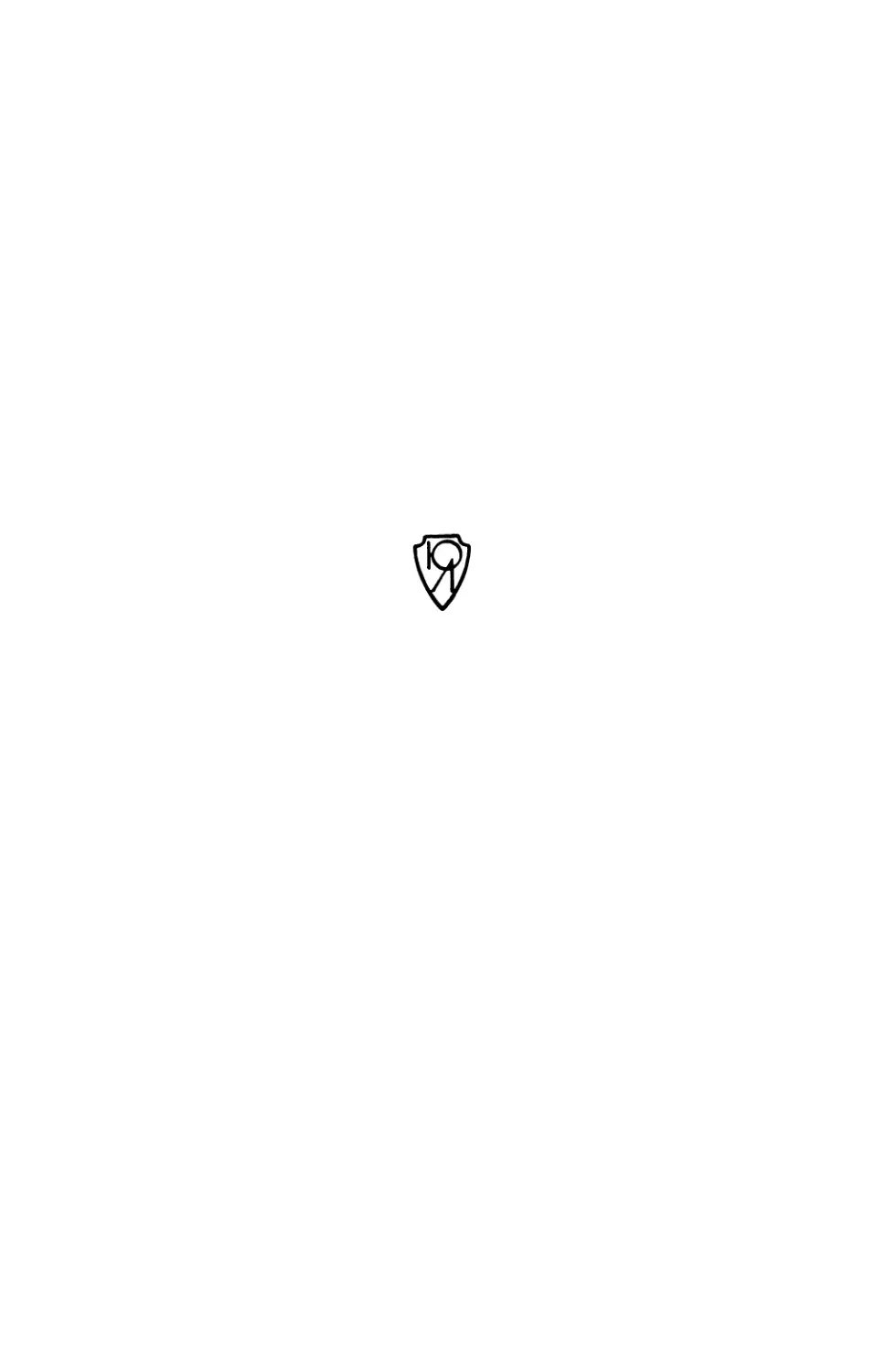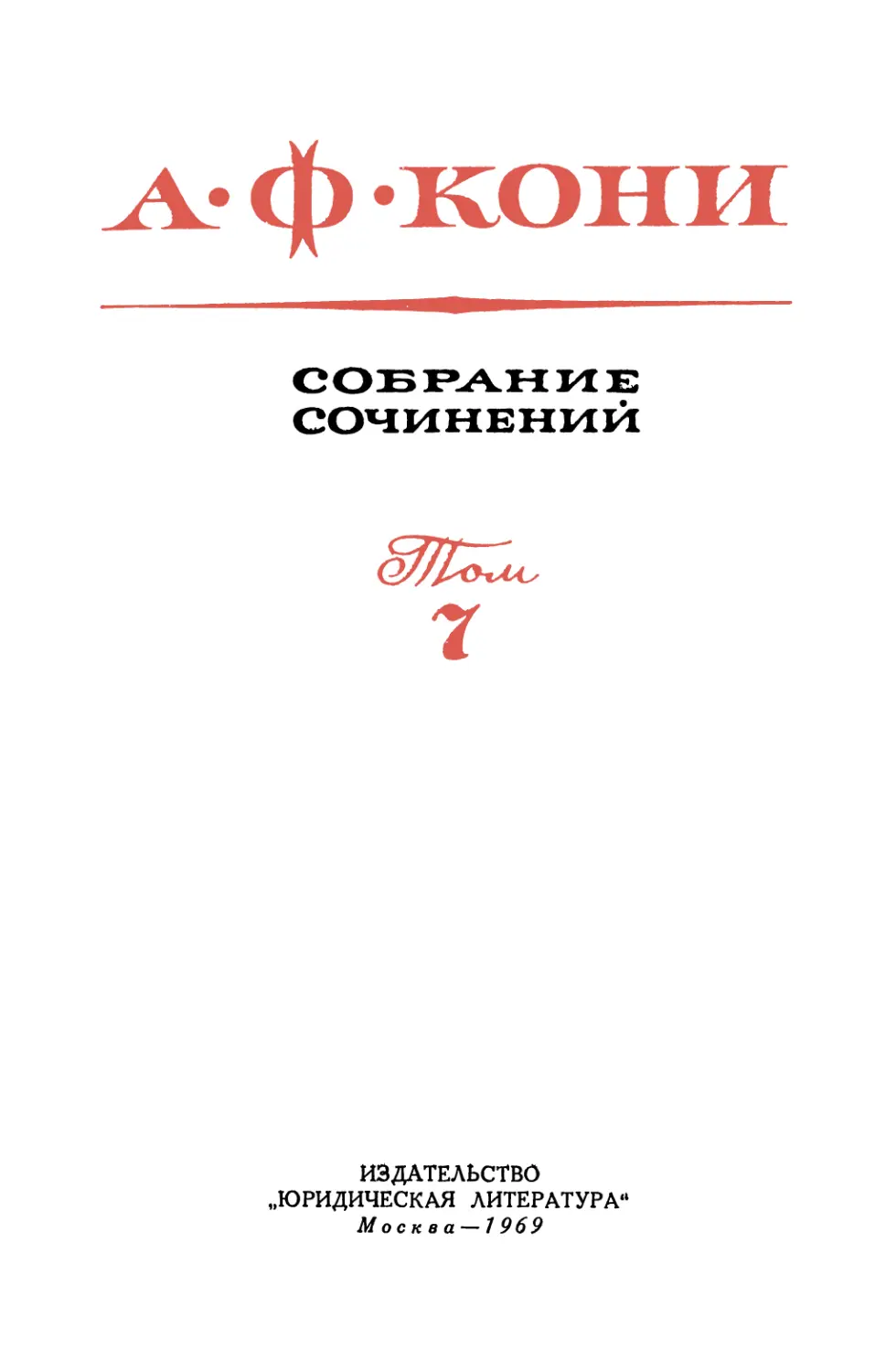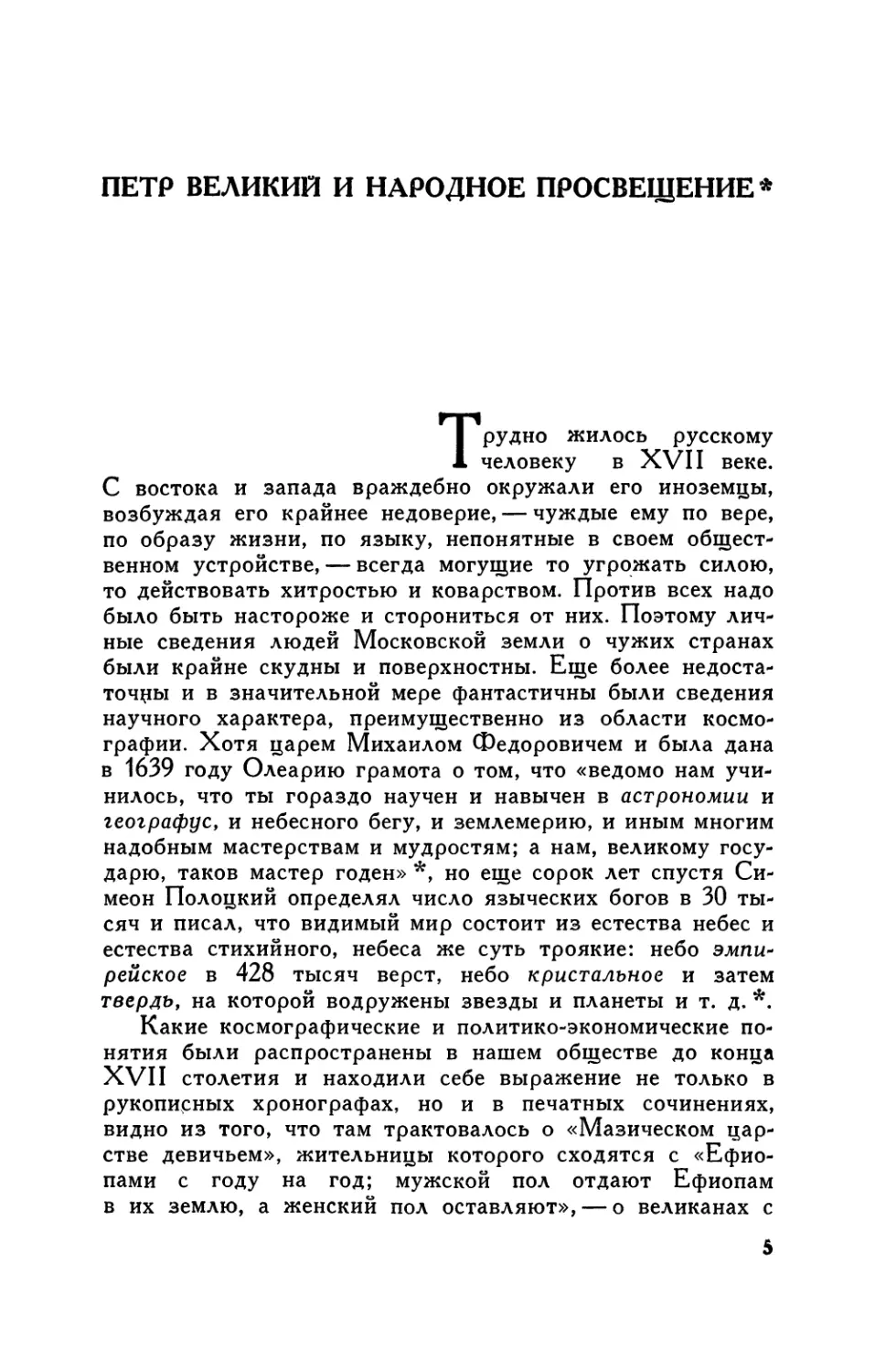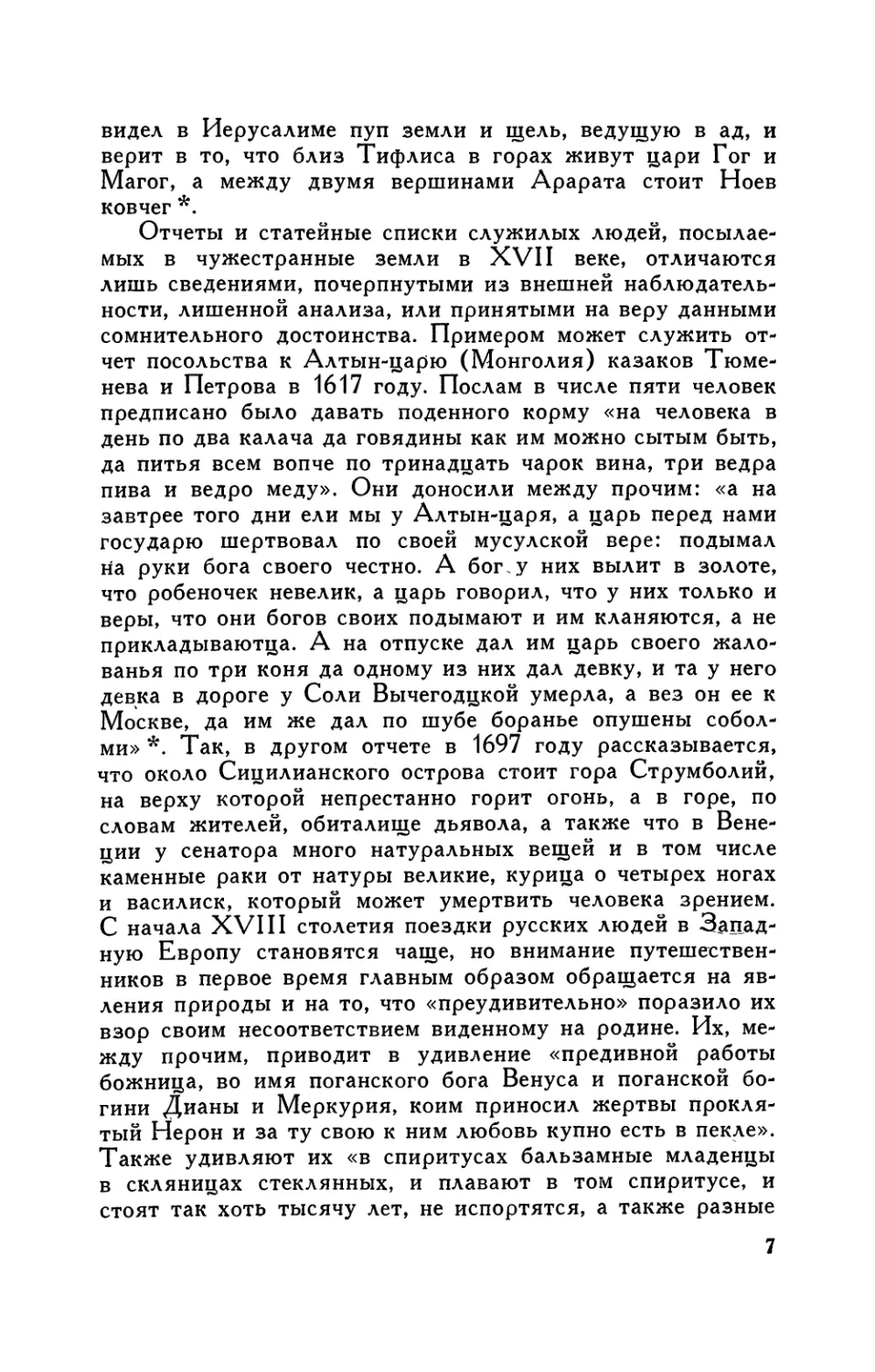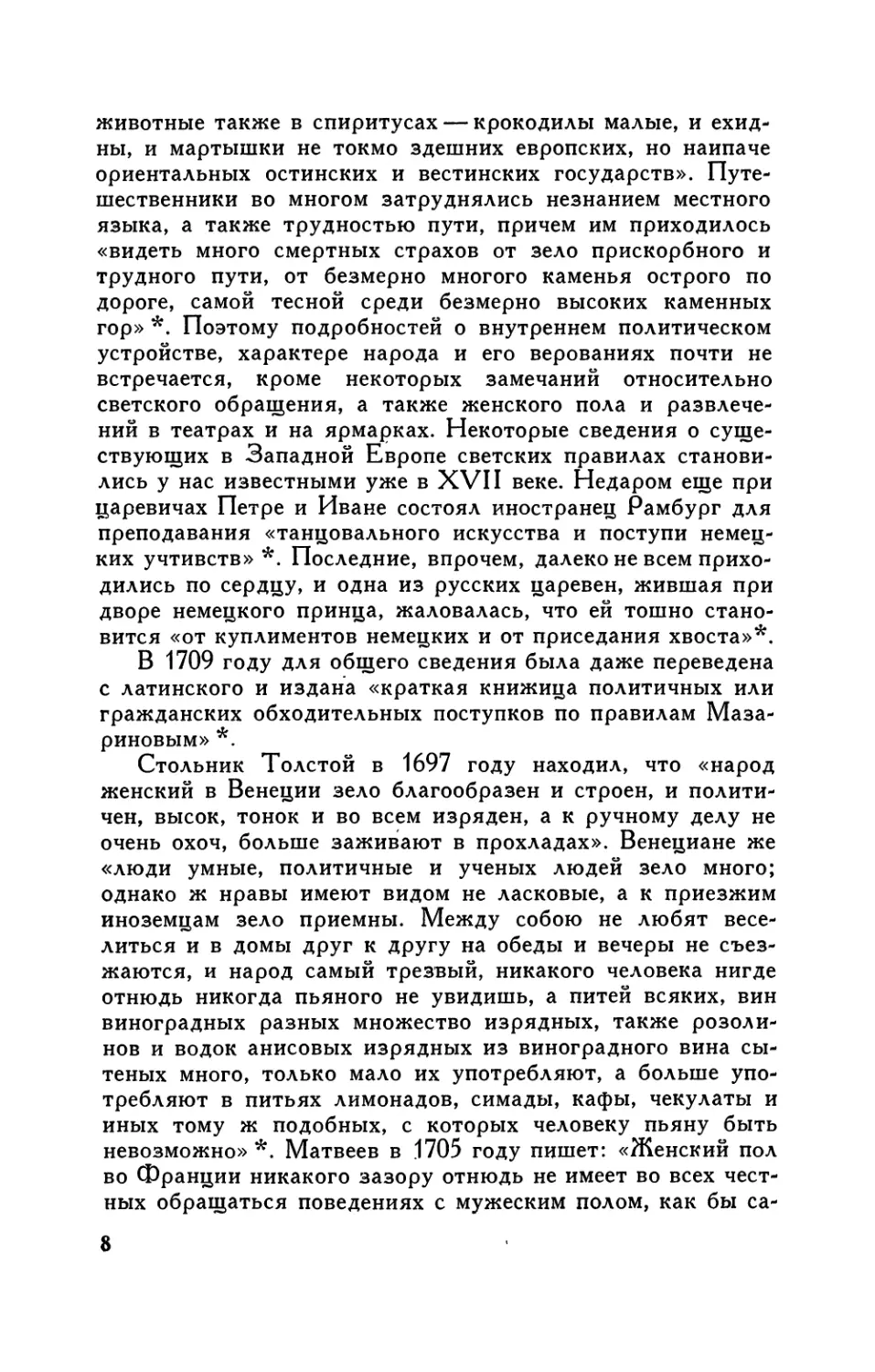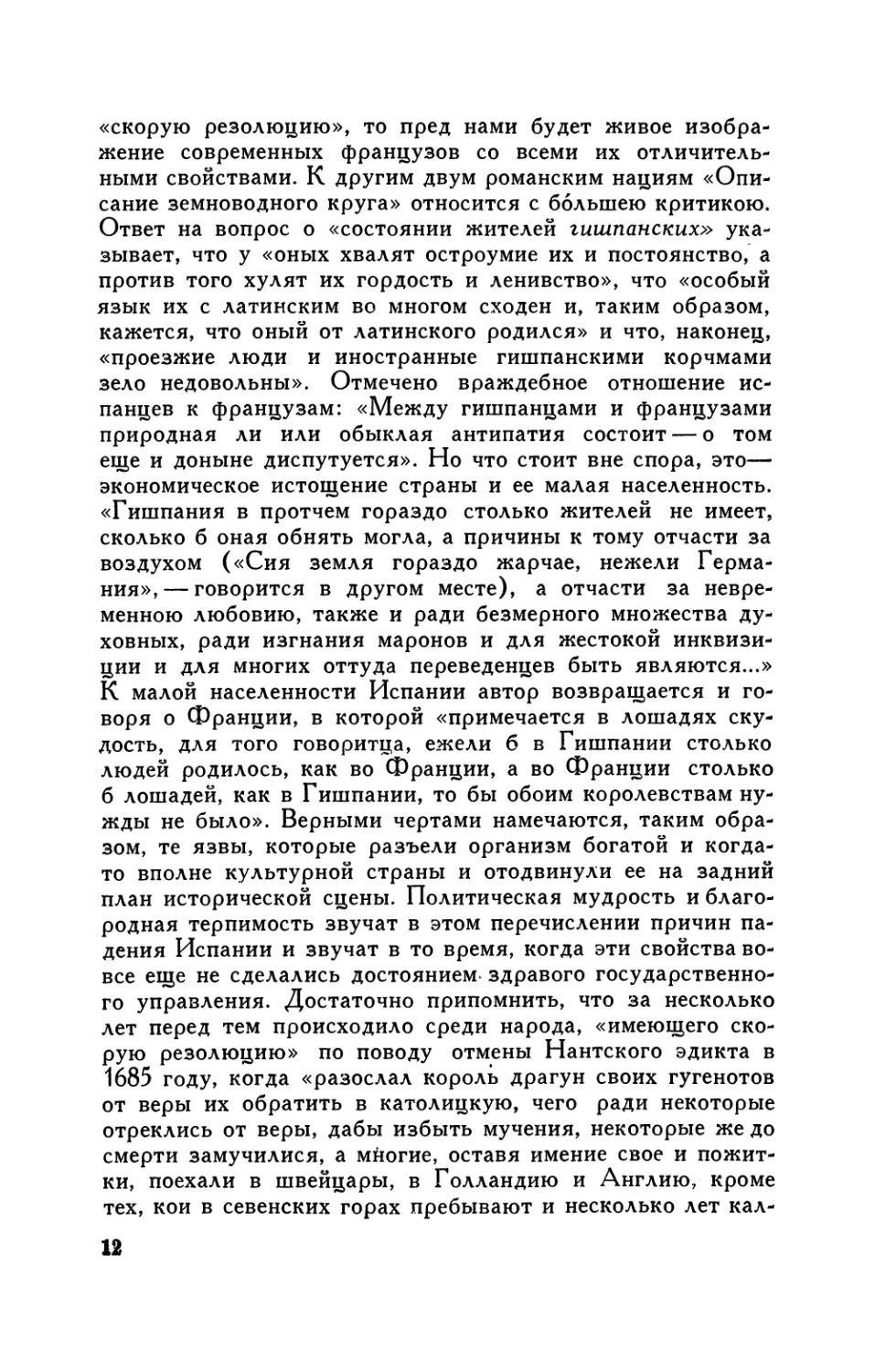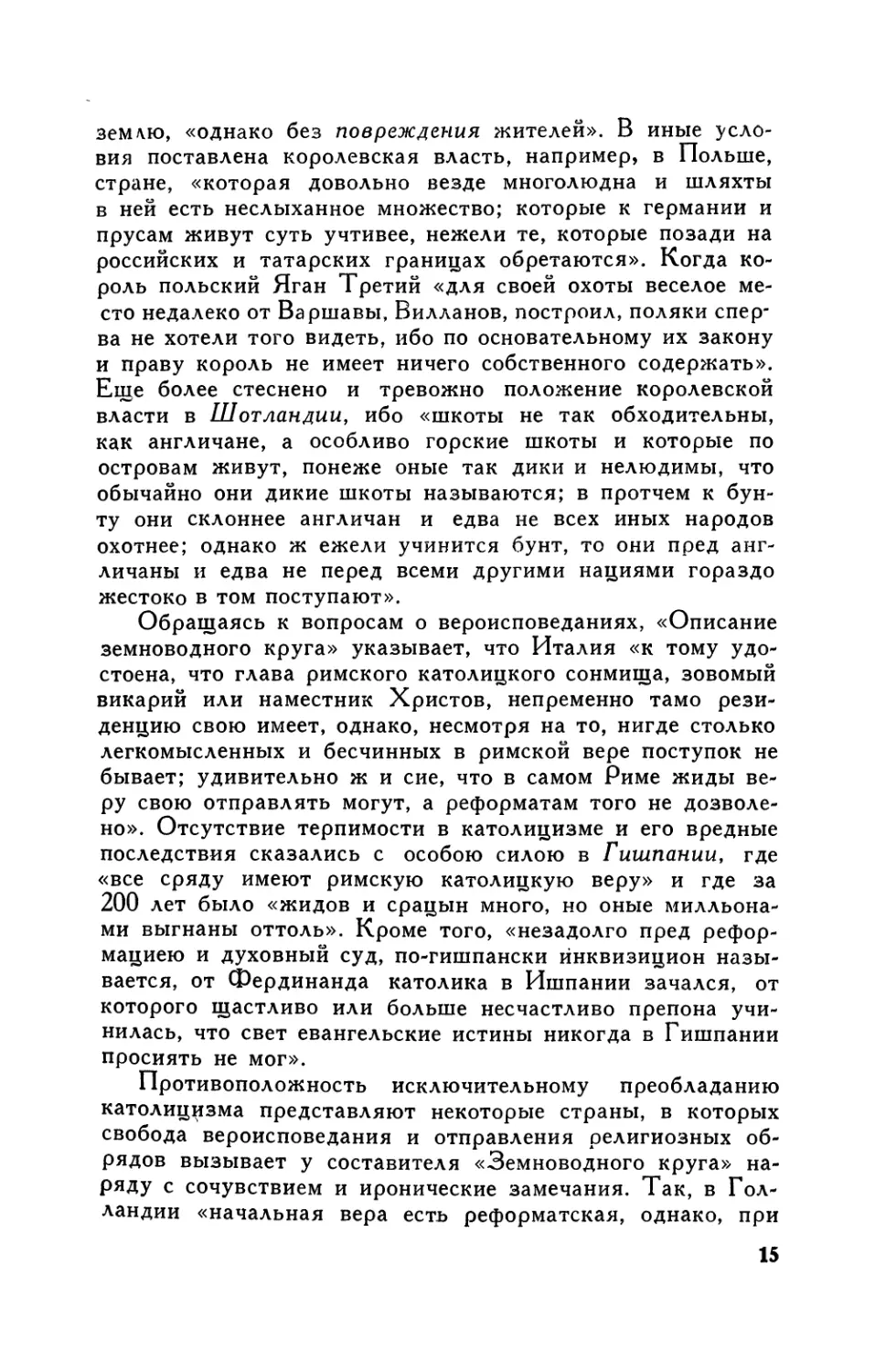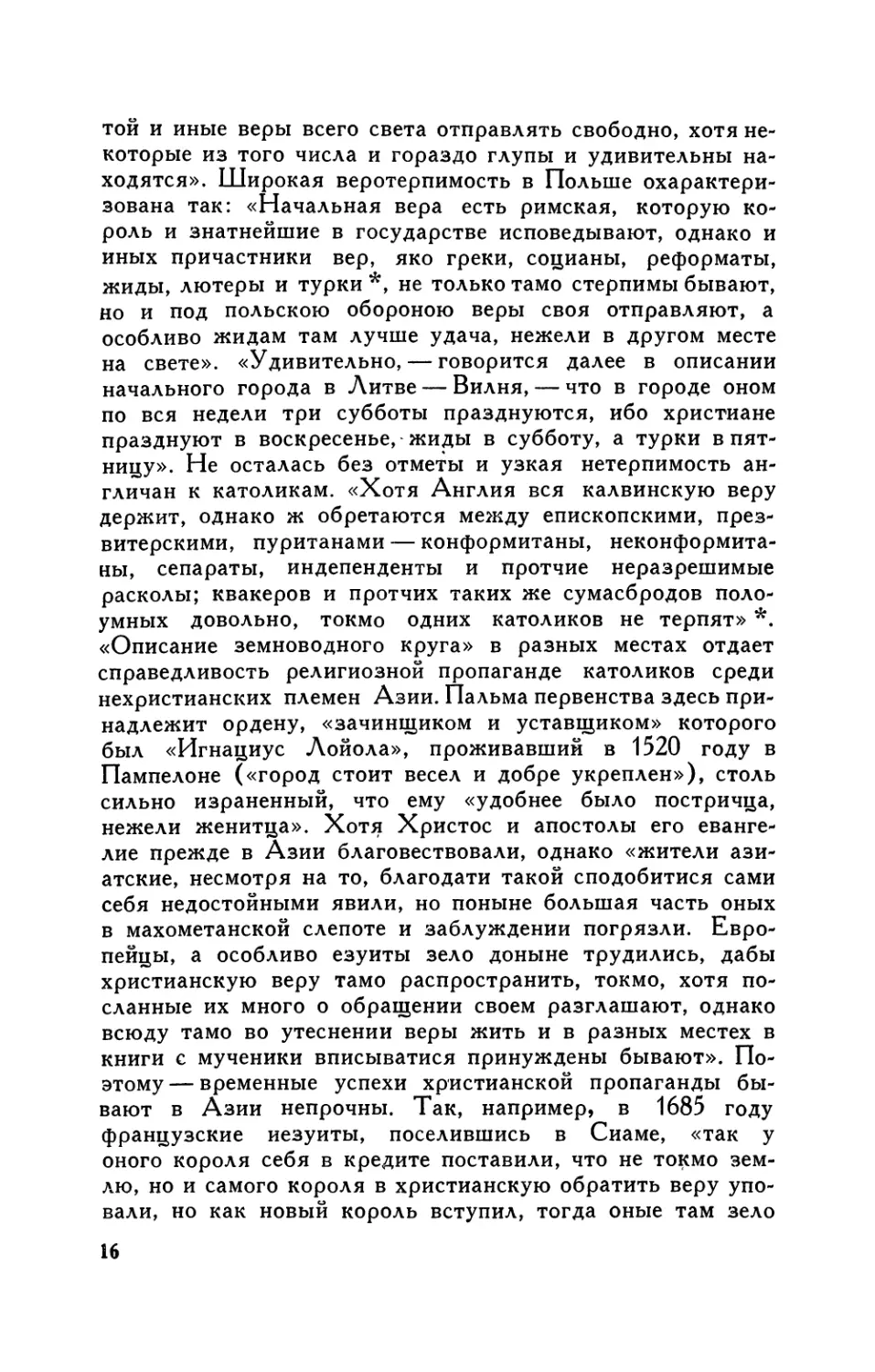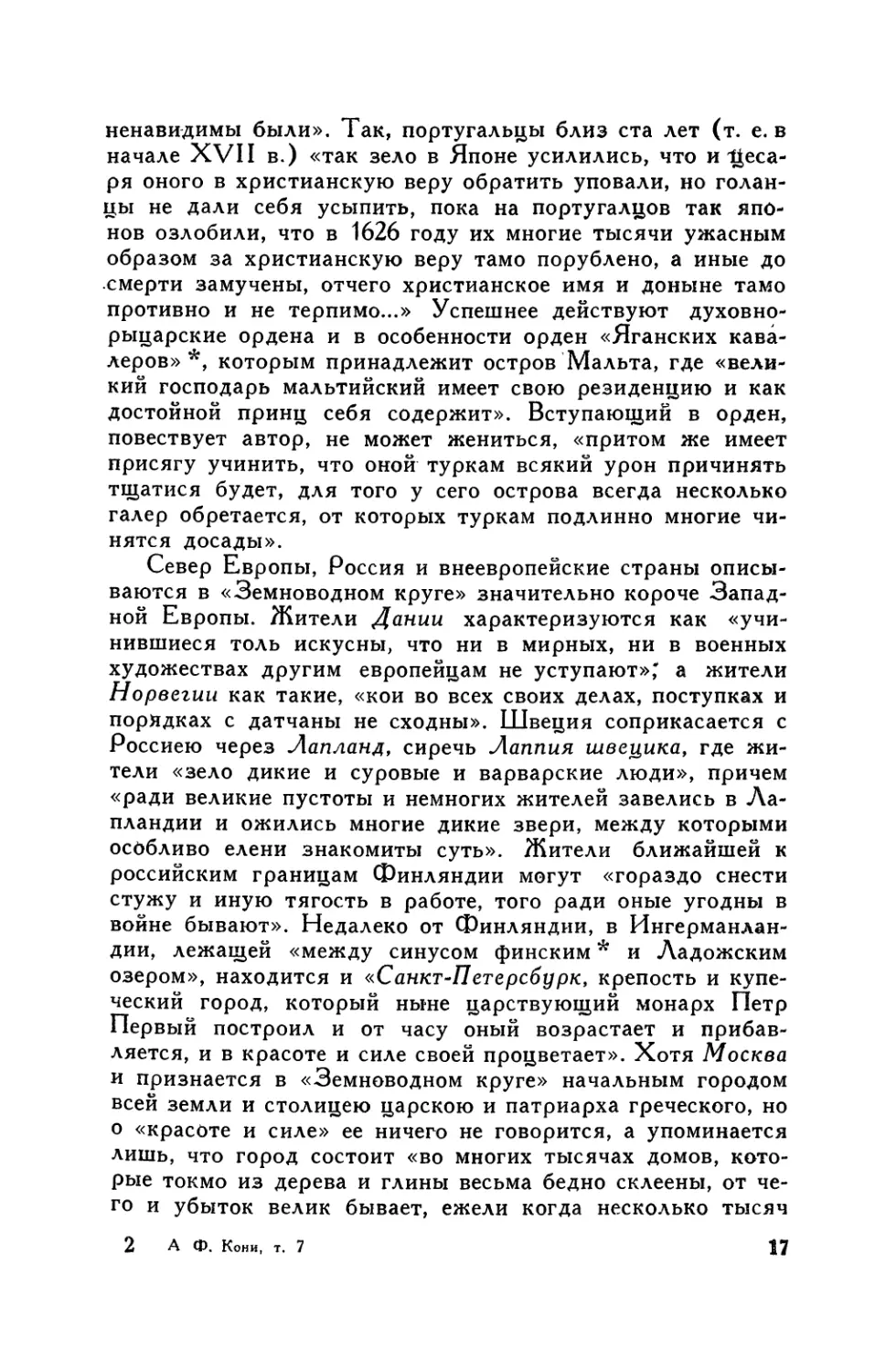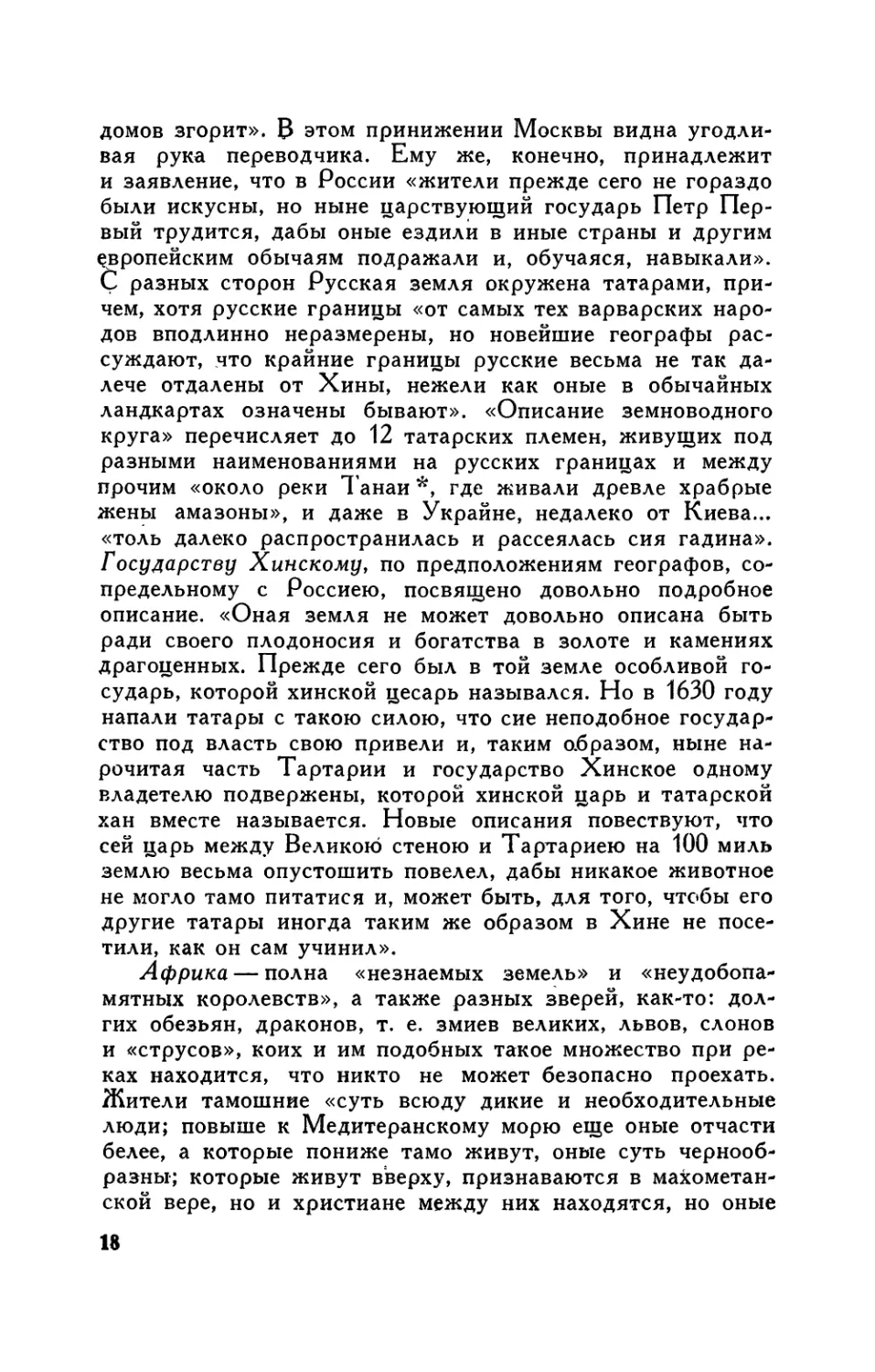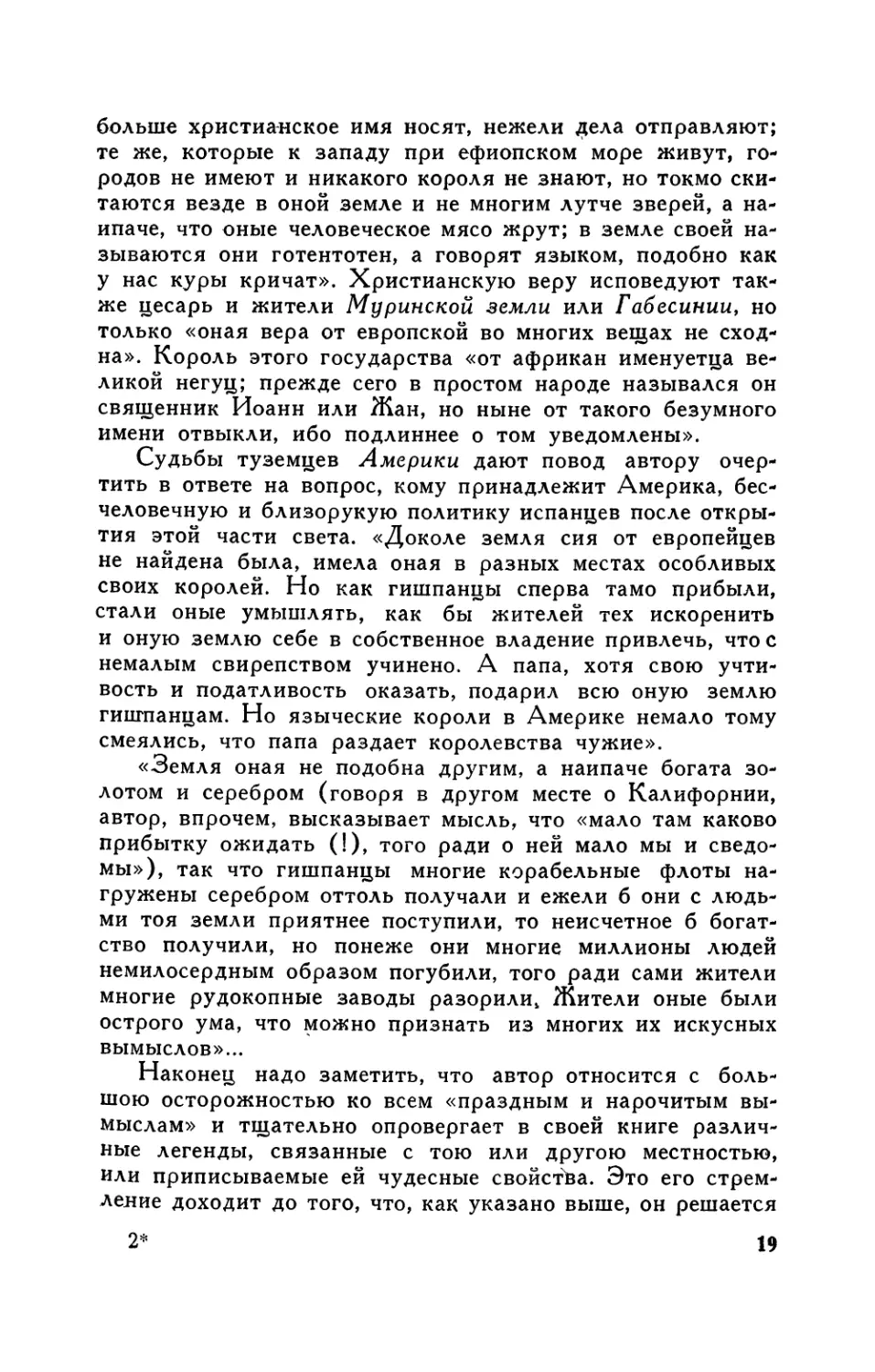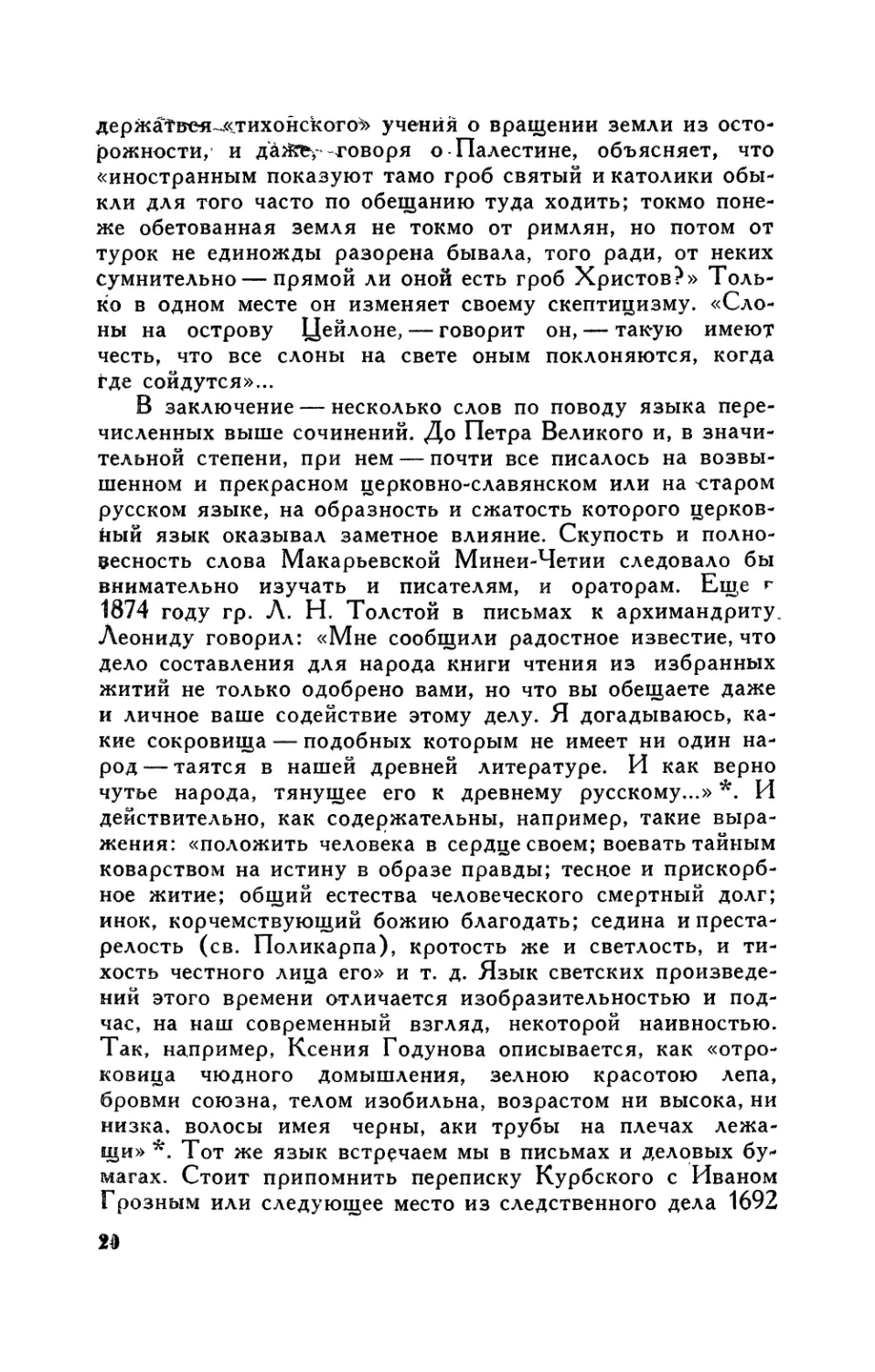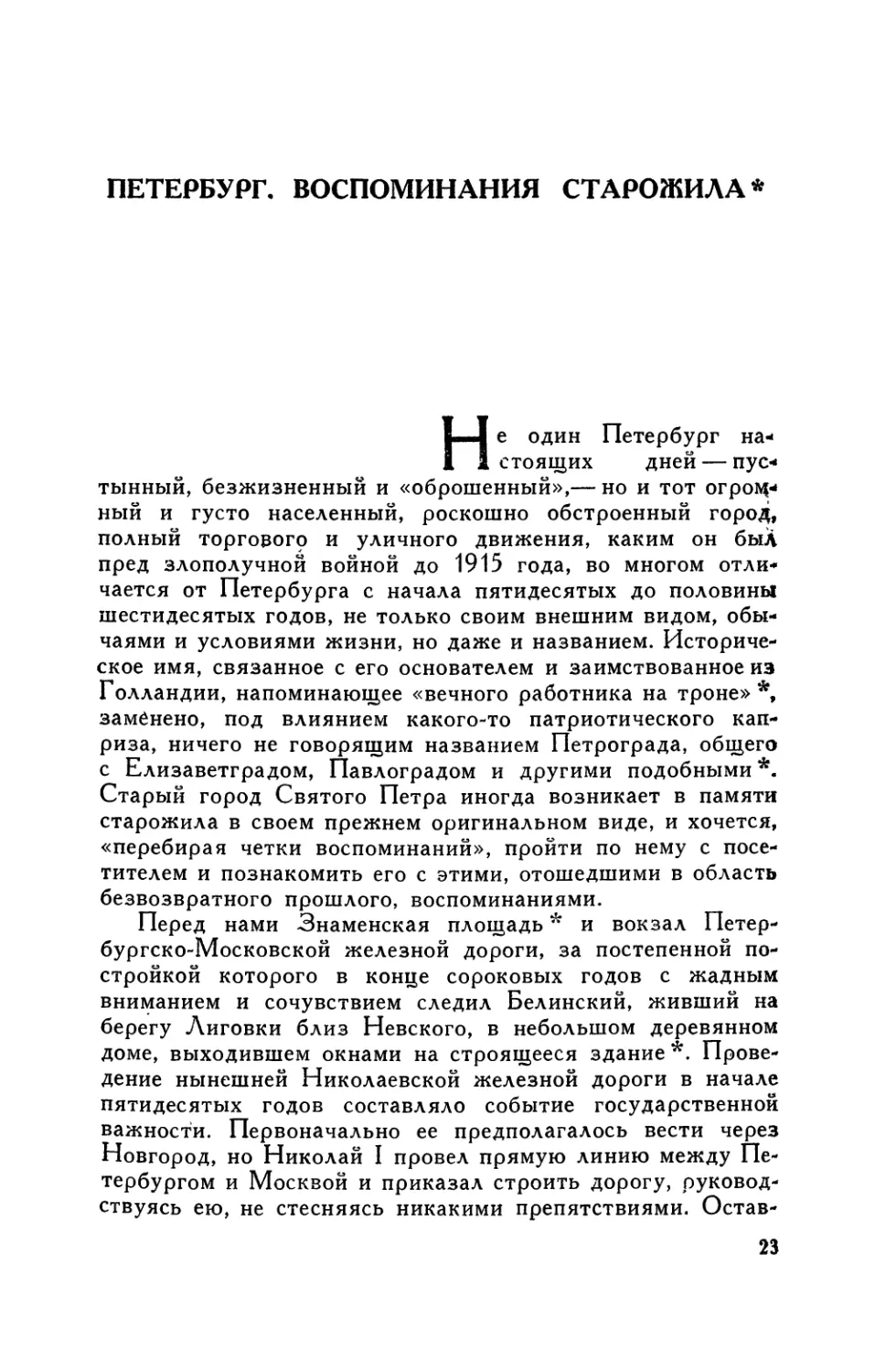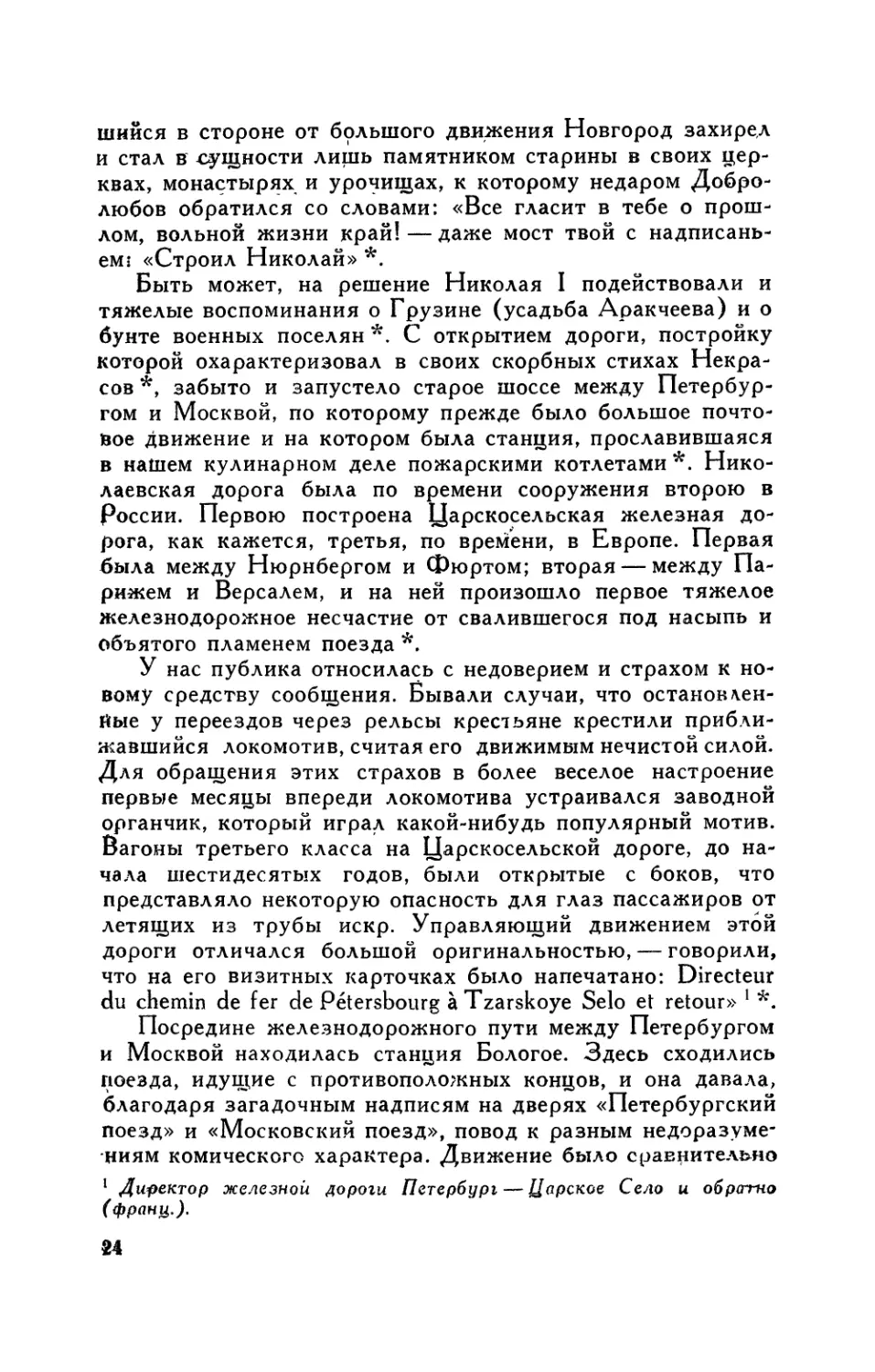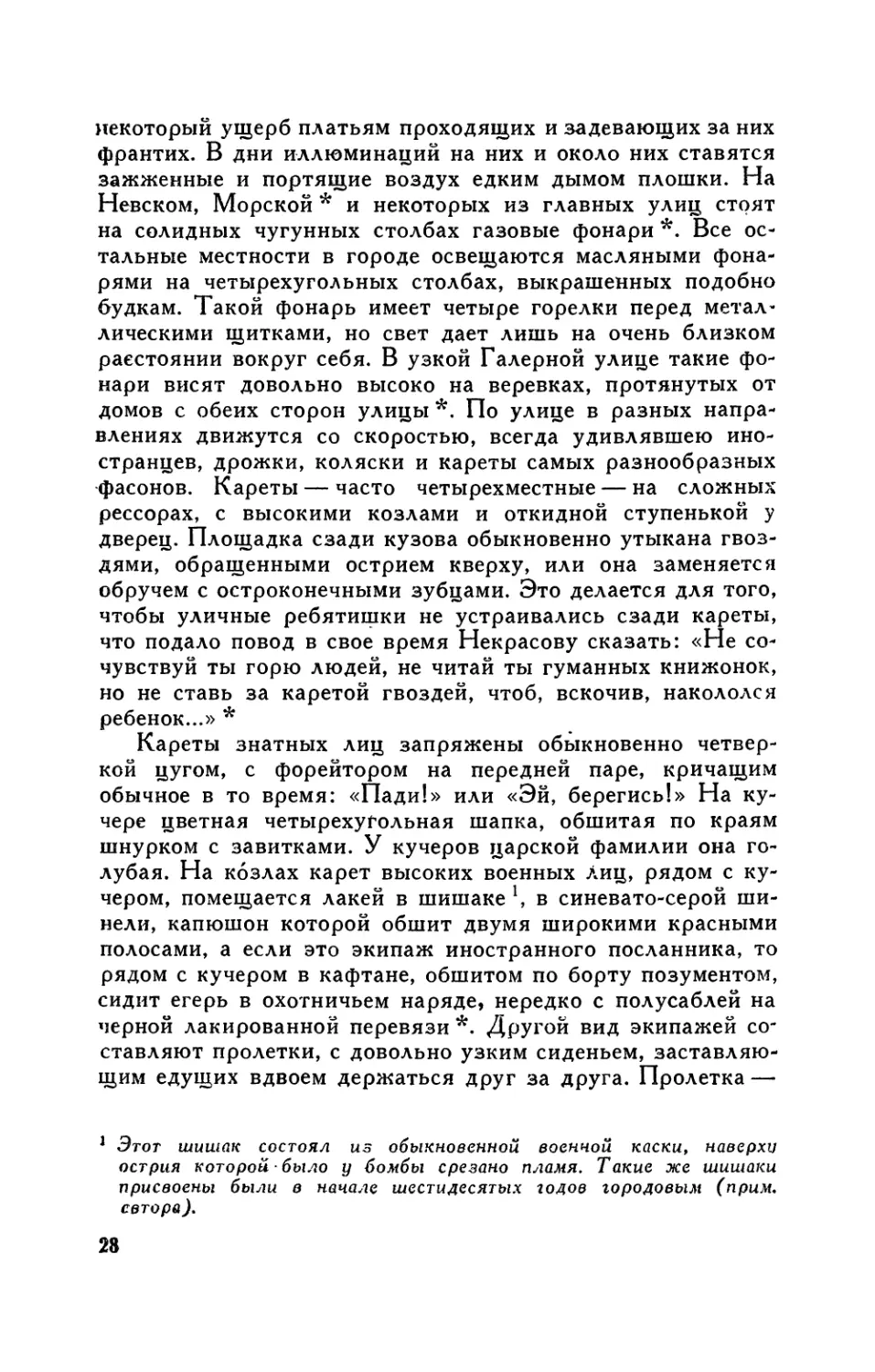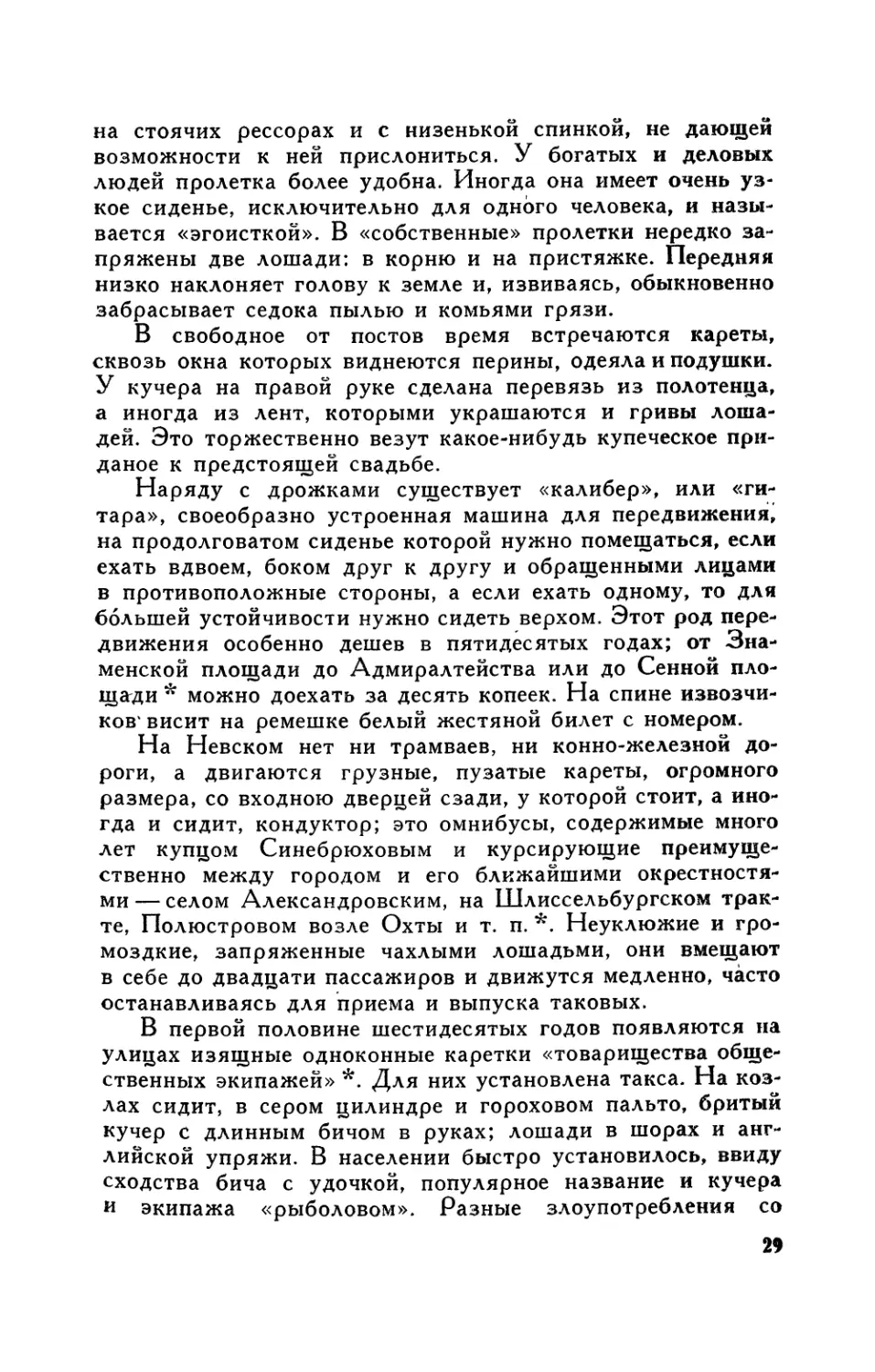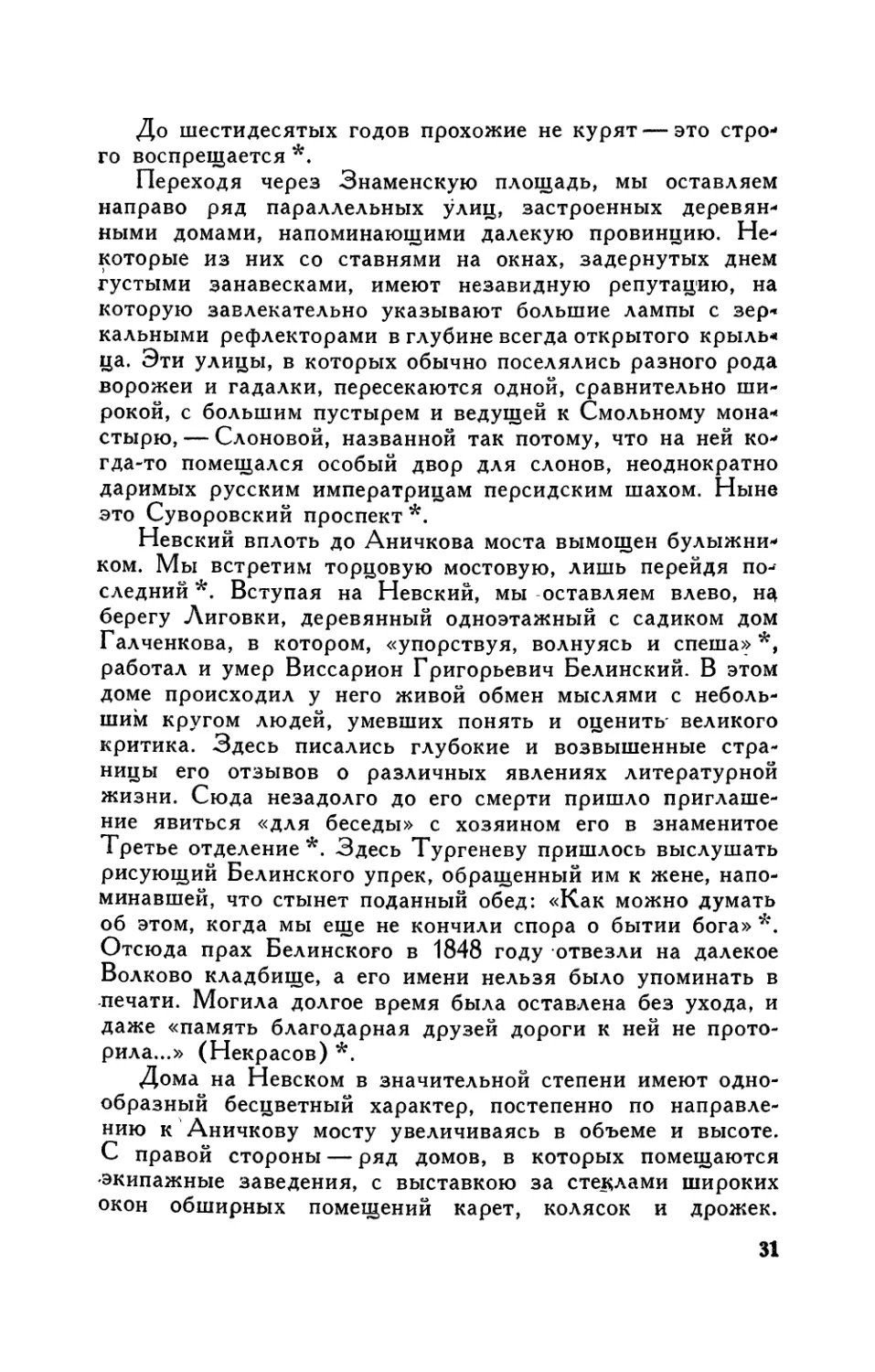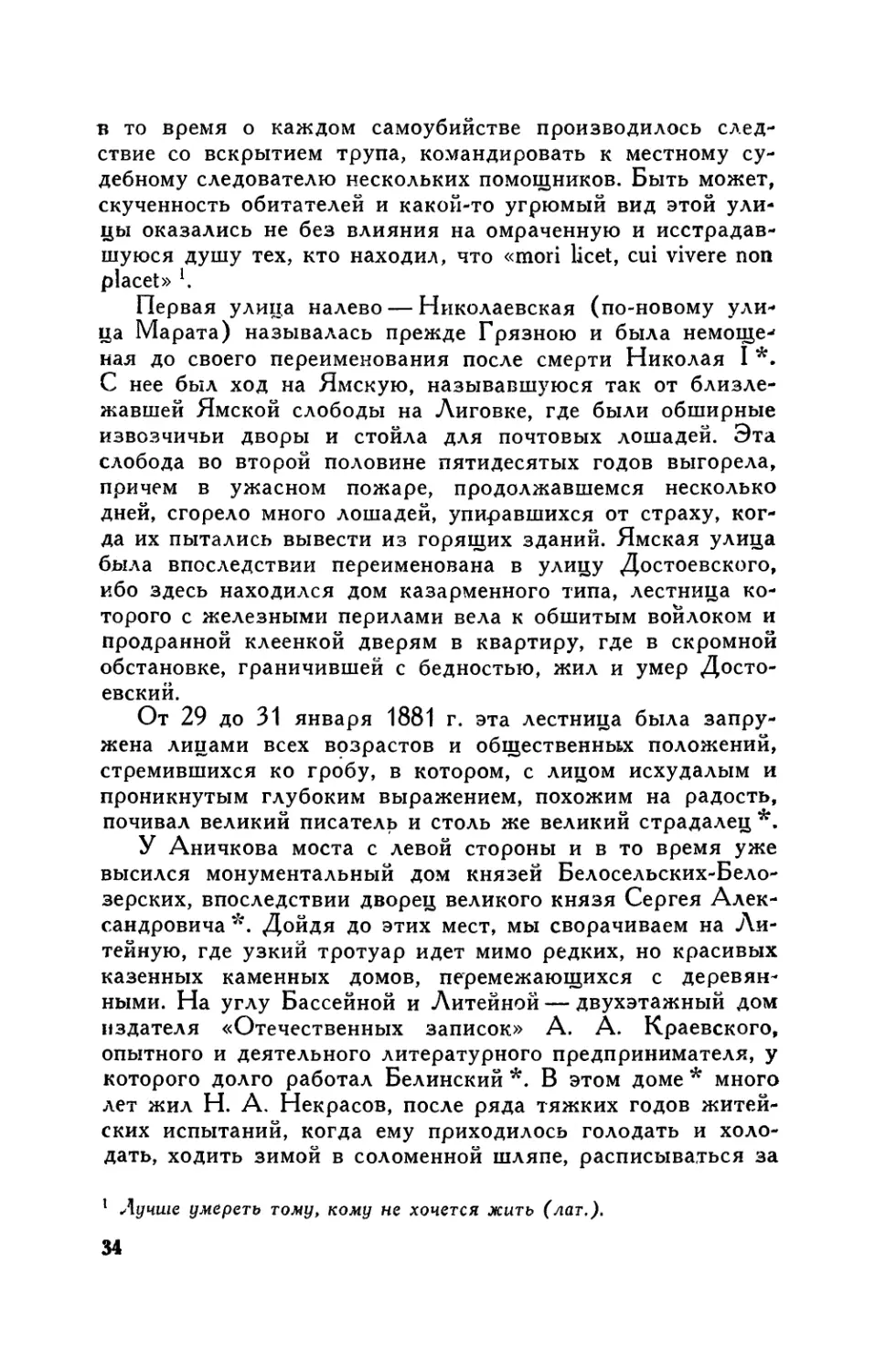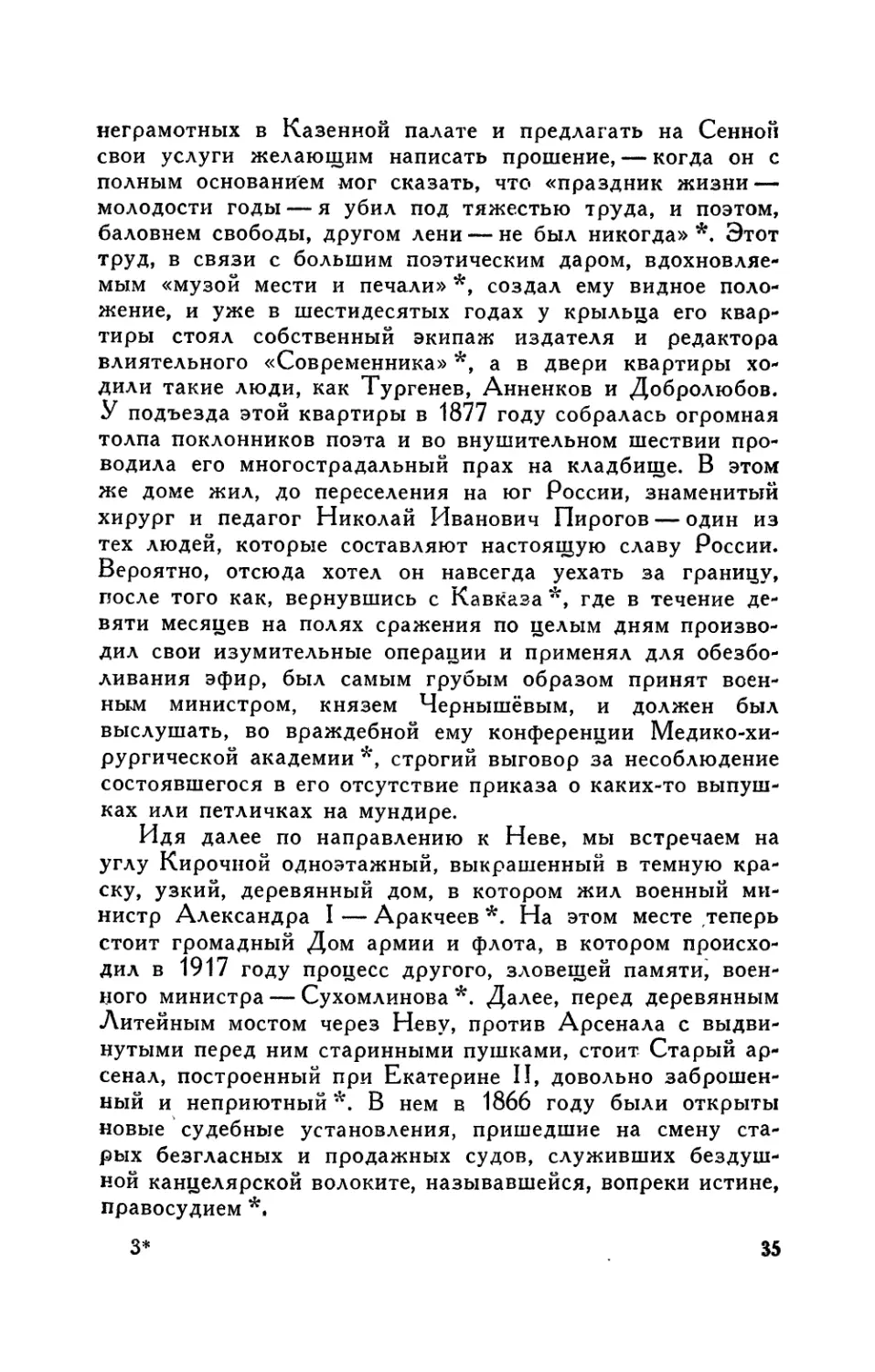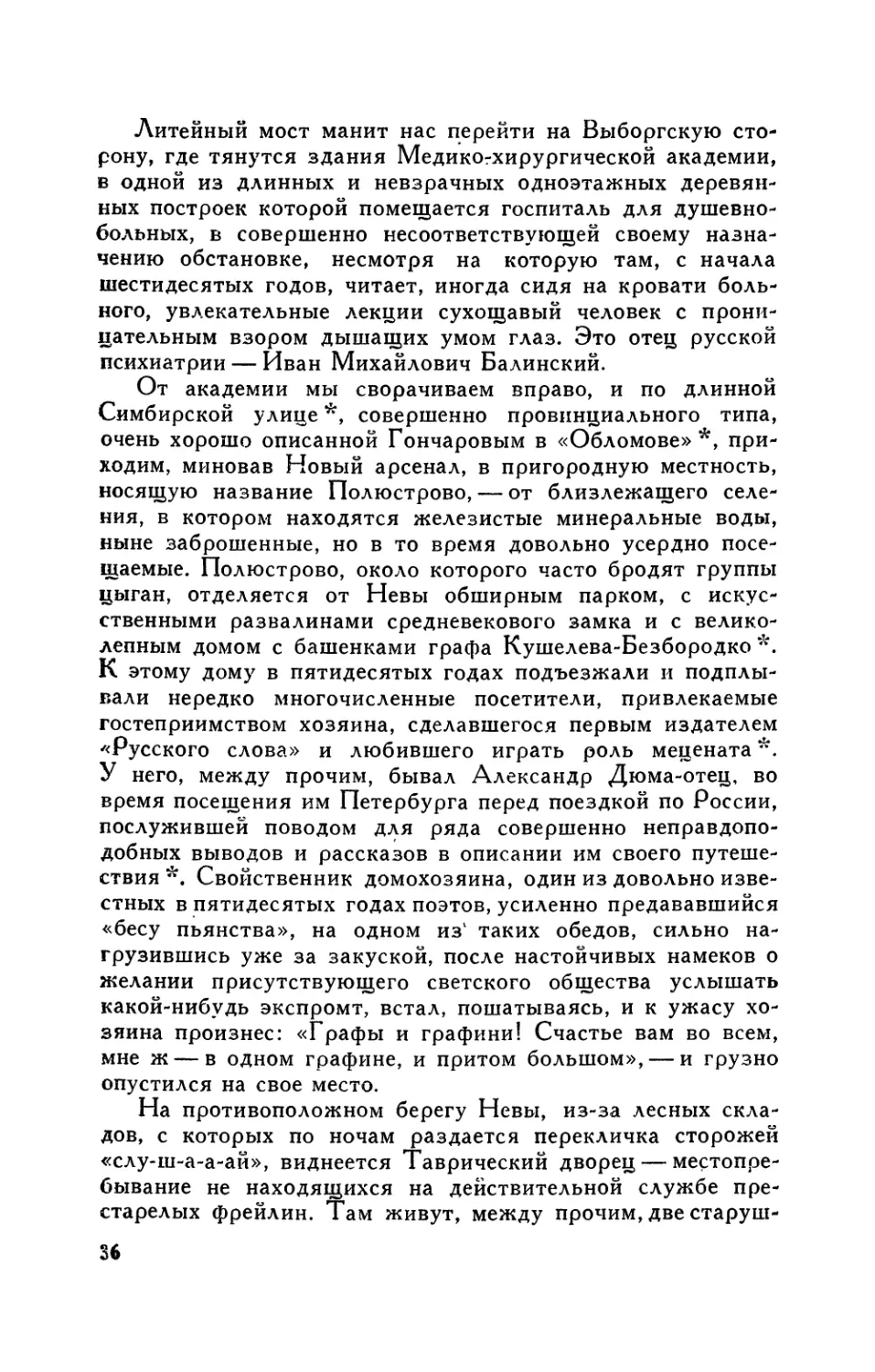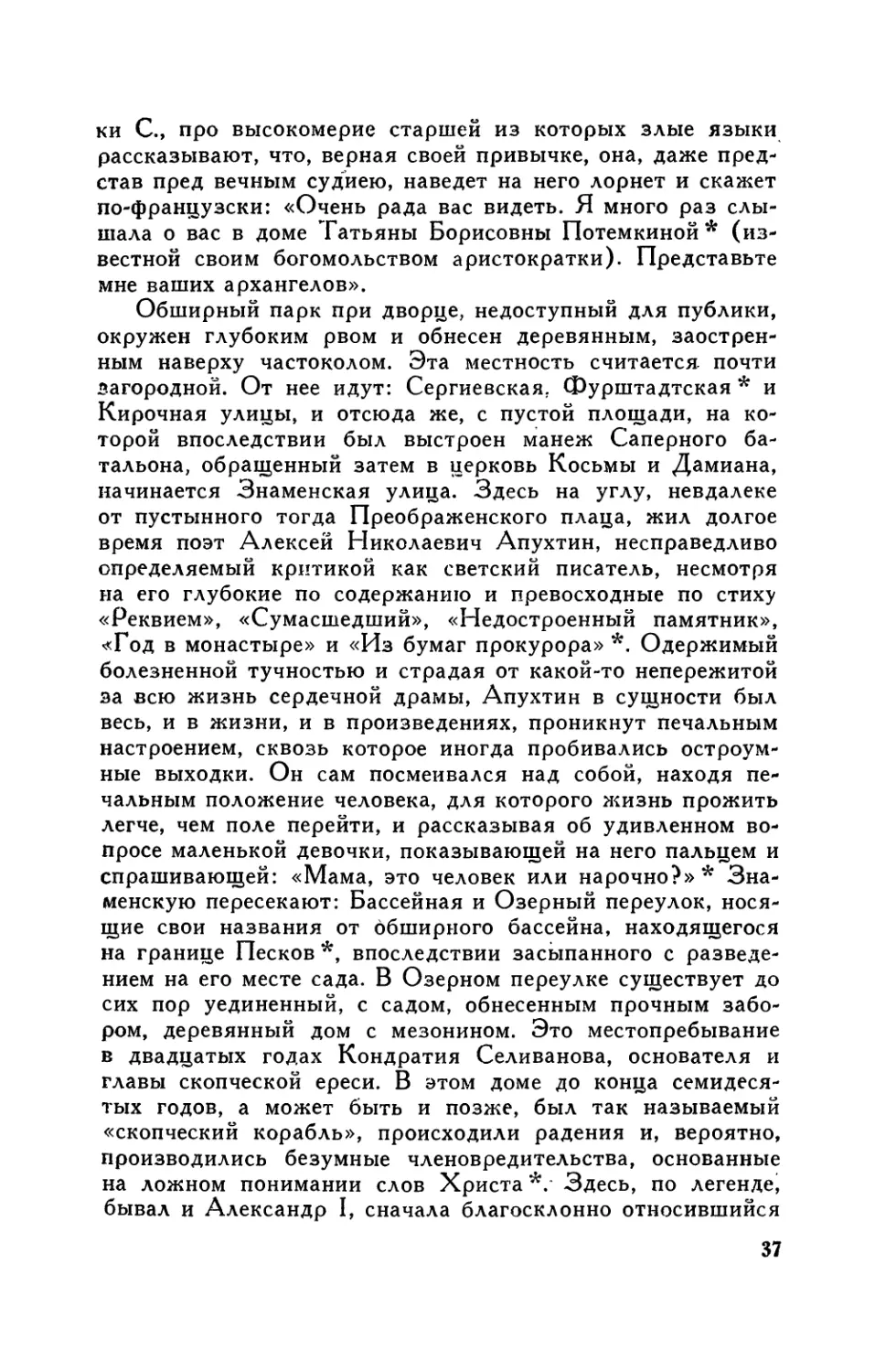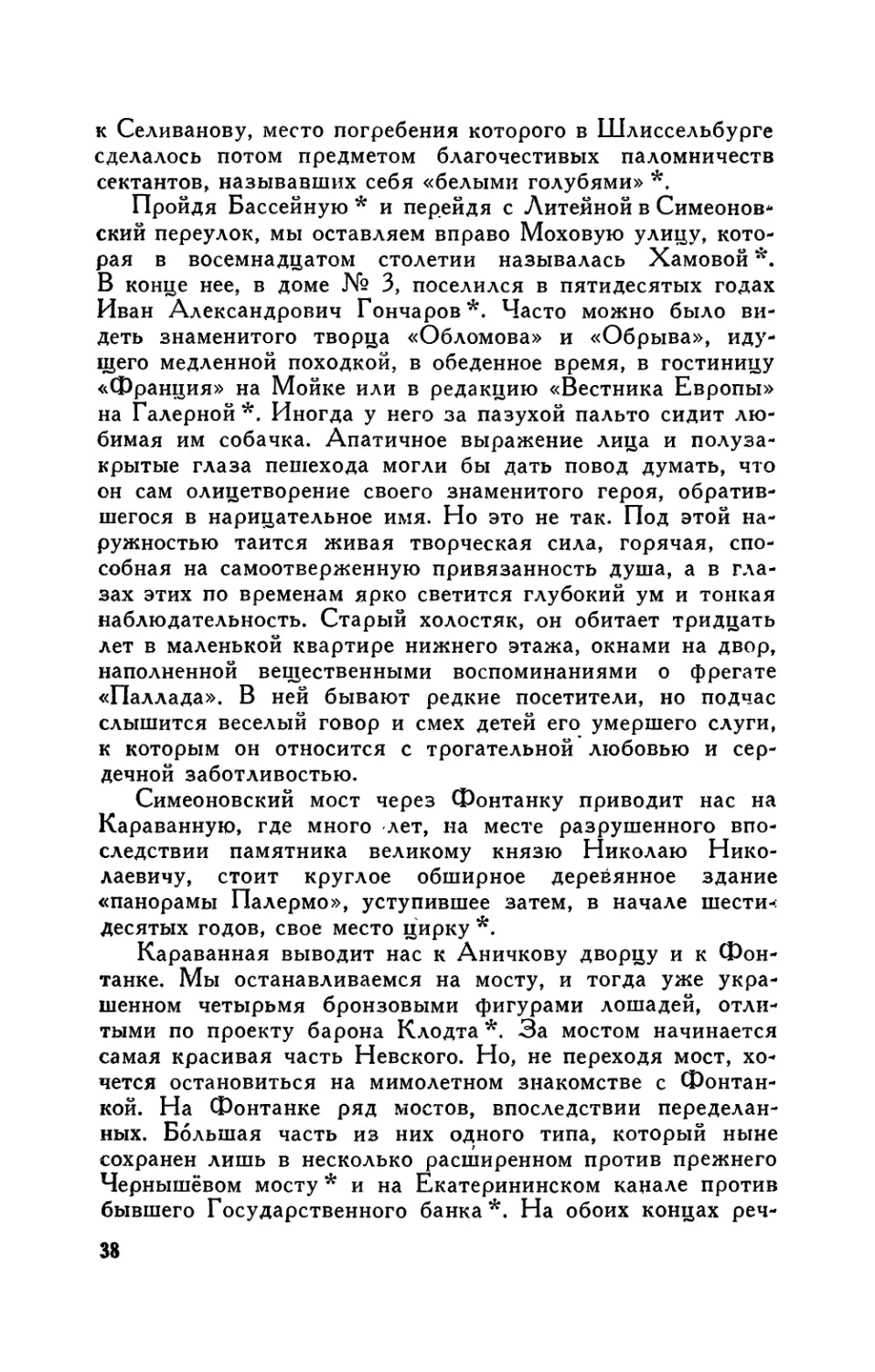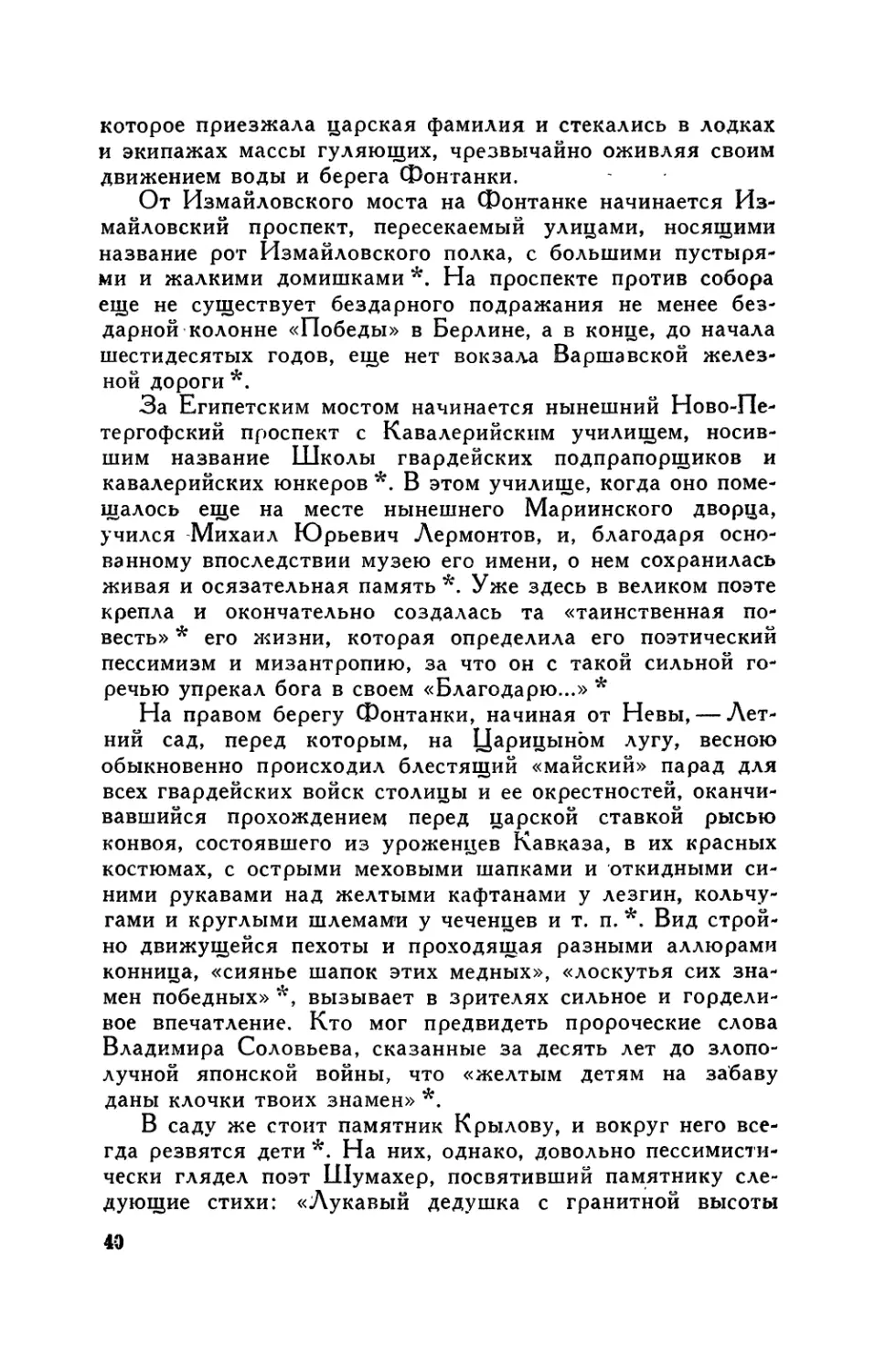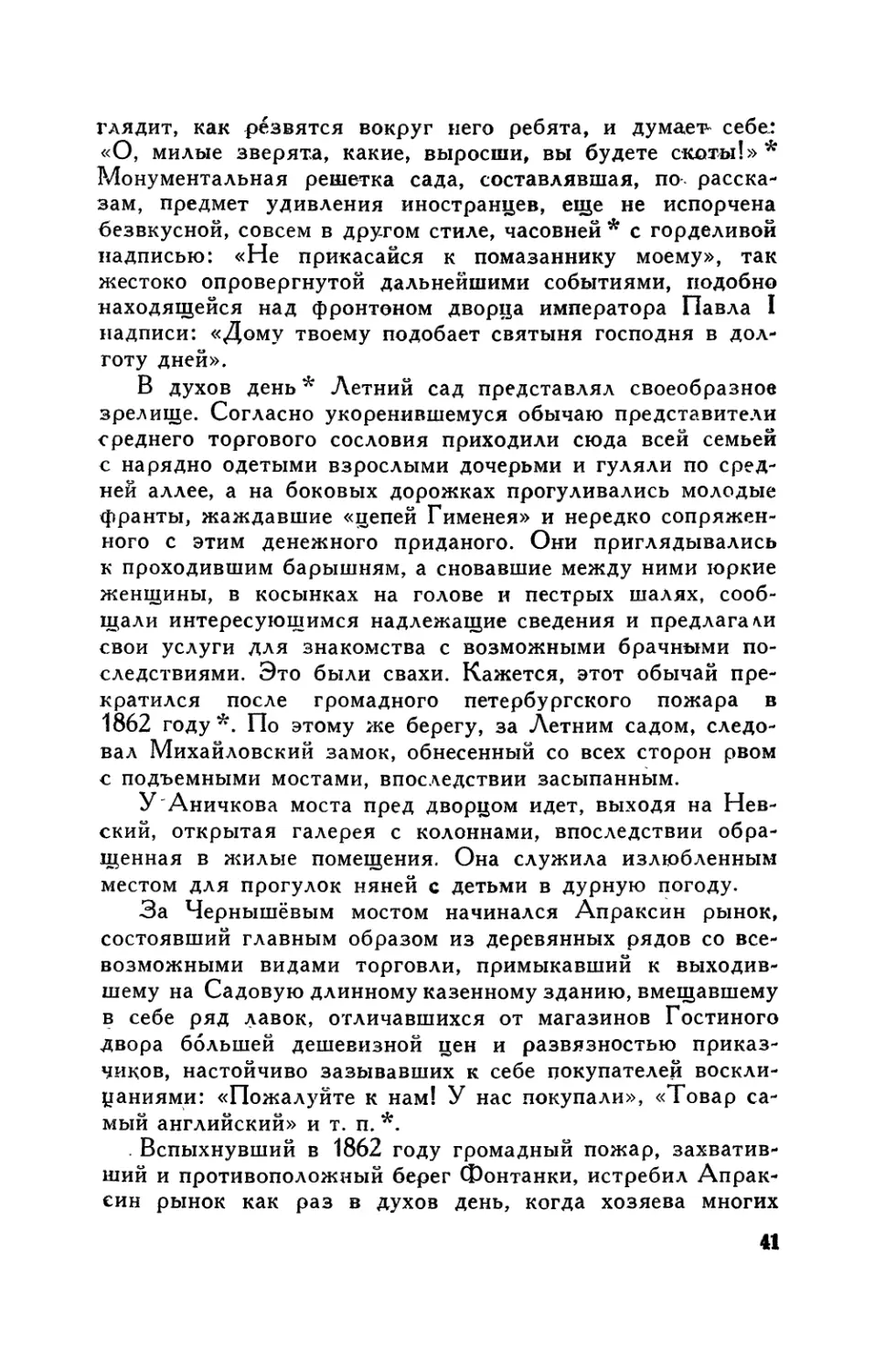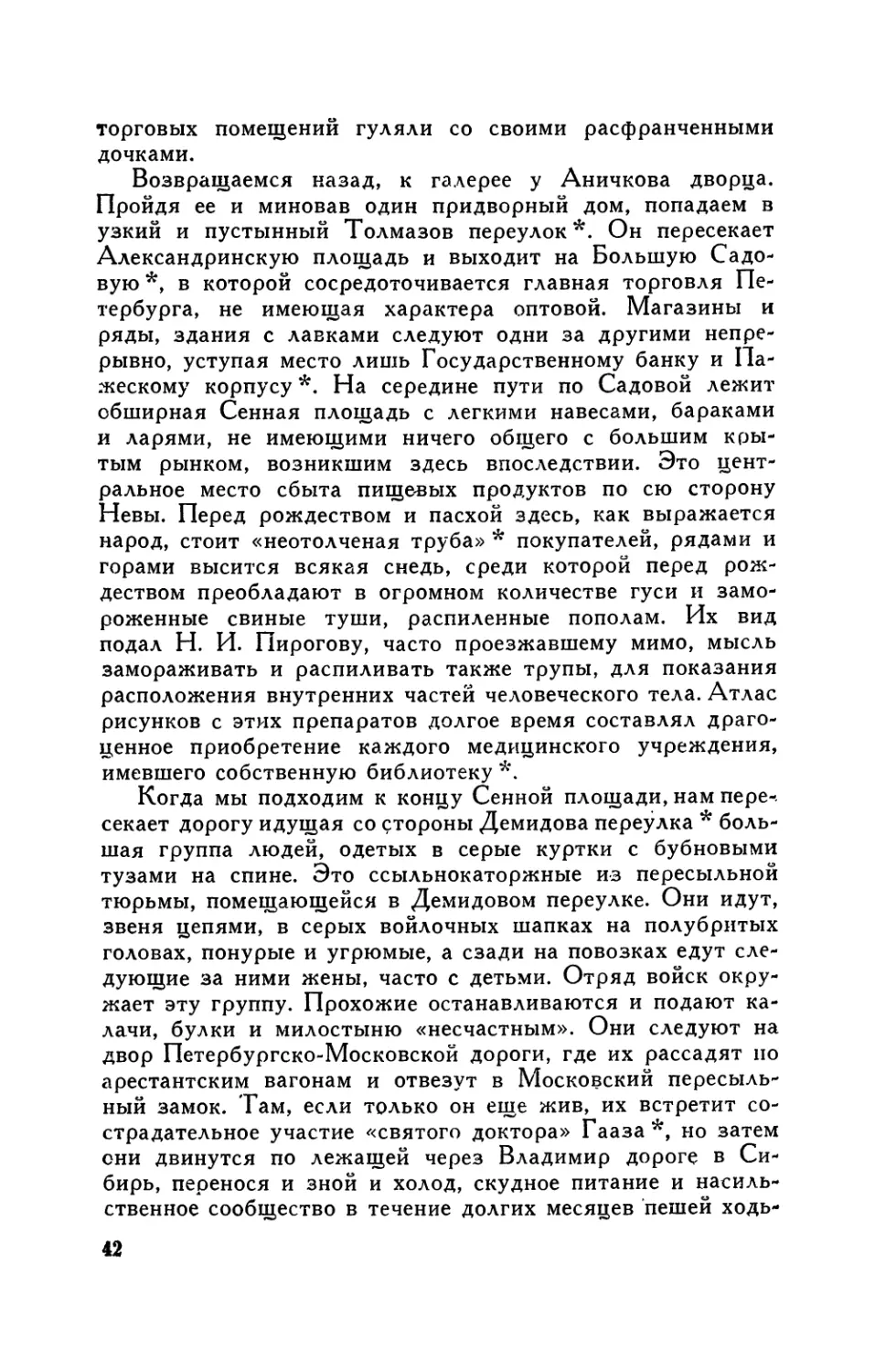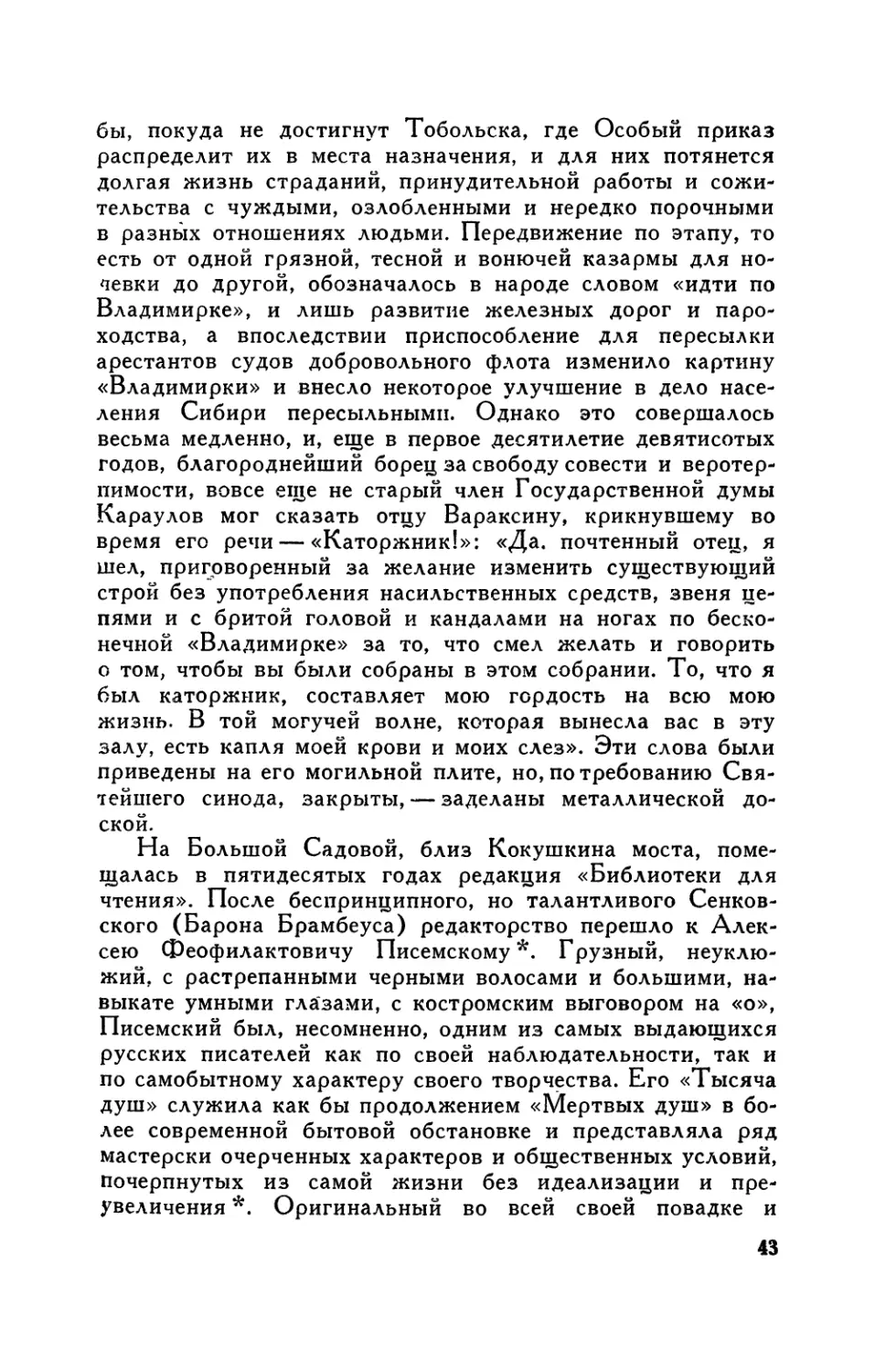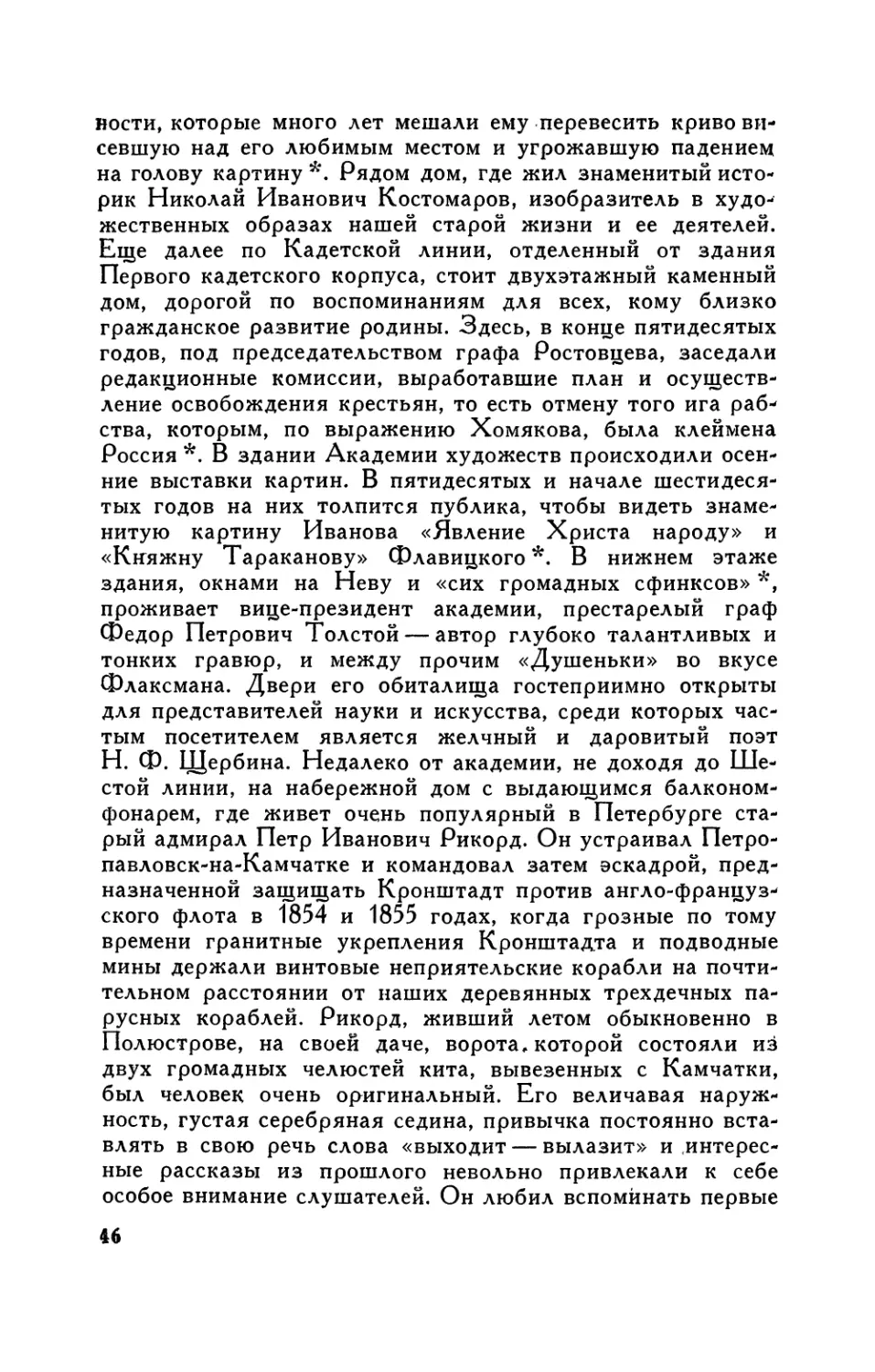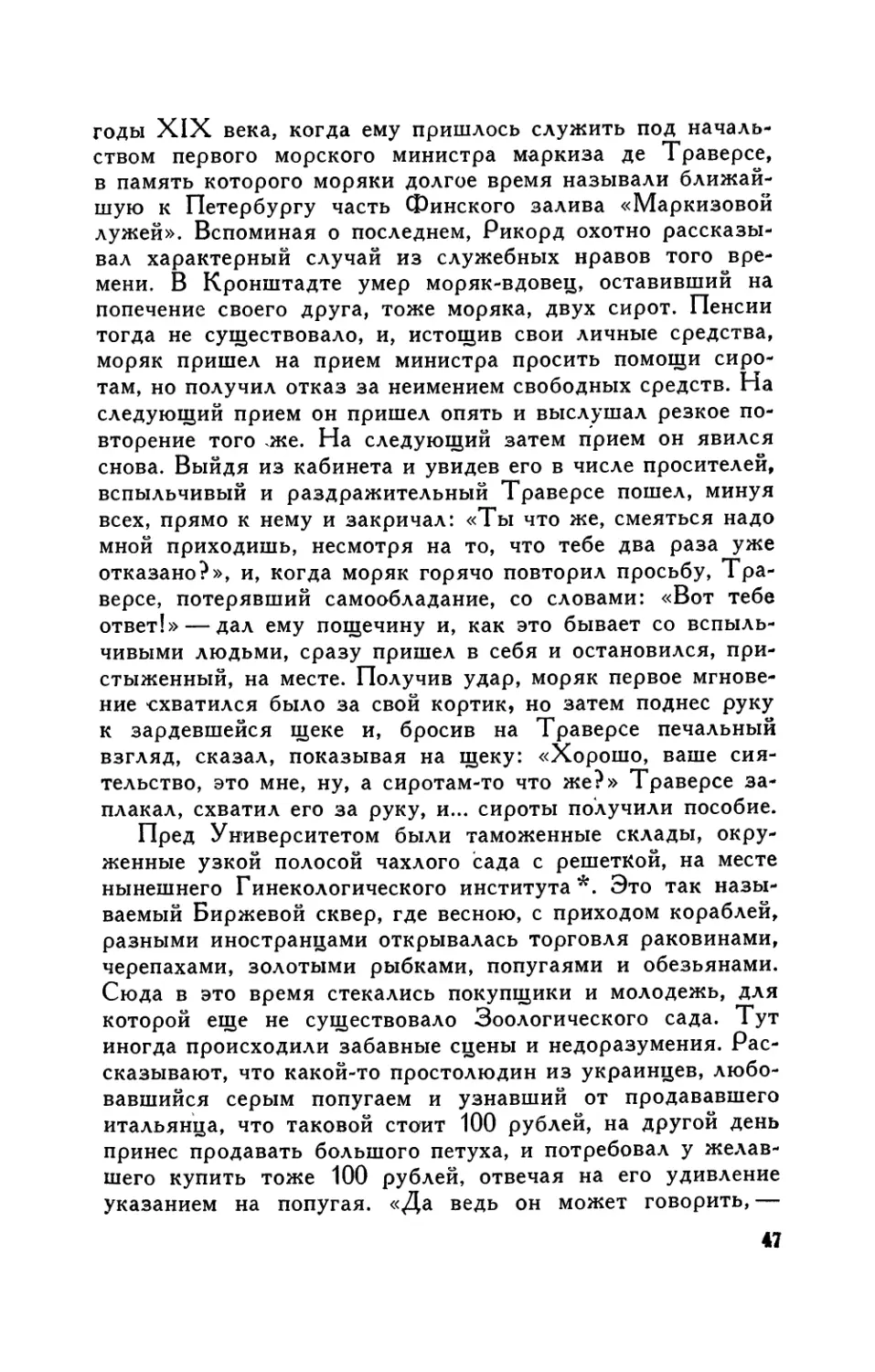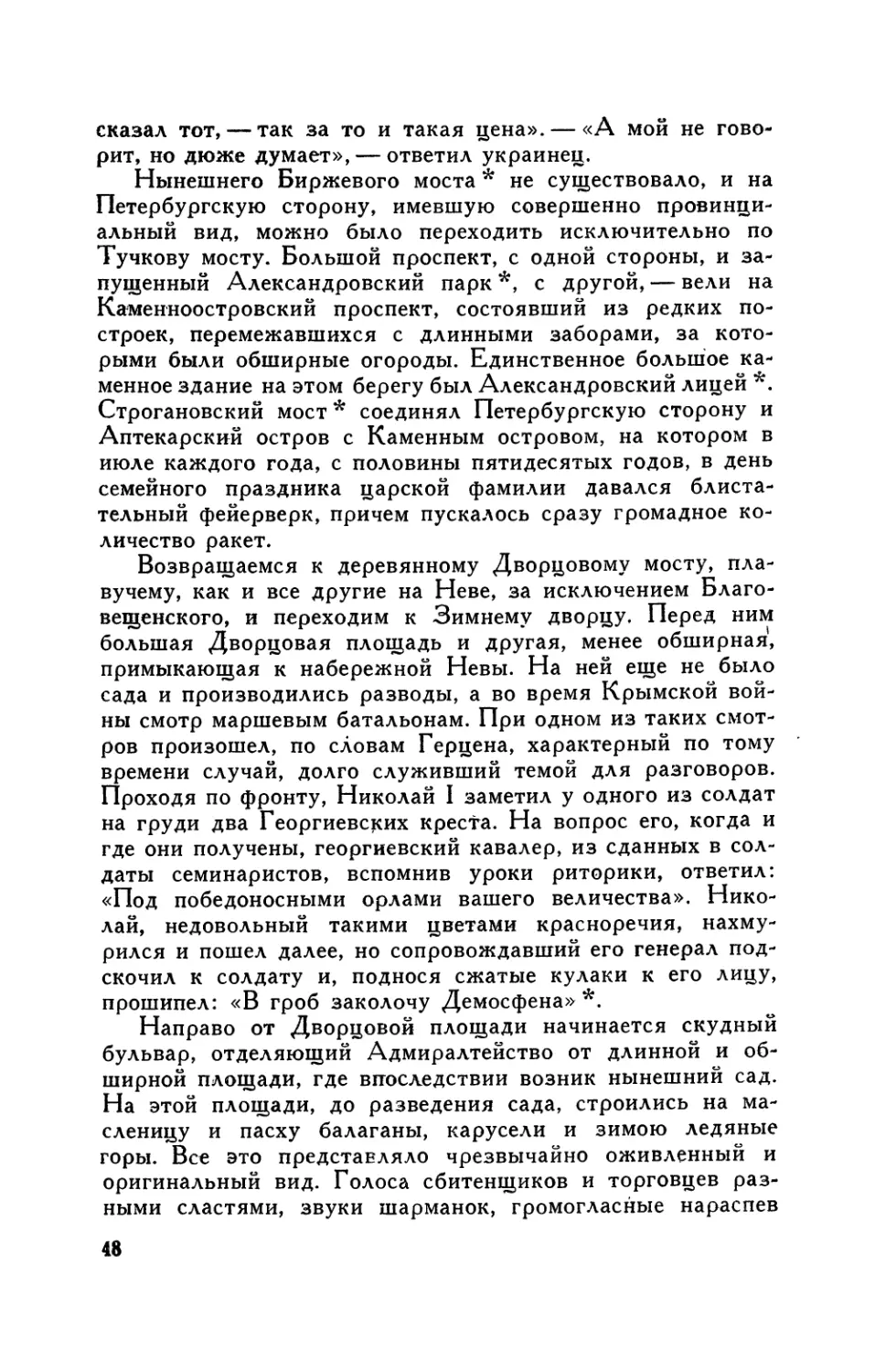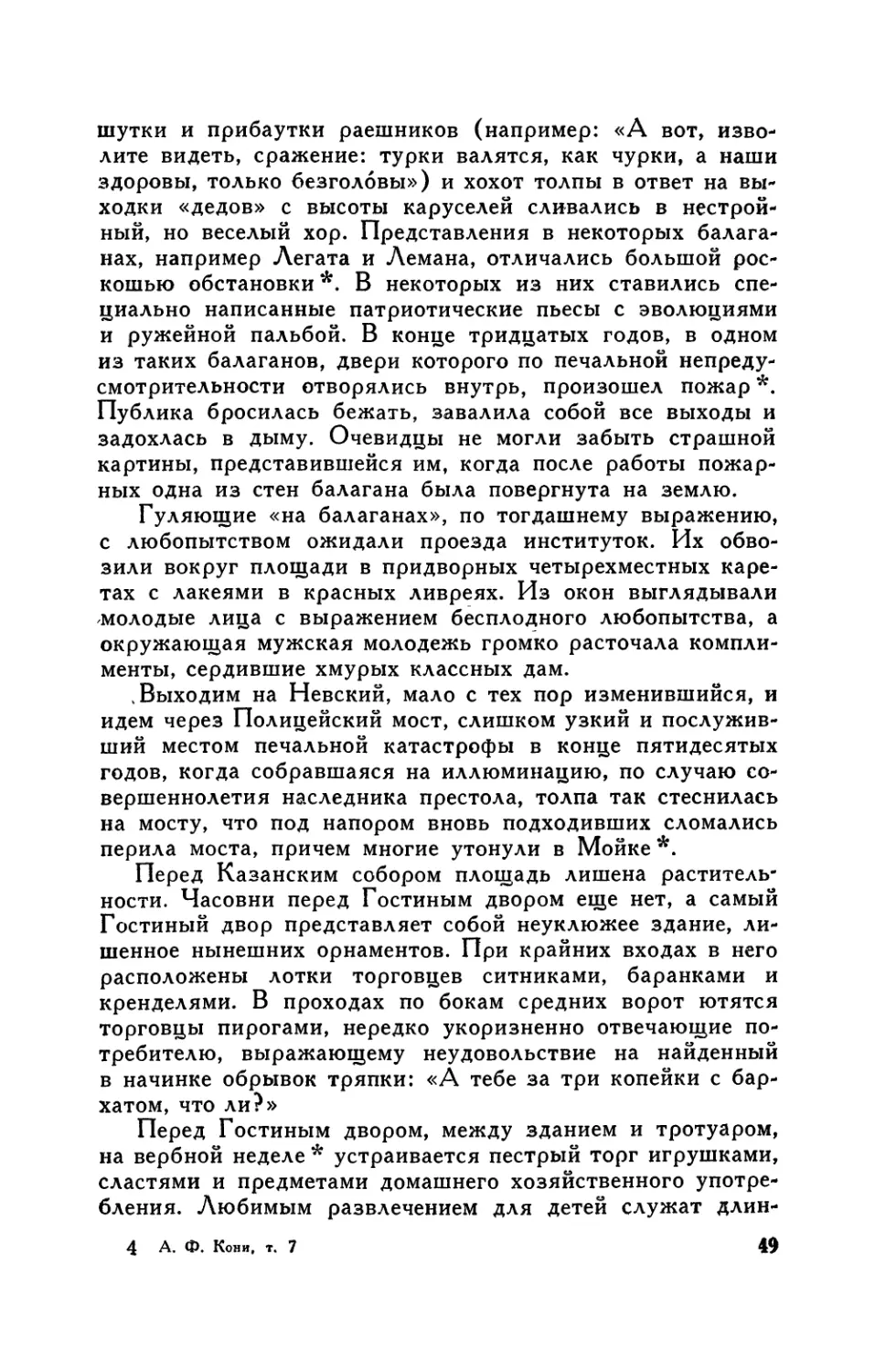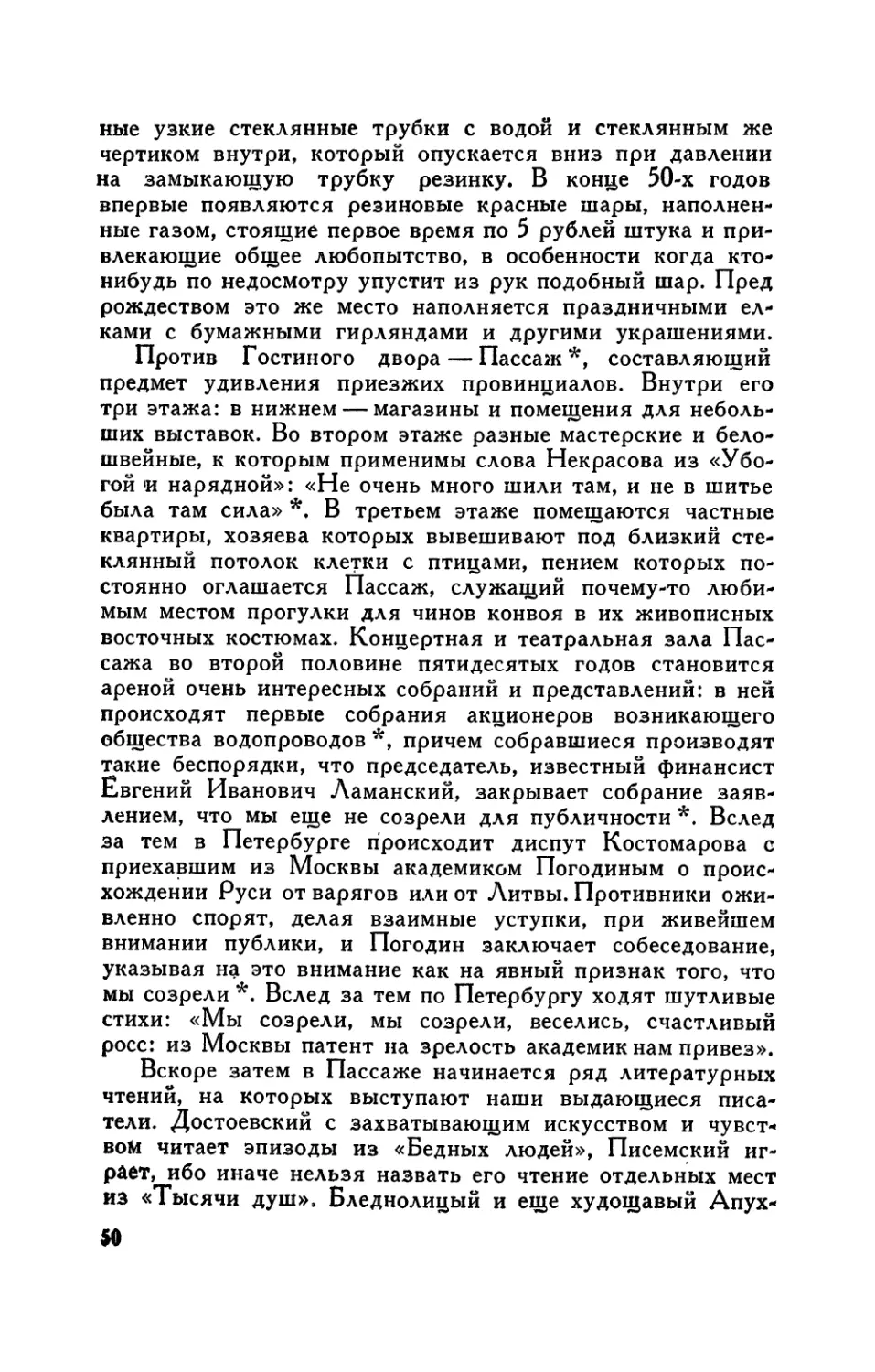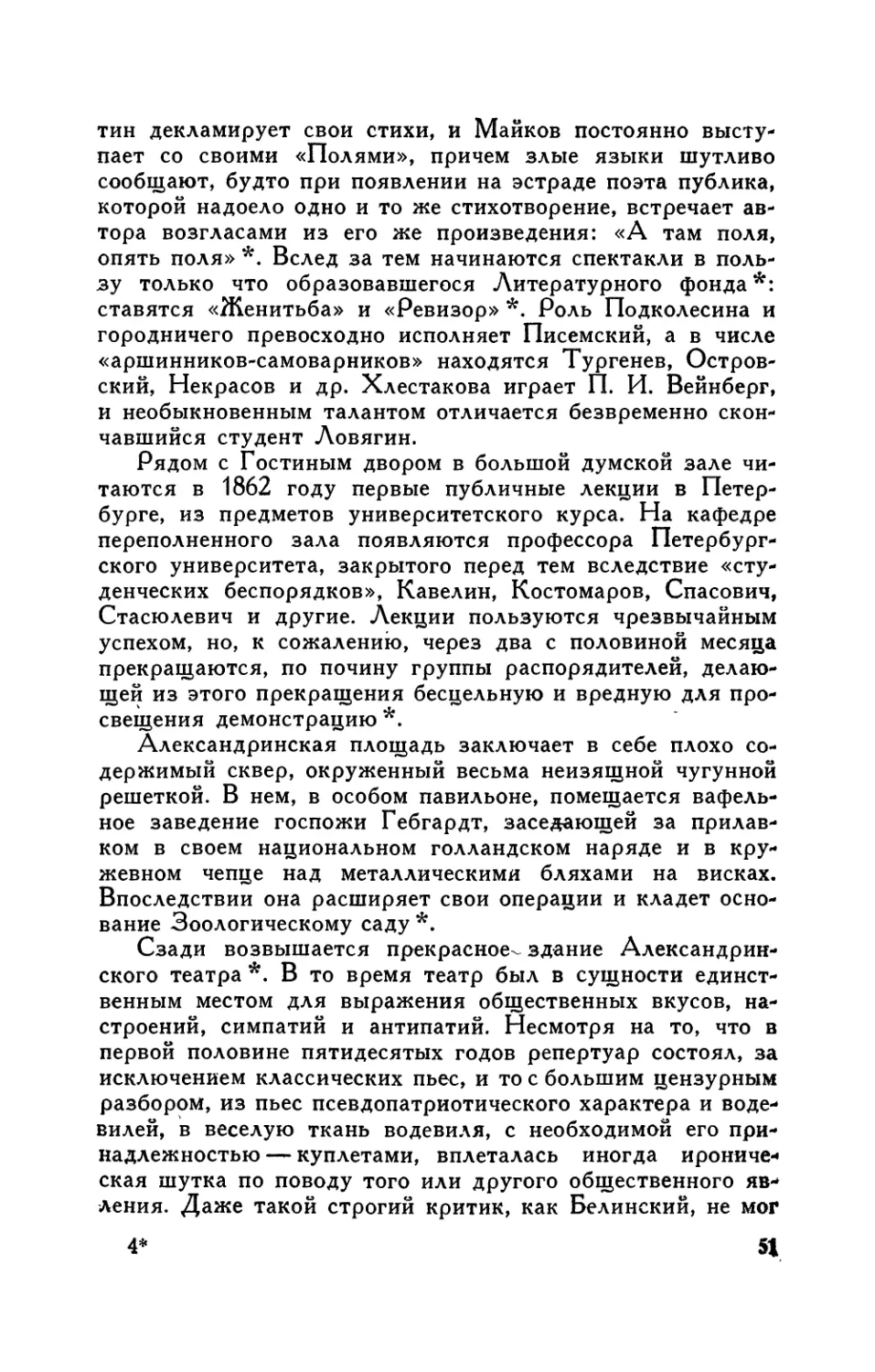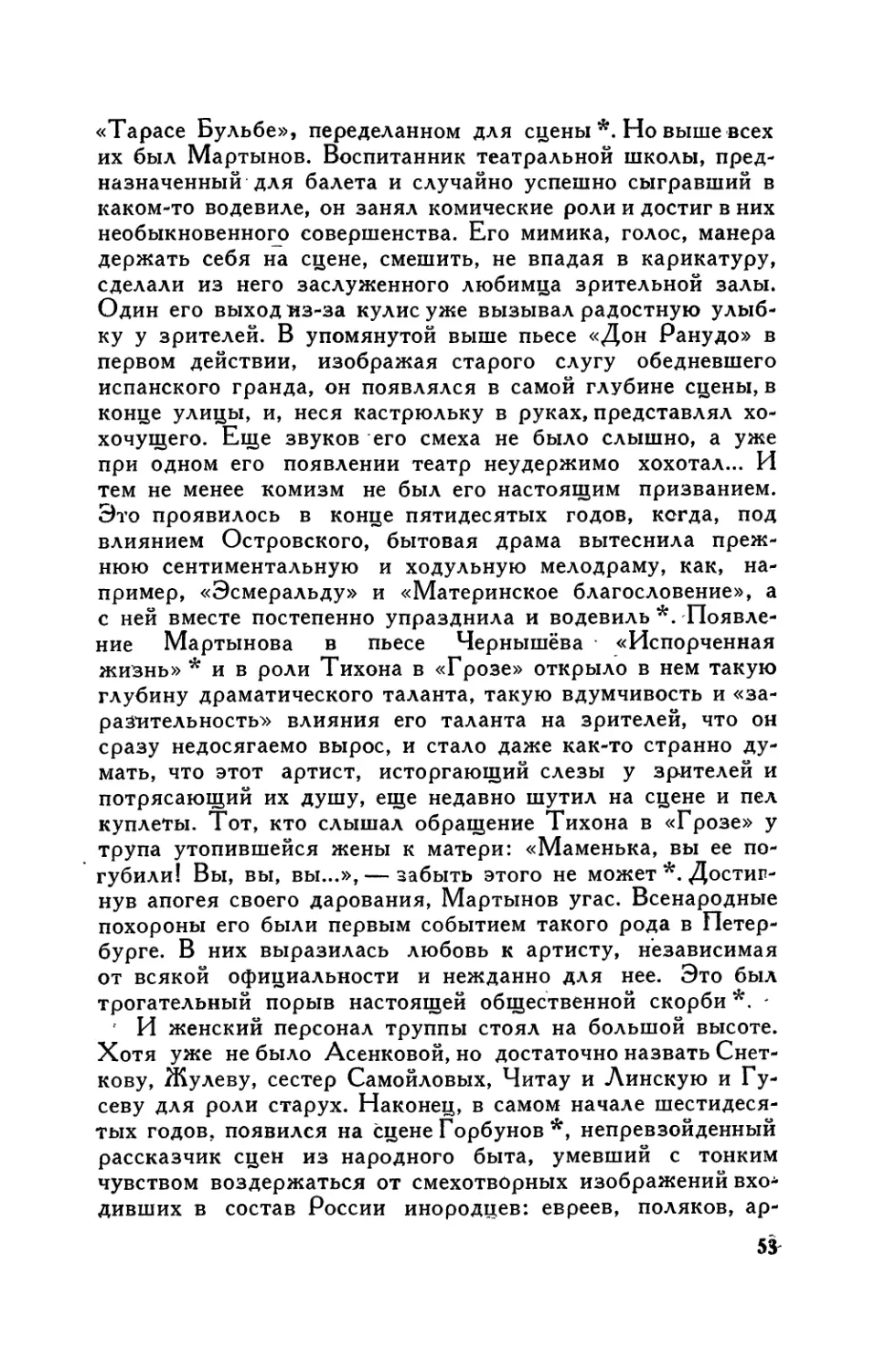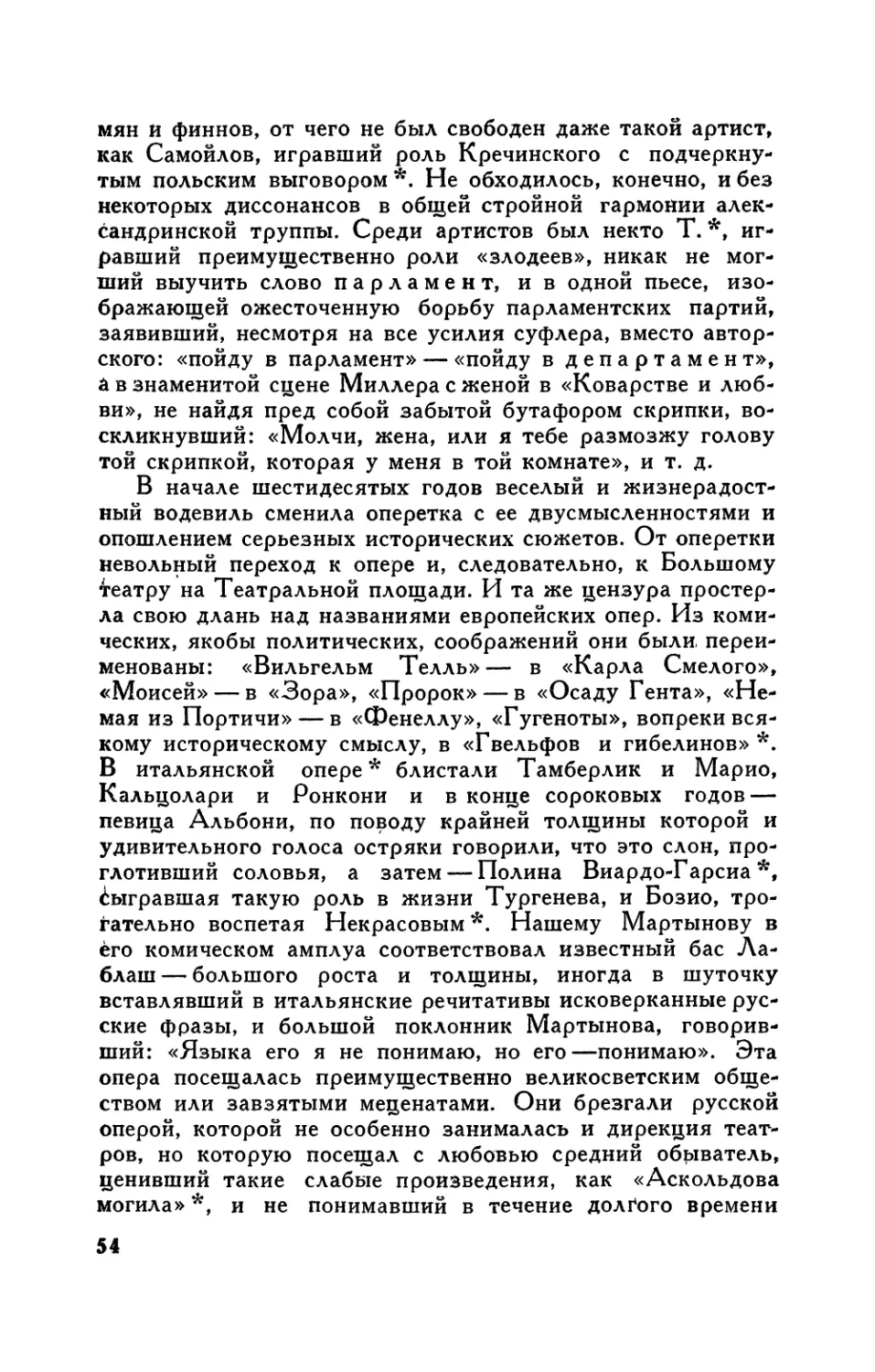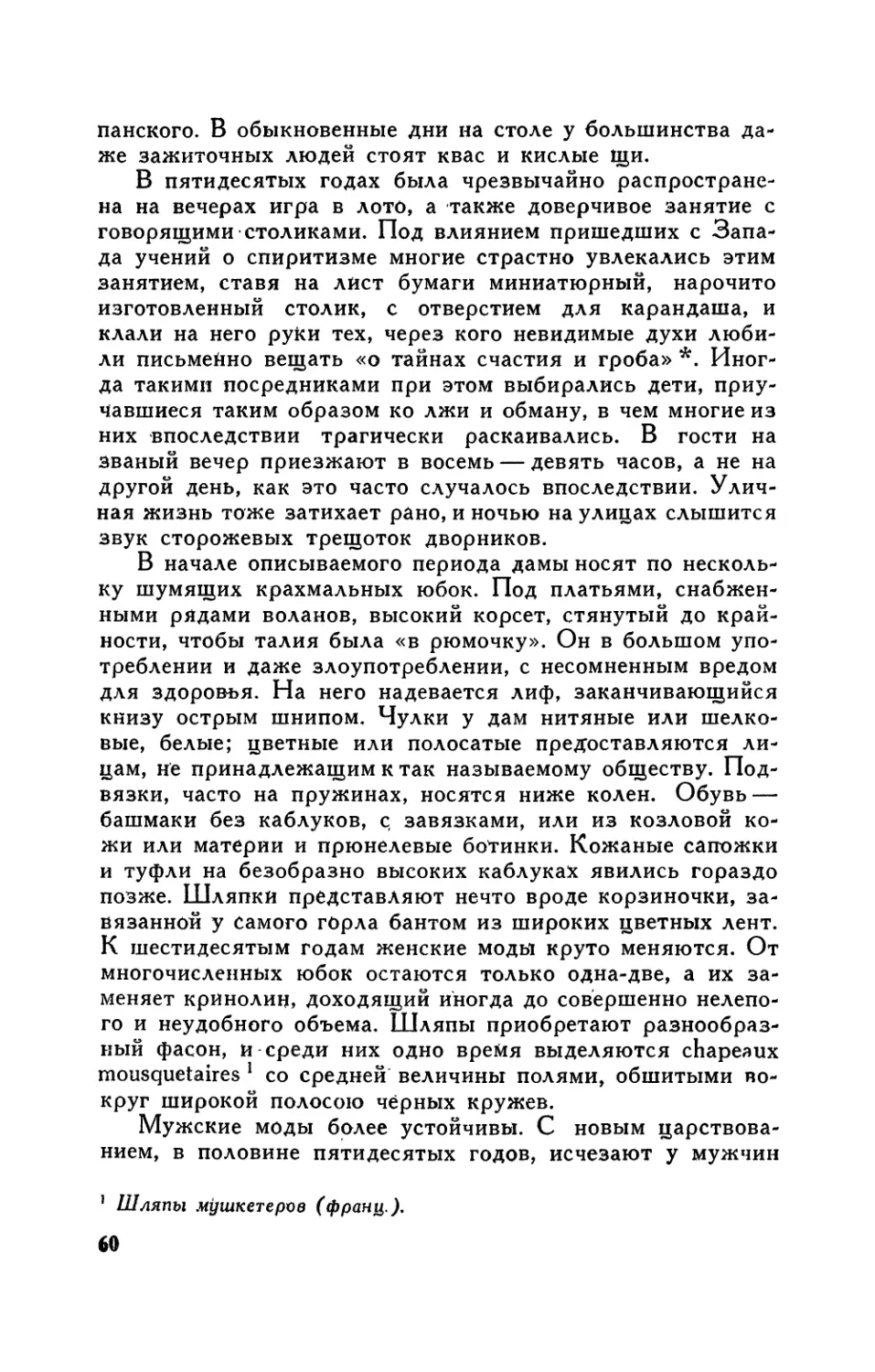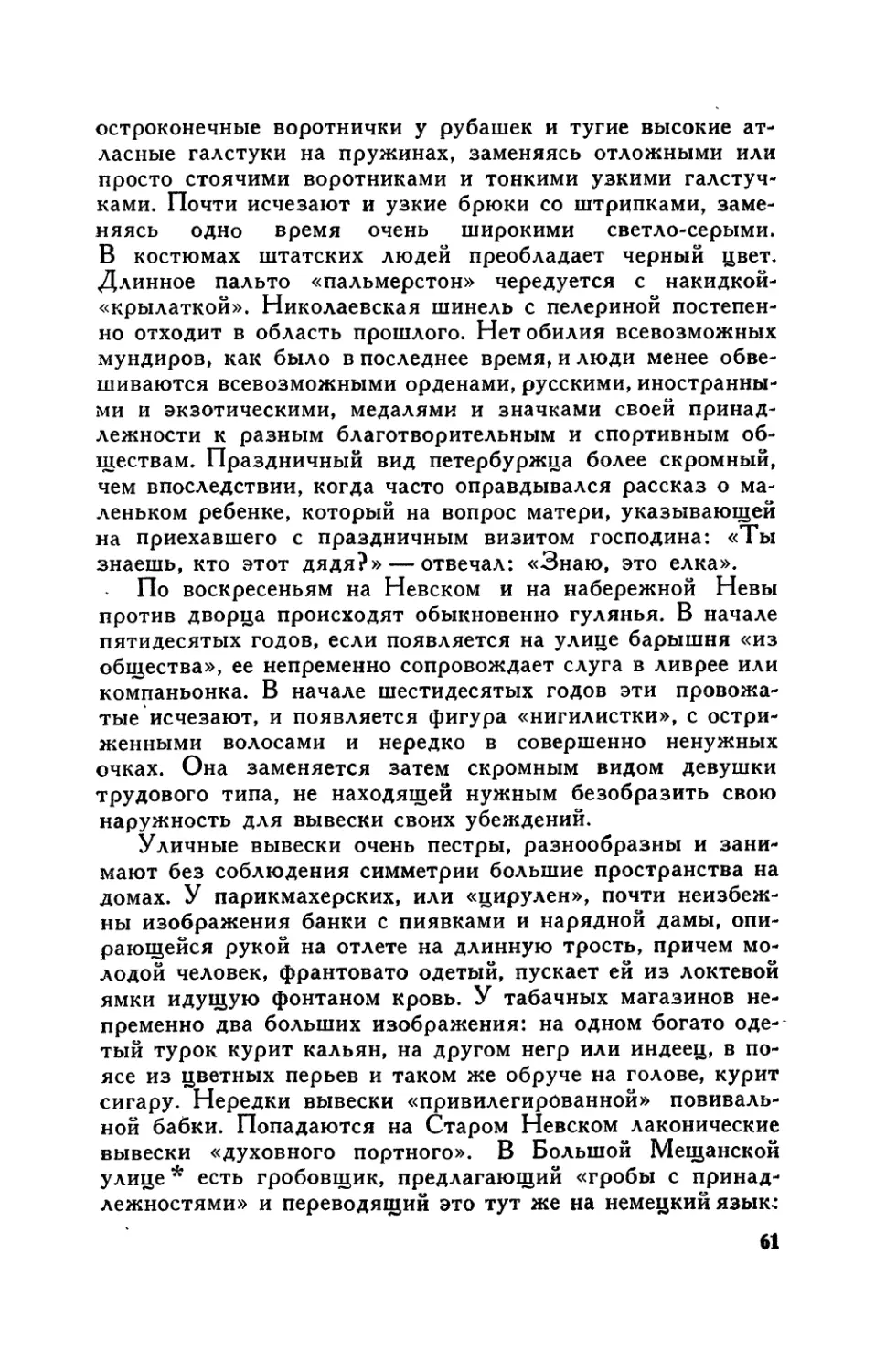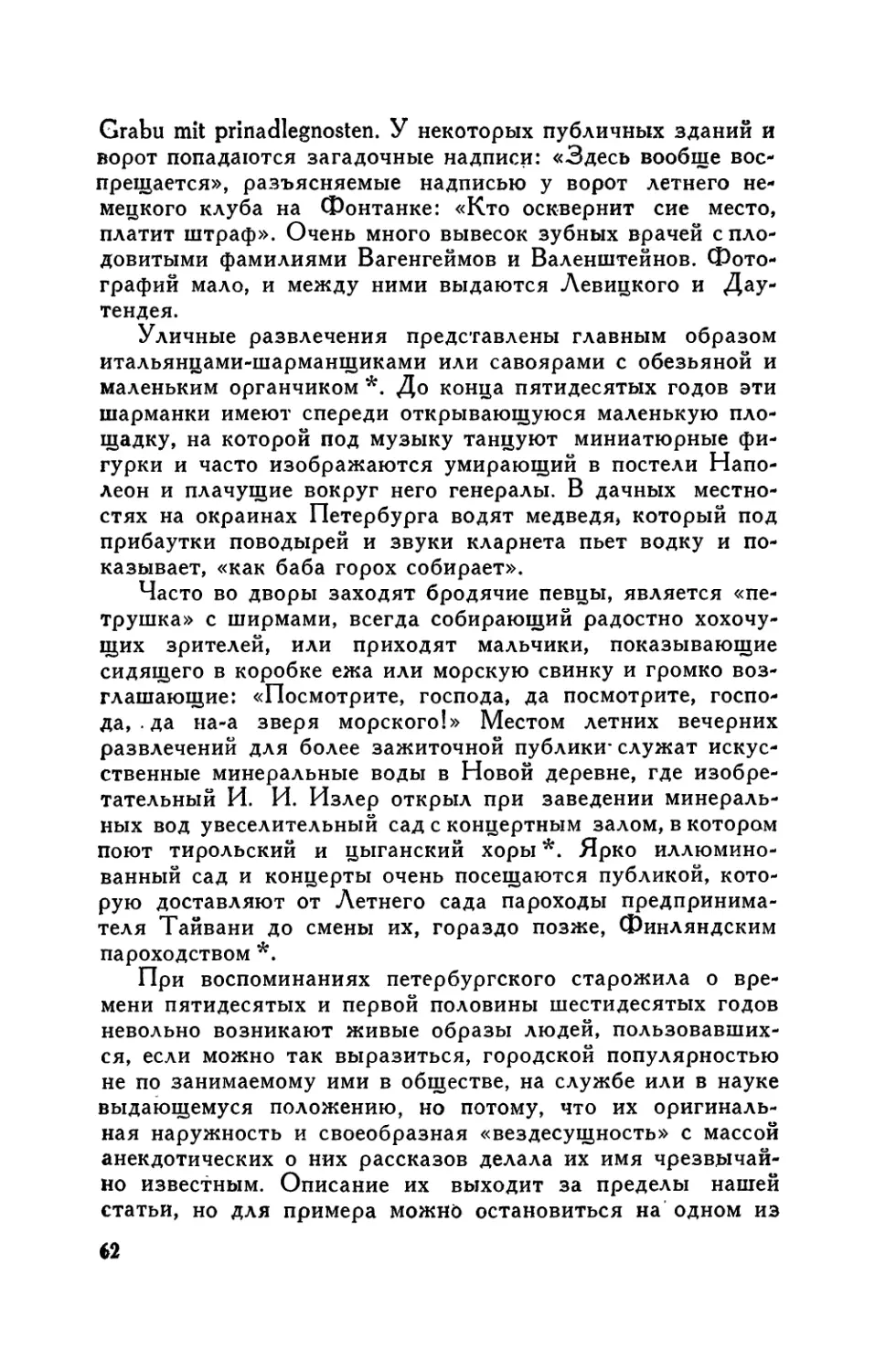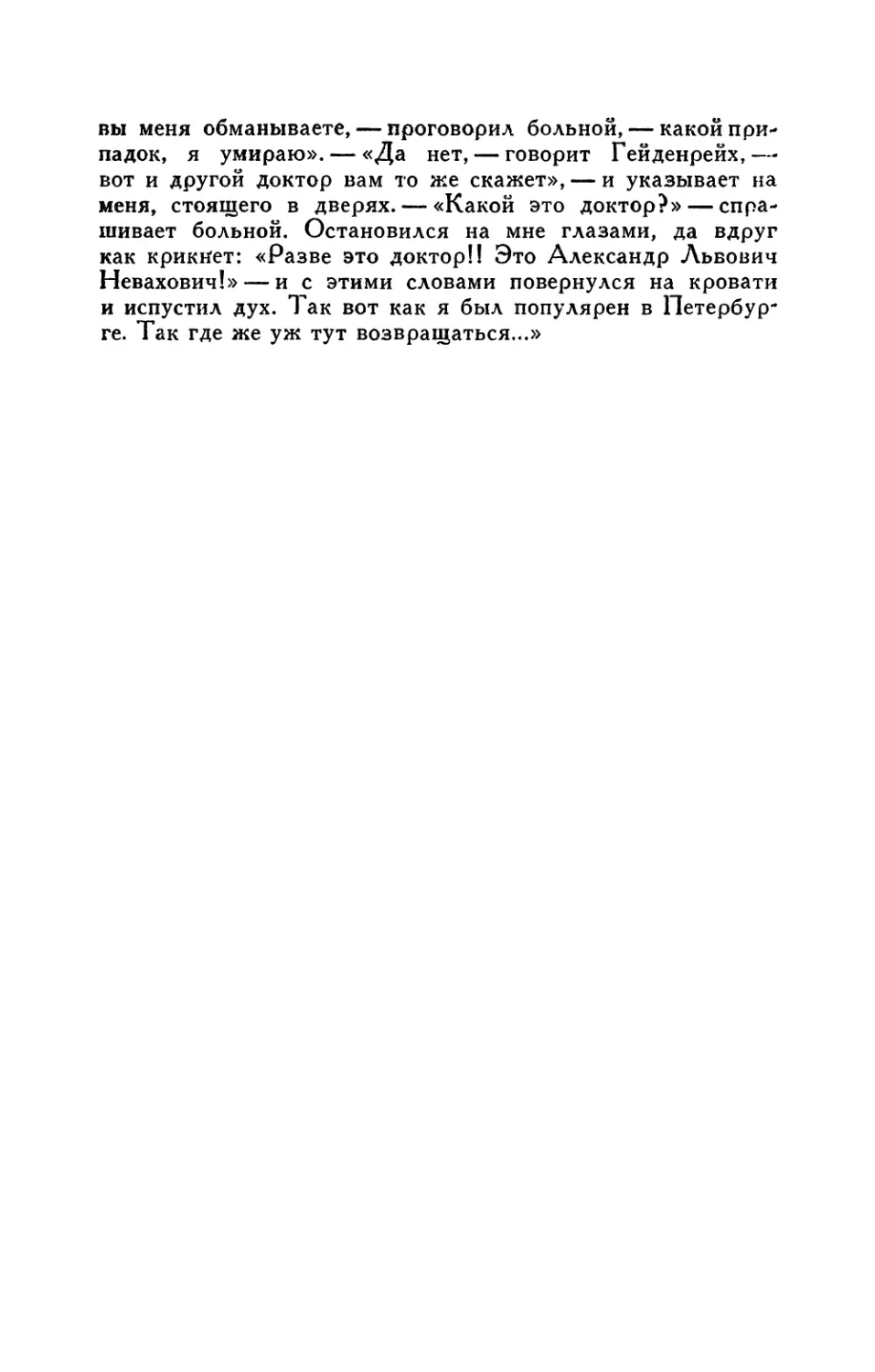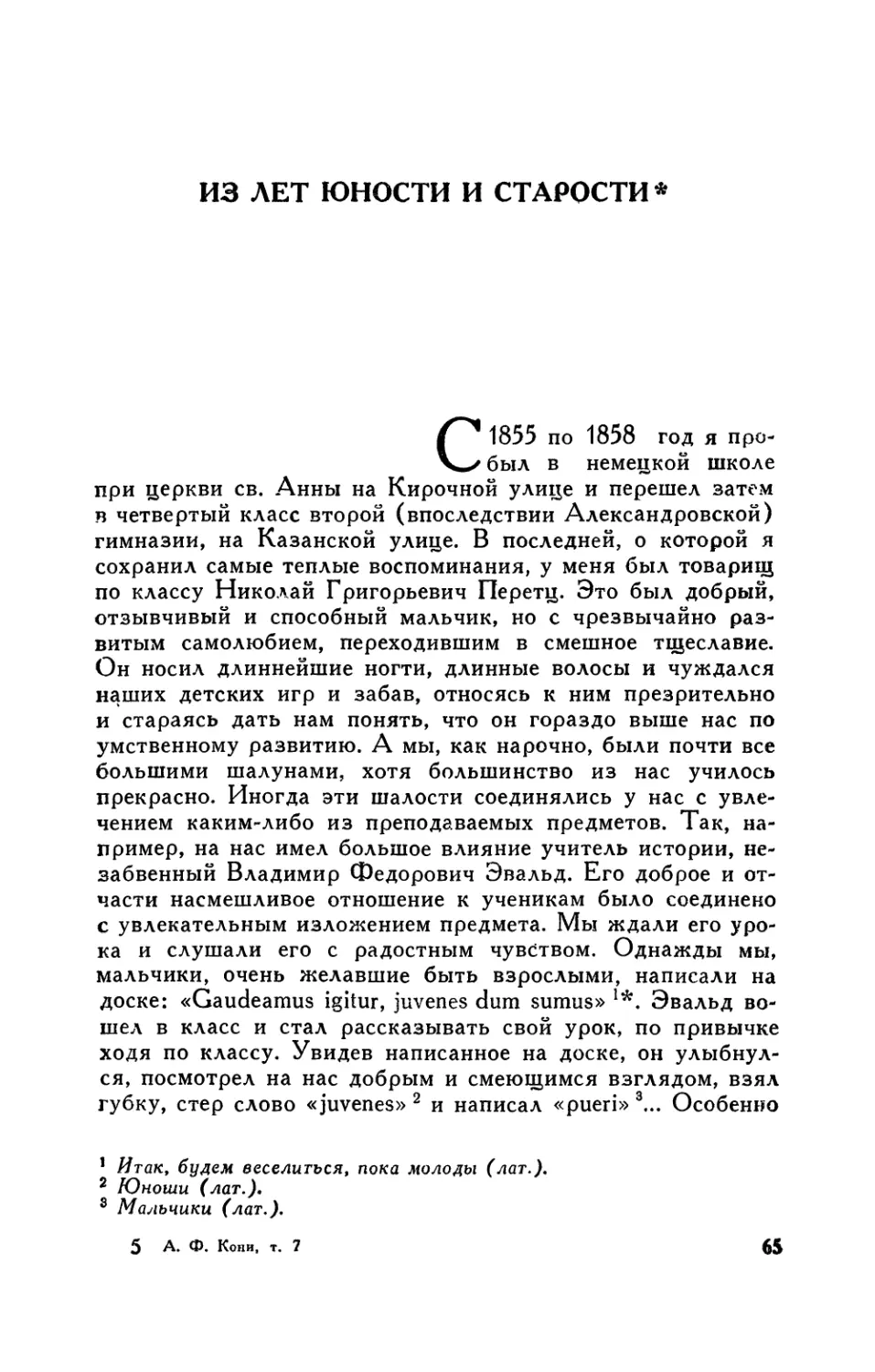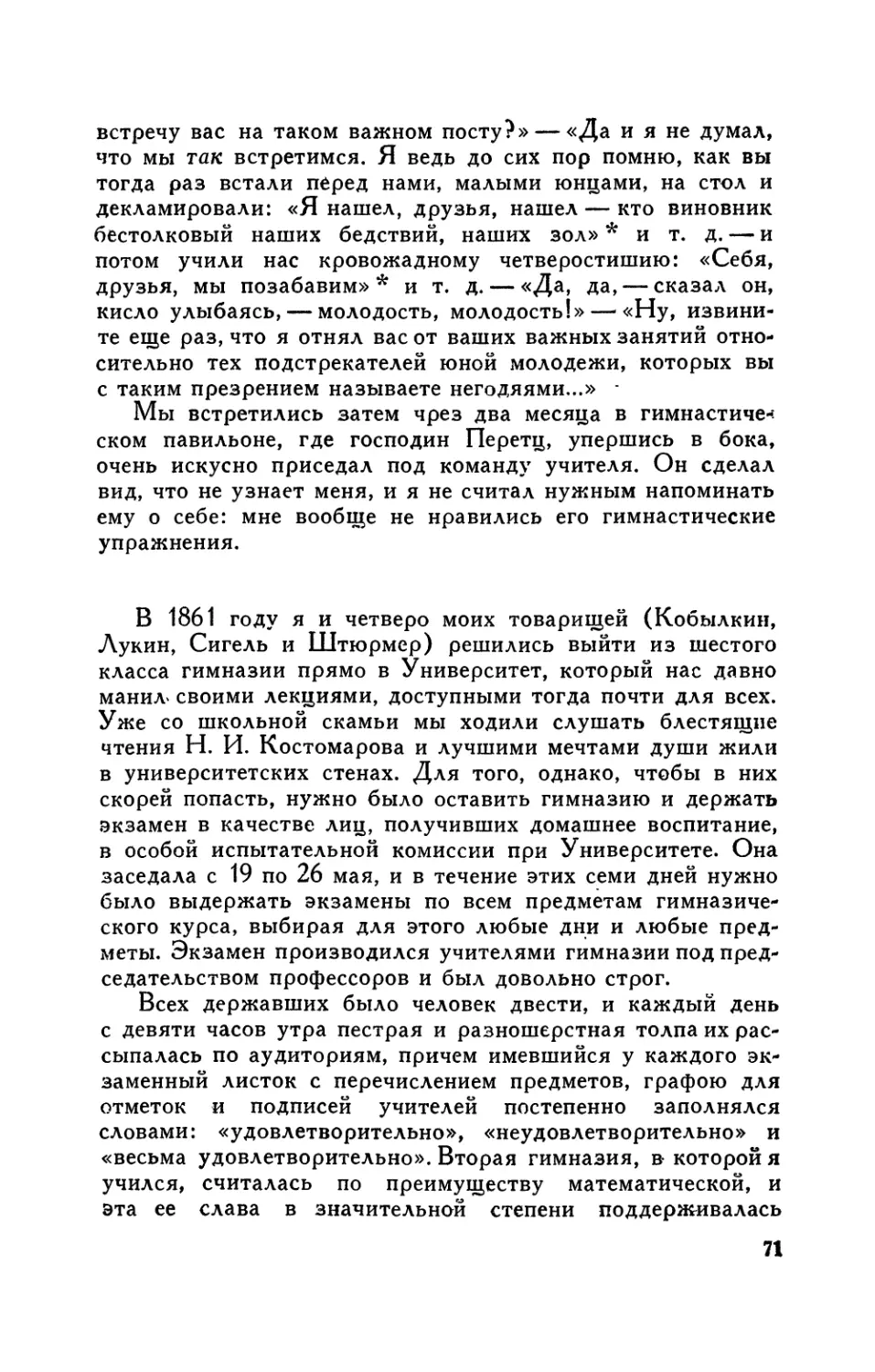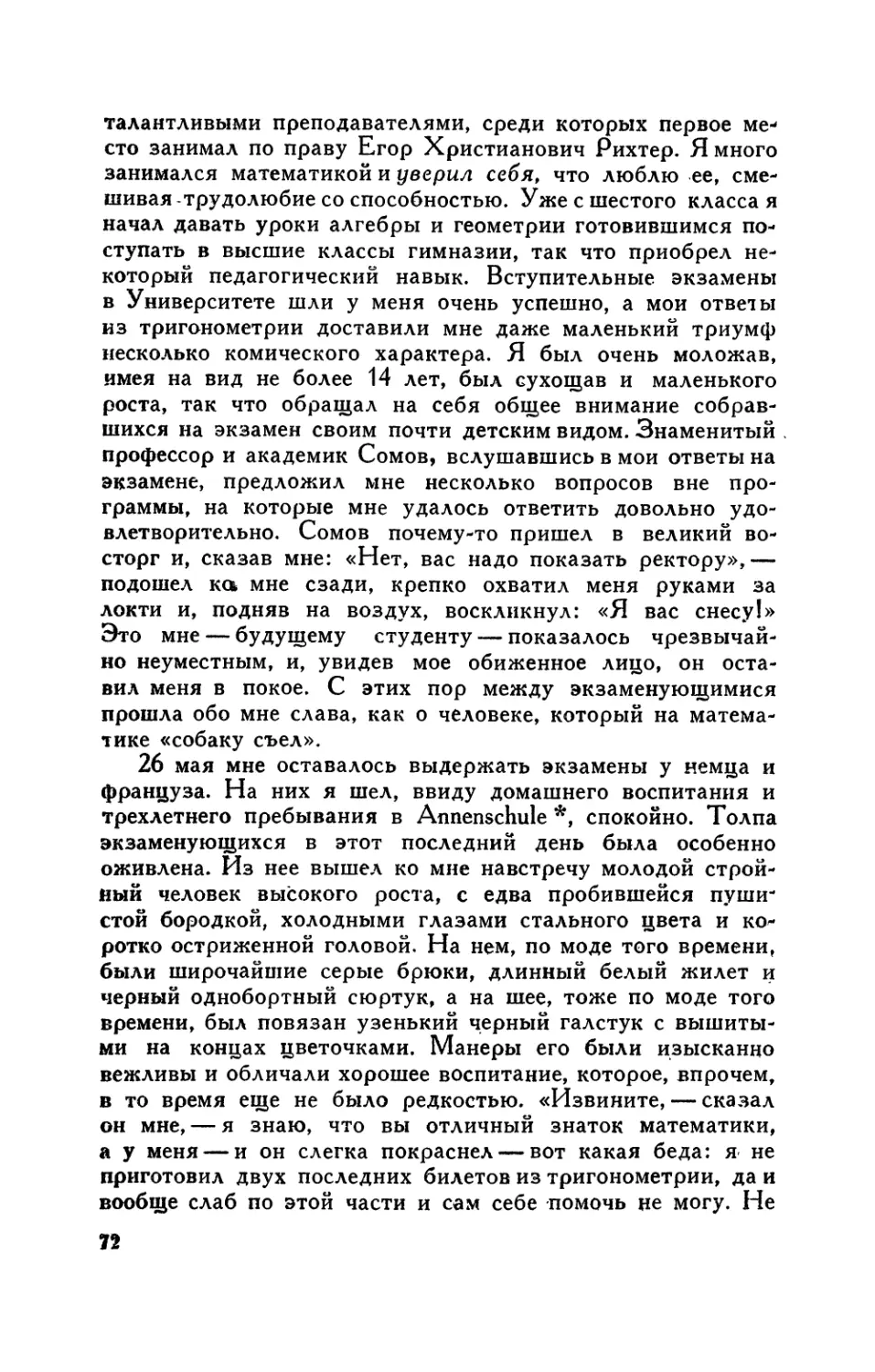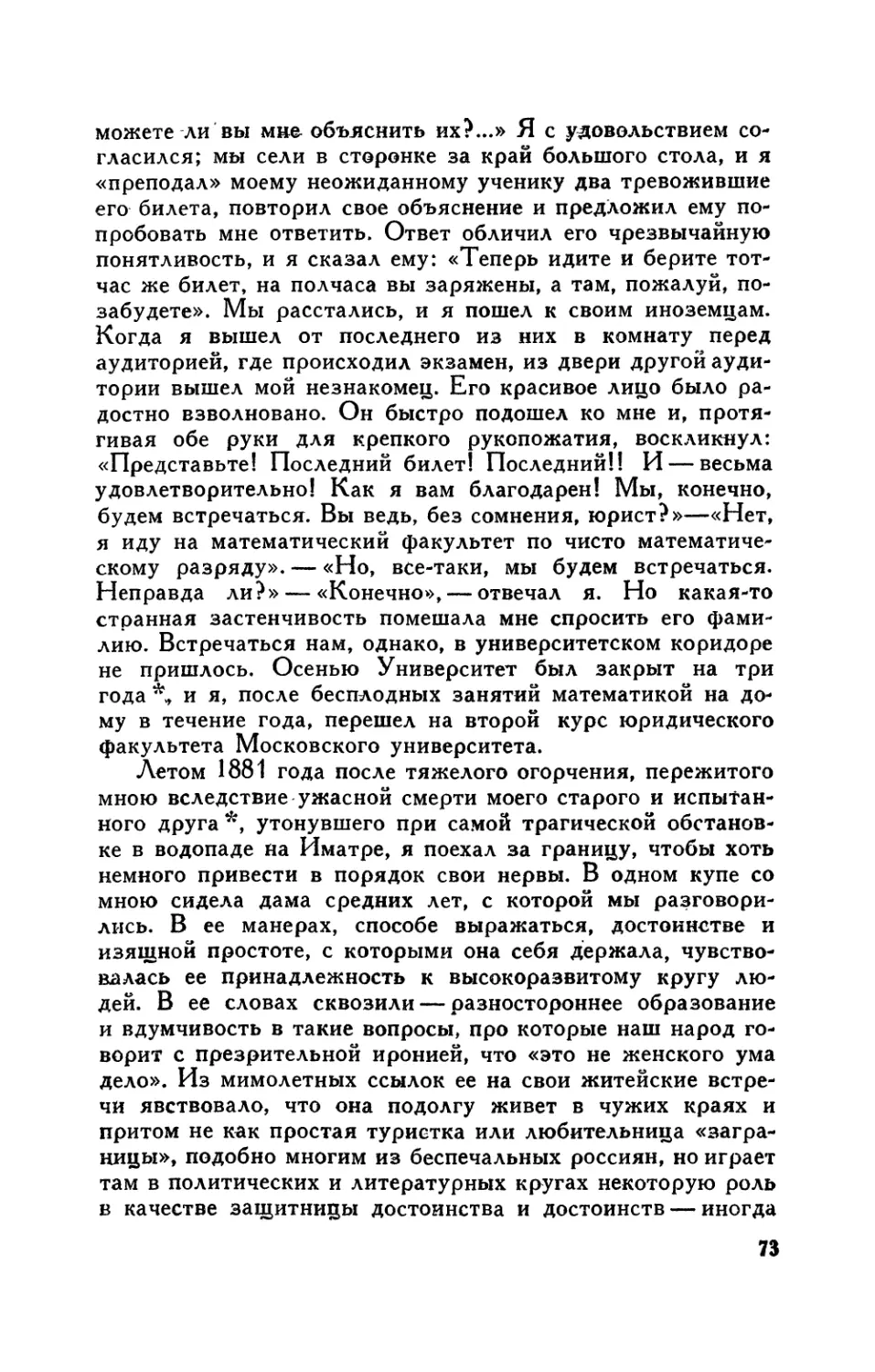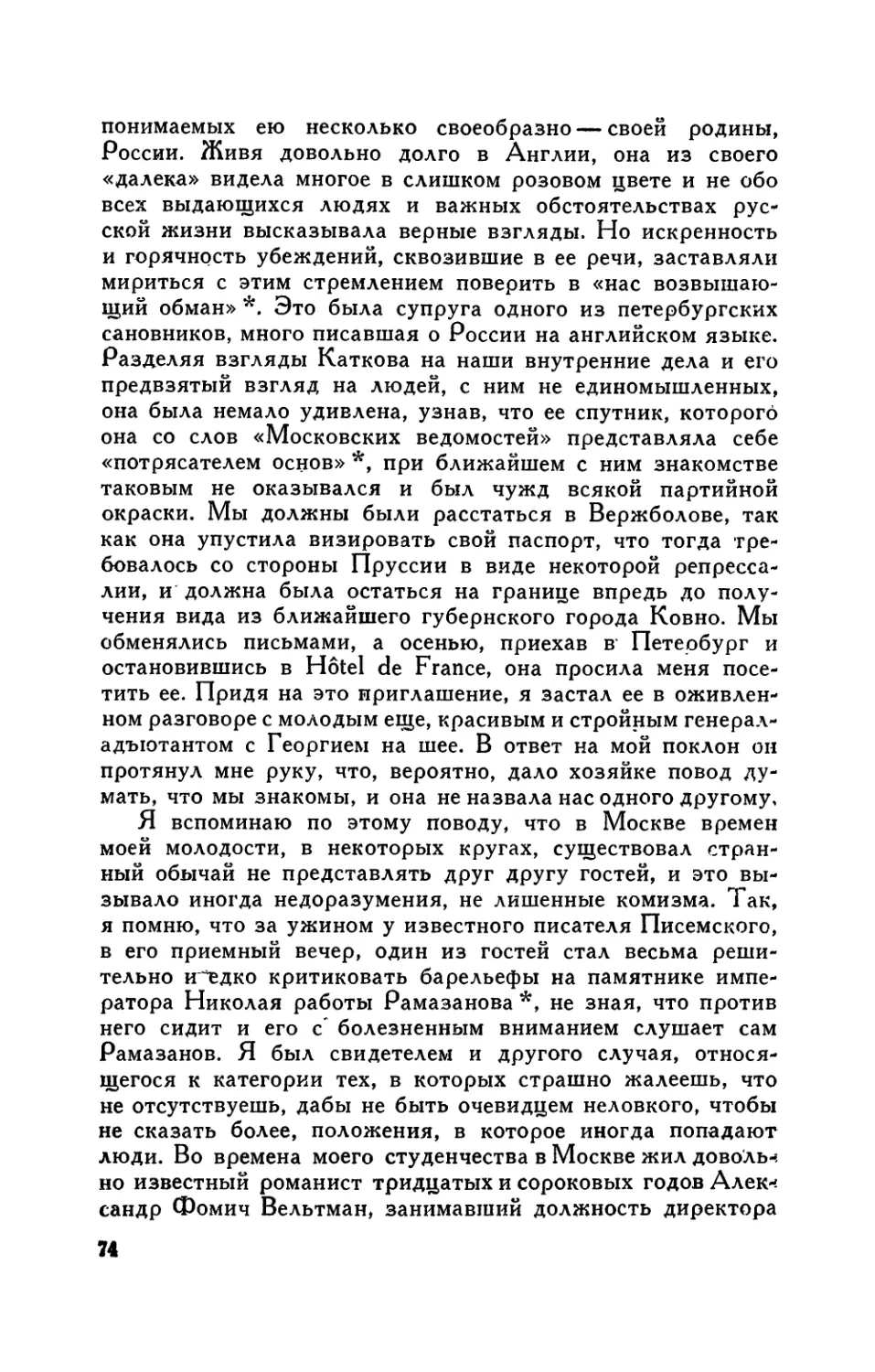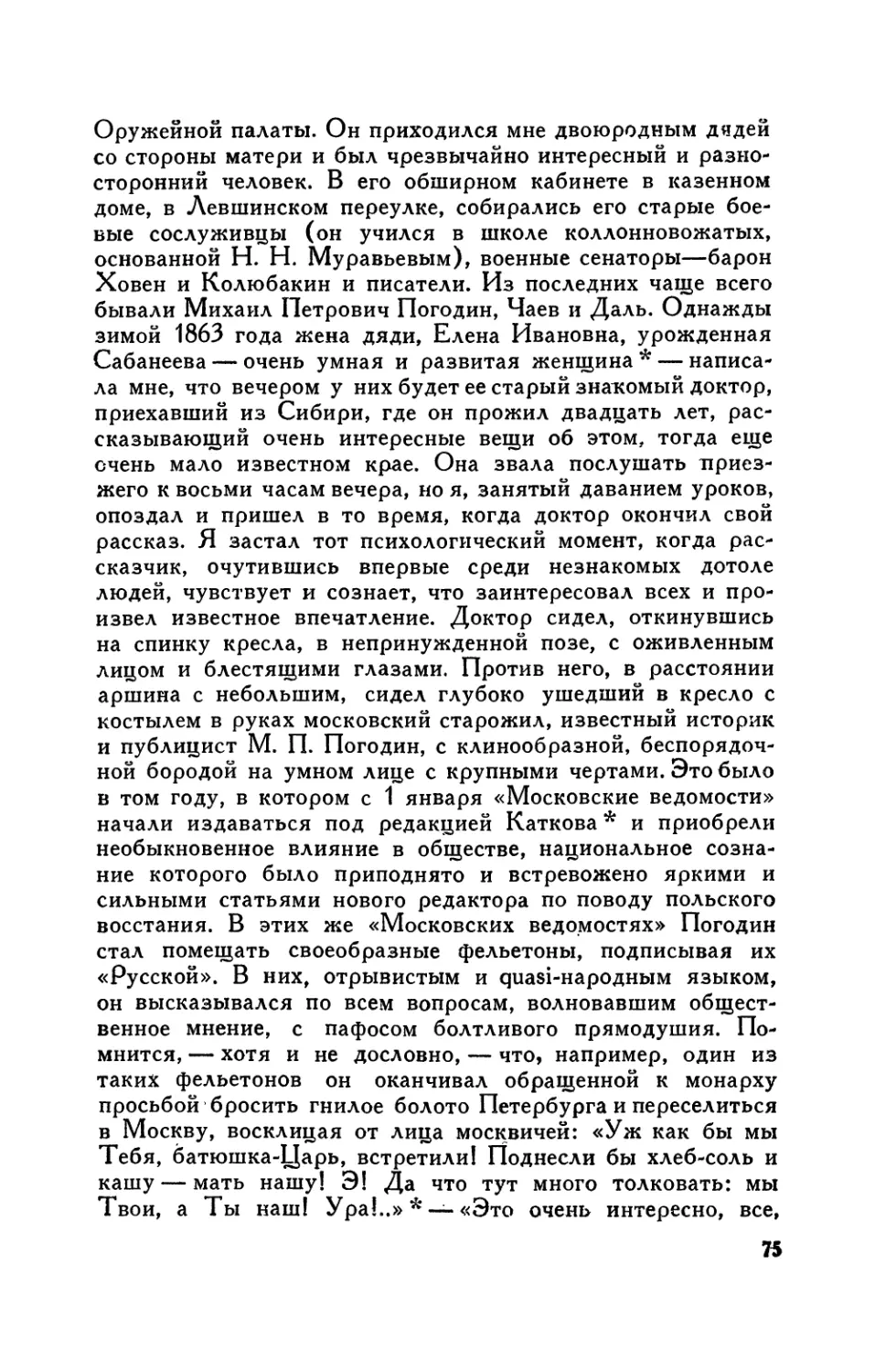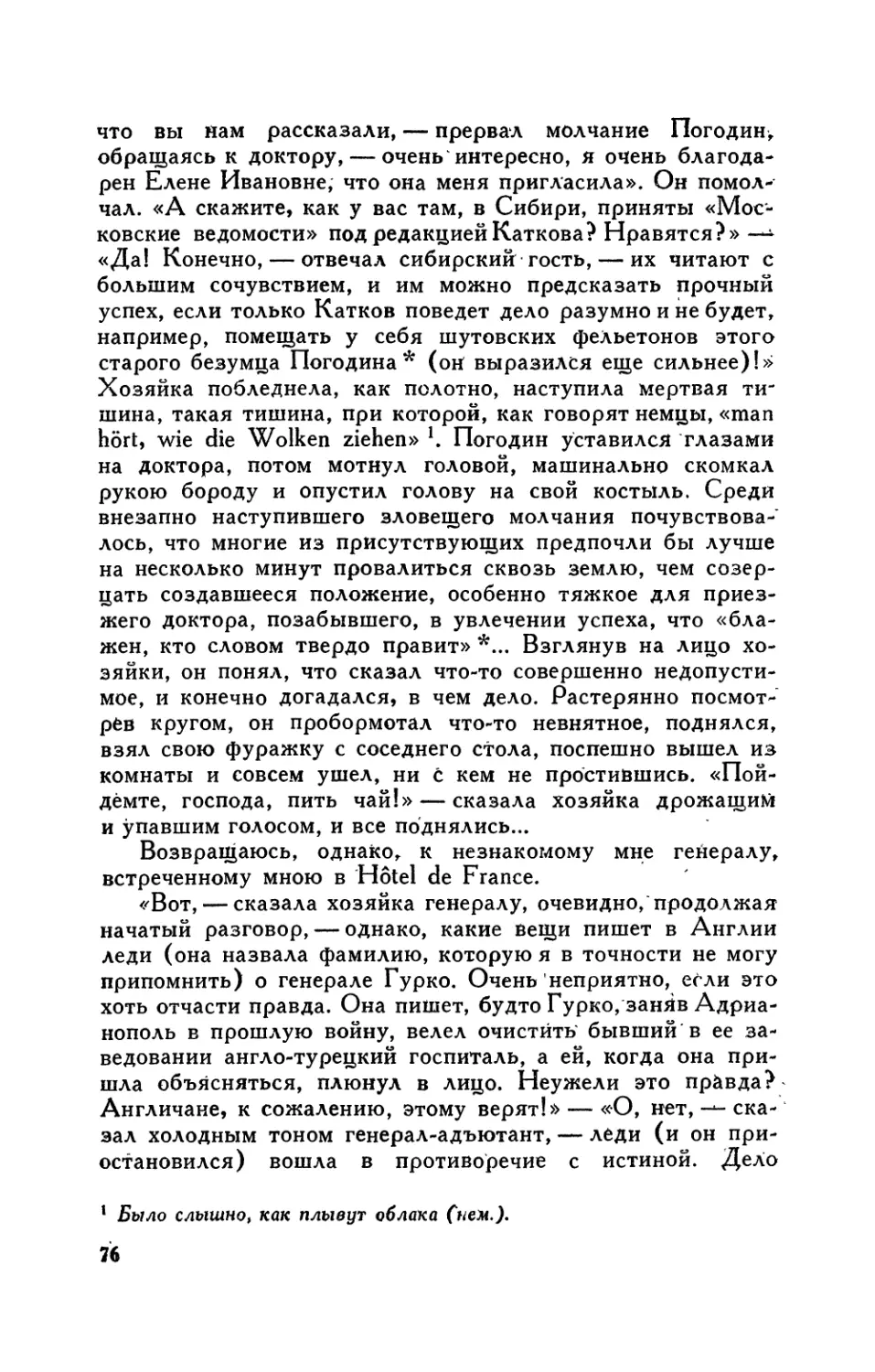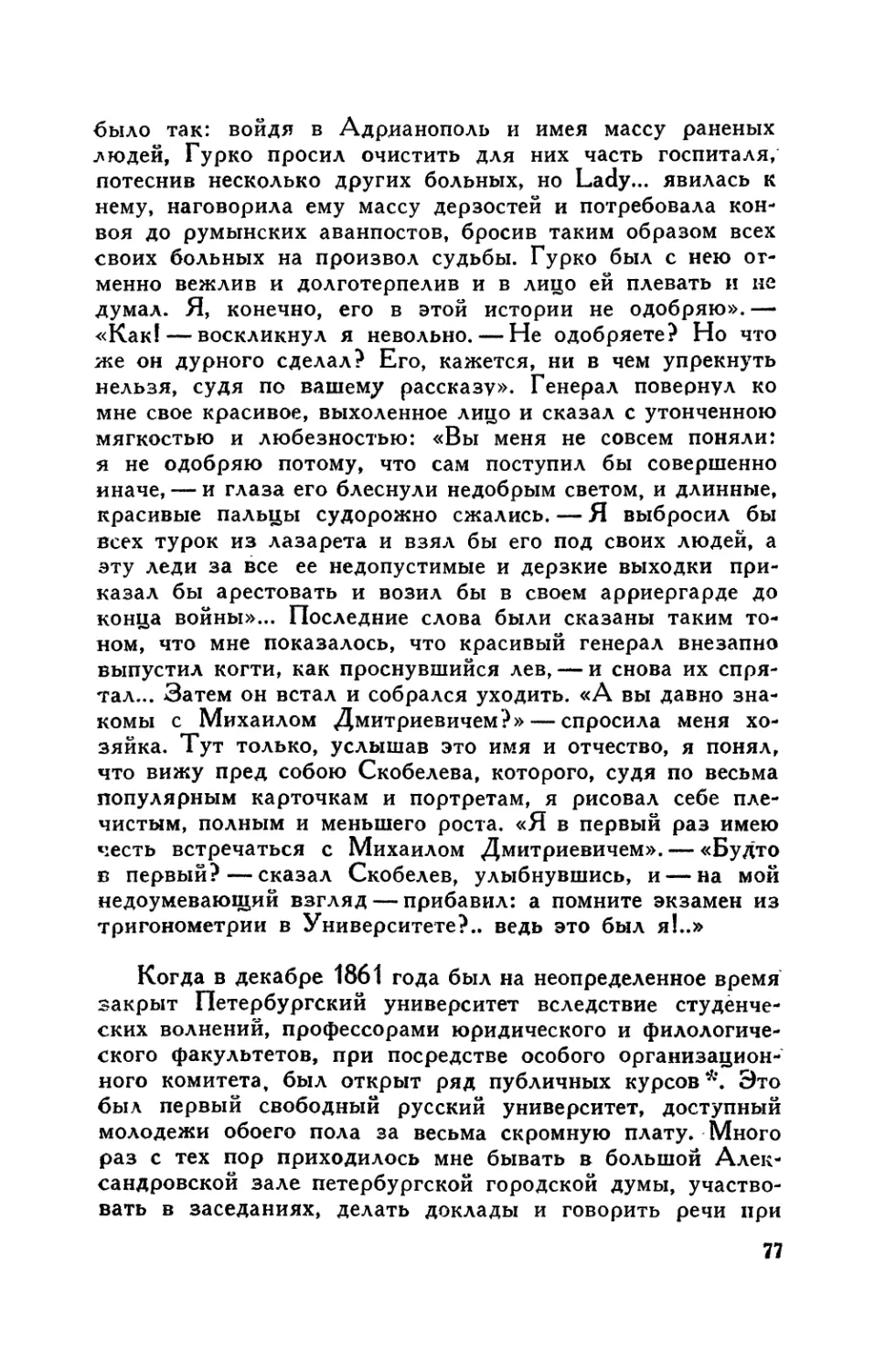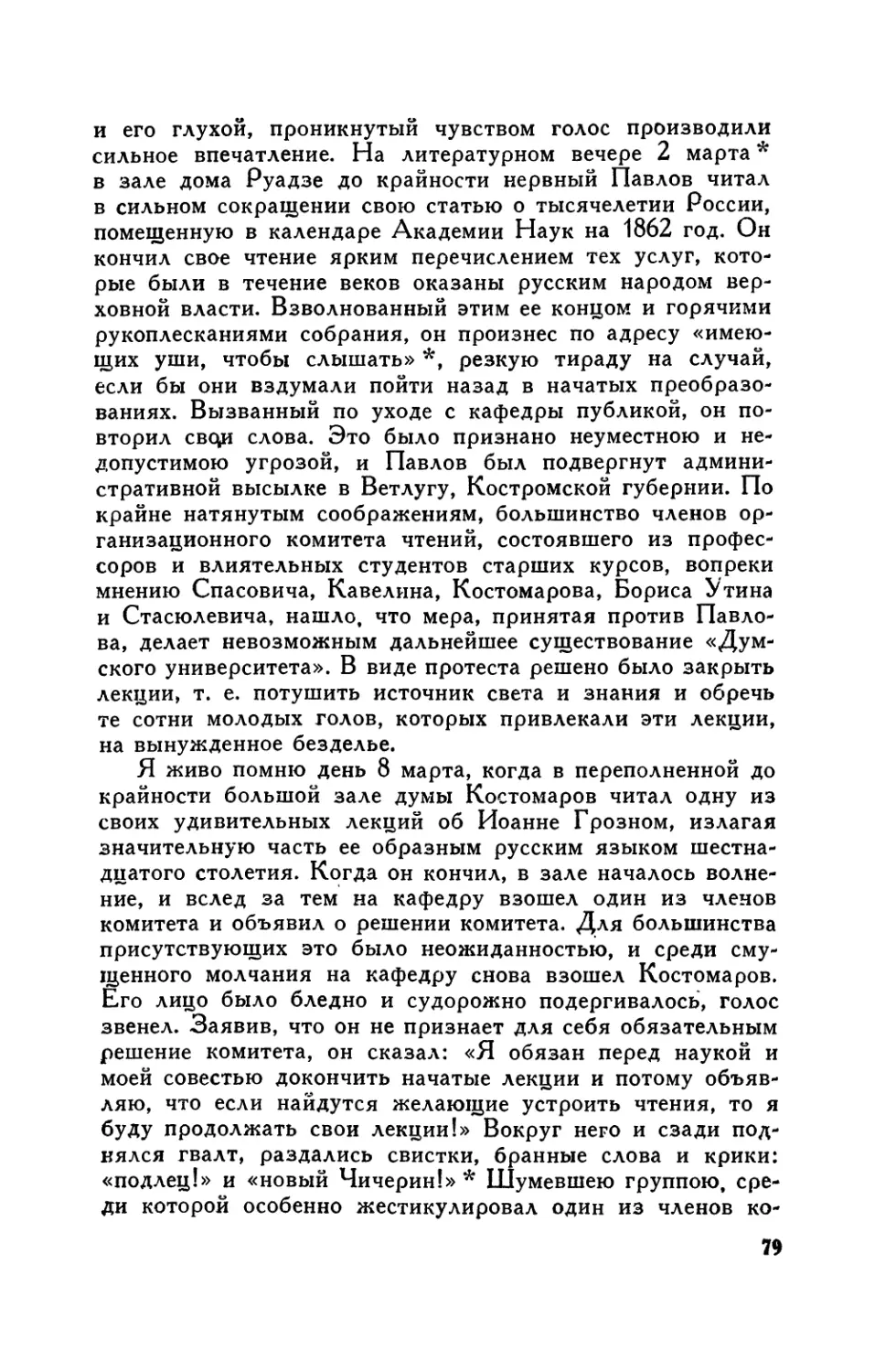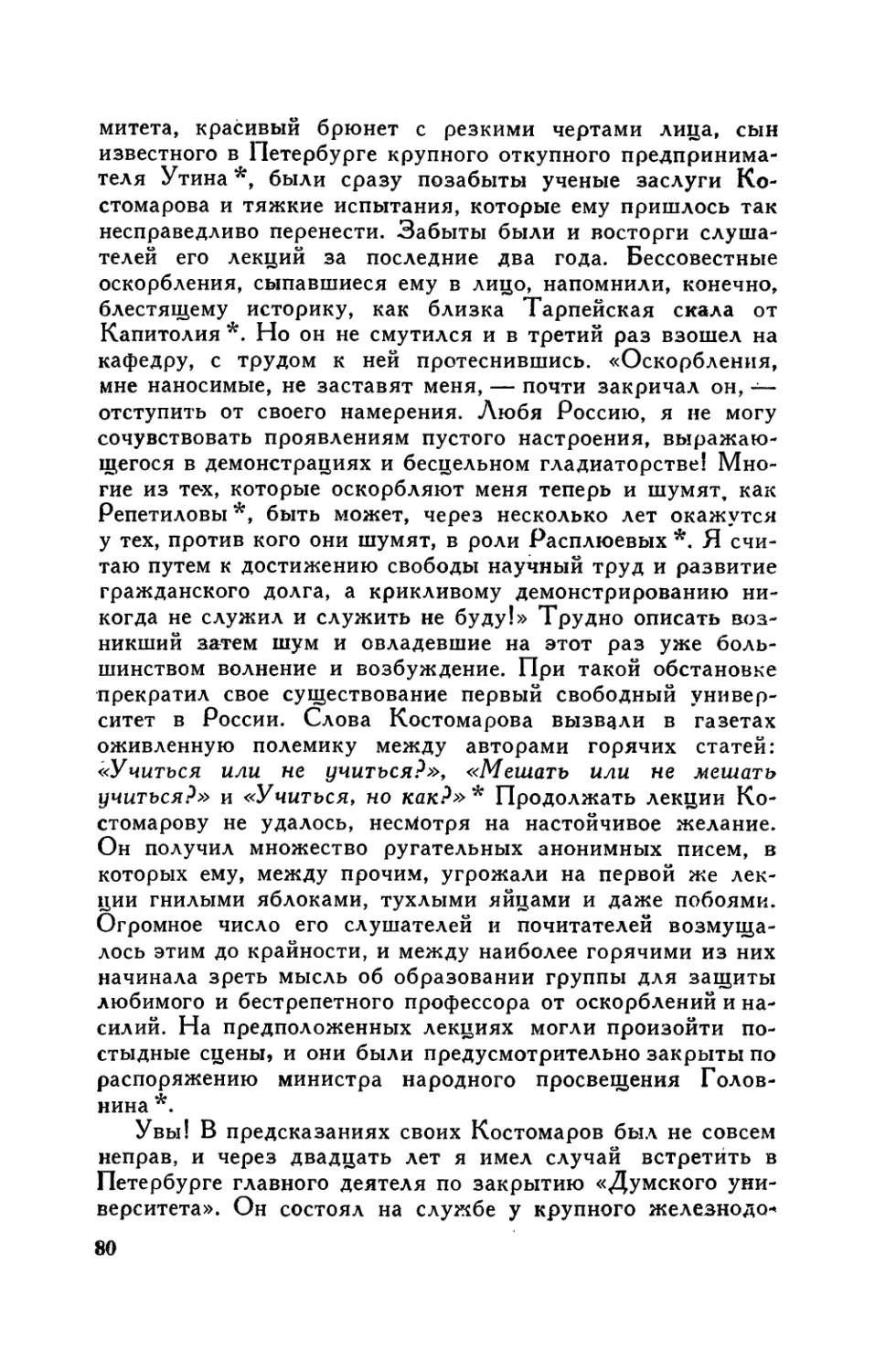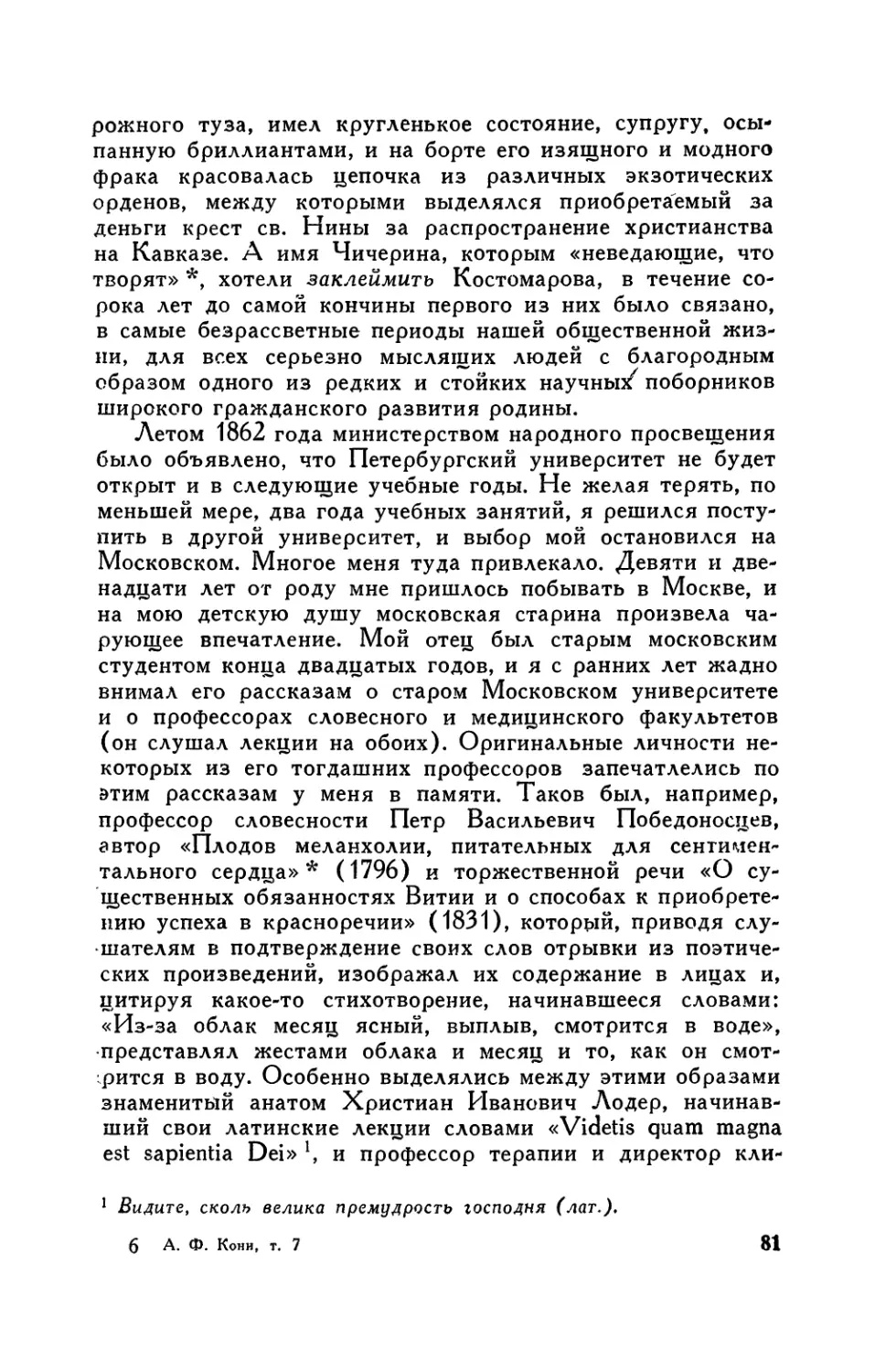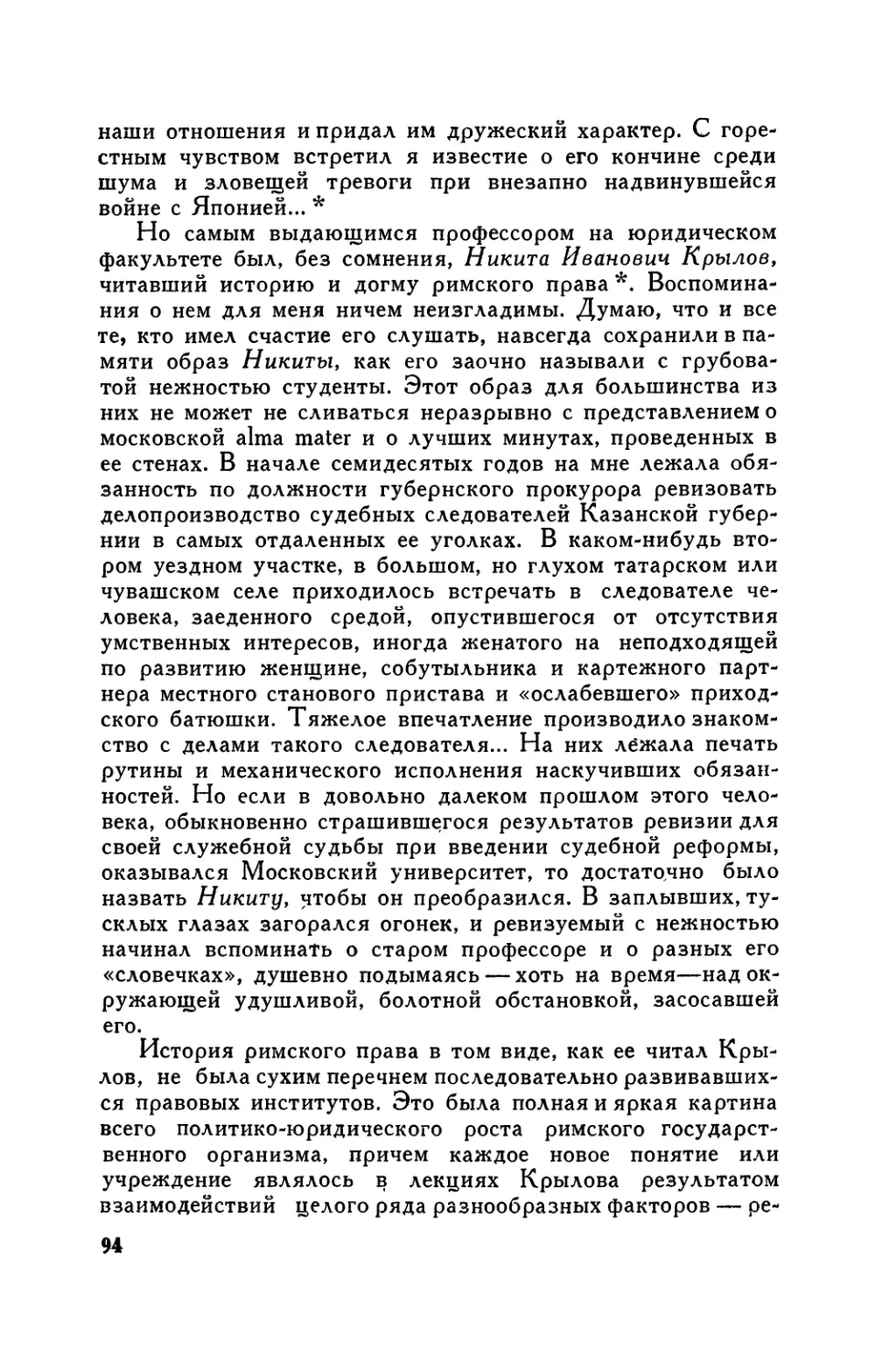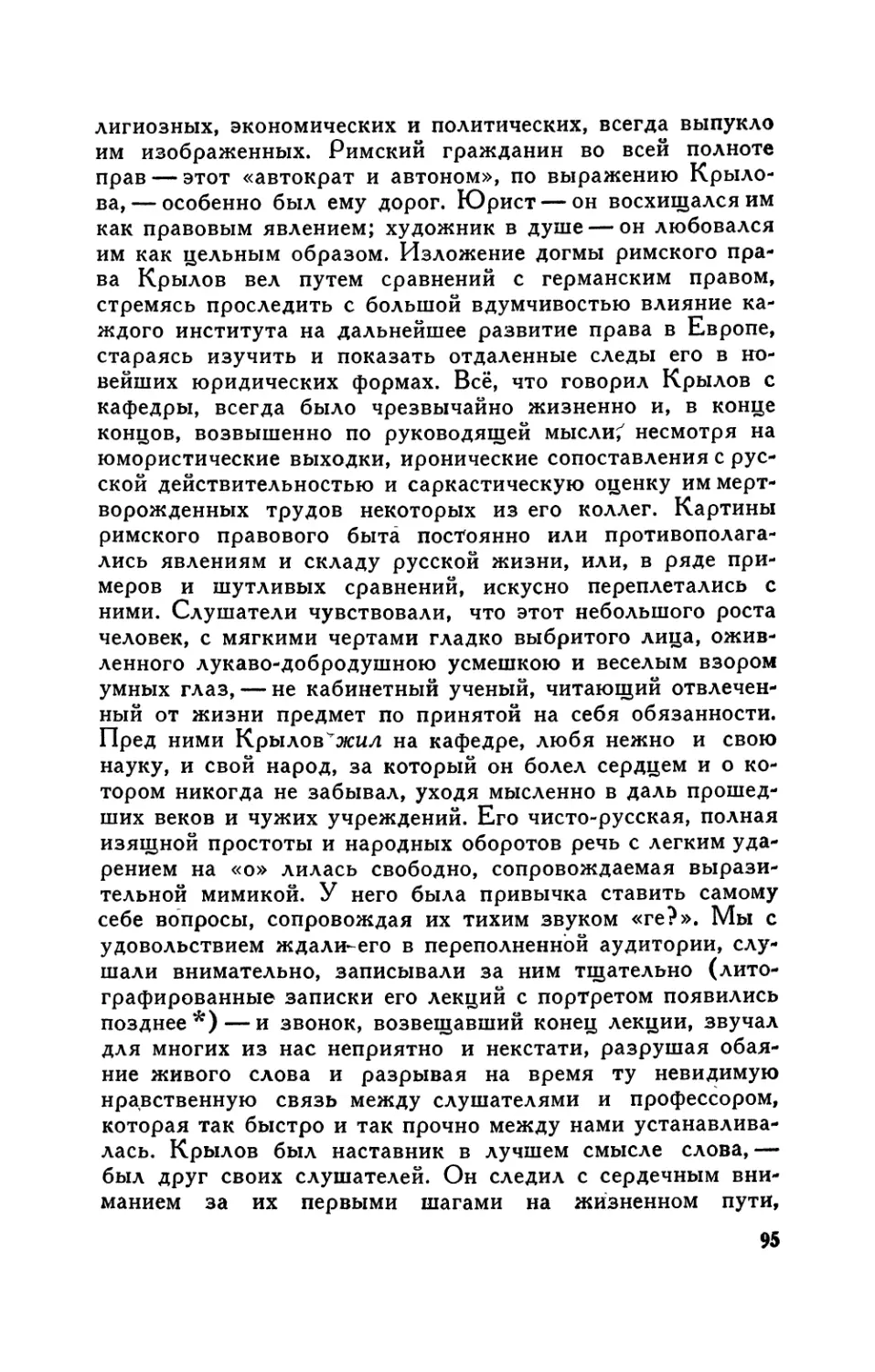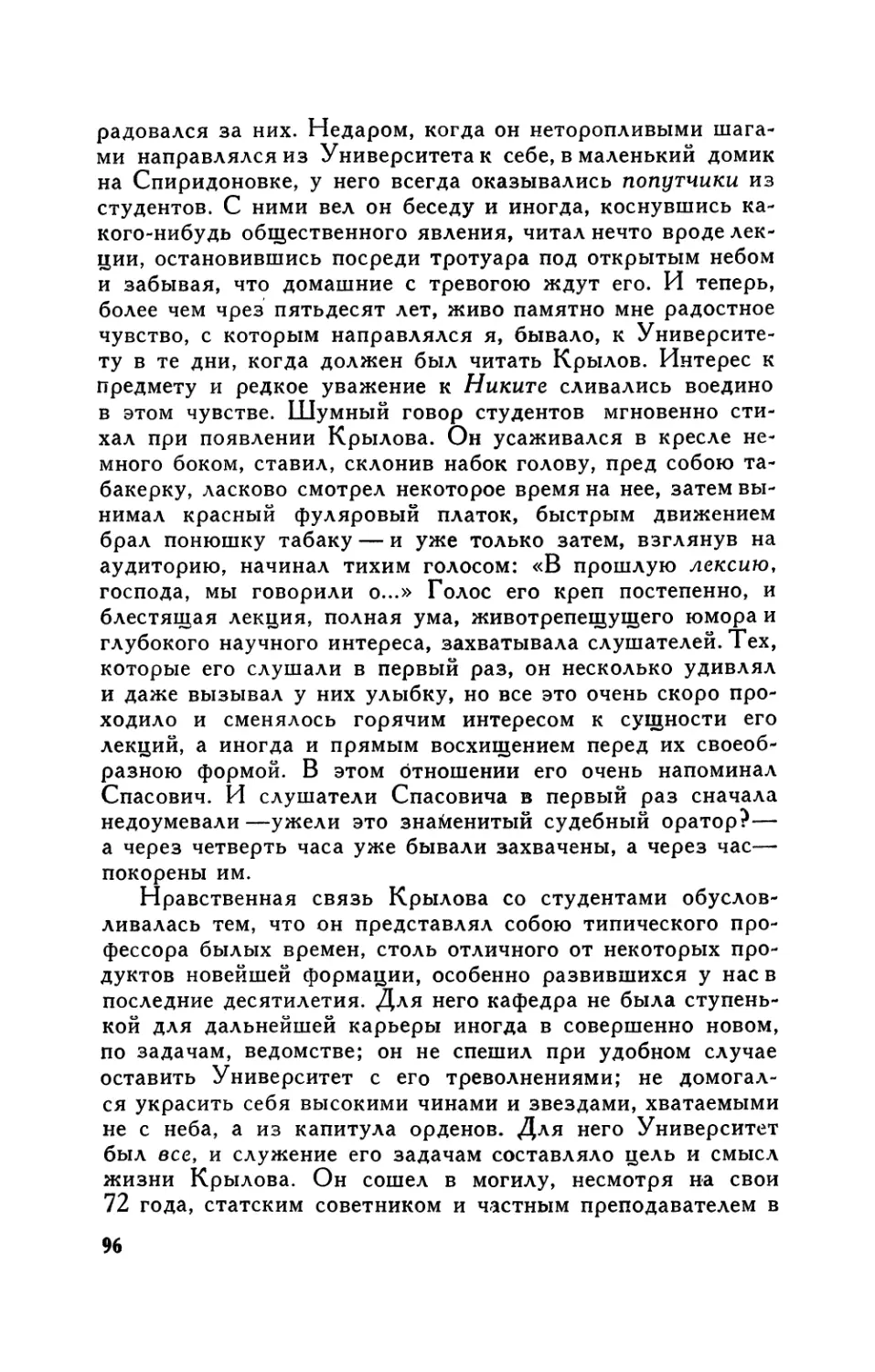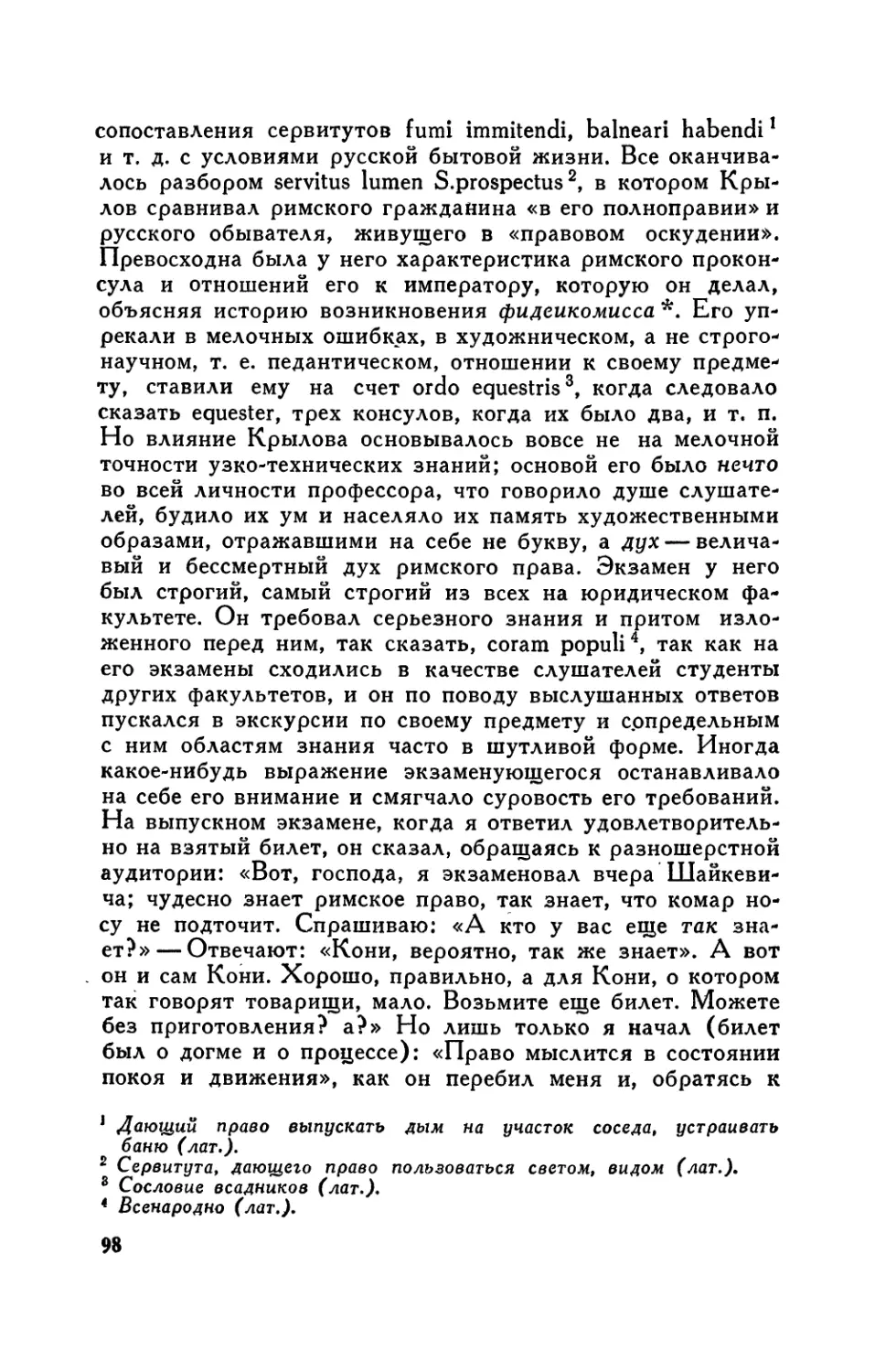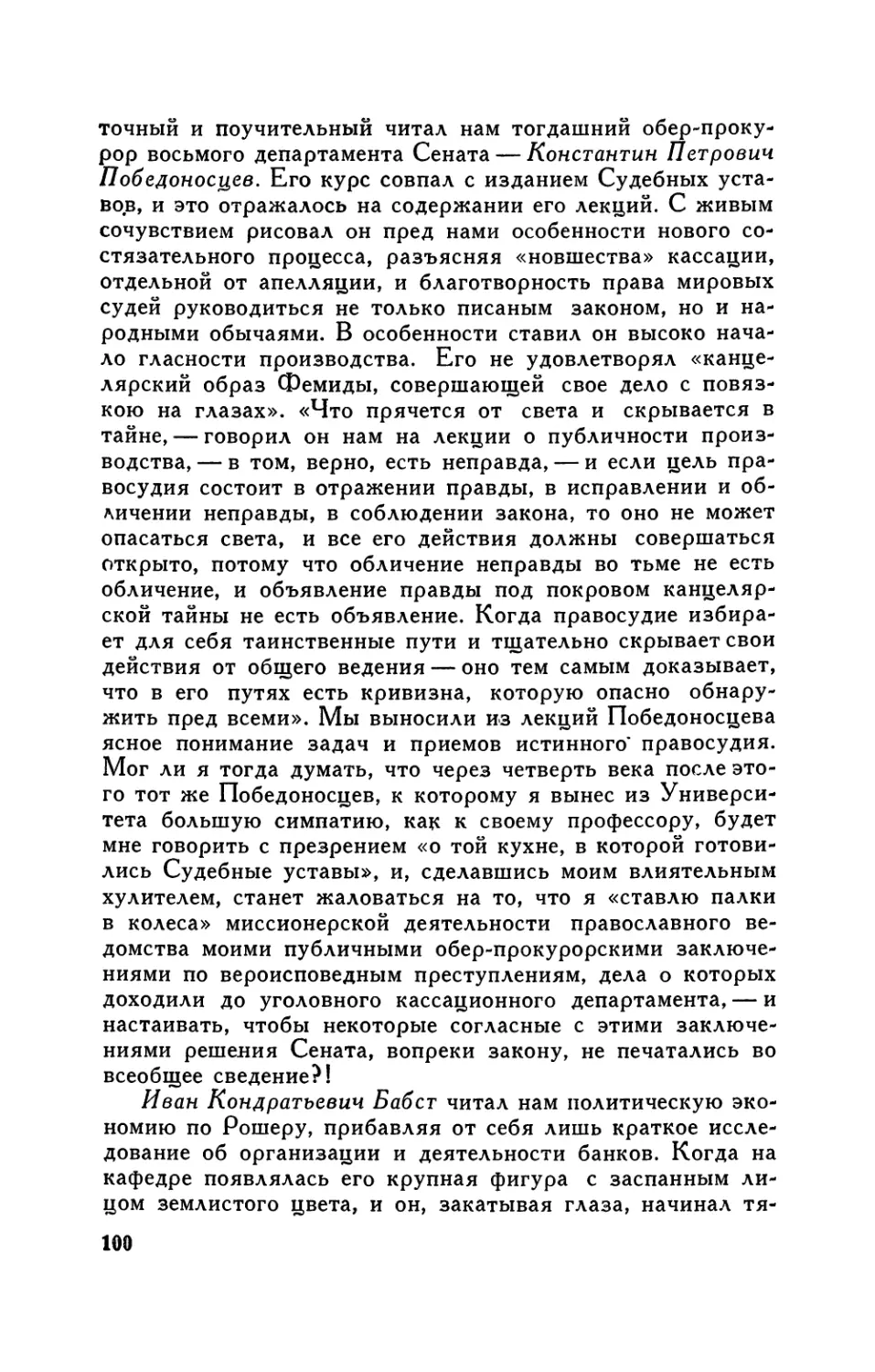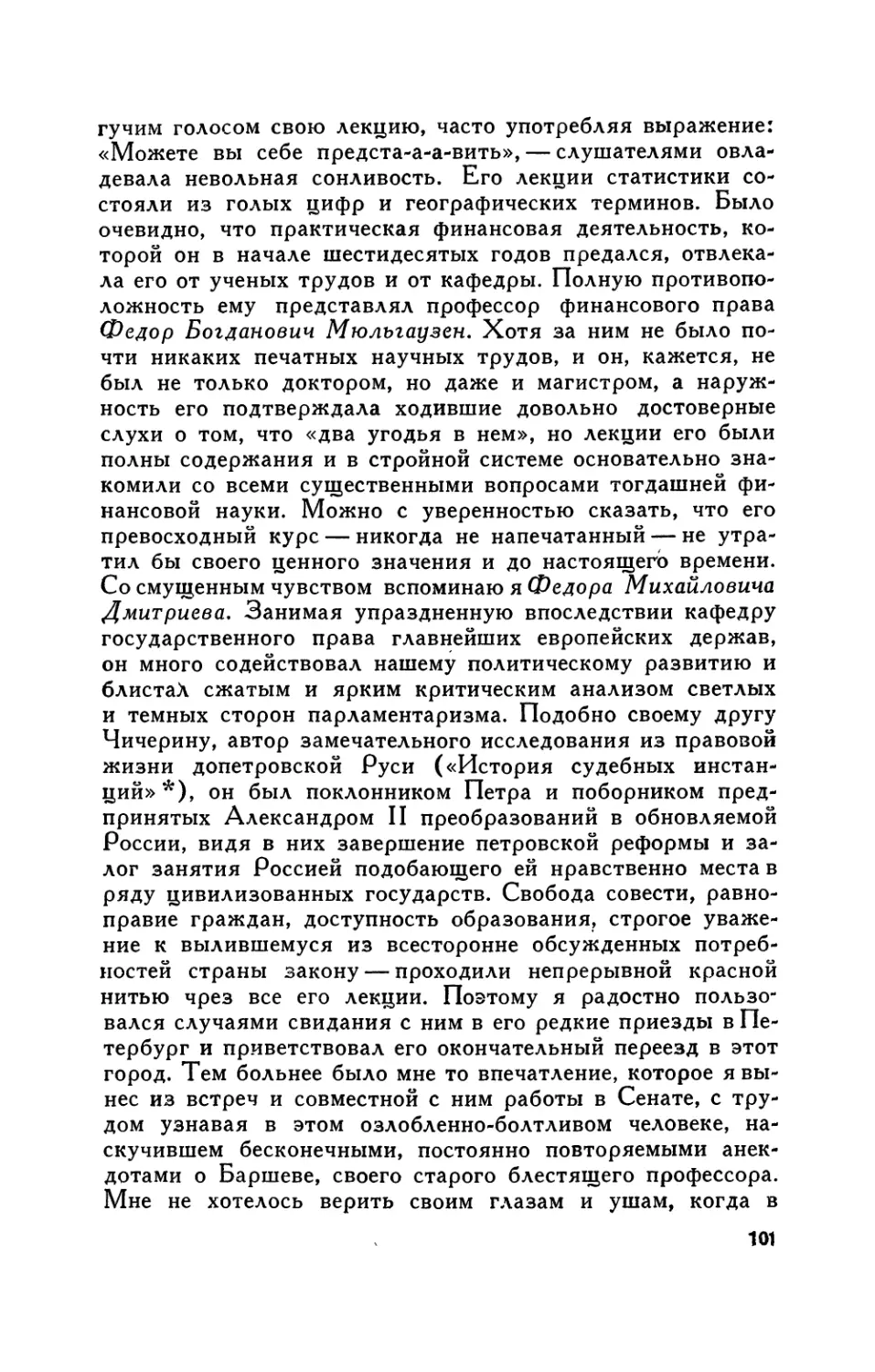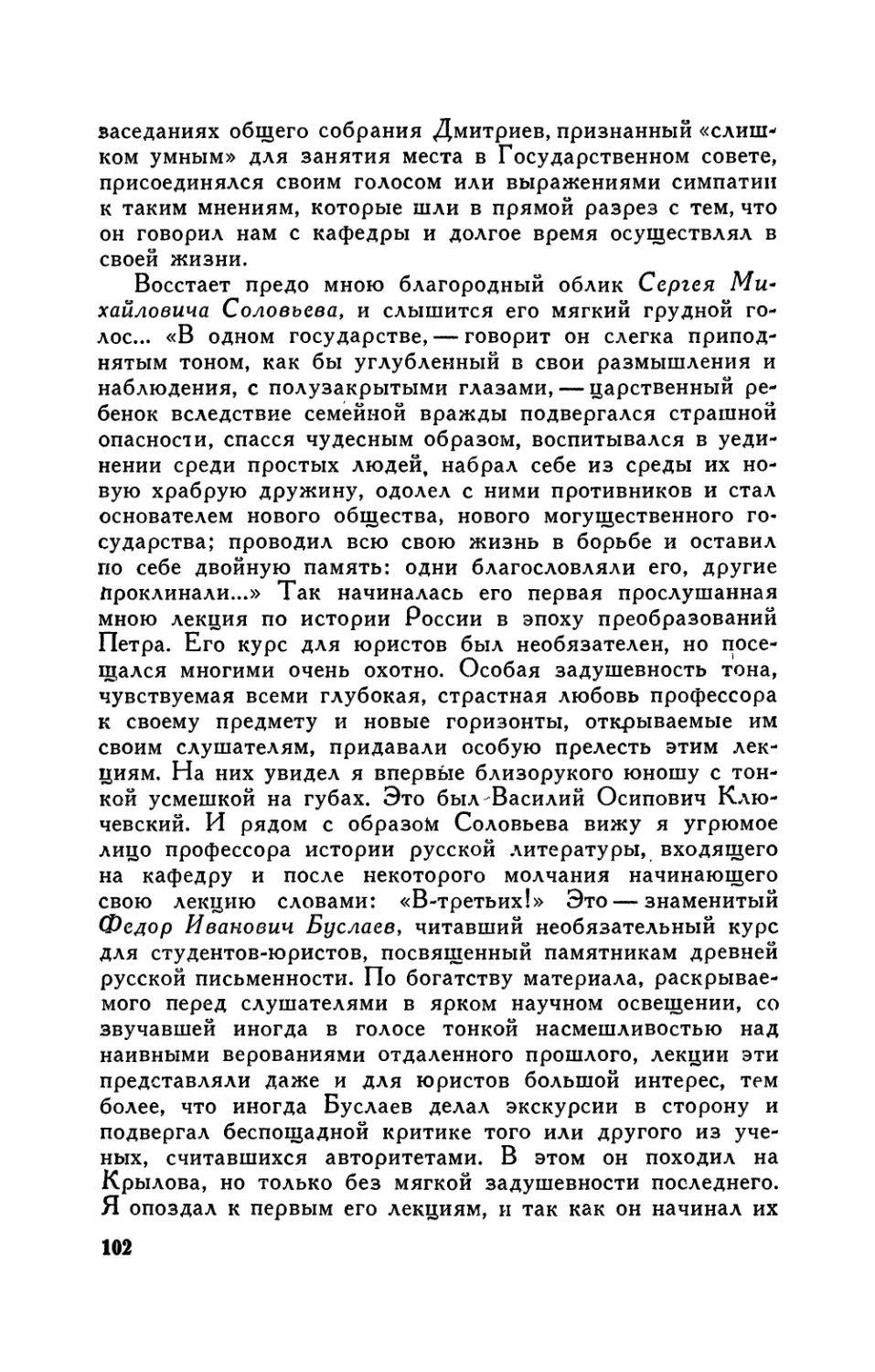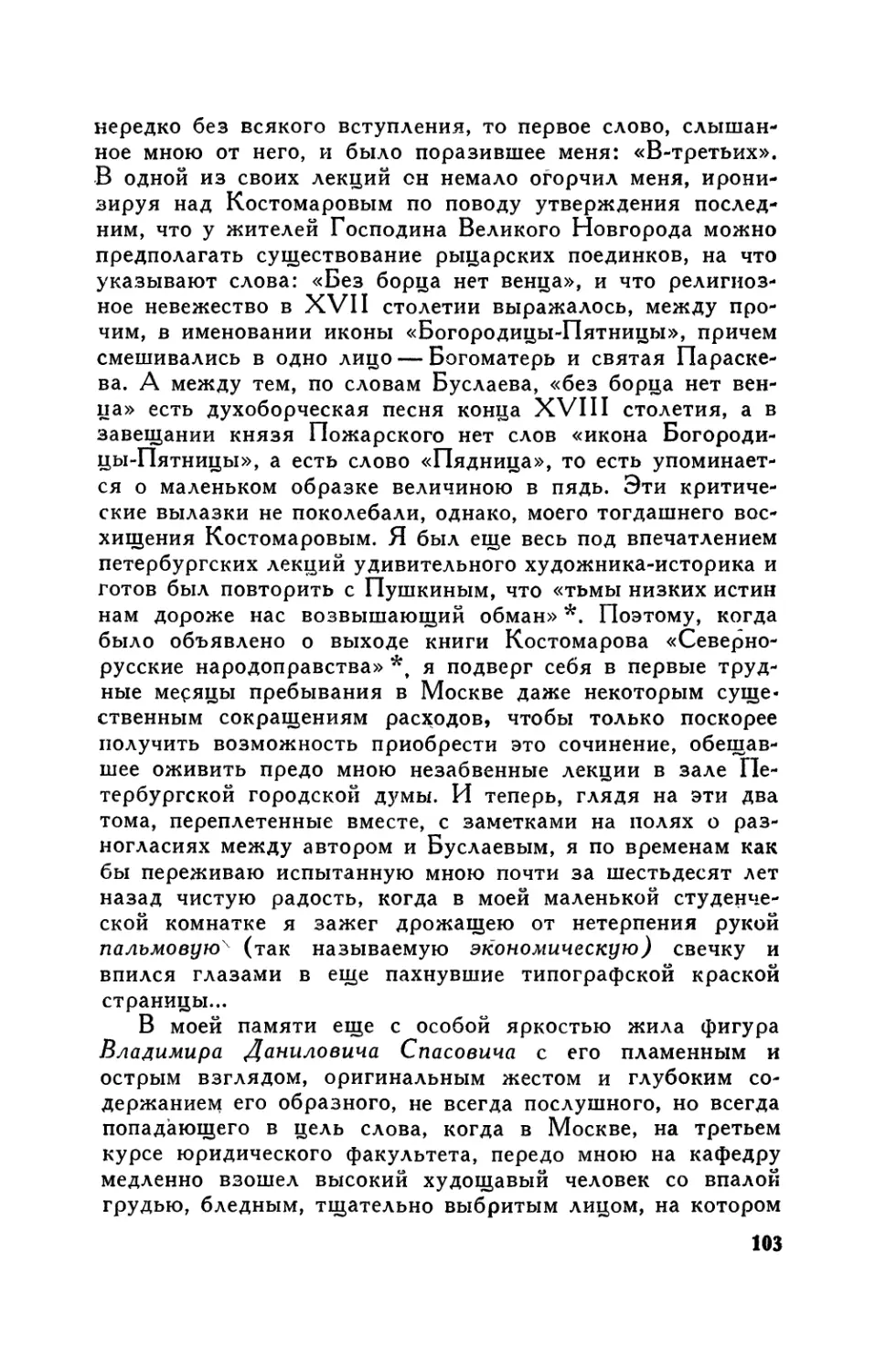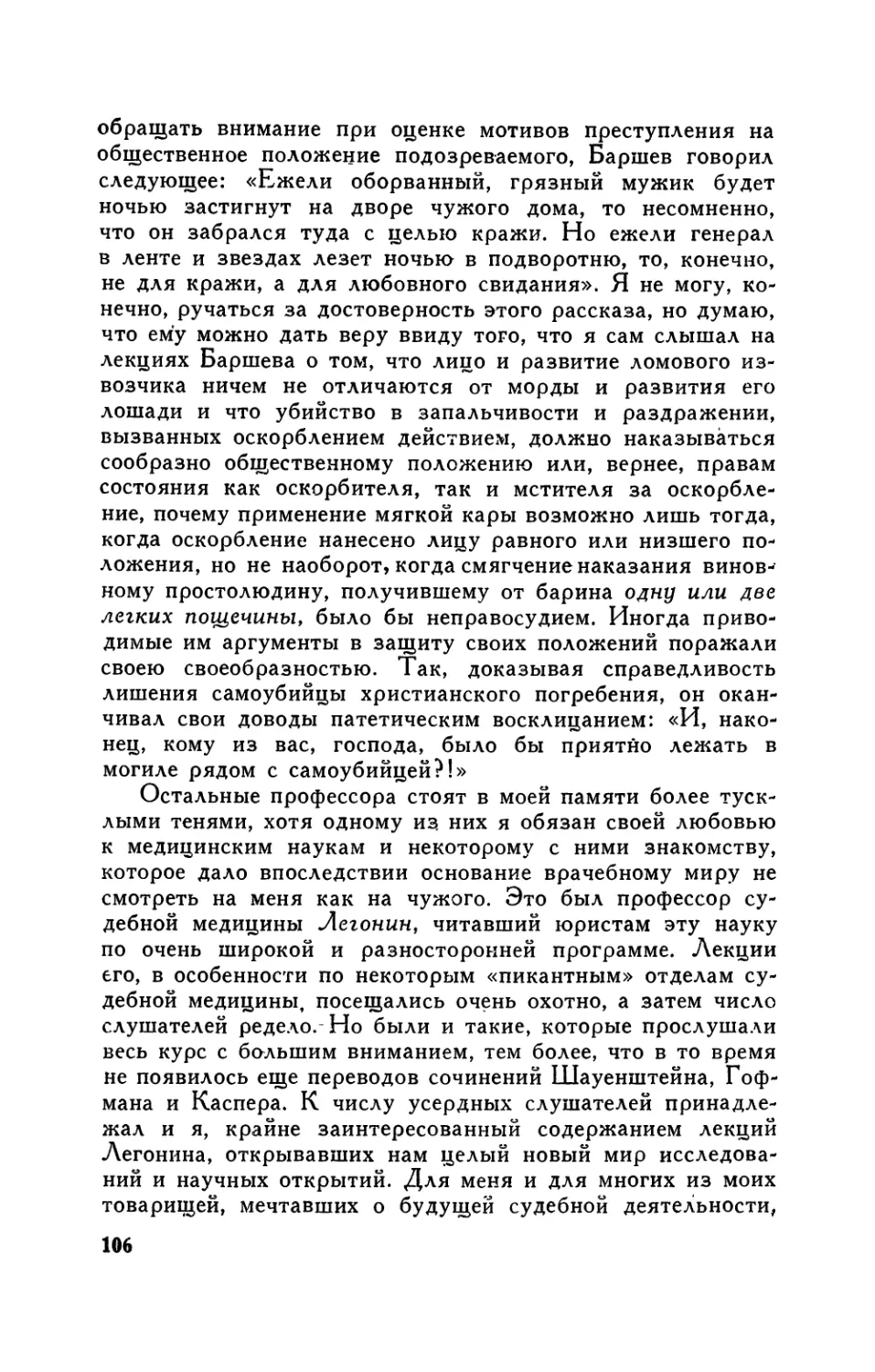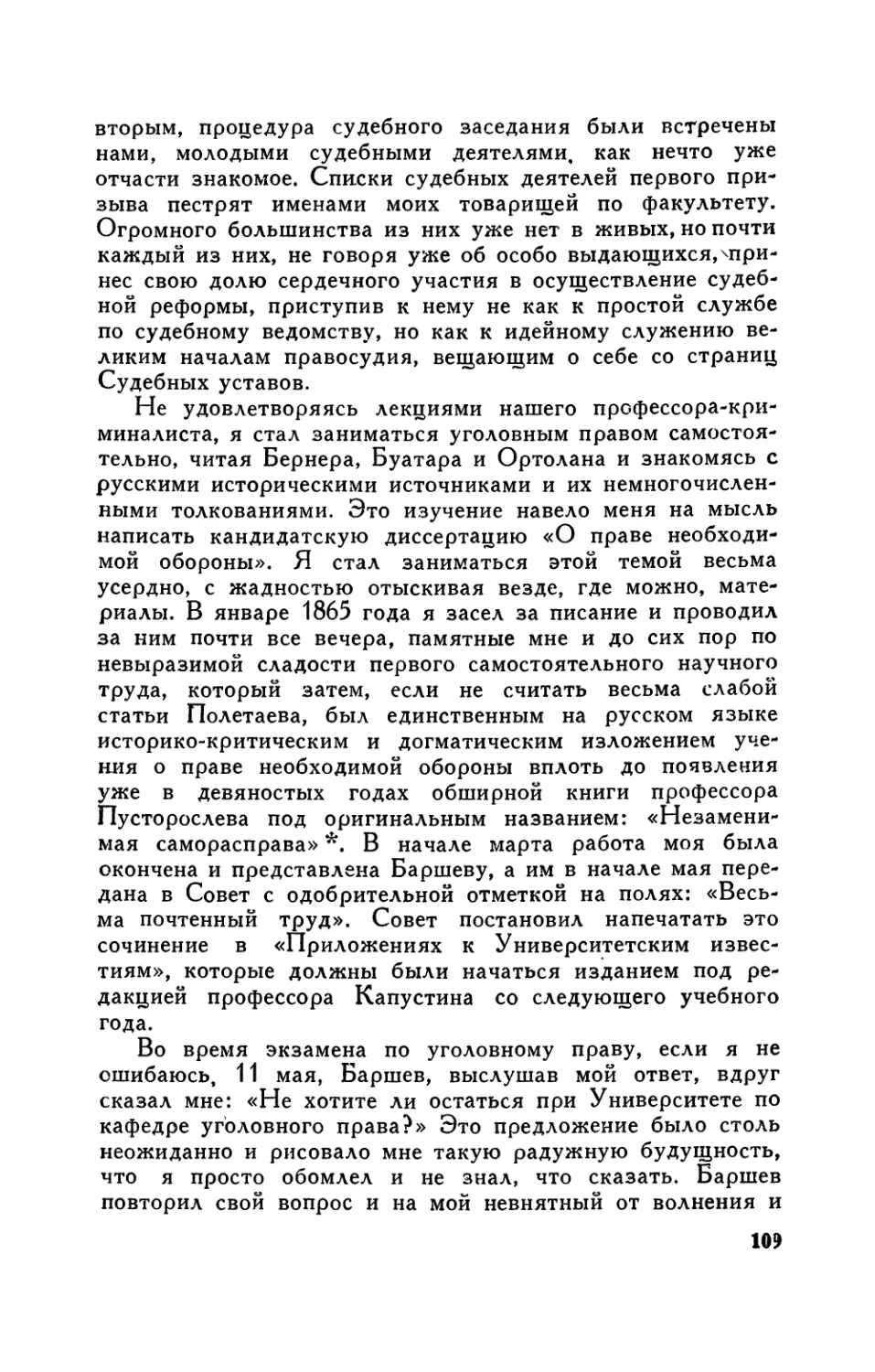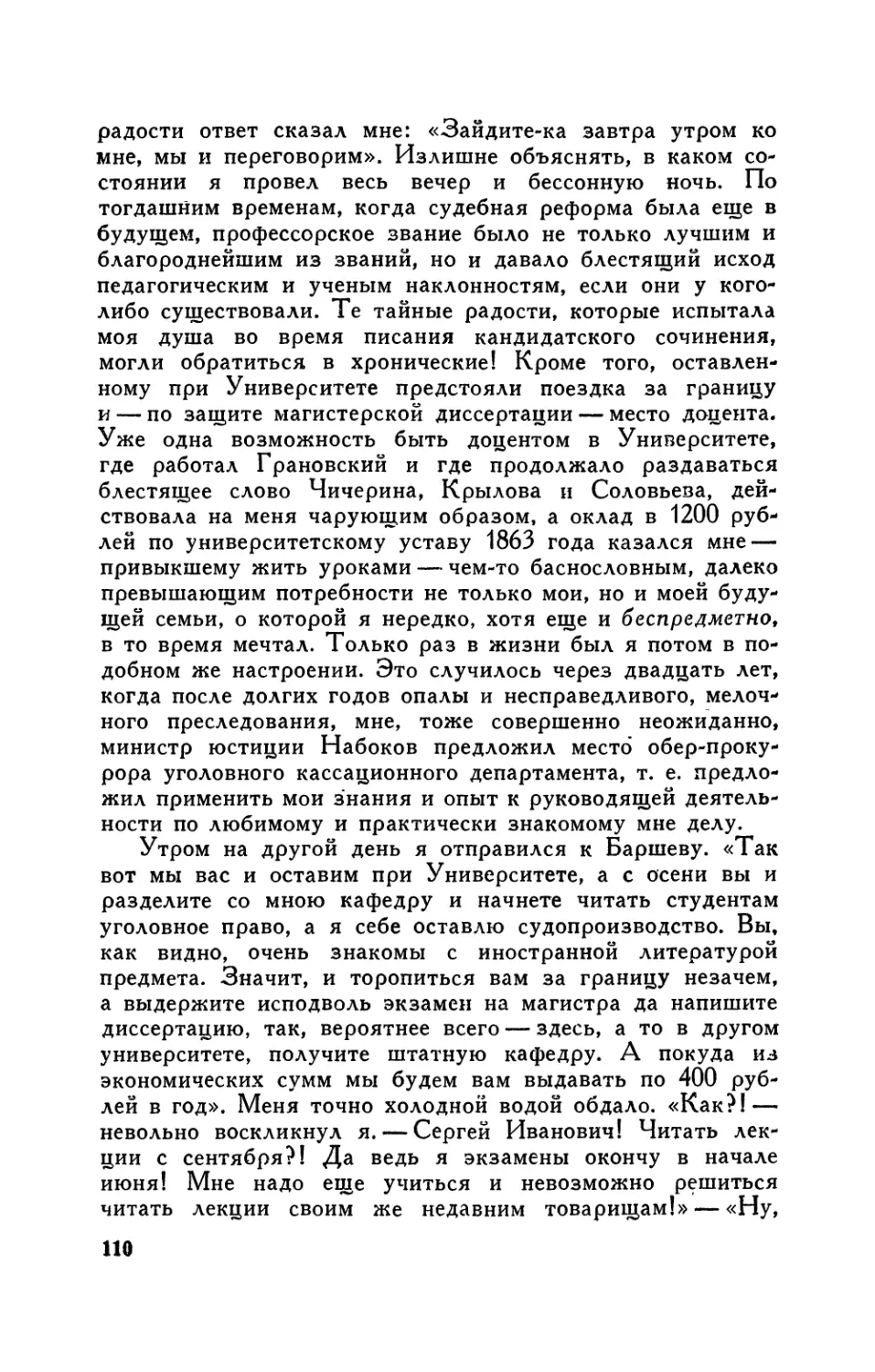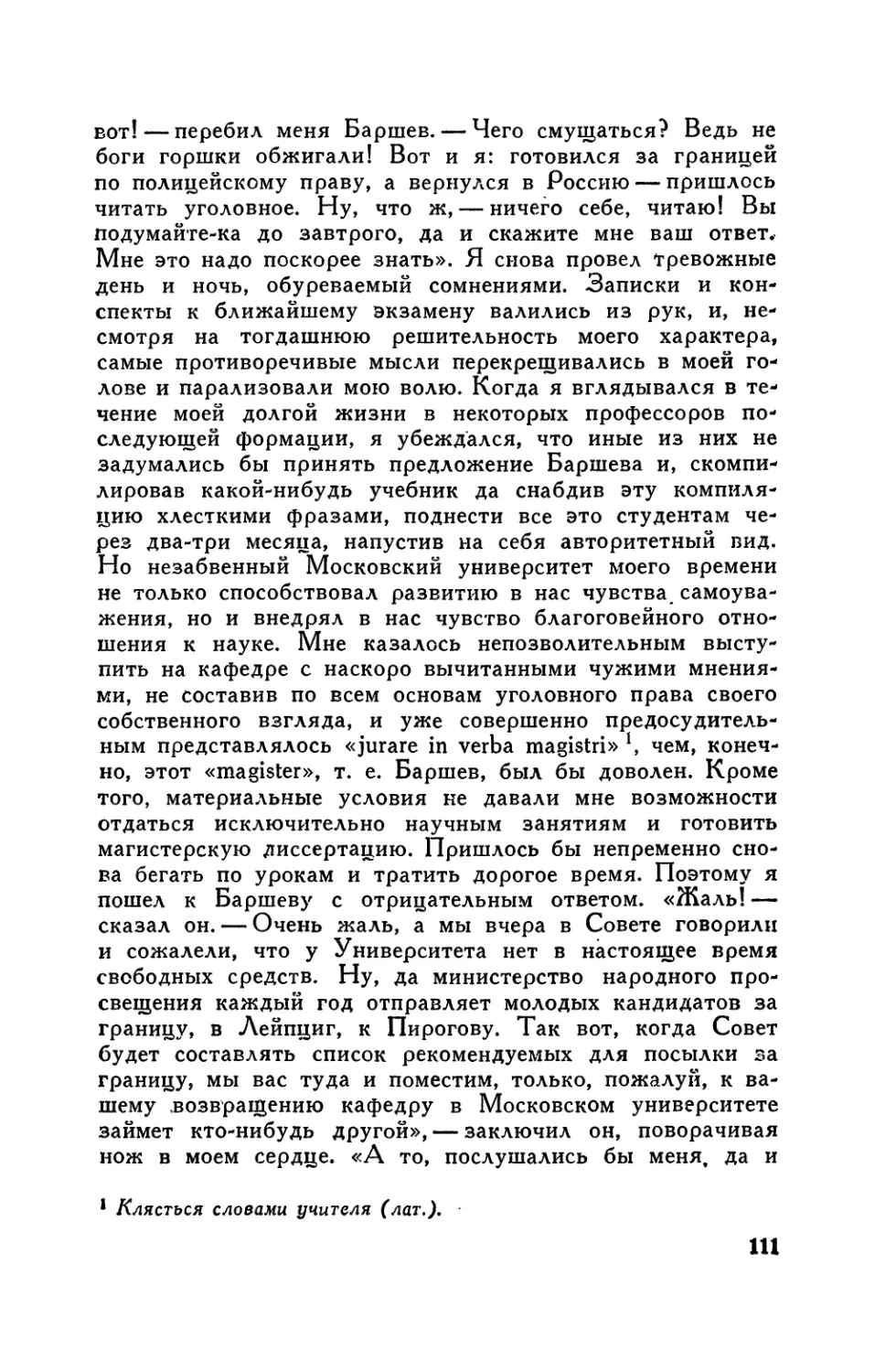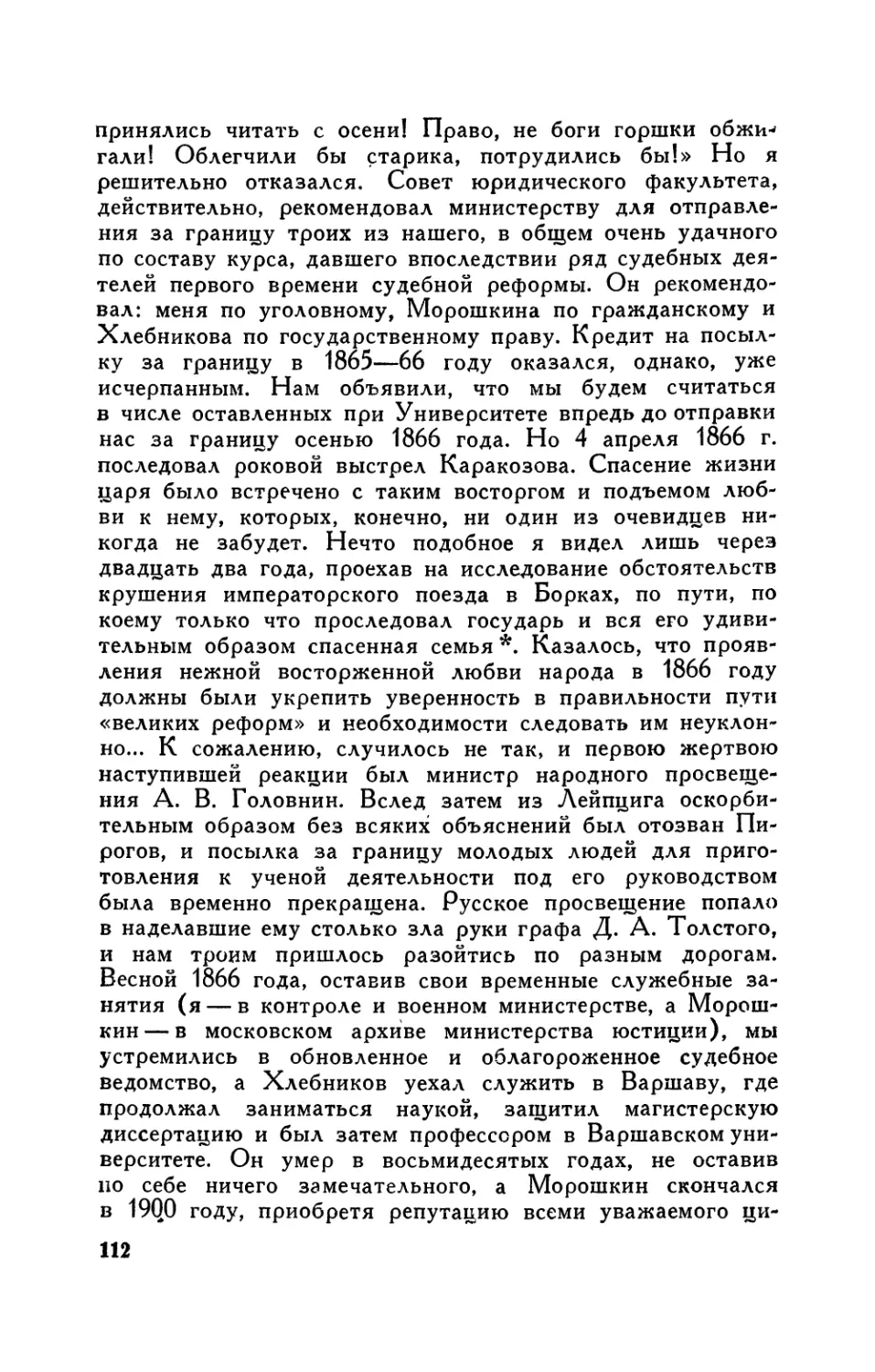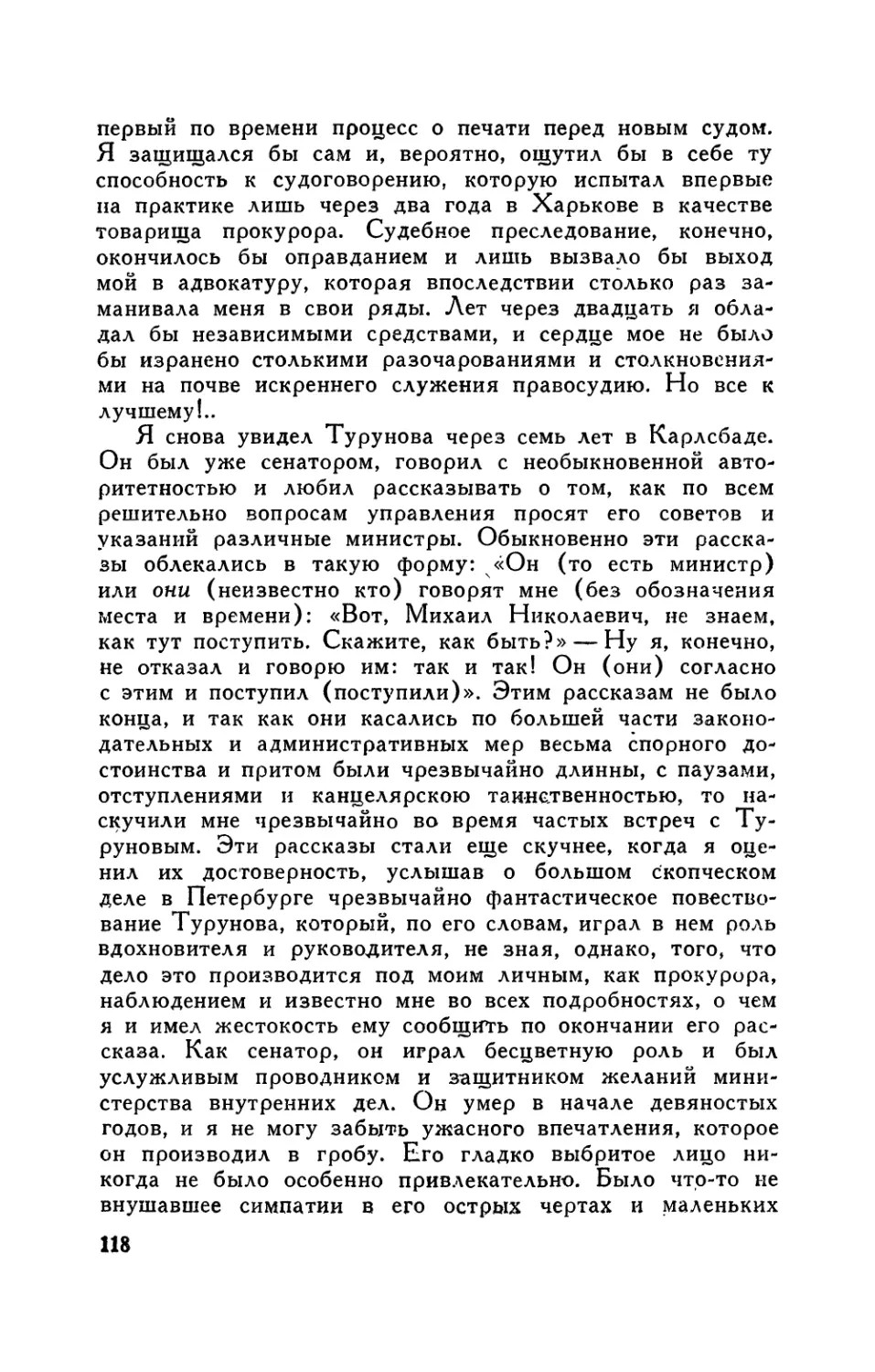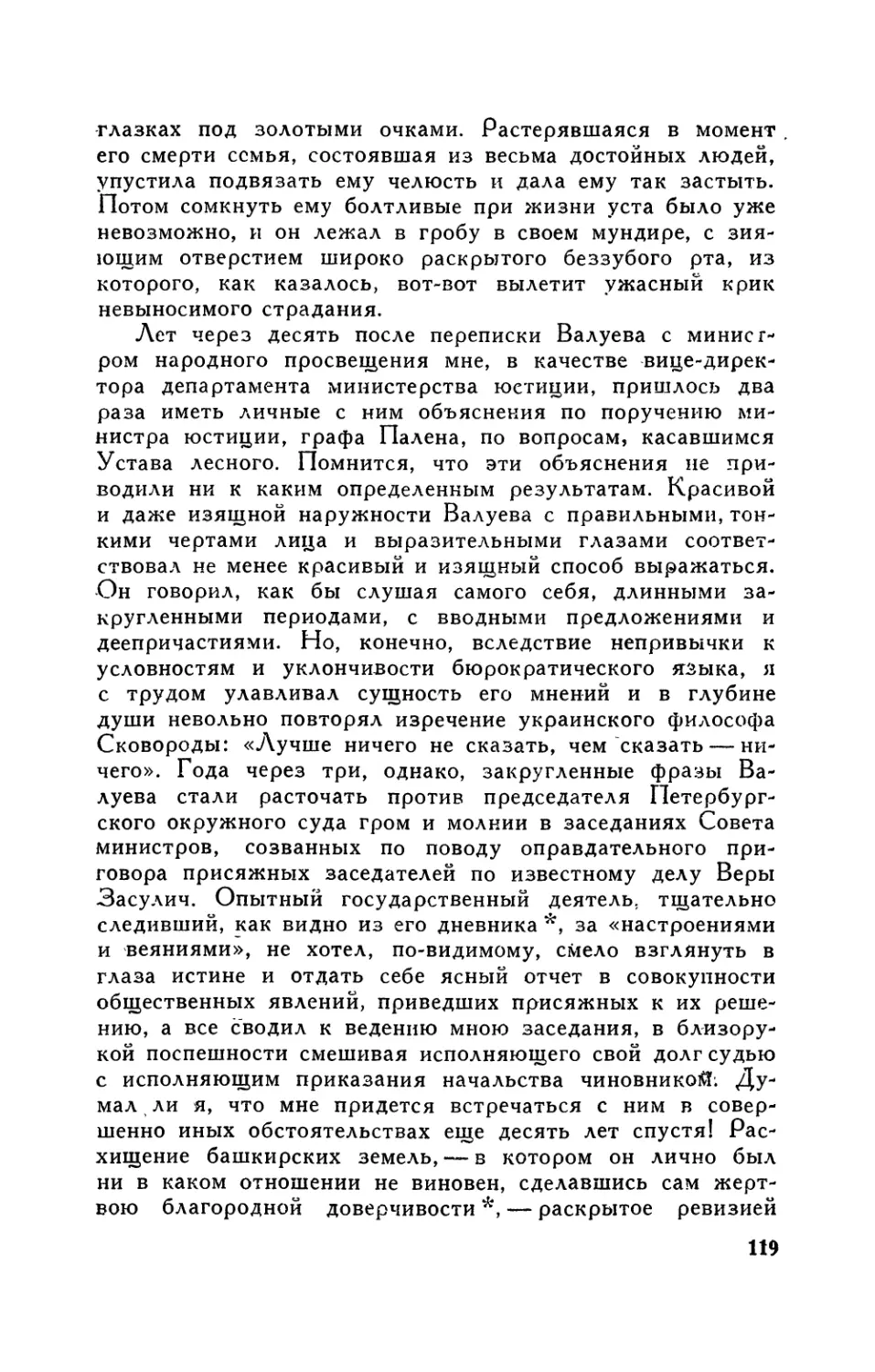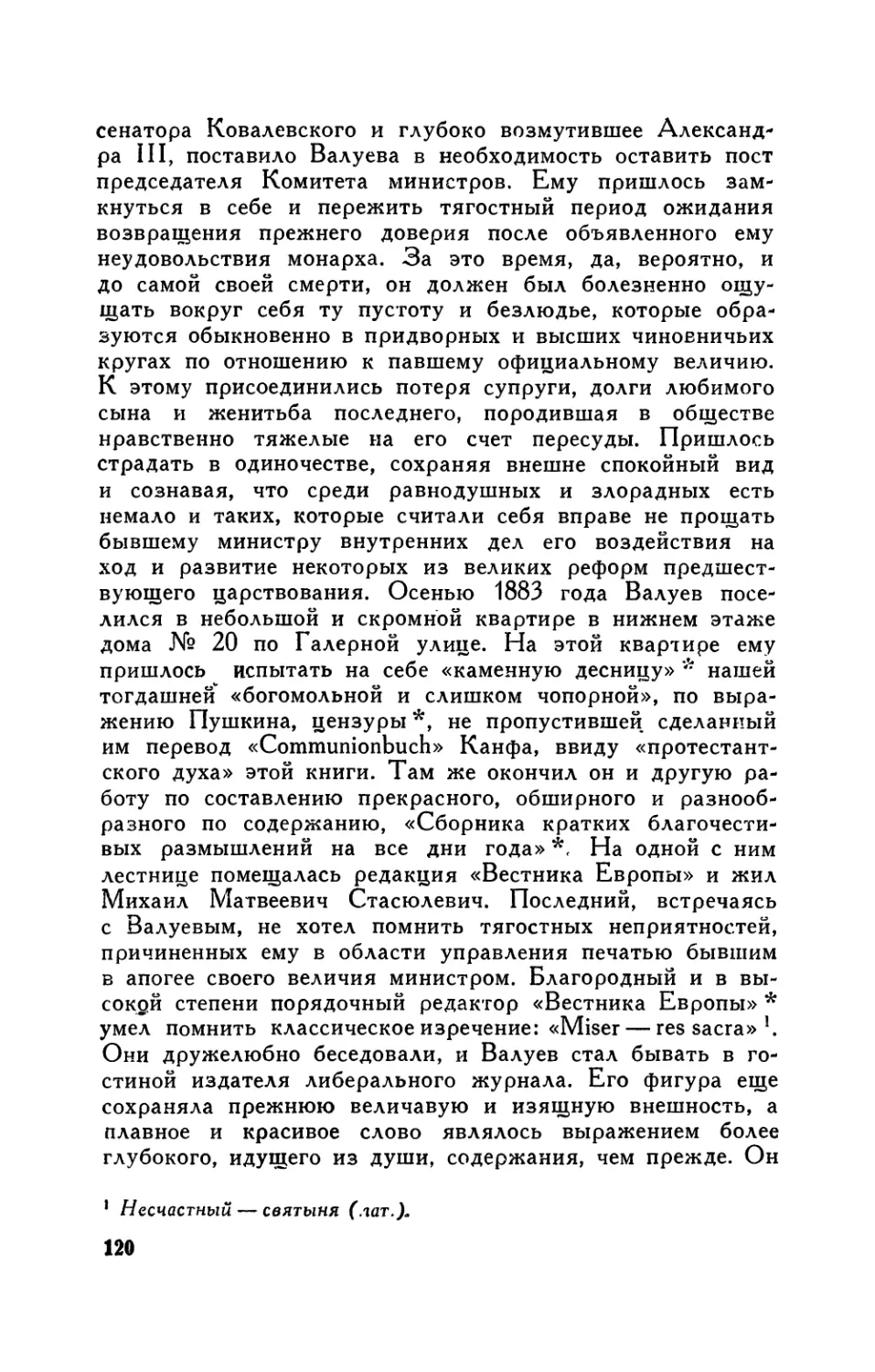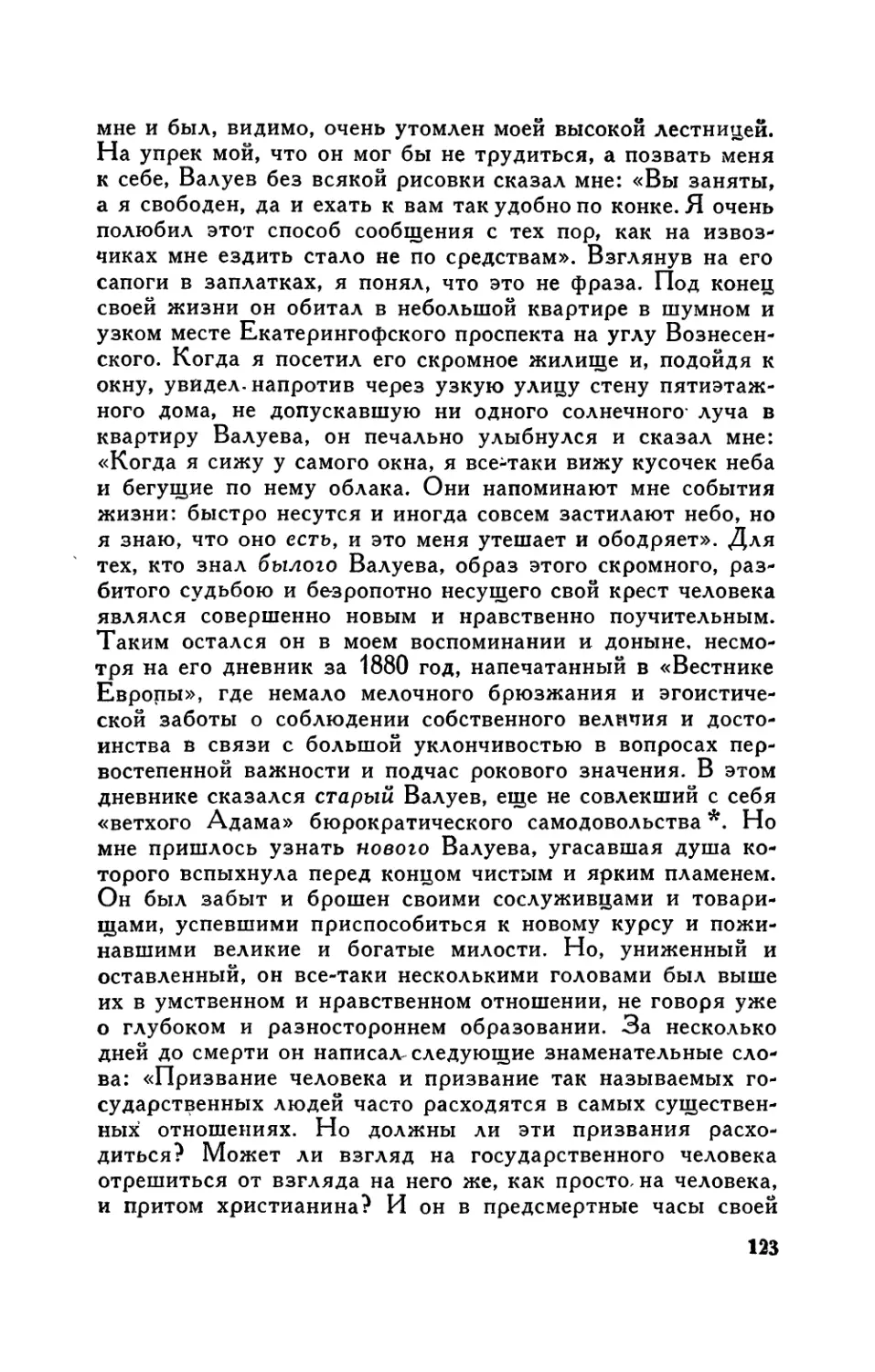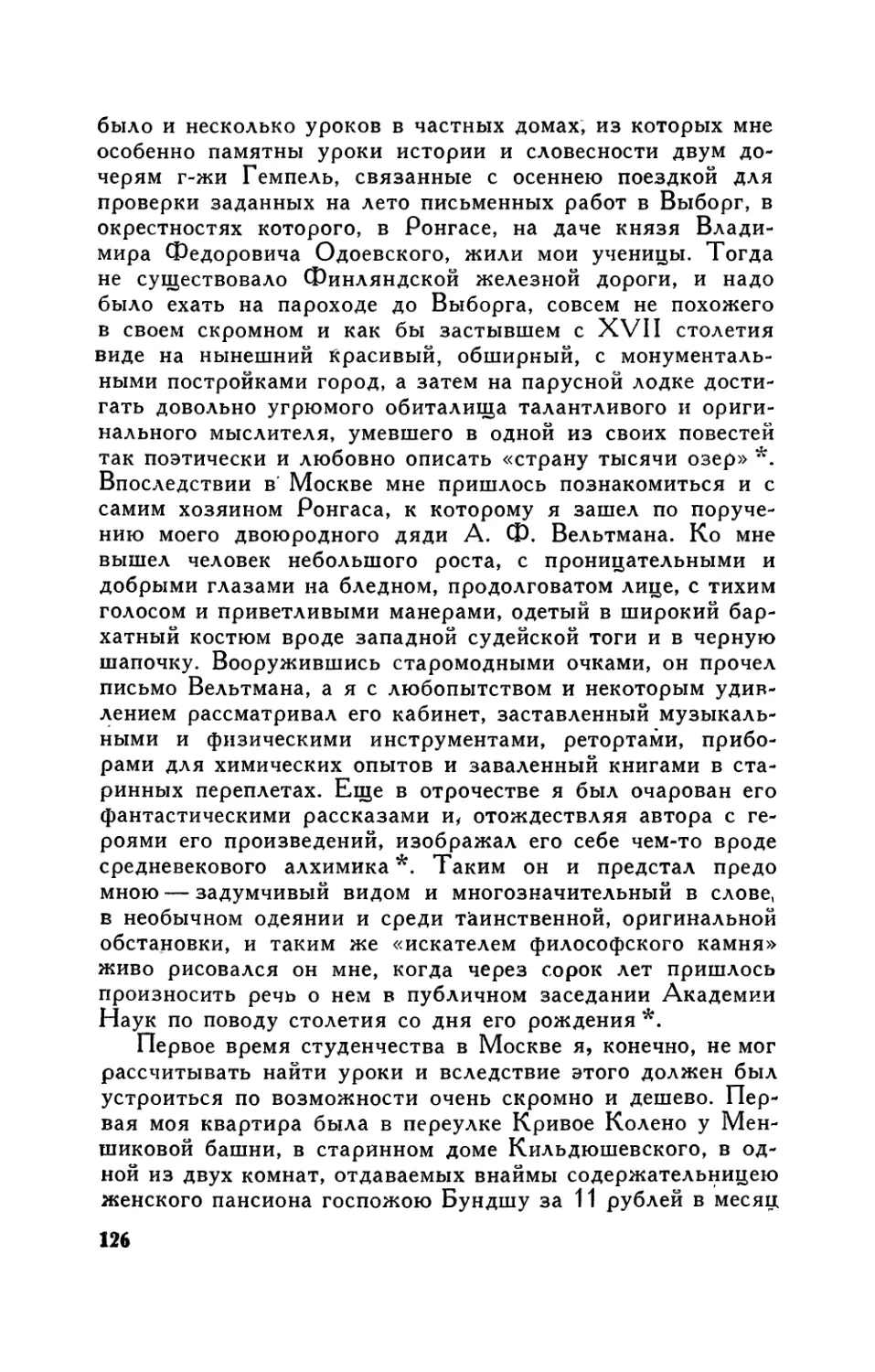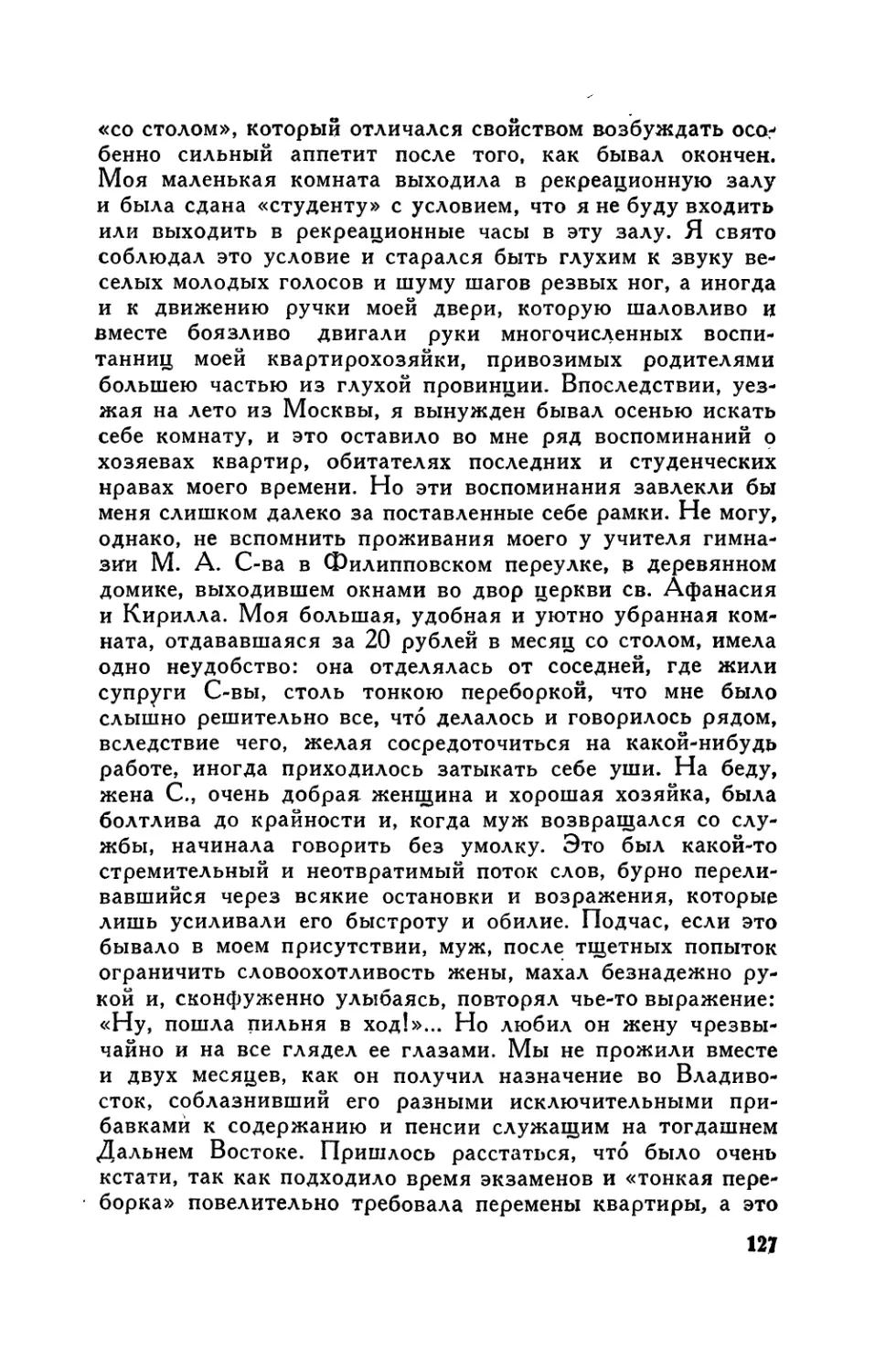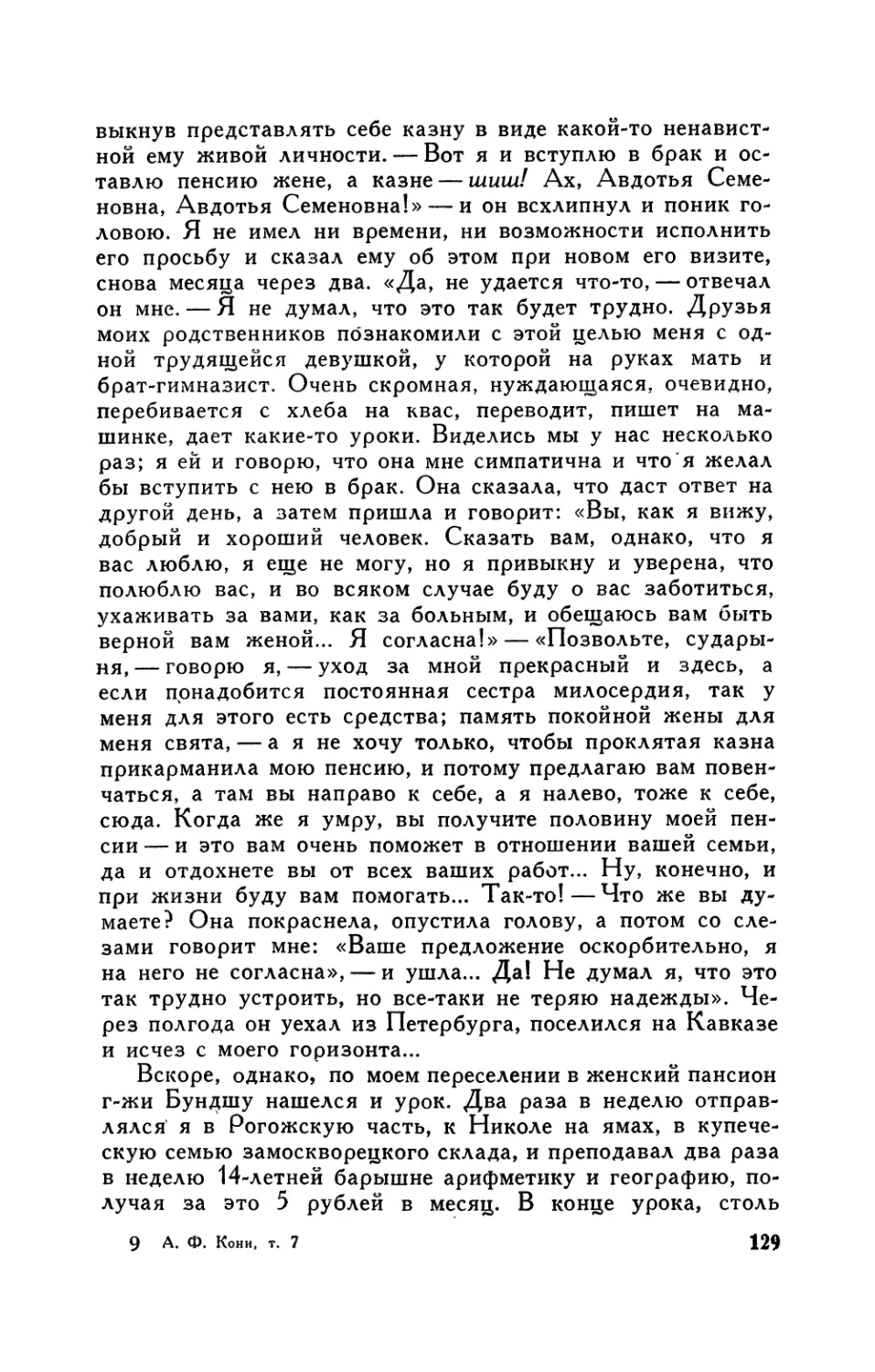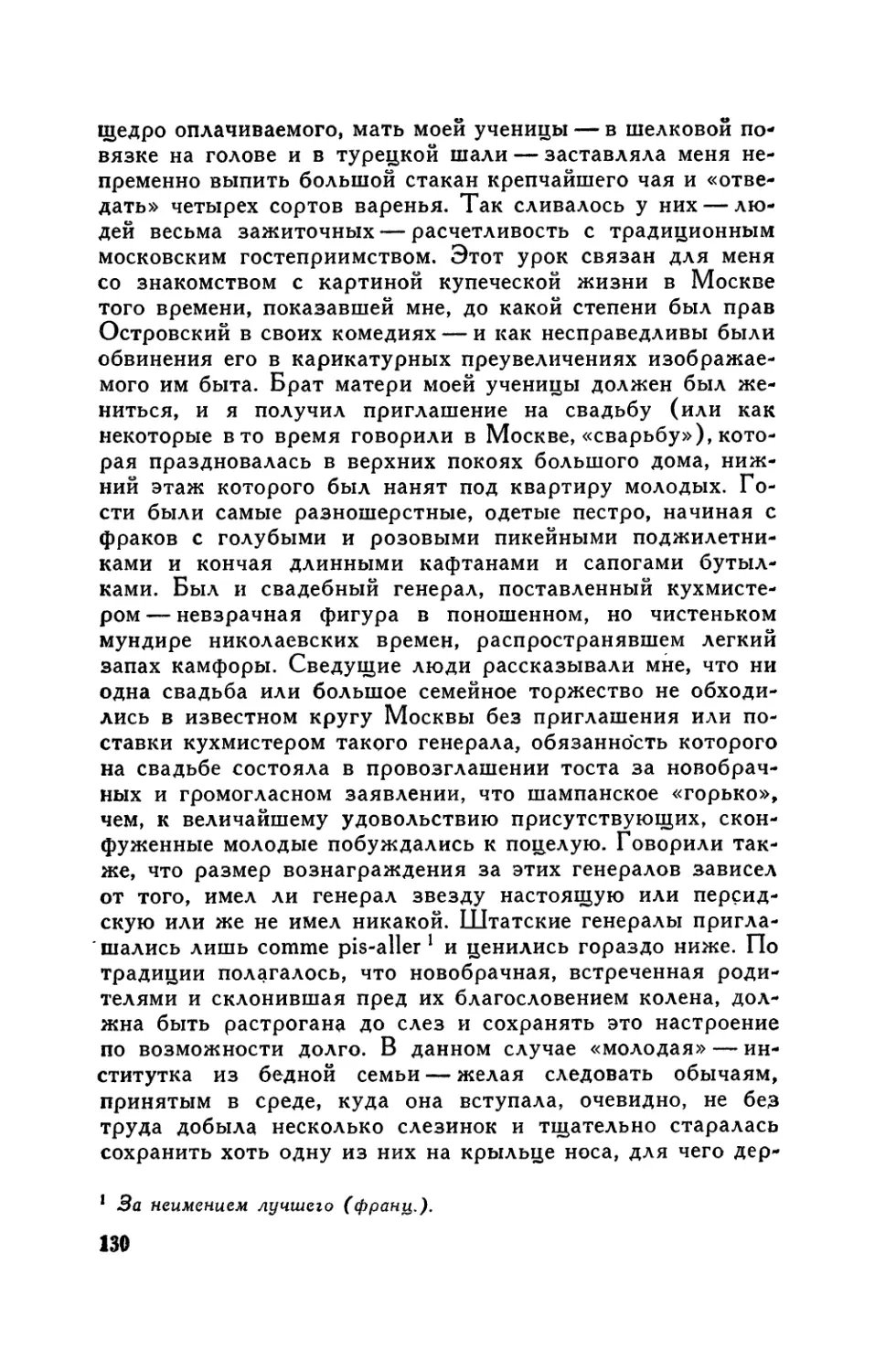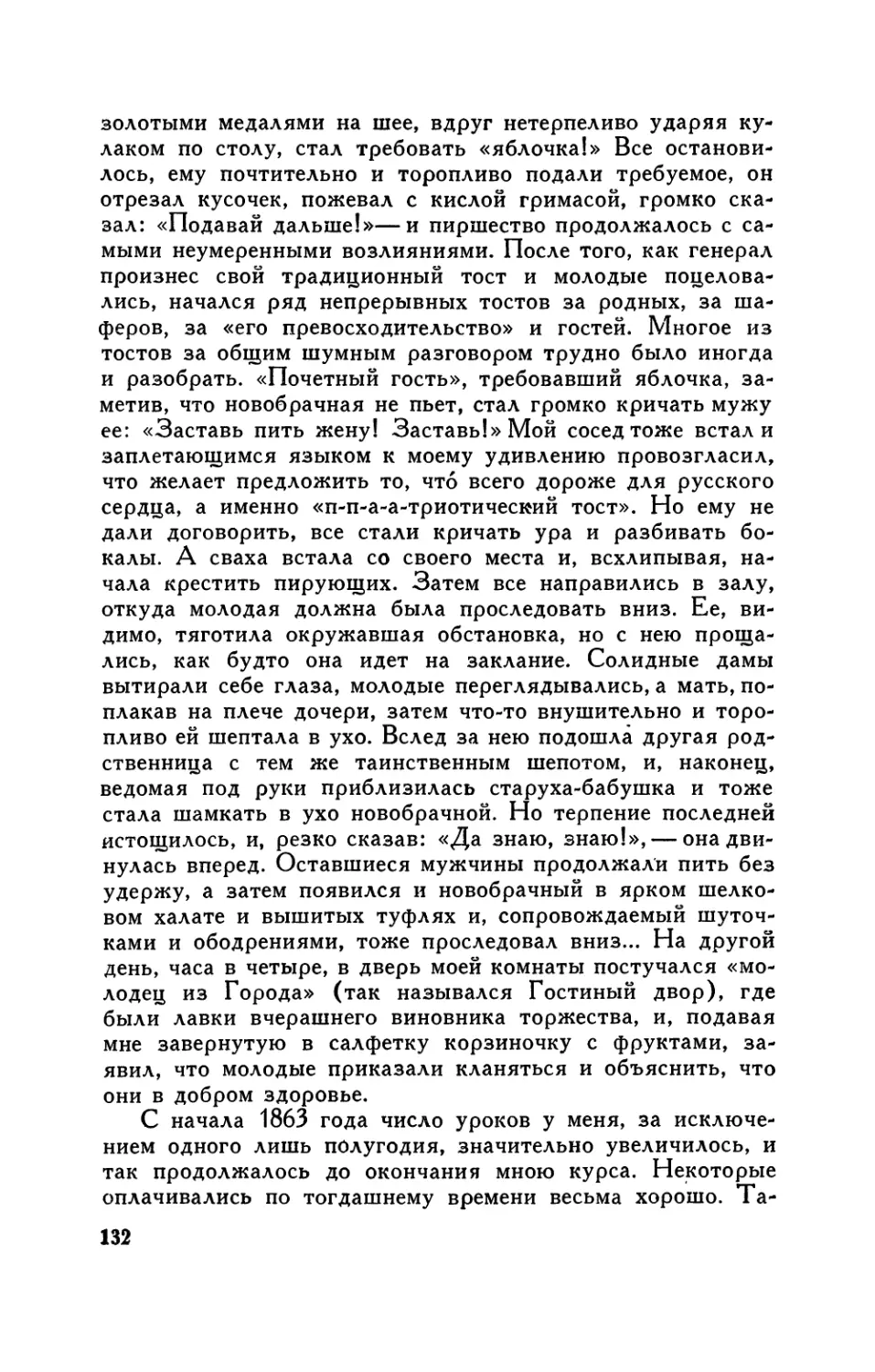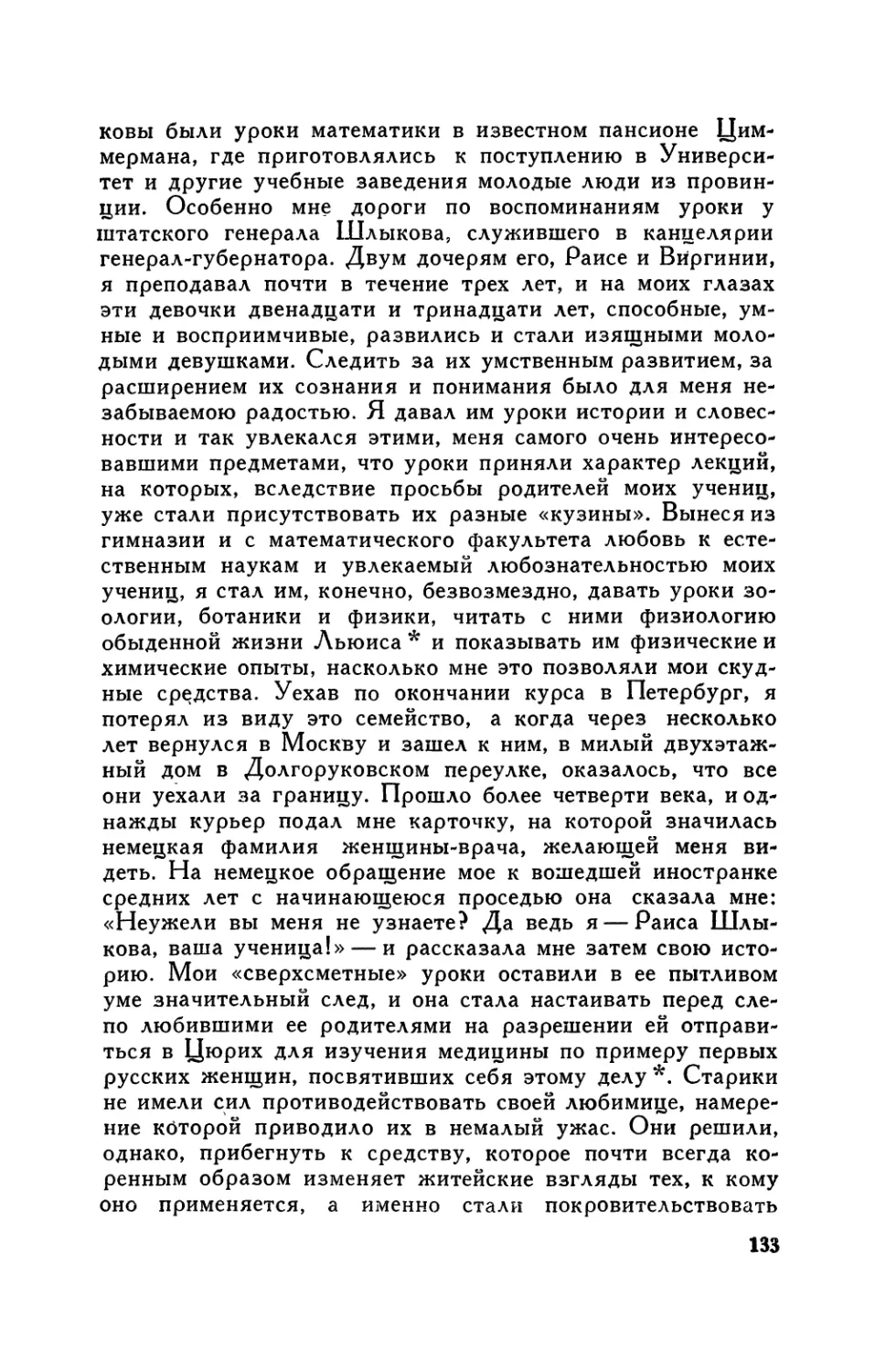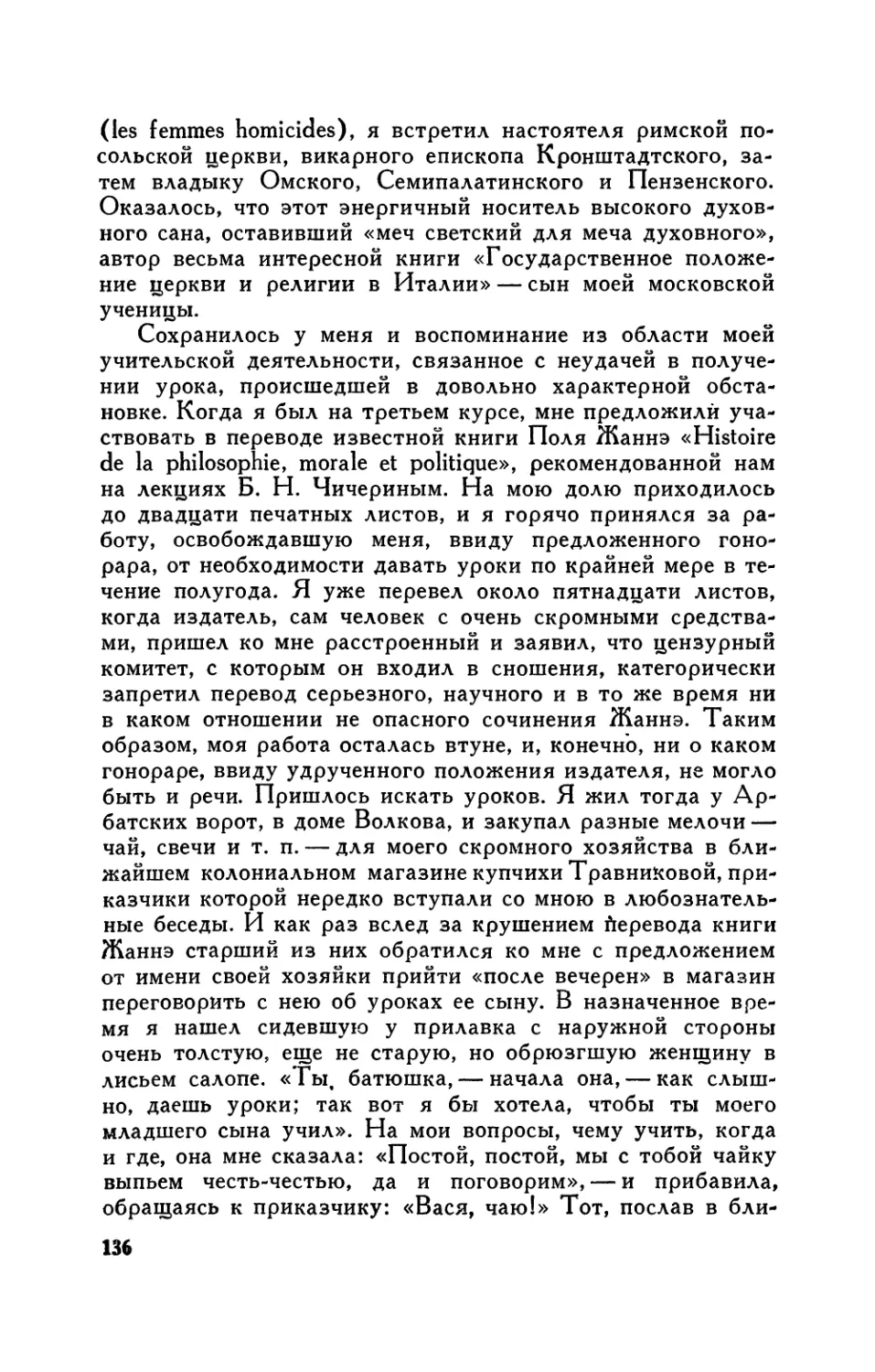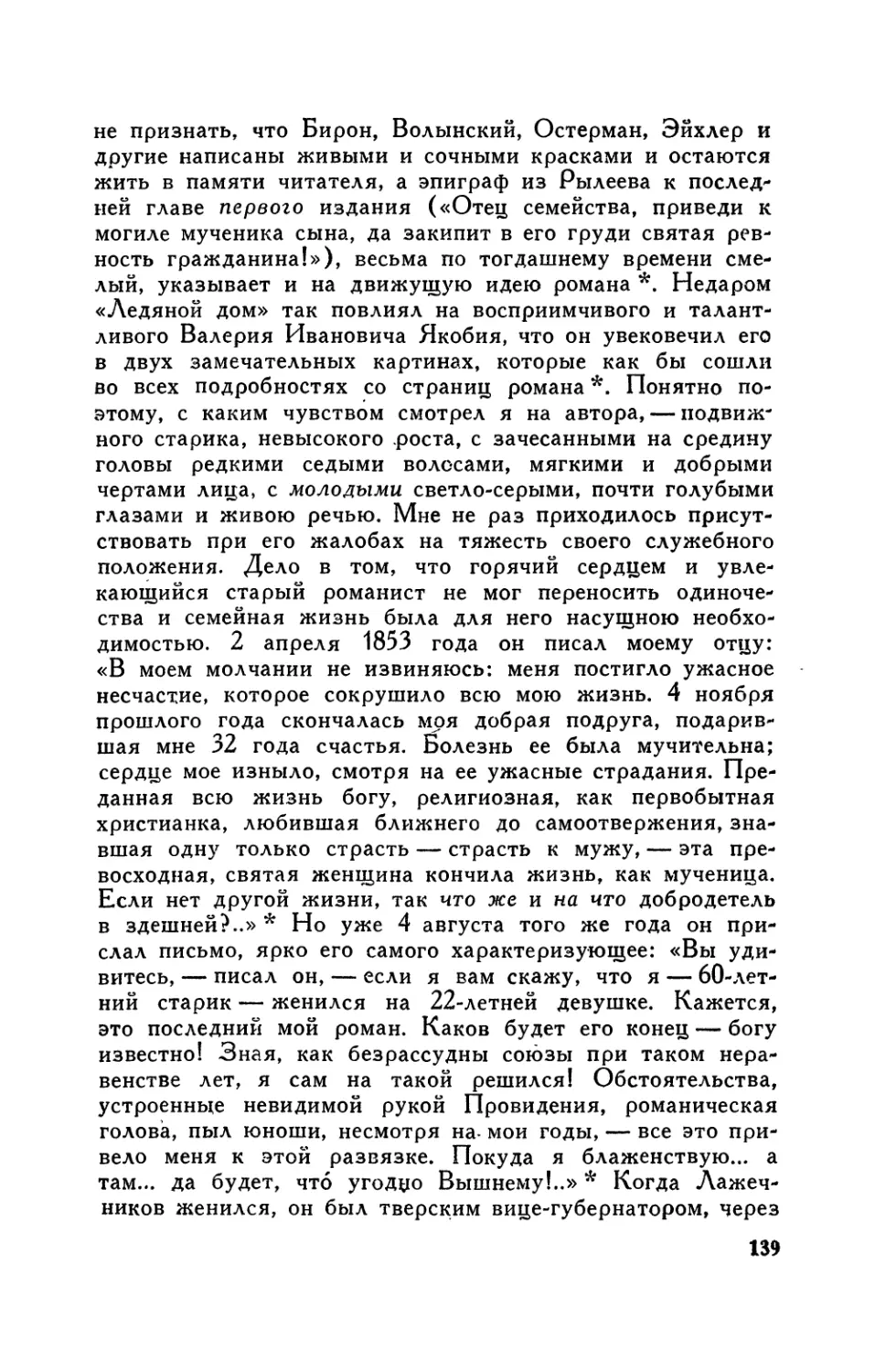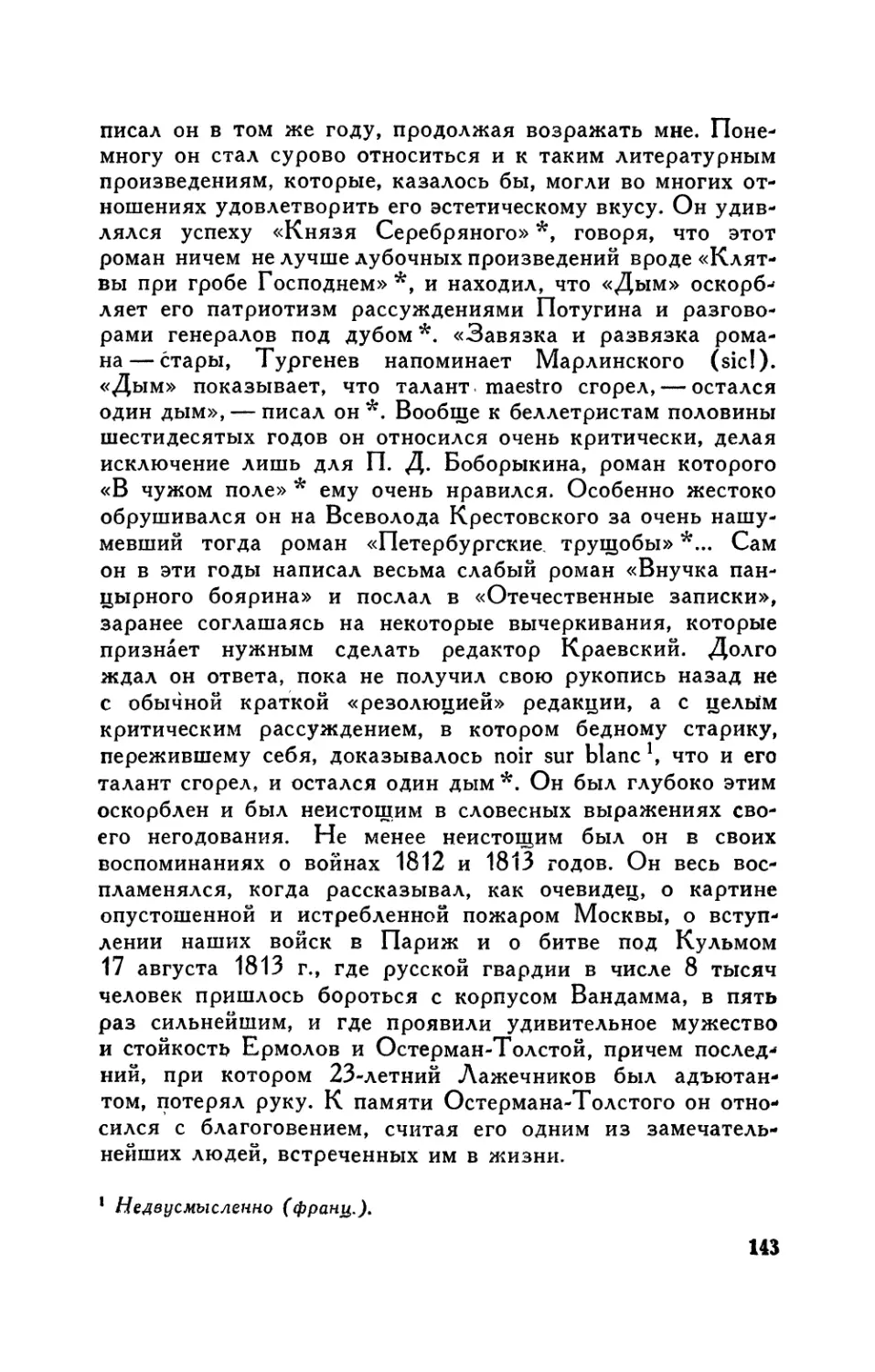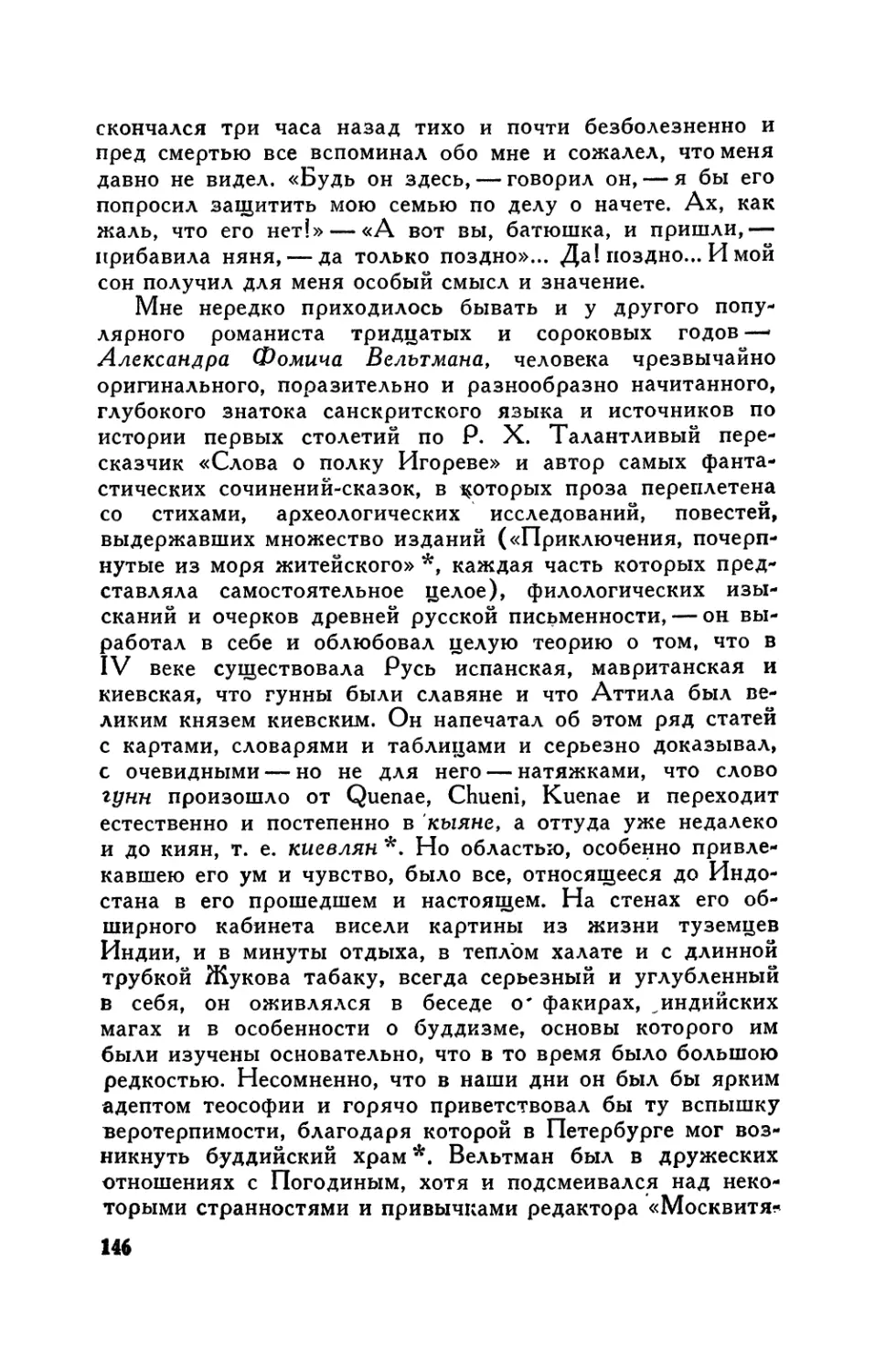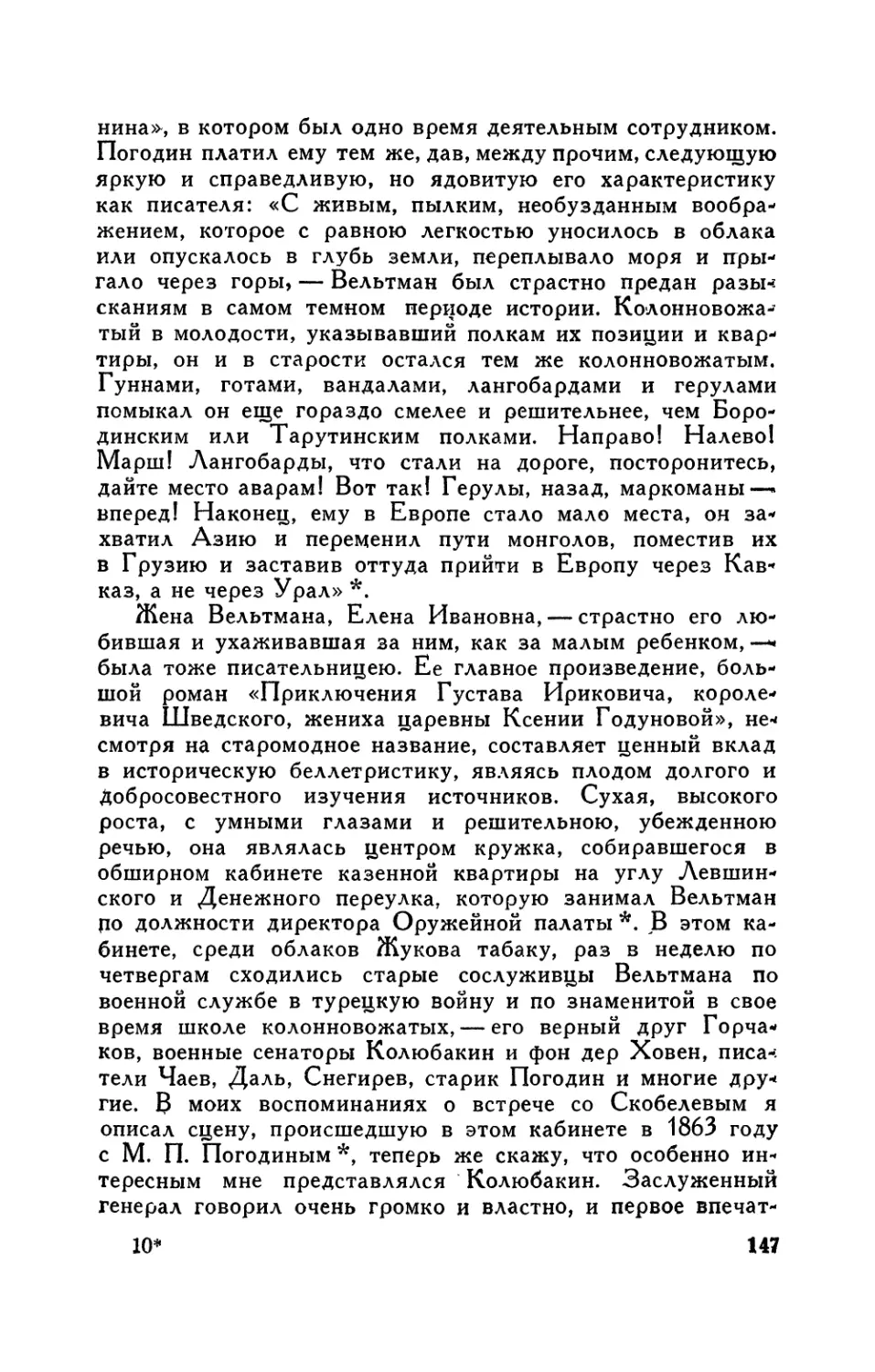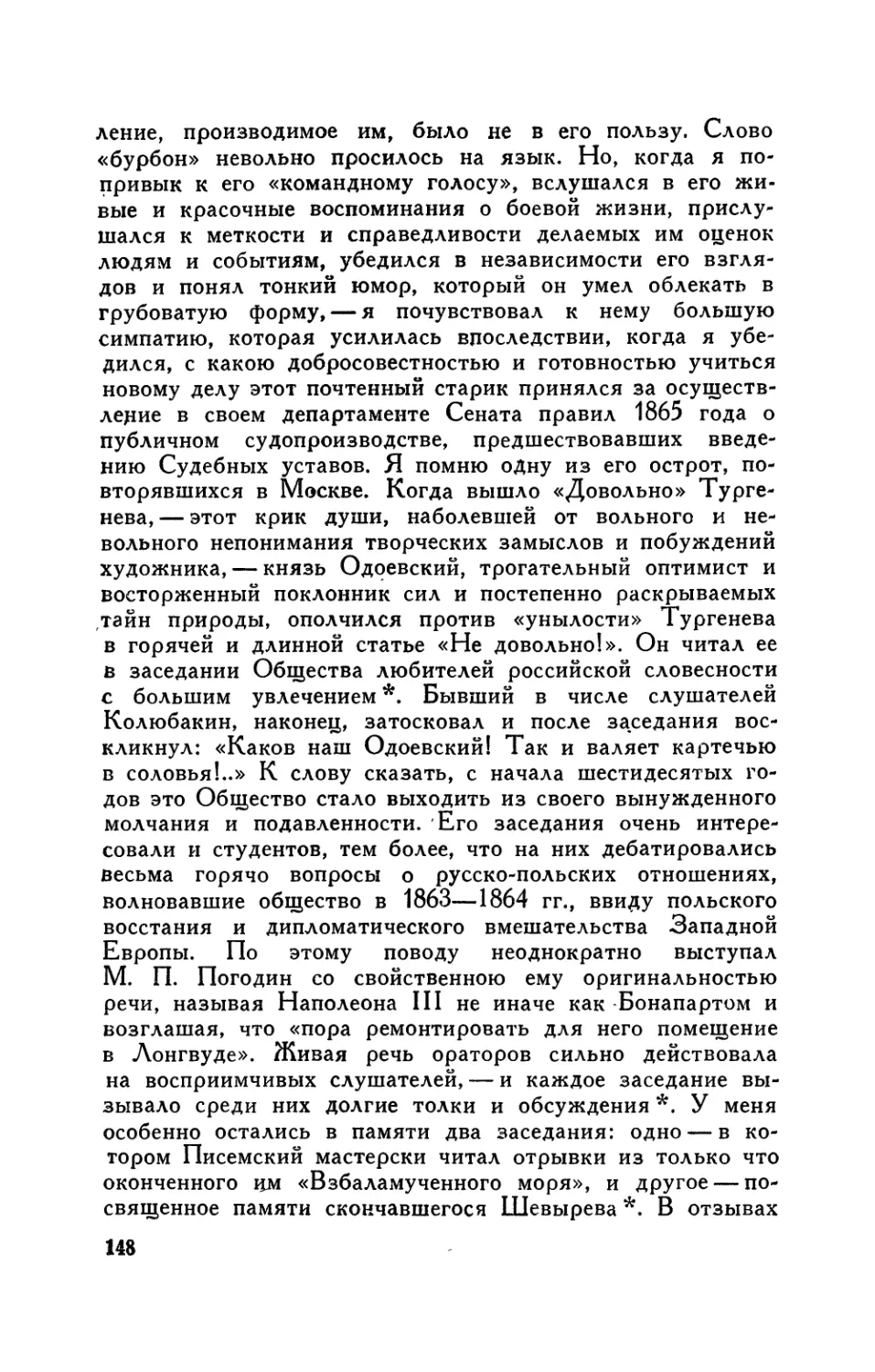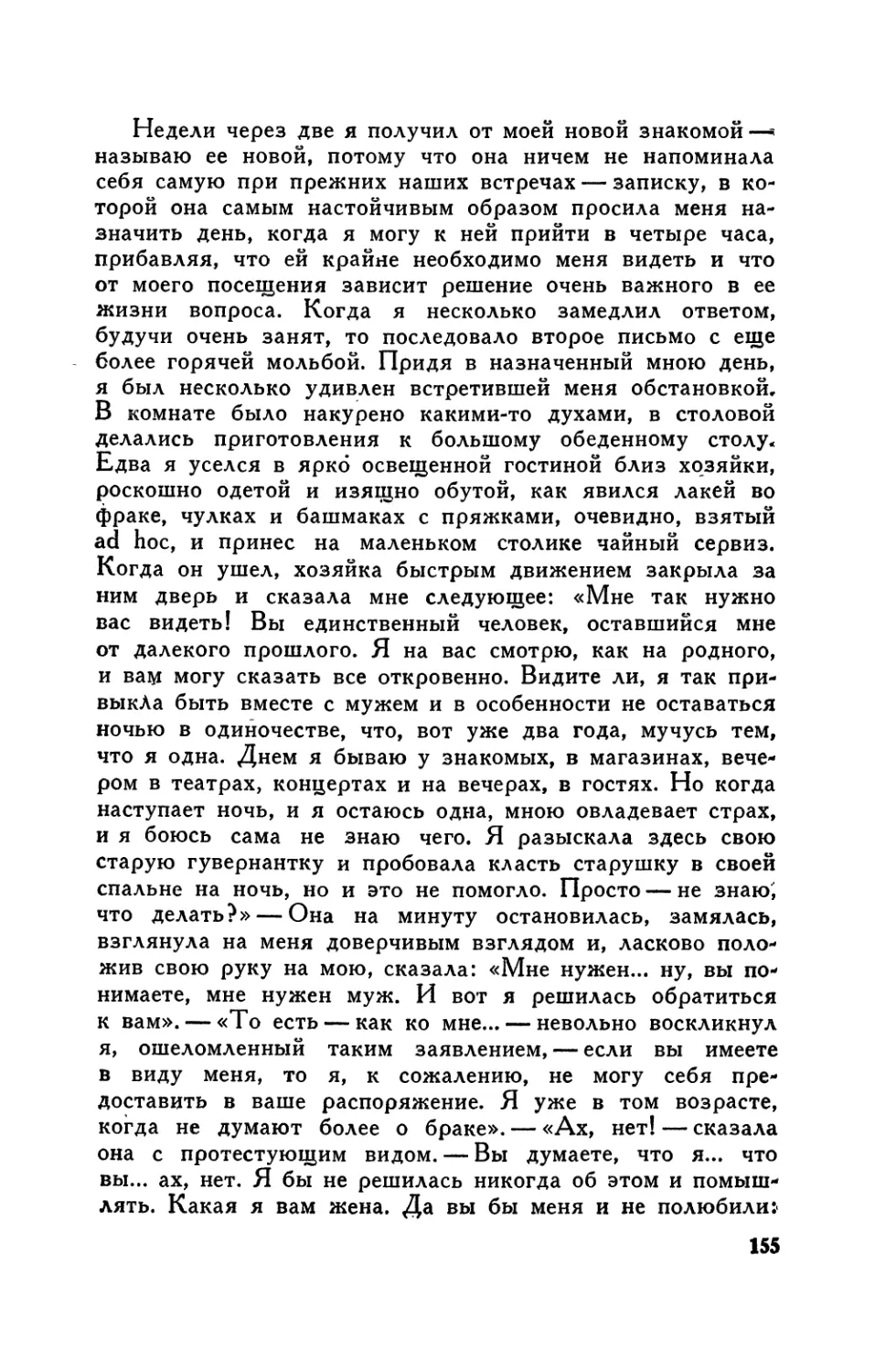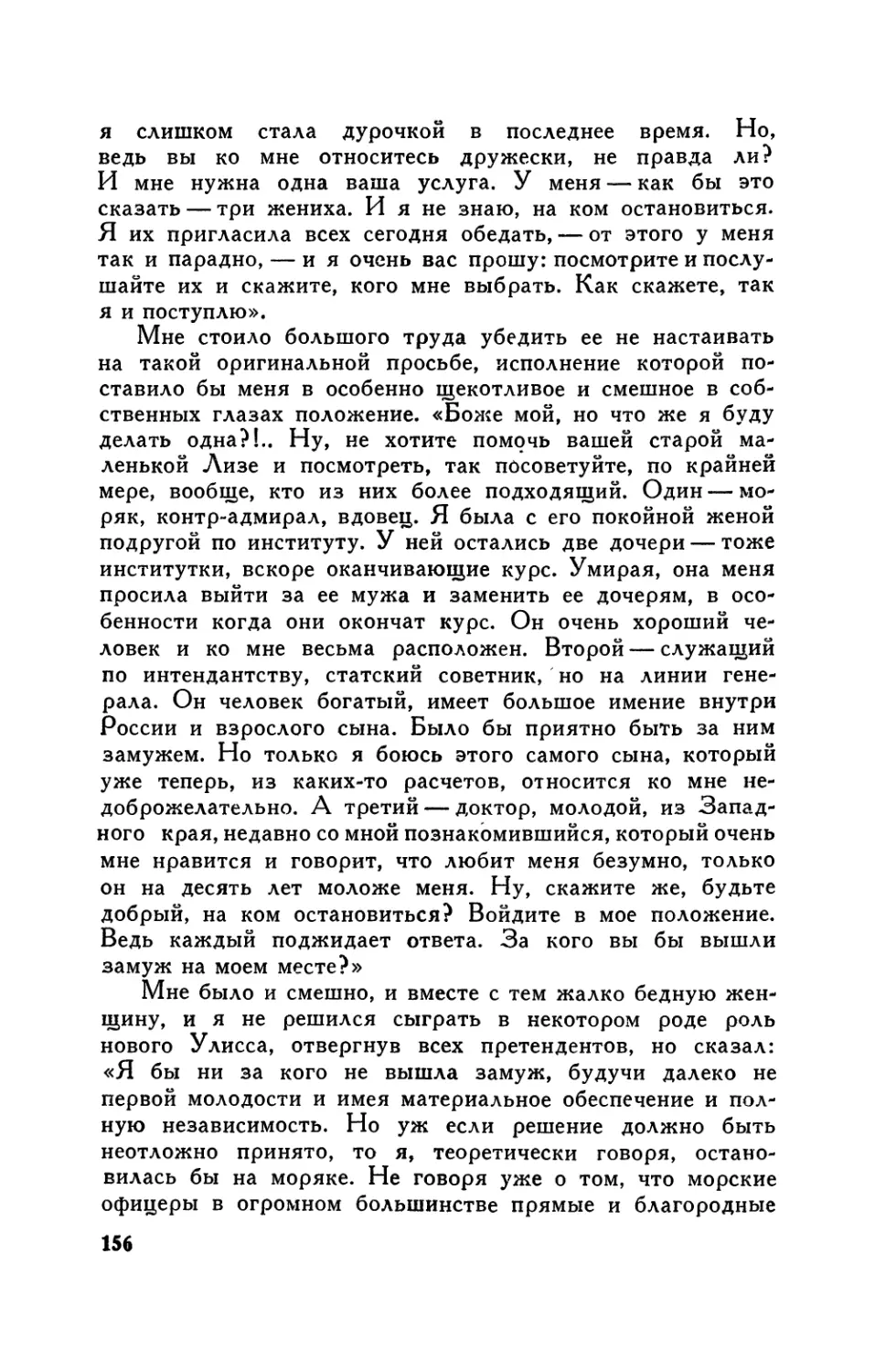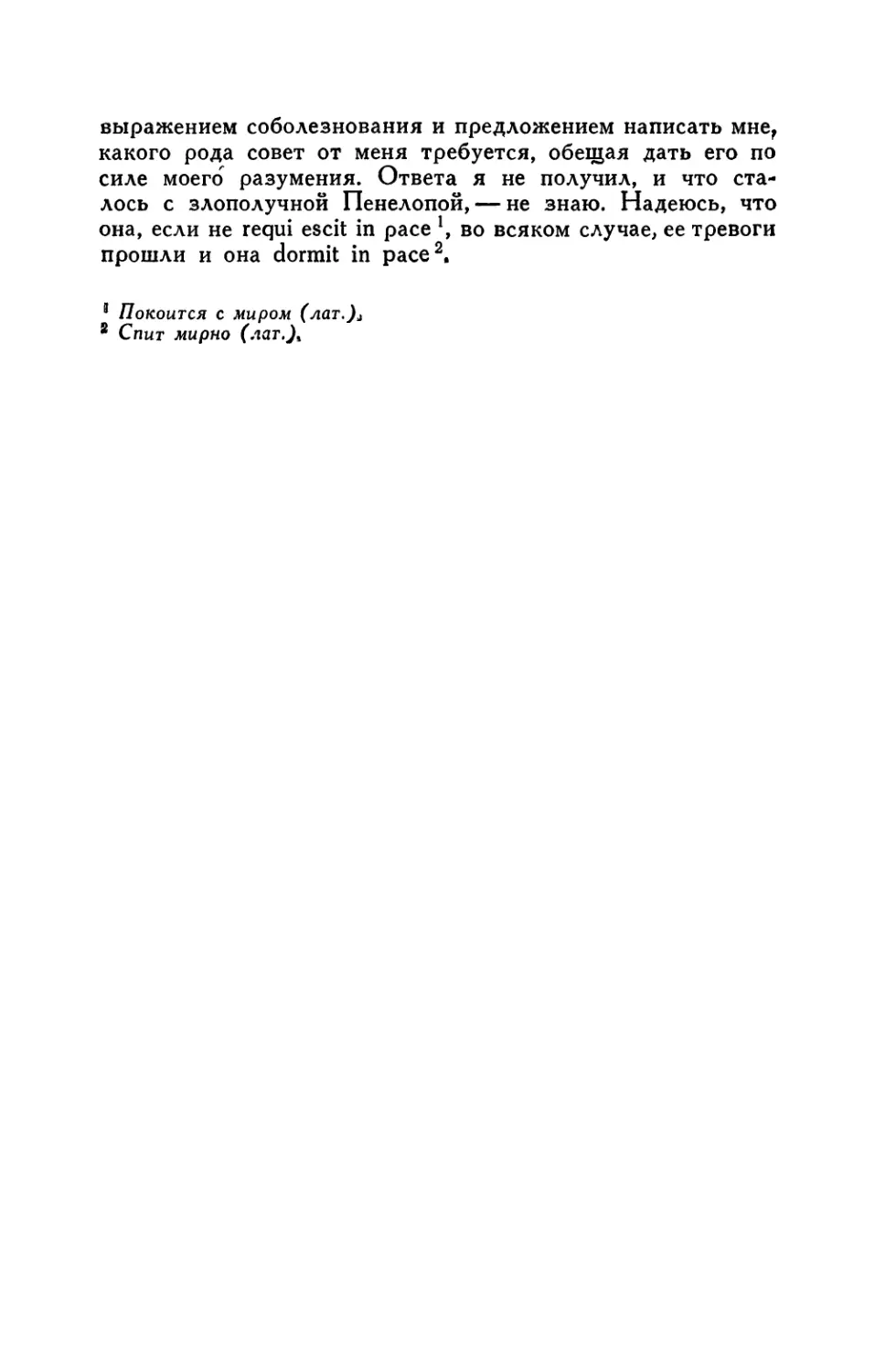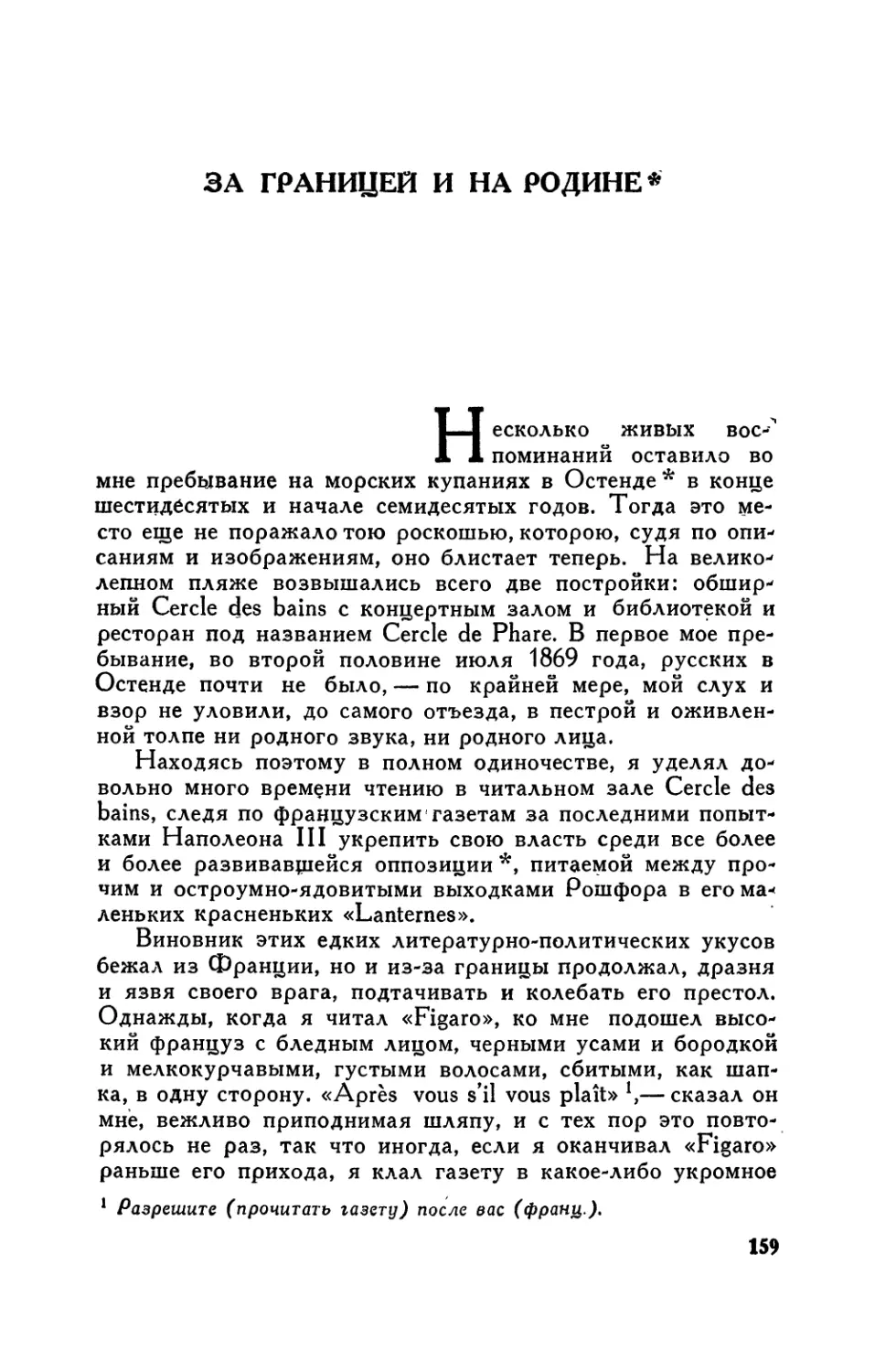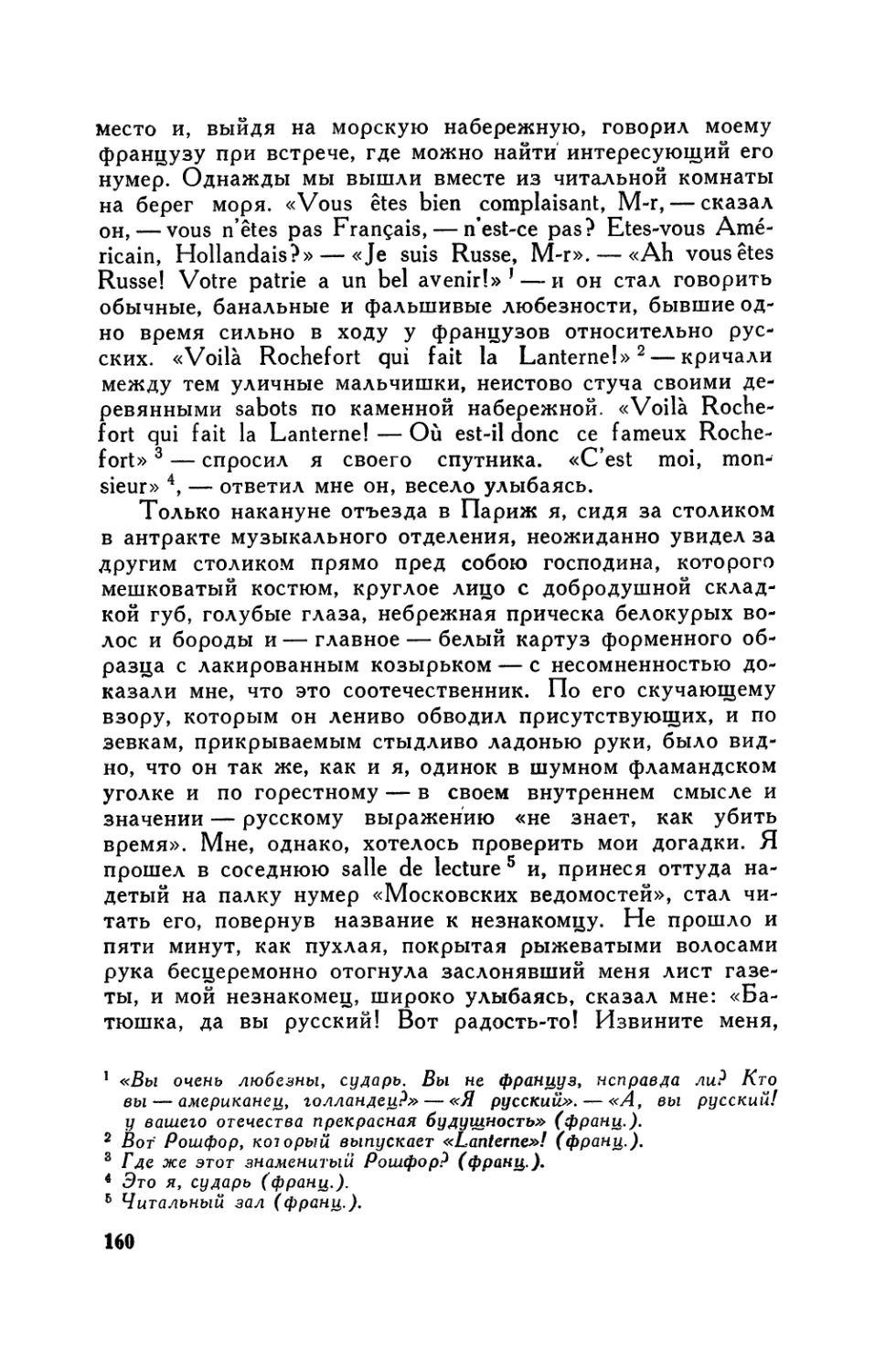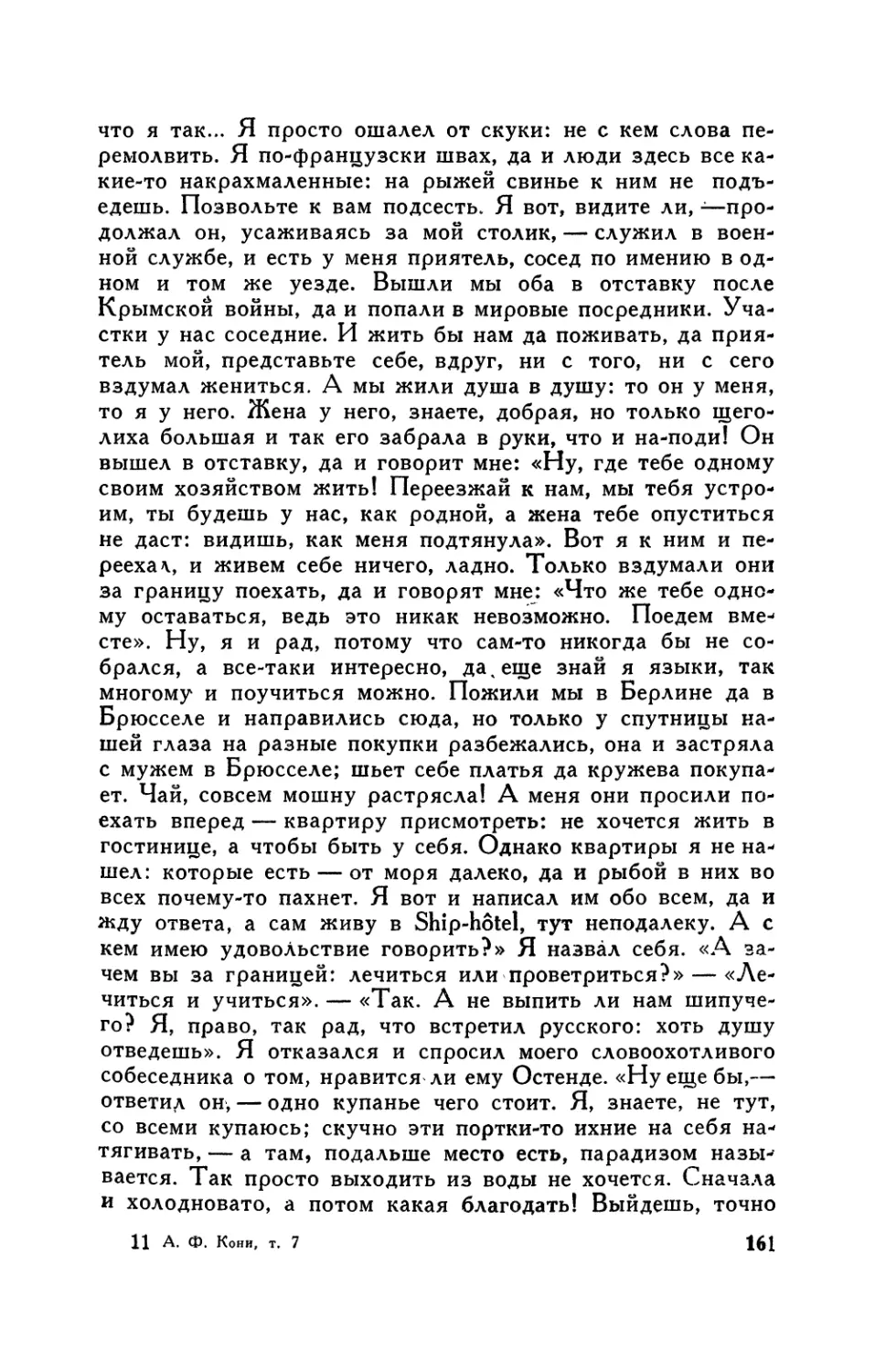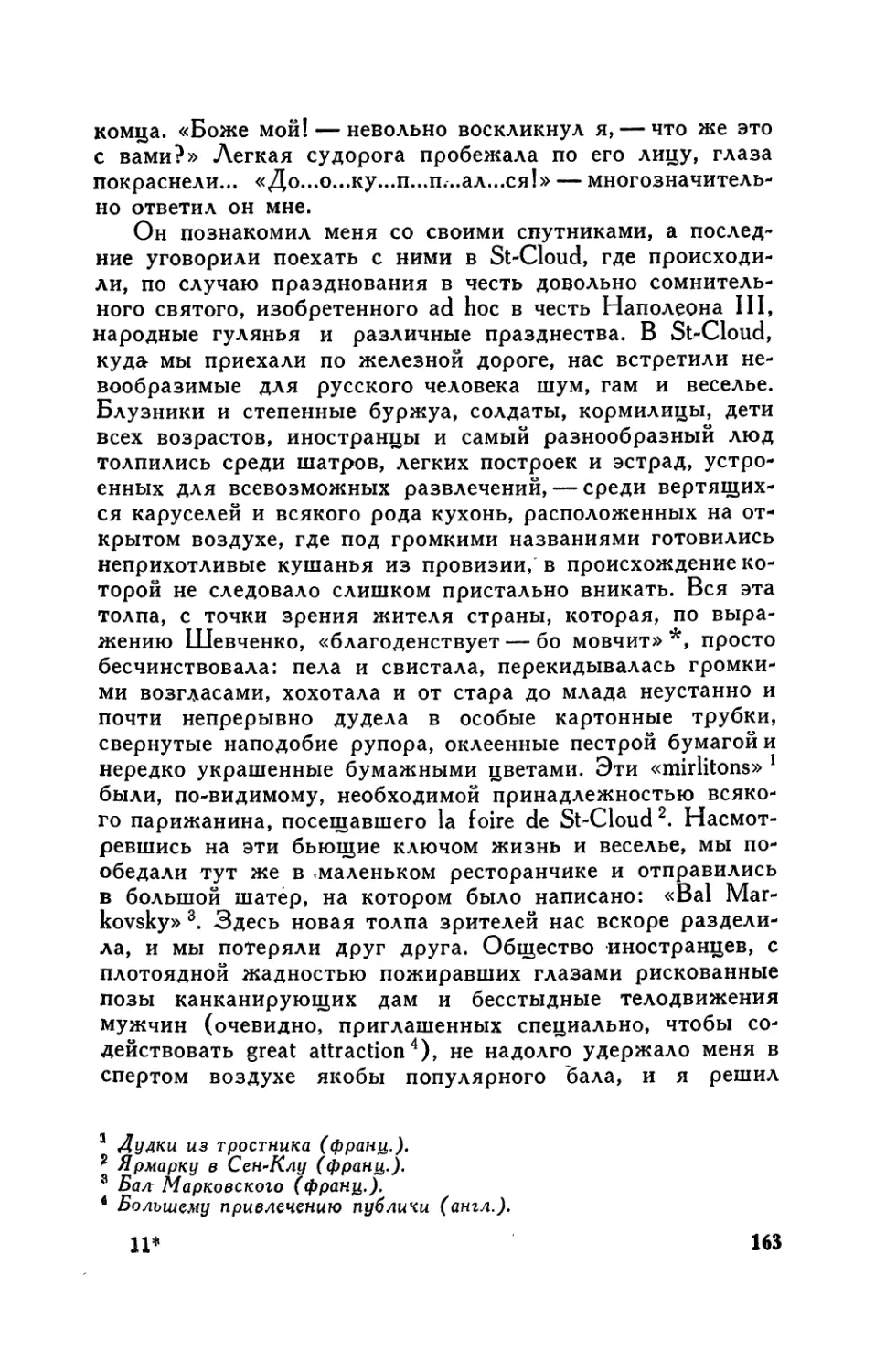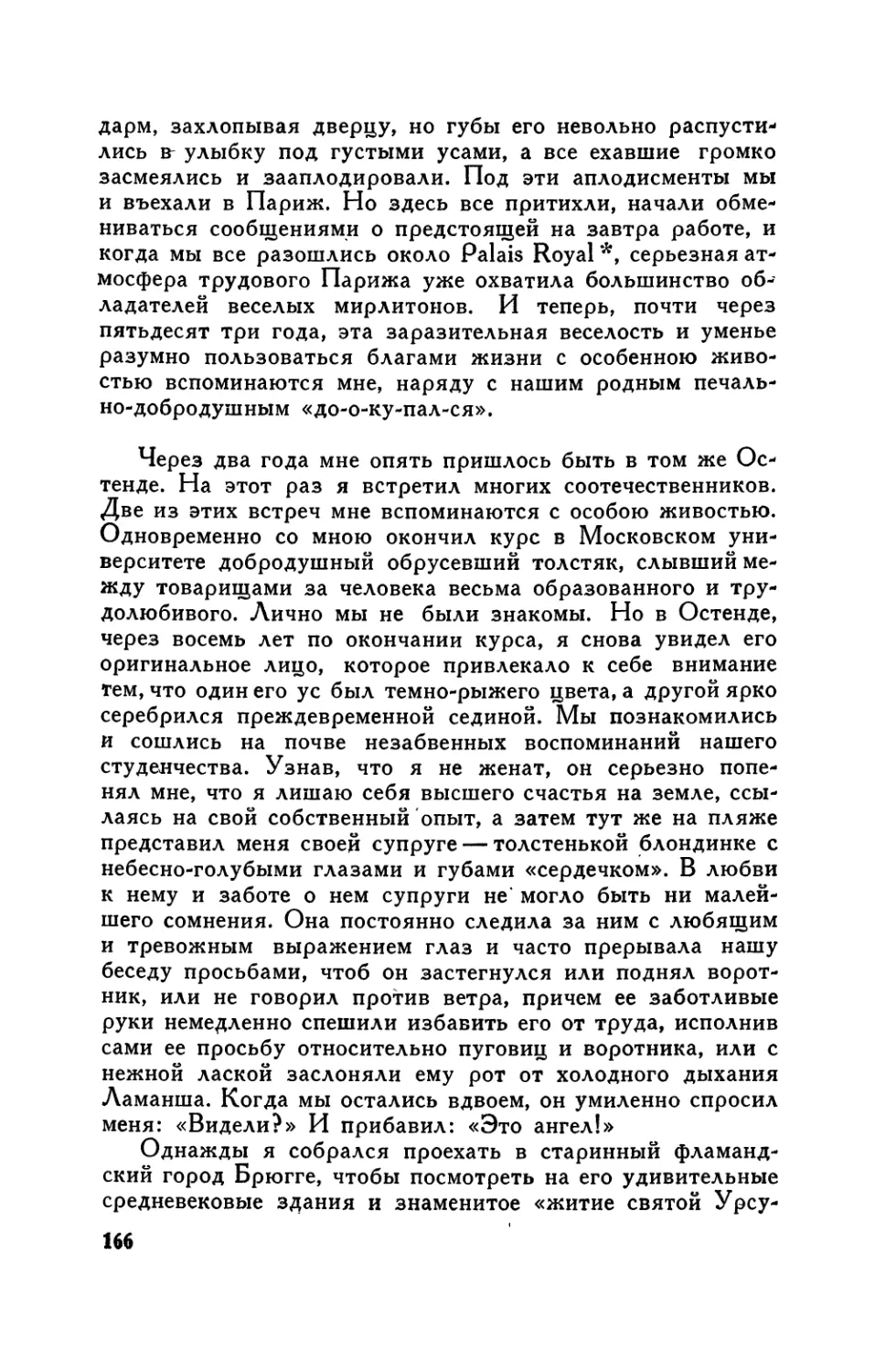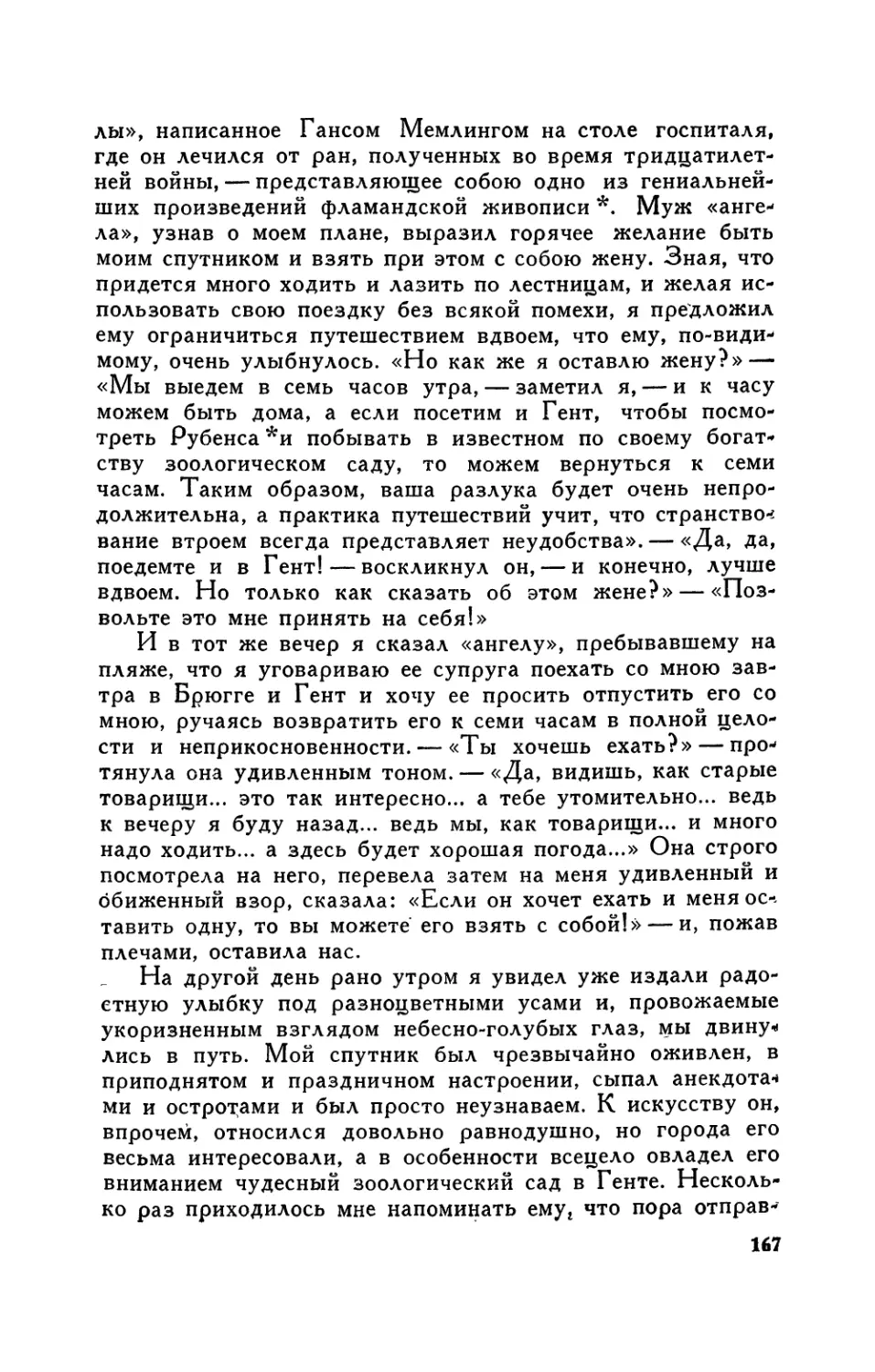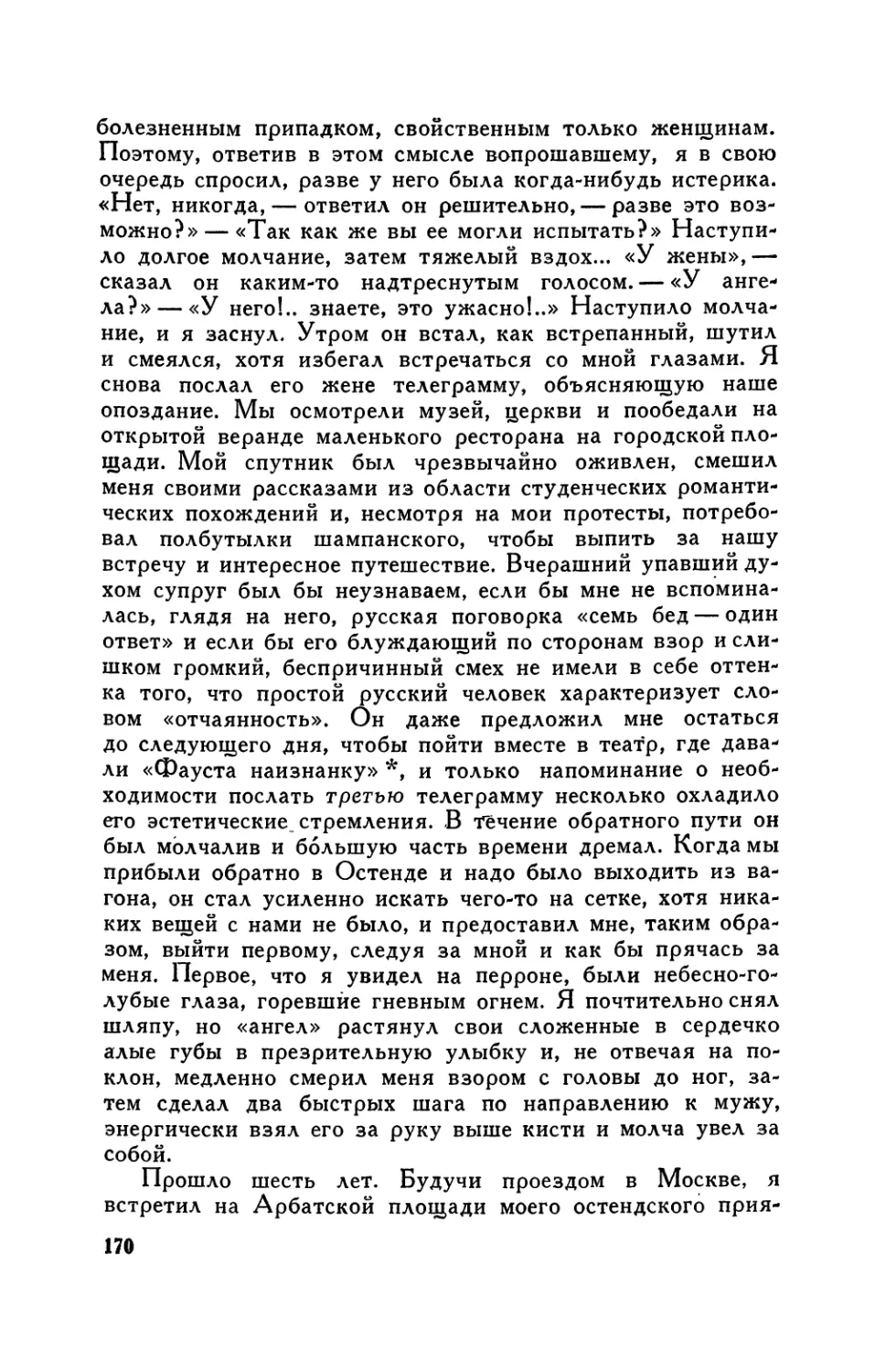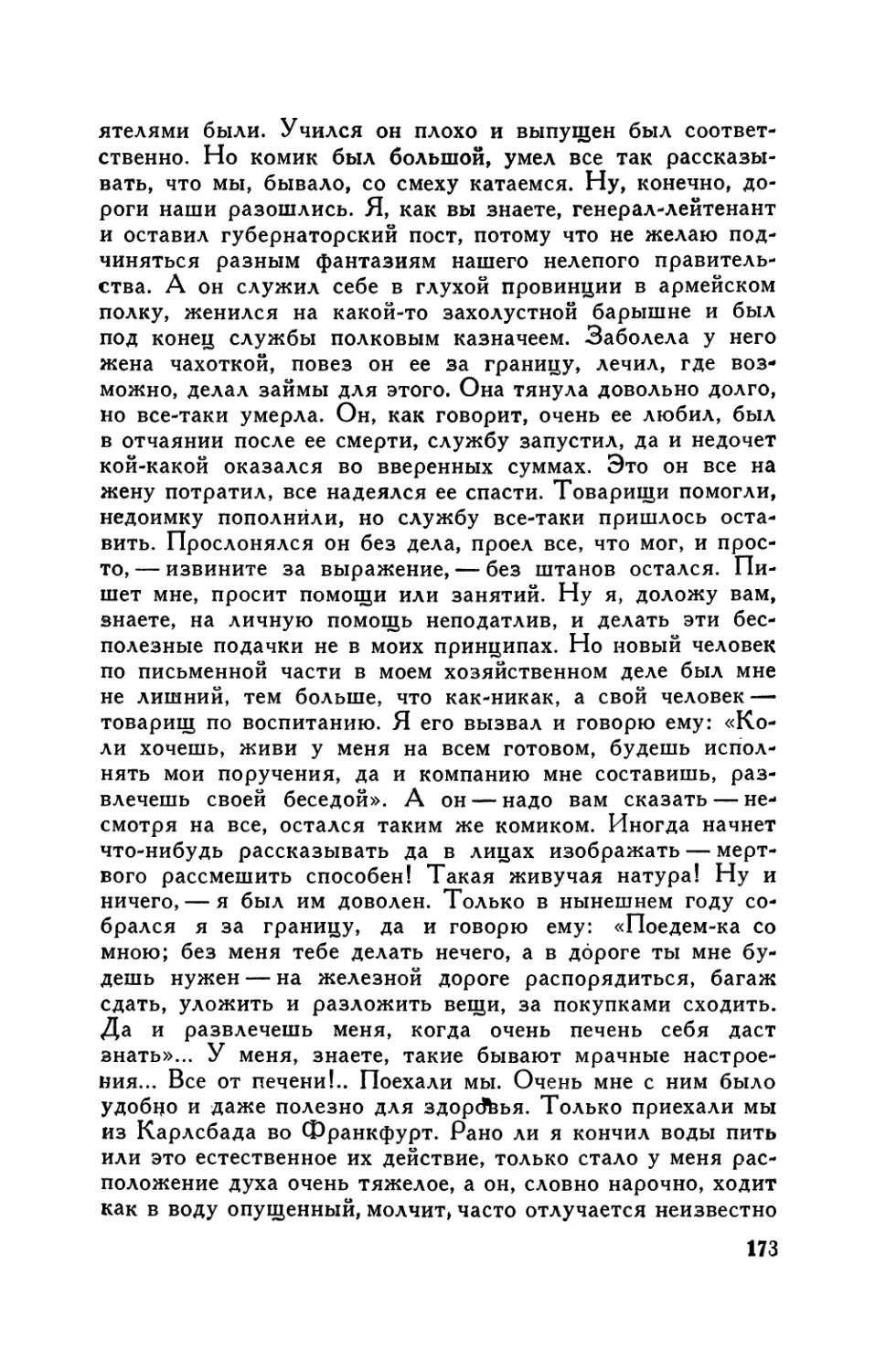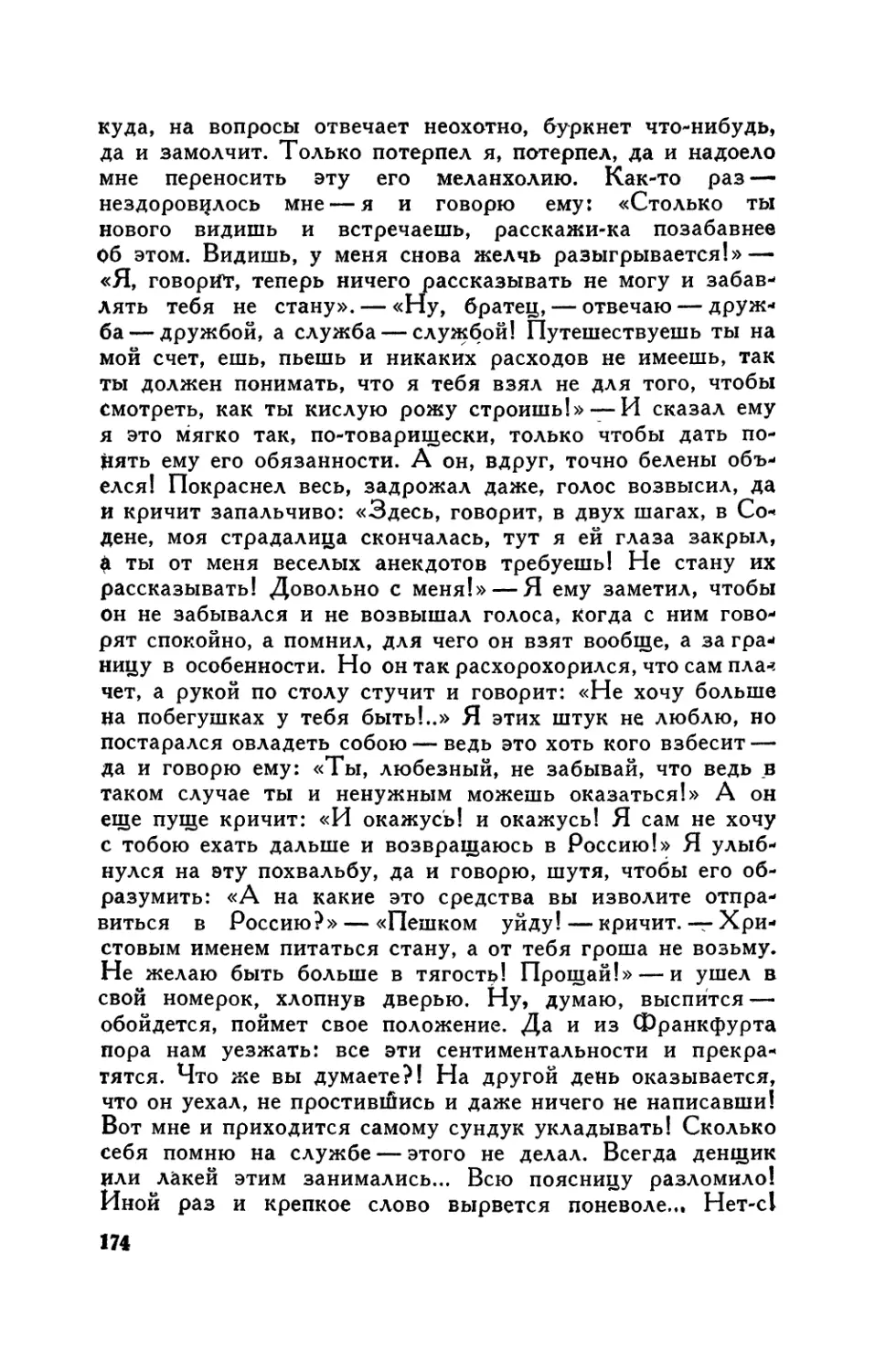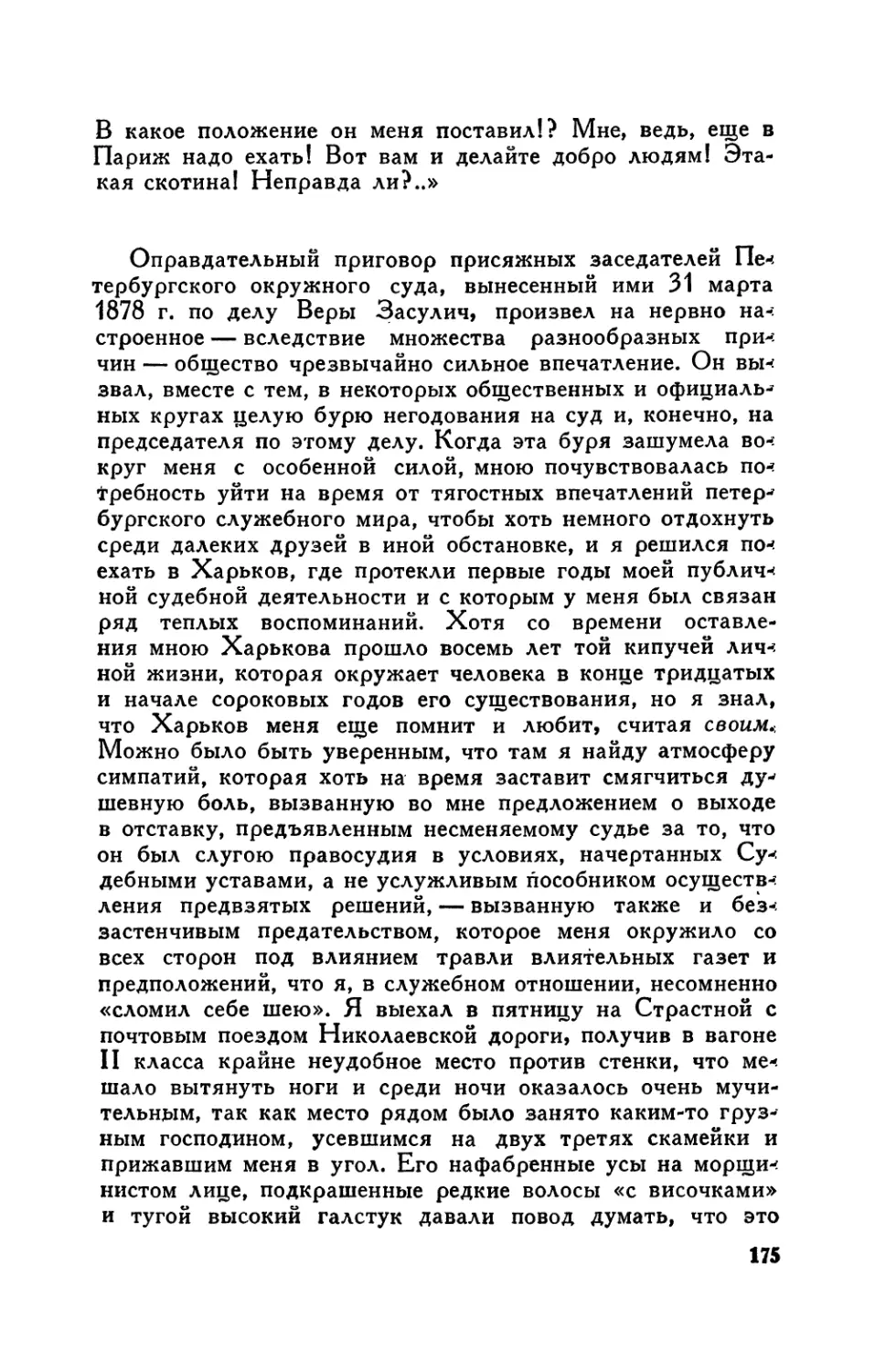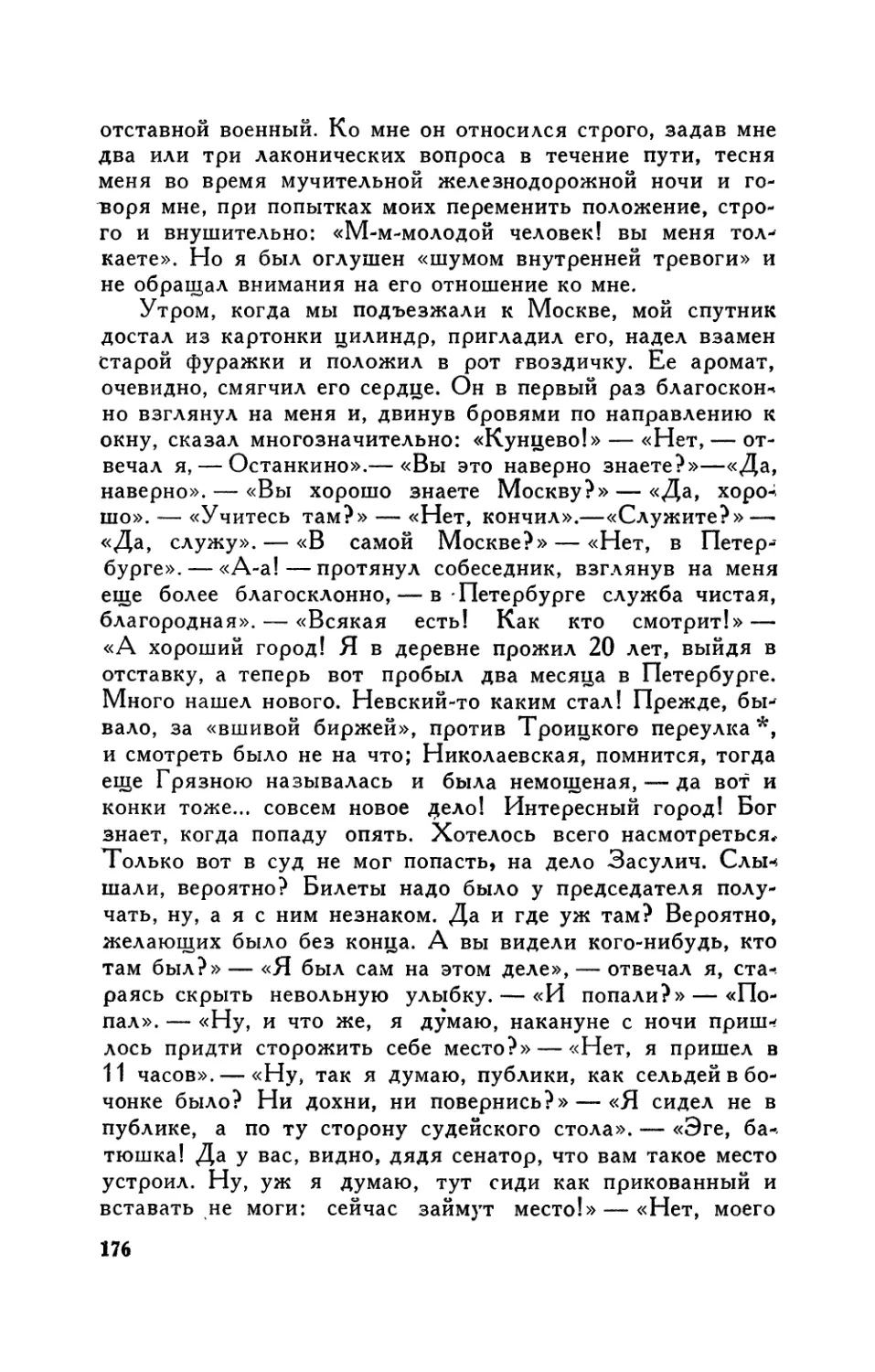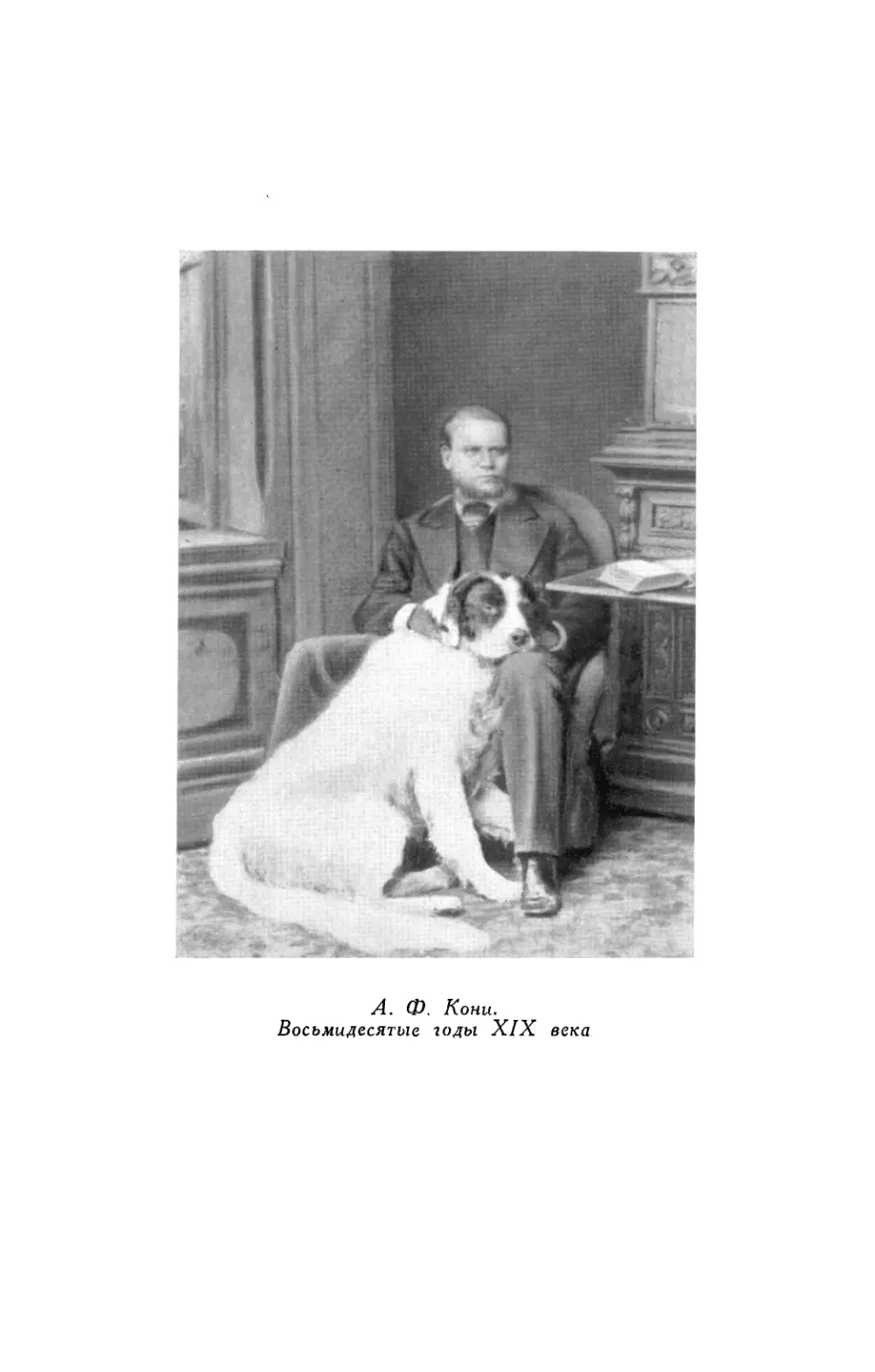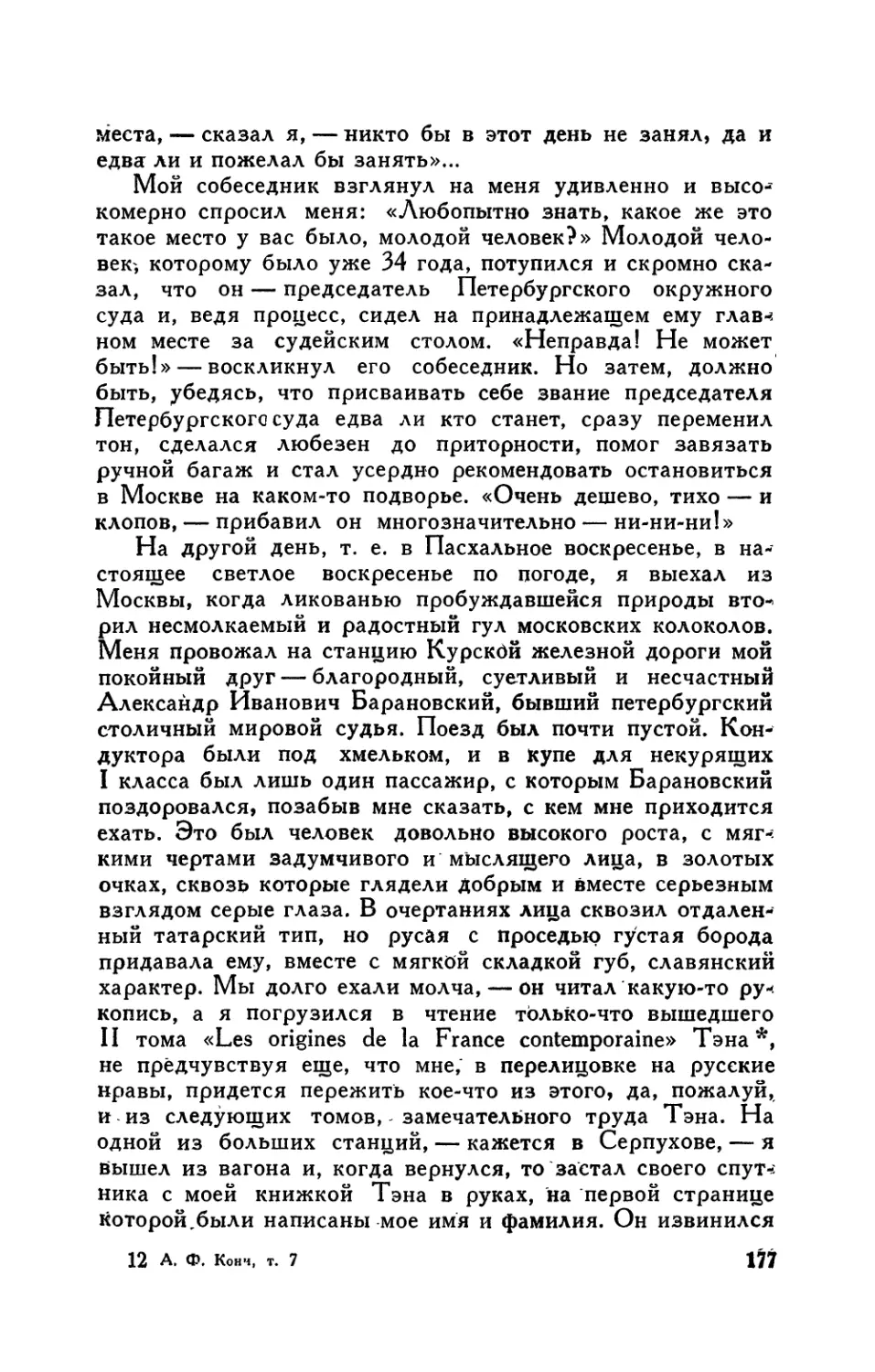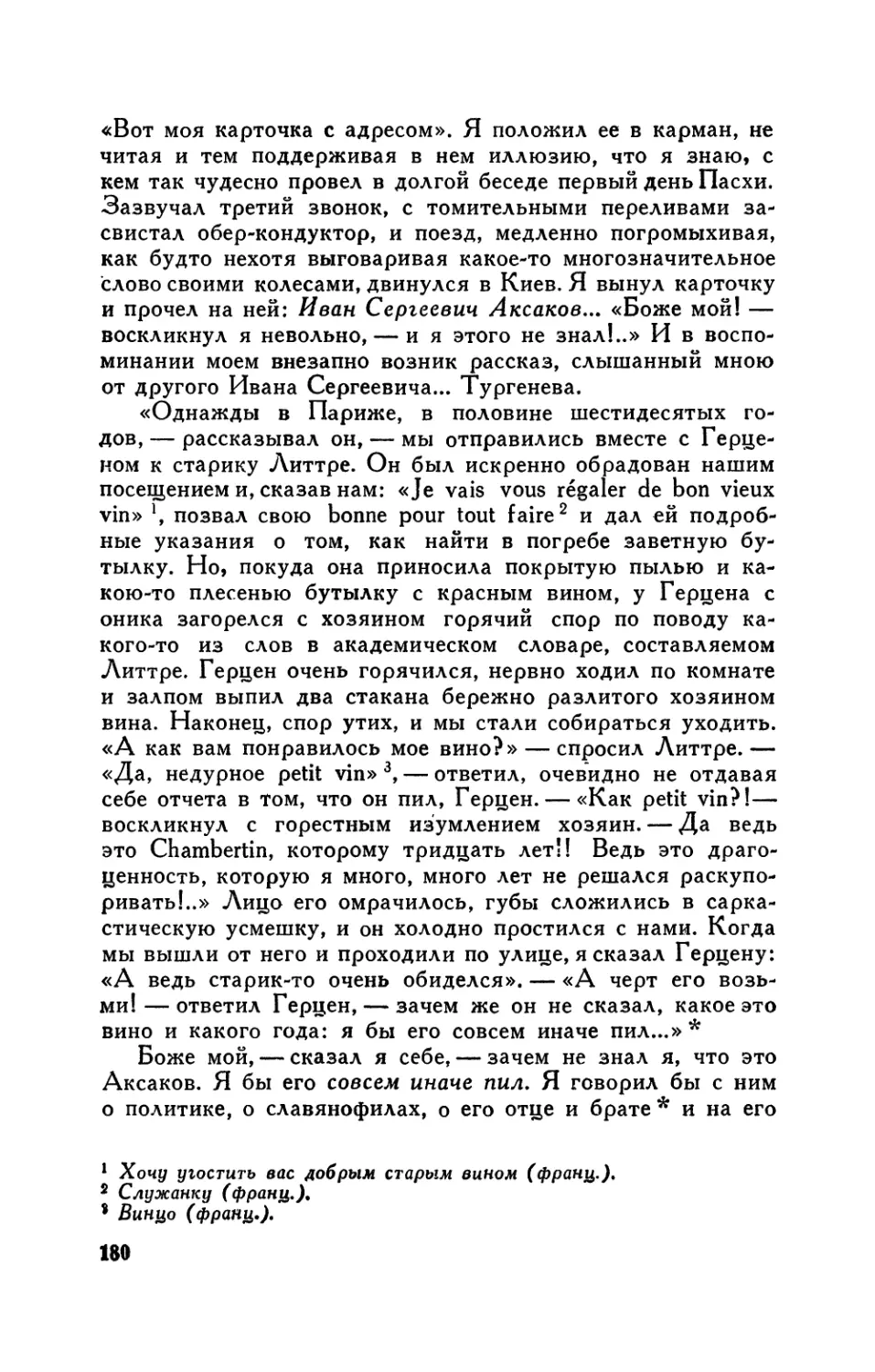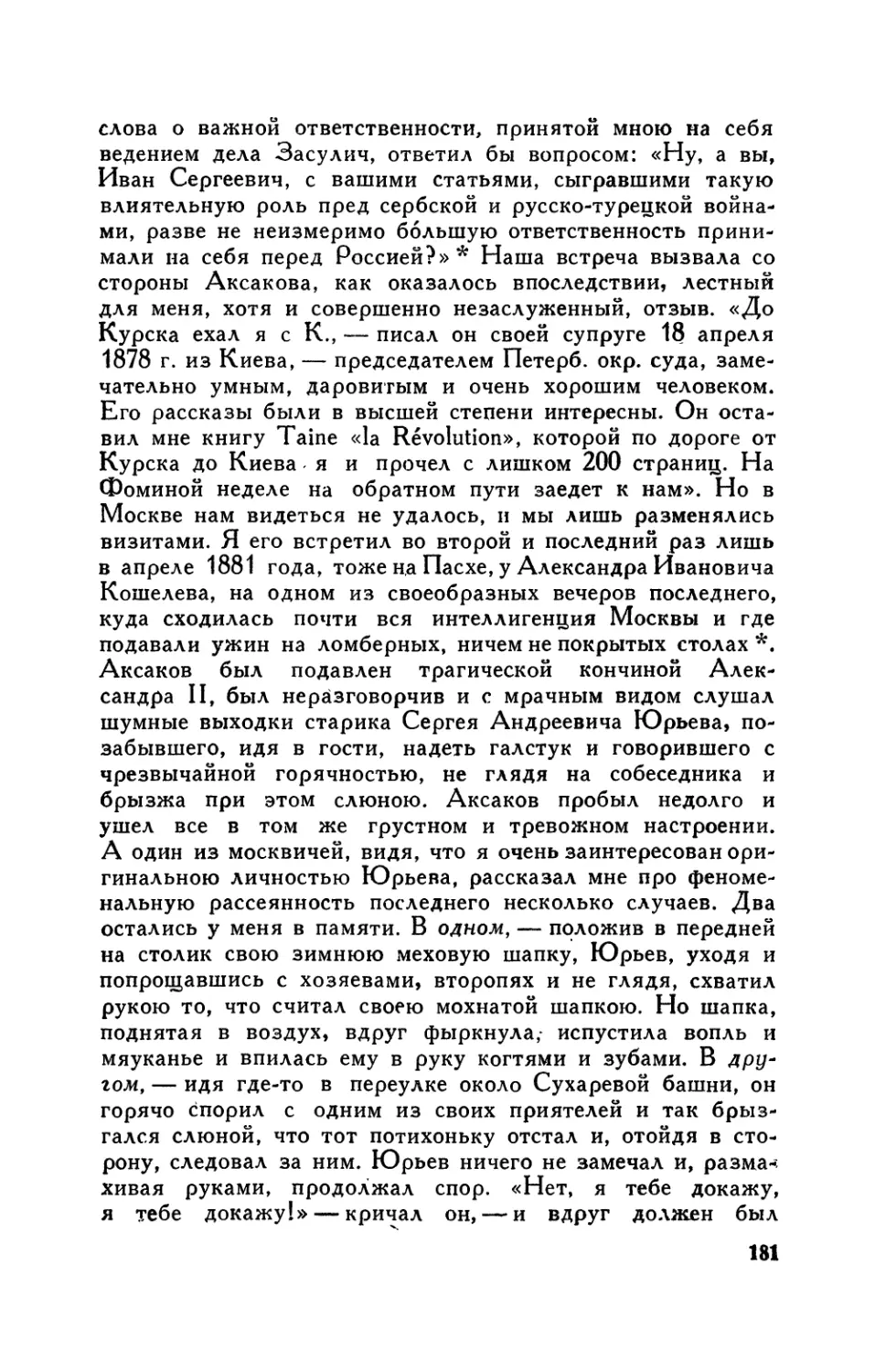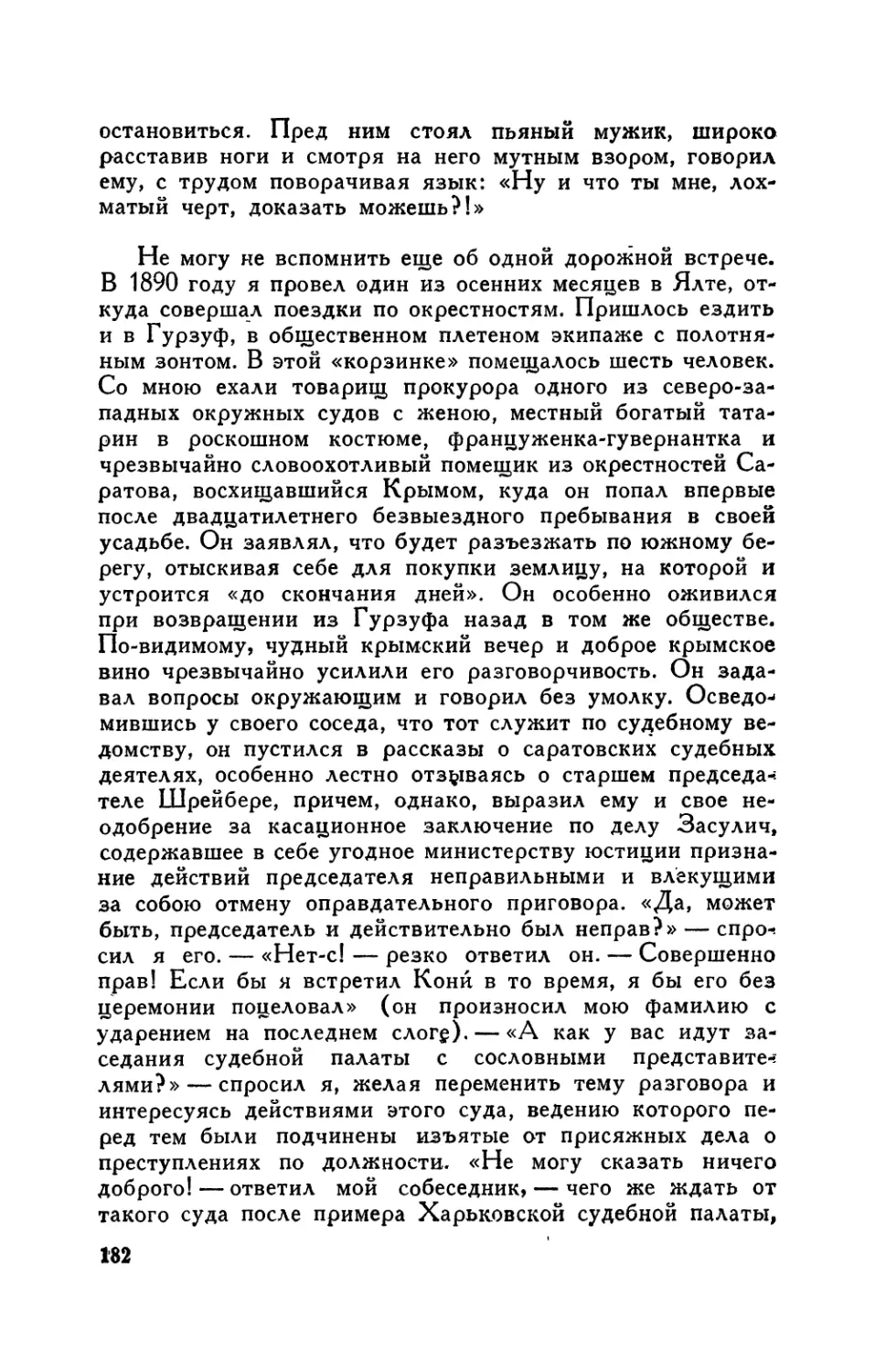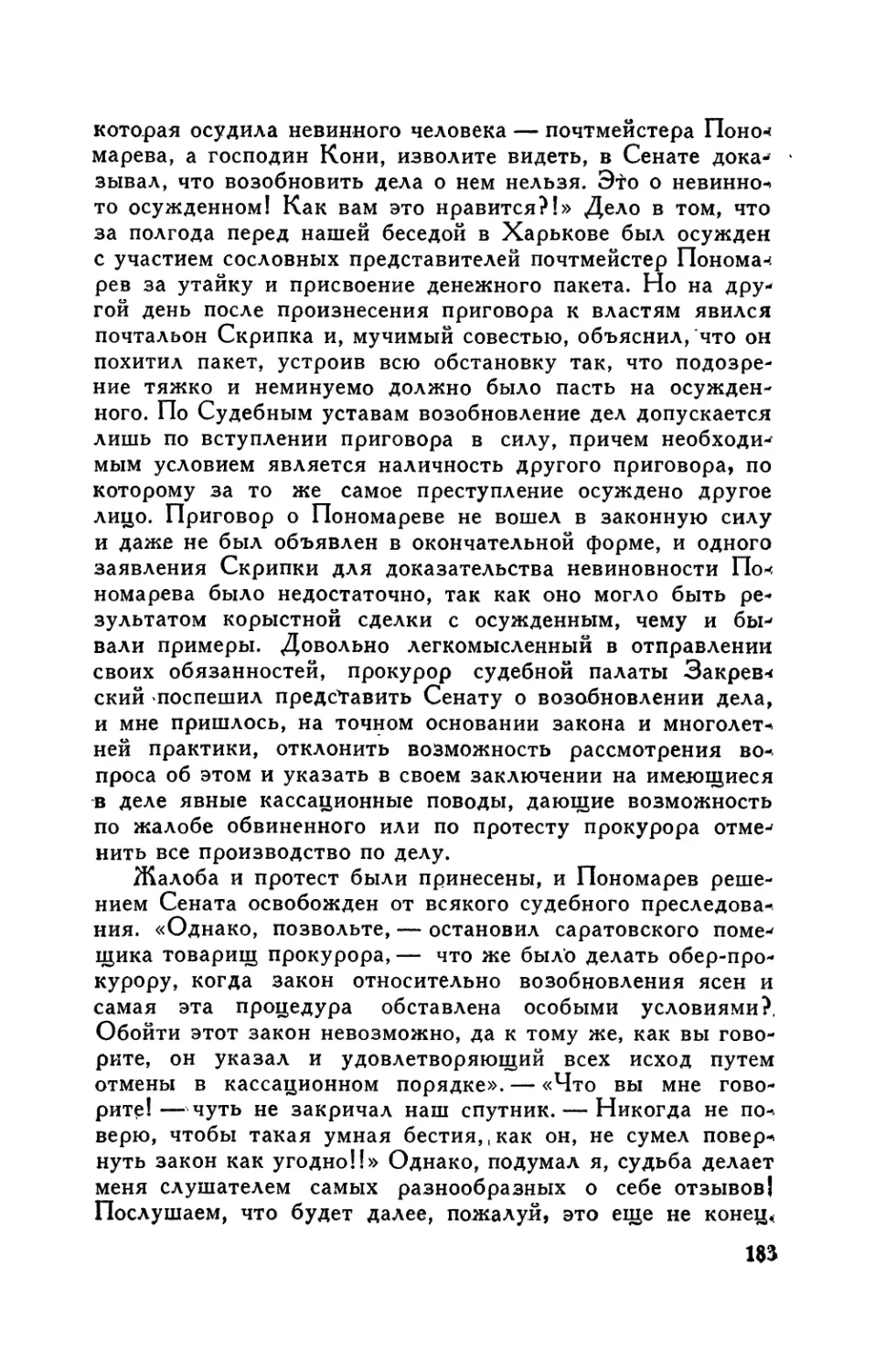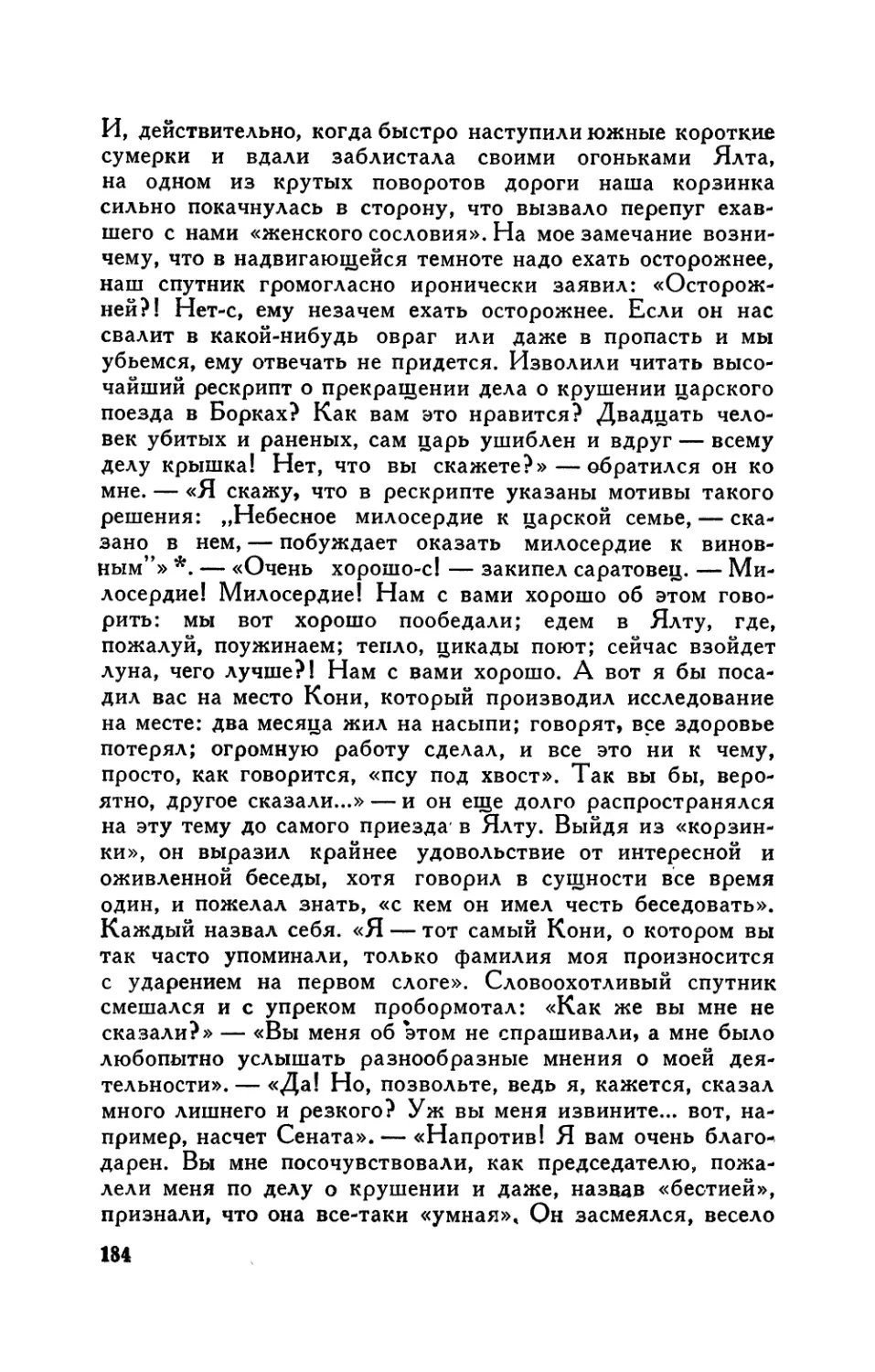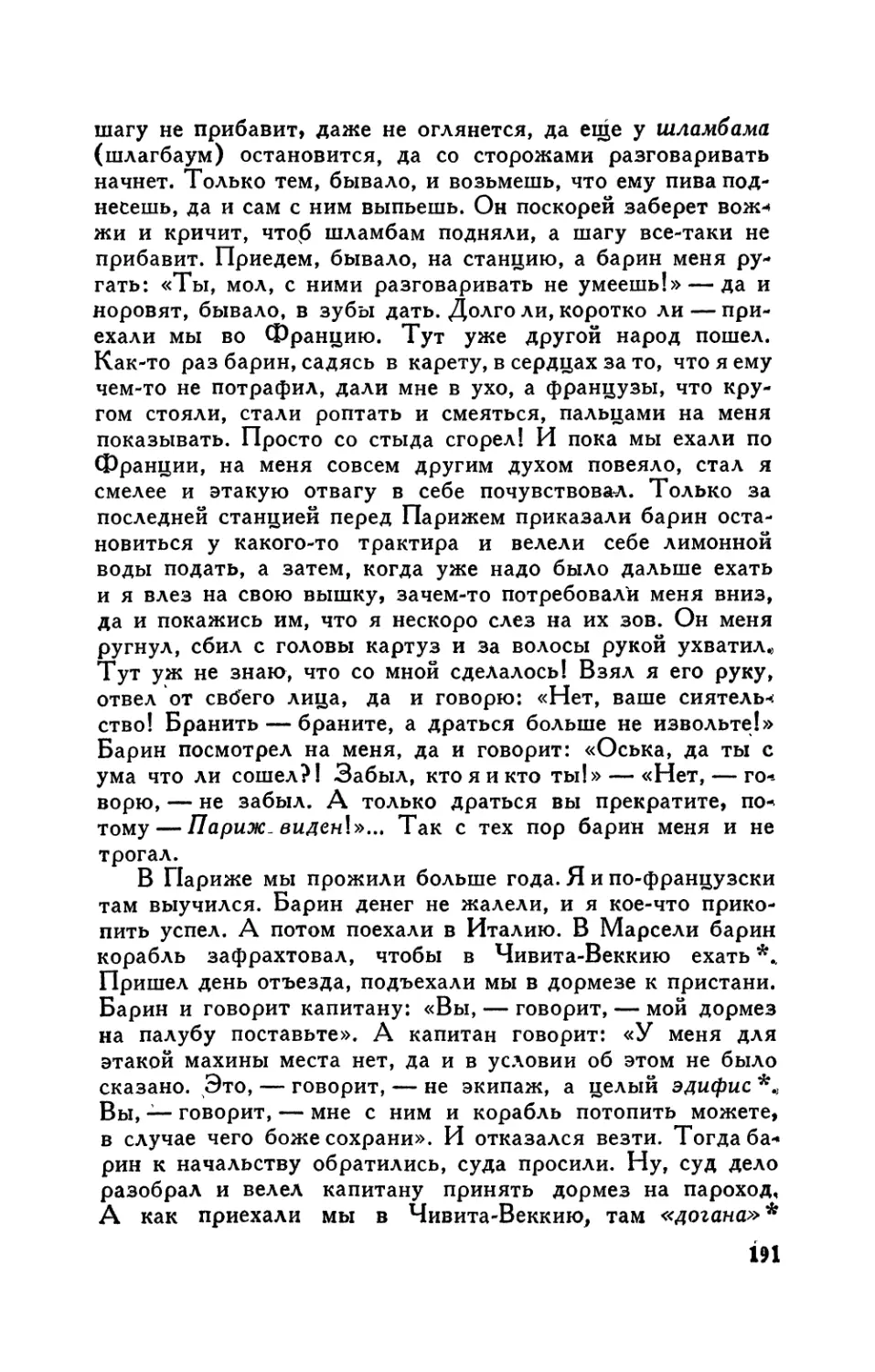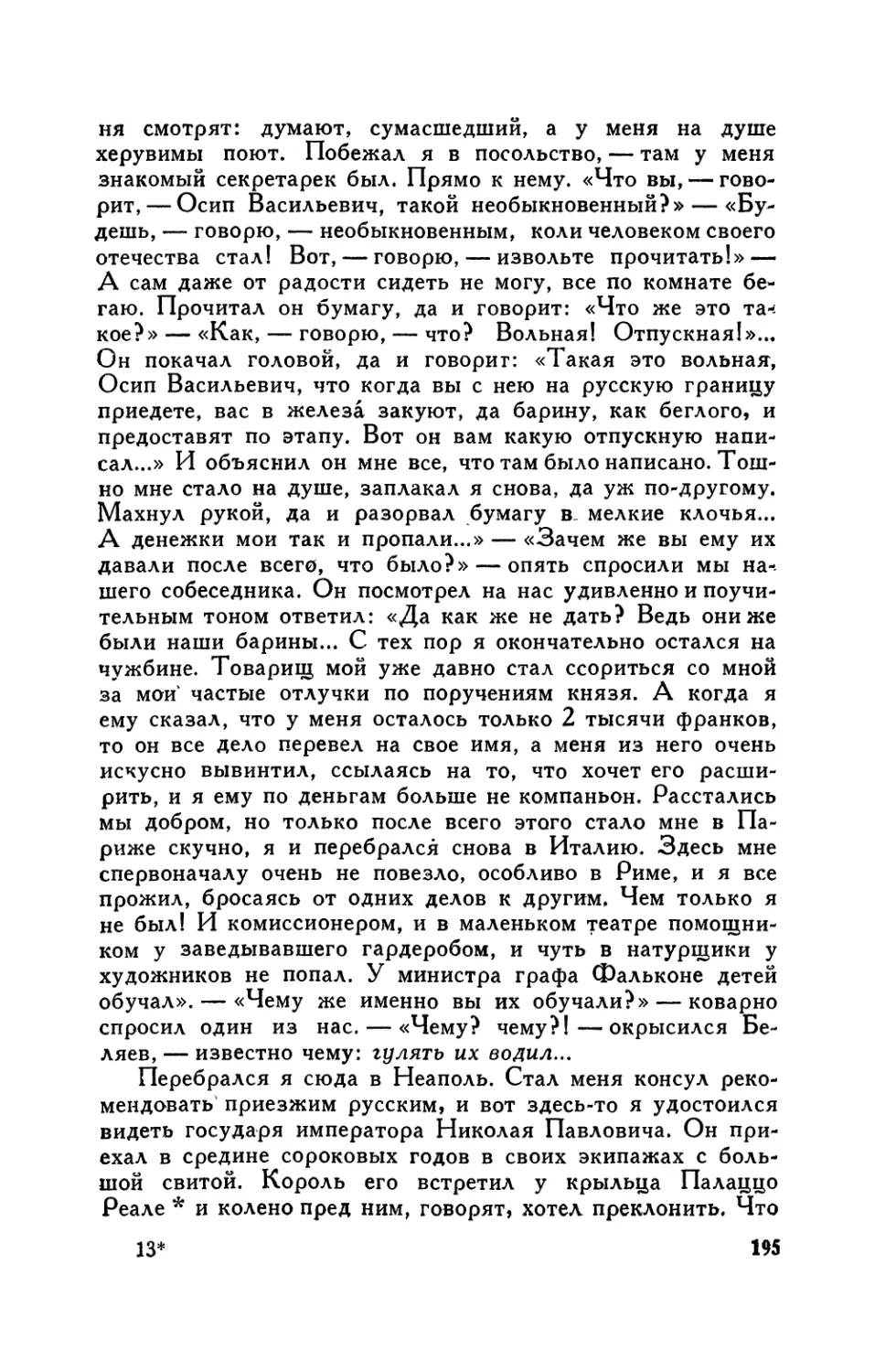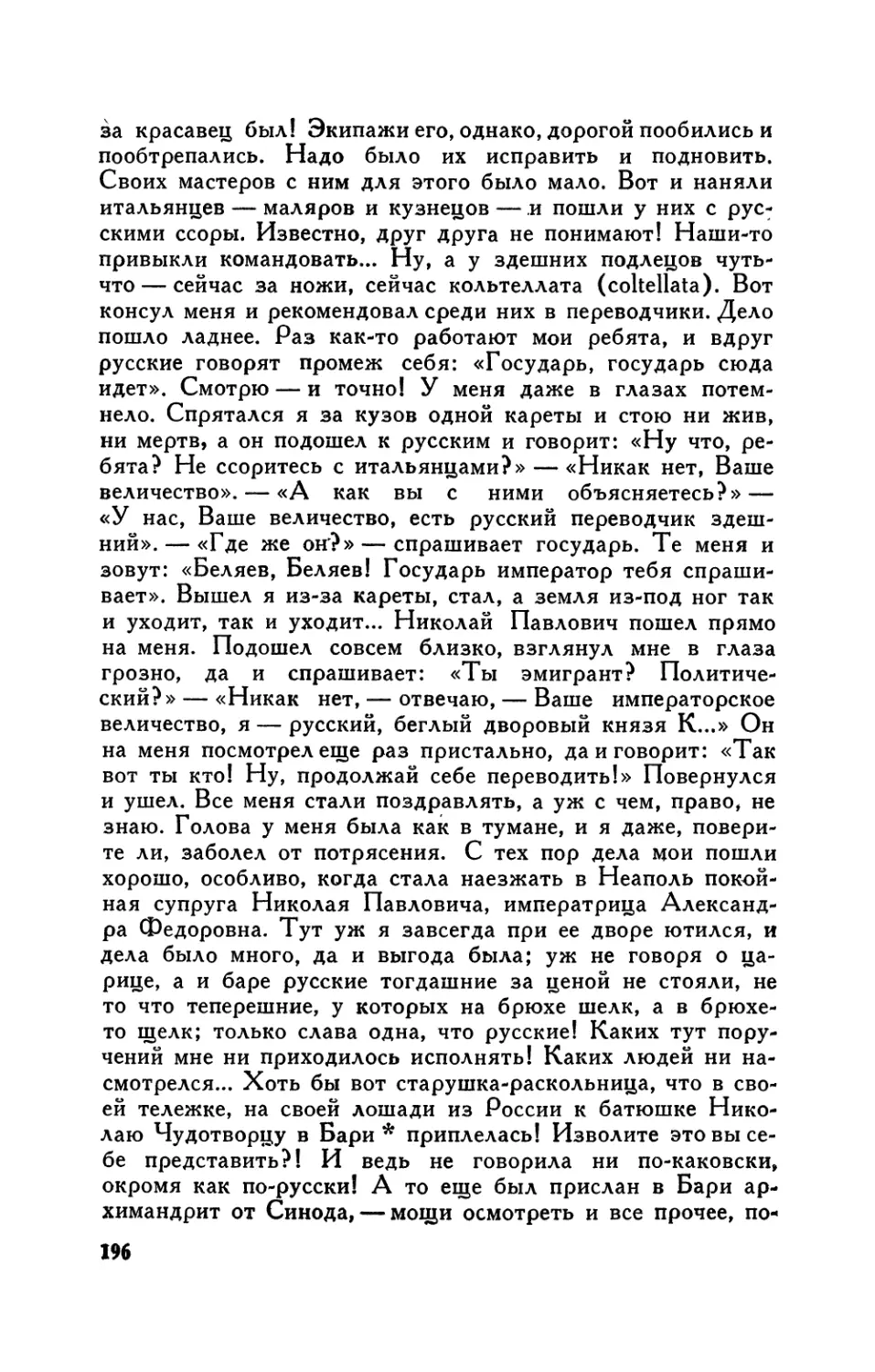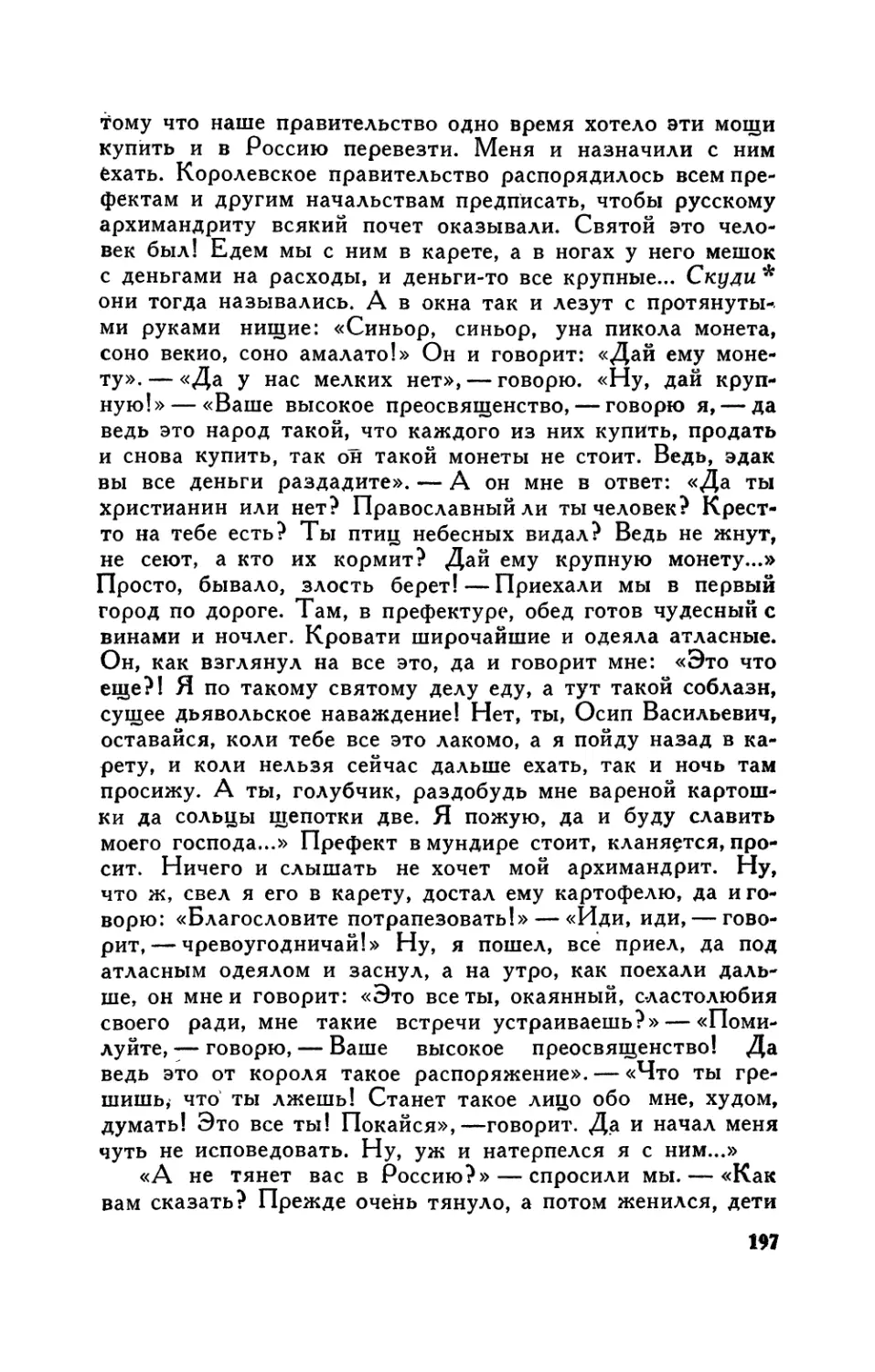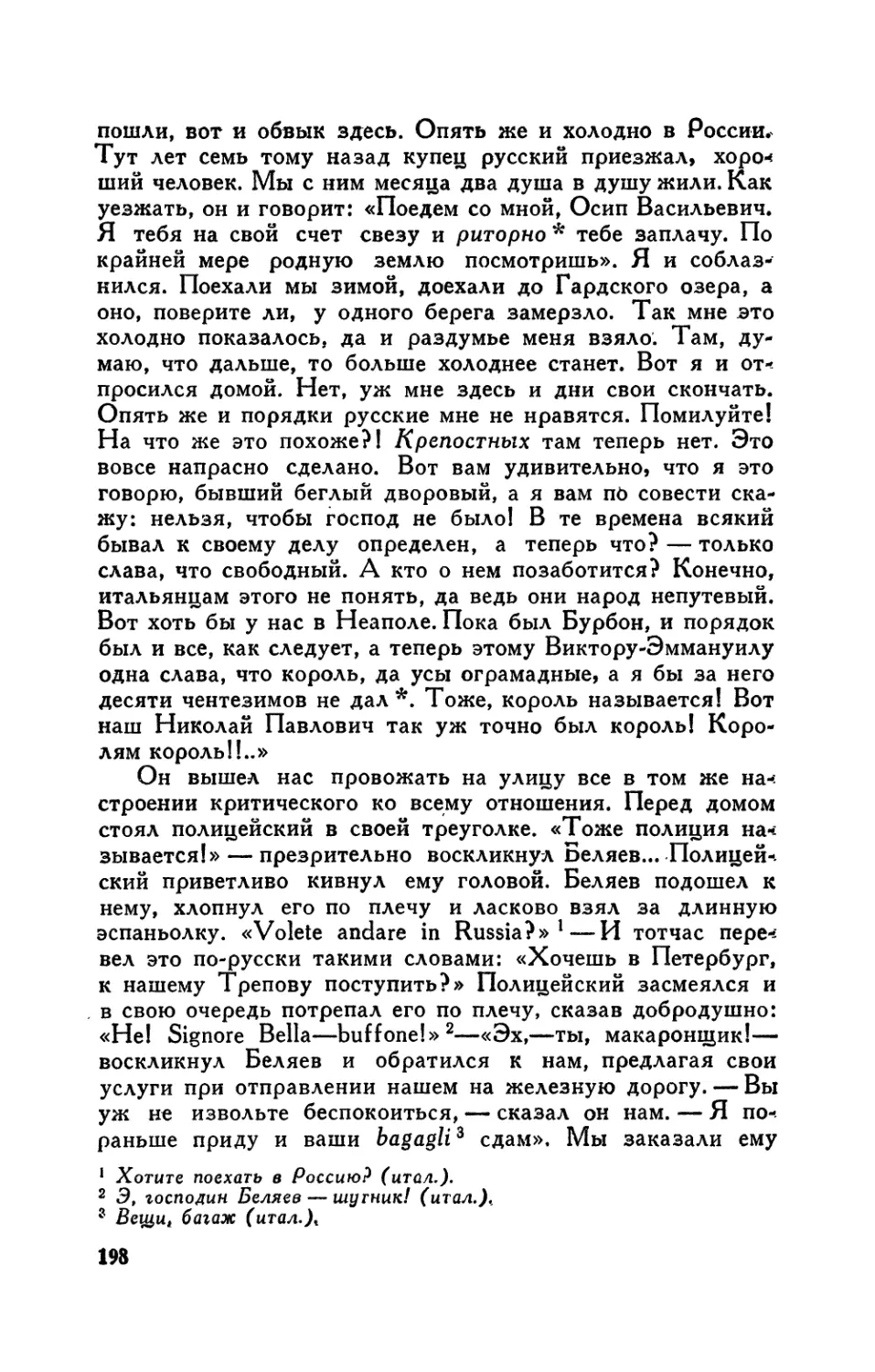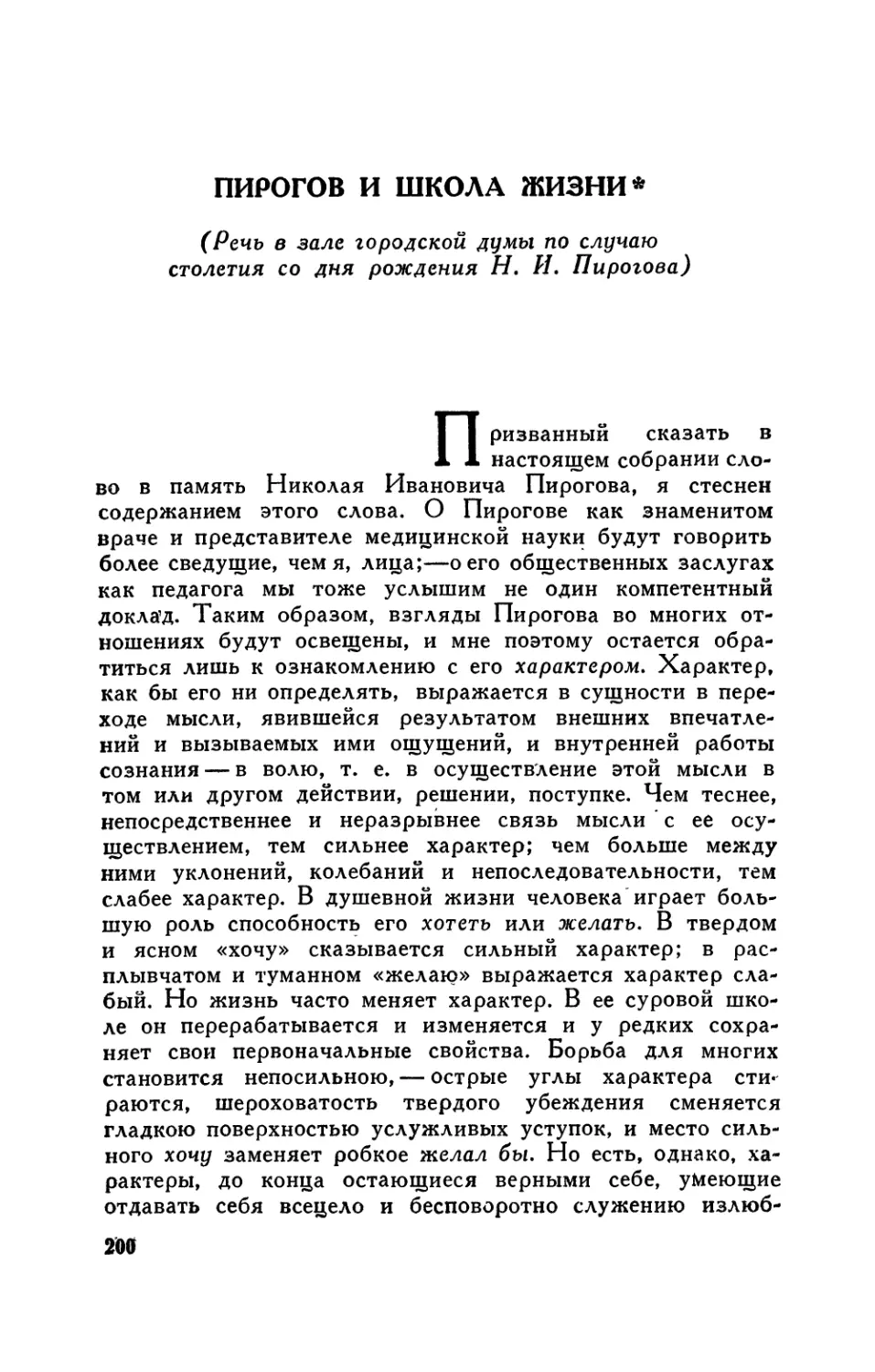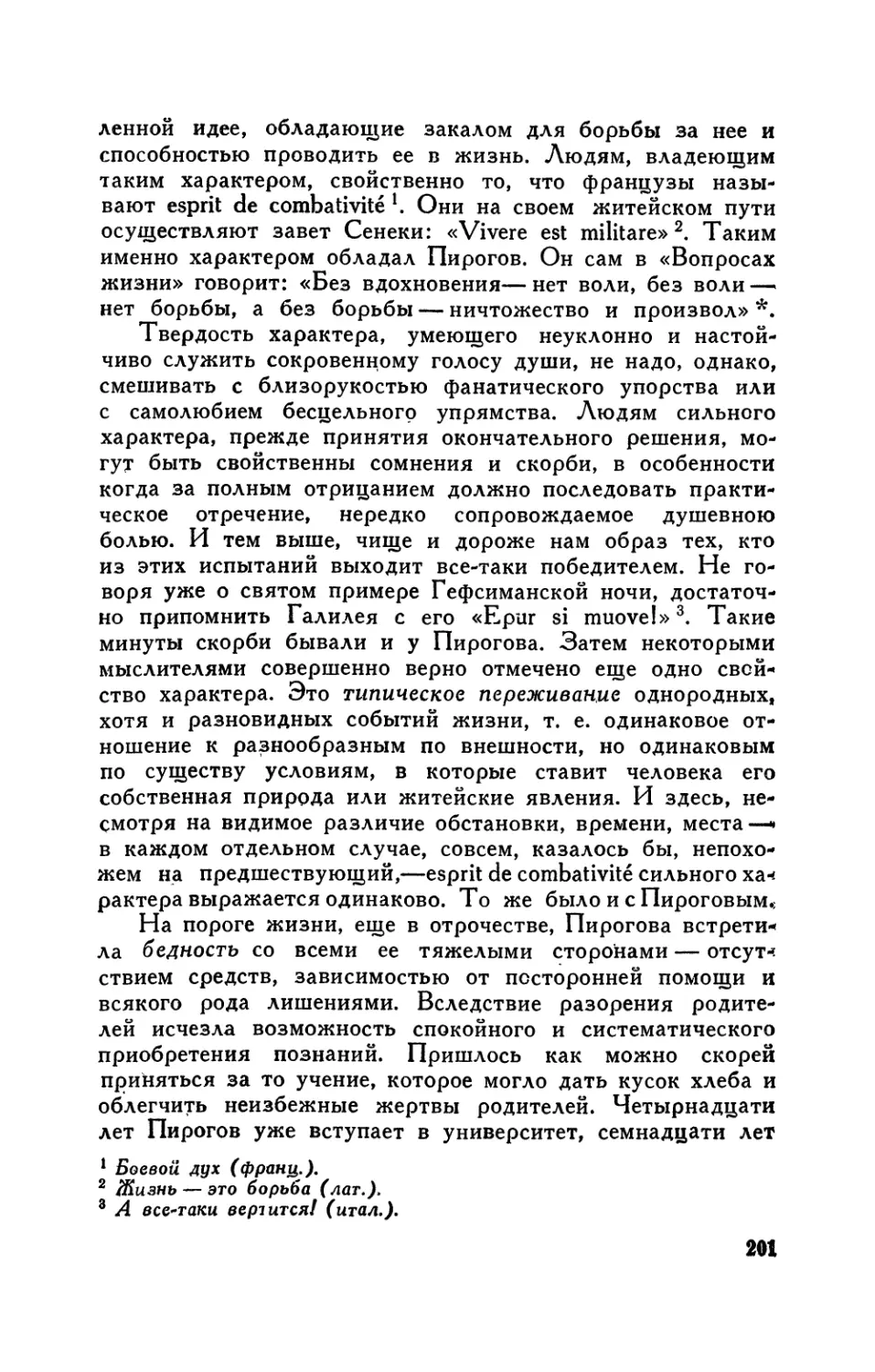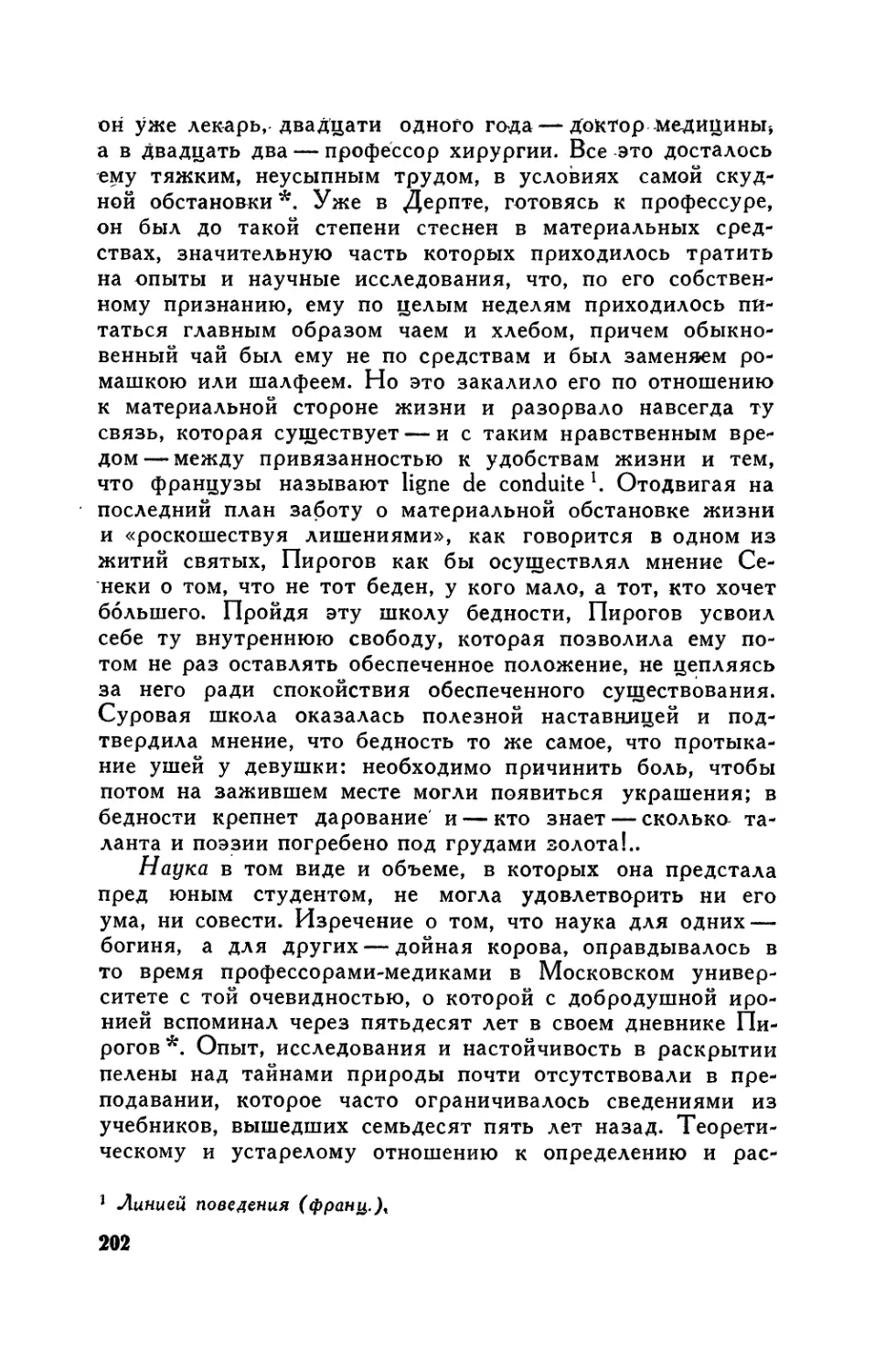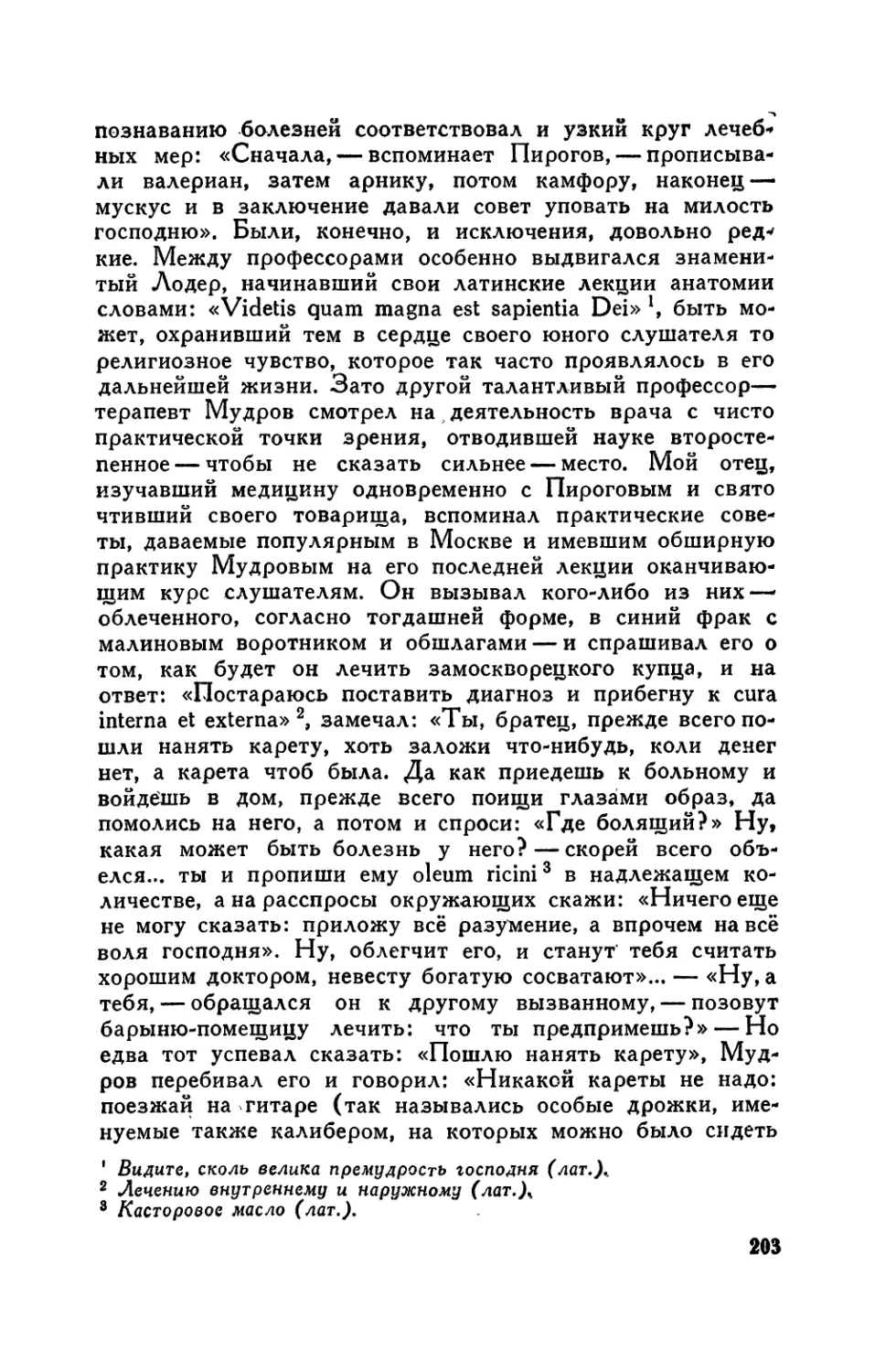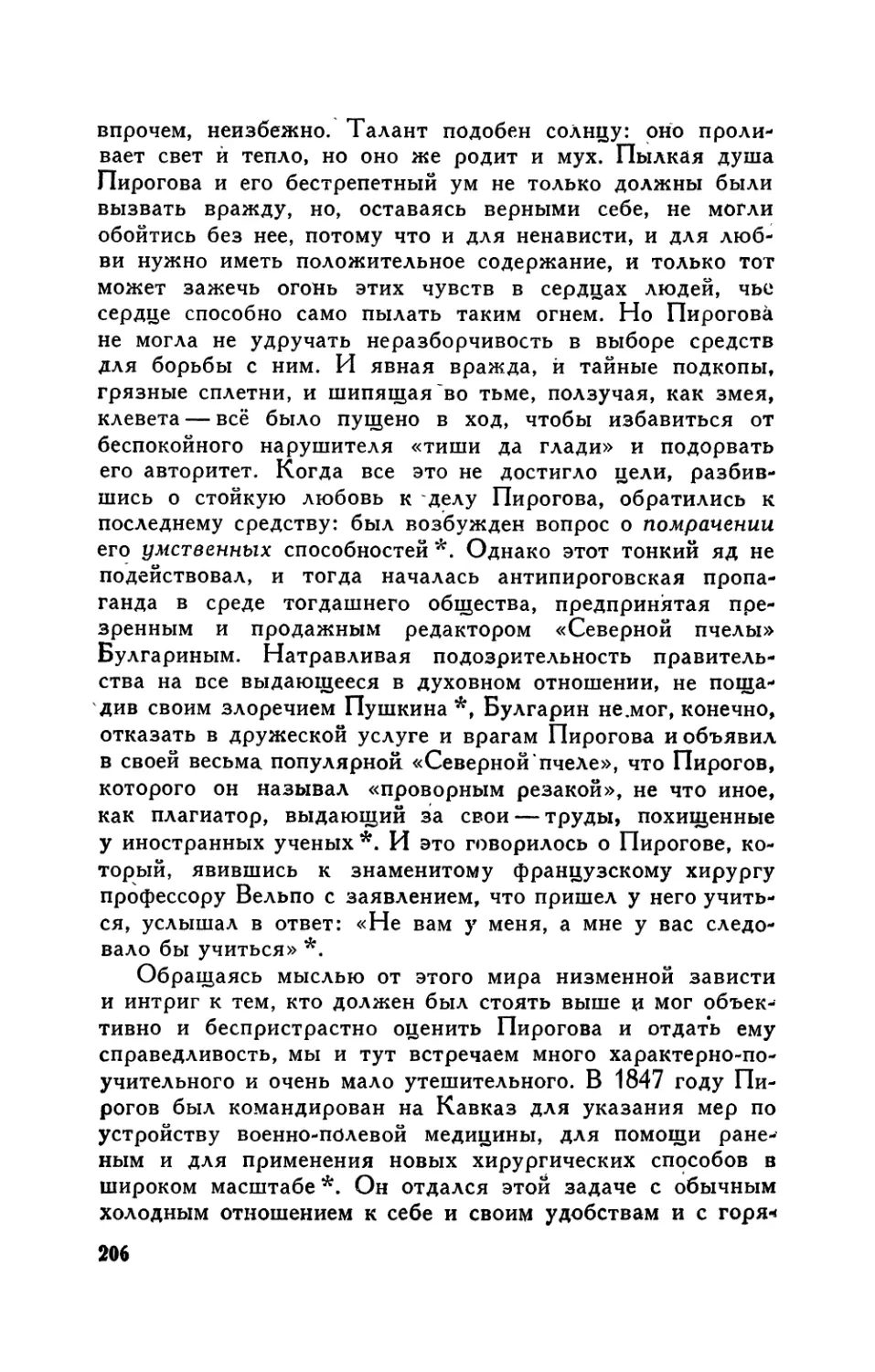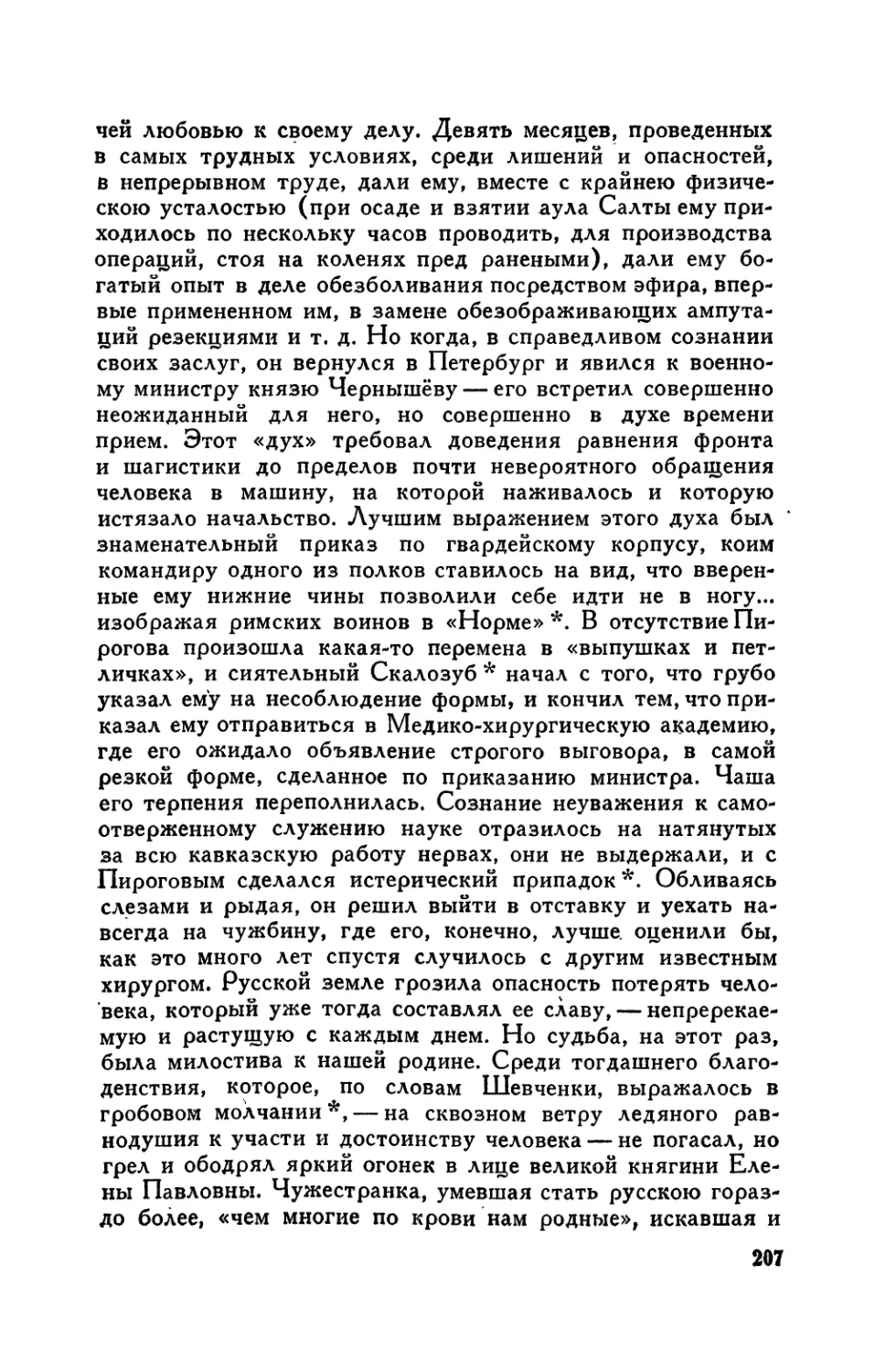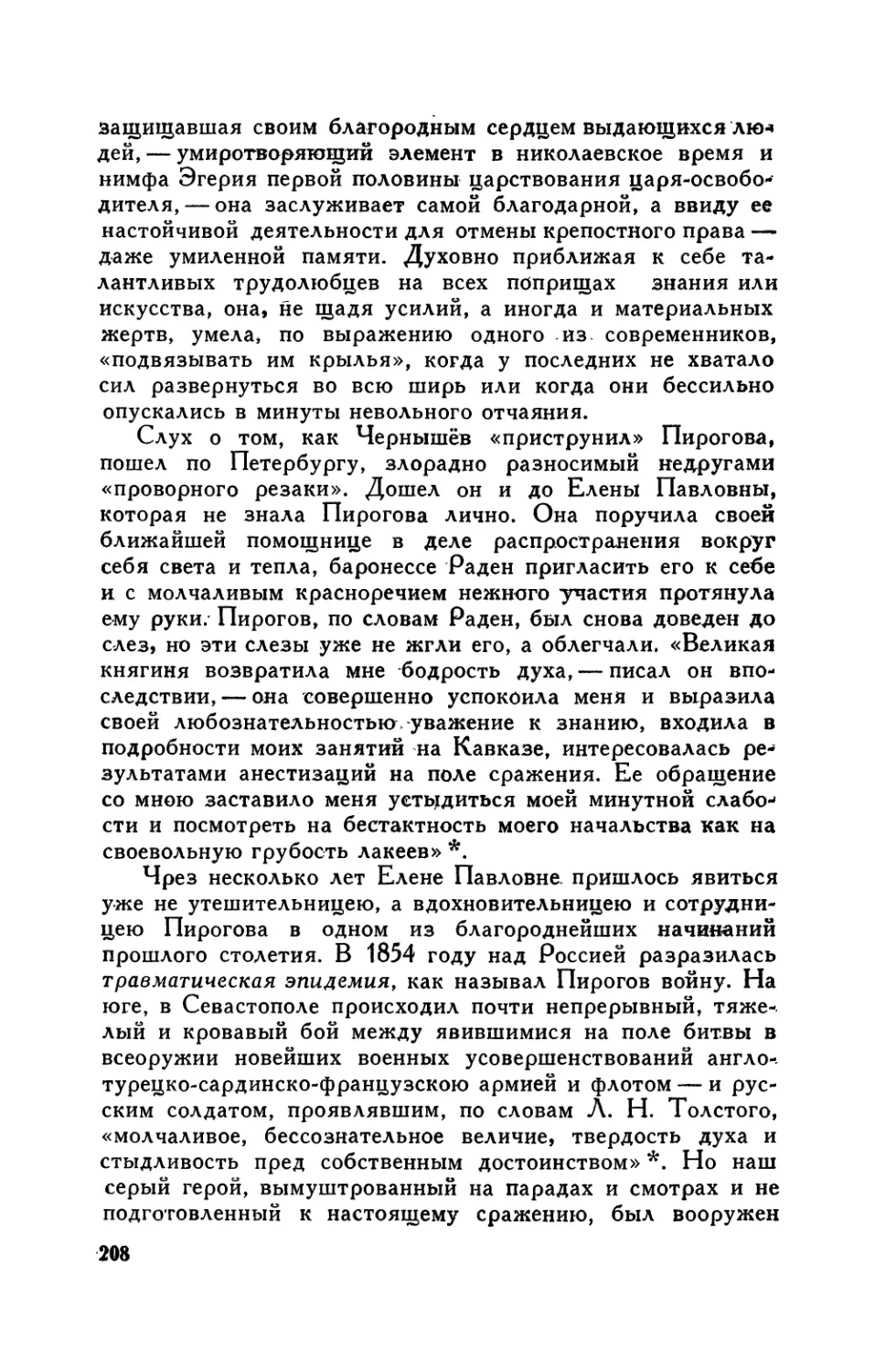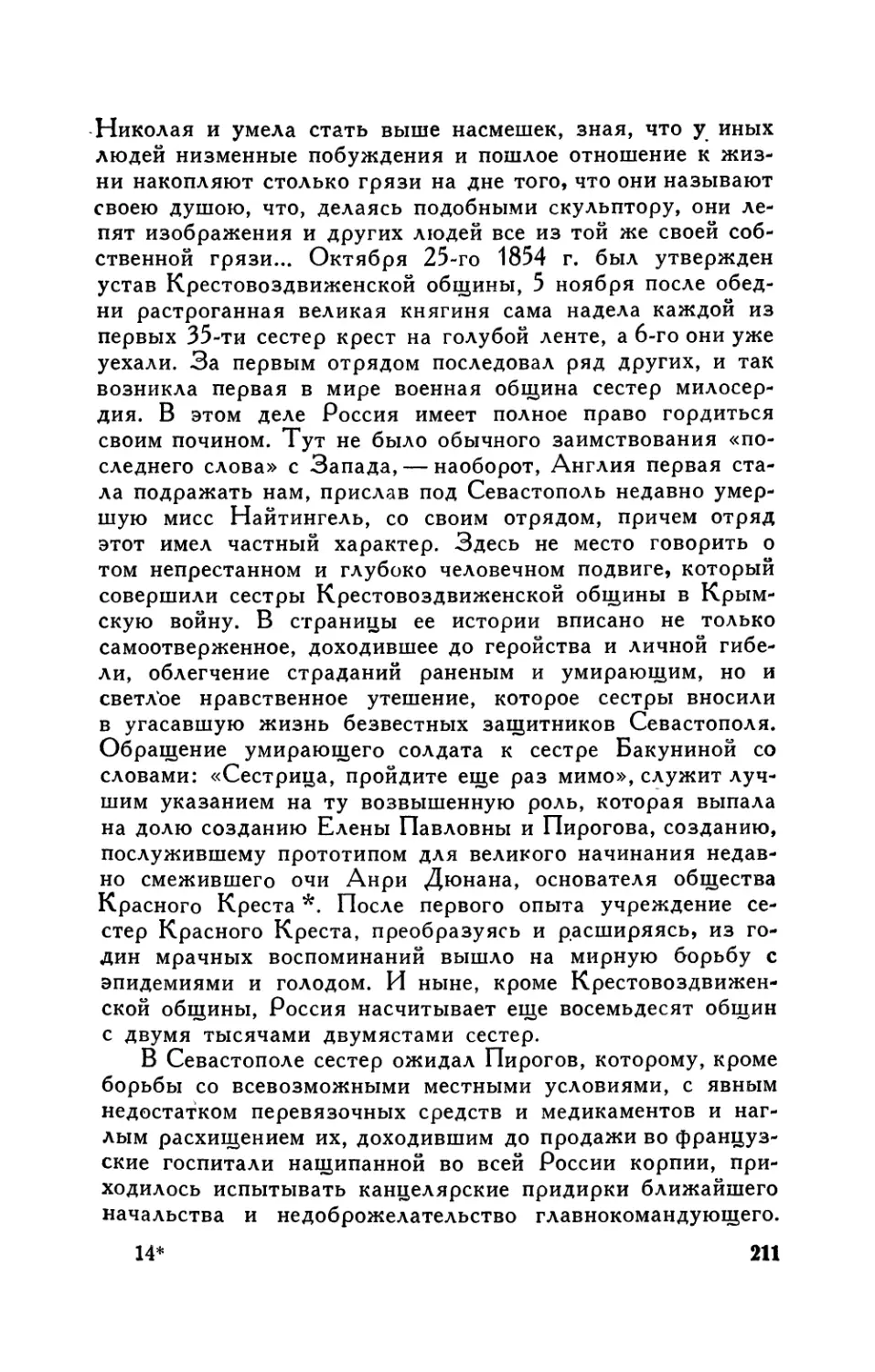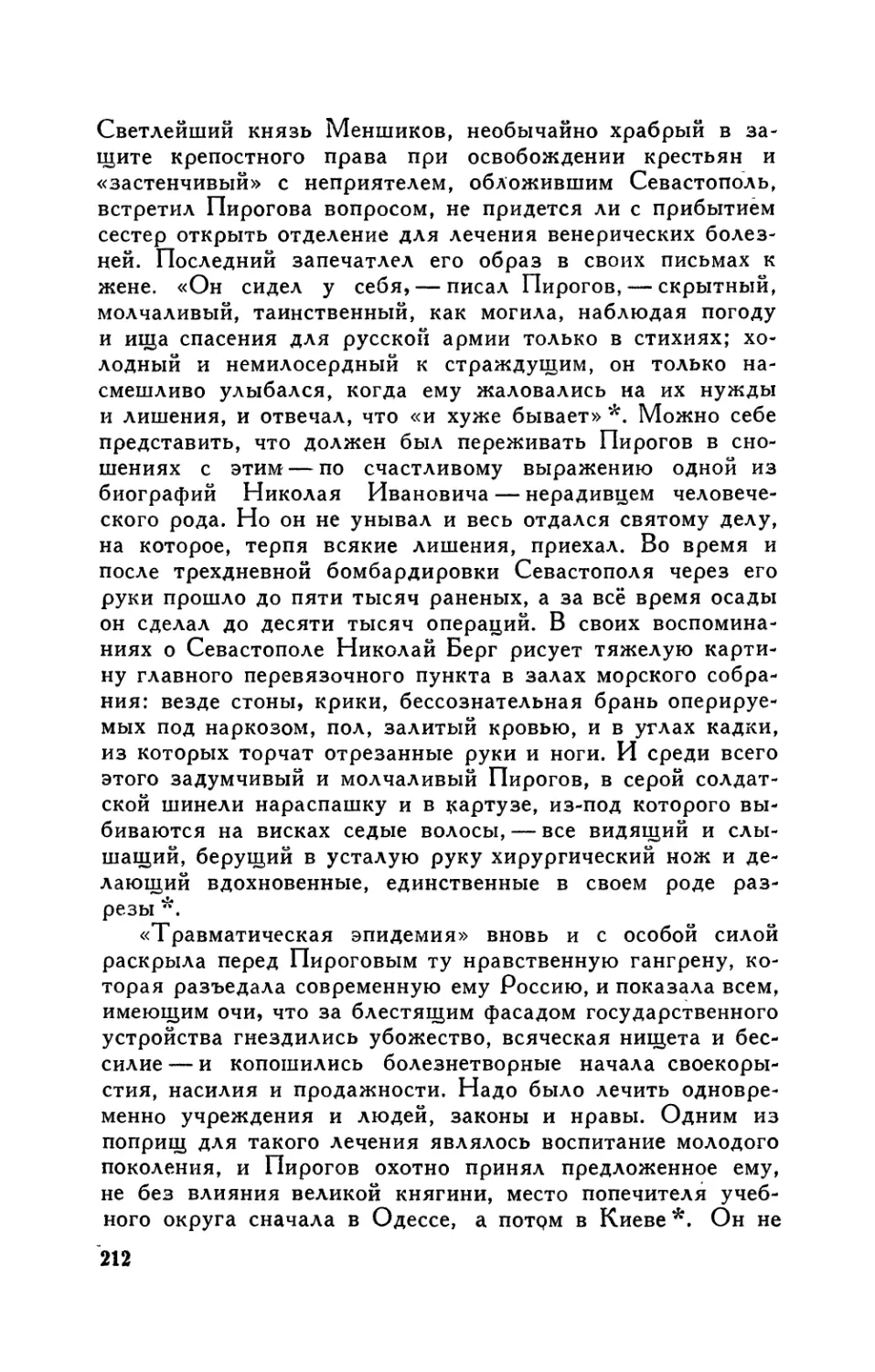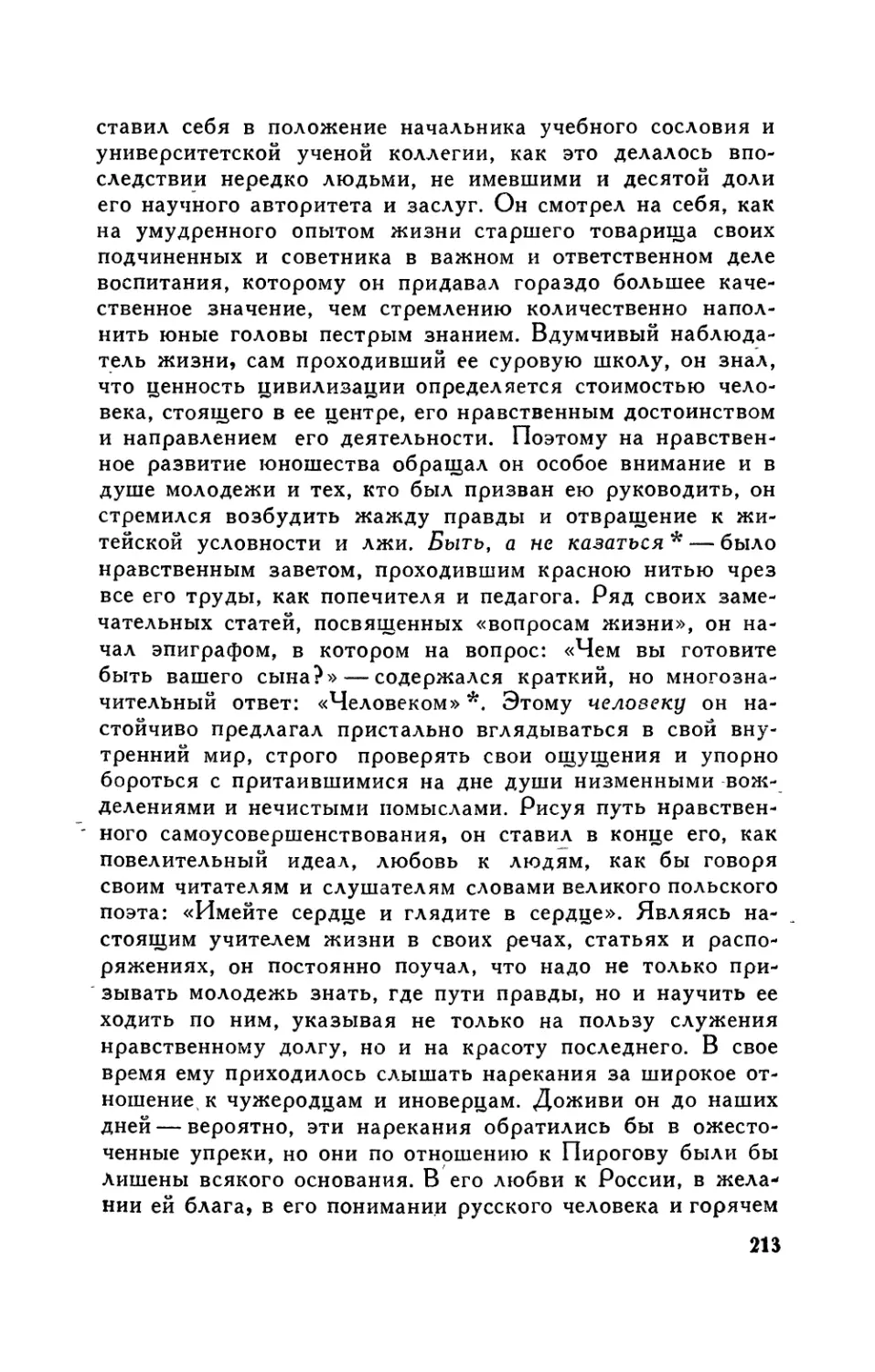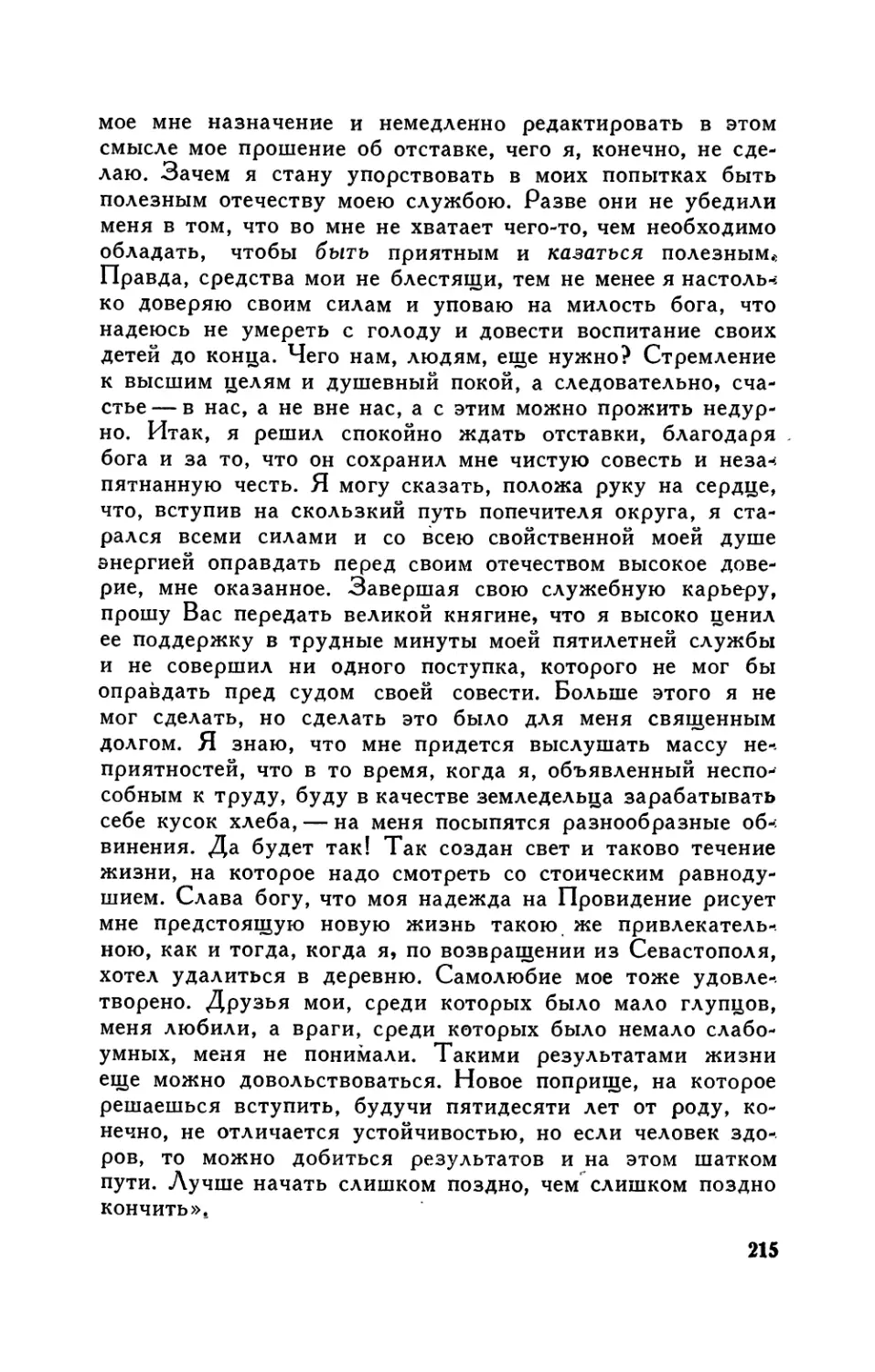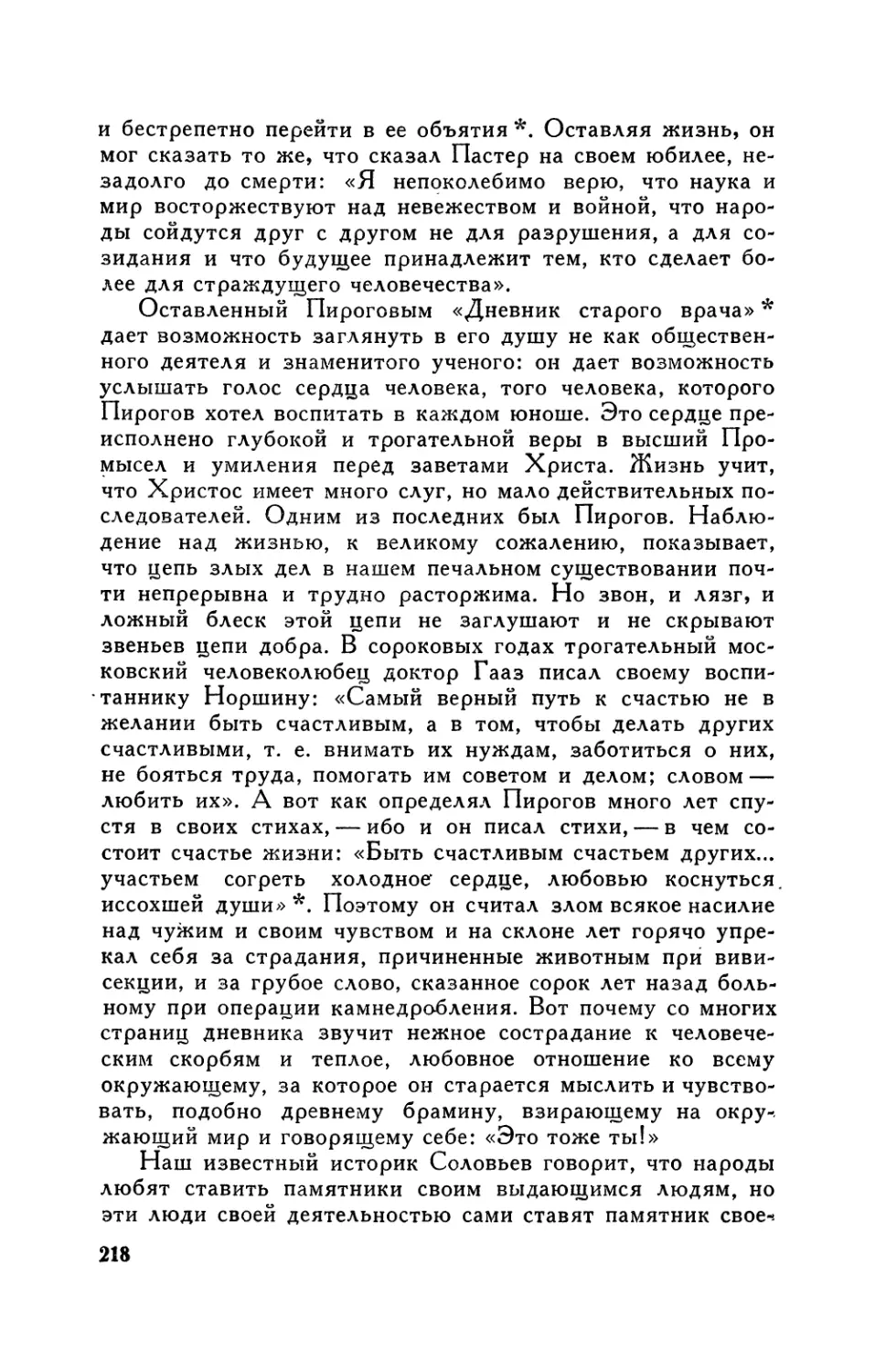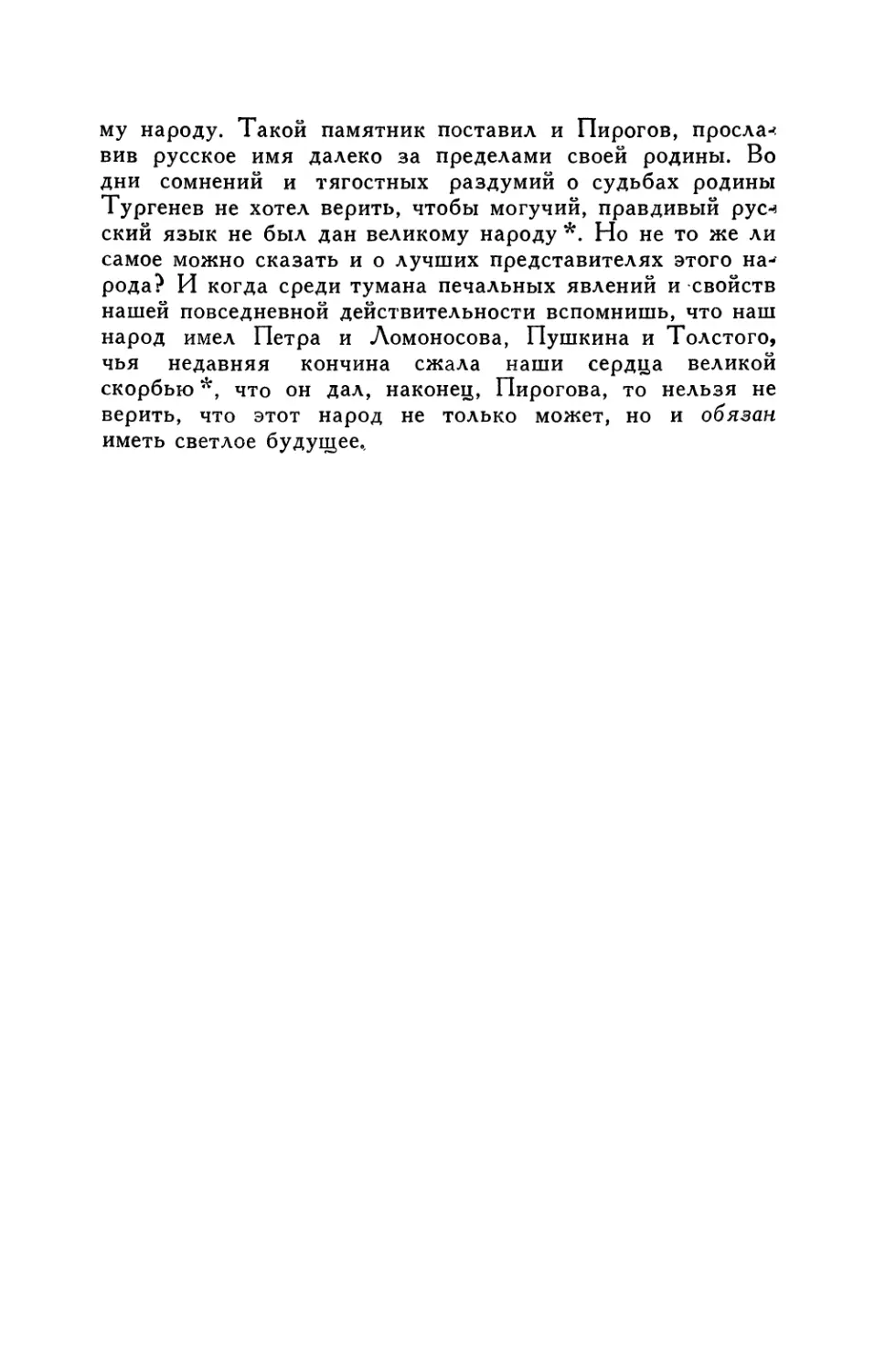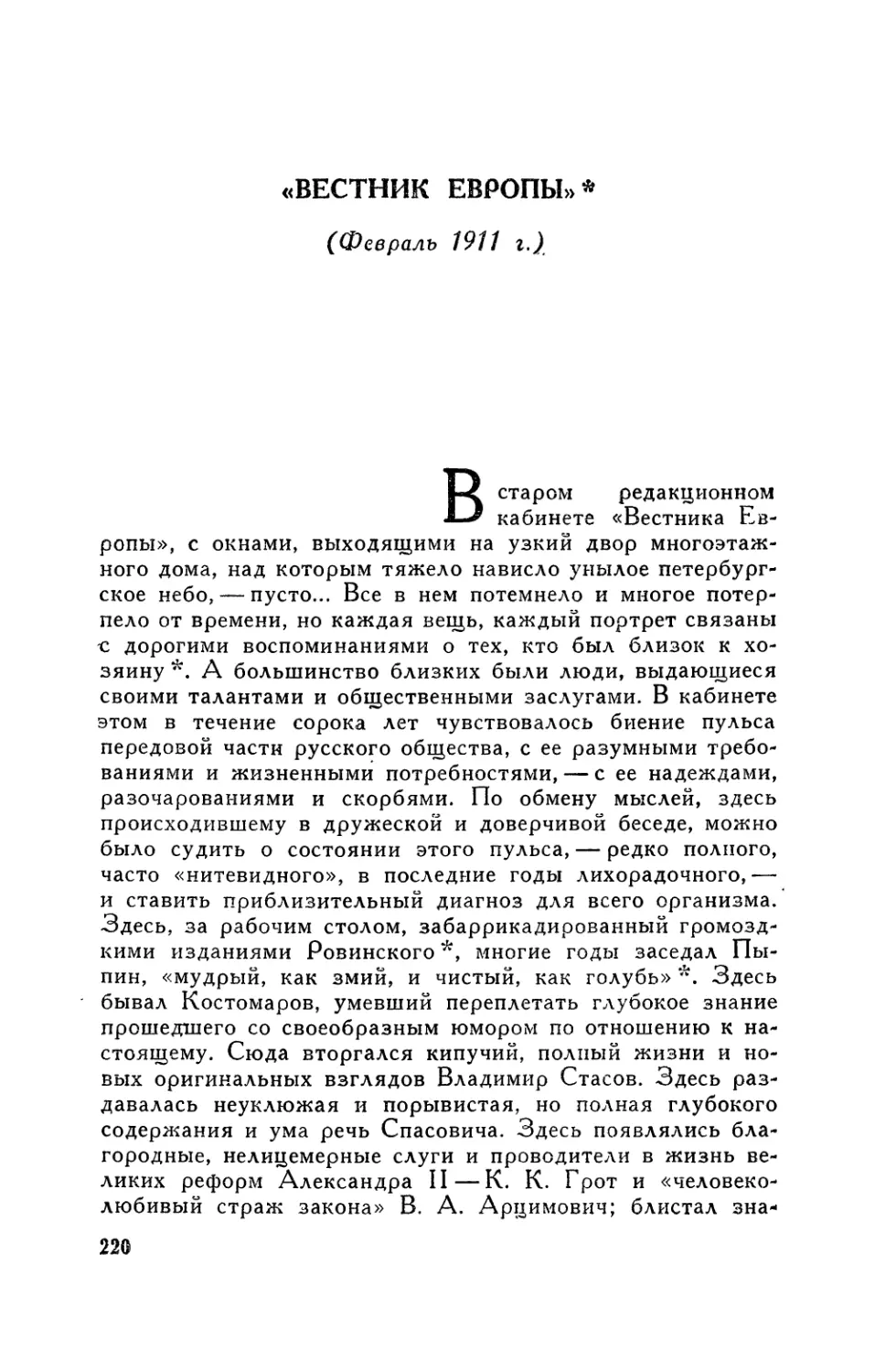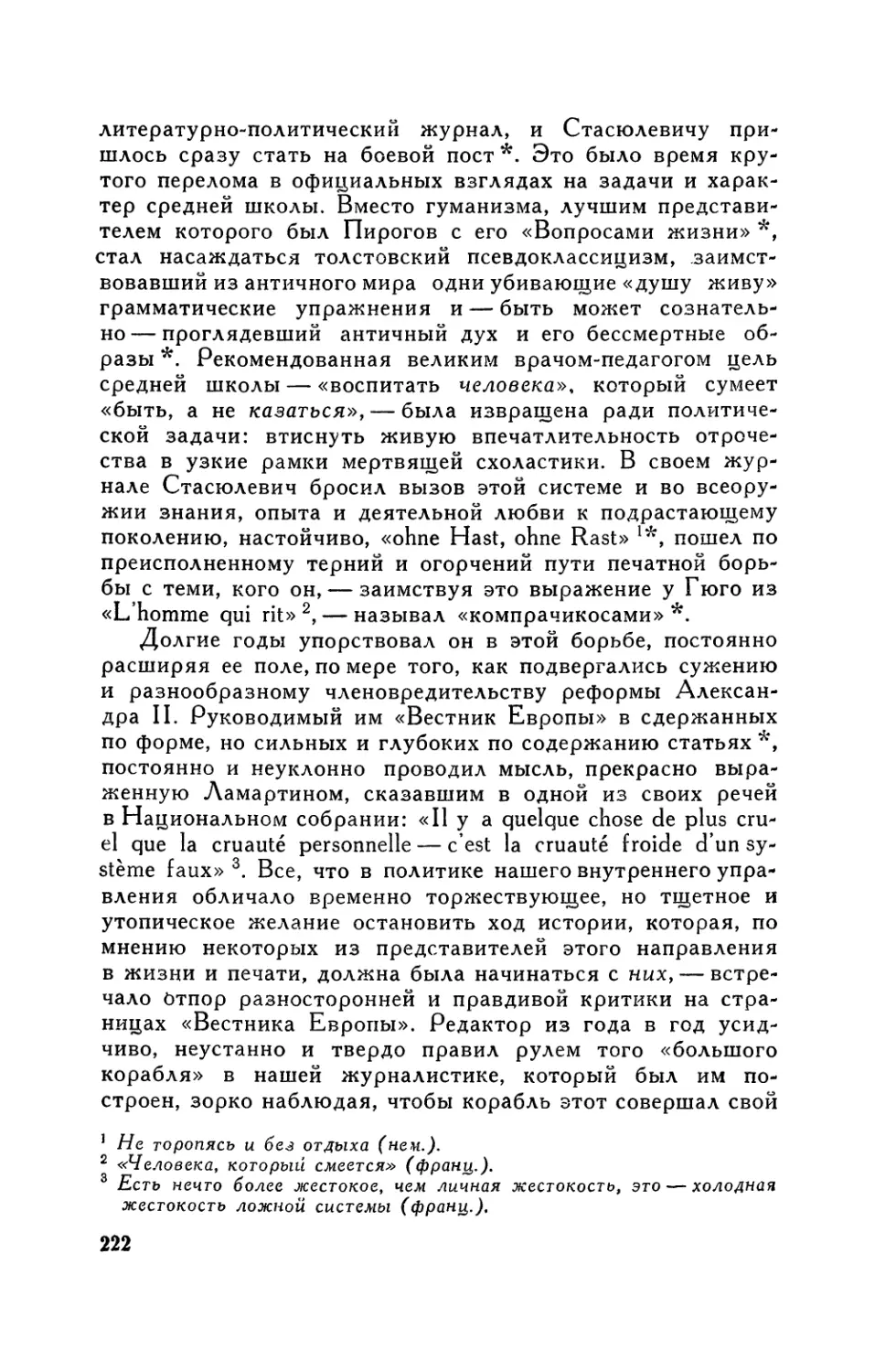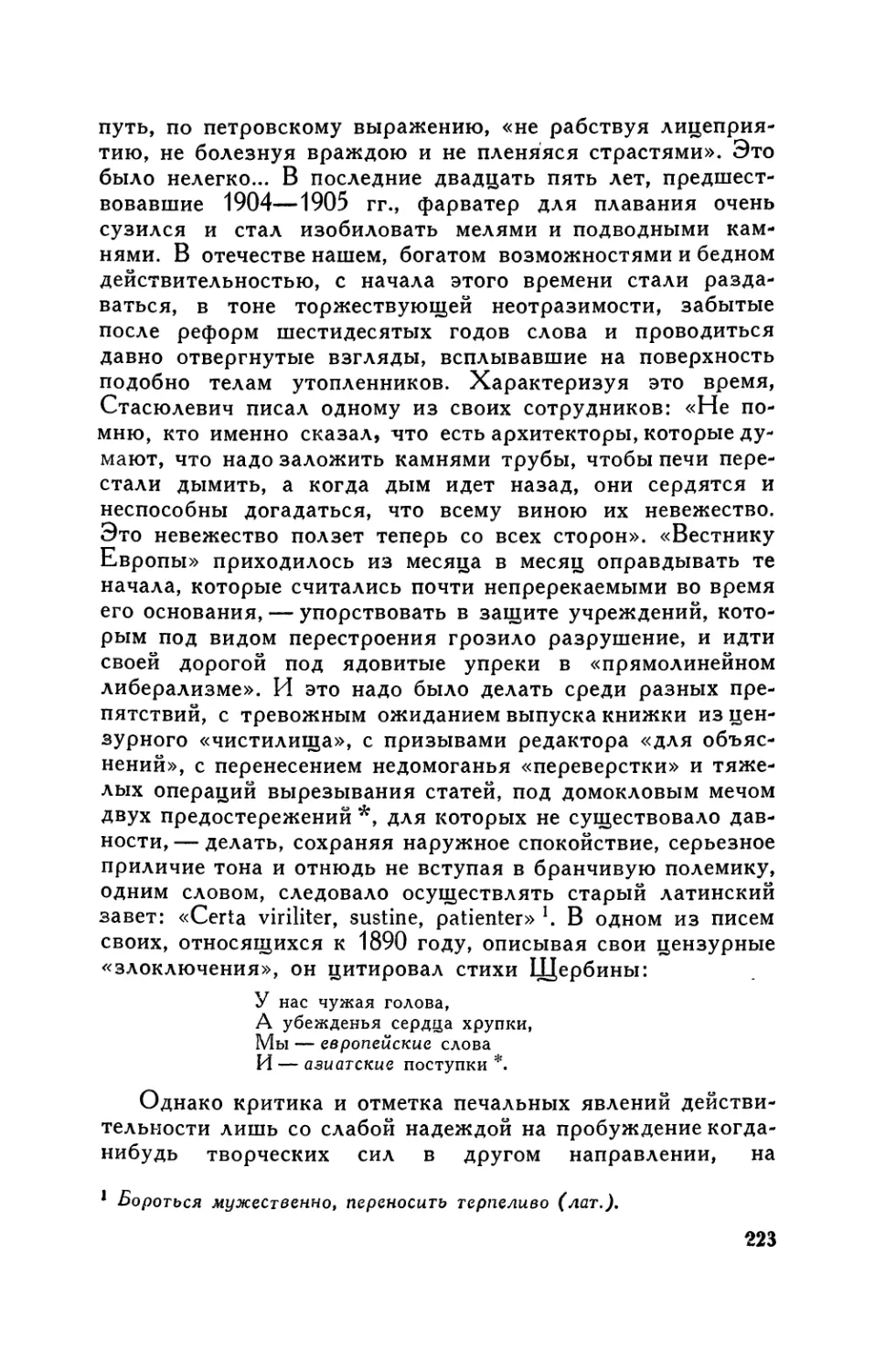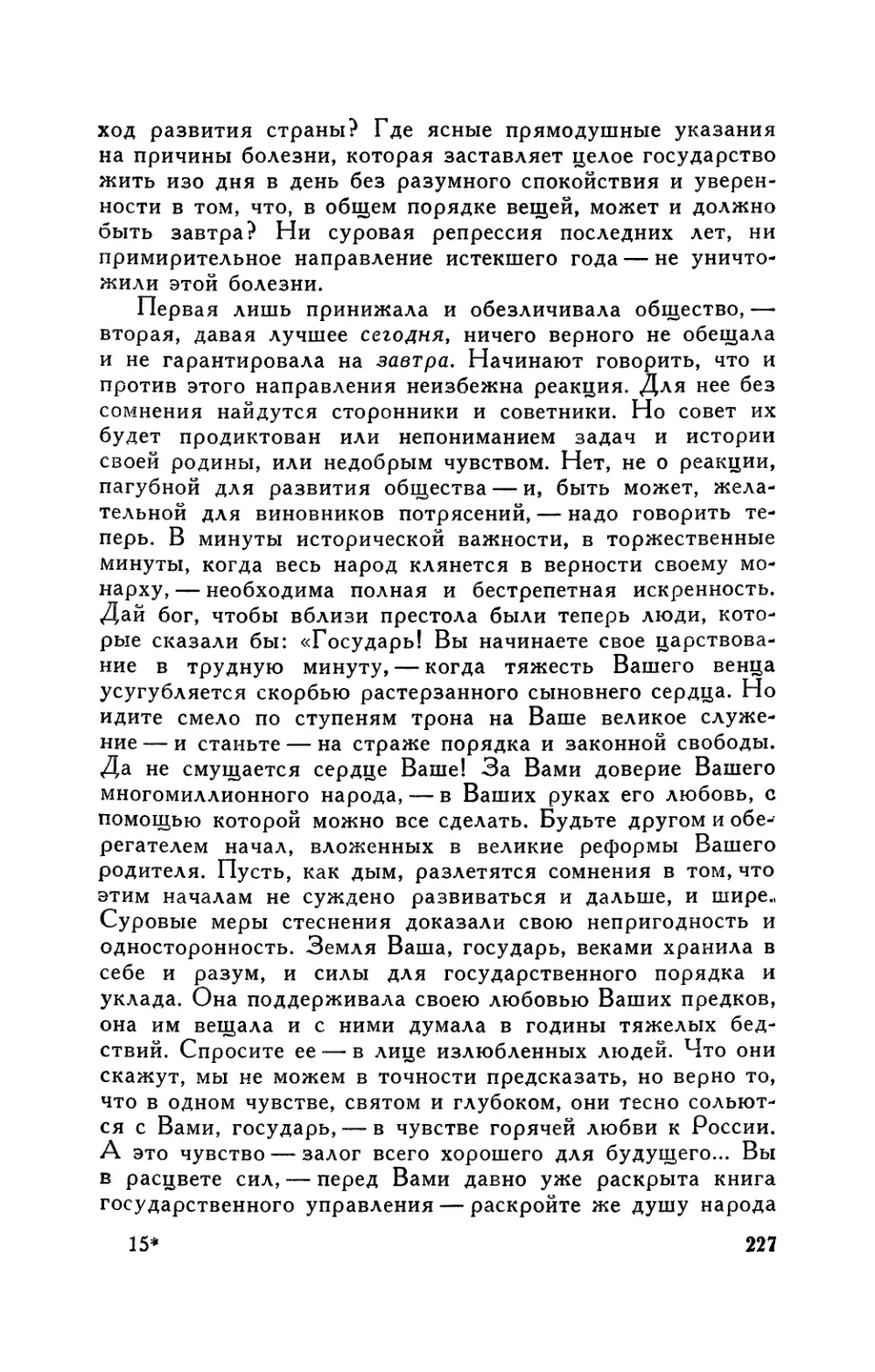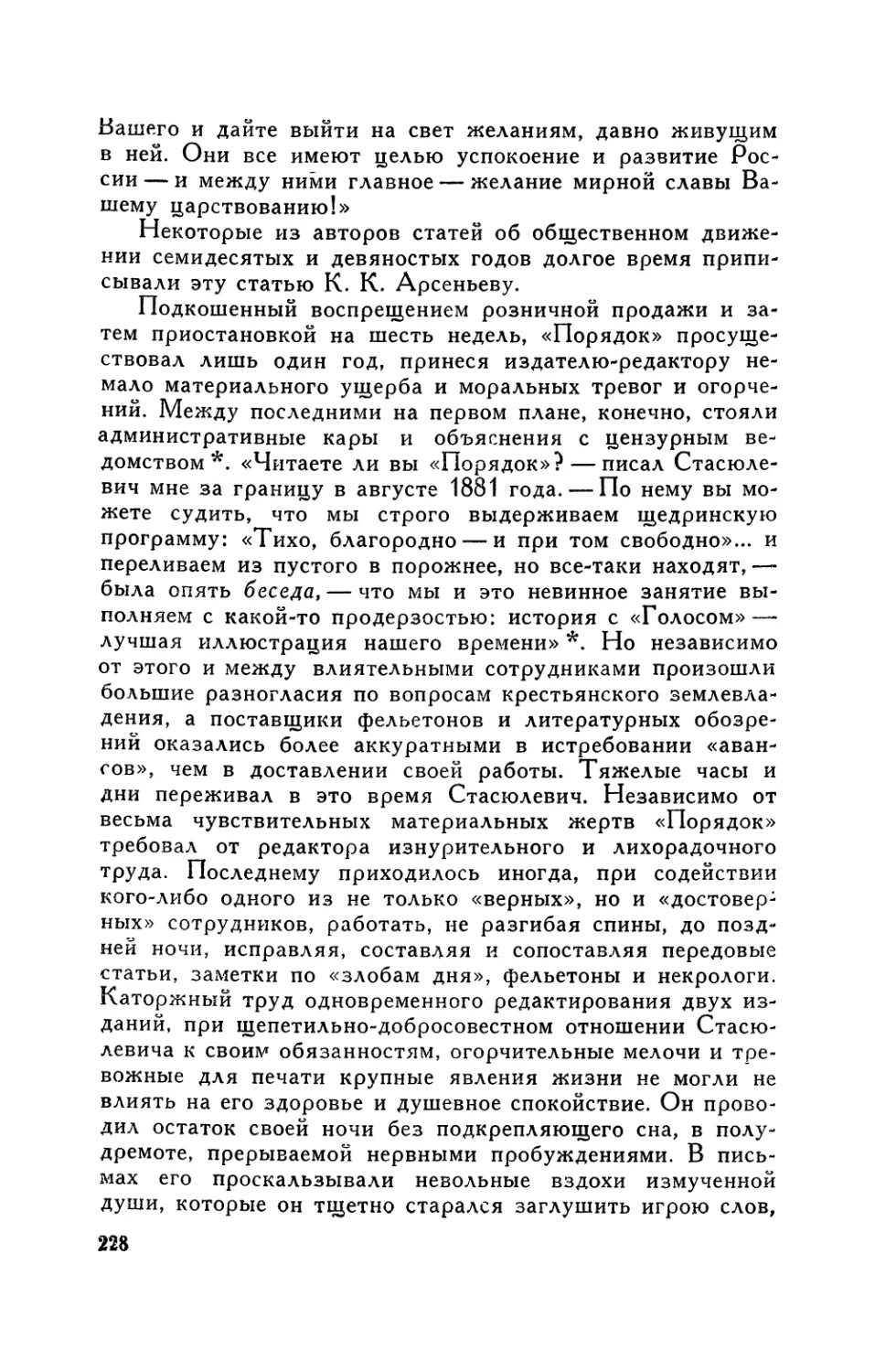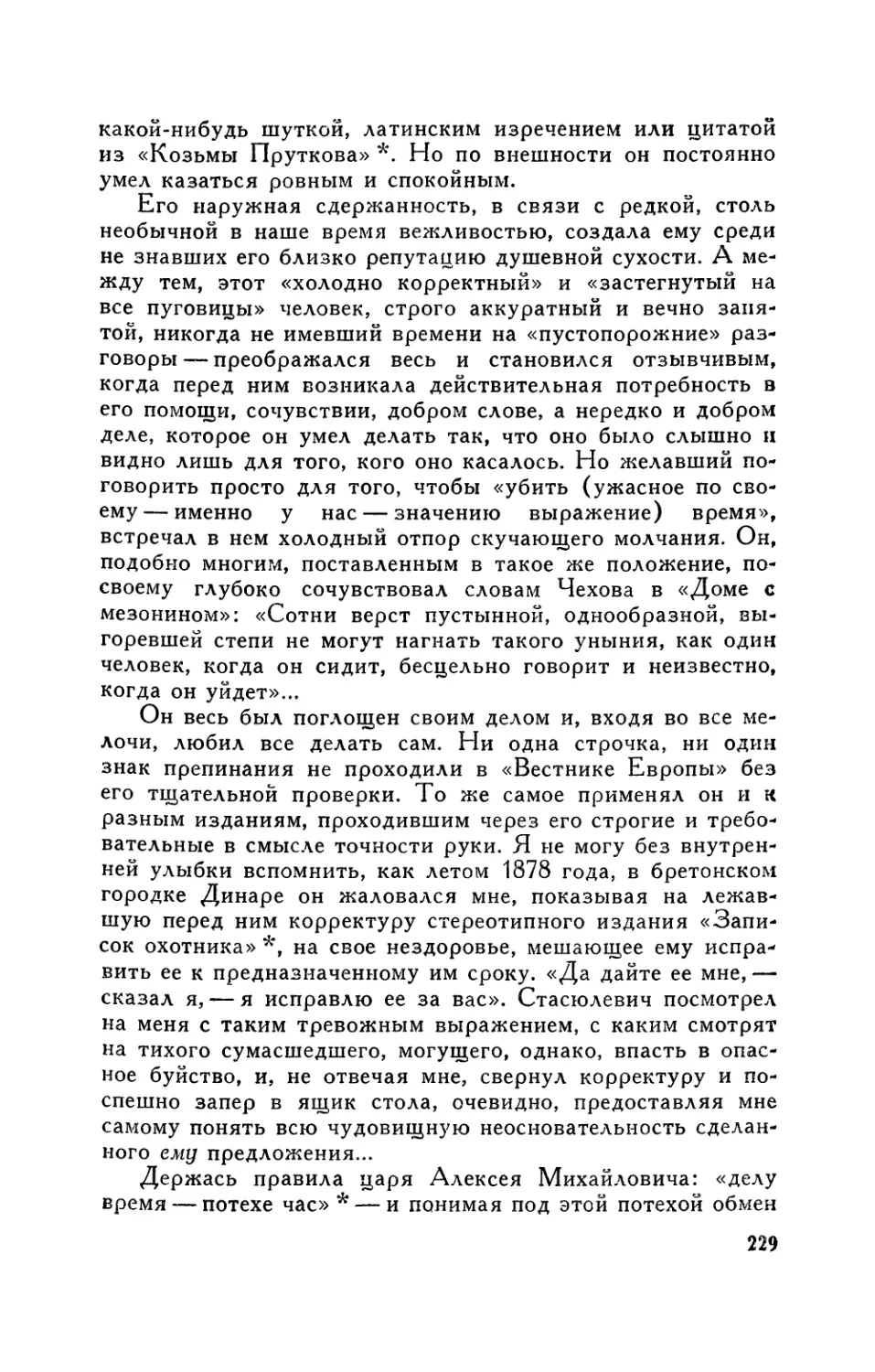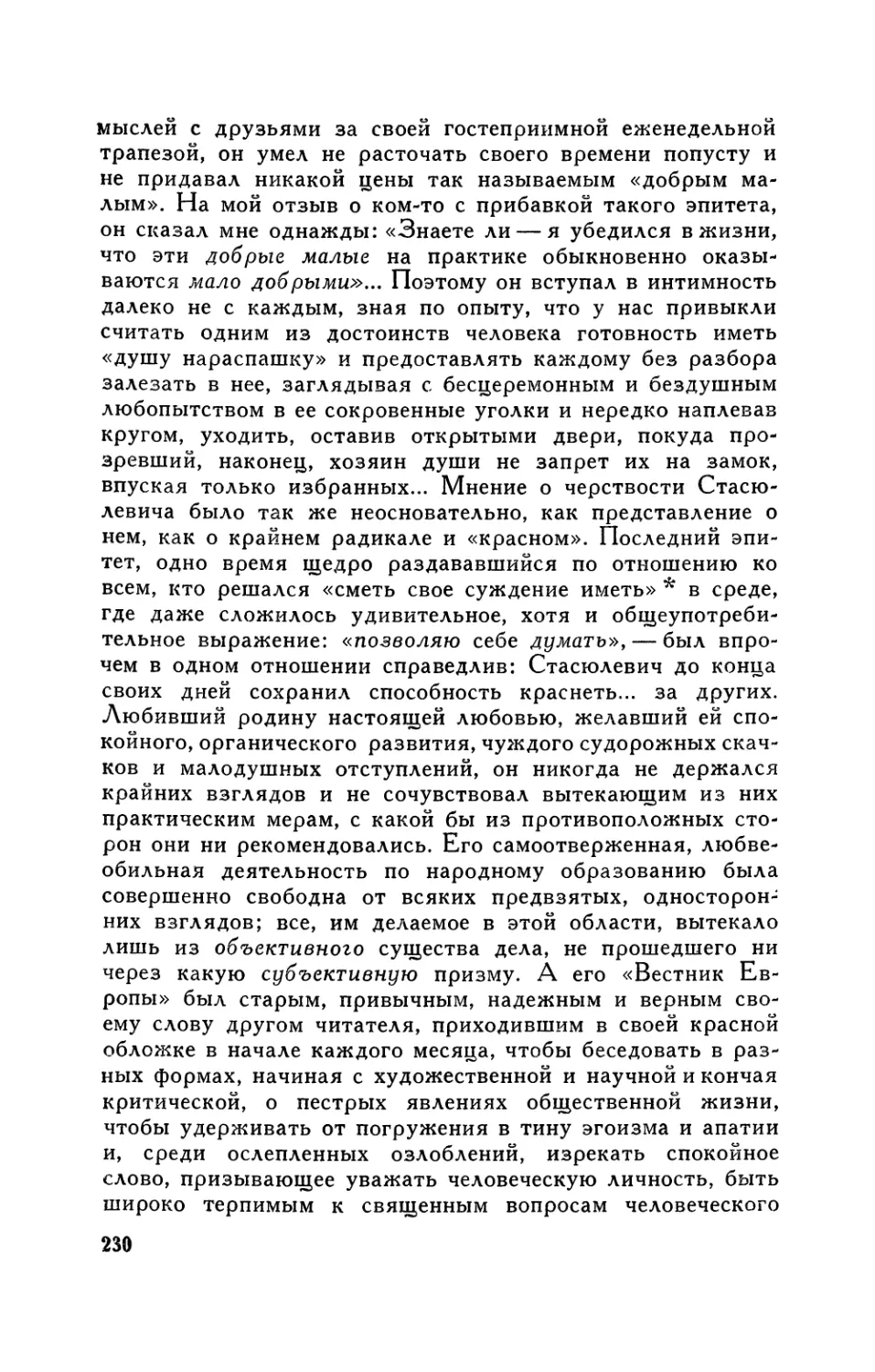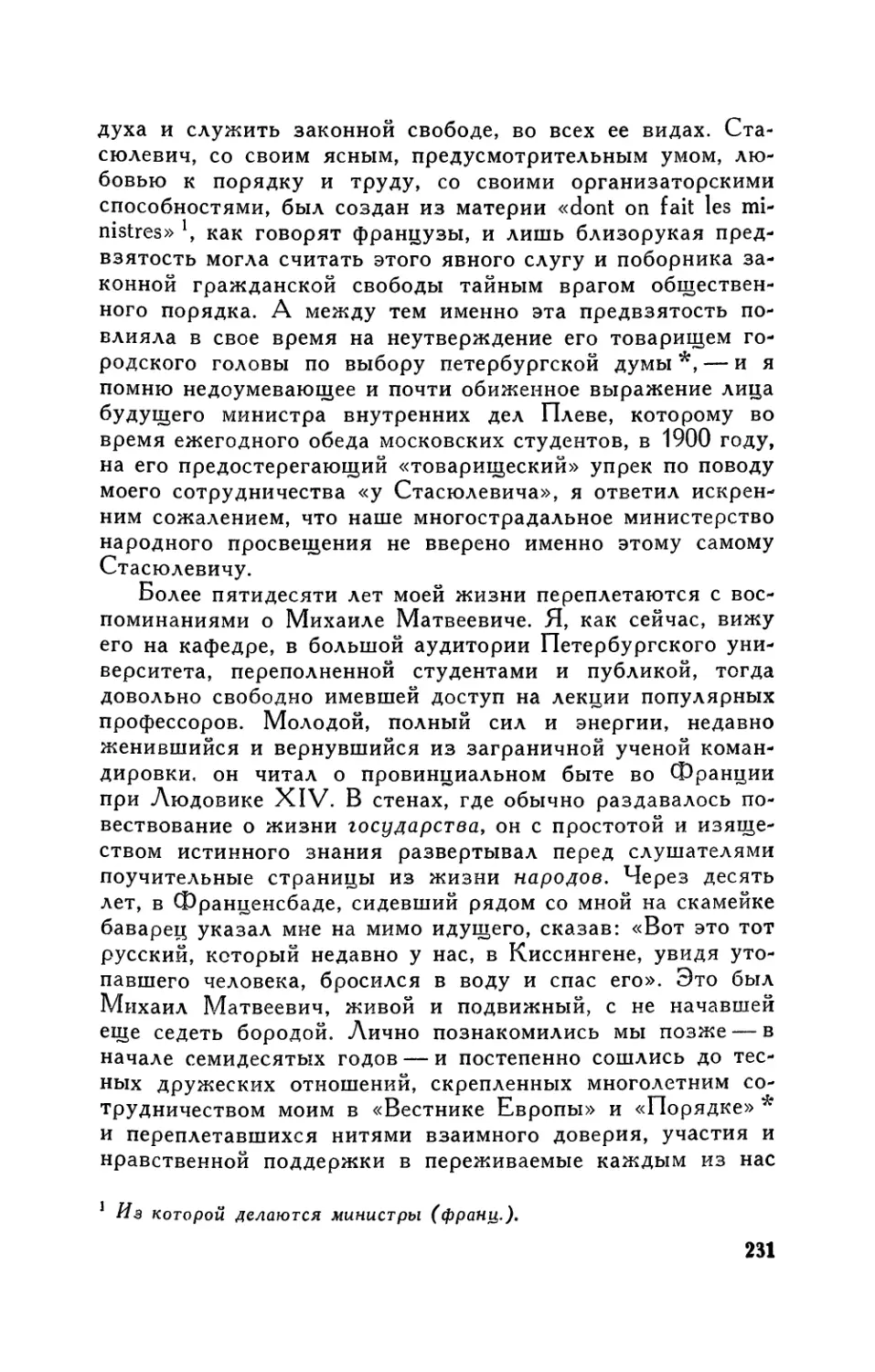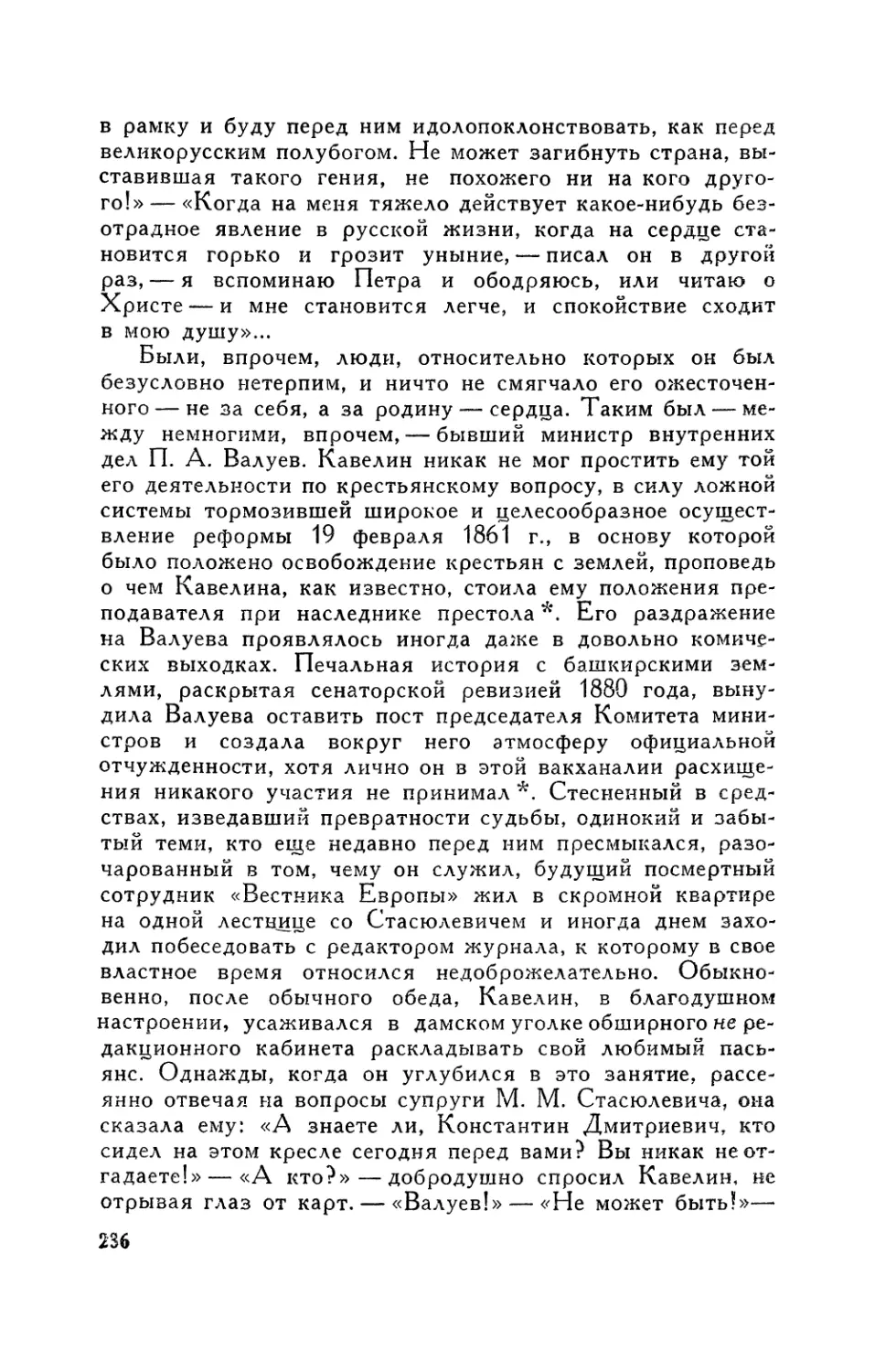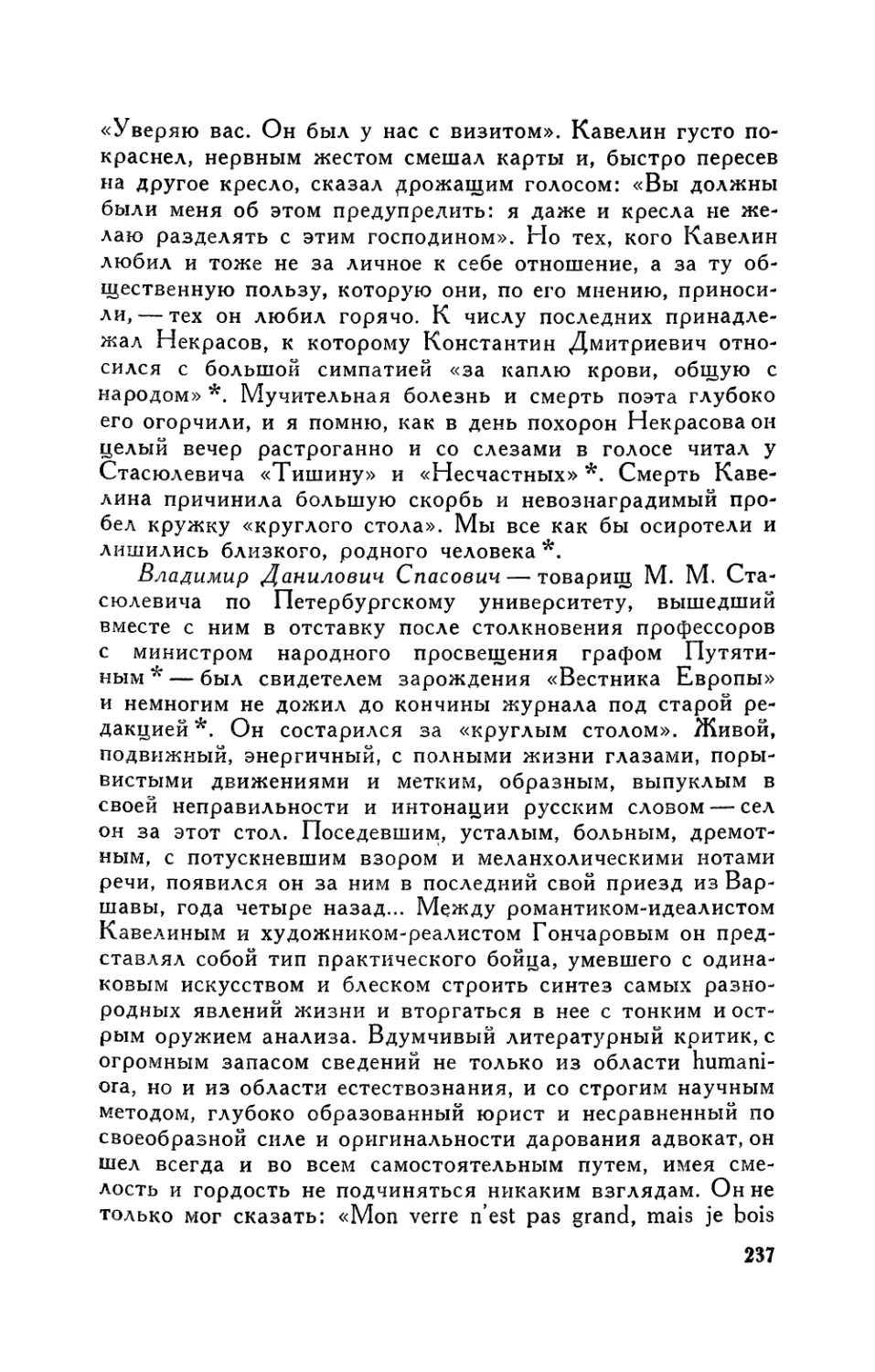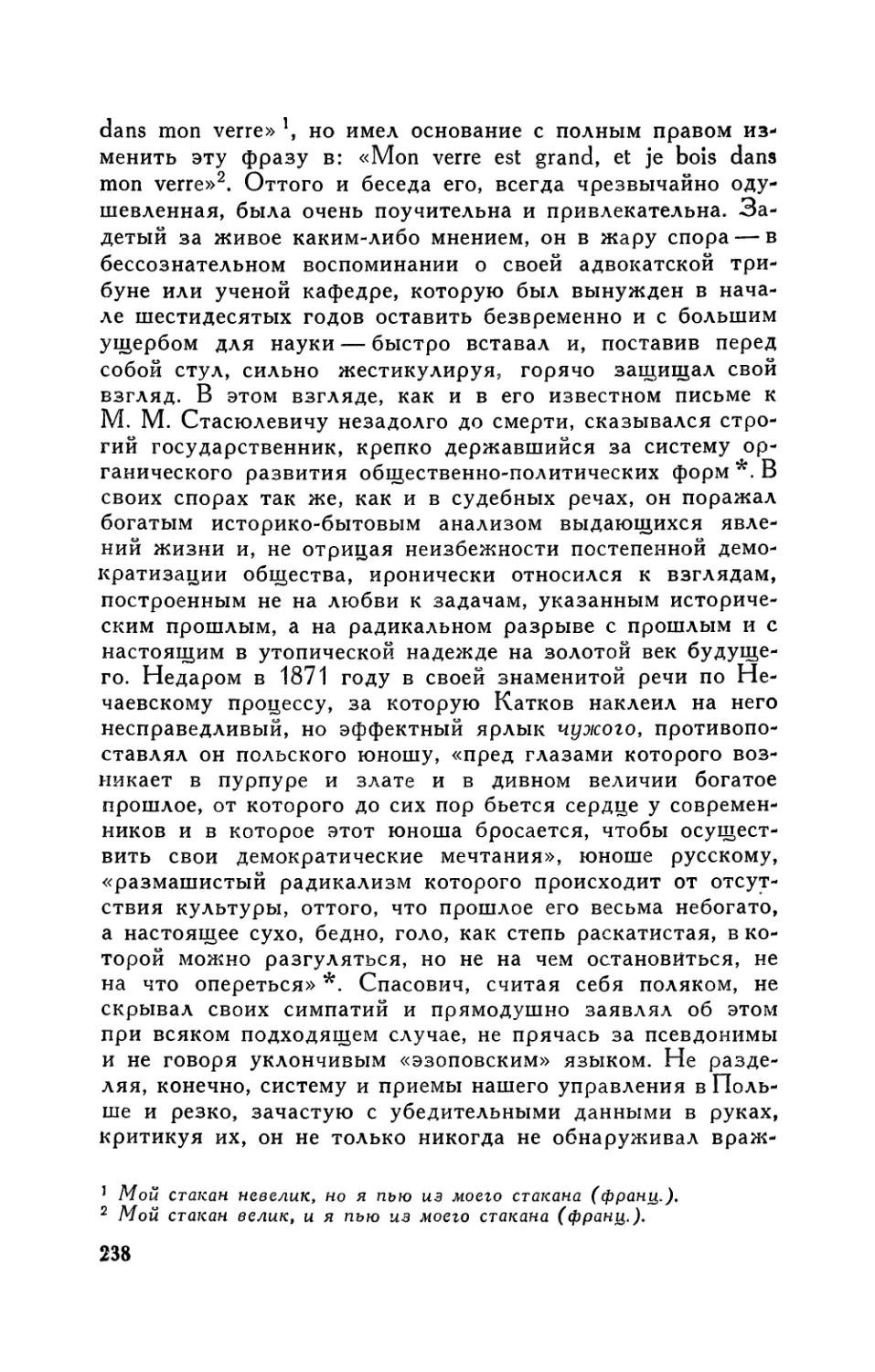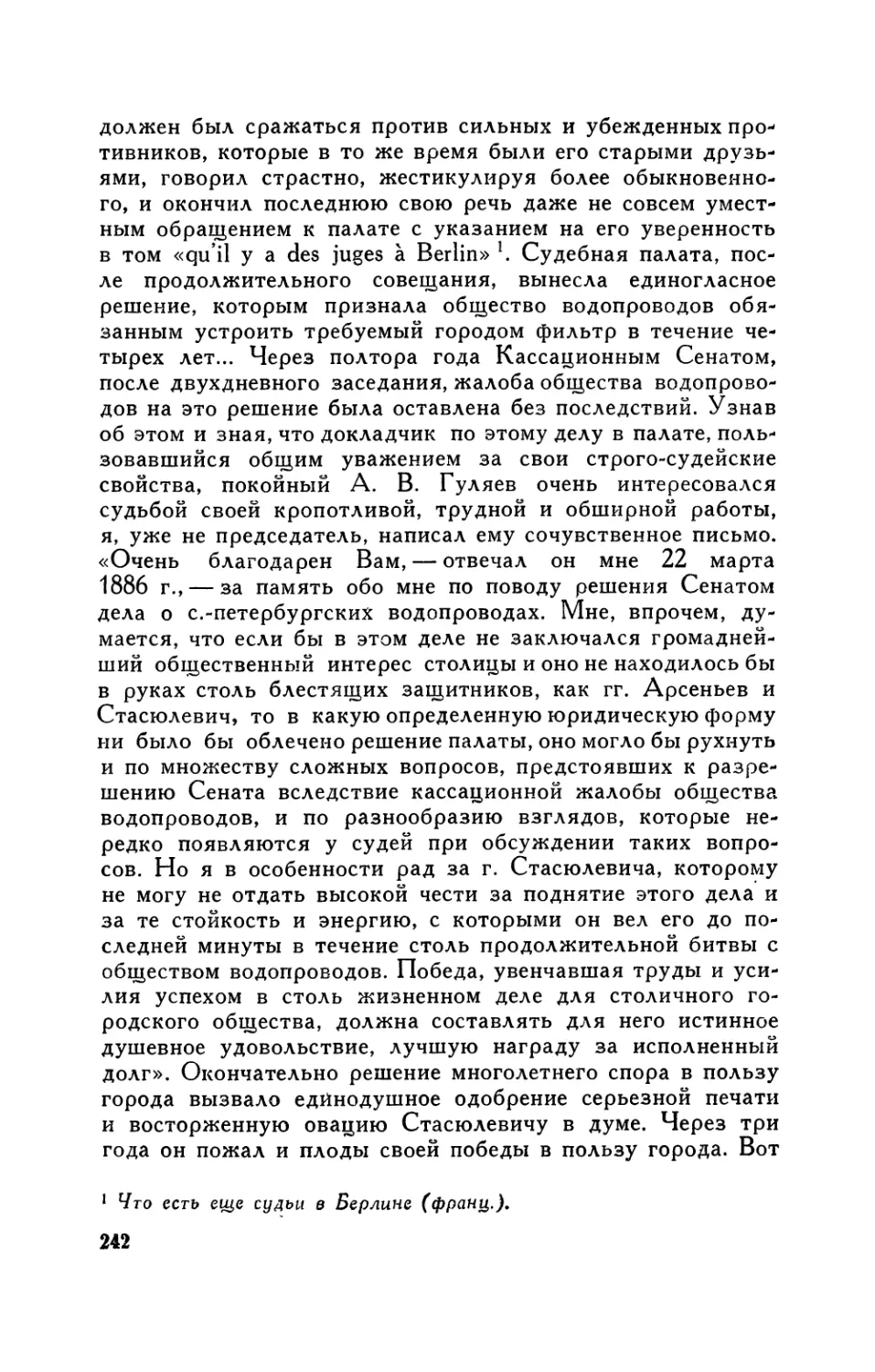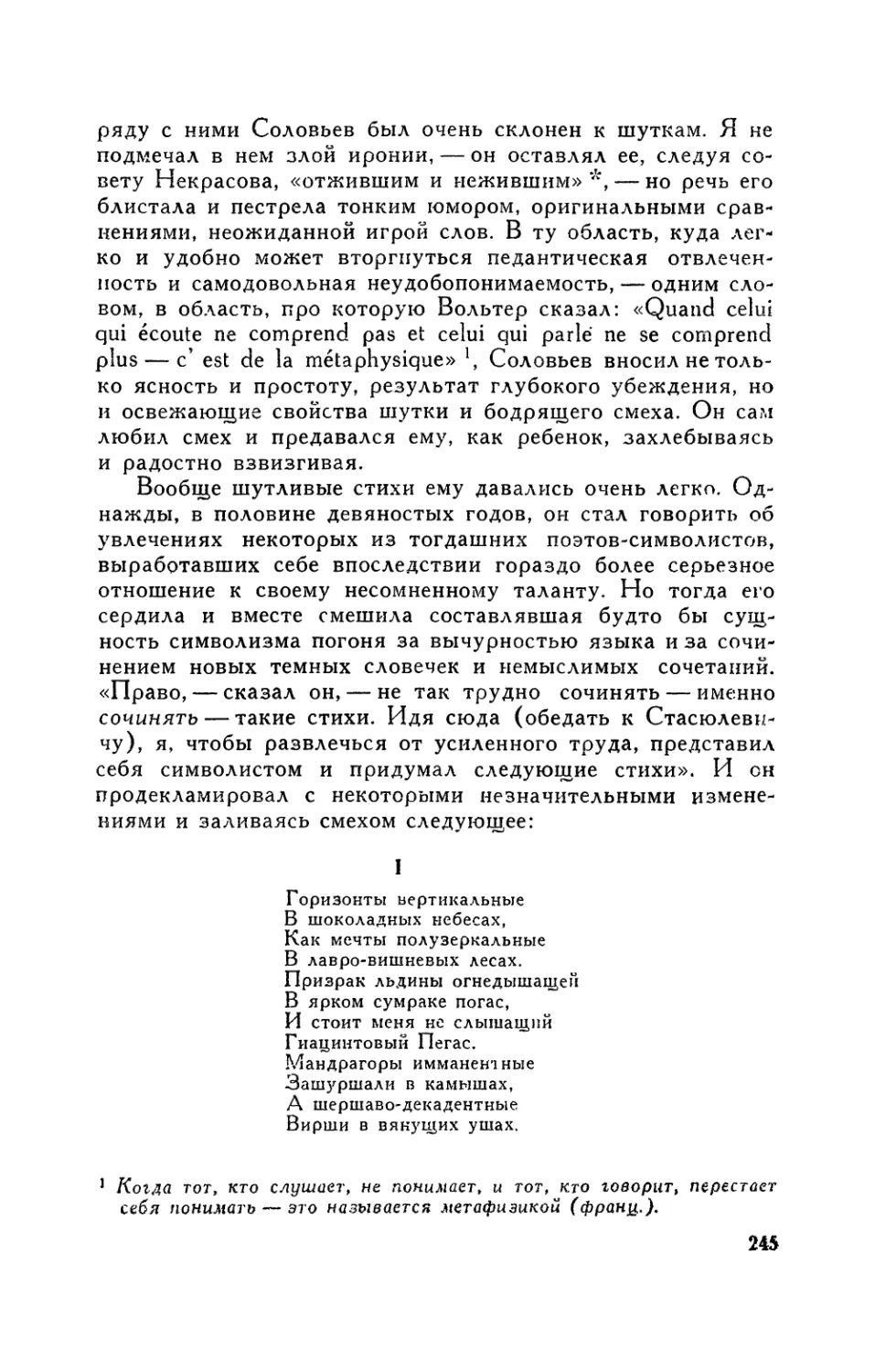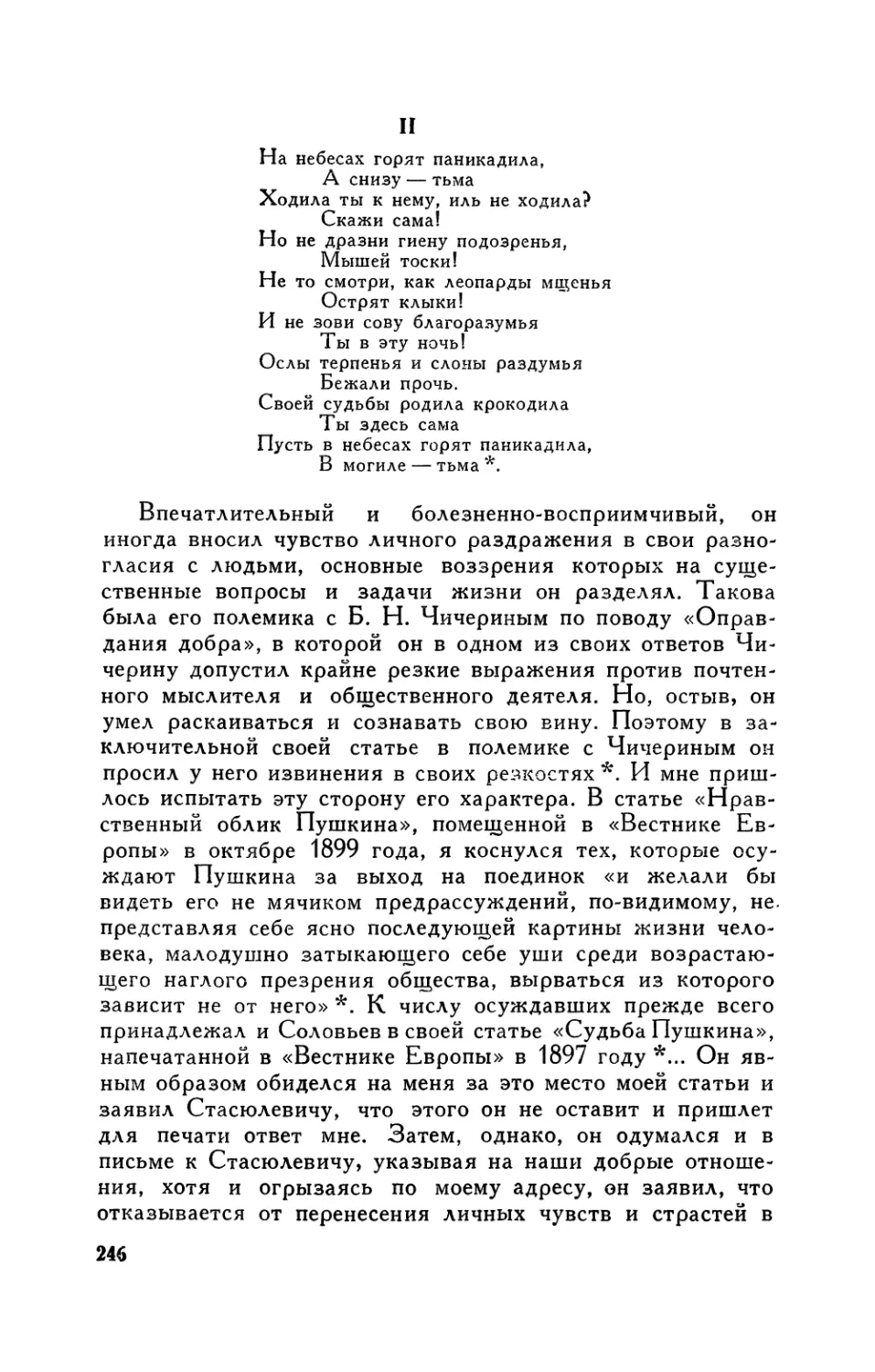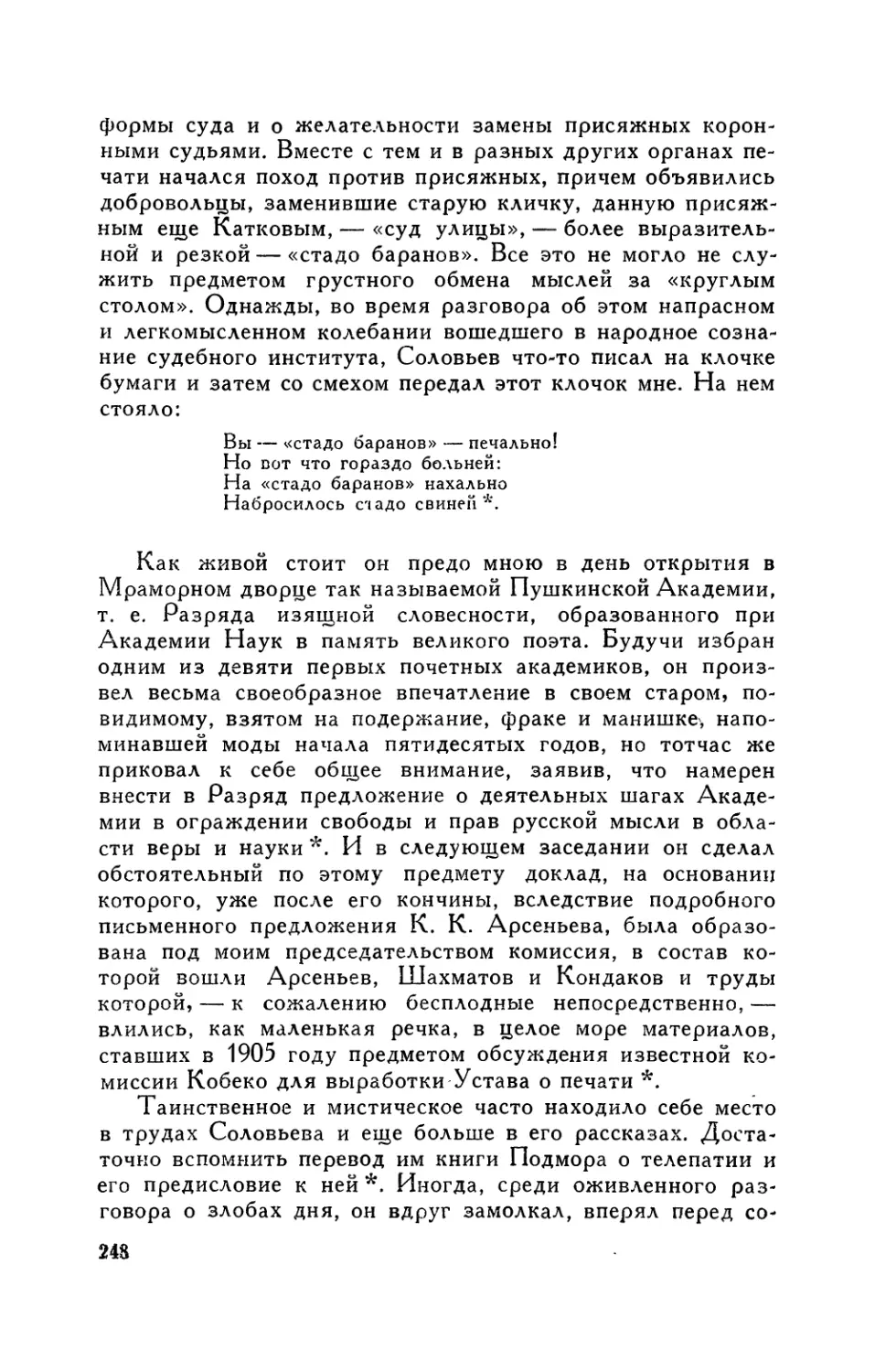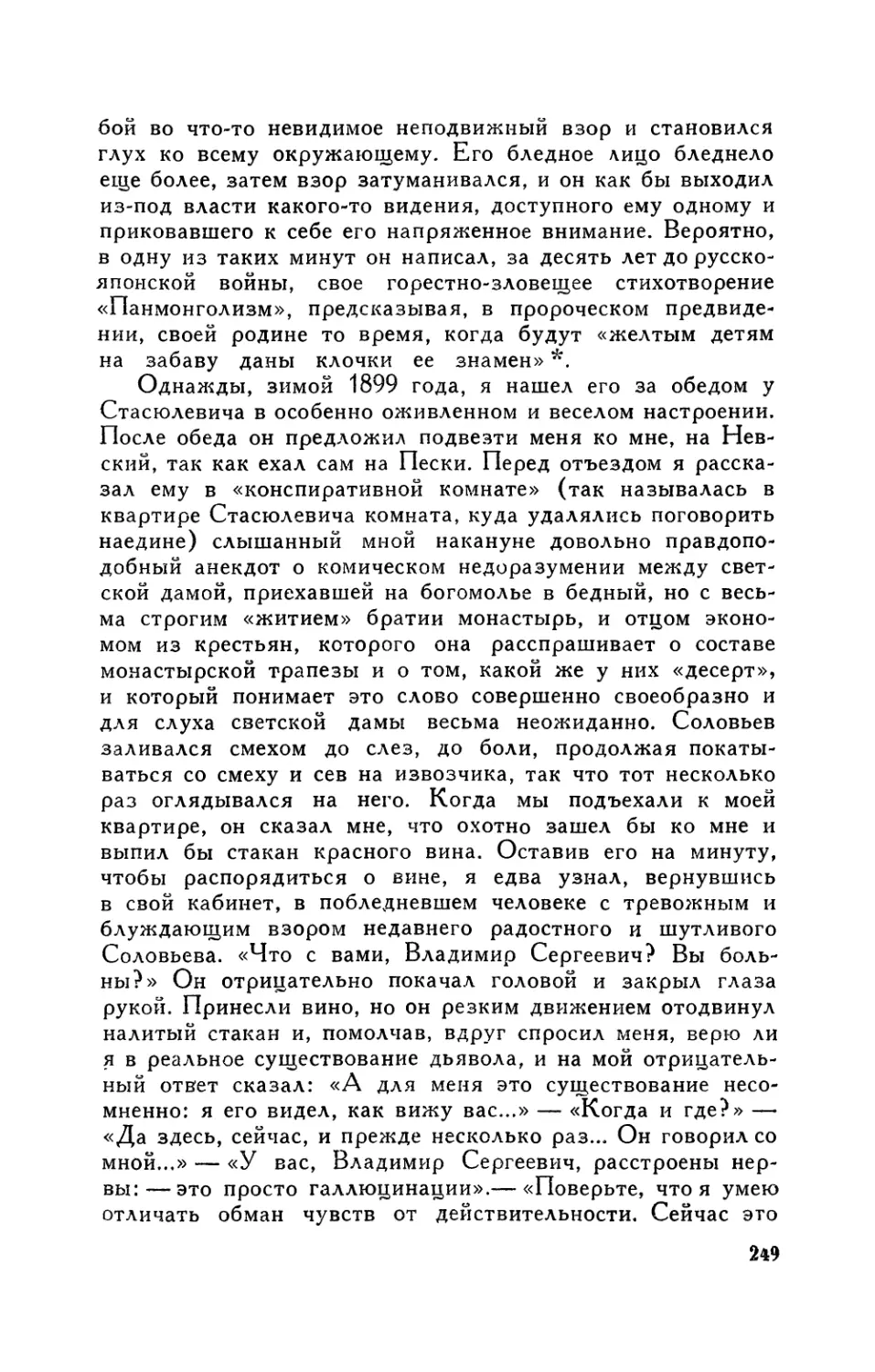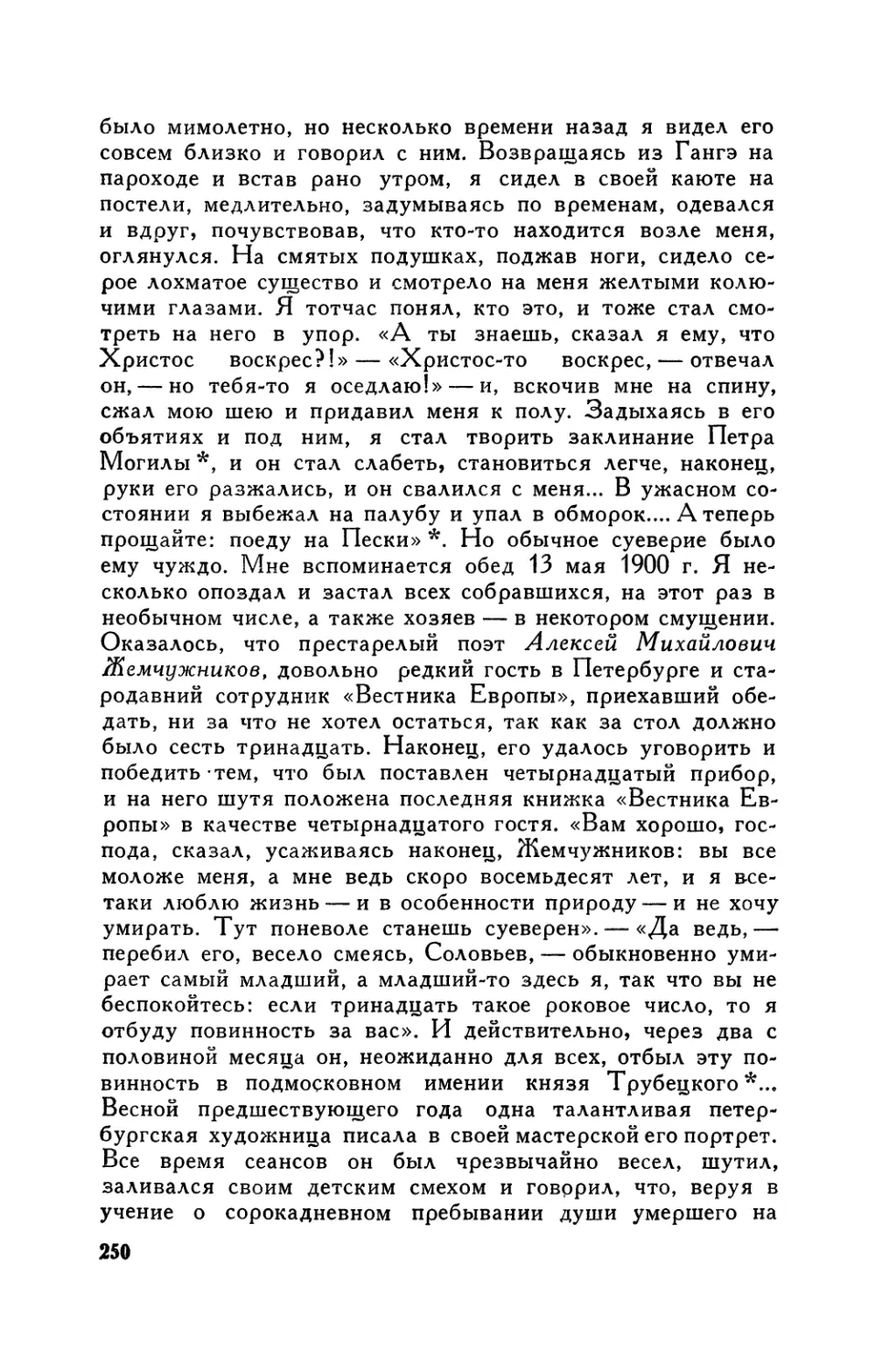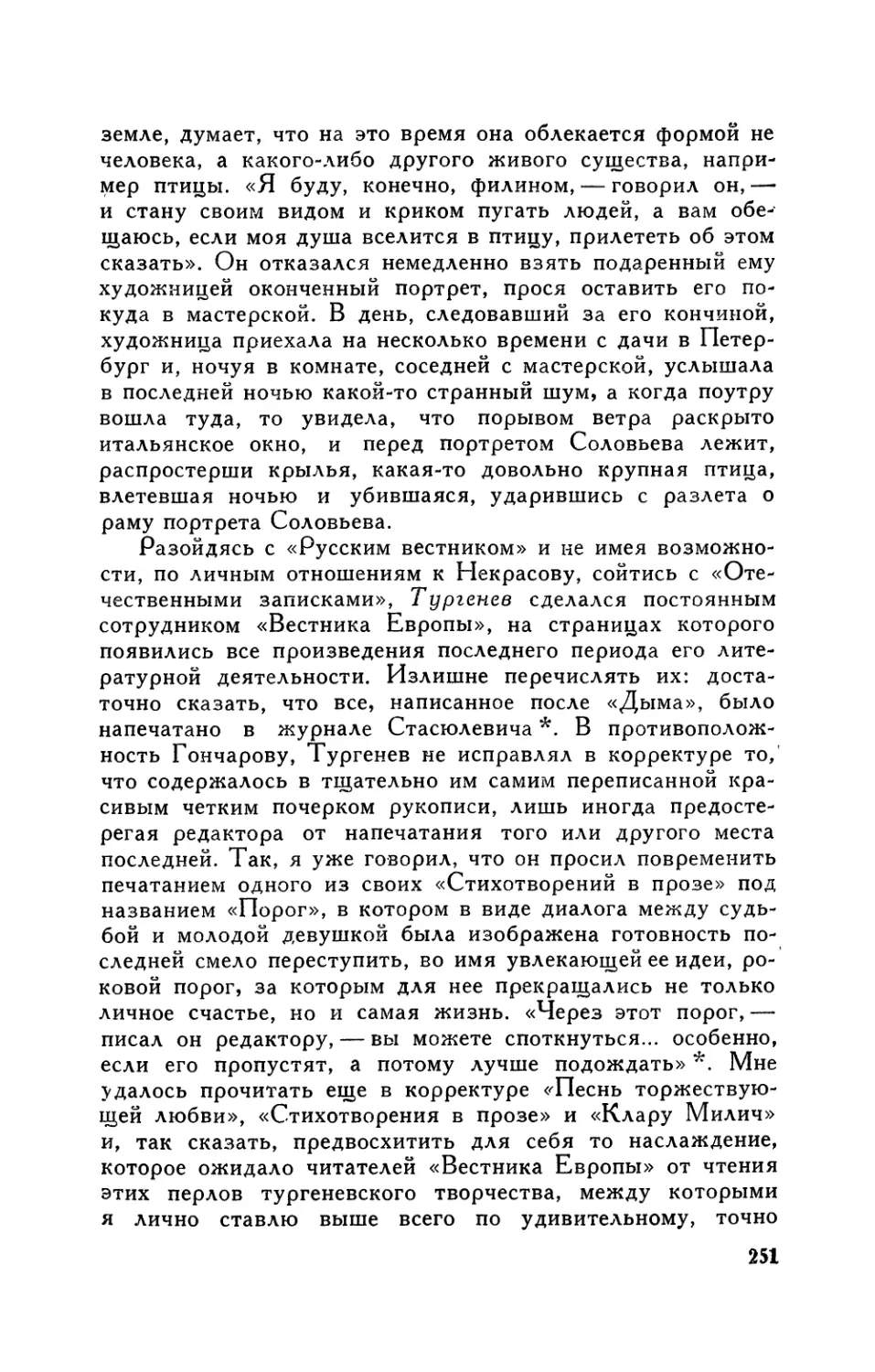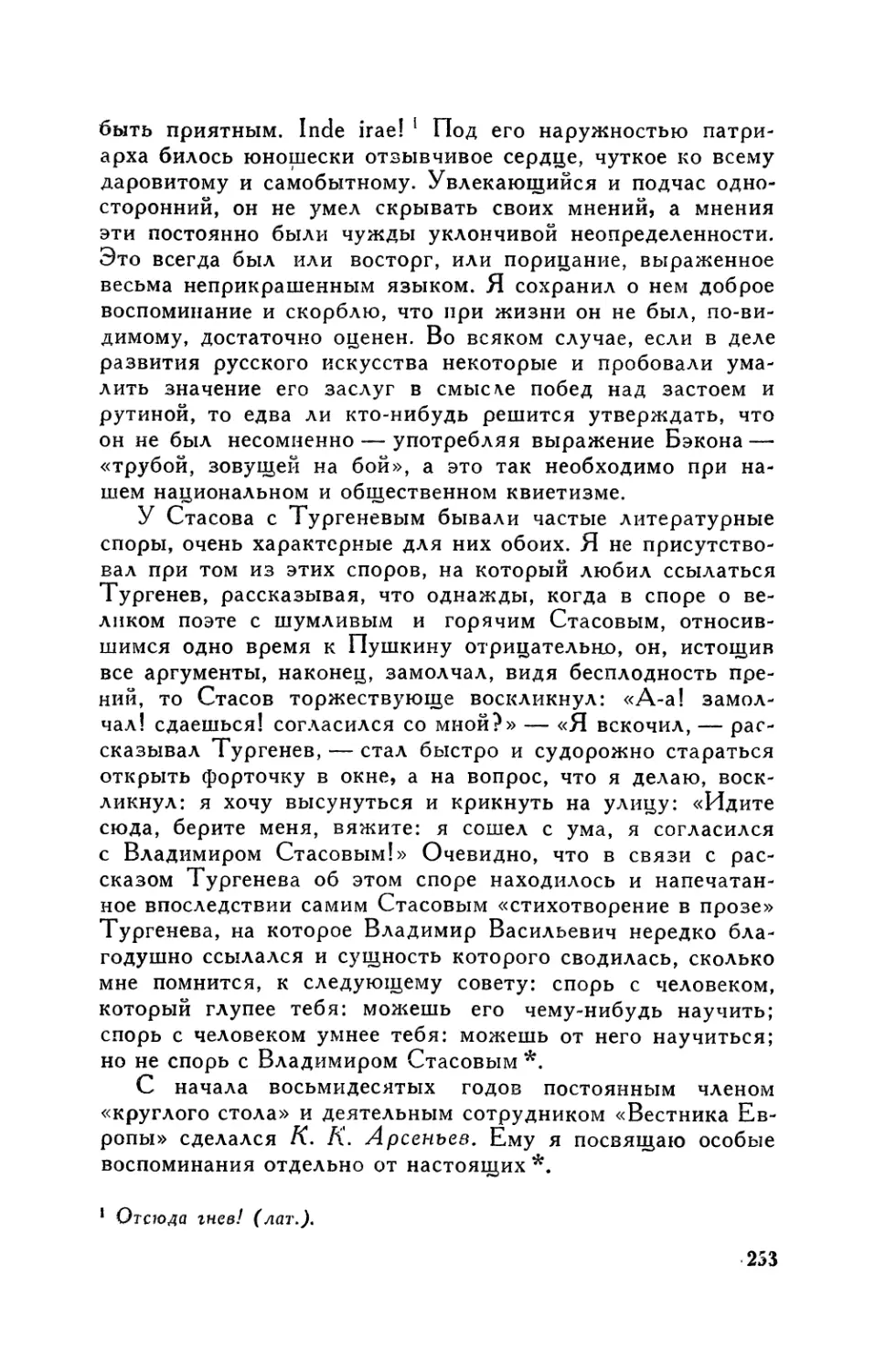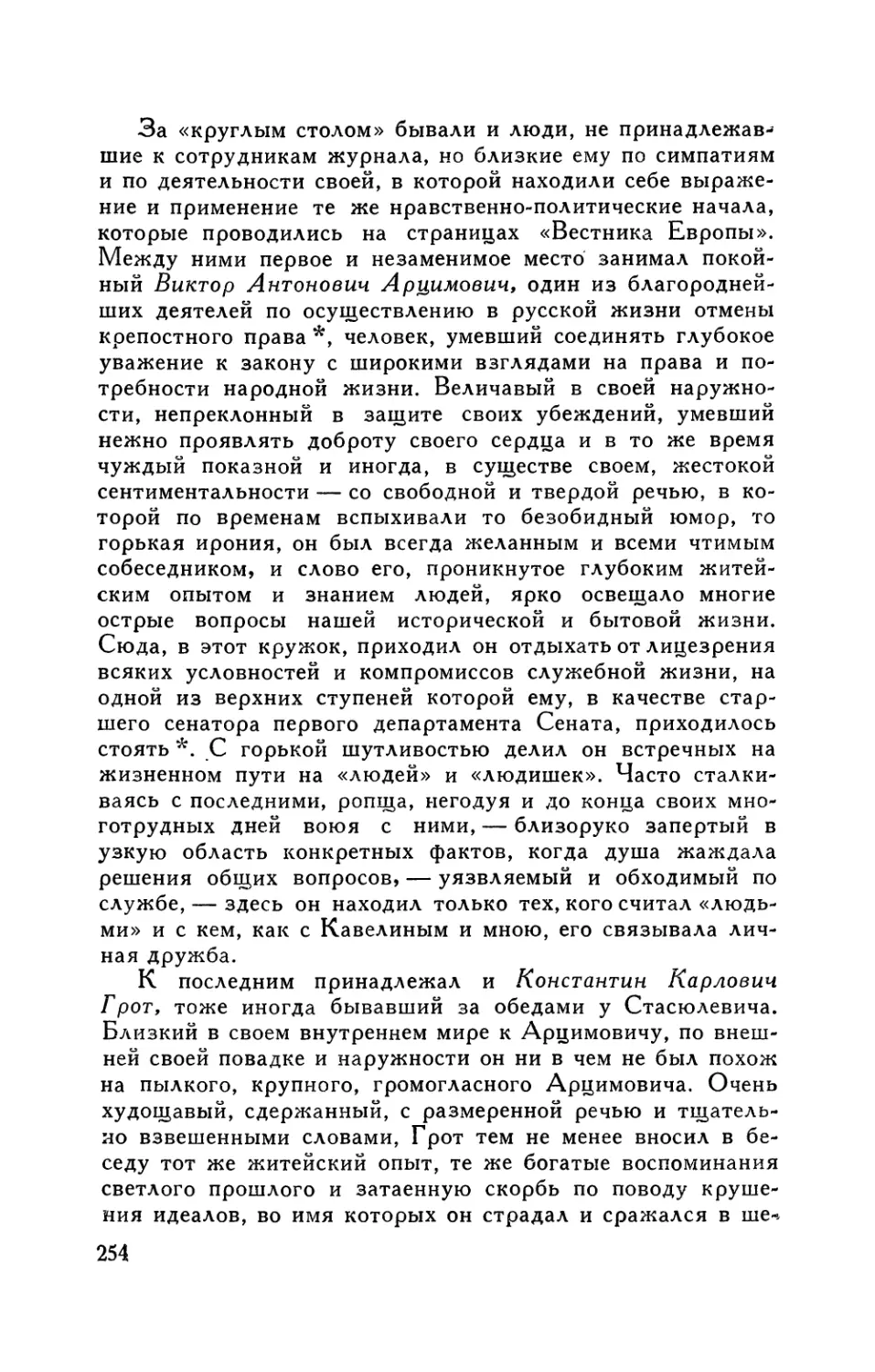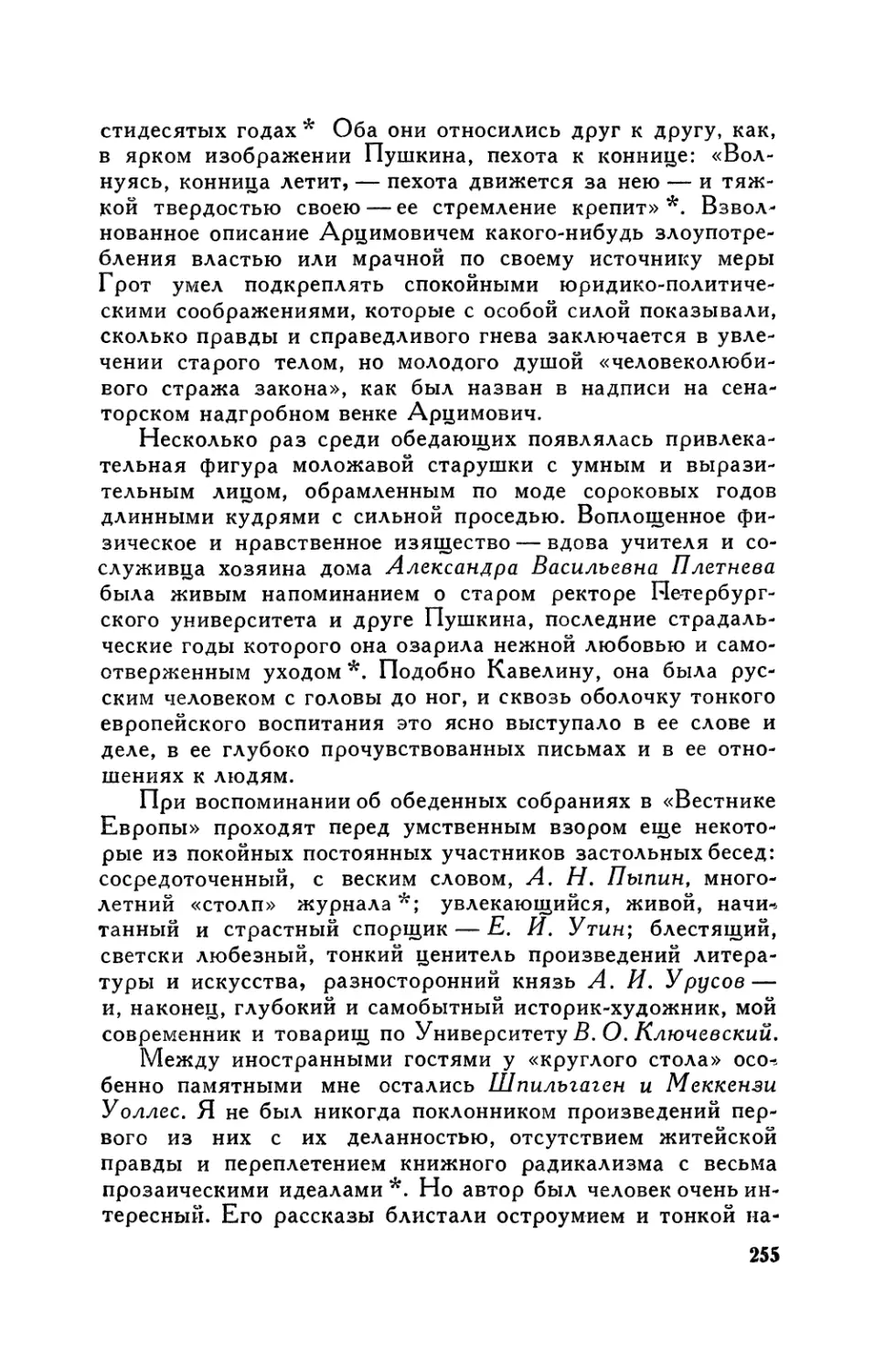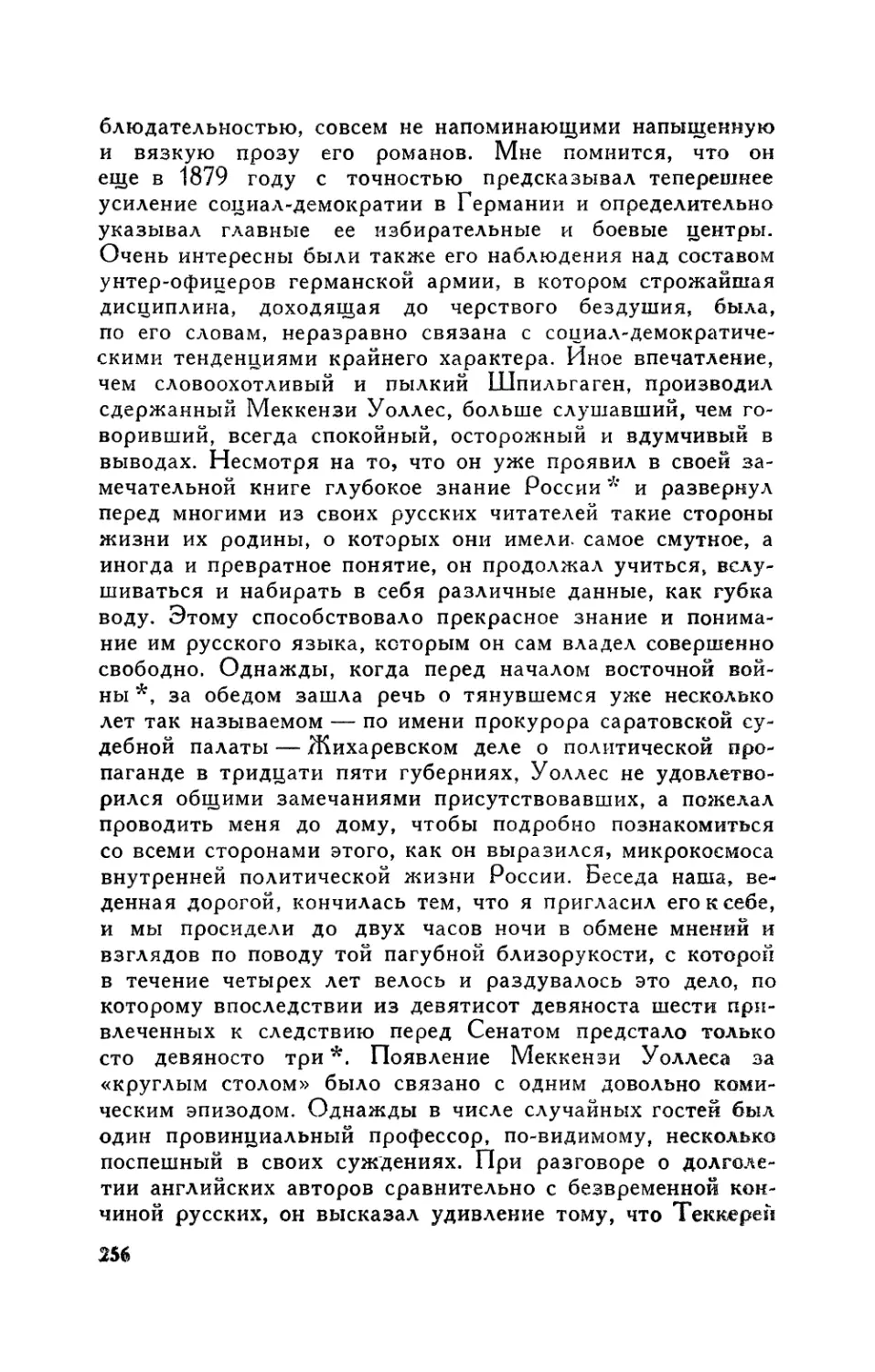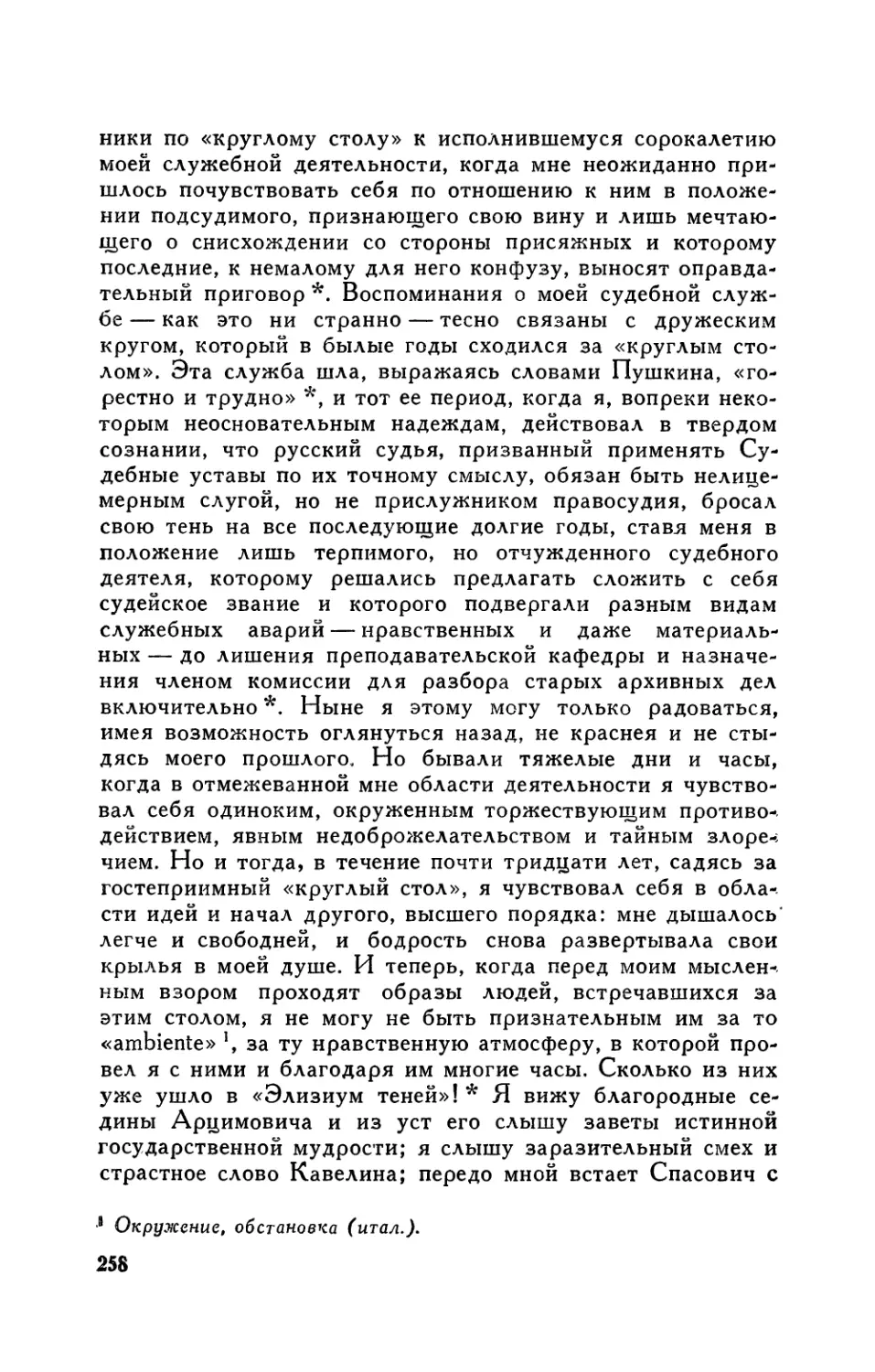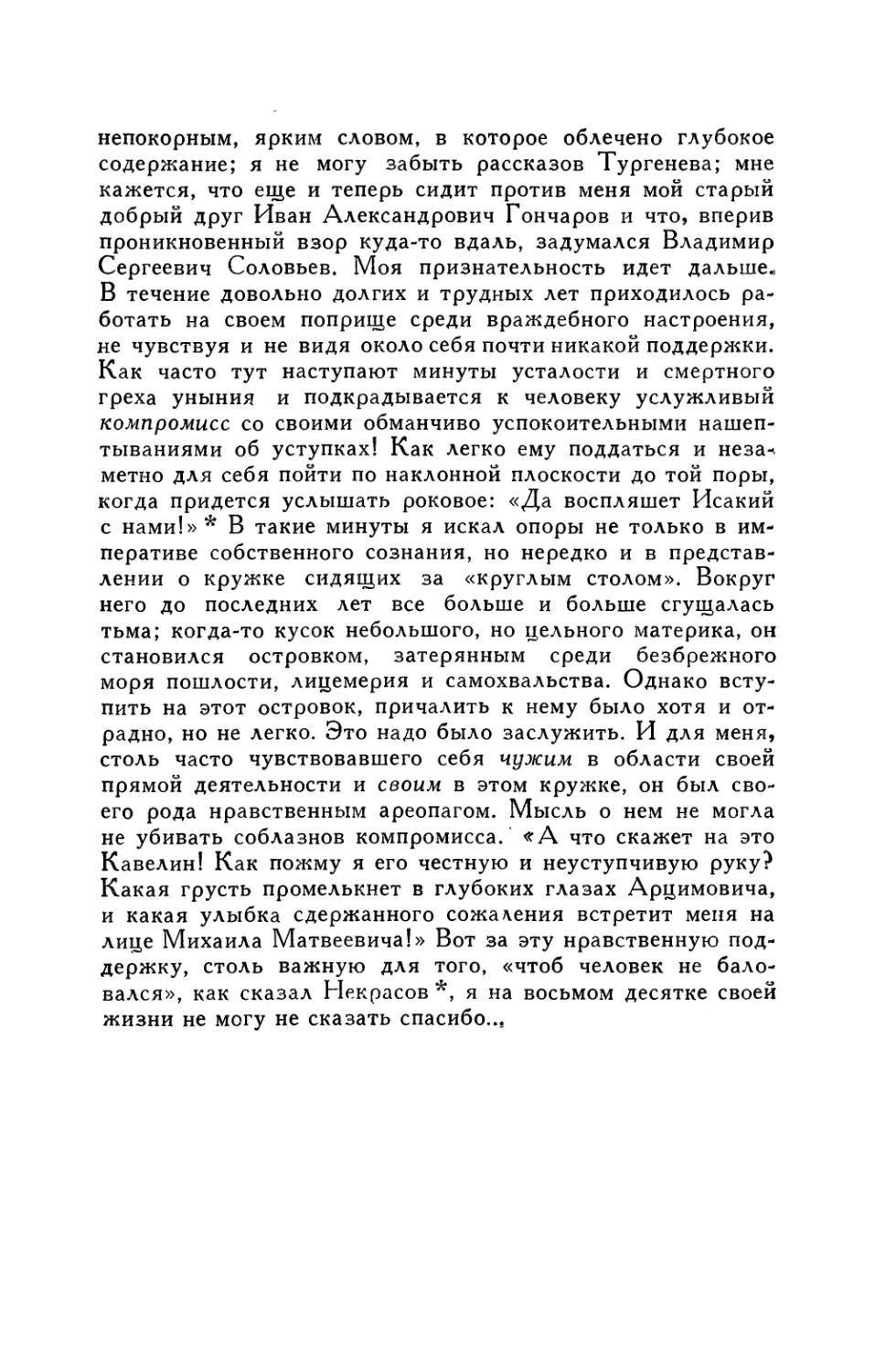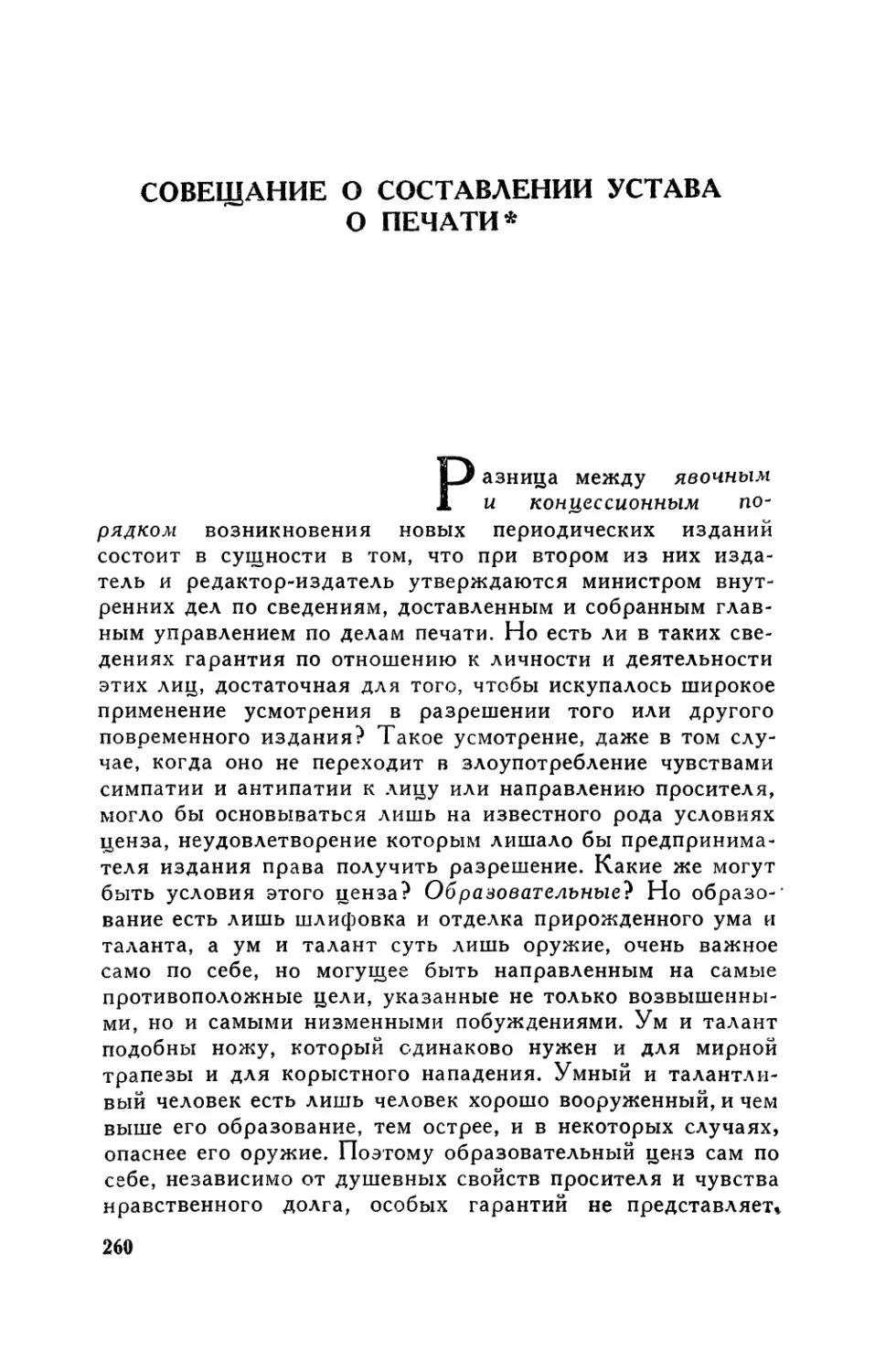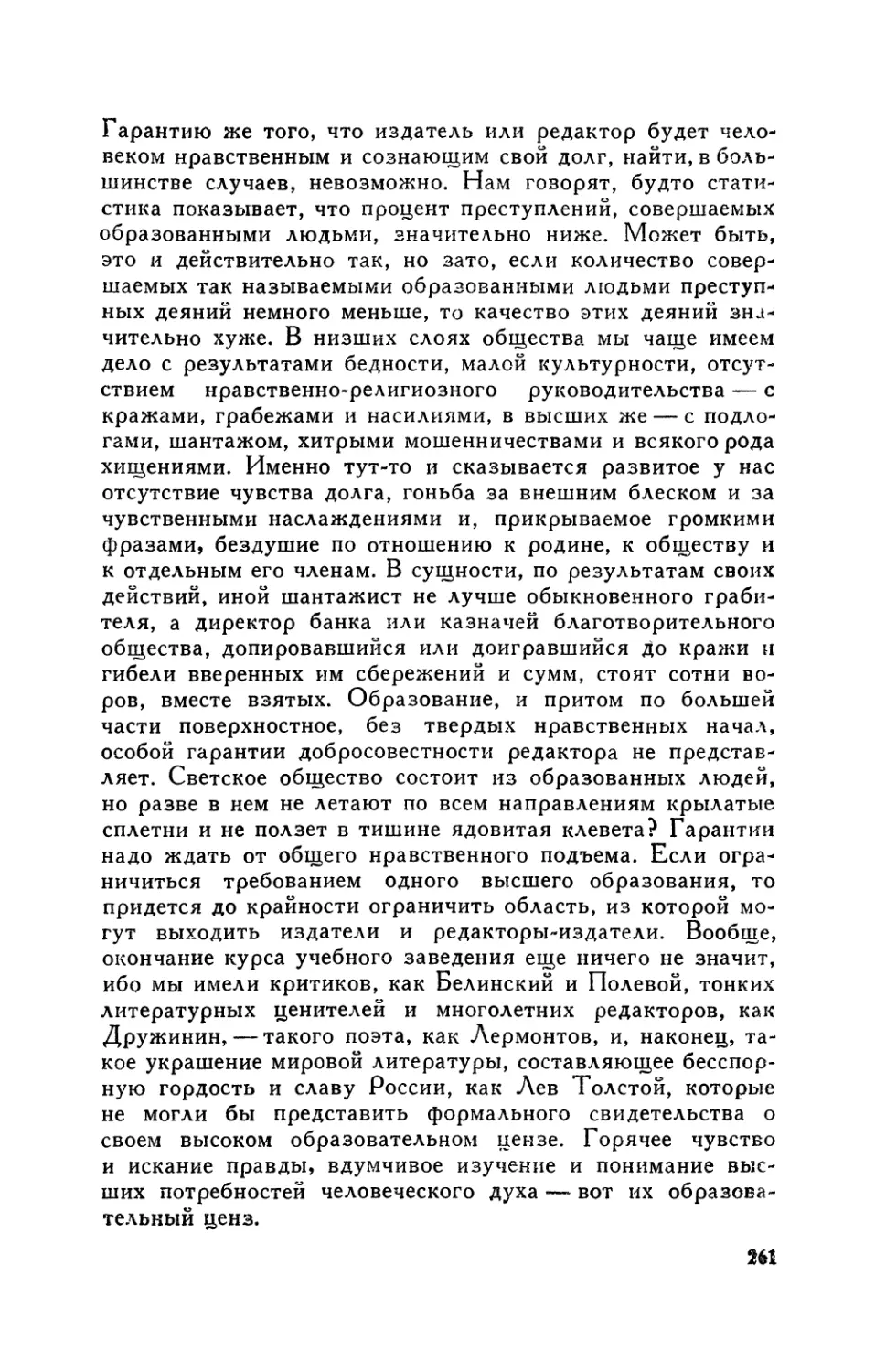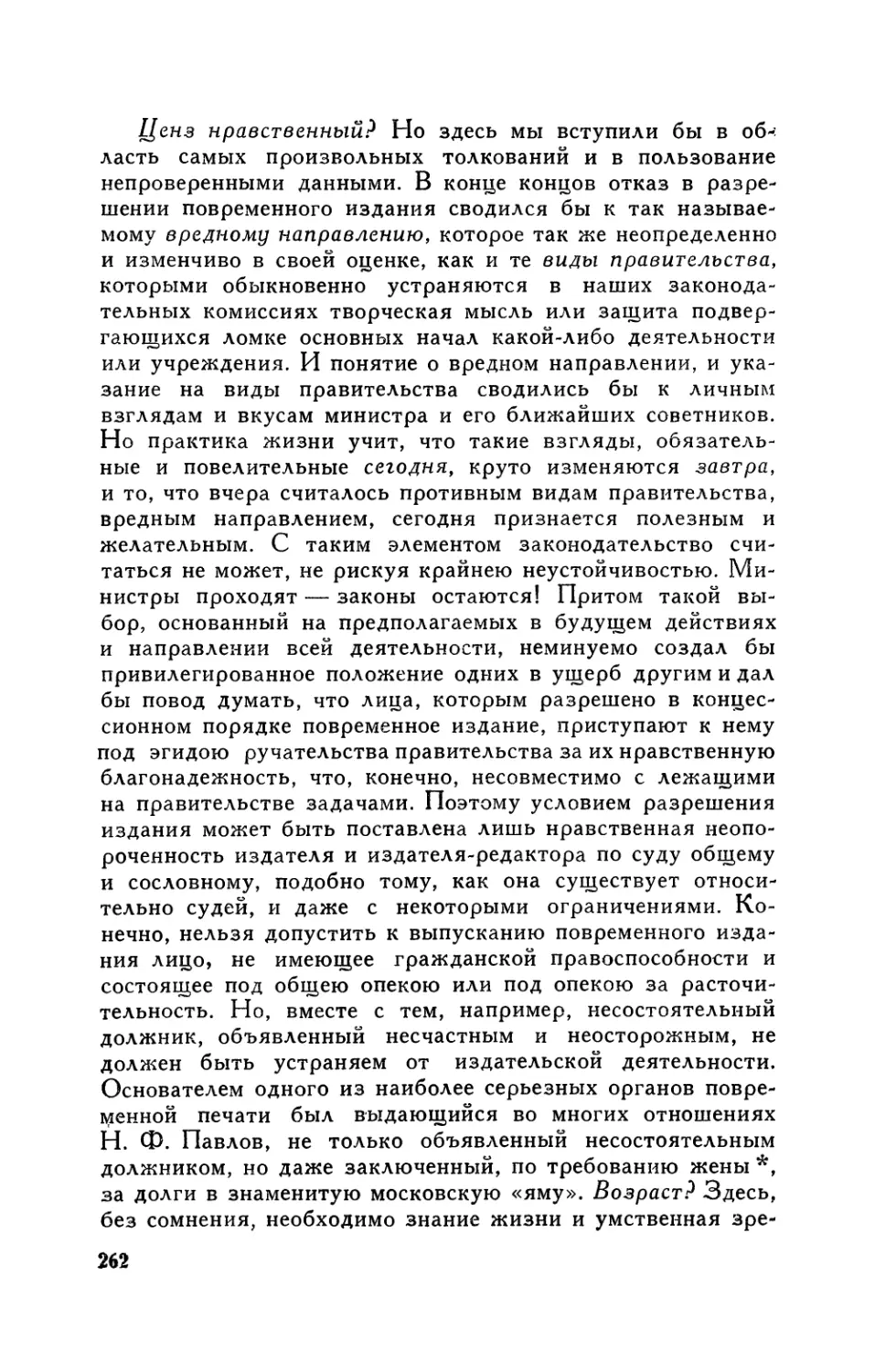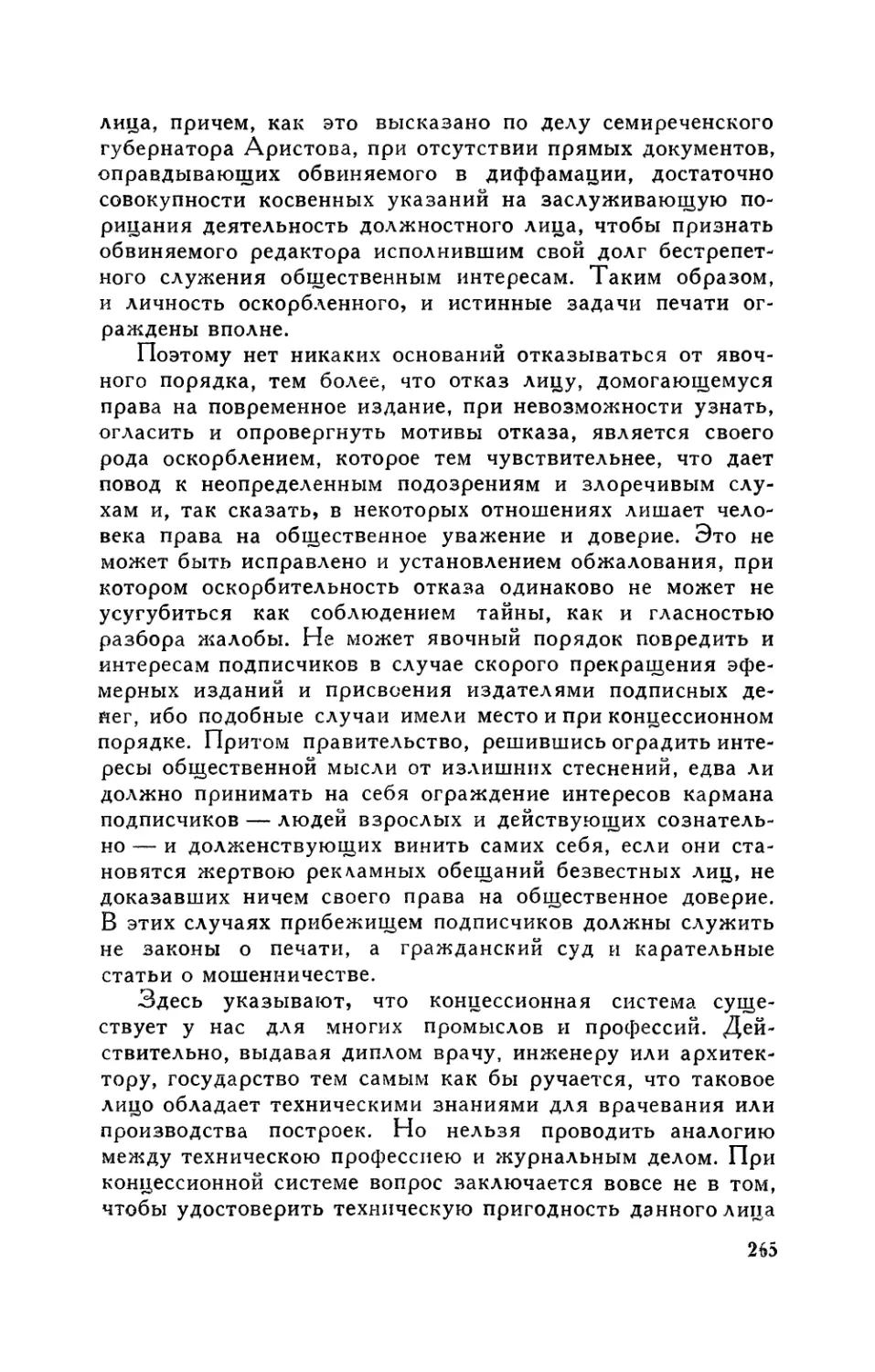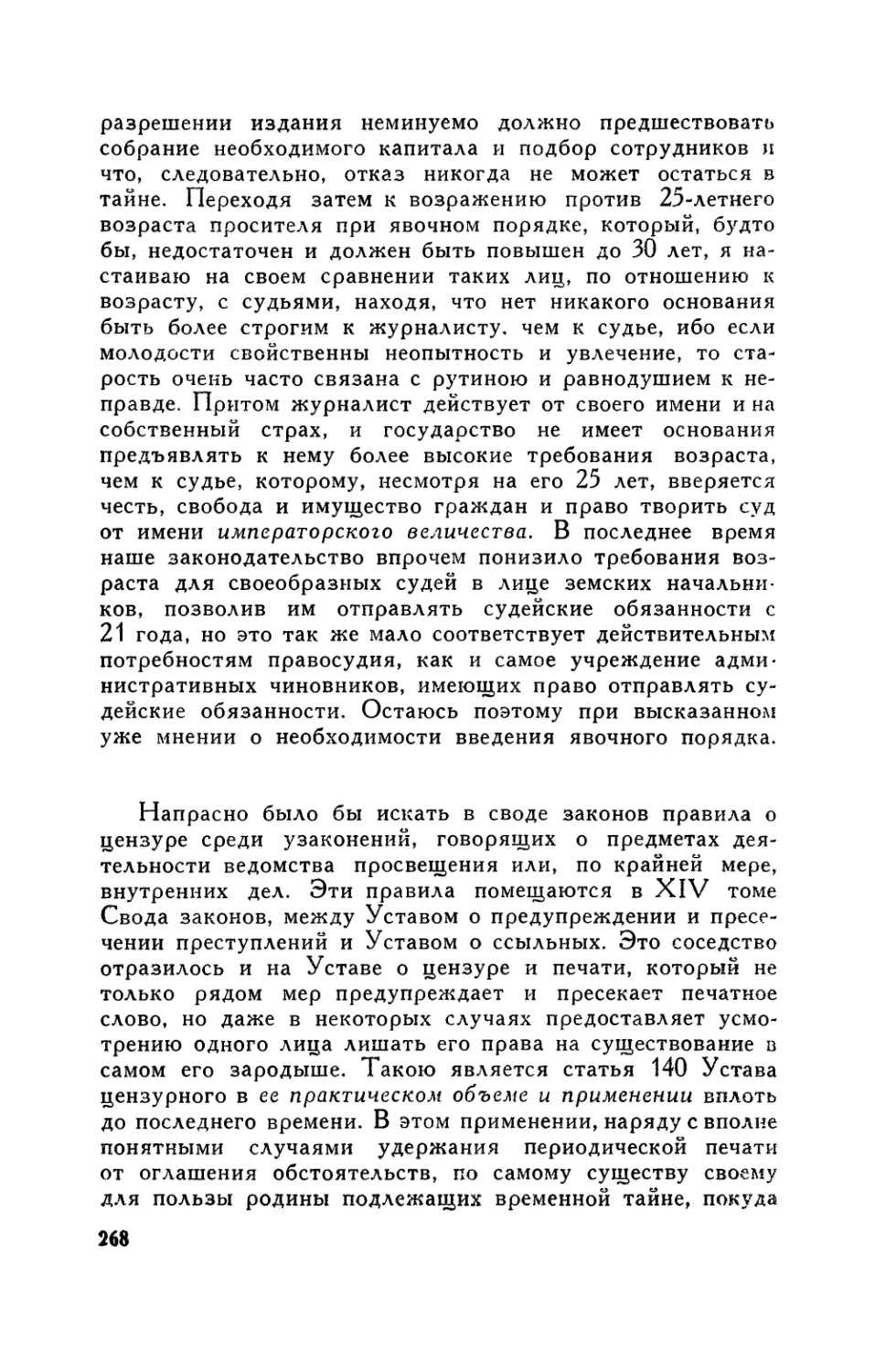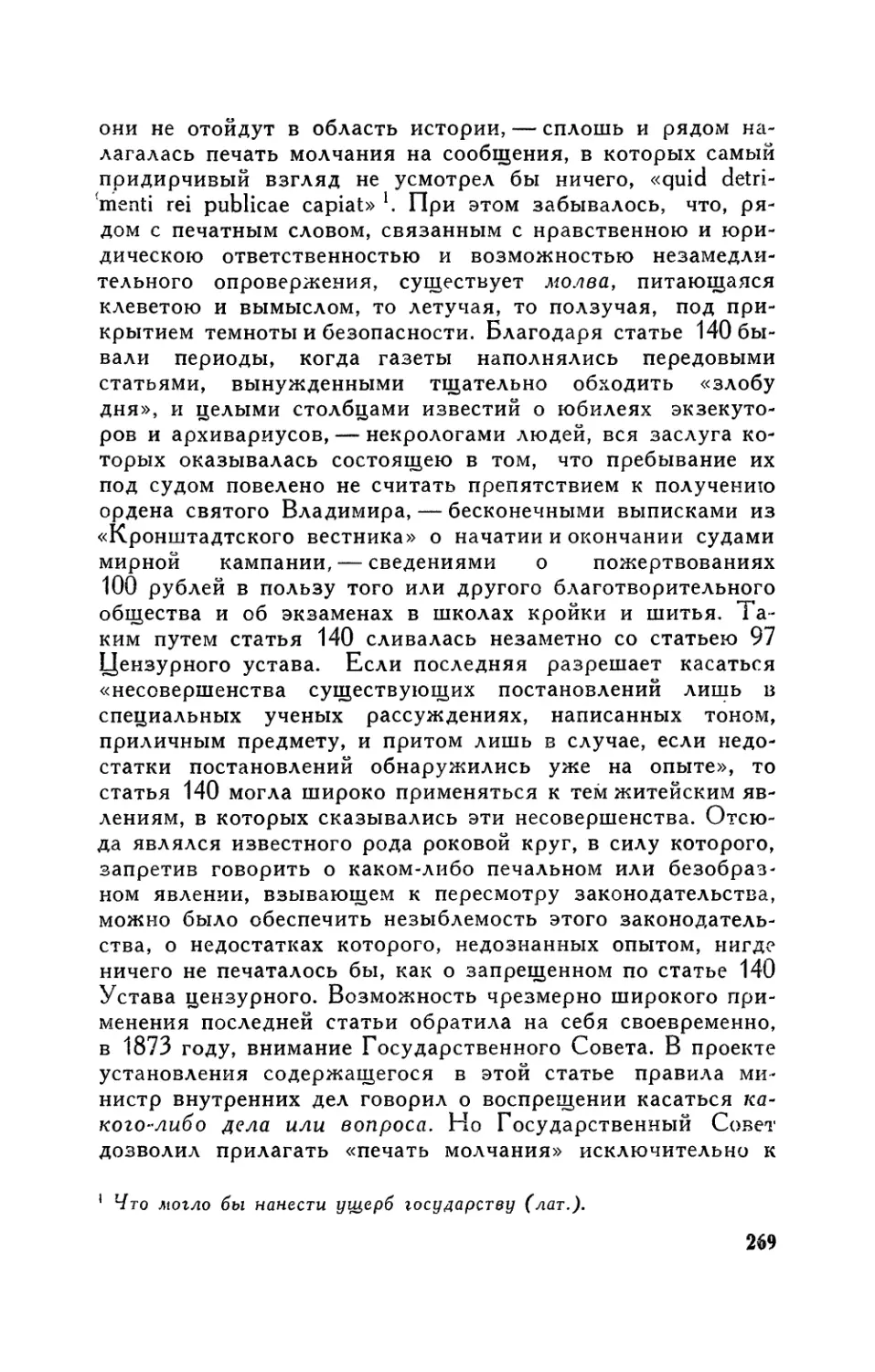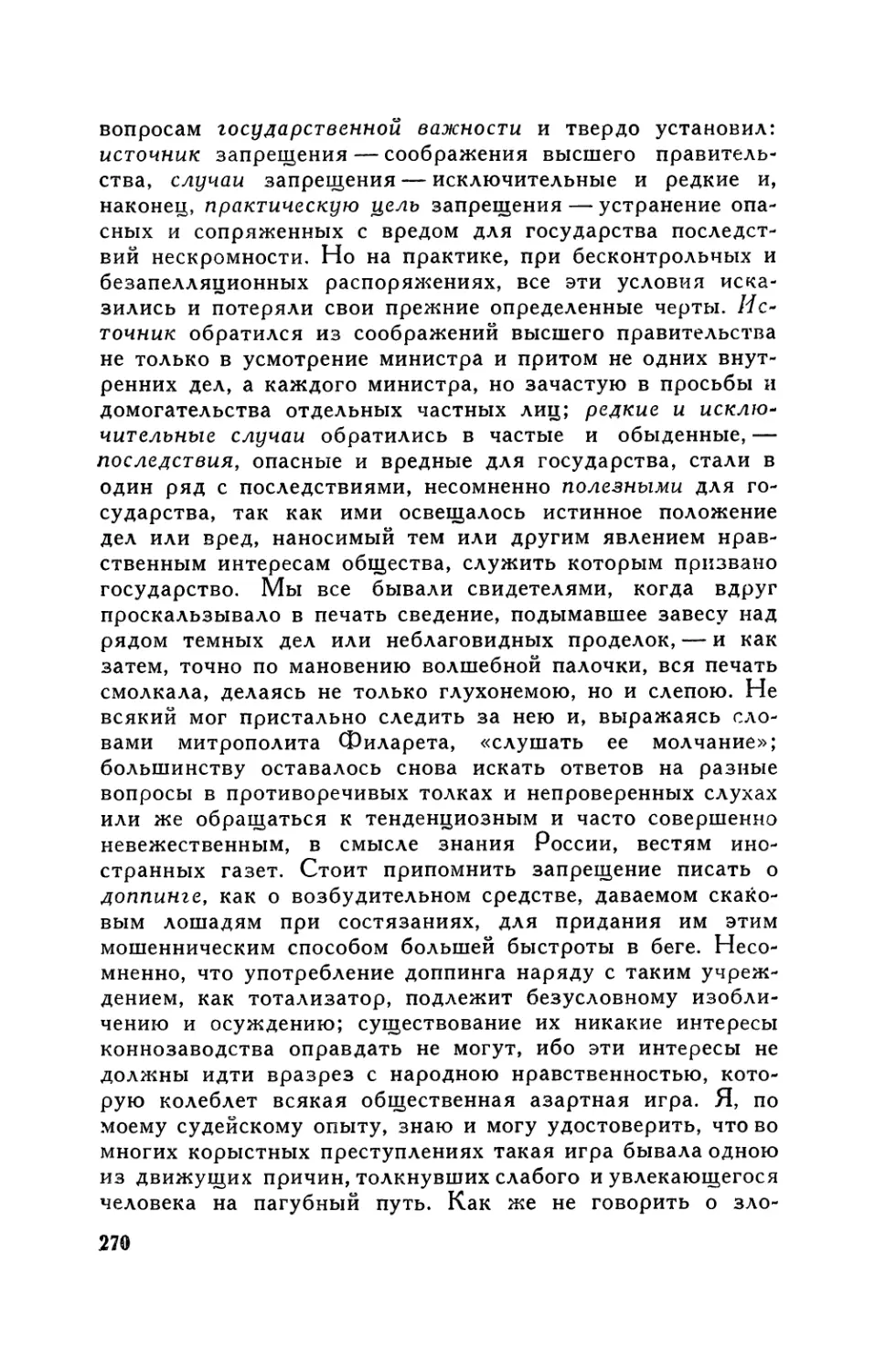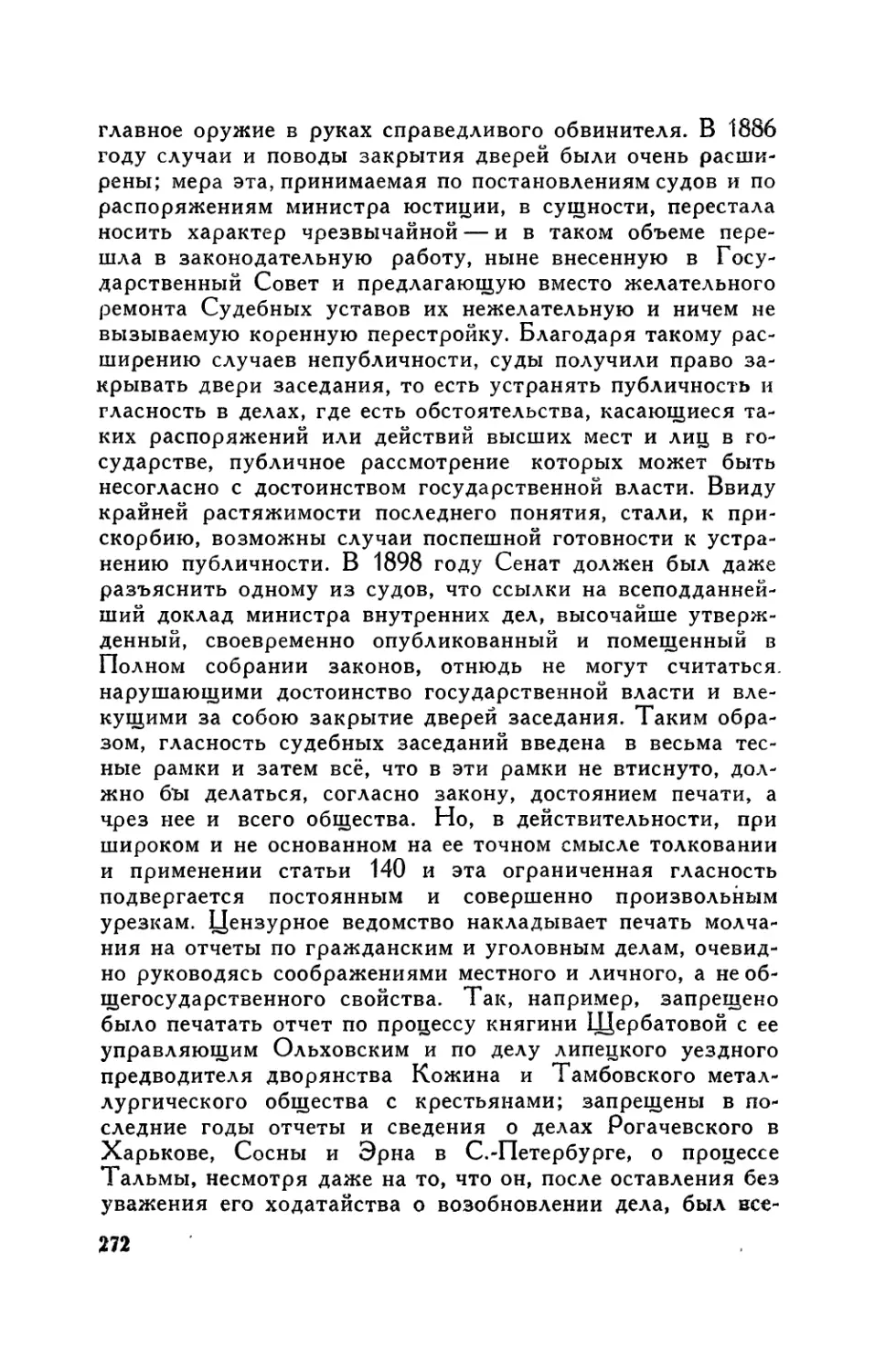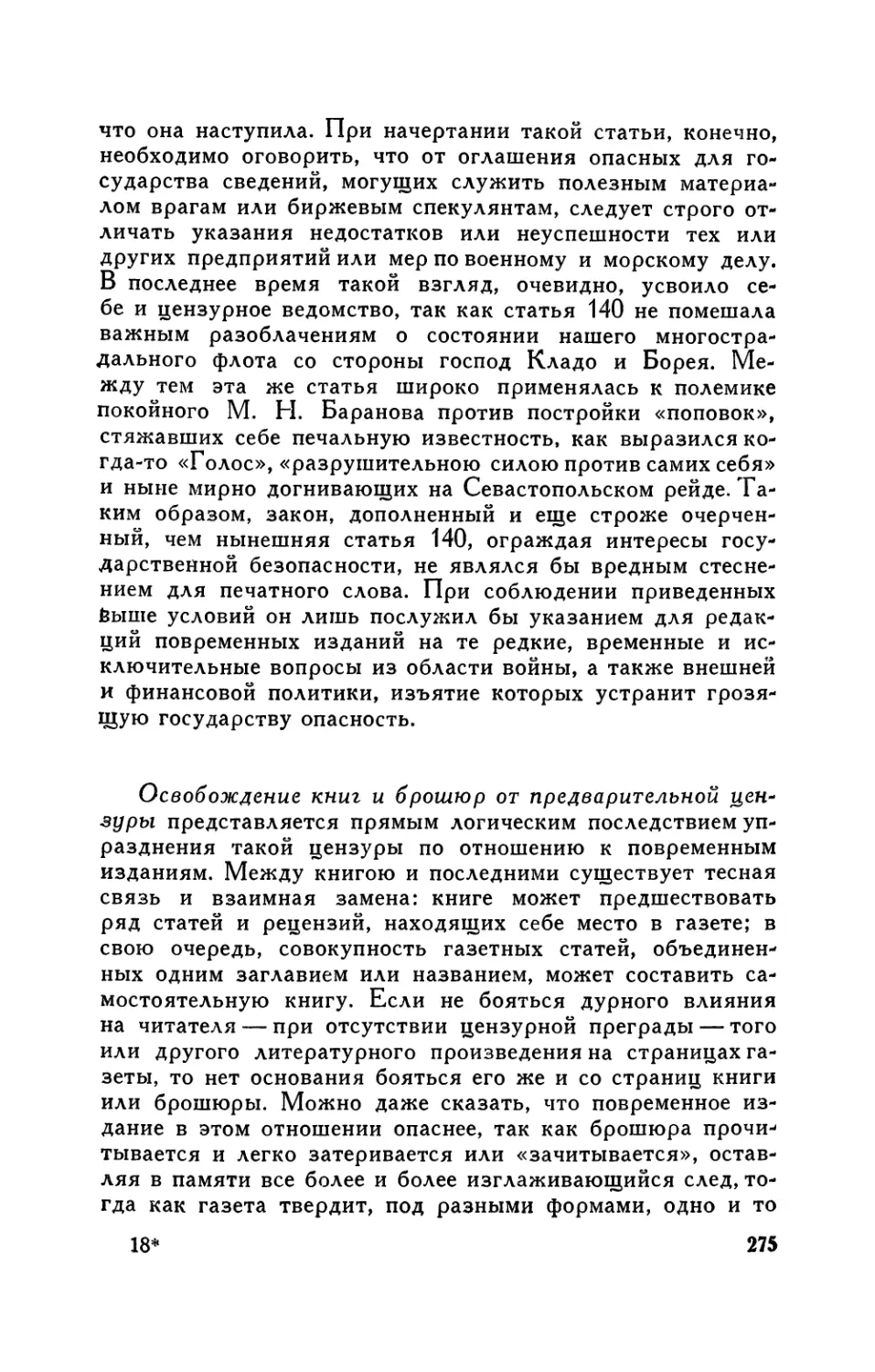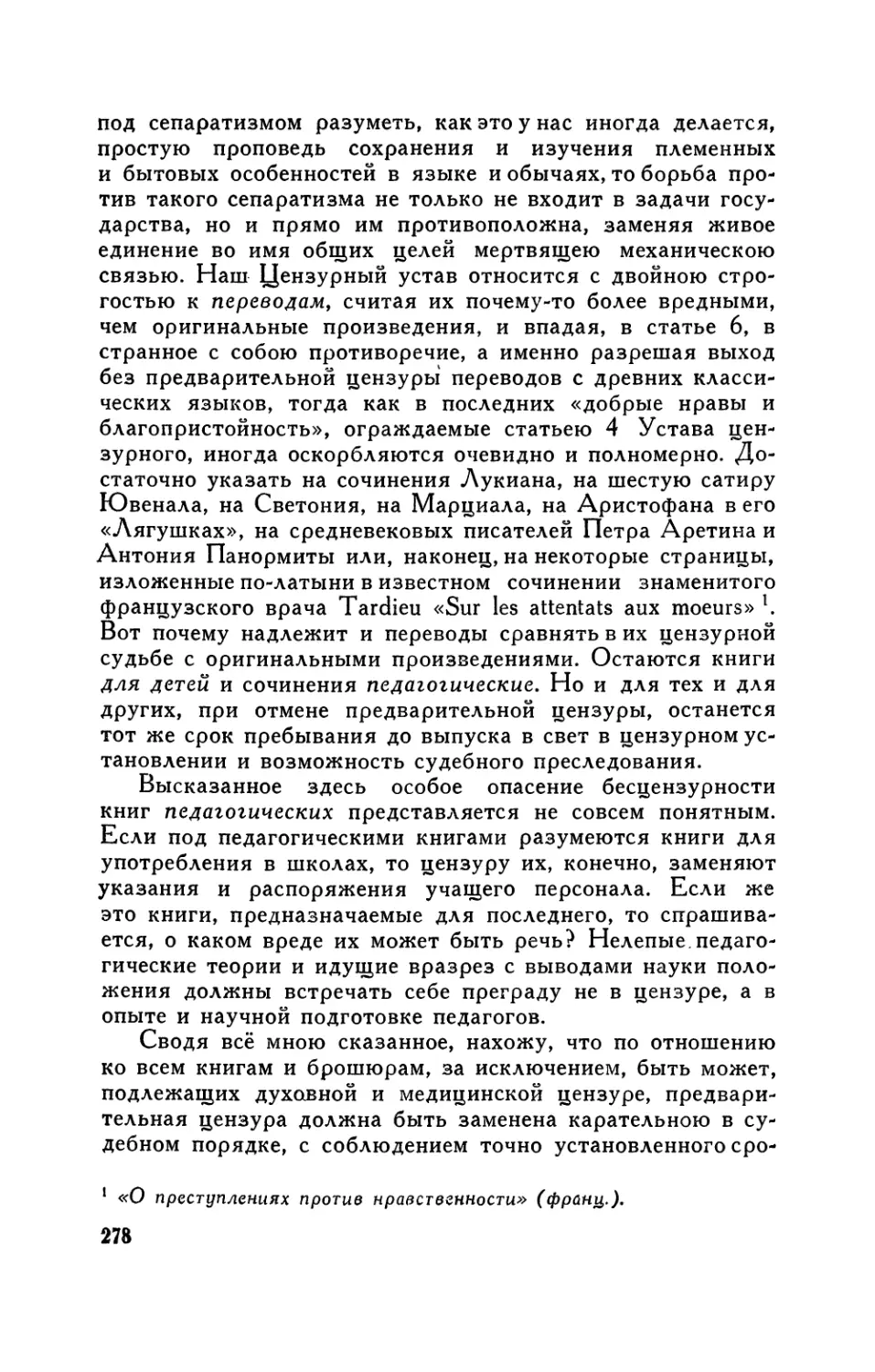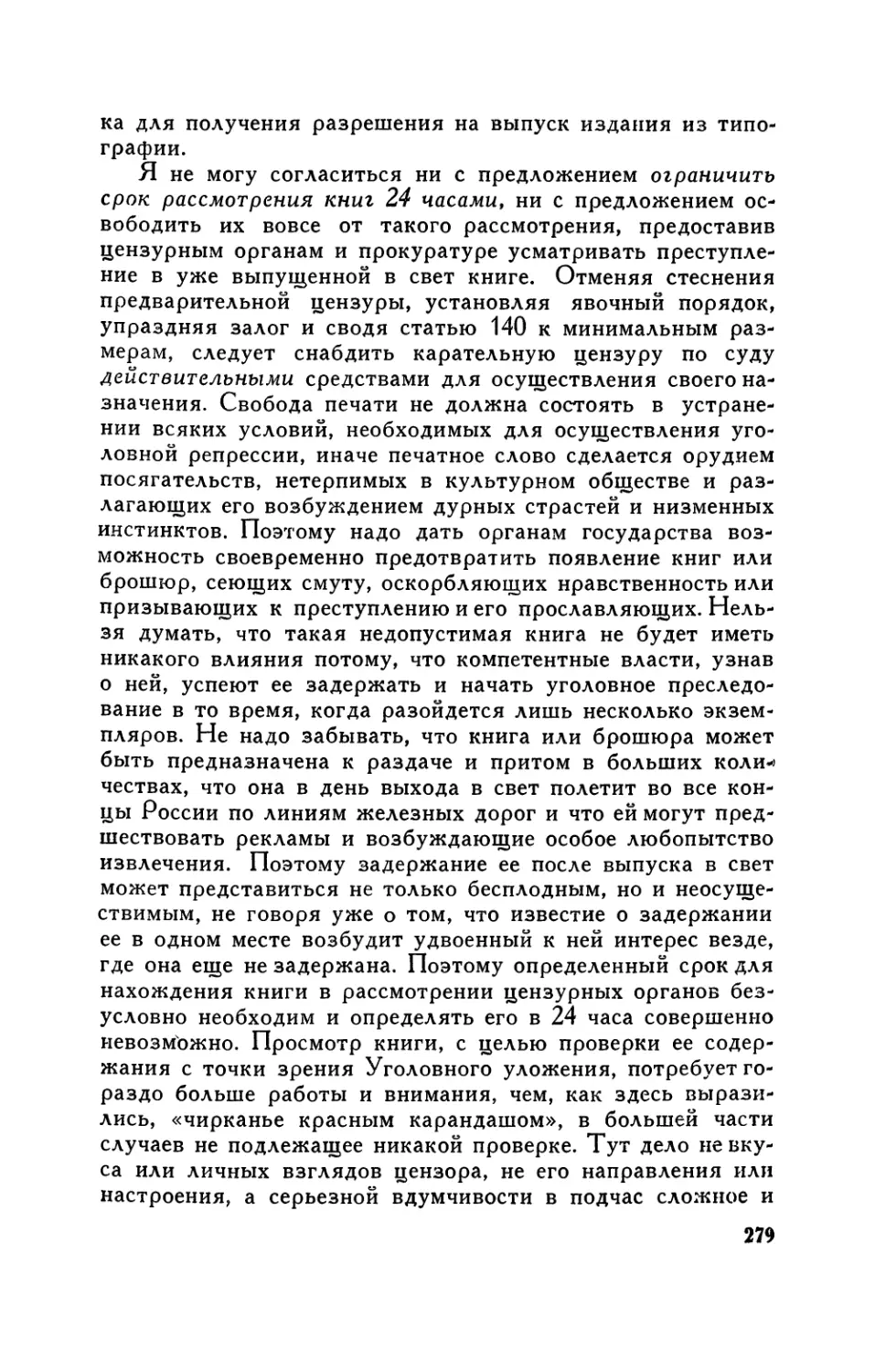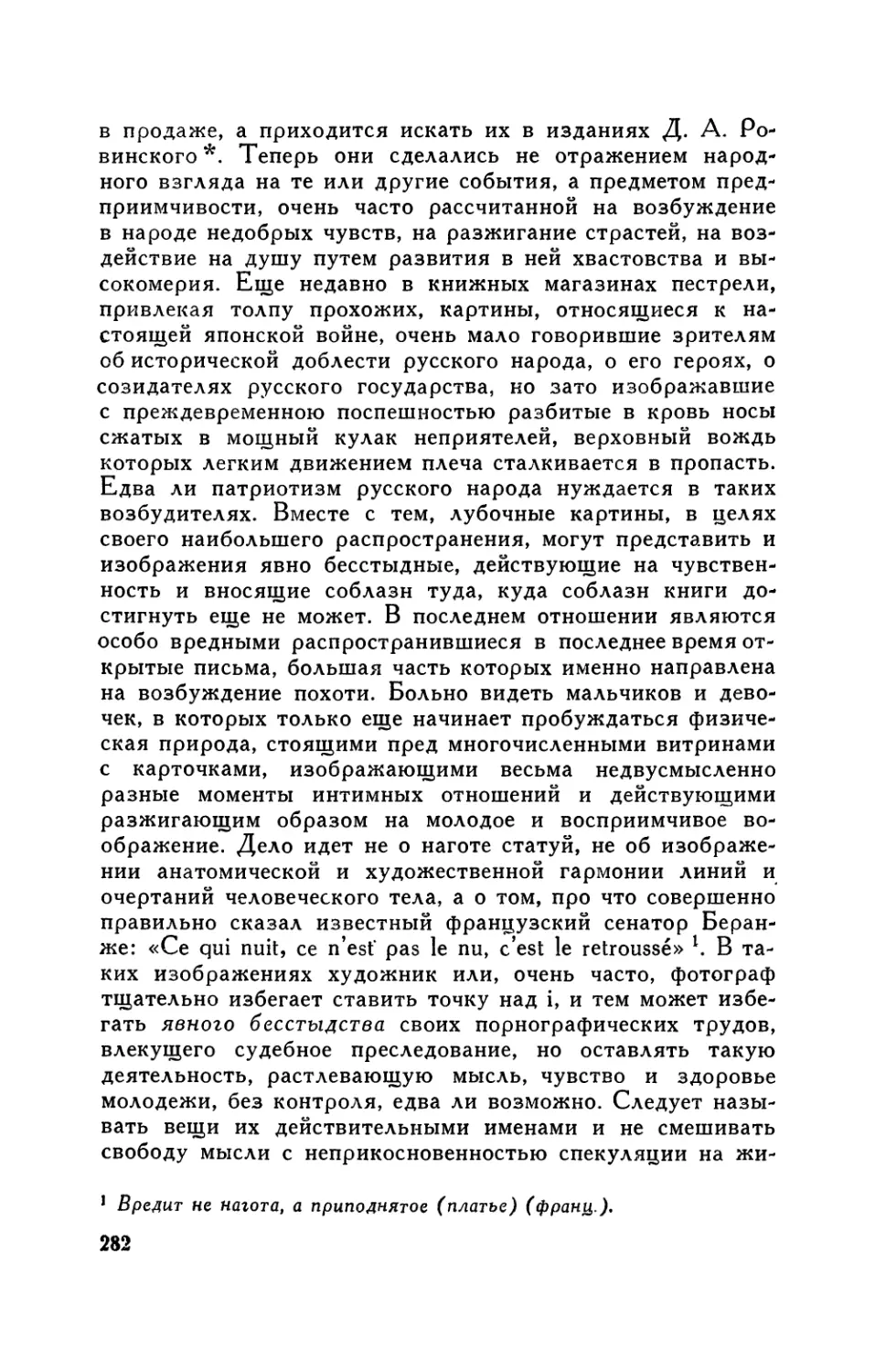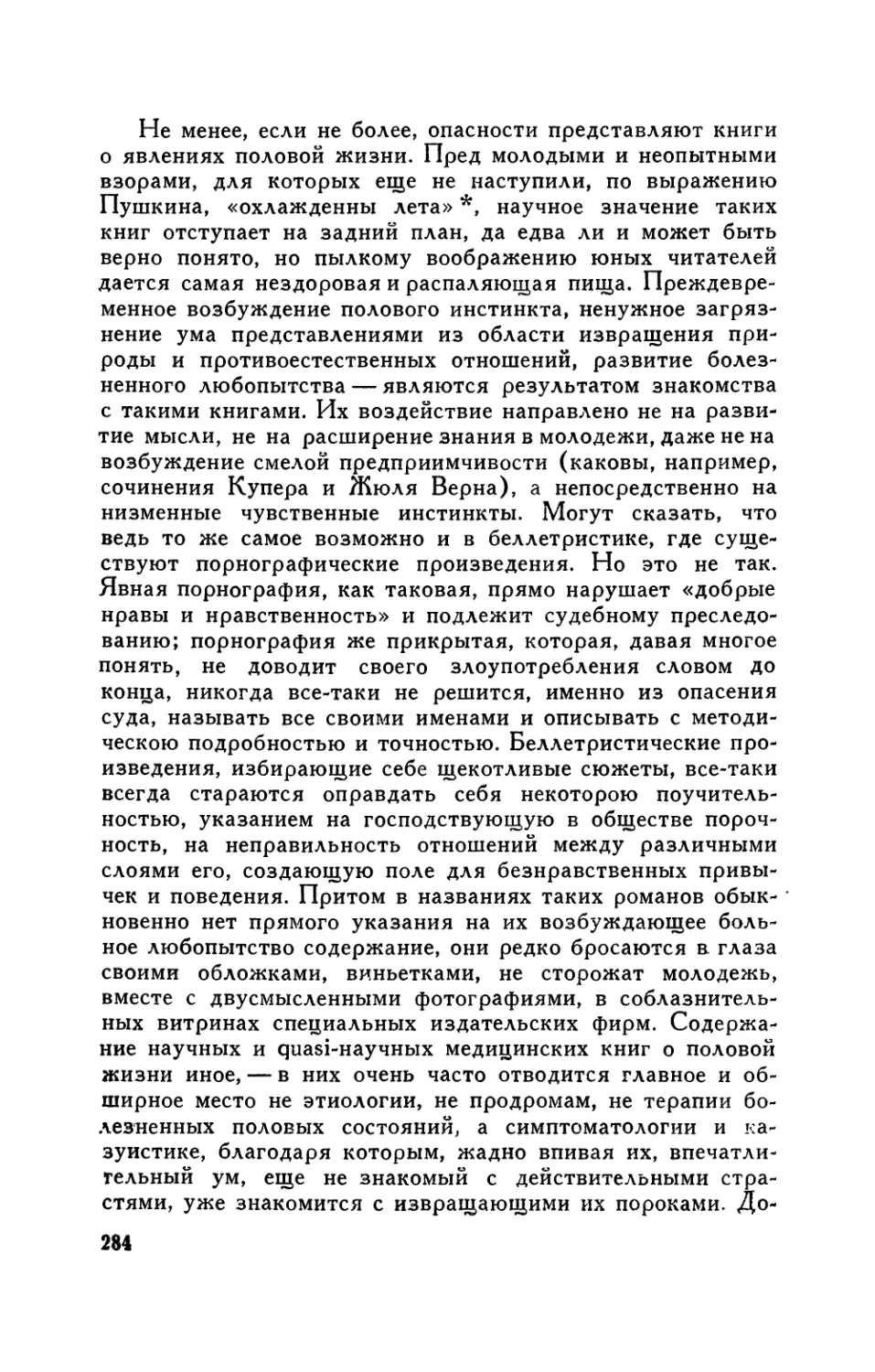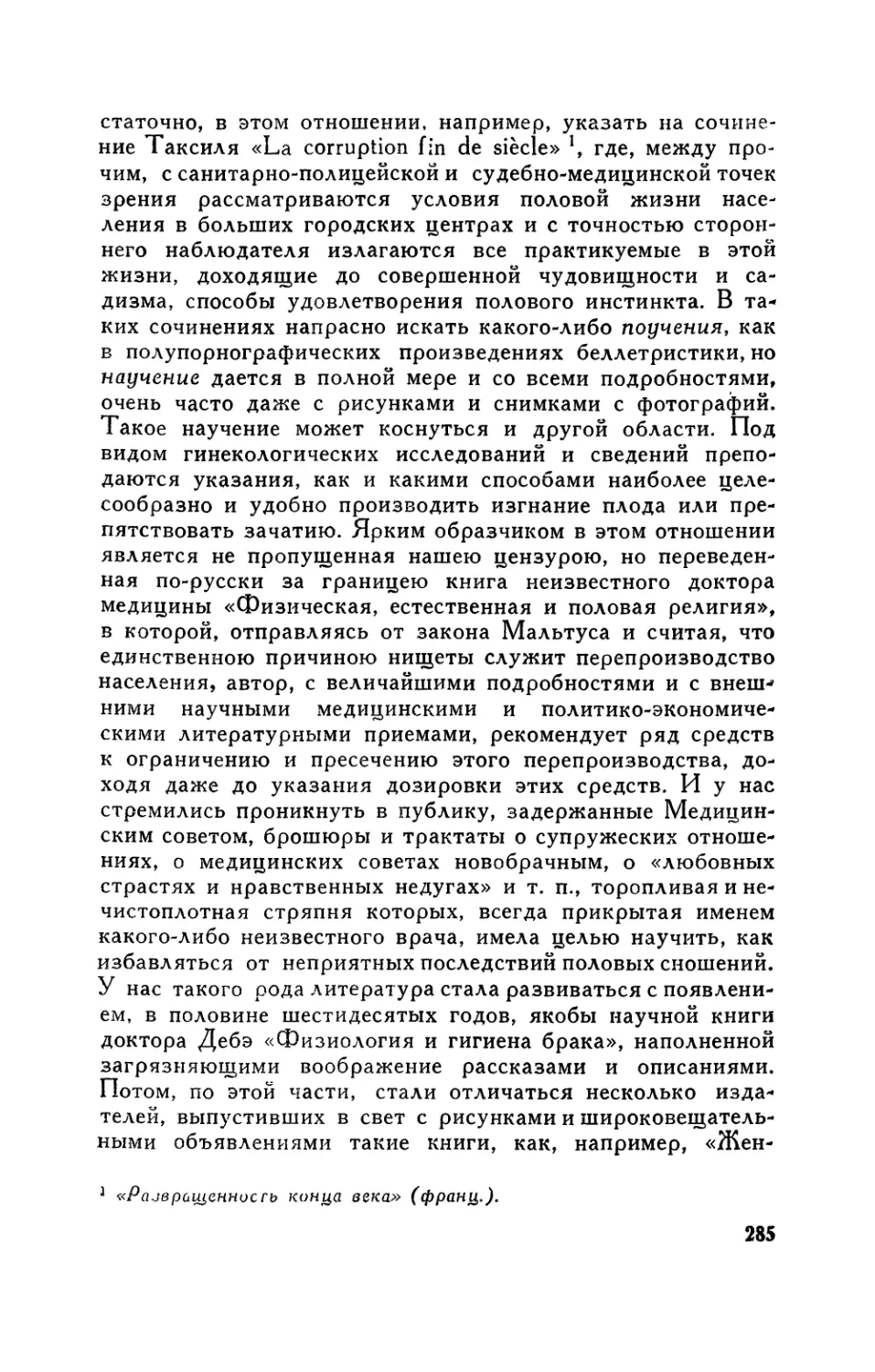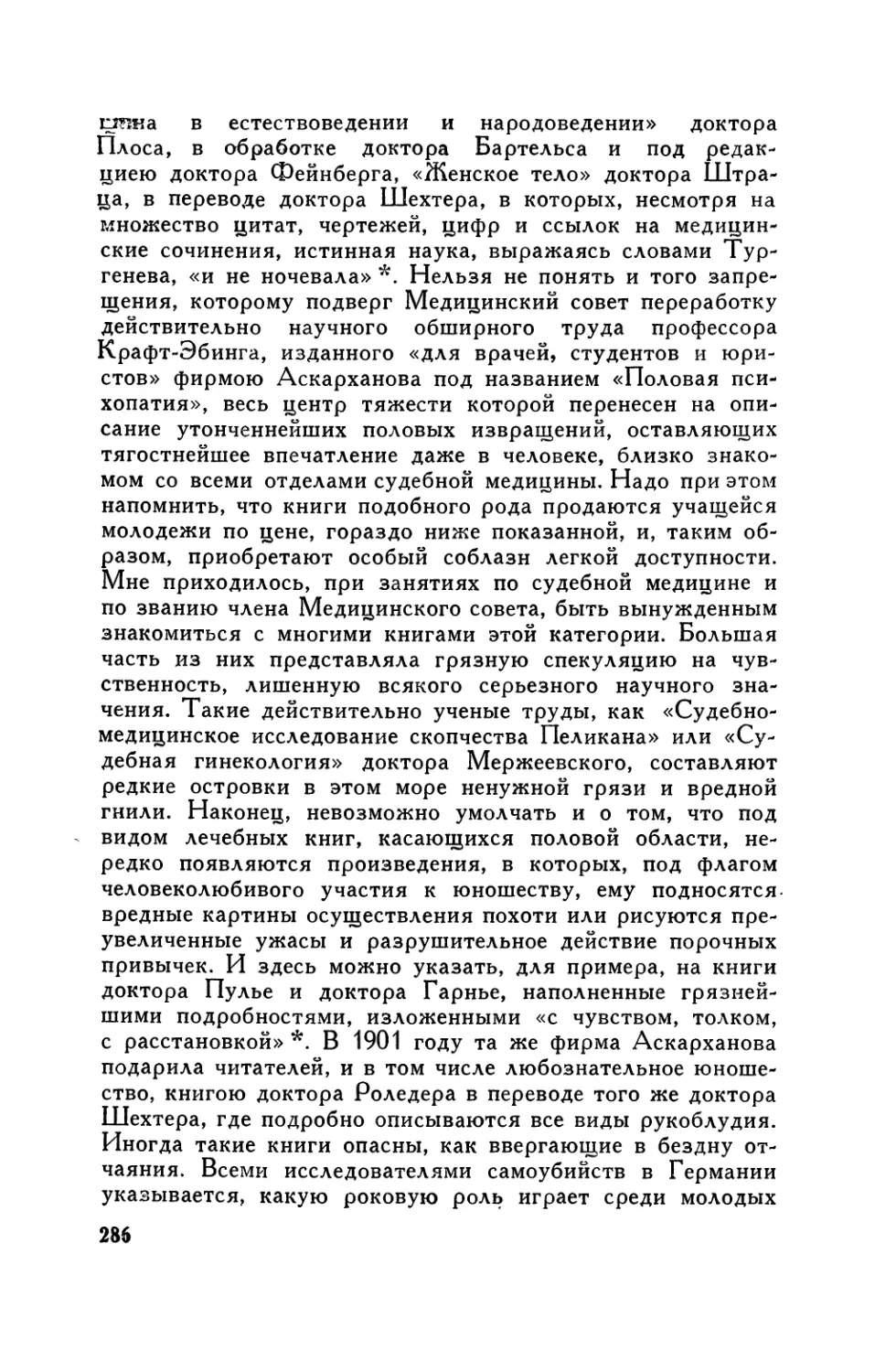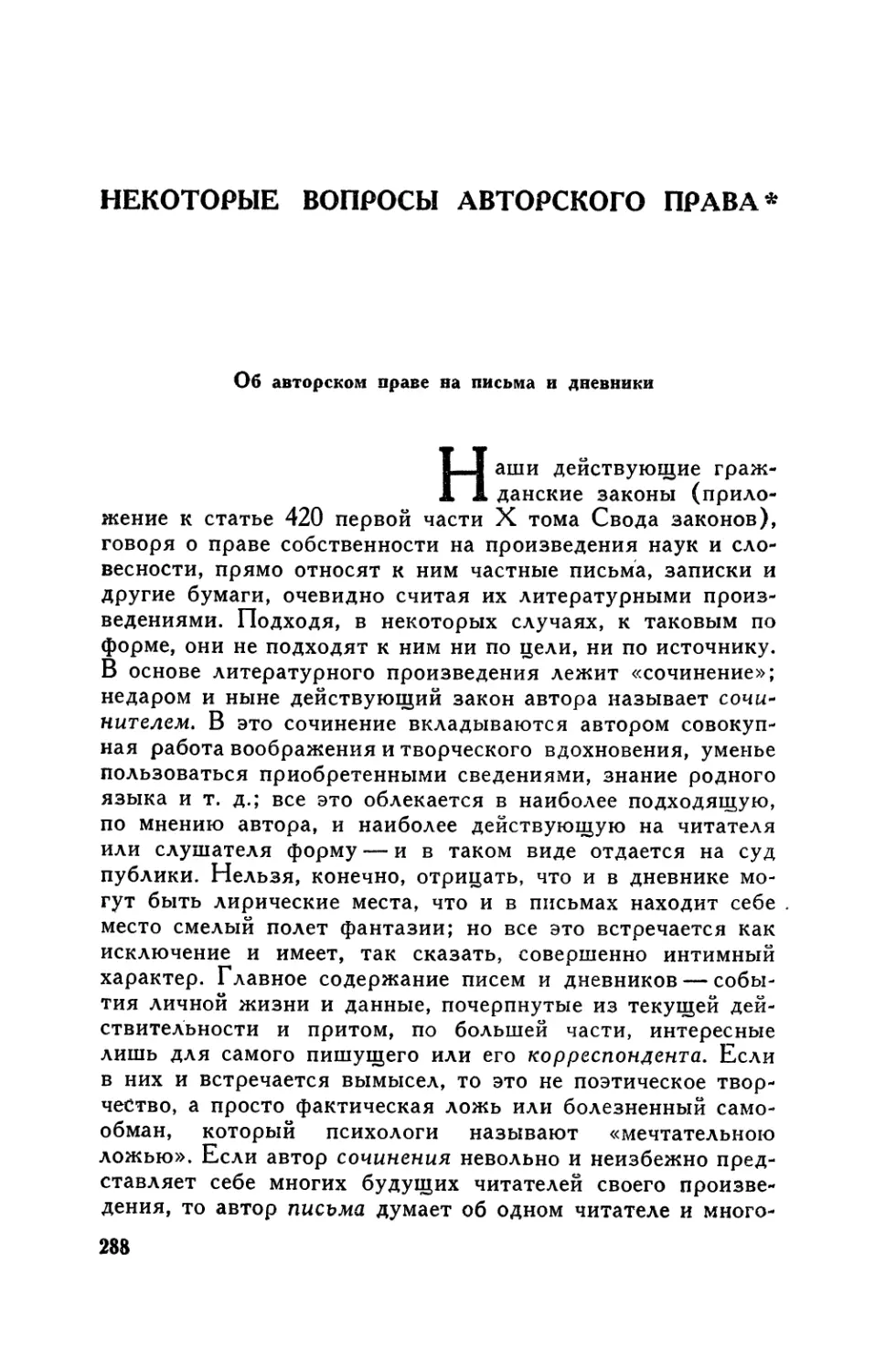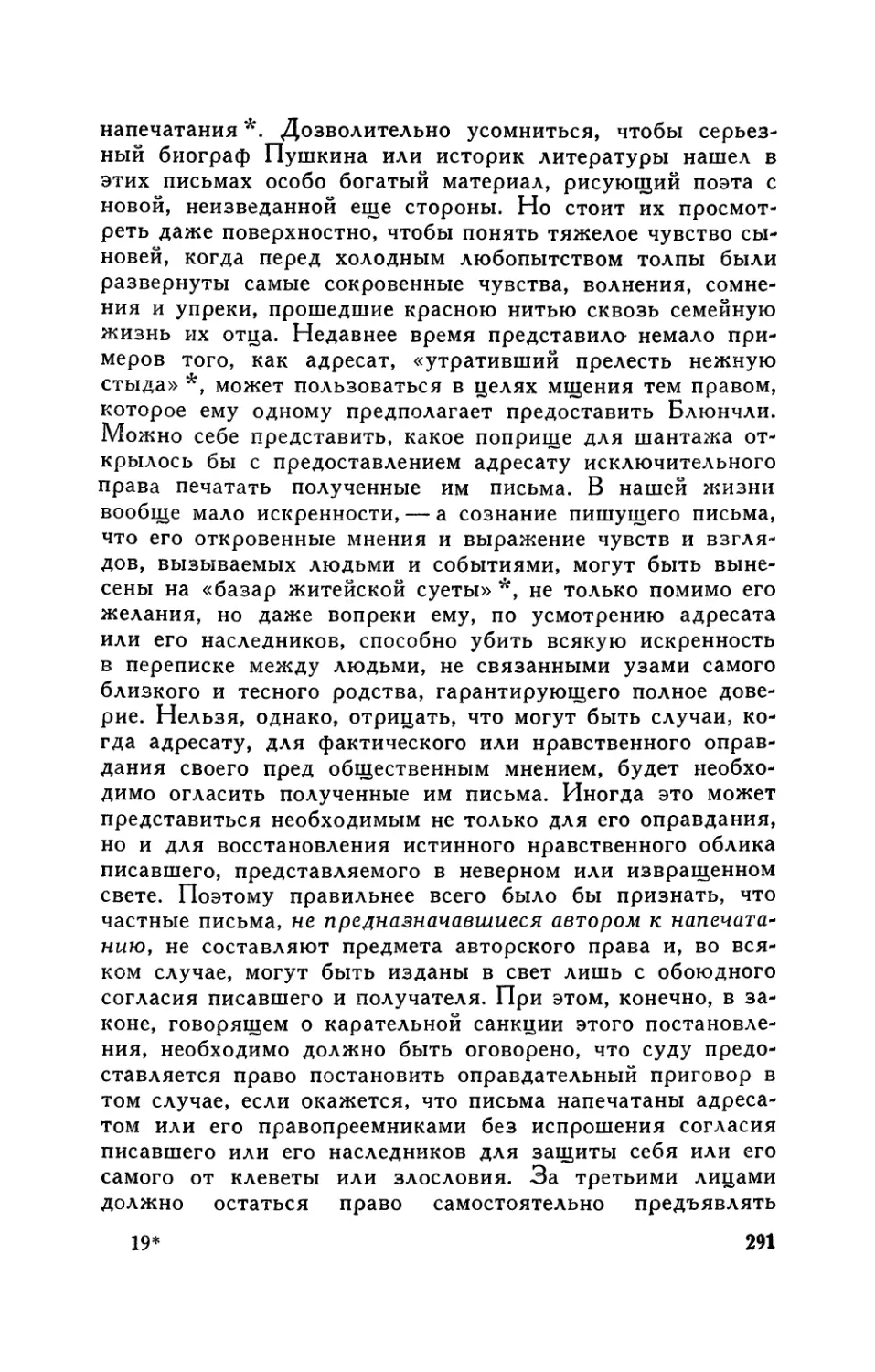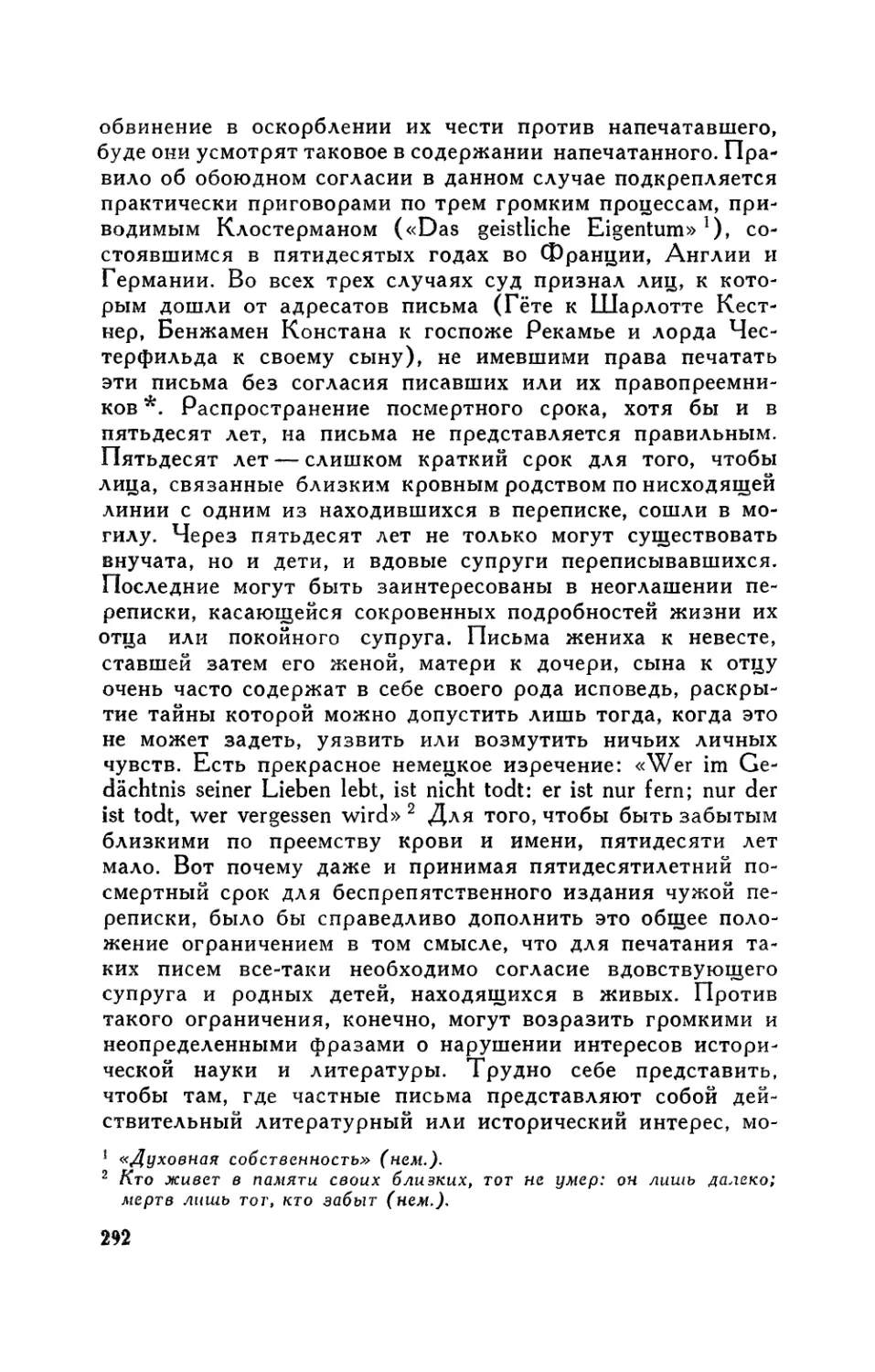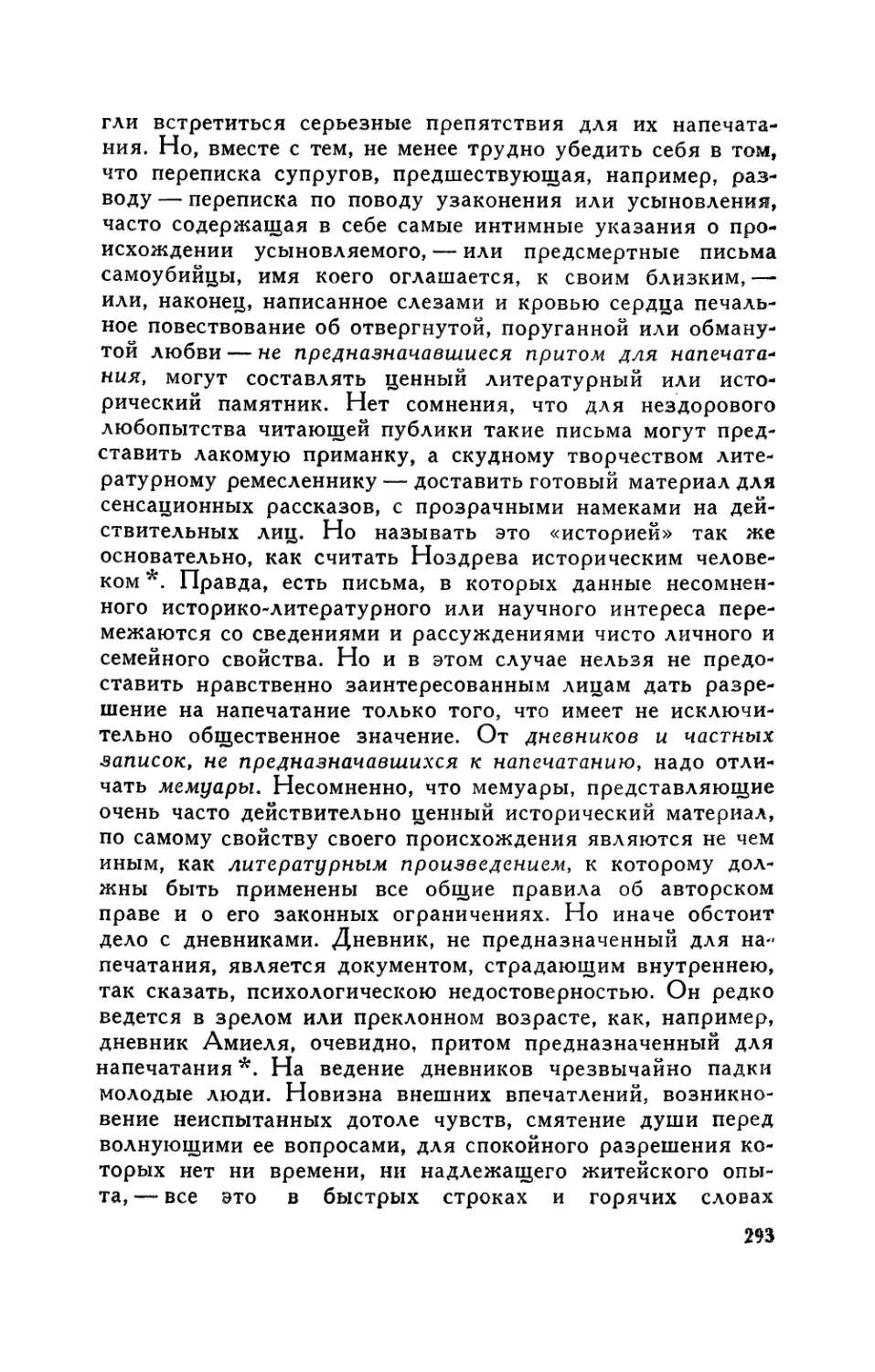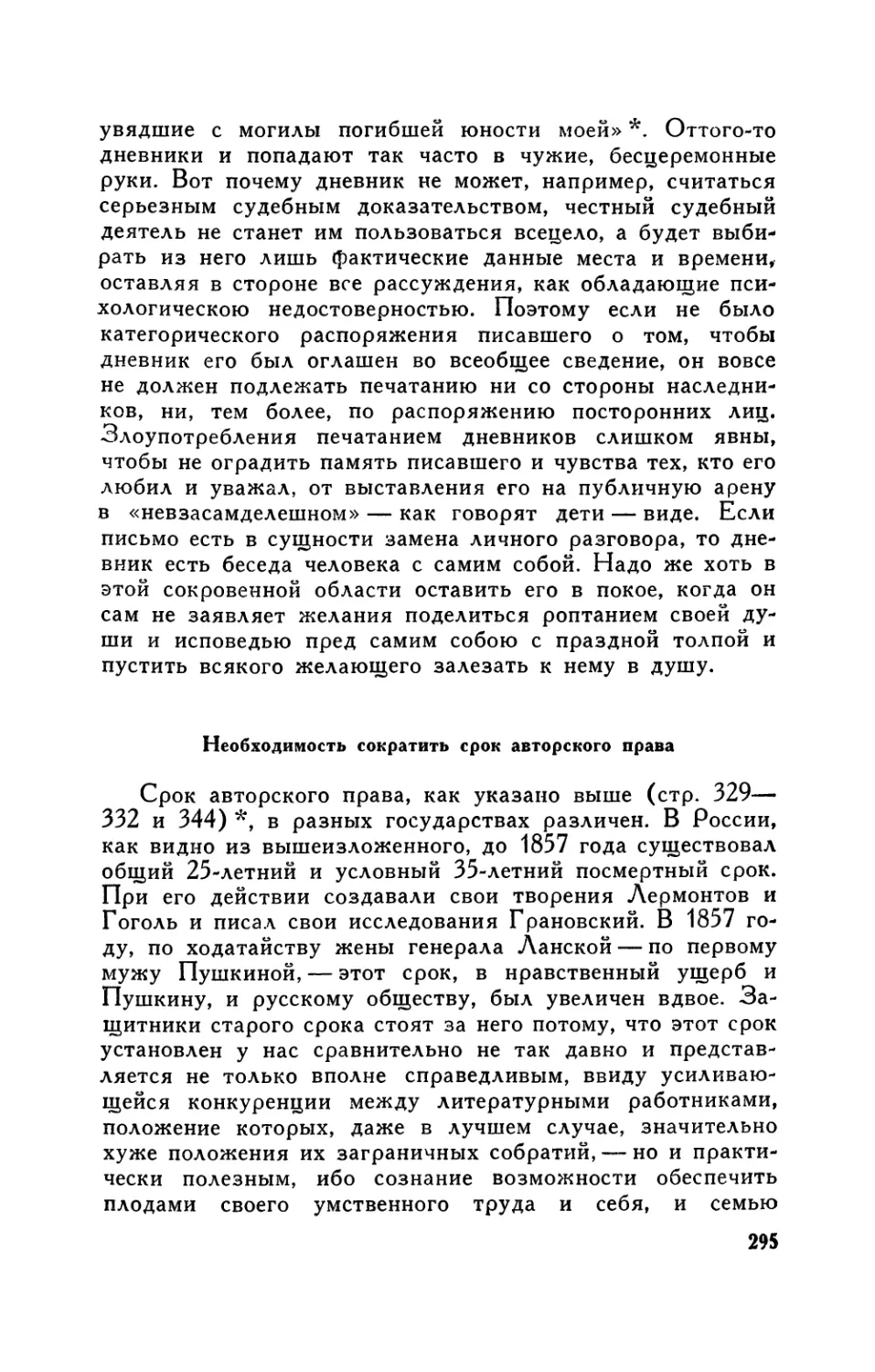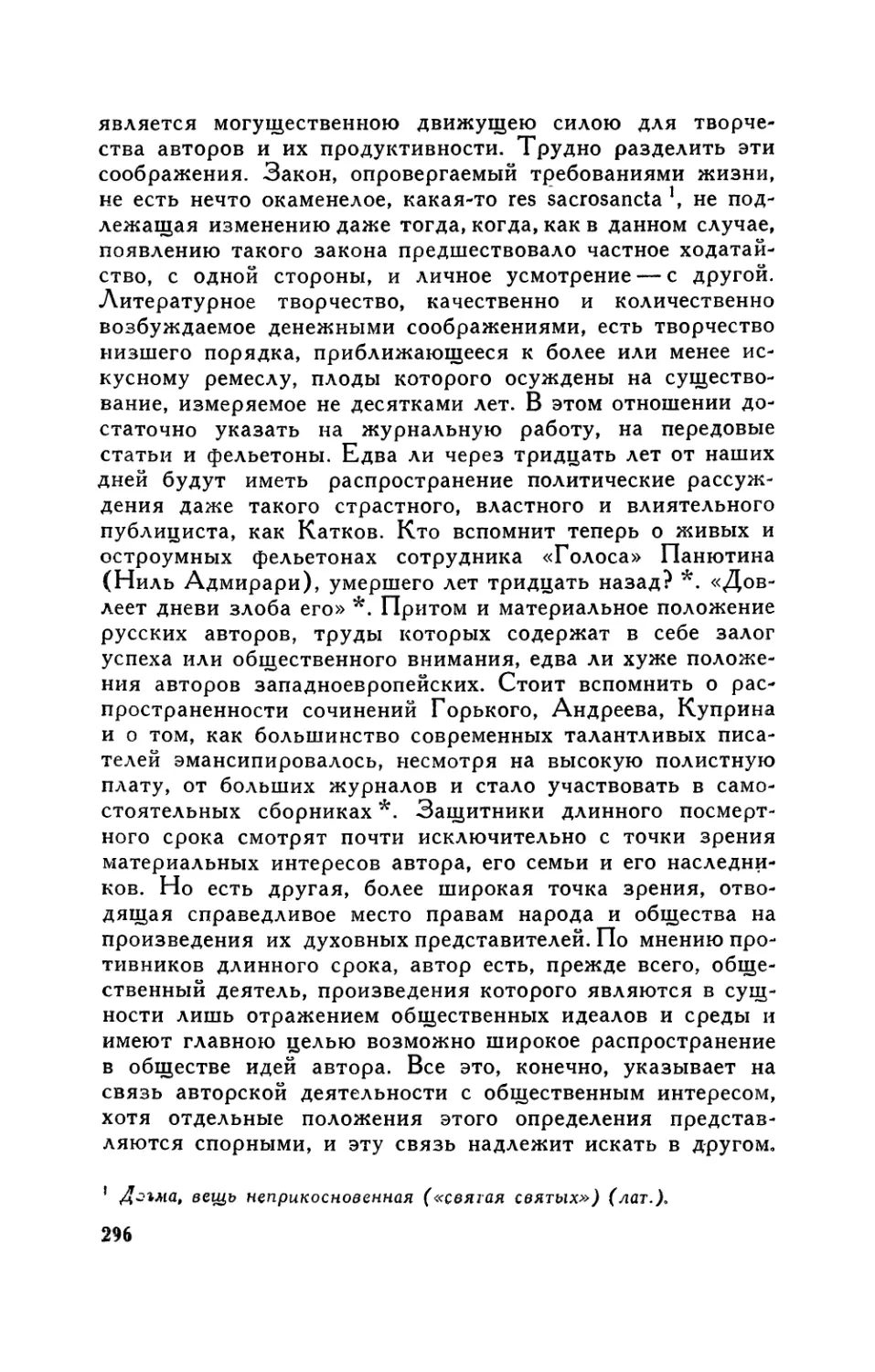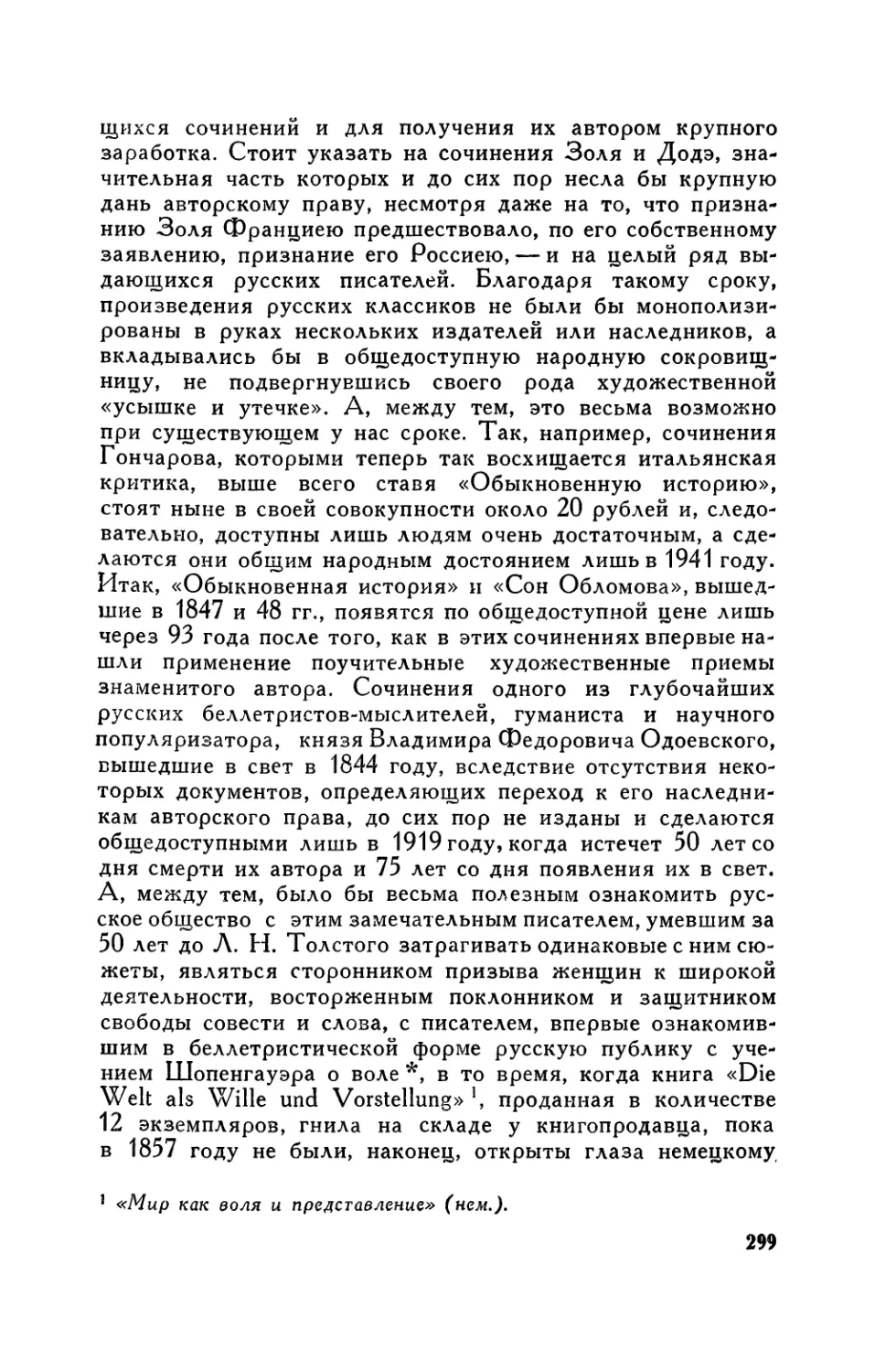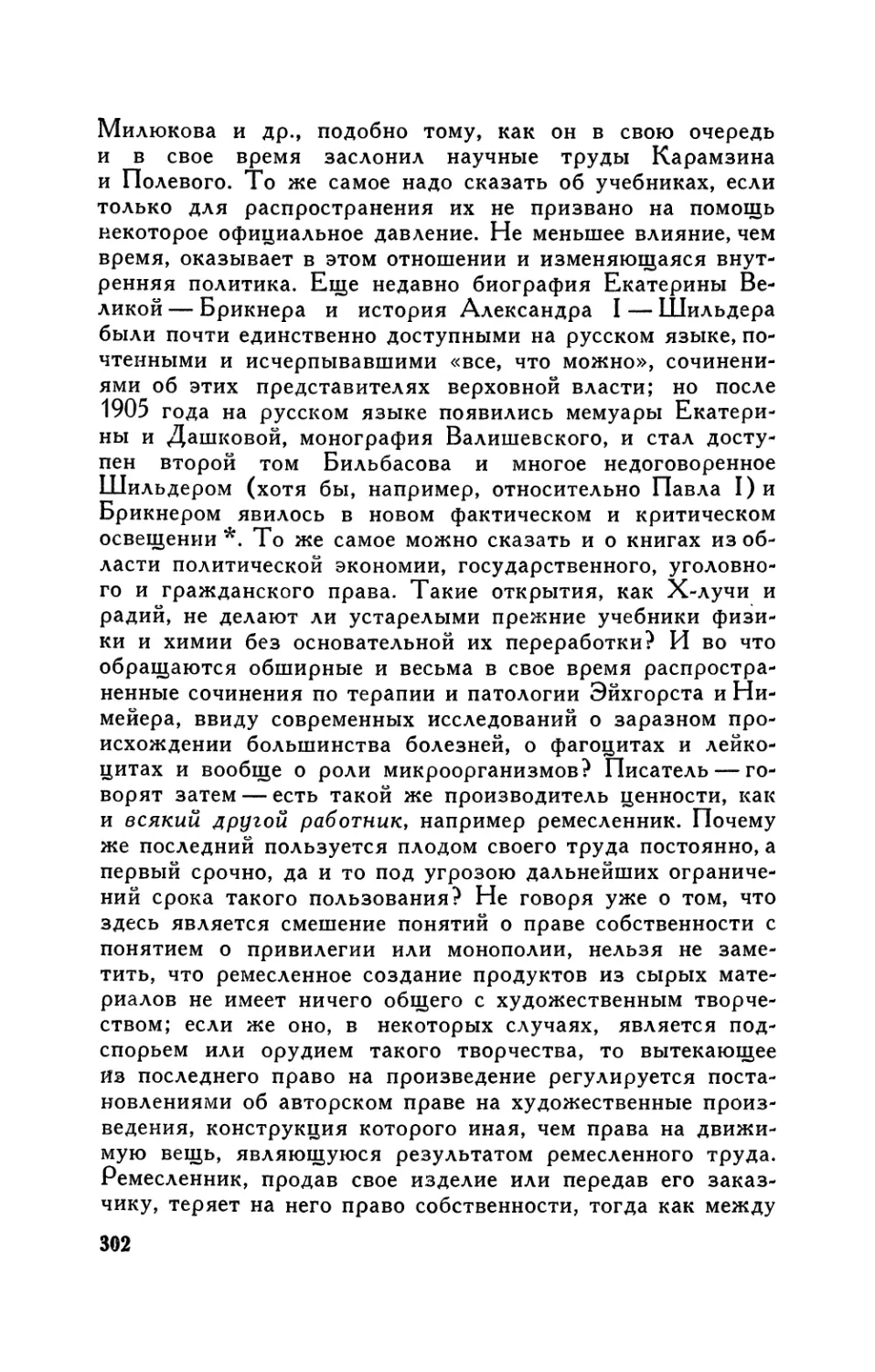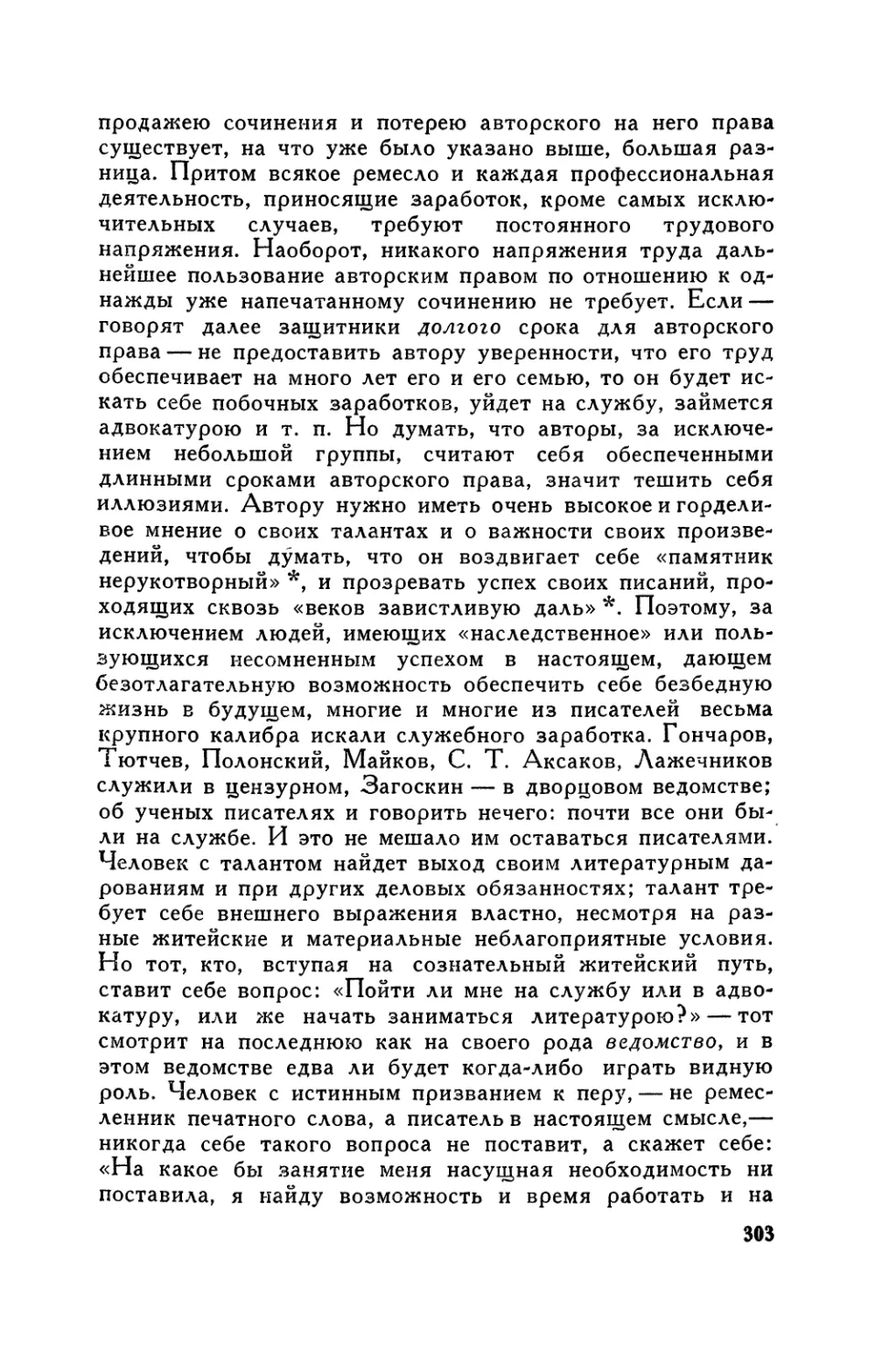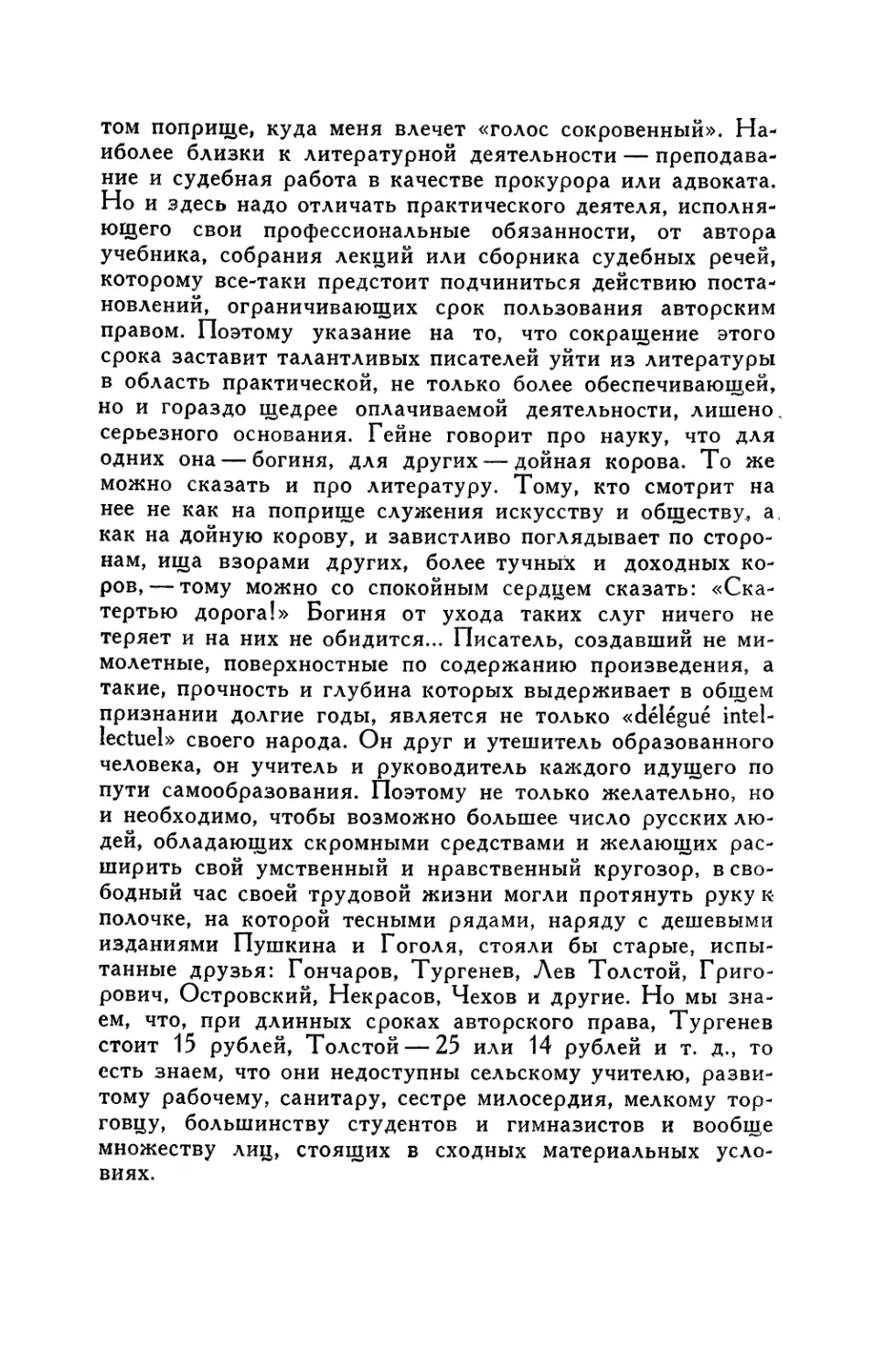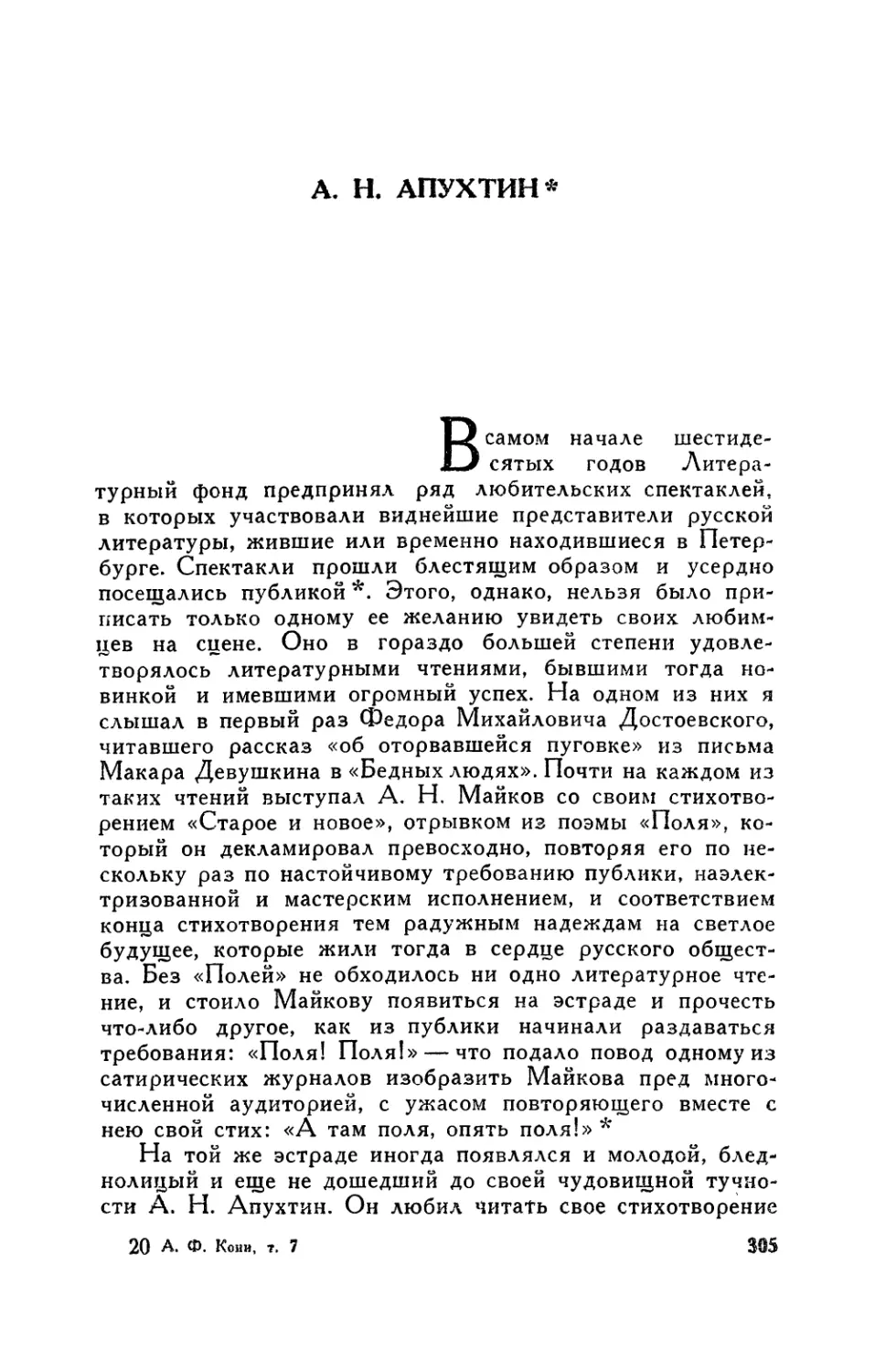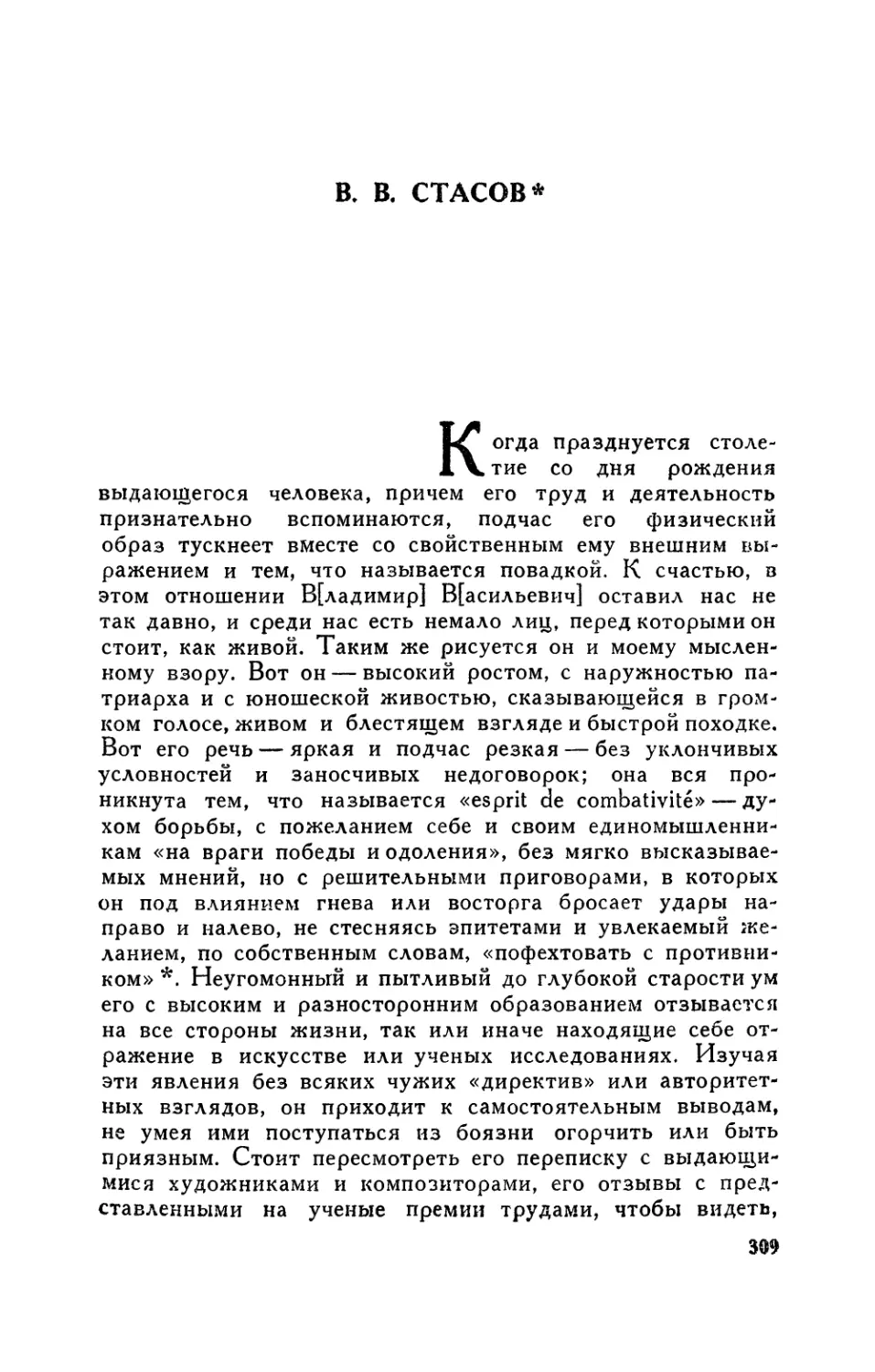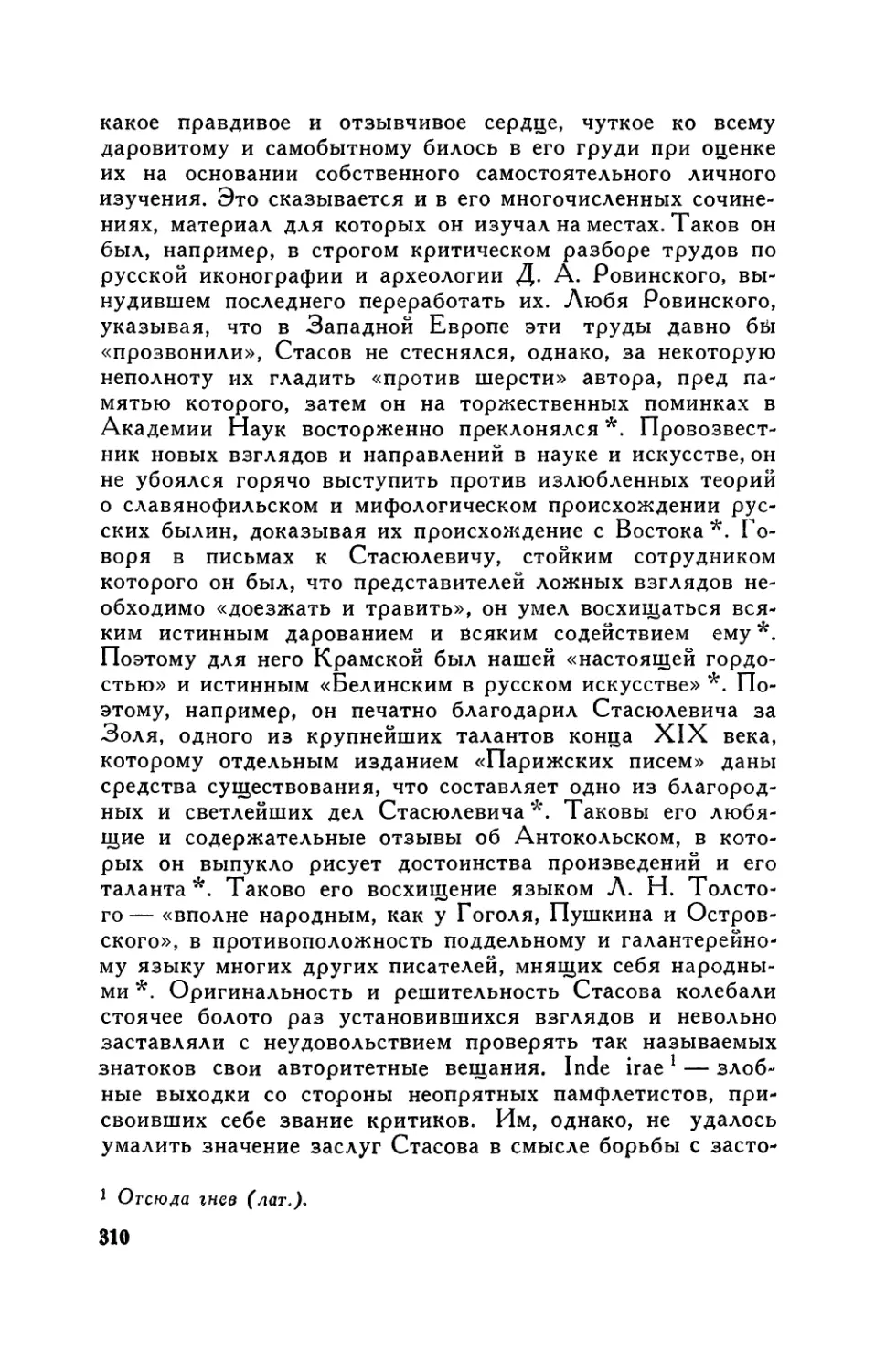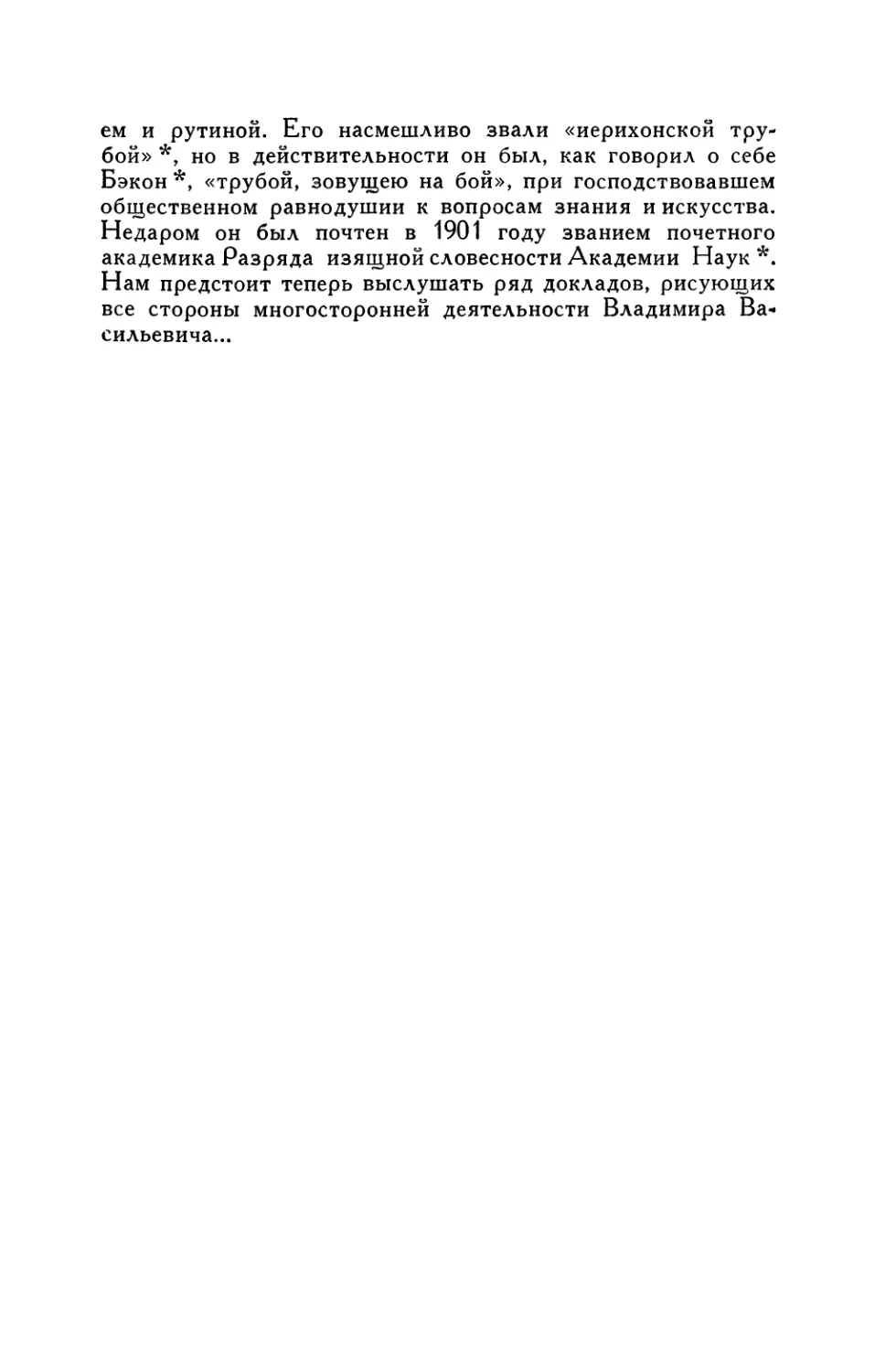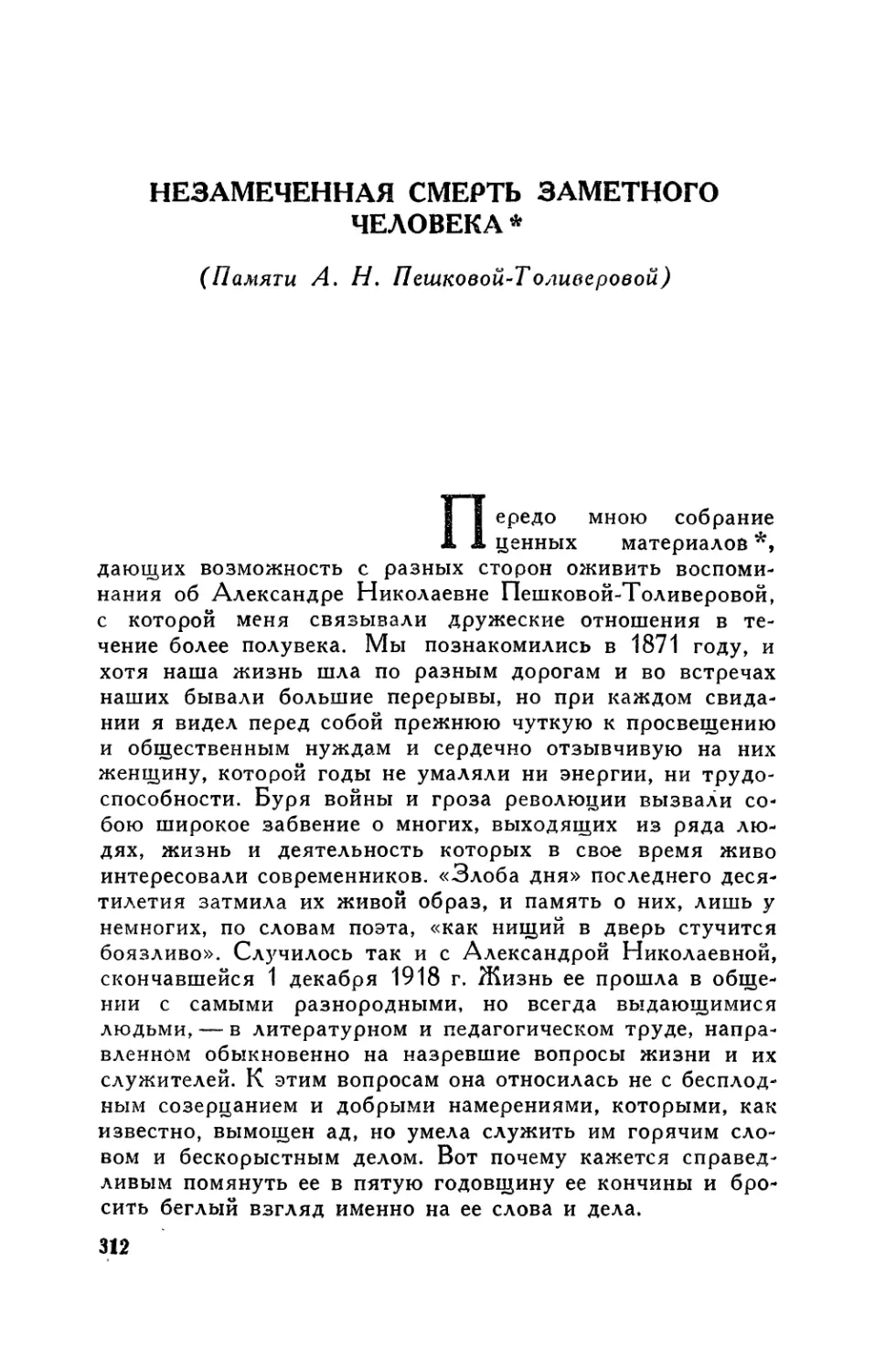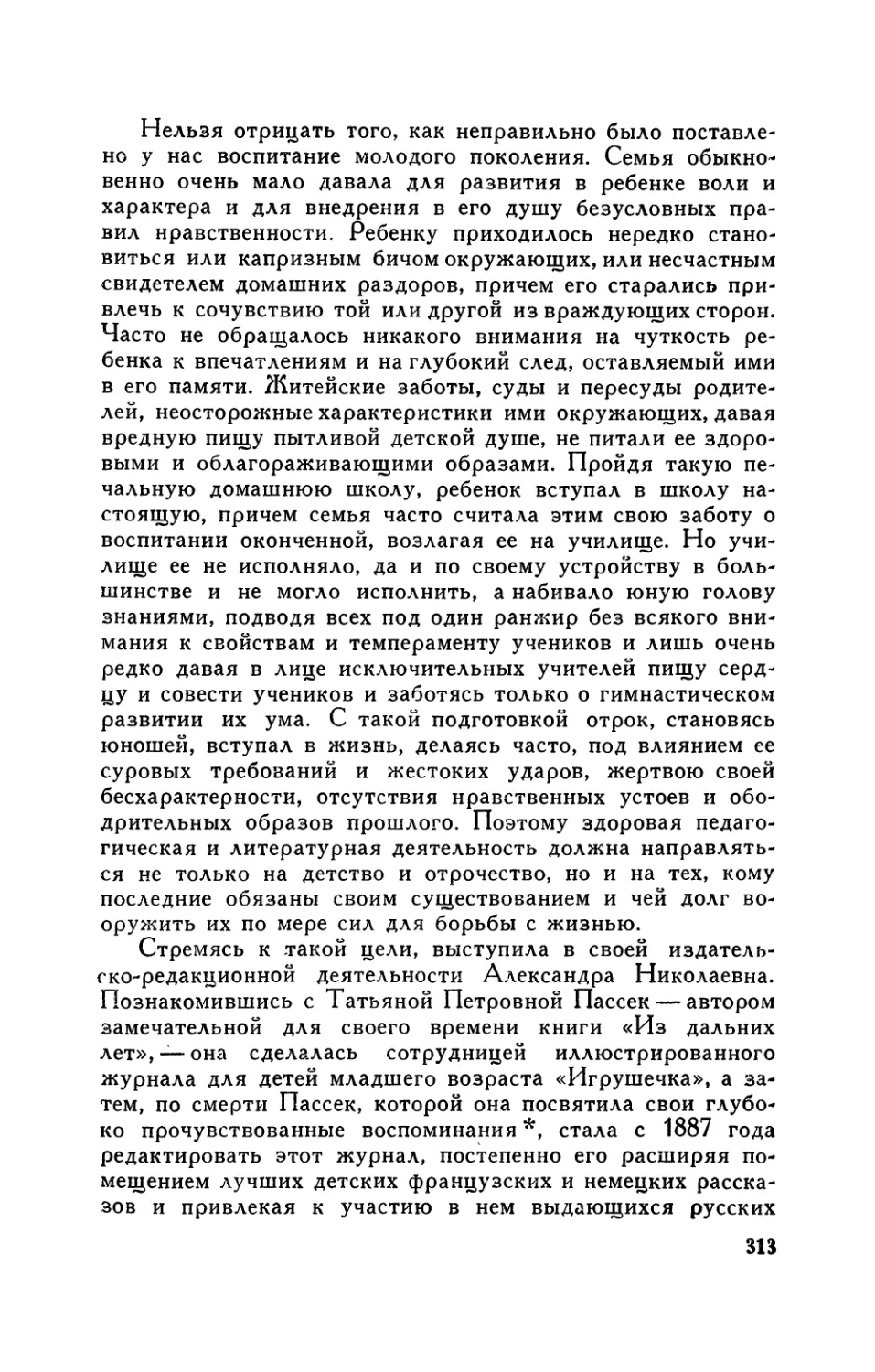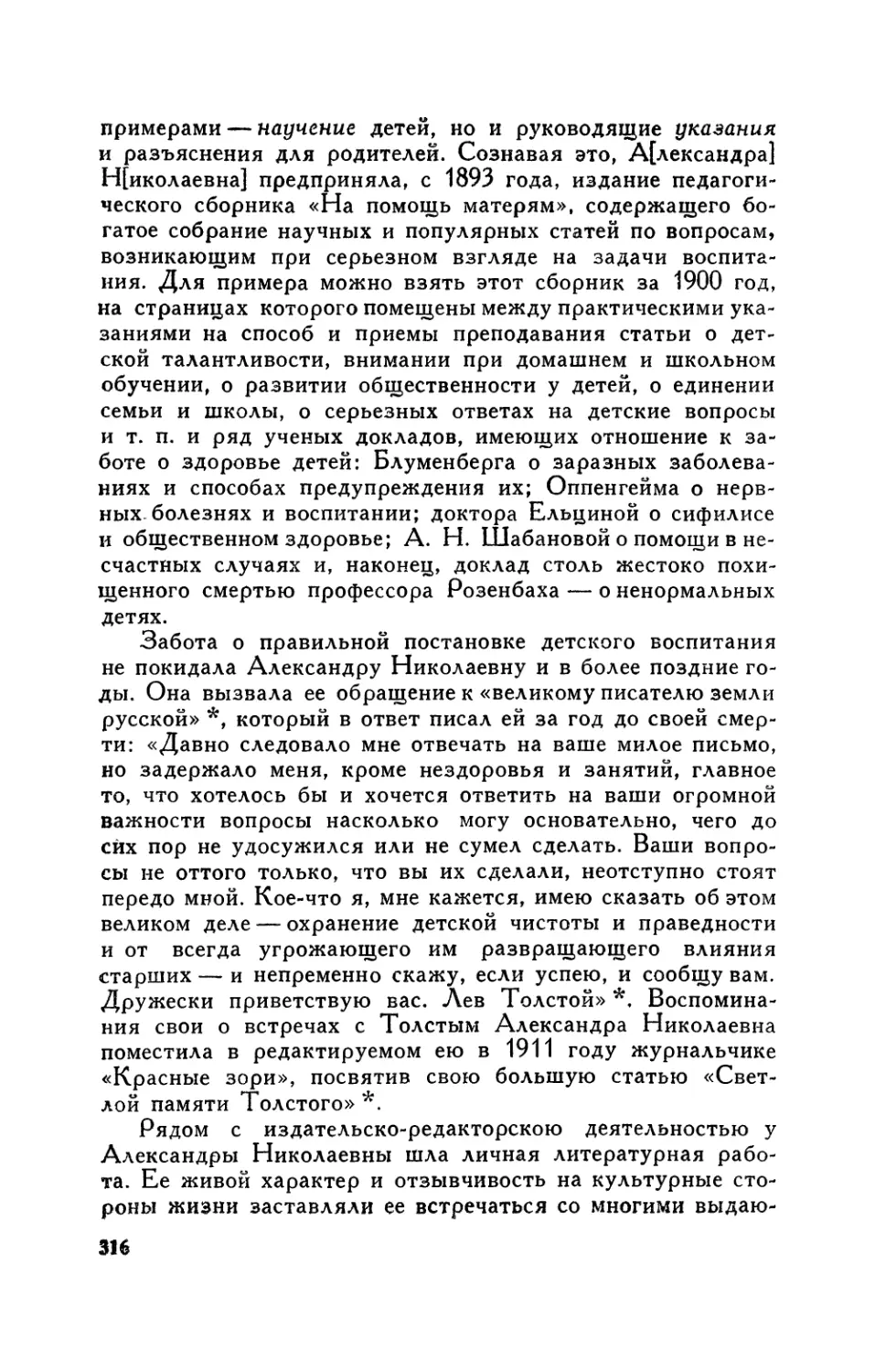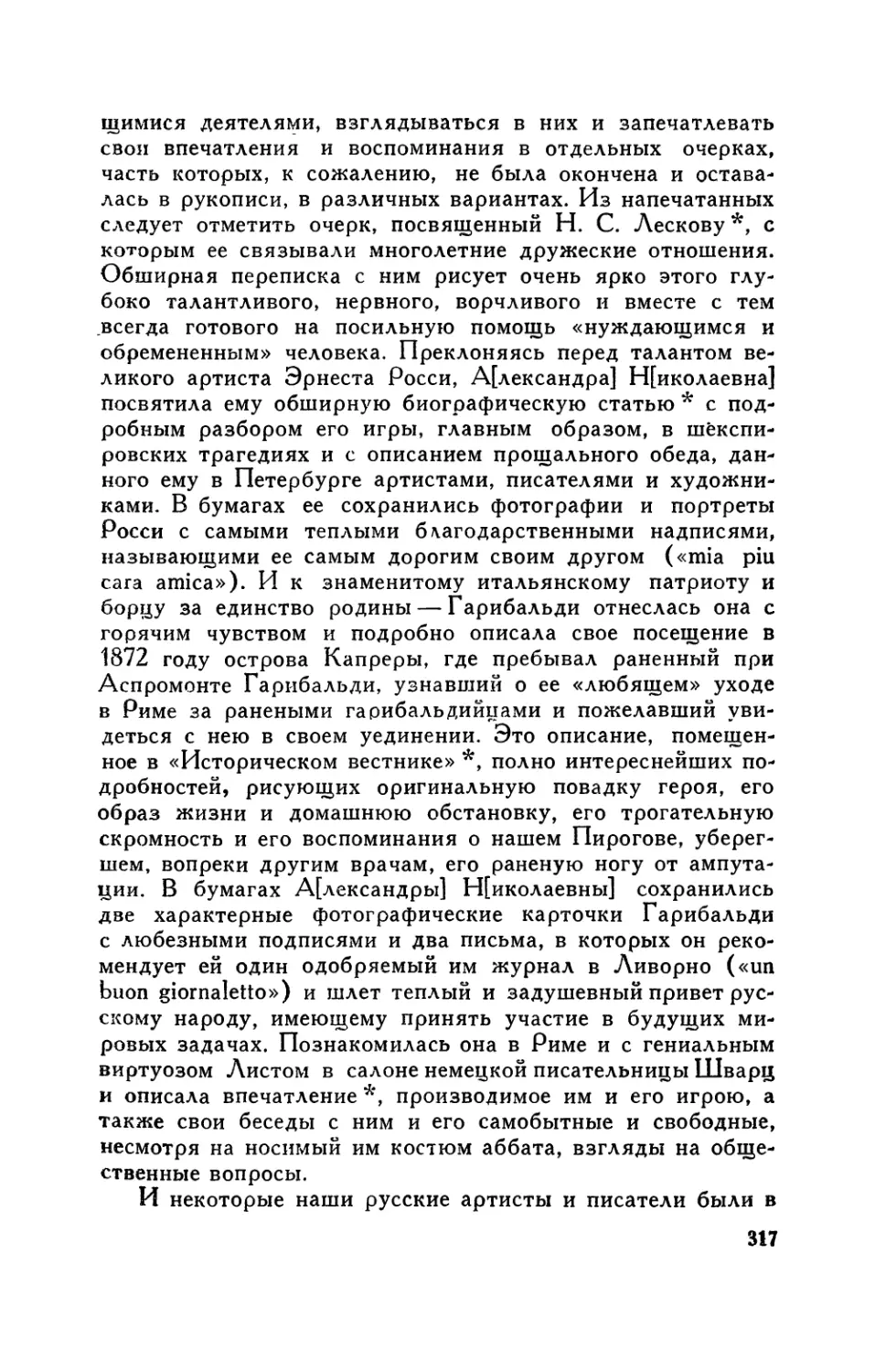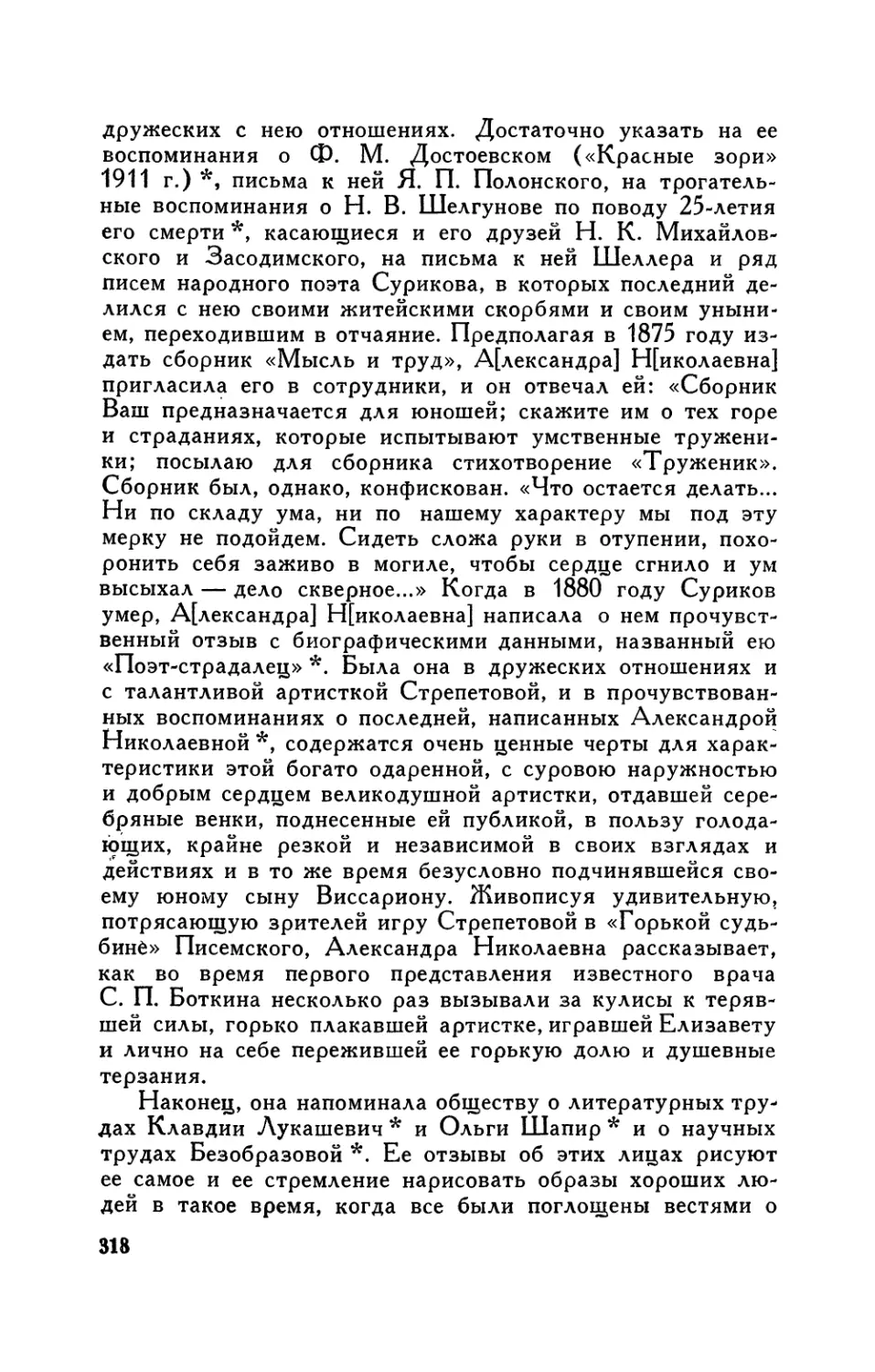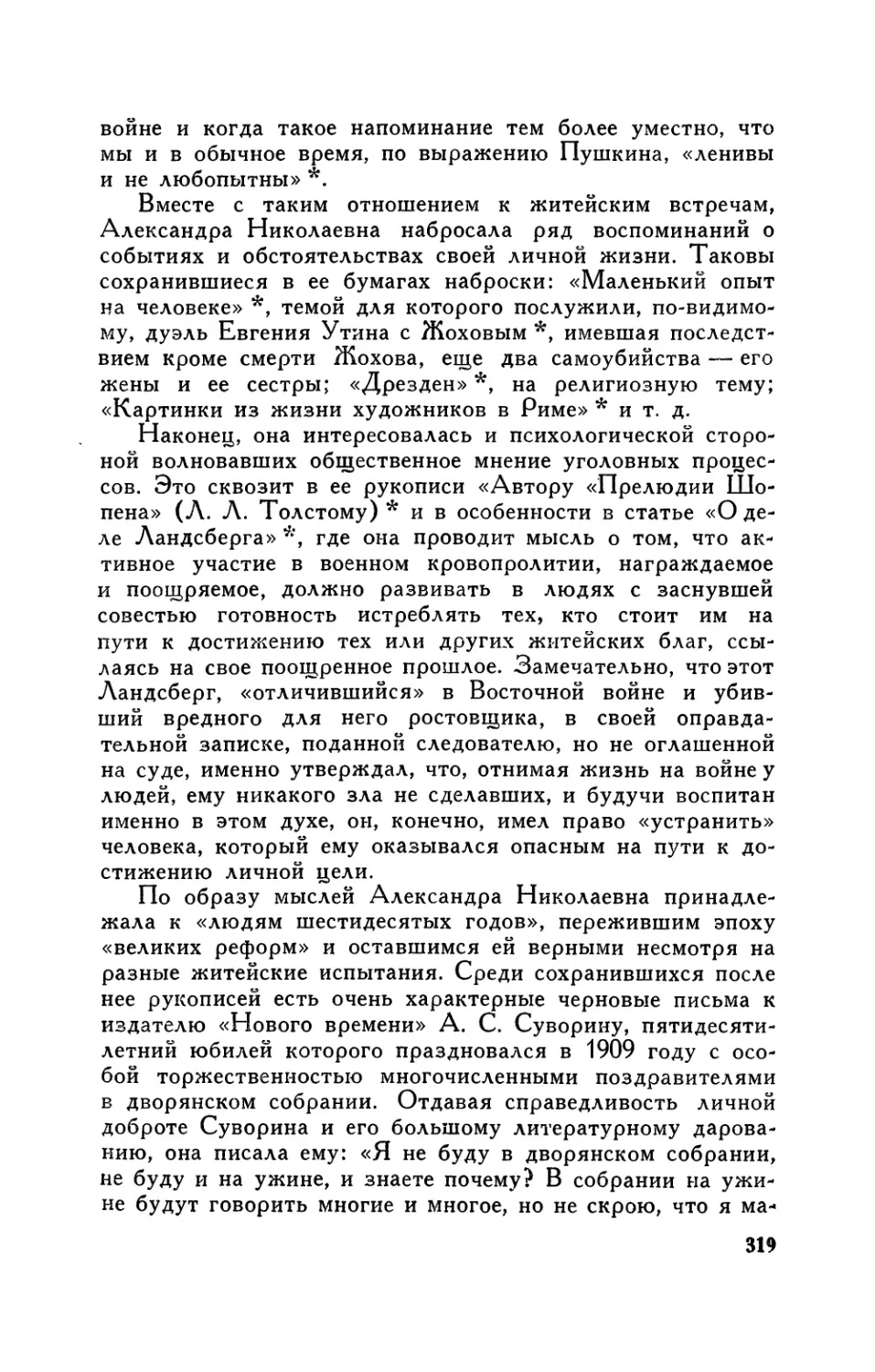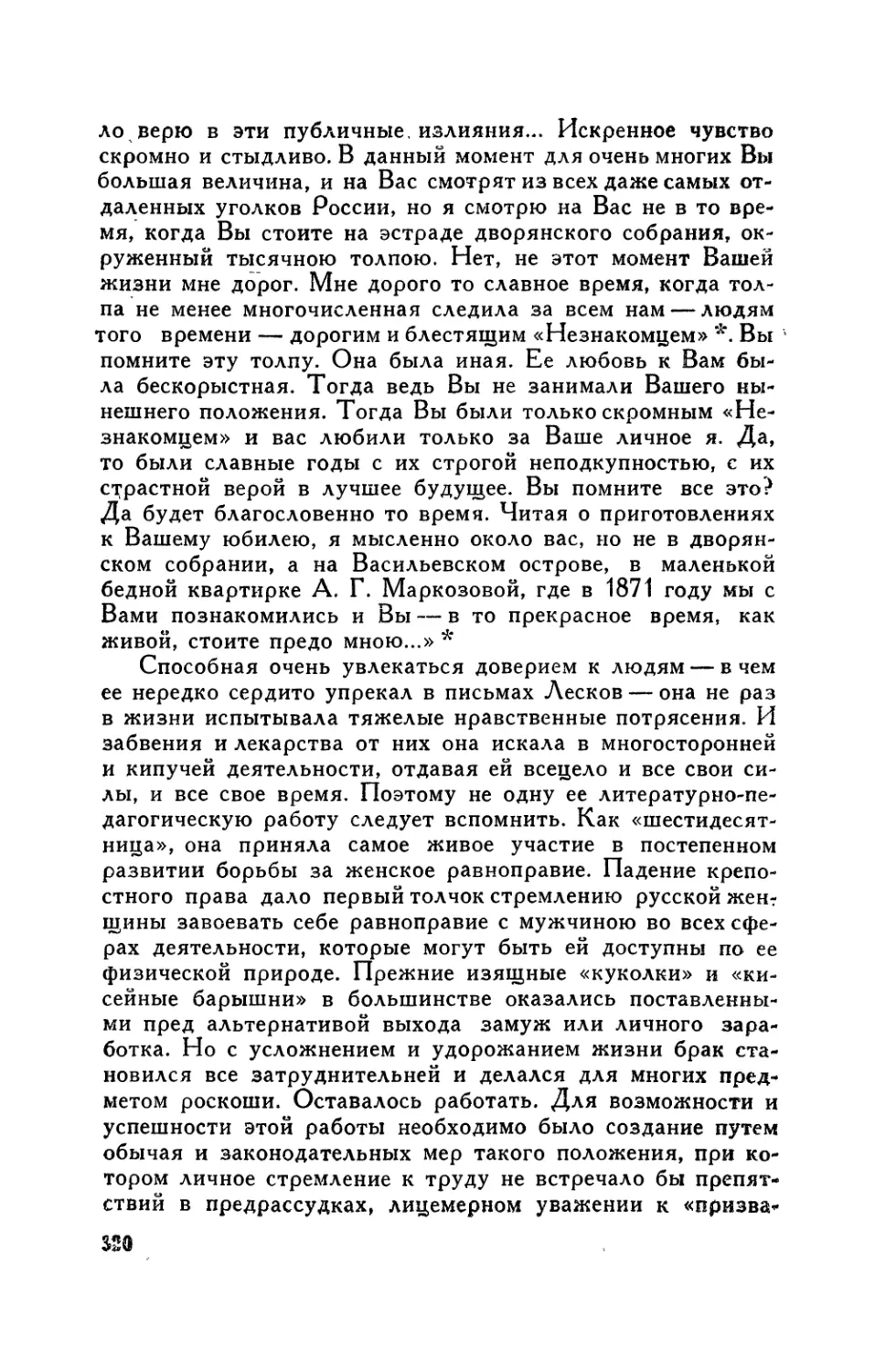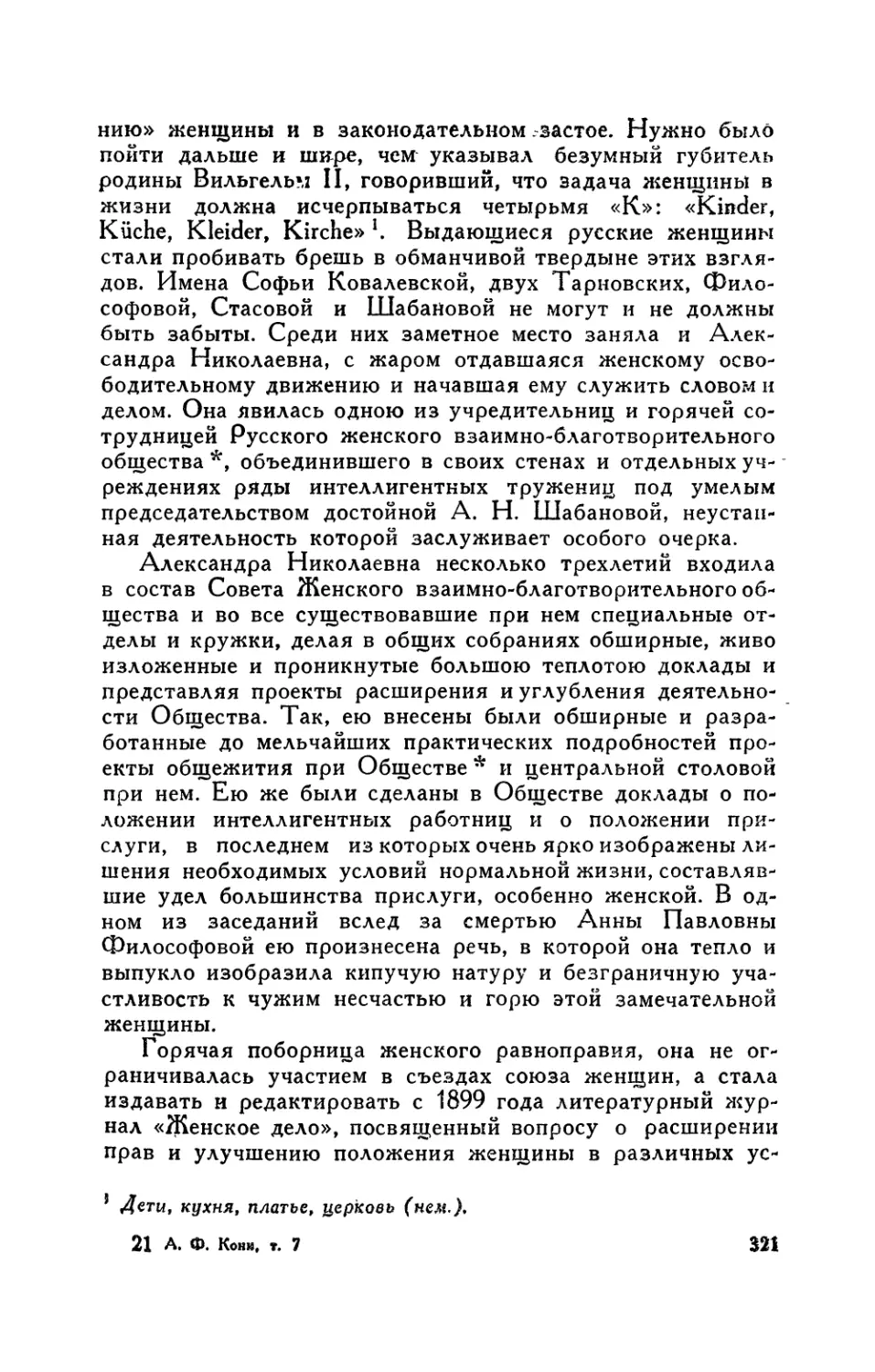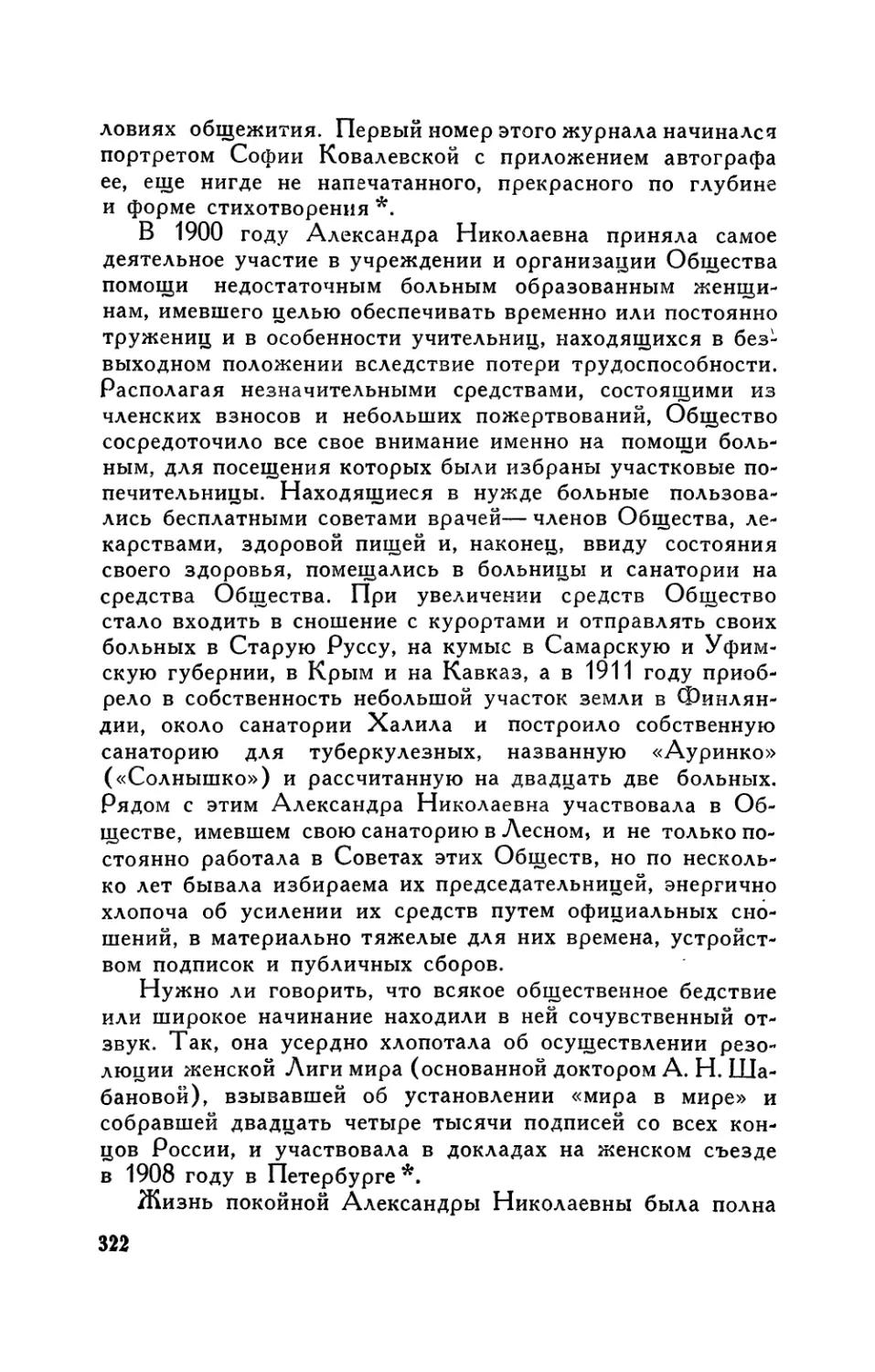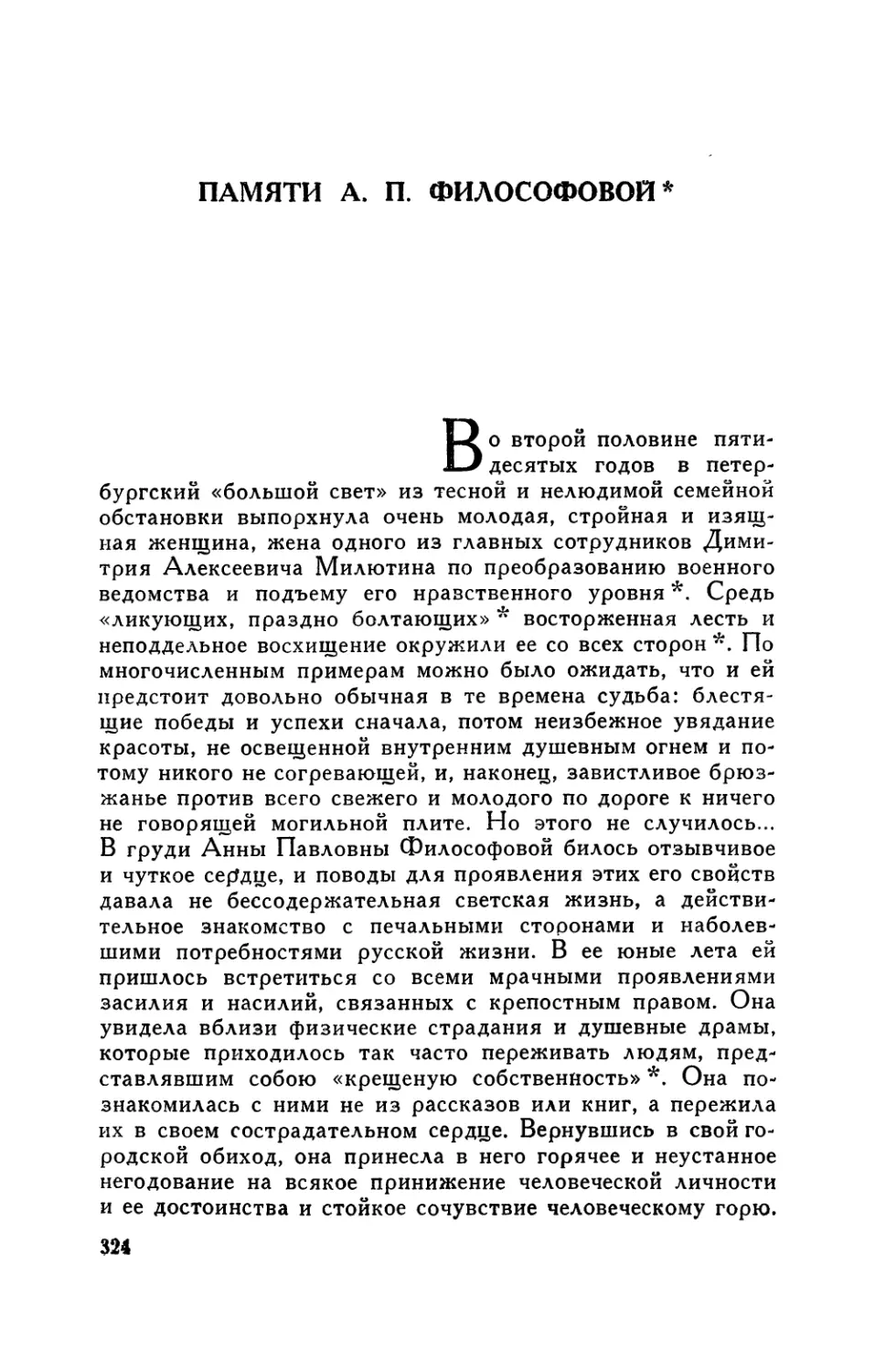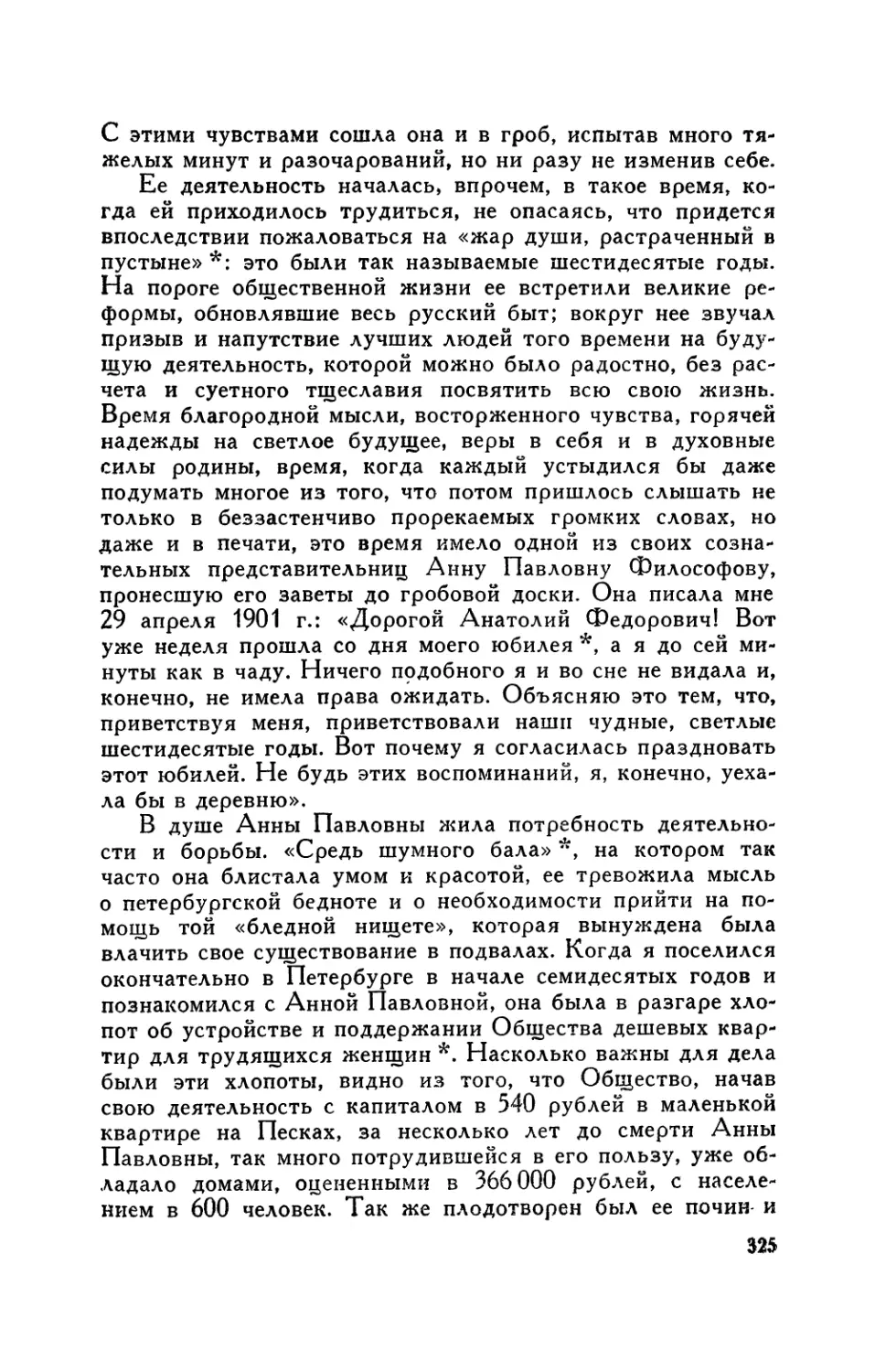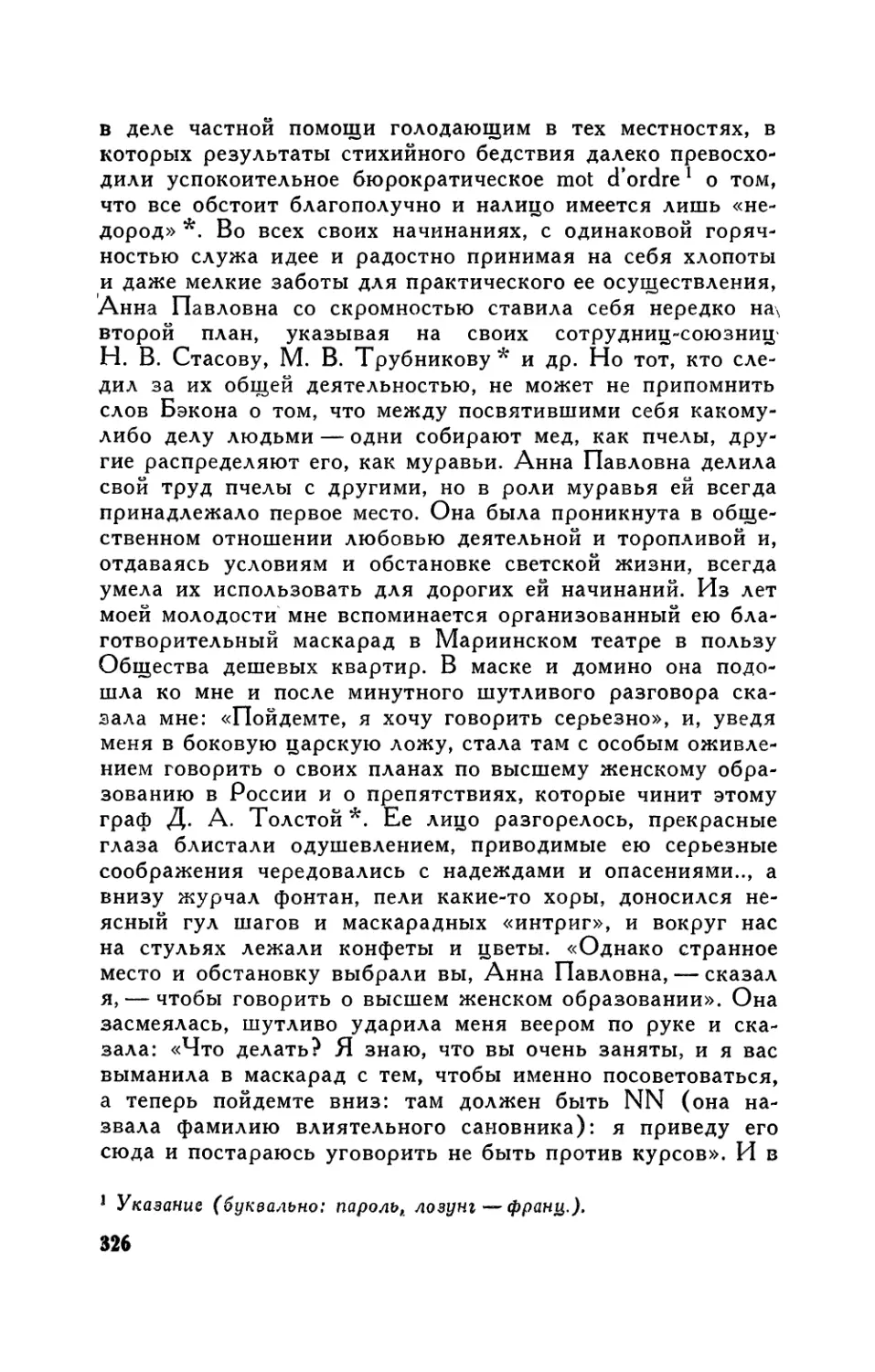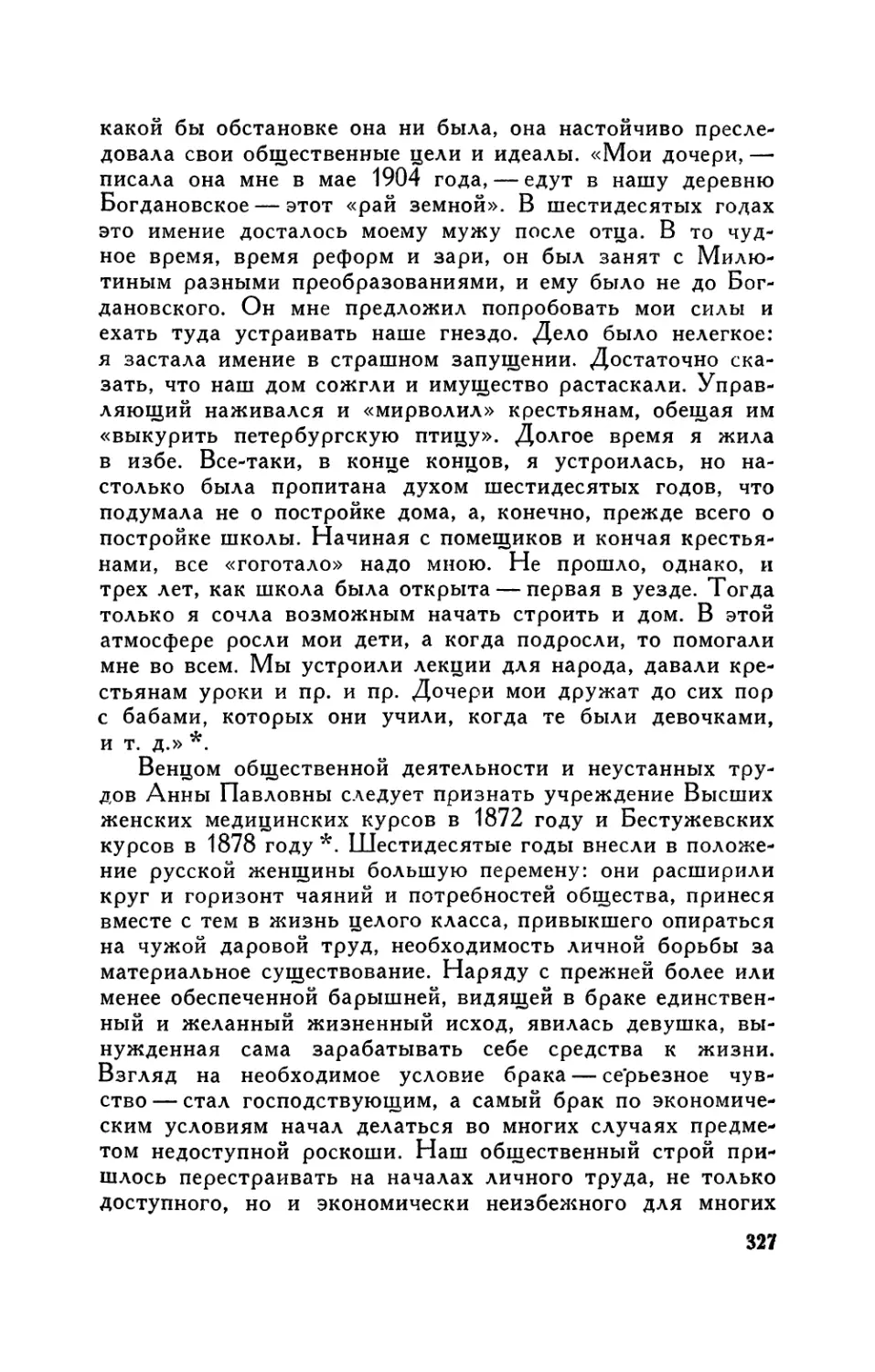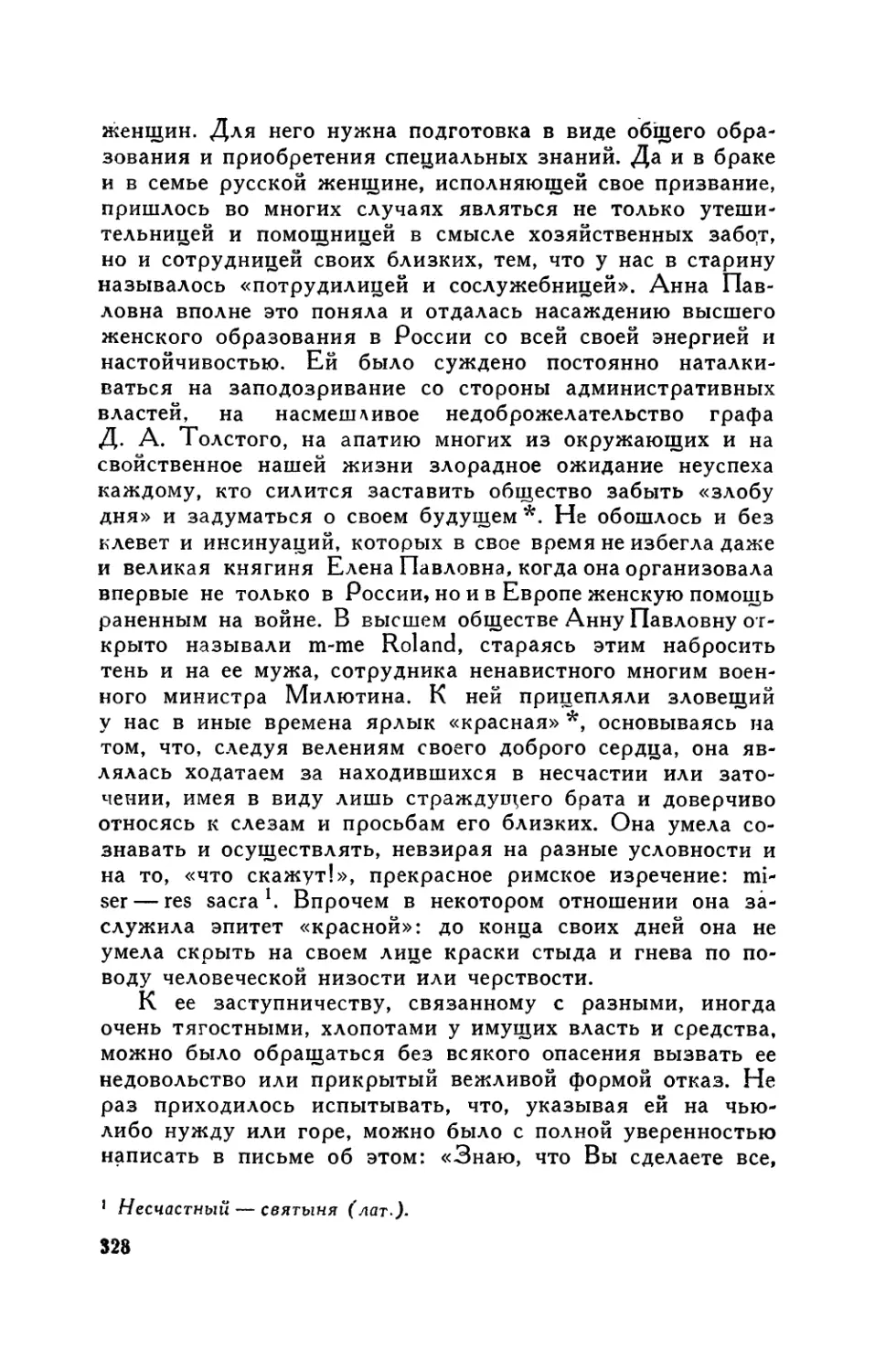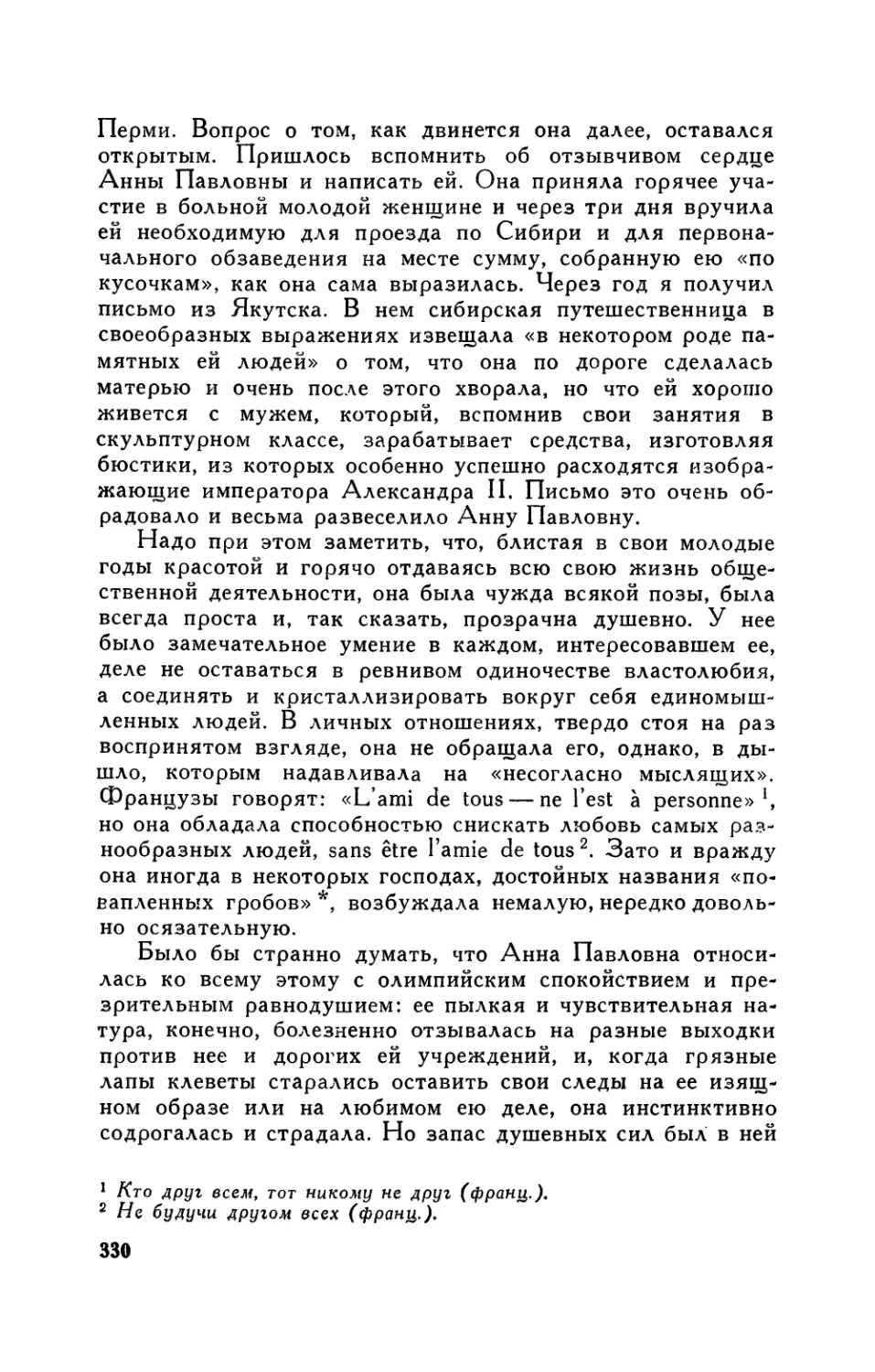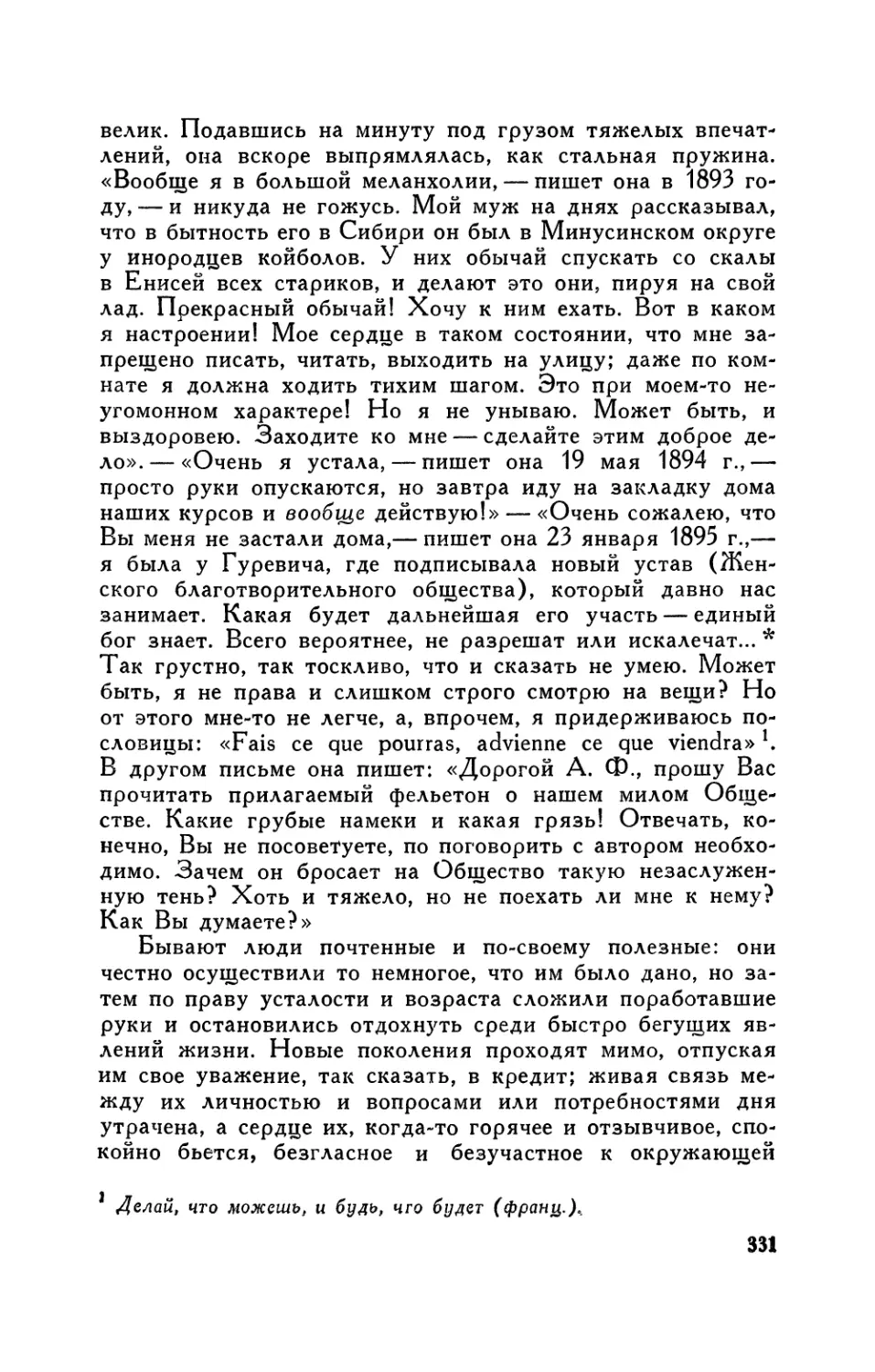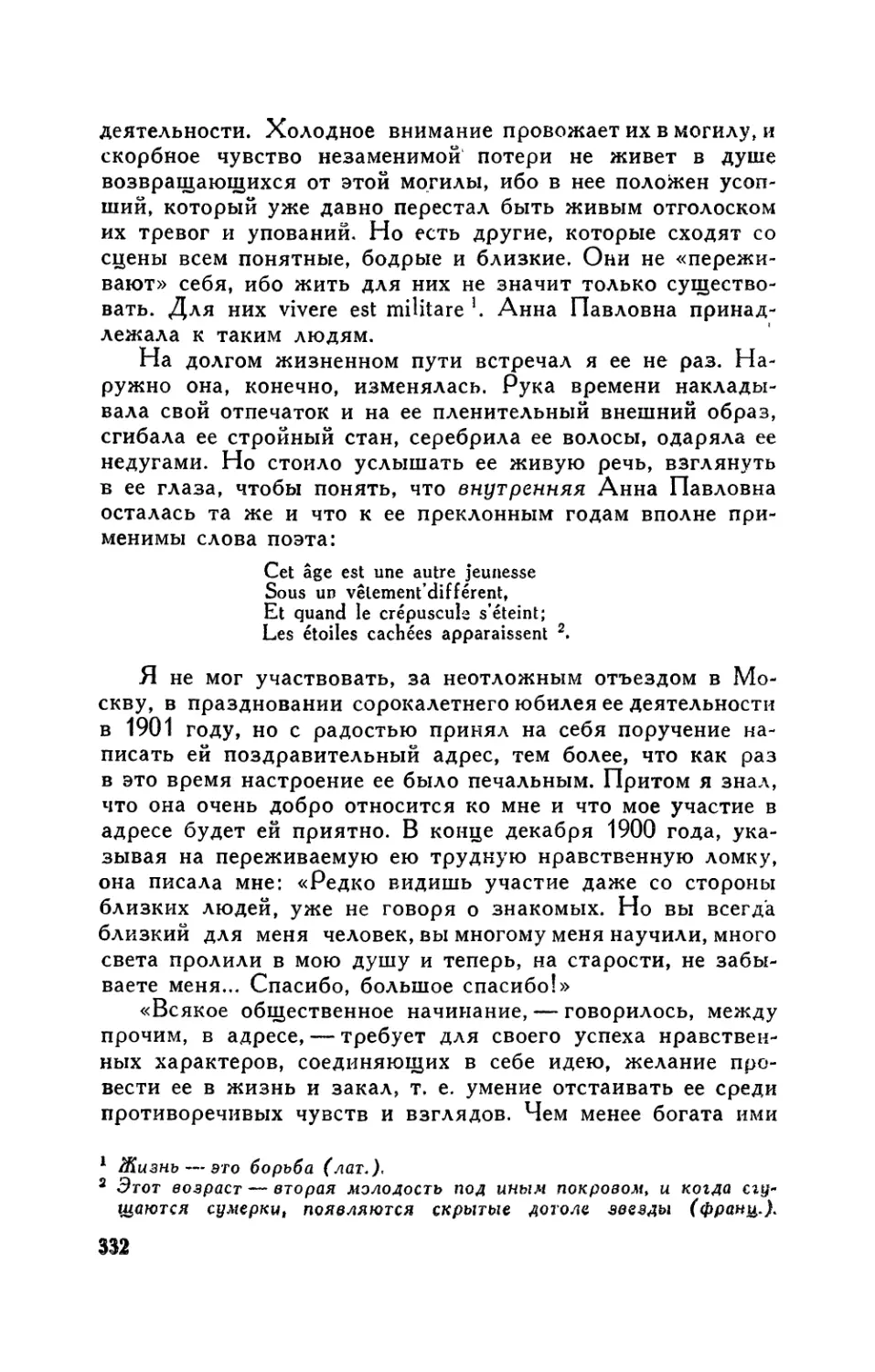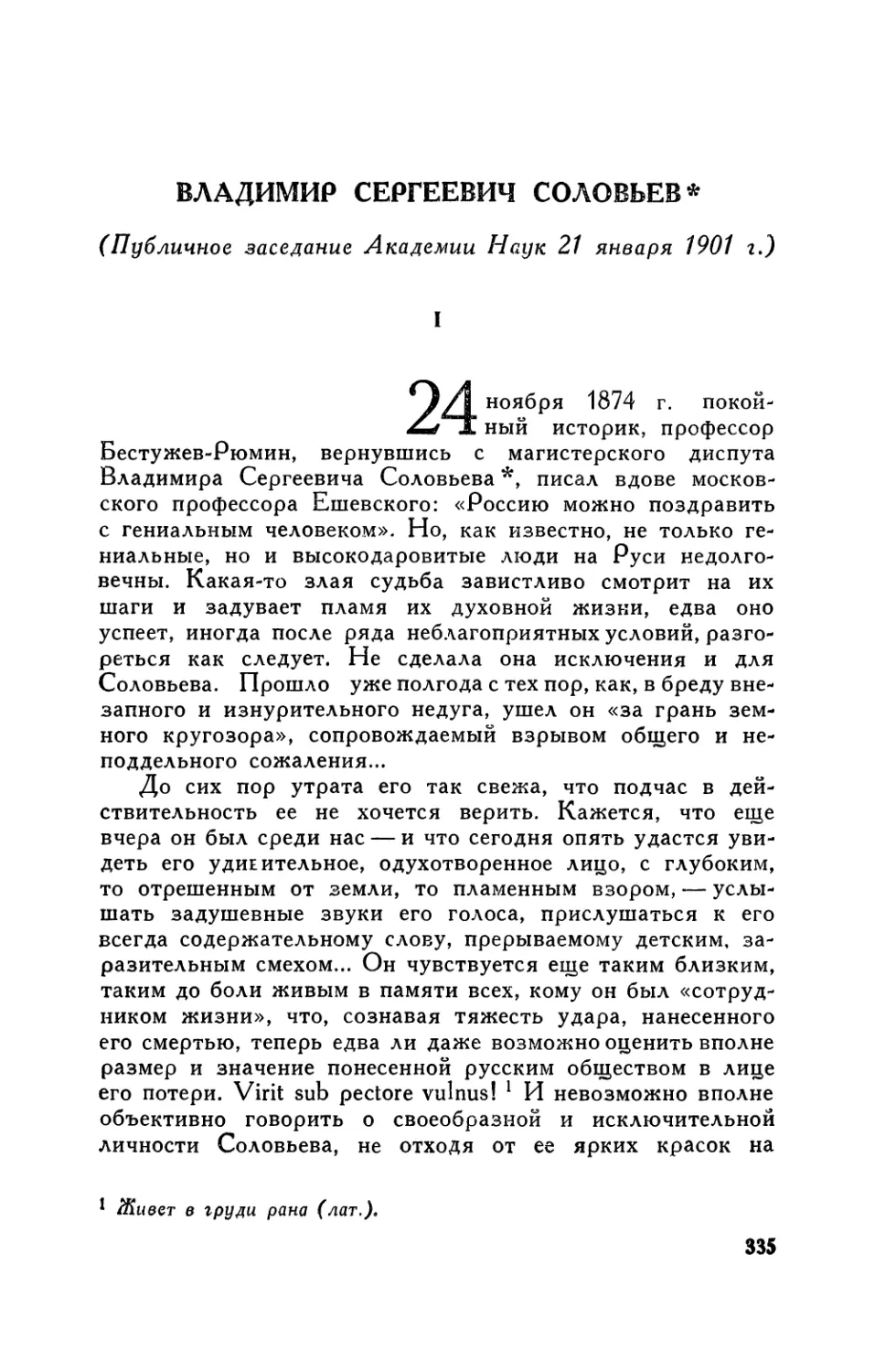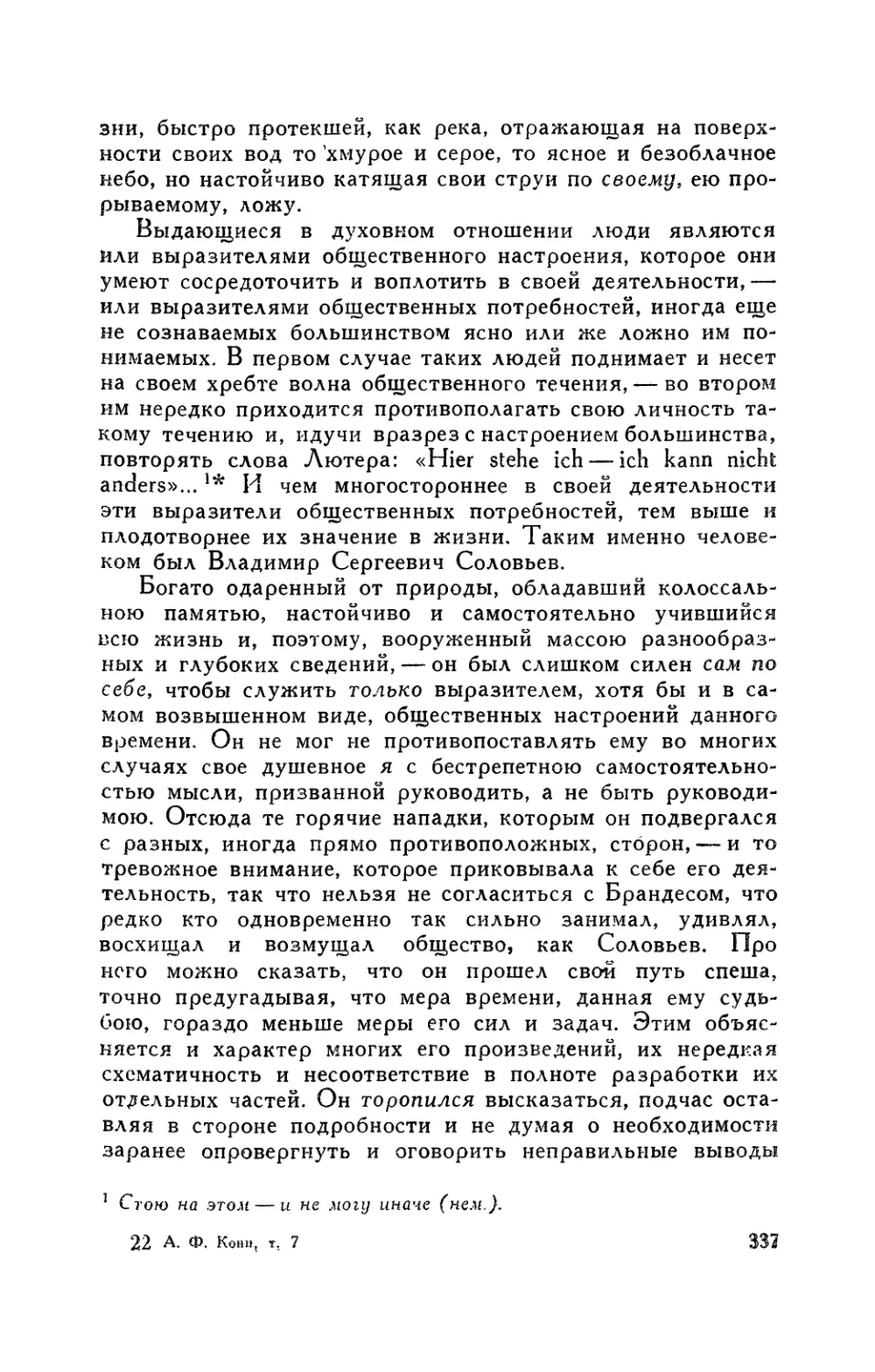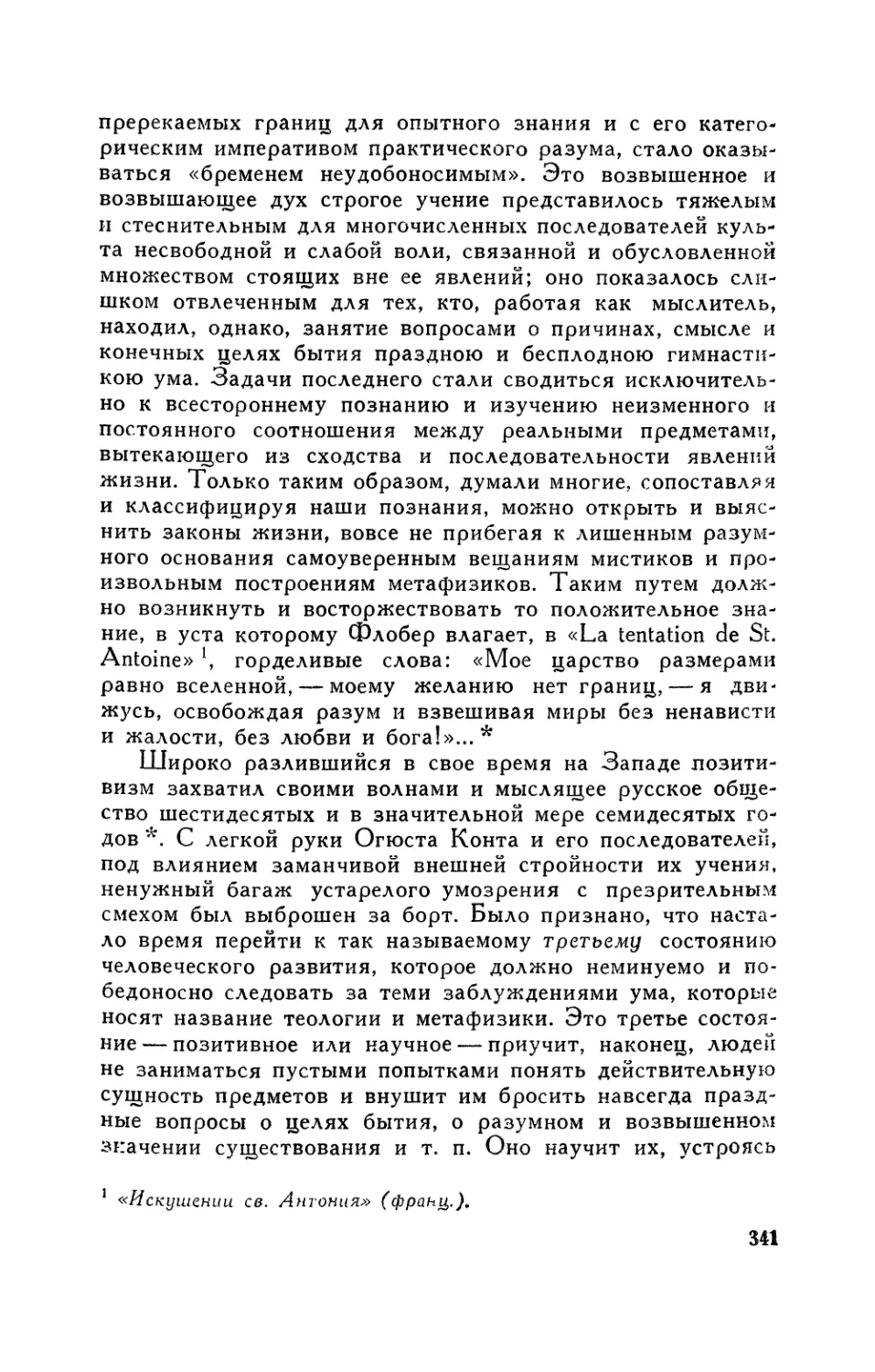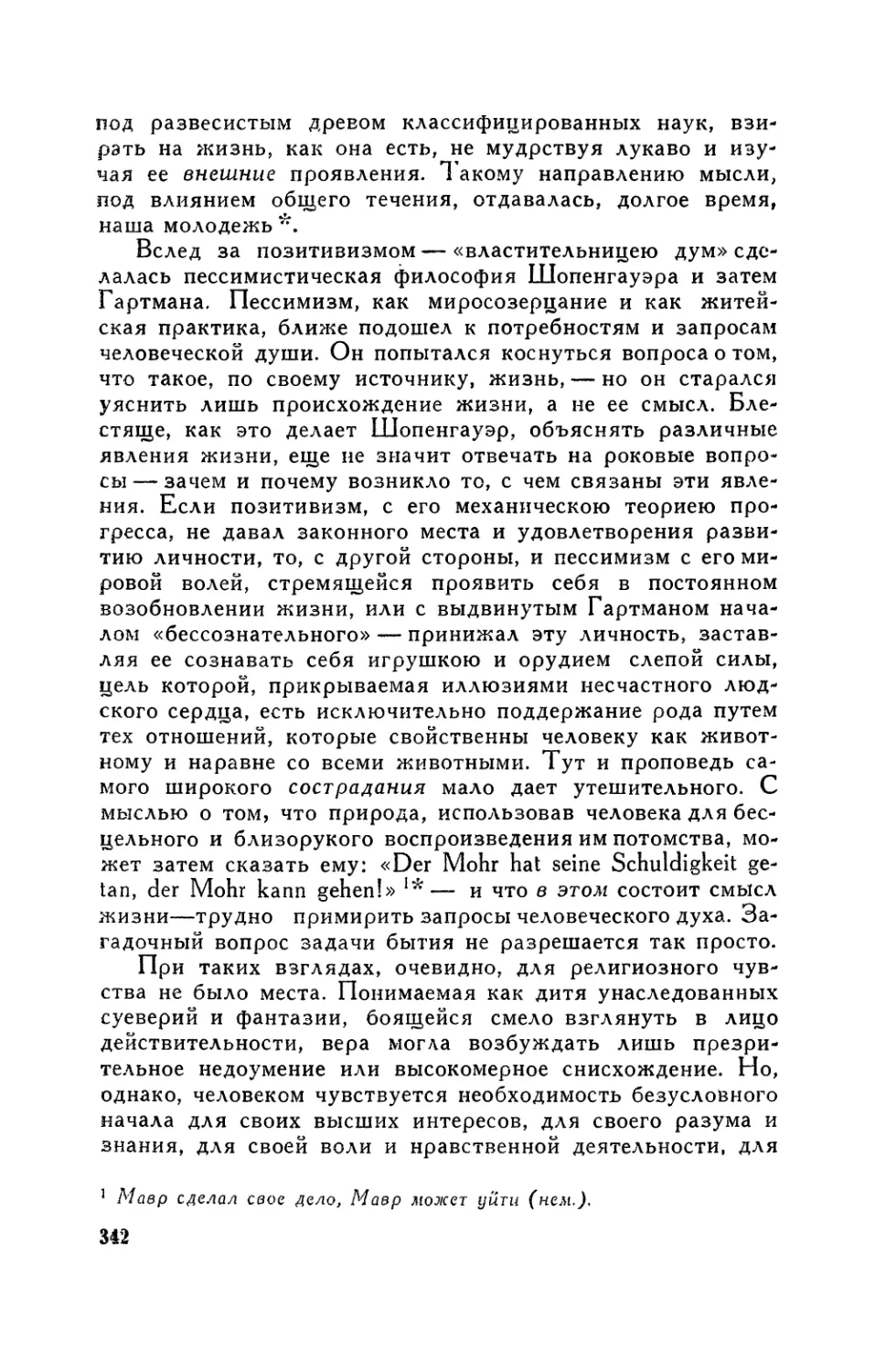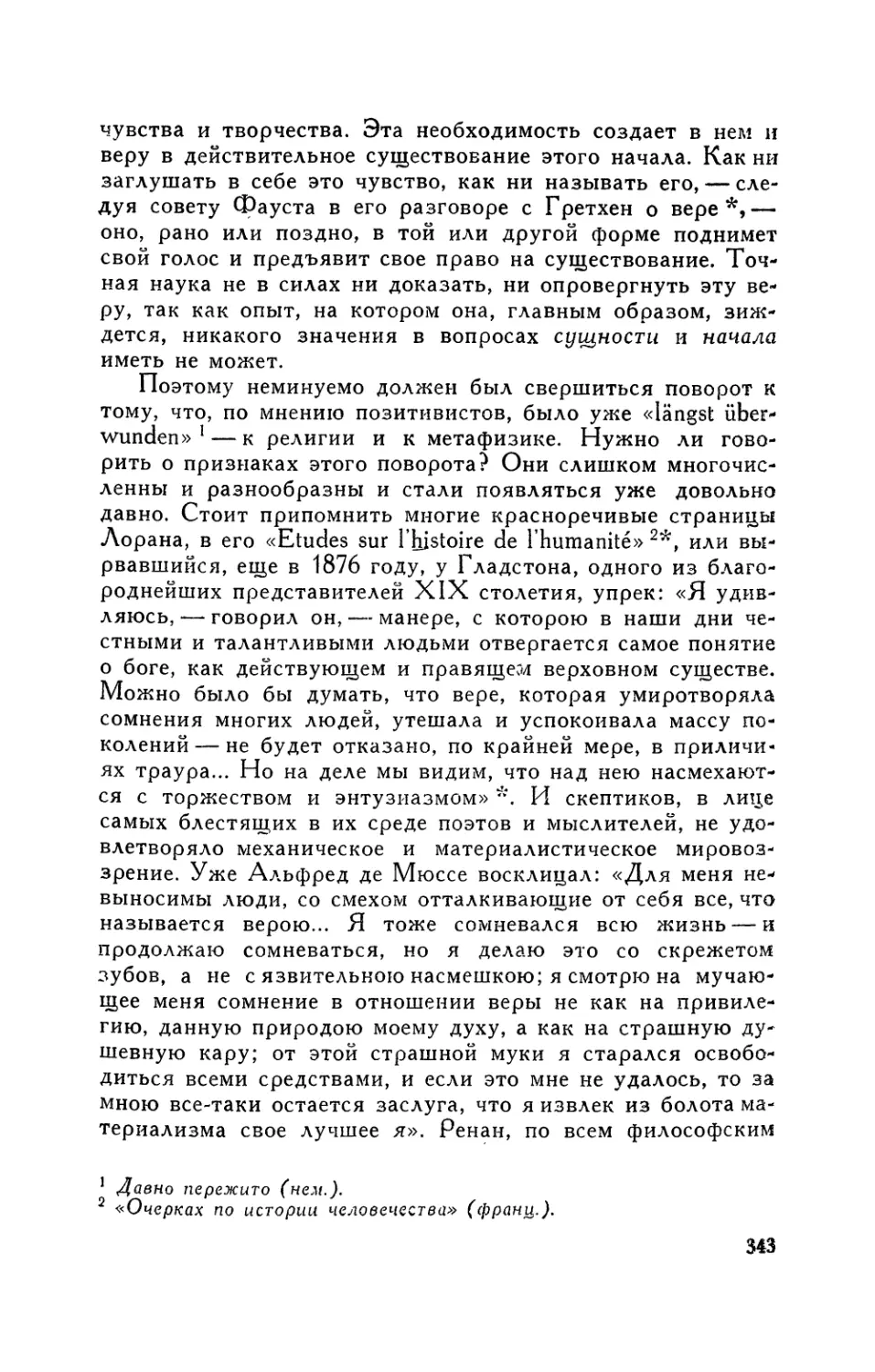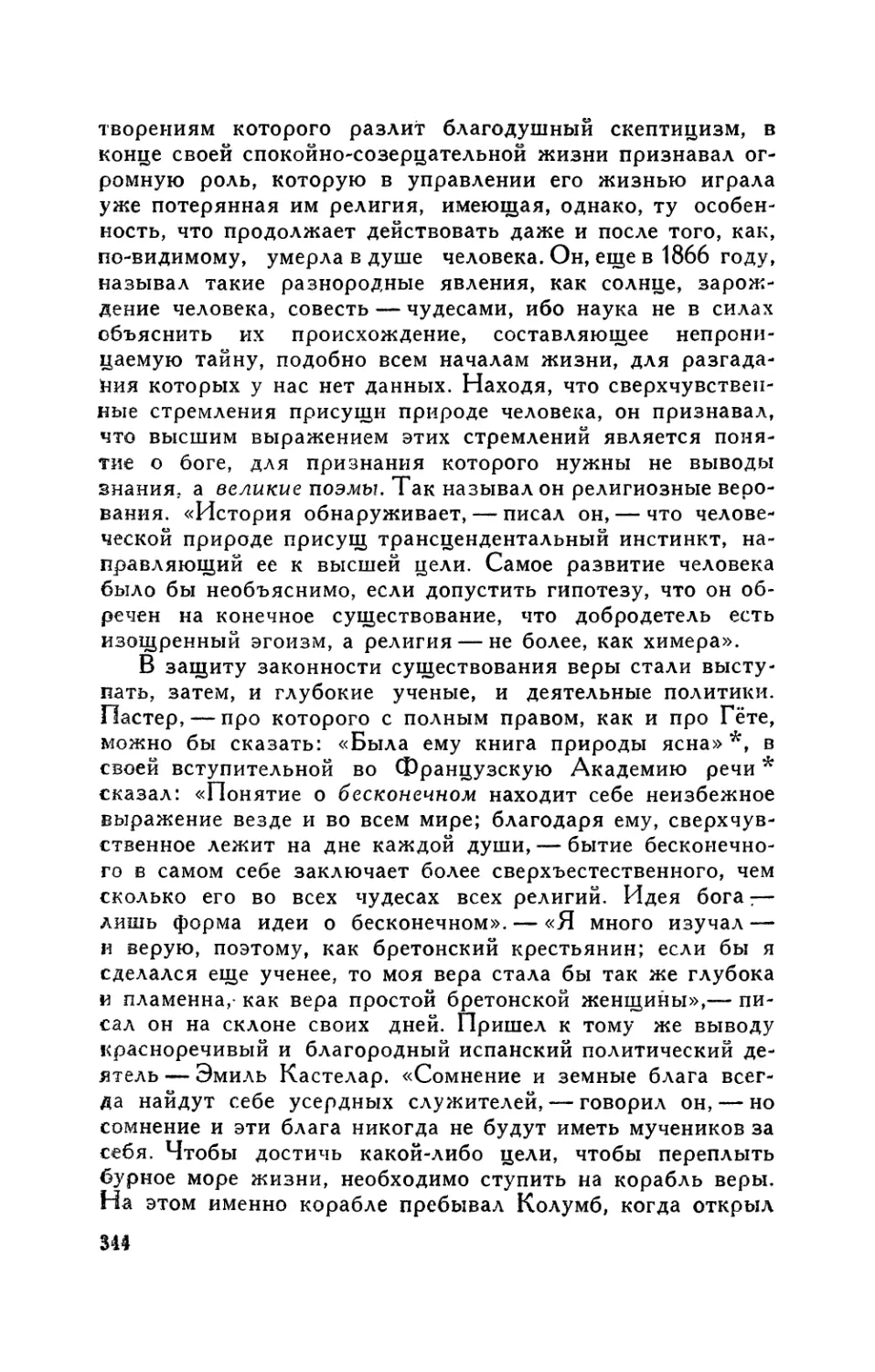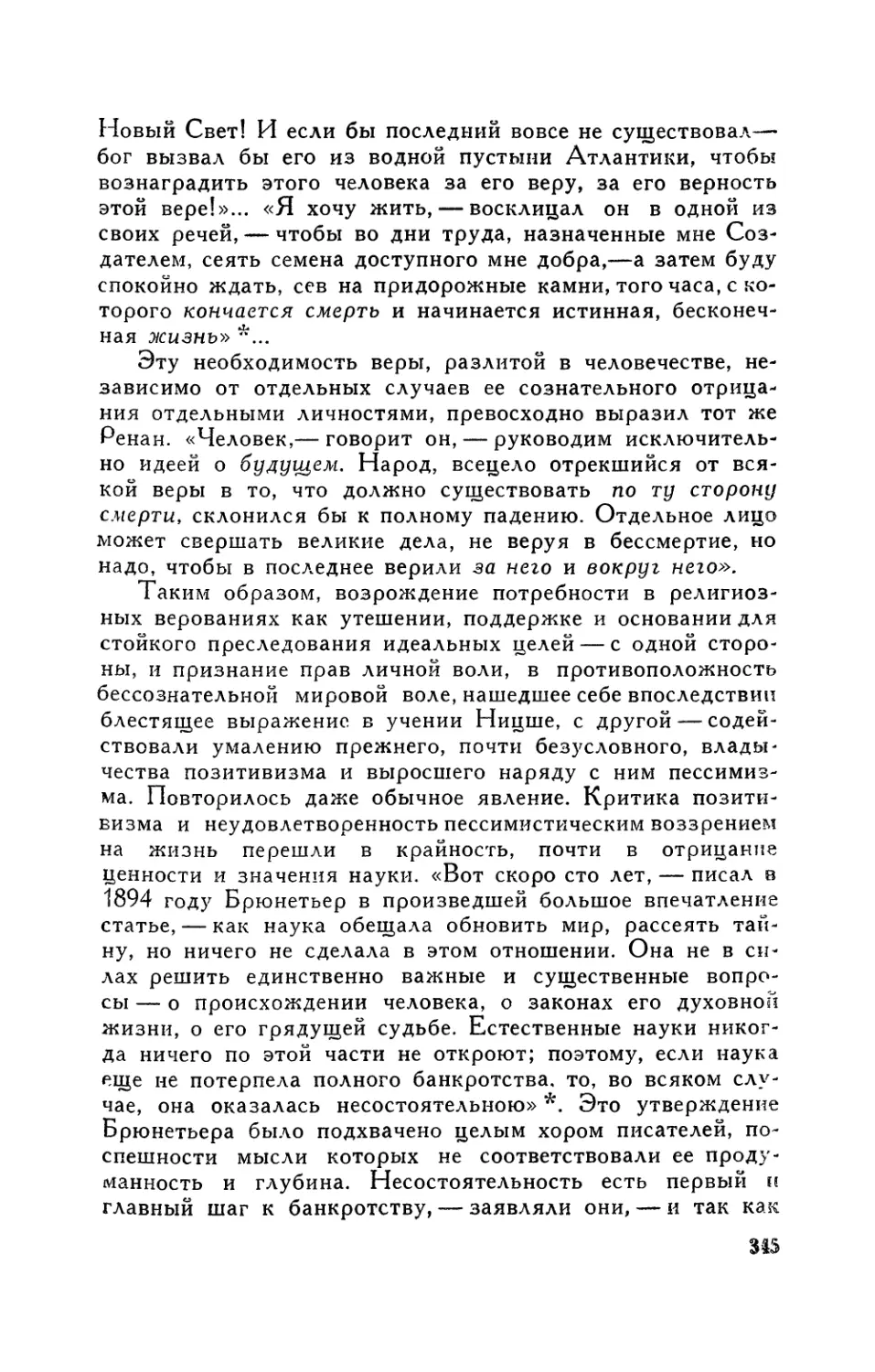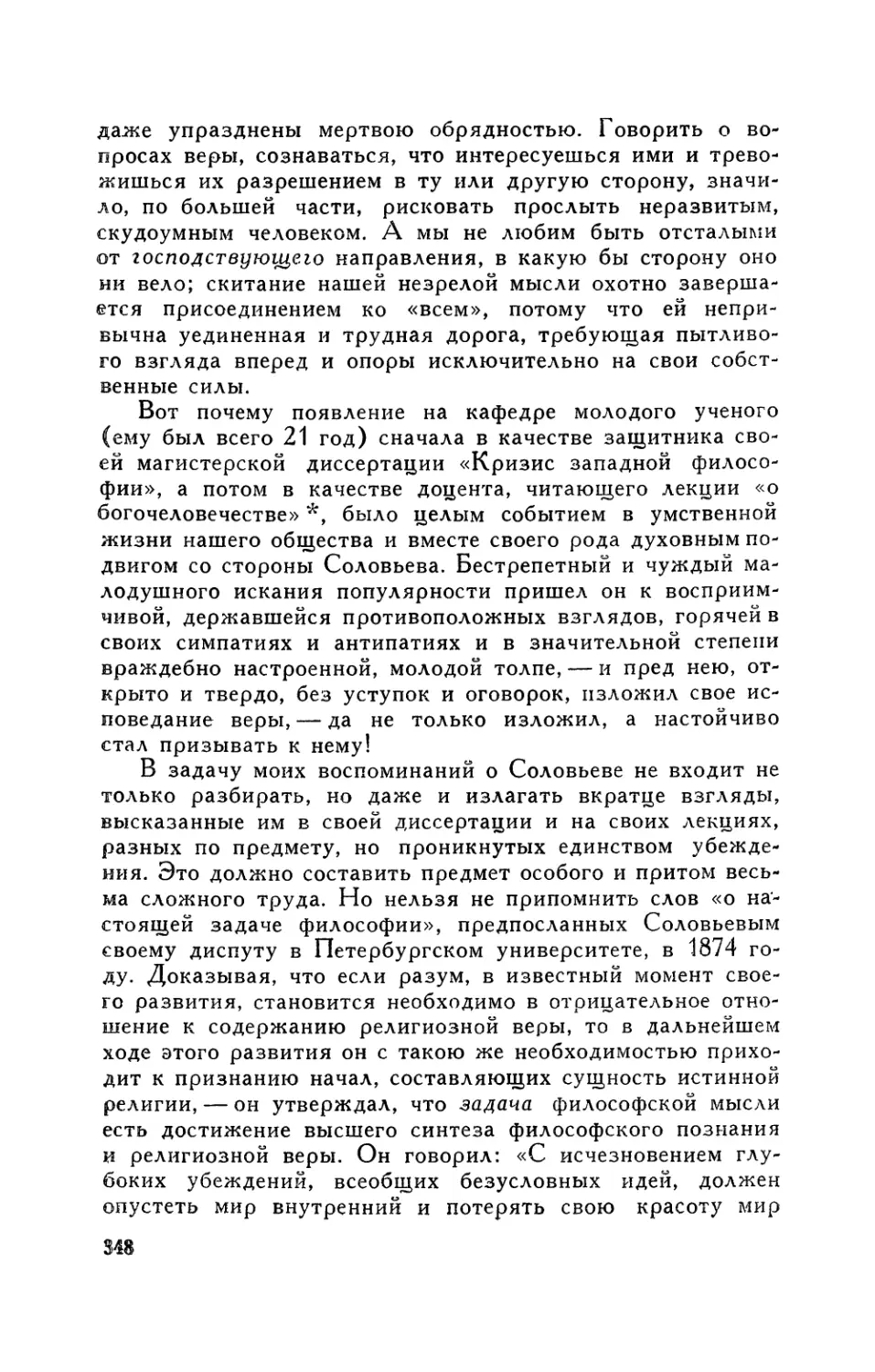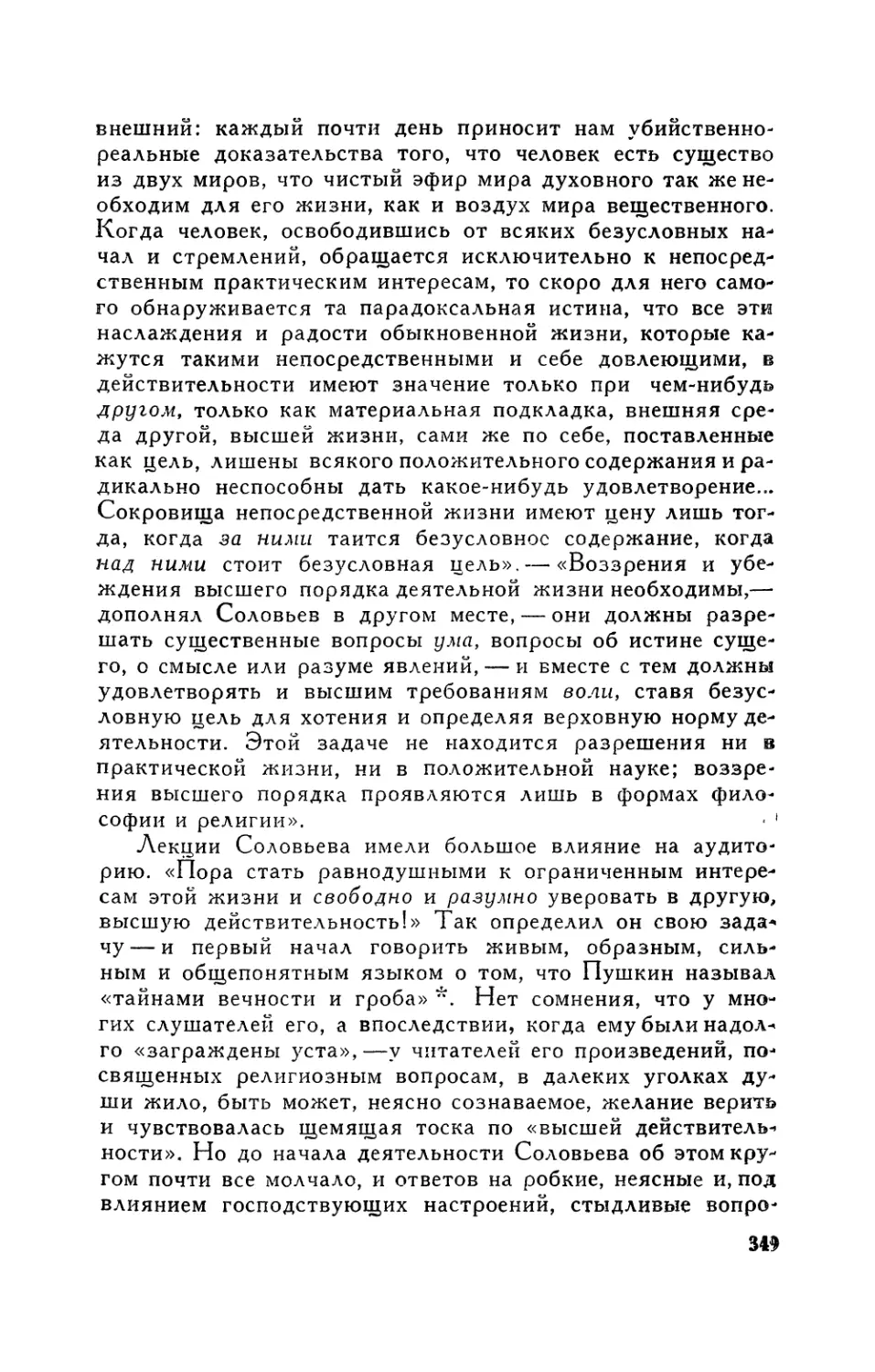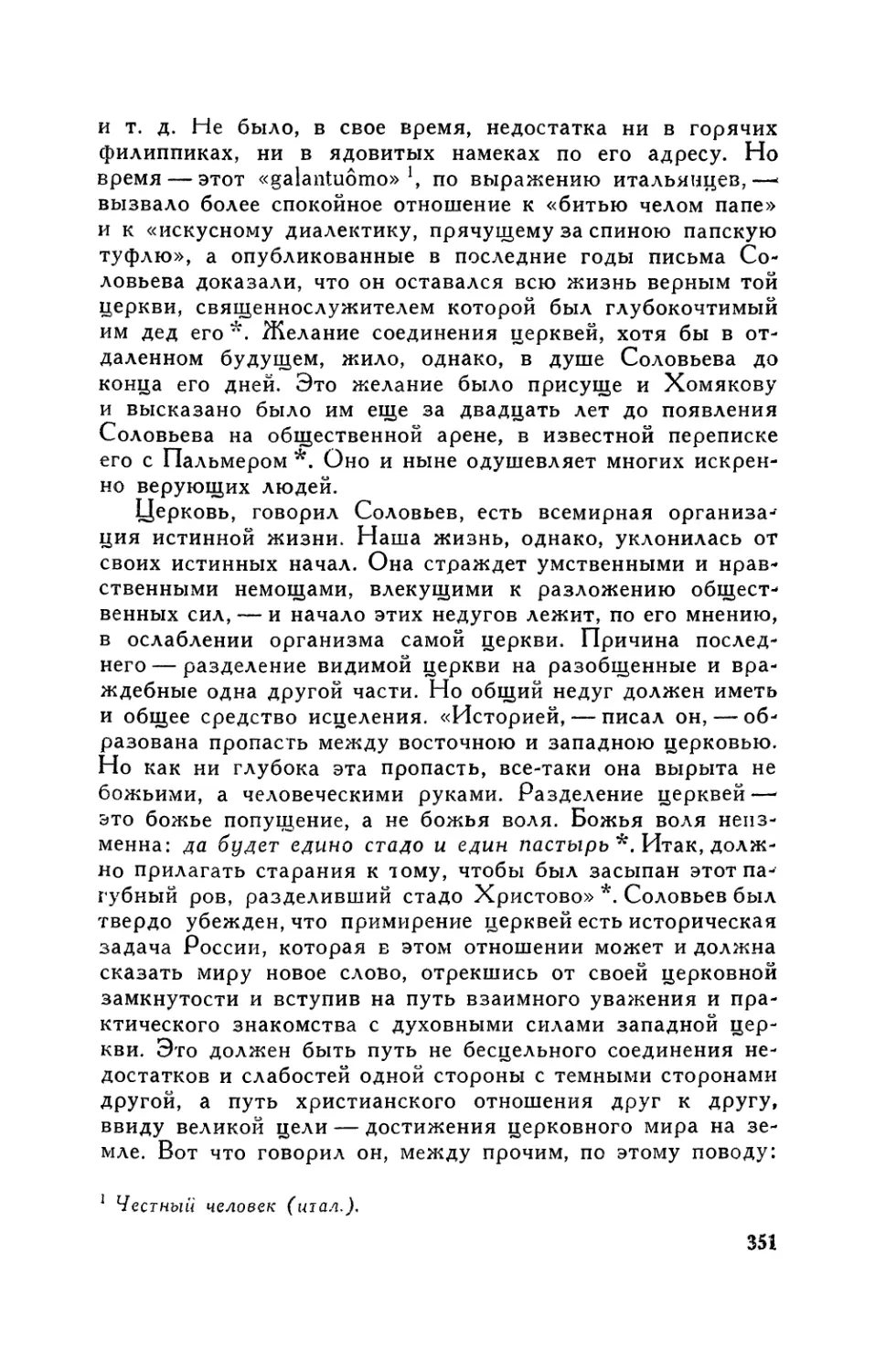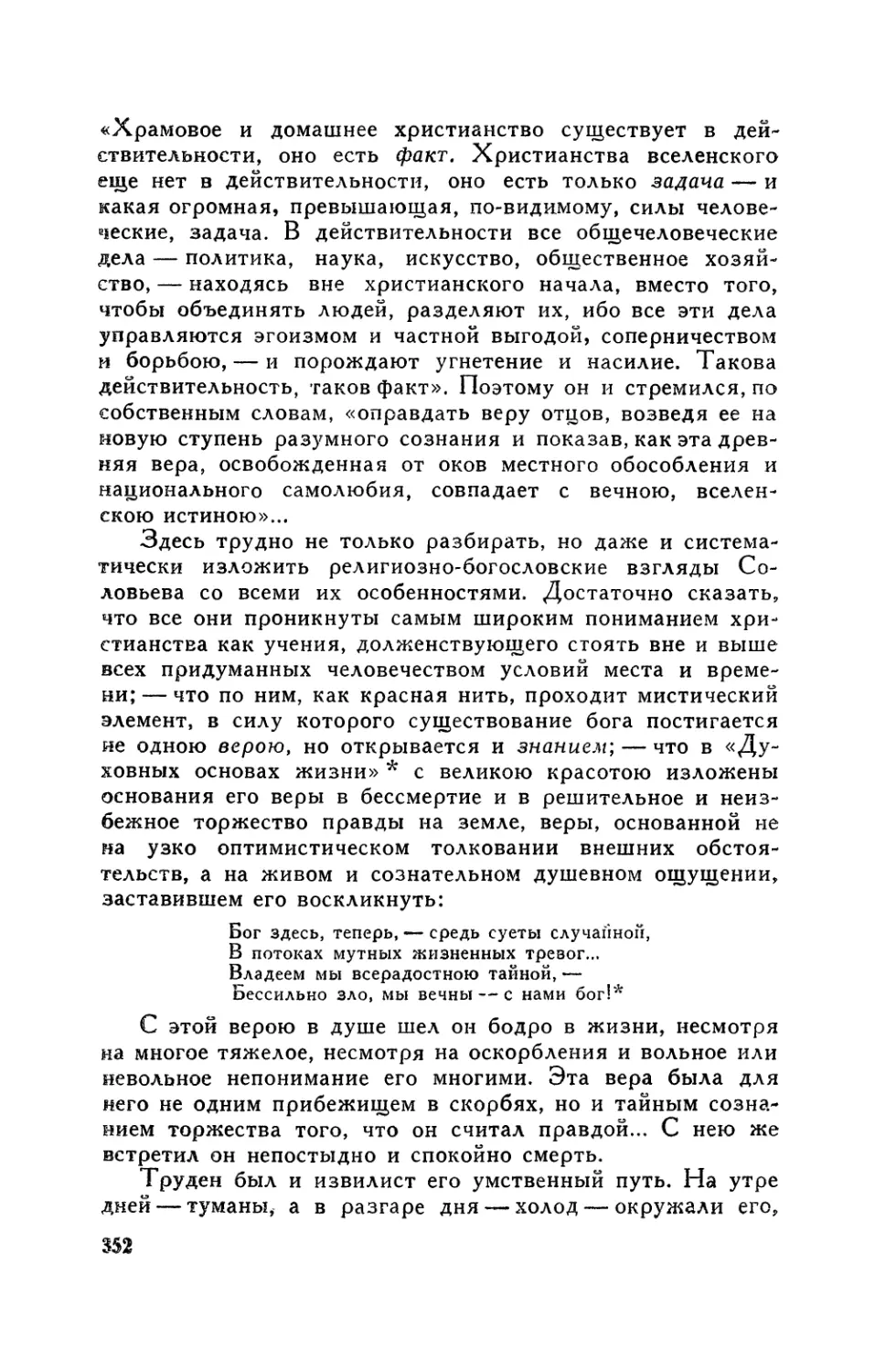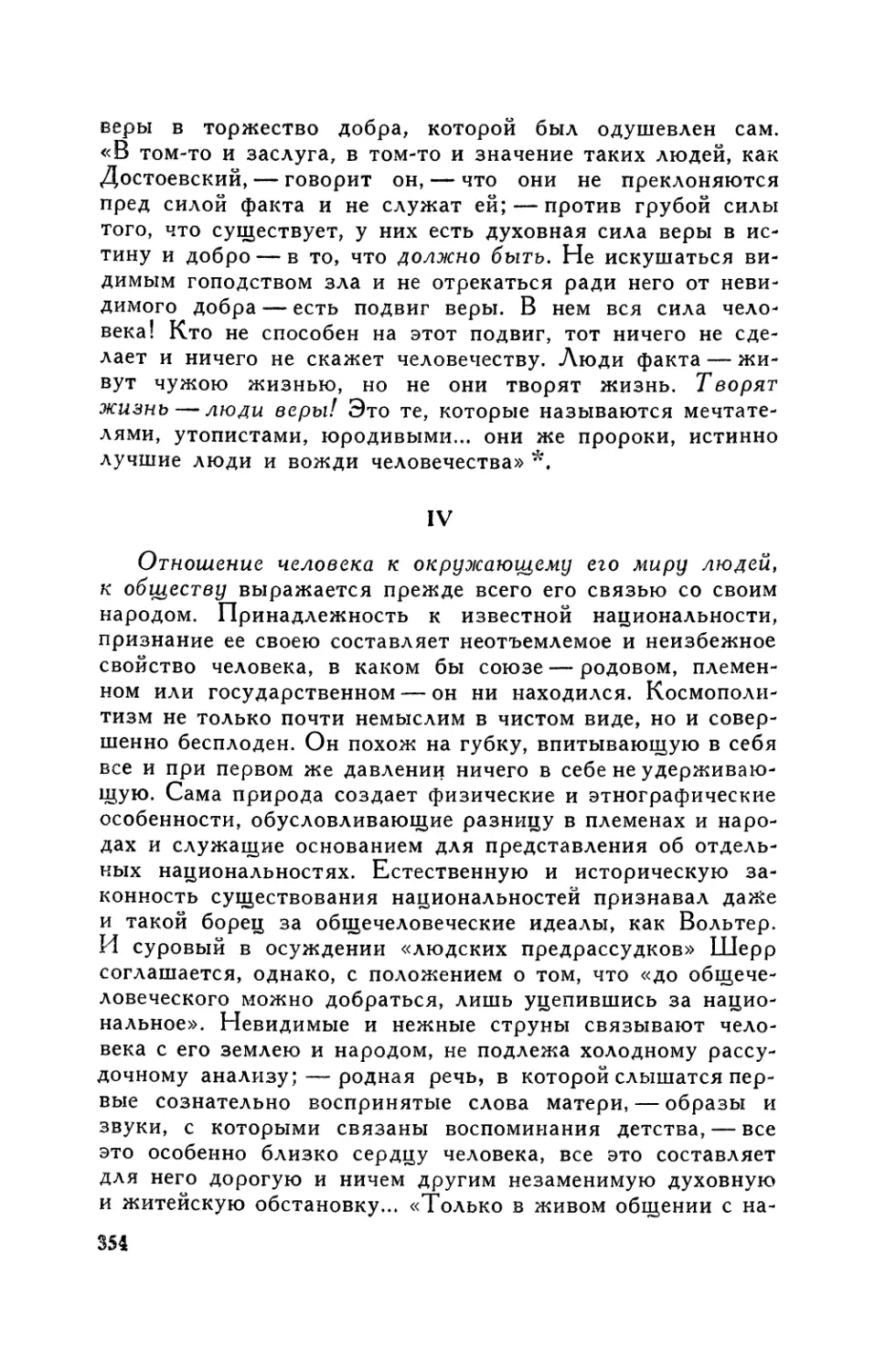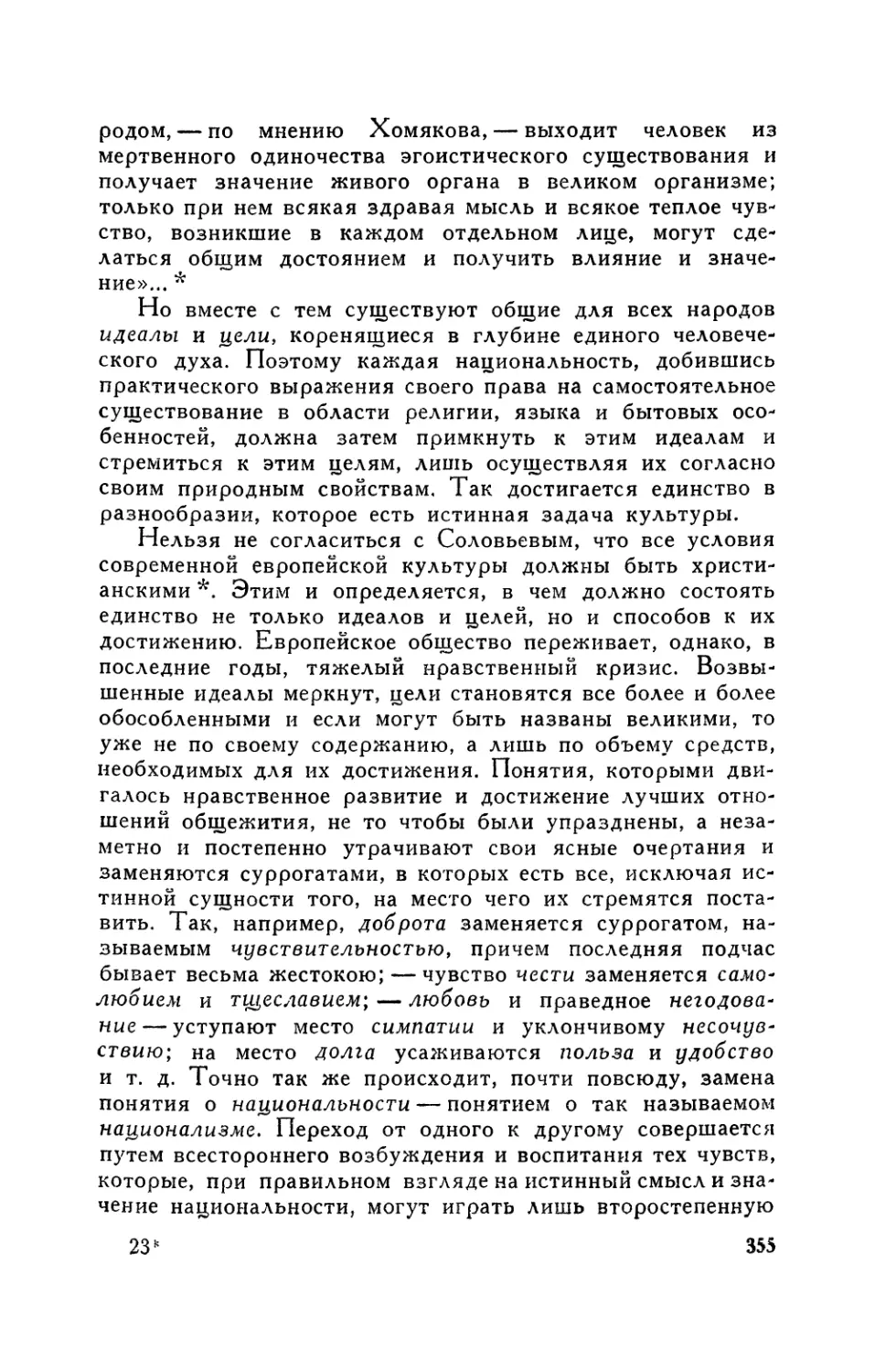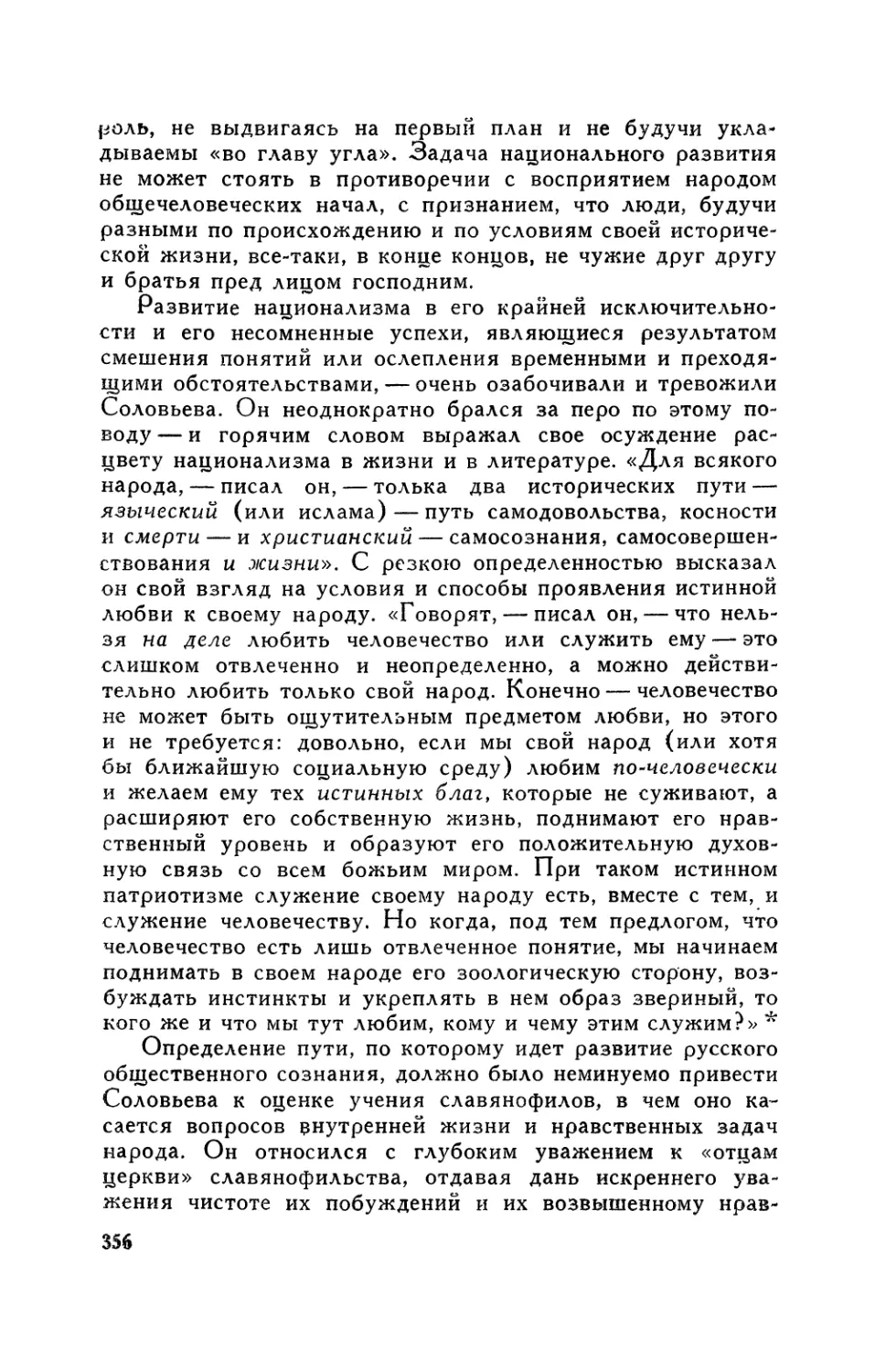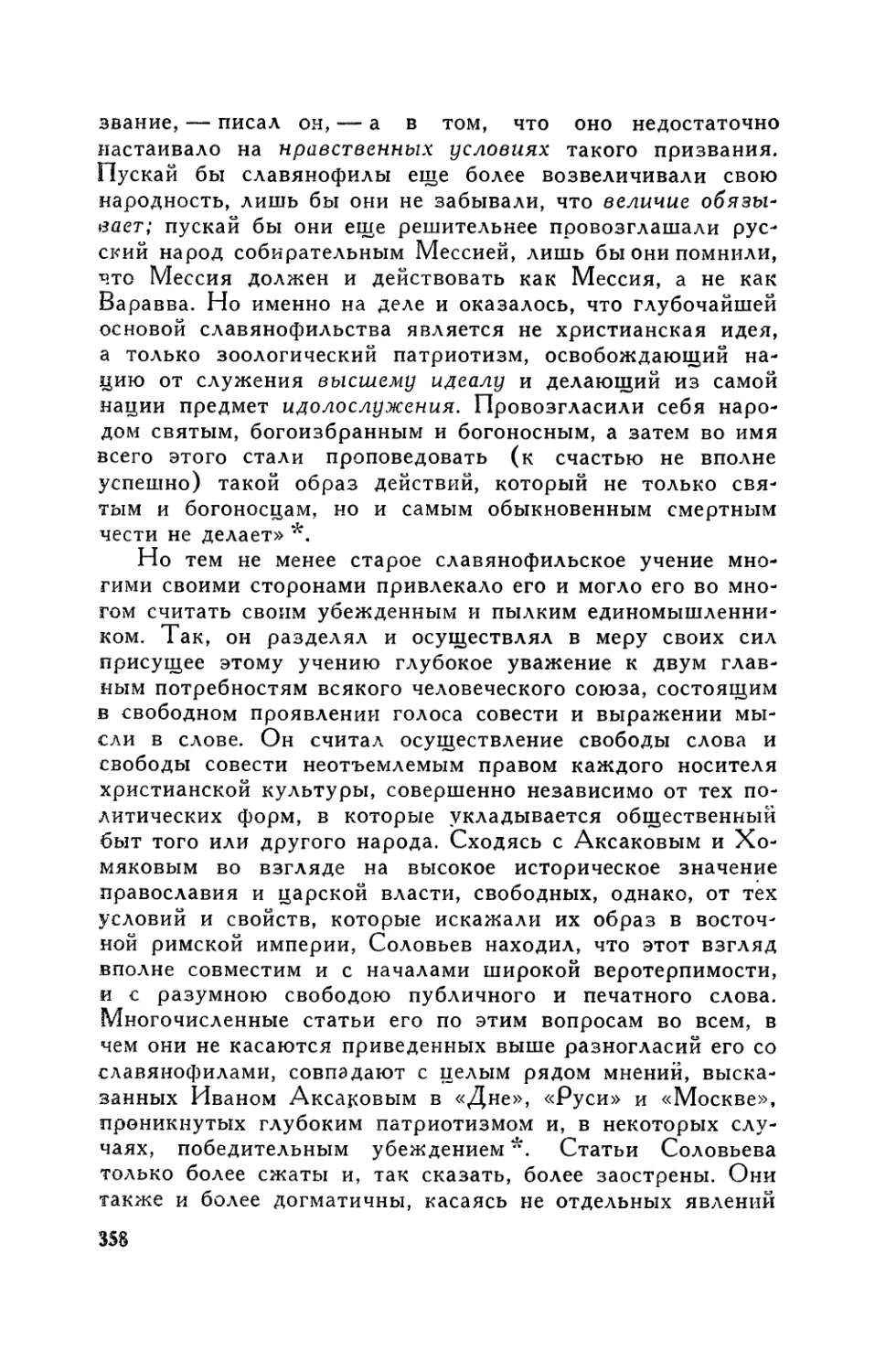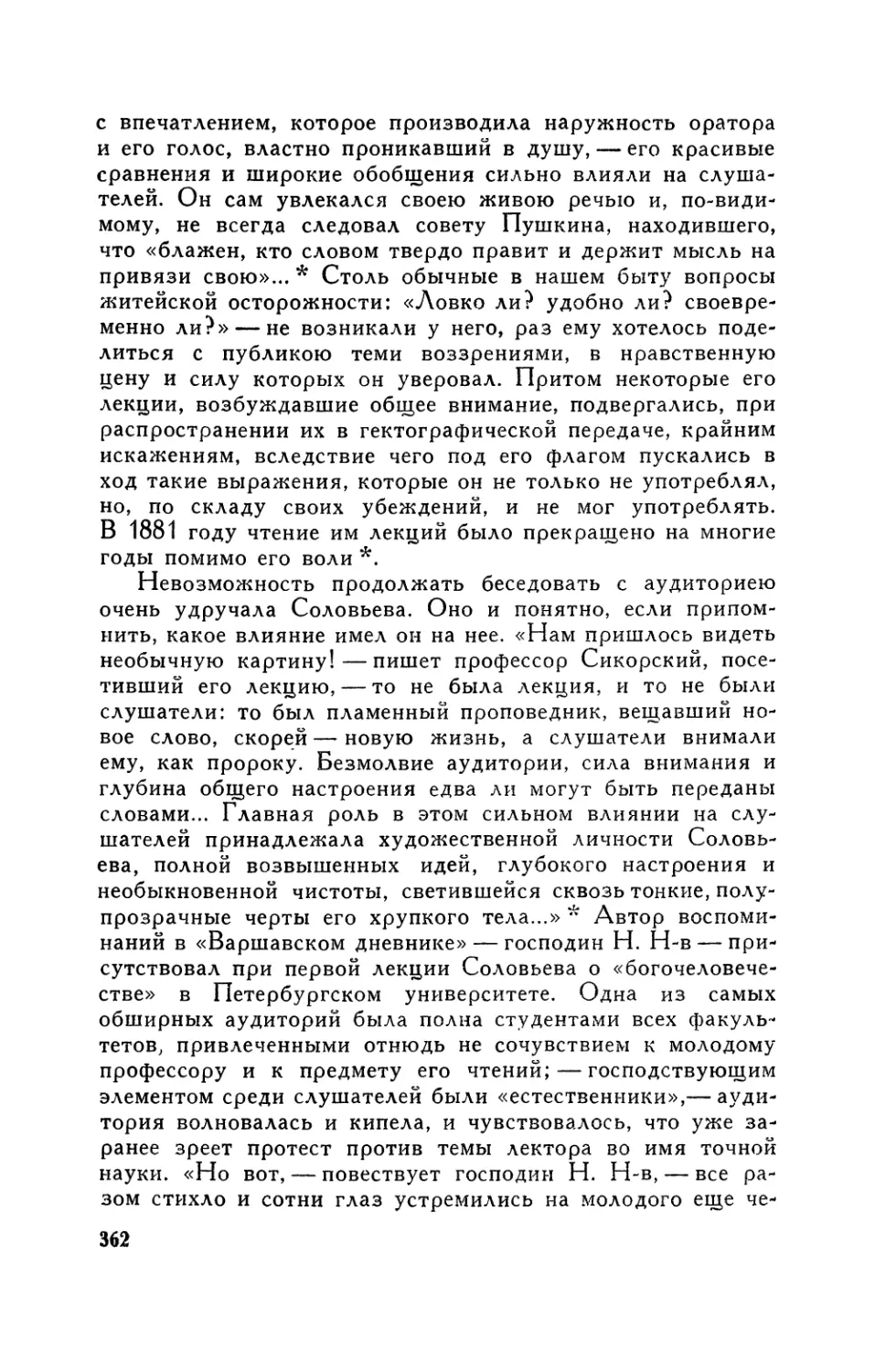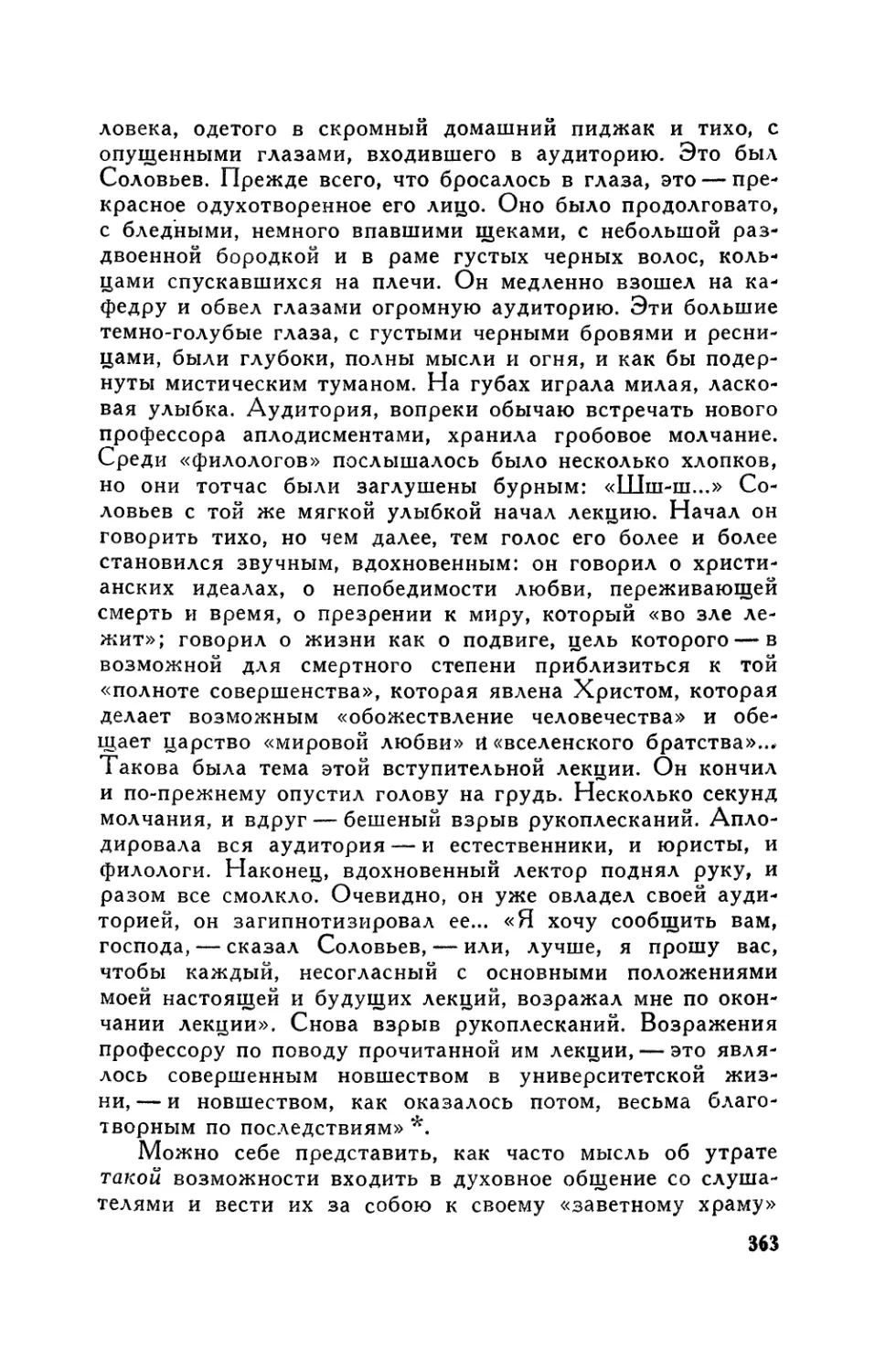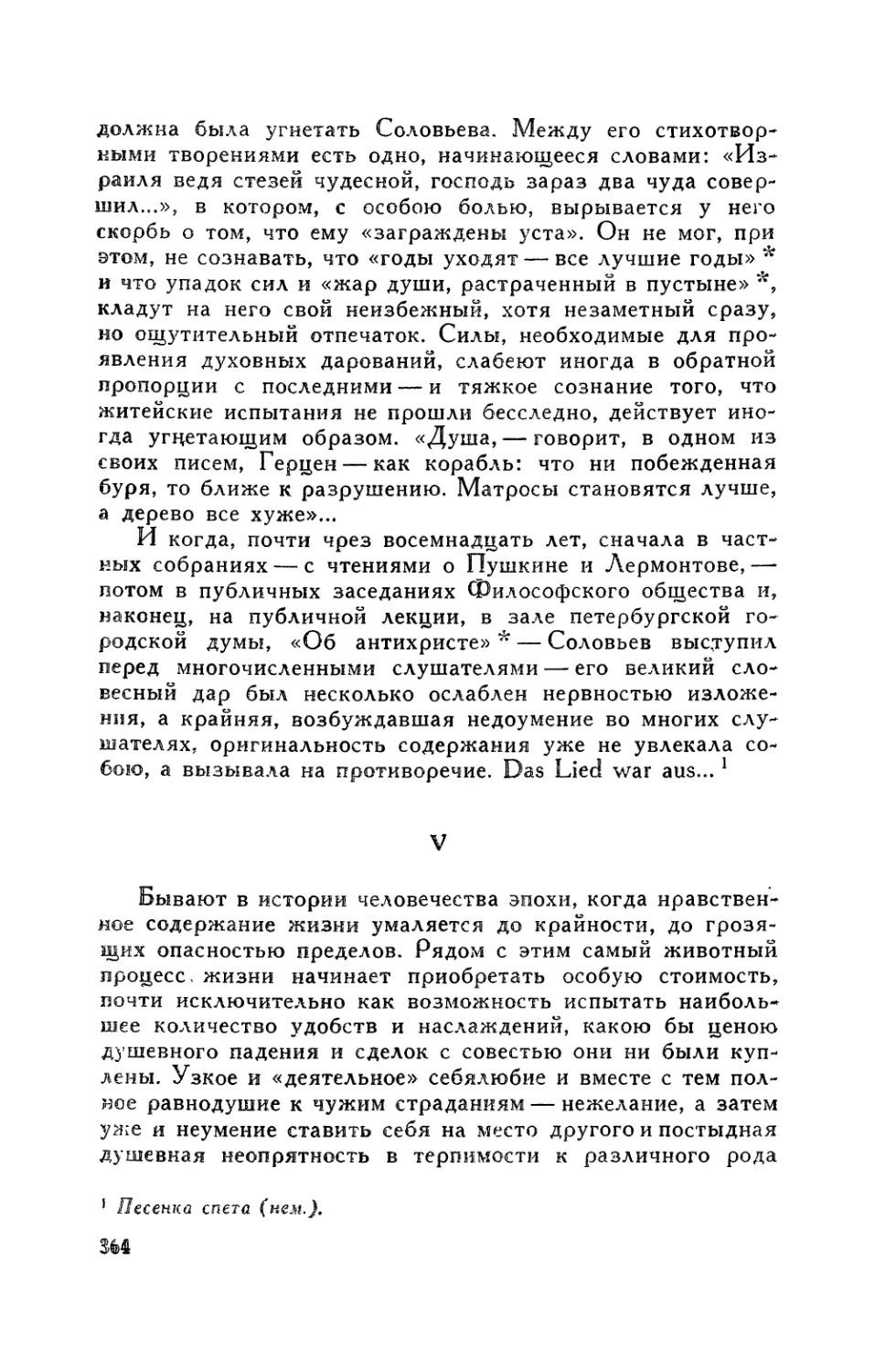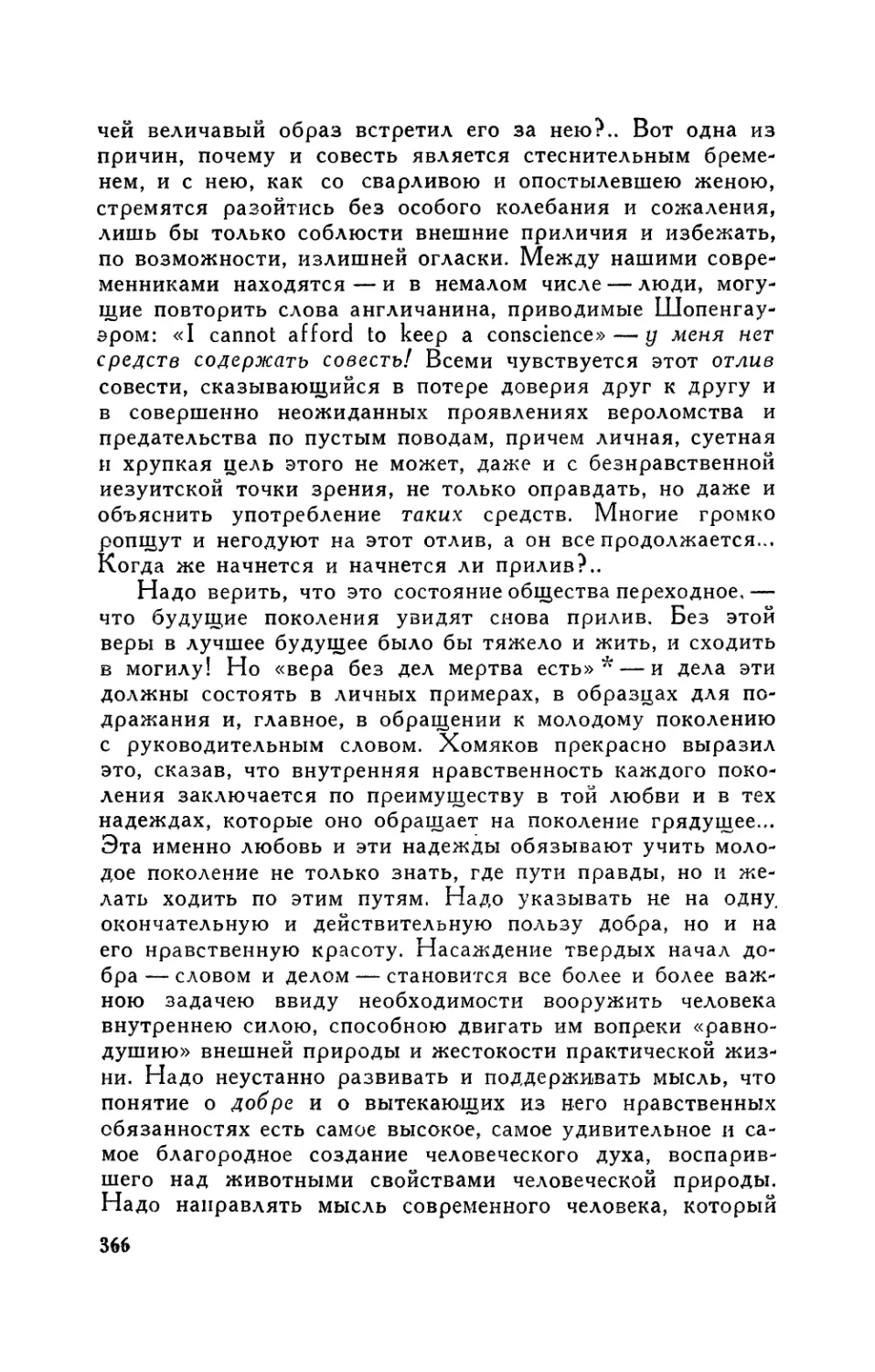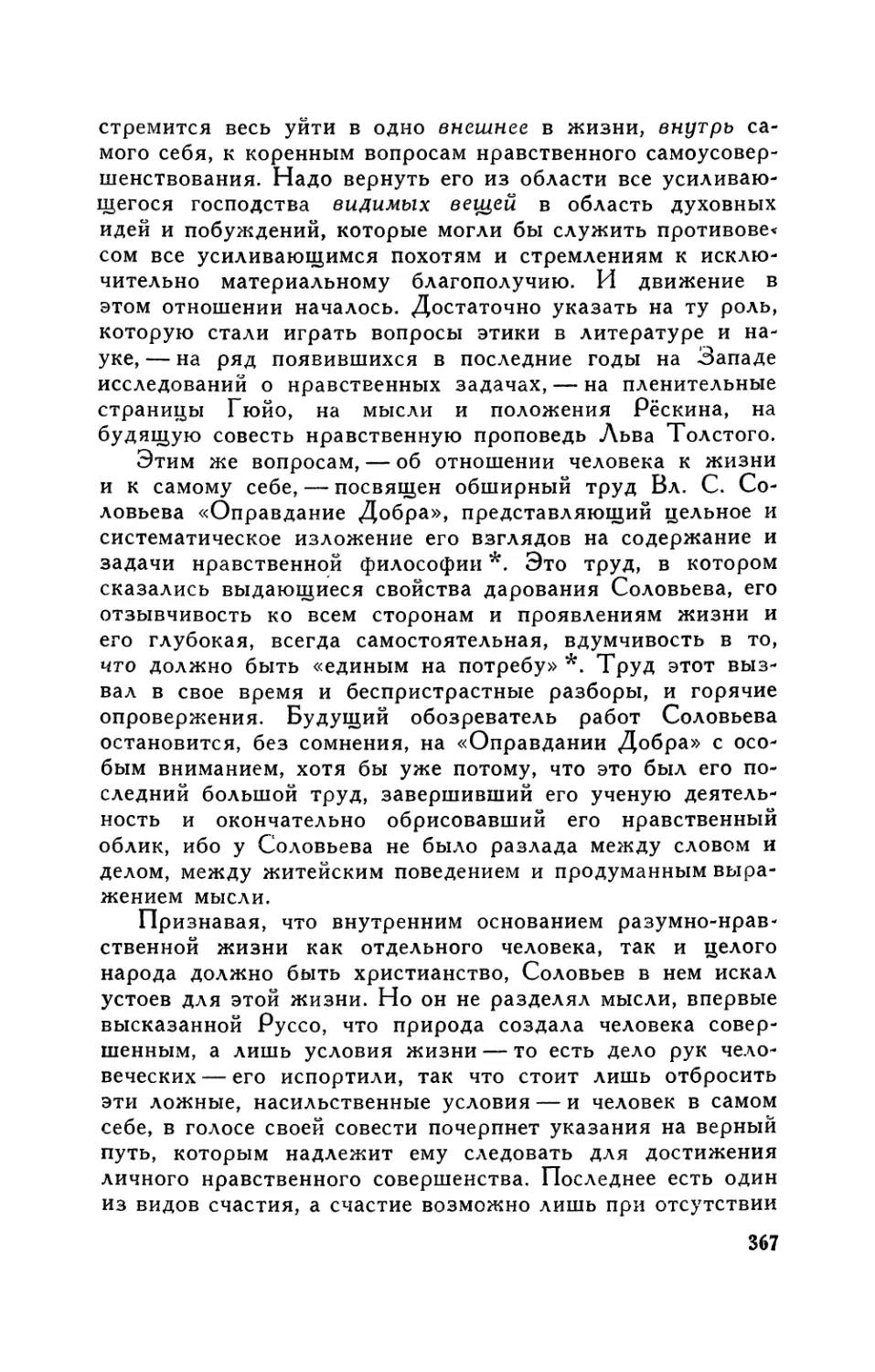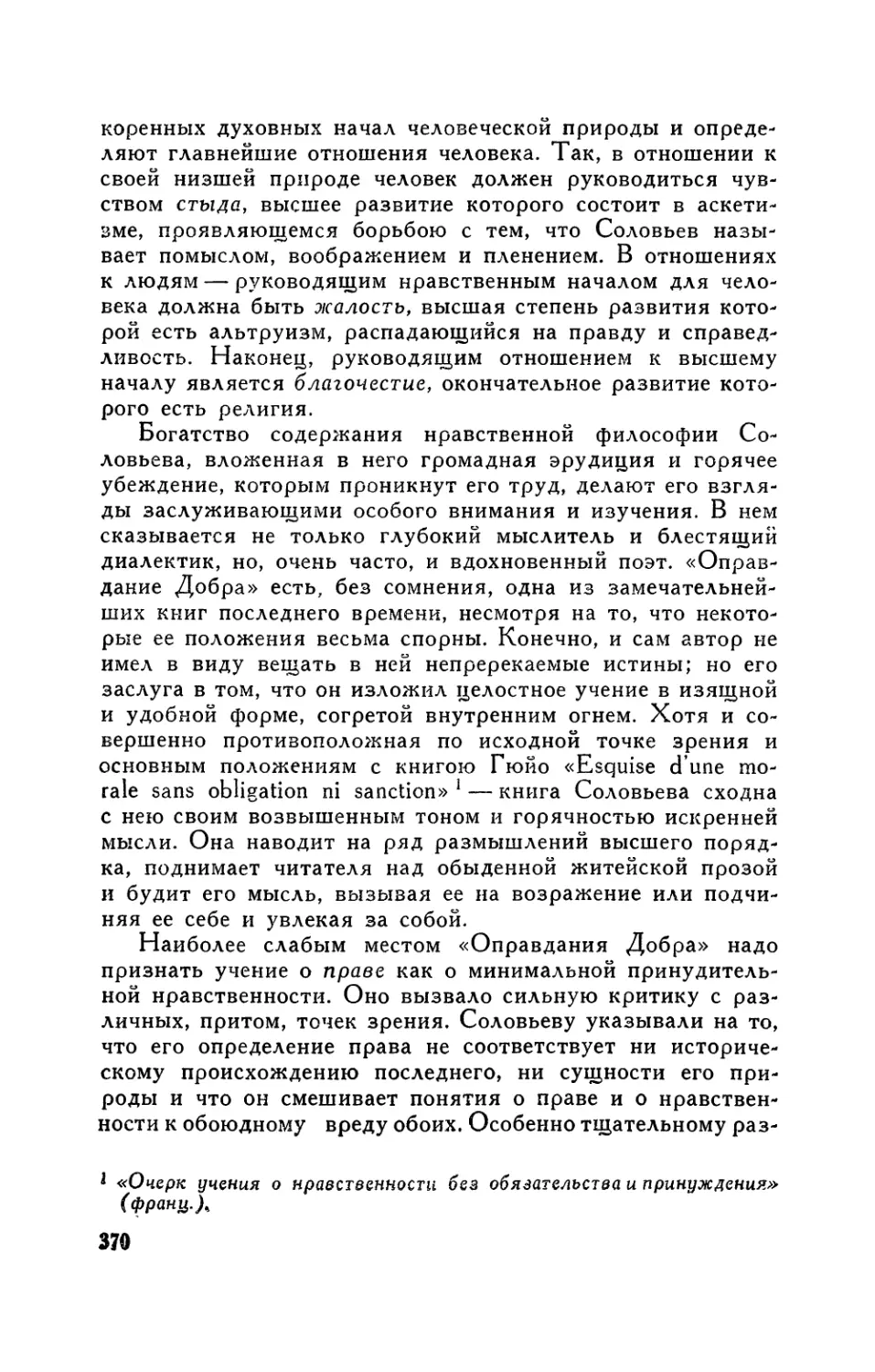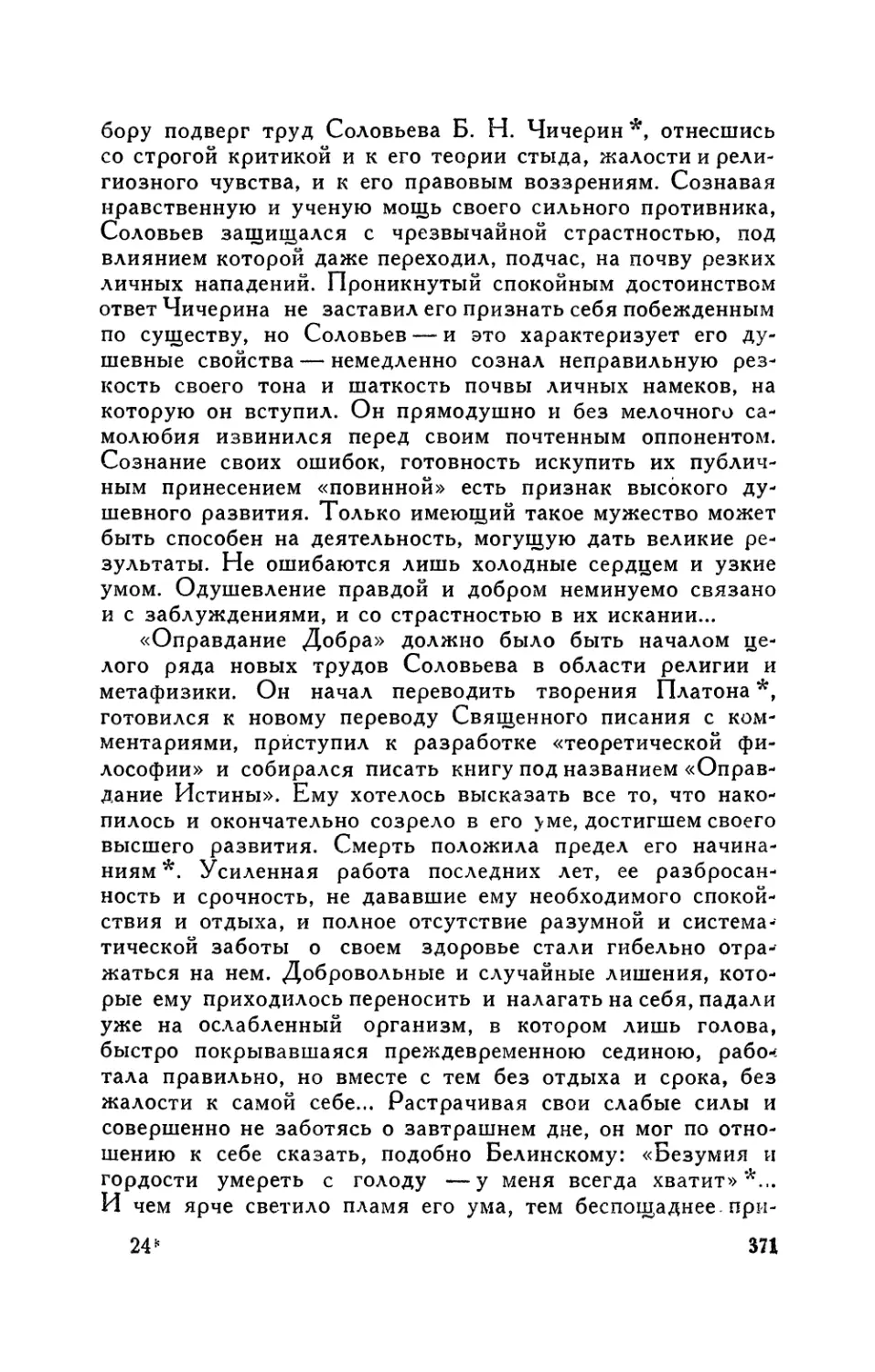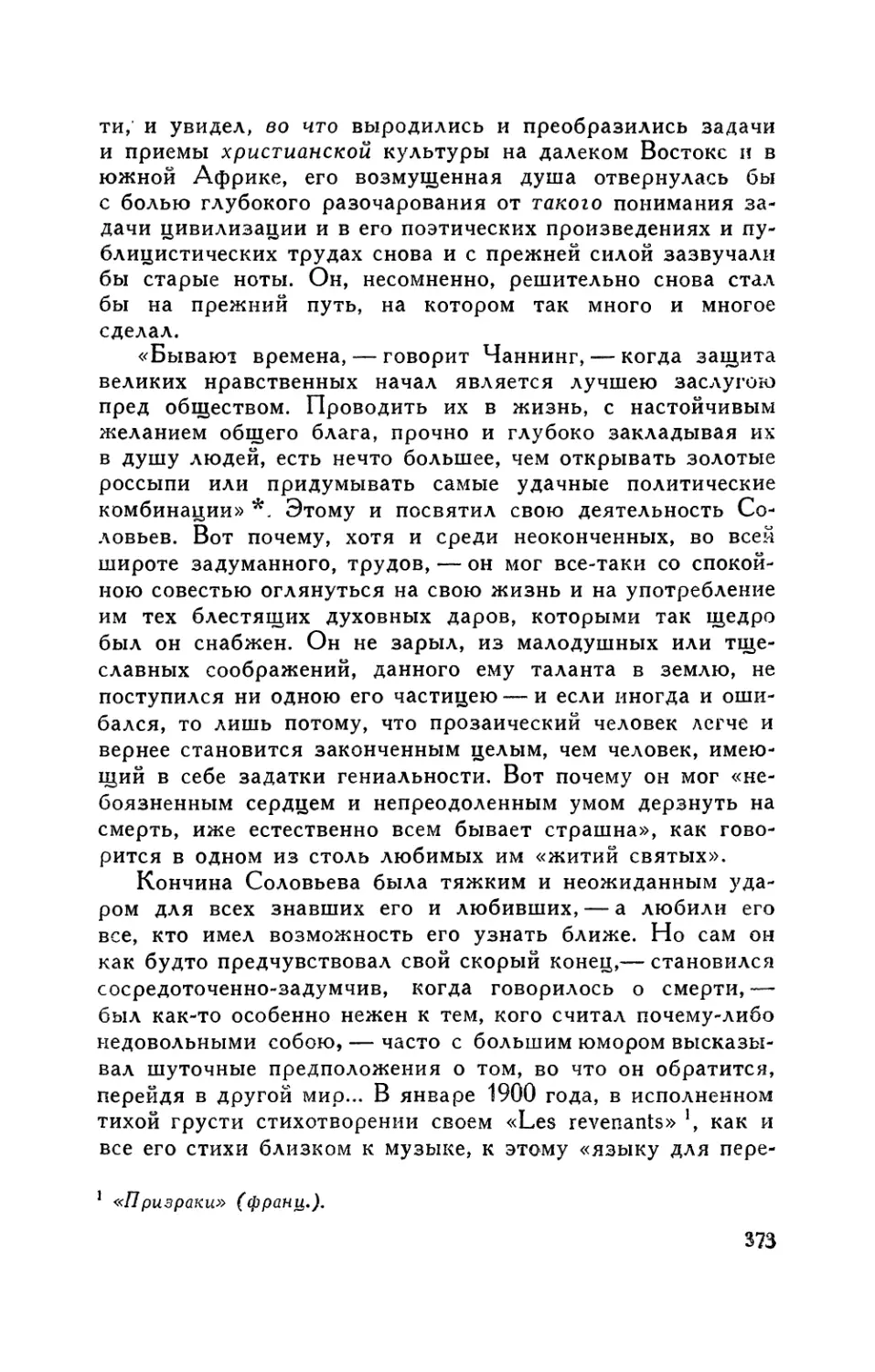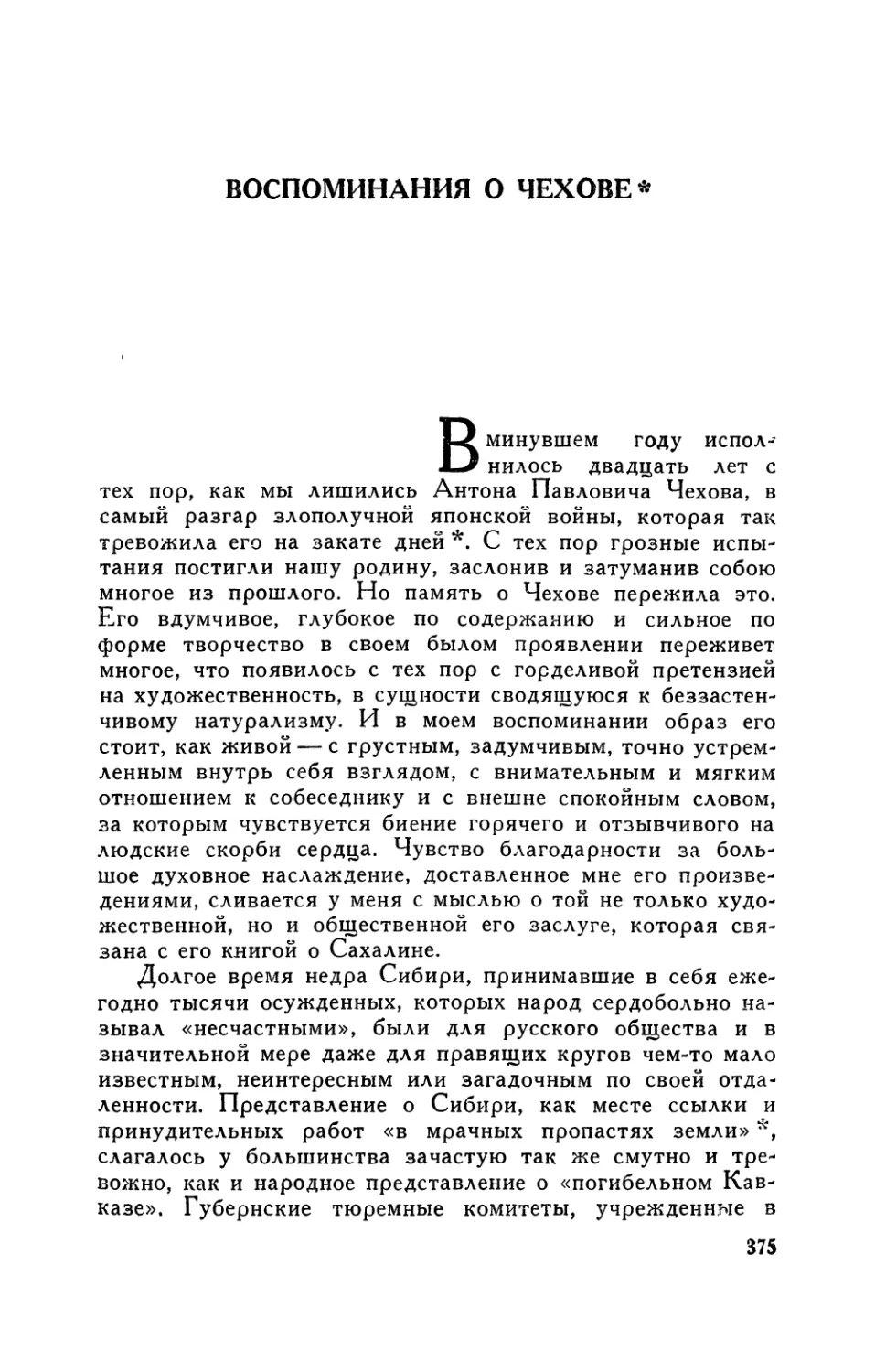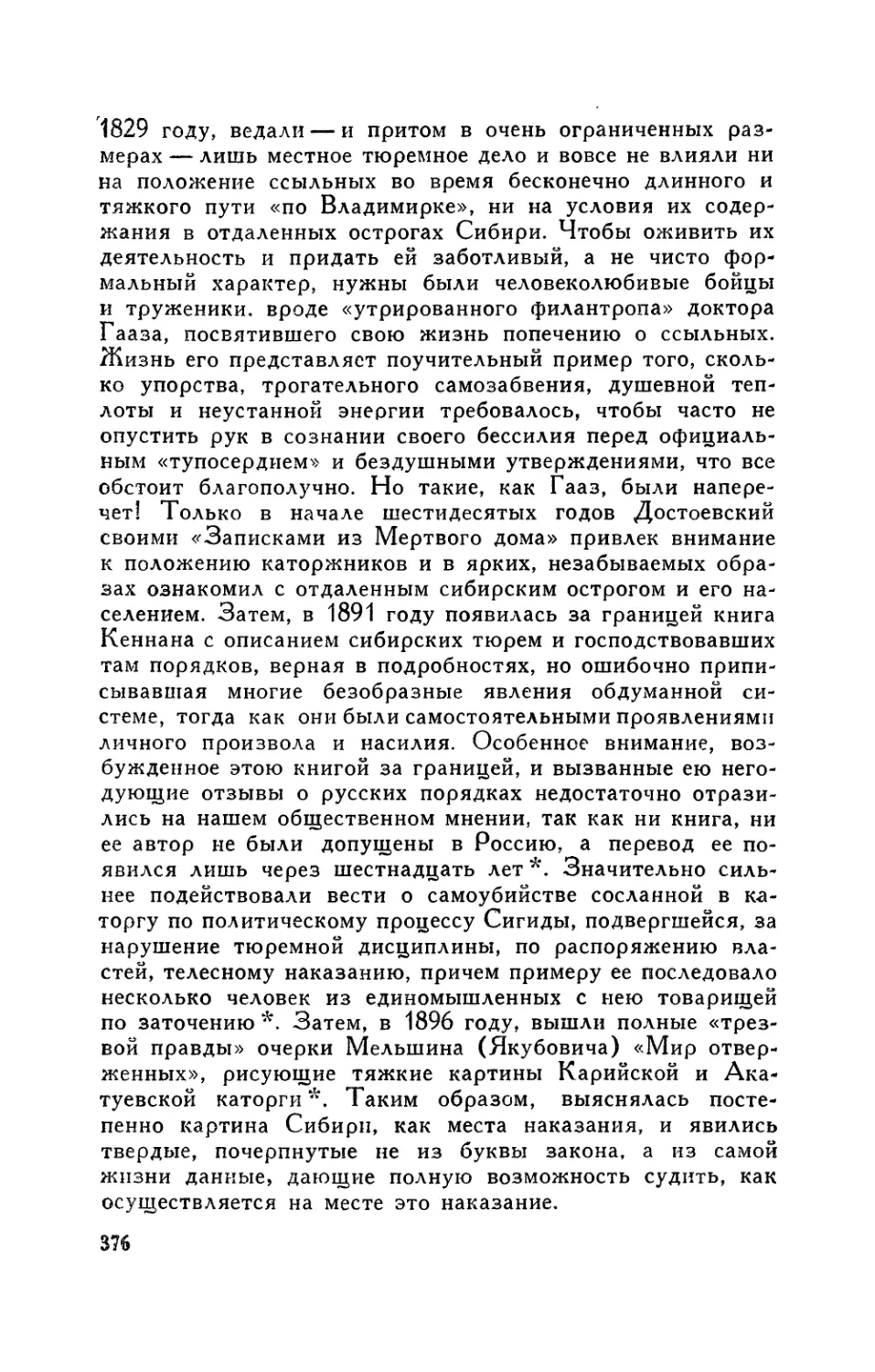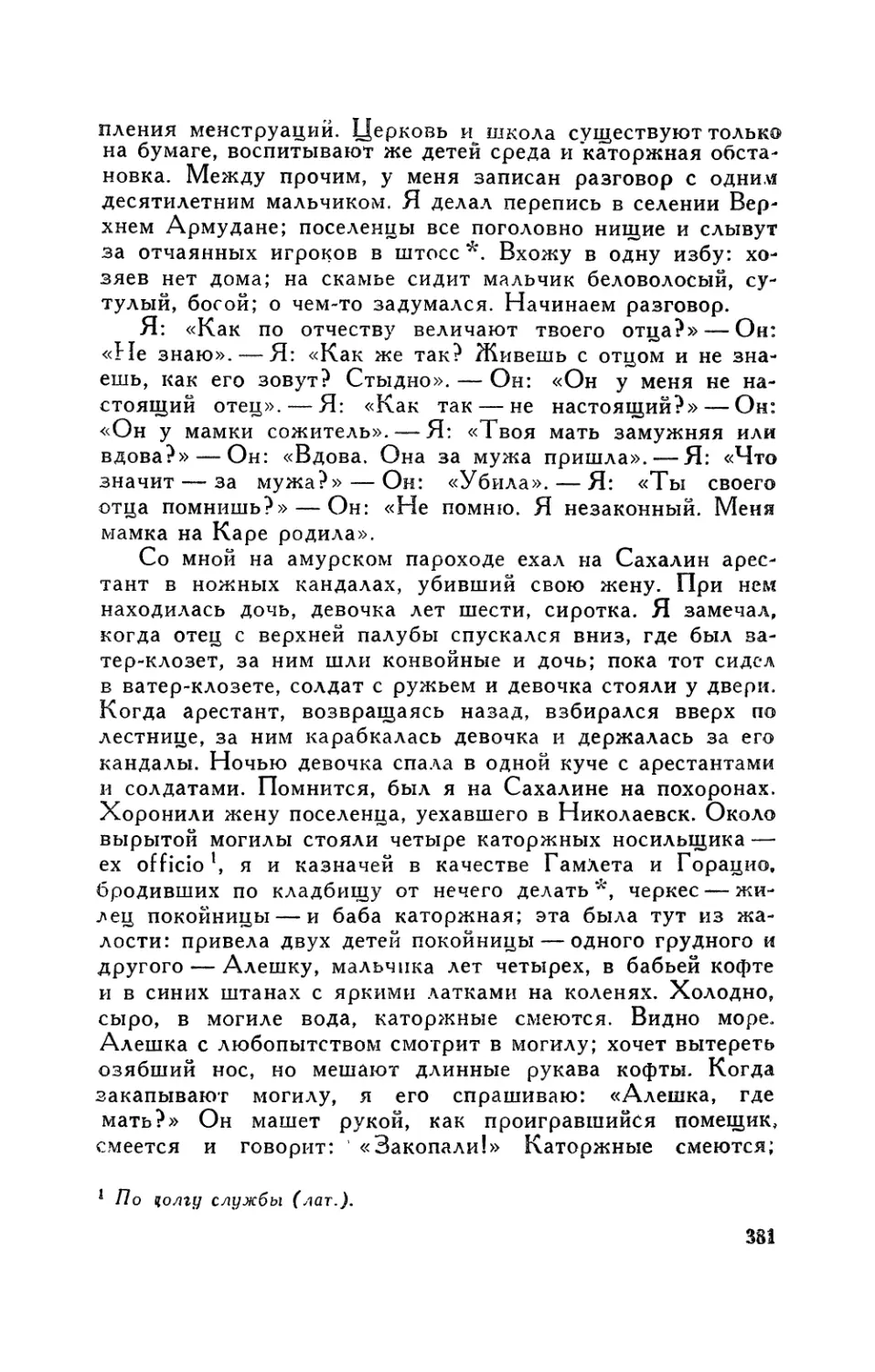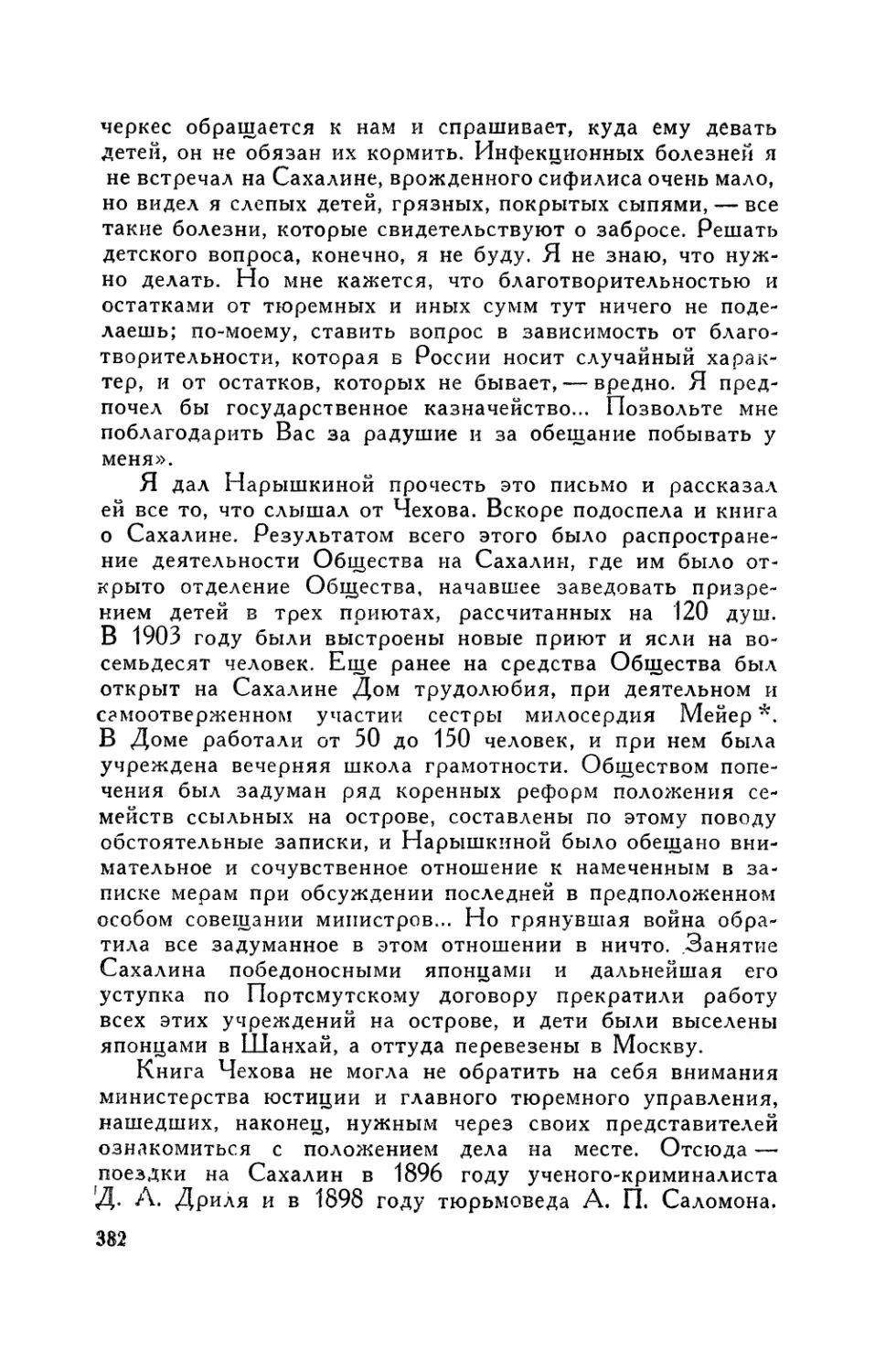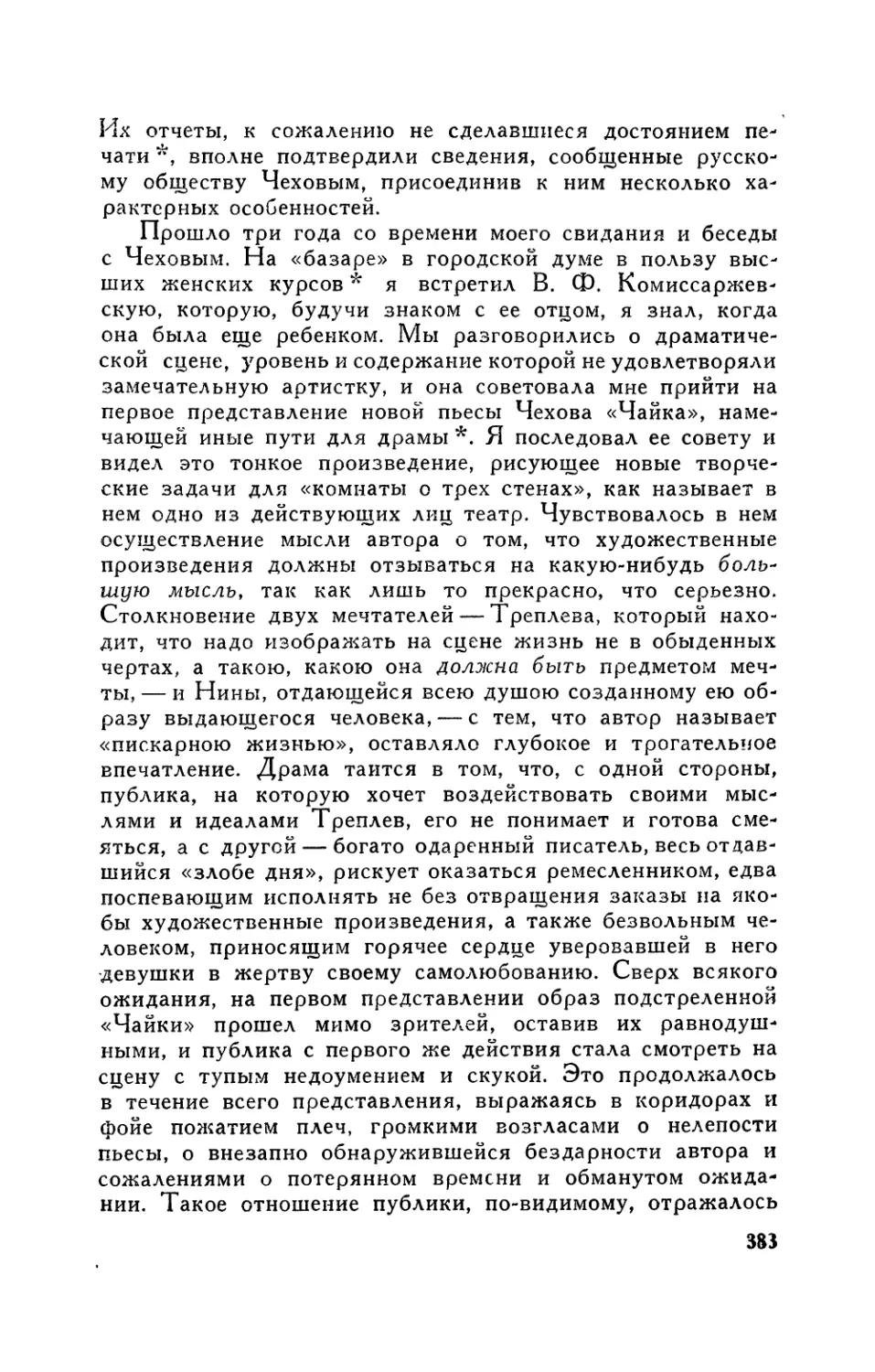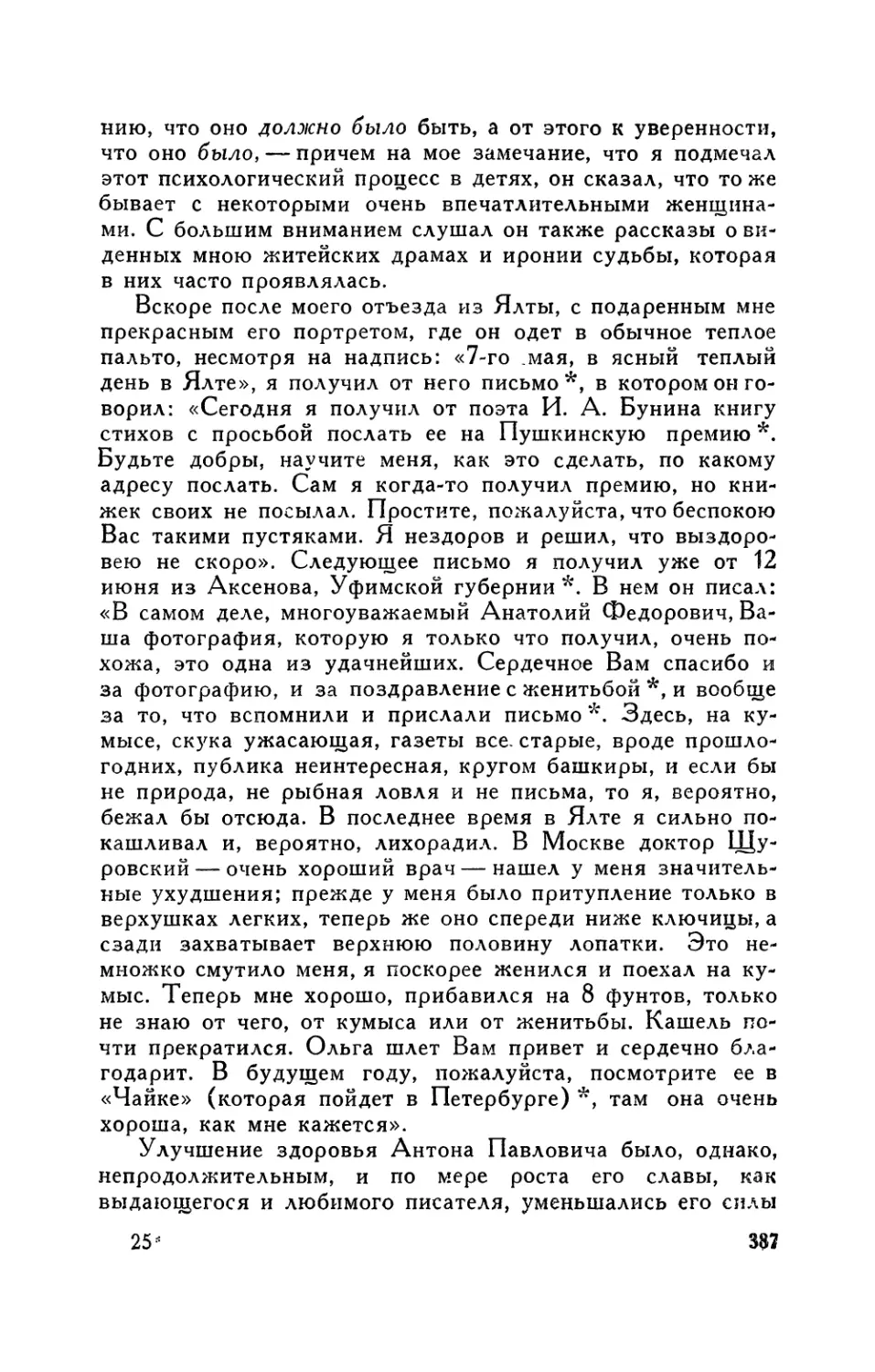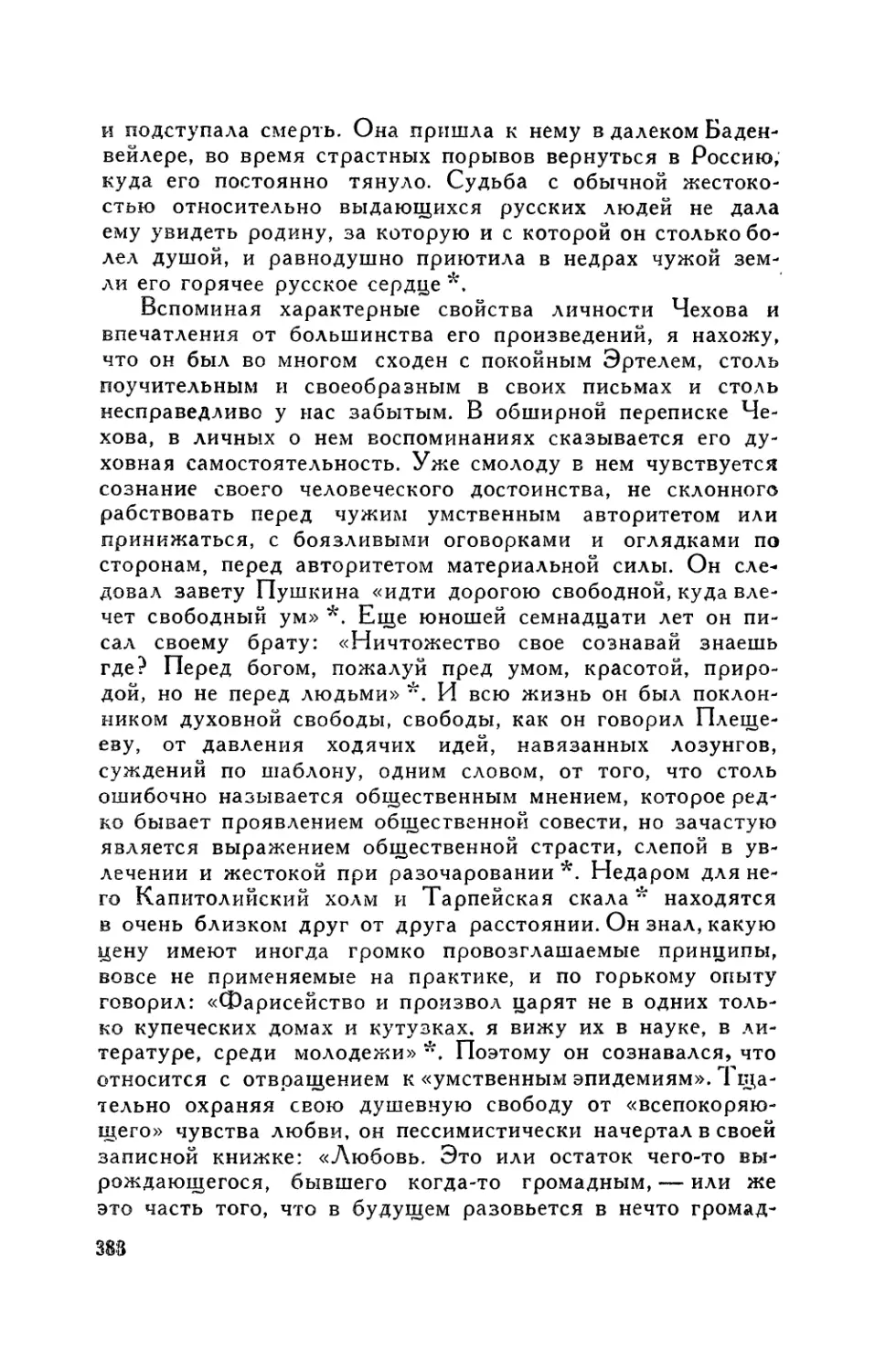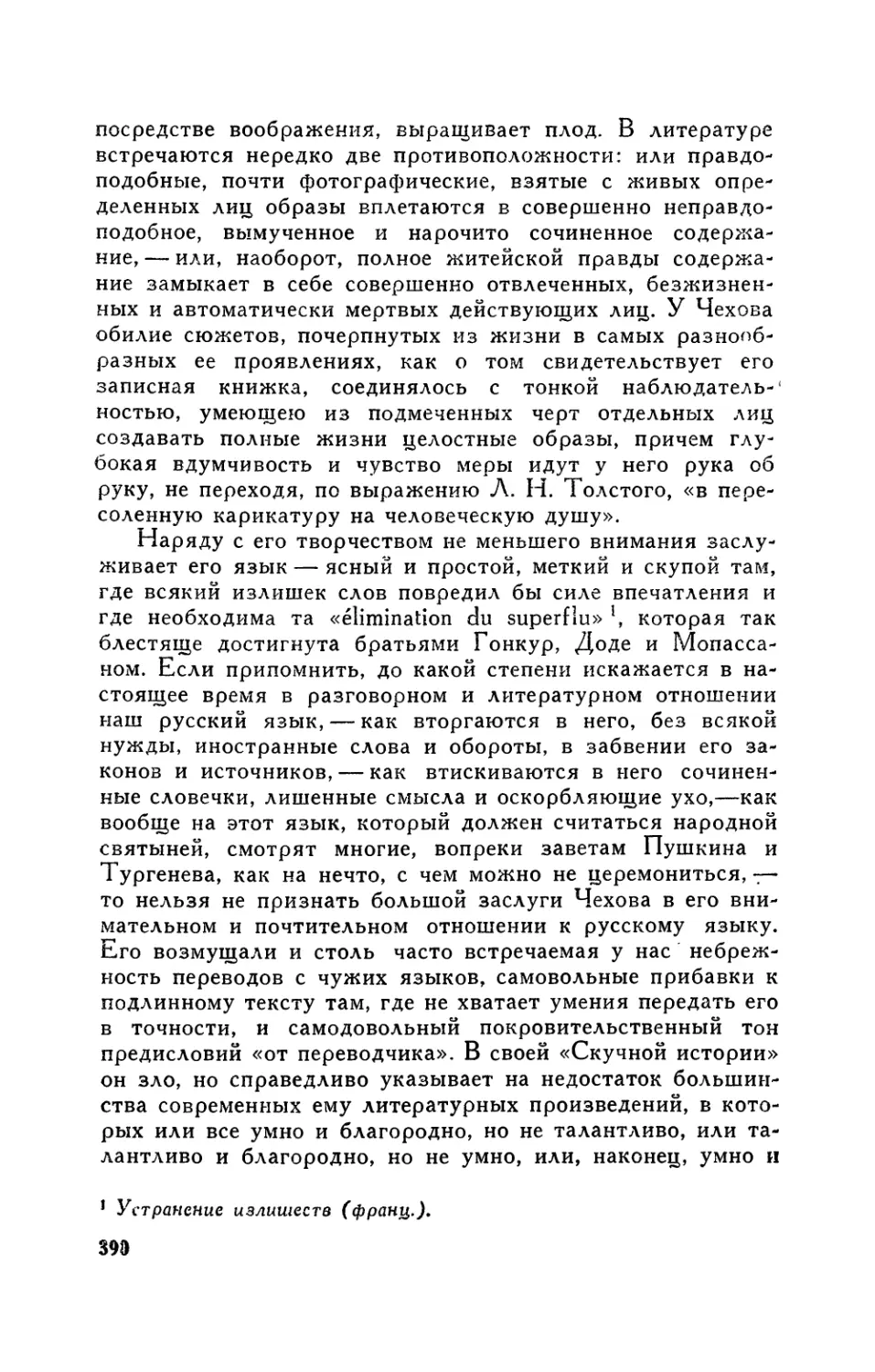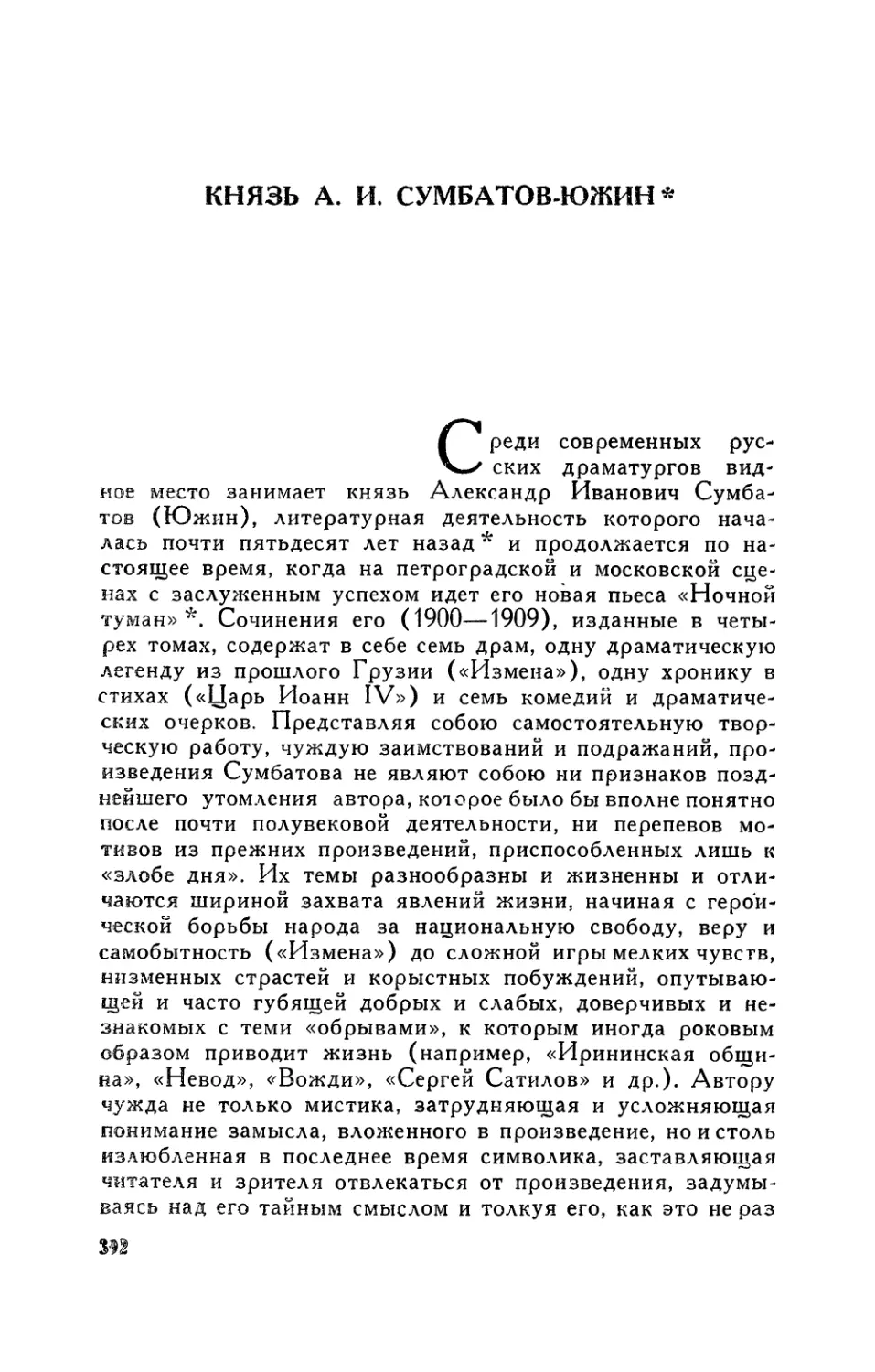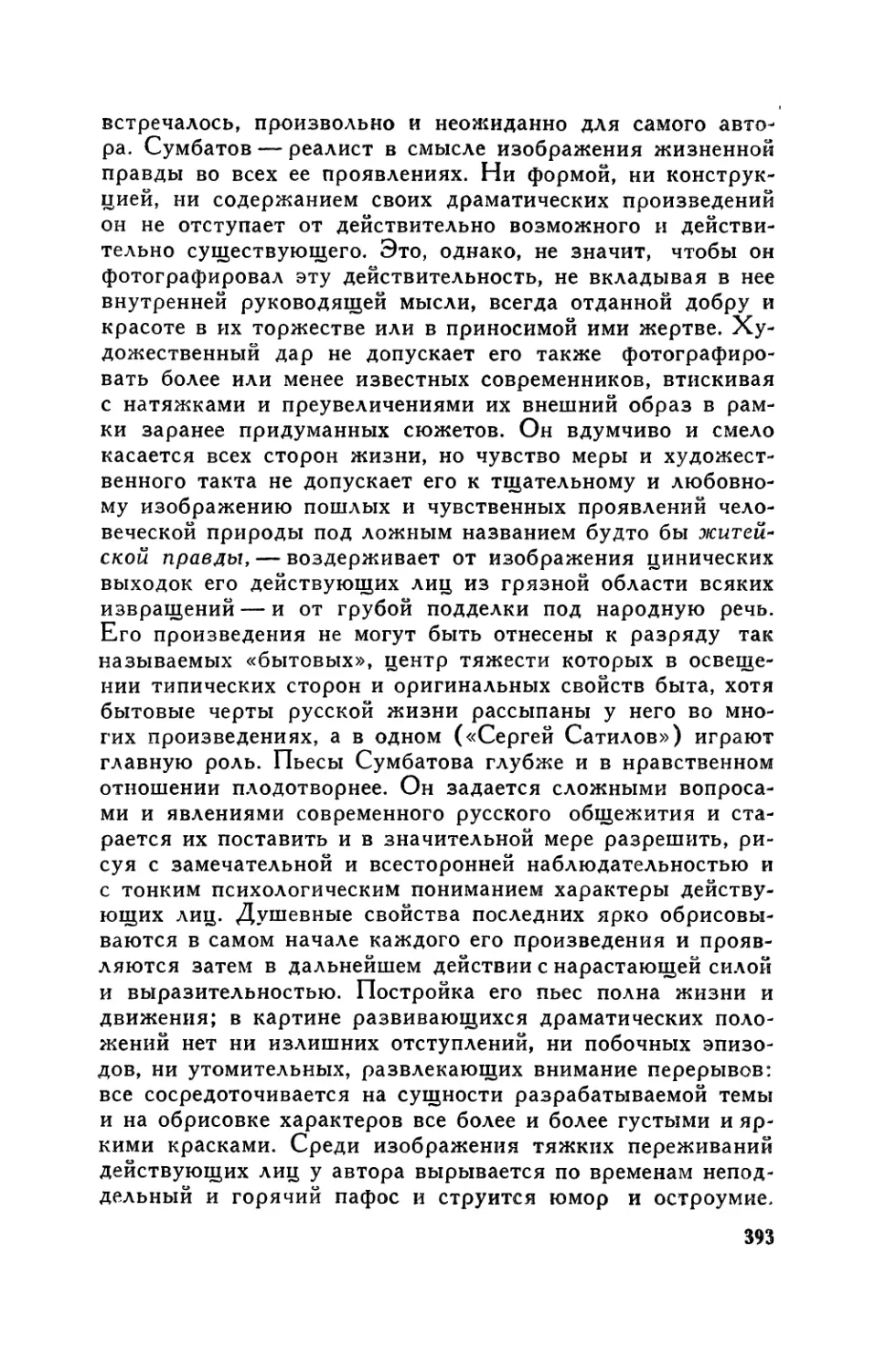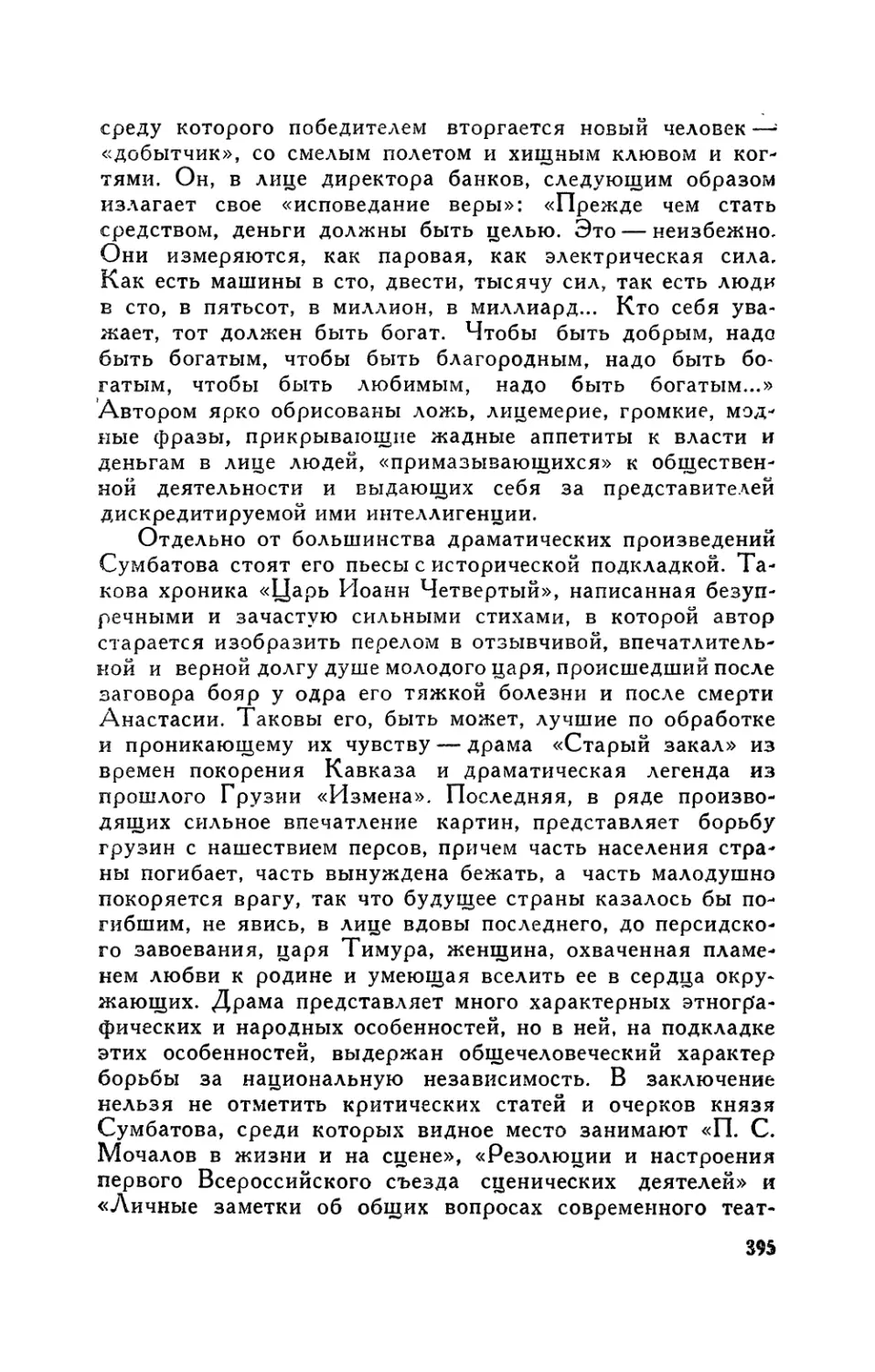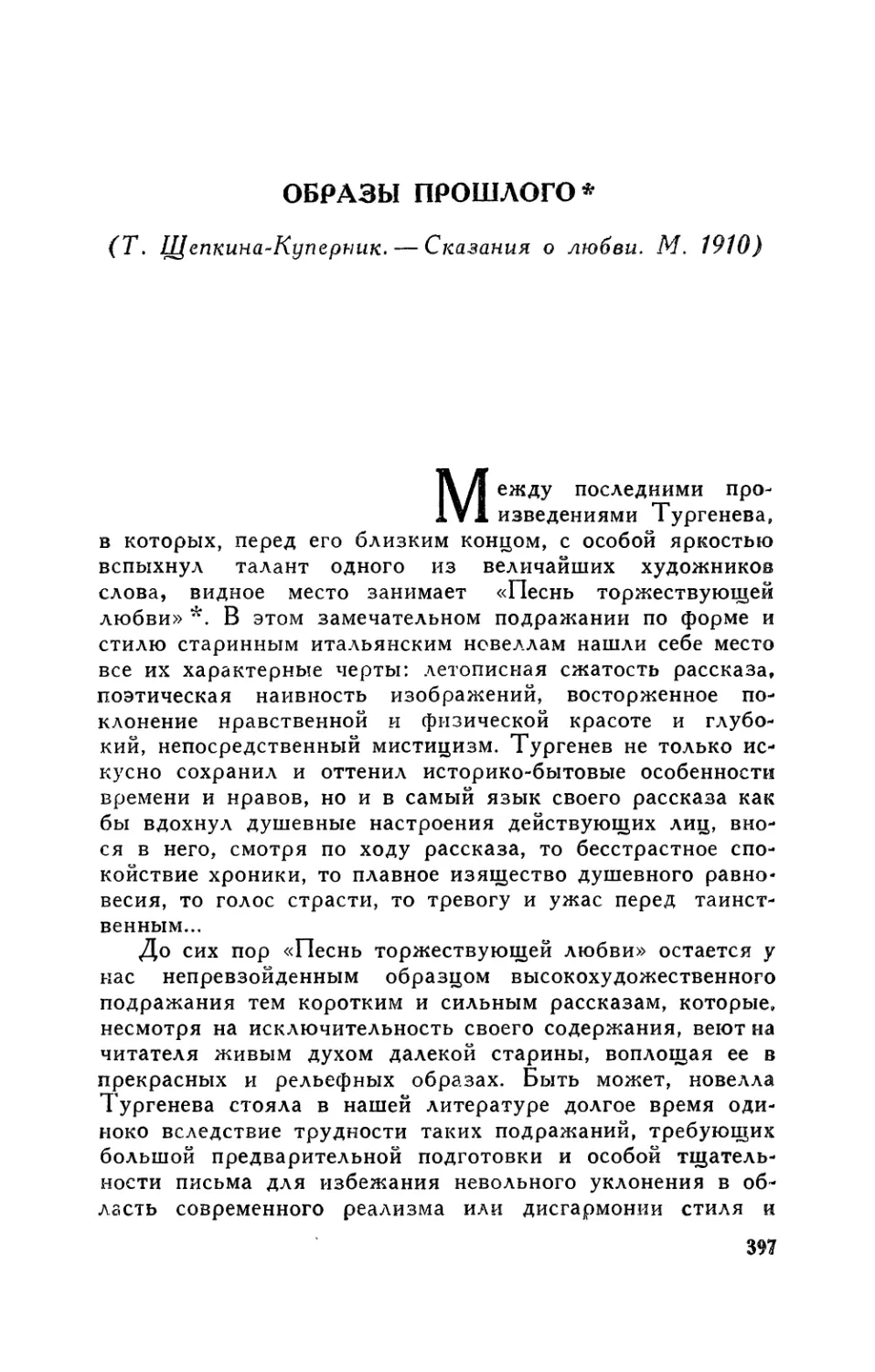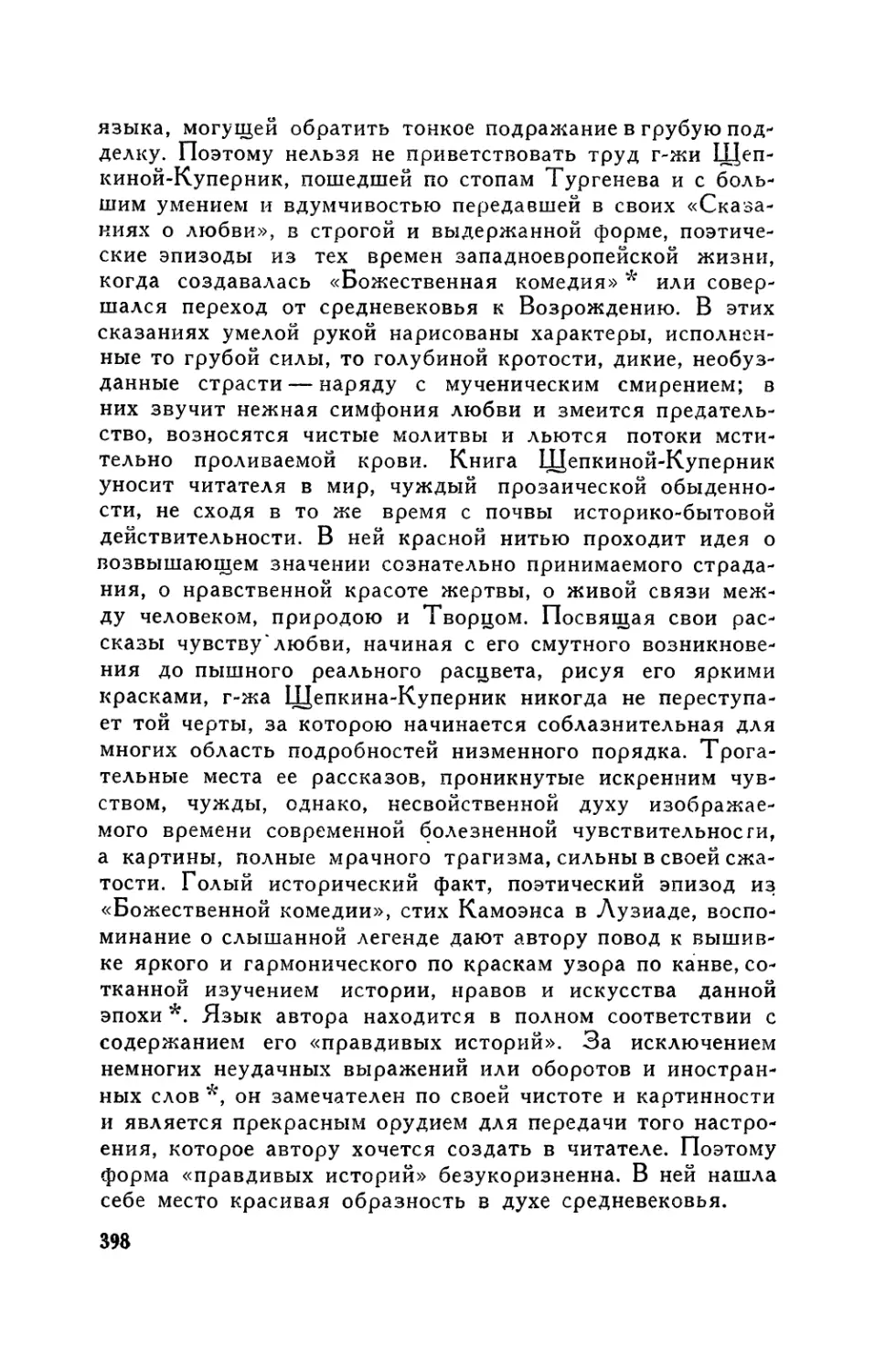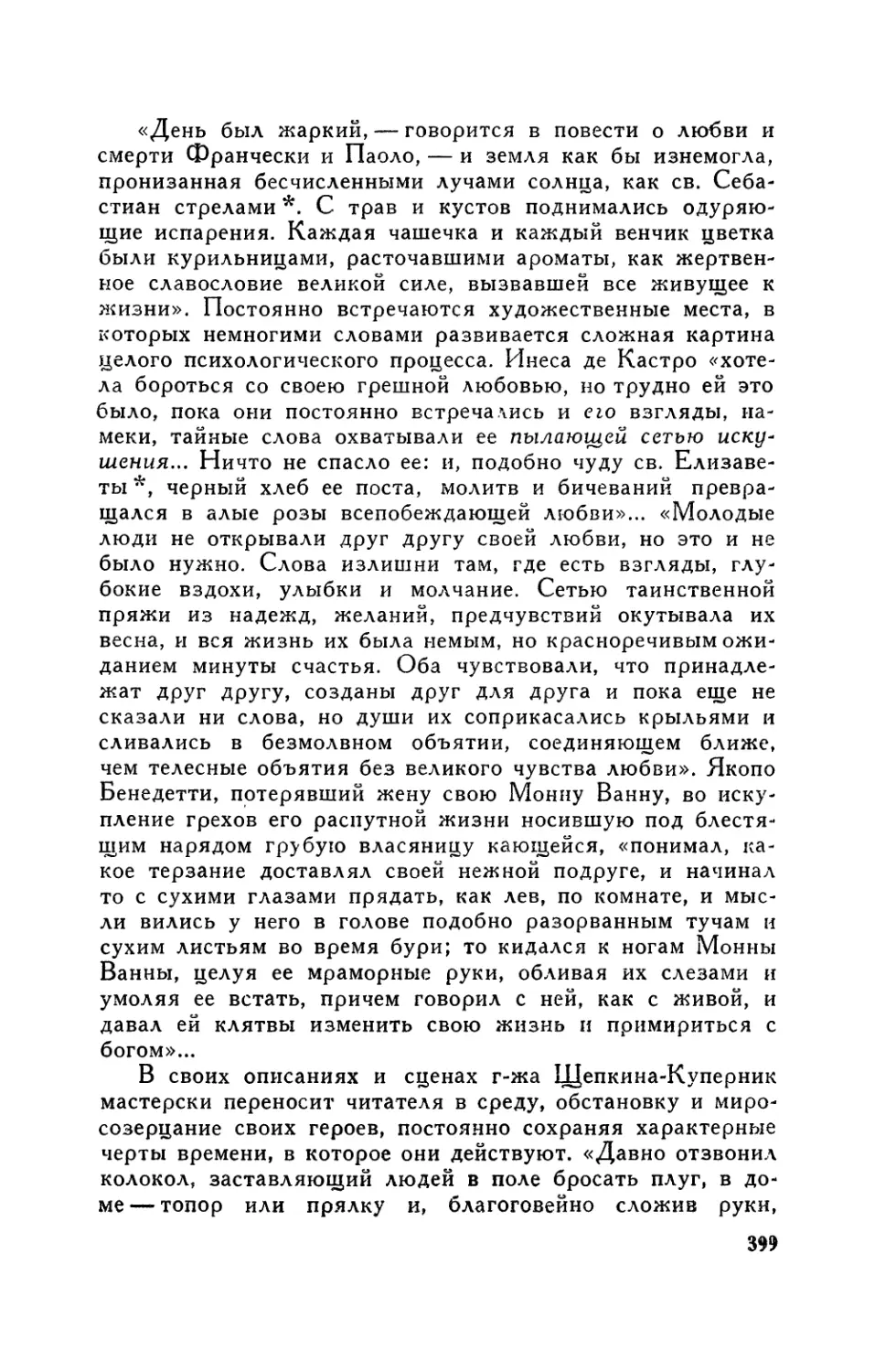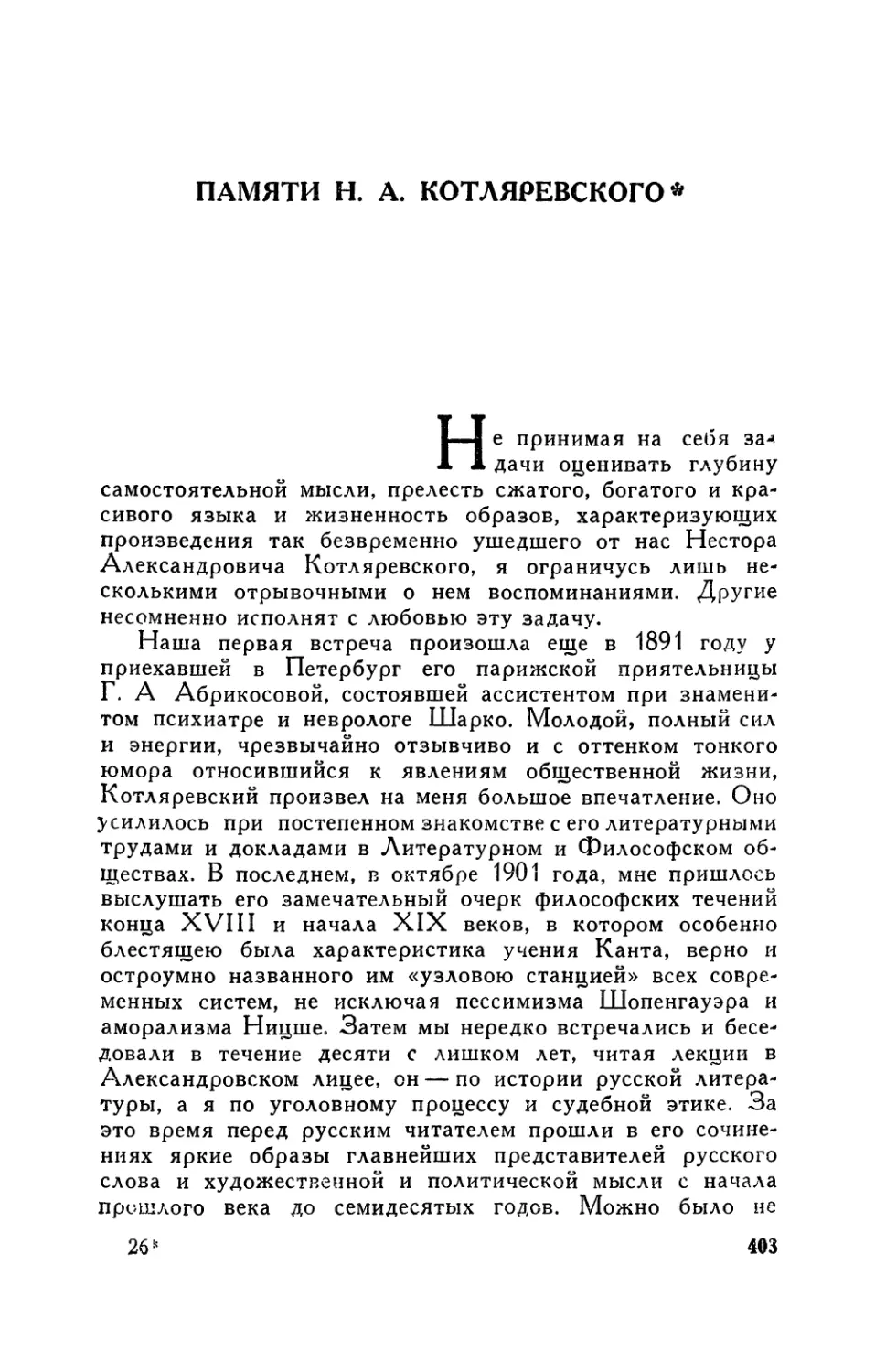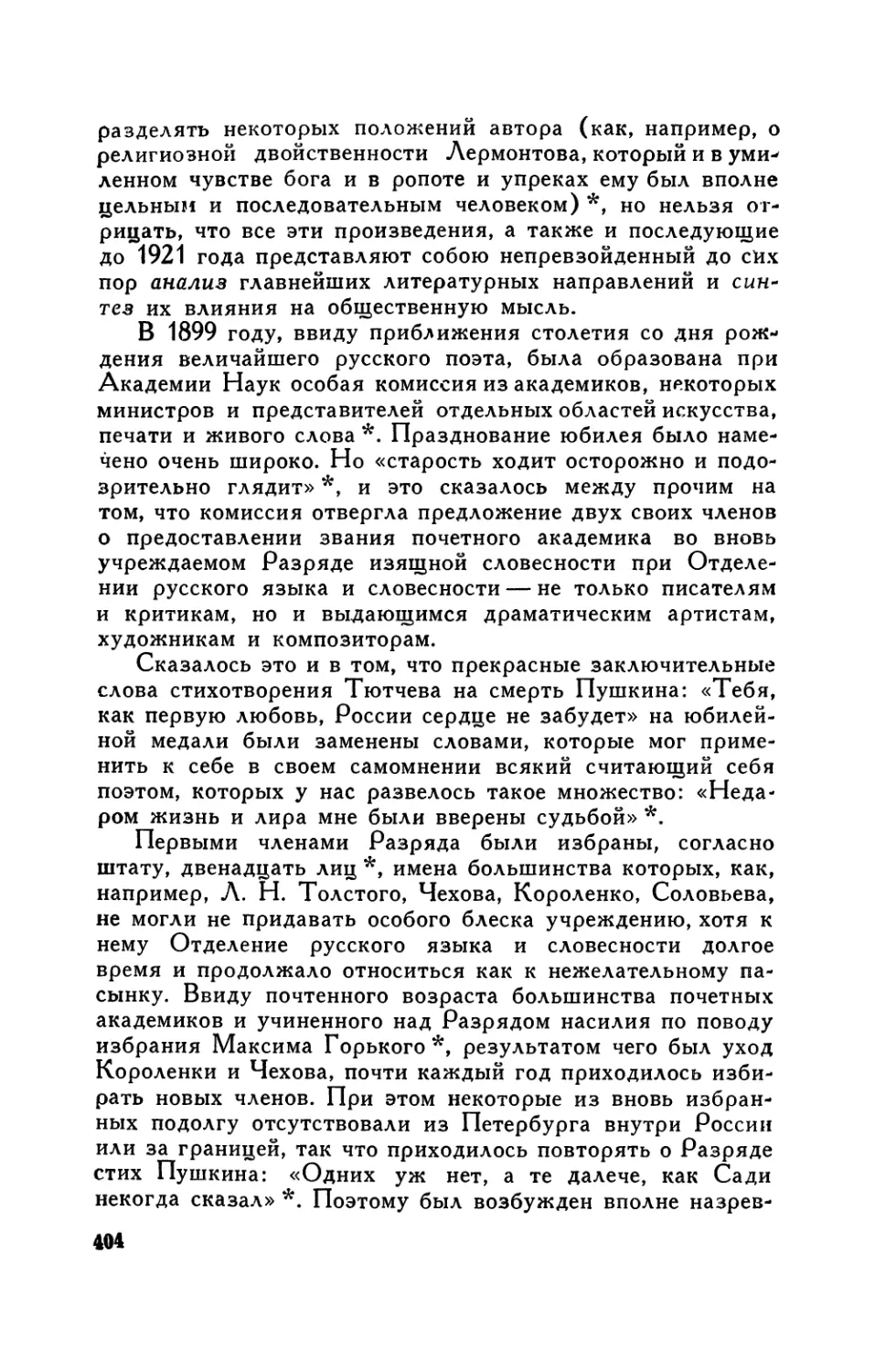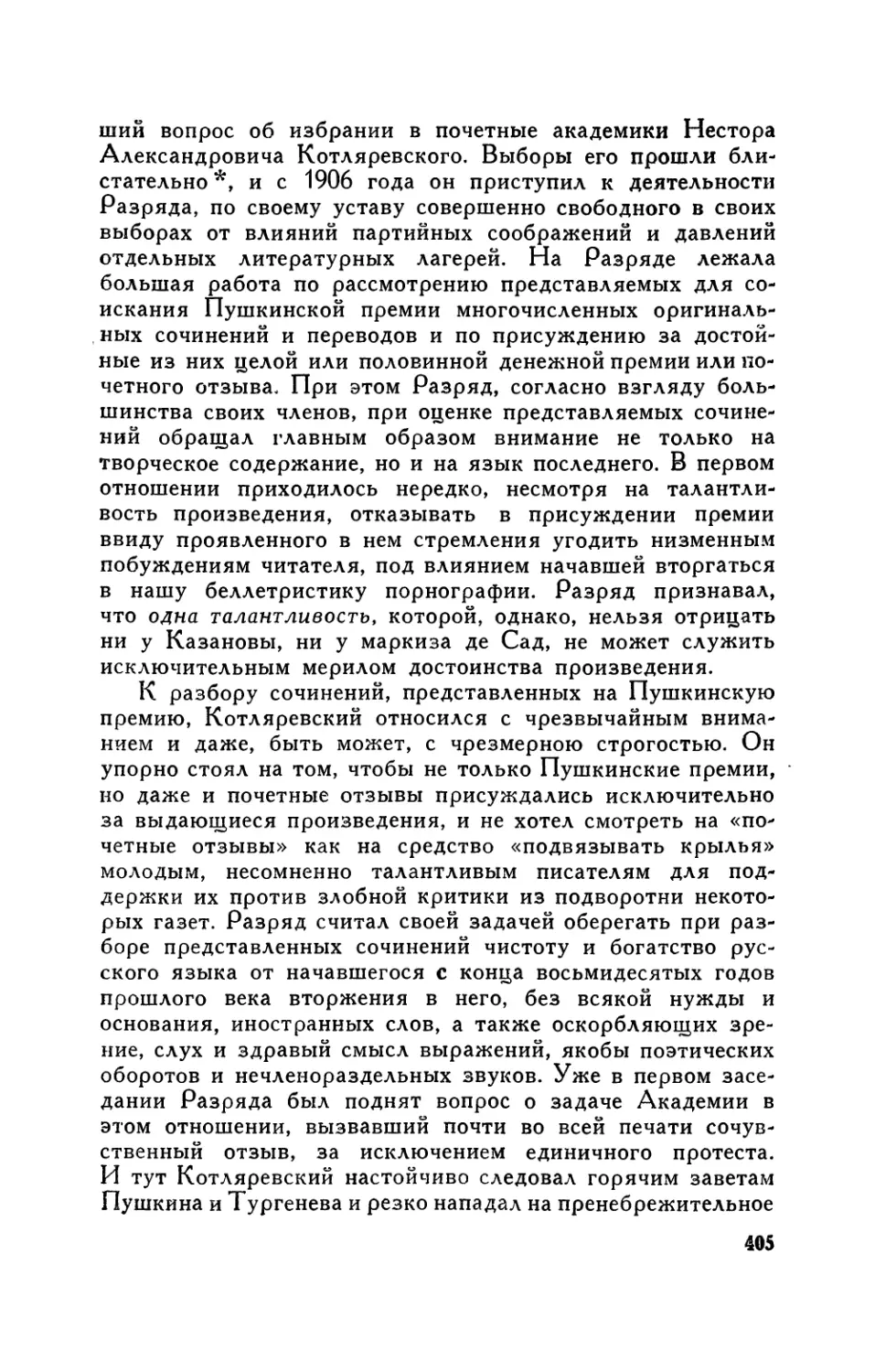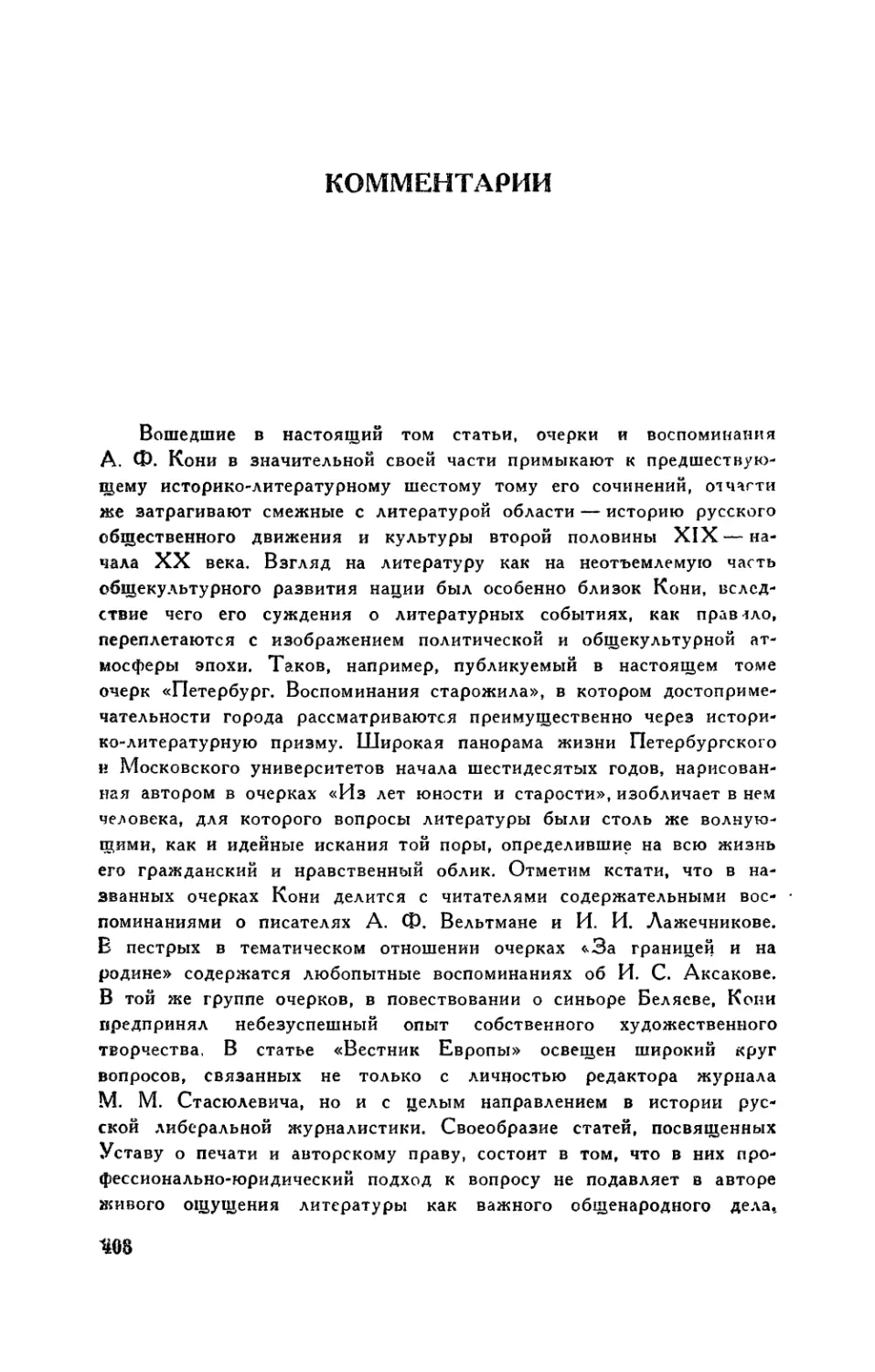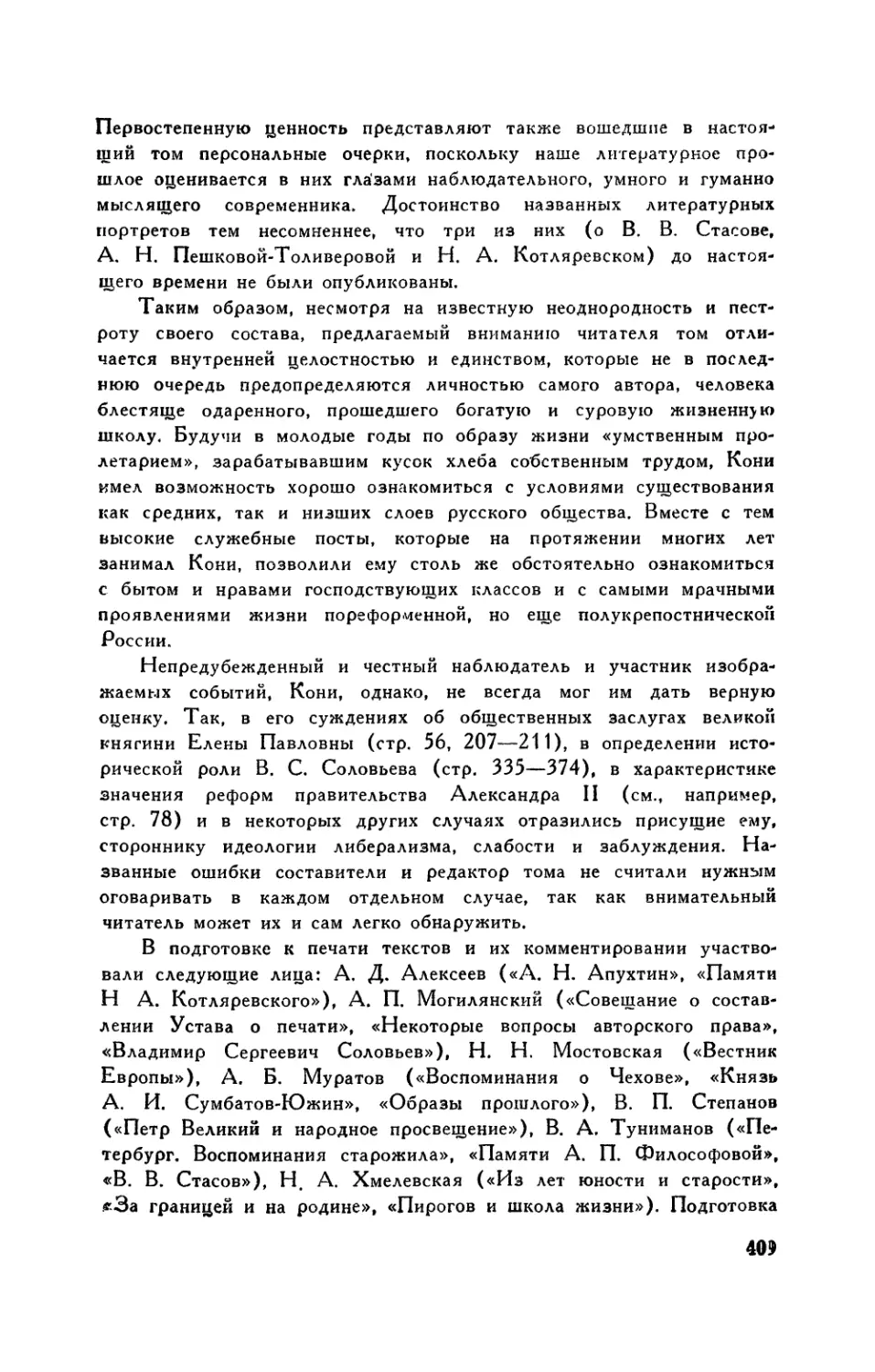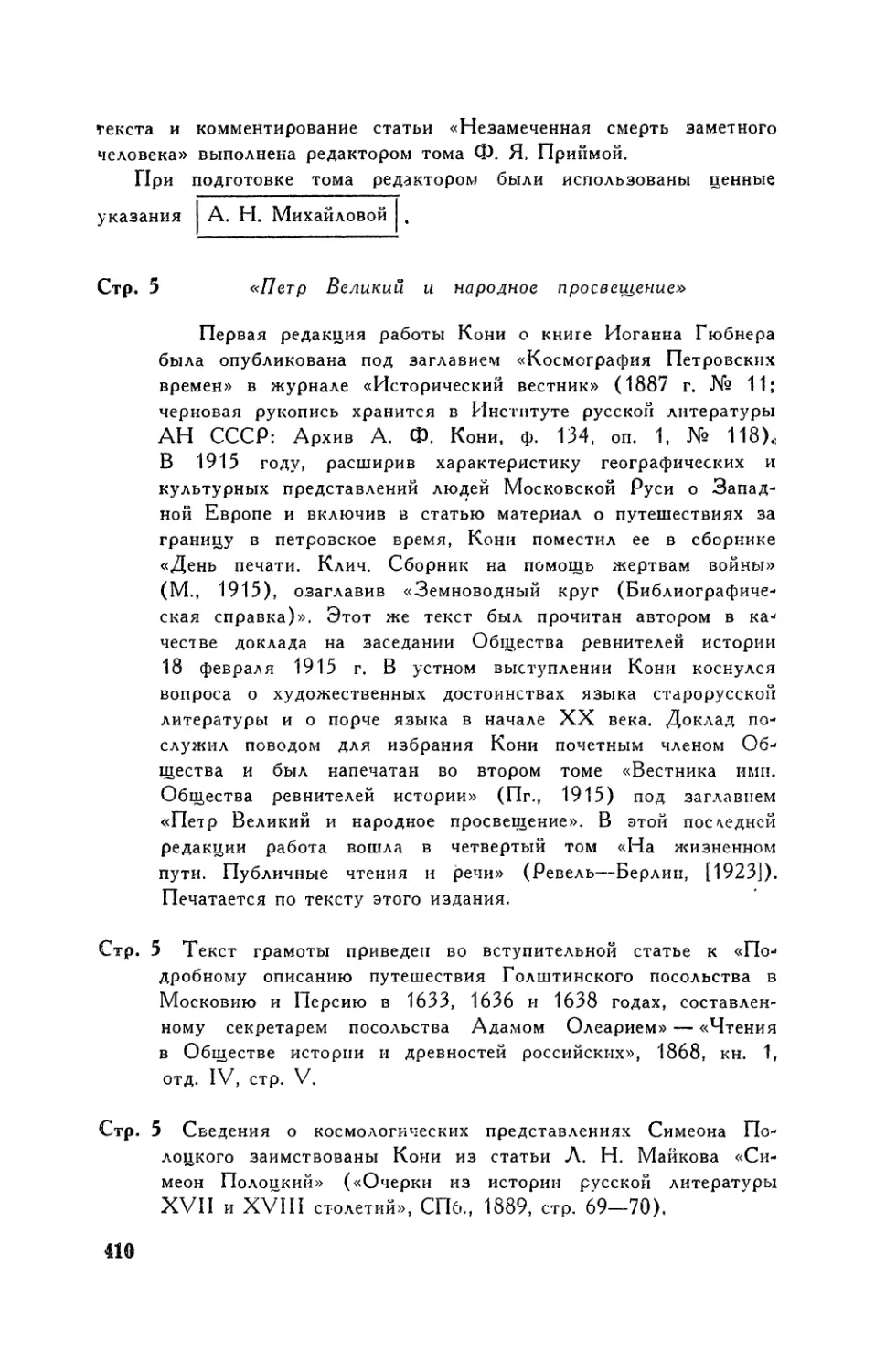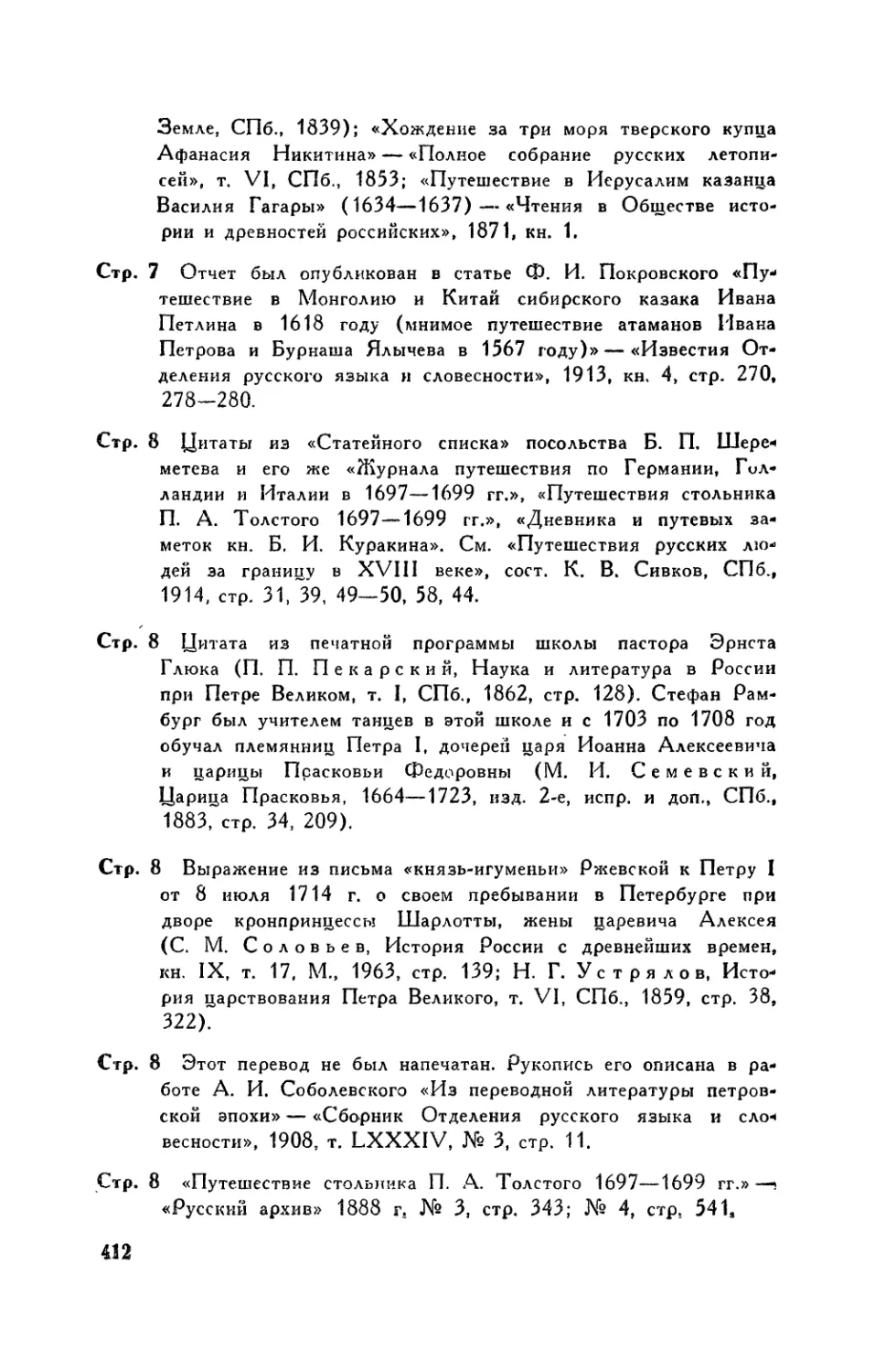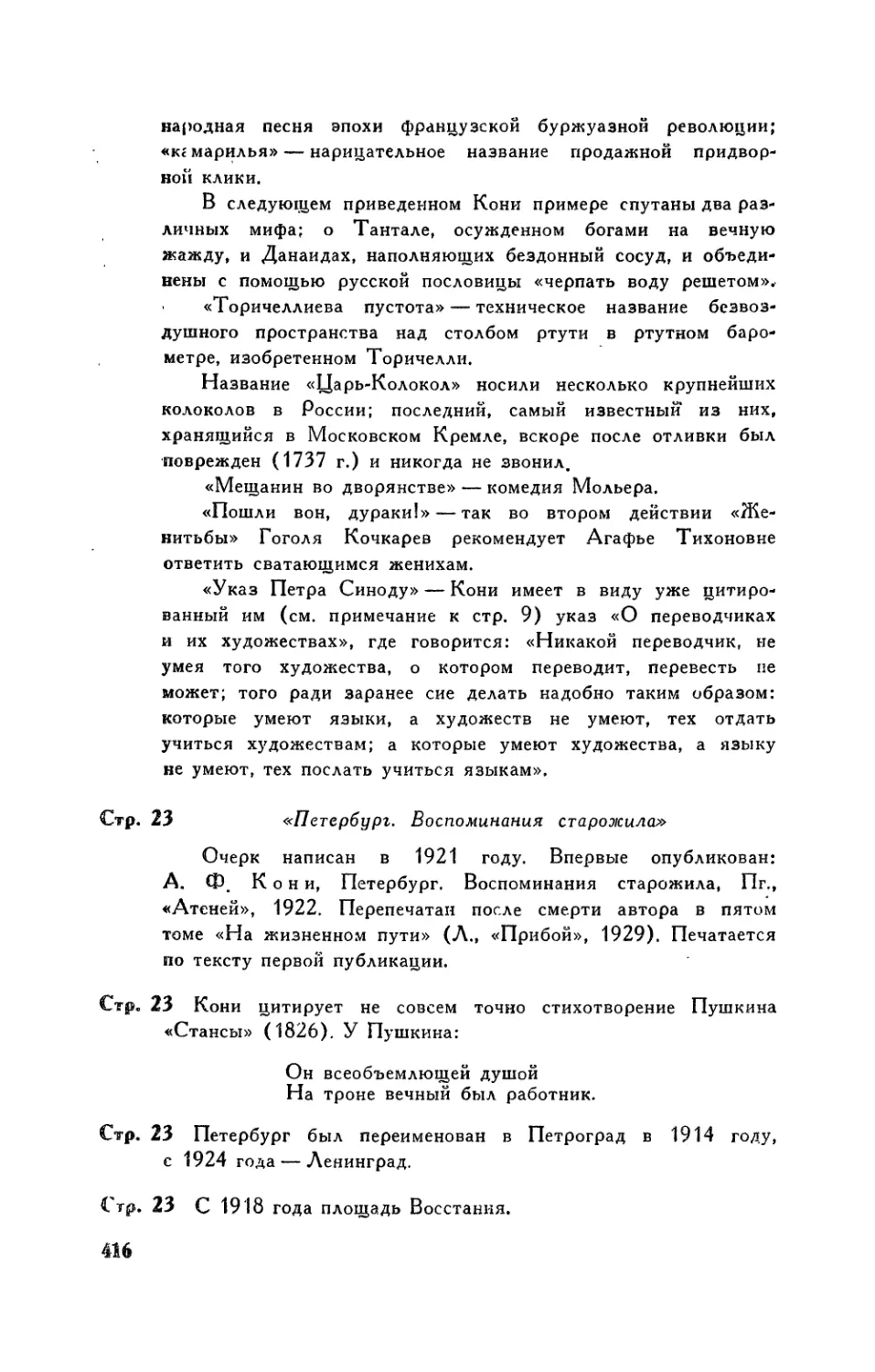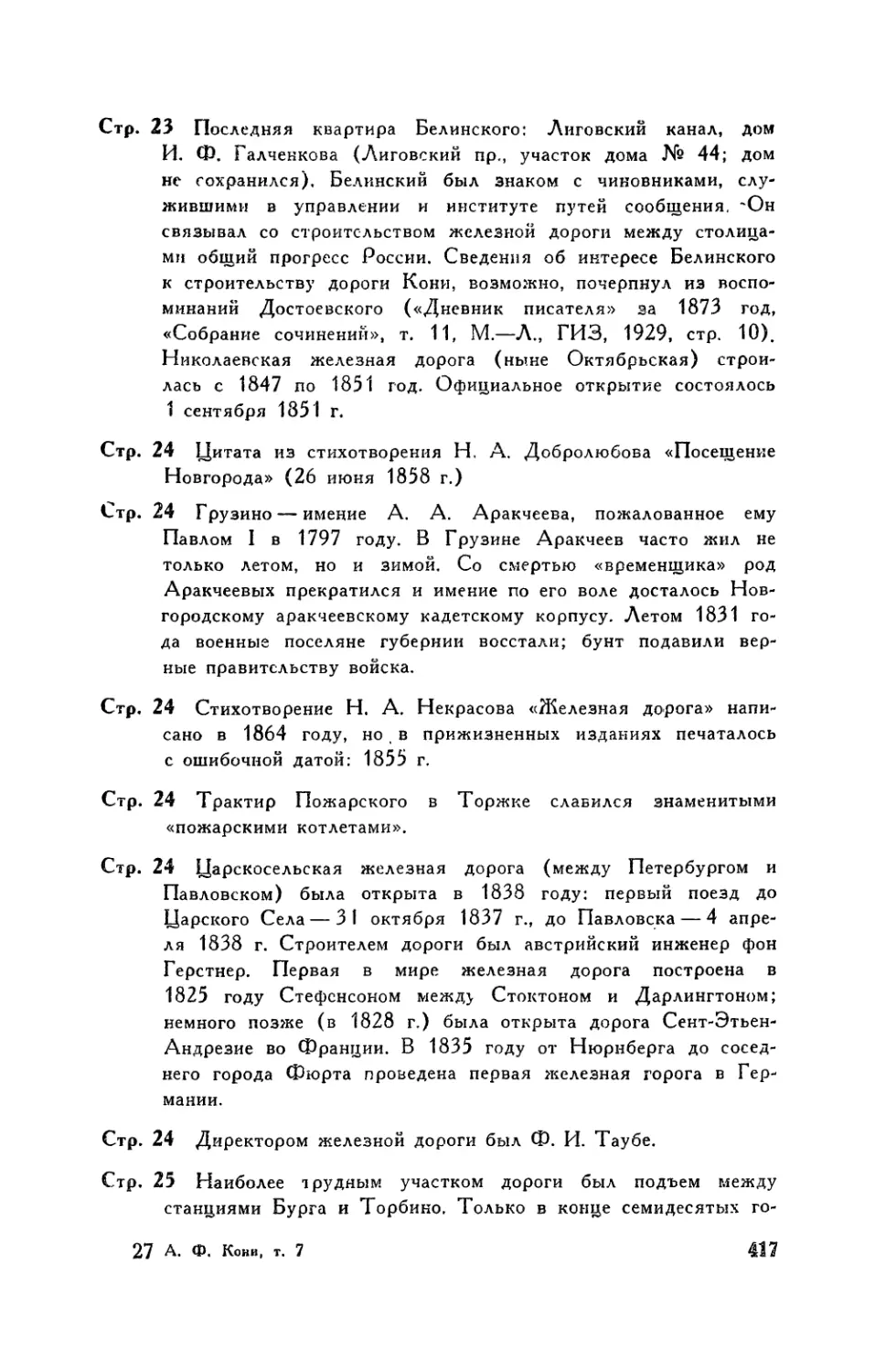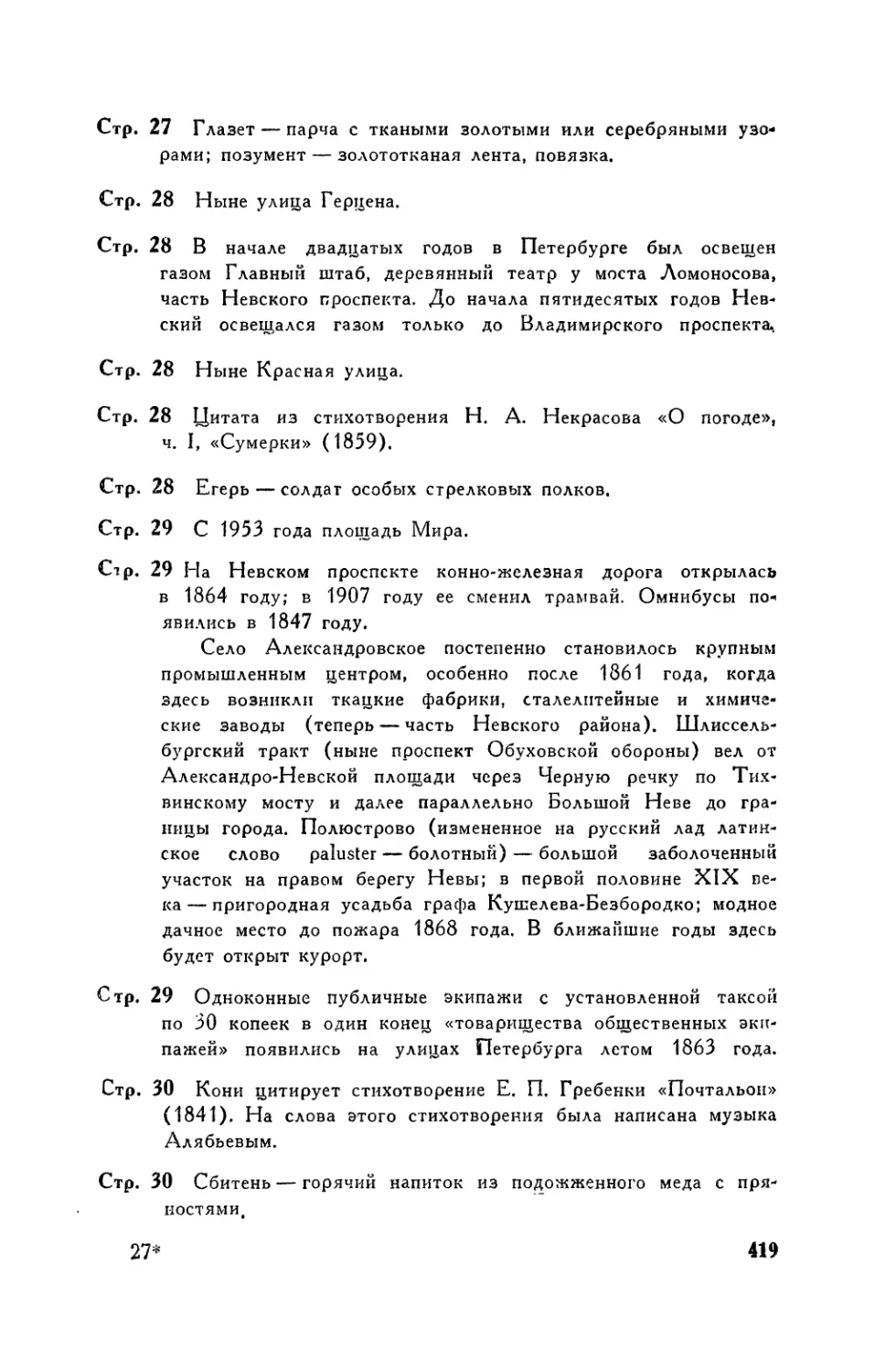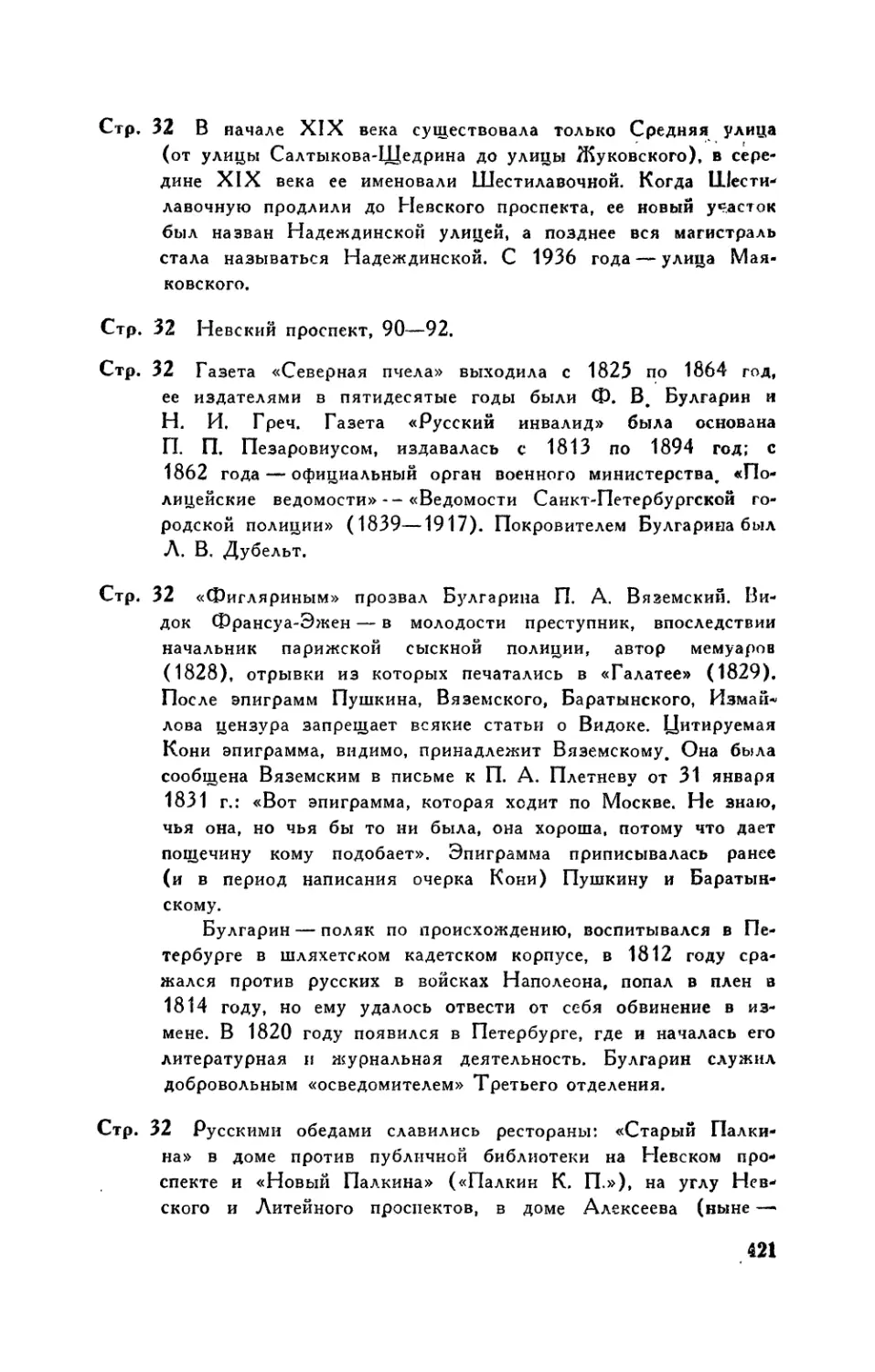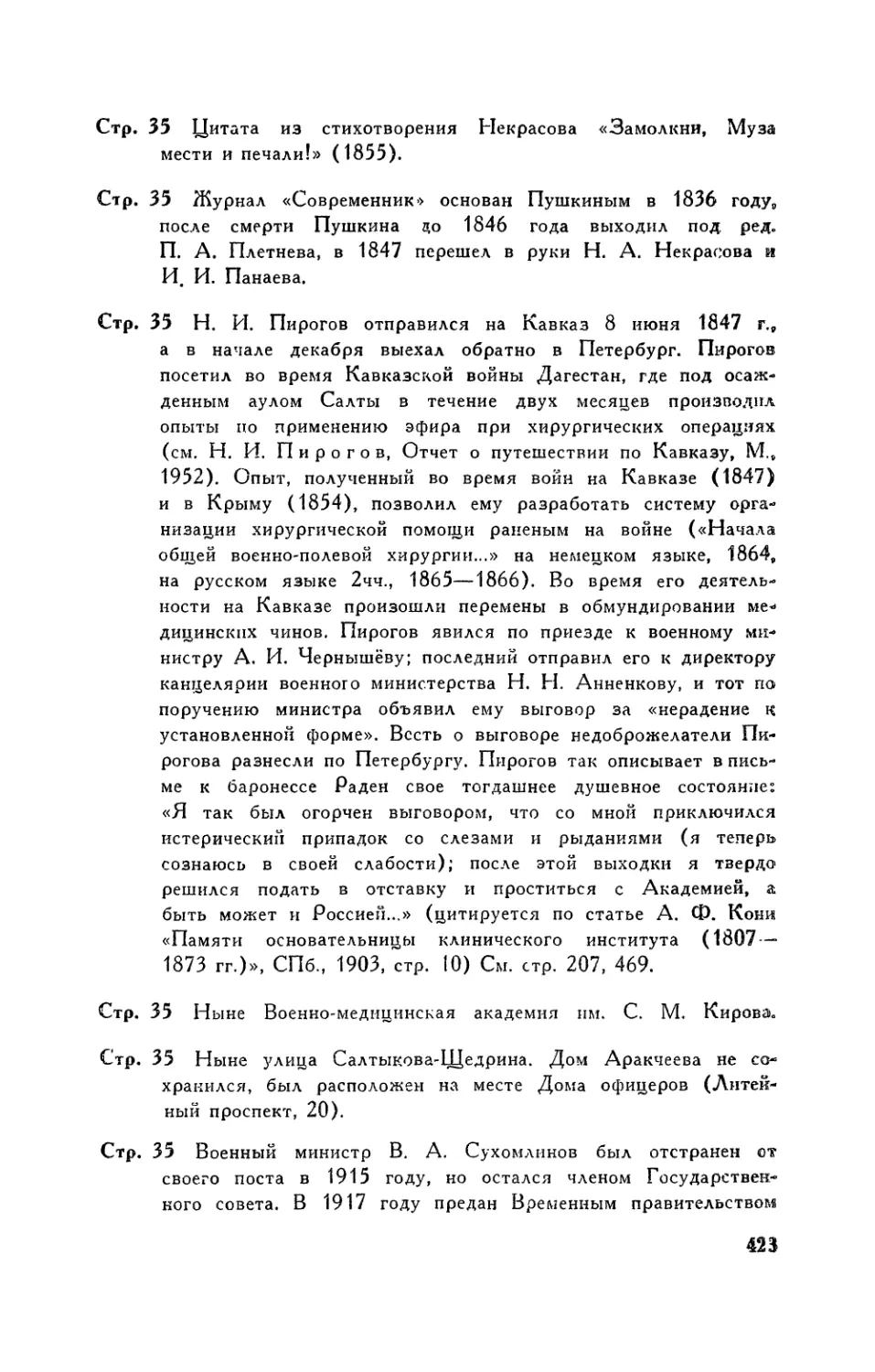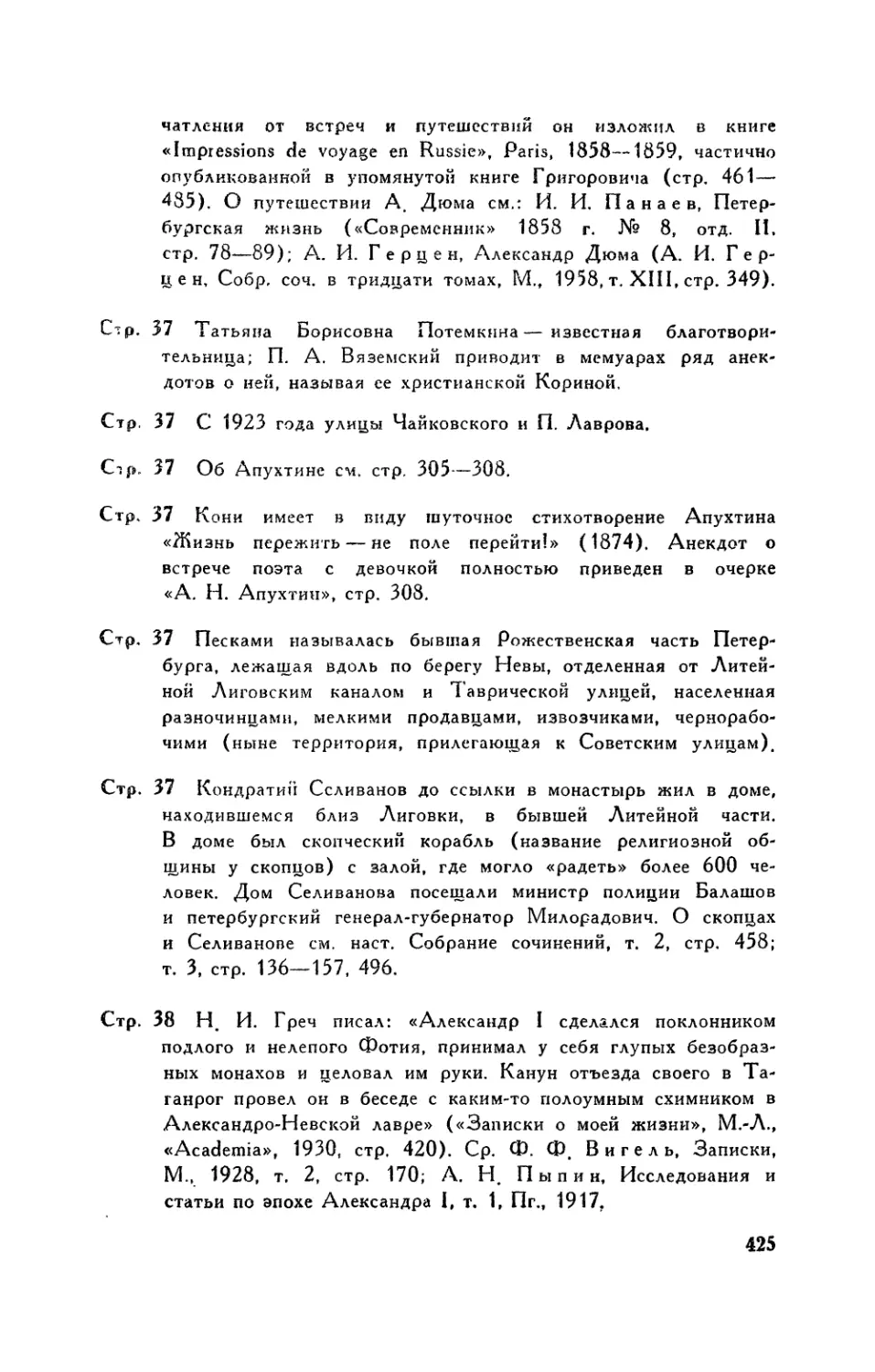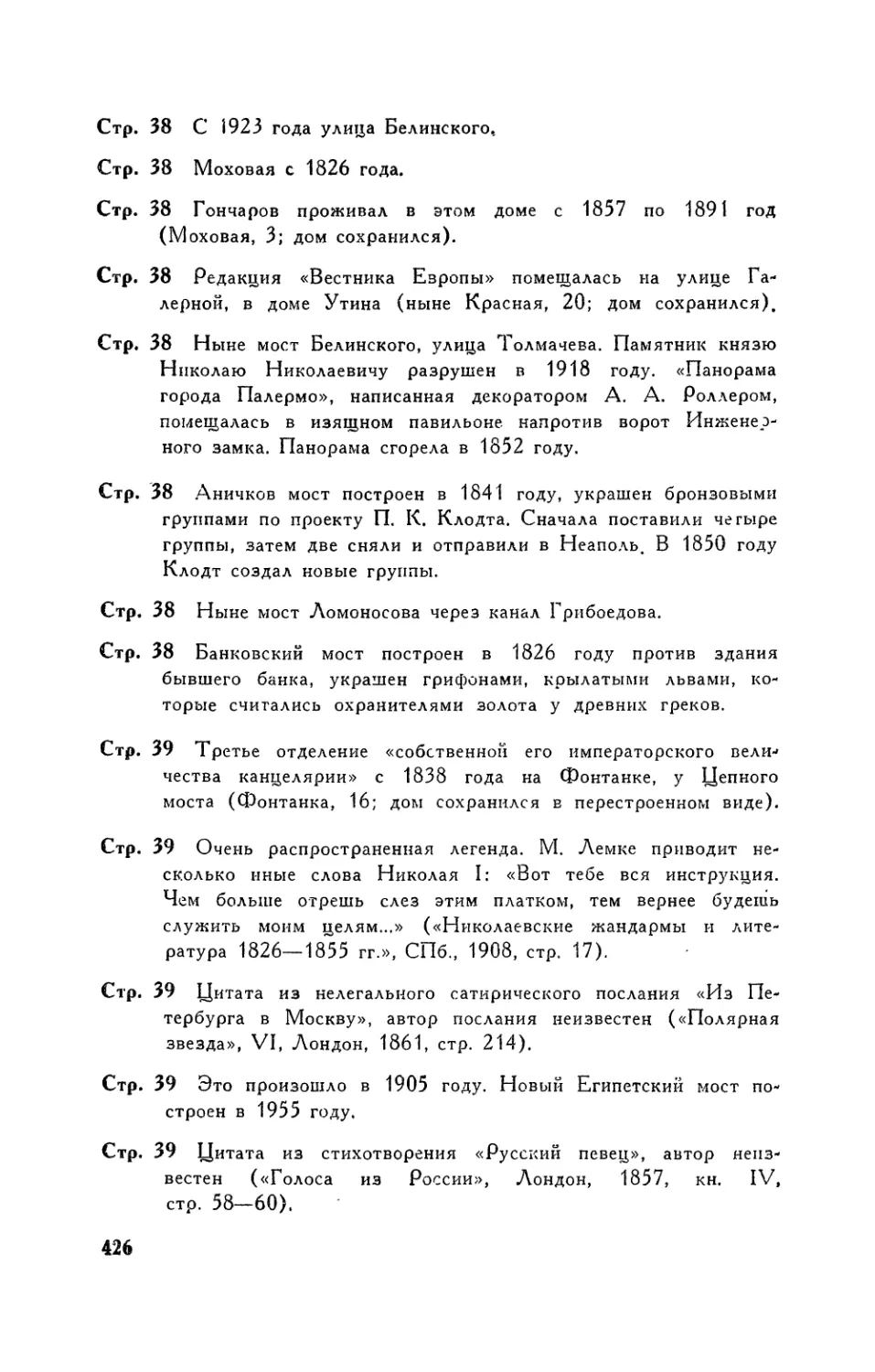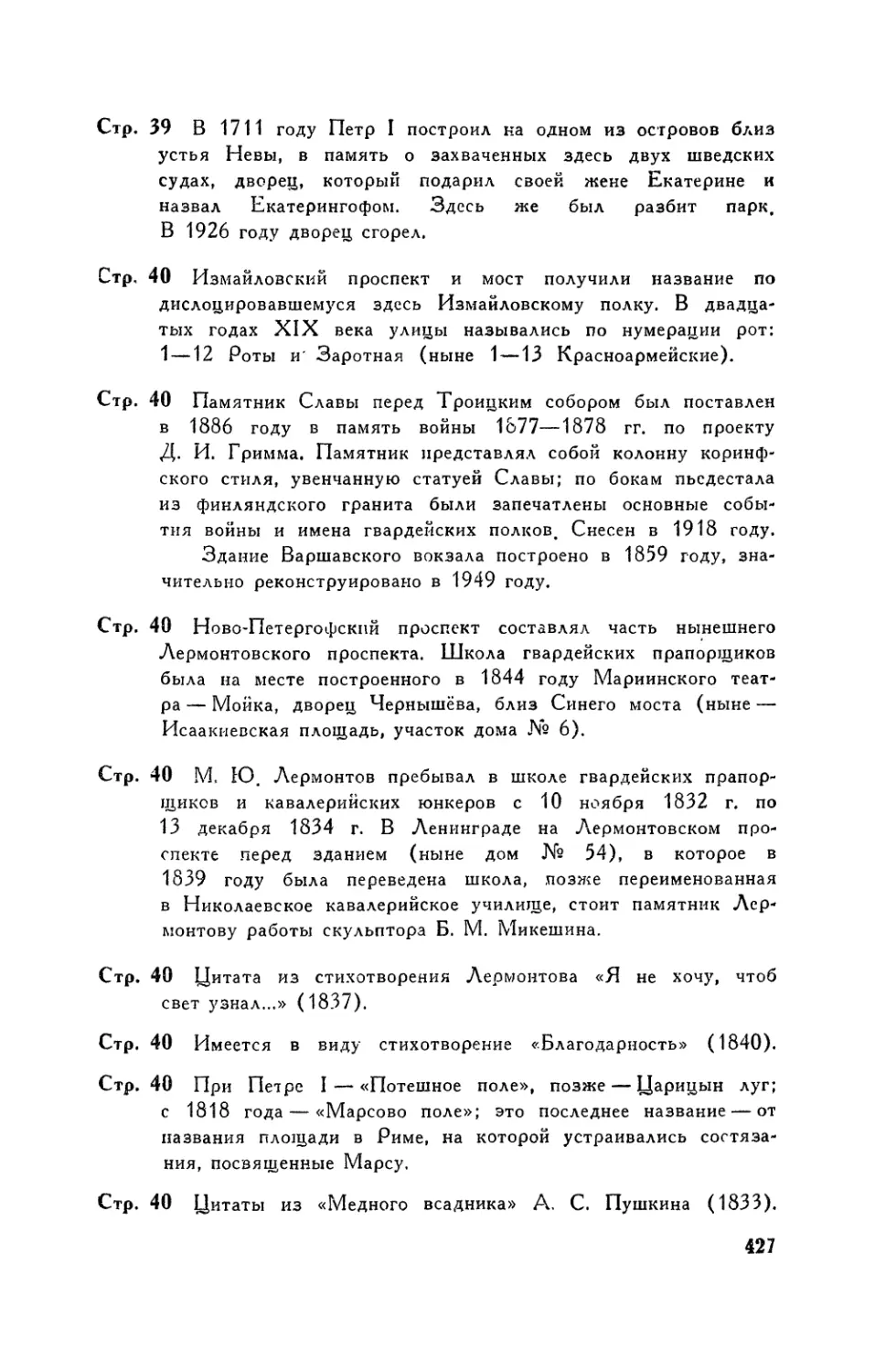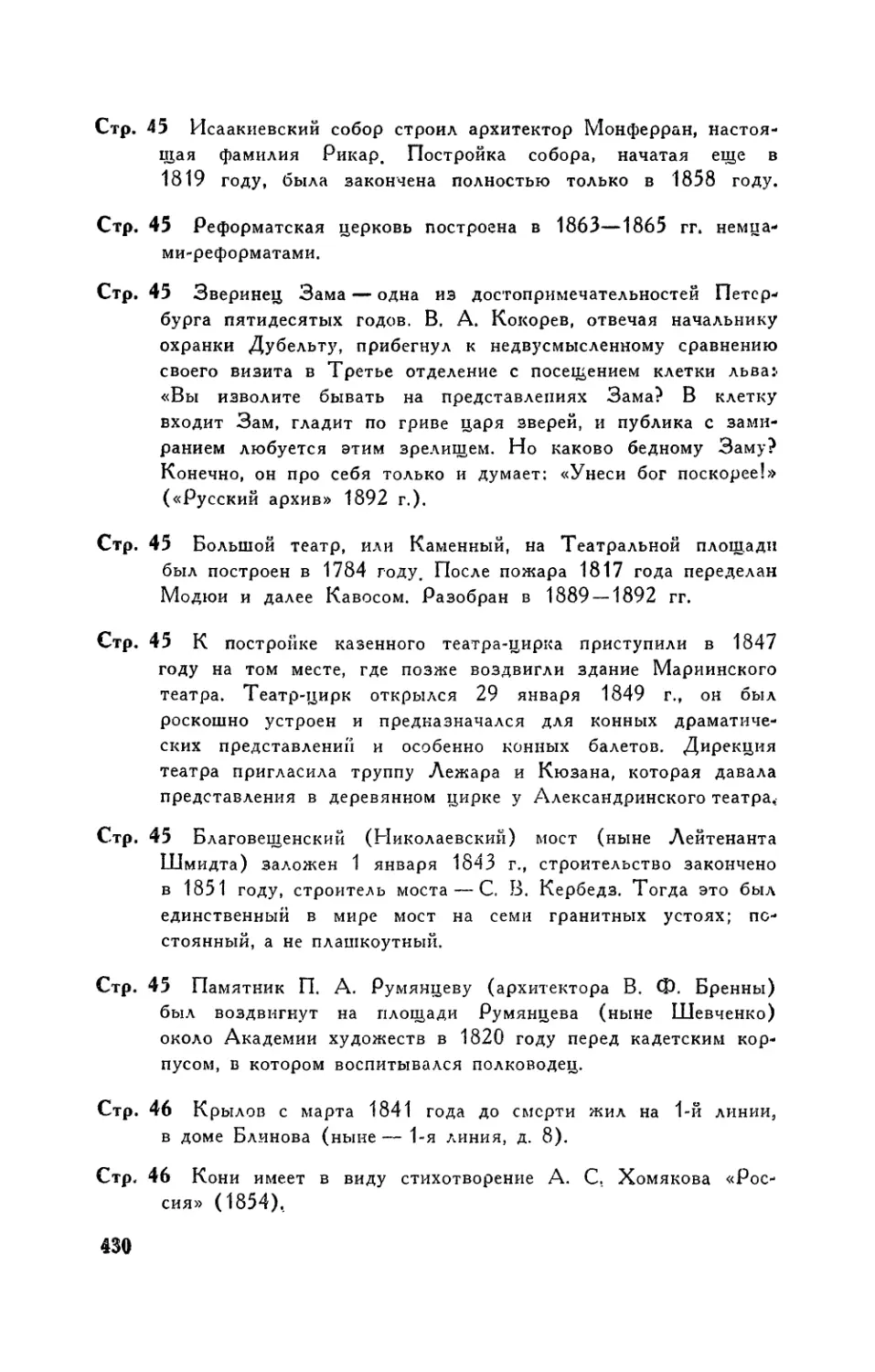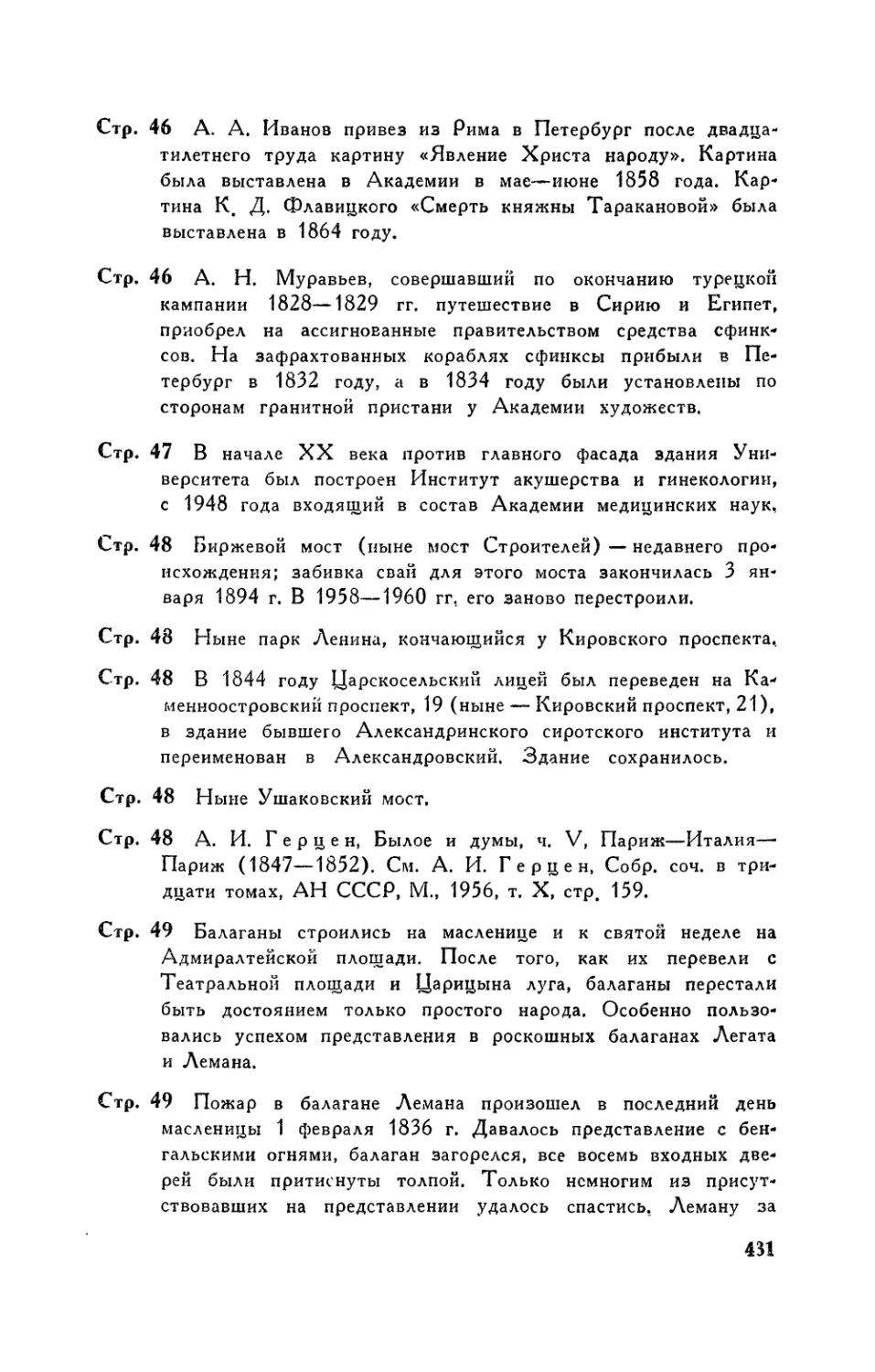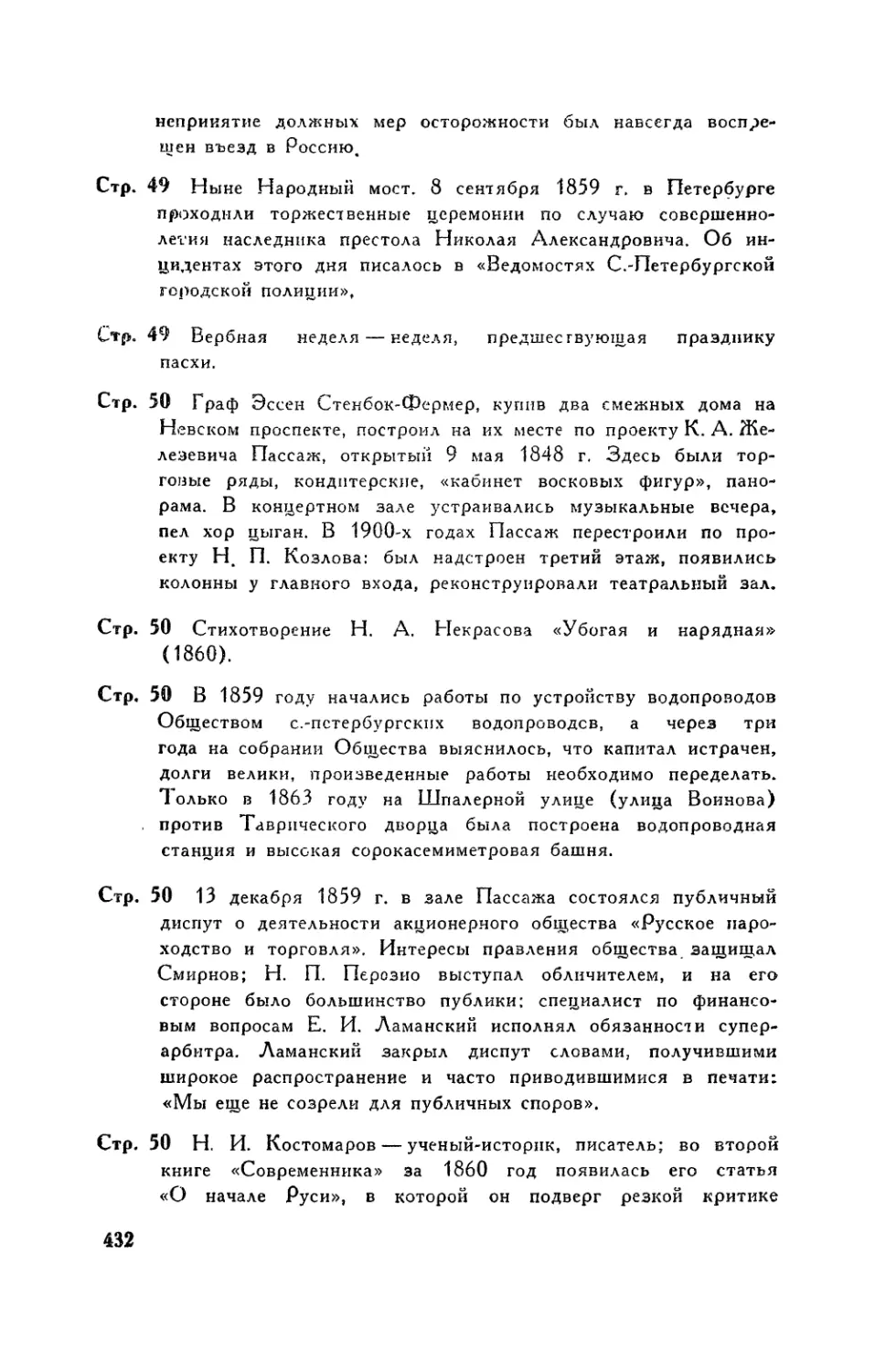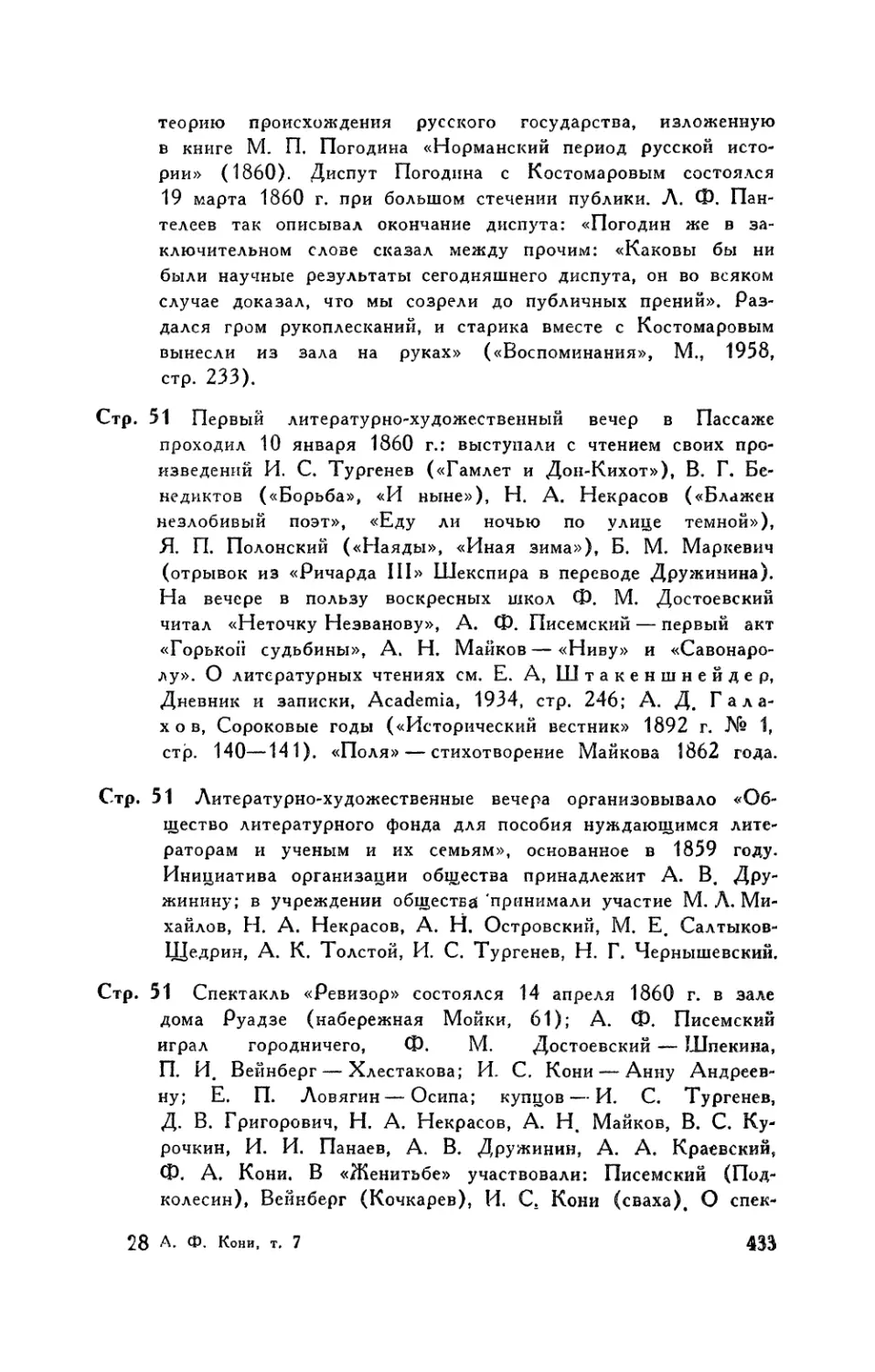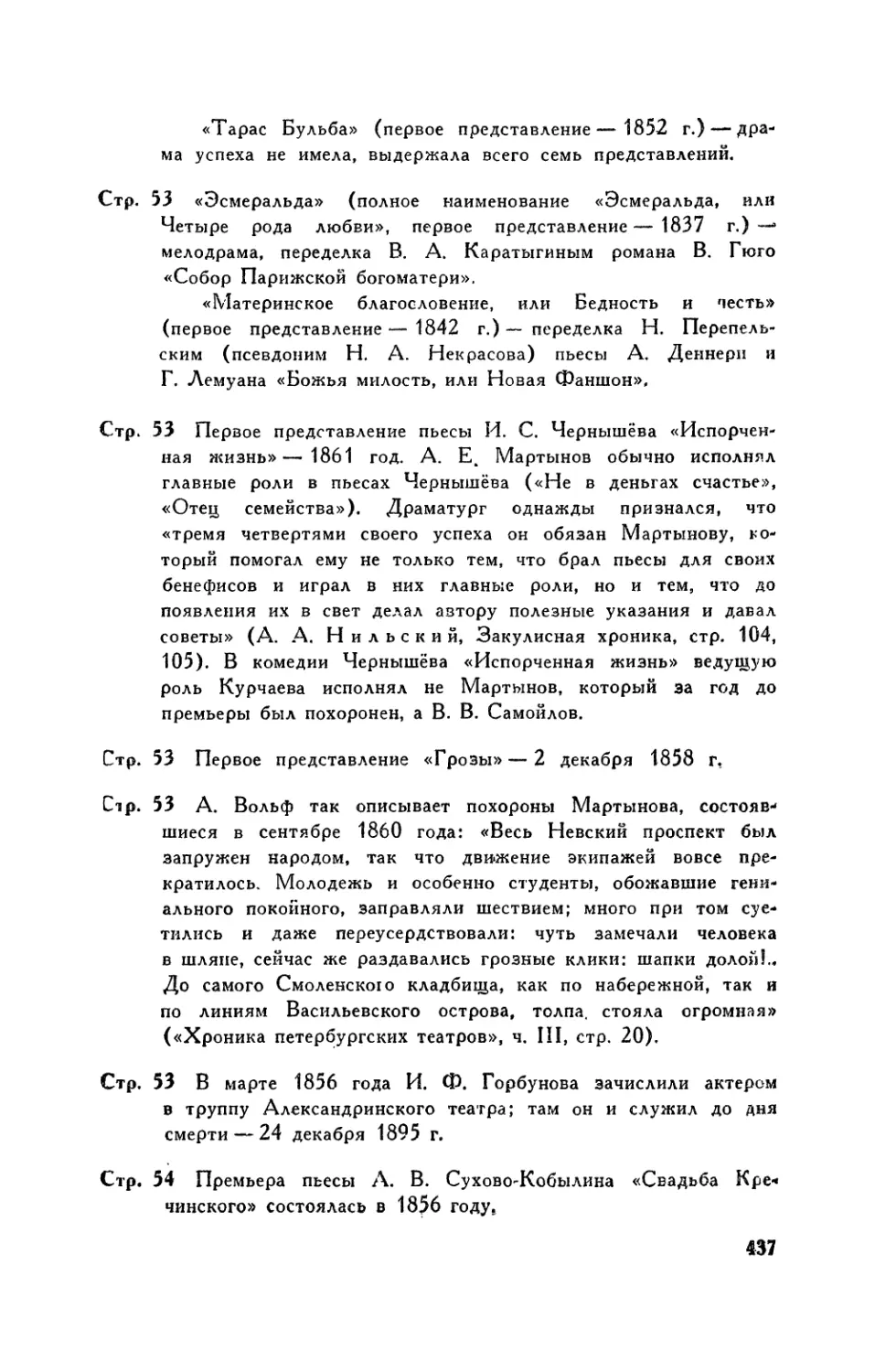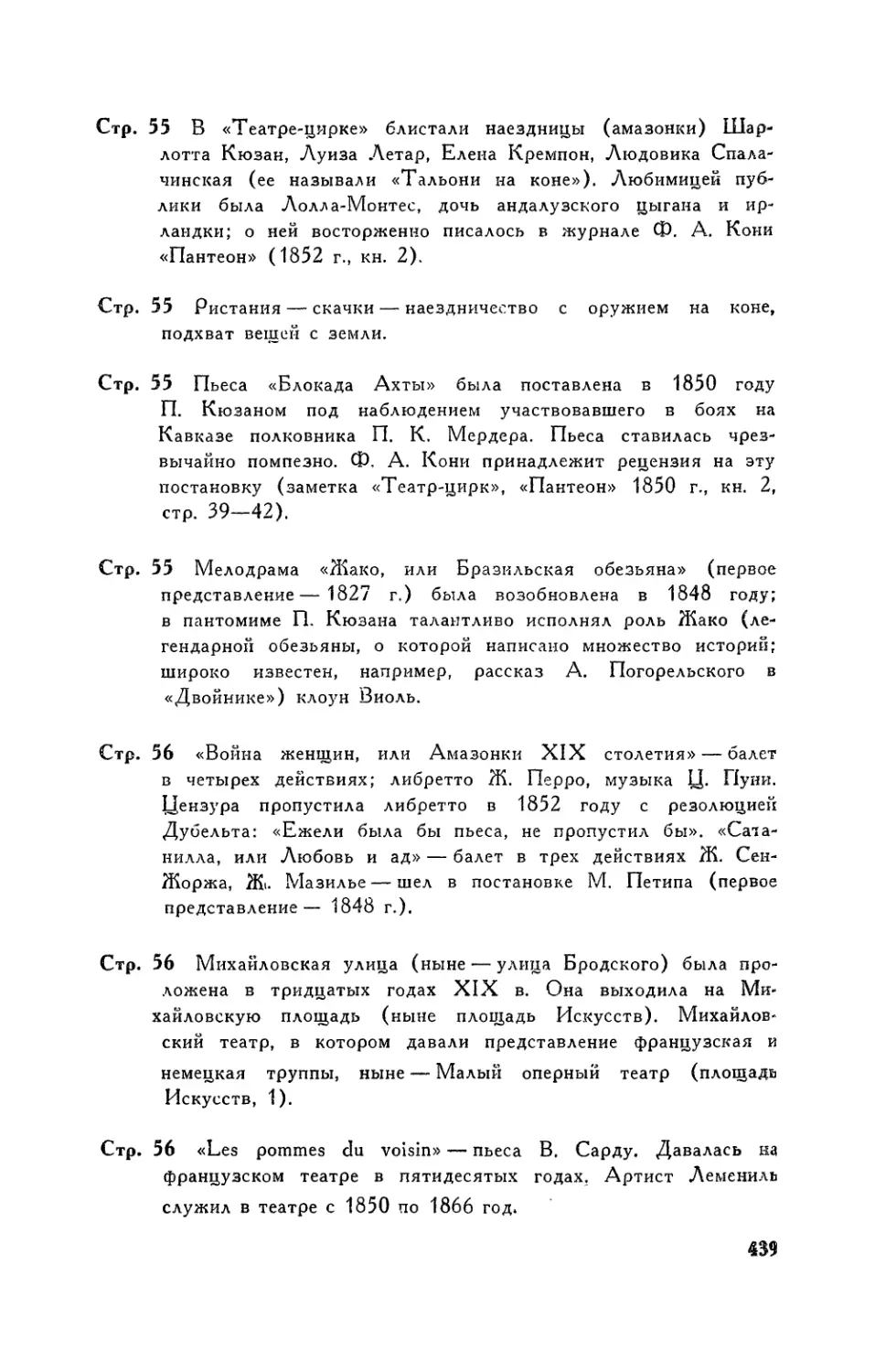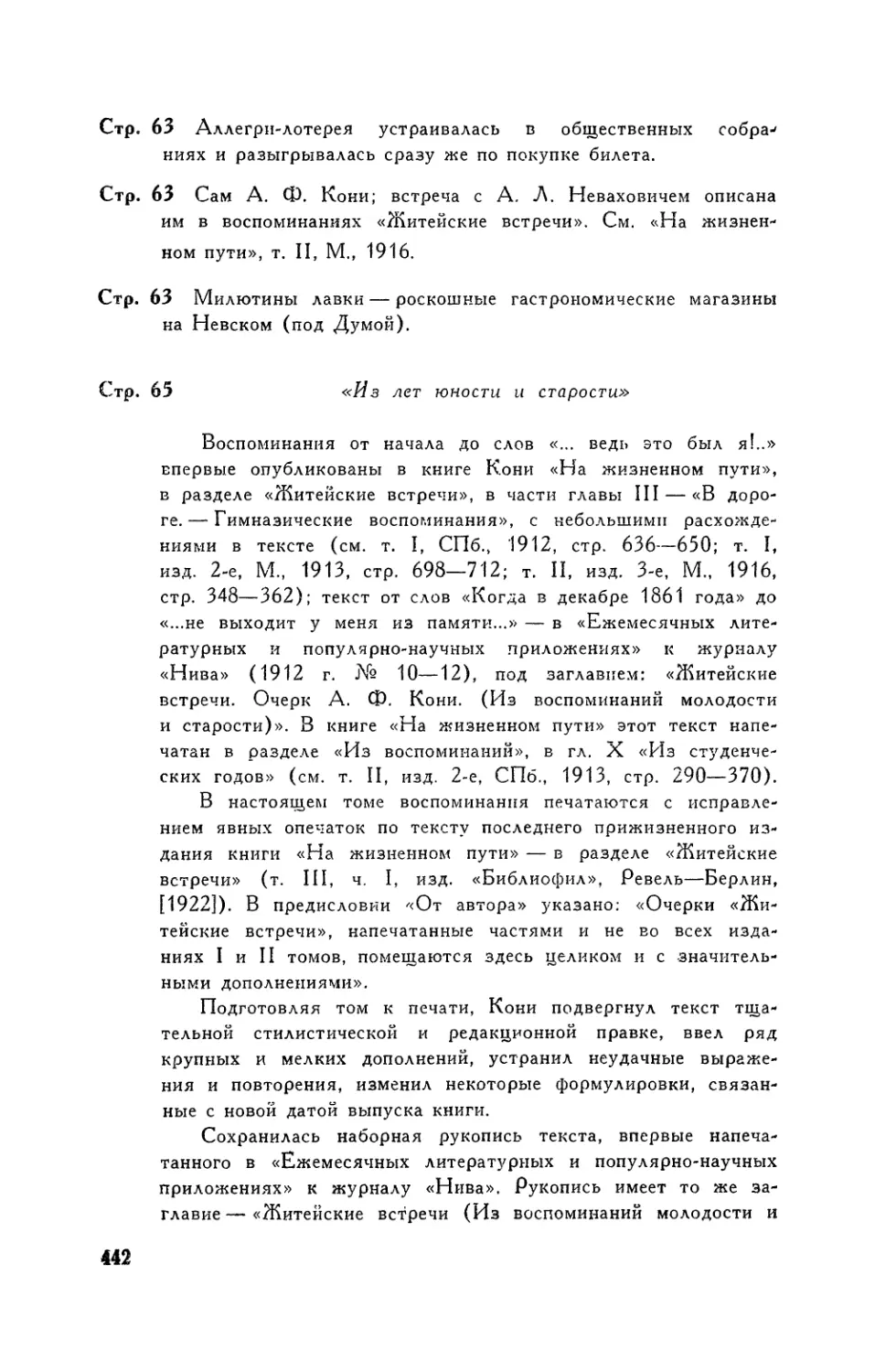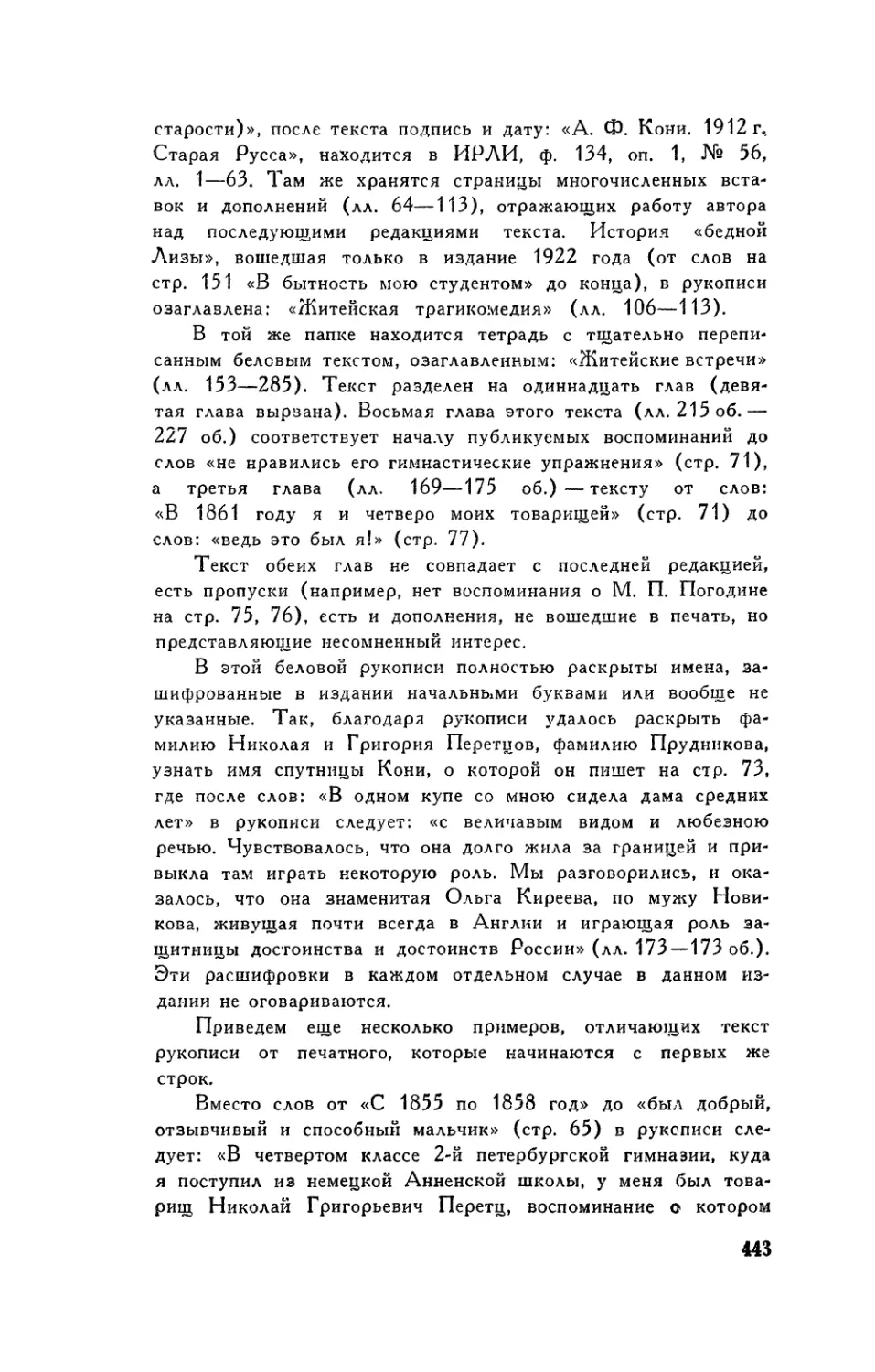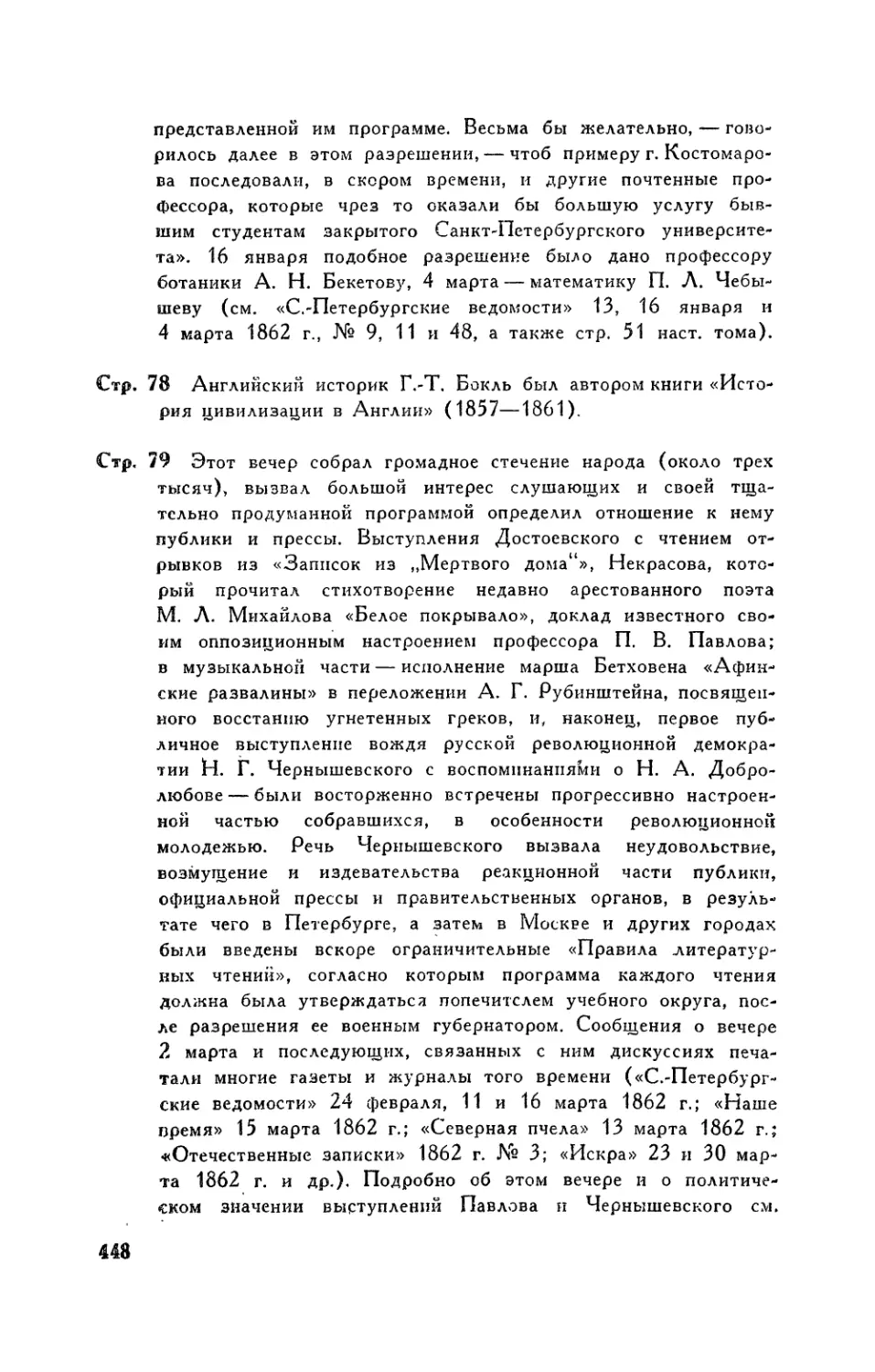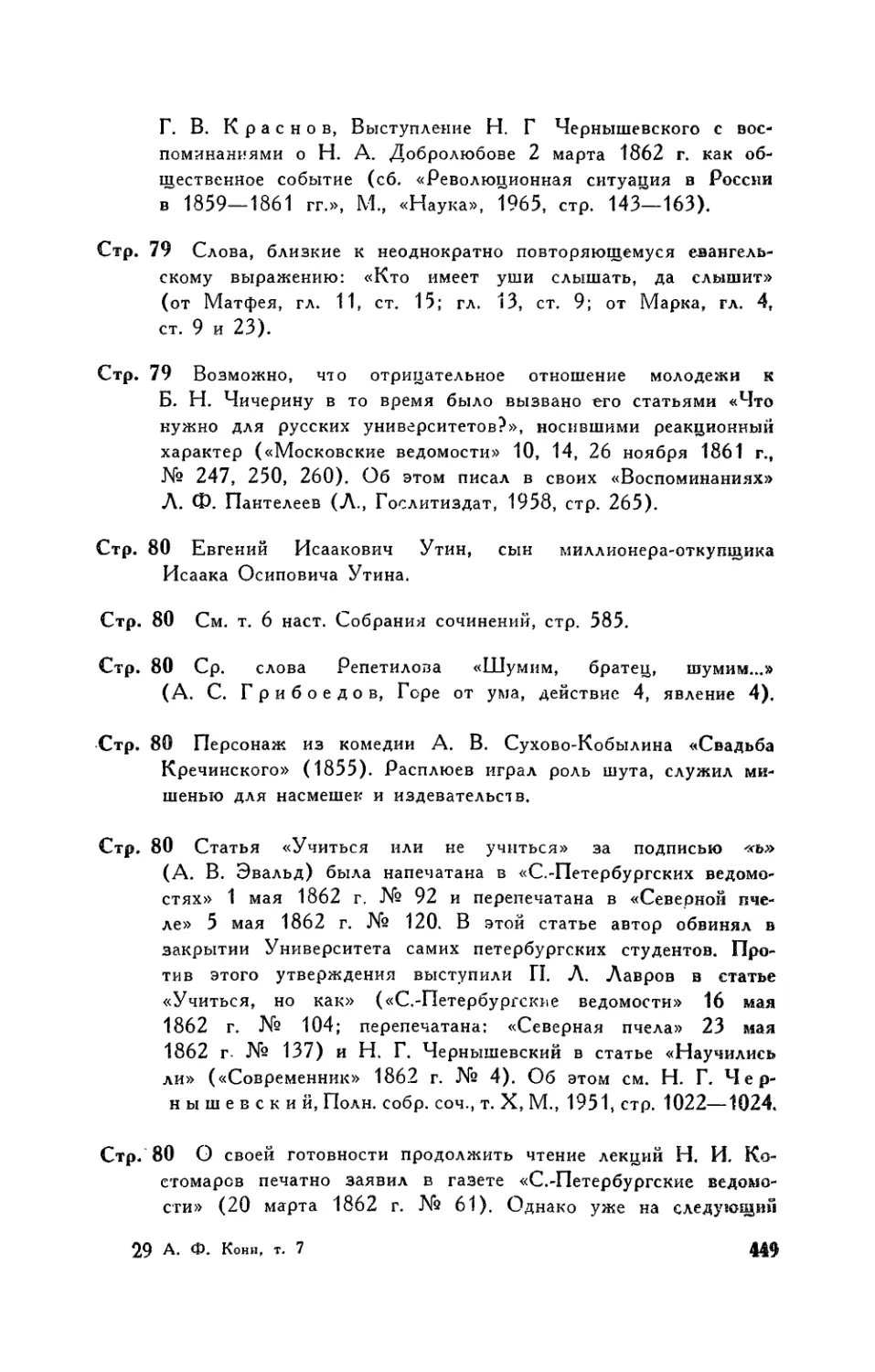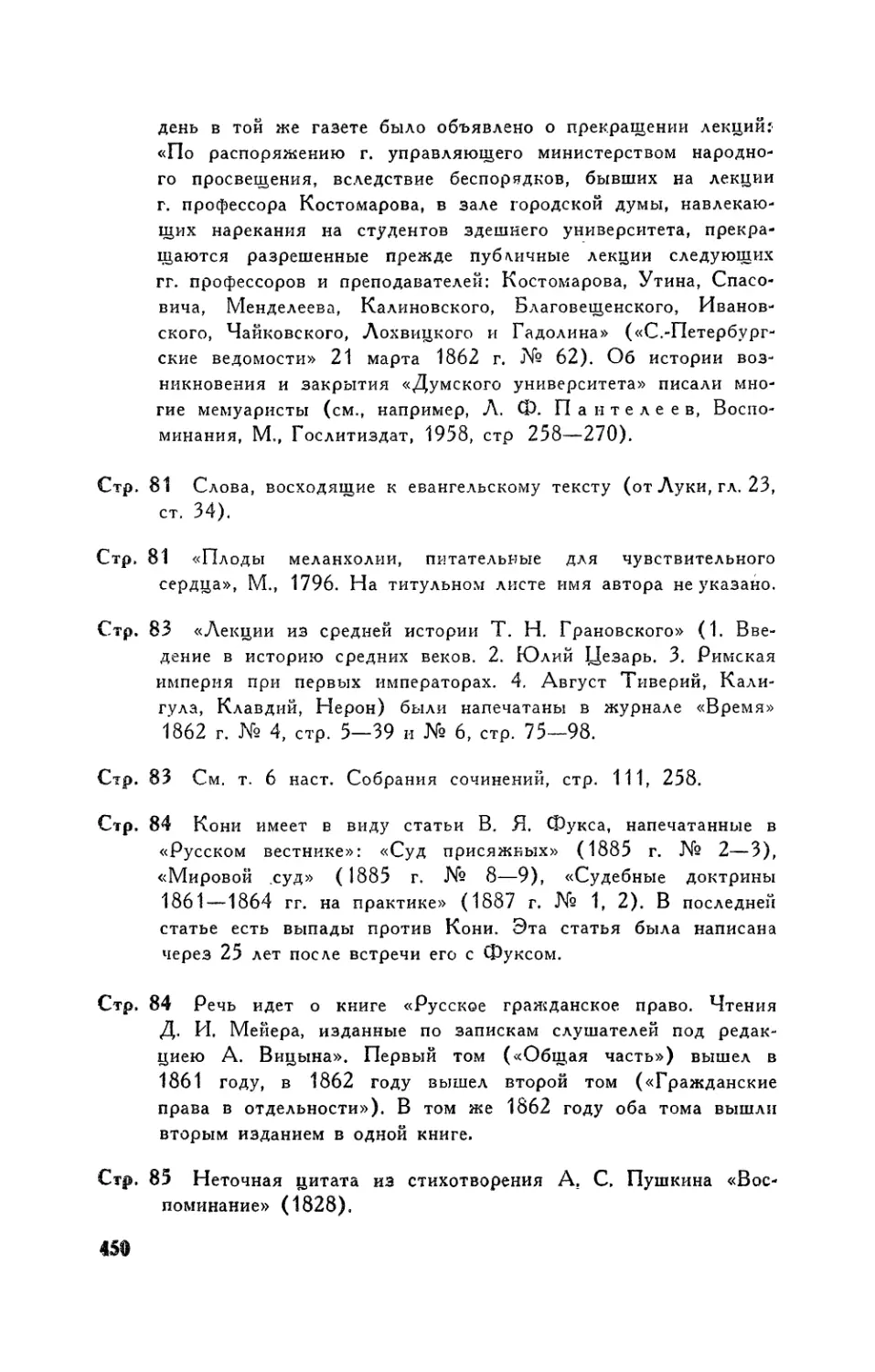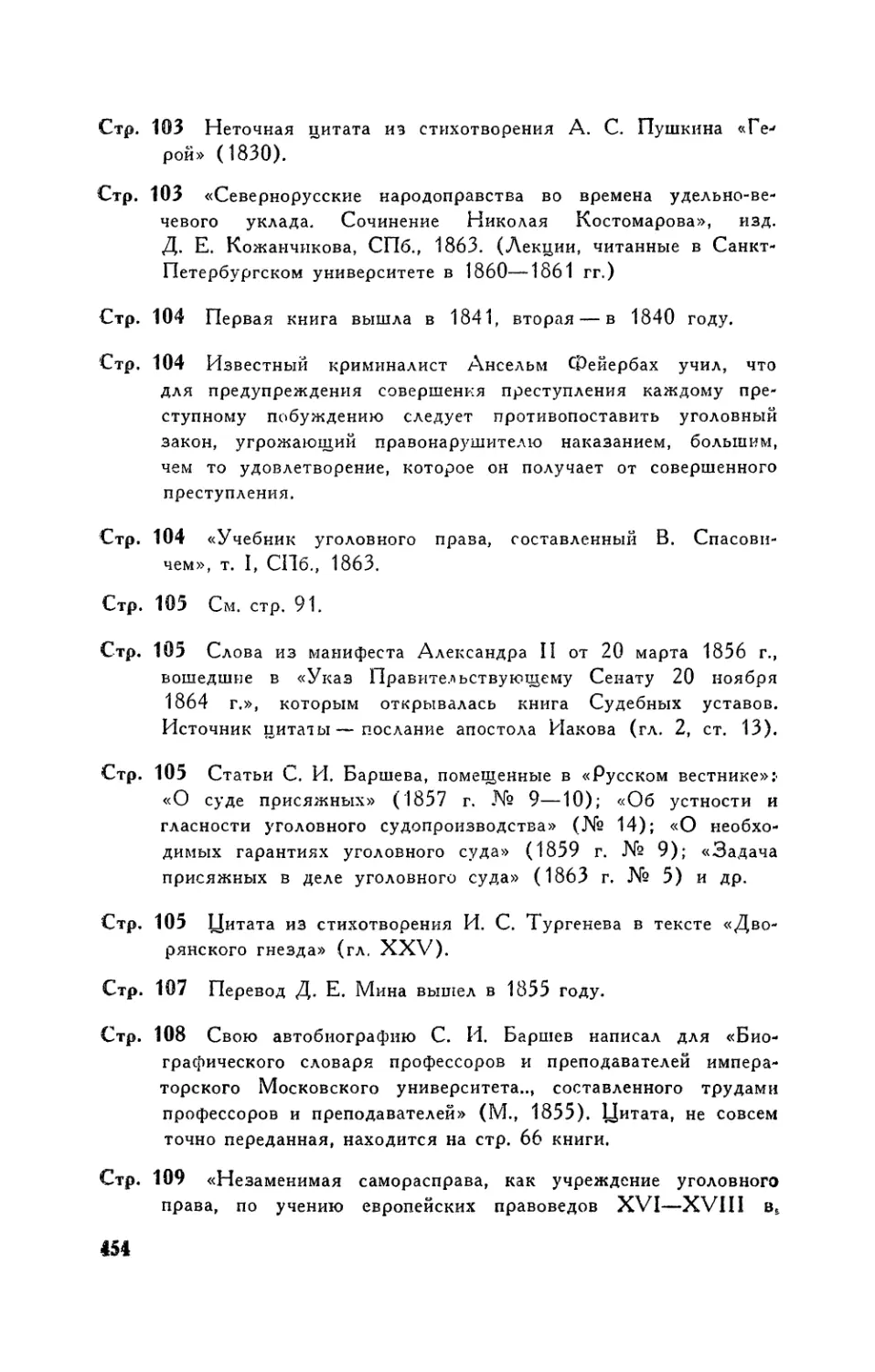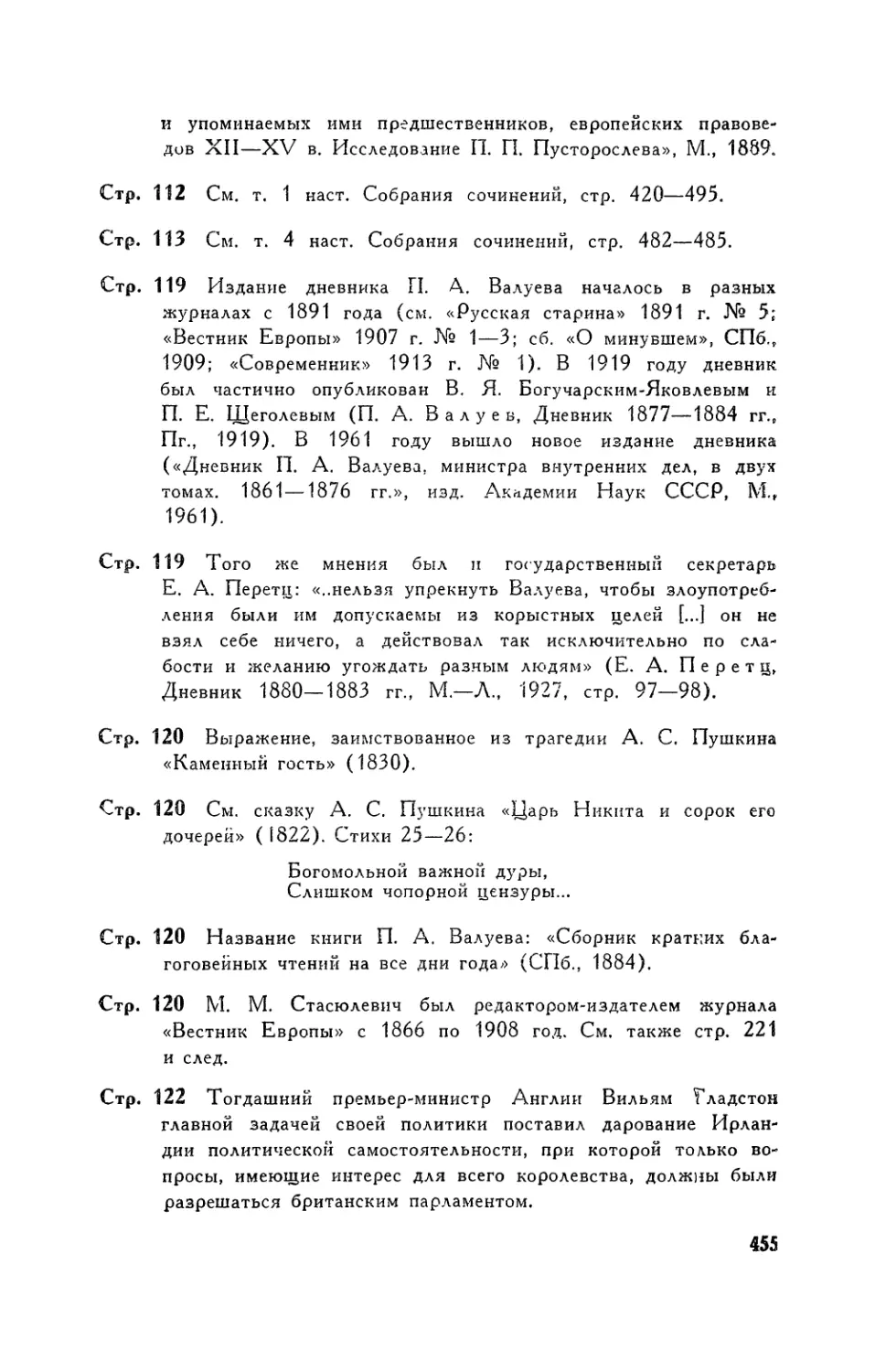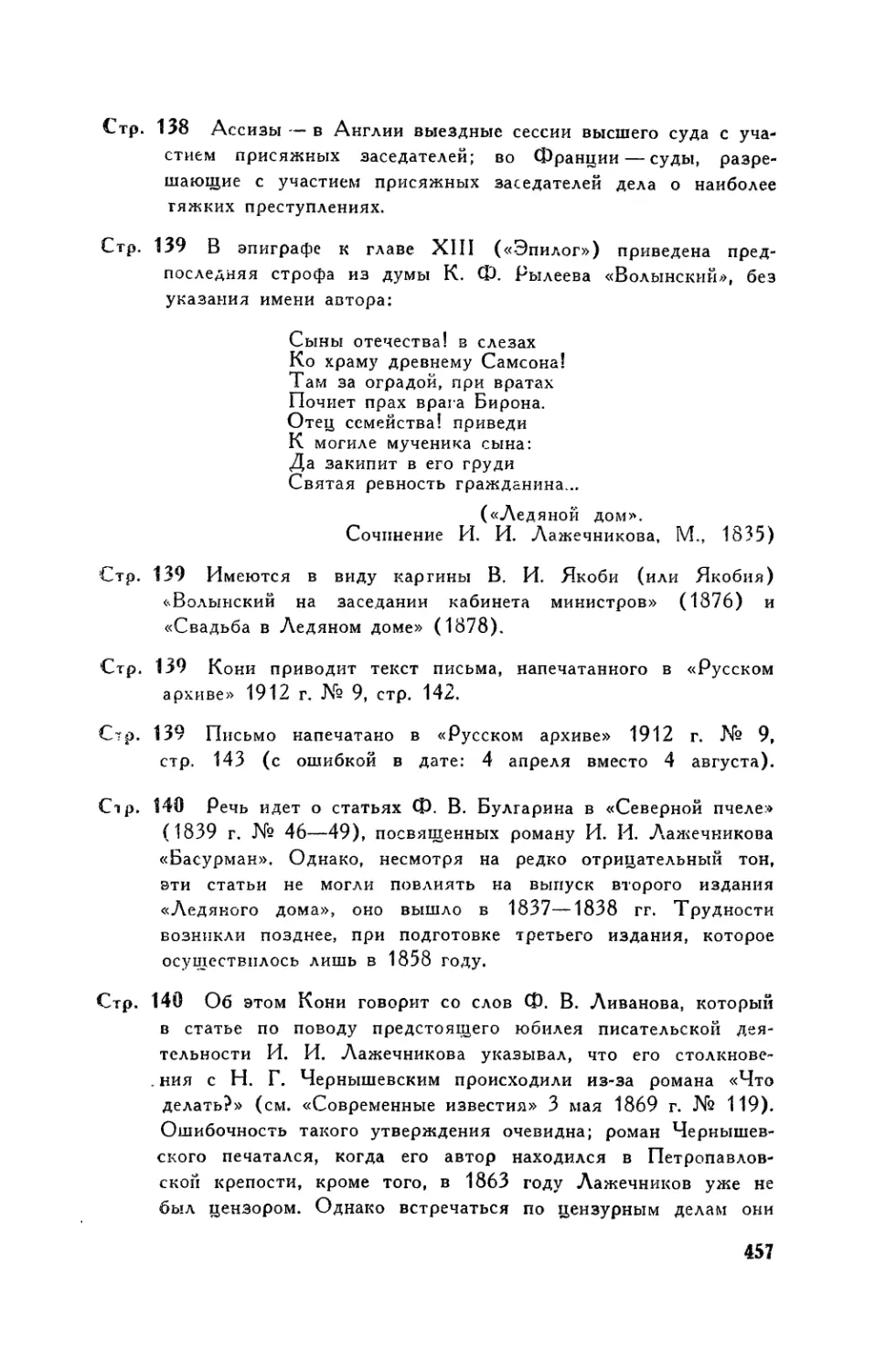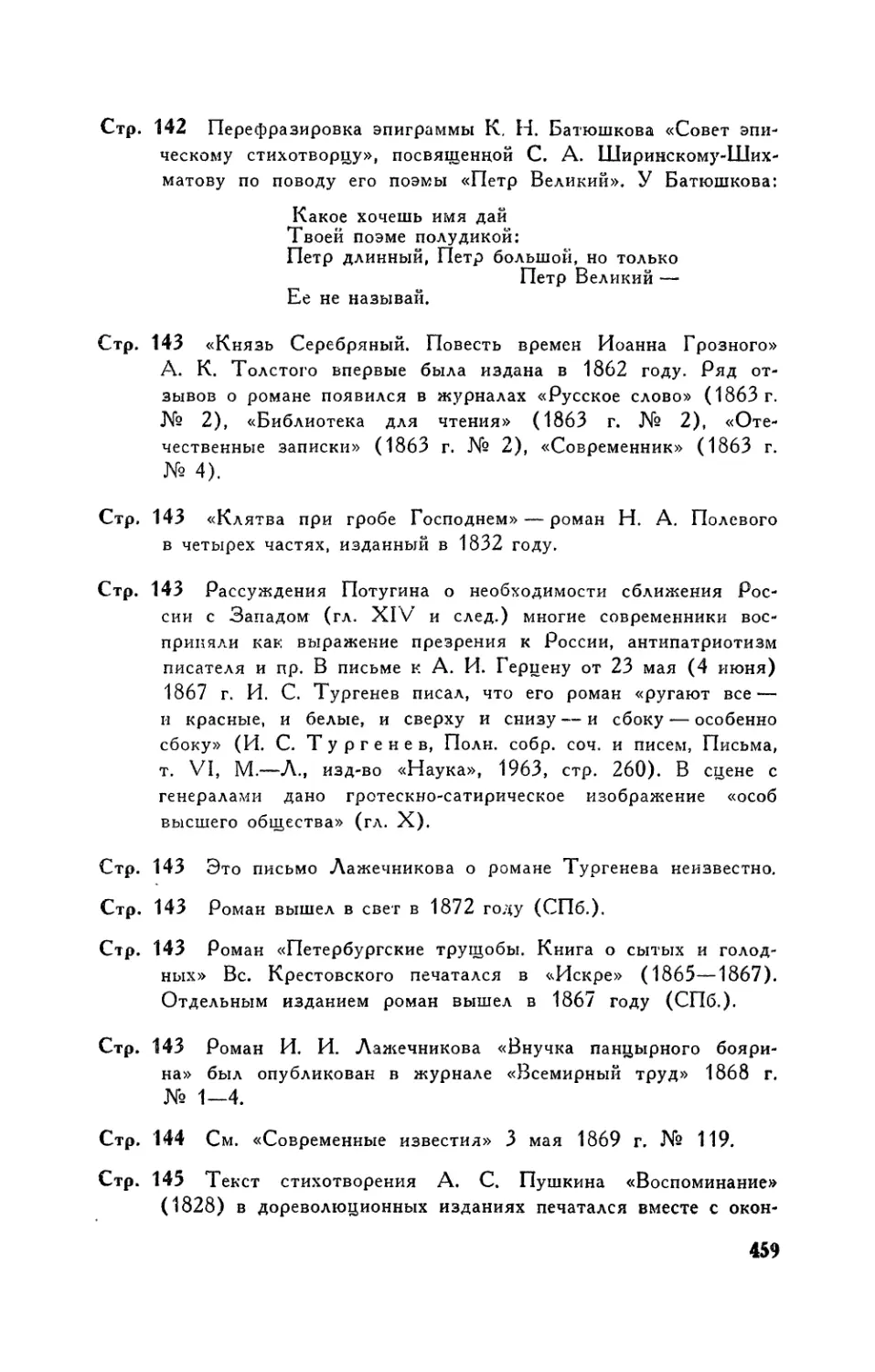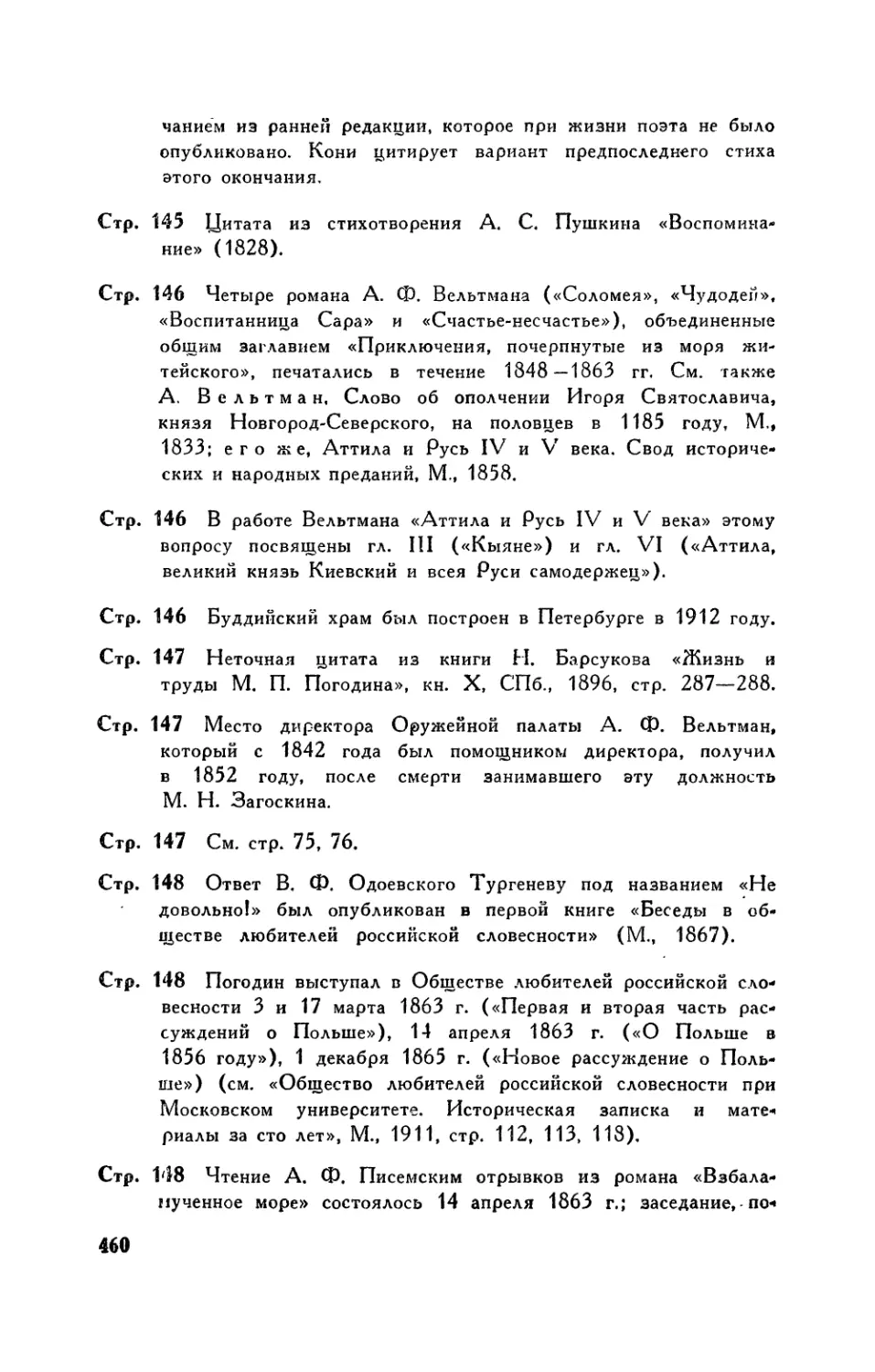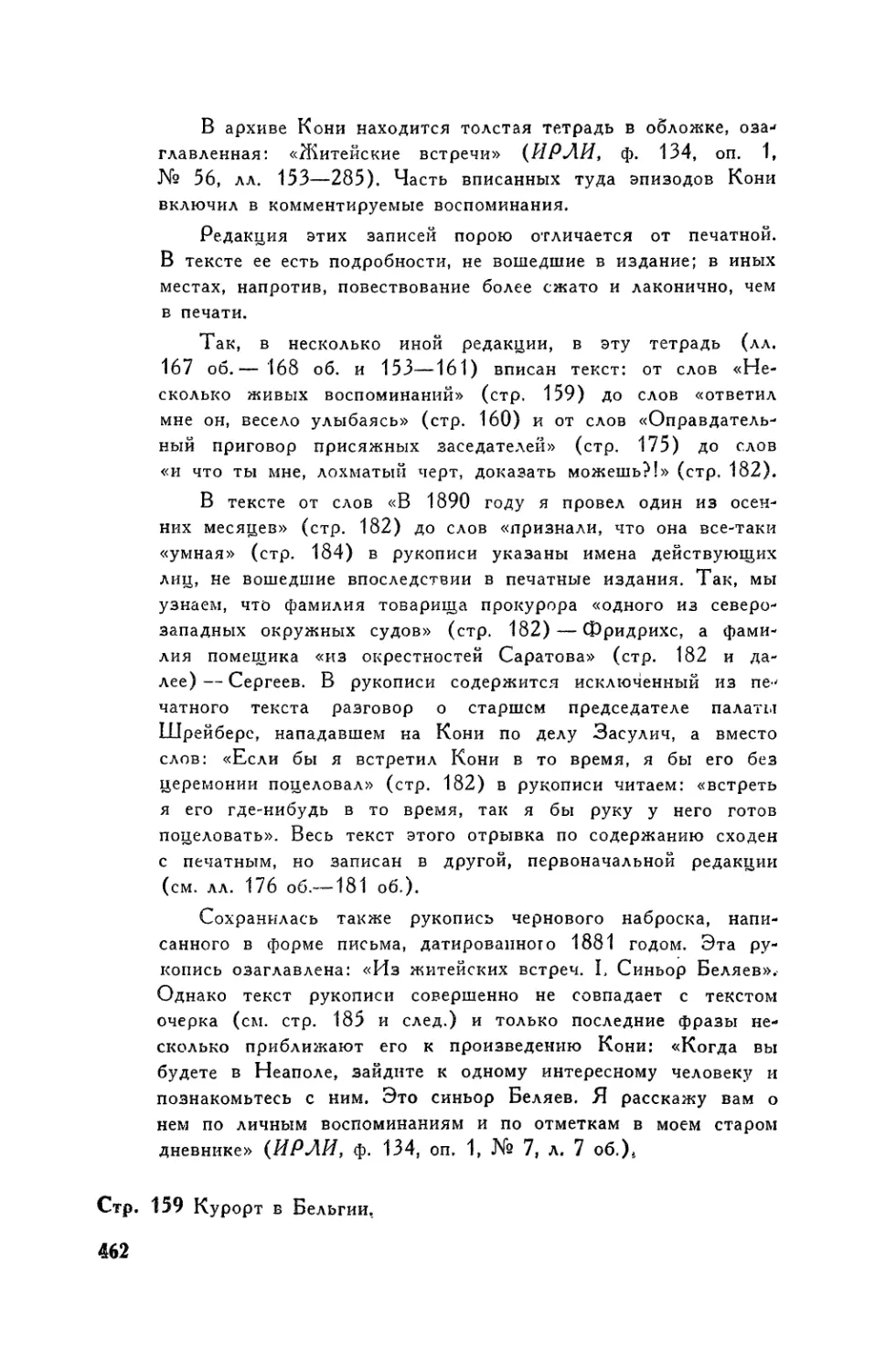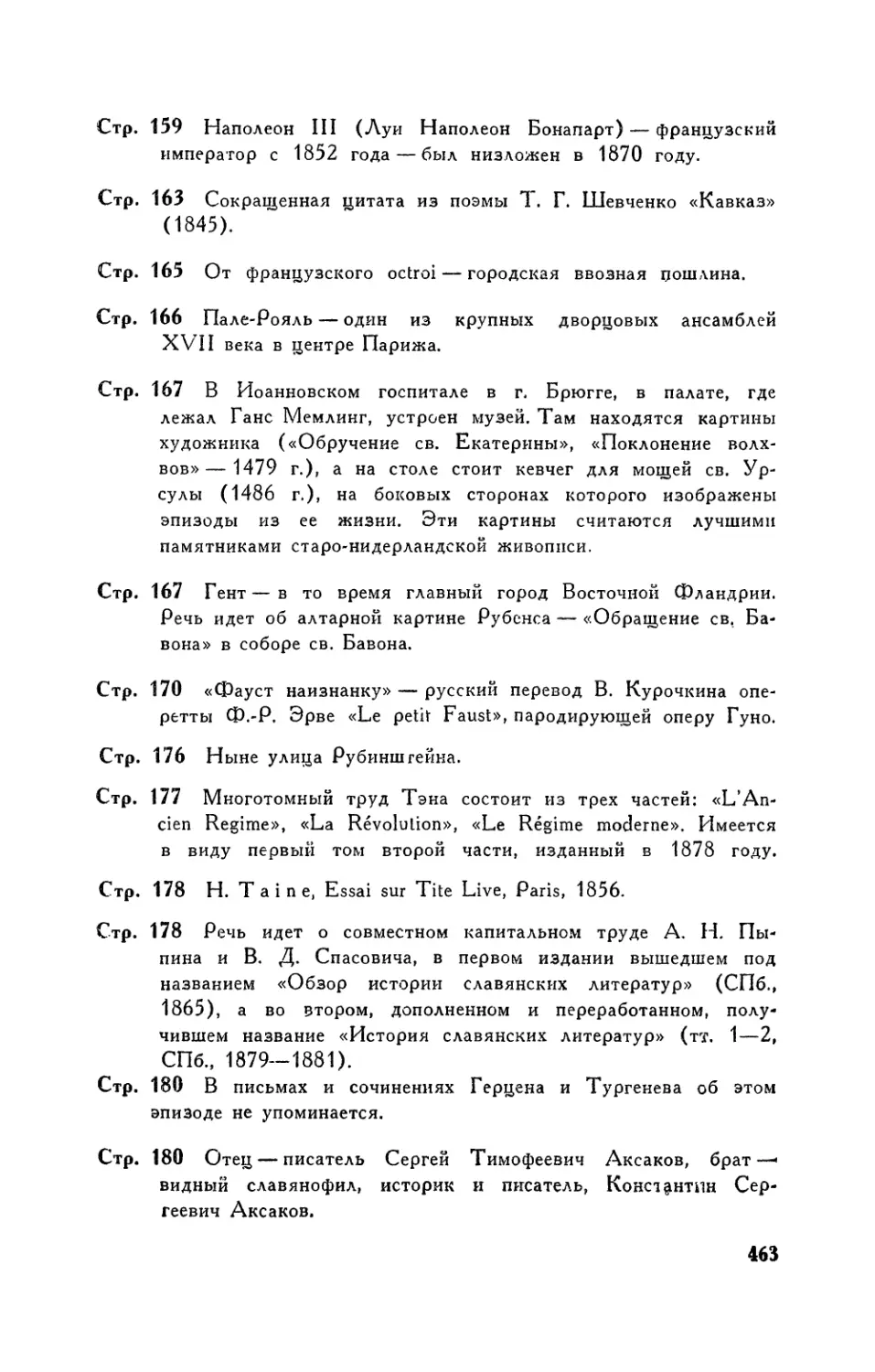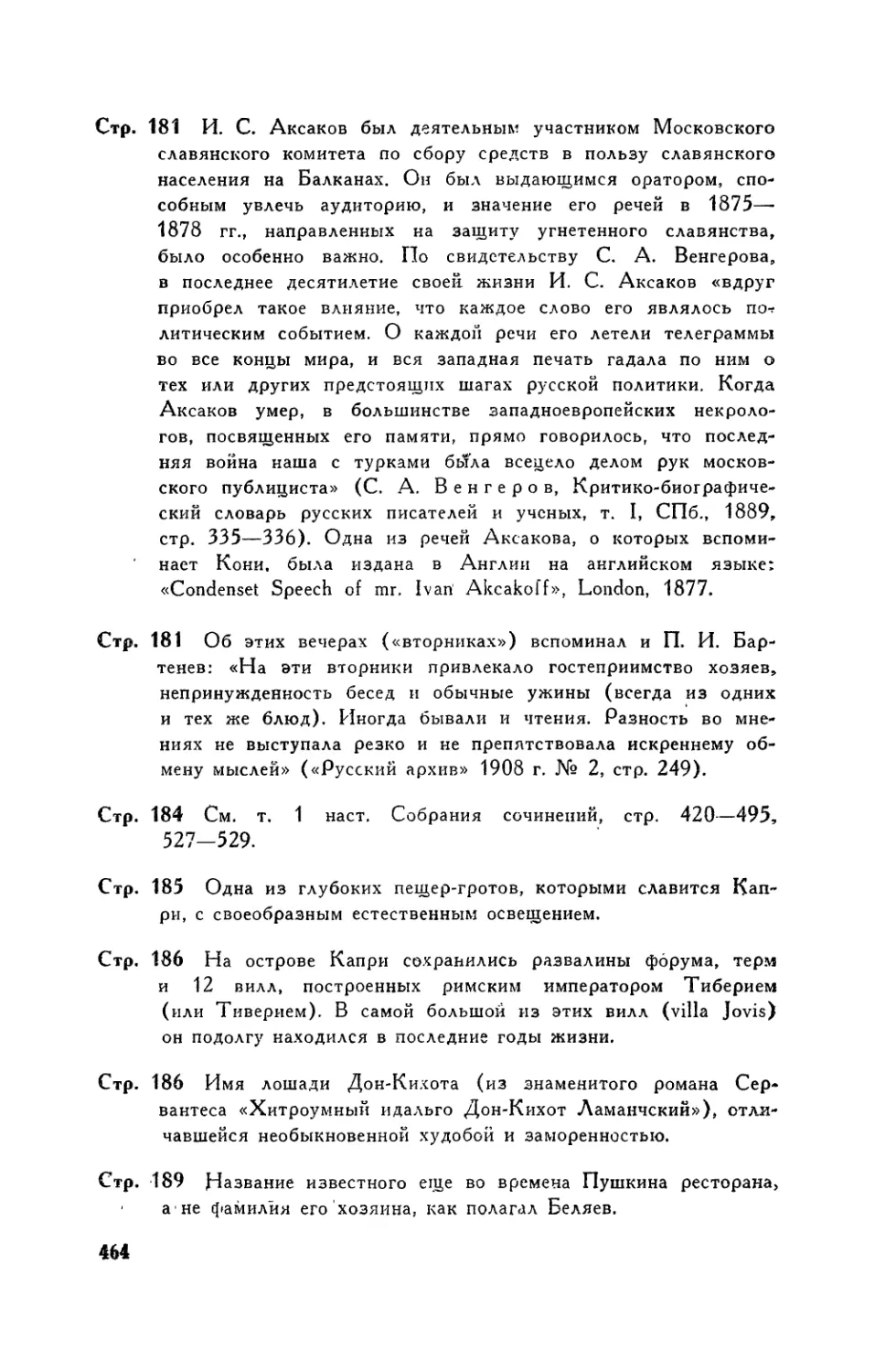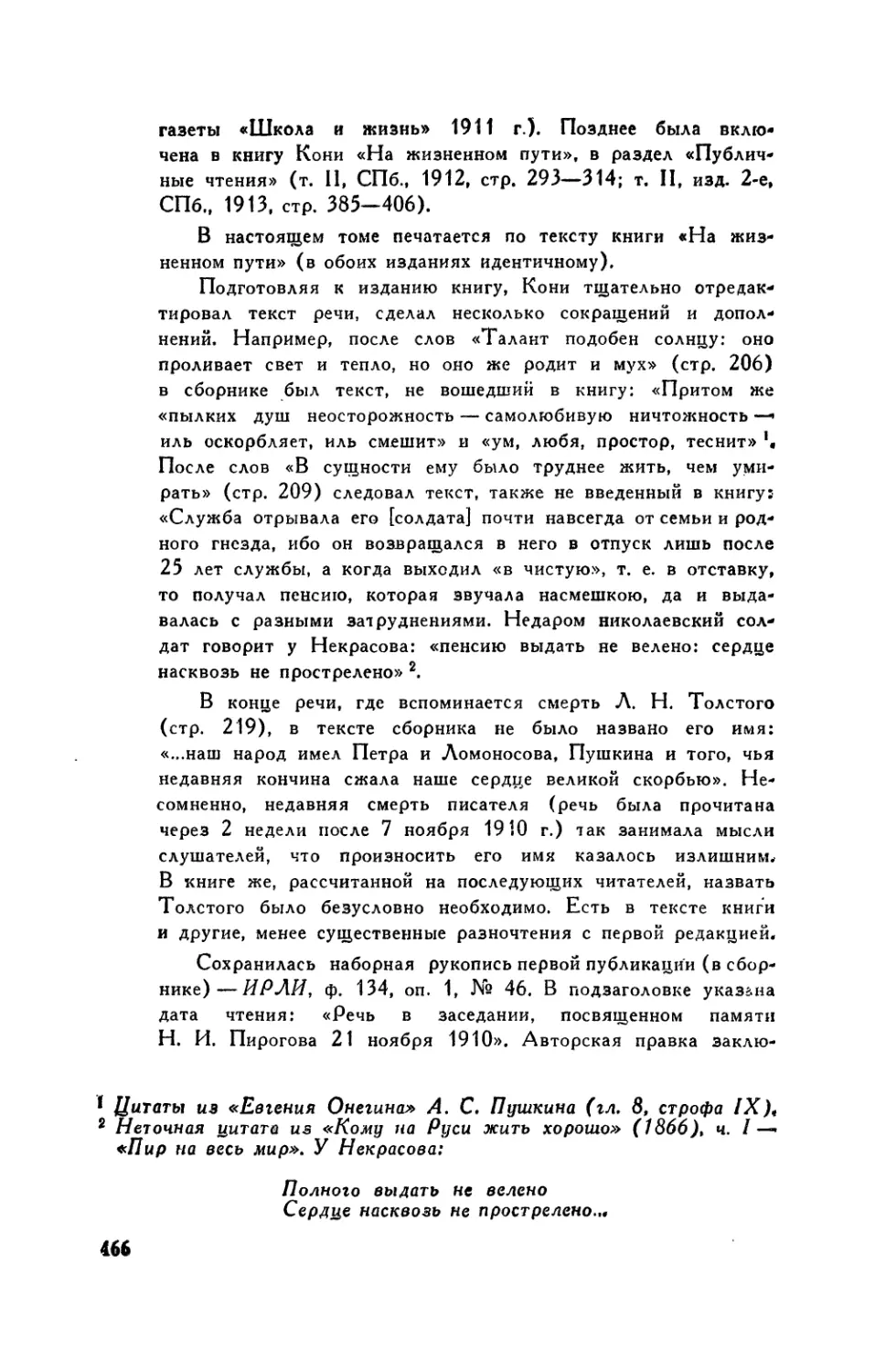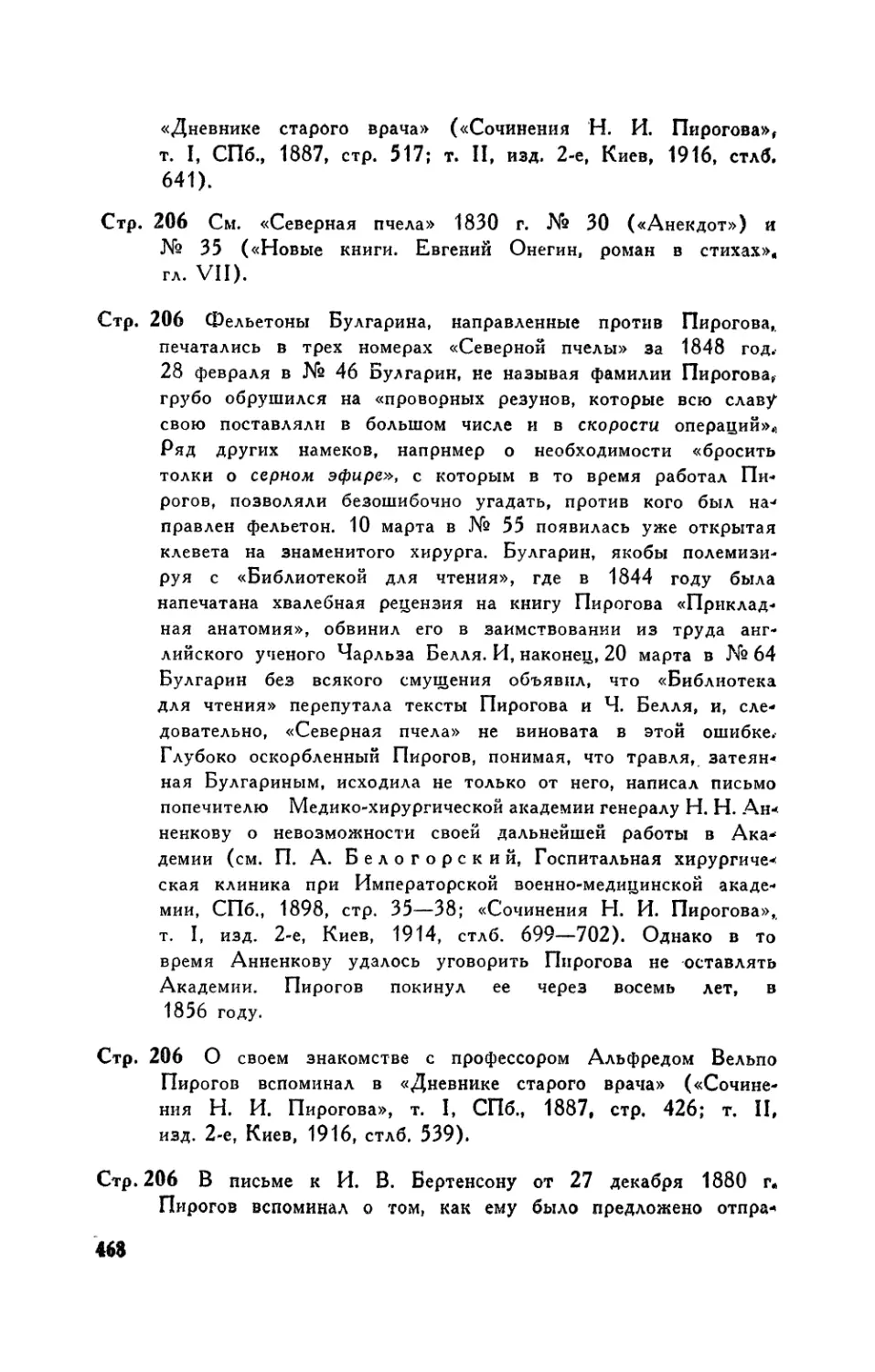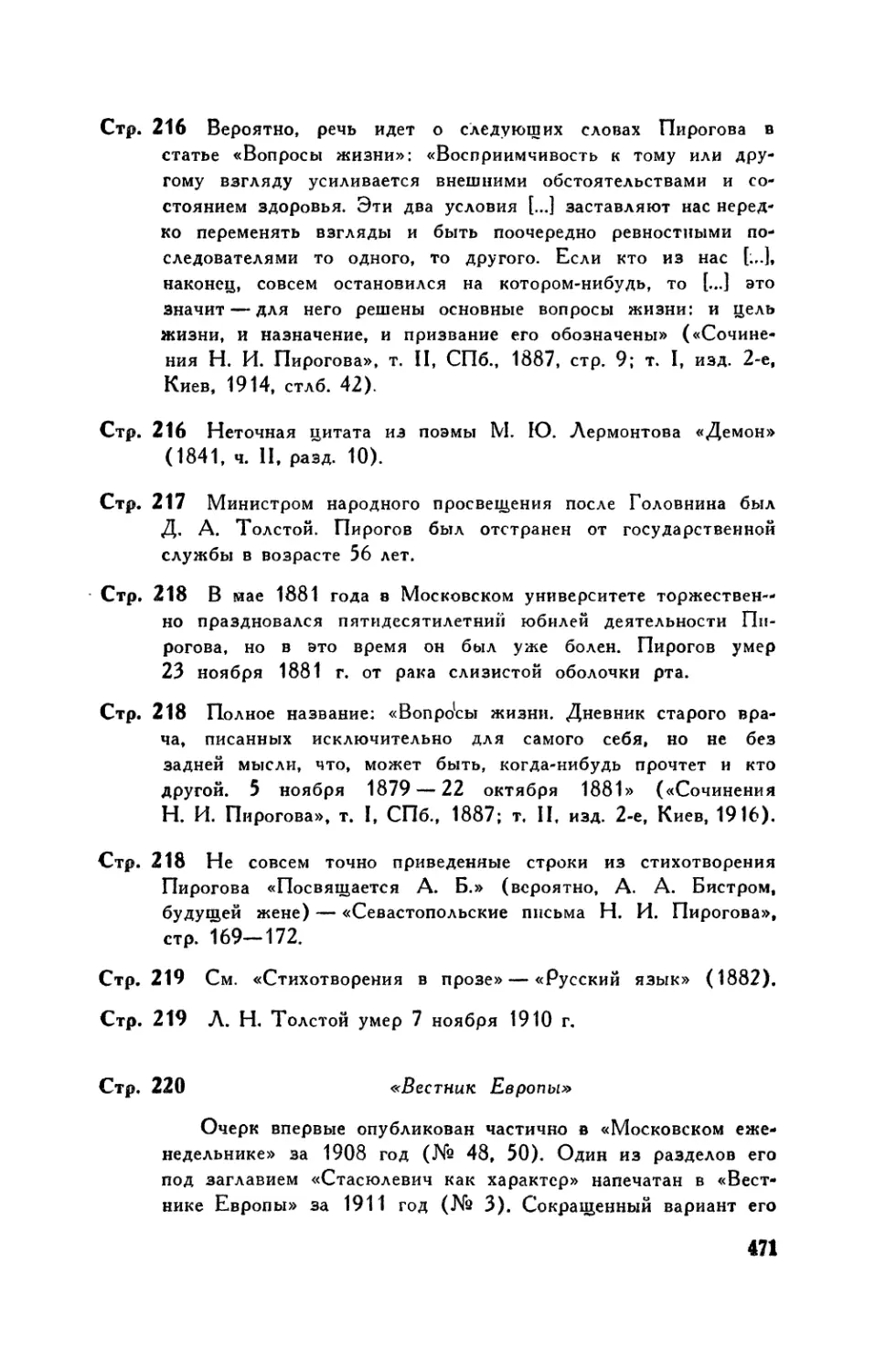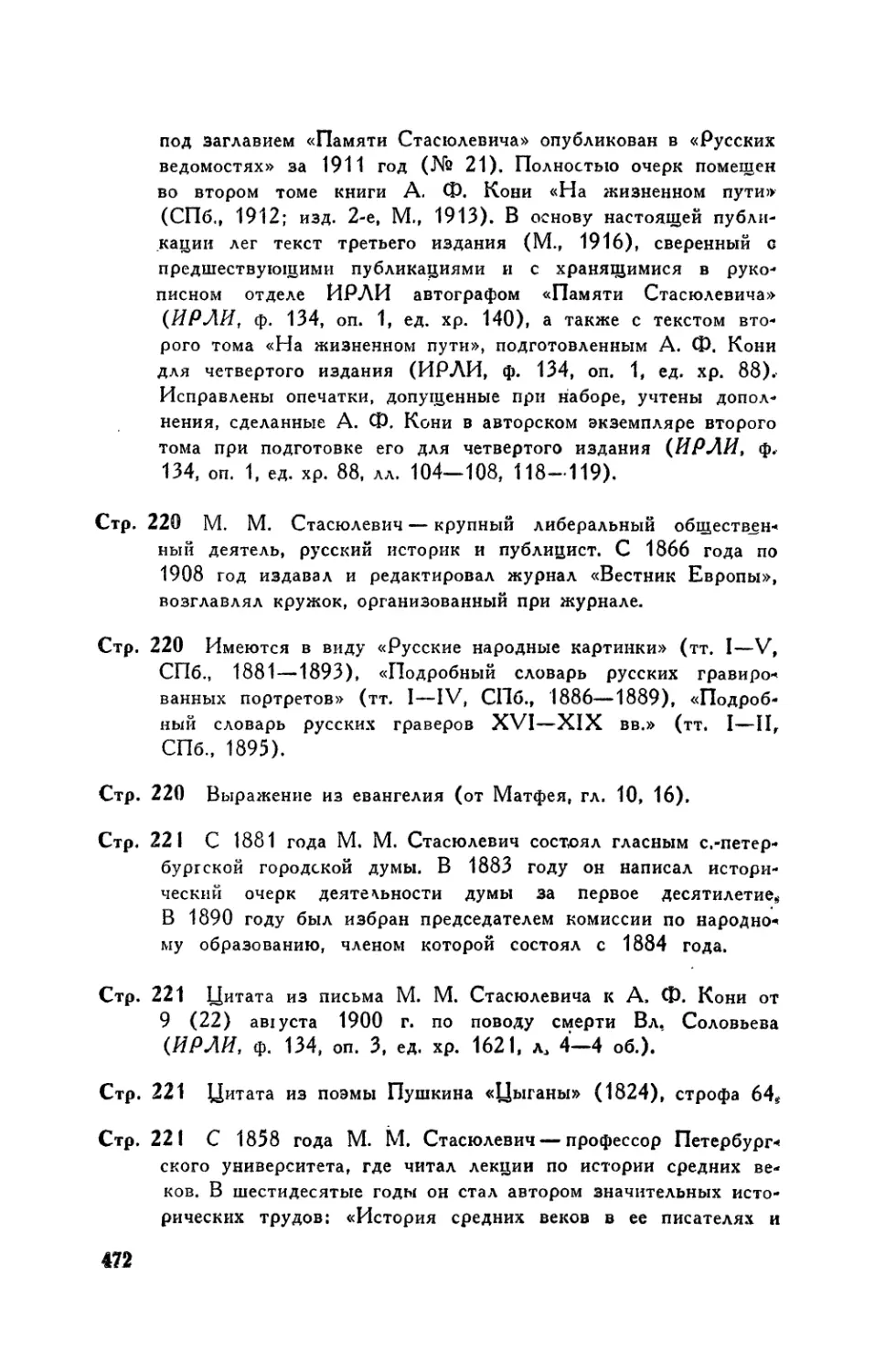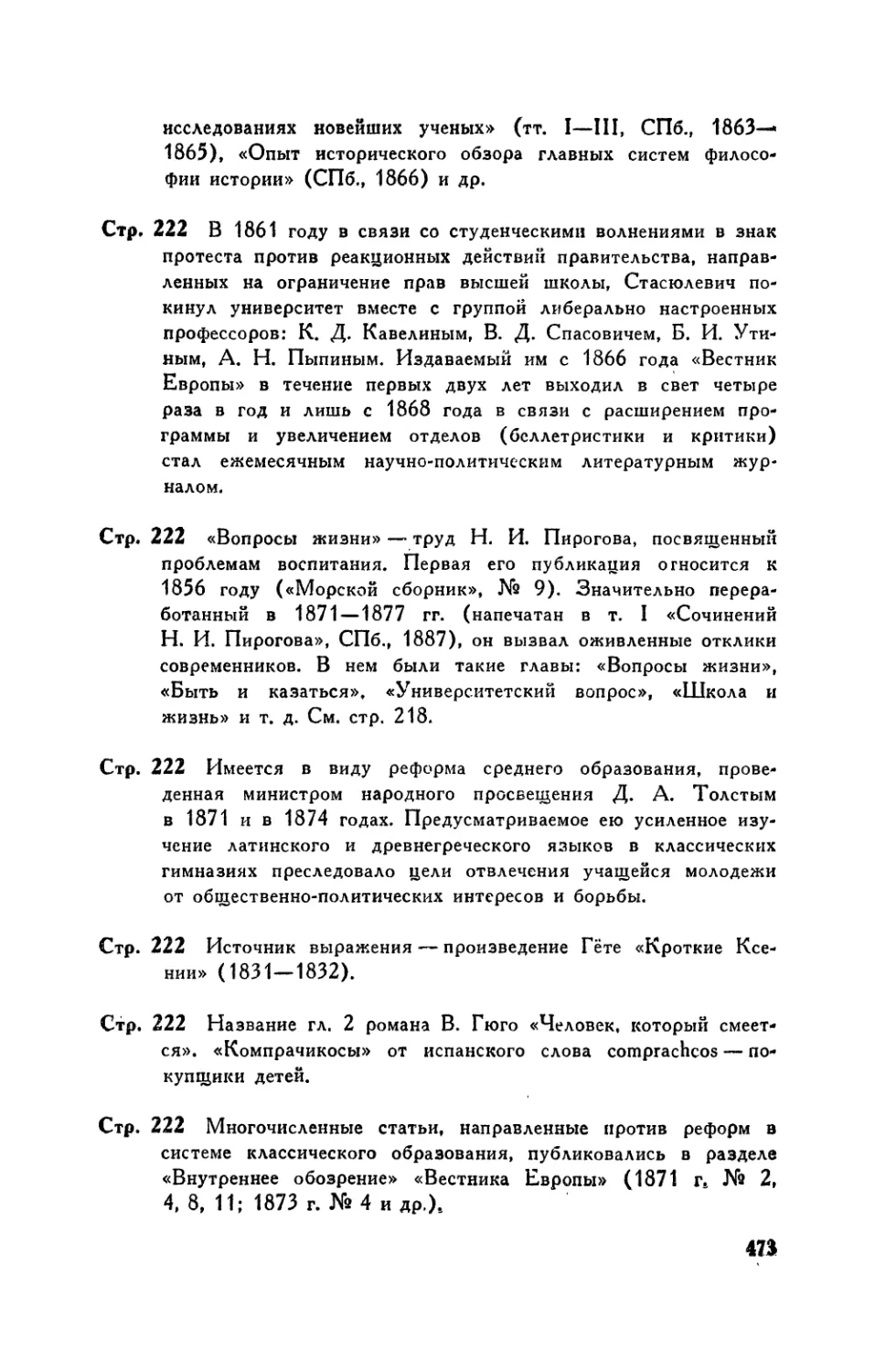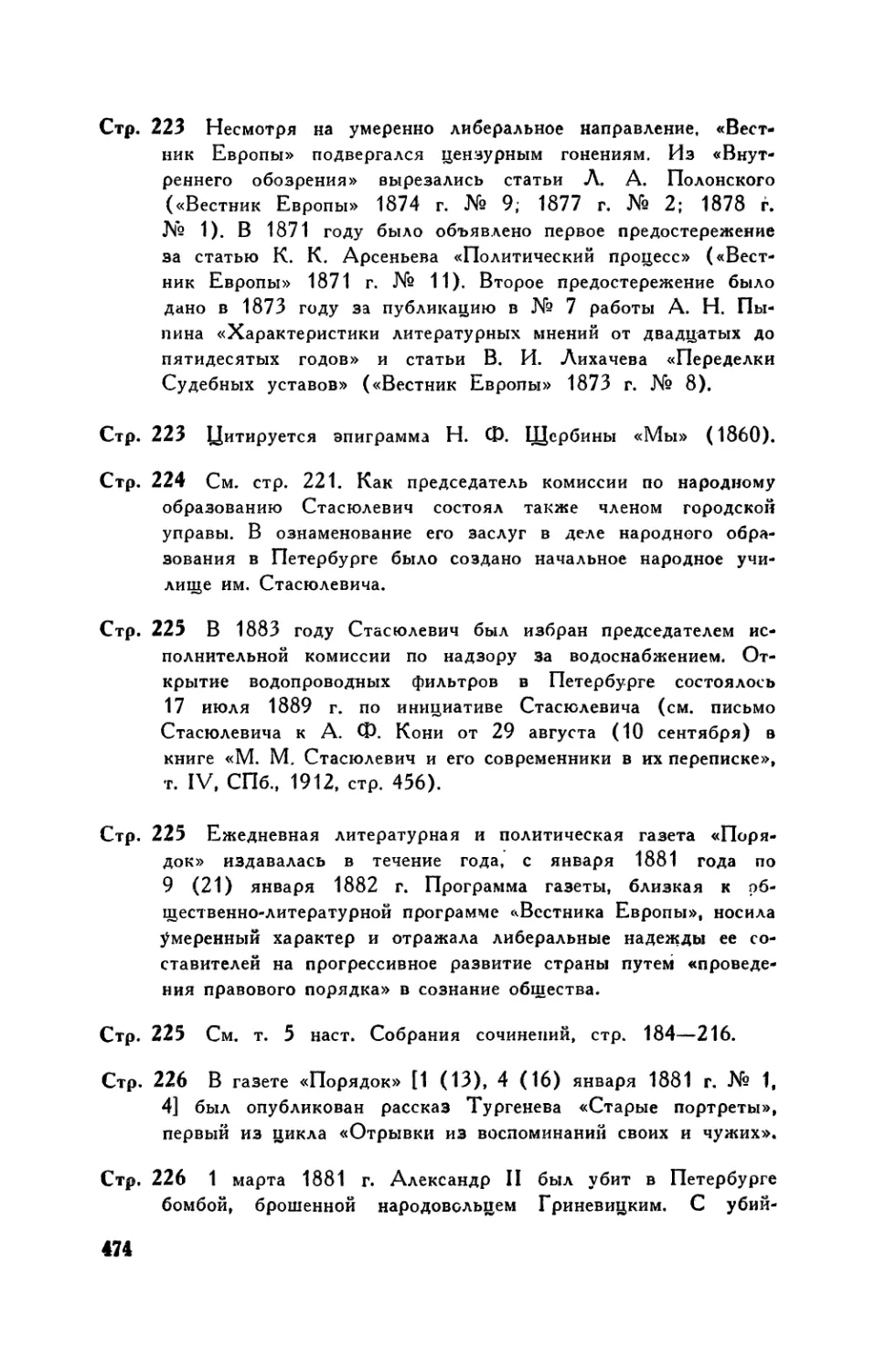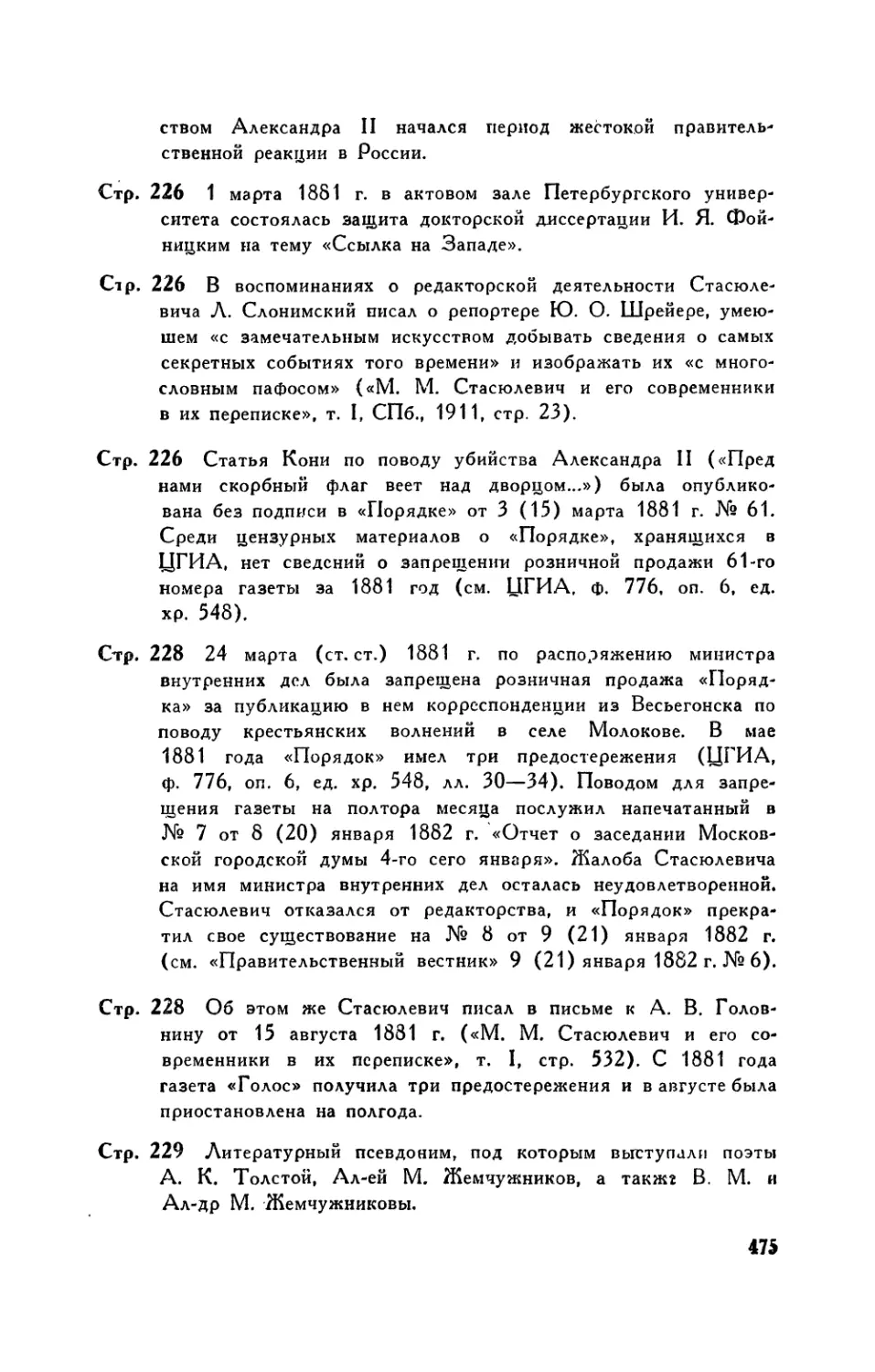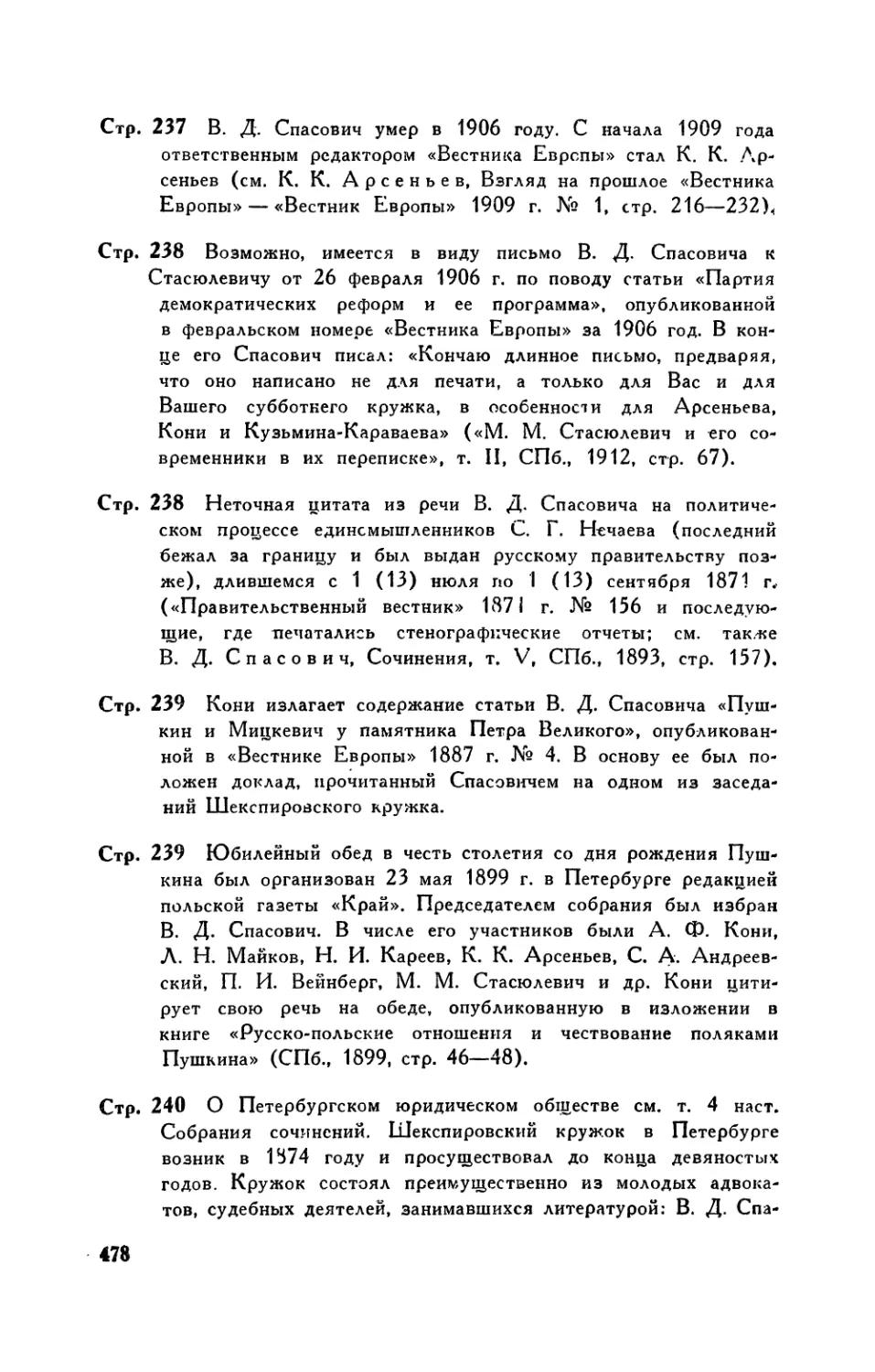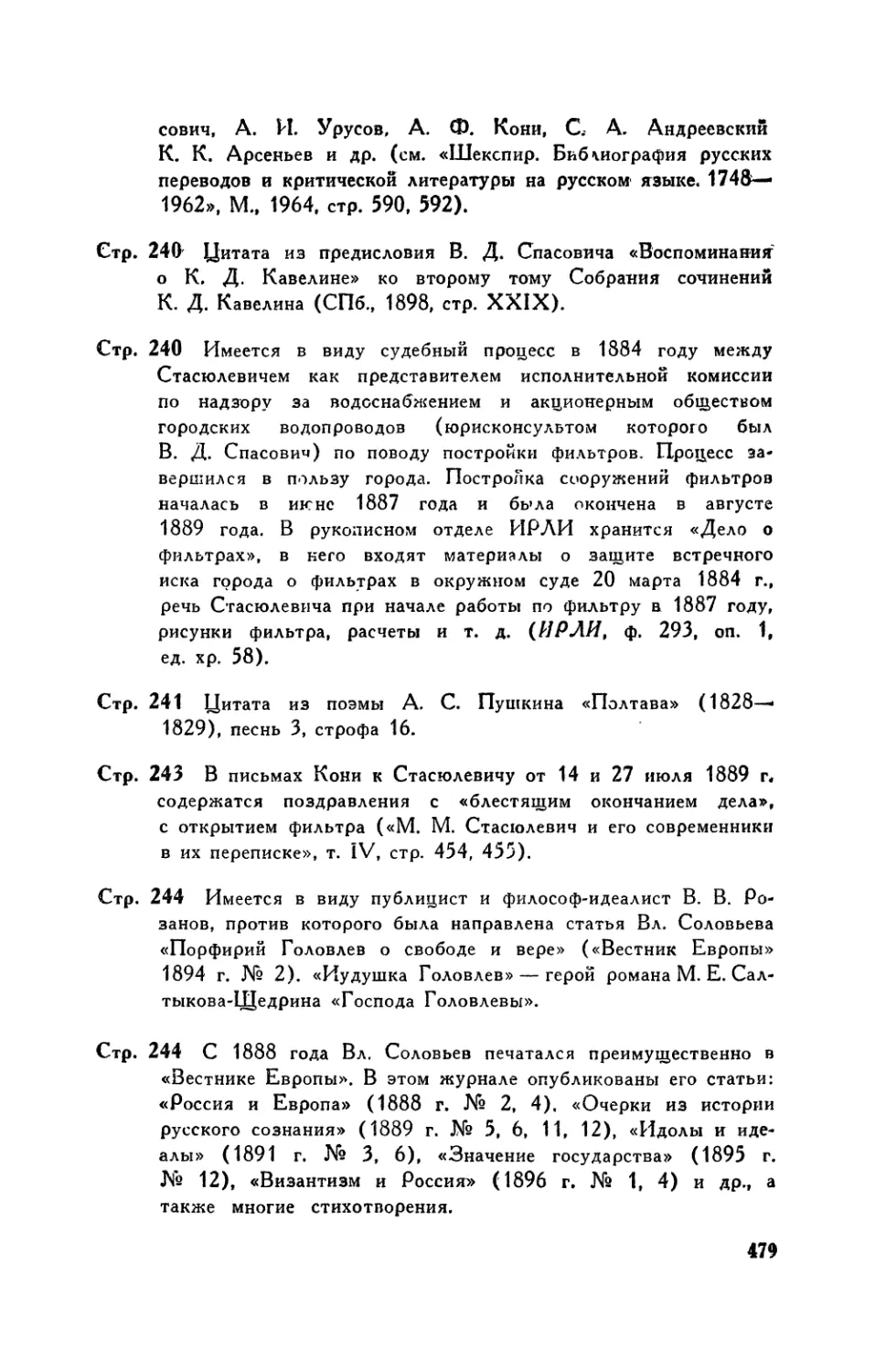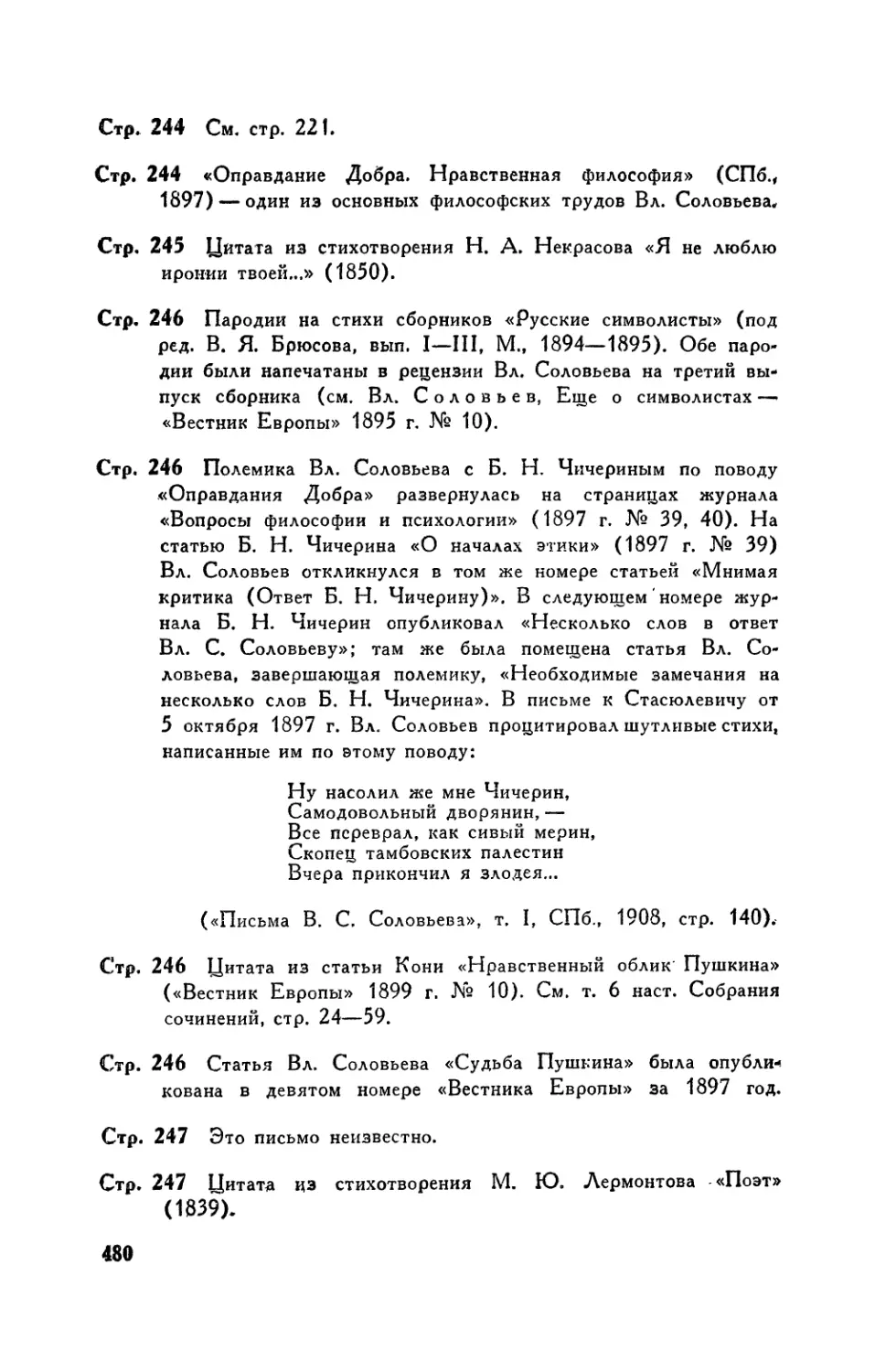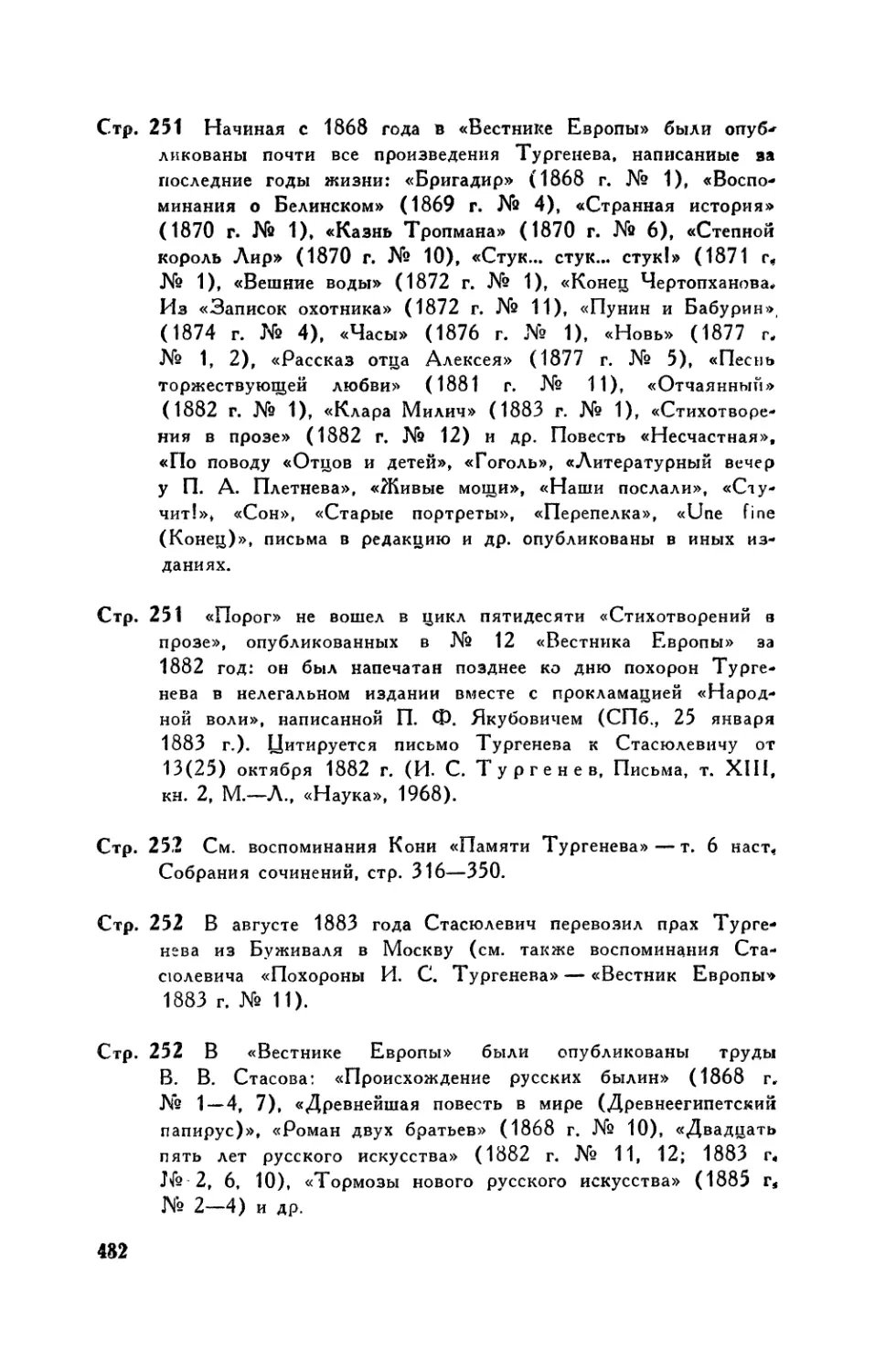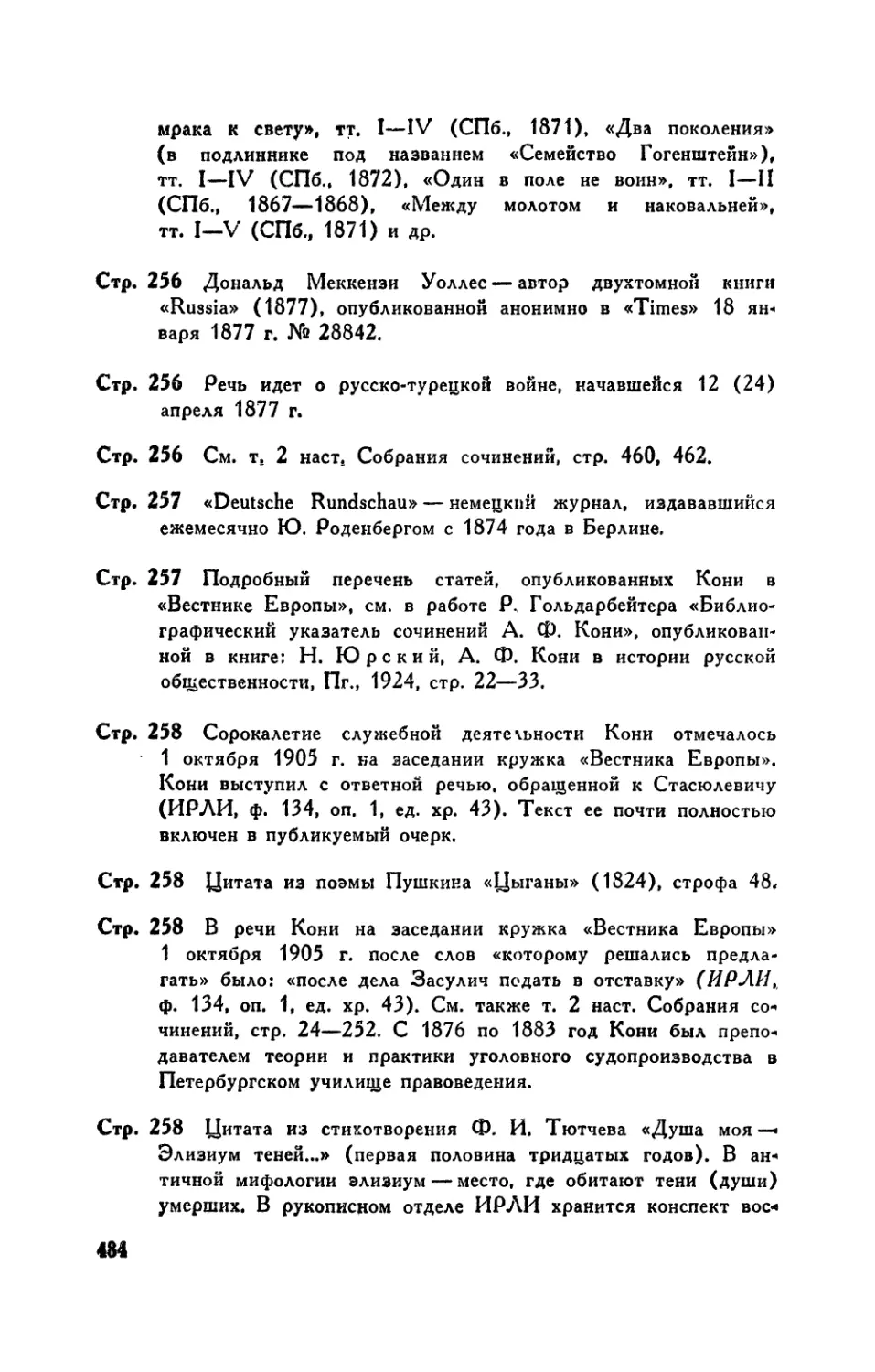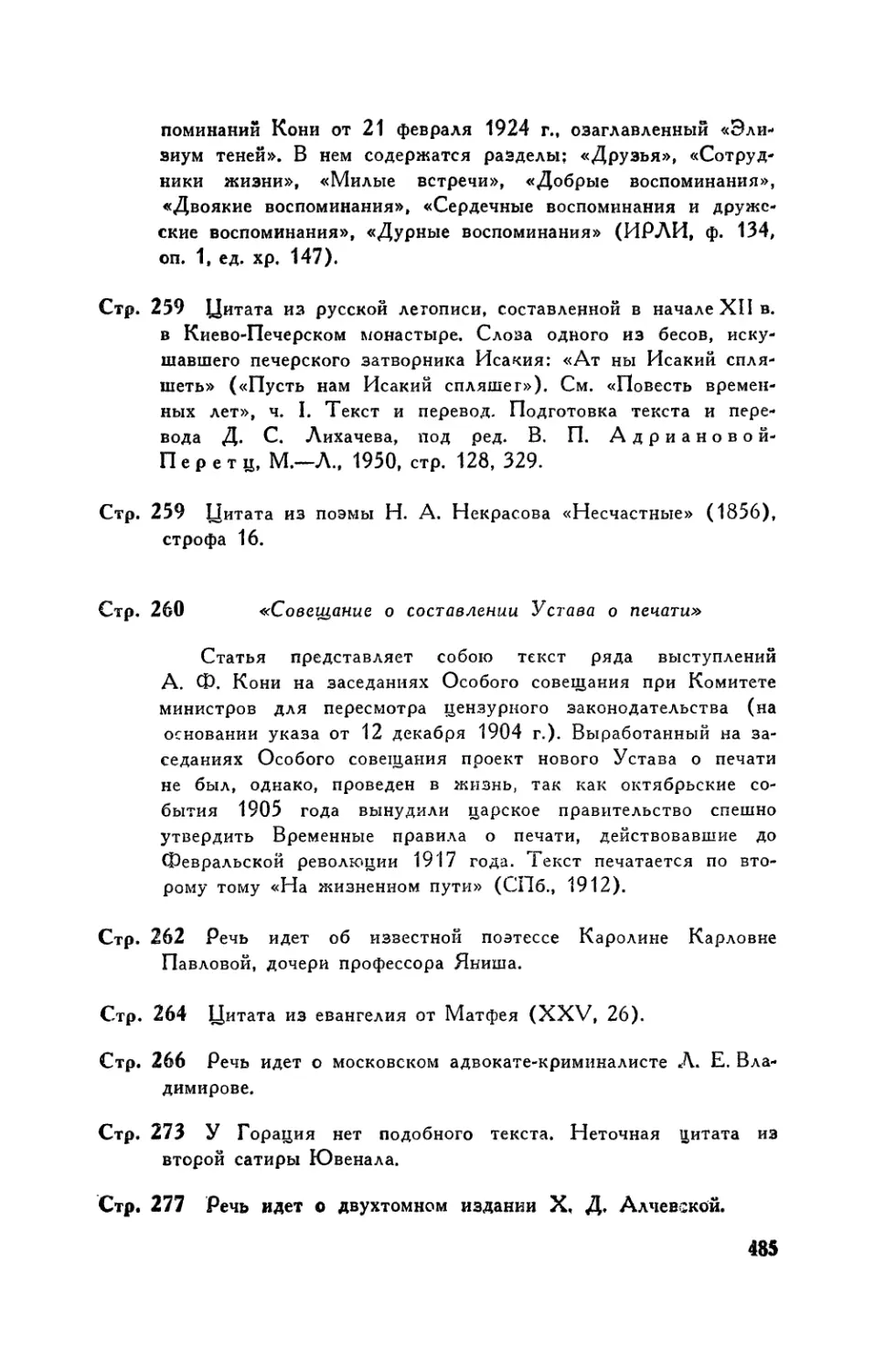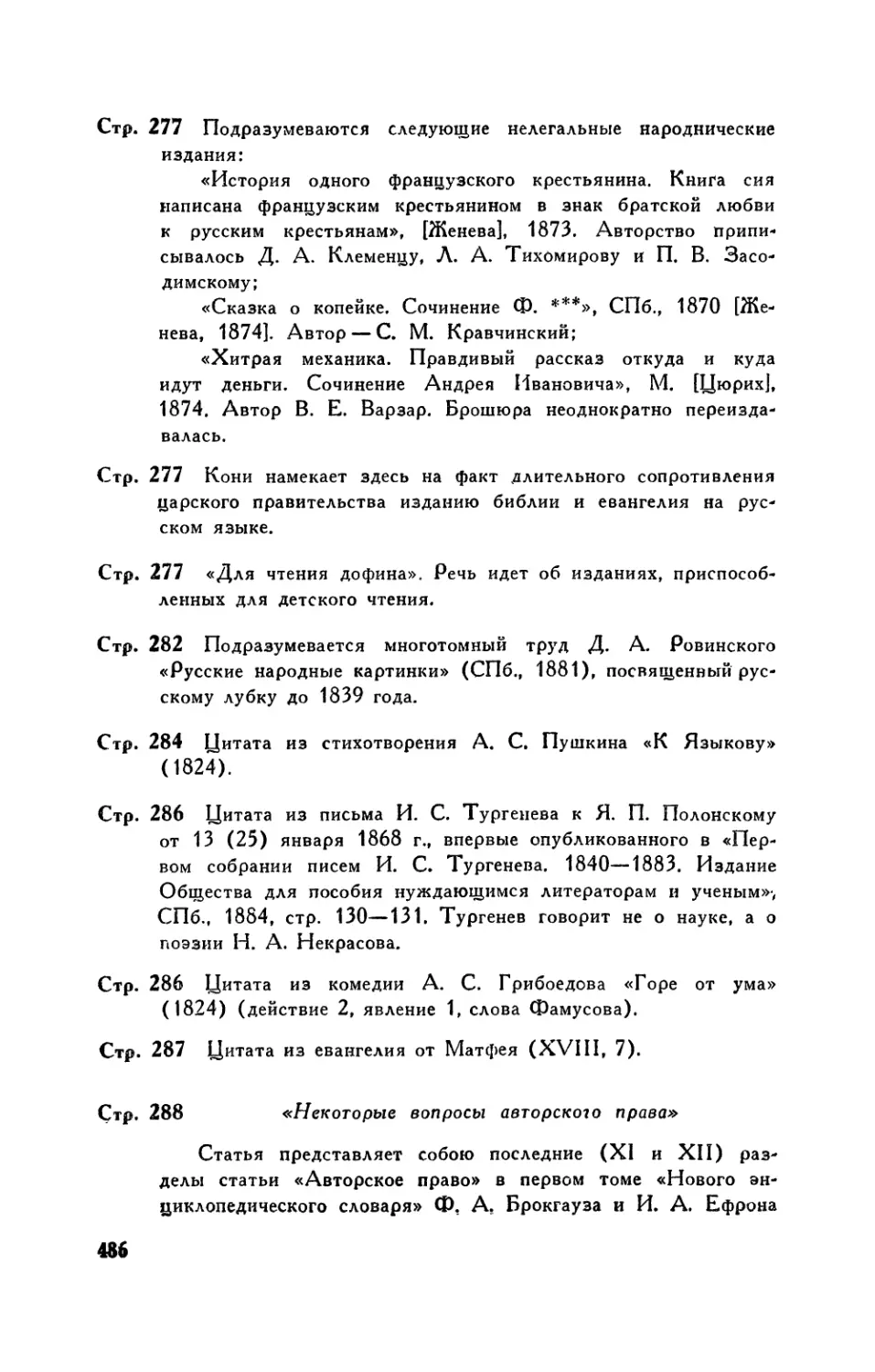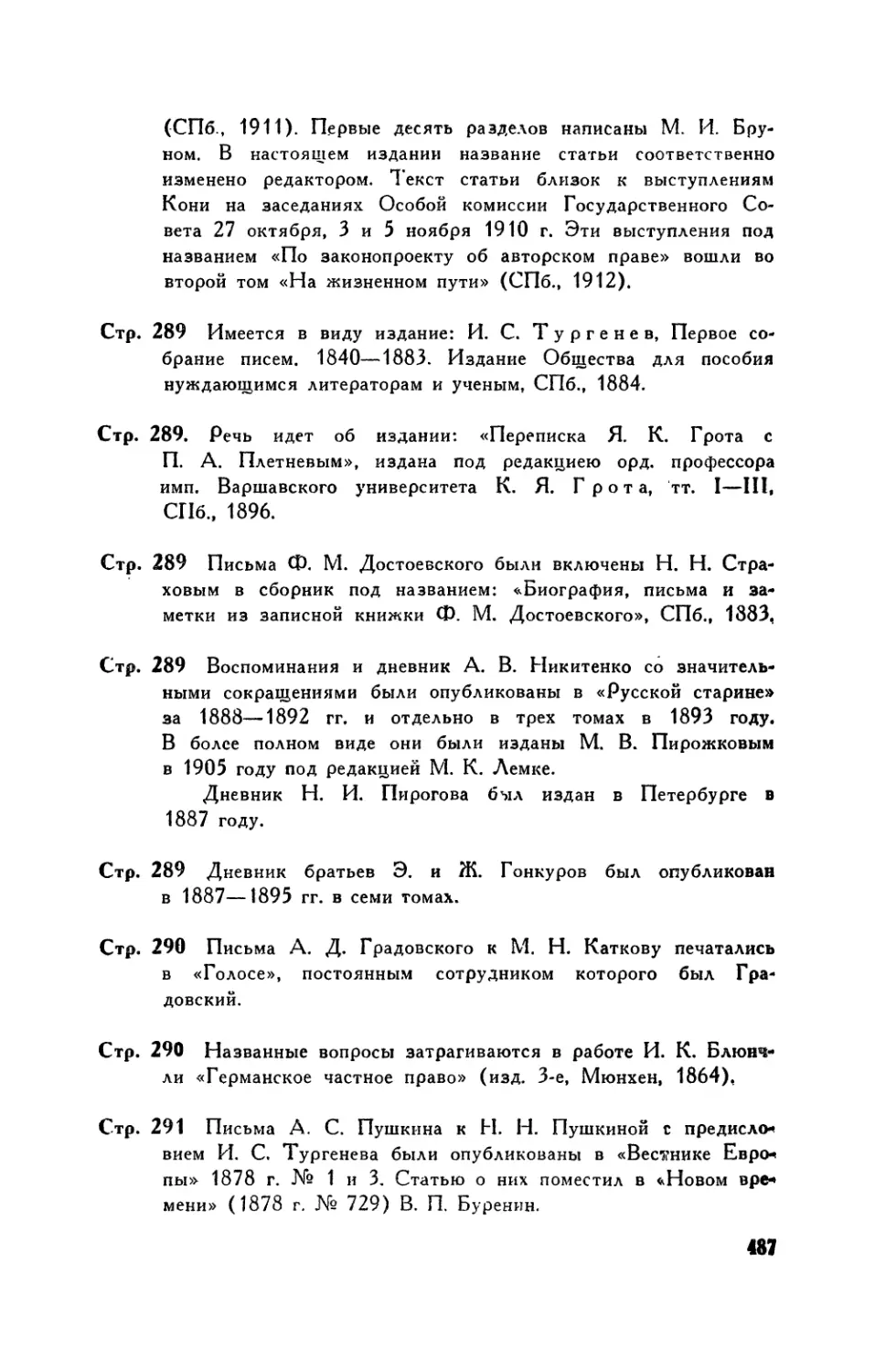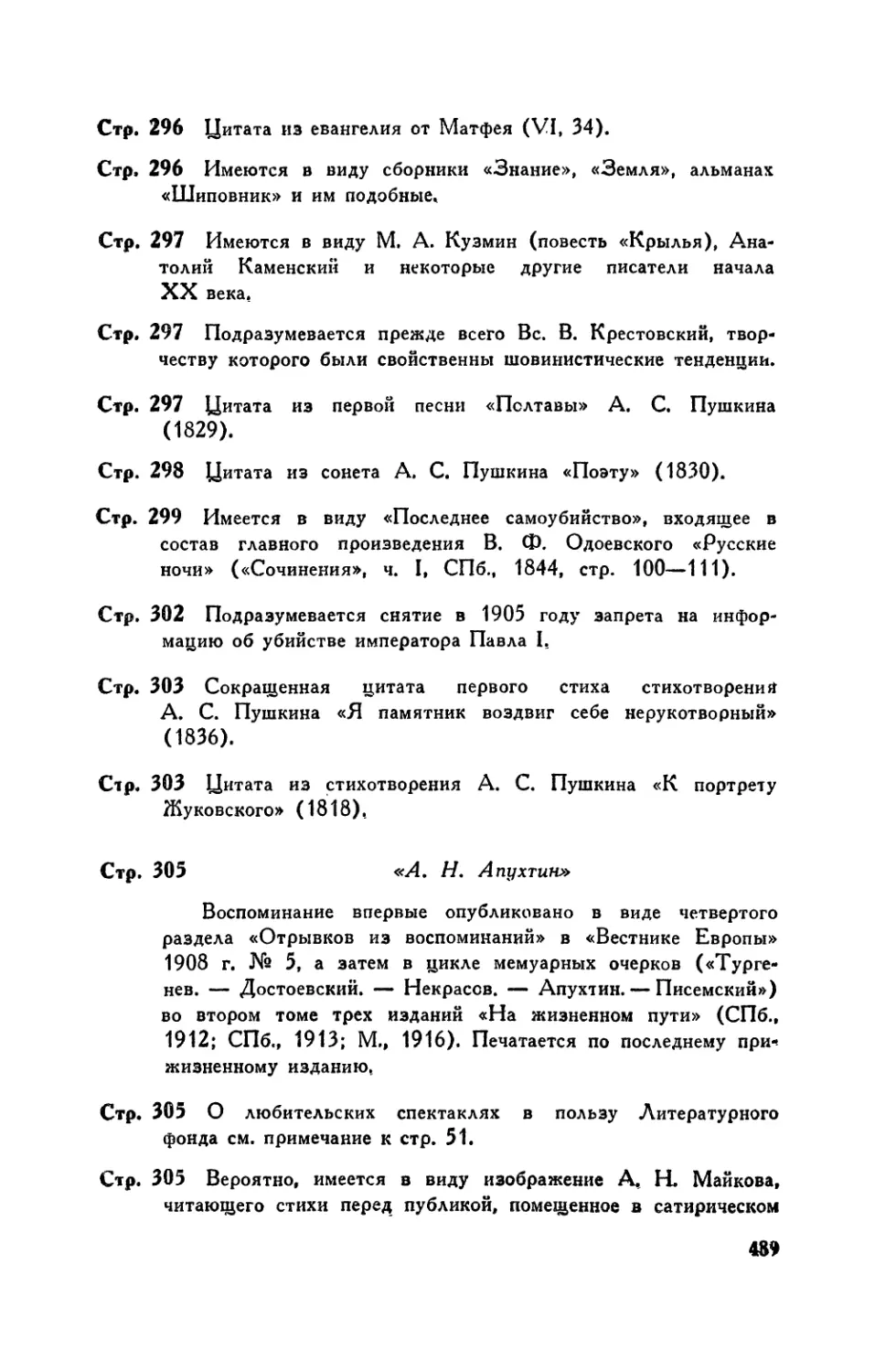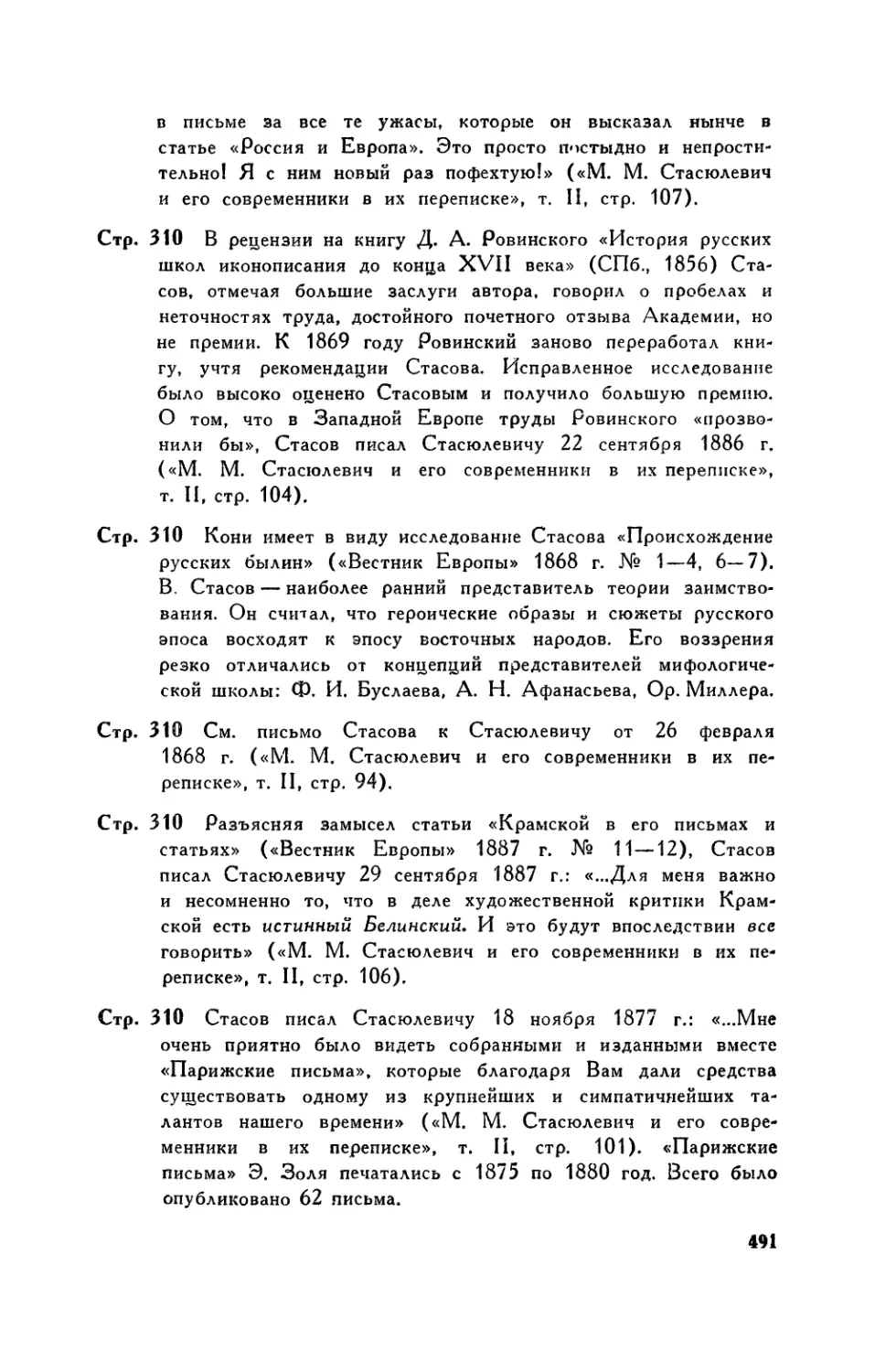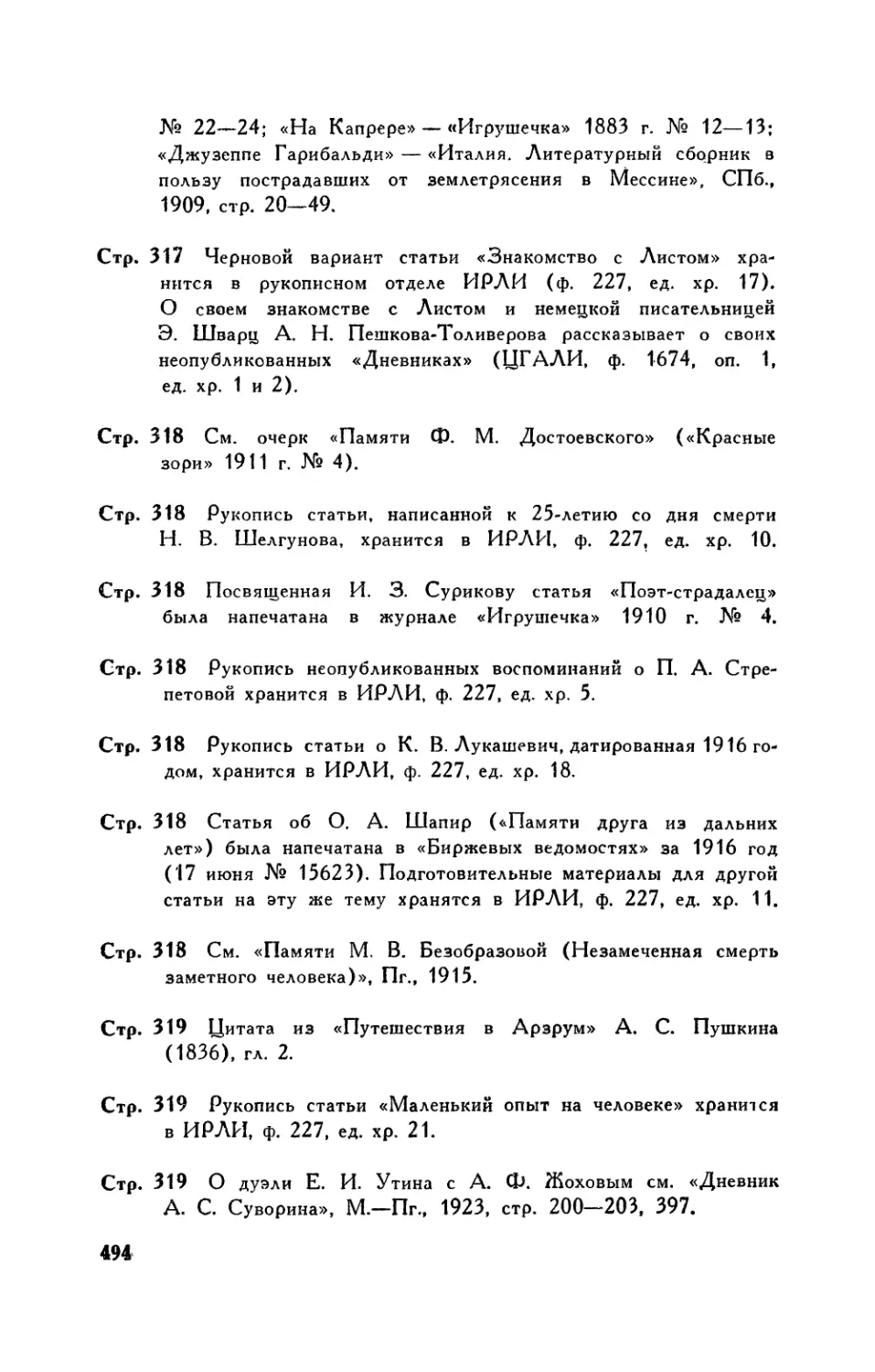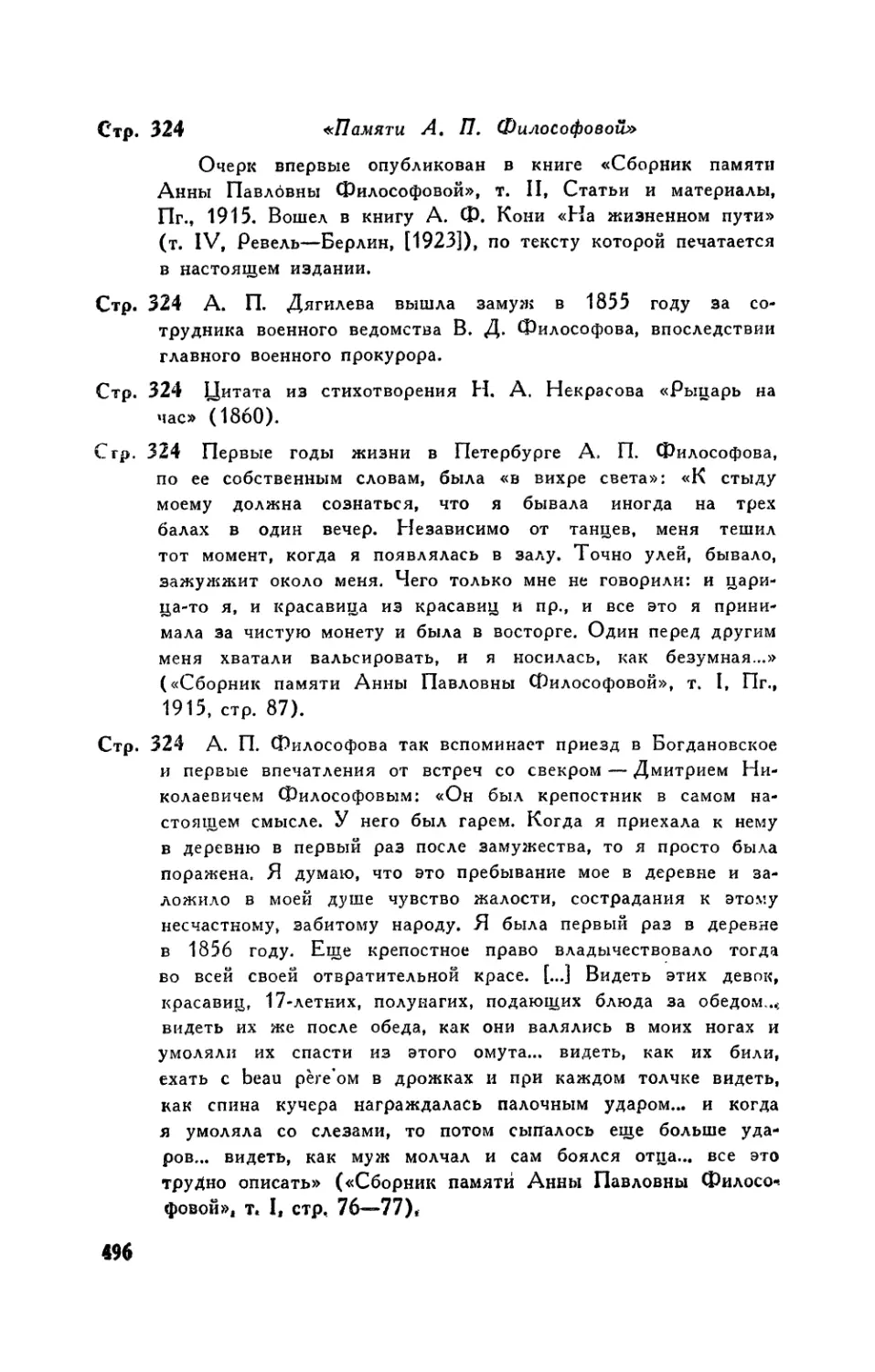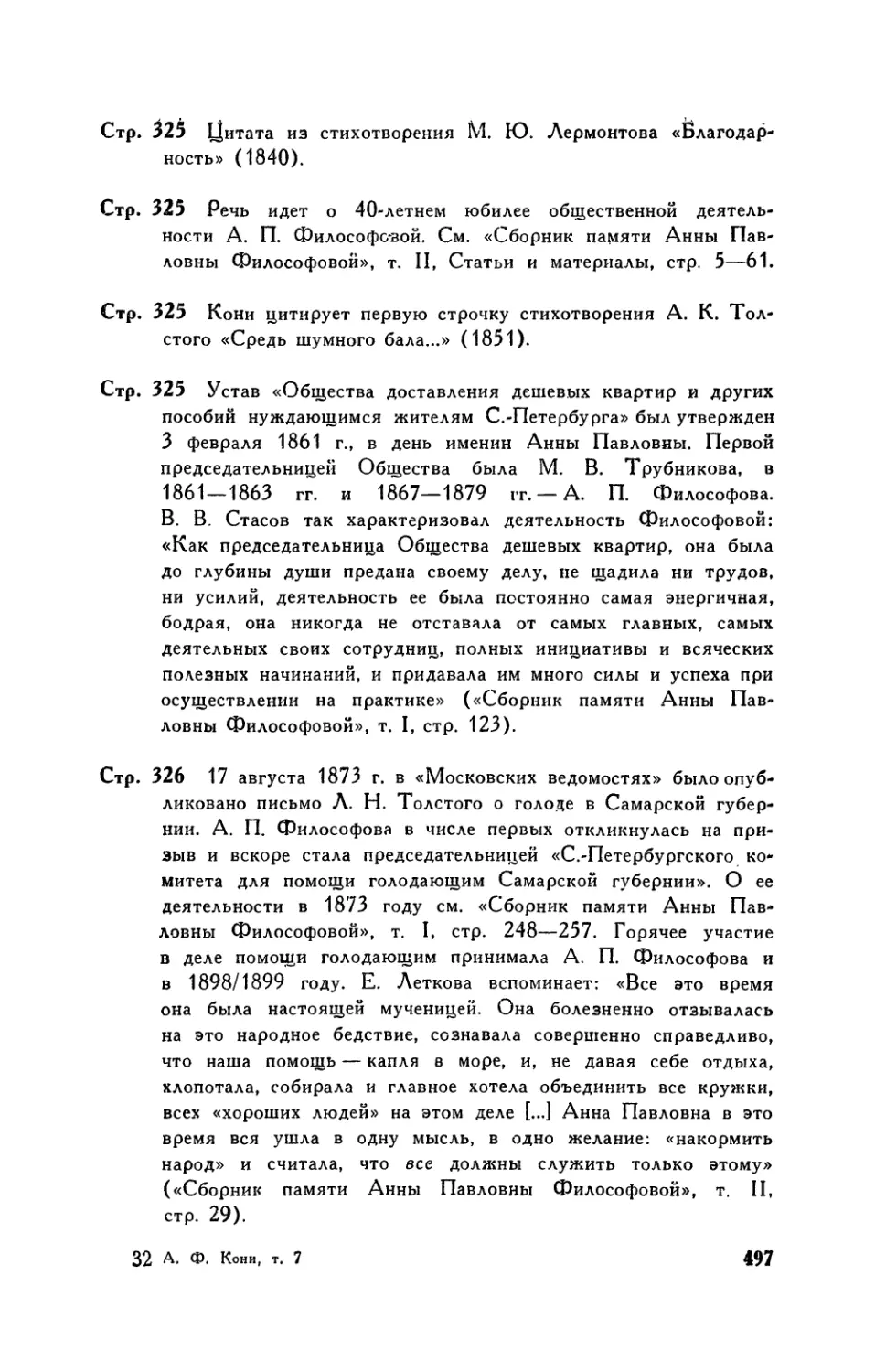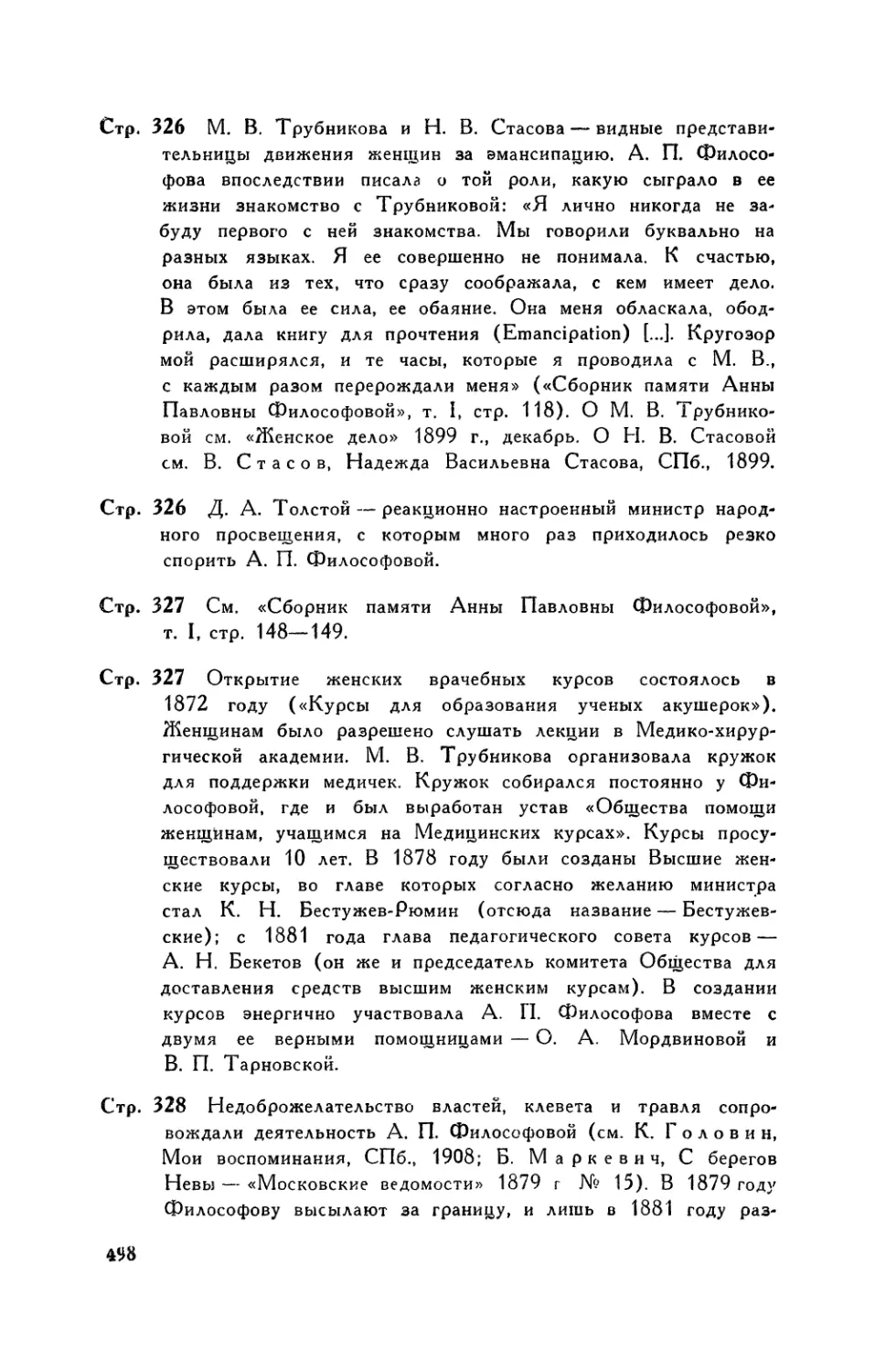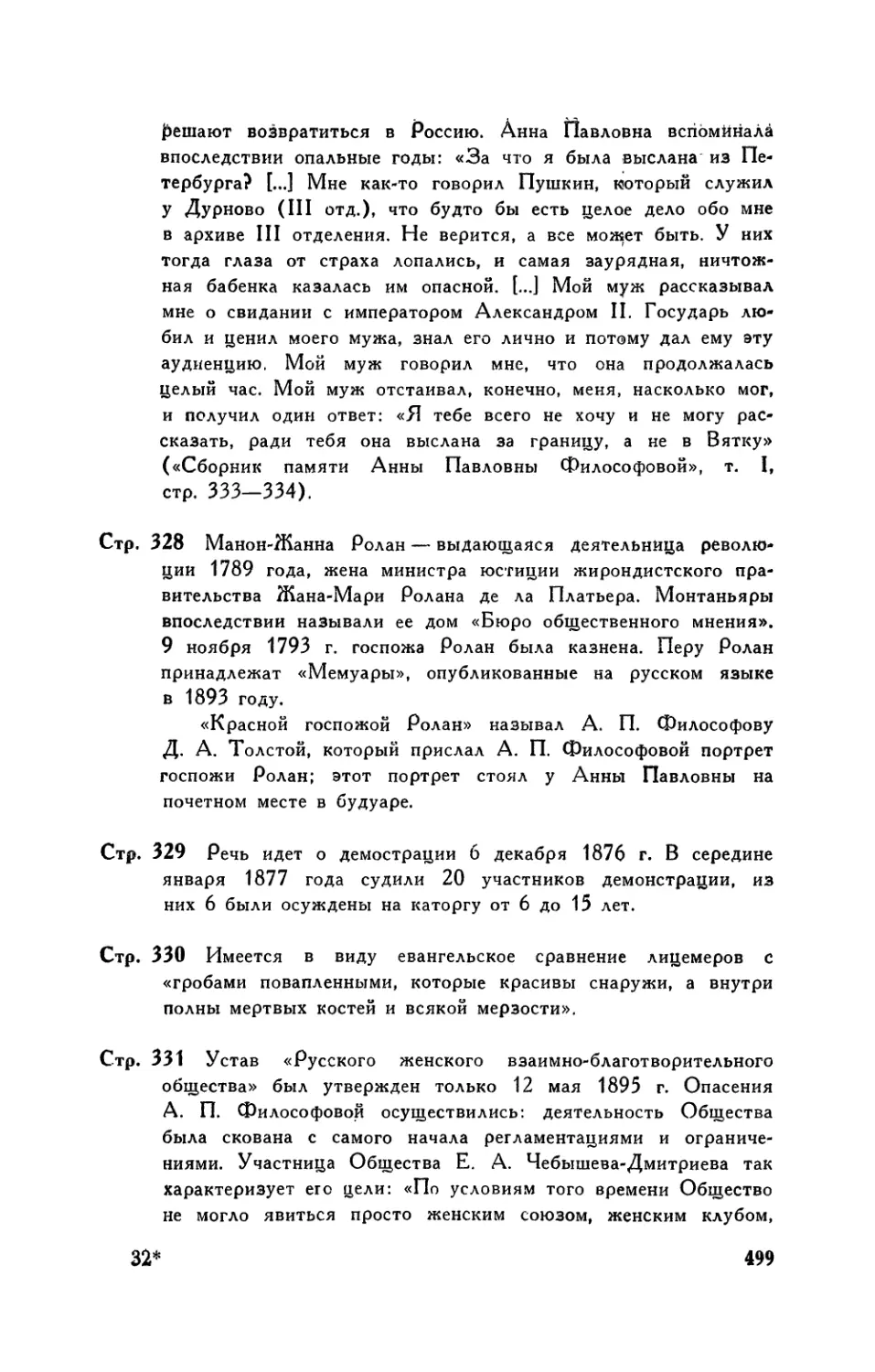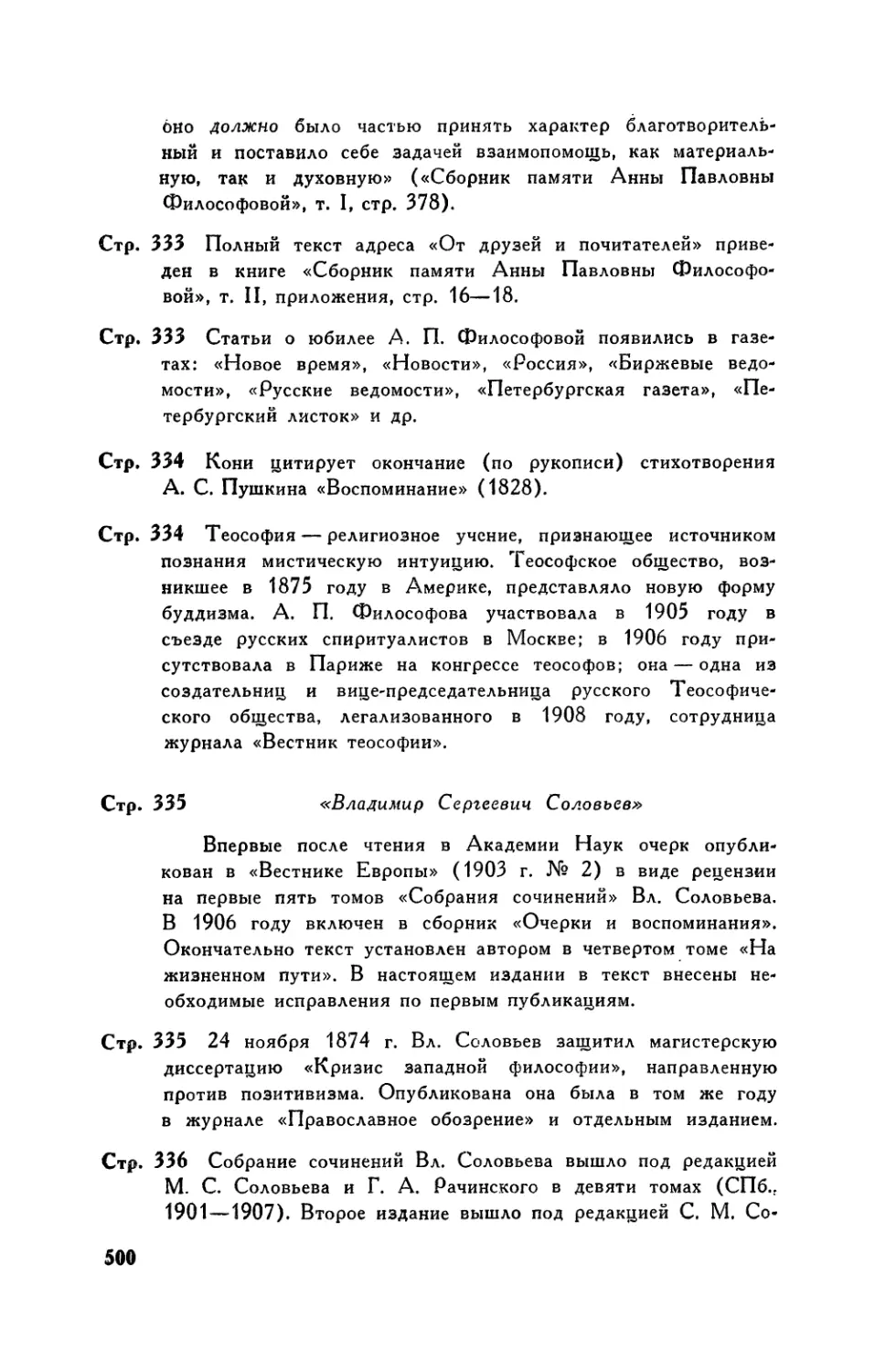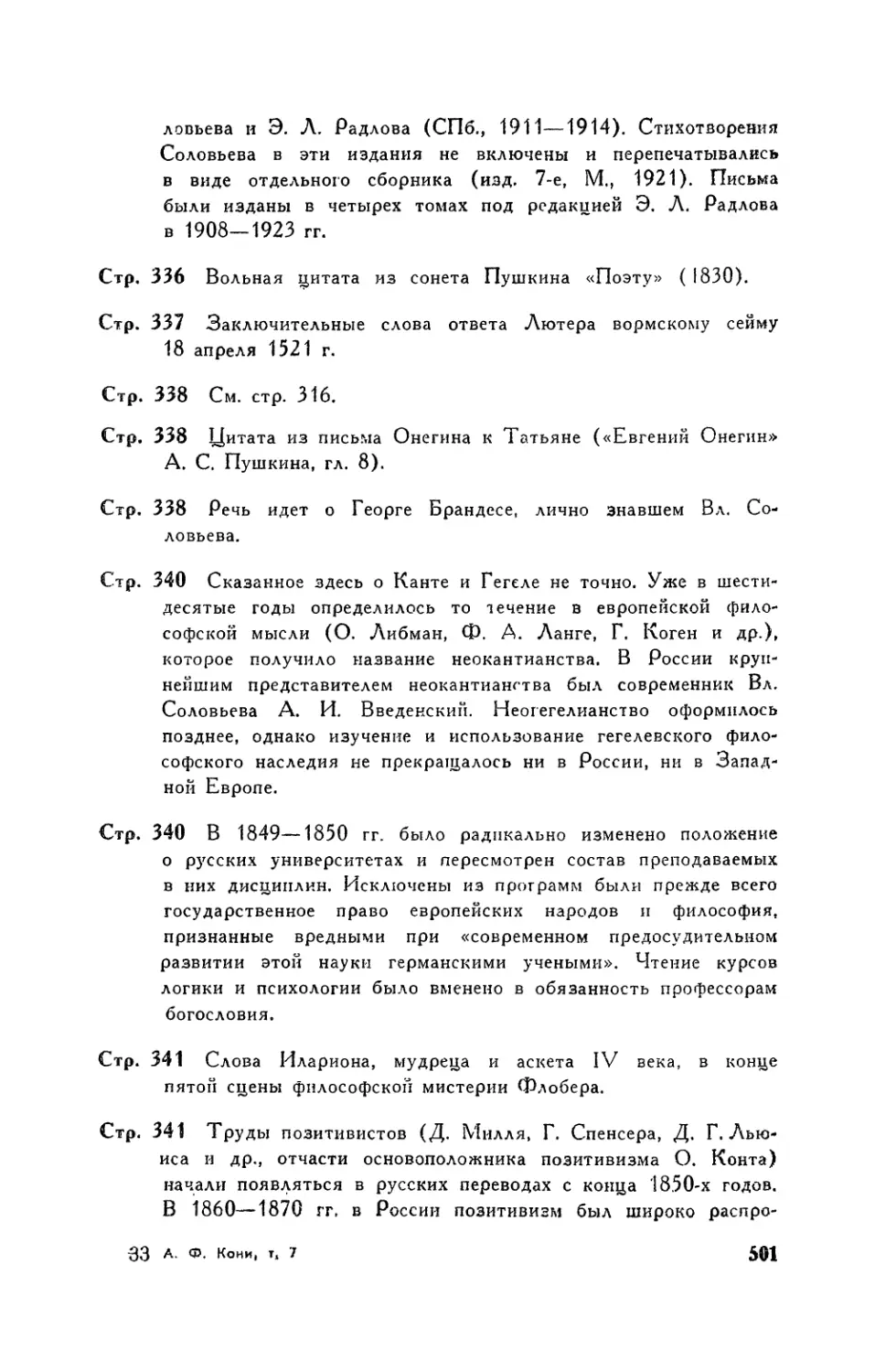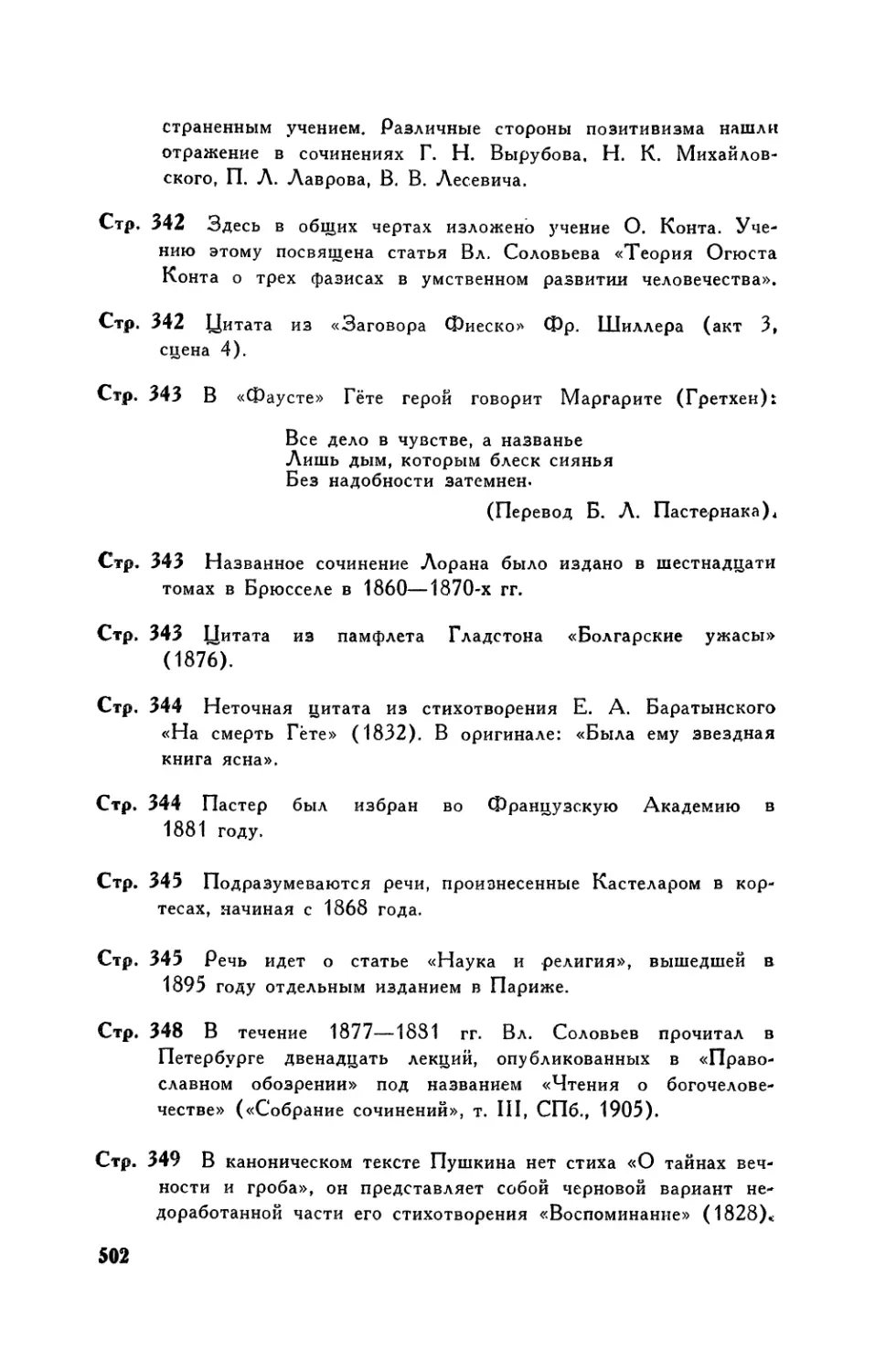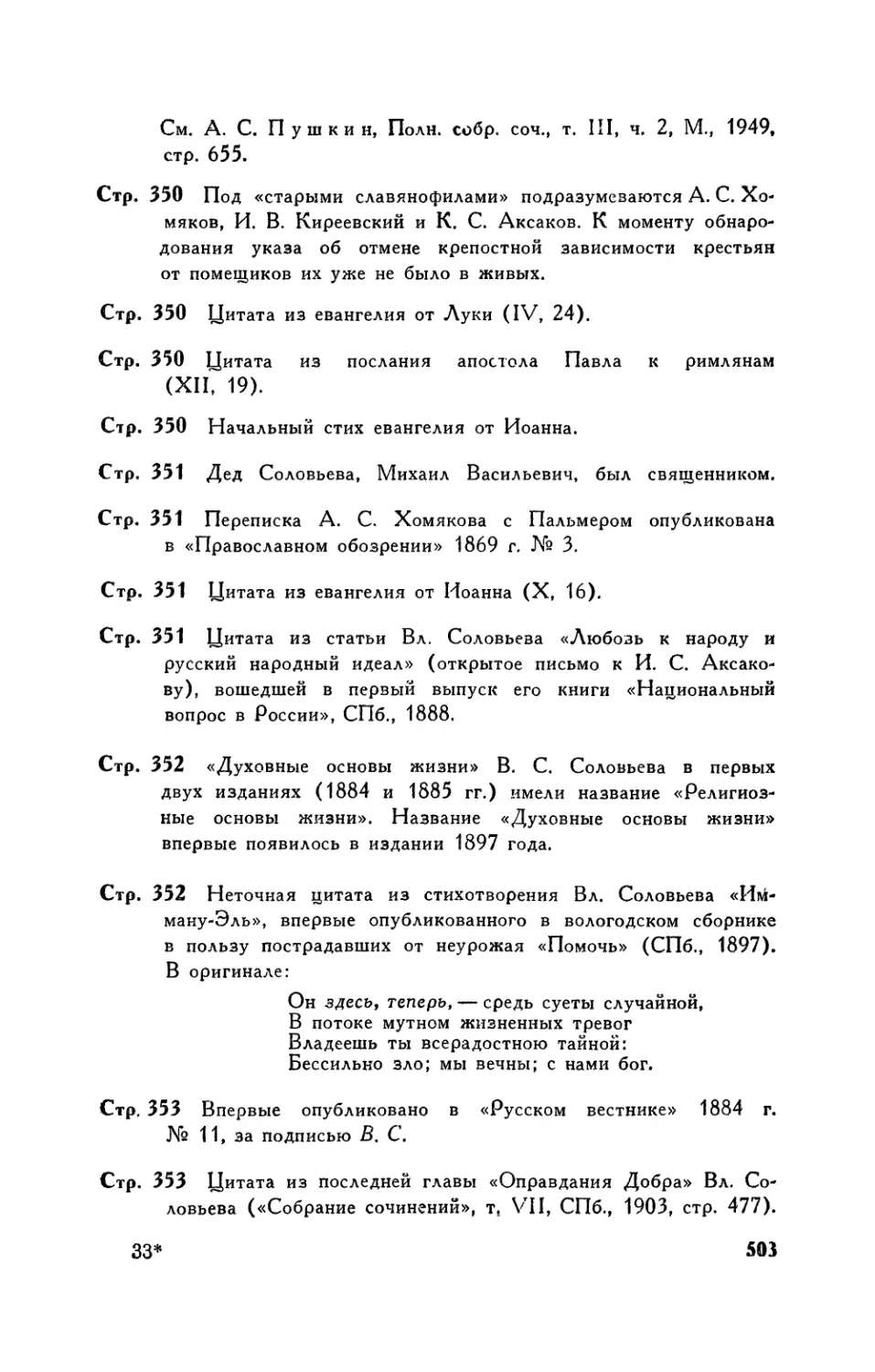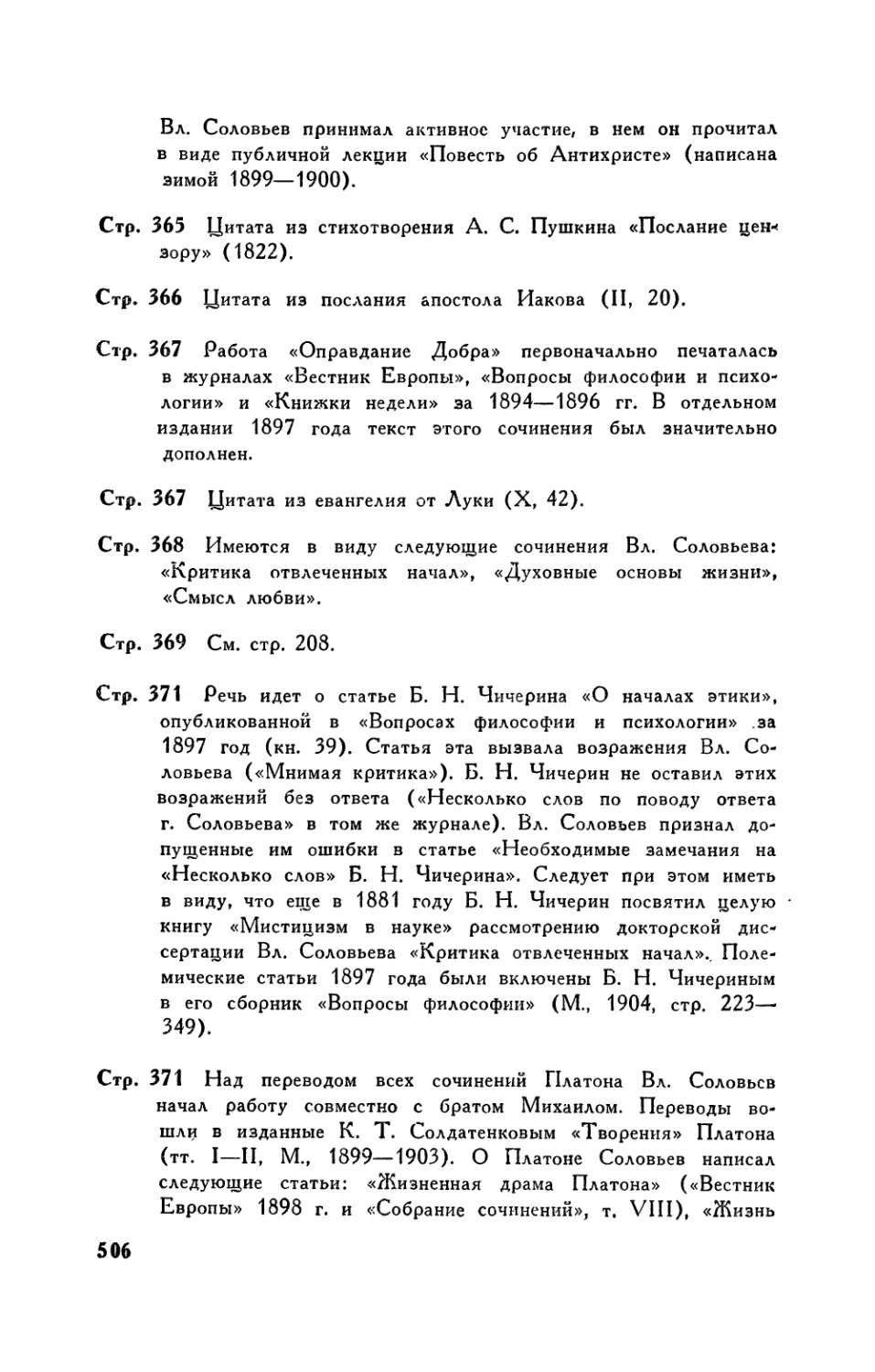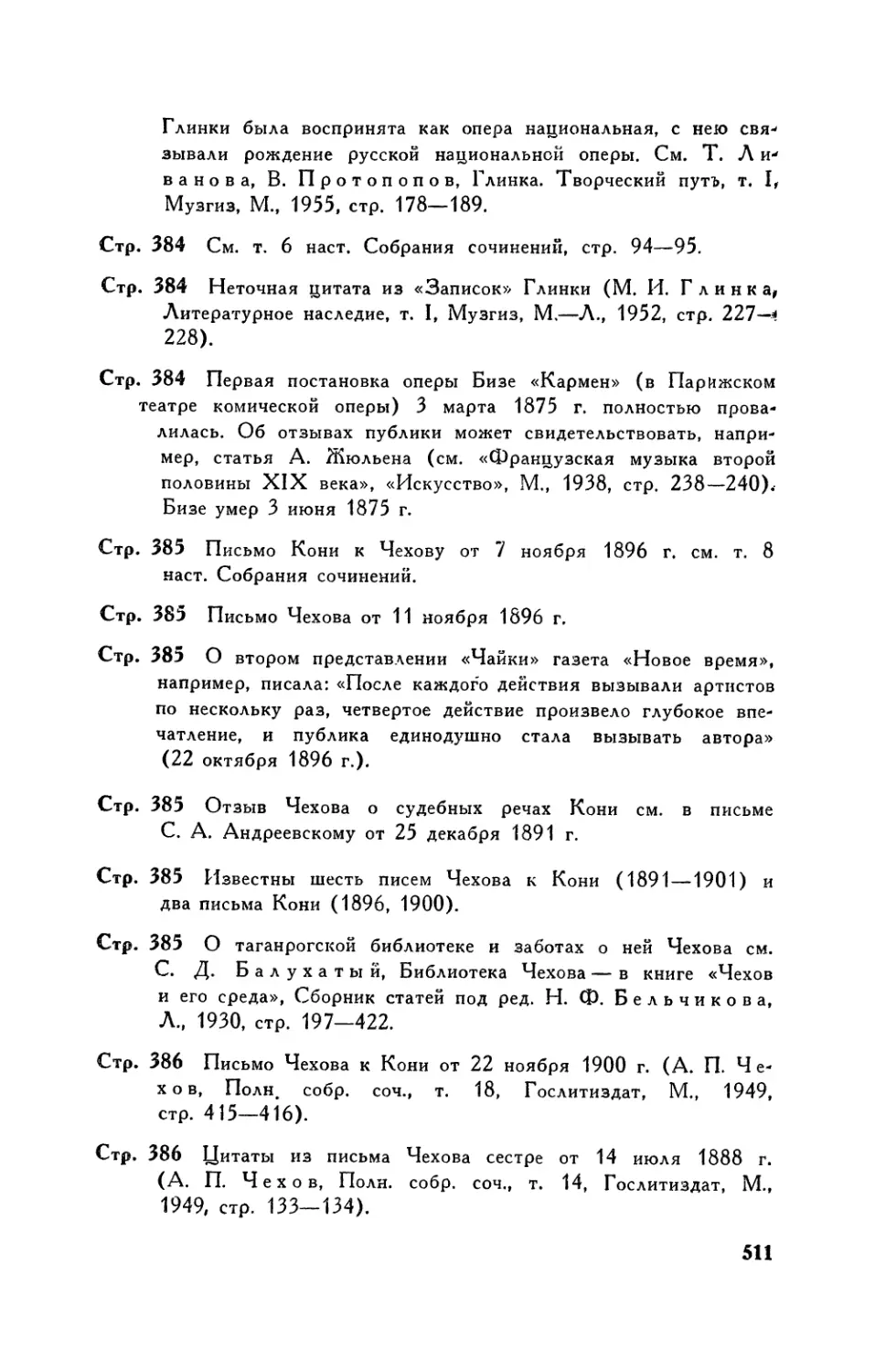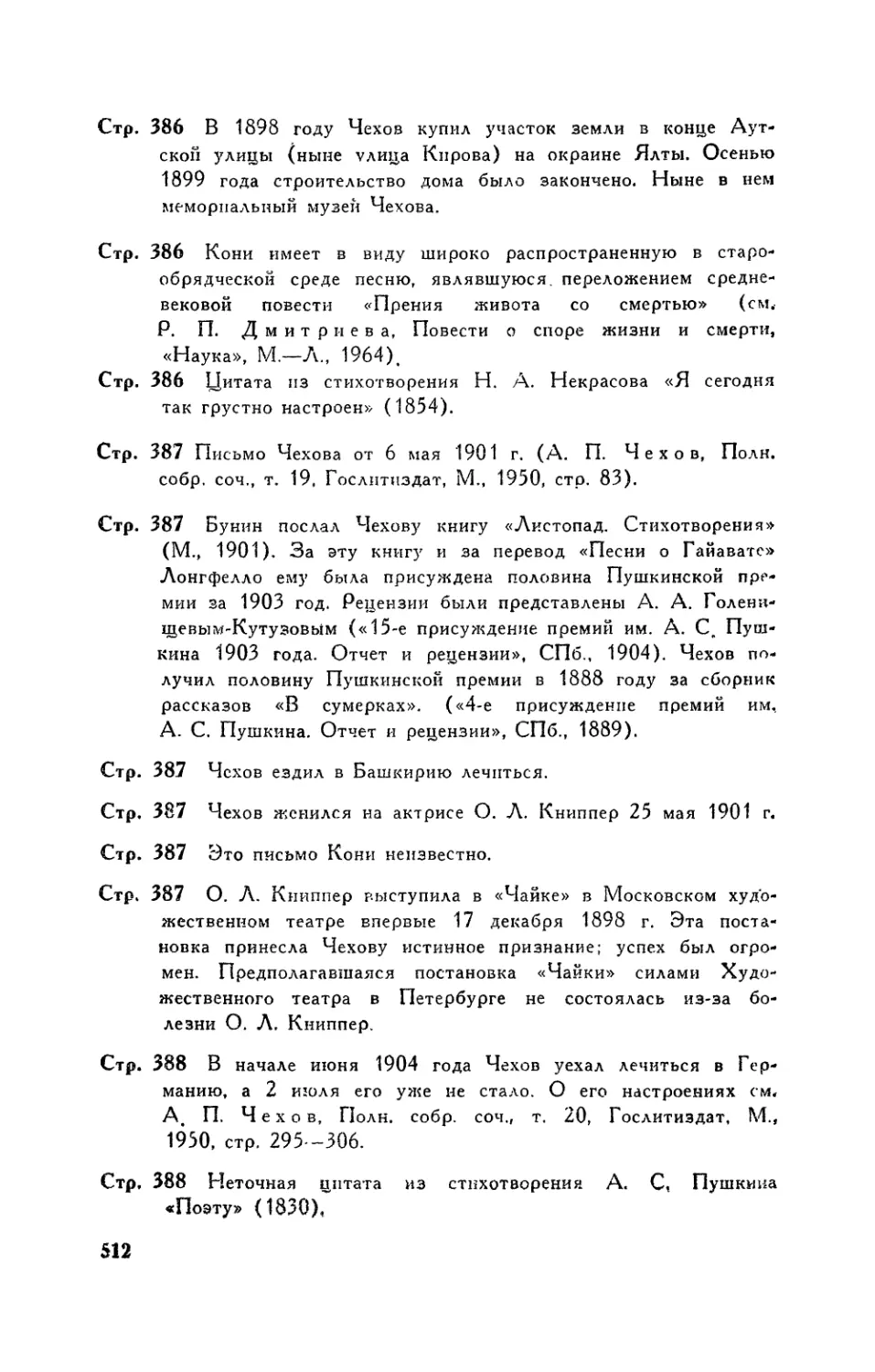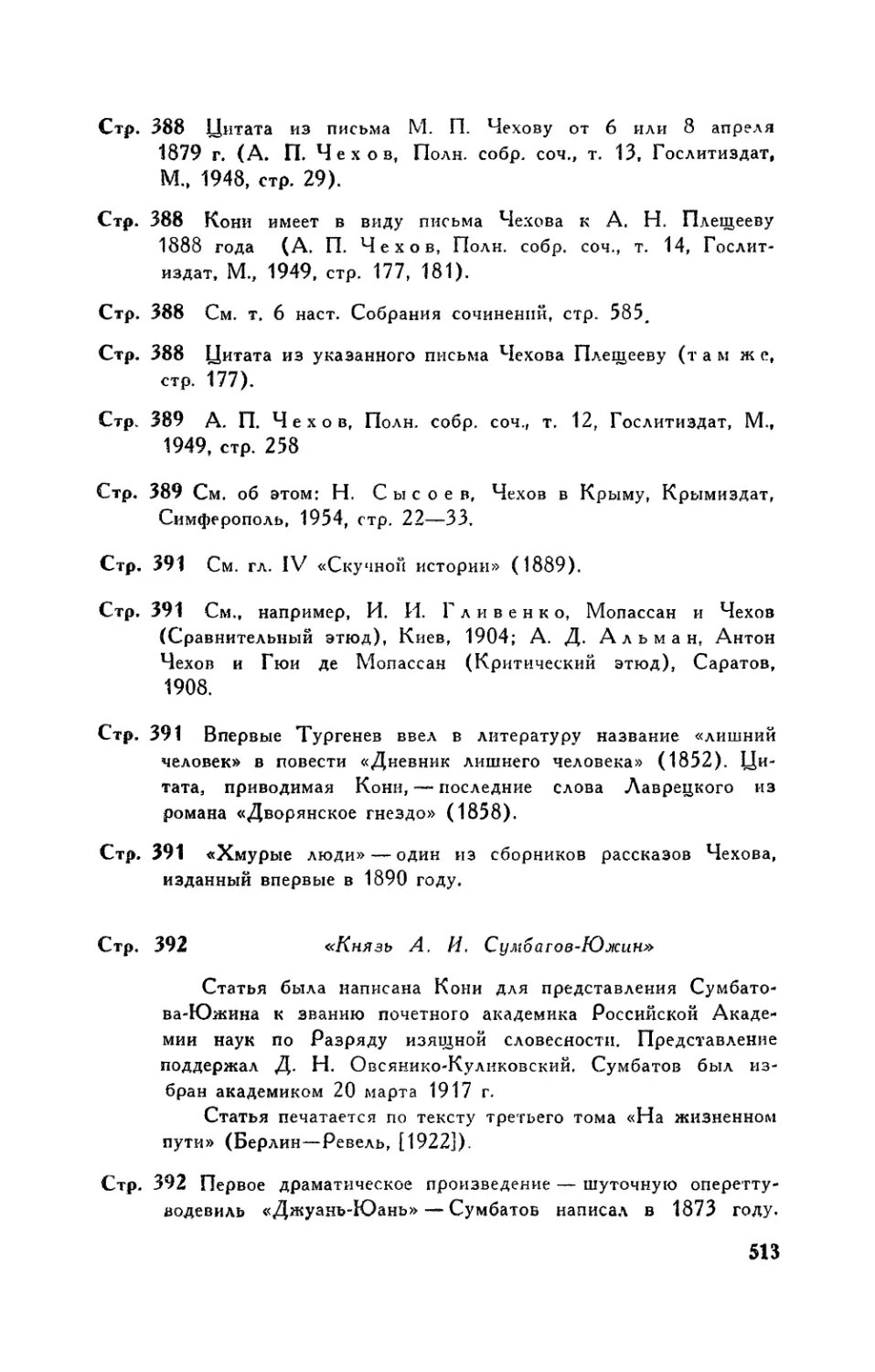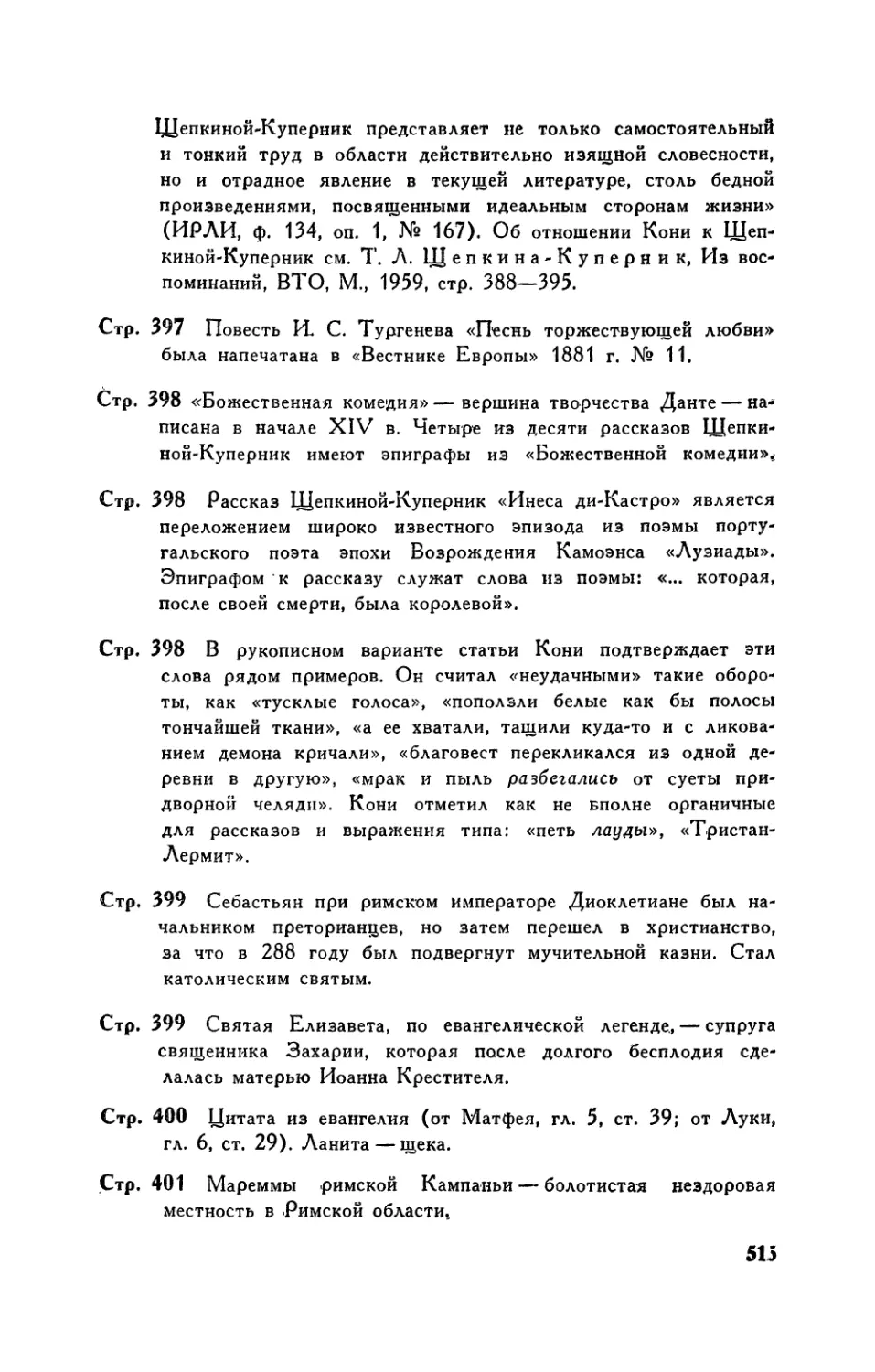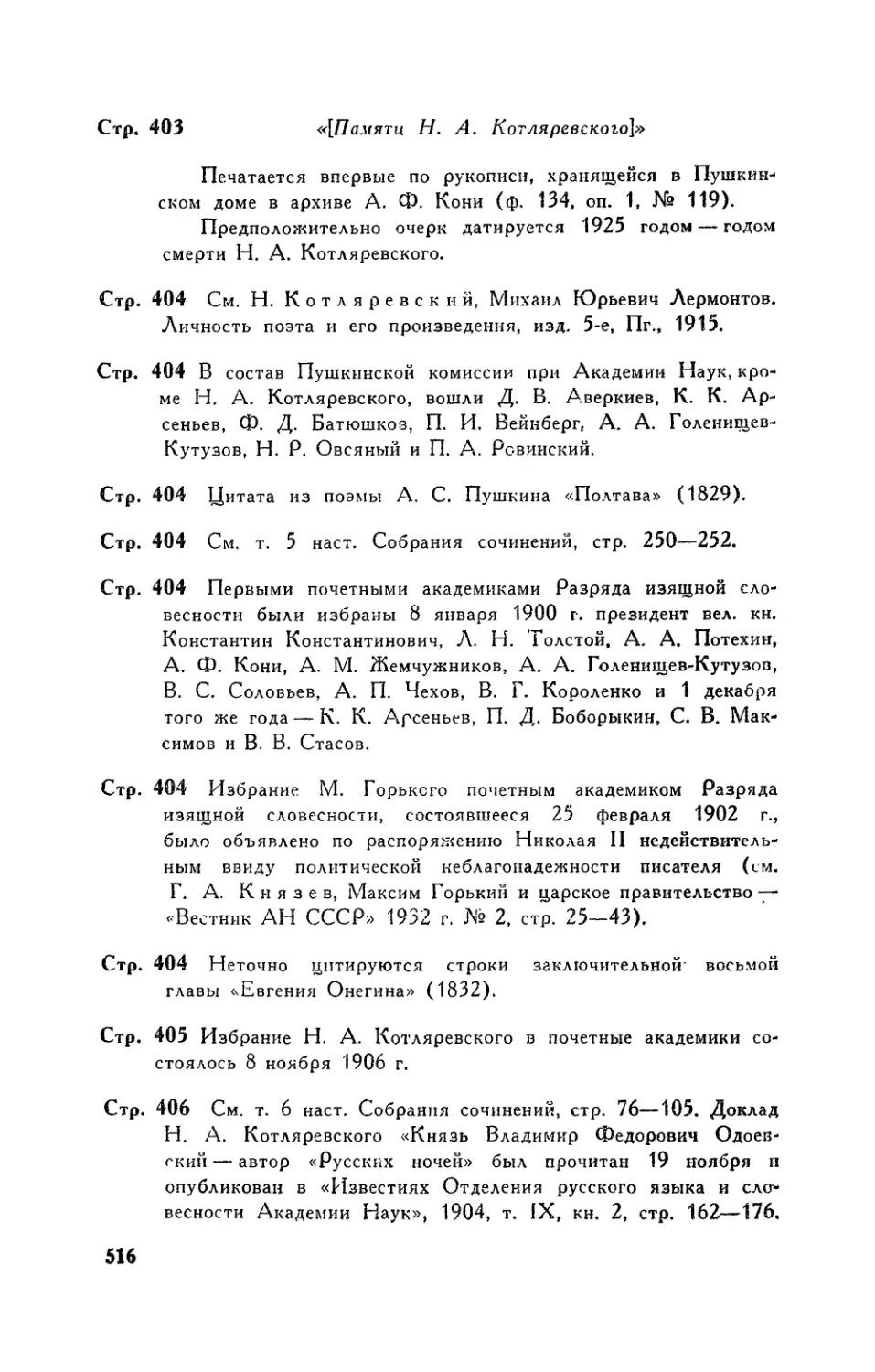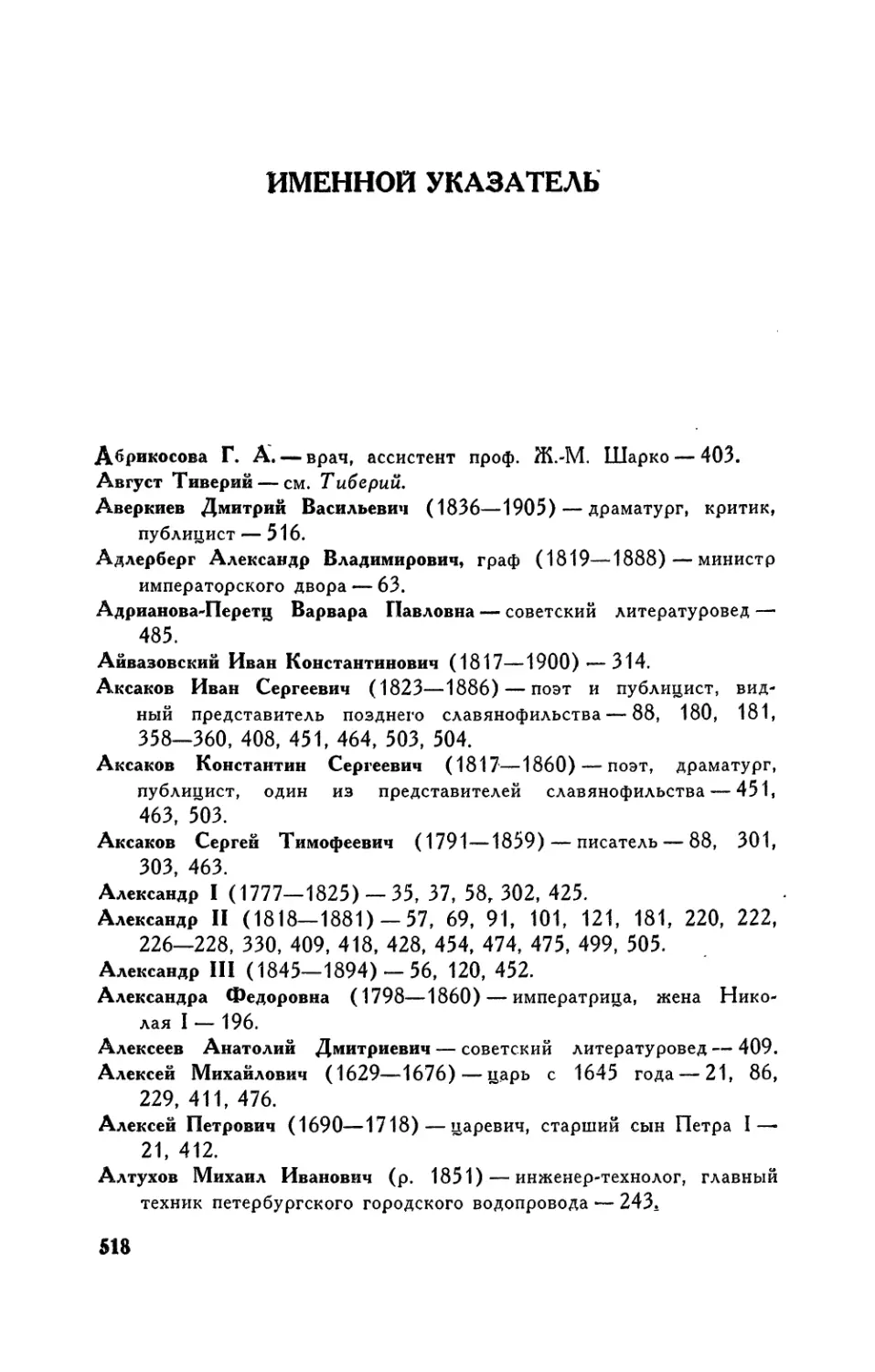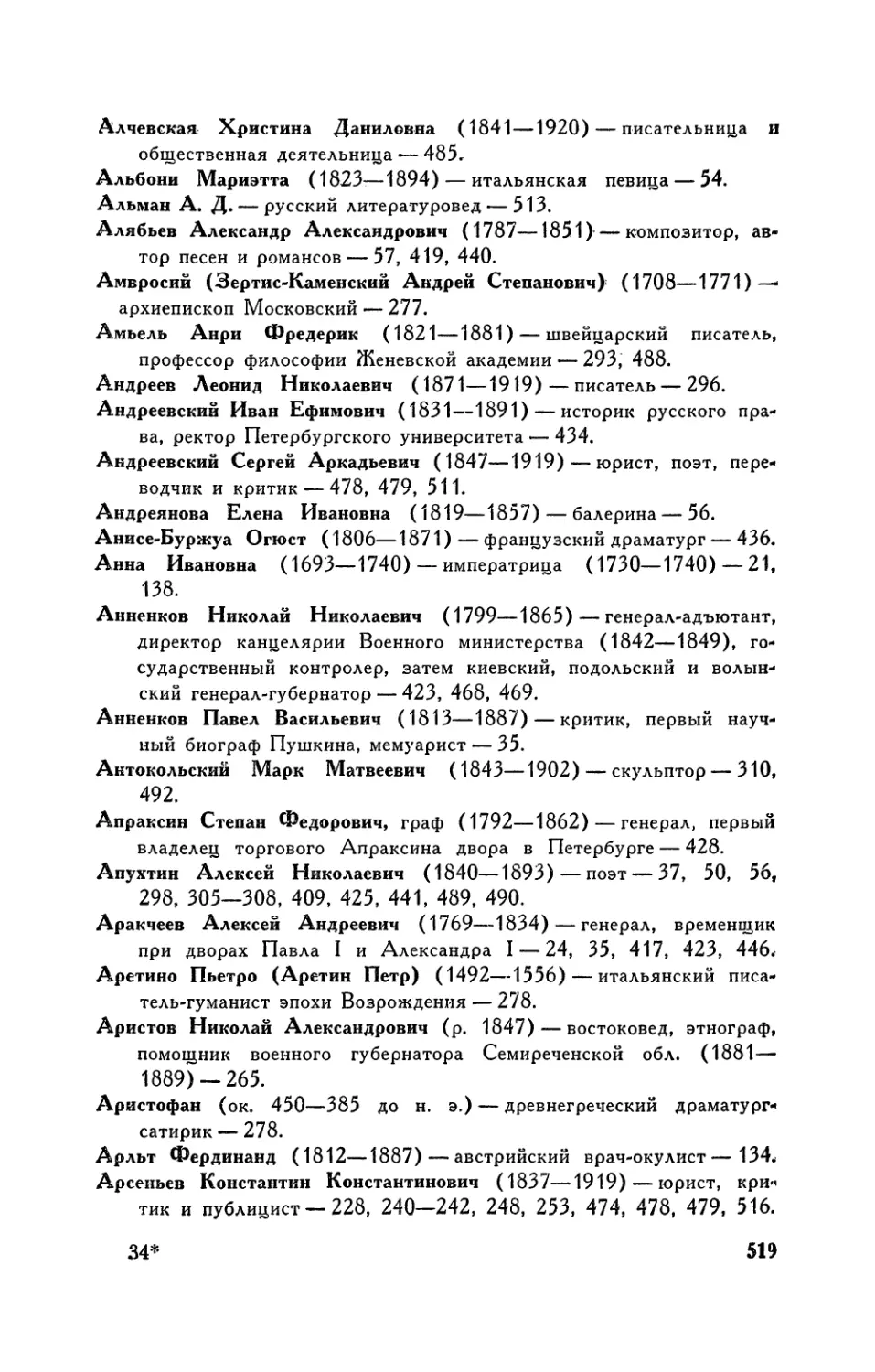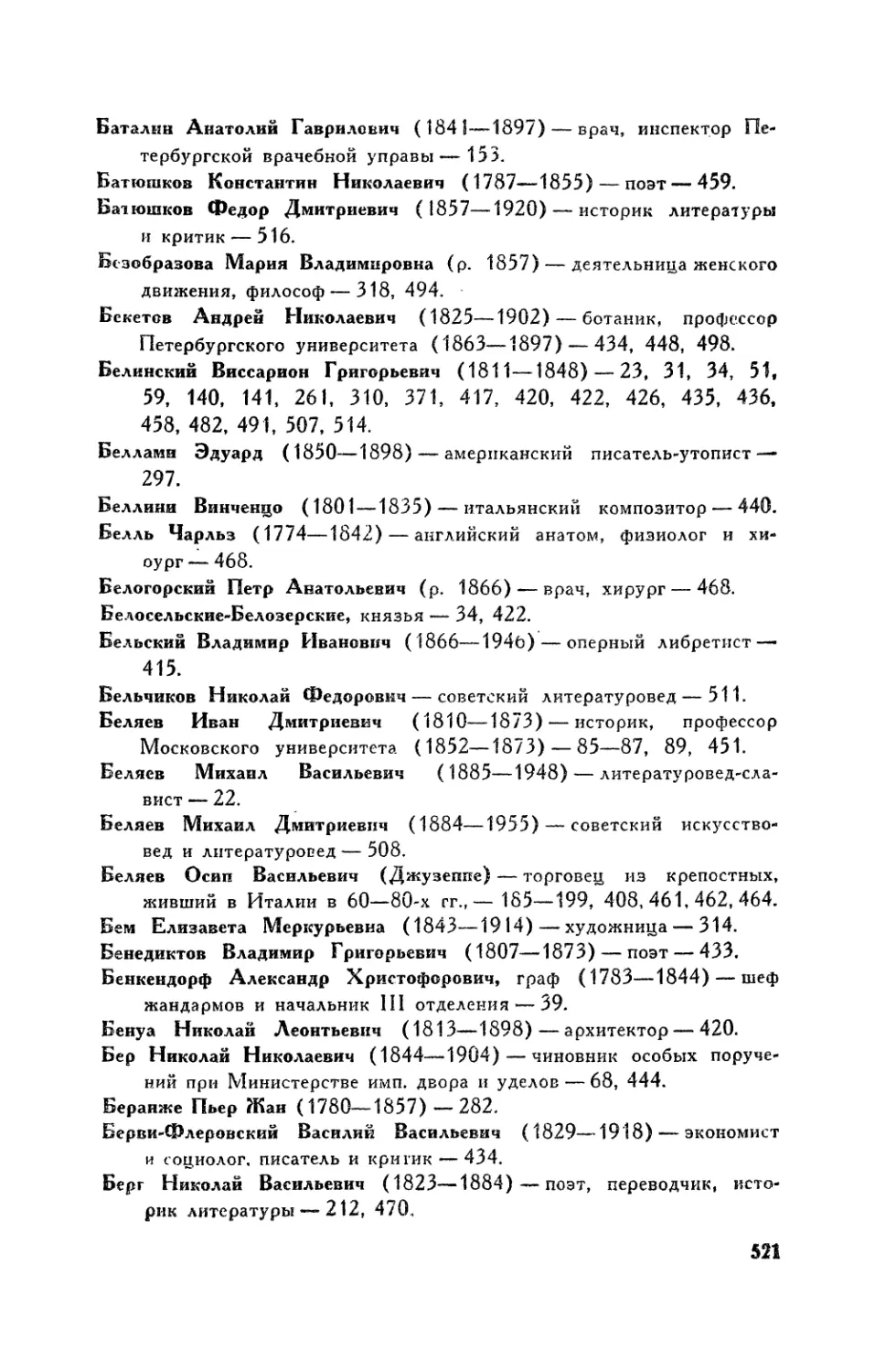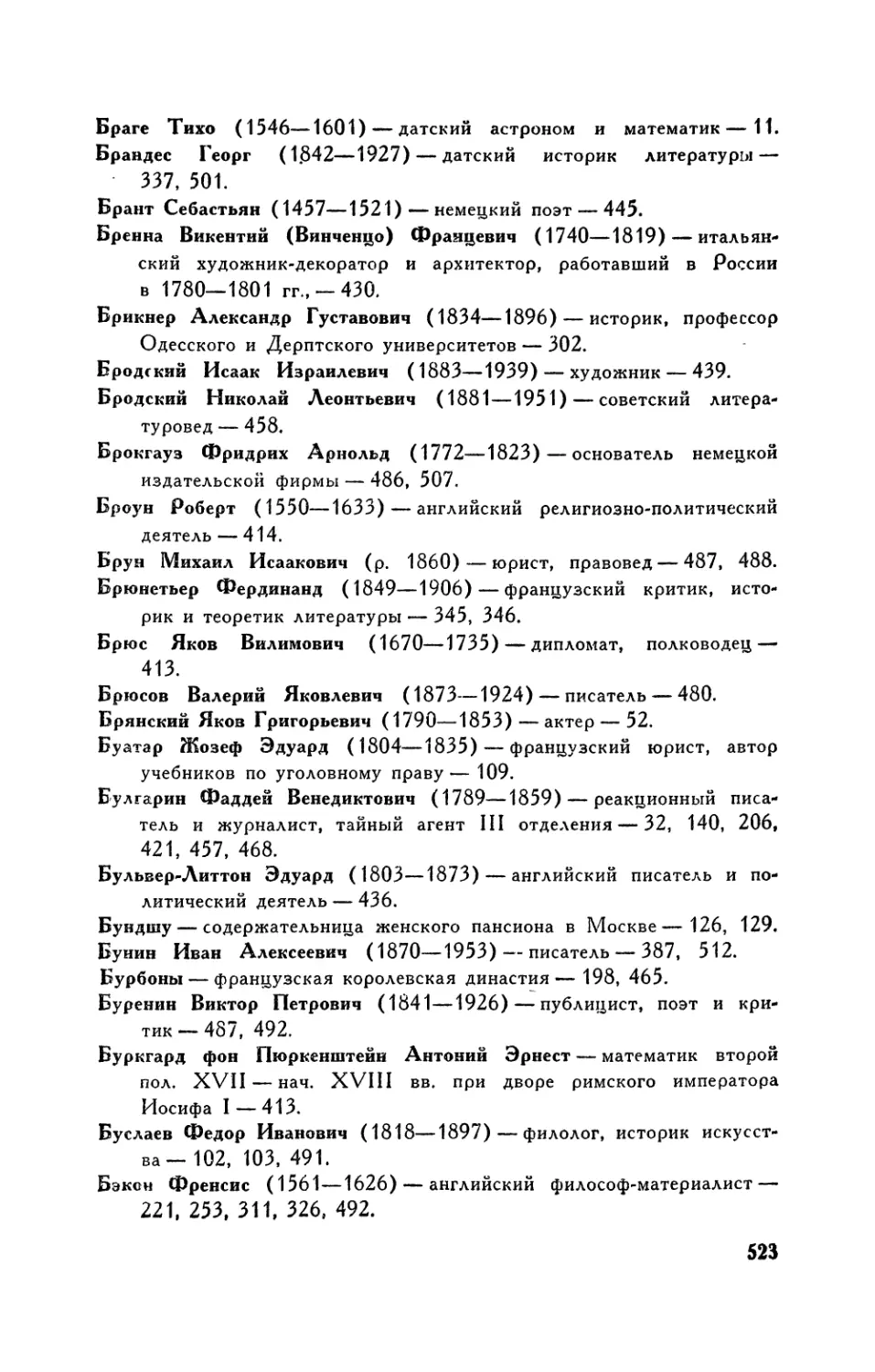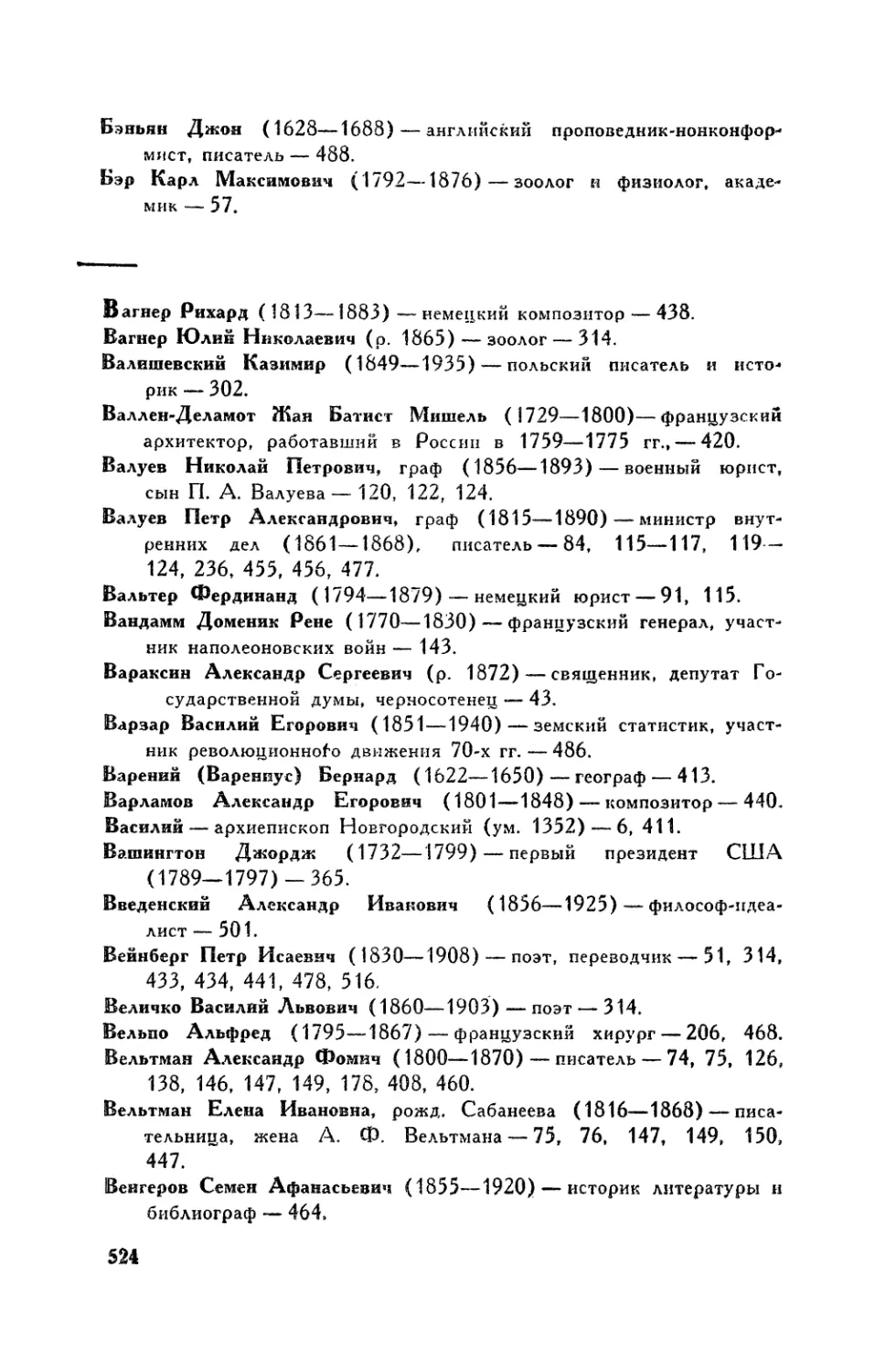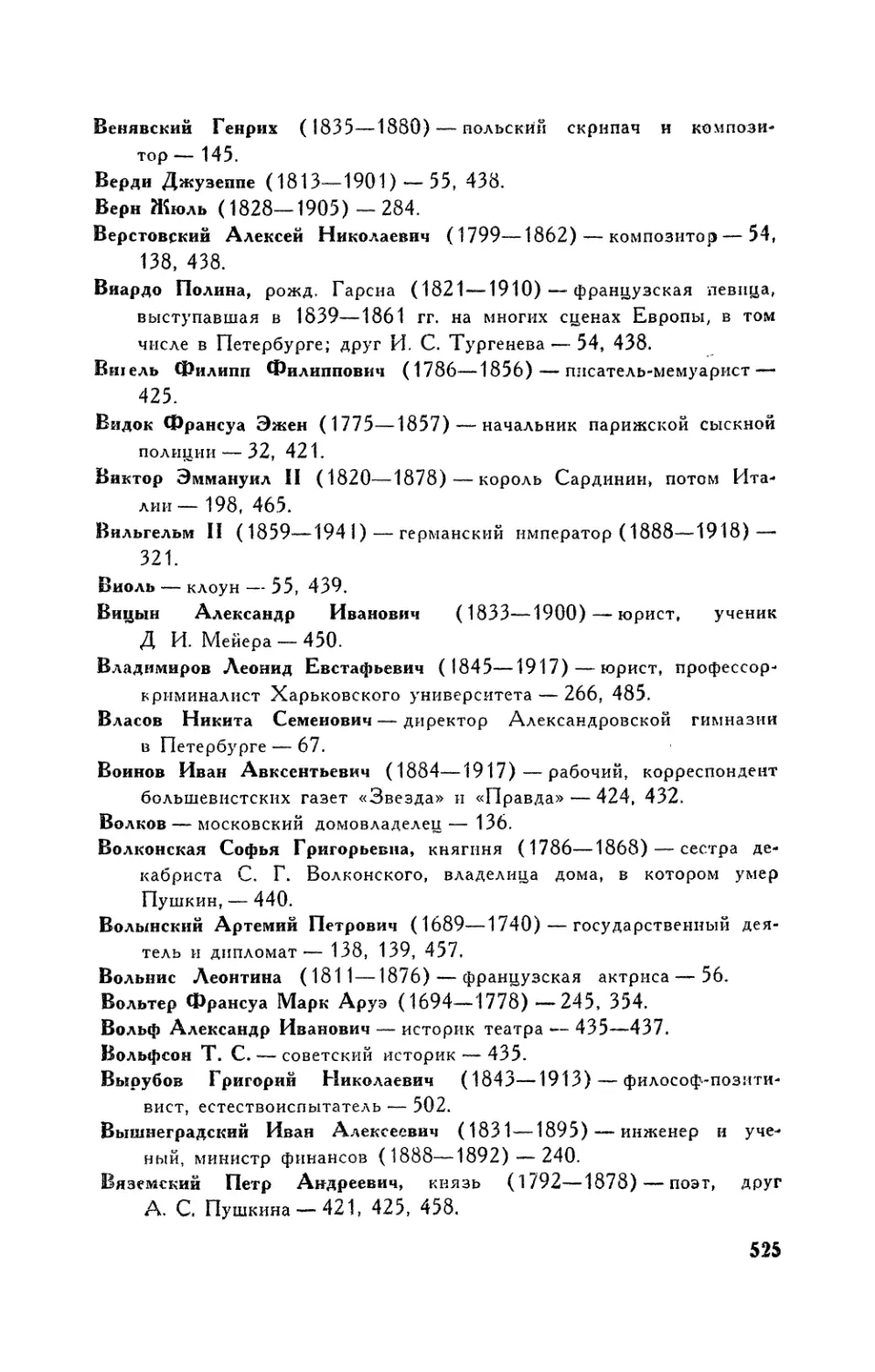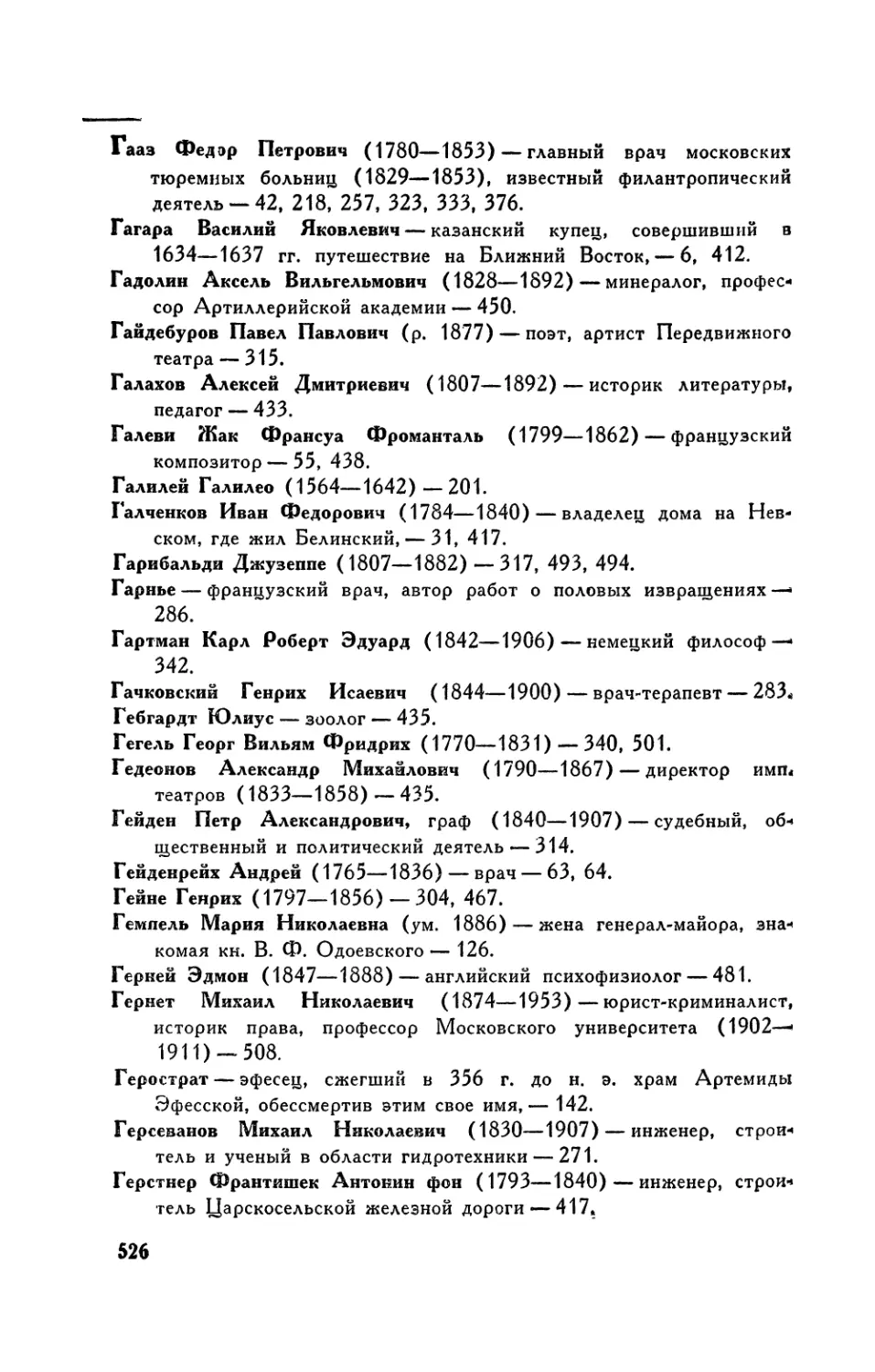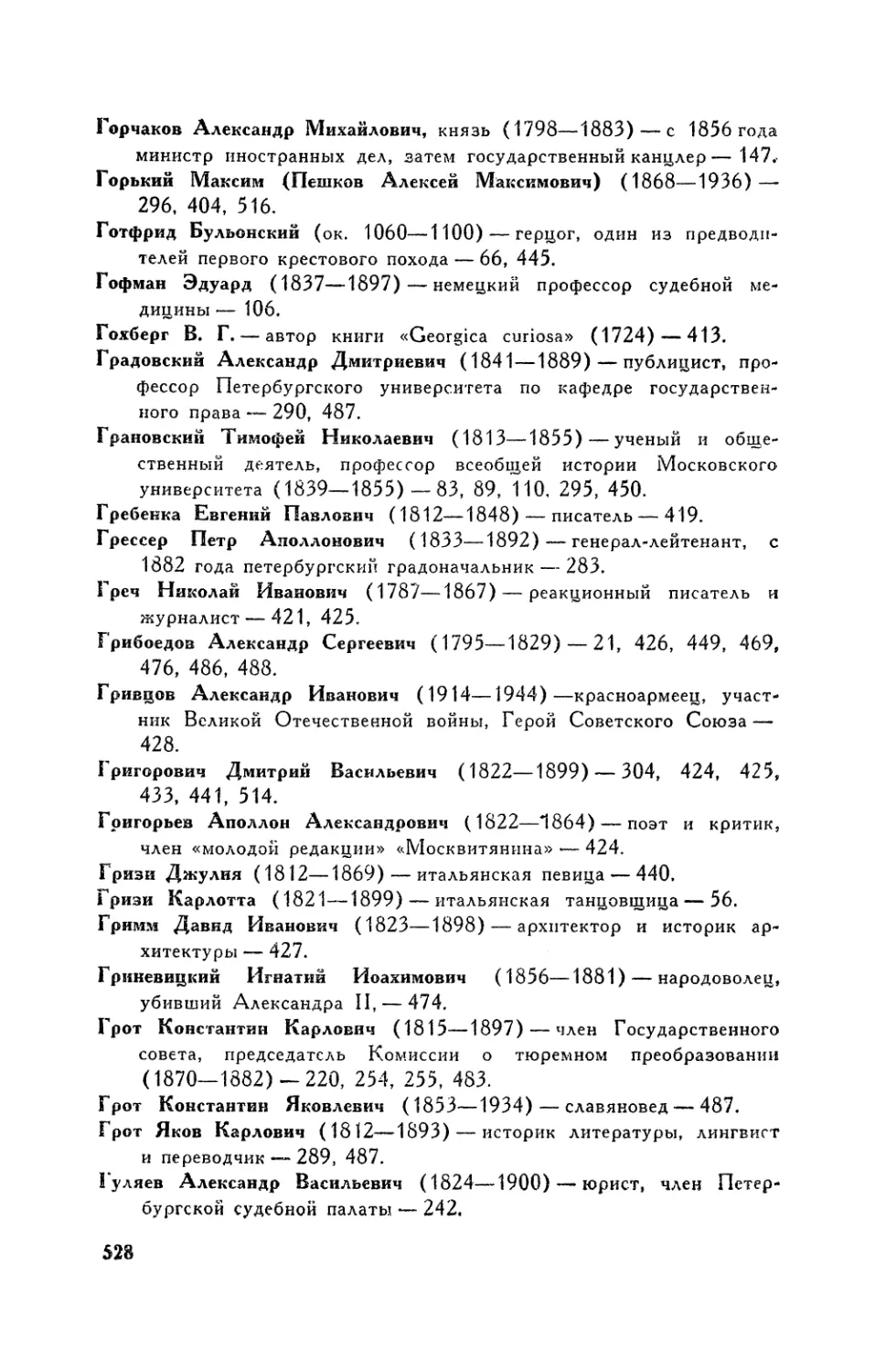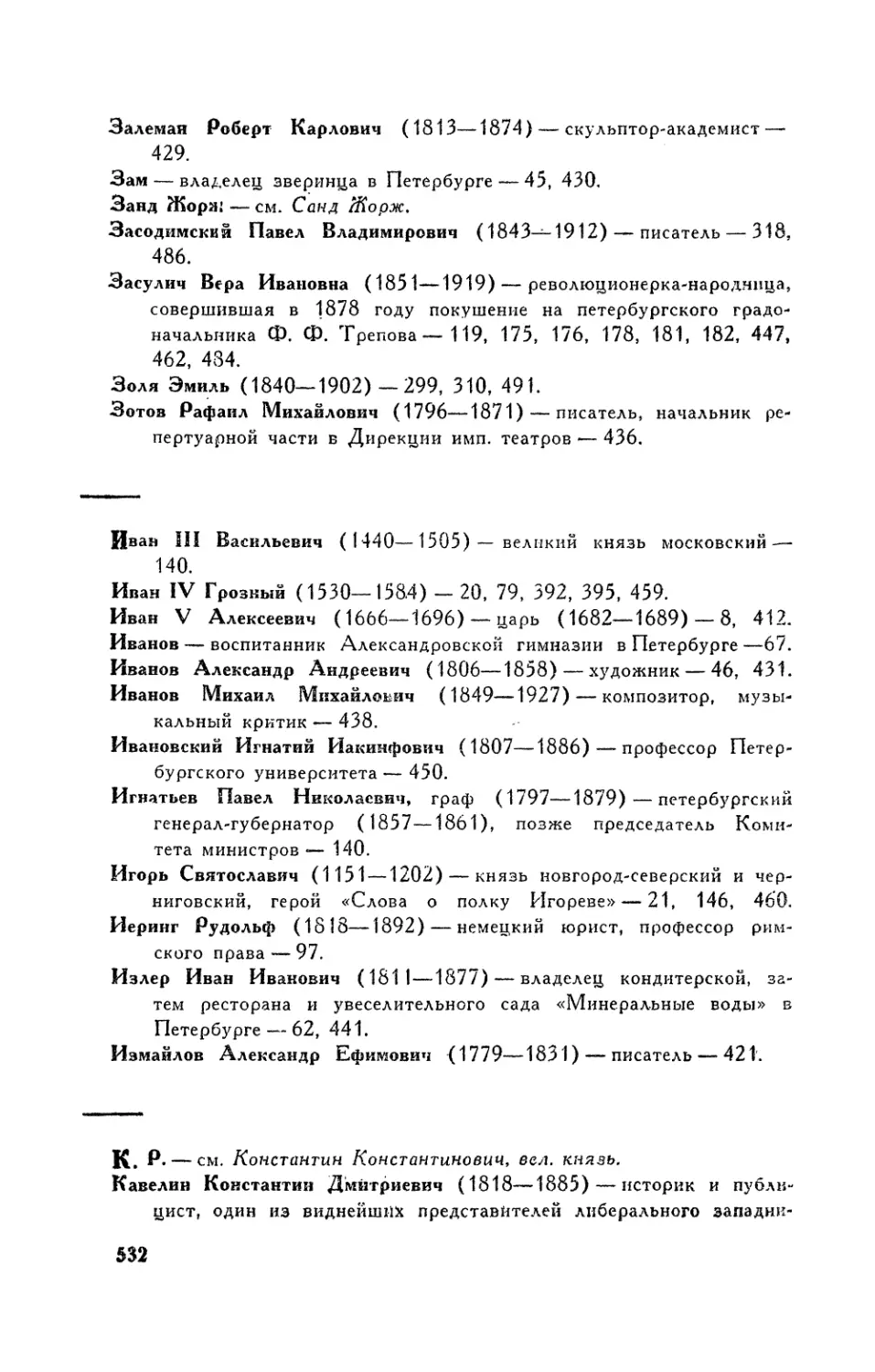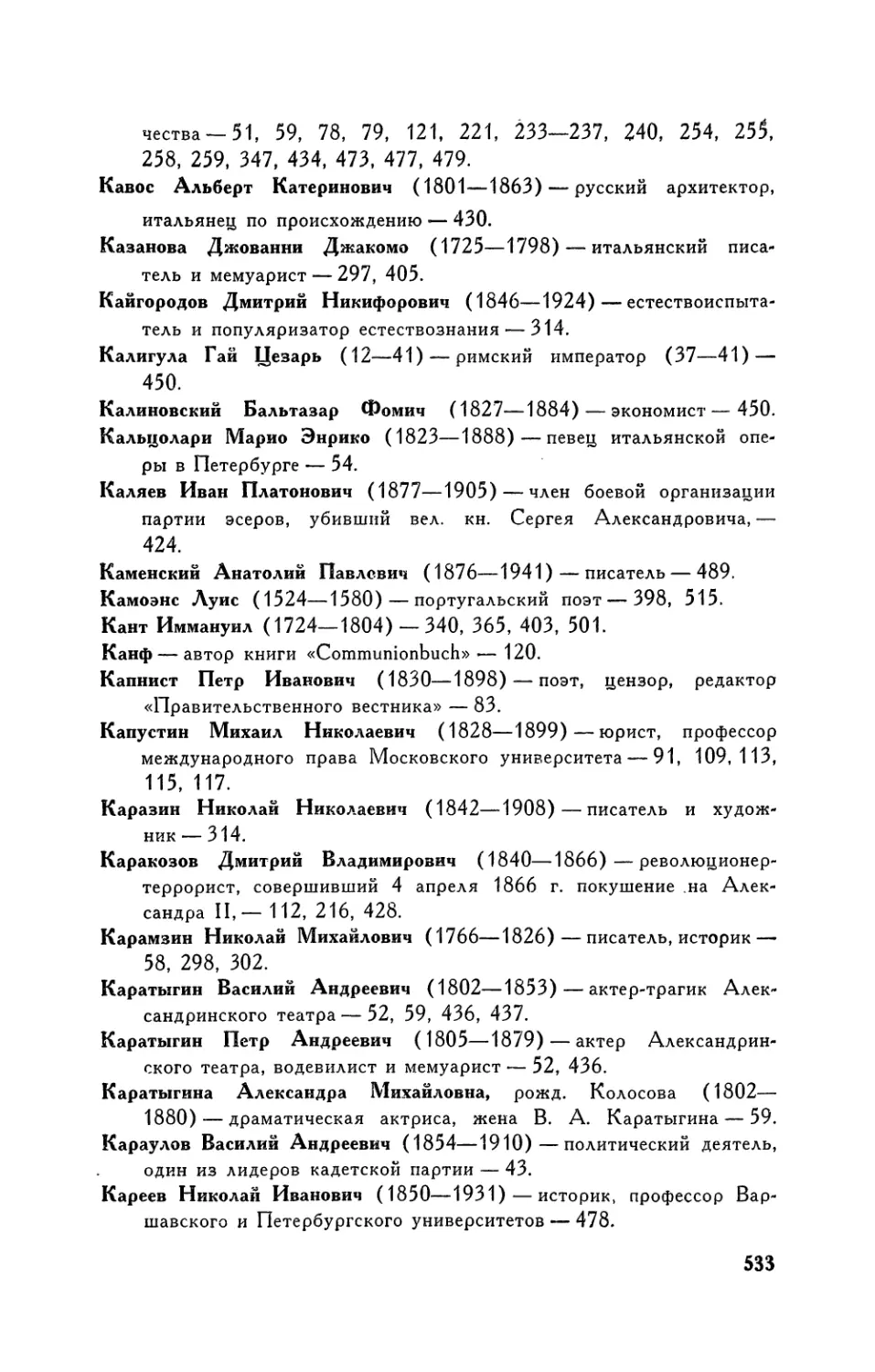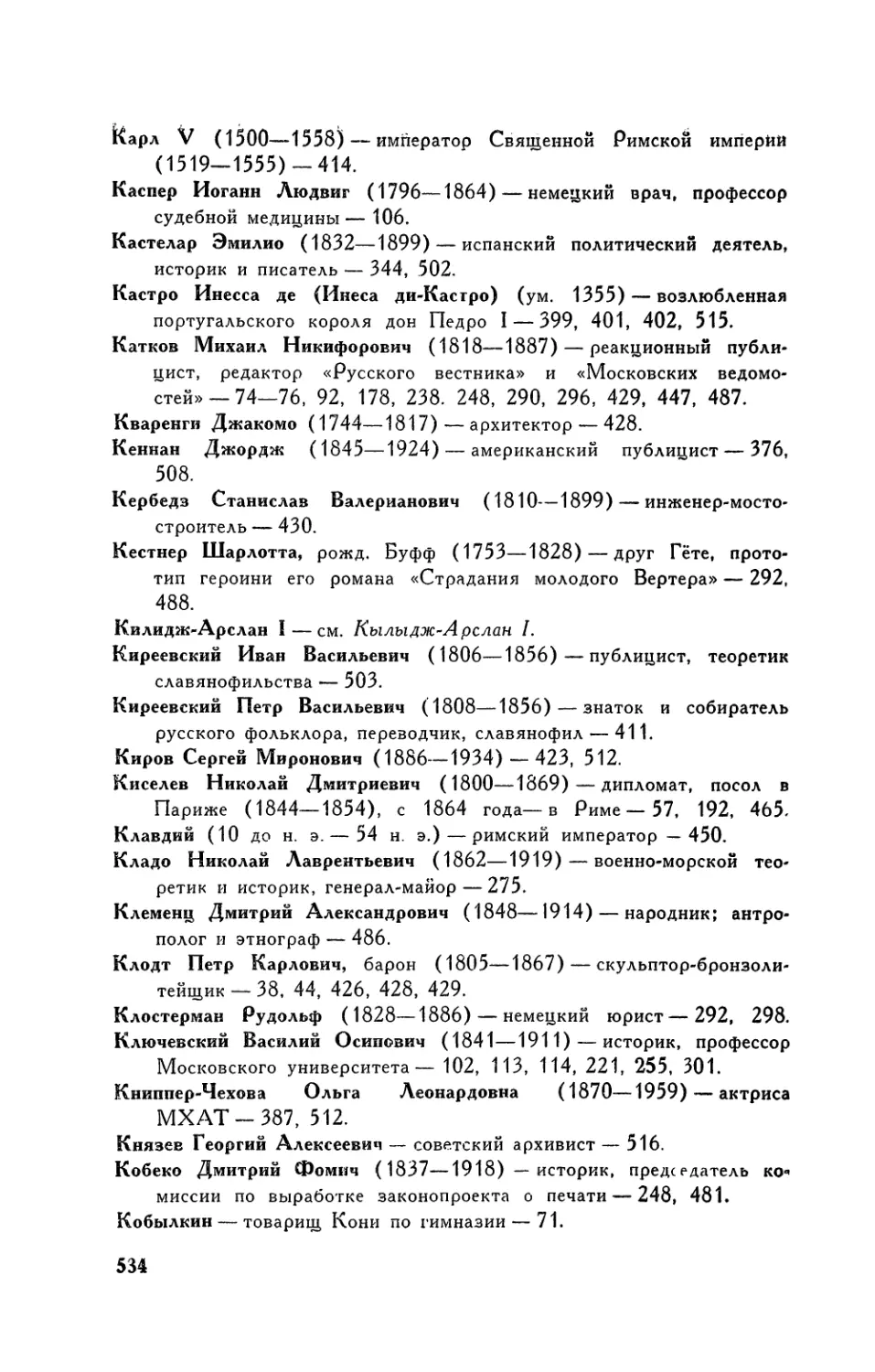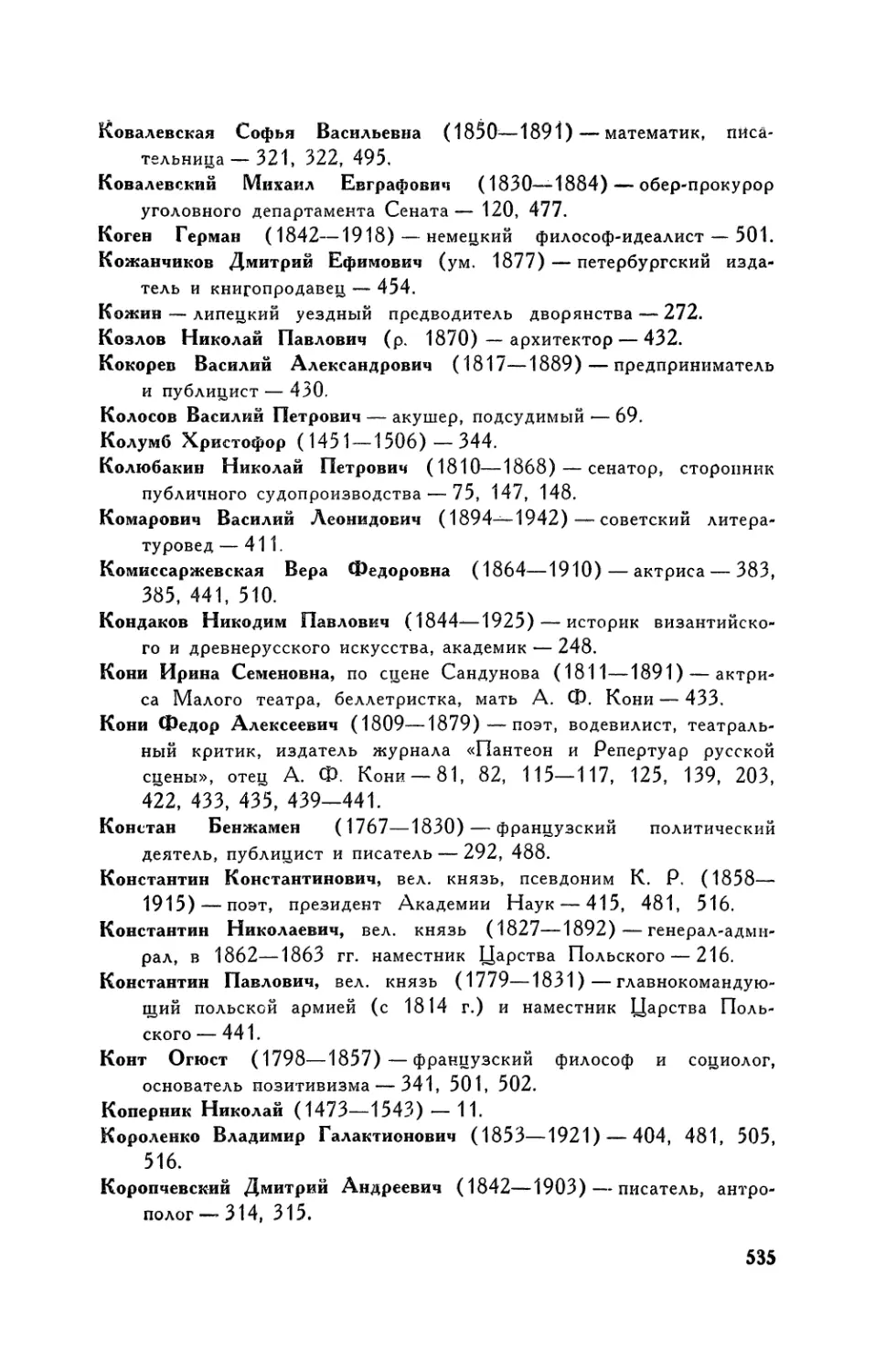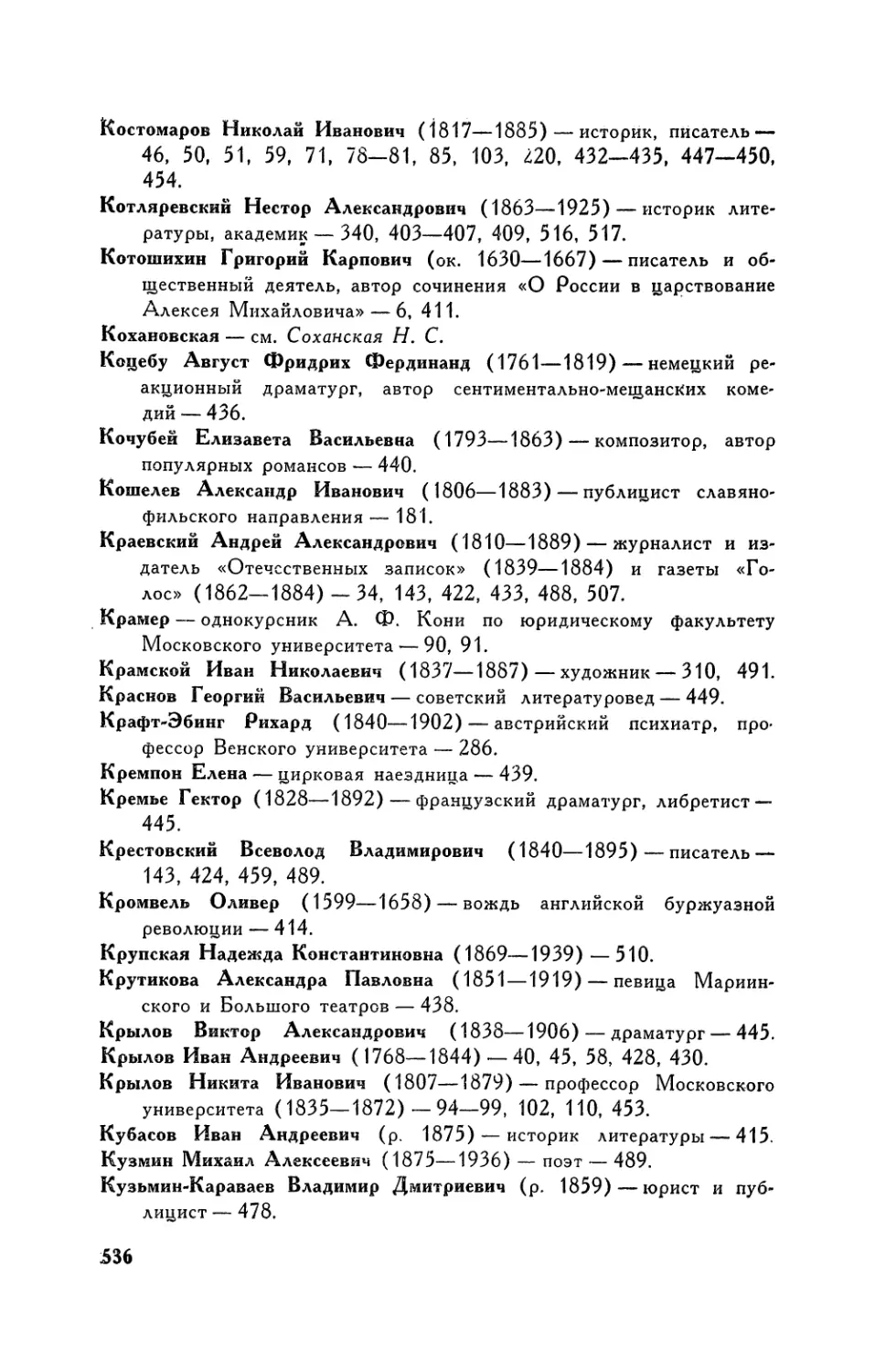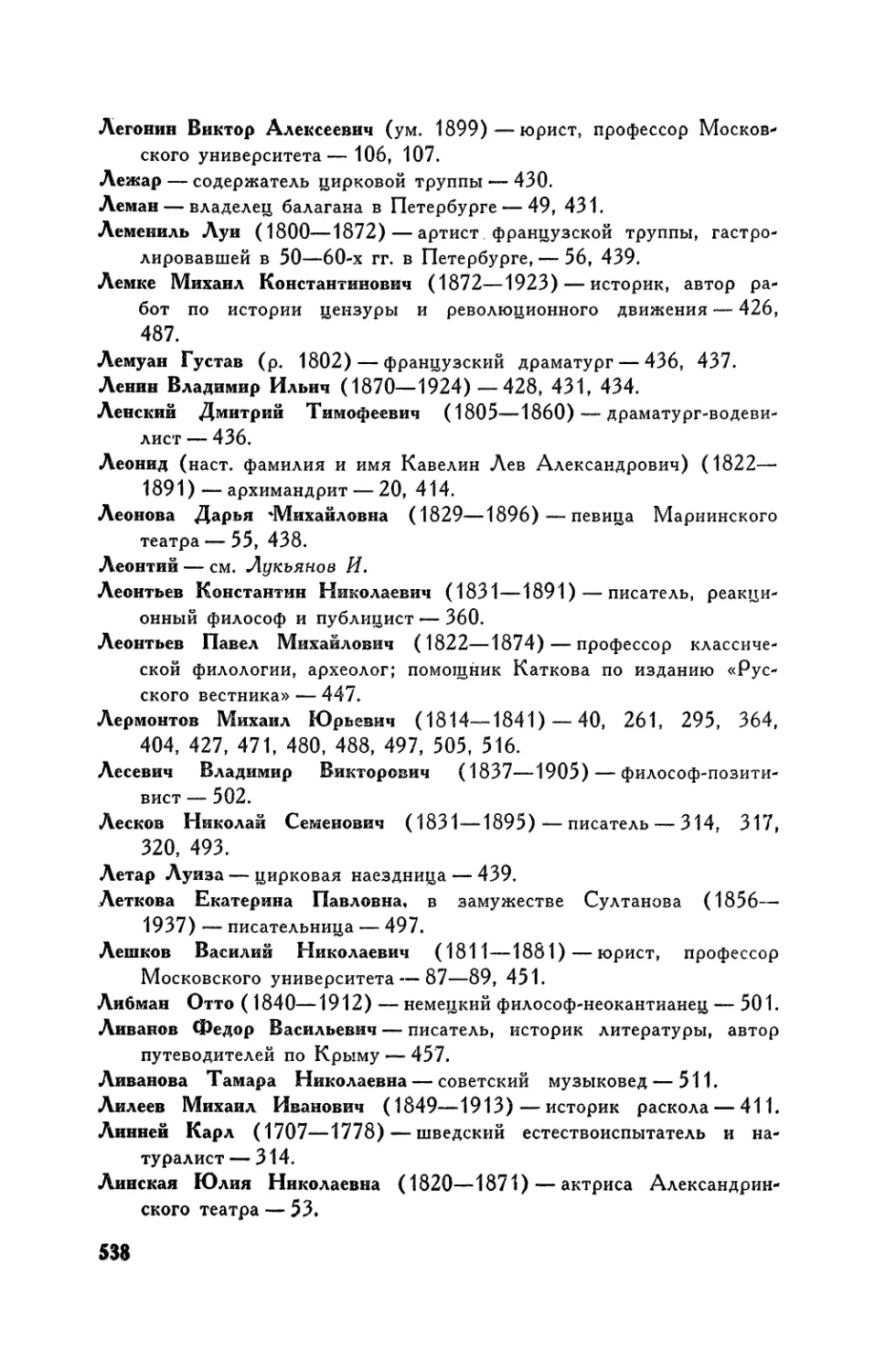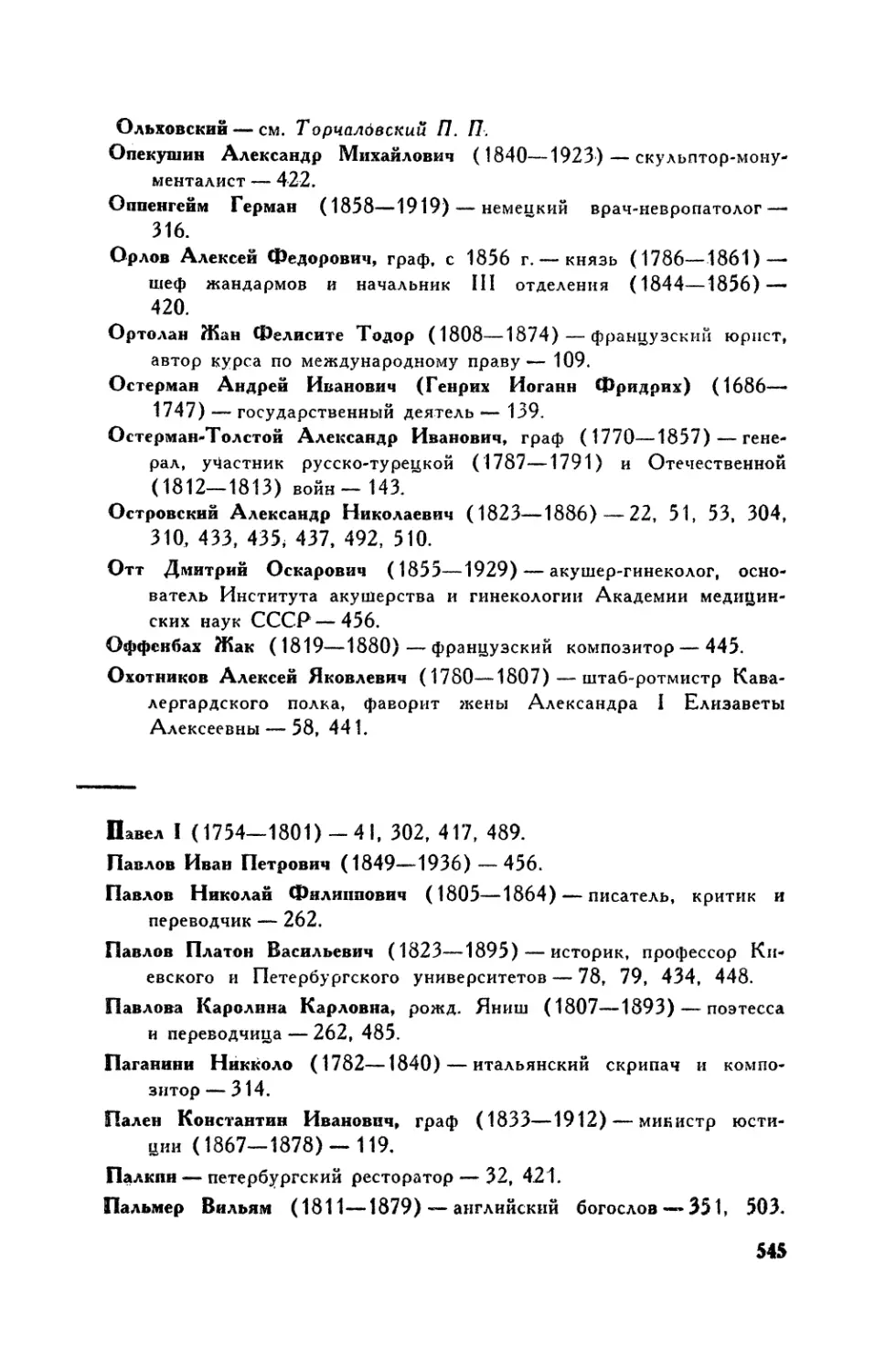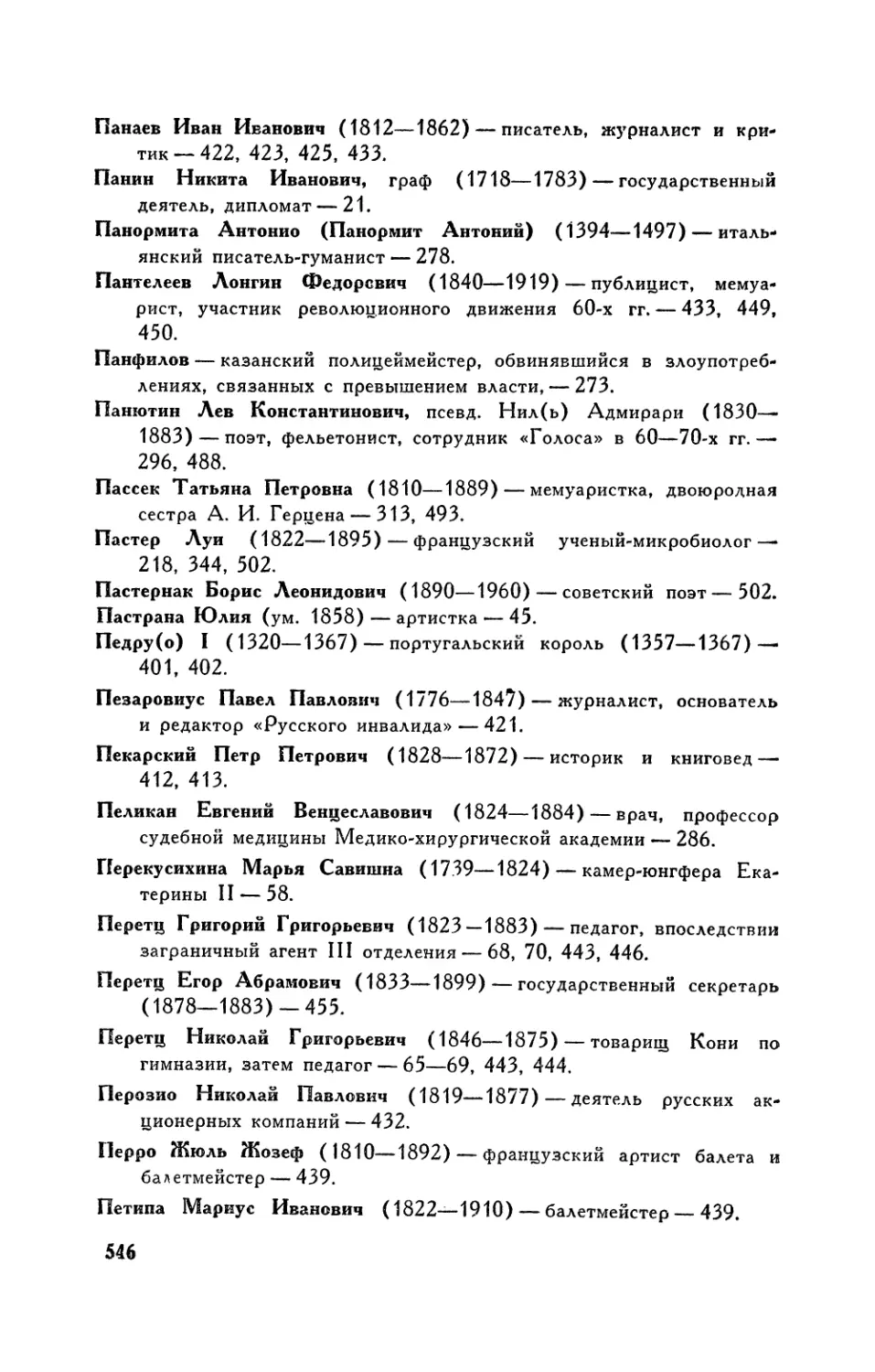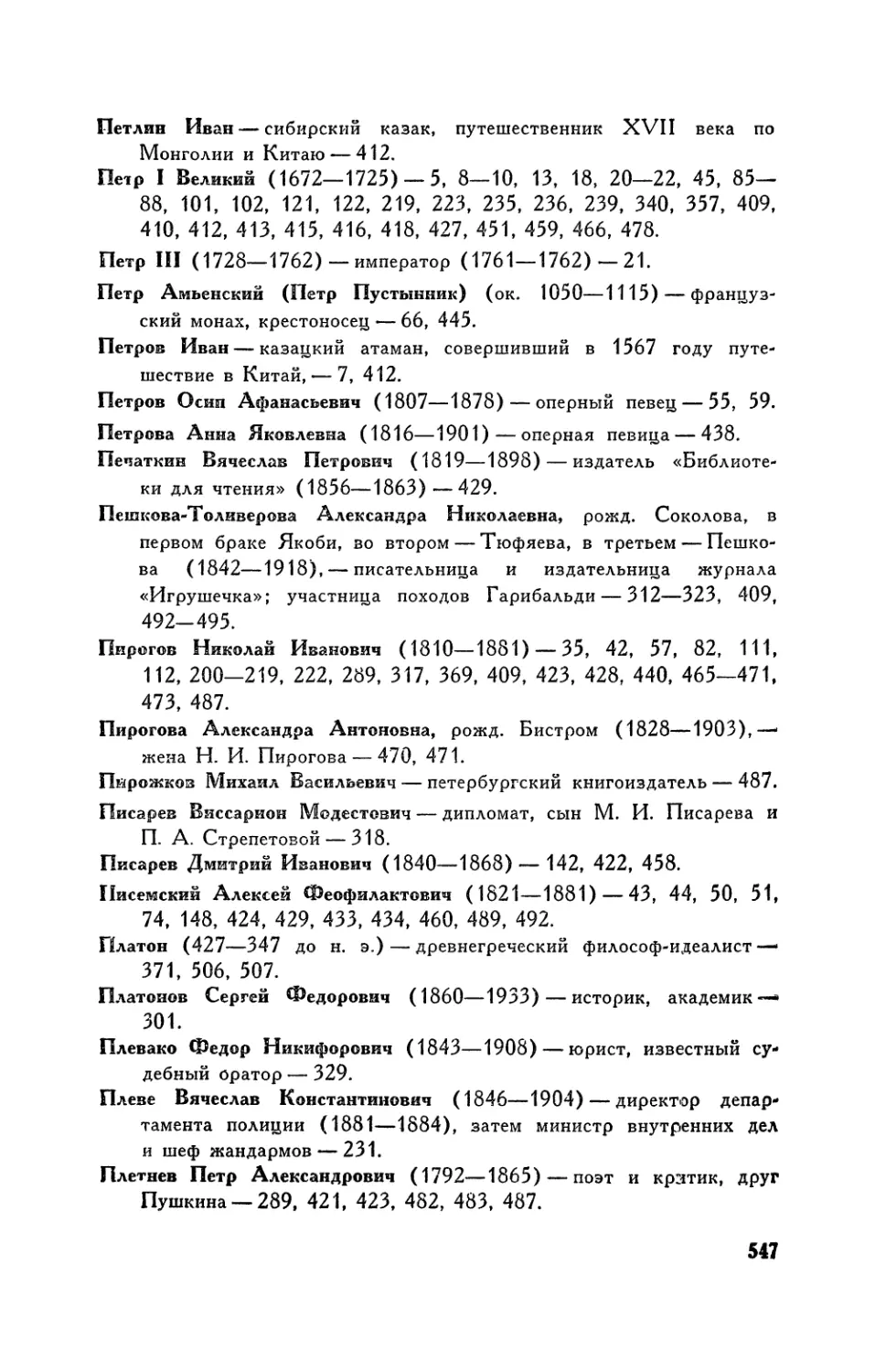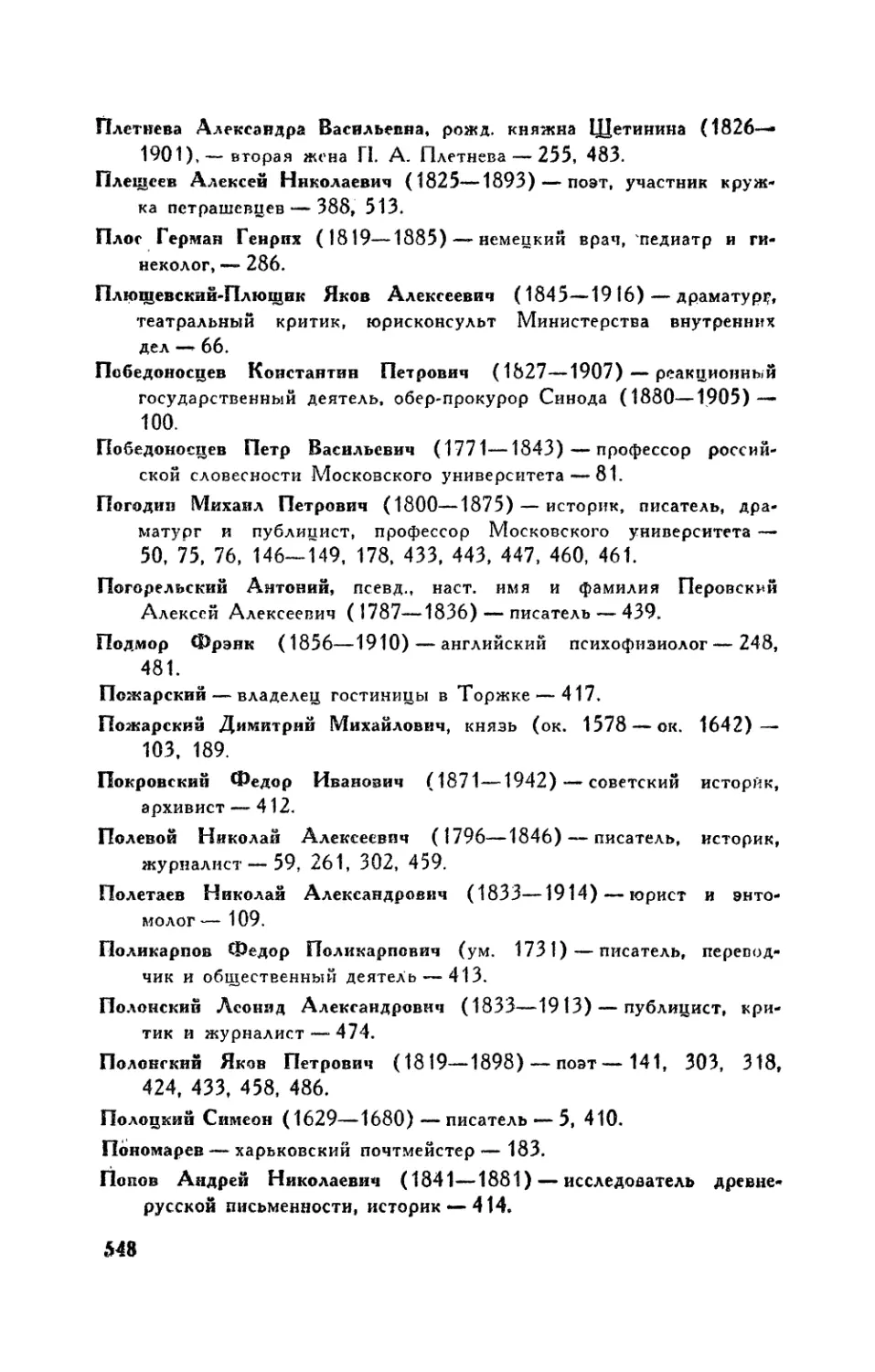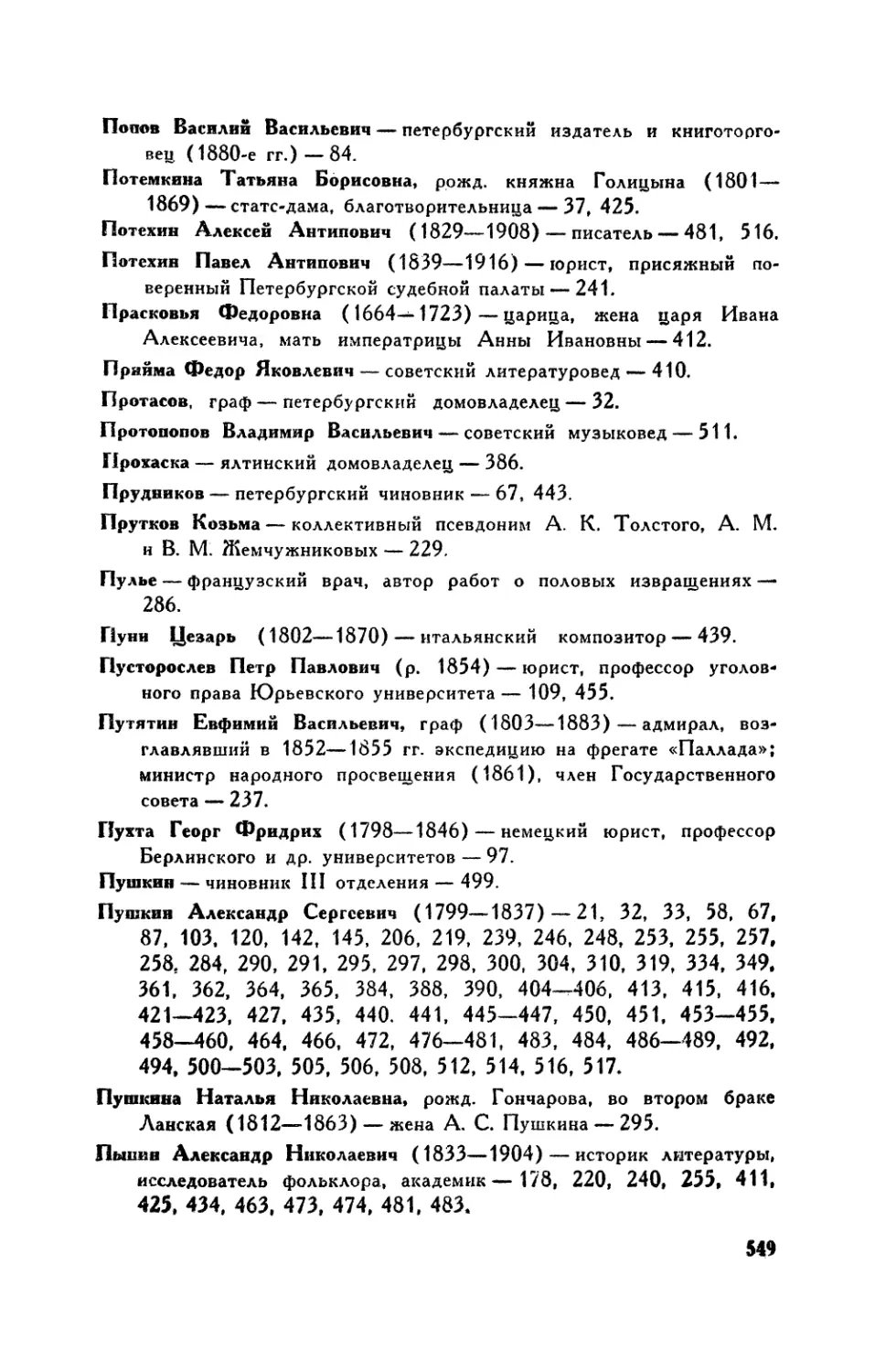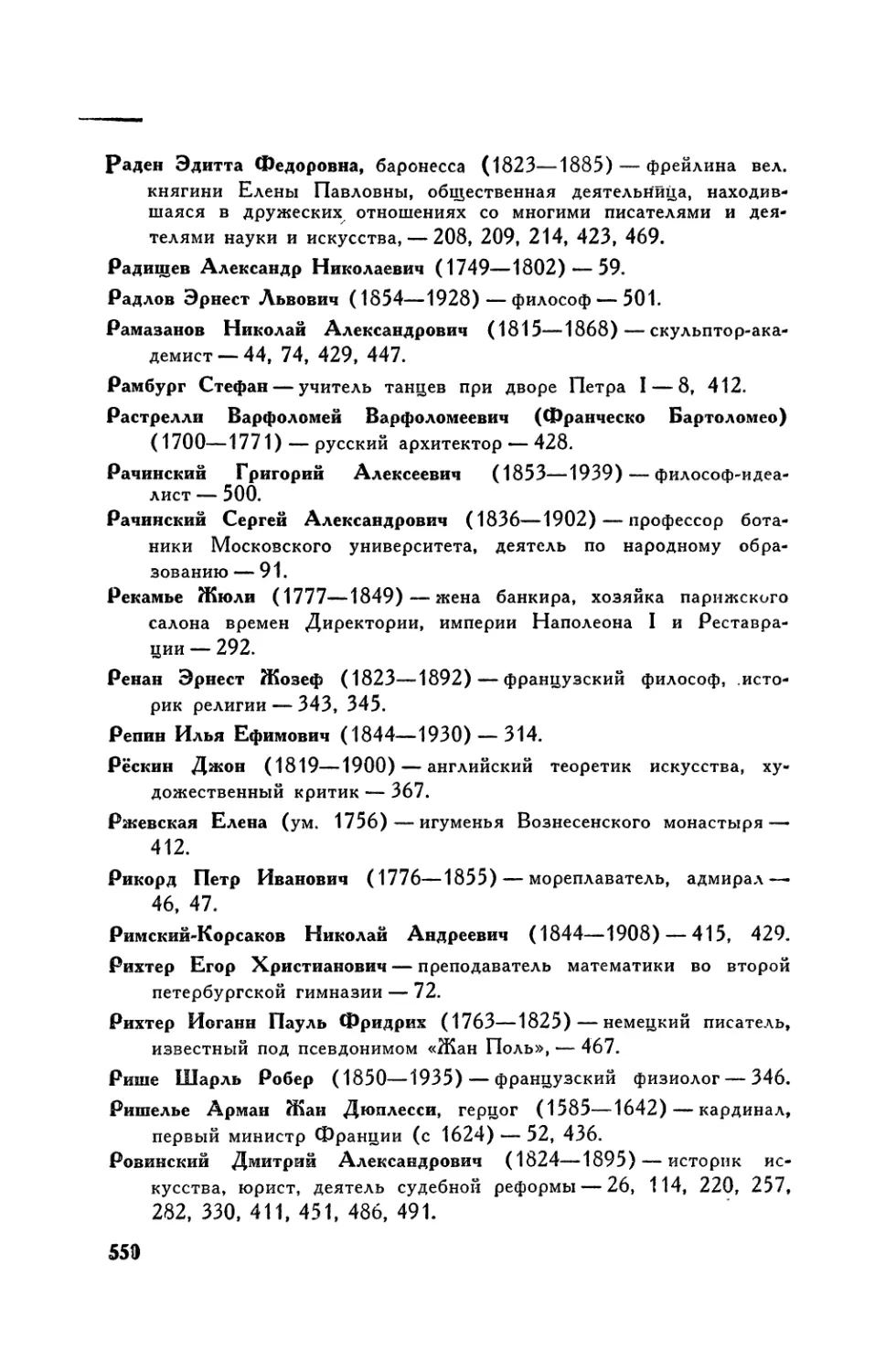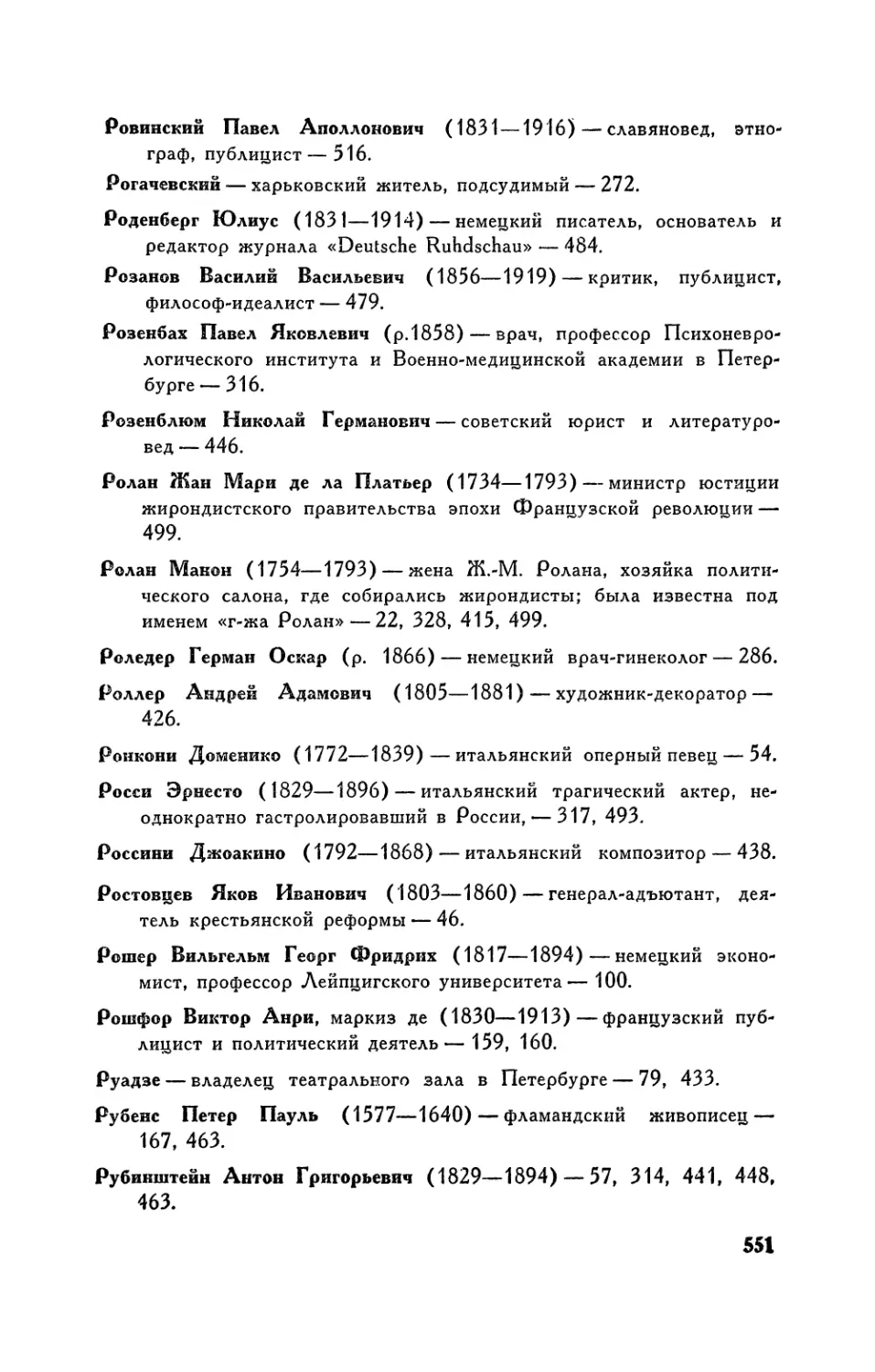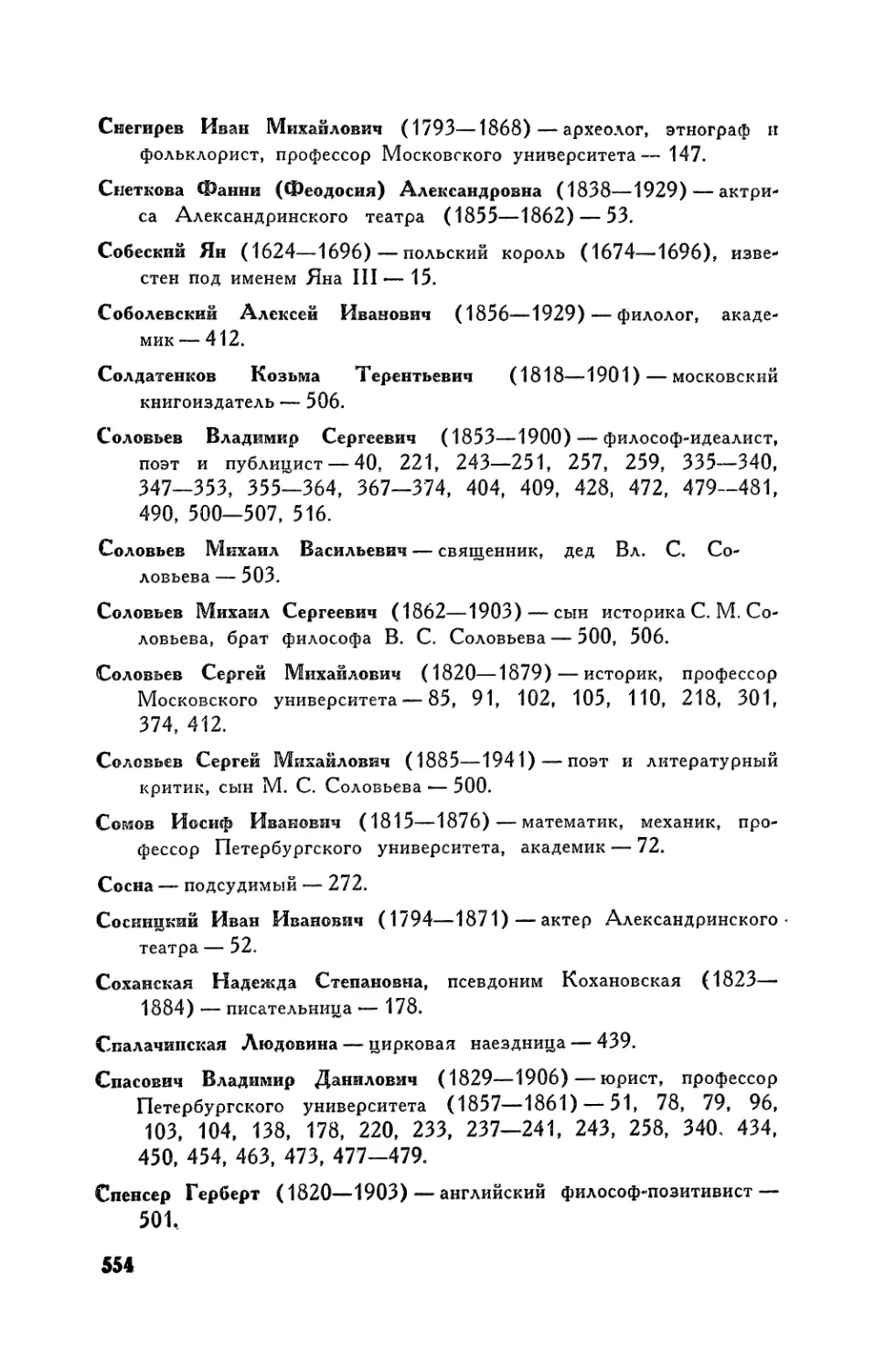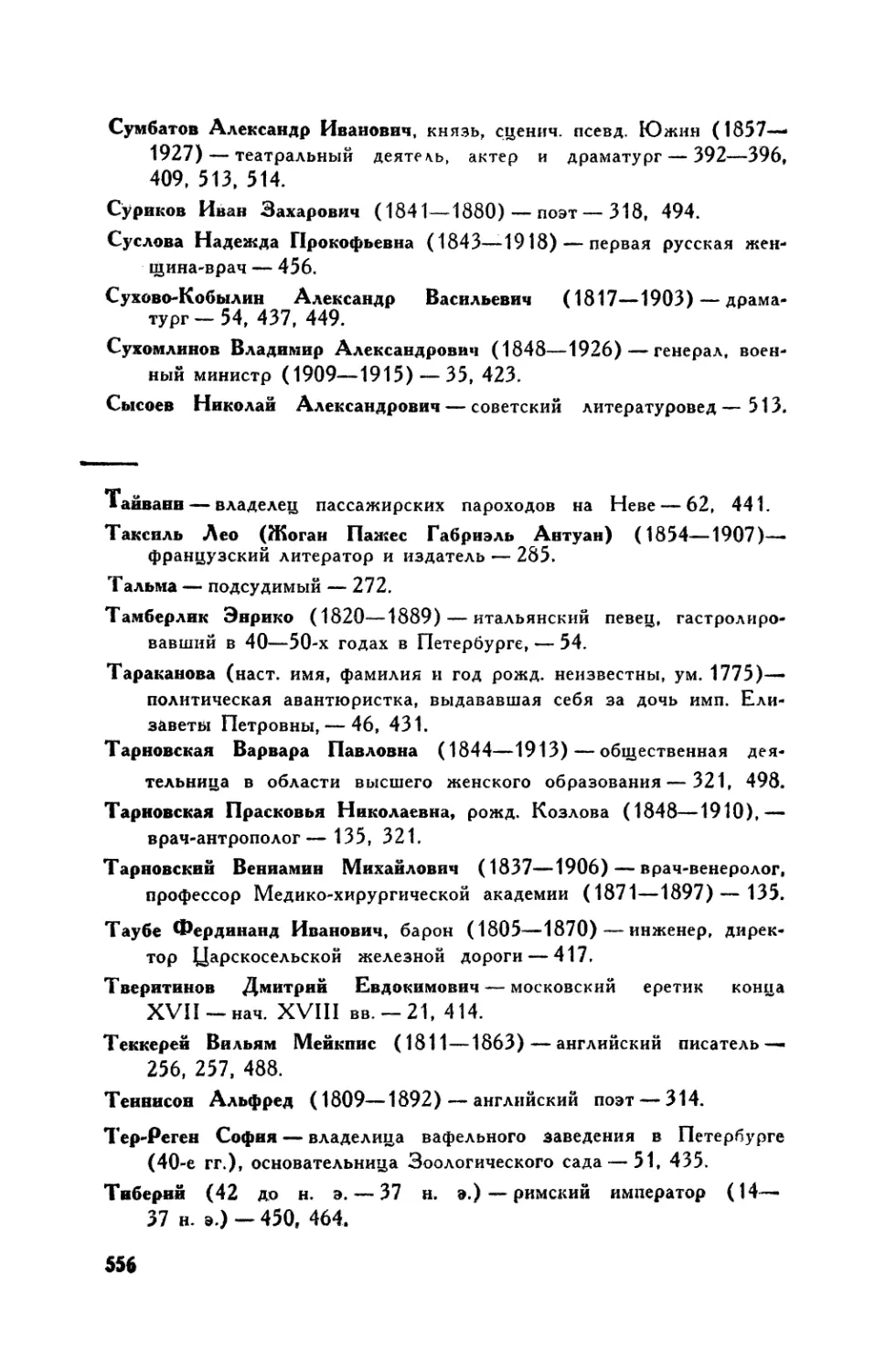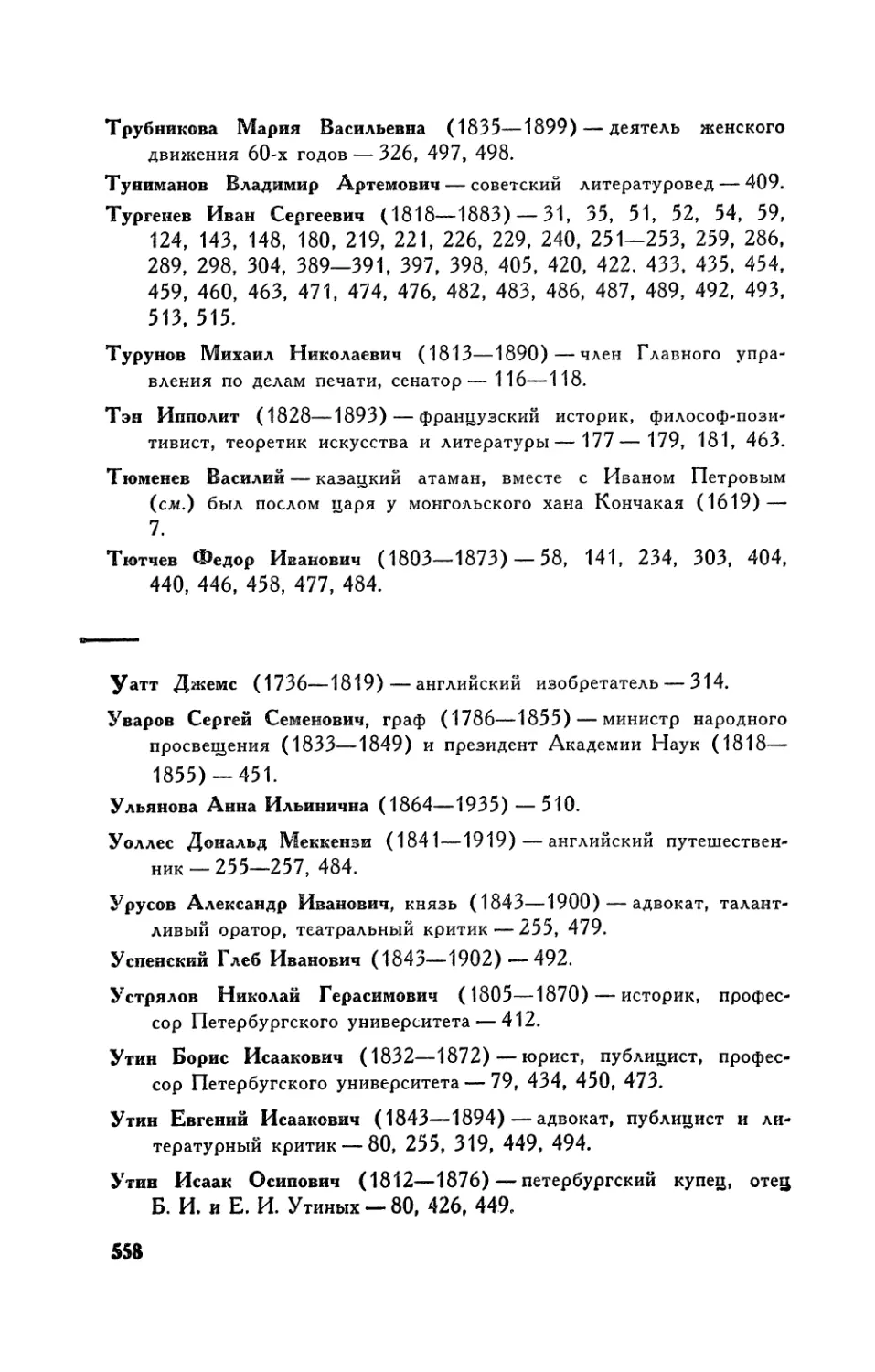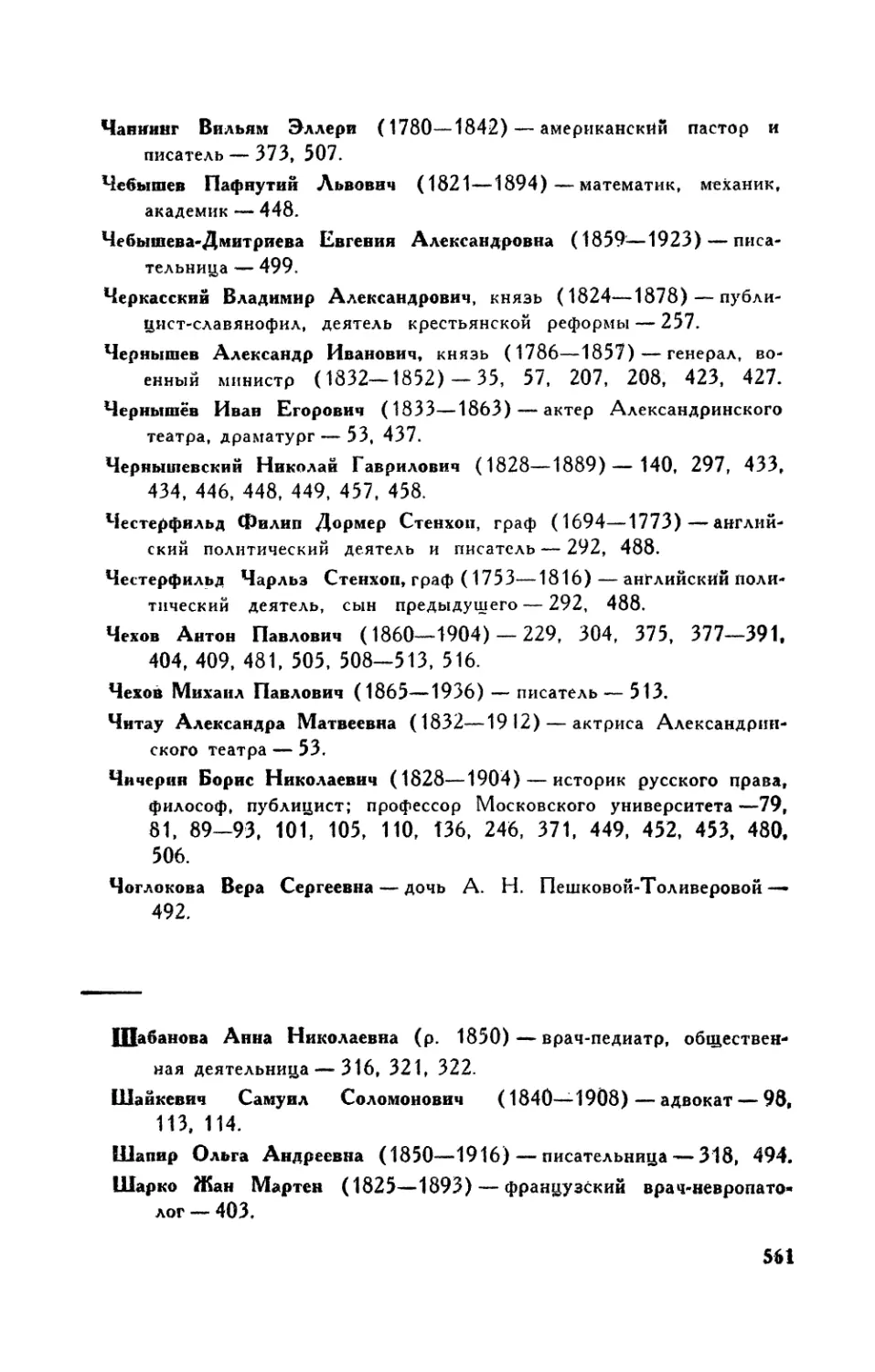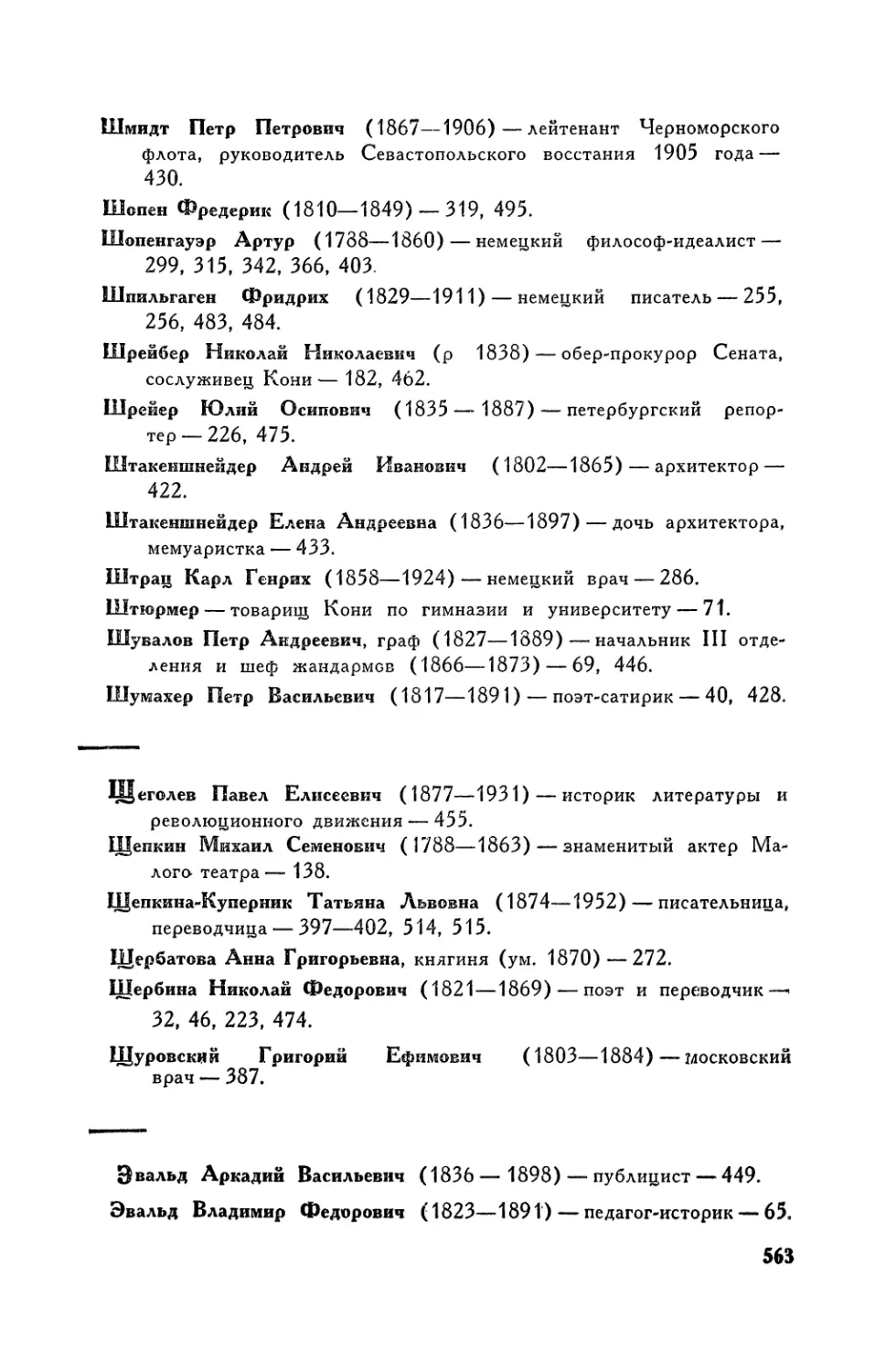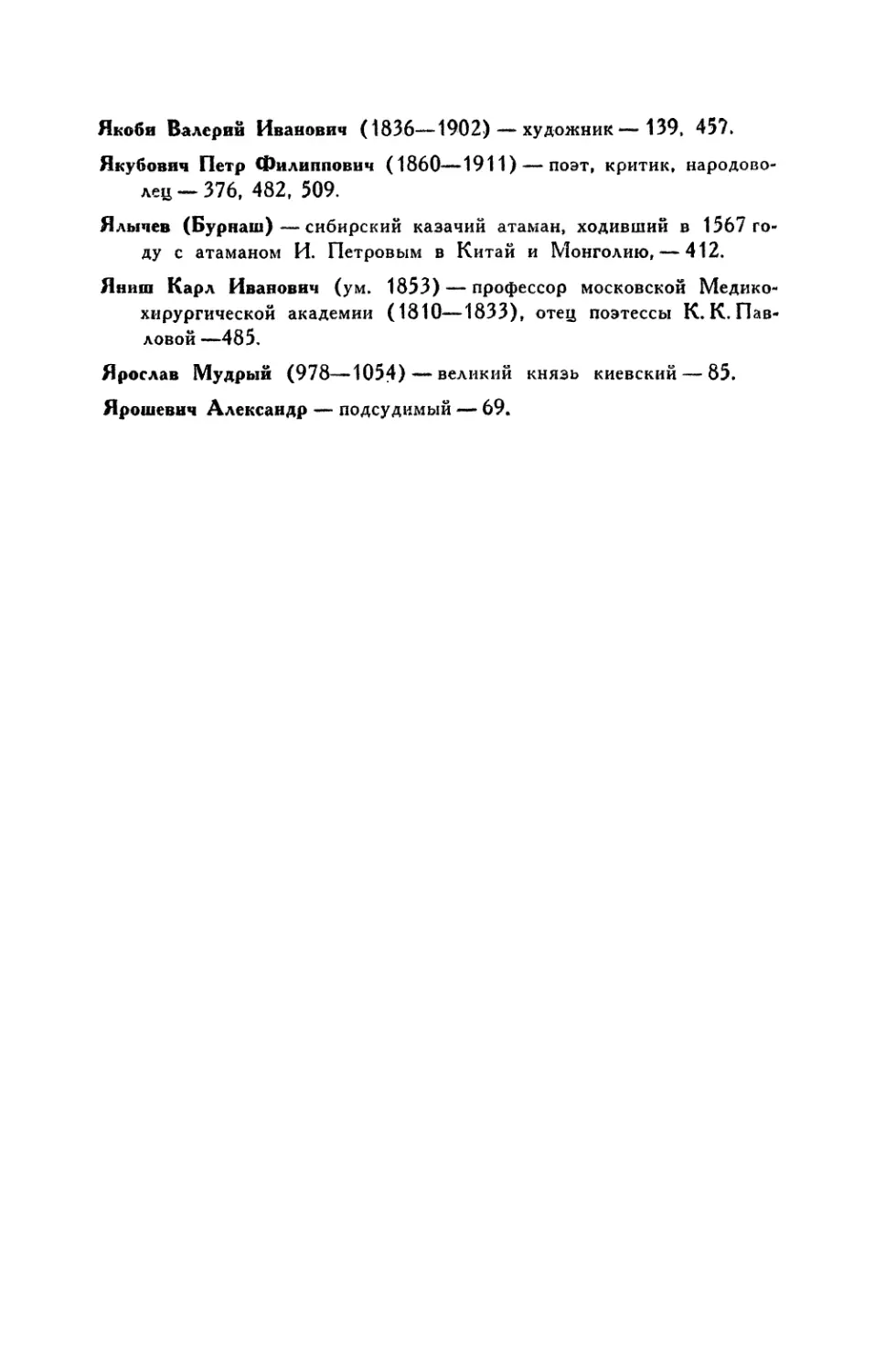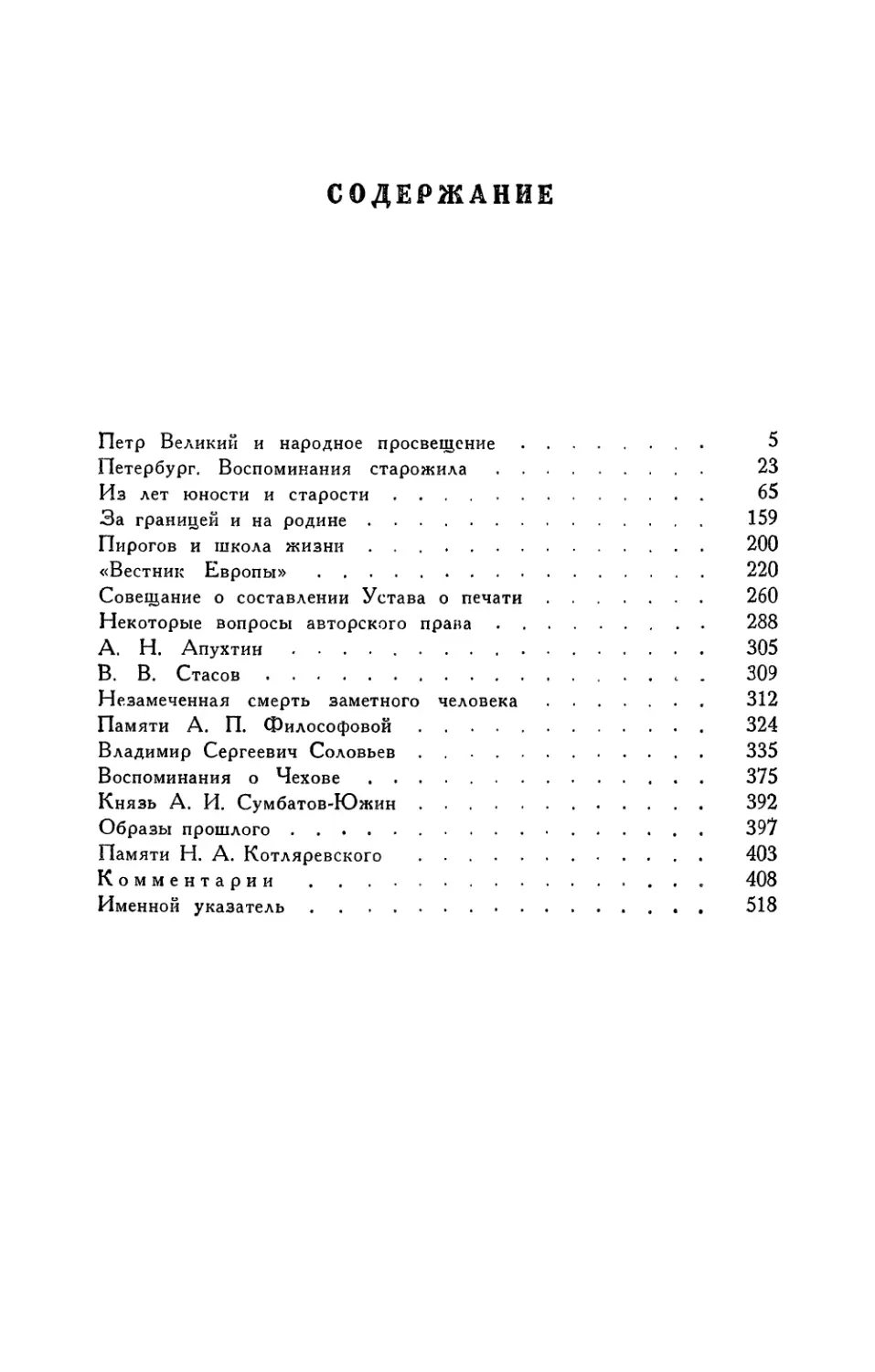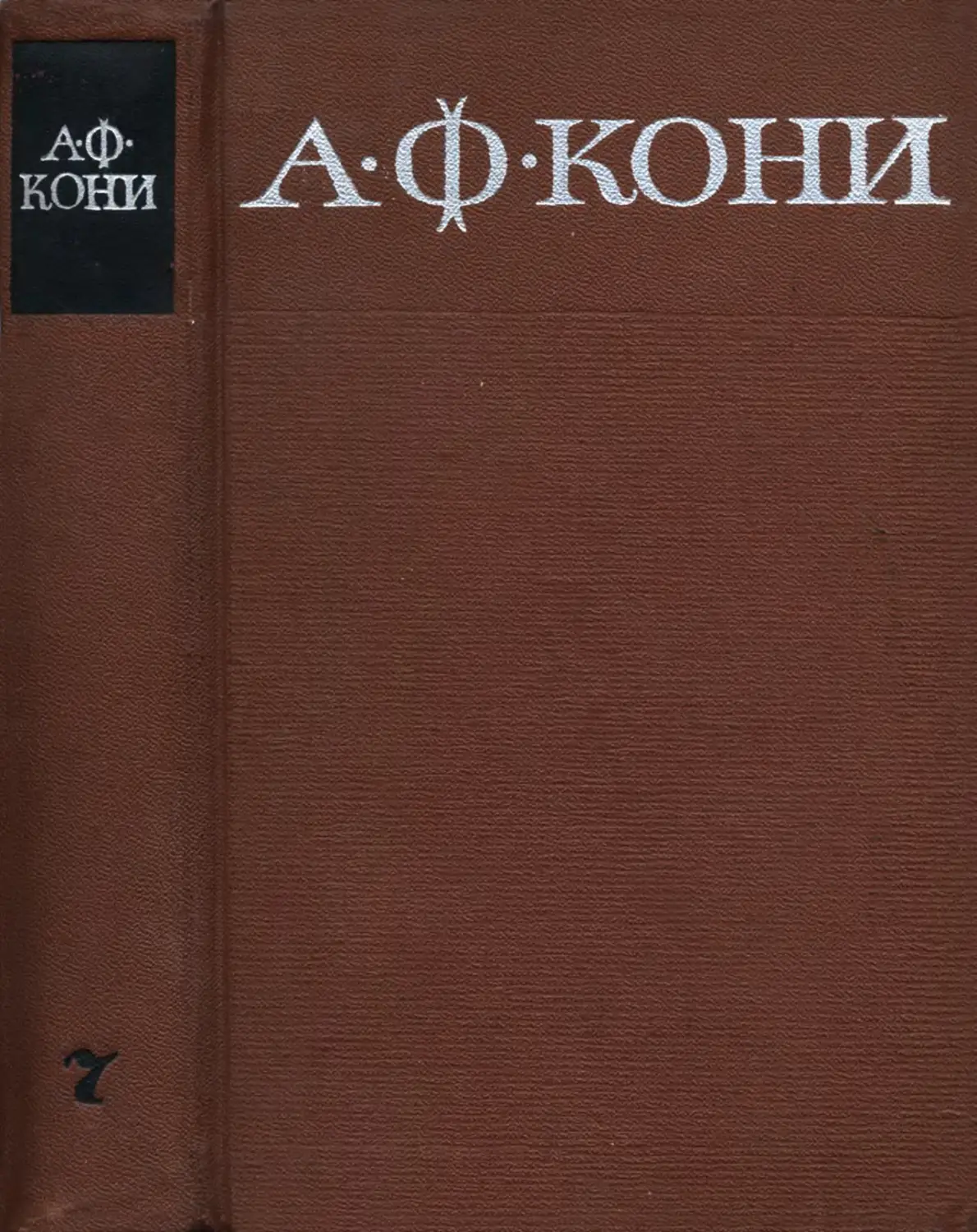Текст
<®
ф
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ
В ВОСЬМИ ТОМАХ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
Москва —1969
ф
С ОБ PLA.M J* Е
СОЧИНЕНИЙ
7
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
Москва —7969
34(09)
К 64
1-10-1
Под общей редакцией
В. Г. БАЗАНОВА,
Л. Н. СМИРНОВА,
К. И. ЧУКОВСКОГО
БЗ-86-64
ПЕТР ВЕЛИКИЙ И НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ*
Трудно жилось русскому
человеку в XVII веке.
С востока и запада враждебно окружали его иноземцы,
возбуждая его крайнее недоверие, — чуждые ему по вере,
по образу жизни, по языку, непонятные в своем
общественном устройстве, — всегда могущие то угрожать силою,
то действовать хитростью и коварством. Против всех надо
было быть настороже и сторониться от них. Поэтому
личные сведения людей Московской земли о чужих странах
были крайне скудны и поверхностны. Еще более
недостаточны и в значительной мере фантастичны были сведения
научного характера, преимущественно из области
космографии. Хотя царем Михаилом Федоровичем и была дана
в 1639 году Олеарию грамота о том, что «ведомо нам
учинилось, что ты гораздо научен и навычен в астрономии и
географус, и небесного бегу, и землемерию, и иным многим
надобным мастерствам и мудростям; а нам, великому
государю, таков мастер годен» *, но еще сорок лет спустя
Симеон Полоцкий определял число языческих богов в 30
тысяч и писал, что видимый мир состоит из естества небес и
естества стихийного, небеса же суть троякие: небо эмпи-
рейское в 428 тысяч верст, небо кристальное и затем
твердь, на которой водружены звезды и планеты и т. д. *.
Какие космографические и политико-экономические
понятия были распространены в нашем обществе до конца
XVII столетия и находили себе выражение не только в
рукописных хронографах, но и в печатных сочинениях,
видно из того, что там трактовалось о «Мазическом
царстве девичьем», жительницы которого сходятся с «Ефио-
пами с году на год; мужской пол отдают Ефиопам
в их землю, а женский пол оставляют», — о великанах с
5
песьими головами, о змеях, у которых «лицо девическое, до
пупа человек, а от пупа хобот змиев, крылаты, а зовомы
василиски», — «о людях Астромовех, кои живут в индейской
земле, сами мохнаты, без обеих губ, а питаются от древа
и корения пахнучего и от яблок лесных, а не едят, не пьют,
только нюхают, и покамест у них те запахи есть, по та
места и живут», — и о людях «Монокулях об одной ноге,
а коли солнце печет и они могут покрытися ногою, как
лапою» и т. д. *.
В этого рода сочинениях описанию соседей наших с
Запада отводилось меньше места, чем фантастическому
описанию «дивиих людей», да и характеристики этих соседей
отличались большою краткостью. Так, французы
оказывались «зело храбры, но неверны и в обетех своих не крепки,
а пьют много», жители «королевства агленского — немцы
купеческие и богатые, воинских людей у них мало, а сами
мудры и доктуроваты, а пьют много», а люди королевства
польского «величавы и обманчивы, — пьют зело много,
платья носят зело цветно и всяким слабостям покорны, а
вольность имеют велику, паче всех земель» *.
Хотя старая Русь имела довольно богатую духовную
письменность, хотя она. обладала многими летописями,
сказаниями и поэтическими легендами, но во всех них было
отсутствие сведений о западе Европы и о явлениях
природы. Четьи-Минеи, Китежский летописец '1167 года,
переписка Новгородского архиепископа Василия с Тверским
епископом Федором в XIV веке о рае видимом и рае
мысленном и т. п. полны поэтических образов, но не имеют
никакого отношения к современной им действительности,
а такие сочинения, как, например, Домострой или труд Ко-
тошихина, касаются исключительно внутреннего быта и
обычаев старой России *.
Не было и личного ознакомления русских людей с
Западом. Путешествия и паломничества последних
направлялись на Восток. Повествования о них крайне односторонни
и содержат в себе наблюдения чисто внешнего характера.
Таковы описания хождений в Святую землю в XVI веке
игумена Даниила и старца Леонтия, в XV веке инока
Симеона и купца Афанасия Никитина и в XVII веке купца
Василия Гагары. Все эти описания наполнены главным
образом рассказами о святынях, храмах и местах, освященных
чудесами, причем всё это воспринято авторами с крайнею
доверчивостью. Так, например, Гагара рассказывает, что
6
видел в Иерусалиме пуп земли и щель, ведущую в ад, и
верит в то, что близ Тифлиса в горах живут цари Гог и
Магог, а между двумя вершинами Арарата стоит Ноев
ковчег *.
Отчеты и статейные списки служилых людей,
посылаемых в чужестранные земли в XVII веке, отличаются
лишь сведениями, почерпнутыми из внешней
наблюдательности, лишенной анализа, или принятыми на веру данными
сомнительного достоинства. Примером может служить
отчет посольства к Алтын-царю (Монголия) казаков Тюме-
нева и Петрова в 1617 году. Послам в числе пяти человек
предписано было давать поденного корму «на человека в
день по два калача да говядины как им можно сытым быть,
да питья всем вопче по тринадцать чарок вина, три ведра
пива и ведро меду». Они доносили между прочим: «а на
завтрее того дни ели мы у Алтын-царя, а царь перед нами
государю шертвовал по своей мусулской вере: подымал
на руки бога своего честно. А бог.у них вылит в золоте,
что робеночек невелик, а царь говорил, что у них только и
веры, что они богов своих подымают и им кланяются, а не
прикладываютца. А на отпуске дал им царь своего
жалованья по три коня да одному из них дал девку, и та у него
девка в дороге у Соли Вычегодцкой умерла, а вез он ее к
Москве, да им же дал по шубе боранье опушены собол-
ми» *. Так, в другом отчете в 1697 году рассказывается,
что около Сицилианского острова стоит гора Струмболий,
на верху которой непрестанно горит огонь, а в горе, по
словам жителей, обиталище дьявола, а также что в
Венеции у сенатора много натуральных вещей и в том числе
каменные раки от натуры великие, курица о четырех ногах
и василиск, который может умертвить человека зрением.
С начала XVIII столетия поездки русских людей в
Западную Европу становятся чаще, но внимание
путешественников в первое время главным образом обращается на
явления природы и на то, что «преудивительно» поразило их
взор своим несоответствием виденному на родине. Их,
между прочим, приводит в удивление «предивной работы
божница, во имя поганского бога Венуса и поганской
богини Дианы и Меркурия, коим приносил жертвы
проклятый Нерон и за ту свою к ним любовь купно есть в пекле».
Также удивляют их «в спиритусах бальзамные младенцы
в скляницах стеклянных, и плавают в том спиритусе, и
стоят так хоть тысячу лет, не испортятся, а также разные
7
животные также в спиритусах — крокодилы малые, и
ехидны, и мартышки не токмо здешних европских, но наипаче
ориентальных остинских и вестинских государств».
Путешественники во многом затруднялись незнанием местного
языка, а также трудностью пути, причем им приходилось
«видеть много смертных страхов от зело прискорбного и
трудного пути, от безмерно многого каменья острого по
дороге, самой тесной среди безмерно высоких каменных
гор» *. Поэтому подробностей о внутреннем политическом
устройстве, характере народа и его верованиях почти не
встречается, кроме некоторых замечаний относительно
светского обращения, а также женского пола и
развлечений в театрах и на ярмарках. Некоторые сведения о
существующих в Западной Европе светских правилах
становились у нас известными уже в XVII веке. Недаром еще при
царевичах Петре и Иване состоял иностранец Рамбург для
преподавания «танцовального искусства и поступи
немецких учтивств» *. Последние, впрочем, далеко не всем
приходились по сердцу, и одна из русских царевен, жившая при
дворе немецкого принца, жаловалась, что ей тошно
становится «от куплиментов немецких и от приседания хвоста»*.
В 1709 году для общего сведения была даже переведена
с латинского и издана «краткая книжица политичных или
гражданских обходительных поступков по правилам Маза-
риновым» *.
Стольник Толстой в 1697 году находил, что «народ
женский в Венеции зело благообразен и строен, и
политичен, высок, тонок и во всем изряден, а к ручному делу не
очень охоч, больше заживают в прохладах». Венециане же
«люди умные, политичные и ученых людей зело много;
однако ж нравы имеют видом не ласковые, а к приезжим
иноземцам зело приемны. Между собою не любят
веселиться и в домы друг к другу на обеды и вечеры не
съезжаются, и народ самый трезвый, никакого человека нигде
отнюдь никогда пьяного не увидишь, а питей всяких, вин
виноградных разных множество изрядных, также розоли-
нов и водок анисовых изрядных из виноградного вина сы-
теных много, только мало их употребляют, а больше
употребляют в питьях лимонадов, симады, кафы, чекулаты и
иных тому ж подобных, с которых человеку пьяну быть
невозможно» *. Матвеев в 1705 году пишет: «Женский пол
во Франции никакого зазору отнюдь не имеет во всех
честных обращаться поведениях с мужеским полом, как бы са-
8
мые мужи, со всяким сладким и человеколюдным прием-
ством и учтивостью. Особенно же высоких фамилий дамы
между собою повседневно съезжаются и, имея музыки,
сами на них играют беззазорно и поют куда свободно. Не
токмо особ чинных из господ французов, но и из
иностранных свободно есть приезд с ними веселиться, что они
за честь еще и за увеселение вменяют» *.
Сведения такого рода и им подобные, конечно, с
трудом могли проникать в общество и не служили ему на
пользу. С этим, однако, не мог примиряться тот «работник
вечный на троне», который «не презирал страны родной,
но знал ее предназначенье» и «самодержавною рукой» в
ней «смело сеял просвещенье» *. Первый, в сущности,
сознательный путешественник по Западной Европе, он
желал распространения приобретенных им сведений по
родной земле. Отсюда его заботы о водворении просвещения.
Он учреждает Академию Наук, основывает первую газету.
Но для школ у него нет средств в надлежащем размере, и
он начинает влиять на живые и восприимчивые умы
книгой, пропагандируя, таким образом, более обширные и
верные сведения о природе и о чужих странах. Так появляются,
по его почину и под его надзором и даже при его
личном участии, переводы книг: «Геометрия сиречь
землемерие», «География генеральная или повсюдная», «Книга ми-
розрения» Гюйгенса и др. *. Переводы эти должны были
быть тщательно проверены и освобождены от лишнего,
содержащегося в оригинале. Предписывая указом 1720 года
Синоду заботиться о переводе книг по хлебопашеству,
Петр пишет: «Понеже немцы многими рассказами
негодными свои книги наполняют только для того, чтобы
велики казались — чего переводить не надлежит» *. Вместе
с тем он желает точности в переводах, поручаемых
действительно знающим людям. «Переводчики, — говорит он,—
должны иметь художество и языки, а не имея того
художества, о котором переводит, перевесть правильно не может» *.
Поэтому в 1719 году в Москве выходит ныне чрезвычайно
редкая и мало известная книга под названием «Земновод-
наго Kpytfl краткое описание из старыя и новыя географии
по вопросам и ответам чрез Ягана Гибнера собранное и на
немецком диалекте в Лейпцике напечатано, а ныне
повелением великого Государя, Царя и Великого Князя Петра
Первого, всероссийского Императора, при наследственном
9
благороднейшем Государе Царевиче Петре Петровиче — на
российском напечатано в Москве».
Книга эта, удовлетворяя любознательности русских
людей, призванных Петром Великим к более широкому
кругозору, является интересной еще и потому, что представляет
собой характеристику взглядов современного Петру
западноевропейского образованного общества на различные
исторические явления и бытовые стороны жизни.
«Описание земноводного круга» отпечатано на
прекрасной, плотной бумаге, красивым, четким шрифтом и
представляет собою большой том in quarto lt с пятью гравюрами
на меди. Первая изображает Атланта, держащего на
раменах своих мир, по борту ее надпись: «Несу всех носящо,
стар сый толь тяжкое бремя, се зрящ, всяк учися — не
трать всуе время». Вторая, с надписью «Европы*описание»,
изображает женщину в царском одеянии. По борту
написано: «Сия трех частей и мудрости царица, в храбрости,
в силе как в звездах денница». Гравюра «Описание Азии»,
изображающая торговцев в восточном одеянии, окружена
надписью: «Сия сияла в силе своей славна, но днесь, при
лучших не столь стала явна»; «Африки описание» — с
изображением негров, слонов, львов — сопровождается
надписью: «Аще и под солнцем, но черна есть телом, паче же
грубым и гнусным своим делом». Наконец, последняя
гравюра, с фигурой царя инков, бобрами, черепахами и
змеями, предшествуя описанию Америки, повествует: «Что
пользует сим множество богатства, егда не имут мудрости
изрядства».
В книге 426 страниц. Она разделяется на «предуготов-
ление на географию» и на отделы, называемые —
ландкарта европейская, азиатская, африканская, американская
и о незнаемых землях. Каждая ландкарта содержит
описание всех стран, входящих в соответствующую часть света.
В конце книги помещена глава «О глобусе», содержащая
главные основания математической географии. По вопросу
0 вращении земли эта последняя глава высказывается
очень осторожно. «Солнце причиняет день, а понеже на
свете день и нощь меняются, того ради без сомнения из
того следует, что либо солнце с фирмаментом, т. е. с твер-
дию небесною, или земля движутся. Ежели по
человеческому уму разсуждать, то, кажется, имовернее, что солнце
1 В одну четвертую часть листа (лат.).
10
стоит, а земля движется, ибо...» и т. д. «И сей аргумент
защищал и содержал Николай Коперник, духовный
человек в Фрауенбурхе в Прусах, что и ныне многие приемлют
и оному последуют. Между тем понеже именно в
священной библии написано, что солнце течет в круг, а земля
недвижима стоит, того ради святому писанию больше в том
верить надлежит, нежели человеческому мнению. Сей же
аргумент особливо славный дацкий математик Тихо Браге
хранил, чему и доныне все согласуются, которые святому
писанию неохотно прекословят. Мы, — глаголет автор
книги сея, — согласуемся мнению Тихонскому и верим, что
земля недвижима стоит, а против того весь фирмамент
непрестанно около земли обращается».
Изложение физической географии стремится в книге к
большой образности. Например, на вопрос, как разделяется
Италия, дается ответ, что лучше при фигуре сапога
остаться, а сапог разделяется на три части: верхняя — где
отвороты, средняя — голенище и нижняя — ступень.
Яган Гибнер, автор этого «Земноводного круга»,
особенно интересуется нравами и свойствами жителей разных
стран, а также их учреждениями. Описывая последние, он
старается, однако, отмежеваться от области «политики»,
«истории» и «генеалогии», но, тем не менее, часто
обращается к историческим фактам, давая им живое и
своеобразное освещение. Характеристики отдельных народов,
причем, конечно, наибольшее место отводится Европе,
нередко поразительны по своей верности и уменью сочетать
*г-©ыставить рельефно отличительные свойства народного
характера. Меткие и решительные приговоры почти чрез
двести лет не утрачивают своего значения и применимости
в некоторых отношениях и к настоящему времени. Вот как,
например, рисует автор французов в ответе на вопрос о
том, «какие жители обретаются во Франции?» — «сии
жители в учении зело любопытны, в экзерцициях поспешны,
в войне высокоумны, храбры и скоропостижны, — к чюже-
странным учтивы и вежливы, — в платье переменны и
замысловаты, — в языке своем искусны и благоприятны,
королю своему верны и во всех делах скорую имеют
резолюцию». Если отбросить стертую рукою истории «верность
своему королю» и не поставить на счет храбрости
французов их поражений в 1870—1871 гг., отнеся их, по всей
справедливости, к бездарным «высокоумным»
военачальникам и «скоропостижным» политикам, имевшим слишком
И
«скорую резолюцию», то пред нами будет живое
изображение современных французов со всеми их
отличительными свойствами. К другим двум романским нациям
«Описание земноводного круга» относится с большею критикою.
Ответ на вопрос о «состоянии жителей гишпанских»
указывает, что у «оных хвалят остроумие их и постоянство, а
против того хулят их гордость и ленивство», что «особый
язык их с латинским во многом сходен и, таким образом,
кажется, что оный от латинского родился» и что, наконец,
«проезжие люди и иностранные гишпанскими корчмами
зело недовольны». Отмечено враждебное отношение
испанцев к французам: «Между гишпанцами и французами
природная ли или обыклая антипатия состоит — о том
еще и доныне диспутуется». Но что стоит вне спора, это—
экономическое истощение страны и ее малая населенность.
«Гишпания в протчем гораздо столько жителей не имеет,
сколько б оная обнять могла, а причины к тому отчасти за
воздухом («Сия земля гораздо жарчае, нежели
Германия»,— говорится в другом месте), а отчасти за
невременною любовию, также и ради безмерного множества
духовных, ради изгнания маронов и для жестокой
инквизиции и для многих оттуда переведенцев быть являются...»
К малой населенности Испании автор возвращается и
говоря о Франции, в которой «примечается в лошадях
скудость, для того говоритца, ежели б в Гишпании столько
людей родилось, как во Франции, а во Франции столько
б лошадей, как в Гишпании, то бы обоим королевствам
нужды не было». Верными чертами намечаются, таким
образом, те язвы, которые разъели организм богатой и когда-
то вполне культурной страны и отодвинули ее на задний
план исторической сцены. Политическая мудрость и
благородная терпимость звучат в этом перечислении причин
падения Испании и звучат в то время, когда эти свойства
вовсе еще не сделались достоянием здравого
государственного управления. Достаточно припомнить, что за несколько
лет перед тем происходило среди народа, «имеющего
скорую резолюцию» по поводу отмены Нантского эдикта в
1685 году, когда «разослал король драгун своих гугенотов
от веры их обратить в католицкую, чего ради некоторые
отреклись от веры, дабы избыть мучения, некоторые же до
смерти замучилися, а многие, оставя имение свое и
пожитки, поехали в швейцары, в Голландию и Англию, кроме
тех, кои в севенских горах пребывают и несколько лет кал-
12
винскую веру против королевских войск шпагою
обороняли, однако ж мало им в том удачи было». Автор книги,
как мы увидим ниже, еще раз возвращается к вопросу о
религиозной терпимости, говоря об Испании. «Гишпанцы»
и «французы» служат мерилом для оценки итальянцев,
«Не можно лучше итальянского нрава описать, кроме что
когда говорится: что у них есть темперамент или природа
между гишпанскою гордостию и французскою безпечаль-
ностию или веселостию». Рассаднику искусств и наук,
озаренному светом Возрождения, отдается справедливость:
«Итальянская нация достойна похвалы, ибо они суть
остроумны, понеже они в музыке, и в архитектурном и в
живописном и в протчих художествах и мудрых искусствах
пред другими народами не мало превосходят». Но
несимпатичные свойства народа, пустившего, между прочим, в
свет поговорку «la vendetta è una meta che e bisogna mangia-
re a freddo» («мщение — кушанье, которое надо есть
холодным»), не ускользает от автора. «Им (т. е.
итальянцам) приписуется, — говорит он, — ревнование неведомо,
либо за хулу или яко благочестие, также и превеликое
неприступное злопамятство». Забота о положении
путешественников сказывается и при описании Италии, где «прежде
сего от бандитов или разбойников, а особливо внизу в
Неаполе зело опасно приезжим бывало, однако ж ныне оныя
гораздо успокоены и утолены». Но особо лестным мнением
Ягана Гибнера, а быть может и русского переводчика,
украсившего подлинный текст доброжелательными
прибавками (подобно тому, как с очевидностью изменен и
сокращен, применительно к взглядам русских читателей, текст
ответов о России), пользуется излюбленная Петром
Голландия. «Ремесло жителей оной есть купечество, которое в
Голландии так возвысилось, и весьма имоверно, что во
всем свете столько кораблей не обретается, сколько в сем
малом государстве находится. И кто ведает, что народ оной
зело правдив, простосердечен, трудолюбив, терпелив,
бережен и саможелателен, тот не удивляется, что они в
купечестве всех других народов превосходят. Но при том
необъятном купечестве не покидают оные и книжного
учения, которое у них так в земле той распространилось, что
они многие иные земли в том посрамить могут». Эта
характеристика получает особую цену при сравнении
голландцев с португальцами, «кои большое прилежание имеют к
купечеству и торговлю во всех четырех частях света в
13
добром имеют состоянии, — но также склонны ко всем
добродетелям и порокам, которые с сим ремеслом следуют, а
особливо учение тамо велми уничтожено, а во время мкра,
может быть, и воинскую храбрость весьма позабыли». Не
менее голландцев нравится автору и население ГраубиН"
динской земли (Граубюнден), где «зачинается река Рен»
и где «жители живут зело единодушно, мало знают о
излишних роскошах и прихотях и, одним словом, являются,
якобы из старого света остались», причем к их союзу
относится и достопамятный город Семпах, «понеже тамо в
1386 году достались естрейхерцам * от швейцар
немилостивые побои». Англии посвящено в «Земноводном круге»
много ответов, в которых по отношению к Ирландии
высказывается взгляд, доныне разделяемый большинством
«благонамеренных» англичан, видящих в великодушных и
мудрых предложениях Гладстона чуть не проповедь
полного государственного разложения Британии. «О жителях
Ирландии мало доброго пишут, — говорит Гибнер, —
кроме того, что они к работе ленивы, к тому же худые и
упрямые люди и понеже англичане усмотрели, что невозможно
закоснелого в них нрава переменить и исправить, того
ради многих переведенцев из Англии туда на житье
отправили, а против того многими тысящами ирландцев другим
потентатам поступились». Самый краткий и жестокий отзыв
дается о небольшом государстве на юго-восточной границе
Азии и Европы, причем говорится, что земля в нем сама
по себе весьма хороша, но жители «не гораздо добры, ибо
хотя они больше в христианской вере признаваются,
однако толь плохие имеют обычаи, что обычайно некоторые
дети от отца воровать, а от матери бл ть научаются» *.
Вопросы веры и государственного устройства весьма
интересуют составителя «Земноводного круга», хотя он и
оговаривается неоднократно, что «состояние правительства
надлежит в политику,—обстоятельства королевского дома
в генеалогию, а протчее — в гисторию».
На вопрос, «кто государствует во Франции», он
отвечает: «Франция всегда особливого своего короля имела,
прежде сего королевская власть зело была принуждена,
когда парламенты еще в великой чести и славе жили,
однако, ныне то пресеклось, ибо король французский есть
ныне самовластнейший в свете потентат». Даже и в
сопредельных землях, например в Лотрингене (Лотарингии),
имеет французский король свободный проход через всю
14
землю, «однако без повреждения жителей». В иные
условия поставлена королевская власть, например, в Польше,
стране, «которая довольно везде многолюдна и шляхты
в ней есть неслыханное множество; которые к германии и
прусам живут суть учтивее, нежели те, которые позади на
российских и татарских границах обретаются». Когда
король польский Яган Третий «для своей охоты веселое
место недалеко от Варшавы, Вилланов, построил, поляки
сперва не хотели того видеть, ибо по основательному их закону
и праву король не имеет ничего собственного содержать».
Еще более стеснено и тревожно положение королевской
власти в Шотландии, ибо «шкоты не так обходительны,
как англичане, а особливо горские шкоты и которые по
островам живут, понеже оные так дики и нелюдимы, что
обычайно они дикие шкоты называются; в протчем к
бунту они склоннее англичан и едва не всех иных народов
охотнее; однако ж ежели учинится бунт, то они пред анг-
личаны и едва не перед всеми другими нациями гораздо
жестоко в том поступают».
Обращаясь к вопросам о вероисповеданиях, «Описание
земноводного круга» указывает, что Италия «к тому
удостоена, что глава римского католицкого сонмища, зовомый
викарий или наместник Христов, непременно тамо
резиденцию свою имеет, однако, несмотря на то, нигде столько
легкомысленных и бесчинных в римской вере поступок не
бывает; удивительно ж и сие, что в самом Риме жиды
веру свою отправлять могут, а реформатам того не
дозволено». Отсутствие терпимости в католицизме и его вредные
последствия сказались с особою силою в Гишпании, где
«все сряду имеют римскую католицкую веру» и где за
200 лет было «жидов и срацын много, но оные милльона-
ми выгнаны оттоль». Кроме того, «незадолго пред
реформацией) и духовный суд, по-гишпански йнквизицион
называется, от Фердинанда католика в Ишпании зачался, от
которого щастливо или больше несчастливо препона
учинилась, что свет евангельские истины никогда в Гишпании
просиять не мог».
Противоположность исключительному преобладанию
католицизма представляют некоторые страны, в которых
свобода вероисповедания и отправления религиозных
обрядов вызывает у составителя «Земноводного круга»
наряду с сочувствием и иронические замечания. Так, в
Голландии «начальная вера есть реформатская, однако, при
15
той и иные веры всего света отправлять свободно, хотя
некоторые из того числа и гораздо глупы и удивительны
находятся». Широкая веротерпимость в Польше
охарактеризована так: «Начальная вера есть римская, которую
король и знатнейшие в государстве исповедывают, однако и
иных причастники вер, яко греки, социаны, реформаты,
жиды, лютеры и турки *, не только тамо стерпимы бывают,
но и под польскою обороною веры своя отправляют, а
особливо жидам там лучше удача, нежели в другом месте
на свете». «Удивительно, — говорится далее в описании
начального города в Литве — Вилня, — что в городе оном
по вся недели три субботы празднуются, ибо христиане
празднуют в воскресенье, жиды в субботу, а турки в
пятницу». Не осталась без отметы и узкая нетерпимость
англичан к католикам. «Хотя Англия вся калвинскую веру
держит, однако ж обретаются между епископскими, през-
витерскими, пуританами — конформитаны, неконформита-
ны, сепараты, индепенденты и протчие неразрешимые
расколы; квакеров и протчих таких же сумасбродов
полоумных довольно, токмо одних католиков не терпят» *.
«Описание земноводного круга» в разных местах отдает
справедливость религиозной пропаганде католиков среди
нехристианских племен Азии. Пальма первенства здесь
принадлежит ордену, «зачинщиком и уставщиком» которого
был «Игнациус Лойола», проживавший в 1520 году в
Пампелоне («город стоит весел и добре укреплен»), столь
сильно израненный, что ему «удобнее было постричца,
нежели женитца». Хотя Христос и апостолы его
евангелие прежде в Азии благовествовали, однако «жители
азиатские, несмотря на то, благодати такой сподобитися сами
себя недостойными явили, но поныне большая часть оных
в махометанской слепоте и заблуждении погрязли.
Европейцы, а особливо езуиты зело доныне трудились, дабы
христианскую веру тамо распространить, токмо, хотя
посланные их много о обращении своем разглашают, однако
всюду тамо во утеснении веры жить и в разных местех в
книги с мученики вписыватися принуждены бывают».
Поэтому — временные успехи христианской пропаганды
бывают в Азии непрочны. Так, например, в 1685 году
французские иезуиты, поселившись в Сиаме, «так у
оного короля себя в кредите поставили, что не токмо
землю, но и самого короля в христианскую обратить веру
уповали, но как новый король вступил, тогда оные там зело
16
ненавидимы были». Так, португальцы близ ста лет (т. е. в
начале XVII в.) «так зело в Японе усилились, что и
Цесаря оного в христианскую веру обратить уповали, но голан-
цы не дали себя усыпить, пока на португалцов так япо-
нов озлобили, что в 1626 году их многие тысячи ужасным
образом за христианскую веру тамо порублено, а иные до
смерти замучены, отчего христианское имя и доныне тамо
противно и не терпимо...» Успешнее действуют духовно-
рыцарские ордена и в особенности орден «Яганских
кавалеров» *, которым принадлежит остров Мальта, где
«великий господарь мальтийский имеет свою резиденцию и как
достойной принц себя содержит». Вступающий в орден,
повествует автор, не может жениться, «притом же имеет
присягу учинить, что оной туркам всякий урон причинять
тщатися будет, для того у сего острова всегда несколько
галер обретается, от которых туркам подлинно многие
чинятся досады».
Север Европы, Россия и внеевропейские страны
описываются в «Земноводном круге» значительно короче
Западной Европы. Жители Дании характеризуются как
«учинившиеся толь искусны, что ни в мирных, ни в военных
художествах другим европейцам не уступают»,* а жители
Норвегии как такие, «кои во всех своих делах, поступках и
порядках с датчаны не сходны». Швеция соприкасается с
Россиею через Лапланд, сиречь Лаппия швецика, где
жители «зело дикие и суровые и варварские люди», причем
«ради великие пустоты и немногих жителей завелись в
Лапландии и ожились многие дикие звери, между которыми
особливо елени знакомиты суть». Жители ближайшей к
российским границам Финляндии могут «гораздо снести
стужу и иную тягость в работе, того ради оные угодны в
войне бывают». Недалеко от Финляндии, в Ингерманлан-
дии, лежащей «между синусом финским * и Ладожским
озером», находится и «Санкт-Петерсбурк, крепость и
купеческий город, который ныне царствующий монарх Петр
Первый построил и от часу оный возрастает и
прибавляется, и в красоте и силе своей процветает». Хотя Москва
и признается в «Земноводном круге» начальным городом
всей земли и столицею царскою и патриарха греческого, но
о «красоте и силе» ее ничего не говорится, а упоминается
лишь, что город состоит «во многих тысячах домов,
которые токмо из дерева и глины весьма бедно склеены, от
чего и убыток велик бывает, ежели когда несколько тысяч
2 А Ф. Кони, т. 7
17
домов згорит». В этом принижении Москвы видна
угодливая рука переводчика. Ему же, конечно, принадлежит
и заявление, что в России «жители прежде сего не гораздо
были искусны, но ныне царствующий государь Петр
Первый трудится, дабы оные ездили в иные страны и другим
европейским обычаям подражали и, обучаяся, навыкали».
С разных сторон Русская земля окружена татарами,
причем, хотя русские границы «от самых тех варварских
народов вподлинно неразмерены, но новейшие географы
рассуждают, что крайние границы русские весьма не так
далече отдалены от Хины, нежели как оные в обычайных
ландкартах означены бывают». «Описание земноводного
круга» перечисляет до 12 татарских племен, живущих под
разными наименованиями на русских границах и между
прочим «около реки Танаи *, где живали древле храбрые
жены амазоны», и даже в Украине, недалеко от Киева...
«толь далеко распространилась и рассеялась сия гадина».
Государству Хинскому, по предположениям географов,
сопредельному с Россиею, посвящено довольно подробное
описание. «Оная земля не может довольно описана быть
ради своего плодоносил и богатства в золоте и камениях
драгоценных. Прежде сего был в той земле особливой
государь, которой хинской цесарь назывался. Но в 1630 году
напали татары с такою силою, что сие неподобное
государство под власть свою привели и, таким образом, ныне
нарочитая часть Тартарии и государство Хинское одному
владетелю подвержены, которой хинской царь и татарской
хан вместе называется. Новые описания повествуют, что
сей царь между Великою стеною и Тартариею на 100 миль
землю весьма опустошить повелел, дабы никакое животное
не могло тамо питатися и, может быть, для того, чтобы его
другие татары иногда таким же образом в Хине не
посетили, как он сам учинил».
Африка — полна «незнаемых земель» и «неудобопа-
мятных королевств», а также разных зверей, как-то:
долгих обезьян, драконов, т. е. змиев великих, львов, слонов
и «струсов», коих и им подобных такое множество при
реках находится, что никто не может безопасно проехать.
Жители тамошние «суть всюду дикие и необходительные
люди; повыше к Медитеранскому морю еще оные отчасти
белее, а которые пониже тамо живут, оные суть чернооб-
разны; которые живут вверху, признаваются в
магометанской вере, но и христиане между них находятся, но оные
18
больше христианское имя носят, нежели дела отправляют;
те же, которые к западу при ефиопском море живут,
городов не имеют и никакого короля не знают, но токмо
скитаются везде в оной земле и не многим лутче зверей, а
наипаче, что оные человеческое мясо жрут; в земле своей
называются они готентотен, а говорят языком, подобно как
у нас куры кричат». Христианскую веру исповедуют
также цесарь и жители Муринской земли или Габесинии, но
только «оная вера от европской во многих вещах не
сходна». Король этого государства «от африкан именуетца
великой негуц; прежде сего в простом народе назывался он
священник Иоанн или Жан, но ныне от такого безумного
имени отвыкли, ибо подлиннее о том уведомлены».
Судьбы туземцев Америки дают повод автору
очертить в ответе на вопрос, кому принадлежит Америка,
бесчеловечную и близорукую политику испанцев после
открытия этой части света. «Доколе земля сия от европейцев
не найдена была, имела оная в разных местах особливых
своих королей. Но как гишпанцы сперва тамо прибыли,
стали оные умышлять, как бы жителей тех искоренить
и оную землю себе в собственное владение привлечь, что с
немалым свирепством учинено. А папа, хотя свою
учтивость и податливость оказать, подарил всю оную землю
гишпанцам. Но языческие короли в Америке немало тому
смеялись, что папа раздает королевства чужие».
«Земля оная не подобна другим, а наипаче богата
золотом и серебром (говоря в другом месте о Калифорнии,
автор, впрочем, высказывает мысль, что «мало там каково
прибытку ожидать (!), того ради о ней мало мы и сведо-
мы»), так что гишпанцы многие корабельные флоты
нагружены серебром оттоль получали и ежели б они с
людьми тоя земли приятнее поступили, то неисчетное б
богатство получили, но понеже они многие миллионы людей
немилосердным образом погубили, того ради сами жители
многие рудокопные заводы разорила Жители оные были
острого ума, что можно признать из многих их искусных
вымыслов»...
Наконец надо заметить, что автор относится с
большою осторожностью ко всем «праздным и нарочитым
вымыслам» и тщательно опровергает в своей книге
различные легенды, связанные с тою или другою местностью,
или приписываемые ей чудесные свойства. Это его
стремление доходит до того, что, как указано выше, он решается
2*
19
держатБ€я~^<тихонского^> учения о вращении земли из
осторожности, и даж^, -говоря о Палестине, объясняет, что
«иностранным показуют тамо гроб святый и католики обы-
кли для того часто по обещанию туда ходить; токмо
понеже обетованная земля не токмо от римлян, но потом от
турок не единожды разорена бывала, того ради, от неких
сумнительно — прямой ли оной есть гроб Христов?»
Только в одном месте он изменяет своему скептицизму.
«Слоны на острову Цейлоне, — говорит он, — так-ую имеют
честь, что все слоны на свете оным поклоняются, когда
где сойдутся»...
В заключение — несколько слов по поводу языка
перечисленных выше сочинений. До Петра Великого и, в
значительной степени, при нем — почти все писалось на
возвышенном и прекрасном церковно-славянском или на старом
русском языке, на образность и сжатость которого
церковный язык оказывал заметное влияние. Скупость и
полновесность слова Макарьевской Минеи-Четии следовало бы
внимательно изучать и писателям, и ораторам. Еще г
1874 году гр. Л. Н. Толстой в письмах к архимандриту.
Леониду говорил: «Мне сообщили радостное известие, что
дело составления для народа книги чтения из избранных
житий не только одобрено вами, но что вы обещаете даже
и личное ваше содействие этому делу. Я догадываюсь,
какие сокровища — подобных которым не имеет ни один
народ— таятся в нашей древней литературе. И как верно
чутье народа, тянущее его к древнему русскому...» *. И
действительно, как содержательны, например, такие
выражения: «положить человека в сердце своем; воевать тайным
коварством на истину в образе правды; тесное и
прискорбное житие; общий естества человеческого смертный долг;
инок, корчемствующий божию благодать; седина и
престарелость (св. Поликарпа), кротость же и светлость, и
тихость честного лица его» и т. д. Язык светских
произведений этого времени отличается изобразительностью и
подчас, на наш современный взгляд, некоторой наивностью.
Так, например, Ксения Годунова описывается, как
«отроковица чюдного домышления, зелною красотою лепа,
бровми союзна, телом изобильна, возрастом ни высока, ни
низка, волосы имея черны, аки трубы на плечах лежа-
щи» *. Тот же язык встречаем мы в письмах и деловых
бумагах. Стоит припомнить переписку Курбского с Иваном
Грозным или следующее место из следственного дела 1692
2d
года о Дмитрии Тверитинове: «Он же, будучи перегибате*
лен не токмо духом, но и телом и утешно-вежливо говоря
и мастеря, совратился в Люторову ересь и других
соврати...» * В изложении законодательных памятников
этого времени к тексту закона нередко примешивается и
поучение. Так, например, ст. 200 Уложения царя Алексея
Михайловича (гл. X. — О суде) говорит: «А будет кто к
кому приедет на двор насильством, умысля воровски... кто,
бороняся от себя, которого убьет до смерти... и сыщется
про то допряма, что он то убойство учинил по неволе, от
себя бороняся, и ему того в вину не ставити; а кого он
убьет, и ему то убойство учинится от себя: не приезжай в
чужой дом насильством...» Так, в Воинском уставе Петра
Великого 1716 года в толковании на Артикул 157
повторяется правило Каролины: «Du sollst nicht erst den Schlag
erwarten» l, — но к нему добавляется: «Ибо случиться
может, что и противиться весьма забудет». Нельзя, наконец,
не отметить чудесного величавого языка Духовного
регламента: «Не суетный на совести нашей возымели страх; не
рабствуя лицеприятию; не болезнуя враждою, не пленяяся
страстьми...» * — и рядом с ним полного силы и
негодования языка писем Петра к Алексею. «Ограбил меня бог
сыном», — говорил о последнем несчастный отец.
С Петра, однако, начинается и порча языка, отчасти
под влиянием внесения в обиход новых понятий, а отчасти
под иноземным влиянием, стремившимся заменить русские
слова чуждыми и заимствованными. Особенно это
усиливается во времена Анны, Елизаветы и Петра III. Тут мы
встречаемся с такими, якобы удобопонятными русскому
человеку, выражениями, как парадная бета (ложе), каст-
рум долорис, синтура (ceinture) фунеральная и т. п. *. Даже
граф Никита Панин в докладе Екатерине II о
царствовании Елисаветы называет это время сей эпок *. Лишь с
Ломоносова начинает русский язык вступать в свои права,
чтобы развернуться во всей своей мощи, глубине и
богатстве — у Пушкина и Грибоедова. Первый из них часто и со
свойственной ему проникновенностью создает
удивительные по красоте поэтические отрывки, полные прелестью
языка былин, «Слова о полку Игореве», летописных
сказаний и других произведений старой литературы. Стоит
вспомнить, «Начало сказки» и в особенности «Старицу^
Ты не должен ждать, чтобы тебя ударили первого (нем.).
2*
пророчицу» *. Влияние этого старого, поэтического и
образного языка и его глубокое изучение сказываются и в
недавнем произведении М. В. Беляева. Его либретто к
«Сказанию о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
(1907 г.) полно удивительных красот в духе такого именно
языка *.
Книга Гибнера написана языком ясным и сильным,
который, очевидно, ничего не потерял в оригинальности и
силе при переводе. Этому можно позавидовать и в наше
время, когда у нас нет безусловно верного перевода даже
Святого евангелия и когда не только в повседневной
печати, но даже и в сочинениях серьезного характера
приходится встречаться с почти невероятным невежеством
переводчиков. Достаточно указать хотя бы, например, на
перевод слов «et caeteres» (и прочие) собственным именем г-на
Цетереса, — название верховного судьи в Англии (lord
chief-justice) лордом Шифом, — на помещение известий,
что г-н Рембаур-Семент (remboursement) примирит всех в
Портсмуте, — именование революционного трибунала, —
comité du salut publique — комитетом общественного
здравия — и улицы Via Venti Settembre в Риме — улицей
сентябрьских ветров, — повествование о том, что г-жа Ролан
внушила образ действий г-ну Жирондэ. Утверждение, что
в Испании в высших сферах всегда играет роль
Карманьола (вместо Камарильи) вводит нас уже в область
невежества собственного производства. Наудачу можно в ней
отметить такие фразы, как «вечно жаждущий Тантал,
черпающий из решета Данаид», «некому остановить этот
поток торичеллиевой пустоты», «величественный пасхальный
удар Царя-Колокола», а также ссылки на известную
русскую комедию «Мещанин во дворянстве» и на
заключительные слова комедии Островского: «Пошли вон,
дураки!» Указ Петра Синоду, очевидно, не утратил своего
основания и доселе... *
ПЕТЕРБУРГ. ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА*
Не один Петербург
настоящих дней —
пустынный, безжизненный и «оброшенный»,— но и тот
огромный и густо населенный, роскошно обстроенный город,
полный торгового и уличного движения, каким он был
пред злополучной войной до 1915 года, во многом
отличается от Петербурга с начала пятидесятых до половины
шестидесятых годов, не только своим внешним видом,
обычаями и условиями жизни, но даже и названием.
Историческое имя, связанное с его основателем и заимствованное из
Голландии, напоминающее «вечного работника на троне» *,
заменено, под влиянием какого-то патриотического
каприза, ничего не говорящим названием Петрограда, общего
с Елизаветградом, Павлоградом и другими подобными*.
Старый город Святого Петра иногда возникает в памяти
старожила в своем прежнем оригинальном виде, и хочется,
«перебирая четки воспоминаний», пройти по нему с
посетителем и познакомить его с этими, отошедшими в область
безвозвратного прошлого, воспоминаниями.
Перед нами Знаменская площадь * и вокзал Петер-
бургско-Московской железной дороги, за постепенной
постройкой которого в конце сороковых годов с жадным
вниманием и сочувствием следил Белинский, живший на
берегу Лиговки близ Невского, в небольшом деревянном
доме, выходившем окнами на строящееся здание *.
Проведение нынешней Николаевской железной дороги в начале
пятидесятых годов составляло событие государственной
важности. Первоначально ее предполагалось вести через
Новгород, но Николай I провел прямую линию между
Петербургом и Москвой и приказал строить дорогу,
руководствуясь ею, не стесняясь никакими препятствиями. Остав-
23
шнйся в стороне от большого движения Новгород захирел
и стал в сущности лишь памятником старины в своих
церквах, монастырях и урочищах, к которому недаром
Добролюбов обратился со словами: «Все гласит в тебе о
прошлом, вольной жизни край!—даже мост твой с надписань-
ем: «Строил Николай» *.
Быть может, на решение Николая I подействовали и
тяжелые воспоминания о Грузине (усадьба Аракчеева) и о
бунте военных поселян *. С открытием дороги, постройку
которой охарактеризовал в своих скорбных стихах
Некрасов *, забыто и запустело старое шоссе между
Петербургом и Москвой, по которому прежде было большое
почтовое движение и на котором была станция, прославившаяся
в нашем кулинарном деле пожарскими котлетами *.
Николаевская дорога была по времени сооружения второю в
России. Первою построена Царскосельская железная
дорога, как кажется, третья, по времени, в Европе. Первая
была между Нюрнбергом и Фюртом; вторая — между
Парижем и Версалем, и на ней произошло первое тяжелое
железнодорожное несчастие от свалившегося под насыпь и
объятого пламенем поезда *.
У нас публика относилась с недоверием и страхом к
новому средству сообщения. Бывали случаи, что останов
ленные у переездов через рельсы крестьяне крестили
приближавшийся локомотив, считая его движимым нечистой силой.
Для обращения этих страхов в более веселое настроение
первые месяцы впереди локомотива устраивался заводной
органчик, который играл какой-нибудь популярный мотив.
Вагоны третьего класса на Царскосельской дороге, до
начала шестидесятых годов, были открытые с боков, что
представляло некоторую опасность для глаз пассажиров от
летящих из трубы искр. Управляющий движением этой
дороги отличался большой оригинальностью, — говорили,
что на его визитных карточках было напечатано: Directeur
du chemin de fer de Pétersbourg à Tzarskoye Selo et retour» l *.
Посредине железнодорожного пути между Петербургом
и Москвой находилась станция Бологое. Здесь сходились
поезда, идущие с противоположных концов, и она давала,
благодаря загадочным надписям на дверях «Петербургский
поезд» и «Московский поезд», повод к разным
недоразумениям комического характера. Движение было сравнительно
1 Директор железной дороги Петербург — Царское Село и обратно
(франц.).
и
медленное: .почтовый поезд шел тридцать часов, причем
всех интересовал и тревожил переезд по Веребьинскому
мосту, перекинутому через Волхов на очень большой
высоте и покоившемуся на сложных деревянных устоях*.
Вагоны не имели отдельных купе и женских отделений. Места
первого класса состояли из длинных кресел,
раскидывавшихся на ночь для сна пассажиров. Билеты представляли
длинный лоскут бумаги с наименованием станций.
Кондуктора носили военную форму и особые каски. Перед
отправлением поезда звонили три раза, затем наступало
томительное молчание, раздавался зычный голос
обер-кондуктора «готово!», за ним следовал свисток, поезд дергался
для испытания трудоспособности локомотива и двигался
наконец в путь.
С таким поездом приезжает впервые в Петербург
ожидаемый мною посетитель, сгорающий нетерпением
познакомиться с «Северной Пальмирой» в ее подробностях и
особенностях, и мы начинаем наше странствование по городу *.
Знаменская площадь обширна и пустынна, как и все
другие, при почти полном отсутствии садов или скверов,
которые появились гораздо позже. Двухэтажные и
одноэтажные дома обрамляют ее, а мимо станции протекает
узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава.
Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые
деревянные перила. Это Лиговка, на месте нынешней
Литовской улицы *. На углу широкого моста, ведущего с
площади на Невский, стоит обычная для того времени
будка — небольшой домик с одной дверью под навесом,
выкрашенный в две краски: белую и черную, с красной каймой.
Это местожительство блюстителя порядка — будочника *,
одетого в серый мундир грубого сукна и
вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте*. На
голове у него особенный кивер внушительных размеров,
напоминающий большое ведро с широким дном,
опрокинутое узким верхом вниз*. У будочника есть помощник, так
называемый подчасок. Они оба ведают безопасностью
жителей и порядком во вверенном им участке, избегая, по
возможности, необходимости отлучаться из ближайших
окрестностей будки. Будочник — весьма популярное между
населением лицо, не чуждое торговых оборотов, ибо, в
свободное от занятий время, растирает у себя нюхательный
табак и им не без выгоды снабжает многочисленных
любителей.
2S
Направо от станции начинается Старый Невский.
Поезд пришел рано утром, и нам дорогу пересекает не совсем
обычная процессия, окруженная солдатами в коротких
мундирах с фалдочками сзади, в белых полотняных брюках
(дело происходит летом), с двумя перекрещивающимися
на груди кожаными перевязями, к которым прикреплены
патронная сумка и неуклюжий тесэк, — с тяжелыми
киверами «прусского образца». Среди них движется колесница,
к утвержденному на которой столбу привязан человек в
арестантском платье. На груди у него доска с названием
преступления, за которое он судился. Сзади едут
официальные провожатые — священник, нередко врач и
секретарь суда, решившего судьбу этого несчастливца. Под
звуки барабанной дроби мы идем в некотором отдалении
за этим поездом и вступаем на Старый Невский. Он
обстроен окруженными заборами невысокими деревянными
домами с большими и частыми перерывами. Никакой из
ныне существующих в этой части Невского улиц еще нет.
Есть лишь безымянные переулки, выходящие в пустырь, в
глубине которого виднеются красивые здания казацких
казарм *. По левой стороне улицы мы подходим к обширной
площади, называемой Конной от производящегося на
ней в определенные дни конского торга и служащей для
исполнения публичной казни, производимой всенародно.
Процессия останавливается, солдаты окружают эшафот
кольцом, и на него входит чиновник, читающий приговор.
Если осужденный «привилегированного сословия», палач
ломает над его головой шпагу, если же он «не изъят по
закону от наказаний телесных», то над ним совершается
казнь плетьми. Палач, вооруженный плетью, становится в
нескольких шагах от обнаженного по пояс и привязанного
в соответствующем положении осужденного и, крикнув:
«Поддержись, ожгу!» — начинает наносить удары,
определенные в приговоре, после чего истерзанного везут в
тюремный лазарет, а по выздоровлении заковывают в ручные
и ножные кандалы, выжигают на лице его клеймо и
ссылают в Сибирь. Мы проходим быстро мимо этого
отталкивающего и развращающего зрелища, уничтоженного лишь
в 1863 году *, вместе с варварским наказанием
шпицрутенами. Последнее описано у Ровинского в его
исследованиях о старом суде * и изображено в потрясающей картине
у Л. Н. Толстого, в его рассказе «После бала» *.
26
Идем далее по направлению к Александро-Невской
лавре *. Навстречу нам мчится запряженная четверкою, с
форейтором и двумя лакеями в треугольных шляпах на
запятках, карета *. Сквозь стекла ее дверец виднеется белый
клобук с бриллиантовым крестом. Это митрополит,
отправляющийся на утреннее заседание Синода. Подходя к
монастырю, мы видим редкие каменные здания и между
ними здание духовной консистории, где чинится
расставшимися с соблазнами мира монахами своеобразное
правосудие по бракоразводным делам, нередко при помощи «до- -
стоверных лжесвидетелей», и проявляется начальственное
усмотрение под руководством опытной канцелярии по
отношению к приходскому духовенству, вызвавшее весьма
популярное в его среде якобы латинское изречение: «Соп-
sistorium protopoporum, diaconorum, diatchcorum, ponomaro-
rum — que obdiratio et oblupatio est» l.
Возвращаясь назад, мы встречаем богатые похороны.
На черных попонах лошадей нашиты, на белых кругах,
нарисованные гербы усопшего. На «штангах»,
поддерживающих балдахин, стоят в черных ливреях и цилиндрах на
голове «официанты», как это значилось в счетах
гробовщиков. Вокруг колесницы и перед нею идут факельщики в
черных шинелях военного покроя и круглых черных
шляпах с огромными полями, наклоненными вниз. В руках у
них смоляные факелы, горящие, тлеющие и дымящие. Так
как за всей процессией не ведут верховую лошадь в
длинной черной попоне, то, очевидно, хоронят не «кавалериста»,
а штатского. Процессия имеет печальный характер, более
соответствующий значению ее, чем современные, —
декоративные, с электрическими лампочками и грязноватыми
белыми фраками на людях, несущих вместо факелов
фонари. Гроб — всегда деревянный, обшитый бархатом или
глазетом с позументами *. Металлических гробов тогда не
было.
Вступая на Невский, перейдя Лиговку, мы встречаем
довольно широкие тротуары, в две плиты, постепенно затем
расширенные до их настоящего вида. У тротуаров, в двух
саженях одна от другой, поставлены невысокие чугунные
тумбы, выкрашенные в черную краску. Перед большими
праздниками их жирно красят вновь, причиняя тем
«Консисторские протопопы, дьяконы, дьячки, пономари — обдира*
тели и облупатели» (шутливая имитация латинской фразы).
27
некоторый ущерб платьям проходящих и задевающих за них
франтих. В дни иллюминаций на них и около них ставятся
зажженные и портящие воздух едким дымом плошки. На
Невском, Морской * и некоторых из главных улиц стоят
на солидных чугунных столбах газовые фонари *. Все
остальные местности в городе освещаются масляными
фонарями на четырехугольных столбах, выкрашенных подобно
будкам. Такой фонарь имеет четыре горелки перед
металлическими щитками, но свет дает лишь на очень близком
расстоянии вокруг себя. В узкой Галерной улице такие
фонари висят довольно высоко на веревках, протянутых от
домов с обеих сторон улицы *. По улице в разных
направлениях движутся со скоростью, всегда удивлявшею
иностранцев, дрожки, коляски и кареты самых разнообразных
фасонов. Кареты — часто четырехместные — на сложных
рессорах, с высокими козлами и откидной ступенькой у
дверец. Площадка сзади кузова обыкновенно утыкана
гвоздями, обращенными острием кверху, или она заменяется
обручем с остроконечными зубцами. Это делается для того,
чтобы уличные ребятишки не устраивались сзади кареты,
что подало повод в свое время Некрасову сказать: «Не
сочувствуй ты горю людей, не читай ты гуманных книжонок,
но не ставь за каретой гвоздей, чтоб, вскочив, накололся
ребенок...» *
Кареты знатных лиц запряжены обыкновенно
четверкой цугом, с форейтором на передней паре, кричащим
обычное в то время: «Пади!» или «Эй, берегись!» На
кучере цветная четырехугольная шапка, обшитая по краям
шнурком с завитками. У кучеров царской фамилии она
голубая. На козлах карет высоких военных лиц, рядом с
кучером, помещается лакей в шишаке 1, в синевато-серой
шинели, капюшон которой обшит двумя широкими красными
полосами, а если это экипаж иностранного посланника, то
рядом с кучером в кафтане, обшитом по борту позументом,
сидит егерь в охотничьем наряде, нередко с полусаблей на
черной лакированной перевязи *. Другой вид экипажей
составляют пролетки, с довольно узким сиденьем,
заставляющим едущих вдвоем держаться друг за друга. Пролетка —
1 Этот шишак состоял из обыкновенной военной каски, наверху
острия которой - было у бомбы срезано пламя. Такие же шишаки
присвоены были в начале шестидесятых годов городовым (прим,
авторе).
28
на стоячих рессорах и с низенькой спинкой, не дающей
возможности к ней прислониться. У богатых и деловых
людей пролетка более удобна. Иногда она имеет очень
узкое сиденье, исключительно для одного человека, и
называется «эгоисткой». В «собственные» пролетки нередко
запряжены две лошади: в корню и на пристяжке. Передняя
низко наклоняет голову к земле и, извиваясь, обыкновенно
забрасывает седока пылью и комьями грязи.
В свободное от постов время встречаются кареты,
сквозь окна которых виднеются перины, одеяла и подушки.
У кучера на правой руке сделана перевязь из полотенца,
а иногда из лент, которыми украшаются и гривы
лошадей. Это торжественно везут какое-нибудь купеческое
приданое к предстоящей свадьбе.
Наряду с дрожками существует «калибер», или
«гитара», своеобразно устроенная машина для передвижения^
на продолговатом сиденье которой нужно помещаться, если
ехать вдвоем, боком друг к другу и обращенными лицами
в противоположные стороны, а если ехать одному, то для
большей устойчивости нужно сидеть верхом. Этот род
передвижения особенно дешев в пятидесятых годах; от
Знаменской площади до Адмиралтейства или до Сенной
площади * можно доехать за десять копеек. На спине
извозчиков' висит на ремешке белый жестяной билет с номером.
На Невском нет ни трамваев, ни конно-железной
дороги, а двигаются грузные, пузатые кареты, огромного
размера, со входною дверцей сзади, у которой стоит, а
иногда и сидит, кондуктор; это омнибусы, содержимые много
лет купцом Синебрюховым и курсирующие
преимущественно между городом и его ближайшими
окрестностями— селом Александровским, на Шлиссельбургском
тракте, Полюстровом возле Охты и т. п. *. Неуклюжие и
громоздкие, запряженные чахлыми лошадьми, они вмещают
в себе до двадцати пассажиров и движутся медленно, часто
останавливаясь для приема и выпуска таковых.
В первой половине шестидесятых годов появляются на
улицах изящные одноконные каретки «товарищества
общественных экипажей» *. Для них установлена такса. На
козлах сидит, в сером цилиндре и гороховом пальто, бритый
кучер с длинным бичом в руках; лошади в шорах и
английской упряжи. В населении быстро установилось, ввиду
сходства бича с удочкой, популярное название и кучера
и экипажа «рыболовом». Разные злоупотребления со
29
стороны публики и самих рыболовов прекратили, за
разорением товарищества, этот кратковременный способ
передвижения.
Между проходящими часто можно встретить бравого
молодца, идущего быстрой походкой, одетого в форменный
короткий сюртук военного образца, в черной
лакированной каске с гербом, с красивой полусаблей на перевязи и
большой черной сумкой через плечо. Это почтальон,
которому популярный в сороковых годах, ныне забытый, поэт
Мятлев посвятил стихотворение, начинающееся так:
«Скачет, форменно одет, вестник радостей и бед; сумка черная
на нем, кивер с бронзовым орлом. Сумка с виду хоть
мала— много в ней добра и зла: часто рядом там лежит и
банкротство и кредит...» и т. д. *.
Среди идущих много военных: солдаты в длинных
серых шинелях, надетых в рукава, офицеры в шинелях
светло-серого сукна с пелеринами внакидку. У высших чинов
высокие треугольные шляпы с пучком черных или пестрых
петушиных перьев наверху. К половине пятидесятых годов
эти шляпы заменяются касками, а затем — кепи, шинели
заменяются пальто, а генералам присвоены ярко-красные
брюки с золотым лампасом.
На улицах много разносчиков с лотками, свободно
останавливающихся на перекрестках для торговли
игрушками, сбитнем *, мочеными грушами, яблоками. Пред
Гостиным двором * и на углах мостов стоят продавцы
калачей и саек, дешевой икры, рубцов и вареной печенки.
У некоторых на головах лотки с товаром, большие лохани с
рыбой и кадки с мороженым. Они невозбранно оглашают
улицу и дворы, в которые заходят, восхвалением или
названием своего товара: «По грушу — по варену!», «Шток-
фиш!»* и т. д. Торговцам фруктами посвящен был в те
годы популярный романс: «Напрасно, разносчик, ты в
окна глядишь, под бременем тягостной ноши; напрасно
ты голосом громким кричишь: «Пельцыны, лимоны,
хороши!»* Эти пельцыны и лимоны привозились тогда на
кораблях и были гораздо большей редкостью, чем в
последнее время.
К разносчикам присоединяются торговцы платьем и
татары, и дворы больших домов оглашаются громкими
предложениями: «Старого платья продать!» и «Халат, халат,
халат!»
30
До шестидесятых годов прохожие не курят — это
строго воспрещается *.
Переходя через Знаменскую площадь, мы оставляем
направо ряд параллельных улиц, застроенных
деревянными домами, напоминающими далекую провинцию.
Некоторые из них со ставнями на окнах, задернутых днем
густыми занавесками, имеют незавидную репутацию, на
которую завлекательно указывают большие лампы с зер«
кальными рефлекторами в глубине всегда открытого крыль*
ца. Эти улицы, в которых обычно поселялись разного рода
ворожеи и гадалки, пересекаются одной, сравнительно
широкой, с большим пустырем и ведущей к Смольному мона«
стырю, — Слоновой, названной так потому, что на ней
когда-то помещался особый двор для слонов, неоднократно
даримых русским императрицам персидским шахом. Ныне
это Суворовский проспект *.
Невский вплоть до Аничкова моста вымощен
булыжником. Мы встретим торцовую мостовую, лишь перейдя
последний *. Вступая на Невский, мы оставляем влево, н$
берегу Лиговки, деревянный одноэтажный с садиком дом
Галченкова, в котором, «упорствуя, волнуясь и спеша» *,
работал и умер Виссарион Григорьевич Белинский. В этом
доме происходил у него живой обмен мыслями с
небольшим кругом людей, умевших понять и оценить- великого
критика. Здесь писались глубокие и возвышенные
страницы его отзывов о различных явлениях литературной
жизни. Сюда незадолго до его смерти пришло
приглашение явиться «для беседы» с хозяином его в знаменитое
Третье отделение *. Здесь Тургеневу пришлось выслушать
рисующий Белинского упрек, обращенный им к жене,
напоминавшей, что стынет поданный обед: «Как можно думать
об этом, когда мы еще не кончили спора о бытии бога» *.
Отсюда прах Белинского в 1848 году отвезли на далекое
Волково кладбище, а его имени нельзя было упоминать в
печати. Могила долгое время была оставлена без ухода, и
даже «память благодарная друзей дороги к ней не
проторила...» (Некрасов) *.
Дома на Невском в значительной степени имеют
однообразный бесцветный характер, постепенно по
направлению к Аничкову мосту увеличиваясь в объеме и высоте.
С правой стороны — ряд домов, в которых помещаются
экипажные заведения, с выставкою за стеклами широких
окон обширных помещений карет, колясок и дрожек.
31
Чередуясь с ними, идут в нижних этажах глубокие
темноватые помещения, в которых часто находятся театры
марионеток, случайные выставки и кабинеты восковых фигур,
очень популярные в то время.
Нынешняя Надеждинская улица не так длинна, как
теперь: на линии теперешней Жуковской, тогда Малой
Итальянской, существует сплошная стена разных по*
строек *.
Пройдя мимо нее, мы встречаем двухэтажный дом Ме-
няева, разделенный на два флигеля, среди которых
открывается обширный двор, с деревянным красивым домиком
посредине *. На балконе одного из каменных флигелей,
выходящем на Невский, сидит в халате, с длинной трубкой
в руках и пьет чай толстый человек с грубыми чертами
обрюзглого лица. Это популярный Фаддей Венедиктович
Булгарин, издатель и редактор «Северной пчелы» —
единственной в то время газеты, кроме «Русского инвалида» и
«Полицейских ведомостей», — печатный поноситель и
тайный доноситель на живые литературные силы,
пользующийся презрительным покровительством шефа жандармов
и начальника Третьего отделения *. Газета его, благодаря
исключительному положению, пользуется
распространением, помещая иногда, в легковесных фельетонах бойкого
редактора, рекомендации различных угодных ему
магазинов и предприятий. Для характеристики «Видока Фигля-
рина», как назвал его Пушкин, намекая на известного
французского сыщика Видока, достаточно припомнить
стихи того же поэта: «Двойной присягою играя, поляк в
двойную цель попал: он Польшу спас от негодяя и русских
братством запятнал» *.
На углу Невского и Литейной, в угловом доме,
помещается известный и много посещаемый трактир-ресторан
«Палкин», где в буфетной комнате, с нижним ярусом
оконных стекол, в прозрачных красках изображающих сцены
из «Собора Парижской богоматери» Гюго, любят
собираться одинокие писатели, к беседе которых
прислушиваются любознательные посетители Палкина *. Здесь
бывали нередко поэт Мей и писатель Строев и, с начала
шестидесятых годов, заседает Н. Ф. Щербина, остроумная и
подчас ядовитая беседа которого составляет один из
привлекательных соблазнов этого заведения.
Почти рядом — дом графа Протасова, в лице которого
звание гусарского полковника оригинальным образом
32
оказалось соединенным с должностью обер-прокурора
Святейшего синода *. В конце этой стороны Невского высится
большой и многолюдный дом купца Лыткина, в котором
обитают многие из артистов Александрийской сцены *.
В нем произошла в половине пятидесятых годов одна
из житейских драм, произведшая сильное впечатление. На
верх парадной лестницы, с широким пролетом, ведшей в
четвертый этаж, забралась старая, седая женщина,
почему-то позвонила у ближайших дверей и, бросившись
вниз, разбила выступавший на толстой чугунной трубе
газовый фонарь, погнула самую трубу и убилась до смерти,
плавая в луже крови, которая всосалась в пол из
песчаника и оставила трудно смываемое пятно. Оказалось, что
несчастная жила в отдаленном углу Петербурга с нежно
любимой воспитанницей, молодой девушкой. Со всем
жаром последней и запоздалой страсти она влюбилась в
посещавшего их почтового чиновника. Он сделал
предложение воспитаннице, и старуха, скрывая свои чувства,
хлопотала о приданом для нее, о приготовлениях к свадьбе
и присутствовала на бракосочетании, но на другой день
ушла из своей опустевшей квартиры, бродила по
Петербургу и, так как реки и каналы были покрыты льдом,
облюбовала широкий пролет в доме Лыткина, чтобы
покончить со своей невыносимой тоской. Пятно внизу пролета,
которого нельзя было миновать проходящим жильцам,
производило тягостное впечатление, и самоубийство
постепенно создало ряд фантастических рассказов в то бедное
общественными интересами время. В доме стали
рассказывать, что старуха появляется по ночам на лестнице и
раскрывает свои безжизненные объятия поздно
возвращающимся домой, и один из жильцов, человек суеверный
и нередко нетрезвый, под влиянием этих рассказов даже
выехал из дома.
Левая сторона Невского проспекта представляет
необычный для настоящего времени вид. Там, где теперь
начинается Пушкинская улица, названная первоначально
Новой, тянется длинный забор, а за ним огороды. Новая
улица создалась лишь в половине семидесятых годов.
Узкая, с маленькой площадкой, на которой позже
поставлен ничтожный памятник Пушкину*, обставленная
громадными домами, она с самого своего открытия привлекла
многолюдное население, среди которого были настолько
частые случаи самоубийства, что пришлось ввиду того, что
3 А. Ф. Кони, т. 7
33
в то время о каждом самоубийстве производилось
следствие со вскрытием трупа, командировать к местному
судебному следователю нескольких помощников. Быть может,
скученность обитателей и какой-то угрюмый вид этой
улицы оказались не без влияния на омраченную и
исстрадавшуюся душу тех, кто находил, что «mori licet, cui vivere non
placet» l.
Первая улица налево — Николаевская (по-новому ули*
ца Марата) называлась прежде Грязною и была немоще-*
нал до своего переименования после смерти Николая I *•
С нее был ход на Ямскую, называвшуюся так от близле-
жавшей Ямской слободы на Лиговке, где были обширные
извозчичьи дворы и стойла для почтовых лошадей. Эта
слобода во второй половине пятидесятых годов выгорела,
причем в ужасном пожаре, продолжавшемся несколько
дней, сгорело много лошадей, упиравшихся от страху,
когда их пытались вывести из горящих зданий. Ямская улица
была впоследствии переименована в улицу Достоевского,
ибо здесь находился дом казарменного типа, лестница
которого с железными перилами вела к обшитым войлоком и
продранной клеенкой дверям в квартиру, где в скромной
обстановке, граничившей с бедностью, жил и умер
Достоевский.
От 29 до 31 января 1881 г. эта лестница была
запружена лицами всех возрастов и общественных положений,
стремившихся ко гробу, в котором, с лицом исхудалым и
проникнутым глубоким выражением, похожим на радость,
почивал великий писатель и столь же великий страдалец*.
У Аничкова моста с левой стороны и в то время уже
высился монументальный дом князей Белосельских-Бело-
зерских, впоследствии дворец великого князя Сергея
Александровича*. Дойдя до этих мест, мы сворачиваем на
Литейную, где узкий тротуар идет мимо редких, но красивых
казенных каменных домов, перемежающихся с
деревянными. На углу Бассейной и Литейной — двухэтажный дом
издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского,
опытного и деятельного литературного предпринимателя, у
которого долго работал Белинский *. В этом доме * много
лет жил Н. А. Некрасов, после ряда тяжких годов
житейских испытаний, когда ему приходилось голодать и
холодать, ходить зимой в соломенной шляпе, расписываться за
1 Лучше умереть тому, кому не хочется жить (лат.).
34
неграмотных в Казенной палате и предлагать на Сенной
свои услуги желающим написать прошение, — когда он с
полным основанием мог сказать, что «праздник жизни —
молодости годы — я убил под тяжестью труда, и поэтом,
баловнем свободы, другом лени — не был никогда» *. Этот
труд, в связи с большим поэтическим даром,
вдохновляемым «музой мести и печали» *, создал ему видное
положение, и уже в шестидесятых годах у крыльца его
квартиры стоял собственный экипаж издателя и редактора
влиятельного «Современника» *, а в двери квартиры
ходили такие люди, как Тургенев, Анненков и Добролюбов.
У подъезда этой квартиры в 1877 году собралась огромная
толпа поклонников поэта и во внушительном шествии
проводила его многострадальный прах на кладбище. В этом
же доме жил, до переселения на юг России, знаменитый
хирург и педагог Николай Иванович Пирогов — один из
тех людей, которые составляют настоящую славу России.
Вероятно, отсюда хотел он навсегда уехать за границу,
после того как, вернувшись с Кавказа *, где в течение
девяти месяцев на полях сражения по целым дням
производил свои изумительные операции и применял для
обезболивания эфир, был самым грубым образом принят
военным министром, князем Чернышёвым, и должен был
выслушать, во враждебной ему конференции
Медико-хирургической академии *, строгий выговор за несоблюдение
состоявшегося в его отсутствие приказа о каких-то
выпушках или петличках на мундире.
Идя далее по направлению к Неве, мы встречаем на
углу Кирочной одноэтажный, выкрашенный в темную
краску, узкий, деревянный дом, в котором жил военный
министр Александра I — Аракчеев *. На этом месте теперь
стоит громадный Дом армии и флота, в котором
происходил в 1917 году процесс другого, зловещей памяти,
военного министра — Сухомлинова *. Далее, перед деревянным
Литейным мостом через Неву, против Арсенала с
выдвинутыми перед ним старинными пушками, стоит Старый
арсенал, построенный при Екатерине II, довольно
заброшенный и неприютный*. В нем в 1866 году были открыты
новые судебные установления, пришедшие на смену
старых безгласных и продажных судов, служивших
бездушной канцелярской волоките, называвшейся, вопреки истине,
правосудием *,
3*
S5
Литейный мост манит нас перейти на Выборгскую
сторону, где тянутся здания Медикогхирургической академии,
в одной из длинных и невзрачных одноэтажных
деревянных построек которой помещается госпиталь для
душевнобольных, в совершенно несоответствующей своему
назначению обстановке, несмотря на которую там, с начала
шестидесятых годов, читает, иногда сидя на кровати
больного, увлекательные лекции сухощавый человек с
проницательным взором дышащих умом глаз. Это отец русской
психиатрии — Иван Михайлович Балинский.
От академии мы сворачиваем вправо, и по длинной
Симбирской улице *, совершенно провинциального типа,
очень хорошо описанной Гончаровым в «Обломове» *,
приходим, миновав Новый арсенал, в пригородную местность,
носящую название Полюстрово, — от близлежащего
селения, в котором находятся железистые минеральные воды,
ныне заброшенные, но в то время довольно усердно
посещаемые. Полюстрово, около которого часто бродят группы
цыган, отделяется от Невы обширным парком, с
искусственными развалинами средневекового замка и с
великолепным домом с башенками графа Кушелева-Безбородко *.
К этому дому в пятидесятых годах подъезжали и
подплывали нередко многочисленные посетители, привлекаемые
гостеприимством хозяина, сделавшегося первым издателем
«Русского слова» и любившего играть роль мецената *.
У него, между прочим, бывал Александр Дюма-отец, во
время посещения им Петербурга перед поездкой по России,
послужившей поводом для ряда совершенно
неправдоподобных выводов и рассказов в описании им своего
путешествия *. Свойственник домохозяина, один из довольно
известных в пятидесятых годах поэтов, усиленно предававшийся
«бесу пьянства», на одном из1 таких обедов, сильно
нагрузившись уже за закуской, после настойчивых намеков о
желании присутствующего светского общества услышать
какой-нибудь экспромт, встал, пошатываясь, и к ужасу
хозяина произнес: «Графы и графини! Счастье вам во всем,
мне ж — в одном графине, и притом большом», — и грузно
опустился на свое место.
На противоположном берегу Невы, из-за лесных
складов, с которых по ночам раздается перекличка сторожей
«слу-ш-а-а-ай», виднеется Таврический дворец —
местопребывание не находящихся на действительной службе
престарелых фрейлин. Там живут, между прочим, две старуш-
36
ки С, про высокомерие старшей из которых злые языки
рассказывают, что, верная своей привычке, она, даже
представ пред вечным судиею, наведет на него лорнет и скажет
по-французски: «Очень рада вас видеть. Я много раз
слышала о вас в доме Татьяны Борисовны Потемкиной *
(известной своим богомольством аристократки). Представьте
мне ваших архангелов».
Обширный парк при дворце, недоступный для публики,
окружен глубоким рвом и обнесен деревянным,
заостренным наверху частоколом. Эта местность считается почти
загородной. От нее идут: Сергиевская. Фурштадтская * и
Кирочная улицы, и отсюда же, с пустой площади, на
которой впоследствии был выстроен манеж Саперного
батальона, обращенный затем в церковь Косьмы и Дамиана,
начинается Знаменская улица. Здесь на углу, невдалеке
от пустынного тогда Преображенского плаца, жил долгое
время поэт Алексей Николаевич Апухтин, несправедливо
определяемый критикой как светский писатель, несмотря
на его глубокие по содержанию и превосходные по стиху
«Реквием», «Сумасшедший», «Недостроенный памятник»,
■«Год в монастыре» и «Из бумаг прокурора» *. Одержимый
болезненной тучностью и страдая от какой-то непережитой
за всю жизнь сердечной драмы, Апухтин в сущности был
весь, и в жизни, и в произведениях, проникнут печальным
настроением, сквозь которое иногда пробивались
остроумные выходки. Он сам посмеивался над собой, находя
печальным положение человека, для которого жизнь прожить
легче, чем поле перейти, и рассказывая об удивленном
вопросе маленькой девочки, показывающей на него пальцем и
спрашивающей: «Мама, это человек или нарочно?»*
Знаменскую пересекают: Бассейная и Озерный переулок,
носящие свои названия от обширного бассейна, находящегося
на границе Песков *, впоследствии засыпанного с
разведением на его месте сада. В Озерном переулке существует до
сих пор уединенный, с садом, обнесенным прочным
забором, деревянный дом с мезонином. Это местопребывание
в двадцатых годах Кондратия Селиванова, основателя и
главы скопческой ереси. В этом доме до конца
семидесятых годов, а может быть и позже, был так называемый
«скопческий корабль», происходили радения и, вероятно,
производились безумные членовредительства, основанные
на ложном понимании слов Христа *. Здесь, по легенде,
бывал и Александр I, сначала благосклонно относившийся
37
к Селиванову, место погребения которого в Шлиссельбурге
сделалось потом предметом благочестивых паломничеств
сектантов, называвших себя «белыми голубями» *.
Пройдя Бассейную * и перейдя с Литейной в Симеонов*
ский переулок, мы оставляем вправо Моховую улицу,
которая в восемнадцатом столетии называлась Хамовой *.
В конце нее, в доме № 3, поселился в пятидесятых годах
Иван Александрович Гончаров *. Часто можно было
видеть знаменитого творца «Обломова» и «Обрыва»,
идущего медленной походкой, в обеденное время, в гостиницу
«Франция» на Мойке или в редакцию «Вестника Европы»
на Галерной *. Иногда у него за пазухой пальто сидит
любимая им собачка. Апатичное выражение лица и
полузакрытые глаза пешехода могли бы дать повод думать, что
он сам олицетворение своего знаменитого героя,
обратившегося в нарицательное имя. Но это не так. Под этой
наружностью таится живая творческая сила, горячая,
способная на самоотверженную привязанность душа, а в
глазах этих по временам ярко светится глубокий ум и тонкая
наблюдательность. Старый холостяк, он обитает тридцать
лет в маленькой квартире нижнего этажа, окнами на двор,
наполненной вещественными воспоминаниями о фрегате
«Паллада». В ней бывают редкие посетители, но подчас
слышится веселый говор и смех детей его умершего слуги,
к которым он относится с трогательной любовью и
сердечной заботливостью.
Симеоновский мост через Фонтанку приводит нас на
Караванную, где много лет, на месте разрушенного
впоследствии памятника великому князю Николаю
Николаевичу, стоит круглое обширное деревянное здание
«панорамы Палермо», уступившее затем, в начале шести-:
десятых годов, свое место цирку *.
Караванная выводит нас к Аничкову дворцу и к
Фонтанке. Мы останавливаемся на мосту, и тогда уже
украшенном четырьмя бронзовыми фигурами лошадей,
отлитыми по проекту барона Клодта *. За мостом начинается
самая красивая часть Невского. Но, не переходя мост,
хочется остановиться на мимолетном знакомстве с
Фонтанкой. На Фонтанке ряд мостов, впоследствии
переделанных. Большая часть из них одного типа, который ныне
сохранен лишь в несколько расширенном против прежнего
Чернышёвом мосту * и на Екатерининском канале против
бывшего Государственного банка*. На обоих концах реч-
38
ки мосты своеобразной архитектуры, висящие на цепях*
Один, у Летнего сада, и название носит «Цепного». Окола
него, на левом берегу Фонтанки, помещается знаменитое
Третье -отделение, центр наблюдений и действий тайной
полиции *. Когда это отделение было впервые
организовано и поставлено под высшее начальство шефа жандармов,
то, как говорит предание, первый шеф — граф
Бенкендорф— просил у Николая I инструкции относительно
действий вверенного ему управления и в ответ получил
носовой платок со словами: «Вот тебе моя инструкция: чем
больше слез утрешь, тем лучше» *. Однако вскоре
деятельность Третьего отделения, присвоившего себе
вмешательство во внутреннюю жизнь обывателя и «обуздание
печати», от утирания слез направилась к возбуждению их
пролития, так что недаром поэт (кажется, Огарев),
намекая на слухи о некоторых чувствительных способах
назидания в этой деятельности, восклицал: «Будешь помнить
здание у Цепного моста!» *
На другом конце Фонтанки помещается так
называемый Египетский мост, тоже висячий и очень красивый, во
Екусе египетских сооружений. Он провалился под
тяжестью проходившего отряда кавалерии в начале девятисо-
тых> годов и не возобновлен в прежнем виде *.
Вода Фонтанки сравнительно чистая, не напоминающая
теперешнюю гнилую и вонючую бурду. Устроенные на
ней купальни перемежаются с многочисленными на ней
рыбными садками. Зимой по покрывающему ее льду
устраивается непрерывный санный путь. В остальное
время по ней вдоль и поперек совершается плавание на
яликах своеобразной конструкции, с нарисованными по бокам
носа дельфинами. Воду из Фонтанки пьют «ничтоже сум-
няся» окрестные обыватели, причем водовозы
(водопроводов до начала шестидесятых годов еще нет) доставляют ее
в зеленых бочках, в отличие от белых, в которых
развозят воду из Невы. Недаром сатирический поэт в
«Колоколе» жалуется Зевсу: «Громовержец, я ли .без усердья пью
из Фонтанки воду, чтобы петь потом серую природу...» *
Фонтанка впадает в Финский залив, выделяя из себя
рукав Черной речки. В этой местности находится Екате-
рингоф, ныне совершенно заброшенный, но в то время
представлявший совершенно благоустроенный обширный
парк, окружавший старинные петровские постройки *.
Первого мая там происходило традиционное гулянье, на
3*
которое приезжала царская фамилия и стекались в лодках
и экипажах массы гуляющих, чрезвычайно оживляя своим
движением воды и берега Фонтанки.
От Измайловского моста на Фонтанке начинается
Измайловский проспект, пересекаемый улицами, носящими
название рот Измайловского полка, с большими
пустырями и жалкими домишками *. На проспекте против собора
еще не существует бездарного подражания не менее
бездарной колонне «Победы» в Берлине, а в конце, до начала
шестидесятых годов, еще нет вокзала Варшавской
железной дороги *.
За Египетским мостом начинается нынешний
Ново-Петергофский проспект с Кавалерийским училищем,
носившим название Школы гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров *. В этом училище, когда оно
помещалось еще на месте нынешнего Мариинского дворца,
учился Михаил Юрьевич Лермонтов, и, благодаря
основанному впоследствии музею его имени, о нем сохранилась
живая и осязательная память *. Уже здесь в великом поэте
крепла и окончательно создалась та «таинственная
повесть» * его жизни, которая определила его поэтический
пессимизм и мизантропию, за что он с такой сильной
горечью упрекал бога в своем «Благодарю...» *
На правом берегу Фонтанки, начиная от Невы, —
Летний сад, перед которым, на Царицыном лугу, весною
обыкновенно происходил блестящий «майский» парад для
всех гвардейских войск столицы и ее окрестностей,
оканчивавшийся прохождением перед царской ставкой рысью
конвоя, состоявшего из уроженцев Кавказа, в их красных
костюмах, с острыми меховыми шапками и откидными
синими рукавами над желтыми кафтанами у лезгин,
кольчугами и круглыми шлемами у чеченцев и т. п. *. Вид
стройно движущейся пехоты и проходящая разными аллюрами
конница, «сиянье шапок этих медных», «лоскутья сих
знамен победных» *, вызывает в зрителях сильное и
горделивое впечатление. Кто мог предвидеть пророческие слова
Владимира Соловьева, сказанные за десять лет до
злополучной японской войны, что «желтым детям на забаву
даны клочки твоих знамен» *.
В саду же стоит памятник Крылову, и вокруг него
всегда резвятся дети *. На них, однако, довольно
пессимистически глядел поэт Шумахер, посвятивший памятнику
следующие стихи: «Лукавый дедушка с гранитной высоты
40
глядит, как резвятся вокруг него ребята, и думает- себе:
«О, милые зверята, какие, выросши, вы будете скоты!»*
Монументальная решетка сада, составлявшая, по
рассказам, предмет удивления иностранцев, еще не испорчена
безвкусной, совсем в другом стиле, часовней * с горделивой
надписью: «Не прикасайся к помазаннику моему», так
жестоко опровергнутой дальнейшими событиями, подобно
находящейся над фронтоном дворца императора Павла I
надписи: «Дому твоему подобает святыня господня в
долготу дней».
В духов день * Летний сад представлял своеобразное
зрелище. Согласно укоренившемуся обычаю представители
среднего торгового сословия приходили сюда всей семьей
с нарядно одетыми взрослыми дочерьми и гуляли по
средней аллее, а на боковых дорожках прогуливались молодые
франты, жаждавшие «цепей Гименея» и нередко
сопряженного с этим денежного приданого. Они приглядывались
к проходившим барышням, а сновавшие между ними юркие
женщины, в косынках на голове и пестрых шалях,
сообщали интересующимся надлежащие сведения и предлагали
свои услуги для знакомства с возможными брачными
последствиями. Это были свахи. Кажется, этот обычай
прекратился после громадного петербургского пожара в
1862 году*. По этому же берегу, за Летним садом,
следовал Михайловский замок, обнесенный со всех сторон рвом
с подъемными мостами, впоследствии засыпанным.
У Аничкова моста пред дворцом идет, выходя на
Невский, открытая галерея с колоннами, впоследствии
обращенная в жилые помещения. Она служила излюбленным
местом для прогулок няней с детьми в дурную погоду.
За Чернышёвым мостом начинался Апраксин рынок,
состоявший главным образом из деревянных рядов со
всевозможными видами торговли, примыкавший к
выходившему на Садовую длинному казенному зданию, вмещавшему
в себе ряд лавок, отличавшихся от магазинов Гостиного
двора большей дешевизной цен и развязностью
приказчиков, настойчиво зазывавших к себе покупателей
восклицаниями: «Пожалуйте к нам! У нас покупали», «Товар
самый английский» и т. п. *.
. Вспыхнувший в 1862 году громадный пожар,
захвативший и противоположный берег Фонтанки, истребил
Апраксин рынок как раз в духов день, когда хозяева многих
41
торговых помещений гуляли со своими расфранченными
дочками.
Возвращаемся назад, к галерее у Аничкова дворца.
Пройдя ее и миновав один придворный дом, попадаем в
узкий и пустынный Толмазов переулок*. Он пересекает
Александрийскую площадь и выходит на Большую
Садовую *, в которой сосредоточивается главная торговля
Петербурга, не имеющая характера оптовой. Магазины и
ряды, здания с лавками следуют одни за другими
непрерывно, уступая место лишь Государственному банку и
Пажескому корпусу *. На середине пути по Садовой лежит
обширная Сенная площадь с легкими навесами, бараками
и ларями, не имеющими ничего общего с большим
крытым рынком, возникшим здесь впоследствии. Это
центральное место сбыта пище-вых продуктов по сю сторону
Невы. Перед рождеством и пасхой здесь, как выражается
народ, стоит «неотолченая труба» * покупателей, рядами и
горами высится всякая снедь, среди которой перед
рождеством преобладают в огромном количестве гуси и
замороженные свиные туши, распиленные пополам. Их вид
подал Н. И. Пирогову, часто проезжавшему мимо, мысль
замораживать и распиливать также трупы, для показания
расположения внутренних частей человеческого тела. Атлас
рисунков с этих препаратов долгое время составлял
драгоценное приобретение каждого медицинского учреждения,
имевшего собственную библиотеку *.
Когда мы подходим к концу Сенной площади, нам пере-,
секает дорогу идущая со стороны Демидова переулка *
большая группа людей, одетых в серые куртки с бубновыми
тузами на спине. Это ссыльнокаторжные из пересыльной
тюрьмы, помещающейся в Демидовом переулке. Они идут,
звеня цепями, в серых войлочных шапках на полубритых
головах, понурые и угрюмые, а сзади на повозках едут
следующие за ними жены, часто с детьми. Отряд войск
окружает эту группу. Прохожие останавливаются и подают
калачи, булки и милостыню «несчастным». Они следуют на
двор Петербургско-Московской дороги, где их рассадят но
арестантским вагонам и отвезут в Московский
пересыльный замок. Там, если только он еще жив, их встретит
сострадательное участие «святого доктора» Гааза *, но затем
они двинутся по лежащей через Владимир дороге в
Сибирь, перенося и зной и холод, скудное питание и
насильственное сообщество в течение долгих месяцев пешей ходь-
42
бы, покуда не достигнут Тобольска, где Особый приказ
распределит их в места назначения, и для них потянется
долгая жизнь страданий, принудительной работы и
сожительства с чуждыми, озлобленными и нередко порочными
в разных отношениях людьми. Передвижение по этапу, то
есть от одной грязной, тесной и вонючей казармы для
ночевки до другой, обозначалось в народе словом «идти по
Владимирке», и лишь развитие железных дорог и
пароходства, а впоследствии приспособление для пересылки
арестантов судов добровольного флота изменило картину
«Владимирки» и внесло некоторое улучшение в дело
населения Сибири пересыльными. Однако это совершалось
весьма медленно, и, еще в первое десятилетие девятисотых
годов, благороднейший борец за свободу совести и
веротерпимости, вовсе еще не старый член Государственной думы
Караулов мог сказать отцу Вараксину, крикнувшему во
время его речи — «Каторжник!»: «Да, почтенный отец, я
шел, приговоренный за желание изменить существующий
строй без употребления насильственных средств, звеня
цепями и с бритой головой и кандалами на ногах по
бесконечной «Владимирке» за то, что смел желать и говорить
о том, чтобы вы были собраны в этом собрании. То, что я
был каторжник, составляет мою гордость на всю мою
жизнь. В той могучей волне, которая вынесла вас в эту
залу, есть капля моей крови и моих слез». Эти слова были
приведены на его могильной плите, но, по требованию
Святейшего синода, закрыты, — заделаны металлической
доской.
На Большой Садовой, близ Кокушкина моста,
помещалась в пятидесятых годах редакция «Библиотеки для
чтения». После беспринципного, но талантливого Сенков-
ского (Барона Брамбеуса) редакторство перешло к
Алексею Феофилактовичу Писемскому *. Грузный,
неуклюжий, с растрепанными черными волосами и большими,
навыкате умными глазами, с костромским выговором на «о»,
Писемский был, несомненно, одним из самых выдающихся
русских писателей как по своей наблюдательности, так и
по самобытному характеру своего творчества. Его «Тысяча
душ» служила как бы продолжением «Мертвых душ» в
более современной бытовой обстановке и представляла ряд
мастерски очерченных характеров и общественных условий,
почерпнутых из самой жизни без идеализации и
преувеличения *. Оригинальный во всей своей повадке и
43
самостоятельный во взглядах, он пришелся не по вкусу
тогдашней критике, на травлю которой ответил
«Взбаламученным морем», в котором, по своим словам, изобразил
если не всю современную ему Россию, то, во всяком
случае, всю ее ложь *.
Еще далее по Садовой, на углу Екатерингофского
проспекта *, против Юсупова сада, жил до самой своей смерти
Аполлон Николаевич Майков *. В его сухощавой фигуре
и тонких чертах продолговатого лица было нечто,
напоминающее изображения древних подвижников, которых он
с такой любовью описывал в своих стихах. Глубокий
знаток античного мира и властитель гармонии стиха, он
оставил нам замечательную поэму из римской жизни во время
первых проявлений христианства — «Смерть Люция» *, и
горячо, хотя и ненадолго, приветствовал эпоху великих
реформ. Он жил замкнуто, но умел знакомить своих редких
посетителей с лучшими произведениями современных
писателей, превосходно их читая и искренно ими восхищаясь.
Пройдя через пересекающий Садовую Вознесенский
проспект, мы выходим к Мариинскому дворцу и на
Большую Морскую *. Дворец еще принадлежит герцогине Лейх-
тенбергской, Марии Николаевне, дочери Николая I, и
последний каждый день в определенные часы, медленной и
величавой походкой ходит на свидание с любимой дочерью,
давая разными своими встречами материал к рассказам
полудостоверного свойства, которыми чрезвычайно
любило услаждаться тогдашнее петербургское общество во
всех своих слоях, за отсутствием других интересов. В этом
человеке уживались узкость и односторонность
государственных взглядов с остроумной находчивостью,
формальное бездушие и смелая решимость, верность традициям с
ненавистью к свободной мысли. Деятельность его в каждой из
этих областей давала обильный материал для таких
рассказов. Памятник, поставленный ему в конце пятидесятых
годов на Мариинской площади, с великолепной лошадью
работы Клодта, своими барельефами наглядно указывает на
бесплодность его царствования, из которого художник Ра-
мазанов не мог извлечь ничего, кроме сцены на Сенной
площади во время холеры и издания «Свода законов», в
котором в обилии заключались статьи, служившие явным
отрицанием настоящего смысла аллегорических женских
фигур Правосудия, Веры и т. д., утвержденных по бокам
постамента *. Рассказывали, что вскоре после открытия па-
44
мятника какой-то «дерзновенный искусник» ухитрился
прикрепить скачущему коню кусок картона с надписью:
«Не догонишь!», — очевидно, имея в виду скачущего по ту
сторону Исаакиевского собора Петра Великого. Этот собор
постоянно был окружен лесами и был освящен лишь в
1858 году, после чего леса снова стали возвышаться то у
одной, то у другой из его сторон *.
Направляясь по Морской к Поцелуеву мосту, мы
встречаем, на месте нынешней реформатской церкви *, длинное
деревянное здание, в котором одно время помещался
зверинец Зама *, а затем, во второй половине пятидесятых
годов, подвизалась в пении и плясках знаменитая Юлия
Пастрана — красиво сложенная женщина, с приятным
голосом и с лицом большой мохнатой обезьяны,
напоминавшей нечто среднее между гориллой и павианом. Затем
здесь же был открыт и долгое время существовал весьма
богатый анатомический музей.
За Поцелуевым мостом на площади стояли два
театра — Большой *, огромное здание с прекрасной акустикой,
которое было потом переделано в Консерваторию, с
акустикой незавидной, и «Театр-цирк» *, о внутренней жизни
которых мы поговорим далее.
А теперь переходим по только что отстроенному
Благовещенскому, ныне Николаевскому, мосту, на котором еще
нет часовни, на Васильевский остров *. Вскоре после его
открытия он послужил местом для одной сцены несколько
театрального характера, которые любил и умел делать
Николай I, чтобы влиять на воображение обывателей. Во
время проезда его по набережной на мост въезжали
одинокие дроги с крашеным желтым гробом и укрепленной на
нем офицерской каской и саблей. Никто не провожал
покойника, одиноко простившегося с жизнью в военном
госпитале и везомого на Смоленское кладбище. Узнав об этом
от солдата-возничего, Николай вышел из экипажа и пошел
провожать прах безвестного офицера, за которым вскоре,
следуя примеру царя, пошла тысячная толпа.
Васильевский остров почти такой же, как и ныне. Там
перемен мало, только вокруг стоявшего на пустынной
площади памятника Румянцеву разведен сад *. Тут же
неподалеку, в Первой линии, три замечательных дома. В одном жил
долгое время баснописец Иван Андреевич Крылов, в двух
комнатах большой запущенной квартиры, среди весьма
непоэтического беспорядка, в объятиях той лени и неподвиж-
45
ности, которые много лет мешали ему перевесить криво
висевшую над его любимым местом и угрожавшую падением
на голову картину *. Рядом дом, где жил знаменитый
историк Николай Иванович Костомаров, изобразитель в
художественных образах нашей старой жизни и ее деятелей.
Еще далее по Кадетской линии, отделенный от здания
Первого кадетского корпуса, стоит двухэтажный каменный
дом, дорогой по воспоминаниям для всех, кому близко
гражданское развитие родины. Здесь, в конце пятидесятых
годов, под председательством графа Ростовцева, заседали
редакционные комиссии, выработавшие план и
осуществление освобождения крестьян, то есть отмену того ига
рабства, которым, по выражению Хомякова, была клеймена
Россия *. В здании Академии художеств происходили
осенние выставки картин. В пятидесятых и начале
шестидесятых годов на них толпится публика, чтобы видеть
знаменитую картину Иванова «Явление Христа народу» и
«Княжну Тараканову» Флавицкого *. В нижнем этаже
здания, окнами на Неву и «сих громадных сфинксов» *,
проживает вице-президент академии, престарелый граф
Федор Петрович Толстой — автор глубоко талантливых и
тонких гравюр, и между прочим «Душеньки» во вкусе
Флаксмана. Двери его обиталища гостеприимно открыты
для представителей науки и искусства, среди которых
частым посетителем является желчный и даровитый поэт
Н. Ф. Щербина. Недалеко от академии, не доходя до
Шестой линии, на набережной дом с выдающимся балконом-
фонарем, где живет очень популярный в Петербурге
старый адмирал Петр Иванович Рикорд. Он устраивал Петро-
павловск-на-Камчатке и командовал затем эскадрой,
предназначенной защищать Кронштадт против
англо-французского флота в 1854 и 1855 годах, когда грозные по тому
времени гранитные укрепления Кронштадта и подводные
мины держали винтовые неприятельские корабли на
почтительном расстоянии от наших деревянных трехдечных
парусных кораблей. Рикорд, живший летом обыкновенно в
Полюстрове, на своей даче, ворота* которой состояли из
двух громадных челюстей кита, вывезенных с Камчатки,
был человек очень оригинальный. Его величавая
наружность, густая серебряная седина, привычка постоянно
вставлять в свою речь слова «выходит — вылазит» и
интересные рассказы из прошлого невольно привлекали к себе
особое внимание слушателей. Он любил вспоминать первые
46
годы XIX века, когда ему пришлось служить под
начальством первого морского министра маркиза де Траверсе,
в память которого моряки долгое время называли
ближайшую к Петербургу часть Финского залива «Маркизовой
лужей». Вспоминая о последнем, Рикорд охотно
рассказывал характерный случай из служебных нравов того
времени. В Кронштадте умер моряк-вдовец, оставивший на
попечение своего друга, тоже моряка, двух сирот. Пенсии
тогда не существовало, и, истощив свои личные средства,
моряк пришел на прием министра просить помощи
сиротам, но получил отказ за неимением свободных средств. На
следующий прием он пришел опять и выслушал резкое
повторение того .же. На следующий затем прием он явился
снова. Выйдя из кабинета и увидев его в числе просителей,
вспыльчивый и раздражительный Траверсе пошел, минуя
всех, прямо к нему и закричал: «Ты что же, смеяться надо
мной приходишь, несмотря на то, что тебе два раза уже
отказано?», и, когда моряк горячо повторил просьбу,
Траверсе, потерявший самообладание, со словами: «Вот тебе
ответ!» — дал ему пощечину и, как это бывает со
вспыльчивыми людьми, сразу пришел в себя и остановился,
пристыженный, на месте. Получив удар, моряк первое
мгновение схватился было за свой кортик, но затем поднес руку
к зардевшейся щеке и, бросив на Траверсе печальный
взгляд, сказал, показывая на щеку: «Хорошо, ваше
сиятельство, это мне, ну, а сиротам-то что же?» Траверсе
заплакал, схватил его за руку, и... сироты получили пособие.
Пред Университетом были таможенные склады,
окруженные узкой полосой чахлого сада с решеткой, на месте
нынешнего Гинекологического института *. Это так
называемый Биржевой сквер, где весною, с приходом кораблей,
разными иностранцами открывалась торговля раковинами,
черепахами, золотыми рыбками, попугаями и обезьянами.
Сюда в это время стекались покупщики и молодежь, для
которой еще не существовало Зоологического сада. Тут
иногда происходили забавные сцены и недоразумения.
Рассказывают, что какой-то простолюдин из украинцев,
любовавшийся серым попугаем и узнавший от продававшего
итальянца, что таковой стоит 100 рублей, на другой день
принес продавать большого петуха, и потребовал у
желавшего купить тоже 100 рублей, отвечая на его удивление
указанием на попугая. «Да ведь он может говорить,—
47
сказал тот, — так за то и такая цена». — «А мой не
говорит, но дюже думает», — ответил украинец.
Нынешнего Биржевого моста * не существовало, и на
Петербургскую сторону, имевшую совершенно
провинциальный вид, можно было переходить исключительно по
Тучкову мосту. Большой проспект, с одной стороны, и
запущенный Александровский парк *, с другой, — вели на
Каменноостровский проспект, состоявший из редких
построек, перемежавшихся с длинными заборами, за
которыми были обширные огороды. Единственное большое
каменное здание на этом берегу был Александровский лицей *.
Строгановский мост * соединял Петербургскую сторону и
Аптекарский остров с Каменным островом, на котором в
июле каждого года, с половины пятидесятых годов, в день
семейного праздника царской фамилии давался
блистательный фейерверк, причем пускалось сразу громадное
количество ракет.
Возвращаемся к деревянному Дворцовому мосту,
плавучему, как и все другие на Неве, за исключением
Благовещенского, и переходим к Зимнему дворцу. Перед ним
большая Дворцовая площадь и другая, менее обширная,
примыкающая к набережной Невы. На ней еще не было
сада и производились разводы, а во время Крымской
войны смотр маршевым батальонам. При одном из таких
смотров произошел, по словам Герцена, характерный по тому
времени случай, долго служивший темой для разговоров.
Проходя по фронту, Николай I заметил у одного из солдат
на груди два Георгиевских креста. На вопрос его, когда и
где они получены, георгиевский кавалер, из сданных в
солдаты семинаристов, вспомнив уроки риторики, ответил:
«Под победоносными орлами вашего величества».
Николай, недовольный такими цветами красноречия,
нахмурился и пошел далее, но сопровождавший его генерал
подскочил к солдату и, поднося сжатые кулаки к его лицу,
прошипел: «В гроб заколочу Демосфена»*.
Направо от Дворцовой площади начинается скудный
бульвар, отделяющий Адмиралтейство от длинной и
обширной площади, где впоследствии возник нынешний сад.
На этой площади, до разведения сада, строились на
масленицу и пасху балаганы, карусели и зимою ледяные
горы. Be« это представляло чрезвычайно оживленный и
оригинальный вид. Голоса сбитенщиков и торговцев
разными сластями, звуки шарманок, громогласные нараспев
48
шутки и прибаутки раешников (например: «А вот,
изволите видеть, сражение: турки валятся, как чурки, а наши
здоровы, только безголовы») и хохот толпы в ответ на вы-
ходки «дедов» с высоты каруселей сливались в
нестройный, но веселый хор. Представления в некоторых
балаганах, например Легата и Лемана, отличались большой
роскошью обстановки *. В некоторых из них ставились
специально написанные патриотические пьесы с эволюциями
и ружейной пальбой. В конце тридцатых годов, в одном
из таких балаганов, двери которого по печальной
непредусмотрительности отворялись внутрь, произошел пожар*.
Публика бросилась бежать, завалила собой все выходы и
задохлась в дыму. Очевидцы не могли забыть страшной
картины, представившейся им, когда после работы
пожарных одна из стен балагана была повергнута на землю.
Гуляющие «на балаганах», по тогдашнему выражению,
с любопытством ожидали проезда институток. Их
обвозили вокруг площади в придворных четырехместных
каретах с лакеями в красных ливреях. Из окон выглядывали
молодые лица с выражением бесплодного любопытства, а
окружающая мужская молодежь громко расточала
комплименты, сердившие хмурых классных дам.
ч Выходим на Невский, мало с тех пор изменившийся, и
идем через Полицейский мост, слишком узкий и
послуживший местом печальной катастрофы в конце пятидесятых
годов, когда собравшаяся на иллюминацию, по случаю
совершеннолетия наследника престола, толпа так стеснилась
на мосту, что под напором вновь подходивших сломались
перила моста, причем многие утонули в Мойке*.
Перед Казанским собором площадь лишена
растительности. Часовни перед Гостиным двором еще нет, а самый
Гостиный двор представляет собой неуклюжее здание,
лишенное нынешних орнаментов. При крайних входах в него
расположены лотки торговцев ситниками, баранками и
кренделями. В проходах по бокам средних ворот ютятся
торговцы пирогами, нередко укоризненно отвечающие
потребителю, выражающему неудовольствие на найденный
в начинке обрывок тряпки: «А тебе за три копейки с
бархатом, что ли?»
Перед Гостиным двором, между зданием и тротуаром,
на вербной неделе * устраивается пестрый торг игрушками,
сластями и предметами домашнего хозяйственного
употребления. Любимым развлечением для детей служат длин-
4 А. Ф. Кони, т. 7
49
ные узкие стеклянные трубки с водой и стеклянным же
чертиком внутри, который опускается вниз при давлении
на замыкающую трубку резинку. В конце 50-х годов
впервые появляются резиновые красные шары,
наполненные газом, стоящие первое время по 5 рублей штука и
привлекающие общее любопытство, в особенности когда кто-
нибудь по недосмотру упустит из рук подобный шар. Пред
рождеством это же место наполняется праздничными
елками с бумажными гирляндами и другими украшениями.
Против Гостиного двора — Пассаж *, составляющий
предмет удивления приезжих провинциалов. Внутри его
три этажа: в нижнем — магазины и помещения для
небольших выставок. Во втором этаже разные мастерские и
белошвейные, к которым применимы слова Некрасова из
«Убогой и нарядной»: «Не очень много шили там, и не в шитье
была там сила» *, В третьем этаже помещаются частные
квартиры, хозяева которых вывешивают под близкий
стеклянный потолок клетки с птицами, пением которых
постоянно оглашается Пассаж, служащий почему-то
любимым местом прогулки для чинов конвоя в их живописных
восточных костюмах. Концертная и театральная зала
Пассажа во второй половине пятидесятых годов становится
ареной очень интересных собраний и представлений: в ней
происходят первые собрания акционеров возникающего
общества водопроводов *, причем собравшиеся производят
такие беспорядки, что председатель, известный финансист
Евгений Иванович Ламанский, закрывает собрание
заявлением, что мы еще не созрели для публичности *. Вслед
за тем в Петербурге происходит диспут Костомарова с
приехавшим из Москвы академиком Погодиным о
происхождении Руси от варягов или от Литвы. Противники
оживленно спорят, делая взаимные уступки, при живейшем
внимании публики, и Погодин заключает собеседование,
указывая на это внимание как на явный признак того, что
мы созрели *. Вслед за тем по Петербургу ходят шутливые
стихи: «Мы созрели, мы созрели, веселись, счастливый
росс: из Москвы патент на зрелость академик нам привез».
Вскоре затем в Пассаже начинается ряд литературных
чтений, на которых выступают наши выдающиеся
писатели. Достоевский с захватывающим искусством и
чувством читает эпизоды из «Бедных людей», Писемский
играет, ибо иначе нельзя назвать его чтение отдельных мест
из «Тысячи душ». Бледнолицый и еще худощавый Апух-
$0
тин декламирует свои стихи, и Майков постоянно
выступает со своими «Полями», причем злые языки шутливо
сообщают, будто при появлении на эстраде поэта публика,
которой надоело одно и то же стихотворение, встречает
автора возгласами из его же произведения: «А там поля,
опять поля» *. Вслед за тем начинаются спектакли в
пользу только что образовавшегося Литературного фонда*:
ставятся «Женитьба» и «Ревизор» *. Роль Подколесина и
городничего превосходно исполняет Писемский, а в числе
«аршинников-самоварников» находятся Тургенев,
Островский, Некрасов и др. Хлестакова играет П. И. Вейнберг,
и необыкновенным талантом отличается безвременно
скончавшийся студент Ловягин.
Рядом с Гостиным двором в большой думской зале
читаются в 1862 году первые публичные лекции в
Петербурге, из предметов университетского курса. На кафедре
переполненного зала появляются профессора
Петербургского университета, закрытого перед тем вследствие
«студенческих беспорядков», Кавелин, Костомаров, Спасович,
Стасюлевич и другие. Лекции пользуются чрезвычайным
успехом, но, к сожалению, через два с половиной месяца
прекращаются, по почину группы распорядителей,
делающей из этого прекращения бесцельную и вредную для
просвещения демонстрацию*.
Александрийская площадь заключает в себе плохо
содержимый сквер, окруженный весьма неизящной чугунной
решеткой. В нем, в особом павильоне, помещается
вафельное заведение госпожи Гебгардт, заседающей за
прилавком в своем национальном голландском наряде и в
кружевном чепце над металлическими бляхами на висках.
Впоследствии она расширяет свои операции и кладет
основание Зоологическому саду *.
Сзади возвышается прекрасное- здание
Александрийского театра*. В то время театр был в сущности
единственным местом для выражения общественных вкусов,
настроений, симпатий и антипатий. Несмотря на то, что в
первой половине пятидесятых годов репертуар состоял, за
исключением классических пьес, и то с большим цензурным
разбором, из пьес псевдопатриотического характера и
водевилей, в веселую ткань водевиля, с необходимой его
принадлежностью — куплетами, вплеталась иногда ирониче*
екая шутка по поводу того или другого общественного
явления. Даже такой строгий критик, как Белинский, не мог
4*
st
отказать некоторым из водевилей в признании такого их
достоинства *. Декорации в Александрийском театре были
стары и постоянно, невзирая на место и время действия,
повторялись. Бутафория была недостаточная и бедная.
Освещение не удовлетворяло всем требованиям
сценической постановки. Механические приспособления были
довольно примитивны, но труппа в общем своем составе
была превосходная. Братья Каратыгины, В. В. Самойлов,
Брянский, Максимов первый, Сосницкий и, в особенности
незабвенный для тех, кто имел счастье его видеть,
Мартынов высоко держали знамя своего искусства и видели в
своей деятельности не профессию, а призвание. Их
появление на сцене заставляло забывать всю неприглядную
обстановку тогдашнего драматического театра:
самовластие директора*, канцелярские и закулисные интриги,
нередко непонимание лучших свойств того или другого
артиста, цензурные «обуздания», нелепость и неуместность
«дивертисмента» и зазывательный характер афиши. Чтобы
оценить театральную цензуру, достаточно указать на то,
что для постановки «Месяца в деревне» Тургенева было
предъявлено требование, чтобы замужняя героиня этого
произведения, увлекающаяся студентом, была превращена
во вдову*. Для характеристики афиш стоит привести
лишь названия некоторых пьес: «Вот так пилюли, или Что
в рот, то спасибо», «Дон Ранудо де Кали.брадос, или Что
и честь, коли нечего есть» или «В людях ангел — не жена,
дома с мужем — сатана» и т. д. *.
Самым выдающимся по разносторонности своего
таланта был Самойлов. В некоторых ролях своих он был
неподражаем. Трогательный до слез в своем безумии, в венке
из пучков соломы, король Лир *; внезапно просыпающийся
из притворного бессилия и в слабости Людовик XI *;
вкрадчивый и грозный в своем властолюбии кардинал
Ришелье * — надолго запечатлевались благодаря его
исполнению в памяти зрителей, и рядом с этим в той же памяти
звучал акцент изображаемых им инородцев и
необыкновенное умение оттенить комические стороны в водевиле.
Каратыгин был артист классической школы, умный и очень
образованный, что в то время в этой среде встречалось не
часто, атлетического сложения, с могучим голосом и
глубоко обдуманной мимикой. В трагических сценах он
производил чрезвычайный эффект, как, например, в последнем
действии драмы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» или в
52
«Тарасе Бульбе», переделанном для сцены *. Но выше всех
их был Мартынов. Воспитанник театральной школы,
предназначенный для балета и случайно успешно сыгравший в
каком-то водевиле, он занял комические роли и достиг в них
необыкновенного совершенства. Его мимика, голос, манера
держать себя на сцене, смешить, не впадая в карикатуру,
сделали из него заслуженного любимца зрительной залы.
Один его выход из-за кулис уже вызывал радостную
улыбку у зрителей. В упомянутой выше пьесе «Дон Ранудо» в
первом действии, изображая старого слугу обедневшего
испанского гранда, он появлялся в самой глубине сцены, в
конце улицы, и, неся кастрюльку в руках, представлял
хохочущего. Еще звуков его смеха не было слышно, а уже
при одном его появлении театр неудержимо хохотал... И
тем не менее комизм не был его настоящим призванием.
Это проявилось в конце пятидесятых годов, когда, под
влиянием Островского, бытовая драма вытеснила
прежнюю сентиментальную и ходульную мелодраму, как,
например, «Эсмеральду» и «Материнское благословение», а
с ней вместе постепенно упразднила и водевиль *.
Появление Мартынова в пьесе Чернышёва «Испорченная
жизнь» * и в роли Тихона в «Грозе» открыло в нем такую
глубину драматического таланта, такую вдумчивость и
«заразительность» влияния его таланта на зрителей, что он
сразу недосягаемо вырос, и стало даже как-то странно
думать, что этот артист, исторгающий слезы у зрителей и
потрясающий их душу, еще недавно шутил на сцене и пел
куплеты. Тот, кто слышал обращение Тихона в «Грозе» у
трупа утопившейся жены к матери: «Маменька, вы ее
погубили! Вы, вы, вы...»,— забыть этого не может *.
Достигнув апогея своего дарования, Мартынов угас. Всенародные
похороны его были первым событием такого рода в
Петербурге. В них выразилась любовь к артисту, независимая
от всякой официальности и нежданно для нее. Это был
трогательный порыв настоящей общественной скорби *. -
И женский персонал труппы стоял на большой высоте.
Хотя уже не было Асенковой, но достаточно назвать Снет-
кову, Жулеву, сестер Самойловых, Читау и Линскую и
Гусеву для роли старух. Наконец, в самом начале
шестидесятых годов, появился на сцене Горбунов *, непревзойденный
рассказчик сцен из народного быта, умевший с тонким
чувством воздержаться от смехотворных изображений вхо*
дивших в состав России инородцев: евреев, поляков, ар-
53
мян и финнов, от чего не был свободен даже такой артист,
как Самойлов, игравший роль Кречинского с
подчеркнутым польским выговором *. Не обходилось, конечно, и без
некоторых диссонансов в общей стройной гармонии
александрийской труппы. Среди артистов был некто Т. *,
игравший преимущественно роли «злодеев», никак не
могший выучить слово парламент, ив одной пьесе,
изображающей ожесточенную борьбу парламентских партий,
заявивший, несмотря на все усилия суфлера, вместо
авторского: «пойду в парламент» — «пойду в департамент»,
â в знаменитой сцене Миллера с женой в «Коварстве и
любви», не найдя пред собой забытой бутафором скрипки,
воскликнувший: «Молчи, жена, или я тебе размозжу голову
той скрипкой, которая у меня в той комнате», и т. д.
В начале шестидесятых годов веселый и
жизнерадостный водевиль сменила оперетка с ее двусмысленностями и
опошлением серьезных исторических сюжетов. От оперетки
невольный переход к опере и, следовательно, к Большому
театру на Театральной площади. И та же цензура
простерла свою длань над названиями европейских опер. Из
комических, якобы политических, соображений они были
переименованы: «Вильгельм Телль»— в «Карла Смелого»,
«Моисей» — в «Зора», «Пророк» — в «Осаду Гента»,
«Немая из Портичи» — в «Фенеллу», «Гугеноты», вопреки
всякому историческому смыслу, в «Гвельфов и гибелинов» *.
В итальянской опере* блистали Тамберлик и Марио,
Кальцолари и Ронкони и в конце сороковых годов —
певица Альбони, по поводу крайней толщины которой и
удивительного голоса остряки говорили, что это слон,
проглотивший соловья, а затем — Полина Виардо-Гарсиа *,
сыгравшая такую роль в жизни Тургенева, и Бозио,
трогательно воспетая Некрасовым*. Нашему Мартынову в
его комическом амплуа соответствовал известный бас Ла-
блаш — большого роста и толщины, иногда в шуточку
вставлявший в итальянские речитативы исковерканные
русские фразы, и большой поклонник Мартынова,
говоривший: «Языка его я не понимаю, но его—понимаю». Эта
опера посещалась преимущественно великосветским
обществом или завзятыми меценатами. Они брезгали русской
оперой, которой не особенно занималась и дирекция
театров, но которую посещал с любовью средний обыватель,
ценивший такие слабые произведения, как «Аскольдова
могила» *, и не понимавший в течение долгого времени
54
дивных красот «Руслана и Людмилы». Самая «Жизнь за
царя» давалась в довольно жалкой обстановке, и ее
вывозил лишь талант Петрова *. Она все-таки держалась на
сцене и в известные дни давалась по установленному
ритуалу. Первое же представление «Руслана» было встречено
холодно, а когда уехал из театра Николай Павлович, то
послышалось шиканье не только из зрительной залы, но
даже из оркестра. Бледный и растерявшийся Глинка не
знал, выходить ли ему на сцену на жидкие вызовы
«автора!», но сидевший с ним в директорской ложе начальник
Третьего отделения Дубельт сказал ему: «Иди, иди,
Михаил Иванович, Христос больше тебя страдал» *. Роль
Вани в «Жизни за царя» в пятидесятых годах с особенным
успехом исполняла талантливая певица Леонова*. Перед
оставлением казенной сцены в шестидесятых годах она,
чрезвычайно пополневшая, была заменена другой певицей,
очень сухощавой. В одной из современных карикатур они
были изображены обе с надписью: «Госпожа NN и ее
футляр». В конце пятидесятых годов в русской опере был
поставлен «Трубадур» Верди, имевший чрезвычайный успех
благодаря талантливой игре и пению тенора Сетова,
который затем производил сильное впечатление ъ роли Елеа-
зара в «Жидовке» Галеви *.
Нынешний Мариинский театр имел внутри широкую,
круглую арену и, предназначенный для конских
представлений, акробатов и вольтижеров, носил название «Театра-
цирка». Рядом с ареной была обширная сцена, и все было
обставлено весьма роскошно. Лучшие европейские
цирковые труппы сменяли одна другую, нередко оставляя в
рядах аристократии своих выдающихся наездниц *. В театре-
цирке давались патриотические пьесы, где к игре актеров
присоединялись конские ристания *, джигитовка,
ружейная— и даже нечто вроде пушечной—: пальба. Особенно
эффектно была поставлена «Блокада Ахты», по поводу
которой рассказывали, что на вопрос проезжавшего мимо
государя, что идет в этот день, часовой театра-цирка будто
бы ответил: «Блокада Ахвы», объяснив затем такое
искажение названия невозможностью сказать царю: ах-ты!.. *
На этой арене особенно отличался клоун Виоль, чрезвы-
чайно гибкий и ловкий артист, исполнявший, между
прочим, роль орангутанга в пьесе «Жако, или Бразильская
обезьяна» *. Театр-цирк просуществовал, однако, недолго.
Он давал большой дефицит, да и публика к нему охладела.
55
В противоположность русской опере в Большом театре
ставились с большой роскошью балеты, в которых
особенно отличалась Андреянова, вместе с подвизавшимися
наряду с ней разными иностранными знаменитостями во
главе с Фанни Эльслер и Карлоттой Гризи. Особенно
любимыми балетами были «Война женщин» со множеством
военно-хореографических эволюции и «Сатанйлла» с
изображением ада и огромного, извивающегося через всю
сцену змея в последнем акте *.
Короткая Михайловская улица приводит к
Михайловскому дворцу (впоследствии музей Александра III) и
Михайловскому театру, где дают представления французская
и немецкая труппы *. Первая из них заключает в себе
первоклассных артистов, как Бертон, Лемениль и мадам Воль-
нис, тонкая игра, которых доставляет истинное
наслаждение. Особенно выдается Лемениль, во многом
напоминающий Мартынова, но, конечно, с французским складом. В
забавной пьесе «Les pommes du voisin» l изображен ряд
комических положений, попадая в которые заезжий в новый
для него город товарищ прокурора (substitut) воображает
себя совершающим различные преступления*
Романтические приключения его оканчиваются благополучно, но
этому концу предшествует совершение им воображаемого
убийства, с самыми мрачными подробностями. В первых
двух действиях Лемениль заставлял публику неудержимо
смеяться, но в последнем действии, считая себя
бесповоротно вступившим на путь ужасных преступлений, он
переставал смешить и возбуждал видом своих душевных
переживаний в зрителях и ужас, и сострадание.
В Михайловском дворце проживает, великая княгиня
Елена Павловна, к которой применимы слова, обращенные
Апухтиным к Екатерине II («Недостроенный памятник»):
«Я больше русскою была, чем многие, по крови вам
родные». Представительница деятельной любви к людям и
жадного стремления к просвещению в мрачное
николаевское царствование, она, вопреки вкусам и повадке своего
мужа, Михаила Павловича, всей душой отдававшегося
культу выправки и военного строя, являлась центром,
привлекавшим к себе выдающихся людей в науке,
искусстве и литературе, «подвязывала крылья» начинающим
талантам и умела умом и участием согревать их. Она проли-
1 «Яблоки соседа» (франц.).
56
вает в это время вокруг себя самобытный свет среди
окружающих безмолвия и тьмы. В то время, когда ее муж — в
сущности добрый человек — ставит на вид командиру
одного из гвардейских полков, что солдаты вверенного ему
полка шли не в ногу, изображая в опере «Норма» *
римских воинов, в ее кабинете сходятся знаменитый ученый
Бэр, астроном Струве, выдающийся государственный
деятель граф Киселев, глубокий мыслитель и филантроп князь
Владимир Одоевский, Н. И. Пирогов, Антон Рубинштейн
и другие. С последним она вырабатывает планы учреждения
Русского музыкального общества и Петербургской
консерватории и энергично помогает их осуществлению в жизни
личными хлопотами и денежными средствами. Благодаря
этому в России начал развиваться вкус к серьезной
музыке, который до того удовлетворялся модными романсами
«Скажите ей» и «Когда б он знал» на одну и ту же
музыкальную тему и очень популярными «Голосистым
соловьем» Алябьева, «Гондольером» и другими подобными... * А
когда в начале пятидесятых годов впервые появились в
продаже папиросы, то часто исполнялся романс
«Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не любить?.. Не по
прихоти ж случайной стали все тебя курить!»* Она же
сердечным участием, после истории с князем Чернышёвым,
удерживает Пирогова от отъезда из России и привлекает
к задуманному ею устройству первой в Европе Крестовоз-
движенской общины военных сестер милосердия,
отправляемых потом под руководством знаменитого хирурга в
Севастополь, где их самоотверженная деятельность
встречается грязными намеками главнокомандующего князя Мен-
шикова *. В ее гостиной собираются и будущие деятели
освобождения крестьян во главе с Николаем Милютиным.
«Нимфа Эгерия» нового царствования, она всеми силами
содействует отмене крепостного права не только своим
влиянием на Александра II, но и личным почином по
отношению к своему обширному имению Карловка *.
Невдалеке от дворца, перейдя Мойку, в переулке,
ведущем мимо круглого рынка в Большую Миллионную*,
мы встречаем громадную гранитную глыбу,
изображающую в неотделанном виде сидящего колосса, когда-то
предполагавшегося к постановке где-то в Петербурге, но
подломившего под собою перевозочные приспособления,
осевшего почти посредине узкой улицы и так и оставшегося.
Лишь в конце семидесятых годов эта безобразная камен-
57
ная масса была куда-то увезена и, может быть,
раздроблена на части.
Идя по Большой Миллионной, мы доходим до
Дворцовой площади, влево от которой Певческий мост и близ
него на Мойке дом, в котором мучительно окончил свои
последние страдальческие годы Пушкин. Обычное у нас
равнодушие к тому, что было светлого в нашем прошлом,
сказалось по отношению к последнему обиталищу великого
поэта, обратно тому, как это сделано в Германии и
Англии относительно Гёте и Шекспира. Хотя Тютчев в
трогательных стихах, обращаясь к только что убитому
Пушкину, говорит: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце
не забудет» *, обиталище это не было сохранено и
охранено в благоговейном внимании в прежнем виде, и в нем в
последнее время помещалось какое-то учреждение
полицейского характера *.
Еще Некрасов к характеризующим Петербург местам
прибавлял: «необозримые кладбища»*, и если мы захотим
их посетить, то прежде всего наше внимание остановит
кладбище Александро-Невской лавры, тянущееся по обеим
сторонам дороги, ведущей от ворот к внешней ограде
монастыря. На правой руке мы найдем могильные памятники,
красноречиво говорящие о тех, кто под ними погребен.
Достаточно указать на имена Ломоносова, Сперанского,
Крылова, Карамзина, Державина, Баратынского и
Жуковского, Гнедича и Глинки. Слева надгробные плиты и
памятники более отдаленного времени. Вот между ними
могила своеобразно знаменитой приближенной фрейлины
Екатерины II, Перекусихиной, и вот плачущая мраморная
женщина у разбитого молнией дуба, под которым лежит
младенец. Эти последние фигуры связаны с трагической
судьбой красавца-гвардейца Охотникова и печальным
существованием жены Александра I, Елизаветы
Алексеевны *. Вот могила мрачного и зверского Шешковского,
начальника Тайной канцелярии при Екатерине II, и,
наконец, могила президента академии и строгого ревнителя
русского языка адмирала Шишкова. Под полом церквей —
могилы выдающихся военных и гражданских- деятелей.
Впоследствии, в конце шестидесятых годов, когда почти
окончательно заполняются эти кладбища памятниками с
громкими именами лежащих под ними, постепенно
разрастается почти до самой Невы обширное Никольское
кладбище. Там есть имена выдающихся деятелей литературы и
58
эпохи великих реформ, но во время нашего обхода
Петербурга это кладбище существует еще в самом зачатке*. За
Обводным каналом — Волково кладбище, богатое
впоследствии громкими литературными именами. Достаточно
сказать, что на нем лежат Добролюбов и Белинский. Там же
могилы Полевого и знаменитого Радищева. Здесь
впоследствии нашли последнее успокоение Тургенев, Кавелин,
Салтыков, Костомаров и другие. Смоленское кладбище на
Васильевском острове приняло в свои недра многих
артистов. Мы находим на нем могилы артиста Дюра, мужа и
жены Каратыгиных, Мартынова, О. А. Петрова (Первого
Сусанина в «Жизни за царя») и, наконец, Варвары
Николаевны Асенковой, любимой артистки сороковых годов, к
которой, через двенадцать лет после ее кончины, Некрасов
обращался со следующими словами: «Но ты, к кому души
моей летят воспоминания, я бескорыстней и светлей не
видывал созданья... Увы,.наивна ты была, вступая за
кулисы,— ты благородно поняла призвание актрисы... Душа
твоя была нежна, прекрасна, как и тело, клевет не
вынесла она, врагов не одолела!»*
На католическом кладбище Выборгской стороны
лежит скончавшаяся в начале шестидесятых годов Бозио —
итальянская певица и артистка с удивительным голосом.
К ней обращены горестные слова Некрасова: «Дочь Италии!
С русским морозом трудно ладить полуденным розам.
Перед, силой его роковой ты поникла челом идеальным, и
лежишь ты в отчизне чужой на кладбище пустом и
печальном. Позабыл тебя чуждый народ в тот же день, как
земле тебя сдали, и давно там другая поет, где цветами тебя
осыпали» *.
Внутренняя жизнь Петербурга в то время
представляет много особенностей, очень отличающих его от
недавнего Петербурга девятисотых годов перед роковой войной.
В начале пятидесятых годов в городе 450 тысяч жителей.
К началу шестидесятых — 600 тысяч. Жизнь общества и
разных учреждений начинается и кончается ранее, чем
теперь. Обеденный час, даже для званых трапез, четыре
часа, в исключительных случаях — пять, причем по
отношению к кушаньям и закускам, за исключением особо
торжественных случаев, обилие не сопровождается роскошью,
как с начала девяностых годов. То же самое и
относительно напитков. Далеко не всякий званый обед требует шам-
59
панского. В обыкновенные дни на столе у большинства
даже зажиточных людей стоят квас и кислые щи.
В пятидесятых годах была чрезвычайно
распространена на вечерах игра в лото, а также доверчивое занятие с
говорящими столиками. Под влиянием пришедших с
Запада учений о спиритизме многие страстно увлекались этим
занятием, ставя на лист бумаги миниатюрный, нарочито
изготовленный столик, с отверстием для карандаша, и
клали на него руки тех, через кого невидимые духи
любили письменно вещать «о тайнах счастия и гроба» *.
Иногда такими посредниками при этом выбирались дети,
приучавшиеся таким образом ко лжи и обману, в чем многие из
них впоследствии трагически раскаивались. В гости на
званый вечер приезжают в восемь — девять часов, а не на
другой день, как это часто случалось впоследствии.
Уличная жизнь тоже затихает рано, и ночью на улицах слышится
звук сторожевых трещоток дворников.
В начале описываемого периода дамы носят по
нескольку шумящих крахмальных юбок. Под платьями,
снабженными рядами воланов, высокий корсет, стянутый до
крайности, чтобы талия была «в рюмочку». Он в большом
употреблении и даже злоупотреблении, с несомненным вредом
дая здоровья. На него надевается лиф, заканчивающийся
книзу острым шнипом. Чулки у дам нитяные или
шелковые, белые; цветные или полосатые предоставляются
лицам, не принадлежащим к так называемому обществу.
Подвязки, часто на пружинах, носятся ниже колен. Обувь —
башмаки без каблуков, с завязками, или из козловой
кожи или материи и прюнелевые ботинки. Кожаные сапожки
и туфлй на безобразно высоких каблуках явились гораздо
позже. Шляпки представляют нечто вроде корзиночки,
завязанной у самого горла бантом из широких цветных лент.
К шестидесятым годам женские моды круто меняются. От
многочисленных юбок остаются только одна-две, а их
заменяет кринолин, доходящий иногда до совершенно
нелепого и неудобного объема. Шляпы приобретают
разнообразный фасон, и среди них одно время выделяются chapeaux
mousquetaires 1 со средней величины полями, обшитыми
вокруг широкой полосою черных кружев.
Мужские моды более устойчивы. С новым
царствованием, в половине пятидесятых годов, исчезают у мужчин
] Шляпы мушкетеров (франц.).
60
остроконечные воротнички у рубашек и тугие высокие
атласные галстуки на пружинах, заменяясь отложными или
просто стоячими воротниками и тонкими узкими
галстучками. Почти исчезают и узкие брюки со штрипками,
заменяясь одно время очень широкими светло-серыми.
В костюмах штатских людей преобладает черный цвет.
Длинное пальто «пальмерстон» чередуется с накидкой-
«крылаткой». Николаевская шинель с пелериной
постепенно отходит в область прошлого. Нет обилия всевозможных
мундиров, как было в последнее время, и люди менее
обвешиваются всевозможными орденами, русскими,
иностранными и экзотическими, медалями и значками своей
принадлежности к разным благотворительным и спортивным
обществам. Праздничный вид петербуржца более скромный,
чем впоследствии, когда часто оправдывался рассказ о
маленьком ребенке, который на вопрос матери, указывающей
на приехавшего с праздничным визитом господина: «Ты
знаешь, кто этот дядя?» — отвечал: «Знаю, это елка».
По воскресеньям на Невском и на набережной Невы
против дворца происходят обыкновенно гулянья. В начале
пятидесятых годов, если появляется на улице барышня «из
общества», ее непременно сопровождает слуга в ливрее или
компаньонка. В начале шестидесятых годов эти
провожатые исчезают, и появляется фигура «нигилистки», с
остриженными волосами и нередко в совершенно ненужных
очках. Она заменяется затем скромным видом девушки
трудового типа, не находящей нужным безобразить свою
наружность для вывески своих убеждений.
Уличные вывески очень пестры, разнообразны и
занимают без соблюдения симметрии большие пространства на
домах. У парикмахерских, или «цирулен», почти
неизбежны изображения банки с пиявками и нарядной дамы,
опирающейся рукой на отлете на длинную трость, причем
молодой человек, франтовато одетый, пускает ей из локтевой
ямки идущую фонтаном кровь. У табачных магазинов
непременно два больших изображения: на одном богато
одетый турок курит кальян, на другом негр или индеец, в
поясе из цветных перьев и таком же обруче на голове, курит
сигару. Нередки вывески «привилегированной»
повивальной бабки. Попадаются на Старом Невском лаконические
вывески «духовного портного». В Большой Мещанской
улице * есть гробовщик, предлагающий «гробы с
принадлежностями» и переводящий это тут же на немецкий язык:
61
Grabu mit prinadlegnosten. У некоторых публичных зданий и
ворот попадаются загадочные надписи: «Здесь вообще
воспрещается», разъясняемые надписью у ворот летнего
немецкого клуба на Фонтанке: «Кто осквернит сие место,
платит штраф». Очень много вывесок зубных врачей с
плодовитыми фамилиями Вагенгеймов и Валенштейнов.
Фотографий мало, и между ними выдаются Левицкого и Дау-
тендея.
Уличные развлечения представлены главным образом
итальянцами-шарманщиками или савоярами с обезьяной и
маленьким органчиком *. До конца пятидесятых годов эти
шарманки имеют спереди открывающуюся маленькую
площадку, на которой под музыку танцуют миниатюрные
фигурки и часто изображаются умирающий в постели
Наполеон и плачущие вокруг него генералы. В дачных
местностях на окраинах Петербурга водят медведя, который под
прибаутки поводырей и звуки кларнета пьет водку и
показывает, «как баба горох собирает».
Часто во дворы заходят бродячие певцы, является
«петрушка» с ширмами, всегда собирающий радостно
хохочущих зрителей, или приходят мальчики, показывающие
сидящего в коробке ежа или морскую свинку и громко
возглашающие: «Посмотрите, господа, да посмотрите,
господа, . да на-а зверя морского!» Местом летних вечерних
развлечений для более зажиточной публики-служат
искусственные минеральные воды в Новой деревне, где
изобретательный И. И. Излер открыл при заведении
минеральных вод увеселительный сад с концертным залом, в котором
поют тирольский и цыганский хоры *. Ярко
иллюминованный сад и концерты очень посещаются публикой,
которую доставляют от Летнего сада пароходы
предпринимателя Тайвани до смены их, гораздо позже, Финляндским
пароходством *.
При воспоминаниях петербургского старожила о
времени пятидесятых и первой половины шестидесятых годов
невольно возникают живые образы людей,
пользовавшихся, если можно так выразиться, городской популярностью
не по занимаемому ими в обществе, на службе или в науке
выдающемуся положению, но потому, что их
оригинальная наружность и своеобразная «вездесущность» с массой
анекдотических о них рассказов делала их имя
чрезвычайно известным. Описание их выходит за пределы нашей
статьи, но для примера можно остановиться на одном из
62
них. Это был брат карикатуриста, служивший в
театральной дирекции, Александр Львович Невахович, хотя и
толстый, но очень подвижный, с добродушным лицом и
живыми глазами, всегда и неизменно одетый во фрак. Он
славился как чрезвычайный гастроном и знаток кулинарного
искусства. Изображение его в карикатурах брата в
сборнике «Ералаш» наряду с рассказами об его оригинально-
стях создали ему большую популярность в самых
разнообразных кругах Петербурга *. Брат нарисовал его, между
прочим, очень похожим, говорящим с маленьким сыном по
поводу лотереи-аллегри, которая была одно время очень в
моде *. «Папа, — говорит мальчик, — на моем выигрышном
билете значится обед на двенадцать персон. Где же он?»—
«Я его съел!»—отвечает добродушно Александр Львович.
Он пользовался особенным расположением министра двора
графа Адлерберга, и когда тот, со смертью Николая I
оставил свой пост, то Невахович уехал за границу. В 1869
году один русский писатель * в вагоне железной дороги из
Парижа в Версаль встретил его в неизбежном фраке и с
отпущенной седой бородой и, услышав его жалобу на
скуку заграничной жизни и тоску по России, спросил его,
отчего же он не вернется в Петербург. «Невозможно, —
отвечал Невахович,—я за тринадцать лет отсутствия растерял
почти все знакомства, и меня в Петербурге уже почти не
знают, а я был так популярен! Кто меня не знал!..
Возвращаться в этот город, ставший для меня пустыней, мне
просто невозможно. Знаете ли, как я был популярен? Раз
встречаю на улице едущего театрального врача Гейденрей-
ха и кричу ему: «Стой, немец, привезли устрицы, пойдем
в Милютины лавки*, угощу!» — «Не могу, отвечает, еду
к больному». А когда я стал настаивать, то говорит: «Иди
туда, а я приеду». — «Врешь, говорю, немец, не
приедешь». — «Ну, так пойдем к больному, а оттудова поедем.
Я скажу, что ты тоже доктор». Поехали мы. Слуга
отворяет дверь, говорит: «Кажется, кончается». А в зале жена
больного плачет, восклицая: «Доктор, он ведь умирает!»
Вошли мы в спальню. Больной, совсем мне незнакомый,
мечется на кровати, стонет. Гейденрейх стал считать его
пульс и безнадежно покачал головой. Взглянув на
стоявшую в головах больного плачущую жену, стал все-таки
утешать больного, который все твердил, что умирает. «Это
пройдет, — говорит Гейденрейх, — это припадок». — «Что
63
вы меня обманываете, — проговорил больной, — какой
припадок, я умираю». — «Да нет, — говорит Гейденрейх, —
вот и другой доктор вам то же скажет», — и указывает на
меня, стоящего в дверях. — «Какой это доктор?» —
спрашивает больной. Остановился на мне глазами, да вдруг
как крикнет: «Разве это доктор!! Это Александр Львович
Невахович!» — и с этими словами повернулся на кровати
и испустил дух. Так вот как я был популярен в
Петербурге. Так где же уж тут возвращаться,..»
ИЗ ЛЕТ ЮНОСТИ И СТАРОСТИ*
С 1855 по 1858 год я
пробыл в немецкой школе
при церкви св. Анны на Кирочной улице и перешел затем
в четвертый класс второй (впоследствии Александровской)
гимназии, на Казанской улице. В последней, о которой я
сохранил самые теплые воспоминания, у меня был товарищ
по классу Николай Григорьевич Перетц. Это был добрый,
отзывчивый и способный мальчик, но с чрезвычайно
развитым самолюбием, переходившим в смешное тщеславие.
Он носил длиннейшие ногти, длинные волосы и чуждался
наших детских игр и забав, относясь к ним презрительно
и стараясь дать нам понять, что он гораздо выше нас по
умственному развитию. А мы, как нарочно, были почти все
большими шалунами, хотя большинство из нас училось
прекрасно. Иногда эти шалости соединялись у нас с
увлечением каким-либо из преподаваемых предметов. Так,
например, на нас имел большое влияние учитель истории,
незабвенный Владимир Федорович Эвальд. Его доброе и
отчасти насмешливое отношение к ученикам было соединено
с увлекательным изложением предмета. Мы ждали его
урока и слушали его с радостным чувством. Однажды мы,
мальчики, очень желавшие быть взрослыми, написали на
доске: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus» l*. Эвальд
вошел в класс и стал рассказывать свой урок, по привычке
ходя по классу. Увидев написанное на доске, он
улыбнулся, посмотрел на нас добрым и смеющимся взглядом, взял
губку, стер слово «juvenes» 2 и написал «pueri» 3... Особенно
1 Итак, будем веселиться, пока молоды (лат.),
2 Юноши (лат.),
3 Мальчики (лат.).
5 А. Ф. Кони, т. 7
увлекательно рассказывал он про Крестовые походы, и
нарисованная им картина душевного состояния
крестоносцев, узревших после многих битв и долгих страданий
Святой град и преклонивших пред ним колена, до сих пор —
по прошествии почти шестидесяти лет — стоит перед моим
умственным взором. Мы тотчас же объявили себя
крестоносцами, причем маленький горбун Майер, ходивший с
крючковатой палкой, был произведен в Петры
Пустынники, а я пожалован в Готфриды Бульонские*, — соседний
же класс был признан сарацинами, и ему объявлена же-!
стокая война. Надо сознаться, что наши крестовые походы,
продолжавшиеся целый месяц в большую перемену между
уроками, окончились для крестоносцев весьма плачевно:
соседний класс оказался численно сильнее, да и у нас
произошел внутренний раскол: будущий тайный советник
и юрисконсульт министерства внутренних дел Я. А. Плю-
щевский-Плющик поднял знамя бунта и объявил себя
султаном Килидж-Арсланом... Петр Амьенский был захвачен
в плен, а Готфрид Бульонский, бывший «старшим» в
классе и обязанный наблюдать за порядком, был посажен в
карцер после одной неудачной атаки, окончившейся
разбитием стекол в дверях соседнего класса. Ко всем этим
происшествиям Перетц относился с нескрываемым
отвращением, чем возбудил общее против себя недовольство, так
что некоторыми решено было его «проучить». «Cet âge est
sans pitié!» **.
Однажды он был крепко схвачен, и его длинные, чуть
не в вершок, ногти, которыми он отчаянно царапался,
сопротивляясь, были насильственно укорочены. Операция
прекратилась лишь с приходом учителя, но все время урока
Перетц, бледный и закусив нижнюю губу, бросал на меня
свирепые взгляды, почему-то (и притом совершенно
несправедливо) считая меня зачинщиком всей этой затеи.
С этих пор он преисполнился ненавистью ко мне и еще
более замкнулся в своем отчуждении. Но, очевидно, его
доброе сердце сильно страдало от этого, тем более, что я
пользовался почему-то некоторой любовью товарищей и
даже своего рода авторитетом, может быть потому, что
охотно принимал участие во всех производимых сообща
шалостях.
1 Этот возраст не знает жалости (франц.).
66
Летом 1859 года мы жили на даче в Петергофе. В один
прекрасный день, во время завтрака, горничная подала мне
письмо, сообщив, что податель ожидает ответа на улице*
В письме заключалось восторженное объяснение в любви
со стороны Перетца и предложение дружбы до гроба.
Я выбежал к нему, мы обнялись, оба расплакались, и в
залог нашей дружбы он мне тут же поднес ракету
собственного изделия, которую мы в тот же вечер спустили на
дворе, чуть не спалив всю дачу. С этих пор мы стали часто
видеться, и он сделался участником общих предприятий
в пятом классе, принявших более серьезный характер, чем
в предыдущем году. Мы стали издавать журнал «Заря»
с эпиграфом из Пушкина: «Поверь, мой друг, взойдет она,
заря пленительного счастья — Россия вспрянет ото сна» *...
Журнал, однако, был самого невинного свойства и
преимущественно наполнялся статьями по физике и математике.
В этом же классе был великовозрастный воспитанник
Иванов, круглый сирота, живший из милости и по каким-то
отношениям у чиновника Прудникова. Он потешал нас
стихами и комическими рассказами своего сочинения и
часто плакался на свою судьбу, рассказывая, как нередко
Прудниковы заставляли его исполнять самые черные
работы по квартире, мешая готовить уроки. Однажды Иванов
прибежал в класс, после двухдневного отсутствия, до
крайности расстроенный и со слезами рассказал нам, что его
благодетели заперли его за какую-то неисправность по
хозяйству на ночь в маленькую темную комнату, где был
положен в ожидании погребения труп старухи-бабушки.
Иванов плакал, говорил, что скорее бросится в воду, чем
вернется домой на новые моральные истязания, и был в
полном отчаянии. Мы, мальчики 13 и 14 лет, решили его
поддержать во что бы то ни стало и помочь ему
приготовиться к поступлению в Театральное училище, куда он уже
давно и безнадежно, по сильному призванию, стремился.
Мы дали друг другу нечто вроде клятвы отдавать
Иванову все деньги, которые у нас будут, и отправили
депутацию к директору Никите Семеновичу Власову с просьбой
о заступничестве за Иванова. Я был избран оратором этой
депутации. Власов отнесся к нам очень сочувственно,
вызвал к себе Иванова, подробно расспросил его, поехал
затем к обер-полицмейстеру — и чрез несколько дней
Иванов, которого Власов покуда приютил у себя,, был
освобожден навсегда от сэоих. благодетелей, получив право
5*
67
свободного проживания, где он хочет. Он поселился в Та-
расовом переулке в Измайловском полку, в довольно
большой комнате пятого этажа. Раза два в месяц мы всем
классом ходили его навещать и приносили ему нашу
посильную лепту и разные гостинцы, которые тут же сообща и
съедали. Однажды во время такого посещения с нами
случилось трагическое происшествие. В это время всех
интересовали опыты гипнотического сна, вызываемого
пристальным и упорным взглядом на отражение света на двух
перекрещивающихся металлических пластинках. Мы
вздумали проделать этот опыт над одним из наших
товарищей— Николаем Бером (одним из имевших впоследствии
отношение к ужасному несчастию на Ходынке во время
коронации 1896 года) *, и он действительно скоро заснул.
Но когда мы стали пробовать его разбудить, то он не
просыпался, несмотря на тормошение, уколы, щипки и крики
в ухо. Мы пришли в совершенное отчаяние и решили, что
лишили товарища жизни. Юному уму нашему
представилось, что для нас нет ни оправдания, ни извинения и что
мы погибли. С ужасом в сердце решено было, что трое из
нас отправятся в полицию и отдадут себя в «руки
правосудия», а остальные останутся ожидать решения своей
судьбы у «трупа». Несчастные убийцы уже уходили, когда
кому-то вздумалось плеснуть в лицо убитому водой. Он
вздохнул и раскрыл глаза... Иванов поступил в
Театральное училище, и лет через десять я его слышал в
Александрийском театре поющим в «Орфее в аду» * куплеты про
Аркадского принца.
Николай Перетц собирал к себе довольно часто
товарищей в свою маленькую комнатку на антресолях, где-то
в пятой или шестой роте Измайловского полка, в квартире
своего брата, Григория Григорьевича Перетца, моложавого
отца семейства, имевшего уже взрослую дочь. Он был
преподавателем русской словесности в институтах и читал
иногда бесцветно-сентиментальные публичные лекции по
литературе в зале нашей второй гимназии. К концу нашей
отроческой беседы обыкновенно он поднимался к своему
брату и приносил с собою «Колокол» * и «Полярную
звезду» *, проповедуя нам необходимость ниспровергнуть го*
сударственный строй и утопить в крови существующий
порядок, льстиво доказывая развесившим уши мальчикам,
что в этом состоит задача подрастающего поколения и что
эту задачу оно одно в состоянии и должно выполнить. Он
63
делал это в то время, когда правительство искренно шло
впереди общества и когда ежедневно ковались великие
реформы Александра II. Льстя незрелым умам, он
Подзадоривал нас тем, что декламировал нам революционные стихи
и песенки, из которых некоторые мы с его слов и заучили,..
Пред выходом моим в Университет из шестого класса
гимназии бедный Коля Перетц заболел сильным нервным
расстройством, но впоследствии он поправился, был
заметным и преданным своему делу педагогом, однако, пред
смертью, последовавшею в половине семидесятых годов,
как я слышал, потерял зрение.
Прошло много лет, и я был уже прокурором
Петербургского окружного суда. В декабре 1872 года возникло след*
ствие по делу о подделке акций Тамбовско-Сарэтовской
железной дороги и о приготовлении к отравлению
некоего Александра Ярошевича, в котором были заподозрены
акушер Колосов и доктор Никитин, библиотекарь Медико-
хирургической академии *. Экспедиция заготовления
государственных бумаг уведомила, — в качестве сведущего
лица, — судебного следователя о том, что способ подделки
акций, найденных при обыске в Академии, есть тот же
самый, который был употреблен при подделке кредитных
билетов с политической целью, дело о чем разбиралось в
1869 году. При этом по справкам оказалось, что
вещественные доказательства сданы в архив знаменитого Третьего
отделения. Желая сличить кредитные бумажки с акциями
и ближе ознакомиться со способом подделки, а также с
некоторыми обстоятельствами, сопровождавшими ее
открытие, следователь отнесся за получением необходимых
сведений и данных к начальнику Третьего отделения, но
никакого ответа на двукратное обращение не получил. Тогда
он обратился за содействием ко мне, как к прокурору •—
и я решился «взять быка за рога», т. е., не вступая в
переписку, поехать к шефу жандармов графу Шувалову и
лично с ним объясниться. Шувалов встретил меня очень
любезно, но заявил, что, согласно секретному высочайшему
повелению, никакие дела и справки из архива никому
решительно не выдаются. «Самое большее, — сказал он мне, —
что я могу сделать — это, в виде особого исключения,
допустить лично вас, по доверию к вам, к обозрению дела
в архиве». На мое возражение, что сведения нужны не мне,
а следователю, Шувалов сказал, что пришлет ко мне своего
чиновника, которому я, переговорив со следователем, могу
69
указать, что именно нам нужно, и тогда тот доставит
частным образом нам требуемые сведения. «Этот чиновник,—
добавил человек, которому завистливая молва присвоила
опасное наименование «Петр IV» *, — очень способный и
образованный; он у меня состоит заграничным агентом по
надзору за русской эмиграцией и пишет интересные и
очень полезные для нас донесения. Но теперь я его
выписал на некоторое время сюда и пришлю его к вам. Вы
останетесь довольны его понятливостью и умением освоиться
со всяким делом»... Через два дня курьер доложил мне,
что в камеру мою явился чиновник от шефа жандармов,
и на мое приглашение — ко мне вошел человек, как
казалось, средних лет с моложавой наружностью и
геморроидальным цветом бритого лица, рекомендуясь посланным
«графом Петром Андреевичем». Я пригласил судебного
следователя, и мы общими силами выяснили пришедшему,
оказавшемуся, действительно, очень понятливым, сущность
и связь тех сведений, которые нам нужны. Когда
следователь ушел, я извинился перед чиновником, что мы его
побеспокоили и отрываем от занятий, о которых мне говорил
шеф жандармов. «Мои главные занятия за границей,—
словоохотливо отвечал он, — а здесь я занят мало и потому
рад быть вам полезным по очень интересному, как я
слышал, делу. Дая меня же здесь, в Петербурге, нет теперь
серьезной задачи; иное дело руководить надзором за этими
заграничными негодяями, которые устроились удобно и
безопасно и подстрекают несчастную молодежь идти на
революционные затеи и погибать затем в ссылке и на
каторге. Вот с кем надо бороться и кого не следовало бы
щадить!». В манерах, голосе и чертах его бритого лица мне
почудилось что-то знакомое, и я стал пристально в него
всматриваться, силясь припомнить, где и когда я мог его
видеть. Он это заметил и, любезно улыбнувшись, сказал
мне: «А ведь вы меня не узнали! Я — Григорий
Григорьевич Перетц» *. — «Как? — воскликнул я невольно, — вы
Григорий Григорьевич! Да не может быть!» — «Отчего
же, — ответил он, немного смутившись, — что же тут
удивительного? Ведь взгляды с летами меняются. Когда мы
с вами встречались у брата, я был молод, увлекался». —
«Но вам, кажется, было весьма за тридцать лет?» Ничего
не отвечая на это замечание, он с деланным умилением
сказал: «А какое славное время было тогда, помните? Вы
были такой юный, всем интересовались. Думал ли я, что
70
встречу вас на таком важном посту?» — «Да и я не думал,
что мы гак: встретимся. Я ведь до сих пор помню, как вы
тогда раз встали перед нами, малыми юнцами, на стол и
декламировали: «Я нашел, друзья, нашел — кто виновник
бестолковый наших бедствий, наших зол» * и т. д. — и
потом учили нас кровожадному четверостишию: «Себя,
друзья, мы позабавим» * и т. д. — «Да, да, — сказал он,
кисло улыбаясь, — молодость, молодость!» — «Ну,
извините еще раз, что я отнял вас от ваших важных занятий
относительно тех подстрекателей юной молодежи, которых вы
с таким презрением называете негодяями...» -
Мы встретились затем чрез два месяца в гимнастиче-:
ском павильоне, где господин Перетц, упершись в бока,
очень искусно приседал под команду учителя. Он сделал
вид, что не узнает меня, и я не считал нужным напоминать
ему о себе: мне вообще не нравились его гимнастические
упражнения.
В 1861 году я и четверо моих товарищей (Кобылкин,
Лукин, Сигель и Штюрмер) решились выйти из шестого
класса гимназии прямо в Университет, который нас давно
манил* своими лекциями, доступными тогда почти для всех.
Уже со школьной скамьи мы ходили слушать блестящие
чтения Н. И. Костомарова и лучшими мечтами души жили
в университетских стенах. Для того, однако, чтобы в них
скорей попасть, нужно было оставить гимназию и держать
экзамен в качестве лиц, получивших домашнее воспитание,
в особой испытательной комиссии при Университете. Она
заседала с 19 по 26 мая, и в течение этих семи дней нужно
было выдержать экзамены по всем предметам
гимназического курса, выбирая для этого любые дни и любые
предметы. Экзамен производился учителями гимназии под
председательством профессоров и был довольно строг.
Всех державших было человек двести, и каждый день
с девяти часов утра пестрая и разношерстная толпа их
рассыпалась по аудиториям, причем имевшийся у каждого эк-
заменный листок с перечислением предметов, графою для
отметок и подписей учителей постепенно заполнялся
словами: «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
«весьма удовлетворительно». Вторая гимназия, в которой я
учился, считалась по преимуществу математической, и
эта ее слава в значительной степени поддерживалась
71
талантливыми преподавателями, среди которых первое
место занимал по праву Егор Христианович Рихтер. Я много
занимался математикой и уверил себя, что люблю ее,
смешивая трудолюбие со способностью. Уже с шестого класса я
начал давать уроки алгебры и геометрии готовившимся
поступать в высшие классы гимназии, так что приобрел
некоторый педагогический навык. Вступительные экзамены
в Университете шли у меня очень успешно, а мои ответы
из тригонометрии доставили мне даже маленький триумф
несколько комического характера. Я был очень моложав,
имея на вид не более 14 лет, был сухощав и маленького
роста, так что обращал на себя общее внимание
собравшихся на экзамен своим почти детским видом. Знаменитый
профессор и академик Сомов, вслушавшись в мои ответы на
экзамене* предложил мне несколько вопросов вне
программы, на которые мне удалось ответить довольно
удовлетворительно. Сомов почему-то пришел в великий
восторг и, сказав мне: «Нет, вас надо показать ректору»,—
подошел ка мне сзади, крепко охватил меня руками за
локти и, подняв на воздух, воскликнул: «Я вас снесу!»
Это мне — будущему студенту — показалось
чрезвычайно неуместным, и, увидев мое обиженное лицо, он
оставил меня в покое. С этих пор между экзаменующимися
прошла обо мне слава, как о человеке, который на
математике «собаку съел».
26 мая мне оставалось выдержать экзамены у немца и
француза. На них я шел, ввиду домашнего воспитания и
трехлетнего пребывания в Annenschule *, спокойно. Толпа
экзаменующихся в этот последний день была особенно
оживлена. Из нее вышел ко мне навстречу молодой
стройный человек высокого роста, с едва пробившейся
пушистой бородкой, холодными глазами стального цвета и
коротко остриженной головой. На нем, по моде того времени,
были широчайшие серые брюки, длинный белый жилет и
черный однобортный сюртук, а на шее, тоже по моде того
времени, был повязан узенький черный галстук с
вышитыми на концах цветочками. Манеры его были изысканно
вежливы и обличали хорошее воспитание, которое, впрочем,
в то время еще не было редкостью. «Извините, — сказал
он мне, — я знаю, что вы отличный знаток математики,
а у меня — и он слегка покраснел — вот какая беда: я не
приготовил двух последних билетов из тригонометрии, да и
вообще слаб по этой части и сам себе помочь не могу. Не
П
можете ли вы мне объяснить их?...» Я с удовольствием
согласился; мы сели в сторонке за край большого стола, и я
«преподал» моему неожиданному ученику два тревожившие
его билета, повторил свое объяснение и предложил ему
попробовать мне ответить. Ответ обличил его чрезвычайную
понятливость, и я сказал ему: «Теперь идите и берите
тотчас же билет, на полчаса вы заряжены, а там, пожалуй,
позабудете». Мы расстались, и я пошел к своим иноземцам.
Когда я вышел от последнего из них в комнату перед
аудиторией, где происходил экзамен, из двери другой
аудитории вышел мой незнакомец. Его красивое лицо было
радостно взволновано. Он быстро подошел ко мне и,
протягивая обе руки для крепкого рукопожатия, воскликнул:
«Представьте! Последний билет! Последний!! И — весьма
удовлетворительно! Как я вам благодарен! Мы, конечно,
будем встречаться. Вы ведь, без сомнения, юрист?»—«Нет,
я иду на математический факультет по чисто
математическому разряду». — «Но, все-таки, мы будем встречаться.
Неправда ли?» — «Конечно», — отвечал я. Но какая-то
странная застенчивость помешала мне спросить его
фамилию. Встречаться нам, однако, в университетском коридоре
не пришлось. Осенью Университет был закрыт на три
года *, и я, после бесплодных занятий математикой на
дому в течение года, перешел на второй курс юридического
факультета Московского университета.
Летом 1881 года после тяжелого огорчения, пережитого
мною вследствие ужасной смерти моего старого и
испытанного друга *, утонувшего при самой трагической
обстановке в водопаде на Иматре, я поехал за границу, чтобы хоть
немного привести в порядок свои нервы. В одном купе со
мною сидела дама средних лет, с которой мы
разговорились. В ее манерах, способе выражаться, достоинстве и
изящной простоте, с которыми она себя держала,
чувствовалась ее принадлежность к высокоразвитому кругу
людей. В ее словах сквозили — разностороннее образование
и вдумчивость в такие вопросы, про которые наш народ
говорит с презрительной иронией, что «это не женского ума
дело». Из мимолетных ссылок ее на свои житейские
встречи явствовало, что она подолгу живет в чужих краях и
притом не как простая туристка или любительница
«заграницы», подобно многим из беспечальных россиян, но играет
там в политических и литературных кругах некоторую роль
в качестве защитницы достоинства и достоинств — иногда
7S
понимаемых ею несколько своеобразно — своей родины,
России. Живя довольно долго в Англии, она из своего
«далека» видела многое в слишком розовом цвете и не обо
всех выдающихся людях и важных обстоятельствах
русской жизни высказывала верные взгляды. Но искренность
и горячность убеждений, сквозившие в ее речи, заставляли
мириться с этим стремлением поверить в «нас
возвышающий обман» *. Это была супруга одного из петербургских
сановников, много писавшая о России на английском языке.
Разделяя взгляды Каткова на наши внутренние дела и его
предвзятый взгляд на людей, с ним не единомышленных,
она была немало удивлена, узнав, что ее спутник, которого
она со слов «Московских ведомостей» представляла себе
«потрясателем основ» *, при ближайшем с ним знакомстве
таковым не оказывался и был чужд всякой партийной
окраски. Мы должны были расстаться в Вержболове, так
как она упустила визировать свой паспорт, что тогда
требовалось со стороны Пруссии в виде некоторой
репрессалии, и должна была остаться на границе впредь до
получения вида из ближайшего губернского города Ковно. Мы
обменялись письмами, а осенью, приехав в Петербург и
остановившись в Hôtel de France, она просила меня
посетить ее. Придя на это приглашение, я застал ее в
оживленном разговоре с молодым еще, красивым и стройным генерал-
адъютантом с Георгием на шее. В ответ на мой поклон он
протянул мне руку, что, вероятно, дало хозяйке повод
думать, что мы знакомы, и она не назвала нас одного другому,
Я вспоминаю по этому поводу, что в Москве времен
моей молодости, в некоторых кругах, существовал
странный обычай не представлять друг другу гостей, и это
вызывало иногда недоразумения, не лишенные комизма. Так,
я помню, что за ужином у известного писателя Писемского,
в его приемный вечер, один из гостей стал весьма
решительно и"едко критиковать барельефы на памятнике
императора Николая работы Рамазанова *, не зная, что против
него сидит и его с' болезненным вниманием слушает сам
Рамазанов. Я был свидетелем и другого случая,
относящегося к категории тех, в которых страшно жалеешь, что
не отсутствуешь, дабы не быть очевидцем неловкого, чтобы
не сказать более, положения, в которое иногда попадают
люди. Во времена моего студенчества в Москве жил доволь-:
но известный романист тридцатых и сороковых годов Алек*
сандр Фомич Вельтман, занимавший должность директора
74
Оружейной палаты. Он приходился мне двоюродным дядей
со стороны матери и был чрезвычайно интересный и
разносторонний человек. В его обширном кабинете в казенном
доме, в Левшинском переулке, собирались его старые
боевые сослуживцы (он учился в школе коллонновожатых,
основанной Н. Н. Муравьевым), военные сенаторы—барон
Ховен и Колюбакин и писатели. Из последних чаще всего
бывали Михаил Петрович Погодин, Чаев и Даль. Однажды
зимой 1863 года жена дяди, Елена Ивановна, урожденная
Сабанеева — очень умная и развитая женщина * —
написала мне, что вечером у них будет ее старый знакомый доктор,
приехавший из Сибири, где он прожил двадцать лет,
рассказывающий очень интересные вещи об этом, тогда еще
очень мало известном крае. Она звала послушать
приезжего к восьми часам вечера, но я, занятый даванием уроков,
опоздал и пришел в то время, когда доктор окончил свой
рассказ. Я застал тот психологический момент, когда
рассказчик, очутившись впервые среди незнакомых дотоле
людей, чувствует и сознает, что заинтересовал всех и
произвел известное впечатление. Доктор сидел, откинувшись
на спинку кресла, в непринужденной позе, с оживленным
лицом и блестящими глазами. Против него, в расстоянии
аршина с небольшим, сидел глубоко ушедший в кресло с
костылем в руках московский старожил, известный историк
и публицист М. П. Погодин, с клинообразной,
беспорядочной бородой на умном лице с крупными чертами. Это было
в том году, в котором с 1 января «Московские ведомости»
начали издаваться под редакцией Каткова * и приобрели
необыкновенное влияние в обществе, национальное
сознание которого было приподнято и встревожено яркими и
сильными статьями нового редактора по поводу польского
восстания. В этих же «Московских ведомостях» Погодин
стал помещать своеобразные фельетоны, подписывая их
«Русской». В них, отрывистым и quasi-народным языком,
он высказывался по всем вопросам, волновавшим
общественное мнение, с пафосом болтливого прямодушия.
Помнится, — хотя и не дословно, — что, например, один из
таких фельетонов он оканчивал обращенной к монарху
просьбой бросить гнилое болото Петербурга и переселиться
в Москву, восклицая от лица москвичей: «Уж как бы мы
Тебя, батюшка-Царь, встретили! Поднесли бы хлеб-соль и
кашу — мать нашу! Э! Да что тут много толковать: мы
Твои, а Ты наш! Ура!..» * — «Это очень интересно, все,
75
что вы нам рассказали, — прервал молчание Погодин,
обращаясь к доктору, — очень интересно, я очень
благодарен Елене Ивановне, что она меня пригласила». Он
помолчал. «А скажите, как у вас там, в Сибири, приняты
«Московские ведомости» под редакцией Каткова? Нравятся?» —^
«Да! Конечно, — отвечал сибирский гость, — их читают с
большим сочувствием, и им можно предсказать прочный
успех, если только Катков поведет дело разумно и не будет,
например, помещать у себя шутовских фельетонов этого
старого безумца Погодина* (он выразился еще сильнее)!»
Хозяйка побледнела, как полотно, наступила мертвая
тишина, такая тишина, при которой, как говорят немцы, «man
hört, wie die Wolken ziehen» l. Погодин уставился глазами
на доктора, потом мотнул головой, машинально скомкал
рукою бороду и опустил голову на свой костыль. Среди
внезапно наступившего зловещего молчания
почувствовалось, что многие из присутствующих предпочли бы лучше
на несколько минут провалиться сквозь землю, чем
созерцать создавшееся положение, особенно тяжкое для
приезжего доктора, позабывшего, в увлечении успеха, что
«блажен, кто словом твердо правит» *... Взглянув на лицо
хозяйки, он понял, что сказал что-то совершенно
недопустимое, и конечно догадался, в чем дело. Растерянно
посмотрев кругом, он пробормотал что-то невнятное, поднялся,
взял свою фуражку с соседнего стола, поспешно вышел из
комнаты и совсем ушел, ни с кем не простившись.
«Пойдемте, господа, пить чай!» — сказала хозяйка дрожащим
и упавшим голосом, и все поднялись...
Возвращаюсь, однако, к незнакомому мне генералу,
встреченному мною в Hôtel de France.
«Вот, — сказала хозяйка генералу, очевидно, продолжая
начатый разговор, — однако, какие вещи пишет в Англии
леди (она назвала фамилию, которую я в точности не могу
припомнить) о генерале Гурко. Очень неприятно, если это
хоть отчасти правда. Она пишет, будто Гурко, заняв
Адрианополь в прошлую войну, велел очистить бывший в ее
заведовании англо-турецкий госпиталь, а ей, когда она
пришла объясняться, плюнул в лицо. Неужели это правда?
Англичане, к сожалению, этому верят!» — «О, нет, -*-
сказал холодным тоном генерал-адъютант, — леди (и он
приостановился) вошла в противоречие с истиной. Дело
1 Было слышно, как плывут облака Снем,),
76
было так: войдя в Адрианополь и имея массу раненых
людей, Гурко просил очистить для них часть госпиталя,
потеснив несколько других больных, но Lady... явилась к
нему, наговорила ему массу дерзостей и потребовала
конвоя до румынских аванпостов, бросив таким образом всех
своих больных на произвол судьбы. Гурко был с нею
отменно вежлив и долготерпелив и в лицо ей плевать и не
думал. Я, конечно, его в этой истории не одобряю». —
«Как! — воскликнул я невольно. — Не одобряете? Но что
же он дурного сделал? Его, кажется, ни в чем упрекнуть
нельзя, судя по вашему рассказу». Генерал повернул ко
мне свое красивое, выхоленное лицо и сказал с утонченною
мягкостью и любезностью: «Вы меня не совсем поняли:
я не одобряю потому, что сам поступил бы совершенно
иначе, — и глаза его блеснули недобрым светом, и длинные,
красивые пальцы судорожно сжались. — Я выбросил бы
всех турок из лазарета и взял бы его под своих людей, а
эту леди за все ее недопустимые и дерзкие выходки
приказал бы арестовать и возил бы в своем арриергарде до
конца войны»... Последние слова были сказаны таким
тоном, что мне показалось, что красивый генерал внезапно
выпустил когти, как проснувшийся лев, — и снова их
спрятал... Затем он встал и собрался уходить. «А вы давно
знакомы с Михаилом Дмитриевичем?» — спросила меня
хозяйка. Тут только, услышав это имя и отчество, я понял,
что вижу пред собою Скобелева, которого, судя по весьма
популярным карточкам и портретам, я рисовал себе
плечистым, полным и меньшего роста. «Я в первый раз имею
честь встречаться с Михаилом Дмитриевичем». — «Будто
в первый? — сказал Скобелев, улыбнувшись, и — на мой
недоумевающий взгляд — прибавил: а помните экзамен из
тригонометрии в Университете?., ведь это был я!..»
Когда в декабре 1861 года был на неопределенное время
закрыт Петербургский университет вследствие
студенческих волнений, профессорами юридического и
филологического факультетов, при посредстве особого
организационного комитета, был открыт ряд публичных курсов*. Это
был первый свободный русский университет, доступный
молодежи обоего пола за весьма скромную плату. Много
раз с тех пор приходилось мне бывать в большой
Александровской зале петербургской городской думы,
участвовать в заседаниях, делать доклады и говорить речи при
77
открытии некоторых ученых съездов. И каждый раз предо
мной с силой яркой действительности возникала картина
этой залы в то незабвенное время. Моему внутреннему
взору представлялся — как я это вспоминал в другом
месте — яркий день ранней весны, когда солнце уже грело
и заливало своим светом и залу думы и молодые, полные
надежд, лица и когда за окном блистали, падая с крыши,
золотые капли быстро таявшего снега... Так же таял в те
дни снег, долго державший под своею мертвой пеленою
нашу родину, и грело только что взошедшее солнце
плодотворных шестидесятых годов.
На пороге общественной жизни многих из
присутствовавших готовились встретить великие реформы,
обновлявшие весь русский быт, и голос профессоров, читавших в
зале городской думы, звучал как призыв и напутствие для
будущей деятельности, которой так радостно было
посвятить без расчета и корысти всю свою жизнь. Для
большинства то было время благородной мысли, восторженного
чувства, горячей надежды на светлое будущее и светлой
веры в духовные силы русского народа, — время, когда
почти каждый устыдился бы даже тайно от всех подумать
про себя многое из того, что потом пришлось нередко
слышать не только в беззастенчиво прорекаемых громких
словах, но даже видеть и в печати. Это время связано для
меня и, я уверен, для большинства моих товарищей по
Петербургскому университету, с воспоминанием о курсах в
«Думском университете». В зале думы и в аудиториях
немецкой школы св. Петра раздавалось вдохновенное слово
Кавелина, по три раза в неделю всходил на кафедру своею
быстрою походкой Спасович, и блистал своим художеств.ен-
ным талантом, воскрешая в незабываемых образах старину,
Н. И. Костомаров. Все слагалось стройно, и ущерб,
нанесенный русскому просвещению событиями, вызвавшими
закрытие Университета, значительно умалялся, так как
лекции в думе посещались массою молодежи, среди
которой было много женщин, и записывались с охотою и
любовью. Случайное обстоятельство, не имевшее притом
никакого отношения к этим лекциям, разрушило все. В зале
училища св. Петра читал под сильным влиянием Бокля *
«Введение в историю цивилизации» бывший долгое время
в опале профессор П. В. Павлов. Лекции были довольно
водянисты, но огромная седеющая голова лектора с
надувшимися на висках жилами и горящими черными глазами
7*
и его глухой, проникнутый чувством голос производили
сильное впечатление. На литературном вечере 2 марта *
в зале дома Руадзе до крайности нервный Павлов читал
в сильном сокращении свою статью о тысячелетии России,
помещенную в календаре Академии Наук на 1862 год. Он
кончил свое чтение ярким перечислением тех услуг,
которые были в течение веков оказаны русским народом
верховной власти. Взволнованный этим ее концом и горячими
рукоплесканиями собрания, он произнес по адресу
«имеющих уши, чтобы слышать» *, резкую тираду на случай,
если бы они вздумали пойти назад в начатых
преобразованиях. Вызванный по уходе с кафедры публикой, он
повторил своде слова. Это было признано неуместною и
недопустимою угрозой, и Павлов был подвергнут
административной высылке в Ветлугу, Костромской губернии. По
крайне натянутым соображениям, большинство членов
организационного комитета чтений, состоявшего из
профессоров и влиятельных студентов старших курсов, вопреки
мнению Спасовича, Кавелина, Костомарова, Бориса Утина
и Стасюлевича, нашло, что мера, принятая против
Павлова, делает невозможным дальнейшее существование
«Думского университета». В виде протеста решено было закрыть
лекции, т. е. потушить источник света и знания и обречь
те сотни молодых голов, которых привлекали эти лекции,
на вынужденное безделье.
Я живо помню день 8 марта, когда в переполненной до
крайности большой зале думы Костомаров читал одну из
своих удивительных лекций об Иоанне Грозном, излагая
значительную часть ее образным русским языком
шестнадцатого столетия. Когда он кончил, в зале началось
волнение, и вслед за тем на кафедру взошел один из членов
комитета и объявил о решении комитета. Для большинства
присутствующих это было неожиданностью, и среди
смущенного молчания на кафедру снова взошел Костомаров.
Его лицо было бледно и судорожно подергивалось, голос
звенел. Заявив, что он не признает для себя обязательным
решение комитета, он сказал: «Я обязан перед наукой и
моей совестью докончить начатые лекции и потому
объявляю, что если найдутся желающие устроить чтения, то я
буду продолжать свои лекции!» Вокруг него и сзади
поднялся гвалт, раздались свистки, бранные слова и крики:
«подлец!» и «новый Чичерин!»* Шумевшею группою,
среди которой особенно жестикулировал один из членов ко-
79
митета, красивый брюнет с резкими чертами лица, сын
известного в Петербурге крупного откупного
предпринимателя Утина *, были сразу позабыты ученые заслуги
Костомарова и тяжкие испытания, которые ему пришлось так
несправедливо перенести. Забыты были и восторги
слушателей его лекций за последние два года. Бессовестные
оскорбления, сыпавшиеся ему в лицо, напомнили, конечно,
блестящему историку, как близка Тарпейская скала от
Капитолия *. Но он не смутился и в третий раз взошел на
кафедру, с трудом к ней протеснившись. «Оскорбления,
мне наносимые, не заставят меня, — почти закричал он, —
отступить от своего намерения. Любя Россию, я не могу
сочувствовать проявлениям пустого настроения,
выражающегося в демонстрациях и бесцельном гладиаторстве!
Многие из тех, которые оскорбляют меня теперь и шумят, как
Репетиловы*, быть может, через несколько лет окажутся
у тех, против кого они шумят, в роли Расплюевых *. Я
считаю путем к достижению свободы научный труд и развитие
гражданского долга, а крикливому демонстрированию
никогда не служил и служить не буду!» Трудно описать
возникший затем шум и овладевшие на этот раз уже
большинством волнение и возбуждение. При такой обстановке
прекратил свое существование первый свободный
университет в России. Слова Костомарова вызвали в газетах
оживленную полемику между авторами горячих статей:
«Учиться или не учиться?», «Мешать или не мешать
учиться?» и «Учиться, но как?» * Продолжать лекции
Костомарову не удалось, несмотря на настойчивое желание.
Он получил множество ругательных анонимных писем, в
которых ему, между прочим, угрожали на первой же
лекции гнилыми яблоками, тухлыми яйцами и даже побоями.
Огромное число его слушателей и почитателей
возмущалось этим до крайности, и между наиболее горячими из них
начинала зреть мысль об образовании группы для защиты
любимого и бестрепетного профессора от оскорблений и
насилий. На предположенных лекциях могли произойти
постыдные сцены, и они были предусмотрительно закрыты по
распоряжению министра народного просвещения Голов-
нина *.
Увы! В предсказаниях своих Костомаров был не совсем
неправ, и через двадцать лет я имел случай встретить в
Петербурге главного деятеля по закрытию «Думского
университета». Он состоял на службе у крупного железнодо«
80
рожного туза, имел кругленькое состояние, супругу,
осыпанную бриллиантами, и на борте его изящного и модного
фрака красовалась цепочка из различных экзотических
орденов, между которыми выделялся приобретаемый за
деньги крест св. Нины за распространение христианства
на Кавказе. А имя Чичерина, которым «неведающие, что
творят» *, хотели заклеймить Костомарова, в течение
сорока лет до самой кончины первого из них было связано,
в самые безрассветные периоды нашей общественной
жизни, для всех серьезно мыслящих людей с благородным
образом одного из редких и стойких научны/ поборников
широкого гражданского развития родины.
Летом 1862 года министерством народного просвещения
было объявлено, что Петербургский университет не будет
открыт и в следующие учебные годы. Не желая терять, по
меньшей мере, два года учебных занятий, я решился
поступить в другой университет, и выбор мой остановился на
Московском. Многое меня туда привлекало. Девяти pi
двенадцати лет от роду мне пришлось побывать в Москве, и
на мою детскую душу московская старина произвела
чарующее впечатление. Мой отец был старым московским
студентом конца двадцатых годов, и я с ранних лет жадно
внимал его рассказам о старом Московском университете
и о профессорах словесного и медицинского факультетов
(он слушал лекции на обоих). Оригинальные личности
некоторых из его тогдашних профессоров запечатлелись по
этим рассказам у меня в памяти. Таков был, например,
профессор словесности Петр Васильевич Победоносцев,
автор «Плодов меланхолии, питательных для
сентиментального сердца»* (1796) и торжественной речи «О
существенных обязанностях Витии и о способах к
приобретению успеха в красноречии» (1831), который, приводя
слушателям в подтверждение своих слов отрывки из
поэтических произведений, изображал их содержание в лицах и,
цитируя какое-то стихотворение, начинавшееся словами:
«Из-за облак месяц ясный, выплыв, смотрится в воде»,
представлял жестами облака и месяц и то, как он
смотрится в воду. Особенно выделялись между этими образами
знаменитый анатом Христиан Иванович Лодер,
начинавший свои латинские лекции словами «Videtis quam magna
est sapientia Dei» *, и профессор терапии и директор кли-
1 Видите, сколь велика премудрость господня (лат.).
6 А. Ф. Кони, т. 7
81
ники внутренних болезней Матвей Яковлевич My дров. Мой
отец, изучавший медицину одновременно с Пироговым и
свято чтивший своего товарища, вспоминал практические
советы, даваемые популярным в Москве и имевшим
обширную практику Мудровым на его последней лекции
оканчивающим курс слушателям. Я уже говорил в другом месте
об этих воспоминаниях, которые повторю здесь вкратце.
Мудров вызывал кого-либо из слушателей, облеченного,
согласно тогдашней форме, в синий фрак с малиновым
воротником и обшлагами, и спрашивал его о том, как будет
он лечить замоскворецкого купца, и на ответ: «Постараюсь
поставить диагноз и прибегну к „cura interna et externa" *»,
замечал: «Ты, братец, прежде всего пошли нанять карету,
хоть заложи что-нибудь, коли денег нет, а карета чтоб
была. Да как приедешь к больному и войдешь в дом,
прежде всего поищи глазами образ, да помолись на него, а
потом и спроси: «Где болящий?» — Ну, какая может быть
болезнь у него? — скорей всего объелся... ты и пропиши
ему oleum ricini2 в надлежащем количестве, а на расспросы
окружающих скажи: «Ничего еще не могу сказать;
приложу все разумение, а впрочем, на все воля господня».—
Ну, облегчит его, и станут тебя считать хорошим доктором,
невесту богатую сосватают...» — «Ну, а тебя, — обращался
он к другому вызванному, — позовут барыню-помещицу
лечить. Что ты предпримешь?» Но едва тот успевал
сказать: «Пошлю нанять карету...», — Мудров перебивал его
и говорил: «Никакой кареты не надо: поезжай на гитаре
(так назывались особые дрожки, именуемые также калибе-
ром, на которых можно было сидеть верхом), а как
останешься с больной один и услышишь, что она на нервы
жалуется, ты скажи ей: «Сударыня, mens sana in corpore sano3
и наоборот: может, у вас по условиям светской жизни
какие-нибудь надобности или потребности есть, а супруг
этого не понимает или считает капризом...» Она расплачется,
да и разболтает тебе, а ты пропиши ей «aqua fontana cum
saccharo albi MDS» 4 через два часа по столовой ложке,
а мужу, который тебя спросит, скажи: «Сильнейшее
потрясение всего организма; если у ней какие-нибудь глупые
1 Лечению внутреннему и наружному (лат.).
2 Касторовое масло (лат>).
3 Здоровый дух в здоровом теле (лат.).
4 Ключевой воды с сахаром (лат.). MDS — рецептурное сокращенное
обозначение: misce — с(мешай); da — д(аи); signa — о(бозначъ)..
82
желания или капризы есть, уж вы не перечьте — всякое
огорчение вредно». Вот он ей шаль, или шляпку, или что
там другое и купит, она повеселеет и выздоровеет. А о тебе
скажут: «Вот искусный доктор». Так-то!»
Все эти воспоминания в некотором роде делали для
меня Московский университет не безличным учреждением,
а местом, с которым я уже заочно сроднился. Нужно ли,
наконец, говорить, что имя Грановского, очерки которого
о римских императорах я уже успел прочесть с
восхищением *, придавало Московскому университету, с которым
оно было неразрывно связано, в моих глазах особое
обаяние.
Описывая свое знакомство со Скобелевым, я уже
упоминал, что поступил в Петербургский университет на
математический факультет. Не успел я прослушать и
двадцати лекций, как Университет был закрыт. Заниматься
математикой на дому было крайне трудно, а в некоторых слу-:
чаях и совершенно невозможно, и я еще осенью 1861 года
стал подумывать о переходе на другой факультет. В
обширной библиотеке моего отца не было, однако, ни
одной юридической книги, и сам он о юриспруденции имел
крайне невысокое мнение, вынесенное из наблюдений над
дореформенным судом, с порядками и крючкотворцами
которого ему пришлось раза два близко познакомиться, имея
в надворном суде и гражданской палате процесс с
типографией, печатавшей издаваемый им журнал «Пантеон» *.
Случайная встреча решила мою судьбу. В одном знакомом
семействе я провел вечер с двумя образованными
юристами, служившими по министерству внутренних дел. Это
были — Виктор Яковлевич Фукс и Петр Иванович
Капнист. Оба были в духе времени весьма либеральных
взглядов. Их удивило, что «в наше время, когда... в воздухе
носилась судебная реформа», — я избрал математический
факультет. На мой пренебрежительный отзыв о судебной
деятельности, почерпнутый из впечатлений отца и
высказанный с юношеской самоуверенностью, они оба, à qui mieux-
mieux \ стали доказывать мне, что я понятия не имею
0 юриспруденции и ее житейском применении, и очень
красноречиво развивать то, что и я теперь повторил бы
на их тогдашнем месте. Я пробовал спорить, но
чувствовал, что не имею никакой почвы под ногами. Расставшись
1 Наперебой, перебивая друг друга (франи,.).
6*
83
с ними, я невольно сознавал, как на меня подействовали
их широкие и светлые взгляды на задачи правоведения.
Мог ли тогда предполагать велеречивый впоследствии
чиновник по раскольничьим делам при Валуеве — Фукс, что
он в значительной мере виновник того, что молодой студент,
приведенный им в смущение, будет близким сослуживцем
по судебному ведомству его двух достойных во всех
отношениях братьев и через пятнадцать лет станет предметом
его злобных нападений за свою деятельность в качестве
судьи — в ряде его, Фукса, статей, напечатанных в
«Русском вестнике» и проникнутых ненавистью к Судебным
уставам? * Эта встреча, глубоко засевшая в мою душу,
заставила меня усомниться в правильности мнения моего
отца и решиться самому ознакомиться с какой-либо
юридической книгой. В нижнем этаже Пассажа на Невском
помещалась маленькая книжная лавка Попова, у которого я
покупал или брал на просмотр учебные руководства по
математике. Зайдя к нему, я просил дать мне какую-нибудь
юридическую книгу на просмотр. «Вот-с,—сказал он мне,
завертывая книжку, — вот, извольте посмотреть: очень
одобряют». Придя домой, я лег в постель и погрузился в
чтение принесенной книги — и целый мир новых понятий
открылся предо мной! Многое из того, с чем я ежедневно
встречался, как с фактом, явилось в виде отношений,
вызываемых условиями людского общежития,* сведенных к
общим глубоким началам, облеченным в строгие формы и
изложенным в стройной системе. Этот новый мир,
придававший особый смысл и значение различным проявлениям
общественной и личной жизни, очаровал меня, и я до утра
не отрывался от чтения. Попов мог мне дать
«Практическое руководство к ведению тяжебных дел» или
«Самоучитель к составлению исковых прошений» и т. п. — и тем
отвратить меня от правоведения если не навсегда, то во
всяком случае надолго. Но книга, данная им мне, называлась
«Русское гражданское право» Мейера и представляла
общую его часть, мастерски изложенную *. Эта книга
решила судьбу моих дальнейших занятий, и владелец маленькой
книжной лавочки, здравствующий, быть может, и поныне,
был бессознательным виновником того, что я сделался
юристом. Лекции в «Думском университете» окончательно
укрепили мою решимость, и, перейдя в Москву, в августе
1862 года я записался в число студентов второго курса
юридического факультета, на котором и окончил курс в
84
1865 году. И вот — «воспоминание передо мной — свой
длинный развивает свиток» *...
Иван Дмитриевич Беляев — профессор истории
русского права — человек средних лет, чрезвычайно неуклюжего
вида, косолапый, в прямом смысле слова, и вследствие
этого хромой, с добродушным выражением лица,
напоминавшего голову большой рыбы, в узеньком вицмундире,
фалды которого при каждом его шаге качались из стороны в
сторону, как маятник, держал себя на кафедре, «как дома»,
точно не замечая своей аудитории и постоянно отхаркивая
и отплевываясь. Автор многих ценных, хотя и
односторонних исследований, скорее начетчик, чем ученый, он вносил
в свой курс яркую славянофильскую окраску, довольно
бесцеремонно обходя те места актов и летописей, которые
противоречили его восторженному взгляду на
исключительное преобладание в древней Руси общинного быта. Он
видел его не только в семейных и общественных
отношениях, но и в государственном устройстве, находя этому
подтверждение в словах Нестора: «На вече сходятся, яко на
думу, и на чем старшие положут, на том и пригороды
станут» *, умышленно умалчивая о рассказе того же Нестора,
как «не бе в них правды, и вста род на род» *. Он
презрительно относился ко взглядам Костомарова на
удельно-вечевой уклад Руси и даже не удостоивал их
серьезного возражения, а исследование Соловьева о родовом
быте называл иронически следственным делом о русской
истории.
«Ну что такое родовой быт?—спрашивал он, глядя
куда-то вдаль, и, улыбнувшись, прибавлял:—черт ли в нем?..
Посмотрим-ка на размеры судной виры по уставу детей
Ярослава и увидим, что полагалось, когда кто кому
съездит в рожу. Это будет посерьезнее пустых разговоров о
родовом быте...» Надо сознаться, что лекции его были
довольно усыпительного характера — монотонные и без
всякой исторической или юридической перспективы, так что
мелкие подробности перепутывались с основными
положениями и подчас совершенно затемняли их. По мере
приближения к эпохе Петра Великого они становились все
более и более небрежными, и Беляев, посвящавший ряд
лекций изложению «правды детей Ярослава» * в мельчайших
85
деталях, machte kurzen Prozess x со всеми учреждениями
великого преобразователя, отзвонив их в один час и отдав
явное преимущество московским приказам перед
Коллегиями и Сенатом Петра. Нелюбовь к последнему сказывалась
и в его частной беседе. Уже на четвертом курсе я пришел к
Беляеву за справками об источниках по древнему русскому
праву для диссертации «О праве необходимой обороны». Он
жил в Проточном переулке под Новинским, на грязном
дворе невзрачного деревянного дома с мезонином; на лестнице
и в прихожей чувствовался удушливый запах кухни и разных
хозяйственных запасов, заготовленных впрок, а в кабинете,
заваленном книгами и разными документами так, что негде
было повернуться, стояли покрытый старым ковром
сундук и небольшой письменный стол. Иван Дмитриевич,
одетый в очень поношенный и засаленный халат, принял
меня весьма любезно и стал расспрашивать о моей работе.
Но эта любезность заменилась укоризненным взглядом,
когда я упомянул о том, что мне нравятся своеобразные и
оригинальные прибавки, сделанные Петром в Артикуле
Воинском, где, например, в статьях о необходимой обороне
он к словам немецких сборников («Saxenspiegel» и
«Schwadenspiegel»): «Du sollst nicht erst den Schlag erwarten» 2
приписал: «Ибо и тако случиться может, что после первого
удара весьма и обороняться забудешь»*. — «А вот я вам
покажу, — сказал мне Беляев, — вашего Петра», — и,
подозрительно оглянувшись по сторонам, предложил мне встать
с сундука, на котором, за неимением в комнате другой
свободной мебели, я сидел, поднял крышку и, порывшись з
нем, бережно вынул лубочную картинку начала XVIII
века, изображавшую погребение кота мышами *. «Вот ваш
Петр!—торжествуя воскликнул он, указывая на кота.—
А эта вот мышь в сарафане, что пляшет, — Екатерина. Так
вот какая ему цена в народе была за его переводы с
немецкого, когда все это, и гораздо лучше, есть в Уложении
царя Алексея Михайловича». На IV же курсе я
присутствовал на докторском диспуте Беляева, представившего в
качестве диссертации свое сочинение «Крестьяне на Руси» *.
Этот во многих отношениях почтенный труд встретил,
однако, ожесточенного критика и оппонента в лице
безусловного западника, профессора Ф. М. Дмитриева. Беляев за-
1 Живо расправлялся (нем.).
2 Ты не должен ждать, чтобы тебя ударили первого (нем.).
86
щищался слабо. Он* по-видимому, не обладал
способностью к словесным боям, да и сведения его в сравнительной
истории права были довольно слабы. Маленький,
худенький, с длинным острым носом, Дмитриев клевал его беспо-
щадно, указывая на искажение им смысла
правительственных распоряжений, на умолчание о хороших мерах Петра
в пользу крестьян, на незнание западных законодательств
и на неумение отличать факт от права. Он заключил свои
возражения ядовитым заявлением о том, что при совер-»
шенной бедности русской историко-юридической
литературы даже и этот труд заслуживает некоторого внимания.
Характер и тон этих нападок имел, однако, неожиданный
результат. Он вызвал общую симпатию к бездарной, но
несомненно трудолюбивой и преданной науке жертве
острословия Дмитриева. Возражения были встречены
молчанием. И когда затем Беляев был объявлен достойным степени
доктора, его приветствовали самыми горячими и долго не
смолкавшими рукоплесканиями.
Не меньшим противником Петра был и другой наш
профессор — Василий Николаевич Летков — чрезвычайно
подвижной старик со скуластым лицом и шамкающим
беззубым ртом, читавший нам, как значилось в программе
лекций, полицейское право. Но это значилось только в
программе, а в действительности на III курсе он
рассказывал содержание своей книги «Русский народ и государство
в XVII веке»*, в которой излагается то, что он называл
общественным правом, т. е. правом общества, которое, по
теории Лешкова, должно служить звеном и посредником
между государством и отдельными гражданами. Лекции
его были богаты историческим содержанием, но
проникнуты предвзятым, восторженным освещением культуры и
искусства старой России, будто бы искаженных и даже
истребленных преобразованиями Петра. Как пушкинский
Демон, про которого поэт сказал, что «ничего во всей
природе благословить он не хотел» *, Лешков ничего не хотел
признать свободным от порицания во всей деятельности
Петра и рисовал пред нами «незавсамделишную», как
говорят дети, Русь XVI и XVII века в фальшивом ореоле
полного государственного и-общественного благоустройства и
благополучия. Его ослепленная вражда к Петру доходила
до того, что он, например, считал великим поползновением
на народную свободу даже указ Петра о запрещении
хоронить в выдолбленных дубах, вызванный, очевидно, заботой
87
об охранении лесов. Но если недостатки этих лекций
искупались богатством объективного фактического материала,
то того же совсем нельзя сказать про те лекции, которые
он читал на IV курсе. Это была какая-то неудобоваримая
смесь поверхностных юридических экскурсий, рискованных
бытовых очерков и бездоказательных положений,
проникнутых, как ему казалось, славянофильской идеей. Он
чрезвычайно злоупотреблял при этом словами «земство
русского народа», видя осуществление этого, не определяемого им
с точностью начала, между прочим, даже в хороводе.
Выходки против Петра переплетались с цитатами из сочинений
Роберта Моля, с которым, впрочем, он очень редко бывал
согласен. Прекрасный, как говорят, человек в частной
жизни, Лешков насаждал большой сумбур в головах тех
слушателей, которые имели терпение дослушать его курс до
конца или осилить обширную запись его лекций. Он был
искренно убежденным человеком в своем культе
допетровской Руси и, вероятно, с негодованием прочел бы
следующие строки в письме Ивана Аксакова к отцу от 17
сентября 1856 г.: «Будьте, ради бога, осторожны со словами
«народность и православие». Они начинают производить на
меня то же болезненное впечатление, как и «русский
барии», «русский мужичок» и т. д. Будьте умеренны и
беспристрастны и не навязывайте насильственных,
неестественных сочувствий к тому, чему нельзя сочувствовать в
допетровской Руси. Ни одного скверного часа настоящего я не
отдам за прошедшее» *. Любимым коньком Лешкова
пользовались на экзамене иногда те, у кого не хватало времени
осилить громадный курс многоречивого профессора. Так,
один из моих друзей не успел приготовить к его экзамену
двух последних билетов, содержавших в себе более
восторженное, чем убедительное напоминание об организации
народного продовольствия в допетровской России. Вынув, к
своему смущению, как нарочно, один из этих двух билетов,
он вспомнил о популярной в то время книге Люиса
«Физиология обыденной жизни» * и стал с чрезвычайной
подробностью описывать явления аппетита, переходящего
затем в голод, различные научные объяснения причин этого
явления и самые муки голода. Прослушав довольно
терпеливо эту маленькую лекцию по физиологии, Лешков
попросил экзаменующегося обратиться к вопросу о
продовольствии, на что -тот с решимостью отчаяния заявил, что
все меры Петра по отношению к обеспечению народного
88
продовольствия представляются грубейшим нарушением
земского характера древней русской жизни, когда этот
вопрос был гораздо лучше поставлен и регулирован на
практике. Что же касается до теоретических обоснований его,
то в этом случае Роберт Моль совершенно ошибочно
смотрит на него, стоя не на правовой, а на полицейской точке
зрения. «Позвольте, — возразил Лешков, — вы, может
быть, припомните, что в этом вопросе я более или менее
соглашался с Молем». — «Но я, господин профессор, и в
этом вопросе с Молем не согласен. Таково мое
убеждение». — «Прекрасно, прекрасно, — поторопился сказать
Лешков,— я не желаю стеснять ваших убеждений!» — и
поставил ему пять.
Полную противоположность Беляеву и Лешкову по
взглядам, глубине и обширности научной подготовки и по
сжатому изяществу изложения представлял Борис
Николаевич Чичерин, вступлению которого на кафедру
предшествовали такие обширные и ценные труды, как
«Областные учреждения в России в XVII столетии», «Опыты по
истории русского права» и полные живого интереса и
тонкой наблюдательности «Очерки Англии и Франции» *.
Горячий поклонник незабвенного Грановского и поборник
лучших приобретений западноевропейской политической и
социальной культуры, он читал нам обширный курс
государственного права, который вошел потом, за исключением
мелких подробностей, в его «Курс государственной
науки» *, представляющий целые ряды возвышенных страниц,
с которых льется горячая и убежденная проповедь
человечности, правосудия и безусловной справедливости,
переплетенная с заветами исторического опыта и политической
мудрости. Читанная им на втором курсе тоже обширная
«История политических учений» * была для нас своего
рода откровением общечеловеческих идей и основательным
образом знакомила нас с философией вообще в лице ее
важнейших представителей. За год перед тем, во время
студенческих волнений в Москве, вступительная лекция
Чичерина была встречена враждебно слушателями и частью
печати *, которая в проповеди им спокойного органического
развития государства и уважения к закону и его
историческим основам увидела повод к непродуманному, а иногда и
недобросовестному обозванию его «ретроградом» и, в
лучшем случае, «консерватором», что тогда считалось своего
рода бранной кличкой. Чичерин действительно был врагом
89
пошлого искания мимолетной популярности и лести
страстям и заблуждениям, откуда бы они ни шли и из каких
бы заманчивых, призрачных оснований они ни вытекали.
Бестрепетно и в выражениях, знаменующих внутреннюю
свободу духа, он был готов и способен стать «против
течения», которое казалось ему несогласным с истинной или
действительной пользой России. Он неуклонно шел своей
дорогой, не обращая внимания на проявления навеянного
на слушателей извне или напущенного ими на себя
недоброжелательства, и чуткое, правдивое в своем существе,
сердце молодежи его постепенно оценило. Его главные
противники, обращавшиеся к нему на лекциях с задорными
вопросами и грубыми возражениями, умолкли. Главным
между ними был некто Крамер.
Прошло много лет, и ко мне, как к прокурору
Петербургского окружного суда, поступило дело о самоубийстве
этого самого Крамера. К делу была приложена
предсмертная записка несчастного, написанная в виде дневника,
начатого за неделю до рокового выстрела. Он подробно
развивал соображения, побуждавшие его отказаться от
жизни, указывая, что мысль о бесполезности существования
зародилась в нем давно, после того, как путем наблюдений
и размышлений над русской жизнью он пришел к
убеждению, что русский народ уже свершил все, что ему
назначено Провидением, и никакой исторической будущности не
имеет, будучи предназначен лишь служить «удобрением»
для более свежих народов, которые придут, вероятно, с
Востока. «Но я люблю, — писал он, — этот народ, и его
печальное будущее меня угнетает, рисуя мне всякую
общественную работу бесполезною в своем конечном результате.
Во мне живут два человека, и в то время, когда один
колеблется в выводах и цепляется за жизнь, другой
наблюдает его жалкие усилия и зло осмеивает их. Я принял
место мирового судьи и на время забылся в этой работе. Но
мой второй я в конце концов восторжествовал, доказав мне,
что я смотрю на действительность с умышленной
близорукостью. Тогда я бросил службу и вполне подчинился его
голосу, придя в конце концов к решению, что жить не
стоит». Пред самым самоубийством он записал в своем
дневнике: «Скоро 12 часов. Все готово. У меня легкий озноб, и
я много зеваю, но совершенно спокоен. Хотел выпить
коньяку, но вино, говорят, усиливает кровотечение, а я и без
того здесь напачкаю. Какая плохая книга «Анатомия Дон-
90
дерса»! Два больших тома убористой печати, а нельзя
найти, как с точностью определить место сердца. Сейчас
12 часов. Мне некому послать последнее «прости» и не о
ком вспомнить с благодарностью. Есть лишь один человек,
к которому, умирая, я чувствую глубокое уважение.
Память о нем для меня светла. Это бывший московский
профессор Борис Николаевич Чичерин. Если тот, кому в руки
попадет этот дневник, найдет возможным сообщить ему об
этом, то я прошу его это сделать. Пора!» Вдоль этой
страницы дневника протянулась засохшая струйка брызнувшей
крови... Несмотря на плохую «Анатомию Дондерса»,
Крамер умел найти, где помещается сердце... Я послал Борису
Николаевичу это признание со стороны его ожесточенного
когда-то совопросника и противника.
Чичерин говорил на кафедре прекрасно, приковывая к
себе, но не утомляя внимания. Его сильный, сжатый и
вполне определенный язык не давал повода ни к каким
двойственным толкованиям и исключал всякое «reservatio
mentalis» 1. Курс его по своей обширности и строгой научности
был, однако, труден и требовал перед экзаменами
большого напряжения и устойчивости. Всем, интересовавшимся
государственным правом или политической философией,
была открыта богатая библиотека Чичерина, и он в свои
приемные дни с большой готовностью давал желающим книги
и всякие разъяснения. Мне дал он, между прочим, для
прочтения прекрасную книгу Вальтера «Naturrecht und
Politik». Времена изменчивы! Так называемый «ретроград»
моего студенческого времени должен был выйти в отставку,
защищая достоинство и самостоятельность профессорской
коллегии вместе с С. М. Соловьевым, Капустиным,
Дмитриевым и Рачинским *, и оставить впоследствии должность
московского городского головы за то, что на обеде
городских голов в мае 1883 года говорил о необходимости
общественной самодеятельности, начало которой было
положено в великих преобразованиях царствования
Александра II. «Мы спокойно ожидаем, — сказал он, — что сама
власть признает необходимым содействие общества. Но
когда этот зов последует, он не должен застигнуть нас
врасплох. К нему надо быть готовым. Ни внутреннее
положение России, ни положение Европы не обещают нам
периода долгого мира. Могут настать грозные времена, которые
1 Заднюю мысль, неискренность (лат.у.
91
потребуют напряжения всех сил земли русской. Но, если
они застанут нас соединенными, нам нечего опасаться.
Крепкая единодушием своих сынов, Россия выдержит все
бури так же, как она выдерживала доселе все постигавшие
ее испытания» *.
Замкнувшийся после прерванной общественной
деятельности за эти, поистине пророческие слова, ложно и
ехидно истолкованные Катковым *, Чичерин не отдался,
однако, «немому бездействию печали» и в ряде
последовательных трудов продолжал свое служение правовому и
нравственному самосознанию общества, давая в чудесном,
доведенном до мастерской простоты и удобопонятности,
изложении результаты своих многолетних размышлений над
народным представительством, над взаимоотношениями
государства и собственности, науки и религии, бюрократии и
земства, над позитивизмом, философией права и развитием
политических теорий. Ставя идеалом общежития единение
общественной и личной свободы на почве уважения к
человеческой личности, закону и к культурным задачам
государства, он в то же время считал несчастными тех, в ком
житейская пошлость заглушила стремление к идеалу и кто
не сохранил уважения к благородным мечтам своей
юности. Этот консерватор действительно стоял за недавнюю
старину и всеми силами своего ума и таланта боролся с
теми представителями господствовавших в восьмидесятых
годах течений, которые, по его словам, ежедневно и
неустанно изливали свою злобу на все, что было вызвано к
жизни эпохой великих реформ и что дорого любящему
родину русскому человеку: на независимый суд, на земские
учреждения, на городовое положение. Я сохранил к
Чичерину самое глубокое уважение, признавая себя многим ему
обязанным в том, что считаю своим политическим
развитием. Когда в 1888 году вышло первое издание моих
«Судебных речей», я поспешил послать книгу своему
наставнику как некоторого рода отчет об исполнении в области
судебной деятельности заветов, слышанных от него с
кафедры. Он отвечал мне исполненным грустного настроения
письмом от 20 мая 1888 г.: «Сердечно благодарю Вас за
книгу, — писал он, — я веду такую уединенную жизнь и так
отстал от всех, что всегда приятно удивлен, что есть еще
люди, которые меня не забыли. Еще приятнее видеть, что
в настоящее время в России есть хоть какая-нибудь часть,
которая не находится в застое. Поэтому среди всеобщего
92
упадка, умственного, нравственного и материального, такое
явление, как сборник речей, проникнутых одним
направлением, производит освежающее впечатление. Недаром,
значит, прошли все реформы и какие бы на них ни сыпались
удары, они оставили по себе след, который не изгладится.
Это поддерживает бодрость и надежду на будущих
деятелей. А нам, старикам, в настоящем делать более нечего.
Явления современности, и внутренней и внешней, до такой
степени противны моим взглядам, что я совсем от них
отвернулся и обратился к изучению природы, которая
представляет законы вечные и неизменные. Тут есть чему
поучиться и можно на этом успокоиться пред смертью...» *
В это время Чичерин действительно отдался
настойчивому и пытливому изучению естественных наук и
математики. Вскоре работы его в области исследования
химических законов, составляющие совершенно самостоятельный
труд, будучи напечатаны, обратили на себя справедливое
внимание специалистов *. Но отзывчивость к
общественным вопросам и любовь к той науке, которой он посвятил
свои лучшие годы, не могли охладеть в его душе. Его
дальнейшие, проникнутые плодотворной жизненностью ученые
труды доказали, что к сердцу его, вплоть до гробовой
доски согретому идеею служения общему благу, было полное
основание применить слова поэта: «И этот жар уж не
остынет — и с смертью лишь его покинет» *.
Уже будучи семидесятилетним стариком, он издал свой
«Курс государственной науки», третий том которого
(политика) представляет целые ряды возвышенных страниц, с
которых льется горячая и убежденная проповедь
человечности, правосудия и безусловной справедливости,
переплетенная с заветами исторической предусмотрительности pi
житейской мудрости. Наконец, перед самой кончиною, на
76-м году жизни, он, несмотря на тяжелый недуг,
парализовавший его подвижную натуру, выпустил вторым
изданием первый том своей превосходной пятитомной «Истории
политических учений», пересмотренный и исправленный.
С 1888 года между нами завязалась переписка,
приведшая к личному свиданию через десять лет у него в его
Тамбовском имении Караул. Обмен «ума холодных
наблюдений и сердца горестных замет» * между многое
пережившим учеником и старым профессором, убеленным сединою,
но сохранившим и душевную свежесть, и лучистый взгляд
прекрасных, горящих внутренним пламенем глаз, скрепил
93
наши отношения и придал им дружеский характер. С
горестным чувством встретил я известие о его кончине среди
шума и зловещей тревоги при внезапно надвинувшейся
войне с Японией... *
Но самым выдающимся профессором на юридическом
факультете был, без сомнения, Никита Иванович Крылов,
читавший историю и догму римского права *.
Воспоминания о нем для меня ничем неизгладимы. Думаю, что и все
те, кто имел счастие его слушать, навсегда сохранили в
памяти образ Никиты, как его заочно называли с
грубоватой нежностью студенты. Этот образ для большинства из
них не может не сливаться неразрывно с представлением о
московской aima mater и о лучших минутах, проведенных в
ее стенах. В начале семидесятых годов на мне лежала
обязанность по должности губернского прокурора ревизовать
делопроизводство судебных следователей Казанской
губернии в самых отдаленных ее уголках. В каком-нибудь
втором уездном участке, в большом, но глухом татарском или
чувашском селе приходилось встречать в следователе
человека, заеденного средой, опустившегося от отсутствия
умственных интересов, иногда женатого на неподходящей
по развитию женщине, собутыльника и картежного
партнера местного станового пристава и «ослабевшего»
приходского батюшки. Тяжелое впечатление производило
знакомство с делами такого следователя... На них лежала печать
рутины и механического исполнения наскучивших
обязанностей. Но если в довольно далеком прошлом этого
человека, обыкновенно страшившегося результатов ревизии для
своей служебной судьбы при введении судебной реформы,
оказывался Московский университет, то достаточно было
назвать Никиту, чтобы он преобразился. В заплывших,
тусклых глазах загорался огонек, и ревизуемый с нежностью
начинал вспоминать о старом профессоре и о разных его
«словечках», душевно подымаясь — хоть на время—над
окружающей удушливой, болотной обстановкой, засосавшей
его.
История римского права в том виде, как ее читал
Крылов, не была сухим перечнем последовательно
развивавшихся правовых институтов. Это была полная и яркая картина
всего политико-юридического роста римского
государственного организма, причем каждое новое понятие или
учреждение являлось в лекциях Крылова результатом
взаимодействий целого ряда разнообразных факторов — ре-
Н
лигиозных, экономических и политических, всегда выпукло
им изображенных. Римский гражданин во всей полноте
прав — этот «автократ и автоном», по выражению
Крылова, — особенно был ему дорог. Юрист — он восхищался им
как правовым явлением; художник в душе — он любовался
им как цельным образом. Изложение догмы римского
права Крылов вел путем сравнений с германским правом,
стремясь проследить с большой вдумчивостью влияние
каждого института на дальнейшее развитие права в Европе,
стараясь изучить и показать отдаленные следы его в
новейших юридических формах. Всё, что говорил Крылов с
кафедры, всегда было чрезвычайно жизненно и, в конце
концов, возвышенно по руководящей мыслив несмотря на
юмористические выходки, иронические сопоставления с
русской действительностью и саркастическую оценку им
мертворожденных трудов некоторых из его коллег. Картины
римского правового быта постоянно или
противополагались явлениям и складу русской жизни, или, в ряде
примеров и шутливых сравнений, искусно переплетались с
ними. Слушатели чувствовали, что этот небольшого роста
человек, с мягкими чертами гладко выбритого лица,
оживленного лукаво-добродушною усмешкою и веселым взором
умных глаз, — не кабинетный ученый, читающий
отвлеченный от жизни предмет по принятой на себя обязанности.
Пред ними Крылов^жил на кафедре, любя нежно и свою
науку, и свой народ, за который он болел сердцем и о
котором никогда не забывал, уходя мысленно в даль
прошедших веков и чужих учреждений. Его чисто-русская, полная
изящной простоты и народных оборотов речь с легким
ударением на «о» лилась свободно, сопровождаемая
выразительной мимикой. У него была привычка ставить самому
себе вопросы, сопровождая их тихим звуком «ге?». Мы с
удовольствием ждали^его в переполненной аудитории,
слушали внимательно, записывали за ним тщательно
(литографированные записки его лекций с портретом появились
позднее*) — и звонок, возвещавший конец лекции, звучал
для многих из нас неприятно и некстати, разрушая
обаяние живого слова и разрывая на время ту невидимую
нравственную связь между слушателями и профессором,
которая так быстро и так прочно между нами
устанавливалась. Крылов был наставник в лучшем смысле слова,—
был друг своих слушателей. Он следил с сердечным
вниманием за их первыми шагами на жизненном пути,
95
радовался за них. Недаром, когда он неторопливыми
шагами направлялся из Университета к себе, в маленький домик
на Спиридоновке, у него всегда оказывались попутчики из
студентов. С ними вел он беседу и иногда, коснувшись
какого-нибудь общественного явления, читал нечто вроде
лекции, остановившись посреди тротуара под открытым небом
и забывая, что домашние с тревогою ждут его. И теперь,
более чем чрез пятьдесят лет, живо памятно мне радостное
чувство, с которым направлялся я, бывало, к
Университету в те дни, когда должен был читать Крылов. Интерес к
предмету и редкое уважение к Никите сливались воедино
в этом чувстве. Шумный говор студентов мгновенно
стихал при появлении Крылова. Он усаживался в кресле
немного боком, ставил, склонив набок голову, пред собою
табакерку, ласково смотрел некоторое время на нее, затем
вынимал красный фуляровый платок, быстрым движением
брал понюшку табаку — и уже только затем, взглянув на
аудиторию, начинал тихим голосом: «В прошлую лексию,
господа, мы говорили о...» Голос его креп постепенно, и
блестящая лекция, полная ума, животрепещущего юмора и
глубокого научного интереса, захватывала слушателей. Тех,
которые его слушали в первый раз, он несколько удивлял
и даже вызывал у них улыбку, но все это очень скоро
проходило и сменялось горячим интересом к сущности его
лекций, а иногда и прямым восхищением перед их
своеобразною формой. В этом отношении его очень напоминал
Спасович. И слушатели Спасовича в первый раз сначала
недоумевали —ужели это знаменитый судебный оратор?—
а через четверть часа уже бывали захвачены, а через час—
покорены им.
Нравственная связь Крылова со студентами
обусловливалась тем, что он представлял собою типического
профессора былых времен, столь отличного от некоторых
продуктов новейшей формации, особенно развившихся у наев
последние десятилетия. Для него кафедра не была
ступенькой для дальнейшей карьеры иногда в совершенно новом,
по задачам, ведомстве; он не спешил при удобном случае
оставить Университет с его треволнениями; не
домогался украсить себя высокими чинами и звездами, хватаемыми
не с неба, а из капитула орденов. Для него Университет
был все, и служение его задачам составляло цель и смысл
жизни Крылова. Он сошел в могилу, несмотря на свои
72 года, статским советником и частным преподавателем в
96
дорогом ему Университете, и людское тщеславие у гроба
его могло положить на подушку лишь скромные крестики.
Из его отношения к студентам вытекала и его шутливая
откровенность на лекциях, в которой он не щадил и себя.
«У нас мало трудов по наследственному праву, — сказал он
нам на одной из лекций, — да и те, что есть, неважные. Вот
хоть бы наш Никольский (профессор гражданского права)
отзвонил целую книгу * и гудит в ней, как колокол
Успенский, —и всё вздор... Только вы, господа, не обижайте его,
не говорите ему этого». Читая о лежащем наследстве
(hereditas jacens), он заявил нам в 1865 году: «Долгое время
hereditas jacens считали юридическим лицом; так смотрели
на него Пухта, Иеринг, Савиньи, так смотрел и я. Года
два назад один способнейший еврей, — как бишь его?., да!
Лассаль, — издал книгу «System der erworbenen Rechte» *
(он произносил по-семинарски — дер ерворбенен рехте), в
которой доказал, что это не юридическое лицо, а фиксия
(fictio juris); доказал! способнейший человек! Оказывается,
что все мы ошибались — и Иеринг, и Пухта —почище меня
будут! — ошибались, и я, каюсь в том, двадцать лет с
кафедры вам врал о юридическом лице. Каюсь! Теперь
больше не буду... Способнейший!»
Передать всю живую прелесть и образность его лекций
на бумаге невозможно. Только словесное подражание
Крылову на канве его подлинных выражений может дать
понятие о характере его чтений. Летом 1880 года в Дуб-
бельне за обедом покойный И. А. Гончаров отдался своим
студенческим воспоминаниям тридцатых годов и вызвал
тем и меня на рассказы о позднейшем времени, причем,
само собою разумеется, я вспомнил Никиту и постарался
передать его манерой и словами некоторые места из его
лекций. Личность и оригинальность приемов Крылова
чрезвычайно заинтересовали обедавшего с нами П. Д. Боборы-
кина, и он поместил эти отрывки в одну из последних глав
своего романа «Китай-город» *, изобразив одно из
выведенных им лиц вспоминающим в день университетского
праздника 12 января * любимого старого профессора...
Широко и отчетливо очертив, например, характер,
происхождение и юридико-экономическое значение римского
учения о сервитутах *, Крылов переходил к делению и
перечислению отдельных видов сервитутов — городских, сельских
и т. д., и тут его живое остроумие создавало несравненные
7 А. Ф. Кони, т. 7
97
сопоставления сервитутов fumi immitendi, balneari habendil
и т. д. с условиями русской бытовой жизни. Все
оканчивалось разбором servitus lumen S.prospectus2, в котором
Крылов сравнивал римского гражданина «в его полноправии» и
русского обывателя, живущего в «правовом оскудении».
Превосходна была у него характеристика римского
проконсула и отношений его к императору, которую он делал,
объясняя историю возникновения фидеикомисса *. Его
упрекали в мелочных ошибках, в художническом, а не строго-
научном, т. е. педантическом, отношении к своему
предмету, ставили ему на счет ordo equestris3, когда следовало
сказать equester, трех консулов, когда их было два, и т. п.
Но влияние Крылова основывалось вовсе не на мелочной
точности узко-технических знаний; основой его было нечто
во всей личности профессора, что говорило душе
слушателей, будило их ум и населяло их память художественными
образами, отражавшими на себе не букву, а дух —
величавый и бессмертный дух римского права. Экзамен у него
был строгий, самый строгий из всех на юридическом
факультете. Он требовал серьезного знания и притом
изложенного перед ним, так сказать, coram populi4, так как на
его экзамены сходились в качестве слушателей студенты
других факультетов, и он по поводу выслушанных ответов
пускался в экскурсии по своему предмету и сопредельным
с ним областям знания часто в шутливой форме. Иногда
какое-нибудь выражение экзаменующегося останавливало
на себе его внимание и смягчало суровость его требований.
На выпускном экзамене, когда я ответил
удовлетворительно на взятый билет, он сказал, обращаясь к разношерстной
аудитории: «Вот, господа, я экзаменовал вчера Шайкеви-
ча; чудесно знает римское право, так знает, что комар
носу не подточит. Спрашиваю: «А кто у вас еще так
знает?»— Отвечают: «Кони, вероятно, так же знает». А вот
он и сам Кони. Хорошо, правильно, а для Кони, о котором
так говорят товарищи, мало. Возьмите еще билет. Можете
без приготовления? а?» Но лишь только я начал (билет
был о догме и о процессе): «Право мыслится в состоянии
покоя и движения», как он перебил меня и, обратясь к
J Дающий право выпускать дым на участок соседа, устраивать
баню (лат.).
2 Сервитута, дающего право пользоваться светом, видом (лат.),
8 Сословие всадников (лат.).
4 Всенародно (лат.).
98
аудитории, воскликнул: «Гм! мыслится/ какое хорошое
слово... мыслится],. Как оно вам пришло?» — «Да, кажется,
Никита Иванович, это ваше выражение». — «Никогда не
говорил, никогда!., а теперь буду... Мыслится... Очень
хорошо!»— и поставил мне 5... Он скончался 26 декабря
1879 г. Приехав совершенно случайно в день его похорон в
Москву и узнав о его кончине лишь из утренних газет, я
успел еще проехать в университетскую церковь,
присутствовать при отпевании и проводить прах усопшего
профессора до Донского монастыря, где пришлось, совершенно
неожиданно для себя, сказать несколько слов о почившем
у его отверстой могилы. Собрав воедино свои «Судебные
речи», я посвятил три первых издания этой книги памяти
Никиты Ивановича Крылова *. Дорогой, незабвенный
наставник! Много лет прошло с твоей кончины и более
пятидесяти лет с тех пор, как я слушал тебя... Но и теперь,
приближаясь и к своей, уже недалекой могиле, я не могу
думать о тебе без глубокого, благодарного чувства, и твой
милый образ восстает предо мною, как живой, являясь
одним из лучших воспоминаний лучших дней далекой
юности...
Гражданское право читал нам профессор Никольский,
на труд которого по наследственному праву так
иронически ссылался Крылов. Бездарный до очевидности, с тупым,
бычачьим выражением лица, пыхтя, отдуваясь и обнимая
кафедру с боков руками, он преподавал нам рядом с
чудесным, живым и образным курсом Крылова какую-то
путаницу юридических терминов, афоризмов и туманных
положений, называемую им гражданским правом. Он доходил
до того, что однажды, посвятив целую, совершенно
неудобопонятную лекцию залоговому праву, по окончании ее, с
достойным похвалы прямодушием сказал нам: «Господа, я
заметил, что в лекции моей я, кажется, нередко смешивал
залог с закладом и залогодателя с залогодержателем, так
вы уже лучше проштудируйте это по Мейеру (т. е. по
учебнику гражданского права Мейера)», И экзамен у него мы
держали по Мейеру, а единственная от его чтений польза
была в том, что, приводя нас в недоумение своей
неясностью и сбивчивостью, они заставляли нас обращаться к
превосходной книге безвременно угасшего
ученого-цивилиста.
И опять, в противоположность Никольскому,
прекрасный курс гражданского судопроизводства, ясный, сжатый,
7*
99
точный и поучительный читал нам тогдашний
обер-прокурор восьмого департамента Сената — Константин Петрович
Победоносцев. Его курс совпал с изданием Судебных
уставов, и это отражалось на содержании его лекций. С живым
сочувствием рисовал он пред нами особенности нового
состязательного процесса, разъясняя «новшества» кассации,
отдельной от апелляции, и благотворность права мировых
судей руководиться не только писаным законом, но и
народными обычаями. В особенности ставил он высоко
начало гласности производства. Его не удовлетворял
«канцелярский образ Фемиды, совершающей свое дело с
повязкою на глазах». «Что прячется от света и скрывается в
тайне, — говорил он нам на лекции о публичности
производства, — в том, верно, есть неправда, — и если цель
правосудия состоит в отражении правды, в исправлении и
обличении неправды, в соблюдении закона, то оно не может
опасаться света, и все его действия должны совершаться
открыто, потому что обличение неправды во тьме не есть
обличение, и объявление правды под покровом
канцелярской тайны не есть объявление. Когда правосудие
избирает для себя таинственные пути и тщательно скрывает свои
действия от общего ведения — оно тем самым доказывает,
что в его путях есть кривизна, которую опасно
обнаружить пред всеми». Мы выносили из лекций Победоносцева
ясное понимание задач и приемов истинного* правосудия.
Мог ли я тогда думать, что через четверть века после
этого тот же Победоносцев, к которому я вынес из
Университета большую симпатию, как к своему профессору, будет
мне говорить с презрением «о той кухне, в которой
готовились Судебные уставы», и, сделавшись моим влиятельным
хулителем, станет жаловаться на то, что я «ставлю палки
в колеса» миссионерской деятельности православного
ведомства моими публичными обер-прокурорскими
заключениями по вероисповедным преступлениям, дела о которых
доходили до уголовного кассационного департамента, — и
настаивать, чтобы некоторые согласные с этими
заключениями решения Сената, вопреки закону, не печатались во
всеобщее сведение?!
Иван Кондратъевич Бабст читал нам политическую
экономию по Рошеру, прибавляя от себя лишь краткое
исследование об организации и деятельности банков. Когда на
кафедре появлялась его крупная фигура с заспанным
лицом землистого цвета, и он, закатывая глаза, начинал тя-
100
гучим голосом свою лекцию, часто употребляя выражение:
«Можете вы себе предста-а-а-вить»,— слушателями
овладевала невольная сонливость. Его лекции статистики
состояли из голых цифр и географических терминов. Было
очевидно, что практическая финансовая деятельность,
которой он в начале шестидесятых годов предался,
отвлекала его от ученых трудов и от кафедры. Полную
противоположность ему представлял профессор финансового права
Федор Богданович Мюлъгаузен. Хотя за ним не было
почти никаких печатных научных трудов, и он, кажется, не
был не только доктором, но даже и магистром, а
наружность его подтверждала ходившие довольно достоверные
слухи о том, что «два угодья в нем», но лекции его были
полны содержания и в стройной системе основательно
знакомили со всеми существенными вопросами тогдашней
финансовой науки. Можно с уверенностью сказать, что его
превосходный курс — никогда не напечатанный — не
утратил бы своего ценного значения и до настоящего времени.
Со смущенным чувством вспоминаю я Федора Михайловича
Дмитриева. Занимая упраздненную впоследствии кафедру
государственного права главнейших европейских держав,
он много содействовал нашему политическому развитию и
блистаХ сжатым и ярким критическим анализом светлых
и темных сторон парламентаризма. Подобно своему другу
Чичерину, автор замечательного исследования из правовой
жизни допетровской Руси («История судебных
инстанций»*), он был поклонником Петра и поборником
предпринятых Александром II преобразований в обновляемой
России, видя в них завершение петровской реформы и
залог занятия Россией подобающего ей нравственно места в
ряду цивилизованных государств. Свобода совести,
равноправие граждан, доступность образования, строгое
уважение к вылившемуся из всесторонне обсужденных
потребностей страны закону — проходили непрерывной красной
нитью чрез все его лекции. Поэтому я радостно
пользовался случаями свидания с ним в его редкие приезды в
Петербург и приветствовал его окончательный переезд в этот
город. Тем больнее было мне то впечатление, которое я
вынес из встреч и совместной с ним работы в Сенате, с
трудом узнавая в этом озлобленно-болтливом человеке,
наскучившем бесконечными, постоянно повторяемыми
анекдотами о Баршеве, своего старого блестящего профессора.
Мне не хотелось верить своим глазам и ушам, когда в
101
заседаниях общего собрания Дмитриев, признанный
«слишком умным» для занятия места в Государственном совете,
присоединялся своим голосом или выражениями симпатии
к таким мнениям, которые шли в прямой разрез с тем, что
он говорил нам с кафедры и долгое время осуществлял в
своей жизни.
Восстает предо мною благородный облик Сергея Ми~
хайловича Соловьева, и слышится его мягкий грудной
голос... «В одном государстве, — говорит он слегка
приподнятым тоном, как бы углубленный в свои размышления и
наблюдения, с полузакрытыми глазами, — царственный
ребенок вследствие семейной вражды подвергался страшной
опасности, спасся чудесным образом, воспитывался в
уединении среди простых людей, набрал себе из среды их
новую храбрую дружину, одолел с ними противников и стал
основателем нового общества, нового могущественного
государства; проводил всю свою жизнь в борьбе и оставил
по себе двойную память: одни благословляли его, другие
проклинали...» Так начиналась его первая прослушанная
мною лекция по истории России в эпоху преобразований
Петра. Его курс для юристов был необязателен, но
посещался многими очень охотно. Особая задушевность тона,
чувствуемая всеми глубокая, страстная любовь профессора
к своему предмету и новые горизонты, открываемые им
своим слушателям, придавали особую прелесть этим
лекциям. На них увидел я впервые близорукого юношу с
тонкой усмешкой на губах. Это был-Василий Осипович
Ключевский. И рядом с образом Соловьева вижу я угрюмое
лицо профессора истории русской литературы, входящего
на кафедру и после некоторого молчания начинающего
свою лекцию словами: «В-третьих!» Это — знаменитый
Федор Иванович Буслаев, читавший необязательный курс
для студентов-юристов, посвященный памятникам древней
русской письменности. По богатству материала,
раскрываемого перед слушателями в ярком научном освещении, со
звучавшей иногда в голосе тонкой насмешливостью над
наивными верованиями отдаленного прошлого, лекции эти
представляли даже и для юристов большой интерес, тем
более, что иногда Буслаев делал экскурсии в сторону и
подвергал беспощадной критике того или другого из
ученых, считавшихся авторитетами. В этом он походил на
Крылова, но только без мягкой задушевности последнего.
Я опоздал к первым его лекциям, и так как он начинал их
102
нередко без всякого вступления, то первое слово,
слышанное мною от него, и было поразившее меня: «В-третьих».
В одной из своих лекций он немало огорчил меня,
иронизируя над Костомаровым по поводу утверждения
последним, что у жителей Господина Великого Новгорода можно
предполагать существование рыцарских поединков, на что
указывают слова: «Без борца нет венца», и что
религиозное невежество в XVII столетии выражалось, между
прочим, в именовании иконы «Богородицы-Пятницы», причем
смешивались в одно лицо — Богоматерь и святая
Параскева. А между тем, по словам Буслаева, «без борца нет
венца» есть духоборческая песня конца XVIII столетия, а в
завещании князя Пожарского нет слов «икона
Богородицы-Пятницы», а есть слово «Пядница», то есть
упоминается о маленьком образке величиною в пядь. Эти
критические вылазки не поколебали, однако, моего тогдашнего
восхищения Костомаровым. Я был еще весь под впечатлением
петербургских лекций удивительного художника-историка и
готов был повторить с Пушкиным, что «тьмы низких истин
нам дороже нас возвышающий обман» *. Поэтому, когда
было объявлено о выходе книги Костомарова
«Севернорусские народоправства» *, я подверг себя в первые
трудные месяцы пребывания в Москве даже некоторым
существенным сокращениям расходов, чтобы только поскорее
получить возможность приобрести это сочинение,
обещавшее оживить предо мною незабвенные лекции в зале
Петербургской городской думы. И теперь, глядя на эти два
тома, переплетенные вместе, с заметками на полях о
разногласиях между автором и Буслаевым, я по временам как
бы переживаю испытанную мною почти за шестьдесят лет
назад чистую радость, когда в моей маленькой
студенческой комнатке я зажег дрожащею от нетерпения рукой
пальмовую^ (так называемую экономическую) свечку и
впился глазами в еще пахнувшие типографской краской
страницы...
В моей памяти еще с особой яркостью жила фигура
Владимира Даниловича Спасовича с его пламенным и
острым взглядом, оригинальным жестом и глубоким
содержанием его образного, не всегда послушного, но всегда
попадающего в цель слова, когда в Москве, на третьем
курсе юридического факультета, передо мною на кафедру
медленно взошел высокий худощавый человек со впалой
грудью, бледным, тщательно выбритым лицом, на котором
103
были широко расставлены большие темные глаза под
гладко причесанными волосами. Совершенной неподвижности
его фигуры, облаченной в вицмундир с орденами,
соответствовал монотонный ход его изложения, лишь изредка
прерываемого вскриками и скороговоркой в тех местах, в
которых он хотел, по-видимому, произвести особое
впечатление на слушателей. Это был один из ученых птенцов
Сперанского — ректор университета Сергей Иванович Бар-
шее, много лет читавший уголовное право и
судопроизводство. Когда-то, в начале сороковых годов, его
сочинения «Общие начала теории и законодательства о
преступлениях и наказаниях» и «О мере наказания» * составляли
значительный вклад в тогдашнюю скудную русскую науку
права, представляя собою связный конспект положений
западных кодексов в связи с довольно отрешенными от
жизни взглядами на существенные вопросы вменения,
построенными главным образом на излюбленной Баршевым
теории возмездия Фейербаха*. Но с тех пор он,
по-видимому, совершенно остановился на месте, перестав следить
за наукой, довольствуясь, как материалом для
практических примеров, статьями старого «Archiv des Kriminalrechts»
и четверть века читая свои лекции по одним и тем же
запискам, которые передавались от поколения к поколению
и начинались неизменно словами: «Человек есть существо
свободное, свободным он остается и в государстве, но»...
и т. д. Впрочем, в мое время он стал вносить в свой курс
уголовного права полемический элемент. Так, он посвятил
одну лекцию ругательному разбору только что вышедшего
учебника Спасовича *, причем, уже не помню хорошенько,
по поводу какого из положений Спасовича выкрикнул:
«Таким образом, выходит, что и сам г. Спасович должен
считаться подлецом». Другим лицом, вызывавшим его
ожесточение, был тогдашний ученый румынский министр
юстиции, внесший в Палаты проект об отмене смертной казни.
Будучи крайним и безусловным сторонником смертной
казни и защищая ее самыми разнообразными и иногда
совершенно неожиданными доводами, Баршев с возмущением
разбирал проект румынского юриста и, если не называл
его подлецом, то, вероятно, лишь ввиду носимого им
высокого официального звания. Профессора, как я слышал
впоследствии от некоторых из них, не любили его,
приписывая ему наклонность к интригам в Совете, где у него
была своя сильно сплоченная партия, преимущественно из
104
профессоров медицинского факультета, побудившая
впоследствии таких людей, как Чичерин, Соловьев и др.,
оставить Университет *. Товарищи по Университету называли
его попадъею, что очень к нему шло. Попадья была,
однако, весьма себе на уме и, отличаясь, где нужно,
елейностью обращения, умела отлично устраивать свои дела
и обладала своевременною сообразительностью. Покойный
профессор Федор Михайлович Дмитриев, для которого
Баршев был неистощимым источником бесконечных
повествований, рассказывал, между прочим, что Баршев в
течение многого множества лет в своем курсе
судопроизводства, засаленные тетрадки которого составляли
законное наследство студентов каждого IV курса, яростно
нападал на суд присяжных, адвокатуру и гласность
уголовного процесса. Он называл их «мерзостями французского
судопроизводства» и первую лекцию о них заканчивал
словами: «А о дальнейших мерзостях — в следующий раз».
Но когда в 1856 году, после Крымской войны, был
заключен мир, и в манифесте по этому поводу были помещены
знаменательные слова: «Правда и милость да царствуют
в судах» *, Баршев почуял в воздухе тонкую струю
предстоящих судебных преобразований по западным образцам
и стал печатать в «Русском вестнике» статьи *, в которых
«мерзости» рассматривались с благосклонной точки
зрения. Там же поместил он и очень недурную статью о суде
присяжных, в которой «поклонился тому, что сжигал» *,
и затем, разбавив ее несколькими ведрами словесной воды,
обратил главным образом ее в свой ежегодный курс
судопроизводства. Один из знакомых Дмитриеву студентов,
лениво посещавший лекции и, очевидно, не отдававший
себе отчета в эволюции профессора уголовного права,
достал старые записки и, вызубрив их, явился на экзамен,
где и вынул билет о достоинствах и недостатках
следственного и обвинительного процессов. Поняв, о чем должна
идти речь, он отбарабанил слово в слово по запискам «о
французских мерзостях». Баршев слушал молча, но когда
студент кончил, вполне рассчитывая на пятерку, он уныло
посмотрел на отвечавшего и, поставив ему единицу, с
грустным вздохом сказал: «Нынче так не думают!» Среди
бывших студентов много рассказывалось о его
оригинальных взглядах и приводимых им примерах в их
подтверждение. Упорно ходил повторяемый и Дмитриевым рассказ
о том, что, желая подкрепить примером необходимость
105
обращать внимание при оценке мотивов преступления на
общественное положение подозреваемого, Баршев говорил
следующее: «Ежели оборванный, грязный мужик будет
ночью застигнут на дворе чужого дома, то несомненно,
что он забрался туда с целью кражи. Но ежели генерал
в ленте и звездах лезет ночью в подворотню, то, конечно,
не для кражи, а для любовного свидания». Я не могу,
конечно, ручаться за достоверность »того рассказа, но думаю,
что ему можно дать веру ввиду того, что я сам слышал на
лекциях Баршева о том, что лицо и развитие ломового
извозчика ничем не отличаются от морды и развития его
лошади и что убийство в запальчивости и раздражении,
вызванных оскорблением действием, должно наказываться
сообразно общественному положению или, вернее, правам
состояния как оскорбителя, так и мстителя за
оскорбление, почему применение мягкой кары возможно лишь тогда,
когда оскорбление нанесено лицу равного или низшего
положения, но не наоборот, когда смягчение наказания
виновному простолюдину, получившему от барина одну или две
легких пощечины, было бы неправосудием. Иногда
приводимые им аргументы в защиту своих положений поражали
своею своеобразностью. Так, доказывая справедливость
лишения самоубийцы христианского погребения, он
оканчивал свои доводы патетическим восклицанием: «И,
наконец, кому из вас, господа, было бы приятно лежать в
могиле рядом с самоубийцей?!»
Остальные профессора стоят в моей памяти более
тусклыми тенями, хотя одному из, них я обязан своей любовью
к медицинским наукам и некоторому с ними знакомству,
которое дало впоследствии основание врачебному миру не
смотреть на меня как на чужого. Это был профессор
судебной медицины Аегонин, читавший юристам эту науку
по очень широкой и разносторонней программе. Лекции
его, в особенности по некоторым «пикантным» отделам
судебной медицины, посещались очень охотно, а затем число
слушателей редело. Но были и такие, которые прослушали
весь курс с большим вниманием, тем более, что в то время
не появилось еще переводов сочинений Шауенштейна,
Гофмана и Каспера. К числу усердных слушателей
принадлежал и я, крайне заинтересованный содержанием лекций
Легонина, открывавших нам целый новый мир
исследований и научных открытий. Для меня и для многих из моих
товарищей, мечтавших о будущей судебной деятельности,
106
эти лекции имели не только теоретическое, но и
практическое значение. Но при всем их достоинстве они страдали
отсутствием наглядности. Сознание этого недостатка, в
связи с признанием важности знакомства с судебной
медициной для каждого юриста-практика, не исключая и
цивилистов, побудило меня ходить на лекции анатомии и
судебной медицины у студентов медицинского факультета.
Там мне пришлось слушать несколько раз чрезвычайно
серьезные лекции Мина, известного переводчика Дантова
«Ада» *, присутствовать при судебно-медицинских
вскрытиях и при операциях, производимых Басовым, причем
последние оставляли крайне тягостное впечатление, потому
что этот хирург старой школы не любил применять
хлороформ и при первой возможности избегал его употребления.
В лекциях Легонина видное место занимал отдел
психопатологии, внушивший мне мысль ближе изучить
душевные болезни, что я и осуществил по окончании курса, ходя
в Петербурге слушать клинические лекции незабвенного Ба-
линского в маленьком убогом деревянном здании -на одном
из дворов тогдашней Медико-хирургической академии на
том месте, где ныне помещается величественное здание
психиатрической клиники. С особой признательностью я
вспоминаю о Легонине, благодаря которому я впоследствии
мог сознательно участвовать в течение многих лет в
освидетельствовании сумасшедших, разрабатывать в своей
практике судебно-медицинские вопросы, принимать участие в
заседаниях медицинского совета и различных ученых
обществ и сообщать моим слушателям в Училище
правоведения и Лицее некоторое знакомство с судебной медициной
в ее применении к судебно-уголовной деятельности.
Заря реформы этой последней всходила перед нами с
каждым годом нашего студенчества все ярче и ярче, пока,
наконец, в конце ноября 1864 года в руках многих из нас
не появилась книга только что вышедших Судебных уставов.
Мы смотрели на нее с тайною радостью, как на некое
благовестив о будущей нашей деятельности, вчитывались в нее
с жадностью и старались представить себе, в какие живые
образы отольются те действия и деятели, о которых
говорилось на этих веявших новизною страницах. Я уже
говорил, как предвидение этой новизны захватило в свое
время самого Баршева, перешедшего от заявления в своей
автобиографической записке 1855 года, что «главной
задачей своего преподавания с 1838 по 1855 год он полагал
107
утверждение в своих слушателях глубокого уважения к
отечественным установлениям по уголовному праву», к
признанию и даже восхвалению суда присяжных*. Когда
Судебные уставы были опубликованы, он, под влиянием
этой своей эволюции, предложил нам на IV курсе устроить
примерное судебное состязание в виде обвинительных и
защитительных речей, а затем Юридическим обществом
были организованы настоящие судебные заседания по
взятым из Сената делам. Они происходили в одной из
обширных аудиторий «старого университета» и были доступны
не только для студентов всех факультетов, но в
значительной степени и для публики. Студенты распределяли между
собой роли свидетелей и списывали из дела их показания.
Из них же выбирались присяжные и назначались
подсудимые. В ролях обвинителей, судей и защитников выступали
члены Юридического общества. Все относились к своей
задаче очень добросовестно и вполне серьезно, а публика,
посещавшая эти примерные заседания, вела себя очень
сдержанно, так что характер представления, который они
легко могли принять, вполне отсутствовал. С молчаливым
и серьезным вниманием, без всякой улыбки
выслушивалось, как какой-нибудь бородатый студент, на долю
которого выпала роль свидетельницы, говорил легким басом:
«я пришла», «я увидела», «я в это время стирала белье».
И на мою долю выпало однажды сидеть на скамье
подсудимых в качестве укрывательницы убийства, совершенного
моим «женихом», и я, упорно не сознаваясь в своей вине,
не без волнения слушал, как товарищ председателя
уголовной палаты, будущий член Московской судебной палаты
Селиванов настойчиво и с жаром доказывал мою очевидную,
по его мнению, виновность. Приговор импровизированных
присяжных, которые совещались иногда довольно долго,
ожидался всеми с нетерпением и тревогой и вызывал
оживленную оценку. Таких заседаний было три или четыре, но
затем они прекратились за отсутствием материала, потому
что из Сената перестали давать дела после того, как
«присяжные Юридического общества» решили, выслушав
горячие прения сторон, дело, подлежавшее пересмотру в общем
собрании Сената, совсем иначе, чем оно было решено в
департаменте. Подобно лекциям судебной медицины, и эти
примерные состязания принесли нам большую пользу.
Благодаря первым, процедура судебно-медицинских,
исследований чрез сведущих людей при следствии, а благодаря
108
вторым, процедура судебного заседания были встречены
нами, молодыми судебными деятелями, как нечто уже
отчасти знакомое. Списки судебных деятелей первого
призыва пестрят именами моих товарищей по факультету.
Огромного большинства из них уже нет в живых, но почти
каждый из них, не говоря уже об особо выдающихсялпри-
нес свою долю сердечного участия в осуществление
судебной реформы, приступив к нему не как к простой службе
по судебному ведомству, но как к идейному служению
великим началам правосудия, вещающим о себе со страниц
Судебных уставов.
Не удовлетворяясь лекциями нашего
профессора-криминалиста, я стал заниматься уголовным правом
самостоятельно, читая Бернера, Буатара и Ортолана и знакомясь с
русскими историческими источниками и их
немногочисленными толкованиями. Это изучение навело меня на мысль
написать кандидатскую диссертацию «О праве
необходимой обороны». Я стал заниматься этой темой весьма
усердно, с жадностью отыскивая везде, где можно,
материалы. В январе 1865 года я засел за писание и проводил
за ним почти все вечера, памятные мне и до сих пор по
невыразимой сладости первого самостоятельного научного
труда, который затем, если не считать весьма слабой
статьи Полетаева, был единственным на русском языке
историко-критическим и догматическим изложением
учения о праве необходимой обороны вплоть до появления
уже в девяностых годах обширной книги профессора
Пусторослева под оригинальным названием:
«Незаменимая саморасправа» *. В начале марта работа моя была
окончена и представлена Баршеву, а им в начале мая
передана в Совет с одобрительной отметкой на полях:
«Весьма почтенный труд». Совет постановил напечатать это
сочинение в «Приложениях к Университетским
известиям», которые должны были начаться изданием под
редакцией профессора Капустина со следующего учебного
года.
Во время экзамена по уголовному праву, если я не
ошибаюсь, 11 мая, Баршев, выслушав мой ответ, вдруг
сказал мне: «Не хотите ли остаться при Университете по
кафедре уголовного права?» Это предложение было столь
неожиданно и рисовало мне такую радужную будущность,
что я просто обомлел и не знал, что сказать. Баршев
повторил свой вопрос и на мой невнятный от волнения и
109
радости ответ сказал мне: «Зайдите-ка завтра утром ко
мне, мы и переговорим». Излишне объяснять, в каком
состоянии я провел весь вечер и бессонную ночь. По
тогдашним временам, когда судебная реформа была еще в
будущем, профессорское звание было не только лучшим и
благороднейшим из званий, но и давало блестящий исход
педагогическим и ученым наклонностям, если они у кого-
либо существовали. Те тайные радости, которые испытала
моя душа во время писания кандидатского сочинения,
могли обратиться в хронические! Кроме того,
оставленному при Университете предстояли поездка за границу
и — по защите магистерской диссертации — место доцента.
Уже одна возможность быть доцентом в Университете,
где работал Грановский и где продолжало раздаваться
блестящее слово Чичерина, Крылова и Соловьева,
действовала на меня чарующим образом, а оклад в 1200
рублей по университетскому уставу 1863 года казался мне —
привыкшему жить уроками — чем-то баснословным, далеко
превышающим потребности не только мои, но и моей
будущей семьи, о которой я нередко, хотя еще и беспредметно,
в то время мечтал. Только раз в жизни был я потом в
подобном же настроении. Это случилось через двадцать лет,
когда после долгих годов опалы и несправедливого,
мелочного преследования, мне, тоже совершенно неожиданно,
министр юстиции Набоков предложил место
обер-прокурора уголовного кассационного департамента, т. е.
предложил применить мои знания и опыт к руководящей
деятельности по любимому и практически знакомому мне делу.
Утром на другой день я отправился к Баршеву. «Так
вот мы вас и оставим при Университете, а с осени вы и
разделите со мною кафедру и начнете читать студентам
уголовное право, а я себе оставлю судопроизводство. Вы,
как видно, очень знакомы с иностранной литературой
предмета. Значит, и торопиться вам за границу незачем,
а выдержите исподволь экзамен на магистра да напишите
диссертацию, так, вероятнее всего — здесь, а то в другом
университете, получите штатную кафедру. А покуда из
экономических сумм мы будем вам выдавать по 400
рублей в год». Меня точно холодной водой обдало. «Как?! —
невольно воскликнул я. — Сергей Иванович! Читать
лекции с сентября?! Да ведь я экзамены окончу в начале
июня! Мне надо еще учиться и невозможно решиться
читать лекции своим же недавним товарищам!» — «Ну,
ПО
вот!—перебил меня Баршев. — Чего смущаться? Ведь не
боги горшки обжигали! Вот и я: готовился за границей
по полицейскому праву, а вернулся в Россию — пришлось
читать уголовное. Ну, что ж, — ничего себе, читаю! Вы
подумайте-ка до завтрого, да и скажите мне ваш ответ.
Мне это надо поскорее знать». Я снова провел тревожные
день и ночь, обуреваемый сомнениями. Записки и
конспекты к ближайшему экзамену валились из рук, и,
несмотря на тогдашнюю решительность моего характера,
самые противоречивые мысли перекрещивались в моей
голове и парализовали мою волю. Когда я вглядывался в
течение моей долгой жизни в некоторых профессоров
последующей формации, я убеждался, что иные из них не
задумались бы принять предложение Баршева и,
скомпилировав какой-нибудь учебник да снабдив эту
компиляцию хлесткими фразами, поднести все это студентам
через два-три месяца, напустив на себя авторитетный вид.
Но незабвенный Московский университет моего времени
не только способствовал развитию в нас чувства
самоуважения, но и внедрял в нас чувство благоговейного
отношения к науке. Мне казалось непозволительным
выступить на кафедре с наскоро вычитанными чужими
мнениями, не составив по всем основам уголовного права своего
собственного взгляда, и уже совершенно
предосудительным представлялось «jurare in verba magistri» *, чем,
конечно, этот «magister», т. е. Баршев, был бы доволен. Кроме
того, материальные условия не давали мне возможности
отдаться исключительно научным занятиям и готовить
магистерскую диссертацию. Пришлось бы непременно
снова бегать по урокам и тратить дорогое время. Поэтому я
пошел к Баршеву с отрицательным ответом. «Жаль! —
сказал он. — Очень жаль, а мы вчера в Совете говорили
и сожалели, что у Университета нет в настоящее время
свободных средств. Ну, да министерство народного
просвещения каждый год отправляет молодых кандидатов за
границу, в Лейпциг, к Пирогову. Так вот, когда Совет
будет составлять список рекомендуемых для посылки за
границу, мы вас туда и поместим, только, пожалуй, к
вашему .возвращению кафедру в Московском университете
займет кто-нибудь другой», — заключил он, поворачивая
нож в моем сердце. «А то, послушались бы меня, да и
1 Клясться словами учителя (лат.).
Ш
принялись читать с осени! Право, не боги горшки обжи-*
гали! Облегчили бы старика, потрудились бы!» Но я
решительно отказался. Совет юридического факультета,
действительно, рекомендовал министерству для
отправления за границу троих из нашего, в общем очень удачного
по составу курса, давшего впоследствии ряд судебных
деятелей первого времени судебной реформы. Он
рекомендовал: меня по уголовному, Морошкина по гражданскому и
Хлебникова по государственному праву. Кредит на
посылку за границу в 1865—66 году оказался, однако, уже
исчерпанным. Нам объявили, что мы будем считаться
в числе оставленных при Университете впредь до отправки
нас за границу осенью 1866 года. Но 4 апреля 1866 г.
последовал роковой выстрел Каракозова. Спасение жизни
царя было встречено с таким восторгом и подъемом
любви к нему, которых, конечно, ни один из очевидцев
никогда не забудет. Нечто подобное я видел лишь через
двадцать два года, проехав на исследование обстоятельств
крушения императорского поезда в Борках, по пути, по
коему только что проследовал государь и вся его
удивительным образом спасенная семья *. Казалось, что
проявления нежной восторженной любви народа в 1866 году
должны были укрепить уверенность в правильности пути
«великих реформ» и необходимости следовать им
неуклонно... К сожалению, случилось не так, и первою жертвою
наступившей реакции был министр народного
просвещения А. В. Головнин. Вслед затем из Лейпцига
оскорбительным образом без всяких объяснений был отозван
Пирогов, и посылка за границу молодых людей для
приготовления к ученой деятельности под его руководством
была временно прекращена. Русское просвещение попало
в наделавшие ему столько зла руки графа Д. А. Толстого,
и нам троим пришлось разойтись по разным дорогам.
Весной 1866 года, оставив свои временные служебные
занятия (я — в контроле и военном министерстве, а Морош-
кин — в московском архиве министерства юстиции), мы
устремились в обновленное и облагороженное судебное
ведомство, а Хлебников уехал служить в Варшаву, где
продолжал заниматься наукой, защитил магистерскую
диссертацию и был затем профессором в Варшавском
университете. Он умер в восьмидесятых годах, не оставив
но себе ничего замечательного, а Морошкин скончался
в 19Q0 году, приобретя репутацию всеми уважаемого ци-
112
вилиста-практика. Я не оставлял по возможности науки и
с 1865 года деятельно сотрудничал в «Журнале
министерства юстиции» («Русские уголовные процессы», «Ошибка
в области уголовного права», «Стифен и английский
процесс», «Учение Бернера о телесных повреждениях» и т.д.)
и в «Московском юридическом вестнике». Затем, с
1877 года, я принял деятельное участие в трудах
Петербургского юридического общества и писал в различных
юридических изданиях. Наконец, деятельность
уголовного кассационного обер-прокурора, будучи в моих глазах
неразрывно связана с ученой интерпретацией, заставила
меня в моих заключениях постоянно касаться научных
положений и выводов. Все это, вместе с изданием мною
книги «Судебные речи», в которой были собраны
главнейшие из моих обвинительных речей, руководящих
напутствий и заключений, вызвало возведение меня
Харьковским университетом в степень доктора уголовного
права honoris causa *. Если к этому прибавить то, что почти
все русские юридические общества, а также Академия
Наук и Военно-медицинская почтили меня званием
почетного члена, а первая сверх того, по единогласному
постановлению Отделения русского языка и словесности,
избрала меня в почетные академики в числе первых девяти,
и что я с 1876 по 1883 год читал лекции уголовного
судопроизводства в Училище правоведения, а с 1901 года —
лекции судебной этики в Императорском
Александровском лицее, то можно признать, что ученая деятельность,
об утрате которой я так сильно и безнадежно горевал в
.1866 году, для меня в сущности не совсем была утрачена.
Диссертацию мою «О праве необходимой обороны»
постигла, однако, своеобразная судьба. В первых выпусках
«Приложений к Московским университетским известиям»
за 1865—66 учебный год, редактированных профессором
Капустиным, были напечатаны четыре кандидатских
рассуждения: Ключевского: «Сказания иностранцев о
России», Никольского: «О таможенных пошлинах», Шайке-
вина: «Об оскорблениях чести» и мое: «О необходимой
обороне» *. Из них сочинение Никольского было,
соответственно заданной факультетом теме, представлено на
золотую медаль. Как разно повела нас судьба, соединив нас
сначала на одной университетской скамье, а первые труды
1 Во внимание к заслугам (лат.).
S А. Ф. Кони, т. 7
113
наши в одном издании!.. Лишь Ключевский остался
неразрывно связанным с Московским университетом...
Никольский, по последним известиям, которые я о нем имел
много лет назад, был секретарем попечителя варшавского
учебного округа, а Шайкевич, после безупречной
адвокатской деятельности, оскорбленный огульным
.враждебным отношением части общества и некоторых органов
печати к его соплеменникам, в конце восьмидесятых годов
переселился навсегда в Париж и, пойдя по стопам Ровин-
ского, сделался страстным собирателем гравюр и
исследователем гравировального дела. Он умер в 1908 году.
20 сентября 1866 г. я получил официальное
приглашение от И. Д. Делянова, временно заменявшего в
качестве товарища министра народного просвещения графа
Толстого, «пожаловать для объяснений по делу» в
департамент министерства, к Чернышёву мосту. Выйдя в
приемную, полную посетителей и представляющихся, Деля-
нов увел меня в другую, пустую комнату и, добродушно
сказав: «Посмотрите-ка, что вы наделали!», — дал мне
«дело» департамента и ушел к просителям. Дело
начиналось с письма, в котором излагалось заключение главного
управления по делам печати по поводу моей кандидатской
диссертации. Признавая, что вопрос о необходимой
обороне разработан в ней с точки зрения теории права и
согласно с учением современных западноевропейских
ученых криминалистов, главное управление находило, однако,
что в «настоящее время» представляется едва ли
уместным и удобным проводить, даже и в ученом рассуждении,
взгляды на неприкосновенность домашнего очага и на
возможность обороны против явно незаконных действий
агентов власти или цитировать мнение профессора Бернера и
разных других ученых, говорящих о праве обороны как
последнем средстве в защиту существующего
государственного устройства, которое представляется несомненно
нарушенным. Принимая, вместе с тем, во внимание, что
«Московские университетские известия» есть издание
специальное, посвященное преимущественно развитию
серьезных научных вопросов, управление полагало, что
рассуждение, о котором идет речь, может быть оставлено без
принятия какой-либо карательной меры относительно
автора или относительно повременного издания, в котором
оно помещено и которое еще не подвергалось никаким
цензурным замечаниям. Утвердив это заключение, статс-
114
секретарь Валуев сообщал об изложенном на усмотрение
министра народного просвещения. «Ну, что вы
скажете?!— спросил снова вошедший Делянов. — А? Разве
можно писать такие вещи?!» — «Можно и должно, —
сказал я, — когда разрабатывается научный вопрос. Я
излагал не собственные непродуманные измышления, а мнения
юристов и политиков, занимающие свое место в
историческом ходе учения о праве необходимой обороны.
Подобные же ссылки еще недавно сделаны Вальтером в его
сочинении «Naturrecht und Politik», допущенном цензурою в
России, да и учебник Бернера, на слова которого я
ссылаюсь, допущен цензурою к продаже в переводе
Неклюдова. Притом, я писал свое сочинение на тему,
одобренную профессором уголовного права, и сочинение мое
напечатано по постановлению Совета факультета, разделившего
отзыв Баршева о том, что мой труд «весьма
почтенный». —' «Валуев говорил со мною по этому поводу и
желает, чтобы мы обязали вас не распространять вашу
«необходимую оборону» в отдельном издании», — сказал мне
Делянов. «Для такого обязательства, — заметил я, — нет
основания, так как я вовсе и не намеревался издавать мое
рассуждение уже по одному неимению для этого средств.
Получив от профессора Капустина всего лишь пять
оттисков, я один передал моему отцу, а четыре остальных
роздал ближайшим друзьям из товарищей по
Университету, живущим в Петербурге!» — «Ну, да! конечно, —
ответил мне своим певучим бабьим голосом Делянов. —
А все-таки надо бы писать поосторожней! Да и Сергей
Иванович (Баршев), такой мудрый человек, и вдруг
проморгал! А нам неприятности. Ну, хорошо, мы напишем
Валуеву все, что вы говорите, а Совету университета все-
таки придется поставить на вид и запретить отдельное
печатанье вашего труда. И что это они журналистикой
заниматься вздумали?! Мало у них своего дела? Эх-эх-
эх!.. Ну, прощайте!.. А мы так Валуеву и напишем!» —
и он прикоснулся гладко выбритой щекой к моей, что
обозначало у него поцелуй. Он знал меня еще по
гимназии и относился ко мне доброжелательно, — искренно, как
казалось, сожалея о затруднениях, которые встретило
предположение о посылке меня, Морошкина и Хлебникова за
границу. Что написал Делянов Валуеву, не знаю, но
попечитель московского учебного округа просил Совет вменить
кому следует в обязанность строжайше наблюдать за непо-
ь-
115
мещением подобных рассуждений в «Московских
университетских известиях», дабы издание это не подверглось в
цензурном отношении каким-либо карательным мерам.
Прошло месяца три. Однажды ко мне пришел мой
отец (я жил отдельно, вм£сте с товарищем по выпуску,
служившим в государственном контроле), весьма
встревоженный, и сказал мне, что встретил своего старого, хотя
и не близкого знакомого М. Н. Турунова, — члена
главного управления по делам печати, и что тот с
многозначительным видом просил его передать мне, что ему
необходимо меня видеть по весьма неприятному для меня
обстоятельству. Когда я пришел к Турунову, он провел
меня в кабинет, с таинственным видом запер двери, долго
с молчаливым сожалением смотрел ' на меня, наконец,
вздохнул и сказал мне: «Вы, конечно, догадываетесь,
зачем мне нужно вас видеть? Нет? Гм! Я вас лично не
знаю, но мое уважение к вашему батюшке побуждает
меня прежде дачи делу о вас законного хода выяснить
себе самому в откровенной беседе с вами возможность и
способы ограждения вас от крайне неприятных
последствий...» — и, снова посмотрев на меня с горестным
сожалением, он откинулся на спинку кресла. «Я вас не
понимаю, — сказал я, — и просил бы прямо приступить к
делу». — «Вот видите ли, — сказал он многозначительно,—
Петр Александрович Валуев потребовал от министра
народного просвещения принятия мер к нераспространению
вашего, скажу от себя, в высшей степени интересного, —
сочинения о праве необходимой обороны и изволил
получить в этом удостоверение от тайного советника Д'еля-
кова, которое дало ему возможность отказаться от
пользования тем своим правом, которое, как вам, конечно,
известно, дает ему новый закон о печати. Между тем... —
он пристально и проницательно посмотрел на меня,
сопровождая это длинной паузой, — между тем, вы
продолжаете распространять свое сочинение». — «Это
неверно», — возразил я. — «Мне грустно вам заявить, — сказал
Турунов, — что вот здесь, — и он хлопнул рукою по
лежавшему перед ним делу, — мы имеем несомненные
доказательства противного!.. В нашем распоряжении есть
экземпляр вашей диссертации, убеждающий воочию, что вы
ее распространяете, и я должен вас предупредить, что
Петром Александровичем поручено мне составить доклад
о возбуждении против вас судебного преследования, ко-
116
торое, несомненно, гибельно отразится на вашей
служебной карьере... Я повторяю вам предложение помочь мне
выпутать вас, ввиду моего уважения к вашему батюшке,
из этого в высшей степени неприятного дела». — «Очень
вам благодарен, — сказал я, подавляя закипавшее во мне
раздражение, — за ваше участие, но я считаю
унизительным для себя оправдываться в том, чего ни главное
управление по делам печати, ни сам Валуев доказать не
имеют никакой возможности. Я уже говорил И. Д. Деля-
нову, что тотчас после напечатания моего сочинения,
получив пять экземпляров его в виде отдельных оттисков,
я роздал их близким мне людям. Это было за полгода до
отношения Валуева к министру народного просвещения.
Больше у меня оттисков нет, о чем я искренно сожалею,
так как в моем распоряжении остался всего лишь
номер «Известий», в котором напечатана моя диссертация,
почему если придется в иные, лучшие времена напечатать
мой труд отдельной книжкой, то я могу быть поставлен
в затруднение в случае потери этого номера». При этих
моих словах Турунов улыбнулся и насмешливо посмотрел
на меня, как бы говоря: «Эх> молодой человек, молодой
человек! Не дождетесь вы этих лучших времен». Мой
ответ его, однако, смутил, — он стал внимательно
перелистывать лежавшие перед ним бумаги, задумался и потом,
раскрыв дело, показал мне вшитый в него отдельный
оттиск моего сочинения, закрывая рукою надпись,
сделанную сверху. «Вот видите! — сказал он. — А можно узнать
имена тех лиц, которым вы дали оттиски?» Я назвал
четыре имени. Турунов приподнял руку над надписью и
покачал головою, а затем сказал мне: «Позвольте мне
дать вам добрый совет: рекомендуйте вашим друзьям
относиться с большею бережливостью к тому, что вы им
дарите, чтобы оно не попадало безвозвратно в чужие, не
всегда дружелюбные руки». — «Кому же был дан мною
этот оттиск?» — спросил я. — «Этого я объяснить не
считаю себя вправе, но теперь дело мне ясно настолько, что
я, вполне доверяя вам, могу сделать соответствующий
доклад министру, а вас успокоить, что вопрос этот не
будет иметь никаких дурных для вас последствий.
Передайте мое почтение вашему батюшке». Впоследствии, в
трудно переживаемые минуты служебной жизни, я не раз
жалел, что Валуев не возбудил против меня и
профессора Капустина уголовного преследования. Это был бы
117
первый по времени процесс о печати перед новым судом.
Я защищался бы сам и, вероятно, ощутил бы в себе ту
способность к судоговорению, которую испытал впервые
на практике лишь через два года в Харькове в качестве
товарища прокурора. Судебное преследование, конечно,
окончилось бы оправданием и лишь вызвало бы выход
мой в адвокатуру, которая впоследствии столько раз
заманивала меня в свои ряды. Лет через двадцать я
обладал бы независимыми средствами, и сердце мое не было
бы изранено столькими разочарованиями и
столкновениями на почве искреннего служения правосудию. Но все к
лучшему!..
Я снова увидел Турунова через семь лет в Карлсбаде.
Он был уже сенатором, говорил с необыкновенной
авторитетностью и любил рассказывать о том, как по всем
решительно вопросам управления просят его советов и
указаний различные министры. Обыкновенно эти
рассказы облекались в такую форму: «Он (то есть министр)
или они (неизвестно кто) говорят мне (без обозначения
места и времени): «Вот, Михаил Николаевич, не знаем,
как тут поступить. Скажите, как быть?» — Ну я, конечно,
не отказал и говорю им: так и так! Он (они) согласно
с этим и поступил (поступили)». Этим рассказам не было
конца, и так как они касались по большей части
законодательных и административных мер весьма спорного
достоинства и притом были чрезвычайно длинны, с паузами,
отступлениями и канцелярскою таинственностью, то
наскучили мне чрезвычайно во время частых встреч с Ту-
руновым. Эти рассказы стали еще скучнее, когда я
оценил их достоверность, услышав о большом скопческом
деле в Петербурге чрезвычайно фантастическое
повествование Турунова, который, по его словам, играл в нем роль
вдохновителя и руководителя, не зная, однако, того, что
дело это производится под моим личным, как прокурора,
наблюдением и известно мне во всех подробностях, о чем
я и имел жестокость ему сообщить по окончании его
рассказа. Как сенатор, он играл бесцветную роль и был
услужливым проводником и защитником желаний
министерства внутренних дел. Он умер в начале девяностых
годов, и я не могу забыть ужасного впечатления, которое
он производил в гробу. Его гладко выбритое лицо
никогда не было особенно привлекательно. Было что-то не
внушавшее симпатии в его острых чертах и маленьких
118
глазках под золотыми очками. Растерявшаяся в момент
его смерти семья, состоявшая из весьма достойных людей,
упустила подвязать ему челюсть и дала ему так застыть.
Потом сомкнуть ему болтливые при жизни уста было уже
невозможно, и он лежал в гробу в своем мундире, с
зияющим отверстием широко раскрытого беззубого рта, из
которого, как казалось, вот-вот вылетит ужасный крик
невыносимого страдания.
Лет через десять после переписки Валуева с
министром народного просвещения мне, в качестве
вице-директора департамента министерства юстиции, пришлось два
раза иметь личные с ним объяснения по поручению
министра юстиции, графа Палена, по вопросам, касавшимся
Устава лесного. Помнится, что эти объяснения не
приводили ни к каким определенным результатам. Красивой
и даже изящной наружности Валуева с правильными,
тонкими чертами лица и выразительными глазами
соответствовал не менее красивый и изящный способ выражаться.
-Он говорил, как бы слушая самого себя, длинными
закругленными периодами, с вводными предложениями и
деепричастиями. Но, конечно, вследствие непривычки к
условностям и уклончивости бюрократического языка, я
с трудом улавливал сущность его мнений и в глубине
души невольно повторял изречение украинского философа
Сковороды: «Лучше ничего не сказать, чем сказать —
ничего». Года через три, однако, закругленные фразы
Валуева стали расточать против председателя
Петербургского окружного суда гром и молнии в заседаниях Совета
министров, созванных по поводу оправдательного
приговора присяжных заседателей по известному делу Веры
Засулич. Опытный государственный деятель, тщательно
следивший, как видно из его дневника *, за «настроениями
и веяниями», не хотел, по-видимому, смело взглянуть в
глаза истине и отдать себе ясный отчет в совокупности
общественных явлений, приведших присяжных к их
решению, а все сводил к ведению мною заседания, в
близорукой поспешности смешивая исполняющего свой долг судью
с исполняющим приказания начальства чиновником*.
Думал , ли я, что мне придется встречаться с ним в
совершенно иных обстоятельствах еще десять лет спустя!
Расхищение башкирских земель, — в котором он лично был
ни в каком отношении не виновен, сделавшись сам
жертвою благородной доверчивости *, — раскрытое ревизией
119
сенатора Ковалевского и глубоко возмутившее
Александра III, поставило Валуева в необходимость оставить пост
председателя Комитета министров. Ему пришлось
замкнуться в себе и пережить тягостный период ожидания
возвращения прежнего доверия после объявленного ему
неудовольствия монарха. За это время, да, вероятно, и
до самой своей смерти, он должен был болезненно
ощущать вокруг себя ту пустоту и безлюдье, которые
образуются обыкновенно в придворных и высших чиновничьих
кругах по отношению к павшему официальному величию.
К этому присоединились потеря супруги, долги любимого
сына и женитьба последнего, породившая в обществе
нравственно тяжелые на его счет пересуды. Пришлось
страдать в одиночестве, сохраняя внешне спокойный вид
и сознавая, что среди равнодушных и злорадных есть
немало и таких, которые считали себя вправе не прощать
бывшему министру внутренних дел его воздействия на
ход и развитие некоторых из великих реформ
предшествующего царствования. Осенью 1883 года Валуев
поселился в небольшой и скромной квартире в нижнем этаже
дома № 20 по Галерной улице. На этой квартире ему
пришлось испытать на себе «каменную десницу» * нашей
тогдашней «богомольной и слишком чопорной», по
выражению Пушкина, цензуры *, не пропустившей сделанный
им перевод «Communionbuch» Канфа, ввиду
«протестантского духа» этой книги. Там же окончил он и другую
работу по составлению прекрасного, обширного и
разнообразного по содержанию, «Сборника кратких
благочестивых размышлений на все дни года» *, На одной с ним
лестнице помещалась редакция «Вестника Европы» и жил
Михаил Матвеевич Стасюлевич. Последний, встречаясь
с Валуевым, не хотел помнить тягостных неприятностей,
причиненных ему в области управления печатью бывшим
в апогее своего величия министром. Благородный и в
высокий степени порядочный редактор «Вестника Европы» *
умел помнить классическое изречение: «Miser — res sacra» l.
Они дружелюбно беседовали, и Валуев стал бывать в
гостиной издателя либерального журнала. Его фигура еще
сохраняла прежнюю величавую и изящную внешность, а
плавное и красивое слово являлось выражением более
глубокого, идущего из души, содержания, чем прежде. Он
1 Несчастный — святыня (лат.)»
120
сам откровенно сознавался в своей ошибочной оценке
людей, подобных Стасюлевичу и его друзьям, и жалел, что
не знал их прежде, конечно, скромно умалчивая о том,
что, не зная их, он, однако, пользовался своею властью
и влиянием против них. Между близкими к «Вестнику
Европы» и Стасюлевичу людьми был, однако, один, ни
за что не хотевший примириться с бывшим министром,
которому он приписывал задержку необходимых
систематических последствий освобождения крестьян, считая его
одним из вреднейших людей, исказивших величайшую из
реформ Александра II. Это был Константин Дмитриевич
Кавелин, с негодованием говоривший о Валуеве и
слушавший упоминание имени последнего с выражением
глубокой ненависти в полных ума, юношески горящих глазах.
Однажды, когда после редакционного обеда,
насладившись слушанием принесенных мною вновь найденных
писем своего любимого героя Петра Великого, Кавелин в
самом благодушном настроении уселся в гостиной
раскладывать пасьянс, хозяйка шутливо сказала ему: «А знаете
ли, Константин Дмитриевич, кто сегодня перед обедом
сидел в вашем обычном кресле?—П. А. Валуев!»
Кавелин быстро встал, нервно смешал карты, вспыхнул и,
резко отодвинув от себя кресло, дрожащим от гнева голосом
сказал: «Вы должны были меня об этом предупредить! —»
и затем, овладев собою, пересел на диван, прибавив: —
я не хочу иметь ничего общего с этим господином!»
В этой гостиной как-то провел я целый час в беседе
с Валуевым. Оказалось, что по многим вопросам,
заставлявшим особенно болеть в то время сердце, мы были
одинаковых взглядов. Дня через два он посетил меня, пробыл
довольно долго и, уезжая, выразил и мне сожаление, что
не знал меня прежде и имел ложное обо мне
представление. Это было искренно, ибо впоследствии, уже после его
смерти, его сын показал мне место в дневнике своего отца,
где, описывая наше свидание, он повторяет свое
сожаление и говорит обо мне с сочувствием. Тут же, рядом, к
великому моему недоумению, он прибавлял: «Но меня
удивляет, что у такого человека, очевидно, в большом
почете стоит на письменном столе портрет Гладстона». По<
поводу этого замечания сын его объяснил мне, что отец,
вообще довольно благосклонный к широкому развитию
окраин России, считал, по странному внутреннему
противоречию, деятельность этого государственного мужа по
Ш
отношению к Ирландии почему-то вредною *. Мне
пришлось еще несколько раз видеть Валуева у себя в течение
последних годов его жизни и переписываться с ним. Его
интересовали мои мнения по некоторым законодательным
вопросам, привлекавшим его особое внимание. Так,
например, 10 января 1890 г. он писал мне: «У меня до вас есть
просьба. Приношу ее письменно, не имев возможности ее
принести изустно. Вы знаете, как я ценю ваши взгляды и
вашу отзывчивость. Продолжая быть больным и проводя
в постели большую часть моих дней, я, однако же, не
дошел до полной мозговой пассивности. Пишу лежа,
урывками, смотря по степени болезненности. Пишу без
материалов и справок. Пишу полупароксизмами, но все-таки
иногда пишу. При сем одно из таких писаний. Благоволите
при досуге прочитать и ваше мнение сообщить. Копия снята
для удобства при чтении. Мой почерк в постели еще менее
разборчив, чем у письменного стола, что, между прочим,
видно и из этих строк. До сих пор я моей записки никому
не сообщал *. Надеюсь, что вы мою просьбу не найдете
докучливою. Все-таки рассчитываю на ваше посещение,
когда мое здоровье позволит. Искреннейше преданный
Валуев». Старик болезненно любил своего сына-офицера.
Этот последний представлял собою странное соединение
крайних противоречий: ясного ума и блестящих
способностей, которыми он поражал всех в Военно-юридической
академии, и полной бесхарактерности и пагубного
легкомыслия. Чувствуя, что осталось жить недолго, Валуев
откровенно советовался со мною об устройстве запутанных
дел сына и просил меня не оставлять молодого человека,
если он обратится ко мне за советом и руководством, когда
его, Валуева, уже не будет в живых. Я это по мере сил и
уменья исполнил и, между прочим, помогал молодому
Валуеву в отыскании и оценке материалов для его
юридической работы по уголовному праву. На меня он производил
впечатление приятного и интересного собеседника, а горе
его при первом свидании со мной после смерти его отца,
когда он по предсмертному поручению последнего принес
мне большую гравюру, изображающую Петра Великого,
было трогательно. Быть может, к скорби здесь
примешивалась и значительная доля упреков смущенной совести, на^
поминавшей, что вследствие его необдуманных трат
материальное положение старика в последние годы его жизни
было поистине плачевно. Однажды последний зашел ко
122
мне и был, видимо, очень утомлен моей высокой лестницей.
На упрек мой, что он мог бы не трудиться, а позвать меня
к себе, Валуев без всякой рисовки сказал мне: «Вы заняты,
а я свободен, да и ехать к вам так удобно по конке. Я очень
полюбил этот способ сообщения с тех пор, как на
извозчиках мне ездить стало не по средствам». Взглянув на его
сапоги в заплатках, я понял, что это не фраза. Под конец
своей жизни он обитал в небольшой квартире в шумном и
узком месте Екатерингофского проспекта на углу
Вознесенского. Когда я посетил его скромное жилище и, подойдя к
окну, увидел-напротив через узкую улицу стену
пятиэтажного дома, не допускавшую ни одного солнечного луча в
квартиру Валуева, он печально улыбнулся и сказал мне:
«Когда я сижу у самого окна, я все-таки вижу кусочек неба
и бегущие по нему облака. Они напоминают мне события
жизни: быстро несутся и иногда совсем застилают небо, но
я знаю, что оно есть, и это меня утешает и ободряет». Для
тех, кто знал былого Валуева, образ этого скромного,
разбитого судьбою и безропотно несущего свой крест человека
являлся совершенно новым и нравственно поучительным.
Таким остался он в моем воспоминании и доныне,
несмотря на его дневник за 1880 год, напечатанный в «Вестнике
Европы», где немало мелочного брюзжания и
эгоистической заботы о соблюдении собственного величия и
достоинства в связи с большой уклончивостью в вопросах
первостепенной важности и подчас рокового значения. В этом
дневнике сказался старый Валуев, еще не совлекший с себя
«ветхого Адама» бюрократического самодовольства *. Но
мне пришлось узнать нового Валуева, угасавшая душа
которого вспыхнула перед концом чистым и ярким пламенем.
Он был забыт и брошен своими сослуживцами и
товарищами, успевшими приспособиться к новому курсу и
пожинавшими великие и богатые милости. Но, униженный и
оставленный, он все-таки несколькими головами был выше
их в умственном и нравственном отношении, не говоря уже
о глубоком и разностороннем образовании. За несколько
дней до смерти он написал-следующие знаменательные
слова: «Призвание человека и призвание так называемых
государственных людей часто расходятся в самых
существенных отношениях. Но должны ли эти призвания
расходиться? Может ли взгляд на государственного человека
отрешиться от взгляда на него же, как просто, на человека,
и притом христианина? И он в предсмертные часы своей
123
земной жизни может ли при обратном взгляде на
пройденный им путь отделить дела своего государственного звания
от долга и дел человека? Как меняется в его" собственных
глазах значение тех и других! Как иначе взвешивается то,
что называлось и признавалось государственною
потребностью! Как могут тогда в памяти его всплыть слезы
пролитые и несчастья, причиненные во имя этой потребности!»
Его вывезли в .Лавру с чрезвычайной простотой, на
открытых дрогах в две лошади, согласно его непременному
предсмертному желанию. На отпевание прибыл, однако, почти
весь высший чиновный Петербург, вдруг почувствовавший
необходимость отдать покойному последний долг после
того, как он несколько лет подряд забывал отдать ему
первый долг— долг порядочности, состоящий в уважении к
несчастью. В церкви Александро-Невской лавры широким
кругом у гроба стояли сановники и звездоносцы —
широким потому, что из гроба очень тяжко пахло. Когда
настало «последнее лобзание» и сын отошел от тела так
горячо его любившего отца, наступило смущенное
выжидание. Никто, по-видимому, не решался подойти к тому, что
носило при жизни громкое имя Валуева, было в свое время
так величественно, влиятельно и высокомерно, а ныне
издавало такой дурной запах... Наконец, из среды стоявших
вокруг отделился, прижимая руку к сердцу, с выражением
благочестия на лице высокий сановник новейшего типа и
истово стал первый подниматься по ступенькам катафалка
для «последнего лобзания». Еще за год перед этим в
заседании московского студенческого комитета я слышал, как
он поносил Валуева, возводя на него самые
неправдоподобные обвинения, и каждое его слово изливало на
бессильного и опального старика сконцентрированный яд давней
злобы и заподозревания. Мне стало противно, и я вышел
из церкви...
Возвращаясь к моим студенческим воспоминаниям, я не
могу не остановиться почти невольно на эпизодах моей
личной жизни за время студенчества. Начало последнего
совпало для меня с тем настроением, которое так глубоко
было обрисовано Тургеневым в его знаменитом романе.
Разлад между отцами и детьми, подмеченный вдумчивым
художником, сказывался, между прочим, в стремлении
современной мне молодежи освободиться от материальной
124
зависимости от представителей старшего поколения.
Желание «стоять на собственных ногах» и не быть никому
обязанным в средствах к существованию было довольно
распространенным в годы моей молодости и проводилось
некоторыми с крайней последовательностью и без всяких
уступок. Это направление захватило и меня, и я, начиная с
шестого класса гимназии, стал жить своим трудом,
занимаясь переводами, давая уроки и упорно отказываясь от
той скромной помощи, которую мне мог оказывать мой
отец. Через двадцать лет, когда после его смерти я стал
перечитывать свои письма к нему в начале шестидесятых
годов, сердце мое болезненно сжималось, если среди строк,
проникнутых любовью и доверием, мне попадались в них
места с категорическими и резкими отказами от
предложений помощи и с угрозами вернуть таковую назад. Но если
такая юношеская прямолинейность могла причинять
тревоги и огорчения сердцу близких, то она имела и свои
хорошие стороны, приучая к обязательному труду и готовя к
борьбе за существование. Она воспитывала юношей в
обстановке скромной, иногда даже очень скромной жизни и
научала их довольствоваться в пределах своего, подчас
скудного заработка лишь неизбежными потребностями,
удовлетворение которых было чуждо всякой роскоши и
показной мишуры. Я уверен, что многие из моих
сверстников, разделявшие мой взгляд, разделили в последующей
жизни и мою благодарность судьбе, приохотившей нас
довольствоваться в материальном отношении малым и
ограничивать круг своих потребностей. Составляя, по
справедливому мнению Толстого, одно из условий счастья,
разумно понимаемого, это ограничение потребностей давало
впоследствии силу спокойно смотреть в лицо житейским
невзгодам и в трудные годы общественной деятельности
не пугаться возможности умаления или лишения тех или
других житейских удобств. С другой стороны, строгое
соблюдение правила «не жить на чужой счет», столь редко
соблюдаемого, к стыду наших дней, теперь, когда герои
некоторых повествований считают, что родители должны
«расплачиваться за то, что дали жизнь», поддерживало в
нас самоуважение и воздерживало нас от эгоистической и
подчас безоглядной эксплуатации заботы любящих нас.
Я начал давать уроки еще в гимназии, будучи
приглашен инспектором приготовлять принятых им к себе
пансионеров ко вступительному экзамену. Вместе с тем у меня
125
было и несколько уроков в частных домах, из которых мне
особенно памятны уроки истории и словесности двум
дочерям г-жи Гемпель, связанные с осеннею поездкой для
проверки заданных на лето письменных работ в Выборг, в
окрестностях которого, в Ронгасе, на даче князя
Владимира Федоровича Одоевского, жили мои ученицы. Тогда
не существовало Финляндской железной дороги, и надо
было ехать на пароходе до Выборга, совсем не похожего
в своем скромном и как бы застывшем с XVII столетия
виде на нынешний красивый, обширный, с
монументальными постройками город, а затем на парусной лодке
достигать довольно угрюмого обиталища талантливого и
оригинального мыслителя, умевшего в одной из своих повестей
так поэтически и любовно описать «страну тысячи озер» *.
Впоследствии в' Москве мне пришлось познакомиться и с
самим хозяином Ронгаса, к которому я зашел по
поручению моего двоюродного дяди А. Ф. Вельтмана. Ко мне
вышел человек небольшого роста, с проницательными и
добрыми глазами на бледном, продолговатом лице, с тихим
голосом и приветливыми манерами, одетый в широкий
бархатный костюм вроде западной судейской тоги и в черную
шапочку. Вооружившись старомодными очками, он прочел
письмо Вельтмана, а я с любопытством и некоторым
удивлением рассматривал его кабинет, заставленный
музыкальными и физическими инструментами, ретортами,
приборами для химических опытов и заваленный книгами в
старинных переплетах. Еще в отрочестве я был очарован его
фантастическими рассказами и, отождествляя автора с
героями его произведений, изображал его себе чем-то вроде
средневекового алхимика *. Таким он и предстал предо
мною — задумчивый видом и многозначительный в слове,
в необычном одеянии и среди таинственной, оригинальной
обстановки, и таким же «искателем философского камня»
живо рисовался он мне, когда через сорок лет пришлось
произносить речь о нем в публичном заседании Академии
Наук по поводу столетия со дня его рождения *.
Первое время студенчества в Москве я, конечно, не мог
рассчитывать найти уроки и вследствие этого должен был
устроиться по возможности очень скромно и дешево.
Первая моя квартира была в переулке Кривое Колено у Мен-
шиковой башни, в старинном доме Кильдюшевского, в
одной из двух комнат, отдаваемых внаймы содержательницею
женского пансиона госпожою Бундшу за 11 рублей в месяц
126
«со столом», который отличался свойством возбуждать осо?
бенно сильный аппетит после того, как бывал окончен.
Моя маленькая комната выходила в рекреационную залу
и была сдана «студенту» с условием, что я не буду входить
или выходить в рекреационные часы в эту залу. Я свято
соблюдал это условие и старался быть глухим к звуку
веселых молодых голосов и шуму шагов резвых ног, а иногда
и к движению ручки моей двери, которую шаловливо и
вместе боязливо двигали руки многочисленных
воспитанниц моей квартирохозяйки, привозимых родителями
большею частью из глухой провинции. Впоследствии,
уезжая на лето из Москвы, я вынужден бывал осенью искать
себе комнату, и это оставило во мне ряд воспоминаний о
хозяевах квартир, обитателях последних и студенческих
нравах моего времени. Но эти воспоминания завлекли бы
меня слишком далеко за поставленные себе рамки. Не могу,
однако, не вспомнить проживания моего у учителя
гимназии М. А. С-ва в Филипповском переулке, э деревянном
домике, выходившем окнами во двор церкви св. Афанасия
и Кирилла. Моя большая, удобная и уютно убранная
комната, отдававшаяся за 20 рублей в месяц со столом, имела
одно неудобство: она отделялась от соседней, где жили
супруги С-вы, столь тонкою переборкой, что мне было
слышно решительно все, что делалось и говорилось рядом,
вследствие чего, желая сосредоточиться на какой-нибудь
работе, иногда приходилось затыкать себе уши. На беду,
жена С, очень добрая женщина и хорошая хозяйка, была
болтлива до крайности и, когда муж возвращался со
службы, начинала говорить без умолку. Это был какой-то
стремительный и неотвратимый поток слов, бурно
переливавшийся через всякие остановки и возражения, которые
лишь усиливали его быстроту и обилие. Подчас, если это
бывало в моем присутствии, муж, после тщетных попыток
ограничить словоохотливость жены, махал безнадежно
рукой и, сконфуженно улыбаясь, повторял чье-то выражение:
«Ну, пошла пильня в ход!»... Но любил он жену
чрезвычайно и на все глядел ее глазами. Мы не прожили вместе
и двух месяцев, как он получил назначение во
Владивосток, соблазнивший его разными исключительными
прибавками к содержанию и пенсии служащим на тогдашнем
Дальнем Востоке. Пришлось расстаться, что было очень
кстати, так как подходило время экзаменов и «тонкая
переборка» повелительно требовала перемены квартиры, а это
127
очень огорчило бы обоих супругов, ценивших мое мирное
соседство. Прошло около тридцати лет, и однажды ко мне,
в четвертый этаж, с помощью слуги и швейцара поднялся
С-в, потерявший способность ходить вследствие
болезненного процесса в спинном мозгу. Он мало изменился, и я
тотчас же узнал его. Он объяснил мне, что, выслужив
большую пенсию (кажется, около 4 тысяч рублей в год),
он оставил службу и переехал жить в Петербург к
родственникам... «А Авдотья Семеновна?» — «Авдотьи
Семеновны нет! Она не вынесла климата и умерла от чахотки.
Чего я не делал, чтобы ее спасти: и дачу нанимал в
Японии, и с разными врачами советовался — нашими и
японскими, и консилиумы собирал — все оказалось
бесполезным! Вы знаете, что она была для меня все, наполняла всю
мою жизнь («Ну, пошла пильня в ход!» — невольно
припомнил я мысленно). И зачем и для чего я живу без нее —
сам не понимаю?! Ну да недолго ждать... Вот хотел вас
повидать, ведь вы были свидетелем нашего счастья, и
Авдотья Семеновна вас очень любила и часто о вас
вспоминала... Она в последний год жизни стала такая тихая,
молчаливая, — только румянец во всю щеку, а глаза так и
горят»... Его глаза наполнились слезами, он замолчал, но
вдруг лицо его приняло гневное выражение, рот злобно
скривился, и, ударив кулаком по столу, он почти закричал:
«А все казна проклятая! Соблазнила меня тогда
прибавками, да и запихала в эту трущобу, а трущоба съела мою
жену... Я ей — будь она проклята — этого никогда не
забуду!..» Я посетил его у родственников. О чем бы он ни
говорил, все сводилось к покойной жене. Месяца через два
он снова взобрался ко мне и к великому моему удивлению
сказал: «Я к вам с большой просьбой: не знаете ли
хорошей бедной девушки из таких, которые содержат семью
своим трудом? Я хотел бы жениться и тороплюсь с этим
делом...» — «Вы?!» — воскликнул я, вспомнив наши
предшествующие свидания и невольно взглянув на его
безжизненные ноги... Он усмехнулся: «Вы думаете, что я так
скоро забыл Авдотью Семеновну и на старости лет,
разрушенный физически и убитый морально, хочу жениться?
Нет-с, я жениться и не думаю, а хочу вступить в брак —
это разные вещи. Когда я умру — проклятая казна,
лишившая меня жены, возьмет мою большую пенсию себе, а я
этого допустить не могу: я ей дам по загребистой лапе! —
сказал он, волнуясь и с ожесточением, по-видимому, при-
128
выкнув представлять себе казну в виде какой-то
ненавистной ему живой личности. — Вот я и вступлю в брак и
оставлю пенсию жене, а казне — шиш! Ах, Авдотья
Семеновна, Авдотья Семеновна!» — и он всхлипнул и поник
головою. Я не имел ни времени, ни возможности исполнить
его просьбу и сказал ему об этом при новом его визите,
снова месяца через два. «Да, не удается что-то, — отвечал
он мне. — Я не думал, что это так будет трудно. Друзья
моих родственников познакомили с этой целью меня с
одной трудящейся девушкой, у которой на руках мать и
брат-гимназист. Очень скромная, нуждающаяся, очевидно,
перебивается с хлеба на квас, переводит, пишет на
машинке, дает какие-то уроки. Виделись мы у нас несколько
раз; я ей и говорю, что она мне симпатична и что я желал
бы вступить с нею в брак. Она сказала, что даст ответ на
другой день, а затем пришла и говорит: «Вы, как я вижу,
добрый и хороший человек. Сказать вам, однако, что я
вас люблю, я еще не могу, но я привыкну и уверена, что
полюблю вас, и во всяком случае буду о вас заботиться,
ухаживать за вами, как за больным, и обещаюсь вам быть
верной вам женой... Я согласна!» — «Позвольте,
сударыня, — говорю я, — уход за мной прекрасный и здесь, а
если понадобится постоянная сестра милосердия, так у
меня для этого есть средства; память покойной жены для
меня свята, — а я не хочу только, чтобы проклятая казна
прикарманила мою пенсию, и потому предлагаю вам
повенчаться, а там вы направо к себе, а я налево, тоже к себе,
сюда. Когда же я умру, вы получите половину моей
пенсии — и это вам очень поможет в отношении вашей семьи,
да и отдохнете вы от всех ваших работ... Ну, конечно, и
при жизни буду вам помогать... Так-то!—Что же вы
думаете? Она покраснела, опустила голову, а потом со
слезами говорит мне: «Ваше предложение оскорбительно, я
на него не согласна», — и ушла... Да! Не думал я, что это
так трудно устроить, но все-таки не теряю надежды».
Через полгода он уехал из Петербурга, поселился на Кавказе
и исчез с моего горизонта...
Вскоре, однако, по моем переселении в женский пансион
г-жи Бун^шу нашелся и урок. Два раза в неделю
отправлялся я в Рогожскую часть, к Николе на ямах, в
купеческую семью замоскворецкого склада, и преподавал два раза
в неделю 14-летней барышне арифметику и географию,
получая за это 5 рублей в месяц. В конце урока, столь
9 А. Ф. Кони, т. 7
129
щедро оплачиваемого, мать моей ученицы — в шелковой
повязке на голове и в турецкой шали — заставляла меня
непременно выпить большой стакан крепчайшего чая и
«отведать» четырех сортов варенья. Так сливалось у них —
людей весьма зажиточных — расчетливость с традиционным
московским гостеприимством. Этот урок связан для меня
со знакомством с картиной купеческой жизни в Москве
того времени, показавшей мне, до какой степени был прав
Островский в своих комедиях — и как несправедливы были
обвинения его в карикатурных преувеличениях
изображаемого им быта. Брат матери моей ученицы должен был
жениться, и я получил приглашение на свадьбу (или как
некоторые в то время говорили в Москве, «сварьбу»),
которая праздновалась в верхних покоях большого дома,
нижний этаж которого был нанят под квартиру молодых.
Гости были самые разношерстные, одетые пестро, начиная с
фраков с голубыми и розовыми пикейными поджилетни-
ками и кончая длинными кафтанами и сапогами
бутылками. Был и свадебный генерал, поставленный
кухмистером — невзрачная фигура в поношенном, но чистеньком
мундире николаевских времен, распространявшем легкий
запах камфоры. Сведущие люди рассказывали мне, что ни
одна свадьба или большое семейное торжество не
обходились в известном кругу Москвы без приглашения или
поставки кухмистером такого генерала, обязанность которого
на свадьбе состояла в провозглашении тоста за
новобрачных и громогласном заявлении, что шампанское «горько»,
чем, к величайшему удовольствию присутствующих,
сконфуженные молодые побуждались к поцелую. Говорили
также, что размер вознаграждения за этих генералов зависел
от того, имел ли генерал звезду настоящую или
персидскую или же не имел никакой. Штатские генералы
приглашались лишь comme pis-aller1 и ценились гораздо ниже. По
традиции полагалось, что новобрачная, встреченная
родителями и склонившая пред их благословением колена,
должна быть растрогана до слез и сохранять это настроение
по возможности долго. В данном случае «молодая» —
институтка из бедной семьи — желая следовать обычаям,
принятым в среде, куда она вступала, очевидно, не без
труда добыла несколько слезинок и тщательно старалась
сохранить хоть одну из них на крыльце носа, для чего дер-
1 За неимением лучшего (франц.).
130
жала наклоненною вбок свою миловидную, с острыми чер-
тами лица головку. Но когда ее вместе с мужем поставили
в дверях из залы в гостиную и стала подходить пестрая
толпа поздравителей, веселый огонек забегал в ее глазах,
и невольная насмешливая улыбка заиграла на капризных
очертаниях ее рта. Затем солидные мужчины пошли играть
в карты, а солидные дамы удалились в гостиную, где тихо
разговаривали, пытливо оглядывая наряды друг друга,
стараясь незаметно попробовать рукою доброту материи
у соседки и изредка поочередно направляясь в соседнюю
небольшую комнату, где был накрыт стол со
всевозможными закусками, винами и «горячими напитками».
Молодежь пустилась танцевать с чрезвычайным увлечением под
команду длинного молодого человека с косматой
дьяконской шевелюрой, который выкрикивал: «A deux colonnes» l
как eau de Cologne2. Между гостями истово двигалась
полная женщина в шали и повязке на голове и, подходя то к
одному, то к другому, приглашала их за собою следовать.
По ее настойчивому зову спустился и я с нею в нижний
этаж, в квартиру новобрачных, и должен был осмотреть не
только всю обстановку, но и разложенное на сундуках и
столах приданое во всех его подробностях, кончая
обшитыми кружевами наволочками и атласным одеялом на
двуспальной кровати, у которой стояли туфельки, причем моя
спутница, оказавшаяся свахой, показала мне лежащий в
одной из них полуимпериал «на счастье». По обе стороны
дверей стояли два небольших мешка с овсом для осыпания
молодых, когда они вступят в опочивальню. За ужином,
чрезвычайно длинным и обильным, моим соседом был один
из родственников новобрачных, настойчиво и надоедливо
посвящавший меня в совершенно бессмысленные и крайне
недоброжелательные, несмотря на свершившееся
освобождение крестьян, московские легенды об образе жизни и
привычках государя. «Как вы думаете, — спросил он меня
затем, указывая на какое-то пестро украшенное перьями
блюдо, разносимое гостям, — что это будет такое?» — «Ка*
кая-то птица», — ответил я. — «Нет-с!—воскликнул он
торжествующим тоном, — не птица, а рыба под птицу!»
В средине^ ужина произошло замешательство вследствие
того, что один из самых почетных гостей, старик с двумя
1 В две колонны (франц.).
2 Одеколон (франц.).
9*
131
золотыми медалями на шее, вдруг нетерпеливо ударяя
кулаком по столу, стал требовать «яблочка!» Все
остановилось, ему почтительно и торопливо подали требуемое, он
отрезал кусочек, пожевал с кислой гримасой, громко
сказал: «Подавай дальше!»—и пиршество продолжалось с
самыми неумеренными возлияниями. После того, как генерал
произнес свой традиционный тост и молодые
поцеловались, начался ряд непрерывных тостов за родных, за
шаферов, за «его превосходительство» и гостей. Многое из
тостов за общим шумным разговором трудно было иногда
и разобрать. «Почетный гость», требовавший яблочка,
заметив, что новобрачная не пьет, стал громко кричать мужу
ее: «Заставь пить жену! Заставь!» Мой сосед тоже встали
заплетающимся языком к моему удивлению провозгласил,
что желает предложить то, что всего дороже для русского
сердца, а именно «п-п-а-а-триотический тост». Но ему не
дали договорить, все стали кричать ура и разбивать
бокалы. А сваха встала со своего места и, всхлипывая,
начала крестить пирующих. Затем все направились в залу,
откуда молодая должна была проследовать вниз. Ее,
видимо, тяготила окружавшая обстановка, но с нею
прощались, как будто она идет на заклание. Солидные дамы
вытирали себе глаза, молодые переглядывались, а мать,
поплакав на плече дочери, затем что-то внушительно и
торопливо ей шептала в ухо. Вслед за нею подошла другая
родственница с тем же таинственным шепотом, и, наконец,
ведомая под руки приблизилась старуха-бабушка и тоже
стала шамкать в ухо новобрачной. Но терпение последней
истощилось, и, резко сказав: «Да знаю, знаю!», — она
двинулась вперед. Оставшиеся мужчины продолжали пить без
удержу, а затем появился и новобрачный в ярком
шелковом халате и вышитых туфлях и, сопровождаемый
шуточками и ободрениями, тоже проследовал вниз... На другой
день, часа в четыре, в дверь моей комнаты постучался
«молодец из Города» (так назывался Гостиный двор), где
были лавки вчерашнего виновника торжества, и, подавая
мне завернутую в салфетку корзиночку с фруктами,
заявил, что молодые приказали кланяться и объяснить, что
они в добром здоровье.
С начала 1863 года число уроков у меня, за
исключением одного лишь полугодия, значительно увеличилось, и
так продолжалось до окончания мною курса. Некоторые
оплачивались по тогдашнему времени весьма хорошо. Та-
132
ковы были уроки математики в известном пансионе
Циммермана, где приготовлялись к поступлению в
Университет и другие учебные заведения молодые люди из
провинции. Особенно мне дороги по воспоминаниям уроки у
штатского генерала Шлыкова, служившего в канцелярии
генерал-губернатора. Двум дочерям его, Раисе и Виргинии,
я преподавал почти в течение трех лет, и на моих глазах
эти девочки двенадцати и тринадцати лет, способные,
умные и восприимчивые, развились и стали изящными
молодыми девушками. Следить за их умственным развитием, за
расширением их сознания и понимания было для меня
незабываемою радостью. Я давал им уроки истории и
словесности и так увлекался этими, меня самого очень
интересовавшими предметами, что уроки приняли характер лекций,
на которых, вследствие просьбы родителей моих учениц,
уже стали присутствовать их разные «кузины». Вынеся из
гимназии и с математического факультета любовь к
естественным наукам и увлекаемый любознательностью моих
учениц, я стал им, конечно, безвозмездно, давать уроки
зоологии, ботаники и физики, читать с ними физиологию
обыденной жизни Льюиса * и показывать им физические и
химические опыты, насколько мне это позволяли мои
скудные средства. Уехав по окончании курса в Петербург, я
потерял из виду это семейство, а когда через несколько
лет вернулся в Москву и зашел к ним, в милый
двухэтажный дом в Долгоруковском переулке, оказалось, что все
они уехали за границу. Прошло более четверти века, и
однажды курьер подал мне карточку, на которой значилась
немецкая фамилия женщины-врача, желающей меня
видеть. На немецкое обращение мое к вошедшей иностранке
средних лет с начинающеюся проседью она сказала мне:
«Неужели вы меня не узнаете? Да ведь я — Раиса
Шлыкова, ваша ученица!» — и рассказала мне затем свою
историю. Мои «сверхсметные» уроки оставили в ее пытливом
уме значительный след, и она стала настаивать перед
слепо любившими ее родителями на разрешении ей
отправиться в Цюрих для изучения медицины по примеру первых
русских женщин, посвятивших себя этому делу*. Старики
не имели сил противодействовать своей любимице,
намерение которой приводило их в немалый ужас. Они решили,
однако, прибегнуть к средству, которое почти всегда
коренным образом изменяет житейские взгляды тех, к кому
оно применяется, а именно стали покровительствовать
133
симпатии и частым встречам дочери с очень молодым
человеком из московского общества, и вскоре 16-летняя дочь
вышла замуж за 18-летнего избранника своего сердца и
поселилась с ним у своих родителей. Через год она, едва
вышедшая из отрочества, была уже матерью и, конечно,
перестала думать о Цюрихе, а еще через год стала вдовою.
Тут прежнее желание учиться овладело ею с особой силой,
и, уже не связанная ничьей волей, она уехала за границу,
куда на некоторое время последовали и ее родители,
причем воспитание ее сына приняла на себя страстно к нему
привязавшаяся бабушка, женщина очень добрая и весьма
состоятельная. Из Цюриха Раиса Васильевна перешла в
Берн, где и окончила курс, а затем, увлекшись
офтальмологией, поселилась в Вене, где сделалась ученицей
знаменитого Арльта, посвятив себя всецело изучению глазных
болезней. Желание заняться и практически лечением этих
болезней встретило, однако, препятствие в тогдашних
австрийских законах, не допускавших женщин до
врачевания, и ей пришлось, по совету профессора, устроить на
собственные средства глазную клинику на имя ассистента
последнего, доктора К., тирольского уроженца, которого
она сделалась неофициальной, но ревностной помощницей,
а затем и женою. Брак этот не был, однако, счастлив.
Супруги разошлись характерами и во взглядах на жизнь и—
расстались. Перед Раисой Васильевной снова возник
роковой вопрос о невозможности продолжать любимую
врачебную практику. Обладая решительным характером, она
написала императору Францу-Иосифу о своем тяжелом
положении, прося аудиенции, и была им принята очень
ласково. «Закон против вас, — сказал император,— и
разрешение вам практики зависит не от меня. Я не могу
приказать сделать для вас исключение». Натянутые нервы не
выдержали, и бедная женщина расплакалась. Франц-
Иосиф посмотрел на нее с участием и, помолчав, сказал
доверительным тоном: «Aber weinen Sie nicht, Frau Doctor,
ich kann nicht befehlen, aber ich kann bitten!» l И через две
недели, уж не знаю, «в пример» или «не в пример
прочим», она получила разрешение на самостоятельную
практику. Но Вена после всего пережитого ею стала для нее
неприятной, и она перенесла свою клинику в Зальцбург,
1 Не плачьте, сударыня! Я не могу приказывать, но я могу, просить!
(нем.).
134
расширив ее и предоставив безвозмездно двенадцать
кроватей нуждающимся больным. Там пробыла она
восемнадцать лет, окруженная доверием и симпатией, и написала
целый ряд ученых трудов и исследований. Но, когда в
Петербурге из пепла Высших медицинских курсов возник
Женский медицинский институт *, ее неудержимо
потянуло в Россию, где, казалось ей, открывалось широкое
поприще для ее теоретических и практических познаний. Она
решила «хоть плыть, да быть», передала свою клинику,
ликвидировала дела и уехала на родину, сопровождаемая
общим сожалением. На родине ее ждало, однако,
разочарование. Держать в сорок с лишком лет экзамен на
русского врача, занимаясь всю жизнь исключительно
офтальмологией, было крайне затруднительно и требовало
большой и напрасной потери времени, а в качестве
иностранного врача она имела бы право практики лишь в случае
признания медицинским советом того, что она имеет
выдающееся в медицине имя или является автором
самостоятельных и обширных научный сочинений. Не зная никого
в Петербурге, но услышав, что я еще незадолго перед тем
состоял совещательным членом медицинского совета
министерства внутренних дел, она решилась разыскать
своего старого учителя и, считая его виновником своего
медицинского призвания, просить о совете и содействии.
Нечего и говорить, как я был рад встретить после стольких лет
мою милую ученицу и с какой готовностью явился
ходатаем за нее пред председателем и членами учреждения, в
котором сам работал с любовью и интересом в течение
нескольких лет до назначения меня сенатором. Медицинский
совет, рассмотрев целую кипу представленных ею книг и
брошюр, дал ей право практики, которым она широко
воспользовалась, работая в Еленинском клиническом
институте *, — несколько лет подряд стоя во главе летучих
глазных отрядов для борьбы с одним из бичей нашего
сельского населения — трахомой — и, наконец, заняв
должность старшего врача глазной больницы в Тифлисе. Ее
родители давно умерли, но у нее я встречал ее
единственного сына — офицера одного из самых блестящих
гвардейских полков. В 1909 году у приехавшей на несколько дней
из Рима вдовы моего товарища по Университету,
известного профессора Вениамина Тарновского, женщины-врач^
Прасковьи Николаевны Тарновской, написавшей
замечательное и обширное исследование о женщинах-убийцах
135
(les femmes homicides), я встретил настоятеля римской
посольской церкви, викарного епископа Кронштадтского,
затем владыку Омского, Семипалатинского и Пензенского.
Оказалось, что этот энергичный носитель высокого
духовного сана, оставивший «меч светский для меча духовного»,
автор весьма интересной книги «Государственное
положение церкви и религии в Италии» — сын моей московской
ученицы.
Сохранилось у меня и воспоминание из области моей
учительской деятельности, связанное с неудачей в
получении урока, происшедшей в довольно характерной
обстановке. Когда я был на третьем курсе, мне предложили
участвовать в переводе известной книги Поля Жаннэ «Histoire
de la philosophie, morale et politique», рекомендованной нам
на лекциях Б. H. Чичериным. На мою долю приходилось
до двадцати печатных листов, и я горячо принялся за
работу, освобождавшую меня, ввиду предложенного
гонорара, от необходимости давать уроки по крайней мере в
течение полугода. Я уже перевел около пятнадцати листов,
когда издатель, сам человек с очень скромными
средствами, пришел ко мне расстроенный и заявил, что цензурный
комитет, с которым он входил в сношения, категорически
запретил перевод серьезного, научного и в то же время ни
в каком отношении не опасного сочинения Жаннэ. Таким
образом, моя работа осталась втуне, и, конечно, ни о каком
гонораре, ввиду удрученного положения издателя, не могло
быть и речи. Пришлось искать уроков. Я жил тогда у
Арбатских ворот, в доме Волкова, и закупал разные мелочи —
чай, свечи и т. п. — для моего скромного хозяйства в
ближайшем колониальном магазине купчихи Травниковой,
приказчики которой нередко вступали со мною в
любознательные беседы. И как раз вслед за крушением перевода книги
Жаннэ старший из них обратился ко мне с предложением
от имени своей хозяйки прийти «после вечерен» в магазин
переговорить с нею об уроках ее сыну. В назначенное
время я нашел сидевшую у прилавка с наружной стороны
очень толстую, еще не старую, но обрюзгшую женщину в
лисьем салопе. «Ты, батюшка, — начала она, — как
слышно, даешь уроки; так вот я бы хотела, чтобы ты моего
младшего сына учил». На мои вопросы, чему учить, когда
и где, она мне сказала: «Постой, постой, мы с тобой чайку
выпьем честь-честью, да и поговорим», — и прибавила,
обращаясь к приказчику: «Вася, чаю!» Тот, послав в бли-
136
жайший трактир за кипятком, вынул из-под прилавка
сахарницу и поставил стакан для меня и большую
фарфоровую чашку для хозяйки. «Сыну моему, — продолжала
она, — шестнадцать лет; очень он у меня прыткий, а
учится плохо: все шалит да, нечего греха таить, норовит
учителю какую-нибудь пакость сделать. Уж не знаю, как ты
с ним и сладишь. Сечь бы его надо, да где тебе: вишь,
какой ты худенький да слабенький. Ну, да там это уж
твое дело будет, а учить его надо всем наукам, как
полагается, по два часа кажинный день, и чтобы без обману.
Ну, да мои молодцы за этим присмотрят. А приходить
учить ко мне в дом невозможно: у меня дочери-невесты,
как же я студента в дом пущу! А вот тут, сзади,
антресоль есть, окном на двор, так тут и учить. Оно
холодновато, да я железную печурку велю поставить. Ну, а
платить тебе как?—хочешь товаром забирать заместо покупок
или деньгами?» Хотя вся обстановка нашего разговора
и предстоящего урока имела в себе мало
привлекательного, но я не решил сразу отказаться, тем более что
получение этого урока было связано с необходимостью
прийти на помощь товарищу в семейной драме, которую
мы оба принимали близко к сердцу. Поэтому я сказал,
что желаю получать плату за уроки деньгами. «Сколько
ж ты себе полагаешь, батюшка?» Имея в виду, что
придется давать от двадцати пяти до двадцати шести
двухчасовых уроков в месяц, и притом мальчику, о приятных
свойствах которого меня предупредила его же мать, а
также зная, с какою скудостью в этом кругу вознаграждался
умственный труд, я оценил предстоящую мне работу в
30 рублей в месяц. «Что? как? — вскрикнула госпожа
Травникова, широко раскрыв заплывшие глазки. — Да в
своем ли ты уме, батюшка? За что же тебе такую уйму
денег?» — «Как за что? за труд!» — «Вася! —
решительно сказала она, посмотрела на большой чайник с
кипятком, только что поставленный перед приказчиком,
намеревавшимся заварить чай: — не надо чаю! Нет, батюшка,
ты мне говори дело, разводы-то нам разводить не к
чему». — «Самое крайнее, — сказал я, — что можно
предложить за такие уроки, было бы 25 рублей». — «Очень
вами благодарны! — произнесла она иронически и затем,
придав своему лицу строгое выражение, сказала: «Будем
дело говорить: шесть рублей я тебе дам». Наступило
молчание. «Ну, семь», — подумав, сказала она. — «Прощайте»,—
137
сказал я, внутренне и смеясь, и возмущаясь, и взялся за
фуражку. «Эй! Возьми 7 рублей; подумай!» Я молча
направился к выходу. «И вы тоже дураки, — обратилась она
к приказчикам, — хвалите: хороший, мол, человек. Да я за
8 рублей семинариста найду!» — воскликнула она мне
вслед, очевидно, с целью особенно уязвить меня, студента...
Во время моего студенчества и некоторое время затем
мне приходилось водить знакомство с такими москвичами,
которые оставили свой заметный след в родном искусстве
и литературе. Назову из них Верстовского (автора «Ас-
кольдовой могилы»), Лажечникова, Вельтмана и
знаменитого ветерана московской сцены М. С. Щепкина, о
котором я уже подробно говорил по поводу драматических
произведений Толстого* («На жизненном пути», т. II).
Ивана Ивановича Лажечникова я увидал впервые в
половине пятидесятых годов у моего отца, связанного с
ним старыми дружескими отношениями. Я уже успел
прочесть «Басурмана», «Последнего Новика» и «Ледяной
дом» * и был под сильным впечатлением этих,
замечательных для своего времени романов, которые выгодно
отличаются и от слезливой чувствительности произведений
Загоскина, и от многих из позднейших исторических
повестей, где живое изображение лиц и страстей приносится
обыкновенно в жертву археологическим и
этнографическим подробностям. Конечно, прекрасный образ
Волынского, с любовью написанный автором «Ледяного дома»,
не полон, — о темных сторонах службы и деятельности
кабинет-министра императрицы Анны Иоанновны
умолчано и из борьбы его с Бироном вытравлены личные
побуждения. По отношению к своему герою Лажечников
стал в положение свидетеля, которому, по словам Спасо-
вича, председатели ассизов * предлагают поклясться «dire
la vérité, la pure vérité, rien que la vérité» *, но никогда не
прибавляют: «toute la vérité» 2.
Быть может, это объясняется общим оптимистическим
направлением Лажечникова, проявление которого мне
приходилось подмечать не раз, но во всяком случае нельзя
1 Говорить правду, сущую правду, одну только правду (франц.).
2 Всю правду (франц.).
138
не признать, что Бирон, Волынский, Остерман, Эйхлер и
другие написаны живыми и сочными красками и остаются
жить в памяти читателя, а эпиграф из Рылеева к
последней главе первого издания («Отец семейства, приведи к
могиле мученика сына, да закипит в его груди святая
ревность гражданина!»), весьма по тогдашнему времени
смелый, указывает и на движущую идею романа *. Недаром
«Ледяной дом» так повлиял на восприимчивого и
талантливого Валерия Ивановича Якобия, что он увековечил его
в двух замечательных картинах, которые как бы сошли
во всех подробностях со страниц романа *. Понятно
поэтому, с каким чувством смотрел я на автора, —
подвижного старика, невысокого .роста, с зачесанными на средину
головы редкими седыми волосами, мягкими и добрыми
чертами лица, с молодыми светло-серыми, почти голубыми
глазами и живою речью. Мне не раз приходилось
присутствовать при его жалобах на тяжесть своего служебного
положения. Дело в том, что горячий сердцем и
увлекающийся старый романист не мог переносить
одиночества и семейная жизнь была для него насущною
необходимостью. 2 апреля 1853 года он писал моему отцу:
«В моем молчании не извиняюсь: меня постигло ужасное
несчастие, которое сокрушило всю мою жизнь. 4 ноября
прошлого года скончалась моя добрая подруга,
подарившая мне 32 года счастья. Болезнь ее была мучительна;
сердце мое изныло, смотря на ее ужасные страдания.
Преданная всю жизнь богу, религиозная, как первобытная
христианка, любившая ближнего до самоотвержения,
знавшая одну только страсть — страсть к мужу, — эта
превосходная, святая женщина кончила жизнь, как мученица.
Если нет другой жизни, так что же и на что добродетель
в здешней?..» * Но уже 4 августа того же года он
прислал письмо, ярко его самого характеризующее: «Вы
удивитесь, — писал он, — если я вам скажу, что я —
60-летний старик — женился на 22-летней девушке. Кажется,
это последний мой роман. Каков будет его конец — богу
известно! Зная, как безрассудны союзы при таком
неравенстве лет, я сам на такой решился! Обстоятельства,
устроенное невидимой рукой Провидения, романическая
голова, пыл юноши, несмотря на- мои годы, — все это
привело меня к этой развязке. Покуда я блаженствую... а
там... да будет, что угодно Вышнему!..» * Когда
Лажечников женился, он был тверским вице-губернатором, через
139
год он перебрался на ту же должность в Витебск, где ему
не нравилось, несмотря на очень -хороший отзыв его о
губернаторе Игнатьеве. Через год он вышел в отставку и
поселился у себя, в маленьком имении, но в 1855 году,
чтобы дослужить два года до пенсии, он вновь поступил
на службу цензором петербургского цензурного комитета.
Ему самому приходилось страдать от подозрительности
цензуры николаевского времени, которая, под влиянием
заявления Булгарина, что Лажечников «осмеливается
изображать Иоанна III, законодателя, зиждителя Москвы и
основателя самодержавия на% Руси, — эгоистом», стала
делать препятствия ко второму изданию «Ледяного дома»
и считать этот роман подлежащим запрещению *. Но с
новым царствованием цензурные строгости фактически
были ослаблены, и одновременно с этим струя жизни,
несколько освобожденная от прежнего гнета, забила в
литературе с особой силой. Однако и цензурные ножницы,
и красный карандаш, не отложенные принципиально в
сторону, а лишь несколько притупившиеся, по временам
стали, по требованиям высшего учебного начальства (тогда
цензура была в ведомстве просвещения), приводиться
в действие. Лажечникову выпало на долю цензуровать
«Современник» и иметь частые и тягостные для доброго
старика объяснения с Чернышевским, иногда
оканчивавшиеся у цензора слезами по уходе от него «урезанного»
публициста *. На эту печальную сторону своего положения
он и жаловался своему приятелю, не раз испытавшему на
себе и на своем журнале («Пантеон»), что значат красные
чернила на корректуре. Не надо забывать при этом, что
имя Лажечникова тесно связано с биографическими
сведениями о Белинском. Личность истинно гуманного,
отзывчивого и чуткого ко всему, в чем таились нравственные и
умственные силы, писателя, умевшего до глубокой
старости сохранить юношеский жар сердца и веру в добро,
неоднократно появляется на жизненном пути великого
русского критика. Еще в 1823 году, ревизуя Чембарское
уездное училище, Лажечников подметил не по летам
развитой разум и замечательные способности в 12-летнем
сыне местного штаб-лекаря Белинском и, в восторге от
его ответов, подарил ему книгу с соответствующей
надписью, принятую «без особенного радостного увлечения,
как должную дань, без низких поклонов, которым учат
бедняков с малолетства». С тех пор Лажечников прини-
140
мал живое участие в Белинском: хлопотал об облегчении
поступления его в Университет, искренно восхищался его
первыми шагами на литературном поприще,
переписывался с ним, отыскивал его в приезды свои в Москву,
оставив описание «бельэтажа», в котором в крайней
бедности, над кузницей и в непосредственном соседстве с пра-?
чечной, жил и работал один из благороднейших
представителей духовных сил России, — и, наконец, когда стало
возможно говорить печатно о Белинском, — один из
первых напечатал свои воспоминания о нем, проникнутые
любовью и восторженным уважением *... Многие наши
писатели служили в цензурном ведомстве *. Тютчеву,
Майкову, Полонскому пришлось служить в цензуре
иностранной. Там почти не возникало острых вопросов, и им едва
ли приходилось чувствовать глубокий душевный разлад
при исполнении своих, столь зависевших от посторонних
указаний и настроений, обязанностей. Но в цензуре
внутренней дело обстояло иначе, и недаром даже Гончаров,
несмотря на весь свой авторитет, при первой
возможности вышел в отставку. У Лажечникова от второго брака
пошли дети (к началу шестидесятых годов их было уже
трое), и над ним тяготел начет, о котором я скажу ниже.
Чтобы обеспечить вновь создающуюся семью, надо было
во что бы то ни стало выслужить пенсию. Но как только
это было достигнуто, он немедленно вышел в отставку уже
окончательно и оставил Петербург для милой его сердцу
Москвы.
Лажечников иногда прибегал к стихотворной форме.
В 1817 году, будучи еще совсем молодым человеком, он
издал первые опыты в стихах и прозе, столь незрелые,
что, по собственному признанию, увидев их в печати и
устыдясь, поспешил истребить все экземпляры этой
книги*. Затем, уже в сороковых годах, он написал белыми
стихами две исторические драмы — «Опричник» и «Хри-
стиерн II и Густав Ваза»*. И в частной жизни он нередко
прибегал к выражению своих мыслей стихами. Относясь
ко мне очень ласково, он написал мне в альбом, когда мне
было двенадцать лет, стихотворение «Молись», в котором
тоже явственно сквозят гуманные взгляды и чувства
автора. Вот оно:
Молись, дитя! молись... творя молигву,
Не обдели ты ею никою:
Ни матерь, ни отца, ни близких сердцу,
141
Ни их врагов, во тьме кругом ходящих,
Ни сирого, ни бедную вдову,
Ни богача, погрязшего в грехах,..
Всех обойди молитвой круговою:
Владык земных, чтоб свой народ любили
И правили им по подобью божью —
И милостью, и праведной грозой,
И злого, чтоб привел господь к добру,
И доброго, чтоб злые ни мутили
Восторга чистого души его,
И на земле ходящих в суете,
И мертвых, от сует в земле почивших.
Молись и о себе, чтобы господь
В тебе развил свои дары —
Ум, правду, труд и благородство.
Молитва детская так к господу доступна —
Не согреши ж, не позабудь
Ты в ней кого-нибудь! *
В Москве он жил долгое время у Смоленского рынка,
в Ружейном переулке. Встреченный им с особой
приветливостью, я, насколько позволяли занятия, изредка, по
воскресеньям, посещал его до переезда моего в Харьков в
1867 году. Несмотря на свои семьдесят с лишком лет (он
родился в 1792 году), он всем живо интересовался: то
пылал гневом на разные язвления в литературе, не
подходившие ко взглядам романиста старой школы, то теплился
умилением пред начавшимися «великими реформами»
нового царствования. Особенно приводили его в восхищение
обнародованные в 1862 году основные начала судебного
преобразования. В разговоре' и в переписке со мною он
возмущался Писаревым, который «хлещет зря кого ни попало,
не разбирая, Милль ли то, Пушкин или Маколей. Точно
одна из наших широких натур, вроде молодчика из богатых
купчиков, бросающих бутылкою в картину знаменитого
художника» *. «Кто не признает в- Писареве ума? — писал он
в 1866 году, когда я пытался защитить пред ним яркого
критика, — а, между тем, на что он тратит его? И
Герострат был не дурак». Враждебное отношение старика к
Писареву распространялось и на «Русское слово», где
последний был самым выдающимся сотрудником.
Журналу своему с понятьем узким,
Какое хочешь, имя дай:
Ослиный рев, собачий лай,
Но только словом русским
Его никак не называй *, —
142
писал он в том же году, продолжая возражать мне.
Понемногу он стал сурово относиться и к таким литературным
произведениям, которые, казалось бы, могли во многих
отношениях удовлетворить его эстетическому вкусу. Он
удивлялся успеху «Князя Серебряного» *, говоря, что этот
роман ничем не лучше лубочных произведений вроде
«Клятвы при гробе Господнем» *, и находил, что «Дым»
оскорбляет его патриотизм рассуждениями Потугина и
разговорами генералов под дубом *. «Завязка и развязка
романа— стары, Тургенев напоминает Марлинского (sic!).
«Дым» показывает, что талант maestro сгорел, — остался
один дым», — писал он *. Вообще к беллетристам половины
шестидесятых годов он относился очень критически, делая
исключение лишь для П. Д. Боборыкина, роман которого
«В чужом поле» * ему очень нравился. Особенно жестоко
обрушивался он на Всеволода Крестовского за очень
нашумевший тогда роман «Петербургские, трущобы» *... Сам
он в эти годы написал весьма слабый роман «Внучка пан-
цырного боярина» и послал в «Отечественные записки»,
заранее соглашаясь на некоторые вычеркивания, которые
признает нужным сделать редактор Краевский. Долго
ждал он ответа, пока не получил свою рукопись назад не
с обычной краткой «резолюцией» редакции, а с целым
критическим рассуждением, в котором бедному старику,
пережившему себя, доказывалось noir sur blanc !, что и его
талант сгорел, и остался один дым *. Он был глубоко этим
оскорблен и был неистощим в словесных выражениях
своего негодования. Не менее неистощим был он в своих
воспоминаниях о войнах 1812 и 1813 годов. Он весь
воспламенялся, когда рассказывал, как очевидец, о картине
опустошенной и истребленной пожаром Москвы, о
вступлении наших войск в Париж и о битве под Кульмом
17 августа 1813 г., где русской гвардии в числе 8 тысяч
человек пришлось бороться с корпусом Вандамма, в пять
раз сильнейшим, и где проявили удивительное мужество
и стойкость Ермолов и Остерман-Толстой, причем
последний, при котором 23-летний Лажечников был
адъютантом, потерял руку. К памяти Остермана-Толстого он
относился с благоговением, считая его одним из
замечательнейших людей, встреченных им в жизни.
1 Недвусмысленно (франц.).
143
Но было одно, что омрачало все его воспоминания-,
ложилось тяжким бременем на его сердце и заставляло
тревожно задумываться над будущностью семьи. Во время
вице-губернаторства в Твери он, по доверчивости к тому,
что в Приказе общественного призрения, где постоянно
председательствовал губернатор, все в порядке, не
обнаружил при временном исполнении должности последнего
систематических злоупотреблений и подлогов, много лет
практиковавшихся целой шайкой служащих в Приказе.
Когда проделки последних были, наконец, открыты,
большинство из них умерло, и бедный Лажечников был
присужден к ежегодному вычету из скромной пенсии
половины, т. е. 750 руб. Он жаловался, протестовал, писал
объяснительные записки и надеялся, что дело будет
пересмотрено. «Дай бог, чтоб я еще дожил до этого
времени,— писал он мне 1 января 1866 г., — и мог добиться,
чтоб оградить жену и детей от этого вычета. А если
умру, то будьте, прошу вас, моим адвокатом»... Надежду,
что с открытием новых судов я непременно поступлю в
адвокатуру и приму на себя его защиту, он высказывал
не раз и в разговорах со мною. Его добрые светлые глаза
затуманивались, когда он говорил о своем деле, — и
невольный тяжелый вздох обличал, какой камень лежит у
него на душе...
Перейдя на службу в Харьков, я продолжал
переписываться с ним, но боевая судебная жизнь в только что
открытом судебном округе, лишая меня возможности быть
аккуратным корреспондентом, мало-помалу ослабила эту
переписку. Притом мы часто расходились во взглядах: он
весь жил в прошлом, я же, имея счастие участвовать в
осуществлении на практике реформы правосудия, горячо
и со светлыми надеждами смотрел на будущее и слишком
был поглощен в этом отношении нашими судебными
«злобами дня». В мае 1869 года праздновался в Москве
пятидесятилетний юбилей его деятельности *, на котором он,
однако, по болезненному своему состоянию не
присутствовал. Послав ему поздравительную телеграмму, я
рассчитывал увидеться с ним, когда придется возвращаться из-за
границы, куда меня посылали вследствие сильного
кровохаркания. Тут произошло со мною нечто, могущее
подать повод к разным «телепатическим» выводам. Я выехал
из Харькова в товарном вагоне строившейся Курско-
Харьково-Азовской железной дороги, сидя на кучах бал-
144
ластного песку вместе с знаменитым скрипачом Генрихом
Венявским. От Орла, однако, было уже правильное
сообщение. Заснув в вагоне, я увидел во сне с
необыкновенной реальностью Лажечникова. Он стоял предо мною,
держал меня за руки, смотрел мне в глаза с нежным и
грустным чувством, а потом стал от меня отдаляться, не
сводя с меня взора и о чем-то настойчиво и убедительно
меня прося. Но слов его я разобрать не мог, ибо он
говорил тем «невнятным языком», о котором упоминает
Пушкин в неискаженном последними редакциями чудном своем
«Воспоминании» *. Проснувшись, я почувствовал
справедливое угрызение совести за то, что я несколько отдалился
душевно от доброго старика, который всегда относился ко
мне с нежным вниманием и которому, как романисту, я
был обязан столькими хорошими часами в отрочестве. Но
в молодом сердце «змеи сердечной угрызенья» *
продолжаются, к сожалению, недолго, и я заснул опять. И снова
увидел я тот же самый сон еще с большей яркостью, чем
в первый раз. Тогда я решил во что бы то ни стало
разыскать и обнять старика. В Москве мне предстояло
остаться с утра до вечера 26 июня, и я, перевезя свои вещи
на Николаевский вокзал, тотчас же отправился в
адресный стол, чтобы узнать, где живет Лажечников. Но
узнать ничего не пришлось, так как это было воскресенье.
Огорченный, я пошел бродить по улицам дорогой мне по
воспоминаниям Москвы, побывал в Университете и, выйдя
затем на Поварскую, направился в Зоологический сад на
Пресню. Я шел, задумавшись и опустив голову, но в
одном месте на Поварской, где подъезд старинного дома
пересекал тротуар и заставлял делать обход, я невольно
должен был поднять голову... и что же я увидел?! На
дверях крыльца была медная доска с надписью: «Иван
Иванович Лажечников». С радостным чувством позвонил
я. Мне отворила старая няня и на вопрос мой, можно ли
видеть Ивана Ивановича, сказала: «Пожалуйте, они
в зале». Весело и быстро прошел я сени, вошел в
маленькую переднюю и вступил в залу... В правом углу на столе
лежало тело Лажечникова с тем радостно-изумленным
выражением желтого воскового лица, которое так
свойственно многим умершим и которого, к слову сказать, я
никогда не видел у самоубийц. Когда я несколько
оправился от горестной неожиданности, старуха-няня,
вошедшая вслед за мною, объяснила мне, что Иван Иванович
10 А. Ф Кони, it 7
145
скончался три часа назад тихо и почти безболезненно и
пред смертью все вспоминал обо мне и сожалел, что меня
давно не видел. «Будь он здесь, — говорил он, — я бы его
попросил защитить мою семью по делу о начете. Ах, как
жаль, что его нет!» — «А вот вы, батюшка, и пришли,—
прибавила няня, — да только поздно»... Да! поздно... И мой
сон получил для меня особый смысл и значение.
Мне нередко приходилось бывать и у другого
популярного романиста тридцатых и сороковых годов—»
Александра Фомича Велътмана, человека чрезвычайно
оригинального, поразительно и разнообразно начитанного,
глубокого знатока санскритского языка и источников по
истории первых столетий по Р. X. Талантливый
пересказчик «Слова о полку Игореве» и автор самых
фантастических сочинений-сказок, в которых проза переплетена
со стихами, археологических исследований, повестей,
выдержавших множество изданий («Приключения,
почерпнутые из моря житейского» *, каждая часть которых
представляла самостоятельное целое), филологических
изысканий и очерков древней русской письменности, — он
выработал в себе и облюбовал целую теорию о том, что в
IV веке существовала Русь испанская, мавританская и
киевская, что гунны были славяне и что Аттила был
великим князем киевским. Он напечатал об этом ряд статей
с картами, словарями и таблицами и серьезно доказывал,
с очевидными — но не для него — натяжками, что слово
гунн произошло от Quenae, Chueni, Kuenae и переходит
естественно и постепенно в кыяне, а оттуда уже недалеко
и до киян, т. е. киевлян *. Но областью, особенно
привлекавшею его ум и чувство, было все, относящееся до
Индостана в его прошедшем и настоящем. На стенах его
обширного кабинета висели картины из жизни туземцев
Индии, и в минуты отдыха, в теплом халате и с длинной
трубкой Жукова табаку, всегда серьезный и углубленный
в себя, он оживлялся в беседе о* факирах, индийских
магах и в особенности о буддизме, основы которого им
были изучены основательно, что в то время было большою
редкостью. Несомненно, что в наши дни он был бы ярким
адептом теософии и горячо приветствовал бы ту вспышку
веротерпимости, благодаря которой в Петербурге мог
возникнуть буддийский храм *. Вельтман был в дружеских
отношениях с Погодиным, хотя и подсмеивался над
некоторыми странностями и привычками редактора «Москвитя*
146
нина», в котором был одно время деятельным сотрудником.
Погодин платил ему тем же, дав, между прочим, следующую
яркую и справедливую, но ядовитую его характеристику
как писателя: «С живым, пылким, необузданным
воображением, которое с равною легкостью уносилось в облака
или опускалось в глубь земли, переплывало моря и
прыгало через горы, — Вельтман был страстно предан разы-:
еканиям в самом темном периоде истории.
Колонновожатый в молодости, указывавший полкам их позиции и
квартиры, он и в старости остался тем же колонновожатым.
Гуннами, готами, вандалами, лангобардами и герулами
помыкал он еще гораздо смелее и решительнее, чем
Бородинским или Тарутинским полками. Направо! Налево!
Марш! Лангобарды, что стали на дороге, посторонитесь,
дайте место аварам! Вот так! Герулы, назад, маркоманы—*
вперед! Наконец, ему в Европе стало мало места, он
захватил Азию и переменил пути монголов, поместив их
в Грузию и заставив оттуда прийти в Европу через Кав-
каз, а не через Урал» *.
Жена Вельтмана, Елена Ивановна, — страстно его
любившая и ухаживавшая за ним, как за малым ребенком,—**
была тоже писательницею. Ее главное произведение,
большой роман «Приключения Густава Ириковича,
королевича Шведского, жениха царевны Ксении Годуновой», не*
смотря на старомодное название, составляет ценный вклад
в историческую беллетристику, являясь плодом долгого и
Добросовестного изучения источников. Сухая, высокого
роста, с умными глазами и решительною, убежденною
речью, она являлась центром кружка, собиравшегося в
обширном кабинете казенной квартиры на углу
Левшинского и Денежного переулка, которую занимал Вельтман
по должности директора Оружейной палаты *. В этом
кабинете, среди облаков Жукова табаку, раз в неделю по
четвергам сходились старые сослуживцы Вельтмана по
военной службе в турецкую войну и по знаменитой в свое
время школе колонновожатых, — его верный друг
Горчаков, военные сенаторы Колюбакин и фон дер Ховен, писа-:
тели Чаев, Даль, Снегирев, старик Погодин и многие дру«
гие. 3 моих воспоминаниях о встрече со Скобелевым я
описал сцену, происшедшую в этом кабинете в 1863 году
с М. П. Погодиным *, теперь же скажу, что особенно
интересным мне представлялся Колюбакин. Заслуженный
генерал говорил очень громко и властно, и первое впечат-
10*
147
ление, производимое им, было не в его пользу. Слово
«бурбон» невольно просилось на язык. Но, когда я
попривык к его «командному голосу», вслушался в его
живые и красочные воспоминания о боевой жизни,
прислушался к меткости и справедливости делаемых им оценок
людям и событиям, убедился в независимости его
взглядов и понял тонкий юмор, который он умел облекать в
грубоватую форму, — я почувствовал к нему большую
симпатию, которая усилилась впоследствии, когда я
убедился, с какою добросовестностью и готовностью учиться
новому делу этот почтенный старик принялся за
осуществление в своем департаменте Сената правил 1865 года о
публичном судопроизводстве, предшествовавших
введению Судебных уставов. Я помню одну из его острот,
повторявшихся в Москве. Когда вышло «Довольно»
Тургенева,— этот крик души, наболевшей от вольного и
невольного непонимания творческих замыслов и побуждений
художника, — князь Одоевский, трогательный оптимист и
восторженный поклонник сил и постепенно раскрываемых
дайн природы, ополчился против «унылости» Тургенева
в горячей и длинной статье «Не довольно!». Он читал ее
в заседании Общества любителей российской словесности
с большим увлечением *. Бывший в числе слушателей
Колюбакин, наконец, затосковал и после заседания
воскликнул: «Каков наш Одоевский! Так и валяет картечью
в соловья!..» К слову сказать, с начала шестидесятых
годов это Общество стало выходить из своего вынужденного
молчания и подавленности. Его заседания очень
интересовали и студентов, тем более, что на них дебатировались
весьма горячо вопросы о русско-польских отношениях,
волновавшие общество в 1863—1864 гг., ввиду польского
восстания и дипломатического вмешательства Западной
Европы. По этому поводу неоднократно выступал
М. П. Погодин со свойственною ему оригинальностью
речи, называя Наполеона III не иначе как Бонапартом и
возглашая, что «пора ремонтировать для него помещение
в Лонгвуде». Живая речь ораторов сильно действовала
на восприимчивых слушателей, — и каждое заседание
вызывало среди них долгие толки и обсуждения *. У меня
особенно остались в памяти два заседания: одно — в
котором Писемский мастерски читал отрывки из только что
оконченного им «Взбаламученного моря», и другое —
посвященное памяти скончавшегося Шевырева *. В отзывах
148
об усопшем строго было соблюдено сомнительного
достоинства римское правило: «De mortuis nil nisi bonum» *, и
темные стороны в характере Шевырева были тщательно
обойдены. Одного из ораторов связывали с Шевыревым
старая, многолетняя, испытанная дружба и единство
научного направления. Это был Погодин, Слово его дышало
искренним чувством и неподдельною скорбью. Было
трогательно видеть этого старика, поминающего так горячо
друга трудовых лет на недлинном уже пути к собственной
могиле. Когда он стал читать предсмертное письмо
Шевырева и дошел до стихов (передаю приблизительно, по
памяти): «Когда болит душа, когда слабеет плоть,— в часы
тяжелой жизни битвы — не дай мне, мой спаситель и
господь, познать бессилие молитвы!..» — голос его задро-.
жал, оборвался, он заплакал и, безнадежно махнув рукою,
сел на свое место*.
У Вельтмана нередко бывал один из его товарищей по
школе колонновожатых и турецкому походу, воспоминания
которого о старых служебных нравах всегда были полны
живого интереса. Увлекающийся и настойчивый в своих
увлечениях, он был всецело поглощен спиритизмом и с
торжественной уверенностью в действительность своего
сношения с миром духов рассказывал о тех сообщениях,
которые они ему делают посредством пишущего
миниатюрного столика с укрепленным в нем карандашом.
Медиумическою силою обладала его дочь, красивая и
серьезная девушка лет двадцати, и на нее он ссылался
обыкновенно в подтверждение и разъяснение своих сообщений,
так как стоило ей, по словам отца, положить руки на
столик, как он начинал поскрипывать и затем двигаться по
бумаге, выводя свои прорицания и ответы. Старика
слушали с почтительным вниманием, не лишенным
затаенного сомнения. Раза два, присутствуя при его рассказах, я
подметил мимолетное страдальческое выражение на прекрас-:
ном лице его дочери, а однажды, зайдя к Елене Ивановне и
застав их вдвоем, я был поражен тою скорбью, которою,
казалось, было проникнуто все существо молодой
девушки. Обменявшись со своей собеседницей несколькими
фразами, смысл которых был мне неясен, она ушла с
поникшей головой и затуманенным взором, сопровождаемая
1 Об умерших — ничего, только хорошее (лат.)*
149
Горячими словами Елены Ивановны, — женщины вообще
очень сдержанной, — в которых звучало не только утешение,
но и отрицание чьей-то вины. Когда мы остались одни, я
спросил о причине убитого вида девушки. Елена
Ивановна тяжело вздохнула и сказала мне: «Это ужасная
драма!»— объяснив, что, когда все увлекались в начале
пятидесятых годов столоверчением и пишущими столиками,
привлекая к этому и детей, наш бедный старик позволил
своей, тогда 10-летней дочери тоже попробовать свою силу
и, когда опыт оказался удачным, стал ее постоянно
призывать к манипуляциям со столиком, приходя в восторг
от ответов и радуясь удивлению окружающих. А у
девочки было лишь желание пошутить, обратившееся
затем в тщеславную привычку вызывать внимание и
восхищение окружающих. Так прошло несколько лет, в течение
которых старик до того уверовал в подлинность этих
фальсифицированных записей и так погрузился в
приписывание набору слов глубокого мистического значения,
что это стало его второй жизнью, поддерживало его
бодрость, наполняло его тайной радостью. Но вот настало
время, когда легкомысленная и шаловливая девочка
обратилась в взрослую девушку и сознала, в какую опасную
игру она играет, обманывая отца. Негодование на себя,
сознание своей виновности в шутке, которая постоянно
грозила принять размеры жестокости, отвращение к
столоверчению охватили молодую душу. Но отступать уже
было нельзя! Жизнь отца, больного и слабого,
впечатлительного и уверовавшего, оказалась столь тесно
сплетенной с ежедневным обращением к спиритическим записям,
что открыть ему истину — значило бы нанести ему
смертельную сердечную рану и разбить задним числом
содержание почти десяти предшествующих лет. Он мог не
перенести этого удара. Оставалось продолжать с ужасом и
отвращением и поддерживать старика в его иллюзиях.
И несчастная девушка несла этот тайный крест, боясь
упасть под его тяжестью и сказать все... Она посвятила
в свои страдания Елену Ивановну, приходя по временам
искать у нее утешения и поддержки... С тех пор прошло
более пятидесяти лет. Старик давно скончался, но
трагический образ бедной девушки, начавшей детской
шалостью и вынужденной продолжать ее упорным
ежедневным насилием над собою, не выходит у меня из памяти...
150
В бытность мою студентом в Москве я получил урок
в доме одного зажиточного московского обывателя,
жившего в той беспечальной материальной обстановке,
которая впоследствии, под влиянием «дворянского оскудения»,
стала встречаться все реже и реже. Глава семейства — че*
ловек лет тридцати пяти, проводивший время в гигиени*
ческих прогулках, чтении книг по естественным наукам и
благодушных беседах «о предметах, вызывающих на раз*
мышление», по-видимому, был твердо уверен в своем эко*
комическом положении и им менее всего интересовался«
Его жена, одинаковых с ним лег или немного моложе,
вела такую же беспечную жизнь, посещала типические
кружки просвещенных людей, которыми в начале шести-*
десятых годов была богата Москва, и очень увлекалась
легкой французской беллетристикой, не исключая и
некоторых мемуаров довольно откровенного свойства.
Моими учениками были — прелестная, тонкая и хруп-«
кая, с чудесными темно-серыми выразительными и каки«
ми-то радостными глазами, 12-летняя Лиза и два ее
меньших бойких и живых брата.
Я с удовольствием занимался с ними, замечая в них
недюжинные способности, и проводил после урока
некоторое время в quasi-научной беседе с их отцом, иногда в
присутствии матери, задумчиво и мечтательно глядевшей
на находящийся перед окнами бульвар. К сожалению, мое
преподавание продолжалось недолго: меня через полгода,
после урока, пригласила к себе вдруг очень осунувшаяся
хозяйка дома и с растерянным видом объявила мне, что
они должны прекратить домашнее обучение детей и ре-
шили хлопотать о приеме дочери в институт. В ответ на
мой вопросительный взгляд ее губы задрожали, и со
слезами в голосе она мне сказала, что они разорены
вследствие полной бесхозяйственности мужа. И, действительно,
вскоре они как-то стушевались и сошли со сцены
московской жизни.
Прошло 22 года. Однажды ранним зимним утром мой
слуга сказал мне, что приходила какая-то дама с
сопровождавшим ее офицером, настойчиво хотела меня видеть
и на заявление его, что я еще не встал, сказала, что будет
ходить против моего дома и просит Выйти ей сказать, как
только я буду в состоянии ее принять. Приглашенная че?
рез XU часа ко мне, дама оказалась высокой стройной
блондинкой с красивыми чертами лица, на котором
151
виднелась большая тревога и даже испуг. «Вы меня не
узнаете?» — «Нет». — «Я — Лиза, ваша московская
ученица».— «Вот неожиданная встреча! Но что с вами? Ваши
руки дрожат, и вы едва стоите на ногах». — «Я очень
устала, а кроме того, у меня ужасное несчастье, и вы один
можете мне помочь». И она рассказала мне, что ее огец
поступил на службу, был назначен на юго-запад России,
и уже много лет о нем ни слуху, ни духу. Один из братьев
умер, другой лишил себя жизни. Мать «нашла себе приют
у родственников, а она уже лет десять как вышла замуж
за артиллерийского офицера, служащего в одном из
технических учреждений военного министерства в
окрестностях Петербурга. «Мы, — говорила она, — получаем
очень небольшое содержание и едва сводим концы с
концами, да и то потому, что у нас нет детей. Недели две
тому назад неожиданно к нам приехала погостить моя
мать, с которою мы не видались уже несколько лет и
которую вовсе не ожидали. Она несколько удивила нас
критическим отношением к нашей скромной обстановке, своими
костюмами и повадкой, в которых сказывалось сильное
желание молодиться, несмотря на ее возраст, вам известный.
Прожив у нас неделю и постоянно жалуясь на то, что
у нас скучно, она внезапно уехала в Петербург и заняла
номер в дорогой и роскошной гостинице. Третьего дня
к нам, в нашу трущобу, приехал посланный " от хозяина
гостиницы с требованием, чтобы мы взяли мою мать
обратно, потому что она в течение нескольких дней
пребывания в отеле накупила духов и разных косметиков более
чем на 200 рублей, приказав доставить это на дом и
поручив конторе уплатить за эти покупки, внеся их стоимость
в свой счет, — заказывала себе ежедневно дорогие обеды
с шампанским и ликерами и стала себя так держать с
мужской прислугой, что та стала ее избегать и жаловаться
на ее приставания. Мы поехали немедленно с мужем к
ней и нашли ее в очень возбужденном состоянии,
говорящею разные цинические двусмысленности и заявляющею,
что она выходит замуж и на-днях венчается с разными
официальными лицами, знакомыми ей по Москве. Мы
пригласили доктора, который нашел.., — говорящая
запнулась, ее бледное лицо густо покраснело, — особого вида
сумасшествие, при котором женщина теряет всякий стыд
в своем отношении к мужчине. Для этого есть
специально название, но я его не запомнила. Он сказал, что это
152
состояние может пройти, но что в настоящее время оно
чрезвычайно обострилось и может грозить опасностью ей
и окружающим, так как иногда сопровождается
припадками бешенства, почему ее необходимо немедленно
поместить в дом умалишенных. Мы объездили все
больницы этого рода в Петербурге, но ни в одной казенной не
оказалось свободной вакансии, и нам везде отказали в
приеме моей бедной матери. В частных же лечебницах
требуют такую сумму в месяц, которая для нас совершенно
немыслима. Тут мы вспомнили о вас и подумали, что
по вашему служебному положению вы, быть может,
окажете нам помощь в этих трудных и безвыходных для нас
обстоятельствах».
Участвуя в течение шестнадцати лет в качестве
прокурора, председателя суда и почетного мирового судьи
в освидетельствовании душевнобольных в особом
присутствии губернского правления, я был знаком со старшими
врачами полиции (которые прежде назывались штадт-
физиками) и в особенности в последние годы с А. Г. Ба-
талиным. Я предложил моей посетительнице немедленно
поехать со мной к последнему, и гоголевский рассказ о
городничем, для которого в церкви место нашлось *,
осуществился только под другими наименованиями. Место
нашлось, и несчастная нимфоманка была в тот же день
под каким-то вымышленным предлогом водворена в
лечебницу.
Дня через три «бедная Лиза» снова пришла ко мне и
по-прежнему в расстроенном виде. Оказалось, что хозяин
гостиницы прислал настойчивое требование об уплате ему
всего следуемого с ее матери за помещение и содержание,
а также уплаченного по счетам в парфюмерные магазины.
Его претензии доходили до 500 рублей. Между тем, собрав
все, что было возможно, бедная чета не могла ему
уплатить более 200 рублей, и он угрожал скандалом,
обращением к начальству мужа и всякими неприятностями, к
числу которых, конечно, относилась и огласка всего
происходившего с разными пикантными и постыдными
подробностями и с указанием на то, что дочь и зять
объявили развратную женщину сумасшедшей, чтобы не
платить по счету. Опять потребовалась моя, на этот раз уже
денежная помощь. К счастью, у меня оказалась свободною
полученная за некоторые литературные работы
недостающая до 500 рублей сумма. Моя бывшая ученица, приняв
153
ее с горячей благодарностью, заявила мне, что ни она,
ни ее муж ни в коем случае не желают получать ее без-«
возвратно, а при первой возможности, вероятно не близ-:
кой, возвратят мне ее, зная, что она трудовая.
Прошло еще двенадцать лет. Однажды, когда я шел,
задумавшись, после тяжелого сенатского заседания, мне
наперерез с другой стороны тротуара пошла высокая
полная дама далеко за 40 лет, так называемая belle femme, в
дорогой бархатной ротонде, подбитой каким-то пушистым
белым мехом. Подойдя ко мне вплотную, она сказала:
«Опять не узнаете?!... Ведь я — Лиза». Между этой
Лизой и теми — милой, задумчивой девочкой времен моего
студенчества и испуганной свалившимся несчастием
молодой исстрадавшейся женщиной — была поразительная
разница. Даже внимательно вглядываясь в
остановившую меня даму, я с трудом улавливал в ней слабый след
прошлых образов. Передо мною стояла упитанная,
зажиточная женщина, видимо, довольная жизнью. «Ах, я так
перед вами виновата. Ведь за мной еще старый долг, и я
часто думаю о том, что как стыдно его вам до сих пор не
возвратить. На то, да се, да разные мелкие хлопоты все
мешали. Но вот, слава богу, я вас встретила. Скажите,
где вы живете, и я завтра привезу». На мой ответ, что я
давно забыл об этих деньгах и прошу ее не беспокоиться,
она воскликнула: «Ах, что вы! Вы думаете, может быть,
что я и теперь нуждаюсь? Нисколько. Я ведь овдовела
года два назад, и, представьте себе, мой муж за месяц до
смерти получил наследство от своего дальнего
родственника и завещал все это мне. У меня тысяч пятнадцать
годового дохода, и я совсем одна. Нет, нет, не огорчайте
меня — позвольте завтра привезти», — и, высвободив из
ротонды красивую полную руку с пальцами, унизанными
драгоценными кольцами, она крепко пожала мою. На
другой день она была у меня, и, по ее настойчивому желанию,
я через несколько дней посетил ее в прекрасной квартире
в бельэтаже, убранной с большой, но безвкусной
роскошью, с массою ненужных фарфоровых и бронзовых
вещей и стенных украшений, которая свойственна поме-^
щениям людей, не привыкших к богатству и не умеющих
им разумно распорядиться. Мы вспомнили старину, и я
узнал, что бедная жертва печальной болезни совершенно
выздоровела через полгода, вернулась к родным, стала
очень набожною и несколько лет назад тихо скончалась«
154
Недели через две я получил от моей новой знакомой—*
называю ее новой, потому что она ничем не напоминала
себя самую при прежних наших встречах — записку, в
которой она самым настойчивым образом просила меня
назначить день, когда я могу к ней прийти в четыре часа,
прибавляя, что ей крайне необходимо меня видеть и что
от моего посещения зависит решение очень важного в ее
жизни вопроса. Когда я несколько замедлил ответом,
будучи очень занят, то последовало второе письмо с еще
более горячей мольбой. Придя в назначенный мною день,
я был несколько удивлен встретившей меня обстановкой,
В комнате было накурено какими-то духами, в столовой
делались приготовления к большому обеденному столу*
Едва я уселся в ярко освещенной гостиной близ хозяйки,
роскошно одетой и изящно обутой, как явился лакей во
фраке, чулках и башмаках с пряжками, очевидно, взятый
ad hoc, и принес на маленьком столике чайный сервиз.
Когда он ушел, хозяйка быстрым движением закрыла за
ним дверь и сказала мне следующее: «Мне так нужно
вас видеть! Вы единственный человек, оставшийся мне
от далекого прошлого. Я на вас смотрю, как на родного,
и вам могу сказать все откровенно. Видите ли, я так
привыкла быть вместе с мужем и в особенности не оставаться
ночью в одиночестве, что, вот уже два года, мучусь тем,
что я одна. Днем я бываю у знакомых, в магазинах,
вечером в театрах, концертах и на вечерах, в гостях. Но когда
наступает ночь, и я остаюсь одна, мною овладевает страх,
и я боюсь сама не знаю чего. Я разыскала здесь свою
старую гувернантку и пробовала класть старушку в своей
спальне на ночь, но и это не помогло. Просто — не знаю,
что делать?» — Она на минуту остановилась, замялась,
взглянула на меня доверчивым взглядом и, ласково
положив свою руку на мою, сказала: «Мне нужен... ну, вы
понимаете, мне нужен муж. И вот я решилась обратиться
к вам». — «То есть — как ко мне... — невольно воскликнул
я, ошеломленный таким заявлением, — если вы имеете
в виду меня, то я, к сожалению, не могу себя
предоставить в ваше распоряжение. Я уже в том возрасте,
когда не думают более о браке». — «Ах, нет! — сказала
она с протестующим видом. — Вы думаете, что я... что
вы... ах, нет. Я бы не решилась никогда об этом и
помышлять. Какая я вам жена. Да вы бы меня и не полюбили:
155
я слишком стала дурочкой в последнее время. Но,
ведь вы ко мне относитесь дружески, не правда ли?
И мне нужна одна ваша услуга. У меня — как бы это
сказать — три жениха. И я не знаю, на ком остановиться.
Я их пригласила всех сегодня обедать, — от этого у меня
так и парадно, — и я очень вас прошу: посмотрите и
послушайте их и скажите, кого мне выбрать. Как скажете, так
я и поступлю».
Мне стоило большого труда убедить ее не настаивать
на такой оригинальной просьбе, исполнение которой
поставило бы меня в особенно щекотливое и смешное в
собственных глазах положение. «Боже мой, но что же я буду
делать одна?!.. Ну, не хотите помочь вашей старой
маленькой Лизе и посмотреть, так посоветуйте, по крайней
мере, вообще, кто из них более подходящий. Один —
моряк, контр-адмирал, вдовец. Я была с его покойной женой
подругой по институту. У ней остались две дочери — тоже
институтки, вскоре оканчивающие курс. Умирая, она меня
просила выйти за ее мужа и заменить ее дочерям, в
особенности когда они окончат курс. Он очень хороший
человек и ко мне весьма расположен. Второй — служащий
по интендантству, статский советник, но на линии
генерала. Он человек богатый, имеет большое имение внутри
России и взрослого сына. Было бы приятно быть за ним
замужем. Но только я боюсь этого самого сына, который
уже теперь, из каких-то расчетов, относится ко мне
недоброжелательно. А третий — доктор, молодой, из
Западного края, недавно со мной познакомившийся, который очень
мне нравится и говорит, что любит меня безумно, только
он на десять лет моложе меня. Ну, скажите же, будьте
добрый, на ком остановиться? Войдите в мое положение.
Ведь каждый поджидает ответа. За кого вы бы вышли
замуж на моем месте?»
Мне было и смешно, и вместе с тем жалко бедную
женщину, и я не решился сыграть в некотором роде роль
нового Улисса, отвергнув всех претендентов, но сказал:
«Я бы ни за кого не вышла замуж, будучи далеко не
первой молодости и имея материальное обеспечение и
полную независимость. Но уж если решение должно быть
неотложно принято, то я, теоретически говоря,
остановилась бы на моряке. Не говоря уже о том, что морские
офицеры в огромном большинстве прямые и благородные
156
люди, такой исход был бы исполнением трогательного
материнского завета вашей подруги. Вы сделали бы
доброе дело, руководя первыми шагами ваших падчериц в
общественной жизни и заботясь о них во всех случаях,
когда отцу это невозможно или затруднительно. Интен*
данта следовало бы оставить за флагом, так как
сомнительно, чтобы те удобства брачной жизни, которые он
может вам доставить, могли совершенно искупить те
неприятности, с которыми может быть сопряжена ваша
совместная жизнь со взрослым пасынком, который уже
теперь, по вашим словам, точит на вас зубы, как на опас*
ную соперницу по части наследства. О страстно
влюбленном докторе нечего и говорить. Десять лет разницы—*
очень опасная вещь, особенно ввиду того, что женщины
в физическом отношении стареют гораздо скорее мужчин.
И, кроме того, убеждены ли вы, что вы лично, а не ваша
обстановка и ее источник — причина быстрой
влюбленности этого врача, заставляющая его зажмуривать глаза
на свою значительную сравнительно с вами
молодость?»— «Ах, — сказала она, — как вы это хорошо и
ясно разобрали. Я последую вашему совету. Но, все-таки,
останьтесь обедать».
Я, категорически отказался, а через неделю получил
короткую записку, в которой значилось: «Я выхожу
замуж за интенданта. Будьте добры, не откажите быть моим
посаженым отцом».
Не будучи любителем церемониальной роли шаферов
и посаженых отцов, я уклонился от этого предложения.
Боязнь оставаться одной — de dormir les bras vides1, как
сказал бы Мопассан, — была, очевидно, очень сильна в
моей оригинальной знакомой, и свадьба была сыграна
скоропалительно, так что уже через десять дней я имел
удовольствие принимать у себя новобрачных и созерцать
крашеные волосы и усы «молодого».
Прошло снова несколько лет, и я неожиданно получил
следующую записку: «Ужасное несчастие! Опять у меня
умер муж. Придите разделить мое горе и посоветовать,
что мне делать»...
Занятие и нездоровье помешали мне исполнить это
желание, и я должен был ограничиться письменным
1 По ночам обнимать пустоту (франц.).
157
выражением соболезнования и предложением написать мне,
какого рода совет от меня требуется, обещая дать его по
силе моего разумения. Ответа я не получил, и что
сталось с злополучной Пенелопой, — не знаю. Надеюсь, что
она, если не requi escit in расе *, во всяком случае, ее тревоги
прошли и она dormit in расе2,
8 Покоится с миром (лат.)а
8 Спит мирно (лат.)%
ЗА ГРАНИЦЕЙ И НА РОДИНЕ*
Несколько живых вос-^
поминаний оставило во
мне пребывание на морских купаниях в Остенде* в конце
шестидесятых и начале семидесятых годов. Тогда это
место еще не поражало тою роскошью, которою, судя по
описаниям и изображениям, оно блистает теперь. На
великолепном пляже возвышались всего две постройки:
обширный Cercle des bains с концертным залом и библиотекой и
ресторан под названием Cercle de Phare. В первое мое
пребывание, во второй половине июля 1869 года, русских в
Остенде почти не было, — по крайней мере, мой слух и
взор не уловили, до самого отъезда, в пестрой и
оживленной толпе ни родного звука, ни родного лица.
Находясь поэтому в полном одиночестве, я уделял
довольно много времени чтению в читальном зале Cercle des
bains, следя по французским газетам за последними
попытками Наполеона III укрепить свою власть среди все более
и более развивавшейся оппозиции *, питаемой между
прочим и остроумно-ядовитыми выходками Рошфора в его
маленьких красненьких «Lanternes».
Виновник этих едких литературно-политических укусов
бежал из Франции, но и из-за границы продолжал, дразня
и язвя своего врага, подтачивать и колебать его престол.
Однажды, когда я читал «Figaro», ко мне подошел
высокий француз с бледным лицом, черными усами и бородкой
и мелкокурчавыми, густыми волосами, сбитыми, как
шапка, в одну сторону. «Après vous s'il vous plaît» *,— сказал он
мне, вежливо приподнимая шляпу, и с тех пор это
повторялось не раз, так что иногда, если я оканчивал «Figaro»
раньше его прихода, я клал газету в какое-либо укромное
1 Разрешите (прочитать газету) после вас (франц.).
159
место и, выйдя на морскую набережную, говорил моему
французу при встрече, где можно найти интересующий его
нумер. Однажды мы вышли вместе из читальной комнаты
на берег моря. «Vous êtes bien complaisant, M-r, — сказал
он, — vous n'êtes pas Français, — n'est-ce pas? Etes-vous
Américain, Hollandais?» — «Je suis Russe, M-r». — «Ah vous êtes
Russe! Votre patrie a un bel avenir!»1 — и он стал говорить
обычные, банальные и фальшивые любезности, бывшие
одно время сильно в ходу у французов относительно
русских. «Voilà Rochefort qui fait la Lanterne!»2 — кричали
между тем уличные мальчишки, неистово стуча своими
деревянными sabots по каменной набережной. «Voilà
Rochefort qui fait la Lanterne! — Où est-il donc ce fameux Roche-
fort» 3 — спросил я своего спутника. «C'est moi,
monsieur» 4, — ответил мне он, весело улыбаясь.
Только накануне отъезда в Париж я, сидя за столиком
в антракте музыкального отделения, неожиданно увидел за
другим столиком прямо пред собою господина, которого
мешковатый костюм, круглое лицо с добродушной
складкой губ, голубые глаза, небрежная прическа белокурых
волос и бороды и — главное — белый картуз форменного
образца с лакированным козырьком — с несомненностью
доказали мне, что это соотечественник. По его скучающему
взору, которым он лениво обводил присутствующих, и по
зевкам, прикрываемым стыдливо ладонью руки, было
видно, что он так же, как и я, одинок в шумном фламандском
уголке и по горестному — в своем внутреннем смысле и
значении — русскому выражению «не знает, как убить
время». Мне, однако, хотелось проверить мои догадки. Я
прошел в соседнюю salle de lecture5 и, принеся оттуда
надетый на палку нумер «Московских ведомостей», стал
читать его, повернув название к незнакомцу. Не прошло и
пяти минут, как пухлая, покрытая рыжеватыми волосами
рука бесцеремонно отогнула заслонявший меня лист
газеты, и мой незнакомец, широко улыбаясь, сказал мне:
«Батюшка, да вы русский! Вот радость-то! Извините меня,
1 «Вы очень любезны, сударь. Вы не француз» неправда ли? Кто
вы — американец, голландец?» — «Я русский». — «А, вы русский!
у вашего отечества прекрасная будущность» (франц.).
2 Вот Рошфор, который выпускает «Lanterne»! (франц.).
3 Где же этот знаменитый Рошфор? (франц.).
4 Это я, сударь (франц.).
5 Читальный зал (франц.).
160
что я так... Я просто ошалел от скуки: не с кем слова
перемолвить. Я по-французски швах, да и люди здесь все
какие-то накрахмаленные: на рыжей свинье к ним не
подъедешь. Позвольте к вам подсесть. Я вот, видите ли, —
продолжал он, усаживаясь за мой столик, — служил в
военной службе, и есть у меня приятель, сосед по имению в
одном и том же уезде. Вышли мы оба в отставку после
Крымской войны, да и попали в мировые посредники.
Участки у нас соседние. И жить бы нам да поживать, да
приятель мой, представьте себе, вдруг, ни с того, ни с сего
вздумал жениться. А мы жили душа в душу: то он у меня,
то я у него. Жена у него, знаете, добрая, но только
щеголиха большая и так его забрала в руки, что и на-поди! Он
вышел в отставку, да и говорит мне: «Ну, где тебе одному
своим хозяйством жить! Переезжай к нам, мы тебя
устроим, ты будешь у нас, как родной, а жена тебе опуститься
не даст: видишь, как меня подтянула». Вот я к ним и
переехал, и живем себе ничего, ладно. Только вздумали они
за границу поехать, да и говорят мне: «Что же тебе
одному оставаться, ведь это никак невозможно. Поедем
вместе». Ну, я и рад, потому что сам-то никогда бы не
собрался, а все-таки интересно, да, еще знай я языки, так
многому и поучиться можно. Пожили мы в Берлине да в
Брюсселе и направились сюда, но только у спутницы
нашей глаза на разные покупки разбежались, она и застряла
с мужем в Брюсселе; шьет себе платья да кружева
покупает. Чай, совсем мошну растрясла! А меня они просили
поехать вперед — квартиру присмотреть: не хочется жить в
гостинице, а чтобы быть у себя. Однако квартиры я не
нашел: которые есть — от моря далеко, да и рыбой в них во
всех почему-то пахнет. Я вот и написал им обо всем, да и
жду ответа, а сам живу в Ship-hôtel, тут неподалеку. А с
кем имею удовольствие говорить?» Я назвал себя. «А
зачем вы за границей: лечиться или проветриться?» —
«Лечиться и учиться». — «Так. А не выпить ли нам
шипучего? Я, право, так рад, что встретил русского: хоть душу
отведешь». Я отказался и спросил моего словоохотливого
собеседника о том, нравится ли ему Остенде. «Ну еще бы,—
ответил он, — одно купанье чего стоит. Я, знаете, не тут,
со всеми купаюсь; скучно эти портки-то ихние на себя
натягивать, — а там, подальше место есть, парадизом
называется. Так просто выходить из воды не хочется. Сначала
и холодновато, а потом какая благодать! Выйдешь, точно
11 А. Ф. Кони, т. 7
161
двадцать лет с костей долой, а есть так хочется, что хоть
три табль-д'ота впору съесть. Особенно хорошо купаться
по вечерам. Вчера пароход шел в Англию, а на море было
тихо, так волны от него, мне показалось, будто даже све-
тятся. Я все их поджидал. Впрочем, и утром хорошо». —
«Но ведь вы раз в день купаетесь, конечно?» — «Нет,
два». — «Да ведь это вредно. Морские купанья нужно
принимать умеренно и в воде оставаться не более трех-четырех
минут. А вы, пожалуй, остаетесь дольше?» — «Еще бы! Я,
знаете, не выхожу, покуда весь даже не посинею. А что
относительно одного раза, так это, поверьте, немцы
выдумали, потому что они цирлих-манирлих, и все у них по часам
да по минутам рассчитано. Русскому человеку это вовсе не
подходит. Да я у себя в деревне в жаркий день войду,
бывало, в речку, возьму зонтик да газету, «Московские
ведомости», на плоту разложу, зонтиком от солнца прикроюсь,
да и стою в воде, пока весь нумер не прочту. Вот это
настоящее купанье, а не пустая возня, ради которой
раздеваться и одеваться тоска возьмет». Я попробовал его
убедить в крайней опасности его отношения к морским
купаниям, но он упорно стоял на том, что все это немцы
выдумали и что так как ему, вероятно, не придется второй
раз приехать в Остенде, то было бы странно, если бы
он не накупался всласть. Мы прошлись по эстакаде,
поговорили о родине, связь с которой так сильно чувствуется
именно за границей, и расстались в надвигавшемся ночном
мраке.
Прошло недель шесть. В ясный и бодрящий
сентябрьский праздничный день я сидел на скамеечке в Елисей-
ских полях в Париже, а мимо рекою текла нарядная и
оживленная толпа. Увлекаемые ею, прошли мимо меня,
сопровождая даму, двое мужчин, причем один волочил ногу
и шел, по-видимому, с некоторым трудом. Миновав меня,
он обернулся, пристально на меня досмотрел и что-то
сказал своим спутникам, которые тоже посмотрели на меня и
остановились. А он, постояв несколько мгновений в
нерешимости, направился ко мне, хромая и ковыляя и не без
труда двигая перекосившимися губами и плохо
повинующимся языком, сказал мне: «А...а...в...в...ы м...меня не...е
узнаете?»... и, отвечая на мой вопросительный взгляд,
прибавил: «а в Ост...тенде помните?»... Только тут из
побледневшего и страдальческого лица с потухшими глазами на
меня глянули добродушные черты моего мимолетного зна«
162
комца. «Боже мой! — невольно воскликнул я,— что же это
с вами?» Легкая судорога пробежала по его лицу, глаза
покраснели... «До...о...ку...п...п...ал...ся!» —
многозначительно ответил он мне.
Он познакомил меня со своими спутниками, а
последние уговорили поехать с ними в St-Cloud, где
происходили, по случаю празднования в честь довольно
сомнительного святого, изобретенного ad hoc в честь Наполеона III,
народные гулянья и различные празднества. В St-Cloud,
куда мы приехали по железной дороге, нас встретили
невообразимые для русского человека шум, гам и веселье.
Блузники и степенные буржуа, солдаты, кормилицы, дети
всех возрастов, иностранцы и самый разнообразный люд
толпились среди шатров, легких построек и эстрад,
устроенных для всевозможных развлечений, — среди
вертящихся каруселей и всякого рода кухонь, расположенных на
открытом воздухе, где под громкими названиями готовились
неприхотливые кушанья из провизии, в происхождение
которой не следовало слишком пристально вникать. Вся эта
толпа, с точки зрения жителя страны, которая, по
выражению Шевченко, «благоденствует — бо мовчит» *, просто
бесчинствовала: пела и свистала, перекидывалась
громкими возгласами, хохотала и от стара до млада неустанно и
почти непрерывно дудела в особые картонные трубки,
свернутые наподобие рупора, оклеенные пестрой бумагой и
нередко украшенные бумажными цветами. Эти «mirlitons» 1
были, по-видимому, необходимой принадлежностью
всякого парижанина, посещавшего la foire de St-Cloud2.
Насмотревшись на эти бьющие ключом жизнь и веселье, мы
пообедали тут же в .маленьком ресторанчике и отправились
в большой шатер, на котором было написано: «Bal Маг-
kovsky» 3. Здесь новая толпа зрителей нас вскоре
разделила, и мы потеряли друг друга. Общество иностранцев, с
плотоядной жадностью пожиравших глазами рискованные
позы канканирующих дам и бесстыдные телодвижения
мужчин (очевидно, приглашенных специально, чтобы
содействовать great attraction4), не надолго удержало меня в
спертом воздухе якобы популярного бала, и я решил
а Аудки из тростника (франц.).
* Ярмарку в Сен-Клу (франц.).
3 Бал Марковского (франц.).
4 Большему привлечению публики (англ.).
11* 163
уехать домой. Но осуществить это намерение оказалось
очень трудно.
Вход на станцию железной дороги был совершенно
запружен толпою, а места в вагонах единственной тогда в
Париже конно-железной дороги брались с бою.
Приходилось или ждать до позднего вечера, или участвовать в этой
свалке, или, наконец, отправиться в Париж пешком. Я
избрал последнее и направился по бесконечной каштановой
аллее. В ней, однако, оказался целый ряд своеобразных
экипажей с двумя длинными параллельными скамьями под
полотняным навесом на железных стержнях, с входною
дверцею и тусклым фонариком в глубине. Проезд до
Парижа стоил 80 сантимов. Эти повозки тоже быстро
наполнялись едущими домой, но в одной из них нашлось место
и для меня. Состав публики был самый разнообразный:
два солдата, почтенного вида старик в очках, оказавшийся
доктором, несколько буржуазных пар, толстая дама в
чепце с развевающимися лентами — «blanchisseuse en linge
fin» l, как значилось на ее визитной карточке, данной мне
при прощании, — несколько молодых людей (по-видимому,
студентов) с молодыми девицами, из которых одна
положила голову на плечо своего соседа и тотчас же заснула.
Только что мы двинулись в путь, как большинство
сидевших вооружилось «мирлитонами» и начало в них усердно
дудеть, не исключая и почтенного доктора, и моей соседки
в чепце. Это дудение сливалось в оглушительный хор,
когда нас обгонял чей-нибудь собственный экипаж, в
особенности если в нем, горделиво развалясь, полулежала,
выставив напоказ красивые ботинки, какая-либо дама
полусвета. Когда все устали от этой какофонии, доктор,
сидевший против меня, обратился к моей соседке с
вопросом: «А что, если бы нам спеть?» Та многозначительно
подняла брови и лаконически спросила: «Что?» Доктор
промурлыкал какой-то мотив, она кивнула головой, и оба
они разбитыми голосами затянули какую-то песенку. Все
пассажиры встрепенулись; спавшая гризетка раскрыла
глаза. ^Припев к песенке подхватили уже все пассажиры
нашего экипажа. Затем песни следовали одна за другой
без перерыва, с необыкновенным оживлением и
веселостью. Доктор дирижировал рукою и в особенно сильных
местах топал ногою. Звуки подобного же пения неслись и
1 Прачка для стирки тонкого белья (франц.).
164
из других, похожих на наш, экипажей. Наконец,
наступила краткая пауза, и доктор, сурово наморщив брови,
обратился ко мне: «Et vous, mon vieux (мне было 24 года),
pourquoi ne chantez vous pas?» — «Je ne connais pas vos
chansons, monsieur». — «Vous êtes allemand?» — «Non, je suis
russe».— «Ah, messieurs! — вскричал он, — nous avons parmis
nous un russe! Salut à la Russie! Ah, monsieur, votre pays a un
grand avenir. Je ne vous dis que ça... seulement la Pologne,
monsieur, la pauvre Pologne! (тогда были живы отголоски
агитации, поднятой в Западной Европе Польским
восстанием 1863 года). Enfin, basta cosi! Chantons!» l — и он
запел снова. Но вот мы внезапно остановились. Кондуктор
открыл дверцу, и в ней показалась типичная фигура
французского жандарма в традиционной треуголке и с
эспаньолкой, которую тогда, по примеру императора, многие
носили во Франции. Оказалось, что мы были у въезда в
Париж, и приходилось платить «октруа» * за предметы,
подлежавшие таможенной оплате. Почему это был
жандарм, а не агент таможни, — я не знаю. Вероятно, это
объяснялось наплывом проезжих через эту заставу.
«Avez vous quelque chose à déclarer?»2 — строго спросил
блюститель порядка и на отрицательный ответ
воскликнул: «Partez!» 3 Но, едва мы двинулись, как та гризетка,
которая вновь успела сладко заснуть на плече у своего
спутника, встрепенулась и закричала: «Arrêtez, arrêtez! Nous
avons à déclarer!»4 Произошло замешательство. Наш
экипаж был остановлен, и в раскрытых дверцах снова
появилась голова жандарма с суровым на этот раз
выражением.— «Eh bien, quest ce que vous avez à déclarer?»5 —
грозно спросил он. Гризетка вскочила с своего места и, делая
почтительный реверанс, сказала: «Nous avons nos mirlitons
et notre çaîeté» 6. — «Ah, sacré nom...!»7 — закричал жан-
1 «A вы, старина, почему не поете?» — «Я не знаю ваших песен,
сударь». — «Вы немец?» — «Нет, я русский». — «Господа! Среди
нас находится русский. Приветствую Россию! Сударь, у вашей
страны великая будущность! Вот все, что я могу вам сказать...
Только Польша, сударь, бедная Польша! Впрочем, довольно об
этом! Давайте петь!» (франц.).
2 У вас ,есть кто предъявить} (франц.).
8 Отправляйтесь! (франц.),
4 Остановитесь, остановитесь! Мы можем предъявить! (франц.).
5 Ну, что же вы можете предъявить? (франц.).
6 У нас есть наши дудки и наше веселье (франц.).
7 Черт возьми.,! (франц.).
165
дарм, захлопывая дверцу, но губы его невольно
распустились в^ улыбку под густыми усами, а все ехавшие громко
засмеялись и зааплодировали. Под эти аплодисменты мы
и въехали в Париж. Но здесь все притихли, начали
обмениваться сообщениями о предстоящей на завтра работе, и
когда мы все разошлись около Palais Royal *, серьезная
атмосфера трудового Парижа уже охватила большинство
обладателей веселых мирлитоиов. И теперь, почти через
пятьдесят три года, эта заразительная веселость и уменье
разумно пользоваться благами жизни с особенною
живостью вспоминаются мне, наряду с нашим родным
печально-добродушным «до-о-ку-пал~ся».
Через два года мне опять пришлось быть в том же
Остенде. На этот раз я встретил многих соотечественников.
Две из этих встреч мне вспоминаются с особою живостью.
Одновременно со мною окончил курс в Московском
университете добродушный обрусевший толстяк, слывший
между товарищами за человека весьма образованного и
трудолюбивого. Лично мы не были знакомы. Но в Остенде,
через восемь лет по окончании курса, я снова увидел его
оригинальное лицо, которое привлекало к себе внимание
тем, что один его ус был темно-рыжего цвета, а другой ярко
серебрился преждевременной сединой. Мы познакомились
и сошлись на почве незабвенных воспоминаний нашего
студенчества. Узнав, что я не женат, он серьезно
попенял мне, что я лишаю себя высшего счастья на земле,
ссылаясь на свой собственный опыт, а затем тут же на пляже
представил меня своей супруге — толстенькой блондинке с
небесно-голубыми глазами и губами «сердечком». В любви
к нему и заботе о нем супруги не' могло быть ни
малейшего сомнения. Она постоянно следила за ним с любящим
и тревожным выражением глаз и часто прерывала нашу
беседу просьбами, чтоб он застегнулся или поднял
воротник, или не говорил против ветра, причем ее заботливые
руки немедленно спешили избавить его от труда, исполнив
сами ее просьбу относительно пуговиц и воротника, или с
нежной лаской заслоняли ему рот от холодного дыхания
Ламанша. Когда мы остались вдвоем, он умиленно спросил
меня: «Видели?» И прибавил: «Это ангел!»
Однажды я собрался проехать в старинный
фламандский город Брюгге, чтобы посмотреть на его удивительные
средневековые здания и знаменитое «житие святой Урсу-
166
лы», написанное Гансом Мемлингом на столе госпиталя,
где он лечился от ран, полученных во время
тридцатилетней войны, — представляющее собою одно из
гениальнейших произведений фламандской живописи *. Муж
«ангела», узнав о моем плане, выразил горячее желание быть
моим спутником и взять при этом с собою жену. Зная, что
придется много ходить и лазить по лестницам, и желая
использовать свою поездку без всякой помехи, я предложил
ему ограничиться путешествием вдвоем, что ему,
по-видимому, очень улыбнулось. «Но как же я оставлю жену?» —
«Мы выедем в семь часов утра, — заметил я, — и к часу
можем быть дома, а если посетим и Гент, чтобы
посмотреть Рубенса *и побывать в известном по своему
богатству зоологическом саду, то можем вернуться к семи
часам. Таким образом, ваша разлука будет очень
непродолжительна, а практика путешествий учит, что странство^
вание втроем всегда представляет неудобства». — «Да, да,
поедемте и в Гент!—воскликнул он, — и конечно, лучше
вдвоем. Но только как сказать об этом жене?» —
«Позвольте это мне принять на себя!»
И в тот же вечер я сказал «ангелу», пребывавшему на
пляже, что я уговариваю ее супруга поехать со мною
завтра в Брюгге и Гент и хочу ее просить отпустить его со
мною, ручаясь возвратить его к семи часам в полной
целости и неприкосновенности. — «Ты хочешь ехать?» —
протянула она удивленным тоном. — «Да, видишь, как старые
товарищи... это так интересно... а тебе утомительно... ведь
к вечеру я буду назад... ведь мы, как товарищи... и много
надо ходить... а здесь будет хорошая погода...» Она строго
посмотрела на него, перевела затем на меня удивленный и
обиженный взор, сказала: «Если он хочет ехать и меня ос-,
тавить одну, то вы можете его взять с собой!» — и, пожав
плечами, оставила нас.
На другой день рано утром я увидел уже издали
радостную улыбку под разноцветными усами и, провожаемые
укоризненным взглядом небесно-голубых глаз, мы двину*
лись в путь. Мой спутник был чрезвычайно оживлен, в
приподнятом и праздничном настроении, сыпал анекдота*
ми и остротами и был просто неузнаваем. К искусству он,
впрочем, относился довольно равнодушно, но города его
весьма интересовали, а в особенности всецело овладел его
вниманием чудесный зоологический сад в Генте.
Несколько раз приходилось мне напоминать емуг что пора отправ-
167
ляться на станцию железной дороги. «Es ist die höchste
Zeit zum Einsteigen!» l — говорил я ему, подражая немецким
«шафнерам». Но он успокаивал меня тем, что мы возьмем
извозчика. Однако при выходе такового не оказалось, и
нам пришлось устремиться почти бегом на станцию, на
путях которой стояло несколько поездов в разных
направлениях. Около них, как муравьи, копошились пассажиры и
провожатые. «Сюда, сюда!» — сказал мне, задыхаясь от
усталости, мой спутник, увлекая меня в один из этих
поездов.— «Да наш ли это поезд?» — «Наш, наш! Нам в эту
сторону ехать, я уж знаю!» И едва мы, запыхавшись,
вошли в вагон, поезд тронулся. «Ну, слава богу! — сказал
мой спутник, отирая пот, — а я, признаться, очень
струсил, увидевши, что мы можем опоздать. Слава богу, все в
порядке!» — «В порядке ли?—спросил я недоверчиво,
глядя в окно, — мы мимо таких зданий и вот этой
огромной мельницы не проезжали, ехавши сюда. Я это хорошо
помню! А, ведь, сидели мы с этой самой стороны!» —
«Нет, мы едем в Остенде», — сказал он немного
дрогнувшим голосом. — «Pardons, madame, — обратился я к
сидевшей против меня даме, — ayez la complaisance de dire où
allons-nous?»2 Она удивленно на меня посмотрела и
сказала: «Nous allons à Bruxelles, monsieur!»3—«Поздравляю
вас!» — иронически обратился я к моему товарищу, но
дальнейшее замерло у меня на устах при виде его
внезапно побледневшего лица, растерянного вида и выражения
испуга в глазах. — «То есть, позвольте, — залепетал он. —
Как же это?! Нельзя ли остановить поезд? Ведь это
ужасная ошибка! Я хочу выйти, на первой же станции! Нет,
да ведь это совершенно невозможно!» Посмотрев в
расписание, я удостоверил его, что мы едем в экспрессе,
который до Брюсселя останавливается только на одной
станции, всего на три минуты, причем через эту станцию
встречный поезд проходит раньше нас и что поэтому
неминуемо надо ехать до Брюсселя. «Боже мой!—восклицал
он, — что подумает жена?! Ведь она придет нас встретить!
Ведь какое ей беспокойство! Она и без того так неохотно
меня отпустила. Она такой ангел! Это только для вас она
меня отпустила!..» — «При предстоящей остановке вы мо-
1 Уже пора садиться в вагоны (нем.).
г Простите, сударыня, не будете ли вы любезны сказать нам, куда
мы едем? (франц.).
8 Мы едем в Брюссель, сударь! (франц.).
168
жете ей послать успокоительную телеграмму: «J'ai manqué le
train, revenons demain matin, bien portant»1. — «Да? Вы
думаете?»— нерешительно сказал он. — «Да что же другое
можно сделать?! Набросайте-ка скорей телеграмму, чтоб
затем не терять времени». — «Она не поверит! — печально
сказал он, — уж лучше пошлите телеграмму вы от себя!»
Так и было сделано с прибавлением просьбы о прощении
нашей оплошности. До Брюсселя он хранил угрюмое
молчание и лишь нервно поигрывал пальцами у себя на
коленке. Поэтому, когда поздно вечером мы очутились в уже
засыпавшей бельгийской столице, где нам решительно нечего
было делать, он без всяких возражений, с видом человека,
покорившегося судьбе, принял мое предложение поехать
еще дальше, в Антверпен, и, осмотрев его утром, к семи
часам вечера вернуться в Остенде. В Антверпен мы
прибыли поздней но,чью, с трудом отыскали себе в
старомодной гостинице мрачную и холодную комнату с двумя
кроватями у противоположных стен, очевидно,
предназначенную для случайных путешественников,
довольствующихся, — как это тогда еще было в обычае и в Германии, —
половиной комнаты исключительно для ночлега.
Утомленный путешествием, я стал быстро засыпать под вздохи и
кряхтенье моего спутника. Но заснуть мне удалось
нескоро. «Вы спите?» — спросил он меня. — «Нет, а что?» —
«Нет, я так!...» Через две минуты тот же вопрос
повторился. «Нет, еще не сплю. Да что с вами? вы
здоровы?»— «Здоров, а так, что-то грустно». — «Будемте
грустить завтра, а теперь пора спать». Вслед за этим я
услышал звук босых шагов, приближающихся к моей постели;
край моего тюфяка погнулся под тяжестью севшего
человека, и в слабом лунном полусвете (мы забыли опустить
штору) обрисовалась фигура самоуверенного знатока
поездов. «Уж не лунатик ли он!—подумал я..— Да что с
вами? Зачем вы не даете мне заснуть?» — «Простите меня,
друг мой, — ответил он мне упавшим голосом, — но мне
что-то так грустно, так грустно!.. Извините меня! Спите
спокойно!» — и босые шаги удалились. Я уже начал
сладко погружаться в какую-то бездонную, но приятную
пропасть, как был снова вызван к реальной жизни громким
вопросом с другого конца комнаты: «Испытали ли вы
когда-нибудь истерику?» В то время истерика еще считалась
1 Опоздал на поезд, вернемся завтра, здоров (франц.).
169
болезненным припадком, свойственным только женщинам.
Поэтому, ответив в этом смысле вопрошавшему, я в свою
очередь спросил, разве у него была когда-нибудь истерика.
«Нет, никогда, — ответил он решительно, — разве это
возможно?»— «Так как же вы ее могли испытать?»
Наступило долгое молчание, затем тяжелый вздох... «У жены»,—
сказал он каким-то надтреснутым голосом. — «У
ангела?»— «У него!., знаете, это ужасно!..» Наступило
молчание, и я заснул. Утром он встал, как встрепанный, шутил
и смеялся, хотя избегал встречаться со мной глазами. Я
снова послал его жене телеграмму, объясняющую наше
опоздание. Мы осмотрели музей, церкви и пообедали на
открытой веранде маленького ресторана на городской
площади. Мой спутник был чрезвычайно оживлен, смешил
меня своими рассказами из области студенческих
романтических похождений и, несмотря на мои протесты,
потребовал полбутылки шампанского, чтобы выпить за нашу
встречу и интересное путешествие. Вчерашний упавший
духом супруг был бы неузнаваем, если бы мне не
вспоминалась, глядя на него, русская поговорка «семь бед — один
ответ» и если бы его блуждающий по сторонам взор и
слишком громкий, беспричинный смех не имели в себе
оттенка того, что простой русский человек характеризует
словом «отчаянность». Он даже предложил мне остаться
до следующего дня, чтобы пойти вместе в театр, где
давали «Фауста наизнанку» *, и только напоминание о
необходимости послать третью телеграмму несколько охладило
его эстетические, стремления. В течение обратного пути он
был молчалив и большую часть времени дремал. Когда мы
прибыли обратно в Остенде и надо было выходить из
вагона, он стал усиленно искать чего-то на сетке, хотя
никаких вещей с нами не было, и предоставил мне, таким
образом, выйти первому, следуя за мной и как бы прячась за
меня. Первое, что я увидел на перроне, были
небесно-голубые глаза, горевшие гневным огнем. Я почтительно снял
шляпу, но «ангел» растянул свои сложенные в сердечко
алые губы в презрительную улыбку и, не отвечая на
поклон, медленно смерил меня взором с головы до ног,
затем сделал два быстрых шага по направлению к мужу,
энергически взял его за руку выше кисти и молча увел за
собой.
Прошло шесть лет. Будучи проездом в Москве, я
встретил на Арбатской площади моего остендского прия-
170
теля, едущего на извозчике. Увидев меня, он приказал
остановиться и с неподдельной радостью приветствовал
меня, чему, по-видимому, не помешало и то, что в качестве
деятельного сотрудника одного из влиятельных
московских изданий он не упускал случая, по заказу редакции,
порицать вредное направление тогдашнего председателя
Петербургского окружного суда, каковым был я. «Как я
рад! Как я рад! — восклицал он, пожимая мне руки. —
Пожалуйста, посетите меня! Пообедаем вместе, вспомним
старину! Я вас познакомлю с моей женой. Она —
премилая женщина». — «Едва ли я успею побывать у вас, хотя
вспомнить старину, ввиду кое-чего современного, конечно,
было бы приятней. Супруге же вашей — вы очевидно
забыли— я уже был представлен в Остенде. Она, конечно,
такой же, в ваших глазах, ангел, как и была?» — «Ах,
нет! — воскликнул он почти радостно. — Та уже давно
умерла! Я уже женат на другой!»
На этом мы и расстались навсегда с неисправимым
рецидивистом семейного счастья.
В том же году, в Остенде, мне пришлось несколько раз
обедать с большим знатоком и любителем драматической
литературы, обладавшим драгоценными воспоминаниями о
лучших страница* в истории русской сцены. Слушать его
тонкие критические отзывы составляло истинное
наслаждение. Однажды к нашему обеденному столику подошел
сухощавый господин с острыми чертами лица, длинными
усами, которые он нервно покручивал, и неприветливым
взором беспокойных глаз. Манера держать себя и носить
штатское платье обличала в нем человека, привыкшего к
военному мундиру. Это был отставной губернатор одной
из великороссийских губерний, прославившийся тем, что
при объезде губернии благосклонно принимал единодушно
выражаемые врлостными обществами, чрез свое
начальство, чувства преданности и трогательного уважения.
Вещественным знаком этих чувств служила хлеб-соль на
дорогих блюдах, причем, как говорили злые языки,
«благодарные поселяне» в изготовлении этих знаков были в
значительной степени облегчены распоряжениями уездного
начальства, в свою очередь не оставленного указаниями из
губернаторской канцелярии.
171
Генерал будировал правительство, не умевшее оценить
этой теплоты чувств, выраженных в иерархическом
порядке сверху вниз и снова возвращающихся к своему
первоначальному источнику. Лишенный, к сожалению лишь на
некоторое время, широкой деятельности и впоследствии
вновь к ней призванный в более широком масштабе,
отставной администратор искал исцеления от служебных
утомлений в морских волнах и заявлял, что всецело отдался
высшему управлению своих обширных поместий,
показывая, с напускною небрежностью, длинные и регулярные
донесения своего главноуправляющего, написанные по всем
правилам канцелярского искусства на больших бланках, в
углу которых стояло: «Управление вотчинами его
Превосходительства NN».
В разговоре со мною — простым смертным — он
выказал изысканную любезность, а на другой день я нашел у
себя его карточку. Пришлось отдавать визит. Подходя по
коридору к указанному мне номеру в гостинице, я
услышал за неплотно притворенными (вероятно, по
забывчивости) дверями звуки площадной русской брани,
произносимой захлебывающимся от озлобления голосом. Очевидно,
что за дверями с кем-то происходила словесная расправа.
Я остановился в недоумении. Возвращаться назад и
оставить карточку у швейцара было неудобно, так как он мне
категорически объявил, что monsieur le général дома.
Пришлось поэтому постучать в дверь, и предо мною предстал
мой новый случайный знакомый, в довольно
беспорядочном домашнем туалете, с искаженным раздражением лицом.
«Не помешал ли я вам? Вы, кажется, с кем-то беседовали».
— «Нет-с, я один! У меня никого нет, а только вы
слышали, вероятно, как я ругался. Покорнейше прошу
садиться. Извините, что вы застаете у меня такой
беспорядок, да и меня в таком виде. Я, видите ли, укладываюсь.
Это такая тоска и так утомительно, да и не привык я к
этому совсем. Просто всю поясницу разломило! Того и
смотри, что-нибудь забудешь или засунешь так, что потом,
когда нужно, не найдешь. А мне сердиться вредно: у меня
печень больная. И ведь что меня раздражает, так это то,
что я сам себе создал такое положение по доверчивости к
людям! Надо вам сказать, — продолжал он, отвечая на мой
вопросительный взгляд и гневно раздавливая в пепельнице
недокуренную папиросу, — надо вам сказать, что у меня в
корпусе был товарищ; на одной скамье с ним сидели, при-
172
ятелями были. Учился он плохо и выпущен был
соответственно. Но комик был большой, умел все так
рассказывать, что мы, бывало, со смеху катаемся. Ну, конечно,
дороги наши разошлись. Я, как вы знаете, генерал-лейтенант
и оставил губернаторский пост, потому что не желаю
подчиняться разным фантазиям нашего нелепого
правительства. А он служил себе в глухой провинции в армейском
полку, женился на какой-то захолустной барышне и был
под конец службы полковым казначеем. Заболела у него
жена чахоткой, повез он ее за границу, лечил, где
возможно, делал займы для этого. Она тянула довольно долго,
но все-таки умерла. Он, как говорит, очень ее любил, был
в отчаянии после ее смерти, службу запустил, да и недочет
кой-какой оказался во вверенных суммах. Это он все на
жену потратил, все надеялся ее спасти. Товарищи помогли,
недоимку пополнили, но службу все-таки пришлось
оставить. Прослонялся он без дела, проел все, что мог, и
просто, — извините за выражение, — без штанов остался.
Пишет мне, просит помощи или занятий. Ну я, доложу вам,
знаете, на личную помощь неподатлив, и делать эти
бесполезные подачки не в моих принципах. Но новый человек
по письменной части в моем хозяйственном деле был мне
не лишний, тем больше, что как-никак, а свой человек —
товарищ по воспитанию. Я его вызвал и говорю ему:
«Коли хочешь, живи у меня на всем готовом, будешь
исполнять мои поручения, да и компанию мне составишь,
развлечешь своей беседой». А он — надо вам сказать —
несмотря на все, остался таким же комиком. Иногда начнет
что-нибудь рассказывать да в лицах изображать —
мертвого рассмешить способен! Такая живучая натура! Ну и
ничего, — я был им доволен. Только в нынешнем году
собрался я за границу, да и говорю ему: «Поедем-ка со
мною; без меня тебе делать нечего, а в дороге ты мне
будешь нужен — на железной дороге распорядиться, багаж
сдать, уложить и разложить вещи, за покупками сходить.
Да и развлечешь меня, когда очень печень себя даст
знать»... У меня, знаете, такие бывают мрачные
настроения... Все от печени!.. Поехали мы. Очень мне с ним было
удобью и даже полезно для здоровья. Только приехали мы
из Карлсбада во Франкфурт. Рано ли я кончил воды пить
или это естественное их действие, только стало у меня
расположение духа очень тяжелое, а он, словно нарочно, ходит
как в воду опущенный, молчит, часто отлучается неизвестно
173
куда, на вопросы отвечает неохотно, буркнет что-нибудь,
да и замолчит. Только потерпел я, потерпел, да и надоело
мне переносить эту его меланхолию. Как-то раз —
нездоровилось мне — я и говорю ему: «Столько ты
нового видишь и встречаешь, расскажи-ка позабавнее
Об этом. Видишь, у меня снова желчь разыгрывается!» —
«Я, говорит, теперь ничего рассказывать не могу и
забавлять тебя не стану». — «Ну, братец, — отвечаю —
дружба— дружбой, а служба — службой! Путешествуешь ты на
мой счет, ешь, пьешь и никаких расходов не имеешь, так
ты должен понимать, что я тебя взял не для того, чтобы
смотреть, как ты кислую рожу строишь!» —И сказал ему
я это мягко так, по-товарищески, только чтобы дать
понять ему его обязанности. А он, вдруг, точно белены
объелся! Покраснел весь, задрожал даже, голос возвысил, да
и кричит запальчиво: «Здесь, говорит, в двух шагах, в Со-«
дене, моя страдалица скончалась, тут я ей глаза закрыл,
а ты от меня веселых анекдотов требуешь! Не стану их
рассказывать! Довольно с меня!» — Я ему заметил, чтобы
он не забывался и не возвышал голоса, Когда с ним
говорят спокойно, а помнил, для чего он взят вообще, а за
границу в особенности. Но он так расхорохорился, что сам пла^
чет, а рукой по столу стучит и говорит: «Не хочу больше
На побегушках у тебя быть!..» Я этих штук не люблю, но
постарался овладеть собою — ведь это хоть кого взбесит —
да и говорю ему: «Ты, любезный, не забывай, что ведь в
таком случае ты и ненужным можешь оказаться!» А он
еще пуще кричит: «И окажусь! и окажусь! Я сам не хочу
с тобою ехать дальше и возвращаюсь в Россию!» Я
улыбнулся на эту похвальбу, да и говорю, шутя, чтобы его
образумить: «А на какие это средства вы изволите
отправиться в Россию?» — «Пешком уйду! — кричит. —
Христовым именем питаться стану, а от тебя гроша не возьму.
Не желаю быть больше в тягость! Прощай!» — и ушел в
свой номерок, хлопнув дверью. Ну, думаю, выспится —
обойдется, поймет свое положение. Да и из Франкфурта
пора нам уезжать: все эти сентиментальности и
прекратятся. Что же вы думаете?! На другой день оказывается,
что он уехал, не простившись и даже ничего не написавши!
Вот мне и приходится самому сундук укладывать! Сколько
себя помню на службе — этого не делал. Всегда денщик
или лакей этим занимались... Всю поясницу разломило!
Иной раз и крепкое слово вырвется поневоле... Нет-ci
174
В какое положение он меня поставил!? Мне, ведь, еще в
Париж надо ехать! Вот вам и делайте добро людям!
Этакая скотина! Неправда ли?..»
Оправдательный приговор присяжных заседателей Пе«?
тербургского окружного суда, вынесенный ими 31 марта
1878 г. по делу Веры Засулич, произвел на нервно на-:
строенное — вследствие множества разнообразных при-:
чин — общество чрезвычайно сильное впечатление. Он вьн
звал, вместе с тем, в некоторых общественных и
официальных кругах целую бурю негодования на суд и, конечно, на
председателя по этому делу. Когда эта буря зашумела во-:
круг меня с особенной силой, мною почувствовалась по-?
требность уйти на время от тягостных впечатлений петер-*
бургского служебного мира, чтобы хоть немного отдохнуть
среди далеких друзей в иной обстановке, и я решился по-?
ехать в Харьков, где протекли первые годы моей публич-*
ной судебной деятельности и с которым у меня был связан
ряд теплых воспоминаний. Хотя со времени
оставления мною Харькова прошло восемь лет той кипучей лич-?
ной жизни, которая окружает человека в конце тридцатых
и начале сороковых годов его существования, но я знал,
что Харьков меня еще помнит и любит, считая своим.,
Можно было быть уверенным, что там я найду атмосферу
симпатий, которая хоть на время заставит смягчиться ду
шевную боль, вызванную во мне предложением о выходе
в отставку, предъявленным несменяемому судье за то, что
он был слугою правосудия в условиях, начертанных Су-<
дебными уставами, а не услужливым пособником осуществи
ления предвзятых решений, — вызванную также и без-:
застенчивым предательством, которое меня окружило со
всех сторон под влиянием травли влиятельных газет и
предположений, что я, в служебном отношении, несомненно
«сломил себе шею». Я выехал в пятницу на Страстной с
почтовым поездом Николаевской дороги, получив в вагоне
II класса крайне неудобное место против стенки, что ме«
шало вытянуть ноги и среди ночи оказалось очень
мучительным, так как место рядом было занято каким-то
грузным господином, усевшимся на двух третях скамейки и
прижавшим меня в угол. Его нафабренные усы на морщи-?
нистом лице, подкрашенные редкие волосы «с височками»
и тугой высокий галстук давали повод думать, что это
175
отставной военный. Ко мне он относился строго, задав мне
два или три лаконических вопроса в течение пути, тесня
меня во время мучительной железнодорожной ночи и
говоря мне, при попытках моих переменить положение,
строго и внушительно: «М-м-молодой человек! вы меня
толкаете». Но я был оглушен «шумом внутренней тревоги» и
не обращал внимания на его отношение ко мне.
Утром, когда мы подъезжали к Москве, мой спутник
достал из картонки цилиндр, пригладил его, надел взамен
старой фуражки и положил в рот гвоздичку. Ее аромат,
очевидно, смягчил его сердце. Он в первый раз благоскон*
но взглянул на меня и, двинув бровями по направлению к
окну, сказал многозначительно: «Кунцево!» — «Нет, —
отвечал я, — Останкино».— «Вы это наверно знаете?»—«Да,
наверно». — «Вы хорошо знаете Москву?» — «Да, хоро-
шо». — «Учитесь там?» — «Нет, кончил».—«Служите?» —
«Да, служу». — «В самой Москве?» — «Нет, в
Петербурге».— «А-а!—протянул собеседник, взглянув на меня
еще более благосклонно, — в-Петербурге служба чистая,
благородная». — «Всякая есть! Как кто смотрит!» —
«А хороший город! Я в деревне прожил 20 лет, выйдя в
отставку, а теперь вот пробыл два месяца в Петербурге.
Много нашел нового. Невский-то каким стал! Прежде,
бывало, за «вшивой биржей», против Троицкого переулка *,
и смотреть было не на что; Николаевская, помнится, тогда
еще Грязною называлась и была немощеная, — да вот и
конки тоже... совсем новое дело! Интересный город! Бог
знает, когда попаду опять. Хотелось всего насмотреться*
Только вот в суд не мог попасть, на дело Засулич. Сльь
шали, вероятно? Билеты надо было у председателя
получать, ну, а я с ним незнаком. Да и где уж там? Вероятно,
желающих было без конца. А вы видели кого-нибудь, кто
там был?» — «Я был сам на этом деле», — отвечал я,
стараясь скрыть невольную улыбку. — «И попали?» —
«Попал». — «Ну, и что же, я думаю, накануне с ночи приш-*
лось придти сторожить себе место?» — «Нет, я пришел в
11 часов». — «Ну, так я думаю, публики, как сельдей в
бочонке было? Ни дохни, ни повернись?» — «Я сидел не в
публике, а по ту сторону судейского стола». — «Эге,
батюшка! Да у вас, видно, дядя сенатор, что вам такое место
устроил. Ну, уж я думаю, тут сиди как прикованный и
вставать не моги: сейчас займут место!» — «Нет, моего
176
А. Ф. Коны.
Восьмидесятые годы XIX века
места, — сказал я, — никто бы в этот день не занял, да и
едва ли и пожелал бы занять»...
Мой собеседник взглянул на меня удивленно и высо^
комерно спросил меня: «Любопытно знать, какое же это
такое место у вас было, молодой человек?» Молодой
человек, которому было уже 34 года, потупился и скромно
сказал, что он — председатель Петербургского окружного
суда и, ведя процесс, сидел на принадлежащем ему глав^
ном месте за судейским столом. «Неправда! Не может
быть!» — воскликнул его собеседник. Но затем, должно
быть, убедясь, что присваивать себе звание председателя
Петербургского суда едва ли кто станет, сразу переменил
тон, сделался любезен до приторности, помог завязать
ручной багаж и стал усердно рекомендовать остановиться
в Москве на каком-то подворье. «Очень дешево, тихо — и
клопов, — прибавил он многозначительно — ни-ни-ни!»
На другой день, т. е. в Пасхальное воскресенье, в
настоящее светлое воскресенье по погоде, я выехал из
Москвы, когда ликованью пробуждавшейся природы вто^
рил несмолкаемый и радостный гул московских колоколов.
Меня провожал на станцию Курской железной дороги мой
покойный друг — благородный, суетливый и несчастный
Александр Иванович Барановский, бывший петербургский
столичный мировой судья. Поезд был почти пустой.
Кондуктора были под хмельком, и в купе для некурящих
I класса был лишь один пассажир, с которым Барановский
поздоровался, позабыв мне сказать, с кем мне приходится
ехать. Это был человек довольно высокого роста, с мяг-:
кими чертами задумчивого и мыслящего лица, в золотых
очках, сквозь которые глядели Добрым и вместе серьезным
взглядом серые глаза. В очертаниях лица сквозил
отдаленный татарский тип, но русая с проседью густая борода
придавала ему, вместе с мягкой складкой губ, славянский
характер. Мы долго ехали молча, — он читал какую-то
рукопись, а я погрузился в чтение только-что вышедшего
II тома «Les origines de la France contemporaine» Тэна*,
не предчувствуя еще, что мне, в перелицовке на русские
нравы, придется пережить кое-что из этого, да, пожалуй,
и из следующих томов, замечательного труда Тэна. На
одной из больших станций, — кажется в Серпухове, — я
вышел из вагона и, когда вернулся, то застал своего спут^
ника с моей книжкой Тэна в руках, на первой странице
которой,были написаны мое имя и фамилия. Он извинился
12 А. Ф. Конч, т. 7
177
и, сказав, что не читал еще этой книги, спросил мое о ней
мнение. Мы разговорились. Он оказался человеком
разносторонне-образованным, живым и вдумчивым, с чрезвы-
чайно привлекательным складом умной и содержательной
речи, и мы провели в приятной и оживленной беседе почти
все время до ночи. Разговор касался главным образом
литературы, поводом к чему послужило мое указание на
удивительную книгу того же Тэна- «Essais sur Tite Live» *,
которая представляет собою непревзойденный, на мой взгляд,
образец литературно-исторической критики. Собеседник,
очевидно, принадлежал к высокообразованному кружку
московского общества, имея обширные знакомства и связи
в. Москве, тогда еще не приобревшей некоторого оттенка
богатого коммерческого самодовольства, покрытого лишь
тонким слоем легко стираемого европейского лака. Он
рассказал мне много интересных подробностей о даровитой
писательнице Кохановской, о М. П. Погодине и, между
прочим, о моем дяде Вельтмане и об оригинальном взгляде
его на славянство.
Назидательная беседа моего спутника перешла затем на
вопросы искусства, педагогии и философии, но он
тщательно избегал говорить о современных нам делах, несмотря на
мои попытки вызвать его на подобный разговор. Только
о славянском вопросе, по поводу книги Спасовича и Пы-
пина по истории славянских литератур *, он несколько
распространился, но вскоре перешел к воспоминаниям об
оригинальном московском профессоре Бодянском. Наконец
объяснилось, почему он избегал касаться злобы дня, На
его вопрос, куда я еду, я отвечал, что еду в Харьков,
нуждаясь в нравственном отдыхе после всего пережитого
мною в последнее время. «По делу Засулич?» — спросил
он, давая мне понять, что знает, кто я. Назвал ли ему меня
Барановский или он прочел мое имя на книге, но,
по-видимому, он имел основание предполагать, что и я знаю, кто
он такой. Мне же было как-то неловко его спросить об
этом. «Извините меня, — сказал он мне, — я не
принадлежу к вашим сторонникам в этом процессе, хотя и не
разделяю тона и характера нападок на вас Каткова. Как могли
вы допустить присяжных произнести оправдательный при-<
говор? »
Объяснив ему законную роль, права и обязанности
председателя на суде присяжных, не могущего быть
ответственным за их приговор, произносимый по внутреннему
178
убеждению, и в то же время не имеющего права ни играть
с ними в прятки,- ни их заставлять играть в жмурки, прин
чем он грубо нарушил бы святой долг судьи, если бы стал
оказывать давление на их совесть, голос которой должен
звучать в свободно выработанном решении, — я рассказал
ему вкратце всю историю возникновения и разбора этого
дела. Она изложена мною в особых воспоминаниях и
повторять ее здесь не у места. Он слушал чрезвычайно
внимательно, изредка прося разъяснений технического
свойства, и, когда я кончил, сказал мне, предварительно на
несколько минут задумавшись: «Да, я вижу, вы — правы и
вели себя, как подобает судье. Я беру назад мой упрек, но
судьба поставила вас в положение поистине трагическое,
возложив на вашу нравственную ответственность тяжелую
задачу». — «Я это сознаю, — отвечал я ему, — и сознавал
всегда. Но если бы мне снова пришлось вести это дело, то
и тогда, несмотря на все тяжелое, уже мною пережитое, и
на то, что, конечно, еще придется пережить, я не считал
бы согласным с законом вести его иначе, добиваясь
обвинительного приговора путем скрывания от присяжных того,
что было или казалось невыгодным для обвинения».
Наступала ночь. Обменявшись еще несколькими фразами, мы
собирались лечь спать, когда мой спутник сказал мне, что
едет в Киев к больной матери и завтра утром в 6 часов
должен в Курске пересесть в киевский поезд, так что мы,
пожалуй, не увидимся. «Мне крайне приятно было с вами
встретиться и узнать вас ближе, — прибавил он. —
Позвольте обратиться к вам с одною просьбою: вы, кажется,
уже дочитываете Тэна, а мне очень хотелось бы с ним
познакомиться до возвращения в Москву, где я буду через
неделю. Не можете ли вы мне дать эту книгу, а по приезде
вашем в Москву я вам ее завезу или, быть может, вы най-<
дете минутку, чтобы заехать ко мне, чем доставили бы мне
большое удовольствие». Я отвечал полною готовностью
исполнить его просьбу и вновь почувствовал крайнюю не-.
ловкость оттого, что не знаю, с кем имею дело.
На другой день, рано утром, в Курске, выйдя на плат-*
форму, я увидел его уже сидящим у окна киевского поезда.
Он дружески приветствовал меня. Необходимость разре*
шить вопрос о том, кто он такой, предстала передо мною
с особою ясностью, и я схватился за его заявление: «Так
в Москве мы увидимся!» — как за якорь спасения. — «Да,
конечно, — сказал я. — Но я не знаю вашего адреса»« —ч
12*
m
«Вот моя карточка с адресом». Я положил ее в карман, не
читая и тем поддерживая в нем иллюзию, что я знаю, с
кем так чудесно провел в долгой беседе первый день Пасхи.
Зазвучал третий звонок, с томительными переливами
засвистал обер-кондуктор, и поезд, медленно погромыхивая,
как будто нехотя выговаривая какое-то многозначительное
слово своими колесами, двинулся в Киев. Я вынул карточку
и прочел на ней: Иван Сергеевич Аксаков... «Боже мой! —
воскликнул я невольно, — и я этого не знал!..» И в
воспоминании моем внезапно возник рассказ, слышанный мною
от другого Ивана Сергеевича... Тургенева.
«Однажды в Париже, в половине шестидесятых
годов, — рассказывал он, — мы отправились вместе с
Герценом к старику Литтре. Он был искренно обрадован нашим
посещением и, сказав нам: «Je vais vous régaler de bon vieux
vin» l, позвал свою bonne pour tout faire2 и дал ей
подробные указания о том, как найти в погребе заветную
бутылку. Но, покуда она приносила покрытую пылью и
какою-то плесенью бутылку с красным вином, у Герцена с
оника загорелся с хозяином горячий спор по поводу
какого-то из слов в академическом словаре, составляемом
Литтре. Герцен очень горячился, нервно ходил по комнате
и залпом выпил два стакана бережно разлитого хозяином
вина. Наконец, спор утих, и мы стали собираться уходить.
«А как вам понравилось мое вино?» — спросил Литтре. —
«Да, недурное petit vin» 3, — ответил, очевидно не отдавая
себе отчета в том, что он пил, Герцен. — «Как petit vin?!—
воскликнул с горестным изумлением хозяин. — Да ведь
это Chambertin, которому тридцать лет!! Ведь это
драгоценность, которую я много, много лет не решался
раскупоривать!..» Лицо его омрачилось, губы сложились в
саркастическую усмешку, и он холодно простился с нами. Когда
мы вышли от него и проходили по улице, я сказал Герцену:
«А ведь старик-то очень обиделся». — «А черт его
возьми! — ответил Герцен, — зачем же он не сказал, какое это
вино и какого года: я бы его совсем иначе пил...» *
Боже мой, — сказал я себе, — зачем не знал я, что это
Аксаков. Я бы его совсем иначе пил. Я говорил бы с ним
0 политике, о славянофилах, о его отце и брате* и на его
1 Хочу угостить вас добрым старым вином (франц.).
2 Служанку (франц.),
* Винцо (франц.).
180
слова о важной ответственности, принятой мною на себя
ведением дела Засулич, ответил бы вопросом: «Ну, а вы,
Иван Сергеевич, с вашими статьями, сыгравшими такую
влиятельную роль пред сербской и русско-турецкой
войнами, разве не неизмеримо большую ответственность
принимали на себя перед Россией?»* Наша встреча вызвала со
стороны Аксакова, как оказалось впоследствии, лестный
для меня, хотя и совершенно незаслуженный, отзыв. «До
Курска ехал я с К., — писал он своей супруге 18 апреля
1878 г. из Киева, — председателем Петерб. окр. суда,
замечательно умным, даровитым и очень хорошим человеком.
Его рассказы были в высшей степени интересны. Он
оставил мне книгу Taine «la Révolution», которой по дороге от
Курска до Киева я и прочел с лишком 200 страниц. На
Фоминой неделе на обратном пути заедет к нам». Но в
Москве нам видеться не удалось, и мы лишь разменялись
визитами. Я его встретил во второй и последний раз лишь
в апреле 1881 года, тоже на Пасхе, у Александра Ивановича
Кошелева, на одном из своеобразных вечеров последнего,
куда сходилась почти вся интеллигенция Москвы и где
подавали ужин на ломберных, ничем не покрытых столах *.
Аксаков был подавлен трагической кончиной
Александра II, был неразговорчив и с мрачным видом слушал
шумные выходки старика Сергея Андреевича Юрьева,
позабывшего, идя в гости, надеть галстук и говорившего с
чрезвычайной горячностью, не глядя на собеседника и
брызжа при этом слюною. Аксаков пробыл недолго и
ушел все в том же грустном и тревожном настроении.
А один из москвичей, видя, что я очень заинтересован
оригинальною личностью Юрьева, рассказал мне про
феноменальную рассеянность последнего несколько случаев. Два
остались у меня в памяти. В одном, — положив в передней
на столик свою зимнюю меховую шапку, Юрьев, уходя и
попрощавшись с хозяевами, второпях и не глядя, схватил
рукою то, что считал своею мохнатой шапкою. Но шапка,
поднятая в воздух, вдруг фыркнула, испустила вопль и
мяуканье и впилась ему в руку когтями и зубами. В
другом, — идя где-то в переулке около Сухаревой башни, он
горячо спорил с одним из своих приятелей и так
брызгался слюной, что тот потихоньку отстал и, отойдя в
сторону, следовал за ним. Юрьев ничего не замечал и, размах
хивая руками, продолжал спор. «Нет, я тебе докажу,
я тебе докажу!» — кричал он, — и вдруг должен был
181
остановиться. Пред ним стоял пьяный мужик, широко
расставив ноги и смотря на него мутным взором, говорил
ему, с трудом поворачивая язык: «Ну и что ты мне,
лохматый черт, доказать можешь?!»
Не могу не вспомнить еще об одной дорожной встрече.
В 1890 году я провел один из осенних месяцев в Ялте,
откуда совершал поездки по окрестностям. Пришлось ездить
и в Гурзуф, в общественном плетеном экипаже с
полотняным зонтом. В этой «корзинке» помещалось шесть человек.
Со мною ехали товарищ прокурора одного из
северо-западных окружных судов с женою, местный богатый
татарин в роскошном костюме, француженка-гувернантка и
чрезвычайно словоохотливый помещик из окрестностей
Саратова, восхищавшийся Крымом, куда он попал впервые
после двадцатилетнего безвыездного пребывания в своей
усадьбе. Он заявлял, что будет разъезжать по южному
берегу, отыскивая себе для покупки землицу, на которой и
устроится «до скончания дней». Он особенно оживился
при возвращении из Гурзуфа назад в том же обществе.
По-видимому, чудный крымский вечер и доброе крымское
вино чрезвычайно усилили его разговорчивость. Он
задавал вопросы окружающим и говорил без умолку,
Осведомившись у своего соседа, что тот служит по судебному
ведомству, он пустился в рассказы о саратовских судебных
деятелях, особенно лестно отзьдваясь о старшем председа-:
теле Шрейбере, причем, однако, выразил ему и свое
неодобрение за касационное заключение по делу Засулич,
содержавшее в себе угодное министерству юстиции
признание действий председателя неправильными и влекущими
за собою отмену оправдательного приговора. «Да, может
быть, председатель и действительно был неправ?» — спро-*
сил я его. — «Нет-с! — резко ответил он. — Совершенно
прав! Если бы я встретил Кони в то время, я бы его без
церемонии поцеловал» (он произносил мою фамилию с
ударением на последнем слогс),— «А как у вас идут
заседания судебной палаты с сословными представите-:
лями?» — спросил я, желая переменить тему разговора и
интересуясь действиями этого суда, ведению которого
перед тем были подчинены изъятые от присяжных дела о
преступлениях по должности. «Не могу сказать ничего
доброго! — ответил мой собеседник, — чего же ждать от
такого суда после примера Харьковской судебной палаты,
182
которая осудила невинного человека — почтмейстера Поно*
марева, а господин Кони, изволите видеть, в Сенате
доказывал, что возобновить дела о нем нельзя. Это о невинно-«
то осужденном! Как вам это нравится?!» Дело в том, что
за полгода перед нашей беседой в Харькове был осужден
с участием сословных представителей почтмейстер Понома-с
рев за утайку и присвоение денежного пакета. Но на
другой день после произнесения приговора к властям явился
почтальон Скрипка и, мучимый совестью, объяснил, "что он
похитил пакет, устроив всю обстановку так, что
подозрение тяжко и неминуемо должно было пасть на
осужденного. По Судебным уставам возобновление дел допускается
лишь по вступлении приговора в силу, причем
необходимым условием является наличность другого приговора, по
которому за то же самое преступление осуждено другое
лицо. Приговор о Пономареве не вошел в законную силу
и даже не был объявлен в окончательной форме, и одного
заявления Скрипки для доказательства невиновности По-:
номарева было недостаточно, так как оно могло быть
результатом корыстной сделки с осужденным, чему и бы-
вали примеры. Довольно легкомысленный в отправлении
своих обязанностей, прокурор судебной палаты Закрев*
ский поспешил представить Сенату о возобновлении дела,
и мне пришлось, на точном основании закона и многолет-*
ней практики, отклонить возможность рассмотрения
вопроса об этом и указать в своем заключении на имеющиеся
в деле явные кассационные поводы, дающие возможность
по жалобе обвиненного или по протесту прокурора отме-
нить все производство по делу.
Жалоба и протест были принесены, и Пономарев
решением Сената освобожден от всякого судебного
преследования. «Однако, позвольте, — остановил саратовского
помещика товарищ прокурора, — что же было делать
обер-прокурору, когда закон относительно возобновления ясен и
самая эта процедура обставлена особыми условиями?,
Обойти этот закон невозможно, да к тому же, как вы
говорите, он указал и удовлетворяющий всех исход путем
отмены в кассационном порядке». — «Что вы мне
говорите!— чуть не закричал наш спутник. — Никогда не шь
верю, чтобы такая умная бестия,,как он, не сумел поверх
нуть закон как угодно!!» Однако, подумал я, судьба делает
меня слушателем самых разнообразных о себе отзывов)
Послушаем, что будет далее, пожалуй, это еще не конец.;
№
И, действительно, когда быстро наступили южные короткие
сумерки и вдали заблистала своими огоньками Ялта,
на одном из крутых поворотов дороги наша корзинка
сильно покачнулась в сторону, что вызвало перепуг
ехавшего с нами «женского сословия». На мое замечание
возничему, что в надвигающейся темноте надо ехать осторожнее,
наш спутник громогласно иронически заявил:
«Осторожней?! Нет-с, ему незачем ехать осторожнее. Если он нас
свалит в какой-нибудь овраг или даже в пропасть и мы
убьемся, ему отвечать не придется. Изволили читать
высочайший рескрипт о прекращении дела о крушении царского
поезда в Борках? Как вам это нравится? Двадцать
человек убитых и раненых, сам царь ушиблен и вдруг — всему
делу крышка! Нет, что вы скажете?» — обратился он ко
мне. —- «Я скажу, что в рескрипте указаны мотивы такого
решения: „Небесное милосердие к царской семье, —
сказано в нем, — побуждает оказать милосердие к
виновным"» *. — «Очень хорошо-с! — закипел саратовец. —
Милосердие! Милосердие! Нам с вами хорошо об этом
говорить: мы вот хорошо пообедали; едем в Ялту, где,
пожалуй, поужинаем; тепло, цикады поют; сейчас взойдет
луна, чего лучше?! Нам с вами хорошо. А вот я бы
посадил вас на место Кони, который производил исследование
на месте: два месяца жил на насыпи; говорят, все здоровье
потерял; огромную работу сделал, и все это ни к чему,
просто, как говорится, «псу под хвост». Так вы бы,
вероятно, другое сказали...» — и он еще долго распространялся
на эту тему до самого приезда в Ялту. Выйдя из
«корзинки», он выразил крайнее удовольствие от интересной и
оживленной беседы, хотя говорил в сущности все время
один, и пожелал знать, «с кем он имел честь беседовать».
Каждый назвал себя. «Я — тот самый Кони, о котором вы
так часто упоминали, только фамилия моя произносится
с ударением на первом слоге». Словоохотливый спутник
смешался и с упреком пробормотал: «Как же вы мне не
сказали?» — «Вы меня об этом не спрашивали, а мне было
любопытно услышать разнообразные мнения о моей
деятельности». — «Да! Но, позвольте, ведь я, кажется, сказал
много лишнего и резкого? Уж вы меня извините... вот,
например, насчет Сената». — «Напротив! Я вам очень
благодарен. Вы мне посочувствовали, как председателю,
пожалели меня по делу о крушении и даже, назвав «бестией»,
признали, что она все-таки «умная». Он засмеялся, весело
184
потряс мою руку, и мы расстались, чтобы случайно
встретиться через неделю в Мисхоре, причем он был снова
сконфужен, узнав от меня, что мой скромный спутник, про
которого он презрительно сказал: «Этот старче, кажется,
не важная фигура», — был граф Дмитрий Алексеевич
Милютин, знаменитый военный министр и фельдмаршал.
В сентябре 1873 года мне пришлось впервые быть в
Неаполе, где я встретился с двумя сослуживцами по
судебному ведомству, и мы вместе совершили различные
экскурсии по окрестностям. Однажды мы отправились на
пароходе на Капри. Несмотря на безоблачное, ярко-синее небо,
такое же синее море довольно сильно волновалось, так что
было много больных и в том числе мои спутники. Я не был
подвержен морской болезни, но, чтобы не видеть
неприятного зрелища трагикомических страданий других, я,
облокотившись на борт парохода, смотрел на воду.
«Мутит-с?» — услышал я возле себя чей-то ласковый
вопрос и оглянулся. Передо мной стоял среднего роста
сутуловатый человек в сером, довольно поношенном костюме и
ярком галстуке. Гладко выбритый подбородок, седые
бакенбарды котлеточками, курносый толстый нос того типа,
который напоминает, по выражению одной моей знакомой,—
«скворешницу», серо-зеленоватые, добрые, хотя немного
беспокойные глазки, мягкая линия рта и вся его фигура с
несомненностью обличали в нем русского. «Нет, не
мутит!»— «На меня тоже это не действует, т. е. морская
болесть. Я привычный тут ездить. Уж который раз! И на
парусах, бывало, туда же плавал. Я ведь в Неаполе живу.
Может быть, изволили видеть на Санта Лючии, — возле
гостиницы Виктория — вывеску: — Джузеппе Беляев. Это — я
самый и есть. Кораллами торгую и по винной части
посредником бываю. А вы ведь на Капри изволите ехать?» —
«Да!» — «Одни или с компанией?» — «С товарищами».—
«Что же вы там изволите делать?» — «Как что?
Посмотрим лазоревый грот *, а потом походим по острову,
позавтракаем». — «Так-с! Это, значит, как англичане делают...
Но, только я вам доложу, что это самое нестоящее дело, и
нечего там смотреть. Ну, грот, конечно, это другое дело...
С непривычки оно интересно. Положат вас на дно лодки
с кем-нибудь вдвоем, да и пропихнут в грот... так первое
время своим глазам не поверите! Но, только потом пароход
185
опять всех заберет и повезет вас на другую сторону
острова, и пойдут все ногами пыль разводить по
набережной без всякого интересу до самого пароходного свистка*
Вот тебе и все Капри!.. Надо со знающим человеком ехать,
которому известно, как и что... Вот, коли вам угодно с
товарищами, так я вас свезу прямо с парохода на самую вер*
хушку острова, на развалины дворца Тиверия! * Уж
останетесь довольны! А покуда вы наверху будете, я, немножко
пониже, в остерии, вам макароны приготовлю да лакрима-
кристи, и всего с каждого вам обойдется по десяти лир со
всем, и с ослами. Так угодно? Я ведь не из выгоды, а т>
чему же хорошим русским не услужить. Поговорите-ка с
вашими товарищами!»
Конечно, мои спутники с радостью согласились, и когда
после посещения удивительного голубого грота пароход
причалил к пристани, Беляев с таинственным видом сделал
нам знак, чтобы мы не сходили с парохода, а сам втесался
в толпу на берегу и поднял шумный торг с хозяевами
ослов, крича и жестикулируя, как совершенный итальянец,
и ударяя «по рукам», как русский. Затем, когда берег пе*
ред пароходом почти опустел, он нам торжественно
крикнул: «Пожалуйте! Готово!» — и повел нас к ослам, при
каждом из которых находилось по очень некрасивой
неаполитанке, в каких-то грязных серых кофтах и-юбках. Сам
же он взмостился на исхудалого Россинанта *, и мы
двинулись с чрезвычайным шумом. Погонщицы били ослов и
что-то кричали; ослы ревели; при Россинанте тоже был
погонщик, в свою очередь покрикивавший на погонщиц,
к которым по дороге присоединились еще две, и все это
покрывалось командою Беляева на русско-итальянском
диалекте, приправляемой русскими крепкими словцами.
«Per questa cosa tante ragazze?!»1 — с гневом спрашивал он.
Но «рагацци» ничего не отвечали, а только усиленно на*
чинали кричать на несчастных ослов. Так, двигаясь очень
скоро, мы миновали группы удивленных англичан и быстро
стали подниматься в гору. Саженях в пятидесяти ниже
развалин находилась остерия или траттория очень не*
взрачного вида с одной большой комнатой, часть которой,
вероятно для хозяйственных надобностей, была отделена
грязной полосатой занавеской, за которой слышалось
шипенье плиты. Здесь Беляев нас покинул, предложив одним
1 Для чего столько девушек? (итал.)х
186
отправляться на развалины и объявив, что будет сам еле*
дить за приготовлением макарон. «И... — прибавил он
многозначительно, — приготовлю вам суприз. По две лишних
лиры вам ничего не составит, а довольны останетесь»...
Когда, насладившись видом, мы вернулись в тратторию,
то на стол было подано огромное блюдо макарон и очень
вкусное вино. «А где же сюрприз?» — спросил один из
нас Беляева. «Суприз}.. — отвечал он, лукаво
подмигивая. — Вы вот покушайте и выпейте, тогда и суприз лучше
покажется». Убедившись, что мы исполнили его совет, он
торопливо отодвинул обеденный стол к стене,
торжествующим взглядом окинул образовавшееся свободное простран-^
ство и хлопнул три раза в ладоши. Из-за занавески вышли
три из погонщиц, которые были помоложе, и лошадиный
погонщик с мандолиной в руке. Беляев взял в руки бубен,
и раздались звуки тарантеллы. Танец, сначала
медлительный, начал потом, как змея, свиваться и развиваться все
быстрее и быстрее. Некрасивые лица танцующих преобра-
зились. В глазах их запылал огонь безумия и восторга.
Платья стали раздуваться, и тяжелое, страстное дыхание
начало почти покрывать собою звуки инструментов. Я ни-?
когда ничего подобного себе не представлял. Это была не
та балетная тарантелла, которую мне приходилось видеть
на сцене и, вероятно, пришлось бы увидеть, по особому,
заказу, в самом Неаполе, исполненную профессиональными"
танцовщицами. Это была настоящая простонародная та-«
рантелла без прикрас, но и без педантической размеренное
сти. Лицо Беляева пылало. Он весь подергивался, кричал
по-русски: «Лихо! Лихо! Поддай жару!» — и, наконец,
бросился вприсядку среди бешено вертящихся женщин.
Подобно крику петуха в «Danse macabre», раздался далеко
внизу первый призывный свисток парохода, и «сюрприз»
прекратился.^
На другой день мы зашли в магазин Беляева, где за
прилавком сидел его взрослый сын от жены-итальянки, не
говорящий по-русски, и накупили разной дряни из коралл-
лов и лавы. Пред нашим уходом пришел и сам Беляев, на
которого, как я заметил тут же и затем впоследствии, сын
и жена — высокая красивая итальянка с иссиня-черными
волосами — смотрели то угрюмо, то со снисходительным
пренебрежением. Довольный нашими закупками, он
предложил нам прийти к нему на другой день обедать, обещая
187
угостить нас русской ухой и пирогом. «А винцо уж будет
на ваш счет!» — прибавил он.
Этот обед, приготовленный в его оригинальной
квартире, устроенной на плоской кровле того шестиэтажного
дома, где помещался магазин, с чудным видом на море и
Везувий, был весьма плох. Уха из морской рыбы и из
frutti di mare представляла какую-то серую, дурно
пахнущую бурду, а тесто пирога вязло на зубах и было
совершенно безвкусно. Но вино, особливо Lacrima-Christi spuman-
te, было превосходно, и наш амфитрион оказывал ему
особенное, чтобы не сказать чрезмерное, внимание, несмотря
на мрачные взгляды, бросаемые на него супругою, раза два
проходившею чрез место пиршества. После обеда мы
вышли на террасу покурить и полюбоваться чудным вечером.
Хозяин впал в благодушное состояние и в ответ на наши
расспросы словоохотливо развязал язык и рассказал часть
истории своей жизни, столь ярко рисующую и натуру
русского человека, и наше4 крепостное право, что я запомнил
его рассказ почти дословно.
«Я, господа, — начал он свое повествование, — был
крепостным князя К. — помещика Тульской губернии,
жившего зимою в обширном собственном доме, похожем на
усадьбу, на Садовой улице в Москве. Отец мой был
старостой в деревне. Раз, когда мне было лет двенадцать, от
барина пришел приказ прислать меня на службу в дворню,
при обозе со всякой живностью, всегда посылаемой к
Рождеству. Батька с мамкой покручинились, снарядили мне
тулуп, дали серебряный полтинник на дорогу, — матка
повыла при прощаньи... и отправили меня с обозом.
Больше я их и не видел. Царство им небесное! Когда добрались
до Москвы, меня свели в баню, выстригли и показали
барину. Барин меня осмотрели, назвали «Беляшкой» по
прозвищу моего отца и приказали крепостному-портному
сшить мне из желтого верблюжьего сукна казакин с
пистонами (т. е. с карманами для патронов) и с запасом, чтоб
надолго хватило. Это значило, что я буду казачком.
Бывало, сидишь и дремлешь за дверями той комнаты, где
сидят барин. Они хлопнут в ладоши. Сейчас надо бежать
подавать им трубку с длинным чубуком, а длинной,
сложенной в трубочку, зажженной бумажкой давать им ее
раскуривать. Случалось, коли не успеешь этого скоро и как
следует сделать, так и подзатыльник получишь. Так
прожил я года два, а затем отравил барскую любимую кош-
188
ку...» — «Как отравили? По неосторожности, случайно или
нарочно?» — «Э-э, да что вспоминать! Отравил, да и все
тут! Мальчишка ведь еще был. Барин приказали меня
высечь, а затем отдали в ученье к Яру, за Тверской заставой»
в знаменитый тогда трактир*. Уж не знаю, есть ли он
теперь? У Яра выучился я кушанья готовить, особливо
Пожарские котлеты, которые тогда очень в моду пошли, а
начала их делать жена станционного смотрителя под Mo-*
сквой. Барина же я за все это время не видал. Только раз,
как на грех, приезжают они вечером с приятелями ужинать
и потребовали этих самых котлет. Остались очень, очень
довольны, позвали Яра и стали ему свое удовольствие вы-.
ражать. А Яр и говорит им: у нас эти котлеты хорошо,
умеет делать ваш крепостной Осип Беляев. Барин ничего
не сказали, а только на другой день мне приказ: назад в
дворню! Хозяин поехал меня отпрашивать, но только
барин и слышать ничего не хотели. «Я, — говорит, — может
быть, как-нибудь пожарских котлет захочу, так он у меня
тут под руками будет». — Делать нечего, воля барская!..
Вернулся я в дворню, нашли мой старый казакин,
перешили на весь запас, да такого, совсем кургузого,
определили быть при кухне. Ну, уж и принял я тут горя! Повар
смотрит на меня зверем, ругается, никакого дела не дает,
а только норовит всякую неприятность сделать. «Ты, мол,
меня подсиживать пришел!» А за ним и дворня вся!
Смеются на меня да дразнят. Не иначе зовут, как князь
Пожарский. Просто, хоть руки на себя налагай... Так
прошло больше года, а барин об котлетах ни разу и не
вспомнили.
Только однажды иду я по двору, а барин зачем-то тоже
вышли на двор, увидели меня, да и говорят: «Ты чего тут
без дела шляешься?!» А на другой день и отдали меня
обучаться медно-котельному мастерству у немца Карла
Ивановича, на Кузнецком мосту. Там я пробыл четыре
года и всему ихнему делу научился, так что после хозяина
старшим мастером стал и даже кое-что и в кубышку себе
отложил. А Карл Иванович человек был хороший, добрый.
Я у него и по-немецки говорить выучился. Дочка у него
была — Каролиной звали — видная такая, как хлеб рас««
сыпчатый! Русая была... И коса — ограмадная] Полюби*
лись мы друг другу, а Карл Иванович все посматривает да
помалкивает. Только раз в воскресенье пришел из ихней
церкви, да и говорит мне; «Вот что, Осип, я уж стар
189
становлюсь, но вижу все, хоть и не говорю. А тебе
откроюсь. Хочу я, любезный друг, lieber Freund, новое дело
начать: калетовские свечи делать (тогда эти свечи только что
появились) и возьму я тебя своим компаньоном. А когда
помру, ты дело дальше поведешь. Каролинхен тебе
нравится... женись на. ней и будь мне вместо сына! Мне тогда
и умереть будет спокойно...» Взяли эти слова меня за
сердце, ударился я. в слезы и у Карла Ивановича руку поцело*
вал. Только прошло недели две, стали мы это свечное дело
обдумывать, как вдруг от барина приказ — явиться к нему.,
Пошел я, а сердце, признаться, так и захолонуло. Барин
меня к ручке допустили и говорят: «Я, Беляшка, за гра--
ницу еду на три года и немецкой землей проезжать буду,
так мне толмач нужен. Вот ты и будешь при мне толмачом
и вроде как бы камардином, так собирайся в путь». Я упал
ему в ноги, стал молить меня оставить, говоря, что и по-
немецки плохо знаю. И на волю стал проситься. «Врешь, —
говорят, — врешь! По-немецки ты знаешь такое, что для,
меня нужно, а на волю — да ты с ума что ли сошел?! Мне
в тебе, каналье, надобность, а ты на волю проситься взду-«
мал. Я тебе такую волю покажу, что до новых веников не
забудешь. Собирайся! Да, чтоб я об этом больше не сльн
хал...» Пришел я домой, весь зеленый, руки и ноги
трясутся, и рассказал все Карлу Ивановичу. Он на другой
день пошел к барину, просил, умолял. Три тысячи за меня
ассигнациями предлагал, за отпускную. Так куда тебе!
Барин на него ногами затопали и прогнали. Простился я с
Каролиночкой, поплакали мы с ней, и уехал я за границу.
.Что с нею и с Карлой Иванычем стало, мне неизвестно, а
только новое дело он вряд ли завел, потому что я у него
был примерно заместо правой руки.
Отправились мы за границу с барином в ограмадной
карете, дормезом называется. Всякие в ней ящики
понаделаны и меньше как четверкой ехать невозможно, а сзади
пристройка такая сделана с кожаной крышкой, для прич
слуги. В карету сели барин, да барышня, да гувернантка
ихняя, Энжени-мамзель, французина, а я сзади поместился.
Отслужили молебен, да и поехали с прохладцей да с
ночевками на станциях. Как приехали в немецкие земли, так
и стал барин надо мной мучительствовать. Бывало, немец-,
кучер едет себе малой рысцой — трюхи да трюхи — а ба-*
рин высунутся в окно да кричат мне: «Оська! Скажи ему,
чтоб ехал скорей!» А немцу ведь, что говори, что нет. Он
190
шагу не прибавит, даже не оглянется, да еще у шламбама
(шлагбаум) остановится, да со сторожами разговаривать
начнет. Только тем, бывало, и возьмешь, что ему пива
поднесешь, да и сам с ним выпьешь. Он поскорей заберет вож->
жи и кричит, чтоб шламбам подняли, а шагу все-таки не
прибавит. Приедем, бывало, на станцию, а барин меня
ругать: «Ты, мол, с ними разговаривать не умеешь!» — да и
норовят, бывало, в зубы дать. Долго ли, коротко ли —
приехали мы во Францию. Тут уже другой народ пошел.
Как-то раз барин, садясь в карету, в сердцах за то, что я ему
чем-то не потрафил, дали мне в ухо, а французы, что
кругом стояли, стали роптать и смеяться, пальцами на меня
показывать. Просто со стыда сгорел! И пока мы ехали по
Франции, на меня совсем другим духом повеяло, стал я
смелее и этакую отвагу в себе почувствовал. Только за
последней станцией перед Парижем приказали барин
остановиться у какого-то трактира и велели себе лимонной
воды подать, а затем, когда уже надо было дальше ехать
и я влез на свою вышку, зачем-то потребовали меня вниз,
да и покажись им, что я нескоро слез на их зов. Он меня
ругнул, сбил с головы картуз и за волосы рукой ухватил«
Тут уж не знаю, что со мной сделалось! Взял я его руку,
отвел от своего лица, да и говорю: «Нет, ваше сиятелы
ство! Бранить — браните, а драться больше не извольте!»
Барин посмотрел на меня, да и говорит: «Оська, да ты с
ума что ли сошел?! Забыл, кто я и кто ты!» — «Нет, — го--
ворю, — не забыл. А только драться вы прекратите, по-*
тому — Париж-виден\»... Так с тех пор барин меня и не
трогал.
В Париже мы прожили больше года. Я и по-французски
там выучился. Барин денег не жалели, и я кое-что
прикопить успел. А потом поехали в Италию. В Марсели барин
корабль зафрахтовал, чтобы в Чивита-Веккию ехать *.,
Пришел день отъезда, подъехали мы в дормезе к пристани.
Барин и говорит капитану: «Вы, — говорит, — мой дормез
на палубу поставьте». А капитан говорит: «У меня для
этакой махины места нет, да и в условии об этом не было
сказано. Это, — говорит, — не экипаж, а целый эдифис *«
Вы, — говорит, — мне с ним и корабль потопить можете,
в случае чего боже сохрани». И отказался везти. Тогда ба«
рин к начальству обратились, суда просили. Ну, суд дело
разобрал и велел капитану принять дормез на пароход,
А как приехали мы в Чивита-Веккию, там «догана»*
191
и эти папежские чиновники * так в руку и смотрят.
Прогневили они чем-то нашего князя, он и стал на них
кричать. «А! — говорят они, — коли так, то по нашему риго-
ламенту * после заката солнца никакого досмотра
производить нельзя. У вас тут в карете, да и на вас самих может
какие воспрещенные вещи спрятаны, так мы вас завтра
обыщем. А теперь извольте в карете остаться до утра.
И слуга ваш — тоже, а синьора и синьорина могут, коли
угодно, в городе переночевать». Барин еще пуще стали на
них кричать, грозить, что будут жаловаться, а они
говорят: '«Это как вам будет угодно, а мы свое риголаменто
соблюдаем. Слугу, пожалуй, отпустим для ухода за
дамами, а вас попросим остаться». Затворили дверцы кареты,
да тонкой веревкой три раза вокруг кузова обмотали и
печать приложили. Так барин до утра и просидели. А я
отвел Энжени-мамзель и барышню в альберго *, а когда к
ночи барышня заснули, так мы с Энжени гулять пошли,
только так, чтоб барин не видел.
В Риме барин наняли квартиру на небольшой площади.
На этой же площади помещалось и русское посольство, а
послом был тогда, кажись, генерал Киселев *. Только тут
уж барин совсем меня возненавидели. Ничем, бывало, не
могу угодить. Драться не дерутся, а только ругаются
скверными словами даже до невозможности. Голос у них
был громкий, как труба. Окна, бывало, открыты на
площадь, — по всей площади и слышно, как они ругаются.
Только раз наругались они и ушли со двора, а из
посольства приходит курьер, который меня уже знал, да и
говорит: «Посланник вас требует к себе». Прихожу я, а
посланник — такой представительный был мужчина.— и
спрашивает меня: «Кто это у вас так скверно ругается на
всю площадь?» — Говорю: «Кому же у нас ругаться,
кроме барина». — «Кого же, — спрашивает, — он ругает?» —
«Кого же, — говорю, — ему ругать, кроме меня» — «За
что ж он вас ругает?» — Я говорю: «Не знаю за что, а
только он у нас ндравный. Всего недавно драться
перестал»... Я-то, признаться, знал, за что барин так уж на
меня взъерепенился, да не сказал посланнику. Срамить его
не хотел! А он, по правде говорить, после Чивита-Веккии
возревновал меня к Энжени-мамзель». — «Что же, и были
основания?» — спросил один из нас. Беляев
снисходительно улыбнулся, замолчал и несколько мгновений глядел
задумчиво вдаль, потом вздохнул и ответил: «Э-эх, господа!
192
Что было, то прошло, а только, как же, помилуйте! Я был
человек молодой, что называется «в соку», а она —
известно французина. Его же два раза в неделю иодом прихо-»
дилось мазать...» и продолжал свой рассказ. «Вот послан-'
ник и говорит мне: «Да чего вы с ним связались?» —
«Я ихний крепостной». — «Здесь нет крепостных, и если
вы от него уйдете, то вас здесь никто не тронет».—«Куда
же мне деваться?» — спрашиваю я. — «Да можете здесь в
посольстве пробыть несколько дней, а там приищете себе
занятия». Я повторять этого себе не заставил; пошел
домой, собрал свой чемоданчик, да и перешел в посольство*
На другой день барин, узнав про это накануне вечером,
пришли к посланнику объясняться. Что уж они промежду
себя говорили — мне неизвестно, а только барин вышел от
него весь красный и никаких прав больше на меня не
предъявлял.
Так я и остался навсегда за границей. Тянуло меня во
Францию. Переехал я в Париж, где в то время было много
беглецов из Польши, сошелся с одним поляком, и открыли
мы эстаминет * около барьер де л'анфер. Дела у нас пошли
хорошо, а особенно много бывало у нас этих самых
эмигрантов, которым не только что польская, но даже и моя
русская' речь была приятнее* чем, многим совершенно
незнакомая, французская. Так прошло еще года три. Я
совсем оперился и имел капитал в 7 тысяч франков; ходил
с тросточкой, при часах, — ну, словом, ни дать, ни взять —
парижанин. Только иду я раз по улице и прямо попадаю
на барина, который едет в фиакре. Он меня узнал, да и
кричит: «Беляша! Беляша! Ты ли это, друг любезный?»
Меня даже в жар бросило от радости за такое его слово!
Подошел як нему, шляпу снял, а он улыбается, да и
говорит: «Кувре ву, мосье». Стал меня расспрашивать, что и
как? да и говорит: «Приди-ка, Беляша, завтра ко мне. Мы
с тобой по душе потолкуем». Я спросил о барышне, а он
и говорит: «Барышни уж нет; она в Риме померла, и я ее
тело отвез в Россию, а потом уж сюда вернулся с Энже-
ни... Чай, помнишь?» — говорит — и на меня этак глазом
косит. Перекрестился я, пожелал барышне царства* небес*
ного, и расстались мы. На другой день прихожу к барину,
постучал молотком в дверь — тогда не везде звонки были,
а молотки при дверях висели — мне и отворяет Галактио-
ныч, старый буфетчик, которого барин вместо меня в ка*
мардины взял. Впустил меня в переднюю, а сам пошел
13 А. Ф. Кони, т. 7
m
докладывать и — слышу — говорит барину: «Француз ка-*
кой-то пришел, вас спрашивает; прикажете принять, ваше
сиятельство?» А барин, слышу, отвечают: «Знаю я, какой
это француз! Проси, проси». — Вот Галактионыч
кивнул мне головой на дверь барской комнаты, да и пошел за
мной, неся большой серебряный поднос с кофием. Вошли
мы, и покуда он, держа поднос, дверь за собой ногою
затворял, барин встали, пошли мне навстречу, протягивают
руку и говорят: «А-а, Беляша, друг любезный!» Как
увидал и услыхал это старик Галактионыч, так даже в лице
весь изменился. Поставил поднос с размаху на стол,
махнул рукою, да и говорит: «Пропала барская честь!» А по-:
том заплакал и вышел вон.
Вот и приспособил меня барин к себе. Требует чуть не
каждый день, дает разные поручения. Туда сходи, то
исправь, там наведайся, купи, перемени! Я-то все это за его
ласку с дорогой душой делал, а только дела свои по эста-
минету (питейное заведение) очень запустил. Раз как-то
барин мне и говорят: «Послушай, Беляша, ты ведь,
вероятно, при деньгах, а я, поверишь ли мне, хлеб на корню за
два года вперед продал. Имение давно заложено в
опекунском совете и процентов вот уже сколько времени не
платил: не из чего! Разорила меня вконец Энжени, а теперь
вот бросила на старости лет. День и ночь только и думаю,
как бы домой вернуться, да около родителей, покойницы-
жены и дочки косточки свои в родной земле сложить.
Помоги ты мне! Веришь ли: выехать из Парижа не с чем, за
дорогу заплатить не могу. У тебя есть деньги, говори?!»
Грешный человек! Обманул я их тогда... Прости мне,
господи, мои прегрешения! У меня было 7 тысяч франков, а
я сказал, что у меня всего пять. «Принеси их мне», —
говорит князь. Принес я, и они в скорости собрались
уезжать. Пошел я их проводить в контору почтовых
экипажей, сели они, поцеловал я их ручку, а они меня в лоб, да
и говорят: «Нехорошо, Беляша, что ты от меня не по
закону ушел и на родину вернуться не можешь. Довольно
тебе бродяжничать... Нехорошо! Ну, да я тобой доволен и
не к тому это говорю, а хочу, чтоб ты по закону жил. Вот
тебе бумага, и будешь ты с ней жить по закону». Взял я
бумагу, понял, что это — вольная (сам-то я был
неграмотный), слезы у меня так и полились. Как тронулась
почтовая карета, так, поверите ли, я на коленки встал и то
место, где колеса на земле стояли, поцеловал. Кругом на ме-
194
ня смотрят: думают, сумасшедший, а у меня на душе
херувимы поют. Побежал я в посольство, — там у меня
знакомый секретарей был. Прямо к нему. «Что вы,
—говорит,— Осип Васильевич, такой необыкновенный?» —
«Будешь, — говорю, — необыкновенным, коли человеком своего
отечества стал! Вот, — говорю, — извольте прочитать!» —
А сам даже от радости сидеть не могу, все по комнате
бегаю. Прочитал он бумагу, да и говорит: «Что же это та-:
кое?» — «Как, — говорю, — что? Вольная! Отпускная!»..,
Он покачал головой, да и говорит: «Такая это вольная,
Осип Васильевич, что когда вы с нею на русскую границу
приедете, вас в железа закуют, да барину, как беглого, и
предоставят по этапу. Вот он вам какую отпускную
написал...» И объяснил он мне все, что там было написано.
Тошно мне стало на душе, заплакал я снова, да уж по-другому.
Махнул рукой, да и разорвал бумагу в_ мелкие клочья...
А денежки мои так и пропали...» — «Зачем же вы ему их
давали после всего, что было?» — опять спросили мы на--
шего собеседника. Он посмотрел на нас удивленно и
поучительным тоном ответил: «Да как же не дать? Ведь они же
были наши барины... С тех пор я окончательно остался на
чужбине. Товарищ мой уже давно стал ссориться со мной
за мои частые отлучки по поручениям князя. А когда я
ему сказал, что у меня осталось только 2 тысячи франков,
то он все дело перевел на свое имя, а меня из него очень
искусно вывинтил, ссылаясь на то, что хочет его
расширить, и я ему по деньгам больше не компаньон. Расстались
мы добром, но только после всего этого стало мне в
Париже скучно, я и перебрался снова в Италию. Здесь мне
спервоначалу очень не повезло, особливо в Риме, и я все
прожил, бросаясь от одних делов к другим. Чем только я
не был! И комиссионером, и в маленьком театре
помощником у заведывавшего гардеробом, и чуть в натурщики у
художников не попал. У министра графа Фальконе детей
обучал». — «Чему же именно вы их обучали?» — коварно
спросил один из нас. — «Чему? чему?!—окрысился
Беляев, — известно чему: гулять их водил...
Перебрался я сюда в Неаполь. Стал меня консул
рекомендовать приезжим русским, и вот здесь-то я удостоился
видеть государя императора Николая Павловича. Он
приехал в средине сороковых годов в своих экипажах с
большой свитой. Король его встретил у крыльца Палаццо
Реале * и колено пред ним, говорят, хотел преклонить. Что
13*
195
за красавец был! Экипажи его, однако, дорогой пообились и
пообтрепались. Надо было их исправить и подновить.
Своих мастеров с ним для этого было мало. Вот и наняли
итальянцев — маляров и кузнецов — и пошли у них с
русскими ссоры. Известно, друг друга не понимают! Наши-то
привыкли командовать... Ну, а у здешних подлецов чуть-
что — сейчас за ножи, сейчас кольтеллата (coltellata). Вот
консул меня и рекомендовал среди них в переводчики. Дело
пошло ладнее. Раз как-то работают мои ребята, и вдруг
русские говорят промеж себя: «Государь, государь сюда
идет». Смотрю — и точно! У меня даже в глазах
потемнело. Спрятался я за кузов одной кареты и стою ни жив,
ни мертв, а он подошел к русским и говорит: «Ну что,
ребята? Не ссоритесь с итальянцами?» — «Никак нет, Ваше
величество». — «А как вы с ними объясняетесь?» —
«У нас, Ваше величество, есть русский переводчик
здешний».— «Где же он?» — спрашивает государь. Те меня и
зовут: «Беляев, Беляев! Государь император тебя
спрашивает». Вышел я из-за кареты, стал, а земля из-под ног так
и уходит, так и уходит... Николай Павлович пошел прямо
на меня. Подошел совсем близко, взглянул мне в глаза
грозно, да и спрашивает: «Ты эмигрант?
Политический?» — «Никак нет, — отвечаю, — Ваше императорское
величество, я — русский, беглый дворовый князя К...» Он
на меня посмотрел еще раз пристально, да и говорит: «Так
вот ты кто! Ну, продолжай себе переводить!» Повернулся
и ушел. Все меня стали поздравлять, а уж с чем, право, не
знаю. Голова у меня была как в тумане, и я даже,
поверите ли, заболел от потрясения. С тех пор дела мои пошли
хорошо, особливо, когда стала наезжать в Неаполь
покойная супруга Николая Павловича, императрица
Александра Федоровна. Тут уж я завсегда при ее дворе ютился, и
дела было много, да и выгода была; уж не говоря о
царице, а и баре русские тогдашние за ценой не стояли, не
то что теперешние, у которых на брюхе шелк> а в брюхе-
то щелк; только слава одна, что русские! Каких тут
поручений мне ни приходилось исполнять! Каких людей ни
насмотрелся... Хоть бы вот старушка-раскольница, что в
своей тележке, на своей лошади из России к батюшке
Николаю Чудотворцу в Бари* приплелась! Изволите это вы
себе представить?! И ведь не говорила ни по-каковски,
окромя как по-русски! А то еще был прислан в Бари
архимандрит от Синода, — мощи осмотреть и все прочее, по«
196
•Тому что наше правительство одно время хотело эти мощи
купить и в Россию перевезти. Меня и назначили с ним
ехать. Королевское правительство распорядилось всем
префектам и другим начальствам предписать, чтобы русскому
архимандриту всякий почет оказывали. Святой это
человек был! Едем мы с ним в карете, а в ногах у него мешок
с деньгами на расходы, и деньги-то все крупные... Скуди*
они тогда назывались. А в окна так и лезут с
протянутыми руками нищие: «Синьор, синьор, уна пикола монета,
соно векио, соно амалато!» Он и говорит: «Дай ему
монету».— «Да у нас мелких нет», — говорю. «Ну, дай
крупную!»— «Ваше высокое преосвященство, — говорю я, — да
ведь это народ такой, что каждого из них купить, продать
и снова купить, так он такой монеты не стоит. Ведь, эдак
вы все деньги раздадите». — А он мне в ответ: «Да ты
христианин или нет? Православный ли ты человек? Крест-
то на тебе есть? Ты птиц небесных видал? Ведь не жнут,
не сеют, а кто их кормит? Дай ему крупную монету...»
Просто, бывало, злость берет! — Приехали мы в первый
город по дороге. Там, в префектуре, обед готов чудесный с
винами и ночлег. Кровати широчайшие и одеяла атласные.
Он, как взглянул на все это, да и говорит мне: «Это что
еще?! Я по такому святому делу еду, а тут такой соблазн,
сущее дьявольское наваждение! Нет, ты, Осип Васильевич,
оставайся, коли тебе все это лакомо, а я пойду назад в
карету, и коли нельзя сейчас дальше ехать, так и ночь там
просижу. А ты, голубчик, раздобудь мне вареной
картошки да сольцы щепотки две. Я пожую, да и буду славить
моего господа...» Префект в мундире стоит, кланяется,
просит. Ничего и слышать не хочет мой архимандрит. Ну,
что ж, свел я его в карету, достал ему картофелю, да и
говорю: «Благословите потрапезовать!» — «Иди, иди, —
говорит,— чревоугодничай!» Ну, я пошел, все приел, да под
атласным одеялом и заснул, а на утро, как поехали
дальше, он мне и говорит: «Это все ты, окаянный, сластолюбия
своего ради, мне такие встречи устраиваешь?» —
«Помилуйте, — говорю, — Ваше высокое преосвященство! Да
ведь это от короля такое распоряжение». — «Что ты
грешишь, что ты лжешь! Станет такое лицо обо мне, худом,
думать! Это все ты! Покайся»,—говорит. Да и начал меня
чуть не исповедовать. Ну, уж и натерпелся я с ним...»
«А не тянет вас в Россию?» — спросили мы. — «Как
вам сказать? Прежде очень тянуло, а потом женился, дети
197
пошли, вот и обвык здесь. Опять же и холодно в России.
Тут лет семь тому назад купец русский приезжал, хоро«*
ший человек. Мы с ним месяца два душа в душу жили. Как
уезжать, он и говорит: «Поедем со мной, Осип Васильевич.
Я тебя на свой счет свезу и риторно * тебе заплачу. По
крайней мере родную землю посмотришь». Я и
соблазнился. Поехали мы зимой, доехали до Гардского озера, а
оно, поверите ли, у одного берега замерзло. Так мне это
холодно показалось, да и раздумье меня взяло. Там,
думаю, что дальше, то больше холоднее станет. Вот я и от*
просился домой. Нет, уж мне здесь и дни свои скончать.
Опять же и порядки русские мне не нравятся. Помилуйте!
На что же это похоже?! Крепостных там теперь нет. Это
вовсе напрасно сделано. Вот вам удивительно, что я это
говорю, бывший беглый дворовый, а я вам по совести
скажу: нельзя, чтобы господ не было! В те времена всякий
бывал к своему делу определен, а теперь что? — только
слава, что свободный. А кто о нем позаботится? Конечно,
итальянцам этого не понять, да ведь они народ непутевый.
Вот хоть бы у нас в Неаполе. Пока был Бурбон, и порядок
был и все, как следует, а теперь этому Виктору-Эммануилу
одна слава, что король, да усы ограмадные, а я бы за него
десяти чентезимов не дал *. Тоже, король называется! Вот
наш Николай Павлович так уж точно был король!
Королям король!!..»
Он вышел нас провожать на улицу все в том же на-:
строении критического ко всему отношения. Перед домом
стоял полицейский в своей треуголке. «Тоже полиция на-:
зывается!» — презрительно воскликнул Беляев... Полицей-.
ский приветливо кивнул ему головой. Беляев подошел к
нему, хлопнул его по плечу и ласково взял за длинную
эспаньолку. «Voleté andare in Russia?»1—И тотчас пере-:
вел это по-русски такими словами: «Хочешь в Петербург,
к нашему Трепову поступить?» Полицейский засмеялся и
в свою очередь потрепал его по плечу, сказав добродушно:
«Не! Signore Bella—buff one!»2—«Эх,—ты, макаронщик!—
воскликнул Беляев и обратился к нам, предлагая свои
услуги при отправлении нашем на железную дорогу. — Вы
уж не извольте беспокоиться, — сказал он нам. — Я по--
раньше приду и ваши bagagli3 сдам». Мы заказали ему
1 Хотите поехать в Россию? (итйл.).
2 Э, господин Беляев — шутник! (итал,)..
z Beirut багаж (итал.)г
193
прислать в Россию вина, — что он исполнил впоследствии
весьма добросовестно, — и на другой день предо мною в
последний раз промелькнула его добродушная русская
физиономия с маленьким оттенком итальянского лукавства..
Сорок семь лет прошло с тех пор... Вероятно, его уже
нет в живых, но я считал нужным записать свои о нем
воспоминания, как о представителе отжившего мира и
бессознательном герое целой крепостнической эпопеи.
ПИРОГОВ И ШКОЛА жизни*
(Речь в зале городской думы по случаю
столетия со дня рождения Н. И. Пирогова)
Призванный сказать в
настоящем собрании
слово в память Николая Ивановича Пирогова, я стеснен
содержанием этого слова. О Пирогове как знаменитом
враче и представителе медицинской науки будут говорить
более сведущие, чем я, лица;—о его общественных заслугах
как педагога мы тоже услышим не один компетентный
доклад. Таким образом, взгляды Пирогова во многих
отношениях будут освещены, и мне поэтому остается
обратиться лишь к ознакомлению с его характером. Характер,
как бы его ни определять, выражается в сущности в
переходе мысли, явившейся результатом внешних
впечатлений и вызываемых ими ощущений, и внутренней работы
сознания — в волю, т. е. в осуществление этой мысли в
том или другом действии, решении, поступке. Чем теснее,
непосредственнее и неразрывнее связь мысли с ее
осуществлением, тем сильнее характер; чем больше между
ними уклонений, колебаний и непоследовательности, тем
слабее характер. В душевной жизни человека играет
большую роль способность его хотеть или желать. В твердом
и ясном «хочу» сказывается сильный характер; в
расплывчатом и туманном «желаю» выражается характер
слабый. Но жизнь часто меняет характер. В ее суровой
школе он перерабатывается и изменяется и у редких
сохраняет свои первоначальные свойства. Борьба для многих
становится непосильною, — острые углы характера сти«
раются, шероховатость твердого убеждения сменяется
гладкою поверхностью услужливых уступок, и место
сильного хочу заменяет робкое желал бы. Но есть, однако,
характеры, до конца остающиеся верными себе, умеющие
отдавать себя всецело и бесповоротно служению излюб-
200
ленной идее, обладающие закалом для борьбы за нее и
способностью проводить ее в жизнь. Людям, владеющим
таким характером, свойственно то, что французы
называют esprit de combativité 1. Они на своем житейском пути
осуществляют завет Сенеки: «Vivere est militare»2. Таким
именно характером обладал Пирогов. Он сам в «Вопросах
жизни» говорит: «Без вдохновения— нет воли, без воли —
нет борьбы, а без борьбы — ничтожество и произвол» *.
Твердость характера, умеющего неуклонно и
настойчиво служить сокровенному голосу души, не надо, однако,
смешивать с близорукостью фанатического упорства или
с самолюбием бесцельного упрямства. Людям сильного
характера, прежде принятия окончательного решения,
могут быть свойственны сомнения и скорби, в особенности
когда за полным отрицанием должно последовать
практическое отречение, нередко сопровождаемое душевною
болью. И тем выше, чище и дороже нам образ тех, кто
из этих испытаний выходит все-таки победителем. Не
говоря уже о святом примере Гефсиманской ночи,
достаточно припомнить Галилея с его «Epur si muove!»3. Такие
минуты скорби бывали и у Пирогова. Затем некоторыми
мыслителями совершенно верно отмечено еще одно
свойство характера. Это типическое переживание однородных,
хотя и разновидных событий жизни, т. е. одинаковое
отношение к разнообразным по внешности, но одинаковым
по существу условиям, в которые ставит человека его
собственная природа или житейские явления. И здесь,
несмотря на видимое различие обстановки, времени, места—»
в каждом отдельном случае, совсем, казалось бы,
непохожем на предшествующий,—esprit de combativité сильного ха-*
рактера выражается одинаково. То же было и с Пироговым«
На пороге жизни, еще в отрочестве, Пирогова встрети«
ла бедность со всеми ее тяжелыми сторонами — отсут«?
ствием средств, зависимостью от посторонней помощи и
всякого рода лишениями. Вследствие разорения
родителей исчезла возможность спокойного и систематического
приобретения познаний. Пришлось как можно скорей
приняться за то учение, которое могло дать кусок хлеба и
облегчить неизбежные жертвы родителей. Четырнадцати
лет Пирогов уже вступает в университет, семнадцати лет
1 Боевой дух (франц.).
2 Жизнь — это борьба (лат.),
8 А все-таки вертится! (итал.).
201
он уже лекарь, двадцати одного года — Доктор медицины*
а в двадцать два — профессор хирургии. Все это досталось
ему тяжким, неусыпным трудом, в условиях самой
скудной обстановки *. Уже в Дерпте, готовясь к профессуре,
он был до такой степени стеснен в материальных
средствах, значительную часть которых приходилось тратить
на опыты и научные исследования, что, по его
собственному признанию, ему по целым неделям приходилось
питаться главным образом чаем и хлебом, причем
обыкновенный чай был ему не по средствам и был заменяем
ромашкою или шалфеем. Но это закалило его по отношению
к материальной стороне жизни и разорвало навсегда ту
связь, которая существует — и с таким нравственным
вредом— между привязанностью к удобствам жизни и тем,
что французы называют ligne de conduite 1. Отодвигая на
последний план заботу о материальной обстановке жизни
и «роскошествуя лишениями», как говорится в одном из
житий святых, Пирогов как бы осуществлял мнение
Сенеки о том, что не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет
большего. Пройдя эту школу бедности, Пирогов усвоил
себе ту внутреннюю свободу, которая позволила ему
потом не раз оставлять обеспеченное положение, не цепляясь
за него ради спокойствия обеспеченного существования.
Суровая школа оказалась полезной наставницей и
подтвердила мнение, что бедность то же самое, что
протыкание ушей у девушки: необходимо причинить боль, чтобы
потом на зажившем месте могли появиться украшения; в
бедности крепнет дарование и — кто знает — сколька
таланта и поэзии погребено под грудами золота!..
Наука в том виде и объеме, в которых она предстала
пред юным студентом, не могла удовлетворить ни его
ума, ни совести. Изречение о том, что наука для одних —
богиня, а для других — дойная корова, оправдывалось в
то время профессорами-медиками в Московском
университете с той очевидностью, о которой с добродушной
иронией вспоминал через пятьдесят лет в своем дневнике
Пирогов *. Опыт, исследования и настойчивость в раскрытии
пелены над тайнами природы почти отсутствовали в
преподавании, которое часто ограничивалось сведениями из
учебников, вышедших семьдесят пять лет назад.
Теоретическому и устарелому отношению к определению и рас-
1 Линией поведения (франц.)t
202
познаванию болезней соответствовал и узкий круг лечеб*
ных мер: «Сначала, — вспоминает Пирогов, —
прописывали валериан, затем арнику, потом камфору, наконец —
мускус и в заключение давали совет уповать на милость
господню». Были, конечно, и исключения, довольно ред*
кие. Между профессорами особенно выдвигался
знаменитый Лодер, начинавший свои латинские лекции анатомии
словами: «Videtis quam magna est sapientia Dei» 1, быть
может, охранивший тем в сердце своего юного слушателя то
религиозное чувство, которое так часто проявлялось в его
дальнейшей жизни. Зато другой талантливый профессор—
терапевт Мудров смотрел на, деятельность врача с чисто
практической точки зрения, отводившей науке
второстепенное— чтобы не сказать сильнее — место. Мой отец,
изучавший медицину одновременно с Пироговым и свято
чтивший своего товарища, вспоминал практические
советы, даваемые популярным в Москве и имевшим обширную
практику Мудровым на его последней лекции
оканчивающим курс слушателям. Он вызывал кого-либо из них—-
облеченного, согласно тогдашней форме, в синий фрак с
малиновым воротником и обшлагами — и спрашивал его о
том, как будет он лечить замоскворецкого купца, и на
ответ: «Постараюсь поставить диагноз и прибегну к cura
interna et externa»2, замечал: «Ты, братец, прежде всего
пошли нанять карету, хоть заложи что-нибудь, коли денег
нет, а карета чтоб была. Да как приедешь к больному и
войдешь в дом, прежде всего поищи глазами образ, да
помолись на него, а потом и спроси: «Где болящий?» Ну,
какая может быть болезнь у него? — скорей всего
объелся... ты и пропиши ему oleum ricini3 в надлежащем
количестве, а на расспросы окружающих скажи: «Ничего еще
не могу сказать: приложу всё разумение, а впрочем на всё
воля господня». Ну, облегчит его, и станут тебя считать
хорошим доктором, невесту богатую сосватают»... — «Ну, а
тебя, — обращался он к другому вызванному, — позовут
барыню-помещицу лечить: что ты предпримешь?» — Но
едва тот успевал сказать: «Пошлю нанять карету»,
Мудров перебивал его и говорил: «Никакой кареты не надо:
поезжай на гитаре (так назывались особые дрожки,
именуемые также калибером, на которых можно было сидеть
1 Видите, сколь велика премудрость господня (лат,).,
2 Лечению внутреннему и наружному (лат.),,
8 Касторовое масло (лат.).
203
верхом), а как останешься с больной один и. услышишь,
что она на нервы жалуется, то скажи ей: «Сударыня,
mens sana in corpore sano *,— и наоборот: может, у вас
по условиям светской жизни какие-нибудь надобности или
потребности есть, а супруг этого не понимает или считает
капризом»... Она расплачется, да и разболтает тебе, а ты
пропиши ей aqua fontana cum saccharo albi2, MDS, через
два часа по столовой ложке, а мужу, который тебя
спросит, скажи: «Сильнейшее потрясение всего организма;
если у ней какие-нибудь глупые желания или капризы
есть, уж вы не перечьте — всякое огорчение ей вредно».
Вот он ей шаль, или шляпку, или что там другое и купит,
она повеселеет и выздоровеет. А о тебе скажут: «Вот
искусный доктор! Так-то!...» *
Пытливый ум Пирогова не мог удовлетвориться ни
такой наукой, ни цинической наивностью подобных советов;
он должен был сам пролагать себе пути и в упорном
напряжении труда идти своею дорогой опыта и открытий.
С этой жаждой знания и умения претворять
приобретенное в ступень к новому, не останавливаясь в своем
движении вперед к большему и большему совершенству,
Пирогов прошел всю жизнь, служа своим интересом к науке
интересам науки, постоянно расширяя и углубляя область
ее применения к жизни. Разнообразные и случайные
проявления последней он умел обратить на пользу знания —
силою своего вдумчивого творчества. Так, вид
замороженных и разрезанных свиных туш на Сенной перед
праздниками навел его на мысль о замораживании и
распиливании трупов, для точного определения
расположения внутренних органов, не подвергшихся посмертному
смещению и разложению *. Составленный им атлас этих
распилов представляет драгоценный и непревзойденный
вклад в хирургическую анатомию. Составлению его и
разработке материалов Пирогов посвятил много тяжелого и
усидчивого труда, отрывая для него время от
заслуженного и необходимого отдыха. Предоставляя другим
указать и перечислить все его многочисленные работы в
области хирургии, я упомяну лишь о том, что целый ряд
лет, ознаменованных чрезвычайными и самостоятельными
успехами на Руси теоретической и практической
хирургии, получил название Пироговского периода.
1 Здоровый дух в здоровом теле (лат.).
2 Ключевую воду с сахаром (лат.У
204
Но проведение в жизнь строго научных и возвышенных
в смысле человечности взглядов и требований Пирогова
встретило — как и следовало ожидать — сопротивление
со стороны представителей медицинской рутины. Пирого-
ву пришлось испытать на себе, что в работах на пути
усовершенствования человеческих знаний приходится
гораздо больше заниматься разрушением отжившего, чем
творчеством нового. Чтоб построить новое здание, нужно
очистить от грязи и мусора то место, где оно воздвигается.
Положение, в котором он застал Медико-хирургическую
академию и связанные с нею госпитали, способно было
навести ужас на восприимчивую душу. Анатомические
занятия, требующие для своего успеха воздуха и света,
происходили в старом, невзрачном деревянном бараке;
вскрытия трупов производились — до двадцати в день — в
отвратительных до невозможности старых банях госпиталя.
«Сердце надрывалось, — пишет он, — видом молодых
здоровых гвардейцев с гангреной, разрушающей всю
брюшную стенку. Палаты госпиталя были переполнены
больными с рожистыми воспалениями, острогнойными
отеками и гнойным заражением крови. Для операционных не
было ни одного, хотя бы плохого, помещения. Лекарства,
отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на
что угодно, только не на лекарства. Вместо хинина сплошь
да рядом бычачья желчь; вместо рыбьего жира какое-то
иноземное масло. Хлеб, провизия — ниже всякой критики.
Воровство дневное; — смотритель и комиссары
проигрывали сотни в карты; мясной подрядчик на виду у всех
развозил мясо по домам членам госпитальной конторы;
аптекарь продавал запасы уксуса, трав» * и т. д. Против
такого состояния научно-врачебных (?) учреждений
вооружился всеми силами своего слова и пера новый
профессор хирургии и повел энергический поход против
вопиющих беспорядков, не стесняясь в выражении своего
негодования и справедливо полагая, что в делах общей
пользы излишне просить, когда нравственный долг
повелевает требовать. Стоячее и загнившее болото, в котором
всё обстояло благополучно для начальствующих и
неблагополучно лишь для больных и страждущих,
взволновалось. В Пирогове, который требовал новых начал
гигиены, новых приемов ухода за больными, широкой
профилактики и ряда мер, в которых таились зародыши
будущей септики и асептики, увидели личного врага. Это было,
205
впрочем, неизбежно. Талант подобен солнцу: оно
проливает свет и тепло, но оно же родит и мух. Пылкая душа
Пирогова и его бестрепетный ум не только должны были
вызвать вражду, но, оставаясь верными себе, не могли
обойтись без нее, потому что и для ненависти, и для
любви нужно иметь положительное содержание, и только тот
может зажечь огонь этих чувств в сердцах людей, чье
сердце способно само пылать таким огнем. Но Пирогова
не могла не удручать неразборчивость в выборе средств
для борьбы с ним. И явная вражда, и тайные подкопы,
грязные сплетни, и шипящая во тьме, ползучая, как змея,
клевета — всё было пущено в ход, чтобы избавиться от
беспокойного нарушителя «тиши да глади» и подорвать
его авторитет. Когда все это не достигло цели,
разбившись о стойкую любовь к делу Пирогова, обратились к
последнему средству: был возбужден вопрос о помрачении
его умственных способностей *. Однако этот тонкий яд не
подействовал, и тогда началась антипироговская
пропаганда в среде тогдашнего общества, предпринятая
презренным и продажным редактором «Северной пчелы»
Булгариным. Натравливая подозрительность
правительства на все выдающееся в духовном отношении, не
пощадив своим злоречием Пушкина *, Булгарин не.мог, конечно,
отказать в дружеской услуге и врагам Пирогова и объявил
в своей весьма популярной «Северной пчеле», что Пирогов,
которого он называл «проворным резакой», не что иное,
как плагиатор, выдающий за свои — труды, похищенные
у иностранных ученых *. И это говорилось о Пирогове,
который, явившись к знаменитому французскому хирургу
профессору Вельпо с заявлением, что пришел у него
учиться, услышал в ответ: «Не вам у меня, а мне у вас
следовало бы учиться» *.
Обращаясь мыслью от этого мира низменной зависти
и интриг к тем, кто должен был стоять выше и мог
объективно и беспристрастно оценить Пирогова и отдать ему
справедливость, мы и тут встречаем много
характерно-поучительного и очень мало утешительного. В 1847 году
Пирогов был командирован на Кавказ для указания мер по
устройству военно-полевой медицины, для помощи
раненым и для применения новых хирургических способов в
широком масштабе*. Он отдался этой задаче с обычным
холодным отношением к себе и своим удобствам и с горя-«
206
чей любовью к своему делу. Девять месяцев, проведенных
в самых трудных условиях, среди лишений и опасностей,
в непрерывном труде, дали ему, вместе с крайнею
физическою усталостью (при осаде и взятии аула Салты ему
приходилось по нескольку часов проводить, для производства
операций, стоя на коленях пред ранеными), дали ему
богатый опыт в деле обезболивания посредством эфира,
впервые примененном им, в замене обезображивающих
ампутаций резекциями и т. д. Но когда, в справедливом сознании
своих заслуг, он вернулся в Петербург и явился к
военному министру князю Чернышёву — его встретил совершенно
неожиданный для него, но совершенно в духе времени
прием. Этот «дух» требовал доведения равнения фронта
и шагистики до пределов почти невероятного обращения
человека в машину, на которой наживалось и которую
истязало начальство. Лучшим выражением этого духа был
знаменательный приказ по гвардейскому корпусу, коим
командиру одного из полков ставилось на вид, что
вверенные ему нижние чины позволили себе идти не в ногу...
изображая римских воинов в «Норме» *. В отсутствие Пи-
рогова произошла какая-то перемена в «выпушках и
петличках», и сиятельный Скалозуб * начал с того, что грубо
указал ему на несоблюдение формы, и кончил тем, что
приказал ему отправиться в Медико-хирургическую академию,
где его ожидало объявление строгого выговора, в самой
резкой форме, сделанное по приказанию министра. Чаша
его терпения переполнилась. Сознание неуважения к
самоотверженному служению науке отразилось на натянутых
за всю кавказскую работу нервах, они не выдержали, и с
Пироговым сделался истерический припадок*. Обливаясь
слезами и рыдая, он решил выйти в отставку и уехать
навсегда на чужбину, где его, конечно, лучше, оценили бы,
как это много лет спустя случилось с другим известным
хирургом. Русской земле грозила опасность потерять
человека, который уже тогда составлял ее славу, —
непререкаемую и растущую с каждым днем. Но судьба, на этот раз,
была милостива к нашей родине. Среди тогдашнего
благоденствия, которое, по словам Шевченки, выражалось в
гробовом молчании*, — на сквозном ветру ледяного
равнодушия к участи и достоинству человека — не погасал, но
грел и ободрял яркий огонек в лице великой княгини
Елены Павловны. Чужестранка, умевшая стать русскою
гораздо более, «чем многие по крови нам родные», искавшая и
207
защищавшая своим благородным сердцем выдающихся лю*
дей, — умиротворяющий элемент в николаевское время и
нимфа Эгерия первой половины царствования
царя-освободителя,— она заслуживает самой благодарной, а ввиду ее
настойчивой деятельности для отмены крепостного права —
даже умиленной памяти. Духовно приближая к себе
талантливых трудолюбцев на всех поприщах знания или
искусства, она, не щадя усилий, а иногда и материальных
жертв, умела, по выражению одного из современников,
«подвязывать им крылья», когда у последних не хватало
сил развернуться во всю ширь или когда они бессильно
опускались в минуты невольного отчаяния.
Слух о том, как Чернышёв «приструнил» Пирогова,
пошел по Петербургу, злорадно разносимый недругами
«проворного резаки». Дошел он и до Елены Павловны,
которая не знала Пирогова лично. Она поручила своей
ближайшей помощнице в деле распространения вокруг
себя света и тепла, баронессе Раден пригласить его к себе
и с молчаливым красноречием нежного участия протянула
ему руки. Пирогов, по словам Раден, был снова доведен до
слез, но эти слезы уже не жгли его, а облегчали. «Великая
княгиня возвратила мне бодрость духа, — писал он
впоследствии,— она совершенно успокоила меня и выразила
своей любознательностью, уважение к знанию, входила в
подробности моих занятий на Кавказе, интересовалась
результатами анестизаций на поле сражения. Ее обращение
со мною заставило меня устыдиться моей минутной слабо-
сти и посмотреть на бестактность моего начальства как на
своевольную грубость лакеев» *.
Чрез несколько лет Елене Павловне, пришлось явиться
уже не утешительницею, а вдохновительницею и
сотрудницею Пирогова в одном из благороднейших начинаний
прошлого столетия. В 1854 году над Россией разразилась
травматическая эпидемия, как называл Пирогов войну. На
юге, в Севастополе происходил почти непрерывный,
тяжелый и кровавый бой между явившимися на поле битвы в
всеоружии новейших военных усовершенствований англо-.
турецко-сардинско-французскою армией и флотом — и
русским солдатом, проявлявшим, по словам Л. Н. Толстого,
«молчаливое, бессознательное величие, твердость духа и
стыдливость пред собственным достоинством» *. Но наш
серый герой, вымуштрованный на парадах и смотрах и не
подготовленный к настоящему сражению, был вооружен
208
плохо и отстала. В сущности ему было труднее жить, чем
умирать. Но он умел встречать смерть с трогательным
простодушием. Заслуженный генерал рассказывал мне
следующий эпизод из последних дней жестокой
бомбардировки многострадального Севастополя, когда в день выбывало
из строя ранеными и убитыми до трех тысяч человек:
начальник, которого рассказчик, будучи еще молодым
поручиком, сопровождал ночью на позиции, не мог удержаться
от горестного восклицания при постоянной встрече с
носилками, на которых несли умирающих. Из темной массы
живого «прикрытия», лежавшего на земле, поднялась чья-
то голова и ободряющий голос произнес: «Ваше
превосходительство,— не извольте беспокоиться: нас еще дня на
три хватит!»
Туда, в эту citta dolente1, стремился Пирогов, прося о
разрешении отправиться, — но прошение его тонуло в
разных канцелярских болотах почти четыре месяца, оставаясь
без ответа. Он потерял терпение и решился написать
великой княгине Елене Павловне, и она немедленно
пригласила его к себе. «Она мне тотчас объявила, — писал он
баронессе Раден, — что взяла на свою ответственность
разрешение моей просьбы — и тут же объяснила свой
гигантский план основать организованную женскую помощь
больным и раненым на поле битвы, предложив мне самому
избрать медицинский персонал и взять управление всего
дела. Никогда не видал я великую княгиню в таком
тревожном состоянии духа, как в этот день, в эту памятную
для меня аудиенцию. Со слезами на глазах и с
разгоревшимся лицом она несколько раз вскакивала со своего
места, как будто бессознательно прохаживалась большими
шагами по комнате и говорила громким голосом: «И зачем
вы ранее не обратились ко мне, давно бы ваше желание
было исполнено, и мой план тогда тоже давно бы
состоялся... Как можно скорее приготовьтесь к отъезду... времени
терять не следует... на днях, быть может, опять
произойдет большая битва. Прощайте... или нет... подождите... я
еще что-то хочу вам сказать насчет организации моей
общины... или нет, зайдите-ка лучше ко мне завтра в этот
же час. До свидания!» Я вышел, запутался в комнатах и
после некоторого странствования очутился опять у двери
аудиенционной комнаты и увидел великую княгиню. Она
1 Скорбную обитель (итал.).
14 А. Ф. Кони, т. 7
209
стояла в глубоких думах или начинала с волнением
прохаживаться по комнате. К вечеру того же дня она известила
меня, что просьба моя принята, а на другой день я с
большим вниманием выслушал от нее, как она желала устроить
женскую службу — перевязочными пунктами и
подвижными лазаретами» *.
Идея необходимости деятельной частной помощи на
войне была достойна Елены Павловны и Пирогова. Там,
где «травматическая эпидемия» неизбежна, ум и сердце
мыслящего и чувствующего человека неизбежно должны
вступать во вражду. Человеческий ум, в этих случаях,
напрягает все усилия на истребление, на избрание способов
вызвать возбуждение слепой храбрости, — человеческое
сердце взывает к пощаде, к милосердию; оно мимолетному
опьянению безумной отваги противоставляет постоянный
подвиг, вырывает из рук смерти губительную косу и
заменяет ее, по прекрасному выражению Баратынского,
оливой мира*, и в виду врагов напоминает о страждущих
братьях. Hostes vulnerati — fratres! l
Кто мог осуществить эту высокую задачу, требующую
терпения и нежности, самозабвения в упорном труде и
неослабной внимательности к насущным мелочам? Женщи~
на, — решила Елена Павловна, понимавшая, что высшее и
лучшее призвание женщины в жизни — иногда, исцелять,
часто помогать и всегда облегчать. Женщина,— подтвердил
и Пирогов, вероятно вспомнивший при этом свою
деятельную и глубоко-сведущую берлинскую помощницу в
изготовлении препаратов из области хирургической анатомии —
девицу Фогельзанг. По опыту жизни он знал, что
равноправие женщины с мужчиной должно осуществиться не на
почве одинаковой свободы в служении страстям, но на
почве труда, доступ к которому должен быть ей открыт до
предела ограничений, указываемых исключительно ее
физической природой, в осуществление слов книги Бытия:
«Мужа и жену создал их, человека создал их» *. Тайные
и грязные насмешки сопровождали оглашение плана
великой княгини и Пирогова, — явное противодействие
встретило его со стороны высшего военного начальства,
боявшегося нарушения военной дисциплины внедрением в
военную администрацию особо управляемой общины. Но Елена
Павловна успела успокоить в этом отношении императора
1 Раненые враги — братья! (лат.).
210
Николая и умела стать выше насмешек, зная, что у иных
людей низменные побуждения и пошлое отношение к
жизни накопляют столько грязи на дне того, что они называют
своею душою, что, делаясь подобными скульптору, они
лепят изображения и других людей все из той же своей
собственной грязи... Октября 25-го 1854 г. был утвержден
устав Крестовоздвиженской общины, 5 ноября после
обедни растроганная великая княгиня сама надела каждой из
первых 35-ти сестер крест на голубой ленте, а 6-го они уже
уехали. За первым отрядом последовал ряд других, и так
возникла первая в мире военная община сестер
милосердия. В этом деле Россия имеет полное право гордиться
своим почином. Тут не было обычного заимствования
«последнего слова» с Запада, — наоборот, Англия первая
стала подражать нам, прислав под Севастополь недавно
умершую мисс Найтингель, со своим отрядом, причем отряд
этот имел частный характер. Здесь не место говорить о
том непрестанном и глубоко человечном подвиге, который
совершили сестры Крестовоздвиженской общины в
Крымскую войну. В страницы ее истории вписано не только
самоотверженное, доходившее до геройства и личной
гибели, облегчение страданий раненым и умирающим, но и
светлое нравственное утешение, которое сестры вносили
в угасавшую жизнь безвестных защитников Севастополя.
Обращение умирающего солдата к сестре Бакуниной со
словами: «Сестрица, пройдите еще раз мимо», служит
лучшим указанием на ту возвышенную роль, которая выпала
на долю созданию Елены Павловны и Пирогова, созданию,
послужившему прототипом для великого начинания
недавно смежившего очи Анри Дюнана, основателя общества
Красного Креста *. После первого опыта учреждение
сестер Красного Креста, преобразуясь и расширяясь, из
годин мрачных воспоминаний вышло на мирную борьбу с
эпидемиями и голодом. И ныне, кроме
Крестовоздвиженской общины, Россия насчитывает еще восемьдесят общин
с двумя тысячами двумястами сестер.
В Севастополе сестер ожидал Пирогов, которому, кроме
борьбы со всевозможными местными условиями, с явным
недостатком перевязочных средств и медикаментов и
наглым расхищением их, доходившим до продажи во
французские госпитали нащипанной во всей России корпии,
приходилось испытывать канцелярские придирки ближайшего
начальства и недоброжелательство главнокомандующего.
14*
211
Светлейший князь Меншиков, необычайно храбрый в
защите крепостного права при освобождении крестьян и
«застенчивый» с неприятелем, обложившим Севастополь,
встретил Пирогова вопросом, не придется ли с прибытием
сестер открыть отделение для лечения венерических
болезней. Последний запечатлел его образ в своих письмах к
жене. «Он сидел у себя, — писал Пирогов, — скрытный,
молчаливый, таинственный, как могила, наблюдая погоду
и ища спасения для русской армии только в стихиях;
холодный и немилосердный к страждущим, он только
насмешливо улыбался, когда ему жаловались на их нужды
и лишения, и отвечал, что «и хуже бывает» *. Можно себе
представить, что должен был переживать Пирогов в
сношениях с этим—по счастливому выражению одной из
биографий Николая Ивановича — нерадивцем
человеческого рода. Но он не унывал и весь отдался святому делу,
на которое, терпя всякие лишения, приехал. Во время и
после трехдневной бомбардировки Севастополя через его
руки прошло до пяти тысяч раненых, а за всё время осады
он сделал до десяти тысяч операций. В своих
воспоминаниях о Севастополе Николай Берг рисует тяжелую
картину главного перевязочного пункта в залах морского
собрания: везде стоны, крики, бессознательная брань
оперируемых под наркозом, пол, залитый кровью, и в углах кадки,
из которых торчат отрезанные руки и ноги. И среди всего
этого задумчивый и молчаливый Пирогов, в серой
солдатской шинели нараспашку и в картузе, из-под которого
выбиваются на висках седые волосы, — все видящий и
слышащий, берущий в усталую руку хирургический нож и
делающий вдохновенные, единственные в своем роде
разрезы *.
«Травматическая эпидемия» вновь и с особой силой
раскрыла перед Пирогозым ту нравственную гангрену,
которая разъедала современную ему Россию, и показала всем,
имеющим очи, что за блестящим фасадом государственного
устройства гнездились убожество, всяческая нищета и
бессилие— и копошились болезнетворные начала
своекорыстия, насилия и продажности. Надо было лечить
одновременно учреждения и людей, законы и нравы. Одним из
поприщ для такого лечения являлось воспитание молодого
поколения, и Пирогов охотно принял предложенное ему,
не без влияния великой княгини, место попечителя
учебного округа сначала в Одессе, а потом в Киеве *. Он не
212
ставил себя в положение начальника учебного сословия и
университетской ученой коллегии, как это делалось
впоследствии нередко людьми, не имевшими и десятой доли
его научного авторитета и заслуг. Он смотрел на себя, как
на умудренного опытом жизни старшего товарища своих
подчиненных и советника в важном и ответственном деле
воспитания, которому он придавал гораздо большее
качественное значение, чем стремлению количественно
наполнить юные головы пестрым знанием. Вдумчивый
наблюдатель жизни, сам проходивший ее суровую школу, он знал,
что ценность цивилизации определяется стоимостью
человека, стоящего в ее центре, его нравственным достоинством
и направлением его деятельности. Поэтому на
нравственное развитие юношества обращал он особое внимание и в
душе молодежи и тех, кто был призван ею руководить, он
стремился возбудить жажду правды и отвращение к
житейской условности и лжи. Быть, а не казаться * — было
нравственным заветом, проходившим красною нитью чрез
все его труды, как попечителя и педагога. Ряд своих
замечательных статей, посвященных «вопросам жизни», он
начал эпиграфом, в котором на вопрос: «Чем вы готовите
быть вашего сына?» — содержался краткий, но
многозначительный ответ: «Человеком» *. Этому человеку он
настойчиво предлагал пристально вглядываться в свой
внутренний мир, строго проверять свои ощущения и упорно
бороться с притаившимися на дне души низменными
вожделениями и нечистыми помыслами. Рисуя путь
нравственного самоусовершенствования, он ставил в конце его, как
повелительный идеал, любовь к людям, как бы говоря
своим читателям и слушателям словами великого польского
поэта: «Имейте сердце и глядите в сердце». Являясь
настоящим учителем жизни в своих речах, статьях и
распоряжениях, он постоянно поучал, что надо не только
призывать молодежь знать, где пути правды, но и научить ее
ходить по ним, указывая не только на пользу служения
нравственному долгу, но и на красоту последнего. В свое
время ему приходилось слышать нарекания за широкое
отношение, к чужеродцам и иноверцам. Доживи он до наших
дней — вероятно, эти нарекания обратились бы в
ожесточенные упреки, но они по отношению к Пирогову были бы
Лишены всякого основания. В его любви к России, в
желании ей блага, в его понимании русского человека и горячем
21S
служении его интересам, нуждам и недугам — невозможно
сомневаться. Вся его деятельность являла собою не только
нравоучительный пример заботы, но и «святого
беспокойства» о судьбе русского человека. Последние страницы его
дневника служат ярким выражением скорбей, тревог и
упований истинного патриота. Но он был чужд узкой
нетерпимости, которая не хочет видеть и признавать чьих-либо
достоинств и прав вне своего племени и вся ощетинивается
при слове «чужой». Ясному уму и широкому сердцу Пиро-
гова был несвойствен тот взгляд, который наглядно
выражен в одном из старых русских изображений страшного
суда, где по бокам извивающегося змия ангелы ведут
праведников в рай, бесы же тащат свою добычу в геенну, а
внизу изображены в отдельных клеточках терзающиеся в
пламени грешники, причем над каждой клеткой надписан
и грех, повлекший за собою вечную кару: «прелюбодей»
надписано над одной, «клеветник» — над другой,
«чревоугодник» и так далее до последней, над которой надписано
«немец».
Отсутствие рутины во взглядах Пирогова и слишком
резкое отступление его от обычного типа попечителей
вызвало трения, разногласия и столкновения — и Пирогов
был представлен как беспокойный и несоответствующий
той в высшей степени неопределенной вещи, которую было
принято называть «видами правительства». Ему было
предложено быть членом совета министра народного просвещен
ния, т. е. одним из членов безвластной коллегии. Но позо^
лоченные пилюли не входили в число медикаментов, допу
скаемых Пироговым, сказавшим в одном из своих трудов,
что виляние, нерешительность и неоткровенность
непременно приводят человека к пагубному разладу с самим
собою, к несогласию действий с убеждениями, -к упрекам
совести и к нравственному самоубийству. Он решил
остаться на своем посту ждать своего увольнения в отставку.
Вот что писал он баронессе Раден 26 ноября 1860 г. в
письме, еще нигде не напечатанном: «Глубокоуважаемый
друг мой! Наконец осуществилось то, что я
предчувствовал в течение пяти лет. Министр народного просвещения
дал мне знать, что сильная интрига очернила меня и что
он не уверен в том, что ему удастся защитить меня и мой
образ действий... Мне советуют принять другое предлагае-
214
мое мне назначение и немедленно редактировать в этом
смысле мое прошение об отставке, чего я, конечно, не
сделаю. Зачем я стану упорствовать в моих попытках быть
полезным отечеству моею службою. Разве они не убедили
меня в том, что во мне не хватает чего-то, чем необходимо
обладать, чтобы быть приятным и казаться полезным«
Правда, средства мои не блестящи, тем не менее я настоль-:
ко доверяю своим силам и уповаю на милость бога, что
надеюсь не умереть с голоду и довести воспитание своих
детей до конца. Чего нам, людям, еще нужно? Стремление
к высшим целям и душевный покой, а следовательно,
счастье— в нас, а не вне нас, а с этим можно прожить
недурно. Итак, я решил спокойно ждать отставки, благодаря
бога и за то, что он сохранил мне чистую совесть и неза-:
пятнанную честь. Я могу сказать, положа руку на сердце,
что, вступив на скользкий путь попечителя округа, я
старался всеми силами и со всею свойственной моей душе
энергией оправдать перед своим отечеством высокое
доверие, мне оказанное. Завершая свою служебную карьеру,
прошу Вас передать великой княгине, что я высоко ценил
ее поддержку в трудные минуты моей пятилетней службы
и не совершил ни одного поступка, которого не мог бы
оправдать пред судом своей совести. Больше этого я не
мог сделать, но сделать это было для меня священным
долгом. Я знаю, что мне придется выслушать массу не--
приятностей, что в то время, когда я, объявленный
неспособным к труду, буду в качестве земледельца зарабатывать
себе кусок хлеба, — на меня посыпятся разнообразные об-:
винения. Да будет так! Так создан свет и таково течение
жизни, на которое надо смотреть со стоическим
равнодушием. Слава богу, что моя надежда на Провидение рисует
мне предстоящую новую жизнь такою же привлекатель-.
ною, как и тогда, когда я, по возвращении из Севастополя,
хотел удалиться в деревню. Самолюбие мое тоже удовле-.
творено. Друзья мои, среди которых было мало глупцов,
меня любили, а враги, среди которых было немало
слабоумных, меня не понимали. Такими результатами жизни
еще можно довольствоваться. Новое поприще, на которое
решаешься вступить, будучи пятидесяти лет от роду,
конечно, не отличается устойчивостью, но если человек
здоров, то можно добиться результатов и на этом шатком
пути. Лучше начать слишком поздно, чем слишком поздно
кончить».
215
Прощаясь со студентами в Киеве, Пирогов высказал
свое profession de foi1 о том, что законность и порядок,
вызываемые доверием и примером, должны упрочить
нравственную свободу университетской жизни, а последняя
должна развить самодеятельность и любовь к науке, кото-
рые оградят Университет от посторонних его целям
стремлений. «Мои труды и работы, —- сказал он, — были
награждены вашим доверием, и если я заслужил, чтобы вы меня
помнили, то это всего более докажут те из вас, которые
оправдают своею жизнью мое доверие, любовь и уважение
к вашей молодости. Расставаясь с вами, я буду счастлив
тем, что оставался верным своим началам, и если не довел
ни одного из вас до истинного счастья, то по крайней мере
не сделал никого по моей воле несчастным. Итак,
прощайте! Служите верно науке и правде и живите так, чтобы,
состарившись, вы могли безупречно вспоминать вашу и
уважать чужую молодость» *.
Удалившись в частную жизнь, Пирогов не опустил рук
и осуществил высказанную им однажды мысль: «Кто умеет
вовремя привыкнуть и отвыкнуть, тот постиг жизнь» *.
Для него постигнутая им жизнь была непрестанным
трудом в саду и поле, в кабинете и библиотеке. Когда
раздался благовест освобождения крестьян, он возымел
намерение сделаться мировым посредником и стал изучать
Положение 19 февраля. Но ему предстояло другое. К нему
можно было обратить слова поэта: «Иные ждут тебя
страданья, других восторгов глубина» *. Когда из-за стены
условностей, формальностей и чиноначалия,
преграждавшей ему путь, его звал властный голос жизни, он твердо
отвечал: «Я здесь!» и бескорыстно шел на службу
человечеству. Так откликнулся он на призыв министра народного
просвещения Головнина, благородного друга и
сподвижника великого, князя Константина Николаевича в
реформах шестидесятых годов, и, переселившись в Лейпциг, стал
руководителем молодых русских ученых, оставляемых при
университетах и отправляемых в заграничные
командировки для усовершенствования. В этой высокой и нравственно
плодотворной роли он пробыл до половины 1866 года.
Провидение охранило жизнь царя-освободителя от
преступного выстрела Каракозова, и каждый, переживший это
время, конечно, помнит тот искренний и единодушный вос-
1 Кредо, твердое убеждение (франц.).
216
торг, которым была. встречена весть о его спасении. Эта
радость, объединившая народ и широкие круги общества
в одном чувстве, не помешала, однако, к сожалению,
близоруким людям, стоявшим в сфере власти, положить на
одну чашу политических весов ярко выраженные чувства
всего народа, а на другую маленькую группу людей,
желавших, в самонадеянном ослеплении, повернуть ход истории
по-своему. Давши перевес второй чаше, как показателю
нового необходимого направления внутренней политики,
они остановили органическое развитие реформ
государя и стремились вызвать в его душе сомнения в том, что
он осуществлял с таким великодушным довериемчк своему
народу. Им удалось заменить Головнина новым министром,
деятельность которого наложила отпечаток своей узкой
односторонности на многие годы русского просвещения.
Одной из первых жертв нового курса был Пирогов *. Эра
лишенного внутреннего содержания, формального и меха-^
нического классицизма, бесплодно обращенного в
политическое орудие, началась, между прочим, с признания руко-
водительных трудов Пирогова совершенно ненужными.
Ему было объявлено без всяких мотивов, что он
освобожден от исполнения своих обязанностей. Отставленный от
русского просвещения и оскорбленный в душе, Пирогов с
достоинством внешнего спокойствия удалился в деревню.
Мы знаем несколько его портретов. На высоком открытом
челе его не замечается продольных морщин — следов, по
мнению физиономистов, страстей и волнений, но уже в
ранние годы лежит над переносьем поперечная морщина —
признак глубоких дум и душевных страданий. После
1866 года она становится заметно глубже и обличает,
какая скорбь была им пережита. С этих пор деятельность
Пирогова утрачивает свой, так сказать, хронический
характер, но каждая «травматическая эпидемия» вновь
возбуждает и обостряет ее, давая Пирогову возможность
послужить человечеству сволми знаниями и из страданий этого
человечества почерпнуть новый материал для опытного
знания, обогащая его разработкою вопросов эвакуации
раненых и новых приемов военно-полевой хирургии. Так
продолжает он работать, — подобно старому воину, который,
услышав бранный призыв, спешит надеть боевые доспе-.
хи, — ив франко-германскую и в восточную войны, пока,
среди юбилейных торжеств и общего признания, ему не
приходится услышать в 188t году призывный голос смерти
217
и бестрепетно перейти в ее объятия *. Оставляя жизнь, он
мог сказать то же, что сказал Пастер на своем юбилее,
незадолго до смерти: «Я непоколебимо верю, что наука и
мир восторжествуют над невежеством и войной, что
народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для
созидания и что будущее принадлежит тем, кто сделает
более для страждущего человечества».
Оставленный Пироговым «Дневник старого врача» *
дает возможность заглянуть в его душу не как
общественного деятеля и знаменитого ученого: он дает возможность
услышать голос сердца человека, того человека, которого
Пирогов хотел воспитать в каждом юноше. Это сердце
преисполнено глубокой и трогательной веры в высший
Промысел и умиления перед заветами Христа. Жизнь учит,
что Христос имеет много слуг, но мало действительных
последователей. Одним из последних был Пирогов.
Наблюдение над жизнью, к великому сожалению, показывает,
что цепь злых дел в нашем печальном существовании
почти непрерывна и трудно расторжима. Но звон, и лязг, и
ложный блеск этой цепи не заглушают и не скрывают
звеньев цепи добра. В сороковых годах трогательный
московский человеколюбец доктор Гааз писал своему
воспитаннику Норшину: «Самый верный путь к счастью не в
желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других
счастливыми, т. е. внимать их нуждам, заботиться о них,
не бояться труда, помогать им советом и делом; словом —
любить их». А вот как определял Пирогов много лет
спустя в своих стихах, — ибо и он писал стихи, — в чем
состоит счастье жизни: «Быть счастливым счастьем других...
участьем согреть холодное сердце, любовью коснуться,
иссохшей души» *. Поэтому он считал злом всякое насилие
над чужим и своим чувством и на склоне лет горячо
упрекал себя за страдания, причиненные животным при
вивисекции, и за грубое слово, сказанное сорок лет назад
больному при операции камнедробления. Вот почему со многих
страниц дневника звучит нежное сострадание к
человеческим скорбям и теплое, любовное отношение ко всему
окружающему, за которое он старается мыслить и
чувствовать, подобно древнему брамину, взирающему на окру-,
жающий мир и говорящему себе: «Это тоже ты!»
Наш известный историк Соловьев говорит, что народы
любят ставить памятники своим выдающимся людям, но
эти люди своей деятельностью сами ставят памятник свое-*
218
му народу. Такой памятник поставил и Пирогов, проела-?
вив русское имя далеко за пределами своей родины. Во
дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах родины
Тургенев не хотел верить, чтобы могучий, правдивый рус-«
ский язык не был дан великому народу *. Но не то же ли
самое можно сказать и о лучших представителях этого
народа? И когда среди тумана печальных явлений и свойств
нашей повседневной действительности вспомнишь, что наш
народ имел Петра и Ломоносова, Пушкина и Толстого,
чья недавняя кончина сжала наши сердца великой
скорбью *, что он дал, наконец, Пирогова, то нельзя не
верить, что этот народ не только может, но и обязан
иметь светлое будущее..
«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»*
(Февраль 1911 г.).
В старом редакционном
кабинете «Вестника
Европы», с окнами, выходящими на узкий двор
многоэтажного дома, над которым тяжело нависло унылое
петербургское небо, — пусто... Все в нем потемнело и многое
потерпело от времени, но каждая вещь, каждый портрет связаны
-с дорогими воспоминаниями о тех, кто был близок к
хозяину *. А большинство близких были люди, выдающиеся
своими талантами и общественными заслугами. В кабинете
этом в течение сорока лет чувствовалось биение пульса
передовой части русского общества, с ее разумными
требованиями и жизненными потребностями, — с ее надеждами,
разочарованиями и скорбями. По обмену мыслей, здесь
происходившему в дружеской и доверчивой беседе, можно
было судить о состоянии этого пульса, — редко полного,
часто «нитевидного», в последние годы лихорадочного,-—■
и ставить приблизительный диагноз для всего организма/
Здесь, за рабочим столом, забаррикадированный
громоздкими изданиями Ровинского *, многие годы заседал Пы-
пин, «мудрый, как змий, и чистый, как голубь» *. Здесь
бывал Костомаров, умевший переплетать глубокое знание
прошедшего со своеобразным юмором по отношению к
настоящему. Сюда вторгался кипучий, полный жизни и
новых оригинальных взглядов Владимир Стасов. Здесь
раздавалась неуклюжая и порывистая, но полная глубокого
содержания и ума речь Спасовича. Здесь появлялись
благородные, нелицемерные слуги и проводители в жизнь
великих реформ Александра II — К. К. Грот и
«человеколюбивый страж закона» В. А. Арцимович; блистал зна-
220
нием России и верой в нее и загорался в спорах Кавелин,
и сиживал в глубокой задумчивости, поглощенный
внутренней работой духа, или острил и заливался детским
незлобивым смехом Владимир Соловьев. Здесь, наконец,
часто появлялись Тургенев и Гончаров, Алексей Жемчуж-
ников, Сеченов и Ключевский. Их всех, несмотря на
разнообразие их темпераментов и частичных взглядов, соединял
и объединял хозяин своим спокойным радушием и
участливым пониманием, чуждым фамильярности, но
проникнутым той внимательностью, за которой чувствуется
стыдливое во внешних проявлениях, но чуткое сердце. Кажется,
что сейчас в свой опустевший кабинет войдет и он сам и
усядется за свой рабочий стол, за которым проводил
долгие часы невидной, упорной и трудной редакторской
работы, сменявшейся собиранием и изучением материалов по
городскому общественному управлению и составлением
отчетов и докладов по народному образованию *. Он войдет,
как всегда, бодрый и приветливый, тщательно одетый, со
старческим румянцем на оживленном лице, обрамленном
седой бородой, и вдумчиво отзовется,—часто облекая свою
мысль в форму остроумной шутки, — на то, что волнует
или занимает пришедшего.
Но он не войдет... На стенке кабинета, на которой он
укреплял, подавляя невольный вздох, портреты умерших
«сотрудников жизни» *, может отныне по праву
прибавиться и его изображение. Да! И он был «сотрудником
жизни» не только окружавших, не только занявших место
на этой стенке, но и сотрудником общественной жизни
своей родины, никогда не терявшим бодрости, не опускавшим
рук «в немом бездействии печали» * и не терявшим веры
в право и способность своего народа на лучшее будущее.
На своей профессорской кафедре в Петербургском
университете и в своих ученых работах* он умел одновременно
быть, следуя выражению Бэкона, и муравьем, собирающим
материал, и пчелой, распределяющей его: умел вносить в
преподавание истории философию истории,
присматриваясь к событиям прошлого как к одновременному
пророчеству, приговору и откровению общечеловеческих идей.
Но когда он почувствовал себя нравственно обязанным
оставить эту кафедру, он сделал это без малодушных
колебаний и отдался кабинетному труду редактора ученого
сборника. Этот сборник — «Вестник Европы» — силою
назревшей общественной потребности обратился в
221
литературно-политический журнал, и Стасюлевичу
пришлось сразу стать на боевой пост *. Это было время
крутого перелома в официальных взглядах на задачи и
характер средней школы. Вместо гуманизма, лучшим
представителем которого был Пирогов с его «Вопросами жизни» *,
стал насаждаться толстовский псевдоклассицизм,
заимствовавший из античного мира одни убивающие «душу живу»
грамматические упражнения и — быть может
сознательно— проглядевший античный дух и его бессмертные
образы *. Рекомендованная великим врачом-педагогом цель
средней школы — «воспитать человека», который сумеет
«быть, а не казаться», — была извращена ради
политической задачи: втиснуть живую впечатлительность
отрочества в узкие рамки мертвящей схоластики. В своем
журнале Стасюлевич бросил вызов этой системе и во
всеоружии знания, опыта и деятельной любви к подрастающему
поколению, настойчиво, «ohne Hast, ohne Rast» **, пошел по
преисполненному терний и огорчений пути печатной
борьбы с теми, кого он, — заимствуя это выражение у Гюго из
«L'homme qui rit»2, — называл «компрачикосами»*.
Долгие годы упорствовал он в этой борьбе, постоянно
расширяя ее поле, по мере того, как подвергались сужению
и разнообразному членовредительству реформы
Александра II. Руководимый им «Вестник Европы» в сдержанных
по форме, но сильных и глубоких по содержанию статьях *,
постоянно и неуклонно проводил мысль, прекрасно
выраженную Ламартином, сказавшим в одной из своих речей
в Национальном собрании: «Il у a quelque chose de plus
cruel que la cruauté personnelle — c'est la cruauté froide d'un
système faux» 3. Все, что в политике нашего внутреннего
управления обличало временно торжествующее, но тщетное и
утопическое желание остановить ход истории, которая, по
мнению некоторых из представителей этого направления
в жизни и печати, должна была начинаться с них, —
встречало отпор разносторонней и правдивой критики на
страницах «Вестника Европы». Редактор из года в год
усидчиво, неустанно и твердо правил рулем того «большого
корабля» в нашей журналистике, который был им
построен, зорко наблюдая, чтобы корабль этот совершал свой
1 Не торопясь и без отдыха (нем.).
2 «Человека, который смеется» (франц.).
3 Есть нечто более жестокое, чем личная жестокость, это — холодная
жестокость ложной системы (франц.).
222
путь, по петровскому выражению, «не рабствуя
лицеприятию, не болезнуя враждою и не пленяяся страстями». Это
было нелегко... В последние двадцать пять лет,
предшествовавшие 1904—1905 гг., фарватер для плавания очень
сузился и стал изобиловать мелями и подводными
камнями. В отечестве нашем, богатом возможностями и бедном
действительностью, с начала этого времени стали
раздаваться, в тоне торжествующей неотразимости, забытые
после реформ шестидесятых годов слова и проводиться
давно отвергнутые взгляды, всплывавшие на поверхность
подобно телам утопленников. Характеризуя это время,
Стасюлевич писал одному из своих сотрудников: «Не
помню, кто именно сказал, -что есть архитекторы, которые
думают, что надо заложить камнями трубы, чтобы печи
перестали дымить, а когда дым идет назад, они сердятся и
неспособны догадаться, что всему виною их невежество.
Это невежество ползет теперь со всех сторон». «Вестнику
Европы» приходилось из месяца в месяц оправдывать те
начала, которые считались почти непререкаемыми во время
его основания, — упорствовать в защите учреждений,
которым под видом перестроения грозило разрушение, и идти
своей дорогой под ядовитые упреки в «прямолинейном
либерализме». И это надо было делать среди разных
препятствий, с тревожным ожиданием выпуска книжки из
цензурного «чистилища», с призывами редактора «для
объяснений», с перенесением недомоганья «переверстки» и
тяжелых операций вырезывания статей, под домокловым мечом
двух предостережений *, для которых не существовало
давности, — делать, сохраняя наружное спокойствие, серьезное
приличие тона и отнюдь не вступая в бранчивую полемику,
одним словом, следовало осуществлять старый латинский
завет: «Certa viriliter, sustine, patienter» *. В одном из писем
своих, относящихся к 1890 году, описывая свои цензурные
«злоключения», он цитировал стихи Щербины:
У нас чужая голова,
А убежденья сердца хрупки,
Мы — европейские слова
И — азиатские поступки *.
Однако критика и отметка печальных явлений
действительности лишь со слабой надеждой на пробуждение когда-
нибудь творческих сил в другом направлении, на
1 Бороться мужественно, переносить терпеливо (лат.).
223
возвращение законодательной жизни в покинутое русло
прерванных преобразований — не могли удовлетворять
запросов созидательного ума Стасюлевича. Ему нужен был
выход — и он нашелся в виде деятельного, свыше
тридцатилетнего, участия в общественном самоуправлении
Петербурга. Усердно работая по всем общим вопросам этого
самоуправления, участвуя «прилежно» в заседаниях
городской думы и тех ее комиссий, в которых он бывал членом и
председателем, Стасюлевич в особенности облюбовал себе
одну отрасль работы на пользу городского населения:
народное образование *. Этому делу он отдался всей душой.
Помыслы и заботы о нем неразрывно сплелись с его
существованием в течение многих лет. Председатель комиссий
по водоснабжению и по народному образованию, почетный
мировой судья, историк деятельности думы по
осуществлению Городового положения, не искаженного
последующей реформой 1892 года, почти постоянный делегат города
в земстве, он заработал себе завидное право сказать, что
послужил и городу Петербургу и народному образованию
всеми силами души. Но надо было видеть его на
освящениях новых обширных училищных зданий, на актах и
школьных празднествах, среди толпы собранных им детей;
надо было посетить вместе с ним несколько городских
училищ, чтобы понять, сколько любящего сердца и
деятельной воли вкладывал он именно в школьное дело... Недаром
приняв в свое заведование 262 городских училища и 8
воскресных школ, он через десять лет оставил 344 училища,
с 22-мя тысячами учащихся, и 22 воскресных школы.
Переживший на два года золотую свадьбу своей безмятежной
семейной жизни, он не имел потомства, — и сердце его
широко открылось для чужих детей, раскрыв в своей глубине
сокровища чувства и понимания, скрытые для
невнимательного взгляда его внешним «сухим», по мнению
поверхностных наблюдателей, обличием. «Ах! — писал он мне за
границу в 1888 году, — как жаль, что вы не могли вместе
со мной быть на годовом акте городских училищ в
большом зале думы, взглянуть на эти ангельские личики,
слышать их сладкое пение и видеть их радость! Я не мог с
ними расстаться и все удерживался, чтобы не
прослезиться. А если мы пройдем чрез Кавдинское ущелье в образе
разных препятствий и возражений, у нас чрез год будет
еще несколько училищ»... Но не в одном деле народного
образования послужил он Петербургу. Его настойчивости
224
и энергии обязана столица устройством водопроводных
фильтров в 1889 году*. Теперь они — без разных
технических усовершенствований и переустройства — не
удовлетворяют нужде в совершенно чистой воде, но в свое время
составили огромный шаг вперед в санитарном отношении.
Эти две деятельности — городская и редакторская —
поглощали все время Стасюлевича, давно уже заставив его
отказаться от каких-либо развлечений или светских
общественных собраний. Но в пределах их трудовая жизнь его
текла, несмотря на переживаемые им внутренние тревоги,
размеренно и со спокойствием строгой точности. Лишь
однажды эта уравновешенность в деятельности Стасюлевича
подверглась опасности поколебаться. Я живо помню ночь
на 1 января 1881 г., когда все обычные собеседники за
«круглым столом», собравшись встречать Новый год у
Стасюлевичей, терпеливо ждали до двух часов появления
совсем еще сырого первого номера «Порядка» и пили за
процветание и долголетие последнего. Это было
осуществлением давнишней мечты Стасюлевича о необходимости
издания большой политической газеты одного направления
с «Вестником Европы» *. Казалось, что многое слагалось
благоприятно для успеха такого предприятия, С
вступлением графа Лорис-Меликова в управление внутренними
делами повеяло свежим воздухом, с печати фактически
были сняты наиболее тяжелые путы, а ряд сенаторских
ревизий и предложенный созыв сведущих людей для
обсуждения того, что будет этими ревизиями открыто,
знаменовали собой, хотя и довольно робкие, но все-таки
несомненные шаги по пути к дальнейшему политическому
развитию общества*... Стасюлевич со свойственной ему
систематичностью взялся за мысль о новом издании, дававшем
возможность ежедневно беседовать с читателями о «злобе
дня» не в прошлом, а в животрепещущем настоящем. Так
возник «Правовой порядок», причем первая часть этого
названия подверглась цензурному усекновению. Как
выражение настроения присутствующих, был произнесен мною
шутливый тост, во вкусе хозяина, тогда же записанный им
«на память» и подписанный всеми. «Я желаю, — было
сказано мною, — чтоб новорожденный, вопреки законам
природы и природе вещей, пошел с первого же дня; чтобы все
почувствовали, что у него сразу прорезались все зубы;
чтобы никакая административная няня не налагала на него
пеленок и свивальников; чтобы, вопреки своему имени,
15 А. Ф. Kenn, т. 7
225
всех своих супротивников он приводил в беспорядок;
чтобы он учился говорить медленно и долго, так что многие,
многие годы от него слышали бы постоянно новое слово;
чтобы заботливые родители охраняли его от водяной и,
если ему суждено болеть, то чтобы его постигла лишь
английская болезнь, и чтобы — более чем странное
желание! — он с первого же дня начал плодиться и
размножаться». И действительно, с первых же своих номеров
«Порядок» занял видное и достойное место во вседневной
печати, неуклонно разбирая общественные вопросы с точки
зрения права и нравственного долга и давая читателям,
между прочим, такие чудные вещи, как тургеневские
«Отрывки из воспоминаний своих и чужих» *. Но роковое
событие 1 марта 1881 г.*, печальным образом отозвавшееся
на разных сторонах общественной жизни, не прошло без
последствий и для новой газеты.
Зайдя, 1 марта, после пребывания на докторском
диспуте профессора Фойницкого *, в редакцию «Порядка», я
застал там «короля репортеров» Шрейера *, который со
слезами сообщил о кончине государя. На заявление мое
об обязанности газеты высказаться, в такой исторический
момент прямодушно и решительно, мне сказали, что в
типографию уже отосланы необходимые строки. На другой
день оказалось, однако, что краткость этих строк, их
неопределенность и некоторые могущие подавать повод к
двусмысленным толкованиям, неудачные и по форме
выражения возбудили почти общее недоумение и даже протест.
В тот же день Стасюлевич, извещая меня о впечатлении,
произведенном вышедшим 2 марта номером «Порядка» и
припоминая наш разговор накануне, настойчиво и
убедительно просил меня, в виде особой услуги, дать немедленно-
передовую статью, которая появилась бы 3 марта. Статья
была написана мною с лихорадочной поспешностью и
вызвала... телеграмму с горячей благодарностью от редакции
и воспрещение розничной продажи «Порядка» *.
«Скорбный флаг, — писал я, — веет над дворцом, где покоится
смертным сном верховный руководитель судеб России за
последние годы. Скорбные мысли непрерывною чередою
проходят в уме — и гнет совершившегося усиливается
тревожною сменою надежд и опасений. У всех невольно
возникает вопрос — где же средство против конвульсивных
потрясений, которыми горсть людей пытается, с отчаянною
самонадеянностью, ускорить или изменить органический
226
ход развития страны? Где ясные прямодушные указания
на причины болезни, которая заставляет целое государство
жить изо дня в день без разумного спокойствия и
уверенности в том, что, в общем порядке вещей, может и должно
быть завтра? Ни суровая репрессия последних лет, ни
примирительное направление истекшего года — не
уничтожили этой болезни.
Первая лишь принижала и обезличивала общество, —
вторая, давая лучшее сегодня, ничего верного не обещала
и не гарантировала на завтра. Начинают говорить, что и
против этого направления неизбежна реакция. Для нее без
сомнения найдутся сторонники и советники. Но совет их
будет продиктован или непониманием задач и истории
своей родины, или недобрым чувством. Нет, не о реакции,
пагубной для развития общества — и, быть может,
желательной для виновников потрясений, — надо говорить
теперь. В минуты исторической важности, в торжественные
минуты, когда весь народ клянется в верности своему
монарху, — необходима полная и бестрепетная искренность.
Дай бог, чтобы вблизи престола были теперь люди,
которые сказали бы: «Государь! Вы начинаете свое
царствование в трудную минуту, — когда тяжесть Вашего венца
усугубляется скорбью растерзанного сыновнего сердца. Но
идите смело по ступеням трона на Ваше великое
служение — и станьте — на страже порядка и законной свободы.
Да не смущается сердце Ваше! За Вами доверие Вашего
многомиллионного народа, — в Ваших руках его любовь, с
помощью которой можно все сделать. Будьте другом и
сберегателем начал, вложенных в великие реформы Вашего
родителя. Пусть, как дым, разлетятся сомнения в том, что
этим началам не суждено развиваться и дальше, и шире.,
Суровые меры стеснения доказали свою непригодность и
односторонность. Земля Ваша, государь, веками хранила в
себе и разум, и силы для государственного порядка и
уклада. Она поддерживала своею любовью Ваших предков,
она им вещала и с ними думала в годины тяжелых
бедствий. Спросите ее — в лице излюбленных людей. Что они
скажут, мы не можем в точности предсказать, но верно то,
что в одном чувстве, святом и глубоком, они тесно
сольются с Вами, государь, — в чувстве горячей любви к России.
А это чувство — залог всего хорошего для будущего... Вы
в расцвете сил, — перед Вами давно уже раскрыта книга
государственного управления — раскройте же душу народа
15*
227
Вашего и дайте выйти на свет желаниям, давно живущим
в ней. Они все имеют целью успокоение и развитие
России — и между ними главное — желание мирной славы
Вашему царствованию!»
Некоторые из авторов статей об общественном
движении семидесятых и девяностых годов долгое время
приписывали эту статью К. К. Арсеньеву.
Подкошенный воспрещением розничной продажи и
затем приостановкой на шесть недель, «Порядок»
просуществовал лишь один год, принеся издателю-редактору
немало материального ущерба и моральных тревог и
огорчений. Между последними на первом плане, конечно, стояли
административные кары и объяснения с цензурным
ведомством*. «Читаете ли вы «Порядок»? — писал Стасюле-
вич мне за границу в августе 1881 года. — По нему вы
можете судить, что мы строго выдерживаем щедринскую
программу: «Тихо, благородно — и при том свободно»... и
переливаем из пустого в порожнее, но все-таки находят, —
была опять беседа, — что мы и это невинное занятие
выполняем с какой-то продерзостью: история с «Голосом» —
лучшая иллюстрация нашего времени» *. Но независимо
от этого и между влиятельными сотрудниками произошли
большие разногласия по вопросам крестьянского
землевладения, а поставщики фельетонов и литературных
обозрений оказались более аккуратными в истребовании
«авансов», чем в доставлении своей работы. Тяжелые часы и
дни переживал в это время Стасюлевич. Независимо от
весьма чувствительных материальных жертв «Порядок»
требовал от редактора изнурительного и лихорадочного
труда. Последнему приходилось иногда, при содействии
кого-либо одного из не только «верных», но и
«достоверных» сотрудников, работать, не разгибая спины, до
поздней ночи, исправляя, составляя и сопоставляя передовые
статьи, заметки по «злобам дня», фельетоны и некрологи.
Каторжный труд одновременного редактирования двух
изданий, при щепетильно-добросовестном отношении Стасю-
левича к своим обязанностям, огорчительные мелочи и
тревожные для печати крупные явления жизни не могли не
влиять на его здоровье и душевное спокойствие. Он
проводил остаток своей ночи без подкрепляющего сна, в
полудремоте, прерываемой нервными пробуждениями. В
письмах его проскальзывали невольные вздохи измученной
души, которые он тщетно старался заглушить игрою слов,
228
какой-нибудь шуткой, латинским изречением или цитатой
из «Козьмы Пруткова» *. Но по внешности он постоянно
умел казаться ровным и спокойным.
Его наружная сдержанность, в связи с редкой, столь
необычной в наше время вежливостью, создала ему среди
не знавших его близко репутацию душевной сухости. А
между тем, этот «холодно корректный» и «застегнутый на
все пуговицы» человек, строго аккуратный и вечно
занятой, никогда не имевший времени на «пустопорожние»
разговоры— преображался весь и становился отзывчивым,
когда перед ним возникала действительная потребность в
его помощи, сочувствии, добром слове, а нередко и добром
деле, которое он умел делать так, что оно было слышно и
видно лишь для того, кого оно касалось. Но желавший
поговорить просто для того, чтобы «убить (ужасное по
своему— именно у нас — значению выражение) время»,
встречал в нем холодный отпор скучающего молчания. Он,
подобно многим, поставленным в такое же положение, по-
своему глубоко сочувствовал словам Чехова в «Доме с
мезонином»: «Сотни верст пустынной, однообразной,
выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один
человек, когда он сидит, бесцельно говорит и неизвестно,
когда он уйдет»...
Он весь был поглощен своим делом и, входя во все
мелочи, любил все делать сам. Ни одна строчка, ни один
знак препинания не проходили в «Вестнике Европы» без
его тщательной проверки. То же самое применял он и к
разным изданиям, проходившим через его строгие и
требовательные в смысле точности руки. Я не могу без
внутренней улыбки вспомнить, как летом 1878 года, в бретонском
городке Динаре он жаловался мне, показывая на
лежавшую перед ним корректуру стереотипного издания
«Записок охотника» *, на свое нездоровье, мешающее ему
исправить ее к предназначенному им сроку. «Да дайте ее мне, —
сказал я, — я исправлю ее за вас». Стасюлевич посмотрел
на меня с таким тревожным выражением, с каким смотрят
на тихого сумасшедшего, могущего, однако, впасть в
опасное буйство, и, не отвечая мне, свернул корректуру и
поспешно запер в ящик стола, очевидно, предоставляя мне
самому понять всю чудовищную неосновательность
сделанного ему предложения...
Держась правила царя Алексея Михайловича: «делу
время — потехе час» * — и понимая под этой потехой обмен
229
мыслей с друзьями за своей гостеприимной еженедельной
трапезой, он умел не расточать своего времени попусту и
не придавал никакой цены так называемым «добрым
малым». На мой отзыв о ком-то с прибавкой такого эпитета,
он сказал мне однажды: «Знаете ли — я убедился в жизни,
что эти добрые малые на практике обыкновенно
оказываются мало добрыми»... Поэтому он вступал в интимность
далеко не с каждым, зная по опыту, что у нас привыкли
считать одним из достоинств человека готовность иметь
«душу нараспашку» и предоставлять каждому без разбора
залезать в нее, заглядывая с бесцеремонным и бездушным
любопытством в ее сокровенные уголки и нередко наплевав
кругом, уходить, оставив открытыми двери, покуда
прозревший, наконец, хозяин души не запрет их на замок,
впуская только избранных... Мнение о черствости Стасю-
левича было так же неосновательно, как представление о
нем, как о крайнем радикале и «красном». Последний
эпитет, одно время щедро раздававшийся по отношению ко
всем, кто решался «сметь свое суждение иметь» * в среде,
где даже сложилось удивительное, хотя и
общеупотребительное выражение: «позволяю себе думать», — был
впрочем в одном отношении справедлив: Стасюлевич до конца
своих дней сохранил способность краснеть... за других.
Любивший родину настоящей любовью, желавший ей
спокойного, органического развития, чуждого судорожных
скачков и малодушных отступлений, он никогда не держался
крайних взглядов и не сочувствовал вытекающим из них
практическим мерам, с какой бы из противоположных
сторон они ни рекомендовались. Его самоотверженная,
любвеобильная деятельность по народному образованию была
совершенно свободна от всяких предвзятых, односторон-1
них взглядов; все, им делаемое в этой области, вытекало
лишь из объективного существа дела, не прошедшего ни
через какую субъективную призму. А его «Вестник
Европы» был старым, привычным, надежным и верным
своему слову другом читателя, приходившим в своей красной
обложке в начале каждого месяца, чтобы беседовать в
разных формах, начиная с художественной и научной и кончая
критической, о пестрых явлениях общественной жизни,
чтобы удерживать от погружения в тину эгоизма и апатии
и, среди ослепленных озлоблений, изрекать спокойное
слово, призывающее уважать человеческую личность, быть
широко терпимым к священным вопросам человеческого
230
духа и служить законной свободе, во всех ее видах. Ста-
сюлевич, со своим ясным, предусмотрительным умом,
любовью к порядку и труду, со своими организаторскими
способностями, был создан из материи «dont on fait les
ministres» l, как говорят французы, и лишь близорукая
предвзятость могла считать этого явного слугу и поборника
законной гражданской свободы тайным врагом
общественного порядка. А между тем именно эта предвзятость
повлияла в свое время на неутверждение его товарищем
городского головы по выбору петербургской думы *, — и я
помню недоумевающее и почти обиженное выражение лица
будущего министра внутренних дел Плеве, которому во
время ежегодного обеда московских студентов, в 1900 году,
на его предостерегающий «товарищеский» упрек по поводу
моего сотрудничества «у Стасюлевича», я ответил
искренним сожалением, что наше многострадальное министерство
народного просвещения не вверено именно этому самому
Стасюлевичу.
Более пятидесяти лет моей жизни переплетаются с
воспоминаниями о Михаиле Матвеевиче. Я, как сейчас, вижу
его на кафедре, в большой аудитории Петербургского
университета, переполненной студентами и публикой, тогда
довольно свободно имевшей доступ на лекции популярных
профессоров. Молодой, полный сил и энергии, недавно
женившийся и вернувшийся из заграничной ученой
командировки, он читал о провинциальном быте во Франции
при Людовике XIV. В стенах, где обычно раздавалось
повествование о жизни государства, он с простотой и
изяществом истинного знания развертывал перед слушателями
поучительные страницы из жизни народов. Через десять
лет, в Франценсбаде, сидевший рядом со мной на скамейке
баварец указал мне на мимо идущего, сказав: «Вот это тот
русский, который недавно у нас, в Киссингене, увидя
утопавшего человека, бросился в воду и спас его». Это был
Михаил Матвеевич, живой и подвижный, с не начавшей
еще седеть бородой. Лично познакомились мы позже — в
начале семидесятых годов — и постепенно сошлись до
тесных дружеских отношений, скрепленных многолетним
сотрудничеством моим в «Вестнике Европы» и «Порядке» *
и переплетавшихся нитями взаимного доверия, участия и
нравственной поддержки в переживаемые каждым из нас
Из которой делаются министры (франц.).
231
трудные, тревожные и радостные минуты жизни. Многие
годы мы проводили по несколько недель или встречались
за границей в каком-нибудь лечебном местечке или в
Берлине, причем он всегда живо интересовался постановкой на
месте вопросов городского хозяйства и школы, — а два
последних лета провели в Сестрорецком курорте, где
подолгу, в задушевной беседе, просиживали по утрам на
берегу моря, которое он очень любил. Во время взаимных
отъездов из Петербурга мы вели оживленную переписку
(на последнем письме его ко мне стоит № 184) *, а в
городе зимой он посылал мне шутливые послания, очень
часто в стихах. В минуты хорошего настроения, когда Кав-
динское ущелье цензуры бывало уже пройдено
очередным номером «Вестника Европы», Стасюлевич радовался,
как дитя, садился — если не было посторонних
посетителей — за маленький гармонифлют и наигрывал на нем,
напевая старинные романсы. При этом я узнал от него мало
кому известное начало популярного романса «Вот мчится
тройка удалая». Он объяснил мне, что начало этого
романса есть в сущности его продолжение, а действительное
начало, напеваемое Стасюлевичем, состоит в следующем:
«Свеча, чуть теплясь, догорала, — огонь в камине
потухал, — мечта мне что-то вспоминала, — и сон меня
очаровал. — Я видел дивные равнины — моей родимой
стороны — и те прелестные картины — забытой русской
старины: вот мчится тройка удалая...» * Узнав ближе этого
человека, со всеми милыми и оригинальными свойствами
его характера, с его добрым юмором и непреклонностью
его чистых и светлых побуждений, я полюбил его всей
душой.
В самые последние годы силы заметно оставляли его:
слабело зрение, притуплялся слух, изменяла память, но до
конца его плодотворной жизни душевный строй его
оставался неизменным. Он был по-прежнему отзывчив на все
вопросы общественного значения и не допускал в своих
взглядах на жизнь и на людей тех слабовольных уступок,
за которыми чувствуется нравственная небрезгливость.
Доживший до весьма преклонного возраста, «насытясь —
по библейскому выражению — днями» *, он не впал,
однако, в преждевременную старость, первыми печальными
предшественниками которой являются довольство всем
тем, что есть, без потребности в том, без чего не для чего
жить, и легкое примирение с окружающей действитель-
232
ностью, какова бы она ни была. Вот почему его личность
до конца его дней вызывала неподдельное к себе уважение
даже и со стороны людей, далеко не во всем с ним
согласных. До последнего своего дыхания это был человек
живой, а не eine beurlaubte Leiche — уволенный в отпуск
труп, как называл Бисмарк переживших себя стариков.
Теперь, после кратковременного, но тяжелого недуга,
его отслуживший свои долгие годы прах нашел вечный
покой на любимом им Васильевском Острове, в красивом
и стильном приделе церкви «Утоли моя печали», при входе
на Смоленское кладбище. Другие могилы не окружают его,
«как гости жадные за нищенским столом» *. Свет
вливается через широкое окно в тихую и уютную церковь, —
и над историком средних веков стройно поднимается
готический свод. Так было и при жизни Михаила Матвеевича...
И ему приходилось нередко стоять почти одиноко на своем
трудном посту, — и он всеми силами пользовался
возможностью дать проникнуть в народ свету образования, — и
его можно назвать «ключом свода», смыкавшим и
объединявшим окружающих.
По понедельникам (а с девяностых годов по субботам)
к трапезе собирался, под председательством гостеприимной
хозяйки, небольшой и довольно замкнутый кружок людей,
связанных с редактором «Вестника Европы» не только
сотрудничеством большинства из них, но и личными
дружескими отношениями *. Еще в конце семидесятых годов
Кавелин назвал хозяина и застольных собеседников в шутку
«Артуром и рыцарями круглого стола» *. Это шутливое
прозвище повторялось затем, не раз, и его стану я
употреблять для обозначения группы друзей М. М. Стасюле-
вича, собиравшихся долгие, долгие годы обменяться
мыслями, а иногда и горячо поспорить... Скольких из них уже
нет! И как живо воспоминание о них, — как хочется, думая
о них, повторить могильную надпись, виденную мной в
Швейцарии: «Nicht verloren nur vorangegangen» l...
Долгие годы центральными фигурами между
«рыцарями круглого стола» были Кавелин, Гончаров и
значительно переживший их Спасоеич. По темпераменту своему,
манерам и речи первые двое были совершенной
противоположностью один другому. Гончаров, спокойный и
уравновешенный, с несколько флегматическим видом, напоминал
#е потерянный, но вперед ушедший (нем.).
233
собой мудреца, давно познавшего жизнь и усталым
взором следящего со стороны за ее шумным и подчас
бурным потоком. Не возвышая голоса и не волнуясь, вел он
беседу, отчетливо рисуя в художественных образах то и
тех, о чем и о ком он говорил. Облокотившись на стол и
подняв сложенные вместе красивые кисти рук, он
увлекательно передавал не нашедшие себе места в печати
воспоминания о своих странствиях или излагал свои взгляды
на искусство и на разнородных его представителей.
Благосклонное отношение к большинству встреченных на
жизненном пути людей и, быть может, несколько
презрительное снисхождение к недостаткам и слабостям их ярко
выступали в его беседе, полной утонченной вежливости и
любезности *.
Автор «Задач этики» и «Задач психологии»,
напечатанных в «Вестнике Европы», сослуживец по
Петербургскому университету и друг M. М. Стасюлевича *,
Константин Дмитриевич Кавелин, несмотря на свой уже почтенный
возраст, весь горел и пламенел огнем живого,
восприимчивого и отзывчивого ума и уже никак не мог казаться
посторонним наблюдателем жизни. Он осуществлял завет Гёте,
погружая свою пытливую мысль в саму суть русской
общественной и духовной жизни и, подобно Тютчеву, страстно
веровал в русский народ, в его скрытые, но неисчерпанные
силы, в его с трудом достижимое, но великое будущее*.
Ему нравилось, когда его называли в этом отношении
оптимистом. «Да, я оптимист,— говаривал он с тихой и уверенной
радостью во взоре, — я верю, что какие бы уродливые и
болезненные явления ни представляло русское общество —
простой русский человек поймет свои задачи,разовьет свои
богатые духовные силы и вынесет на своих плечах Россию».
Он не отрицал темных и грубых сторон нашего сельского
быта, на котором, как на устоях, должна, по его мнению,
стоять Россия, — но он восставал против поспешных и
мрачных обобщений. «Эти недостатки — недостатки
молодости, неперебродившего переходного положения, наносная
и поверхностная плесень», — говаривал он... «Сердцевина
здорова, и ее живительные соки залечат больные места в
коре; пусть только дадут им выход, не мудрствуя лукаво,
не навязывая народу чуждых ему учреждений и не
заключая его в бюрократические тиски... Надо верить в русский
народ, надо его любить — без этого жить нельзя!»
Западник по вкусам, приемам и уважению к разумным уело-*
234
виям свободного развития личности, он в душе сходился с
славянофилами старой школы в их горделивой и в то же
время нежной любви к русскому человеку. За желание
помочь этому человеку в его тяжелом нравственном или
экономическом положении он готов был простить и неверные
политические шаги и даже нарушение некоторых из
основных догматов европейской культуры. Это особенно резко
сказывалось в его радужных мечтаниях о ближайшем
будущем в судьбах России в начале восьмидесятых годов и
в спорах, которые возникали по этому поводу. Быть
свидетелем его споров вообще было очень приятно. Перед
зрителем и слушателем был высокообразованный человек с
глубоким знанием русской жизни и ее истории, живой
представитель самого блестящего времени Московского
университета, с ярким и образным словом и с уважением
к мнению своего противника, которого он никогда не
старался, да по изяществу своей натуры, вероятно, и не умел
ни оскорбить, ни уязвить. И в то же время это не был
обычный русский интеллигентный любитель спора для
спора, один из тех бесплодных гимнастов ума, которыми
так богата наша бесплодная жизнь. Все, что он говорил,
дышало глубокой искренностью и восторженной любовью
к правде, как он ее понимал. Лицо его одушевлялось,
прекрасные глаза горели, и в голосе слышались задушевные
ноты. Лишь изредка приходил он в раздражение, когда
кто-либо пытался найти извиняющие или смягчающие
соображения по отношению к явлению, которое претило его
чуткой совести. Тогда он внезапно краснел, вспыхивал как
порох, начинал волноваться и, резко сказав: «Извините,
извините меня!», давал жгучую характеристику человека
или поступка, которую потом было трудно забыть. Он был
страстный поклонник Петра Великого и говорил о нем с
радостным умилением. Поэтому, когда спор начинал
волновать его чрезмерно и графин наливаемой им себе воды
слишком сильно начинал дрожать в его руке, достаточно
было напомнить ему какое-либо изречение «вечного
работника на троне» * или, подражая петровскому языку,
сказать: «А ведь, Петр по этому поводу вот что написал
бы», чтобы лицо Кавелина прояснилось. Примирительно
улыбнувшись, он, если цитата была подлинная,
обыкновенно радостно восклицал: «А?! Каков мой Петрухан?!»
«Как я вам благодарен, — писал он мне 21 апреля
1884 г., — за редкий портрет Piter'a. На днях вставлю его
235
в рамку и буду перед ним идолопоклонствовать, как перед
великорусским полубогом. Не может загибнуть страна,
выставившая такого гения, не похожего ни на кого
другого!»— «Когда на меня тяжело действует какое-нибудь
безотрадное явление в русской жизни, когда на сердце
становится горько и грозит уныние, — писал он в другой
раз, — я вспоминаю Петра и ободряюсь, или читаю о
Христе — и мне становится легче, и спокойствие сходит
в мою душу»...
Были, впрочем, люди, относительно которых он был
безусловно нетерпим, и ничто не смягчало его
ожесточенного— не за себя, а за родину — сердца. Таким был —
между немногими, впрочем, — бывший министр внутренних
дел П. А. Валуев. Кавелин никак не мог простить ему той
его деятельности по крестьянскому вопросу, в силу ложной
системы тормозившей широкое и целесообразное
осуществление реформы 19 февраля 1861 г., в основу которой
было положено освобождение крестьян с землей, проповедь
о чем Кавелина, как известно, стоила ему положения
преподавателя при наследнике престола *. Его раздражение
на Валуева проявлялось иногда даже в довольно
комических выходках. Печальная история с башкирскими
землями, раскрытая сенаторской ревизией 1880 года,
вынудила Валуева оставить пост председателя Комитета
министров и создала вокруг него атмосферу официальной
отчужденности, хотя лично он в этой вакханалии
расхищения никакого участия не принимал *. Стесненный в
средствах, изведавший превратности судьбы, одинокий и
забытый теми, кто еще недавно перед ним пресмыкался,
разочарованный в том, чему он служил, будущий посмертный
сотрудник «Вестника Европы» жил в скромной квартире
на одной лестнице со Стасюлевичем и иногда днем
заходил побеседовать с редактором журнала, к которому в свое
властное время относился недоброжелательно.
Обыкновенно, после обычного обеда, Кавелин, в благодушном
настроении, усаживался в дамском уголке обширного не
редакционного кабинета раскладывать свой любимый
пасьянс. Однажды, когда он углубился в это занятие,
рассеянно отвечая на вопросы супруги M. М. Стасюлевича, она
сказала ему: «А знаете ли, Константин Дмитриевич, кто
сидел на этом кресле сегодня перед вами? Вы никак не
отгадаете!»— «А кто?»—добродушно спросил Кавелин, не
отрывая глаз от карт. — «Валуев!» — «Не может быть!»—
236
«Уверяю вас. Он был у нас с визитом». Кавелин густо
покраснел, нервным жестом смешал карты и, быстро пересев
на другое кресло, сказал дрожащим голосом: «Вы должны
были меня об этом предупредить: я даже и кресла не
желаю разделять с этим господином». Но тех, кого Кавелин
любил и тоже не за личное к себе отношение, а за ту
общественную пользу, которую они, по его мнению,
приносили,— тех он любил горячо. К числу последних
принадлежал Некрасов, к которому Константин Дмитриевич
относился с большой симпатией «за каплю крови, общую с
народом» *. Мучительная болезнь и смерть поэта глубоко
его огорчили, и я помню, как в день похорон Некрасова он
целый вечер растроганно и со слезами в голосе читал у
Стасюлевича «Тишину» и «Несчастных» *. Смерть
Кавелина причинила большую скорбь и невознаградимый
пробел кружку «круглого стола». Мы все как бы осиротели и
лишились близкого, родного человека *.
Владимир Данилович Спасович — товарищ M. М.
Стасюлевича по Петербургскому университету, вышедший
вместе с ним в отставку после столкновения профессоров
с министром народного просвещения графом
Путятиным * — был свидетелем зарождения «Вестника Европы»
и немногим не дожил до кончины журнала под старой
редакцией *. Он состарился за «круглым столом». Живой,
подвижный, энергичный, с полными жизни глазами,
порывистыми движениями и метким, образным, выпуклым в
своей неправильности и интонации русским словом — сел
он за этот стол. Поседевшим, усталым, больным,
дремотным, с потускневшим взором и меланхолическими нотами
речи, появился он за ним в последний свой приезд из
Варшавы, года четыре назад... Между романтиком-идеалистом
Кавелиным и художником-реалистом Гончаровым он
представлял собой тип практического бойца, умевшего с
одинаковым искусством и блеском строить синтез самых
разнородных явлений жизни и вторгаться в нее с тонким и
острым оружием анализа. Вдумчивый литературный критик, с
огромным запасом сведений не только из области humani-
ога, но и из области естествознания, и со строгим научным
методом, глубоко образованный юрист и несравненный по
своеобразной силе и оригинальности дарования адвокат, он
шел всегда и во всем самостоятельным путем, имея
смелость и гордость не подчиняться никаким взглядам. Он не
только мог сказать: «Mon verre n'est pas grand, mais je bois
237
dans mon verre» \ но имел основание с полным правом
изменить эту фразу в: «Mon verre est grand, et je bois dans
mon verre»2. Оттого и беседа его, всегда чрезвычайно
одушевленная, была очень поучительна и привлекательна.
Задетый за живое каким-либо мнением, он в жару спора — в
бессознательном воспоминании о своей адвокатской
трибуне или ученой кафедре, которую был вынужден в
начале шестидесятых годов оставить безвременно и с большим
ущербом для науки — быстро вставал и, поставив перед
собой стул, сильно жестикулируя, горячо защищал свой
взгляд. В этом взгляде, как и в его известном письме к
M. М. Стасюлевичу незадолго до смерти, сказывался
строгий государственник, крепко державшийся за систему
органического развития общественно-политических форм *. В
своих спорах так же, как и в судебных речах, он поражал
богатым историко-бытовым анализом выдающихся
явлений жизни и, не отрицая неизбежности постепенной
демократизации общества, иронически относился к взглядам,
построенным не на любви к задачам, указанным
историческим прошлым, а на радикальном разрыве с прошлым и с
настоящим в утопической надежде на золотой век
будущего. Недаром в 1871 году в своей знаменитой речи по Не-
чаевскому процессу, за которую Катков наклеил на него
несправедливый, но эффектный ярлык чужого,
противопоставлял он польского юношу, «пред глазами которого
возникает в пурпуре и злате и в дивном величии богатое
прошлое, от которого до сих пор бьется сердце у
современников и в которое этот юноша бросается, чтобы
осуществить свои демократические мечтания», юноше русскому,
«размашистый радикализм которого происходит от
отсутствия культуры, оттого, что прошлое его весьма небогато,
а настоящее сухо, бедно, голо, как степь раскатистая, в
которой можно разгуляться, но не на чем остановиться, не
на что опереться» *. Спасович, считая себя поляком, не
скрывал своих симпатий и прямодушно заявлял об этом
при всяком подходящем случае, не прячась за псевдонимы
и не говоря уклончивым «эзоповским» языком. Не
разделяя, конечно, систему и приемы нашего управления в
Польше и резко, зачастую с убедительными данными в руках,
критикуя их, он не только никогда не обнаруживал враж-
1 Мой стакан невелик, но я пью из моего стакана (франц.).
2 Мой стакан велик, и я пью из моего стакана (франц.).
238
дебного отношения к русским людям, но искренно и с
сердечной теплотой приветствовал все выдающееся в
культурном смысле среди русских людей и русской жизни. На
моей памяти лишь однажды он, в тесном собрании
Шекспировского кружка, отнесся с суровым осуждением к Петру
Великому, противопоставляя ему Марка-Аврелия, и
превознес Мицкевича над Пушкиным, но и тут, уступая моим
возражениям, значительно смягчил свои отзывы в статье,
появившейся на страницах «Вестника Европы» *. Он
стремился к реальному примирению поляков с русскими на
почве взаимной справедливости и широкой терпимости и
спокойно, с сознанием исполненного нравственного долга, нес
нелегкий крест недоверия с обеих сторон. Его
настойчивым хлопотам мы были обязаны тем, что польская колония
в Петербурге чествовала 23 мая 1899 г. столетний юбилей
Пушкина торжественным обедом с участием приглашенных
русских людей из мира литературы, науки и общественной
деятельности. Конечно, Спасович привлек к участию в
этом чествовании и весь наличный кружок собеседников
п4о «круглому столу» и с теплой благодарностью посетил
на другой день меня, который выразил, по его мнению, его
задушевные мечты, сказав на обеде: «В известном своем
стихотворении Мицкевич изображает себя и Пушкина в
виде двух юношей, укрытых под одним плащом и
соединенных сердцами, уподобляя их двум скалам, склоненным
вершинами друг к другу, между тем как внизу — их
навеки разделил широкий и глубокий поток. — Было время,
когда казалось, что оно так и есть, но последовательные
торжества в честь двух великих славянских поэтов
доказывают, что снег вершин, подобно альпийским ледникам,
спускается вниз, и не только отдельные люди, но и целые
слои населения охватываются им на почве просвещения и
беспристрастной взаимной оценки. Пускай же идет вперед
это мирное сближение, и пусть к двухсотлетней годовщине
рождения Пушкина станет ясным, что в великолепной
картине польского поэта одно было ошибочно: поток высох, и
обе скалы соединились, сохранив все свойства своей
природы, но связанные прочным кварцем взаимного уважения
и золотой рудой любви к ближнему!» *.
Будучи добрым человеком, он умел осуществлять
деятельную любовь к людям, приходя на помощь в трудных
обстоятельствах, не разбирая национальности. Так щедро
помог он, например, оригинальному русскому мыслителю
239
Стронину. Все дары своих знаний, энергического труда и
способностей расточал он широкой рукой среди рз'сского
общества на русском языке. Основатель Юридического
общества и Шекспировского кружка, он вливал в них жизнь
своими докладами, заботой и настойчивостью *. Он был,
наконец, в застольных беседах ярким летописцем и
безбоязненным, чуждым страха перед тем, «что скажут»,
остроумным критиком каждого явления современности — в
области нравов, политики, права, религии и самых
разнообразных видов искусства. В этом отношении его споры с
Кавелиным, который в шутку называл его «ярым
консерватором», бывали очень интересны. Спасович очень
дорожил обменом мыслей за «круглым столом». Говоря о своих
отношениях к Кавелину в одном из предисловий к
сочинениям последнего, он пишет: «В течение целых двадцати
лет мы сходились с ним во все времена года, кроме
летнего, на еженедельных редакторских обедах «Вестника
Европы», в которых участвовали Пыпин, Тургенев, Гончаров,
Арцимович, Кони и Арсеньев; в нашей общей с
Кавелиным умственной жизни мы многим обязаны общению,
которое происходило в этом маленьком дружеском
кружке»... *
Был, однако, в 1884 году, короткий промежуток, когда
Спасович не появлялся на своем обычном месте за
«круглым столом» — и это очень чувствовалось всеми.
Причиной этого необычного явления было судебное состязание
с... M. М. Стасюлевичем! * В 1858 году учредилось в
Петербурге акционерное общество водопроводов «для
доставления, — как значилось в § 1 его устава, — жителям
Петербурга средства пользоваться во всякое время года
свежей и чистой водой посредством особого
гидротехнического устройства». Таким устройством являлся фильтр для
просачивания невской воды, давно уже загрязняемой
всякими отбросами. Его надлежало устроить и соорудить в
так называемом «Ковше» около водопроводной башни на
берегу Невы, против нынешнего помещения
Государственной думы в Таврическом дворце. Это являлось
обязательным для общества водопроводов на основании 1, 10 и 14
статей его устава. Но общество, во главе которого стоял
будущий министр финансов И. А. Вышнеградский, считая,
что устройством небольшого фильтра в 1863 году,
оказавшегося притом неудачным для пропуска воды, вследствие
своего замерзания, и устройством затем цистерн для про-
240
цеживания воды — оно выполнило свои обязанности,
отказалось устроить фильтры. А они были крайне нужны, по
заключению сведущих людей, в целях гигиенических и не
для пропуска и процеживания невской воды с вредными
примесями, а для ее просачивания и очищения. После
долгих и бесплодных переговоров городского управления с
обществом дума решилась, вследствие неустанных и
упорных настояний своего гласного Стасюлевича, предъявить
в защиту своих прав иск против общества и возложила на
него специальное ведение этого дела. Ввиду многих
привходящих вопросов, наросших на деле по бездеятельности
думы в первое десятилетие существования общества,
существо спора представлялось очень сложным и запутанным,
отчего могло возникать искреннее мнение о правоте
общества со строго-цивилистической точки зрения. Такой
взгляд имел один из выдающихся гласных думы,
талантливый юрист П. А. Потехин, сложивший с себя звание
гласного, чтобы выступить поверенным со стороны
общества. К нему присоединился, как юрисконсульт общества,
Спасович, вообще строго и резко отделявший в
деятельности своей в области гражданской практики публичное
право от частного и не любивший переходить от узких рамок
договорного спора к общим соображениям на почве
общественной пользы, столь сильно, однако, затронутым
именно в этом деле. Таким образом, у Стасюлевича рядом с
Потехиным неожиданно вырос чрезвычайно опытный и
очень сильный противник. Он вынужден был призвать
себе на помощь К. К. Арсеньева— «и грянул бой!» *
Проиграв дело в окружном суде, общество перенесло спор в
судебную палату, где оно поступило осенью 1884 года в тот
ее департамент, в котором председательствовал я.
Благодаря этому обстоятельству круг собеседников «круглого
стола» несколько сократился: я был крайне занят
изучением этого сложного дела. Спасович затруднялся бывать у
человека, против которого собирался энергически
выступать. Заседание палаты при переполненной зале заняло
целый день до позднего вечера и представляло огромный
юридический интерес. Речи Потехина и Арсеньева явили
собой тщательнейший разбор вопроса во всех его
мельчайших подробностях; Стасюлевич, от которого многие
ожидали лишь общих соображений общественного характера,
удивил всех обширными экскурсиями в чисто правовую
область, а Спасович, быть может, взволнованный тем, что
15 А. Ф. Кони, т. 7
241
должен был сражаться против сильных и убежденных
противников, которые в то же время были его старыми
друзьями, говорил страстно, жестикулируя более
обыкновенного, и окончил последнюю свою речь даже не совсем
уместным обращением к палате с указанием на его уверенность
в том «qu'il у a des juges à Berlin» l. Судебная палата,
после продолжительного совещания, вынесла единогласное
решение, которым признала общество водопроводов
обязанным устроить требуемый городом фильтр в течение
четырех лет... Через полтора года Кассационным Сенатом,
после двухдневного заседания, жалоба общества
водопроводов на это решение была оставлена без последствий. Узнав
об этом и зная, что докладчик по этому делу в палате,
пользовавшийся общим уважением за свои строго-судейские
свойства, покойный А. В. Гуляев очень интересовался
судьбой своей кропотливой, трудной и обширной работы,
я, уже не председатель, написал ему сочувственное письмо.
«Очень благодарен Вам, — отвечал он мне 22 марта
1886 г., — за память обо мне по поводу решения Сенатом
дела о с.-петербургских водопроводах. Мне, впрочем,
думается, что если бы в этом деле не заключался
громаднейший общественный интерес столицы и оно не находилось бы
в руках столь блестящих защитников, как гг. Арсеньев и
Стасюлевич, то в какую определенную юридическую форму
ни было бы облечено решение палаты, оно могло бы рухнуть
и по множеству сложных вопросов, предстоявших к
разрешению Сената вследствие кассационной жалобы общества
водопроводов, и по разнообразию взглядов, которые
нередко появляются у судей при обсуждении таких
вопросов. Но я в особенности рад за г. Стасюлевича, которому
не могу не отдать высокой чести за поднятие этого дела и
за те стойкость и энергию, с которыми он вел его до
последней минуты в течение столь продолжительной битвы с
обществом водопроводов. Победа, увенчавшая труды и
усилия успехом в столь жизненном деле для столичного
городского общества, должна составлять для него истинное
душевное удовольствие, лучшую награду за исполненный
долг». Окончательно решение многолетнего спора в пользу
города вызвало единодушное одобрение серьезной печати
и восторженную овацию Стасюлевичу в думе. Через три
года он пожал и плоды своей победы в пользу города. Вот
1 Что есть еще судьи в Берлине (франц.).
242
что писал он мне в необычайном для него лирическом
тоне, 19 июля 1889 г., в Гисбах: «Вчера в первый раз
городские трубы увидели фильтрованную воду. Какое было
великолепное зрелище, когда открыли два колоссальных
крана, и первая фильтрованная вода ринулась двумя
каскадами в главный бассейн, ударилась в постаменты
гранитных колонн и серебром рассыпалась по цементному
полу, а потом побежала змейками между колонн! Этой
картины я не променяю на ваш настоящий водопад Гисбах.
Самое же дело совершилось совсем в моем вкусе: не
только не было никакого торжества или фестиваля, но нас,
свидетелей появления в массе первой фильтрованной воды,
было всего трое: два техника, Алтухов и Ермолин,
изображали собой общество, а я был один со стороны города.
Мы молча пожали друг другу руки, и я поздравил их, как
строителей. Тем и окончилось все торжество, а вечером я
снова заехал полюбоваться новорожденным, который,
оказалось, вел себя так, как будто он работал много лет.
Вода, несмотря на кратковременность обмывки фильтра,
была совершенно прозрачна, и я, наполнив стеклянную
бутылку новой водой, свез ее в управу и там поставил на стол
присутствия с надписью на ярлыке: «Вместо доклада об
открытии действия центрального фильтра». Сегодня
управа, вероятно, не мало посмеялась над таким оригинальным
докладом» *. «Водопроводная» размолвка не могла,
однако, продолжаться долго. Через месяц после решения
палаты, в дверях кабинета Стасюлевича неожиданно появился
Спасович — и, протянув ему обе руки, произнес
растроганным голосом: «Михаил Матвеевич!!» Этим все было
сказано... В ближайший понедельник, остановившись на
пороге столовой, он обратился к хозяйке с вопросом: «Может
ли побежденный сесть с победителями?» — «Здесь нет ни
тех, ни других, а только старые друзья», — ответила та;—
и давние отношения возобновились с еще большей
прочностью. Так — говорят — разбитая и склеенная скрипка
звучит еще лучше...
В конце восьмидесятых годов постоянным сотрудником
«Вестника Европы» сделался Владимир Сергеевич
Соловьев. Здесь, по-видимому, закончилось то «скитание
мыслей», которое заставляло его, не отказываясь от чистых и
благородных убеждений, изменять, однако, свои взгляды
и вкусы, оставаясь, впрочем, верным личным симпатиям,
невзирая на лагерь, в котором они были приобретены и от
16*
243
которого он сам отряс прах ног своих. В одном только
случае он отказался, твердо и решительно, от одного
двуличного публициста, которого печатно прозвал «Иудушкой Го-
ловлевым» *. Как все богато одаренные люди, Соловьев не
укладывался сразу и навсегда в определенные рамки:
способность быстро становиться законченным целым есть в
сущности удел заурядных натур. Многочисленными
статьями в «Вестнике Европы», перечислять которые нет
надобности, знаменовалась нравственно-политическая эволюция
Владимира Сергеевича, и он сразу стал в этом журнале
одним из самых влиятельных сотрудников *, а в среде
последних любимым товарищем и тем, что М. М. Стасюле-
вич в письме ко мне по поводу его смерти назвал
«сотрудником жизни» *. И действительно, он был настоящим
«сотрудником жизни», т. е. человеком, общение с которым
украшало и облегчало существование, стирая с него краски
житейской прозы и вознося мысль и чувства в область
вековечных вопросов. Непреклонная и ничем не смущаемая
вера в окончательное торжество добра и правды
постоянно одушевляла Соловьева. У нас любят употреблять
выражение: «будить мысль», но разбудить ее, не указав ей
путей и целей, идеалов и принципов — значит, обречь ее на
бесплодное и часто мучительное искание. Это глубоко
понимал Соловьев, говоривший, что все лучшее в
непосредственной практической жизни имеет цену лишь тогда,
когда в нем таится безусловное содержание, а над ним стоит
безусловная цель. Поэтому во всех своих философских и
религиозных сочинениях и в особенности в своем
великолепном «Оправдании Добра» * он не только задушевным
словом,* горячей убежденностью и поэтическими образами
будил мысль читателя, но и настойчиво направлял ее. Он
находил, что убеждения и воззрения высшего порядка
должны разрешать в жизни существенные вопросы ума об
истинном смысле всего существующего, о значении и разуме
явлений, — и вместе с тем удовлетворять и высшим
требованиям воли, ставя для нее безусловную цель и определяя
высшую норму ее деятельности. Таков он был и в
серьезных беседах, невольно и вместе с тем неотразимо
заставляя собеседников иметь «sursum corda!» 1 и хоть на время
освобождаться от тины и грязи житейского болота и
забывать о них. Я говорю о серьезных беседах, так как на-
1 Горе имеем сердца! (лат.).
244
ряду с ними Соловьев был очень склонен к шуткам. Я не
подмечал в нем злой иронии, — он оставлял ее, следуя
совету Некрасова, «отжившим и нежившим» *, — но речь его
блистала и пестрела тонким юмором, оригинальными
сравнениями, неожиданной игрой слов. В ту область, куда
легко и удобно может вторгнуться педантическая
отвлеченность и самодовольная неудобопонимаемость, — одним
словом, в область, про которую Вольтер сказал: «Quand celui
qui écoute ne comprend pas et celui qui parlé ne se comprend
plus — c' est de la métaphysique» ], Соловьев вносил не
только ясность и простоту, результат глубокого убеждения, но
и освежающие свойства шутки и бодрящего смеха. Он сам
любил смех и предавался ему, как ребенок, захлебываясь
и радостно взвизгивая.
Вообще шутливые стихи ему давались очень легко.
Однажды, в половине девяностых годов, он стал говорить об
увлечениях некоторых из тогдашних поэтов-символистов,
выработавших себе впоследствии гораздо более серьезное
отношение к своему несомненному таланту. Но тогда его
сердила и вместе смешила составлявшая будто бы
сущность символизма погоня за вычурностью языка и за
сочинением новых темных словечек и немыслимых сочетаний.
«Право, — сказал он, — не так трудно сочинять — именно
сочинять — такие стихи. Идя сюда (обедать к Стасюлеви-
чу), я, чтобы развлечься от усиленного труда, представил
себя символистом и придумал следующие стихи». И он
продекламировал с некоторыми незначительными
изменениями и заливаясь смехом следующее:
I
Горизонты вертикальные
В шоколадных небесах,
Как мечты полузеркальные
В лавро-вишневых лесах.
Призрак льдины огнедышащей
В ярком сумраке погас,
И стоит меня не слышащий
Гиацинтовый Пегас.
Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши в вянущих ушах.
1 Когда тот, кто слушает, не понимает, и тот, кто говорит, перестает
себя понимать — это называется метафизикой (франц.).
245
II
На небесах горят паникадила,
А снизу — тьма
Ходила ты к нему, иль не ходила?
Скажи сама!
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщснья
Острят клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама
Пусть в небесах горят паникадила,
В могиле — тьма *.
Впечатлительный и болезненно-восприимчивый, он
иногда вносил чувство личного раздражения в свои
разногласия с людьми, основные воззрения которых на
существенные вопросы и задачи жизни он разделял. Такова
была его полемика с Б. Н. Чичериным по поводу
«Оправдания добра», в которой он в одном из своих ответов
Чичерину допустил крайне резкие выражения против
почтенного мыслителя и общественного деятеля. Но, остыв, он
умел раскаиваться и сознавать свою вину. Поэтому в
заключительной своей статье в полемике с Чичериным он
просил у него извинения в своих резкостях *. И мне
пришлось испытать эту сторону его характера. В статье
«Нравственный облик Пушкина», помещенной в «Вестнике
Европы» в октябре 1899 года, я коснулся тех, которые
осуждают Пушкина за выход на поединок «и желали бы
видеть его не мячиком предрассуждений, по-видимому, не-
представляя себе ясно последующей картины жизни
человека, малодушно затыкающего себе уши среди
возрастающего наглого презрения общества, вырваться из которого
зависит не от него» *. К числу осуждавших прежде всего
принадлежал и Соловьев в своей статье «Судьба Пушкина»,
напечатанной в «Вестнике Европы» в 1897 году *... Он
явным образом обиделся на меня за это место моей статьи и
заявил Стасюлевичу, что этого он не оставит и пришлет
для печати ответ мне. Затем, однако, он одумался и в
письме к Стасюлевичу, указывая на наши добрые
отношения, хотя и огрызаясь по моему адресу, он заявил, что
отказывается от перенесения личных чувств и страстей в
246
литературу *. А месяц спустя поднес мне свои «Три
разговора» и «Оправдание добра» с надписью: «Дорогому и
сердечно уважаемому — искуснейшему вызывателю добрых
теней».
И личная жизнь, и наружность Соловьева были в
высшей степени своеобразны. Над худым и, казалось, хрупким
телом его, одетым бедно, скудно и часто не по сезону,
выступала производившая неотразимое впечатление голова,
с густыми прядями седеющих волос над высоким
благородным лбом и удивительно красивыми темно-голубыми
глазами, в которых отражались и глубина его души, и
постоянная работа пытливой мысли. Нижняя часть лица его
не имела одухотворенного вида, свойственного верхней, но
она была скрыта под густыми усами и бородой. Он вел
жизнь, лишенную всяких, даже самых скромных, удобств и
какой-либо материальной обеспеченности. Физически
слабый, не имея «ни кола, ни двора», он вынужден бывал
греться, в прямом и переносном смысле, у чужого очага,
часто нуждаясь в самом необходимом вследствие своей
безграничной доброты, доверчивости и отношению к
окружающей жизни с той голубиной кротостью, при которой
его не могла бы оградить даже и змеиная мудрость. В
последние годы он усиленно работал, не имея необходимого
спокойствия и отдыха, при полном отсутствии разумной
заботы о своем здоровье, растрачивая свои слабые силы, не
думая о завтрашнем дне и не щадя себя. Яркий и
согревающий свет своего ума он искупал беспощадным
принесением себя в жертву. Но все-таки никто не ожидал, что он
погаснет так скоро, так преждевременно, как раз перед
наступлением той годины, когда его влиятельный и вещий
голос мог бы зазвучать с особой силой и пользой, «как
колокол на башне вечевой — во дни торжеств и бед
народных» *. До самой своей смерти, в дружеских беседах за
«круглым столом», он умел с особой живостью отзываться
на все возникавшие общественные вопросы, иногда в
необычной форме. В конце девяностых годов при
министерстве юстиции была высочайше учреждена комиссия для
пересмотра законоположений по судебной части под
председательством статс-секретаря Муравьева *. В ней, между
прочим, без всякой видимой необходимости, был
возбужден принципиальный вопрос о самом существовании суда
присяжных, и на гостеприимно открытых страницах
журнала ^министерства юстиции появились статьи против этой
247
формы суда и о желательности замены присяжных
коронными судьями. Вместе с тем и в разных других органах
печати начался поход против присяжных, причем объявились
добровольцы, заменившие старую кличку, данную
присяжным еще Катковым, — «суд улицы», — более
выразительной и резкой — «стадо баранов». Все это не могло не
служить предметом грустного обмена мыслей за «круглым
столом». Однажды, во время разговора об этом напрасном
и легкомысленном колебании вошедшего в народное
сознание судебного института, Соловьев что-то писал на клочке
бумаги и затем со смехом передал этот клочок мне. На нем
стояло:
Вы — «стадо баранов» — печально!
Но вот что гораздо больней:
На «стадо баранов» нахально
Набросилось счадо свиней*.
Как живой стоит он предо мною в день открытия в
Мраморном дворце так называемой Пушкинской Академии,
т. е. Разряда изящной словесности, образованного при
Академии Наук в память великого поэта. Будучи избран
одним из девяти первых почетных академиков, он
произвел весьма своеобразное впечатление в своем старом, по-
видимому, взятом на подержание, фраке и манишке,
напоминавшей моды начала пятидесятых годов, но тотчас же
приковал к себе общее внимание, заявив, что намерен
внести в Разряд предложение о деятельных шагах
Академии в ограждении свободы и прав русской мысли в
области веры и науки *. И в следующем заседании он сделал
обстоятельный по этому предмету доклад, на основании
которого, уже после его кончины, вследствие подробного
письменного предложения К. К. Арсеньева, была
образована под моим председательством комиссия, в состав
которой вошли Арсеньев, Шахматов и Кондаков и труды
которой, — к сожалению бесплодные непосредственно, —
влились, как маленькая речка, в целое море материалов,
ставших в 1905 году предметом обсуждения известной
комиссии Кобеко для выработки Устава о печати *.
Таинственное и мистическое часто находило себе место
в трудах Соловьева и еще больше в его рассказах.
Достаточно вспомнить перевод им книги Подмора о телепатии и
его предисловие к ней *. Иногда, среди оживленного
разговора о злобах дня, он вдруг замолкал, вперял перед со-
248
бой во что-то невидимое неподвижный взор и становился
глух ко всему окружающему. Его бледное лицо бледнело
еще более, затем взор затуманивался, и он как бы выходил
из-под власти какого-то видения, доступного ему одному и
приковавшего к себе его напряженное внимание. Вероятно,
в одну из таких минут он написал, за десять лет до русско-
японской войны, свое горестно-зловещее стихотворение
«Панмонголизм», предсказывая, в пророческом
предвидении, своей родине то время, когда будут «желтым детям
на забаву даны клочки ее знамен» *.
Однажды, зимой 1899 года, я нашел его за обедом у
Стасюлевича в особенно оживленном и веселом настроении.
После обеда он предложил подвезти меня ко мне, на
Невский, так как ехал сам на Пески. Перед отъездом я
рассказал ему в «конспиративной комнате» (так называлась в
квартире Стасюлевича комната, куда удалялись поговорить
наедине) слышанный мной накануне довольно
правдоподобный анекдот о комическом недоразумении между
светской дамой, приехавшей на богомолье в бедный, но с
весьма строгим «житием» братии монастырь, и отцом
экономом из крестьян, которого она расспрашивает о составе
монастырской трапезы и о том, какой же у них «десерт»,
и который понимает это слово совершенно своеобразно и
для слуха светской дамы весьма неожиданно. Соловьев
заливался смехом до слез, до боли, продолжая
покатываться со смеху и сев на извозчика, так что тот несколько
раз оглядывался на него. Когда мы подъехали к моей
квартире, он сказал мне, что охотно зашел бы ко мне и
выпил бы стакан красного вина. Оставив его на минуту,
чтобы распорядиться о вине, я едва узнал, вернувшись
в свой кабинет, в побледневшем человеке с тревожным и
блуждающим взором недавнего радостного и шутливого
Соловьева. «Что с вами, Владимир Сергеевич? Вы
больны?» Он отрицательно покачал головой и закрыл глаза
рукой. Принесли вино, но он резким движением отодвинул
налитый стакан и, помолчав, вдруг спросил меня, верю ли
я в реальное существование дьявола, и на мой
отрицательный ответ сказал: «А для меня это существование
несомненно: я его видел, как вижу вас...» — «Когда и где?» —
«Да здесь, сейчас, и прежде несколько раз... Он говорил со
мной...» — «У вас, Владимир Сергеевич, расстроены
нервы:— это просто галлюцинации».— «Поверьте, что я умею
отличать обман чувств от действительности. Сейчас это
249
было мимолетно, но несколько времени назад я видел его
совсем близко и говорил с ним. Возвращаясь из Гангэ на
пароходе и встав рано утром, я сидел в своей каюте на
постели, медлительно, задумываясь по временам, одевался
и вдруг, почувствовав, что кто-то находится возле меня,
оглянулся. На смятых подушках, поджав ноги, сидело
серое лохматое существо и смотрело на меня желтыми
колючими глазами. Я тотчас понял, кто это, и тоже стал
смотреть на него в упор. «А ты знаешь, сказал я ему, что
Христос воскрес?!» — «Христос-то воскрес, — отвечал
он, — но тебя-то я оседлаю!» — и, вскочив мне на спину,
сжал мою шею и придавил меня к полу. Задыхаясь в его
объятиях и под ним, я стал творить заклинание Петра
Могилы *, и он стал слабеть, становиться легче, наконец,
руки его разжались, и он свалился с меня... В ужасном
состоянии я выбежал на палубу и упал в обморок.... А теперь
прощайте: поеду на Пески» *. Но обычное суеверие было
ему чуждо. Мне вспоминается обед 13 мая 1900 г. Я
несколько опоздал и застал всех собравшихся, на этот раз в
необычном числе, а также хозяев — в некотором смущении.
Оказалось, что престарелый поэт Алексей Михайлович
Жемчужников, довольно редкий гость в Петербурге и
стародавний сотрудник «Вестника Европы», приехавший
обедать, ни за что не хотел остаться, так как за стол должно
было сесть тринадцать. Наконец, его удалось уговорить и
победить тем, что был поставлен четырнадцатый прибор,
и на него шутя положена последняя книжка «Вестника
Европы» в качестве четырнадцатого гостя. «Вам хорошо,
господа, сказал, усаживаясь наконец, Жемчужников: вы все
моложе меня, а мне ведь скоро восемьдесят лет, и я все-
таки люблю жизнь — ив особенности природу — и не хочу
умирать. Тут поневоле станешь суеверен». — «Да ведь,—
перебил его, весело смеясь, Соловьев, — обыкновенно
умирает самый младший, а младший-то здесь я, так что вы не
беспокойтесь: если тринадцать такое роковое число, то я
отбуду повинность за вас». И действительно, через два с
половиной месяца он, неожиданно для всех, отбыл эту
повинность в подмосковном имении князя Трубецкого *..*
Весной предшествующего года одна талантливая
петербургская художница писала в своей мастерской его портрет.
Все время сеансов он был чрезвычайно весел, шутил,
заливался своим детским смехом и говррил, что, веруя в
учение о сорокадневном пребывании души умершего на
250
земле, думает, что на это время она облекается формой не
человека, а какого-либо другого живого существа,
например птицы. «Я буду, конечно, филином, — говорил он,—
и стану своим видом и криком пугать людей, а вам
обещаюсь, если моя душа вселится в птицу, прилететь об этом
сказать». Он отказался немедленно взять подаренный ему
художницей оконченный портрет, прося оставить его
покуда в мастерской. В день, следовавший за его кончиной,
художница приехала на несколько времени с дачи в
Петербург и, ночуя в комнате, соседней с мастерской, услышала
в последней ночью какой-то странный шум, а когда поутру
вошла туда, то увидела, что порывом ветра раскрыто
итальянское окно, и перед портретом Соловьева лежит,
распростерши крылья, какая-то довольно крупная птица,
влетевшая ночью и убившаяся, ударившись с разлета о
раму портрета Соловьева.
Разойдясь с «Русским вестником» и не имея
возможности, по личным отношениям к Некрасову, сойтись с
«Отечественными записками», Тургенев сделался постоянным
сотрудником «Вестника Европы», на страницах которого
появились все произведения последнего периода его
литературной деятельности. Излишне перечислять их:
достаточно сказать, что все, написанное после «Дыма», было
напечатано в журнале Стасюлевича *. В
противоположность Гончарову, Тургенев не исправлял в корректуре то,'
что содержалось в тщательно им самим переписанной
красивым четким почерком рукописи, лишь иногда
предостерегая редактора от напечатания того или другого места
последней. Так, я уже говорил, что он просил повременить
печатанием одного из своих «Стихотворений в прозе» под
названием «Порог», в котором в виде диалога между
судьбой и молодой девушкой была изображена готовность
последней смело переступить, во имя увлекающей ее идеи,
роковой порог, за которым для нее прекращались не только
личное счастье, но и самая жизнь. «Через этот порог, —
писал он редактору, — вы можете споткнуться... особенно,
если его пропустят, а потому лучше подождать» *. Мне
удалось прочитать еще в корректуре «Песнь
торжествующей любви», «Стихотворения в прозе» и «Клару Милич»
и, так сказать, предвосхитить для себя то наслаждение,
которое ожидало читателей «Вестника Европы» от чтения
этих перлов тургеневского творчества, между которыми
я лично ставлю выше всего по удивительному, точно
251
высеченному в мраморе, языку «Песнь торжествующей
любви».
Тургенев в свои приезды в Петербург всегда был
желанным и дорогим гостем за «круглым столом», за
которым дольше, чем в обыкновенные дни, приходилось
засиживаться, слушая неисчерпаемые в своем разнообразии и
прекрасные по своей конструкции рассказы великого
писателя. Я уже рассказал о нашей общей встрече в конце
семидесятых годов в Париже и о беседе с Тургеневым,
внезапно раскрывшей затаенную в душе его рану *.
В 1883 году Иван Сергеевич тяжко заболел. «Все утро
провел я сегодня в Буживале у постели Тургенева, —
писал мне 1 июля этого года Стасюлевич, — к которой он
несомненно прикован надолго; конечно, я нравственно
удовлетворен, что успел все-таки увидеть его после всех
тревожных известий, но только тяжко видеть его
распростертым, совсем без движения; — он более шепчет, чем
говорит, — лицо желтое, исхудалое и такие же руки, а сам —
по-прежнему — колосс! Сравнение с Прометеем
напрашивается само собой, а роль коршуна выполняет подагра,
которая, очевидно, пала на желудок; он не может ничего
съесть, чтобы не испытать жестокой боли, и каждый вечер
надо делать ему впрыскивания морфия, чтобы дать
возможность заснуть, Он был очень тронут моим появлением,
но я не давал ему говорить, а сам болтал без умолку;
завтра опять поеду к нему с утра»... — «При моем нервном
настроении, — писал он мне 19 августа того же года, — я с
ужасом помышляю о моменте моей встречи с гробом Ивана
Сергеевича в Эйдкунене, куда еду за ним послезавтра, —
это будет невыносимо тяжело!» *
В. В. Стасов, снабдивший «Вестник Европы» рядом
ценных исследований по истории искусства в России и
обширными, чрезвычайно оригинальными статьями о
русско-индейском эпосе*, появлялся за «круглым столом»
изредка и вовсе не производил, по крайней мере, на меня,
впечатления сварливого и неугомонного спорщика, каким
его рисовали литературные противники, давая ему
шутливые прозвища. Я видел в нем всегда высоко и
разносторонне образованного человека, с деликатностью чувства и
добрыми порывами горячего сердца. Его неугомонный, до
самой глубокой старости, ум работал непрерывно и
приходил к самостоятельным выводам, которыми Стасов не
хотел и не умел поступаться из желания не огорчать или
252
быть приятным. Inde irae! 1 Под его наружностью
патриарха билось юношески отзывчивое сердце, чуткое ко всему
даровитому и самобытному. Увлекающийся и подчас
односторонний, он не умел скрывать своих мнений, а мнения
эти постоянно были чужды уклончивой неопределенности.
Это всегда был или восторг, или порицание, выраженное
весьма неприкрашенньш языком. Я сохранил о нем доброе
воспоминание и скорблю, что при жизни он не был,
по-видимому, достаточно оценен. Во всяком случае, если в деле
развития русского искусства некоторые и пробовали
умалить значение его заслуг в смыс/ve побед над застоем и
рутиной, то едва ли кто-нибудь решится утверждать, что
он не был несомненно — употребляя выражение Бэкона —
«трубой, зовущей на бой», а это так необходимо при
нашем национальном и общественном квиетизме.
У Стасова с Тургеневым бывали частые литературные
споры, очень характерные для них обоих. Я не
присутствовал при том из этих споров, на который любил ссылаться
Тургенев, рассказывая, что однажды, когда в споре о
великом поэте с шумливым и горячим Стасовым,
относившимся одно время к Пушкину отрицательно, он, истощив
все аргументы, наконец, замолчал, видя бесплодность
прений, то Стасов торжествующе воскликнул: «А-а!
замолчал! сдаешься! согласился со мной?» — «Я вскочил, —
рассказывал Тургенев, — стал быстро и судорожно стараться
открыть форточку в окне, а на вопрос, что я делаю,
воскликнул: я хочу высунуться и крикнуть на улицу: «Идите
сюда, берите меня, вяжите: я сошел с ума, я согласился
с Владимиром Стасовым!» Очевидно, что в связи с
рассказом Тургенева об этом споре находилось и
напечатанное впоследствии самим Стасовым «стихотворение в прозе»
Тургенева, на которое Владимир Васильевич нередко
благодушно ссылался и сущность которого сводилась, сколько
мне помнится, к следующему совету: спорь с человеком,
который глупее тебя: можешь его чему-нибудь научить;
спорь с человеком умнее тебя: можешь от него научиться;
но не спорь с Владимиром Стасовым *.
С начала восьмидесятых годов постоянным членом
«круглого стола» и деятельным сотрудником «Вестника
Европы» сделался К. К. Арсенъеа. Ему я посвящаю особые
воспоминания отдельно от настоящих *.
1 Отсюда гнев! (лаг.).
253
За «круглым столом» бывали и люди, не
принадлежавшие к сотрудникам журнала, но близкие ему по симпатиям
и по деятельности своей, в которой находили себе
выражение и применение те же нравственно-политические начала,
которые проводились на страницах «Вестника Европы».
Между ними первое и незаменимое место занимал
покойный Виктор Антонович Арцимович, один из
благороднейших деятелей по осуществлению в русской жизни отмены
крепостного права *, человек, умевший соединять глубокое
уважение к закону с широкими взглядами на права и
потребности народной жизни. Величавый в своей
наружности, непреклонный в защите своих убеждений, умевший
нежно проявлять доброту своего сердца и в то же время
чуждый показной и иногда, в существе своем, жестокой
сентиментальности — со свободной и твердой речью, в
которой по временам вспыхивали то безобидный юмор, то
горькая ирония, он был всегда желанным и всеми чтимым
собеседником, и слово его, проникнутое глубоким
житейским опытом и знанием людей, ярко освещало многие
острые вопросы нашей исторической и бытовой жизни.
Сюда, в этот кружок, приходил он отдыхать от лицезрения
всяких условностей и компромиссов служебной жизни, на
одной из верхних ступеней которой ему, в качестве
старшего сенатора первого департамента Сената, приходилось
стоять *. С горькой шутливостью делил он встречных на
жизненном пути на «людей» и «людишек». Часто
сталкиваясь с последними, ропща, негодуя и до конца своих
многотрудных дней воюя с ними, — близоруко запертый в
узкую область конкретных фактов, когда душа жаждала
решения общих вопросов, — уязвляемый и обходимый по
службе, — здесь он находил только тех, кого считал
«людьми» и с кем, как с Кавелиным и мною, его связывала
личная дружба.
К последним принадлежал и Константин Карлович
Грот, тоже иногда бывавший за обедами у Стасюлевича.
Близкий в своем внутреннем мире к Арцимовичу, по
внешней своей повадке и наружности он ни в чем не был похож
на пылкого, крупного, громогласного Арцимовича. Очень
худощавый, сдержанный, с размеренной речью и
тщательно взвешенными словами, Грот тем не менее вносил в
беседу тот же житейский опыт, те же богатые воспоминания
светлого прошлого и затаенную скорбь по поводу
крушения идеалов, во имя которых он страдал и сражался в ше-,
254
стидесятых годах * Оба они относились друг к другу, как,
в ярком изображении Пушкина, пехота к коннице:
«Волнуясь, конница летит, — пехота движется за нею — и
тяжкой твердостью своею — ее стремление крепит» *.
Взволнованное описание Арцимовичем какого-нибудь
злоупотребления властью или мрачной по своему источнику меры
Грот умел подкреплять спокойными юридико-политиче-
скими соображениями, которые с особой силой показывали,
сколько правды и справедливого гнева заключается в
увлечении старого телом, но молодого душой
«человеколюбивого стража закона», как был назван в надписи на
сенаторском надгробном венке Арцимович.
Несколько раз среди обедающих появлялась
привлекательная фигура моложавой старушки с умным и
выразительным лицом, обрамленным по моде сороковых годов
длинными кудрями с сильной проседью. Воплощенное
физическое и нравственное изящество — вдова учителя и
сослуживца хозяина дома Александра Васильевна Плетнева
была живым напоминанием о старом ректоре
Петербургского университета и друге Пушкина, последние
страдальческие годы которого она озарила нежной любовью и
самоотверженным уходом *. Подобно Кавелину, она была
русским человеком с головы до ног, и сквозь оболочку тонкого
европейского воспитания это ясно выступало в ее слове и
деле, в ее глубоко прочувствованных письмах и в ее
отношениях к людям.
При воспоминании об обеденных собраниях в «Вестнике
Европы» проходят перед умственным взором еще
некоторые из покойных постоянных участников застольных бесед:
сосредоточенный, с веским словом, А. Н. Пыпин,
многолетний «столп» журнала *; увлекающийся, живой, начи-,
тайный и страстный спорщик — Е. И. У тин; блестящий,
светски любезный, тонкий ценитель произведений
литературы и искусства, разносторонний князь А. И. Урусов —
и, наконец, глубокий и самобытный историк-художник, мой
современник и товарищ по Университету В. О. Ключевский.
Между иностранными гостями у «круглого стола» осо-.
бенно памятными мне остались Шпильгаген и Меккензи
Уоллес. Я не был никогда поклонником произведений
первого из них с их деланностью, отсутствием житейской
правды и переплетением книжного радикализма с весьма
прозаическими идеалами *. Но автор был человек очень
интересный. Его рассказы блистали остроумием и тонкой на-
255
блюдательностью, совсем не напоминающими напыщенную
и вязкую прозу его романов. Мне помнится, что он
еще в 1879 году с точностью предсказывал теперешнее
усиление социал-демократии в Германии и определительно
указывал главные ее избирательные и боевые центры.
Очень интересны были также его наблюдения над составом
унтер-офицеров германской армии, в котором строжайшая
дисциплина, доходящая до черствого бездушия, была,
по его словам, неразравно связана с
социал-демократическими тенденциями крайнего характера. Иное впечатление,
чем словоохотливый и пылкий Шпильгаген, производил
сдержанный Меккензи Уоллес, больше слушавший, чем
говоривший, всегда спокойный, осторожный и вдумчивый в
выводах. Несмотря на то, что он уже проявил в своей
замечательной книге глубокое знание России * и развернул
перед многими из своих русских читателей такие стороны
жизни их родины, о которых они имели^ самое смутное, а
иногда и превратное понятие, он продолжал учиться,
вслушиваться и набирать в себя различные данные, как губка
воду. Этому способствовало прекрасное знание и
понимание им русского языка, которым он сам владел совершенно
свободно. Однажды, когда перед началом восточной
войны *, за обедом зашла речь о тянувшемся уже несколько
лет так называемом — по имени прокурора саратовской
судебной палаты — Жихаревском деле о политической
пропаганде в тридцати пяти губерниях, Уоллес не
удовлетворился общими замечаниями присутствовавших, а пожелал
проводить меня до дому, чтобы подробно познакомиться
со всеми сторонами этого, как он выразился, микрокосмоса
внутренней политической жизни России. Беседа наша,
веденная дорогой, кончилась тем, что я пригласил его к себе,
и мы просидели до двух часов ночи в обмене мнений и
взглядов по поводу той пагубной близорукости, с которой
в течение четырех лет велось и раздувалось это дело, по
которому впоследствии из девятисот девяноста шести
привлеченных к следствию перед Сенатом предстало только
сто девяносто три *. Появление Меккензи Уоллеса за
«круглым столом» было связано с одним довольно
комическим эпизодом. Однажды в числе случайных гостей был
один провинциальный профессор, по-видимому, несколько
поспешный в своих суждениях. При разговоре о
долголетии английских авторов сравнительно с безвременной кок-
чиной русских, он высказал удивление тому, что Теккерей
256
не только начал писать в очень поздние годы жизни, но и
обратился к писательству без всякой подготовки
непосредственно вслед за занятием фотографией. «Теккерей
фотографом никогда не был», — скромно заметил Меккензи
Уоллес... — «Нет, извините, был!» — решительно возразил
приезжий, повторив настойчиво то же утверждение в ответ
и на мое замечание, что первый роман Теккерея «Ярмарка
тщеславия» появился за несколько лет до изобретения
фотографии, когда светопись ограничивалась лишь так
называемым дагерротипом. «Теккерей, — заявил еще кто-то из
присутствующих, — был секретарем вице-короля Индии,
но фотографом никогда не был и быть им не мог». — «Ну
вот, — решительно воскликнул спорщик, — как можно это
говорить, когда я сам читал об этом статью в «Deutsche
Rundschau» 1 *, где именно это сказано, т. е. не то, чтобы
читал, а видел ее заглавие. Ведь там прямо так и
напечатано: «Tackeray als Photograph»! 2»Вежливый англичанин
стыдливо потупился, а между всеми остальными «тихий
ангел пролетел»...
Пора, однако, окончить эту вереницу воспоминаний, хотя
и длинных, но далеко не полных. Став с 1876 года одним
из заседателей «круглого стола», я сделался с 1880 года
сотрудником «Вестника Европы», поместив в нем
«Спорный вопрос судоустройства», и увидел, затем» на его
страницах мои исследования о докторе Гаазе, о Д. А. Ровин-
ском и И. Ф. Горбунове, речь о нравственном облике
Пушкина, произнесенную в юбилейном заседании Академии
Наук, статьи о Владимире Соловьеве и о князе
Черкасском, ряд критических и библиографических заметок (об
«Этике» Спинозы, о книге киевского профессора Гилярова
«Предсмертные мысли XIX века во Франции» и др.) и
опыт программы борьбы с народным пьянством *.
Пришлось оживленно поработать в свое время и в «Порядке»,
поместив в нем много мелких заметок, некрологов (между
прочим «У гроба Ф. М. Достоевского»), юридических
обозрений («Судебные уставы на страницах Свода
законов», «Судебная реформа и практика» и др.) и две
передовые статьи по поводу кончины и погребения
царя-освободителя. С благодарным чувством вспоминаю я, как тепло
отнеслись семь лет назад мои «совопросники» и собесед-
1 «Немецком обозрении» (нем.).
2 «Теккерей как фотограф» (нем,).
17 А. Ф. Кони, т. 7 257
ники по «круглому столу» к исполнившемуся сорокалетию
моей служебной деятельности, когда мне неожиданно
пришлось почувствовать себя по отношению к ним в
положении подсудимого, признающего свою вину и лишь
мечтающего о снисхождении со стороны присяжных и которому
последние, к немалому для него конфузу, выносят
оправдательный приговор *. Воспоминания о моей судебной
службе — как это ни странно — тесно связаны с дружеским
кругом, который в былые годы сходился за «круглым
столом». Эта служба шла, выражаясь словами Пушкина,
«горестно и трудно» *, и тот ее период, когда я, вопреки
некоторым неосновательным надеждам, действовал в твердом
сознании, что русский судья, призванный применять
Судебные уставы по их точному смыслу, обязан быть
нелицемерным слугой, но не прислужником правосудия, бросал
свою тень на все последующие долгие годы, ставя меня в
положение лишь терпимого, но отчужденного судебного
деятеля, которому решались предлагать сложить с себя
судейское звание и которого подвергали разным видам
служебных аварий — нравственных и даже
материальных — до лишения преподавательской кафедры и
назначения членом комиссии д\я разбора старых архивных дел
включительно *. Ныне я этому могу только радоваться,
имея возможность оглянуться назад, не краснея и не
стыдясь моего прошлого. Но бывали тяжелые дни и часы,
когда в отмежеванной мне области деятельности я
чувствовал себя одиноким, окруженным торжествующим противо-
действием, явным недоброжелательством и тайным злоре-:
чием. Но и тогда, в течение почти тридцати лет, садясь за
гостеприимный «круглый стол», я чувствовал себя в обла-
сти идей и начал другого, высшего порядка: мне дышалось'
легче и свободней, и бодрость снова развертывала свои
крылья в моей душе. И теперь, когда перед моим
мысленным взором проходят образы людей, встречавшихся за
этим столом, я не могу не быть признательным им за то
«ambiente» *, за ту нравственную атмосферу, в которой
провел я с ними и благодаря им многие часы. Сколько из них
уже ушло в «Элизиум теней»! * Я вижу благородные
седины Арцимовича и из уст его слышу заветы истинной
государственной мудрости; я слышу заразительный смех и
страстное слово Кавелина; передо мной встает Спасович с
8 Окружение, обстановка (итал.).
258
непокорным, ярким словом, в которое облечено глубокое
содержание; я не могу забыть рассказов Тургенева; мне
кажется, что еще и теперь сидит против меня мой старый
добрый друг Иван Александрович Гончаров и что, вперив
проникновенный взор куда-то вдаль, задумался Владимир
Сергеевич Соловьев. Моя признательность идет дальше.,
В течение довольно долгих и трудных лет приходилось
работать на своем поприще среди враждебного настроения,
не чувствуя и не видя около себя почти никакой поддержки.
Как часто тут наступают минуты усталости и смертного
греха уныния и подкрадывается к человеку услужливый
компромисс со своими обманчиво успокоительными
нашептываниями об уступках! Как легко ему поддаться и неза--
метно для себя пойти по наклонной плоскости до той поры,
когда придется услышать роковое: «Да воспляшет Исакий
с нами!»* В такие минуты я искал опоры не только в
императиве собственного сознания, но нередко и в
представлении о кружке сидящих за «круглым столом». Вокруг
него до последних лет все больше и больше сгущалась
тьма; когда-то кусок небольшого, но цельного материка, он
становился островком, затерянным среди безбрежного
моря пошлости, лицемерия и самохвальства. Однако
вступить на этот островок, причалить к нему было хотя и
отрадно, но не легко. Это надо было заслужить. И для меня,
столь часто чувствовавшего себя чужим в области своей
прямой деятельности и своим в этом кружке, он был
своего рода нравственным ареопагом. Мысль о нем не могла
не убивать соблазнов компромисса. «А что скажет на это
Кавелин! Как пожму я его честную и неуступчивую руку?
Какая грусть промелькнет в глубоких глазах Арцимовича,
и какая улыбка сдержанного сожаления встретит меня на
лице Михаила Матвеевича!» Вот за эту нравственную
поддержку, столь важную для того, «чтоб человек не
баловался», как сказал Некрасов *, я на восьмом десятке своей
жизни не могу не сказать спасибо...
СОВЕЩАНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ УСТАВА
О ПЕЧАТИ*
Разница между явочным
и концессионным
порядком возникновения новых периодических изданий
состоит в сущности в том, что при втором из них
издатель и редактор-издатель утверждаются министром
внутренних дел по сведениям, доставленным и собранным
главным управлением по делам печати. Но есть ли в таких
сведениях гарантия по отношению к личности и деятельности
этих лиц, достаточная для того, чтобы искупалось широкое
применение усмотрения в разрешении того или другого
повременного издания? Такое усмотрение, даже в том
случае, когда оно не переходит в злоупотребление чувствами
симпатии и антипатии к лицу или направлению просителя,
могло бы основываться лишь на известного рода условиях
ценза, неудовлетворение которым лишало бы
предпринимателя издания права получить разрешение. Какие же могут
быть условия этого ценза? Образовательные} Но образо-'
вание есть лишь шлифовка и отделка прирожденного ума и
таланта, а ум и талант суть лишь оружие, очень важное
само по себе, но могущее быть направленным на самые
противоположные цели, указанные не только
возвышенными, но и самыми низменными побуждениями. Ум и талант
подобны ножу, который одинаково нужен и для мирной
трапезы и для корыстного нападения. Умный и
талантливый человек есть лишь человек хорошо вооруженный, и чем
выше его образование, тем острее, и в некоторых случаях,
опаснее его оружие. Поэтому образовательный ценз сам по
себе, независимо от душевных свойств просителя и чувства
нравственного долга, особых гарантий не представляет*
260
Гарантию же того, что издатель или редактор будет
человеком нравственным и сознающим свой долг, найти, в
большинстве случаев, невозможно. Нам говорят, будто
статистика показывает, что процент преступлений, совершаемых
образованными людьми, значительно ниже. Может быть,
это и действительно так, но зато, если количество
совершаемых так называемыми образованными людьми
преступных деяний немного меньше, то качество этих деяний
значительно хуже. В низших слоях общества мы чаще имеем
дело с результатами бедности, малой культурности,
отсутствием нравственно-религиозного руководительства — с
кражами, грабежами и насилиями, в высших же — с
подлогами, шантажом, хитрыми мошенничествами и всякого рода
хищениями. Именно тут-то и сказывается развитое у нас
отсутствие чувства долга, гоньба за внешним блеском и за
чувственными наслаждениями и, прикрываемое громкими
фразами, бездушие по отношению к родине, к обществу и
к отдельным его членам. В сущности, по результатам своих
действий, иной шантажист не лучше обыкновенного
грабителя, а директор банка или казначей благотворительного
общества, допировавшийся или доигравшийся до кражи и
гибели вверенных им сбережений и сумм, стоят сотни
воров, вместе взятых. Образование, и притом по большей
части поверхностное, без твердых нравственных начал,
особой гарантии добросовестности редактора не
представляет. Светское общество состоит из образованных людей,
но разве в нем не летают по всем направлениям крылатые
сплетни и не ползет в тишине ядовитая клевета? Гарантии
надо ждать от общего нравственного подъема. Если
ограничиться требованием одного высшего образования, то
придется до крайности ограничить область, из которой
могут выходить издатели и редакторы-издатели. Вообще,
окончание курса учебного заведения еще ничего не значит,
ибо мы имели критиков, как Белинский и Полевой, тонких
литературных ценителей и многолетних редакторов, как
Дружинин, — такого поэта, как Лермонтов, и, наконец,
такое украшение мировой литературы, составляющее
бесспорную гордость и славу России, как Лев Толстой, которые
не могли бы представить формального свидетельства о
своем высоком образовательном цензе. Горячее чувство
и искание правды, вдумчивое изучение и понимание
высших потребностей человеческого духа — вот их
образовательный ценз.
261
Ценз нравственный? Но здесь мы вступили бы в об-:
ласть самых произвольных толкований и в пользование
непроверенными данными. В конце концов отказ в
разрешении повременного издания сводился бы к так
называемому вредному направлению, которое так же неопределенно
и изменчиво в своей оценке, как и те виды правительства,
которыми обыкновенно устраняются в наших
законодательных комиссиях творческая мысль или защита
подвергающихся ломке основных начал какой-либо деятельности
или учреждения. И понятие о вредном направлении, и
указание на виды правительства сводились бы к личным
взглядам и вкусам министра и его ближайших советников.
Но практика жизни учит, что такие взгляды,
обязательные и повелительные сегодня, круто изменяются завтра,
и то, что вчера считалось противным видам правительства,
вредным направлением, сегодня признается полезным и
желательным. С таким элементом законодательство
считаться не может, не рискуя крайнею неустойчивостью.
Министры проходят — законы остаются! Притом такой
выбор, основанный на предполагаемых в будущем действиях
и направлении всей деятельности, неминуемо создал бы
привилегированное положение одних в ущерб другим и дал
бы повод думать, что лица, которым разрешено в
концессионном порядке повременное издание, приступают к нему
под эгидою ручательства правительства за их нравственную
благонадежность, что, конечно, несовместимо с лежащими
на правительстве задачами. Поэтому условием разрешения
издания может быть поставлена лишь нравственная неопо-
роченность издателя и издателя-редактора по суду общему
и сословному, подобно тому, как она существует
относительно судей, и даже с некоторыми ограничениями.
Конечно, нельзя допустить к выпусканию повременного
издания лицо, не имеющее гражданской правоспособности и
состоящее под общею опекою или под опекою за
расточительность. Но, вместе с тем, например, несостоятельный
должник, объявленный несчастным и неосторожным, не
должен быть устраняем от издательской деятельности.
Основателем одного из наиболее серьезных органов
повременной печати был выдающийся во многих отношениях
Н. Ф. Павлов, не только объявленный несостоятельным
должником, но даже заключенный, по требованию жены *,
за долги в знаменитую московскую «яму». Возраст? Здесь,
без сомнения, необходимо знание жизни и умственная зре-
262
лость. И возраст в 25 лет представляется минимальным
пределом, которого можно требовать от издателя. Этот
возраст установлен в законе для судей и присяжных
заседателей, и от человека, желающего содействовать
выражению общественного мнения и настроений и быть в своем
органе их судьею и показателем, естественно требовать той
же зрелости, которая необходима, чтобы судить своих
сограждан. Поэтому для личности издателя достаточно
приведенных условий в качестве необходимых гарантий, а они
вполне совместимы с явочным порядком.
Но, быть может, опасная безнаказанность найдет себе
место не в личности, а в деятельности такого лица?
Однако, исходя из начала, что ответственность за преступления
и проступки по печати в повременных изданиях может
быть предметом не административных взысканий, а лишь
судебного рассмотрения, надо признать, что и
действующий карательный закон и будущее Уголовное уложение,
при ближайшем рассмотрении, устраняют серьезную
возможность такой опасности. Так, постановлениями о
нарушениях общественной нравственности она предотвращена
в полной мере. Быть может, лишь пришлось бы ввести
некоторые взыскания с подсудностью низшим инстанциям,
где слабость наказания искупалась бы быстротою
производства. Государственная безопасность и общественный
порядок точно так же, особенно в новом Уложении, находят
себе прочную и разностороннюю защиту, причем последним
предусмотрены и все новейшие способы производства
смуты и колебания общественного спокойствия. Если же,
независимо от печатных деяний такого рода, останется непре-
дусмотренною смелая и остроумная критическая мысль,
не взывающая к преступлению и к смуте, то от этого едва
ли произойдет какой-либо действительный вред. Стоит
припомнить, сколько перлов ума и таланта, сколько
художественных образов и глубоких философских мыслей
содержат в себе, например, сочинения Герцена, несмотря на
примесь страстных отголосков на злобу дня. Религиозная
область ограждена не менее нашими карательными
постановлениями. Можно даже сказать, что Уголовное уложение
расширило некоторые из существующих положений, придав
им более полное толкование. Статьи о богохулении,
кощунстве, надругательстве над священными предметами и
чувствами и т. п. достаточно ограждают веру. Если же в
разрешенном издании найдет себе место голос сомнения в
26S
правильности тех мер, которыми церковь оберегает и
насаждает веру или критический разбор ее миссионерской
деятельности и отношения к другим исповеданиям, равно
славящим единого бога, или провозглашающим учение
Христа, или, наконец, пребывающим в слепоте язычества,
прозрение от которой достигается словами мира и любви,
а не насилием, — то от этого свет, несомый верою, не
померкнет, а освещаемая им истина лишь выиграет. Слово
живого и горячего отношения к величайшим правам
совести опасно лишь для «рабов ленивых и лукавых» *, а не
для сознательных и ревностных служителей церкви.
Остаются права личности, которая может быть уязвлена
клеветою, смущена диффамациею и оскорблена бранью и
злословием. Но и здесь, в постановлениях Уложения и их
всестороннем и последовательном развитии в кассационной
практике, содержится полнейшее ограждение личной чести
и достоинства от посягательства печатного слова. Из
лаконического выражения закона «о клевете в печати» выросло
стройное понятие о клевете как ложном обвинении кого-
либо в деянии, противном правилам чести. Затем наряду с
требованием лживости Сенат поставил равносильное
требование «незаведомой истинности» и установил, что там, где
приписываемое деяние по объективным своим признакам
и по общему взгляду является бесчестным, доказательства
намерения оскорбить представляются ненужными.
Наконец, Сенатом же признано, что деяние, противное правилам
чести, не только может быть приписано оклеветанному
путем прямого указания и\и описания, но и путем
неизбежного предположения. Поэтому Сенат нашел, что ложное
указание на поведение кого-либо, вызвавшее пощечину,-
есть клевета, ибо заставляет предполагать, что получивший
оскорбление совершил постыдные действия, вызвавшие
резкое проявление негодования^ И, переходя от отдельной
личности к целым группам и корпорациям, Сенат
разъяснил, что если, с одной стороны, невозможно оскорбление
в печати целых сословий или племен, то, с другой стороны,
определенные корпорации, связанные единством действий
и дисциплины, органическим устройством и определенною
профессией) — каковы, например, военные врачи — могут
быть предметом оскорбления. Вместе с тем им же
проведено строгое и точное разграничение между клеветою и
диффамациею и резко отделено вторжение в частную жизнь
от вторжения в служебную деятельность должностного
264
лица, причем, как это высказано по делу семиреченского
губернатора Аристова, при отсутствии прямых документов,
оправдывающих обвиняемого в диффамации, достаточно
совокупности косвенных указаний на заслуживающую
порицания деятельность должностного лица, чтобы признать
обвиняемого редактора исполнившим свой долг
бестрепетного служения общественным интересам. Таким образом,
и личность оскорбленного, и истинные задачи печати
ограждены вполне.
Поэтому нет никаких оснований отказываться от
явочного порядка, тем более, что отказ лицу, домогающемуся
права на повременное издание, при невозможности узнать,
огласить и опровергнуть мотивы отказа, является своего
рода оскорблением, которое тем чувствительнее, что дает
повод к неопределенным подозрениям и злоречивым
слухам и, так сказать, в некоторых отношениях лишает
человека права на общественное уважение и доверие. Это не
может быть исправлено и установлением обжалования, при
котором оскорбительность отказа одинаково не может не
усугубиться как соблюдением тайны, как и гласностью
разбора жалобы. Не может явочный порядок повредить и
интересам подписчиков в случае скорого прекращения
эфемерных изданий и присвоения издателями подписных де-
йег, ибо подобные случаи имели место и при концессионном
порядке. Притом правительство, решившись оградить
интересы общественной мысли от излишних стеснений, едва ли
должно принимать на себя ограждение интересов кармана
подписчиков — людей взрослых и действующих
сознательно — и долженствующих винить самих себя, если они
становятся жертвою рекламных обещаний безвестных лиц, не
доказавших ничем своего права на общественное доверие.
В этих случаях прибежищем подписчиков должны служить
не законы о печати, а гражданский суд и карательные
статьи о мошенничестве.
Здесь указывают, что концессионная система
существует у нас дая многих промыслов и профессий.
Действительно, выдавая диплом врачу, инженеру или
архитектору, государство тем самым как бы ручается, что таковое
лицо обладает техническими знаниями для врачевания или
производства построек. Но нельзя проводить аналогию
между техническою профессиею и журнальным делом. При
концессионной системе вопрос заключается вовсе не в том,
чтобы удостоверить техническую пригодность данного лица
265
для занятия издательским промыслом, ибо такого
критерия не существует, и техника журналиста не поддается
определению. Теперь учреждена в Москве особая школа
для журналистов профессора Владимирова*; такая школа
является у нас пока еще первым опытом, но едва ли,
однако, журнальная техника может вообще обособиться в
виде отдельной отрасли технических знаний. Указывают
затем на возможное, при действии явочной системы,
развитие различных злоупотреблений, на появление в рядах
издателей разных аферистов и темных рыцарей наживы.
Позвольте напомнить по этому поводу, что еще недавно,
при господстве концессионной системы, по всей России
прогремела эпопея одного издателя и притом доктора
медицины, который выпустил самые широковещательные
рекламы о выходе в свет чуть ли не десятка приложений к
своему изданию самого разнообразного содержания,
причем заранее можно было предвидеть, что у него не было
никакой материальной возможности выполнить все его
обещания по удовлетворению подписчиков ожидаемыми
премиями. Известна также история с другим журналом,
который обещал своим подписчикам в виде премии картину
в роскошной раме, и вместо рамы выдал простой
типографский бордюр, напечатанный на бумаге вокруг картины. Эти
примеры достаточно убедительно показывают, что
концессионная система нисколько не охраняет подписчиков от
разочарований.
По всем приведенным соображениям, полагаю
необходимым заменить концессионный порядок явочным с
соблюдением указанных мною условий.
Здесь высказано предположение об устройстве для
разрешения изданий особого учреждения из высших
административных и судебных лиц, а также и членов Академии
Наук. Я считаю очевидною полную нецелесообразность
подобного учреждения и нахожу, что участие в нем членов
Академии представляется совершенно невозможным,
противореча их призванию и характеру их занятий. Еще в
1900 году, при открытии Разряда изящной словесности
при Академии Наук предложение одного из почетных
академиков, ныне умершего, об участии Академии,
самостоятельно или в качестве эксперта, в уничтожении книг,
признанных вредными главным управлением по делам печати,
266
было решительно отвергнуто. Нет сомнения, что взгляд
академиков с тех пор в этом отношении ни в чем не
изменился. Составленное же из высших администраторов и
судебных чинов исключительно, такое учреждение в ряде
случаев, касающихся печати вне С.-Петербурга, вынуждено
будет действовать под влиянием донесений местных
властей и деятельность его может оказаться столь же
неудовлетворительною, как и отмеченная в одном из последних
журналов Комитета министров деятельность Особого
совещания об административной ссылке. Точно так же
нельзя согласиться и с мыслью о коллегиальном учреждении,
которое — в роли особо избранного совещания из
заслуживающих общего уважения лиц — по совести разрешало
бы вопрос о дозволении издания, оценивая всесторонне
личность ходатайствующего. Этот высший, как здесь было
сказано, суд присяжных ничего, однако, общего с идеею о
суде присяжных не имел бы, так как последний судит не
нравственную личность того или другого человека вообще,
а его поступок, в котором выразилась его злая воля и
нарушение им общественного строя. Отвечая на вопрос:
виновен ли?, присяжные вместе с тем отвечают и на вопрос:
совершил ли?, то есть доказано ли перекрестным
допросом, речами сторон и разбором улик и доказательств то,
что взведено на подсудимого совершенно точным и
определенным обвинением. Что же общего между этим
суждением, покоющимся на прочно установленном факте
прошедшего, и отсутствием доверия, построенном на предвзятом
предположении о будущем поведении? Даже и
средневековый суд в Англии и России, имея дело с homines male
crédites de maleficio aliqüe i и с «лихими людьми, сказанными
по обыску», прежде постановления своего приговора
исследовал их вину в отношении определенного преступного
деяния. Отрицательные решения такого Совещания в
ответ на ходатайство о разрешении издания всегда будут
возбуждать неудовольствия. Они будут или считаться
неправильными и основанными на предубеждении или же,
если общество отнесется к ним с доверием, будут налагать
пятно на просителя, возбуждающее в окружающих
неопределенные подозрения, которыми может воспользоваться
мстительное злоречие. Не надо забывать, что просьбе о
' Человеком, которого могли подозревать в каком-либо преступлен
нии (лат.).
267
разрешении издания неминуемо должно предшествовать
собрание необходимого капитала и подбор сотрудников и
что, следовательно, отказ никогда не может остаться в
тайне. Переходя затем к возражению против 25-летнего
возраста просителя при явочном порядке, который, будто
бы, недостаточен и должен быть повышен до 30 лет, я
настаиваю на своем сравнении таких лиц, по отношению к
возрасту, с судьями, находя, что нет никакого основания
быть более строгим к журналисту, чем к судье, ибо если
молодости свойственны неопытность и увлечение, то
старость очень часто связана с рутиною и равнодушием к
неправде. Притом журналист действует от своего имени и на
собственный страх, и государство не имеет основания
предъявлять к нему более высокие требования возраста,
чем к судье, которому, несмотря на его 25 лет, вверяется
честь, свобода и имущество граждан и право творить суд
от имени императорского величества. В последнее время
наше законодательство впрочем понизило требования
возраста для своеобразных судей в лице земских
начальников, позволив им отправлять судейские обязанности с
21 года, но это так же мало соответствует действительным
потребностям правосудия, как и самое учреждение
административных чиновников, имеющих право отправлять
судейские обязанности. Остаюсь поэтому при высказанном
уже мнении о необходимости введения явочного порядка.
Напрасно было бы искать в своде законов правила о
цензуре среди узаконений, говорящих о предметах
деятельности ведомства просвещения или, по крайней мере,
внутренних дел. Эти правила помещаются в XIV томе
Свода законов, между Уставом о предупреждении и
пресечении преступлений и Уставом о ссыльных. Это соседство
отразилось и на Уставе о цензуре и печати, который не
только рядом мер предупреждает и пресекает печатное
слово, но даже в некоторых случаях предоставляет
усмотрению одного лица лишать его права на существование в
самом его зародыше. Такою является статья 140 Устава
цензурного в ее практическом объеме и применении вплоть
до последнего времени. В этом применении, наряду с вполне
понятными случаями удержания периодической печати
от оглашения обстоятельств, по самому существу своему
для пользы родины подлежащих временной тайне, покуда
268
они не отойдут в область истории, — сплошь и рядом
налагалась печать молчания на сообщения, в которых самый
придирчивый взгляд не усмотрел бы ничего, «quid
detriment rei publicae capiat» l. При этом забывалось, что,
рядом с печатным словом, связанным с нравственною и
юридическою ответственностью и возможностью
незамедлительного опровержения, существует молва, питающаяся
клеветою и вымыслом, то летучая, то ползучая, под
прикрытием темноты и безопасности. Благодаря статье 140
бывали периоды, когда газеты наполнялись передовыми
статьями, вынужденными тщательно обходить «злобу
дня», и целыми столбцами известий о юбилеях
экзекуторов и архивариусов, — некрологами людей, вся заслуга
которых оказывалась состоящею в том, что пребывание их
под судом повелено не считать препятствием к получению
ордена святого Владимира, — бесконечными выписками из
«Кронштадтского вестника» о начатии и окончании судами
мирной кампании, — сведениями о пожертвованиях
100 рублей в пользу того или другого благотворительного
общества и об экзаменах в школах кройки и шитья.
Таким путем статья 140 сливалась незаметно со статьею 97
Цензурного устава. Если последняя разрешает касаться
«несовершенства существующих постановлений лишь в
специальных ученых рассуждениях, написанных тоном,
приличным предмету, и притом лишь в случае, если
недостатки постановлений обнаружились уже на опыте», то
статья 140 могла широко применяться к тем житейским
явлениям, в которых сказывались эти несовершенства.
Отсюда являлся известного рода роковой круг, в силу которого,
запретив говорить о каком-либо печальном или
безобразном явлении, взывающем к пересмотру законодательства,
можно было обеспечить незыблемость этого
законодательства, о недостатках которого, недозианных опытом, нигде
ничего не печаталось бы, как о запрещенном по статье 140
Устава цензурного. Возможность чрезмерно широкого
применения последней статьи обратила на себя своевременно,
в 1873 году, внимание Государственного Совета. В проекте
установления содержащегося в этой статье правила
министр внутренних дел говорил о воспрещении касаться
какого-либо дела или вопроса. Но Государственный Совет
дозволил прилагать «печать молчания» исключительно к
' Что могло бы нанести ущерб государству (лат.).
269
вопросам государственной важности и твердо установил:
источник запрещения — соображения высшего
правительства, случаи запрещения — исключительные и редкие и,
наконец, практическую цель запрещения — устранение
опасных и сопряженных с вредом для государства
последствий нескромности. Но на практике, при бесконтрольных и
безапелляционных распоряжениях, все эти условия
исказились и потеряли свои прежние определенные черты.
Источник обратился из соображений высшего правительства
не только в усмотрение министра и притом не одних
внутренних дел, а каждого министра, но зачастую в просьбы и
домогательства отдельных частных лиц; редкие и
исключительные случаи обратились в частые и обыденные, —
последствия, опасные и вредные для государства, стали в
один ряд с последствиями, несомненно полезными для
государства, так как ими освещалось истинное положение
дел или вред, наносимый тем или другим явлением
нравственным интересам общества, служить которым призвано
государство. Мы все бывали свидетелями, когда вдруг
проскальзывало в печать сведение, подымавшее завесу над
рядом темных дел или неблаговидных проделок, — и как
затем, точно по мановению волшебной палочки, вся печать
смолкала, делаясь не только глухонемою, но и слепою. Не
всякий мог пристально следить за нею и, выражаясь
словами митрополита Филарета, «слушать ее молчание»;
большинству оставалось снова искать ответов на разные
вопросы в противоречивых толках и непроверенных слухах
или же обращаться к тенденциозным и часто совершенно
невежественным, в смысле знания России, вестям
иностранных газет. Стоит припомнить запрещение писать о
доппинге, как о возбудительном средстве, даваемом
скаковым лошадям при состязаниях, для придания им этим
мошенническим способом большей быстроты в беге.
Несомненно, что употребление доппинга наряду с таким
учреждением, как тотализатор, подлежит безусловному
изобличению и осуждению; существование их никакие интересы
коннозаводства оправдать не могут, ибо эти интересы не
должны идти вразрез с народною нравственностью,
которую колеблет всякая общественная азартная игра. Я, по
моему судейскому опыту, знаю и могу удостоверить, что во
многих корыстных преступлениях такая игра бывала одною
из движущих причин, толкнувших слабого и увлекающегося
человека на пагубный путь. Как же не говорить о зло-
270
употреблениях, допускаемых при терпимом и оберегаемом
зле, об этом своего рода зле в квадрате? И что общего
имеет доппинг с вопросами государственной важности, о
которых говорится в статье 140? Какою, например, опасг
ностью грозили Российской державе статьи директора
Института путей сообщения профессора Герсеванова по
техническому образованию, воспрещенные к печатанию в
половине девяностых годов? Или репортерские отчеты об
имеющем быть концерте в пользу общества
вспомоществования благородным девицам? Или известия о прибытии и
пребывании в С.-Петербурге бывшего харьковского
губернатора князя И. М. Оболенского? Наряду с такими,
вызывающими недоумение, случаями распространительного
толкования статьи 140 можно отметить и случаи,
вызывающие скорбное чувство за те немногие предметы
непререкаемой народной славы и гордости, о которых, однако,
воспрещалось говорить. Достаточно указать на запрещение
не только обсуждать определение святейшего Синода о
духовной каре, постигшей графа Л. Н. Толстого, в то время,
как на него сыпалась печатная брань и прямые проклятия,
но даже говорить о пятидесятилетнем литературном
юбилее «великого писателя земли русской», в связи с
обязательством соблюдать особую осторожность в случае его
смерти, причем, однако, было великодушно не встречено
препятствий к статьям о его литературных произведениях...
К такому распространительному толкованию статьи
140 присоединяются и случаи явного нарушения закона,
обеспечивающего публичность судебных заседаний и тесно
связанную с нею гласность их. Высочайше утвержденным
20 ноября 1864 г. мнением Государственного Совета и та
и другая закреплены по всем делам, по которым, согласно
Судебным уставам, двери заседания не подлежат
закрытию. Обсуждая весьма редкие, но необходимые случаи
закрытия дверей, Государственный Совет нашел, что
соединенная с публичностью возможность широкого оглашения
всех подробностей дела изустно и в печати побуждает
свидетелей и участвующих в деле лиц воздерживаться от лжи
и не скрывать истины, а судей живее чувствовать святость
своего призвания, быть внимательными и строго
соблюдать предписанные законом правила; на публичность и
связанную с нею гласность всякий невинно привлеченный
может рассчитывать^ как на средства оправдания и смытия
пятна незаслуженного обвинения; она же составляет
271
главное оружие в руках справедливого обвинителя. В 1886
году случаи и поводы закрытия дверей были очень
расширены; мера эта, принимаемая по постановлениям судов и по
распоряжениям министра юстиции, в сущности, перестала
носить характер чрезвычайной — ив таком объеме
перешла в законодательную работу, ныне внесенную в
Государственный Совет и предлагающую вместо желательного
ремонта Судебных уставов их нежелательную и ничем не
вызываемую коренную перестройку. Благодаря такому
расширению случаев непубличности, суды получили право
закрывать двери заседания, то есть устранять публичность и
гласность в делах, где есть обстоятельства, касающиеся
таких распоряжений или действий высших мест и лиц в
государстве, публичное рассмотрение которых может быть
несогласно с достоинством государственной власти. Ввиду
крайней растяжимости последнего понятия, стали, к
прискорбию, возможны случаи поспешной готовности к
устранению публичности. В 1898 году Сенат должен был даже
разъяснить одному из судов, что ссылки на
всеподданнейший доклад министра внутренних дел, высочайше
утвержденный, своевременно опубликованный и помещенный в
Полном собрании законов, отнюдь не могут считаться,
нарушающими достоинство государственной власти и
влекущими за собою закрытие дверей заседания. Таким
образом, гласность судебных заседаний введена в весьма
тесные рамки и затем всё, что в эти рамки не втиснуто,
должно бы делаться, согласно закону, достоянием печати, а
чрез нее и всего общества. Но, в действительности, при
широком и не основанном на ее точном смысле толковании
и применении статьи 140 и эта ограниченная гласность
подвергается постоянным и совершенно произвольным
урезкам. Цензурное ведомство накладывает печать
молчания на отчеты по гражданским и уголовным делам,
очевидно руководясь соображениями местного и личного, а не
общегосударственного свойства. Так, например, запрещено
было печатать отчет по процессу княгини Щербатовой с ее
управляющим Ольховским и по делу липецкого уездного
предводителя дворянства Кожина и Тамбовского
металлургического общества с крестьянами; запрещены в
последние годы отчеты и сведения о делах Рогачевского в
Харькове, Сосны и Эрна в С.-Петербурге, о процессе
Тальмы, несмотря даже на то, что он, после оставления без
уважения его ходатайства о возобновлении дела, был все-
272
А. Ф. Кони и M. M. Стасюлевич.
1909 год
таки помилован, и др. Ярким примером такого
злоупотребления статьею 140 по отношению к делам,
разбирающимся в высшем суде империи, служит дело казанского
полицеймейстера Панфилова, обвиняемого в превышении власти,
имевшем важные последствия и выразившемся в
принуждении трех девушек купеческого и мещанского сословия,
угрозою выдать им «желтый билет», подчиниться
гинекологическому освидетельствованию, причем несчастные
должны были, в обществе проституток, подвергнуться
оскорбительному осмотру, и все три оказались
целомудренными. Когда, после больших пререканий и затруднений,
дело дошло до Сената, где оно должно было слушаться
при открытых дверях, последовало распоряжение, на
основании статьи 140, о запрещении печатать отчет об этом
процессе, и, таким образом, спасительный урок
необходимости осторожного обращения полицейской власти с
честью женщины дан был лишь той крайне
немногочисленной публике, которую вмещает небольшая зала
апелляционных заседаний Сената, а общество ничего не узнало по
столь близко касающемуся его вопросу. Статья 1038 ]
Уложения о наказаниях и пункт 2 статьи 305 нового
Уголовного уложения говорят о наказуемом нарушении правил о
печатании судебных отчетов. Но это нарушение может
выразиться двояко: или в напечатании того, что, согласно
Судебным уставам, печатать нельзя или же в лишенном
законного основания преграждении гласного обсуждения
публично рассмотренного дела. Второго рода нарушение и
совершается под флагом статьи 140. Запрещая печатание
отчетов и лишая тем невинного возможности быть
оправданным всенародно, а не келейно, эта статья, в ее
современном применении, дает лишь пищу злословию и
злорадным догадкам и напоминает стих Горация: «Vexât censura
columbas—dat veniacorvis» ^.Поэтому статья 140 в том
виде, как она применялась доныне, не может и не должна
существовать, если условием ее приложения, и притом
строжайшим образом соблюдаемым, не будет поставлено точное
соблюдение сделанных при издании ее указаний на
вопросы государственной важности, признаваемой в
чрезвычайных случаях не одним министром, а высшим
правительством, причем каждый раз должно быть установлено, что
оглашение вопроса угрожает вредом или опасностью для
J «Терзает цензор голубя — милует ворона»
18 А, Ф, Кони, т. 7
273
государства. Представителем такого высшего
правительства в Германской империи является имперский канцлер,
который, по § 15 закона 7 мая 1874 г., во время опасности
войны и в военное время, может, объявив о том во
всеобщее сведение, воспретить обнародование известий о
передвижениях войск и о средствах обороны. У нас нет, к
сожалению, имперского канцлера, и его могло бы заменить
лишь высшее государственное коллегиальное учреждение,
то есть при настоящем государственном устройстве —
Комитет министров. Область вопросов, подводимых под
статью закона, который заменил бы собою статью 140,
должна быть ограничена самыми точными указаниями, не
допускающими распространительного толкования. По мнению
78 литераторов, — авторов записки 1895 года о нуждах
печати, — к обстоятельствам, не подлежащим, в течение
известного времени, оглашению, должны относиться план
мобилизации, оборонительные предположения и тайные
дипломатические переговоры. Сюда же, по-видимому, надо
отнести: предполагаемое заключение внутреннего или
внешнего займа, переговоры с банкирскими синдикатами,
принятие финансовых мер, преждевременное оглашение
которых может вызвать в обществе панику, и т. п. Вне этих
вопросов—военно-морского, дипломатического и финансового
свойства — и притом в условиях общегосударственной
важности, чрезвычайности и опасности, решительно ника~
кие другие не должны подлежать запрещению оглашения,
которое притом всегда должно быть временным и, по
возможности, на краткие сроки. Об этом тоже должно быть
сказано в законе, который мог бы заменить собою статью
140. Нет сомнения, что обусловленные таким образом
вопросы будут возникать крайне редко и лишь в тех случаях,
когда нескромность чинов того или другого ведомства,
могущих забыть о чувстве долга по отношению к отечеству и
о нравственной ответственности своей пред ним, может
угрожать действительным вредом, дав материал для
печатного разглашения. Грозить строгими уголовными
наказаниями за то или другое разглашение было бы
нецелесообразным и, при практическом осуществлении угрозы, даже
жестоким, так как оглашением вред уже был бы нанесен, а
в действиях виновного трудно было бы найти элемент
намерения причинить вред, необходимый, однако, для
применения взысканий за государственную измену, и т. п. Здесь
нужно избежать опасности оглашения, а не мстить за то,
ZU
что она наступила. При начертании такой статьи, конечно,
необходимо оговорить, что от оглашения опасных для
государства сведений, могущих служить полезным
материалом врагам или биржевым спекулянтам, следует строго
отличать указания недостатков или неуспешности тех или
других предприятий или мер по военному и морскому делу.
В последнее время такой взгляд, очевидно, усвоило
себе и цензурное ведомство, так как статья 140 не помешала
важным разоблачениям о состоянии нашего
многострадального флота со стороны господ Кладо и Борея.
Между тем эта же статья широко применялась к полемике
покойного М. Н. Баранова против постройки «поповок»,
стяжавших себе печальную известность, как выразился
когда-то «Голос», «разрушительною силою против самих себя»
и ныне мирно догнивающих на Севастопольском рейде.
Таким образом, закон, дополненный и еще строже
очерченный, чем нынешняя статья 140, ограждая интересы
государственной безопасности, не являлся бы вредным
стеснением для печатного слова. При соблюдении приведенных
выше условий он лишь послужил бы указанием для
редакций повременных изданий на те редкие, временные и
исключительные вопросы из области войны, а также внешней
и финансовой политики, изъятие которых устранит
грозящую государству опасность.
Освобождение книг и брошюр от предварительной
цензуры представляется прямым логическим последствием
упразднения такой цензуры по отношению к повременным
изданиям. Между книгою и последними существует тесная
связь и взаимная замена: книге может предшествовать
ряд статей и рецензий, находящих себе место в газете; в
свою очередь, совокупность газетных статей,
объединенных одним заглавием или названием, может составить
самостоятельную книгу. Если не бояться дурного влияния
на читателя — при отсутствии цензурной преграды — того
или другого литературного произведения на страницах
газеты, то нет основания бояться его же и со страниц книги
или брошюры. Можно даже сказать, что повременное
издание в этом отношении опаснее, так как брошюра прочи-<
тывается и легко затеривается или «зачитывается»,
оставляя в памяти все более и более изглаживающийся след,
тогда как газета твердит, под разными формами, одно и то
18*
275
же постоянно и настойчиво, как капля долбит камень. Если
для повременных изданий была признана достаточною
гарантиею правильности действий область карательных
постановлений, то та же самая гарантия существует и для
книг и брошюр, облагая суровыми карами производство
смуты и восстания, возбуждение одной части населения
или сословия против других, подстрекательство рабочих
против хозяев и возбуждение племенной или религиозной,
вражды. Уголовное уложение по отношению ко всем этим,
поступкам указывает на возможность совершения их путем
печатного, слова или публикации, грозя притом, согласно
статьям 36 и 309, уничтожением самого произведения
преступного содержания. Точно так же богато Уложение и
статьями, карающими совершение путем печати
проступков против нравственности, религии и общественного
порядка. Вероятно, при необходимом пересмотре Уголовного
уложения нужно будет дополнить эти статьи более
дробными постановлениями, расширяющими область
подсудности низшим судам. Тогда центр тяжести ограждения
общества от вредных книг и брошюр перейдет в область
карательных законов и даже окажется излишним
установление вневедомственной инстанции для уничтожения
вредных книг, о которой говорит журнал Комитета министров.
Надо заметить, что высказанное в циркуляре министра
внутренних дел требование безусловной безвредности книг
и брошюр представляется и неприемлемым, и
неосуществимым. Можно понять требование воспрещения книг
безусловно вредных, так как оно содержит в себе
определенный признак, равно применимый ко всем случаям и
состоящий в том, что сочинение должно быть вредно всегда и
при всех условиях, если только не иметь в виду читателей,
лишенных рассудка от рождения или по болезни. Но что
называть безусловно безвредным? Здесь приходится войти
в сферу совершенно случайных признаков, на которых
будут основаны произвол, усмотрение и — говоря языком
Основных законов — «обманчивое непостоянство
самопроизвольных толкований», направленные к тому, что в
публичной речи одного из наших министров было названо
«усмирением буйства ума». И действительно, одно и то же
произведение может совершенно различно влиять на читателей
разных темпераментов, различных душевных
состояний, развития, восприимчивости, доверчивости,
способности понимать шутку и т. п. Можно ли ставить объектив^
276
ную оценку книги в зависимость от здоровья, настроения
или нервного возбуждения не только читателя, но,
пожалуй, и цензора? Очевидно, такой масштаб совершенно
непригоден. Притом, проявление не только грубых насилий,
но и нелепых взглядов под влиянием невежества, в
большинстве случаев, не может быть связано с влиянием
книги на народ, до сих пор предпочитающий всему сочинения
о божественном и сказочные небылицы. В этом отношении
чрезвычайно поучительные данные содержит в себе книга
«Что читать народу», изданная в Харькове в 1888 году*.
Слухи, вызвавшие убийство архиепископа Амвросия во
время чумного бунта в Москве в 1771 году, холерные и
картофельные беспорядки, женский бунт в Севастополе,
убийство доктора Молчанова в Хвалынске и т. п., не носят
на себе никакого следа влияния книги, а политические
процессы семидесятых годов о хождении в народ показали,
что все подделки под Эркман-Шатриана, «Сказка о
копейке» и «Хитрая механика» никакого влияния на народ не
имели *. Наконец, если требовать безусловной
безвредности, то, пожалуй, придется признать библию и святейшую
из книг — евангелие — тоже вредными и подлежащими
предварительной цензуре * вроде сочинений ad usum del-
phini *. Именно в евангелии содержатся тексты, на
которые опирается изуверство некоторых
противообщественных сект. Скопцы ссылаются на «соблазняющее око» и на
два вида скопцов, о которых говорит Христос; сопелков-
ские бегуны опираются в своем бродяжестве на то, что
Сын Человеческий не имел, где главу преклонить; хлысты
там же ищут оправдание своему отрицанию брака. Таким
образом, ввиду этих ложных толкований, слова,
несущие собою мир и величайшее утешение человеку, могли бы
не пройти через цензуру. Нам говорят, что цензура может
быть смягчена тогда, когда распространение широкого
просвещения оградит читателей от возможности вредного
влияния книги, но такая иллюзия опровергается тем, что
именно указанные нам, как вредные, книги являются
результатом большого умственного развития и лишь на него
рассчитаны. Указания на проповедь сепаратизма тоже
мало убедительны. Если под призывом к сепаратизму
разуметь отторжение от государства его отдельных составных
частей, то призыв к нему предусмотрен Уложением о
наказаниях и средствами против него служат — соблюдение
срока выпуска книги и судебное преследование. Но если
277
под сепаратизмом разуметь, как это у нас иногда делается,
простую проповедь сохранения и изучения племенных
и бытовых особенностей в языке и обычаях, то борьба
против такого сепаратизма не только не входит в задачи
государства, но и прямо им противоположна, заменяя живое
единение во имя общих целей мертвящею механическою
связью. Наш Цензурный устав относится с двойною
строгостью к переводаМу считая их почему-то более вредными,
чем оригинальные произведения, и впадая, в статье 6, в
странное с собою противоречие, а именно разрешая выход
без предварительной цензуры переводов с древних
классических языков, тогда как в последних «добрые нравы и
благопристойность», ограждаемые статьею 4 Устава
цензурного, иногда оскорбляются очевидно и полномерно.
Достаточно указать на сочинения Лукиана, на шестую сатиру
Ювенала, на Светония, на Марциала, на Аристофана в его
«Лягушках», на средневековых писателей Петра Аретина и
Антония Панормиты или, наконец, на некоторые страницы,
изложенные по-латыни в известном сочинении знаменитого
французского врача Tardieu «Sur les attentats aux moeurs» l.
Вот почему надлежит и переводы сравнять в их цензурной
судьбе с оригинальными произведениями. Остаются книги
для детей и сочинения педагогические. Но и для тех и для
других, при отмене предварительной цензуры, останется
тот же срок пребывания до выпуска в свет в цензурном
установлении и возможность судебного преследования.
Высказанное здесь особое опасение бесцензурности
книг педагогических представляется не совсем понятным.
Если под педагогическими книгами разумеются книги для
употребления в школах, то цензуру их, конечно, заменяют
указания и распоряжения учащего персонала. Если же
это книги, предназначаемые для последнего, то
спрашивается, о каком вреде их может быть речь?
Нелепые.педагогические теории и идущие вразрез с выводами науки
положения должны встречать себе преграду не в цензуре, а в
опыте и научной подготовке педагогов.
Сводя всё мною сказанное, нахожу, что по отношению
ко всем книгам и брошюрам, за исключением, быть может,
подлежащих духовной и медицинской цензуре,
предварительная цензура должна быть заменена карательною в
судебном порядке, с соблюдением точно установленного сро-
1 «О преступлениях против нравственности» (франц.).
278
ка для получения разрешения на выпуск издания из
типографии.
Я не могу согласиться ни с предложением ограничить
срок рассмотрения книг 24 часами, ни с предложением
освободить их вовсе от такого рассмотрения, предоставив
цензурным органам и прокуратуре усматривать
преступление в уже выпущенной в свет книге. Отменяя стеснения
предварительной цензуры, установляя явочный порядок,
упраздняя залог и сводя статью 140 к минимальным
размерам, следует снабдить карательную цензуру по суду
действительными средствами для осуществления своего
назначения. Свобода печати не должна состоять в
устранении всяких условий, необходимых для осуществления
уголовной репрессии, иначе печатное слово сделается орудием
посягательств, нетерпимых в культурном обществе и
разлагающих его возбуждением дурных страстей и низменных
инстинктов. Поэтому надо дать органам государства
возможность своевременно предотвратить появление книг или
брошюр, сеющих смуту, оскорбляющих нравственность или
призывающих к преступлению и его прославляющих.
Нельзя думать, что такая недопустимая книга не будет иметь
никакого влияния потому, что компетентные власти, узнав
о ней, успеют ее задержать и начать уголовное
преследование в то время, когда разойдется лишь несколько
экземпляров. Не надо забывать, что книга или брошюра может
быть предназначена к раздаче и притом в больших коли->
чествах, что она в день выхода в свет полетит во все
концы России по линиям железных дорог и что ей могут
предшествовать рекламы и возбуждающие особое любопытство
извлечения. Поэтому задержание ее после выпуска в свет
может представиться не только бесплодным, но и
неосуществимым, не говоря уже о том, что известие о задержании
ее в одном месте возбудит удвоенный к ней интерес везде,
где она еще не задержана. Поэтому определенный срок для
нахождения книги в рассмотрении цензурных органов
безусловно необходим и определять его в 24 часа совершенно
невозможно. Просмотр книги, с целью проверки ее
содержания с точки зрения Уголовного уложения, потребует
гораздо больше работы и внимания, чем, как здесь
выразились, «чирканье красным карандашом», в большей части
случаев не подлежащее никакой проверке. Тут дело не
вкуса или личных взглядов цензора, не его направления или
настроения, а серьезной вдумчивости в подчас сложное и
279
обширное сочинение. Нужно не раз вчитаться в
остановившие на себе внимание места, сопоставить их между
собою, вглядеться в статьи Уложения, вникнуть в
кассационные решения и познакомиться с выводами судебной
практики. Где же сделать все это в течение одних суток,
когда книг и брошюр много и когда задержание книги
будет по закону непременно сопряжено с возбуждением
уголовного преследования? Для того, чтобы разумно
действовать в этом отношении и сообщать прокурорскому надзору
не поспешные выводы, а проверенный и серьезный взгляд,
недостаточно, как здесь рекомендовалось, перелистать
книгу. Ее надо прочесть и, быть может, не один раз. Только
при таком условии издатель книги будет гарантирован от
задержания ее без достаточных оснований лишь потому,
что цензор будет опасаться подвергнуться упреку за то,
что выпустил книгу, которая впоследствии вызвала против
себя преследование. Для такого tempus deliberandi1
установленный семидневный срок представляется наиболее
подходящим. В крайнем случае, по отношению к
брошюрам, он мог бы быть доведен до 4 или 5 дней.
Предложение представлять книги прямо прокурору тоже
неприемлемо. Нельзя механически переносить в наши законы
правила иностранных кодексов из тех стран, где печать
достигла давно гражданской зрелости и свободы, тогда как
у нас она лишь выходит из-под строгой опеки. Прокурор
не может быть отождествляем с цензором и обременяем
просмотром всех выходящих в свет книг, причем
обвинитель и возбудитель преследования будут сливаться в нем
воедино, не говоря уже о том, что по статье 545 Устава
уголовного судопроизводства ему же будет принадлежать
и право предания суду. На основании пункта 2 статьи 297
того же Устава уголовное преследование возбуждается
сообщениями и донесениями административных мест и лиц.
Ими и будут цензурные органы, а их сообщения будут
проверяться прокурором, и последним будет даваться или не
даваться ход в судебном порядке. Этим путем создадутся,
согласно с духом Судебных уставов, две власти,
независимые друг от друга и самостоятельно установляющие свой
взгляд на возбуждающую сомнение книгу, издатель
которой, при разногласии таких мнений, только может
выиграть, а при единогласии подвергнется суду по более проч-
1 Времени для размышления (лат.).
280
ным основаниям. Не представляется нужным также уста-
новлять и особую имущественную ответственность цензора
за задержание книги, признанной прокурором не
подлежащей преследованию, так как, во-первых, задержание книги
должно последовать одновременно с сообщением
прокурору, от которого уже будет зависеть рассмотреть
сообщение цензора вне очереди, и, во-вторых, потому, что для
имущественной ответственности должностных лиц за
неправильные, противные закону или корыстные действия
установлена общегражданская ответственность в особом
порядке, по Уставу гражданского судопроизводства.
Нельзя согласиться и с замечанием, что семидневный срок
даст цензору возможность чрезмерно вчитываться в книгу
и усиленно искать в ней признаков преступления, так как
это всего скорее может случиться при кратком сроке,
когда цензор будет стеснен временем для проверки своих
впечатлений и для взвешивания своих взглядов на весах
Уложения о наказаниях, а, опасаясь пропустить что-либо
преступное, будет писать свои сообщения наскоро и без
достаточной обдуманности, задержав вместе с тем книгу.
Трудно себе представить, в чем состоит великий вред от
представления книги на недельный или четырехдневный
просмотр и какие могут существовать неотложные нужды
или мировые истины, которые бы пострадали от того, что
будут оглашены несколькими днями позже и притом не в
газете, а в книге?
Я не могу разделить мнение о том, что общее начало
освобождения от предварительной цензуры книг и газет
должно безусловно распространяться на всякого рода
рисунки, издаваемые отдельно и в тексте.
Несомненно, что тут есть разница, особливо если
рисунок помещается не в тексте книги, а издается отдельно и
выставляется для продажи. Книгу надо купить, надо
прочесть, надо себе усвоить ее содержание, а рисунок,
доступный и неграмотному, сильнее и гораздо определеннее
действует на воображение и отпечатывается в памяти ясным
образом. Два рода изображений останавливают на себе,
в этом отношении, внимание: лубочные картины и
открытые письма. Первые давно уже утратили наивную прелесть
и здоровый юмор прежних лубочных картин.
Произведений подлинного народного творчества уже и не встречается
281
в продаже, а приходится искать их в изданиях Д. А. Ро-
винского *. Теперь они сделались не отражением
народного взгляда на те или другие события, а предметом
предприимчивости, очень часто рассчитанной на возбуждение
в народе недобрых чувств, на разжигание страстей, на
воздействие на душу путем развития в ней хвастовства и
высокомерия. Еще недавно в книжных магазинах пестрели,
привлекая толпу прохожих, картины, относящиеся к
настоящей японской войне, очень мало говорившие зрителям
об исторической доблести русского народа, о его героях, о
созидателях русского государства, ко зато изображавшие
с преждевременною поспешностью разбитые в кровь носы
сжатых в мощный кулак неприятелей, верховный вождь
которых легким движением плеча сталкивается в пропасть.
Едва ли патриотизм русского народа нуждается в таких
возбудителях. Вместе с тем, лубочные картины, в целях
своего наибольшего распространения, могут представить и
изображения явно бесстыдные, действующие на
чувственность и вносящие соблазн туда, куда соблазн книги
достигнуть еще не может. В последнем отношении являются
особо вредными распространившиеся в последнее время
открытые письма, большая часть которых именно направлена
на возбуждение похоти. Больно видеть мальчиков и
девочек, в которых только еще начинает пробуждаться
физическая природа, стоящими пред многочисленными витринами
с карточками, изображающими весьма недвусмысленно
разные моменты интимных отношений и действующими
разжигающим образом на молодое и восприимчивое
воображение. Дело идет не о наготе статуй, не об
изображении анатомической и художественной гармонии линий и
очертаний человеческого тела, а о том, про что совершенно
правильно сказал известный французский сенатор
Беранже: «Ce qui nuit, ce n'est' pas le nu, c'est le retroussé» l. В
таких изображениях художник или, очень часто, фотограф
тщательно избегает ставить точку над i, и тем может
избегать явного бесстыдства своих порнографических трудов,
влекущего судебное преследование, но оставлять такую
деятельность, растлевающую мысль, чувство и здоровье
молодежи, без контроля, едва ли возможно. Следует
называть вещи их действительными именами и не смешивать
свободу мысли с неприкосновенностью спекуляции на жи-
1 Вредит не нагота, а приподнятое (платье) (франц.).
282
вотные чувства посредством порнографических картинок.
Однако вопрос об устранении влияния вредных рисунков
находится в тесной связи с трудами нашей субкомиссии по
пересмотру статей уголовного законодательства. Если уда-«
стся создать статью, обнимающую понятие этого влияния,
то, разумеется, издатели этих народных рисунков и
открытых писем будут отвечать по суду; в противном случае
придется, вероятно, сохранить для этих изданий
предварительную цензуру.
В общем, я присоединяюсь к соображениям об
удержании, с некоторыми видоизменениями, правила,
содержащегося в статье 40 Устава цензурного относительно цензуры
медицинских книг, представляющих собою предназначен-'
ные для народного употребления лечебники и врачебные
руководства, а также имеющих предметом явления половой
жизни.
Народные лечебники, общедоступные по цене и по
изложению, могут содержать в себе не только сведения и
советы, бесполезные по своей ненаучности и поспешной
непроверенное™, но и прямо вредные, могущие отразиться
роковым образом на здоровье населения. Читателями их
будут не более или менее образованные подписчики
медицинских газет и журналов, а доверчивые люди, совершенно
чуждые началам врачевания и элементарным понятиям из
анатомии и физиологии, склонные верить печатному слову
и в то же время бояться врачей. Самонадеянное невежество
может вооружить их такими лечебниками для домашнего
употребления, при соблазне обойтись без призыва врача,
в которых на борьбу с недугами будут призваны средства
и способы, приводящие к недугам еще горшим. Примеры
самозванного лечения и его пагубных последствий столь
многочисленны, что их не стоит приводить. Достаточно
вспомнить хотя бы о лечении Гачковским градоначальника
Грессера или о том, что такое лечение может быть
предметом систематического изложения в усиленно
рекламируемой автором книге. Здесь именно нужен медицинский
контроль, широкий и чуждый односторонности, без
предвзятого предпочтения той или другой системы лечения, но
зоркий относительно явной вредоносности его, которая
может совершенно ускользнуть от внимания и даже
понимания неспециалиста.
283
Не менее, если не более, опасности представляют книги
о явлениях половой жизни. Пред молодыми и неопытными
взорами, для которых еще не наступили, по выражению
Пушкина, «охлажденны лета» *, научное значение таких
книг отступает на задний план, да едва ли и может быть
верно понято, но пылкому воображению юных читателей
дается самая нездоровая и распаляющая пища.
Преждевременное возбуждение полового инстинкта, ненужное
загрязнение ума представлениями из области извращения
природы и противоестественных отношений, развитие
болезненного любопытства — являются результатом знакомства
с такими книгами. Их воздействие направлено не на
развитие мысли, не на расширение знания в молодежи, даже не на
возбуждение смелой предприимчивости (каковы, например,
сочинения Купера и Жюля Верна), а непосредственно на
низменные чувственные инстинкты. Могут сказать, что
ведь то же самое возможно и в беллетристике, где
существуют порнографические произведения. Но это не так.
Явная порнография, как таковая, прямо нарушает «добрые
нравы и нравственность» и подлежит судебному
преследованию; порнография же прикрытая, которая, давая многое
понять, не доводит своего злоупотребления словом до
конца, никогда все-таки не решится, именно из опасения
суда, называть все своими именами и описывать с
методическою подробностью и точностью. Беллетристические
произведения, избирающие себе щекотливые сюжеты, все-таки
всегда стараются оправдать себя некоторою
поучительностью, указанием на господствующую в обществе
порочность, на неправильность отношений между различными
слоями его, создающую поле для безнравственных
привычек и поведения. Притом в названиях таких романов
обыкновенно нет прямого указания на их возбуждающее
больное любопытство содержание, они редко бросаются в глаза
своими обложками, виньетками, не сторожат молодежь,
вместе с двусмысленными фотографиями, в
соблазнительных витринах специальных издательских фирм.
Содержание научных и quasi-научных медицинских книг о половой
жизни иное, — в них очень часто отводится главное и
обширное место не этиологии, не продромам, не терапии
болезненных половых состояний, а симптоматологии и
казуистике, благодаря которым, жадно впивая их,
впечатлительный ум, еще не знакомый с действительными
страстями, уже знакомится с извращающими их пороками. До-
284
статочно, в этом отношении, например, указать на
сочинение Таксиля «La corruption fin de siècle» !, где, между
прочим, с санитарно-полицейской и судебно-медицинской точек
зрения рассматриваются условия половой жизни
населения в больших городских центрах и с точностью
стороннего наблюдателя излагаются все практикуемые в этой
жизни, доходящие до совершенной чудовищности и
садизма, способы удовлетворения полового инстинкта. В
таких сочинениях напрасно искать какого-либо поучения, как
в полупорнографических произведениях беллетристики, но
научение дается в полной мере и со всеми подробностями,
очень часто даже с рисунками и снимками с фотографий.
Такое научение может коснуться и другой области. Под
видом гинекологических исследований и сведений
преподаются указания, как и какими способами наиболее
целесообразно и удобно производить изгнание плода или
препятствовать зачатию. Ярким образчиком в этом отношении
является не пропущенная нашею цензурою, но
переведенная по-русски за границею книга неизвестного доктора
медицины «Физическая, естественная и половая религия»,
в которой, отправляясь от закона Мальтуса и считая, что
единственною причиною нищеты служит перепроизводство
населения, автор, с величайшими подробностями и с внепн
ними научными медицинскими и
политико-экономическими литературными приемами, рекомендует ряд средств
к ограничению и пресечению этого перепроизводства,
доходя даже до указания дозировки этих средств. И у нас
стремились проникнуть в публику, задержанные
Медицинским советом, брошюры и трактаты о супружеских
отношениях, о медицинских советах новобрачным, о «любовных
страстях и нравственных недугах» и т. п., торопливая и
нечистоплотная стряпня которых, всегда прикрытая именем
какого-либо неизвестного врача, имела целью научить, как
избавляться от неприятных последствий половых сношений.
У нас такого рода литература стала развиваться с
появлением, в половине шестидесятых годов, якобы научной книги
доктора Дебэ «Физиология и гигиена брака», наполненной
загрязняющими воображение рассказами и описаниями.
Потом, по этой части, стали отличаться несколько
издателей, выпустивших в свет с рисунками и
широковещательными объявлениями такие книги, как, например, «Жен-
1 «Ра je ращенное гь конца века» (франц.).
285
vm&a в естествоведении и народоведении» доктора
Плоса, в обработке доктора Бартельса и под
редакцией) доктора Фейнберга, «Женское тело» доктора Штра-
ца, в переводе доктора Шехтера, в которых, несмотря на
множество цитат, чертежей, цифр и ссылок на
медицинские сочинения, истинная наука, выражаясь словами
Тургенева, «и не ночевала» *. Нельзя не понять и того
запрещения, которому подверг Медицинский совет переработку
действительно научного обширного труда профессора
Крафт-Эбинга, изданного «для врачей, студентов и
юристов» фирмою Аскарханова под названием «Половая
психопатия», весь центр тяжести которой перенесен на
описание утонченнейших половых извращений, оставляющих
тягостнейшее впечатление даже в человеке, близко
знакомом со всеми отделами судебной медицины. Надо при этом
напомнить, что книги подобного рода продаются учащейся
молодежи по цене, гораздо ниже показанной, и, таким
образом, приобретают особый соблазн легкой доступности.
Мне приходилось, при занятиях по судебной медицине и
по званию члена Медицинского совета, быть вынужденным
знакомиться с многими книгами этой категории. Большая
часть из них представляла грязную спекуляцию на
чувственность, лишенную всякого серьезного научного
значения. Такие действительно ученые труды, как «Судебно-
медицинское исследование скопчества Пеликана» или
«Судебная гинекология» доктора Мержеевского, составляют
редкие островки в этом море ненужной грязи и вредной
гнили. Наконец, невозможно умолчать и о том, что под
видом лечебных книг, касающихся половой области,
нередко появляются произведения, в которых, под флагом
человеколюбивого участия к юношеству, ему подносятся-
вредные картины осуществления похоти или рисуются
преувеличенные ужасы и разрушительное действие порочных
привычек. И здесь можно указать, для примера, на книги
доктора Пулье и доктора Гарнье, наполненные
грязнейшими подробностями, изложенными «с чувством, толком,
с расстановкой» *. В 1901 году та же фирма Аскарханова
подарила читателей, и в том числе любознательное
юношество, книгою доктора Роледера в переводе того же доктора
Шехтера, где подробно описываются все виды рукоблудия.
Иногда такие книги опасны, как ввергающие в бездну
отчаяния. Всеми исследователями самоубийств в Германии
указывается, какую роковую роль играет среди молодых
286
самоубийц очень распространенная книга «Der persönliche
Schutz» l, в которой в таких мрачных красках изображены
физические и патологические последствия рукоблудия, что'
несчастные юноши, одержимые этою порочною привычкою/
считают себя навеки погибшими и нередко спешат покончить !
с собою... В моей судебной практике был случай самоубийства
прекрасного юноши, отец которого, вместо успокоительных
советов и вразумлений, предпочел дать сыну одну из подоб-1
ного рода «лечебных книг», чтение которой поселило в душе
мальчика ужас, от которого он решил избавиться смертью.
Поэтому находя, что к книгам медицинского содержа-«
ния о половой жизни далеко не всегда может быть
применено их задержание и возбуждение против них уголовного
преследования, ибо под определения Уголовного уложения
такие сочинения не подходят и, с точки зрения каратель-^
ного закона, содержание их, в качестве научных,
неуязвимо, несмотря на возможность принесения ими
несомненного вреда, я считал бы желательным, по отношению к
ним, оставить в силе постановление статьи 40, видоизменив
его, однако, в видах меньшего обременения издателей.1
С этой точки зрения надлежало бы постановить, что такие
сочинения, а равно и народные лечебники и врачебные
книги и брошюры представляются во врачебное отделение'
губернского правления, которое обязано их рассмотреть в
семидневный срок, причем, в случае воспрещения или
сокращения представленной книги, издатель имеет право жа-'
лобы в Медицинский совет, решение которого является
уже окончательным. При таком порядке и ввиду научной
компетентности Медицинского совета ни законные
интересы издателей, ни интересы действительного знания не
могут пострадать, и общество, в лице своих младших
членов, будет ограждено и нравственно, и физически. Тогда
можно будет избежать прискорбного явления, состоящего в
том, что одна quasi-научная книга распаляет воображение
юноши и толкает его на порочную привычку или на
преждевременную половую жизнь, а другая quasi-научная книга,
вопия о последствиях этого, толкает его на самоубийство.
Здесь дело идет не о вредном направлении книги, а о
прямом вредном ее влиянии на физически неокрепший еще
организм. Недаром в Писании сказано: «Нельзя соблазну не
прийти в мир, но горе тому, чрез кого он приходит» *.
«Личная защита» (нем.).
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОРСКОГО ПРАВА*
Об авторском праве на письма и дневники
Наши действующие
гражданские законы
(приложение к статье 420 первой части X тома Свода законов),
говоря о праве собственности на произведения наук и
словесности, прямо относят к ним частные письма, записки и
другие бумаги, очевидно считая их литературными
произведениями. Подходя, в некоторых случаях, к таковым по
форме, они не подходят к ним ни по цели, ни по источнику.
В основе литературного произведения лежит «сочинение»;
недаром и ныне действующий закон автора называет
сочинителем. В это сочинение вкладываются автором
совокупная работа воображения и творческого вдохновения, уменье
пользоваться приобретенными сведениями, знание родного
языка и т. д.; все это облекается в наиболее подходящую,
по мнению автора, и наиболее действующую на читателя
или слушателя форму — ив таком виде отдается на суд
публики. Нельзя, конечно, отрицать, что и в дневнике
могут быть лирические места, что и в письмах находит себе
место смелый полет фантазии; но все это встречается как
исключение и имеет, так сказать, совершенно интимный
характер. Главное содержание писем и дневников —
события личной жизни и данные, почерпнутые из текущей
действительности и притом, по большей части, интересные
лишь для самого пишущего или его корреспондента. Если
в них и встречается вымысел, то это не поэтическое
творчество, а просто фактическая ложь или болезненный
самообман, который психологи называют «мечтательною
ложью». Если автор сочинения невольно и неизбежно
представляет себе многих будущих читателей своего
произведения, то автор письма думает об одном читателе и много-
288
много — о кружке лиц, если только письмо его не
представляет политического, полемического или
публицистического трактата, облеченного лишь в форму письма.
Отсюда интимный характер писем или чисто деловое их
содержание, отсюда описание семейных радостей и горестей
и всяких мелочей домашней жизни, отсюда, наконец,
соображения и вычисления материального и хозяйственного
свойства. Из толстой книжки писем Тургенева можно, без
всякого ущерба для содержания, извлечь maximum четыре-
пять страниц, могущих остановить на себе внимание*; из
фолиантов переписки Якова Грота с Плетневым можно
извлечь еще меньше*; письма Достоевского, изданные и
собранные Страховым, представляют непрерывную цепь
забот о гонораре и об уплате мелких долгов *. Редкие
вспышки юмора или какая-нибудь художественная черточка
еще не дают всем этим письмам права называться
литературными произведениями, подобно тому, как юмор,
шутки, остроумные сопоставления, искры ума и таланта, лучи
любви и пламя гнева не дают еще основания признавать
простой разговор выдающегося человека за его
литературное произведение вроде проповеди, речи и т. п. Точно то
же — и даже в большей мере — приходится сказать о
дневниках, в которых приходится почти всегда предполагать
недостоверное освещение обстоятельств действительности
под влиянием мечтательной лжи или восприимчивого ко
внешним впечатлениям возраста лица, ведущего дневник.
От дневников в собственном смысле надо отличать
мемуары, которым лишь придается форма дневника, каковы,
например, дневники Никитенко и Пирогова * «или «Journal
des Goncourt» **. Здесь в самом характере изложения
чувствуется историк и бытописатель своего времени — и
мелкие заметки о погоде, болезнях или мимолетных встречах
тонут в ценной мозаике, изображающей жизнь
современного писавшему общества и движение идей, вкусов и
потребностей последнего. Если считать письма за
литературные произведения и вооружать писавшего авторским
правом, приходится, будучи последовательным, признать, что
это право принадлежит исключительно одному писавшему
и его наследникам. Получатель письма даже с самыми
большими натяжками не может быть признаваем
субъектом авторского на него права, так как в последнем случае
1 «Дневник Гонкуров» (франц.).
19 А. Ф. Кони, т. 7
289
пришлось бы, пожалуй, признать авторское право со всеми
последствиями и за тем, к кому помещено открытое письмо
в газетах или иное обращение (как, например, письма
А. Д. Градовского к Каткову*), и даже того, с кем ведется
открытая полемика в газетах, облеченная в форму писем.
Таким образом пришлось бы присоединиться ко взгляду
французского ученого Blanc, который в своем «Traité de
contrefaçon» 1 настойчиво проводит мысль, что право на
опубликование писем принадлежит исключительно
писавшему, — адресат же может требовать опубликования того
или другого письма лишь в том исключительном случае,
когда в нем содержится доказательство, опровергающее
клевету против адресата или его диффамацию. При этом
надо заметить, что едва ли взгляд Блана на права адресата
может быть применен к случаям диффамации, так как
последнею считается оглашение не вымышленных (что было
бы клеветою), а действительных обстоятельств из частной
жизни, могущих наложить позорящее пятно на того, в чье
существование или поведение они вплетены судьбою.
Совершенно противоположное мнение высказывает известный
Блюнчли. Исходя из верного, в сущности, взгляда на
неприложимость понятия об авторском праве к письмам, он,
однако, впадает в другую крайность, утверждая, что право
на распоряжение письмом, как движимой собственностью,
должно принадлежать лишь тому, кто этим письмом
фактически владеет, то есть адресату, так что с момента
опущения письма в почтовый ящик прерывается навсегда
всякое гражданское отношение к нему самого писавшего *.
Трудно согласиться как с Бланом, так и с Блюнчли.
Несомненно, что по внешним своим свойствам письмо есть
движимое имущество и, рассматриваемое иногда как
автограф, оно, конечно, состоит в полном
распоряжении того, в чьих руках оно находится. Но по внутренним
своим свойствам письмо имеет совершенно особливый
характер, делающий распоряжение им затрогивающим
интересы не одного адресата, а нередко и отправителя, в
некоторых случаях — обоих. У нас любят ссылаться на письма
Пушкина к жене как на драгоценный образчик полезности
опубликования интимной переписки и как на пример более
чем «странного» негодования сыновей Пушкина против
лица, доставившего их в редакцию «Вестника Европы» для
1 «Трактате о подделках и контрафакциях» (франц.).
290
напечатания *. Дозволительно усомниться, чтобы
серьезный биограф Пушкина или историк литературы нашел в
этих письмах особо богатый материал, рисующий поэта с
новой, неизведанной еще стороны. Но стоит их
просмотреть даже поверхностно, чтобы понять тяжелое чувство
сыновей, когда перед холодным любопытством толпы были
развернуты самые сокровенные чувства, волнения,
сомнения и упреки, прошедшие красною нитью сквозь семейную
жизнь их отца. Недавнее время представило немало
примеров того, как адресат, «утративший прелесть нежную
стыда» *, может пользоваться в целях мщения тем правом,
которое ему одному предполагает предоставить Блюнчли.
Можно себе представить, какое поприще для шантажа
открылось бы с предоставлением адресату исключительного
права печатать полученные им письма. В нашей жизни
вообще мало искренности, — а сознание пишущего письма,
что его откровенные мнения и выражение чувств и
взглядов, вызываемых людьми и событиями, могут быть
вынесены на «базар житейской суеты» *, не только помимо его
желания, но даже вопреки ему, по усмотрению адресата
или его наследников, способно убить всякую искренность
в переписке между людьми, не связанными узами самого
близкого и тесного родства, гарантирующего полное
доверие. Нельзя, однако, отрицать, что могут быть случаи,
когда адресату, для фактического или нравственного
оправдания своего пред общественным мнением, будет
необходимо огласить полученные им письма. Иногда это может
представиться необходимым не только для его оправдания,
но и для восстановления истинного нравственного облика
писавшего, представляемого в неверном или извращенном
свете. Поэтому правильнее всего было бы признать, что
частные письма, не предназначавшиеся автором к напечатав
нию, не составляют предмета авторского права и, во
всяком случае, могут быть изданы в свет лишь с обоюдного
согласия писавшего и получателя. При этом, конечно, в
законе, говорящем о карательной санкции этого
постановления, необходимо должно быть оговорено, что суду
предоставляется право постановить оправдательный приговор в
том случае, если окажется, что письма напечатаны
адресатом или его правопреемниками без испрошения согласия
писавшего или его наследников для защиты себя или его
самого от клеветы или злословия. За третьими лицами
должно остаться право самостоятельно предъявлять
19*
291
обвинение в оскорблении их чести против напечатавшего,
буде они усмотрят таковое в содержании напечатанного.
Правило об обоюдном согласии в данном случае подкрепляется
практически приговорами по трем громким процессам,
приводимым Клостерманом («Das geistliche Eigentum»1)»
состоявшимся в пятидесятых годах во Франции, Англии и
Германии. Во всех трех случаях суд признал лиц, к
которым дошли от адресатов письма (Гёте к Шарлотте Кест-
нер, Бенжамен Констана к госпоже Рекамье и лорда Чес-
терфильда к своему сыну), не имевшими права печатать
эти письма без согласия писавших или их
правопреемников *. Распространение посмертного срока, хотя бы и в
пятьдесят лет, на письма не представляется правильным.
Пятьдесят лет — слишком краткий срок для того, чтобы
лица, связанные близким кровным родством по нисходящей
линии с одним из находившихся в переписке, сошли в
могилу. Через пятьдесят лет не только могут существовать
внучата, но и дети, и вдовые супруги переписывавшихся.
Последние могут быть заинтересованы в неоглашении
переписки, касающейся сокровенных подробностей жизни их
отца или покойного супруга. Письма жениха к невесте,
ставшей затем его женой, матери к дочери, сына к отцу
очень часто содержат в себе своего рода исповедь,
раскрытие тайны которой можно допустить лишь тогда, когда это
не может задеть, уязвить или возмутить ничьих личных
чувств. Есть прекрасное немецкое изречение: «Wer im
Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht todt: er ist nur fern; nur der
ist todt, wer vergessen wird» 2 Для того, чтобы быть забытым
близкими по преемству крови и имени, пятидесяти лет
мало. Вот почему даже и принимая пятидесятилетний
посмертный срок для беспрепятственного издания чужой
переписки, было бы справедливо дополнить это общее
положение ограничением в том смысле, что для печатания
таких писем все-таки необходимо согласие вдовствующего
супруга и родных детей, находящихся в живых. Против
такого ограничения, конечно, могут возразить громкими и
неопределенными фразами о нарушении интересов
исторической науки и литературы. Трудно себе представить,
чтобы там, где частные письма представляют собой
действительный литературный или исторический интерес, мо-
1 «Духовная собственность» (нем.).
2 Кто живет в памяти своих близких, тот не умер: он лишь далеко;
мертв лишь тот, кто забыт (нем,).
292
гли встретиться серьезные препятствия для их напечата-
ния. Но, вместе с тем, не менее трудно убедить себя в том,
что переписка супругов, предшествующая, например,
разводу — переписка по поводу узаконения или усыновления,
часто содержащая в себе самые интимные указания о
происхождении усыновляемого, — или предсмертные письма
самоубийцы, имя коего оглашается, к своим близким, —
или, наконец, написанное слезами и кровью сердца
печальное повествование об отвергнутой, поруганной или
обманутой любви — не предназначавшиеся притом для напечатав
ния, могут составлять ценный литературный или
исторический памятник. Нет сомнения, что для нездорового
любопытства читающей публики такие письма могут
представить лакомую приманку, а скудному творчеством
литературному ремесленнику — доставить готовый материал для
сенсационных рассказов, с прозрачными намеками на
действительных лиц. Но называть это «историей» так же
основательно, как считать Ноздрева историческим
человеком *. Правда, есть письма, в которых данные
несомненного историко-литературного или научного интереса
перемежаются со сведениями и рассуждениями чисто личного и
семейного свойства. Но и в этом случае нельзя не
предоставить нравственно заинтересованным лицам дать
разрешение на напечатание только того, что имеет не
исключительно общественное значение. От дневников и частных
записок, не предназначавшихся к напечатанию, надо
отличать мемуары. Несомненно, что мемуары, представляющие
очень часто действительно ценный исторический материал,
по самому свойству своего происхождения являются не чем
иным, как литературным произведением, к которому
должны быть применены все общие правила об авторском
праве и о его законных ограничениях. Но иначе обстоит
дело с дневниками. Дневник, не предназначенный для на-
печатания, является документом, страдающим внутреннею,
так сказать, психологическою недостоверностью. Он редко
ведется в зрелом или преклонном возрасте, как, например,
дневник Амиеля, очевидно, притом предназначенный для
напечатания *. На ведение дневников чрезвычайно падки
молодые люди. Новизна внешних впечатлений,
возникновение неиспытанных дотоле чувств, смятение души перед
волнующими ее вопросами, для спокойного разрешения
которых нет ни времени, ни надлежащего житейского
опыта, — все это в быстрых строках и горячих словах
293
поверяется молодежью дневнику. При этом обыкновенно
является бессознательное извращение житейской
перспективы: мимолетное и преходящее кажется вечным и
незыблемым, коренное — случайным, поверхностное — глубоким,
а глубокое — лишенным основания. Все принимает не
соответствующие действительности размеры, и вместо трезвой
правды фактов рисуется марево преувеличенных надежд и
преждевременных разочарований. Дневник ведется в том
по преимуществу возрасте, когда человеку, вступившему
или вступающему в сознательную или самостоятельную
жизнь, особенно свойственно скитание мысли и то, что
Достоевский называл «бунтом души». Любовь и
ненависть, — радость жизни и сладкое мечтание о смерти, за
которым, по верному замечанию Гёте *, чувствуется
любовь к существованию, — унылость по пустым поводам и
восторженная уверенность в своих силах — сменяют друг
друга, как в калейдоскопе. Всякий, кому — как, например,
судье — приходилось близко знакомиться с дневниками,
знает, как быстро и несоответственно силе толчка
реагируют их авторы на горести, прозу и шероховатости
практической жизни, — как легко «в той комнате незначущая
встреча» *, улыбка, показавшаяся презрительною,
бессодержательная, но кудрявая фраза, косой взгляд, мягкий упрек,
настойчивый совет и т. п. вызывают в дневниках целые
страницы излияний, ропота на судьбу, негодования на
людей и презрения к ним, отчаяния за свое будущее, гнева
на деспотизм окружающих, мечты о необходимости
покончить с собой, попыток радикального разрешения всех
мировых вопросов, начиная с бога и кончая семьей. «То
кровь кипит, то сил избыток»... * Проходят годы,
устанавливается определенное мировоззрение, в душе, наряду с
негодованием, начинает возникать понимание и говорить
связанное с последним чувство прощения, и автор
подобного дневника, по большей части, с грустной улыбкой
снисхождения «für die Träume seiner Jugend» l, перелистывает
пожелтелые страницы давно оставленной тетрадки. Эти
дневники редко уничтожаются писавшими. На них не
поднимается рука; писавший очень часто может применить к
ним то, что Некрасов говорит о «письмах женщины нам
милой», а именно: «Пускай мне время доказало, что
правды в них и толку мало, — они мне дороги и милы, — цветы
1 К мечтам своей юности (нем.).
294
увядшие с могилы погибшей юности моей» *. Оттого-то
дневники и попадают так часто в чужие, бесцеремонные
руки. Вот почему дневник не может, например, считаться
серьезным судебным доказательством, честный судебный
деятель не станет им пользоваться всецело, а будет
выбирать из него лишь фактические данные места и времени,
оставляя в стороне все рассуждения, как обладающие
психологическою недостоверностью. Поэтому если не было
категорического распоряжения писавшего о том, чтобы
дневник его был оглашен во всеобщее сведение, он вовсе
не должен подлежать печатанию ни со стороны
наследников, ни, тем более, по распоряжению посторонних лиц.
Злоупотребления печатанием дневников слишком явны,
чтобы не оградить память писавшего и чувства тех, кто его
любил и уважал, от выставления его на публичную арену
в «невзасамделешном» — как говорят дети — виде. Если
письмо есть в сущности замена личного разговора, то
дневник есть беседа человека с самим собой. Надо же хоть в
этой сокровенной области оставить его в покое, когда он
сам не заявляет желания поделиться роптанием своей
души и исповедью пред самим собою с праздной толпой и
пустить всякого желающего залезать к нему в душу.
Необходимость сократить срок авторского права
Срок авторского права, как указано выше (стр. 329—
332 и 344) *, в разных государствах различен. В России,
как видно из вышеизложенного, до 1857 года существовал
общий 25-летний и условный 35-летний посмертный срок.
При его действии создавали свои творения Лермонтов и
Гоголь и писал свои исследования Грановский. В 1857
году, по ходатайству жены генерала Ланской — по первому
мужу Пушкиной, — этот срок, в нравственный ущерб и
Пушкину, и русскому обществу, был увеличен вдвое.
Защитники старого срока стоят за него потому, что этот срок
установлен у нас сравнительно не так давно и
представляется не только вполне справедливым, ввиду
усиливающейся конкуренции между литературными работниками,
положение которых, даже в лучшем случае, значительно
хуже положения их заграничных собратий, — но и
практически полезным, ибо сознание возможности обеспечить
плодами своего умственного труда и себя, и семью
295
является могущественною движущею силою для
творчества авторов и их продуктивности. Трудно разделить эти
соображения. Закон, опровергаемый требованиями жизни,
не есть нечто окаменелое, какая-то res sacrosancta ', не
подлежащая изменению даже тогда, когда, как в данном случае,
появлению такого закона предшествовало частное
ходатайство, с одной стороны, и личное усмотрение — с другой.
Литературное творчество, качественно и количественно
возбуждаемое денежными соображениями, есть творчество
низшего порядка, приближающееся к более или менее
искусному ремеслу, плоды которого осуждены на
существование, измеряемое не десятками лет. В этом отношении
достаточно указать на журнальную работу, на передовые
статьи и фельетоны. Едва ли через тридцать лет от наших
дней будут иметь распространение политические
рассуждения даже такого страстного, властного и влиятельного
публициста, как Катков. Кто вспомнит теперь о живых и
остроумных фельетонах сотрудника «Голоса» Панютина
(Ниль Адмирари), умершего лет тридцать назад? *.
«Довлеет дневи злоба его» *. Притом и материальное положение
русских авторов, труды которых содержат в себе залог
успеха или общественного внимания, едва ли хуже
положения авторов западноевропейских. Стоит вспомнить о
распространенности сочинений Горького, Андреева, Куприна
и о том, как большинство современных талантливых
писателей эмансипировалось, несмотря на высокую полистную
плату, от больших журналов и стало участвовать в
самостоятельных сборниках *. Защитники длинного
посмертного срока смотрят почти исключительно с точки зрения
материальных интересов автора, его семьи и его
наследников. Но есть другая, более широкая точка зрения,
отводящая справедливое место правам народа и общества на
произведения их духовных представителей. По мнению
противников длинного срока, автор есть, прежде всего,
общественный деятель, произведения которого являются в
сущности лишь отражением общественных идеалов и среды и
имеют главною целью возможно широкое распространение
в обществе идей автора. Все это, конечно, указывает на
связь авторской деятельности с общественным интересом,
хотя отдельные положения этого определения
представляются спорными, и эту связь надлежит искать в другом.
1 Дс-гма, вещь неприкосновенная («святая святых») (лат.).
296
Называть автора всегда и во всяком случае общественным
деятелем — значит слишком широко толковать понятие
авторской деятельности. Автор может употреблять силу
своего таланта на возбуждение низменных страстей, на
загрязнение воображения своих читателей, на растление
вкусов и фантазии подрастающих поколений. Он может быть
порнографом, во вкусе маркиза де Сада и Казановы или
вроде некоторых современных французских и — к стыду
нашему и несчастью — русских писателей, лицемерно
наклеивающих на тонкий яд своих произведений ярлык
сомнительной художественной правды *. Автор может также
возбуждать в близоруком ослеплении племенную и
религиозную ненависть и сеять ветер, который, при известных
обстоятельствах, может обратиться в бурю и отодвинуть
назад общественное развитие *. Какой же в этом случае
он общественный деятель? Там, где трудно установить
точную границу между работой на служение
общественным задачам и безнравственностью и даже преступностью,
которые лишь по особым условиям общественной жизни
не подходят под действие уголовного закона, можно весьма
усомниться в том, чтобы право называться общественным
деятелем принадлежало каждому автору. Едва ли также
творение писателя является лишь отражением
общественных идеалов и среды. Общественная среда, по большей
части, упорна в своих взглядах и привычках; про
постепенное прогрессивное ее развитие можно сказать словами
Пушкина, что она в своем движении вперед «ходит
осторожно и подозрительно глядит» *. Поэтому зачастую
идеалы писателя далеко опережают собою идеалы этой среды.
Не говоря уже о теоретиках общественного переустройства,
достаточно назвать Жорж Занд, Чернышевского («Что
делать»), графа Л. Н. Толстого, Беллями. Наконец, не
всегда и главная цель писателя есть широкое распространение
в обществе его идей. Это — опасный путь, легко
приводящий к исканию дешевой популярности, недостойной
истинного творчества. Есть писатели, которые не только не
торопятся широко распространять свои произведения, но
упорно сторонятся от выпуска их на книжный рынок,
находя себе удовлетворение не в общем признании, а в своем
собственном сознании. «Ты — царь; живи
один!»—восклицал Пушкин. «Ты им (трудом) доволен ли, взыскательный
художник?» — спрашивал он и говорил: «Доволен? так
пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь
297
горит» *. Недавний пример такой скупости в оглашении
своих произведений представил покойный Апухтин,
медленно и неохотно уступавший просьбам друзей,
настаивавших на печатании его превосходных, глубоко
прочувствованных произведений. Американец Эмерсон вернее
определил писателя, сказав: «Le littérateur est un délégué intellectuel
du peuple» l. Темы литературных произведений, имеющих
не мимолетное значение отзывов на злобу дня и на
изображение последней, в сущности всегда одни и те же, и притом
вечные: любовь и ненависть, личность и характер,
общественное устройство и бытовой уклад. Вся разница в
форме и силе выражения и изображения, в уменье освещать ту
или другую сторону, в анализе душевных движений, в
языке, в стиле, в красках. Клостерман («Geistliches
Eigentum») справедливо указывает, что авторское право дается
за искусство, с которым известные идеи или факты
приводятся к свету. Поэтому работа автора является продуктом
народного гения, выразившего себя в ряде поколений.
Тургенев и Гончаров были бы немыслимы, не будь до них
проникновенного созерцания Гоголя и чудного языка
Пушкина, а переход к последнему прямо от Державина едва ли
был бы возможен без точной и изящной прозы Карамзина.
Являясь наследником творческого духа, воплотившегося в
«умственных делегатах» предшествующих поколений,
писатель оставляет последующим поколениям свой труд как
продукт этого духа, в иной форме, вкладывая в создание
ее свои знания, наблюдательность, воображение и
фантазию, скованные воедино материальною работою. За это он
получает вознаграждение, связанное с авторским правом.
Но получению этого вознаграждения должен быть
положен известный предел. Народу должно быть возвращено то;
что получено от народного гения, и возвращено притом
так, чтобы пользование произведением было доступно
массам и в такое время, когда произведение еще не утратило
своего просветительного значения и не устарело по своей
форме. С этой точки зрения, наиболее справедлива
американская система исчисления срока авторского права со
времени первого издания произведения. Быть может,
следовало бы лишь увеличить 28-летний срок до 30 лет. В
условиях современной культурной жизни и 30 лет
представляют достаточное время для признания и оценки выдаю-
1 Писатель — духовный представитель народа (франц.).
298
щихся сочинений и для получения их автором крупного
заработка. Стоит указать на сочинения Золя и Додэ,
значительная часть которых и до сих пор несла бы крупную
дань авторскому праву, несмотря даже на то, что
признанию Золя Франциею предшествовало, по его собственному
заявлению, признание его Россиею, — и на целый ряд
выдающихся русских писателей. Благодаря такому сроку,
произведения русских классиков не были бы
монополизированы в руках нескольких издателей или наследников, а
вкладывались бы в общедоступную народную
сокровищницу, не подвергнувшись своего рода художественной
«усышке и утечке». А, между тем, это весьма возможно
при существующем у нас сроке. Так, например, сочинения
Гончарова, которыми теперь так восхищается итальянская
критика, выше всего ставя «Обыкновенную историю»,
стоят ныне в своей совокупности около 20 рублей и,
следовательно, доступны лишь людям очень достаточным, а
сделаются они общим народным достоянием лишь в 1941 году.
Итак, «Обыкновенная история» и «Сон Обломова»,
вышедшие в 1847 и 48 гг., появятся по общедоступной цене лишь
через 93 года после того, как в этих сочинениях впервые
нашли применение поучительные художественные приемы
знаменитого автора. Сочинения одного из глубочайших
русских беллетристов-мыслителей, гуманиста и научного
популяризатора, князя Владимира Федоровича Одоевского,
вышедшие в свет в 1844 году, вследствие отсутствия
некоторых документов, определяющих переход к его
наследникам авторского права, до сих пор не изданы и сделаются
общедоступными лишь в 1919 году, когда истечет 50 лет со
дня смерти их автора и 75 лет со дня появления их в свет.
А, между тем, было бы весьма полезным ознакомить
русское общество с этим замечательным писателем, умевшим за
50 лет до Л. Н. Толстого затрагивать одинаковые с ним
сюжеты, являться сторонником призыва женщин к широкой
деятельности, восторженным поклонником и защитником
свободы совести и слова, с писателем, впервые
ознакомившим в беллетристической форме русскую публику с
учением Шопенгауэра о воле *, в то время, когда книга «Die
Welt als Wille und Vorstellung» l, проданная в количестве
12 экземпляров, гнила на складе у книгопродавца, пока
в 1857 году не были, наконец, открыты глаза немецкому
1 «Мир как воля и представление» (нем.).
299
обществу на его гениального мыслителя. Если бы у кого-
либо и явилось теперь желание ознакомиться с Одоевским
подробно, то это желание оказалось бы бесплодным, так
как достать полное собрание его сочинений в настоящее
время почти нет возможности. Нельзя не отметить,
наконец, и того обстоятельства, что при действии 50-летнего
посмертного срока П. И. Чайковский по собственному
признанию, в 1877 году едва, и с большим трудом, нашел
необходимый ему экземпляр сочинений Пушкина для
писания оперы «Евгений Онегин». Есть, затем, случаи, когда
позднее знакомство широких общественных и народных
кругов с тем или другим сочинением может вызвать одни
лишь бесплодные и горькие сожаления. В 1857 году вышла
книга Гончарова «Фрегат Паллада», где с тонкою
наблюдательностью были изображены коренные свойства
японцев, хотя иногда и в комическом их проявлении, — их
стойкость и настойчивость, их вера в себя и страстная любовь
к родине, их упорная работоспособность в преследовании
твердо поставленной цели, их презрение к жизни и тонкое
искусство в защите своего права. Как было бы полезно
своевременное знакомство русского народа с этими
свойствами «вождей восточных островов», вместо близорукой
похвальбы и пошлого издевательства над «япошками» и
«макаками» и лубочных картин, изображавших русского
силача, сталкивающего плечиком сидящего на лошади
микадо в пропасть!.. А, между тем, эту характеристику
широкие общественные круги почерпнут из «Фрегата Паллады»
лишь в 1941 году, то есть не до японской войны, а через
37 лет после ее объявления! Наконец, произведения
писателя могут не появляться в свет в течение очень долгого
времени не только по небрежности или апатии
наследников, не только по их неразвитости или невежеству, но
вследствие тенденциозного отношения их к деятельности того,
чьи авторские права они унаследовали. История
литературы знает случаи, когда, под влиянием изменившихся
религиозных и политических взглядов или суетных удобств
своего наследственного положения, наследники, носители
того же имени, упорно не желали появления в свет
произведений человека, отличного от них по духу и
убеждениям. Сокращение посмертного срока помогло бы
устранить такое, очень часто противоречащее общественным
интересам, явление. Есть, однако, одно существенное
возражение против введения сокращенного прижизненного
300
срока авторского права, то есть такого, который может
истекать еще при жизни автора. Далеко ке все писатели
достигают кульминационного пункта своей деятельности на
склоне лет, подобно С. Т. Аксакову; сравнительно
немногие труды требуют продолжительной, предварительной
подготовки, на которую уходят многие годы прежде, чем
сочинение появится в свет. Большинство писателей
выступает на литературную арену в молодости и достигает
апогея своего таланта и сопряженной с этим известности в
средний возраст жизни. Потеря авторского права при
жизни была бы для них тягостна, лишая семью их всякого
обеспечения на будущее время. Если считать
продолжительный посмертный срок несправедливостью по
отношению к обществу, из недр которого вышел писатель, то
лишение последнего, в большинстве случаев, утешительного
сознания, что, в течение более или менее
продолжительного срока, семья, им оставляемая, будет пользоваться
плодами его трудов, было бы тоже несправедливостью, так
сказать, в обратную сторону. Поэтому надо признать, что
наиболее правильный посмертный срок есть 30-летний.
Но даже и такое, сравнительно небольшое, сокращение
посмертного срока вызывает ряд возражений. Прежде всего
указывается на научные труды, требующие долгих и
усердных работ по собиранию материалов, так что сочинение,
поздно появившееся в свет именно вследствие своих
серьезных достоинств, будет давать позднюю известность
и, вместе с тем, до крайности сокращать срок пользования
авторским правом для самого ученого труженика и его
близких. Однако приходится признать, что именно
научные труды и не выдерживают длинного срока авторского
права. Новые течения и новая переработка тех же самых
фактов и явлений с новых точек зрения в большинстве
случаев уничтожают такой спрос на старое произведение,
который не только окупал бы издержки издания, но и
приносил бы чистый доход. Например, многотомная и в
высшей степени ценная «История России» нашего
знаменитого историка Соловьева едва ли может рассчитывать на
частые издания в течение тех двадцати лет, которые еще
остаются для пользования наследниками его авторским
правом. Важное и необходимое пособие для ученых,
разрабатывающих отечественную историю, этот труд, в смысле
новизны взглядов и богатства новых материалов, в некотором
смысле уже заслонен работами Ключевского, Платонова,
301
Милюкова и др., подобно тому, как он в свою очередь
и в свое время заслонил научные труды Карамзина
и Полевого. То же самое надо сказать об учебниках, если
только для распространения их не призвано на помощь
некоторое официальное давление. Не меньшее влияние, чем
время, оказывает в этом отношении и изменяющаяся
внутренняя политика. Еще недавно биография Екатерины
Великой — Брикнера и история Александра I — Шильдера
были почти единственно доступными на русском языке,
почтенными и исчерпывавшими «все, что можно»,
сочинениями об этих представителях верховной власти; но после
1905 года на русском языке появились мемуары
Екатерины и Дашковой, монография Валишевского, и стал
доступен второй том Бильбасова и многое недоговоренное
Шильдером (хотя бы, например, относительно Павла I) и
Брикнером явилось в новом фактическом и критическом
освещении *. То же самое можно сказать и о книгах из
области политической экономии, государственного,
уголовного и гражданского права. Такие открытия, как Х-лучи и
радий, не делают ли устарелыми прежние учебники
физики и химии без основательной их переработки? И во что
обращаются обширные и весьма в свое время
распространенные сочинения по терапии и патологии Эйхгорста и Ни-
мейера, ввиду современных исследований о заразном
происхождении большинства болезней, о фагоцитах и
лейкоцитах и вообще о роли микроорганизмов? Писатель —
говорят затем — есть такой же производитель ценности, как
и всякий другой работник, например ремесленник. Почему
же последний пользуется плодом своего труда постоянно, а
первый срочно, да и то под угрозою дальнейших
ограничений срока такого пользования? Не говоря уже о том, что
здесь является смешение понятий о праве собственности с
понятием о привилегии или монополии, нельзя не
заметить, что ремесленное создание продуктов из сырых
материалов не имеет ничего общего с художественным
творчеством; если же оно, в некоторых случаях, является
подспорьем или орудием такого творчества, то вытекающее
из последнего право на произведение регулируется
постановлениями об авторском праве на художественные
произведения, конструкция которого иная, чем права на
движимую вещь, являющуюся результатом ремесленного труда.
Ремесленник, продав свое изделие или передав его
заказчику, теряет на него право собственности, тогда как между
302
продажею сочинения и потерею авторского на него права
существует, на что уже было указано выше, большая
разница. Притом всякое ремесло и каждая профессиональная
деятельность, приносящие заработок, кроме самых
исключительных случаев, требуют постоянного трудового
напряжения. Наоборот, никакого напряжения труда
дальнейшее пользование авторским правом по отношению к
однажды уже напечатанному сочинению не требует. Если —
говорят далее защитники долгого срока для авторского
права — не предоставить автору уверенности, что его труд
обеспечивает на много лет его и его семью, то он будет
искать себе побочных заработков, уйдет на службу, займется
адвокатурою и т. п. Но думать, что авторы, за
исключением небольшой группы, считают себя обеспеченными
длинными сроками авторского права, значит тешить себя
иллюзиями. Автору нужно иметь очень высокое и
горделивое мнение о своих талантах и о важности своих
произведений, чтобы думать, что он воздвигает себе «памятник
нерукотворный» *, и прозревать успех своих писаний,
проходящих сквозь «веков завистливую даль» *. Поэтому, за
исключением людей, имеющих «наследственное» или
пользующихся несомненным успехом в настоящем, дающем
безотлагательную возможность обеспечить себе безбедную
жизнь в будущем, многие и многие из писателей весьма
крупного калибра искали служебного заработка. Гончаров,
Тютчев, Полонский, Майков, С. Т. Аксаков, Лажечников
служили в цензурном, Загоскин — в дворцовом ведомстве;
об ученых писателях и говорить нечего: почти все они
были на службе. И это не мешало им оставаться писателями.
Человек с талантом найдет выход своим литературным
дарованиям и при других деловых обязанностях; талант
требует себе внешнего выражения властно, несмотря на
разные житейские и материальные неблагоприятные условия.
Но тот, кто, вступая на сознательный житейский путь,
ставит себе вопрос: «Пойти ли мне на службу или в
адвокатуру, или же начать заниматься литературою?» — тот
смотрит на последнюю как на своего рода ведомство, и в
этом ведомстве едва ли будет когда-либо играть видную
роль. Человек с истинным призванием к перу, — не
ремесленник печатного слова, а писатель в настоящем смысле,—
никогда себе такого вопроса не поставит, а скажет себе:
«На какое бы занятие меня насущная необходимость ни
поставила, я найду возможность и время работать и на
SOS
том поприще, куда меня влечет «голос сокровенный».
Наиболее близки к литературной деятельности —
преподавание и судебная работа в качестве прокурора или адвоката.
Но и здесь надо отличать практического деятеля,
исполняющего свои профессиональные обязанности, от автора
учебника, собрания лекций или сборника судебных речей,
которому все-таки предстоит подчиниться действию
постановлений, ограничивающих срок пользования авторским
правом. Поэтому указание на то, что сокращение этого
срока заставит талантливых писателей уйти из литературы
в область практической, не только более обеспечивающей,
но и гораздо щедрее оплачиваемой деятельности, лишено,
серьезного основания. Гейне говорит про науку, что для
одних она — богиня, для других — дойная корова. То же
можно сказать и про литературу. Тому, кто смотрит на
нее не как на поприще служения искусству и обществу, а,
как на дойную корову, и завистливо поглядывает по
сторонам, ища взорами других, более тучных и доходных
коров,— тому можно со спокойным сердцем сказать:
«Скатертью дорога!» Богиня от ухода таких слуг ничего не
теряет и на них не обидится... Писатель, создавший не
мимолетные, поверхностные по содержанию произведения, а
такие, прочность и глубина которых выдерживает в общем
признании долгие годы, является не только «délégué
intellectuel» своего народа. Он друг и утешитель образованного
человека, он учитель и руководитель каждого идущего по
пути самообразования. Поэтому не только желательно, но
и необходимо, чтобы возможно большее число русских
людей, обладающих скромными средствами и желающих
расширить свой умственный и нравственный кругозор, в
свободный час своей трудовой жизни могли протянуть руку к
полочке, на которой тесными рядами, наряду с дешевыми
изданиями Пушкина и Гоголя, стояли бы старые,
испытанные друзья: Гончаров, Тургенев, Лев Толстой,
Григорович, Островский, Некрасов, Чехов и другие. Но мы
знаем, что, при длинных сроках авторского права, Тургенев
стоит 15 рублей, Толстой — 25 или 14 рублей и т. д., то
есть знаем, что они недоступны сельскому учителю,
развитому рабочему, санитару, сестре милосердия, мелкому
торговцу, большинству студентов и гимназистов и вообще
множеству лиц, стоящих в сходных материальных
условиях.
A. H. АПУХТИН*
В самом начале
шестидесятых годов
Литературный фонд предпринял ряд любительских спектаклей,
в которых участвовали виднейшие представители русской
литературы, жившие или временно находившиеся в
Петербурге. Спектакли прошли блестящим образом и усердно
посещались публикой *. Этого, однако, нельзя было
приписать только одному ее желанию увидеть своих
любимцев на сцене. Оно в гораздо большей степени
удовлетворялось литературными чтениями, бывшими тогда
новинкой и имевшими огромный успех. На одном из них я
слышал в первый раз Федора Михайловича Достоевского,
читавшего рассказ «об оторвавшейся пуговке» из письма
Макара Девушкина в «Бедных людях». Почти на каждом из
таких чтений выступал А. Н. Майков со своим
стихотворением «Старое и новое», отрывком из поэмы «Поля»,
который он декламировал превосходно, повторяя его по
нескольку раз по настойчивому требованию публики,
наэлектризованной и мастерским исполнением, и соответствием
конца стихотворения тем радужным надеждам на светлое
будущее, которые жили тогда в сердце русского
общества. Без «Полей» не обходилось ни одно литературное
чтение, и стоило Майкову появиться на эстраде и прочесть
что-либо другое, как из публики начинали раздаваться
требования: «Поля! Поля!» — что подало повод одному из
сатирических журналов изобразить Майкова пред
многочисленной аудиторией, с ужасом повторяющего вместе с
нею свой стих: «А там поля, опять поля!»*
На той же эстраде иногда появлялся и молодой,
бледнолицый и еще не дошедший до своей чудовищной
тучности А. Н. Апухтин. Он любил читать свое стихотворение
20 А. Ф. Коии, т. 7
305
«Актеры», в котором уже слышались звуки затаенной и
непроходящей грусти, проникающей все его прекрасные
стихотворения. Много лет спустя мне пришлось с ним
встретиться у одного из моих сослуживцев, где однажды
я рассказал о своих наблюдениях и выводах относительно
самоубийств в Петербурге, дела о которых проходили
через мои руки, как прокурора окружного суда. Апухтин
очень заинтересовался приведенными мною
статистическими данными и содержанием предсмертных писем
самоубийц. Через несколько лет, встретясь со мною, он
вспомнил про это, и я послал ему набросанное мною изложение
дела об одном самоубийстве, затем напечатанное мною в
«Неделе» 1881 года под названием «Пропавшая серьга» *.
Дело шло о бедной прибалтийской мещанке,
брошенной с двумя детьми молодым инженером, который прижил
их с нею. Уехав на юг России, он сначала немного помогал
ей, посылая ничтожные суммы и редкие письма со
«словесами лукавствия» и выражением лживой нежности к
детям. Вскоре, однако, не скрывая, что ведет рассеянную
жизнь, требующую сравнительно больших расходов, он
предложил матери своих детей «дружбу» и прервал с нею
всякие сношения. Бедная женщина билась, как рыба об
лед, работала на швейной машине и содержала три
меблированные комнаты, скудный доход с которых употребляла
на подготовку сына в реальное училище и на плату за
обучение дочери. Для этого она отказывала себе во всем,
питаясь подолгу одним лишь чаем и черным хлебом.
Окружающие считали ее вдовой, а она воспитывала в детях
чувство уважения к их будто бы умершему отцу.
Сравнительно спокойное течение ее безрадостной жизни было,
однако, нарушено тремя обстоятельствами: женская болезнь
заставила отказаться от заработка шитьем; сын, несмотря
на наем учителя для подготовки, не выдержал
вступительного экзамена в реальное училище и, наконец, — самое для
нее ужасное — на ее 15-летнюю дочь было взведено одной
из жилиц обвинение в краже бриллиантовой серьги.
Несмотря на мольбы несчастной матери не делать огласки,
жилица вызвала полицию; был составлен протокол, и все,
а в том числе и дети, узнали, что она не вдова, а
незамужняя девушка с двумя незаконнорожденными детьми. Этого
последнего удара она перенести не могла — и отравилась
медным купоросом, оставив трогательное письмо, в котог
ром просит прощения у окружающих, и, заявляя, что боль-
306
ше жить не имеет сил, клянется, что ее дочь не способна
быть воровкой. Жилица тотчас выехала, а через несколько
дней, на допросе у судебного следователя, показала, что,
разбирая на новой квартире свои вещи, она нашла между
ними серьгу, которую считала украденной.
«Многоуважаемый А. Ф., — писал мне Апухтин, — с
величайшей благодарностью возвращаю вам «Пропавшую
серьгу». Случай действительно драматический, но
главный драматизм его заключается в том, что на
легкомысленный поступок девицы Сидоровой (жилицы) можно
смотреть как на благодеяние, оказанное несчастной
героине этого дела. Не случись истории с серьгой, она бы еще
долго тянула свою каторжную жизнь, которая много хуже
купороса. Самоубийство, по-моему, вовсе не преступление
и даже не малодушие, а часто весьма разумный выход. По
этому поводу мне бы хотелось поговорить с вами
поподробнее» *. Когда состоялась наша беседа, он при
расставании сказал мне, что давно хочет заняться этим
вопросом. «Причем коснусь и вас!» — прибавил он. Я придал
последним словам значение простой шутки, но зимой
1885/86 года получил от него следующее письмо: «В
прошлом году я говорил вам, что пишу поэму, которая
косвенно будет касаться вас. Теперь эта вещь окончена, но я
не считаю себя вправе пускать ее в обращение, не
прочитав предварительно вам, а потому прошу вас или заехать
ко мне (ежедневно от часа до четырех), или назначить
мне день и час, когда я могу застать вас дома.
Проектированная поэма обратилась в стихотворение не очень
больших размеров, а потому не бойтесь продолжительной
скуки». Я предложил Алексею Николаевичу приехать ко мне
и, ввиду приписки к его первому письму: «Высота меня не
пугает, если на лестнице есть стулья», распорядился
поставить на каждой площадке лестницы до четвертого
этажа, в котором я жил, стулья. Но когда в назначенный час
швейцар дал звонок и я вышел на лестницу, то меня
поразила легкость, с которою Апухтин нес свое огромное,
грузное тело, «беря штурмом», как он выразился, каждый ряд
ступеней. Эта живость совершенно не соответствовала его
крайней тучности, которая вызвала его известную шутку
над собою: «Жизнь пережить — не поле перейти. Да,
точно: жизнь скучна и каждый день скучнее. Но грустно до
того сознания дойти, что поле перейти мне все-таки
труднее» *. Он вообще любил подшучивать над своей фигурой,
20*
307
рассказывая, например, про маленькую девочку, которая,
войдя в гостиную матери, где он сидел, спросила,
указывая на него пальчиком: «Мама, это человек или нарочно?»
Он даже не запыхался и прямо приступил к чтению
своего обширного произведения «Последняя ночь»,
названного им впоследствии: «Из бумаг прокурора». В нем
было два места, относительно которых он сомневался,
находя, что они слишком удлиняют стихотворение. Первое
начиналось словами: «В какую рубрику меня вы
поместите?»— и кончалось словами: «Среди тяжелых дум она
(мысль о самоубийстве) в ночной тиши сознательно
сложилась и окрепла»; а второе начиналось словами: «О,
посмотрите же кругом: не я один ищу спасения в покое!» —
и кончалось словами: «Но обвинять ли их? Винить ли
жизни строй, бессмысленный и злой, не знающий
прощенья?» А за этим следовало: «Как опытный и сведущий
юрист, все степени вины обсудите вы здраво». Я
настаивал на введении и этих отрывков в текст чудесного
стихотворения, и Апухтин со мной согласился, подарив мне на
память рукопись в первоначальном виде и два к ней
добавления *. В этой рукописи есть много вариантов,
сравнительно с напечатанным. Наибольший из них
следующий: «Но с отроческих лет я начал в жизнь вникать, в
людские действия, их цели и причины, — и стерлась
детской веры благодать, как бледной краски след с некончен-
ной картины», — говорится в напечатанном; в рукописи же
вместо «отроческих лет» стоит «с детства раннего», а
последние два стиха читаются так: «И клали на душу
тяжелую печать коварства, лжи и зла вседневные картины».
Последний раз в жизни я видел Апухтина за год до
его смерти, в жаркий и душный летний день, у него на
городской квартире. Он сидел с поджатыми под себя
ногами, на обширной тахте, в легком шелковом китайском
халате, широко вырезанном вокруг пухлой шеи, — сидел,
напоминая собою традиционную фигуру Будды. Но на лице
его не было буддистского созерцательного спокойствия.
Оно было бледно, и глаза смотрели печально. От всей
обстановки веяло холодом одиночества, и казалось, что
смерть уже тронула концом крыла душу вдумчивого поэта.
В. В. СТАСОВ*
Когда празднуется
столетие со дня рождения
выдающегося человека, причем его труд и деятельность
признательно вспоминаются, подчас его физический
образ тускнеет вместе со свойственным ему внешним
выражением и тем, что называется повадкой. К счастью, в
этом отношении В[ладимир] Васильевич] оставил нас не
так давно, и среди нас есть немало лиц, перед которыми он
стоит, как живой. Таким же рисуется он и моему
мысленному взору. Вот он — высокий ростом, с наружностью
патриарха и с юношеской живостью, сказывающейся в
громком голосе, живом и блестящем взгляде и быстрой походке.
Вот его речь — яркая и подчас резкая — без уклончивых
условностей и заносчивых недоговорок; она вся
проникнута тем, что называется «esprit de combativité» —
духом борьбы, с пожеланием себе и своим
единомышленникам «на враги победы и одоления», без мягко
высказываемых мнений, но с решительными приговорами, в которых
он под влиянием гнева или восторга бросает удары
направо и налево, не стесняясь зпитетами и увлекаемый
желанием, по собственным словам, «пофехтовать с
противником» *. Неугомонный и пытливый до глубокой старости ум
его с высоким и разносторонним образованием отзывается
на все стороны жизни, так или иначе находящие себе
отражение в искусстве или ученых исследованиях. Изучая
эти явления без всяких чужих «директив» или
авторитетных взглядов, он приходит к самостоятельным выводам,
не умея ими поступаться из боязни огорчить или быть
приязным. Стоит пересмотреть его переписку с
выдающимися художниками и композиторами, его отзывы с
представленными на ученые премии трудами, чтобы видеть,
Ъ№
какое правдивое и отзывчивое сердце, чуткое ко всему
даровитому и самобытному билось в его груди при оценке
их на основании собственного самостоятельного личного
изучения. Это сказывается и в его многочисленных
сочинениях, материал для которых он изучал на местах. Таков он
был, например, в строгом критическом разборе трудов по
русской иконографии и археологии Д. А. Ровинского,
вынудившем последнего переработать их. Любя Ровинского,
указывая, что в Западной Европе эти труды давно бы
«прозвонили», Стасов не стеснялся, однако, за некоторую
неполноту их гладить «против шерсти» автора, пред
памятью которого, затем он на торжественных поминках в
Академии Наук восторженно преклонялся *.
Провозвестник новых взглядов и направлений в науке и искусстве, он
не убоялся горячо выступить против излюбленных теорий
0 славянофильском и мифологическом происхождении
русских былин, доказывая их происхождение с Востока *.
Говоря в письмах к Стасюлевичу, стойким сотрудником
которого он был, что представителей ложных взглядов
необходимо «доезжать и травить», он умел восхищаться
всяким истинным дарованием и всяким содействием ему *.
Поэтому для него Крамской был нашей «настоящей
гордостью» и истинным «Белинским в русском искусстве» *.
Поэтому, например, он печатно благодарил Стасюлевича за
Золя, одного из крупнейших талантов конца XIX века,
которому отдельным изданием «Парижских писем» даны
средства существования, что составляет одно из
благородных и светлейших дел Стасюлевича *. Таковы его
любящие и содержательные отзывы об Антокольском, в
которых он выпукло рисует достоинства произведений и его
таланта *. Таково его восхищение языком Л. Н.
Толстого — «вполне народным, как у Гоголя, Пушкина и
Островского», в противоположность поддельному и
галантерейному языку многих других писателей, мнящих себя
народными *. Оригинальность и решительность Стасова колебали
стоячее болото раз установившихся взглядов и невольно
заставляли с неудовольствием проверять так называемых
знатоков свои авторитетные вещания. Inde irael —
злобные выходки со стороны неопрятных памфлетистов,
присвоивших себе звание критиков. Им, однако, не удалось
умалить значение заслуг Стасова в смысле борьбы с засто-
1 Отсюда гнев (лат.),
310
ем и рутиной. Его насмешливо звали «иерихонской
трубой» *, но в действительности он был, как говорил о себе
Бэкон *, «трубой, зовущею на бой», при господствовавшем
общественном равнодушии к вопросам знания и искусства.
Недаром он был почтен в 1901 году званием почетного
академика Разряда изящной словесности Академии Наук *.
Нам предстоит теперь выслушать ряд докладов, рисующих
все стороны многосторонней деятельности Владимира
Васильевича...
НЕЗАМЕЧЕННАЯ СМЕРТЬ ЗАМЕТНОГО
ЧЕЛОВЕКА*
(Памяти А. Н. Псшковой-Толиверовой)
Передо мною собрание
ценных материалов *,
дающих возможность с разных сторон оживить
воспоминания об Александре Николаевне Пешковой-Толиверовой,
с которой меня связывали дружеские отношения в
течение более полувека. Мы познакомились в 1871 году, и
хотя наша жизнь шла по разным дорогам и во встречах
наших бывали большие перерывы, но при каждом
свидании я видел перед собой прежнюю чуткую к просвещению
и общественным нуждам и сердечно отзывчивую на них
женщину, которой годы не умаляли ни энергии, ни
трудоспособности. Буря войны и гроза революции вызвали
собою широкое забвение о многих, выходящих из ряда
людях, жизнь и деятельность которых в свое время живо
интересовали современников. «Злоба дня» последнего
десятилетия затмила их живой образ, и память о них, лишь у
немногих, по словам поэта, «как нищий в дверь стучится
боязливо». Случилось так и с Александрой Николаевной,
скончавшейся 1 декабря 1918 г. Жизнь ее прошла в
общении с самыми разнородными, но всегда выдающимися
людьми, — в литературном и педагогическом труде,
направленном обыкновенно на назревшие вопросы жизни и их
служителей. К этим вопросам она относилась не с
бесплодным созерцанием и добрыми намерениями, которыми, как
известно, вымощен ад, но умела служить им горячим
словом и бескорыстным делом. Вот почему кажется
справедливым помянуть ее в пятую годовщину ее кончины и
бросить беглый взгляд именно на ее слова и дела.
312
Нельзя отрицать того, как неправильно было
поставлено у нас воспитание молодого поколения. Семья
обыкновенно очень мало давала для развития в ребенке воли и
характера и для внедрения в его душу безусловных
правил нравственности. Ребенку приходилось нередко
становиться или капризным бичом окружающих, или несчастным
свидетелем домашних раздоров, причем его старались
привлечь к сочувствию той или другой из враждующих сторон.
Часто не обращалось никакого внимания на чуткость
ребенка к впечатлениям и на глубокий след, оставляемый ими
в его памяти. Житейские заботы, суды и пересуды
родителей, неосторожные характеристики ими окружающих, давая
вредную пищу пытливой детской душе, не питали ее
здоровыми и облагораживающими образами. Пройдя такую
печальную домашнюю школу, ребенок вступал в школу
настоящую, причем семья часто считала этим свою заботу о
воспитании оконченной, возлагая ее на училище. Но
училище ее не исполняло, да и по своему устройству в
большинстве и не могло исполнить, а набивало юную голову
знаниями, подводя всех под один ранжир без всякого
внимания к свойствам и темпераменту учеников и лишь очень
редко давая в лице исключительных учителей пищу
сердцу и совести учеников и заботясь только о гимнастическом
развитии их ума. С такой подготовкой отрок, становясь
юношей, вступал в жизнь, делаясь часто, под влиянием ее
суровых требований и жестоких ударов, жертвою своей
бесхарактерности, отсутствия нравственных устоев и
ободрительных образов прошлого. Поэтому здоровая
педагогическая и литературная деятельность должна
направляться не только на детство и отрочество, но и на тех, кому
последние обязаны своим существованием и чей долг
вооружить их по мере сил для борьбы с жизнью.
Стремясь к такой цели, выступила в своей издатель-
ско-редакционной деятельности Александра Николаевна.
Познакомившись с Татьяной Петровной Пассек — автором
замечательной для своего времени книги «Из дальних
лет», — она сделалась сотрудницей иллюстрированного
журнала для детей младшего возраста «Игрушечка», а
затем, по смерти Пассек, которой она посвятила свои
глубоко прочувствованные воспоминания *, стала с 1887 года
редактировать этот журнал, постепенно его расширяя
помещением лучших детских французских и немецких
рассказов и привлекая к участию в нем выдающихся русских
313
писателей. Эти сотрудники сделали журнал «Игрушечку»
весьма содержательным, внеся в него — вместо обычных
для детей рассказов, толкающих их на путь суеверия или
занимающих юное воображение картинами хитрости или
военной жестокости, — знакомство с родной природой и с
проявлениями в человеке доброты и самоотвержения.
Достаточно просмотреть какой-нибудь год «Игрушечки»,
чтобы видеть, как умно и старательно составляла каждый
номер журнала Александра Николаевна. Вот, например,
1895 год. В нем ряд живых и талантливых рассказов,
направленных на развитие в детской душе доброты,
сострадательности и чувства справедливости. Тут мы находим
стихотворения Вейнберга, Дрожжина, Фофанова, Величко
и прозу Лескова, Мамина-Сибиряка, Баранцевича и др.,
находим превосходные, интересные и для взрослых очерки
Кайгородова из природы и блестящие рассказы Горбуно-
ва-Посадова из времен преследования христиан в Риме,
проникнутые глубоким чувством. Почти все это
иллюстрировано рисунками Бем, Каразина и Репина, а портреты
выдающихся сотрудников снабжены их автографами. Таким
образом юный читатель не только слышал автора,
пришедшего к нему с приветом и мягким, осторожным
отношением к его впечатлительному в этом возрасте сердцу, но и
видел его лицо и даже знакомился с его почерком. Рассказы
и стихи иностранных авторов снабжены тщательным и
точным, буквально подстрочным переводом. При
«Игрушечке» издавались ежегодно шесть томиков элементарного
природоведения для детей, снабженных рисунками,
составляемых преимущественно профессором Ю. Н. Вагнером и
Д. А. Коропчевским.
Одного знакомства юных читателей с главнейшими яв-'
лениями природы, однако, мало. Окруженная ими,
создается и идет деятельная жизнь человека. На ее развитие
имеют влияние внушительные примеры, даваемые
образами замечательных людей. Это вполне понимала
Александра Николаевна—и в четвертую серию «Библиотечки
журнала «Игрушечка» ею внесен ряд биографий писателей,
служителей искусства и изобретателей: Теннисона, Фуль-
тона, Стефенсона, Уатта и др. с их портретами; черты из
детства Ломоносова, Гейдена, Паганини, Айвазовского,
Линнея и Рубинштейна, и все заключено столь
необходимым в наше время очерком под названием «Люди долга».
Рассматривая «Игрушечку» и прилагаемое к ней, нельзя не
314
проникнуться уважением к строго выдержанному и проник--
нутому одной идеей редакторскому труду и не сказать:
«Нет! Это не «Игрушечка», которую можно с годами
бросить, это — светоч знания и любви, лучи которого,
запавши в душу ребенка, будут ему светить всю остальную
жизнь».
Издавая «Игрушечку» для детей младшего возраста,
Александра] Н[иколаевна] несомненно сознавала, что
материал, даваемый этим журналом, быть может, слишком
серьезен для ребенка до восьми лет, когда на первом
плане должна стоять без ущерба нравственной цели рассказа
главным образом его занимательность, а не
поучительность. Она становится редактором журнала «Для
малюток», богатого живыми и прекрасно иллюстрированными
рассказами из жизни животных и сценками из детской
жизни, подписанными, между прочим, такими видными
литературными именами, как П. П. Гайдебуров и Коропчев-
ский *. Можно, однако, пожалеть, что она не решилась
уклониться от укоренившейся, к сожалению, традиции,
рекомендующей занимать ребенка баснями, смысл и вывод
которых понятен лишь взрослым, — баснями, изобилующими
картинами торжества жестокости, ухищрений и обманов.
Вообще детское чтение очень интересовало Александру]
Н[иколаевну]. В оставшихся после нее рукописях есть
подробное рассуждение о влиянии книги на развитие ума и
характера ребенка и горячий протест против
неразборчивого чтения книг исключительно для развлечения, причем
она цитирует мнения в этом отношении Марка Аврелия,
Эмерсона и Шопенгауэра. Она, очевидно, разделяла тот
справедливый взгляд, что «ребенок есть отец взрослого» и
что впечатления, внедрившиеся в детскую память, влияют
на поступки взрослого, иногда и без ясного с его сторона
сознания. Есть в этих рукописях и «Тезисы» редактора
«Игрушечки», в которых возбуждаются, между прочим,
вопросы: какие книги желательны в дошкольный период
(от 7 до 9 лет), когда одновременно с физическим ростом
идет и духовный рост ребенка и складываются душевные
основы, остающиеся на всю жизнь; также какие
требования должны быть предъявлены к «детской литературе»,
чтобы оградить ее от спекулятивного характера.
При таких условиях воспитания, о которых говорено
вначале, необходимо не только здоровое — путем
удовлетворения любознательности детей благотворными
315
примерами — научение детей, но и руководящие указания
и разъяснения для родителей. Сознавая это, Александра]
Н[иколаевна] предприняла, с 1893 года, издание
педагогического сборника «На помощь матерям», содержащего
богатое собрание научных и популярных статей по вопросам,
возникающим при серьезном взгляде на задачи
воспитания. Для примера можно взять этот сборник за 1900 год,
на страницах которого помещены между практическими
указаниями на способ и приемы преподавания статьи о
детской талантливости, внимании при домашнем и школьном
обучении, о развитии общественности у детей, о единении
семьи и школы, о серьезных ответах на детские вопросы
и т. п. и ряд ученых докладов, имеющих отношение к
заботе о здоровье детей: Блуменберга о заразных
заболеваниях и способах предупреждения их; Оппенгейма о
нервных-болезнях и воспитании; доктора Ельциной о сифилисе
и общественном здоровье; А. Н. Шабановой о помощи в
несчастных случаях и, наконец, доклад столь жестоко
похищенного смертью профессора Розенбаха — о ненормальных
детях.
Забота о правильной постановке детского воспитания
не покидала Александру Николаевну и в более поздние
годы. Она вызвала ее обращение к «великому писателю земли
русской» *, который в ответ писал ей за год до своей
смерти: «Давно следовало мне отвечать на ваше милое письмо,
но задержало меня, кроме нездоровья и занятий, главное
то, что хотелось бы и хочется ответить на ваши огромной
важности вопросы насколько могу основательно, чего до
сих пор не удосужился или не сумел сделать. Ваши
вопросы не оттого только, что вы их сделали, неотступно стоят
передо мной. Кое-что я, мне кажется, имею сказать об этом
великом деле — охранение детской чистоты и праведности
и от всегда угрожающего им развращающего влияния
старших — и непременно скажу, если успею, и сообщу вам.
Дружески приветствую вас. Лев Толстой» *,
Воспоминания свои о встречах с Толстым Александра Николаевна
поместила в редактируемом ею в 1911 году журнальчике
«Красные зори», посвятив свою большую статью
«Светлой памяти Толстого» *.
Рядом с издательско-редакторскою деятельностью у
Александры Николаевны шла личная литературная
работа. Ее живой характер и отзывчивость на культурные
стороны жизни заставляли ее встречаться со многими выдаю-
316
щимися деятелями, взглядываться в них и запечатлевать
свои впечатления и воспоминания в отдельных очерках,
часть которых, к сожалению, не была окончена и
оставалась в рукописи, в различных вариантах. Из напечатанных
следует отметить очерк, посвященный Н. С. Лескову *, с
которым ее связывали многолетние дружеские отношения.
Обширная переписка с ним рисует очень ярко этого
глубоко талантливого, нервного, ворчливого и вместе с тем
всегда готового на посильную помощь «нуждающимся и
обремененным» человека. Преклоняясь перед талантом
великого артиста Эрнеста Росси, Александра] Н[иколаевна]
посвятила ему обширную биографическую статью * с
подробным разбором его игры, главным образом, в
шекспировских трагедиях и с описанием прощального обеда,
данного ему в Петербурге артистами, писателями и
художниками. В бумагах ее сохранились фотографии и портреты
Росси с самыми теплыми б\агодарственными надписями,
называющими ее самым дорогим своим другом («mia piu
сага arnica»). И к знаменитому итальянскому патриоту и
борцу за единство родины — Гарибальди отнеслась она с
горячим чувством и подробно описала свое посещение в
1872 году острова Капреры, где пребывал раненный при
Аспромонте Гарибальди, узнавший о ее «любящем» уходе
в Риме за ранеными гарибальдийцами и пожелавший
увидеться с нею в своем уединении. Это описание,
помещенное в «Историческом вестнике» *, полно интереснейших
подробностей, рисующих оригинальную повадку героя, его
образ жизни и домашнюю обстановку, его трогательную
скромность и его воспоминания о нашем Пирогове,
уберегшем, вопреки другим врачам, его раненую ногу от
ампутации. В бумагах Александры] Н[иколаевны] сохранились
две характерные фотографические карточки Гарибальди
с любезными подписями и два письма, в которых он
рекомендует ей один одобряемый им журнал в Ливорно («un
buon giornaletto») и шлет теплый и задушевный привет
русскому народу, имеющему принять участие в будущих
мировых задачах. Познакомилась она в Риме и с гениальным
виртуозом Листом в салоне немецкой писательницы Шварц
и описала впечатление *, производимое им и его игрою, а
также свои беседы с ним и его самобытные и свободные,
несмотря на носимый им костюм аббата, взгляды на
общественные вопросы.
И некоторые наши русские артисты и писатели были в
317
дружеских с нею отношениях. Достаточно указать на ее
воспоминания о Ф. М. Достоевском («Красные зори»
1911 г.) *, письма к ней Я. П. Полонского, на
трогательные воспоминания о Н. В. Шелгунове по поводу 25-летия
его смерти *, касающиеся и его друзей Н. К.
Михайловского и Засодимского, на письма к ней Шеллера и ряд
писем народного поэта Сурикова, в которых последний
делился с нею своими житейскими скорбями и своим
унынием, переходившим в отчаяние. Предполагая в 1875 году
издать сборник «Мысль и труд», Александра] Н[иколаевна]
пригласила его в сотрудники, и он отвечал ей: «Сборник
Ваш предназначается для юношей; скажите им о тех горе
и страданиях, которые испытывают умственные
труженики; посылаю для сборника стихотворение «Труженик».
Сборник был, однако, конфискован. «Что остается делать...
Ни по складу ума, ни по нашему характеру мы под эту
мерку не подойдем. Сидеть сложа руки в отупении,
похоронить себя заживо в могиле, чтобы сердце сгнило и ум
высыхал — дело скверное...» Когда в 1880 году Суриков
умер, Александра] Н[иколаевна] написала о нем
прочувственный отзыв с биографическими данными, названный ею
«Поэт-страдалец» *. Была она в дружеских отношениях и
с талантливой артисткой Стрепетовой, и в
прочувствованных воспоминаниях о последней, написанных Александрой
Николаевной *, содержатся очень ценные черты для
характеристики этой богато одаренной, с суровою наружностью
и добрым сердцем великодушной артистки, отдавшей
серебряные венки, поднесенные ей публикой, в пользу
голодающих, крайне резкой и независимой в своих взглядах и
действиях и в то же время безусловно подчинявшейся
своему юному сыну Виссариону. Живописуя удивительную,
потрясающую зрителей игру Стрепетовой в «Горькой
судьбине» Писемского, Александра Николаевна рассказывает,
как во время первого представления известного врача
С. П. Боткина несколько раз вызывали за кулисы к
терявшей силы, горько плакавшей артистке, игравшей Елизавету
и лично на себе пережившей ее горькую долю и душевные
терзания.
Наконец, она напоминала обществу о литературных
трудах Клавдии Лукашевич * и Ольги Шапир * и о научных
трудах Безобразовой *. Ее отзывы об этих лицах рисуют
ее самое и ее стремление нарисовать образы хороших
людей в такое время, когда все были поглощены вестями о
318
войне и когда такое напоминание тем более уместно, что
мы и в обычное время, по выражению Пушкина, «ленивы
и не любопытны» *.
Вместе с таким отношением к житейским встречам,
Александра Николаевна набросала ряд воспоминаний о
событиях и обстоятельствах своей личной жизни. Таковы
сохранившиеся в ее бумагах наброски: «Маленький опыт
на человеке» *, темой для которого послужили,
по-видимому, дуэль Евгения Утина с Жоховым *, имевшая
последствием кроме смерти Жохова, еще два самоубийства — его
жены и ее сестры; «Дрезден» *, на религиозную тему;
«Картинки из жизни художников в Риме» * и т. д.
Наконец, она интересовалась и психологической
стороной волновавших общественное мнение уголовных
процессов. Это сквозит в ее рукописи «Автору «Прелюдии
Шопена» (Л. Л. Толстому) * и в особенности в статье «О
деле Ландсберга» *, где она проводит мысль о том, что
активное участие в военном кровопролитии, награждаемое
и поощряемое, должно развивать в людях с заснувшей
совестью готовность истреблять тех, кто стоит им на
пути к достижению тех или других житейских благ,
ссылаясь на свое поощренное прошлое. Замечательно, что этот
Ландсберг, «отличившийся» в Восточной войне и
убивший вредного для него ростовщика, в своей
оправдательной записке, поданной следователю, но не оглашенной
на суде, именно утверждал, что, отнимая жизнь на войне у
людей, ему никакого зла не сделавших, и будучи воспитан
именно в этом духе, он, конечно, имел право «устранить»
человека, который ему оказывался опасным на пути к
достижению личной цели.
По образу мыслей Александра Николаевна
принадлежала к «людям шестидесятых годов», пережившим эпоху
«великих реформ» и оставшимся ей верными несмотря на
разные житейские испытания. Среди сохранившихся после
нее рукописей есть очень характерные черновые письма к
издателю «Нового времени» А. С. Суворину,
пятидесятилетний юбилей которого праздновался в 1909 году с
особой торжественностью многочисленными поздравителями
в дворянском собрании. Отдавая справедливость личной
доброте Суворина и его большому литературному
дарованию, она писала ему: «Я не буду в дворянском собрании,
не буду и на ужине, и знаете почему? В собрании на
ужине будут говорить многие и многое, но не скрою, что я ма*
319
ло верю в эти публичные, излияния... Искренное чувство
скромно и стыдливо, В данный момент для очень многих Вы
большая величина, и на Вас смотрят из всех даже самых
отдаленных уголков России, но я смотрю на Вас не в то
время, когда Вы стоите на эстраде дворянского собрания,
окруженный тысячною толпою. Нет, не этот момент Вашей
жизни мне дорог. Мне дорого то славное время, когда
толпа не менее многочисленная следила за всем нам — людям
того времени — дорогим и блестящим «Незнакомцем» *. Вы *
помните эту толпу. Она была иная. Ее любовь к Вам
была бескорыстная. Тогда ведь Вы не занимали Вашего
нынешнего положения. Тогда Вы были только скромным
«Незнакомцем» и вас любили только за Ваше личное я. Да,
то были славные годы с их строгой неподкупностью, с их
страстной верой в лучшее будущее. Вы помните все это?
Да будет благословенно то время. Читая о приготовлениях
к Вашему юбилею, я мысленно около вас, но не в
дворянском собрании, а на Васильевском острове, в маленькой
бедной квартирке А. Г. Маркозовой, где в 1871 году мы с
Вами познакомились и Вы — в то прекрасное время, как
живой, стоите предо мною...» *
Способная очень увлекаться доверием к людям — в чем
ее нередко сердито упрекал в письмах Лесков — она не раз
в жизни испытывала тяжелые нравственные потрясения. И
забвения и лекарства от них она искала в многосторонней
и кипучей деятельности, отдавая ей всецело и все свои
силы, и все свое время. Поэтому не одну ее
литературно-педагогическую работу следует вспомнить. Как «шестидесят-
ница», она приняла самое живое участие в постепенном
развитии борьбы за женское равноправие. Падение
крепостного права дало первый толчок стремлению русской жент
щины завоевать себе равноправие с мужчиною во всех
сферах деятельности, которые могут быть ей доступны по ее
физической природе. Прежние изящные «куколки» и
«кисейные барышни» в большинстве оказались
поставленными пред альтернативой выхода замуж или личного
заработка. Но с усложнением и удорожанием жизни брак
становился все затруднительней и делался для многих
предметом роскоши. Оставалось работать. Для возможности и
успешности этой работы необходимо было создание путем
обычая и законодательных мер такого положения, при
котором личное стремление к труду не встречало бы
препятствий в предрассудках, лицемерном уважении к «прнзва*
SSÖ
нию» женщины и в законодательном застое. Нужно было
пойти дальше и шире, чем указывал безумный губитель
родины Вильгельм II, говоривший, что задача женщины в
жизни должна исчерпываться четырьмя «К»: «Kinder,
Küche, Kleider, Kirche» l. Выдающиеся русские женщины
стали пробивать брешь в обманчивой твердыне этих
взглядов. Имена Софьи Ковалевской, двух Тарновских, Фило-
софовой, Стасовой и Шабайовой не могут и не должны
быть забыты. Среди них заметное место заняла и
Александра Николаевна, с жаром отдавшаяся женскому
освободительному движению и начавшая ему служить словом и
делом. Она явилась одною из учредительниц и горячей
сотрудницей Русского женского взаимно-благотворительного
общества *, объединившего в своих стенах и отдельных
учреждениях ряды интеллигентных тружениц под умелым
председательством достойной А. Н. Шабановой,
неустанная деятельность которой заслуживает особого очерка.
Александра Николаевна несколько трехлетий входила
в состав Совета Женского взаимно-благотворительного
общества и во все существовавшие при нем специальные
отделы и кружки, делая в общих собраниях обширные, живо
изложенные и проникнутые большою теплотою доклады и
представляя проекты расширения и углубления
деятельности Общества. Так, ею внесены были обширные и
разработанные до мельчайших практических подробностей
проекты общежития при Обществе * и центральной столовой
при нем. Ею же были сделаны в Обществе доклады о
положении интеллигентных работниц и о положении
прислуги, в последнем из которых очень ярко изображены
лишения необходимых условий нормальной жизни,
составлявшие удел большинства прислуги, особенно женской. В
одном из заседаний вслед за смертью Анны Павловны
Философовой ею произнесена речь, в которой она тепло и
выпукло изобразила кипучую натуру и безграничную
участливость к чужим несчастью и горю этой замечательной
женщины.
Горячая поборница женского равноправия, она не
ограничивалась участием в съездах союза женщин, а стала
издавать и редактировать с 1899 года литературный
журнал «Женское дело», посвященный вопросу о расширении
прав и улучшению положения женщины в различных ус-
1 Дети, кухня, платье, церковь (нем.).
21 А. Ф. Кони, т. 7
321
ловиях общежития. Первый номер этого журнала начинался
портретом Софии Ковалевской с приложением автографа
ее, еще нигде не напечатанного, прекрасного по глубине
и форме стихотворения *.
В 1900 году Александра Николаевна приняла самое
деятельное участие в учреждении и организации Общества
помощи недостаточным больным образованным
женщинам, имевшего целью обеспечивать временно или постоянно
тружениц и в особенности учительниц, находящихся в
безвыходном положении вследствие потери трудоспособности.
Располагая незначительными средствами, состоящими из
членских взносов и небольших пожертвований, Общество
сосредоточило все свое внимание именно на помощи
больным, для посещения которых были избраны участковые
попечительницы. Находящиеся в нужде больные
пользовались бесплатными советами врачей— членов Общества,
лекарствами, здоровой пищей и, наконец, ввиду состояния
своего здоровья, помещались в больницы и санатории на
средства Общества. При увеличении средств Общество
стало входить в сношение с курортами и отправлять своих
больных в Старую Руссу, на кумыс в Самарскую и
Уфимскую губернии, в Крым и на Кавказ, а в 1911 году
приобрело в собственность небольшой участок земли в
Финляндии, около санатории Халила и построило собственную
санаторию для туберкулезных, названную «Ауринко»
(«Солнышко») и рассчитанную на двадцать две больных.
Рядом с этим Александра Николаевна участвовала в
Обществе, имевшем свою санаторию в Лесном, и не только
постоянно работала в Советах этих Обществ, но по
несколько лет бывала избираема их председательницей, энергично
хлопоча об усилении их средств путем официальных
сношений, в материально тяжелые для них времена,
устройством подписок и публичных сборов.
Нужно ли говорить, что всякое общественное бедствие
или широкое начинание находили в ней сочувственный
отзвук. Так, она усердно хлопотала об осуществлении
резолюции женской Лиги мира (основанной доктором А. Н. Ша-
бановой), взывавшей об установлении «мира в мире» и
собравшей двадцать четыре тысячи подписей со всех
концов России, и участвовала в докладах на женском съезде
в 1908 году в Петербурге*.
Жизнь покойной Александры Николаевны была полна
322
жаждой труда, направленного на общественное развитие,
преданностью родной литературе и деятельною любовью
к людям, «quand même et malgré tout» \ как любят говорить
французы. На доброжелательные упреки некоторых,
знавших ее, в излишней торопливости и хлопотливости она,
сходя в могилу, 76 лет от роду, могла бы, оглядываясь на
свою трудовую жизнь, сказать: «Я всегда в своих
стремлениях и желаниях следовала завету известного
человеколюбца доктора Гааза: «Спешите делать добро».
Жизнь с ее круговоротом и «злобами дня» оставляет в
памяти о встреченных людях отдельные эпизоды и черты.
Это своего рода кусочки мозаики. Но когда проходят годы
и оказывается возможным собрать эти кусочки и
сопоставить их, то выходит целая мозаичная картина,
заставляющая порадоваться, что пришлось знать такого человека, а
иногда и пожалеть, что в свое время люди недостаточно
внимательно вглядывались в его внутреннюю сущность.
Такую мозаичную картину представляет жизнь
Александры Николаевны для тех, кто захочет вдуматься в ее
труды и достойную искренней симпатии личность.
1 Вопреки всему и несмотря ни на что (франц.).
21*
ПАМЯТИ А. П. ФИЛОСОФОВОИ*
Во второй половине
пятидесятых годов в
петербургский «большой свет» из тесной и нелюдимой семейной
обстановки выпорхнула очень молодая, стройная и
изящная женщина, жена одного из главных сотрудников
Димитрия Алексеевича Милютина по преобразованию военного
ведомства и подъему его нравственного уровня *. Средь
«ликующих, праздно болтающих» * восторженная лесть и
неподдельное восхищение окружили ее со всех сторон *. По
многочисленным примерам можно было ожидать, что и ей
предстоит довольно обычная в те времена судьба:
блестящие победы и успехи сначала, потом неизбежное увядание
красоты, не освещенной внутренним душевным огнем и
потому никого не согревающей, и, наконец, завистливое
брюзжанье против всего свежего и молодого по дороге к ничего
не говорящей могильной плите. Но этого не случилось...
В груди Анны Павловны Философовой билось отзывчивое
и чуткое сердце, и поводы для проявления этих его свойств
давала не бессодержательная светская жизнь, а
действительное знакомство с печальными сторонами и
наболевшими потребностями русской жизни. В ее юные лета ей
пришлось встретиться со всеми мрачными проявлениями
засилия и насилий, связанных с крепостным правом. Она
увидела вблизи физические страдания и душевные драмы,
которые приходилось так часто переживать людям,
представлявшим собою «крещеную собственность» *. Она
познакомилась с ними не из рассказов или книг, а пережила
их в своем сострадательном сердце. Вернувшись в свой
городской обиход, она принесла в него горячее и неустанное
негодование на всякое принижение человеческой личности
и ее достоинства и стойкое сочувствие человеческому горю.
324
С этими чувствами сошла она и в гроб, испытав много
тяжелых минут и разочарований, но ни разу не изменив себе.
Ее деятельность началась, впрочем, в такое время,
когда ей приходилось трудиться, не опасаясь, что придется
впоследствии пожаловаться на «жар души, растраченный в
пустыне» *: это были так называемые шестидесятые годы.
На пороге общественной жизни ее встретили великие
реформы, обновлявшие весь русский быт; вокруг нее звучал
призыв и напутствие лучших людей того времени на
будущую деятельность, которой можно было радостно, без
расчета и суетного тщеславия посвятить всю свою жизнь.
Время благородной мысли, восторженного чувства, горячей
надежды на светлое будущее, веры в себя и в духовные
силы родины, время, когда каждый устыдился бы даже
подумать многое из того, что потом пришлось слышать не
только в беззастенчиво прорекаемых громких словах, но
даже и в печати, это время имело одной из своих
сознательных представительниц Айну Павловну Философову,
пронесшую его заветы до гробовой доски. Она писала мне
29 апреля 1901 г.: «Дорогой Анатолий Федорович! Вот
уже неделя прошла со дня моего юбилея *, а я до сей
минуты как в чаду. Ничего подобного я и во сне не видала и,
конечно, не имела права ожидать. Объясняю это тем, что,
приветствуя меня, приветствовали наши чудные, светлые
шестидесятые годы. Вот почему я согласилась праздновать
этот юбилей. Не будь этих воспоминаний, я, конечно,
уехала бы в деревню».
В душе Анны Павловны жила потребность
деятельности и борьбы. «Средь шумного бала» *, на котором так
часто она блистала умом и красотой, ее тревожила мысль
о петербургской бедноте и о необходимости прийти на
помощь той «бледной нищете», которая вынуждена была
влачить свое существование в подвалах. Когда я поселился
окончательно в Петербурге в начале семидесятых годов и
познакомился с Анной Павловной, она была в разгаре
хлопот об устройстве и поддержании Общества дешевых
квартир для трудящихся женщин *. Насколько важны для дела
были эти хлопоты, видно из того, что Общество, начав
свою деятельность с капиталом в 540 рублей в маленькой
квартире на Песках, за несколько лет до смерти Анны
Павловны, так много потрудившейся в его пользу, уже
обладало домами, оцененными в 366000 рублей, с
населением в 600 человек. Так же плодотворен был ее почин и
325
в деле частной помощи голодающим в тех местностях, в
которых результаты стихийного бедствия далеко
превосходили успокоительное бюрократическое mot d'ordre1 о том,
что все обстоит благополучно и налицо имеется лишь
«недород» *. Во всех своих начинаниях, с одинаковой
горячностью служа идее и радостно принимая на себя хлопоты
и даже мелкие заботы для практического ее осуществления,
Анна Павловна со скромностью ставила себя нередко на\
второй план, указывая на своих сотрудниц-союзниц/
Н. В. Стасову, М. В. Трубникову * и др. Но тот, кто
следил за их общей деятельностью, не может не припомнить
слов Бэкона о том, что между посвятившими себя какому-
либо делу людьми — одни собирают мед, как пчелы,
другие распределяют его, как муравьи. Анна Павловна делила
свой труд пчелы с другими, но в роли муравья ей всегда
принадлежало первое место. Она была проникнута в
общественном отношении любовью деятельной и торопливой и,
отдаваясь условиям и обстановке светской жизни, всегда
умела их использовать для дорогих ей начинаний. Из лет
моей молодости мне вспоминается организованный ею
благотворительный маскарад в Мариинском театре в пользу
Общества дешевых квартир. В маске и домино она
подошла ко мне и после минутного шутливого разговора
сказала мне: «Пойдемте, я хочу говорить серьезно», и, уведя
меня в боковую царскую ложу, стала там с особым
оживлением говорить о своих планах по высшему женскому
образованию в России и о препятствиях, которые чинит этому
граф Д. А. Толстой *. Ее лицо разгорелось, прекрасные
глаза блистали одушевлением, приводимые ею серьезные
соображения чередовались с надеждами и опасениями.., а
внизу журчал фонтан, пели какие-то хоры, доносился
неясный гул шагов и маскарадных «интриг», и вокруг нас
на стульях лежали конфеты и цветы. «Однако странное
место и обстановку выбрали вы, Анна Павловна, — сказал
я, — чтобы говорить о высшем женском образовании». Она
засмеялась, шутливо ударила меня веером по руке и
сказала: «Что делать? Я знаю, что вы очень заняты, и я вас
выманила в маскарад с тем, чтобы именно посоветоваться,
а теперь пойдемте вниз: там должен быть NN (она
назвала фамилию влиятельного сановника): я приведу его
сюда и постараюсь уговорить не быть против курсов». И в
1 Указание (бук&ально: пароль, лозунг — франц.).
326
какой бы обстановке она ни была, она настойчиво
преследовала свои общественные цели и идеалы. «Мои дочери, —
писала она мне в мае 1904 года, — едут в нашу деревню
Богдановское — этот «рай земной». В шестидесятых годах
это имение досталось моему мужу после отца. В то
чудное время, время реформ и зари, он был занят с
Милютиным разными преобразованиями, и ему было не до Бог-
дановского. Он мне предложил попробовать мои силы и
ехать туда устраивать наше гнездо. Дело было нелегкое:
я застала имение в страшном запущении. Достаточно
сказать, что наш дом сожгли и имущество растаскали.
Управляющий наживался и «мирволил» крестьянам, обещая им
«выкурить петербургскую птицу». Долгое время я жила
в избе. Все-таки, в конце концов, я устроилась, но
настолько была пропитана духом шестидесятых годов, что
подумала не о постройке дома, а, конечно, прежде всего о
постройке школы. Начиная с помещиков и кончая
крестьянами, все «гоготало» надо мною. Не прошло, однако, и
трех лет, как школа была открыта — первая в уезде. Тогда
только я сочла возможным начать строить и дом. В этой
атмосфере росли мои дети, а когда подросли, то помогали
мне во всем. Мы устроили лекции для народа, давали
крестьянам уроки и пр. и пр. Дочери мои дружат до сих пор
с бабами, которых они учили, когда те были девочками,
и т. д.» *.
Венцом общественной деятельности и неустанных
трудов Анны Павловны следует признать учреждение Высших
женских медицинских курсов в 1872 году и Бестужевских
курсов в 1878 году*. Шестидесятые годы внесли в
положение русской женщины большую перемену: они расширили
круг и горизонт чаяний и потребностей общества, принеся
вместе с тем в жизнь целого класса, привыкшего опираться
на чужой даровой труд, необходимость личной борьбы за
материальное существование. Наряду с прежней более или
менее обеспеченной барышней, видящей в браке
единственный и желанный жизненный исход, явилась девушка,
вынужденная сама зарабатывать себе средства к жизни.
Взгляд на необходимое условие брака — серьезное
чувство — стал господствующим, а самый брак по
экономическим условиям начал делаться во многих случаях
предметом недоступной роскоши. Наш общественный строй
пришлось перестраивать на началах личного труда, не только
доступного, но и экономически неизбежного для многих
327
женщин. Для него нужна подготовка в виде общего
образования и приобретения специальных знаний. Да и в браке
и в семье русской женщине, исполняющей свое призвание,
пришлось во многих случаях являться не только
утешительницей и помощницей в смысле хозяйственных забот,
но и сотрудницей своих близких, тем, что у нас в старину
называлось «потрудилицей и сослужебницей». Анна
Павловна вполне это поняла и отдалась насаждению высшего
женского образования в России со всей своей энергией и
настойчивостью. Ей было суждено постоянно
наталкиваться на заподозривание со стороны административных
властей, на насмешливое недоброжелательство графа
Д. А. Толстого, на апатию многих из окружающих и на
свойственное нашей жизни злорадное ожидание неуспеха
каждому, кто силится заставить общество забыть «злобу
дня» и задуматься о своем будущем *. Не обошлось и без
клевет и инсинуаций, которых в свое время не избегла даже
и великая княгиня Елена Павловна, когда она организовала
впервые не только в России, но и в Европе женскую помощь
раненным на войне. В высшем обществе Анну Павловну
открыто называли m-me Roland, стараясь этим набросить
тень и на ее мужа, сотрудника ненавистного многим
военного министра Милютина. К ней прицепляли зловещий
у нас в иные времена ярлык «красная» *, основываясь на
том, что, следуя велениям своего доброго сердца, она
являлась ходатаем за находившихся в несчастии или
заточении, имея в виду лишь страждущего брата и доверчиво
относясь к слезам и просьбам его близких. Она умела
сознавать и осуществлять, невзирая на разные условности и
на то, «что скажут!», прекрасное римское изречение:
miser— res sacra1. Впрочем в некотором отношении она
заслужила эпитет «красной»: до конца своих дней она не
умела скрыть на своем лице краски стыда и гнева по
поводу человеческой низости или черствости.
К ее заступничеству, связанному с разными, иногда
очень тягостными, хлопотами у имущих власть и средства,
можно было обращаться без всякого опасения вызвать ее
недовольство или прикрытый вежливой формой отказ. Не
раз приходилось испытывать, что, указывая ей на чью-
либо нужду или горе, можно было с полной уверенностью
написать в письме об этом: «Знаю, что Вы сделаете все,
1 Несчастный — святыня (лат.).
328
что в Ваших силах». Один характерный случай из этой
области деятельности Анны Павловны с особой яркостью
сохранился в моей памяти. Позволю себе привести его с
некоторой подробностью. Ранней весной 1877 года ко мне
в министерство юстиции, где я был вице-директором,
пришла молодая женщина калмыцкого типа, с большими
черными глазами, чрезвычайно напоминавшая своим лицом
знаменитого московского авдоката Плевако, и подала мне
карточку градоначальника Ф. Ф. Трепова, на которой было
написано: «Помогите, чем можете». Оказалось, что
подательница, считавшая себя невестой ученика Академии
художеств, осужденного к ссылке на поселение за участие в
1876 году в политической демонстрации на Казанской
площади *, желает венчаться до приведения приговора над
женихом в исполнение, чтобы иметь право следовать
вместе с ним в Сибирь. Прокурор судебной палаты, от
которого зависело дать на это разрешение, почему-то находил
более правильным, чтобы брак произошел не в тюремной
церкви, а там, где, по распоряжению местной
администрации, будет водворен жених. Видя неуспех всех своих
просьб, бедная девушка обратилась к Трепову, а тот
послал ее ко мне. Она была в чрезвычайном волнении,
придавая, и не без основания, особое значение скорейшему
браку и возможности не разлучаться с мужем во время его
долгого и далекого этапного пути. Единственное лицо,
имевшее власть удовлетворить ее горячую просьбу, был
министр юстиции. Но последний лишь после долгого и
настойчивого моего предстательства согласился предписать
прокурору дать разрешение, под непременным, однако,
условием, что родители девушки, жившие в глубине
России, одобрят ее предполагаемый брак. В томительном
ожидании ответа, постоянно справляясь о нем, последняя
трепетала и билась, как птица в клетке. Наконец, был
получен отзыв родителей о том, что они предоставляют дочери
устраивать свое счастье, как она находит лучшим. Вслед за
тем брак совершился, но болезненное состояние
новобрачной настолько обострилось, что о сопровождении мужа
обычным этапным порядком нечего было и думать.
Оставалось вдогонку за ним при первой возможности ехать за
свой счет. Для этого, однако, нужны были немалые
средства, а у нее не было ни копейки. Ф. Ф. Трепов, к
которому она снова обратилась, выхлопотал ей даровой проезд
по железной дороге и на пароходе по Волге и Каме до
329
Перми. Вопрос о том, как двинется она далее, оставался
открытым. Пришлось вспомнить об отзывчивом сердце
Анны Павловны и написать ей. Она приняла горячее
участие в больной молодой женщине и через три дня вручила
ей необходимую для проезда по Сибири и для
первоначального обзаведения на месте сумму, собранную ею «по
кусочкам», как она сама выразилась. Через год я получил
письмо из Якутска. В нем сибирская путешественница в
своеобразных выражениях извещала «в некотором роде
памятных ей людей» о том, что она по дороге сделалась
матерью и очень после этого хворала, но что ей хорошо
живется с мужем, который, вспомнив свои занятия в
скульптурном классе, зарабатывает средства, изготовляя
бюстики, из которых особенно успешно расходятся
изображающие императора Александра II. Письмо это очень
обрадовало и весьма развеселило Анну Павловну.
Надо при этом заметить, что, блистая в свои молодые
годы красотой и горячо отдаваясь всю свою жизнь
общественной деятельности, она была чужда всякой позы, была
всегда проста и, так сказать, прозрачна душевно. У нее
было замечательное умение в каждом, интересовавшем ее,
деле не оставаться в ревнивом одиночестве властолюбия,
а соединять и кристаллизировать вокруг себя
единомышленных людей. В личных отношениях, твердо стоя на раз
воспринятом взгляде, она не обращала его, однако, в
дышло, которым надавливала на «несогласно мыслящих».
Французы говорят: «L'ami de tous — ne l'est à personne»1,
но она обладала способностью снискать любовь самых
разнообразных людей, sans être l'amie de tous 2. Зато и вражду
она иногда в некоторых господах, достойных названия
«повапленных гробов» *, возбуждала немалую, нередко
довольно осязательную.
Было бы странно думать, что Анна Павловна
относилась ко всему этому с олимпийским спокойствием и
презрительным равнодушием: ее пылкая и чувствительная
натура, конечно, болезненно отзывалась на разные выходки
против нее и дорогих ей учреждений, и, когда грязные
лапы клеветы старались оставить свои следы на ее
изящном образе или на любимом ею деле, она инстинктивно
содрогалась и страдала. Но запас душевных сил был в ней
1 Кто друг всем, тот никому не друг (франц.),
2 Не будучи другом всех (франц.).
330
велик. Подавшись на минуту под грузом тяжелых
впечатлений, она вскоре выпрямлялась, как стальная пружина.
«Вообще я в большой меланхолии, — пишет она в 1893
году, — и никуда не гожусь. Мой муж на днях рассказывал,
что в бытность его в Сибири он был в Минусинском округе
у инородцев койболов. У них обычай спускать со скалы
в Енисей всех стариков, и делают это они, пируя на свой
лад. Прекрасный обычай! Хочу к ним ехать. Вот в каком
я настроении! Мое сердце в таком состоянии, что мне
запрещено писать, читать, выходить на улицу; даже по
комнате я должна ходить тихим шагом. Это при моем-то
неугомонном характере! Но я не унываю. Может быть, и
выздоровею. Заходите ко мне — сделайте этим доброе
дело».— «Очень я устала, — пишет она 19 мая 1894 г.,—
просто руки опускаются, но завтра иду на закладку дома
наших курсов и вообще действую!» — «Очень сожалею, что
Вы меня не застали дома,— пишет она 23 января 1895 г.,—
я была у Гуревича, где подписывала новый устав
(Женского благотворительного общества), который давно нас
занимает. Какая будет дальнейшая его участь — единый
бог знает. Всего вероятнее, не разрешат или искалечат... *
Так грустно, так тоскливо, что и сказать не умею. Может
быть, я не права и слишком строго смотрю на вещи? Но
от этого мне-то не легче, а, впрочем, я придерживаюсь
пословицы: «Fais ce que pourras, advienne ce que viendra» l.
В другом письме она пишет: «Дорогой А. Ф., прошу Вас
прочитать прилагаемый фельетон о нашем милом
Обществе. Какие грубые намеки и какая грязь! Отвечать,
конечно, Вы не посоветуете, по поговорить с автором
необходимо. Зачем он бросает на Общество такую
незаслуженную тень? Хоть и тяжело, но не поехать ли мне к нему?
Как Вы думаете?»
Бывают люди почтенные и по-своему полезные: они
честно осуществили то немногое, что им было дано, но
затем по праву усталости и возраста сложили поработавшие
руки и остановились отдохнуть среди быстро бегущих
явлений жизни. Новые поколения проходят мимо, отпуская
им свое уважение, так сказать, в кредит; живая связь
между их личностью и вопросами или потребностями дня
утрачена, а сердце их, когда-то горячее и отзывчивое,
спокойно бьется, безгласное и безучастное к окружающей
Делай, что можешь, и будь, чго будет (франц.)..
331
деятельности. Холодное внимание провожает их в могилу» и
скорбное чувство незаменимой потери не живет в душе
возвращающихся от этой могилы, ибо в нее положен
усопший, который уже давно перестал быть живым отголоском
их тревог и упований. Но есть другие, которые сходят со
сцены всем понятные, бодрые и близкие. Они не
«переживают» себя, ибо жить для них не значит только
существовать. Для них vivere est militare К Анна Павловна
принадлежала к таким людям.
На долгом жизненном пути встречал я ее не раз.
Наружно она, конечно, изменялась. Рука времени
накладывала свой отпечаток и на ее пленительный внешний образ,
сгибала ее стройный стан, серебрила ее волосы, одаряла ее
недугами. Но стоило услышать ее живую речь, взглянуть
в ее глаза, чтобы понять, что внутренняя Анна Павловна
осталась та же и что к ее преклонным годам вполне
применимы слова поэта:
Cet âge est une autre jeunesse
Sous un vêlement'différent,
Et quand le crépuscule s'éteint;
Les étoiles cachées apparaissent 2.
Я не мог участвовать, за неотложным отъездом в
Москву, в праздновании сорокалетнего юбилея ее деятельности
в 1901 году, но с радостью принял на себя поручение
написать ей поздравительный адрес, тем более, что как раз
в это время настроение ее было печальным. Притом я знал,
что она очень добро относится ко мне и что мое участие в
адресе будет ей приятно. В конце декабря 1900 года,
указывая на переживаемую ею трудную нравственную ломку,
она писала мне: «Редко видишь участие даже со стороны
близких людей, уже не говоря о знакомых. Но вы всегда
близкий для меня человек, вы многому меня научили, много
света пролили в мою душу и теперь, на старости, не
забываете меня... Спасибо, большое спасибо!»
«Всякое общественное начинание, — говорилось, между
прочим, в адресе, — требует для своего успеха
нравственных характеров, соединяющих в себе идею, желание
провести ее в жизнь и закал, т. е. умение отстаивать ее среди
противоречивых чувств и взглядов. Чем менее богата ими
1 Жизнь — это борьба (лат.),
2 Этот возраст — вторая молодость под иным покровом, и когда
сгущаются cyMCpKut появляются скрытые дотоле звезды (франц.).
332
страна в ту или другую эпоху, тем с большим уважением
приходится думать о тех, кто умел выработать в себе и
неуклонно проявить такой характер среди изменчивых
общественных течений. Отзывчивым и ясным умом Вашим Вы
сознали, сорок лет назад, одну из благороднейших задач
нашей нарождавшейся общественности: создание для
русской женщины возможности самостоятельного пути для
работы и для независимого — в нравственном и
материальном отношении — положения. Сорок лет вкладывали Вы
душу в преследование дорогих Вам целей, и доныне сердце
Ваше, сталкиваясь с нуждою, горем, несчастием и
выстраданными потребностями, сыплет свои искры, как кремень,
светя ими окружающим и грея их. Будущий историк
русской общественной жизни соберет разбросанные по разным
уголкам столицы воспоминания безвестных людей о том,
как тепло и просто, быстро и бесшумно умели Вы
приходить на помощь страданию ближних со словом утешения,
с материальным пособием, с деликатным уважением к
гонимой судьбою человеческой личности; он нарисует Вас,
молодую и изящную, спасающею погибающих в разврате
несчастных сестер по человечеству; он вспомнит, быть
может, слова трогательного московского человеколюбца
доктора Гааза о том, что «самый верный путь к счастью — не
в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других
счастливыми, внимая их нуждам, заботясь о них,
помогая им советом и делом, не боясь труда и любя их...», и
скажет, что Вы заработали себе право испытать это
редкое, это завидное счастье... Он расскажет, наконец, сколько
тревог, разочарований, непонимания и разных терний
встретили Вы в жизни и как увидели осуществление тех
надежд, которые окрыляли Вас вдумчивой радостью на
Вашем трудном и необычном пути... На тяжелые минуты,
пережитые Вами за эти сорок лет, Вы можете взирать
спокойно: без таких терний венок общественного уважения,
заслуженный Вами, имел бы менее нравственного веса» *.
Этот адрес ее очень растрогал. Она писала мне в
Москву: «Из газет * Вы, конечно, уже знаете подробности
этого трогательного и душевного дня, а потому и не
распространяюсь. Скажу только, что один адрес на меня
особенно подействовал, и я тотчас же по слогу узнала, кто его
писал: этого не скроешь. Судите же сами, как я была
тронута... и как слезы лились из моих глаз при слушании и
чтении этих строк».
333
Незадолго до того, как ярко светившему пламени ее
жизни суждено было потухнуть, мне привелось провести
одновременно с нею две недели в Сестрорецком курорте.
Здоровье ее было плохо, — она, видимо, слабела, но с
живой отзывчивостью — то с гневом, то с любовью —
продолжала относиться к различным явлениям нашей
действительности. Вместе с тем ее ум как бы спешил отрешиться
от земного и временного и пытливо вдумывался в то, что
Пушкин называл «тайнами счастия и гроба» *. Ее
чрезвычайно интересовала и привлекала к себе теософия *. В
наших долгих разговорах о современных условиях
веротерпимости в России и о необходимости осуществления
истинной свободы совести она не раз восхищалась тем, что
теософия учит соединять людей различных верований в
одном чувстве взаимной терпимости, к ссылалась на чье-то
изречение о том, что вода, налитая в разные сосуды,
принимает их форму, но одинаково утоляет жажду людей, что то
же самое можно сказать про воду духовной жизни. Ее
пленяла таинственная красота Откровения св. Иоанна и
чудесные по своей яркости картины, в нем содержащиеся.
Однажды, в беседе о них, я сказал ей: «А помните ли,
Анна Павловна, слова, обращенные к ангелу Лаодикийской
церкви: «Знаю дела твои: ты не холоден и не горяч, а
только тепел. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты
только тепел, и я извергну тебя из уст моих». Вот упрек,
который неприменим к вам». Она улыбнулась милой и
вместе печальной улыбкой и сказала, задумавшись: «Да, я
никогда не была только теплой». И эти слова невольно
пришли мне на память, когда я увидел ее, лежащую в
гробу, засыпанную цветами, точно живую, с каким-то
радостным спокойствием в лице после пройденного
житейского пути, на котором так легко быть холодным и так
удобно быть только теплым..«
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ*
(Публичное заседание Академии Наук 21 января 1901 г.)
I
ноября 1874 Г.
ПОКОЙНЫЙ историк, профессор
Бестужев-Рюмин, вернувшись с магистерского диспута
Владимира Сергеевича Соловьева *, писал вдове
московского профессора Ешевского: «Россию можно поздравить
с гениальным человеком». Но, как известно, не только
гениальные, но и высокодаровитые люди на Руси
недолговечны. Какая-то злая судьба завистливо смотрит на их
шаги и задувает пламя их духовной жизни, едва оно
успеет, иногда после ряда неблагоприятных условий,
разгореться как следует. Не сделала она исключения и для
Соловьева. Прошло уже полгода с тех пор, как, в бреду
внезапного и изнурительного недуга, ушел он «за грань
земного кругозора», сопровождаемый взрывом общего и
неподдельного сожаления...
До сих пор утрата его так свежа, что подчас в
действительность ее не хочется верить. Кажется, что еще
вчера он был среди нас — и что сегодня опять удастся
увидеть его удиЕительное, одухотворенное лицо, с глубоким,
то отрешенным от земли, то пламенным взором, —
услышать задушевные звуки его голоса, прислушаться к его
всегда содержательному слову, прерываемому детским,
заразительным смехом... Он чувствуется еще таким близким,
таким до боли живым в памяти всех, кому он был
«сотрудником жизни», что, сознавая тяжесть удара, нанесенного
его смертью, теперь едва ли даже возможно оценить вполне
размер и значение понесенной русским обществом в лице
его потери. Virit sub pectore vulnus! 1 И невозможно вполне
объективно говорить о своеобразной и исключительной
личности Соловьева, не отходя от ее ярких красок на
24
Живет в груди рана (лат.).
335
большее/ чем ныне, расстояние. Еще, быть может, труднее
приступить к полной и подробной оценке его трудов.
До сих пор для этого нет и достаточного материала.
Сочинения его разбросаны по самым разнообразным
изданиям — часть из них вовсе недоступна русской публике,
часть вышла из продажи. Притом в оставленном
Соловьевым научном и литературном наследии довольно многое
само по себе не докончено или не высказано с
окончательною определительностью. Он умер в разгаре новых работ,
для которых некоторые из прежних представляют лишь
программы или собрание материалов. Как всецело
отдавшийся любимому делу зодчий, возводил он одновременно
несколько зданий, дополнявших гармонически друг друга,
но не успел все довести до окончательного завершения.
В некоторых из своих трудов он наметил планы, оставил
чертежи будущей постройки, — и по ним лишь можно
догадываться и предполагать, что именно должна бы
представлять она, во всей ее целости и соответствии отдельных
частей. Поэтому лишь когда все его сочинения будут
изданы в одном собрании *, наступит время для глубокой,
вдумчивой и подробной критики всех особенностей его
миросозерцания и учения и для определения пути и
размеров влияния его творений на развитие русской
общественной и философской мысли. При этом, конечно, неминуемо
придется исследовать и все разнообразные споры и
возражения, которые вызывал почти каждый шаг Соловьева в
печати или публичной речи. Ныне же, казалось бы,
возможно говорить не столько о том, что сделал он, как о том,
что он делал, к чему стремился, в чем выражал свойства,
присущие его исключительной личности.
Давно уже замечена та поспешная готовность, с
которою мы стремимся, по нескольким, иногда чисто внешним
и поверхностным, признакам, наклеивать на людей тот или
другой ярлык, по которому и производится зачисление
людей в один из лагерей и окраска их в определенный цвет.
Ни под один из таких ярлыков, часто наклеенный
ошибочно и мешающий разглядеть настоящего человека, Соловьев
не подходил. «Святое беспокойство» в искании и уяснении
себе правды побуждало его соприкасаться с различными
направлениями, заходить в чуждые один другому станы —
и ни к одному из них не примыкать всецело, стоя всегда
особняком или «идя дорогою свободной», куда влек его
«свободный ум» *. Таким, остался он до конца своей жи-
336
зни, быстро протекшей, как река, отражающая на
поверхности своих вод то 'хмурое и серое, то ясное и безоблачное
небо, но настойчиво катящая свои струи по своему, ею
прорываемому, ложу.
Выдающиеся в духовном отношении люди являются
или выразителями общественного настроения, которое они
умеют сосредоточить и воплотить в своей деятельности,—
или выразителями общественных потребностей, иногда еще
не сознаваемых большинством ясно или же ложно им
понимаемых, В первом случае таких людей поднимает и несет
на своем хребте волна общественного течения, — во втором
им нередко приходится противополагать свою личность
такому течению и, идучи вразрез с настроением большинства,
повторять слова Лютера: «Hier stehe ich — ich kann nicht
anders»... ** И чем многостороннее в своей деятельности
эти выразители общественных потребностей, тем выше и
плодотворнее их значение в жизни. Таким именно
человеком был Владимир Сергеевич Соловьев.
Богато одаренный от природы, обладавший
колоссальною памятью, настойчиво и самостоятельно учившийся
всю жизнь и, поэтому, вооруженный массою
разнообразных и глубоких сведений, — он был слишком силен сам по
себе, чтобы служить только выразителем, хотя бы и в
самом возвышенном виде, общественных настроений данного
времени. Он не мог не противопоставлять ему во многих
случаях свое душевное я с бестрепетною
самостоятельностью мысли, призванной руководить, а не быть
руководимою. Отсюда те горячие нападки, которым он подвергался
с разных, иногда прямо противоположных, сторон, — и то
тревожное внимание, которое приковывала к себе его
деятельность, так что нельзя не согласиться с Брандесом, что
редко кто одновременно так сильно занимал, удивлял,
восхищал и возмущал общество, как Соловьев. Про
него можно сказать, что он прошел свой путь спеша,
точно предугадывая, что мера времени, данная ему
судьбою, гораздо меньше меры его сил и задач. Этим
объясняется и характер многих его произведений, их нередкая
схематичность и несоответствие в полноте разработки их
отдельных частей. Он торопился высказаться, подчас
оставляя в стороне подробности и не думая о необходимости
заранее опровергнуть и оговорить неправильные выводы
1 Стою на этом— и не могу иначе (нем.).
22 А. Ф. Кони, т.. 7
332
из своих взглядов. Это все, по-видимому, откладывалось
до другого раза, для которого уже не нашлось места в его
жизни. Этим характером запечатлены преимущественно
произведения его последних лет. То же самое замечается
и у другого мыслителя, у «великого писателя земли
русской» *. И он, сознавая, как быстро уходят «судьбой
отсчитанные дни» *, спешит заповедать свои общественные и
нравственные идеи, мало заботясь о форме и сознательно
пренебрегая своим высоким и неувядаемым
художественным даром.
Несмотря на глубокое содержание трудов Соловьева и
на вложенную в них огромную подготовительную
работу, — он не был кабинетным ученым. Ему не давала
возможности сделаться таким — прежде всего его личная
жизнь, лишенная всяких, даже сахмых скромных удобств и
той минимальной обеспеченности, которая необходима для
спокойного изложения своих дум и созерцаний. Вечный
странник, не знавший подчас, где главу приклонить и в
прямом, и в переносном смысле, — не имевший «ни кола,
ни двора», — бедно и скудно одетый, слабый физически,
хрупкий, впечатлительный и болезненно восприимчивый—
он не был, употребляя выражение Некрасова, «любящей
рукой — ни охранен, ни обеспечен». А в этом он нуждался,
ввиду чрезмерности и истощающей физические силы
разбросанности его работы, — нуждался ввиду своей
безграничной доброты и детски-наивного отношения к
практической жизни, которую проходил с выдержкою и терпением
мудреца и незлобивою чистотою ребенка. «Будучи не от
мира сего и выше мира сего, он представлял из себя,—
сказал о нем известный датский критик *, —
полу-пророка, полу-ребенка». Не ученый, поднявшийся на холодные
альпийские высоты отвлеченного знания и оттуда лишь
изредка спокойно взирающий на прикованную к отдаленной
долине, вечно подвижную, мятущуюся и страждущую
жизнь, — а мыслитель, рядом с ясным и строгим умом
которого бьется чуткое и отзывчивое к этой жизни сердце,—
вот кто постоянно слышится в Соловьеве. Этим его
отношением к жизни и объясняется страстность некоторых его
выводов и запальчивость его полемических приемов.
Боец — или, вернее, «труба, зовущая на бой»— он был
гораздо более публицистом, чем это кажется, даже и тогда, когда
являлся, по-видимому, представителем отвлеченного
умозрения. Он сам, в разгаре одной полемики, признал себя
338
публицистом по преимуществу, объясняя, что стал им как
раз в то время, когда в нашей общественной жизни
явились особые поводы вступаться за элементарные принципы.
«Я боролся, — заявлял он, — во всю меру моих
возможностей и не без некоторых пожертвований». Те, кому
знакома личная жизнь его, знают, что он никогда не
останавливался, в раздумьи или унынии, ни пред размерами таких
пожертвований, ни пред их возможными последствиями.
Он бросал свои мысли с горделивою горячностью —■
как вызов, как перчатку — и у него, вопреки
несправедливым обвинениям его в «самодовольном квиетизме», нельзя
найти безмятежного любования виртуозным и
последовательным развитием своих идей и положений. Боевой
характер многих его произведений отражается довольно
часто и на способе его изложения. Там, где нить его
посылок и выводов становится слишком тонка, — где читателю
приходится идти по краю логической, а иногда и
психологической пропасти, — Соловьев искусными
диалектическими приемами, остроумными выходками, полными юмора
бытовыми рассказами или историческими справками
строит легкую изгородь, заслоняющую от пугливого взора
опасность, — и, миновав ее, снова пускается, бодрый и как
всегда блестящий, в дальнейший путь.
II
Жизнь человека, со своей нравственно-разумной
стороны, слагается из трояких отношений: к высшему началу
самой жизни, к людям и, наконец, к самому себе. Все эти
отношения тесно переплетены между собою взаимным
влиянием и необходимостью внутренней гармонии. Отсутствие
связи между ними и наличность дисгармонии тяжко
отражаются и на последовательности действий, и на душевном
строе человека, вызывая невидимые внутренние драмы и
отталкивающие видимые картины разлада между словом и
делом, который тщетно старается прикрыться гнилою
тканью компромиссов и приспособлений. Разъяснению и
определению этих отношений и была посвящена трудовая
деятельность Соловьева, наполнившая всю его жизнь,
властно и неуклонно, — разнородная по форме и содержанию,
единая по своему стремлению к истине, всегда чистая и по
цели, и по источнику. С теми или другими проявлениями
этой деятельности не всегда можно было соглашаться, в
22*
339
них можно было открывать ошибки, увлечения и
односторонности, в чем сам Соловьев нередко прямодушно
сознавался, но всегда к этой деятельности, во всей ее
совокупности, были безусловно приложимы слова пролога к
«Фаусту»: «Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange ist sich
des rechten Weges wohl bewusst» l.
Нельзя сказать, чтобы при вступлении Соловьева в
ученую и общественную жизнь указанные выше троякие
отношения человека понимались у нас и складывались у
большинства образованного общества с достаточною
продуманностью и глубиною. Ему пришлось начать свою
деятельность с осуществления душевной необходимости
высказать и поддержать свой взгляд на первое из этих
отношений — к высшему началу жизни — и вступить в
горячую, упорную и смелую борьбу с рядом учений,
воспринятых с Запада и быстро усвоенных в качестве «последнего
слова». Оно—это слово—не было особенно ободрительным
и оставляло в душе, не желавшей убаюкивать себя
обманчивою удовлетворенностью, большое место для сомнений и
не получавших разрешения вопросов. К началу
семидесятых годов прошлого столетия, у нас и на Западе, Кант и
Гегель отошли в область исторических воспоминаний *, и
притом для большинства очень смутных и ничего не
говорящих. Весьма немногие интересовались сущностью их
учений, когда-то властно покорявших себе умы. Этому,
конечно, особенно способствовало у нас и закрытие, с 1850
года, самостоятельной кафедры философии в
университетах *, так что, например, независимое слово о главнейших
философских теориях — и то лишь по отношению к праву
государства налагать уголовные кары — студенты
Петербургского университета услышали впервые после
многолетнего перерыва в начале шестидесятых годов от профессора
уголовного права В. Д. Спасовича. Но и помимо этого —
гегелианство, распавшееся на три течения, крайние из
которых почти ничего общего между собою не имели,
постепенно утратило стройную силу своего первоисточника, а
учение Канта, этого Петра Великого новейшей философии,
Канта, которого профессор Котляревский остроумно назвал
«узловою станциею новой философии», — с его
утверждением бессмертия души и свободы воли, с начертанием не-
1 Добрый человек в своем стремленье темном найти сумеет
настоящий путь (перевод А. Фета) (нем.),.
34©
пререкаемых границ для опытного знания и с его
категорическим императивом практического разума, стало
оказываться «бременем неудобоносимым». Это возвышенное и
возвышающее дух строгое учение представилось тяжелым
и стеснительным для многочисленных последователей
культа несвободной и слабой воли, связанной и обусловленной
множеством стоящих вне ее явлений; оно показалось
слишком отвлеченным для тех, кто, работая как мыслитель,
находил, однако, занятие вопросами о причинах, смысле и
конечных целях бытия праздною и бесплодною
гимнастикою ума. Задачи последнего стали сводиться
исключительно к всестороннему познанию и изучению неизменного и
постоянного соотношения между реальными предметами,
вытекающего из сходства и последовательности явлений
жизни. Только таким образом, думали многие, сопоставляя
и классифицируя наши познания, можно открыть и
выяснить законы жизни, вовсе не прибегая к лишенным
разумного основания самоуверенным вещаниям мистиков и
произвольным построениям метафизиков. Таким путем
должно возникнуть и восторжествовать то положительное
знание, в уста которому Флобер влагает, в «La tentation de St.
Antoine» ly горделивые слова: «Мое царство размерами
равно вселенной, — моему желанию нет границ, — я
движусь, освобождая разум и взвешивая миры без ненависти
и жалости, без любви и бога!»...*
Широко разлившийся в свое время на Западе
позитивизм захватил своими волнами и мыслящее русское
общество шестидесятых и в значительной мере семидесятых
годов *. С легкой руки Огюста Конта и его последователей,
под влиянием заманчивой внешней стройности их учения,
ненужный багаж устарелого умозрения с презрительным
смехом был выброшен за борт. Было признано, что
настало время перейти к так называемому третьему состоянию
человеческого развития, которое должно неминуемо и
победоносно следовать за теми заблуждениями ума, которые
носят название теологии и метафизики. Это третье
состояние— позитивное или научное — приучит, наконец, людей
не заниматься пустыми попытками понять действительную
сущность предметов и внушит им бросить навсегда
праздные вопросы о целях бытия, о разумном и возвышенном
значении существования и т. п. Оно научит их, устроясь
1 «Искушении св. Антония» (франц.).
341
под развесистым древом классифицированных наук,
взирать на жизнь, как она есть, не мудрствуя лукаво и
изучая ее внешние проявления. Такому направлению мысли,
под влиянием общего течения, отдавалась, долгое время,
наша молодежь *.
Вслед за позитивизмом — «властительницею дум»
сделалась пессимистическая философия Шопенгауэра и затем
Гартмана. Пессимизм, как миросозерцание и как
житейская практика, ближе подошел к потребностям и запросам
человеческой души. Он попытался коснуться вопроса о том,
что такое, по своему источнику, жизнь, — но он старался
уяснить лишь происхождение жизни, а не ее смысл.
Блестяще, как это делает Шопенгауэр, объяснять различные
явления жизни, еще не значит отвечать на роковые
вопросы — зачем и почему возникло то, с чем связаны эти
явления. Если позитивизм, с его механическою теориею
прогресса, не давал законного места и удовлетворения
развитию личности, то, с другой стороны, и пессимизм с его
мировой волей, стремящейся проявить себя в постоянном
возобновлении жизни, или с выдвинутым Гартманом
началом «бессознательного» — принижал эту личность,
заставляя ее сознавать себя игрушкою и орудием слепой силы,
цель которой, прикрываемая иллюзиями несчастного
людского сердца, есть исключительно поддержание рода путем
тех отношений, которые свойственны человеку как
животному и наравне со всеми животными. Тут и проповедь
самого широкого сострадания мало дает утешительного. С
мыслью о том, что природа, использовав человека для
бесцельного и близорукого воспроизведения им потомства,
может затем сказать ему: «Der Mohr hat seine Schuldigkeit
getan, der Mohr kann gehen!» l*— и что в этом состоит смысл
жизни—трудно примирить запросы человеческого духа.
Загадочный вопрос задачи бытия не разрешается так просто.
При таких взглядах, очевидно, для религиозного
чувства не было места. Понимаемая как дитя унаследованных
суеверий и фантазии, боящейся смело взглянуть в лицо
действительности, вера могла возбуждать лишь
презрительное недоумение или высокомерное снисхождение. Но,
однако, человеком чувствуется необходимость безусловного
начала для своих высших интересов, для своего разума и
знания, для своей воли и нравственной деятельности, для
1 Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти (нем.).
342
чувства и творчества. Эта необходимость создает в нем и
веру в действительное существование этого начала. Как ни
заглушать в себе это чувство, как ни называть его, —
следуя совету Фауста в его разговоре с Гретхен о вере*,—
оно, рано или поздно, в той или другой форме поднимет
свой голос и предъявит свое право на существование.
Точная наука не в силах ни доказать, ни опровергнуть эту
веру, так как опыт, на котором она, главным образом,
зиждется, никакого значения в вопросах сущности и начала
иметь не может.
Поэтому неминуемо должен был свершиться поворот к
тому, что, по мнению позитивистов, было уже «längst
überwunden» ]— к религии и к метафизике. Нужно ли
говорить о признаках этого поворота? Они слишком
многочисленны и разнообразны и стали появляться уже довольно
давно. Стоит припомнить многие красноречивые страницы
Лорана, в его «Etudes sur l'histoire de l'humanité» 2*, или
вырвавшийся, еще в 1876 году, у Гладстона, одного из
благороднейших представителей XIX столетия, упрек: «Я
удивляюсь, — говорил он, — манере, с которою в наши дни
честными и талантливыми людьми отвергается самое понятие
0 боге, как действующем и правящего верховном существе.
Можно было бы думать, что вере, которая умиротворяла
сомнения многих людей, утешала и успокоивала массу
поколений — не будет отказано, по крайней мере, в
приличиях траура... Но на деле мы видим, что над нею
насмехаются с торжеством и энтузиазмом» *. И скептиков, в лице
самых блестящих в их среде поэтов и мыслителей, не
удовлетворяло механическое и материалистическое
мировоззрение. Уже Альфред де Мюссе восклицал: «Для меня не-'
выносимы люди, со смехом отталкивающие от себя все, что
называется верою... Я тоже сомневался всю жизнь — и
продолжаю сомневаться, но я делаю это со скрежетом
зубов, а не с язвительною насмешкою; я смотрю на
мучающее меня сомнение в отношении веры не как на
привилегию, данную природою моему духу, а как на страшную ду*
шевную кару; от этой страшной муки я старался
освободиться всеми средствами, и если это мне не удалось, то за
мною все-таки остается заслуга, что я извлек из болота
материализма свое лучшее я». Ренан, по всем философским
1 Давно пережито (нем.).
2 «Очерках по истории человечества» (франи.).
343
творениям которого разлит благодушный скептицизм, в
конце своей спокойно-созерцательной жизни признавал
огромную роль, которую в управлении его жизнью играла
уже потерянная им религия, имеющая, однако, ту
особенность, что продолжает действовать даже и после того, как,
по-видимому, умерла в душе человека. Он, еще в 1866 году,
называл такие разнородные явления, как солнце,
зарождение человека, совесть — чудесами, ибо наука не в силах
объяснить их происхождение, составляющее
непроницаемую тайну, подобно всем началам жизни, для разгада-
ния которых у нас нет данных. Находя, что
сверхчувственные стремления присущи природе человека, он признавал,
что высшим выражением этих стремлений является
понятие о боге, для признания которого нужны не выводы
знания, а великие поэмы. Так называл он религиозные
верования. «История обнаруживает, — писал он, — что
человеческой природе присущ трансцендентальный инстинкт,
направляющий ее к высшей цели. Самое развитие человека
было бы необъяснимо, если допустить гипотезу, что он
обречен на конечное существование, что добродетель есть
изощренный эгоизм, а религия — не более, как химера».
В защиту законности существования веры стали
выступать, затем, и глубокие ученые, и деятельные политики.
Пастер, — про которого с полным правом, как и про Гёте,
можно бы сказать: «Была ему книга природы ясна» *, в
своей вступительной во Французскую Академию речи *
сказал: «Понятие о бесконечном находит себе неизбежное
выражение везде и во всем мире; благодаря ему,
сверхчувственное лежит на дне каждой души, — бытие
бесконечного в самом себе заключает более сверхъестественного, чем
сколько его во всех чудесах всех религий. Идея бога :—
лишь форма идеи о бесконечном». — «Я много изучал —
и верую, поэтому, как бретонский крестьянин; если бы я
сделался еще ученее, то моя вера стала бы так же глубока
и пламенна,- как вера простой бретонской женщины»,—
писал он на склоне своих дней. Пришел к тому же выводу
красноречивый и благородный испанский политический
деятель — Эмиль Кастелар. «Сомнение и земные блага
всегда найдут себе усердных служителей, — говорил он, — но
сомнение и эти блага никогда не будут иметь мучеников за
себя. Чтобы достичь какой-либо цели, чтобы переплыть
бурное море жизни, необходимо ступить на корабль веры.
На этом именно корабле пребывал Колумб, когда открыл
344
Новый Свет! И если бы последний вовсе не существовал—
бог вызвал бы его из водной пустыни Атлантики, чтобы
вознаградить этого человека за его веру, за его верность
этой вере!»... «Я хочу жить, — восклицал он в одной из
своих речей, — чтобы во дни труда, назначенные мне
Создателем, сеять семена доступного мне добра,—а затем буду
спокойно ждать, сев на придорожные камни, того часа, с
которого кончается смерть и начинается истинная,
бесконечная жизнь» "...
Эту необходимость веры, разлитой в человечестве,
независимо от отдельных случаев ее сознательного
отрицания отдельными личностями, превосходно выразил тот же
Ренан. «Человек,— говорит он, — руководим
исключительно идеей о будущем. Народ, всецело отрекшийся от
всякой веры в то, что должно существовать по ту сторону
смерти, склонился бы к полному падению. Отдельное лицо
может свершать великие дела, не веруя в бессмертие, но
надо, чтобы в последнее верили за него и вокруг него».
Таким образом, возрождение потребности в
религиозных верованиях как утешении, поддержке и основании для
стойкого преследования идеальных целей — с одной
стороны, и признание прав личной воли, в противоположность
бессознательной мировой воле, нашедшее себе впоследствии
блестящее выражение в учении Ницше, с другой —
содействовали умалению прежнего, почти безусловного,
владычества позитивизма и выросшего наряду с ним
пессимизма. Повторилось даже обычное явление. Критика
позитивизма и неудовлетворенность пессимистическим воззрением
на жизнь перешли в крайность, почти в отрицание
ценности и значения науки. «Вот скоро сто лет, — писал в
1894 году Брюнетьер в произведшей большое впечатление
статье, — как наука обещала обновить мир, рассеять
тайну, но ничего не сделала в этом отношении. Она не в
силах решить единственно важные и существенные
вопросы — о происхождении человека, о законах его духовной
жизни, о его грядущей судьбе. Естественные науки
никогда ничего по этой части не откроют; поэтому, если наука
еще не потерпела полного банкротства, то, во всяком
случае, она оказалась несостоятельною» *. Это утверждение
Брюнетьера было подхвачено целым хором писателей,
поспешности мысли которых не соответствовали ее
продуманность и глубина. Несостоятельность есть первый и
главный шаг к банкротству, — заявляли они, — и так как
315
те иллюзии, которыми наука обманывала своих
доверителей, разоблачены, то теперь же, не задумываясь долго,
следует провозгласить «банкротство науки»! И оно было
провозглашено с тем же непонятным злорадством, как
прежде было объявлено о банкротстве веры, — и тоже без
всяких «приличий траура», о которых говорил Гладстон. К
счастию, это ликование продолжалось недолго. Серьезные
возражения — ив особенности прекрасная статья Шарля
Рише в «Revue scientifique» — заставили Брюнетьера, а
затем и его ослепленных последователей смягчить
решительность своих приговоров. Если современная философия не
должна и не может быть ancilla theologiae 1, то точно также
и положительная наука не может быть ничьей ancilla. Идя
самостоятельным путем, благотворно озаренным лучами
открытий, все более и более углубляясь в подробности
мировой жизни, наука с каждым днем отодвигает все дальше
границу, за которою начинается область неведомого,
где вступают в свои права умозрение и вера. Наука и
не призвана разрешать вопросы веры или объяснять
нравственные начала жизни человека. Опыт, на котором она
строит свои выводы, способы и приемы, которыми она
вооружена, не могут иметь применения для разрешения этих
вопросов. Не надо, поэтому, и ставить таких вопросов
положительной науке. Но отсюда еще не следует заключать
0 банкротстве. Напротив, в естественной сфере своей
деятельности никогда, быть может, не стояла наука так
высоко, как теперь, никогда не открывала она более широкие
и заманчивые горизонты.
Жажда веры, столь понятная у некоторых, в наше
время господства узкого себялюбия и прикрытого весьма
прозрачными софизмами грубейшего эгоизма и произвола,
пробудившись с особою силою, не могла, как это всегда
бывает в таких случаях, не привести к разным
крайностям, и вызвала, особенно во французском обществе,
расцвет болезненно-мистических теорий, в которых
возвышенная сторона христианского учения оказалась принесенною
в жертву бездушной форме или разным утонченностям и
извращениям чувственности. Теперь этот угар начинает
проходить или, по крайней мере, оцениваться по своему
действительному достоинству, но стремление обрести
настоящую веру и укрепиться в ней остается в среде фран-
1 Служанкой богословия (лат.).
346
цузской молодежи. В этом отношении очень интересно ис-
следование (enquête), произведенное недавно парижским
журналом «Revue des Revues», обратившимся к молодым
французским писателям и представителям различных
союзов и корпораций молодежи с приглашением высказаться
по ряду вопросов, относящихся к политике,
общественному устройству и — религии. При всем разнообразии
ответов на первые две категории вопросов оказалось
замечательное единодушие в ответах о религии. Большинство
спрошенных, — а спрошен был цвет французской
молодежи, — не только не отрицает необходимости религии для
облегчения жизненного пути, но стремится к ней, ищет ее
и в ней чает найти не только свое личное обновление, но и
исцеление общественных недугов.
III
Вл. С. Соловьеву пришлось впервые выступить
публично в самый разгар поклонения позитивизму в нашем обще«
стве, — поклонения очень часто слепого и заставлявшего
многих принимать истины нового учения, так сказать, в
кредит, и jurare in verba magistri*. Были, конечно, и у нас
серьезные и ученые представители этого направления,
путем самостоятельного труда пришедшие к признанию его
правильности и строгой научности, но едва ли будет
смелым сказать, что многие из называвших себя
позитивистами были пленены возможностью покончить раз навсегда с
метафизикою отчасти вследствие того нашего свойства,
которое К. Д. Кавелин называл «ленью ума». Быть
позитивистом казалось легче, чем заниматься умозрением, —
выводы в той ограниченной области, которую отмежевал он
себе, были доступнее и категоричнее — и скорее, без
сложной работы критической мысли, поддавались усвоению*
Притом, это было «последнее слово», а мы вообще так лки
бим это последнее слово, так верим в него, хотя бы оно само
и отрицало всякую веру. Вместе с тем, наше религиозное
развитие давно уже мерцает очень слабо. Религиозные нача*
ла в течение десятков лет, за немногими исключениями,
являлись у нас замкнутыми в рамки формализма — и у многих
живые основы верований систематически заслонены к
1 Клясться словами (авторитетом) учителя (лат.),
347
даже упразднены мертвою обрядностью. Говорить о
вопросах веры, сознаваться, что интересуешься ими и
тревожишься их разрешением в ту или другую сторону,
значило, по большей части, рисковать прослыть неразвитым,
скудоумным человеком. А мы не любим быть отсталыми
от господствующего направления, в какую бы сторону оно
ни вело; скитание нашей незрелой мысли охотно
завершается присоединением ко «всем», потому что ей
непривычна уединенная и трудная дорога, требующая
пытливого взгляда вперед и опоры исключительно на свои
собственные силы.
Вот почему появление на кафедре молодого ученого
(ему был всего 21 год) сначала в качестве защитника
своей магистерской диссертации «Кризис западной
философии», а потом в качестве доцента, читающего лекции «о
богочеловечестве» *, было целым событием в умственной
жизни нашего общества и вместе своего рода духовным
подвигом со стороны Соловьева. Бестрепетный и чуждый
малодушного искания популярности пришел он к
восприимчивой, державшейся противоположных взглядов, горячей в
своих симпатиях и антипатиях и в значительной степени
враждебно настроенной, молодой толпе, — и пред нею,
открыто и твердо, без уступок и оговорок, изложил свое
исповедание веры, — да не только изложил, а настойчиво
стал призывать к нему!
В задачу моих воспоминаний о Соловьеве не входит не
только разбирать, но даже и излагать вкратце взгляды,
высказанные им в своей диссертации и на своих лекциях,
разных по предмету, но проникнутых единством
убеждения. Это должно составить предмет особого и притом
весьма сложного труда. Но нельзя не припомнить слов «о
настоящей задаче философии», предпосланных Соловьевым
своему диспуту в Петербургском университете, в 1874
году. Доказывая, что если разум, в известный момент
своего развития, становится необходимо в отрицательное
отношение к содержанию религиозной веры, то в дальнейшем
ходе этого развития он с такою же необходимостью
приходит к признанию начал, составляющих сущность истинной
религии, — он утверждал, что задача философской мысли
есть достижение высшего синтеза философского познания
и религиозной веры. Он говорил: «С исчезновением
глубоких убеждений, всеобщих безусловных идей, должен
опустеть мир внутренний и потерять свою красоту мир
$48
внешний: каждый почти день приносит нам убийственно-
реальные доказательства того, что человек есть существо
из двух миров, что чистый эфир мира духовного так же
необходим для его жизни, как и воздух мира вещественного.
Когда человек, освободившись от всяких безусловных
начал и стремлений, обращается исключительно к
непосредственным практическим интересам, то скоро для него
самого обнаруживается та парадоксальная истина, что все эти
наслаждения и радости обыкновенной жизни, которые
кажутся такими непосредственными и себе довлеющими, в
действительности имеют значение только при чем-нибудь
другом, только как материальная подкладка, внешняя
среда другой, высшей жизни, сами же по себе, поставленные
как цель, лишены всякого положительного содержания и
радикально неспособны дать какое-нибудь удовлетворение...
Сокровища непосредственной жизни имеют цену лишь
тогда, когда за ними таится безусловное содержание, когда
над ними стоит безусловная цель». — «Воззрения и
убеждения высшего порядка деятельной жизни необходимы,—
дополнял Соловьев в другом месте, — они должны
разрешать существенные вопросы ума, вопросы об истине
сущего, о смысле или разуме явлений, — и вместе с тем должны
удовлетворять и высшим требованиям воли, ставя
безусловную цель для хотения и определяя верховную норму
деятельности. Этой задаче не находится разрешения ни в
практической жизни, ни в положительной науке;
воззрения высшего порядка проявляются лишь в формах
философии и религии». • '
Лекции Соловьева имели большое влияние на
аудиторию. «Пора стать равнодушными к ограниченным
интересам этой жизни и свободно и разумно уверовать в другую,
высшую действительность!» Так определил он свою зада*
чу — и первый начал говорить живым, образным,
сильным и общепонятным языком о том, что Пушкин называл
«тайнами вечности и гроба» *. Нет сомнения, что у
многих слушателей его, а впоследствии, когда ему были надол^
го «заграждены уста»,—у читателей его произведений, по-
священных религиозным вопросам, в далеких уголках
души жило, быть может, неясно сознаваемое, желание верить
и чувствовалась щемящая тоска по «высшей
действительности». Но до начала деятельности Соловьева об этом
кругом почти все молчало, и ответов на робкие, неясные и, под
влиянием господствующих настроений, стыдливые вопро-
349
сы приходилось искать в мало понятных догматических
рассуждениях специальных богословских журналов.
Соловьев смело возвел это неудовлетворенное желание и эту
тайную душевную жажду на степень нравственной
потребности, громко о себе заявляющей. К нему вполне
применимо то, что было сказано о Достоевском.' И он «в пылу
нелицемерном» у своих слушателей «подымал взоры от
земли», соединяя притом изящество формы с глубиною
содержания. Во всеоружии своих богословских знаний,
поражая своею начитанностью и действительным знакомством
с многообразными и трудно доступными источниками,
Соловьев представлял, в своем роде, исключительное явление
в светском обществе. Старые славянофилы *, «твердые в
Писании», сошли со сцены, и даже простое, но точное
знакомство с евангелием было, а пожалуй, может считаться и
теперь, довольно редким явлением. Да и можно ли
ожидать и требовать внимательного знакомства с вечною
книгою, которая независимо от своего содержания, даже и по
сжатости и величавой простоте своего изложения, занимает
одно из первых мест, там, где возможно совершенно
добросовестно ссылаться на текст: «несть пророк в отечестве
своем» * как на известную французскую пословицу; — где
слова: «мне отмщенье и аз воздам» * в ученой речи
влагаются в кроткие уста Христа, и где о Фаусте пишется,
что, раскрывая «Книгу бытия», он читает в ней: «В начале
бе слово и слово бе к богу»?! *
Под влиянием Соловьева, вопросы религии и
философии стали переходить со страниц мало известных и не
всегда доступных специальных изданий на страницы
сборников и журналов, посвященных общим вопросам. На
слушателей и читателей действовал притом не только его талант,
но и обаяние его личности, ее нравственная красота, не
позволявшая видеть в нем ни делателя карьеры, ни узкого
догматика, ни искусного оппортуниста. «Wahrheit gegen
Feind und Freund!»1 — слышалось во всем, что он писал и
говорил. И это покоряло ему сердца всех еще ранее, чем
подчинялись ему, после борьбы и колебаний, умы многих.
Разрабатывая религиозные вопросы, Соловьев мечтал
0 соединении церквей. Эти мечты послужили поводом к
обвинениям его в отступничестве от веры отцов, в желании
подчинить русскую народную церковь авторитету папы
1 Правда врагу и другу (нем.).
350
и т. д. Не было, в свое время, недостатка ни в горячих
срилиппиках, ни в ядовитых намеках по его адресу. Но
время — этот «galantuômo» *, по выражению итальянцев,—«
вызвало более спокойное отношение к «битью челом папе»
и к «искусному диалектику, прячущему за спиною папскую
туфлю», а опубликованные в последние годы письма
Соловьева доказали, что он оставался всю жизнь верным той
церкви, священнослужителем которой был глубокочтимый
им дед его *. Желание соединения церквей, хотя бы в
отдаленном будущем, жило, однако, в душе Соловьева до
конца его дней. Это желание было присуще и Хомякову
и высказано было им еще за двадцать лет до появления
Соловьева на общественной арене, в известной переписке
его с Пальмером *. Оно и ныне одушевляет многих
искренно верующих людей.
Церковь, говорил Соловьев, есть всемирная
организация истинной жизни. Наша жизнь, однако, уклонилась от
своих истинных начал. Она страждет умственными и
нравственными немощами, влекущими к разложению
общественных сил, — и начало этих недугов лежит, по его мнению,
в ослаблении организма самой церкви. Причина
последнего— разделение видимой церкви на разобщенные и
враждебные одна другой части. Но общий недуг должен иметь
и общее средство исцеления. «Историей, — писал он, —
образована пропасть между восточною и западною церковью.
Но как ни глубока эта пропасть, все-таки она вырыта не
божьими, а человеческими руками. Разделение церквей —
это божье попущение, а не божья воля. Божья воля
неизменна: да будет едино стадо и един пастырь *. Итак,
должно прилагать старания к тому, чтобы был засыпан этот
пагубный ров, разделивший стадо Христово» *. Соловьев был
твердо убежден, что примирение церквей есть историческая
задача России, которая в этом отношении может и должна
сказать миру новое слово, отрекшись от своей церковной
замкнутости и вступив на путь взаимного уважения и
практического знакомства с духовными силами западной
церкви. Это должен быть путь не бесцельного соединения
недостатков и слабостей одной стороны с темными сторонами
другой, а путь христианского отношения друг к другу,
ввиду великой цели — достижения церковного мира на
земле. Вот что говорил он, между прочим, по этому поводу:
1 Честный человек (итал.).
351
«Храмовое и домашнее христианство существует в
действительности, оно есть факт. Христианства вселенского
еще нет в действительности, оно есть только задача — и
какая огромная, превышающая, по-видимому, силы
человеческие, задача. В действительности все общечеловеческие
дела — политика, наука, искусство, общественное
хозяйство, — находясь вне христианского начала, вместо того,
чтобы объединять людей, разделяют их, ибо все эти дела
управляются эгоизмом и частной выгодой, соперничеством
и борьбою, — и порождают угнетение и насилие. Такова
действительность, таков факт». Поэтому он и стремился, по
собственным словам, «оправдать веру отцов, возведя ее на
новую ступень разумного сознания и показав, как эта
древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и
национального самолюбия, совпадает с вечною,
вселенскою истиною»...
Здесь трудно не только разбирать, но даже и
систематически изложить религиозно-богословские взгляды
Соловьева со всеми их особенностями. Достаточно сказать,
что все они проникнуты самым широким пониманием
христианства как учения, долженствующего стоять вне и выше
всех придуманных человечеством условий места и
времени;— что по ним, как красная нить, проходит мистический
элемент, в силу которого существование бога постигается
не одною верою, но открывается и знанием; — что в
«Духовных основах жизни» * с великою красотою изложены
основания его веры в бессмертие и в решительное и
неизбежное торжество правды на земле, веры, основанной не
на узко оптимистическом толковании внешних
обстоятельств, а на живом и сознательном душевном ощущении,
заставившем его воскликнуть:
Бог здесь, теперь, — средь суеты случайной,
В потоках мутных жизненных тревог.,.
Владеем мы всерадостною тайной, —
Бессильно зло, мы вечны — с нами бог!*
С этой верою в душе шел он бодро в жизни, несмотря
на многое тяжелое, несмотря на оскорбления и вольное или
невольное непонимание его многими. Эта вера была для
него не одним прибежищем в скорбях, но и тайным
сознанием торжества того, что он считал правдой... С нею же
встретил он непостыдно и спокойно смерть.
Труден был и извилист его умственный путь. На утре
дней — туманы, а в разгаре дня — холод — окружали его.
352
но в своем стремлении к познанию и к проповеди того, что
казалось ему истиною, он был настойчив и неуклонен. Он
сам изобразил это в прекрасных стихах:
В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам,
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горний путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм *.
Я сказал, что он стремился к проповеди. Его, то
насмешливо, то серьезно обзывали и называли пророком или
упрекали в том, что он присвоивает себе пророческую
миссию. Так, конечно, не смотрел на себя Соловьев,
признавая свободное служение высшему идеалу за свое призвание
и сам определяя пророка как «общественного деятеля
безусловно независимого, ничего внешнего не боящегося и
ничему внешнему не подчиняющегося». — «Всякому, конечно,
желательна нравственная свобода, — говорил он, — как
всякому может быть также желателен верховный
авторитет и верховная власть, но одного желания тут мало.
Верховный авторитет и власть даются милостью божией, а
настоящую свободу сам человек должен заслужить
внутренним подвигом. Право свободы основано на самом существе
человека и должно быть обеспечено извне государством.
Но степень осуществления этого права есть именно нечто
такое, что всецело зависит от внутренних условий, от
степени достигнутого нравственного сознания.
Действительным носителем полной свободы, и внутренней, и внешней,
может быть только тот, кто внутренно не связан никакою
внешностью, кто в последнем основании не знает другого
мерила суждений, кроме доброй воли и чистой совести» *.
В одной из своих замечательных речей в память
Достоевского, представляющих глубокую и тонкую
характеристику сложных мотивов творчества этого писателя,
Соловьев в кратких словах определил практическое значение той
23 А. Ф. Кони, т. 7
35а
веры в торжество добра, которой был одушевлен сам.
«В том-то и заслуга, в том-то и значение таких людей, как
Достоевский, — говорит он, — что они не преклоняются
пред силой факта и не служат ей; — против грубой силы
того, что существует, у них есть духовная сила веры в
истину и добро — в то, что должно быть. Не искушаться
видимым гоподством зла и не отрекаться ради него от
невидимого добра — есть подвиг веры. В нем вся сила
человека! Кто не способен на этот подвиг, тот ничего не
сделает и ничего не скажет человечеству. Люди факта —
живут чужою жизнью, но не они творят жизнь. Творят
жизнь — люди веры! Это те, которые называются
мечтателями, утопистами, юродивыми... они же пророки, истинно
лучшие люди и вожди человечества» *.
IV
Отношение человека к окружающему его миру людей,
к обществу выражается прежде всего его связью со своим
народом. Принадлежность к известной национальности,
признание ее своею составляет неотъемлемое и неизбежное
свойство человека, в каком бы союзе — родовом,
племенном или государственном — он ни находился.
Космополитизм не только почти немыслим в чистом виде, но и
совершенно бесплоден. Он похож на губку, впитывающую в себя
все и при первом же давлении ничего в себе не
удерживающую. Сама природа создает физические и этнографические
особенности, обусловливающие разницу в племенах и
народах и служащие основанием для представления об
отдельных национальностях. Естественную и историческую
законность существования национальностей признавал даже
и такой борец за общечеловеческие идеалы, как Вольтер.
И суровый в осуждении «людских предрассудков» Шерр
соглашается, однако, с положением о том, что «до
общечеловеческого можно добраться, лишь уцепившись за
национальное». Невидимые и нежные струны связывают
человека с его землею и народом, не подлежа холодному
рассудочному анализу; — родная речь, в которой слышатся
первые сознательно воспринятые слова матери, — образы и
звуки, с которыми связаны воспоминания детства, — все
это особенно близко сердцу человека, все это составляет
для него дорогую и ничем другим незаменимую духовную
и житейскую обстановку... «Только в живом общении с на-
354
родом, — по мнению Хомякова, — выходит человек из
мертвенного одиночества эгоистического существования и
получает значение живого органа в великом организме;
только при нем всякая здравая мысль и всякое теплое
чувство, возникшие в каждом отдельном лице, могут
сделаться общим достоянием и получить влияние и
значение»... *
Но вместе с тем существуют общие для всех народов
идеалы и цели, коренящиеся в глубине единого
человеческого духа. Поэтому каждая национальность, добившись
практического выражения своего права на самостоятельное
существование в области религии, языка и бытовых
особенностей, должна затем примкнуть к этим идеалам и
стремиться к этим целям, лишь осуществляя их согласно
своим природным свойствам. Так достигается единство в
разнообразии, которое есть истинная задача культуры.
Нельзя не согласиться с Соловьевым, что все условия
современной европейской культуры должны быть
христианскими *. Этим и определяется, в чем должно состоять
единство не только идеалов и целей, но и способов к их
достижению. Европейское общество переживает, однако, в
последние годы, тяжелый нравственный кризис.
Возвышенные идеалы меркнут, цели становятся все более и более
обособленными и если могут быть названы великими, то
уже не по своему содержанию, а лишь по объему средств,
необходимых для их достижения. Понятия, которыми
двигалось нравственное развитие и достижение лучших
отношений общежития, не то чтобы были упразднены, а
незаметно и постепенно утрачивают свои ясные очертания и
заменяются суррогатами, в которых есть все, исключая
истинной сущности того, на место чего их стремятся
поставить. Так, например, доброта заменяется суррогатом,
называемым чувствительностью, причем последняя подчас
бывает весьма жестокою; — чувство чести заменяется
самолюбием и тщеславием; — любовь и праведное
негодование— уступают место симпатии и уклончивому несочув*
ствию; на место долга усаживаются польза и удобство
и т. д. Точно так же происходит, почти повсюду, замена
понятия о национальности — понятием о так называемом
национализме. Переход от одного к другому совершается
путем всестороннего возбуждения и воспитания тех чувств,
которые, при правильном взгляде на истинный смысл и
значение национальности, могут играть лишь второстепенную
23*
355
роль, не выдвигаясь на первый план и не будучи
укладываемы «во главу угла». Задача национального развития
не может стоять в противоречии с восприятием народом
общечеловеческих начал, с признанием, что люди, будучи
разными по происхождению и по условиям своей
исторической жизни, все-таки, в конце концов, не чужие друг другу
и братья пред лицом господним.
Развитие национализма в его крайней
исключительности и его несомненные успехи, являющиеся результатом
смешения понятий или ослепления временными и
преходящими обстоятельствами, — очень озабочивали и тревожили
Соловьева. Он неоднократно брался за перо по этому
поводу — и горячим словом выражал свое осуждение
расцвету национализма в жизни и в литературе. «Для всякого
народа, — писал он, — толька два исторических пути —
языческий (или ислама)—путь самодовольства, косности
и смерти — и христианский — самосознания,
самосовершенствования и жизни». С резкою определенностью высказал
он свой взгляд на условия и способы проявления истинной
любви к своему народу. «Говорят, — писал он, — что
нельзя на деле любить человечество или служить ему — это
слишком отвлеченно и неопределенно, а можно
действительно любить только свой народ. Конечно — человечество
не может быть ощутительным предметом любви, но этого
и не требуется: довольно, если мы свой народ (или хотя
бы ближайшую социальную среду) любим по-человечески
и желаем ему тех истинных благ, которые не суживают, а
расширяют его собственную жизнь, поднимают его
нравственный уровень и образуют его положительную
духовную связь со всем божьим миром. При таком истинном
патриотизме служение своему народу есть, вместе с тем, и
служение человечеству. Но когда, под тем предлогом, что
человечество есть лишь отвлеченное понятие, мы начинаем
поднимать в своем народе его зоологическую сторону,
возбуждать инстинкты и укреплять в нем образ звериный, то
кого же и что мы тут любим, кому и чему этим служим?» *
Определение пути, по которому идет развитие русского
общественного сознания, должно было неминуемо привести
Соловьева к оценке учения славянофилов, в чем оно
касается вопросов внутренней жизни и нравственных задач
народа. Он относился с глубоким уважением к «отцам
церкви» славянофильства, отдавая дань искреннего
уважения чистоте их побуждений и их возвышенному нрав-
356
ственному облику, хотя и указывал на некоторые слабые
стороны этого направления. Он проводил, например,
мысль, что лучшие люди допетровской Руси мечтали о тех
учреждениях и юридико-бытовых отношениях, которые
сделались возможными лишь как дальнейшее развитие
реформы, произведенной великим «работником на троне»,
обратившим еще смутное и практически безвыходное
желание во властное хотение. Он обращал внимание на то, что
возмущавшие старых славянофилов явления в современной
им жизни — бессудье, поборы, взяточничество — особенно
процветали именно в том периоде русской истории, к кото-
рому с любовью обращали взоры хулители и развенчива-
тели Петра, — и на то, что предметы их справедливых
вожделений — суд общественных представителей, свободу
совести и слова — надо искать впереди, а не назади, не «по
ту сторону» Петра, где об этом вполне или в
существенных чертах и помину не было. Он с добродушной иронией
указывал и на особые приемы, которые были употребляемы
некоторыми из славянофилов в письменных спорах
религиозного характера с представителями иноверия, причем
сравнивалось, например, отвлеченное и строго
догматическое учение православной церкви с фактическим
положением другой под влиянием человеческих несовершенств и в
руках «рабов ленивых и лукавых» * — и, конечно,
сравнение этих величин, взятых, так сказать, на разных
плоскостях, выходило в явную пользу идеального порядка и во
вред порядку, созданному жизнью.
Но, в общем, у Соловьева постоянно и в тоне, и в
содержании его статей сквозит признание светлых сторон в
славянофильстве первой стадии его развития. Нападение
его на славянофилов в этом периоде развития их учения
были тем, что митрополит Филарет, на своем образном и
сильном языке, называл «язвами друга, наносимыми по
братолюбию, кои достовернее, чем вольные лобзания
врага»... Но вторая стадия, когда славянофилы, по
мнению его, стали поклоняться народу уже не как «носителю
вселенской правды», а как стихийной силе — помимо
правды, и затем третья стадия, ознаменованная поклонением
различным историко-бытовым аномалиям в народе —
вопреки правде — вызывали у него крайне суровые,
негодующие строки, звучащие полным разрывом с современными
ему учениями славянофилов. «Грех славянофильства,
конечно, не в том, что оно приписало России высшее при-
357
звание, — писал он, — а в том, что оно недостаточно
настаивало на нравственных условиях такого призвания.
Пускай бы славянофилы еще более возвеличивали свою
народность, лишь бы они не забывали, что величие
обязывает; пускай бы они еще решительнее провозглашали
русский народ собирательным Мессией, лишь бы они помнили,
что Мессия должен и действовать как Мессия, а не как
Варавва. Но именно на деле и оказалось, что глубочайшей
основой славянофильства является не христианская идея,
а только зоологический патриотизм, освобождающий
нацию от служения высшему идеалу и делающий из самой
нации предмет идолослужения. Провозгласили себя
народом святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя
всего этого стали проповедовать (к счастью не вполне
успешно) такой образ действий, который не только
святым и богоносцам, но и самым обыкновенным смертным
чести не делает» *.
Но тем не менее старое славянофильское учение
многими своими сторонами привлекало его и могло его во
многом считать своим убежденным и пылким
единомышленником. Так, он разделял и осуществлял в меру своих сил
присущее этому учению глубокое уважение к двум
главным потребностям всякого человеческого союза, состоящим
в свободном проявлении голоса совести и выражении
мысли в слове. Он считал осуществление свободы слова и
свободы совести неотъемлемым правом каждого носителя
христианской культуры, совершенно независимо от тех
политических форм, в которые укладывается общественный
быт того или другого народа. Сходясь с Аксаковым и
Хомяковым во взгляде на высокое историческое значение
православия и царской власти, свободных, однако, от тех
условий и свойств, которые искажали их образ в
восточной римской империи, Соловьев находил, что этот взгляд
вполне совместим и с началами широкой веротерпимости,
и с разумною свободою публичного и печатного слова.
Многочисленные статьи его по этим вопросам во всем, в
чем они не касаются приведенных выше разногласий его со
славянофилами, совпадают с целым рядом мнений,
высказанных Иваном Аксаковым в «Дне», «Руси» и «Москве»,
проникнутых глубоким патриотизмом и, в некоторых
случаях, победительным убеждением *. Статьи Соловьева
только более сжаты и, так сказать, более заострены. Они
также и более догматичны, касаясь не отдельных явлений
358
практической жизни, приливавшей к редакторскому столу
Аксакова, не «злобы дня», а более общих вопросов.
Доказывая, что под свободою совести, тесно связанною с
веротерпимостью, часто понимают терпимость не к
религиозным убеждениям человека, а лишь к исповедуемому им
вероучению, терпимому государством, Соловьев находил,
что истинная веротерпимость должна состоять в
предоставлении каждому свободно и ненарушимо исповедовать
учение, считаемое им истинным, — доколе это не наносит
общественного вреда, то есть не выражается в действиях,
опасных для общественной нравственности или порядка.
Церковь, по его мнению, должна быть свободным союзом
одинаково верующих людей, а не принудительным
состоянием, выход из которого может грозить тяжкими карами,
поражающими иногда самые священные узы. И в этом он
снова близок к Аксакову, несмотря на неоднократно
возникавшую у него с последним полемику. «Церковь
немыслима,— писал Аксаков в 1868 году, — вне свободной
совести, свободно восприявшей свет веры, свободно
приведенной к послушанию церкви, в свободный плен истины и
любви»... * Поэтому церковь не должна заграждать уста
тем, кто, с ее точки зрения, заблуждается, но спокойно
противопоставлять им свое учение об истине, а привлекши
к нему — удерживать в нем любовию. Человеку
свойственно блуждать мыслью и на ошибках своих строить свои
убеждения. Но не давать людям высказаться, побуждая
таить свои убеждения про себя, — значит лишь укоренять
эти убеждения во тьме вынужденного молчания...
Знаменитый московский митрополит Филарет, сказавший, что
«христианин в мире без церкви — мореплаватель в море
без корабля», писал, однако, в 1821 году: «Свободы в
спорах о вере ни у кого без нужды отнимать не позволяет
христианское человеколюбие, оставляющее и плевелы, если
они не подавляют пшеницы, расти до жатвы».
В сочинениях Соловьева по вопросу о свободе совести
встречаются блестящие отступления в область истории,
причем, вооруженный данными богатого исторического
опыта, он указывает на опасный, а иногда и роковой
(например, по отношению к Испании) путь, на который
вступали государство и церковь, смешивая свои роли и
средства осуществления своего назначения. И он, подобно
Аксакову и Хомякову, желал, чтобы орудия, которыми
церковь исполняет свою обязанность просвещать, убеждать и
359
направлять людскую совесть, были лишь теми орудиями,
которые соответствуют ее природе, то есть чисто
духовными. «Если церковь в деле веры прибегает к орудиям
недуховным,— писал Аксаков, — если она обращается к
грубому вещественному насилию, то она отрекается от
собственной духовной стихии и, отрицая сама себя, перестает
быть «церковью», а становится государством, то есть
«царством от мира сего»... * «Крайне несправедливо думать,—
полагал Хомяков, — что церковь требует принужденного
единства или принужденного послушания, — напротив, она
гнушается того и другого: ибо в делах веры принужденное
единство есть ложь, а принужденное послушание — есть
смерть» *. Отсюда проходящее чрез все труды Соловьева
по вопросам веры — желание видеть церковь оживленною
внутреннею самодеятельностью и плодотворною работою
в области духа. Отсюда неоднократно высказываемая им
мысль, что только такая, чуждая материальных способов
воздействия, деятельность, а не охрана сурового
уголовного закона, способна обеспечить церкви ее высокое
положение в глазах верующих и ее святое призвание.
Было бы, однако, совершенно превратным думать, как
это было раз высказано в печати, что за этими
взглядами Соловьева таилось, в сущности, равнодушие к вере
и холодное безразличие к церкви, в правилах и обрядах
которой он сам был воспитан. Суровый паладин строгого
православия — К. Леонтьев — признавал, что даже в
слабейшем, по его мнению, из религиозных трудов Соловьева,
в сочинении «La Russie et l'Eglise Universelle»1" — для
истинно религиозного человека есть «прекрасные и
потрясающие» страницы, а его критика, «к несчастию, очень
похожа на истину». В своей частной жизни Соловьев
разделял детскую и трогательную веру простого народа: он в
совершенстве знал и любил наше богослужение, — всегда
и всюду, садясь за трапезу и вставая, осенял себя
крестным знамением, и если про него нельзя сказать, что он
соблюдал посты, то лишь потому, что он был вегетарианец.
И относительно свободы слова он был соратником
старых славянофилов. Он мог подписаться всецело под
неоднократно цитированными Аксаковым словами Хомякова:
«Общественная критика необходима для самого общества,
ибо без нее оно лишается сознания, а правительство ли-
i «Россия и Вселенская иерковъъ (франц.).
SéO
шается всего общественного ума. Честное перо требует
свободы для своих честных мнений, даже для своих честных
ошибок... Иначе, среди окружающих лести и лицемерия,—
честное слово молчит, умственная жизнь иссякает в своих
благороднейших источниках и мало-помалу в обществе
растет отрава равнодушия к правде и нравственному
добру» *. Боец печатного слова, Соловьев получал подчас, в
разгаре «словесной войны», не только тяжелые, но и
беспощадные, жестокие, даже по форме, удары, и мог сказать
про себя словами Пушкина, что в своей литературной
деятельности «убрался честно ранами» *. И тем не менее —
или, пожалуй, в силу особого свойства сильных душ —
именно поэтому он горячо любил печатное слово и служил
£му неутомимо и доблестно. Избранный, за полгода до
своей кончины, в почетные академики, он ознаменовал свои
труды на новом поприще предложением о деятельных
шагах Академии Наук в ограждение прав русской мысли в
области веры и науки *.
Он был, вместе с тем, всегда настойчивым
проповедником необходимости распространения широкого
образования в народе. Нередко высказываемое у нас мнение, что
просвещение народа представляется орудием
обоюдоострым и может лишить народ довольства и счастия
«первобытной простоты», вызывало его на резкие отповеди тем,
кого он остроумно называл «спасателями русского народа
от просвещения». Вообще, искусственное или лицемерное
отношение к народу вызывало в нем негодование. «Против
наших крепостников, — писал он, — с одной стороны,
против народопоклонников и упростителей — с другой, мы
осмеливаемся утверждать, что задача образованного класса
относительно народа состоит не в том, чтобы его
подтягивать и эксплуатировать, а также и не в том, чтобы ему
поклоняться и уподобляться, а в том, чтобы приносить ему
действительную и положительную пользу, заботясь не о
его безгласности, а также и не о сохранении его
первобытной простоты, а единственно только о том, чтобы он был
лучше, просвещеннее и счастливее; а для этого трудиться
над возможно полным и широким развитием и
распространением общечеловеческого образования, без которого и
самые добрые качества народного духа оказываются
непрочными и в социально-нравственном смысле бесплодными» *.
Силу и красоту языка литературных произведений
Соловьева отражало на себе и его живое слово, В соединении
361
с впечатлением, которое производила наружность оратора
и его голос, властно проникавший в душу, — его красивые
сравнения и широкие обобщения сильно влияли на
слушателей. Он сам увлекался своею живою речью и,
по-видимому, не всегда следовал совету Пушкина, находившего,
что «блажен, кто словом твердо правит и держит мысль на
привязи свою»... * Столь обычные в нашем быту вопросы
житейской осторожности: «Ловко ли? удобно ли?
своевременно ли?» — не возникали у него, раз ему хотелось
поделиться с публикою теми воззрениями, в нравственную
цену и силу которых он уверовал. Притом некоторые его
лекции, возбуждавшие общее внимание, подвергались, при
распространении их в гектографической передаче, крайним
искажениям, вследствие чего под его флагом пускались в
ход такие выражения, которые он не только не употреблял,
но, по складу своих убеждений, и не мог употреблять.
В 1881 году чтение им лекций было прекращено на многие
годы помимо его воли *.
Невозможность продолжать беседовать с аудиториею
очень удручала Соловьева. Оно и понятно, если
припомнить, какое влияние имел он на нее. «Нам пришлось видеть
необычную картину!—пишет профессор Сикорский,
посетивший его лекцию, — то не была лекция, и то не были
слушатели: то был пламенный проповедник, вещавший
новое слово, скорей — новую жизнь, а слушатели внимали
ему, как пророку. Безмолвие аудитории, сила внимания и
глубина общего настроения едва ли могут быть переданы
словами... Главная роль в этом сильном влиянии на
слушателей принадлежала художественной личности
Соловьева, полной возвышенных идей, глубокого настроения и
необыкновенной чистоты, светившейся сквозь тонкие,
полупрозрачные черты его хрупкого тела...» * Автор
воспоминаний в «Варшавском дневнике» — господин Н. Н-в —
присутствовал при первой лекции Соловьева о «богочеловече-
стве» в Петербургском университете. Одна из самых
обширных аудиторий была полна студентами всех факуль-
тетов, привлеченными отнюдь не сочувствием к молодому
профессору и к предмету его чтений; — господствующим
элементом среди слушателей были «естественники»,—
аудитория волновалась и кипела, и чувствовалось, что уже
заранее зреет протест против темы лектора во имя точной
науки. «Но вот, — повествует господии Н. Н-в, — все
разом стихло и сотни глаз устремились на молодого еще че-
362
ловека, одетого в скромный домашний пиджак и тихо, с
опущенными глазами, входившего в аудиторию. Это был
Соловьев. Прежде всего, что бросалось в глаза, это —
прекрасное одухотворенное его лицо. Оно было продолговато,
с бледными, немного впавшими щеками, с небольшой
раздвоенной бородкой и в раме густых черных волос,
кольцами спускавшихся на плечи. Он медленно взошел на
кафедру и обвел глазами огромную аудиторию. Эти большие
темно-голубые глаза, с густыми черными бровями и
ресницами, были глубоки, полны мысли и огня, и как бы
подернуты мистическим туманом. На губах играла милая,
ласковая улыбка. Аудитория, вопреки обычаю встречать нового
профессора аплодисментами, хранила гробовое молчание.
Среди «филологов» послышалось было несколько хлопков,
но они тотчас были заглушены бурным: «Шш-ш...»
Соловьев с той же мягкой улыбкой начал лекцию. Начал он
говорить тихо, но чем далее, тем голос его более и более
становился звучным, вдохновенным: он говорил о
христианских идеалах, о непобедимости любви, переживающей
смерть и время, о презрении к миру, который «во зле
лежит»; говорил о жизни как о подвиге, цель которого — в
возможной для смертного степени приблизиться к той
«полноте совершенства», которая явлена Христом, которая
делает возможным «обожествление человечества» и
обещает царство «мировой любви» и «вселенского братства»..*
Такова была тема этой вступительной лекции. Он кончил
и по-прежнему опустил голову на грудь. Несколько секунд
молчания, и вдруг — бешеный взрыв рукоплесканий.
Аплодировала вся аудитория — и естественники, и юристы, и
филологи. Наконец, вдохновенный лектор поднял руку, и
разом все смолкло. Очевидно, он уже овладел своей
аудиторией, он загипнотизировал ее... «Я хочу сообщить вам,
господа, — сказал Соловьев, — или, лучше, я прошу вас,
чтобы каждый, несогласный с основными положениями
моей настоящей и будущих лекций, возражал мне по
окончании лекции». Снова взрыв рукоплесканий. Возражения
профессору по поводу прочитанной им лекции, — это
являлось совершенным новшеством в университетской
жизни, — и новшеством, как оказалось потом, весьма
благотворным по последствиям» *.
Можно себе представить, как часто мысль об утрате
такой возможности входить в духовное общение со
слушателями и вести их за собою к своему «заветному храму»
363
должна была угнетать Соловьева. Между его
стихотворными творениями есть одно, начинающееся словами:
«Израиля ведя стезей чудесной, господь зараз два чуда
совершил...», в котором, с особою болью, вырывается у него
скорбь о том, что ему «заграждены уста». Он не мог, при
этом, не сознавать, что «годы уходят — все лучшие годы» *
и что упадок сил и «жар души, растраченный в пустыне» *,
кладут на него свой неизбежный, хотя незаметный сразу,
но ощутительный отпечаток. Силы, необходимые для
проявления духовных дарований, слабеют иногда в обратной
пропорции с последними — и тяжкое сознание того, что
житейские испытания не прошли бесследно, действует
иногда угнетающим образом. «Душа, — говорит, в одном из
своих писем, Герцен — как корабль: что ни побежденная
буря, то ближе к разрушению. Матросы становятся лучше,
а дерево все хуже»...
И когда, почти чрез восемнадцать лет, сначала в
частных собраниях — с чтениями о Пушкине и Лермонтове, —
потом в публичных заседаниях Философского общества и,
наконец, на публичной лекции, в зале петербургской
городской думы, «Об антихристе» * — Соловьев выступил
перед многочисленными слушателями — его великий
словесный дар был несколько ослаблен нервностью
изложения, а крайняя, возбуждавшая недоумение во многих
слушателях, оригинальность содержания уже не увлекала
собою, а вызывала на противоречие. Das Lied war aus...1
V
Бывают в истории человечества эпохи, когда
нравственное содержание жизни умаляется до крайности, до
грозящих опасностью пределов. Рядом с этим самый животный
процесс, жизни начинает приобретать особую стоимость,
почти исключительно как возможность испытать наиболь*
шее количество удобств и наслаждений, какою бы ценою
душевного падения и сделок с совестью они ни были
куплены. Узкое и «деятельное» себялюбие и вместе с тем
полное равнодушие к чужим страданиям — нежелание, а затем
уже и неумение ставить себя на место другого и постыдная
душевная неопрятность в терпимости к различного рода
1 Песенка спета (нем.),
3*4
низостям, особливо если они сопровождаются внешним
успехом, — достигают при этом особого развития.
Наступает нравственная болезнь, которую можно назвать
утверждением своего я, как абсолютного, вне и даже вопреки
требованиям нравственного чувства. Жизнь перестает
рассматриваться как долг или задача, обусловленная
осуществлением, по мере сил, того добра для окружающих,
побуждение к которому коренится в глубине человеческой совести.
Она становится или тяжелою и лишенною смысла обузою,
или предприятием, в котором из всех, лицемерно
соблюдаемых и тайно нарушаемых, заповедей наиболее
действительною является знаменитая апокрифическая
одиннадцатая заповедь: «Не зевай!»... Отсюда столь частые случаи
самоубийства при первых же неудачах, вследствие того, что
«не стоит жить» или «не для чего страдать», в
забвении того, что страдание, выпадающее, в той или другой
форме, на долю каждого человека, поднимает и
облагораживает его, тогда как непрерывное наслаждение и
ненарушимые удобства — принижают и опошляют. «Souffrir est la
marque d'une supériorité. Le seul être qui pense et parle — est
aussi le seul capable à pleurer»1, — говорит блестящий
мыслитель Гюйо. Отсюда и то умаление совести в
практической жизни, которое характеризует собою конец прошлого
и начало нового века. Какое в них различие с концом
XVIII и началом XIX века! — различие в идеалах и
запросах, — в технике и практических удобствах...
Девятнадцатый век въехал в мир в старинной, грузной и
неуклюжей колымаге, тускло освещенной масленым фонарем,
вооруженный кремневым ружьем.., но в его багаже лежал
богатый запас возвышенных идей о достоинстве и
призвании человека. Его провожали в путь энциклопедисты,
Франклин и Вашингтон, Шиллер и Кант, — его встретили
на первых же шагах — Наполеон, как законодатель,
Байрон, Гёте... У нас он застал «дней Александровых
прекрасное начало» *, Сперанского, пред ним возрос юный
Пушкин... Двадцатый век влетает в мир на автомобиле,
освещенный электричеством и вооруженный самыми
усовершенствованными орудиями для истребления тех, кто
имеет несчастие быть слабым... А что везет он в своем
багаже, столь легком на вид? Кто проводил его к заставе и
J Способность страдать — признак превосходства. Только существа
мыслящее и говорящее способно плакать (франц.},
S6S
чей величавый образ встретил его за нею?.. Вот одна из
причин, почему и совесть является стеснительным
бременем, и с нею, как со сварливою и опостылевшею женою,
стремятся разойтись без особого колебания и сожаления,
лишь бы только соблюсти внешние приличия и избежать,
по возможности, излишней огласки. Между нашими
современниками находятся — ив немалом числе — люди,
могущие повторить слова англичанина, приводимые
Шопенгауэром: «I cannot afford to keep a conscience» — у меня нет
средств содержать совесть! Всеми чувствуется этот отлив
совести, сказывающийся в потере доверия друг к другу и
в совершенно неожиданных проявлениях вероломства и
предательства по пустым поводам, причем личная, суетная
и хрупкая цель этого не может, даже и с безнравственной
иезуитской точки зрения, не только оправдать, но даже и
объяснить употребление таких средств. Многие громко
ропщут и негодуют на этот отлив, а он все продолжается...
Когда же начнется и начнется ли прилив?..
Надо верить, что это состояние общества переходное, —
что будущие поколения увидят снова прилив. Без этой
веры в лучшее будущее было бы тяжело и жить, и сходить
в могилу! Но «вера без дел мертва есть»* — и дела эти
должны состоять в личных примерах, в образцах для
подражания и, главное, в обращении к молодому поколению
с руководительным словом. Хомяков прекрасно выразил
это, сказав, что внутренняя нравственность каждого
поколения заключается по преимуществу в той любви и в тех
надеждах, которые оно обращает на поколение грядущее...
Эта именно любовь и эти надежды обязывают учить
молодое поколение не только знать, где пути правды, но и
желать ходить по этим путям. Надо указывать не на одну
окончательную и действительную пользу добра, но и на
его нравственную красоту. Насаждение твердых начал
добра — словом и делом — становится все более и более
важною задачею ввиду необходимости вооружить человека
внутреннею силою, способною двигать им вопреки
«равнодушию» внешней природы и жестокости практической
жизни. Надо неустанно развивать и поддерживать мысль, что
понятие о добре и о вытекающих из него нравственных
обязанностях есть самое высокое, самое удивительное и
самое благородное создание человеческого духа,
воспарившего над животными свойствами человеческой природы.
Надо направлять мысль современного человека, который
366
стремится весь уйти в одно внешнее в жизни, внутрь
самого себя, к коренным вопросам нравственного
самоусовершенствования. Надо вернуть его из области все
усиливающегося господства видимых вещей в область духовных
идей и побуждений, которые могли бы служить противове<
сом все усиливающимся похотям и стремлениям к
исключительно материальному благополучию. И движение в
этом отношении началось. Достаточно указать на ту роль,
которую стали играть вопросы этики в литературе и
науке, — на ряд появившихся в последние годы на Западе
исследований о нравственных задачах, — на пленительные
страницы Гюйо, на мысли и положения Рёскина, на
будящую совесть нравственную проповедь Льва Толстого.
Этим же вопросам, — об отношении человека к жизни
и к самому себе, — посвящен обширный труд Вл. С.
Соловьева «Оправдание Добра», представляющий цельное и
систематическое изложение его взглядов на содержание и
задачи нравственной философии *. Это труд, в котором
сказались выдающиеся свойства дарования Соловьева, его
отзывчивость ко всем сторонам и проявлениям жизни и
его глубокая, всегда самостоятельная, вдумчивость в то,
что должно быть «единым на потребу» *. Труд этот
вызвал в свое время и беспристрастные разборы, и горячие
опровержения. Будущий обозреватель работ Соловьева
остановится, без сомнения, на «Оправдании Добра» с
особым вниманием, хотя бы уже потому, что это был его
последний большой труд, завершивший его ученую
деятельность и окончательно обрисовавший его нравственный
облик, ибо у Соловьева не было разлада между словом и
делом, между житейским поведением и продуманным
выражением мысли.
Признавая, что внутренним основанием
разумно-нравственной жизни как отдельного человека, так и целого
народа должно быть христианство, Соловьев в нем искал
устоев для этой жизни. Но он не разделял мысли, впервые
высказанной Руссо, что природа создала человека
совершенным, а лишь условия жизни — то есть дело рук
человеческих — его испортили, так что стоит лишь отбросить
эти ложные, насильственные условия — и человек в самом
себе, в голосе своей совести почерпнет указания на верный
путь, которым надлежит ему следовать для достижения
личного нравственного совершенства. Последнее есть один
из видов счастия, а счастие возможно лишь при отсутствии
367
страданий, то есть лишений, которые тем сильнее и чаще,
чем больше человек развил в себе потребностей. Отсюда —
необходимость сокращения потребностей, доведение их до
ничтожных размеров, возвращение к простым отношениям,
чуждым формальной условности, и поставление своего
внутреннего мира в полную независимость от требований
мира внешнего, от возбуждаемых им страстей и борьбы.
Личное совершенство человека, по мнению представителей
этого взгляда, есть самодовлеющая сила, которая без
всякого принуждения или насилия, рано или поздно, но
возьмет свое и преобразует жизнь на более разумных и
достойных началах.
Иначе смотрел Соловьев. Уже в сочинениях,
предшествовавших появлению «Оправдания Добра» *, он
находил, что природа человека двойственна: греховные
побуждения и духовные потребности живут в ней рядом, в
вечном борении между собою. Поэтому и сбросив лживые
условия жизни, человек сам собою, без внутренней и
внешней борьбы, не может стать лучше. Он даже может стать
хуже, если, освободясь от сдерживающих начал
общественности, попадет под власть греховных побуждений, могущих
привести его к состоянию совершенного нравственного
одичания. Притом по природе своей человек есть существо
общественное. Окончательная цель его усилий и высшая
задача его жизни лежат в судьбе всего человечества, а не
в одной его собственной, отделенной от всех, судьбе.
Личным усовершенствованием, ввиду этой общей цели,
достигнуть можно очень немногого, если не заботиться об
улучшении, на началах нравственной и высшей справедливости,
общественных форм и порядков. Человечество не есть
простое слагаемое из отдельных личностей, а «живое,
одушевленное тело». Поэтому и действительное развитие
человеческой нравственности для отдельного лица возможно
лишь в непрестанном общении с людьми, в общественной
среде, при развитии культуры, которую оберегает
государство. Без этой культуры невозможна общественная
нравственность, а без нее личная добродетель, как бы
высока она ни была, не нашла бы поприща для своего
осуществления. «Бесформенная толпа праведников» — как идеал
личного самоусовершенствования — не удовлетворяла
Соловьева. Он находил, что этот «моральный аморфизм» не
есть истинное христианство, требующее от каждого
сознательного и искреннего своего последователя упорной и ак-
368
A. H. Пешкова-Толиверова. 1866 год
Портрет работы художника В. В. Верещагина
тивной работы по созиданию в жизни христианской
культуры и политики. Этой работе каждый должен иметь
возможность отдаваться без внешних помех, свободно
расширяя и осуществляя, совместно с другими, свои
культурно-христианские идеалы. Отсюда — главная задача
государства, которое должно принимать меры к обеспечению
этой возможности, защищая своих членов от внешних
нападений и от внутреннего нарушения выработанных
христианскою культурою прав и обязанностей. Отсюда —
карательная власть, имеющая задачею уголовное
принудительное воспитание нарушителей необходимого для
общественного строя порядка; отсюда — обязанность носить в защиту
государства оружие и противиться злу, ибо человек имеет
обязанности не только по отношению к себе, но и по
отношению к совокупности людей в их реальном союзе; отсюда,
наконец, война. Признавая законность существования этой
«травматической эпидемии» *, как называл войну Пирогов,
Соловьев находил, что если принять, что «die
Weltgeschichte ist das Weltgericht» ', tob понятие этого суда должна
входить и тяжба между добрыми и злыми историческими
силами. Лишь тогда человек и целое общество могут
сложить оружие борьбы, когда проповедь совершенства,
подкрепляемая рядом примеров, обезвредит зло и сделает
ненужным «противление» ему.
К нравственному совершенству, по мнению Соловьева,
ведут два пути: избежание греха и следование
положительным правилам нравственности. В сочинении своем о
«Духовных основах жизни», составляющем органическое целое
с «Оправданием Добра», подробно указывает он на ту
борьбу, которую должен вести человек, чтобы освободить
себя от бремени и соблазна греха. Он делит грех, как
сознательное нравственное падение человека, на три вида: на
грех чувственной души, который выражается в похоти; на
грех ума, состоящий в самомнении, и на грех духа,
проявляющийся во властолюбии, практическое развитие
которого состоит в насилии. На блестящих, написанных сильным,
мужественным языком, страницах «Оправдания Добра»
Соловьев рассматривал основные начала нравственности:
как добродетели, как правила действий и как условия
достижения высшего духовного блага. Пути жизни,
согласной с требованиями нравственности, вытекают из
1 Всемирная история — всемирное судилище (нем,).
24 А. Ф. Кони, т. 7
369
коренных духовных начал человеческой природы и
определяют главнейшие отношения человека. Так, в отношении к
своей низшей природе человек должен руководиться
чувством стыда, высшее развитие которого состоит в
аскетизме, проявляющемся борьбою с тем, что Соловьев
называет помыслом, воображением и пленением. В отношениях
к людям — руководящим нравственным началом для
человека должна быть жалость, высшая степень развития
которой есть альтруизм, распадающийся на правду и
справедливость. Наконец, руководящим отношением к высшему
началу является благочестие, окончательное развитие
которого есть религия.
Богатство содержания нравственной философии
Соловьева, вложенная в него громадная эрудиция и горячее
убеждение, которым проникнут его труд, делают его
взгляды заслуживающими особого внимания и изучения. В нем
сказывается не только глубокий мыслитель и блестящий
диалектик, но, очень часто, и вдохновенный поэт.
«Оправдание Добра» есть, без сомнения, одна из
замечательнейших книг последнего времени, несмотря на то, что
некоторые ее положения весьма спорны. Конечно, и сам автор tie
имел в виду вещать в ней непререкаемые истины; но его
заслуга в том, что он изложил целостное учение в изящной
и удобной форме, согретой внутренним огнем. Хотя и
совершенно противоположная по исходной точке зрения и
основным положениям с книгою Гюйо «Esquise d'une
morale sans obligation ni sanction» l — книга Соловьева сходна
с нею своим возвышенным тоном и горячностью искренней
мысли. Она наводит на ряд размышлений высшего
порядка, поднимает читателя над обыденной житейской прозой
и будит его мысль, вызывая ее на возражение или
подчиняя ее себе и увлекая за собой.
Наиболее слабым местом «Оправдания Добра» надо
признать учение о праве как о минимальной
принудительной нравственности. Оно вызвало сильную критику с
различных, притом, точек зрения. Соловьеву указывали на то,
что его определение права не соответствует ни
историческому происхождению последнего, ни сущности его
природы и что он смешивает понятия о праве и о
нравственности к обоюдному вреду обоих. Особенно тщательному раз-
' «Очерк учения о нравственности без обязательства и принуждения»
(франц.)%
370
бору подверг труд Соловьева Б. Н. Чичерин *, отнесшись
со строгой критикой и к его теории стыда, жалости и
религиозного чувства, и к его правовым воззрениям. Сознавая
нравственную и ученую мощь своего сильного противника,
Соловьев защищался с чрезвычайной страстностью, под
влиянием которой даже переходил, подчас, на почву резких
личных нападений. Проникнутый спокойным достоинством
ответ Чичерина не заставил его признать себя побежденным
по существу, но Соловьев — и это характеризует его
душевные свойства — немедленно сознал неправильную
резкость своего тона и шаткость почвы личных намеков, на
которую он вступил. Он прямодушно и без мелочного
самолюбия извинился перед своим почтенным оппонентом.
Сознание своих ошибок, готовность искупить их
публичным принесением «повинной» есть признак высокого
душевного развития. Только имеющий такое мужество может
быть способен на деятельность, могущую дать великие
результаты. Не ошибаются лишь холодные сердцем и узкие
умом. Одушевление правдой и добром неминуемо связано
и с заблуждениями, и со страстностью в их искании...
«Оправдание Добра» должно было быть началом
целого ряда новых трудов Соловьева в области религии и
метафизики. Он начал переводить творения Платона *,
готовился к новому переводу Священного писания с
комментариями, приступил к разработке «теоретической
философии» и собирался писать книгу под названием
«Оправдание Истины». Ему хотелось высказать все то, что
накопилось и окончательно созрело в его >ме, достигшем своего
высшего развития. Смерть положила предел его
начинаниям *. Усиленная работа последних лет, ее
разбросанность и срочность, не дававшие ему необходимого
спокойствия и отдыха, и полное отсутствие разумной и
систематической заботы о своем здоровье стали гибельно
отражаться на нем. Добровольные и случайные лишения,
которые ему приходилось переносить и налагать на себя, падали
уже на ослабленный организм, в котором лишь голова,
быстро покрывавшаяся преждевременною сединою, рабо-:
тала правильно, но вместе с тем без отдыха и срока, без
жалости к самой себе... Растрачивая свои слабые силы и
совершенно не заботясь о завтрашнем дне, он мог по
отношению к себе сказать, подобно Белинскому: «Безумия и
гордости умереть с голоду —у меня всегда хватит»*...
И чем ярче светило пламя его ума, тем беспощаднее при-
24*
371
носил он себя в жертву. В произведениях последнего года
его жизни видны, наряду с глубиною мысли и строгим
изяществом формы, следы торопливости, вызываемой
утомлением и нарушением нервного равновесия. Насколько
изложение его выигрывало в блеске и живости,
доведенных до совершенства, например в «Трех разговорах» *,
настолько же он начинал терять в прежней спокойной
объективности. Отсюда — полемический тон, отсутствие
необходимой терпимости к мнению «несогласно мыслящих» и хотя
и прикрытые, но тем не менее резкие нападения,
преимущественно на Л. Н. Толстого, в выражениях, не
соответствующих тому уважению, которое, даже и при несогласии
с учением последнего, не может не вызывать его чистый и
возвышенный нравственный облик *.
Неспокойное настроение Соловьева, связанное с
утратой в его доводах и взглядах прежней правильности
перспективы, подчас тревожило, в последний год его жизни,
тех, кто любил его и привык ценить содержание и форму
его трудов. Отдавая полную справедливость ряду его
взглядов, проникнутых то добродушным и ярким юмором,
то едкой иронией, нельзя, как мне кажется, отрицать, что
в отголосках на различные события европейской жизни
последних годов у Соловьева представление о вселенском
христианстве стало незаметно сливаться с представлением
о европейской цивилизации. Последняя же, в ее
современном, столь нередко совершенно чуждом христианским
идеалам, виде, в его глазах стала оправдывать «тяжбу» и с
бурами, и с далеким Китаем, готовым, как ему казалось,
залить желтыми и безжалостными волнами то, что
приобретено крестом и должно быть защищаемо мечом *. Вознося
хвалу Зигфриду и высказываясь против буров, Соловьев
болезненно увлекался впечатлениями минуты, забывая, что
за мечом современного крестоносца следуют алчный
хищник и бездушный миссионер, неразборчивые на средства и
весьма забывчивые по части истинного христианства, а
истребительная борьба с бурами была вызвана не только не
потребностями христианской культуры, но даже и не
требованиями лучшей части народа, а расчетом и желанием
сделать кровавую «пробу пера» со стороны нового и,
отныне, по-видимому, властного элемента международных
отношений — предпринимателя-акционера. Нет сомнения, что
если бы он дожил до того, что последовало после его смер-
372
ти, и увидел, во что выродились и преобразились задачи
и приемы христианской культуры на далеком Востоке и в
южной Африке, его возмущенная душа отвернулась бы
с болью глубокого разочарования от такого понимания
задачи цивилизации и в его поэтических произведениях и
публицистических трудах снова и с прежней силой зазвучали
бы старые ноты. Он, несомненно, решительно снова стал
бы на прежний путь, на котором так много и многое
сделал.
«Бываю! времена, — говорит Чаннинг, — когда защита
великих нравственных начал является лучшею заслугою
пред обществом. Проводить их в жизнь, с настойчивым
желанием общего блага, прочно и глубоко закладывая их
в душу людей, есть нечто большее, чем открывать золотые
россыпи или придумывать самые удачные политические
комбинации» *. Этому и посвятил свою деятельность
Соловьев. Вот почему, хотя и среди неоконченных, во всей
широте задуманного, трудов, — он мог все-таки со
спокойною совестью оглянуться на свою жизнь и на употребление
им тех блестящих духовных даров, которыми так щедро
был он снабжен. Он не зарыл, из малодушных или
тщеславных соображений, данного ему таланта в землю, не
поступился ни одною его частицею — и если иногда и
ошибался, то лишь потому, что прозаический человек легче и
вернее становится законченным целым, чем человек,
имеющий в себе задатки гениальности. Вот почему он мог «не-
боязненным сердцем и непреодоленным умом дерзнуть на
смерть, иже естественно всем бывает страшна», как
говорится в одном из столь любимых им «житий святых».
Кончина Соловьева была тяжким и неожиданным
ударом для всех знавших его и любивших, — а любили его
все, кто имел возможность его узнать ближе. Но сам он
как будто предчувствовал свой скорый конец,— становился
сосредоточенно-задумчив, когда говорилось о смерти, —
был как-то особенно нежен к тем, кого считал почему-либо
недовольными собою, — часто с большим юмором
высказывал шуточные предположения о том, во что он обратится,
перейдя в другой мир... В январе 1900 года, в исполненном
тихой грусти стихотворении своем «Les revenants» \ как и
все его стихи близком к музыке, к этому «языку для пере-
1 «Призраки» (франц.).
373
дачи невыразимых чувств», он, взывая «к образам
незначущим, к плачущим теням», говорил:
Тайною тропинкою, скорбною и милою,
Вы к душе пробралися — и спасибо вам!
Сладко мне приблизиться памятью унылою
К смертью занавешенным, тихим берегам... *
Через полгода ему пришлось и самому вступить на эги
«тихие берега». В ограде Московского Новодевичьего
монастыря, в виду Воробьевых гор и близ Москвы-реки, есть
рядом две могилы. В них лежит земной прах отца и
сына — Соловьевых, — знаменитого русского историка и
так рано ушедшего от нас его сына. Деятельность их была
разная. Один, вперяя духовный взор в прошлое своей
родины, выяснял внутренний смысл последнего и выводил из
него исторические заветы для будущего;—другой старался
указать те нравственные пути, на которых нужно искать
наиболее чистого и высокого развития этого будущего. Но
их обоих одинаково одушевляло одно и то же чувство,
укрепляя и направляя их благородный жизненный труд.
Это была любовь, в самом возвышенном смысле слова, —■
та, про которую покойный поэт сказал:
Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови...
Всё, кружась, исчезает во мгле —
Неподвижно лишь солнце любви! *
И покуда в лучших сердцах земли русской будет
продолжать светить это солнце — смерть и время
действительно не страшны ни для них, ни для грядущих
поколений! Соловьев умер, но в духовном отношении не покинул
нас... Его личность останется надолго в воспоминаниях, его
труд никогда не забудется, привлекая к себе мыслителя и
побуждая к новым и дальнейшим исследованиям.
Останется и поучительный пример нравственного
самовоспитания, явленный Соловьевым. А эти примеры так нужны...
ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ*
В минувшем году испол--
нилось двадцать лет с
тех пор, как мы лишились Антона Павловича Чехова, в
самый разгар злополучной японской войны, которая так
тревожила его на закате дней *. С тех пор грозные
испытания постигли нашу родину, заслонив и затуманив собою
многое из прошлого. Но память о Чехове пережила это.
Его вдумчивое, глубокое по содержанию и сильное по
форме творчество в своем былом проявлении переживет
многое, что появилось с тех пор с горделивой претензией
на художественность, в сущности сводящуюся к
беззастенчивому натурализму. И в моем воспоминании образ его
стоит, как живой — с грустным, задумчивым, точно
устремленным внутрь себя взглядом, с внимательным и мягким
отношением к собеседнику и с внешне спокойным словом,
за которым чувствуется биение горячего и отзывчивого на
людские скорби сердца. Чувство благодарности за
большое духовное наслаждение, доставленное мне его
произведениями, сливается у меня с мыслью о той не только
художественной, но и общественной его заслуге, которая
связана с его книгой о Сахалине.
Долгое время недра Сибири, принимавшие в себя
ежегодно тысячи осужденных, которых народ сердобольно
называл «несчастными», были для русского общества и в
значительной мере даже для правящих кругов чем-то мало
известным, неинтересным или загадочным по своей
отдаленности. Представление о Сибири, как месте ссылки и
принудительных работ «в мрачных пропастях земли» *,
слагалось у большинства зачастую так же смутно и
тревожно, как и народное представление о «погибельном
Кавказе». Губернские тюремные комитеты, учрежденные в
375
1829 году, ведали — и притом в очень ограниченных
размерах — лишь местное тюремное дело и вовсе не влияли ни
на положение ссыльных во время бесконечно длинного и
тяжкого пути «по Владимирке», ни на условия их
содержания в отдаленных острогах Сибири. Чтобы оживить их
деятельность и придать ей заботливый, а не чисто
формальный характер, нужны были человеколюбивые бойцы
и труженики, вроде «утрированного филантропа» доктора
Гааза, посвятившего свою жизнь попечению о ссыльных.
Жизнь его представляет поучительный пример того,
сколько упорства, трогательного самозабвения, душевной
теплоты и неустанной энергии требовалось, чтобы часто не
опустить рук в сознании своего бессилия перед
официальным «тупосердием» и бездушными утверждениями, что все
обстоит благополучно. Но такие, как Гааз, были
наперечет! Только в начале шестидесятых годов Достоевский
своими «Записками из Мертвого дома» привлек внимание
к положению каторжников и в ярких, незабываемых
образах ознакомил с отдаленным сибирским острогом и его
населением. Затем, в 1891 году появилась за границей книга
Кеннана с описанием сибирских тюрем и господствовавших
там порядков, верная в подробностях, но ошибочно
приписывавшая многие безобразные явления обдуманной
системе, тогда как они были самостоятельными проявлениями
личного произвола и насилия. Особенное внимание,
возбужденное этою книгой за границей, и вызванные ею
негодующие отзывы о русских порядках недостаточно
отразились на нашем общественном мнении, так как ни книга, ни
ее автор не были допущены в Россию, а перевод ее
появился лишь через шестнадцать лет *. Значительно
сильнее подействовали вести о самоубийстве сосланной в
каторгу по политическому процессу Сигиды, подвергшейся, за
нарушение тюремной дисциплины, по распоряжению
властей, телесному наказанию, причем примеру ее последовало
несколько человек из единомышленных с нею товарищей
по заточению *. Затем, в 1896 году, вышли полные
«трезвой правды» очерки Мельшина (Якубовича) «Мир
отверженных», рисующие тяжкие картины Карийской и Ака-
туевской каторги *. Таким образом, выяснялась
постепенно картина Сибири, как места наказания, и явились
твердые, почерпнутые не из буквы закона, а из самой
жизни данные, дающие полную возможность судить, как
осуществляется на месте это наказание.
376
Иначе обстояло дело с каторгой, учрежденной в 1875
году ка присоединенном к России, в обмен на Курильские
острова, Сахалине. О том, что и как там делалось,
получало сведения только тюремное ведомство, да и то,
конечно, в канцелярской, бесцветной обработке.
Нужна была решимость талантливого и сердечного
человека, отзывчивую душу которого манила и тревожила
мысль узнать и поведать о том, что происходит не на
сказочном «море-окияне, на острове Буяне», а в далекой и
отрезанной от материка области, где под железным
давлением закона и произволом его исполнителей влачат свою
страдальческую жизнь сотни людей, сдвинутых вместе без
различия индивидуальности, бытовых привычек и
душевных свойств. Эту задачу взял на себя А. П. Чехов *. Его
живому характеру и пытливому уму была свойственна
некоторая непоседливость на месте, то свойство, которое
прекрасно изобразил граф Голеиищев-Кутузов в своем романе
«Даль зовет» *. Он ясно сознавал практическую
непригодность и нравственный вред нашей типической тюрьмы п
наших сибирских острогов, для которых, по его словам,
«прославленные шестидесятые годы» ничего не сделали и
где мы с нашими пересыльными тюремными порядками
«сгноили ...миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения,
варварски; гоняли людей по холоду, в кандалах десятки
тысяч верст, заражали сифилисом, развращали,
размножали преступников и все это сваливали на тюремных,
красноносых смотрителей» *. Ему казалось, что Сахалин, как
поле для целесообразной и благотворной колонизации,
может представить могучее средство против большинства из
этих зол. Он предпринял, с целью изучения этой
колонизации на месте, тяжелое путешествие, сопряженное с
массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся
гибельно на его здоровье. Результат этого путешествия — его
книга о Сахалине* — носит на себе печать чрезвычайной
подготовки и беспощадной траты автором времени и сил.
В ней, за строгой формой и деловитостью тона, за
множеством фактических и цифровых данных, чувствуется
опечаленное и негодующее сердце писателя. Эта печаль
слышится в разочаровании главной целью путешествия —
изучения колонизации, ибо ка Сахалине никакой
колонизации не оказывается, так как она убита именно
тюрьмою со всеми ее характерными у нас свойствами,
переплывшими с материка и твердо осевшими на острове, не
311
приспособленном ни в географическом, ни в
климатическом отношении к земледелию. На нем не оказалось, по
выражению Чехова, «никакого климата», а лишь «вечная
дурная погода», связанная с постоянно надвигающимися
с моря сплошною стеною туманами. Недаром поселенцы
говорили про Сахалин: «Кругом море, а в средине горе».
Это горе, изображенное Чеховым в ряде ярких картин,
стало другою причиной печали Чехова, присоединив к его
разбитым надеждам ужасы очевидной и осязательной
действительности.
Вот Сахалинская тюрьма, пропитанная запахом гнили
и разложения, переполненная не только людьми, но и
отвратительными насекомыми, — с разбитыми стеклами в
окнах, невыносимою вонью в камерах и традиционной
«парашей» — и с надзирательской комнатой, где непривычному
посетителю ночевать совершенно невозможно: стены и
потолок ее покрыты «каким-то траурным крепом, который
движется как бы от ветра, и в этой кишащей и
переливающейся массе слышится шуршание и громкий шепот, как
будто таракан и клопы спешат куда-то и совещаются...»
Вот камеры для семейных, т. е. каторжных и ссыльных, за
которыми, составляя сорок один процент всех женщин
острова, пришли, влекомые состраданием и обманутые
надеждами, жены и привели с собой детей. Они, по
выражению многих из них, мечтали «жизнь мужей поправить, но
вместо того и свою потеряли». В этой камере нет
возможности уединиться, ибо кругом идет свирепая картежная
игра, раздается невообразимая и омерзительная в своей
изобретательности ругань, постоянно слышатся наглый
смех, хлопанье дверьми, звон оков. В одной из таких,
малых по размерам, камер сидят вместе и спят на одних
сплошных нарах пять каторжных: два поселенца, три
свободные, т. е. пришедшие за мужьями, женщины и две
дочери их — пятнадцати и шестнадцати лет; в другой такой
же камере содержатся десять каторжных, два поселенца,
четыре свободные женщины и девять детей, из которых
пять девочек... Вот «больничные околодки», где среди
самых первобытных условий содержатся сумасшедшие и
одержимые опасными заразными болезнями, причем
последним поручено щипать корпию для необходимых
хирургических операций, — и лазареты, где оказывают помощь
фельдшера, выдающие для внесения в церковные книги
такого рода сведения об умерших: «умер от неразвитости
378
к жизни», или «от неумеренного питья», или «от душевной
болезни сердца», или «от телесного воспаления» и т. п.
Вот поразительные картины торговли своим телом,
производимые поселенками и свободными женщинами от юного
до самого преклонного возраста (шестидесяти лет), и вот
девочки, продаваемые родителями «с уступочкой», едва они
достигают четырнадцати-пятнадцати лет, причем
попадаются и девяти-, и десятилетние. Вот — быстро сгорающие
уроженцы юга, Кавказа и Туркестана, для которых
сахалинское «отсутствие климата» заведомо губительно. Вот
два палача из ссыльных, исхудалые, с гноящимся телом,
вследствие того, что, будучи конкурентами и ненавидя
поэтому друг друга, «постарались друг на друге» при
наказании плетьми. Вот насаждение крестьянских хозяйств
посредством раздачи прибывших ссыльных женщин для
«домообзаБедения» в сожительство отбывшим каторгу
поселенцам, обязанным за это построить себе домик или
покрыть уже существующий тесом; вот сарай, куда сгоняются
эти белые рабыни на осмотр и выбор, причем чиновники
берут себе «девочек», а оставшиеся затем рассылаются по
дальним участкам вследствие просьб «отпустить рогатого
скота для млекопитания и женского пола для устройства
внутреннего хозяйства». Вот, наконец, ссылка в отдаленные
поселки, куда нет, обыкновенно, ни прохода, ни проезда,
провинившейся каторжанки или поселенки — одной на
тридцать человек холостых и одиноких мужчин. Рядом с этим,
как редкие светлые блики на темном и мрачном фоне,
описывает Чехов случаи обнаруженного им примирительного
света в загрубелых сердцах с их жаждой справедливости
и ожесточенным пессимизмом при ее отсутствии, — с
трогательным уходом за сумасшедшими или парализованными
сожительницами «по человечности», с их тоскою по
материке и по родной земле. Он дает яркую картину
«свадьбы», заставляющей участников и гостей на краткий срок
забыть свою тяжкую долю, и рядом изображает местного
мирового судью, ощущающего радостное и своеобразное
удивление, когда среди переполняющих сахалинскую
жизнь побегов, разбоев и убийств ему приходится
встретиться, как с редким оазисом в пустыне, с делом о простой,
«совершенно простой краже!»
Книга о Сахалине еще не была издана, когда, в декабре
1893 года, меня посетил Чехов, с которым я при этом
впервые лично познакомился *. Он произвел на меня всей
379
своей повадкой самое симпатичное впечатление, и мы
провели целый вечер в задушевной беседе, причем он
объяснил свой приход полученным им советом поговорить со
мной о Сахалине: вынесенными оттуда впечатлениями он
был полон. Картины, о которых мною упомянуто выше,
развертывались в его рассказе одна за другою,
представляя как бы мозаику одного цельного и поистине
ужасающего изображения.
Я был с 1891 года членом «Общества попечения о
семьях ссыльнокаторжных», во главе которого стояла его
учредительница Е. А. Нарышкина, вносившая в
осуществление целей Общества сердечное их понимание и
большую энергию. Благодаря последней Общество получило,
путем призыва к пожертвованиям, довольно значительные
средства и могло открыть в Горном Зерентуе
Забайкальской области приют на 150 детей, попавших в обстановку
Нерчинской каторги, — и затем устроить его филиальные
отделения еще в двух поселениях *. Она же под влиянием
вестей о расправе с несчастной Сигидой предприняла
весьма решительные и настойчивые шаги, чтобы возбудить
во властных сферах сознание необходимости отменить
телесное наказание для сосланных в Сибирь женщин, и
своим влиянием, просьбами и убеждениями дала несомненный
толчок к последовавшему в 1893 году решению
Государственного Совета о такой отмене *. Я предложил Чехову
познакомить его с Нарышкиной в уверенности, что она
примет горячо к сердцу сообщаемые им факты и возбудит
вопрос о расширении на Сахалине деятельности Общества
попечения и о предоставлении ему для этого необходимых
средств. Несмотря на полное согласие на это Чехова,
свидание не состоялось, так как он должен был уехать в
Москву, написав мне следующее письмо*: «Я жалею, что не
побывал у г-жи Нарышкиной, но мне кажется, лучше
отложить визит к ней до выхода в свет моей книжки, когда я
свободнее буду обращаться среди материала, который
имею. Мое короткое сахалинское прошлое представляется
мне таким громадным, что, когда я хочу говорить о нем, то
не знаю, с чего начать, и мне всякий раз кажется, что я
говорю не то, что нужно. Положение сахалинских детей и
подростков я постараюсь описать подробно. Оно
необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних
содержанок, пятнадцатилетних беременных. Проституцией
начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до насту-
МО
пления менструаций. Церковь и школа существуют только
на бумаге, воспитывают же детей среда и каторжная
обстановка. Между прочим, у меня записан разговор с однил!
десятилетним мальчиком. Я делал перепись в селении
Верхнем Армудане; поселенцы все поголовно нищие и слывут
за отчаянных игроков в штосе *. Вхожу в одну избу:
хозяев нет дома; на скамье сидит мальчик беловолосый,
сутулый, босой; о чем-то задумался. Начинаем разговор.
Я: «Как по отчеству величают твоего отца?» — Он:
«Не знаю». — Я: «Как же так? Живешь с отцом и не
знаешь, как его зовут? Стыдно». — Он: «Он у меня не
настоящий отец». — Я: «Как так — не настоящий?» — Он:
«Он у мамки сожитель». — Я: «Твоя мать замужняя или
вдова?» — Он: «Вдова. Она за мужа пришла». — Я: «Что
значит — за мужа?» — Он: «Убила». — Я: «Ты своего
отца помнишь?» — Он: «Не помню. Я незаконный. Меня
мамка на Каре родила».
Со мной на амурском пароходе ехал на Сахалин
арестант в ножных кандалах, убивший свою жену. При нем
находилась дочь, девочка лет шести, сиротка. Я замечал,
когда отец с верхней палубы спускался вниз, где был
ватер-клозет, за ним шли конвойные и дочь; пока тот сидел
в ватер-клозете, солдат с ружьем и девочка стояли у двери.
Когда арестант, возвращаясь назад, взбирался вверх по
лестнице, за ним карабкалась девочка и держалась за его
кандалы. Ночью девочка спала в одной куче с арестантами
и солдатами. Помнится, был я на Сахалине на похоронах.
Хоронили жену поселенца, уехавшего в Николаевск. Около
вырытой могилы стояли четыре каторжных носильщика —
ex officio \ я и казначей в качестве ГамЛета и Горацио,
бродивших по кладбищу от нечего делать *, черкес —
жилец покойницы — и баба каторжная; эта была тут из
жалости: привела двух детей покойницы — одного грудного и
другого — Алешку, мальчика лет четырех, в бабьей кофте
и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно,
сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море.
Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть
озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда
закапывают могилу, я его спрашиваю: «Алешка, где
мать?» Он машет рукой, как проигравшийся помещик,
смеется и говорит: «Закопали!» Каторжные смеются;
1 По ъолгу службы (лат.).
38!
черкес обращается к нам и спрашивает, куда ему девать
детей, он не обязан их кормить. Инфекционных болезней я
не встречал на Сахалине, врожденного сифилиса очень мало,
но видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями, — все
такие болезни, которые свидетельствуют о забросе. Решать
детского вопроса, конечно, я не буду. Я не знаю, что
нужно делать. Но мне кажется, что благотворительностью и
остатками от тюремных и иных сумм тут ничего не
поделаешь; по-моему, ставить вопрос в зависимость от
благотворительности, которая в России носит случайный
характер, и от остатков, которых не бывает, — вредно. Я
предпочел бы государственное казначейство... Позвольте мне
поблагодарить Вас за радушие и за обещание побывать у
меня».
Я дал Нарышкиной прочесть это письмо и рассказал
ей все то, что слышал от Чехова. Вскоре подоспела и книга
о Сахалине. Результатом всего этого было
распространение деятельности Общества на Сахалин, где им было
открыто отделение Общества, начавшее заведовать
призрением детей в трех приютах, рассчитанных на 120 душ.
В 1903 году были выстроены новые приют и ясли на
восемьдесят человек. Еще ранее на средства Общества был
открыт на Сахалине Дом трудолюбия, при деятельном и
самоотверженном участии сестры милосердия Мейер *.
В Доме работали от 50 до 150 человек, и при нем была
учреждена вечерняя школа грамотности. Обществом
попечения был задуман ряд коренных реформ положения
семейств ссыльных на острове, составлены по этому поводу
обстоятельные записки, и Нарышкиной было обещано
внимательное и сочувственное отношение к намеченным в
записке мерам при обсуждении последней в предположенном
особом совещании министров... Но грянувшая война
обратила все задуманное в этом отношении в ничто. Занятие
Сахалина победоносными японцами и дальнейшая его
уступка по Портсмутскому договору прекратили работу
всех этих учреждений на острове, и дети были выселены
японцами в Шанхай, а оттуда перевезены в Москву.
Книга Чехова не могла не обратить на себя внимания
министерства юстиции и главного тюремного управления,
нашедших, наконец, нужным через своих представителей
ознакомиться с положением дела на месте. Отсюда —
поездки на Сахалин в 1896 году ученого-криминалиста
'Д. Л. Дриля и в 1898 году тюрьмоведа А. П. Саломона.
382
Их отчеты, к сожалению не сделавшиеся достоянием
печати *, вполне подтвердили сведения, сообщенные
русскому обществу Чеховым, присоединив к ним несколько
характерных особенностей.
Прошло три года со времени моего свидания и беседы
с Чеховым. На «базаре» в городской думе в пользу
высших женских курсов * я встретил В. Ф. Комиссаржев-
скую, которую, будучи знаком с ее отцом, я знал, когда
она была еще ребенком. Мы разговорились о
драматической сцене, уровень и содержание которой не удовлетворяли
замечательную артистку, и она советовала мне прийти на
первое представление новой пьесы Чехова «Чайка»,
намечающей иные пути для драмы *. Я последовал ее совету и
видел это тонкое произведение, рисующее новые
творческие задачи для «комнаты о трех стенах», как называет в
нем одно из действующих лиц театр. Чувствовалось в нем
осуществление мысли автора о том, что художественные
произведения должны отзываться на какую-нибудь
большую мысль, так как лишь то прекрасно, что серьезно.
Столкновение двух мечтателей — Треплева, который
находит, что надо изображать на сцене жизнь не в обыденных
чертах, а такою, какою она должна быть предметом
мечты, — и Нины, отдающейся всею душою созданному ею
образу выдающегося человека, — с тем, что автор называет
«пискарною жизнью», оставляло глубокое и трогательное
впечатление. Драма таится в том, что, с одной стороны,
публика, на которую хочет воздействовать своими
мыслями и идеалами Треплев, его не понимает и готова
смеяться, а с другой — богато одаренный писатель, весь
отдавшийся «злобе дня», рискует оказаться ремесленникохм, едва
поспевающим исполнять не без отвращения заказы на
якобы художественные произведения, а также безвольным
человеком, приносящим горячее сердце уверовавшей в него
-девушки в жертву своему самолюбованию. Сверх всякого
ожидания, на первом представлении образ подстреленной
«Чайки» прошел мимо зрителей, оставив их
равнодушными, и публика с первого же действия стала смотреть на
сцену с тупым недоумением и скукой. Это продолжалось
в течение всего представления, выражаясь в коридорах и
фойе пожатием плеч, громкими возгласами о нелепости
пьесы, о внезапно обнаружившейся бездарности автора и
сожалениями о потерянном времени и обманутом
ожидании. Такое отношение публики, по-видимому, отражалось
заз
и на артистах. Тот подъем, с которым прошли на сцене два
первых действия, видимо, ослабел, и «Чайка» была
доиграна без всякого увлечения, среди поднявшегося шиканья,
совершенно заглушившего немногие знаки сочувствия и
одобрения.
Я вернулся домой в негодовании на публику за ее
непонимание прекрасного произведения и в грустном
раздумье о том, как это отразится на авторе. Мне ясно
представлялось, какие ощущения он должен был пережить,
если был в театре или, если отсутствовал, что
перечувствовать, когда «друзья» (как известно, это одна из их
специальных обязанностей, исполняемая с особой готовностью)
донесут ему о давно неслыханном провале его пьесы. Мне
хотелось сказать ему несколько ободрительных слов и
показать тем, что не вся публика грубо и непродуманно
ополчилась на его творение и что в ней, вероятно, есть немала
людей, оценивших его талант и в «Чайке». Мне
вспоминался при этом Глинка, которого восторженно
приветствовали после первого представления «Жизни за царя» и в
театре, и в печати *, и в тот же вечер на квартире у князя
Одоевского, где даже была спета кантата, написанная в
честь его Пушкиным и начинавшаяся словами: «Вышла
новая новинка, — веселися русский хор, — этот Глинка,
этот Глинка — уж не глинка, а фарфор» *. А на первом
представлении «Руслана и Людмилы» не только публика
демонстративно зевала, шикала, но даже музыканты,
исполнявшие эту дивную музыку, шикали из оркестра ее автору,
и когда он, смущенный всем этим, и не зная, выходить ли на
сцену на требование небольшой группы зрителей,
обратился к находившемуся вместе с ним в директорской ложе
начальнику Третьего отделения, генералу Дубельту, то
последний внушительно сказал ему: «Иди, иди, Михаил
Иванович, Христос больше твоего страдал» *. Вспомнился мне
и рассказ о свистках и ропоте публики, которыми
сопровождалось первое представление оперы Визе «Кармен», что
тяжело отразилось на сердечной болезни талантливого
композитора и свело его через три месяца в могилу *. А
каким успехом пользовались потом обе эти оперы! Ночью
я написал письмо Чехову, в котором, если не ошибаюсь,
говорил об этих двух фактах, а когда утром прочел в
нескольких газетах рецензию на «Чайку» с прямым
злоречием, умышленным непониманием или лукавым сожалением
о том, что талант автора явно потухает, я поспешил отпра-
384
вить мое письмо *. Через несколько дней я получил
следующий ответ*: «Вы не можете себе представить, как
обрадовало меня Ваше письмо. Я видел из зрительной залы только
два первых акта своей пьесы, потом сидел за кулисами и
все время чувствовал, что «Чайка» проваливается. После
спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я
вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом
отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже
бессмысленна и проч. и проч. Можете вообразить мое
положение— это был провал, какой мне даже не снился! Мне
было совестно, досадно, и я уехал из Петербурга полный
всяких сомнений. Я думал, что если я написал и поставил
пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными
недостатками, то я утерял всякую чуткость и что, значит, моя
машинка испортилась вконец. Когда я был уже дома, мне писали
из Петербурга, что 2-е и 3-е представление имели успех *;
пришло несколько писем, с подписями и анонимных, в
которых хвалили пьесу и бранили рецензентов; я читал с
удовольствием, но все же мне было совестно и досадно, и
сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди
находят нужным утешать меня, то, значит, дела мои плохи.
Но Ваше письмо подействовало на меня самым
решительным образом. Я Вас знаю уже давно, глубоко уважаю Вас *
и верю Вам больше, чем всем критикам, взятым вместе,—
Вы это чувствовали, когда писали Ваше письмо, и оттого
оно так прекрасно и убедительно. Я теперь покоен и
вспоминаю о пьесе и спектакле уже без отвращения. Комиссар-
жевская чудесная актриса. На одной из репетиций многие,
глядя на нее, плакали и говорили, что в настоящее время
в России это лучшая актриса. На спектакле же и она
поддавалась общему настроению, «враждебному» моей
«Чайке», и как будто оробела, спала с голоса. Наша пресса
относится к ней холодно, не по заслугам, и мне ее жаль.
Позвольте поблагодарить Вас за письмо от всей души.
Верьте, что чувства, побуждавшие Вас написать мне его, я
ценю дороже, чем могу выразить это на словах, а участие,
которое Вы в конце Вашего письма называете
«ненужным», я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло.
Искренно Вас уважающий и преданный А. Чехов».
С этого времени мы изредка писали друг другу *. Он,
между прочим, просил меня выслать в таганрогскую
городскую библиотеку, которой он состоял попечителем *, мою
фотографическую карточку с автографом, ссылаясь на то,
25 А. Ф. Кони, т. 7
355
что в библиотеке имеются мои сочинения, и прибавляя,
конечно, из любезности: «Вас очень любят в моем родном
городе и уважают уже давно» *. Мы снова свиделись в
апреле 1901 года в Ялте, которую он, в сущности, не любил за
ее, как он писал, «коробкообразные гостиницы с
чахоточными», за «наглые хари татарских проводников» и за
нестерпимый «парфюмерный запах», распространяемый
приезжими гуляющими дамами *. Принадлежавший ему дом,
выстроенный на одной из окраин *, имел какой-то
неприятный вид, а записки на стенах передней и кабинета с
просьбой «не курить» указывали, что с хозяином что-то не
ладно, И действительно, застегнутое на все пуговицы осеннее
пальто Антона Павловича, его задумчивый по временам вид
и выразительное молчание или встречный вопрос из другой
области в ответ на желание узнать о его здоровьи
показывали, что он чувствует, как жизненные силы постепенно
покидают его. Это сказывалось особенно в его взгляде,
тревожно-вопросительном при встрече с новым лицом, хотя он
держал себя бодро и отзывчиво по отношению ко всему
окружающему. Но безнадежность, часто сквозившая в его
умных глазах, и неожиданные задумчивые паузы в
разговоре давали понять, что он предчувствует свой неотразимо
близкий конец, как врач, и, быть может, оставаясь сам с
собою, слушает звучащую в душе одну из мрачных
раскольничьих песен: «Смерть, а смерть, это ты?» — «Это я,
это я!» — «А откуда ты пришла?» — «Где была, где
была!»— «А пришла ты не за мной?» — «За тобой, за
тобой!»— «А уйдем мы далеко?» — «Далеко, далеко!»*
Часто на морской набережной или на террасе дома Прохаски,
куда он не раз заходил ко мне и где мы сиживали, он —
греясь на солнце, а я поджариваясь, — я, смотря на нега,
невольно вспоминал слова Некрасова: «Завтра встану и
выбегу жадно — встречу первому солнца лучу, — снова все
улыбнется отрадно и мучительно жить захочу, — а недуг,
подрывающий силы, будет так же и завтра томить и о
близости темной могилы так же внятно душе говорить» *.
Иногда к нам присоединялся Миролюбов, и в беседе время
летело незаметно. Чехова очень интересовали мои личные
воспоминания и психологические наблюдения из области
свидетельских показаний. Однажды, по поводу лжи в их
показаниях, я привел несколько интересных житейских
примеров «мечтательной лжи», в которой человек постепенно
переходит от мысли о том, что могло бы быть к убежде-
386
нию, что оно должно было быть, а от этого к уверенности,
что оно было, — причем на мое замечание, что я подмечал
этот психологический процесс в детях, он сказал, что то же
бывает с некоторыми очень впечатлительными
женщинами. С большим вниманием слушал он также рассказы о
виденных мною житейских драмах и иронии судьбы, которая
в них часто проявлялась.
Вскоре после моего отъезда из Ялты, с подаренным мне
прекрасным его портретом, где он одет в обычное теплое
пальто, несмотря на надпись: «7-го мая, в ясный теплый
день в Ялте», я получил от него письмо*, в котором он
говорил: «Сегодня я получил от поэта И. А. Бунина книгу
стихов с просьбой послать ее на Пушкинскую премию *.
Будьте добры, научите меня, как это сделать, по какому
адресу послать. Сам я когда-то получил премию, но
книжек своих не посылал. Простите, пожалуйста, что беспокою
Вас такими пустяками. Я нездоров и решил, что
выздоровею не скоро». Следующее письмо я получил уже от 12
июня из Аксенова, Уфимской губернии*. В нем он писал:
«В самом деле, многоуважаемый Анатолий Федорович,
Ваша фотография, которую я только что получил, очень
похожа, это одна из удачнейших. Сердечное Вам спасибо и
за фотографию, и за поздравление с женитьбой *, и вообще
за то, что вспомнили и прислали письмо *. Здесь, на
кумысе, скука ужасающая, газеты все. старые, вроде
прошлогодних, публика неинтересная, кругом башкиры, и если бы
не природа, не рыбная ловля и не письма, то я, вероятно,
бежал бы отсюда. В последнее время в Ялте я сильно
покашливал и, вероятно, лихорадил. В Москве доктор Щу-
ровский — очень хороший врач — нашел у меня
значительные ухудшения; прежде у меня было притупление только в
верхушках легких, теперь же оно спереди ниже ключицы, а
сзади захватывает верхнюю половину лопатки. Это
немножко смутило меня, я поскорее женился и поехал на
кумыс. Теперь мне хорошо, прибавился на 8 фунтов, только
не знаю от чего, от кумыса или от женитьбы. Кашель
почти прекратился. Ольга шлет Вам привет и сердечно
благодарит. В будущем году, пожалуйста, посмотрите ее в
«Чайке» (которая пойдет в Петербурге) *, там она очень
хороша, как мне кажется».
Улучшение здоровья Антона Павловича было, однако,
непродолжительным, и по мере роста его славы, как
выдающегося и любимого писателя, уменьшались его силы
25*
3«
и подступала смерть. Она пришла к нему в далеком Баден-
вейлере, во время страстных порывов вернуться в Россию,
куда его постоянно тянуло. Судьба с обычной
жестокостью относительно выдающихся русских людей не дала
ему увидеть родину, за которую и с которой он столько
болел душой, и равнодушно приютила в недрах чужой
земли его горячее русское сердце *.
Вспоминая характерные свойства личности Чехова и
впечатления от большинства его произведений, я нахожу,
что он был во многом сходен с покойным Эртелем, столь
поучительным и своеобразным в своих письмах и столь
несправедливо у нас забытым. В обширной переписке
Чехова, в личных о нем воспоминаниях сказывается его
духовная самостоятельность. Уже смолоду в нем чувствуется
сознание своего человеческого достоинства, не склонного
рабствовать перед чужим умственным авторитетом или
принижаться, с боязливыми оговорками и оглядками по
сторонам, перед авторитетом материальной силы. Он
следовал завету Пушкина «идти дорогою свободной, куда
влечет свободный ум» *. Еще юношей семнадцати лет он
писал своему брату: «Ничтожество свое сознавай знаешь
где? Перед богом, пожалуй пред умом, красотой,
природой, но не перед людьми» *. И всю жизнь он был
поклонником духовной свободы, свободы, как он говорил
Плещееву, от давления ходячих идей, навязанных лозунгов,
суждений по шаблону, одним словом, от того, что столь
ошибочно называется общественным мнением, которое
редко бывает проявлением общественной совести, но зачастую
является выражением общественной страсти, слепой в
увлечении и жестокой при разочаровании *. Недаром для
него Капитолийский холм и Тарпейская скала" находятся
в очень близком друг от друга расстоянии. Он знал, какую
цену имеют иногда громко провозглашаемые принципы,
вовсе не применяемые на практике, и по горькому опыту
говорил: «Фарисейство и произвол царят не в одних
только купеческих домах и кутузках, я вижу их в науке, в
литературе, среди молодежи» *. Поэтому он сознавался, что
относится с отвращением к «умственным эпидемиям».
Тщательно охраняя свою душевную свободу от «всепокоряю-
щего» чувства любви, он пессимистически начертал в своей
записной книжке: «Любовь. Это или остаток чего-то
вырождающегося, бывшего когда-то громадным, — или же
это часть того, что в будущем разовьется в нечто громад-
383
ное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо
меньше, чем ждешь» *. Не сквозит в его произведениях и
страха смерти, чем он существенно отличается от
Тургенева, в целом ряде произведений которого звучит ужас
перед неотвратимостью и жестокостью смерти, и ог
Л. Н. Толстого, постоянное возвращение которого к мысли
о смерти и к заботе о том, что будет после нее, указывает
на обширное место, занимаемое мыслью о ней в его душе.
И тургеневское и толстовское отношение к смерти имело
бы, конечно, не менее оснований гнездиться в душе
Чехова: во всю вторую половину своей недолгой жизни он —
неизлечимо больной — был приговорен к смерти и знал об
этом, как врач, лишь стараясь утешать близких и друзей,
скрывая от них возможность скорого исполнения этого
приговора. В нем не было угрюмой отчужденности от
людей или сосредоточения внимания исключительно на
себе, — напротив, он, как видно из его писем, отзывчиво и
чутко относился к людям, хотя и не пускал к себе в душу
безразлично всякого мимо идущего. Не раз проявляя
искреннюю деятельную доброту, он сердечно заботился о
помощи разным несчастливцам, голодающим,
чахоточным, — содействовал учреждениям, которые работали в их
пользу, и помогал отдельным лицам, попавшим в Ялту по
болезни и впавшим в нужду, и делал все это так, что
«левая рука не Еедала, что совершала правая» *.
Стоит затем припомнить его отношение к детям,
полное нежного чувства, глубокой мысли и заботливости о
смягчении суровых впечатлений жизни, не ускользающих
от внимания детей и оставляющих в их душе неизгладимые
рубцы. Характерно и не раз встречающееся у него,
очевидно вынесенное из житейской вдумчивости, отношение к
«жертвам общественного темперамента», чуждое слащавой
чувствительности, но проникнутое глубоким состраданием,
при котором банальное удивление: «Как могут они
(женщины)?!»— замолкает перед гневным удивлением: «Как
могут они (мужчины)?!»
И к природе он умел относиться с тонким пониманием
ее красоты и примиряющего значения. Достаточно указать
на описание растительности и в особенности цветов на
Сахалине и на многие места в его сочинениях, которые можно
назвать «очными ставками с природой».
К творчеству Чехова вполне применимы образные
слова о том, что жизнь сеет семена, а творчество, ври
389
посредстве воображения, выращивает плод. В литературе
встречаются нередко две противоположности: или
правдоподобные, почти фотографические, взятые с живых
определенных лиц образы вплетаются в совершенно
неправдоподобное, вымученное и нарочито сочиненное
содержание, — или, наоборот, полное житейской правды
содержание замыкает в себе совершенно отвлеченных,
безжизненных и автоматически мертвых действующих лиц. У Чехова
обилие сюжетов, почерпнутых из жизни в самых
разнообразных ее проявлениях, как о том свидетельствует его
записная книжка, соединялось с тонкой наблюдатель-1
ностью, умеющею из подмеченных черт отдельных лиц
создавать полные жизни целостные образы, причем
глубокая вдумчивость и чувство меры идут у него рука об
руку, не переходя, по выражению Л. Н. Толстого, «в
пересоленную карикатуру на человеческую душу».
Наряду с его творчеством не меньшего внимания
заслуживает его язык — ясный и простой, меткий и скупой там,
где всякий излишек слов повредил бы силе впечатления и
где необходима та «élimination du superflu» 1, которая так
блестяще достигнута братьями Гонкур, Доде и
Мопассаном. Если припомнить, до какой степени искажается в
настоящее время в разговорном и литературном отношении
наш русский язык, — как вторгаются в него, без всякой
нужды, иностранные слова и обороты, в забвении его
законов и источников, — как втискиваются в него
сочиненные словечки, лишенные смысла и оскорбляющие ухо,—как
вообще на этот язык, который должен считаться народной
святыней, смотрят многие, вопреки заветам Пушкина и
Тургенева, как на нечто, с чем можно не церемониться, —
то нельзя не признать большой заслуги Чехова в его
внимательном и почтительном отношении к русскому языку.
Его возмущали и столь часто встречаемая у нас
небрежность переводов с чужих языков, самовольные прибавки к
подлинному тексту там, где не хватает умения передать его
в точности, и самодовольный покровительственный тон
предисловий «от переводчика». В своей «Скучной истории»
он зло, но справедливо указывает на недостаток
большинства современных ему литературных произведений, в
которых или все умно и благородно, но не талантливо, или
талантливо и благородно, но не умно, или, наконец, умно и
1 Устранение излишеств (франц.).
39Э
талантливо, но не благородно *. Если прибавить к этому
еще ряд произведений, которые изображают собою
пересохший ручей мысли в пустыне вымученных слов, то нельзя
не почувствовать, каким светом, ароматом и теплом веет
от произведений Чехова. Его сравнивали нередко с
Мопассаном *, как по выбору сюжетов, так и по способу
изложения, сразу захватывающего зрителя. В этом, конечно,
много верного. Но преобладающая черта их творчества
разная. У Мопассана господствующая нота — ирония над
человеческой глупостью, жадностью и низменностью
натуры. У Чехова — печаль по поводу этих и других
отличительных свойств русского человека. Тургенев нарисовал
нам «лишних» людей, ненужных для общества и
несчастных в своем личном существовании; через несколько лет,
когда начала заниматься заря общественной жизни, он же
изобразил нам бесполезных людей, непригодных для
опередившего их времени («догорай, бесполезная жизнь!»
Лаврецкого) *. Чехов застал уже хмурых или вернее
унылых и тусклых людей, современниками которых мы долгое
время были *, — способных многого желать, но не
умеющих ничего хотеть, не имеющих «вчерашнего дня» и
проводящих настоящий день в бесплодных жалобах и жадном
ожидании завтрашнего дня без ясного представления о том,
что же предпринять, чтобы он — этот желанный день —
наступил, и что надо делать, когда он наступит. Он прозорливо
сознавал, как тонок у нас слой истинно культурных людей,
пролегающий между шумливыми критиками без всякой
способности к созиданию и упорными «охранителями» без
критического отношения к своим действиям и их
неизбежным последствиям. Недаром он находил, что в нас
«достаточно фосфору, но совсем нет железа» (как виден в этом
врач!); что «нам необходим темперамент, а не кисляйство»,
и его возмущала «куцая бескрылая жизнь общества, в
представителях которого так много житейской
беспомощности». И это были не теоретические положения, а
практические выводы, приобретенные на тернистом житейском
пути от веселого «Чехонте», которому приходилось по
пяти раз стучаться в маленькие редакции за no/vy4eHneM
заработанных трехрублевок, до выдающегося глубокого
«Чехова», которому на первых шагах, по нашему обычному
недоброжелательству ко всякому таланту, никто не
подвязывал творческих крыльев, пока он сам их не вырастил и не
развернул во всю ширь...
КНЯЗЬ А. И. СУМБАТОВ-ЮЖИН*
Среди современных
русских драматургов
видное место занимает князь Александр Иванович Сумба-
тов (Южин), литературная деятельность которого
началась почти пятьдесят лет назад * и продолжается по
настоящее время, когда на петроградской и московской
сценах с заслуженным успехом идет его новая пьеса «Ночной
туман»*. Сочинения его (1900—1909), изданные в
четырех томах, содержат в себе семь драм, одну драматическую
легенду из прошлого Грузии («Измена»), одну хронику в
стихах («Царь Иоанн IV») и семь комедий и
драматических очерков. Представляя собою самостоятельную
творческую работу, чуждую заимствований и подражаний,
произведения Сумбатова не являют собою ни признаков
позднейшего утомления автора, которое было бы вполне понятно
после почти полувековой деятельности, ни перепевов
мотивов из прежних произведений, приспособленных лишь к
«злобе дня». Их темы разнообразны и жизненны и
отличаются шириной захвата явлений жизни, начиная с
героической борьбы народа за национальную свободу, веру и
самобытность («Измена») до сложной игры мелких чувств,
низменных страстей и корыстных побуждений,
опутывающей и часто губящей добрых и слабых, доверчивых и
незнакомых с теми «обрывами», к которым иногда роковым
образом приводит жизнь (например, «Ирининская
община», «Невод», «Вожди», «Сергей Сатилов» и др.). Автору
чужда не только мистика, затрудняющая и усложняющая
понимание замысла, вложенного в произведение, но и столь
излюбленная в последнее время символика, заставляющая
читателя и зрителя отвлекаться от произведения,
задумываясь над его тайным смыслом и толкуя его, как это не раз
392
встречалось, произвольно и неожиданно для самого
автора. Сумбатов — реалист в смысле изображения жизненной
правды во всех ее проявлениях. Ни формой, ни
конструкцией, ни содержанием своих драматических произведений
он не отступает от действительно возможного и
действительно существующего. Это, однако, не значит, чтобы он
фотографировал эту действительность, не вкладывая в нее
внутренней руководящей мысли, всегда отданной добру и
красоте в их торжестве или в приносимой ими жертве.
Художественный дар не допускает его также
фотографировать более или менее известных современников, втискивая
с натяжками и преувеличениями их внешний образ в
рамки заранее придуманных сюжетов. Он вдумчиво и смело
касается всех сторон жизни, но чувство меры и
художественного такта не допускает его к тщательному и
любовному изображению пошлых и чувственных проявлений
человеческой природы под ложным названием будто бы
житейской правды, — воздерживает от изображения цинических
выходок его действующих лиц из грязной области всяких
извращений — и от грубой подделки под народную речь.
Его произведения не могут быть отнесены к разряду так
называемых «бытовых», центр тяжести которых в
освещении типических сторон и оригинальных свойств быта, хотя
бытовые черты русской жизни рассыпаны у него во
многих произведениях, а в одном («Сергей Сатилов») играют
главную роль. Пьесы Сумбатова глубже и в нравственном
отношении плодотворнее. Он задается сложными
вопросами и явлениями современного русского общежития и
старается их поставить и в значительной мере разрешить,
рисуя с замечательной и всесторонней наблюдательностью и
с тонким психологическим пониманием характеры
действующих лиц. Душевные свойства последних ярко
обрисовываются в самом начале каждого его произведения и
проявляются затем в дальнейшем действии с нарастающей силой
и выразительностью. Постройка его пьес полна жизни и
движения; в картине развивающихся драматических
положений нет ни излишних отступлений, ни побочных
эпизодов, ни утомительных, развлекающих внимание перерывов:
все сосредоточивается на сущности разрабатываемой темы
и на обрисовке характеров все более и более густыми и
яркими красками. Среди изображения тяжких переживаний
действующих лиц у автора вырывается по временам
неподдельный и горячий пафос и струится юмор и остроумие,
393
Диалоги правдоподобны,- оживленны и характерны;
монологи подчас немного длинны, но всегда содержательны
и богаты меткими и оригинальными афоризмами, в которых
из-за спины говорящего лица на мгновение выглядывает
сам автор с его скорбью, негодованием, любовью и
снисхождением к людям и с упованием на конечное торжество
правды, в какую бы форму исхода она ни облеклась.
Верой в необходимость чистоты и светлых идеалов и горем
по поводу забвения и попрания их в современной жизни
веет со страниц многих его произведений. Недаром в его
«Ночном тумане» писатель Острогин говорит: «Мы
сбились с пути уже полвека. Золото, техника и политика
завалили наш дух, как обвалом. Светила поэзии и
человечность убраны в жизни и сданы в школы ребятам.
Искусство дразнит нервы; ничего не давая душе. Великие
мысли выделены в особую категорию каких-то реликвий, и их
хранят с лицемерным почетом вне жизни, в музеях и
академиях. Мечту о братстве народов сменила племенная
ненависть, мечту о братстве людей — классовая борьба без
конца и края. Человек был и остается зверем внутри себя.
Есть отдельные люди, есть группы людей, но человечества
нет...» — «Мы, какие мы теперь, — говорит он в другом
месте, — сумеем долететь вот до этой луны на неведомых нам
пока аэропланах, но это не даст никому ни капли счастья,
пока не изменится что-то тут, в этом маленьком сердце
людском, которое одно создало железный закон вечного
зла...» Многие явления нашей современной жизни создают
для литературного деятеля такое настроение, что «difficile
satyram non scribere» *. Это отразилось и на творчестве
Сумбатова. Его «Невод» представляет животрепещущую
сатиру на возникновение человеколюбивых учреждений при
содействии разных чиновных «акробатов
благотворительности» * и «молодых да ранних» карьеристов, причем
когда наступает финансовое крушение, козлищем отпущения
оказывается, как это бывает в действительности, простой
«стрелочник», а истинный виновник хищений и
злоупотреблений властью над призреваемыми выходит сух из воды
и получает поручение ехать с культурной задачей на
Дальний Восток. Точно так же с большой наблюдательностью
и жизненной правдой изображены в «Закате»
разлагающееся, изверившееся в себя, бессильное старое барство, в
1 Трудно не писать сатиры (лат.)*
3*4
среду которого победителем вторгается новый человек —;
«добытчик», со смелым полетом и хищным клювом и
когтями. Он, в лице директора банков, следующим образом
излагает свое «исповедание веры»: «Прежде чем стать
средством, деньги должны быть целью. Это — неизбежно.
Они измеряются, как паровая, как электрическая сила.
Как есть машины в сто, двести, тысячу сил, так есть люди
в сто, в пятьсот, в миллион, в миллиард... Кто себя
уважает, тот должен быть богат. Чтобы быть добрым, надо
быть богатым, чтобы быть благородным, надо быть
богатым, чтобы быть любимым, надо быть богатым...»
Автором ярко обрисованы ложь, лицемерие, громкие,
модные фразы, прикрывающие жадные аппетиты к власти и
деньгам в лице людей, «примазывающихся» к
общественной деятельности и выдающих себя за представителей
дискредитируемой ими интеллигенции.
Отдельно от большинства драматических произведений
Сумбатова стоят его пьесы с исторической подкладкой.
Такова хроника «Царь Иоанн Четвертый», написанная
безупречными и зачастую сильными стихами, в которой автор
старается изобразить перелом в отзывчивой,
впечатлительной и верной долгу душе молодого царя, происшедший после
заговора бояр у одра его тяжкой болезни и после смерти
Анастасии. Таковы его, быть может, лучшие по обработке
и проникающему их чувству — драма «Старый закал» из
времен покорения Кавказа и драматическая легенда из
прошлого Грузии «Измена». Последняя, в ряде
производящих сильное впечатление картин, представляет борьбу
грузин с нашествием персов, причем часть населения
страны погибает, часть вынуждена бежать, а часть малодушно
покоряется врагу, так что будущее страны казалось бы
погибшим, не явись, в лице вдовы последнего, до
персидского завоевания, царя Тимура, женщина, охваченная
пламенем любви к родине и умеющая вселить ее в сердца
окружающих. Драма представляет много характерных
этнографических и народных особенностей, но в ней, на подкладке
этих особенностей, выдержан общечеловеческий характер
борьбы за национальную независимость. В заключение
нельзя не отметить критических статей и очерков князя
Сумбатова, среди которых видное место занимают «П. С.
Мочалов в жизни и на сцене», «Резолюции и настроения
первого Всероссийского съезда сценических деятелей» и
«Личные заметки об общих вопросах современного теат-
395
pa» *. Каждая из этих статей проникнута горячей любовью
к драматическому искусству, глубоким пониманием
необходимых требований от его произведений, тщательного,
тонкого и «проникновенного» разбора взаимных отношений
автора, артиста и зрителя и их психологического
основания. Кроме того, этюд о Мочалове содержит в себе
блестящие страницы из истории отношений власти и общества к
литературе и сцене в сороковых годах прошлого столетия;
«Личные заметки» полны ценных данных и замечаний по
истории театра вообще, а статья «Мертвящее начало» *
содержит в себе поучительный мартиролог нашей сцены под
давлением на свободу творчества авторов нашей цензуры,
близоруко вредящей даже тому, что она считает себя
призванной защищать.
ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО*
(Т. Щепкина-Куп ерник. — Сказания о любви. М. 1910)
Между последними
произведениями Тургенева,
в которых, перед его близким концом, с особой яркостью
вспыхнул талант одного из величайших художников
слова, видное место занимает «Песнь торжествующей
любви» *. В этом замечательном подражании по форме и
стилю старинным итальянским новеллам нашли себе место
все их характерные черты: летописная сжатость рассказа,
поэтическая наивность изображений, восторженное
поклонение нравственной и физической красоте и
глубокий, непосредственный мистицизм. Тургенев не только
искусно сохранил и оттенил историко-бытовые особенности
времени и нравов, но и в самый язык своего рассказа как
бы вдохнул душевные настроения действующих лиц,
внося в него, смотря по ходу рассказа, то бесстрастное
спокойствие хроники, то плавное изящество душевного
равновесия, то голос страсти, то тревогу и ужас перед
таинственным...
До сих пор «Песнь торжествующей любви» остается у
нас непревзойденным образцом высокохудожественного
подражания тем коротким и сильным рассказам, которые,
несмотря на исключительность своего содержания, веют на
читателя живым духом далекой старины, воплощая ее в
прекрасных и рельефных образах. Быть может, новелла
Тургенева стояла в нашей литературе долгое время
одиноко вследствие трудности таких подражаний, требующих
большой предварительной подготовки и особой
тщательности письма для избежания невольного уклонения в
область современного реализма или дисгармонии стиля и
397
языка, могущей обратить тонкое подражание в грубую
подделку. Поэтому нельзя не приветствовать труд г-жи Щеп-
киной-Куперник, пошедшей по стопам Тургенева и с
большим умением и вдумчивостью передавшей в своих
«Сказаниях о любви», в строгой и выдержанной форме,
поэтические эпизоды из тех времен западноевропейской жизни,
когда создавалась «Божественная комедия» * или
совершался переход от средневековья к Возрождению. В этих
сказаниях умелой рукой нарисованы характеры,
исполненные то грубой силы, то голубиной кротости, дикие,
необузданные страсти — наряду с мученическим смирением; в
них звучит нежная симфония любви и змеится
предательство, возносятся чистые молитвы и льются потоки
мстительно проливаемой крови. Книга Щепкиной-Куперник
уносит читателя в мир, чуждый прозаической
обыденности, не сходя в то же время с почвы историко-бытовой
действительности. В ней красной нитью проходит идея о
возвышающем значении сознательно принимаемого
страдания, о нравственной красоте жертвы, о живой связи
между человеком, природою и Творцом. Посвящая свои
рассказы чувству*любви, начиная с его смутного
возникновения до пышного реального расцвета, рисуя его яркими
красками, г-жа Щепкина-Куперник никогда не
переступает той черты, за которою начинается соблазнительная для
многих область подробностей низменного порядка.
Трогательные места ее рассказов, проникнутые искренним
чувством, чужды, однако, несвойственной духу
изображаемого времени современной болезненной чувствительности,
а картины, полные мрачного трагизма, сильны в своей
сжатости. Голый исторический факт, поэтический эпизод из
«Божественной комедии», стих Камоэнса в Лузиаде,
воспоминание о слышанной легенде дают автору повод к
вышивке яркого и гармонического по краскам узора по канве,
сотканной изучением истории, нравов и искусства данной
эпохи *. Язык автора находится в полном соответствии с
содержанием его «правдивых историй». За исключением
немногих неудачных выражений или оборотов и
иностранных слов *, он замечателен по своей чистоте и картинности
и является прекрасным орудием для передачи того
настроения, которое автору хочется создать в читателе. Поэтому
форма «правдивых историй» безукоризненна. В ней нашла
себе место красивая образность в духе средневековья.
398
«День был жаркий, — говорится в повести о любви и
смерти Франчески и Паоло, — и земля как бы изнемогла,
пронизанная бесчисленными лучами солнца, как св.
Себастиан стрелами *. С трав и кустов поднимались
одуряющие испарения. Каждая чашечка и каждый венчик цветка
были курильницами, расточавшими ароматы, как
жертвенное славословие великой силе, вызвавшей все живущее к
жизни». Постоянно встречаются художественные места, в
которых немногими словами развивается сложная картина
целого психологического процесса. Инеса де Кастро
«хотела бороться со своею грешной любовью, но трудно ей это
было, пока они постоянно встречались и его взгляды,
намеки, тайные слова охватывали ее пылающей сетью иску*
шения... Ничто не спасло ее: и, подобно чуду св.
Елизаветы *, черный хлеб ее поста, молитв и бичеваний
превращался в алые розы всепобеждающей любви»... «Молодые
люди не открывали друг другу своей любви, но это и не
было нужно. Слова излишни там, где есть взгляды,
глубокие вздохи, улыбки и молчание. Сетью таинственной
пряжи из надежд, желаний, предчувствий окутывала их
весна, и вся жизнь их была немым, но красноречивым
ожиданием минуты счастья. Оба чувствовали, что
принадлежат друг другу, созданы друг для друга и пока еще не
сказали ни слова, но души их соприкасались крыльями и
сливались в безмолвном объятии, соединяющем ближе,
чем телесные объятия без великого чувства любви». Якопо
Бенедетти, потерявший жену свою Монну Ванну, во
искупление грехов его распутной жизни носившую под
блестящим нарядом грубую власяницу кающейся, «понимал,
какое терзание доставлял своей нежной подруге, и начинал
то с сухими глазами прядать, как лев, по комнате, и
мысли вились у него в голове подобно разорванным тучам и
сухим листьям во время бури; то кидался к ногам Монны
Ванны, целуя ее мраморные руки, обливая их слезами и
умоляя ее встать, причем говорил с ней, как с живой, и
давал ей клятвы изменить свою жизнь и примириться с
богом»...
В своих описаниях и сценах г-жа Щепкина-Куперник
мастерски переносит читателя в среду, обстановку и
миросозерцание своих героев, постоянно сохраняя характерные
черты времени, в которое они действуют. «Давно отзвонил
колокол, заставляющий людей в поле бросать плуг, в
доме— топор или прялку и, благоговейно сложив руки,
399
читать вечернюю молитву ангелу господнему,— говорится в
«Последней ночи короля». — Улегся ветер, разрывавший
сизые тучи, из-за которых золотом и пурпуром горели
небеса; погас костер заката, и ночь сошла на землю в
священном облачении, шитом звездами по синей парче, чтобы
творить великое таинство сна и тишины. И спали птицы на
ветвях деревьев, и звери в норах лесных, и стада в поле, и
утомленные люди в пастушеских хижинах и богатых
домах. Миновал час тушения огней; и нигде почти не
светилось ни одного огня — только неугасимая лампада в
часовне св. Девы, да издали, на высоте, окна королевского
замка. И как будто не знал королевский замок, что кругом
ночь служит святое молебствие отдыху и сну». Многие из
этих описаний дают блестящие картины, настолько
проникнутые жизнью и движением, что читатель порою видит
их перед собою, как будто автор переменил перо на
кисть.
Бытовые условия жизни и религиозный экстаз тех
времен, к которым относятся новеллы Щепкиной-Куперник,
получают у нее яркую окраску. Вот, например, картина
рыцарского замка: «Крепок и мрачен был старый замок;
недаром страх возводил толстые каменные стены и высокие
бойницы, недоверие ковало тяжелые, чугунные засовы и
железные цепи, жестокость рыла глубокие подземелья,
где томились пленники, и хитрость прокладывала тайные
подземные ходы в них. Извне не проникало никаких
звуков, и не было обычного шума рыцарского замка: ржанья
коней, лая собак, колотушки дозорных сторожей, беготни
челяди, громких шуток воинов, закованных в железные
доспехи, и тяжелого стука их шагов по каменным коридорам».
Вот определение, чем должен быть истинный рыцарь:
-«Вежлив без низости, благожелателен без притворства,
щедр к бедным, сострадателен к несчастным; всегда с
оружием в руках — против убийцы и предателя, за
угнетенного и обиженного, всегда готов судить без ненависти и
без пристрастия и предпочесть смерть — малейшему
бесчестию; всегда готов стоять на страже св. церкви, которая не
может сама защищать своих прав с оружием в руках, ибо
обязана ударившему ее по правой ланите подставлять
левую*. У него два сердца: одно твердое, как магнит, для
каждого бесчестного притеснителя; другое — мягкое, как
воск, для каждой несчастной жертвы. И оба должны
принадлежать одной избраннице, одной даме его сердца».
400
Нельзя, затем, не отметить целого ряда образных
выражений, рассыпанных по книге. Синьор Нелло, услышав о
неверности супруги, «потемнел, как вершина горы, когда ее
окутает грозовая туча», Пиа ди Толомеи возбуждает в
жителях Сиенны надежду, что с выходом ее замуж за Нелло
прекратятся междоусобия и что «она, как розовая заря,
взойдет над ночью вражды и прогонит ее своею ангельской
улыбкой»; убийца Инесы де Кастро, «оторвав от нее
детей, схватил ее за одежду так, что распахнулась красная
симарра и обнажилась лилейная грудь — и с жадностью
вонзилось в нее лезвие кинжала»...
Содержание книги так богато и разнообразно, что
подробная оценка его заняла бы слишком много места;
достаточно указать хотя бы на глубоко трогательные
страницы, посвященные болезни и смерти Монны Пии,
отравленной ядовитыми испарениями маремм римской Кампаньи *,
или на потрясающее описание отчаяния дон Педро после
убийства его возлюбленной Инесы. «Пылок и
жизнерадостен был ранее дон Педро; мрачен и угрюм стал он, как
если бы много зим пронеслось над его головою. Подобно
снегу, выпадающему иногда весною, показалась
преждевременная седина в его темных кудрях. Прекрасен и горд
был он- ранее, как орел, — подозрителен и жесток стал он,
словно коршун. Вместо открытой для любви и
справедливости души, из глаз его смотрели на мир божий черные
бездны ненависти и проклятия. Он... жил отшельником; не
тешила его уже ни охота, ни благородные рыцарские игры,
ничто, наполнявшее прежде его дни; не убранный, едва
прикрытый, со спутанными волосами, бледный, как
выходец из гроба, блуждал он по своему дворцу, не пуская к
себе почти никого на глаза; когда же наступала ночь, он
спускался в склеп, где была похоронена Инеса, и там
проводил долгие часы. При неровном мерцании факела,
воткнутого в бронзовое кольцо у стены, в склепе, выложенном
цветным мрамором, лежал он у ее гробницы; и что он
говорил с усопшей, как с живой, как он рыдал, как он ревел,
точно раненый зверь, и вдруг называл ее нежными
именами их любви: звездой его неба, цветком его жизни, душой
его души, — и как клялся ей, что она все же будет
королевой, и как бился головою о плиты подземные и в кровь
кусал свои руки, понимая, что ее уже нет, — про это знали
только холод мрамора, облитого слезами, только пламя
факела, колебавшегося от воплей, вздохов и безумных слов».
26 А. Ф. Кони, т. 7
401
В заключение надо отметить, что художественный такт
никогда в этой книге не покидает автора и что в наиболее
откровенных сценах его «правдивых историй» он ни
единым словом не дразнит и не грязнит воображения
читателя. У него изображение красоты не переходит незаметно
в чувственную смазливость и любовь не обращается в
животную похоть. «Когда Инеса пришла в церковь и увидела
кругом изможденных монахинь, и черепа за решетками, и
каменные изваяния на гробницах — страстно захотелось ей
жизни, захотелось не умереть, не изведав счастья любви.
В эту ночь дон Педро проник в монастырь. Сперва Инеса
думала, что это видение, вечно сопутствующее ее душе,
но когда сильные и нежные руки охватили ее, когда
пылающие уста остановили поцелуем крик, готовый сорваться
с ее уст, — она поняла, что жизнь настигла ее. И в этот
миг соловей запел и громко зашумели вершины кедров,
чтобы никто не мог подслушать вздохов, и шепота, и
молений любви; и луна спряталась за облаком, чтобы никто не
подсмотрел тайны ее счастья».
«Среди цветущих кустов роз и мирт Маргарита
увидела изображение обнаженной женщины из мрамора, но
такое совершенное, что в колеблющемся блеске огней оно
казалось живым. И Гвидо сказал Маргарите: «Видишь —
это твое изображение». И он сорвал с нее лохмотья и
поставил рядом с мраморной женщиной — и нельзя было
сказать, какая прекраснее: мраморная или живая. У обеих
одинаково пышный узел волос точно оттягивал назад
маленькую головку; у обеих было такое же нежное и
совершенное тело: гибкая спина, и девическая грудь, и бедра
округленно-покатые, как стенки тут же стоявших греческих
ваз, и длинные, стройные ноги; но в то время как одна
была холодно-бела и неподвижна, у другой под
золотистою кожей переливалась кровь и бились тонкие жилки, и
она с трепетом закрыла лицо свое распустившимися
волосами: ибо в эту минуту почувствовала блудница
стыдливость, и муку, и счастье любви». Книга г-жи Щепкиной-
Куперник представляет не только самостоятельный и
тонкий труд в области действительно изящной словесности,
но и отрадное явление в текущей литературе, столь бедной
произведениями в этом роде.
ПАМЯТИ H. А. КОТЛЯРЕВСКОГО*
Не принимая на себя за*
дачи оценивать глубину
самостоятельной мысли, прелесть сжатого, богатого и
красивого языка и жизненность образов, характеризующих
произведения так безвременно ушедшего от нас Нестора
Александровича Котляревского, я ограничусь лишь
несколькими отрывочными о нем воспоминаниями. Другие
несомненно исполнят с любовью эту задачу.
Наша первая встреча произошла еще в 1891 году у
приехавшей в Петербург его парижской приятельницы
Г. А Абрикосовой, состоявшей ассистентом при
знаменитом психиатре и неврологе Шарко. Молодой, полный сил
и энергии, чрезвычайно отзывчиво и с оттенком тонкого
юмора относившийся к явлениям общественной жизни,
Котляревский произвел на меня большое впечатление. Оно
усилилось при постепенном знакомстве с его литературными
трудами и докладами в Литературном и Философском
обществах. В последнем, в октябре 1901 года, мне пришлось
выслушать его замечательный очерк философских течений
конца XVIII и начала XIX веков, в котором особенно
блестящею была характеристика учения Канта, верно и
остроумно названного им «узловою станцией» всех
современных систем, не исключая пессимизма Шопенгауэра и
аморализма Ницше. Затем мы нередко встречались и
беседовали в течение десяти с лишком лет, читая лекции в
Александровском лицее, он — по истории русской
литературы, а я по уголовному процессу и судебной этике. За
это время перед русским читателем прошли в его
сочинениях яркие образы главнейших представителей русского
слова и художественной и политической мысли с начала
прошлого века до семидесятых годов. Можно было не
26'
403
разделять некоторых положений автора (как, например, о
религиозной двойственности Лермонтова, который и в уми^
ленном чувстве бога и в ропоте и упреках ему был вполне
цельный и последовательным человеком) *, но нельзя
отрицать, что все эти произведения, а также и последующие
до 1921 года представляют собою непревзойденный до сих
пор анализ главнейших литературных направлений и
синтез их влияния на общественную мысль.
В 1899 году, ввиду приближения столетия со дня
рождения величайшего русского поэта, была образована при
Академии Наук особая комиссия из академиков, некоторых
министров и представителей отдельных областей искусства,
печати и живого слова *. Празднование юбилея было
намечено очень широко. Но «старость ходит осторожно и
подозрительно глядит» *, и это сказалось между прочим на
том, что комиссия отвергла предложение двух своих членов
о предоставлении звания почетного академика во вновь
учреждаемом Разряде изящной словесности при
Отделении русского языка и словесности — не только писателям
и критикам, но и выдающимся драматическим артистам,
художникам и композиторам.
Сказалось это и в том, что прекрасные заключительные
слова стихотворения Тютчева на смерть Пушкина: «Тебя,
как первую любовь, России сердце не забудет» на
юбилейной медали были заменены словами, которые мог
применить к себе в своем самомнении всякий считающий себя
поэтом, которых у нас развелось такое множество:
«Недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой» *.
Первыми членами Разряда были избраны, согласно
штату, двенадцать лиц *, имена большинства которых, как,
например, Л. Н. Толстого, Чехова, Короленко, Соловьева,
не могли не придавать особого блеска учреждению, хотя к
нему Отделение русского языка и словесности долгое
время и продолжало относиться как к нежелательному
пасынку. Ввиду почтенного возраста большинства почетных
академиков и учиненного над Разрядом насилия по поводу
избрания Максима Горького *, результатом чего был уход
Короленки и Чехова, почти каждый год приходилось
избирать новых членов. При этом некоторые из вновь
избранных подолгу отсутствовали из Петербурга внутри России
или за границей, так что приходилось повторять о Разряде
стих Пушкина: «Одних уж нет, а те далече, как Сади
некогда сказал» *. Поэтому был возбужден вполне назрев-
404
ший вопрос об избрании в почетные академики Нестора
Александровича Котляревского. Выборы его прошли
блистательно *, и с 1906 года он приступил к деятельности
Разряда, по своему уставу совершенно свободного в своих
выборах от влияний партийных соображений и давлений
отдельных литературных лагерей. На Разряде лежала
большая работа по рассмотрению представляемых для
соискания Пушкинской премии многочисленных
оригинальных сочинений и переводов и по присуждению за
достойные из них целой или половинной денежной премии или
почетного отзыва. При этом Разряд, согласно взгляду
большинства своих членов, при оценке представляемых
сочинений обращал главным образом внимание не только на
творческое содержание, но и на язык последнего. В первом
отношении приходилось нередко, несмотря на
талантливость произведения, отказывать в присуждении премии
ввиду проявленного в нем стремления угодить низменным
побуждениям читателя, под влиянием начавшей вторгаться
в нашу беллетристику порнографии. Разряд признавал,
что одна талантливость, которой, однако, нельзя отрицать
ни у Казановы, ни у маркиза де Сад, не может служить
исключительным мерилом достоинства произведения.
К разбору сочинений, представленных на Пушкинскую
премию, Котляревский относился с чрезвычайным
вниманием и даже, быть может, с чрезмерною строгостью. Он
упорно стоял на том, чтобы не только Пушкинские премии,
но даже и почетные отзывы присуждались исключительно
за выдающиеся произведения, и не хотел смотреть на «по"
четные отзывы» как на средство «подвязывать крылья»
молодым, несомненно талантливым писателям для
поддержки их против злобной критики из подворотни
некоторых газет. Разряд считал своей задачей оберегать при
разборе представленных сочинений чистоту и богатство
русского языка от начавшегося с конца восьмидесятых годов
прошлого века вторжения в него, без всякой нужды и
основания, иностранных слов, а также оскорбляющих
зрение, слух и здравый смысл выражений, якобы поэтических
оборотов и нечленораздельных звуков. Уже в первом
заседании Разряда был поднят вопрос о задаче Академии в
этом отношении, вызвавший почти во всей печати
сочувственный отзыв, за исключением единичного протеста.
И тут Котляревский настойчиво следовал горячим заветам
Пушкина и Тургенева и резко нападал на пренебрежительное
405
отношение к русскому языку в забвении того, что
родной язык есть величайшее достояние каждого народа,
переживающее всякие политические невзгоды, которые его
постигают.
Под непосредственным наблюдением Разряда в связи
со II Отделением Академии находилось превосходное и
строго обдуманное издание Академической библиотеки
русских писателей, почин которого и главное руководство
им принадлежали Нестору Александровичу.
Нужно ли говорить, каким искусством изложения и
способностью не давать ослабевать вниманию слушателей
отличались его речи в торжественных собраниях Академии
в память замечательных деятелей русского слова. Чаще
всего эта — не всегда легкая и требовавшая большого
подготовительного труда — задача выпадала на долю Овсяни-
ко-Куликовского, Котляревского и мою. Иногда мы
говорили с ним в одном и том же заседании. Так было в день
памяти глубокого мыслителя и, к сожалению, забываемого
писателя князя Владимира Федоровича Одоевского *.
Избранный в 1908 году в ординарные академики
Нестор Александрович вскоре стал во главе Пушкинского
дома и вложил в организацию этого прекрасного
учреждения всю свою душу *. Сотрудники его по Пушкинскому
дому, конечно, помянут его горячими и скорбными
воспоминаниями и расскажут, сколько тяжких физических
трудов пришлось ему выносить при переезде Пушкинского
дома в нынешнее его помещение и водворении в нем *.
Когда образовался Дом литераторов, Нестор
Александрович принял председательство в комитете этого
учреждения и вел заседания в трудные минуты, переживаемые
Домом и его членами, с необыкновенным искусством и так-,
том. Старый председатель разных коллегий, я любовался
тем, как он умел направлять задорные самолюбия и
разгоравшиеся страсти в русло спокойного делового
обсуждения. По временам в публичных заседаниях Дома он делал
блестящие доклады, заставляя слушателей углубляться в
прошлое и на время забывать суетную злобу дня. Таков в
особенности был его доклад 11 февраля 1922 г. «Пушкин
и Россия» *.
В последние годы ему, как было заметно, жилось
тяжело. Реже слышались его остроумные замечания,
сменяемые каким-то затаенным нетерпением в беседах; нередко
спешил он покинуть какое-либо собрание, решительно от-
406
казываясь посидеть и поговорить. Казалось, что к нему,
несмотря на его обычную уравновешенность, отчасти стали
применимы его же слова в этюде о Баратынском: «Есть
особые люди на свете: их сердце — сосуд философской
скорби; со всех цветов жизни они собирают не сладкий
мед, но горечь, и умеют найти ее там, где для других она
неощутима. Предугадывая сердцем молчаливую тайну
вечности, в которой тонет все сущее, они этим представлением
измеряют все события, и потому мимолетная радость и
временный смысл житейских явлений имеет для них малую
ценность» *.
Такое настроение сквозило и в его живом по форме и
прекрасном докладе в Доме ученых о впечатлениях за
границей, откуда он вернулся зимою 1925 года, и на
дружеском «чае» после доклада, несмотря на теплые
приветственные речи и дружескую игру слов. Он как будто
предчувствовал, что на пороге уже стоит невидимо и неощутимо
смерть. Вскоре она унесла его с пути к дальнейшей
влиятельной просветительной деятельности, оставив о нем
цельное и неизгладимое воспоминание *.
КОММЕНТАРИИ
Вошедшие в настоящий том статьи, очерки и воспоминания
А. Ф. Кони в значительной своей части примыкают к
предшествующему историко-литературному шестому тому его сочинений, отчасти
же затрагивают смежные с литературой области — историю русского
общественного движения и культуры второй половины XIX —
начала XX века. Взгляд на литературу как на неотъемлемую часть
общекультурного развития нации был особенно близок Кони,
вследствие чего его суждения о литературных событиях, как правило,
переплетаются с изображением политической и общекультурной
атмосферы эпохи. Таков, например, публикуемый в настоящем томе
очерк «Петербург. Воспоминания старожила», в котором
достопримечательности города рассматриваются преимущественно через
историко-литературную призму. Широкая панорама жизни Петербургского
и Московского университетов начала шестидесятых годов,
нарисованная автором в очерках «Из лет юности и старости», изобличает в нем
человека, для которого вопросы литературы были столь же
волнующими, как и идейные искания той поры, определившие на всю жизнь
его гражданский и нравственный облик. Отметим кстати, что в
названных очерках Кони делится с читателями содержательными
воспоминаниями о писателях А. Ф. Вельтмане и И. И. Лажечникове.
В пестрых в тематическом отношении очерках «За границей и на
родине» содержатся любопытные воспоминаниях об И. С. Аксакове.
В той же группе очерков, в повествовании о синьоре Беляеве, Кони
предпринял небезуспешный опыт собственного художественного
творчества, В статье «Вестник Европы» освещен широкий круг
вопросов, связанных не только с личностью редактора журнала
M. М. Стасюлевича, но и с целым направлением в истории
русской либеральной журналистики. Своеобразие статей, посвященных
Уставу о печати и авторскому праву, состоит в том, что в них
профессионально-юридический подход к вопросу не подавляет в авторе
живого ощущения литературы как важного общенародного дела.
Ш
Первостепенную ценность представляют также вошедшие в
настоящий том персональные очерки, поскольку наше литературное
прошлое оценивается в них глазами наблюдательного, умного и гуманно
мыслящего современника. Достоинство названных литературных
портретов тем несомненнее, что три из них (о В. В. Стасове,
А. Н. Пешковой-Толиверовой и Н. А. Котляревском) до
настоящего времени не были опубликованы.
Таким образом, несмотря на известную неоднородность и
пестроту своего состава, предлагаемый вниманию читателя том
отличается внутренней целостностью и единством, которые не в
последнюю очередь предопределяются личностью самого автора, человека
блестяще одаренного, прошедшего богатую и суровую жизненн>ю
школу. Будучи в молодые годы по образу жизни «умственным
пролетарием», зарабатывавшим кусок хлеба собственным трудом, Кони
имел возможность хорошо ознакомиться с условиями существования
как средних, так и низших слоев русского общества. Вместе с тем
высокие служебные посты, которые на протяжении многих лет
занимал Кони, позволили ему столь же обстоятельно ознакомиться
с бытом и нравами господствующих классов и с самыми мрачными
проявлениями жизни пореформенной, но еще полукрепостнической
России.
Непредубежденный и честный наблюдатель и участник
изображаемых событий, Кони, однако, не всегда мог им дать верную
оценку. Так, в его суждениях об общественных заслугах великой
княгини Елены Павловны (стр. 56, 207—211), в определении
исторической роли В. С. Соловьева (стр. 335—374), в характеристике
значения реформ правительства Александра II (см., например,
стр. 78) и в некоторых других случаях отразились присущие ему,
стороннику идеологии либерализма, слабости и заблуждения.
Названные ошибки составители и редактор тома не считали нужным
оговаривать в каждом отдельном случае, так как внимательный
читатель может их и сам легко обнаружить.
В подготовке к печати текстов и их комментировании
участвовали следующие лица: А, Д. Алексеев («А. Н. Апухтин», «Памяти
H А. Котляревского»), А. П. Могилянский («Совещание о
составлении Устава о печати», «Некоторые вопросы авторского права»,
«Владимир Сергеевич Соловьев»), H. Н. Мостовская («Вестник
Европы»), А. Б. Муратов («Воспоминания о Чехове», «Князь
А. И. Сумбатов-Южин», «Образы прошлого»), В. П. Степанов
(«Петр Великий и народное просвещение»), В. А. Туниманов
(«Петербург. Воспоминания старожила», «Памяти А. П. Философовой»,
«В. В. Стасов»), Н. А. Хмелевская («Из лет юности и старости»,
«За границей и на родине», «Пирогов и школа жизни»). Подготовка
409
текста и комментирование статьи «Незамеченная смерть заметного
человека» выполнена редактором тома Ф. Я, Приймой.
При подготовке тома редактором были использованы ценные
указания
А. Н. Михайловой
Стр. 5 «Петр Великий и народное просвещение»
Первая редакция работы Кони о книге Иоганна Гюбнера
была опубликована под заглавием «Космография Петровских
времен» в журнале «Исторический вестник» (1887 г. № 11;
черновая рукопись хранится в Институте русской литературы
АН СССР: Архив А. Ф. Кони, ф. 134, оп. 1, № 118).
В 1915 году, расширив характеристику географических и
культурных представлений людей Московской Руси о
Западной Европе и включив в статью материал о путешествиях за
границу в петровское время, Кони поместил ее в сборнике
«День печати. Клич. Сборник на помощь жертвам войны»
(М., 1915), озаглавив «Земноводный круг
(Библиографическая справка)». Этот же текст был прочитан автором в ка-*
честве доклада на заседании Общества ревнителей истории
18 февраля 1915 г. В устном выступлении Кони коснулся
вопроса о художественных достоинствах языка старорусской
литературы и о порче языка в начале XX века. Доклад
послужил поводом для избрания Кони почетным членом
Общества и был напечатан во втором томе «Вестника ими.
Общества ревнителей истории» (Пг., 1915) под заглавием
«Петр Великий и народное просвещение». В этой последней
редакции работа вошла в четвертый том «На жизненном
пути. Публичные чтения и речи» (Ревель—Берлин, [1923]).
Печатается по тексту этого издания.
Стр. 5 Текст грамоты приведен во вступительной статье к «По-<
дробному описанию путешествия Голштинского посольства в
Московию и Персию в 1633, 1636 и 1638 годах,
составленному секретарем посольства Адамом Олеарием» — «Чтения
в Обществе истории и древностей российских», 1868, кн. 1,
отд. IV, стр. V.
Стр. 5 Сведения о космологических представлениях Симеона
Полоцкого заимствованы Кони из статьи Л. Н. Майкова
«Симеон Полоцкий» («Очерки из истории русской литературы
XVII и XVIII столетий», СПб., 1889, стр. 69-70),
410
6 Сведения из гравированной «Космографии XVII века и
рукописного «Хронографа». См. Д. А. Р о в и н с к и й, Русские
народные картинки. Тексты, кн. -2, СПб., 1881, № 590,
стр. 264-265, 268; кн. 4, СПб., 1881, № 298, стр. 376, 377.
6 Контаминация цитат из разных редакций русской
«Космографии», приведенных в книге Д. А, Ровинского «Русские
народные картинки. Тексты», кн. 4, СПб., 1881, № 590
(доп.), стр. 466; кн. 5, СПб., 1881, стр. 65, 66.
6 «Четьи-Минеи» — сборники житий святых православной
церкви.
«Китежский летописец» (правильно «Книга
глаголемая летописец»)—произведение, излагающее так называемую
Китежскую легенду и являющееся компиляцией, составленной
между 1702—1790 гг. Источником этой легенды послужила
несохранившаяся летопись Городецкого монастыря, возникшая
в 1164 году. См. В. Л. К о м а р о в и ч, Китежская легенда.
Опыт изучения местных легенд, М.—Л., 1936, стр. 37, 94—95.
Текст «Книги» был опубликован П. А. Бессоновым, см.
«Песни, собранные П. В. Киреевским» (вып. 4, М., 1862,
приложение), где описанные события датированы 1151 —1168 гг.
«Послание архиепископа новгородского Василия ко вла-
дыце Тферскому Феодору» («Полное собрание русских
летописей», т. VI, СПб., 1853) позволяет предположить, что
Василий совершил паломничество в Палестину.
«Домострой» — литературное произведение XVII века,
излагавшее наставления мирянам в духовной, семейной и
хозяйственной жизни.
«Сочинение Г. К. Котошихина «О России в царствование
Алексея Михайловича» (название дано позднейшими
издателями) посвящено описанию внутреннего устройства
Московского государства. Неоднократно издавалось
Археографической комиссией. См., например, изд. 4-е, СПб., 1906.
7 Имеются в виду «Путешествие игумена Даниила по Святой
земле, в начале XII века (1113—1115)», изд.
Археографической комиссии, СПб., 1864; «Путешествие во Св. Землю
священника Лукьянова» — «Русский архив» 1863 г. № 1—5
(предположение, что священник Иоанн Лукьянов и
старообрядец старец Леонтий одно лицо, выдвинутое М. Лилеевым,
приведено также А. Н. Пыпиным в «Истории русской
литературы», т. II, изд. 3-е, СПб., 1907, стр. 242—243);
«Путешествие инока Симеона Суздальского в Италию в 1437 году»
(см. И. П. Сахаров, Путешествия русских людей по Св.
411
Земле, СПб., 1839); «Хождение за три моря тверского купца
Афанасия Никитина» — «Полное собрание русских
летописей», т. VI, СПб., 1853; «Путешествие в Иерусалим казанца
Василия Гагары» ( 1634—-1637)—«Чтения в Обществе
истории и древностей российских», 1871, кн. 1.
Стр. 7 Отчет был опубликован в статье Ф. И. Покровского
«Путешествие в Монголию и Китай сибирского казака Ивана
Петлина в 1618 году (мнимое путешествие атаманов Ивана
Петрова и Бурнаша Ялычева в 1567 году)» — «Известия
Отделения русского языка и словесности», 1913, кн. 4, стр. 270,
278-280.
Стр. 8 Цитаты из «Статейного списка» посольства Б. П.
Шереметева и его же «Журнала путешествия по Германии,
Голландии и Италии в 1697—1699 гг.», «Путешествия стольника
П. А. Толстого 1697—1699 гг.», «Дневника и путевых
заметок кн. Б. И. Куракина». См. «Путешествия русских
людей за границу в XVIII веке», сост. К. В. Сивков, СПб.,
1914, стр. 31, 39, 49-50, 58, 44.
Стр. 8 Цитата из печатной программы школы пастора Эрнста
Глюка (П. П. Пекарский, Наука и литература в России
при Петре Великом, т. I, СПб., 1862, стр. 128). Стефан Рам-
бург был учителем танцев в этой школе и с 1703 по 1708 год
обучал племянниц Петра I, дочерей царя Иоанна Алексеевича
и царицы Прасковьи Федоровны (М. И. Семевский,
Царица Прасковья, 1664—1723, изд. 2-е, испр. и доп., СПб.,
1883, стр. 34, 209).
Стр. 8 Выражение из письма «князь-игуменьи» Ржевской к Петру I
от 8 июля 1714 г. о своем пребывании в Петербурге при
дворе кронпринцессы Шарлотты, жены царевича Алексея
(С. М. Соловьев, История России с древнейших времен,
кн. IX, т. 17, М., 1963, стр. 139; Н. Г. Устрялов,
История царствования Петра Великого, т. VI, СПб., 1859, стр. 38,
322).
Стр. 8 Этот перевод не был напечатан. Рукопись его описана в
работе А. И. Соболевского «Из переводной литературы
петровской эпохи» — «Сборник Отделения русского языка и
словесности», 1908, т. LXXXIV, № 3, стр. 11.
Стр. 8 «Путешествие стольника П. А. Толстого 1697—1699 гг.»—s
«Русский архив» 1888 г. № 3, стр. 343; № 4, стр. 541а
412
Стр. 9 «Описание поездки гр. А. А. Матвеева в Париж в 1705 году»
см. «Путешествия русских людей за границу в XVIII ьеке»,
стр. 52.
Стр. 9 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» ( 1826).
Стр. 9 Имеются в виду «Геометрия славенски землемерие»
(М., 1708), книга Буркгарда фон Пюркенштейна в переводе
Я. В. Брюса; «География генеральная, небесный и
земноводный круги» (М., 1718), книга Бернарда Варения в переводе
Федора Поликарпова. «Книга мирозрения, или мнение о
небесно-земных глобусах» содержала противоречащее церковной
догме изложение гелиоцентрической системы мира, поэтому
первое издание (СПб., 1717) вышло тиражом всего 30
экземпляров; второе издание напечатано в 1724 году в Москве.
Стр. 9 Замечание Петра I на перевод книги В.-Г. Гохберга
«Georgien curiosa» в 1724 году (П. П. Пекарский, Наука и
литература в России при Петре Великом, т. I, СПб., 1862,
стр. 214).
Стр. 9 Цитата из указа от 23 января 1724 г. («Полное собрание
законов», 1-я серия, т. VII, СПб., 1830, стр. 217).
Стр. 14 «Естрейхерцы» — австрийцы.
Стр. 14 В книге И. Гюбнера речь идет о «Георгии», стране,
расположенной между Черным и Каспийским морями.
Стр. 16 «Римская вера» — католичество; «греки» — православные;
«социаны» — последователи рационалистической социниаиской
секты, возникшей в XVII веке в Швейцарии; «реформаты» —
швейцарские протестанты, кальвинисты; «жиды» —
исповедующие иудейство; «лютеры» — немецкие протестанты,
последователи Лютера; «турки» — мусульмане.
Стр. 16 Перечисляются религиозные группировки в Англии.
«Епископские» — сторонники официальной англиканской
(епископальной) церкви, принадлежащей к протестантским церквям.
«Конформитаны» — конформисты, протестанты, принявшие
обрядовую сторону англиканского богослужения и признавшие
подчинение церкви королю. «Некоиформитаны» —
нонконформисты (впоследствии получили имя диссентеров), выступавшие
за независимую от государства церковь и ее реорганизацию
413
по кальвинистскому образцу, «Пуритане» — сторонники
кальвинизма и преобразования англиканской церкви в
пресвитерианскую. «Презвитерские» — пресвитериане, правое крыло
пуритан; «индепенденты» — левое крыло пуританского
движения; в эпоху буржуазной революции политическая партия,
возглавляемая Кромвелем. «Сепараты» — очевидно,
предшественники индепендентов, члены секты «броунистов» (по
имени основателя Роберта Броуна), требовавшие
самостоятельности религиозных общин и полного отделения их от церкви.
«Квакеры» — религиозно-христианская община, проповедующая
всеобщее братство людей, отвергающая священников и
церковные обряды.
Стр. 17 «Яганские кавалеры» — иоанниты (в честь святого Иоанна
Иерусалимского), военно-монашеский орден; впоследствии
получил название Мальтийского рыцарского ордена.
Стр. 17 «Синус финский» (латинское sinus finnicus) — в петровское
время книжное название Финского залива,
Стр. 18 Танаис — древнее лагинское название реки Дон.
Стр. 20 Контаминация не вполне точных цитат из писем Толстого
к Леониду (Л. А. Кавелину) от 22 ноября 1874 г. из Тулы
и 16 марта 1875 г. из Ясной Поляны («Полное собрание
сочинений», т. 62, М., 1953, стр. 125, 161).
Стр. 20 Цитата из «Написания вкратце о царях Московских, о
образех их, и о возрасте, и о нравах» («Изборник
славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы
русской редакции». Собрал и издал А. Попов. М., 1869,
стр. 314).
Стр. 21 Характеристика Тверитинова взята из «Записки Леонтия
Магницкого по делу Тверитинова», составленной с
использованием документов процесса вскоре * после его завершения
в 1717 году (издана Обществом любителей древней
письменности, СПб., 1882, стр. 2—3).
Стр. 21 «Полное собрание законов», 1-я серия, т. I, СПб., 1830,
№ 1, стр. 45, 46; т. V, СПб., 1830, № 3006, стр. 367; т. VI,
СПб., 1830, № 3718, стр. 314.
«Каролина» — свод законов Карла V — один из самых
полных уголовных кодексов XVI века в Европе.
414
21 «Каструм долорис» и «сиктура фунеральная» встречаются
в описании церемонии погребения Петра I со значением
«печальная зала» и «погребальный пояс» («Описание порядка,
держанного при погребении Петра Великого», М., 1725,
стр. 1, 6).
21 Выражение из проекта «Устава Верховному правительству»
(1862) («Сборник русского исторического общества», т. VII,
СПб., 1871, стр. 204).
22 Кони имеет в виду набросок «Как весенней теплою порою
из-под утренней белой зорюшки», получивший в изданиях
сочинений Пушкина название «Сказка о медведихе». «Старица-
пророчица (Барону Дельвигу)» — стихотворение А. И.
Одоевского, приписывавшееся Пушкину и до 1887 года входившее
в собрания его сочинений. Как произведение Одоевского
впервые опубликовано в книге «Кубасов И А., Декабрист
А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения», Пг.,
1922.
22. Ошибка печатного текста, не замеченная Кони. Либретто
оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии» (1904 г., премьера 1907 г.)
написано В. И. Вельским. О нем, как авторе либретто, смотри
также, в речи Кони «Почетный академик К. Р.» («На
жизненном пути», т. IV, Ревель—Берлин, [1923], стр. 157),
произнесенной в том же 1915 году.
22 «El caeleres» (лат.) — в более употребительном написании
«et ceteres» — интернациональное обозначение «и прочие»,
«другие», «остальные»; «lord chief — justice» — в оригинальном
английском написании «Lord Chief — Justice». «Remboursement»
(франц.) — «возмещение»; речь идет о спорах вокруг размера
контрибуции во время заключения русско-японского мирного
договора в Портсмуте (1905 г.). «Le comité de salut public.» —
Комитет общественного спасения — руководящий орган
якобинской диктатуры; переводчик произвел значение слова
«salut» — спасение от прилагательного «salutaire» —
«целительный, благотворный». «Via Venti Seüembre» (итал.) — «улица
20 сентября», получившая название в честь дня освобождения
Рима из-под власти папства в 1870 году; слова «ветры» и
«двадцать» в итальянском языке омонимичны. Госпожа Ро-
лан — во время французской революции 1789 года активная
деятельница партии жирондистов («Gironde»). «Карманьола» —
415
народная песня эпохи французской буржуазной революции;
«кгмарилья» — нарицательное название продажной
придворной клики.
В следующем приведенном Кони примере спутаны два
различных мифа; о Тантале, осужденном богами на вечную
жажду, и Данаидах, наполняющих бездонный сосуд, и
объединены с помощью русской пословицы «черпать воду решетом».
«Торичеллиева пустота» — техническое название
безвоздушного пространства над столбом ртути в ртутном
барометре, изобретенном Торичелли.
Название «Царь-Колокол» носили несколько крупнейших
колоколов в России; последний, самый известный из них,
хранящийся в Московском Кремле, вскоре после отливки был
поврежден (1737 г.) и никогда не звонил.
«Мещанин во дворянстве» — комедия Мольера.
«Пошли вон, дураки!» — так во втором действии
«Женитьбы» Гоголя Кочкарев рекомендует Агафье Тихоновне
ответить сватающимся женихам.
«Указ Петра Синоду» — Кони имеет в виду уже
цитированный им (см. примечание к стр. 9) указ «О переводчиках
и их художествах», где говорится: «Никакой переводчик, не
умея того художества, о котором переводит, перевесть не
может; того ради заранее сие делать надобно таким образом:
которые умеют языки, а художеств не умеют, тех отдать
учиться х}'дожествам; а которые умеют художества, а языку
не умеют, тех послать учиться языкам».
Стр. 23 «Петербург. Воспоминания старожила»
Очерк написан в 1921 году. Впервые опубликован:
А. Ф. Кони, Петербург. Воспоминания старожила, Пг.,
«Атеней», 1922. Перепечатан после смерти автора в пятом
томе «На жизненном пути» (Л., «Прибой», 1929). Печатается
по тексту первой публикации.
Стр. 23 Кони цитирует не совсем точно стихотворение Пушкина
«Стансы» (1826). У Пушкина:
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Стр. 23 Петербург был переименован в Петроград в 1914 году,
с 1924 года — Ленинград.
Стр. 23 С 1918 года площадь Восстания.
416
Стр. 23 Последняя квартира Белинского: Лиговский канал, дом
И. Ф. Галчеккова (Лиговский пр., участок дома № 44; дом
не сохранился), Белинский был знаком с чиновниками,
служившими в управлении и институте путей сообщения, "Он
связывал со строительством железной дороги между
столицами общий прогресс России. Сведения об интересе Белинского
к строительству дороги Кони, возможно, почерпнул из
воспоминаний Достоевского («Дневник писателя» за 1873 год,
«Собрание сочинений», т. 11, М.—Л., ГИЗ, 1929, стр. 10).
Николаевская железная дорога (ныне Октябрьская)
строилась с 1847 по 1851 год. Официальное открытие состоялось
1 сентября 1851 г.
Стр. 24 Цитата из стихотворения Н. А. Добролюбова «Посещение
Новгорода» (26 июня 1858 г.)
Стр. 24 Грузино — имение А. А. Аракчеева, пожалованное ему
Павлом I в 1797 году. В Грузине Аракчеев часто жил не
только летом, но и зимой. Со с*мертью «временщика» род
Аракчеевых прекратился и имение по его воле досталось
Новгородскому аракчеевскому кадетскому корпусу. Летом 1831
года военные поселяне губернии восстали; бунт подавили
верные правительству войска.
Стр. 24 Стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога»
написано в 1864 году, но,в прижизненных изданиях печаталось
с ошибочной датой: 1855 г.
Стр. 24 Трактир Пожарского в Торжке славился знаменитыми
«Пожарскими котлетами».
Стр. 24 Царскосельская железная дорога (между Петербургом и
Павловском) была открыта в 1838 году: первый поезд до
Царского Села — 31 октября 1837 г., до Павловска — 4
апреля 1838 г. Строителем дороги был австрийский инженер фон
Герстнер. Первая в мире железная дорога построена в
1825 году Стефснсоном межд> Стоктоном и Дарлингтоном;
немного позже (в 1828 г.) была открыта дорога Сент-Этьен-
Андрезие во Франции. В 1835 году от Нюрнберга до
соседнего города Фюрта проведена первая железная горога в
Германии.
Стр. 24 Директором железной дороги был Ф. И. Таубе.
Стр. 25 Наиболее трудным участком дороги был подъем между
станциями Бурга и Торбино. Только в конце семидесятых го-
27 А. Ф. Кови, т. 7
417
дов здесь построили обходную линию и железный мост через
реку Мету.
Стр. 25 «Северная Пальмира» — иносказательное название
Петербурга. Пальмира — город в оазисе Сирийской пустыни,
славившийся роскошью и богатством.
Стр. 25 До конца XIX века на всем протяжении Лиговского
проспекта существовал канал, прорытый в 1718—1725 гг. и
вытекавший из реки Лиги (отсюда название канала, а позднее
улицы, ныне проспекта — Лиговка, Лиговский). Канал
кончался бассейном (на месте нынешнего сквера Некрасова), и
оттуда, через Фонтанку, вода подавалась в Летний сад.
В конце XIX века канал, проходивший по территории города,
был заключен в трубу.
Стр. 25 В Петербурге пятидесятых годов было около тысячи
будочников.
Стр. 25 Алебарда — топор и копье на длинном древке.
Стр. 25 Кивер — военный головной убор из твердой кожи с
плоским верхом.
Стр. 26 Казармы лейб-гвардии казачьего полка располагались близ
Шлиссе.\ьбургской заставы; отсюда название улицы —
Казачья (ныне Бехтерева, между улицами Хрустальной и
Седова в Невском районе).
Стр. 26 17 апреля 1863 г. Александр II подписал указ об отмене
телесных наказаний в армии и флоте.
Стр. 26 «Русские народные картинки», СПб., 1881.
Стр. 26 Рассказ «После бала» написан в 1903 году.
Стр. 27 В память о победах над немецкими рыцарями Петр Ï
заложил в Петербурге Александро-Ыевский монастырь
(впоследствии Александро-Невская лавра). В бывшем монастыре
созданы музеи-некрополи; в некрополи превращены бывшие
Лазаревское и Тихвинское кладбища, в Благовещенской церкви
ныне экспозиция Ленинградского музея городской
скульптуры.
Стр. 27 Форейтор — верховой кучер при запряжке четверкой или
шестеркой на одной из передних лошадей.
413
Стр. 27 Глазет — парча с ткаными золотыми или серебряными
узорами; позумент — золототканая лента, повязка.
Стр. 28 Ныне улица Герцена.
Стр. 28 В начале двадцатых годов в Петербурге был освещен
газом Главный штаб, деревянный театр у моста Ломоносова,
часть Невского проспекта. До начала пятидесятых годов
Невский освещался газом только до Владимирского проспекта..
Стр. 28 Ныне Красная улица.
Стр. 28 Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «О погоде»,
ч. I, «Сумерки» (1859).
Стр. 28 Егерь — солдат особых стрелковых полков.
Стр. 29 С 1953 года площадь Мира.
Стр. 29 На Невском проспекте конно-железная дорога открылась
в 1864 году; в 1907 году ее сменил трамвай. Омнибусы по«
явились в 1847 году.
Село Александровское постепенно становилось крупным
промышленным центром, особенно после 1861 года, когда
здесь возникли ткацкие фабрики, сталелитейные и
химические заводы (теперь — часть Невского района). Шлиссель-
бургский тракт (ныне проспект Обуховской обороны) вел от
Александро-Невской площади через Черную речку по
Тихвинскому мосту и далее параллельно Большой Неве до
границы города. Полюстрово (измененное на русский лад
латинское слово paluster — болотный) — большой заболоченный
участок на правом берегу Невы; в первой половине XIX
века— пригородная усадьба графа Кушелева-Безбородко; модное
дачное место до пожара 1868 года. В ближайшие годы здесь
будет открыт курорт.
Стр. 29 Одноконные публичные экипажи с установленной таксой
по 30 копеек в один конец «товарищества общественных
экипажей» появились на улицах Петербурга летом 1863 года.
Стр. 30 Кони цитирует стихотворение Е. П. Гребенки «Почтальон»
(1841). На слова этого стихотворения была написана музыка
Алябьевым.
Стр. 30 Сбитень — горячий напиток из подожженного меда с
пряностями,
27* 419
Стр. 30 Гостиный двор построен в 1761—1785 гг. по проекту
Ж.-Б, Баллен-Деламота и перестроен спустя столетие
Н. Л, Бенуа.
Стр. 30 Шток-фиш — сухая треска.
Стр. 30 См. «Песенник или собрание избранных песен, романсов
и водевильных куплетов», ч. 2. Песни московских цыган,
СПб., 1855, стр. 73—74.
Ci р. 31 Запрещение курить на улицах было снято в июне
1865 года.
Стр. 31 Слоновая улица переименована в Суворовский проспект
в 1900 году к столетию со дня смерти А. В. Суворова.
Стр. 31 Торцом (деревянными шестиугольниками в виде паркета)
застлали часть Невского в 1832 году, весь — только в
1910 году.
Стр. 31 Запрещение курить на улицах было снято в июне
линского» (1855).
Стр, 31 Первое приглашение В. Г. Белинскому «пожаловать» в
Третье отделение последовало 20 февраля 1848 г. 27 марта
на квартиру критика явился жандарм с новым приглашением
от начальника Третьего отделения Л. В. Дубельта.
Белинский просил отсрочить визит, ссылаясь на тяжелое
физическое состояние: «Со спины моей не сходят мушки, да гор-
чишники, и я с трудом хожу по комнате» (В. Г.
Белинский, Поли. собр. соч., М., 1956, т. XII, стр. 469). Поводом
для «приглашений» послужил анонимный пасквиль на имя
шефа жандармов А. Ф. Орлова за подписью «Истый
русский». В авторстве заподозрили Белинского и Некрасова.
Стгр. 31 Сцена, описанная Кони, произошла летом 1844 года.
Тургенев вспоминал: «Мы не решили еще вопроса о
существовании бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, —
а вы хотите есть!» (И. С. Тургенев, Сочинения, т. XIV,
М.—Л., «Наука», 1967, стр. 29).
Стр. 31 Из стихотворения «Памяти Белинского». Могила
Белинского на Волковом кладбище действительно была затеряна.
Лишь в 1856 году библиограф П. А. Ефремов, используя
указания вдовы критика, разыскал могилу.
ш
Стр. 32 В начале XIX века существовала только Средняя улица
(от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Жуковского), в
середине XIX века ее именовали Шестилавочной. Когда Шести-
лавочную продлили до Невского проспекта, ее новый участок
был назван Надеждинской улицей, а позднее вся магистраль
стала называться Надеждинской. С 1936 года — улица
Маяковского.
Стр. 32 Невский проспект, 90—92.
Стр. 32 Газета «Северная пчела» выходила с 1825 по 1864 год,
ее издателями в пятидесятые годы были Ф. В, Булгарин и
Н. И. Греч. Газета «Русский инвалид» была основана
П. П. Пезаровиусом, издавалась с 1813 по 1894 год; с
1862 года — официальный орган военного министерства.
«Полицейские ведомости»--«Ведомости Санкт-Петербургской
городской полиции» (1839—1917). Покровителем Булгарина был
Л. В. Дубельт.
Стр. 32 «Фиглярииым» прозвал Булгарина П. А. Вяземский.
Видок Франсуа-Эжен — в молодости преступник, впоследствии
начальник парижской сыскной полиции, автор мемуаров
(1828), отрывки из которых печатались в «Галатее» (1829).
После эпиграмм Пушкина, Вяземского, Баратынского, Измай*
лова цензура запрещает всякие статьи о Видоке. Цитируемая
Кони эпиграмма, видимо, принадлежит Вяземскому, Она была
сообщена Вяземским в письме к П. А. Плетневу от 31 января
1831 г.: «Вот эпиграмма, которая ходит по Москве. Не знаю,
чья она, но чья бы то ни была, она хороша, потому что дает
пощечину кому подобает». Эпиграмма приписывалась ранее
(и в период написания очерка Кони) Пушкину и
Баратынскому.
Булгарин — поляк по происхождению, воспитывался в
Петербурге в шляхетском кадетском корпусе, в 1812 году
сражался против русских в войсках Наполеона, попал в плен в
1814 году, но ему удалось отвести от себя обвинение в
измене. В 1820 году появился в Петербурге, где и началась его
литературная и журнальная деятельность. Булгарин служил
добровольным «осведомителем» Третьего отделения.
Стр. 32 Русскими обедами славились рестораны: «Старый Палки-
на» в доме против публичной библиотеки на Невском
проспекте и «Новый Палкина» («Палкин К. П.»), на углу Нев«*
ского и Литейного проспектов, в доме Алексеева (ныне —
421
Невский проспект, 47/1, на углу Владимирского проспекта,
там, где сейчас кинотеатр «Титан», 2-й этаж, здание
сохранилось).
Стр. 33 Невский проспект, 72,
Стр. 33 Упоминаемый Кони дом (Лыткина-Лопатина) — на углу
Невского и Фонтанки, у Аничкова моста (ныне дом № 64/40,
здание неоднократно перестраивалось). Здесь жили и
останавливались В. Н. Асенкова, В. Г. Белинский, Ф. А. Кони,
А. А. Краевский, М. А. Маркович (Марко Вовчок), Н. А.
Некрасов, И. И. Панаев, Д И. Писарев, И. С. Тургенев.
Стр. 33 Памятник работы скульптора А. М. Опекушина был
открыт в 1884 году на улице, которой присвоили имя
Пушкина. Улица проложена в семидесятых годах XIX века.
Прежние названия: Компанейская — Малый Невский — Новая.
Стр. 34 В XVIII веке — Преображенская; далее — Грязная; в
1855 году, после смерти Николая I—Николаевская.
С 1918 года — Марата, в честь деятеля французской
буржуазной революции 1789 года Жана Поля Марата.
Стр. 34 Улица Достоевского — с 1915 года. В этом доме жил
Ф. М. Достоевский в начале 1846 года, здесь же
располагалась и последняя квартира писателя (ныне — Кузнечный
переулок, 5, угол улицы Достоевского, дом перестроен). В
настоящее время в доме ведутся работы по организации
мемориального музея Ф. М. Достоевского, восстанавливается, в
частности, лестница, изображенная Кони. См. также т. 6
наст. Собрания сочинений, стр. 441.
Стр. 34 Дворец был перестроен для Белосельских-Белозерских из
здания XVIII века архитектором А. И. Штакеншней дером
в 1846—1848 гг. (ныне угловой дом по правой стороне у
Фонтанки, Невский проспект, 41/42).
Стр. 34 Ныне улица Некрасова. Дом Краевского сохранился
(Литейный проспект, 36, угол улицы Некрасова). Белинский
сотрудничал в «Отечественных записках» Краевского с 1839
по 1846 год.
Стр. 34 Теперь здесь расположена музей-квартира Некрасова.
Стр. 35 Первая строфа стихотворения Некрасова «Праздник
жизни...» (1855).
422
Стр. 35 Цитата из стихотворения Некрасова «Замолкни, Муза
мести и печали!» (1855).
Стр. 35 Журнал «Современник >> основан Пушкиным в 1836 году0
после смерти Пушкина до 1846 года выходил под ред.
П. А. Плетнева, в 1847 перешел в руки Н. А. Некрасова и
И. И. Панаева.
Стр, 35 Н. И. Пирогов отправился на Кавказ 8 июня 1847 г.,
а в начале декабря выехал обратно в Петербург. Пирогов
посетил во время Кавказской войны Дагестан, где под
осажденным аулом Салты в течение двух месяцев производил
опыты но применению эфира при хирургических операциях
(см. Н. И. Пирогов, Отчет о путешествии по Кавказу, M.s
1952). Опыт, полученный во время войн на Кавказе (1847)
и в Крыму (1854), позволил ему разработать систему
организации хирургической помощи раненым на войне («Начала
общей военно-полевой хирургии...» на немецком языке, 1864,
на русском языке 2чч., 1865—1866). Во время его
деятельности на Кавказе произошли перемены в обмундировании ме**
дицинских чинов. Пирогов явился по приезде к военному
министру А. И. Чернышёву; последний отправил его к директору
канцелярии военного министерства H. Н. Анненкову, и тот по
поручению министра объявил ему выговор за «нерадение к
установленной форме». Весть о выговоре недоброжелатели Пи-
рогова разнесли по Петербургу. Пирогов так описывает в
письме к баронессе Раден свое тогдашнее душевное состоянием
«Я так был огорчен выговором, что со мной приключился
истерический припадок со слезами и рыданиями (я теперь
сознаюсь в своей слабости); после этой выходки я твердо
решился подать в отставку и проститься с Академией, а
быть может и Россией...» (цитируется по статье А. Ф. Кони
«Памяти основательницы клинического института (1807 —
1873 гг.)», СПб., 1903, стр. 10) См. стр. 207, 469.
Стр. 35 Ныне Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова»
Стр. 35 Ныне улица Салтыкова-Щедрина. Дом Аракчеева не
сохранился, был расположен на месте Дома офицеров
(Литейный проспект, 20).
Стр. 35 Военный министр В. А. Сухомлинов был отстранен от
своего поста в 1915 году, но остался членом
Государственного совета. В 1917 году предан Временным правительством
423
суду, который приговорил его к бессрочным каторжным
работам. 1 мая 1918 г. по амнистии освобожден, эмигрировал
в Германию, где написал «Воспоминания», вышедшие на
немецком и русском языках в 1924 году.
Стр. 35 Литейный мост построен на плашкоутах в 1851 году
взамен существовавшего с семидесятых годов XVIII века
Воскресенского моста; в 1874—1879 гг. возведен каменный мост.
Главный, или Старый, арсенал находился вблизи Литейного
двора, между улицами Воинова и Каляева. Позднее здание
было перестроено и в нем разместился окружной суд; в дни
Февральской революции 1917 года здание было сожжено.
В начале XIX века напротив Старого арсенала воздвигли
здание Нового арсенала. В середине XIX века Новый
арсенал перевели на Выборгскую сторону в специально
возведенные новые корпуса (от арсенала пошли названия
Арсенальной набережной и Арсенальной улицы).
Стр. 35 См. т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 496—513.
Стр. 36 С 1927 года улица Комсомола.
Стр. 36 Кони имеет в виду Обломова и его жизнь в доме Пшени-
цыной («Обломов», чч. IV—V).
Стр. 36 Старый адрес дачи графа Г. А. Кушелева-Безбородко —
Полюстровский проспект, 105; ныне — Свердловская
набережная, 5. Дом сохранился.
Стр. 36 На даче Кушелева-Безбородко бывали в пятидесятых
годах А. Ф. Писемский, Л. А. Мей, В. С. Курочкин, Я. П.
Полонский, И. Ф. Горбунов, В. В. Крестовский, А. А.
Григорьев, Н. В. Кукольник. Д. В. Григорович так описывает
собрания у графа: «Странный вид имел в то время этот дом
или, скорее, общество, которое в нем находилось. Оно
придавало ему характер караван-сарая или, скорее, большой
гостиницы для приезжающих. Сюда но старой памяти являлись
родственники и рядом с ними всякий сброд чужестранных и
русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен,
приятелей и т. д.» (Д. В. Григорович, Литературные
воспоминания, Л., «Academia», 1928, стр. 274).
Кушелев-Безбородко основал журнал «Русское слово; в
1858 году редактором журнала стал Аполлон Григорьев.
Стр. 36 А. Дюма-отец был приглашен Кушелевым-Безбородко в
Париже. А. Дюма посетил Россию в 1855 году. Свои впе-
424
чатления от встреч и путешествий он изложил в книге
«Impressions de voyage en Russie», Paris, 1858—1859, частично
опубликованной в упомянутой книге Григоровича (стр. 461—
485). О путешествии А. Дюма см.: И. И, Панаев,
Петербургская жизнь («Современник» 1858 г. № 8, отд. II.
стр. 78—89); А. И. Герцен, Александр Дюма (А. И.
Герцен, Собр, соч. в тридцати томах, М., 1958, т. XIII, стр. 349).
Сто. 37 Татьяна Борисовна Потемкина— известная
благотворительница; П. А. Вяземский приводит в мемуарах ряд
анекдотов о ней, называя ее христианской Кориной.
Стр. 37 С 1923 года улицы Чайковского и П. Лаврова.
Стр. 37 Об Апухтине см. стр. 305—308.
Стр. 37 Кони имеет в виду шуточное стихотворение Апухтина
«Жизнь пережить — не поле перейти!» (1874). Анекдот о
встрече поэта с девочкой полностью приведен в очерке
«А. Н. Апухтин», стр. 308.
Стр, 37 Песками называлась бывшая Рожественская часть
Петербурга, лежащая вдоль по берегу Невы, отделенная от
Литейной Лиговским каналом и Таврической улицей, населенная
разночинцами, мелкими продавцами, извозчиками,
чернорабочими (ныне территория, прилегающая к Советским улицам).
Стр. 37 Кондратий Селиванов до ссылки в монастырь жил в доме,
находившемся близ Лиговки, в бывшей Литейной части.
В доме был скопческий корабль (название религиозной
общины у скопцов) с залой, где могло «радеть» более 600
человек. Дом Селиванова посещали министр полиции Балашов
и петербургский генерал-губернатор Милорадович. О скопцах
и Селиванове см. наст. Собрание сочинений, т. 2, стр. 458;
т. 3, стр. 136—157, 496.
Стр. 38 Н. И. Греч писал: «Александр I сделался поклонником
подлого и нелепого Фотия, принимал у себя глупых
безобразных монахов и целовал им руки. Канун отъезда своего в
Таганрог провел он в беседе с каким-то полоумным схимником в
Александро-Невской лавре» («Записки о моей жизни», М.-Л.,
«Academia», 1930, стр. 420). Ср. Ф. Ф. В и г е л ь, Записки,
Мм 1928, т. 2, стр. 170; А. Н. Пыпин, Исследования и
статьи по эпохе Александра I, т. 1, Пг., 1917.
425
Стр. 38 С Î923 года улица Белинского.,
Стр. 38 Моховая с 1826 года.
Стр. 38 Гончаров проживал в этом доме с 1857 по 1891 год
(Моховая, 3; дом сохранился).
Стр. 38 Редакция «Вестника Европы» помещалась на улице
Галерной, в доме Утина (ныне Красная, 20; дом сохранился).
Стр. 38 Ныне мост Белинского, улица Толмачева. Памятник князю
Николаю Николаевичу разрушен в 1918 году. «Панорама
города Палермо», написанная декоратором А. А. Роллером,
помещалась в изящном павильоне напротив ворот
Инженерного замка. Панорама сгорела в 1852 году.
Стр. 38 Аничков мост построен в 1841 году, украшен бронзовыми
группами по проекту П, К. Клодта. Сначала поставили четыре
группы, затем две сняли и отправили в Неаполь. В 1850 году
Клодт создал новые группы.
Стр. 38 Ныне мост Ломоносова через канал Грибоедова.
Стр. 38 Банковский мост построен в 1826 году против здания
бывшего банка, украшен грифонами, крылатыми львами,
которые считались охранителями золота у древних греков.
Стр. 39 Третье отделение «собственной его императорского вели-'
чества канцелярии» с 1838 года на Фонтанке, у Цепного
моста (Фонтанка, 16; дом сохранился е перестроенном виде).
Стр. 39 Очень распространенная легенда. М. Лемке приводит
несколько иные слова Николая I: «Вот тебе вся инструкция.
Чем больше отрешь слез этим платком, тем вернее будешь
служить моим целям...» («Николаевские жандармы и
литература 1826—1855 гг.», СПб., 1908, стр. 17).
Стр. 39 Цитата из нелегального сатирического послания «Из
Петербурга в Москву», автор послания неизвестен («Полярная
звезда», VI, Лондон, 1861, стр. 214).
Стр. 39 Это произошло в 1905 году. Новый Египетский мост
построен в 1955 году.
Стр. 39 Цитата из стихотворения «Русский певец», автор
неизвестен («Голоса из России», Лондон, 1857, кн. IV,
стр. 58—60).
426
Стр. 39 В 1711 году Петр I построил ка одном из островов близ
устья Невы, в память о захваченных здесь двух шведских
судах, дворец, который подарил своей жене Екатерине и
назвал Екатерингофом. Здесь же был разбит парк,
В 1926 году дворец сгорел.
Стр, 40 Измайловский проспект и мост получили название по
дислоцировавшемуся здесь Измайловскому полку. В
двадцатых годах XIX века улицы назывались по нумерации рот:
1 —12 Роты и' Заротная (ныне 1 —13 Красноармейские).
Стр. 40 Памятник Славы перед Троицким собором был поставлен
в 1886 году в память войны 1677—1878 гг. по проекту
Д. И. Гримма. Памятник представлял собой колонну
коринфского стиля, увенчанную статуей Славы; по бокам пьедестала
из финляндского гранита были запечатлены основные
события войны и имена гвардейских полков. Снесен в 1918 году.
Здание Варшавского вокзала построено в 1859 году,
значительно реконструировано в 1949 году.
Стр. 40 Ново-Петергофский проспект составлял часть нынешнего
Лермонтовского проспекта. Школа гвардейских прапорщиков
была на месте построенного в 1844 году Мариинского
театра — Мойка, дворец Чернышёва, близ Синего моста (ныне —
Исаакиепская площадь, участок дома № 6).
Стр. 40 М. Ю. Лермонтов пребывал в школе гвардейских
прапорщиков и кавалерийских юнкеров с 10 ноября 1832 г. по
13 декабря 1834 г. В Ленинграде на Лермонтовском
проспекте перед зданием (ныне дом № 54), в которое в
1839 году была переведена школа, позже переименованная
в Николаевское кавалерийское училище, стоит памятник
Лермонтову работы скульптора Б. М. Микешина.
Стр. 40 Цитата из стихотворения Лермонтова «Я не хочу, чтоб
свет узнал...» (1837).
Стр. 40 Имеется в виду стихотворение «Благодарность» (1840).
Стр. 40 При Петре I — «Потешное поле», позже — Царицын луг;
с 1818 года — «Марсово поле»; это последнее название — от
названия площади в Риме, на которой устраивались
состязания, посвященные Марсу.
Стр. 40 Цитаты из «Медного всадника» А. С. Пушкина (1833).
427
Стр. 40 Кони имеет в виду стихотворение В. С. Соловьева «Пан-
монголизм» (1894).
Стр. 40 Памятник Крылову работы П. К, Клодта открыт в
1855 году.
Стр. 41 Сатира П. В. Шумахера (1867).
Стр. 41 В память спасения Александра II от выстрела в апреле
1866 года Д. В. Каракозова была установлена часовня.
Стр. 41 Церковный праздник 5 июня.
Стр. 41 Пожары в Петербурге начались в ночь с 15 на 16 мая
и продолжались более двух недель. Реакционная пресса и
правительство связали пожары с прокламацией «Молодой
России» и видели главных виновников в лондонских
пропагандистах (Герцене и Огареве). В. И. Ленин писал: «... есть
очень веское основание думать, что слухи о
студентах-поджигателях распускала полиция» (В. И. Ленин, Поли, собр,
соч., т. 5, стр. 29),
Стр. 41 «Апраксин двор» — петербургские торговые ряды,
называемые так по фамилии первого владельца, графа Апраксина.
Стр. 42 Ныне пере\лок Крылова.
Стр. 42 Ныне Садовая улица.
Стр. 42 Здание Государственного банка (Садовая, 26) построено
архитектором Д. Кваренги. Фасад, боковые корпуса и
решетки здания, в которых размещался Пажеский корпус,
возведены по проектам В. В. Растрелли, капелла и православная
церковь — Кваренги.
Стр. 42 «Неото\ченая труба» — великое множество людей,
вереницы, ватаги.
Стр. 42 Н. И. Пирогоз разработал методы аналитического
исследования на замороженном трупе и создал знаменитый атлас,
снабженный пояснительным текстом («Топографическая
анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через за*
мороженное тело человека в трех направлениях», — 4 тома,
1851—1854).
Ст(р5 42 Ныне переулок Гривцова.
423
•Стр. 42 См т. 5 наст. Собрания сочинении, стр. 288—422.
Стр. 43 «Библиотека для чтения» выходила с 1834 по 1865 год.
Первый редактор — О. И. Сенковский, в 1848 году журнал
переходит в руки В. П. Печаткина и А В. Старчевского,
с 1856 года во главе журнала был. А. В. Дружинин.
А. Ф. Писемский становится редактором «Библиотеки для
чтения» осенью 1860 года.
Стр. 43 В романе Писемского «Тысяча душ» (1858) особенно
ощутимы гоголевские традиции, сказавшиеся и в самом
названии произведения- Печатание четвертой части романа
встретило сильное противодействие цензуры.
Стр. 44 «Взбаламученное море» — антинигилистический роман
Писемского (1863). Опубликован в журнале M. Н. Каткова
«Русский вестник», в редакцию которого тогда вошел
писатель.
Стр. 44 С 1939 года проспект Римского-Корсакова.
Стр. 44 Майковы жили на Б. Садовой улице, напротив Юсупова
сада, в доме Адама (ныне — Садовая улица, 51; дом
сохранился).
Стр. 44 В основу поэмы А. Н. Майкова «Смерть Люция» (1863)
положены исторические события времен римского императора
Нерона.
Стр. 44 С 1923 года проспект Майорова. Ныне улица Герцена
(прежние названия —*• Большая Морская — Морская —
Большая Гостиная).
Стр. 44. Памятник Николаю I работы Клодта на площади у
Синего моста (ныне Исаакиевской) был открыт 25 июня 1859 г.
Пьедестал памятника сделан по проекту О. Монферрана.
Четыре аллегорические фигуры Мудрости, Силы, Правосудия и
Веры, которые были в действительности портретами жены и
дочерей Николая I, выполнены скульптором Р. К. Залеманом.
Вокруг среднего яруса постамента четыре горельефа (работы
Н. А. Рамазанова и Р. К. Залемана); они изображают
эпизоды царствования Николая I: подавление восстания
декабристов, усмирение холерного бунта, награждение M. М.
Сперанского за окончание составления Свода законов в 1832 году.
429
Стр. 45 Исаакиевский собор строил архитектор Монферран,
настоящая фамилия Рикар. Постройка собора, начатая еще в
1819 году, была закончена полностью только в 1858 году.
Стр. 45 Реформатская церковь построена в 1863—1865 гг.
немцами-реформатами.
Стр. 45 Зверинец Зама — одна из достопримечательностей
Петербурга пятидесятых годов. В. А. Кокорев, отвечая начальнику
охранки Дубельту, прибегнул к недвусмысленному сравнению
своего визита в Третье отделение с посещением клетки льва*
«Вы изволите бывать на представлениях Зама? В клетку
входит Зам, гладит по гриве царя зверей, и публика с
замиранием любуется этим зрелищем. Но каково бедному Заму?
Конечно, он про себя только и думает: «Унеси бог поскорее!»
(«Русский архив» 1892 г.).
Стр. 45 Большой театр, или Каменный, на Театральной площади
был построен в 1784 году. После пожара 1817 года переделан
Модюи и далее Кавосом. Разобран в 1889 — 1892 гг.
Стр. 45 К постройке казенного театра-цирка приступили в 1847
году на том месте, где позже воздвигли здание Мариинского
театра. Театр-цирк открылся 29 января 1849 г., он был
роскошно устроен и предназначался для конных
драматических представлений и особенно конных балетов. Дирекция
театра пригласила труппу Лежара и Кюзана, которая давала
представления в деревянном цирке у Александрийского театра.
Стр. 45 Благовещенский (Николаевский) мост (ныне Лейтенанта
Шмидта) заложен 1 января 1843 г., строительство закончено
в 1851 году, строитель моста — С. В. Кербедз. Тогда это был
единственный в мире мост на семи гранитных устоях;
постоянный, а не плашкоутный.
Стр. 45 Памятник П. А. Румянцеву (архитектора В. Ф. Бренны)
был воздвигнут на площади Румянцева (ныне Шевченко)
около Академии художеств в 1820 году перед кадетским
корпусом, в котором воспитывался полководец.
Стр. 46 Крылов с марта 1841 года до смерти жил на 1-й линии,
в доме Блинова (ныне— 1-я линия, д. 8).
Стр. 46 Кони имеет в виду стихотворение А. С. Хомякова
«Россия» (1854)..
430
Стр. 46 А. А. Иванов привез из Рима в Петербург после
двадцатилетнего труда картину «Явление Христа народу». Картина
была выставлена в Академии в мае—июне 1858 года.
Картина К. Д. Флавицкого «Смерть княжны Таракановой» была
выставлена в 1864 году.
Стр. 46 А. Н. Муравьев, совершавший по окончанию турецкой
кампании 1828—1829 гг. путешествие в Сирию и Египет,
приобрел на ассигнованные правительством средства
сфинксов. На зафрахтованных кораблях сфинксы прибыли в
Петербург в 1832 году, а в 1834 году были установлены по
сторонам гранитной пристани у Академии художеств.
Стр. 47 В начале XX века против главного фасада здания
Университета был построен Институт акушерства и гинекологии,
с 1948 года входящий в состав Академии медицинских наук.
Стр. 48 Биржевой мост (ныне мост Строителей) — недавнего
происхождения; забивка свай для этого моста закончилась 3
января 1894 г. В 1958—1960 гг. его заново перестроили.
Стр. 48 Ныне парк Ленина, кончающийся у Кировского проспекта..
Стр. 48 В 1844 году Царскосельский лицей был переведен на Ка*
менноостровский проспект, 19 (ныне — Кировский проспект, 21),
в здание бывшего Александрийского сиротского института и
переименован в Александровский. Здание сохранилось.
Стр. 48 Ныне Ушаковский мост.
Стр. 48 А. И. Г е р ц е н, Былое и думы, ч. V, Париж—Италия—•
Париж (1847—1852). См. А. И. Герцен, Собр. соч. в
тридцати томах, АН СССР, М, 1956, т. X, стр. 159.
Стр. 49 Балаганы строились на масленице и к святой неделе на
Адмиралтейской площади. После того, как их перевели с
Театральной площади и Царицына луга, балаганы перестали
быть достоянием только простого народа. Особенно
пользовались успехом представления в роскошных балаганах Легата
и Лемана.
Стр. 49 Пожар в балагане Лемана произошел в последний день
масленицы 1 февраля 1836 г. Давалось представление с
бенгальскими огнями, балаган загорелся, все восемь входных
дверей были притиснуты толпой. Только немногим из
присутствовавших на представлении удалось спастись. Леману за
431
непринятие должных мер осторожности был навсегда
воспрещен въезд в Россию,
Стр. 49 Ныне Народный мост. 8 сентября 1859 г. в Петербурге
проходили торжественные церемонии по случаю
совершеннолетия наследника престола Николая Александровича. Об
инцидентах этого дня писалось в «Ведомостях С.-Петербургской
городской полиции»,
Стр. 49 Вербная неделя — неделя, предшествующая празднику
пасхи.
Стр. 50 Граф Эссен Стенбок-Фермер, купив два смежных дома на
Невском проспекте, построил на их месте по проекту К. А. Же-
лезевича Пассаж, открытый 9 мая 1848 г. Здесь были
торговые ряды, кондитерские, «кабинет восковых фигур»,
панорама. В концертном зале устраивались музыкальные вечера,
пел хор цыган. В 1900-х годах Пассаж перестроили по
проекту Н. П. Козлова: был надстроен третий этаж, появились
колонны у главного входа, реконструировали театральный зал.
Стр. 50 Стихотворение Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная»
(1860).
Стр, 50 В 1859 году начались работы по устройству водопроводов
Обществом с.-петербургских водопроводов, а через три
года на собрании Общества выяснилось, что капитал истрачен,
долги велики, произведенные работы необходимо переделать.
Только в 1863 году на Шпалерной улице (улица Воинова)
, против Таврического дворца была построена водопроводная
станция и высокая сорокасемиметровая башня.
Стр. 50 13 декабря 1859 г. в зале Пассажа состоялся публичный
диспут о деятельности акционерного общества «Русское
пароходство и торговля». Интересы празления общества, защищал
Смирнов; Н. П. Перозио выступал обличителем, и на его
стороне было большинство публики; специалист по
финансовым вопросам Е. И. Ламанский исполнял обязанности
суперарбитра. Ламанский закрыл диспут словами, получившими
широкое распространение и часто приводившимися в печати:
«Мы еще не созрели для публичных споров».
Стр. 50 Н. И. Костомаров — ученый-историк, писатель; во второй
книге «Современника» за 1860 год появилась его статья
«О начале Руси», в которой он подверг резкой критике
432
теорию происхождения русского государства, изложенную
в книге М. П. Погодина «Норманский период русской
истории» (1860). Диспут Погодина с Костомаровым состоялся
19 марта 1860 г. при большом стечении публики. Л. Ф.
Пантелеев так описывал окончание диспута: «Погодин же в
заключительном слове сказал между прочим: «Каковы бы ни
были научные результаты сегодняшнего диспута, он во всяком
случае доказал, что мы созрели до публичных прений».
Раздался гром рукоплесканий, и старика вместе с Костомаровым
вынесли из зала на руках» («Воспоминания», М., 1958,
стр. 233).
Стр. 51 Первый литературно-художественный вечер в Пассаже
проходил 10 января 1860 г.: выступали с чтением своих
произведений И. С. Тургенев («Гамлет и Дон-Кихот»), В. Г.
Бенедиктов («Борьба», «И ныне»), Н. А. Некрасов («Блажен
незлобивый поэт», «Еду ли ночью по улице темной»),
Я. П. Полонский («Наяды», «Иная зима»), Б. М. Маркевич
(отрывок из «Ричарда III» Шекспира в переводе Дружинина).
На вечере в пользу воскресных школ Ф. М. Достоевский
читал «Неточку Незванову», А. Ф. Писемский — первый акт
«Горькой судьбины», А. Н. Майков — «Ниву» и
«Савонаролу». О литературных чтениях см. Е. А, Штакеншнейдер,
Дневник и записки, Academia, 1934, стр. 246; А. Д. Г а л а-
х о в, Сороковые годы («Исторический вестник» 1892 г. № 1,
стр. 140—141). «Поля» — стихотворение Майкова 1862 года.
Стр. 51 Литературно-художественные вечера организовывало
«Общество литературного фонда для пособия нуждающимся
литераторам и ученым и их семьям», основанное в 1859 году.
Инициатива организации общества принадлежит А. В.
Дружинину; в учреждении общества 'принимали участие М. Л.
Михайлов, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-
Щедрин, А. К. Толстой, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский.
Стр. 51 Спектакль «Ревизор» состоялся 14 апреля 1860 г. в зале
дома Руадзе (набережная Мойки, 61); А. Ф. Писемский
играл городничего, Ф. М. Достоевский — Шпекина,
П. И. Вейнберг — Хлестакова; И. С. Кони — Анну
Андреевну; Е. П. Ловягин—Осипа; купцов — И. С. Тургенев,
Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов, А. Н. Майков, В. С. Ку-
рочкин, И. И. Панаев, А. В. Дружинин, А. А. Кра^вский,
Ф. А. Кони. В «Женитьбе» участвовали: Писемский (Под-
колесин), Вейнберг (Кочкарев), И. С. Кони (сваха), О спек-
28 А. Ф. Кони, т. 7 43а
таклях см. П. И. В е и н б е р г, Литературные спектакли
(«Ежегодник императорских театров», 1893—1894, стр. 96 —
110). Описание спектаклей включено в очерк Кони
«А.Ф.Писемский» (т. 6 наст. Собрания сочинений).
51 Студенческие волнения были вызваны «новыми правилами»
(утвержденными 31 мая 1861 г., но сообщенными студентам
осенью), по которым взодились «матрикулы» — зачетные
книжки и обязательная плата за учение, запрещались все
формы студенческой корпоративной жизни. Студенты
отказывались признать новые правила. В Петербурге, Москве и
Казани произошли студенческие волнения. Во время осенних
беспорядков 1861 года в Петербурге было арестовано много
студентов, следствие по их делу закончилось в декабре 1861 г.;
5 человек отправили в ссылку, свыше 30 исключили из
Университета. 20 декабря последовало «высочайшее повеление»
о закрытии Университета «впредь до пересмотра
университетского устава». Но, в сущности, Университет был закрыт
самими студентами. В. И. Ленин писал о студенческих
волнениях как об одном из существеннейших элементов тогдашнего
общественного движения (В. И. Ленин, Поли. собр. соч.,
т. 5, стр„ 29—30).
В знак протеста против полицейских репрессий группа
профессоров (В. Д. Спасович, M. М. Стасюлевич, К. Д.
Кавелин, А. Н. Пыпин, Б. И. Утин) подали в отставку и
покинули Университет. После закрытия Университета по
инициативе студентов и прогрессивной профессуры в залах городской
думы и в училище св. Петра (Невский, 22) были
организованы дневные лекции профессоров по университетским
программам. «Вольный университет» просуществовал с 30 января
по 7 марта 1862 г. Лекции читали Н. И. Костомаров,
П. В. Павлов, М. М. Стасюлевич, И. Е. Андреевский,
И. Я. Горлов, К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, Б. И. Утин,
А. Н. Бекетов, Д. И. Менделеев. Были приглашены
преподаватели из других учебных заведений — И. М. Сеченов,
А. В. Лохвицкий (Н. Г. Чернышевскому, В. В. Берви-Фле-
ровскому, П. Л. Лаврову, А. Н. Пыпину министр
просвещения отказал в разрешении). 2 марта 1862 г. в зале дома
Руадзе на литературном и музыкальном вечере выступил
профессор истории П. В. Павлов, а 5 марта Павлов был
арестован и на следующий день выслан в Ветлугу под надзор
полиции. Решение прекратить лекции в «Вольном университете»
в знак протеста против высылки Павлова было объявлено
публично 8 марта 1862 г. Костомаров отказался
присоединиться к протестующим, чем вызвал бурное негодование
студенческой аудитории. О «думском» Университете см,
Т. С. В о л ь ф с о н, «Вольный университет» 1862 года
(«Вестник Ленинградского университета» 1947 г. №7, стр. 96—107).
Стр. 51 София Тер-Реген, уроженка Голландии, открыла вафельное
заведение в 1845 году («голландские вафли»). Вышла замуж
за доктора зоологии Юлиуса Гебгардта. Супруги устроили
Зоологический сад (открылся 10 августа 18^/6 г,).
Стр. 51 Ныне Академический театр драмы им. А. С. Пушкина
(Площадь Островского, 2).
Стр. 52 В рецензии на водевиль Ф. А. Кони «В тихом омуте
черти водятся» Белинский выступал за создание «народного
водевиля», основанного на материале современной русской
жизни («Поли. собр. соч.», АН СССР, М., 1953—1954, т. I,
стр. 137—138). Белинский сочувственно отзывался о
водевиле Ф. А. Кони «Петербургские квартиры» в рецензиях на
журналы «Репертуар» и «Пантеон»; в статье «Русский театр
в Петербурге» советовал Кони обратить внимание на
«чиновничий быт» (там же, т. ÏV, стр. 331, 400—406).
Стр. 52 Директором императорских театров в Петербурге был
А. М. Гедеонов, с 1842 года ему подчинялись и театры
Москвы; уволен в 1858 году. А. А. Нильский вспоминает
о директоре: «Будучи нервным и раздражительным, он не
умел сдерживаться и так иногда кричал на актеров и на своих
чиновников, что те буквально шалели от его распеканий, часто
совершенно неосновательных и беспричинных. Любимым его
выражением во время выговоров была угрожающая фраза:
«Я тебя в солдаты отдам!»
Были случаи, что в пылу гнева Александр Михайлович
говорил это даже женщинам» (А. А. Нильский,
Закулисная хроника, СПб., 1897, стр. 24),
Стр. 52 Комедия И. С. Тургенева «Месяц в деревне» подверглась
большим цензурным искажениям в 1855 году. В частности,
Тургеневу пришлось превратить жену Ислаева во вдову,
О цензуре тех лет см. Н. В. Д р и з е н, Драматическая
цензура двух эпох, 1825—1881. О театральной жизни Петербурга
см. А. Вольф, Хроника петербургских театров, чч. I—III,
СПб., 1877-1884,
28*
4S5
52 «Вот так пилюли, или Что в рот, то спасибо» (первое
представление—1847 г.), «В людях ангел — не жена, дома
с мужем — сатана» (первое представление—1841 г.) —
пользовавшиеся большим успехом водевили, переделанные с
французского Д. Т. Ленским. «Дон Ранудо де Калибрадос, или Что
и честь, коли нечего есть» (первое представление— 1833 г.) —
водевиль П. А. Каратыгина по мотивам комедии А. Коцебу.
52 Трагедия «Король Лир» (перевод В. А. Каратыгина,
первое представление—1838 г.) с успехом шла на
Александрийской сцене с участием сначала В. А. Каратыгина,
впоследствии — В. В. Самойлова.
52 Людовик XI — персонаж трагедии И. Ауфенберга
«Заколдованный дом» (перевод П. Г. Ободовского. Первое
представление— 1836 г.). Роль Людовика XI в этой трагедии
с огромным успехом исполнял В. А. Каратыгин, а не
В. В. Самойлов. Об игре Каратыгина писал Белинский:
«В каждом слове, в каждом жесте вы видите характер
исторического Людовика XI! Посмотрите, как он согнулся, как часто
он кашляет, задыхается, как медленна и слаба его походка,
какое коварство в его будто бы простодушном смехе, как он
все видит, притворяясь, что ничего не видит, как он умеет
прикинуться обманутым, чтобы вдруг и врасплох схватить
свою жертву и заставить ее во всем сознаться...» («Поли,
coöp: соч.», т. III, стр. 375).
52 Ришелье — персонаж мелодрамы О. Анисе-Буржуа и Г. Ле-
Муана «Серафима Лафайль» (первое представление — 1844 г.).
Первые представления «Серафимы Лафайль» успеха не имели;
пьеса была возобновлена в сезон 1858/59 года. Роль Ришелье
прекрасно сыграл В. В. Самойлов. В сезон 1865/66 года была
поставлена пьеса Э. Бульвер-Литтона «Ришелье», в заглавной
роли с Самойловым. «Ни в одной роли еще Самойлов не
достигал до такой высоты и пьеса произвела и производила
долго потом настоящий фурор», — писал об этой постановке
Л. Вольф («Хроника петербургских театров», ч. III, стр. 33).
53 «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (первое
представление— 1828 г.) — мелодрама В. Дюканжа, переведенная
Р. М. Зотовым. В. А. Каратыгин играл Жоржа де Жермани
и был особенно эффектен в сцене убийства сына,
приводившей в содрогание зал. Мелодрама выдержала почти двадцать
представлений в первый сезон.
«Тарас Бульба» (первое представление—1852
г.)—-драма успеха не имела, выдержала всего семь представлений.
Стр. 53 «Эсмеральда» (полное наименование «Эсмеральда, или
Четыре рода любви», первое представление—1837 г.) —*
мелодрама, переделка В. А. Каратыгиным романа В. Гюго
«Собор Парижской богоматери».
«Материнское благословение, или Бедность и честь»
(первое представление—1842 г.) — переделка Н. Перепель-
ским (псевдоним Н. А. Некрасова) пьесы А. Деннерн и
Г. Лемуана «Божья милость, или Новая Фаншон»,
Стр. 53 Первое представление пьесы И. С. Чернышёва
«Испорченная жизнь»—1861 год. А. Е. Мартынов обычно исполнял
главные роли в пьесах Чернышёва («Не в деньгах счастье»,
«Отец семейства»). Драматург однажды признался, что
«тремя четвертями своего успеха он обязан Мартынову,
который помогал ему не только тем, что брал пьесы для своих
бенефисов и играл в них главные роли, но и тем, что до
появления их в свет делал автору полезные указания и давал
советы» (А. А. Нильский, Закулисная хроника, стр. 104,
105). В комедии Чернышёва «Испорченная жизнь» ведущую
роль Курчаева исполнял не Мартынов, который за год до
премьеры был похоронен, а В. В. Самойлов.
Стр. 53 Первое представление «Грозы» — 2 декабря 1858 г.
Стр. 53 А. Вольф так описывает похороны Мартынова,
состоявшиеся в сентябре 1860 года: «Весь Невский проспект был
запружен народом, так что движение экипажей вовсе
прекратилось. Молодежь и особенно студенты, обожавшие
гениального покойного, заправляли шествием; много при том
суетились и даже переусердствовали: чуть замечали человека
в шляпе, сейчас же раздавались грозные клики: шапки долой!..
До самого Смоленскою кладбища, как по набережной, так и
по линиям Васильевского острова, толпа, стояла огромная»
(«Хроника петербургских театров», ч. III, стр. 20).
Стр. 53 В марте 1856 года И. Ф. Горбунова зачислили актером
в труппу Александрийского театра; там он и служил до дня
смерти — 24 декабря 1895 г.
Стр. 54 Премьера пьесы Л. В. Сухово-Кобылина «Свадьба К ре-«
чинского» состоялась в 1856 году5
437
Стр. 54 Роли «злодеев» играл А. П. Толченов: герцога Альбу
в «Дон-Карлосе» Шиллера; шпиона Гомодея в «Венецианской
актрисе»; Землянику — в «Ревизоре» и т. д.
Стр. 54 «Вильгельм Телль», «Моисей» — оперы Д.-А, Россини,
«Пророк» и «Гугеноты» — Дж. Мейербера, «Немая из Пор-
тичи» — Д.-Ф. Обера. Особенно оживленную «цензурную»
переписку вызвала переделка оперы «Немая из Портичи»,
разрешенная затем под именем «Фенелла».
Стр. 54 Об итальянской опере в Петербурге см. M. М. Иванов,
Первое десятилетие постоянного итальянского театра в
Петербурге в XIX веке (1843—1853 гг.) — «Ежегодник
императорских театров», СПб., 1893—1894, стр. 55—96.
Стр. 54 Первый приезд П. Виардо Гарсиа в Петербург состоялся
в 1843 году.
Стр. 54 Кони имеет в виду стихотворение Н. А. Некрасова «О
погоде», ч. II, «Крещенские морозы» (1865).
Стр. 54 Первое представление оперы А. Н. Верстовского в
Петербурге состоялось 27 августа 1841 г.
Стр. 55 Первое представление оперы М. И. Глинки «Жизнь за
царя» (так по велению царя именовалась опера «Иван
Сусанин») состоялось 27 ноября 1836 г.
Стр. 55 Первое представление «Руслана и Людмилы» было
назначено на 27 ноября 1842 г.; заболела Петрова, и роль Рат-
мира исполняла неопытная актриса. Опера была встречена
публикой холодно. Императорская фамилия покинула театр
в конце пятого действия. После окончания оперы и состоялся-
приводимый Кони обмен репликами между Глинкой и
Дубельтом (см. М. И. Глинка, Записки, М.—Л., 1930, «Аса-
demia», стр. 280; см. также т. 6 наст, Собрания сочинений,
стр. 95).
Стр. 55 Д. М. Леонова в 1852 году дебютировала в «Жизни за
царя» в роли Вани, а 13 апреля 1874 г. распростилась с
публикой в «Лоэнгрине» Р. Вагнера. Все контральтовые партии
после ухода со сцены Леоновой заняла Крутикова.
Стр. 55 И. Я. Сетов пел в пятидесятых-шестидесятых годах
партии Мазаниелло в «Фенелле», Елеазара — в «Жидовке»
Ж.-Ф. Галеви, Манрико — в «Трубадуре» Д. Верди.
438
Стр. 55 В «Театре-цирке» блистали наездницы (амазонки)
Шарлотта Кюзан, Луиза Летар, Елена Кремпон, Людовика Спала-
чинская (ее называли «Тальони на коне»). Любимицей
публики была Лолла-Монтес, дочь андалузского цыгана и
ирландки; о ней восторженно писалось в журнале Ф. А. Кони
«Пантеон» (1852 г., кн. 2).
Стр. 55 Ристания — скачки — наездничество с оружием на коне,
подхват вещей с земли.
Стр. 55 Пьеса «Блокада Ахты» была поставлена в 1850 году
П. Кюзаном под наблюдением участвовавшего в боях на
Кавказе полковника П. К. Мердера. Пьеса ставилась
чрезвычайно помпезно. Ф, А. Кони принадлежит рецензия на эту
постановку (заметка «Театр-цирк», «Пантеон» 1850 г., кн. 2,
стр. 39—42).
Стр. 55 Мелодрама «Жако, или Бразильская обезьяна» (первое
представление—1827 г.) была возобновлена в 1848 году;
в пантомиме П. Кюзана талантливо исполнял роль Жако
(легендарной обезьяны, о которой написано множество историй;
широко известен, например, рассказ А. Погорельского в
«Двойнике») клоун Виоль.
Стр. 56 «Война женщин, или Амазонки XIX столетия» — балет
в четырех действиях; либретто Ж. Перро, музыка Ц. Пуни.
Цензура пропустила либретто в 1852 году с резолюцией
Дубельта: «Ежели была бы пьеса, не пропустил бы». «Caia-
нилла, или Любовь и ад» — балет в трех действиях Ж. Сеи-
Жоржа, Ж». Мазилье — шел в постановке М. Петипа (первое
представление— 1848 г.).
Стр. 56 Михайловская улица (ныне — улица Бродского) была
проложена в тридцатых годах XIX в. Она выходила на
Михайловскую площадь (ныне площадь Искусств).
Михайловский театр, в котором давали представление французская и
немецкая труппы, ныне — Малый оперный театр (площадь
Искусств, 1).
Стр. 56 «Les pommes du voisin» — пьеса В. Сарду. Давалась на
французском театре в пятидесятых годах. Артист Лемениль
служил в театре с 1850 по 1866 год*
439
Стр. 57 «Норма» — опера В. Беллини; большой популярностью
пользовались представления «Нормы» в Петербурге (1850 г.)
с участием Д. Гризи.
Стр. 57 «Скажите ей», «Когда бы он знал» — романсы Е. В.
Кочубей; «Соловей» — романс А. А. Алябьева на слова
А. А. Дельвига; «Гондольер молодой» — романс А. Е.
Варламова на слова Ф. А. Кони.
Стр. 57 «Папироска, друг мой тайный» — песня Оленьки из
водевиля П. С. Федорова «Нет действия без причины»
(«Пантеон» 1850 г., кн. 3).
Стр, 57 Первая в мире Крестовоздвиженская община сестер была
учреждена 25 октября 1854 г. во время Крымской войны.
Н. И. Пирогов (находился в Крыму с 12 ноября 1854 г, по
1 июня 1855 г.) столкнулся с резким противодействием князя
Меншикова, встретившего прибытие сестер грязной репликой:
«Я опасаюсь, чтобы этот институт не умножил бы число
наших сифилитиков» (Н. И. Пирогов, Севастопольские
письма и воспоминания, АН СССР, М., 1950, стр. 106).
Стр. 57 Елене Павловне принадлежало обширное поместье в
Полтавской губернии, заключавшее в себе под общим названием
«Карловки» двенадцать деревень. Под руководством Н. А.
Милютина было составлено Положение об устройстве Карлов-
ского имения, вступившее в силу 21 мая 1859 г. Положение
частично освобождало карловских крестьян от крепостной
зависимости.
Стр. 57 Круглый рынок (раньше Финляндский, Харчевой)
находился между улицей Халтурина и Мойкой; обслуживал
население аристократической части города. Улица имела
следующие названия; Луговая Миллионная — Большая
Миллионная— Миллионная (ныне — улица Халтурина).
Стр. 58 Кони цитирует последние две строчки стихотворения
Ф. И. Тютчева «29-е января 1837».
Стр. 58 В бывшем доме Волконской (Мойка, 12) в 1925 году был
создан мемориальный музей «Последняя квартира А. С.
Пушкина». Одно время в квартире Пушкина помещалось
петербургское отделение охранки. В Стратфорде на Эвоне
находится дом Шекспира, в церкви на берегу Эвона покоится прах
44$
драматурга, его жены и дочерей; там же—бюст "Шекспира.
В Веймаре — национальный музей Гёте и его дом в парке,
склеп Гёте и Шиллера.
Стр. 58 Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Несчастные» (1856).
Стр. 58 Любовник царицы Елизаветы Алексеевны — А. Я.
Охотников по преданию был умерщвлен наемными убийцами
великого князя Константина Павловича. Нарушив этикет,
царица провела последние мгновения у могилы умершего и
установила мраморное изваяние- женщины у разбитого грозою дуба.
Стр. 59 На Никольском кладбище были похоронены писатели:
И. А. Гончаров, А. Н. Апухтин, П. И. Вейнберг, Ф. А. Кони;
артисты — И. Ф. Горбунов, В. Ф. Комиссаржевская, А. Г.
Рубинштейн: скульптор М. О. Микешин и другие.
Стр. 59 Похороны В. Н. Асенковой состоялись 22 апреля 1841 г.
Стихотворение Некрасова 1854—1855 гг.
Стр. 59 Н. А. Некрасов, «О погоде», ч. ÏI, «Крещенские морозы».
Стр. 60 В России спиритизм получил распространение в середине
XIX века. Кони цитирует окончание (по рукописи)
стихотворения Пушкина «Воспоминание» (1828).
Стр. 61 Ныне Гражданская.
Стр. 62 Савояр — житель Савойи. О шарманщиках см. Д. В. Г р и«
г о р о в и ч, Петербургские шарманщики — в книге: Д. В. Г р и-
г о р о в и ч, Избранные произведения, М., 1954, стр. 3—22.
Стр. 62 И. И. Излер — владелец кондитерской, а затем ресторана
и увеселительного сада «Минеральные воды»,
Стр. 62 Пароходы купца Тайвани — «Сергий», «Борец»,
«Откупщик» — в пятидесятые-шестидесятые годы XIX века
курсировали от главной пристани у Летнего сада и от Английской
набережной (ныне — Красного флота) до Аптекарского,
Каменного и Крестовского островов, Новой деревни и Черной
речки.
Стр., 63 Карикатурный альбом «Ералаш» М. Л. Неваховича
выходил с 1846 по 1849 год.
441
Стр. 63 Аллегри-лотерея устраивалась в общественных собран
ниях и разыгрывалась сразу же по покупке билета.
Стр. 63 Сам А. Ф. Кони; встреча с А. Л. Неваховичем описана
им в воспоминаниях «Житейские встречи». См. «На
жизненном пути», т. II, М., 1916.
Стр. 63 Милютины лавки — роскошные гастрономические магазины
на Невском (под Думой).
Стр. 65 «Из лет юности и старости»
Воспоминания от качала до слов «... ведь это был я!..»
Епервые опубликованы в книге Кони «На жизненном пути»,
Е разделе «Житейские встречи», в части главы III — «В
дороге. — Гимназические воспоминания», с небольшими
расхождениями в тексте (см. т. I, СПб., 1912, стр. 636—650; т. I,
изд. 2-е, М., 1913, стр. 698—712; т. II, изд. 3-е, М., 1916,
стр. 348—362); текст от слов «Когда в декабре 1861 года» до
«...не выходит у меня из памяти...» — в «Ежемесячных
литературных и популярно-научных приложениях» к журналу
«Нива» (1912 г. № 10—12), под заглавием: «Житейские
встречи. Очерк А. Ф. Кони. (Из воспоминаний молодости
и старости)». В книге «На жизненном пути» этот текст
напечатан в разделе «Из воспоминаний», в гл. X «Из
студенческих годов» (см. т. II, изд. 2-е, СПб., 1913, стр. 290—370).
В настоящем томе воспоминания печатаются с
исправлением явных опечаток по тексту последнего прижизненного
издания книги «На жизненном пути» — в разделе «Житейские
встречи» (т. III, ч. I, изд. «Библиофил», Ревель—Берлин,
[1922]). В предисловии «От автора» указано: «Очерки
«Житейские встречи», напечатанные частями и не во всех
изданиях I и II томов, помещаются здесь целиком и с
значительными дополнениями».
Подготовляя том к печати, Кони подвергнул текст
тщательной стилистической и редакционной правке, ввел ряд
крупных и мелких дополнений, устранил неудачные
выражения и повторения, изменил некоторые формулировки,
связанные с новой датой выпуска книги.
Сохранилась наборная рукопись текста, впервые
напечатанного в «Ежемесячных литературных и популярно-научных
приложениях» к журналу «Нива». Рукопись имеет то же
заглавие— «Житейские встречи (Из воспоминаний молодости и
442
старости)», после текста подпись и дату: «А. Ф. Кони. 1912 г„
Старая Русса», находится в ИРЛИ, ф. 134, оп. 1, № 56,
лл. 1—63. Там же хранятся страницы многочисленных
вставок и дополнений (лл. 64—113), отражающих работу автора
над последующими редакциями текста. История «бедной
Лизы», вошедшая только в издание 1922 года (от слов на
стр. 151 «В бытность мою студентом» до конца), в рукописи
озаглавлена: «Житейская трагикомедия» (лл. 106—113).
В той же папке находится тетрадь с тщательно
переписанным беловым текстом, озаглавленным: «Житейские встречи»
(лл. 153—285). Текст разделен на одиннадцать глав
(девятая глава вырзана). Восьмая глава этого текста (лл. 215 об.—
227 об.) соответствует началу публикуемых воспоминаний до
слов «не нравились его гимнастические упражнения» (стр. 71),
а третья глава (лл. 169—175 об.)—тексту от слов:
«В 1861 году я и четверо моих товарищей» (стр. 71) до
слов: «ведь это был я!» (стр. 77).
Текст обеих глав не совпадает с последней редакцией,
есть пропуски (например, нет воспоминания о М. П. Погодине
на стр. 75, 76), есть и дополнения, не вошедшие в печать, но
представляющие несомненный интерес.
В этой беловой рукописи полностью раскрыты имена,
зашифрованные в издании начальными букзами или вообще не
указанные. Так, благодаря рукописи удалось раскрыть
фамилию Николая и Григория Перетиов, фамилию Прудникова,
узнать имя спутницы Кони, о которой он пишет на стр. 73,
где после слов: «В одном купе со мною сидела дама средних
лет» в рукописи следует: «с величавым видом и любезною
речью. Чувствовалось, что она долго жила за границей и
привыкла там играть некоторую роль. Мы разговорились, и
оказалось, что она знаменитая Ольга Киреева, по мужу
Новикова, живущая почти всегда в Англии и играющая роль
защитницы достоинства и достоинств России» (лл. 173—173 об.).
Эти расшифровки в каждом отдельном случае в данном
издании не оговариваются.
Приведем еще несколько примеров, отличающих текст
рукописи от печатного, которые начинаются с первых же
строк.
Вместо слов от «С 1855 по 1858 год» до «был добрый,
отзывчивый и способный мальчик» (стр. 65) в рукописи
следует: «В четвертом классе 2-й петербургской гимназии, куда
я поступил из немецкой Анненской школы, у меня был
товарищ Николай Григорьевич Перетц, воспоминание о котором
443
связано у меня с одною из тех житейских перемен в человеке,
к которой применимы стихи Некрасова:
Ликует враг, молчит в недоуменье
Вчерашний друг, поникнув головой.
Юный Перетц был добрый, отзывчивый и способный маль«*
чик» (л. 215 об.).
Этот текст, почти без изменений, но с зашифрованными
именем и фамилией Перетца, вошел во все издания, кроме
последнего.
В рукописи имеется также не включенный в издание
эпизод о том, как Перетц ранил Кони. После слов «...считая
меня зачинщиком всей этой затеи» (стр. 66) читаем: «Едва
учитель вышел из класса, он бледный и закусив нижнюю
губу, бросился на меня и ударил меня перочинным ножом в
грудь, нанеся довольно глубокий порез в левое плечо.
Товарищи помогли завязать рану платком, и решено было оста*
вить все это в тайне, и я пришел домой со струившеюся под
сюртуком кровью, отказавшись объяснить испуганным
родителям происхождение моей ранки» (лл. 218—218 об.), Благо*
даря этим словам более понятным делается дальнейший текста
«С этих пор он преисполнился ненавистью ко мне и еще более
замкнулся в своем отчуждении» (стр. 66).
Далее, вспоминая о своем товарище Николае Бере, Кони
пишет, что Бер имел «впоследствии отношение к ужасному
несчастию на Ходынке, во время коронации 1896 года»
(стр. 68). В рукописи об этом сказано более определенно,
Бер назван «одним из будущих виновников Ходынки»
(л. 221 об.).
Рассказывая о своей встрече с Ольгой Алексеевной
Новиковой, Кони говорит: «...узнав, что ее спутник, которого
она со слов «Московских ведомостей» представляла себе «по*
трясателем основ», при ближайшем с ним знакомстве таковым
ке оказывался и был чужд всякой партийной окраски»
(стр. 74). В рукописи это место читается так: «Узнав, кто
я, она наивно выразила удивление умеренности моих полити-!
ческих взглядов, так как, начитавшись «Московских
ведомостей», она, очевидно, воображала, что я должен быть по
меньшей мере анархист» (л. 173 об.).
Сохранилась также верстка третьего тома (ИРЛИ, ф. 134,
оп. 1, № 89), но так как в ней нет ни авторской, ни коррек«
торской правки, интереса для изучения текста она представ«*
лять не может,
ш
Стр. 65 Начало широко распространенной старинной студенческой
песни. В 1267 году встречается как заглавие одного из
гимнов у немецкого поэта-сатирика Себастиана Бранта. Впервые
напечатана в 1776 году.
Стр. 66 Петр Амьенский (Пустынник) и Готфрид Бульонский —
видные участники (со стороны Франции) первого Крестового
похода (1096—1099).
Стр. 66 Цитата из басни Лафонтена «Два голубя» («Les deux
pigeons»).
Стр. 67 Измененная цитата из стихотворения А. С. Пушкина
«К Чаадаеву» (1818). У Пушкина:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда 1 пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна...
Стр. 68 По случаю коронации Николая II 18 мая 1896 г. в
Москве на Ходынском поле было организовано народное
гуляние с раздачей царских подарков (узелок с эмалированной
кружкой, сайкой, полфунтовой колбасой, вяземским
пряником и 3Д фунта конфет и орехов). Из-за преступной
нераспорядительности организаторов место празднества было
выбрано крайне неудачно; На поле оказались, как писали
«Московские ведомости», «неровности почвы, канавы и колодцы,
слегка покрытые досками». При большом стечении народа,
который начал собираться на поле еще с вечера, произошла
давка, многие провалились в эти ямы и были задавлены.
«Сбитые с ног в [...] напиравшей толпе не могли более
подняться, через них катилась народная волна, затаптывая
несчастных до смерти» («Московские ведомости» 19 мая 1896 г.
№ 136). На Ходынском поле погибло около двух тысяч
человек, несколько десятков тысяч было изувечено.
Стр. 68 «Орфей в аду» — оперетта Ж. Оффенбаха ц.1 слот
Г. Кремье и Л. Галеви (1858). В Петербурге ставилась на
сцене в переводе В. Александрова-Крылова (1865).
Стр. 68 «Колокол» — первая бесцензурная русская газета,
издававшаяся в Лондоне, а затем в Женеве, в основанной ее
редакторами А. И. Герценом и Н. П. Огаревым вольной русской
' Во многих дореволюционных изданиях было: «заряж
445
типографии. Всего было выпущено 245 номеров, с 1 июля
1857 г. по 1 июля 1867 г. Главной ее задачей, по выражению
Герцена, была борьба против бесправия и произвола, царящих
в России. Несмотря на преследования царской власти, газета
получила в России широкое распространение.
Стр. 68 «Полярная звезда» — альманах, издававшийся А. И.
Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне и Женеве. С 1855 по
1859 год вышло пять книг альманаха, с 1861 по 1862 год—■
две, в 1868 году-—одна, последняя книга. Издание было
названо в память альманаха К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева
и продолжало революционные традиции декабристов.
Стр. 69 См. т. 3 наст. Собрания сочинений, стр. 232—268.
Стр. 70 Ср. эпиграмму Ср. И. Тютчева, посвященную П. А.
Шувалову (1867?):
Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой —
Петр по прозвищу четвертый,
Аракчеев же — второй.
См. также т. 5 наст. Собрания сочинений, стр. 278—287.-
Стр. 70 О том, что Г. Г. Перетц был агентом Третьего отделения
и формальным виновником ареста Чернышевского, см. Н. Г, Р о-
з е н б л ю м, Г. Г. Перетц — агент III отделения
(«Литературное наследство», т. 67, М., 1959, стр. 685—697).
Стр. 71 Цитата из стихотворения В. С. Курочкина «Двуглавый
орел» (1857). Впервые напечатано, без указания имени
автора, в издании А. И. Герцена «Голоса из России» (ч. 4,
Лондон, 1857, стр. 49—50).
Стр. 71 Первый, несколько искаженный стих из приписываемого
А. С. Пушкину четверостишия, названного «Подражание
французскому» и напечатанного в сборнике «Русская
потаенная литература XIX столетия» (Лондон, 1861, стр. 79):
Народ мы русский позабавим,
И у позорного столпа,
Кишкой последнего попа,
Последнего царя удавим.
Стр. 72 Немецкое название школы св. Анны.
Стр» 73 Петербургский университет был закрыт 20 декабря 1861 г.
446
Стр. 73 Речь идет о докторе Левковиче.
Стр. 74 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830).
Стр. 74 После того как 31 марта 1878 г. Петербургский окружной
суд под председательством Кони вынес оправдательный
приговор Вере Засулич, в «Московских ведомостях» появилось
несколько статей, в которых осуждался порядок ведения суда
(«Московские ведомости» 4—6 апреля 1878 г. № 87—89).
Стр. 74 Скульптор Н. А. Рамззанов 6ыа одним из авторов
барельефов на пьедестале памятника Николаю I в Петербурге,
на Исаакиевской площади (1856—1859). См. также стр. 44.
Стр. 75 Из художественных произведений Е. И. Вельтман
известны: «Лидия. Рассказ из жизни музыкального учителя»
(М., 1848, подпись Е. Кубе), «Виктор. Повесть» (Мм 1853),
«Приключения королевича Густава Ириковича, жениха
царевны Ксении Годуновой» (Пб., 1867).
Стр. 75 С 1850 по 1855 год Катков был редактором «Московских
ведомостей». С января 1863 года он стал редактировать и
арендовать газету совместно с П, М. Леонтьевым. С 1875 года
Катков возглавлял издание один.
Стр. 75 В «Московских ведомостях» за 1863 год подобных
фельетонов за подписью «Русской» нет.
Стр. 76 В 1863 году в «Московских ведомостях» появился ряд
статей М. П. Погодина, в том числе под заглавием «Заметки
и выписки из газет», которые публиковались в нескольких
номерах (17 июля, № 156; 2 августа, № 168; 10 августа,
№ 174; 20 августа, № 181). Над этими статьями издевался
Герцен, напечатав в «Колоколе» (1 сентября 1863 г., л. 170)
в отделе «Смесь» заметку: «Помешательство Погодина
принимает опасный характер» (А. И. Герцен, Собр. соч. в
тридцати томах, т. XVII, стр. 255, 453—454).
Стр. 76 Неточная цитата из XII строфы поэмы А. С. Пушкина
«Домик в Коломне» (1830).
Стр. 77 Министерство народного просвещения положител*но
отнеслось к организации лекций. 13 января 1862 г. было дано
разрешение профессору Н. И. Костомарову «открыть в Санкт-
Петербурге курс публичных лекций из русской истории, по
447
представленной им программе. Весьма бы желательно, —
говорилось далее в этом разрешении, — чтоб примеру г.
Костомарова последовали, в скором времени, и другие почтенные
профессора, которые чрез то оказали бы большую услугу
бывшим студентам закрытого Санкт-Петербургского
университета». 16 января подобное разрешение было дано профессору
ботаники А. Н. Бекетову, 4 марта — математику П. Л. Чебы-
шеву (см. «С.-Петербургские ведомости» 13, 16 января и
4 марта 1862 г., № 9, 11 и 48, а также стр. 51 наст. тома).
78 Английский историк Г.-Т. Бокль был автором книги
«История цивилизации в Англии» (1857—1861).
79 Этот вечер собрал громадное стечение народа (около трех
тысяч), вызвал большой интерес слушающих и своей
тщательно продуманной программой определил отношение к нему
публики и прессы. Выступления Достоевского с чтением
отрывков из «Записок из „Мертвого дома"», Некрасова,
который прочитал стихотворение недавно арестованного поэта
М. Л. Михайлова «Белое покрывало», доклад известного
своим оппозиционным настроением профессора П. В. Павлова;
в музыкальной части — исполнение марша Бетховена
«Афинские развалины» в переложении А. Г. Рубинштейна,
посвященного восстанию угнетенных греков, и, наконец, первое
публичное выступление вождя русской революционной
демократии И. Г. Чернышевского с воспоминаниями о Н. А.
Добролюбове — были восторженно встречены прогрессивно
настроенной частью собравшихся, в особенности революционной
молодежью. Речь Чернышевского вызвала неудовольствие,
возмущение и издевательства реакционной части публики,
официальной прессы и правительственных органов, в
результате чего в Петербурге, а затем в Москве и других городах
были введены вскоре ограничительные «Правила
литературных чтений», согласно которым программа каждого чтения
должна была утверждаться попечителем учебного округа,
после разрешения ее военным губернатором. Сообщения о вечере
2 марта и последующих, связанных с ним дискуссиях
печатали многие газеты и журналы того времени
(«С.-Петербургские ведомости» 24 февраля, 11 и 16 марта 1862 г.; «Наше
время» 15 марта 1862 г.; «Северная пчела» 13 марта 1862 г.;
«Отечественные записки» 1862 г. № 3; «Искра» 23 и 30
марта 1862 г. и др.). Подробно об этом вечере и о политичен
«ском значении выступлений Павлова и Чернышевского см.
Г. В. Краснов, Выступление Н. Г Чернышевского с
воспоминаниями о Н. А. Добролюбове 2 марта 1862 г. как
общественное событие (сб. «Революционная ситуация в России
в 1859—1861 гг.», М, «Наука», 1965, стр. 143—163).
Стр. 79 Слова, близкие к неоднократно повторяющемуся
евангельскому выражению: «Кто имеет уши слышать, да слышит»
(от Матфея, гл. 11, ст. 15; гл. 13, ст. 9; от Марка, гл. 4,
ст. 9 и 23).
Стр. 79 Возможно, чю отрицательное отношение молодежи к
Б. Н. Чичерину в то время было вызвано его статьями «Что
нужно для русских университетов?», носившими реакционный
характер («Московские ведомости» 10, 14, 26 ноября 1861 г.,
№ 247, 250, 260). Об этом писал в своих «Воспоминаниях»
Л. Ф. Пантелеев (Л., Гослитиздат, 1958, стр. 265).
Стр. 80 Евгений Исаакович Утин, сын миллионера-откупщика
Исаака Осиповича Утина.
Стр. 80 См. т. 6 наст. Собрания сочинений, стр. 585.
Стр. 80 Ср. слова Репетилова «Шумим, братец, шумим...»
(А, С. Грибоедов, Горе от ума, действие 4, явление 4).
Стр. 80 Персонаж из комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба
Кречинского» (1855). Расплюев играл роль шута, служил
мишенью для насмешек и издевательств.
Стр. 80 Статья «Учиться или не учиться» за подписью «ъ»
(А. В. Эвальд) была напечатана в «С.-Петербургских
ведомостях» 1 мая 1862 г, № 92 и перепечатана в «Северной
пчеле» 5 мая 1862 г. № 120. В этой статье автор обвинял в
закрытии Университета самих петербургских студентов.
Против этого утверждения выступили П. Л. Лавров в статье
«Учиться, но как» («С.-Петербургские ведомости» 16 мая
1862 г. № 104; перепечатана: «Северная пчела» 23 мая
1862 г- № 137) и Н. Г. Чернышевский в статье «Научились
ли» («Современник» 1862 г. № 4). Об этом см. Н. Г.
Чернышевский, Поли. собр. соч., т. X, М., 1951, стр. 1022—1024.
Стр. 80 О своей готовности продолжить чтение лекций Н. И.
Костомаров печатно заявил в газете «С.-Петербургские
ведомости» (20 марта 1862 г. № 61). Однако уже на следующий
29 А. Ф. Кони, т. 7 449
день в той же газете было объявлено о прекращении лекций:
«По распоряжению г. управляющего министерством
народного просвещения, вследствие беспорядков, бывших на лекции
г. профессора Костомарова, в зале городской думы,
навлекающих нарекания на студентов здешнего университета,
прекращаются разрешенные прежде публичные лекции следующих
гг. профессоров и преподавателей: Костомарова, Утина, Спасо-
вича, Менделеева, Калиновского, Благовещенского,
Ивановского, Чайковского, Лохвицкого и Гадолина»
(«С.-Петербургские ведомости» 21 марта 1862 г. № 62). Об истории
возникновения и закрытия «Думского университета» писали
многие мемуаристы (см., например, Л. Ф. П а и т е л е е в,
Воспоминания, М., Гослитиздат, 1958, стр 258—270).
Стр. 81 Слова, восходящие к евангельскому тексту (от Луки, гл. 23,
ст. 34).
Стр. 81 «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного
сердца», М., 1796. На титульном листе имя автора не указано.
Стр. 83 «Лекции из средней истории Т. Н. Грановского» (1.
Введение в историю средних веков. 2. Юлий Цезарь. 3. Римская
империя при первых императорах. 4. Август Тиверий,
Калигула, Клавдий, Нерон) были напечатаны в журнале «Время»
1862 г. № 4, стр. 5—39 и № 6, стр. 75—98.
Стр. 83 См. т. 6 наст. Собрания сочинений, стр. 111, 258.
Стр. 84 Кони имеет в виду статьи В. Я. Фукса, напечатанные в
«Русском вестнике»: «Суд присяжных» (1885 г. № 2—3),
«Мировой .суд» (1885 г. № 8—9), «Судебные доктрины
1861—1864 гг. на практике» (1887 г. № 1, 2). В последней
статье есть выпады против Кони. Эта статья была написана
через 25 лет после встречи его с Фуксом.
Стр. 84 Речь идет о книге «Русское гражданское право. Чтения
Д. И. Мейера, изданные по запискам слушателей под редак-
циею А. Вицына». Первый том («Общая часть») вышел в
1861 году, в 1862 году вышел второй том («Гражданские
права в отдельности»). В том же 1862 году оба тома вышли
вторым изданием в одной книге.
Стр. 85 Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина
«Воспоминание» (1828),
450
Стр. 85 «Летопись Нестора» доведена до 6618 года (по старому
летоисчислению). Указанная цитата восходит к тексту
«Продолжения Лаврентиевской летописи» и относится к 6684 году
(см. «Полное собрание русских летописей», т. I, СПб., 1846,
стр. 160).
Стр. 85 Цитата из «Летописи Нестора», относящаяся к 6370 году
(см. «Полное собрание русских летописей», т. I, стр. 8).
Стр. 85 «Правда Ярославичей» — юридический и литературный
памятник второй половины XI пека.
Стр. 86 Очевидно, имеется в виду следующее примечание («толк»)
к 157 артикулу «Устава воинского» от 30 марта 1716 г.:
«... не должен есть от соперника себе первого удара ожидать,
ибо чрез такой первой удар может тако учиниться, что и
противиться весьма забудет» («Полное собрание законов
Российской империи с 1649 года», т. V (1713—1719), СПб.,
1830, стр. 367). См. также стр. 21.
Стр. 86 Речь идет о народной лубочной картинке «Мыши кота
погребают». Описание и толкование ее как пародийного
изображения похорон Петра I см. Д. Р о в и н с к и й, Русские
народные картинки, СПб., 1881, кн. IV, стр. 256—269, и кн. V,
стр. 155—158.
Стр. 86 Эта работа Беляева, удостоенная премий Демидова и
графа Уварова, была издана в 1860 году в Москве, в
университетской типографии.
Стр. 87 Полное название книги: «Русский народ и государство.-
История русского общественного права до XVIII века.
Сочинение В. Лешкова», М., 1858.
Стр. 87 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Демон» (1823),
Стр. 88 Несколько сокращенная цитата из письма И. С. Аксакова
к К. С. Аксакову от 17 сентября 1856 г. («И. С. Аксаков
в его письмах», т. III, Письма 1851—1860 гг., М., 1892,
стр. 281).
Стр. 88 В переводе на русский язык эта книга была издана в
1861 году, вторым изданием в 1863 году. В «Предисловии
автора» сказано, что его труд имеет в виду удовлетворить
потребности учащегося и читателя, незнакомых ни с
анатомией, ни g физиологией. Вопросу о голоде посвящена целая
глава книги,
29*
451
Стр. 89 Книга Б. Н. Чичерина «Областные учреждения в России
в XVIÎ веке» вышла в 1856 году; «Опыты по истории
русского права» и «Очерки Англии и Франции» — в 1858 году.
Стр. 89 «Курс государственной науки» был издан в трех томах:
т. 1 — «Общее государственное право» (М., 1894); т. 2 —
«Социология» (М., 1896); т. 3 — «Политика» (М., 1898,
посмертно).
Стр. 89 «История политических учений» была издана в пяти
томах: т. 1 — «Древность и средние века» (М., 1869); т. 2 —
«Новое время» (М., 1872); т. 3 — «Новое время» (М., 1874);
т. 4 — «XIX век» (М., 1877); т. 5 - «XIX век» (М., 1902,
посмертно).
Стр. 89 Например, в ноябрьской книжке «Отечественных записок»
за 1861 год была напечатана статья Бестужева-Рюмина
«Историческое и политическое доктринерство в его
практическом приложении (по поводу вступительной лекции, читанной
г. Чичериным в Московском университете)». В этой лекции
Чичерин призывал студентов к аполитичности.
Стр. 91 В 1868 году Чичерин с группой других профессоров
вынужден был уйти в отставку вследствие принципиальных
расхождений с Советом Московского университета по вопросам
баллотировки.
Стр. 92 Чичерин был избран московским городским головой в
конце декабря 1881 года. 16 мая 1883 г. на обеде городских
голов по случаю коронационных торжеств он произнес речь,
которая была воспринята правительством как «требование
конституции», и в июле 1883 года ' Александр III предложил
ему оставить должность московского городского головы (см.
«Воспоминания Б. Н. Чичерина. Земство и Московская Дума»,
М., 1934, стр. 234—242. Текст речи Чичерина напечатан
там же).
Стр. 92 В «Московских ведомостях» от 7 июля 1883 г. (№ 186)
в заметке «Москва, 6 июля» цитировалась и излагалась речь
«одного политика». Нетрудно догадаться, что автор заметки
имел в виду Чичерина, хотя имя его не называлось и
приведенные из его речи цитаты были искажены.
Стр. 93 Это письмо Кони цитирует и в своей речи по поводу
смерти Чичерина (А. Ф. Кони, Очерки к воспоминания,
СПб., 1906, стр. 285-286).
152
Стр. 93 Речь идет о книге Чичерина «Положительная философия
и единство науки», М., 1892.
Стр. 93 Сильно искаженная цитата из поэмы А. С. Пушкина
«Полтава» (1828), песнь первая. У Пушкина:
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.
Стр. 93 Заключительные стихи посвящения романа А. С.
Пушкина «Евгений Онегин» (1828).
Стр. 94 Б. Н. Чичерин умер 3 февраля 1904 г.
Стр. 94 В 1889 году, в десятую годовщину смерти И. И. Крылова,
Кони произнес речь («Никита Иванович Крылов»), вошедшую
в его сборник «Очерки и воспоминания» (СПб., 1906,
стр. 229-238).
Стр. 95 «Система римского гражданского права. Курс лекций
заслуженного профессора Н. И. Крылова» (М., 1872). Написано
от руки. Литографировано.
Стр. 97 «О началах наследования в древнейшем русском праве.
Историческое рассуждение В. Никольского», М., 1859.
Стр. 97 В книге Ф. Лассаля «Система наследственного права»,
вышедшей в 1861 году, дана харктеристика римского и
германского наследственного права в их историческом развитии.
Стр. 97 См. роман П. Д. Боборыкина «Китай-город», кн. 3„
гл. XXXIII.
Стр. 97 12 января («Татьянин день») — дата основания
Московского университета в 1755 году.
Стр. 97 Сервитуты — термин римского права, означающий
ограниченные права пользования чужой собственностью.
Стр. 98 Фидеикомисс — термин римского права, означающий
поручение лица, оставляющего наследство наследнику, выдать
наследство или часть его третьему лицу.
Стр. 99 См. т. 3 наст. Собрания сочинений, стр. 487.
Стр. 101 «История судебных инстанций и гражданского
апелляционного судопроизводства от судебника до учреждения о гу-»
берниях, Сочинение Ф. Дмитриева», М., 18596
4*S
Стр. 103 Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «.Ге->
рой» (1830).
Стр. 103 «Севернорусские народоправства во времена
удельно-вечевого уклада. Сочинение Николая Костомарова», изд.
Д. Е. Кожанчикова, СПб., 1863. (Лекции, читанные в Санкт-
Петербургском университете в 1860—1861 гг.)
Стр. 104 Первая книга вышла в 1841, вторая — в 1840 году.
Стр. 104 Известный криминалист Ансельм Фейербах учил, что
для предупреждения совершения преступления каждому
преступному побуждению следует противопоставить уголовный
закон, угрожающий правонарушителю наказанием, большим,
чем то удовлетворение, которое он получает от совершенного
преступления.
Стр. 104 «Учебник уголовного права, составленный В. Спасови-
чем», т. I, СПб., 1863.
Стр. 105 См. стр. 91.
Стр. 105 Слова из манифеста Александра II от 20 марта 1856 г.,
вошедшие в «Указ Правительствующему Сенату 20 ноября
1864 г.», которым открывалась книга Судебных уставов.
Источник цитаты—послание апостола Иакова (гл. 2, ст. 13).
Стр. 105 Статьи С. И. Баршева, помещенные в «Русском вестнике»;
«О суде присяжных» (1857 г. № 9—10); «Об устности и
гласности уголовного судопроизводства» (№ 14); «О
необходимых гарантиях уголовного суда» (1859 г. № 9); «Задача
присяжных в деле уголовного суда» (1863 г. № 5) и др.
Стр. 105 Цитата из стихотворения И. С. Тургенева в тексте
«Дворянского гнезда» (гл. XXV).
Стр. 107 Перевод Д. Е. Мина вышел в 1855 году.
Стр. 108 Свою автобиографию С. И. Баршев написал для
«Биографического словаря профессоров и преподавателей
императорского Московского университета.., составленного трудами
профессоров и преподавателей» (М., 1855). Цитата, не совсем
точно переданная, находится на стр. 66 книги.
Стр. 109 «Незаменимая саморасправа, как учреждение уголовного
права, по учению европейских правоведов XVI—XVIII в£
454
и упоминаемых ими предшественников, европейских
правоведов XII—XV в. Исследование П. П. Пусторослева», М., 1889.
Стр. 112 См. т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 420—495.
Стр. 113 См. т. 4 наст. Собрания сочинений, стр. 482—485.
Стр. 119 Издание дневника П. А. Валуева началось в разных
журналах с 1891 года (см. «Русская старина» 1891 г. № 5;
«Вестник Европы» 1907 г. № 1—3; сб. «О минувшем», СПб.,
1909; «Современник» 1913 г. № 1). В 1919 году дневник
был частично опубликован В. Я. Богучарским-Яковлевым и
П. Е. Щеголевым (П. А. Валуев, Дневник 1877—1884 гг.,
Пг., 1919). В 1961 году вышло новое издание дневника
(«Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел, в двух,
томах. 1861 —1876 гг.», изд. Академии Наук СССР, M.f
1961).
Стр. 119 Того же мнения был и государственный секретарь
Е. А. Перетц: «..нельзя упрекнуть Валуева, чтобы
злоупотребления были им допускаемы из корыстных целей [...] он не
взял себе ничего, а действовал так исключительно по
слабости и желанию угождать разным людям» (Е. А. Перетц,
Дневник 1880—1883 гг., М—Л., 1927, стр. 97—98).
Стр. 120 Выражение, заимствованное из трагедии А. С. Пушкина
«Каменный гость» (1830).
Стр. 120 См. сказку А. С. Пушкина «Царь Никита и сорок его
дочерей» ( Î822). Стихи 25—26:
Богомольной важной дуры,
Слишком чопорной цензуры...
Стр. 120 Название книги П. А. Валуева: «Сборник кратких
благоговейных чтений на все дни года» (СПб., 1884).
Стр. 120 M. М. Стасюлевич был редактором-издателем журнала
«Вестник Европы» с 1866 по 1908 год. См. также стр. 221
и след.
Стр. 122 Тогдашний премьер-министр Англии Вильям Гладстон
главной задачей своей политики поставил дарование
Ирландии политической самостоятельности, при которой только
вопросы, имеющие интерес для всего королевства, должны были
разрешаться британским парламентом.
455
Стр. 122 Архив П. А Валуева хранится в ЦГИА (ф. 908),
ЦГАОР (ф. 544 и 728), ИРЛИ (ф. 559), ГПБ (ф. 126).
Стр. 123 «Дневник графа П. А. Валуева. 1880-ый год» («Вестник
Европы» 1907 г. № 1-3).
Стр. 126 Речь идет о первой части повести В. Ф. Одоевского
«Саламандра» — «Южный берег Финляндии в начале
XVIII столетия» (В. Ф. Одоевский, Сочинения, ч. II,
СПб., 1844).
Стр. 126 Таким алхимиком изображен дядюшка во второй части
повести «Саламандра» — «Элиса», в лице которого автор
характеризует самого себя.
Стр. 126 См. т. 6 наст. Собрания сочинений, стр. 76—105.
Стр. 133 См. стр. 88.
Стр. 133 Первая русская женщина-врач Надежда Прокофьевна
Суслова занималась в Медико-хирургической академии вплоть
до запрещения посещать лекции гкекщинам (по приказу
военного министра от 11 мая 1864 г.). Суслова была вынуждена
поехать в Цюрих и там закончить свое образование. Ее
примеру последовали многие русские женщины, желавшие
серьезно изучить медицину. Подробно об этом см. Е. Лихачева,
Материалы для истории женского образования в России
1856-1880, СПб., 1901, гл. 11.
Стр. 135 Женский медицинский институт был основан в
Петербурге в 1897 году (ныне Медицинский институт имени академика
И. П. Павлова). Женские врачебные курсы возникли в
1872 году.
Стр. 135 «Императорский клинический институт вел. кн. Елены
Павловны» — научно-учебное и лечебно-благотворительное
учреждение — был основан в 1885 году в Петербурге. В числе
профессоров института находились Н. В. Склифосовский и
Д. О. Ott.
Стр. 138 См. т. 6 наст. Собрания сочинений, стр. 502—518.
Стр. 138 Первый из этих романов — «Последний Новик» (1831—*
1833), второй, принесший славу его автору, — «Ледяной дом*
(1835), третий — «Басурман» (1838),
455
Стр. 138 Ассизы — в Англии выездные сессии высшего суда с
участием присяжных заседателей; во Франции — суды,
разрешающие с участием присяжных заседателей дела о наиболее
тяжких преступлениях.
Стр. 139 В эпиграфе к главе XIII («Эпилог») приведена
предпоследняя строфа из думы К. Ф. Рылеева «Волынский», без
указания имени автора:
Сыны отечества! в слезах
Ко храму древнему Самсона!
Там за оградой, при вратах
Почиет прах врага Бирона.
Отец семейства! приведи
К могиле мученика сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина...
(«Ледяной дом».
Сочинение И. И. Лажечникова, М., 1835)
Стр. 139 Имеются в виду картины В. И. Якоби (или Якобия)
«-Волынский на заседании кабинета министров» (1876) и
«Свадьба в Ледяном доме» (1878).
Стр. 139 Кони приводит текст письма, напечатанного в «Русском
архиве» 1912 г. № 9, стр. 142.
Q^g. 139 Письмо напечатано в «Русском архиве» 1912 г. № 9,
стр. 143 (с ошибкой в дате: 4 апреля вместо 4 августа).
Стр. 140 Речь идет о статьях Ф. В. Булгарина в «Северной пчеле»
(1839 г. № 46—49), посвященных роману И. И. Лажечникова
«Басурман», Однако, несмотря на редко отрицательный тон,
эти статьи не могли повлиять на выпуск второго издания
«Ледяного дома», оно вышло в 1837—1838 гг. Трудности
возникли позднее, при подготовке третьего издания, которое
осуществилось лишь в 1858 году.
Стр. 140 Об этом Кони говорит со слов Ф. В. Ливанова, который
в статье по поводу предстоящего юбилея писательской
деятельности И. И. Лажечникова указывал, что его столкнове-
. ния с Н. Г. Чернышевским происходили из-за романа «Что
делать?» (см. «Современные известия» 3 мая 1869 г. № 119).
Ошибочность такого утверждения очевидна; роман
Чернышевского печатался, когда его автор находился в
Петропавловской крепости, кроме того, в 1863 году Лажечников уже не
был цензором. Однако встречаться по цензурным делам они
457
могли, когда H. А. Некрасов, уехав в 1856 году за границу,
официально передал Чернышевскому на время своего
отсутствия редакторские права по изданию «Современника», а
Лажечников был цензором именно в то время.
Стр. 141 «Заметки для биографии Белинского» И. И. Лажечникова
были впервые напечатаны в 1859 году в «Московском
вестнике» (№ 17, стр. 203—212) и вошли в посмертное полное
издание сочинений Лажечникова (1884, т. XII, стр. 253—
293). Приведенные выше цитаты оттуда же (см. также
«Белинский в воспоминаниях современников», М., ОГИЗ, 1948,
стр. 12—25). Письма Белинского к Лажечникову не
сохранились. Двенадцать писем Лажечникова к Белинскому
опубликованы в сборнике «В. Г. Белинский и его корреспонденты»
под ред. Н. Л. Бродского, М., 1948.
Стр. 141 Цензорами были: П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев,
Я. П. Полонский, И. А. Гончаров, А. Н. Майков. И. И.
Лажечников был цензором в 1856—1858 гг.
Стр. 141 И. И. Л а ж е ч н и к о в, Первые опыты в прозе и стихах,
М., 1817.
Стр. 141 Трагедия «Опричник» впервые напечатана в 1859 году
(«Русское слово» № 1t); «Христиерн II и Густав Ваза» —
в 1842 году (отдельное издание).
Стр. 142 Свое стихотворение, с небольшими изменениями в тексте,
Лажечников еще раньше записал в альбом M. Н. Милюкова,
проставив дату: «15-го апреля 1850. 9 ч. вечера» (ИРЛИ,
ф. 265, оп. 2, № 1409). В альбом Кони оно было записано,
очевидно, через шесть лет.
Стр. 142 Это письмо Лажечникова неизвестно. Замечания против
теорий и утверждений Джона Милля Писарев высказывал в
статьях: «Очерки из истории труда» (гл. VII) и
«Посмотрим!» (гл. III); полемическую характеристику творчества
Пушкина дал в статьях «Пушкин и Белинский» («Евгений
Онегин» и «Лирика Пушкина»); в статье «Реалисты» (гл. VII)
говорил, что вся деятельность Томаса Маколея не принесла
ни Англии, ни человечеству ни «одну крупинку
действительной пользы» (все эти статьи были опубликованы в 1863—■
3865 гг. в журнале «Русское слово»).
458
Стр. 142 Перефразировка эпиграммы К. Н. Батюшкова «Совет
эпическому стихотворцу», посвященной С. А. Ширинскому-Ших-
матову по поводу его поэмы «Петр Великий». У Батюшкова:
Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
Петр длинный, Петр большой, но только
Петр Великий —
Ее не называй.
Стр. 143 «Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного»
А. К. Толстого впервые была издана в 1862 году. Ряд
отзывов о романе появился в журналах «Русское слово» (1863 г.
№ 2), «Библиотека для чтения» (1863 г. № 2),
«Отечественные записки» (1863 г. № 2), «Современник» (1863 г.
№ 4).
Стр. 143 «Клятва при гробе Господнем» — роман Н. А. Полевого
в четырех частях, изданный в 1832 году.
Стр. 143 Рассуждения Потугина о необходимости сближения
России с Западом (гл. XIV и след.) многие современники
восприняли как выражение презрения к России, антипатриотизм
писателя и пр. В письме к А. И. Герцену от 23 мая (4 июня)
1867 г. И. С. Тургенев писал, что его роман «ругают все —
и красные, и белые, и сверху и снизу — и сбоку — особенно
сбоку» (И. С. Тургенев, Поли. собр. соч. и писем, Письма,
т. VI, М.—Л., изд-во «Наука», 1963, стр. 260). В сцене с
генералами дано гротескно-сатирическое изображение «особ
высшего общества» (гл. X).
Стр. 143 Это письмо Лажечникова о романе Тургенева неизвестно.
Стр. 143 Роман вышел в свет в 1872 году (СПб.).
Стр. 143 Роман «Петербургские трущобы. Книга о сытых и
голодных» Вс. Крестовского печатался в «Искре» (1865—1867).
Отдельным изданием роман вышел в 1867 году (СПб.).
Стр. 143 Роман И. И. Лажечникова «Внучка панцырного
боярина» был опубликован в журнале «Всемирный труд» 1868 г.
№ 1—4.
Стр. 144 См. «Современные известия» 3 мая 1869 г. № 119.
Стр. 145 Текст стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание»
(1828) в дореволюционных изданиях печатался вместе с окон-
459
чанием из ранней редакции, которое при жизни поэта не было
опубликовано. Кони цитирует вариант предпоследнего стиха
этого окончания.
Стр. 145 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина
«Воспоминание» (1828).
Стр. 146 Четыре романа А. Ф. Вельтмана («Соломея», «Чудодей»,
«Воспитанница Сара» и «Счастье-несчастье»), объединенные
общим заглавием «Приключения, почерпнутые из моря
житейского», печатались в течение 1848—1863 гг. См. также
А. Вельтман, Слово об ополчении Игоря Святославича,
князя Новгород-Северского, на половцев в 1185 году, М.,
1833; его же, Аттила и Русь IV и V века. Свод
исторических и народных преданий, М., 1858.
Стр. 146 В работе Вельтмана «Аттила и Русь IV и V века» этому
вопросу посвящены гл. III («Кыяне») и гл. VI («Аттила,
великий князь Киевский и всея Руси самодержец»).
Стр. 146 Буддийский храм был построен в Петербурге в 1912 году.
Стр. 147 Неточная цитата из книги Н. Барсукова «Жизнь и
труды М. П. Погодина», кн. X, СПб., 1896, стр. 287—288.
Стр. 147 Место директора Оружейной палаты А. Ф. Вельтман,
который с 1842 года был помощником директора, получил
в 1852 году, после смерти занимавшего эту должность
M. Н. Загоскина.
Стр. 147 См. стр. 75, 76.
Стр. 148 Ответ В. Ф. Одоевского Тургеневу под названием «Не
довольно!» был опубликован в первой книге «Беседы в
обществе любителей российской словесности» (М., 1867).
Стр. 148 Погодин выступал в Обществе любителей российской
словесности 3 и 17 марта 1863 г. («Первая и вторая часть
рассуждений о Польше»), 14 апреля 1863 г. («О Польше в
1856 году»), 1 декабря 1865 г. («Новое рассуждение о
Польше») (см. «Общество любителей российской словесности при
Московском университете. Историческая записка и мате-*
риалы за сто лет», М., 1911, стр. 112, 113, 118).
Стр. 148 Чтение А. Ф. Писемским отрывков из романа
«Взбаламученное море» состоялось 14 апреля 1863 г.; заседание, по«
460
священное памяти С. П. Шевырева,— 17 января 1865 г.
(см. там же, стр. 113, 116).
Стр. 149 Речь Погодина опубликована в «Русском архиве» (1865 г.
№ 3, стлб. 381—390). Там же помещены стихи С. П. Шевырева:
Когда состав слабеет, страждет плоть,
Средь жизненной и многотрудной битвы,
Не дай мне, мой помощник и господь.
Почувствовать бессилие молитвы!
Стр. 153 См. «Мертвые души», т. II, гл. 3: «Да ведь и в церкви
не было места. Взошел городничий — нашлось. А была такая
давка, что и яблоку негде было упасть».
Стр. 159 «За границей и на родине»
Текст воспоминаний от начала до слов «Вот вам и делайте
добро людям! Этакая скотина! Неправда ли?..» впервые
опубликован в книге Кони «На жизненном пути» в разделе
«Житейские встречи», в гл. 2 «Остенде (1869—1873 гг.)» (см.
т. I, СПб., 1912, стр. 610—627; т. I, изд. 2-е, М., 1913,
стр. 672—689; т. II, изд. 3-е, М., 1916, стр. 320—339);
текст от слов «Оправдательный приговор присяжных» до «ну
и что ты мне, лохматый черт, доказать можешь?!» — там же,
з части гл. 3 «В дороге. — Гимназические воспоминания»
(т. I, 1912, стр. 628—636; т. I, изд. 2-е, 1913, стр. 690—
698; т. II, изд. 3-е, 1916, стр. 340—348); текст от слов
«Не могу не вспомнить» до «знаменитый военный министр и
фельдмаршал» — там же, в части гл. 2 «За границей и на
родине» (т. III, ч. 1, изд. «Библиофил», Ревель—Берлин,
[1922], стр. 285—288); текст от слов «В сентябре 1873 года»
до конца — там ж е, в гл. 1 «Синьор Беляев» (т. I, 1912,
стр. 593—609; т. I, изд. 2-е, 1913, стр. 655—671; т. И,
изд. 3-е, 1916, стр. 303-319).
В настоящем томе воспоминания печатаются по тексту
последнего прижизненного издания книги «На жизненном
пути» (т. III, ч. I, изд. «Библиофил», Ревель—Берлин, [1922])
с устранением опечаток.
Подготовляя к печати этот том, Кони произвел
стилистическую правку текста, дополнил его новым отрывком, изменил
некоторые даты *.
1 Ср. комментарий к очерку «Из ает юности и старости», стр. 442—
443.
461
В архиве Кони находится толстая тетрадь в обложке, оза-*
главленная: «Житейские встречи» (ИРЛИ, ф. 134, оп. 1,
№ 56, лл. 153—285). Часть вписанных туда эпизодов Кони
включил в комментируемые воспоминания.
Редакция этих записей порою отличается от печатной.
В тексте ее есть подробности, не вошедшие в издание; в иных
местах, напротив, повествование более сжато и лаконично, чем
в печати.
Так, в несколько иной редакции, в эту тетрадь (лл,
167 об.— 168 об. и 153—161) вписан текст: от слов
«Несколько живых воспоминаний» (стр. 159) до слов «ответил
мне он, весело улыбаясь» (стр. 160) и от слов
«Оправдательный приговор присяжных заседателей» (стр. 175) до слов
«и что ты мне, лохматый черт, доказать можешь?!» (стр. 182).
В тексте от слов «В 1890 году я провел один из
осенних месяцев» (стр. 182) до слов «признали, что она все-таки
«умная» (стр. 184) в рукописи указаны имена действующих
лиц, не вошедшие впоследствии в печатные издания. Так, мы
узнаем, что фамилия товарища прокурора «одного из
северозападных окружных судов» (стр. 182) — Фридрихе, а
фамилия помещика «из окрестностей Саратова» (стр. 182 и
далее) — Сергеев. В рукописи содержится исключенный из пе-'
чатного текста разговор о старшем председателе палаты
Шрейбере, нападавшем на Кони по делу Засулич, а вместо
слов: «Если бы я встретил Кони в то время, я бы его без
церемонии поцеловал» (стр. 182) в рукописи читаем: «встреть
я его где-нибудь в то время, так я бы руку у него готов
поцеловать». Весь текст этого отрывка по содержанию сходен
с печатным, но записан в другой, первоначальной редакции
(см. лл. 176 об.—181 об.).
Сохранилась также рукопись чернового наброска,
написанного в форме письма, датированного 1881 годом. Эта
рукопись озаглавлена: «Из житейских встреч. I, Синьор Беляев».
Однако текст рукописи совершенно не совпадает с текстом
очерка (см. стр. 185 и след.) и только последние фразы
несколько приближают его к произведению Кони: «Когда вы
будете в Неаполе, зайдите к одному интересному человеку и
познакомьтесь с ним. Это синьор Беляев. Я расскажу вам о
нем по личным воспоминаниям и по отметкам в моем старом
дневнике» (ИРЛИ, ф. 134, оп. 1, № 7, л. 7 об.),
Стр. 159 Курорт в Бельгии.
462
Стр. 159 Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) — французский
император с 1852 года — был низложен в 1870 году.
Стр. 163 Сокращенная цитата из поэмы 1. Г. Шевченко «Кавказ»
(1845).
Стр. 165 От французского octroi — городская ввозная пошлина.
Стр. 166 Пале-Рояль— один из крупных дворцовых ансамблей
XVII века в центре Парижа.
Стр. 167 В Иоанновском госпитале в г. Брюгге, в палате, где
лежал Ганс Мемлинг, устроен музей. Там находятся картины
художника («Обручение св. Екатерины», «Поклонение
волхвов»— 1479 г.), а на столе стоит кевчег для мощей св.
Урсулы (1486 г.), на боковых сторонах которого изображены
эпизоды из ее жизни. Эти картины считаются лучшими
памятниками старо-нидерландской живописи.
Стр. 167 Гент—в то время главный город Восточной Фландрии.
Речь идет об алтарной картине Рубенса — «Обращение св. Ба-
вона» в соборе св. Бавона.
Стр. 170 «Фауст наизнанку» — русский перевод В. Курочкина
оперетты Ф.-Р. Эрве «Le petit Faust», пародирующей оперу Гуно.
Стр. 176 Ныне улица Рубинштейна.
Стр. 177 Многотомный труд Тэна состоит из трех частей:
«L'Ancien Regime», «La Révolution», «Le Régime moderne». Имеется
в виду первый том второй части, изданный в 1878 году.
Стр. 178 H. Т a i n е, Essai sur Tite Live, Paris, 1856.
Стр. 178 Речь идет о совместном капитальном труде А. Н. Пы-
пина и В. Д. Спасовича, в первом издании вышедшем под
названием «Обзор истории славянских литератур» (СПб.,
1865), а во втором, дополненном и переработанном,
получившем название «История славянских литератур» (тт. 1—2,
СПб., 1879—1881).
Стр. 180 В письмах и сочинениях Герцена и Тургенева об этом
эпизоде не упоминается.
Стр. 180 Отец — писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, брат—«
видный славянофил, историк и писатель, Константин
Сергеевич Аксаков.
463
Стр. 181 И. С. Аксаков был деятельным участником Московского
славянского комитета по сбору средств в пользу славянского
населения на Балканах. Он был выдающимся оратором,
способным увлечь аудиторию, и значение его речей в 1875—•
1878 гг., направленных на защиту угнетенного славянства,
было особенно важно. По свидетельству С. А. Венгерова,
в последнее десятилетие своей, жизни И. С. Аксаков «вдруг
приобрел такое влияние, что каждое слово его являлось пот
литическим событием. О каждой речи его летели телеграммы
во все концы мира, и вся западная печать гадала по ним о
тех или других предстоящих шагах русской политики. Когда
Аксаков умер, в большинстве западноевропейских
некрологов, посвященных его памяти, прямо говорилось, что
последняя война наша с турками была всецело делом рук
московского публициста» (С. А. В е н г е р о в, Критико-биографиче-
ский словарь русских писателей и ученых, т. I, СПб., 1889,
стр. 335—336). Одна из речей Аксакова, о которых
вспоминает Кони, была издана в Англии на английском языке;
«Condenset Speech of mr. Ivan Akcakoff», London, 1877.
Стр. 181 Об этих вечерах («вторниках») вспоминал и П. И.
Бартенев: «На эти вторники привлекало гостеприимство хозяев*
непринужденность бесед и обычные ужины (всегда из одних
и тех же блюд). Иногда бывали и чтения. Разность во
мнениях не выступала резко и не препятствовала искреннему
обмену мыслей» («Русский архив» 1908 г. № 2, стр. 249).
Стр. 184 См. т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 420—495,
527-529.
Стр. 185 Одна из глубоких пещер-гротов, которыми славится
Капри, с своеобразным естественным освещением.
Стр. 186 На острове Капри сохранились развалины форума, терм
и 12 вилл, построенных римским императором Тиберием
(или Тиверием). В самой большой из этих вилл (villa Jovis)
он подолгу находился в последние годы жизни.
Стр. 186 Имя лошади Дон-Кихота (из знаменитого романа Сер*
вантеса «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский»),
отличавшейся необыкновенной худобой и заморенностыо.
Стр. 189 Название известного еще во времена Пушкина ресторана,
а не фамилия его хозяина, как полагал Беляев.
464
Стр. 191 Ближайшая от Рима гавань в Италии, соединенная
постоянными пароходными рейсами с Марселем, Генуей и
Неаполем.
Стр. 191 От французского édifice — сооружение.
Стр. 191 От итальянского dogana — таможня.
Стр. 192 До 1870 года Рим был столицей только Папской
области.
Стр. 192 От итальянского regolamento — правило.
Стр. 192 От итальянского albergo — гостиница.
Стр. 192 Николай Дмитриевич Киселев был поверенным в делах
русского посольства во Франции.
Стр. 193 От французского estaminet — кабачок,
Стр, 195 Pallazzo Reale — королевский дБорец.
Стр. 196 Бари — неаполитанская провинция, в главном городе
которой Делле Пулье стоит церковь святого Николая Мирли-
кийского, построенная в 1087 году; там же, в подземной
церкви, находится его могила.
Стр. 197 От итальянского scudo — старинная монета небольшого
достоинства.
Стр. 198 От итальянского ritorno— возвращение.
Стр. 198 До 1860 года, с перерывом от 1806 по 1814 год,
королевская власть в Неаполе принадлежала Бурбонам. Последним
королем этой династии с 1859 по 1860 год был Франциск II.
С 1861 года Неаполитанское корслевство вошло в состав
Итальянского государства, во главе которого стал Виктор-
Эммануил II, сделавшись с этого времени первым королем
объединенной Италии. Завершилось объединение Италии в
1870 году, после освобождения Рима от власти пап.
Стр. 200 «Пирогов и школа жизни»
Речь была произнесена Кони 21 ноября 1910 г. в
Петербурге в зале городской думы на заседании, посвященном 100-
летию Н. И. Пирогова.
Впервые опубликована в сборнике: «-Памяти Николая
Ивановича Пирогова (1810—1910)» (издательство еженедельной
. 30 А. Ф. Кони, т. 7 465
газеты «Школа и жизнь» 1911 г.). Позднее была
включена в книгу Кони «На жизненном пути», в раздел
«Публичные чтения» (т. II, СПб., 1912, стр. 293—314; т. II, изд. 2-е,
СПб., 1913, стр. 385-406).
В настоящем томе печатается по тексту книги «На
жизненном пути» (в обоих изданиях идентичному).
Подготовляя к изданию книгу, Кони тщательно
отредактировал текст речи, сделал несколько сокращений и
дополнений. Например, после слов «Талант подобен солнцу: оно
проливает свет и тепло, но оно же родит и мух» (стр. 206)
в сборнике был текст, не вошедший в книгу: «Притом же
«пылких душ неосторожность — самолюбивую ничтожность —»
иль оскорбляет, иль смешит» и «ум, любя, простор, теснит» !,
После слов «В сущности ему было труднее жить, чем
умирать» (стр. 209) следовал текст, также не введенный в книгу:
«Служба отрывала его [солдата] почти навсегда от семьи и
родного гнезда, ибо он возвращался в него в отпуск лишь после
25 лет службы, а когда выходил «в чистую», т. е. в отставку,
то получал пенсию, которая звучала насмешкою, да и
выдавалась с разными затруднениями. Недаром николаевский
солдат говорит у Некрасова: «пенсию выдать не велено: сердце
насквозь не прострелено» 2.
В конце речи, где вспоминается смерть Л. Н. Толстого
(стр. 219), в тексте сборника не было названо его имя:
«...наш народ имел Петра и Ломоносова, Пушкина и того, чья
недавняя кончина сжала наше сердце великой скорбью».
Несомненно, недавняя смерть писателя (речь была прочитана
через 2 недели после 7 ноября 19Î0 г.) так занимала мысли
слушателей, что произносить его имя казалось излишним,
В книге же, рассчитанной на последующих читателей, назвать
Толстого было безусловно необходимо. Есть в тексте книги
и другие, менее существенные разночтения с первой редакцией.
Сохранилась наборная рукопись первой публикации (в
сборнике)— ИР ЛИ, ф. 134, оп. 1, № 46. В подзаголовке указана
дата чтения: «Речь в заседании, посвященном памяти
Н. И. Пирогова 21 ноября 1910». Авторская правка заклю-
1 Цитаты из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 8, строфа IX)t
2 Неточная цитата из «Кому па Руси жить хорошо» (1866), ч. I—•
«Пир на весь мир». У Некрасова:
Полного выдать не велено
Сердце насквозь не прострелено.,.
466
чалась преимущественна в стилистических исправлениях.
Иногда, вероятно, для того, чтобы не перегружать речь
слишком большим количеством ссылок, Кони заменял имена
цитируемых авторов безличными выражениями. Например, вместо
слов: «подтвердила мнение, что бедность то же самое»
(стр. 202) в рукописи первоначально было: «подтвердила
слова Жана-Поль Рихтера о том, что бедность то же самое»;
вместо слов: «Изречение о том, что наука» (стр. 202) было:
«Слова Гейне о том, что наука».
Стр. 201 Цитата из статьи «Вопросы жизни» («Морской
сборник», 1856, № 9, стр. 589; позднее — «Сочинения Н. И. Пи-
рогова», т. I, изд. 2-е, Киев, 1914, стлб. 28).
Стр. 202 О разорении семьи, поступлении в Московский
университет, смерти отца, тяжелом материальном положении
Пирогов писал в «Дневнике старого врача» («Сочинения Н. И.
Пирогова», т. I, СПб., 1887, стр. 145, 217, 237, 296, 303; т. II,
изд. 2-е, Киев , 1916, стлб. 165, 247—248, 270, 390, 398).
Стр. 202 См. «Дневник старого врача» («Сочинения Н. И. Пиро-
гова», т. I, СПб., 1887, стр. 303—323; т. II, изд. 2-е, Киев,
1916, стлб. 398—421).
Стр. 204 См. стр. 82.
Стр. 204 Об изучении анатомии по замороженным трупам
Пирогов впоследствии писал доктору И. В. Бертенсону 27 декабря
1880 г. (см. «Русская школа» 1896 г. № 1, стр. 17—20;
позднее — «Сочинения Н. И. Пирогова», т. I, изд. 2-е, Киев,
1916, стлб. 398-421).
Стр. 205 Не совсем точная цитата из «Дневника старого врача»
(«Сочинения Н. И. Пирогова», т. I, СПб., 1887, стр. 513—
514; т. II, изд. 2-е, Киев, 1916, стлб. 636—637).
Стр. 206 Пирогову ставилось в вину неумеренное, с точки
зрения главного доктора Академии Лоссиевского, употребление
иода и наркотиков. Ассистенту Пирогова, ординатору Нем-
мерту, Лоссиевский поручил следить за профессором.
Возмущенный Пирогов, которому Неммерт показал полученное
им секретное предписание, потребовал от начальства
рассмотрения дела, и Лоссиевский был вынужден публично
извиниться перед профессором. «Тем дело о моем
умопомешательстве и кончилось», — вспоминал впоследствии Пирогов в
30*
467
«Дневнике старого врача» («Сочинения Н. И. Пирогова»,
т. I, СПб., 1887, стр. 517; т. II, изд. 2-е, Киев, 1916, стлб.
641).
206 См. «Северная пчела» 1830 г. № 30 («Анекдот») я
№ 35 («Новые книги. Евгений Онегин, роман в стихах»«
гл. VII).
206 Фельетоны Булгарина, направленные против Пирогова,.
печатались в трех номерах «Северной пчелы» за 1848 год.
28 февраля в № 46 Булгарин, не называя фамилии Пирогова»
грубо обрушился на «проворных резунов, которые всю славу
свою поставляли в большом числе и в скорости операций»*
Ряд других намеков, например о необходимости «бросить
толки о серном эфире», с которым в то время работал
Пирогов, позволяли безошибочно угадать, против кого был на-«
правлен фельетон. 10 марта в № 55 появилась уже открытая
клевета на знаменитого хирурга. Булгарин, якобы
полемизируя с «Библиотекой для чтения», где в 1844 году была
напечатана хвалебная рецензия на книгу Пирогова
«Прикладная анатомия», обвинил его в заимствовании из труда
английского ученого Чарльза Белля. И, наконец, 20 марта в № 64
Булгарин без всякого смущения объявил, что «Библиотека
для чтения» перепутала тексты Пирогова и Ч. Белля, и,
следовательно, «Северная пчела» не виновата в этой ошибке.
Глубоко оскорбленный Пирогов, понимая, что травля,
затеянная Булгариным, исходила не только от него, написал письмо
попечителю Медико-хирургической академии генералу H. Н. Ан«
ненкову о невозможности своей дальнейшей работы в Ака*
демии (см. П. А. Белогорский, Госпитальная хирургиче-!
екая клиника при Императорской военно-медицинской
академии, СПб., 1898, стр. 35—38; «Сочинения Н. И. Пирогова»,,
т. I, изд. 2-е, Киев, 1914, стлб. 699—702). Однако в то
время Анненкову удалось уговорить Пирогова не оставлять
Академии. Пирогов покинул ее через восемь лет, в
1856 году.
206 О своем знакомстве с профессором Альфредом Вельпо
Пирогов вспоминал в «Дневнике старого врача»
(«Сочинения Н. И. Пирогова», т. I, СПб., 1887, стр. 426; т. II,
изд. 2-е, Киев, 1916, стлб. 539).
206 В письме к И. В. Бертенсону от 27 декабря 1880 г«
Пирогов вспоминал о том, как ему было предложено отпра«
виться на Кавказ и, впервые применить на поле сражения
анестезирование и твердую (неподвижную) крахмальную
повязку при сложных переломах конечностей, впоследствии
замененную им гипсовой повязкой (см. «Русская школа» 1896 г.
№ 1, стр. 14—15; «Сочинения Н. И. Пирогова», т. I, Киев,
изд. 2-е, 1914, стлб. 927—928).
Стр. 207 См. стр. 57.
Стр. 207 Ср. слова Скалозуба из комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума» (действие III, явление 12):
А форменные есть отлички:
В мундирах выпушки, погончики, петлички.
Стр. 207 Об этом эпизоде Пирогов вспоминал в письме к
баронессе Э. Ф. Раден от 27 февраля 1676 г.: «Утомленный
мучительными трудами, в нервном возбуждении от результата
своих испытаний на поле битвы, я велел о себе доложить
военному министру, почти тотчас по своем приезде, и не обратил
внимания, в каком платье я к нему явился. За это я должен
был выслушать резкий выговор насчет моего нерадения к
установленной форме от г. Анненкова (тогдашнего главы Ме-
дико-хир. академии). Я так был рассержен, что со мной
приключился истерический припадок (с слезами и рыданиями;
я теперь сознаюсь в своей слабости)» («Сочинения Н. И.
Пирогова», т. II, СПб., 1887, стр. 501—502; т. I, изд. 2-е, Киев,
1914, стлб. 843).
Стр. 207 Речь идет о поэме Т. Г. Шевченко «Кавказ» (1845).
Ср. со статьей «За границей и на родине» — стр. 163.
Стр. 208 Не совсем точная цитата из письма Пирогова к
баронессе Э. Ф. Раден от 27 февраля 1876 г. («Сочинения
Н. И. Пирогова», т. II, СПб., 1887, стр. 502; т. I, изд. 2-е,
Киев, 1914, стлб. 844-845).
Стр. 208 Несколько измененная цитата из рассказа Л. Н.
Толстого «Севастополь в декабре месяце» (1855).
Стр. 210 Неточная цитата из письма Пирогова к баронессе
Э. Ф. Раден от 27 февраля 1876 г. («Сочинения Н. И.
Пирогова», т. II, СПб., 1887, стр. 502—503; т. I, изд. 2-е, Киев,
.1914, стлб. 844-845).
469
Стр, 210 См. стихотворение Е. А. Баратынского «Смерть» (1829):
Ты дочь верховного Эфира,
Ты светозарная краса:
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
Стр. 210 Сокращенная цитата из книги Бытия (гл. 5, ст. 2).
Стр. 211 Идея «Красного креста» возникла в шестидесятых годах
XIX века. 22 августа 1864 г. Женевская конвенция
провозгласила право раненых на всеобщее покровительство и
неприкосновенность во время войны медико-санитарных
учреждений и их персонала.
Стр. 212 Письма Пирогова к жене (Александре Антоновне, урож^
денной Бистром) опубликованы ею в книге «Севастопольские
письма Н. И. Пирогова. 1854—1855» (СПб., 1899). О встрече
с главнокомандующим русской армией князем А. С. Менши-
ковым Пирогов писал жене 24—28 ноября 1854 г. (стр. 16—
21). Цитата, приведенная Кони, в письмах Пирогова к жене
отсутствует, но содержание ее сходно с указанным письмом.
В последующих письмах из Севастополя Пирогов продолжал
возмущаться действиями главнокомандующего и его
безразличием к происходящим событиям.
Стр. 212 Н. Б е р г, Записки об осаде Севастополя, т. I, М., 1858,
стр. 94—95.
Стр. 212 Попечителем учебного округа в Одессе Пирогов был с
сентября 1856 года по 17 июля 1858 г., в Киеве — с 18 июля
1858 г. по март 1861 года (фактически Пирогов уехал из
Одессы в конце августа 1858 года).
Стр. 213 Перефразированное название статьи Пирогова «Быть и
казаться» («Сочинения Н. И. Пирогова», т. II, СПб., 1887,
стр. 66—75; т. I, изд. 2-е, Киев, 1914, стлб. 101 — 114).
Стр. 213 «К чему вы готовите вашего сына? — кто-то спросил
меня. — Быть человеком, — отвечал я». Эти слова — начало
эпиграфа к статье Пирогова «Вопросы жизни. Отрывок из
забытых бумаг...» («Сочинения Н. И. Пирогова», т. II, СПб.,
1887, стр. 3; т. I, изд. 2-е, Киев, 1914, стлб. 1).
Стр. 216 Неточная цитата из речи, произнесенной 8 апреля 1861 г.
(«Сочинения Н. И. Пирогова», т. II, СПб., 1887, стр. 436;
т. I, изд. 2-е, Киев, 1914, стлб. 908—910).
Стр. 216 Вероятно, речь идет о следующих словах Пирогова в
статье «Вопросы жизни»: «Восприимчивость к тому или
другому взгляду усиливается внешними обстоятельствами и
состоянием здоровья. Эти два условия [...] заставляют нас
нередко переменять взгляды и быть поочередно ревностными
последователями то одного, то другого. Если кто из нас [:..],
наконец, совсем остановился на котором-нибудь, то [...] это
значит — для него решены основные вопросы жизни: и цель
жизни, и назначение, и призвание его обозначены»
(«Сочинения Н. И. Пирогова», т. II, СПб., 1887, стр. 9; т. I, изд. 2-е,
Киев, 1914, стлб. 42).
Стр. 216 Неточная цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон»
(1841, ч. И, разд. 10).
Стр. 217 Министром народного просвещения после Головнина был
Д. А. Толстой. Пирогов был отстранен от государственной
службы в возрасте 56 лет.
Стр. 218 В мае 1881 года в Московском университете
торжественно праздновался пятидесятилетний юбилей деятельности
Пирогова, но в это время он был уже болен. Пирогов умер
23 ноября 1881 г. от рака слизистой оболочки рта.
Стр. 218 Полное название: «Вопросы жизни. Дневник старого
врача, писанных исключительно для самого себя, но не без
задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто
другой. 5 ноября 1879 — 22 октября 1881» («Сочинения
Н. И. Пирогова», т. I, СПб., 1887; т. II, изд. 2-е, Киев, 1916).
Стр. 218 Не совсем точно приведенные строки из стихотворения
Пирогова «Посвящается А. Б.» (вероятно, А. А. Бистром,
будущей жене) — «Севастопольские письма Н. И. Пирогова»,
стр. 169-172.
Стр. 219 См. «Стихотворения в прозе» — «Русский язык» (1882).
Стр. 219 Л. Н, Толстой умер 7 ноября 1910 г.
Стр. 220 «Вестник Европы»
Очерк впервые опубликован частично в «Московском
еженедельнике» за 1908 год (№ 48, 50). Один из разделов его
под заглавием «Стасюлевич как характер» напечатан в
«Вестнике Европы» за 1911 год (№ 3). Сокращенный вариант его
471
под заглавием «Памяти Стасюлевича» опубликован в «Русских
ведомостях» за 1911 год (№ 21). Полностью очерк помещен
во втором томе книги А. Ф. Кони «На жизненном пути»
(СПб,, 1912; изд. 2-е, М., 1913). В основу настоящей
публикации лег текст третьего издания (М., 1916), сверенный с
предшествующими публикациями и с хранящимися в
рукописном отделе ЙРЛИ автографом «Памяти Стасюлевича»
(ИРЛИ, ф. 134, оп. 1, ед. хр. 140), а также с текстом
второго тома «На жизненном пути», подготовленным А. Ф. Кони
для четвертого издания (ИРЛИ, ф. 134, оп. 1, ед. хр. 88).
Исправлены опечатки, допущенные при наборе, учтены
дополнения, сделанные А. Ф. Кони в авторском экземпляре второго
тома при подготовке его для четвертого издания {ИРЛИ, ф.:
134, оп. 1, ед. хр. 88, лл. 104-108, 118-119).
Стр. 220 М. М. Стасюлевич — крупный либеральный обществен«
ный деятель, русский историк и публицист. С 1866 года по
1908 год издавал и редактировал журнал «Вестник Европы»,
возглавлял кружок, организованный при журнале.
Стр. 220 Имеются в виду «Русские народные картинки» (тт. I—V,
СПб., 1881 —1893), «Подробный словарь русских гравиро«
ванных портретов» (тт. I—IV, СПб., 1886—1889),
«Подробный словарь русских граверов XVI—XIX вв.» (тт. I—II,
СПб., 1895).
Стр. 220 Выражение из евангелия (от Матфея, гл. 10, 16).
Стр. 221 С 1881 года M, М. Стасюлевич состоял гласным
с.-петербургской городской думы. В 1883 году он написал
исторический очерк деяте\ьности думы за первое десятилетие«
8 1890 году был избран председателем комиссии по народно«
му образованию, членом которой состоял с 1884 года.
Стр. 221 Цитата из письма M. М. Стасюлевича к А. Ф. Кони от
9 (22) ав1уста 1900 г. по поводу смерти Вл. Соловьева
(ИРЛИ, ф. 134, оп. 3, ед. хр, 1621, л, 4-4 об.).
Стр. 221 Цитата из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824), строфа 64*
Стр. 221 С 1858 года М. М. Стасюлевич — профессор Петербург«
ского университета, где читал лекции по истории средних
веков. В шестидесятые годы он стал автором значительных
исторических трудов: «История средних веков в ее писателях и
472
исследованиях новейших ученых» (тт. I—III, СПб., 1863—*
1865), «Опыт исторического обзора главных систем
философии истории» (СПб., 1866) и др.
Стр. 222 В 1861 году в связи со студенческими волнениями в знак
протеста против реакционных действий правительства,
направленных на ограничение прав высшей школы, Стасюлевич
покинул университет вместе с группой либерально настроенных
профессоров: К. Д. Кавелиным, В. Д. Спасовичем, Б. И.
Утиным, А. Н. Пыпиным. Издаваемый им с 1866 года «Вестник
Европы» в течение первых двух лет выходил в свет четыре
раза в год и лишь с 1868 года в связи с расширением
программы и увеличением отделов (беллетристики и критики)
стал ежемесячным научно-политическим литературным
журналом.
Стр. 222 «Вопросы жизни» — труд Н. И. Пирогова, посвященный
проблемам воспитания. Первая его публикация относится к
1856 году («Морской сборник», № 9). Значительно
переработанный в 1871 —1877 гг. (напечатан в т. I «Сочинений
Н. И. Пирогова», СПб., 1887), он вызвал оживленные отклики
современников. В нем были такие главы: «Вопросы жизни»,
«Быть и казаться», «Университетский вопрос», «Школа и
жизнь» и т. д. См. стр. 218.
Стр. 222 Имеется в виду реформа среднего образования,
проведенная министром народного просвещения Д. А. Толстым
в 1871 и в 1874 годах. Предусматриваемое ею усиленное
изучение латинского и древнегреческого языков в классических
гимназиях преследовало цели отвлечения учащейся молодежи
от общественно-политических интересов и борьбы.
Стр. 222 Источник выражения — произведение Гёте «Кроткие
Ксении» (1831-1832).
Стр. 222 Название гл. 2 романа В. Гюго «Человек, который
смеется». «Компрачикосы» от испанского слова comprachcos —
покупщики детей.
Стр. 222 Многочисленные статьи, направленные против реформ в
системе классического образования, публиковались в разделе
«Внутреннее обозрение» «Вестника Европы» (1871 г. № 2,
4, 8, 11; 1873 г. №4 и др.).
47*
Стр. 223 Несмотря на умеренно либеральное направление,
«Вестник Европы» подвергался цензурным гонениям. Из
«Внутреннего обозрения» вырезались статьи Л. А. Полонского
(«Вестник Европы» 1874 г. № 9, 1877 г. № 2; 1878 г.
№ 1). В 1871 году было объявлено первое предостережение
за статью К. К. Арсеньева «Политический процесс»
(«Вестник Европы» 1871 г. № 11). Второе предостережение было
дано в 1873 году за публикацию в № 7 работы А. Н. Пы-
пина «Характеристики литературных мнений от двадцатых до
пятидесятых годов» и статьи В. И. Лихачева «Переделки
Судебных уставов» («Вестник Европы» 1873 г. № 8).
Стр. 223 Цитируется эпиграмма Н. Ф. Щербины «Мы» (1860).
Стр. 224 См. стр. 221. Как председатель комиссии по народному
образованию Стасюлевич состоял также членом городской
управы. В ознаменование его заслуг в деле народного
образования в Петербурге было создано начальное народное
училище им. Стасюлевича.
Стр. 225 В 1883 году Стасюлевич был избран председателем
исполнительной комиссии по надзору за водоснабжением.
Открытие водопроводных фильтров в Петербурге состоялось
17 июля 1889 г. по инициативе Стасюлевича (см. письмо
Стасюлевича к А. Ф. Кони от 29 августа (10 сентября) в
книге «M. М. Стасюлевич и его современники в их переписке»,
т. IV, СПб., 1912, стр. 456).
Стр. 225 Ежедневная литературная и политическая газета
«Порядок» издавалась в течение года, с января 1881 года по
9 (21) января 1882 г. Программа газеты, близкая к
общественно-литературной программе «Вестника Европы», носила
Смеренный характер и отражала либеральные надежды ее
составителей на прогрессивное развитие страны путем
«проведения правового порядка» в сознание общества.
Стр. 225 См. т. 5 наст. Собрания сочинений, стр. 184—216.
Стр. 226 В газете «Порядок» [1 (13), 4 (16) января 1881 г. № 1,
4] был опубликован рассказ Тургенева «Старые портреты»,
первый из цикла «Отрывки из воспоминаний своих и чужих».
Стр. 226 1 марта 1881 г. Александр II был убит в Петербурге
бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. С убий-
474
ством Александра II начался период жестокой
правительственной реакции в России.
Стр. 226 1 марта 1881 г. в актовом зале Петербургского
университета состоялась защита докторской диссертации И. Я. Фой-
ницким на тему «Ссылка на Западе».
Стр. 226 В воспоминаниях о редакторской деятельности Стасюле-
вича Л. Слонимский писал о репортере Ю. О. Шрейере,
умеющем «с замечательным искусством добывать сведения о самых
секретных событиях того времени» и изображать их «с
многословным пафосом» («M. М. Стасюлевич и его современники
в их переписке», т. I, СПб., 1911, стр. 23).
Стр. 226 Статья Кони по поводу убийства Александра II («Пред
нами скорбный флаг веет над дворцом...») была
опубликована без подписи в «Порядке» от 3 (15) марта 1881 г. № 61.
Среди цензурных материалов о «Порядке», хранящихся в
ЦГИА, нет сведений о запрещении розничной продажи 61-го
номера газеты за 1881 год (см. ЦГИА, ф. 776, оп. 6, ед.
хр. 548).
Стр. 228 24 марта (ст. ст.) 1881 г. по распоряжению министра
внутренних дел была запрещена розничная продажа
«Порядка» за публикацию в нем корреспонденции из Весьегонска по
поводу крестьянских волнений в селе Молокове. В мае
1881 года «Порядок» имел три предостережения (ЦГИА,
ф. 776, оп. 6, ед. хр. 548, лл. 30—34). Поводом для
запрещения газеты на полтора месяца послужил напечатанный в
№ 7 от 8 (20) января 1882 г. «Отчет о заседании
Московской городской думы 4-го сего января». Жалоба Стасюлевича
на имя министра внутренних дел осталась неудовлетворенной.
Стасюлевич отказался от редакторства, и «Порядок»
прекратил свое существование на № Ö от 9 (21) января 1882 г.
(см. «Правительственный вестник» 9 (21) января 1882 г. № 6).
Стр. 228 Об этом же Стасюлевич писал в письме к А. В. Голов-
нину от 15 августа 1881 г. («M. М. Стасюлевич и его
современники в их переписке», т. I, стр. 532). С 1881 года
газета «Голос» получила три предостережения и в августе была
приостановлена на полгода.
Стр. 229 Литературный псевдоним, под которым выступали поэты
А. К. Толстой, Ал-ей М. Жемчужников, а такжг В. М. н
Ал-др М. Жемчужниковы,
475
Стр. 229 Речь идет о первом стереотипном издании «Записок
охотника» Тургенева, вышедшем в Петербурге в 1880 году. Часть
тиража была напечатана Стасюлевичем в 1879 году.
Стр. 229 Выражение из предисловия, написанного царем Алексеем
Михайловичем к «Книге, глаголемой урядник: Новое
уложение и устроение чина сокольничья пути» (1656).
Стр. 230 Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»
(1824—1825), действие 3, явление 3.
Стр. 231 В 1883 году Стасюлевич был избран товарищем
городского головы, но не был утвержден в этой должности
министром внутренних дел без объяснения причин отказа.
Стр. 231 С 1880 года Кони стал постоянным сотрудником
«Вестника Европы»; в 1881 году его корреспонденции
публиковались в «Порядке». Подробнее об этом см. стр. 257.
Стр. 232 Часть переписки Стасюлевича с Кони (89 писем)
опубликована в книге «M. М. Стасюлевич и его современники в их
переписке», т. IV, стр. 424—484. 14 писем Кони к Стасюле«
вичу и 9 писем Стасю\евича к Кони хранятся в рукописном
отделе ИРЛИ.
Стр. 232 Неточная цитата из стихотворения Ф. Н. Глинки «Сон
русского на чужбине» (1825). Песня «Вот мчится тройка
почтовая» — часть этого стихотворения. Проникла в лубок.
Музыка И. А. Рупина, Э. Ф. Направника.
Стр. 232 Измененное выражение из Библии: «Давид, состарившись
и насытившись жизнию» (1 кн. Паралипоменон, гл. 23, 1),
Стр. 233 Цитата из стихотворения Пушкина «Когда за городом,
задумчив, я хожу» (1836).
Стр. 233 Общественно-литературный кружок «Вестника Европы»
возглавлялся М. М. Стасюлевичем и его женой Л. И*
Стасюлевич.
Стр. 233 Артур — английский рыцарь, герой эпохи средневековья,
с именем которого связано много легенд. Артур жил в
окружении рыцарского общества, центром которого были
двенадцать рыцарей, заседавших sa круглым столом. Рыцари
Артура разъезжали по всем странам искать приключений.
476
Стр. 234 См. т. 6 наст. Собрания сочинений, стр. 279—300.
Стр. 234 «Задачи психологии» (СПб., 1872; изд. 2-е, СПб.,
1883) и «Задачи этики» (СПб., 1885; изд. 2-е, СПб., 1887) —
работы К. Д. Кавелина, в которых изложены философские
основы его публицистической деятельности. С 1857 по
1861 год он возглавлял кафедру гражданского права в
Петербургском университете.
Стр. 234 Кони имеет в виду стихотворение Ф. И. Тютчева «Умом
Россию не понять» (1866).
Стр. 235 Измененная цитата из стихотворения Пушкина «Стансы»
(1826).
Стр. 236 С 23 апреля 1861 г. по 9 марта 1868 г. П. А. Валуев
был министром внутренних дел, в период подготовки и
проведения крестьянской реформы занимал реакционную
позицию. К. Д. Кавелин был отстранен от преподавания
правоведения вел. кн. Николаю Александровичу за статью по
крестьянскому вопросу «О новых условиях сельского быта>,
опубликованную в «Современнике» (1858 г. № 4), а также за
составленную им записку об отмене крепостного права. Оба
названных документа в правительственных сферах
расценивались как радикальные.
Стр. 236 Имеется в виду ревизия сенатора M. Е. Ковалевского
(1880), обнаружившая злоупотребления при раздаче даром
или за ничтожную цену казенных башкирских земель в
Уфимской губернии. 4 октября 1881 г. П. А. Валуев получил
отставку от должности председателя Комитета министров..
См. также стр. 119.
Стр. 237 Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Умру я
скоро. Жалкое наследство, о родина! оставлю я тебе» (1867).
Стр. 237 Н. А. Некрасов умер 27 декабря (ст. ст.) 1877 г.
«Тишина» (1857), «Несчастные» (1856) — стихотворение и поэма
Некрасова.
Стр. 237 К. Д. Кавелин умер 3 мая (ст. ст.) 1885 г.
Стр, 237 См. стр. 51. С 1857 по 1861 год В. Д. Спасовяч
возглавлял кафедру уголовного права в Петербургском университете»
477
Стр. 237 В. Д. Спасович умер в 1906 году. С начала 1909 года
ответственным редактором «Вестника Европы» стал К. К. Лр-
сеньев (см. К. К. А р с е н ь е в, Взгляд на прошлое «Вестника
Европы» — «Вестник Европы» 1909 г. № 1, стр. 216—232)ч
Стр. 238 Возможно, имеется в виду письмо В. Д. Спасовича к
Стасюлевичу от 26 февраля 1906 г. по поводу статьи «Партия
демократических реформ и ее программа», опубликованной
в февральском номере «Вестника Европы» за 1906 год. В
конце его Спасович писал: «Кончаю длинное письмо, предваряя,
что оно написано не для печати, а только для Вас и для
Вашего субботнего кружка, в особенности для Арсеньева,
Кони и Кузьмина-Караваева» («M. М. Стасюлевич и его
современники в их переписке», т. II, СПб., 1912, стр. 67).
Стр. 238 Неточная цитата из речи В. Д. Спасовича на
политическом процессе единсмышленников С. Г. Нечаева (последний
бежал за границу и был выдан русскому правительству
позже), длившемся с 1 (13) июля no I (13) сентября 1871 г.
(«Правительственный вестник» 1871 г. № 156 и
последующие, где печатались стенографические отчеты; см. также
В. Д. Спасович, Сочинения, т. V, СПб., 1893, стр. 157).
Стр. 239 Кони излагает содержание статьи В. Д. Спасовича
«Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого»,
опубликованной в «Вестнике Европы» 1887 г. № 4. В основу ее был
положен доклад, прочитанный Спасовичем на одном из
заседаний Шекспировского кружка.
Стр. 239 Юбилейный обед в честь столетия со дня рождения
Пушкина был организован 23 мая 1899 г. в Петербурге редакцией
польской газеты «Край». Председателем собрания был избран
В. Д. Спасович. В числе его участников были А. Ф. Кони,
Л. Н. Майков, Н. И. Кареев, К. К. Арсеньев, С. А.
Андреевский, П. И. Вейнберг, M. М. Стасюлевич и др. Кони
цитирует свою речь на обеде, опубликованную в изложении в
книге «Русско-польские отношения и чествование поляками
Пушкина» (СПб., 1899, стр. 46—48).
Стр. 240 О Петербургском юридическом обществе см. т. 4 наст.
Собрания сочинений. Шекспировский кружок в Петербурге
возник в 1874 году и просуществовал до конца девяностых
годов. Кружок состоял преимущественно из молодых
адвокатов, судебных деятелей, занимавшихся литературой: В. Д. Спа-
473
сович, А. И. Урусов, А. Ф. Кони* С. А. Андреевский
К. К. Арсеньев и др. (см. «Шекспир. Биб\иография русских
переводов и критической литературы на русском языке. 174Ф—
1962», М., 1964, стр. 590, 592).
Стр. 240' Цитата из предисловия В. Д. Спасовича «Воспоминания"
о К. Д. Кавелине» ко второму тому Собрания сочинений
К. Д. Кавелина (СПб., 1898, стр. XXIX).
Стр. 240 Имеется в виду судебный процесс в 1884 году между
Стасюлевичем как представителем исполнительной комиссии
по надзору за водоснабжением и акционерным обществом
городских водопроводов (юрисконсультом которого был
В. Д. Спасович) по поводу постройки фильтров. Процесс
завершился в пользу города. Постройка сооружений фильтров
началась в июне 1887 года и была окончена в августе
1889 года. В рукописном отделе ИРЛИ хранится «Дело о
фильтрах», в него входят материалы о защите встречного
иска города о фильтрах в окружном суде 20 марта 1884 г.,
речь Стасюлевича при начале работы по фильтру в 1887 году,
рисунки фильтра, расчеты и т. д. (ИРЛИ, ф. 293, оп. 1,
ед. хр. 58).
Стр. 241 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» ( 1828—
1829), песнь 3, строфа 16.
Стр. 243 В письмах Кони к Стасюлевичу от 14 и 27 июля 1889 г*
содержатся поздравления с «блестящим окончанием дела»,
с открытием фильтра («M. М. Стасюлевич и его современники
в их переписке», т. ÏV, стр. 454, 455).
Стр. 244 Имеется в виду публицист и философ-идеалист В. В.
Розанов, против которого была направлена статья Вл. Соловьева
«Порфирий Головлев о свободе и вере» («Вестник Европы»
1894 г. № 2). «Иудушка Головлев» — герой романа M. Е.
Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».
Стр. 244 С 1888 года Вл. Соловьев печатался преимущественно в
«Вестнике Европы». В этом журнале опубликованы его статьи:
«Россия и Европа» (1888 г. № 2, 4), «Очерки из истории
русского сознания» (1889 г. № 5, 6, 11, 12), «Идолы и
идеалы» (1891 г. № 3, 6), «Значение государства» (1895 г.
№ 12), «Византизм и Россия» (1896 г. № 1, 4) и др., а
также многие стихотворения.
479
Стр. 244 См. стр. 221,
Стр. 244 «Оправдание Добра. Нравственная философия» (СПб.,
1897) — один из основных философских трудов Вл. Соловьева,
Стр. 245 Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Я не люблю
иронии твоей...» (1850).
Стр. 246 Пародии на стихи сборников «Русские символисты» (под
ред. В. Я. Брюсова, вып. I—III, М., 1894—1895). Обе
пародии были напечатаны в рецензии Вл. Соловьева на третий
выпуск сборника (см. Вл. Соловьев, Еще о символистах —•
«Вестник Европы» 1895 г. № 10).
Стр. 246 Полемика Вл. Соловьева с Б. Н. Чичериным по поводу
«Оправдания Добра» развернулась на страницах журнала
«Вопросы философии и психологии» (1897 г. № 39, 40). На
статью Б. Н. Чичерина «О началах этики» (1897 г. № 39)
Вл. Соловьев откликнулся в том же номере статьей «Мнимая
критика (Ответ Б. Н. Чичерину)». В следующем ' номере
журнала Б. Н. Чичерин опубликовал «Несколько слов в ответ
Вл. С. Соловьеву»; там же была помещена статья Вл.
Соловьева, завершающая полемику, «Необходимые замечания на
несколько слов Б. Н. Чичерина». В письме к Стасюлевичу от
5 октября 1897 г. Вл. Соловьев процитировал шутливые стихи,
написанные им по этому поводу:
Ну насолил же мне Чичерин,
Самодовольный дворянин, —
Все переврал, как сивый мерин,
Скопец тамбовских палестин
Вчера прикончил я злодея...
(«Письма В. С. Соловьева», т. I, СПб., 1908, стр. 140),
Стр. 246 Цитата из статьи Кони «Нравственный облик' Пушкина»
(«Вестник Европы» 1899 г. № 10). См. т. 6 наст. Собрания
сочинений, стр. 24—59.
Стр. 246 Статья Вл. Соловьева «Судьба Пушкина» была
опубликована в девятом номере «Вестника Европы» за 1897 год.
Стр. 247 Это письмо неизвестно.
Стр. 247 Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Поэт»
(1839).
480
Стр. 247 См. т. 1 наст. Собрания сочинений, стр. 390, 525, 526&
Стр. 248 Стихотворение 1897 года.
Стр. 248 29 апреля 1899 г. в ознаменование столетия со дня
рождения Пушкина при Отделении русского языка и словесности
Академии Наук был создан Разряд изящной словесности.
В его состав входили все действительные члены Академии
и 12 почетных академиков, избираемых из числа выдающихся
русских писателей, литературных критиков, публицистов.
Вл. Соловьев был избран почетным академиком 8 января
1900 г. вместе с А. Ф. Кони, Л. Н. Толстым, К. Р.,
А. А. Потехиным, А. М. Жемчужниковым, А. А. Голенище-
вым-Кутузовым, А. П. Чеховым, В. I'. Короленко (см. «Отчет
о деятельности Отделения русского языка и словесности имп.
Академии Наук за 1900 год, сост. А. Н. Пыпиным», СПб.,
1900, стр. 7-9).
Стр. 248 В 1905 году под председательством Д. Ф. Кобеко была
организована комиссия из представителей правительства и
деятелей культуры, на которую было возложено составление
законопроекта о печати. Д. Ф. Кобеко выступил в защиту
свободы печати.
Стр. 248 Имеется в виду книга: Э. Г е р н е й, Ф. M а й е р с,
Ф. Подмор, Прижизненные призраки и другие
телепатические явления («Phantasms of the living»). Сокращенный
перевод с английского под редакцией и с предисловием Вл.
Соловьева, СПб., 1893.
Стр. 249 Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Панмонголизм»
(1894).
Стр. 250 Петр Могила — киевский митрополит — издавал
«Евангелие учительное», «Катехизис», «Молитвослов» и др.
Очевидно, имеется в виду молитва, включенная в одну из его книг.
Стр. 250 Кони пересказывает эпизод, косвенно отразившийся в
стихотворении Вл. Соловьева «Das Ewigweibliche (Слово
увещательное к морским чертям)», 1898.
Стр. 250 Вл. С. Соловьев умер 31 июля (ст. ст.) 1900 г. в
подмосковном имении (с. Узкое) князя П. Н. Трубецкого*
31 А. Ф, Кони, т. 7
481
251 Начиная с 1868 года в «Вестнике Европы» были оттуб-*
ликованы почти все произведения Тургенева, написанные ва
последние годы жизни: «Бригадир» (1868 г. № 1),
«Воспоминания о Белинском» (1869 г. № 4), «Странная история»
(1870 г. № 1), «Казнь Тропмана» (1870 г. № 6), «Степной
король Лир» (1870 г. № 10), «Стук... стук... стук!» (1871 г«
№ 1), «Вешние воды» (1872 г. № 1), «Конец Чертопханова,
Из «Записок охотника» (1872 г. № 11), «Пунин и Бабурин»,
(1874 г. № 4), «Часы» (1876 г. № 1), «Новь» (1877 г,
№ 1, 2), «Рассказ отца Алексея» (1877 г. № 5), «Песнь
торжествующей любви» (1881 г. № 11), «Отчаянный»
(1882 г. № 1), «Клара Милич» (1883 г. № 1),
«Стихотворения в прозе» (1882 г. № 12) и др. Повесть «Несчастная»,
«По поводу «Отцов и детей», «Гоголь», «Литературный вечер
у П. А. Плетнева», «?Кивые мощи», «Наши послали»,
«Стучит!»» «Сон», «Старые портреты», «Перепелка», «Une fine
(Конец)», письма в редакцию и др. опубликованы в иных
изданиях.
251 «Порог» не вошел в цикл пятидесяти «Стихотворений s
прозе», опубликованных в № 12 «Вестника Европы» за
1882 год: он был напечатан позднее ко дню похорон
Тургенева в нелегальном издании вместе с прокламацией
«Народной воли», написанной П. Ф. Якубовичем (СПб., 25 января
1883 г.). Цитируется письмо Тургенева к Стасюлевичу от
13(25) октября 1882 г. (И. С. Тургенев, Письма, т. XIII,
кн. 2, М.—Л., «Наука», 1968).
252 См. воспоминания Кони «Памяти Тургенева»—т. 6 наст«
Собрания сочинений, стр. 316—350.
252 В августе 1883 года Стасюлевич перевозил прах
Тургенева из Буживаля в Москву (см. также воспоминания Ста-
сюлевича «Похороны И. С. Тургенева» — «Вестник Европы*
1883 г. № 11).
252 В «Вестнике Европы» были опубликованы труды
В. В. Стасова: «Происхождение русских былин» (1868 г»
№ 1—4, 7), «Древнейшая повесть в мире (Древнеегипетский
папирус)», «Роман двух братьев» (1868 г. № 10), «Двадцать
пять лет русского искусства» (1882 г. № 11, 12; 1883 г«
№ 2, 6, 10), «Тормозы нового русского искусства» (1885 г,
№ 2—4) и др.
Стр. 253 Кони излагает историю создания и содержание,
стихотворения в прозе «С кем спорить?», опубликованного с
согласия В. В. Стасова в книге «XXV7 лет. 1859—1884. Сборник,
изданный комитетом для пособия нуждающимся литераторам
и ученым» (СПб., 1884). Это стихотворение Стасов
напечатал также в своих воспоминаниях «Двадцать писем Тургенева
и мое знакомство с ним» («Северный вестник» 1888 г. № 10).
Стр. 253 См. т. 5 наст. Собрания сочинений, стр. 138—157.
Стр. 254 В. А. Арцимович принимал участие в подготовительных
работах по проведению крестьянской реформы. Будучи
губернатором в Калуге с 1858 года, он участвовал в комиссиях
по преобразованию губернских и уездных мировых
учреждений, а также по составлению проекта о земских банках.
В. А. Арцимович умер 2 марта 1893 г. Кони посвятил ему
статью «Памяти Виктора Антоновича Арцимовича»
(«Очерки и воспоминания», СПб., 1906, стр 751—760).
Стр. 254 С 1880 года и до конца жизни В, А. Арцимович занимал
пост старшего сенатора первого департамента Сената.
Стр. 255 К. К. Грот участвовал в проведении крестьянской
реформы сначала на посту самарского губернатора (1853—1861),
затем в комиссии по устройству крестьянских учреждений,
возглавляемой Н. А, Милютиным. См. о нем статью Кони
«Константин Карлович Грот» в книге А. Ф. Кони «На
жизненном пути», т. II, СПб., 1912, стр. 406—415.
Стр. 255 Цитата из поэмы Пушкина «Полтава» (1828—1829),
песнь 3, строфа 12.
Стр. 255 А. В. Плетнева — жена П. А. Плетнева, бывшего с 1840
по 1861 год ректором Петербургского университета, где Ста-
сюлевич читал курс истории средних веков (1858—1861).
Стр. 255 А. Н. Пыпин разделял вместе с M. М. Стасюлевичем труд
по редактированию «Вестника Европы», в 1882 году, в связи
с деятельностью Стасюлевича по городскому общественному
управлению, выполнял функции главного редактора журнала.
Стр. 255 Творчество немецкого писателя Фридриха Шгшльгагена
было популярно в России в кругах демократической интел\и-
генции. Известными были его романы в перевод? на русский
язык: «Загадочные натуры», тт. I—IV (СПб. 1865), «Из
31* 483
мрака к свету», тт. I—IV (СПб., 1871), «Два поколения»
(в подлиннике под названием «Семейство Гогенштейн»),
тт. I—IV (СПб., 1872), «Один в поле не воин», тт. I—II
(СПб., 1867—1868), «Между молотом и наковальней»,
тт. I-V (СПб., 1871) и др.
Стр. 256 Дональд Меккензи Уоллес — автор двухтомной книги
«Russia» (1877), опубликованной анонимно в «Times» 18
января 1877 г, № 28842.
Стр. 256 Речь идет о русско-турецкой войне, начавшейся 12 (24)
апреля 1877 г.
Стр. 256 См. т. 2 наст. Собрания сочинений, стр. 460, 462.
Стр. 257 «Deutsche Rundschau» — немецкий журнал, издававшийся
ежемесячно Ю. Роденбергом с 1874 года в Берлине.
Стр. 257 Подробный перечень статей, опубликованных Кони в
«Вестнике Европы», см. в работе Р., Гольдарбейтера
«Библиографический указатель сочинений А. Ф. Кони»,
опубликованной в книге: Н. Юрский, А. Ф. Кони в истории русской
общественности, Пг., 1924, стр. 22—33.
Стр. 258 Сорокалетие служебной деяте\ьности Кони отмечалось
1 октября 1905 г. ка заседании кружка «Вестника Европы».
Кони выступил с ответной речью, обращенной к Стасюлевичу
(ИРЛИ, ф. 134, оп. 1, ед. хр. 43). Текст ее почти полностью
включен в публикуемый очерк.
Стр. 258 Цитата из поэмы Пушкина «Цыганы» (1824), строфа 48*
Стр. 258 В речи Кони на заседании кружка «Вестника Европы»
1 октября 1905 г. после слов «которому решались
предлагать» было: «после дела Засулич подать в отставку» (ИРЛИ,
ф. 134, оп. 1, ед. хр. 43). См. также т. 2 наст. Собрания со*
чинений, стр. 24—252. С 1876 по 1883 год Кони был препо*
давателем теории и практики уголовного судопроизводства в
Петербургском училище правоведения.
Стр. 258 Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Душа моя—«
Элизиум теней...» (первая половина тридцатых годов). В ан«
тичной мифологии элизиум — место, где обитают тени (души)
умерших. В рукописном отделе ИРЛИ хранится конспект вое«
484
поминаний Кони от 21 февраля 1924 г., озаглавленный
«Элизиум теней». В нем содержатся разделы; «Друзья»,
«Сотрудники жизни», «Милые встречи», «Добрые воспоминания»,
«Двоякие воспоминания», «Сердечные воспоминания и
дружеские воспоминания», «Дурные воспоминания» (ИРЛИ, ф. 134,
оп. 1, ед. хр. 147).
Стр. 259 Цитата из русской летописи, составленной в начале XII в.
в Киево-Печерском монастыре. Слова одного из бесов,
искушавшего печерского затворника Исакия: «Ат ны Исакий спля-
шеть» («Пусть нам Исакий спляшет»). См. «Повесть
временных лет», ч. I. Текст и перевод- Подготовка текста и
перевода Д. С. Лихачева, под ред. В. П. Адриановой-
П е р е т ц, М.—Л., 1950, стр. 128, 329.
Стр. 259 Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Несчастные» (1856),
строфа 16.
Стр. 260 «Совещание о составлении Устава о печати»
Статья представляет собою текст ряда выступлений
А. Ф. Кони на заседаниях Особого совещания при Комитете
министров для пересмотра цензурного законодательства (на
основании указа от 12 декабря 1904 г.). Выработанный на
заседаниях Особого совещания проект нового Устава о печати
не был, однако, проведен в жизнь, так как октябрьские
события 1905 года вынудили царское правительство спешно
утвердить Временные правила о печати, действовавшие до
Февральской революции 1917 года. Текст печатается по
второму тому «На жизненном пути» (СПб., 1912).
Стр. 262 Речь идет об иззестной поэтессе Каролине Карловне
Павловой, дочери профессора Яниша.
Стр. 264 Цитата из евангелия от Матфея (XXV, 26).
Стр. 266 Речь идет о московском адвокате-криминалисте Л. Е.
Владимирове.
Стр. 273 У Горация нет подобного текста. Неточная цитата из
второй сатиры Ювенала.
Стр. 277 Речь идет о двухтомном издании X, Д. Алчевской.
485
Стр. 277 Подразумеваются следующие нелегальные народнические
издания:
«История одного французского крестьянина. Книга сия
написана французским крестьянином в знак братской любви
к русским крестьянам», [Женева], 1873. Авторство
приписывалось Д. А. Клеменцу, Л. А. Тихомирову и П. В. Засо-
димскому;
«Сказка о копейке. Сочинение Ф. ***», СПб., 1870
[Женева, 1874]. Автор — С. М. Кравчинский;
«Хитрая механика. Правдивый рассказ откуда и куда
идут деньги. Сочинение Андрея Ивановича», М. [Цюрих],
1874. Автор В. Е. Варзар. Брошюра неоднократно
переиздавалась.
Стр. 277 Кони намекает здесь на факт длительного сопротивления
царского правительства изданию библии и евангелия на
русском языке.
Стр. 277 «Для чтения дофина». Речь идет об изданиях,
приспособленных для детского чтения.
Стр. 282 Подразумевается многотомный труд Д. А. Ровинского
«Русские народные картинки» (СПб., 1881), посвященвьгй
русскому лубку до 1839 года.
Стр. 284 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К Языкову»
(1824).
Стр. 286 Цитата из письма И. С. Тургенева к Я. П. Полонскому
от 13 (25) января 1868 г., впервые опубликованного в
«Первом собрании писем И. С. Тургенева. 1840—1883. Издание
Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»-,
СПб., 1884, стр. 130—131. Тургенев говорит не о науке, а о
поэзии Н. А. Некрасова.
Стр. 286 Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»
(1824) (действие 2, явление 1, слова Фамусова).
Стр. 287 Цитата из евангелия от Матфея (XVIII, 7).
Стр. 288 «Некоторые вопросы авторскою права»
Статья представляет собою последние (XI и XII)
разделы статьи «Авторское право» в первом томе «Нового
энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона
486
(СПб., 1911). Первые десять разделов написаны М. И.
Вруном. В настоящем издании название статьи соответственно
изменено редактором. Текст статьи близок к выступлениям
Кони на заседаниях Особой комиссии Государственного
Совета 27 октября, 3 и 5 ноября 1910 г. Эти выступления под
названием «По законопроекту об авторском праве» вошли во
второй том «На жизненном пути» (СПб., 1912).
Стр. 289 Имеется в виду издание: И. С. Тургенев, Первое
собрание писем. 1840—1883. Издание Общества для пособия
нуждающимся литераторам и ученым, СПб., 1884.
Стр. 289. Речь идет об издании: «Переписка Я. К. Грота с
П. А. Плетневым», издана под редакциею орд. профессора
имп. Варшавского университета К. Я. Грота, тт. I—III,
СПб., 1896.
Стр. 289 Письма Ф, М. Достоевского были включены H. Н.
Страховым в сборник под названием: «Биография, письма и
заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПб., 1883,
Стр. 289 Воспоминания и дневник А. В. Никитенко со
значительными сокращениями были опубликованы в «Русской старине»
за 1888—1892 гг. и отдельно в трех томах в 1893 году.
В более полном виде они были изданы М. В. Пирожковым
в 1905 году под редакцией М. К. Лемке.
Дневник Н. И. Пирогова бъхл издан в Петербурге в
1887 году.
Стр. 289 Дневник братьев Э. и Ж. Гонкуров был опубликован
в 1887—1895 гг. в семи томах.
Стр. 290 Письма А. Д. Градовского к M. Н. Каткову печатались
в «Голосе», постоянным сотрудником которого был Гра-
довский.
Стр. 290 Названные вопросы затрагиваются в работе И. К. Блюнч-
ли «Германское частное право» (изд. 3-е, Мюнхен, 1864).
Стр. 291 Письма А. С. Пушкина к H. Н. Пушкиной с
предисловием И. С. Тургенева были опубликованы в «Вестнике Евро-.
пы» 1878 г. № 1 и 3. Статью о них поместил в «Новом вре*
мени» (1878 г. № 729) В. П. Буренин.
ш
Стр. 291 Имеются в виду следующие строки из первой песни
«Полтавы» (1829) А. С. Пушкина:
Ты им, в безумном упоеиьи,
Как целомудрием горда —
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденьи.,«
Стр. 291 Перевод английского выражения Джона Бэньяна «Vanity
Fair», избранного Вильямом Теккереем в качестве названия
его знаменитого романа. С конца XIX века этот роман пере*
водится на русский язык под названием «Ярмарка
тщеславия»*
Стр. 292 Переписка Гёте с Шарлоттой Кестнер и ее семейством
издана была в Штуттгарте в 1855 году под названием «Гёте
и Вертер». Переписка охватывает 1772—1798 гг. Письма Кон-
стана были изданы Леви в 1881 году. Письма вице-короля
Ирландии Филиппа Честерфильда под названием «Письма к
своему сыну» были изданы в 1774 году, на немецкий язык
были переведены в 1885 году.
Стр. 293 Речь идет о персонаже «Мертвых душ» Н. В. Гоголя«
Стр. 293 «Фрагменты интимного дневника» Анри Фредерика Ами«
еля были изданы через два года после его смерти в двух
томах в 1883 году.
Стр. 294 Речь идет о мысли Гёте, высказанной им в идиллии
«Герман и Доротея» (песнь IX).
Стр. 294 Цитата из «Горе от ума» Грибоедова (д. III, явл. 22)«
Стр. 294 Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь
себе, мечтатель молодой» (1839).
Стр. 295 Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «О письма
женщины, нам милой!» (1852).
Стр. 295 Ссылка на статью «Авторское право» М. И. Бруна (см*
примеч. к стр. 288).
Стр. 296 Л. К. Панютин печатал фельетоны в «Голосе» Краев-
ского с 1863 по 1875 год. В 1872 году его фельетоны н
статьи были изданы в двух томах под названием «Рассказы
Нила Адмирари»,
483
Стр. 296 Цитата из евангелия от Матфея (VI, 34).
Стр, 296 Имеются в виду сборники «Знание», «Земля», альманах
«Шиповник» и им подобные*
Стр. 297 Имеются в виду М. А. Кузмин (повесть «Крылья),
Анатолий Каменский и некоторые другие писатели начала
XX века.
Стр. 297 Подразумевается прежде всего Вс. В. Крестовский,
творчеству которого были свойственны шовинистические тенденции.
Стр. 297 Цитата из первой песни «Полтавы» A. G. Пушкина
(1829).
Стр. 298 Цитата из сонета А. С, Пушкина «Поэту» (1830).
Стр. 299 Имеется в виду «Последнее самоубийство», входящее в
состав главного произведения В. Ф. Одоевского «Русские
ночи» («Сочинения», ч. I, СПб., 1844, стр. 100—111).
Стр. 302 Подразумевается снятие в 1905 году запрета на
информацию об убийстве императора Павла I.
Стр, 303 Сокращенная цитата первого стиха стихотворения
А. С. Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный»
(1836).
Стр. 303 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К портрету
Жуковского» (1818).
Стр. 305 «А. И, Апухтин»
Воспоминание впервые опубликовано в виде четвертого
раздела «Отрывков из воспоминаний» в «Вестнике Европы»
1908 г. № 5, а затем в цикле мемуарных очерков
(«Тургенев. — Достоевский. — Некрасов. — Апухтин. — Писемский»)
во втором томе трех изданий «На жизненном пути» (СПб.,
1912; СПб., 1913; М., 1916). Печатается по последнему при-*
жизненному изданию,
Стр, 305 О любительских спектаклях в пользу Литературного
фонда см. примечание к стр. 51.
Стр. 305 Вероятно, имеется в виду изображение А, Н. Майкова,
читающего стихи перед публикой, помещенное в сатирическом
489
журнале «Гудок» (1862 г. № 30, стр. 237), Под рисунком
текст:
Поэт: «А там — поля, опять поля!»
Голос из публики: «Опять «Поля»!
Опять «Поля»!
Много лет спустя в журнале «Осколки» (1888 г. № 18)
в связи с отмечавшимся пятидесятилетием литературной
деятельности Майкова поэта изобразили сидящим на фоне
сельского пейзажа с книгой, открытой на стихотворении «Поля»*
Стр. 306 Статья «Пропавшая серьга (Из подлинного дела)»,
подписанная инициалами К. Н. Т., была опубликована в газете
«Неделя» 1881 г. № 33, стр. 1091—1094.
Стр. 307 Цитируемый Кони отрывок из недатированного письма
Апухтина, вероятнее всего, относится к 1887 году. Указанная
Кони приблизительная дата второго письма (зима 1885/86
года), отправленного Апухтиным с Кирочной улицы, неточна,
так как по этому адресу Апухтин жил с лета 1888 года.
Следовательно, письмо написано не ранее лета 1888 года. Оба
письма Апухтина хранятся в ИРЛИ (ф. 134, оп. 3, ед. хр. 67).
Стр. 307 Цитата четверостишья (конец семидесятых годов) не
совсем точна. У Апухтина: «Да, правда: жизнь скучна...»
Стр. 308 Подаренная Апухтиным Кони рукопись поэмы
«Последняя ночь» с двумя авторскими дополнениями хранится в
ИРЛИ (ф. 134, оп. 4, ед. хр. 395). Указанные Кони места,
вызывавшие сомнение автора, вошли в окончательный текст
поэмы, впервые опубликованной в «Вестнике Европы» 1889 г«
№ 4 под названием «Из бумаг прокурора».
Стр. 309 «J9. В. Стасов»
В 1923 году А. Ф. Кони был избран председателем
комитета по организации столетнего юбилея В. В. Стасова.
Заседание состоялось 14 января 1924 г. в Ленинградской
публичной библиотеке. Вступительное слово произнес Кони.
Рукопись помечена 8 января 1924 г. Публикуется впервые,.
Стр. 309 Кони имеет в виду отзыв Стасова о статье В, Соловьева
«Россия и Европа». Стасов писал M. М. Стасюлевичу 14
февраля 1888 г.: «Я В. Соловьева очень люблю и уважаю, он
мой старый и добрый знакомый, но я хочу напасть на него
490
в письме за все те ужасы, которые он высказал нынче в
статье «Россия и Европа». Это просто постыдно и
непростительно! Я с ним новый раз пофехтую!» («М. М. Стасюлевич
и его современники в их переписке», т. II, стр. 107).
Стр. 310 В рецензии на книгу Д. А. Ровинского «История русских
школ иконописания до конца XVII века» (СПб., 1856)
Стасов, отмечая большие заслуги автора, говорил о пробелах и
неточностях труда, достойного почетного отзыва Академии, но
не премии. К 1869 году Ровинский заново переработал
книгу, учтя рекомендации Стасова. Исправленное исследование
было высоко оценено Стасовым и получило большую премию.
О том, что в Западной Европе труды Ровинского
«прозвонили бы», Стасов писал Стасюлевичу 22 сентября 1886 г.
(«M. М. Стасюлевич и его современники в их переписке»,
т. II, стр. 104).
Стр. 310 Кони имеет в виду исследование Стасова «Происхождение
русских былин» («Вестник Европы» 1868 г. № 1—4, 6—7).
В. Стасов — наиболее ранний представитель теории
заимствования. Он считал, что героические образы и сюжеты русского
эпоса восходят к эпосу восточных народов. Его воззрения
резко отличались от концепций представителей
мифологической школы: Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева, Ор. Миллера.
Стр. 310 См. письмо Стасова к Стасюлевичу от 26 февраля
1868 г. («M. М. Стасюлевич и его современники в их
переписке», т. II, стр. 94).
Стр. 310 Разъясняя замысел статьи «Крамской в его письмах и
статьях» («Вестник Европы» 1887 г. № 11 —12), Стасов
писал Стасюлевичу 29 сентября 1887 г.: «...Для меня важно
и несомненно то, что в деле художественной критики
Крамской есть истинный Белинский. И это будут впоследствии все
говорить» («M. М. Стасюлевич и его современники в их
переписке», т. II, стр. 106).
Стр. 310 Стасов писал Стасюлевичу 18 ноября 1877 г.: «...Мне
очень приятно было видеть собранными и изданными вместе
«Парижские письма», которые благодаря Вам дали средства
существовать одному из крупнейших и симпатичнейших
талантов нашего времени» («M. М. Стасюлевич и его
современники в их переписке», т. II, стр. 101). «Парижские
письма» Э. Золя печатались с 1875 по 1880 год. Всего было
опубликовано 62 письма.
491
Стр. 310 Стасов неоднократно высказывался в печати о творчестве
M. М. Антокольского. Уже в статье 1871 года «Новая
русская статуя» он сумел разгадать талант скульптора.
Стр. 310 Стасов писал Стасюлевичу 14 февраля 1888 г.: «Вы
находите язык даже у самого Льва Толстого не народным —
я напротив, причем считаю, что язык Л. Толстого такое
невообразимое совершенство и так народен, что язык всех
остальных наших писателей, кроме Пушкина, Гоголя и
Островского,— в подметки ему не годится!! Так, например, по моему
убеждению, весь язык Достоевского, Тургенева, Писемского,
Глеба Успенского и других талантливых наших писателей
является чем-то бледным, поддельным под народность и только
что «галантерейным» в сравнении с тою глубоко талантливою
и глубоко правдивою народностью, которую представляет язык
Л. Толстого и его школы» («M. М. Стасюлевич и его
современники в их переписке», т. II, стр. 106).
Стр. 311 Иерихонская труба — громкий, трубный глас. От назвав
ния города Иерихона, стены которого, по библейскому
преданию, рухнули от звука священных труб израильских воинов.
«Иерихонской трубой» называл Стасова один из его
наиболее назойливых противников, В. П. Буренин.
Стр. 311 Неточная цитата из книги Ф. Бэкона «О достоинстве и
об усовершенствовании наук» (кн. 4, гл. I).
Стр. 311 Стасов с 1859 года почетный вольный общник Академии
художеств, с 1900 года почетный академик Академии Наук.
Стр. 312 «Незамеченная смерть заметного человека»
Автограф статьи неизвестен. На всех дошедших до нас
рукописных и машинописных копиях ее стоит дата: 25
сентября 1924 г. В виде доклада статья была прочитана
автором на 217-м заседании Русского библиологического общества
в Ленинграде 14 ноября 1924 г.
Статья публикуется впервые по машинописной копии,
хранящейся в ЦГАЛИ, ф. 122 (И. И. Горбунова-Посадсва),
оп. 2, ед. хр. 182, лл. 12—17.
Стр. 312 Речь идет об архиве А. Н. Пешковой-Толиверовой,
который в 1924 году был предоставлен А. Ф. Кони во
временное пользование, по-видимому, В. С, Чоглоковой, дочерью и
492
наследницей А. H. Пешковой. В настоящее время архив
Пешковой-Толиверовой хранится в двух государственных
архивохранилищах — Институте русской литературы (Пушкинский
дом) АН СССР (ф. 227) в Ленинграде и в Центральном
государственном архиве литературы и иск)гсства (ф. 1674)
в Москве.
Стр. 313 Очерк А. Н. Пешковой-Толиверовой «Светлой памяти
Т. П. Пассек» был напечатан в журнале «Родник» 1914 г*
№ 4 и 5.
Стр. 315 Помимо редактирования двух детских периодических
изданий и журнала «Женское дело», А. Н. Пешкова известна
также как составительница нескольких сборников для
детского чтения: «Нашим детям», изд. А. Н. Якоби, СПб.,.
1873; «Складень». Чтение для детей и для юношества, изд.,
А. Н. Толиверовой, СПб., 1883; «Лев Толстой для детей»,
сост, А. Толиверова, СПб., 1909; «Тургенев для детей»,
сост. А. Толиверова, СПб., 1909.
Стр. 316 «Великим писателем земли русской» назвал Л. Н.
Толстого И. С. Тургенев в своем письме к нему, написанном
29 июня (11 июля) 1883 г.
Стр. 316 Кони цитирует письмо Л. Н. Толстого к А. Н.
Пешковой-Толиверовой от 27 декабря 1908 г. Впервые оно было
опубликовано в «Невском альманахе», вып. 2, «Из прошлого»,
Пг., 1917, стр. 201.
Стр. 316 Статья А. Н. Пешковой-Толиверовой «Светлой памяти
Л. Н. Толстого» напечатана в журнале «Красные зори»
1911 г. № 5-6 и 19—24.
Стр. 317 Воспоминания А. Н. Пешковой-Толиверовой «Памяти
Николая Семеновича Лескова» напечатаны в журнале «Игру*
шечка» 1895 г. № 9.
Стр. 317 Статья А. Н. Пешковой-Толиверовой «Эрнесто Росси»
под псевдонимом «Толя» была опубликована в журнале «Пче«
ла» 1887 г. № 14, стр. 219—223.
Стр. 317 См. А. Н. Якоби, На Капрере у Гарибальди,
«Исторический вестник» 1882 г. № 8, стр. 380—394. Свсе участие
в гарибальдийском движении А. Н. Пешкова-Толивсрова
описала также в следующих воспоминаниях: «Между гарибаль*
дийцами. Воспоминания русской» — «Неделя» 1870 г«
49а
№ 22—24; «На Капрере» — «Игрушечка» 1883 г. № 12—13;
«Джузеппе Гарибальди» — «Италия. Литературный сборник в
пользу пострадавших от землетрясения в Мессине», СПб.,
1909, стр. 20—49.
Стр. 317 Черновой вариант статьи «Знакомство с Листом»
хранится в рукописном отделе ИРЛИ (ф. 227, ед. хр. 17).
О своем знакомстве с Листом и немецкой писательницей
Э. Шварц А. Н. Пешкова-Толиверова рассказывает о своих
неопубликованных «Дневниках» (ЦГАЛИ, ф. 1674, оп. 1,
ед. хр. 1 и 2).
Стр. 318 См. очерк «Памяти Ф. М. Достоевского» («Красные
зори» 1911 г. № 4).
Стр. 318 Рукопись статьи, написанной к 25-летию со дня смерти
Н. В. Шелгунова, хранится в ИРЛИ, ф. 227, ед. хр. 10.
Стр. 318 Посвященная И. 3. Сурикову статья «Поэт-страдалец»
была напечатана в журнале «Игрушечка» 1910 г. № 4.
Стр. 318 Рукопись неопубликованных воспоминаний о П. А. Стре-
петовой хранится в ИРЛИ, ф. 227, ед. хр. 5.
Стр. 318 Рукопись статьи о К. В. Лукашевич, датированная 1916
годом, хранится в ИРЛИ, ф. 227, ед. хр. 18.
Стр. 318 Статья об О. А. Шапир («Памяти друга из дальних
лет») была напечатана в «Биржевых ведомостях» за 1916 год
(17 июня № 15623). Подготовительные материалы для другой
статьи на эту же тему хранятся в ИРЛИ, ф. 227, ед. хр. 11.
Стр. 318 См. «Памяти М. В. Безобразовой (Незамеченная смерть
заметного человека)», Пг., 1915.
Стр. 319 Цитата из «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина
(1836), гл. 2.
Стр. 319 Рукопись статьи «Маленький опыт на человеке» хранится
в ИРЛИ, ф. 227, ед. хр. 21.
Стр. 319 О дуэли Е. И. Утина с А. Ф. Жоховым см. «Дневник
А. С. Суворина», М.—Пг., 1923, стр. 200—203, 397.
494
Стр. 319 Рукопись очерка «Дрезден» хранится в ИРЛИ, ф. 227,
ед. хр. 12.
Стр. 319 Рукопись очерка «Картинки из жизни русских
художников в Риме» хранится в ИРЛИ, ф. 227, ед. хр. 16.
Стр. 319 Рассказ Л. Л. Толстого (сына) «Прелюдия Шопена»,
содержавший полемику с «Крейцеровой сонатой» Л. Н.
Толстого, был напечатан первоначально в газете «Новое время»
3, 9, и 16 июня 1898 г. № 7996, 8002 и 8009. Перепечатан
в сборнике произведений Л. Л. Толстого «Прелюдия Шопена
и другие рассказы», М., 1900. Неопубликованная статья
А. Н. Пешковой-Толиверовой «Несколько замечаний автору
«Прелюдии Шопена» хранится в ИРЛИ, ф. 227, ед. хр. 24.
Стр. 319 Рукопись статьи по поводу дела Ландсберга «Что
можно ожидать от настоящих отцов» хранится в ИРЛИ, ф. 227,
ед. хр. 25.
Стр. 320 «Незнакомец» — литературный псевдоним А. С. Суворина.
Стр. 320 Письмо А. Н. Пешковой-Толиверовой к А. С. Суворину,
цитируемое не совсем точно, относится к 1909 году, в
котором отмечалось 75-летие со дня рождения адресата. Черновой
вариант этого письма хранится в ИРЛИ, ф. 227, ед. хр. 29.
Стр. 321 Первое в России Русское женское"
взаимно-благотворительное общество было основано в мае 1895 г.
Стр. 321 См. А. Н. Пешкова-Т оливеров а, Проект
общежития при Русском женском взаимно-благотворительном
обществе, СПб., 1897.
Стр. 322 Портрет и факсимильное воспроизведение автографа
стихотворения С. В. Ковалевской «Если ты в жизни хотя на
мгновенье» были напечатаны во втором (февральском) номере
«Женского дела» за 1899 год.
Стр. 322 Первый всероссийский женский съезд состоялся в
Петербурге в декабре 1908 года. Съезд был созван по инициативе
Женского взаимно-благотворительного общества, деятельность
которого преследовала в основном культурнические цели.
Выдвинутые съездом требования политического равноправия для
женщин носили умеренно-либеральный характер.,
495
Стр. 324 «Памяти А. П. Философовой»
Очерк впервые опубликован в книге «Сборник памяти
Анны Павловны Философовой», т. II, Статьи и материалы,
Пг., 1915. Вошел в книгу А. Ф. Кони «На жизненном пути»
(т. IV, Ревель—Берлин, [1923]), по тексту которой печатается
в настоящем издании.
Стр. 324 А. П. Дягилева вышла замуж в 1855 году за
сотрудника военного ведомства В. Д. Философова, впоследствии
главного военного прокурора.
Стр. 324 Цитата из стихотворения Н. А, Некрасова «Рыцарь на
час» (1860).
Сгр. 324 Первые годы жизни в Петербурге А, П. Философова,
по ее собственным словам, была «в вихре света»: «К стыду
моему должна сознаться, что я бывала иногда на трех
балах в один вечер. Независимо от танцев, меня тешил
тот момент, когда я появлялась в залу. Точно улей, бывало,
зажужжит около меня. Чего только мне не говорили: и
царица-то я, и красавица из красавиц и пр., и все это я
принимала за чистую монету и была в восторге. Один перед другим
меня хватали вальсировать, и я носилась, как безумная...»
(«Сборник памяти Анны Павловны Философовой», т. I, Пг.,
1915, стр. 87).
Стр. 324 А. П. Философова так вспоминает приезд в Богдановское
и первые впечатления от встреч со свекром — Дмитрием
Николаевичем Философовым: «Он был крепостник в самом
настоящем смысле. У него был гарем. Когда я приехала к нему
в деревню в первый раз после замужества, то я просто была
поражена. Я думаю, что это пребывание мое в деревне и
заложило в моей душе чувство жалости, сострадания к этому
несчастному, забитому народу. Я была первый раз в деревне
в 1856 году. Еще крепостное право владычествовало тогда
во всей своей отвратительной красе. [...] Видеть этих девок,
красавиц, 17-летних, полунагих, подающих блюда за обедом...;
видеть их же после обеда, как они валялись в моих ногах и
умоляли их спасти из этого омута... видеть, как их били,
ехать с beau реге'ом в дрожках и при каждом толчке видеть,
как спина кучера награждалась палочным ударом... и когда
я умоляла со слезами, то потом сыпалось еще больше
ударов... видеть, как муж молчал и сам боялся отца... все это
трудно описать» («Сборник памяти Анны Павловны Филосо«
фовой», т. I, стр. 76—77),
496
Стр. 325 Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова
«Благодарность» (1840).
Стр. 325 Речь идет о 40-летнем юбилее общественной
деятельности А. П. Философс-зой. См. «Сборник памяти Анны
Павловны Философовой», т. II, Статьи и материалы, стр. 5—61.
Стр. 325 Кони цитирует первую строчку стихотворения А. К.
Толстого «Средь шумного бала...» (1851).
Стр. 325 Устав «Общества доставления дешевых квартир и других
пособий нуждающимся жителям С.-Петербурга» был утвержден
3 февраля 1861 г., в день именин Анны Павловны. Первой
председательницей Общества была М. В. Трубникова, в
1861 — 1863 гг. и 1867—1879 гг. —А. П. Философова.
В. В. Стасов так характеризовал деятельность Философовой:
«Как председательница Общества дешевых квартир, она была
до глубины души предана своему делу, не щадила ни трудов,
ни усилий, деятельность ее была постоянно самая энергичная,
бодрая, она никогда не отставала от самых главных, самых
деятельных своих сотрудниц, полных инициативы и всяческих
полезных начинаний, и придавала им много силы и успеха при
осуществлении на практике» («Сборник памяти Анны
Павловны Философовой», т. I, стр. 123).
Стр. 326 17 августа 1873 г. в «Московских ведомостях» было
опубликовано письмо Л. Н. Толстого о голоде в Самарской
губернии. А. П. Философова в числе первых откликнулась на
призыв и вскоре стала председательницей «С.-Петербургского
комитета для помощи голодающим Самарской губернии». О ее
деятельности в 1873 году см. «Сборник памяти Анны
Павловны Философовой», т. I, стр. 248—257. Горячее участие
в деле помощи голодающим принимала А. П. Философова и
в 1898/1899 году. Е. Леткова вспоминает: «Все это время
она была настоящей мученицей. Она болезненно отзывалась
на это народное бедствие, сознавала совершенно справедливо,
что наша помощь — капля в море, и, не давая себе отдыха,
хлопотала, собирала и главное хотела объединить все кружки,
всех «хороших людей» на этом деле [...] Анна Павловна в это
время вся ушла в одну мысль, в одно желание: «накормить
народ» и считала, что все должны служить только этому»
(«Сборник памяти Анны Павловны Философовой», т. II,
стр. 29).
32 А. Ф. Кони, т. 7
497
Стр. 326 M. В. Трубникова и Н. В. Стасова — видные
представительницы движения женщин за эмансипацию. А. П. Филосо-
фова впоследствии писала о той роли, какую сыграло в ее
жизни знакомство с Трубниковой: «Я лично никогда не
забуду первого с ней знакомства. Мы говорили буквально на
разных языках. Я ее совершенно не понимала. К счастью,
она была из тех, что сразу соображала, с кем имеет дело.
В этом была ее сила, ее обаяние. Она меня обласкала,
ободрила, дала книгу для прочтения (Emancipation) [...]. Кругозор
мой расширялся, и те часы, которые я проводила с М. В.,
с каждым разом перерождали меня» («Сборник памяти Анны
Павловны Философовой», т. I, стр. 118). О М. В.
Трубниковой см. «Женское дело» 1899 г., декабрь. О Н. В. Стасовой
см. В. Стасов, Надежда Васильевна Стасова, СПб., 1899.
Стр. 326 Д. А. Толстой — реакционно настроенный министр
народного просвещения, с которым много раз приходилось резко
спорить А. П. Философовой.
Стр. 327 См. «Сборник памяти Анны Павловны Философовой»,
т. I, стр. 148—149.
Стр. 327 Открытие женских врачебных курсов состоялось в
1872 году («Курсы для образования ученых акушерок»).
Женщинам было разрешено слушать лекции в
Медико-хирургической академии. М. В. Трубникова организовала кружок
для поддержки медичек. Кружок собирался постоянно у
Философовой, где и был выработан устав «Общества помощи
женщинам, учащимся на Медицинских курсах». Курсы
просуществовали 10 лет. В 1878 году были созданы Высшие
женские курсы, во главе которых согласно желанию министра
стал К. Н. Бестужев-Рюмин (отсюда название —
Бестужевские); с 1881 года глава педагогического совета курсов —
A. Н. Бекетов (он же и председатель комитета Общества для
доставления средств высшим женским курсам). В создании
курсов энергично участвовала А. П. Философова вместе с
двумя ее верными помощницами — О. А. Мордвиновой и
B. П. Тарновской.
Стр. 328 Недоброжелательство властей, клевета и травля
сопровождали деятельность А. П. Философовой (см. К. Головин,
Мои воспоминания, СПб., 1908; Б. M а р к е в и ч, С берегов
Невы — «Московские ведомости» 1879 г № 15). В 1879 году
Философову высылают за границу, и лишь в 1881 году раз-
498
решают возвратиться в Россию. Анна Павловна вспоминала
впоследствии опальные годы: «За что я была выслана из
Петербурга? [...] Мне как-то говорил Пушкин, который служил
у Дурново (III отд.), что будто бы есть целое дело обо мне
в архиве III отделения. Не верится, а все может быть. У них
тогда глаза от страха лопались, и самая заурядная,
ничтожная бабенка казалась им опасной. [...] Мой муж рассказывал
мне о свидании с императором Александром II. Государь
любил и ценил моего мужа, знал его лично и потому дал ему эту
аудиенцию. Мой муж говорил мне, что она продолжалась
целый час. Мой муж отстаивал, конечно, меня, насколько мог,
и получил один ответ: «Я тебе всего не хочу и не могу
рассказать, ради тебя она выслана за границу, а не в Вятку»
(«Сборник памяти Анны Павловны Философовой», т. I,
стр. 333-334).
Стр. 328 Манон-Жанна Ролан — выдающаяся деятельница
революции 1789 года, жена министра юстиции жирондистского
правительства Жана-Мари Ролана де ла Платьера. Монтаньяры
впоследствии называли ее дом «Бюро общественного мнения».
9 ноября 1793 г. госпожа Ролан была казнена. Перу Ролан
принадлежат «Мемуары», опубликованные на русском языке
в 1893 году.
«Красной госпожой Ролан» называл А. П. Философову
Д. А. Толстой, который прислал А. П. Философовой портрет
госпожи Ролан; этот портрет стоял у Анны Павловны на
почетном месте в будуаре.
Стр. 329 Речь идет о демострации 6 декабря 1876 г. В середине
января 1877 года судили 20 участников демонстрации, из
них 6 были осуждены на каторгу от 6 до 15 лет.
Стр. 330 Имеется в виду евангельское сравнение лицемеров с
«гробами повапленными, которые красивы снаружи, а внутри
полны мертвых костей и всякой мерзости».
Стр. 331 Устав «Русского женского взаимно-благотворительного
общества» был утвержден только 12 мая 1895 г. Опасения
А. П. Философовой осуществились: деятельность Общества
была скована с самого начала регламентациями и
ограничениями. Участница Общества Е. А. Чебышева-Дмитриева так
характеризует его цели: «По условиям того времени Общество
не могло явиться просто женским союзом, женским клубом,
32*
499
оно должно было частью принять характер
благотворительный и поставило себе задачей взаимопомощь, как
материальную, так и духовную» («Сборник памяти Анны Павловны
Философовой», т. I, стр. 378).
Стр. 333 Полный текст адреса «От друзей и почитателей»
приведен в книге «Сборник памяти Анны Павловны
Философовой», т. II, приложения, стр. 16—18.
Стр. 333 Статьи о юбилее А. П. Философовой появились в
газетах: «Новое время», «Новости», «Россия», «Биржевые
ведомости», «Русские ведомости», «Петербургская газета»,
«Петербургский листок» и др.
Стр. 334 Кони цитирует окончание (по рукописи) стихотворения
А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828).
Стр. 334 Теософия — религиозное учение, признающее источником
познания мистическую интуицию. Теософское общество,
возникшее в 1875 году в Америке, представляло новую форму
буддизма. А. П. Философова участвовала в 1905 году в
съезде русских спиритуалистов в Москве; в 1906 году
присутствовала в Париже на конгрессе теософов; она — одна из
создательниц и вице~председательница русского
Теософического общества, легализованного в 1908 году, сотрудница
журнала «Вестник теософии».
Стр. 335 «Владимир Сергеевич Соловьев»
Впервые после чтения в Академии Наук очерк
опубликован в «Вестнике Европы» (1903 г. № 2) в виде рецензии
на первые пять томов «Собрания сочинений» Вл. Соловьева.
В 1906 году включен в сборник «Очерки и воспоминания».
Окончательно текст установлен автором в четвертом томе «На
жизненном пути». В настоящем издании в текст внесены
необходимые исправления по первым публикациям.
Стр. 335 24 ноября 1874 г. Вл. Соловьев защитил магистерскую
диссертацию «Кризис западной философии», направленную
против позитивизма. Опубликована она была в том же году
в журнале «Православное обозрение» и отдельным изданием.
Стр. 336 Собрание сочинений Вл. Соловьева вышло под редакцией
М. С. Соловьева и Г. А. Рачинского в девяти томах (СПб..
1901—1907). Второе издание вышло под редакцией С. М. Со-
500
ловьева и Э. Л. Радлова (СПб., 1911—1914). Стихотворения
Соловьева в эти издания не включены и перепечатывались
в виде отдельного сборника (изд. 7-е, М., 1921). Письма
были изданы в четырех томах под редакцией Э. Л. Радлова
в 1908-1923 гг.
Стр. 336 Вольная цитата из сонета Пушкина «Поэту» ( 1830).
Стр. 337 Заключительные слова ответа Лютера вормскому сейму
18 апреля 1521 г.
Стр. 338 См. стр. 316.
Стр. 338 Цитата из письма Онегина к Татьяне («Евгений Онегин»
А. С. Пушкина, гл. 8).
Стр. 338 Речь идет о Георге Брандесе, лично знавшем Вл.
Соловьева.
Стр. 340 Сказанное здесь о Канте и Гегеле не точно. Уже в
шестидесятые годы определилось то течение в европейской
философской мысли (О. Либман, Ф. А. Ланге, Г. Коген и др.),
которое получило название неокантианства. В России
крупнейшим представителем неокантианства был современник Вл.
Соловьева А. И. Введенский. Неогегелианство оформилось
позднее, однако изучение и использование гегелевского
философского наследия не прекращалось ни в России, ни в
Западной Европе.
Стр. 340 В 1849—1850 гг. было радикально изменено положение
о русских университетах и пересмотрен состав преподаваемых
в них дисциплин. Исключены из программ были прежде всего
государственное право европейских народов и философия,
признанные вредными при «современном предосудительном
развитии этой науки германскими учеными». Чтение курсов
логики и психологии было вменено в обязанность профессорам
богословия.
Стр. 341 Слова Илариона, мудреца и аскета IV века, в конце
пятой сцены философской мистерии Флобера.
Стр. 341 Труды позитивистов (Д. Милля, Г. Спенсера, Д.
Г.Льюиса и др., отчасти основоположника позитивизма О. Конта)
начали появляться в русских переводах с конца 1850-х годов.
В 1860—1870 гг, в России позитивизм был широко распро-
63 А. Ф. Кони, т, 7
501
страненным учением. Различные стороны позитивизма нашли
отражение в сочинениях Г. Н. Вырубова, Н. К.
Михайловского, П. Л. Лаврова, В. В. Лесевича.
Стр. 342 Здесь в общих чертах изложено учение О. Конта.
Учению этому посвящена статья Вл. Соловьева «Теория Огюста
Конта о трех фазисах в умственном развитии человечества».
Стр. 342 Цитата из «Заговора Фиеско» Фр. Шиллера (акт 3,
сцена 4).
Стр. 343 В «Фаусте» Гёте герой говорит Маргарите (Гретхен)!
Все дело в чувстве, а названье
Лишь дым, которым блеск сиянья
Без надобности затемнен.
(Перевод Б. Л. Пастернака )t
Стр. 343 Названное сочинение Лорана было издано в шестнадцати
томах в Брюсселе в 1860—1870-х гг.
Стр. 343 Цитата из памфлета Гладстона «Болгарские ужасы»
(1876).
Стр. 344 Неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского
«На смерть Гёте» (1832). В оригинале: «Была ему звездная
книга ясна».
Стр. 344 Пастер был избран во Французскую Академию в
1881 году.
Стр. 345 Подразумеваются речи, произнесенные Кастеларом в
кортесах, начиная с 1868 года.
Стр. 345 Речь идет о статье «Наука и религия», вышедшей в
1895 году отдельным изданием в Париже.
Стр. 348 В течение 1877—1881 гг. Вл. Соловьев прочитал в
Петербурге двенадцать лекций, опубликованных в
«Православном обозрении» под названием «Чтения о богочелове-
честве» («Собрание сочинений», т. III* СПб., 1905).
Стр. 349 В каноническом тексте Пушкина нет стиха «О тайнах
вечности и гроба», он представляет собой черновой вариант
недоработанной части его стихотворения «Воспоминание» (1828)«
502
См. А. С. Пушкин, Поли. собр. соч., т. III, ч. 2, М, 1949,
стр. 655.
Стр. 350 Под «старыми славянофилами» подразумеваются А. С.
Хомяков, И. В. Киреевский и К. С. Аксаков. К моменту
обнародования указа об отмене крепостной зависимости крестьян
от помещиков их уже не было в живых.
Стр. 350 Цитата из евангелия от Луки (IV, 24).
Стр. 350 Цитата из послания апостола Павла к римлянам
(XII, 19).
Стр. 350 Начальный стих евангелия от Иоанна.
Стр, 351 Дед Соловьева, Михаил Васильевич, был священником.
Стр. 351 Переписка А. С. Хомякова с Пальмером опубликована
в «Православном обозрении» 1869 г. № 3.
Стр. 351 Цитата из евангелия от Иоанна (X, 16).
Стр. 351 Цитата из статьи Вл. Соловьева «Любозь к народу и
русский народный идеал» (открытое письмо к И. С.
Аксакову), вошедшей в первый выпуск его книги «Национальный
вопрос в России», СПб., 1888.
Стр. 352 «Духовные основы жизни» В. С. Соловьева в первых
двух изданиях (1884 и 1885 гг.) имели название
«Религиозные основы жизни». Название «Духовные основы жизни»
впервые появилось в издании 1897 года.
Стр. 352 Неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Им-
ману-Эль», впервые опубликованного в вологодском сборнике
в пользу пострадавших от неурожая «Помочь» (СПб., 1897).
В оригинале:
Он здесь, теперь, — средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами бог.
Стр. 353 Впервые опубликовано в «Русском вестнике» 1884 г.
№ 11, за подписью В. С.
Стр. 353 Цитата из последней главы «Оправдания Добра» Вл.
Соловьева («Собрание сочинений», т. VII, СПб., 1903, стр. 477).
33* 503
Стр. 354 Цитата из второй речи Соловьева в память Достоевского,
произнесенной 1 февраля 1882 г. («Собрание сочинений»,
т. III, стр. 184—185).
Стр. 355 Цитата из статьи А. С. Хомякова «О возможности
русской художественной школы» («Полное собрание сочинений»,
т. I, M.f 1900, стр 100—101).
Стр. 355 Эта мысль наиболее полно обоснована в сочинении
«История и будущность теократии», задержанном духовной
цензурой и поэтому опубликованном в 1887 году в Загребе
(«Собрание сочинений», т. IV, СПб., 1905).
Стр. 356 Цитата из статьи «Идолы и идеалы», вошедшей во
второй том книги В. С. Соловьева «Национальный вопрос в
России» (1891).
Стр. 357 Цитата из евангелия от Матфея (XXV, 26).
Стр. 358 Цитата из статьи «Идолы и идеалы».
Стр. 358 «День» (1861—1865), «Русь» (1880—1886) и «Москва»
(1867—1868)—газеты, издававшиеся И. С. Аксаковым.
Стр. 359 Цитата из статьи И. С. Аксакова в газете «Москва» от
9 августа 1868 г.
Стр. 360 Неточная цитата из статьи И. С. Аксакова от 18
сентября 1865 г. в газете «День». См. также И. С. Аксаков,
Сочинения, т. 4, М., 1886, стр. 35—36.
Стр. 360 Цитата из статьи «Еще несколько слов православного
христианина о западных вероисповеданиях» (А. С. X о м я-
ков, Поли. собр. соч., т. III, изд. 3-е, М., 1886, стр. 192)f
Стр. 360 Сочинение опубликовано в Париже в 1889 году, так как
по цензурным условиям не могло появиться в России. В
переводе на русский язык появилось первоначально за рубежом
(в Кракове, в 1908 году). Легальное русское издание вышло
в 1911 году в издательстве «Путь». В собрание сочинений
не вошло.
Стр. 361 Цитата из статьи «Об общественном воспитании в
России» (А. С. Хомяков, Поли. собр. соч., т. I, изд. 3-е, М.л
1900, стр. 374).
504
Стр. 361 У Пушкина подобное выражение не встречается.
Стр. 361 Вл. Соловьев был избран почетным академиком по pa;v»
ряду изящной словесности 8 января 1900 г. Одновременно
были избраны Л. Н. Толстой, А. Ф. Кони, В. Г. Короленко
А. П. Чехов и др.
Стр. 361 Цитата из статьи «Идолы и идеалы» (1891), составившей
позднее девятую главу второго тома сочинения
«Национальный вопрос в России» (см. Вл. Соловьев, Собр. соч., т. V,
СПб., 1902, стр. 346).
Стр. 362 Вольная цитата из «Домика в Коломне» А. С. Пушкина
(1830), строфа 12. В оригинале:
Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит [...]
Стр. 362 28 марта 1S81 г. после убийства Александра II Вл.
Соловьев произнес в зале Кредитного общества речь,
закончившуюся смелыми словами о том, что новому царю, в силу выс->
шей правды, следует простить цареубийц («Собрание
сочинений», т. III, стр. 417—421). После этого Вл. Соловьев 6ыа
вынужден подать прошение об отставке.
Стр. 362 Цитата из брошюры И. Сикорского «Нравственное
значение личности Вл. Соловьева», Киев, 1901.
Стр. 363 Цитируемые Кони воспоминания были опубликованы
20 августа 1900 г. в газете «Варшавский дневник» (№ 227,
стр. 2—3) под названием «Вл. Серг. Соловьев как профессор
(отрывки из воспоминаний)».
Стр. 364 Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова
«И скучно и грустно» (1840).
Сгр. 364 Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова
«Благодарность» (1840).
Стр. 364 Вл. Соловьев посвятил А. С. Пушкину три выступления:
«Судьба Пушкина» (1897), «Особое чествование Пушкина»
(1899) и «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»
(1899), В 1899 году он выступил в Петербурге с публичной
лекцией о М. Ю. Лермонтове. В Философском, обществе при
С-Петербургском университете, открытом в 1897 году,
505
Вл. Соловьев принимал активное участие, в нем он прочитал
в виде публичной лекции «Повесть об Антихристе» (написана
зимой 1899—1900).
Стр. 365 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Послание цен-«
зору» (1822).
Стр. 366 Цитата из послания апостола Иакова (II, 20).
Стр. 367 Работа «Оправдание Добра» первоначально печаталась
в журналах «Вестник Европы», «Вопросы философии и
психологии» и «Книжки недели» за 1894—1896 гг. В отдельном
издании 1897 года текст этого сочинения был значительно
дополнен.
Стр. 367 Цитата из евангелия от Луки (X, 42).
Стр. 368 Имеются в виду следующие сочинения Вл. Соловьева:
«Критика отвлеченных начал», «Духовные основы жизни»,
«Смысл любви».
Стр. 369 См. стр. 208.
Стр. 371 Речь идет о статье Б. Н. Чичерина «О началах этики»,
опубликованной в «Вопросах философии и психологии» за
1897 год (кн. 39). Статья эта вызвала возражения Вл.
Соловьева («Мнимая критика»). Б. Н. Чичерин не оставил этих
возражений без ответа («Несколько слов по поводу ответа
г. Соловьева» в том же журнале). Вл. Соловьев признал
допущенные им ошибки в статье «Необходимые замечания на
«Несколько слов» Б. Н. Чичерина». Следует при этом иметь
в виду, что еще в 1881 году Б. Н. Чичерин посвятил целую
книгу «Мистицизм в науке» рассмотрению докторской
диссертации Вл. Соловьева «Критика отвлеченных начал»..
Полемические статьи 1897 года были включены Б. Н. Чичериным
в его сборник «Вопросы философии» (М., 1904, стр. 223—-
349).
Стр. 371 Над переводом всех сочинений Платона Вл. Соловьев
начал работу совместно с братом Михаилом. Переводы
вошли в изданные К. Т. Солдатенковым «Творения» Платона
(тт. I—II, М., 1899—1903). О Платоне Соловьев написал
следующие статьи: «Жизненная драма Платона» («Вестник
Европы» 1898 г. и «Собрание сочинений», т. VIII), «Жизнь
506
и произведения Платона» (вступительная статья к т. I
«Творений» Платона, М., 1899) и «Платон» («Энциклопедический
словарь» Брокгауза и Ефрона, т. 23, СПб., 1898).
Стр. 371 Соловьев скончался 31 июля 1900 г. на 48-м году
жизни.
Стр. 371 Цитата из письма Белинского к А. А. Краевскому от
9—10 апреля 1841 г. (В. Г. Белинский, Поли. собр. соч.,
т. XII, М., 1956, стр. 46).
Стр. 372 Работа впервые опубликована в «Книжках недели» за
1898 и 1900 годы под названием^ «Под пальмами. Три
разговора о военных и мирных делах». Отдельное издание
появилось в 1900 году под названием: «Три разговора о войне,
прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой
повести об Антихристе и с приложениями» (изд. 4-е, 1904).
Стр. 372 В. С. Соловьев резко критиковал религиозно-этические
построения Л. Н. Толстого, иногда не называя его имени
(например, в статье 1891 года «О подделках»). Толстой в
свою очередь отрицательно относился к сочинениям Со«
ловьева.
Стр. 372 Имеются в виду статьи из цикла «Воскресные письма»,
печатавшиеся в газете «Русь» за 1897 год и вошедшие затем
в приложение к отдельному изданию книги «Три разговора...»
(1900), а также напечатанное посмертно «Письмо в редакцию
«Вестника Европы» (1900 г. № 9). Вопросу об отношениях
с Китаем посвящена обширная работа В. С. Соловьева
«Китай и Европа» (1890).
Стр. 373 Цитата из проповедей Чаннинга, изданных полностью в
1841 году в Бостоне. В 1872 году вышло издание избранных
произведений Чаннинга под названием «Совершенная жизнь».
Стр. 374 Написано 16 января 1900 г. в Петербурге, опубликовано
в «Вестнике Европы» 1900 г. № 2.
Стр. 374 Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг!
истомил тебя путь», написанного 17 сентября 1887 г. в
имении А. А. Фета и опубликованного в «Вестнике Европы»
1887 г. № 11&
507
Стр. 375 «Воспоминания о Чехове»
Воспоминания написаны в 1924 году по предложению
Пушкинского дома к 20-летию со дня смерти Чехова.
Впервые опубликованы: А. П. Чехов, Затерянные произведения.
Неизданные письма. Воспоминания. Библиография под ред.
М. Д. Беляева и А. С. Долинина, Л., «Атеней», 1925.
В том же году издательство «Атеней» выпустило
воспоминания Кони отдельным изданием. Вошли в пятый (посмертный)
том «На жизненном пути». Печатается по тексту отдельного
издания 1925 года.
Стр. 375 Редактор «Крымского курьера» А. Я. Бесчинский та«
вспоминал о «тревогах» Чехова относительно русско-японской
войны (1904—1905 ): «...Он сознавал, что неудачная война
может дать толчок к коренным реформам, но ему не хотелось
и поражений» («Приазовская речь» 1910 г. № 48).
Стр. 375 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября
1827 года», адресованного ссыльным декабристам.
Стр. 376 Американский публицист Кеннан, посетивший Сибирь в
1885—1887 гг., с декабря 1887 года печатал в журнале «The
Century Illustrated Monthly Magazine» свои путевые очерки.
Кеннан, и раньше неоднократно бывавший в России,
постоянно защищал русское правительство, оправдывая его
колониальную политику. Но посещение тюрем Сибири резко
изменило его отношение к царизму. Отдельное издание путевых
очерков Кеннана вышло в 1891 году (G. К е n n a n, Syberia
and the exil sistem, London). Книга была запрещена в России,
но пользовалась широкой известностью благодаря тому, что
в 1889—1891 гг. появился целый ряд русских переводов,
изданных за границей. В России была напечатана лишь в
1906 году.
Стр. 376 Н. К. Сигида, урожденная Малоксиано, — деятельная
участница партии «Народная воля»; арестована 23 января
1886 г. при захвате полицией типографии в Таганроге и
выслана на 8 лет на каторжные работы. За оскорбление
начальника тюрьмы 6 ноября 1889 г. наказана розгами; Сигида
тотчас отравилась. Это вызвало массовые покушения на
самоубийство заключенных Карийской тюрьмы. См. «Кара», М.,
1927; М. И. Г е р н е т, История царской тюрьмы, т, 3, Гос-
юриздат, М„ 1961, стр. 324—330.
508
Стр. 376 Отдельное издание очерков известного революционера-
народника П. Ф. Якубовича (Л. Мельшина) «В мире
отверженных. Записки бывшего каторжанина» вышло в издании
журнала «Русское богатство» в 1896 году. Второй том
очерков вышел в 1899 году.
Стр, 377 Чехов выехал из Москвы на остров Сахалин 2 i апреля
1890 г., 10 июля прибыл туда и 13 октября 1890 г. выехал
обратно.
Стр. 377 А. А. Голенищев-Кутузов, Даль зовет. Из
воспоминаний скитальца, СПб., 1907.
Стр. 377 Цитата из письма Чехова А. С. Суворину от 9 марта
1890 г. (А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. 15, Гослитиздат,
М, 1949, стр. 29—30).
Стр. 377 Первое издание книги Чехова вышло летом 1895 года
(А. П. Чехов, Остров Сахалин. Из путевых записок, СПб.).
Отдельные главы первоначально печатались в «Русской мыо
ли» (1893 г. № 10—12).
Стр. 379 В данном случае Кони ошибся, так как 18 января 1891 г,
Чехов писал сестре: «Вчера я был у Кони, говорил с ним о
Сахалине; условились ехать вместе во вторник на будущей
неделе к Нарышкиной просить ее, чтобы она поговорила с
государыней о сахалинских детях и насчет устройства приюта
для детей» (А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. 15, стр. 151;
ср. «Литературное наследство», т. 68, М., «Наука», 1960,
стр. 186).
Стр. 380 Е. А. Нарышкина была председательницей «Женского
благотворительного попечительства о ссыльнокаторжных» и
«Общества попечения о семьях ссыльных». Она развернула
активную деятельность, имевшую целью помощь осужденным
женщинам и их детям, улучшение условий их содержания,
организацию школ, детских приютов и т. д. См. «Исторический
вестник» 1910 г. № 10, стр. 381—382.
Стр. 380 29 марта 1893 г. Николай II подписал закон об отмене
телесных наказаний для ссыльных женщин.
Стр. 380 Письмо Чехова от 26 января 1891 г. (А. П. Чехов,
Поли. собр. соч., т. 15, стр. 154—156).
Стр. 381 Штосе — азартная карточная игра.
509
Стр. 381 «Гамлет» Шекспира, акт V, сцена 1.
Стр. 382 Кони имеет в виду Евгению Мейер, девушку из
дворянской семьи, добровольно уехавшую на Сахалин работать среди
ссыльных. Этот поступок подсказан был ей книгой Чехова,
См. отчет Е. Мейер о поездке на Сахалин — «С.-Петербургские
ведомости» 23 ноября 1902 г. № 321.
Стр. 383 См. Д. А. Д р и л ь, Ссылка и каторга в России. Из
личных наблюдений во время поездки в Приамурский край и
Сибирь— «Журнал министерства юстиции» 1896 г. № 4;
Д. А. Д р и л ь, Ссылка во Франции и России, СПб., 1899;
А. П. С а л о м о н, Доклад министру юстиции от 18 февраля
1899 г., СПб., 1899; А. П. Салом он, На о. Сахалине —
«Тюремный вестник» 1899 г. № 1; отчеты А. П. Саломона
о поездке — «Тюремный вестник» 1901 г. № 1—2.
Стр. 383 С.-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы
(1878—1918) сыграли большую роль в развитии народного
образования в России, создании русской прогрессивной
интеллигенции. С их открытием стал возможен доступ русским
женщинам к высшему образованию. Многие бестужевки активно
участвовали в революционном движении (Н. К. Крупская,
А. И. Ульянова и многие другие). В этом первом в России
высшем женском учебном заведении преподавали лучшие
профессора того времени. О курсах см. «Санкт-Петербургские
высшие женские (Бестужевские) курсы (1878—1918)»,
Сборник статей, изд. ЛГУ, 1965. См. также стр. 327.
Стр. 383 Премьера «Чайки» в Александрийском театре состоялась
17 (29) октября 1896 г. в бенефис комической актрисы
Е. И. Левкеевой, с успехом исполнявшей роли в пьесах
Островского. Роль Нины играла В. Ф. Комиссаржевская.
Большинство исполнителей и публика не поняли новаторского
характера пьесы Чехова, и спектакль окончился провалом. Отзывы
современников о первом представлении «Чайки» см. Н. Г и-
т о в и ч, К сценической истории «Чайки» (История трех
постановок) — в книге «А. П. Чехов», Сборник статей и
материалов, вып. 2, Ростов-на-Дону, 1960, стр. 226—242.
Стр. 384 «Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь за царя»,
и говорить нечего; он понятен и известен уже целой
России», — писал Гоголь вскоре после постановки оперы (Н. В. Г о«<
голь, Собр. соч., т. 6, Гослитиздат, 1958, стр. 113). Опера
510
Глинки была воспринята как опера национальная, с нею свя->
зывали рождение русской национальной оперы. См. Т. Л и*
в а н о в а, В. Протопопов, Глинка. Творческий путъ, т. I,
Музгиз, М., 1955, стр. 178—189.
Стр. 384 См. т. 6 наст. Собрания сочинений, стр. 94—95.
Стр. 384 Неточная цитата из «Записок» Глинки (М. И. Глинка,
Литературное наследие, т. I, Музгиз, М.—Л., 1952, стр. 227-*
228).
Стр. 384 Первая постановка оперы Бизе «Кармен» (в Парижском
театре комической оперы) 3 марта 1875 г. полностью
провалилась. Об отзывах публики может свидетельствовать,
например, статья А. Жюльена (см. «Французская музыка второй
половины XIX века», «Искусство», М., 1938, стр. 238—240).
Бизе умер 3 июня 1875 г.
Стр. 385 Письмо Кони к Чехову от 7 ноября 1896 г. см. т. 8
наст. Собрания сочинений.
Стр. 385 Письмо Чехова от 11 ноября 1896 г.
Стр. 385 О втором представлении «Чайки» газета «Новое время»,
например, писала: «После каждого действия вызывали артистов
по нескольку раз, четвертое действие произвело глубокое
впечатление, и публика единодушно стала вызывать автора»
(22 октября 1896 г.).
Стр. 385 Отзыв Чехова о судебных речах Кони см. в письме
С. А. Андреевскому от 25 декабря 1891 г.
Стр. 385 Известны шесть писем Чехова к Кони (1891 —1901) и
два письма Кони (1896, 1900).
Стр. 385 О таганрогской библиотеке и заботах о ней Чехова см.
С. Д. Б а л у х а т ы й, Библиотека Чехова — в книге «Чехов
и его среда», Сборник статей под ред. Н. Ф. Бельчикова,
Л., 1930, стр. 197—422.
Стр. 386 Письмо Чехова к Кони от 22 ноября 1900 г. (А. П.
Чехов, Поли. собр. соч., т. 18, Гослитиздат, М., 1949,
стр. 415—416).
Стр. 386 Цитаты из письма Чехова сестре от 14 июля 1888 г.
(А. П. Чехов, Полн. собр. соч., т. 14, Гослитиздат, М.,
1949, стр. 133—134).
511
Стр. 386 В 1898 году Чехов купил участок земли в конце Аут-
скоп улицы (ныне улица Кирова) на окраине Ялты. Осенью
1899 года строительство дома было закончено. Ныне в нем
мемориальный музей Чехова.
Стр. 386 Кони имеет в виду широко распространенную в
старообрядческой среде песню, являвшуюся, переложением
средневековой повести «Прения живота со смертью» (см.
Р. П. Дмитриева, Повести о споре жизни и смерти,
«Наука», М—Л., 1964),
Стр. 386 Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Я сегодня
так грустно настроен» (1854).
Стр. 387 Письмо Чехова от 6 мая 1901 г. (А. П. Чехов, Поли,
собр. соч., т. 19, Гослитиздат, М., 1950, стр. 83).
Стр. 387 Бунин послал Чехову книгу «Листопад. Стихотворения»
(М., 1901). За эту книгу и за перевод «Песни о Гайавате»
Лонгфелло ему была присуждена половина Пушкинской
премии за 1903 год. Рецензии были представлены А. А. Голени-
щевым-Кутузовым («15-е присуждение премий им. А. С„
Пушкина 1903 года. Отчет и рецензии», СПб., 1904). Чехов
получил половину Пушкинской премии в 1888 году за сборник
рассказов «В сумерках». («4-е присуждение премий им,
А. С. Пушкина. Отчет и рецензии», СПб., 1889).
Стр. 387 Чехов ездил в Башкирию лечиться.
Стр. 387 Чехов женился на актрисе О. Л. Книппер 25 мая 1901 г.
Стр. 387 Это письмо Кони неизвестно.
Стр. 387 О. Л. Книппер выступила в «Чайке» в Московском
художественном театре впервые 17 декабря 1898 г. Эта
постановка принесла Чехову истинное признание; успех бык
огромен. Предполагавшаяся постановка «Чайки» силами
Художественного театра в Петербурге не состоялась из-за
болезни О. Л. Книппер.
Стр. 388 В начале июня 1904 года Чехов уехал лечиться в
Германию, а 2 июля его уже не стало. О его настроениях см*
А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. 20, Гослитиздат, М.,
1950, стр. 295-306.
Стр. 388 Неточная цитата из стихотворения А. Ct Пушкина
«Поэту» (1830)Г
512
Стр. 388 Цитата из письма М. П. Чехову от 6 или 8 апреля
1879 г, (А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. 13, Гослитиздат,
М., 1948, стр. 29).
Стр. 388 Кони имеет в виду письма Чехова к А. Н. Плещееву
1888 года (А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. 14,
Гослитиздат, М., 1949, стр. 177, 181).
Стр. 388 См. т. 6 наст. Собрания сочинений, стр. 585,
Стр. 388 Цитата из указанного письма Чехова Плещееву (т а м ж е,
стр. 177).
Стр. 389 А. П. Чехов, Поли. собр. соч., т. 12, Гослитиздат, М.,
1949, стр. 258
Стр. 389 См. об этом: Н. Сысоев, Чехов в Крыму, Крымиздат,
Симферополь, 1954, стр. 22—33.
Стр. 391 См. гл. IV «Скучной истории» (1889).
Стр. 391 См., например, И. И. Г л и в е н к о, Мопассан и Чехов
(Сравнительный этюд), Киев, 1904; А. Д. А л ь м а н, Антон
Чехов и Гюи де Мопассан (Критический этюд), Саратов,
1908.
Стр. 391 Впервые Тургенев ввел в литературу название «лишний
человек» в повести «Дневник лишнего человека» (1852).
Цитата, приводимая Кони, — последние слова Лаврецкого из
романа «Дворянское гнездо» (1858).
Стр. 391 «Хмурые люди»—один из сборников рассказов Чехова,
изданный впервые в 1890 году.
Стр. 392 «Князь А. И. Сумбатов-Южин»
Статья была написана Кони для представления Сумбато-
ва-Южина к званию почетного академика Российской
Академии наук по Разряду изящной словесности. Представление
поддержал Д. Н. Овсякико-Куликовский. Сумбатов был
избран академиком 20 марта 1917 г.
Статья печатается по тексту третьего тома «На жизненном
пути» (Берлин—Ревель, [1922]).
Стр. 392 Первое драматическое произведение — шуточную оперетту-
водевиль «Джуань-Юань»—Сумбатов написал в 1873 году.
513
Стр. 392 Пьеса «Ночной туман» была написана и поставлена в
1916 году.
Стр. 394 «Акробаты благотворительности» — название повести
Д. Григоровича («Русская мысль» 1885 г, № 1—2).
Стр. 396 «Мочалов в жизни и на сцене» — речь, прочитанная в
Обществе любителей российской словесности при Московском
университете на торжественном заседании, посвященном
памяти великого артиста, 28 апреля 1898 г. (напечатана в сборнике
«Памяти Белинского», М., 1899). Статья «Первый
Всероссийский съезд сценических деятелей, его резолюции и
настроения» написана Сумбатовым во время гастролей Малого театра
в Варшаве в 1897 году (опубликована в «Русской мысли»
1897 г. № 5). Статья «Личные заметки об общих вопросах
современного театра» вышла отдельной брошюрой в изд-ве
«Труд» (СПб., 1903). Неоднократно переиздавалась.
Стр. 396 Статья «Мертвящее начало 1905 года» была резким
выступлением Сумбатова против цензурных преследований
(А. И. Сумбатов, Поли. собр. соч., т. 4, М., 1909).
Стр. 397 «Образы прошлого»
Статья представляет собою сокращенный вариант
доклада, представленного А. Ф. Кони в Комитет Академии Наук
по Пушкинским премиям за 1912 год. Сокращениям
подверглись главным образом цитаты из книги Щепкиной-Куперник.:
Под текстом доклада — авторская дата: «1912. Августа 28»
(ИРЛИ, ф. 134, оп. 1, № 167). На основании отзыва Кони
Комитет по присуждению премий им. Пушкина решил
поощрить книгу Щепкиной-Куперник почетным отзывом имени
поэта («20-е присуждение премий им. А. С. Пушкина. Отчет»,,
СПб., 1913). Впервые статья была опубликована в
«Вестнике Европы» (1912 г. № 10); включена автором в книгу
воспоминаний «На жизненном пути». Печатается по тексту
третьего тома «На жизненном пути», Ревель—Берлин, [1922].
Высокая оценка Кони книги Щепкиной-Куперник была
вызвана желанием противопоставить непосредственные,
«чуждые прозаической обыденности» «Сказания о любви»
многочисленным декадентским произведениям «болезненно
чувствительных» авторов, нередко переступавших ту черту, «за
которою начинается соблазнительная для многих область
подробностей низменного порядка». Об этом Кони прямо писал
в заключение своего доклада Академии Наук: «Книга г-жи
514
Щепкиной-Куперник представляет не только самостоятельный
и тонкий труд в области действительно изящной словесности,
но и отрадное явление в текущей литературе, столь бедной
произведениями, посвященными идеальным сторонам жизни»
(ИРЛИ, ф. 134, оп. 1, № 167). Об отношении Кони к
Щепкиной-Куперник см. Т. Л. Щепкина-Куперник, Из
воспоминаний, ВТО, М., 1959, стр. 388—395.
Стр. 397 Повесть И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви»
была напечатана в «Вестнике Европы» 1881 г. № 11.
Стр. 398 «Божественная комедия» — вершина творчества Данте —
написана в начале XIV в. Четыре из десяти рассказов
Щепкиной-Куперник имеют эпиграфы из «Божественной комедии»*
Стр. 398 Рассказ Щепкиной-Куперник «Инеса ди-Кастро» является
переложением широко известного эпизода из поэмы
португальского поэта эпохи Возрождения Камоэнса «Лузиады».
Эпиграфом к рассказу служат слова из поэмы: «... которая,
после своей смерти, была королевой».
Стр. 398 В рукописном варианте статьи Кони подтверждает эти
слова рядом примеров. Он считал «неудачными» такие
обороты, как «тусклые голоса», «поползли белые как бы полосы
тончайшей ткани», «а ее хватали, тащили куда-то и с
ликованием демона кричали», «благовест перекликался из одной
деревни в другую», «мрак и пыль разбегались от суеты
придворной челяди». Кони отметил как не вполне органичные
для рассказов и выражения типа: «петь лауды», «Тристан-
Лермит».
Стр. 399 Себастьян при римском императоре Диоклетиане был
начальником преторианцев, но затем перешел в христианство,
за что в 288 году был подвергнут мучительной казни. Стал
католическим святым.
Стр. 399 Святая Елизавета, по евангелической легенде, — супруга
священника Захарии, которая после долгого бесплодия
сделалась матерью Иоанна Крестителя.
Стр. 400 Цитата из евангелия (от Матфея, гл. 5, ст. 39; от Луки,
гл. 6, ст. 29). Ланита — щека.
Стр. 401 Мареммы римской Кампаньи — болотистая нездоровая
местность в Римской области.
513
Стр. 403 «[Памяти H. А. Котляревского]»
Печатается впервые по рукописи, хранящейся в
Пушкинском доме в архиве А. Ф. Кони (ф. 134, оп. 1, № 119).
Предположительно очерк датируется 1925 годом — годом
смерти Н. А. Котляревского.
Стр. 404 См. Н. К о т л я р е в с к и и, Михаил Юрьевич Лермонтов.
Личность поэта и его произведения, изд. 5-е, Пг., 1915.
Стр. 404 В состав Пушкинской комиссии при Академии Наук,
кроме Н. А. Котляревского, вошли Д. В. Аверкиев, К. К. Ар-
сеньев, Ф. Д. Батюшкоз, П. И. Вейнберг, А. А. Голенищев-
Кутузов, Н. Р. Овсяный и П. А. Рсвииский.
Стр. 404 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1829).
Стр. 404 См. т. 5 наст. Собрания сочинений, стр. 250—252*
Стр. 404 Первыми почетными академиками Разряда изящной
словесности были избраны 8 января 1900 г. президент вел. кн.
Константин Константинович, Л. Н. Толстой, А. А. Потехин,
A. Ф. Кони, А. М. Жемчужников, А. А. Голенищев-Кутузов,
B. С. Соловьев, А. П. Чехов, В. Г. Короленко и 1 декабря
того же года — К. К. Арсеньев, П. Д. Боборыкин, С. В.
Максимов и В. В. Стасов.
Стр. 404 Избрание М. Горького почетным академиком Разряда
изящной словесности, состоявшееся 25 февраля 1902 г.,
было объявлено по распоряжению Николая II
недействительным ввиду политической неблагонадежности писателя (см.
Г. А. Князев, Максим Горький и царское правительство -^~
« Вестник АН СССР» 1932 г. № 2, стр. 25—43).
Стр. 404 Неточно цитируются строки заключительной' восьмой
главы «Евгения Онегина» (1832).
Стр. 405 Избрание Н. А. Котляревского в почетные академики
состоялось 8 ноября 1906 г.
Стр. 406 См. т. 6 наст. Собрания сочинений, стр. 76—105. Доклад
Н. А. Котляревского «Князь Владимир Федорович
Одоевский — автор «Русских ночей» был прочитан 19 ноября и
опубликован в «Известиях Отделения русского языка и
словесности Академии Наук», 1904, т. IX, кн. 2, стр. 162—176.
516
Стр. 406 В ординарные академики Н. А. Котляревский был
избран 14 февраля (утвержден 27 апреля) 1909 г. Директором
Пушкинского дома он был назначен 10 июня 1910 г., про«
быв в этой должности до конца своей жизни.
Стр. 406 В течение ряда лет Пушкинский дом неоднократно менял
свое местонахождение. В последний год жизни Котляревского
он размещался в Большом конференц-зале Академии Наук
и лишь в конце 1927 года по постановлению Президиума
Академии Наук он был переведен в предоставленное ему зда-.
ние бывшей таможни на Тучковой набережной (ныне набеч
режная Макарова, 4), где находится в настоящее время.
Стр. 406 «Пушкин и Россия. Речь, сказанная в Доме литераторов
на торжественном заседании 11 февраля (29 января) 1922 г.
председателем комитета Дома Нестором Котляревским», Пб.г
изд. Пушкинского дома, 1922.
Стр. 407 Цитата из статьи Н. А. Котляревского «Памяти
Е. А. Баратынского» («Вестник Европы» 1895 г. № 7,
стр. 216).
Стр. 407 Н. А. Котляревский умер в Ленинграде 12 мая 1925 г.
34 А. Ф, Кони, т. 7
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрикосова Г. А. — врач, ассистент проф. Ж.-М. Шарко — 403.
Август Тиверий — см. Тиберий.
Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905) — драматург, критик,
публицист — 516.
Адлерберг Александр Владимирович, граф (1819—1888) — министр
императорского двора — 63.
Адрианова-Перетц Варвара Павловна — советский литературовед —
485.
Айвазовский Иван Константинович (1817—1900) -—314.
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — поэт и публицист,
видный представитель позднего славянофильства — 88, 180, 181,
358—360, 408, 451, 464, 503, 504.
Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — поэт, драматург,
публицист, один из представителей славянофильства — 451,
463, 503.
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель — 88, 301,
303, 463.
Александр I (1777—1825) — 35, 37, 58, 302, 425.
Александр II (1818—1881) — 57, 69, 91, 101, 121, 181, 220, 222,
226—228, 330, 409, 418, 428, 454, 474, 475, 499, 505.
Александр III (1845—1894) — 56, 120, 452.
Александра Федоровна (1798—1860) — императрица, жена
Николая 1 — 196.
Алексеев Анатолий Дмитриевич — советский литературовед — 409.
Алексей Михайлович (1629—1676)—царь с 1645 года — 21, 86,
229, 411, 476.
Алексей Петрович (1690—1718)—царевич, старший сын Петра I —
21, 412.
Алтухов Михаил Иванович (р. 1851) — инженер-технолог, главный
техник петербургского городского водопровода — 243.
518
Алчевская Христина Даниловна (1841 —1920) — писательница и
общественная деятельница — 485,
Альбони Мариэтта (1823-—1894) — итальянская певица — 54.
Альман А. Д. — русский литературовед — 513.
Алябьев Александр Александрович ( 1787—1851)— композитор,
автор песен и романсов — 57, 419, 440.
Амвросий (Зертис-Каменский Андрей Степанович) (1708—1771)—■
архиепископ Московский — 277.
Амьель Анри Фредерик (1821—1881) — швейцарский писатель,
профессор философии Женевской академии — 293, 488.
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — писатель — 296.
Андреевский Иван Ефимович (1831—1891) — историк русского
права, ректор Петербургского университета — 434.
Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1919) — юрист, поэт, пере*
водчик и критик — 478, 479, 511.
Андреянова Елена Ивановна (1819—1857) — балерина—56.
Анисе-Буржуа Огюст ( 1806—1871) — французский драматург — 436.
Анна Ивановна (1693—1740) — императрица (1730—1740) — 21,
138.
Анненков Николай Николаевич (1799—1865) — генерал-адъютант,
директор канцелярии Военного министерства (1842—1849),
государственный контролер, затем киевский, подольский и волын-
ский генерал-губернатор — 423, 468, 469.
Анненков Павел Васильевич (1813—1887) — критик, первый
научный биограф Пушкина, мемуарист — 35.
Антокольский Марк Матвеевич ( 1843— 1902 ) — скульптор — 310,
492.
Апраксин Степан Федорович, граф (1792—1862) — генерал, первый
владелец торгового Апраксина двора в Петербурге — 428.
Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893)—поэт — 37, 50, 56,
298, 305—308, 409, 425, 441, 489, 490.
Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — генерал, временщик
при дворах Павла I и Александра I — 24, 35, 417, 423, 446.
Аретино Пьетро (Аретин Петр) (1492—1556) — итальянский
писатель-гуманист эпохи Возрождения — 278.
Аристов Николай Александрович (р. 1847)—востоковед, этнограф,
помощник военного губернатора Семиреченской обл. (1881—
1889) — 265.
Аристофан (ок. 450—385 до н. э.) — древнегреческий драматург*
сатирик — 278.
Арльт Фердинанд (1812—1887) — австрийский врач-окулист—134.
Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — юрист, кри«
тик и публицист —228, 240—242, 248, 253, 474, 478, 479, 516.
34*
519
Арцимовнч Виктор Антонович (1821—1893) — юрист, сенатор — 220,
240, 254, 255, 258, 259, 483.
Асенкова Варвара Николаевна (1817—1841) — актриса
Александрийского театра — 53, 59, 422, 441.
Аскарханов Николай Семенович — петербургский книгоиздатель —
286.
Аттила (ум. 453)—вождь племени гуннов, завоеватель—146, 460.
Ауфенберг Иосиф, барон фон (1798—1857) — немецкий драматург—
436.
Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871)—собиратель и
исследователь русского фольклора — 491.
Бабст Иван Кондратьевич (1824—1881) — экономист и статистик,
профессор Московского университета (1857—1874),
публицист— 100, 101.
Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788—1824) — 365.
Бакунина Екатерина Михайловна — сестра милосердия,
возглавлявшая Крестовоздвиженскую общину в Севастополе во время
Крымской войны — 211.
Балашов Александр Дмитриевич (1770—1837) — генерал-адъютант,
министр полиции (1810—1819)—425.
Балинский Иван Михайлович (1827—1902) — психиатр
Медико-хирургической академии — 36, 107.
Балухатый Сергей Дмитриевич (1892—1945) — советский
литературовед — 511.
Баранов М. Н. — инженер — 275.
Барановский Александр Иванович — петербургский мировой судья —
177, 178.
Баранцевич Казимир Станиславович ( 1851—1927) — писатель — 314.
Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт—58, 210, '
407, 421, 470, 502, 517.
Барсуков Николай Платонович (1838—1906) — историк и.
археограф — 460.
Бартельс Макс (1843—1904) — немецкий врач, антрополог и
этнограф — 286.
Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — историк, археограф,
редактор журнала «Русский архив» ( 1863-—1912)-—464,
Баршев Сергей Иванович (1808—1882) — криминалист, профессор
Московского университета, ректор (1863—1870)— 101, 104—
107, 109—111, 115, 454.
Басов Василий Александрович (1812—1879)—хирург и физиолог —
107.
520
Баталии Анатолий Гаврилович (184!—1897) — врач, инспектор
Петербургской врачебной управы — 153.
Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — поэт — 459.
Батюшков Федор Дмитриевич ( I857—1920) — историк литературы
и критик — 516.
Безобразова Мария Владимировна (р. 1857) — деятельница женского
движения, философ — 318, 494.
Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902) — ботаник, профессор
Петербургского университета (1863—1897) — 434, 448, 498.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 23, 31, 34, 51,
59, 140, 141, 261, 310, 371, 417, 420, 422, 426, 435, 436,
458, 482, 491, 507, 514.
Беллами Эдуард (1850—1898) — американский писатель-утопист —
297.
Беллини Винченцо (1801 —1835) — итальянский композитор — 440.
Белль Чарльз (1774—1842) — английский анатом, физиолог и хи-
оург— 468.
Белогорский Петр Анатольевич (р. 1866) — врач, хирург — 468.
Белосельские-Белозерские, князья — 34, 422.
Бельский Владимир Иванович (1866—194ö) — оперный либретист —-
415.
Бельчиков Николай Федорович — советский литературовед—511.
Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — историк, профессор
Московского университета (1852—1873) — 85—87, 89, 451.
Беляев Михаил Васильевич (1885—1948) —
литературовед-славист — 22.
Беляев Михаил Дмитриевич (1884—1955) — советский
искусствовед и литературовед — 508.
Беляев Осип Васильевич (Джузеппе) — торговец из крепостных,
живший в Италии в 60—80-х гг.,— 185—199, 408,461,462,464.
Бем Елизавета Меркурьевна (1843—1914) — художница — 314.
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт — 433.
Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1783—1844) — шеф
жандармов и начальник III отделения — 39.
Бенуа Николай Леонтьевич (1813—1898) — архитектор — 420.
Бер Николай Николаевич (1844—1904) — чиновник особых
поручений при Министерстве имп. двора и уделов — 68, 444.
Беранже Пьер Жан ( 1780—1857) — 282.
Берви-Флеровский Василий Васильевич (1829—1918) — экономист
и социолог, писатель и критик — 434.
Берг Николай Васильевич (1823—-1884) — поэт, переводчик,
историк литературы — 212, 470,
52Î
Бернер Альберт Фридрих (1818—1907) — немецкий криминалист —
109, 113—115.
Бертенсон Иосиф Васильевич (1833—1895) — лейб-медик — 467, 468.
Бертой Шарль Франсуа (1820—1874) — французский актер, гастро-
лировавший с труппой в 40—50-х гг. в Петербурге, — 56.
Бессонов Петр Алексеевич (1828—1898) — славист, издатель про*
изведений фольклора и памятников древнерусской
словесности — 411.
Бестужев-Марлинский Александр Александрович (1797—1837)—■
писатель, декабрист—143, 446.
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897) — историк,
профессор Петербургского университета, основатель Высших
женских курсов — 335, 452, 498.
Бесчинский Аркадий Яковлевич — журналист, редактор «Крымского
курьера» — 508.
Бетховен Людвиг ван (1770—1827)—448.
Бизе Жорж (1838—1875) — французский композитор — 384, 511.
Бильбасов Василий Алексеевич (1837—1904) — историк,
публицист — 302.
Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — фаворит императрицы Анны
Ивановны—138, 139, 457.
Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенгаузен, князь (1815—•
1898) — рейхсканцлер Германской империи (1871 —1890) — 233.
Благовещенский Николай Михайлович (1821—1892) — профессор
римской словесности Петербургского университета — 450.
Блан Август Александр Шарль (1813—1882)—французский
художественный критик — 290.
Блинов — петербургский домовладелец — 430.
Блуменберг Теофил Алексеевич — петербургский врач — 316.
Блюнчли Иоганн Каспар (1808—1881) — швейцарский правовед,
историк и политический деятель — 290, 291, 487.
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель — 97, 143,
453, 516.
Богучарский-Яковлев Василий Яковлевич (1861—1915) — публицист,
участник и историк народничества — 455.
Бодянский Осип Максимович (1808—1877) — славяновед, профессор
Московского университета— 178.
Бозио Анджелика (1824—1859) — итальянская певица — 54, 59.
Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк и социолог-
позитивист — 78, 448.
Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — знаменитый врач-терапевт,
профессор Медико-хирургической академии — 318.
522
Браге Тихо (1546—1601) — датский астроном и математик—11.
Брандес Георг (1.842—1927) — датский историк литературы —
337, 501.
Брант Себастьян (1457—1521)—немецкий поэт — 445.
Бренна Викентий (Винченцо) Францевич (1740—1819) —
итальянский художник-декоратор и архитектор, работавший в России
в 1780—1801 гг.,-430.
Брикнер Александр Густавович (1834—1896) — историк, профессор
Одесского и Дерптского университетов — 302.
Бродский Исаак Израилевич (1883—1939) — художник — 439.
Бродский Николай Леонтьевич (1881 —1951) — советский
литературовед — 458.
Брокгауз Фридрих Арнольд (1772—1823)—основатель немецкой
издательской фирмы — 486, 507.
Броун Роберт (1550—1633) — английский религиозно-политический
деятель — 414.
Брун Михаил Исаакович (р. 1860) — юрист, правовед — 487, 488.
Брюнетьер Фердинанд (1849—1906) — французский критик,
историк и теоретик литературы — 345, 346.
Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — дипломат, полководец —
413.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — писатель — 480.
Брянский Яков Григорьевич (1790—1853)—актер — 52.
Буатар Жозеф Эдуард (1804—1835) — французский юрист, автор
учебников по уголовному праву— 109.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — реакционный
писатель и журналист, тайный агент III отделения — 32, 140, 206,
421, 457, 468.
Бульвер-Литтон Эдуард (1803—1873) — английский писатель и
политический деятель — 436.
Бундшу — содержательница женского пансиона в Москве—126, 129.
Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — писатель — 387, 512.
Бурбоны — французская королевская династия— 198, 465.
Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — публицист, поэт и
критик — 487, 492.
Буркгард фон Пюркенштейн Антоний Эрнест — математик второй
пол. XVII — нач. XVIII вв. при дворе римского императора
Иосифа I — 413.
Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — филолог, историк
искусства-102, 103, 491.
Бэкон Френсис (1561 —1626) — английский философ-материалист —
221, 253, 311, 326» 492.
52S
Бэньян Джон (1628—1688) — английский
проповедник-нонконформист, писатель — 488.
Бэр Карл Максимович (1792—1876)—зоолог и физиолог,
академик — 57.
Вагнер Рихард (1813—Î883) —немецкий композитор — 438.
Вагнер Юлий Николаевич (р. 1865) — зоолог — 314.
Валишевский Казимир (1849—1935) — польский писатель и
историк — 302.
Валлен-Деламот Жан Батист Мишель (I729—1800)—французский
архитектор, работавший в России в 1759—1775 гг., — 420.
Валуев Николай Петрович, граф (1856—1893) — военный юрист,
сын П. А. Валуева— 120, 122, 124.
Валуев Петр Александрович, граф (1815—1890) — министр
внутренних дел (1861 —1868), писатель — 84, 115—117, 119—
124, 236, 455, 456, 477.
Вальтер Фердинанд (1794—1879) — немецкий юрист — 91, 115.
Вандамм Доменик Рене (1770—1830) — французский генерал,
участник наполеоновских войн — 143.
Вараксин Александр Сергеевич (р. 1872) — священник, депутат
Государственной думы, черносотенец — 43.
Варзар Василий Егорович (1851 —1940)—земский статистик,
участник революционного движения 70-х гг. — 486.
Варений (Варениус) Бернард ( 1622—1650) — географ — 413.
Варламов Александр Егорович (1801—1848) — композитор—440.
Василий — архиепископ Новгородский (ум. 1352) — 6, 411.
Вашингтон Джордж (1732—1799) — первый президент США
(1789—1797)-365.
Введенский Александр Иванович (1856—1925) —
философ-идеалист — 501.
Вейнберг Петр Исаевич (1830—1908) — поэт, переводчик — 51, 314,
433, 434, 441, 478, 516.
Величко Василий Львович (1860—1903)—поэт — 314.
Вельпо Альфред (1795—1867) — французский хирург — 206, 468.
Вельтман Александр Фомич (1800—1870) — писатель — 74, 75, 126,
138, 146, 147, 149, 178, 408, 460.
Вельтман Елена Ивановна, рожд. Сабанеева (1816—1868) —
писательница, жена А. Ф. Вельтмана — 75, 76, 147, 149, 150,
447.
Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы и
библиограф — 464»
524
Венявский Генрих (1835—1880) — польский скрипач и
композитор — 145.
Верди Джузеппе (1813—1901) — 55, 438.
Верн Шюлъ (1828—1905) -284.
Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор—54,
138, 438.
Виардо Полина, рожд. Гарсиа (1821 —1910) — французская певица,
выступавшая в 1839—1861 гг. на многих сценах Европы, в том
числе в Петербурге; друг И. С. Тургенева — 54, 438.
Вшель Филипп Филиппович (1786—1856) — писатель-мемуарист —
425.
Видок Франсуа Эжен (1775—1857) — начальник парижской сыскной
полиции — 32, 421.
Виктор Эммануил II (1820—1878) — король Сардинии, потом
Италии—198, 465.
Вильгельм II (1859—1941) — германский император (1888—1918) —
321.
Виоль — клоун — 55, 439.
Вицын Александр Иванович (1833—1900) — юрист, ученик
Д И. Мейера —450.
Владимиров Леонид Евстафьевич (I845—1917) — юрист, профессор-
криминалист Харьковского университета — 266, 485.
Власов Никита Семенович — директор Александровской гимназии
в Петербурге — 67.
Воинов Иван Авксентьевич (1884—1917) — рабочий, корреспондент
большевистских газет «Звезда» и «Правда» — 424, 432.
Волков — московский домовладелец — 136.
Волконская Софья Григорьевна, княгиня (1786—1868) — сестра
декабриста С. Г. Волконского, владелица дома, в котором умер
Пушкин, — 440.
Волынский Артемий Петрович (1689—1740) — государственный
деятель и дипломат— 138, 139, 457.
Волышс Леонтина (181 1 —1876) — французская актриса — 56.
Вольтер Франсуа Марк Аруэ (1694—1778) — 245, 354.
Вольф Александр Иванович — историк театра — 435—437.
Вольфсон Т. С. — советский историк — 435.
Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913) —
философ-позитивист, естествоиспытатель — 502.
Вышнеградский Иван Алексеевич (1831—1895) — инженер и
ученый, министр финансов (1888—1892) — 240.
Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — поэт, друг
А, С. Пушкина-421, 425, 458.
525
Гааз Федор Петрович (1780—1853) — главный врач московских
тюремных больниц (1829—1853), известный филантропический
деятель-42, 218, 257, 323, 333, 376.
Гагара Василий Яковлевич — казанский купец, совершивший в
1634—1637 гг. путешествие на Ближний Восток, — 6, 412.
Гадолин Аксель Вильгельмович (1828—1892)—минералог,
профессор Артиллерийской академии — 450.
Гайдебуров Павел Павлович (р. 1877) — поэт, артист Передвижного
театра — 315.
Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк литературы,
педагог — 433.
Галеви Жак Франсуа Фроманталь (1799—1862) — французский
композитор — 55, 438.
Галилей Галилео (1564—1642)—201.
Галченков Иван Федорович (1784—1840) — владелец дома на
Невском, где жил Белинский, — 31, 417.
Гарибальди Джузеппе ( 1807—1882) — 317, 493, 494.
Гарнье — французский врач, автор работ о половых извращениях —»
286.
Гартман Карл Роберт Эдуард (1842—1906) — немецкий философ—»
342.
Гачковский Генрих Исаевич (1844—1900) — врач-терапевт — 283*
Гебгардт Юлиус — зоолог — 435.
Гегель Георг Вильям Фридрих (1770—1831) — 340, 501.
Гедеонов Александр Михайлович (1790—1867) — директор имп«
театров (1833—1858) - 435.
Гейден Петр Александрович, граф (1840—1907) — судебный, об-«
щественный и политический деятель — 314.
Гейденрейх Андрей (1765—1836) — врач — 63, 64.
Гейне Генрих (1797—1856) — 304, 467.
Гемяель Мария Николаевна (ум. 1886) — жена генерал-майора, зна«
комая кн. В. Ф. Одоевского— 126.
Герней Эдмон (1847—1888) — английский психофизиолог — 481.
Гернет Михаил Николаевич (1874—1953)—юрист-криминалист,
историк права, профессор Московского университета (1902—*
1911) —508.
Герострат — эфесец, сжегший в 356 г. до н. э. храм Артемиды
Эфесской, обессмертив этим свое имя,— 142.
Герсеванов Михаил Николаевич (1830—1907) — инженер, строи«
тель и ученый в области гидротехники — 271.
Герстнер Франтишек Антонин фон (1793—1840) — инженер, строи-*
тель Царскосельской железной дороги — 417»
526
Герцен Александр Иванович (1812—1870) — 48, 180, 263, 364,
419, 425, 428, 429, 431, 445—447, 459, 463.
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 58, 234, 292, 294, 340, 343,
344, 365, 441, 473, 488, 502.
Гиляров Алексей Никитич (1856—1938) — философ-идеалист,
профессор Киевского университета — 257.
Гитович Нина Ильинична — советский литературовед—510.
Гладстон Вильям Юарт (1809—1898)—английский
государственный деятель—121, 343, 346, 455, 502.
Гливенко Иван Иванович (1868—1931) — историк
западноевропейских литератур — 513.
Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — 55, 58, 384, 438, 511.
Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, публицист,
историк, декабрист — 476.
Глюк Эрнст (1652 или 1655—1705)—латышский (мариенбург-
ский) пастор, переводчик — 412.
Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт и переводчик—58.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 51, 53, 153, 295, 298,
304, 310, 416, 437, 461, 482, 488, 492, 510.
Годунова Ксения Борисовна (1581—1622)—царевна, дочь Бориса
Годунова —20, 147, 447.
Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич, граф (1848—1913) —
поэт _ 377, 481, 509, 512, 516.
Головин Константин Федорович, псевд. К. Орловский (1843—
1913) —писатель —498.
Гсловнин Александр Васильевич (1821 —1886) — министр народного
просвещения (1862—1866), член Государственного совета —
80, 112, 216, 217, 471, 475.
Гольдарбейтер Роман Львович — библиограф — 484.
Гонкур Жюль де (1830—1870) — французский писатель — 289, 390,
487.
Гонкур Эдмон де (1822—1896) — французский писатель — 289, 390,
487.
Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — 36, 38, 97, 141, 221,
233, 237, 240, 251, 259, 298—300, 303, 304, 426, 441, 458.
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65 до н. э. — 8 до н. э.) —
римский поэт — 273, 485.
Горбунов Иван Федорович (1831 —1895) — актер Александрийского
театра, писатель и рассказчик — 53, 257, 424, 437, 441.
Горбунов-Посадов Иван Иванович (1864—1940) — педагог,
публицист, издатель; последователь идей Л. Н. Толстого — 314, 492.
Горлов Иван Яковлевич (1814—1890) — профессор политической
экономии Казанского и Петербургского университетов — 434.
527
Горчаков Александр Михаилович, князь (1798—1883) — с 1856 года
министр иностранных дел, затем государственный канцлер—147.
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868—1936) —
296, 404, 516.
Готфрид Бульонский (ок. 1060—1100) — герцог, один из
предводителей первого крестового похода — 66, 445.
Гофман Эдуард (1837—1897) — немецкий профессор судебной
медицины — 106.
Гохберг В. Г. — автор книги «Georgica curiosa» (1724) — 413.
Градовский Александр Дмитриевич (1841—1889) — публицист,
профессор Петербургского университета по кафедре
государственного права — 290, 487.
Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855)—ученый и
общественный деятель, профессор всеобщей истории Московского
университета ( 1839—1855) — 83, 89, 110, 295, 450.
Гребенка Евгений Павлович (1812—1848) — писатель — 419.
Грессер Петр Аполлонович (1833—1892)—генерал-лейтенант, с
1882 года петербургский градоначальник — 283.
Греч Николай Иванович (1787—1867) — реакционный писатель и
журналист — 421, 425.
Грибоедов Александр Сергеевич ( 1795—1829) — 21, 426, 449, 469,
476, 486, 488.
Гривцов Александр Иванович (1914—1944)—красноармеец,
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза —
428.
Григорович Дмитрий Васильевич ( 1822—1899) — 304, 424, 425,
433, 441, 514.
Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт и критик,
член «молодой редакции» «Москвитянина» — 424.
Гризи Джулия (1812—1869) — итальянская певица — 440.
Гризи Карлотта (1821—1899) — итальянская танцовщица — 56.
Гримм Давид Иванович (1823—1898) — архитектор и историк
архитектуры — 427.
Гриневецкий Игнатий Иоахимович (1856—1881) — народоволец,
убивший Александра II, — 474.
Грот Константин Карлович (1815—1897) — член Государственного
совета, председатель Комиссии о тюремном преобразовании
(1870—1882)-220, 254, 255, 483.
Грот Константин Яковлевич (1853—1934) — славяновед — 487.
Грот Яков Карлович (18Ï2—1893) — историк литературы, лингвист
и переводчик — 289, 487.
Гуляев Александр Васильевич (1824—1900) — юрист, член
Петербургской судебной палаты — 242,
528
Гуно Шарль (1818—1893) — французский композитор — 463.
Гуревич Яков Григорьевич (1843—1906) — публицист,
редактор-издатель журнала «Русская школа» (1890—1906)—331.
Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901) — генерал, участник
русско-турецкой войны 1877—1878 гг. — 76, 77.
Гусева Елена Ивановна (1795—1853) — актриса Александрийского
театра — 53.
Густав, принц (1568—1607)—сын шведского короля Эрика XIV —
147, 447.
Густав I Ваза (1496—1560) — король Швеции (1523—1560) —
141, 458.
Гюбнер (Гибнер) Яган (Иоганн) (16б8—1731) — немецкий географ;
автор переложений эпизодов из священной истории,
предназначавшихся для юношества, — 9, 11, 13, 14, 22, 410, 413.
Гюго Виктор Мари (1802—1885) — 32, 222, 437, 473.
Гюйгенс Христиан (1629—1695) — голландский механик, физик и
математик — 9.
Гюйо Жан Мари (1854—1888) — французский философ-идеалист и
социолог — 365, 367, 370.
Даль Владимир Иванович (1801 —1872) — писатель, этнограф,
составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» —
75, 147.
Даниил — игумен, русский путешественник по святым местам в
начале XII века — 6, 41 I.
Данте Алигьери (1265—1321) — 107, 398, 515.
Даутендей — петербургский фотограф — 62.
Дашкова Екатерина Романовна, княгиня (1743—1810) — президент
Российской академии (1783—1796) — 302.
Дебе Огюст (р. 1802) — французский врач, автор ряда работ по
медицине — 285..
Дельвиг Антон Антонович, барон (1798—1831) — поэт, один из
ближайших друзей Пушкина — 415. 440.
Делянов Иван Давидович, граф (1818—1897)—товарищ министра,
затем министр народного просвещения (1866—1882)—114 —
117.
Демидов Павел Павлович, князь Сан-Донато (1839—1885) —
капиталист, меценат ■— 451.
Демосфен (384—322 до н. э.) — древнегреческий оратор и
политический деятель — 48.
Деннери Адольф Фнлшш (1811 —1899)—французский
драматург — 437.
529
Державин Гавриил Романович ( 1743—1816) — 58, 298.
Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243 — между 314 и 316)—*
римский император — 515.
Дмитриев Федор Михайлович (1829—1894) — историк права,
профессор Московского университета — 86, 87, 91, 101, 102, 105»
453.
Дмитриева Руфина Петровна — советский литературовед—512.
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — 24, 35, 59,
417, 448, 449.
Доде Альфонс ( 1840—1897) — французский писатель — 299, 390,
Долинин Аркадий Семенович (1883—1968) — советский
литературовед — 508.
Дондерс Франц Корнелиус (1818—1889) — голландский физиолог—►
90, 91.
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 34, 50, 257, 289,
294, 305, 318, 350, 353, 354, 376, 417, 422, 433, 448, 487,
489, 492, 494, 504.
Дризен Николай Васильевич, барон (1868—1935)—театральный
критик, историк театра, цензор — 435.
Дриль Дмитрий Андреевич (1846—1910) — криминалист — 382,
510.
Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848—1930) — поэт — 314.
Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — писатель, критик
и переводчик, основатель Литературного фонда — 261, 429, 433.
Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — начальник III отде«
ления (1839—1856) —55, 384, 420, 421, 430, 438, 439.
Дурново Иван Николаевич (1830—1903)—министр внутренних
дел (1889—1895)-499.
Дюканж Виктор (1783—1815) — французский драматург — 436.
Дюма Александр (отец) (1802—1870) — французский писатель—*
36, 424, 425.
Дюнан Анри (1828—1910) — швейцарский публицист и обществен*
ный деятель — 211.
Дюр Николай Осипович (1807—1839) — актер Александрийского»
театра— 59.
Екатерина I (1684—1727) — императрица — 86, 427.
Екатерина II (1729—1796) - 21, 35, 56, 58, 302.
Елена Павловна, вел. княгиня (1806—1873) — жена вел. кн.
Михаила Павловича, общалась со многими писателями и деятелями
искусства - 56, 207—211, 328, 409, 440, 456.
530
Елизавета Алексеевна (1779—1826) — императрица, жена
Александра I — 58, 441.
Елизавета Петровна (1709—1761) — императрица — 21.
Ельцина Зинаида Яковлевна (р. 1854)—первая русская женщина-
сифилидолог — 316.
Ермолин Яков Яковлевич — инженер-технолог, принимавший участив
в строительстве петербургского городского водопровода, — 243.
Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, герой
Отечественной войны 1812 года, командующий войсками на
Кавказе—143.
Ефремов Петр Александрович (1830—1907) — библиограф и
историк литературы — 420.
Ефрон Илья Абрамович (1847—1917) — основатель совместно с
Ф. Брокгаузом издательской фирмы «Брокгауз—Ефрон» — 486р
507.
Ешевская — жена С. В. Ешевского — 335.
Ешевский Степан Васильевич (1829—1865) — историк, профессор
Казанского и Московского университетов — 335.
Жане (Жаннэ) Поль — (1823—1899) — французский философ — 136.
Железевич К. А. — архитектор, построивший здание Пассажа в
Петербурге, — 432.
Жемчужников Александр Михайлович (1826—1896) — поэт — 475.
Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908)—поэт — 221,250,
475, 481, 516.
Жемчужников Владимир Михайлович (1830—1884) — поэт — 475.
Жохов Александр Федорович (1840—1872) — публицист — 319,
494.
Жуков Василий Григорьевич (1800—1882) — владелец табачных
фабрик— 146, 147.
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 32, 58, 421, 489.
Жулева Екатерина Николаевна (1830—1905) — актриса
Александрийского театра — 53.
Жюльен Адольф (1845—1932)—французский музыковед — 511.
Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — писатель—138, 303,
460.
Закревский Игнатий Платонович (1839—1906) — прокурор
Казанской, затем Харьковской судебных палат — 183»
531
Залеман Роберт Карлович (1813—1874) — скульптор-академист —
429.
Зам — владелец зверинца в Петербурге — 45, 430,
Занд Жорж — см. Санд Жорж.
Засодимский Павел Владимирович (1843—1912) — писатель — 318,
486.
Засулич Вера Ивановна (1851—1919) — революционерка-народница,
совершившая в 1878 году покушение на петербургского
градоначальника Ф. Ф. Трепова—119, 175, 176, 178, 181, 182, 447,
462, 434.
Золя Эмиль (1840—1902)—299, 310, 491.
Зотов Рафаил Михайлович (1796—1871) — писатель, начальник
репертуарной части в Дирекции имп. театров — 436.
Ива» III Васильевич ( 1440—1505) — великий князь московский-—
140.
Иван IV Грозный (1530—1584) - 20, 79, 392, 395, 459.
Иван V Алексеевич ( 1666—1696) — царь ( 1682—1689) — 8, 412.
Иванов — воспитанник Александровской гимназии в Петербурге —67.
Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — художник — 46, 431.
Иванов Михаил Михайлович (1849—1927) — композитор,
музыкальный критик — 438.
Ивановский Игнатий Иакинфович (1807—1886) — профессор
Петербургского университета — 450.
Игнатьев Павел Николаевич, граф (1797—1879)—петербургский
генерал-губернатор (1857—1861), позже председатель
Комитета министров— 140.
Игорь Святославич (1151 —1202) — князь иовгород-северский и
черниговский, герой «Слова о полку Игореве» — 21, 146, 460.
Иеринг Рудольф (1818—1892) — немецкий юрист, профессор
римского права — 97.
Излер Иван Иванович (1811 —1877) — владелец кондитерской,
затем ресторана и увеселительного сада «Минеральные воды» в
Петербурге — 62, 441.
Измайлов Александр Ефимович {1779—1831) — писатель — 421.
К, Р. — см. Константин Константинович, вел. князь.
Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885)—историк и
публицист, один из виднейших представителей либерального западнк-
532
чества-51, 59, 78, 79, 121, 221, 233-237, 240, 254, 255,
258, 259, 347, 434, 473, 477, 479.
Кавос Альберт Катеринович (1801—1863) — русский архитектор,
итальянец по происхождению — 430.
Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский
писатель и мемуарист — 297, 405.
Кайгородов Дмитрий Никифорович
(1846—1924)—естествоиспытатель и популяризатор естествознания — 314.
Калигула Гай Цезарь (12—41) — римский император (37—41) —
450.
Калиновский Бальтазар Фомич (1827—1884) — экономист—450.
Кальцолари Марио Энрико (1823—1888) — певец итальянской
оперы в Петербурге — 54.
Каляев Иван Платонович (1877—1905) — член боевой организации
партии эсеров, убивший вел. кн. Сергея Александровича, —
424.
Каменский Анатолий Павлович (1876—1941) — писатель — 489.
Камоэнс Луис (1524—1580) — португальский поэт — 398, 515.
Кант Иммануил (1724—1804) — 340, 365, 403, 501.
Канф — автор книги «Communionbuch» — 120.
Капнист Петр Иванович (1830—1898) — поэт, цензор, редактор
«Правительственного вестника» — 83.
Капустин Михаил Николаевич (1828—1899)—юрист, профессор
международного права Московского университета — 91, 109,113,
115, 117.
Каразин Николай Николаевич (1842—1908)—писатель и
художник — 314.
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866)—революционер-
террорист, совершивший 4 апреля 1866 г. покушение на
Александра 11,-112, 216, 428.
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826)—писатель, историк —
58, 298, 302.
Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) — актер-трагик
Александрийского театра — 52, 59, 436, 437.
Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879) — актер
Александрийского театра, водевилист и мемуарист — 52, 436.
Каратыгина Александра Михайловна, рожд. Колосова (1802—
1880)—драматическая актриса, жена В. А. Каратыгина — 59.
Караулов Василий Андреевич (1854—1910)—политический деятель,
один из лидеров кадетской партии — 43.
Кареев Николай Иванович (1850—1931) — историк, профессор
Варшавского и Петербургского университетов — 478.
533
Карл V (1500—1558) — император Священной Римской империй
(1519-1555)-414.
Каспер Иоганн Людвиг (1796—1864) — немецкий врач, профессор
судебной медицины—106.
Кастелар Эмилио (1832—1899) — испанский политический деятель,
историк и писатель — 344, 502.
Кастро Инесса де (Инеса ди-Касгро) (ум. 1355) — возлюбленная
португальского короля дон Педро I — 399, 401, 402, 515.
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — реакционный
публицист, редактор «Русского вестника» и «Московских
ведомостей» — 74—76, 92, 178, 238. 248, 290, 296, 429, 447, 487.
Кваренги Джакомо (1744—1817)—архитектор — 428.
Кеннан Джордж (1845—1924) — американский публицист — 376,
508.
Кербедз Станислав Валерианович (1810—1899) —
инженер-мостостроитель — 430.
Кестнер Шарлотта, рожд. Буфф (1753—1828) — друг Гёте,
прототип героини его романа «Страдания молодого Вертера» — 292,
488.
Квлидж-Арслан I — см. Кылыдж-А рслан I.
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856)—публицист, теоретик
славянофильства — 503.
Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — знаток и собиратель
русского фольклора, переводчик, славянофил — 411.
Киров Сергей Миронович (1886—1934) — 423, 512.
Киселев Николай Дмитриевич (1800—1869)—дипломат, посол в
Париже (1844—1854), с 1864 года—в Риме — 57, 192, 465.
Клавдий (10 до н. э.— 54 н. э.)—римский император — 450.
Кладо Николай Лаврентьевич (1862—1919) — военно-морской
теоретик и историк, генерал-майор—275.
Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914) — народник;
антрополог и этнограф — 486.
Клодт Петр Карлович, барон (1805—1867) — скульптор-бронзоли-
тейщик — 38, 44, 426, 428, 429.
Клостерман Рудольф (1828—1886) — немецкий юрист—292, 298.
Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк, профессор
Московского университета— 102, 113, 114, 221, 255, 301.
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1870—1959) — актриса
МХАТ-387, 512.
Князев Георгий Алексеевич — советский архивист — 516.
Кобеко Дмитрий Фомич (1837—1918) — историк, председатель ко*
миссии по выработке законопроекта о печати — 248, 481.
Кобылкин — товарищ Кони по гимназии — 71.
534
Ковалевская Софья Васильевна (1850—1891)—математик,
писательница — 321, 322, 495,
Ковалевский Михаил Евграфович (1830—1884) — обер-прокурор
уголовного департамента Сената— 120, 477.
Коген Герман (1842—1918) — немецкий философ-идеалист — 501.
Кожанчиков Дмитрий Ефимович (ум. 1877) — петербургский
издатель и книгопродавец — 454.
Кожин — липецкий уездный предводитель дворянства — 272.
Козлов Николай Павлович (р. 1870) — архитектор — 432.
Кокорев Василий Александрович (1817—1889)—предприниматель
и публицист — 430.
Колосов Василий Петрович — акушер, подсудимый — 69.
Колумб Христофор (1451 —1506) —344.
Колюбакин Николай Петрович (1810—1868) — сенатор, сторонник
публичного судопроизводства — 75, 147, 148.
Комарович Василий Леонидович (1894—1942) — советский
литературовед — 411.
Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910)—актриса — 383,
385, 441, 510.
Кондаков Никодим Павлович ( 1844-—1925) — историк
византийского и древнерусского искусства, академик — 248.
Кони Ирина Семеновна, по сцене Сандунова (1811 —1891) —
актриса Малого театра, беллетристка, мать А. Ф. Кони — 433.
Кони Федор Алексеевич (1809—1879)—поэт, водевилист,
театральный критик, издатель журнала «Пантеон и Репертуар русской
сцены», отец А. Ф. Кони —81, 82, 115—117, 125, 139, 203,
422, 433, 435, 439-441.
Констан Бенжамен (1767—1830) — французский политический
деятель, публицист и писатель — 292, 488.
Константин Константинович, вел. князь, псевдоним К. Р. (1858—
1915) — поэт, президент Академии Наук — 415, 481, 516.
Константин Николаевич, вел. князь
(1827—1892)—генерал-адмирал, в 1862—1863 гг. наместник Царства Польского — 216.
Константин Павлович, вел. князь
(1779—1831)—главнокомандующий польской армией (с 1814 г.) и наместник Царства
Польского — 441.
Конт Огюст (1798—1857)—французский философ и социолог,
основатель позитивизма — 341, 501, 502.
Коперник Николай (1473—1543) — 11.
Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — 404, 481, 505,
516.
Коропчевский Дмитрий Андреевич (1842—1903) — писатель,
антрополог—314, 315.
535
Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк, писатель —
46, 50, 51, 59, 71, 78-81, 85, 103, Z20, 432-435, 447—450,
454.
Котляревский Нестор Александрович (1863—1925) — историк
литературы, академик — 340, 403—407, 409, 516, 517.
Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630—1667) — писатель и
общественный деятель, автор сочинения «О России в царствование
Алексея Михайловича» — 6, 411.
Кохановская — см. Соханская Н. С.
Коцебу Август Фридрих Фердинанд (1761 —1819) — немецкий
реакционный драматург, автор сентиментально-мещанских
комедий — 436.
Кочубей Елизавета Васильевна (1793—1863) — композитор, автор
популярных романсов — 440.
Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — публицист
славянофильского направления — 181.
Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — журналист и
издатель «Отечественных записок» (1839—1884) и газеты
«Голос» (1862—1884)-34, 143, 422, 433, 488, 507.
Крамер — однокурсник А. Ф. Кони по юридическому факультету
Московского университета — 90, 91.
Крамской Иван Николаевич (1837—1887)—художник — 310, 491.
Краснов Георгий Васильевич — советский литературовед — 449.
Крафт-Эбинг Рихард (1840—1902) — австрийский психиатр,
профессор Венского университета — 286.
Кремпон Елена — цирковая наездница — 439.
Кремье Гектор (1828—1892) — французский драматург, либретист —
445.
Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895)—писатель —
143, 424, 459, 489.
Кромвель Оливер (1599—1658) — вождь английской буржуазной
революции — 414.
Крупская Надежда Константиновна (1869—1939) —510.
Крутикова Александра Павловна (1851 —1919) — певица Мариин-
ского и Большого театров — 438.
Крылов Виктор Александрович (1838—1906) — драматург — 445.
Крылов Иван Андреевич ( 1768—1844) — 40, 45, 58, 428, 430.
Крылов Никита Иванович (1807—1879) — профессор Московского
университета (1835-1872)-94-99, 102, 110, 453.
Кубасов Иван Андреевич (р. 1875) — историк литературы — 415.
Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936) — поэт — 489.
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (р. 1859) — юрист и
публицист — 478.
536
Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868)— прозаик и
драматург — 424.
Купер Фенимор ( 1789—1851) — американский писатель — 284.
Куприн Александр Иванович (1870—1938) — писатель — 296.
Куракин Борис Иванович, князь (1676—1727) — один из
ближайших сподвижников Петра I, дипломат — 412.
Курбский Лндрей Михайлович, князь (1528—1583) — политический
деятель, публицист — 20.
Курочкин Василий Степанович (1831 —1875) — поэт-сатирик и
переводчик—424, 433, 446, 463.
Кушелев~Безбородко Григорий Александрович, граф (1832—1870) —
издатель журнала «Русское слово» — 36, 419, 424.
Кылыдж-Арслан I (ум. 1107) — иконийский сельджукский
султан — 66.
Кюзан П. — актер, хозяин цирковой труппы — 430, 439.
Кюзан Шарлотта — цирковая наездница — 439.
Ааблаш Луи (1794—1858) — итальянский певец, француз по
происхождению — 54.
Лавров Петр Лаврович (1823—1900)—социолог и публицист,
идеолог народничества — 425, 434, 449, 502.
Лаже чников Иван Иванович (1792—1869) — писатель—138—145,
303, 408, 456-459.
Ааманский Евгений Иванович (1825—1902) — экономист — 50, 432.
Ламартии Альфонс де (1791—1869) — французский поэт — 222.
Ланге Фридрих Альберт (1828—1875) — немецкий
философ-неокантианец — 501.
Ландсберг Карл Федорович — гвардейский офицер, уголовный
преступник—319, 495.
Лассаль Фердинанд (1825—1864) — деятель немецкого рабочего
движения, писатель — 97, 453.
Лафонтен Жан де (1621—1695) — французский
поэт-баснописец — 445.
Леви Кальман — французский издатель (1880-е* гг.) — 488.
Левицкий Сергей Львович (1819—1898) — петербургский фотограф-
художник — 62.
Левкеева (вторая) Елизавета Ивановна (1851—1904) — актриса
Александрийского театра — 510.
Аевковнч Мечислав Игнатьевич (ум. 1881) — петербургский врач —
447.
Легат — владелец балагана в Петербурге — 49, 431,
35 А. Ф, Конн, те 7 537
Легонин Виктор Алексеевич (ум. 1899)—юрист, профессор
Московского университета— 106, 107.
Лежар — содержатель цирковой труппы — 430.
Леман — владелец балагана в Петербурге — 49, 431.
Лемениль Луи (1800—1872) — артист французской труппы,
гастролировавшей в 50—60-х гг. в Петербурге, — 56, 439.
Лемке Михаил Константинович (1872—1923) — историк, автор
работ по истории цензуры и революционного движения — 426,
487.
Лемуан Густав (р. 1802) — французский драматург — 436, 437.
Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 428, 431, 434.
Ленский Дмитрий Тимофеевич (1805—1860) —
драматург-водевилист — 436.
Леонид (наст, фамилия и имя Кавелин Лев Александрович) (1822—
1891) — архимандрит — 20, 414.
Леонова Дарья "Михайловна (1829—1896)—певица Мариинского
театра — 55, 438.
Леонтий — см. Лукьянов И.
Леонтьев Константин Николаевич (1831 —1891) — писатель,
реакционный философ и публицист — 360.
Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874) — профессор
классической филологии, археолог; помощник Каткова по изданию
«Русского вестника» — 447.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 40, 261, 295, 364,
404, 427, 471, 480, 488, 497, 505, 516.
Лесевич Владимир Викторович (1837—1905) —
философ-позитивист — 502.
Лесков Николай Семенович (1831 —1895) — писатель — 314, 317,
320, 493.
Летар Луиза — цирковая наездница — 439.
Леткова Екатерина Павловна, в замужестве Султанова (1856—
1937) — писательница — 497.
Лешков Василий Николаевич (1811 —1881) — юрист, профессор
Московского университета — 87—89, 451.
Либман Отто ( 1840—1912) — немецкий философ-неокантианец — 501.
Ливанов Федор Васильевич — писатель, историк литературы, автор
путеводителей по Крыму — 457.
Ливанова Тамара Николаевна — советский музыковед — 511.
Лилеев Михаил Иванович ( 1849—1913) — историк раскола — 411.
Линней Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель и
натуралист— 314.
Линская Юлия Николаевна (1820—1871) — актриса
Александрийского театра — 53.
538
Лист Ференц (1811—1886) — венгерский композитор — 317, 494.
Литтре Максимильен Поль Эмиль (1801—1881) — французский
философ-позитивист, физиолог, лексикограф и политический
деятель— 180.
Лихачев Владимир Иванович (1837—1906) — юрист, гласный
Петербургской городской думы — 474.
Лихачев Дмитрий Сергеевич — советский литературовед — 485.
Лихачева Елена Осиповна (1836—1904)—общественная
деятельница в области народного образования, издательница — 456.
Ловягин Евлампий Петрович (ум. 1861)—студент, принимавший
участие в спектакле Литературного фонда в 1860 году — 51, 433.
Лодер Христиан Иванович (1753—1832) — анатом, лейб-медик
Александра I — 81, 203.
Лойола Игнациус (Игнатий) (1491 —1556)—основатель организации
католической церкви — ордена иезуитов—16.
Лолла-1Цонтес — цирковая наездница — 439.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 21, 58, 219, 314,
419, 426, 466.
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807—1882) — американский поэт —
512.
Лоран Франсуа (1810—1887) — бельгийский юрист и историк —
343, 502.
Лорнс-Меликов Михаил Тариелович, граф (1825—1888) —
начальник Верховной распорядительной комиссии (с февраля 1880 г.),
министр внутренних дел и шеф жандармов (с августа 1880 по
1881 г.)-225.
Лоссиевский Демьян Яковлевич (р. 1798) — врач, хирург — 467.
Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884) — адвокат, с
1869 года редактор «Судебного вестника» — 434, 450.
Лукашевич Клавдия Владимировна (1859—1937) — писательница —
318, 494.
Лукиан (125—200) — древнегреческий писатель — 278.
Лукин — товарищ Кони по гимназии — 71.
Лукьянов Иоанн (старец Леонтий) — старообрядческий священник,
путешественник по святым местам — 6, 411.
Лыткин—петербургский купец, домовладелец — 33, 422.
Льюис Джордж Генри (1817—1878) — английский
философ-позитивист и физиолог — 88, 133, 501.
Людовик XI (1423—1483)—■ французский король (1461 —1483) —
52, 436.
Людовик XIV (1638—1715) — король Франции с 1643 года — 231.
Лютер Мартин (1483—1546) — деятель Реформации, основатель
протестантизма (лютеранства) в Германии — 337, 413, 501«
35* 539
ffl агницкий Леонтии Филиппович ( 1669— 1739 ) — математик — 414*
Мазилье Жозеф (1797—1868) — французский артист балета и
балетмейстер — 439.
Манер — товарищ Кони по Александровской гимназии — 66.
Маиерс Фредерик ( 1843—1901) — английский психофизиолог — 481.
Майков Аполлон Николаевич ( 1821—1897) — поэт—* 44, 51, 141,
303, 305, 429, 433, 458, 489, 490.
Майков Леонид Николаевич (1839—1900) — историк литературы,
брат А.. Н. Майкова — 410, 478.
Майоров Петр Васильевич (1889—1919) — политработник Красной
армии — 429.
Макарий (ок. 1482—1563) — митрополит Московский (с 1542 г.),
писатель — 20.
Маколей Томас Бенбингтон (1800—1859) — английский историк и
публицист— 142, 458.
Максимов Алексей Михайлович (1813—1861) — драматический
артист — 52.
Максимов Сергей Васильевич (1831 —1901) — писатель-этнограф—■
516.
Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский реакционный
экономист, священник — 285.
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852—1912)—писатель —
314.
Марат Жан Поль (1744—1793) — деятель французской буржуазной
революции, якобинец — 34, 422.
Марио Джузеппе ди Кандиа (1808—1883) — итальянский певец — 54.
Мария Николаевна, вел. княгиня, герцогиня Лейхтенбергская (1819—
1876) — сестра Александра II, президент Академии
художеств — 44.
Марк Аврелии (121 —180) — римский император (161—180) —•
239, 315.
Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884) — романист и
реакционный публицист — 433, 498.
Маркович Мария Александровна, псевд. Марко Вовчок (1834—
1907) — украинская и русская писательница — 422.
Маркозова А. Г. — петербургская знакомая Кони — 320.
Марлинский — см. Бестужев-Марлинский А. А,
Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860) — с 1835 года
актер Александрийского театра — 52—54, 56, 59, 437.
Марциал Марк Валерий (ок. 40—ок. 102)—древнеримский поэт—278.
Матвеев Андреи Артамонович, граф (1666—1728) — воевода, посол
в Голландии, президент юстиц-коллегии — 8, 413
540
Маяковский Владимир Владимирович (1893 — 1930) — 421.
Мей Лев Александрович (1822—1862) — поэт, драматург и
переводчик — 32, 424.
Мейер Дмитрий (1819—1856) — юрист, профессор Казанского и
Петербургского университетов — 84, 99, 450.
Мейер Евгения — сестра милосердия, работавшая на Сахалине среди
заключенных, — 382, 510.
Мейербер Джакомо (1791—1864) — французский композитор — 438.
Мемлинг Ганс (ок. 1433—1494) — нидерландский живописец—167,
463.
Менделеев Дмитрий Иванович ( 1834—1907) — 434, 450.
Меншиков Александр Сергеевич, князь (1787—1869) — генерал-
адъютант, адмирал, бездарный главнокомандующий во время
Крымской войны (до февраля 1855 г.) — 57, 212, 440, 470.
Меияев — петербургский домовладелец — 32.
Мердер Павел Карлович (1824—1873) — полковник, затем генерал-
лейтенант — 439.
Мержеевский Иван Павлович (1838—1908) — психиатр и
невропатолог, профессор Медико-хирургической академии (1877—1893) —
286.
Микешин Борис Михайлович (1873—1937) — скульптор, сын
М. О. Микешина —427.
Микешин Михаил Осипович (1836—1896) — скульптор, художник-
иллюстратор — 44 1.
Миллер Орест Федорович (1833—1889) — историк литературы,
фольклорист, профессор Петербургского университета — 491.
Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский
философ-позитивист и экономист—142, 458, 501.
Милорадович Михаил Андреевич, граф (1771 —1825)—военный
деятель; участник Итальянского и. Швейцарского походов
Суворова и Бородинского сражения; с 1818 года петербургский
военный губернатор — 425.
Милюков Михаил Николаевич — историк — 458.
Милюков Павел Николаевич (1859—.1943) — историк, министр
иностранных дел Временного правительства — 302.
Милютин Дмитрий Алексеевич, граф (1816—1912) — военный
министр (1861—188 0-185, 324. 327, 328,
Милютин Николай Алексеевич (1818—1872) — товарищ министра
внутренних дел (1859—1861), активный деятель крестьянской
реформы 1861 года— 57, 440, 483.
Мни Дмитрии Егорович (1818—1885) — поэт-переводчик, профессор
судебной медицины Московского университета—107, 454.
ОД
Миролюбов Виктор Сергеевич (1860—1939) — редактор-издатель
«?Курнала для всех» — 386.
Михаил Павлович, вел. князь (1798—1849) — брат Николая I,
начальник военно-учебных заведений — 56.
Михаил Федорович (1596—1645)—царь, родоначальник династии
Романовых — 5.
Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865) — поэт и переводчик
революционно-демократического направления — 433, 448.
Михайлова Анна Николаевна — советский литературовед — 410.
Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — идеолог
народничества, критик и публицист 318, 502.
Мицкевич Адам (1798—1855) — 239, 478.
Могпла Петр Симеонович (1596—1647) — церковно-политический и
культурный деятель Украины, митрополит Киевский и Галицкий
(с 1632 г.) —250, 481.
Могилянский Александр Петрович — советский литературовед —
409.
Модюи Антуан Франсуа (1783—1854) — французский архитектор,
с 1810 года работавший в России, — 430.
Молчанов Константин Ефимович (1797—1846) — врач — 277.
Моль Роберт (1799—1875) — немецкий правовед и политический
деятель — 88, 89.
Мольер Жан Батист ( 1622—1673) — 416.
Монферран Август (Огюст) Августович
(1786—1858)—архитектор — 429, 430.
Мопассан Ги де (1850—1893) - 157, 390, 391, 513.
Мордвинова Ольга Александровна (1838—1900) — общественная
деятельница в области высшего женского образования — 498.
Морошкин Сергей Федорович (1844—1900) — университетский
товарищ Кони, юрист, член Харьковской судебной палаты—112,
115.
Мостовская Наталья Николаевна — советский литературовед — 409.
Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — знаменитый
актер-трагик—395, 396, 514.
Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874) — писатель и путе*
шественник — 431.
Мудров Матвей Яковлевич (1772—1831) — профессор патологии и
терапии Московского университета — 82, 203.
Муравьев Николай Валерьянович (1850—1908) — судебный деятель,
министр юстиции (1894—1905)—247.
Муравьев Николай Николаевич (1794—1866) — военный деятель,
генерал, наместник Кавказа (1854—1855) — 75.
Муратов Аскольд Борисович — советский литературовед — 409.
542
Мюльгаузен Федор Богданович (1820—1878) — профессор
финансового права Московского университета— 101.
Мюссе Альфред де ( 1810—1857) — французский писатель — 343,
Мятлев Иван Петрович (1796—1844) — поэт — 30.
Набоков Дмитрий Николаевич (1827—1904)—министр юстиции
(1878—1885)—110.
Найтингель Флоренс — английская сестра милосердия,
возглавлявшая общину сестер милосердия в Севастополе во время
Крымской войны, — 211.
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 62, 365, 421.
Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873) — 148, 159,
163, 463.
Направник Эдуард Францевич (1839—1916) — композитор и
дирижер Мариинского театра (1863—1916) — 476.
Нарышкина Елизавета Алексеевна, княгиня (р. 1840) — светская
писательница, мемуаристка — 380, 382, 509.
Невахович Александр Львович (ум. 1880) — поэт 1850-х годов — 63,
64, 442.
Невахович Михаил Львович (1817—1850) —
литограф-карикатурист— 63, 441.
Неклюдов Николай Андрианович
(1840—1896)—юрист-криминалист — 115.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 24, 31, 34, 50, 51,
54, 58, 59, 237, 245, 251, 259, 294, 304, 338, 386, 417—420,
422, 423, 432, 433, 437, 438, 441, 444, 448, 458, 466, 477,
480, 485, 486, 488, 489, 496, 512.
Неммерт Петр Юрьевич (1819—1858) — хирург, профессор Медико-
хирургической академии — 467.
Нерон Клавдий Цезарь (37—68) — римский император с 54 года —
7, 429, 450.
Нестор — монах Киево-Печерского монастыря, летописец — 85, 451.
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882) — революционер,
придерживавшийся тактики террора и провокаций, — 238, 478.
Никитенко Александр Васильевич (1805—1877)—историк литера«
туры, критик, профессор Петербургского университета (1832—•
1864), цензор петербургского цензурного комитета (1833 —
1848) —289, 487.
Никитин Афанасий (ум. 1472) — тверской купец, путешественник —
6, 412.
.543
Никитин Владимир Николаевич (р. 1850)—петербургский врач-
ларинголог — 69.
Николай I (1796—1855) —23, 24, 34, 39, 44,45,48,55,63,74,195,
196, 198, 211,422,426, 429, 447.
Николай II (1868—1918) -445, 509, 516.
Николай Александрович, вел. князь (1843—1865) — наследник,
старший сын Александра II —432, 477.
Николай Николаевич (старший), вел. князь (1831 —1891)—третий
сын Николая I, генерал-фельдмаршал — 38, 426.
Никольский Владимир Николаевич (1821 —1874) — юрист,
профессор гражданского права Московского университета—97, 99,453.
Никольский Сергей Павлович — чиновник канцелярии попечителя
Варшавского учебного округа— 113, 114.
Нильский (Нилус) Александр Александрович (1841—1899) — актер
Александрийского театра — 435, 437.
Нимейер Феликс (1820—1876) — немецкий врач — 302.
Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ-идеалист —
345, 403.
Новикова Ольга Алексеевна (1840—1925)—публицистка,
значительную часть жизни прожившая в Англии, — 73, 74, 443, 444.
Норшин Николай Агапьевич — врач, ученик и последователь
Ф. П. Гааза —218.
Обер Даниель Франсуа Эспри (1782—1871)—французский
композитор — 438.
Ободовский Платон Григорьевич (1803—1864) — писатель — 436,
Оболенский Иван Михайлович, князь (р. 1845) — харьковский,
затем финляндский генерал-губернатор — 271.
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920) —
историк литературы, лингвист — 406, 513.
Овсяный Николай Романович (1847—1913) — историк и
журналист — 516.
Огарев Николай Платонович (1813—1877) — поэт, публицист,
революционный демократ — 39, 428, 445, 446.
Одоевский Александр Иванович, князь (1802—1839) — поэт,
декабрист— 415.
Одоевский Владимир Федорович, князь (1803—1869) — писатель,
литературный критик, композитор и музыковед — 57, 126, 148,
299, 300, 384, 406, 456, 460, 489, 516.
Олеарий Адам (ок. 1599—1671) — немецкий ученый и путешествен«
ник — 5, 410.
544
Ольховский — см. Торчало в ский /7. П.
Опекушин Александр Михайлович (1840—1923) —
скульптор-монументалист — 422.
Оппенгейм Герман (1858—1919) — немецкий врач-невропатолог —
316.
Орлов Алексей Федорович, граф, с 1856 г. — князь (1786—1861) —
шеф жандармов и начальник III отделения (1844—1856) —
420.
Ортолан Жан Фелисите Тодор (1808—1874) — французский юрист,
автор курса по международному праву— 109.
Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686—
1747) — государственный деятель — 139.
Остерман-Толстой Александр Иванович, граф (1770—1857) —
генерал, участник русско-турецкой (1787—1791) и Отечественной
(1812—1813) войн-143.
Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 22, 51, 53, 304,
310, 433, 435, 437, 492, 510.
Ott Дмитрий Оскарович (1855—1929) — акушер-гинеколог,
основатель Института акушерства и гинекологии Академии
медицинских наук СССР—456.
Оффенбах Жак (1819—1880) —- французский композитор — 445.
Охотников Алексей Яковлевич (1780—1807) — штаб-ротмистр
Кавалергардского полка, фаворит жены Александра I Елизаветы
Алексеевны — 58, 44 1.
Павел I (1754—1801) — 4I, 302, 417, 489.
Павлов Иван Петрович (1849—1936) — 456.
Павлов Николай Филиппович (1805—1864) — писатель, критик и
переводчик — 262.
Павлов Платон Васильевич (1823—1895) — историк, профессор
Киевского и Петербургского университетов — 78, 79, 434, 448.
Павлова Каролина Карловна, рожд. Яниш (1807—1893) — поэтесса
и переводчица — 262, 485.
Паганини Никколо (1782—1840) — итальянский скрипач и
композитор — 314.
Пален Константин Иванович, граф (1833—1912) — министр
юстиции (1867—1878)— 119.
Падкий — петербургский ресторатор — 32, 421.
Пальмер Вильям (1811—1879) — английский богослов — 351, 503.
545
Панаев Иван Иванович (1812—1862) — писатель, журналист и
критик — 422, 423, 425, 433.
Панин Никита Иванович, граф (1718—1783) — государственный
деятель, дипломат — 21.
Панормита Антонио (Панормит Антоний) (1394—1497) —
итальянский писатель-гуманист — 278.
Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919) — публицист,
мемуарист, участник революционного движения 60-х гг. — 433, 449,
450.
Панфилов — казанский полицеймейстер, обвинявшийся в
злоупотреблениях, связанных с превышением власти, — 273.
Панютин Лев Константинович, псевд. Нил(ь) Адмирари (1830—•
1883)—поэт, фельетонист, сотрудник «Голоса» в 60—70-х гг.—
296, 488.
Пассек Татьяна Петровна (1810—1889) — мемуаристка, двоюродная
сестра А. И. Герцена — 313, 493.
Пастер Луи (1822—1895) — французский ученый-микробиолог —
218, 344, 502.
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — советский поэт—502.
Пастрана Юлия (ум. 1858) — артистка — 45.
Педру(о) I (1320—1367) — португальский король (1357—1367)—•
401, 402.
Пезаровиус Павел Павлович (1776—184?) — журналист, основатель
и редактор «Русского инвалида» — 421.
Пекарский Петр Петрович (1828—1872) — историк и книговед —
412, 413.
Пеликан Евгений Венцеславович (1824—1884) — врач, профессор
судебной медицины Медико-хирургической академии — 286.
Перекусихина Марья Савишна (1739—1824) — камер-юнгфера
Екатерины II — 58.
Перетц Григорий Григорьевич (1823—1883) — педагог, впоследствии
заграничный агент III отделения — 68, 70, 443, 446.
Перетц Егор Абрамович (1833—1899) — государственный секретарь
(1878—1883) —455.
Перетц Николай Григорьевич (1846—1875) — товарищ Кони по
гимназии, затем педагог — 65—69, 443, 444.
Перозио Николай Павлович (1819—1877)—деятель русских
акционерных компаний — 432.
Перро Жюль Жозеф (1810—1892) — французский артист балета и
балетмейстер — 439.
Петипа Мариус Иванович (1822—1910) — балетмейстер — 439.
546
Петлин Иван — сибирский казак, путешественник XVII века по
Монголии и Китаю — 412.
Петр I Великий (1672—1725) — 5, 8—10, 13, 18, 20—22, 45, 85—
88, 101, 102, 121, 122, 219, 223, 235, 236, 239, 340, 357, 409,
410, 412, 413, 415, 416, 418, 427, 451, 459, 466, 478.
Петр III (1728—1762) —император (1761—1762) — 21.
Петр Амьенский (Петр Пустынник) (ок. 1050—1115) —
французский монах, крестоносец — 66, 445.
Петров Иван — казацкий атаман, совершивший в 1567 году
путешествие в Китай, — 7, 412.
Петров Осип Афанасьевич (1807—1878) — оперный певец — 55, 59.
Петрова Анна Яковлевна (1816—1901) — оперная певица — 438.
Печаткин Вячеслав Петрович (1819—1898) — издатель
«Библиотеки для чтения» (1856—1863)—429.
Пешкова-Толиверова Александра Николаевна, рожд. Соколова, в
первом браке Якоби, во втором — Тюфяева, в третьем —
Пешкова (1842—1918), — писательница и издательница журнала
«Игрушечка»; участница походов Гарибальди — 312—323, 409,
492-495.
Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — 35, 42, 57, 82, 111,
112, 200—219, 222, 289, 317, 369, 409, 423, 428, 440, 465—471,
473, 487.
Пирогова Александра Антоновна, рожд. Бистром (1828—1903),—•
жена Н. И. Пирогова — 470, 471.
Пирожков Михаил Васильевич — петербургский книгоиздатель — 487.
Писарев Виссарион Модестович — дипломат, сын М. И. Писарева и
П. А. Стрепетовой — 318.
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — 142, 422, 458.
Писемский Алексей Феофилактович ( 1821—1881) — 43, 44, 50, 51,
74, 148, 424, 429, 433, 434, 460, 489, 492.
Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист—•
371, 506, 507.
Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — историк, академик—*
301.
Плевако Федор Никифорович (1843—1908) — юрист, известный
судебный оратор — 329.
Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — директор
департамента полиции (1881—1884), затем министр внутренних дел
и шеф жандармов — 231.
Плетнев Петр Александрович (1792—1865) — поэт и крзтик, друг
Пушкина— 289, 421, 423, 482, 483, 487.
547
Плетнева Александра Васильевна, рож д. княжна Щетинина (1826-^»
1901),— вторая жена П. А. Плетнева — 255, 483.
Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт, участник
кружка петрашевцев — 388, 513.
Плос Герман Генрих (1819—1885) — немецкий врач, педиатр и
гинеколог, — 286.
Плющевский-Плющик Яков Алексеевич (1845—1916) — драматург,
театральный критик, юрисконсульт Министерства внутренних
дел —- 66.
Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — реакционный
государственный деятель, обер-прокурор Синода (1880—1905) —
100.
Победоносцев Петр Васильевич (1771—1843) — профессор
российской словесности Московского университета — 81.
Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, писатель,
драматург и публицист, профессор Московского университета —
50, 75, 76, 146-149, 178, 433, 443, 447, 460, 461.
Погорельский Антоний, псевд., наст, имя и фамилия Перовский
Алексей Алексеевич (1787—1836) — писатель — 439.
Подмор Фрэнк (1856—1910) — английский психофизиолог—248,
481.
Пожарский — владелец гостиницы в Торжке — 417.
Пожарский Димитрий Михайлович, князь (ок. 1578 — ок. 1642) —
103, 189.
Покровский Федор Иванович (1871—1942) — советский историк,
архивист — 412.
Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель, историк,
журналист - 59, 261, 302, 459.
Полетаев Николай Александрович (1833—1914) — юрист и
энтомолог — 109.
Поликарпов Федор Поликарпович (ум. 1731) — писатель,
переводчик и общественный деятель — 413.
Полонский Леонид Александрович (1833—1913) — публицист,
критик и журналист —- 474.
Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт — 141, 303, 318,
424, 433, 458, 486.
Полоцкий Симеон (1629—1680) — писатель — 5, 410.
Пономарев — харьковский почтмейстер — 183.
Попов Андрей Николаевич (1841—1881) — исследователь древне«*
русской письменности, историк —414.
SU
Попов Василий Васильевич — петербургский издатель и
книготорговец (1880-е гг.)—84.
Потемкина Татьяна Борисовна, рржд. княжна Голицына (1801 —
1869) —статс-дама, благотворительница — 37, 425.
Потехин Алексей Антипович ( 1829— 1908) — писатель — 481, 516.
Потехин Павел Антипович (1839—1916) — юрист, присяжный
поверенный Петербургской судебной палаты — 241.
Прасковья Федоровна (1664—1723)—царица, жена царя Ивана
Алексеевича, мать императрицы Анны Ивановны — 412.
Прнйма Федор Яковлевич — советский литературовед — 410.
Протасов, граф — петербургский домовладелец — 32.
Протопопов Владимир Васильевич — советский музыковед — 511.
Прохаска — ялтинский домовладелец — 386.
Прудников — петербургский чиновник — 67, 443.
Прутков Козьма — коллективный псевдоним А. К. Толстого, А. М.
и В. М. Жемчужниковых — 229.
Пулье — французский врач, автор работ о половых извращениях —
286.
Пуни Цезарь (1802—1870) — итальянский композитор — 439.
Пусторослев Петр Павлович (р. 1854) — юрист, профессор
уголовного права Юрьевского университета— 109, 455.
Путятин Евфимий Васильевич, граф (1803—1883) — адмирал,
возглавлявший в 1852—1855 гг. экспедицию на фрегате «Паллада»;
министр народного просвещения (1861), член Государственного
совета — 237.
Пухта Георг Фридрих (1798—1846) — немецкий юрист, профессор
Берлинского и др. университетов — 97.
Пушкин — чиновник III отделения — 499.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 21, 32, 33, 58, 67,
87, 103. 120, 142, 145, 206, 219, 239, 246, 248, 253, 255, 257.
258, 284, 290, 291, 295, 297, 298, 300, 304, 310, 319, 334, 349.
361, 362, 364, 365, 384, 388, 390, 404—406, 413, 415, 416.
421—423, 427, 435, 440. 441, 445-447, 450, 451. 453—455.
458—460, 464. 466, 472, 476—481, 483, 484, 486—489, 492.
494, 500—503, 505, 506, 508, 512, 514, 516, 517.
Пушкина Наталья Николаевна, рожд. Гончарова, во втором браке
Ланская (1812—1863) — жена А. С. Пушкина —295.
Пышш Александр Николаевич (1833—1904) — историк литературы,
исследователь фольклора, академик—178, 220, 240, 255, 411,
425, 434, 463, 473, 474, 481, 483.
549
Раден Эдитта Федоровна, баронесса (1823—1885) — фрейлина вел.
княгини Елены Павловны, общественная деятельница,
находившаяся в дружеских^ отношениях со многими писателями и
деятелями науки и искусства, — 208, 209, 214, 423, 469.
Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — 59.
Радлов Эрнест Львович (1854—1928) — философ — 501.
Рамазанов Николай Александрович (1815—1868) —
скульптор-академист — 44, 74, 429, 447.
Рамбург Стефан — учитель танцев при дворе Петра I — 8, 412.
Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Франческо Бартоломео)
( 1700—1771 ) — русский архитектор — 428.
Рачинский Григорий Алексеевич
(1853—1939)—философ-идеалист — 500.
Рачинский Сергей Александрович (1836—1902) — профессор
ботаники Московского университета, деятель по народному
образованию — 91.
Рекамье Жюли (1777—1849) — жена банкира, хозяйка парижского
салона времен Директории, империи Наполеона I и
Реставрации — 292.
Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892) — французский философ,
историк религии — 343, 345.
Репин Илья Ефимович (1844—-1930) — 314.
Рёскин Джон (1819—1900) — английский теоретик искусства,
художественный критик — 367.
Ржевская Елена (ум. 1756) — игуменья Вознесенского монастыря —
412.
Рикорд Петр Иванович (1776—1855) — мореплаватель, адмирал-—
46, 47.
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908) — 415, 429.
Рихтер Егор Христианович — преподаватель математики во второй
петербургской гимназии — 72.
Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (1763—1825) — немецкий писатель,
известный под псевдонимом «Жан Поль», — 467.
Рише Шарль Робер (1850—1935) — французский физиолог — 346.
Ришелье Арман Жан Дюплесси, герцог (1585—1642) — кардинал,
первый министр Франции (с 1624) — 52, 436.
Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895) — историк
искусства, юрист, деятель судебной реформы — 26, 114, 220, 257,
282, 330, 411, 451, 486, 491.
559
Ровинский Павел Аполлонович (1831 —1916) — славяновед,
этнограф, публицист — 516.
Рогачевсхий — харьковский житель, подсудимый — 272.
Роденберг Юлиус (1831—1914) — немецкий писатель, основатель и
редактор журнала «Deutsche Ruhdschau» — 484.
Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — критик, публицист,
философ-идеалист — 479.
Розенбах Павел Яковлевич (р. 1858) — врач, профессор
Психоневрологического института и Военно-медицинской академии в
Петербурге — 316.
Розенблюм Николай Германович — советский юрист и
литературовед — 446.
Ролан Жан Мари де ла Платьер (1734—1793) — министр юстиции
жирондистского правительства эпохи Французской революции —
499.
Ролан Макон (1754—1793) — жена Ж.-М. Ролана, хозяйка
политического салона, где собирались жирондисты; была известна под
именем «г-жа Ролан» — 22, 328, 415, 499.
Роледер Герман Оскар (р. 1866) — немецкий врач-гинеколог — 286.
Роллер Андрей Адамович (1805—1881) — художник-декоратор —
426.
Роикони Доменико (1772—1839) — итальянский оперный певец — 54.
Росси Эрнесто (1829—1896) — итальянский трагический актер,
неоднократно гастролировавший в России, — 317, 493.
Россини Джоакино (1792—1868) — итальянский композитор — 438.
Ростовцев Яков Иванович (1803—1860)—генерал-адъютант,
деятель крестьянской реформы — 46.
Рошер Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894)—немецкий
экономист, профессор Лейпцигского университета— 100.
Рошфор Виктор Анри, маркиз де (1830—1913) — французский
публицист и политический деятель— 159, 160.
Руадзе — владелец театрального зала в Петербурге — 79, 433.
Рубенс Петер Пауль (1577—1640) — фламандский живописец —
167, 463.
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—-1894) — 57, 314, 441, 448,
463.
551
Румянцев-Задунайский Петр Александрович, граф (1725—1796)—
фельдмаршал, государственный и военный деятель— 45, 430.
Рупин Иван Алексеевич (1790-е гг.— 1850) — певец, композитор,
собиратель народных песен — 476.
Руссо Жан Жак (17 12—1778) - ЪЫ\
Рылеев Кондрата Федорович (1795—1826) — поэт, декабрист —
139, 446, 457.
Савиньи Фридрих Карл (1779—1861) — немецкий юрист,
профессор Берлинского университета — 97.
Сад Донасьен Альфонс Франсуа, граф де, псевдоним «Маркиз де
Сад» (1740—1814) — французский писатель — 297, 405.
Саломон Александр Петрович (1853—1908)—юрист, автор работ о
тюрьме и ссылке — 382, 510.
Салтыков Михаил Евграфович, псевд. Н. Щедрин (1826—1889)—•
59, 421, 423, 433, 479.
Самойлов Василий Васильевич (1812—1887) — актер
Александрийского театра—52, 54, 436, 437.
Самойлова Вера Васильевна, в замужестве Мичурина (1824—1880) —
драматическая актриса — 53.
Самойлова Надежда Васильевна (1818—1899) — комедийная и
водевильная актриса — 53.
Санд Жорж (Аврора Дюдеван) (1804—1876) — французская
романистка — 297.
Сарду Викторьен (1831 —1908) — французский драматург — 439.
Сахаров Иван Петрович (1809—1863)—этнограф, палеограф,
собиратель древнерусских рукописей — 411.
Светоний Гай Транквилл (ок. 70—160)—римский историк — 278.
Себастьян (ум. 288) — начальник преторианцев при римском импе*
раторе Диоклетиане — 515.
Селиванов Илья Васильевич (1810—1882) —юрист, член Москов->
ской судебной палаты— 108.
Селиванов Кондратий — основатель скопческой секты (вторая
половина XVIII в.) -37, 38, 425.
Семевский Михаил Иванович (1837—1892) — историк, издатель
«Русской старины» — 412.
552
Сен-Жорж Жюль Анри Вернуа де (1801—1875) — французский
писатель — 439.
Сенека Луций Анней (6—3 г. до н. э. — 65 н. э.) — римский
философ, писатель и политический деятель — 201, 202.
Сенковский Осип Иванович (1800—1858) — писатель, редактор
«Библиотеки для чтения» (1834—1856) — 43, 429.
Сервантес де Сааведра Мигель (1547—1616) — 464.
Сергеев — саратовский помещик—182—184, 462.
Сергей Александрович, вел. князь (1857—1905) — 34.
Сетов Иосиф Яковлевич (1826—1894) — оперный певец и
режиссер — 55, 438.
Сеченов Иван Михайлович (1829—1906) — знаменитый физиолог —
221, 434.
Снвков Константин Васильевич (1882—1959) — историк, профессор
Московского университета — 412.
Сигель — товарищ Кони по гимназии — 71
Сигида Надежда Константиновна (1862—1889) — участница
народовольческих кружков; покончила жизнь самоубийством на
Каре после того, как подверглась телесному наказанию, — 376,
380, 508.
Сидорова — петербургская жительница — 307.
Сикорский Иван Алексеевич (р. 1845?) — психиатр и невропатолог,
профессор Киевского университета — 362, 505.
Сигдеон Полоцкий — иеромонах Суздальский, писатель XV в. —^
6,411.
Синебрюхов — петербургский купец, содержатель омнибусов — 29.
Склифосовский Николай Васильевич (1836—1904) — хирург,
профессор — 456.
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал, известный
военный деятель — 74, 77, 83, 147.
Сковорода Григорий Саввич (1722—1794) — украинский философ и
писатель — 119.
Скрипка — харьковский почтальон— 183.
Слонимский Леонид Зиновьевич (1850—1918) — публг.цист,
сотрудник «Вестника Европы» — 475.
Смирнов Н. — член Общества русского пароходства и торговли
(60-е гг.) — 432.
36 А. Ф. Коии, т, 7
553
Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — археолог, этнограф и
фольклорист, профессор Московского университета— 147.
Спеткова Фанни (Феодосия) Александровна (1838—1929) —
актриса Александрийского театра (1855—1862) — 53.
Собеский Ян (1624—1696)— польский король (1674—1696),
известен под именем Яна III — 15.
Соболевский Алексей Иванович (1856—1929) — филолог,
академик — 412.
Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) — московский
книгоиздатель — 506.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ-идеалист,
поэт и публицист — 40, 221, 243—251, 257, 259, 335—340,
347—353, 355—364, 367—374, 404, 409, 428, 472, 479-481,
490, 500—507, 516.
Соловьев Михаил Васильевич — священник, дед Вл. С.
Соловьева — 503.
Соловьев Михаил Сергеевич (1862—1903) — сын историка С. М.
Соловьева, брат философа В. С. Соловьева — 500, 506.
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — историк, профессор
Московского университета —85, 91, 102, 105, 110, 218, 301,
374, 412.
Соловьев Сергей Михайлович (1885—1941) — поэт и литературный
критик, сын М. С. Соловьева — 500.
Сомов Иосиф Иванович (1815—1876)—математик, механик,
профессор Петербургского университета, академик — 72.
Сосна — подсудимый — 272.
Сосницкий Иван Иванович (1794—1871)—актер Александрийского-
театра — 52.
Соханская Надежда Степановна, псевдоним Кохановская (1823—
1884) — писательница — 178.
Спалачииская Людовина — цирковая наездница — 439.
Спасович Владимир Данилович (1829—1906)—юрист, профессор
Петербургского университета (1857—1861) — 51, 78, 79, 96,
103, 104, 138, 178, 220, 233, 237—241, 243, 258, 340, 434,
450, 454, 463, 473, 477-479.
Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ-позитивист —
501,
554
Сперанский Михаил Михайлович, граф (1772—1839) —
государственный деятель — 58, 104, 429.
Спиноза Бенедикт (1632—1677) — голландский
философ-материалист — 257.
Старчевский Альберт Викентьевич (1818—1901) — публицист,
журналист, критик — 429.
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906)—художественный и
музыкальный критик, историк искусства — 220, 252, 253, 309—
311, 409, 482, 483, 490—492, 497, 498, 516.
Стасова Надежда Васильевна (1822—1895) — участница женского
движения 60—80-х гг. —321, 326, 498.
Стасюлевич Любовь Исааковна (ум. 1917) — жена М. М. Стасюле-
вича — 236, 476.
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — историк, публицист,
общественный деятель, редактор-издатель журнала «Вестник
Европы» (1866—1908) — 51. 79, 120, 121, 221—226, 228—234,
236—238, 240-246, 249, 251, 252, 254, 259, 310, 408, 434,
455, 471—476, 478—480, 482—484, 490—492.
Степанов Владимир Петрович — советский литературовед — 409.
Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович (1851—1895) —
народник-террорист, убивший шефа жандармов Мезенцова,
писатель — 486.
Стефенсон Джордж (1781 —1848) — английский изобретатель —
314, 417.
Стифен Джемс Фитцджемс (1829—1894) — английский юрист —
113.
Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — публицист, критик,
философ —289, 487.
Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850—1903) —
драматическая актриса — 318, 494.
Строев Павел Михайлович (1796—1876) — писатель, историк и ар*
хеограф — 32.
Стронин Александр Иванович (1827—1889) — социолог, юрист —
240.
Струве Василий Яковлевич (1793—1864) — астроном, академик—■
57,
Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — журналист, драматургу
критик —319, 494, 495, 509.
Суворов Александр Васильевич (1729—1800)—420.
36* 555
Сумбатов Александр Иванович, князь, сценич. псевд. Южин (1857—
1927) — театральный деяте\ь, актер и драматург — 392—396,
409, 513, 514.
Суриков Иван Захарович (1841—1880) — поэт — 318, 494.
Суслова Надежда Прокофьевна (1843—1918) — первая русская
женщина-врач — 456.
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903) —
драматург — 54, 437, 449.
Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926)—генерал,
военный министр (1909—1915) — 35, 423.
Сысоев Николай Александрович — советский литературовед — 513.
1аивани — владелец пассажирских пароходов на Неве — 62, 441.
Таксиль Лео (Жоган Пажес Габриэль Антуан) (1854—1907)—•
французский литератор и издатель — 285.
Тальма — подсудимый — 272.
Тамберлик Энрико (1820—1889) — итальянский певец,
гастролировавший в 40—50-х годах в Петербурге, — 54.
Тараканова (наст, имя, фамилия и год рожд. неизвестны, ум. 1775)—
политическая авантюристка, выдававшая себя за дочь имп.
Елизаветы Петровны, — 46, 431.
Тарновская Варвара Павловна (1844—1913) — общественная
деятельница в области высшего женского образования — 321, 498.
Тарновская Прасковья Николаевна, рожд. Козлова (1848—1910),—
врач-антрополог—135, 321.
Тарновскии Вениамин Михайлович (1837—1906) — врач-венеролог,
профессор Медико-хирургической академии (1871—1897) — 135.
Таубе Фердинанд Иванович, барон (1805—1870)—инженер,
директор Царскосельской железной дороги — 417.
Тверитинов Дмитрий Евдокимович — московский еретик конца
XVII-нач. XVIII вв.-21, 414.
Теккереи Вильям Мейкпис (1811 —1863) — английский писатель —
256, 257, 488.
Тенвисон Альфред ( 1809— 1892) — английский поэт — 314.
Тер-Реген София — владелица вафельного заведения в Петербурге
(40-е гг.), основательница Зоологического сада — 51, 435.
Тиберий (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император (14—
37 н. э.) - 450, 464.
556
Тимур (Тамерлан) (1336—1405) — монгольский полководец и за-
виеватель — 395.
Тихомиров Лев Александрович (1850—1922) — публицист, народник,
с 1888 года перешедший в лагерь реакции, — 486.
Толмачев Николай Гурьевич (1895—1919) — политработник
Красной Армии — 426.
Толстой Алексей Константинович, граф (1817—1875) — писатель —
143, 433, 459, 475.
Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889) — министр
народного просвещения и обер-прокурор Синода (1866—1880), с
1882 года министр внутренних дел—112, 114, 326, 328, 471,
473, 498, 499.
Толстой Лев Львович, граф (1869—1949) — писатель, сын
Л. Н. Толстого —319, 495.
Толстой Лев Николаевич, граф (1828—1910) — 20, 26, 125, 138,
208, 219, 261, 271, 297, 299, 304, 310, 316, 367, 372, 389, 390,
404, 414, 466, 469, 471, 481, 492, 493, 495, 497, 505, 507, 516.
Толстой Петр Андреевич, граф (1645—1729) — стольник при
дворе, государственный деятель — 8, 412.
Толстой Федор Петрович, граф (1783—1873)—художник,
скульптор-медальер — 46.
Толченое Алексеи Павлович (1817—1881)—актер и драматург —
438.
Торричелли Эванджелиста (1608—1647) — итальянский физик и
математик — 416.
Торчаловский Петр Петрович — управляющий имением княгини
Щербатовой, подсудимый (ошибочно назван Кони Ольховским.
См т. 3 наст. Собрания сочинений) — 272.
Траверсе Николай Александрович, маркиз де (1829—1864) —
чиновник особых поручений в государственном контроле5 был
знаком с М. А. Бакуниным и А. И. Герценом — 47.
Травиикова — московская купчиха—136, 137.
Трепов Федор Федорович (1812—1889) — петербургский
градоначальник (1866—1878)— 198, 329.
Тропмае Жан Батист (1849—1870) — французский машинист, гиль-
отированный за убийство — 482.
Трубецкой Петр Николаевич, князь (р. 1858) — предводитель
дворянства Московской губернии — 250, 481.
557
Трубникова Мария Васильевна (1835—1899) — деятель женского
движения 60-х годов — 326, 497, 498.
Туниманов Владимир Артемович — советский литературовед — 409.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 31, 35, 51, 52, 54, 59,
124, 143, 148, 180, 219, 221, 226, 229, 240, 251—253, 259, 286,
289, 298, 304, 389—391, 397, 398, 405, 420, 422, 433, 435, 454,
459, 460, 463, 471, 474, 476, 482, 483, 486, 487, 489, 492, 493,
513, 515.
Турунов Михаил Николаевич (1813—1890)—член Главного
управления по делам печати, сенатор— 116—118.
Тэн Ипполит (1828—1893) — французский историк,
философ-позитивист, теоретик искусства и литературы—177—179, 181, 463.
Тюменев Василий — казацкий атаман, вместе с Иваном Петровым
(см.) был послом царя у монгольского хана Кончакая (1619) —
7.
Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — 58, 141, 234, 303, 404,
440, 446, 458, 477, 484.
Уатт Джемс (1736—1819)—английский изобретатель — 314.
Уваров Сергей Семенович, граф (1786—1855) — министр народного
просвещения (1833—1849) и президент Академии Наук (1818—
1855)—451.
Ульянова Анна Ильинична (1864—1935) — 510.
Уоллес Дональд Меккензи (1841 —1919)—английский
путешественник-255—257, 484.
Урусов Александр Иванович, князь (1843—1900) — адвокат,
талантливый оратор, театральный критик — 255, 479.
Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — 492.
Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — историк,
профессор Петербургского университета — 412.
Утин Борис Исаакович (1832—1872)—юрист, публицист,
профессор Петербугского университета — 79, 434, 450, 473.
Утин Евгений Исаакович (1843—1894)—адвокат, публицист и
литературный критик —80, 255, 319, 449, 494.
Утин Исаак Осипович (1812—1876) — петербургский купец, отец
Б. И. и Е. И. Утиных-80, 426, 449.
558
фальконе Эрнест, граф (1815—1851) — французский государствен«
ный деятель и литератор— 195.
Федор (Феодор) (ум. 1367) — епископ Тверской (1342—1360)—■
6, 411.
Федоров Павел Степанович (1800—1879)—драматург, начальник
репертуарной части петербургских имп. театров (1853—1879) —
440.
Фейербах Ансельм (1775—1833) — немецкий криминалист—104,
454.
Фейнберг Бернард Исаакович (р. 1851)—врач-акушер — 286.
Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — 340, 507.
Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867) — с 1821
года Московский митрополит, реакционный церковный деятель —
270, 357, 359.
Философов Дмитрий Николаевич — помещик, свекор А. П. Филосо-
фовой — 496.
Философов Владимир Дмитриевич (1820—1894) — статс-секретарь,
главный военный прокурор, муж А. П. Философовой — 327, 496,
499.
Философова Анна Павловна, рожд. Дягилева (1837—1912), —
активная участница женского движения 60—80-х гг. — 321, 324—
334, 409, 496—500.
Флавицкий Константин Дмитриевич (1830—1866)—художник —
46, 431.
Флаксман Джон (1755—1826) — английский скульптор и
график — 46.
Флобер Гюстав (1821—1880) — 341, 501.
Фогельзанг — берлинская помощница Пирогова в изготовлении
хирургических препаратов — 210.
Фойницкий Иван Яковлевич (1847—1913) — криминалист, профессор
Петербургского университета — 226, 475.
Фотий (1792—1838) — архимандрит, деятельный сторонник Арак-«
чеева — 425.
Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — поэт--314.
Франклин Вениамин (Бенджамин) (1706—1790) — американский
политический деятель« дипломат и ученый — 365.
559
Франц-Иосиф I (1830—1916) — австрийский император с 1848
года-134.
Франциск II (1836—1894)—король обеих Сицилии (1859 —
1861 ), свергнутый Гарибальди, — 465.
Фридрихе — товарищ прокурора одного из северо-западных
окружных судов— 182, 183, 462.
Фукс Виктор Яковлевич (1829—1891) — чиновник особых
поручений при Министерстве внутренних дел, член Главного
управления по делам печати (1865—1877)—83, 84, 450.
Фультон Роберт (1765—1815)—американский изобретатель — 314,
Халтурин Степан Николаевич (1856—1882) — рабочий,
революционер, один из организаторов «Северного союза русских
рабочих» — 440.
Хлебников. Николай Иванович (1840 — 1880) — юрист и философ,
профессор Варшавского и Киевского университетов—112, 115.
Хмелевская Наталья Александровна — советский литературовед —
409.
Ховен Христофор Христофорович, барон фон дер (1795—1890) —
генерал, губернатор Гродненской губернии—75, 147.
Хомяков Алексеи Степанович (1804—1860) — поэт и публицист,
один из теоретиков славянофильства — 46, 351, 355, 358—360,
366, 430, 503, 504.
Христиан (Христиерн) И (1481 —1559) — датский король (с
1514 г.)-141, 458.
Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.) — 450.
Циммерман — владелец пансиона в Москве—133.
Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856)—445.
Чаев Николай Александрович (1824—1914)—писатель — 75, 147*
Чайковский Антон Павлович (1816—1873) — профессор права
Петербургского университета — 450.
Чайковский Петр Ильич ( 1840 — 1893) — 300, 425.
$60
Чаннинг Вильям Эллери (1780—1842) — американский пастор и
писатель — 373, 507.
Чебышев Пафнутий Львович (1821—1894)—математик, механик,
академик — 448.
Чебышева-Дмитриева Евгения Александровна (1859—1923) —
писательница — 499.
Черкасский Владимир Александрович, князь (1824—1878) —
публицист-славянофил, деятель крестьянской реформы — 257.
Чернышев Александр Иванович, князь (1786—1857) — генерал,
военный министр (1832—1852) — 35, 57, 207, 208, 423, 427.
Чернышёв Иван Егорович (1833—1863) — актер Александрийского
театра, драматург — 53, 437.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889)—140, 297, 433,
434, 446, 448, 449, 457, 458.
Честерфильд Филип Дормер Стенхои, граф
(1694—1773)—английский политический деятель и писатель — 292, 488.
Честерфильд Чарльз Стенхои, граф (1753—1816) — английский
политический деятель, сын предыдущего — 292, 488.
Чехов Антон Павлович ( 1860—1904) — 229, 304, 375, 377—391,
404, 409, 481, 505, 508-513, 516.
Чехов Михаил Павлович (1865—1936) — писатель — 513.
Читау Александра Матвеевна (1832—1912) — актриса
Александрийского театра — 53.
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — историк русского права,
философ, публицист; профессор Московского университета —79,
81, 89-93, 101, 105, 110, 136, 246, 371, 449, 452, 453, 480,
506.
Чоглокова Вера Сергеевна — дочь А. Н. Пешковой-Толиверовой —-
492.
Шабанова Анна Николаевна (р. 1850) — врач-педиатр,
общественная деятельница — 316, 321, 322.
Шайкевич Самуил Соломонович (1840—1908) — адвокат — 98,
113, 114.
Шапир Ольга Андреевна (1850—1916) — писательница — 318, 494.
Шарко Жан Мартен (1825—1893) — французский
врач-невропатолог — 403.
561
Шарлотта Христина София, кронпринцесса (1694—1715) — жена
царевича Алексея Петровича, мать императора Петра II — 412*
Шау&нштейн Адольф (р. 1827) — австрийский врач и юрист в
области судебной медицины— 106.
Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) — языковед,
историк древнерусской культуры, академик — 248.
Шварц Эсперанса (ум. 1899) — немецкая писательница — 317, 494.
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — 163, 207, 430, 463,
469.
Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — публицист и критик,
профессор Московского университета, один из представителей
«официальной народности»— 148, 149, 461.
Шекспир Вильям (1564—1616) — 58, 239, 240, 433, 441, 478, 479,
510.
Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — публицист, критик,
философ —318, 494.
Шеллер-Михайлов Александр Константинович (1838—1900) —
писатель — 318.
Шереметьев Борис Петрович, граф
(1652—1719)—генерал-фельдмаршал— 412.
Шерр Иоганн (1817—1886) — немецкий писатель и историк
литературы — 354.
Шехтер Борис Ефимович (р. 1867) — врач-венеролог, юрист — 286.
Шешковский Степан Иванович (1727—1793) — начальник тайной
полиции — 58.
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 54, 365, 438, 441, 502.
Шильдер Николай Карлович (1842—1902) — генерал, историк—■
302.
Ширинский-Шихматов Сергей Александрович, князь (1783—
1837) —поэт —459.
Шишков Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, президент
Российской Академии, министр народного просвещения (1824—
1828) —58.
Шлыков Василий Дмитриевич — чиновник особых поручений канч
целярии московского генерал-губернатора— 133.
Шлыкова Виргиния Васильевна — врач— 133.
Шлыкова Раиса Васильевна, в замужестве Путята — врач-окулиста
училась в Цюрихе и в Берне— 133—135.
562
Шмидт Петр Петрович (1867—1906)—лейтенант Черноморского
флота, руководитель Севастопольского восстания 1905 года —
430.
Шопен Фредерик (1810—1849) — 319, 495.
Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист —
299, 315, 342, 366, 403.
Шпильгаген Фридрих ( 1829—1911) — немецкий писатель — 255,
256, 483, 484.
Шрейбер Николай Николаевич (р 1838) — обер-прокурор Сената,
сослуживец Кони— 182, 462.
Шрейер Юлий Осипович (1835—1887) — петербургский
репортер— 226, 475.
Штакеншнейдер Андрей Иванович (1802—1865) — архитектор —
422.
Штакеншнейдер Елена Андреевна (1836—1897)—дочь архитектора,
мемуаристка — 433.
Штрац Карл Генрих (1858—1924) — немецкий врач — 286.
Штюрмер — товарищ Кони по гимназии и университету — 71.
Шувалов Петр Андреевич, граф (1827—1889) — начальник III
отделения и шеф жандармов (1866—1873) — 69, 446.
Шумахер Петр Васильевич (1817—1891) — поэт-сатирик — 40, 428.
Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк литературы и
революционного движения — 455.
Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — знаменитый актер
Малого- театра— 138.
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952) — писательница,
переводчица — 397—402, 514, 515.
Щербатова Анна Григорьевна, княгиня (ум. 1870) —272.
Щербина Николай Федорович (1821 —1869) — поэт и переводчик—•
32, 46, 223, 474.
Щуровский Григорий Ефимович (1803—1884) — московский
врач — 387.
Эвальд Аркадий Васильевич (1836 — 1898) — публицист — 449.
Эвальд Владимир Федорович ( 1823— 1891 ) — педагог-историк — 65.
563
Эйхгорст Герман Людвиг (1849—1921) — немецкий врач-терапевт и
паталог — 302.
Эйхлер Иван (ум. 1740)—тайный кабинет-секретарь имп. Анны
Ивановны — 139.
Эльслер Фанни (18 10—1884) — балерина •—56.
Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский философ и
писатель — 298, 315.
Эрве Флоримон Ронже (1825—1892) — французский композитор,
певец и дирижер — 463.
Зркман-Шатриан — псевдоним французских писателей Эмиля Эрк-
мана (1822—1899) и Александра Шатриана (1826—1890) —
277.
Эрн — подсудимый — 272.
Эртель Александр Иванович (1855—1908) — писатель — 388.
Эссен-Стенбок-Фермор Яков Иванович, граф (ум. 1856) — Петербург*
ский домовладелец — 432.
Ювенал Децим Юний (60-е гг. — после 127) — римский
поэт-сатирик — 278, 485.
Юрский Н. — культурно-просветительный работник первых лет
Советской власти — 484.
Юрьев Сергей Андреевич (1821 —1888) —переводчик, критик,
председатель Общества русских драматических писателей и Обще-«
ства любителей российской словесности (с 1878 г.) — 161.
Яган III — см. Собеский Ян,
Языков Николай Михайлович (1803—1846) — поэт, друг
Пушкина — 486.
Якоби А, Н, — см, Пешкова-Толиверова А, Н,
564
Якобя Валерий Иванович (1836—1902) — художник—139, 457.
Якубович Петр Филиппович (1860—1911) — поэт, критик,
народоволец -376, 482, 509.
Ялычев (Бурнаш)—сибирский казачий атаман, ходивший в 1567
году с атаманом И. Петровым в Китай и Монголию, — 412.
Яииш Карл Иванович (ум. 1853) — профессор московской Медико-
хирургической академии (1810—1833), отец поэтессы
К.К.Павловой —485.
Ярослав Мудрый (978—1054) — великий князь киевский — 85.
Ярошевнч Александр — подсудимый — 69.
Перечень иллюстраций:
А. Ф. Кони. Восьмидесятые годы XIX века
А. Ф. Кони и M. М. Стасюлевич. 1909 год
А. Н. Пешкова-Толиверова. 1866 год
Портрет работы художника В. В. Верещагина
СОДЕРЖАНИЕ
Петр Великий и народное просвещение 5
Петербург. Воспоминания старожила 23
Из лет юности и старости 65
За границей и на родине 159
Пирогов и школа жизни 200
«Вестник Европы» 220
Совещание о составлении Устава о печати 260
Некоторые вопросы авторского прана . . . 288
A. Н. Апухтин 305
B. В. Стасов с . 309
Незамеченная смерть заметного человека 312
Памяти А. П. Философовой 324
Владимир Сергеевич Соловьев . 335
Воспоминания о Чехове 375
Князь А. И. Сумбатов-Южин 392
Образы прошлого 397
Памяти Н. А. Котляревского 403
Комментарии . . • . 408
Именной указатель ... 518
Кони Анатолий Федорович
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ
Том 7
Редактор тома
Ф. Я. П Р И Й M А
Тексты подготовили к печати
и составили комментарии:
A. Д. АЛЕКСЕЕВ, А. П. МОГИЛЯНСКИЙ,
H. Н. МО С TOB С КАЯ, А. Б. МУРАТОВ,
Ф. Я. ПРИЁМА, В, П. СТЕПАНОВ,
B. А. ТУНИМАНОВ, Н. А, ХМЕЛЕВСКАЯ
Редактор
Г. К. Большакова
Оформление художника
М. 3. Шлозберга
Художественный редактор
Э. П. Стулина
Технический редактор
В. А. Серякова
Корректор
И» Н. Тарасова
Сдано в набор 14/1 1969 г.
Подписано в печать 18/IV 1959 г.
Бумага типографская № 2,
формат 84Х 1087^2. Объем:
vo-л. печ. л. 29,82; учет.-изд. л. 29,05.
Тираж 70 000 экз. А-05Г79,
Издательство „Юридическая литература",
Москва, К-64, ул. Чкалова, д, 38—40,
Заказ 27.
Ленинградская типография № 2
вмени Евгении Соколовой Главполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров СССР,
Измайловский пр., 29,
Цена 88 коп.