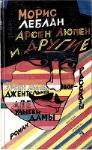Текст
ЧИТАЛЬНЯ СОВЕТСКОЙ школы
3' 2 ЬЦ п.о.
П.ЗАМОЙГКИЙ
Озорная
I П 1
I I I ।
«РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ 1 9 2и,• п1
м
VtHjlj?
МП tier
. гам
' " 1 ——дв айн—
<8ХЯЯ<
ЧИТАЛЬНЯ СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ
№ 45
ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ
№ 45
3-2.64 п о.
2 67
П. ЗАМОЙСКИЙ
ОЗОРНАЯ ПТИЦА
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Рисунки и обложка О. и Н. ЧИЧАГОВЫХ
«РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ»
М(М КВА —1928
3.26 •
и ПИ
НЙ
I.
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «ГУДОК». МОСКВА. УЛИЦА СТАНКЕВИЧА В КОЛИЧЕСТВЕ 10.00(1 ЭКЗ. ГЛ АВ Л ИТ As А28467. ЗАКАЗ М 2610.
В городе на базаре увидел Васька, сын кузнеца, зеленую птицу с горбатым носом, услышал, как орет она: «Караул, грабят!»—и пристал к отцу:
— Купи, тятя, заморского кочета.
Сторговали за два целковых и привезли попугая в село. И каждый день с тех пор в кузнице народу труба нетолченая. Даже с самых дальних улиц мужики заходили: то замок починить, то леме\ наварить, а некоторые просто так — на п¥ицу поглядеть, подразнить ее.
Подойдут к клетке, пощекочут палочкой, а попугай орет:
— Караул, грабят!
Смеются мужики, а больше всего потехи ребятишкам.
Как-то отец сказал Васькё: i
— Ты научи его другим слотам.
— Каким?
— А чтоб мужики не толпились в кузнице, и пущай каждый черед свой держит. Научи е'го кричать: «Товарищи, в очередь!»
Начал Васька учить попугая новым словам. Подойдет к клетке и долдонит:
— Товарищи, в очередь! Товарищи, в очередь!
Попка водит желтыми глазами, щелкает
горбатым клювом, потом забьет крыльями и во все горло:
— Трочи, трочи, карра-у-л-ул!
— Дурак ты, попка! — кричит ему Васька.
— Дррак,— отвечает попка.
Через некоторое время попугай уже умел твердо выговаривать: «Товарищи, в очередь!»
А когда рассердят его, то добавляет: «Ду-
рак, попка, дуррак».
Мужики сначала не понимали, что выговаривает попугай, потом догадались.
Как-то перед самой Пасхой столпились они в кузнице и каждый совался с своим делом. Васька крикну ц
— Попка, ори!
И попка затвердил:
— Товарищи, в очередь! Товарищи, в очередь!
Дядя Ефим удивленно посмотрел и засмеялся:
— Это что еще за начальство объявилось?
— Дуррак, — ответил ему попугай.
— Как. ты меня на старости лет конфузить вздумал?—рассердился дядя Ефим.— Вот тебе, вот...
— Карраул, гр-рабят! — захлебнулся попугай и защелкал клювом.
На Пасху звон колоколов торжественный. Вот уже отошла утреня, прошел крестный ход. Оба клироса наперебой старались, кто лучше выведет.
Поп и дьякон нарядились в белые ризы, а народу в церкви столпилось много. И у каждого в руках свечка. Нередко то тут, то там послышится треск и какой-то неприятный запах. Это кто-то своему соседу
поджег сзади гладко причесанные, намазанные коровьим маслом волосы.
Обедня подошла к концу, на амвон вышел поп и начал пасхальную проповедь. Сладко лились его слова. Некоторые старухи умилительно всхлипывали, некоторые глубоко вздыхали. А после проповеди вышел поп с крестом, помахал им в разные стороны, певчие пропели «многая лета», и потом уже начали прикладываться к кресту. Каждому хотелось приложиться раньше, чтобы поскорее убежать домой.
Около попа сгрудилось столько народа, что он не знал, кому же раньше сунуть крест для поцелуя. Сзади напирали, толкались, поп метался от одного к другому, наскоро давая целовать крест, не разбирая, куда попадал им: в нос, в рот или в глаза, а кому и по уху. Но вот сразу толкнули сзади, волной отдало вперед, поднаперли на загородку, зашумели хоругви, сдвинули аналой с иконой, прижали к нему какую-то дряхлую старушонку. А та, вытаращив глаза, что есть мочи заорала:
— Кар-раул! Кар-раул!
— Грабят! — коротко раздалось ей в ответ и сразу защелкало:
— Карраул, грабят! Карраул, грабят!
Народ опешил, про крест забыли.
— Что такое?—бледнея, спросил поп.
— Не знаю, батюшка, — ответил ему церковный староста, сам дрожа от испуга.— Из царских врат какой-то голос раздается.
Народ сразу затих, прислушался, но затих и гортанный голос. Тогда батюшка успокоился и вновь начал совать крест прихожанам. Прихожане опять подняли толчею. Батюшка не вытерпел и крикнул:
— В очередь, православные, в очередь!
И вдруг, к его ужасу и ужасу всех, снова с царских врат громко защелкало:
— Товарищи, в очередь! Товарищи, в очередь!
Все отшатнулись, батюшка метнулся к левому клиросу и уставился на царские врата. А оттуда уже неумолчно: «Товарищи, в очередь! Товарищи, в очередь'»
Потом раздался невероятный крик, свист, хлопанье крыльев и сердитый клекот. Тут все подняли лица и увидели поразившую их картину: на святом духе сидел попугай и яростно клевал голову святой птицы. Клевал и кричал:
— Дуррак, дуррак!
Поп, белый от испуга, как риза, выронил крест, взмахнул руками и просяще обернулся к прихожанам:
— Православные, навождение бесовское. Что это за невиданное чудовище, зеленого
цвета, с горбатым носом, сидит на святом духе, клюет ему голову и говорит человеческим голосом?
Кто-то высвистнул и закричал:
— Да это кузнеца нашего попугай. Как он сюда попал?
Смеясь, принялись ловить птицу, махать на нее, кричать. Но она не давалась, перелетала с места на место и все кричала:
— Дуррак, попка, дуррак!
Тогда кто-то бросил в нее яйцом, потом полетело другое, кто-то закатил огарком свечи, и вот все принялись бросать в птицу чем попало, а попугай перелетел уже на хоругвь и кричал им всем:
— Товарищи, в очередь! Товарищи, в очередь!
Кому-то удалось ударить попку толстой свечой, он упал на амвон прямо под ноги испуганному батюшке. Тот вскрикнул, отшвырнул его, и попугай снова вспрыгнул на царские врата, сердито крикнув оттуда:
— Попка, дуррак!
Псаломщик, рассвирепев, взял самую толстую книгу, размахнулся и запустил ею в попугая. Попугай расправил крылья, звонко высвистнул и во всю мочь заорал:
— Карраул, грабят!
Взметнулся, влетел в алтарь и скрылся.
Долго там искали его, но найти не moi ли. А кто-то, указав на открытую форточку в окне, догадался:
— Вон куда трахнул.
— Кто же это подделал?
— Небось, кузнечонка сын.
— Голову ему вместе с попугаем сорвать. Всю Пасху испортил.
— Безотцовщина. И сам кузнец такой. Ни бога, ни чорта не признает.
А батюшка завел глаза под лоб, тяжело вздохнул и выговорил:
— Отчаянный народ пошел, отчаянных птиц завел.
ИЗ-ЗА УГЛА.
Ни матери, ни отца нет у Ваньки. Мать умерла в голодный год от тифа, а отец на войне с Колчаком убит. Правда,есть еще у Ваньки тетка Настасья, да толку в ней нет никакого. Одно горе, а не тетка. Все к богачам она жмется, а у самой нет ни избы, ни скотины. Землю свою отдает за хлеб Кузьме Минеичу. А Минеич богач — ему что? И лошадей у него много, и чесалка, и дранка, конная молотилка. Хорошо
живется богачу Минеичу, а все жалуется.
— Налогами замучили. Советска власть в разор разорить меня хочет.
Любит Минеич пожаловаться, да только не верят ему.
— Аль плохо тебе?
— Вот как плохо, л>чше умереть.
— Ну, умри.
— Смерть придет, так, пожалуй, и умрешь.
Тетка Настасья и определила Ваньку к Минеичу.
— Он тебя к делу пристроит.
И пристроил Минеич Ваньку, — минутки посидеть не даст. А работы у Минеича хватит, он дело найдет. И не один Ванька у него—Машка еще, после дяди Софрона дочь. Машку на чесалку угонит машину вертеть, а то на дранку. Там бабы пошлют ее картошки «к завтрему» нарыть, а по ночам то того ребенка покачать, то другому соску сделать да в рот пихнуть.
Людям по воскресеньям отдых, а Ваньке с Машкой времени нет. Жаловался кое-когда Ванька тетке Настасье:
— Тяжело мне, тетенька.
— А ты терпи. Думаешь, сироте где-нибудь легко?
— Я бы лучше телят пасти пошел.
— Эка невидаль, пастух. А ты живи, держись. Хозяин старанье твое увидит, до дела доведет...
Лучше и не говорить об этом с теткой. Еще тяжелее после этого становится. Больно уж за Минеича она держится. А ведь и сама летом ворочает на него в полях и на гумне.
— Он благодетель наш, Ваня.
«Ну и благодетель,—думал Ванька.— Сколько ни работай, все ничего не платит...»
И правда, не любит Минеич платить за работу. Да с какой стати ему и платить, когда он сирот приютил?
— Им за меня богу молиться надо. Угол даю. Куда пойдут, к комсомолам, што ль?
А комсомольцы сколько раз говорили ему:
— Эй, дядя Кузьма, без договора держишь подростков.
Но не робеет Минеич. Он и обругать может.
— А кто вы такие?
— Экономправы! — ответит Гришка.
— Никаких правов ваших знать не хочу.
— Ой, ответишь по суду, Минеич.
— Пошли вы!
Выругается, плюнет и уйдет. Вот он какой мужик-то.
II
Ванька нет-нет, да украдкой и забежит кое-когда в избу-читальню к комсомолу.
— Больно гоже у них, — говорит он после Машке.
В комсомоле совет ему дают, как с хозяином договор заключить, сколько работы надо от него и сколько отдыха. Хорошие все советы, да страшно подумать о них, не только-что говорить хозяину.
— Боюсь я, ребята.
— Чего бояться тебе? Вот чудной.
— Прогонит, куда пойду?
— Врет, не прогонит. Ты ему нужен. А прогонит, мы в суд на него. Там-то с него за все сдерут.
Видит Ванька, правду ему говорят, а сказать эту правду хозяину — мороз по коже дерет. И досадно ему от своей робости, и сделать ничего не может. Видит он, что сколько ни работает на чужого дядю, а сам все разумши да раздемши ходит. У людей как-никак и сапоги и рубашки к празднику, а у него с Машкой нет ничего.
С Машкой говорить об этом начнет, а та и ручонками сухенькими всплеснет.
— Нешто можно? Он как даст нам по затылку, мы сразу и умрем с тобой.
Тетке Настасье и подавно говорить нечего.
— Думать не смей!!
Чудно сказать «думать». Да когда это Ваньке думать? Вряд работать поспевай только. Время-то установилось после дождей хорошее, самая молотьба пошла. Минеич машину конную пустил в ход, поденщиков нагнал. Себе-то он обмолотил уже, теперь людям за плату молотит. Ванька к барабану на полок снопы подает, серпом поясья режет. Трудная это работа, горячая. Ревет жадный барабан, то и знай забрасывай ему в ненасытную утробу. Пуще всего боится этой работы Ванька, уж лучше снопы возить, аль лошадей гонять по кругу.
И нередко думал Ванька, когда уж из сил выбьется.
— Да что за прорва такая? За что я ему, а? Эдак в одночасье и умереть от работы можно.
Ill
Однажды, накануне праздника мая к Ваньке забежал Гришка комсомолец.
— Завтра приходите оба с Машкой к избе-читальне.
— Это зачем?
— Мы всех батраков созываем. С нами пойдете по улицам, а вечером спектакль бесплатный и музыка.
— Нас дядя Кузьма не пустит.
— Плюньте вы на него, а сами к нам.
Он не смеет не пустить. Завтра праздник трудящихся.
Ушел Гришка, с гумна Минеич как раз.
— Кто это с тобой?
— Гришка.
— Чего он?
— Да так поговорил.
Минеич на небо поглядел, носом повел.
— Завтра, чем свет, пахать надо ехать.
Ванька замялся, несмело заявил:
— Ведь завтра никак праздник, дядя Кузьма.
— Какой^—вскинулся хозяин.
— Трудящихся,—чуть слышно произнес Ванька.
Минеич расхохотался, Ваньку по плечу похлопал.
— Никакого праздника нет. Это для лодырей праздник А у нас тогда будут симоны-гулимоны, когда работы никакой не будет.
И сердито куда-то кулаком погрозил.
— Это они все мутят. Не слушай их, а то плохо будет.
Ванька подумал:<'Да хуже-тоуж не будет».
IV
Утром, убравшись, Ванька задами и гумнами прямо к избе-читальне. Машка не пошла, только заплакала.
— Ну. ты как хошь!
А около избы-читальни уже народ собрался. Здесь увидел он и товарищей своих, которые работали у других богатеев, и пастухов, и даже кухарку попову.
— Батраки которые, сюда в ряды становитесь!
А председатель к ним к первым речь:
— Нынче мы празднуем первый май. Праздник это наш, он богачам не по з>бам. Не бойтесь, что вы пришли на свой праздник, никто вам вреда не сделает. А завтра мы вызовем тех хозяев, которые еще договоров не заключили с вами. Мы их взнуздаем...
После речей двинулись по селу с красными знаменами и песнями. Дошли до той улицы, где Минеич живет. У Ваньки так и забегало в глазах. Вот увидит, вот подойдет да за руку выдернет...
— Ты что, — скажет, — делаешь, подлец, а?
Видит Ванька, сидит Минеич у окна, выглядывает, но не замечает он Ваньки. Больно народу много, нешто заприметишь?
Машка за углом избы стоит, жадно кого-то глазами ищет. Подружек своих увидела, те машут ей, зовут:
— Пойдем!
Печально качает Машка головой, на хозяина оглядывается. А тот глаза прищурил, (XV губами что-то шепчет.
V Вот уже передние ряды с флагами около Ч Машки, вот хор с гармонистом прошел. S Хлещут буйные песни, плещутся по широким улицам, а Машка все стоит. Видит, .вон и Ванька с комсомольцами отшагивает, >кто-то рубаху ему дал, в руках флажок маленький. И не утерпела:
— Ва-ань!!
В голосе и горле слезы. Остановился Ванька, вздрогнул в крике:
— Ма-ашк!!
И не помнит, как шмыгнула из-за угла, как стремглав перескочила через бревна и с размаха врезалась в ряды, прямо к Ваньке.
А Минеич только и вскрикнул:
— Назад!!
Но не пойдет Машка назад, не пойдет назад и Ванька. Нет им назад никакого хода.
Вперед пошли с песнями, с красными • знаменами.
ПОЖАЛЕЛ.
У Мишкина отца ребят много, а земли в трех полях полторы десятины. К осени хлеб подошел весь, и ребята, которые постарше, в работники по соседним селам разошлись; Мишка с сестренкой по своему селу побираться пошли. Но нехватало им и этого, — коровенку последнюю продали. Грудной ребенок без молока остался. Как-то к зиме уже в доме совершенно вышел хлеб, а мать, видя, как умирает маленький ребенок, плакала; Мишкин отец пошел к батюшке просить взаймы хлеба.
В это время к батюшке как раз приехал соседний поп. Он женил сына и провожал молодых в назначенный им от архиерея приход.
По случаю этого в кухне, куда вошел Мишкин отец, стояла такая суматоха, что ничего нельзя было разобрать. Несколько баб взапуски бегали взад и вперед, остальные возились около печки.
Встревоженно к ним вкатила матушка и повела носом.
— Аль пироги пригорели?
— Нет, нет! — подскочив к ней, ответила кухарка. — Они только подрумянились чуть-чуть.
— Чем же это обдает?
— От горшка обдает, матушка. Плеснулось на под немножко.
— Ох, а я как испугалась. Ведь батюшка не любит, когда пирог хоть чуть пригорит. Ну, а теперь гости у нас, он и подавно может разволноваться.
Метнувшись к девке, матушка спросила;
— Вино на ледник поставить не забыла?
— Давно, матушка, поставила.
— Ну и слава богу.
От поджаристых пирогов, жирных щей, мяса и еще чего-то приторного у Мишкина отца закружилась голова.
— Матушка, — переминаясь с ноги на ногу, робко проговорил он.
Оттого ли, что голос Мишкина отца был такой замогильный, или оттого, что он все время стоял в тени и матушка его не заметила, она вздрогнула и нахмурилась.
— Ты что, Иван?
— Ребенок, матушка, умирает. Хлебца бы взаймы, аль под работу.
— Вот уж пришел ты не во-время. Гости у нас, а ты с хлебом. Да ведь сейчас и батюшке некогда.
— Христом-богом прошу, матушка. Мо-гуты больше нет. На вас вся и надежда.
— Ну, ладно, ладно. Пойду «самому» скажу.
Через некоторое время, слегка покачиваясь, вошел в кухню и «сам» поп.
— Здорово, Ваня. Ты ко мне?
— К вам, к вам, батюшка,—подбежал к нему Мишкин отец и с каким-то отчаяньем бросился целовать ему руку.
— Что хорошенького скажешь?
Батюшка был навеселе и от него слегка попахивало водкой.
— Семья у меня, батюшка, умирает. Ну, как есть, ни куска хлеба. К вашей милости я пришел. Выручите.
— Эх, Ваня, Ваня. Ведь ко мне каждый день ходят. На всех-то разве напасешься?
— Хоть под работу дай. Ведь мне в пору руки накладывать на себя.
— Что ты, бог с тобой! Зачем руки накладывать.
— Зарез пришел. Хоть сколько-нибудь дай.
Батюшка подумал-подумал, р> кой махнул.
— Ладно. Для такого дня выручу.
Кухарке крикнул:
— Отрежь ему ломоть хлеба да побольше, чтоб на всю семью хватило.
— Вот это спасибо, батюшка. Век буду бога молить.
— Так, так, Ваня. А завтра ты вот чего: утречком ко мне приди. Работенка тебе сходная найдется.
— Спасибо. Жалеешь ты нас, батюшка, горемычных.
— Эх, Ваня, кто же вас пожалеет, коль не я? Только вы не забывайте меня, а я вас всегда пожалею.
— С чем, батюшка, приходить-то к вам завтра?
— А ни с чем. Работенка пустяковая. Мучку из сусека в сусек пересыпать. Сле-глась она да покапало весной в нее из крыши. А пересыпать ее, она и проветрится.
На другой день Иван пошел вместе с Мишкой. Когда они отворили амбар, то невольно вскрикнули: огромнейший сусек до-верха был набит мукой, от которой шел прелый запах. Мука была синяя, горькая, но Мишка все-таки не утерпел и набил ею себе рот. Да и отец тоже бросил себе горсти две и, давясь, проглотил.
Батюшка в дверях стоял. Заметил это и ласково сказал:
— Я, Ваня, позвал тебя только пересыпать ее, мучку-то, а ты рот набиваешь, давишься ей. Вон и мальчишка твой. Нешто можно так?
— Мы голодны, батюшка.
— Оттого и говорю, вас жалеючи. Нешто можно такую муку есть?
— Ну, мы больше не будем.
Два дня пересыпали муку и насчитали триста с лишним мер.
Отец вылез из сусека измученный, обессиленный. Сказал батюшке:
— Муку мы всю пересыпали.
— Вот и хорошо, и спасибо. Не забывайте меня, а я вас никогда не забуду. Теперь идите домой и отдохните немножко.
— А как же, батюшка?
— Что?
Отец помялся и бух в ноги.
— Семья ведь умирает, с голода опухли. Баба валяется, ребятишки орут. Выручи, батюшка, пожалей нас. Дай хоть этой мучки пудик за работу.
Отшатнулся батюшка, испуганно глаза вытаращил:
— Што ты, што ты, Ваня? Разве можно прелую муку людям есть? Да от нее живот раздует. Прямо умереть можно. В ней страшный вред.
— Батюшка, мы съедим.
— Нет, нет, Ваня, бог с тобой, а я греха на душу не возьму. Вот по десять копеек на день дам, а малышу пятак и бог с вами, идите домой.
— Батюшка,—снова взмолился отец.— Да пожалей ты нас Христа ради. Да чего на эти деньги купишь? Нынче крупную скотину за бесценок отдают, диви что. Цены-то на хлеб какие, нешто не знаешь? Уж ты лучше мучки дай. Сколько дашь, столько дашь. Мы съедим, не побрезговам.
— Нет, нет, Ваня. Муку у меня пускай свиньи жрут. Даже корове и той вред от нее. Человек^' куда, человек сраз}' с нее умрет.
— Батюшка, не умре-ом.,.
— А бог-то? Бог-то, Ваня. Ведь я ответ за вас должен ему дать: Скажет: «Зачем гнилой мукой людей окормил?» А что я ему на это?.. Нет, нет! Бог с вами, я, жалеючи вас, говорю. Пущай свиньи лопают.
Так и вышли ни с чем.
Отец по дороге к дому шмыгал носом, морщил лицо.
— Плачет,—подумал Мишка.
Забежал вперед, спросил:
— Тять, ты что?
Но он махнул рукой и, не глядя на Мишку, кому-то прокричал:
— 11ожале-ел! Ах, штоб ему места нигде не было. Сжечь их всех, окаянных, со свету сжить.
На другой день Мишка с отцом отправились побираться в соседнее село.
ГОЛОВА САДОВАЯ.
Фонька — задира большой.
Уж лучше его не тронь. На нож полезет, а свою удаль выкажет.
В ихнем селе отряд пионеров организовали. Фоньку тоже звали, да он не пошел.
— Чего мне там делать у вас?
— Учиться.
— Я и так все знаю!
Каждый день отряд ходил на реку купаться, да и лагерь стоял недалеко между лесом и рекой.
Некоторые пионеры еще плавать не умели и их учил вожатый, как вернее грести руками.
Скоро все выучились плавать и отлично нырять.
Как-то один раз пришел и Фонька к ним на реку. Плавать он не умел, а нырял только около берега. Сядет в воду, а макушка наружи торчит. Прямо смех берет.
Кто-то его поддразнил.
— Вот поступил бы в отряд, давно и плавать и нырять бы выучился.
Фоньку за сердце ущипнуло
— Я и так умею.
— Где ты выучился?
— Эх, велика важность. Думаешь, только одни они умеют. Где им еще до меня. Я, голова садовая, что хошь, сразу выучусь.
— Ой ли?
— Вот тебе «ой ли». Я если захочу, сразу эту речонку саженями перемахну.
Пионеры стоят рядом, улыбаются Фонь-киной похвальбе.
— Чего зубы щерите? Ишь как их щетками начистили да мукой набелили.
— И ты бы чистил. Кто не велит?
— У меня и так хорошие они. Гляди!
Ощерил Фонька зубы, а они желтые, как огарки свеч.
— Вот так чистые!
Вожатый скомандовал:
— Ну, ребята плывем. От меня не отставать.
Бросились сразу все в воду. Фонька и еще несколько ребят на берегу сидеть остались. Глядели, как пионеры на ту сторону реки переплывают. Нырять там начали, далеко ныряли, до половины реки.
— Вот гляди, Фонька,— сказал ему парень.— Учись у них, голова твоя садовая.
— Тьфу,— плюнул Фонька. — Есть чему учиться, да я, если захочу...
— Ты все «захочешь». Я, я, а сам ни с места
— Это я-то?
— Ты-то.
— Эх, вы...
— Нырнешь?
— Нырну.
— Да ведь ты плавать-то не умеешь.
— Не умею, а нырну. А коль нырну глубоко, сразу и плавать выучусь. Вода выпрет.
— Нырнул один эдакий.
— А што?
— Да не вынырнул.
— О-о-о. Еще как... Не вынырну. Это я-то, голова садова? Да я с камнем „
Фонька быстро снял белье, схватил камень на берег)’, и не успели ребята глазом моргнуть, как он бултыхнулся в вод) и пошел в самую кручь к середине.
Долго он не показывался. Все пузырьки пускал, а потом далеко-далеко вынырнул.
— Вот я! — крикн)л он.
— Плыви теперь.
Но видят ребята, что Фонька, забулты-хавшись руками и ногами, снова скрылся в воде. Даже крикнуть не \спел. Потом как-то взметнулся, взмахнул над головой руками и диким голосом закричал:
— Ай-я-я-я-я-ай... Тону-у-у-у-у...
Петька Кострикин и Семка Граблин, пионеры, к нему саженями замахали. Подплыли на то место, где был Фонька, а его уже нет. На дно пошел. Они быстро нырнули вглубь, долго искали. Измучились, но все-таки нашли.
Схватили его за волосы, подняли голову над водой и айда скорее к берегу.
Тяжело им было тащить Фоньку, из сил выбивались, но доплыли.
А уже на берегу народ кучей собрался. М)жики, которые лошадей купали, тоже прибежали. Откуда-то дерюгу достали, положили на нее Фоньку, откачивать начали.
Долго качали посиневшего Фоньку. Из носа и изо рта вода хлынула. Потом Фонька
Начал в чувство приходить, когда совсем очнулся, домой его повели.
Ничего не говорил Фонька, только глазами испуганно на всех поглядывал.
Болел после этого Фонька долго. А когда выздоровел, к вожатому в отряд пришел.
— Ты что, Фоня?
— К вам.
— Выздоровел теперь?
— Выздоровел.
— Совсем, как следует?
— Да уж как видно.
— А к нам-то пришел, не записаться ли?
— А зачем бы я к вам пришел?
— Стало быть, надумал?
— Надумаешь, голова садовая. С одной удалью моей жизни надолго нехватит.
НЕ ХОЧУ МОЛЧАТЬ.
Никитка увидел в избе-читальне большую в черной раме картину и сказал:
— Это я знаю кто—Ленин.
С Никиткой первый раз в читальню пришел Яшка. А Яшка слыхал, как сосед их, дедушка Карпуха, завсегда ворчал на Ленина. И спросил Яшка Никитку:
— А что, разь Ленин-то плохим мужиком был?
— Да ведь кому как,—ответил Никитка.
— Ну, вон Карпуха, наш шабер, все ворчит на Ленина.
Никитка рассмеялся и хлопнул Яшку по плечу.
— Эх, ты чудной какой! Нешто не понимаешь, каким богачом был Карпуха с семьей. Они ведь пять участков земли раньше имели, лес да весь луг у села отхватили. Небось, будешь ругать.
— А теперьча?—спросил Яшка.
— А теперь у всех поровну, по едокам.
— как же это вышло?
— Фу ты, как еще! Дгт этот самый Ленин-то увидел, как богачи притесняли бедняков, собрал около себя много людей фабричных да бедняков-крестьян и взбулгачил. Взбулгачил всех и говорит: «Будет, товарищи! Отбирай землю у богачей, дели поровну. Всем надо получше жить». Вот он как.
Задумался Яшка, на Ленина немножко поглядел. Подумал про себя и сказал:
— А сильный человек, должно быть. Гляди-ка, грудь-то широкая какая и голова большая.
— Да, голова не маленькая, — ответил Никитка.
— Где бы мне такую карточку, аль хоть поменьше, достать?
— Это пойдем у комсомольцев спросим. У них завсегда должно быть.
Как раз в читальню вошел Васька-комсомолец, секретарь. Ребята к нему.
— Вот Яшке Ленина портрет хочется! — сказал Никитка.
— А зачем он ему?—спросил Васька.
Яшка даже обиделся.
— А ты знай давай! Я теперь все знаю. Ты думаешь, я не знаю, кто Ленин был? Еще бы. Все могу рассказать про него.
— Дать-то я дам, но у тебя кто-нибудь утащит и затеряет.
Тут Яшку в досаду бросило окончательно. Это у него да вдруг стащат?!
— Ничего ты не знаешь! Я рамку сделаю к нему и под стекло.
— Ну, пойдем!
В «союзе» Васька дал Яшке портрет Ленина.
Когда Яшка прибежал домой, то портрет показал отцу.
— Тятя, угадай, кто это по-твоему?
— По-моему, это Ленин. Ты где взял?
— В «союзе» мне дали.
— Рамку теперь мастери для него.
Живо Яшка нашел доску, распилил, обстрогал, вырезал углы, и рамка готова.
Кто в избу приходил, он всем показывал.
— Вот он, этот Ленин-то!
— А тебе что?
— А он у Карпухи землю отбил и роздал беднякам.
— Ты бы молчал...
— Молча-а-ал?! Да я, когда подрасту, сам Лениным буду. Молчал... Не хочу я молчать!!
3 Озорная птица.
33
Б Ы К.
В стаде ходил здоровущий бык.
Все боялись, когда он шел вечером и ревел.
Прятались от него в избы, мазанки и куда только попало.
А он, могучий и плотный, с крепко всаженными в лоб рогами, подходил к мазанкам, терся о них боком и бил лбом.
Один раз вечером Санька играла на лужайке с маленьким Петькой. Стадо уже прогнали, и все думали, что бык ушел.
Вдруг из-за угла большого амбара раздался страшный рев. Весь в пепле и пыли показался бык.
Народ метнулся кто куда. Санька так испугалась, что даже сама едва-едва унесла ноги.
А бык уже около Петьки. Нюхает его, ходит кругом. Петька орет что есть мочи.
Народ в ужасе глядит, а мать ломает руки и порывается схватить ребенка. Ее не пускают.
— Бросай камнями в него... Бросай!
— Мальчонка-то убьешь.
— Ах ты, грех какой!
мочи:
— Пш-ше-ол, дья-аво-ол!!
Бык отодвинулся, поднял морду, ногами копать начал. Народ кричит отцу:
— Ребенка-то, Павел, возьми, ребенка...
Убьет.
Дядя Павел хотел было схватить ребенка, но бык уже наступал. Тогда дядя Павел
подался от него в сторону, уставил вилы, но бык упорно, с налившимися глазами, двигался к нему.
— Беги, беги!—крикнули отцу.
— Мальчонку задавит!!
Тут кстати подоспели Яшка с Васькой. Схватили Петьку, оттащили.
А дядя Павел все пятился, все шел от быка задом. Вдруг бык вильнул хвостом и дал сильный скачок к нему. Сразу свалил его с ног и прижал к земле.
Раздался отчаянный крик.
— Помоги-те-е!!!
На крик подбежало несколько мужиков с кольями, начали лупцовать быка по бокам, по спине, но ничего не помогало. Бык переворачивал с боку на бок дядю Павла и все ухитрялся пырнуть его раскосыми рогами.
Дело кончилось бы плохо, если бы не Яшка, приказчик из кооператива. С огромным красным лоскутом выбежал он из кооператива и начал махать перед мордой быка.
Бык замахал хвостом, налил глаза кровью и стремительно двинулся на Яшку, но Яшка быстро отскочил в сторону.
Бык погнался за ним. Яшка далеко махнул красным полотном в бок и, воспользовавшись тем, что бык бросился немного в
сторону, моментально сам забрался на крышу мазанки.
Помотав головой, бык отошел и начал разворачивать угол дьяконова амбара.
Кто-то крикнул:
— Теперь валяй!
Бледного и испуганного насмерть, с царапиной на боку, дядю Павла повели в избу.
ВЕТЛЫ.
Ночь.
Крепко спят люди, уставшие днем за полевой работой.
а В небе из черных туч изредка месяц кособокий покажется и вновь скроется Lb лохмы растрепанные.
Молчаливо и жутко в такие ночи на । улицах.
vj] Ни песен, ни гармошки залихватской не слышно. Лишь собака чья-нибудь шаль-
I ная забрешет, да петух, хлопнув крыльями, заорет. Только злобный ветер один неуемен. Высвистывает он по застрехам, в ветлах ревет без умолка, макушки их могучие в стороны раскачивает.
Высоки и пушисты ветлы у Володькиной избы. В два ряда идут они по бокам, в один ряд перед избой, будто палисадником оцепляя. Отец Володькин, когда парнем еще был, насажал их, да с тех пор и пошли они в рост.
Любил лазить на эти ветлы сам Володька. Залезет туда и поглядывает вниз, словно коршун на село.
Сколько раз отец собирался продать их, да Володька уперся, не дал.
— Чего в них толку? Деньги дадут ведь.
— Денег надолго нехватит, а ветлы -завсегда.
Перфилка, друг Володьки закадычный, рядом живет. Вдвоем иногда заберутся на ветлы, один на ту, что около угла, другой, что у сарая, и ну в грачей играть, перекар-киваться.
Не раз говорил Володька товарищу своему:
— А вы что не насадите ветел себе?
— Отец не хочет.
— Ты сам.
— Больно возиться с ними долго.
— Ничего не долго, нарублю тебе сучков и рассаживай.
— Тятя ругается.
— А чего ему до этого?
— Говорит, всю тропу на гумно загородят. Ходить негде будет.
— Плохой твой отец.
Приходил Перфилка домой, с отцом ругался. А как с отцом ругаться? Знамо, тот живо кнут со стены. Хорошо—у Перфилки
ноги быстрые, а отец бегать разучился, не то досталось бы здорово.
Один раз, когда отец на базар уезжал, Перфилка колышков этих самых ветловых навтыкал было, да вернулся отец—колышки долой, а Перфилке подзатыльник.
— Вот глядите, какой у меня отец,— говорил Перфилка ребятам на улице.—У него сердце болит, ежели он мне по затылку не звизданет хоть раз в неделю.
— Счастье тебе такое, — отвечали ребята.
— Вам бы это счастье...
Все чернее и мрачнее ползли тучи по небу, сильнее ветер. Не спит лишь сторож один ночной, нет-нет, да и застучит колотушкой где-то на окраине.
Но что это?.. Будто месяц новый из-за крыши избы Перфилкина соседа выглянул. Выглянул месяц и скрылся. Да не надолго скрылся: змейкой метнулся он по крыше, изогнулся и целым снопом вверх загудел.
Что есть мочи забила колотушка сторожа, крик его отчаянный на всю улицу раздался:
— Пож-а-ар!!!
Захлопали ставни окон, загремели двери изб и мазанок, кто где спал. В чем были, на улицу выбежали, и огласились улицы
криком тревожным, оглушительным. Кто-то до церкви добежал, веревку колокола дергал, и охал испуганно набат волнующий:
«Бом, бо-ом, бом!»
Часто, гулко и жутко.
Озарилось село ярким заревом, крыша, огнем охваченная, метала в небо языки кровавые.
С криком и плачем метнулись из сеней соседи Перфилкины. А отец Перфилки, как увидел в окнах свет не лунный, а пугающий, заорал во всю избу:
— Гор-им, встава-ай!!
Испуганно шарахнулся сам Перфилка из сеней во двор, бросился ворота отворять, скотину на огород выталкивать. Упиралась скотина ошеломленная, но Перфилка прилив силы в себе невероятный от испуга почувствовал и овец через плетень в огород перекидывал.
Клокотал и ревел неуемный огонь по сухой крыше, летели искры на Перфилкину избу. Видел Перфилкин отец, не остаться их избенке, видел это и Перфилка.
Крепко сжалось сердце, слезы хлынули из глаз.
— Таскай, сынок, таскай все под ряд!
— Сундук берите!
— Коробью.
А колокол все стонал и бухал.
— Насос, насос давайте! — кричали му жики.
Да разве скоро дождешься пожарников? И насос без дровней, и колеса где-то валяются разбитые, а кишка хлещет во сто дыр.
Приехали пожарники, а огонь уже на Перфилкиной избе играл.
Стоял Перфилка в сенях как полоумный, вверх, в крышу глаза немигающие уставил, а оттуда на него искры сыпались, дымом глушило.
— Батюшки, кормильцы, где ребенок-то?—орала Перфилкина мать.
— У тебя на руках!—крикнул ей кто-то.
На крыше Перфилкиной избы метались мужики с вилами, но скоро кубарем скатились вниз.
— Могуты от жарищи нет.
— Куда там, разь можно усидеть.
— Хоть бы дождь пошел. И тучка вот низко.
— Холостая она, тучка-то.
Выбежал Перфилка к мазанке, стал там столбом омертвевшим.
Кто-то из товарищей подошел к нему.
— Горите?
— Уйди!—крикнул Перфилка.
Пылает Перфилкина изба, факелом ревущим в небо упирается, искры по ветру мечет.
— Братцы, на соседей перекинет!
— Соседей отстаивать. Не давать дальше дорогу.
— На крышу лезьте.
Хлещет огонь с Перфилкиной избы, языками длинными к Володькиной ласкается, будто просит ее: «прими меня, я ласковый».
Искры сыпятся, «галки» летят, ветром пламя шибает, но не в крышу, а в огромные ветлы огонь ударяется. Стоят они, ветлы, красным полымем озаренные, стоят словно сторожа немые, великаны зеленые.
И уже обгорело их несколько, листья в трубки свернулись, свечами вспыхнули, но не пускают они жаркое пламя к Володькиной избе.
Сам Володька с ведром у Перфилкиной избы бегает, тушить огонь помогает. Но свечкой догорела Перфилкина избенка, догорела и рухнула. А Володькина осталась.
Ветлы отстояли ее. Только три в борьбе упорной свалились, погорели. А утихло все, прогорело, таскать добро все стали в избы. Только Перфилкину семейству некуда деваться. В мазанку пришлось пожитки снести.
Встретил после Володька Перфилку с отцом, сказал только одно слово:
— Ветлы-то?
Взглянул укорно Перфилка на отца своего, утер слезу и ничего не ответил Володьке, другу своему закадычному.
ВЕЧЕРОМ ТОГО ДНЯ.
Васька—большой выдумщик. Как уставит глаза в одну точку, глядь, чего-нибудь выдумал.
И сразу закипит у него работа. То мельницу водяную, то дранку смастерит.
И сейчас он только-что пришел из клуба, где готовились ребята к празднику. Кто-то там сказал:
— Плохо, электричества у нас нет, а то бы вечером из лампочек устроить на крыльце клуба «Ленина».
Да, Васька хорошо помнит, как прошлый год в соседнем селе, где электричество от мельницы провели, была такая надпись.
Вот и задумался.
А в клубе идет и кипит работа. Ищут Ваську, чтобы помочь, а его нет: он сидит в своей клети и выдумывает что-то.
— Да куда он пропал?
Дело шло уже к вечеру. В клубе все готово: и знамена, и флаги, и хор спевку делает.
Завтра праздник. Большой, самый главный. Октябрь. Нет Васьки. А Васька в отряде горнист.
— Ну, пусть!—сказал Федька.—Он, может, праздновать не хочет. Тоже, пионер...
Всю ночь Васька возился над чем-то.
Заперся в клети на крючок, взял ножик, большую доску, бревно гнилое из погреба выволок и что-то вырезывал из него.
Утром мать пошла в клеть, а Васька там так и уснул.
— Ты что тут пропал?
— Ничего.
— Иди, завтракай. У клуба народ собрался давно. За тобой вчера приходили, а тебя не было.
Живо Васька позавтракал, в клуб побежал.
Там Федька-комсомолец его выругал.
— Ты чего же прячешься? Люди работают, а ты лодыря корчишь. Во-он и гал-стух на бок сехал...
Васька не обиделся. Он только попросил:
— Дай мне двух человек и гвоздей.
— Зачем тебе?
— Доску одну прибить к крыльцу клуба.
— Какую доску?
— А это мое дело. После узнаешь.
— Выдумал чего-нибудь.
— Ну и выдумал. Мне ведь к вечеру.
— Ладно, возьмешь хоть пять. Сейчас некогда. Вишь, народ собрался.
Пришел председатель. Собрались все. Начались речи.
Потом пошли по порядкам с песнями, знаменами. Шел и Васька.
Пионеры впереди народа, а он с горном впереди отряда.
В соседнее село ходили.
До самого вечера праздновали.
Вечером Васька позвал трех пионеров и, пока еще не начался спектакль, доску
какую-то прибивать начали к крыльцу клуба.
Все глядят, а ничего не поймут.
Доска и доска, закрыта черной материей.
Когда же стемнело совсем, и в клубе струнный оркестр с гармоникой заиграл «Интернационал», Васька забрался на крыльцо и сразу сдернул черное покрывало..
Народ ахнул.
На доске, отливая сине-фиолетовым цветом, стояло яркое немигающее слово — «Ленин».
Долго ломали головы, как это вышло, из чего...
Но кто-то вдруг захохотал и крикнул:
— А ведь это он, голова, из гнилушек состряпал.
СОДЕРЖАНИЕ.
Стр.
Озорная птица ..... ....................... 3
Из-за угла . . . . •.....................10
Пожалел ....................................19
. Голова садовая............................ 26 .
Не хочу молчать.............................31
Бык..................•................. . 34
Ветлы .....................................38
"“Вечером того дня............................45
Цена 22 к.
Р