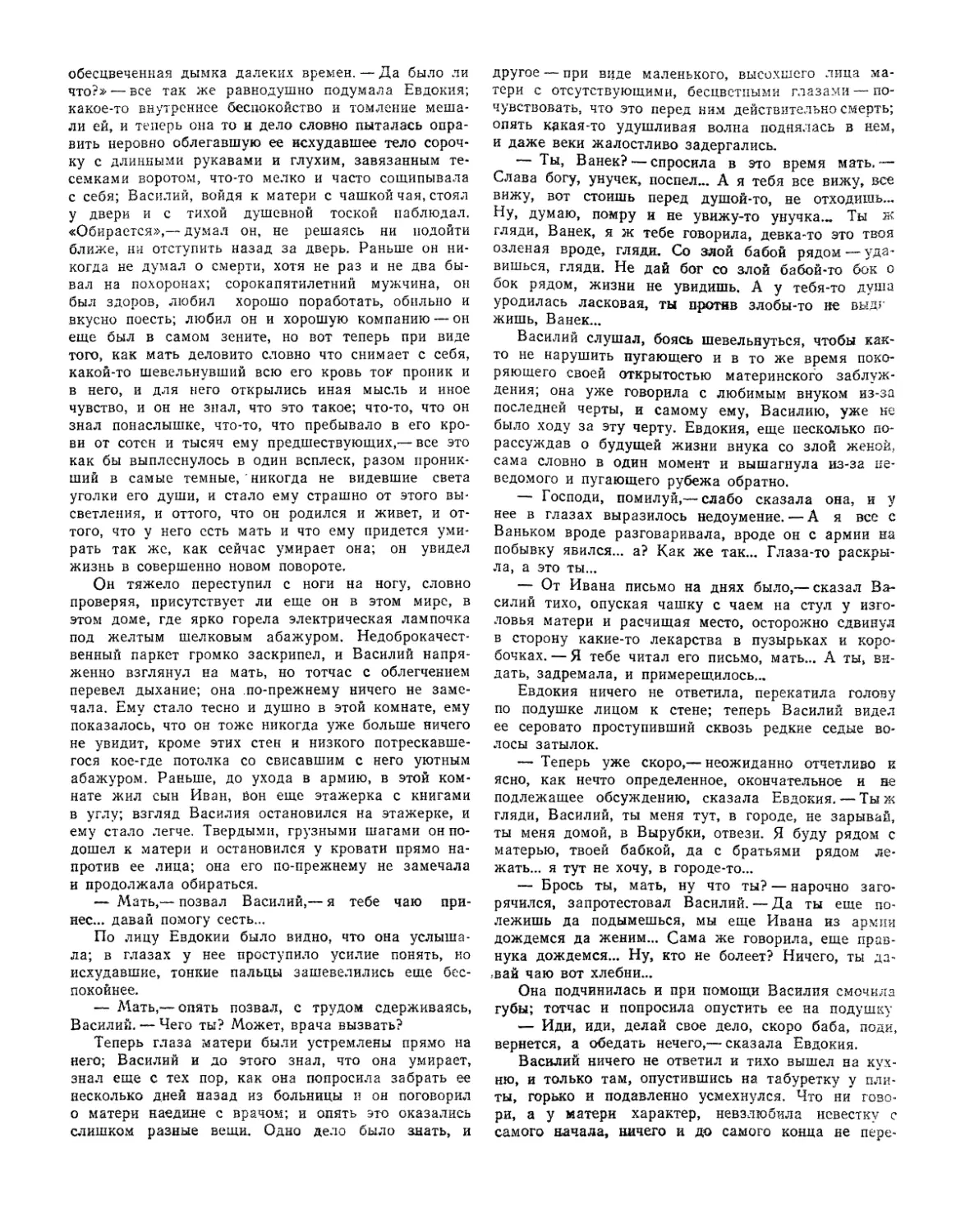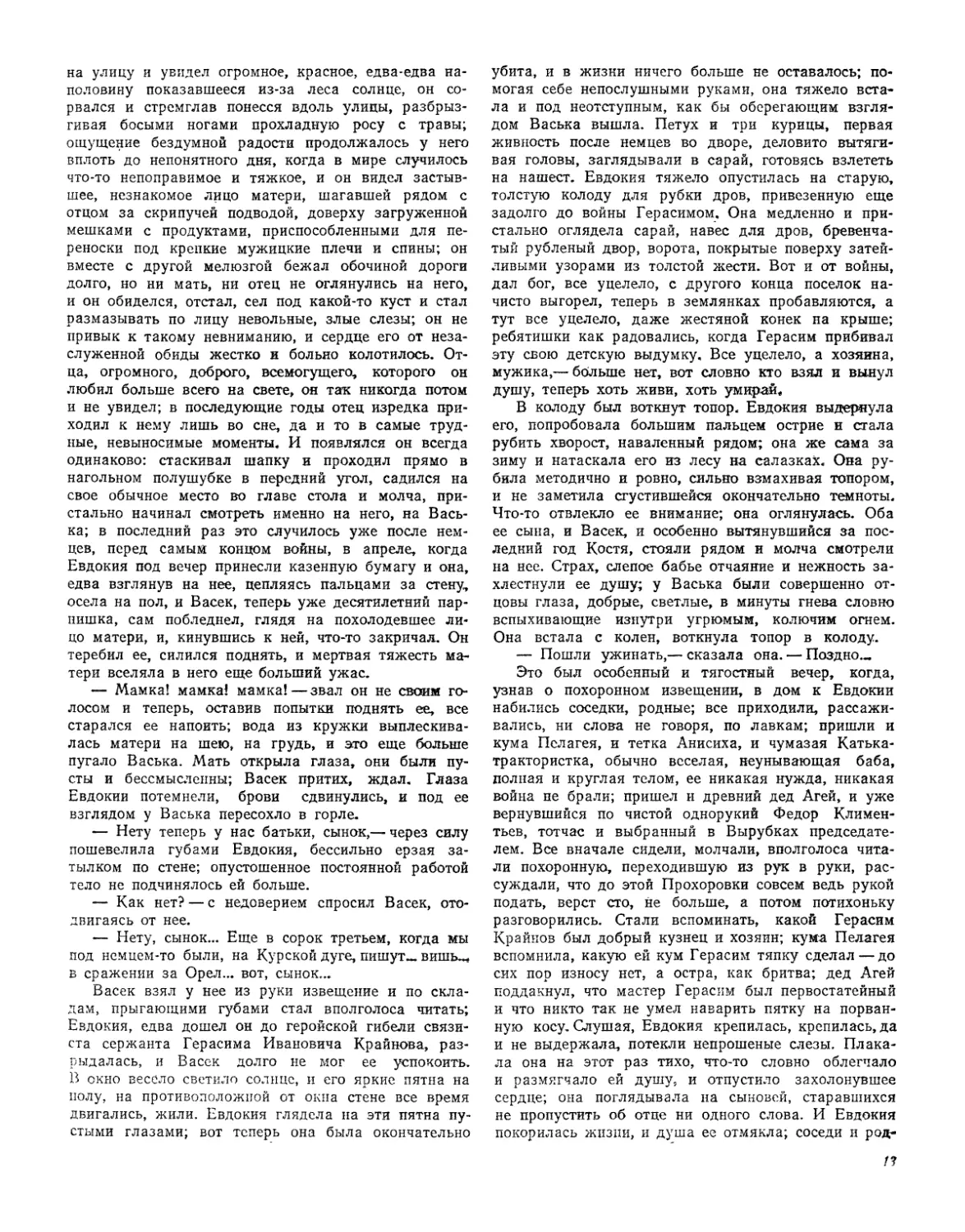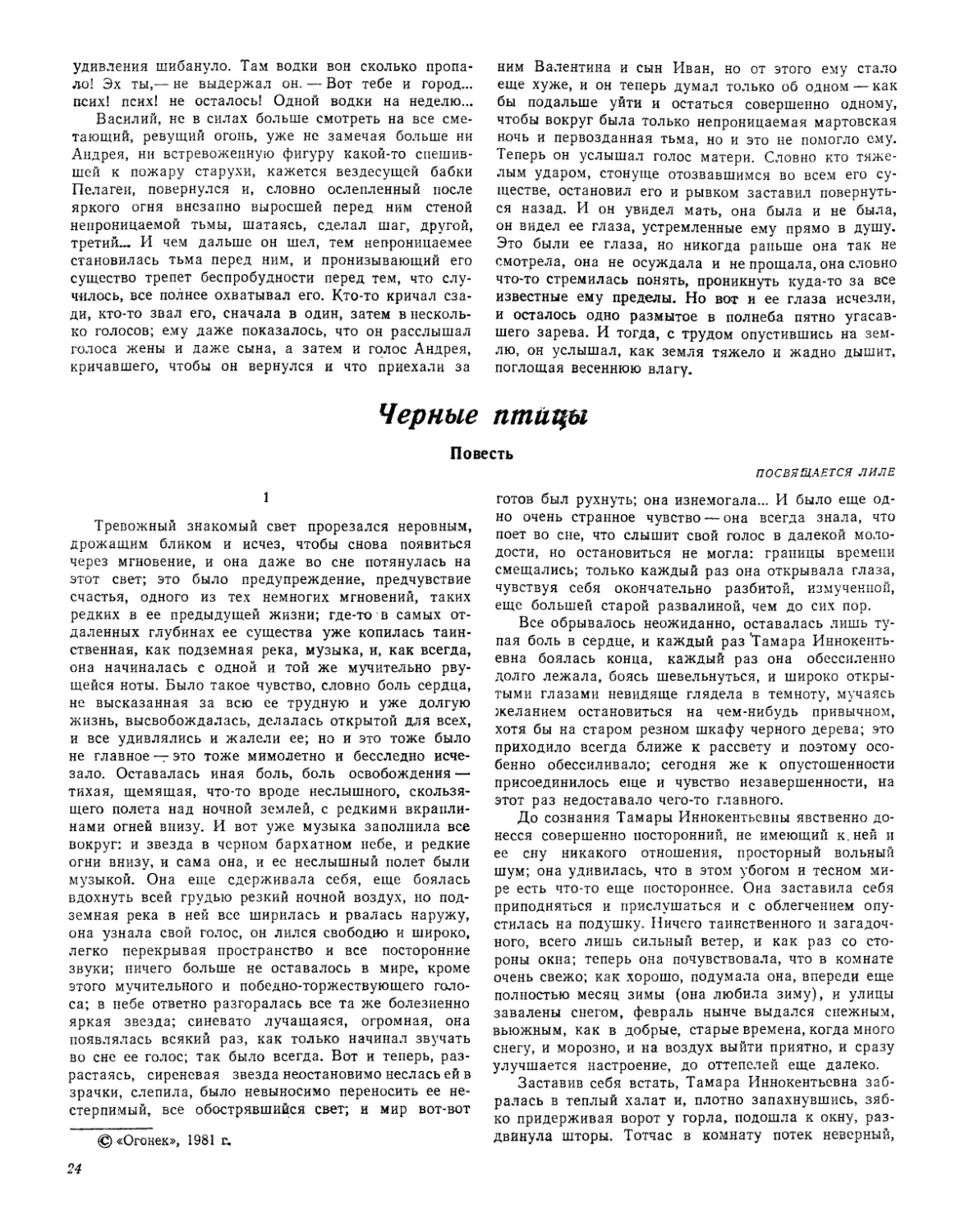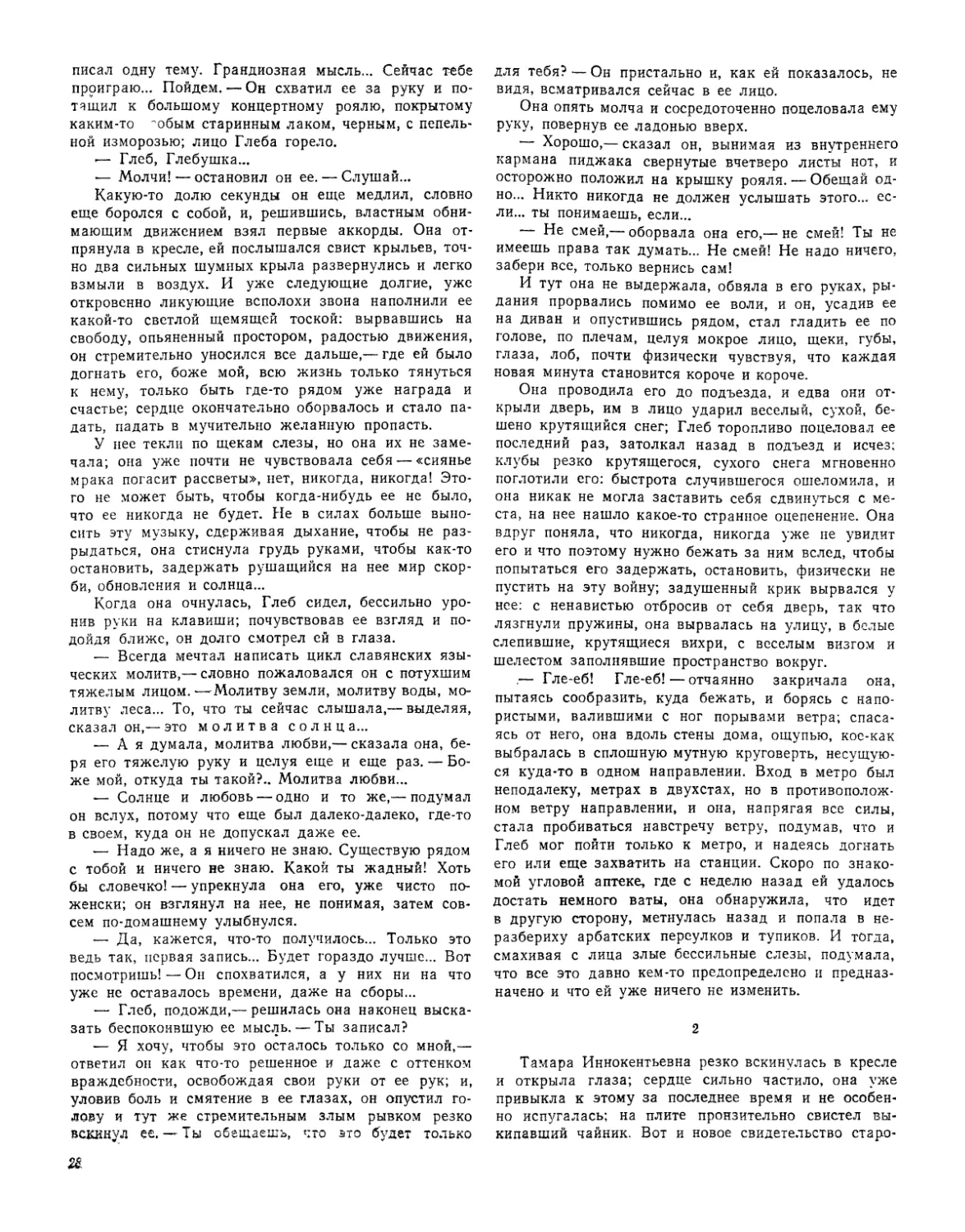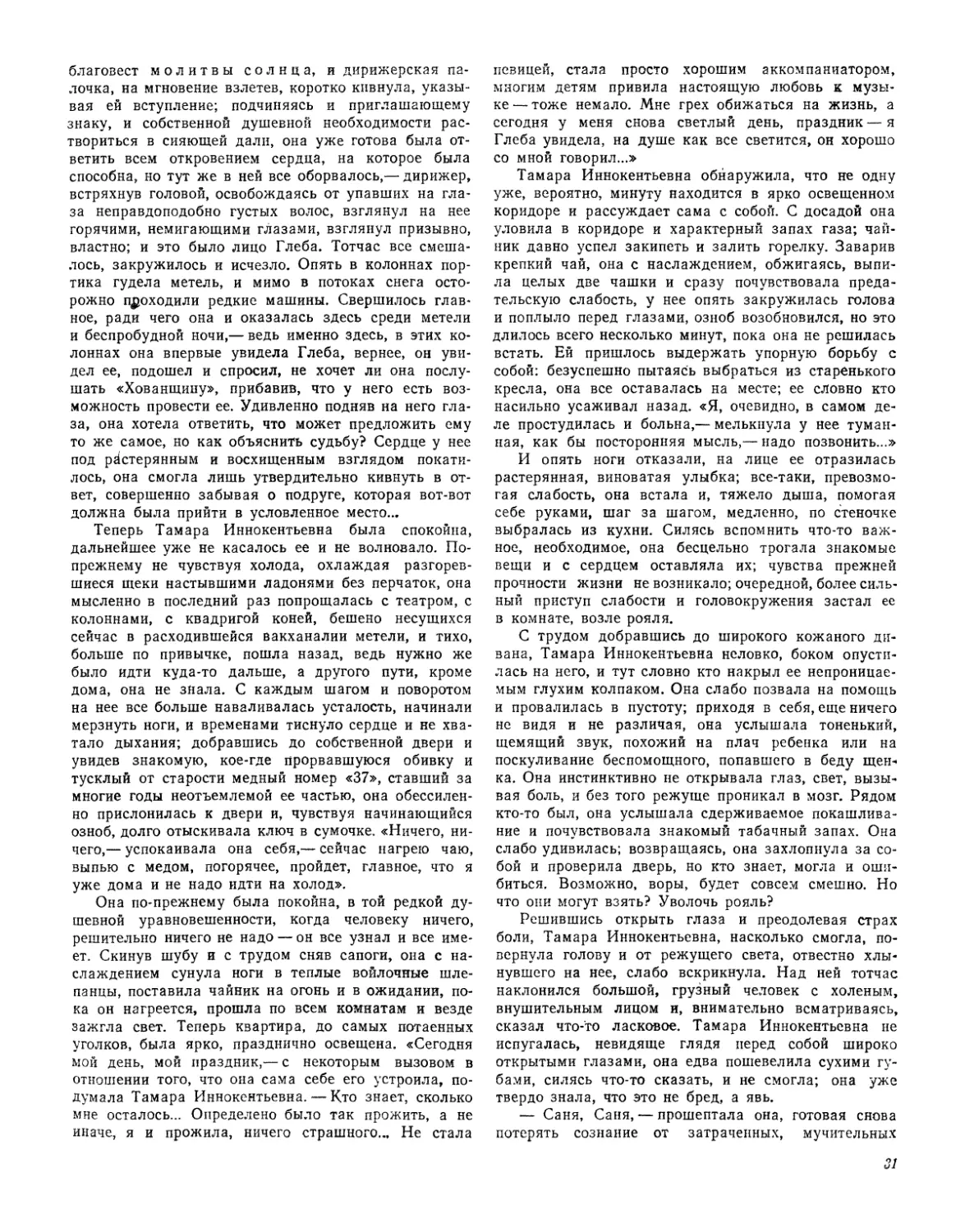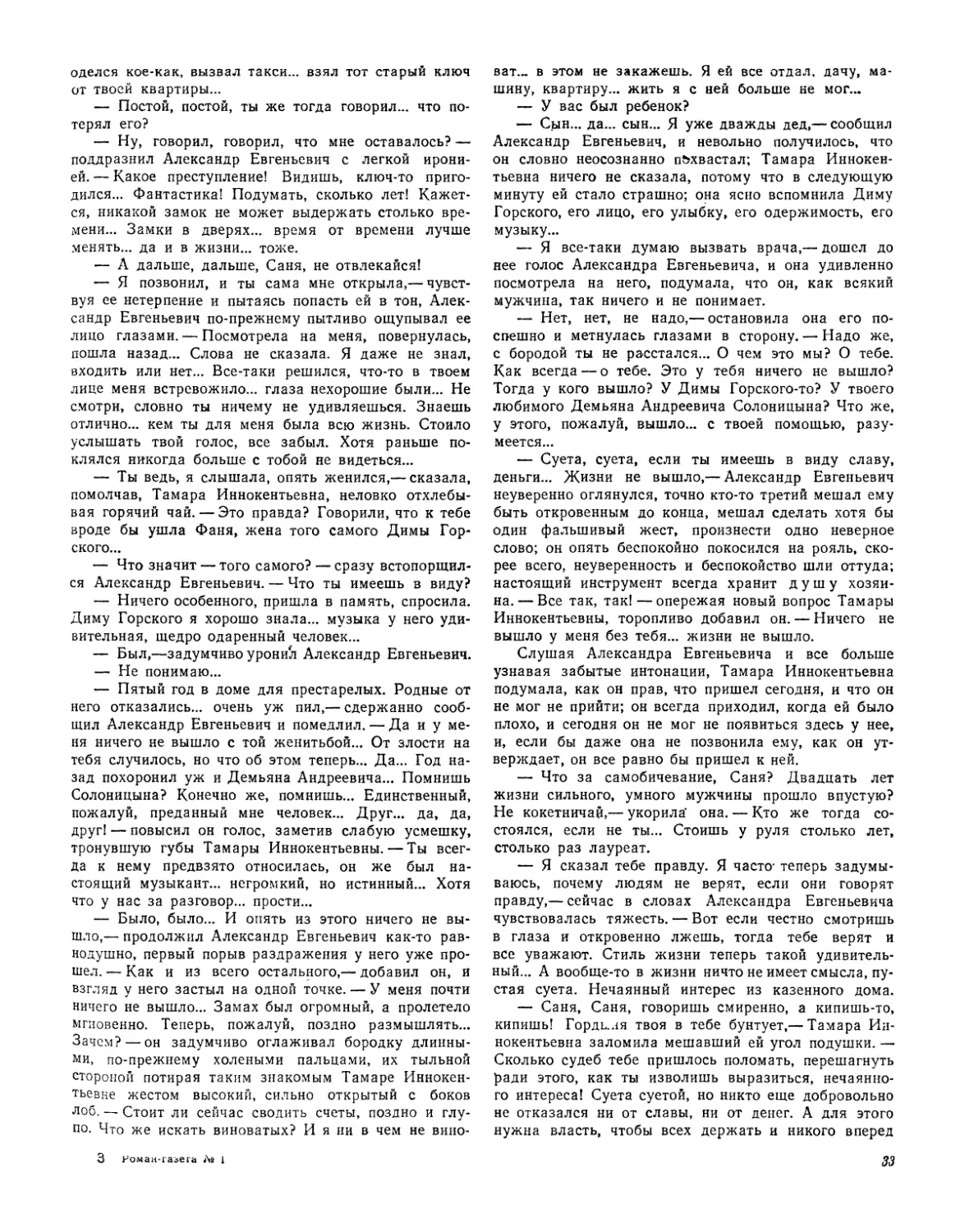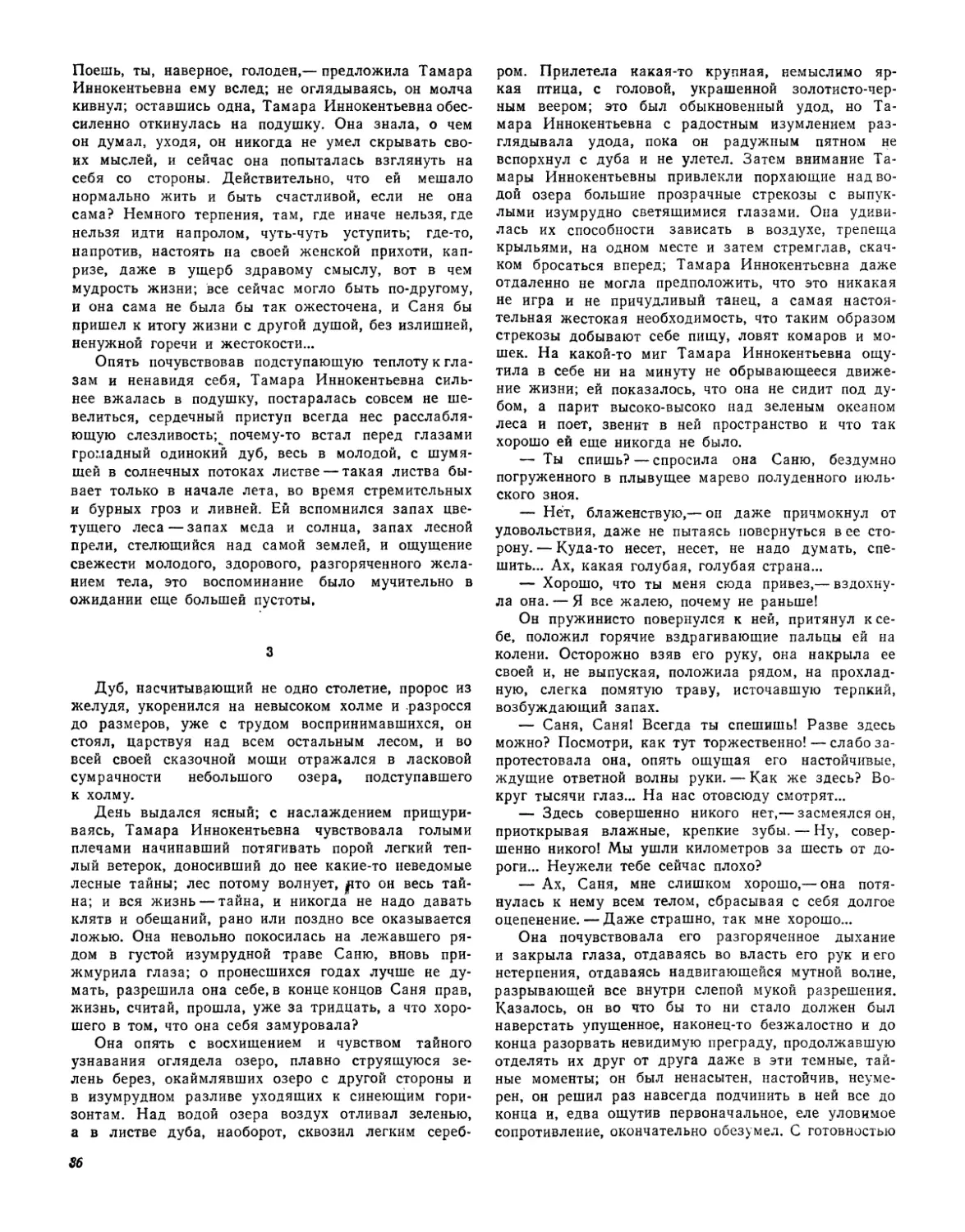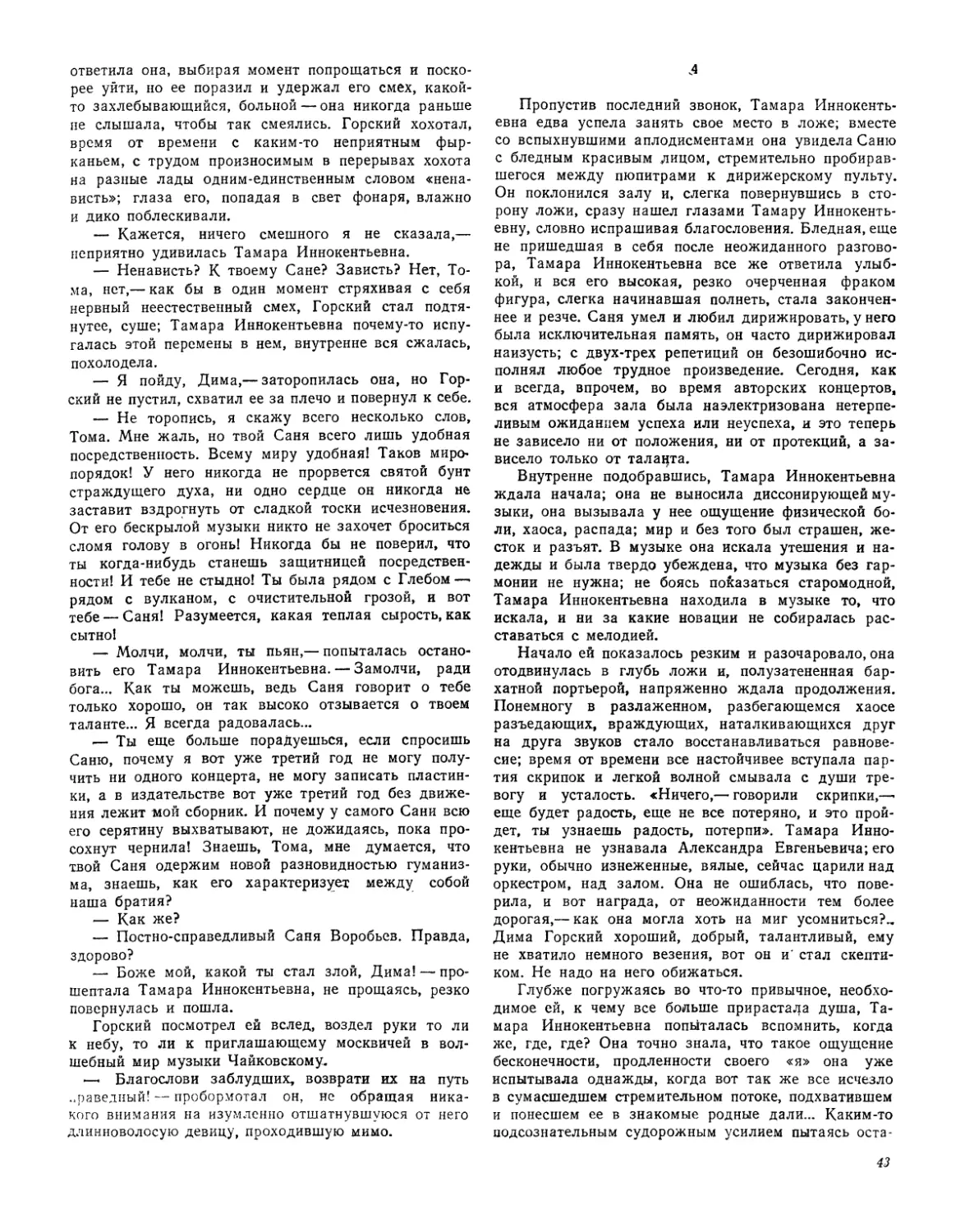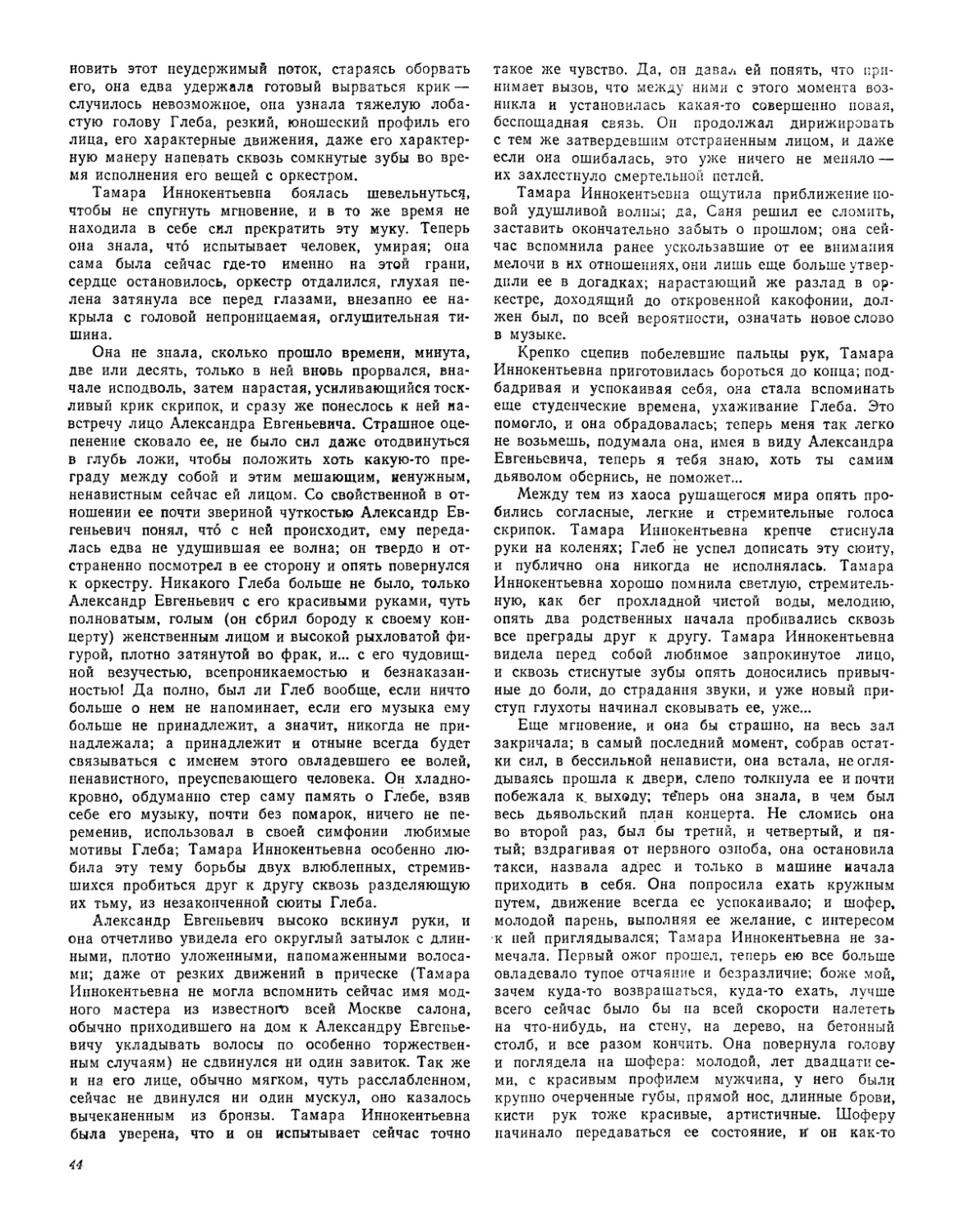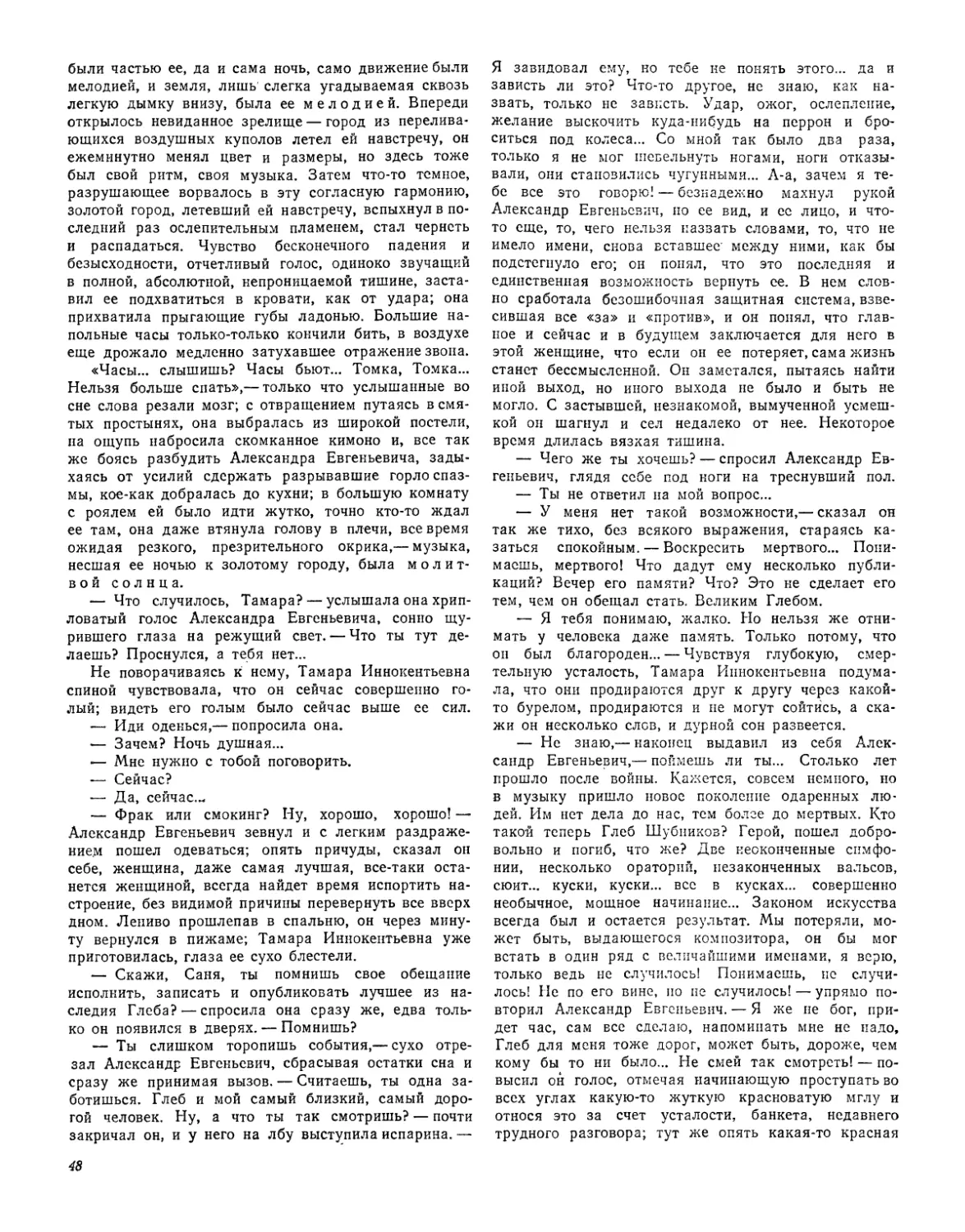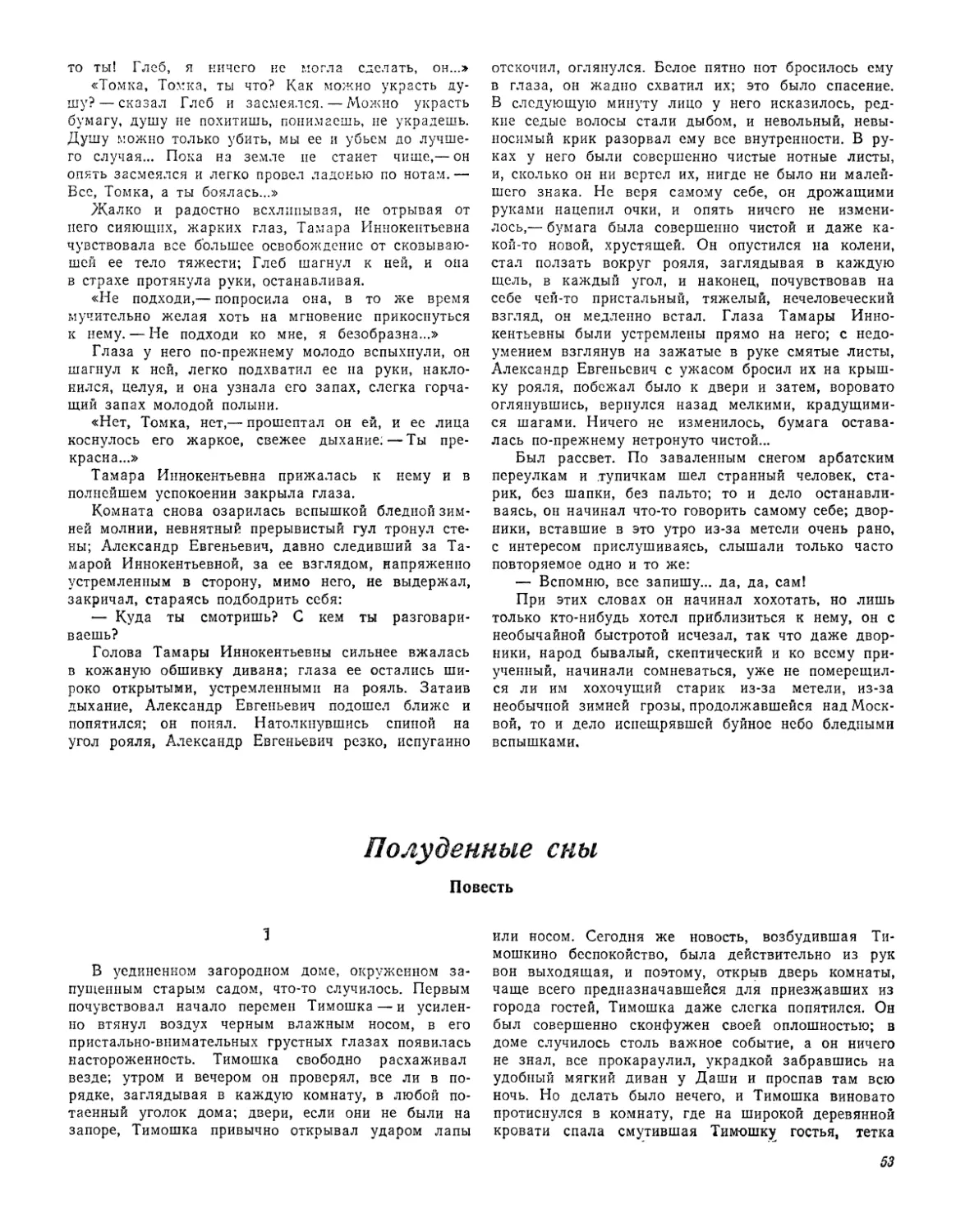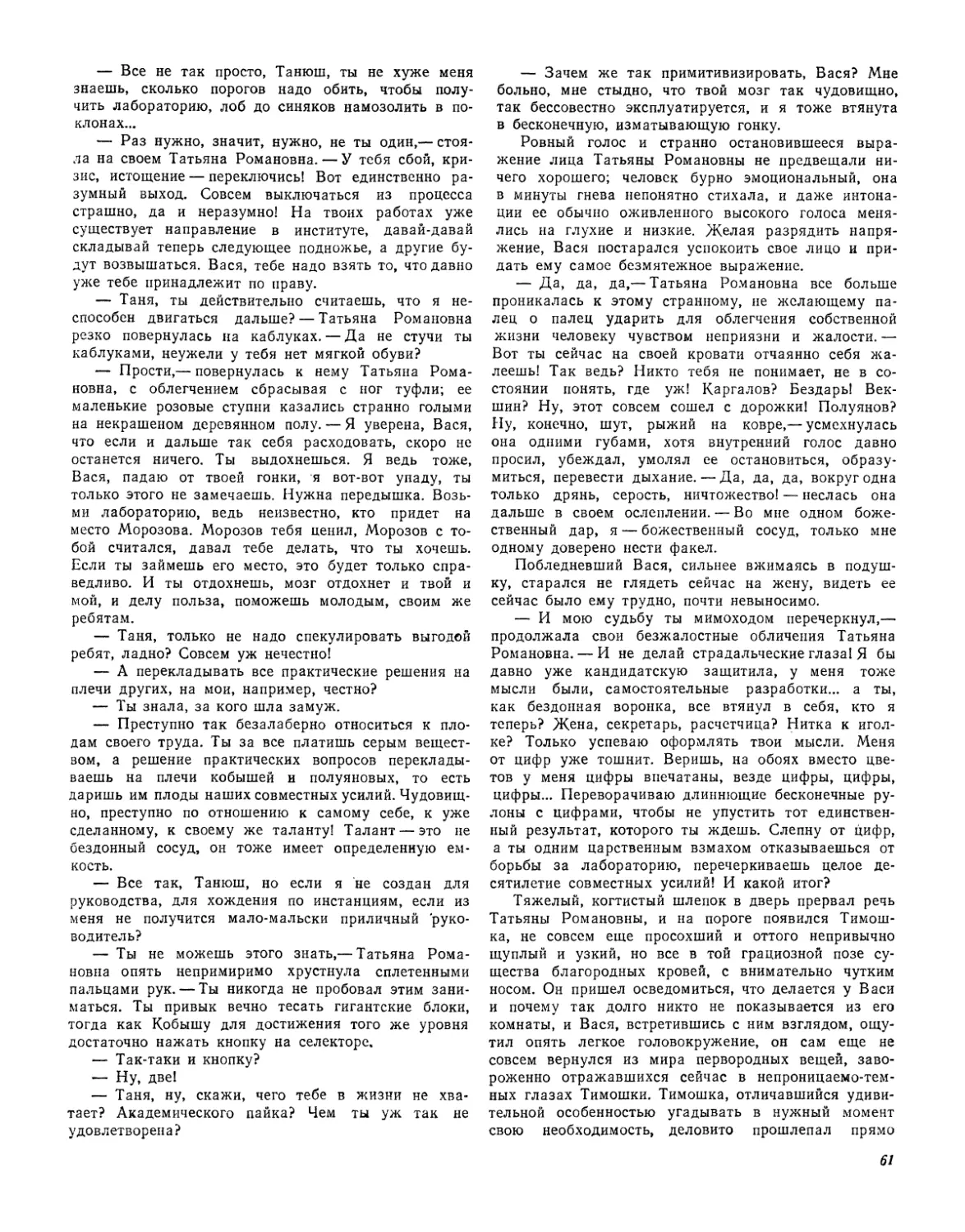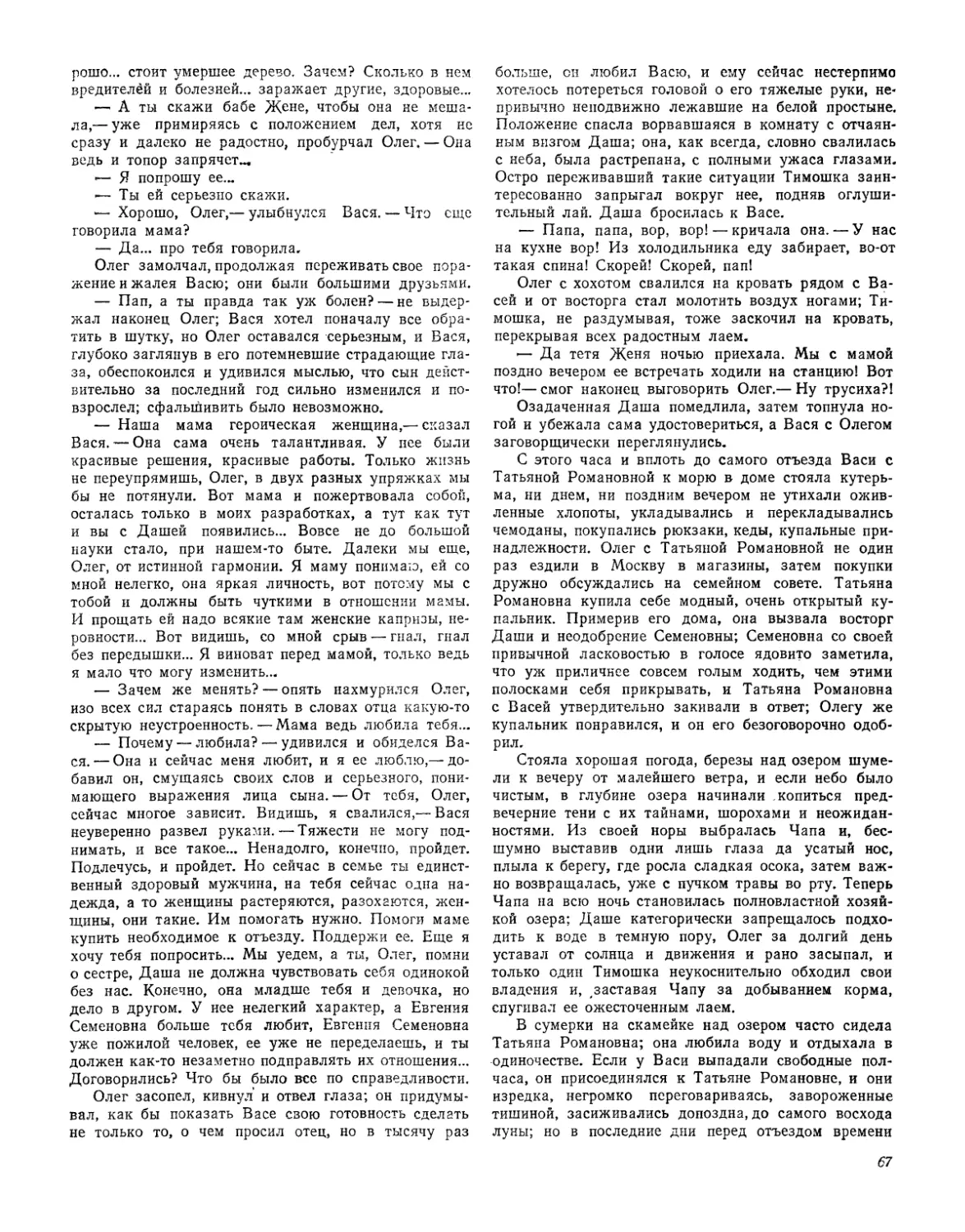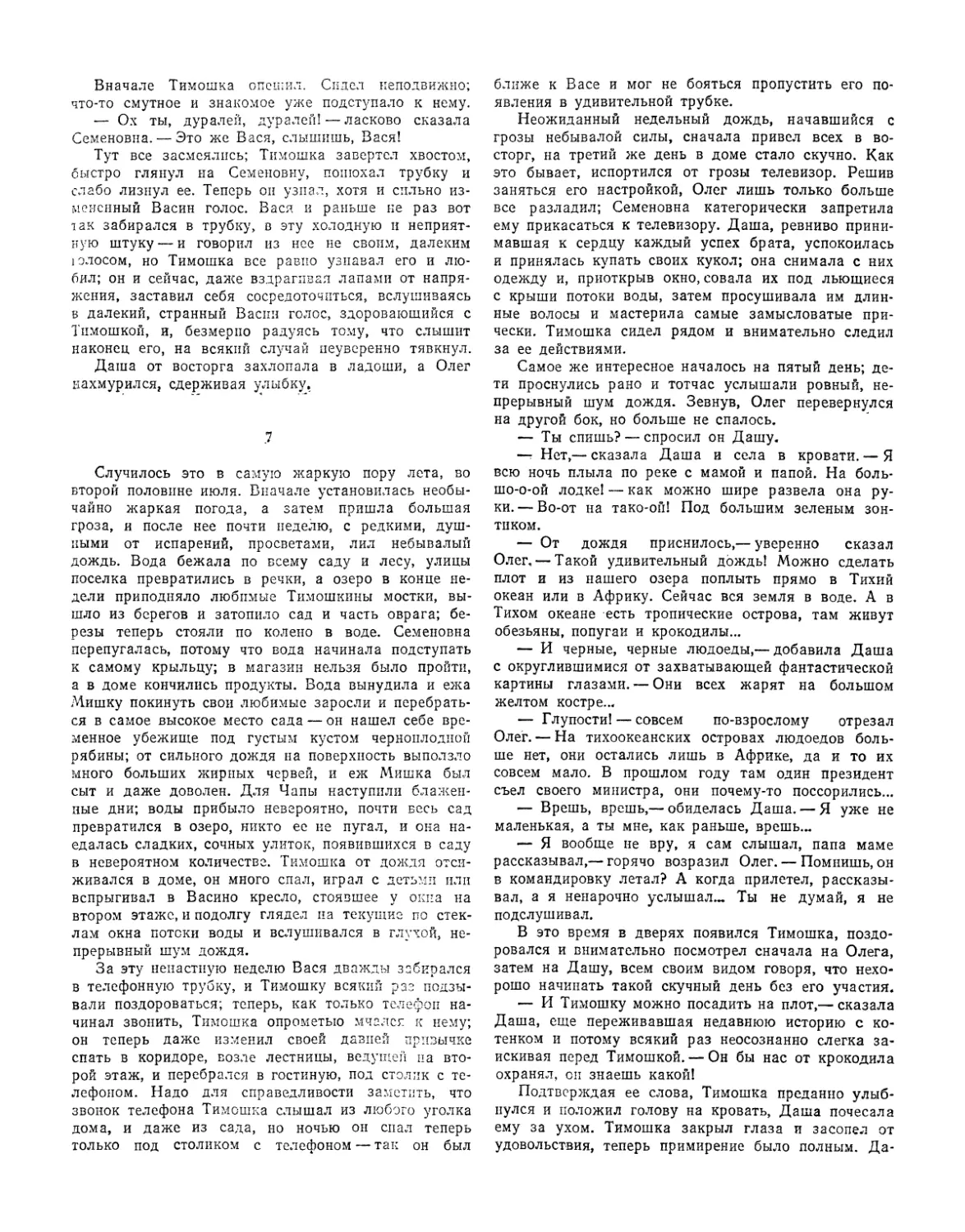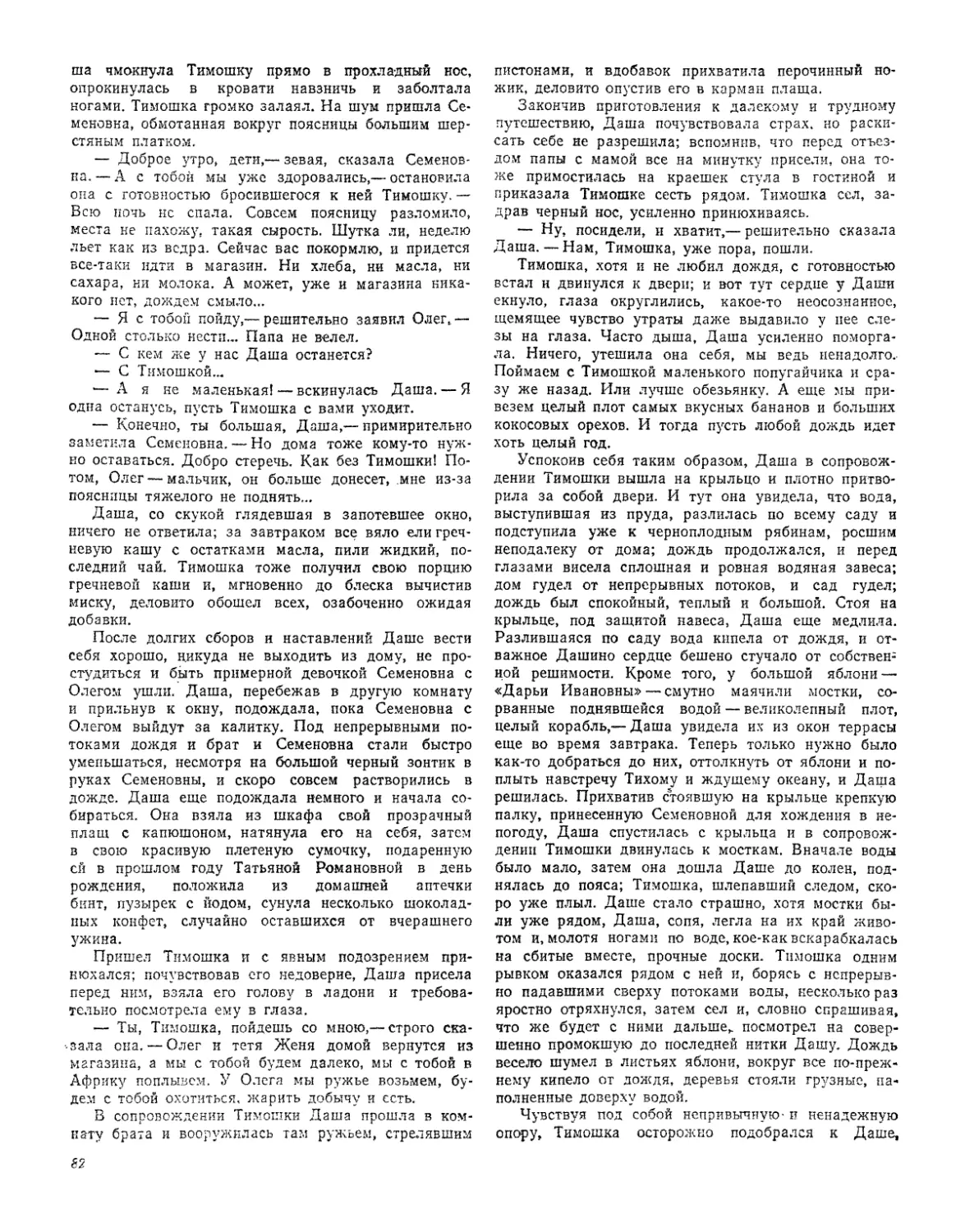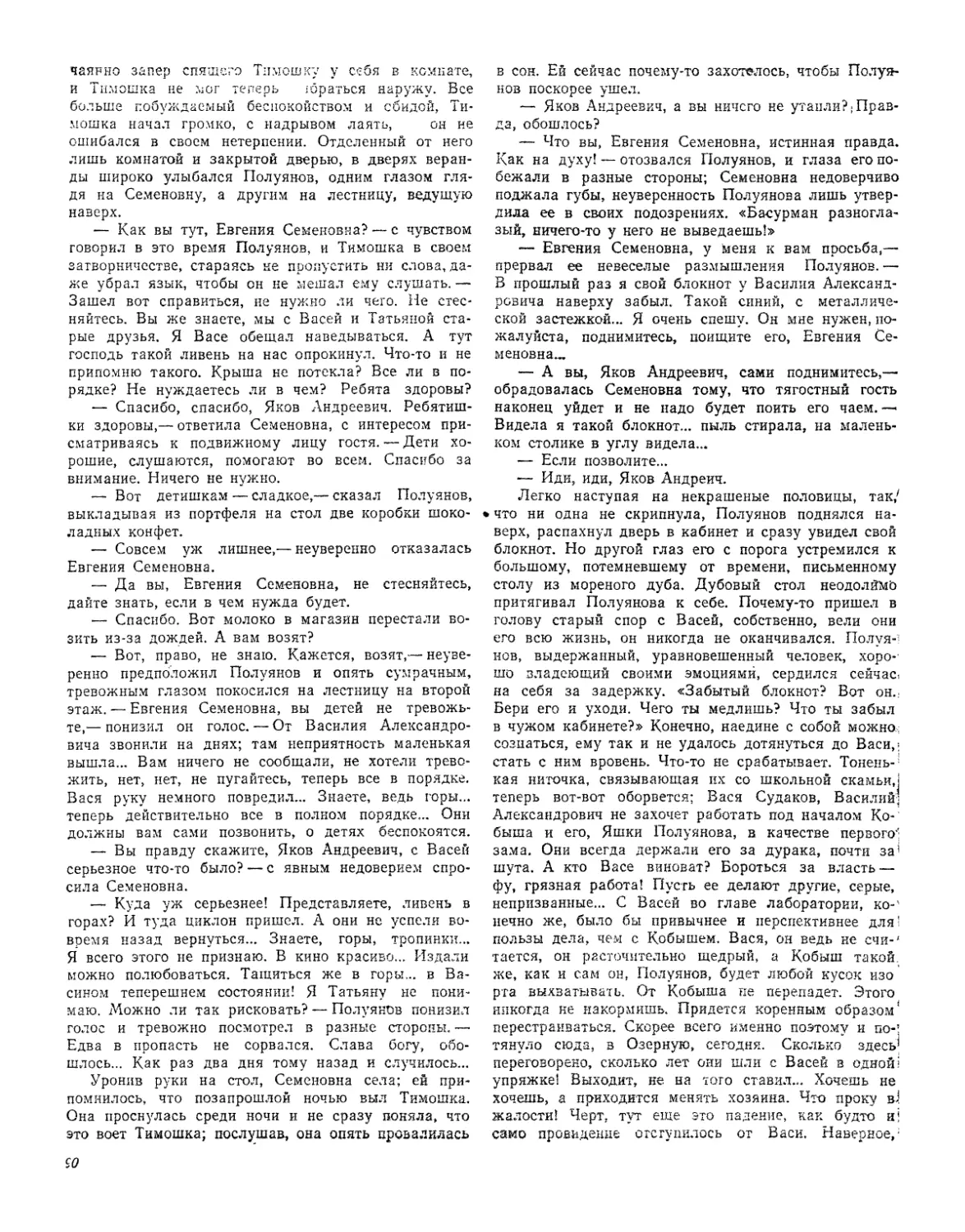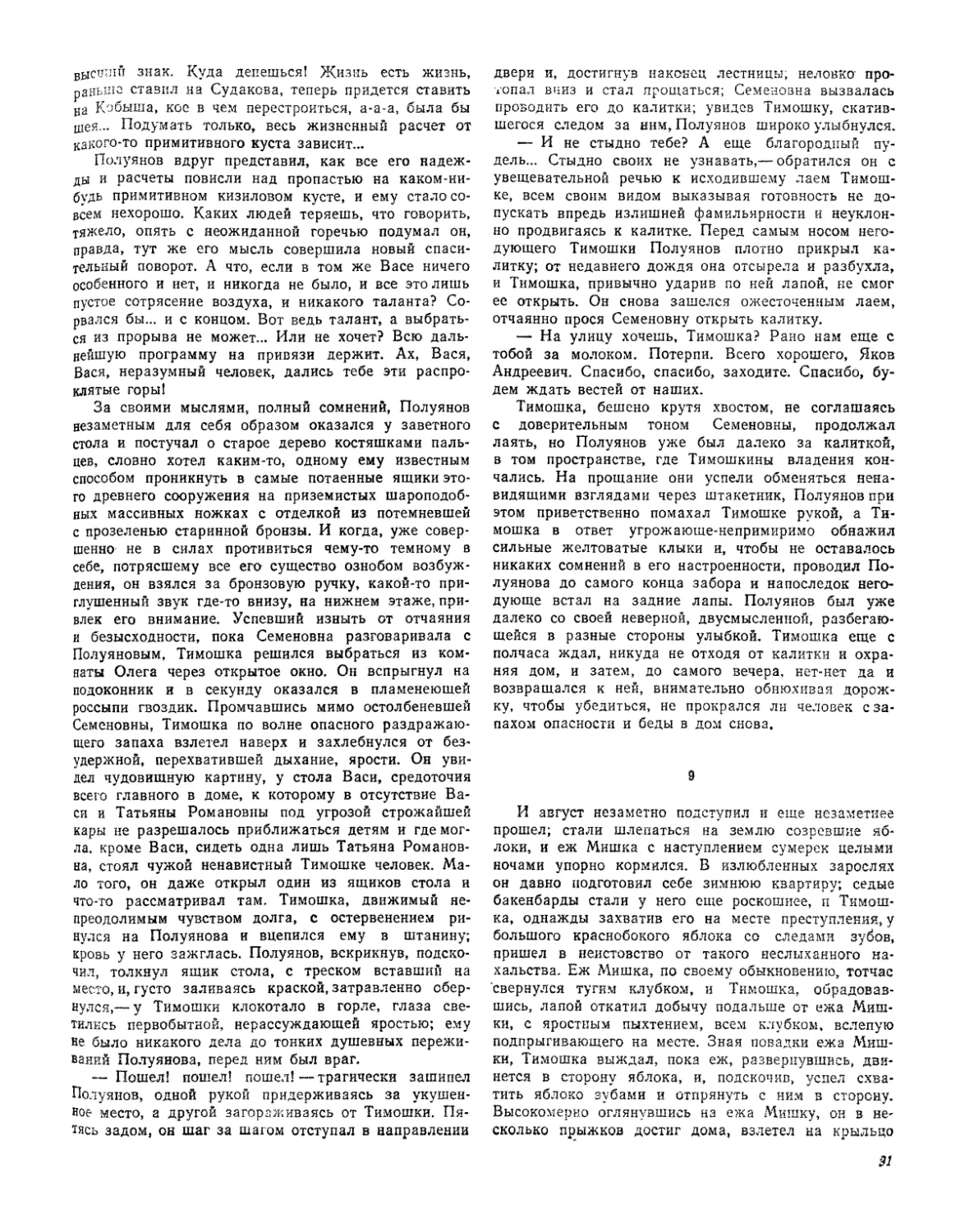Автор: Проскурин П.
Теги: художественная литература романы исторические романы журнал роман-газета
ISBN: 0131-6044
Год: 1983
Текст
- ,
ПЕТР ПРОСКУРИН
Петр Лукич Проскурин родился на Брянщине в 1928 году, в кре-
стьянской семье (Севский район, поселок Косицы).
Многие книги Петра Проскурина связаны с Великой Отечественной
войной 1941—1945 годов, и это вполне понятно: подростком он пере-
жил фашистское нашествие, после изгнания оккупантов, в 1943 году, за-
сыпал траншеи и окопы, стаскивал со своими сверстниками неразорвав-
шиеся мины с одичавших полей — земля должна была родить хлеб.
После службы в армии Петр Проскурин уехал в 1954 году на Кам-
чатку и работал там лесорубом, шофером, сплавщиком.
Первый его рассказ — «Цена хлеба» — появился в газете «Тихооке-
анская звезда», а в 1960 году в Москве выходит сборник рассказов
«Таежная песня», затем в Хабаровске издается первый роман — «Глубо-
кие раны». В 1964 году Петр Проскурин заканчивает Высшие литера-
турные курсы, в последующие годы у него выходят романы «Корни об-
нажаются в бурю», «Горькие травы», «Исход», «Камень сердолик»,
«Судьба», «Имя твое», сборники повестей и рассказов.
Многие произведения Петра Проскурина переведены на языки ряда
братских республик СССР, а также на иностранные языки. По романам
созданы фильмы «Любовь земная», «Судьба», спектакли — «Горькие
травы», «Имя твое».
Петр Лукич Проскурин — лауреат Государственных премий СССР
и РСФСР, секретарь правлений СП СССР и СП РСФСР.
ПЕТР ПРОСКУРИН
ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ
В старых ракитах
Повесть
ПАМЯТИ МАТЕРИ МОЕЙ
ПРАСКОВЬИ ЯКОВЛЕВНЫ
I
Возвратившись с работы, Василий сразу заметил,
что матери стало хуже; она лежала спокойная, сло-
жив худые, жилистые руки на иссохшей груди, и
молча, не поворачивая головы, следила за сыном.
Василий фальшиво-бодро улыбнулся ей, успокаиваю-
ще кивнул, вышел в коридор и быстро стянул с
себя спецовку. В прихожей было холодно, и он по-
спешил переодеться в домашнее, затем прошел в
ванную, опять на ходу ободряюще улыбнувшись ма-
тери, выигрывая время, чтобы собраться с мыслями
и успокоиться, вымыл руки, тщательно умылся и уже
только затем сел у кровати больной на стул. Он не
мог больше тянуть, хотя ему очень хотелось курить.
— Иди поешь, успеешь со мной-то,— сказала Ев-
докия слабо.— Что ж теперь... руку не подложишь...
Василий хотел было запротестовать, не решился,
потому что взгляд у матери был сегодня какой-то
незнакомый, жутковато-светлый, и виски еще больше
впали и зажелкли.
— Надо будет, я сама скажу,— добавила Евдо-
кия, и Василий, удерживая на лице все то же де-
ланно-ободряющее выражение, кивнул.
©«Москва», 1980 г.
— Я тебе чаю принесу,— сказал он матери.—
Сейчас греть поставлю. Тебе, мать, послаще налить?
Прикрыв глаза, как бы согласно кивнув, Евдокия
с благодарностью к судьбе затихла, ушла в себя. Ей
было хорошо, что у нее ласковый и добрый сын, что
вот ей тепло и чаю дадут, когда она только захо-
чет, а в деревне, в Вырубках, поди, теперь все сне-
гом забило под самые застрехи, изба выстыла, да
и что там теперь? Четыре старухи остались, сидят
по своим углам, когда это выберутся одна другую
проведать. Вот и она, останься в Вырубках, лежала
бы пень-колодой, кипятку некому согреть да подать.
Племянницу Верку тоже, поди, дождись за четыре
версты. Вот она, судьба: и хорошая девка, а бог и
в молодые-то годы порадоваться не дал — мужик
попался не приведи господи, оседлал, злыдень, и
продыху не дает. Вот она тебе, нонешняя-то любовь
ихняя... говорила, говорила тогда, как он из армии
заявился, гляди, мол, Верка, гляди, уж куда как
стрекалист твой-то суженый, все игрища кругом за
десять верст на своем вонючем черте (Евдокия чер-
том называла мотоцикл) обскакал, да и к водке его
тянет. А теперь так оно и высветило. Люблю его,
черта, говорит, вот тебе и полюбила на свою голо-
ву, вышла одна сухотка. «Вот девка дура! — слабо
возмутилась Евдокия, и в глаза ей потекла как бы
*j Роман-газета № 1
1
обесцвеченная дымка далеких времен. — Да было ли
что?» — все так же равнодушно подумала Евдокия;
какое-то внутреннее беспокойство и томление меша-
ли ей, и теперь она то и дело словно пыталась опра-
вить неровно облегавшую ее исхудавшее тело сороч-
ку с длинными рукавами и глухим, завязанным те-
семками воротом, что-то мелко и часто сощипывала
с себя; Василий, войдя к матери с чашкой чая, стоял
у двери и с тихой душевной тоской наблюдал.
«Обирается»,— думал он, не решаясь ни подойти
ближе, ни отступить назад за дверь. Раньше он ни-
когда не думал о смерти, хотя не раз и не два бы-
вал на похоронах; сорокапятилетний мужчина, он
был здоров, любил хорошо поработать, обильно и
вкусно поесть; любил он и хорошую компанию — он
еще был в самом зените, но вот теперь при виде
того, как мать деловито словно что снимает с себя,
какой-то шевельнувший всю его кровь ток проник и
в него, и для него открылись иная мысль и иное
чувство, и он не знал, что это такое; что-то, что он
знал понаслышке, что-то, что пребывало в его кро-
ви от сотен и тысяч ему предшествующих,— все это
как бы выплеснулось в один всплеск, разом проник-
ший в самые темные, ' никогда не видевшие света
уголки его души, и стало ему страшно от этого вы-
светления, и оттого, что он родился и живет, и от-
того, что у него есть мать и что ему придется уми-
рать так же, как сейчас умирает она; он увидел
жизнь в совершенно новом повороте.
Он тяжело переступил с ноги на ногу, словно
проверяя, присутствует ли еще он в этом мире, в
этом доме, где ярко горела электрическая лампочка
под желтым шелковым абажуром. Недоброкачест-
венный паркет громко заскрипел, и Василий напря-
женно взглянул на мать, но тотчас с облегчением
перевел дыхание; она по-прежнему ничего не заме-
чала. Ему стало тесно и душно в этой комнате, ему
показалось, что он тоже никогда уже больше ничего
не увидит, кроме этих стен и низкого потрескавше-
гося кое-где потолка со свисавшим с него уютным
абажуром. Раньше, до ухода в армию, в этой ком-
нате жил сын Иван, ёон еще этажерка с книгами
в углу; взгляд Василия остановился на этажерке, и
ему стало легче. Твердыми, грузными шагами он по-
дошел к матери и остановился у кровати прямо на-
против ее лица; она его по-прежнему не замечала
и продолжала обираться.
— Мать,— позвал Василий,— я тебе чаю при-
нес... давай помогу сесть...
По лицу Евдокии было видно, что она услыша-
ла; в глазах у нее проступило усилие понять, но
исхудавшие, тонкие пальцы зашевелились еще бес-
покойнее.
— Мать,— опять позвал, с трудом сдерживаясь,
Василий. — Чего ты? Может, врача вызвать?
Теперь глаза г^атери были устремлены прямо на
него; Василий и до этого знал, что она умирает,
знал еще с тех пор, как она попросила забрать ее
несколько дней назад из больницы и он поговорил
о матери наедине с врачом; и опять это оказались
слишком разные вещи. Одно дело было знать, и
другое — при виде маленького, высохшего лица ма-
тери с отсутствующими, бесцветными глазами — по-
чувствовать, что это перед ним действительно смерть;
опять кдкая-то удушливая волна поднялась в нем,
и даже веки жалостливо задергались,
— Ты, Ванек? — спросила в это время мать,—
Слава богу, унучек, поспел... А я тебя все вижу, все
вижу, вот стоишь перед душой-то, не отходишь...
Ну, думаю, помру и не увижу-то унучка.^ Ты ж
гляди, Ванек, я ж тебе говорила, девка-то это твоя
озленая вроде, гляди. Со злой бабой рядом-—уда-
вишься, гляди. Не дай бог со злой б а бой-то бок о
бок рядом, жизни не увидишь. А у тебя-то душа
уродилась ласковая, ты против злобы-то не выдг
жишь, Ванек...
Василий слушал, боясь шевельнуться, чтобы как-
то не нарушить пугающего и в то же время поко-
ряющего своей открытостью материнского заблуж-
дения; она уже говорила с любимым внуком из-за
последней черты, и самому ему, Василию, уже не
было ходу за эту черту. Евдокия, еще несколько по-
рассуждав о будущей жизни внука со злой женой,
сама словно в один момент и вышагнула из-за не-
ведомого и пугающего рубежа обратно.
— Господи, помилуй,— слабо сказала она, и у
нее в глазах выразилось недоумение. — А я все с
Ваньком вроде разговаривала, вроде он с армии на
побывку явился... а? Как же так... Глаза-то раскры-
ла, а это ты...
— От Ивана письмо на днях было,— сказал Ва-
силий тихо, опуская чашку с чаем на стул у изго-
ловья матери и расчищая место, осторожно сдвинул
в сторону какие-то лекарства в пузырьках и коро-
бочках.— Я тебе читал его письмо, мать... А ты, ви-
дать, задремала, и примерещилось...
Евдокия ничего не ответила, перекатила голову
по подушке лицом к стене; теперь Василий видел
ее серовато проступивший сквозь редкие седые во-
лосы затылок.
— Теперь уже скоро,— неожиданно отчетливо и
ясно, как нечто определенное, окончательное и не
подлежащее обсуждению, сказала Евдокия. — Ты ж
гляди, Василий, ты меня тут, в городе, не зарывай,
ты меня домой, в Вырубки, отвези. Я буду рядом с
матерью, твоей бабкой, да с братьями рядом ле-
жать... я тут не хочу, в городе-то...
— Брось ты, мать, ну что ты? — нарочно заго-
рячился, запротестовал Василий. — Да ты еще по-
лежишь да подымешься, мы еще Ивана из армии
дождемся да женим... Сама же говорила, еще прав-
нука дождемся... Ну, кто не болеет? Ничего, ты да-
-вай чаю вот хлебни...
Она подчинилась и при помощи Василия смочила
губы; тотчас и попросила опустить ее на подушку
— Иди, иди, делай свое дело, скоро баба, поди,
вернется, а обедать нечего,— сказала Евдокия.
Василий ничего не ответил и тихо вышел на кух-
ню, и только там, опустившись на табуретку у пли-
ты, горько и подавленно усмехнулся. Что ни гово-
ри, а у матери характер, невзлюбила невестку с
самого начала, ничего и до самого конца не пере-
менялось; вот и сейчас дала ему понять, что ей не
по душе городская жизнь, когда при здоровой жене
муж и обед может приготовить, и другие бабьи дела
сделать, а то гляди, как говорила ему мать месяца
три назад, и срамное бабье исподнее выполоскать
да развесить. И хотя Василий не видел в этом ни-
чего позорного, сейчас слова матери напомнили ему
прежние ее стычки с Валентиной; он покурил, ста-
раясь отвлечься от своих мыслей, затем начистил
картошки, время от времени поглядывая в темное
окно, за которым бесновался уже густой мартовский
ветер, и в то же врехмя вслушиваясь в тишину в
комнате, где лежала мать; дверь к ней он оставил
полуоткрытой. Оттуда не доносилось ни звука, и
Василий поставил варить картошку, открыл банку
скуз^брни в натуральном соку, нарезал хлеба, достал
несколько соленых огурцов, очистил луковицу; по-
думав, он еще решил почистить селедку, хранившую-
ся тоже в банке с рассолом, и сбегать, пока не вер-
нулась жена, в угловой магазин за пивом. Убавив
огонь под кастрюлькой с картошкой, он заглянул
к матери и минут через десять, довольно потирая
руки, уже доставал из сумки холодные, быстро за-
потевавшие бутылки с пивом. Картошка кипела, из-
под крышки прорывался веселый парок, и крышка
звонко дребезжала. Василий сдвинул крышку, опять
заглянул к матери, лежавшей в прежней позе, навз-
ничь, с неподвижно устремленными в потолок гла-
зами.
— Сейчас Валентина придет, ужинать будем,—
сказал он, потому что нужно было нарушить молча-
ние; он помедлил, приглядываясь к лицу матери, и
заметив, что она слегка шевельнула головой, ушел
на кухню. Он достал стакан, открыл бутылку с пи-
вом, налил и жадно выпил; пиво было свежее, и
на краях стакана остались клочья таявшей пены.
В магазине он хотел еще прихватить и бутылку вод-
ки, но что-то в собственном настроении, может быть
неуверенность, помешало, и он был доволен своей
выдержкой; теперь он уже твердо знал, что брать
водку на этот раз никак нельзя было. Он услышал,
как Валентина открыла дверь, затем осторожно
разделась и сняла сапоги; он увидел ее в дверях и
нахмурился; первым делом она поглядела на бутыл-
ку на столе, затем перевела взгляд на мужа и мол-
ча кивнула в сторону двери в комнату, где лежала
мать, взглядом спрашивая, как дела. Василий в от-
вет неопределенно пожал плечами; сердитое, недо-
вольное лицо жены вызвало и у него мгновенную
реакцию раздражения, и он, шагнув к столу, вылил
остатки пива в стакан и залпом выпил.
— Зря ты, Вася,— сказала Валентина, приса-
живаясь сбоку и устало кладя руки на цветастую
клеенку; она работала на конвейере на обувной
фабрике и часто жаловалась, что к вечеру совер-
шенно выматывается. Василий ничего не ответил,
лишь открыл вторую бутылку с пивом, опять налил
придвинул жене.
— Выпей...
Валентина взяла стакан, окунула губы в пышную
пеку и глотнула; глаза у нее были сейчас грустные
и усталые, но она была благодарна мужу за эту
маленькую заботу; минут через десять она, посидев
у кровати свекрови и напрасно попытавшись расше-
велить ее, уже привычно хлопотала на кухне, а Ва-
силий по-прежнему молча потягивал пиво, становясь
все угрюмее. Он отказался от ужина и, еще раз
взглянув на мать, лег спать, оставив дверь к ней
в комнату приоткрытой. Он еще услышал, как вози-
лась, раздеваясь, и вздыхала рядом жена, затем
сон окончательно сморил его. Ему показалось, что
он проснулся сразу же от голоса матери, позвавшего
его, и он услышал этот ее голос еще во сне, а уж
только затем проснулся. Он это хорошо помнил, так
же, как и то, что еще во сне этот, совершенно осо-
бый голос матери сковал его, и он некоторое время
лежал, обливаясь от невыносимого страха холодным
потом. Затем он тихо выпростал ноги из-под одеяла
и скинул их с кровати, нащупывая разношенные
войлочные тапки и чувствуя гулко и неровно коло-
тившееся сердце. Из приоткрытой в комнату матери
двери пробивалась широкая, тусклая полоса света:
это горел ночник. И тут Василий опять услышал ее
голос, вернее, не услышал, а как бы почувствовал
его изнутри; голос, по-прежнему какой-то особый,
нечеловеческий гулкий, прозвучал где-то глубоко в
его душе, в сердце, ударил в мозг, и Василий как
бы сорвался с постели и бросился в соседнюю ком-
нату. Мать встретила его нетерпеливым, лучащимся
взглядом; он заметил, что глаза у нее как бы стали
больше, теперь на этом высохшем, маленьком, почти
детском лице оставались одни глаза, потому что и
говорить она уже почти не могла.
Василий опустился у изголовья кровати на коле-
ни; Евдокия едва-едва шевельнула губами.
— Что, мать? — тихо спросил он, беря ее руку
в свои ладони и невольно вздрагивая; рука была
уже хмертвая, холодная-холодная. — Ты меня звала?
«Кликала, кликала, сынок»,— скорее угадал, чем
услышал он ее бессильный шепот.
— Ну что, мать, попить? Или все-таки «скорую»
вызвать?
«Не надо, ни к чему,— опять угадал он. — Поми-
раю, сынок... гляди же, не обмани... как обещался,
в Вырубки... на свой погост отвези... Слышишь... Вы-
рубки, Вырубки, сынок...»
И хотя Василию стало страшно так, как никогда
не было, он, пересиливая себя, с недовольным видом
покачал головой.
— Ну что ты в самом деле, мать? Мы еще Ива-
на дождемся да женим его, мы еще на свадьбе-то—
Он умолк и, наклонившись еще ниже над ее ли-
цом, уже совершенно иным голосом спросил:
—' Что?
«Ты икону-то... икону Ивана-воина,— опять боль-
ше угадал, чем услышал, он,-—себе возьми... Ты ее
не бросай, гляди... Ванюшке, унуку, от меня отдай,.-
Иван-воин в мужичьем деле в помогу... ты гляди...»
— Мам,— тихо позвал Василий с больно и
страшно заколотившимся сердцем, но она, вытолк-
нув из себя замирающий, как бы остывающий по-
следний шепот, теперь все старалась не отпустить
3
его глаза и все пыталась оторвать голову от подушки;
Василий все время как бы в себе чувствовал
это бесплодное усилие матери, и ему было тяжело
и мучительно неловко. Он почувствовал у себя за
спиной присутствие жены; оглянуться он не успел.
У матери слабо всхлипнуло где-то в груди, в горле,
и тотчас голова ее скатилась вбок, лицом к стене.
Василий подождал, почему-то не вставая с колен, но
отодвигаясь все дальше от кровати. Он натолкнулся
затылком на что-то теплое; это были руки жены.
•— Что ты, Вася, ждали ведь,— приглушенно и
как-то буднично сказала опа и помогла ему встать.
Василий качнулся; слабость была во всем теле, и в
ушах назойливо звенело.
•— Три часа ночи-то, самая глухота,— опять поч-
ти шепотом сказала Валентина, слегка всхлипнула,
подошла к постели и как-то очень просто выладнала
голову покойной, избегая вглядываться в полупри-
крытые стекленевшие глаза, закрыла их легким дви-
жением пальцев, затем подвязала платком челюсть.
Она еще свела на грудь высохшие, почти неслыш-
ные руки свекрови и связала носовым платком боль-
шие пальцы обеих рук, чтобы они не разъезжались.
Василий смотрел на жену во все глаза, затем,
вздрогнув, опять почувствовал, что в голове плывет,
и хотел открыть форточку.
— Не надо, подожди, нельзя пока,— остановила
его жена, и он не стал спрашивать, почему нельзя
и откуда она знает, что нельзя. — Еще душа с те-
лом не разошлась, она еще нас слышит^
«Экую чепуху городит баба»,— подумал Василий
и с тоской огляделся; комната, давно не проветри-
ваемая (мать всегда боялась простуды), была зна-
кома до мельчайшей подробности, но теперь, после
слов Валентины, что-то, неуловимо изменилось во-
круг; и только теперь он понял, что матери уже нет
и никогда больше не будет, и он уже не услышит
ее плавной, слегка медлительной речи, и его больше
не остановит ее взгляд, если случится впасть в пол-
ный раскрут, что-то опять сверкнуло и простонало
в душе, и он, сдерживая непрошеные слезы, тороп-
ливо вышел в другую комнату, затем на кухню, сел
к столу, тяжело опустив голову на руки. Скоро по-
дошла и Валентина, села напротив; он видел ее
уставшее лицо, не отдохнувшие после работы глаза.
— Ну вот, теперь хоронить надо,— сказала Ва-
лентина. — Поди рублей пятьсот уйдет— а надо.-
— Надо,— согласился Василий, совершенно от-
четливо понимая, о чем сейчас думает жена и что
хочет сказать дальше.
— Какая разница, где лежать после смерти,—
услышал Василий далекие и какие-то бесцветные
слова, но он был так опустошен, что не смог даже
возмутиться. — Ты, может, Вася, выпьешь? Да, мо-
жет, поспишь, а то с утра дедов привалит-,
— Если есть, выпью.-
— Есть...
Василий не заметил, откуда и как перед ним по-
явилась непочатая пол-литровая бутылка, стакан и
тарелка с солеными огурцами-
— Еще стакан-то поставь,— сказал Василий, лов-
ко скручивая с головки податливую фольгу и вспо-
миная то время, когда такие бутылки закупорива-
лись самыми настоящими пробками и мужики в Вы-
рубках ловко выбивали их ладонью в донышко.
— Да я не буду, Вася,— стала отказываться
Валентина,— а то на ходу так и свалюсь...
— Поставь,— потребовал Василий, хмурясь, и
Валентина, быстро взглянув на него, добыла из на-
стенного шкафчика еще один стакан и осторожно,
без стука, поставила на стол. Василий налил себе
почти вровень с краями, а ей с четверть стакана;
молча глядя друг другу в глаза, они выпили, и Ва-
лентина, отщипывая от хлеба кусочек мякиша, за-
думчиво покачала головой.
Уросливый же ты, Вася,— сказала она даже с
какой-то ласковостью в голосе. — Я-то все вижу, все
у тебя в глазах-то стоит. Ну что ты на меня-то оже-
сточился? я, что ли, твой главный враг на земле?
Эх, Вася, Вася... О семье же думаю да о сыне... Ну,
повезешь в Вырубки, за триста верст считай, ну и
выйдет рублей на триста сверх... А где их взять?
А у тебя сын через полгода домой явится в одной
шинелишке, ему и костюм надо, и куртку какую-ни-
будь, и туфли — в институт ведь хочет парень по-
ступать... Вот тебе и думай как хочешь...
— В кассе взаимопомощи завтра возьму... мо-
жет, рублей двести и дадут-,
— Дадут, отчего же,— согласилась Валентина. —
Так их все одно потом отдавать.
— Обещался же. — Василий, после водки всегда
мягчавший, как-то даже несколько виновато взгля-
нул на жену, словно ожидая от нее совсем иных
слов, которые должны были убедить его окончатель-
но; Валентина лишь покачала головой, сейчас ей
от усталости не хотелось спорить и что-то доказывать.
•— Дорога какая сейчас? — спросила она. — Пока
ты до своих Вырубок доберешься, всю душу в лох-
мотья расшибешь... А там и могилы некому будет
вырыть, вон четыре бабки на весь поселок остались.
•— А никто тебя с бабками не просит,— все еще
вяло отмахнулся Василий. — Сам довезу, сам вы-
рою.« тоже, нашла чем пугать...
Теперь он достаточно твердо смотрел на жену, и
в серых глазах у него постепенно проступала какая-
то льдистость; Валентина хотела было убрать бу-
тылку со стола, но он не дал, налил себе еще, вы-
пил, уже не приглашая жену; теперь с ним беспо-
лезно было говорить, и она подумала, что сегодня
ей, видать, даже немного не удастся вздремнуть, и
пожалела, что сына сейчас нет с ними. Василий сы-
на всегда слушался, уважал за добрый и ровный но-
ров, за то, что сын хорошо закончил школу; тут же
Валентина с горечью подумала о том, что сын мог
бы сейчас быть и в институте, и расстроилась.
— Василий. •— Все еще надеясь повернуть ход
событий в иную стезю, Валентина даже подлила
мужу в стакан.—Может, Ванюшке сообщить, мо-
жет, его отпустят хоть на пяток дней? Бабушка род-
ная все-таки...
— Если отец или мать—отпускают,— сказал Ва-
силий.— А так — но-е, не вырвешь.^
4
• — Лег бы ты, Вася...
• — Успею, належусь,— мотнул тяжелой головой в
сторону покойной матери Василий. — Придет время,
все иалежихмся...
• —• Да уж,— неопределенно согласилась Валенти-
на.— /Может, кто потом и вспомянет и могилку-то
наведает... а там будешь лежать, так никто и в са-
мый великий праздник не вспомянет...
— Как так? — насторожился Василий, ожидая от
жены нового подвоха и уже заранее готовый отвести
любые ее слова и доводы.
— А так, отвезешь ты мать в Вырубки, ну а
дальше? Думаешь, так и наездишься за триста-то
верст? Ну ты, может, раз в год и выберешься, а
Иван? Ему когда? А уж твои да мои внуки и вовсе
не говори, вот и получается...
От растерянности Василий выплеснул в себя
остаток водки, жарко выдохнул воздух, похрустел
огурцом и промолчал. Наутро, после короткого сна,
весь помятый, неприятный сам себе, уже полностью
согласный с женой и даже похваливая ее за умный
совет, он отправился хлопотать о всякой разной вся-
чине, которой вдруг оказывается чересчур много, если
человек, не предупредив никого хотя бы за не-
сколько дней, взял и отправился в невозвратные
для себя дали, как это и положено ему от при-
роды. Неожиданно оказалось, что необходимо немало
поволноваться, побегать, чтобы получить различные
справки, и когда (Василий даже не помнил, в ка-
ком из нудных и дотошных учреждений) лысенький,
с невзрачным маленьким личиком человек потребо-
вал от него паспорт матери, Василий безнадежно
развел руками, в то же время чувствуя, что у него
начинают подергиваться брови.
— Нет у нее паспорта, никогда не было,— сказал
он, стараясь говорить как можно спокойнее, и глаза
невзрачного служащего недоверчиво начали леденеть.
— Что это значит? — спросил он. — Почему нет?
— Потому, что она колхозница,—-опять стараясь
говорить спокойно, стал объяснять Василий.
— Так что же? Сейчас, по-моему, все с паспор-
тами, колхозники тоже,— возразил невзрачный слу-
жащий, подозрительно поглядывая на Василия.
— А у нее нет паспорта. — Теперь Василий поч-
ти не дышал, стараясь осадить поднимавшуюся из-
нутри мутную, душную волну. — Сначала не давали,
затем старая стала, не нужно было — и не взяла.
Вот приехала из деревни, заболела, и все — шестьде-
сят шесть лет... на тот свет и без паспорта прини-
мают. Теперь понятно?
— На тот свет — пожалуй, а вот на кладбище —
трудновато... Из какой местности?
— Из соседней, Котельский район... Поселок та-
кой есть, Вырубки...
—• Вот теперь начинает проясняться,— сказал не-
взрачный служащий. — Теперь идите и принесите
бумажку из домоуправления, что ваша мамаша с
вами проживала последнее время, а затем нужна
справка от врача...
Тут что-то случилось с Василием; он еще видел,
как невзрачный служащий со вкусом и со значением
говорил, уставив кончик острого розового носика в
его сторону, но он уже ничего не слышал и не по-
нимал; жалкий крик, почти визг ударил его сначала
по глазам и только потом отчаянно прорвался в
уши, и тут Василий сообразил, что держит невзрач-
ного служащего, выдернув его из-за стола, как тря-
пичную, лишенную веса куклу, где-то перед собой и
тот болтает в воздухе короткими ногами и все ста-
рается достать носком поношенного ботинка до полу.
Еще Василий увидел, что испуганная женщина за
соседним столом, бросив красить губы, в панике ко-
сится в его сторону и отчаянно вертит диск телефона.
Тогда Василий отпустил невзрачного служащего.
Тот обессиленно привалился спиной к столу, слепо
нащупывая его край вздрагивающими руками; те-
перь глаза у него были трусливо-заискивающими.
— А ну, кончай! — приказал Василий женщине,
и та тотчас с треском швырнула трубку телефона и
неестественно прямо застыла на своем стуле, с на-
деждой бросая взгляды в сторону двери; в широкое
окно рвалось утреннее мартовское солнце, стекла
почти с розовым шелестом весело пламенели, и Ва-
силию стало совсем плохо.
— Эх вы,— сказал Василий с какой-то светлой
тоской, стыдясь всего — и себя, и этих перепуганно
глядящих на него людей. — Она с десяти годов рабо-
тала, ей шестьдесят шесть лет, и никто с нее паспорт
не спрашивал... А похоронить ее по-людски, значит,
нельзя... Что ж, похороним по-своему... эх вы...
Что-то в голосе и в глазах Василия ошеломило
женщину, она заморгала усиленно, отвела глаза;
сам невзрачный служащий тоже стал неловко ко-
сить в сторону, затем громко засопел. *
— Да вы, гражданин, не волнуйтесь,— неожидан-
но сказал он. — Ну что вы так из себя выходите?
С непривычки туго, да ведь каждый день умирают,
и всех хороним. Похороним и вашу мамашу... Знае-
те,— внезапно обрадовался он,— давайте ваш адрес,
я это сейчас по телефону... давайте, вам только
нужно будет по двум-трем адресам подскочить...
— Ой, молодец вы какой, Павел Никодимович,—
обрадовалась и женщина за соседним столиком. —
Вот видите,— обратилась она теперь непосредствен-
но к Василию,— с нами тоже по-человечески-то на-
до... А то каждый на горло да за горло, а мы тоже
люди... Что же вы, называйте адрес-то.
— Не надо,— гордо и отреченно сказал Васи-
лий. — Ладно, обойдемся... Вы уж тут не обижай-
тесь... бывает... горячка...
— Гражданин! гражданин! — попытался остано-
вить его невзрачный служащий, ставший теперь сим-
патичным человеком лет сорока с голубоватыми
блестящими глазами, но Василий не мог больше
выговорить ни слова, лишь махнул от двери рукой
и торопливо бросился в коридор, едва не сбив
какую-то старушку в черной накидке; старушка не-
одобрительно пожевала вслед ему сморщенными губа-
ми, а он уже был на улице и жадно глотал свежий,
с утренним морозцем воздух. Теперь он действовал
определенно и почти безошибочно, и все, что он хо-
тел, просил или требовал, тут же исполнялось; он
зашел на работу, свободно, словно так надо, про-
шел к директору, и тот тут же выделил ему на два
дня крытую автомашину и сто рублей из какого-то
своего фонда. Василий стал было благодарить, но
директор замахал на него гигантской авторучкой,
которой подписывал бумаги. Таких авторучек, чуть
ли не в метр и поменьше, было на столе директора
десятка два, это было его слабостью.
-— Хватит, хватит, Крайнов! Все помирать бу-
дем... Ты, кажется, со Степаном Дорофеевым дру-
жен? Ну, вот пусть он и отвезет,— распорядился ди-
ректор в ответ на утвердительный кивок Василия. —
А Петрицкому я сейчас брякну, они там тебе с
остальным помогут, гроб там, венки... Эх, эх, эх, Ва-
силий Герасимович... Ну что ж, ну что ж... дело та-
кое... Иди, иди, иди,— заторопился он, пресекая оче-
редную и неловкую попытку Василия хоть как-ни-
будь поблагодарить отзывчивого человека. Еще сто
пятьдесят рублей Василий получил в кассе взаимо-
помощи, триста двадцать — все, что у него было,—
снял со сберегательной книжки, и уже часа в два
крытая автомашина с закрепленным, чтобы не ерзал
в кузове, гробом и с двумя ящиками водки для по-
минок, тоже плотно упакованными и закрепленными,
выползла, разбрызгивая воду из многочисленных
после полудня мартовских луж, а кое-где в затенен-
ных местах с хрустом продавливая звонкий весен-
ний ледок, попетляла, поколесила на запутанных
развилках в предместье, возле металлургического
комбината, и, вырвавшись на открытую дорогу
Орел — Киев, пошла наматывать на колеса скорые
для нынешнего века версты.
Василий сидел в кабине, по-прежнему, после не-
давнего разговора с женой, с ожесточенным и звон-
ким сердцем, и напряженно смотрел перед собою в
голубеющие, с каждой минутой все шире разворачи-
вающиеся дали; снег во многих местах уже сошел,
но были еще и ослепительно горевшие от солнца бе-
лые и неровные пространства полей, и воздух над
ними, казалось, был еще чище и прозрачнее. Тем-
ная громада дубравы, проползшая вскоре в полвер-
сте от дороги, уже была отяжелена весенним беспо-
койством и как бы грузно разбухла, по бетонным
канавкам обочь магистрали мутно и непрерывно бе-
жала вода, разливаясь в низинах полей и лугов в
сплошное и тоже нестерпимо ярко горевшее от солн-
ца пространство; когда это случалось близко и, от-
ражаясь от зеркала воды, солнечный блеск ударял
по стеклам кабины, Василий жмурился. Он слегка
опустил боковое стекло в кабине и закурил; его оже-
сточенное сердце начинало отходить. Шофер, старый
и верный друг, Степан Дорофеев, до этого упорно
молчавший, покосился слегка на резкий, как бы по-
темневший от выступившей за эти сутки щетины
профиль Василия.
— Зря ты так... с бабой-то,—сказал он. —-Она-то
в чем виновата? Баба она и есть баба, ей на каж-
дом деле выгадать хочется, все они такие. Потом
просилась, в глазах слезы...
— Просилась... Надо было сразу думать,.. Проси-
лась, а зачем? Кто она ей? — повел Василий головой
указывая назад, на кузов. — Чужой человек, а мне
она мать родная. Не хочу, чтобы в этот срок кто- чу-
жой между нами втерся,— опять судорожно повел он
головой назад. — Один на один хочу с нею побыть...
У Степана в глазах мелькнула растерянность, он
невольно подобрался, стал пристально и безотрывно
смотреть на льющуюся навстречу влажную, широ-
кую ленту бетона; какое-то тревожное откровение
коснулось его и смутило.
— А бабы что,— опять заговорил Василий,—
баб — их много... Им известно что от нас надо. А-а,
ладно, я и сам знаю, не со зла она, от дурости, да
что от этого? Раз так, не хочу, чтобы она рядом со
мной была в этот срок, не хочу, и все. Ты лучше
скажи мне, вот сижу я и думаю, на какой ляд че-
ловек на свете живет, а?
— Живет,— подумав, неопределенно отозвался
шофер. — Ты лучше выпей, хвати грамм двести —и
дело. Мне нельзя, а тебе чего?
— Не хочу,— коротко отказался Василий; и опять
летела навстречу дорога, и к вечеру все рельефнее
проступали пространства вокруг; краски менялись
и густели, и у Василия, раньше никогда не замечав-
шего ни леса, ни поля, ни неба вокруг, сейчас от
каждого поворота дороги, открывавшей глазам еще
что-то новое, все тяжелело сердце; он с жадностью
чего-то ждал. Степан, чувствуя это его состояние,
старался не смотреть на него, ему вначале тоже бы-
ло неловко и не по себе, но спокойный бег сильной,
послушной машины и хорошая дорога придавали ему
уверенность, и он, тоже бывший крестьянин, лишь
однажды позволил себе скользнуть взглядом по раз-
мокшему сверху, почти парившему пятну чернозема.
— Там, от дороги-то, в сторону до наших Выру-
бок еще версты две,— неожиданно сказал Васи-
лий.— Добраться бы...
— Ничего, доберемся,— опять подумав, отозвал-
ся Степан. — Засветло бы только...
— Тут, по такой дороге, часа на полтора и оста-
лось, успеем, еще раньше будем,— заверил Васи-
лий и опять надолго замолчал, лишь оба одновре-
менно проводили глазами сизоватую чайку с белой
грудью, с резким криком прометнувшуюся через
дорогу почти перед самой машиной, и Василий опять
почувствовал сладкую, тягучую тоску; хотелось
выскочить из машины, пойти куда глаза глядят ве-
сенним полем, утопая в грязи, шлепая по весенней
воде, пойти прямо в слепящее солнце, чтобы ощутить
буйство жизни и понять, что ты еще жив и что в
тебе еще много вот этой хмельной жажды на что-то
надеяться и чего-то лучшего ждать и верить...
Солнце уже сильно низилось, и его косые, начи-
навшие слабеть лучи россыпью прошивали синее
хрустальное небо; задумавшийся, давно молчавший
Василий, случайно взглянув вперед и в сторону,
сильнее вжался спиной в подушку сиденья.
— Что? — спросил шофер, притормаживая.
— Приехали, вон он, поворот, а вон там,—-он
указал на редко разбросанные крыши изб, трубы
над ними, массивно выделявшиеся в редкой, сквоз-
ной и колеблющейся паутине деревьев,— ветер, что
6
ли, поднимается... Эх, смотри, чего-то зажало,— с
неловкой усмешкой пожаловался он, притискивая
ладонью левую сторону груди...
Степан ничего не ответил, и машина, помедлив,
осторожно переместилась на отвод, бережно пока-
чивая кузовом, проползла по набитой еще с оледе-
нелыми колеями дороге в сторону от бетонки, и уже
минут через десять Василий указывал, куда, к ка-
кой избе подворачивать. И его, и шофера поразило
прежде всего абсолютнейшее безлюдье: десятка два
или чуть больше изб, вытянувшихся в два неровных
ряда, и старые, кряжистые ракиты, купавшие свои
тонкие, с уже начинавшей просвечивать живой про-
зеленью вершинные ветви в синеве предвечернего
неба, было чем-то одним целым; но ни одной жи-
вой души не было видно, ни одного живого звука не
слышалось; что-то непонятное, пугающее и высшее
было в этом безлюдье, и оба это почувствовали.
— Вот это да-а! — протянул Степан, оглядывая
словно давно вымерший и заброшенный мир. — По-
ди, как на другой планете...
Но Василий давно уже глядел на приземистую
и длинную знакомую избу, слегка припавшую на
правый угол, на прогнувшиеся ворота, на намет еще
не растаявшего пласта снега на высоком крыльце,
и то, сколько он вложил в это подворье труда и за-
боты, вернувшись молодым щеголеватым сержантом
из армии, и то, что именно в этот дом он привел
Валентину и через год она именно здесь родила ему
сына, нерасторжимо связывалось с тем, что стояло
в кузове еще неостывшей, разгоряченной после дол-
гой дороги машины; теперь у него на глаза уже
наворачивались скупые слезы, и он, чтобы Степан
случайно не заметил их, торопливо отвернулся; он
теперь ничего не видел перед собой и дрожащими
руками долго не мог ухватить и выудить из пачки
папиросу. Наконец закурил и втянул в себя горь-
коватый дымок; муть в глазах стала рассеи-
ваться, и он от неожиданности заморгал. Перед ним
стояло пригнувшееся, низенькое существо с неве-
роятно толсто замотанной головой; сморщенное ли-
чико с пытливыми маленькими глазами жило и таи-
лось в глубокой нише, образованной, вероятно, из
множества всевозможных платков и шалей. Василий
понял, что перед ним одна из вырубковских старух,
и поздоровался.
— Здравствуй, Василь Герасимович,— донеслось
до него неожиданно звонко. — А я слышу: машина
грохочет, слышу,, вроде близко куда подворачивает.
Дай, думаю, оденусь, выгляну, кто ж это такой в
вечернюю-то пору? К нам, почитай, за всю зиму
никто не заглядывал, привезут с центральной усадь-
бы хлеба дня на три, мы себе и живем. Что ж ты,
Василь Герасимович,— указала старуха на маши-
ну,— вроде не к поре...
— Никак, ты, Пелагея Авдеевна? — спросил Ва-
силия, и старуха живо и обрадованно закивала.
— Я и есть бабка Пелагея, вишь, намотала на
себя от старости, никакая родня не признает...
— А я вот,— Василий тяжело повернулся к маши-
не,— мать привез... хоронить? значит, привез., вот так.
Бабка Пелагея охнула, поспешно высвободила
руку из толстой варежки и несколько раз перекре-
стилась на машину; яркое, начинавшее глохнуть
солнце все низилось и низилось; уже несколько раз
принимались кричать грачи, усеявшие вершины ста-
рых тополей и ракит. Бабка Пелагея предложила
поставить покойницу у нее, у нее-де и топлено, го-
ворила она, и святая книга есть, старухи соберутся
на ночь, почитают, но Василий заупрямился, заявил,
'что в последнюю дорогу мать должна отправиться
из своего угла, и бабка Пелагея опять перекрести-
лась, и, чуть помедлив, все принялись за дело. Счи-
стили снег с крыльца, открыли дверь в сени, затем
в избу, натаскали дров и затопили печь на кухне,
слегка протопили и в горнице и уже только затем
внесли и поставили покойницу; после этого и Васи-
лия, и Степана из горницы вытеснили и закрыли
за ними двери. В горнице для какого-то своего таин-
ства осталась бабка Пелагея и еще человек пять
старух, сошедшихся со всех Вырубок, одна другой
древнее, одна другой немощнее, но теперь объеди-
ненных одним важным делом, и Василий, уже начи-
навший чувствовать усталость после всех передряг
и волнений, лишь подбрасывал по их просьбе дрова
в печь, чтобы согреть воду. Пока еще было светло.
Василий побродил по запустелому подворью, слазил
в погреб, достал картошки, соленых огурцов, капу-
сты, моченых яблок, прихватил с собою банку гри-
бов — все это было заботливо припасено матерью
еще с осени; пока старухи обряжали покойницу, Ва-
силий при помощи Степана успел начистить и сва-
рить картошки и соорудить здесь же, на кухне, на
небольшом столике, накрытом старенькой, с проре-
занной в одном месте клеенкой, нехитрый ужин. Ва-
силий поставил на стол, среди огурцов, капусты и
моченых яблок, две бутылки водки и несколько гра-
неных стаканчиков, хранившихся у матери в настен-
ном шкафчике. Старухи еще возились в комнате над
покойной, и Василий со Степаном молчаливо выпи-
ли и поели горячей картошки с солеными грибами
и огурцами; от тепла начинал проходить нежилой,
застоявшийся дух, а в небольшое окно над столом
безглазо пялилась сгустившаяся до мрака синь, пе-
решедшая скоро в звонкую темень. Ветер усиливал-
ся, начинал жить и на чердаке, где все чаще и бес-
порядочнее погромыхивало железо, и в самих сте-
нах дома; после каждого особенно сильного удара
густого и теплого весеннего ветра в них слышалось
какое-то слабое потрескивание, шуршание, и Васи-
лий, сидя за столом, устало привалившись спиной
к стене, чувствовал этот безжалостный и размаши-
стый ветер; Василию не хотелось разговаривать, и
он налил но второй, но в это время двери в горницу
распахнулись и бабка Пелагея широким жесто.м при-
гласила их войти. Василий и Степан торопливо опу-
стили обратно на стол уже зажатые в ладонях ста-
канчики; Василий, как и положено, вошел в горни-
цу первый, за ним Степан, и оба остановились ша-
гах в двух от покойницы, теперь как-то неуловимо
переменившейся, как бы ставшей еще более успо-
коенной и посветлевшей лицом, В руках у нее, ело-
женных на груди, теплилась тоненькая свечка, на
лоб был наложен венок с молитвой, крохотный язы-
чок пламени жил над старенькой лампадкой в углу
перед одинокой иконой Ивана-воина — из рассказов
матери Василий знал, что этой иконой его мать и
отца благословили в день свадьбы, и поэтому мать
всю жизнь ею очень дорожила, и еще пуще уже
после войны, когда пришла похоронная на отца. Все
фотографии на стенах и зеркало в дверце шкафа
были завешены чем-то темным, а изголовье гроба
окаймляли несколько еловых ветвей. Пристроившись
В ногах у покойной, одна из старух, в очках с не-
вероятно толстыми стеклами, ни на что больше не
обращая внимания, нараспев читала затертый псал-
тырь; Василий этой старухи не знал, но ему объяс-
нили» что это святая монашенка Андриана, остано-
вившаяся на постоянное житье в Вырубках еще в
позапрошлом году, проживавшая вместе с бабкой
Анисихой и из-за отсутствия попа ездившая читать
на похороны по всем окрестным селам. Василий и
Степан робко постояли, послушали и вернулись на
кухню. К ним присоединились освободившиеся от
хлопот старухи во главе с бабкой Пелагеей, явно
всем коноводившей; все расселись вокруг стола на
двух скамьях и с удовольствием выпили понемногу
водки, помяли беззубыми-деснами картошки с огур-
цами; Василий привез для поминок несколько ба-
нок селедки и раскрыл одну из них. Старухи ожи-
вились и обрадовались, и бабка Пелагея тотчас
нарезала пряно пахнувшую селедку большими кус-
ками и поставила на стол.
— У нас такого добра и днем с огнем не отко-
паешь,— сказала она. — Ни в нашей лавке, ни в рай-
оне, грят, перевелась эта рыбка в море. Ох, господи,
в какие разы душеньку посолонить... Ну, бабы...
Старухи еще глотнули из своих стаканчиков и
долго с удовольствием ели селедку с хлебом и кар-
тошкой, выражая свое удовольствие, покачивали го-
ловами, причмокивали, и даже их обесцвеченные
временем глаза поблескивали в ярком свете одиноч-
ной пыльной лампочки под потолком. Василий знал
их всех, знал и многие истории, связанные с их
прошлой и теперь, казалось, никогда не существо-
вавшей жизнью,— частью тяжелые, частью смешные
или грустные. У всех у них, согласно деревенскому
обычаю, были и свои прозвища, и часто именно по
прозвищу их знали больше, вот бабку Пелагею все-
гда называли Козой, а вот высокую и тощую стару-
ху рядом с ней — Екатерину Анисьевну (сейчас она
робко подцепила вилкой очередной кусочек селед-
ки),, до сих пор прямую, словно жердь, сколько по-
мнил себя Василий, всегда называли Анисихой,
А вот эту толстенькую, разрумянившуюся от водки
и еды, Марию Андреевну, еще до войны лихо во-
дившую трактор, так и прозвали Чумазой. Василий
украдкой оглядывал их и тотчас, как только они
замечали его внимание, отводил глаза; он чувство-
вал с ними нечто общее, и это было не в прошлом
и не в том, что все они были родом из этого зате-
рянного в русской глухомани поселка Вырубки. Их
связывало сейчас нечто более крепкое и более веч-
ное, но что это было, Василий не мог определить
и, стараясь уйти от мешавших сосредоточиться на
основном .мыслей, стал думать о завтрашнем дне,
о многих делах, что было необходимо успеть завтра
сделать. Затем старухи долго, с интересом расспра-
шивали Василия о болезни и кончине Евдокии, оха-
ли и крестились, и Василий, хотя это было ему тя-
жело и неприятно, коротко и скупо отвечал, затем
махнул рукой, и все замолчали.
Степан, топорща белесые брови, хотел было вый-
ти к машине, посмотреть, все ли в порядке, но его
тотчас остановили.
— Ох, ох,— оживленно удивилась бабка Пела-
гея,— да сиди ты! В поселке-то ни души боле не ос-
талось, все тут,— очертила она рукой округ стола.
— И-и,— поддержала ее, еще выше поднимая го-
лову, бабка Анисиха,— это что теперь, теперь и по
весне трактор доползет... А то, как бывалоча, воды
по весне грянут, так и сидим на морю, во все кон-
цы одна вода, а мы посередке.
Вставший было Степан с тяжелой готовностью
опустился на свое место..
— Что правда, то правда,— показал он в какой-
то по-детски доверчивой усмешке щербатый перед-
ний зуб и сразу стал еще проще и ближе. — Уж ка-
жется, где только не побывал, и по Северу, и в Си-
бири, а такого, братцы, не встречал. Как же вы тут
живете, в этой тьме? Да я бы тут на другой день
в петлю полез...
— Ну, ты молодой,— тотчас возразила бабка
Пелагея, туже затягивая у себя под подбородком
концы темного, в белую горошинку платка. — Ты нас
с собой не равняй, вот они-то, молодые, все и раз-
брелись по белу свету. А нам куда?
— У нас огороды есть, куры,— неожиданно низ-
ким грудным голосом вмешалась бабка Чумазая,
прославленная раньше затейница и непоседа. — У пас
во-оля, так куры и ходят кругом — во-оля!..
— Куры? — почему-то очень изумился именно
этому обстоятельству Степан. — Проезжали, что-то
я ни одной не заметил...
— Ну как же, что ты! — загорячилась, опять вы-
соко вскидывая голову и выставляя вперед острый,
морщинистый подбородок, бабка Анисиха. — Нера-
зумные, поди, говорят — курица вроде дура, а кури-
ца — птица с умом, к вечеру она — на нашест, на
нашест — пырх тебе! — и сидит, чистит перышки!
А ты когда подкатил! А ты к вечеру подкатил! Во-
о-о! Пырх — и сидит!
— Ой» мужики, беда, ох, беда липучая! — вздох-
нула, начиная волноваться, бабка Пелагея. •— Лиси-
ца, проклятая, завелась где-тось. Да, стервья, —
искрой-то, искрой, да такая хитроватая, да такая
верткая, искрой тебе, искрой! На той неделе у кумы
Агафьи петуха на глазах уволокли, мы стоим суда-
чим, и петух тут, рядом, важный, золотистый, гре-
бень-то к весне весь малиновый, набряк, аж набок
свесился. А она тут, стервья, из-за плетня, как мо-
ленья,— скок! Только перья полетели, а петуха и
нету уже, у меня прямо ноги обомлели. «Кума, го-
ворю, кума, это ж он — стервья!» — «Ох,— говорит
она,— чтоб ей...» — да с теп и заплакала, уж какой
петух был, какой петух!
— Мы и в совхоз, на центральную усадьбу, хо-
дили,— все с тем же дерганьем головы вверх пожа-
ловалась бабка Анисиха. — Хоть бы мужик с ружь-
ем, а? А там эти все от водки — во-о! — все распух-
шие, все альгоколики! Каждый в присест по ведру
в себя! Во! Все в гогот — го-го-го! Ты, бабка, грят,
не туды! Лисица, грят, одна на всю губернию! Сей-
час, грит, лисица — во-о! Под охранной печатью,
грит! А что петух? Их, петухов, тьма-тьмущая, грит,
под ликтричество комарьем из болота выскакивают!
Во, грит! Альгоколики проклятущие, из глаз-то и то
самогонкой разит! У нас тут летом гости наезжают,—
вспомнила бабка Анисиха, в мягкой задумчивости
глядя куда-то поверх головы Степана. — Внучку при-
возят из самой Тулы, в прошлый раз самовар при-
везли, пряников привезли целую коробку. А вон к
ней,— указала она острым подбородком на толстую,
с одобрением и интересом слушавшую бабку Чума-
зую с еще больше раскрасневшимися круглыми ще-
ками,— так прямо из Москвы дочка с двумя оголь-
цами приезжает. А в прошлом году прямо на своей
машине всей семьей, с мужиком, с зятем Володь-
кой — инженером, прикатили. Почитай, все лето гри-
бы собирали да в речке плескались... А раков-то, ра-
ков половили, как пойдут, так ведро тебе.
— А к осени у нас студентов да школьников
полным-полно — на уборку-то их нагоняют,— вста-
вила свое и бабка Пелагея. — Все пустые хаты по-
занимают, день и ночь галдеж! Хоть и боязно, гля-
ди, долго ли до пожара, а нам все радость. У них
тут и гульбища, а в прошлую осень так свадьбу
справляли! То-то было диво!
Все старухи враз заулыбались, закивали соглас-
но, затем, как по команде, притихли, словно задума-
лись о чем-то своем, самом сокровенном.
— Какая-то не такая нынче жизнь пошла, ка-
кая-то запойная,— вздохнула бабка Пелагея.
— Во, во! — с готовностью поддержала ее бабка
Анисиха. — Сеют бегом! Убирают бегом! Налетят во-
ронами, все поклюют, все перекопают! Глядишь, нету
никого, нет ничего! Господи, прости, анчихристы!
— Расхныкались, расхныкались! — не удержа-
лась бабка Чумазая. — В один бок всего сразу не
кинешь! «Раньше, раньше!» А что раньше? А теперь
пенсию каждый месяц тебе домой! Такая-сякая
бабка Анисиха, просим получить денежки, а? То-то
и оно! А кто нас тут в пустом поселке держит? У всех
у нас в городе кто-то есть, меня вон сын аж в Ле-
нинград звал... а? То-то и оно!
— Пойду, повыть надо,— с суровым, отвердев-
шим и как-то сразу ставшим далеким и неприступ-
ным лицом сказала бабка Пелагея, и все старухи
разом встали и прошли к покойнице; почти тотчас
и Василий и Степан невольно вздрогнули.
— Да подружка моя Евдокеюшка!—тонким и
пронзительным, полным немыслимого страдания го-
лосом затянула бабка Пелагея. — Да куда ж ты
ушла, моя горемычная подружечка, а меня бедовать
этом свете оставила? Да возьми меня в свою сто-
ронушку невозвратную, уж ноженьки мои не ходютъ
и глазоньки от слез совсем обессилели! Уж я...
Василий не выдержал, сморщился, не глядя на
Степана, выскочил на улицу. На него обрушился
теплый густой ветер, и он, подставляя ему горевшее
каким-то особенным жаром лицо, пошел по мертвой
улице, и, когда остановился уже за поселком, не-
проглядная темень, разрываемая яростными и ве-
селыми порывами ветра, пласталась вокруг; и туи
он понял, что за то время, пока он был под крышей,
небо затянуло плотными, стремительно несущимися
тучами; мелкой водяной пылью ему плеснуло в ли-
цо, и дождь больше не прекращался. «Не выберется
завтра Степан на дорогу»,— тревожно подумал os
и тотчас забыл; все мысли и тревоги заслонило ка-
кое-то пьянящее, безрассудное чувство слияния с
беспросветной и стремительной ночью, с этой зем-,
лей, бесконечно родной сейчас, захлестнутой весен-
ней тьмой, плотно насыщенной несущейся водяной
пылью. Ему было жарко; в неистовстве ветра он
слышал сейчас то, чего не дано, да и нельзя слы-
шать человеку, и готов был остаться здесь навсегда
и раствориться в этой безжалостной ночи, во все-
смета ющей прочь перед собой и оставляющей за со-
бой лишь нетронутое, готовое принять неведомые
семена и дать неведомые всходы поле... И то, что
не умещалось сейчас в нем, разрывало ему душу,
и он, жалко всхлипнув от страха, что все это безу-.
мие и счастье промчится мимо него и исчезнет бес-*
следно, пошел, задыхаясь, в густой мартовский ве-
тер, пытаясь продлить это безумно прихлынувшее
торжество души; и он услышал нежные, серебряные
звоны, как когда-то в самом раннем детском сне..*
Через час или больше, сгребая бегущие по лицу
потоки дождя, Василий сбросил в сенях намокший
дождевик и, повесив его на крюк, вошел; старухи,
уже опять сидевшие рядком за столом, увидев его
в дверях, враз повернули к нему головы, и он, пря-
ча то, что пришло к нему, отвел в сторону слошю
промытые, налитые густым светом глаза; и все по-
няли, что спрашивать ни о чем нельзя. Он подошел
к горящей печи и стал греть руки.
— Ты бы, Василий, лез на печь, поспал чуток,—-»
предложила бабка Пелагея. — Простуду, гляди, под-
хватишь. Там вон на лежанке одежка, попонки ле-
жат... одеяло. Твой машинист давно храпит-зали-
вается. Да глотни еще водочки, прогрейся...
— Во, во! Не уросься, не уросься! Во! — поддер-
жала ее и бабка Анисиха. — Нам все одно спать
нельзя... душу провожаем... во...
Бабка Пелагея сама налила ему чуть больше
полстакана, сунула в руки, и он выпил; затем, как
в полусне, стащил с себя сапоги, сбросил набряк-
ший тяжелый пиджак, забрался на широкую лежан-
ку, где уже уютно похрапывал Степан, выставив
вверх колени, стянул штаны и в одном белье с на-
слаждением лег па начавшие теплеть кирпичи. Он
спал и не спал; он чувствовал, как чьи-то заботли-
вые руки подсунули ему под голову подушку, а свер-
ху прикрыли почти невесомым от старости байковым
одеялом; он затих, наслаждаясь теплом и покоем,
и приглушенные голоса старух, коротавших за сто-
лом долгую ночь в разговорах, все отдаляются и от-
даляются, но совсем не меркнут, и это даже не го-
лоса, а что-то вроде огромного неба, и шелест теп-
лого, грибного, слепого, как говорили у них в по-
селке, дождя. А солнце по-прежнему светит, и весь
мир объяла сине-малиновая радуга, одним концом
на далекий лес, другим в речку — воду в небо тя-
нет. Он почувствовал запах свежести, приподнял
голову, но она тут же упала на подушку, и теперь,
радуга уткнулась одним концом прямо в его глаза,
ему и страшно, и хорошо, потому что эта цветистая,
радостная дорога размыкает перед нил самые даль-
ние горизонты, уносит его в немыслимую высь. Но
что же это, что?
2
Васек, как звали его и отец с матерью, и бабка
с дедом, и все соседи, и погодки, с которыми он с
утра до темной ночи пропадал на улице, белоголо-
вый пятилетний мальчуган, взбрыкивая, слепой от
восторга, несся навстречу солнечному ветру верхом
на ореховой палке, а сзади, визжа, подстегивал ее
гибко хворостиной. Опушка березового леса была
не то что наполнена, а словно налита до краев сол-
нечным светом, воздух от этого был какой-то золо-
тистый. Отражаясь от ослепительно белых стволов
берез, солнечный свет на легком сухом ветру дро-
бился, разлетался радужными осколками; было
больно смотреть, не прищурив глаз. И Ваську боль-
но глазам, и он несется по лесу, почти зажмурив-
шись, вслепую, но солнце прорывается и сквозь ве-
ки; белые стволы берез мелькают вперемежку с ра-
дужными пятнами света и по высокой и сочной май-
ской траве (Ваську чаше всего с головой); повсюду
развешаны большие ярко-синие лесные колокольчи-
ки; в упоении жизнью Васек не щадит и их, рубит
хворостиной на бегу, и они, переламываясь в стеб-
ле, опадают в густую, сочную зелень.
— Васек! — слабо доносится голос матери. — Ва-
а-а-сек!
Васек круто заворачивает и удивленными, сразу
широко раскрывшимися глазами осматривается. Он
успел забежать довольно далеко; он был в низине,
толсто устланной опавшей прошлогодней листвой с
пробивающейся сквозь нее острой и редкой травой.
Солнце тут до земли не доходило, солнечный ветер
вовсю бушевал где-то там, над плотно сомкнувши-
мися кронами кленов, ясеней, дубов, а у земли бы-
ла тишина, и даже ветер сюда не прорывался. Васек
слегка повернул голову, и холодная дрожь сладко
облила его с головы до ног. Вывороченное из земли
дерево, судорожно выставившее вверх причудливо
перевитые корни, поначалу показалось ему огромным
живым существом, готовым вот-вот броситься на не-
го. Отец рассказывал, что в лесу водятся и волки,
и дикие кабаны, и даже медведи; вывороченные,
вставшие дыбом корки и показались ему вначале
медведем. И тотчас опять пробился в нем голос от-
ца, что от медведя нельзя убегать, нужно падать и
притворяться мертвым, и уже в следующее мгнове-
ние он лежал ничком на земле, и сердце у него бе-
шено колотилось. Он старался не дышать, но глаз
закрыть никак не мог; он совсем близко видел боль-
ших лесных рыжих муравьев; одни из них что-то
тащили, другие, сталкиваясь и узнавая друг друга,
шевелили усиками... они были такими смешными и
так похожи на людей, что страх у него прошел, но
ненадолго. Пока он был занят муравьями, он '’эбыл
про медведя, но вот словно что толкнуло его, он
весь обратился в один чуткий и жалкий ком. Он
слышал тяжелые звуки шагов, они все ближе, бли-
же. «Уф! Ур-р! Уф!» — раздавалось над ним, вотуму
в затылок кто-то шумно и жарко дохнул и зат^м
лизнул шершавым и горячим языком. Он почти по-
терял сознание, ио выдержал и не шевельнулся,
правда, пальцы его сами собой вцепились в мягкую
и толстую прель лесной земли, и он всем телом еш.е
сильнее вжался в нее. Придя в себя, он боязливо
приоткрыл один глаз и сразу же увидел все тех же
муравьев — они суетливо и бестолково продолжали
сновать по прошлогодней преющей листве, загляды-
вая во все уголки, во все закоулки, что-то отыски-
вая, о чем-то своем разузнавая. И тогда он осторож-
но приподнял голову и теперь ясно увидел, что ни-
какого медведя нет, а перед ним вывороченное кор-
невище дерева. Он сел и хотел заплакать от пере-
житого ужаса, но тотчас вскочил на ноги и с дикой
пляской, визжа, стал хлестать палкой по выворочен-
ным кореньям, и с них облетала к брызгалась за-
сохшая старая земля, и ему самому было жутко и
весело. Наконец он устал и утихомирился, теперь
он ничего не боялся и долго гонялся за какой-то со-
всем крохотной птичкой; она отлегала от него метра
на три-четыре и ждала, пока он бросится к ней, за-
тем отлетала опять, а под конец, задорно пискнув,
вспорхнула вверх и затерялась в густой листве. Ва-
сек, задрав голову, стал ее разыскивать глазами. Но
в это время до него опять донесся слабый, тревож-
ный голос матери:
— Ва-асе-ек! Ва-асе-ек!
И он опрометью бросился на этот привычный зов
и скоро, запыхавшись, уже мелькал круглой белесой
головой на опушке, а мать, сердито выговорив ему
и ставя в пример соседского Андрейку, так спокойно
и просидевшего под ореховым кустом все это время»
строго наказала не забредать далеко; затеям она да-
ла ему краюшку вкусного, пахучего хлеба и бутыл-
ку топленого молока. Он жадно принялся есть,
мать продолжала свое дело, срезала нужные ей бе-
резовые ветки и вязала из них веники, что не меша-
ло ей оживленно переговариваться с другими баба-
ми, занимавшимися тем же; много березовых вени-
ков нужно было заготовить на зиму, любили выруб-
ковские мужики париться крепко, подолгу, потом,
распаренные, красные, как вареные раки, выскаки-
вали в клубах пара наружу, с лешачьим уханьем и
гоготом валились в снег и вновь торопливо ныряли
в жаркое чрево бани. А майская зелень самая по-
лезная, листва на ветках держится намертво, не ско-
ро ее отхлестаешь; вот и торопятся бабы наготовить
10
веников именно в мае; выберут момент, соберутся по
трое, по четверо — ив березовый лес, на опушку, ту-
да, где густыми гривами поднимается подрост, а
назад возвращаются с тяжелыми вязанками готовых
веников, развешивают их для просушки на шестах,
укрытых и от дождя и от солнца, на легком сквоз-
нячке, и веник сушится постепенно, исподволь, со-
храняя в листьях и в коре всю свою целебную силу
и всю крепость весенней земли и жаркого солнца.
Васек съел хлеб, запивая его сладким, густым
молоком; и то, что мать похвалила Андрейку, сине-
глазого и тихого, ему не нравилось; Андрейка подсел
к нему, стал что-то говорить, но Васек внезапно
оттолкнул его и быстро перебежал под другой куст.
Его сильно разморило, и он тут же, опустившись на
мягкий мох под развесистой старой березой, заснул,
а когда открыл глаза, над ним стояла смеющаяся,
разрумянившаяся мать и другие бабы, тетка Анисья,
тетка Поля, и все они весело смеялись.
— Во! Во! — говорила тетка Анисья, ловко за-
тягивая косынку на голове, и под мышками у нее
смешно шевелилось. — Притомился мужик, во!
’— А вы не смейтесь! — прикрикнула на нее тет-
ка Поля, черноглазая, проворная, все время, каза-
лось, пританцовывающая на месте. — Он за этот сон
на целый вершок подрос! Ох, добрый мужик будет,
вы поглядите, какой у него в коленках-то запас! Вон
какая кость выпирает — огра-амадная! а?
Все заинтересованно стали смотреть на грязные,
исцарапанные и худые колени Васька, и он сам с
интересом воззрился на собственные колени, затем
послюнявил палец и стал стирать с ноги проступив-
шую из пореза засохшую кровь. Все почему-то опять
засмеялись, а мать сказала:
— Подымайся, подымайся. Пора домой-то. Я и
тебе веников навязала, не плестись же тебе порож-
нему, и без того весь день пролындал.
Васек было захныкал спросонья, мать укоризнен-
но на него поглядела и покачала головой.
— Ну вот,— сказала она,— а еше мужик. Вон
Андрейка, погляди, больше матери набрал. Небось
с батькой-то в баню запросишься, а помочь не хо-
чешь... Ну ладно, я и сама донесу.
Она уже хотела было присоединить маленькую,
в несколько веников, вязку сына к своей, огромной,
но Васек неожиданно резко вскочил.
— Я сам! я сам! сам! — закричал он, выдерги-
из рук матери свою ношу, и скоро все они гусь-
ком друг за другом шагали через луг и поле к по-
селку; дома Васек заносчиво сказал старшему бра-
Косте:
— А я веников принес! Больше Андрейки пер!
Целых десять штук веников! Вот! А я себе палец
содрал, глянь!
Он выставил большой палец на ноге с разорван-
ной кожей и с запекшейся черной кровью; Костя,
тоже белоголовый, с большими, растопыренными
ушами, был всего лишь на два года старше брата;
он готовился идти на следующий год в школу, знал
все буквы, умел по слогам читать и оттого посмат-
ривал на младшего довольно снисходительно.
— Подумаешь,— сказал он с очень независимым
видом и плюнул далеко в сторону; у него была шер-
батинка и плевался он очень ловко и далеко, чему
отчаянно завидовали его сверстники. — Палец! А ты
знаешь, сколько четыре на четыре?
— Знаю! — отчаянно соврал Васек и тоже выста-
вил вперед ногу и стал топать ею в сыпучую пыль.
— Ну, сколько?
— А вот и не скажу! — нашелся Васек и еще
отчаяннее затопал, показывая свою совершеннейшую
независимость.
— Знаешь, ха! Ни черта ты не знаешь! Четыре
на четыре — шестнадцать! Свел?
— Двадцать! — неожиданно выкрикнул Васек, и
лицо его вспыхнуло, затем так же внезапно поблед-
нело. — Двадцать! двадцать!
— Что? — опешил Костя, и уши его побелели и
стали еще больше. — Двадцать?
— Двадцать! двадцать! — крепко зажмурившись,
теперь почти завизжал Васек и яростно затопал
обеими ногами; пыль из-под них брызнула во все
стороны. Костя подскочил к нему, не говоря больше
ни слова, с ходу влепил брату затрещину; тот от
неожиданности кувыркнулся в пыль, взвизгнул, вско-
чил, и скоро оба брата, сцепившись, катались в пы-
ли и отчаянно, как попало, молотили друг друга
кулаками. И Васек, будучи моложе и слабее, почти
все время ухитрялся быть сверху брата, да еше вдо-
бавок укусил его за плечо. Выскочила мать, раста-
щила братьев, влепив одному и другому несколько
шлепков.
— Волчата! волчата! — закричала она, хватая из-
под изгороди ту самую ореховую палку, на которой
Васек любил, гикая, носиться по поселку; братья
брызнули в разные стороны. Мать трясла палкой,
делая сердитое лицо, но долго не выдержала, рас-
смеялась.
— Идите сюда,— позвала она братьев. — Берите
белье да в баню, батька вон уже истопил, а вы тут
все дуроломите! А ну, давай живо, батька ждет. Ис-
поднее чистое на лавке...
Васек восторженно подпрыгнул и, обо всем сра-
зу забывая, опрометью бросился в избу; баниться
вместе с отцом он любил больше всего на свете;
Костя бросился за ним, и вскоре братья уже бежа-
ли огородом, узкой межой разделявшим высоко под-
нявшиеся темно-зеленые от обильного навоза кусти-
ки картошки и многочисленные грядки всевозмож-
ной огородной всячины — и веселой редиски, и уже
начинавших важно распространяться по грядкам
ранних огурцов, и разлапистых, приземистых пока
кустиков помидоров, и задорно ощетинившегося лу-
ка, и домовитой, спокойной капусты, и тонкого под-
солнечника, и кукурузы, и чесноку, и моркови, и ка-
кого-то особого сорта кабачков... И хотя Костя ока-
зался позади Васька, и хотя это было несправед-
ливо, он не решался его обгонять, опасаясь попор-
тить грядки; вот за это ни от отца, ни от матери
пощады ждать было нечего.
Закопченные баньки стояли позади огородов, как
раз вдоль берега протекавшей там небольшой речки
Выры. Стояли они довольно высоко, поднятые на ду-
бовых сваях; не часто, но Выра, особенно после
снежных зим, бурно разливалась и, бывало, уносила
какое-нибудь немудрящее, поставленное без должно-
го предостережения строеньице, раздергивая его по
бревну на разных речных завалах и по берегам.
Васек с Костей залетели; в предбанник, неболь-
шую клетушку с маленьким, в одно стекло, окош-
ком и широкой лавкой во всю стену; они сразу уви-
дели отца, сидевшего на лавке в одной исподней ру-
бахе и почесывающего широкую, волосатую грудь;
при виде запыхавшихся сыновей хмурый Герасим,
только что вернувшийся из кузницы, где весь день
сегодня ковал лошадей, а затем сваривал поломан-
ные оси телег, сразу просветлел; он любил сыно-
вей; родились они один за другим только лет через
шесть после женитьбы, и Герасим, хотя внешне и
обращался с ними по-крестьянски, с грубоватой пря-
мотой, души в них не чаял. Васек, на правах млад-
шего, тотчас вскарабкался отцу на колени и со сме-
хом стал тереть ладошками его колючие щеки; от
отца вкусно и загадочно пахло дымом и окалиной, и
Васек от наслаждения крепко зажмурился. Герасим
стянул с него рубашку, штанишки и легонько шлеп-
нул ниже спины, подталкивая к темной, разбухшей
двери, сквозь щели которой прорывался крепкий пар.
— А ты, Костик? — спросил Герасим старшего.—
Давай, давай, веником меня постегаешь, а то у
Васька силенок пока маловато.
Костя с готовностью тотчас сбросил одежку и,
сверкая белыми ягодицами, скрылся в душном чре-
ве бани; Герасим стащил с себя пропахшую потом,
заскорузлую под мышками рубаху и, заранее кря-
кая от предстоящего удовольствия, присоединился
к сыновьям. Сильно пахло распаренной, смолистой
сосной; братья уже плескались друг в друга из де-
ревянной шайки и радостно взвизгивали. Герасим
сказал «а ну, поберегись!», зачерпнул ковш квасу
из деревянного ведерка и шибанул его на раскален-
ные камни печи под дымящийся огромный котел с
горячей водой. Костя с братом, повизгивая, ничком
съехали на пол под лавку, а Герасим, посмеиваясь,
хватая широко открытым ртом пахучий, раскален-
ный пар, полез на широкую полку у самого потол-
ка; там он, охая и ворочаясь, долго лежал, истекая
десятью потами и чувствуя, как все легче и легче
становится тело, как приятно горит кожа и светле-
ет тяжелая от кузнечной гари голова; он требовал
от сыновей пару погуще, и то Костя, то Васек сры-
вались с места, плескали квасом на раскаленные
камни, подбрасывали заодно смолистые или березо-
вые поленья в огонь; заглянула в баню Евдокия,
ошарашенно охнула от ударившего в лицо, в глаза
яростного, жгучего пара.
— Ну, оглашенные, ну, оглашенные,— заругалась
она, отскочив от двери подальше. — Да вы тут жи-
вые хоть, а?
— Дверь! дверь! дверь! — завопили в несколько
голосов из бани, и Евдокия, торопливо приказав сы-
новьям вымыть головы с мылом, прихлопнула тя-
желую, разбухшую дверь.
i г>
s z.
Герасим напарился до изнеможения, и от этого
удивительно облегчающего хлебного пара он, каза-
лось, даже изнутри весь высветлился; от копоти и
сажи, въевшихся в кожу за неделю, лицо очисти-
лось и неузнаваемо побелело; когда уже терпеть бы-
ло невмоготу, он расслабленно спустился вниз, за-
черпнул ведром из бочки холодной воды и с отча-
янным гоготом вылил на себя; с восхищением лю-
буясь отцом, братья забились в самый дальний угол,
опасаясь, что холодная вода достанет и до них. Ва-
сек, впрочем, и тут отличился; выбрав момент, он
подскочил- к бочке, зачерпнул ковшом воды и вы-
лил себе на голову. Тысячи холодных пронзительных
игл вонзились в его тело, он хотел закричать, но
судорогой перехватило горло, и он лишь удушенно
захрипел; Герасим подхватил сына на руки, увеси-
сто шлепнул его по спине, и после этого к нему вер-
нулся голос. Все рассмеялись, а больше всех сам
Васек, и когда понемногу утихомирились, началось
самое главное. В ход пошли распаренные, горячие
березовые веники; вначале Герасим, сдерживая тяже-
лую руку, легонько похлестал сыновей, и кожа у
них на спинах и по бокам нежно заалела; затем
Герасим улегся на лавку ничком, и сыновья в два
веника хлестали его изо всех сил, а он, охая и по-
станывая, все просил их трудиться поусерднее и не
жалеть ни собственных рук, ни веника, ни его спи-
ны и кожи. После Герасим еще парился на полке,
а затем обмывшись сам, обмыл и сыновей, и все
стали одеваться. Васька Герасим поставил на лавку,
вытер его полотенцем, натянул рубашонку; у Вась-
ка кружилась голова, ноги стали слабыми, словно
набитые пеньковыми хлопьями. Беззастенчиво рас-
сматривая большое, в самой поре, по-мужскому раз-
машистое тело отца, Васек чувствовал некоторую
робость и в то же время испытывал безотчетную гор-
дость, что у него такой сильный отец.
— Бать, а бать, а я, как вырасту, тоже такой
буду? — спросил он, прикладывая .горячую ладошку
к широченной отцовской груди.
— Будешь, будешь,—подтвердил Герасйм и,
взглянув на старшего, Костю, сопевшего рядом и
все старавшегося залезть в ставшие узкими холщо-
вые штанишки, засмеялся от хорошего настроения
после бани, от радости жить и иметь вот таких сы-
новей. — Вы оба еще больше меня вымахаете,— по-
обещал он. — Ну, давай, давай, выметывайся, а то
еще матери побапиться надо. Темнеть скоро начнет.
В этот вечер Васек заснул прямо за столом, не
допив молоко из кружки; Костя, сидевший рядом,
уже готов был растолкать его, но мать перехватила
его руку, и Герасим бережно отнес заснувшего сы-
на на постель; у Васька во сне было встревоженное
и какое-то стремительное лицо; он в это время, слов-
но ласточка, несся, то взлетая высоко над землей,
то опускаясь к ней так, что распластанными руками
задевал шелковистую, мягкую траву, то вновь с жут-
ким и сладким замиранием сердца взмывал вверх,
к самым облакам. И это состояние восторженного,
захватывающего дух полета продолжалось чуть ли
не всю ночь. Наутро, когда он проснулся, выбежал
на улицу и увидел огромное, красное, едва-едва на-
половину показавшееся из-за леса солнце, он со-
рвался и стремглав понесся вдоль улицы, разбрыз-
гивая босыми ногами прохладную росу с травы;
ощущение бездумной радости продолжалось у него
вплоть до непонятного дня, когда в мире случилось
что-то непоправимое и тяжкое, и он видел застыв-
шее, незнакомое лицо матери, шагавшей рядом с
отцом за скрипучей подводой, доверху загруженной
мешками с продуктами, приспособленными для пе-
реноски под крепкие мужицкие плечи и спины; он
вместе с другой мелюзгой бежал обочиной дороги
долго, но ни мать, ни отец не оглянулись на него,
и он обиделся, отстал, сел под какой-то куст и стал
размазывать по лицу невольные, злые слезы; он не
привык к такому невниманию, и сердце его от неза-
служенной обиды жестко и больно колотилось. От-
ца, огромного, доброго, всемогущего, которого он
любил больше всего на свете, он так никогда потом
и не увидел; в последующие годы отец изредка при-
ходил к нему лишь во сне, да и то в самые труд-
ные, невыносимые моменты* И появлялся он всегда
одинаково: стаскивал шапку и проходил прямо в
нагольном полушубке в передний угол, садился на
свое обычное место во главе стола и молча, при-
стально начинал смотреть именно на него, на Вась-
ка; в последний раз это случилось уже после нем-
цев, перед самым концом войны, в апреле, когда
Евдокия под вечер принесли казенную бумагу и она,
едва взглянув на нее, цепляясь пальцами за стену,
осела на пол, и Васек, теперь уже десятилетний пар-
нишка, сам побледнел, глядя на похолодевшее ли-
цо матери, и, кинувшись к ней, что-то закричал. Он
теребил ее, силился поднять, и мертвая тяжесть ма-
тери вселяла в него еще больший ужас.
— Мамка! мамка! мамка!—звал он не своим го-
лосом и теперь, оставив попытки поднять ее, все
старался ее напоить; вода из кружки выплескива-
лась матери на шею, на грудь, и это еще больше
пугало Васька. Мать открыла глаза, они были пу-
сты и бессмысленны; Васек притих, ждал. Глаза
Евдокии потемнели, брови сдвинулись, и под ее
взглядом у Васька пересохло в горле.
— Нету теперь у нас батьки, сынок,— через силу
пошевелила губами Евдокия, бессильно ерзая за-
тылком по стене; опустошенное постоянной работой
тело не подчинялось ей больше.
— Как нет? — с недоверием спросил Васек, ото-
двигаясь от нее.
— Нету, сынок... Еще в сорок третьем, когда мы
под немцем-то были, на Курской дуге, пишут-, вишь^
в сражении за Орел... вот, сынок...
Васек взял у нее из руки извещение и по скла-
дам, прыгающими губами стал вполголоса читать;
Евдокия, едва дошел он до геройской гибели связи-
ста сержанта Герасима Ивановича Крайнова, раз-
рыдалась, и Васек долго не мог ее успокоить,
В окно весело светило солнце, и его яркие пятна на
полу, на противоположной от окна стене все время
двигались, жили. Евдокия глядела на эти пятна пу-
стыми глазами; вот теперь она была окончательно
убита, и в жизни ничего больше не оставалось; по-
могая себе непослушными руками, она тяжело вста-
ла и под неотступным, как бы оберегающим взгля-
дом Васька вышла. Петух и три курицы, первая
живность после немцев во дворе, деловито вытяги-
вая головы, заглядывали в сарай, готовясь взлететь
на нашест. Евдокия тяжело опустилась на старую,
толстую колоду для рубки дров, привезенную еще
задолго до войны Герасимом. Она медленно и при-
стально оглядела сарай, навес для дров, бревенча-
тый рубленый двор, ворота, покрытые поверху затей-
ливыми узорами из толстой жести. Вот и от войны,
дал бог, все уцелело, с другого конца поселок на-
чисто выгорел, теперь в землянках пробавляются, а
тут все уцелело, даже жестяной конек на крыше;
ребятишки как радовались, когда Герасим прибивал
эту свою детскую выдумку. Все уцелело, а хозяина,
мужика,— больше нет, вот словно кто взял и вынул
душу, теперь хоть живи, хоть умирай*
В колоду был воткнут топор. Евдокия выдернула
его, попробовала большим пальцем острие и стала
рубить хворост, наваленный рядом; она же сама за
зиму и натаскала его из лесу на салазках. Она ру-
била методично и ровно, сильно взмахивая топором,
и не заметила сгустившейся окончательно темноты.
Что-то отвлекло ее внимание; она оглянулась. Оба
ее сына, и Васек, и особенно вытянувшийся за пос-
ледний год Костя, стояли рядом и молча смотрели
на нее. Страх, слепое бабье отчаяние и нежность за-
хлестнули ее душу; у Васька были совершенно от-
цовы глаза, добрые, светлые, в минуты гнева словно
вспыхивающие изнутри угрюмым, колючим огнем.
Она встала с колен, воткнула топор в колоду.
— Пошли ужинать,— сказала она. — Поздно.^
Это был особенный и тягостный вечер, когда,
узнав о похоронном извещении, в дом к Евдокии
набились соседки, родные; все приходили, рассажи-
вались, ни слова не говоря, по лавкам; пришли и
кума Пелагея, и тетка Анисиха, и чумазая Катька-
трактористка, обычно веселая, неунывающая баба,
полная и круглая телом, ее никакая нужда, никакая
война не брали; пришел и древний дед Агей, и уже
вернувшийся по чистой однорукий Федор Климен-
тьев, тотчас и выбранный в Вырубках председате-
лем. Все вначале сидели, молчали, вполголоса чита-
ли похоронную, переходившую из рук в руки, рас-
суждали, что до этой Прохоровки совсем ведь рукой
подать, верст сто, не больше, а потом потихоньку
разговорились. Стали вспоминать, какой Герасим
Крайнов был добрый кузнец и хозяин; кума Пелагея
вспомнила, какую ей кум Герасим тяпку сделал — до
сих пор износу нет, а остра, как бритва; дед Агей
поддакнул, что мастер Герасим был первостатейный
и что никто так не умел наварить пятку7 на порван-
ную косу. Слушая, Евдокия крепилась, крепилась, да
и не выдержала, потекли непрошеные слезы. Плака-
ла она на этот раз тихо, что-то словно облегчало
и размягчало ей душу, и отпустило захолонувшее
сердце; она поглядывала на сыновей, старавшихся
не пропустить об отце ни одного слова. И Евдокия
покорилась жизни, и душа ее отмякла; соседи и род-
ные разошлись, ночь прошла, и дни покатились в
непрестанной работе, казалось, одинаковые. Работа-
ла в колхозе, ежедневно вскапывала свою норму в
пять соток; Костя, как и все его сверстники, тоже
пахал на добродушном трофейном немецком мерине
по кличке Чалый; силенок у Кости для такой тяже-
лой, мужской работы было маловато, и Евдокия жа-
лела его, подсовывала за обедом, ужином кусок по-
больше да получше; по вечерам Евдокия возилась
у себя в огороде. Сегодня сеяла морковь и свеклу»
завтра огурцы, сажала лук, помидоры, капусту; еще
до зари вскакивала, чтобы до колхозной работы по-
лить грядки, приготовить какой-нибудь завтрак, по-
хлебку из молодой крапивы, щавеля, горсти ржаной
муки да мелко растертого, круто сваренного кури-
ного яйца; все мечтала о новине, когда пойдет моло-
дая картошка, огурчики, лучок...
День был в самой середине, с легкими редкими
облаками по всему небу: майское разнотравье за-
хватывало леса, луга, запустевшие за войну поля.
Цвели сады, словно облитые бледно-розовым пла-
менем, яблони на заре одуряюще пахли. Вишенье
уже начало облетать, густо устилая парившую зем-
лю, завязь все сильнее обсыпала деревья.
С натугой выворачивая лопатой проросшие ко-
реньями глыбы земли, Евдокия, время от времени
придерживаясь за поясницу, с трудом выпрямля-
лась, отдыхала; рядом с ней билась над своей нор-
мой кума Пелагея, чуть подальше Анисиха; от леса
начинал тянуть ветерок, и было приятно подставить
ему взмокшие лицо и грудь. Над лесом все усилива-
лась и расползалась тяжелая синева, а там и неяс-
ное, далекое еще погромыхивание услышала Евдо-
кия и тут же, оглянувшись, наметила рядом на лу-
гу, к которому спускалось поле, густой куст раз-
росшегося ивняка на случай грозы и дождя; в небе
над лесом вспыхнула молодая трехцветная радуга,
и теперь стала отчетливо видна вызревающая, непре-
рывно клубящаяся, пронизываемая беззвучными по-
ка извивами молний грозовая туча. Все на глазах
менялось: воздух стал плотнее, по цветущему лугу
пошли переливаться волны густой травы, от темнев-
шей тучи над лесом в остальном небе синь стала
еще гуще и как бы ярче; уже во всем ясно обозна-
чилось противоборство не подвластных никакому
предвидению слепых сил; томление бт этого распро-
странялось на все живое. Исчезли бабочки, примол-
кли птицы, и только неутомимые ласточки, собрав-
шись в одном месте, беспорядочно и густо чертили
небо. Ударил первый порыв ветра, и тополя вокруг
бывшего помещичьего сада, высаженные в два ряда,
враз склонились острыми вершинами в одну сторо-
ну и беспокойно застонали.
Евдокия услышала чей-то крик и грохот колес
телеги по неровной земле; она повернула голову, и
что-то невыносимо острое вошло в сердце.
— Евдокия! Евдокия! — кричал дед Агей, кол-
хозный конюх, и бороду у него беспорядочно трепало
ветром. — Скорей! Скорей садись!
— Что? — выдохнула из себя Евдокия все с тем
же острым гвоздем в сердце, мешавшим дышать;
она шагнула к повозке, споткнулась и остановилась,
беспомощно придерживая разрывавшуюся грудь.
— Садись! садись! скорей! — опять закричал дед
Агей. и какая-то сила словно перебросила Евдокию
с одного места на другое; она уже сидела в повоз-
ке, ухватившись помертвелыми руками за решетку,
и повозка уже мчалась по полю, затем по ухабистой
дороге, а дед Агей безжалостно, не переводя дух,
стегал лошадь кнутом, и теперь Евдокия уже спра-
шивать ни о чем не могла. За повозкой вслед со
всего поля побежали бабы, но до поселка было с
версту, и они скоро отстали; а дед Агей все гнал
хрипящую лошадь и ни разу не повернулся к Евдо-
кии, ни разу не взглянул на нее. Они успели. Уже
собравшиеся у крыльца люди при виде Евдокии по-
спешно, не сводя с нее глаз, расступились, говор
смолк, и она прошла через этот живой пропустив-
ший ее и вновь сомкнувшийся проход в дом; стар-
ший, Костя, накрытый до подбородка белой скатер-
тью, лежал в горнице на большом дубовом столе,
сделанном еще до войны Герасимом для праздни-
ков, чтобы можно было побольше усадить гостей.
Тут же был однорукий председатель, еще два-
три мужика, вернувшихся с войны по чистой, еще
кто-то был в горнице, Тяжело и просто пахло кро-
вью.
— Евдокия, Евдокия,— встревоженно сказал пред-
седатель, шагнув к ней навстречу. — На пахоте... ми-
на проклятая... коня в куски...
Она ничего не слышала, она лишь отстранила
чужое и ненужное ей сейчас лицо с дороги; она ви-
дела лишь глаза сына, притягивавшие ее все бли-
же и ближе. Она подошла вплотную, осторожно
подняла скатерть; весь низ живота у Кости был
толсто обмотан каким-то тряпьем, всем, что попало
под руку мужикам. Задавив рвущийся крик, даже
не изменившись в лице при виде расползавшегося
на глазах по неуклюжей повязке густого кровавого
пятна, она опустила край скатерти.
— За доктором послали,— услышала она голос
председателя. — Скоро должны быть...
Евдокия ничего не ответила, взяла бледную руку
сына с успевшей уже по-мужски загрубеть ладонью
и уже больше не отпускала ее. Кто-то придвинул ей
табуретку, и она села. Васек, напуганный и жалкий,
хотел было протиснуться к ней поближе, но она не
заметила его и даже отстранила от себя, как нечто
чужое и ненужное; она не отрывалась от невероят-
но белого, какого-то мраморного, почти светящегося
лица старшего. И ни сын, ни мать ни на что больше
не обращали внимания; они сейчас не могли нару-
шить той последней и нерасторжимой
связи, что установилась между ними незримо для
других, для них существовала и была важна толь-
ко эта последняя связь, и это уже не было
смертью, не было даже отчаянием или прощанием;
это было нечто такое, что могли понимать и чувст-
вовать только они двое.
— Потерпи, сыночек,— сказала Евдокия, не вы-
пуская руки сына, бессознательно стараясь этим
как бы из себя перелить в сына неостановимо ис-
сякающую в его теле жизненную силу. — Скоро док-
тора привезут, уже поехали...
— А мне не больно, мам,— ответил Костя, и
было видно, что ему и в самом деле не больно.—
Вот дышать плохо... нечем...
— Пройдет, пройдет,— постаралась успокоить его
Евдокия. — Выпей водички...
Она поднесла алюминиевую кружку к губам сына,
и он с трудом глотнул воды; происходило нечто та-
кое, что нельзя было объяснить; никто не разговари-
вал, стояла тяжкая тишина, и Васек тоже боялся
шевельнуться.
— Мам, ты мои тетрадки... Ваське отдай... пусть
возьмет,— попросил Костя, и Евдокии показалось,
что он глядит куда-то сквозь нее. — Пусть они у не-
го будут..*
— Да что ты. сынок! Сейчас доктор приедет,—
сказала, с трудом шевеля губами, Евдокия.
— Отдашь, ладно? — переспросил Костя, не от-
рывая от ее лица голубых, теперь словно лучащих-
ся и огромных глаз.
— Отдам, отдам,— твердо пообещала она, и меж-
ду ними теперь опала последняя преграда.
— Тяжко... ох, мам! Тяжко... тяжко,— прошептал
Костя. — Хоть бы поскорей,— добавил он уже сов-
сем невнятно, и почти сразу что-то случилось; Ва-
сек, пятясь, увидел, как брат стал мучительно что-
то хватать губами. Он искал воздуха и не находил
его, и сразу вытянулся, затих и больше не шевелил-
ся.. И только тогда Евдокия, непривычно чужая, поч-
ти тяжелая в своем просветленном спокойствии в
общении е вечностью, шевельнулась и, не отнимая
своей руки из мертвых уже рук сына, второй рукой
потянулась и закрыла ему глаза. И тогда кто-то из
баб невыносимо и долго закричал. Все вздрогнули,
и только Евдокия медленно-медленно повернула го-
лову, и под ее взглядом опять все стихло.
— Не кричите, не надо,— попросила она. — Не
надо... мое это... уходите... все уходите,— потребова-
ла она, и изба опустела. И Васек под ее взглядом
тоже поп,чти лея и вышел; он не мог произнести ни
слова, и когда к нему, что-то тихо говоря, потяну-
лась соседка, тетка Пелагея, он в страхе отскочил
в сторону и, не разбирая дороги, бросился в сад, за-
тем в огород, в поле, прямо в сверкающий майский
дождь и гул.
3
В эту ночь ветер так и не стих, нс стих и дождь;
он весело и косо летел в окна. К рассвету тьма еще
усилилась, и Василий всю эту тягостную ночь спал
и не спал; он все время слышал голоса старух, вспо-
минавших о пролетевшей жизни, вспоминавших о по-
койнице, о том, какой она была работящей, сколько
лиха хлебнула...
Василий открыл глаза и долго не мог понять,
где он и что с ним; еще дрожало в душе что-то сол-
нечное, из детства/ хотелось крепко зажмуриться и
опять перешагнуть в те далекие времена, когда была
мать и дни начинались с неясного радостного ощу-
щения новых дел и открытий, с жадного опасения
чего-нибудь не пропустить, чего-то не успеть. Но
вслед за этим в него все настойчивее и безраздель-
ней, вытесняя остальное, устремился иной поток.
Вначале это были как будто еще более усилившие-
ся порывы дождя и ветра, весело бесновавшиеся за
стенами дома, затем далекое, словно с другого кон-
ца земли, пение петуха. Теперь он совсем проснул-
ся, широко открыл глаза; крипичи под ним были
почти горячими, и он с наслаждением впитывал в
себя это мягкое, глубокое тепло. Он лежал и при-
поминал, что с ним происходило ночью и почему у
него сейчас такое слабое, размягченное сердце; ах
да, это старухи всю ночь судачили о своем горьком
житье-бытье, вспоминали прошлое, войну, мать-по-
койницу; припоминали и то, каким он был сызмаль-
ства уросливым да непослушным; неожиданно для
себя Василий широко и растерянно улыбнулся; к
нему вернулось чувство беззащитности перед жизнью,
перед пришедшим днем, перед этим ветром, каза-
лось, еще более усилившимся к утру, и бесконеч-
ным дождем — он был неслышен, но угадывался по
глуше, чем обычно, доносившимся звукам и по осо-
бому ощущению тяжести, разлитому в самом возду-
хе. Кроме того, в промежутках между стонущими
ударами ветра начинал ясно различаться неровный,
но непрерывный, дружный гул железа крыши, на
которую также непрерывно рушился дождь. Васи-
лий еще полежал, невольно стараясь продлить это
неясное ощущение детства, надежды, безопасности,
той бездумной уверенности, что у тебя есть мать,
отец, что они большие, сильные, а значит, ничего
плохого быть не может...
Хриплый, прокуренный мужской голос, раздав-
шийся вслед за глухим хлопаньем двери, сразу от-
резвил его; он узнал этот голос и вздохнул» Пришел
тот самый Андрей Бочков, его однолеток, вначале
вместе с ним бегавший босиком по поселку, затем
насмерть схлестнувшийся с ним за Валентину, тог-
да еще остроглазую, с длинными рыжеватыми коса-
ми шестнадцатилетнюю девчонку, с проснувшимся
уже женским лукавством, одинаково манившим и
одного и другого; Андрей как-то даже признался,
что сидел однажды, уже после службы в армии за
кустами с дробовиком, ожидал, думая, что домой
Василий будет возвращаться один; а он, Василий,
еще в армейской форме, опьяненный свободой, бли-
зостью Валентины, несмотря на уклончивые шутки
выбравшей все-таки именно его, шел; дурачась,
обняв за плечи и прижимая к себе двух наперебой
голосивших частушки девчат. Андрей, дождавшись,
когда веселая компания скрылась вдали, выскочил
на дорогу с облегчающим душу матом и, перехватив
дробовик за прохладные стволы, хрястнул им о те-
леграфный столб, долго прислушиваясь затем к гу-
девшим проводам. Давно уже все прошло, многое
забылось; Андрей Бочков в тот же год, что и сам
Василий, женился, долго работал комбайнером, но
после несчастного случая охромел и теперь вот уже
лет восемь был секретарем сельсовета, регистриро-
/7
вал рождения, свадьбы и смерти, лихо, шумно по-
дышав на круглый диск сельсоветской печати, вдох-
новенно выкатывая глаза, пришлепывал ее на все-
возможные справки. Он любил, чтобы его непременно
звали и на свадьбы и на крестины, и все сокрушал-
ся, что и те и другие случаются все реже.
Василий очень удивился, услышав первым делом
именно его бодрый, с хрипотцой голос в это утро;
прямо на печи натянув на себя просохшие штаны
и рубаху, он спустился вниз. На полу по босым но-
гам потянуло холодом, и он за ситцевой занавеской,
отделявшей небольшое пространство перед печью,
обулся, на ощупь причесался и только затем отки-
нул занавеску. Андрей, приземистый, начинавший
сутулиться от непривычно легкой конторской рабо-
ты, стягивал с себя мокрый брезентовый плащ; на
щеках у него поблескивала в электрическом свете
короткая рыжеватая щетина.
<— A-а, здравствуй,. Василий,— с некоторой прису-
щей моменту медлительностью сказал Андрей, бро-
сил плащ на лавку и, шагнув к Василию, протянул
ему руку; ладонь у него была жесткая, квадратная.
— Будь здоров..4
— Дождь зарядил.— пожаловался Андрей, сто-
ронясь и пропуская бабку Пелагею с охапкой по-
смуглевших от долгого лежания березовых поленьев,
на которых густо поблескивали капли дождя; ста-
рухи уже начинали хлопотать о поминальном обе-
де.— Теперь весь снег добьет,— сказал Андрей, с
затаенным интересом всматриваясь в лицо Васи-
лия. — А я услыхал, значит, про Евдокию Антонов-
ну... надо поехать помочь, думаю, то, другое... как
же, могилку там надо, развезло вон как... Она, Ев-
докия-то Антоновна, в колхозе с начала самого.^
Эх, поработала-то, поработала!
Он вздохнул, кивнул на полуприкрытую дверь в
горницу, моргая и стараясь пересилить какое-то свое
внутреннее волнение, и чувство настороженности и
отчужденности к нему, возникшее вначале у Васи-
лия, сразу прошло.
— Спасибо,— уронил Василий, про себя еще раз
удивляясь, каким неведомым образом расходятся в
деревне вести, и пригласил Андрея к столу погреть-
ся после такой дороги. Андрей отказался.
— Успеем еще,— остановил он Василия. — Ни
свет, ни заря, да и не заработали пока. Ты лучше
расскажи, как же так второпях-то,— опять кивнул
он на дверь в горницу. — Уезжала-то по осени, та-
кая живая была...
— А она,— Василий тоже взглянул в сторону
двери,— всегда так, второпях да второпях. И помер-
ла второпях, вроде и не болела, полежала недели
две, и конец.
Шумно ввалился с улицы Степан, развел руками,
он не привык сидеть сложа руки и теперь не знал,
куда себя приткнуть.
— Попали мы, видать, в переплет,— с растерян-
ным и в то же время озабоченно бодрым выраже-
нием лица сообщил он. — Все развезло... ох, как
льет! А? Вот это весна! Отсюда теперь и пехом не
выберешься*
•— После обеда сын на тракторе приедет,— ска-
зал Андрей, теперь с таким же цепким любопытст-
вом присматриваясь и к Степану и в то же время
опять начиная усиленно моргать,— раньше такого
Василий за ним не помнил. — Я ему сказал под-
скочить, ничего, вытянем на бетон. Тут вот задача
могилу выкопать, а это все пустяк.
— До кладбища далеко? — спросил Степан.
— Погост у нас с версту,— шевельнул коротки-
ми, ставшими с возрастом почти бесцветными бро-
вями Андрей и перевел взгляд со Степана на Васи-
лия, как бы опять стараясь отметить в нем что-то
неизвестное. — Развиднеется, и пойде^м ладить пос-
леднюю домовину Евдокии Антоновне... Я свою мать
пять лет тому похоронил,— вспомнил Андрей и об-
дернул на себе пиджак. — Пойду взглянуть.
Он прошел в горницу, постоял возле гроба, не-
вольно прислушиваясь к неразборчивому бормота-
нию старухи, читавшей псалтырь, и минуты через
две вернулся в кухню.
1— Да,— сказал он неопределенно, присаживаясь
на лавку рядом с Василием. — Все там будем...
Разговор не вязался, и все слегка оживились,
когда окна с непрерывно бегущими по стеклам по-
токами воды наконец стали мутнеть, затем серо про-
ступили, на глазах светлея, и на столе появился
приготовленный старухами завтрак для мужиков,
собиравшихся идти копать могилу. Выпили по ста-
канчику, поели и, натянув длинные брезентовые пла-
щи, вышли на крыльцо. Степан, не желая оставать-
ся со старухами, ставшими необычно молчаливыми,
как бы еще более старыми и уродливыми, порывал-
ся идти тоже, но Василий уговаривал его оставаться.
— А что я буду делать? — удивился Степан. —
До обеда-то?
— Да вымокнешь, а тебе вон сколько назад пи-
лить...
— Оставайся,— предложил и Андрей. — Один
осилю, что там... Василий рядом постоит, для ком-
пании, ему-то все одно рыть могилу нельзя, все-таки
мать родная... У нас так от дедовских времен по-
велось. Что там, не с таким справлялись... Вон ста-
рухам помочь надо, воды там, дров...
— Нет, пойду,— решительно сказал Степан, и,
пожалуй, с этой минуты Василия опять охватила
пронзительная, тревожная тишина; что-то опять
сдвинулось в душе; как это он сразу не вспомнил,
что, по старому деревенскому поверью, неукосни-
тельно соблюдавшемуся и в Вырубках, близкие род-
ственники покойника не должны были рыть ему мо-
гилы, не могли нести его до погоста.^
— Ну что ж, пойдем, Степан,— сказал он, гор-
бясь.— Что правда, одному трудновато будет, зем-
ля-то еще не отошла вглубь...
В последний момент бабка Пелагея остановила
Василия, придерживая за рукав пальто, долго объ-
ясняла ему, в каком месте нужно рыть могилу, и
все заглядывала ему в глаза: понял ли?
— Да знаю, знаю, мать еще месяц назад об этом
говорила,— сказал Василий. — Все сделаем как надо.
— Ты ж смотри,— наказывала опять и опять
бабка Пелагея, как это часто бывает, с недоверием
старого человека к неразумной молодости. — Евдо-
кея завсегда говорила своей матке, твоей, значится,
бабке покойной, царствие ей небесное, я ее, как жи-
вую, вижу,— бабка Пелагея, пристально уставив-
шись перед собою немигающими, неприятными в
этот момент, неподвижными глазами, словно она
увидела нечто совершенно исключительное, обмах-
нула себя мелким крестом,— чтоб ее под бок мат-
ке-то положить. А там, на погосте, в том углу ра-
китка от земли прямо в два бока раскорячена...
— Знаю, знаю,— успокоил ее еще раз Василий.—
Там еще мой отец крест кованый ставил...
— Во, во! — обрадовалась, бабка Пелагея. —
Прямо под ракиткой и могилка бабки твоей, Марьи,
а вы копайте с этого боку, от дороги...
Василий кивнул: взяли лопаты, прихватили лом
и, нырнув под дождь, натягивая глубже капюшоны
плащей, тяжело зешлепали в сторону от поселка,
не выбирая дороги, потому что никакой дороги все
равно не было, везде разлилась вода, она покрыва-
ла всю землю и заполняла воздух, а неба не было
видно; серая, порывистая, летучая пелена дождя
охватывала их со всех сторон. В этом было и что-то
успокаивающее, усыпляющее; тихо и покойно стало
на душе у Василия, он больше не замечал ни дож-
дя, ни ветра, ни изредка перебрасывающихся сло-
вами Степана с Андреем, идущих несколько впере-
ди по размякавшему, жадно вбиравшему в себя ве-
сенние воды полю. Это по-прежнему была все та же
обычная жизнь, и она никогда не прекращалась,
и запахи дождя, отходившей от зимнего оцепене-
ния земли, первой свежей весенней прели сейчас
лишь усиливали это извечное движение к какому-то
всегда недосягаемому рубежу. Матери, понятного,
самого близкого человека, подчас надоедавшей ему
своими причитаниями и деревенскими, основанными
на самых простых и верных вещах наставлениями,
больше не было; от мысли, что теперь впереди от-
крытое, никем не защищенное пространство, он да-
же приостановился. Он опять почувствовал, как тя-
жело шевельнулось сердце. С уходом матери впере-
ди действительно никого больше не было, теперь
сам он вышел на первый рубеж, и это было глав-
ным. Прошагать дальше и дальше, не спрашивая
зачем и для чего, стиснуть зубы, вот что теперь ему
осталось и чего никогда не понимали и никогда не
поймут сыновья в отношении отцов, да ведь он и
сам не понимал этого вот до последней минуты.
Василий всей ладонью смахнул воду с лица. Впе-
реди, тяжело чавкая в размокшей земле, затихали
шаги Степана с Андреем, частый дождь как бы за-
тягивал мутной пеленой их фигуры; вот они уже
еле-еле различаются, а вот и совсем исчезли. Что-то
заставило его поднять глаза к небу. Он увидел
сквозь клубящийся мрак низких туч пока еще чуть-
чуть проступившую голубизну, но ее тотчас затя-
нуло. Василий не торопясь двинулся дальше; все
светлело, низкие сплошные тучи словно отодвигались
от земли выше, теперь в них то тут, то там просве-
чивало. Вскоре подошли и к погосту, занимавшему
склон пологого песчаного холма. Погост существо-
вал столько же, сколько и сам поселок, и столетние
ракиты, высаженные вокруг него, вероятно, еще пра-
прадедами нынешних вырубковцев, стояли вокруг
погоста частыми, невероятной толщины колоннами;
они давно заматерели и остановились в росте, гниль
проела в них многочисленные дупла, заселяемые
весной самой разной крылатой живностью, но они
вызывали не впечатление уродливости, а скорее не-
вольное чувство удивления и уважения. Каждую вес-
ну они создавали вокруг погоста густой зеленый за-
слон, и земля под ними была мшистая, заваленная
омертвевшими и опавшими сучьями; этот клочок
земли, окруженный старыми ракитами, был обособ-
лен от остальной жизни, и не только потому, что на-
ходился в стороне от любых дорог и был окружен
двух-трехобхватными ракитами, от старости с гро-
мадными наростами самых необыкновенных форм,
кажущихся на первый взгляд уродливыми провала-
ми дупел,— зимой это ' были убежища сычей, сов,
воробьев; в теплые же майские вечера из них бес-
шумно вылетали на чутких перепончатых крыльях
летучие мыши. Вокруг погоста существовала еше и
невидимая, разделявшая мир живых и уже умерших,
черта. Сейчас, подходя к ракитам с запрокинутыми
в одну сторону по ветру голыми и гибкими верхни-
ми ветвями, Василий испытывал двоякое состояние:
он уже устал и отяжелел от жизни, знал, что стоит
на самой передовой линии, разделявшей все на
жизнь и на смерть, и все время, с тех самых пор,
как к нему пришла эта мысль, думал об этом. Но
в то же время, начиная различать певучий непре-
рывный посвист ветра в ракитах, он невольно подо-
брался; что-то проглянуло и все сильнее стало зву-
чать из самого детства, когда он вместе со своими
сверстниками, с тем же Андреем, если случалось,
далеко обходил погост стороной, а когда по вечерам
с 'погоста доносились сычиное уханье и плач, серд-
це у него невольно сжималось, и не от страха. Это
было выше и глубже страха; это был еще не осо-
знанный, живущий и копившийся в десятках и сот-
нях поколений, бесконечно передающийся от отца к
сыну трепет живой жизни перед тайной исчезнове-
ния, перед тайной конца...
Василий вздохнул; он стоял уже под самыми ра-
китами, вдавив тяжелые сапоги в раскисшую землю;
дождь уменьшился и даже почти совсехМ прекратил-
ся, и небо теперь почти наполовину было в голубых,
веселых, стремительно куда-то несущихся провалах;
и солнце, теплое, густое, то показывалось, то пропа-
дало за рваными облаками. Не это его поразило.
Размокшая старая кора ракит, отваливаясь темны-
ми, влажными кусками, щемяще-знакомо пахла
предвещающей скорый разгар обновления бодрой,
здоровой прелью. Но главное было в самих раки-
тах. Кора на них, там, где она не была покрыта
многолетними толстыми полопавшимися струпьями,
а оставалась серо-зеленой и гладкой, уже неулови-
мо изменила свой цвет: нежный, зеленый, живой ру-
мянец появился в ней и просвечивал словно изнутри;
и уже мелким торжествующим бисером проснувших-
Роман-газета № 1
17
ся почек были усыпаны самые тонкие и подвижные
ветви ракит, и весенняя зелень была там еще ярче;
два-три теплых дня — и ракиты были готовы бес-
шумно взорваться зеленым пламенем, выбросить не-
взрачные бледно-желтые сережки, чтобы еще (ка-
кой же раз под этим небом?) подтвердить незыбле-
мость и радость жизни...
Разрозненные тучи под слегка изменившимся вет-
ром как бы таяли в небе, становились все выше;
шире и просторнее распахивались окрестности; гро-
мада того самого леса, на опушке которого мать-
покойница с остальными бабами всегда заготавли-
вала встарь березовые веники, выделялась резко,
рельефно; и этот далекий лес готов был вспыхнуть
первой легкой зеленой дымкой. А в полях и лугах
буйствовали воды; снега было много в эту зиму, но
сошел он дружно, и теперь вода заливала низины,
широко покрывала луга, переполняла овраги и бал-
ки. С песчаного холма хорошо был виден и посе-
лок, но лишь над одной из крыш весело дымила тру-
ба; ветер тотчас резво подхватывал дым и рваными
клочьями относил его в сторону. Это была крыша
родного дома, и Василий долго не мог оторваться
от нее, затем решительно, сердясь на себя за не-
ожиданно подступившую слабость, повернулся и,
пригнувшись, пробрался под низко нависшими вет-
вями ракиты на кладбище. Он подошел к Степану
с Андреем; Степан, гулко ахая, высоко вскидывая
тяжелый лом, долбил мерзлоту; в одном месте он
уже пробил ее и откалывал смерзшуюся землю.,
большими кусками. Андрей руками отбрасывал.
— Порядок! — сказал оживленно Андрей, выки-
дывая из продолговатой, уже четко обозначенной
ямы очередную увесистую глыбу мерзлоты. — Те-
перь пойдет, теперь нам что... Покурим, Степан...
— Прямо какая-то морская погода,— сказал Сте-
пан, вышагивая из ямы и втыкая лом в землю.—
На глазах все переменилось, не успели моргнуть,
уже солнце.
— Повезло,— жадно затянулся дымом Андрей. —
Воды тут, в могиле, ясно, не было бы все одно, пе-
сок.
— Мать наказывала неглубоко, тяжести лишней
боялась,— вспомнил Василий, и все помолчали.
— А мы глубоко и не станем,— сказал Андрей.—
Метра полтора хватит. Тут на час и трудов-то. А ты
бы, Василий, шел домой, крест бы пока вырубил...
— Крест?
•— Поставить-то на могилке что-то надо...
— Надо,— согласился Василий, и тяжелое лицо
его несколько оживилось; безделье начинало томить
его, и он в душе обрадовался совету Андрея. Он
кивнул, через полчаса был уже у себя во дворе и
принялся за дело. Он не стал заходить в дом, лишь
отметил про себя, что народу прибавилось, появи-
лось еще несколько старух с центральной усадьбы,
мелькнуло два или три лица баб помоложе, и все
что-то делали, суетились, выходили зачем-то во двор
(Василий знал: взглянуть на него и поздороваться),
но он, ни на что не обращая внимания, продолжал
обтесывать крепкие, сухие дубовые бревна; он ду-
мал, что крест должен быть тяжелым и простоять
долго.
Вернулись Андрей со Степаном, и тотчас послы-
шался рокот подходившего трактора. Крест был поч-
ти готов, оставалось развести костер — обжечь ему
ногу, чтобы дольше не поддавался земле и гнили, а
затем приладить и скрепить его поперечины. Но Ва-
силия оттеснили и от этой работы; появилось не-
сколько молодых, в засаленных ватниках мужиков;
они живо развели костер в огороде, подхватили тя-
желый дубовый брус и потащили его к огню.
Выпрямившись и отдыхая, Василий глядел им
вслед; в это время появился Андрей.
— Покурим, а? — предложил он. — Теперь-то что,
вон подвалило народу. Эй, Петр!—окликнул он, и
к ним, явно не торопясь и показывая свой незави-
симый норов, подошел парень лет двадцати двух,
удивительно напомнивший Андрея — своего отца —
в молодости. Только глаза с шальной, горячей иск-
рой были вроде побольше отцовых, и рот был по-
крупнее, с капризно изогнутой верхней толстой гу-
бой, и от этого выражение лица у парня приобрета-
ло как бы некую заносчивость.
— Вон, видишь, какого выстругал,— любуясь сы-
ном, грубовато сказал Андрей. — Как же, вчера был,
значит, Петькой, а сейчас уже и Петр Андреевич...
— Здравствуй, дядька Василий,— протянул руку
парень; не скрывая легкого удивления и любопытст-
ва, Василий пожал ее. — Что ты, дядька Василий,
один? Иван почему не приехал?
— Иван-то на службе, в армии,— сказал Васи-
лий.— А жена на работе, никак нельзя было. Ты
как раздобрел-то, а, Петр Андреевич? — перевел он
разговор, потому что пришлось говорить неправду.
— Ванька еще в армии? — удивился Петр. —
Мы же с ним одногодки, а мне вон уже дома до
чертиков надоело. Хоть опять куда на сверхсрочную
просись...
— У него на год отсрочка была,— пояснил Ва-
силий.
— A-а, ну тогда вопросов нет,— деловито уточ-
нил Петр. — А мне отец сказал приехать, думал,
увижу Ивана... Ну, где шофер, кого здесь на бетон-
ку вытягивать надо? — сразу же перешел он к де-
лу.— А то мне назад надо, за силосом ехать.
— Да, ему надо поесть и ехать. Что зря время
терять, сейчас я скажу. — Василий двинулся было
к дому, но, услыхав позвякиванье, вышел за ворота
на улицу и увидел Степана возле машины.
— Ну что, Степан,— сказал Василий, подходя к
нему,— иди поешь, ехать надо... Тебя сейчас на бе-
тонку вон выволокут, к вечеру дома будешь...
— А ты как же? — спросил Степан, складывая
гаечные ключи и вытирая руки промасленной вето-
шью.— Ехать надо, а вот Валентине что сказать?
— Так и скажешь, как оно есть,— Василий по-
пытался показать, что по-прежнему сердит на жену,
но у него ничего не получилось, и он устало вздох-
нул.— Не могу же я все бросить на полпути. Дня
два еще пробуду, а тебе надо ехать.
— Я думал, похороним, а уж там и в дорогу^
— Теперь людей хватит, поезжай,— сказал Васи-
лий и хотел было идти в дом, но не успел, на крыль-
це появилась бабка Пелагея и позвала:
— Василий Герасимович, поди сюда! Сейчас вы-
носить будем
Точно не услышав или не разобрав, Василий по-
смотрел на нее, на дом, на сырую крышу, на про-
должавшую дымить трубу; он думал, что давно
успокоился и больше его ничем не расшевелить, но
это было не так, он понял. Нужно было по-преж-
нему сдерживать себя. Бабка Пелагея, введенная в
недоумение его молчанием и думая, что он не рас-
слышал, вторично позвала его. Василий тяжело взо-
шел на крыльцо, пригнувшись, шагнул вслед за баб-
кой Пелагеей в сени. Теперь он как-то душою со-
вершенно отстранился от всего, что происходило во-
круг; то, что нужно было сделать, должно было
быть сделано. Он был благодарен всем этим людям,
пришедшим помочь ему, но он не мог об этом ска-
зать, не мог этого выразить; что-то словно перехва-
тило у него душу, рассекло ее на две половины, и
она стала пустой и холодной. Он почти равнодушно
смотрел, как выносили гроб с матерью на улицу,
как ставили его на две табуретки и потом на двух
длинных кусках грубого полотна подняли и понес-
ли. Мать высохла за время болезни, и тяжесть была
невелика. Его торопливо догнал Степан и тихо ска-
зал, что он в самом деле решил ехать, и Василий
сдержанно кивнул и сразу забыл о нем. Подобную
картину он не раз видел в своей жизни, но сейчас
видел все это как-то иначе. Он шел вслед за гро-
бом, сжав шапку в кулаке; небо в середине теперь
широко открылось и было совершенно чистым; осле-
пительно веселое солнце в самой середине этой го-
лубизны ярко отражалось в каждом налитом водой
углублении на земле. Вышли за поселок и свернули
в поле; несмотря на помощь Андрея и трех или че-
тырех мужиков с центральной усадьбы, нести гроб
по размокшему полю было тяжело; старухи, все, как
одна, в новых резиновых сапогах, еле плелись вслед,
помогая себе палками, и только та самая монашен-
ка с псалтырем в руках, поблескивая толстыми лин-
зами очков, продолжая добросовестно выполнять
свое дело, даже как бы гордясь этой своей добро-
вольной добросовестностью, невозмутимо шла впере-
ди всей процессии. Когда носильщики, останавлива-
ясь передохнуть, ставили гроб на две табуретки, пре-
дусмотрительно захваченные с собою старухами, мо-
нашенка деловито поправляла очки, поворачивалась
к гробу, раскрывала псалтырь и торжественно, на-
распев начинала читать; Василий, останавливаясь,
всякий раз смотрел в важное и значительное лицо
читающей монашенки, но до него неясно доходили
лишь отдельные слова о каких-то мучениях, о какой-
то неведомой пустыне, об искушении от диавола, и
составить что-либо вразумительное и целостное Ва-
силий не мог. Он и не старался; ему было все рав-
но, что читает старуха и что это значит; его томил
свой, так и оставшийся невыплаченным долг перед
матерью, а следовательно, и перед своей совестью.
Он сейчас непрерывно думал о том, как пятнадцать
лет назад уезжал в город, так и не сумев уговорить
мать ехать вместе с ним, и как Валентина настаи-
вала разделить дом, оставить матери одну кухню да
погреб, а все остальное продать—пятнадцать лет
тому дома в поселке еще были в цене, это теперь
они никому не нужны, стоят и гниют, заброшенные.
Валентина даже грозила тогда разводом, и он, едва
не поддавшись, в самый последний момент опомнил-
ся. Мать была умна, она все понимала, и ее скупые
слова: «Спасибо, сынок, хоть не придется теперь на
старости лет по чужим углам таскаться», до сих
пор помнились ему и обжигали стыдом; нельзя было
допускать до таких слов. А как она его уговаривала
не бросать институт, выдюжить, на все свое хозяй-
ство махнула рукой, в город прикатила, под конец
от досады даже расплакалась. Тогда Василий по-
обещал, что это отступление на время, и сам этому
искренне верил; а мать оказалась, как всегда, пра-
ва, трудно нагонять упущенное.^
Но сейчас, с трудом вытаскивая из разомлевшей
земли тяжелые от налипшей на них грязи сапоги,
он мучился от другого: он думал, что если бы смог
тогда уговорить мать переехать в город, она бы, по-
жалуй, и еще протянула, а то ведь что у нее за
жизнь была последние годы? Все одна да одна,
словом не с кем перемолвиться, печка, да за водой
к колодцу, да кур держала, поросенка, огород —
вот и загнала себя окончательно. Приезжая по осе-
ни, он, не раздумывая, нагружал машину мешками
с картошкой, ящиками яблок, различным вареньем
да соленьями, салом; он ни разу и не задумался,
как все это доставалось матер и. -
Гроб вновь подняли и понесли, Василий медлен-
но зашагал следом; постепенно сердце начало то-
миться и появилось чувство слабости; ему, пока на
них медленно надвигались с песчаного холма раки-
ты, окружавшие погост, опять начинало казаться,
что он теперь один на всей земле, что он теперь да-
леко впереди, а все остальные отстали, что это его
притягивают высокие, от солнца и теплого ветра за
какие-то несколько часов заметно позеленевшие ра-
киты вокруг погоста, что это именно его они ждут..,
«Хоть бы скорей все кончилось»,— невольно подумал
он, стараясь идти все также спокойно и ровно, что-
бы никто не мог догадаться о его мыслях и о том,
что в нем творилось; когда у самого погоста стару-
хи потребовали остановиться, он был готов закри-
чать на них. Но он сдержался и промолчал. Гроб
опять опустили на табуретки, и тогда Василий по-
нял, что старухи хотят внести покойницу на погост
самолично; они деловито суетились, примеривались,
прилаживались; вездесущая бабка Пелагея заправ-
ски, словно она только и занималась этим всю свою
жизнь, командовала. Старухи, и бабка Пелагея, и
высокая тощая бабка Анисья, и круглая бабка Ка-
тенька, и та, что читала, в очках, и еще две или три
незнакомых Василию старухи окружили гроб. Что-
то одинаковое было в их лицах, в руках, в манере
говорить; Василию стало почему-то страшно, и он
поднял глаза к вершинам ракит. Эти старые, не-
прихотливые деревья были приятнее старых людей,
19
в них жило что-то чистое и недосягаемое; пусть
иногда жизнь убога и отталкивающа, но вот сейчас,
здесь, на тихом клочке земли, в напряженно гудя-
щих старых ракитах, на этом последнем прибежище
человеческой жизни все было покоем и чистотой, и
это чувство выжгло все темное и ненужное в его
душе и очистило ее. Перед ним сейчас словно обна-
жилась сама душа жизни, ее сокровенная языческая
тайна, и все очистилось, и все преобразилось, в обе-
зображенных временем лицах старух проступили
мудрость и предельная завершенность; в том, как
они, шажок за шажком, продвигались с гробом на
руках, таилось скорее свершение высшего порядка,
чем простое бесстрашие; это была сама жизнь, и
сейчас выполнялась ее самая простая и беспощад-
ная формула. Здесь не было ни фальшивых и идей-
ных речей, ни венков с не менее фальшивыми надпи-
сями, ни томительного стояния в карауле; здесь все
было просто и необходимо. Поголосили над откры-
тым гробом старухи, непременно напоминая покой-
нице о скорой встрече и прося ее приготовить и для
них там местечко получше да посуше; затем все
молча постояли. Василий неловко тянул шею над
окружившими гроб и могилу людьми, стараясь в
последний раз увидеть лицо матери и понять то, что
происходит. Лицо матери было чужим. Василий бы-
стро отвернулся и шагнул в сторону; он не хотел,
чтобы мать запомнилась ему в последний раз та-
кой; это ведь была не она. Гроб опустили, он подо-
шел и бросил в могилу горсть сырой земли. Затем
он опять отступил в сторону, и только тогда глазам
его стало горячо и сердцу покойно. Он вначале не
видел ракит, хотя смотрел на них, но постепенно их
проснувшиеся ветви заплескались в его глазах все
отчетливее. За несколько часов дождя, солнца и
теплого ветра мелкая россыпь почек на них увеличи-
лась, стала заметнее, сами ветви отяжелели от про-
будившейся и томившей их силы. Под нестихавшим,
как это часто бывает весной, ветром ветви были
в беспрерывном движении, они изгибались в беско-
нечной голубизне неба, вновь дружно устремлялись
по ветру в одну сторону. Василий смотрел долго; он
теперь понял, что и землю, и небо, и ракиты, и ве-
тер, и его самого соединял в одно целое какой-то
один ток, один непрерывный согласный звук.
— Эй, Василь Герасимович! — позвал его кто-
то.— Все готово. Пора.
— Идите, идите, я догоню,— не поворачиваясь,
глухо отозвался Василий и еще долго стоял недале-
ко от свежего, собственноручно выструганного кре-
ста, среди высоких и беспокойных ракит; после по-
лудня и особенно к вечеру их беспокойство начина-
ло усиливаться; теперь ветер частыми порывами
чувствовался даже в самом небе, взявшемся в вы-
сокой голубизне зеленоватыми ветровыми полосами.
4
Обед закончился быстро, выпили раз, другой, все
больше в молчании, заели хлебом с селедкой, моче-
ными яблоками, огурцами. Утомившиеся за эти два
20
дня старухи тоже не засиживались, и скоро за пустым
длинным столом осталось человек пять с централь-
ной усадьбы, все любители выпить и поговорить, но
перед самым заходом солнца и они угомонились, и
когда Петр-тракторист приехал на тракторе с при-
цепной тележкой за отцом, все они, торопливо опро-
кинув по последней, заторопились уезжать. Только
сам Андрей, несколько захмелевший, никак не под-
давался уговорам сына, и тот начинал сердиться.
— Ну, хватит, батя,— решительно заявил он.—
Будешь дурачиться, уеду, а там добирайся как зна-
ешь... У меня тоже дела!
— Знаем мы твои дела, девка ждет,— хотел от-
махнуться Андрей, но тут же засуетился, усиленно
заморгал и для придачи весу своим словам щедро
наполнил стакан из стоявшей на столе бутылки.
— А хотя бы и девка, так что? — Глаза у Петра
холодно сузились. — Ты что, в мои годы без девки
обходился, батя?
— Да ты поезжай, поезжай,— с тихой и даже не-
сколько робкой усмешкой заторопился Андрей. —
Я и тут переночую, а коли надо будет, доберусь. —
Он вытянул, словно напоказ, ноги в новых резино-
вых сапогах и кивнул в сторону Василия. — Когда
еще с ним повидаемся, а мы вместе, с бесштанной
поры росли... Поезжай, Петр Андреевич, ты меня се-
годня не дожидайся! А матери скажи как есть...
Петр еще потоптался у порога, хмуро погляды-
вая то на отца, то на Василия, и затем как-то неза-
метно вышел, и Василий с Андреем остались вдвоем
в ярко освещенном и совершенно пустом доме.
— Слышь, Вась,— предложил Андрей. — Хочешь,
я выскочу, крикну... Поедем ко мне ночевать, а?
— Не надо...
— Ну, не надо так не надо,— тотчас согласился
Андрей. — А то подумаешь чего...
— Ничего я не подумаю, а ты сам зря остался,—
сказал Василий, прислушиваясь не то к странной и
гулкой тишине пустого дома, не то к себе, к тому,
что где-то рядом с сердцем то исчезала, то вновь
разгоралась тихая и как бы притупленная боль;
стараясь заглушить это неприятное ощущение, он
подвинул к себе стакан, плеснул в него из бутылки,
кивнул Андрею, и они молча, понимающе выпили.
Молча посидели и опять слегка приложились; сей-
час они оба чувствовали все более укреплявшуюся
внутреннюю связь, и хотя они были совершенно раз-
ные, связь эта все более усиливалась. Что-то почти
забытое, темное, дремучее просыпалось в душе Ва-
силия, и он, не обращая внимания на Андрея, каза-
лось, чутко сторожившего каждое движение хозяина,
огляделся. Уже опустилась глубокая ночь, и неболь-
шие окна сияли блестящими, бездонно черными про-
валами. «Это ночь, ночь,— с лихорадочной внутрен-
ней дрожью подумал Василий. — Это все она! она!
Что-то не хорошо...»
Он встал, намеренно не спеша начал было <задер-
гивать старенькие ситцевые занавески на окнах, но
чей-то, показалось, посторонний голос остановил его.
— Что? — повернулся он на этот неприятный го-
лос и увидел в расширившихся глазах Андрея стран-
ное выражение; так смотрят, неожиданно застав ко-
го-нибудь за чем-то таким, чего другие никогда не
должны видеть.
— Нельзя, говорю,— повторил Андрей, не отво-
дя и не опуская глаз.— Говорят, душа только на
третий день с домом расстается... Вон, видишь? —
Он кивнул на передний угол, где бабка Пелагея под
тускло горевшей перед сумрачным ликом иконы
Ивана-воина лампадой, еле-еле заметно покачиваю-
щейся, уходя, заботливо поставила воды в стакане
и рядом положила кусочек хлеба. — Старухи чего не
наговорят, у них ночи долгие, пока все кости не пере-
моют, чего за ночь в голову не придет...
Василий ничего не сказал, но тотчас раздвинул
занавески, опять открывая черные, бездонные про-
валы весенней ночи; он помедлил, стараясь хоть что-
нибудь различить, но ничего различить было нельзя;
вернулся и сел к столу.
— Все в жизни чудно,— тихо сказал он. — Чело-
век, он такой, ему надо поверить... Мы-то с тобой,
Андрюш, по десять классов закончили.
— Это ты десятилетку одолел,— тотчас поправил
его Андрей, — А я восемь, больше не вытянул...
— Верно,— вспомнил Василий. — Это все мать-
покойница хотела, чтобы я в ученые пробился.
А оно вон как получается, не того поля ягода...
— Да что тебе, живешь, что ль, плохо? — неожи-
данно горячо обиделся за него Андрей, потому что
своими последними словами Василий как бы. при-
соединил и его, Андрея, к своей судьбе и безжалост-
но подчеркнул, что оба они, в общем-то, ростом не
вышли для чего-нибудь более лучшего в жизни, с са-
мого рождения поставившей на каждом из них свою
особую отметку.—Тут еще с какого боку глянуть...
— Ас какого ни глянь,— опять спокойно и рав-
нодушно остановил его Василий. — Ты думаешь, ес-
ли я в город уехал, так и все тебе? Э-э, на вот, вы-
куси! — Василий сложил пальцы в увесистую дулю
и сунул ею в сторону двери. — Это так тем кажет-
ся, у кого мозгов мало. Я вон и в институт пробо-
вал поступать, даже одно время заочно и прошел,
год попыхтел и бросил. Не тот коленкор! Мог запро-
сто хороший техникум одолеть, да не захотел, хотел
на самой высоте покуражиться. Может, и зря. А,
ладно! Что теперь рассуждать... И Иван мой после
десяти-то классов пыхал-пыхал — и в армию! Не
смог проскочить, у него еще дух деревенский, а там
у них, у интеллигентов, машина давно отлажена —
он тебе еще пеленки марает, а к нему уже всякие
профессора ходят. Английский тебе, математика...
— Да ну? — удивился Андрей.
— Вот тебе и да ну! Он тебе еще... а место в
жизни уже за ним. Он тебе вот такой,— Василий от-
мерил ладонью с аршин от пола,— золотушный, а
поди его возьми, за ним вон какая толща из пап,
Да мам, да бабок с дедами. Русскому мужику эта
наука еще долго будет поперек горла, не скоро он
ее одолеет... А все равно одолеет! — Василий вне-
запно тяжело и угрожающе качнулся в сторону Анд-
рея, и тот, внимательно и заинтересованно слушав-
-шкй его, обалдело отшатнулся.
— Ты чего шумишь? — усиленно заморгал он. —
Ты, Вась, знаешь, зря на каждого не кидайся. Если
у самого кишка тонка, кто тебе виноват? Чего тебя
тогда в город повлекло? Сидел бы себе на месте,
сосал лапу. Тоже придумал, город ему виноват. Вон
у нас какой населенный пункт — Вырубки-то наши.
И прыщом-то его не возвеличаешь, еще меньше.
А погляди—Гришка Залетаев ныне Григорий Пав-
лович Залетаев — генерал! A-а? Генерал! А ты по-
мнишь, у него под носом краснуха от сопель не схо-
дила? А Федька Кудрявкин? Федор Елисеевич Куд-
рявкин, директор вон какого завода, депутат! Во-о!
Значит, дадена им свыше мозга большая, вот тебе
и весь оборот. A-а, что ты молчишь? — стал с нехо-
рошей жадностью допытываться Андрей, и Василий,
почувствовав эту его незабытую, темную, мохнатую
ревность в отношении своей жизни, молчал. А дру-
гого ничего было и не нужно, это Василий знал дав-
но. А впрочем, что ему Андрей? Так, смех один, все
старается какую-нибудь болячку нащупать да поза-
нозистей ковырнуть; ишь, бедняга, старается, даже
про водку забыл, и в глазах-то просветление. Вот
ведь порода, чем другому больней, тем сам себе вы-
ше, уж вроде ты и орел, воронам на страх. Ишь
как у него все ходуном заходило, для этого и остал-
ся, не забыл Валентину-то, да и много другого не
забыл, сейчас все утвердить себя повыше ладится...
А может, он и прав, этот сельсоветский дьяк, может,
его правда помельче, да в жизни в чести — круто и
неожиданно для себя повернул Василий. Что на не-
го дуться? Как ему роднее, так и чешет себе, а по-
ди разберись, у кого оно, это бремя, тяжелее... Кого
в самом деле винить, если сам не осилил?
Василий хотел успокоиться, но получилось наобо-
рот, неожиданно для себя он тяжело, даже с нена-
вистью глянул в глаза Андрею, и тот, уловив эту
непонятную ненависть, выпрямился, заморгал.
— Ну, дерет тебя, ну? — изумился он. — Ну чего?
— А я все равно кулаком еще по столу бухну,—
заявил Василий, по-прежнему ненавидяще не отпу-
ская глаз Андрея, и тот до мутной дрожи где-то
под сердцем обрадовался; он даже заерзал от этой
расслабляющей радости.
— Не-е,— заявил он с готовностью,— не-е, Вась,
не бухнешь, не-е... И я не бухну, и ты не бухнешь...
— Бухну!
— Не-е, не-е. — От упоения и чувства противоре-
чия Андрей зажмурился. — Не-е, наш с тобой задел
кончился...
— Что? — ошалело вскинулся было Василий, но
тут же опал, посидел, раздумывая под лихорадочно
блестевшим взглядом Андрея, затем молча и сосре-
доточенно налил водки в оба стакана, придвинул
один Андрею. Тот так же молча взял, выпил.
— Знаешь, если ночевать здесь, надо прото-
пить,— сказал Андрей, посмотрел на печь в горни-
це, сложенную^ по обычаю, продолговатым столбом
во всю высоту помещения. — За зиму отсырело, у
меня так ломота по спине и шастает. А то завтра
не разогнешься,,. Пойду-ка я дровишек принесу...
21
Василий не стал удерживать его, и скоро Андрей
разжег в печи огонь, принес дров и, сидя у огня, про-
тягивал к нему руки, долго, наслаждаясь, молчал.
— Опять дождик пробрызгивает,— сказал он на-
конец.— А такая тьма... вроде раньше такого сроду
не было.
— Иди, давай выпьем,— предложил Василий.—
Что-то в душе, эх, крутит, крутит...
— Да чего там,— попытался как-то притушить
остроту момента Андрей. — Что теперь рассуждать:
то да се, гадай теперь, как оно могло быть. А дело
оно простое — живешь и живи себе..,
— Выпьем...
— Давай. — Андрей прихватил стакан короткими,
сильными пальцами, поднял его. — Хорошая водка...
вон как синью отдает. Чистая. У нас все больше по
самогону ударяют. Хоть и деньжата пошли немалые,
а все привычка.
Они взглянули друг на друга, отхлебнули. Васи-
лий откусил бок от моченого яблока, Андрей поду-
мал, поглядел на селедку и закурил.
— Знаешь, тебе надо завтра в сельсовет загля-
нуть,— сказал он.
— Зачем?
— Как же... Надо вот дом на тебя переписать..,
— Кому он нужен, этот дом, теперь... Вон их
сколько в поселке, стоят доживают...
— Ну, это другое дело. — Андрей пошел, попра-
вил дрова в печи, опять, задумчиво щурясь, долго
смотрел в огонь, затейливо и дико игравший у него
на лице. — Это уж другое дело, а закон есть закон...
Нужно тебе, нет, а порядок должен быть...
Василий промолчал; время близилось, пожалуй,
к полуночи, но спать по-прежнему не хотелось; из
окон глядела тьма, и хотя от этого не исчезало ощу-
щение, что тебя кто-то безжалостный и насмешли-
вый неотступно разглядывает, Василий старался не
обращать на это внимания. Он не представлял, что
будет дальше и как скоротать время до утра.
— А тебе чего? — сказал, опять возвращаясь к
столу, Андрей. — Будет у тебя этот дом вместо да-
чи, внуки пойдут, будешь привозить на природу...
Грибы тут, ягоды, воздух... Ну, а не хочешь дачу, на
дрова любой возьмет. — Андрей, словно вновь стара-
ясь нащупать место поуязвимее, помедлил. — Много,
конечно, не дадут, а сотни полторы-две... любой даст.
Дрова сухие, близко, трактором зацепил и волоки...
— Может, ты и сам возьмешь? — слегка потирая
пальцами словно в одночасье взявшиеся густой и
сильной щетиной щеки, спросил Василий; его глаза
приобрели какую-то звериную, обволакивающую глу-
бину, но Андрей ничего не заметил.
— А я что? — пожал он плечами. — Мне тоже
топить надо. Газ по плану еще через два года под-
вести обещают. Да ведь обещать легко, у нас, сам
знаешь, каждый, кому не лень, куда как на посулы
здоров! Наловчились, хлебом не корми! А двести
рублей тоже деньги, ты за них месяц горбишь...
Он хотел еще что-то сказать, но Василий сунул
ему стакан с водкой, и они опять выпили; и стран-
ное дело, и тот и другой словно пили не сорокагра-
дусную московскую водку, а воду, лишь у Андрея
слегка начинал лосниться разлапистый кончик ути-
ного носа, отчего его лицо всегда имело несколько
ехидное и заносчивое выражение, а теперь и того
больше. Нос его как бы сам по себе, отдельно от
выражения глаз и всего остального лица задорно и
откровенно улыбался. Андрей внутренне был уве-
рен, что именно сам он жил и живет правильно, но
только его бывший друг и соперник Васька Край-
нов, уехавший в город в свое время по гордости
своего характера, не хочет из-за собственной занози-
стости этого признать; пожалуй, он точно определил,
что за бесценок, попросту говоря, за шиш с маком,
отдавать большой благоустроенный дом обидно, да
ведь здесь именно так и обстоит дело. Никому эти
добротные, строившиеся в надежде на детей и вну-
ков дома в мертвом поселке и задаром не нужны;
так уж распорядилась жизнь, такую дулю в этом
повороте выставила.
— А дом хороший, сколько труда сюда вбуха-
но,— тихо, почти неслышно вздохнул Василий.
— Много,— согласился Андрей и, вздрогнув, под-
нял голову к потолку.
— Ветер,— сказал Василий, чувствуя, как неуют-
но и тяжело становится ему в этом обреченном доме.
— Видать, где-то крыша прохудилась,— сказал и
Андрей, хотя подумал совершенно о другом, о том,
что старухи упорно твердят о домовом, о хозя-
ине и что он все предчувствует и знает наперед.
И вслед за тем он нервно оглянулся; он бы мог сто
раз побожиться, что в доме вместе с ними был кто-
то третий, и этот третий сейчас упорно глядел на
него из темного угла. Тихий, но пронзительный хо-
лодок сладко тронул ему затылок,
• — Вась, Вась...
— Чего тебе?
— Слушай, может, нам того... спать пора? — спро-
сил Андрей.
— Спать? Ну, иди ложись, вон на диван, как
раз спиной к печке, тепло..*
— А ты?
• — Посижу... какой там сон..,
— Ну, так и я еще посижу,— обрадовался Анд-
рей. — Вот, говорят, ученые до всего дошли, могут
этот мир хоть надвое, хоть на восемь частей раско-
лоть... так?
• — Не знаки*
< — Говорят! — Андрей упрямо повел носом.—
А вот что такое в человеке подчас сидит, ни один
самый головастый академик не знает... Вот отчего
стало мне страшно? Глянул я вон в тот темный
угол, а оттуда на меня какие-то глазищи, да так,
прямо в душу^. а? Кто это знает?
«Все-таки водки много выпили»,— подумал Васи-
лий, тоже отчасти проникаясь словами и сомнения-
ми Андрея и чувствуя, что в доме действительно,
кроме них двоих, есть кто-то третий, кто с самого
начала неотступно следит за ними. Василий был не
робкого характера, но сейчас и он посмотрел в даль-
ний угол. Разумеется, ничего и никого там не было,
лишь от тепла проступило на стене размытое про-
долговатое пятно сырости, удивительно похожее на
человеческую фигуру.
— Вот и говори, что старухи басни рассказы-
вают,— нервно сказал Андрей. — А я думаю, что не
только у живой твари есть душа, она и у дерева
есть, и у дома„.
'— Конечно, есть,— с каким-то странным, скрытым
волнением, с непонятной готовностью подтвердил
Василий.
— A-а, значит, и ты веришь? — в недоумении
уставился на него Андрей, но Василий не отрыва-
ясь все смотрел и смотрел в угол. И в это время у
него было какое-то злое лицо; Андрей даже отодви-
нулся подальше, и Василий, уловив это его движе-
ние, повернулся к нему; их глаза встретились
— Ты чего? — первым не выдержал Андрей,
— Ничего, в самом деле пора прилечь,— сказал
Василий. — Черт знает, разное лезет в голову...
Они никак не могли оторваться друг от друга,
словно были чем-то нерушимым связаны; и тогда
что-то произошло, что-то глухо стукнуло. Перего-
ревшее в самой середине тяжелое полено ударило
одним концом изнутри печи о дверцу, и дверца при-
открылась, из нее выскочило несколько малиново-
огненных угольев, они весело стрельнули прямо в
лежавшую кучей у печи растопку, в измятую бума-
гу, в сухую бересту, стоявшую в корзине и заготов-
ленную еще покойницей Евдокией.
Делая невероятное усилие, Андрей попытался
встать на занемевшие ноги, но незнакомый, какой-
то далекий ’и гулкий голос Василия придавил его.
— Сиди, сиди..*
И тогда Андрей в один миг все понял: он попы-
тался независимо усмехнуться, но у него ничего не
получилось. И он лишь негодующим прерывающимся
шепотом спросил:
— Ты что? Того, с катушек съехал?
— Сиди, не твое дело,— все так же, казалось,
спокойно сказал Василий. И что-то в 'его голосе бы-
ло такое, что привставший было Андрей с готовно-
стью опустился на свое место; ему сильно захотелось
пить, и он пожевал вмиг пересохшими губами. Из
корзины с берестой вначале упругой и темной струй-
кой тянул дымок, затем неожиданно показался язы-
чок пламени, и почти сразу же вся корзина словно
превратилась в живой и ядовито-мохнатый цветок;
струйки огня, тоненькие вначале и упрямые, попол-
зли по крашеному полу и легко, словно невзначай,
перекинулись на ситцевую занавеску и уже стали
лепиться к потолку, тоже покрытому желтоватой
слоновой краской; здесь в свое время сам Василий
трудился надо всем добротно и не спеша. В том, как
огонь неслышно и в то же время с невероятной бы-
стротой распространялся вокруг, было что-то заво-
раживающее, ни Василий, ни Андрей не могли отве-
сти от него глаз, и, казалось, ни один, ни другой
даже не понимали, что происходит.
— Псих! — внезапно, словно очнувшись, тонень-
ко закричал Андрей, — Псих! ты ответишь! ты.„
Тяжелая и властная рука Василия придавила его
к лавке, и Андрей, перепуганно кося, увидел жад-
ный плеск огня в темных, замерших глазах Васи-
лия.
— Сиди... тоже законник,— беззлобно сказал Ва-
силий.—Да кто тебе поверит? А может, ты сам и
поджег?
— Я? я?! — опять почти взвизгнул Андрей.—
А-ах ты, бандюга! А-ах ты..*
Оборвав на полуслове, Андрей попятился; .Васи-
лий, выкатывая блестевшие белки глаз, с непонят-
ным утробным наслаждением хохотал, и его круп-
ные и плотные зубы тоже влажно поблескивали.
Дым начинал душить, и огонь, охвативший по-
толок, вроде бы ослабел, тускло пробиваясь по все-
му потолку сквозь густую, сизую волну дыма.
— Беги, полоумный, сгоришь! Ты душу свою па-
лишь, корень свой в огонь кинул! Бездомец, своло-
та, отцову память в огонь! — в исступлении крикнул
Андрей и выскочил вначале на кухню, затем в сени
и на улицу, оставляя двери открытыми; дым удуш-
ливыми белесыми клубами валил следом, и тотчас,
тяжело бухая ногами, вынырнул из дыма и Васи-
лий. Они еще были на крыльце, кашляя и вытирая
глаза от слез, когда багрово и зловеще разгорев-
шиеся окна в горнице стали лопаться; Василий ах-
нул, застыл на мгновение, затем ринулся назад в
дом. В последний момент Андрей успел схватить его
за плечи, и оба от неожиданности скатились с крыль-
ца, при этом Андрей каким-то образом оказался
сверху. Раскорячившись, хватаясь за подмерзшие к
утру комья земли, он не давал Василию встать.
— Пусти, убью!—хрипел Василий, лежа лицом
вниз и силясь сбросить с себя оказавшегося необы-
чайно цепким Андрея. В это время со звоном высы-
палось еще несколько стекол в горнице, и, вырвав-
шись изнутри сразу в нескольких местах, огонь при-
вольно и почти добродушно загудел. Андрей полз-
ком попятился дальше. За ним откатился и Васи-
лий, стал на колени; от весело и дружно горевшей
избы несло нестерпимым жаром, и на крыше, свер-
тываясь в беспорядочные жгуты, срываясь со своего
места, трещало и стонало железо. Шатаясь, Василий
встал на ноги и, прикрывая лицо ладонями, отсту-
пил, теперь он отчетливо слышал, как кричит от
боли душа дома, сработанного его собственными ру-
ками и сердцем.
— Икону... икону, сволочь, забыл,— пробормотал
он в каком-то безотчетном чувстве потери перед яро-
стью и беспощадностью огня, перед той бездонной
пропастью, что в один момент расколола весь строй-
ный и согласный порядок его души.
— Что ты говоришь? — приблизил к нему свое
лицо Андрей.
— Мать наказывала Ивана-воина взять,— сказал
Василий все с тем же безотчетным отчаянием по-
стижения. — А я забыл... совсем забыл... Эх, сгорел
Иван-воин... Надо же, как нехорошо получилось..*
Ничего не осталось, никакой памяти... Как же я...
•— Э-э,— разочарованно и обиженно удивился на
эти его слова Андрей. — Что память? Это тебя от
23
удивления шибануло. Там водки вон сколько пропа-
ло! Эх ты,— не выдержал он. — Вот тебе и город...
псих! псих! не осталось! Одной водки на неделю...
Василий, не в силах больше смотреть на все сме-
тающий, ревущий огонь, уже не замечая больше ни
Андрея, ни встревоженную фигуру какой-то спешив-
шей к пожару старухи, кажется вездесущей бабки
Пелагеи, повернулся и, словно ослепленный после
яркого огня внезапно выросшей перед ним стеной
непроницаемой тьмы, шатаясь, сделал шаг, другой,
третий— И чем дальше он шел, тем непроницаемее
становилась тьма перед ним, и пронизывающий его
существо трепет беспробудности перед тем, что слу-
чилось, все полнее охватывал его. Кто-то кричал сза-
ди, кто-то звал его, сначала в один, затем в несколь-
ко голосов; ему даже показалось, что он расслышал
голоса жены и даже сына, а затем и голос Андрея,
кричавшего, чтобы он вернулся и что приехали за
ним Валентина и сын Иван, но от этого ему стало
еще хуже, и он теперь думал только об одном — как
бы подальше уйти и остаться совершенно одному,
чтобы вокруг была только непроницаемая мартовская
ночь и первозданная тьма, но и это не помогло ему.
Теперь он услышал голос матери. Словно кто тяже-
лым ударом, стонуще отозвавшимся во всем его су-
ществе, остановил его и рывком заставил повернуть-
ся назад. И он увидел мать, она была и не была,
он видел ее глаза, устремленные ему прямо в душу.
Это были ее глаза, но никогда раньше она так не
смотрела, она не осуждала и не прощала, она словно
что-то стремилась понять, проникнуть куда-то за все
известные ему пределы. Но вот и ее глаза исчезли,
и осталось одно размытое в полнеба пятно угасав-
шего зарева. И тогда, с трудом опустившись на зем-
лю, он услышал, как земля тяжело и жадно дышит,
поглощая весеннюю влагу.
Черные птицы
Повесть
1
Тревожный знакомый свет прорезался неровным,
дрожащихм бликом и исчез, чтобы снова появиться
через мгновение, и она даже во сне потянулась на
этот свет; это было предупреждение, предчувствие
счастья, одного из тех немногих мгновений, таких
редких в ее предыдущей жизни; где-то в самых от-
даленных глубинах ее существа уже копилась таин-
ственная, как подземная река, музыка, и, как всегда,
она начиналась е одной и той же мучительно рву-
щейся ноты. Было такое чувство, словно боль сердца,
не высказанная за всю ее трудную и уже долгую
жизнь, высвобождалась, делалась открытой для всех,
и все удивлялись и жалели ее; но и это тоже было
не главное — это тоже мимолетно и бесследно исче-
зало. Оставалась иная боль, боль освобождения —
тихая, щемящая, что-то вроде неслышного, скользя-
щего полета над ночной землей, с редкими вкрапли-
нами огней внизу. И вот уже музыка заполнила все
вокруг: и звезда в черном бархатном небе, и редкие
огни внизу, и сама она, и ее неслышный полет были
музыкой. Она еще сдерживала себя, еще боялась
вдохнуть всей грудью резкий ночной воздух, но под-
земная река в ней все ширилась и рвалась наружу,
она узнала свой голос, он лился свободно и широко,
легко перекрывая пространство и все посторонние
звуки; ничего больше не оставалось в мире, кроме
этого мучительного и победно-торжествующего голо-
са; в небе ответно разгоралась все та же болезненно
яркая звезда; синевато лучащаяся, огромная, она
появлялась всякий раз, как только начинал звучать
во сне ее голос; так было всегда. Вот и теперь, раз-
растаясь, сиреневая звезда неостановимо неслась ей в
зрачки, слепила, было невыносимо переносить ее не-
стерпимый, все обострявшийся свет; и мир вот-вот
© «Огонек», 1981
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛИЛЕ
готов был рухнуть; она изнемогала... И было еще од-
но очень странное чувство — она всегда знала, что
поет во сне, что слышит свой голос в далекой моло-
дости, но остановиться не могла: границы времени
смещались; только каждый раз она открывала глаза,
чувствуя себя окончательно разбитой, измученной,
еще большей старой развалиной, чем до сих пор.
Все обрывалось неожиданно, оставалась лишь ту-
пая боль в сердце, и каждый раз ’Тамара Иннокенть-
евна боялась конца, каждый раз она обессиленно
долго лежала, боясь шевельнуться, и широко откры-
тыми глазами невидяще глядела в темноту, мучаясь
желанием остановиться на чем-нибудь привычном,
хотя бы на старом резном шкафу черного дерева; это
приходило всегда ближе к рассвету и поэтому осо-
бенно обессиливало; сегодня же к опустошенности
присоединилось еще и чувство незавершенности, на
этот раз недоставало чего-то главного.
До сознания Тамары Иннокентьевны явственно до-
несся совершенно посторонний, не имеющий к. ней и
ее сну никакого отношения, просторный вольный
шум; она удивилась, что в этом убогом и тесном ми-
ре есть что-то еще постороннее. Она заставила себя
приподняться и прислушаться и с облегчением опу-
стилась на подушку. Ничего таинственного и загадоч-
ного, всего лишь сильный ветер, и как раз со сто-
роны окна; теперь она почувствовала, что в комнате
очень свежо; как хорошо, подумала она, впереди еще
полностью месяц зимы (она любила зиму), и улицы
завалены снегом, февраль нынче выдался снежным,
вьюжным, как в добрые, старые времена, когда много
снегу, и морозно, и на воздух выйти приятно, и сразу
улучшается настроение, до оттепелей еще далеко.
Заставив себя встать, Тамара Иннокентьевна заб-
ралась в теплый халат и, плотно запахнувшись, зяб-
ко придерживая ворот у горла, подошла к окну, раз-
двинула шторы. Тотчас в комнату потек неверный,
24
все время меняющийся свет фонаря, раскачивающе-
гося во дворе напротив, и от окна ощутимо потянуло
зимой, холодом. Тамара Иннокентьевна тихо улыб-
нулась; она угадала, так и есть, на улице был силь-
ный ветер, вернее, вьюга, в свете фонаря непрерыв-
но и густо несло массы снега, а высокие старые
тополя, сейчас метавшиеся от ветра, росшие во дворе
с тех самых пор, как Тамара Иннокентьевна помни-
ла себя, казались живыми существами, обреченными
на гибель; они-то и производили тот непрерывный,
стонущий звук, заставивший ее подняться с постели
и подойти к окну. Стоя у настывшего окна, Тамара
Иннокентьевна почувствовала себя как-то бодрее и
крепче; ей давно не приходилось видеть такой злой
и беспощадной метели, и она, забыв о холоде, иду-
щем от окна, никак не могла заставить себя ото-
рваться от сплошных ливневых потоков снега и бес-
помощно раскачивающихся верхушек тополей. Ей
представилось, что это по всей земле метет вьюга, и
никакого города нет, а есть только бешено и неоста-
новимо льющиеся с неба потоки снега, дремучие,
стонущие леса (когда-то, много-много лет тому на-
зад, еще до войны, Глеб взял ее в гастрольную
поездку в Архангельск и дальше на север, она ви-
дела такие леса), дикие звери, застывшие реки с си-
ним льдом, и вся земля — в потоках лохматого сне-
га, вся — от края до края. Она улыбнулась своим
детским мыслям, но тотчас досада на себя взяла ,
верх. Все было иначе, значительнее, и таинственнее,
и много проще; вслушиваясь в кипящую душу вью-
ги, она подумала, что сегодня, когда она пела, ни в
начале, ни в конце Глеб не позвал ее, как всегда,
не остановил... За что-то он "на нее сердится сегодня,
а ведь она ничего плохого за собой не знает... Во
всяком случае, за последние годы... Что же она про-
глядела? Глеб никогда не таил зла, Глеб не мог быть
жестоким к ней, он вообще не мог быть жестоким.
Теперь за окном в самом характере вьюги что-то
неумолимо переменилось; впрочем, все это она уже
когда-то чувствовала, видела, переживала, и вот та-
кой же тихой, щемящей болью болела у нее душа;
все это было, было! Что же изменилось в несущихся
за окном потоках снега за последние несколько ми-
нут? Ветер усилился, еще усилился, и свет фонаря
стал беспокойнее, резче, летит, рассекает тьму...
Тамара Иннокентьевна зябко поежилась: все эти
выдуманные страхи — от одиночества, от долгой, не-
состоявшейся жизни. Фонарь по-прежнему раскачи-
вался, все также весело и бешено неслись слепые
снежные потоки. Тамара Иннокентьевна прошла на
кухню, на ходу прикоснувшись ладонью к двери в
другую комнату, хранившую все самое дорогое в ее
жизни. На какую-то долю минуты она задержалась
возле этой двери, преодолевая острое желание толк-
нуть ее, войти, погладить крышку старого, верного
рояля, самую дорогую память о Глебе, бросить
взгляд на знакомые корешки книг; но в последнюю
минуту передумала. После неожиданного пробужде-
ния что-то необратимо стронулось с привычных мест,
изменилось, словно в ней поселилось два непохожих,
не очень умеющих поладить друг с другом человека.
«Ах да-да, опять эти страхи,— Тамара Иннокентьев-
на расстроенно потерла себе виски,— а причина-то
пустяковая, вполне объяснимая, обыкновенная: мороз
вчера очень сильный был, а я ходила в магазин, а
можно было обойтись и без простокваши один день.
Очевидно, простудилась, так — легкое недомогание.
День-другой хорошенько прогреться, лечь в постель.
Девочки придут, извиниться перед ними. Лучше по-
звонить им домой, зачем им зря в такую погоду
ехать? Они очень симпатичные, девчушки десяти и
двенадцати лет, и, кажется, не без способностей,
особенно младшая, Наташа, удивительно восприим-
чивая, и руки хорошие, особенно правая...»
Тамара Иннокентьевна медленно, ощупью прошла
темным неосвещенным коридором на кухню и тут
сразу же опять услышала, как неистово рвется в ок-
но ветер; за стеклами металась белесая, мутная, бес-
просветная тьма. Перевалило всего лишь за полночь,
и все было еще во власти глухой вьюжной бесконеч-
ной ночи; Тамара Иннокентьевна все время ощущала
на себе чей-то цепкий, осторожный, испытующий
взгляд, взгляд был враждебный, неотпускающий и
непрощающий. Тамара Иннокентьевна нетвердой ру-
кой нащупала выключатель, щелкнула им; яркий свет
ударил в глаза, и привычные вещи обозначились на
своих местах. Все так же с легким ознобом и непри-
ятным ощущением ломоты, особенно в суставах ног,
Тамара Иннокентьевна зажгла горелку на плите, с
удовольствием подержала руки у веселого напористо-
го огня, поставила на огонь чайник. Вскоре чайник
энергично запел, готовясь вскипеть, и сразу стало
теплее; Тамара Иннокентьевна приготовила заварку
(она любила смешивать разные, хорошие сорта чая),
а когда чайник на плите забулькал, резво подбрасы-
вая крышку, щедро заварила чай, достала из шкаф-
чика, встроенного в выемку стены рядом с подокон-
ником, банку с малиновым вареньем. Сомнения и
страхи кончились; с удовольствием отпивая горячий
чай, она даже слегка улыбалась своей минутной сла-
бости, кожа лица потеплела и порозовела, спать сов-
сем не хотелось, и тем не менее, угревшись и отки-
нувшись на высокую гнутую спинку старого люби-
мого кресла у стола, она незаметно задремала. Ей
даже что-то приснилось, что-то далекое, неясное, раз-
мытое и, несомненно, приятное; но, едва погрузив-
шись в сон, она тотчас испуганно вскинулась. Сердце
глухо и часто колотилось. Тамара Иннокентьевна
торопливо осмотрелась. Все оставалось словно бы и
на своих местах, ничего не изменилось, только яркий
свет лампочки в стареньком ситцевом абажурчике
приобрел какой-то мглистый оттенок, и от этого и
стены, и полки, и посудный шкафчик, и стол, и поло-
тенце над мойкой — все как-то разом потускнело;
Тамара Иннокентьевна поднесла ладонь к глазам,
рассматривая. Кожа на руке тоже была серой, слов-
но бы густо припорошенной сухой дорожной пылью;
Тамара Иннокентьевна даже попыталась стряхнуть
ее. Да, да, что-то случилось не то со светом, не tq
с глазами. Она не успела удивиться, в коридоре по-
слышались возбужденные знакомые голоса, и на кух-
ню первым ворвался Глеб, за ним Саня, очень строй-
ный, как всегда, элегантный; в глаза метнулось рас-
строенное, потерянное лицо Сани, хотя он изо всех
сил старался принять непринужденный вид, но задер-
жаться на этом не было времени. Ее подхватил, за-
кружил по комнате Глеб; много крепче тонкого в
кости Сани, слегка сутуловатый, он был очень сильным.
-— Томка! Томка! Наконец-то! Наконец! — кричал
он, обдавая ее жарким, прерывистым, знакомым ды-
ханием.— Наконец..- есть разрешение! А Димке Гор-
скому отказали наотрез... Так ему и надо, а то он
даже в этом не захотел уступить! Я заявление в во-
енкомат, и он следом! А? Представляешь, с его хро-
ническим бронхитом... Каков, а?
— Не смей! Не смей! — попросила Тамара пропа-
дающим шепотом и сильно бледнея. — В такой мо-
мент нельзя кощунствовать над самым святым... что
ты, Глеб! Дима ведь прекрасный человек, очень та-
лантливый... нельзя! Он сам по себе — он ведь очень
честный и совестливый..-
— Томка, ты что? — шумно запротестовал Глеб.—
Неужели ты подумала, что я всерьез? Я сам Димку
во как люблю... ты же знаешь. Только ведь не с его
же здоровьем на фронт... Зато Солоницыну разреши-
ли, мы с ним просились в одну часть...
Почувствовав внезапное головокружение, она об-
мякла, ноги подломились, и вместе с распространя-
ющейся в груди пустотой комната поплыла у нее
перед глазами — стены, потолок, блестящие глаза
Глеба. Из последних сил она отчаянно попыталась
справиться с собой, но тяжело повисла на руках
Глеба. Он удивленно и бережно усадил ее, сам опу-
стился перед ней на колени и, взяв ее враз похоло-
девшие руки в свои, стал часто целовать их, стара-
ясь согреть, то и дело тревожно взглядывая ей в
лицо; от немой, невыразимой любви, от какого-то
почти животного, непереносимого страха за него она
не могла заставить себя произнести ни слова; если бы
она разжала губы, у нее вырвался бы один непре-
рывный, нескончаемый, безобразный стон.
— Томка, Томка,— пробился к ней наконец отку-
да-то очень издалека до обморочного состояния зна-
комый, родной и в то же время опять куда-то усколь-
зающий голос. — Ты же все знала, Томка... Ну что ты
так? Что в этом для нас с тобой нового? А, Томка?
Замолчав, Глеб оборвал на полуслове; их глаза
встретились. Впервые после женитьбы, да и за всю
свою прежнюю жизнь они поняли, почувствовали,
ощутили с такой убивающей силой, как они любят
и как необходимы друг другу; они смотрели, смот-
рели в глаза друг другу, и уже не было ни его, ни
ее отдельно, уже было одно существо, одно чувство,
одна боль и одна надежда, но слабая-слабая, как
еле теплящийся огонек, еле ощутимый за тем, бес-
пощадным, огромным, безжалостным, все сметающим
на своем пути, что надвигалось на них. И Тамара
увидела мелькнувшее у него в глазах смятение; оно
мелькнуло и исчезло, но одного этого мгновения было
достаточно. Он не мог больше смотреть ей в глаза и
опустил тяжелую лобастую голову ей в колени, слов-
но прося помощи и защиты. «Конечно, милый, я зна-
ла, я давно ждала этой минуты,— сказала она где-то
глубоко в себе, в только-только начинавшей уста-
навливаться тишине,— только ты никогда не узнаешь,
как я этого ждала. С таким ужасом и своей смерти
не ждут, как я ждала этого дня... Ну, что теперь?
Должно же было так быть, кем-то так назначено...
Я все вынесу, лишь бы ты вернулся».
«У нас почти не осталось времени,— словно раст-
воряясь в теплой темноте, идущей от ее коленей, с
неожиданной силой сказал Глеб; по крайней мере,
хотя он не произнес ни звука, она ясно услышала не-
ожиданно гулко, пустынно прозвучавшие в ней эти
его мысли. — Несколько часов наши, еще вся ночь
наша! Наша, слышишь?»
«Слышу, слышу! — беззвучно отозвалась она, боль
и обреченность в ее глазах погасли, сменившись го-
рячим, живым блеском; Глеб всегда поражался мгно-
венности этих переходов. — Да, Глеб, эта ночь наша.
Наша... Пусть всего одна, но наша...»
— Не имеет значения! — Она почувствовала, что
от пего исходит незнакомая властная сила. — И по-
том— что значит одна? Жизнь тоже одна, она может
свершиться и в один день, и в тысячу дней, а может
не уместиться и в сто лет, неожиданно оборвется,
останется только чувство незавершенности, тоски,
оборванности в самом начале».
«Да, Глеб, да»,— торопливо согласилась она, не
думая уже ни о чем другом, кроме того, что надви-
гается какая-то душная, все поглощающая тьма; раз-
бирая пальцами его густые пшеничные волосы, она
подумала, что эти живые, упругие волосы завтра
будут выброшены куда-нибудь на помойку, как не-
нужный мусор; почему-то именно это потрясло ее
больше всего, хотя она отлично знала и раньше, что
всех новобранцев стригут. Почувствовав на себе что-
то мешающее, она подняла глаза и увидела стоявше-
го в дверях кухни Саню, неотрывно глядевшего на
нее, в его глазах и в полуулыбке застрял какой-то
мучительный вопрос. Подчиняясь еле заметному движе-
нию ее напрягшихся рук, Глеб встал и шагнул к Сане.
— Давай попрощаемся, Саня.
— Понимаю, понимаю,— заторопился Саня, опу-
ская глаза и заметно бледнея, щеки и шея у него
сделались мучнистыми и неприятными. Глеб и Саня
молча попрощались, стиснув друг друга в объяти-
ях, но она уже забыла о Сане; она вспомнила, что
Глеба весь день не было дома и его надо накормить,
что он, конечно же, голоден; надо отойти, отвлечься
от своего панического настроения. Надо успеть со-
брать его, две пары нижнего белья надо, носовых
платков не забыть положить, теплые носки,— до за-
мужества она жила в старинной артистической се-
мье, хорошо обеспеченной, никогда раньше не стал-
кивалась с подобными заботами, и теперь ее мысли
растерянно заметались; она не знала, что еще тре-
буется мужчине, если он идет на войну.
— Томка, наконец-то! Мы одни! — отвлек ее от
неспокойных мыслей голос Глеба; он подошел к ней,
тяжело обнял, прижал к себе; и в ее сознании воз-
никло ощущение острой, нестерпимо яркой вспышки
света; она крепко зажмурилась и обессиленно при-
пала к нему; дрожа от нетерпения, от избытка пере»
26
полнившей его силы и боли, Глеб взял ее на руки и
осторожно опустил на широкую, еще дедовскую кро-
вать из резного черного дерева, в отрочестве вселяв-
шую в него непонятный ужас и даже отвращение
своей сопричастностью 'С каким-то глухим, душным,
губительным мраком. Он стал медленно раздевать
ее, и она впервые совершенно не стыдилась, проис-
ходило нечто необходимое, что было выше их, выше
всего сейчас; он видел ее длинные ноги, смуглова-
тые бедра, живот и полоску нежного золотистого
пушка, маленькую грудь, впалые, еще детские, бес-
помощные ключицы и огромные, в пол-лица, прозрач-
ные глаза; он увидел все это сразу, в одно мгно-
вение, и тотчас все обрывки, все пятна, все разроз-
ненные звуки слились в одно звучание. И тут на
него рухнул первый еще далекий звон колокола; она
еле попросила, чтобы он разделся и сам, что она то-
же хочет видеть и запомнить его всего. Од с внезап-
ной нерешительностью и теперь еще с большей медли-
тельностью стал раздеваться и скоро стоял перед ней
совершенно нагой. У него были широкая грудь, ши-
рокие плечи, но они уже начинали сутулиться от по-
стоянного сидения за роялем или за письменным сто-
лом, впалый живот, юношеская талия, узкий мужской
таз, волосатые очень прямые ноги, еще не набрав-
шиеся мужской уверенности и силы (ему было всего
двадцать четыре года), а над всем этим возвышалась
лобастая, лохматая голова, как ей сейчас показа-
лось — стремительная и злая. Во всей фигуре его
оставалось еще много неустоявшегося, угловатого,
он не достиг еще законченной зрелости мужчины, но
это был ее мужчина, он был с самого начала пред-
назначен ей, и вот теперь он должен был уйти и не
вернуться...
Предельным усилием воли она остановила навяз-
чивый поток мыслей и протянула к нему тонкие, зо-
вущие руки; вся она, все ее тело, каждая проснув-
шаяся клеточка, требовали не прощения, а праздни-
ка, и потом была какая-то первобытная, свирепая по
мучительно яркому, то и дело повторявшемуся на-
слаждению ночь. Ближе к утру от усталости и изне-
можения она провалилась в стремительно навалив-
шийся сон; она не знала, час она спала или всего
лишь несколько минут, она лишь все время хотела
проснуться и помнила, что ей необходимо проснуть-
ся, и не могла. Потом к ней прорвался знакомый,
родной голос, заставивший даже во сне сжаться.
— Томка, Томка... Слышишь? Часы бьют... Пора.
Не спи. Слышишь? Нельзя больше спать.
Она рывком села в кровати и сразу попала в тес-
ное кольцо родных сильных рук, они окружали ее со
всех сторон, й не было ничего мучительнее и надеж-
нее этого плена. Время исчезло, а когда они опом-
нились, из кухни в приоткрытые двери доносились
позывные радио и голос Левитана читал последние
сообщения с фронта.
Опять в висках настойчиво застучало: «Уедет,
уедет, уедет!—Она вжалась в подушку.—И ничем
нельзя остановить, задержать, заслонить!»
— У нас обязательно будет мальчик, маленький
Глеб,— не терпящим возражения голосом убежденно
сообщила она, пересиливая тяжесть в сердце, от-
брасывая со лба его пшеничные спутанные волосы и
разглаживая кончиком пальцев его брови.
— Маленький Глеб — это хорошо... Представля-
ешь, вырастет, и станут его называть Глеб Глебович,
Глеб в квадрате, хороший подарочек мы''ему приго-
товим, ты не думаешь?
— Все равно он будет Глеб,— повторяла и повто-
ряла она, все время ощущая его большое, разгоря-
ченное тело, разметавшееся рядом.
— Ну и ладно, будь по-твоему. Да, Томка, не
забудь, собери и спрячь куда-нибудь в ящик мои
бумаги,— негромко сказал Глеб после недолгого мол-
чания,— возможно, еще пригодится... жаль, у меня
так мало законченного... Несколько вальсов, квар-
тет... одна симфония, а вторая так и осталась в ос-
новном в голове, в кусках. Вот война пройдет, потом
закончу все по-другому... Рояль береги, он уникаль-
ный и очень старый, таких в стране только два. За
ним так хорошо думается... А самое главное, береги
себя, не простужайся, у тебя золотое горло. Ты вы-
растешь в громадную певицу, у тебя будет мировая
слава, вот посмотришь... Я напишу для тебя самую
лучшую оперу... Лучшая в мире опера и лучшая в
мире певица... Представляешь? Ты что? Не надо, за-
чем же плакать? У нас ведь уже все есть, даже имя
сыну, даже то, чего никогда не будет... Не надо, ты
же сильная, Том,— попросил он, по-прежнему не ше-
велясь.
— Ты лежи, Глеб. — Время теперь все убыстряло
и убыстряло свой бег. — Я сама все сделаю. Ты ле-
жи. Я еще платки тебе должна выгладить. Еда есть,
только разогреть.
— Мы все сделаем вместе,— остановил он ее.—
Слышишь, кажется, ветер, метель, что ли, усили-
лась... Ты меня не провожай, тебе нельзя простужи-
ваться...
Тамара быстро оделась, стараясь по возможно-
сти выбирать любимые его вещи (он должен запом-
нить ее красивой); ее теперь все время подгоняла
мысль, что она не успевает; Глеб ходил за ней и
бестолково совался во все углы; наконец и это за-
кончилось. В квартире было очень холодно, топили
плохо; позавтракали, выпили горячего чаю, согретого
на примусе. Напряжение в сети было совсем слабым,
лампочки в люстре еле светили красноватыми нитя-
ми. Глеб бездумно и счастливо засмеялся.
— Что ты, Глеб! — опешила Тамара.
— Ты меня никогда не забудешь, вот о чем^я
подумал, мне стало хорошо...
— Ты смешной, Глеб, ни на кого не похожий. Ты
это знаешь? Откуда ты такой, я тебя боюсь. Вернее,
раньше, до этой ночи, боялась*
— А теперь?
— Ночь была... Такие ночи делают человека зор-
че. Теперь не боюсь, я поняла сегодня что-то такое,
что не умею назвать...
— И не называй, не надо называть, не надо,
Томка... Томка, у нас остался час, нет, даже мень-
ше.— Голос у него переменился, во всем лице про-
ступило что-то резкое, угрожающее. — Я недавно за-
4*
37
писал одну тему. Грандиозная мысль... Сейчас тебе
проиграю... Пойдем. — Он схватил ее за руку и по-
тащил к большому концертному роялю, покрытому
каким-то 'юбым старинным лаком, черным, с пепель-
ной изморозью; лицо Глеба горело.
-— Глеб, Глебушка...
— Молчи! — остановил он ее. — Слушай...
Какую-то долю секунды он еще медлил, словно
еще боролся с собой, и, решившись, властным обни-
мающим движением взял первые аккорды. Она от-
прянула в кресле, ей послышался свист крыльев, точ-
но два сильных шумных крыла развернулись и легко
взмыли в воздух. И уже следующие долгие, уже
откровенно ликующие всполохи звона наполнили ее
какой-то светлой щемящей тоской: вырвавшись на
свободу, опьяненный простором, радостью движения,
он стремительно уносился все дальше,— где ей было
догнать его, боже мой, всю жизнь только тянуться
к нему, только быть где-то рядом уже награда и
счастье; сердце окончательно оборвалось и стало па-
дать, падать в мучительно желанную пропасть.
У нее текли по щекам слезы, но она их не заме-
чала; она уже почти не чувствовала себя — «сиянье
мрака погасит рассветы», нет, никогда, никогда! Это-
го не может быть, чтобы когда-нибудь ее не было,
что ее никогда не будет. Не в силах больше выно-
сить эту музыку, сдерживая дыхание, чтобы не раз-
рыдаться, она стиснула грудь руками, чтобы как-то
остановить, задержать рушащийся на нее мир скор-
би, обновления и солнца...
Когда она очнулась, Глеб сидел, бессильно уро-
нив руки на клавиши; почувствовав ее взгляд и по-
дойдя ближе, он долго смотрел ей в глаза.
— Всегда мечтал написать цикл славянских язы-
ческих молитв,— словно пожаловался он с потухшим
тяжелым лицом.-—-Молитву земли, молитву воды, мо-
литву леса... То, что ты сейчас слышала,— выделяя,
сказал он,— это молитва солнца...
-— А я думала, молитва любви,— сказала она, бе-
ря его тяжелую руку и целуя еще и еще раз. — Бо-
же мой, откуда ты такой?.. Молитва любви...
•— Солнце и любовь — одно и то же,— подумал
он вслух, потому что еще был далеко-далеко, где-то
в своем, куда он не допускал даже ее.
— Надо же, а я ничего не знаю. Существую рядом
с тобой и ничего не знаю. Какой ты жадный! Хоть
бы словечко! — упрекнула она его, уже чисто по-
женски; он взглянул на нее, не понимая, затем сов-
сем по-домашнему улыбнулся.
— Да, кажется, что-то получилось... Только это
ведь так, первая запись... Будет гораздо лучше... Вот
посмотришь! — Он спохватился, а у них ни на что
уже не оставалось времени, даже на сборы...
— Глеб, подожди,— решилась она наконец выска-
зать беспокоившую ее мысль. — Ты записал?
’— Я хочу, чтобы это осталось только со мной,—
ответил он как что-то решенное и даже с оттенком
враждебности, освобождая свои руки от ее рук; и,
уловив боль и смятение в ее глазах, он опустил го-
лову и тут же стремительным злым рывком резко
вскинул ее.— Ты обещаешь, что это будет только
для тебя? — Он пристально и, как ей показалось, не
видя, всматривался сейчас в ее лицо.
Она опять молча и сосредоточенно поцеловала ему
руку, повернув ее ладонью вверх.
— Хорошо,— сказал он, вынимая из внутреннего
кармана пиджака свернутые вчетверо листы нот, и
осторожно положил на крышку рояля. — Обещай од-
но... Никто никогда не должен услышать этого... ес-
ли... ты понимаешь, если...
— Не смей,— оборвала она его,— не смей! Ты не
имеешь права так думать... Не смей! Не надо ничего,
забери все, только вернись сам!
И тут она не выдержала, обвяла в его руках, ры-
дания прорвались помимо ее воли, и он, усадив ее
на диван и опустившись рядом, стал гладить ее по
голове, по плечам, целуя мокрое лицо, щеки, губы,
глаза, лоб, почти физически чувствуя, что каждая
новая минута становится короче и короче.
Она проводила его до подъезда, и едва они от-
крыли дверь, им в лицо ударил веселый, сухой, бе-
шено крутящийся снег; Глеб торопливо поцеловал ее
последний раз, затолкал назад в подъезд и исчез;
клубы резко крутящегося, сухого снега мгновенно
поглотили его: быстрота случившегося ошеломила, и
она никак не могла заставить себя сдвинуться с ме-
ста, на нее нашло какое-то странное оцепенение. Она
вдруг поняла, что никогда, никогда уже не увидит
его и что поэтому нужно бежать за ним вслед, чтобы
попытаться его задержать, остановить, физически не
пустить на эту войну; задушенный крик вырвался у
нее: с ненавистью отбросив от себя дверь, так что
лязгнули пружины, она вырвалась на улицу, в белые
слепившие, крутящиеся вихри, с веселым визгом и
шелестом заполнявшие пространство вокруг.
.— Гле-еб! Гле-еб! — отчаянно закричала она,
пытаясь сообразить, куда бежать, и борясь с напо-
ристыми, валившими с ног порывами ветра; спаса-
ясь от него, она вдоль стены дома, ощупью, кое-как
выбралась в сплошную мутную круговерть, несущую-
ся куда-то в одном направлении. Вход в метро был
неподалеку, метрах в двухстах, но в противополож-
ном ветру направлении, и она, напрягая все силы,
стала пробиваться навстречу ветру, подумав, что и
Глеб мог пойти только к метро, и надеясь догнать
его или еще захватить на станции. Скоро по знако-
мой угловой аптеке, где с неделю назад ей удалось
достать немного ваты, она обнаружила, что идет
в другую сторону, метнулась назад и попала в не-
разбериху арбатских переулков и тупиков. И тогда,
смахивая с лица злые бессильные слезы, подумала,
что все это давно кем-то предопределено и предназ-
начено и что ей уже ничего не изменить.
2
Тамара Иннокентьевна резко вскинулась в кресле
и открыла глаза; сердце сильно частило, она уже
привыкла к этому за последнее время и не особен-
но испугалась; на плите пронзительно свистел вы-
кипавший чайник. Вот и новое свидетельство старо-
сти, недовольно сдвинула брови Тамара Иннокенть-
евна: забыла погасить плиту, еще немного, и
чайник мог бы распаяться или, хуже того, залил
бы газ.
Помогая себе руками, она встала и погасила
огонь, резво и весело шипевший. У нее опять было
закружилась голова, она решила не обращать вни-
мания, прошла к окну. За окном ничего не переме-
нилось, по-прежнему бились в стекла мутные, снеж-
ные, бесконечные потоки. Метель, самая настоящая
зимняя метель, точно как тогда, подумала она, вспо-
миная, из какой сказочной дали только что верну-
лась. Так уж оно устроено, и даже гениальный че-
ловек не может быть пророком в отношении себя,
ничего не получилось из задуманного. Ни сына она
не родила, ни певицы из нее не вышло, жизнь рас-
порядилась по-своему; вскоре после ухода Глеба
на войну простудилась, несколько жестоких ангин —
и голоса не стало, жизнь самые сложные задачи ре-
шает просто, даже с каким-то примитивным изяще-
ством. Кто знает, все это, возможно, к лучшему; к
счастью, она не тщеславна, с гибелью Глеба ей все
стало безразлично; что же ей еще надо, работа кон-
цертмейстера ей нравится, аккомпанирует в сольных
концертах, имеет нескольких учениц, поет себе во
сне сколько вздумается... Без Глеба она все равно
бы не пробилась в большой вокал... Куда уж с ее-то
робостью... Скорей бы только кончилась эта ночь,
может быть, опять выпадет какая-нибудь нечаянная
радость, девочки удачно сыграют или случится схо-
дить на талантливый спектакль,— на работу иногда
приносят приличные билеты... Метель вот только бы
утихомирилась, тогда и сердце перестанет щемить.
Непостижимо крутящиеся снежные вихри, злая
поземка — все точно так, как сорок лет назад, словно
и не было никаких сорока лет, словно ничего вообще
не было. А может, и в самом деле ничего не было и
нет? Ни отца с матерью, ни консерватории, ни Глеба
с Саней, ни войны, ни музыки... Нет, музыка всегда
была, как же без музыки, музыка и сейчас есть — в
снежных потоках, в вихрях, в метели.
Тамара Иннокентьевна снова ощутила неясный,
настойчивый зов мятущегося, охваченного бурей про-
странства, словно кто-то позвал ее откуда-то из
страшного далека...
Веселая, грозная пляска метели внезапно обор-
валась; Тамара Иннокентьевна заставила себя огля-
нуться; кто-то пристально и тяжело смотрел ей в спи-
ну; она зябко поежилась, мистика какая-то, надо
выпить снотворное и лечь, решила она, нельзя так
распускаться. Все уже давно кончено, все когда-то
должно кончиться, еще никто этого не избежал, не-
избежность есть неизбежность, и нужно отнестись
к ней трезво, как к неизбежности. Но другая, слабая
половина ее души запротестовала, незачем было и при-
ходить и ввязываться в эту игру, если тебе уготован
такой жалкий исход — в полном одиночестве, если
все, что тебе было положено оставить в жизни, так
и осталось неизрасходованным и уйдет с тобою.
Снова с трудом, с усилием вернувшись с зыбкой,
уводящей во тьму, в провал тропинки, Тамара Инно-
кентьевна попыталась уверить себя, что она ни в чем
не виновата, раз случилась такая ужасная, беспо-
щадная война и эта война отняла у нее единствен-
ное, что составляло счастье и смысл ее жизни,— Гле-
ба. Без Глеба ничто не имело смысла.
Ушла молодость/ушла красота, и пусть, пусть,
какая разница, вот и руки становятся старыми, бе-
зобразными; как она ни ухаживала за ними, годы
берут свое; по форме кисти по-прежнему оставались
красивыми, йальцы все еще были сильными, но су-
ставы распухли, кожа уже начинала жухнуть, менять
цвет, кое-где уже появились коричневые пигментные
пятна; Тамара Иннокентьевна опять испуганно вски-
нулась; она могла бы поклясться, что минуту назад
видела его лицо — метнувшуюся в коридоре неясную
тень, всего лишь всплеск тени, но видела, видела!
И слышала его голос, ничтожную долю мгновения,
но видела и слышала, и никто не смог бы разубедить
ее в обратном. Его крупная лобастая голова мельк-
нула в проеме кухонных дверей, она даже уловила
насмешливый блеск его глаз. Теперь она точно зна-
ла, что ей нужно делать. Движением плеч сбросив
халат, оставшийся лежать на полу, она перешагнула
через него, распахнула дверцы шкафа и долго вы-
бирала, во что одеться, хотя выбор был достаточно
скромным. Остановилась она на вязаном шерстяном
платье, она любила надевать его с редкой темно-
вишневой окраски крупными янтарными бусами—•
свадебным подарком Глеба; надев платье, она осто-
рожно достала бусы из деревянной, старой, с почти
стершейся инкрустацией шкатулки, надела их и подо-
шла к зеркалу. Она осталась довольна; присев тут
же перед зеркалом, она тщательно расчесала щеткой
свои коротко стриженные седые, все еще густые, уп-
ругие волосы; волосы ложились легкой шелковистой
волной, после мытья она слегка в цвет глаз их под-
синивала; затем она попудрилась и подкрасила губы.
Быстро и привычно закончив свой туалет, Тамара
Иннокентьевна надела теплые сапоги, поверх платья
натянула собственной вязки пуловер из дорогой за-
граничной, кажется, шотландской шерсти, еще с ми-
нуту поколебалась, раздумывая, надеть ли меховую
подстежку под шубу. Решив, что оделась достаточно
тепло, проверив, не забыла ли ключи от квартиры,
она вышла на лестничную площадку.
Одиноко и тускло горевшая запыленная лампочка
и сумеречные, зыбкие тени в углах, исцарапанных
самыми различными надписями, от признаний в люб-
ви до длинных колонок цифр, настраивали на при-
вычный лад. Лифт еще не работал, Тамара Инно-
кентьевна неторопливо сошла по лестнице, почти не
прилагая усилий, и только у входной двери ей приш-
лось задержаться, тяжелая двойная дверь поддалась
с трудом, очевидно, пристыла в петлях. Налегая на
неподатливую дверь всем телом, Тамара Иннокенть-
евна все-таки выбралась во двор. Стоя под козырь-
ком, она привыкала к фантастической пляске метели;
но что-то мешало, было лишним. Ах да, фонари, до-
гадалась наконец она,— новые, удлиненные. Тамара
Иннокентьевна таких раньше не видела; испуская
мертвенно-белый, болезненный свет, они ввинчива-
лись в клубящееся снежное месиво, отвоевывая у
хаоса часть освещенного организованного пространст-
ва: ствол дерева, балкон, залепленную снегом вы-
веску, контейнер для мусора. Тогда таких модных
фонарей не делали, тогда кругом была просто снеж-
ная, непроницаемая тьма. Тамара Иннокентьевна по-
ежилась, опять в ней ожил застарелый страх заблу-
диться, как тогда, в декабре сорок первого, и она
почти заставила себя сделать первый шаг, сразу уто-
нув в снегу. Снег плотно залепил лицо, глаза; упря-
мо пригнув голову, она обогнула угол дома, и сразу
же стало легче дышать, здесь было затишье; при-
сматриваясь к бешено пляшущему кружеву снега
вокруг фонарей, она немного передохнула, запоминая.
Все, все, что она видела, все, что было вокруг нее
сейчас, ей было необходимо; проверив застежки ви-
давшей виды енотовой шубы, купленной лет двадцать
назад, в пору относительного благополучия, стянув
плотнее узел теплой мохеровой шали (ее она тоже
сама связала), Тамара Иннокентьевна подумала, что
поступила правильно, выбрав именно шаль, а не шап-
ку. В самом неистовстве метели уже незримо при-
сутствовала предвесенняя легкость и подвижность,
тогда же все было иначе, зима только начиналась, и
холод был ужасный...
Кое-как одолев большой сугроб, нанесенный у са-
мого выхода со двора, Тамара Иннокентьевна вы-
бралась на улицу, совершенно пустынную; времени
было что-то около часа или чуть больше. Здесь до-
рогу ветру и снегу заслоняли старые многоэтажные,
плотно, один подле другого стоящие дома, и снег
падал почти отвесно; только где-то высоко вверху
весело грохотало и металось небо. Тамара Иннокен-
тьевна неслышно пошла по мягкому тротуару; редко
и одиноко светились окна домов, и Тамаре Иннокен-
тьевне почудилось, что она совершенно одна в бес-
конечном городе, безвозвратно и наглухо заколдован-
ном, и что здесь можно встретиться только с теми,
кого уже давно нет. И такой метели до конца зимы,
а возможно, и вообще в ее жизни больше не будет,
эта метель последняя. Скоро начнет таять, снег пре-
вратится в дурную, грязную воду и уйдет в реки, в
моря. Придут весна, лето, и в Москве станет душно,
пыльно, опять начнутся у нее приступы стенокардии...
Тамара Иннокентьевна пошла быстрее, ей почему-
то все время казалось, что она опаздывает; она все
ускоояла и ускоряла шаг, ей стало жарко; на ходу,
не сбавляя шага, она размотала шаль и отбросила
концы ее за спину. Она и не заметила, как вышла в
более людную часть города. «Я, кажется, нездоро-
ва,— подумала было она, пытаясь остановить себя,
свой безудержный бег по спящему городу. — Нужно
вернуться домой, вызвать «скорую».„ Или обратиться
к первому постовому, попросить помощи...» Она даже
стала внимательнее оглядываться по сторонам и тут
же возмутилась своему малодушию. Вернуться домой
и навсегда расстаться с красотой этой ночи! Нет, вер-
нуться она всегда успеет...
Она не заметила, как тускло освещенным, но в
метель уютным подземным переходом вышла в Алек-
сандровский сад и остановилась, завороженная длин-
ными белыми языками снега, с тихим шелестом, змеи-
но соскальзывающими с зубцоз Кремлевской стены,
разбойничьим посвистом ветра в деревьях, окутанных
плотными, несмотря’ на метель, снежными коконами;
ведь они живые, подумала она, еще немного, и все они
проснутся, покроются зелеными листьями, и им станет
тепло и не голо.
Недоуменно подняв голову, прислушиваясь к не-
ожиданному рокочущему гулу, опоясавшему небо, Та-
мара Иннокентьевна помедлила. Было похоже на
гром, на грозу, но она решила, что где-нибудь по-
близости идут строительные работы, что-нибудь взры-
вают, Москва никогда ведь не знает успокоения.
Грозовые' раскаты, да еще с характерным ворчание?л,
повторились снова, и Тамара Иннокентьевна успела
заметить вспыхнувшее в небе белесое свечение, на
мгновение вырвавшее из тьмы быстро бегущие тучи.
Неловко и как-то забыто перекрестившись и уже
ничему не удивляясь, Тамара Иннокентьевна мед-
ленно шла вдоль Кремлевской стены по Александ-
ровскому саду; что ж, о таких явлениях она когда-
то читала; и у природы случаются несовместимости,
несоответствия, катаклизмы. Вот и Кремль сегодня
проступает из снежной бури, как фантастический ко-
рабль; сильные огни фонарей на его стенах только
усиливают сходство с фантастическим кораблем.
Красную площадь она прошла всю до Василия
Блаженного; она хотела сказать что-то теплое стояв-
шим у входа в Мавзолей часовым, но она знала, что
этого делать нельзя,— своим бдением в ночи они вы-
полняли необходимое, нужное дело. Но она все же
подошла ближе, порадовалась их молодости; хоро-
шо, что всегда где-то есть молодые, что они могут
стоять вот так на метели, на холоде, всю ночь.
Попрощавшись взглядом с юными серьезными ли-
цами, бледными в мертвенном электрическом свете,
Тамара Иннокентьевна двинулась дальше, не заметив
милиционера, появившегося из метели и державше-
гося в тени, позади нее; милиционер проводил ее до
Исторического музея и вернулся, а Тамара Инно-
кентьевна, пройдя длинным -тихим подземным пере-
ходом, опять окунулась в метель и ветер, уже боль-
ше нигде не останавливаясь, прошла прямо к Боль-
шому театру; идти дальше ей было некуда.
Выбрав место потише, Тамара Иннокентьевна
остановилась в портике между двумя уходящими
вверх, в белую кипень ночи колоннами, и от ощуще-
ния дарованной ей неожиданной удачи всей грудью
глубоко вздохнула. Она сейчас видела это здание
внутренним взором, и не только парадную его часть,
партер, блещущие золотом ложи и ярусы, заполняв-
шиеся празднично одетой публикой, она слышала за-
пах кулис, непередаваемый запах декораций и сцены,
когда-то предназначенной для нее. Ей так и не при-
шлось выйти на прославленную сцену; Тамара Ин-
нокентьевна сквозь слезы улыбнулась, каким-то чу-
дом увидев себя на сцене в длинном бархатном тем-
но-вишневом платье и ощутив сдержанное, довери-
тельное ожидание зала. И она опять услышала воз-
никающий где-то у самых отдаленных горизонтов
30
благовест молитвы солнца, и дирижерская па-
лочка, на мгновение взлетев, коротко кивнула, указы-
вая ей вступление; подчиняясь и приглашающему
знаку, и собственной душевной необходимости рас-
твориться в сияющей дали, она уже готова была от-
ветить всем откровением сердца, на которое была
способна, но тут же в ней все оборвалось,— дирижер,
встряхнув головой, освобождаясь от упавших на гла-
за неправдоподобно густых волос, взглянул на нее
горячими, немигающими глазами, взглянул призывно,
властно; и это было лицо Глеба. Тотчас все смеша-
лось, закружилось и исчезло. Опять в колоннах пор-
тика гудела метель, и мимо в потоках снега осто-
рожно проходили редкие машины. Свершилось глав-
ное, ради чего она и оказалась здесь среди метели
и беспробудной ночи,— ведь именно здесь, в этих ко-
лоннах она впервые увидела Глеба, вернее, он уви-
дел ее, подошел и спросил, не хочет ли она послу-
шать «Хованщину», прибавив, что у него есть воз-
можность провести ее. Удивленно подняв на него гла-
за, она хотела ответить, что может предложить ему
то же самое, но как объяснить судьбу? Сердце у нее
под растерянным и восхищенным взглядом покати-
лось, она смогла лишь утвердительно кивнуть в от-
вет, совершенно забывая о подруге, которая вот-вот
должна была прийти в условленное место...
Теперь Тамара Иннокентьевна была спокойна,
дальнейшее уже не касалось ее и не волновало. По-
прежнему не чувствуя холода, охлаждая разгорев-
шиеся щеки настывшими ладонями без перчаток, она
мысленно в последний раз попрощалась с театром, с
колоннами, с квадригой коней, бешено несущихся
сейчас в расходившейся вакханалии метели, и тихо,
больше по привычке, пошла назад, ведь нужно же
было идти куда-то дальше, а другого пути, кроме
дома, она не знала. С каждым шагом и поворотом
на нее все больше наваливалась усталость, начинали
мерзнуть ноги, и временами тиснуло сердце и не хва-
тало дыхания; добравшись до собственной двери и
увидев знакомую, кое-где прорвавшуюся обивку и
тусклый от старости медный номер «37», ставший за
многие годы неотъемлемой ее частью, она обессилен-
но прислонилась к двери и, чувствуя начинающийся
озноб, долго отыскивала ключ в сумочке. «Ничего, ни-
чего,— успокаивала она себя,— сейчас нагрею чаю,
выпью с медом, погорячее, пройдет, главное, что я
уже дома и не надо идти на холод».
Она по-прежнему была покойна, в той редкой ду-
шевной уравновешенности, когда человеку ничего,
решительно ничего не надо — он все узнал и все име-
ет. Скинув шубу и с трудом сняв сапоги, она с на-
слаждением сунула ноги в теплые войлочные шле-
панцы, поставила чайник на огонь и в ожидании, по-
ка он нагреется, прошла по всем комнатам и везде
зажгла свет. Теперь квартира, до самых потаенных
уголков, была ярко, празднично освещена. «Сегодня
мой день, мой праздник,— с некоторым вызовом в
отношении того, что она сама себе его устроила, по-
думала Тамара Иннокентьевна. — Кто знает, сколько
мне осталось... Определено было так прожить, а не
иначе, я и прожила, ничего страшного... Не стала
певицей, стала просто хорошим аккомпаниатором,
многим детям привила настоящую любовь к музы-
ке— тоже немало. Мне грех обижаться на жизнь, а
сегодня у меня снова светлый день, праздник—я
Глеба увидела, на душе как все светится, он хорошо
со мной говорил...»
Тамара Иннокентьевна обнаружила, что не одну
уже, вероятно, минуту находится в ярко освещенном
коридоре и рассуждает сама с собой. С досадой она
уловила в коридоре и характерный запах газа; чай-
ник давно успел закипеть и залить горелку. Заварив
крепкий чай, она с наслаждением, обжигаясь, выпи-
ла целых две чашки и сразу почувствовала преда-
тельскую слабость, у нее опять закружилась голова
и поплыло перед глазами, озноб возобновился, но это
длилось всего несколько минут, пока она не решилась
встать. Ей пришлось выдержать упорную борьбу с
собой: безуспешно пытаясь выбраться из старенького
кресла, она все оставалась на месте; ее словно кто
насильно усаживал назад. «Я, очевидно, в самом де-
ле простудилась и больна,— мелькнула у нее туман-
ная, как бы посторонняя мысль,— надо позвонить...»
И опять ноги отказали, на лице ее отразилась
растерянная, виноватая улыбка; все-таки, превозмо-
гая слабость, она встала и, тяжело дыша, помогая
себе руками, шаг за шагом, медленно, по стеночке
выбралась из кухни. Силясь вспомнить что-то важ-
ное, необходимое, она бесцельно трогала знакомые
вещи и с сердцем оставляла их; чувства прежней
прочности жизни не возникало; очередной, более силь-
ный приступ слабости и головокружения застал ее
в комнате, возле рояля.
С трудом добравшись до широкого кожаного ди-
вана, Тамара Иннокентьевна неловко, боком опусти-
лась на него, и тут словно кто накрыл ее непроницае-
мым глухим колпаком. Она слабо позвала на помощь
и провалилась в пустоту; приходя в себя, еще ничего
не видя и не различая, она услышала тоненький,
щемящий звук, похожий на плач ребенка или на
поскуливание беспомощного, попавшего в беду щен-»
ка. Она инстинктивно не открывала глаз, свет, вызы-
вая боль, и без того режуще проникал в мозг. Рядом
кто-то был, она услышала сдерживаемое покашлива-
ние и почувствовала знакомый табачный запах. Она
слабо удивилась; возвращаясь, она захлопнула за со-
бой и проверила дверь, но кто знает, могла и оши-
биться. Возможно, воры, будет совсем смешно. Но
что они могут взять? Уволочь рояль?
Решившись открыть глаза и преодолевая страх
боли, Тамара Иннокентьевна, насколько смогла, по-
вернула голову и от режущего света, отвестно хлы-
нувшего на нее, слабо вскрикнула. Над ней тотчас
наклонился большой, грузный человек с холеным,
внушительным лицом и, внимательно всматриваясь,
сказал что-то ласковое. Тамара Иннокентьевна не
испугалась, невидяще глядя перед собой широко
открытыми глазами, она едва пошевелила сухими гу-
бами, силясь что-то сказать, и не смогла; она уже
твердо знала, что это не бред, а явь.
— Саня, Саня, — прошептала она, готовая снова
потерять сознание от затраченных, мучительных
и!
сейчас для нее усилий. — Опять бред.- боже
мой...
— Успокойся, Тамара, я с тобой... Все будет хо-
рошо... Теперь уже скоро утро, а утро всегда облег-
чает. Ну, правда же, это я, в самом деле я... Выпей
немного... вот так... Еще немного, давай помогу.
— Как ты здесь оказался? — больше для того,
чтобы хоть что-нибудь сказать, слабо удивилась Та-
мара Иннокентьевна, сделав с помощью Александра
Евгеньевича несколько глотков из чашки.
Грустно и недоверчиво взглянув на нее, Алек-
сандр Евгеньевич ничего не ответил, в карих глазах,
до этого ждущих, встревоженных, со всей силой
устремленных на нее, что-то словно захлопнулось и
затвердело.
— Хотел вызвать «скорую», не могу дозвониться,
очевидно, с телефоном что-то случилось,— сказал
Александр Евгеньевич. — А пойти позвонить из авто-
мата боялся... Теперь могу спуститься позвонить.
— Не надо, Саня, спасибо...
— Как же не надо? Очевидно, не тот случай, шу-
тить не приходится.
— Я не больна.^
— Не больна?—Александр Евгеньевич пододви-
нул стул и сел совсем близко. — Ты утверждаешь,
что ты не больна?
— Да, утверждаю. Это не болезнь,— вслух поду-
мала Тамара Иннокентьевна. — Совершенно другое,
медицина здесь ни при чем.
— Ну, как знаешь,— у Александра Евгеньевича
обиженно дрогнули углы рта. — Я хотел сделать
лучше.
— Дай мне еще чаю,— попросила Тамара Инно-
кентьевна.— Сушит внутри, все время хочется пить...
— Просто у тебя температура,—сказал Александр
Евгеньевич, успокаивающе оглаживая совершенно те-
перь седую ухоженную, коротко подстриженную бо-
родку, мягко обрамляющую его рыхлое, полноватое,
но все еще холеное лицо. — Возможно, грипп, сейчас
по Москве ходит дорогой гость... многие болеют.
— Нет же, Саня, нет,— опять с досадой возразила
она. — Я всегда безошибочно чувствую температуру.
Совсем другое. Помоги мне сесть...
— Погоди, погоди, что за нетерпение...
— Помоги мне сесть, раз ты уж здесь,— повтори-
ла она. — Принеси, пожалуйста, подушку...
Согласно кивнув, он, непривычный к домашним
мелочам, всегда раздражавшим его, некоторое время
неловко хлопотал, выполняя все, о чем Тамара Инно-
кентьевна его просила, сама она, устроившись на ди-
ване удобнее (Александр Евгеньевич вместе с подуш-
кой принес и шерстяной плед, укрыл ей ноги), скоро
почувствовала себя значительно крепче и увереннее;
время от времени появляясь в дверях, чтобы убедить-
ся, все ли в порядке, Александр Евгеньевич торопли-
во находил ее глаза; Тамара Иннокентьевна сдержан-
но улыбалась в ответ. Она очень давно его не видела
и вначале внутренне съежилась от его явно просту-
павшей сквозь все благополучие и ухоженность
физической и, главное, духовной дряхлости, но это
был страх первой минуты.
Теперь, когда Тамара Иннокентьевна немного
оправилась, она снова начинала читать в его лице
видные только ей приметы обуревавших его, глубо-
ко запрятанных страстей; посторонние даже не дога-
дывались о безостановочной, разрушительной работе,
идущей в нем под маской вечной респектабельности
и сдержанного доброжелательного равнодушия. Так,
очевидно, ей выпало, и сколько бы ни прошло вре-
мени, боль, связанная с этим человеком, никуда не
могла уйти; она никуда и не уходила, только ждала
своего часа, чтобы снова и снова напомнить о себе,
обжечь стыдом ненужного, бесполезного раскаяния.
Тамаре Иннокентьевне казалось, что сколько она по-
мнила себя, столько она знала и Саню. Их семьи
(старые московские фамилии) были знакомы с неза-
памятных времен. Она помнила Саню миловидным
мальчиком в белой крахмальной рубашечке с шелко-
вым черным бантом в горошек и нотной папкой. И
ухаживать за ней, несмотря на то, что был двумя
годами моложе, он начал задолго до появления Гле-
ба. Она знала его высокомерным, очень красивым
юношей; знала молодым человеком с определившимся
характером баловня судьбы; знала способным музы-
кантом и сочинителем, сравнительно рано получив-
шим известность; знала она и годы его расцвета,
совпавшие с их сближением; и теперь, столкнув-
шись с ним под самый занавес, в самой непригляд-
ной житейской ситуации, она видела его жестко и
без прикрас, тем глубинным внутренним беспощад-
ным зрением, которое не дает возможности спрятать-
ся и от себя. И все-таки теперь, когда их жизнь так
далеко и безвозвратно разошлась в бесконечно раз-
ные стороны и обрела необходимую и неизбежную
законченность, не оставившую больше никакой неяс-
ности и никакой надежды, Тамара Иннокентьевна не
могла не удивляться фатальной настойчивости судь-
бы, ставившей этого человека рядом с ней в самые
тяжелые, непереносимые минуты.
— Ничего, ничего,— успокаивающе приговаривал
он, входя в комнату с чашкой и опережая ее тороп-.
ливое встречное движение. — Я столик пододвину; от-
дыхай, тебе надо отойти. С сахаром? С медом? —
спросил он. — Яна кухне мед нашел.
— Ничего не надо,— сказала она. — Просто хо-
чется пить...
— Хорошо...
Он поставил чай рядом с ней на круглый ночной
столик; ноздри у него слегка дрогнули, в углах рта
опять появилось забытое выражение затаенной глу=-
бокой обиды.
— Разумеется, ты сидишь и мучаешься,— он
привычным охватывающим жестом погладил бо-
родку. — Никак не можешь понять, каким образом
я очутился здесь. Неужели в самом деле не пом-
нишь?
— А что такое, Саня, я разве должна что-то пом-
нить? — неуверенно пожала плечами она.
— Ты же сама мне позвонила и попросила прий-
ти! — все еще присматриваясь к ней, очевидно решая,
верить или нет, доверительно сообщил Александр Ев-
геньевич. — У тебя был такой странный голос..; Я
12
оделся кое-как, вызвал такси... взял тот старый ключ
от твоей квартиры...
— Постой, постой, ты же тогда говорил... что по-
терял его?
— Ну, говорил, говорил, что мне оставалось? —
поддразнил Александр Евгеньевич с легкой ирони-
ей. — Какое преступление! Видишь, ключ-то приго-
дился... Фантастика! Подумать, сколько лет! Кажет-
ся, никакой замок не может выдержать столько вре-
мени... Замки в дверях... время от времени лучше
менять... да и в жизни... тоже.
— А дальше, дальше, Саня, не отвлекайся!
— Я позвонил, и ты сама мне открыла,— чувст-
вуя ее нетерпение и пытаясь попасть ей в тон, Алек-
сандр Евгеньевич по-прежнему пытливо ощупывал ее
лицо глазами. — Посмотрела на меня, повернулась,
пошла назад... Слова не сказала. Я даже не знал,
входить или нет... Все-таки решился, что-то в твоем
лице меня встревожило... глаза нехорошие были... Не
смотри, словно ты ничему не удивляешься. Знаешь
отлично... кем ты для меня была всю жизнь. Стоило
услышать твой голос, все забыл. Хотя раньше по-
клялся никогда больше с тобой не видеться...
— Ты ведь, я слышала, опять женился,— сказала,
помолчав, Тамара Иннокентьевна, неловко отхлебы-
вая горячий чай. — Это правда? Говорили, что к тебе
вроде бы ушла Фаня, жена того самого Димы Гор-
ского...
— Что значит — того самого? — сразу встопорщил-
ся Александр Евгеньевич. — Что ты имеешь в виду?
— Ничего особенного, пришла в память, спросила.
Диму Горского я хорошо знала... музыка у него уди-
вительная, щедро одаренный человек...
— Был,—задумчиво уронил Александр Евгеньевич.
— Не понимаю...
— Пятый год в доме для престарелых. Родные от
него отказались... очень уж пил,— сдержанно сооб-
щил Александр Евгеньевич и помедлил. — Да и у ме-
ня ничего не вышло с той женитьбой... От злости на
тебя случилось, но что об этохМ теперь... Да... Год на-
зад похоронил уж и Демьяна Андреевича... Помнишь
Солоницына? Конечно же, помнишь... Единственный,
пожалуй, преданный мне человек... Друг... да, да,
друг! — повысил он голос, заметив слабую усмешку,
тронувшую губы Тамары Иннокентьевны. — Ты всег-
да к нему предвзято относилась, он же был на-
стоящий музыкант... негромкий, но истинный... Хотя
что у нас за разговор... прости...
— Было, было... И опять из этого ничего не вы-
шло,— продолжил Александр Евгеньевич как-то рав-
нодушно, первый порыв раздражения у него уже про-
шел. — Как и из всего остального,— добавил он, и
взгляд у него застыл на одной точке. — У меня почти
ничего не вышло... Замах был огромный, а пролетело
мгновенно. Теперь, пожалуй, поздно размышлять...
Зачем? — он задумчиво оглаживал бородку длинны-
ми, по-прежнему холеными пальцами, их тыльной
стороной потирая таким знакомым Тамаре Иннокен-
тьевне жестом высокий, сильно открытый с боков
лоб. — Стоит ли сейчас сводить счеты, поздно и глу-
по. Что же искать виноватых? И я ни в чеАм не вино-
ват... в этом не закажешь. Я ей все отдал, дачу, ма-
шину, квартиру... жить я с ней больше не мог...
— У вас был ребенок?
— Сын... да... сын... Я уже дважды дед,— сообщил
Александр Евгеньевич, и невольно получилось, что
он словно неосознанно похвастал; Тамара Иннокен-
тьевна ничего не сказала, потому что в следующую
минуту ей стало страшно; она ясно вспомнила Диму
Горского, его лицо, его улыбку, его одержимость, его
музыку...
— Я все-таки думаю вызвать врача,— дошел до
нее голос Александра Евгеньевича, и она удивленно
посмотрела на него, подумала, что он, как всякий
мужчина, так ничего и не понимает.
— Нет, нет, не надо,— остановила она его по-
спешно и метнулась глазами в сторону. — Надо же,
с бородой ты не расстался... О чем это мы? О тебе.
Как всегда — о тебе. Это у тебя ничего не вышло?
Тогда у кого вышло? У Димы Горского-то? У твоего
любимого Демьяна Андреевича Солоницына? Что же,
у этого, пожалуй, вышло... с твоей помощью, разу-
меется...
— Суета, суета, если ты имеешь в виду славу,
деньги... Жизни не вышло,— Александр Евгеньевич
неуверенно оглянулся, точно кто-то третий мешал ему
быть откровенным до конца, мешал сделать хотя бы
один фальшивый жест, произнести одно неверное
слово; он опять беспокойно покосился на рояль, ско-
рее всего, неуверенность и беспокойство шли оттуда;
настоящий инструмент всегда хранит душу хозяи-
на.— Все так, так! — опережая новый вопрос Тамары
Иннокентьевны, торопливо добавил он. — Ничего не
вышло у меня без тебя... жизни не вышло.
Слушая Александра Евгеньевича и все больше
узнавая забытые интонации, Тамара Иннокентьевна
подумала, как он прав, что пришел сегодня, и что он
не мог не прийти; он всегда приходил, когда ей было
плохо, и сегодня он не мог не появиться здесь у нее,
и, если бы даже она не позвонила ему, как он ут-
верждает, он все равно бы пришел к ней.
— Что за самобичевание, Саня? Двадцать лет
жизни сильного, умного мужчины прошло впустую?
Не кокетничай,— укорила она. — Кто же тогда со-
стоялся, если не ты... Стоишь у руля столько лет,
столько раз лауреат.
— Я сказал тебе правду. Я часто' теперь задумы-
ваюсь, почему людям не верят, если они говорят
правду,— сейчас в словах Александра Евгеньевича
чувствовалась тяжесть. — Вот если честно смотришь
в глаза и откровенно лжешь, тогда тебе верят и
все уважают. Стиль жизни теперь такой удивитель-
ный... А вообще-то в жизни ничто не имеет смысла, пу-
стая суета. Нечаянный интерес из казенного дома.
— Саня, Саня, говоришь смиренно, а кипишь-то,
кипишь! Горди.1 я твоя в тебе бунтует,— Тамара Ин-
нокентьевна заломила мешавший ей угол подушки. —
Сколько судеб тебе пришлось поломать, перешагнуть
ради этого, как ты изволишь выразиться, нечаянно-
го интереса! Суета суетой, но никто еще добровольно
не отказался ни от славы, ни от денег. А для этого
нужна власть, чтобы всех держать и никого вперед
3 Роман-газега As 1
55
себя не пущать. Все ведь в жизни так примитивно.
Не хочется говорить жестокие слова, но ты ведь ум-
ный, Саня.., На твоей высоте нельзя остаться хоро-
шим для всех, напрасный труд— Зачем же из кожи
лезть, стараться делать вид?
— Ты же не все, Тамара,
Она видела, что он борется с собой и изо всех
сил старается сохранить мир, и, вероятно, все бы и
кончилось миром, если бы не ее последняя фраза;
она все еще сводила с ним счеты за старое; тут
Александр Евгеньевич должен был повременить, что-
бы успокоиться и не сорваться; подумать только, ска-
зал он себе, прошло столько лет, а с какой расчет-
ливой жестокостью она ранит. Это чисто женское,
так может только женщина, если она глубоко уязв-
лена. Ну, да полно, она сейчас больна и не в себе,
не стоит обращать внимания на этот выпад.
— Хорошо, хорошо, Тамара,— попытался он по-
дойти с другой стороны, но это не значило, что он
не запомнил ее жестокости. — Вы ведь с Глебом всег-
да держали меня за нищего... Это для меня не но-
вость. Если бы не он и не ты, скорее всего, я прожил
бы нормальную, здоровую, счастливую жизнь, в сча-
стливом неведении сочинял бы свою музыку — вон
ее сейчас сколько нужно! Всей компанией не можем
обеспечить, и всем хватает, зачем тут кого-то держать
и не пущать?
— Ты о музыке, точно о колбасе—
— Ну, давай, давай, бичуй, ты же в этом нахо-
дишь удовлетворение! — против воли чувствуя себя
уже втянутым в этот ненужный, бесполезный спор,
огрызнулся Александр Евгеньевич, и полные щеки его
напряглись. — Смог же я вопреки вашим пророчест-
вам сделать себе имя!
— Ну смог, Саня, смог, кто в этом сомневается!
Ну перестань кипятиться,— запоздало спохватилась
Тамара Иннокентьевна и поспешила услать его на
кухню, где ненужно гремело забытое радио.
Выключив радио, Александр Евгеньевич бессиль-
но привалился к спинке старого диванчика, втиснуто-
го в немыслимо узкий проем ниши. Он устал, и ему
захотелось заплакать, он уже чувствовал подступаю-
щие старческие, противные слезы и стал нежно по-
глаживать вытертую спинку диванчика. Нельзя ему
было сюда приходить, даже вещи имеют над людьми
страшную власть. Стоило ощутить ладонью шерохо-
ватости и потертости этого старого друга — дивана,
и точно волной смыло все годы, точно их не было...
А сколько усилий, сколько борьбы, сколько жестоко-
сти... Тамара права, только всего она еще не знает,
на его высоте вообще ни с кем нельзя быть добрым.
Вот и дважды лауреат, в руках власть, и орденами
не обойден, а то, ради чего стоило родиться и жить,
так и не пришло. И вершина так же недоступна и
манит своей слепящей холодной белизной...
— Вы меня с Глебом обессилили! — неожиданно
вырос Александр Евгеньевич в проеме дверей перед
Тамарой Иннокентьевной, выпрямившись, развернув
плечи, точно действительно стал выше ростом; глаза
его, вдумчиво-карие, осторожные, сейчас светились
прежним, молодым* непримиримым блеском, Тамара
Иннокентьевна попыталась было возразить, но замол-
чала, понимая, что его теперь не остановишь.
— Молчи, дай договорить! Знаю, смешно, нелепо
рыться в прошлом, искать виноватого, да еще в мои-
то годы! Но ведь было, было! Мне было двадцать, и
я тебя любил всегда, всю жизнь, с самого начала,
еще до того, как ты родилась, задолго до Глеба, до
того, как ты с ним познакомилась... Ты тоже это зна-
ешь... Не бойся, я не скажу ничего оскорбительно-
го... Я хочу напомнить, ты знаешь, были моменты,
когда... Ну, хорошо, не буду, не имеет значения...
Но в тот вечер, помнишь, мы пришли вместе, с Гле-
ба сняли как раз бронь, он добился, на другой же
день он должен был уйти. Помнишь? А через месяц
он погиб— Ну, и что он доказал? Он не имел права
так глупо, так бездарно распорядиться собой, своим
даром. У него был именно дар. Он был призванным
человеком. Он один из нас был призван. Способных
много. Призванных единицы. И человечество, и его
любимая Россия неизмеримо бы выиграли, останься
он в живых, дай до конца развернуться своему чу-
десному дару! И все это понимали... Как я его отго-
варивал от этой глупости, от этого шага, впрочем, не
один я! Что толку теперь сокрушаться! Помнишь, я
знаю, ты помнишь все, каждую мелочь, не спорь! —
повысил он голос, хотя Тамара Иннокентьевна и не
думала возражать. — Помнишь, Глеб сказал тогда,
что времени мало и вам нужно остаться одним... Ну,
конечно, ты это помнишь, я ловил хотя бы твой
взгляд, хотя бы одно движение в мою сторону. Уди-
вительно,'1 как от любви человек слепнет... Ты попро-
сту забыла, что, кроме вас двоих, на свете сущест-
вует еще кто-то. Я вышел, как побитая собака... Что
со мной было! Вот когда я поклялся доказать тебе,
чего бы это мне ни стоило, что я существую. Пускай
для этого понадобилось бы взорвать земной шар! Я
никуда не ушел тогда, сотни раз подходил я к вашей
двери, точно сам сатана толкал меня к дверям, что-
бы ворваться, сделать что-то безобразное... Сатана
кружил меня возле ненавистных мне дверей, толкал
прервать ваш прощальный пир... сделать именно что-
нибудь безобразное, непоправимое... Не помню, как
пришло утро, я был в каком-то бреду, помню только,
я опять оказался у ваших дверей,— голос Александра
Евгеньевича пресекся, он с трудом протолкнул в себя
воздух. — И вдруг я услышал, Глеб сел за рояль...
Ах, боже мой, боже мой, что это была за музыка...
что-то божественно нечеловеческое! Я весь дрожал,
я опять был уничтожен, сровнен с дерьмом! Вы опять
победили! Я плакал от наслаждения, от зависти, от
бессилия... Какая ревность может сравниться с этим
чувством! Я понял, что погибаю, хотел зажать уши
и убежать и не мог, не мог... пока не выпил весь яд
до конца, до последней капли... Многое потом забы-
лось, но это вошло в меня, как боль, продолжало
мучить, я знал, что, если я смогу это хотя бы
вспомнить, я спасусь... сколько же я бился, так ни-
когда и не смог... Это жило во мне, а стоило сесть
за рояль, все исчезало... Скажи, что он тогда иг-
рал? Ты ведь знаешь...
—-» Нет! нет! нет! — ответила Тамара Иннокентьев-
54
на поспешно, пытаясь отодвинуться подальше в глубь
подушек и чувствуя, что кожа на груди словно взя-
лась легкой изморозью. Боясь, что он заметит ее
страх и смятение (он был сейчас точно убийца, сто-
роживший каждое ее движение), она отвлекающе
улыбнулась и потянулась было к круглому столику
за стершимися от старости, доставшимися ей еще от
бабушки аметистовыми четками и... точно споткну-
лась о злую неверящую усмешку Александра Евгень-
евича. Мелькнула мысль о собственной беспомощно-
сти, да полно, что это за распущенность, прикрикну-
ла она на себя. Несмотря на все свои внешние успе-
хи и видимость душевного равновесия, на весь проч-
но устоявшийся маскарад, раз и навсегда заведенный
кем-то, не самым умным, ритуал заседаний, прези-
диумов, представительств, где Александр Евгеньевич
был постоянным, необходимым лицом, где ему прихо-
дилось лицемерить, изворачиваться, он, в сущности,
никогда не был злым по отношению к ней и всегда
сохранял свою зависимость от нее. Он бывал разный,
но он всегда был ей предан, и что теперь винить
друг друга за неудавшуюся жизнь? Конечно, она то-
же неправа и виновата и видит все не так, как об-
стоит в реальности, на самом деле; но в любом случае
она не должна оставаться неблагодарной, отвечать
злом на его добро. Он всегда приходил по первому
ее зову и без зова; приходил в самые тяжелые ми-
нуты, возился с нею, вызывал врачей, устраивал в
лучшие клиники, отправлял в санатории и каждый
раз встречал нежностью и молчаливым обожанием.
Такой преданности позавидует любая женщина. Ведь
и он по-своему прав, и у него одна жизнь, и он по-
тратил ее в основном на нее, и если он сейчас не в
себе, его надо отвлечь, успокоить, смягчить его боль.
Ведь, в сущности, он единственный во всем белом
свете близкий ей человек..-
Предательская теплота подступила к глазам Та-
мары Иннокентьевны; глаза ее, обычно серые, еще
посветлели, снопы лучистого света преобразили тя-
желые, начинавшие грузнеть черты, и лицо ее стало
почти прекрасным. Не отрываясь от этого внезапно
преобразившегося, тонкого, одухотворенного лица и
весь погружаясь в свет и теплоту, исходившие от нее,
Александр Евгеньевич присел рядом на краешек ди-
вана, легко, совсем не горбясь, и в какой-то преда-
тельской опустошенности прижался к ее рукам в
таких знакомых, потускневших от времени кольцах.
Вот и все, решил он, и ничего не надо, услышать
знакомый горьковатый запах, исчезнуть, раствориться
в мягком свете ее глаз. Ему не может быть отказано
в этом праве, он ведь обыкновенный человек, никто
его не проклинал. От прошлого не избавиться, но с
ним можно примириться, тем более сейчас, хотя где-
то глубоко продолжает тлеть уголек, в любой момент
готовый вспыхнуть и выжечь у него в душе послед-
ние остатки тепла и нежности. Он незаметно ото-
двинулся от нее, и не потому, что в борьбе со своим
дьяволом был бессилен и лишь на время мог при-
держать его. Он сейчас с невыносимой ясностью по-
нял, что и она, и сам он стоят в преддверии еще од-
ной, скорее всего самой последней дали. Она возник-
ла в нем как какой-то повторяющийся, усиливаю-
щийся мотив, вместивший с начала и до конца всю
его жизнь; он возникал из мрака и, заставив вздрог-
нуть сердце от ужаса, от предчувствия скорого ис-
чезновения, сливался с мраком; это надо запомнить,
надо как-то сосредоточиться, сказал себе Алек-
сандр Евгеньевич, бессознательно стремясь уйти в
другую, привычную и безопасную плоскость жизни.
— Саня,— окликнула Тамара Иннокентьевна, ти-
хонько притрагиваясь к его плечу; он в этот момент
не смог ответить, но вялым движением руки дал по-
нять, что слушает. — Саня, скажи, после смерти дей-
ствительно больше ничего не будет? — спросила она,
и он взглянул на нее испуганно и дико. — Вот так,
конечно, отсечено.^ больше ничего, ничего?
— И слава богу, что ничего,— с трудом выдохнул
он из себя. — Ты бы и там устроила себе муку...
— Саня, ты напрасно сердишься,— Тамара Инно-
кентьевна опять попыталась наладить относительное
равновесие. — Говорю тебе, я не помню, ничего не
помню.
— Не сержусь, не сержусь, у тебя просто удиви-
тельная способность замыкать все только на себе.
Как будто вокруг тебя никого и ничего—
— Я, Саня, действительно не помню,— заставила
себя вернуться к тому, что было между ними запрет-
ного и тайного, Тамара Иннокентьевна.
— Не верю, нет, нет, не верю,— не принимая ее
тона, покачал головой Александр Евгеньевич,— это-
го нельзя забыть. Не пытайся же отрицать, в тебе
живет т а музыка...
Тамара Иннокентьевна отстраненно понимала, за-
чем он так настойчиво пробивается к запретному и
самому сокровенному в ее душе, но не разрешила
себе продумать свою мысль до конца; она ничего не
хотела менять, живое пусть оставалось живым, но
давний запрет Глеба, наложенный им на молитву
солнца, был для нее свят всегда. Это единствен-
ное, что она сохранила в своей жизни в чистоте и
неприкосновенности, чем всегда тайно гордилась. Она
великая грешница, она безобразно плохо распоряди-
лась своей жизнью, и все же она никогда не сделает
последнего шага, а он, этот человек, ждал, ждал
такого момента, всю жизнь ждал, вот он сидит, сов-
сем уже старик, а в глазах дьявол, самый настоящий
дьявол. Ее душа нужна ему полностью, без остатка,
без единой тайны.
Тамара Иннокентьевна сама не заметила, что
смотрит на своего гостя в упор; ее глаза, незнакомые,
горящие от открывшейся слепящей истины, почти
парализовали Александра Евгеньевича.
— С твоего разрешения, я пойду на кухню, поку-
рю,— он торопливо отвел глаза, и она поняла, что
не ошиблась в своих мыслях.
— Кури здесь...
— Зачем же?.. Тебе вредно,— не принял Алек-
сандр Евгеньевич попытки к примирению; в который
раз ее верность мертвому испугала и больно ранила
его, он подумал, что незачем было приходить, если
он за столько лет ничего не мог добиться.
— Саня, там холодная курица и печеные яблоки.
3*
35
Поешь, ты, наверное, голоден,— предложила Тамара
Иннокентьевна ему вслед; не оглядываясь, он молча
кивнул; оставшись одна, Тамара Иннокентьевна обес-
силенно откинулась на подушку. Она знала, о чем
он думал, уходя, он никогда не умел скрывать сво-
их мыслей, и сейчас она попыталась взглянуть на
себя со стороны. Действительно, что ей мешало
нормально жить и быть счастливой, если не она
сама? Немного терпения, там, где иначе нельзя, где
нельзя идти напролом, чуть-чуть уступить; где-то,
напротив, настоять на своей женской прихоти, кап-
ризе, даже в ущерб здравому смыслу, вот в чем
мудрость жизни; все сейчас могло быть по-другому,
и она сама не была бы так ожесточена, и Саня бы
пришел к итогу жизни с другой душой, без излишней,
ненужной горечи и жестокости...
Опять почувствовав подступающую теплоту к гла-
зам и ненавидя себя, Тамара Иннокентьевна силь-
нее вжалась в подушку, постаралась совсем не ше-
велиться, сердечный приступ всегда нес расслабля-
ющую слезливость-^ почему-то встал перед глазами
громадный одинокий дуб, весь в молодой, с шумя-
щей в солнечных потоках листве — такая листва бы-
вает только в начале лета, во время стремительных
и бурных гроз и ливней. Ей вспомнился запах цве-
тущего леса — запах меда и солнца, запах лесной
прели, стелющийся над самой землей, и ощущение
свежести молодого, здорового, разгоряченного жела-
нием тела, это воспоминание было мучительно в
ожидании еще большей пустоты,
3
Дуб, насчитывающий не одно столетие, пророс из
желудя, укоренился на невысоком холме и разросся
до размеров, уже с трудом воспринимавшихся, он
стоял, царствуя над всем остальным лесом, и во
всей своей сказочной мощи отражался в ласковой
сумрачности небольшого озера, подступавшего
к холму.
День выдался ясный; с наслаждением прищури-
ваясь, Тамара Иннокентьевна чувствовала голыми
плечами начинавший потягивать порой легкий теп-
лый ветерок, доносивший до нее какие-то неведомые
лесные тайны; лес потому волнует, ^рто он весь тай-
на; и вся жизнь — тайна, и никогда не надо давать
клятв и обещаний, рано или поздно все оказывается
ложью. Она невольно покосилась на лежавшего ря-
дом в густой изумрудной траве Саню, вновь при-
жмурила глаза; о пронесшихся годах лучше не ду-
мать, разрешила она себе, в конце концов Саня прав,
жизнь, считай, прошла, уже за тридцать, а что хоро-
шего в том, что она себя замуровала?
Она опять с восхищением и чувством тайного
узнавания оглядела озеро, плавно струящуюся зе-
лень берез, окаймлявших озеро с другой стороны и
в изумрудном разливе уходящих к синеющим гори-
зонтам. Над водой озера воздух отливал зеленью,
а в листве дуба, наоборот, сквозил легким сереб-
86
ром. Прилетела какая-то крупная, немыслимо яр-
кая птица, с головой, украшенной золотисто-чер-
ным веером; это был обыкновенный удод, но Та-
мара Иннокентьевна с радостным изумлением раз-
глядывала удода, пока он радужным пятно.м не
вспорхнул с дуба и не улетел. Затем внимание Та-
мары Иннокентьевны привлекли порхающие над во-
дой озера большие прозрачные стрекозы с выпук-
лыми изумрудно светящимися глазами. Она удиви-
лась их способности зависать в воздухе, трепеща
крыльями, на одном месте и затем стремглав, скач-
ком бросаться вперед; Тамара Иннокентьевна даже
отдаленно не могла предположить, что это никакая
не игра и не причудливый танец, а самая настоя-
тельная жестокая необходимость, что таким образом
стрекозы добывают себе пищу, ловят комаров и мо-
шек. На какой-то миг Тамара Иннокентьевна ощу-
тила в себе ни на минуту не обрывающееся движе-
ние жизни; ей показалось, что она не сидит под ду-
бом, а парит высоко-высоко над зеленым океаном
леса и поет, звенит в ней пространство и что так
хорошо ей еще никогда не было.
— Ты спишь? — спросила она Саню, бездумно
погруженного в плывущее марево полуденного июль*
ского зноя.
— Нет, блаженствую,— он даже причмокнул от
удовольствия, даже не пытаясь повернуться в ее сто-
рону.— Куда-то несет, несет, не надо думать, спе-
шить... Ах, какая голубая, голубая страна...
— Хорошо, что ты меня сюда привез,— вздохну-
ла она. — Я все жалею, почему не раньше!
Он пружинисто повернулся к ней, притянул к се-
бе, положил горячие вздрагивающие пальцы ей на
колени. Осторожно взяв его руку, она накрыла ее
своей и, не выпуская, положила рядом, на прохлад-
ную, слегка помятую траву, источавшую терпкий,
возбуждающий запах.
— Саня, Саня! Всегда ты спешишь! Разве здесь
можно? Посмотри, как тут торжественно! — слабо за-
протестовала она, опять ощущая его настойчивые,
ждущие ответной волны руки. — Как же здесь? Во-
круг тысячи глаз... На нас отовсюду смотрят...
— Здесь совершенно никого нет,— засмеялся он,
приоткрывая влажные, крепкие зубы. — Ну, совер-
шенно никого! Мы ушли километров за шесть от до-
роги... Неужели тебе сейчас плохо?
— Ах, Саня, мне слишком хорошо,— она потя-
нулась к нему всем телом, сбрасывая с себя долгое
оцепенение. — Даже страшно, так мне хорошо...
Она почувствовала его разгоряченное дыхание
и закрыла глаза, отдаваясь во власть его рук и его
нетерпения, отдаваясь надвигающейся мутной волне,
разрывающей все внутри слепой мукой разрешения.
Казалось, он во что бы то ни стало должен был
наверстать упущенное, наконец-то безжалостно и до
конца разорвать невидимую преграду, продолжавшую
отделять их друг от друга даже в эти темные, тай-
ные моменты; он был ненасытен, настойчив, неуме-
рен, он решил раз навсегда подчинить в ней все до
конца и, едва ощутив первоначальное, еле уловимое
сопротивление, окончательно обезумел. С готовностью
и с некоторым испугом подчиняясь неумеренности
его желаний и идя ему навстречу в каждом движе-
нии, она и в самом деле переступала в себе некий
давний запрет, теперь она сама стремилась осво-
бодиться от него. Темная, душная волна снова на-
крыла ее, и она застонала сквозь стиснутые зубы,
и когда центром всего, что было, стала она и то,
что с ней происходило, в ней резко прозвучала
тревожная останавливающая нота, прозвучала и
оборвалась; она вспомнила об этом лишь погодя,
когда тело начало возвращаться к ней, но не сде-
лала ни малейшей попытки что-либо переменить. Не
хотелось двигаться, а тем более заставлять себя
искать несуществующие вины... Боже мой, как хо-
рошо, ободрила она себя. Наконец-то, наконец она
свободна от пут, от условностей и может дышать
полной грудью. Все, что позволено людям, позво-
лено и ей, можно наконец пить жизнь сполна, пить
до сладкого изнеможения, перестать оглядываться
на каждый шорох... Боже мой, как многого она себя
лишила, и прав Саня: что она доказала своим воз-
держанием? Чего добилась? Что старилась, пропа-
дала в одиночестве, что уходила ее красота, неумо-
лимо угасало тело?
Она испуганно вскинулась, провела ладонями по
голой груди; по-своему поняв ее движение и не-
сколько раз расслабленно поцеловав ее, приподняв-
шись на локоть, Александр Евгеньевич опять отки-
нулся в смятую траву навзничь.
Солнце уже клонилось к закату, и трава, наск-
возь пронизанная его косыми длинными лучами,
изумрудно и мягко светилась.
— Смотри, день пролетел совсем незаметно. Ты
порази-и-тельная женщина, Тамара, — как всегда
в хорошем настроении, Александр Евгеньевич сильно
растягивал слова... — Такой второй на свете просто
нет. Ты себе цены не знаешь. Чем больше я тебя
узнаю, тем больше удивляюсь.
— А ты, Саня, ни о чем не думай. Живи. Кто
я тебе? Два года мы вместе... Ни жена, ни любов-
ница, ни добрая знакомая.«
Это было жестоко: по первому ее зову, даже не
зову, а едва осознанному ею самою движению к не-
му он оставил семью, налаженный дом и безогово-
рочно и бесповоротно связал свою судьбу с нею;
всякий раз, когда он заводил разговор о том, чтобы
узаконить их отношения, именно сама она уклонялась
от решительного шага. Она мало тяготилась неопре-
деленностью своего положения, жила, как и раньше,
ничего не загадывая; сначала он сердился, настаивал,
требовал, обижался, но, наталкиваясь всякий раз на
уклончивый, ласковый отпор, в конце концов отсту-
пился, положившись на спасительное время,' которое
без излишних усилий и нервных затрат перерабаты-
вает и не такие жизненные переплетения и узлы.
Не желая быть втянутым в бесполезный и ненуж-
ный в этот счастливый для обоих день, больной для
своего самолюбия разговор, Александр Евгеньевич без
всякого усилия перебросил по траве свое большое
полноватое тело ближе к ней и легко, почти не ка-
саясь, как кошку, погладил ее по плечу.
— Ты — любимая. Все о себе великолепно знаешь,
и то, что относишься к разряду любимых. Великолеп-
но этим пользуешься. У-у, хитрюга!
— Да, Саня, я женщина капризная и опасная,
вот возьму заколдую тебя, превращу в черного ле-
бедя... Навсегда оставлю плавать здесь, в лесном
озере!
— Почему в черного, Тамара?
— Ты же черный, давно известно...
— А ты, конечно, белая,— по-детски обиделся
он. — Чистая и безгрешная.
— Именно чистая и безгрешная!
— Ну, конечно! Поэтому ты и не загораешь. Нехо-
рошо быть такой белокожей... Ах, Тамара, Тамара,
царица Тамара, мне все не верится, что ты со мной,
мне все кажется, что я тебя вот-вот потеряю...
— Значит, мы с тобой останемся вместе до самой
старости. В жизни все случается как раз наоборот.
Ах, Саня, Саня, вот бы мне ребенка, вот была бы я
счастлива,— перескочила она чисто по-женски с од-
ного на другое; эта ее особенность всегда его восхи-
щала. — Я ведь ничего хорошего в жизни не сдела-
ла, неужели мне не суждено иметь ребенка!
— У нас теперь обязательно будет ребенок, ты
сегодня была вся моя.
— Нет,— ответила она, не задумываясь. — От та-
кого безумия детей не бывает...
— Ты жалеешь? — спросил он, приближая к ней
лицо с близорукими, красивыми глазами, сейчас вы-
ражавшими напряжение.
— Ни о чем, Саня, я не жалею. Я тебе благо-
дарна, от самой себя освободил, я ничего больше не
боюсь. Пошли к озеру, искупаемся. Представляешь,
русалки нас давно ждут не дождутся,— потянула она
его. в сторону тихого сумеречного озера, сильно зате-
ненного опрокинутой в его глубину листвой дуба.
Солнце должно было скоро сесть, и, как всегда ле-
том, краски быстро менялись, под деревьями начи-
нали копиться сумерки, и только посредине озера,
на его гладкой зеркальной поверхности одиноко ро-
зовело, отражаясь, легкое воздушное облачко.
Взявшись за руки, они пустились вниз с холма,
все убыстряя и убыстряя бег; Александр Евгенье-
вич от восторга что-то кричал, что-то бесшабашное,
невразумительное, отчаянное. Они с трудом остано-
вились у самой воды; чтобы удержаться и не упасть,
она обхватила его за плечи, ткнулась в грудь, и
Александр Евгеньевич быстро, воровато поцеловал
ее разгоревшееся лицо раз и другой; она засмеялась
от полноты счастья, оттолкнула его руки, выбрав
место — чистую, нетронутую, изумрудную траву, до-
нага разделась, переколола волосы и осторожно во-
шла в воду, вблизи казавшуюся зеленой.
— Ледяная! — задохнувшись, охнула она, придер-
живая одной рукой грудь, сделала еще шаг, резко
опустилась в воду и поплыла; Александр Евгеньевич
видел ее скользящие белые плечи под водой, и ка-
кое-то странное предчувствие стиснуло его холодом,
— Не заплывай далеко, слышишь? — закричал
он. — Озеро лесное, там глубоко... Слышишь?
— Слышу! — отозвалась она, оборачивая к нему
смеющееся лицо, но продолжая, теперь уже на спи-
не, плыть к противоположному берегу. — Плыви сю-
да, вода чудесная! Уже не холодная! Только сначала
прохладно!
Чувствуя все ту же молодцеватую приподнятость
и решимость, он быстро сбросил одежду, попробовал
воду пальцами ноги, сделал несколько гимнастиче-
ских упражнений, шлепнулся прямо у берега в мел-
ководье и, неестественно высоко держа голову, бли-
зоруко щурясь, поплыл короткими саженками.
На самой середине озера они долго лежали на
спине, обо всем забыв и всматриваясь в глубоко, по-
вечернему синее, бездонное небо; теперь озеро, со
всех сторон окруженное дубами, березами, в низких
местах’—зарослями черемухи, ивы и ольхи, было как
бы частью неба, его продолжением; начинавшее
темнеть пространство текло им в глаза, все синее
и зеленое, и Тамаре Иннокентьевне вспомнилось за-
бытое ощущение тепла и полной защищенности, бли-
зость матери уже в полусне, в начинавшихся мягких
грезах и белых облаках. Ласковые бережные руки
легко, точно пушинку, переносили ее из кроватки на
такое облако; оно медленно плыло в вечернее, мягко
пламенеющее небо, где бесшумно воздвигались и
рушились розовые замки и дворцы.
Тамара Иннокентьевна закрыла глаза; ну вот на-
конец минула ужасная пустыня одиночества, длив-
шаяся столько лет, она все еще не верила, что для
нее может начаться новая жизнь, а ведь эта новая
жизнь давно началась и длится-длится, только надо
суметь в нее поверить. Вот и подтверждает старая
мудрость: живым — живое, но как же долго она
к этому шла! Тамара Иннокентьевна оборвала себя:
нельзя кощунствовать в такой день — всему свой
срок и свой путь, и раз так случилось, значит, так
тому и быть; ничего нельзя вернуть из прошлого,
была война, и Глеб погиб на этой страшной войне,
и что удивительнее всего, сама она выжила, только
голос пропал, подумаешь, голос, кому нужен ее го-
лос, ко всему можно привыкнуть, и к Сане мож-
но привыкнуть, он ее любит, что еще нужно жен-
щине?
— Тамара, холодно, я на берег,— раздался в это
время голос Александра Евгеньевича, она рывком
ушла под воду, и пока он близоруко оглядывался
и щурился, опа поднырнула, скользнула по нему про-
хладным длинным телом и вынырнула уже в дру-
гом месте. Он было погнался за ней, скоро отстал,
и она опять стала кружить вокруг, подныривая все
ближе; защищаясь, он беспорядочно бил руками и
ногами по воде, и лес гулко и звонко гасил их го-
лоса и всплески.
— Ты отпускаешь бороду? — поддела она его, ко-
гда они, обсохнув и согревшись, устроились под тем
же дубом выпить вина, перекусить жареной кури-
цей, свежими огурцами, луком, помидорами, колба-
сой— Тамара Иннокентьевна набрала с собой еды
полную корзинку.
— Тебе не нравится?
— Как-то непривычно.^ И потом, в воде она
S3
ужасно похожа на старую растерзанную тряпку,—
рассмеялась Тамара Иннокентьевна.
— Сбрею к черту!—угрожающе зарычал Алек-
сандр Евгеньевич, с хрустом разгрызая огурец, он
залпом выпил целый стакан вина, ее присутствие
продолжало возбуждать его.
— Поспи,— предложила Тамара Иннокентьевна,—
а я, как пещерная женщина, буду тебя караулить...
— Нет,— отказался он, хотя его действительно
тянуло в дрему. — Нет,— повторил он упрямо, те-
перь больше самому себе. — Сон — это удел нищих,
а я сейчас слишком богат... Я не могу спать... слиш-
ком расточительно... Знаешь, с тех пор как ты ря-
дом, у меня все переменилось. Был мир серый, туск-
лый, все в одну краску, а сейчас... боже мой, какая
радуга! Поразительное многоцветье! Знаешь, ради
тебя я сделаю все, даже невозможное, напишу самую
прекрасную музыку на свете, получу все премии,
ах, Тамара, Тамара, сколько времени мы потеряли!
— Не слишком ли на многое ты замахнулся? —
поддразнила она, глядя на него исподлобья блестя-
щими, поощряющими глазами.
— Не слишком, ради тебя не слишком! — повы-
сил он голос. — Посмотришь, я все получу...
— Я рада за тебя,— сказала Тамара Иннокенть-
евна с тенью грусти в глазах;- она вспомнила Глеба
и точно обожглась радостью Сани, но тотчас испу-
галась: ведь это грех — думать так после того, что
между ними только что было, Саня ведь так долго
ждал своего часа и слава богу, что он ничего, ка-
жется, не заметил.
— Ты приносишь счастье,— сказал Александр Ев-
геньевич, прижимаясь головой к ее груди, как ребе-
нок; украдкой вздохнув, она погладила его мягкие
волнистые волосы, едва касаясь их ладонью; при-
казывая себе не думать больше ни о чем, кроме
Сани, прочь, прочь все призраки, сказала она, вот
он, живой, понятный, ее Саня...
Быстро темнело, воздух становился ощутимее
и гуще.
— Тамара, слышишь, так боюсь двадцатого,—
признался вдруг Александр Евгеньевич, глядя ей
в глаза снизу вверх до неловкости преданно и лю-
бяще.— Мой концерт в консерватории. Не первый
же! А вот сейчас волнуюсь, как в первый раз. Ве-
роятно, из-за тебя... Из-за того, что ты будешь. Ты
всегда заставляешь меня выложиться до дна, боль-
ше, чем я могу, чем я умею...
— Как знать,— задумчиво произнесла она,— я
тоже жду многого от твоего концерта...
— Банкетный зал я уже заказал, а людей при-
глашать пока не будем, подождем, у меня предчув-
ствие...
— Вот не знала, что ты такой суеверный. Ну, не
будем, так не будем. Пригласить можно и в тот же
день, и на день позже... Вот посмотришь, пройдет
отлично. Утихни же, смотри, тишина-то в природе.
Боже мой, какое блаженство! Что может быть пре-
краснее лесной тишины?
— Только музыка и ты.— Саня прижался лицом
к ее рукам, не целуя.
Тамара Иннокентьевна недоверчиво улыбнулась,
она знала свое лицо с начинавшими уже кое-где
проступать морщинками; просто сейчас она не хо-
тела думать о неприятном, ведь она действительно
была счастлива.
С тСхМ же чувством глубокого внутреннего покоя,
приходящего в душу лишь в случае полного, безого-
ворочного счастья, она заранее попросила свою ста-
рую приятельницу заменить ее на занятиях в среду.
НуЖНО быЛО успеть ОТДОХНУТЬ И ПОДГОТОВИТЬСЯ К КОН’
церту; ей нужно было и хотелось быть красивой. Она
выбрала свое лучшее темно-вишневое тонкого бархата
платье с закрытым воротом; две бриллиантовые
капли в ушах подчеркивали строгую изысканность
линий фигуры, начинавшей уже чуть-чуть полнеть.
Александр Евгеньевич был занят, и она приехала
к консерватории одна; она обрадовалась нарядной
толпе у входа, заинтересованно отметив, что многие
пришли с цветами, и Тамаре Иннокентьевне посте-
пенно вспомнилось приятное ощущение праздничной
приподнятости и своей сопричастности к предстоя-
щему событию, приятно было ощущать на себе при-
стальные, просто любопытные и восхищенные взгля-
ды; последнее время их с Александром Евгеньеви-
чем часто видели вместе, и общественное мнение уже
прочно связало их имена; на концерт пришло много
общих знакомых, ей то и дело приходилось раскла-
ниваться; заранее поздравляли с успехом, обмени-
вались дежурными, расхожими любезностями и по-
хвалами в адрес таланта Александра Евгеньевича и
ее внешности, как это водится в подобных случаях.
Она едва отвязалась от невесть откуда взявшегося
Демьяна Солоницына — популярного песенника, к то-
му же еще и поэта. Солоницын был преданным сто-
ронником Сани в его делах, и поэтому они сближа-
лись все больше; часто, обсуждая предстоящие дела,
они любили спокойно посидеть за чашкой кофе или
бутылкой вина, но Солоницын обладал удивитель-
ным и редким качеством. Он всегда умел остаться
где-то на втором плане, он был незаметен, тогда
как Саня главенствовал, был старшим, в присутствии
Солоницына казался всегда более талантливым, зна-
чительным, чем на самом деле, Тамара Иннокентьев-
на была убеждена в том, что Солоницын своим
поклонением портит Саню, но ничего не могла по-
делать с его влиянием: податливый во всех других
случаях, Саня становился ужасно грубым и нетер-
пимым, как только она упоминала о Солоницыне,
он начинал кричать, ругаться, выходить из себя.
Тамара Иннокентьевна в конце концов научилась
переносить присутствие Солоницына и раз и навсегда
не принимать его всерьез. Вот и теперь она с ничего
не выражающей, отстраненной улыбкой повернула
к нему голову и приготовилась слушать; улыбка ее
относилась не к Солоницыну, а скорее к необходи-
мости ей слушать, а ему говорить слова, в которые
оба не верили, но принуждали себя слушать и гово-
рить. Густо-красная роза в суховатых руках Солони-
цына только подчеркивала это несоответствие, и, по-
чувствовав взаимную неловкость, Солоницын поспе-
шил отдать розу Тамаре Иннокентьевне.
— Вам, Тамара Иннокентьевна,— сказал Солони-
цын с легким полупоклоном, в котором, однако, про-
ступало неоскорбительное лукавство, как бы указы-
вающее на то, что он отлично все чувствует и пони-
мает, знает также и о ее отношении к нему, но
ничего сделать не может, и что она со временем
поймет свою ошибку и переменит свое мнение о нем.
Тамара Иннокентьевна взяла розу, молча побла-
годарила; глаза ее и в самом деле потеплели.
— Если вы не возражаете, я к вам в ложу при-
строюсь,— сказал Солоницын,— мне место там указа-
но... но если...
— Что вы, Демьян Андреевич,— Тамара Инно-
кентьевна невольно засмотрелась в его широкое,
выражавшее сейчас предельное благодушие лицо и
опять не удержалась от улыбки. — Конечно, сади-
тесь, конечно, буду рада...
— Сегодня все недруги Александра Евгеньевича
будут повержены к ногам его дарования,— не стес-
няясь, громко сказал Солоницын, пытаясь вызвать
ее на разговор; Тамара Иннокентьевна не стала ему
отвечать, сделала вид, что заинтересовалась кем-то
в зале. Она хорошо знала цену этим любезностям
и похвалам; все дело в высоком положении Сани,
а следовательно, в зависимости от него по многим
и многим вопросам многих людей, и, когда прозве-
нел первый звонок, Тамара Иннокентьевна с облег-
чением оставила гудящее фойе и с напряженным, не
допускавшим ничего постороннего в свой мир взгля-
дом прошла в ложу. Она любила именно эти недол-
гие минуты перед началом: настраивался оркестр,
публика неторопливо рассаживалась, люди сбрасы-
вали с себя груз дневных, мелких, житейских забот
и готовились приобщиться к высокому и прекрас-
ному. Тамара Иннокентьевна любила наблюдать за
людьми в эти недолгие затаенные минуты, за их
размягченными лицами, заранее настроенными на
сосредоточенность и внутреннюю тишину. Вот идет
девочка с огромными распахнутыми глазами, рядом
с ней тоже несколько непривычное в своей сосредо-
точенности юношеское лицо; мальчишеская, изо всех
сил сдерживаемая улыбка счастья; а вот знакомый,
музыковед Парьев, живой как ртуть, с вечной оза-
боченностью в лице, быстрыми движениями и не-
внятной речью. Тамара Иннокентьевна не знала, ка-
кой он критик, хороший или плохой, но что его при-
сутствием всегда определялась степень значимости
концерта или любого другого события, было изве-
стно всей музыкальной Москве. Наблюдая со сто-
роны взвинченное оживление Парьева, обладавшего
почти женской способностью самовозбуждаться, слов-
но весталка, и особенно проявлявшего это свое ка-
чество в присутствии рядом нужного и важного че-
ловека, Тамара Иннокентьевна постаралась, сколько
могла, притупить собственную раздерганность и успо-
коить лицо; она тоже готовилась к должному свер-
шиться таинству. С наслаждением вслушиваясь
в узнаваемый звук настраиваемых инструментов,
возвращавший ее в далекие годы юности, в годы
недолгой, шумной славы Глеба, она загоревшейся
кожей лица и шеи чувствовала на себе присталь-
ные взгляды оркестрантов, в директорской ложе было
просто некуда деться от этого липкого, въедливого
интереса к ее особе — люди оставались людьми. Ка-
ким-то непостижимым образом у нее за спиной почти
тотчас оказался Солоницын; он словно прошел
сквозь стену: не было его — и есть. Тамара Инно-
кентьевна этой его поразительной особенности боя-
лась и, ощутив у себя за спиной его присутствие,
с трудом заставила себя не думать о нем. Солони-
цын, словно почувствовав ее состояние, сидел спо-
койно, отдыхал после утомительной работы в фойе,
где пришлось рассчитывать каждое движение и сло-
во. Он подумал, что стал подозрительно быстро уста-
вать, что, очевидно, пора на два-три месяца исчезнуть
из Москвы. Он старался не смотреть на тяжелый
узел волос, на высокую и чистую шею Тамары Ин-
нокентьевны, чтобы не будить в себе застарелое не-
приязненное чувство к этой женщине, неизвестно за
что его презиравшей и даже ненавидевшей. Он ни-
когда не позволял себе обижаться, тем более выска-
зывать каким-либо образом свою обиду, это было
ему не по карману, а следовательно, не существовало
для него, но вот сейчас он не узнавал себя, просну-
лось что-то мальчишеское, ненужное, и он никак не
мог с этим сладить. «То>£е мне, строит из себя пер-
возданный кристалл, непорочная дева, да и только,
из-под мышки рожать думает, без зачатия,— раздра-
женно и грубо думал он, в то же время ничего не
выпуская из виду и сохраняя на лице любезное
выражение. — Что же ее Санечка, не знает, что ли,
она, по каким гекатомбам он бодро шагает вверх?
Что его музыка никому не нравится и по большому
счету никому не нужна? «Та-та-та — тра-та-та!» — пе-
редразнил он только что отзвучавшую тему из сонаты
Воробьева. — Какая разница, что его никто не слы-
шит. * Он сам никого не слышит, он, как сейчас гово-
рят, в автономном полете.^ Что за непостижимое
ханжество, какое уважение к своей особе! Посмот-
реть бы, смогла бы она сохранить вот такое царст-
венное спокойствие, не будь рядом с ее наполеончи-
ком таких вот, как я, незаметных, сереньких, не за-
мечающих оскорблений и все прощающих, ведь ее-
то наполеончик только на таких и держится; такие,
как он, всегда были, есть и должны быть. Мы ему
делаем славу, мы его подножие, а он нас соответ-
ственно подкармливает, бросает нам время от вре-
мени кусок-другой! Мы сила, потому что мы умеем
организоваться, подчиняться, мы умеем постоять друг
за друга, а все те, мыслящие себя гениями, вроде
Горского, надеются лишь на божью искру, один дру-
гого, как черта, сторонятся. Фу-у-у, и нету такой
искры: сколько их уже погасло, достаточно кое-кому
подуть или вовремя не подбросить самого прими-
тивного горючего: дровишек там или солярочки...
Хе-хе-хе!» — с удовольствием мысленно потер руки
Солоницын, ощущая свое могущество в единении
с тем же Александром Евгеньевичем и восхищаясь
именно неизвестно откуда взявшимся ласковым сло-
вом «солярочки».
Тут появился ловкий, с широкой лысиной знаме-
нитый дирижер Лолий Вайксберг, снискавший себе
славу не без деятельного участия и покровительства
Александра Евгеньевича, и это тоже было сделано
не без дальнего прицела — последние годы Лолий
Вайксберг широко пропагандировал музыку Алек-
сандра Евгеньевича в своих частых поездках и гаст-
ролях за границей...
Солоницын стал смотреть, как прославленный
дирижер незряче и привычно поклонился в зал, вы-
прямился, повернулся, напружинил жирный затылок
и демонически вознес руки над ждущим оркестром.
Программу Солоницын знал наизусть, он сам состав-
лял ее по указаниям Александра Евгеньевича, и по-
этому мог себе позволить сейчас как бы отклю-
читься от концерта, сплошь составленного из про-
изведений Александра Евгеньевича, отрывков из его
патриотической оперы «Высокое небо», получившей
самую лестную оценку на самых высших уровнях,
музыки из кинофильма «Великий путь»; сюда Алек-
сандр Евгеньевич умело пустил в дело отходы от
оперы, затем шло несколько народных песен в обра-
ботке Александра Евгеньевича и его же романсы
на стихи современных поэтов. Одним словом, Соло-
ницын мог позволить себе заниматься все тем же
блестящим анализом; он довел до логического конца
мысль о полной своей правоте и на примере Та-
мары Иннокентьевны пришел к неопровержимому
выводу, что сейчас люди их круга живут как бы
в двух главных измерениях. В одном приходится
приспосабливаться, многого не замечать, со многим
соглашаться, оправдывая это все тем же старым
утверждением, что такова жизнь и против нее не
попрешь; в другом же горизонте совсем иной тон,
необъяснимая мораль некоей разграничительной ли-
нии в одном и том же вопросе. То, что допустимо
по одну сторону этой линии, по другую встречает
удивление и даже негодование, вот он сам, Соло-
ницын, сколько угодно может прислуживать, подли-
чать во имя того же Александра Евгеньевича, но
это лишь по одну, определенную сторону черты...
Стоит же ему ступить на неположенную половину,
и ему тут же дадут понять, что он переборщил, что
от него дурно пахнет; что каждый должен знать
свое место, и все это будет оправдано сложностью,
даже диалектичностью жизни. А вся мораль здесь
на ладони и выражается двумя словами — делают
одно, а говорят другое, и, очевидно, для этого в мире
есть свои причины.
3^ подобными рассуждениями Солоницын совер-
шенно забыл проследить, как раньше хотел, за Та-
марой Иннокентьевной, за ее восприятием концерта,
а когда вспомнил об этом, было уже поздно. Пер-
вая часть закончилась, прогремели аплодисменты
(Солоницын не без тайного удовлетворения отме-
тил, что особого энтузиазма слушатели не прояви-
ли), дирижеру принесли огромный букет алых роз.
Начался антракт.
Тамара Иннокентьевна, задумчиво улыбаясь, за-
нятая какими-то своими мыслями, вышла из ложи;
Солоницын не стал ей навязываться, но, скользнув
40
вслед за ней в фойе, некоторое время продолжал
думать о ней. Впрочем, и для Тамары Иннокентьев-
ны ничего нового или неожиданного не было, все,
что исполнялось, она знала, исполнение могло быть
лучше или хуже, но существенно перемениться ни-
чего не могло. Это был Саня, это была его музыка,
ничего другого никто, и тем более она сама, ожи-
дать, а тем более требовать не могли. Нужно было
прогнать чувство неловкости и растерянности, при-
шедшие к ней вроде бы ни с того ни с сего, ниот-
куда.
Она пожалела, что не пригласила кого-нибудь
из подруг,— все сложности отступили бы, растаяли,
а то ведь обязательно кто-нибудь привяжется со
своими фальшивыми восторгами, и будет совсем
неловко. Саню же видеть тоже сейчас ни к чему;
биологически он удивительно чуткий, сразу поймет,
что она далеко не в восторге...
Едва она успела пожалеть о своей неосмотритель-
ности, перед ней оказался Парьев, сказал какую-то
плоскую любезность, сощурил умные, плутовские гла-
за, взял ее руку, осторожно поцеловал.
— Хорошо, хорошо, я давно хочу познакомить
с вами свою жену, что-то все никак не складывается.
У нее сегодня защита... Хорошо, очень хорошо! —
сказал он почему-то значительным шепотом и осто-
рожно исчез. К чему относились его слова, к Сане
ли, к ней самой, Тамара Иннокентьевна не поняла;
Парьев, вероятно, просто еще раз напомнил о себе,
о своехМ присутствии на концерте. Тамара Инно-
кентьевна направилась к широкой мраморной лест-
нице с намерением выйти на улицу и* побыть под
темными деревьями в одиночестве, но тут же по-
чувствовала на себе чей-то взгляд; она даже вздрог-
нула, но заставила себя идти прямо и не огляды-
ваться. Она знала, что человек, неотступно следив-
ший за нею, пошел следом. Тамара Иннокентьевна
хотела обернуться и как следует отчитать наглеца,
но вместо этого лишь прибавила шаг и, оказавшись
в знакомом скверике перед консерваторией, облег-
ченно вздохнула; выбирая затененные места, она
медленно прохаживалась, наслаждаясь привычным
слитным шумом города, одиночеством, какой-то вне-
запно охватившей душу легкой грустью. Ей больше
не хотелось никаких перемен, то, что дано судьбой,
ее вполне устраивает, большего ей и не надо, хотя
в юности, в молодости, когда рядом был Глеб, все
это представлялось иначе, как-то больше, возвышен-
нее, грознее. Но что не грезится в юности, уж такая
крылатая пора, затем все получается иначе, начи-
наются неизбежные потери, душевная усталость, при-
ходится мириться со многим, нужно держать себя
в руках. Что же, Саня есть Саня, это не Глеб, и
при всем желании и изворотливости он не может
подняться до него, но он же в этом не волен, а зна-
чит, не виноват. Столько ему отпущено от бога, не
всем же быть высокими творцами, он хороший че-
ловек, любит ее, что же еще надо? Мужчины во-
обще честолюбивы, со своим тайным дном: на этого
противного Солоницына нечего особенно сердиться.
Везде своя борьба, а она всего лишь женщина —«
не ей переделывать мир! Смешно... Стать на площади
и проповедовать? А какое у нее право учить? Что
она знает?
Совершенно теперь успокоившись, Тамара Инно-
кентьевна озабоченно подумала о предстоящем после
концерта банкете и нашла просчеты в своем туа-
лете. Нужно было одеться построже, здесь к месту
был ее зеленый костюм без всяких украшений, но
теперь уж ничего не поделаешь.
Кто-то стремительно шагнул и стал перед нею;
она вздрогнула, невольно оглядываясь, как бы соби-
раясь позвать на помощь, но тут же, различив зна-
комые черты лица, облегченно перевела дыхание.
Меньше всего она хотела встретиться в этот вечер
именно с ним, с Димой Горским, всегдашним со-
перником Глеба, в последнее время что-то замолчав-
шим,— те же странные, словно раз и навсегда изум-
ленные жизнью глаза, то же длинное, асимметрич-
ное лицо, тот же знакомый отсвет доброй улыбки
на губах — и в то же время что-то новое, страдаю-
щее, какое-то отсутствующее выражение на этом
знакомом, дорогом и оттого желанном сейчас лице,
заставили сжаться сердце. Тамара Иннокентьевна
почувствовала легкий запах вина и сдержала неожи-
данный порыв,— она готова была обнять, расцело-
вать этого человека за то, что он есть, что он был
как вестником Глеба, тех, грозных и прекрасных, раз
и навсегда отшумевших лет.
— Здравствуй, Дима... Оказывается, это ты меня
преследуешь,— она протянула руку, еще и еще раз
жадно окидывая его взглядом и отмечая про себя
сизые, нездоровые мешки под глазами. — Вот никак
не думала, что ты придешь на концерт Сани...
— Слишком много о нем говорили... любопыт-
но,— ответил Горский. — Прости, Тома, если я допу-
стил бестактность. Мне просто хотелось увидеть тебя.
— Что ты, Дима! — горячо возразила она. —•
Я понимаю, сложно все в жизни, но ведь что де-
лать?.. Так уж получилось.
— Я ни в чем тебя не виню, Тома.
— Ты все такой же... Ничего не умеешь скрыть,—
с еле уловимой горечью вслух подумала Тамара Ин-
нокентьевна.
Близко и как-то до неловкости доверительно по-
глядев ей в глаза, он не стал возражать; в свое
время, когда она еще была тоненькой девушкой, он
любил смотреть на нее; она была божественно кра-
сива, и у него даже в мыслях не могло возникнуть
нечто плотское, грубое. Он хорошо знал, что это
не было любовью, и она являлась для него просто
существом из иного, сказочного мира, и он ей по-
святил свою самую любимую сюиту и скрипичный
концерт. Он наслаждался, что он один знал об
этом, и теперь, неожиданно вспомнив те давно ми-
нувшие времена, мысленно улыбнулся своей наив-
ности; Тамара Иннокентьевна видела, как вздрог-
нули, напряглись его густые, торчавшие в разные
стороны брови. Она обрадовалась этой незабытой
его особенности.
— Расскажи о себе, Дима, что нового у тебя,—
попросила она, беря его под руку и отводя подаль-
ше в сторону, в густую тень: ей показалось, что
где-то неподалеку мелькнуло лицо Солоницына.
— Во сне сегодня тебя видел,— растерянно улыб-
нулся Горский, не замечая ее маленькой хитрости.—
Неожиданно... давно ведь и не встречались, и не
думал. Ты изумительно пела... Какая-то белая-белая
гора, солнце... ветерок, а я боюсь шевельнуться...
Как же ты пела, Тома... не сон, а праздник. Я се-
годня весь день под очарованием этого сна! Спасибо,
Тома... Я пришел тебя увидеть...
— Спасибо,— с трудом шевельнула она губами. —
Я понимаю, Дима... Но я знаю, ты не за этим при-
шел.
— Подожди, подожди,— поспешно сказал Гор-
ский, опять близко заглядывая ей в глаза, и опять
она уловила запах чужой, посторонней жизни — го-
речь вина, табака. Появилась какая-то обида, что эта
настоящая, терпкая, в муках жизнь проносится мимо.
— Ох, Дима, Дима,— сказала Тамара Иннокенть-
евна все с той же горечью в душе, начинавшей пе-
рерастать в досаду. — Вот от тебя не ждала жа-
лости.
— Тома, Тома, что ты это напридумала? — совсем
смешался Горский, но глаза его выдали — вдруг за-
блестели, засияли.
— Вот, вот! — торжествующе обрадовалась Тама-
ра Иннокентьевна. — Вот теперь ты настоящий, Ди-
ма! Хотел надуть... и кого? Меня! И не стыдно, до
чего же люди переменились, даже самые лучшие...
— Преувеличиваешь, как всегда,— со сложным
чувством досады и восхищения попытался несколько
притупить неожиданную остроту Горский; ему сейчас
достаточно было видеть ее и быть рядом. — А у меня
сейчас доброе-доброе настроение, сам себе не верю.
А что мы друг другу не все говорим, это же в по-
рядке вещей, иначе невозможно было бы никакое
общение. Ты же умная женщина.
— Умная еще не значит счастливая,— в Тамару
Иннокентьевну словно вселился неведомый бес. — Но
ты ведь пришел посмотреть на меня и определить,
что же произошло со мной. Откуда у всех вас право
судить? Кто вам его дал?
— Тома, Тома...
-— Нет, выслушай!
—- Да мне уже достаточно! Не мучай ты себя,
ты же не виновата, так уж сложилась жизнь...
— Вот, вот! Не мучай! Не виновата! Вот теперь,
Дима, ты прежний, тот, которого я раньше знала и
который всегда был мне дорог. — Тамара Иннокенть-
евна с холодным ужасом чувствовала, что ее словно
подхватила и безостановочно несет черная волна; она
приказывала себе остановиться и не могла, и когда
увидела жестко напрягшиеся складки на лице Гор-
ского, резко и зло обозначившие сжатые, слегка
кривящиеся губы, ей стало легче. Когда-нибудь это
должно было произойти, такова плата и такова мера
за прошлое.
-— Знаешь, Тома, ты все равно останешься для
меня прежней,— тихо сказал Горский.—Так оно и
будет, я ведь тебя когда опять увижу... А то и со-
всем не увижу... Вот если бог даст, я напишу твою
42
душу, вероятно, это поможет мне... еще раз под-
няться.Слышишь, я заставлю звучать твою душу!
— Я же другая, Дима! Я совсем переменилась! —
забывшись, с ненавистью почти закричала Тамара
Иннокентьевна. — Я просто женщина, я жить хочу.
Почему же вы все так безжалостны? Только потому,
что был Глеб и была война? У многих все это тоже
было... Все ведь живут...
— Прости, я не хотел сделать тебе больно,—
Горский теперь смотрел на нее как бы издалека и
думал о чем-то своем. — Ты же сама виновата, что
ты на меня-то накинулась? Если я даже показался
тебе призраком из прошлого... нет, виноват... такие,
как я, остались где-то за роковой чертой, не смогли
ее переступить. Что же на нас сердиться?
— Если бы вы только не винили в своих бедах
других...
— Тебя? Саню? — быстро спросил Горский. — Ты
это хочешь сказать?
— За что вы его так ненавидите? — глухо пожа-
ловалась Тамара Иннокентьевна. — Господи, отчего
люди так жестоки? Он ведь ни у кого не отнял,
делает, что может и как может... Не смей на меня
так смотреть, Дима! — слегка повысила она голос,
но Горский, начиная подпадать под ее настроение,
отвернувшись, покусывая губы, молчал. Он жалел
ее, и ему не хотелось говорить ей грубых, унижаю-
щих слов; он видел, что для себя она уже давно
все оправдала, но теперь ей хотелось, чтобы он, он,
именно он (он улыбнулся), давний друг и соперник
Глеба, всегда слывший прямым, бескомпромиссным
человеком, чтобы именно он подтвердил ее правоту
и еще больше укрепил ее в этой мысли. Пытаясь
пробудить в себе давнее светлое чувство в отноше-
нии Тамары Иннокентьевны, он с какой-то мучи-
тельной настороженностью попытался прислушаться
к себе; ну что же, подумал он, все меняется, пере-
менилась и она. Почему я должен был ожидать дру-
гого? В молодости многие талантливы, это особая
пора, % вот начинается повседневность, и многое
меняется. Проступает и утверждается истинная суть
человека. Что же на нее сердиться? Если ей хорошо
и удобно рядом с Саней, кто же имеет право ме-
шать? Зачем?
Все, вероятно, кончилось бы миром, сдержись
Тамара Иннокентьевна и переведи разговор на дру-
гое. Но она чувствовала, что если она сейчас усту-
пит, пошатнется и рассыплется прахом весь ее с та-
ким трудом созданный порядок, в душе у нее все
сломается. Сейчас в лице этого, когда-то талантли-
вого, одаренного молодого человека, а сейчас, по
всему видно, разочаровавшегося, пьющего, в ее душу
опять постучалось прошлое. Саня прав, нельзя ни
на минуту поддаваться слабости,
•— Вот видишь, Дима,—сухо усмехнулась Тамара
Иннокентьевна,— по существу, сказать и нечего. Так
уж устроена жизнь, один состоялся, другой нет... вот
и завидуют успеху Сани, ненавидят за это...
— Ты имеешь в виду меня?
-г- Все люди одинаковы, Дима,— все так же сухо
ответила она, выбирая момент попрощаться и поско-
рее уйти, но ее поразил и удержал его смех, какой-
то захлебывающийся, больной — она никогда раньше
не слышала, чтобы так смеялись. Горский хохотал,
время от времени с каким-то неприятным фыр-
каньем, с трудом произносимым в перерывах хохота
на разные лады одним-единственным словом «нена-
висть»; глаза его, попадая в свет фонаря, влажно
и дико поблескивали.
— Кажется, ничего смешного я не сказала,—
неприятно удивилась Тамара Иннокентьевна.
— Ненависть? К твоему Сане? Зависть? Нет, То-
ма, нет,— как бы в один момент стряхивая с себя
нервный неестественный смех, Горский стал подтя-
нутее, суше; Тамара Иннокентьевна почему-то испу-
галась этой перемены в нем, внутренне вся сжалась,
похолодела.
— Я пойду, Дима,— заторопилась она, но Гор-
ский не пустил, схватил ее за плечо и повернул к себе.
— Не торопись, я скажу всего несколько слов,
Тома. Мне жаль, но твой Саня всего лишь удобная
посредственность. Всему миру удобная! Таков миро-
порядок! У него никогда не прорвется святой бунт
страждущего духа, ни одно сердце он никогда не
заставит вздрогнуть от сладкой тоски исчезновения.
От его бескрылой музыки никто не захочет броситься
сломя голову в огонь! Никогда бы не поверил, что
ты когда-нибудь станешь защитницей посредствен-
ности! И тебе не стыдно! Ты была рядом с Глебом—>
рядом с вулканом, с очистительной грозой, и вот
тебе — Саня! Разумеется, какая теплая сырость, как
сытно!
— Молчи, молчи, ты пьян,— попыталась остано-
вить его Тамара Иннокентьевна. — Замолчи, ради
бога... Как ты можешь, ведь Саня говорит о тебе
только хорошо, он так высоко отзывается о твоем
таланте... Я всегда радовалась...
.— Ты еще больше порадуешься, если спросишь
Саню, почему я вот уже третий год не могу полу-
чить ни одного концерта, не могу записать пластин-
ки, а в издательстве вот уже третий год без движе-
ния лежит мой сборник. И почему у самого Сани всю
его серятину выхватывают, не дожидаясь, пока про-
сохнут чернила! Знаешь, Тома, мне думается, что
твой Саня одержим новой разновидностью гуманиз-
ма, знаешь, как его характеризует между собой
наша братия?
— Как же?
— Постно-справедливый Саня Воробьев. Правда,
здорово?
— Боже мой, какой ты стал злой, Дима! — про-
шептала Тамара Иннокентьевна, не прощаясь, резко
повернулась и пошла.
Горский посмотрел ей вслед, воздел руки то ли
к небу, то ли к приглашающему москвичей в вол-
шебный мир музыки Чайковскому.
—> Благослови заблудших, возврати их на путь
праведный! — пробормотал он, не обращая ника-
кого внимания на изумленно отшатнувшуюся от него
длинноволосую девицу, проходившую мимо.
Л
Пропустив последний звонок, Тамара Иннокенть-
евна едва успела занять свое место в ложе; вместе
со вспыхнувшими аплодисментами она увидела Саню
с бледным красивым лицом, стремительно пробирав-
шегося между пюпитрами к дирижерскому пульту.
Он поклонился залу и, слегка повернувшись в сто-
рону ложи, сразу нашел глазами Тамару Иннокенть-
евну, словно испрашивая благословения. Бледная, еще
не пришедшая в себя после неожиданного разгово-
ра, Тамара Иннокентьевна все же ответила улыб-
кой, и вся его высокая, резко очерченная фраком
фигура, слегка начинавшая полнеть, стала закончен-
нее и резче. Саня умел и любил дирижировать, у него
была исключительная память, он часто дирижировал
наизусть; с двух-трех репетиций он безошибочно ис-
полнял любое трудное произведение. Сегодня, как
и всегда, впрочем, во время авторских концертов,
вся атмосфера зала была наэлектризована нетерпе-
ливым ожиданием успеха или неуспеха, и это теперь
не зависело ни от положения, ни от протекций, а за-
висело только от таланта.
Внутренне подобравшись, Тамара Иннокентьевна
ждала начала; она не выносила диссонирующей му-
зыки, она вызывала у нее ощущение физической бо-
ли, хаоса, распада; мир и без того был страшен, же-
сток и разъят. В музыке она искала утешения и на-
дежды и была твердо убеждена, что музыка без гар-
монии не нужна; не боясь показаться старомодной,
Тамара Иннокентьевна находила в музыке то, что
искала, и ни за какие новации не собиралась рас-
ставаться с мелодией.
Начало ей показалось резким и разочаровало,она
отодвинулась в глубь ложи и, полузатененная бар-
хатной портьерой, напряженно ждала продолжения.
Понемногу в разлаженном, разбегающемся хаосе
разъедающих, враждующих, наталкивающихся друг
на друга звуков стало восстанавливаться равнове-
сие; время от времени все настойчивее вступала пар-
тия скрипок и легкой волной смывала с души тре-
вогу и усталость. «Ничего,— говорили скрипки,—>
еще будет радость, еще не все потеряно, и это прой-
дет, ты узнаешь радость, потерпи». Тамара Инно-
кентьевна не узнавала Александра Евгеньевича; его
руки, обычно изнеженные, вялые, сейчас царили над
оркестром, над залом. Она не ошиблась, что пове-
рила, и вот награда, от неожиданности тем более
дорогая,— как она могла хоть на миг усомниться?^
Дима Горский хороший, добрый, талантливый, ему
не хватило немного везения, вот он и' стал скепти-
ком. Не надо на него обижаться.
Глубже погружаясь во что-то привычное, необхо-
димое ей, к чему все больше прирастала душа, Та-
мара Иннокентьевна попыталась вспомнить, когда
же, где, где? Она точно знала, что такое ощущение
бесконечности, продленности своего «я» она уже
испытывала однажды, когда вот так же все исчезло
в сумасшедшем стремительном потоке, подхватившем
и понесшем ее в знакомые родные дали... Каким-то
подсознательным судорожным усилием пытаясь оста-
43
повить этот неудержимый поток, стараясь оборвать
его, она едва удержала готовый вырваться крик —
случилось невозможное, она узнала тяжелую лоба-
стую голову Глеба, резкий, юношеский профиль его
лица, его характерные движения, даже его характер-
ную манеру напевать сквозь сомкнутые зубы во вре-
мя исполнения его вещей с оркестром.
Тамара Иннокентьевна боялась шевельнуться,
чтобы не спугнуть мгновение, и в то же время не
находила в себе сил прекратить эту муку. Теперь
она знала, что испытывает человек, умирая; она
сама была сейчас где-то именно на этой грани,
сердце остановилось, оркестр отдалился, глухая пе-
лена затянула все перед глазами, внезапно ее на-
крыла с головой непроницаемая, оглушительная ти-
шина.
Она не знала, сколько прошло времени, минута,
две или десять, только в ней вновь прорвался, вна-
чале исподволь, затем нарастая, усиливающийся тоск-
ливый крик скрипок, и сразу же понеслось к ней на-
встречу лицо Александра Евгеньевича. Страшное оце-
пенение сковало ее, не было сил даже отодвинуться
в глубь ложи, чтобы положить хоть какую-то пре-
граду между собой и этим мешающим, ненужным,
ненавистным сейчас ей лицом. Со свойственной в от-
ношении ее почти звериной чуткостью Александр Ев-
геньевич понял, что с ней происходит, ему переда-
лась едва не удушившая ее волна; он твердо и от-
страненно посмотрел в ее сторону и опять повернулся
к оркестру. Никакого Глеба больше не было, только
Александр Евгеньевич с его красивыми руками, чуть
полноватым, голым (он сбрил бороду к своему кон-
церту) женственным лицом и высокой рыхловатой фи-
гурой, плотно затянутой во фрак, и... с его чудовищ-
ной везучестью, всепроникаемостью и безнаказан-
ностью! Да полно, был ли Глеб вообще, если ничто
больше о нем не напоминает, если его музыка ему
больше не принадлежит, а значит, никогда не при-
надлежала; а принадлежит и отныне всегда будет
связываться с именем этого овладевшего ее волей,
ненавистного, преуспевающего человека. Он хладно-
кровно, обдуманно стер саму память о Глебе, взяв
себе его музыку, почти без помарок, ничего не пе-
ременив, использовал в своей симфонии любимые
мотивы Глеба; Тамара Иннокентьевна особенно лю-
била эту тему борьбы двух влюбленных, стремив-
шихся пробиться друг к другу сквозь разделяющую
их тьму, из незаконченной сюиты Глеба.
Александр Евгеньевич высоко вскинул руки, и
она отчетливо увидела его округлый затылок с длин-
ными, плотно уложенными, напомаженными волоса-
ми; даже от резких движений в прическе (Тамара
Иннокентьевна не могла вспомнить сейчас имя мод-
ного мастера из известного всей Москве салона,
обычно приходившего на дом к Александру Евгенье-
вичу укладывать волосы по особенно торжествен-
ным случаям) не сдвинулся ни один завиток. Так же
и на его лице, обычно мягком, чуть расслабленном,
сейчас не двинулся ни один мускул, оно казалось
вычеканенным из бронзы. Тамара Иннокентьевна
была уверена, что и он испытывает сейчас точно
такое же чувство. Да, он давал ей понять, что при-
нимает вызов, что между ними с этого момента воз-
никла и установилась какая-то совершенно новая,
беспощадная связь. Он продолжал дирижировать
с тем же затвердевшим отстраненным лицом, и даже
если она ошибалась, это уже ничего не меняло —
их захлестнуло смертельной петлей.
Тамара Иннокентьевна ощутила приближение но-
вой удушливой волны; да, Саня решил ее сломить,
заставить окончательно забыть о прошлом; она сей-
час вспомнила ранее ускользавшие от ее внимания
мелочи в их отношениях, они лишь еще больше утвер-
дили ее в догадках; нарастающий же разлад в ор-
кестре, доходящий до откровенной какофонии, дол-
жен был, по всей вероятности, означать новое слово
в музыке.
Крепко сцепив побелевшие пальцы рук, Тамара
Иннокентьевна приготовилась бороться до конца; под-
бадривая и успокаивая себя, она стала вспоминать
еще студенческие времена, ухаживание Глеба. Это
помогло, и она обрадовалась; теперь меня так легко
не возьмешь, подумала она, имея в виду Александра
Евгеньевича, теперь я тебя знаю, хоть ты самим
дьяволом обернись, не поможет...
Между тем из хаоса рушащегося мира опять про-
бились согласные, легкие и стремительные голоса
скрипок. Тамара Иннокентьевна крепче стиснула
руки на коленях; Глеб не успел дописать эту сюиту,
и публично она никогда не исполнялась. Тамара
Иннокентьевна хорошо помнила светлую, стремитель-
ную, как бег прохладной чистой воды, мелодию,
опять два родственных начала пробивались сквозь
все преграды друг к другу. Тамара Иннокентьевна
видела перед собой любимое запрокинутое лицо,
и сквозь стиснутые зубы опять доносились привыч-
ные до боли, до страдания звуки, и уже новый при-
ступ глухоты начинал сковывать ее, уже...
Еще мгновение, и она бы страшно, на весь зал
закричала; в самый последний момент, собрав остат-
ки сил, в бессильной ненависти, она встала, не огля-
дываясь прошла к двери, слепо толкнула ее и почти
побежала к. выходу; те*перь она знала, в чем был
весь дьявольский план концерта. Не сломись она
во второй раз, был бы третий, и четвертый, и пя-
тый; вздрагивая от нервного озноба, она остановила
такси, назвала адрес и только в машине начала
приходить в себя. Она попросила ехать кружным
путем, движение всегда ее успокаивало; и шофер,
молодой парень, выполняя ее желание, с интересом
•к ней приглядывался; Тамара Иннокентьевна не за-
мечала. Первый ожог прошел, теперь ею все больше
овладевало тупое отчаяние и безразличие; боже мой,
зачем куда-то возвращаться, куда-то ехать, лучше
всего сейчас было бы на всей скорости налететь
на что-нибудь, на стену, на дерево, на бетонный
столб, и все разом кончить. Она повернула голову
и поглядела на шофера: молодой, лет двадцати се-
ми, с красивым профилем мужчина, у него были
крупно очерченные губы, прямой нос, длинные брови,
кисти рук тоже красивые, артистичные. Шоферу
начинало передаваться ее состояние, и он как-то
44
странно завороженно, не мигая, смотрел в летящее
навстречу пространство.
— Пожалуйста, быстрее!
Шофер молча кивнул, и машина плавно рвану-
лась и скользнула вниз, точно в пропасть, в сияю-
щую огнями улицу, но тотчас нырнула, не сбавляя
хода, в какой-то темный проулок и тут же выскочила
опять на открытое, залитое огнями пространство. Та-
мара Иннокентьевна облизнула пересохшие губы и
как-то сразу успокоилась и даже взглянула на себя
в косо висящее зеркальце; она уже ощутила в себе
шумно ворохнувшегося знакомого беса, в ней все
сильнее разгоралось желание и в самом деле удивить
себя и переступить последнюю черту. Долгим при-
ближающим взглядом она опять посмотрела на шо-
фера и почувствовала, что он сделает все, что она
захочет; он уже и без того отвечал на каждое ее
движение. Выскочив на какое-то пригородное шоссе,
они теперь неслись с сумасшедшей скоростью; стре-
мительная ревущая тьма, рассекаемая узким лучом
света, мчдлась навстречу, уже время исчезло, уже
достаточно было одного неверного движения...
Тамара Иннокентьевна не могла понять, отчего
вдруг все оборвалось; сумасшедшее, опустошительное,
успокаивающее ее движение внезапно прекратилось,
разрывая все внутри. Она страшно, смертельно по-
бледнела, но уже и машина резко сбросила ско-
рость, взвизгнув тормозами; шофер сидел, бледный
до синевы, стиснув зубы, всей тяжестью своего здо-
рового молодого тела навалившись на руль; с трудом
оторвав руки от баранки, он толкнул дверцу и, не
говоря пи слова, исчез в темноте и долго не возвра-
щался, а когда вернулся, тотчас, не глядя в ее сто-
рону, резко развернул машину и погнал обратно.
Сознание возвращалось медленно; просто они уже
не принадлежали себе, на сумасшедшей, бешеной
скорости пронеслись мимо крошечной, лет пяти де-
вочки с поднятой ручонкой; сноп света лишь на
какую-то долю мгновения вырвал из тьмы, из ки-
пящего пространства фигурку девочки — знак про-
видения и предостережения, но этого было доста-
точно— все существо Тамары Иннокентьевны, погло-
щенное ожиданием предстоящего, успело, оказывает-
ся, выхватить из тьмы девочку с поднятой ручонкой,
чтобы затем осознать и вздрогнуть от смертельного
озноба; Тамара Иннокентьевна никак не решалась
взглянуть в сторону шофера, успевшего в последнюю
долю секунды опомниться, пересилить себя у самого
края пропасти. Рассчитываясь, она просто выгребла
на сиденье все содержимое сумочки и, выходя из
машины, лишь мимоходом, с мольбой заставила себя
взглянуть ему в зрачки, опять увидела в них откро-
венное восхищение, почти страдание, вся вспыхнула
и торопливо вбежала в подъезд. Едва успев открыть
дверь в квартиру, она вздрогнула — напористо и ве-
село зазвонил телефон, и она поняла, что это звонит
Александр Евгеньевич. Телефон продолжал надры-
ваться, несколько минут она сидела вяло, без дви-
жения, без мысли, слушая настойчивые непрерывные
звонки, затем тяжело встала, взяла трубку; в уши
ей тотчас рванулся бурный, взвинченный голос.
— Да, это я,— отозвалась она, чувствуя смер-
тельную, почти обморочную усталость. — Да, я тебя
поздравляю... слушала, нет, не все... да, да... вер-
нешься, поговорим... Да, да, уехала, не дождалась...
Все объясню... Не понравилось? Нет, нет, не знаю,—
она с удивлением вслушивалась в свой тусклый
безжизненный голос. — Пришлешь машину? Зачем?
Ах, банкет... Нет, нет, я себя неважно чувствую, не
надо, я подожду тебя дома. Нет, нет, не присылай,
я не приеду. До встречи, Саня,— она положила труб-
ку и долго не снимала руки с трубки, как будто
насильно заставляя телефон молчать; она уже все
продумала, но никак не могла заставить себя пове-
рить до конца, боялась сделать еще одно, последнее
усилие и убедиться окончательно.
В комнате, выходившей окнами на улицу, было
очень душно, и Тамара Иннокентьевна, открыв окно,
легла грудью на подоконник; нагретый за день воз-
дух не освежал; прохлады и спасения от духоты по-
прежнему не было; Тамара Иннокентьевна вяло
оторвалась от подоконника и пошла на кухню, вы-
ходившую балконом во двор,— здесь было меньше
шума, движения, и сам воздух казался прохладнее
и чище. Тамара Иннокентьевна села у открытой бал-
конной двери на сквозняке; ей нужна была пере-
дышка; нужны были силы для того, что ей пред-
стояло. И когда пришла нужная минута, она тяжело
поднялась, вернулась в большую комнату и, не раз-
думывая, выдвинула два нижних ящика письменного
стола, где всегда хранились рукописи и бумаги Гле-
ба. Давно, может быть, уже больше года Тамара
Иннокентьевна сюда не заглядывала, но сразу же
увидела, что из всего хранившегося здесь осталось
меньше половины. Дрожащими руками она стала
перебирать знакомые листы, она физически ощущала
теплоту шероховатой бумаги; под ее пальцами вспы-
хивали и бились стремительные, обрывочные пасса-
жи, таинственные, явившиеся из неизвестности и
ушедшие в неизвестность всплески мыслей Глеба,
даже в таком незавершенном виде пронизанные не-
обычайным чувством гармонии. Недоставало очень
многого из неоконченного, исчезли почти готовые
вальсы; наброски молитв, как называл их Глеб,
тоже исчезли...
С трудом остановив подступившую дурноту, почти
не соображая, Тамара Иннокентьевна слабеющими
руками рассовала бумаги по ящикам, с грохотом
задвинула их, и сразу в комнате установилась мерт-
вая тишина. Тамара Иннокентьевна поежилась, испы-
тывая чувство полнейшей опустошенности, словно
кто-то ограбил, обобрал ее до нитки, и ей стало
стыдно своей наготы и невозможности куда-нибудь
укрыться. Опять пришло то же чувство зияющей чер-
ной ямы, что и в машине недавно,— пустота, ни жела-
ний, ни мыслей; нужно было заставить себя что-то
сделать, сдвинуться с места, чтобы не тянуло опять
заглянуть в зияющую пустоту, откуда нет возврата...
Заученно, как автомат, двигаясь, Тамара Инно-
кентьевна принялась совершенно механически за
уборку, протерла полы, мебель, вымыла ванную, пе-
речистила на кухне кастрюли, до блеска надраила
45
медный старинный чайник, разобрала грязное белье
для прачечной. Было уже далеко за полночь, а она
все придумывала и придумывала себе новые дела,
наконец достала откладываемое на более благопри-
ятные времена шитье — серую шифоновую блузку
(она любила шить, и это ее всегда успокаивало) и
не заметила, как время подошло к двум. Щелкнул
замок, хлопнула дверь, из передней послышалась
оживленная возня, раздался веселый, уверенный, ли-
кующий голос Александра Евгеньевича, а затем и
сам он, без шляпы и бороды, собственной персоной
появился в широко распахнутых створках стеклян-
ных дверей с бутылкой шампанского, с огромной
(едва умещалась в руках) охапкой махровых пале-
вых хризантем. Глаза Тамары Иннокентьевны, до сих
пор отрешенные, потеплели; перед нею стоял еще
совершенно молодой мужчина со счастливым блеском
в глазах, с гордой, свободной посадкой головы; она
и раньше знала, что успех красит, теперь же это
еще раз подтверждалось. Она подумала, что у нее
уже нет сил на вторую жизнь, она слишком долго
пробыла в горе и одиночестве, радость не прихо-
дит сама по себе, за нее нужно бороться.
— Как ты хорош, Саня... Как тебе хорошо без
бороды. И это все мне? — по-детски обрадовалась
она цветам. — Мои любимые!
— Все тебе, еще вот это,— он вытащил из боко-
вого кармана длинный узкий футляр и небрежно
бросил ей на колени, прямо на шитье. — За удачу!
Футляр раскрылся, и на колени Тамаре Инно-
кентьевне скользнула короткая нитка розового жем-
чуга неправильных крупных зерен, теплого густого
тона, казалось, они мягко светятся изнутри. У нее
на глазах показались слезы; со смешанным чувст-
вом страха, восхищения и отвращения к себе, она
уже не ощущала непримиримости, негодования,
оскорбленности, не ощущала всего' того, что кипело
в ней в ожидании встречи; хризантемы сильно пах-
ли, остро заполняя комнату запахом свежей зелени.
— Я немного выпил, совсем немного, нельзя было
отказаться, все пришли, все, кого я пригласил. Спра-
шивали о тебе и заметили твое отсутствие. Я уж
врал, как мог. Ты бы заранее предупредила, если
у тебя каприз,— Александр Евгеньевич поставил
шампанское на стол и бросился на диван рядом
с нею. — Как я устал... Даже нет сил разозлиться
и побить тебя. Ну что опять на тебя накатило? Пой-
ми, ничего нет, есть мы и только мы и наша жизнь.
Остальное не имеет значения. Все остальное не су-
ществует! Ну же, ну! Опять слезы? Мировая
скорбь по несуществующему предмету? — приподняв
ее лицо за подбородок, Александр Евгеньевич поце-
ловал ее в губы, властно, по-хозяйски, и у нее не
хватило сил ни отодвинуться, ни оттолкнуть его ру-
ки; она опять с ужасом почувствовала, что ей при-
ятно, что она уже привыкла именно к этому чело-
веку, к этому мужчине, и ей ничего не хочется ме-
нять. Пряча глаза, она зарылась лицом в ворох хри-
зантем, несколько раз глубоко вобрала в себя про-
стой и, возможно, самый разумный в мире запах,
запах беспечности и счастья.
— Я плохо себя почувствовала,— сказала она.—
Ничего не готовила...
— А что нам надо? Что нам надо? — запел он,
срываясь с дивана. — Там в коридоре еще во-о-от
какая коробка со всякой всячиной. Ты плохо обо мне
думаешь, разве я мог забыть главное, наш с тобой
праздник? Столько вкусного. Из Армении Астмик
Тевосян даже твою любимую колбасу привез и твой
фирменный коньяк «Ахтамар». Астмик свое избра-
ние отрабатывает. Трудно было его в правление
провести — нужен, но не популярен, а себя он, ра-
зумеется, считает классиком современной массовой
песни. Зовет нас, говорит, у него загородный дом
в Цахкадзоре, фантастика, роскошь, супер и рядом
горы, первозданная природа. И даже античный храм
есть. Первый век до нашей эры. Махнем, а? Вот
пленум проведу — и махнем! Меня попросили, для
чего-то надо, чтобы провел его именно я. Сиди, си-
ди,— приказал он Тамаре Иннокентьевне, двинув-
шейся было ему помочь, и она осталась на диване,
с цветами и жемчугом на коленях; Александр Ев-
геньевич ловко и быстро накрывал прямо в этой же
комнате стол, накинув на него белоснежную хрустя-
щую скатерть; попутно он сгреб у Тамары Инно-
кентьевны с колен хризантемы и воткнул всю охапку
в огромную напольную вазу севрского фарфора,
единственное, что он взял с собой из своего преж-
него дома.
— Пусть с нами тоже празднуют,— он небрежно,
на ходу чмокнул ее в щеку и, почувствовав ответное
движение, с торжествующей улыбкой опять засуе-
тился вокруг стола.
Конечно же, каждому приятно, когда тебя лю-
бят, подумала Тамара Иннокентьевна, поглядывая
на него, ей самой давно надоело одиночество, бес-
сонные ночи, страх вступить снова в жестко очерчен-
ный круг, когда за дверью квартиры встречает мерт-
вящая тишина...
Несколько раз она порывалась встать и помочь
Александру Евгеньевичу, но он всякий раз усажи-
вал ее обратно, говорил, что сегодня ему хочется
сделать все своими руками, и она всякий раз охотно
подчинялась, продолжая наблюдать за ним и ощу-
щая замедленное течение глухой ночи. Он ведь прав,
думала она, как бы разрушая последние запретные
границы в своей душе, живое — живым, иначе мир
не смог бы существовать и развиваться. Жизнь тре-
бует уступок, хочешь, чтобы тебя любили, лучше
всего не замечать недостатков, даже пороков, осо-
бенно если рядом творческая натура, из этого тоже
состоит жизнь. Те, кто идет прямо и говорит все,
скорее гибнут или становятся пророками, но их ги-
бель тоже норма для обычной жизни. Пророки хо-
роши на отдалении, в своем времени их никто не
терпит. Да и что такое в конце концов сделал Са-
ня? Молодой, сильный мужчина, честолюбивый, до-
рвался наконец до власти, до славы, костер-то вон
какой прожорливый, сколько ни бросай, сгорает
мгновенно, вот он и подбрасывает, что под руку по-
падается, да и кому во вред? Если спокойно разо-
браться, обдумать — никому; прошлое есть прошлое,
46
и пусть лучше все, чем пропасть, все, что осталось
от Глеба, оживет хотя бы таким образом, какое дело
людям до утомительных и ненужных подробностей,
до кухни? Им нужен результат, изнаночная сторона
их не касается; они приходят в раздражение, когда
им навязывают что-то непонятное и выходящее из
общих правил. Вот идиотка, запоздало спохватилась
Тамара Иннокентьевна, сидит, упивается своими
придуманными страданиями, а мужик кухарничает
после авторского концерта. Если бы все стали зани-
маться самоедством, хорошая бы наступила жизнь.
Кто бы, интересно, рожал и растил детей, писал
музыку, строил дома?
Быстро сбросив домашнее вязаное платьице и ра-
дуясь, что не успела переменить красивое дорогое
белье, надетое перед концертом, Тамара Иннокенть-
евна с удовольствием достала черное, расшитое се-
ребром кимоно, купленное по случаю, после войны на
барахолке; она его очень любила и редко надевала.
Высоко заколов волосы и подкрасив губы, требова-
тельно разглядывая себя в зеркало, она с удовольст-
вием отмечала, что за последнее время посвежела
и похорошела и выглядит много моложе своих три-
дцати пяти; она поймала себя на странном и
неожиданно возникшем желании подойти к старому
роялю, погладить его, но она смогла удержать себя
и скоро забыла об этом.
Чуть позже они сидели друг против друга за кра-
сиво убранным столом, при зажженных свечах, дер-
жа в хрустальных бокалах шипящее шампанское —
чувствуя голой шеей продолговатую окружность
жемчужин и время от времени незаметно гладя самые
крупные из них, Тамара Иннокентьевна и верить не
верила и думать не хотела о недавних страданиях.
— Пью за тебя, Саня! — блестящими глазами
всматриваясь в искрящееся вино, сказала Тамара
Иннокентьевна. — Действительно, большой день.
— А я за нас, Тамара! — он с незнакомой ей уве-
ренностью и даже вызовом поднял свой бокал, за-
тем глаза его смягчились; они чокнулись, вслуши-
ваясь в тонкий замирающий звон.
— Ты на меня так странно посмотрел,— вопроси-
тельно и немного искательно улыбнулась Тамара Ин-
нокентьевна.
•— Посмотрел? Как посмотрел?
i— О чем ты подумал?
— Пожалуй, о том, что ты наконец сделала вы-
бор, вот только сейчас,— ответил после напряженной
паузы Александр Евгеньевич и потянулся было при-
вычным жестом огладить свою бородку; натолкнув-
шись на жесткую выбритость кожи, он почему-то за-
метно расстроился.
•— Как ты почувствовал?
— Не знаю. Неожиданный ожог, изнутри... Как
будто меня ударили. У-уф... неприятно! — передернул
Александр Евгеньевич плечами и залпом допил шам-
панское.
.— Что же, обиделся?
— Отлично знаешь, на тебя я не могу обижать-
ся. Здесь другое... Когда так долго ждешь приговор,
нервы сдают. Помилование даже не радует.
И она опять почувствовала к нему нежность и,
ничего не отвечая, только улыбнулась, точно погла-
дила его глазами.
— Не прикидывайся таким ручным... Ты ведь не
такой, ты не домашний кот Васька. Совсем нет.
— Какой же?
— Ты только с виду мягкий, шелковый, покла-
дистый,— сообщила Тамара Иннокентьевна почему-то
шепотом,— под этой мягонькой шерсткой — сталь, я
сегодня почувствовала...
— И что же?
— Странно, непривычно... Мне с таким стержнем
нравится. Шелковый мужчина, да еще с красивой
внешностью — ужасно, мужчина должен что-то хо-
теть и уметь. Главное — хотеть!
Вместе с четкой, просветленной решимостью при-
нимать жизнь отныне без ненужной рефлексии Та-
мара Иннокентьевна какой-то второй половиной своей
души, совершенно независимой и действующей сама
по себе, механически, утомительно фиксировала про-
исходящее, каждый штрих, интонацию, перемену
в выражении лица; даже блик от свечей, отражен-
ный в открытой крышке рояля, казалось, отпеча-
тался в самом ее мозгу; раскрытый рояль казался
черной птицей с неловко подвернутым крылом, и
она опять вспомнила свое неожиданное удивительное
чувство в отношении этого старого рояля. «Это от
шампанского»,— тут же отбросила Тамара Иннокен-
тьевна беспокоящую ее мысль.
Закинув руки на плечи Александру Евгеньевичу,
совершенно сливаясь с ним, чувствуя голой шеей
нагревшуюся округлую неправильность зерен оже-
релья, Тамара Иннокентьевна двигалась под тихую
музыку; это и есть счастье, говорила она себе, ни
о чем не думать, ничего не менять, подчиняться
плавному ритму, чужой воле, властным мужским ру-
кам, только бы движение это длилось долго, беско-
нечно, плыть куда-то в неизвестность в тихом, все
более слабевшем шуме ночи, переходящей в рассвет;
что ж, пусть кто-нибудь попробует осудить, она
найдет ответ, да, да, тысячу раз да, как и любой
женщине, ей сейчас необходима древняя, как жизнь,
грубая власть мужчины.
Она забылась не сразу; уже крепко заснул, утк-
нувшись ей в плечо головой, Александр Евгеньевич,
даже во сне он не отпускал ее, и Тамаре Иннокен-
тьевне пришлось силой убирать со своей груди его
руку; он недовольно почмокал добрыми, детскими
во сне губами. Легонько, чтобы не разбудить его,
она отодвинулась на самый край постели и откинула
штору; тотчас ночь, синяя, звездная, с таинствен-
ными, влекущими провалами лесных озер, укрытых
тонкими туманами, раскинулась над ней, окутала
и понесла на своих неслышных руках в неведомые
просторы, и тогда она запела. Она пела все ту же,
-известную только ей мелодию, слова рождались сами
собой, как что-то знакомое и привычное, она все-
гда пыталась запомнить их, чтобы потом записать;
мелодия всегда жила в ней, чтобы сейчас вырваться
на свободу. Голубые, лиловые, темно-бархатные об-
лака с золотыми краями проносились мимо, они
47
были частью ее, да и сама ночь, само движение были
мелодией, и земля, лишь' слегка угадываемая сквозь
легкую дымку внизу, была ее мелодией. Впереди
открылось невиданное зрелище — город из перелива-
ющихся воздушных куполов летел ей навстречу, он
ежеминутно менял цвет и размеры, но здесь тоже
был свой ритм, своя музыка. Затем что-то темное,
разрушающее ворвалось в эту согласную гармонию,
золотой город, летевший ей навстречу, вспыхнул в по-
следний раз ослепительным пламенем, стал чернеть
и распадаться. Чувство бесконечного падения и
безысходности, отчетливый голос, одиноко звучащий
в полной, абсолютной, непроницаемой тишине, заста-
вил ее подхватиться в кровати, как от удара; она
прихватила прыгающие губы ладонью. Большие на-
польные часы только-только кончили бить, в воздухе
еще дрожало медленно затухавшее отражение звона.
«Часы... слышишь? Часы бьют... Томка, Томка...
Нельзя больше спать»,— только что услышанные во
сне слова резали мозг; с отвращением путаясь в смя-
тых простынях, она выбралась из широкой постели,
на ощупь набросила скомканное кимоно и, все так
же боясь разбудить Александра Евгеньевича, зады-
хаясь от усилий сдержать разрывавшие горло спаз-
мы, кое-как добралась до кухни; в большую комнату
с роялем ей было идти жутко, точно кто-то ждал
ее там, она даже втянула голову в плечи, все время
ожидая резкого, презрительного окрика,— музыка,
несшая ее ночью к золотому городу, была молит-
вой солнца.
— Что случилось, Тамара? — услышала она хрип-
ловатый голос Александра Евгеньевича, сонно щу-
рившего глаза на режущий свет. — Что ты тут де-
лаешь? Проснулся, а тебя нет...
Не поворачиваясь к нему, Тамара Иннокентьевна
спиной чувствовала, что он сейчас совершенно го-
лый; видеть его голым было сейчас выше ее сил.
— Иди оденься,— попросила она.
-— Зачем? Ночь душная...
— Мне нужно с тобой поговорить.
— Сейчас?
— Да, сейчас.^
— Фрак или смокинг? Ну, хорошо, хорошо! —
Александр Евгеньевич зевнул и с легким раздраже-
нием пошел одеваться; опять причуды, сказал он
себе, женщина, даже самая лучшая, все-таки оста-
нется женщиной, всегда найдет время испортить на-
строение, без видимой причины перевернуть все вверх
дном. Лениво прошлепав в спальню, он через мину-
ту вернулся в пижаме; Тамара Иннокентьевна уже
приготовилась, глаза ее сухо блестели.
— Скажи, Саня, ты помнишь свое обещание
исполнить, записать и опубликовать лучшее из на-
следия Глеба? — спросила она сразу же, едва толь-
ко он появился в дверях. — Помнишь?
— Ты слишком торопишь события,— сухо отре-
зал Александр Евгеньевич, сбрасывая остатки сна и
сразу же принимая вызов. — Считаешь, ты одна за-
ботишься. Глеб и мой самый близкий, самый доро-
гой человек. Ну, а что ты так смотришь? — почти
закричал он, и у него на лбу выступила испарина. —
Я завидовал ему, но тебе не понять этого... да и
зависть ли это? Что-то другое, не знаю, как на-
звать, только не зависть. Удар, ожог, ослепление,
желание выскочить куда-нибудь на перрон и бро-
ситься под колеса... Со мной так было два раза,
только я не мог шевельнуть ногами, ноги отказы-
вали, они становились чугунными... A-а, зачем я те-
бе все это говорю! — безнадежно махнул рукой
Александр Евгеньевич, но ее вид, и ее лицо, и что-
то еще, то, чего нельзя назвать словами, то, что не
имело имени, снова вставшее’ между ними, как бы
подстегнуло его; он понял, что это последняя и
единственная возможность вернуть ее. В нем слов-
но сработала безошибочная защитная система, взве-
сившая все «за» и «против», и он понял, что глав-
ное и сейчас и в будущем заключается для него в
этой женщине, что если он ее потеряет, сама жизнь
станет бессмысленной. Он заметался, пытаясь найти
иной выход, но иного выхода не было и быть не
могло. С застывшей, незнакомой, вымученной усмеш-
кой он шагнул и сел недалеко от нее. Некоторое
время длилась вязкая тишина.
— Чего же ты хочешь? — спросил Александр Ев-
геньевич, глядя себе под ноги на треснувший пол.
— Ты не ответил на мой вопрос...
— У меня нет такой возможности,— сказал он
так же тихо, без всякого выражения, стараясь ка-
заться спокойным. — Воскресить мертвого... Пони-
маешь, мертвого! Что дадут ему несколько публи-
каций? Вечер его памяти? Что? Это не сделает его
тем, чем он обещал стать. Великим Глебом.
— Я тебя понимаю, жалко. Но нельзя же отни-
мать у человека даже память. Только потому, что
он был благороден... — Чувствуя глубокую, смер-
тельную усталость, Тамара Иннокентьевна подума-
ла, что они продираются друг к другу через какой-
то бурелом, продираются и не могут сойтись, а ска-
жи он несколько слов, и дурной сон развеется.
— Не знаю,— наконец выдавил из себя Алек-
сандр Евгеньевич,— поймешь ли ты... Столько лет
прошло после войны. Кажется, совсем немного, но
в музыку пришло новое поколение одаренных лю-
дей. Им нет дела до нас, тем более до мертвых. Кто
такой теперь Глеб Шубников? Герой, пошел добро-
вольно и погиб, что же? Две неоконченные симфо-
нии, несколько ораторий, незаконченных вальсов,
сюит... куски, куски... все в кусках... совершенно
необычное, мощное начинание... Законом искусства
всегда был и остается результат. Мы потеряли, мо-
жет быть, выдающегося композитора, он бы мог
встать в один ряд с величайшими именами, я верю,
только ведь не случилось! Понимаешь, не случи-
лось! Не по его вине, но не случилось!—упрямо по-
вторил Александр Евгеньевич. — Я же не бог, при-
дет час, сам все сделаю, напоминать мне не надо,
Глеб для меня тоже дорог, может быть, дороже, чем
кому бы то ни было... Не смей так смотреть! — по-
высил он голос, отмечая начинающую проступать во
всех углах какую-то жуткую красноватую мглу и
относя это за счет усталости, банкета, недавнего
трудного разговора; тут же опять какая-то красная
45
волна поплыла в глаза, и он не смог сдержаться. —
Ты не имеешь никакого права так смотреть! Нет, я
больше не могу! Не могу! Взрослый человек в кон-
це концйв, давно должен выбрать! Так же невоз-
можно жить, все время под рентгеном. Ты должна
наконец сделать выбор. Я мужчина, мужчина! Во
всем прочем обыкновенный мужик, зверь, мне хо-
чется иногда тебя задушить!
Выкрикнув последнее, он обессилел и умолк, все
так же пусто глядя перед собой, а у Тамары Инно-
кентьевны от его диких слов по коже пошла измо-
розь; было бы так хорошо, если бы разом все кон-
чилось и ее бы больше не было, взмолилась она,
разом все оборвать, лучше невозможно придумать.
Не по ее силам этот непонятный, жестокий разъятый
мир, вот и хорошо, если бы ее не стало, сразу бы
кончились все ее долги и вины перед Глебом, перед
Саней... Перед умершим и живущим... Или закрыть
на все глаза и жить, ничего вокруг не замечая,
жить—и все. Дышать, покупать красивые вещи, хо-
дить в театры и ездить в свободное время за город;
действительно, в чем виноват Саня? Что была война
и Глеб погиб? Или в том, что Саня любит и что я
согласилась жить с ним? И мне это приятно. Я взя-
ла на себя ответственность; в отношениях с мужчи-
ной женщина ведь главная пружина, что бы муж-
чины ни воображали о себе... Да, да, все это так, но
ведь он лжет! Лжет! И потом, знать, что обворова-
на сама память... и продолжать жить... рядом, по-
стоянно вместе...
Тамара Иннокентьевна словно взглянула на се-
бя из иного мира, в котором не существовало ни
обид, ни желаний, но присутствовало нечто боль-
шее, чем сама жизнь, она медленно, остановивши-
мися глазами с недоумением осмотрелась, затем
молча встала, одним жестом заставила вскочившего
было вслед за ней Александра Евгеньевича опу-
ститься на свое место и вышла; вернулась она оде-
тая, в глухом платье, в туфлях и причесанная. Алек-
сандр Евгеньевич, ждавший ее, до предела напряжен-
ный, едва взглянув на нее, все понял: она приняла
решение, игра в прятки кончилась; он еще смот-
рел ей навстречу с ожиданием, с готовностью
все забыть и простить, но приступ еще более дикой,
нерассуждающей ненависти уже опять копился и
поднимался в нем.
— Верни все украденное у Глеба,— бесцветным
голосом потребовала Тамара Иннокентьевна, оста-
навливаясь перед ним.—До последней строчки... Ты
должен это сделать...
Он не стал ничего отрицать, пожал плечами.
— Разумеется, по твоим понятиям, лучше сидеть
на куче нот и вздыхать по несостоявшейся идиллии.
Нелепо? Зато чувствительно. Молчи, молчи,— оста-
новил он пытавшуюся что-то сказать Тамару Инно-
кентьевну. — Я дал жизнь, воздух, свет хотя бы от-
дельным мыслям Глеба, я посвящу очередной кон-
церт его памяти... Этого уже не изъять, прости... Так
получилось, и уже ничего изменить н&тьзя. Не тебе
судить. Ты, именно ты вторглась в нашу жизнь, раз-
била нашу дружбу, непрошеная, ненужная, все ис-
портила, извратила, у нас были другие замыслы,
единые, долгие,— перешел Александр Евгеньевич в
наступление. — Слышишь, не тебе указывать, что мне
делать,— побледнев, он вскочил на ноги, неумело
сжав кулаки; в первую минуту, ошеломленная, по-
давленная силой его ненависти, она попятилась. Но
тут же, словно бросило ее вперед, она вцепилась
ему в ворот пижамы, изо всех сил стала трясти его,
огромного в сравнении с ней, растерявшегося окон-
чательно; несмотря на отчаянные усилия, Александр
Евгеньевич не мог оторвать от себя ее руки.
— Вор! — кричала Тамара Иннокентьевна ярост-
но, забывая обо всем на свете. — Вор! Обокрал, из-
гадил память мертвого друга! Негодяй! Бездарный
подлец! Слышишь, я все расскажу, я не оставлю это-
го так... Я всем расскажу, какой ты негодяй и под-
лец! Глеба помнят в консерватории! Его там любят,
тебе это так не пройдет! Верни все назад! Твой вче-
рашний концерт — это его концерт! Ты все украл!
Негодяй! Негодяй!
Ему удалось наконец оторвать руки Тамары Ин-
нокентьевны от себя (сухо затрещала разрываемая
пижама); он грубо отшвырнул ее прочь, и она, бо-
лезненно вскрикнув, отлетела в угол кухни, удари-
лась о шкафчик плечом и затылком; с трудом пере-
водя дыхание, едва не теряя сознание, она тяжело
привалилась к стене, теперь уже приходя в себя и
с удивлением глядя на бешено жестикулирующую и
оттого особенно нелепую и жуткую фигуру Александ-
ра Евгеньевича в растерзанной пижаме; она с тру-
дом удерживалась от припадка нервного, истериче-
ского смеха, душившего ее. Александр Евгеньевич
продолжал что-то выкрикивать, она его не слушала,
и он тогда опять было двинулся к ней.
•— Не подходи! Не прикасайся ко мне!—Тамара
Иннокентьевна старалась отодвинуться по стене от
него как можно дальше. — Не подходи, мне гадко!
Ты мне гадок! — Ее беспомощный крик отрезвил их
обоих; вздрагивающими руками Александр Евгенье-
вич налил себе воды и, судорожно глотая, выпил, не
глядя в сторону Тамары Иннокентьевны; у него
сильно дрожали руки, и Тамара Иннокентьевна все
еще не решалась сдвинуться с места, оторваться от
стены; ей сейчас больше всего хотелось оказаться
где-нибудь далеко-далеко от собственного дома, от
этого проклятого места, где она столько раз теряла
самое дорогое; она видела, что он был напуган слу-
чившимся больше ее самой, и опять прихлынувшее
чувство собственной вины словно придало ей реши-
мости.
— Мы не можем быть больше вместе,— твердо
глядя ему в глаза, она точно бросилась в воду;
больше всего она боялась опять пожалеть его. —•
Тебе нужно уйти.
— Знаю. — Александр Евгеньевич пригладил тря-
сущимися руками всклокоченные волосы, запахивая
на груди пижаму с почти оторванным, болтающим-
ся воротом; она отметила, что даже в своем растер-
занном виде он все-таки умудрялся казаться респек-
табельным. — Я знаю, я лишь одного хочу... Успо-
койся, не натвори глупостей. Пожалей себя, тебе
никто не поверит и никто не поможет. Ведь у меня
имя... Тебе ж придется уйти из консерватории, ли-
шиться самого дорогого... да и заработка... Подумай
о себе, не горячись...
Тамара Иннокентьевна хмуро кивнула.
— Ты прав, только я уже ничего не боюсь.
Проклятая ночь, она выжгла из меня все живое,
последние остатки... Уходи, Саня, уходи совсем,
украл и уноси... Помни, тебе не будет счастья в
жизни. Такое не прощается... Живи, процветай, на-
слаждайся властью, спи с хористками... Пользуйся,
жизнь одна. Знай, ты никогда, никогда, даже на
сантиметр не приблизишься душой к Глебу! Укра-
денное тобой погубило в тебе человека, погубит и
художника, если он в тебе был. Ах, Саня, Саня, как
же ты мог? — спросила она с отчаянием, не веря
еще своим страшным словам. — Его кровь, его жи-
вой след на земле... Чудовищно... Как ты мог! Глеб
был великий язычник, жизнелюбец, что у тебя с ним
общего? Он любил солнце, небо, землю, в нее и лег.
Нет, Саня, тебе не будет прощения. Ты все, все кру-
гом ненавидишь! Кроме себя...
— Замолчи!—оборвал Александр Евгеньевич, от-
чаянно пытаясь направить ее внимание на другое.—
Что ты из себя корчишь героиню/кто, скажи, кто ты
в этом мире? Кто узнает о твоевд героизме? А вот
что ты спала со мной, знают все...
— Не кричи, разговаривай спокойно, ты даже
расстаться не можешь по-человечески, по-мужски,—
остановила она его, и в ее голосе послышалась не-
знакомая ему сила. — Я не твой холуй, никогда им
не стану. Мы не слышим друг друга, даже если кри-
чим. А жаль, Саня. Твои холуи только поют тебе
аллилуйю. Ты удобен. Никто не скажет тебе прав-
ду. Глеб нес в мир героическое начало. За то и по-
гиб, а ты своей музыкой разъедаешь душу, вот ты
и процветаешь, тебе это очень удобно!
Александр Евгеньевич шагнул было к ней, не-
выносимо было слушать ее, такую далекую и чу-
жую, высказывающую несвойственные ей мысли. Не
двигая ни одним мускулом и не опуская глаз, Тама-
ра Иннокентьевна ждала; он не смог подойти, поби-
то вернулся под ее взглядом на свое место.
— Если б кто знал, как я устал,— пожаловался
он беспомощно. — Как я устал...
— Уходи,— попросила она, отворачиваясь от пе-
го и прислоняясь к стене; у нее уже не было сил
держаться на ногах. — Уходи и только, пожалуйста,
больше не возвращайся... Пожалуйста, уходи... Бо-
га ради, прости меня... Я сама виновата,— добавила
она, и он точно ждал ее последних слов.
Тамара Иннокентьевна не услышала ни его ша-
гов, ни стука двери, лишь почувствовала свое пол-
ное, безраздельное одиночество.
5
Забывшись на какое-то время, Тамара Инно-
кентьевна опять оказалась в удивительной зимней
ночи, но она уже знала, что подступила еще одна
черта; теперь все, и уже давно ушедшее и реальное,
еще продолжавшее окружать ее, смешалось в ней.
Она внимательно огляделась; в очертаниях знако-
мой мебели появилось что-то новое, контуры как
бы утяжелились и в то же время стали менее опре-
деленными. Тогда Тамара Иннокентьевна поняла и
тяжело, трудно, всей немощной, уставшей грудью
вздохнула; кончилось временное, жалкое, раздра-
жающее, и начиналась вечность, не подлежащая пе-
ременам. Она не испугалась, но чтобы что-то еще
ощущать, взяла в руки край пледа и стала мять его
пальцами. Теперь она все видела в том особом раз-
реженном свете, как бы льющемся сразу отовсюду
и совершенно не оставлявшем затененных мест. Был
свет, должный в свое время смениться тьмой, и тайн
больше не было; вернувшийся Александр Евгеньевич
поразился ее лицу. Он принес свежий чай и, помед-
лив, осторожно поставил на столик, она вниматель-
но оглядела его, отмечая белую, как первый снег,
манишку с серой бабочкой, резко контрастировав-
шую с измученным вконец лицом.
— Прости — приводил себя в порядок. — Алек-
сандр Евгеньевич слегка коснулся пальцами груди
и тут же нервно отдернул руку. — Как ты себя чув-
ствуешь, Тамара?
— Спасибо, превосходно,— сказала Тамара Ин-
нокентьевна значительно. — Вспомнила, вспомнила...
— Все вспомнила? — спросил он с явной иро-
нией, но Тамара Иннокентьевна посмотрела на него
с грустью.
— Все,— коротко ответила она, не в силах пере-
браться через пропасть в двадцать с лишним лет,
отделявшую сейчас в ее душе одного Саню от дру-
гого, с невольным интересом присматриваясь к нему
нынешнему, сильно постаревшему и пытаясь понять,
что в нем осталось от прежнего, так цепко удержи-
ваемого в памяти, и неприятно удивилась себе, в ду-
ше бпять зашевелились ненужные чувства и обиды,
словно это был он во всем виноват, хотя теперь она
ясно понимала, что виноват он не больше других, не
больше ее самой; и сейчас нехорошо видеть в его
лице, в его образе свое собственное отражение и бес-
силие. И он не отводил от нее упорного взгляда; она
бы сейчас могла радоваться, ведь давние ее слова
оправдались, но в душе у нее не оставалось места
для мелкого чувства.
Окликнув Александра Евгеньевича, она попроси-
ла его сесть ближе; помедлив, он устроился рядом
на диване, и старые пружины под его тяжестью
обессиленно застонали. Тамара Иннокентьевна по-
правила у себя на коленях плед.
— Я рада, Саня, вот ты опять здесь,— сказала
она. — Спасибо тебе, я сейчас не одна... Ты не сер-
дись, если я буду говорить глупо... Я ведь так ни-
чего и не поняла в жизни, все проворонила... мне
кажется сейчас, ты вообще всегда был рядом, прав-
да, странно?
Заставив себя взглянуть на нее, Александр Ев-
геньевич внутренне вздрогнул; выражение ее лица
опять поразило его и испугало; она уже была отде-
лена от него чертой, он опоздал, последнее ожида-
ние рушилось. С трудом отведя глаза в сторону, ста-
раясь не дать прорваться затаенной давней мысли,
Александр Евгеньевич почувствовал отчаяние.
— Скажи, Саня, зачем ты пришел? — Тамара
Иннокентьевна все так же светло смотрела на него.
В его напряженном сознании сверкнула спаси-
тельная мысль, он во что бы то ни стало должен
убедить ее, судьба представила ему единственную
возможность добиться ответа, добиться того, ради
чего он жил и поднимался по ступеням все эти го-
ды; все ведь относительно, а что, если он ошибался
и в ту невероятно далекую декабрьскую ночь сорок
первого ничего и не было? Или ему просто помере-
щилось, сработала обстановка, горячечное воображе-
ние? Или что-то в нем самом прорвалось, а он при-
писал весь этот взрыв эмоций Глебу...
— Я пришел получить прощение,— сразу устре-
мился к цели Александр Евгеньевич, безошибочно
Чувствуя необходимость именно такого пути; строго
на него взглянув, Тамара Иннокентьевна, как бы
укоряя его за несерьезность, даже слегка улыбну-
лась, и постепенно глаза ее смягчились.
— Пожалуйста, ответь еще,— Тамара Инно-
кентьевна старалась говорить легко, без нажима,
чтобы не спугнуть установившееся между ними до-
верие.— Ты не боишься?
— Не понимаю,— Александр Евгеньевич, теперь
полностью захваченный своей тайной мыслью, слов-
но выдавливал из себя каждое слово. — Нужно чего-
то бояться?
— Ты ведь так и не выполнил своего обеща-
ния,— напомнила Тамара Иннокентьевна, слабо гро-
зя ему пальцем. — Ничего не напечатал у Глеба...
А ведь теперь тебе ничего не стоило бы, всего ты
добился, во всех президиумах сидишь, во всех коми-
тетах значишься, вон депутатский значок носишь...
только и слышно — Воробьев... Воробьев... Воробь-
ев... Какие только чины и эпитеты на тебя не наве-
шали, а свое обещание ты так и не сдержал. Вот
почему ты сейчас у меня. Ты хочешь, чтобы я до
конца молчала, никому ничего не сказала.
— Все те же ребяческие фантазии! — шумно от-
махнулся от нее Александр Евгеньевич, в то же вре-
мя внутренне содрогаясь от ее провидческой беспо-
щадности; сейчас она была настолько близка к исти-
не, что любое ее слово больно ранило. Лицо ее
истончалось на глазах и начинало светиться каким-то
тихим светом, и он, предпринимая отчаянное усилие,
рванулся навстречу неизвестному. — Могло случить-
ся и так, только ты ошибаешься,— сказал он горя-
чо.— Ты лучше любого другого знаешь мою жизнь...
все эти побрякушки — для болванов, для меня —
побочное, второстепенное; главным для меня было
творчество, вот здесь...
— Здесь у тебя пусто, Саня, здесь тебе не по-
везло,— спокойно закончила за него Тамара Инно-
кентьевна.— Впрочем, как знать! Скорее повезло.
Все подравниваешь под себя, под серость. Если бы
Глеб остался жить, вы бы убили его! Засосали сво-
ей тиной... Все засасывается тиной, и гениальное и
ординарное. Не различишь, где истинное, где вре-
менное, сиюминутное. Всем покойно, всем удобно...
утрачиваются критерии... все причесывается под од-
ну гребенку, талант и.серость приводятся к одному
знаменателю. А живого, вечного вы не умеете со-
здать... и ты тоже, Саня, хотя ты лучше других, у
тебя хоть иногда гармония пробивается...
— Да, да,— подхватил он, решив больше ни в
чем ей не перечить,— может быть, излишне строго...
но во многом справедливо,— заторопился Александр
Евгеньевич, уловив еще новое изменение в ее обли-
ке,— ты имеешь право судить, и судить по самому
высокому праву. Что с тобой? Что случилось? Тама-
ра! Что ты? — почти закричал он, бросаясь к ней;
она остановила его легчайшим, почти невесомым же-
стом руки; черта, отделявшая их друг от друга, по-
чувствовалась еще резче. Тамара Иннокентьевна как
бы еще больше сосредоточилась в самой себе, глуб-
же погрузилась в свое; по ее виду Александр Ев-
геньевич, хотя следил за малейшим ее движением,
так и не догадался, что минутой назад она испытала
одно из сильнейших, когда-либо выпадавших на ее
долю потрясений — у нее отнялись ноги, все тело
ниже пояса как бы одеревенело; время от времени
она продолжала попытки шевельнуть ногами, став-
шими неподвижными, пугающе мертвыми; она не
хотела, чтобы неожиданную, новую беду заметил
или понял Александр Евгеньевич, и сейчас больше
мучилась именно по этой причине. От своей полней-
шей беспомощности она было окончательно упала
духом, но какое-то чувство ей тотчас подсказало, что
это ненадолго. Она успокоилась так же внезапно,
как и смертельно испугалась; нечто другое, более
важное, мучившее ее в продолжение всей ночи, от-
теснило второстепенное и ненужное; собираясь с ду-
хом, Тамара Иннокентьевна медленно и подробно
оглядела комнату, громадный, удобный письменный
стол (в старину люди были надежнее, основательнее
и любили окружать себя такими вещами), затаив-
шуюся, стройную массу рояля, старые массивные
шкафы с книгами, затем опять вернулась к роялю.
Нужно было решиться, в ней возник какой-то .об-
ратный поток; она увидела и себя, и Александра Ев-
геньевича, и всю свою жизнь совершенно в ином
значении; и опять словно кто-то посторонний, неви-
димый, но бывший теперь неотлучно рядом с ней,
подсказывал ей торопиться; уже был близок рас-
свет, буря усиливалась; Тамара Иннокентьевна уви-
дела сейчас Москву, метельную, притом всю сразу,
в снежных клубах и в ветре.
— Саня, Саня,— строго позвала она, и когда он
встал перед ней во весь рост, с длинными опущен-
ными руками, она с сожалением подумала, что он
совсем уже старый, и только в глазах у него еще
таился, ожидая своего часа, дьявол. У нее сейчас не
оставалось выхода (обратный поток в ней все уси-
ливался), и она, попытавшись оправдать себя, не
смогла; и в этот момент падения глаза ее вспыхнули
каким-то внутренним светом; и ее состояние пере-
кинулось Александру Евгеньевичу, он почувствовал
освобождение от чего-то, всю жизнь мешающего, не-
нужного, вся скверна жизни опадала с души тяже-
57
лой, лохматой массой; в нерассуждающем порыве
благодарности он старчески неловко опустился пе-
ред ней, прижался губами к ее горячей сухой руке.
— Саня, не надо,— опять откуда-то из своего не-
меренного далека, отстраненно и строго попросила
она. — Не надо, не время... Ты меня всегда огорчал
в жизни, Саня, теперь ты должен все исправить.
Встань, пожалуйста... Не плачь, мужчина должен
оставаться мужчиной до конца. Встань, встань... вре-
мени совсем не остается... Встань же!
Александр Евгеньевич поднял голову, вернее, ему
показалось, что кто-то посторонний и беспощадный
рванул его голову до резкой боли в затылке, запро-
кинул ее.
-— Теперь ты меня бросаешь,— пожаловался он
тихо. — Сначала Глеб, теперь ты... А мне что здесь
делать? Что я без вас?
В другое время Тамара Иннокентьевна порази-
лась бы и его словам, и их безысходности, но сейчас
она не обратила на них внимания, торопясь выпол-
нить назначенное, она просто не слышала их.
— Саня, скорей! Ну что ты бормочешь? — возму-
тилась она. — Саня, возьми, возьми,— нетерпеливо
потребовала Тамара Иннокентьевна, протягивая ему
неизвестно как и откуда оказавшиеся у нее в руках
ноты. — Иди... сыграй... Скорей, Саня, Санечка!..
Скорей... скорее... а то не успею...
Едва взглянув на потертую, износившуюся бума-
гу, Александр Евгеньевич с трудом устоял, ноги
ослабли, сделались почти ватными; от радостного
мучения сердца он не удержался, смахнул слезы,
они застилали глаза, не давали видеть; едва взгля-
нув, он сразу забыл обо всем на свете; перебирая
дрожащими руками листы, он еще не мог поверить
самому себе; свершилось, свершилось, сказал он се-
бе, то, что мучило его всю жизнь своей недостижи-
мостью, теперь было у него в руках, все случилось
слишком просто, и он еще не мог прийти в себя; уже
беглого, торопливого взгляда было достаточно, что-
бы знакомые, снившиеся ему звуки вспыхнули в еди-
ный, стройный поток, исполненный высшей гармонии,
высшего полета.
Александр Евгеньевич стоял потрясенный, у него
в руках сейчас трепетало живым огнем само бес-
смертие, глаза у него горели, и целая буря была в
душе; его взгляд невидяще блуждал вокруг, а руки
сами собой сворачивали ноты...
— Саня! Саня! — в ужасе, бессильно закричала
Тамара Иннокентьевна, и он, дико взглянув на нее,
вначале не понял, затем лицо его исказилось раская-
нием, он схватился за голову, приходя в себя, и бро-
сился к роялю. По-прежнему трясущимися руками
поднял крышку, раскрыл ноты и, не отнимая глаз
от нот, стиснул кулаки.
— Не могу,— замотал он головой, и из него вы-
рвался глухой стон. — Я не могу этого играть,— по-
вторил он. — Боюсь... Меня словно держат за руки—
страшно... Освободи меня.
— Играй,— раздался твердый голос Тамары Инно-
кентьевны,— играй, Саня... ты должен... ты обещал...
— Не могу...
— Трус! Ты должен, должен пройти через это,
хоть под конец душа твоя очистится! Играй!
И такой силы был ее взгляд, что он не выдер-
жал, подчинился, ударил по клавишам. И тут про-
изошло чудо. Раздвинулись стены, распалась ночь,
неведомые солнечные просторы затопили и прошлое
и настоящее; водопад низвергающихся, возникаю-
щих из ничего звуков выстраивался в душе в одно-
единое звучание. И тогда Тамара Иннокентьевна
увидела сверкающую, перекинувшуюся из края в
край дорогу и, гибко, легко, молодо поднявшись на
ноги, сбросив и оставив на тяжелом, вытертом, про-
питанном непотребимыми запахами жизни диване
свою уже немощную и ненужную оболочку, пошла
по этой сверкающей дороге — свободная, молодая...
Кончив играть, Александр Евгеньевич сидел, бес-
сильно уронив руки, опустошенный и потрясенный,
сам еще не осознавая, что с ним и где он. Тамара
Иннокентьевна хотела окликнуть его, но у нее не
оставалось сил; все же она окликнула его и попро-
сила вернуть ей ноты. Александр Евгеньевич не
услышал или сделал вид, что не услышал, затем
стремительно обернулся к ней, и Тамара Иннокенть-
евна увидела его помолодевшее лицо с безумными
глазами.
— Зачем тебе ноты? Это преступно... прятать та-
кое... Это принадлежит всем, народу! Слышишь? —
Он остановился как вкопанный, прислушиваясь к
глухим раскатам. — Слышишь? Гроза зимой, это что-
то такое значит... Я ехал, даже молнии сверкали.
Шофер говорил, что ничего подобного он никогда
не видел...
— Отдай, отдай мне ноты! я обещала! я не мо-
гу!— опять потребовала Тамара Иннокентьевна, ста-
раясь отдалить подбирающийся к сердцу холод и
чувствуя, что, поддавшись минутной слабости, совер-
шила непоправимую ошибку. — Ты должен... сдер-
жать слово... хоть однажды... или я тебя прокляну!
Остановившись перед ней, Александр Евгеньевич
долго смотрел на нее в изумлении, затем поднял
руки над головой, потряс ими и пронзительно, как-
то трескуче захохотал.
— Невероятно! Невероятно! — повторял он меж-
ду судорожными приступами смеха. — Отдать ноты!
невероятно! нет! Законная плата за все, за все в жиз-
ни. Сколько я вынес от тебя, от него — Глеба! Это
принадлежит народу. Прятать — значит красть. Укра-
денное возвращается к своему законному владельцу!
Не имеет значения, в какой форме это случится...
— Боже мой, какой же ты подлый... какой
страшный,— теряя последние капли сил, неслышно
прошелестела Тамара Иннокентьевна. — Отдай же!
отдай! — закричала она, но ей лишь показалось, что
она закричала: у нее пропал голос.
«Господи, где же ты? Есть ли на этом свете хоть
что-нибудь святое? Глеб! Глеб! — неожиданно, как
последнее спасение и прибежище, вспомнила она и
увидела его, молодого, бледного, с огромной шапкой
спутанных волос, стоявшего возле рояля. — Глеб,
Глеб! — жалобно рванулась она к нему. — Он хочет
украсть твою молитву солнц у... Глеб, наконец-
52
то ты! Глеб, я ничего не могла сделать, он...»
«Томка, Томка, ты что? Как можно украсть ду-
шу?— сказал Глеб и засмеялся. — Можно украсть
бумагу, душу не похитишь, понимаешь, не украдешь.
Душу можно только убить, мы ее и убьем до лучше-
го случая... Пока на земле не станет чище,— он
опять засмеялся и легко провел ладонью по нотам.—
Все, Томка, а ты боялась...»
Жалко и радостно всхлипывая, не отрывая от
него сияющих, жарких глаз, Тамара Иннокентьевна
чувствовала все большее освобождение от сковываю-
щей ее тело тяжести; Глеб шагнул к ней, н она
в страхе протянула руки, останавливая.
«Не подходи,— попросила она, в то же время
мучительно желая хоть на мгновение прикоснуться
к нему. — Не подходи ко мне, я безобразна...»
Глаза у него по-прежнему молодо вспыхнули, он
шагнул к ней, легко подхватил ее па руки, накло-
нился, целуя, и она узнала его запах, слегка горча-
щий запах молодой полыни.
«Нет, Томка, нет,— прошептал он ей, и ее лица
коснулось его жаркое, свежее дыхание;—Ты пре-
красна...»
Тамара Иннокентьевна прижалась к нему и в
полнейшем успокоении закрыла глаза.
Комната снова озарилась вспышкой бледной зим-
ней молнии, невнятный прерывистый гул тронул сте-
ны; Александр Евгеньевич, давно следивший за Та-
марой Иннокентьевной, за ее взглядом, напряженно
устремленным в сторону, мимо него, не выдержал,
закричал, стараясь подбодрить себя:
— Куда ты смотришь? С кем ты разговари-
ваешь?
Голова Тамары Иннокентьевны сильнее вжалась
в кожаную обшивку дивана; глаза ее остались ши-
роко открытыми, устремленными на рояль. Затаив
дыхание, Александр Евгеньевич подошел ближе и
попятился; он понял. Натолкнувшись спиной на
угол рояля, Александр Евгеньевич резко, испуганно
отскочил, оглянулся. Белое пятно нот бросилось ему
в глаза, он жадно схватил их; это было спасение.
В следующую минуту лицо у него исказилось, ред-
кие седые волосы стали дыбом, и невольный, невы-
носимый крик разорвал ему все внутренности. В ру-
ках у него были совершенно чистые нотные листы,
и, сколько он ни вертел их, нигде не было ни малей-
шего знака. Не веря самому себе, он дрожащими
руками нацепил очки, и опять ничего не измени-
лось,— бумага была совершенно чистой и даже ка-
кой-то новой, хрустящей. Он опустился на колени,
стал ползать вокруг рояля, заглядывая в каждую
щель, в каждый угол, и наконец, почувствовав на
себе чей-то пристальный, тяжелый, нечеловеческий
взгляд, он медленно встал. Глаза Тамары Инно-
кентьевны были устремлены прямо на него; с недо-
умением взглянув на зажатые в руке смятые листы,
Александр Евгеньевич с ужасом бросил их на крыш-
ку рояля, побежал было к двери и затем, воровато
оглянувшись, вернулся назад мелкими, крадущими-
ся шагами. Ничего не изменилось, бумага остава-
лась по-прежнему нетронуто чистой...
Был рассвет. По заваленным снегом арбатским
переулкам и тупичкам шел странный человек, ста-
рик, без шапки, без пальто; то и дело останавли-
ваясь, он начинал что-то говорить самому себе; двор-
ники, вставшие в это утро из-за метели очень рано,
с интересом прислушиваясь, слышали только часто
повторяемое одно и то же:
— Вспомню, все запишу... да, да, сам!
При этих словах он начинал хохотать, но лишь
только кто-нибудь хотел приблизиться к нему, он с
необычайной быстротой исчезал, так что даже двор-
ники, народ бывалый, скептический и ко всему при-
ученный, начинали сомневаться, уже не померещил-
ся ли им хохочущий старик из-за метели, из-за
необычной зимней грозы, продолжавшейся над Моск-
вой, то и дело испещрявшей буйное небо бледными
вспышками.
Полуденные сны
Повесть
1
В уединенном загородном доме, окруженном за-
пущенным старым садом, что-то случилось. Первым
почувствовал начало перемен Тимошка — и усилен-
но втянул воздух черным влажным носом, в его
пристально-внимательных грустных глазах появилась
настороженность. Тимошка свободно расхаживал
везде; утром и вечером он проверял, все ли в по-
рядке, заглядывая в каждую комнату, в любой по-
таенный уголок дома; двери, если они не были на
запоре, Тимошка привычно открывал ударом лапы
или носом. Сегодня же новость, возбудившая Ти-
мошкино беспокойство, была действительно из рук
вон выходящая, и поэтому, открыв дверь комнаты,
чаще всего предназначавшейся для приезжавших из
города гостей, Тимошка даже слегка попятился. Он
был совершенно сконфужен своей оплошностью; в
доме случилось столь важное событие, а он ничего
не знал, все прокараулил, украдкой забравшись на
удобный мягкий диван у Даши и проспав там всю
ночь. Но делать было нечего, и Тимошка виновато
протиснулся в комнату, где на широкой деревянной
кровати спала смутившая Тимошку гостья, тетка
53
хозяина дома Семеновна, приехавшая вчера уже
поздно ночью. Подойдя ближе, Тимошка приветливо
повилял хвостом, сел, не упуская из виду маленького,
с расправившимися ото сна морщинами лица Семе-
новны и стал терпеливо ждауь ее пробуждения. Ти-
мошка хорошо знал Семеновну и по-своему был при-
вязан к ней, хотя в этой своей любви никогда бы не
поставил ее рядом с Васей или Татьяной Романов-
ной, маленькой Дашей или ее старшим братишкой
Олегом, самолюбивым темноглазым мальчуганом, от-
личавшимся особенно выраженным чувством спра-
ведливости, который, даже играя с Тимошкой в фут-
бол, старался честно соблюдать правила игры. Ти-
мошка уже хорошо знал, что приезд Семеновны
всегда вносит беспокойство, с каждым ее появлением
что-то случалось, то надолго пропадали куда-то Ва-
ся с Татьяной Романовной и оставались лишь Семе-
новна, Даша да Олег, а то и Даша с Олегом исче-
зали и приходилось целое лето проводить с Семе-
новной, и поэтому теперь Тимошка, как ему ни хо-
телось проверить, на месте ли Вася с Татьяной Ро-
мановной, решил не выпускать Семеновну из виду
и ждать. Откинув заднюю лапу, вытянув морду, он
лег, распластав на полу длинные шелковистые уши,
гордость всякого родовитого пуделя. Несколько раз
он приподнимал голову, всматриваясь в лицо Семе-
не ны, и опять терпеливо затихал; дождавшись сво-
его. он порывисто вскочил, весь напружинился и не-
сколько раз вильнул хвостом. Как он уловил этот
момент, Тимошка и сам не знал, но Семеновна дей-
ствительно приоткрыла ещё пустые после пробужде-
ния глаза; Тимошка потянулся к ней и, слегка высу-
нув кончик розового языка, приветливо улыбнулся.
Глаза у Семеновны радостно округлились.
— Тимоша!—обрадовалась она. — Хороший ты
мой! Не забыл?
Тимошка немедленно положил передние лапы на
край кровати и ткнулся прохладным носом в руки
Семеновны и что-то невнятно проворчал, узнавая
старые запахи добра, уюта и сытости. Тотчас достав
из-под подушки конфету, Семеновна развернула ее
и. предостерегающе оглянувшись на дверь (сладкое
Тимошке есть не разрешалось), как бы в нечаянной
рассеянности уронила конфету на пол; Тимошка, по-
медлив, с некоторым удивлением глянул на Семе-
новну, затем с достоинством^, осторожно взял кон-
фету и забрался с нею под кровать; тотчас оттуда
послышался аппетитный хруст и чавканье.
— Ешь, ешь, Тимоша,— одобрила Семеновна, на-
рочито шумно зевая и показывая, что она всю ночь
была в дороге и совершенно не выспалась. — Поче-
му хорошей собаке нельзя попробовать сладкого,
раз хочется? Ныпешние-то умники напридумают,—
Семеновна с вызовом покосилась на дверь, адресуя
свои слова прямо по назначению. — Сами-то все под-
ряд лопают, чего только душа попросит, а вот дру-
гим и нельзя... ишь! и то! Вася сам (услышав имя
дорогого человека, Тимошка тотчас высунулся из-
под кровати, вопросительно шевельнул длинными
ушами, и на морде у него появилось внимательное
выражение), как только глаза протрет, сразу же за
54
кофе, а другому, значит, сладенького и нельзя. Да
он уже и встал, Вася, мимо прошлепал... Ешь, Ти-
моша, ешь! Как вставать-то не хочется! — чему-то
внезапно опечалилась Семеновна, словно именно у
Тимошки собираясь отыскать защиту, которой ей
так сейчас недоставало. — И то, куда уж нынче со-
вестливому человеку? Времена... Нынче хорошо гор-
ластым да клыкастым, они тебе — жи-ик! — горло и
пронзили. Жизнь такая стала, Тимоша... А нашему-
то соколу с легкостью ничего не дается... жалостли-
вый да совестливый...
Внимательно выслушав столь долгое рассуждение
Семеновны и полностью соглашаясь с ее словами,
Тимошка широко облизнулся, ожидая добавки; по-
вернув голову к двери, он настороженно замер.
— Съел — и ладно, чего уж тут сожалеть? —
спросила Семеновна.—Ты не скажешь, я не скажу,
никто и не узнает. А не узнает, значит, ничьего и не
было. В жизни разные замочки, Тимоша.
Не сомневаясь больше ни в чем, Тимошка быст-
ро, с удовольствием еще несколько раз облизнулся;
его беспокойство, связанное с появлением Семенов-
ны, растаяло. Теперь можно было заняться своим
обычным утренним обходом. Он было подошел к две-
ри в комнату Даши, но неожиданное появление Се-
меновны сделало свое — тотчас у Тимошки опять
зашевелилось непонятное беспокойство. Он повер-
нулся, потянул воздух и сразу же понял, что его и
тут опередили. Вася уже встал и вышел в сад. Ти-
мошка протиснулся на большую, застекленную ве-
ранду, сейчас заполненную легкими, шевелящимися
тенями узорчатой листвы старых рябин, росших во-
круг веранды. Белая сильная бабочка с глухим шо-
рохом билась о стекла. Тимошка застыл, приподняв
правую переднюю лапу, чутко сторожа каждое ее
движение. Бабочка металась высоко, и, хотя это был
явный непорядок в доме, Тимошка вышел в сад и
повел влажным носом, определяя, в какой стороне
Вася; струйка запаха, единственная во всем свете,
сочившаяся к озеру, тотчас указала Тимошке на-
правление. Вася сидел на скамейке у озера, в даль-
нем конце сада, и беспокоиться было не о чем, но
сначала нужно выяснить, что нового в мире, не по-
явилось ли каких-либо неприятных неожиданностей,
требующих немедленного вмешательства. Тимошка
сразу же многое узнал; па крыльце у его миски с
едой недавно побывал соседский кот, наглое и трус-
ливое существо; у Тимошки с ншм шла давняя и не-
прерывная война нервов, да и не только нервов.
Слегка поводя носом, Тимошка недовольно припод-
нял верхнюю губу, словно бы хотел зарычать и
лишь в последнюю минуту сдержался. Ночью к са-
мому крыльцу наведывался еще один давний Ти-
мошкин знакомый, старый еж Мишка, живший в
глухом, диком малиннике за озером; там росли ко-
лючие и густые кусты, и Тимошка, однажды поряд-
ком исцарапавшись, уже больше не рвался туда и
научился не замечать этого дикого уголка, кстати
облюбованного и Чапой, тоже входившей в круг Ти-
мошкиных недругов, всегда державших его насторо-
же. Семеновна иначе не называла Чапу, как только
крысой; и это было очень обидно, так как Чапа счи-
тала себя самой настоящей аристократкой, благо-
родной ондатрой, имевшей разветвленную родню в
далеких, заокеанских странах. Но так уж устроено
в жизни, дать обидное название легко, а переменить
его уже невозможно, и даже Олег в конце концов
смирился, хотя вначале как истинный поборник спра-
ведливости протестовал. Впрочем, Чапа не подозре-
вала о бурных дискуссиях, происходящих в доме по
поводу нее, и жила себе и поживала в чистом и ти-
хом и, главное, безопасном озере.
Солнце едва-едва взошло, все вокруг купалось в
густой, прохладной росе, над озером сгустилось об-
лако сырого тумана, но все было обильно напоено
множеством самых различных запахов: неприятно и
резко пахли лиловые цветы, плотно подступавшие к
дому с трех сторон.
Прилетели и бесцеремонно уселись на рябину во-
робьи, жившие под карнизом крыши; Тимошка рав-
нодушно отмахнулся от них — к этим беспокойным
жильцам, всегда ожесточенно и без толку переруги-
вающимся друг с другом, он относился как к неиз-
бежному злу. В общем-то в Тимошкином хозяйстве
все шло своим ходом, ничто не требовало незамед-
лительного вмешательства; поводив еще носом, уси-
ленно принюхиваясь и ни на секунду не забывая о
главной необходимости поздороваться с Васей, Ти-
мошка весело сбежал с крыльца и, заглушая чужой
раздражающий запах ночных пришельцев, соседского
кота и ежа Мишки, на уголке хозяйски-привычно
поднял ногу. Здесь запах цветов был совсем уж не-
выносим, Тимошка даже страдальчески оскалился.
Чтобы спрямить путь к хозяину, он хотел переско-
чить через клумбу розовых, отяжелевших от обиль-
ной росы гвоздик, но, тотчас вспомнив, сколько не-
приятностей пришлось перенести из-за этих цветов
от Татьяны Романовны, он обогнул веранду и по
свежему следу Васи, по гравийной дорожке ринулся
к озеру, мотая ушами, плавно и мягко срезая углы;
как вкопанный остановился он перед скамейкой. Ва-
ся сидел в пижаме, закинув нога за ногу, и, не от-
рываясь, смотрел на молодые розоватые стволы бе-
рез, поднимавшиеся из тумана на противоположном
берегу. Тимошка вспрыгнул на скамейку и сел ря-
дом, плотно прижимаясь к теплому боку Васи; сухая
горячая рука Васи тотчас легла Тимошке на голову.
Летом по утрам они встречались так почти всегда,
и, пожалуй, это были лучшие минуты в Тимошкиной
жизни, он словно погружался в древний сладкий
мрак, исходивший из чуткой и всеобъемлющей руки
Васи, и перед ним смутно проносились сны жизни.
И еще Тимошке передавалось Васино настроение; он
мог играть с Дашей или Олегом, купаться с ними в
озере или приносить закатившийся теннисный мяч,
но Васино настроение продолжало жить в нем, по-
лучая свое, часто неожиданное, развитие и завершение.
Прижавшись головой к плечу Васи, Тимошка за-
крыл глаза; почесывая его за ушами, Вася молчал.
И тут Тимошка, еще в состоянии блаженства и за-
бытья, уловил что-то новое, и это новое было пере-
давшееся от Васи неосознанное чувство страха; что-
то переменилось. Открыв глаза, Тимошка потянулся
и озабоченно лизнул Васю в жесткий подбородок.
Если раньше эта его нежность перерастала в шум-
ную и веселую возню, то сейчас Вася остался мол-
чаливым и неподвижным, и только глаза его сузи-
лись и повлажнели. Тимошке не понравилась такая
сдержанность, он обиженно соскочил со скамейки и
уселся на узких мостках; опустив голову, он стал
глядеть в темную воду, полную смутных теней, дви-
жения и жизни. Вода и се таинство всегда притяги-
вали Тимошку — его слабость подолгу сидеть на
мостках и глядеть в воду — в доме знали и уважа-
ли. И все уже заметили, что Тимошка приходит на
мостки и глядит в воду чаще всего чем-нибудь оби-
женный, огорченный; и хотя вода никогда не была
одинаковой, она действовала на него успокаивающе.
Вот и сейчас Тимошка первькм делом увидел боль-
шую лягушку, поднявшуюся со дна и просунувшую
между широкими листами кувшинок свою пучегла-
зую, вечно удивленную морду. Пахнущая тиной и
стоячей водой, лягушка была из другого, враждеб-
ного и холодного мира, она всегда неприятно озада-
чивала, и, даже встречая ее на берегу, Тимошка не
проявлял к ней никакого интереса, лишь брезгливо
морщился и, стараясь как-нибудь на нее не насту-
пить, обходил стороной.
Не упуская из-под контроля лягушки, Тимошка в
то же время видел все озеро, потому что его ни на
секунду не покидало чувство опасности, и он был
прав — в любую минуту из своего жилья могло вы-
нырнуть самое отвратительное существо на свете —
Чапа. Если еж Мишка всегда предупреждал о
своем появлении издали резким запахом, то Чапа
появлялась бесшумно, словно призрак, неожиданно.
За это свойство Тимошка особенно ее не любил.
И хотя он знал, что Чапа больше всего любит ночи,
она иногда появлялась и днем, вызывая у Тимошки
совсем уж безрассудную ненависть; от бешенства он
терял голову и однажды даже попытался нырнуть
за неуловимым водяным существом.
Утро разгоралось, давно уже незаметно поднял-
ся и рассеялся туман над водой. Теперь березы и
молодые дубки, окружавшие озеро со всех сторон,
четко опрокинулись в воду и потянулись вершинами
к единственному облачку в небе, отраженно запол-
нившему прохладную глубину озера, и Тимошка, как
зачарованный, не отрываясь, глядел на фантастиче-
ские картины слияния воды и неба. Опять, не нару-
шая стройный порядок соединившихся в -оптическом
обмане пространств, приплели к мосткам рыбы, по
дну побежали бесформенные, переменчивые тени.
Тимошка продолжал завороженно следить за приз-
рачной игрой в глубинах озера, но вот что-то словно
толкнуло его изнутри. Он мгновенно оглянулся и уви-
дел, что Вася сидит все также неподвижно, раскинув
руки по спинке скамейки, а по неподвижному лицу
его ползут слезы. Тимошка в два прыжка преодолел
расстояние до скамейки, встал на задние лапы, пе-
редние положил на грудь Васи и жарко дохнул ему
в лицо; тут глаза их встретились, и Вася очнулся.
— Тимошка, Тимошка,— сказал он, и лицо его
55
начало оттаивать от недавней окаменелости. — Что
ты, пес, а? Глядишь, глядишь, ах ты, лохматый фи-
лософ!— Внезапно он ухватил Тимошку за тяжелые
лапы и подтянул ближе к себе, к лицу. — Я ведь
давно замечал, ты все знаешь, только сказать не
умеешь... Так оно и есть. Тимошка, переехали они
меня, совсем напрочь переехали... и даже ты, чув-
ствилище мира, не скажешь, что делать... Никто не
знает... А ведь мне всего тридцать семь лет, мы с
тобой, Тимошка, в самом расцвете... Страшно, а?
Такова жизнь, не смог, не удержался, пропадай...
Внезапно нагнувшись, Вася оттолкнул от себя
Тимошку; припав к земле, сильно ударив по ней
передними лапами, Тимошка залаял и, отчаянно мо-
тая ушами, с азартом вступил в Игру; ударяя лапами
по земле, он всякий раз броском перескакивал на
другое место; на лице у Васи появилась слабая
улыбка, Тимошка схватил его за штанину и стал
легонько теребить.
— Понимаю, пора купаться,— сказал Вася.—
Хочешь вместе поплавать. Да? А что, Тимошка, пре-
красная ведь мысль!
Разговаривая с Тимошкой, Вася с недоверием
прислушивался к себе, боль в висках, в темени и в
затылке, мучившая его ночью, не исчезавшая даже
в короткие минуты забытья, вплоть до последней
минуты, когда Тимошка схватил его за штанину, ис-
чезла. Тело, хотя в нем и ощущалась слабость, не
чувствовалось больше отдельно, не тяготило. Вася
недоверчиво потряс головой; действительно, боль
исчезла; он обрадованно подмигнул, испустил угро-
жающее рычание и неожиданно бросился к Тимош-
ке, целясь схватить его за передние лапы. Но Ти-
мошка только и ждал этого; в то самое мгновение,
когда Вася уже, казалось, был у цели, Тимошка
отпрянул в сторону, словно его отбросила из-под рук
Васи какая-то посторонняя сила, и вот, распластав
уши по земле, он притаился уже метрах в пяти, под
старой яблоней, сплошь усыпанной зелеными, мел-
кими, величиной в грецкий орех, твердыми яблока-
ми. Вася сделал вид, что его совершенно не интере-
сует Тимошка, и принялся углубленно отслаивать
и обирать отставшую кору давно уже болевшей; вы-
ждав момент, он неожиданно повторил свой маневр,
но Тимошка был начеку, и у Васи опять ничего не
получилось. С легким головокружением Вася опу-
стился под куст рябины; Тимошка тотчас подскочил
к нему, преданно заглядывая снизу черными плу-
товскими глазами, горячо лизнул влажную руку;
Вася потрепал его по спине. От Тимошки шло здо-
ровое, ровное тепло, и Вася, захваченный одной
мыслью, одним желанием, чтобы ночная боль окон-
чательно ушла и больше не повторялась, чтобы мож-
но было опять, как прежде, бегать с Тимошкой по
саду наперегонки, валяться в траве, резко опроки-
нул Тимошку на спину, мешая ему вскочить на но-
ги, с наслаждением ощущая ладонями его крепкое
мускулистое туловище, мерно сотрясавшееся от ба-
совитого, угрожающего рычания.
— A-а, попался,— говорил Вася. — Ты как ду-
мал? Теперь подрыгай, подрыгай лапами! Ага! Ага!
Еще раз перекувыркнув Тимошку, Вася с побед-
ным криком подхватился с земли, бросился к озеру,
на ходу срывая с себя пижаму. Тимошка только на
минуту задержался на берегу, заливаясь оглуши-
тельным нарастающим лаем; как только голова Васи
показалась на поверхности, Тимошка тяжело плюх-
нулся в воду, подняв тучу брызг, и поплыл к хо-
зяину, бешено работая передними лапами и неесте-
ственно высоко задирая треугольную морду, плотно
сжав пасть и от этого став очень деловитым. Вася
брызнул в него водой и засмеялся, озабоченность
Тимошке никак не шла, ведь по натуре своей он был
добрым, легкомысленным и веселым существом.
День с утра обещал долгое и жаркое солнце; с
берез в озеро низвергались зеленые водопады лист-
вы, сейчас застывшие и все-таки таящие в себе не-
устанность движения; пышными, изумрудными купа-
ми они отражались в бездонном призрачном мире,
не имеющим границ и законов реального. И еще Ва-
се казалось, что эта лохматая голова с обожающи-
ми глазами движется откуда-то из другого, потусто-
роннего мира; ведь в реальном давно не осталось
такой доброты и преданности. Перевернувшись на
спину, Вася подложил руки под голову и стал гля-
деть в небо, на сомкнувшуюся зелень, сквозь кото-
рую рвалось разгоравшееся с каждой минутой солн-
це. От внезапной сверлящей боли в затылке у него
перехватило дыхание; усилием воли он с трудом за-
ставил себя удержать мутившееся сознание; и тут
кто-то насмешливый словно коснулся его сердца, и
Васе стало хорошо. Что же, пусть так, сказал он се-
бе. Он сам всего лишь зыбкое отражение непонят-
ных сил, всего лишь мгновенная проекция какого-то
всеобъемлющего чудовищного опыта, а поэтому бес-
полезно сосредотачиваться на себе, даже если уже
предопределено последнее и самое загадочное. Уди-
вительно, удивительно, успел подумать Вася, не от-
рываясь от затягивающей, начинающей нежно зве-
неть глубины неба, человек и не предполагает, что
начинает жить полновесной жизнью только где-то у
самой крайней черты, может быть, это и есть завер-
шающее дыхание космоса; вот когда человек по-на-
стоящему ощущает и себя, и жизнь, и страдание, и
любовь. И все, что было до этого, оказывается лишь
бледным оттиском пережитого. Он раньше думал, что
жил, а это была всего лишь игра в жизнь, где все
было в одну сотую истинной силы. Он любил, стра-
дал, боролся, в нем рождались опустошающие все
его существо идеи. Высшим наслаждением для него
было устанавливать видимые только ему закономер-
ности, ощупью пробираться в их кричащей абсурд-
ности, в кажущейся совершенно алогичной очевид-
ности, вырванной, казалось, у самого хаоса и ото-
двинутой за черту дозволенного. То, что происходи-
ло потом, его мало интересовало, чаще всего уже
кто-то другой выуживал одно-другое драгоценное
зерно, а то вдруг натыкался и на целую золотонос-
ную россыпь, но все это уже мало интересовало
Васю; каким-то образом его мысли становились до-
стоянием других, более ловких, умеющих прочнее
устроиться в жизни. Ему многое полагалось по ста-
£6
тусу таланта — премии, деньги, престижный жизнен-
ный уровень в виде первоклассных медицинских
учреждений, представительство в выборных орга-
нах, но он не успевал воспользоваться плодами
своего труда в короткие передышки отдыха; са-
мому ему лично почти ничего не было нужно,
и потом, слишком велико было повседневное на-
пряжение, он слишком уставал, а желающих было
всегда больше, чем благ.
Пока он вынашивал очередную проблему и
с головой нырял в нее, эти силы окончательно ут-
верждались в необходимости своего руководства
процессом жизни вообще, не говоря уже о науке
и каких-то жалких идеях; от всех жизненных
благ ему выпал лишь этот запущенный сад, все
больше захватываемый лесом и оврагом, кусок озе-
ра и старый, все больше ветшающий дом. Да и
случилось это давно и как-то совершенно случайно, ко-
гда никто из этих вездесущих сил не мог и пред-
положить о его беспомощности, об отсутствии у не-
го самых элементарных необходимых клыков, как
любила в моменты наибольшей отчужденности, гово-
рить его жена Татьяна Романовна, дочь видного ки-
бернетика Романа Андриановича Святухина. Воз-
можно, Татьяна Романовна и права, и ей не повезло
с мужем, она могла выбрать кого-то более достой-
ного, но что делать, жизнь набело не проживешь.
Когда-нибудь и Татьяна Романовна поймет главный
смысл и назначение человека, как понимает сейчас
он, и все образуется. Ведь и он не предполагал рань-
ше, что главное — вот в этом утреннем купании, в
теплом, не остывшем с ночи озере, восхитительно
пахнущем тиной, в этой облегченности тела, когда
за далекие горизонты отодвинулась вся ненужная
суета, сжигающее честолюбие, и бешеная жажда
снова и снова удивить мир неожиданным поворотом
кажущейся уже исчерпанной до конца идеи. Глав-
ное, оказывается, в другом, в возможности не торо-
питься, не гнать, не толкать себя в спину, в возмож-
ности видеть небо, слушать по утрам пение птиц,
иметь для этого хоть немного свободного времени.
Шумно шлепавший по воде передними лапами
Тимошка попытался взобраться Васе на грудь, ухит-
рившись влюбленно лизнуть его в мокрое лицо. От-
толкнув Тимошку, Вася нырнул; тогда Тимошка то-
ропливо выбрался из воды, шумно отряхиваясь и
окутываясь облаком водяной пыли; озабоченно бегая
по берегу, он громким лаем стал звать Васю на бе-
рег, словно тому грозила смертельная опасность.
Пора было выходить из воды, но Вася медлил, не
хотелось начинать длинный день, не хотелось при-
ниматься за дела... Во рту опять стало сухо; неосто-
рожное движение сместило установившееся было хруп-
кое равновесие, чуть слышный солоноватый вкус, на-
поминающий ощущение просочившейся крови, пре-
дупреждал о приближении боли. Невольно задержи-
вая дыхание, Вася осторожно перевернулся на спи-
ну и, еле шевеля ногами, постарался направить свое
и не свое теперь, сразу ставшее чужим, тело к бе-
регу. Ткнувшись головой и плечами в мягкую, раз-
мокшую глину, он затих; от несильного толчка боль
вспыхнула в самом мозгу, он успел выхватить стре-
мительно гаснущее небо и струящуюся зелень- бе-
рез над озером, начавшую чернеть, опадать и сли-
ваться с небом. Еще он успел услышать чей-то
испуганный крик, солнце сжалось до невыносимо жгу-
чей точки и исчезло.
Очнулся он все еще лежа в воде; пытаясь осмыс-
лить случившееся, он разлепил набрякшие веки, глу-
боко вдохнул и с трудом, оставляя за собой безоб-
разный след, выполз на берег. Взбудораженный ку-
панием и непонятным поведением Васи, Тимошка
тотчас подлетел к нему, лизнул его в щеку и сел
рядом. Открыв пасть, далеко выпростав розовый уз-
кий язык, он радостно и шумно дышал.
— Тимошка, Тимошка,— еле слышно выговорил
Вася. — Иди позови кого-нибудь... Таню позови, слы-
шишь... Таню...
Тимошка привстал, напряжение проступило во
всем его крепком теле, облитом сейчас мокрой лос-
нящейся шерстью; влажные его ноздри беспокойно
двигались от усилия, от желания понять.
— Тимошка... Таню... Таню зови,— опять тихо
попросил Вася, и уже в следующую секунду Тимош-
ка стремительно мчался к дому, пластаясь над тра-
вой, прорывая завесу цветника. Вася сделал попыт-
ку еще немного отползти от воды, не смог и, опять
обессилев, затих, а Тимошка тем временем ворвался
в дом, взлетел по крутой деревянной лесенке на вто-
рой этаж и, шлепнув по двери тяжелой мокрой ла-
пой, бросился к широкой тахте и, подталкивая носом
свесившуюся руку Татьяны Романовны, с напряже-
нием уставился на нее. Татьяна Романовна тотчас
села в постели, отбрасывая спутанные волосы со
лба, спустила ноги на пол.
— Тимошка, что тебе? Что случилось? Где Вася?
Коротко тявкнув, Тимошка метнулся к полуотво-
ренной двери, затем, опять протиснувшись в комна-
ту лоснящимся мокрым туловищем, коротко заску-
лил. Охнув, Татьяна Романовна в одной сорочке и
босиком скатилась по лестнице вслед за ним.
2
Едва только Тимошка исчез, ожесточенно мотая
длинными ушами, Вася уставился на простершуюся
над ним большую зеленую ветвь; она отходила от
березового ствола метрах в трех от земли. Вася изо
всех сил цеплялся за ее струящуюся листву, но небо
опять стало чернеть, сходиться в одну точку и опа-
дать; резкий знобящий порыв ветра сорвал убитую
морозом, жухлую листву, закружил и понес, рас-
сеивая дождем по земле. И Вася, уже не тридцати-
семилетний мужчина, а подросток лет двенадцати,
идет по густому, сумрачному лесу. Июнь был в са-
мом начале, и от липового цвета кружилась голова;
налитый густым солнечным полумраком лес звенел
птичьими голосами, был переполнен торжествующей
скрытой силой, природа безостановочно и слепо тво-
рила жизнь. Вася не думал и не догадывался об
этом, в душе Васи все больше полнилось это непре-
рывное торжество творчества, и он тоже готов был
57
и хотел сделать что-нибудь необычное» но не знал
что. Сердце его было изумлено и даже напугано не-
знакомыми ощущениями и порывами; он шел даль-
ше и дальше; все было живое вокруг, все дышало,
волновалось. Он сейчас представить себе не мог,
что всего полчаса назад хотел умереть от горя и
что причиной этому была обыкновенная девочка,
правда, очень хорошенькая; он совершенно случай-
но увидел из-за густого орехового куста, как опа,
крепко зажмурившись, подставляет лицо для поце-
луя Севке Валуеву и тот, неумело обхватив ее за
шею, целует раз и другой... Но самое непереносимое
было даже не это, а то, что лучший его друг Яшка
Полуянов, тоже увидевший целующуюся парочку,
вместо того чтобы возмутиться, воровато оглянулся,
шмыгнул носом и опять нырнул в зелень; самого
Васи он или действительно не разглядел, или сде-
лал вид, что не видит.
Потрясенный этим двойным невиданным преда-
тельством со стороны девочки, дружившей с ним
уже больше двух месяцев, и со стороны лучшего друга
и больше всего опасаясь, что его увидят или преда-
тельница, или счастливый соперник, или его лучший
друг, Вася, переползая от куста к кусту, выбрался
наконец в безопасное место и, не разбирая дороги,
бросился в лес, и вот теперь боль постепенно при-
туплялась; в душу непрерывно переливалось солнеч-
ное могущество леса, и то, что раньше казалось не-
переносимой обидой, заслонялось теперь открытием,
пусть еще смутным, зыбких связей всего его суще-
ства с зеленым и вечным миром.
Уже начиная уставать, Вася услышал какой-то
тихий, почти хрустальный звук и замер. Звук про-
пал, затем опять повторился. Задрав голову, Вася
опрокинулся в ярко проступившую между вершина-
ми деревьев синеву неба, хрустальные звоны рожда-
лись именно там. Старый березняк, вперемежку с
редкими старыми косматыми елями, с уже начинав-
шими сохнуть отвислыми бахромчатыми нижними
ветвями, стал мрачнеть и сгущаться. В пространст-
ве между деревьями Вася увидел огромную ель и
вначале даже оторопел — так много она занимала
места. Вася восхищенно присел на корточки, затем
повалился в высокую траву навзничь. Ель голово-
кружительно пронзала небо, и вокруг ее недосягае-
мо острой вершины кружилось бездонное голубое
небо; зажмурившись, Вася переждал, пока в ушах
пройдет тихий надоедливый писк, словно в ухо пойал
комар, но и с закрытыми глазами он видел острую
вершину старой ели, плавно кружащейся в небе. Та-
кое большое дерево должно расти много-много лет,
он даже не мог себе представить сколько; высокая
трава надежно укрывала его со всех сторон. Старая
ель стояла поодаль от остальных деревьев; вокруг
нее как бы образовалась веселая поляна, вся в раз-
нотравье — и тут и там пестрели крупные гроздья
лесных колокольчиков, толстые золотистые шмели то
и дело садились на их лиловые раструбы. По пути
попался обросший густым плотным мхом ствол упав-
шего дерева; Вася отступил назад на несколько ша-
гов, разогнался и перемахнул через поверженного
временем великана; он не удержался от хвастливой
мысли о своей ловкости и силе, вспомнив тщедуш-
ного Севку Валуева. Он им еще припомнит, и Севке
и Яшке Полуянову, особенно Яшке! Предательское
равнодушие Яшки было особенно обидным, и Вася
постарался припомнить о Яшке все плохое, что знал
о нем и прежде,— невероятное устройство Яшкиных
глаз, которому не переставал удивляться их класс;
Яшка мог одновременно смотреть в противополож-
ные стороны и уверял ребят, что, стоя боком к дос-
ке и выводя решение задачи, видит происходящее
на последних партах; по этой причине ему особенно
любили подсказывать. В классе его звали просто ко-
сым Яшкой, врачи называли его случай расходя-
щимся косоглазием, но сути это не меняло.
Незаметно березы и ели сменились редкими ста-
рыми дубами и затерянными в них островами кленов
и лип; местность повышалась, и скоро Вася наткнул-
ся на обломок известковой скалы, за ней на другой,
третий, за ними еще и еще. Нагромождение камня
густо поросло лещиной, дубняком; Васе представи-
лось, что еще несколько шагов — и перед ним от-
кроется сказочный замок с его тайнами, с его уди-
вительными обитателями, и он с заблестевшими
глазами ринулся по скалахМ вверх. Во всем вокруг ощу-
щалась какая-то особая чистота и нетронутость, при-
сутствия человека не было видно; хорошо бы
построить здесь шалаш и прожить робинзоном все ле-
то, подумал Вася, все будут сначала охать и жалеть,
а потом совсем забудут его, а к осени он выроет
теплую землянку, сложит из камней печь, натаскает
много-много дров, заготовит орехов и грибов и оста-
нется зимовать. Лет через пять он отрастит бороду,
как у Робинзона Крузо, загорит до черноты и как-
нибудь проберется в город и придет в класс, то-то
будет удивления!
Фантазии становились ярче, Вася встречался и с
матерью, и с младшей сестренкой Людой, и с отцом,
вечно погруженным в какие-то свои чертежи, и, ра-
зумеется, с Севкой Валуевым, своим—теперь уже
непримиримым — врагом. Севке он совал кулаком в
нос... да нет, и этого он не делал, он лишь презри-
тельно щурился, смотрел на этого тщедушного Сев-
ку и не замечал его. Потом классная руководитель-
ница представляла его классу; то и дело поправляя
роговые очки, она говорила о героизме, о выпавших
на его жизненном пути испытаниях и о совершенном,
несмотря на них, величайшем научном открытии...
Взбираясь между известковых скал, Вася раздви-
нул заросли ореховых кустов и, стараясь не дышать,
попятился назад; придерживая руками тонкие вет-
ви лещины, он оставил лишь крошечный просвет.
Между двух известковых выступов открывалась
укромная ложбина, со всех сторон защищенная гу-
стыми зарослями. Увидеть ее можно было лишь свер-
ху, с того места, где оказался сейчас Вася; теперь
он во все глаза глядел на лисий выводок из четырех
щенков. Он застал их во время еды, лисята с урча-
нием терзали уже задушенного, довольно крупного
зайчонка, а старая лисица лежала чуть поодаль и
внимательно глядела на свое прожорливое семейст-
58
во умными, отсутствующими глазами. Застигнутый
открывшейся ему тайной и темной стороной жизни —
одно уничтожало другое,— Вася вторично за день
столкнулся с жестокой изнанкой жизни. Ему было
стыдно своей жестокости, но он так и не смог ото-
рваться от лисьего обеда, пока щенки не разгрызли
и не уничтожили все, вплоть до головы. Лисята дол-
го отнимали ее друг у друга, и наконец она доста-
лась одному, самому крупному и сильному, и он тут
же шмыгнул в сторону, забился под куст и стал
усердно трудиться над добычей, а если кто из брать-
ев или сестер делал попытку приблизиться, лисенок
злобно морщил нос и угрожающе ворчал, свирепо
ударяя перед собой лапами. Старая лисица продол-
жала спокойно лежать с мудро-отсутствующими гла-
зами, она сделала свое, и дальше уже было не ее
дело, дальше творила природа. Лисенок все-таки
одолел неокрепшую голову зайчонка и стал лако-
миться ее содержимым, подбирая с земли длинным
розовым язычком любую крошку, но этого искуше-
ния не выдержали остальные и скопом ринулись на
лакомство. От отвращения у Васи судорога пере-
хватила горло, он хрустнул сучком. Старая лисица,
казалось глубоко задремавшая, мягко вскочила раз-
вернувшейся пружиной и неслышно тявкнула. Мельк-
нув хвостиками, лисята исчезли с ошеломляющей
быстротой; Вася успел заметить вход в нору, под
одним из известковых выступов, бывшей когда-то
жильем барсука. Исчезла и сама старая лисица,
осталось лишь несколько клочков грязной заячьей
шерсти...
Отступив от кустов, Вася постоял в глубокой за-
думчивости, еще и еще раз припоминая увиденное
с начала и до конца, он даже потряс головой, что-
бы отогнать наваждение. Все вокруг оставалось по-
прежнему чистым и торжественно-праздничным, и
лисята и ощущение какой-то своей внутренней сопри-
частности с ними, с их жестокостью, вскоре забы-
лись. Вася стал карабкаться выше на холм, по-преж-
нему дикий, таивший массу самых увлекательных
неожиданностей; вершина холма была оседлана ста-
рым дубом с мощными ответвлениями бугристых
корней, ведущими в глубине, во мраке земли и кам-
ня свою мощную, неостановимую, разрушительную
работу. Нахмурив лоб, Вася постарался вспомнить
то немногое, что ему было известно о севере и юге.
Став лицом к солнцу, затем решительно повернув-
шись, Вася пошел точно в противоположную сторо-
ну и почти сразу же набрел на крохотный, очень
светлый, холодный родничок. Он выбивался из по-
росшей нежной зеленью расщелины и с тихим жур-
чанием почти сразу же опять исчезал под землею,
Вася с удовольствием напился. Теперь ему часто
попадались бьющие из-под земли холодные ключи,
и скоро он вышел к заболоченному берегу неболь-
шого лесного ручья с еле-еле заметным течением.
Откуда-то прилетела сорока, села на вершину оси-
ны и, явно недовольная вторжением Васи в запо-
ведные лесные пределы, отчаянно застрекотала. Вася
шел берегом ручья, а сорока перелетала за ним с
дерева на дерево и безумолчно стрекотала; где-то
неподалеку у нее было гнездо. Васе надоело назой-
ливое преследование, и он бросил в настырную пти-
цу подхваченной на ходу с земли палкой. Сорока
ошалело сорвалась с дерева и растаяла в зеленом
мраке леса. Присев передохнуть, Вася перекусил
первый попавшийся стебелек, пожевал его. Терпкая
горечь обожгла язык, и Вася торопливо выплюнул
зелень, перекатился на другое место. Будь у него
сейчас кусок хлеба с колбасой и пол-арбуза, было
бы совсем хорошо. Сон пришел неожиданно. Вася
уже не мог открыть глаз, хотя на лицо его переме-
стился густой солнечный блик, кто-то нежно поще-
котал ему висок, скатился по щеке на шею и пропал;
исчез и сам Вася.
Проваливаясь в тьму, он сильно ударился голо-
вой о дерево, так сильно, что ноги словно по щико-
лотки ушли в землю. Он попробовал выдернуть их
и не смог. Он не испугался, он понял, что никакой
он не Вася и никогда им не был, что он всего лишь
обыкновенное дерево и что он всегда находился в
этом лесу, вот здесь, рядом с большой, поросшей
багровым мхом кочкой, и, прорываясь из земли, из
плотного сырого удушья к простору, свету, он даже
разломил какой-то трухлявый пенек. И проклюнул-
ся он из большого коричневого желудя много лет
назад; и долго-долго пробивался к солнцу из-под
двух старых берез, беспощадно давивших его; свои-
ми корнями они все время пытались сковать, смять,
оттеснить его еще слабые корешки; они упорно про-
стирали над ним свои зеленые космы, стараясь не
пропустить к нему ни одного солнечного блика, ни
одной капли дождя. Вася сделал судорожную попыт-
ку проснуться и не смог
3
Большая ветка старой березы метрах в трех от
земли хранила прохладу и свежесть. Вася изо всех
сил цеплялся за ее зеленый, струящийся свет, вот
березовая веселая листва пошла мелкой рябью от
легкого ветерка, но все это уже было из прошлого,
мелькнуло и окончательно исчезло.
Первым Вася увидел перед собой страдающее, без
кровинки лицо жены; сам он лежал на собственной,
привычной кровати, а в широко распахнутое окно
с приспущенными льняными шторами рвалось солнце,
ярко освещая гладко оструганные сосновые стены.
— На-ка, выпей,— сказала Семеновна, помогая
ему привстать и отхлебнуть из чашки. Он даже не
успел удивиться присутствию здесь своей тетки, по-
тому что все сразу вспомнил. Просто они с женой
едут отдыхать и лечиться: Семеновну же он сам
вызвал побыть лето с детьми.
Вася выпил какую-то вкусную ароматную теплую
жидкость, облизал сухие губы.
— Молоко с коньяком? — предположил он.
— Как же,— важно отозвалась Семеновна, вы-
равнивая подушки.
•— Вкусно,— сказал он виновато,— можно еще?
59
— Можно,— отозвалась Семеновна и опять дала
ему отхлебнуть. — Вот, Вася, тебе звонок, какого
тебе еще нужно? Дальше так нельзя, у тебя дети.
И не смотри так. Будь я на месте твоей жены, я бы
давно навела в доме порядок. Женился? Женился.
Завел детей? Завел. Значит, изволь довести их до
дела.
Семеновна, с самой Васиной женитьбы находив-
шаяся с Татьяной Романовной в состоянии тайной,
необъявленной войны, сейчас позволила себе перейти
в наступление, но Татьяна Романовна, болезненно
воспринимавшая любое замечание в свой адрес со
стороны Семеновны, на этот раз была полностью
согласна с ней и поэтому промолчала.
— Сейчас совершенно невозможно! — резко сказал
Вася и сел в кровати. — Эксперимент в завершающей
стадии... Как я брошу ребят? Осталось совсем не-
много. Вы же знаете моего лучшего друга, этого
волкодава Кобыша... В конце концов работа, может
быть, пойдет на премию в случае успеха. А тут наш
вечно голодный Полуянов! Спит и видит на своей
широкой волосатой груди золотое сияние...
— Все ваша дурацкая игра в награды, кто кого
перетянет! — усилила натиск Семеновна, не глядя
на Татьяну Романовну, но каждое слово предназна-
чалось сейчас ей, и это понимали все трое. — Удив-
ляюсь тебе, Таня, тебе нужен живой муж, а детям
отец, а не ваши дурацкие висюльки! Можно ли ду-
мать сейчас о премиях, когда ног не таскаешь!
Вместо ответа Татьяна Романовна, осторожно взяв
Васю за плечи, заставила его лечь. Вася, чутко
настроенный сейчас ко всему происходящему, задер-
жал руку Татьяны Романовны в своей, еще влажной
от слабости ладони.
— Танюш, дети уже встали? Не очень я тебя
напугал?
— Не очень. Но лучше ты сейчас поспи, а то
полежи бездумно, с закрытыми глазами.
— Я лучше полежу с открытыми, можно?
— Всегда бы ты был такой покладистый, цены
бы тебе не было, Вася.
— А я разве не всегда такой? В понедельник та-
кой был, погоди-ка, когда еще? В пятницу...
— Особенно когда Кобышу в пасть добровольно
лезешь...
— Да, Кобыш мужик серьезный, с характером,
да, Таня, он прагматик, но он умеет почувствовать
направление, а это немало. Пойми, он на месте в ла-
боратории.
— Я знаю одно: в ключевых позициях ни с кем
нельзя делиться, тем более с Кобышем, он же не
человек, он танк, я его боюсь,— Татьяна Романовна,
не принимая примиряющей улыбки Васи, отчужден-
но переставляла пузырьки у изголовья.
— Чем Кобыш тебя так достал, ну чем он опас-
нее, например, Полуянова?
— Как можно быть таким травоядным! Кобыш —
акула, он проглотит тебя вместе с лабораторией и
не облизнется,— Татьяна Романовна нервно поправи-
ла узел косынки на шее. — Почему я одна должна
все предвидеть? Кто я такая? ?4не скоро самой уже
не будет места в лаборатории. Кобыш выживет. Да,
да, да, кто я такая, чтобы меня спрашивать, прини-
мать меня во внимание?
Смотревший на нес с легкой полуулыбкой Вася
от ее последних слов откинулся головой на подушку,
и лицо его затвердело.
— Ты опять усложняешь...
— А ты упрощаешь/ упрощаешь, упрощаешь,—
раздельно, утяжеляя каждое слово, ответила Татьяна
Романовна; солнце было уже высоко и густо зали-
вало комнату, Татьяна Романовна совсем задернула
штору. — Нечему удивляться. Ты умный человек и
понимаешь все. Меня не может не тревожить наше
положение. Если бы ты понял, Вася! Нельзя всю
жизнь только работать. Надо когда-то заставить себя
остановиться и оценить уже сделанное.
— Что, что я должен оценить, Таня? — ровно,
как о чем-то безразличном для себя, спросил Вася.
— Ты хочешь, чтобы я высказала тебе все до
последней запятой?
— Мы только так до сих пор и жили,— сказал
Вася. — Мы...
— Нет, не так,— резко оборвала его Татьяна Ро-
мановна. — Вокруг тебя уже сложилась зона отчуж-
дения... Талант... одаренность, исключительность! Не
тревожить, не беспокоить... ах, ах! только бы не по-
мешать процессу! И я первая подпала под эту ма-
гию твоей исключительности...
— Таня,— тихо позвала Семеновна, чувствуя на-
двигающуюся бурю, одну из тех, которые время от
времени и раньше потрясали старый дом у озера, но
Татьяна Романовна не услышала или не захотела
услышать.
— Ты жалеешь?
— Не делай удивленных глаз,— сказала Татьяна
Романовна, напряженно шагая взад и вперед перед
его кроватью на жестких каблуках и тем самым
подчеркивая свою готовность к дальнейшему напа-
дению. — Больше всего мне нравится, когда ты удив-
ляешься вещам очевидным, будто только что родился
на свет божий.
— Ты жалеешь? — так же ровно, безразлично
повторил Вася.
— Не жалею! Как можно жалеть о том, что
родился с серыми глазами, а не с васильковыми, хотя
васильковые, может быть, и в тысячу раз лучше.
— Не в тысячу, а в девятьсот двадцать семь!
— Вася, Вася, тебе все шуточки, ты опять ухо-
дишь от главных вопросов, а их нужно решать. Ни
юг, ни горы ничего не изменит в тебе самом, и
твоя амбиция — ширма, за нее ты и прячешься.
Главное в тебе самом — стоит только протянуть
руку...
— Неужели только протянуть?
— Тебе нужно брать лабораторию, именно тебе,
а не Кобышу, раз Морозов уходит,— упрямо глядя
перед собой, сказала Татьяна Романовна. — Что ты
юродствуешь? Сколько раз мы говорили с тобой об
этом! Я и сейчас утверждаю, тебе нужно переклю-
читься, дать отдохнуть голове...
60
— Все не так просто, Танюш, ты не хуже меня
знаешь, сколько порогов надо обить, чтобы полу-
чить лабораторию, лоб до синяков намозолить в по-
клонах...
— Раз нужно, значит, нужно, не ты один,— стоя-
ла на своем Татьяна Романовна. — У тебя сбой, кри-
зис, истощение — переключись! Вот единственно ра-
зумный выход. Совсем выключаться из процесса
страшно, да и неразумно! На твоих работах уже
существует направление в институте, давай-давай
складывай теперь следующее подножье, а другие бу-
дут возвышаться. Вася, тебе надо взять то, что давно
уже тебе принадлежит по праву.
— Таня, ты действительно считаешь, что я не-
способен двигаться дальше? — Татьяна Романовна
резко повернулась на каблуках. — Да не стучи ты
каблуками, неужели у тебя нет мягкой обуви?
— Прости,— повернулась к нему Татьяна Рома-
новна, с облегчением сбрасывая с ног туфли; ее
маленькие розовые ступни казались странно голыми
на некрашеном деревянном полу. — Я уверена, Вася,
что если и дальше так себя расходовать, скоро не
останется ничего. Ты выдохнешься. Я ведь тоже,
Вася, падаю от твоей гонки, я вот-вот упаду, ты
только этого не замечаешь. Нужна передышка. Возь-
ми лабораторию, ведь неизвестно, кто придет на
место Морозова. Морозов тебя ценил, Морозов с то-
бой считался, давал тебе делать, что ты хочешь.
Если ты займешь его место, это будет только спра-
ведливо. И ты отдохнешь, мозг отдохнет и твой и
мой, и делу польза, поможешь молодым, своим же
ребятам.
— Таня, только не надо спекулировать выгодой
ребят, ладно? Совсем уж нечестно!
— А перекладывать все практические решения на
плечи других, на мои, например, честно?
— Ты знала, за кого шла замуж.
— Преступно так безалаберно относиться к пло-
дам своего труда. Ты за все платишь серым вещест-
вом, а решение практических вопросов переклады-
ваешь на плечи кобышей и полуяновых, то есть
даришь им плоды наших совместных усилий. Чудовищ-
но, преступно по отношению к самому себе, к уже
сделанному, к своему же таланту! Талант — это не
бездонный сосуд, он тоже имеет определенную ем-
кость.
— Все так, Танюш, но если я не создан для
руководства, для хождения по инстанциям, если из
меня не получится мало-мальски приличный руко-
водитель?
— Ты не можешь этого знать,— Татьяна Рома-
новна опять непримиримо хрустнула сплетенными
пальцами рук. — Ты никогда не пробовал этим зани-
маться. Ты привык вечно тесать гигантские блоки,
тогда как Кобышу для достижения того же уровня
достаточно нажать кнопку на селекторе.
— Так-таки и кнопку?
— Ну, две!
— Таня, ну, скажи, чего тебе в жизни не хва-
тает? Академического пайка? Чем ты уж так не
удовлетворена?
— Зачем же так примитивизировать, Вася? Мне
больно, мне стыдно, что твой мозг так чудовищно,
так бессовестно эксплуатируется, и я тоже втянута
в бесконечную, изматывающую гонку.
Ровный голос и странно остановившееся выра-
жение лица Татьяны Романовны не предвещали ни-
чего хорошего; человек бурно эмоциональный, она
в минуты гнева непонятно стихала, и даже интона-
ции ее обычно оживленного высокого голоса меня-
лись на глухие и низкие. Желая разрядить напря-
жение, Вася постарался успокоить свое лицо и при-
дать ему самое безмятежное выражение.
— Да, да, да,— Татьяна Романовна все больше
проникалась к этому странному, не желающему па-
лец о палец ударить для облегчения собственной
жизни человеку чувством неприязни и жалости. —
Вот ты сейчас на своей кровати отчаянно себя жа-
леешь! Так ведь? Никто тебя не понимает, не в со-
стоянии понять, где уж! Каргалов? Бездарь! Век-
шин? Ну, этот совсем сошел с дорожки! Полуянов?
Ну, конечно, шут, рыжий на ковре,— усмехнулась
она одними губами, хотя внутренний голос давно
просил, убеждал, умолял ее остановиться, образу-
миться, перевести дыхание. — Да, да, да, вокруг одна
только дрянь, серость, ничтожество! — неслась она
дальше в своем ослеплении. — Во мне одном боже-
ственный дар, я — божественный сосуд, только мне
одному доверено нести факел.
Побледневший Вася, сильнее вжимаясь в подуш-
ку, старался не глядеть сейчас на жену, видеть ее
сейчас было ему трудно, почти невыносимо.
— И мою судьбу ты мимоходом перечеркнул,—
продолжала свои безжалостные обличения Татьяна
Романовна. — И не делай страдальческие глаза! Я бы
давно уже кандидатскую защитила, у меня тоже
мысли были, самостоятельные разработки... а ты,
как бездонная воронка, все втянул в себя, кто я
теперь? Жена, секретарь, расчетчица? Нитка к игол-
ке? Только успеваю оформлять твои мысли. Меня
от цифр уже тошнит. Веришь, на обоях вместо цве-
тов у меня цифры впечатаны, везде цифры, цифры,
цифры... Переворачиваю длиннющие бесконечные ру-
лоны с цифрами, чтобы не упустить тот единствен-
ный результат, которого ты ждешь. Слепну от цифр,
а ты одним царственным взмахом отказываешься от
борьбы за лабораторию, перечеркиваешь целое де-
сятилетие совместных усилий! И какой итог?
Тяжелый, когтистый шлепок в дверь прервал речь
Татьяны Романовны, и на пороге появился Тимош-
ка, не совсем еще просохший и оттого непривычно
щуплый и узкий, но все в той грациозной позе су-
щества благородных кровей, с внимательно чутким
носом. Он пришел осведомиться, что делается у Васи
и почему так долго никто не показывается из его
комнаты, и Вася, встретившись с ним взглядом, ощу-
тил опять легкое головокружение, он сам еще не
совсем вернулся из мира первородных вещей, заво-
роженно отражавшихся сейчас в непроницаемо-тем-
ных глазах Тимошки. Тимошка, отличавшийся удиви-
тельной особенностью угадывать в нужный момент
свою необходимость, деловито прошлепал прямо
61
к Васиной кровати и, не отрываясь от отчужденно-
замкнутого лица Васи, преданно положил морду на
подушку и замер.
— Вот, вот,— обрадовалась Татьяна Романовна
новому аргументу, мстительно указывая па Тимош-
ку. — Вот твой лучший друг, теперь ты с ним мо-
жешь остаток дней просидеть на скамейке, слушая
лягушек...
Полувопросительно шевельнув хвостом и не встре-
тив одобрения Васи, ничего не поняв и лишь ощутив
нависшую в комнате грозовую атмосферу, Тимошка
благоразумно скрылся под кроватью.
— Что ж ты не выходила замуж за Севку Ва-
луева или за того же Яшку? — со странной полу-
улыбкой неестественно высоко поднял брови Вася.—
Севка ведь так добивался, вот и были бы совер-
шенной парой, счастливым совпадением наклонно-
стей.
— Потому и не вышла, что ты встал на пути...
Стеной, скалой! Именно твоя одаренность, твоя одер-
жимость меня обманула! Не уметь поддержать такой
успех, усилия двух жизней! Главное, не хотеть! Я бы
слова тебе не сказала... если бы ты хоть раз попы-
тался защитить себя, свой талант... Но ты же небо-
житель! Тебе только нимба не хватает. Хватит!
Не хочу остаться у разбитого корыта!
— Ты знала, за кого выходишь замуж, Татьяна
Романовна,— голос Васи заставил Тимошку переме-
нить положение и плотнее прижаться к прохладному
полу. — Я тебе не обещал ни праздников, ни персо-
нальных машин, я могу повторить тот наш разговор
слово в слово. Я даже помню, где мы тогда были,
на Крымском мосту... еще не начало светать.
— Не надо,— глухо, как-то вся обмякая, попро-
сила Татьяна Романовна. — Я тоже помню... Что же
делать, мы слишком горячо взялись, по молодости
были слишком самонадеянны... Я так устала, Вася,
больше не могу. Ноша оказалась слишком тяжела,
мне не по силам. Вася, разве я виновата?
Почувствовав смену интонации в голосе Татьяны
Романовны, Тимошка озабоченно вылез из-под кро-
вати и переместился ближе к ее ногам, скашивая
черный умный глаз то на нее, то на Васю и как
бы прикидывая, кому он в данную минуту может
быть больше полезен и к кому в первую очередь
надо броситься на помощь.
— И ты не виновата, и никто не виноват, весь
вопрос в том, насколько еще хватит горючего, Таня.
Как всякая чуткая и любящая женщина, Татьяна
Романовна чувствовала, что складывается непод-
властная ей ситуация; и, что бывало с ней крайне
редко, она с некоторой даже растерянностью и бо-
язнью глядела сейчас на мужа, словно столкнулась
с неудержимо влекущим водоворотом, полным скры-
той, непонятной жизни и опасных воронок. Выгадывая
время для необходимой перестройки, Татьяна Рома-
новна пустила в ход одну из своих самых непрони-
цаемых улыбок, с какой красивая женщина разгова-
ривает с другой, еще более красивой. Озадачивая
Васю своей полнейшей безмятежностью, Татьяна Ро-
мановна присела на подлокотник низкого кресла в уг-
лу и вытянула длинные красивые ноги в золотистом
еле заметном пушке.
— Вася, ты звонил Коле Звереву? — все с той
же непроницаемой небрежной улыбкой, как о чем-то
маловажном, хотя это составляло главный интерес
ее разговора, спросила Татьяна Романовна. — Он два
раза о тебе справлялся.
— Этому-то что еще нужно?
— Он говорил о тебе с министром. Вася, что за
тон? Ты и раньше не отличался мягкостью, а теперь
вообще от тебя ни о ком не услышишь доброго
слова.
— А я сам? Разве о самом себе я плохого мне-
ния?
— Вот, вот, видишь, никого рядом, кто был бы
нам равен, вокруг нас абсолютный вакуум.
— Таня, что с тобой, ты шуток не понимаешь?
— Какие тут шутки, когда такая нетерпимость!
Теперь вот и Яшка Полуянов, и Коля Зверев, и Севка
Валуев стали тебе нехороши. Ни с того ни с сего
решил сыграть в ревность,— пожала плечами Татья-
на Романовна. — Так я тебе и поверила! Ты и когда
целуешься, в глазах одни формулы торчат.
— Запрещенный удар,— обрадованно потер руки
Вася. — В солнечное сплетение... а то и ниже. Неда-
ром Севка Валуев у тебя сегодня с уст не схо-
дит.
Не удержавшись, Татьяна Романовна засмеялась,
пересела к Васе, затормошила его.
— Ах ты, Вася-Василек! Никак не хочешь понять,
что время сейчас такое, ничего не поделаешь. Кроме
таланта, нужно еще иметь власть, а талант, что та-
лант? Так и будут доить все, кому не лень.
— Завела свою пластинку,— отмахнулся Вася,
внутренне прислушиваясь к малейшей интонации
Татьяны Романовны.
— Просто тебе больше нечем крыть,— Татьяна
Романовна снова перешла в наступление.—А к Сев-
ке ты несправедлив, Севка — один из немногих на-
ших истинных друзей... Сам выбрал себе судьбу,
вместо жены выбрал себе редкую профессию, улетел
на Камчатку и живет себе поживает в своем рыбьем
царстве. Чем он тебе-то мешает? Два-три письма
в год!
— Пусть бы твой Петрарка вместо писем кето-
вую икру или балыки слал.
— Пошлый вульгаризатор! — невозмутимо пари-
ровала Татьяна Романовна. — Что ты сегодня замк-
нулся на Севке? У нас своих проблем выше головы,
и ни одна, заметь, не решается...
— И не решится.
— Спасибо, обрадовал.
— А что я могу, я, Танюш, ничего не могу.
— Ты можешь тесать блоки, за которые никто
больше не берется, а изменить порядок вещей ты
не в состоянии. Не нами он установлен, не нам пы-
таться его изменить,— подвела черту Татьяна Рома-
новна. — Меня интересует другое. Твое здоровье. Я
за тебя отвечаю. С меня спросится. Куда смотрела?
Почему не уберегла? Ты, Вася-Василек, уже не тот,
что пять лет назад, хотя бы пять лет назад... Повто-
62
ряла и повторять буду — работаешь на износ. В один
прекрасный день твой мозг просто откажет. И что
ты будешь делать? Лудить чайники? Тебе нужно,
необходимо переключение.
— От тебя спрятаться точно некуда. Конченый
я человек.
— Вася, можешь ты быть серьезным хоть раз
в жизни! Господин случай подбрасывает тебе билет.
Морозовы не каждый день уходят. Позвони Звере-
ву!— Татьяна Романовна с трудом удерживалась от
внезапно подступивших слез.
Тимошка, бесцеремонно отряхнувшись, подошел
вплотную к Татьяне Романовне, положил ей голову
на колени, туго обтянутые тонкой материей, и, неот-
рывно глядя на нее, внимательно дослушал ее, пы-
таясь понять, на чьей стороне правота.
— Даже Тимошка серьезней тебя. Видишь, он
тоже просит, правда, Тимошка? — немедленно при-
звала в союзники Тимошку Татьяна Романовна, с нас-
лаждением запуская руки в лохматую шелковистую
шерсть. — Послушайся хоть его, надеюсь, его-то ты
считаешь своим искренним другом?
— А ты не решай за Тимошку,— рассердился
Вася. — И вообще, я спать хочу, не дают человеку
поболеть, каждый тут высказывается, выступает.
/Мы с Тимошкой спать хотим.
— Спите, спите! — с готовностью подхватила Та-
тьяна Романовна. — Дай я тебя укрою... Может, чего-
нибудь вкусненького принести?
— Не надо,— отказался Вася, с удовольствием
закрывая глаза; Татьяна Романовна слегка провела
ладонью по его волосам и на цыпочках вышла. Ти-
мошка хотел было отправиться с ней вместе, но-она
приказала ему быть с Васей и караулить его; Ти-
мошка послушно улегся возле кровати. Татьяна же
Романовна тщательно, не по-дачному оделась, под-
красилась и, стараясь не привлекать к себе излиш-
него внимания, предупредив Семеновну, что уходит по
делу, вышла к шоссе. Проголосовав, спустя полчаса
она уже была у нужного ей дома, в самом центре
соседнего с Озерной дачного поселка; здесь, находясь
уже почти у цели, она опять заколебалась. Ей при-
шло в голову, что она своим походом к Полуянову
поставит и себя и мул<а в неловкое положение и что
лучше всего было бы вернуться и никаких разгово-
ров с Полуяновым не вести. И, однако, рассуждая
таким образом, она уже поднималась по тесной лест-
нице и скоро оказалась на втором этаже деревян-
ного коттеджа. «А может, его, на мое счастье, и
дома не окажется, переброшусь с Мариной, женой
Полуянова, парой дежурных фраз, посижу с четверть
часа, выпью чаю с обязательным в дачных местах
клубничным вареньем и вернусь домой»,— обнаде-
жила себя Татьяна Романовна, притрагиваясь к кноп-
ке звонка, и тут же услышала твердые шаги за
дверью; через несколько секунд она увидела обра-
дованное ее приходом и удивленное лицо Яши По-
луянова и улыбнулась ему, полуофициально, полу-
доверительно. Он пригласил ее войти, усадил в крес-
ло; Татьяна Романовна часто бывала с Васей у По-
луяновых в московской квартире; но на даче была
у них впервые. Здесь, как и в Москве, царствовали
вещи. Полуянов много и охотно ездил в загранич-
ные командировки, и квартира его, а теперь вот и
дача были набиты дорогими вещами и редкостями и
больше смахивали на антикварную лавку, где вещи
не служили человеку, а соперничали друг с другом,
хищно, как на аукционе, выкрикивая свою цену.
Глядя на это собрание вещей, нельзя было даже
отдаленно предположить профессию и круг интере-
сов их хозяина, так далеки они были, вместе взя-
тые, от того, чем занимались Вася с Полуяновым на
работе. Хозяйка дома, пышноволосая женственная
блондинка, с кроткими, небесной голубизны глазами,
отсутствовала, и Татьяна Романовна облегченно
вздохнула. Они недолюбливали друг друга, несмотря
на внешнюю приветливость и дружелюбие.
В напевных мечтательных интонациях Марины
Сергеевны Татьяне Романовне всегда слышалась
фальшь. В институтских кругах Марина Сергеевна
приобрела известность своими приемами, где умела
щегольнуть изысканностью и роскошью сервировки,
смелостью интерьера (ее коньком была мебель), ис-
кусно подобранными и дополняющими друг друга
гостями. Каждого она могла занять и обогреть, най-
ти нужное слово, а старички-профессора просто
таяли в ласкающих лучах ее небесно-голубых глаз.
При всей своей кажущейся женской беспомощности,
незлобивости и кротости, Марина Сергеевна активно
двигала мужа по служебной карьере и считала не-
обходимым быть в курсе всех институтских дел.
Задержавшись взглядом на низком длинном сто-
лике в круглой нише стеклянной веранды, где бле-
стела никелем, полированной поверхностью, разно-
цветными клавишами и кнопками устрашающая кол-
лекция магнитофонов, диктофонов, миниатюрных ко-
лонок для стереофонического звучания, Татьяна Ро-
мановна с интересом спросила:
— У тебя, Яша, я вижу, дорогое увлечение...
— Я сам дорогой, Таня,— улыбнулся своей сла-
бости Полуянов, наблюдая за Татьяной Романовной
и заинтересованный ее неожиданным приходом. —
Это презент, в Штатах в прошлом году преподнесли,
помнишь, я с делегацией на конгресс летал... а вот
этот мини — японский. Все-таки японцы в электрон-
ной аппаратуре всех опередили... Жаль, Вася не
увлекается... Экономно, красиво, долговечно... Если
бы я не знал нашего дорогого Васю, я бы и тебе
мини-диктофон устроил, например, размером с пуд-
реницу... но ведь на него как найдет!
— Як тебе, Яша, как к старому верному другу
пришла,— перебила Полуянова Татьяна Романовна,
со странной пристальностью глядя ему прямо в зрач-
ки.— Мне нужно поговорить с тобой, о Васе...
Полуянов от неожиданности моргнул, и глаза его
разбежались в разные стороны; хотя все в институте
давно привыкли к этой особенности, Татьяне Рома-
новне стало как-то неуютно, не по себе. Полуянов, с
чуткостью человека давно знавшего и ее, и Васю, и
все сложности их отношений, угадал ее настроение.
— Да ладно тебе,— сказал он просто. — Свои же
люди... Чего там... Выкладывай...
63
— Понимаешь, Яша, он по-прежнему отказыва-
ется от борьбы за лабораторию. Звонил Зверев Ко-
ля, говорит, что новое назначение Морозова уже
пошло к министру. Он почву там предварительно
подготовил, говорит, Васе самому теперь надо под-
суетиться. А этот уперся. Ничего с ним не могу
сделать,— Татьяна Романовна нервно переплела паль-
цы.— Для Васи это было бы спасением, он устал
от перегрузок, сколько можно выжимать из себя!
Ему нужна передышка, переключение. Он за Моро-
зовым был, как за каменной стеной. Не возьму
в толк, что делать, как на него повлиять. Меня он
совершенно не воспринимает, к моим доводам глух.
Он в автономном полете.
— Я не уверен, что мои доводы он воспримет
иначе.
— Надо же что-то делать, Яша! — воскликнула
Татьяна Романовна. — Что еще можно сделать? Со
Зверевым еще можно поговорить, а ты, Яша, про-
бейся к Чекалину, ты ведешь эксперимент и остаешь-
ся за Васю в его отсутствие, тебе и карты в руки.
Ты умный, придумай, что можно сделать...
— Я умный, а он талантливый,— усмехнулся По-
луянов.—Да не во мне дело, Татьяна. Мне он тоже
дорог, хотя он привык плевать на мое мнение. По-
дожди, подожди,— мягко остановил ее Полуянов,—
ты, Татьяна, не горячись, ты-то его знаешь... Что это,
блажь или в самом деле натура? Я все возможное
уже предпринял. Помощника Чекалина обработал.
На своем, конечно, уровне. Я, сама знаешь, немно-
гое могу. Сколько с ним бился... Как об стенку
горох! — воскликнул Полуянов, и лицо его пошло
пятнами. — Ну, там школьные товарищи, старая
дружба... но последний раз он меня оскорбил... ху-
же— унизил! Ну ладно, он выше всех нас на три
головы... Но есть же предел терпимости, Татьяна!
«Конечно, есть!» — подумала Татьяна Романовна,
в то же время примиряюще улыбаясь Полуянову.
— Помнишь, Яша, как мы все хотели поскорее
вырасти, стать взрослыми и получить самостоятель-
ность? Дураки мы были...
— Татьяна, жизнь не перехитришь,— сказал По-
луянов. — Вчера от Севки Валуева письмо получил...
грустное письмо... Правда, какой он теперь Севка...
он теперь Всеволод Никанорович... докторскую защи-
тил, книжку о своих лососевых написал... вот он мне
книжку прислал... Фундаментальная работа!
В руках у Татьяны Романовны оказалась книж-
ка, действительно увесистая, в добротном- красивом
супере; почему-то боясь раскрыть ее, Татьяна Рома-
новна притихла, глаза ее затуманились, но она ни
на мгновение не забывала о Полуянове, давшем ей
возможность побыть наедине с прошлым и вышед-
шем на минутку на кухню поставить вскипятить воды
для кофе. «Все может быть»,— подумала она, пуская
страницы книги веером, вроссыпь и выхватывая гла-
зами частые цветные схемы, добротно отпечатанные
иллюстрации; остановившись на одной, она долго
с удивлением рассматривала тупую рыбью голову
с полуоткрытым круглым ртом и вздувшимися жаб-
рами. Она неприметно вздохнула, тихая улыбка тро-
нула ее губы. Севка Валуев любил ее, об этом знали
и она, и родители, и Вася, но Сева, весь какой-то
отутюженный, в костюме с иголочки, узкоплечий, бо-
лезненно стеснительный, всегда бесследно терялся
среди своих же товарищей; пожалуй, она лишь од-
нажды почувствовала в нем за неброской, робкой
внешностью темную, нерассуждающую, всепогло-
щающую до степени самоотречения тяжесть страсти,
то, с чем ей никогда не пришлось столкнуться в от-
ношениях с Васей; Вася всегда был слишком уве-
рен в себе. Она была потрясена и напугана; но
Севка Валуев выбрал для объяснения самое непод-
ходящее время, перехватил- ее, когда она возвраща-
лась от Васи, счастливая, ослепленная, бережно не-
ся в себе неостывшее тепло его губ...
Вернулся Полуянов, и запахло крепким кофе;
Татьяна Романовна отсутствующе улыбнулась ему
навстречу и осторожно, словно освобождаясь от до-
рогого, но уже ненужного груза, положила книгу
на низенький столик рядом с японским магнитофо-
ном.
— Сева обещает скоро наведаться в родные пена-
ты,— сообщил Полуянов и подал ей тонкую просве-
чивающую чашечку с кофе. Тут же он принес на-
резанный лимон и начатую бутылку коньяку.
— Не женился? — спросила она, осторожно под-
нося к губам чашечку и отхлебывая кофе.
— Если ему верить, нет,— ответил Полуянов, ста-
раясь как-нибудь ненароком не смутить и не спуг-
нуть ее и поэтому с нарочитой медлительностью до-
бавляя себе в кофе коньяк. — Впрочем, что об этом
рассуждать, время на Руси теперь странное, му-
жики пошли какие-то закомплексованные. Татьяна,
вспомни, сколько у нас ходит в институте тридцати-
летних, а то и сорокалетних в холостяках... Черт раз-
берет, что такое происходит! Поговори вон с демо-
графами, они прямо утверждают, что бабы рожать
не хотят, слишком обэмансипировались... Не смей-
ся! — повысил Полуянов голос. — Смешного здесь
мало!
— Я не смеюсь, с чего ты взял! Я думаю, почему
мы такие умные в масштабах космоса и такие бес-
помощные в своей собственной судьбе?
Прихлебывая кофе с коньяком, Полуянов молчал.
— Пойду, Яша,— Татьяна Романовна вздохнула
и встала. — Прости за вторжение, Марине привет.
Уже попрощавшись, остановилась на минутку
в прихожей, у двери, оглянулась и словно чего испу-
галась, торопливо кивнула, толкнула дверь и вышла.
Вася был физиком, по сути дела осуществлявшим
научное руководство по разработке новой перспек-
тивной проблемы в одном из исследовательских ин-
ститутов. В последние два года Вася сильно про-
двинулся в осуществлении намеченной программы
и получил серьезное нервное истощение, и теперь
его отиравпя"и в длительный отпуск и на лечение,
а он упорно сопротивлялся. Как всегда, 'ему не
64
хватало двух-трех- недель, и он пытался уверить
в этом прежде всего жену, но Татьяна Романовна
придерживалась другой точки зрения и делала все
возможное, чтобы увезти Васю из Москвы. По ее
мнению, Вася просто задался целью погубить, пе-
речеркнуть достигнутое ими обоими в их трудной
совместной жизни.
Тимошка же был истинным философом, и, сидя
на мостках над озером и усиленно двигая ушами
и бровями (это у него служило признаком крайне
напряженного размышления), он тоже частенько
задумывался над превратностями жизни; к тому же,
в отличие от людей, Тимошка никогда ничего не за-
бывал из прошлого. Когда, например, несколько лет
назад еж Мишка, еще не носивший таких, как сей-
час, роскошных бакенбардов, неожиданно подскочив,
уколол его в ничем не защищенный нос, для Ти-
мошки случившееся явилось целым потрясением, и
он навсегда запомнил коварство ежа. Впоследствии
он уже никогда не разрешал себе близкого общения
с ежом Мишкой и, сталкиваясь с ним, преследовал
его громким лаем,-рвал когтями траву и угрожающе
тряс головой на безопасном для себя расстоянии.
И еж Мишка вынужден был подолгу неподвижно ле-
жать, свернувшись клубком, и злобно фыркать. Видя,
как Мишка выходит из себя и бесцельно подпрыги-
вает, сторожа каждое его движение, Тимошка с удо-
вольствием смеялся, грациозно выставляя из-за зу-
бов кончик розового языка. Еж Мишка, в свою оче-
редь, считая, что достаточно усыпил бдительность
врага, осторожно выдвигал из-под колючек хитрую
рожицу, одним неуловимым движением удлиняясь,
броском устремлялся в укрытие. Тимошка только
того и ждал; мягко распластавшись, он прыгал, one*
режая удирающего ежа, и, угрожающе рыча, делал
вид, что готов беспощадно ухватить Мишку за са-
моуверенный, похожий на поросячий, только очень
темный носик; и ему, крайне занятому, всегда торо-
пящемуся куда-то по своим делам, ничего не оста-
валось, как снова немедленно свернуться в тугой
пружинящий клубок и бесконечно ждать.
Хотя люди и всемогущи, они все равно не были
способны понять всей сложности и увлекательности
Тимошкиных взаимоотношений с ежом Мишкой или
крысой Чапой. Несмотря на это, Тимошка самозаб-
венно любил обитателей светлого дома, окруженного
садом и лесом, да еще с чудесным озером в берез-
ках, и это чувство обожания и беспредельной пре-
данности к Васиному дому пришло к Тимошке вме-
сте с его появлением на свет.
Часа через полтора незаметно вернулась Татьяна
Романовна, и день покатился своим чередом. Тимош-
ка считал все объяснения между Васей и Татьяной
Романовной законченными, а Васю готовым вернуть-
ся к своим обычным занятиям, к сидению у озера,
веселым играм и прыжкам, но для самого Васи самое
мучительное только начиналось, и мучительнее всего
было чувство вины перед женой, свое бессилие объяс-
нить ей, почему нельзя было оставить эксперимент и
отправиться к теплому морю. Вася был большой ори-
гинал, и его часто угнетало то, что радовало других.
Семеновна, успокоенная установившимся миром,
с одушевлением хлопотала по хозяйству. Татьяна
Романовна несколько раз заглядывала к спящему
Васе; он ровно и тихо дышал, лежа в своей излюб-
ленной позе на боку, по-детски доверчиво подложив
ладонь под щеку. Ближе к обеду Татьяна Романовна
еще раз поднялась наверх, Вася обрадованно улыб-
нулся ей навстречу.
— Танюш, я поспал, я в порядке,— сказал Ва-
ся. — Ты как? Здорово я тебя напугал?
— Вася, я же закаленная, в семи кипятках ки-
пяченная. Ничего со мной не будет. Вот поедем
к морю, отдохнем, тебя наладим...
— Да, Танюша, чего меня налаживать? Я же не
телевизор.
— Значит, договорились, я заказываю билеты,—*
подняла тонкие брови Татьяна Романовна.
Вася отвел глаза, промолчал.
— Договорились, в пятницу уезжаем,— подвала
черту Татьяна Романовна и, как-то особенно твердо
ступая острыми каблуками по деревянному полу,
провожаемая внимательным взглядом Тимошки до
самых дверей, вышла.
— Вот, слышишь, Тимошка,— неискренне пожало-
вался Вася,— у женщин своя логика. В пятницу, и
кончено. Раз ты ничего не ответил, значит, согласен,
а, Тимошка? Ты тоже так считаешь?
Тимошка не был подхалимом и, зная доминирую-
щее положение в доме Татьяны Романовны, в конф-
ликтных ситуациях предпочитал отмалчиваться и не
брать ничьей стороны, но в глубине души он всегда
считал правым Васю, и только его. И сейчас так
же, как и всегда, незамедлительно ткнулся носом
в большую теплую руку Васи- и от волнения и чув-
ства беспредельной слитности с ним судорожно
вздохнул, почти всхлипнул.
— Что тут поделаешь, Тимошка,— продолжал
рассуждать вслух Вася. — Самое главное, ничего
изменить нельзя, а значит, нужно выбросить из го-
ловы. Освободить место для другого. Тимошка, а Ти-
мошка,— тут Вася пристально посмотрел Тимошке
в глаза и понизил голос, показывая, что намерен
сообщить нечто очень серьезное, и Тимошка в ответ
понимающе шевельнул бровями. — Ты даже не дога-
дываешься, какой ты интересный мужик! — Тимошка
опять с усилием шевельнул бровями, стараясь по-
нять.— Ты знаешь, где я сегодня был? У тебя
в гостях, в твоем мире... вот где, брат, жизнь идет
оправданно, целесообразно, без выкрутас. Вот где
дважды два — четыре, а уж никак не пять. Пони-
маешь?— Тимошка теперь двинул не только бровями,
но и ушами, утверждая, что не только понимает, но
и сочувствует. — Ясно, лучше быть здоровым и сра-
жаться с ежом Мишкой (Тимошка насторожился) или
с Чапой (Тимошка весь напрягся при этих словах),
чем лежать в больнице с нервным истощением. А?
Татьяна-то Романовна права... И Семеновна права.~
Дети есть дети..-. Вот ты от этого совершенно избав-
лен... Вот так, Тимошка, у женщины биологическое
чутье, а?
Подняв голову, Тимошка безотрывно смотрел на
65
Васю; не выдержав Васиного пристального и долгого
взгляда, он неуловимо-грациозным движением отвел
голову вбок и вниз, словно, не находя ответа, сму-
тился. Засмеявшись, Вася ухватил Тимошку за гус-
тую нерасчесанную, спутанную шерсть, подтащил
к себе; Тимошка с готовностью заворчал.
— Ну, чего надулся? Дома Семеновна останет-
ся, Олег с Дашей. Весело будет, лето пройдет, не
заметишь... А там и мы с Татьяной Романовной при-
едем... Брось, Тимошка, не валяй дурака, есть, брат,
обстоятельства. Все должны чем-то жертвовать, со-
баки тоже. Ты думаешь, мне хочется уезжать? Еще
как не хочется, да надо...
Легкий, неслышный порыв ветра приподнял скво-
зящие занавески в окне, и в комнату влетела боль-
шая бабочка-махаон; Вася с Тимошкой стали внима-
тельно следить за ее бесшумным, резко меняющим
направление полетом. Тимошка, ожидая более опре-
деленной реакции Васи на непрошеное появление су-
матошного пятна, высвободив на всякий случай го-
лову из рук Васи, тоже водил носом вслед за ба-
бочкой. Утомившись и не отыскав выхода, махаон
большим резким пятном прилепился к матовой рако-
вине люстры. О нем тотчас забыли, потому что по-
явился расстроенный и даже злой Олег с насуплен-
ными бровями и красными пятнами на щеках. Едва
взглянув на него, Вася понял настроение сына, но
виду не подал, и Тимошка, бросившийся было запро-
сто поздороваться с Олегом и самозабвенно завер-
тевший хвостом, неуверенно ткнулся ему в ноги.
Рассерженный Олег был очень похож на Васю — та-
кие же длинные сильные брови, косым росчерком ухо-
дившие к вискам, такие же серые глаза в дремучих
ресницах, тот же упрямо сжатый большой рот, при-
дававший всему лицу сосредоточенно-твердое, отстра-
няющее выражение. Олег, затворив дверь, хмуро при-
валился к дверному косяку, не обращая внимания на
искательно засматривающего ему в лицо Тимошку.
1— Здравствуй, Олег,— сказал Вася. — Ого, сер-
дит-то! И не здороваешься...
- Я никогда не буду с тобой больше здоровать-
ся,— отчеканил Олег, и от собственной решимости
у него воинственно вспыхнуло лицо.
— Почему же? — удивился Вася, однако моргнул
и тут же, прикрывая свое смущение, потянулся про-
тереть глаза.
•— Вы с мамой обещали взять меня к морю? —
голос Олега почти оборвался на самой высокой ноте.
—- Ну, обещали...
•— Мама сказала, дело решенное.-
— Дальше, Олег...
-.И обсуждению не подлежит,— голос Олега
непростительно задрожал от обиды.
—* Мама еще что-нибудь сказала?
— Сказала... Мы с Дашей надоели вам и дома,
и она хоть мир увидит да вздохнет,— стараясь гово-
рить спокойно, Олег даже побледнел от усилия, но
это ему мало удавалось.
<— И дальше?
—- Нечестно же.-
>— Может быть, Олег,— понимающе вздохнул Ва-
ся и посмотрел на Тимошку, с усилием вслушиваю-
щегося в происходящий напряженный разговор; Ва-
ся сейчас искал у него поддержки, но Тимошка, до
конца не разобравшись в ситуации, хотя и почувст-
вовал затруднительное положение Васи, прикинулся,
что ничего особенного не находит; часто дыша, он
высунул язык, сделал вид, что обнюхивает ноги Оле-
га, ведь тот только что пришел из сада и мог при-
нести с собой кое-что интересное. И Вася, убедив-
шись, что со стороны Тимошки помощи ожидать не-
чего, опять обратился к Олегу.
’— Садись, Олег,— вздохнул Вася. — Давай по-
мужски поговорим... откровенно.
— Мы уже в прошлом году говорили, когда ты
меня в лесничество не взял.
— Ты же теперь вырос,— нашелся Вася, неожи-
данно наталкиваясь на спасительный берег.
Озадаченный, Олег вынул руки из-за спины, пере-
ступил с ноги на ногу, по собственному горькому
опыту он знал коварство взрослых; за будничными и
самыми скучными правильными словами у них часто
скрывался совершенно другой, неожиданный смысл.
— Ну, садись, Олег, садись...
Олег не сразу подошел, примостился на краешке
кровати; обрадованный явным примирением двух са-
мых близких ему существ, Тимошка тотчас решил
восполнить свое упущение и, встав на задние лапы,
потянулся и лизнул Олега в нос. Вася засмеялся,
довольный этой помощью и одобряя ее; Тимошка
всегда удивительно точно угадывал настроение Васи.
— Год много, пап, правда? — спросил Олег, изо
всех сил стараясь сохранить серьезность и направить
ход событий в нужное русло. — Я ведь теперь самый
тяжелый рюкзак смогу тащить.
— Конечно, сможешь... Давай только вопрос по-
вернем несколько иначе,— предложил Вася и, не до-
жидаясь возражений, продолжил:—Допустим, ты,
мама и я отправляемся к морю, затем в горы... так?
— Так...
— И оставляем в доме одних женщин...
— А Тимошка? — горячо прервал Олег, поняв-
ший, откуда повеяло опасностью. — Ты Тимошку не
считаешь?
— Тимошка, конечно, хорошо,— согласился Ва-
ся.— И все же представь себе ситуацию — Тимошка
заболел или с ним что-нибудь случилось... ведь мо-
жет с ним что-нибудь случиться? — не дождавшись
ответа, Вася развел руками, показывая, что он сам
огорчен не меньше Олега. — Всегда должен быть кто-
то третий, чтобы заменить в случае беды, прийти на
помощь, взять на свои плечи главную тяжесть,— го-
ворил Вася, сам страдая от несчастного выражения
на лице Олега, и, пытаясь отвлечь его от невеселых
мыслей, указал на люстру и на прилипшего махао-
на. Олег и глядеть не стал, недовольно сдвинув бро-
ви. — Потом, Олег, ты видел два засохших дерева у
озера? А по участку их сколько... Надо убрать, я
подбирался, подбирался к ним, да так и не успел.
Теперь ты уже можешь с ними справиться, будь
только осторожнее, когда дерево падает. Надо за лето
весь сушняк убрать и постепенно сжечь, а то нехо-
66
рошо... стоит умершее дерево. Зачем? Сколько в нем
вредителёй и болезней... заражает другие, здоровые...
— А ты скажи бабе Жене, чтобы она не меша-
ла,— уже примиряясь с положением дел, хотя не
сразу и далеко не радостно, пробурчал Олег. — Она
ведь и топор запрячет^,
— Я попрошу ее...
•— Ты ей серьезно скажи.
•— Хорошо, Олег,— улыбнулся Вася. — Что еще
говорила мама?
— Да... про тебя говорила.
Олег замолчал, продолжая переживать свое пора-
жение и жалея Васю; они были большими друзьями.
— Пап, а ты правда так уж болен? — не выдер-
жал наконец Олег; Вася хотел поначалу все обра-
тить в шутку, но Олег оставался серьезным, и Вася,
глубоко заглянув в его потемневшие страдающие гла-
за, обеспокоился и удивился мыслью, что сын дейст-
вительно за последний год сильно изменился и по-
взрослел; сфальшивить было невозможно.
— Наша мама героическая женщина,— сказал
Вася. — Она сама очень талантливая. У нее были
красивые решения, красивые работы. Только жизнь
не переупрямишь, Олег, в двух разных упряжках мы
бы не потянули. Вот мама и пожертвовала собой,
осталась только в моих разработках, а тут как тут
и вы с Дашей появились... Вовсе не до большой
науки стало, при нашем-то быте. Далеки мы еще,
Олег, от истинной гармонии. Я маму понимаю, ей со
мной нелегко, она яркая личность, вот потому мы с
тобой и должны быть чуткими в отношении мамы.
И прощать ей надо всякие там женские капризы, не-
ровности... Вот видишь, со мной срыв — гнал, гнал
без передышки... Я виноват перед мамой, только ведь
я мало что могу изменить...
— Зачем же менять? — опять нахмурился Олег,
изо всех сил стараясь понять в словах отца какую-то
скрытую неустроенность.—Мама ведь любила тебя...
— Почему — любила? — удивился и обиделся Ва-
ся.— Она и сейчас меня любит, и я ее люблю,— до-
бавил он, смущаясь своих слов и серьезного, пони-
мающего выражения лица сына. — От тебя, Олег,
сейчас многое зависит. Видишь, я свалился,— Вася
неуверенно развел руками. — Тяжести не могу под-
нимать, и все такое... Ненадолго, конечно, пройдет.
Подлечусь, и пройдет. Но сейчас в семье ты единст-
венный здоровый мужчина, на тебя сейчас одна на-
дежда, а то женщины растеряются, разохаются, жен-
щины, они такие. Им помогать нужно. Помоги маме
купить необходимое к отъезду. Поддержи ее. Еще я
хочу тебя попросить... Мы уедем, а ты, Олег, помни
о сестре, Даша не должна чувствовать себя одинокой
без нас. Конечно, она младше тебя и девочка, но
дело в другом. У нее нелегкий характер, а Евгения
Семеновна больше тебя любит, Евгения Семеновна
уже пожилой человек, ее уже не переделаешь, и ты
должен как-то незаметно подправлять их отношения...
Договорились? Что бы было все по справедливости.
Олег засопел, кивнул и отвел глаза; он придумы-
вал, как бы показать Васе свою готовность сделать
не только то, о чем просил отец, но в тысячу раз
больше, он любил Васю, и ему сейчас нестерпимо
хотелось потереться головой о его тяжелые руки, не-
привычно неподвижно лежавшие на белой простыне.
Положение спасла ворвавшаяся в комнату с отчаян-
ным визгом Даша; она, как всегда, словно свалилась
с неба, была растрепана, с полными ужаса глазами.
Остро переживавший такие ситуации Тимошка заин-
тересованно запрыгал вокруг нее, подняв оглуши-
тельный лай. Даша бросилась к Васе.
— Папа, папа, вор, вор! — кричала она. — У нас
на кухне вор! Из холодильника еду забирает, во-от
такая спина! Скорей! Скорей, пап!
Олег с хохотом свалился на кровать рядом с Ва-
сей и от восторга стал молотить воздух ногами; Ти-
мошка, не раздумывая, тоже заскочил на кровать,
перекрывая всех радостным лаем.
•— Да тетя Женя ночью приехала. Мы с мамой
поздно вечером ее встречать ходили на станцию! Вот
что!— смог наконец выговорить Олег.— Ну трусиха?!
Озадаченная Даша помедлила, затем топнула но-
гой и убежала сама удостовериться, а Вася с Олегом
заговорщически переглянулись.
С этого часа и вплоть до самого отъезда Васи с
Татьяной Романовной к морю в доме стояла кутерь-
ма, ни днем, ни поздним вечером не утихали ожив-
ленные хлопоты, укладывались и перекладывались
чемоданы, покупались рюкзаки, кеды, купальные при-
надлежности. Олег с Татьяной Романовной не один
раз ездили в Москву в магазины, затем покупки
дружно обсуждались на семейном совете. Татьяна
Романовна купила себе модный, очень открытый ку-
пальник. Примерив его дома, она вызвала восторг
Даши и неодобрение Семеновны; Семеновна со своей
привычной ласковостью в голосе ядовито заметила,
что уж приличнее совсем голым ходить, чем этими
полосками себя прикрывать, и Татьяна Романовна
с Васей утвердительно закивали в ответ; Олегу же
купальник понравился, и он его безоговорочно одоб-
рил.
Стояла хорошая погода, березы над озером шуме-
ли к вечеру от малейшего ветра, и если небо было
чистым, в глубине озера начинали копиться пред-
вечерние тени с их тайнами, шорохами и неожидан-
ностями. Из своей норы выбралась Чапа н, бес-
шумно выставив одни лишь глаза да усатый нос,
плыла к берегу, где росла сладкая осока, затем важ-
но возвращалась, уже с пучком травы во рту. Теперь
Чапа на всю ночь становилась полновластной хозяй-
кой озера; Даше категорически запрещалось подхо-
дить к воде в темную пору, Олег за долгий день
уставал от солнца и движения и рано засыпал, и
только один Тимошка неукоснительно обходил свои
владения и, заставая Чапу за добыванием корма,
спугивал ее ожесточенным лаем.
В сумерки на скамейке над озером часто сидела
Татьяна Романовна; она любила воду и отдыхала в
одиночестве. Если у Васи выпадали свободные пол-
часа, он присоединялся к Татьяне Романовне, и они
изредка, негромко переговариваясь, завороженные
тишиной, засиживались допоздна, до самого восхода
луны; но в последние дни перед отъездом времени
67
ни у кого не оставалось, даже Тимошке его не хва-
тало, и он прекратил свои ночные вылазки и не пу-
гал больше Чапу. В доме стали происходить разные
небывало интересные вещи, и особенно по вечерам, и
Тимошка, стараясь, по своему обыкновению, ничего
не пропустить, едва успевал обойти всех — и детей,
и Семеновну, и Васю с Татьяной Романовкой на
их втором этаже. Кроме того, чаще обычного
теперь звонил телефон, и Тимошке, тоже по давней
привычке, ставшей теперь его обязанностью, то и де-
ло приходилось мчаться в гостиную, садиться рядом
с телефоном и лаять. И хотя Тимошка порой делал
вид, что страшно устал и телефон ему осточертел,
втайне очень гордился этой своей обязанностью, и
особенно много слов признательности слышал он от
Семеновны; в последнее время Семеновна стала за-
метно слабеть слухом, и Вася все обещал ей достать
слуховой аппарат новейшей конструкции, почти неза-
метный. Вкуснее всего было, разумеется, у Семенов-
ны на кухне, веселее у Татьяны Романовны с Васей;
в последние дни на второй этаж совсем перекочевали
дети, и Тимошка не имел права ничего упустить из
происходящего в доме. Татьяна Романовна затеяла
шить себе и Даше ситцевые сарафаны; Семеновна
приходила руководить и отпускать критические заме-
чания; Тимошка добросовестно присматривал за все-
ми. Женщины оживленно обсуждали фасон и кроили
материю; Семеновна, давно уже открыто осуждавшая
Татьяну Романовну за то, что та морит себя диетой,
и на этот раз не удержалась. Но Татьяна Романовна
была в хорошем настроении, и обычной размолвки
между ними не получилось.
•— Ах, тетя, тетя! — весело сказала Татьяна Ро-
мановна.— Мы так мало знаем о самих себе, воз-
можности человеческого организма так малб изуче-
ны... Тетя, вам известно, что в нашей стране каждый
третий переедает? Ну, зачем скажите, лишний вес?
— Конечно, куда уж,— в тон ей отозвалась Семе-
новна. — Недаром теперь стали такие диетические,
где уж теперь рожать и кормить. Теперь уж грудью
не кормят, не-ет, куда! Теперь, не успел младенец
глазки открыть, ему в рот бутылку со смесью. Искус-
ственники все, отсюда и болезни. Искусственный век,
сплошь синтетика. Натуру перевели, скоро дети син-
тетические пойдут.
— Допустим, демографический спад имеет и дру-
гие причины, — Татьяна Романовна хотела продол-
жить свою мысль, но Даша, взявшись мастерить из
лоскутьев летнее платье для своей любимой куклы
и заслушавшись интересного, хотя и непонятного ей
разговора, больно уколола себе палец и разревелась.
Тимошка подошел и, утешая, полизал ее мокрые ще-
ки.— Ты, Тимошка, ей пальчик полечи,— сказала
Татьяна Романовна; Тимошка не понял или подумал,
что это совсем уж каприз. Он независимо отправился
к Васе; нацепив на нос большие роговые очки, Вася
читал газету, и Тимошка остался им доволен. Газета
в руках у Васи говорила Тимошке о хорошем, до-
машнем настроении у Васи. Тимошка хотел было
прыгнуть к Васе на диван, но вовремя вспомнил, что
рядом Татьяна Романовна: по странному женскому
68
капризу она сердилась на Тимошку за подобную
вольность. Оглянувшись на нее, Тимошка слегка
улыбнулся, высунув кончик языка и всем своим ви-
дом показывая, что ему куда приятнее лежать
на прохладном и чистом полу, чем на душном и
старом диване; скоро идущая от Васи волна покоя
усыпила Тимошку; он тоже должен был иногда-
спать.
В день отъезда с самого утра Семеновна приня-
лась печь пирожки на дорогу и жарить курицу и все
охала, что не успеет до шести часов, когда за Тать-
яной Романовной и Васей должна была прийти ма-
шина и отвезти их на аэродром. Тимошка, вставший
чуть свет вместе с Семеновной, ни на шаг от нее
не отходил.
— Ласковое у тебя сердце, Тимошка,— одобрила
Семеновна и дала ему кусочек вкусной мясной на-
чинки для пирожков. — Ешь скорей, а то увидят и
опять нас с тобой ругать будут. Пусть уж наша
Татьяна Романовна морит себя свёклой да морков-
кой, а для здоровья без мясного нельзя. Какой же
мужчина без мяса? Ткни пальцем — и упадет.
Тимошку не надо было упрашивать, он был пол-
ностью солидарен с Семеновной и, в отличие от Тать-
яны Романовны, не боялся пополнеть. Проглотив
начинку, Тимошка широко облизнулся и благодарно
повилял хвостом; за это ему тут же подбросили
куриное горлышко, предварительно макнув в соль.
Такое лакомство Тимошке доставалось нечасто, ой
вначале даже не поверил, затем осторожно взял
горлышко в зубы, оглянулся на Семеновну, словно
ожидая, не передумает ли она, и уж затем как-то
незаметно, боком-боком выскользнул из кухни й'
и унес нежную куриную шейку к озеру, чтобы там
насладиться ею в одиночестве.
За завтраком Даша успела стащить румяный пи-
рожок, чтобы тоже съесть его вместе с Тимошкой
где-нибудь в укромном месте, но Татьяна Романовна7
заметила и’ заставила ее положить пирожок обратно
на блюдо, заметив скучным голосом, что воспитан-
ные дети должны есть за столом.
И тут раздался настойчивый и долгий звонок; кто-
то пришел, и Тимошка с хриплым лаем понесся к-
калитке. За ним поспешил Вася в сопровождении Се-
меновны, очень любившей встречать гостей; тут, возле
калитки, лицо у Васи сделалось кислым, он даже не-
умел скрыть разочарования.
— А, ты, Яша, заходи, заходи,— вяло пригласив
он Полуянова, державшего в руке «дипломат» и рос-
кошный букет чайных роз.
Ребята на колесах, всего на несколько минут,
по пути,— торопливо поздоровался Полуянов; его
глубоко посаженные, странно разбегающиеся в раз-,
ные стороны глаза глядели сразу на Тимошку, на
Васю и на Семеновну. — Всем привет... Марина розы
послала Татьяне и еще кое-что на дорогу. Балычок
и там всякое такое по мелочи. Держи,— Полуянов
передал Васе розы, извлек из «дипломата» аккурат-
но упакованный в пергамент тяжелый пакет; его не-
спокойный левый глаз снова и снова останавливался
на Тимошке. Полуянов озадачился, что у него ничего
не припасено еще и. для Тимошки, и. огорченно, р.аз-
вел руками.
— Ничего не попишешь, брат, вышла осечка, те-
бе в другой раз,— пообещал он; подозрительно втя-
гивающий ноздрями воздух, Тимошка в ответ на его
слова отвернулся и пересел на другое место, подаль-
ше от калитки; он уже запомнил Полуянова и не
любил его; от Полуянова сочился какой-то особый
раздражающий запах; и всякое появление этого не-
приятного запаха оставляло после себя плохое на-
строение, хмурые лица и озабоченность, уж это Ти-
мошка хорошо знал по собственному опыту.
Проводив Полуянова, вышагивающего рядом с
Васей, неодобрительным долгим взглядом, Тимошка
молча отправился по своим делам. Полуянов был не-
приятный и скучный человек, на него даже лаять бы-
ло неинтересно. Но уже через несколько минут Ти-
мошка забеспокоился; он оставил Васю без присмот-
ра, наедине с человеком, внушающим глубокое не-
доверие, и защитить Васю, если что, будет некому.
Бросившись в дом, Тимошка застал Васю в волнении
и, тотчас заняв оборонительную позицию у ног хозя-
ина, предупреждающе заворчал на Полуянова, смот-
ревшего, по своему обыкновению, в разные стороны.
— Все, Яша, у меня чисто! — развел руками Ва-
ся. — Просто ничего готового больше нет. В моем
личном столе и сейфе совершенно пусто. И здесь,—
Вася шлепнул себя ладонью по лбу,— сплошной сквоз-
няк! Сквозняк, понимаешь? Хватит вам за глаза, вы
меня и без того обобрали до нитки. На два-то меся-
ца программы сверхдостаточно!
Полуянов выразил на своем лице сочувствие и,
взглянув на простые некрашеные полы кабинета, да-
же не застланные паласом, тяжело вздохнул.
— Вася! Василий Александрович!—сокрушенно
покачал он головой.— Не горячись! Вот нагнал ты
на всех страху! Конечно, работы на лето сверх голо-
вы. Сверхдостаточно! Это я так, к слову. Общий же
котел. Вот и сорвалось с языка.
— Знаю я вас! Первичную информацию сначала
обработайте, тогда и говорить будем. Дай бог, чтобы
успели к моему возвращению,— Вася заглянул в не-
спокойные глаза Полуянова и стал завязывать раз-
вязавшийся шнурок.
— Сделаем, Василий Александрович. А ты о заде-
ле все-таки подумай.
Пришла раздосадованная Татьяна Романовна, се-
ла в глубокое кресло в углу и стала молча слушать,
не принимая участия в разговоре; разговор между
старыми школьными друзьями шел в полуофициаль-
ном, подчеркнутом тоне; она не раз замечала, что
мужчинам доставляет определенное удовольствие эта
примитивная игра.
— Оставь ты его в покое, Яша,— наконец встави-
ла она. — Напрасно бьешься, он же удила закусил,
ты ведь его твердолобость не хуже моего зна-
ешь...
— Делу же, делу урон! — трагически воздел ру-
ки.Полуянов по£ настойчивым взглядом Татьяны Ро-
мановны.— Ты еще поймешь, какую глупость допу-
скаешь., карась-идеалист! Ты еще локти покусаешь.
Надо, Василий, брать в руки весь комплекс, пока не
поздно. Неизвестно ведь, старик, кто придет на смену
Морозову, даст ли он тебе заниматься чистой теори-
ей или заставит пахать на себя. У нас, старик, уже
физически не остается времени для нового разбега.
Ладно, ладно, молчу! Но учти, Василий, через пять
лет у нас с тобой другой разговор пойдет.
Тимошка опять угрожающе заворчал, и Полуя-
нов развел руками и окончательно сдался; они еше
немного поговорили с Васей о текущих делах и стали
прощаться. Полуянов пожелал Васе с Татьяной Ро-
мановной хорошего отдыха, теплого моря, счастливой
дороги и еше более счастливого возвращения.
Вася пошел проводить его до шоссе; вернувшись
и отчего-то развеселившись, он схватил Тимошку за
передние лапы, заставив его вместе с собой проваль-
сировать до террасы.
— Ты смотри,— серьезно сказал Вася, глядя в не-
проницаемую тьму преданных любящих глаз Тимош-
ки,— ты этого типа без нас на порог не пускай! Он—
среднеарифметическое. Он — всевидящее и всеобъем-
лющее. В любую щель пролезет и сухим выйдет.
Засунет в свой бездонный карман самое дорогое и
будет таков, ищи-свищи ветра в поле. Он и хоро-
ший, и добрый, но — в свою пользу, для своего же-
лудка. Знаешь, Тимошка, у воинствующей серости
самые универсальные желудки и самые бездонные
карманы. Понял?
Татьяна Романовна, стараясь подольше побыть с
детьми и попутно завершить необходимую воспита-
тельную программу, заторопилась с обедом; женщины
стали накрывать на стол. Даша, не любившая ника-
ких домашних обязанностей, на этот раз безропотно
разложила ножи, вилки и ложки и даже по-хозяй-
ски вытряхнула из хлебницы старые крошки воро-
бьям.
Обед прошел молчаливо и несколько грустно; за-
тем, после всяческих наставлений и распоряжений
Татьяны Романовны, разговор переключился на море,
на подводную охоту. Даша, еще не видевшая моря,
с загоревшимися глазами стала фантазировать о
дельфинах; тут неожиданно пришла машина, и, опо-
вещая об этом событии, залаял Тимошка. И дети и
взрослые переглянулись и немного расстроились; не
растерявшись, стараясь поднять общее настроение,
Вася фальшивым голосом запел песню о веселых ту-
ристах и хорошем настроении; Даша с Олегом по-
слушали и вяло засмеялись; Татьяна Романовна при-
жала к себе верткую Дашу и коснулась губами ее
пушистого затылка.
— Так быстро! Даже не верится, что уже пора,—
она сняла свои круглые в пол-лица модные очки в
прозрачной оправе с голубыми стеклами и, сразу ста-
новясь моложе и беспомощнее, близоруко сощурилась
на Семеновну. — Пора. Мы, тетя, на вас надеемся...
Главное, соблюдайте режим и Тимошку, пожалуйста,
не перекармливайте...
Останавливая Татьяну Романовну, Вася положил
ей руку на плечо; она послушно замолчала^
о»
— Ладно уж, ладно, — добродушно-понимающе
проворчала Семеновна, подпадая под общее настрое-
ние и намеренно оставляя слова Татьяны Романовны
без ядовитого ответа,
е—Что-то на этот раз тяжело очень...
•— А ты посиди еще на салаге да морковке, поси-
ди! Совсем ног таскать не будешь,—сурово пообещала
Семеновна.—Нервы не выдерживают глядеть на та-
кое изуверство^. Присядем на дорогу.
У Даши сделались испуганные и совершенно круг-
лые глаза. Отнесли чемоданы в машину, еще раз, по
напоминанию Семеновны, проверили деньги, докумен-
ты и билеты; перецеловались; Татьяна Романовна и
Вася попрощались с Тимошкой. Подавая лапу Васе,
Тимошка отвернулся, Тимошка вообще не любил про-
щаться; а сейчас, предчувствуя не обычную, рабочую
отлучку хозяина, а долгую, нескончаемую разлуку,
Тимошка переживал расставание очень тяжело. Вася
потормошил его, почесал за,ушами, но Тимошка не
мог даже заставить себя притвориться довольным и
хотя бы слегка, для приличия засмеяться.
Машина отъехала, Тимошка посмотрел на машу-
щего рукой тоненького и высокого Олега и ушел на
свое самое потаенное место, на дальний берег озера,
заросший густыми кустами. Его много раз звали —•
и Даша, и Олег, и особенно Семеновна, он же про-
должал безучастно лежать, положив голову на лапу.
Потом он заснул, и ему снилось, что Вася лежит с
ним рядом и разговаривает с ним, мягко теребя его
длинные уши, и от этого Тимошка радостно повизги-
вал во сне. Еще не открыв глаз, не проснувшись,
Тимошка насторожился; совсем рядом появилась
опасность, и Тимошка, еще ощущая большие руки
Васи, сел. В траве неподалеку шуршал еж Мишка,
день кончался, и солнце косо пробивалось сквозь
кусты; не обращая на ежа Мишку никакого внима-
ния, Тимошка встряхнулся и озабоченно побежал к
дому,
5
Для Тимошки Вася был совершенно особым от
всех существом, и даже если он на целый день ухо-
дил на работу или куда-нибудь далеко уезжал, он
постоянно присутствовал в мире Тимошки, как основ-
ная ось, центр, смысл и необходимость бытия. Ти-
мошка часто вспоминал о нем и начинал тосковать
по его рукам, по его запаху, по его голосу; только с
Васей у Тимошки связывалось ощущение настоящей
радости и полноты жизни. Рядом с Васей, и особен-
но когда тот бывал в хорошем настроении, Тимошку
одолевали приступы буйного веселья; показывая свою
ловкость и силу, он прыгал особенно высоко, особен-
но быстро брал самый слабый след. И скучал Ти-
мошка тоже по-своему: ни с того ни с сего он са-
дился, широко расставив передние лапы, опускал го-
лову чуть ли не до земли и застывал в таком поло-
жении надолго, и если кто-нибудь начинал подсмеи-
ваться над ним, он обижался и уходил с глаз по-
дальше. И еще в острые приступы тоски появлялся
на свет увесистый обкусанный кирпич. Тимошка та-
70
скал его в зубах по всему участку, устав, ложился,
клал между лап и неотрывно сторожил, словно боял-
ся, что обкусанный кирпич вскочит на ноги и удерет;
когда же тоска несколько ослабевала, Тимошка уно-
сил кирпич, осторожно взяв в зубы, словно живого
щенка, и прятал в одном ему известном месте.
Вечером после отъезда Татьяны Романовны и Ва-
си в доме, несмотря на хлопоты Семеновны, про себя
довольной наконец-то осуществившимся отъездом
племянника с женой, стало пусто и скучновато. Да-
ша капризничала по пустякам, поссорилась с Олегом;
тот вполне резонно обиделся и ушел наверх, в Васин
кабинет. Там он пристроился на открытом балконе
в старом плетеном кресле, сквозь деревья в сумерках
тяжело поблескивало озеро. В зелени еще возились
и перепархивали птицы, солнце уже село. Из-за гори-
зонта, окрашенного у самой земли ярко раскаленной
узкой полосой, еще вырывался сноп золотистых лу-
чей, пронизывающих одинокое, одно-ёдинственное во
всем небе, облачко ровным алым свечением, затем
лучи стали короче, потускнели и скоро исчезли сов-
сем. Над горизонтом еще чуть теплилось алое рас-
плывшееся пятно, но вот и оно исчезло. Олег поло-
жил голову на перила балкона, глядя в сгустившую-
ся чернильную синеву и представляя себе серебри-
стый самолет, летящий среди звезд в темном небе, и
Татьяну Романовну с Васей. Он их любил, и теперь
в груди как-то щемило и к глазам подступала преда-
тельская теплота, но было темно и никто бы не уви-
дел его минутной слабости. Дом сейчас ярко светил-
ся всеми окнами, свет с трудом раздвигал густую
вязкую тьму, затопившую сад, лес, озеро и всю ос-
тальную землю. Стали резче запахи цветов и тра-
вы, за прибрежные кусты зацепились одиночные кло-
чья тумана, и, наконец, преображая все вокруг, вы-
плыла совершенно круглая, сияющая радостным и
каким-то ненатуральным сиянием луна. Туман раз-
росся, застлал озеро сплошным мягким пологом, не-
слышно окутал березы, росшие на берегу, точно опу-
стились на воду невесомые, пышно взбитые облака,
посеребренные лунным светом. Несколько раз над
балконом бесшумно проносилась тень маленькой ноч-
ной хищницы — птицы неясыти, об этом Олег знал от
Васи. Услышав голос Семеновны, звавшей его вниз
смотреть телевизор, Олег сморщился, ему никуда не
хотелось уходить с балкона, но, чувствуя, что еще
минута-другая — и он расплачется, как девчонка, он
бросился к пианино, откинул крышку, и по дому вна-
чале сумбурно и хаотично, затем стройнее и мягче,
понеслись первые аккорды; дом в ответ как бы встре-
пенулся, ожил и затих. Олег снова и снова ударял
по клавишам и неожиданно услышал странный, жа-
лующийся звук, постепенно нараставший и закончив-
шийся низкими басовитыми протяжными нотами;
Олег от неожиданности резко крутанулся на вертя-
щемся круглом черном стульчике и увидел Тимошку,
высоко, по-волчьи задравшего косматую морду к по-
толку и тоскливо, обреченно выводившему свои не-
мыслимые рулады; перед ним на полу лежал обку-
санный кирпич.
—* Тимошка,— шепотом спросил Олег,— ты по В а-
се скучаешь? Как интересно, ну давай вместе...
пой!
Олег тронул клавиши, и вой, заставивший Семе-
новну у себя, в светелке схватиться за сердце,
Дашу в страхе зажать уши ладонями, с новой силой
разнесся по дому; глаза Тимошки зеленовато отсве-
чивали, в горле клокотала безысходность и отреше-
ние; Тимошка жаловался неизвестно кому, высказывая
свою жестокую на кого-то обиду. Вой оборвался на не-
мыслимо высокой ноте, Олег испугался и бросил иг-
рать; в дверях он увидел Семеновну с вцепившейся
в ее фартук Дашей, на лицах обеих было потрясение.
— Что такое? — тихо ужаснулась Семеновна.—
Одурели вы оба? Отец с матерью едва отъехали, а
они похороны затеяли! Ах, негодники! ах, обормоты!
ах,— некрещенные!—Семеновна раскипятилась, при-
няв Олегов с Тимошкой концерт близко к сердцу,
как личную обиду, и Даша, полностью ее поддержи-
вая, смотрела на брата с Тимошкой округлившимися
враждебными глазами.
Выплеснув свой испуг в обидных словах и убе-
дившись, что гнев ее достиг цели, Семеновна смяг-
чилась; еще поворчав для виду, а больше от внутрен-
ней неустроенности, она, часто моргая маленькими
серыми глазками в бесцветных ресницах, потащила
детей пить чай.
— Я творожную запеканку с изюмом испекла,—
сказала она. — Скоро и спать, почти одиннадцать.
В голове с утра шумит, как трактор работает, к не-
погоде, что ли? Как бы погода завтра не испорти-
лась. Так и есть, слышите?
Все, в том числе и Тимошка, услышали первый
долгий порыв ветра, деревья зашелестели и залопо-
тали, а старая рябина, росшая возле дома, стала
привычно тереться, сучьями о балкон на втором
этаже.
•— Дождик, дождик! — восторженно закричала
Даша, подбегая к дверям; в раскрытую дверь бал-
кона с веселым свистом ворвалась тугая волна вет-
ра, стеклянные сосульки на старой-престарой люстре
под потолком с тоненьким перезвоном закачались.
Ахнув, Семеновна бросилась закрывать балкон, по-
слав Олега проверить окна и двери по всему дому
и выключить лишний свет. Ветер уже дул напористо,
тумана над озером не было и в помине, березы гну-
лись, жалобно скрипели, от мостков в глубину озера
бежала крупная рябь. Охраняя Олега от злых, враж-
дебных сил, умевших коварно появляться в самый
неожиданный момент, Тимошка не отходил от него
ни на шаг, и в доме и на улице настороженно вслу-
шивался, ловя каждый шорох. Выйдя следом на
крыльцо, Семеновна забрала их в дом, и вскоре все
дружно сидели за столом, накрытым клетчатой си-
ней клеенкой в цвет абажура, достали пирожки с мя-
сом, творожную запеканку с изюмом и пили чай с
яблочным домашним вареньем; от каждого из троих
по очереди перепадало и Тимошке, уютно устроив-
шемуся под столом. От еды и позднего времени у
Даши слипались глаза, и она непривычно затихла.
<— А теперь зубы чистить и спать,— напомнила
Семеновна. — Скоро полночь, теперь и папа с мамой
скоро до места доберутся. Завтра утром позвонят или
телеграмму получим. Пора, пора ложиться...
— Я грозу буду ждать,— решительно заявила Да-
ша, стряхивая с себя сонливость и в подтверждение
своих слов подпирая щеку твердым кулачком.
Зная ее характер, Семеновна согласно кивнула.
— Жди, жди, Дашенька,— сказала она. — Ло-
жись в постельку и жди, мы с Олегом ложимся, за-
чем тебе одной сидеть в пустой комнате? А в по-
стельке веселее будет ждать, и Тимошку с собой
забери. Он тоже будет ждать. А как дождетесь, нас
с Олегом разбудите, мы тоже посмотрим... Ты даже
не раздевайся, поверх одеяла ложись.
Хитрая Семеновна добилась своего; через пол-
часа, убрав со стола и перемыв посуду, она, загля-
нув к Даше, улыбнулась; девочка крепко спала по-
верх одеяла, подложив под щеку крепко стиснутый
кулачок и сурово нахмурившись; Семеновна пока-
чала головой; за лето надо детей как следует откор-
мить и подправить, подумала она, а то Олег в рост
ударился, да и Даша не по годам длинная, из всех
платьишек выросла, вон как коленки торчат.
Семеновна не стала будить Дашу, накрыла ее
пушистым шерстяным пледом и, выключив свет, на
цыпочках вышла.
Утром, выйдя на крыльцо, Семеновна вдохнула
всей грудью острый утренний воздух, промытые,
чистые цветы переливались тончайшими оттенками
красок, деревья стояли в искрящейся радужной
росе, и озеро казалось особенно чистым и прозрач-
ным. Появился Тимошка и, извиняясь за опоздание,
виновато повилял коротким тщательно расчесанным
хвостом, протяжно, со сладким стоном зевнул, пока-
зывая узкий розовый язык и породистое черное нёбо,
и с удовольствием длинно потянулся. Он остался си-
деть на крыльце, а Семеновна, сбросив туфли, отпра-
вилась бродить среди яблонь, с наслаждением ощу-
пывая отвыкшей подошвой влажную, но уже успев-
шую прогреться траву. Придирчиво осмотрев яблони,
она перешла к вишням и черной смородине, прикиды-
вая виды на урожай. Сад был запущенный, и Семе-
новна жалела, что не выбралась раньше, весной, как
все добрые люди, не навела в саду должный порядок;
молодые только и занимаются своими бумагами, им
до остального дела нет, а из такого сада сколько
бы пользы можно было взять.
В светлое тихое утро душа сама собой радова-
лась неизвестно чему, и дело спорилось в руках у
Семеновны. Приготовив завтрак и упрятав гречневую
кашу доспевать под подушку, она собралась идти в
магазин за молоком и хлебом, наказав Тимошке
строго-настрого никуда не отлучаться, караулить де-
тей и дом (Тимошка, не раз уже выполнявший по-
добные поручения, но не любивший оставаться в оди-
ночестве, с видимой неохотой улегся на крыльце),
Семеновна с той же тихой радостью в душе вышла
за калитку. За детей она не беспокоилась, день со
сборами вчера был утомительный, заснули они поздно
и 'проснутся теперь не скоро. Можно не торопиться
и тихонько пройтись лесочком до магазина, полю-
боваться свежей зеленью, чистыми утренними кра-
сками; да, может, кто встретится по дороге из про-
шлогодних знакомых, она и платочек повязала но-
вый, ненадеванный, и танкетки надела тоже, скрипя-
щие новой кожей, в первый раз. На обратном пути
Семеновна все-таки заторопилась, пришлось постоять
в очереди за творогом, его редко привозили в па-
латку; и ближе к одиннадцати заволновалась, боясь,
что творога не хватит; тут же в несколько голосов
из конца очереди закричали и потребовали давать
только по килограмму в руки, и Семеновна, поддав-
шись общему настроению, тоже кричала и требо-
вала. Возвращаясь, она вздыхала от душевной не-
ловкости и угрызений совести за свою несдержан-
ность, впрочем, что удивляться и казнить себя, ка-
ких-нибудь десять лет назад молоко и яички круг-
лый год приносили прямо в дом; тогда в соседней,
через речку, деревне многие держали коров, а по-
том все сразу куда-то исчезло — и коровы, и молоч-
ницы. Мелькнувшая мысль, что дети встанут и
обязательно набедокурят, заставила ее ускорить шаг
и пойти напрямик, через молодой пахучий сосенник,
уже жаркий, наполненный душными испарениями
земли и хвои, и старой, уже опавшей, и молодой,
остро вспыхнувшей в первый месяц лета пушистыми
нежно-зелеными свечками на концах сосновых лап.
Семеновна на ходу незаметно задумалась, десять
лет проскочит незаметно, дети вырастут, поступят в
институт, начнется у них совсем другая, взрослая
жизнь, взрослые трудности; тут мысли Семеновны
перескочили на себя, на свою молодость и учебу в
техникуме, раз и навсегда оборванную войной; на
нескончаемую работу, работу, работу (другого не-
чего и вспомнить!) и, наконец, на пенсию...
Тихий, жалобный писк отвлек ее внимание, она
остановилась, шагнула с дорожки в сторону и уви-
дела под маленькой сосенкой, в глинистой промоине,
удивительно красивого, пушистого котенка, угро-
жающе выгнувшего спинку. Увидев Семеновну, ко-
тенок еще плотнее.прижался к сосенке и опять жа-
лобно, совсем по-детски мяукнул. У Семеновны,
больше всего на свете любившей детей и животных,
сжалось сердце; перед ней вырисовалась трагиче-
ская картина непроглядной ночи и одинокий жалкий
комочек, вцепившийся в сосенку; ей тут же предста-
вилось, как котенок подружится с Тимошкой, как
будут рады дети, и даже в груди потеплело от чув-
ства своей причастности к такому доброму делу.
— Ах ты, Жужа, ну иди ко мне, иди,— тихо и
ласково позвала она, одаривая маленькое дрожащее
существо первым пришедшим ей в голову именем.
Осторожно, чтобы не испугать котенка, Семеновна
протянула руку, взяла его и прижала к груди; она
чувствовала ладонью маленькое сильное сердце и,
успокаивая Жужу, погладила ее по спинке. Жужа
затих и закрыл глаза; домой Семеновна вернулась
совершенно счастливая. Встретив ее возле калитки,
Тимошка весело запрыгал вокруг, но тут его словно
что-то отбросило,, и пока Семеновна запирала ка-
литку, стараясь держаться к Тимошке спиной и не
показывать своей находки, Тимошка подозрительно
и усиленно внюхивался, стараясь определить, от-
куда появился ненавистный ему запах соседского
кота, воровавшего у него из миски остатки пищи,
а как-то даже сумевшего утащить припрятанную Ти-
мошкой косточку.^
Семеновна боком, боком, вызывая у Тимошки еще
большее подозрение, загораживая Жужу, прошла в
дом, защелкнула за собой дверь на задвижку и в
комнате у Даши, продолжавшей безмятежно спать,
опустила котенка на пол, торопливо- налила ему в
блюдечко принесенного с собой молока. Фыркая,
задыхаясь и захлебываясь от жадности, Жужа стал
лакать; на крыльце отчаянно залаял Тимошка, тре-
буя, чтобы его немедленно впустили в дом.
— Подождешь, подождешь, ничего с тобой не
сделается,— проворчала Семеновна, не двигаясь с
места, пока Жужа не отвалился от блюдечка; тогда
Семеновна взяла в руки теплый пушистый комочек
и посадила котенка на кресло-качалку, на вышитую
крестом подушку-думку. Тимошка залаял еще отча-
яннее и требовательнее; опасаясь, что он перебудит
детей, Семеновна вышла к нему.
— Ну, чего тебе? Что стряслось? Есть захотел? —
чуть сконфуженно спросила она самым невинным
голосом. — Сейчас я тебя покормлю, пора уже...
В дом-то не рвись без дела, в доме ничего хорошего,
дети спят, иди лучше к озеру, карауль свою Чапу...
Недоверчиво выслушав Семеновну, Тимошка по-
пытался протиснуться в дверь. Семеновна решитель-
но пресекла ему путь и сунула под нос миску с едой.
В это время и раздался восторженный визг Даши.
Растерзанная со сна, она влетела в кухню с расши-
ренными глазами.
— Тетя Женя, тетя Женя, у нас котенок! — точ-
но заведенная, прыгала на одной ножке Даша,
притиснув кулачки к груди. — Ой, какой красивый!
Пушистый какой, серый! Он у меня на качалке си-
дит!
— Сидит, и ладно, пусть сидит,— успокаивая ее,
улыбнулась Семеновна. — За молоком ходила, в лесу
подобрала, он потерялся. Его Жужей зовут...
— Пусть он у меня в комнате спит! — категори-
чески потребовала Даша. — Тимошка пусть с Оле-
гом, а Жужа со мной! Я первая увидела!
— Пусть с тобой,— согласилась Семеновна; забо-
тясь о справедливости, она упустила Тимошку, и тот,
пользуясь потерей бдительности, не замедлил про-
шмыгнуть в дом; в одно мгновение он уже был в
комнате Даши. Здесь он, в состоянии, близком к
остолбенению, обмер перед кроватью; перед ним,
выгнув спину дугой и распушив хвост, дерзко ши-
пело самое презираемое существо на свете. От такой
невиданной наглости Тимошка на какое-то время
просто окаменел, но уже следующим мгновенным
броском почти настиг котенка и только впустую
щелкнул челюстями. Жужа оказался проворнее, он
молнией взлетел по коврику над кроватью вверх, к
самому потолку, и там повис, вцепившись в бахрому
ковра, продолжая угрожающе шипеть и завороженно
глядя на Тимошку. Тот, подскакивая на задних ла-
пах и царапая стену, стараясь дотянуться до. непро-
шеного гостя, -чтобы расправиться с ним по заслу-
гам, оглушительно, на весь дом лаял;, прибежали
Семеновна с Дашей, за ними сонный Олег в одних
трусах. Семеновна охала, Даша кричала на Тимош-
ку и топала ногами, Олег с молчаливым удивлением
за ними наблюдал. Наконец пришедшего в неистов-
ство Тимошку удалось выдворить в сад, Жужу — ста-
щить из-под потолка. Разъяренный Тимошка стал с
отчаянным лаем носиться вокруг веранды.
— Вот не думала,— сокрушенно оправдывалась
Семеновна. — Такой яростный, надо же...
— Тимошка гордый,— хмуро возразил Олег с от-
цовской непреклонностью. — Он никогда не захочет
жить рядом с какой-то паршивой кошкой. Подума-
ешь, радость! Надо котенка кому-нибудь отдать.
— Гадкий! гадкий, гадкий! — зажав уши руками
и никого не слыша, твердила свое Даша. — Жужа
хороший... Надо их познакомить, вот! Заставить об-
нюхаться! Вот!
— Станет Тимошка с ним обнюхиваться! Он по-
родистый,— ухмыльнулся Олег. — Он твоего котенка
перекусит пополам!
— Ладно, всем завтракать! — вовремя спохвати-
лась Семеновна. — Умывайтесь, собирайтесь, успеем,
решим, может, правда они пообвыкнутся друг с
другом. А Жужу посадим пока на гардероб в гости-
ной, пусть пока там поспит.
Олег вышел в сад, нарочно открывая за собой
двери и демонстрируя свою полную солидарность с
Тимошкой. Тот не замедлил ворваться в дом и тща-
тельно обследовать комнаты и закоулки. Но Жужа
уже сладко дремал после всех передряг в полной
безопасности, на старинном фигурном черного дерева
шкафу, с высоким резным съемным верхом, в плете-
ной корзинке с обрезками от разного женского ру-
коделья. Тимошка, чувствуя непорядок, кружился
вокруг фигурного шкафа, но громко выражать свое
неодобрение не осмеливался; ходившая за ним по
пятам Даша тщетно пыталась его отвлечь и урезо-
нить.
— Тебе не стыдно? — спрашивала она укоризнен-
но.— Такой большой, а маленького стережешь. Нет
его, нет здесь, понял? Что он тебе сделал? Я с то-
бой дружить не буду! У-у, противный!
Понимая каждое слово Даши и нервно вздраги-
вая хвостом от незаслуженной обиды, Тимошка про-
должал усиленно принюхиваться к шкафу и, только
окончательно убедившись в своем конфузе и полном
бессилии сколько-нибудь изменить ход событий, вяло
прошлепал на нагретое солнцем крыльцо, напился
теплой воды из миски и, ни на кого не глядя и не
отзываясь на ласковые зовы Олега, и Семеновны,
растянулся на циновке у входа и стал грустно на-
блюдать за возней воробьев, густо заселивших все
удобные места под крышей дома, по-хозяйски дело-
вито сновавших туда-сюда в воздухе. Семеновна и
дети собрались в большой комнате с фигурным шка-
фом на совет и плотно затворили за собой дверь.
Оставшись один на крыльце, Тимошка почувствовал
себя окончательно покинутым. Он вспомнил тяжелые
и добрые руки Васи и его голос; был бы он сейчас
дома, все было бы иначе. Возбужденно привстав,
Тимошка оглядел берег озера и любимую Васину
скамейку; конечно же, Вася где-то рядом, прячется
где-нибудь и ждет, когда Тимошка его найдет.
Махнув через несколько ступенек с крыльца, Ти-
мошка обежал сад, берег озера, заглядывая за каж-
дый куст, не пропуская ни одного укромного места;
Вася мог оказаться везде, нельзя было допустить
небрежности, и Тимошка удалялся от дома кругами,
захватывая все больше сада и леса.
Тем временем в доме шел совет, Семеновна си-
дела за столом посредине, слушая то Дашу, то Оле-
га, и никак не могла решить, чью же сторону взять;
Тимошка помечется, помечется, да и привыкнет, по-
думала она, у ее старой знакомой собака вот уже
много лет жила в тесной дружбе с кошкой, ели из
одной миски...
— Котеночек больно хорошенький,— робко сказа-
ла она в свое оправдание. — Как бы в доме нарядно
и весело было...
— Их надо познакомить! — решительно предло-
жила Даша Олегу. — Ты будешь Тимошку держать,
а я Жужу к нему подпихивать, вот поглядишь, при-
выкнет. Тимошка добрый!
— А что, давайте попробуем,— согласилась Семе-
новна,— не зверь же он дикий, живет среди людей,
так пусть к человеческим законам привыкает.
Хмурый Олег, по-прежнему ни с кем не соглас-
ный, пошел за Тимошкой, и вскоре волнение в доме
достигло наивысшего предела. Кося вбок то на од-
ного, то на другого грустным круглым черным гла-
зом, Тимошка с недоверием уселся посредине ком-
наты— там, где ему и было приказано. Семеновна
крадучись, на цыпочках, приблизилась к шкафу, взо-
бралась на кресло и бережно, словно нечто драго-
ценное и хрупкое, сняла корзинку, подала ее нетер-
пеливо притоптывающей Даше. У Даши разгорелось
лицо, серые глаза потемнели от решимости. Она су-
нула в корзинку, и тут окончательно потрясенный
вероломством любимых ему людей Тимошка увидел
Жужу, и отвратительный, невыносимый запах хлы-
нул ему в ноздри.
— Сидеть, Тимошка! — скомандовала Даша, сама
опускаясь на колени, изо всех сил держа обеими ру-
ками напружинившееся, маленькое тельце. — Это
Жужа, слышишь, Жужа. Это твой друг, ты должен
его любить. Вам будет хорошо вместе. Слышишь,
Тимошка, не трогать! Нельзя! — Разговаривая, Даша
все ближе подносила котенка к Тимошке, и тот от
ненависти потерял способность двигаться. Он уже
понял, что от него требовали; неприятный, острый
запах нельзя было больше выносить, и Тимошка,
страдальчески сморщив нос, оглушительно чихнул.
Жужа от этого устрашающего звука, вырвавшегося
из ноздрей черного чудовища, вцепился в Дашу, до
крови расцарапал ей руки. Закричавшая от боли
Даша еще больше перепугала Жужу; по длинной
портьере котенок взлетел под самый потолок и от-
туда, устрашающе открывая рот, шипел па Тимошку.
Охнув, Семеновна заспешила за йодом в аптечку,
а Тимошка, укоризненно исподлобья взглянув на
73
Олега, упрекая его в недостойном обмане, опустив
хвост, понуро побрел к двери. Он давно знал, что
без Васи порядок в мире рухнул и ждать справедли-
вости было нечего. Прошло немало времени, прежде
чем в доме все кое-как улеглось, но это была только
видимость. День между тем катился своим чередом,
солнце заглядывало уже в самые укромные уголки
сада, вода в озере прогрелась до самого дна и напи-
талась солнцем.
Расстроенная происшедшим в доме по ее вине
раздором, Семеновна особенно тщательно взбивала
мусс на третье к обеду, она решила сегодня приго-
товить обед из любимых блюд ребят. В то же время
она ничего не упускала из происходящего в доме,
в любую минуту зная, где находятся и чем заняты
Даша с Олегом, а больше ей ничего и не нужно
было. Принесли наконец телеграмму от Васи с Та-
тьяной Романовной; обрадовавшись, Семеновна по-
старалась вокруг скупых, долетевших от теплого
моря слов объединить всех обитателей дома.
— Видите, как хорошо,— морщинки вокруг глаз
Семеновны совсем разгладились,— вернутся наши
папа с мамой загорелые, веселые.^ Все наладится.
Папа опять будет здоровым и сильным. Да, а где же
Тимошка? — с недоумением огляделась она по сто-
ронам; Тимошки, непременного участника всех важ-
нейших событий в доме, не было видно; Олег с Да-
шей, сразу позабыв недавнюю ссору, побежали ис-
кать Тимошку, в два голоса громко выкрикивая:
— Тимошка! Тимошка! Тимошка!
Скоро известные им любимые Тимошкины места
были проверены; Олег, вспотевший и исцарапанный,
махнул рукой и сел на отцовскую скамейку — напро-
тив мостков. Присмиревшая, с испуганными глазами
Даша робко примостилась с ним рядом. Как обычно
в трудную минуту, Даша во всем теперь полагалась
на брата; Олег чувствовал, что еще немного — и она
разревется. У нее уже и губы начали разъезжаться
в разные стороны.
— Ладно,— сказал Олег, сдвигая по-отцовски
сильные брови. — Надоест бегать — и найдется.
— А если нет? — Даша с трудом справлялась с
прыгающими губами. Собственные слова поразили ее
ужасом, и она разревелась; обкусывая веточку, Олег
молчал. Ему хотелось и пожалеть ее, ободрить, но
что-то мешало.
— Хватит тебе,— не выдержал он наконец. — Бу-
дешь знать теперь, как предавать старого друга..-
— Да-а, я хотела, чтобы они подружились,—
у Даши обильно капало из носа, — Я не знала, что
Тимошка такой...
— Вот теперь знай..*
— А если он совсем не вернется?
— Вернется,— не сразу сказал Олег. — А ты пе-
рестань реветь, а тб лягушки в озере подохнут...
— Почему? — искренне озадачилась Даша, в глу-
бине души всегда признававшая превосходство бра-
та и в трудные минуты прибегавшая к его защите
и авторитету.
— Вода станет соленой, от соленой воды подох-
нут..
74
— Тоже мне, задается,— хотела обидеться Даша
и не успела; подошла Семеновна, села рядом. Уте-
шая Дашу, да и сама стараясь обрести равновесие,
Семеновна погладила Дашу по голове. Любимая
скамья Васи с высокой дощатой спинкой (он сам
ее сделал в прошлом году) стояла в тени двух бе-
рез; веселое, щедрое солнце пробивалось сквозь
густую зелень, и даже у воды тяжело давил летний
полуденный зной.
— Вы бы искупались,— предложила Семенов-
на.— Обедать пора. Вода теплая какая, если бы не
моя поясница, и я бы с вами поплескалась... Ну,
милые мои цыплята, давайте, давайте, а то вон сон-
ные какие да кислые. Явится Тимошка, посердится-
посердится, да и придет. Спрятался где-нибудь от
жары,— неуверенно добавила Семеновна, стараясь
хоть как-нибудь ободрить детей. — Подумать только,
дожили, собаки стали какие обидчивые... Тимошка
сегодня даже от сахарной косточки отказался! Я ему
миску под нос толкала-толкала, а он и не смотрит....
расскажи кому, не поверит...
— Тимошка, он очень породистый,— сказал
Олег. — Я вам сразу сказал, ничего не выйдет с ко-
тенком.
Ни Семеновна, ни Даша не стали возражать; тут
же на скамейке, под полуденным солнцем решено
было отдать Жужу кому-нибудь из соседей; Даша,
в этот трагический момент готовая снова разрыдать-
ся, героически удержалась, хотя у нее стиснутые ку-
лачки от напряжения даже побелели. Искоса погля-
дывая на нее, Олег подтолкнул ее локтем.
— Давай, кто быстрей до того берега,— предло-
жил он, уже на ходу стаскивая майку. — А? Хо-
чешь?
— А я его нарисую!—тряхнула стриженой голо-
вой Даша. — На память! вот!
— Котенка? — догадался Олег, и в его серых, за-
тененных длинными ресницами глазах появились ве-
селые искры; сбежав на мостки, он головой вниз
бултыхнулся в сияющую голубизной воду. Строй-
ные отражения берез в озере заколыхались, раско-
лолись и пошли все более дробящимися кругами.
Семеновна порадовалась на разыгравшихся детей,
гонявшихся друг за другом и поднявших тучи вспы-
хивающих на солнце искр; но она все время не-
вольно оглядывалась, каждый раз в тайной надежде
увидеть сидящего рядом и благодушно посмеиваю-
щегося Тимошку; да и Олег, перевернувшись на
спину и глядя в бездонное высветленное зноем небо,
тоже думал в это время о Тимошке. Если Тимошка
к вечеру не найдется, нужно будет уговорить тетю
Женю поехать в Москву и дать объявление в га-
зету, решил он, и тому, кто отыщет Тимошку, по-
обещать сто рублей. Конечно, если бы папа с ма-
мой были дома, можно было бы пообещать и двести,
но сейчас где они возьмут столько денег? У него в
копилке едва сорок рублей наберется, если ее раз-
бить. Можно, правда, попросить нашедшего Тимошку
подождать, пока вернутся родители...
Слегка скосив глаза, Олег увидел засохшую бе-
резу и вспомнил разговор с отцом. Он тотчас под-
плыл к мосткам, выбрался из воды. Даша запро-
тестовала, она еще не набарахталась в озере; Олег,
не обращая на нее внимания, стараясь не сутулиться,
прошел в небольшую мастерскую под верандой.
Здесь у Васи был верстак и хранились всякие, нуж-
ные для дела, очень интересные вещи. Здесь были
слесарные и плотничьи инструменты, гвозди, банки
с краской, кисти, садовый вар, которым Вася лечил
деревья. Хранились здесь и пакеты с удобрениями,
висела на гвозде большая пила, стояли в углу ло-
паты, грабли и старая, выщербленная временем лю-
бимая Васина коса: Вася косил ею несколько раз
за лето, выкашивая выраставшую траву под ябло-
нями в саду и в овраге, и Олег, любуясь на его
экономные точные движения, мечтал поскорей вы-
расти и косить — и все делать точно так же, как
отец. Олег любил бывать здесь, в мастерской, и по-
могать отцу; сейчас он с неожиданной грустью огля-
дел покинутое Васей хозяйство и подошел к топо-
рам, лежавшим на своем месте на широкой полке.
Их было два, один большой, плотницкий, второй —
походный, легкий, он так и лежал в брезентовом
чехле, и его можно было тут же пристегнуть к поясу.
Олег взял плотницкий и, чувствуя его уверенную тя-
жесть, попробовал пальцем лезвие, как всегда делал
Вася. Он перебросил плотницкий топор в другую
руку, еще раз ‘взвесил его тяжесть; Олега уже тя-
нуло в мир взрослых, поэтому он выбрал большой
топор. Щурясь в дверях от яркого солнца, ударив-
шего прямо в лицо, он вышел в сад, у него теперь
было дело, и оно каким-то таинственным образом
связывалось с уверенностью, что Тимошка обяза-
тельно найдется.
У мастерской его караулила Даша, Олег нос к
носу столкнулся с ней.
— Ты зачем папин топор взял? — взрослым го-
лосом, подражая Татьяне Романовне, строго спро-
сила она; в ответ Олег с деланным равнодушием
хмыкнул и, стараясь держать плечи прямо, напра-
вился к озеру. — А я вот тете Жене скажу! — крик-
нула ему вслед Даша. — Подумаешь, задается! А я
вот что-то такое знаю, а тебе не скажу! — на всякий
случай постаралась задержать брата Даша, но Олег,
захваченный важностью предстоящей работы, отмах-
нулся от ее слов, а может быть, и не слышал их.
У засохшей березы, довольно высокой, с голой
без листьев вершиной и с начинавшими обламы-
ваться сучьями, он долго, до легкого головокруже-
ния, стоял, запрокинув голову, и глядел вверх; Оле-
гу стало жалко умершего дерева; рядом с ним вы-
сились живые, струящиеся молодой зеленью березы,
а вот эта, с простершимся вбок длинным суком,
тоже без листвы, с белой, но теперь уже тусклой
корой, почему-то взяла и засохла. Люди тоже уми-
рают, Олег уже знал об этом, он подумал о Васе, до
сердечного озноба ощутив заложенную и в нем са-
мом возможность исчезновения. Это был не страх,
а что-то глубже и сильнее страха; словно оцепенев,
потеряв возможность двигаться, не отрывая расши-
рившихся, потемневших глаз от березы, он почти
заставил себя взять топор и ударить по сухой дре-
весине. Дерево в ответ сухо вздрогнуло, удар топора
отдался во всем теле Олега; он замахнулся опять,
полетела кора, и открылась рыхлая, уже тронутая
разложением, изъеденная червями древесина туск-
лого серого цвета. Она вминалась и крошилась под
топором, и Олег, неумело, неловко, рубил и рубил.
Пот заливал глаза, топор тяжелел и тяжелел в ру-
ках и уже начинал от неловкого, недостаточно силь-
ного удара с пустым коротким звоном отскакивать
от березы. Олег по-прежнему не сдавался и, смахи-
вая пот со лба, опять принимался рубить. Услышав
чей-то испуганный крик, он сердито оглянулся и уви-
дел Семеновну с Дашей; Семеновна как была, так и
прибежала в засыпанном мукой фартуке, она от-
чаянно всплеснула руками:
— Святые угодники, да ведь я своей смертью с
вами не помру! Кто тебе позволил? Сейчас же пе-
рестань! Не дорос еще отцовским топором махать.
А если по ноге или руке? — причитала Семеновна,
отмечая про себя незнакомое взрослое, по-отцовски
упрямое, выражение на лице Олега, резкий излом
его сильных, густых бровей.
— Почему я должен отрубить себе ногу? — со
злостью огрызнулся Олег.
— А вот отрубишь, если не будешь слушаться,—
ехидно пообещала Даша, стараясь благоразумно
не отходить от Семеновны и быть подальше от
брата.
— Ябеда! — процедил Олег сквозь зубы. — Вот
погоди, получишь от меня! Попадись только!
— Олег! — сочла нужным вмешаться Семенов-
на. — Это еще что? Что за угрозы? Ты же взрослый
мальчик... А она маленькая, да еще девочка.
— А чего она везде суется? Пусть сидит и играет
со своими куклами,— буркнул Олег; услышав такое
оскорбительное предложение, Даша в первую се-
кунду даже задохнулась от возмущения, и крутану-
лась на месте, так что короткая юбочка ее платьица
раздулась колоколом, и, не помня себя и не видя
перед собой дороги, умчалась в сторону оврага,
густо поросшего орешником.
— Да что же это делается! — неизвестно кому
пожаловалась Семеновна. — Да где же здоровья мне
на вас набраться! Каждый коники свои выкидывает!
Да тут никаких нервов не хватит! Теперь Даша
подхватилась! Ищи ее теперь, спрячется где-нибудь,
до вечера просидит. Зачем только меня, старую, ноги
сюда принесли, зачем я согласилась.
— Ну, тетя Женя, будет вам! Никуда Дашка не
денется, знаю я ее, проголодается — прибежит.
— А ты тоже хорош! — напустилась Семеновна
на любимого внучатого племянника. — Больно ты
много знаешь, больно грамотный. Чем топором впу-
стую махать да сестренку дразнить, лучше пошли
бы Тимошку поискали по поселку, порасспрашива-
ли, пропадет ведь скотина бессловесная. Я виновата,
грех попутал, кто ж знал, что вы здесь все обидчи-
вые такие. К каждому со своим уставом.« Зря стол-
бом не стой, ступай лучше, ищи сестру.
Семеновна хотела еще что-то прибавить, не успе-
ла, раздался надсадный продолжительный треск.
75
Уже основательно подрубленная Олегом береза, оче-
видно, под собственной тяжестью, подломилась в
месте надруба и стала медленно, затем все стреми-
тельнее, падать и с шумным плеском рухнула в
озеро, подняв тучи брызг. Олег исполнил на месте
нелепый, воинственный танец; а из-за кустов одичав-
шей малины и орешника высунулась озадаченная
рожица Даши. Поколебавшись с минуту, Даша не
утерпела и присоединилась к Семеновне и Олегу,
как ни в чем не бывало разглядывая образовав-
шийся просвет на берегу. Семеновна, качая головой,
показала на всплывшее в воде дерево.
— Ну, и что же, горе-лесоруб, теперь с ней бу-
дем делать?
— А я в воде распилю и частями на берег вы-
тащу,— ответил Олег не слишком уверенно. — Толь-
ко сначала Тимошку найдем.
После обеда Олег с Дашей, необычно дружные
и молчаливые, исходили поселок, опросили встреч-
ных, обошли березняк и окрестные молодые, всего
года два посаженные рощицы сосняка, и все безре-
зультатно. Тимошки нигде не было. Уже в темноте
они долго сидели с фонариком на Васиной скамейке,
время от времени обшаривая кусты и поверхность
озера сильным пучком света от фонарика. Семе-
новна едва уговорила их вернуться в дом; Олег при-
лег на диван одетым, положив рядом с собой фона-
рик, а Даша еще долго, долго не спала, вскакивала
от каждого шороха в саду и подбегала к окнам. Се-
меновна тяжело вздыхала, но не мешала девочке,
у нее у самой на сердце лежал камень; на крыльце
она оставила еду для Тимошки; под конец усталость
и волнения прожитого дня сморили и ее. Дом погру-
зился в темноту, и все стихло; неяркая лампочка над
крыльцом бросала в сад размытый круг света и
лишь подчеркивала глубину короткого, душного по-
коя летней ночи. Да еще к жаре звенели кузнечики.
6
Вопреки ожиданиям и надеждам детей и Семе-
новны, Тимошка был далеко от дома; после всего
случившегося ему необходимо было отыскать Васю.
Он хорошо запомнил машину, увезшую Васю; сразу
же после того, как его оскорбили в лучших чувст-
вах, заставив терпеть присутствие котенка Жужи,
он через свой тайный лаз в заборе незаметно вы-
брался на улицу и, у гнув голову к земле, ища нуж-
ный ему запах, помчался к шоссе. Он знал, что имен-
но оттуда приезжают все машины, туда же они и
направляются из поселка, уединенно стоявшего в
лесу. Добежав до шоссе, он некоторое время сидел
и глядел на нескончаемый поток машин, несущихся
и в ту и в другую сторону, глаза его сделались туск-
лыми и затравленными. Правда, чувство движения
и глубинной конечной цели уже не могло исчезнуть,
и Тимошка, не раздумывая, побежал обочь дороги,
и побежал именно на юг. В ноздри ему била бен-
зинная гарь и отвратительная вонь разогретого ас-
фальта; из проносившихся мимо машин его многие
76
видели, и несколько раз даже сбавляли ход, а то и
останавливались, пробуя подозвать к себе. Тимошка,
ни на кого не обращая внимания, продолжал
бежать в раз и навсегда выбранном направлении;
и бег этот, непрерывный, без передышек, ни на что
не отвлекаясь, продолжался несколько часов. Не-
большой поселок, попавшийся на пути, заставил его
приостановиться, принюхаться; в нем уже проснулся
инстинкт опасности, недоверия. Но тут же он уловил
запах готовящейся пищи, он был голоден, его не-
одолимо потянуло на этот запах. Он осторожно во-
шел в приоткрытую калитку одного из дворов и,
приподняв одну лапу от напряжения, огляделся.
Было пусто, вокруг корыта с размоченным хлебом
суетилось с десяток крупных белых кур; увидев Ти-
мошку, петух с набрякшим и свесившимся набок
малиновым гребнем вскинул голову и возмущенно,
скорее всего неприлично выругался. Не обратив на
него ни малейшего внимания, как если бы его со-
всем не было, Тимошка, по-прежнему не упуская ни
одной мелочи, направился к корытцу и тихо, преду-
преждающе зарычал, даже припал на передние ла-
пы, сделав вид, что сейчас бросится и схватит одну
из этих глупых белых птиц. Куры с отчаянным ку-
дахтаньем брызнули в разные стороны; стараясь со-
хранить чувство достоинства, отбежал и петух и
стал громко совестить непрошеного гостя. Тимошка
сунул нос в корыто и, хотя пахло неприятно, как
попало стал хватать жидкое хлебное месиво, вдоба-
вок истоптанное курами, не выпуская из вида про-
исходящее во дворе. На крыльцо, тихонько приот-
крыв дверь, крадучись выплыла удивительно тол-
стая женщина; платье туго обтягивало ее объеми-
стый живот, короткие рукава фонариком впились
резинками в пышно буйствующую плоть, еще боль-
ше подчеркивая уродливую, неестественную полно-
ту. Тимошке это, разумеется, было все равно, его
насторожили крадущиеся движения женщины. Ба-
лансируя руками, встряхивая жирным подбородком,
выражая на лице какое-то елейное умиление, тол-
стая женщина на цыпочках спустилась по скрипу-
чим ступенькам и маленькими шажками тихонько
продвигалась к калитке. Оскалив желтоватые клыки,
Тимошка зарычал и в одно мгновение оказался ме-
жду толстой женщиной и калиткой.
— Батюшки! — ахнула женщина, боязливо оста-
навливаясь. — Бо-обик, Бо-обик, Бо-обик,— медовым
голосом позвала она Тимошку. — Собачка, милень-
кий мой, ягненочек, да ты что? Иди, иди собачка,
я тебе косточку дам... Во-от такую! Ну, чистый ягне-
ночек... аж курчавится от черноты... Каракульча, чи-
стая каракульча! Какая шапка выйдет... А то и
две... Бобик, Бобик, мяса хочешь?
Наклонив голову, Тимошка вслушивался в голос
толстой женщины, и он ему явно не нравился; сто-
ило толстой женщине двинуться с места, с намере-
нием подобраться к калитке обходным путем, Ти-
мошка зарычал громче, теперь уже показывая клыки
более основательно.
— Паша! Паша! — опять замерев на месте, по-
звала кого-то толстая женщина через забор. — Подь-
ка сюда! Скорей!
Из-за плотно сбитого забора выглянула еще одна
женщина, кокетливо повязанная косынкой, Тимошка
на всякий случай зарычал и на нее.
—• Ну что ты, Ань? — неожиданно весело отклик-
нулась Паша в косынке. — Что у тебя стряслось?
— Паша, Паша, послушай,— понизила голос тол-
стая женщина. — Глянь, кобелек какой ко мне во
двор забежал. Видать, потерялся, сейчас из /Чосквы
их много таких навезли, породистых.<
— Ну так что тебе, Ань?
— Ты со своей-то стороны подступись потихоньку,
калитку захлопни,— почти шепотом попросила тол-
стуха.— Со двора он у меня не выскочит, Федор
придет вечером, мы его тут и приберем. Шапка-то
какая будет? А то и две! Чистая каракульча! Я бы
сама его шпокнула, да веришь, ружья боюсь, ве-
ришь, с гвоздя на гвоздь перевесить боюсь. А Фе-
дор вернется, тут же кобелька прищелкнет. Мех-то
ныне все дорожает. Шапки мужские уже за триста
перевалило. Слыхано ли дело, такую прорву денег
за шапку. По прежним деньгам цельная шуба. Паш,
помоги, я тебя отдарю! В долгу не останусь.
~ Ух ты, живодерка! — пуще прежнего развесе-
лилась Паша. — И не жалко тебе? Такого красавца!
Чего их жалеть, их теперь битком, на каждой
даче, даром только мяса переводят, скотина беспо-
лезная. Делать людям нечего, с жиру и бесятся. Вот
повкалывали бы на солнцепеке с наше, на клубнике,
от зари до зари, потаскали бы ее на базар, дурь в
голову бы и не полезла. А то попридумали: выстав-
ки, медали! Слыхала осенне-весенние выставки спе-
циально для таких кобелей делают, вот для ихней-то
породы, кобели отдельно, сучки отдельно.
— А хозяин найдется? На него небось и доку-
-мент имеется.
— А кто видел? Ты не видела, я не видела, зна-
чит, и не было ничего.
— Так-то оно так,— засомневалась Паша в ко-
сынке.— А что дашь? — все же поинтересовалась
она на всякий случай. — Слушай, а воротничок жем-
чужный отдашь? Страсть, как мне нравится...
— Отдам, отдам! — обрадовалась толстая жен-
щина.— И водки поставлю, скорей только, Паша,
милая... Ну, скорей же, уходит... Куда, собачка, ку-
да ты, милая? Подожди, подожди, ах ты, напасть!
Никогда мне не повезет!
Не поспевая на своих коротких, точно обрублен-
ных ногах, вслед за Тимошкой толстая женщина вы-
валилась на улицу, с силой рванув калитку, но
Тимошка уже был далеко; он бежал теперь обратно,
ему нестерпимо хотелось домой, к Олегу и Даше,
к теплым, вкусно пахнущим рукам Семеновны. До-
рога назад оказалась проще, и все-таки Тимошка
добрался до места уже глубокой ночью. В доме
спали. На крыльце он нашел свою миску, но здесь
уже раньше побывал соседский кот и, конечно же,
выбрал все до последнего кусочка и даже миску с
водой осквернил ненавистным запахом. Уставший
Тимошка обежал дозором вокруг дома, ведь это
была его прямая обязанность, все было тихо; наве-
дался он и к озеру и всласть напился. Чапа шеле-
стела в прибрежных зарослях; Тимошка не стал с
ней воевать, а вернулся на крыльцо, поскреб дверь
лапой и изо всех сил прислушался, недоверчиво по-
нюхав щель в дверях. И дети, и Семеновна, тоже
измотанные за день беготней и переживаниями, креп-
ко спали, и дом, оберегая их покой, сумрачно мол-
чал. Тимошка сбежал с крыльца и под окном дет-
ской пару раз негромко, настойчиво тявкнул, про-
сясь в дом. Никто не отозвался, но все было спо-
койно, все были на местах и, подождав немного,
Тимошка отправился в дальний конец участка; там,
заросшая густым кустарником, бурьяном и мхом,
уже много лет догнивала принесенная в особо силь-
ное половодье коряга. В одном месте она изгибалась
и образовывала уютное, защищенное со всех сторон
укрытие. Здесь Тимошка любил отдыхать в жаркие
дни, сюда же забирался, если ему становилось скуч-
но, здесь же чаще всего прятал он свой заветный
кирпич. Сегодня за день он так намаялся, что, едва
протиснувшись под корягу, сразу же закрыл глаза
и провалился в сон.
Теплая, с высоким небом и яркими звездами ночь
плотно обступила Тимошку своими многочисленны-
ми запахами и шорохами; Тимошка же ничего не
слышал и спал. Не видел Тимошка и бесшумно
поднявшуюся луну, и проступившие из темноты за-
серебрившиеся деревья. На середину лунной дорож-
ки выплыла Чапа и стала беззвучно играть в воде,
кувыркаться, переворачиваться вверх светлеющим в
лунном свете седым брюшком,— полнолуние всегда
оказывало на нее магическое возбуждающее дейст-
вие. Чапа скользила по поверхности воды убыстря-
ющимися кругами, нескончаемое количество раз вы-
ныривала столбиком, стараясь держаться лунной до-
рожки, перекувыркивалась и продолжала движение
в обратную сторону. Она словно исполняла ритуаль-
ный танец. Это был танец благодарения, исполняе-
мый в свой час любой жизнью на земле, и зверем,
и птицей, деревом и рыбой, скромной травинкой и
самым незаметным муравьем. Чапа ничего нового
не открывала; зов лунной ночи властно притягивал
ее, проникая в каждую клеточку ее тела, и, на-
сквозь пронизанная серебристым сиянием, охвачен-
ная со всех сторон слепящим холодным пламенем,
она растворялась в нем, став его неотъемлемой
частью. Бесконечно и бесстрастно лился лунный
свет, и ничто не нарушало таинства совершаемого
обряда.
Измученный за день рухнувшими на него пере-
живаниями, Тимошка крепко спал. Уже перед корот-
ким, бесшумным летним рассветом он стал повизги-
вать во сне; ему приснился котенок Жужа, и Ти-
мошка, не открывая глаз, усиленно задвигал ноздря-
ми, глухо заворчал от возмущения. Котенок пропал,
и запах его исчез; Тимошка успокоился, погружаясь
в теплый, уютный мрак, но вскоре опять послыша-
лось его неспокойное повизгивание, теперь ему при-
снилось, что Вася рядом, большая Васина рука у
него, у Тимошки, на голове; в знак горячей призна-
77
тельности Тимошка потянулся лизнуть Васе подбо-
родок и проснулся окончательно.
Солнце взошло; рядом с носом Тимошки лежал
заветный кирпич, Тимошка глубоко втянул в себя
несущий множество самых разных запахов и вестей
резкий утренний воздух, с удовольствием с протяж-
ным стоном зевнул, вылез из своего укрытия, шумно
всем туловищем потянулся, встряхнулся и обмер.
В двух шагах от него нахально и совсем по-хозяйски
возился в траве еж Мишка, От вчерашних пережи-
ваний, от долгого напрасного многочасового бега в
поисках Васи, от его отсутствия, от сосущей пустоты
в желудке Тимошка проснулся в необычном для
себя агрессивном и мрачном настроении. Он злостно
бросился на ежа, стараясь ухватить его за нос, но
еж Мишка, отыскивающий в раннее благодатное
время вкусных червей, расползшихся в сырой траве,
молниеносно свернулся клубком, зафыркал и, под-
прыгнув, в свою очередь весь напрягся, чтобы уко-
лоть Тимошку. В одно мгновение отпрянув, Тимошка
припал к земле и стал ждать. Еж Мишка, озада-
ченный необычностью неожиданного утреннего напа-
дения, лежал клубком, не шевелясь; терпения ему
было не занимать. Лишь минут через десять он чуть-
чуть расслабился и высунул из-под колючек кончик
носика; неслышное дуновение воздуха над землей
донесло до него запах хорошего гриба, росшего где-
то неподалеку, где-то рядом с выросшим грибом за-
таилось и птичье гнездо. Но враг был рядом, и еж
Мишка опять замер, он давно знал, что Тимошка
самый обыкновенный бездельник и преследует его,
вечно занятого и кормящегося тяжелым трудом, про-
сто так, от вздорности характера. Тимошка не ел
ни червей, ни жуков, ни лягушек, тем более грибов,
и им по сути дела нечего было делить.
Совершенно неожиданно еж Мишка, развернув-
шись упругой пружиной, сделал несколько движений
в сторону соблазнительного запаха и опять так же
мгновенно свернулся в тугой клубок. Тимошка при-
поднял голову и ошарашенно заморгал; еж Мишка
оставался, как ему показалось, неподвижен и все же
сдвинулся несколько левее. Опустив голову на лапы,
Тимошка опять с напряжением принялся караулить
каждое движение своего врага. Через несколько ми-
нут Мишка повторил маневр — неуловимо выбрав мо-
мент, он, просеменив с полметра, молниеносно свер-
нулся в клубок и замер. На этот раз Тимошка не
позволил себе дремать; в ответ на жульничество
ежа угрожающе припал на лапы и ожесточенно за-
лаял, но через минуту еж Мишка опять передвинул-
ся в нужном ему направлении. С подобным ковар-
ством ежа Тимошка сталкивался впервые; уже чув-
ствуя свое поражение, он теперь не лаял, а лишь
понуро переходил за ежом Мишкой на новое место,
ожидая, что же последует дальше. Добравшись до
гриба, плотного трехдневного боровичка, уже темно-
голового, с уходящей в травянистую землю крепкой
толстенькой ножкой, еж Мишка свернулся плотным
клубком и, казалось, умер; свою законную добычу,
находящуюся теперь совершенно рядом, он не усту-
пил бы ни за что. Тимошка подождал, подождал и,
не видя ничего для себя интересного, показывая, что
ему совершенно безразличен и еж Мишка, и его па-
костные проделки, равнодушно, с хрустом зевнул. За-
тем привычно поднял ногу у старой березы и затру-
сил к дому, успевая на ходу узнать множество но-
востей, хотя все они были второстепенными и не
требовали глубокого и подробного изучения. В воз-
духе стоял дружный гул шмелей и пчел; над зеле-
ным ковром травы беспорядочно мелькали разно-
цветные бабочки, над озером дрожали, поджидая
добычу, большие зеленокрылыё стрекозы.
Тимошка вихрем налетел на Семеновну, отворив-
шую дверь на маленькую летнюю веранду; от ра-
достного изумления она даже выронила глубокую
тарелку со взбитыми сливками для лакомого блюда,
называемого кокпуфтель (даже ученый Вася,
сколько ни старался, не мог докопаться до проис-
хождения диковинного, на немецкий лад, слова, по
уверению Семеновны, она сама изобрела и назвала
сладкое блюдо). Тарелка разлетелась вдребезги, ее
содержимое растеклось по полу веранды, но Семе-
новна даже не обратила на это внимания.
— Тимошка, негодник! — Семеновна сморщилась
от переполнявших ее чувств всем своим маленьким,
похожихМ на печеное яблоко, лицом; Тимошка запры-
гал вокруг нее, восторженно повторяя: «ах! ах! ах!_
ах!», энергично пытаясь лизнуть ее в лицо; Семе-
новна от подступившей слабости опустилась на сту-
пеньку, они дружески обнялись, и Тимошка, выра-
жая крайнюю степень восторга, энергично облизал
ей щеки и подбородок, продолжая повторять свое:
«ах! ах! ах!» Несколько успокоившись, Семеновна
привстала и подложила под себя дощечку — сту-
пенька была холодной и сырой от росы; Тимошка
не отводил глаз от ее сморщенного лица.
— А я стою, готовлю кокпуфтель,— сказала
Семеновна,— а у самой руки трясутся. Ну что я
Васе скажу, коли ты, Тимошка, пропадешь совсем?
Услышав дорогое имя, Тимошка оглянулся и, не
обращая внимания на вкусные, густо растекавшиеся
по полу сливки, бросился к полуоткрытой двери в
дом, и не успела Семеновна задержать его, ударом
лапы открыл дверь в комнату Олега и бросился к
его кровати, весело помахивая хвостом. Олег спал,
лицо у него было напряженным и беспокойным,
он видел удивительный сон; догоняя Тимошку, он
только-только выбрался из дремучего леса с синими
стволами деревьев и ярко-желтой листвой.
Тимошка рванулся к нему поздороваться и в по-
следнюю минуту передумал; Олег лежал по-преж-
нему с закрытыми глазами, а будить детей по утрам
не разрешалось; Тимошка, высунув от волнения
язык, тяжело и часто подышал и, прежде чем успела
подоспеть Семеновна, отправился проведать Дашу«
Замерев у порога, он с грустной ненавистью смотрел
на котенка Жужу, выгнувшего спину дугой на кро-
ватке у девочки и беззвучно шипевшего в устраше-
ние Тимошки — сама Даша, так же как и ее брат,
крепко спала. В порыве радости от встречи с обо-
жаемыми существами, ставшими еще дороже после'
пеоежитого дня и чеоноты ночи, Тимошка совсем
* А
78
забыл о существовании отвратительного и презирае-
мого котенка Жужи, и вот теперь тот опять топор-
щился и шипел, наглядно доказывая Тимошке ковар-
ство и неразумность жизни.
Появилась запыхавшаяся Семеновна и трагиче-
ским шепотом позвала Тимошку из комнаты; опу-
стив голову и стараясь не глядеть на нее, Тимошка
повернулся, опустил хвост и понуро вышел. Семе-
новна не успела захлопнуть перед ним дверь в сад.
Тимошка протрусил к озеру в сопровождении угова-
ривающей его Семеновны, спустился на мостик и лег,
положив голову на лапы. Семеновна на мостки не по-
шла, а устроилась на любимой Васиной скамейке,
сторожа каждое движение Тимошки.
— Что же ты такой злопамятный, Тимошка? —
укоризненно покачала головой Семеновна. — Тебя
любят, и ты должен других любить. Разве коте-
нок— не божья тварь? Не капризничай, иди домой,
я тебе косточек припасла с хрящиком, сладкие... Ну,
пошли, Тимошка, пошли, чего тебе тут лежать?
Тимошка, разумеется, слышал каждое ее слово;
подтверждая свое внимание к словам Семеновны,
он шевелил бровями и ушами, хотя короткий
хвост, верный признак неверия и меланхолии, оста-
вался опущенным. Семеновна продолжала уговари-
вать и звать Тимошку, но он все глубже и глубже
погружался в колдовской мир озера, где деловито
сновали вверх и вниз бесшумные рыбы и черные
жуки, с коричневыми подбрюшьями, ленточно изви-
вающиеся пиявки и прочие многочисленные водяные
обитатели. Больше всего притягивала Тимошку чет-
ко проступившая в зеркальной воде голова с боль-
шими висячими ушами, удивительнейшим образом
похожая на такого же, как Тимошка, черного пу-
деля, от которого совсем не пахло собакой и во-
обще ничем не пахло, кроме тины и запахов озера.
Тимошке хотелось нырнуть в воду и потрогать стран-
ное, зыбкое существо, он даже потянулся к своему
отражению, хотел дотронуться до него, замочил ла-
пу; вода в озере пошла мелкой рябью, отражение
раздробилось и исчезло. Это повторялось каждый
раз, и теперь опять надо было сидеть и долго
ждать, когда похожее на него существо, не пахнущее
собакой, снова появится в воде и начнет нахально
дразнить Тимошку своей недосягаемостью.
— Тимошка! Тимошка! — от дома по бетонной
дорожке к озеру вихрем промчался Олег, кубарем
скатился к мосткам и, обхватив Тимошку за шею,
стал целовать его в морду, в прохладный, влажно
чернеющий нос; барахтаясь, они свалились на выбе-
ленные солнцем, жарко нагретые доски.
— Тимошка, а ты дулся,— пожевала губами Се-
меновна, глядя на их счастливую возню. — Видишь,
как все тебя любят. Вам, собакам, сейчас хорошо
живется, не то что людям. Вон мне соседка по квар-
тире нахамила, вредит на каждом шагу, а я с ней
здороваюсь. Боюсь, еще больше повредит. Обивку на
двери порезала, а валит на хулиганов. А я точно
знаю — она! Нужна моя дверь каким-то хулиганам,
корысти для них моя дверь! А я здороваюсь,,. А тебе
что? Тебе, Тимошка, хорошо, тебя любят, тебе рады.«
счастливый ты пес...
Не помня себя от восторга, Тимошка, перемахнув
через Олега, вынесся в сад и, как при Васе, сделал
несколько кругов вокруг одной из яблонь, привольно
раскинувшейся неподалеку от кустов черноплодной
рябины и родившей почти каждый год вкусные крас-
нобокие яблоки. В отличие от остальных, эта яблоня
имела собственное, уважительное имя, данное ей
Васей; в доме ее только так и называли: «Дарья
Ивановна». «А Дарья Ивановна опять цветет!» —
радовались дети весной, а взрослые осенью говорили:
«У Дарьи Ивановны опять полно яблок!» Тимошка
с Васей раз и навсегда избрали «Дарью Ивановну»
объектом своих каждодневных игр и разминок,
и вот сейчас Олег, совсем как Вася, азартно бро-
сился ловить Тимошку; сделав неожиданный ска-
чок, Тимошка ускользнул в последний миг из рук
Олега; набегавшись до черноты в глазах, оба пова-
лились на траву. Давая понять, что игра кончена,
Тимошка примиряюще подбежал к Олегу и лег ря-
дом, высунув язык и тяжело дыша. И тут же вско-
чил, кинулся к показавшейся на крыльце Даше; уви-
дев мчавшегося к ней Тимошку, Даша ойкнула и
остановилась, вспомнив, что держит на руках котен-
ка. И Тимошка остановился как вкопанный в трех
шагах от Даши; для этого ему пришлось пустить в
ход все четыре лапы, упираясь ими в землю, про-
ехаться по зеленой траве.
— Опять ты эту мерзкую Жужу нянчишь! —
осуждающе крикнул Олег. — Иди, отнеси ее в дом,
скорей!
Даша опрометью вернулась в дом, бросила ко-
тенка на кровать и метнулась на крыльцо; не обра-
щая внимания на заискивающий, несчастный голос
Даши, опустив голову и хвост, Тимошка протиснулся
в тень под скамейку и затих, и сколько его ни уле-
щали дети и Семеновна, больше не отзывался.
— Мы же договорились отдать Жужу,— сказал
Олег. — Бабушка Панина берет... Почему ты опять
с ним носишься? Тимошка совсем перестанет нам
верить и уйдет. Кончай реветь, бери котенка и уноси.
— Я не реву,— сказала Даша, вытирая слезы.—
Мне обидно... у бабушки Паниной нос всегда крас-
ный... Она вечно сморкается... знаешь, как обидно..,
И у нее всегда кислым пахнет, Жуже там плохо
будет.
— Даша! — строго сказала Семеновна. — Что та-
кое ты говоришь? Как можно так неуважительно го-
ворить о старом, больном человеке? Как тебе не
стыдно?
— А это не я говорю! Это4 Вовка Заяц.#<
— А знает твой Вовка, что у бабушки Паниной
погибли на войне два сына и муж? — совсем тихо
спросила Семеновна.
— Все равно обидно отдавать ей Жужу,— не сда-
валась Даша. — Жужке там скучно будет...
— А Тимошке, думаешь, не обидно? — стоял на
своем Олег.
— Ладно, ладно,— примиряюще вмешалась Се-
меновна,— Надо Тимошку; покормит^ он же со вче-
79
рашнего дня голодный. Косточку хочешь, Тимошка?
Раньше при упоминании о косточке Тимошка вся-
кий раз приходил в радостное волнение, широко и
вкусно облизываясь; теперь же он даже не повернул
головы.
— Хорош гусь, а? — обиженно спросила Семенов-
на неизвестно у кого. — Сахарной косточкой его не
уговоришь. Характер, как у отставного генерала!
Взяв Тимошку за ошейник, Олег потянул его
из-под скамейки, Даша изо всех силенок подталки-
вала сзади, Семеновна поставила перед Тимошкой
еду в миске; там действительно красовалась све-
жайшая мозговая косточка, с розоватыми остатками
мяса. Тимошка не выдержал и незаметно, как ему
показалось, самым кончиком языка облизнулся.
— Ешь, ешь, Тимошка! — елейно уговаривала
Даша, присев на корточки и преданно заглядывая
Тимошке в самые глаза; каким-то неуловимым обра-
зом, как умел только он, Тимошка грустно скосил
черный глаз на Олега; тот стоял в стороне, хму-
рился и молчал. Отвернувшись от миски с едой,
Тимошка лег и положил голову на лапы. Даша вы-
тащила косточку из миски и подложила ему под са-
мый нос; чуть отвернув голову в сторону, Тимошка
продолжал лежать, но Даша упрямо, по-взрослому
сжав губы, опять подтолкнула ему косточку к носу.
— А ну, ешь немедленно! Противный пес! Вот я
тебе! Ешь! — крикнула она сердито и топнула ногой.
Затравленно глянув на Олега и тяжело вздохнув,
Тимошка ползком перебрался на другое место; Даша
опять передвинула к нему косточку.
— Сейчас же перестань мучить животное! — не
выдержал Олег, ударом ноги вышибая косточку из-
под Тимошкиного носа; она отлетела и упала в
траву далеко от крыльца; Тимошка с благодар-
ностью слабо вильнул хвостом и затих.
— А, так вы сговорились? Ты, Тимошка, всегда
за Олега! Я сама не буду с вами больше разговари-
вать. Вот! — решила Даша и в подтверждение своих
слов запрыгала на одной ноге, норовя топать громче
возле самого носа Тимошки.
Не вмешиваясь в перепалку детей и не говоря
никому ни слова, Семеновна незаметно вошла в дом,
взяла котенка, завернула его в фартук и вышла
другим ходом из дома за калитку. Вернувшись че-
рез четверть часа назад как ни в чем не бывало,
она принялась хлопотать на кухонной веранде и по-
звала детей завтракать.
— Я тоже не буду есть! — спохватившись, ска-
зала Даша. — Тимошка не будет, и я не буду... вот
пусть, возьму и ему назло умру от голода... Я даже
за стол не сяду!
Насмешливо хмыкнув, Олег набрал себе полную
тарелку пышных горячих оладьев, полил их распу-
щенным сливочным маслом. Глядя на быстро исче-
зающие оладьи, Даша от обиды прерывающимся
голосом заявила, что раз ее никто не любит, то и
она никого не любит, она, как Тимошка, тоже уйдет
из дому. Семеновна покачала головой, подошла к
ней и прижала к себе; Даша сопротивлялась лишь
для виду и уткнулась в теплую грудь Семеновны,
- Маленькая ты глупышка,— ласково сказала
Семеновна. — Как это тебя не любят? Тебя здесь
любят. И братик, и я, и Тимошка. А котеночка ба-
бушка Инна уже унесла, пришла и унесла, мы же
так вчера решили. Ты, Дашенька, всегда можешь
пойти и поиграть с Жужей. Теперь Тимошке и со-
всем незачем на нас дуться... Давай кушать оладьи,
пока горячие...
После такой новости Олег и Даша, вскочив из-за
стола, бросились искать котенка, забегали по дому,
захлопали дверями; Даша не знала, плакать ей или
радоваться, Олег же стал звать Тимошку. Тот нехо-
тя появился в дверях, и Олег строго сказал ему:
— Нет больше никакого котенка, ясно? Ищи где
хочешь и прекрати голодовку! Ясно? Ищи, если не
веришь! ищи! ищи!
Отлично поняв, что от него хотят, Тимошка под-
нял голову и посмотрел на корзинку на шкафу;
Олег быстро вскочил на кресло и сбросил корзинку
на пол. Тимошка вначале попятился, затем издали
внимательно обнюхал ее. Ему было неловко от все-
общего внимания, он не слышал больше ненавист-
ного запаха и знал, что котенка в доме нет, но из
вежливости ходил из комнаты в комнату и прове-
рял, от него ни на шаг не отставали Даша с Оле-
гом. Семеновна, уставшая от кутерьмы, вышла по-
сидеть на крыльцо; глядя на сверкающие под солн-
цем просветы воды в яркой зелени, она задумалась,
греясь на солнышке, о своих годах, об оставшихся
в живых подругах... Тоже ведь время надо выбрать
навестить, а много ли его осталось, времени? Да и
дети теперь пошли какие-тр странные, и собаки...
Тот же Тимошка, порой так и мерещится, словно
и не пес это, а тоскующий дух, так и рвется из
своей лохматой шкуры что-то высказать, и хотя
все это, надо полагать, старческая ересь, а иногда ду-
мать дальше и страшно, и боязно, и сердце заходится.
Прерывая мысли Семеновны, из дому выкатилась
шумная компания; и Олег, и Даша, и Тимошка —
все в чудесном настроении. Почувствовав, что на-
пекло голову, Семеновна пошла в дом за соломен-
ной шляпой. В этот момент часто зазвонил телефон,
Семеновна взяла трубку и обрадовалась — звонил
Вася. Позвав детей, Семеновна дала им поздоро-
ваться с отцом — у Васи с Татьяной Романовной
все шло отлично, по бодрому голосу Васи это было
понятно. Сказав Васе, что и с детьми и дома все в
полном порядке, и чтобы Вася с Татьяной Романов-
ной хорошенько отдыхали, Семеновна увидела Ти-
мошку, широко и сладко облизывавшегося после
сытной еды.
— И Тимошка вам кланяется,— весело сказала
Семеновна; дурного настроения у нее как не бывало^
— Как он, Тимошка? — спросил Вася далеким,
непривычным голосом.
— Хорошо,— слукавила Семеновна. — Хочешь с
ним поговорить?
— Давай, давай,— потребовал Вася, и Семенов-
на приложила трубку Тимошке к уху.
— Здравствуй, Тимошка,— сказал Вася,— ты ме-
ня слышишь?
80
Вначале Тимошка опешил.
Сидел
неподвижно;
что-то смутное и знакомое уже подступало к нему.
— Ох ты, дуралей, дуралей! — ласково сказала
Семеновна. — Это же Вася, слышишь, Вася!
Тут все засмеялись; Тимошка завертел хвостом,
быстро глянул на Семеновну, понюхал трубку и
слабо лизнул ее. Теперь он узнал, хотя и сильно из-
мененный Васин голос. Вася и раньше не раз вот
так забирался в трубку, в эту холодную и неприят-
ную штуку — и говорил из нее не своим, далеким
юлосом, но Тимошка все равно узнавал его и лю-
бил; он и сейчас, даже вздрагивая лапами от напря-
жения, заставил себя сосредоточиться, вслушиваясь
в далекий, странный Васин голос, здоровающийся с
Тимошкой, и, безмерно радуясь тому, что слышит
наконец его, на всякий случай неуверенно тявкнул.
Даша от восторга захлопала в ладоши, а Олег
нахмурился, сдерживая улыбку.
ч
Случилось это в самую жаркую пору лета, во
второй половине июля. Вначале установилась необы-
чайно жаркая погода, а затем пришла большая
гроза, и после нее почти неделю, с редкими, душ-
ными от испарений, просветами, лил небывалый
дождь. Вода бежала по всему саду и лесу, улицы
поселка превратились в речки, а озеро в конце не-
дели приподняло любимые Тимошкины мостки, вы-
шло из берегов и затопило сад и часть оврага; бе-
резы теперь стояли по колено в воде. Семеновна
перепугалась, потому что вода начинала подступать
к самому крыльцу; в магазин нельзя было пройти,
а в доме кончились продукты. Вода вынудила и ежа
Мишку покинуть свои любимые заросли и перебрать-
ся в самое высокое место сада — он нашел себе вре-
менное убежище под густым кустом черноплодной
рябины; от сильного дождя на поверхность выползло
много больших жирных червей, и еж Мишка был
сыт и даже доволен. Для Чапы наступили блажен-
ные дни; воды прибыло невероятно, почти весь сад
превратился в озеро, никто ее не пугал, и она на-
едалась сладких, сочных улиток, появившихся в саду
в невероятном количестве. Тимошка от дождя отси-
живался в доме, он много спал, играл с детьми или
вспрыгивал в Васино кресло, стоявшее у окна на
втором этаже, и подолгу глядел на текущие по стек-
лам окна потоки воды и вслушивался в глухой, не-
прерывный шум дождя.
За эту ненастную неделю Вася дважды забирался
в телефонную трубку, и Тимошку всякий раз подзы-
вали поздороваться; теперь, как только телефон на-
чинал звонить, Тимошка опрометью мчался к нему;
он теперь даже изменил своей давней привычке
спать в коридоре, возле лестницы, ведущей на вто-
рой этаж, и перебрался в гостиную, под столик с те-
лефоном. Надо для справедливости заметить, что
звонок телефона Тимошка слышал из любого уголка
дома, и даже из сада, но ночью он спал теперь
только под столиком с телефоном — так он был
ближе к Васе и мог не бояться пропустить его по-
явления в удивительной трубке.
Неожиданный недельный дождь, начавшийся с
грозы небывалой силы, сначала привел всех в во-
сторг, на третий же день в доме стало скучно. Как
это бывает, испортился от грозы телевизор. Решив
заняться его настройкой, Олег лишь только больше
все разладил; Семеновна категорически запретила
ему прикасаться к телевизору. Даша, ревниво прини-
мавшая к сердцу каждый успех брата, успокоилась
и принялась купать своих кукол; она снимала с них
одежду и, приоткрыв окно, совала их под льющиеся
с крыши потоки воды, затем просушивала им длин-
ные волосы и мастерила самые замысловатые при-
чески. Тимошка сидел рядом и внимательно следил
за ее действиями.
Самое же интересное началось на пятый день; де-
ти проснулись рано и тотчас услышали ровный, не-
прерывный шум дождя. Зевнув, Олег перевернулся
на другой бок, но больше не спалось.
— Ты спишь? — спросил он Дашу.
—т Нет,— сказала Даша и села в кровати.— Я
всю ночь плыла по реке с мамой и папой. На боль-
шо-о-ой лодке! — как можно шире развела она ру-
ки. — Во-от на тако-ой! Под большим зеленым зон-
тиком.
— От дождя приснилось,— уверенно сказал
Олег, — Такой удивительный дождь! Можно сделать
плот и из нашего озера поплыть прямо в Тихий
океан или в Африку. Сейчас вся земля в воде. А в
Тихом океане есть тропические острова, там живут
обезьяны, попугаи и крокодилы...
— И черные, черные людоеды,— добавила Даша
с округлившимися от захватывающей фантастической
картины глазами. — Они всех жарят на большом
желтом костре...
— Глупости! — совсем по-взрослому отрезал
Олег. — На тихоокеанских островах людоедов боль-
ше нет, они остались лишь в Африке, да и то их
совсем мало. В прошлом году там один президент
съел своего министра, они почему-то поссорились...
— Врешь, врешь,— обиделась Даша. — Я уже не
маленькая, а ты мне, как раньше, врешь...
— Я вообще не вру, я сам слышал, папа маме
рассказывал,— горячо возразил Олег. — Помнишь, он
в командировку летал? А когда прилетел, рассказы-
вал, а я ненарочно услышал,- Ты не думай, я не
подслушивал.
В это время в дверях появился Тимошка, поздо-
ровался и внимательно посмотрел сначала на Олега,
затем на Дашу, всем своим видом говоря, что нехо-
рошо начинать такой скучный день без его участия.
— И Тимошку можно посадить на плот,— сказала
Даша, еще переживавшая недавнюю историю с ко-
тенком и потому всякий раз неосознанно слегка за-
искивая перед Тимошкой. — Он бы нас от крокодила
охранял, он знаешь какой!
Подтверждая ее слова, Тимошка преданно улыб-
нулся и положил голову на кровать, Даша почесала
ему за ухом. Тимошка закрыл глаза и засопел от
удовольствия, теперь примирение было полным. Да-
ша чмокнула Тимошку прямо в прохладный нос,
опрокинулась в кровати навзничь и заболтала
ногами. Тимошка громко залаял. На шум пришла Се-
меновна, обмотанная вокруг поясницы большим шер-
стя н ы м п л ат ком.
— Доброе утро, дети,— зевая, сказала Семенов-
на.— А с тобой мы уже здоровались,— остановила
она с готовностью бросившегося к ней Тимошку.—
Всю ночь нс спала. Совсем поясницу разломило,
места не нахожу, такая сырость. Шутка ли, неделю
льет как из ведра. Сейчас вас покормлю, и придется
все-таки идти в магазин. Ни хлеба, ни масла, ни
сахара, ни молока. А может, уже и магазина ника-
кого нет, дождем смыло...
— Яс тобой пойду,— решительно заявил Олег,—
Одной столько нести... Папа не велел.
— С кем же у нас Даша останется?
— С Тимошкой...
— А я не .маленькая! — вскинулась Даша. — Я
одна останусь, пусть Тимошка с вами уходит.
— Конечно, ты большая, Даша,— примирительно
заметила Семеновна. — Но дома тоже кому-то нуж-
но оставаться. Добро стеречь. Как без Тимошки! По-
том, Олег — мальчик, он больше донесет, .мне из-за
поясницы тяжелого не поднять...
Даша, со скукой глядевшая в запотевшее окно,
ничего не ответила; за завтраком все вяло ели греч-
невую кашу с остатками масла, пили жидкий, по-
следний чай. Тимошка тоже получил свою порцию
гречневой каши и, мгновенно до блеска вычистив
миску, деловито обошел всех, озабоченно ожидая
добавки.
После долгих сборов и наставлений Даше вести
себя хорошо, никуда не выходить из дому, не про-
студиться и быть примерной девочкой Семеновна с
Олегом ушли. Даша, перебежав в другую комнату
и прильнув к окну, подождала, пока Семеновна с
Олегом выйдут за калитку. Под непрерывными по-
токами дождя и брат и Семеновна стали быстро
уменьшаться, несмотря на большой черный зонтик в
руках Семеновны, и скоро совсем растворились в
дожде. Даша еще подождала немного и начала со-
бираться. Она взяла из шкафа свой прозрачный
плащ с капюшоном, натянула его на себя, затем
в свою красивую плетеную сумочку, подаренную
ей в прошлом году Татьяной Романовной в день
рождения, положила из домашней аптечки
бинт, пузырек с йодом, сунула несколько шоколад-
ных конфет, случайно оставшихся от вчерашнего
ужина.
Пришел Тимошка и с явным подозрением при-
нюхался; почувствовав его недоверие, Даша присела
перед ним, взяла его голову в ладони и требова-
тельно посмотрела ему в глаза.
— Ты, Тимошка, пойдешь со мною,— строго ска-
-зала она. — Олег и тетя Женя домой вернутся из
магазина, а мы с тобой будем далеко, мы с тобой в
Африку поплывем. У Олега мы ружье возьмем, бу-
дем с тобой охотиться, жарить добычу и есть.
В сопровождении Тимошки Даша прошла в ком-
нату брата и вооружилась там ружьем, стрелявшим
82
пистонами, и вдобавок прихватила перочинный но-
жик, деловито опустив его в карман плаща.
Закончив приготовления к далекому и трудному
путешествию, Даша почувствовала страх, но раски-
сать себе не разрешила; вспомнив, что перед отъез-
дом папы с мамой все на минутку присели, она то-
же примостилась на краешек стула в гостиной и
приказала Тимошке сесть рядом. Тимошка сел, за-
драв черный нос, усиленно принюхиваясь.
— Ну, посидели, и хватит,— решительно сказала
Даша. — Нам, Тимошка, уже пора, пошли.
Тимошка, хотя и не любил дождя, с готовностью
встал и двинулся к двери; и вот тут сердце у Даши
екнуло, глаза округлились, какое-то неосознанное,
щемящее чувство утраты даже выдавило у нее сле-
зы на глаза. Часто дыша, Даша усиленно поморга-
ла. Ничего, утешила она себя, мы ведь ненадолго.
Поймаем с Тимошкой маленького попугайчика и сра-
зу же назад. Или лучше обезьянку. А еще мы при-
везем целый плот самых вкусных бананов и больших
кокосовых орехов. И тогда пусть любой дождь идет
хоть целый год.
Успокоив себя таким образом, Даша в сопровож-
дении Тимошки вышла на крыльцо и плотно притво-
рила за собой двери. И тут она увидела, что вода,
выступившая из пруда, разлилась по всему саду и
подступила уже к черноплодным рябинам, росшим
неподалеку от дома; дождь продолжался, и перед
глазами висела сплошная и ровная водяная завеса;
дом гудел от непрерывных потоков, и сад гудел;
дождь был спокойный, теплый и большой. Стоя на
крыльце, под защитой навеса, Даша еще медлила.
Разлившаяся по саду вода кипела от дождя, и от-
важное Дашино сердце бешено стучало от собствен-
ной решимости. Кроме того, у большой яблони —
«Дарьи Ивановны» — смутно маячили мостки, со-
рванные поднявшейся водой — великолепный плот,
целый корабль,— Даша увидела их из окон террасы
еще во время завтрака. Теперь только нужно было
как-то добраться до них, оттолкнуть от яблони и по-
плыть навстречу Тихому и ждущему океану, и Даша
решилась. Прихватив стоявшую на крыльце крепкую
палку, принесенную Семеновной для хождения в не-
погоду, Даша спустилась с крыльца и в сопровож-
дении Тимошки двинулась к мосткам. Вначале воды
было мало, затем она дошла Даше до колен, под-
нялась до пояса; Тимошка, шлепавший следом, ско-
ро уже плыл. Даше стало страшно, хотя мостки бы-
ли уже рядом, Даша, сопя, легла на их край живо-
том и, молотя ногами по воде, кое-как вскарабкалась
на сбитые вместе, прочные доски. Тимошка одним
рывком оказался рядом с ней и, борясь с непрерыв-
но падавшими сверху потоками воды, несколько раз
яростно отряхнулся, затем сел и, словно спрашивая,
что же будет с ними дальше,, посмотрел на совер-
шенно промокшую до последней нитки Дашу. Дождь
весело шумел в листьях яблони, вокруг все по-преж-
нему кипело от дождя, деревья стояли грузные, на-
полненные доверху водой.
Чувствуя под собой непривычную- и ненадежную
опору, Тимошка осторожно подобрался к Даше,
ткнул ее носом и, тихонько повизгивая, предложил,
пока не поздно, вернуться назад, в сухой и теплый
дом. Даша сразу поняла его, но впереди ждал
океан, и не всегда же будет идти дождь, это Даша
уж* знала по собственному опыту, у них были и
бинты, и йод, и конфеты; Даша, сердясь на Тимош-
решительно оттолкнулась концом палки от яб-
локи. Мостки под ней неожиданно легко двинулись,
и Даша от неожиданности хлопнулась на колени;
от радостного чувства начала океана она подняла
захлестываемое дождем лицо к небу и засмеялась.
Тимошка плотно прилип к доскам, боясь потерять
равновесие, и Даша решила наградить своего вер-
ного спутника; конфеты в сумочке уже успели раз-
мокнуть, и Даша, зачерпнув сладкого липкого ме-
сива горстью, дала полизать Тимошке, затем поли-
зала сама. Приподнявшись на колени, она постара-
лась достать палкой дно; мостки тихо, незаметно
увлекаемые появившимся слабым течением, уже
медленно плыли по озеру, и Даша дна не достала.
«— Ну вот, Тимошка,— сказала она очень серьез-
на,—мы вышли в открытый океан. Теперь гляди, а
то может появиться акула... и проглотит тебя, а за-
тем меня, Знаешь, какие они злющие...
Мостки продолжали тихонько, чуть заметно пока-
.иваясь, куда-то двигаться, и Тимошку больше все-
го беспокоило именно это; он не выносил неуверен-
ности. Неба не было видно, оно, казалось, начина-
лось с обвисших над озером берез; густой и сочный
шелест дождя сливался с веселым шумом озера. От
такой первобытной мощи бесстрашного сердца Да-
ши коснулось чувство какого-то озноба, почти во-
сторга; время тянулось бесконечно, и теперь Даша
не могла даже вспомнить, когда она выбралась из
дому и сколько длится ее путешествие. Границы сме-
стились, и дом, и сад, и время, и Олега, и Семенов-
ну размыл и растворил в себе дождь. Даша вдруг
напугалась, представив,- что никогда больше не вер-
нется в родной сухой дом в саду, не увидит Олега,
папы с мамой, Се.меновны. Даша хотела заплакать
и несколько раз шмыгнула носом, но из-за дождя
слез все равно не было видно.
— Ой, тропический ливень, Тимошка,— мужест-
венно сказала она, захлебываясь от дождя и нап-
расно стараясь сгрести с лица льющуюся воду.—
Дождь теплый, теперь скоро необитаемый остров.
Тимошка, Тимошка, ты чего молчишь? — спросила
Даша.— Ты должен лаять, Тимошка,—потребовала
сна,— а то мы столкнемся с каким-нибу. пират-
ским кораблем. Голос, Тимошка, голос!
Тимошка сидел, уныло свесив нос ~амым до-
скам, иначё он не мог — сильный дождь заливал
ему и глаза и ноздри.
— Тимошка,— опять жалобно попросила Даша,—
голос же, голос!
Не поднимая головы, Тимошка, словно поняв ее
страх и желание услышать что-нибудь живое, кро-
ме сильного и непрерывного шума дождя, неловко
оберегая глаза от хлещущих сверху потоков, боком
посмотрел на нее.
— Ав! ав! ав! — выдохнул он из себя, не скры-
вая своего недовольства и осуждения; и никто бы
на его месте не понял, почему нужно было сухой и
теплый дом предпочесть плаванию на сомнительных
досках, да еще в такую погоду. Тимошка теперь да-
же не пытался отряхиваться, это было бесполезно.
Он давно бы мог спрыгнуть с мостков и за две-три
минуты очутиться дома; к его чести, нужно заме-
тить, он даже не подумал об этом, его удерживало
врожденное чувство порядочности и долга.
Дождь, казалось, усилился, хотя сквозь низкие
тучи почувствовалось невидимое солнце, стало душ-
но и трудна дышать, и во всем вокруг слегка обо-
значилось движение к какой-то перемене. Ощутив
ее первым, Тимошка, встав на ноги л укрепившись,
несколько раз ожесточенно отряхнулся, подмостки
задрожали, заходили ходуном. Даша округлила гла-
за и застыла. Из-под нависшего над водой густого,
никогда не виданного Дашей дерева с длинными
мохнатыми листьями показалась устрашающе длин-
ная морда какого-то чудовища. Даша потерла глаза
и увидела самого настоящего крокодила с пучегла-
зыми глазами, с коротко торчавшими лапами по
бокам... Недолго думая, крокодил распахнул глубо-
кую. как яма, пасть, и Даша, заставив Тимошку
опять вскочить на ноги и напрячься, отчаянно за-
визжала, упала ничком на мостки и прикрыла голо-
ву руками. Плот, покачиваясь, медленно полз под
деревьями, Тимошка молчал, и только по-прежнему
слышался теперь в чем-то изменившийся шум дож-
дя. Даша решилась незаметно повернуть голову и
открыть один глаз. В мглистом сиянии дождя, в по-
хожей на туман водяной пыли над самой поверх-
ностью озера Даша увидела тупорылый конец чер-
ного бревна.
Здесь и началось самое страшное; мостки, вле-
комые образовавшимся течением воды из перепол-
ненного озера, глухо обо что-то стукнулись, слегка
накренились, и Даша, не успев ни о чем подумать,
скатилась в воду. Она закричала, захлебнулась, ру-
ка се натолкнулась на сук, опа намертво ухватилась
за него и с неожиданной ловкостью стала караб-
каться вверх; и вскоре уже сидела высоко на старой
ветле, единственной среди окружавших озеро берез.
Даша смутно видела под собой продолжавшие ти-
хонько ползти куда-то подмостки; Тимошки на них
не было, верный Дашин друг и спутник исчез.
— Тимошка! Тимошка! — шепотом позвала Да-
ша; никакого ответа в обвальном, все заполняющем
шуме дождя она не услышала. Мелькнула жуткая
мысль о крокодилах; теперь она достоверно вспом-
нила, что, перед тем как скатиться в воду, она уви-
дела вцепившуюся в край плота необъятную зуба-
стую пасть, она даже услышала хруст досок и хрип-
лый лай Тимошки, бросившегося на отвратительное
чудовище южных морей. Теперь Даша знала, кому
она обязана жизнью; пока Тимошка боролся с кро-.
кодилом, она успела забраться на дерево, а теперь
крокодил, проглотивший Тимошку, подгрызает под во-
дой дерево, на которое она забралась, недаром же
оно все время содрогается. Даше стало жарко, она
беспомощно оглянулась* вокруг таились враждебные
83
силы, дождь не прекращался, казалось, он лишь уси-
ливается, Ничего утешительного она придумать не
могла, от дождя, от слабости у Даши начала кру-
житься голова. Она крепче ухватилась за дерево,
прижалась к его мокрому холодному стволу лицом.
В этот критический момент она и услышала какие-
то знакомые звуки: лаял Тимошка и кто-то звал ее.
Она узнала голос Семеновны, хотела закричать в
ответ, но голос у нее пропал, она лишь беззвучно
открывала и закрывала рот. Теперь она испугалась,
что ее не найдут и она так и останется на дереве,
готовом вот-вот рухнуть от зубов крокодила, и сра-
зу увидела показавшегося из дождя Тимошку,
прыжками двигавшегося, казалось, прямо по озеру.
Тут же появился и Олег, за ним Семеновна с испу-
ганным лицом, вода доходила им выше колен. До-
бравшись до ветлы, Тимошка встал на задние лапы
и звонко, временами отфыркиваясь и ожесточенно
тряся головой, залаял, глядя вверх и царапая кору
дерева. Даша совсем ослабла и как бы сама собой
отделилась от ветлы, мягко скользнула вниз, в бе-
лесую от дождя воду и ничего не помнила. Правда,
она успела подумать, что чудовищный крокодил ее
проглатывает и горло у него скользкое и противное,
и хотела закричать, но голос пропал; стало темно и
тесно, она даже не успела по-настоящему испугать-
ся; открыв же глаза, она тотчас опять крепко за-
жмурилась. Прямо перед ней остро поблескивали че-
тыре маленьких, злобных крокодильих глаза; Даша
с диким криком подхватилась и повисла на шее у
Семеновны. Прижимая ее к себе и касаясь губами
ее лба, чтобы проверить, нет ли температуры, Семе-
новна с трудом пришла в себя от перенесенного
ужаса.
— Нет, Даша, своей смертью ты не помрешь,—
сказала она, с силой укладывая девочку назад в по-
стель.
— А я в Африку плыла,— сообщила Даша,
оправдываясь и стараясь не смотреть на брата. — Яс
Тимошкой плыла, а потом нас крокодил опрокинул...
—• Что? — не выдержал молчавший до сих пор
Олег, а Тимошка, еще не просохший и тоже напря-
женно слушавший, внимательно шевельнул ушами.
— Ничего! — вызывающе отрезала Даша. — Он
нам плот опрокинул, а я на дерево полезла, а он
Тимошку проглотил... Мне показалось, что прогло-
тил,— тут же добавила Даша, с некоторым изумле-
нием глядя на Тимошку.
-— О, господи,— шепотом пожаловалась Семенов-
на, смахивая слезы фартуком, а хмурый Олег, пы-
тавшийся придумать, как бы по-мужски серьезно
выразить свое отношение к случившемуся, попросил
Семеновну не волноваться и простить Дашу. Один
Тимошка, выражая свою радость благополучному
исходу путешествия, положил передние лапы на
край постели и лизнул Дашу в щеку.
— Спасибо, Тимошка,— беззвучно прошептала
Даша, отчаянно, изо всех сил прижимаясь к его кос-
матой шее, и тут же поинтересовалась, что принес-
ли из магазина вкусненького.
Ничего там нет« муки взялиА оладьи будем
печь,— сказала Семеновна. — Говорят, от дождя;
мост снесло, оттого ничего и не подвезли. Дождь-
так и не перестает, слышишь? День-два такого лив-;
ня, и ты можешь хоть в Америку отправляться.
До самого вечера Олег поддразнивал Дашу кро-
кодилом и Африкой; дождь не прекращался, и было
скучно; каждый старался перетянуть Тимошку на
свою сторону, и Тимошке пришлось пустить в ход
всю свою приятность и дипломатию, чтобы не оби-
деть ни того, ни другого, а если ему приходилось
туго, он начинал широко и часто зевать, показывал/
что он совершенно измучился и невыносимо хочет
спать. К вечеру, скорее от ^прекращающегося дож-]
дя, и Семеновна, и Олег с Дашей, и, разумеется, ТиИ
мошка собрались в комнате с телефоном, и хотя ни-
кто ничего не говорил вслух, все втайне почему-то,
надеялись и ждали звонка от Васи; общее настрое-1
ние передалось Тимошке; скрывая свое нетерпение|
частыми судорожными зевками, он ни за что не хо-^
тел уходить из-под столика с телефоном, и, дождав-^
шись, когда все разошлись, уже в темноте, под не-j
прерывный и густой шум дождя, он встал, с недове-|
рием понюхал молчавший телефон и опять улегся^
рядом. «Надвинулась ночь, шел дождь, и Вася ни-|
как не хотел объявляться даже в телефонной труб-|
ке; Тимошкой овладело очень тревожное и неприят-]
ное чувство опасности. Он бесшумно встал и долго!
прислушивался. Кроме шума дождя, появились ка-1
кие-то другие звуки. Спасаясь от дождя, в дом при-]
шли мыши, Тимошка не обратил на них никакого^
внимания, происходило что-то более важное, и у|
него от напряжения несколько раз судорожно дер-;
нулся кончик хвоста. А затем какая-то невыносимая^
тоска овладела им; он был кому-то нужен, он услы-
шал даже чей-то знакомый зов и, больше не разду-
мывая, попытался прорваться в сад, на свободу.
Дверь на террасу была заперта; несколько раз уда-
рив по ней лапой, Тимошка рванулся к окну, к дру-
гому. Теперь он словно обезумел; зов в нем разра-:
стался, усиливался, заполнял все существо; Тимош-:
ка метался из комнаты в комнату, взлетел на второй-
этаж, и здесь, в кабинете Васи, тоска его достигла
наивысшей силы. Он прыгнул в Васино кресло и по-
чувствовал, что он нужен Васе, что Васе плохо и
что он его зовет. И тогда Тимошка поднял морду
и жутко на весь дом завыл. Ни Даша, после тяж-
ких испытаний прожитого дня, ни Олег его не услы-
шали; Семеновна, несмотря на свою глухоту, на ка-
кое-то мгновение открыла пустые от сна глаза и
опять заснула. Совсем измучившись от горя и сво-
его бессилия помочь Васе, Тимошка забылся, и в
темноте ночи снова ясно прорезался Васин голос,
зовущий на помощь, и Тимошка, весь, от кончика
носа до хвоста, задрожал. Он как будто тонул и за-
хлебывался в горячей вязкой тьме, наползающей со
всех сторон, не было ни ветра, несущего конкрет-
ность беды, ни следа на земле, определяющего путь,
а было лишь непереносимое ощущение самой по-
следней, самой непереносимой беды и своей вины
перед Васей от бессилия что-либо изменить и помочь
Уимошка отчетливо слышал страдающий, боль-.
ной голос Васи, Вася все звал его. и Тимошка от
невыносимой муки заплакал; жгучая соль, стянув-
шая все существо Тимошки в одну точку, в один
спекшийся ком, стала ослабевать; именно в этот миг
Бася, находившийся от своего дома за много-много
километров, висевший над темной зияющей расщели-
ной. зацепившись за кривое, изогнутое, с обнажив-
шимися мощными корнями деревгщ, уже хотел раз-
жать онемевшие пальцы и даже сделал такую по-
пытку, только пальцы не подчинились. Холод от
онемевших пальцев распространился по всему телу,
но пальцы не разжались, Вася уже как-то равно-
душно отметил это и не удивился.
8
Разгулявшийся циклон достиг далеких старых
южных гор к полудню в пятницу, и здесь сила его
удвоилась. Татьяну Романовну и Васю непогода за-
стала высоко в горах; они и раньше не раз, приго-
товив с вечера несколько бутербродов, затемно ухо-
дили в горы, осваивая новые и новые места. Нака-
нуне, в четверг вечером, позвонив в Москву, Татья-
на Романовна узнала о том, что назначение Кобы-
ша подписано. Не говоря Васе ни слова, Татьяна
Романовна долго отмалчивалась и, наконец, из-за
совершенного пустяка, из-за того, идти или не идти
вечером слушать симфонический концерт областной
филармонии на летней открытой эстраде, в пух и
прах рассорилась с Васей и даже решила совсем
уехать домой. Водрузив чемодан на самое видное
место в их номере на низеньком столике возле те-
левизора, Татьяна Романовна принялась укладывать
вещи. Вася лежал на диване и демонстративно чи-
тал свежий номер «Иностранной литературы», его
молчание подстегивало ее еще больше. Она по одно-
му доставала из шкафа свои платья, с холодным
высокомерием шла через всю комнату мимо Васи
к чемодану, затем возвращалась обратно. Когда она
прошла к чемодану в седьмой или восьмой раз, не-
ся в руках перламутровую коробочку с подаренными
ей родителями в день свадьбы старинными изумруд-
ными серьгами, Вася не выдержал.
— Ну, хватит, Танюш,—попросил он,— ну что ты
так вскинулась? Какой дурак, скажи, станет ждать,
беречь для тебя начальственное кресло? И ты знала,
когда согласилась ехать сюда, и я знал, что оно
уплывет от пас.
— Знали мы по-разному! — приняла вызов Тать-
яна Романовна, принесла и демонстративно положи-
ла в чемодан зонтик.
— Я больной человек, у меня давление, у меня
весь отдых насмарку пойдет,— пожаловался Вася,
глубоко вздохнув об отсутствующем Тимошке, и на
всякий случай изобразил на лице страдание; Татья-
на Романовна принесла и непримиримо швырнула в
чемодан свой новый, еще не просохший после утрен-
него моря купальник. — Боже мой, как ску-у-у-чно! —
с тоской протянул Вася. — Ну сколько, скажи, мож-
но обсасывать одно и то же? Что тебе далась эта
лаборатория? Ты ведь знаешь, я по сути дела ру-
ковожу постановкой эксперимента. Они же все во-
круг меня вертятся...
— Вот-вот! — с готовностью подхватила Татьяна
Романовна. — «Главный теоретик»! Только такой еди-
ницы в нашем институте не существует! Ты просто
дойная корова, и все, кому не лень, тебя доят! Ко-
быш не Морозов, он себя покажет. Ты у него по-
пляшешь на горячей сковороде. А когда кончит тебя
потрошить, задвинет куда-нибудь...
— Подожди, подожди,— остановил Вася ее обид-
ные прогнозы. — А почему именно куда-нибудь?
— Нужно же куда-нибудь отработанный балласт
девать, хотя бы в сточную канаву.
— Танюш, ну ладно, ну, я бесполезный, я бал-
ласт, но ты ведь у меня полезная, активная, будешь
представлять нашу фирму в единственном числе,
глядишь, нива науки не заглохнет...
В ответ в чемодан полетело все подряд: тапочки,
пудреница, обшитая кожей походная шкатулка с
пуговицами, нитками, иголками и прочей женской
мелочью; последними в чемодан шлепнулись розовые
ласты.
— Мои! мои! — отчаянно запротестовал Вася;
Татьяна Романовна злобно выбросила ласты в угол
и захлопнула чемодан. Крышка и не думала закры-
ваться, тогда Татьяна Романовна с ожесточением
села на чемодан; ножка столика хрустнула, затре-
щала, и Татьяна Романовна, ойкнув, вместе с чемо-
даном оказалась на полу. Вася бросился к ней по-
мочь; Татьяна Романовна оттолкнула его и приня-
лась прилаживать сломанную ножку.
— Ну вот, столик теперь сломался,— беспомощно
пожаловалась она.— Придется за починку платить...
ах, оставь, пожалуйста! — Вася, завладевший ее ру-
ками, рук, однако, не освободил; Татьяна Романовна<
беззвучно засмеялась, слегка раздувая тонкие нозд-
ри, и сама поцеловала Васю; они неожиданно и
бурно, как это случалось и раньше, помирились.
Близоруко щурясь, Татьяна Романовна задумчи-
во глядела в сгустившуюся синеву окна, а Вася ме-
тодично доставал из чемодана и развешивал на пле-
чики в шкаф ее платья; затем неторопливо починил
столик и, чтобы было совсем незаметно, придвинул
его вплотную к стене. К Васе постепенно возвраща-
лось прежнее состояние спокойной уверенности и си-
лы. Татьяна Романовна с улыбкой следила за высо-
кой, чуть сутуловатой, сильной фигурой Васи, глядя
на его загорелую шею, вдруг ревниво подумала, что
он еще совсем молодо смотрится, на тридцать, не
больше. «Глупости! — рассердилась на себя Татьяна
Романовна. — Баба!» И все-таки, порывисто вскочив,
она подошла к Васе и на всякий случай, утверждая
свою власть над ним, хозяйски поцеловала его раз
и другой. Наутро, прихватив с собой хлеба, варе-
ных яиц и колбасы, две бутылки воды, они, едва-
едва стало светать, были уже в горах; Татьяна Ро-
мановна и особенно Вася любили эти ранние вы-
лазки. Вначале они часто, через каждые сорок —
пятьдесят метров отдыхали, затем дыхание уравно-
весилось, и они, не останавливаясь, добрались до
85
первой смотровой площадки, расположенной довольно
высоко и увенчанной старой беседкой, сложенной
из грубого, крепкого камня. Хватая раскрытым ртом
прохладный горный воздух, Вася выпрямился, огля-
нулся и обо всем на свете забыл. Он почувствовал
у себя на шее учащенное, горячее дыхание Татьяны
Романовны, положил ей руку на узкие знакомые
плечи и ободряюще слегка прижал к себе; глаза у
нее потеплели от восхищения. Далеко внизу под ни-
ми выгибалась изумрудно-бледная, словно выцвет-
шая, непрерывно меняющая оттенок, отсюда с высо-
ты необычно плоская, необъятная чаша моря; сквозь
охвативший край неба нежно пламенеющий огонь
деловито и неудержимо прорывалось солнце, но са-
мый берег моря, человеческое жилье, примостившее-
ся узкой полосой вдоль морского берега, отделял от
Васи с Татьяной Романовной сплошной веселый ту-
ман; он полз вверх стеной, и Вася не мог опреде-
лить, появился ли он только что, как это бывает
в горах, или они, поднимаясь вверх, прошли сквозь
него, не обратив внимания. Васю несколько встрево-
жил туман, но небо было совершенно чистым, воздух
неподвижным, все замерло, затаило дыхание в этот
час; и в сердце тоже проникла разлитая вокруг ти-
шина и тайна.
— Боже мой, а мы все куда-то мчимся, что-то
наверстываем, суетимся,— неожиданно высказала
Татьяна Романовна <мысль, владевшую ими обоими,
и Вася даже слегка отодвинулся от нее.
— Помолчим, Танюш, а? — вздохнул он в досаде
на ее женскую несдержанность, боясь нарушить оча-
рование минуты; солнце слепо обозначилось в огнен-
ной купели, подпрыгнуло над морем, сразу резко
уменьшилось в размерах и брызнуло в глаза нестер-
пимым светом. Вася, настоящий солнцепоклонник,
блаженно прикрыл глаза ладонью, затем осторожно
глянул вниз, на море. Оно тоже изменилось, из
изумрудного стало темно-синим, его слитная мощь,
начинаясь у горизонта, теперь словно приподнимала
и небо, и прорывающиеся из-под тумана острые ска-
листые берега. И уже совсем разрушая чувство язы-
ческого единения с морем и солнцем, с таинством
раннего утра, на горизонте появился теплоход ве-
личиной со спичечный коробок и стал приближаться.
— Пошли,— скомандовал Вася; каменистая еле
заметная тропинка уводила их все выше и выше, к
острым вершинам одиноких гор, дразняще недоступ-
но сияющих в ясном небе. Татьяна Романовна зара-
зилась от Васи неудержимым азартом; карабкаясь
уже совсем по незнакомым местам, они окончательно
потеряли счет времени. Где-то на полпути они встре-
тили чистое озерко, образовавшееся от минеральных
ключей, напились и слегка передохнули; раза два
или три прошли под совершенно отвесным карни-
зом; осторожно двигаясь вслед за Васей и обмирая,
Татьяна Романовна старалась не глядеть вниз, на
густую грубую шубу елей, на неудержимо несу-
щиеся вниз горные потоки, кажущиеся отсюда, с
высоты, тонкими ручейками. Татьяна Романовна не
призналась Васе в своей слабости, лишь пожалова-
лась на усталость; выбрав приглянувшееся, проду-
ваемое легким ветерком местечко под пышно раз-'
рссшимся орехом, они остановились на отдых. Ио-!
лежав на спине по совету Васи и с наслаждением’
вытянув гудящие от напряжения ноги, Татьяна Ро-
мановна разложила прихваченную снедь: нарезан-
ные колбасу и сыр, два зеленых в твердых пупъь
рышках огурца и пол дюжины розоватых, растрескав-’
шихся от сахарной спелости, помидоров. Брызгаясь
густым розовым соком, заливающим шею и грудь,
жадно впиваясь в прохладную мякость, Вася наспех,
как будто кто-то за ним гнался, съел подряд не-
сколько помидоров.
— Ага, теперь я знаю, в кого Олег,— засмеялась
Татьяна Романовна. — Такой же грязнуля...
— В следующий раз Олега с собой возьмем,—-
Вася блаженно откинулся на спину. — Ничего, Даша;
по плачет-поплачет и успокоится, мала она еще для
гор...
Татьяна Романовна ничего не ответила, хотя про
себя и позабавилась неожиданно проснувшемуся от-
цовскому чувству мужа. Мимо энергично прошла
группа молодежи, шумно их поприветствовала; судя
по снаряжению, это были спортсмены-скалолазы.^
К полудню в горах еще поприбавилось народу, и
Вася с Татьяной Романовной теперь чаще слышали
веселую перекличку голосов, особенно звонкую в
настоявшейся горной тишине. Туман растаял, и да-
лекое море отсвечивало едким расплавленным сереб-
ром. Васю разморило; повернувшись на бок, он за-
дремал, по-детски оттопырив большие губы, а Тать4
яна Романовна, собрав остатки еды и завернув в
салфетку, тоже выбрала тенистое местечко и легла.,
прикрыв лицо косынкой. Подумалось о детях; стало
хорошо и покойно, почему-то вспомнилась давно
умершая бабушка, ее морщинистые, ласковые, в ко-
ричневых пятнышках, вечно что-то вяжущие руки...
Татьяна Романовна резко вскинулась после ко-
роткого тяжелого сна; Вася по-прежнему спал в сво-
ей излюбленной позе, на боку, подтянув колени к
самому подбородку; солнце исчезло, в скалах резво
посвистывал ветер, в небе неслись, опускаясь ниже
и ниже, густые взлохмаченные тучи. Стянув волосы
косынкой, Татьяна Романовна торопливо разбудила
Васю, и он, едва глянув в сторону потемневшего,
уже белевшего пенными барашками, моря, вскочил!
на ноги, и они начали быстро спускаться вниз и до^
начала дождя прошли порядочно. Группа скалолa-j
зов, виденная ими ранее, нагнала их; не задержи-
ваясь ни на минуту, на ходу старший деловито и?
строго посоветовал им поторопиться и скорее спу-
скаться к берегу или уж выбрать устойчивое место'
и переждать непогоду в горах-; Татьяна Романовна,
вступившись, к тому же стала прихрамывать, и Ва-
ся сбавил шаг. Словно в предвестие близкой ночи,
быстро стемнело; от нависших еще ниже облаков
они почувствовали сырость на лицах.
— Вляпались,— пробормотал Вася, и в ту же се-
кунду, заставив их присесть, гулко и раскатисто уда-
рил гром, и хлынул дождь. Теперь приходилось дви-
гаться почти ошупью; тропа, по которой уже змеи-
лись бурные потоки, круто и неожиданно петлила.
Самое опасное место над пропастью под отвесным
карнизом они успели проскочить еще до дождя, но
Вася, обеспокоенный за Татьяну Романовну, совер-
шение забыл еще об одном крутом повороте над
глубокой расщелиной почти сразу же за карнизом.
Он вспомнил о нем, лишь увидев, как Татьяна Ро-
ивна, шедшая ощупью теперь впереди, вскрикну-
ла и обмерла; сильным болевым толчком Вася поч-
шзырнул Татьяну Романовну вперед, на безопас-
ную широкую площадку, и в тот же момент сам как
бы скользнул в пустоту, успевая все-таки всем те-
лом, раздирая грудь и руки, плашмя броситься на
щи и, несмотря на это, продолжая по-прежнвлму
неудержимо, со ставшим неимоверно тяжелым серд-
цем. все быстрее и быстрее сползать вниз. «Кажет-
ся. все>,— мелькнула короткая беспощадная мысль,
и пальцы мертво за что-то схватились. Он услышал
странно одинокий, пронзительный животный крик
Татьяны Романовны; и тут Вася понял, что держится
он довольно толстый ствол какого-то крепкого де-
ревня, каменно вросшего в расщелину над самой
пропастью, что сам он всем телом прирос к круто-
му, почти отвесно обрывавшемуся вниз откосу. Ста-
раясь не шевелиться, Вася едва ощутимым невесо-
мым движением раздвинул ноги, нащупывая хоть
какую-либо неровность и тем самым стараясь об-
легчить руки; это ему в какой-то мере удалось, пра-
вое колено наткнулось на выпуклость в камне, и
Вася несколько укрепился на каменном склоне.
— Таня, Таня, не теряй голову, слышишь,— ста-
раясь говорить отчетливо и не затрачивать усилий,
наконец подал он голос. — Не смей сходить с места,
осмотрись! Ты слышишь?
— Я здесь.., здесь...
— За нами кто-то шел... я слышал голоса,—ска-
зал Вася тем же размеренным невесомым голосом. —
Ты подожди, одним нам не справиться... Не двигай-
ся, слышишь!
Со своего места у подножья скалы Татьяна Рома-
новна не видела Васи, но первый животный порыв
броситься следом за ним прошел, она уже могла ду-
мать. И тут какой-то второй приступ парализующе-
го, невыносимого ужаса сковал ее; она почувствова-
ла цепенеющие руки; воздух исчез; стараясь не до-
пустить до себя нечто темное, нерассуждающее, она
стала молиться; сгребая с лица льющуюся откуда-
то воду, она тянулась к самому краю тропы, к об-
рывающемуся вниз, в дождь и ветер откосу.
— Вася, ты слышишь... Вася! — звала она, вна-
чале шепотом, затем сорвалась в крик.
— Да что ты кричишь! — неожиданно услышала
она, как ей показалось, совсем близко странно за-
медленный, вязкий Васин голос. — Успокойся... сей-
час должны подойти, тропу никак нельзя миновать...
Успокойся... и самое главное, не трогайся с места...
— Хорошо, хорошо,—.торопливо ответила она,
уж<. понимая, что не может больше ждать; она по-
ползла на четвереньках, обдирая колени, по шипя-
щей от дождя тропе, поползла в ту сторону, откуда,
она инстинктивно чувствовала, должна была прийти
помощь, а когда опасное место осталось позади, с
трудом встала и, преодолевая рушащийся дождь, как
бы разгребая его, бросилась дальше. И Вася почув-
ствовал ее уход, несильно окликнул ее, раз-другой и
затих, стараясь как можно спокойнее и медленней
обдумать, как упрочить свое положение. Если бы не
дождь, он бы еще и сам попытался выкарабкаться,
а теперь оставалось лишь ждать и терпеть. Время
замедлилось и остановилось; проверяя, жив ли он
еще, Васю иногда крепко зажмуривался, стараясь
сморгать глаз воду. Он не знал, день теперь или
ночь; дождь расслаблял и усыплял, и он уже не-
сколько раз готов был разжать руки; ощущая все
больше распространяющееся оцепенение по всему те-
Вася опять отметил его как нечто постороннее,
не касающееся его и не удивился, он словно весь
одеревенел. Он не знал, откуда пришла помощь, но
она пришла, по всему его телу разлилась волна жи-
вого тепла. Совершенно отчаявшемуся и уже безраз-
личному и к жизни, и к смерти, и к тому, что его
ждут, любят и что он необходим и сыну, и жене, и
своей маленькой дочери, Васе вдруг стало жаль се-
бя и захотелось жить. «Звезды, конечно, они»,—
подумал Вася, глядя на мокрые, остро лучащиеся,
словно только что народившиеся в просветлевшем,
очистившемся от туч и дождя куске неба. Дождь
ослабел, и разрывов в тучах стало больше; дейст-
вительно. уже пришла ночь, со звездами, спокойст-
вием и глубиной хМлечного Пути. Помощь в истон-
чившейся и уже недостающей для дальнейшей жиз-
ни ниточке пришла к Васе оттуда, от звезд, и его
опять захлестнула любовь к себе, и стало обидно за
себя, за свое сильное, большое, полное желаний
тело. Он знал, что до края тропинки, бегущей по
узенькому карнизу, прилепившемуся над самой про-
пастью, метра два-три — не больше; ему еще повез-
ло, что оступился он над небольшой расщелиной в
стене пропасти, и ему подвернулся крепкий стволик
дичка, скорее всего — груши. Стволик выдержит, и
он продержался бы еще какое-то время, но как он
ни прижимается к скале всей спиной, стараясь по-
мочь слабеющим рукам, силы убывают. А подтянуть-
ся и лечь на стволик деревца животом он не может
(о таком усилии ему даже подумать страшно), хо-
рошо еще, что под ногу попалась какая-то шерохо-
ватость в почти отвесной стене, и он в своем оцепе-
нении все время помнил об этом подарке судьбе;
можно дать чуть-чуть отдохнуть сначала одной, за-
тем другой руке, правда, не разжимая пальцев, а
лишь слегка ослабляя их мертвую хватку. Как это
могло случиться? И дождь... Ведь за ними кто-то
шея, буквально по их следам, он не мог ошибиться,
то и дело слышались уверенные молодые голоса.
О Татьяне Романовне он запретил себе духмать; он
боялся и не хотел совсем ослабеть; если ее нет, зна-
чит, так надо, так должно быть... ц
В этот момент к Васе и прорвались какие-то по-
сторонние звуки; сердце у него заколотилось, это
были люди, они сдержанно переговаривались, и по-
том над самой его головой раздался осторожный
хрипловатый голос.
— Эй, друг... держишься? — негромко позвал кто-
то. — Сейчас... сейчас, потерпи, совсем чуток оста-
лось.
— Вася, Вася,—чуть слышно подала голос и
Татьяна Романовна; в мягкой, такой знакомой инто-
нации, как она не пыталась скрыть, прозвучали
страх и страдание.
Дождь припустил снопа; Вася прикрыл глаза, за-
щищая их ат хлынувшей сверху воды, в то же время
инстинктивно всем телом вжимаясь в камень.
— Вася! Вася! —опять послышался, теперь уже
громче, умоляющий, оглушающе близкий голос Тать-
яны Романовны, и кжая-то сдерживающая плотина
прорвалась, и Вася почувствовал подступившую к
нему вплотную, заглатывающую, сосущую мглу без-
донного ущелья.
— Здесь я, здесь,— отозвался Вася беззвучно, на
большее усилие не хватило сил, казалось, вот-вот и
он сорвется.
Еще раньше вверху над ним началась какая-то
возня, слышалось отчетливое позвякивание железа о
железо, тихо и скупо переговаривались между собой
незнакомые голоса; суеверно боясь взглянуть вверх,
Вася все-таки ощущал тусклое скольжение фонарей
в сыром воздухе, устрашающе фантастические тени,
медленно переползающие с расщелины в расщелину;
и уже совсем невероятно откуда-то из темноты ря-
дом с ним появилось ярко освещенное светом фо-
наря молодое мокрое, очень грязное лицо с внима-
тельными, участливыми глазами.
— Держись,— тихо сказали ему, одним тупым
попаданием захлестывая на-нем тонкий шнур; сквозь
вязкую внезапную глухоту (ему опять что-то негром-
ко сказали) Вася почувствовал, что его крепко и на-
дежно стиснуло и подхватило под мышками.
— Пальцы, пальцы разожмите,— понимающе по-
просил молодой голос; Вася и без него знал, что все
плохое позади, но не мог с собою ничего поделать;
он не чувствовал своих онемевших пальцев и раз-
жать их не мог.
Его медленно и уверенно потянуло вверх, и все
тот же спокойный голос повторил:
— Пальцы... Разожмите пальцы!
— Не могу,— хрипло и виновато отозвался Ва-
ся. — Не подчиняются...
— А-а, понятно... сейчас^»
Тут Вася почувствовал на себе чужие руки; вна-
чале ему больно сдавили, проминая, плечи «и локти,
затем опять плечи, и тотчас что-то словно вонзилось
в позвоночник. Пальцы сами собой разжались, от-
пуская деревце. Вася глухо вскрикнул, в глаза плес-
нулась пронзительная чернота; пришел он в себя
уже наверху, на тропинке. Он сразу же увидел над
собой смятое радостью лицо Татьяны Романовны,
светящиеся нежностью и любовью глаза, Вася при-
жмурился и опять потерял сознание; и весь следую-
щий день, уже окончательно придя в себя и лежа
в своей удобной постели, он, продолжая чувствовать
под собой сосущую бездонную пустоту, всякий раз
тревожно вскидывался и окликал Татьяну Романов-
ну; с усилием поворачивая голову, он видел, что
88
Татьяна Романовна неотрывно, с каким-то новым,
ранее незнакомым выражением, смотрит на него.
— Что, Вася? Я здесь,— как эхо отзывалась
Татьяна Романовна. — Что, опять плохо?
— Ничего, лучше, Таня,— успокаивал ее Вася.—
Понемногу проходит. Только внутри еще что-то дро-
жит. Знаешь, мелко-мелко так, с перерывами. Да,.
Танюша, -здорово нас вертануло! — запоздало спо-
хватился он. — Ты знаешь, Танюш, я тебе другое
скажу, только не обижайся. Я ведь готов был при-
знать твою правоту в нашем разладе... что ж, ду-
маю, жизнь одна, зачем из себя пророка корчить?
Ведь по-другому и легче и проще; конечно, думаю,
моя Татьяна Романовна права. Какого черта! Ведь
я, если цель поставить, могу не только паршивую
лабораторию прибрать к рукам, а кое-что и поинте-
реснее. Но знаешь, там, точно кто-то вечный, не-
называемый, кто все про нас знает, точно в душу
мне заглянул, наизнанку вывернул. И стало мне не-
выносимо. Ах, дурак ты, дурак, думаю. Ведь по-'
мрешь — и главного в жизни не успеешь, того, что
тебе определено, из всей тьмы-тьмущей выделено.
Ведь этого никто за тебя не сделает. Поделом тебе
и наказание и муки! За слабость! За отступничест-
во! Подыхай!
•— Вася!—оборвала его Татьяна Романовна с из-'
мученным, обрезавшимся лицом. — Не смей, не ко-
щунствуй! Что ты все на свои плечи тащишь? Моя
вина, мне и отвечать.
Она мучилась рухнувшим равновесием, провали-
валась, не находила опоры, Вася понял и ободряюще
улыбнулся ей.
— Ага, испугалась, что мужа-то потеряешь! Жи-
ви, пока живется, Танюш. Не терзай себя, не ешь
поедом. Жить-то, что ни говори, хорошо,— сказал
Вася, с наслаждением ощущая кожей чистую,
скользко накрахмаленную поверхность простыни.—
Пожалуй, пауза моя затянулась, все, безделье кон-
чилось, я т а м это понял, в ущелье, я опять способен
думать... Да, да, не удивляйся, Танюш,— заторопил-)
ся Вася, боясь, что Татьяна Романовна перебьет
его и он не сможет сказать того, что хотел. — Я еще
отца вспоминал... никогда не вспоминал, он умер в
пятидесятом, осколок сидел с войны, осколок нельзя
было трогать... Правда, отец еще жил с час или
полтора...
Тут Вася замолчал, и Татьяна Романовна, напря-
женно слушая его с виноватыми, влажно блестев-
шими глазами, боялась шевельнуться.
— Ну и что, что, Вася? — спустя какое-то время
все-таки осторожно напомнила Татьяна Романовна
о своем присутствии.
— Что? — очнулся Вася и с недоумением огля-
делся.— Ах, да, да... представляешь, Танюш, отец
задолго почувствовал приближение смерти... только
теперь я его понял! —• лицо Васи истончилось и как
бы осветилось изнутри мучительной, неразрешимой
догадкой. — Я его видел вчера, когда повис, как рас-
пятый... бр-р! — неподдельно встряхнулся Вася. — Ви-
дел так ясно, как тебя вот сейчас. Знаешь, там я
почувствовал то, что всегда присутствует в нас и
qeMy мы, как правило, не верим. Я подумал, все, мой
Kpvr кончился, он пришел за мной... он был живой,
я бы мог дотронуться до него, если бы мог освобо-
дить руки... Я его запах узнал, от него пахло, как
в сильный зной от перегревшегося камня или сго-
ревшего железа... До меня дошел этот запах окали-
ны, знаешь, Танюш, словно я расстался с ним вче-
ра, Но даже не это главное!
Васе необходимо было выговориться, и она тер-
пеливо ждала,
— Потрясающе другое! — продолжал Вася с
таинственно-вопросительным выражением в глазах,
снова и снова переживая поразивший его момент. —
Отец повторил то, что сказал мне перед смертью...
слово в слово~ «Береги, Васька, совесть, слышишь,
береги совесть,— сказал он,— как бы тебе самому
плохо ни было!» И тут, Танюш, я понял, что останусь
жить... Иначе зачем бы о н приходил? — сказал Ва-
ся, оттеняя смысл своих слов и голосом, и выраже-
нием лица.—Да, да, зачем бы ему было приходить,
зачем-то это было нужно, чтобы он приходил! Меня
словно огнем прожгло насквозь. Он помог мне. Вот
почему я рук не отпустил.
— У тебя жар, ты весь горишь... не волнуйся, все
хорошо, все позади,— осторожно напомнила Татья-
на Романовна. — Вот выпей еще грушевого отвара,
я прямо в чайнике заварила.
— Танюш, не покидай меня...
-— Что, что? — растерялась Татьяна Романовна.
-— Не покидай меня. Я такой непокидаемый. Те-
бе тяжело со мной. Я что-то в жизни не смог. Дей-
ствительно, мог быть больший результат. Я не дал
тебе счастья, все собирался, только собирался
жить. Бежал, бежал, а жизнь-то — тю-тю!—уже про-
шла.
— Вася, перестань на себя наговаривать! Мне
ничего не надо. Мне хорошо, ты рядом, что еще
нужно? — Татьяна Романовна старалась скрыть за-
мешательство перед непривычной, обезоруживающей
откровенностью мужа, неловко отворачивалась, но
против воли набегали слезы, мешая говорить. — Ты
не знаешь, какой ты, Вася... Ты замечательный. Это
я обыкновенная... но я ведь не виновата, что именно
столько мне отпущено. А если я что-нибудь и делаю
не так, я потом понимаю, раскаиваюсь... Было бы
тебе хорошо и детям, а я что? Наша игра уже сде-
лана, Вася. Жизнь набело, Вася, не проживешь...
А тут еще этот ужас. Вася, я спать не могу,— ше-
потом пожаловалась она,— закрою глаза, и все перед
глазами кружится, и горы, и скалы, и деревья, ни-
какой опоры под ногами, не за что ухватиться, тянет
вниз, как в воронку. Вася, страшно, хочу крикнуть,
не могу!
— Клин надо клином вышибать, Танюш. Вот по-
годи. Немного оправлюсь, приду в себя, и мы с то-
бой по тому карнизу обязательно пройдем.
— С ума сошел! Побойся бога! Я этот ужас вто-
рой раз не переживу. Нет уж, Вася, с горами тебе
придется распрощаться. Нам нашей родной средне-
русской равнины теперь до конца жизни хватит,—
брови Татьяны Романовны сошлись в одну линию.
ее тонкое лицо сделалось почти угрожающим; Ва-
ся прихватил ее руку, слабо сжал, и она затихла,
уткнувшись ему в плечо; вот так всегда, шумит она,
шумит, кипятится, вроде бы все вокруг нее вертится,
а стоит ему пальцем шевельнуть, и все по его же-
ланию выходит, он из нее всю жизнь веревки вьет,
все этим кончается.
Вася блаженно закрыл глаза; ему живо предста-
вился дом, Даша с Олегом, скамейка у озера, Ти-
мошка; Вася не мог знать того, что именно в эту
ночь Тимошка тоскливо метался до самого рассвета,
время от времени тревожно подхватывался, прислу-
шиваясь; в доме было тихо, все спали на своих ме-
стах, за стеной по-прежнему мирно шелестел дождь,
и Тимошка пристыженно укладывался обратно на
свою подстилку. И только под утро дождь совсем
прекратился и выглянуло солнышко. Проснулась Се-
меновна, отворила настежь все двери и окна, впу-
ская резкий утренний воздух, обула Васины болот-
ные сапоги и, чуть не по пояс утонув в них, в хо-
зяйском беспокойстве обошла затопленный сад. Ти-
мошка угрюмо следовал за ней и, доплевшись кое-
как до Васиной скамейки, одиноко торчащей над во-
дой, вспрыгнул на нее и застыл горестным извая-
нием. Семеновна призывно загремела миской; в от-
вет он лишь слабо шевельнул хвостом и остался си-
деть. Семеновна подумала, не заболел ли он, но в
делах отвлеклась и забылась. После затяжных дож-
дей вода в озере стала постепенно убывать, солнце
вконец разморило землю, листва на деревьях взя-
лась зеленым, сочным глянцем, яблоки, вишни и
огурцы тяжелели на глазах, а в березах вокруг озе-
ра в больших количествах появились грибы — тугие,
крепенькие, с темно-бордовыми головками. Открыв-
шая это чудо первой, Даша каждые десять минут
бегала их измерять Олеговой линейкой, и к вечеру,
к огорчению кровно обиженной Даши, грибы расти
перестали.
Солнце уже село, в воздухе держался розоватый
перламутровый отсвет, деревья молчали, и только
глухо, где-то в глубине дышала земля. Опасаясь сы-
рости, Семеновна уговорила детей идти в дом; на
следующей неделе погода установилась на ред-
кость тихая и безветренная, дети заметно окрепли,
бегали в одних трусиках по саду, купались с Ти-
мошкой в посвежевшем после дождей озере, заго-
рали. Семеновна же за повседневными делами нет-
нет да и начинала испытывать непонятную тревогу.
Вася с Татьяной Романовной давно уже не звони-
ли, и Семеновна успокаивала себя мыслью о похо-
дах в горы с ночевками и кострами по какой-нибудь
уж совсем дикой местности, где нет почтового от-
деления.
Во вторник, ближе к вечеру, Тимошка, задремав-
ший было в комнате Олега, неожиданно поднял го-
лову, насторожился и глухо заворчал; в доме по-
явился чужой. Тимошка слышал, как Семеновна с
ним оживленно разговаривала, но это Тимошку не
успокоило. Незадолго перед этим Олег поссорился
с Дашей из-за испорченной книжки и теперь запи-
рал от нее свою комнату. Уходя на волейбол, он не-
69
чаянью запер спящего Тимошку у себя в комнате,
и Тимошка не мог теперь юраться наружу. Все
больше побуждаемый беспокойством и сбидой, Ти-
мошка начал громко, с надрывом лаять, он не
сшибался в своем нетерпении. Отделенный от него
лишь комнатой и закрытой дверью, в дверях веран-
ды широко улыбался Полуянов, одним глазом гля-
дя на Семеновну, а другим на лестницу, ведущую
наверх.
— Как вы тут, Евгения Семеновна? — с чувством
говорил в это время Полуянов, и Тимошка в своем
затворничестве, стараясь не пропустить ни слова, да-
же убрал язык, чтобы он не мешал ему слушать. —
Зашел вот справиться, не нужно ли чего. Не стес-
няйтесь. Вы же знаете, мы с Васей и Татьяной ста-
рые друзья. Я Васе обещал наведываться. А тут
господь такой ливень на нас опрокинул. Что-то и не
припомню такого. Крыша не потекла? Все ли в по-
рядке? Не нуждаетесь ли в чем? Ребята здоровы?
— Спасибо, спасибо, Яков Андреевич. Ребятиш-
ки здоровы,— ответила Семеновна, с интересом при-
сматриваясь к подвижному лицу гостя. — Дети хо-
рошие, слушаются, помогают во всем. Спасибо за
внимание. Ничего не нужно.
— Вот детишкам — сладкое,— сказал Полуянов,
выкладывая из портфеля на стол две коробки шоко-
ладных конфет.
— Совсем уж лишнее,— неуверенно отказалась
Евгения Семеновна.
— Да вы, Евгения Семеновна, не стесняйтесь,
дайте знать, если в чем нужда будет.
— Спасибо. Вот молоко в магазин перестали во-
зить из-за дождей. А вам возят?
— Вот, право, не знаю. Кажется, возят,— неуве-
ренно предположил Полуянов и опять сумрачным,
тревожным глазом покосился на лестницу на второй
этаж. — Евгения Семеновна, вы детей не тревожь-
те,— понизил он голос. — От Василия Александро-
вича звонили на днях; там неприятность маленькая
вышла... Вам ничего не сообщали, не хотели трево-
жить, нет, нет, не пугайтесь, теперь все в порядке.
Вася руку немного повредил... Знаете, ведь горы...
теперь действительно все в полном порядке... Они
должны вам сами позвонить, о детях беспокоятся.
— Вы правду скажите, Яков Андреевич, с Васей
серьезное что-то было? — с явным недоверием спро-
сила Семеновна.
— Куда уж серьезнее! Представляете, ливень в
горах? И туда циклон пришел. А они не успели во-
время назад вернуться... Знаете, горы, тропинки...
Я всего этого не признаю. В кино красиво... Издали
можно полюбоваться. Тащиться же в горы... в Ва-
сином теперешнем состоянии! Я Татьяну не пони-
маю. /Можно ли так рисковать? — Полуянов понизил
голос и тревожно посмотрел в разные стороны. —
Едва в пропасть не сорвался. Слава богу, обо-
шлось... Как раз два дня тому назад и случилось...
Уронив руки на стол, Семеновна села; ей при-
помнилось, что позапрошлой ночью выл Тимошка.
Она проснулась среди ночи и не сразу поняла, что
это воет Тимошка; послушав, она опять провалилась
в сон. Ей сейчас почему-то захотелось, чтобы Полуя-
нов поскорее ушел.
— Яков Андреевич, а вы ничего не утаили?;Прав-
да, обошлось?
— Что вы, Евгения Семеновна, истинная правда.
Как на духу! — отозвался Полуянов, и глаза его по-
бежали в разные стороны; Семеновна недоверчиво
поджала губы, неуверенность Полуянова лишь утвер-
дила ее в своих подозрениях. «Басурман разногла-
зый, ничего-то у него не выведаешь!»
— Евгения Семеновна, у меня к вам просьба,—
прервал ее невеселые размышления Полуянов. —
В прошлый раз я свой блокнот у Василия Александ-
ровича наверху забыл. Такой синий, с металличе-
ской застежкой... Я очень спешу. Он мне нужен, по-
жалуйста, поднимитесь, поищите его, Евгения Се-
меновна.^
— А вы, Яков Андреевич, сами поднимитесь,—
обрадовалась Семеновна тому, что тягостный гость
наконец уйдет и не надо будет поить его чаем. —
Видела я такой блокнот... пыль стирала, на малень-
ком столике в углу видела...
— Если позволите...
—- Иди, иди, Яков Андреич.
Легко наступая на некрашеные половицы, так/
• что ни одна не скрипнула, Полуянов поднялся на-
верх, распахнул дверь в кабинет и сразу увидел свой
блокнот. Но другой глаз его с порога устремился к
большому, потемневшему от времени, письменному
столу из мореного дуба. Дубовый стол неодолйм'о
притягивал Полуянова к себе. Почему-то пришел в
голову старый спор с Васей, собственно, вели они
его всю жизнь, он никогда не оканчивался. Полуя-1
нов, выдержанный, уравновешенный человек, хоро-'
шо владеющий своими эмоциями, сердился сейчас;
на себя за задержку. «Забытый блокнот? Вот он..
Бери его и уходи. Чего ты медлишь? Что ты забыл
в чужом кабинете?» Конечно, наедине с собой можно,;
сознаться, ему так и не удалось дотянуться до Васи,;
стать с ним вровень. Что-то не срабатывает. Тонень-'
кая ниточка, связывающая их со школьной скамьи,]
теперь вот-вот оборвется: Вася Судаков, Василий]
Александрович не захочет работать под началом Ко-
быша и его, Яшки Полуянова, в качестве первого';
зама. Они всегда держали его за дурака, почти за^
шута. А кто Васе виноват? Бороться за власть —
фу, грязная работа! Пусть ее делают другие, серые,
непризванные... С Васей во главе лаборатории, ко-'
нечно же, было бы привычнее и перспективнее для!
пользы дела, чем с Кобышем. Вася, он ведь не счи-л
тается, он расточительно щедрый, а Кобыш такой,
же, как и сам он, Полуянов, будет любой кусок изо
рта выхватывать. От Кобыша не перепадет. Этого
никогда не накормишь. Придется коренным образом5
перестраиваться. Скорее всего именно поэтому и по-!
тянуло сюда, в Озерную, сегодня. Сколько здесь^
переговорено, сколько лет они шли с Васей з одной’
упряжке! Выходит, не на того ставил... Хочешь не
хочешь, а приходится менять хозяина. Что проку в>!
жалости! Черт, тут еще это падение, как будто и’
само провидение отступилось от Васи. Наверное/
£0
высший знак. Куда денешься! Жизнь есть жизнь,
раньше ставил на Судакова, теперь придется ставить
на Кобыша, кое в чем перестроиться, а-а-а, была бы
шея... Подумать только, весь жизненный расчет от
какого-то примитивного куста зависит...
Полуянов вдруг представил, как все его надеж-
ды и расчеты повисли над пропастью на каком-ни-
будь примитивном кизиловом кусте, и ему стало со-
всем нехорошо. Каких людей теряешь, что говорить,
тяжело, опять с неожиданной горечью подумал он,
правда, тут же его мысль совершила новый спаси-
тельный поворот. А что, если в том же Васе ничего
особенного и нет, и никогда не было, и все это лишь
пустое сотрясение воздуха, и никакого таланта? Со-
рвался бы... и с концом. Вот ведь талант, а выбрать-
ся из прорыва не может... Или не хочет? Всю даль-
нейшую программу на привязи держит. Ах, Вася,
Вася, неразумный человек, дались тебе эти распро-
клятые горы!
За своими мыслями, полный сомнений, Полуянов
незаметным для себя образом оказался у заветного
стола и постучал о старое дерево костяшками паль-
цев, словно хотел каким-то, одному ему известным
способом проникнуть в самые потаенные ящики это-
го древнего сооружения на приземистых шароподоб-
ных массивных ножках с отделкой из потемневшей
с прозеленью старинной бронзы. И когда, уже совер-
шенно не в силах противиться чему-то темному в
себе, потрясшему все его существо ознобом возбуж-
дения, он взялся за бронзовую ручку, какой-то при-
глушенный звук где-то внизу, на нижнем этаже, при-
влек его внимание. Успевший изныть от отчаяния
и безысходности, пока Семеновна разговаривала с
Полуяновым, Тимошка решился выбраться из ком-
наты Олега через открытое окно. Он вспрыгнул на
подоконник и в секунду оказался в пламенеющей
россыпи гвоздик. Промчавшись мимо остолбеневшей
Семеновны, Тимошка по волне опасного раздражаю-
щего запаха взлетел наверх и захлебнулся от без-
удержной, перехватившей дыхание, ярости. Он уви-
дел чудовищную картину, у стола Васи, средоточия
всего главного в доме, к которому в отсутствие Ва-
си и Татьяны Романовны под угрозой строжайшей
кары не разрешалось приближаться детям и где мог-
ла, кроме Васи, сидеть одна лишь Татьяна Романов-
на, стоял чужой ненавистный Тимошке человек. Ма-
ло того, он даже открыл один из ящиков стола и
что-то рассматривал там. Тимошка, движимый не-
преодолимым чувством долга, с остервенением ри-
нулся на Полуянова и вцепился ему в штанину;
кровь у него зажглась. Полуянов, вскрикнув, подско-
чил, толкнул ящик стола, с треском вставший на
место, и, густо заливаясь краской, затравленно обер-
нулся,— у Тимошки клокотало в горле, глаза све-
тились первобытной, нерассуждающей яростью; ему
не было никакого дела до тонких душевных пережи-
ваний Полуянова, перед ним был враг.
— Пошел! пошел! пошел!—трагически зашипел
Полуянов, одной рукой придерживаясь за укушен-
ное место, а другой загораживаясь от Тимошки. Пя-
тясь задом, он шаг за шагохм отступал в направлении
двери и, достигнув наконец лестницы, неловко- про-
топал вниз и стал прощаться; Семеновна вызвалась
проводить его до калитки; увидев Тимошку, скатив-
шегося следом за ним, Полуянов широко улыбнулся.
— И не стыдно тебе? А еще благородный пу-
дель... Стыдно своих не узнавать,— обратился он с
увещевательной речью к исходившему лаем Тимош-
ке, всем своим видом выказывая готовность не до-
пускать впредь излишней фамильярности и неуклон-
но продвигаясь к калитке. Перед самым носом него-
дующего Тимошки Полуянов плотно прикрыл ка-
литку; от недавнего дождя она отсырела и разбухла,
и Тимошка, привычно ударив по ней лапой, не смог
ее открыть. Он снова зашелся ожесточенным лаем,
отчаянно прося Семеновну открыть калитку.
— На улицу хочешь, Тимошка? Рано нам еще с
тобой за молоком. Потерпи. Всего хорошего, Яков
Андреевич. Спасибо, спасибо, заходите. Спасибо, бу-
дем ждать вестей от наших.
Тимошка, бешено крутя хвостом, не соглашаясь
с доверительным тоном Семеновны, продолжал
лаять, но Полуянов уже был далеко за калиткой,
в том пространстве, где Тимошкины владения кон-
чались. На прощание они успели обменяться нена-
видящими взглядами через штакетник, Полуянов при
этом приветственно помахал Тимошке рукой, а Ти-
мошка в ответ угрожающе-непримиримо обнажил
сильные желтоватые клыки и, чтобы не оставалось
никаких сомнений в его настроенности, проводил По-
луянова до самого конца забора и напоследок него-
дующе встал на задние лапы. Полуянов был уже
далеко со своей неверной, двусмысленной, разбегаю-
щейся в разные стороны улыбкой. Тимошка еще с
полчаса ждал, никуда не отходя от калитки и охра-
няя дом, и затем, до самого вечера, нет-нет да и
возвращался к ней, внимательно обнюхивая дорож-
ку, чтобы убедиться, не прокрался ли человек с за-
пахом опасности и беды в дом снова.
9
И август незаметно подступил и еще незаметнее
прошел; стали шлепаться на землю созревшие яб-
локи, и еж Мишка с наступлением сумерек целыми
ночами упорно кормился. В излюбленных зарослях
он давно подготовил себе зи.мнюю квартиру; седые
бакенбарды стали у него еще роскошнее, п Тимош-
ка, однажды захватив его на месте преступления, у
большого краснобокого яблока со следами зубов,
пришел в неистовство от такого неслыханного на-
хальства. Еж ?4ишка, по своему обыкновению, тотчас
свернулся тугим клубком, и Тимошка, обрадовав-
шись, лапой откатил добычу подальше от ежа Миш-
ки, с яростным пыхтением, всем клубком, вслепую
подпрыгивающего на месте. Зная повадки ежа Миш-
ки, Тимошка выждал, пока еж, развернувшись, дви-
нется в сторону яблока, и, подскочив, успел схва-
тить яблоко зубами и отпрянуть с ним в сторону..
Высокомерно оглянувшись на ежа Мишку, он в не-
сколько прыжков достиг дома, взлетел на крыльцо
31
и положил там яблоко, а сам вернулся в сад. Ежа
Мишки уже не было, и Тимошка, «проследив его до-
рогу вдоль частокола к его родным зарослям на про-
тивоположнОхМ берегу озера, заскучал и, как всегда
в таких случаях, отправился к озеру, внимательно
обнюхал любимую скамейку и, ничего нового не
обнаружив, лег на мостках. Озеро жило уже осен-
ней жизнью, вода стала гуще и темнее, часто дул
северный ветер и засыпал озеро желтыми, яркими
листьями. В озере было по-прежнему много всякой
живности, только движения в нем заметно поубави-
лось, ставшие еще больше рыбы, подплывая под
мостки, подолгу стояли там, едва шевеля плавника-
ми, и ждали, пока Семеновна принесет им хлебных
крошек или разваренных рисовых зерен, ;тогда они
оживали и жадно на них набрасывались.
Тимошка не замечал ни взявшихся огнем осино-
вых листьев, то и дело слетавших на воду, ни по-
степенного замирания жизни в саду и в озере. Ва-
ся, с его единственным голосом и запахом, оконча-
тельно переселился в телефонную трубку, всегда хо-
лодную и неживую. Олег рано уходил в школу, и
Тимошка обязательно провожал его до калитки
(дальше идти запрещалось), и один день был по-
хож на другой. Семеновна, упорно борясь с обилием
фруктов в этом году, целыми днями варила разно-
образные варенья, делала компоты и соки, а Даша,
объедаясь без присмотра сладким, ходила сонная и
не хотела ни играть, ни бегать. Темнеть начинало
рано; на сад и на озеро надвигались тихие, тяже-
лые сумерки, выбирались из своих убежищ Чапа и
еж Мишка, и в саду везде, в кустах, в озере начина-
лась скрытая ночная жизнь. Семеновна тщательно
запирала теперь двери дома и калитку. Стоило боль-
шого труда уговорить ее открыть дверь в темную
вечернюю пору еще раз. Для этого Тимошке прихо-
дилось подолгу сидеть перед дверью и лаять, а ко-
гда и это не помогало, он шел к Олегу, сидевшему
над уроками, и начинал тихонько повизгивать и те-
реться мордой о его колени; такое поведение Тимош-
ки издавна означало, что ему совершенно необхо-
димо немедленно выйти из дома. Олег вставал и вы-
пускал Тимошку в желанный мир тьмы и волнений.
Скоро Семеновна начинала беспокоиться, выходила
из дому и звала Тимошку, но он делал вид, что не
слышит; Семеновна иногда так и ложилась спать,
не дождавшись его, и утром, покормив детей, по-
долгу его совестила. Тимошка и сам понимал, что
всякий порядочный пес обязан ночевать дома и что
осенью, когда дети уже ходят в школу, все в доме
должны поддерживать рабочий режим, но каждую
ночь его тянуло куда-то бежать. Темнее и дольше
становились ночи, пронзительнее ветер, во всем его
существе разгоралось желание движения. Ветер
плотный, густой, несущий множество неизвестных
запахов, мгновенно очищал небо от туч, и среди
осенних тяжелых низких звезд проносились стаи не-
ведомых птиц, изредка ронявших на землю зовущий
глухой крик. В такие ночи Тимошка не мог оста-
ваться в саду; через потаенную лазейку в заборе
(о ней не знали даже Вася с Олегом, потому что
у Тимошки даже в отношениях с ними устанавли-
валась некоторая отчужденность) он убегал в от-
крытое поле, окруженное со всех сторон лесами и
поселками; здесь небо становилось еще огромнее, и
приходила острая, опьяняющая боль полнейшего
освобождения. Ничего не оставалось, кроме ветра,
заставлявшего далекие крупные звезды дрожать и
позванивать, да тоскливых, зовущих криков проле-
тающих птиц.
Подкрался тихий субботний вечер, Олегу не нуж-
но было сидеть над уроками и спать можно было
лечь попозже. В саду держалась сырость, на пышно
разросшихся кустах черноплодной рябины тяжело
свисали черные, влажные кисти ягод; Тимошка лю-
бил сочные, сладковато-приторные ягоды рябины,
хотя сейчас есть их не мог; в нем уже с утра зазву-
чала тревога, весь день он к чему-то прислушивался,
а к вечеру его неудержимо потянуло на волю, в про-
сторное опус! евшее поле. Его состояние заметили и
Семеновна, и Даша, и, конечно же, Олег, выстуки-
вающий наверху свои бесконечные скучные гаммы«
перед раскрытой на самом интересном месте книгой,
о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. Без книги
было бы играть уж совсем невыносимо скучно, а так*
Семеновна, прислушиваясь к пассажам, спокойно
занималась своими делами. Каждый старался no-J
своему развлечь Тимошку, дети долго сидели возлег
Тимошки на корточках и вполголоса совещались.^
— Он заболел,— уверенно сказала Даша, щупая^
Тимошкин нос; нос был прохладный и влажный. —-1
Нос очень горячий,— добавила Даша убежденно. j
Олег недоверчиво потрогал Тимошкин нос.
— Да ну тебя, Дашка! Всегда у тебя все наобо-]
рот. j
— Нос очень горячий,— упрямо повторила Даша,?
и лицо ее выразило оскорбление. J
— Пойдем, Тимошка, заниматься к Васе, споем,—
предложил Олег.
Тимошка тотчас, словно ждал этих слов, встал и
подошел не к лестнице, а к выходной двери, пар ап--
нул ее лапой и требовательно оглянулся на Олегам
— Он хочет на улицу,— сказала Даша. J
— Сам вижу,— буркнул Олег и поглядел на Се-,
меновну, листавшую свежий номер журнала; та в,
воспитательных целях сделала вид, что ничего не;
заметила; Олег, по ее мнению, как будущий мужчи-
на, уже мог и должен был вырабатывать настоящий
характер и сам принимать решения.
— Ну, хорошо, иди,— обиженно хмурясь, сказал;
Олег и распахнул перед Тимошкой дверь. Тимошка
выметнулся на веранду, затем на крыльцо, Олег за
ним. Ветер переменился, и небо, непривычно чистое^
сияло густой россыпью звезд. Всего на мгновение
задержался на крыльце Тимошка и в один стреми-
тельный прыжок исчез; растерявшийся Олег даже
не успел его окликнуть, постоял-постоял и вернулся
в дом, необычайно молчаливый. В чуткие ноздри
Тимошке ударил горячий, доводящий его до исступ-
ления запах, и Тимошка, обо всем на свете забы-
вая, бросился к своему старому, не известному ни-
кОму лазу, обдирая бока, пролез в узкую дыру в за-
боре и понесся в поле. Луна уже взошла и залива-
ла землю чистым ровным сиянием. Пьянея оконча-
тельно, Тимошка неслышно несся наискосок ветру
й выбежав на самое возвышенное место, на середи-
HV поля, внезапно замер, припав на задние ноги.
Дуна поднималась выше, и ветер усиливался. Ти-
мошка стал яростно кататься по земле, и звезды с
луной тоже перекатывались с одного края в другой;
Тимошка терся о землю мордой, ушами, загривком,
сПиной, полз на брюхе, тесно прижимаясь к земле —
теперь наступал и его час благодарения жизни, при-
шел праздник наивысшей свободы, от всего окружа-
ющего, от дружественного и враждебного, от пищи
и голода, от любви и ненависти, от самой жизни и
от самой смерти. Это был час благодарения са-
мому началу жизни, непрерывно сеющим ее
семена неведомым звездам, и если у Чапы была своя
звезда, появляющаяся в определенный день и час, у
ежа Мишки своя, у Васи или у березки над озером,
укаждого своя, то теперь наступила очередь Тимош-
ки. Момент появления своей звезды он ощутил как
толчок, первородный, сладкий, разрывающий внут-
ренности страх заставил его еще сильнее вжаться в
землю, он пополз, затем словно посторонняя сила
оторвала его от земли. Он был не один в этот по-
луночный час; стремительные, бесшумные тени ис-
чертили поле из конца в конец; Тимошку все силь-
нее захватывал и безраздельно подчинял себе власт-
ный ритм, отдающийся дрожью во всем его сущест-
ве. Бесшумные тени все теснее сближались и стяги-
вались к четко определившемуся центру; и Тимошка
тоже находился во власти общего движения; он все
больше отрешался от себя и подчинялся закону об-
щей слитости. Он настиг маленькую скользящую
тень, то дразнящую его своей близостью, то отда-
ляющуюся от него, и изо всех сил старался не от-
стать; движение его пьянило и завораживало.
Наивысший момент наступил неожиданно, земля
вырвалась из-под ног и исчезла, и тогда и к Тимош-
ке пришло чувство собственной силы и бесконечно-
сти; отвечая на объявший темным огнехМ все его
существо зов, Тимошка вскинул острую морду к не-
бу, он нашел и узнал свою звезду, она плеснулась
ему в глаза, и тогда то, что было больше, сильнее
его, то, что было до него и останется после, заста-
вило его еще и еще раз бросить свое тело навстречу
ветру и бесконечному пространству.
Нельзя соединить однажды навсегда разъятое, и
Тимошка внезапно опал, обессилел и, высунув язык,
тяжело дыша, покорно и безошибочно устремился
назад; привычная и властная тоска по знакомым ру-
кам Васи проснулась в нем, Вася ждал его, и нуж-
но было торопиться. По полю из конца в конец гу-
лял сырой, осенний ветер, поле было совершенно пу-
стынно, да Тимошке больше ничего не нужно было,
и он ни на что не обращал внимания. Его бег ста-
новился размашистее и гонче; торопливо проскочив
через ту же дыру в заборе, он берегом озера, сквозь
заросли бурьяна и дикого шиповника, выбрался в
сад. У Васиной скамейки Тимошка озадаченно оста-
новился; по озеру молчаливо плавало несколько
крупных, никогда ранее не виданных Тимошкой птиц
с длинными гибкими шеями. Высунув язык, Тимош-
ка сел и принялся усиленно думать, у него несколь-
ко раз дернулись брови и шевельнулись уши. Неиз-
вестное всегда таило в себе опасность,— на всякий
случай Тимошка убрал язык и бесшумно лег, затем
подполз ближе к берегу, просунул нос сквозь жест-
кие былки травы; большие птицы держались на са-
мой середине озера, а их маленькие по-змеиному го-
ловы настороженно торчали высоко над водой. На-
чинался рассвет, переполненное недавними осенними
дождями озеро было совершенно безмолвно, птицы
скользили по воде бесшумно, хотя уже заметили Ти-
мошку. Они отдалялись к противоположному от не-
го берегу и затем, словно по беззвучной команде,
шумно ринулись в его сторону, вытянув шеи, шлепая
ногами по воде, их сильные крылья со свистом рас-
секали воздух. Ошарашенный Тимошка плотно при-
жался к земле; неведомые птицы со свистом пронес-
лись над ним, и мгновенный ветер словно оторвал
Тимошку от земли. Он стремительно прыгнул, щелк-
нул зубами. С неба упал далекий глухой крик, один,
второй, и все затихло; уставший Тимошка побрел
к дому и лег на крыльце, перед дверью. Незаметно
он задремал, хотя и во сне знал все, что происходило
в саду; во сне он услышал и узнал шаги Семеновны.
— A-а, явился,— сказала Семеновна. — Ну, здрав-
ствуй, бродяга, пожаловал как раз вовремя, дети
завтракают.
Олег с Дашей действительно сидели за столом.
Они с любопытством уставились на Тимошку, и тот
от неловкости отвернулся к окну. Он увидел боль-
шой куст, сплошь усыпанный иссиня-черными, даже
какими-то сизыми от избытка силы гроздьями ягод.
— Видим! Видим! — торжествующе объявила Да-
ша. — Ему стыдно. Выходной, семья за столом со-
бралась, а ему стыдно!
— Почему ему должно быть стыдно? — спросил
Олег и резонно добавил: — У него могут быть свои
дела, ничего стыдного в этом нет.
Тимошка в благодарность подошел к Олегу и сел
рядом; Олег, точно как Вася, опустил ему руку на
голову. Семеновна принесла Тимошке чашку с едой
и поставила у порога; хотя Тимошка при виде зна-
комой чашки почувствовал сильный голод, он, как
всякий хорошо воспитанный пес, помедлил.
— Иди ешь, Тимошка,— убирая с его лохматой
головы руку, ободрил Олег, и Тимошка, по-прежнему
не торопясь, прошествовал к порогу, тщательно об-
нюхал чашку и стал медленно есть.
— Он вчера свой кирпич опять по саду таскал,—
вспомнила Даша. Еще она хотела сказать брату,
чтобы он не задавался и что она сама скоро пойдет
в школу и тоже будет носить за плечами тяжелый
ранец, но в это время часто и коротко и, как все-
гда, неожиданно зазвонил телефон; опережая всех,
даже Дашу, Тимошка в один момент оказался в про-
тивоположном конце дома и требовательно оглянул-
ся, удивляясь неповоротливости людей. На этот раз
он не ошибся, в трубку опять забрался Вася. Дети,
93
толкаясь, подбежали к телефону, и Даша, завладев-
шая трубкой, важно приложила ее к уху; узнав да-
лекий голос отца, она подпрыгнула от радости и ед-
ва не отдавила Тимошке лапу.
— Папка! папка! здравствуй! — закричала она.—
Хорошо слышу, хорошо! Когда вы с; магмой приедете?
Почему так долго? Да, да,— говорила она, опять то-
ропясь,— яблоки падают, целый сад насыпался, те-
тя Женя не знает, что с ними делать.
С Васей затем поговорили Олег с Семеновной и,
наконец, по обыкновению, дали трубку Тимошке. Он
тотчас узнал Васю, он часто задышал в трубку,
убрал язык и тихонько взвизгнул. Забравший-
ся в трубку Вася почувствовал его волнение и за-
смеялся.
— Ты, Тимошка, не переживай,— посоветовал
он.—Мы на той неделе приедем с Татьяной Рома-
новной, совсем приедем, слышишь? Можно сказать,
уже выехали, билеты в кармане. Скоро приедем, Ти-
мошка! А вот как нам дальше жить, ты не знаешь?
Вот-вот, и я не знаю... Так-то вот, Тимошка
Всем сердцем одобряя слова Васи в трубке, ста-
раясь не потерять исчезающий голос, Тимошка не-
громко тявкнул; он отлично понял, что Вася вот-вот
вылезет из своей холодной и ничем не пахнущей
трубки, которую придерживал у его уха Олег, и опять
живой и необходимый, а главное, понятный, с тяже-
лыми добрыми руками опять будет сидеть на своей
скамейке у озера, хотя, конечно же, с ним вместе
непременно появится и Татьяна Романовна; она
опять повесит тряпку на крючок возле дверей и за-
ставит всех, в том числе и его, Тимошку, вытирать
ноги, что являлось всегда неприятным и нудным де-
лом — терпеливо ждать, пока тебе насухо по очере-
ди вытрут все четыре лапы. И все же сердце Ти-
мошки колотилось от радости и восторга. Вася из
трубки ушел, и она назойливо гудела; Тимошка со-
вершенно случайно глянул на рябиновый куст за
окном, теперь сплошь усеянный непрерывно и тре-
скуче кричавшими птицами. Это были дрозды, тучей
налетевшие на сад, злейшие Тимошкины враги, по-
жиравшие его самую любимую ягоду; только из-за
Васи, «забравшегося в трубку, Тимошка вовремя не
заметил грозной опасности. Еще полный радости и
восторга от голоса Васи, Тимошка помедлил лишь
мгновение, затем ринулся к двери, открыл ее силь-
ным толчком лапы и в два прыжка оказался в саду.
С оглушительным лаем ринулся он в середину са-
мого большого куста, в самую гущу дроздов, и тот-
час над садом словно поднялась темная туча, дерз-
ких и крикливых птиц оказалось неисчислимое мно-
жество, но Тимошке не удалось схватить ни одну из
них.
Припавшие к окнам обитатели дома увидели не-
вероятную картину. Над Тимошкой, непрерывно
прыгавшим вверх и щелкавшим зубами, образова-
лась серая, кверху все расширявшаяся, крутящаяся
воронка из птиц, и все это, вместе с Тимошкой, ка-
залось, приподнялось в воздух и неожиданно стре-
мительно унеслось в сторону озера. И там исчезло,
рассыпалось, как бы растаяло, и не было больше ни
Тимошки, ни дроздов, над садом повисла густая ти-
шина погожего осеннего утра.
Семеновна протерла глаза, вполне резонно пола-
гая, что ей все померещилось: взглянув на лицо Оле-
га, выражавшее крайнее недоумение, она опять при-
пала к окну. Безжалостно общипанные кусты ряби-
ны стояли, высоко вскинув ранее отягощенные гру-
зом ягод ветви, и больше ничего интересного в саду
не было.
— Они его унесли,— растерянно сказала Даша,
и тотчас, как по команде, дети бросились в сад. Бы-
ло пусто, тихо и грустно кругом, тяжело и редко
шлепались на землю спелые яблоки. Никто не знал,
что сказать или подумать, все растерянно стояли
возле Васиной скамейки и только переглядывались.
Но вслед за тем из-под мостков послышалось недо-
вольное сопение, и затем обозначилась вся Тимош-
кина физиономия; он настороженно глянул в небо
раз, другой, глянул вокруг, увидел Семеновну, Оле-
га с Дашей, выбрался из подмостков окончательно,
несколько раз сильно, с заметным неудовольствием
отряхнулся, каждый раз окутываясь густым водя-
ным облаком, несколько смущенно улыбаясь в сто-
рону скамьи. С совершенно независимым и гордым
видом, показывая, что не случилось ничего стоящего
внимания, он деловито побежал к кустам рябины,
проверить и уточнить размеры опустошения.
Жизнь в саду продолжалась, еж Мишка с рос-
кошными осенними бакенбардами осторожно проби-
рался зарослями малины, Чапа тоже готовилась к
зиме и кое-что подправляла в своем подземном жи-
лище. И Тимошка стал подбирать и глотать обилую
птицами ягоду, густо усыпавшую землю; потом по-
бежал к калитке, сел и приготовился терпеливо
ждать Васю.
ТРИ РОМАНТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ ПЕТРА ПРОСКУРИНА
Читател! \ привычно представляющему творчество Петра Проскурина по его широкоизвестным крупномасштаб-
произведениям «Судьба» и «Имя твое», по фильму «Любовь земная», по романам «Горькие травы», «Камень сердо-
в этом номере «Роман-газеты» предстоит встретиться с неожиданностью. Здесь представлен совершенно новый
Проскурин. Не писатель-эпик, умело развертывающий полотно народной жизни, а Проскурин-новеллист, причем
неожиданно романтического склада, прибегающий к средствам выразительности, которые заставляют вспомнить
о традициях таких разных прозаиков-романтиков, как Проспер Мериме, Стефан Цвейг или наш Константин Пау-
стовский,
Общим для всех трех предлагаемых здесь повестей является страстное авторское стремление взглянуть на нашу
будничную современную жизнь как бы в момент внутреннего прозрения героев, как бы заново оценить наши обычные
поступки не с позиции сиюминутного удобства и благополучия, а в соотнесении с сокровенным смыслом человеческого
существования.
Вот «Полуденные сны». Идиллическая картина ветшающей загородной дачи, рассматриваемая добрыми умными
глазами смешного пуделя Тимошки, вдруг взрывается изнутри раскрывающимися жизненными несообразностями. Хо-
зяин дачи — талантливый ученый и жена его — умная, расчетливая женщина, мечтающая обеспечить карьеру мужа,
сталкиваются с жизненной ситуацией, которая неожиданно и ярко высвечивает истинное и ложное в человеческих отно-
шениях.
Проблема человеческого таланта как формы раскрытия личности исследуется и в повести «Черные птицы». Старая
тема «Моцарт и Сальери» здесь поворачивается не личной (ревность к таланту другого), а общественной гранью:
куда пойдет искусство, если в процесс его рождения вмешается потребительская психология?
«В старых ракитах» герой — снова Бытие, Как всегда у Проскурина, все три повести стремительны по фабуль-
ному развитию, очень легко, с захватывающим интересом читаются. Однако хотелось бы предостеречь вдумчивого чита-
теля от слепого увлечения самой необычностью, неординарностью рассказываемых здесь историй. Хотя романтиче-
ская повесть, новелла уже по жанру своему всегда пишется столь же остросюжетно, как детектив или приключения,
но приключенческая сторона здесь обычно — только оболочка, внутри которой, как ядро в орехе, вызревают философ-
ская коллизия, высокие вопросы нашего человеческого предназначения.
Во всех трех печатаемых здесь романтических повестях наряду с обычным для Проскурина богатством деталей-
наблюдений, меткостью диалогов, наряду с порой даже определенной жесткостью описаний оказывается неожиданно
много музыки. Даже сами композиции произведений следуют не прозаическим, а симфоническим правилам развития
действия: с типичной четырехчастностью построения, непременным контрапунктом драматической и лирической
тартий» и их прямым столкновением в финале-развязке. Такое использование музыкальных приемов не прихоть автора.
Оно вытекает из избранного им для своих повестей романтического стиля, из необходимости внутренне организовать
тот гипертрофированный, как в музыке, эмоциональный поток, который возникает в этих повестях,
В последнее время мы много говорим и пишем о новых, глобальных изменениях в жизни людей, вызванных научно-
технической революцией. Мир необъятно вдруг раскрылся для нас. Хотим мы того или не хотим, но мы уже не мо-
жем чувствовать по старинке. Смешные увлечения парапсихоанализом или экстрасенсами являются лишь искривленным
зеркалом гораздо более серьезных и действительно объективных реалий, связанных с тем, что человек проник в атомное
ядро и шагнул в открытый космос.
Петр Проскурин в новых своих повестях, пожалуй, тоже отдает некоторую дань общественной моде. Кроме тра-
диционных для нашей прозы художественных приемов, он нередко пытается ввести в свою писательскую палитру и краски
экстраординарные. Есть принцип, что художника нужно судить в рамках внутренних законов той художественней
системы, которую он избрал для своего произведения, И при таком ключе мы просто обязаны принять ту стихию мифа,
которую, опираясь на опыт векового народного самосознания, писатель последовательно вводит в каждую из своих
романтических повестей. Аллегория, романтическая условность — здесь средство объяснить мир переживаний, шаг-
нуть еще немного дальше за те пределы художественной изобразительности, которые сложились для нас в классической
традиции. Петр Проскурин стремится зримо передать Трепет Живой Жизни уже не как сиюминутную конкрет-
ность и частность, но как звено в стремительном беге материи, ее великой эволюции и бытийном торжестве.
Как писатель Петр Проскурин обычно числился критиками в традиционалистах. Пытался угадать и высказать
цельное слово — так, чтобы оно оказалось доступным не только одному ему, романисту, а всем, кто его роман будет
читать. «Я выскажу слово, а люди обрадуются: как все точно — ведь и мы все так думали, чувствовали, только, может
эыть, высказать вот так вот прямо и откровенно не умеем», — такою всегда представлялась задача романиста со-
гласно классической «толстовской» традиции. Отсюда следовала максимальная «зеркальность» художественного изобра-
жения по отношению к действительности.
В трех новых романтических повестях Петра Проскурина на первый взгляд кажется, что подобной зеркальности
уже нет: за обычными, метко подмеченными событиями здесь по мере развития сюжетов каждый раз начинает простую
тъ необычное, из ряда вон откровенно выходящее, романтическое.
Но задумаемся: а разве в нашей современной жизни с ее, как мы уже говорили, резко раздвинувшимися прсстран-
ленными и временными параметрами, с ее новыми психологическими измерениями атомного и космического
встает ли теперь перед нами необычное, поистине чудесное за многими прежде выглядевшими обыденными язл
пнями? Вот и выходит, что Петр Проскурин вовсе не изменяет ни классической зеркальности художественного изобра-
95
тения, ни своему привычному традиционалистскому кредо, когда заостряет наше внимание на необыкновенном. Он
ведь не выдумывает его. Он просто умеет его увидеть и хочет, чтобы увидели и другие.
Повесть «Полуденные сны», начинаясь как традиционная новелла о жизни «братьев наших меньших» (вспомним
Белого Пуделя у Короленко, Белого Бима у Троепольского), незаметно выводит нас в мир людей, озабоченных нешуточ-
ными проблемами. Повесть «В старых ракитах», тоже начинаясь вроде бы со спокойно-натуралистических картин,
затем переходит в сонатное произведение, в щемящую притчу о человеке, которому уже нет пристанища в родной де-
ревне. В «Черных птицах» каждая часть (здесь снова сонатная, музыкальная форма) опять-таки начинается как бы
с бытовых подробностей. Но затем как-то незаметно, словно пробиваясь сквозь завесу, сквозь дым, натуралистически
нелицеприятные картины переходят в иное измерение — то измерение, где выше всего ценится Духовность.
Создается ощущение, будто Петр Проскурин сознательно переплел в новых своих произведениях на романтически
обостренную проповедь, льющуюся как бы изнутри человеческого сознания. Для воздействия на современного, ставшего
уж слишком деловым человека, может быть, и мало показать картину бездуховного зла. Необходимо эмоционально
встряхнуть современного прагматика, вывести его up состояния равнодушия, из привычного примирения с засильем
«вещизма».
Вспомним финал романа «Имя твое». Роман завершался трагической нотой. Сын главного героя, надежда его рода,
погибал во время испытания космического корабля.
«Был яркий мгновенный взблеск, ничтожная точка в безбрежных пространствах, и все погасло, и ничто, кроме
сжавшихся двух человеческих сердец рядом, не отозвалось на эту тихую вспышку, хотя жизнь готовилась к ней необозри-
мые миллиарды лет; беспредельный океан был нем и, как всегда, недвижим, его законом были вечность и покой без-
молвия. Он обнимал все миры и все, что являлось Вселенной праматерью всего сущего, богов и людей, неслыханных, необо-
зримых космических катастроф; в нем бушевали силы, необъятные для разума, и слабая мгновенная искорка челове-
ческой жизни по значению уравнивалась с крушением и появлением миров».
В этих строках «Имени твоего» многие критики увидели включенное в роман стихотворение в прозе. Но то было
не только стихотворение, написанное белым стихом, но и определенная философская квинтэссенция писательского
взгляда на предназначение и значение человеческой личности в этом мире. Три романтические повести Петра Проску-
рина написаны в продолжение этой писательской программы, в воплощение и объяснение ее. Они написаны, чтобы
раскрыть самое суть человеческой Духовности, показать величие той маленькой, но одновременно и глобально великой
частицы Вселенной, которая зовется Разумным Человеком,
АЛЕКСАНДР БАЙГУ ШЕВ
СОДЕРЖАНИ Е
В СТАРЫХ РАКИТАХ (Повесть)
ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ (Повесть) .
ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ (Повесть)
I
24
53
Александр Байгушев. Три романтические повести Петра Про-
скурина 95
©Состав «Роман-газета», 1983 г.
Петр Лукич Проскурин
ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ
Повести
Редактор з. радишевская
Художественный редактор С. Гераскевич. Технический редактор Т. Таржанова.
Корректоры Н. Замятина, В. Широкова
© Фото Н. Кочнева
Сдано в набор 06.10.82. Подписано в печать 29.11.82. А10914. Формат 84X108’/j6. Бумага газетная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ л. 10,08. Усл. кр.-отт. 10,92. Уч.-изд. л. 14,0.
Тираж 2 540 000 экз. (2-й завод 500 001—2 540 000 экз.). Заказ 611. Цена 1 р. 23 к.
Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, п лиграфии
и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.
Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Союз-
полиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Г. Чехов Московской обл.Звю,?Н£
Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.
ВО ВТОРОМ НОМЕРЕ
«РОМАН-ГАЗЕТЫ»
ЧИТАЙТЕ:
ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ
«ЗЕЛЕНАЯ БРАМА»
ИВАН ПАДЕРИН
«ОЖОГИ СЕРДЦА»
«Зеленая брама» — книга о малоизвестных страницах Великой Оте-
чественной войны. В ней рассказывается о боях воинов 6-й и 12-й ар-
мий, которые вместе с другими войсками приняли на себя удар фа-
шистских полчищ летом 1941 года на Украине и задержали врага на
подступах к индустриальным районам страны. Уже в этих тяжелых
боях зрели зерна наших грядущих побед, и прежде всего Сталинград-
ской битвы, ставшей закатом немецко-фашистской армии.
Очевидец событий, Евгений Долматовский подкрепляет свой рас-
сказ документами и свидетельствами других участников этих боев.
«Ожоги сердца» Ивана Падерина — пронзительно-щемящее повест-
вование, продиктованное тем, что выстрадано и выношено автором на
протяжении военных и долгих послевоенных лет. Поездка в родные
края — Кулунду — дала выход этим чувствам, позволила автору мыс-
ленно вернуться во фронтовую молодость и рассказать о друзьях-това-
рищах, с которыми свела судьба на поля^ Подмосковья, в Сталинграде,
в поверженной столице фашистского рейха.
«Ожоги сердца» — это боль солдата, это память о жертвах, которые
понес наш народ с боях с фашистскими захватчиками, это взволнован-
ный рассказ о подвиге советских людей, отстоявших свободу и неза-
висимость нашей Родины.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Валерий ГАНИЧЕВ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Георгий БЕРДНИКОВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ
(заместитель главного редактора), Олесь ГОНЧАР, Даниил
ГРАНИН, Геннадий ГУСЕВ, Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс
КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Василий НОВИКОВ, Евгений
НОСОВ, Александр ОВЧАРЕНКО, Петр ПРОСКУРИН, Валентин
РАСПУТИН, Александр РЖЕШЕВСКИЙ (ответственный
секретарь), Сергей САРТАКОВ, Андрей САХАРОВ