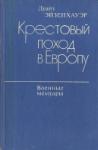Текст
ШСкан и обработка:
. krestik
Николай Борисович И В У ш к и н
полковник
Н. Б. ИВУШКИН
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР МОСКВА —1 965
9 (С) 2?
Н17
Часто бывало: яростный огонь прижал атакующих к земле, кажется, и головы не поднять. Но вдруг по цепи пролетает призыв: «Коммунисты, вперед!» И вмиг объявляются бесстрашные люди, для которых воля партии, воля Родины превыше всего, люди, которые считают себя за все в ответе — за успех боя, за судьбу каждого солдата и за судьбы всей страны. Их все больше и больше. За коммунистами встают все и дружным натиском опрокидывают врага.
Перед вами книга о подлинной красоте человеческой, о подвигах во имя народа, о силе партийного слова в бою. Автор ее — фронтовой политработник, начальник политотдела дивизии.
ДОРОГИ, ДОРОГИ...
f| I не хочется начать свои записки с предново-
/I / годнего дня, 31 декабря 1942 года. Этот
/ I / день не был отмечен в войне особо важны-/ I/ ми событиями. На Северо-Западном фронте / I/ шла обычная перестрелка, мерзли бойцы в J у обледеневших траншеях, поскрипывали мо-v гучие сосны и ели, ветер мел поземку в ку- старниках, снайперы в молчании высматривали цели, «рама» — немецкий самолет-разведчик — нудно и неутомимо кружилась над полями боев. День как день.
Но в моей личной жизни произошло большое событие: я был назначен начальником политотдела 55-й стрелковой дивизии, той дивизии, которая позже стала мне родной семьей.
Нельзя сказать, чтобы я охотно принял новое назначение. Жаль было расставаться с друзьями из 133-й стрелковой бригады, где я до того служил. Большие масштабы не радовали: что греха таить, пугала ответственность. Да и доходили слухи: мол, командир 55-й человек властный, вспыльчивый, политработникам с ним не ужиться.
Одним словом, не по велению, сердца, а лишь по приказу я тронулся в путь. Ехали верхом, не торопясь, я и мой ординарец Алеша Мусатенко. Кони привычно ступали в ногу. Знакома была рокадная дорога, изъезженная и исхоженная, со следами автомобильных шин, конских копыт, солдатских сапог. Знакомы были илеса с израненными и обожженными деревьями.
Разговаривать не хотелось, все вокруг вызывало воспоминания. Мысли уносились назад, к началу войны. А начиналась для меня война в таких же краях и относительно недалеко отсюда, в районе Демянска. Полк,
1*
3
b котором я, вчерашний слушатель Промакадемии, был секретарем партбюро, проходил через села и города, близкие моему сердцу. Одни из них я знал в прошлом как секретарь окружкома, другие—как секретарь горкома. Много волнений и радостей было связано с ними. И горя тоже. Большого горя. В 1938-м я был арестован по злому навету и более года считался врагом страны, дорогой мне, как мать, партии, которой готов был отдать всю свою кровь по капле.
Впрочем, и радость и горе довоенных лет ушли на дно памяти с 22 июня. Они выглядели уже ничтожными в сравнении с грозной опасностью, нависшей над Родиной. Да и заботы военных будней порой просто не оставляли времени для размышлений.
Первым военным испытанием был для меня обычный марш, трехсоткилометровый бросок из района Демянска в район Великих Лук.
Шли тогда днем и ночью. Шли изнывая от жары, задыхаясь от пыли. Шли шатаясь от усталости, засыпая на ходу. Люди не были подготовлены к длительным переходам. Недавние запасники не умели как следует завернуть портянки, и сапоги натирали кровавые мозоли. Еще горше было тем, кто вместо сапог получил ботинки с обмотками. Туго обмотаешь ноги — икры болят, нельзя идти! Ослабишь — обмотки сползают. Черт побери того, кто выдумал эту обувь!
Тяжелей всех, вероятно, было командирам и политработникам. На коротких привалах солдаты отдыхали, а у нас начиналась сам.ая напряженная работа: проверить, во всех ли подразделениях накормлены бойцы, добыть машины и телеги, чтобы подвезти отставших, провести беседы, познакомить солдат со сводками Совинформбюро... Всего и не перечесть. Но что самое удивительное: хотя мы почти не отдыхали, никто из нас не поддавался усталости, не проронил ни единой жалобы.
Пожалуй, тогда я впервые по-настоящему ощутил, какая могучая сила чувство ответственности за людей на войне, сила, без которой нельзя командовать даже самым маленьким подразделением.
С каждым часом становилось все тяжелее. Многие бойцы, обессилев, валились прямо на дорогу. Стало ясно: необходим до зарезу большой привал для отдыха 4
и сна. Однако приказом на марш это не предусматривалось. Командир и комиссар полка не решались просить у комдива время для отдыха людей.
А как же должен поступить в такой обстановке секретарь партийной организации полка?.. На этот вопрос никто не мог мне дать удовлетворительного ответа.
Я тогда не очень-то разбирался в воинской субординации и решил обратиться прямо к комдиву. Добыв коня, я обогнал растянувшиеся по лесной дороге колонны полка и въехал в деревню, где расположился на ночлег штаб дивизии.
Комдив спал в одном из пустых классов школы. Меня пытались не допустить к нему. Но я все-таки настоял на том, чтобы его разбудили.
Он принял меня сидя на походной койке, в нижнем белье. Света не зажег. Это была моя первая встреча с комдивом, но лица его я так и не разглядел. Выслушав меня, комдив сказал:
— Твое дело людей вести, а не об отдыхе просить. Пойми, положение на фронте тяжелое, торопиться надо.
Я стал доказывать, что после хорошего отдыха люди пойдут быстрее, что все равно обессилевших солдат в бой не поведешь, но комдив, казалось, уже не слушал меня. Он вновь улегся и укрылся одеялом.
С тяжелыми думами возвращался я в полк: «Он ли бюрократ, я ли дурень?»
На полпути меня обогнал мотоциклист — офицер связи. Я не обратил на него внимания, хоть он и помахал мне рукой. Ну, а вскоре я увидел охранение на лесной поляне, располагающихся на отдых людей. Значит, мне все-таки удалось убедить комдива.
Не скрываю, я был горд своей первой маленькой победой на марше.
К сожалению, гордиться первым боевым крещением мне не пришлось. Утром 28 июля я оказался в наступающей цепи, вскоре залег вместе с цепью под жестоким огнем врага: прильнул лицом к земле и втягивал голову в плечи при каждом разрыве снаряда. Я не знал, что должен делать, и поэтому страх смерти был сильней меня.
Время шло. Мы лежали, теряя людей ранеными и убитыми. И казалось, этому нет конца. Но вдруг я
5
услышал громкий и уверенный голос: не надрывный крик, даже не призыв, а спокойный приказ:
— Коммунисты, вперед!
Я поднял глаза и увидел комиссара полка Чекмарева. Он стоял под огнем один, в зеленой пограничной фуражке, с автоматом в руках, с лицом будничным и суровым. Затем комиссар пошел вперед, не оглядываясь. Пошел, не сказав больше ни слова. Я не могу проанализировать чувство, которое подняло нас, как незримая волна. Я знаю только: мы не могли не подняться. Мы рванулись за комиссаром, обогнали его... Коммунисты, комсомольцы, все бойцы. В каждом из нас словно ожила частица чекмаревской бесстрашной души.
Позже я много размышлял о различных формах и методах партийно-политической работы на фронте, однако навсегда уже был убежден в том, что ее сердце в двух простых и неотразимых словах: «Коммунисты, вперед!»
...Кони топали мерно и разом остановились на лесной поляне. Прервался ход мыслей. Мы с Мусатенко переглянулись. Здесь недавно вела бой наша бригада. (В ней я служил с декабря 1941 года.) Здесь у меня с Мусатенко были общие воспоминания.
Однажды ночью мы шли вон по той чуть желтеющей тропинке в батальон, который трое суток не выходил из боя. Фланги наших подразделений были открыты, и немецкие ракетчики с двух сторон освещали нам путь. Было сравнительно тихо. Лишь артиллерия противника вела методический огонь по площадям.
То, что мы увидели на переднем крае, поразило нас. Прямо на снегу лежали солдаты. Издали мы приняли их за убитых. Одинокий часовой под огромной елью выглядел как памятник на кладбище. И вдруг мы услышали храп. Да, обыкновенный храп. Он мощно звучал в промежутках между разрывами снарядов. Бойцы спали.
Мы не стали никого будить. Вместе с часовыми еще долго охраняли покой солдат...
Сон бойцов на переднем крае показался мне яркой приметой быта войны. Обыкновенная жизнь продолжа-6
лась, ничто не могло остановить ее течения. И мне кажется, эта обыденность человеческого бытия среди грозных опасностей и смертей, как ничто, утверждала неистребимую силу жизни.
Мы часто во время войны приказывали: «Стоять насмерть!», может быть, вернее было бы говорить: «Стоять на жизнь!»
Впрочем, это уже сегодняшние мысли, а тогда, смотря на спящих бойцов, я думал о другом: о том, почему эти бесстрашные люди испытывали горечь поражений и неудач.
В сводках Совинформбюро наш фронт упоминался редко. Известно было, что в сентябре 1941 года немецко-фашистским войскам удалось прорваться юго-восточнее озера Ильмень и занять силами 16-й армии район Залучья, Лычково, Демянск и далее на восток до берегов озер Белье и Селигер. Потом сообщалось, что в феврале 1942 года эта армия, численностью 60— 70 тысяч человек, окружена в районе Демянска войсками Северо-Западного фронта. Однако ликвидировать окруженную группировку не удалось.
В апреле немцы пробили около населенного пункта Рамушево «коридор», и 16-я немецкая армия соединилась с группой армий «Север». Войска Северо-Западного фронта несколько раз переходили в наступление, стремясь рассечь «рамушевский коридор», но успеха не имели. В этих неудачных боях участвовала и наша бригада.
В чем были причины неудач? Я не мог анализировать объективные условия в масштабах фронта. Но уровень оперативного мышления и стиль руководства нашего начальства меня удивляли. Сколько раз бросали в бой нашу бригаду, не дав времени подготовиться, разведать обстановку! Сколько раз в начале войны ставили перед нами задачи невыполнимые!
С лесной поляны, на которой мы с Мусатенко остановились, была видна заснеженная высотка со смешным названием «Огурец». Огурец этот был обильно полит солдатской кровью.
Какая там у немцев была оборона! Дзоты и завалы, колючая проволока перед траншеями. Завалы, не пробиваемые снарядами нашей артиллерии. А все поле перед высотой пристреляно противником до последнего кустика, до малейшей болотной кочки.
7
Раз за разом высоту атаковали наши батальоны. Помню, одной из рот удалось совершить беспримерный по смелости бросок. Атаку тогда возглавил комиссар батальона Чанбарисов. Но овладеть высотой они не сумели. Пришлось залечь в мертвом пространстве. Ни вперед, ни назад. А в это время к нам на НП прибыл член Военного совета 11-й армии. Прибыл и сразу закричал:
— Почему не наступаете? Чего они там залегли?
Попытались мы объяснить: у роты слишком мало сил для атаки. И мы пока сделать ничего не можем. Нужна помощь — артиллерия, авиация, танки...
Куда там! Член Военного совета нас и не слушал. Спросил только:
— Есть связь с ротой?
— Есть.
— Соедините.
Соединили. Командир роты глуховатым голосом стад докладывать обстановку. Член Военного совета перебил:
— За Сталина, вперед!
Что-то хрипло прозвучало в ответ в телефонной трубке, и связь прервалась.
Член Военного совета бушевал, размахивал пистолетом, изматерил всех присутствующих, требуя немедленного наступления. Кончил он тем, что отстранил от занимаемых должностей командира и комиссара бригады и направил их командовать батальоном. Тут же они, надев каски, вооружившись автоматами, по-пластунски под огнем противника поползли принимать батальон. Впоследствии решение члена Военного совета не было утверждено. Но в тот день командование бригадой перешло к начальнику штаба и ко мне.
Член Военного совета на прощание предупредил: — Не выполните боевую задачу, и вас разжалую. Остаток дня и всю ночь мы, как могли, готовились к наступлению. Следующим утром оно началось. Однако значительно превосходившая по силе нашу артиллерия и авиация противника сковали действия бригады. Оборона высоты Огурец продолжала оставаться для нас неприступной. Более того, подтянув резервы, немцы сами перешли в контратаку и потеснили один из наших батальонов.
8
Я не назвал фамилии члена Военного совета, необдуманно бросившего нас в бой. Он погиб в войну, а мертвые имеют право на снисхождение. Но я с удовольствием называю имя начальника политотдела армии бригадного комиссара Шабанова, который прибыл к нам в самый тяжелый час.
Шабанов держался дружески, спокойно и скромно. В наши распоряжения не вмешивался. Его присутствие не мешало руководить боем. Наоборот, оно как бы придавало больший вес и уверенность нашим приказам. Уверенность и спокойствие незримо передавались и бойцам.
Начпоарм изучал обстановку, наблюдая в бинокль за полем боя. Потом он позвонил в штаб армии, и вскоре к нам прибыл дивизион реактивной артиллерии — знаменитых «катюш». Они сыграли свою решающую роль. К вечеру, отбросив противника, бригада не только восстановила прежнее положение, но и овладела высотой Огурец.
Ночью, когда мы анализировали прошедший бой, Шабанов отметил некоторые наши ошибки. Я спросил:
— Почему же вы не сказали о них в ходе боя?
— Ошибки были частные и несущественные, — ответил Шабанов. — Если бы я стал вмешиваться, у вас появились бы и неуверенность и нервозность, которые могли привести к ошибкам гораздо более серьезным.
Нужны ли еще комментарии к рассказанному, к двум стилям руководства? Пожалуй, можно обойтись и без них.
...Давно мы с Мусатенко покинули лесную поляну. Кони перешли на рысь. Скрылась в предсумеречной дымке злосчастная высота Огурец.
Впереди за сиреневатыми березовыми рощицами, пушистыми и нежными, замаячили обгорелые трубы сожженной деревни, неподалеку от нее размещалось командование 55-й стрелковой дивизии. Время было думать не о прошлом, а о будущем.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
омандир 55-й полковник Заиюльев, человек средних лет, с гладко выбритой яйцевидной головой и пышными чапаевскими усами, встретил меня сухо-официально. Встал, выслушивая мой рапорт, и так и не сел и мне сесть не предложил. Весь разговор мы вели стоя. Оба немалого роста и почти упирались головами в бре
венчатый накат землянки, тускло освещенной лампой из снарядной гильзы.
— Воевать приходилось?
— Приходилось.
— Докладывайте.
Я рассказывал, посматривая на Золотую Звезду, которая украшала гимнастерку командира (заслужил он ее еще на Халхин-Голе). Заиюльев слушал, бесцеремонно меня разглядывая и словно оценивая. Было мне немного не по себе, все вспоминались слухи: «Самоуверен, груб, политработниками пренебрегает...» Вдруг Заиюльев улыбнулся и сказал:
— Хорошо, будем воевать вместе. Знакомьтесь с дивизией. Время есть, мы сейчас во втором эшелоне.
То ли от улыбки, показавшейся мне дружеской, то ли от первых человеческих слов «хорошо... вместе» на душе стало легче. «Может, не так страшен черт, как его малюют», — думал я, выходя из землянки.
Весь остаток дня я провел у заместителя командира дивизии по политической части полковника Шведова. Никифор Викторович Шведов встретил меня запросто, по-братски. Усадил, напоил чаем, стал рассказывать о своей дивизии и о себе. Был он волжанином, рыбацким сыном. Рано остался сиротой, батрачил у кулаков, работал на рыбных промыслах. Коммунист с двадцать
1Q
шестого, в армии с тридцать четвертого. Повидал всякого, крестился огнем в финскую, на Отечественной с первых дней.
Шведов был из тех людей, кого испытания не гнут, не ломают, а делают все крепче и умней. Его атлетическая фигура дышала силой, глаза светились доброй мыслью.
О трудном и горьком пути дивизии Шведов говорил спокойно. Не пережитые беды, а добытый в боях опыт занимал его ум. В сорок первом 55-я истекла кровью в жестоких боях и словно бы умерла. Но в начале сорок второго как бы родилась вторично. После краткого периода неудач в боях между реками Ловать и Пола нанесла под Рыкалово и Большими Дубовицами жестокий урон разрекламированной фашистами эсэсовской дивизии «Мертвая голова».
Я спросил Шведова о Заиюльеве. Никифор Викторович задумался. Надолго. Потом заговорил медленно, словно ощупывая каждое слово, прежде чем его произнести.
— Видите ли, мне судить о нем объективно трудно. У нас с ним сложные отношения. Был я когда-то комиссаром в одном соединении, где он командовал полком. Пробежала тогда между нами, как говорится, черная кошка. — Шведов постучал костяшками пальцев по столу.—Дело было сугубо личное, разбираться в нем сейчас ни к чему. Все мы не святые... Ну, когда он стал командиром, а я комиссаром пятьдесят пятой, старое всплыло. Не такой человек наш командир, чтобы начисто отделить общественное от личного. Пока были мы на равных правах, еще терпел, а как стал я из комиссара замом, не замечает меня, будто и не существую...— Шведов вздохнул, пожал плечами.—Конечно, война, решения принимаются быстро, приказ есть приказ и так далее, но все-таки при назначении на такие должности, как наши, надо бы учитывать все: и характеры, и личные качества, и взаимоотношения людей...— Ну что ж, пойдем встречать Новый год, — неожиданно закончил Шведов.
Мы вышли из землянки. Я все еще раздумывал над словами Никифора Викторовича. Пожалуй, в них был глубокий смысл. Конечно, армия держится на безоговорочной дисциплине, на безусловном подчинении при
ц
казу. Но во сколько раз возрастает сила приказа, когда он совпадает с желаниями людей, не ломает их волю, а, наоборот, становится выражением их стремлений и чувств!
— Только не судите о Заиюльеве по моим словам,— сказал еще Шведов, когда мы входили в большую мед-санбатовскую палатку, где был накрыт новогодний стол, — составьте свое мнение сами. Может быть, оно будет другим... И отношения у вас сложатся по-другому.
Тогда эти слова показались мне лишь формальной данью объективности. Сердце было на стороне Шведова.
Новогодний стол не выглядел богатым. Главный деликатес — американская свиная тушенка «второй фронт». До чего же метким было это прозвище! Как едко поддевало оно союзников, которые пока консервами отделывались от большой войны.
Подняли мы первый тост за нашу победу на Волге. Вся армия и вся страна были тогда как бы озарены ею. Выпили и за грядущие победы нашей дивизии.
Я еще был чужим в дружной компании политотдельцев и штабистов. У них были свои разговоры, свои воспоминания, они понимали друг друга с полуслова. Чувствовалось, что мне не особенно рады. Ждали, что начальником политотдела станет оставшийся моим заместителем майор Ровин. И в том, как смеялись его остротам, как подчеркнуто внимательно и сердечно относились к нему, я чувствовал протест против себя. Однако он меня не огорчал. Мне нравилось, что я вхожу не в разношерстный, а в дружный, единодушный коллектив. И это уж от меня зависело найти в нем свое место.
Заиюльев тоже присутствовал на импровизированном банкете. Я сознательно употребляю слово «присутствовал» вместо «участвовал». Он сидел за столом, словно безразличный ко всему происходящему. Молчал и только покручивал кончики усов.
На следующее утро я отправился в подразделения. Начал с батальонов 111-го полка. Сопровождал меня заместитель командира по политчасти майор Прохоров, истинный кадровый офицер, подтянутый, немногословный, не дающий послаблений ни себе, ни другим. Во
12
всем был строгий порядок, который не могла нарушить война. Бойцы чистые, отдохнувшие, в отлично подогнанном обмундировании. В каждом подразделении — землянка-баня, самодельные дезинфекционные камеры. Каждый вечер — кино.
В 107-й полк меня повел мой заместитель майор Ровин.
Невысокий, худощавый, живой и юркий, он был, пожалуй, самым остроумным и самым информированным человеком во всей дивизии. Знал раньше всех и лучше всех, что, где, с кем произошло, и охотно делился своими сведениями.
— Как это вам удается? — спросил его я.
— Пока большое начальство вкушает особый харч, Ровин общается с солдатами.
Мой заместитель любил говорить о себе в третьем лице и всегда немного завидовал небольшим привилегиям командования дивизии. Слабости забавные и, в общем, простительные.
Без Ровина мне пришлось бы в 107-м полку трудно. Политработников на КП не оказалось, а командир полка майор Вербин был не склонен к товарищеской беседе. «Так точно!.. Никак нет!.. Будет исполнено!» — других слов мы от него не услышали.
Меж тем полк был славен своими снайперами. Тут служили человек замечательной зоркости — боец Сава-теев, великолепно выслеживавший и уничтожавший фашистских «кукушек», терпеливый и невозмутимый Калинников, часами поджидавший в засадах немецких офицеров, официальный зачинатель снайперского движения в дивизии Кирилл Швыдченко, автор опубликованного в дивизионной газете «Победа» обращения с призывом множить ряды метких стрелков.
Портрет Швыдченко, боевой счет которого приближался к сотне убитых гитлеровцев, был прибит к дереву у одной из землянок. Под портретом — стихи Лебедева-Кумача:
Вот мастер снайперской науки, Фашистской нечисти гроза.
Какие золотые руки, Какие зоркие глаза!
Если бы сейчас кто-нибудь выставил свой портрет на пороге дома, это показалось бы и нескромным и
13
сМешным. Но во время войны многое воспринималось по-другому. Портрет как бы приглашал молодых бойцов: «Заходите, посоветуйтесь».
В землянке под портретом жил сам Швыдченко — немолодой, коренастый и плечистый, а с ним его напарник и друг, юноша из семьи сибирских охотников и золотоискателей Александр Сибитов.
Снайперы были люди гостеприимные, но неразговорчивые. Не потому, что их «заела скромность», а потому, что к снайперским рассказам многие относились, как к охотничьим или рыбацким.
Доморощенные остряки пошучивали:
— Если сложить все снайперские счета, так, пожалуй, выяснится, что гитлеровская армия давно уничтожена. Даже не понятно, кто с нами воюет.
Конечно, за абсолютную точность снайперских подсчетов поручиться нельзя было. Не могли же они, в самом деле, проверить, кто после выстрела во вражеской траншее от страха упал, кто ранен только, а кто убит. Бывало, что записывали фрицев в убитые по принципу: «Вали побольше, чего их жалеть». И все же преувеличения не были велики, находились, так сказать, в пределах нормы. Об этом, кстати, неопровержимо свидетельствовало перехваченное на днях разведчиками и переданное снайперам письмо на родину некого Ганса Вольфа.
Кирилл Швыдченко молча протянул мне потрепанный конверт с письмом и листок с переводом, сделанным в штабе полка.
«Россия, 13.8.42. Дорогие родители и Пула!
Привет из России шлет ваш Ганс. Мы все время находимся на позиции. Каждый день ожидаем смены. Нас сейчас осталось всего 20 человек из «старой» роты. Вчера снова был «черный» день для нашего отделения. Нас было всего 7 человек. 10 августа утром один солдат на посту был замечен снайпером. Тотчас же был он убит. В тот же день вечером второй был сражен очередью из автомата. Вчера рано утром погиб один от осколка снаряда, и вчера же в полдень погиб Вени, мой друг (из Ингверт-на-Сааре). Когда второй номер пулеметного расчета хотел перебежать, его ранило в спину. Вени пытался втащить раненого в траншею, при этом был убит снайпером. Остались только
14
Я И комайдир отделения. Кто следующий? Конечно Вольф должен расхлебывать всю эту кашу.
Много приветов от вашего Ганса».
— Что ж, фашистский вояка Ганс Вольф написал прекрасную аттестацию на наших снайперов. Жаль, что письмо не попало в Германию, — заметил я.
Снайперы согласно закивали в ответ...
— А что, если нам собрать всех снайперов для обмена опытом? — предложил Ровин, когда мы возвращались в политотдел.
— Дело хорошее, — согласился я.
Однако осуществить эту идею нам тогда не удалось.
Вечером полковник Заиюльев сообщил, что предстоит марш и подготовка к наступлению в районе населенных пунктов Левошкино — Федорово, т. е. в направлении восточной части «рамушевского коридора».
— Задача нелегкая, — заметил Заиюльев. — На этом участке уже неоднократно безуспешно наступали, и противник основательно укрепил здесь свою оборону... Правда, штаб армии обещает нам помочь: ввести дивизию второго эшелона. Но на первых порах придется действовать одним.
Совершив ночной марш, полки вышли в исходный район.
В нашем распоряжении не было ни авиации, ни мощной фронтовой артиллерии. Главной силой были солдаты — мастера лесного боя. А это был особый вид боя, где каждое дерево могло стать и засадой, и прикрытием, где лавина общего наступления раскалывалась на сотни отдельных схваток, требовавших от любого солдата самостоятельности и находчивости.
Командиры создавали в подразделениях группы «карманной артиллерии», отбирая лучших гранатомет-чиков; специально готовились особо ловкие и смелые люди для захвата вражеских дзотов.
Политработники разошлись по ротам, где должны были провести ночью перед боем партийные собрания накоротке, те знаменитые фронтовые партийные собрания, которые часто решали успех боя. Там не произносили длинных речей, хотя никто не устанавливал регламента, терпеть не могли общих фраз, не заслушивались записными ораторами. Это были собрания,
15
где давались клятвы в храбрости, в беззаветной преданности Родине, преданности, которую нужно было через несколько часов доказать делом. Здесь читались потрясающие по своей силе и простоте заявления: «Хочу умереть коммунистом!» Здесь был настоящий разговор сердец — искренний, мужественный, лаконичный. И этот разговор объединял разных людей в одно целое, в боевой, партийный организм, живущий одной мыслью, одним чувством.
Я отправился в 107-й полк. В темноте остановился у одного из блиндажей и невольно подслушал разговор двух молодых офицеров, поначалу огорчивший меня.
— К нам бы на фронт Рокоссовского или Чуйкова. Тогда бы дали немцу прикурить.
— Да, на наших генералов плоха надежда... Больно много еще Горловых сидит.
Горловы... Я вспомнил пьесу Корнейчука «Фронт», прошлой осенью напечатанную в «Правде», пьесу, ударившую тогда как гром.
Нужно было обладать той поистине несокрушимой уверенностью в конечной победе, той особой большевистской смелостью и искренностью, какой обладал Центральный Комитет нашей партии, чтобы в разгар войны, в период тяжких неудач, опубликовать для всей армии и народа такое произведение, как «Фронт». Ведь в пьесе прямо говорилось, что среди наших военачальников есть люди закостеневшие и отсталые, неспособные руководить. И это давало моральное право каждому бойцу жестко оценивать деятельность своих командиров.
Нашлись недальновидные, а то и просто неумные люди, которые испугались пьесы, увидели в ней подрыв авторитета начальников и даже поклеп на Советскую Армию. Однако абсолютное большинство фронтовиков верно поняло и одобрило пьесу. И это понимание и одобрение во многом помогло замене консервативных Горловых талантливыми Огневыми, содействовало укреплению авторитета подлинно передовых военачальников.
Конечно, не следует переоценивать влияния литературного произведения на исторические события. Ноевою роль пьеса сыграла и в битве на Волге.
Подслушанный мною разговор двух офицеров был как бы отголоском размышлений о «Фронте» в связи
16 Зак. 507
с победой на Волге. И я понял, что не вредные перед боем сомнения, а большая жажда ощутимой победы, добытой своими руками, вызвала этот ночной разговор.
Утро 8 января 1943 года выдалось солнечное и морозное.
На переднем крае зачитывалась листовка с обращением политического управления Северо-Западного фронта:
— «Товарищи бойцы и командиры!
Мы в долгу перед Родиной. Родина ждет от нас разгрома и полного уничтожения врага перед нашим фронтом. Сейчас, больше чем когда-либо, мы имеем все необходимое для осуществления этой задачи...
Мы должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти...»
Артиллерийская подготовка возвестила о начале наступления. Наша дивизия вступила в бой...
В тот день успех обозначился с самого начала наступления.
Батальоны 228-го полка, которым командовал Иван Адольфович Череповецкий, офицер хладнокровный, рассудительный и опытный, двинулись вперед, прижимаясь к огневому валу. «Прижимаясь к огневому валу» — как буднично звучат сегодня эти слова! Но ведь это значило следовать вплотную за разрывами снарядов собственной артиллерии, переносившей огонь все дальше в глубь обороны врага. Точность артиллеристов, мужество и великолепная выучка пехотинцев, отрегулированное, как механизм, взаимодействие — вот что стояло за
этим.
228-й полк захватил первую линию немецких траншей на своем участке.
Подразделения 111-го полка втянулись в лесной бой. В просветах между деревьями пролетали «снаряды карманной артиллерии». Маленькие группы бойцов, по колени и по пояс в снегу, продирались сквозь лесную
чащу и выходили противнику в тыл.
Однако и немцы были отнюдь не плохими солдатами.
Дрались упорно и зло. Каждый шаг требовал от нас подвига. И подвиги совершались один за другим.
Можно рассказать о поединке маленького удмурта Стрелкова с немецким самоходным орудием. Орудие все
время меняло позиции, а боец согевязкой гранат, глу-/
2 Н. Б. Ивушкин а 17
боко зарываясь в снег, то полз за ним, то выжидал, как охотник крупного зверя. Выжидал, пока не оказался достаточно близко, чтобы швырнуть гранаты, уничтожившие весь боевой расчет самоходки. Можно вспомнить, как, оставшись один против четырех гитлеровцев, Зарецкий с непостижимой быстротой произвел четыре выстрела, прежде чем враги успели опомниться. (Этому была посвящена специальная листовка.) Можно поведать о замполите роты лейтенанте Быкове, увлекшем за собой бойцов и первым ворвавшемся во вражескую траншею...
Я в тот день впервые видел в бою командира дивизии. Пожалуй, с точки зрения догм военной науки Заиюльев вел себя далеко не идеально: мало доверял своему штабу, частенько как бы забывал о нем, не задерживался он долго и на своем наблюдательном пункте. Но было у Заиюльева замечательное чутье боя, та высокая командирская интуиция, которая позволяет мгновенно определять, где твое присутствие в данный момент всего необходимей. Его личное бесстрашие, спокойная уверенность в успехе чрезвычайно импонировали и офицерам и бойцам. Одно его присутствие как бы гарантировало удачу. В этом была главная сила нашего Заиюльева, то, что связывало его с традициями таких командиров, как Чапаев или Щорс.
Я еще не чувствовал себя вполне уверенно в этом бою, недостаточно знал людей. Стремился, не навязываясь Заиюльеву, находиться все же неподалеку от него. Важно было, чтобы политработники дивизии в каждую минуту делали то, что комдив сейчас считал самым главным. Много позже я узнал, что Заиюльев это оценил. Но тогда, мне казалось, он меня и не замечал.
Когда 228-му полку удалось прорвать линию обороны* противника и продвинуться вперед на полтора километра, Заиюльев ввел в бой 107-й полк и приданный дивизии танковый батальон.
Командир полка майор Вербин посадил на танки десант из тридцати автоматчиков во главе с энергичным командиром 1-го батальона майором Михайловым. Перед ними была поставлена задача овладеть деревней Левошкино.
Надо сказать, что эту боевую задачу танкисты и автоматчики выполнили блестяще. Боевые маши
18
ны на огромной скорости проскочили сквозь стену огня. Только клубы снежной пыли, комья мерзлой земли да глубокие воронки остались за ними. Гитлеровцы бежали из Левошкино, устилая трупами деревенскую улицу. Десятки пленных стояли у плетней, подняв руки.
Женщины и дети выбегали из хат, выползали из погребов и бросались обнимать своих. Они и радовались встрече, и плакали, вспоминая о недавних муках, о тех, кто был убит и замучен здесь фашистами.
Однако бой не кончился. Над деревней рвались снаряды. И было принято решение срочно эвакуировать всех мирных жителей в тыл.
...Немцы перешли в контратаку. Они уже оправились от потрясения, вызванного внезапным и стремительным налетом танков с десантом. И хотя в Левошкино подтянулись другие наши подразделения, превосходство в силах было на стороне врага. И тут героями дня стали наши артиллеристы-комсомольцы. Расчеты Василия Грабована и Ивана Понамарчука подняли свои орудия на руках и понесли их через открытое поле за деревней. Они шли по глубокому снегу, задыхаясь от усталости. Вытаскивая завязшие ноги, теряли валенки. Мускулы ныли от боли, разматывались портянки, и ноги каменели на ветру. Пули расчерчивали замерзший снег, осколки плавили его.
Но вот уже орудия на прямой наводке, контратака врага на время приостановлена.
Выиграны были самые дорогие минуты, которыми воспользовалось командование артполка, выславшее вперед наблюдателей и установившее связь со своими батареями.
Огонь артполка заставил врага отступить.
Задача дня была выполнена. Дивизия прорвала линию обороны противника, продвинулась на три километра вперед и закрепилась на новом рубеже.
Ничто так не окрыляет, как первый успех. Никакая тяжесть не страшна, никакие преграды не кажутся непреодолимыми для людей, одухотворенных победой. Значение победы нельзя измерять только захваченной территорией, количеством пленных и убитых врагов. Любая, самая маленькая победа — это прежде всего моральное торжество. Солдат, однажды победивший, уже
2*
19
никогда не испытывает страха перед противником, не теряет веры в своих командиров.
Среди бойцов царило праздничное настроение.
Наступила ночь, не принесшая отдыха ни командирам, ни политработникам, ни тыловикам.
Но они отдыха и не хотели. В кромешной тьме, по глубокому снегу на самодельных санях подтаскивались боеприпасы. Маскировались в оврагах задымившиеся кухни. Отправлялись в тыл раненые.
В медсанбате одна за другой проделывались сложнейшие операции, которые, может быть, были достойны войти в учебники медицины, если бы у кого-нибудь нашлось время записать их ход.
В политотделе, оставшийся в одиночестве, необычно молчаливый, не спавший много ночей, инструктор по информации капитан Айзен строчил донесения.
В нескладном автофургоне под фанерной крышей печатался свежий номер газеты «Победа».
На командном пункте сошлись мы — Заиюльев, Шведов и я. Комдив и его заместитель по политчасти почти не разговаривали. Шведов коротко докладывал о состоянии дивизионных тылов, Заиюльев молча кивал головой. Затем Заиюльев сухо отдавал распоряжения на завтра, а головой кивал Шведов.
Было и странно и обидно, что эти два человека, так много сделавшие для успеха боя, держались словно чужие.
Вероятно, я симпатизировал Шведову больше, но Заиюльев показался мне сегодня совсем одиноким. Я заговорил с ним о людях, которых видел в бою. Многие из них называли себя заиюльевцами.
— Думаю, это для командира высшая награда,— сказал я.
— И тяжелая обязанность, — хмуро добавил Заиюльев.
— Тяжелая?
— Легко быть храбрым в бою, а остальное... — комдив не договорил.
...Поздним вечером следующего дня Заиюльева и Шведова вызвали на КП армии. Вернулись они встревоженные.
— Приказано продолжать наступление своими силами. Никакая новая дивизия в прорыв вводиться не
20
будет, — хмуро сообщил Заиюльев. Помолчал и добавил:— Надули нас, — и зло выругался.
Убежден, что в те времена командование нашей 11-й армии еще не умело трезво оценивать силы противника. Амплитуда колебаний между переоценкой и недооценкой была весьма велика. Каждый успех, как и каждая неудача, резко сказывались на колебаниях маятника.
Мы добились первых успехов. От нас ждали дальнейших. Между тем продвинувшиеся вперед подразделения врезались клином во вражеское расположение. У нас не хватало людей, чтобы надежно прикрыть фланги.
Противник разгадал нашу слабость. Методично, не спеша он стал теснить наши подразделения, отрезая дорогу за дорогой. В конце концов в наших руках остался только один грейдер. По нему под непрерывным обстрелом доставлялись боеприпасы, продовольствие и вывозились раненые. Вскоре враг оседлал и этот грейдер.
В нашем распоряжении было несколько танков. Комдив решился на отчаянную попытку бросить их на прорыв. За танками должны были проскочить машины с продовольствием и боеприпасами.
Я направил к бойцам на исходные позиции инструктора политотдела старшего лейтенанта Иохима. Он должен был побеседовать с людьми и возвратиться. Большего от него в тот раз не требовали.
Иван Александрович Иохим, человек молодой, мягкий и обаятельный, умел говорить просто и задушевно, без трескучих фраз. И это было очень важно. Но еще важнее было его умение почувствовать, когда надо не говорить, а делать дело.
Воздействие самой горячей, самой блистательной речи равно нулю (а может быть, и отрицательной величине), если оратор, призывавший к подвигу, сам избегает опасности, каждый золотник слова отзывается пудом на весах человеческих сердец, если слово подтверждается делом.
Иохим не вернулся в политотдел после беседы. Он остался с бойцами группы прорыва. И когда враги, встретившие их яростным огнем, подбили один из танков и заставили повернуть назад остальные, когда снаряды раздробили в щепки машины, только Иохим во главе десятка солдат сумел пробиться вперед, к своим.
БУДНИ ПОДВИГОВ
15 января 107-й полк оказался отрезанным от остальных сил дивизии. По приказу командования армии он должен был удерживать захваченный рубеж. Считалось, что дивизия будет продолжать наступление. Однако о наступлении мы и помышлять не могли. Дивизия уже была измотана, поредела, а противник перебросил на наш
участок новые силы — пехоту, танки, самоходную артиллерию. Все попытки пробиться к окруженному 107-му полку вели только к ненужным потерям.
Теперь можно холодно и рассудочно спорить о целесообразности приказов командования армии, можно и не соглашаться с ними. Но тогда приказ требовал выполнения. И то, как он был выполнен 107-м полком, до сих пор переполняет сердце гордостью.
Стояли сильные морозы. Температура упала ниже двадцати по Цельсию. Каждый снаряд, каждый патрон, каждый грамм хлеба были на счету. Ни оборонительных сооружений, ни укрытий... А у врага всего вдоволь — и солдат и огня. Его танки и самоходки грозят нам отовсюду.
В такой обстановке качества людей раскрываются с предельной ясностью. К счастью, у командира полка майора Вербина оказался железный характер и чисто военный склад ума. Вербин отыскивал одну за другой возможности успешного сопротивления там, где, казалось, их не было. Прежде всего он вывел полк из деревни Левошкино и расположил его в лесу на небольших высотках. Каждая из выбранных им высот была окружена болотами. Тяжелые немецкие самоходки и танки увязали в них, а сосны и ели мешали вражеской артиллерии вести огонь прямой наводкой.
22
Ни минуты отдыха не дал Вербин бойцам, пока не были вырыты окопы полного профиля. Солдаты и офицеры, без различия чинов и званий, яростно долбили промерзшую, твердую как гранит землю. Долбили днем и ночью под артиллерийским и минометным огнем. Долбили, отбив очередную атаку, едва укрыв раненых, еще не похоронив убитых...
Из политработников на первый план выдвинулись Иохим и секретарь партбюро полка Кузнецов, человек своеобразный и любопытный. Кузнецов не был трибуном. Речь его была скорее косноязычной. В часы затишья он казался даже человеком серым и скучным. Бывало, не находил себе дела, а перед начальством тушевался. Но во время боя он как бы обретал себя. И чем труднее и опаснее, тем нужнее был для всех Кузнецов. Не спеша расхаживал он под пулями, учил молодых солдат рыть окопы, ел с ними скудную пищу из одного котелка. В минуты величайшей опасности он выглядел таким будничным и спокойным, как пожилой рабочий у станка или колхозник на пашне. То, что требовало от других огромного напряжения всех моральных и физических сил, давалось ему без видимых усилий.
Присутствие Кузнецова как бы напоминало каждому, что война — это повседневный труд, пусть ратный и опасный, но все-таки труд, работа, которую надо делать как можно лучше.
И если живой и горячий Иохим заражал бойцов готовностью к подвигу, то Кузнецов учил их уверенности и спокойствию.
Третий политработник, запомнившийся в те дни 107-му полку, мой помощник по комсомолу Вася Степанов, был до отказа заряжен жизнелюбием и весельем. Он был из людей, которые, даже видя смерть, органически не могут в нее поверить. Его храбрость не определялась ни усилием воли, ни даже сознанием долга, хотя, конечно, он и волю имел твердую и сознание высокое. Но просто ему не нужно было прибегать к их помощи, чтобы преодолевать страх. Казалось, смелость у него была таким же прирожденным качеством, как цвет волос или озорная улыбка.
Васю Степанова любили все, его нельзя было не любить.
23
Заиюльев, человек пристрастный, составлявший о людях мнение быстро и державшийся его долго, если не всегда, считал Степанова лучшим политработником дивизии; я относился к нему, как к родному сыну.
Так уж бывает на войне: теми, кого любишь, кому особенно веришь, рискуешь особенно часто. Когда в 107-м вышла из строя рация и связь с полком прервалась, было принято решение направить отряд из пятидесяти автоматчиков во главе со Степановым. Больше ничем мы тогда не могли помочь отрезанному полку. Отряду удалось с боем, потеряв до трети состава, пробиться к своим и доставить новую рацию. Полк получил небольшое пополнение, состоявшее из отборных бойцов. А Вася Степанов стал там душой отчаянных вылазок, ночных разведок, снайперских засад.
С каждым днем сужалось кольцо врагов вокруг лесных высоток, занятых полком. Кончались боеприпасы, медикаменты, продукты. Армейские «У-2», бесстрашные «кукурузники», по ночам кружились над лесом, чуть не касаясь верхушек елей. И все же точно сбросить груз (патроны, снаряды, консервы) удавалось редко. 107-й полк стоял на краю гибели.
Летопись полка в эти дни — летопись подвигов, где невероятное стало обычным.
...Вечером немецкий снаряд разбил пулемет. Виталиев и Кобзев остались безоружными. И тот участок перед нашими окопами, который они прикрывали огнем, стал проходимым для врага. Ребята спортивного склада, бойцы отчаянной храбрости, Виталиев и Кобзев выпросили у старшины десяток гранат. Глубокой ночью они поползли вдвоем в расположение немцев. От ели к ели, от сосны к сосне, вдавливая тела в мерзлый снег, проползли бойцы освещаемый ракетами передний край. Оба разом свалились в окоп, где находились вражеские пулеметчики, и прикончили их. Потом поползли назад с трофейным пулеметом и лентами к нему.
Виталиева и Кобзева заметили. Их пытались захватить живьем, но они отбились гранатами. Задыхаясь от усталости, наши бойцы то бежали, то падали в снег, не выпуская из рук ни лент, ни пулемета. А на рассвете немецкий пулемет уже бил по наступавшим гитлеровцам.
24
И рядом бил другой пулемет, за которым лежал в красном снегу дважды раненный младший лейтенант Николай Поляков, так и не уступивший никому «максима», пока атака не была отбита.
А следующей ночью на другом участке группа гитлеровцев в белых халатах уже вплотную подобралась к нашим окопам. Их не заметили вовремя. Они поднялись, чтобы совершить последний бросок. И вдруг из окопа вылез с автоматом в руках секретарь партбюро Георгий Кузнецов, до того читавший заявления о приеме в партию и раздумывавший над ними. Немцы и опомниться не успели, а Кузнецов уже ударил по ним из автомата... Стоя, в упор, ни секунды не раздумывая, словно загодя готовился к встрече. Длинная очередь уложила трех или четырех, остальные опрометью бросились назад.
А Кузнецов пошел собирать людей на заседание партбюро. Рассмотреть шестьдесят два новых заявления от тех, кто хотел жить и умереть коммунистами — не шутка!
Сколько было таких эпизодов! Сколько подвигов, заслуживших песен и легенд, теперь уже не счесть. Но вот о чем, по-моему, сказать необходимо: ныне мы часто рассказываем молодым бойцам, приходящим в армию по очередному призыву, о героической гибели героев. И это, конечно, важно. Что и говорить, имена Матросова, Никонова, Зои Космодемьянской и многих других, отдавших жизнь за Родину, бессмертны. Однако не узок ли в наших беседах круг имен, не слишком ли часто сливаются в одно подвиг и гибель? Не внушаем ли мы молодежи неверную мысль, что героическое на войне ведет к неизбежной смерти? Ведь это не так! Как правило, счастье в боях сопутствует смелым. И летопись подвигов 107-го полка тоже свидетельствует об этом!
Однако вернемся к объективным условиям, в которых находился полк. Перейдем на сухой и точный язык цифр.
В сводке, переданной нам майором Вербиным, сообщалось: 19 января получено по воздуху 10 килограммов сухарей, 20 января — ничего, 21 января — 20 килограммов сухарей и 60 гранат... Еды не хватало даже для раненых, боеприпасов — даже для схваток лицом к лицу.
22 января штаб 11-й армии наконец разрешил ком
25
диву дать приказ 107-му полку оставить занятый рубеж и соединиться с основными силами дивизии.
В тот же день началась подготовка к прорыву линии обороны противника. В ночь на 23 января на узком участке части дивизии с фронта, а 107-й полк с тыла нанесли по врагу одновременный удар. К счастью, гитлеровцы его не ждали.
Я позволю себе привести здесь письмо Иохима, в котором он описывал этот бой. Накануне Иохим был ранен. Он не мог поэтому знать о всех деталях боя, но, кажется мне, удивительно точно передал атмосферу, царившую в 107-м полку:
«...О том, что ночью мы предпримем попытку прорыва, мне сообщил днем Степанов. Я просил его пристрелить меня, если не смогу передвигаться. Степанов сказал: «Глупости. Ты обязан воевать. Что, у тебя воли нет?!» И ушел. Всех легко, да и нелегко, по обычным понятиям, раненных ставили в строй. Только для тех, кто не мог двигаться, сделали носилки. В носильщики выделили самых крепких солдат.
К вечеру я почувствовал себя немного лучше. Сказал заглянувшему на минутку в наш блиндаж Степанову: «Все в порядке».
Со мной в блиндаже оставался только пленный немец, «язык», захваченный прошлой ночью, которого я допрашивал. Он сидел на нарах и что-то бормотал себе под нос. Я еще подумал: «Что с ним делать?» И вдруг впал в забытье. Наверно, я так бы и прозевал начало наступления, и, возможно, вскоре мы с немцем поменялись бы местами. Однако он разбудил меня криком: «Ваши уходят!» И вдруг подошел ко мне, взял на руки и вынес из блиндажа.
В лесу, между деревьями, рвались снаряды и мины, шла пулеметная стрельба. Наше «ура», хриплое и надрывное, катилось над снегами. Я тоже закричал. Но тут мой немец свалился. Трясу его. Убит, бедняга. Осколком снаряда своей же артиллерии. Жалко. Настоящий, видно, был человек. Я — откуда взялись силы— зашагал вперед.
Противник был ошеломлен нашим натиском. Солдаты бросали оружие и подымали руки. Помню, как я вскочил в воронку от бомбы, в которой находился вражеский пулеметный расчет. Немецкие солдаты стояли с
26
поднятыми руками. Ждали, что их возьмут в плен. Но возиться с пленными было и некогда и некому. Все рвались вперед.
Случалось и так, что кое-кто из гитлеровцев, придя в себя, вновь открывал огонь. И таким пощады не было.
Голос Вербина, его команды звучали отчетливо и громко. Удивительно, как он умело ориентировался в том, что мне казалось беспорядочной сумятицей отчаянной атаки.
Пожалуй, никогда и нигде я не наблюдал такой силы воздействия слова командира, как в этом бою. И вдруг голос Вербина оборвался. Командир был убит. Казалось, теперь все силы иссякли. Казалось, уже не подняться со снега. Но тут раздался громкий и спокойный голос начальника штаба артполка Каплуна: «Товарищи! Пройти осталось двести метров. Впереди жизнь, здесь смерть. Вперед!» И снова неведомо откуда появились силы.
И вот уже нет впереди врагов, Я бегу прямо на нашу пушку, выкрашенную в белый цвет, я слышу русские слова. И тут силы вновь меня покидают...»
Так писал Иохим.
Вместе с комдивом мы были в те дни на передовой, готовили, прорыв обороны и встречали воинов 107-го полка. Почти все они нуждались в медицинской помощи. Заботу о раненых, истощенных и ослабевших на первых порах взял на себя передовой отряд медсанбата, располагавшийся недалеко от передовой. Его возглавил опытный пожилой врач Артур Карлович Пуцен, с ним были молодые хирурги Газалов, Оцеп, Алексеева, медицинские сестры Абрамова, Борбасова, Кот, Кушне-рева и другие.
О каждом из этих людей можно было бы создать книгу. Но сейчас мне хочется выделить Надю Оцеп — секретаря комсомольской организации медсанбата.
На вид она была совсем девчушкой — хрупкая, ясноглазая. С ней даже как-то не вязалось солидное слово «доктор», да и офицерское звание было не по ней.
Надя прибыла в дивизию после окончания Московского мединститута в трудном 1942 году. Встретили ее недоверчиво: разглядывая диплом, пожимали плечами. Мол, такую пигалицу — да в огонь...
Однако же Надя очень быстро доказала, чего она стоит на самом деле. В медсанбат доставили тяжело
27
раненного капитана Якименко. Прежде чем его обна-ружили наши санитары, капитан долго пролежал в лесной чаще. Когда Якименко раздели, сразу бросилась в глаза его огромная, непомерно раздувшаяся и почерневшая нога.
Капитан, молодой, красивый, стройный парень, лежал молча, закусив губу. Он сам уже достаточно повидал на войне, чтобы предугадать диагноз: «Газовая гангрена». И ему самому и всем вокруг страшно и тяжело было представить, казалось бы, неизбежное будущее: «Инвалид!..» И командир хирургического взвода тяжело вздохнул, прежде чем сказать: «Ампутация!»
И вот тут неожиданно вмешалась Надя.
— Ногу можно сохранить, — звонким и ломким от волнения голосом сказала она и добавила смело:— Поручите его мне.
Опытныё фронтовые врачи скептически покачивали головой. Они боялись, что промедление с ампутацией приведет к смерти раненого. Однако Надя настаивала. Она говорила о новых способах борьбы с гангреной, об операциях крупных советских хирургов, которые ей довелось наблюдать... Наконец командир согласился:
— Попробуйте.
Якименко смотрел на решительную девчушку с сомнением и надеждой. Он готов был рискнуть.
Я не специалист-медик, чтобы описывать подробно все, что сделала Надя. Знаю только, что она боролась за жизнь капитана, как за свою. Она перелила ему собственную кровь (по счастью, у них оказалась одна группа).
Капитан Якименко выздоровел. А Надя Оцеп утвердилась как врач в медсанбате.
Она была не только хорошим хирургом, но и превосходным человеком. В ней удивительно сочетались женская мягкосердечность с бескомпромиссной принципиальностью. Наверно, поэтому она и стала комсомольским вожаком.
Ее любили не все. Она (может быть, по молодости) не прощала людям малейших слабостей. Могла выпалить в лицо хоть самому комдиву, не выбирая слов и не считаясь ни с чинами, ни с должностями, все, что думала о любой несправедливости. Но уважали Надю, безусловно.
28
...Я стоял в углу операционной палатки.
Хирурги смертельно устали, раненых мучила боль. ,Атмосфера в палатке могла бы стать и тревожной и мрачной. Но нет-нет да и прозвучит ласковое Надино слово, добрая шутка, и промелькнут улыбки, живым теплом засветятся глаза...
А у меня было тяжко на сердце. В горячке боя можно и нужно было думать только о тех конкретных обстоятельствах, в которых ты находишься. Можно было радоваться успешному выходу 107-го полка из окружения и считать это победой. Что ж, в масштабах нашей дивизии так оно, пожалуй, и было. Но здесь, в медсанбате, среди раненых, искалеченных, умирающих, думалось иначе.
Почему же оказались напрасными и подвиги и жертвы людей, прорвавших под Левошкино оборону врага? Почему не были они вознаграждены значительной победой? Почему не был развит наметившийся успех?
Конечно, легко сослаться на переменчивость военного счастья, на недостаток сил в нашей армии, на нашем фронте. Но ведь счастье подчиняется разуму, а задачи должны ставиться по силам.
Все настойчивее вспоминался подслушанный мною ночной разговор двух офицеров о Горловых и Огневых. Нет, видно, Горловы еще не перевелись. Эта мысль не давала покоя.
И все-таки время Горловых подходило к концу. Талантливые военачальники сменяли безнадежно отсталых. Те, кто мог еще подтянуться, подтягивались изо всех сил, чтобы идти в ногу с требованиями времени.
Росла мощь Красной Армии. Стратегическая инициатива была вырвана из рук врага. Война вступила в новый период, и это не могло не сказаться на всех фронтах.
Вскоре стало известно, что Ставка Верховного Главного Командования готовит на нашем фронте крупную наступательную операцию. Группа войск генерала Козина должна была наступать на участке 1-й Ударной армии в направлении на Сольцы, во фланг и тыл 18-й немецкой армии, а 27-я и 1-я Ударная армии — сходящимися ударами перерезать «рамушевский коридор».
Успех наступления был неполным. Авиация врага обнаружила сосредоточение наших войск, и фашисты до-
29
больно точно определили и направление подготовляемых Красной Армией ударов. Опасаясь двойного окружения, они 17 февраля 1943 года начали отвод своей 16-й армии с демянского плацдарма. На пути отхода гитлеровцы уничтожали населенные пункты, грабили и убивали мирных жителей.
Войска Северо-Западного фронта неотступно преследовали врага. 17 февраля наша дивизия, после переформирования, получила приказ совершить марш в район населенного пункта Марфино (12 километров юго-восточнее города Старая Русса). 22 февраля мы уже прибыли в указанный район и вошли, в состав 27-й армии. А 23 февраля вступили в бой.
«Рамушевский коридор» и на сей раз перерезать не удалось. 16-я немецкая армия отошла, неся большие потери. В те дни у меня произошла радостная, надолго запомнившаяся встреча. Мы с комдивом поехали на КП 182-й дивизии, е? полосе обороны которой сосредоточивались наши части. Заиюльев пошел в штаб знакомиться с обстановкой, а я направился к начальнику политотдела. Открываю дверь в землянку — и не верю глазам. Передо мной старый друг Самуил Евсеевич Левин. И сейчас, много лет спустя, я как будто вижу его удивленные глаза под толстыми стеклами очков, чувствую крепкие объятия. Мы распрощались с ним в первый день войны. По состоянию здоровья он считался непригодным к военной службе, и я никак не ожидал встретить его на фронте. А вот поди ж ты...
Наши с ним биографии были схожи. В юности — комсомольская работа, затем — начальники политотделов в соседних машинно-тракторных станциях, секретари райкомов партии в Калининской области.
— Как же ты стал воякой, с твоими-то хворобами?—невольно вырвалось у меня.
Он только мягко улыбнулся. Потом сказал:
— А сейчас, по-моему, поддаваться хворобе — дезертировать. Знаешь, друг, мы ничему не будем поддаваться. Потому и победим.
Вскоре наши с Левиным военные пути разошлись. А через полгода я был второй раз приятно удивлен. После окончания краткосрочных курсов «Выстрел» политработник Левин перешел на строевую работу и продолжал воевать в должности командира стрелкового полка, 30
«Ничему не будем поддаваться, потому и победим»— сколько еще раз в военные годы мне вспоминались эти слова.
28 февраля войска фронта вышли на реку Ловать. Демянский плацдарм, удерживаемый противником поч-1 ти полтора года, перестал существовать. От немецко-фашистских захватчиков была очищена площадь в 2350 квадратных километров и освобождено 302 населенных пункта.
Блестящих успехов добилась Красная Армия в результате зимнего наступления на юге страны. Врага отбросили от Волги и Терека на 600—700 километров. Освобождены многие большие города и тысячи населенных пунктов.
.Началось массовое изгнание немецко-фашистских захватчиков из пределов нашей Родины.
Во всех частях дивизии проходили митинги, посвященные победам Красной Армии. Горечь поражений уходила в прошлое. Люди начали считать, сколько километров до Берлина.
Ночью 19 марта полковник Заиюльев вызвал меня к себе в землянку и показал только что полученный приказ. Дивизия выводилась из боя и поступала в Резерв Ставки. Нам предписывалось сдать оборону 182-й стрелковой дивизии и сосредоточиться у железнодорожной станции Любница.
Мне запомнился наш последний марш на Северо-Западном фронте. Настроение у всех было приподнятое. Хотя никто не знал, куда перебрасывают дивизию, но перемена обстановки радовала. Десятки километров мы шли лесными дорогами, не встречая на своем пути ни одного населенного пункта. Но вот лес кончился, и перед нами открылась типичная для Валдайской возвышенности картина — небольшие поля, перелески.
Впереди показалась деревня. Когда колонна вошла в нее, солдаты и офицеры бросились к детям, вышедшим нам навстречу... Их брали на руки, ласкали. Тоску по семьям, всю накопившуюся за долгие месяцы разлуки нерастраченную ласку отдавали этим чужим, но бесконечно родным ребятам.
2 апреля 1943 года части дивизии расположились в лесу около железной дороги. Началась погрузка в эшелоны.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Уднообразно стучат колеса, светлый дым стелется над снегами уже не белыми, а розовыми, потом голубоватыми, как пересиненное белье. Садится солнце. Вечереет. За окнами вагона проносятся леса и болота. Прощай, Северо-Западный фронт! Прощайте и вы, многострадальные земли древ-— ней Новгородской Руси.
Я с группой работников политотдела еду в первом эшелоне 107-го полка. Разговариваем о пережитом, о тех, кто мог бы быть с нами, но кого уже нет. Погибшие друзья-однополчане, всегда вы будете в наших мыслях и сердцах. Наверно, в этом, а не в памятниках и заключается настоящее бессмертие.
Искры паровоза прошивают ночную тьму. Мелькают затемненные знакомые станции: Бологое... Калинин... Утром будет Москва.
Москва! Это слово вытесняет из моих мыслей все другие слова. В Москве я родился и вырос. Здесь прошла моя комсомольская юность. Она была связана с заводом «Динамо», с рабочими ребятами, энтузиастами ударного труда. Как я гордился первой своей профессией автогенного сварщика!..
А потом электрозавод и первая выборная должность— секретарь комсомольского комитета завода.
Влюбленность в мечту о коммунизме, одержимость работой... Дни и ночи в горячих спорах, в раздумьях над чертежами, в бессонных вахтах первой пятилетки.
Да, Москва конца 20-х годов была для меня городом романтики труда. И сейчас я вспоминаю с любовью ее рабочую спецовку и парадную форму — серые косоворотки, лихие зеленые брюки галифе, разбитые сапоги и потертые кожаные куртки, 32
Из Москвы я уезжал проводить коллективизацию в Рязань. Стал там секретарем окружкома комсомола. И снова вернулся в Москву. Работал в «Комсомольской правде». А затем избрали секретарем Л^осковского комитета ВЛКСМ.
И вновь Москва послала меня, двадцатипятилетнего комсомольского работника, на колхозный фронт. Два года проработал я начальником политотдела Ново-Деревенской МТС. Был награжден орденом Ленина, избран делегатом XVII съезда партии.
Орденоносец, делегат съезда, партийный работник... Жизнь шла как надо... И вдруг — «враг народа», «обвиняемый», «заключенный»...
Но хватит. Не время думать об этом начальнику политотдела дивизии.
В годы войны мне только один раз довелось побывать в Москве, в конце сорок первого. Был вызван в Главное политуправление для беседы о новом назначении. Свои впечатления о военной столице я записал тогда в дневнике. А сейчас вот вытащил дневник и стал перечитывать при тусклом и мутном свете вагонного ночника.
«21 декабря 1941 года.
Стихотворение Степана Щипачева, опубликованное в «Правде», «Москва в эти дни» начинается такими строками:
Завидуя бессмертной нашей славе,
Найдут потомки нужные слова, Но будет трудно им себе представить, Какой же в эти дни была Москва.
Москва — город прифронтовой., На улицах противотанковые «ежи», огневые позиции. Стекла окон заклеены крест-накрест полосками бумаги. На бульварах блиндажи зенитчиков и подготовленные к подъему аэростаты. Витрины магазинов завалены мешками с песком. В стенах многих домов пробиты бойницы. Невольно останавливаешься и сам прикидываешь, хорош ли будет сектор обстрела.
По улицам круглые сутки движутся войска. Наблюдаю привал на Большой Садовой улице. Знакомая картина. Солдаты садятся на край тротуара, переобуваются... Одни закуривают, другие, не успев прислонить
3 Н. Б. Ивушкин
33
голову к стене или тротуару, моментально засыпают. Наблюдаю за поведением москвичей во время воздуш-, ной тревоги. Бьют зенитки, явственно доносится грохот разрывов. А люди расходятся по бомбоубежищам спокойно. Чувствуют себя солдатами.
Продукты выдаются по карточкам. Очередей нет. Плохо лишь с табаком. Прохожие останавливают на улице и просят закурить.
Часто встречаются Окна ТАСС. Преобладают резкие сочетания цветов — черное и красное. Война — без нюансов.
В большинстве театров выступают концертные группы. Среди известных артистов, оставшихся в эти дни в Москве, — Обухова, Катульская, Мигай, Волков, Голованов.
Ночью город погружен во тьму. Светомаскировка организована хорошо. Метро заканчивает работу в семь часов вечера, после чего превращается в убежище. Трамваи ходят редко. Во мгле электрические искры под трамвайными дугами видишь раньше вагона. Заметишь вспышку огня и по привычке ждешь выстрела.
В девять вечера даже в центре города почти никого нет. У редких прохожих патрули проверяют документы. Порядок образцовый».
И все-таки, как ни образцов был порядок, как ни дисциплинированны москвичи, налет глубокой тревоги лежал на всем: на замкнутых лицах, на слишком отрывистых разговорах, на испытующих взглядах, какими встречали военных. Чувствовалось, что люди живут со стиснутыми зубами, затаив дыхание перед будущим.
...Я не спал до рассвета. На рассвете из серой дымки показалась Москва 1943 года — огромная, настороженная, медленно оживающая в преддверье рабочего дня.
Только один день я был в столице. Внешне, холодному взгляду постороннего наблюдателя, она могла бы показаться такой же, как в 1941-м. Но я с первой же минуты ощутил в ее жизни иное настроение, иной ритм.
Шумная толпа заполняла вокзалы, но не было печальных, уходящих в эвакуацию эшелонов. Наоборот, из 34
вагонов выходили люди и, глубоко вздохнув, говорили: «Ну, здравствуй снова, Москва!»
В метро, как в довоенное время, читали книги и газеты, громко обменивались шутками. Все чаще можно было услышать фразы, начинающиеся словами «после победы... после войны». Заводы работали бесперебойно и круглосуточно.
Офицеры на улицах приветствовали друг друга четко, даже с шиком.
Мои друзья, штатские, с которыми удалось повидаться, все превратились в заправских стратегов. У каждого из них был свой план быстрого разгрома гитлеровской армии. Пусть эти планы выглядели наивно, я радовался оптимизму Москвы.
Частицу этого оптимизма я увез с собой на фронт.
Вечером мы оставили столицу, а ночью наш эшелон свернул на Курскую железнодорожную магистраль.
...Двое суток в пути. И ни одной бомбежки, ни единого разрыва снаряда. С непривычки странно и, как это ни смешно, немножко тревожно.
Вагон наш товарный. Посредине — «изобретение» еще той, гражданской войны, печка-«буржуйка». У печки на полу расстелена большая карта.
Сейчас штабисты, присев на корточки у огня, гадают. по карте, куда нас везут.
Я лежу рядом с майором Кузнецовым под потолком на грубо сколоченных из необструганных досок нарах. Внизу курят, й наши лица окутывает едкий махорочный дым. Люблю этот дым — спутник настоящего мужского разговора, хотя сам, признаться, не выкурил и трех папирос за всю жизнь.
Облако дыма раскачивается в такт стуку колес. Кузнецов, ныне уже заместитель командира 107-го полка по политчасти, рассказывает о себе. Это впервые я знакомлюсь с его биографией, обычно он толкует о бойцах— вперемежку об их подвигах и о прохудившихся валенках, о снайперском мастерстве и о старшине, выписывавшем харч и водку на убитых... Кузнецов не чувствует контрастов: все это жизнь, а жизнь сейчас — война. Иных интересов словно бы и нет.
з*
35
Я думал: Кузнецов — кадровый, армейская косточка. Оказывается, нет. До войны был лоцманом на Белом море. Проводил торговые суда в гавани между льдинами и рифами. Отсюда у него, наверное, такое хладнокровное отношение к опасностям.
О Белом море, суровых норд-остах, ледовых полях Кузнецов рассказывает охотно. О своем пути на войне— скупо. Дело, мол, обыкновенное: политрук роты, комиссар батальона, парторг полка... Ну, ранен четыре раза, так зажило...
Кузнецов закрывает глаза. Я перебираю книги, подаренные мне друзьями в Москве. Вдруг вижу: рука Кузнецова тянется к одной из них: «Можно?»
Он устраивается поближе к фонарю, начинает читать, сначала про себя, по-детски шевеля губами, потом вслух. Это Симонов:
Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди, Как кринки несли нам усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя их к груди...
Удивительно читает Кузнецов: с паузами, негромко, хрипловато, почти без выражения, а все-таки задушевно. Оттого, наверно, что переживает каждое слово, прежде чем его произнести. Хорошо его слушать. Штабисты даже карту свернули... И в «буржуйку» забыли подбросить угольку.
...Заснули мы только утром, после того как миновали Тулу.
На узловой станции Горбачеве вражеская авиация встретила нас бомбежкой. Воздух затуманился мучной пылью (где-то ахнуло по эшелону с продовольствием).
Надо было скорее выбираться со станции. В пути следования авиация не так страшна.
Командир полка побежал искать военного коменданта. Но едва он подошел к разрушенному вокзалу, паровоз с лязгом и звоном дернул вагоны. Его прицепили в хвост состава. Командир полка едва успел прыгнуть на ходу в поезд.
Мы с Кузнецовым перешли в другой вагон, к солдатам. Сразу же посыпались вопросы:
— Куда нас везут?
36
х— Где будем воевать?..
Я развел руками:
— Это известно лишь большим начальникам.
— А кто большие, у кого борода пошире?
Солдаты были уверены, что начальник-то политотдела наверняка все знает. И только скрывает от них. В действительности командование дивизии само было в полном неведении.
Думается, большое начальство тут «перебрало» с секретностью. Вряд ли чем-нибудь можно оправдать недоверие к командованию соединения. Правда, в нашем случае все обошлось благополучно. Но ведь если бы нас, скажем, разбомбили в пути и связь с высшим командованием прервалась, мы просто не знали бы, куда вести дивизию.
— Ну, а как там союзнички? Скоро второй фронт откроют или долго еще чесаться будут? — послышался вопрос с верхних нар.
— Чего они там думают?
И о втором фронте меня спрашивали так, словно я только вчера запросто беседовал с Черчиллем и Рузвельтом за стаканом чая или рюмкой коньяка... Что ж, начальник политотдела был для солдат главным представителем партии на месте, и он обязан был во всем разбираться.
Впрочем, бойцы и сами понимали сущность дела. Со всех сторон посыпались реплики.
— Союзнички-то — капиталисты. Им тоже Советская власть не больно люба.
— Им бы в Африке кусок отхватить пожирнее, а от нас тушенкой откупиться.
— Союзнички — это вроде бога. Хочешь — надейся, а сам не плошай.
Мне оставалось только незаметно руководить беседой, настойчиво подчеркивая: все зависит от нас, в том числе и второй фронт. Чем сильнее будем бить врага, тем скорее высадятся в Европе американцы и англичане, чтобы разделить с нами плоды победы.
До победы было еще далеко. Но ведь вера в нее всегда была непоколебимой.
Под стук колес солдаты затянули свою песню. Слова этой песни написал на Северо-Западном наш старшина
37
Михаил Зыкин. Музыки постоянной не было. Пели на тот мотив, какой сейчас звучал в душе у запевалы.
Не страшны для нас болота, Вьюжный снегопад.
Нет для боевой пехоты
Никаких преград.
Штык пехоты не устанет Варваров сражать.
Не дадим тебя поганить, Светлая Ловать.
Вьюжные снегопады были далеко позади. Весенние дожди смывали снег с обожженной земли.
Поезд шел по освобожденной от немецких захватчиков территории. Проезжали станцию Касторная. Все здесь напоминало о недавних больших боях: сожженные станционные постройки, взорванные, словно вставшие на дыбы, мосты, подбитые немецкие танки, искореженные пушки, разбитые в щепки грузовики. А дальше одна за другим пепелища мертвых селений. Только зеленые островки робкой апрельской травы напоминали о жизни.
...Эшелон разгрузился на станции Суковкино, Курской области. Здесь нам сообщили, что дивизия вошла в состав 53-й армии вновь созданного резервного Степного фронта.
На следующий день приехал полковник Заиюльев. Мы сразу же отправились с ним представляться Военному совету армии.
к ЭКЗАМЕНУ готовятся ПО-РАЗНОМУ
таб армии размещался в небольшой деревушке. Совещание командиров дивизий и начальников политотделов шло в крестьянской избе. За столом, под образами, сидели командующий и член Военного совета. Образа, вышитые полотенца, допотопная утварь — все это придавало совещанию какой-то неправдоподобный характер. Впро-
чем, обстановка замечалась только в первые секунды.
Слушались доклады о состоянии вновь прибывших дивизий. Мы с Заиюльевым докладывали последними.
Люди у нас были обстрелянные, прошедшие огонь и воду. Но было их немного.
На совещании объявили, когда начнет поступать пополнение, где и когда можно получать вооружение и обмундирование. А после перерыва командующий армией неожиданно устроил проверку военных знаний командиров и начальников политотделов дивизий.
Насмешливо прищурившись, он задавал вопросы:
— Скажите, какая начальная скорость снаряда у восьмидесятипятимиллиметровой зенитной пушки?
— Назовите тип орудия, вид снаряда, которым на предельной дальности можно пробить танковую броню
в шестьдесят миллиметров.
Дотошный экзамен продолжался несколько часов. Даже командиры дивизий не всегда помнили эти данные. И что греха таить, политработники не выглядели пятерочниками. Командующий едко и грубовато высмеивал тех, кто не смог дать правильного ответа. В заключение он предупредил нас, что подобные проверки будут проводиться и впредь.
Кто станет сомневаться в пользе военных знаний? Кто будет спорить, что все они необходимы?! И все-
39
таки этот экзамен был оскорбительным по форме и школярским по существу.
Перед командармом сидели люди, которым предстояло руководить соединениями в жесточайших боях. Этим людям важно было понять и оценить все новое, что родилось в оперативном искусстве и тактике в годы войны. Необходимо было услышать о характере предстоящих сражений, об особенностях подготовки к ним. Но вот об этом, главном, не было сказано ни слова. Казалось, для командующего армией мы были не командирами, несущими огромную ответственность, а курсантами военного училища.
С чувством неудовлетворенности возвращались мы в дивизию.
— Ну что ж, комиссар, — так звал меня Заиюльев,— будем думать сами, как лучше готовить наши части к предстоящим боевым делам...
Через несколько дней в дивизию прибыло пополнение.
В воздухе пахло весной. Лопались почки, выбрасывая зеленые клинки листьев. Солнце нежило и ласкало солдат. Шинели — побоку. И на гимнастерке хочется расстегнуть хоть верхнюю пуговицу.
Бойцы пришли к нам в основном пожилые, только-только призванные из запаса. Они еще тосковали по оставленной работе, по привычным станкам, по земле, ждущей хозяина-хлебороба.
Такие люди втягиваются в армейскую службу труднее и медленнее, чем молодежь. Какой-нибудь полтавский парубок или заонежский отчаянный гармонист, надев военную форму, торопился то ли зеркало найти, то ли хоть в луже на свое отражение полюбоваться, расспрашивал о боевых делах, мечтал о подвигах... Пожилой солдат начинал с того, что записывал номер полевой почты и тут же садился за письмо домой, с товарищами заводил беседу о жене, детях, колхозных или заводских делах.
Молодых привлекала даже внешняя сторона воинской службы — четкость приказов, отдание чести, ордена и медали на гимнастерках... Пожилому требовалось ощутить, что он делает самое большое и важное дело на земле.
Встречали мы пополнение торжественно. Выстраи
40
вался весь личный состав. Выносилось Знамя частй. Наши ветераны рассказывали о минувших боях.
По-разному слушали их бойцы из пополнения. Для одних традиции заиюльевцев сразу становились чем-то родным и близким, для других все эти выступления были только проформой.
Не следует забывать, что многие люди из российской «глубинки» знали о войне и фашистах в основном только по газетным статьям. Ненависть к врагу еще не стала их личным чувством, личным делом. А боец без ненависти, без всепоглощающей жажды мести еще не настоящий боец.
Нужны были факты, живые свидетельства очевидцев, рассказанные убедительно и страстно, без стершихся стандартных слов, чтобы ненависть зажгла сердца даже самых равнодушных.
Был у нас в 228-м полку такой политработник, старший лейтенант Вячеслав Мыц, кировоградец, рабочий с завода «Красная Звезда», а на фронте политрук роты, затем комиссар батальона. Храбрейший человек, первый в атаках, трижды раненный и ни разу не эвакуировавшийся далее медсанбата. Разговаривал он обычно так тихо, что приходилось напрягать слух, чтобы разобрать все слова. Но в этой «тихости», в полном отсутствии всякой аффектации, крылся секрет особой задушевности и искренности.
Когда слушали Мыца, кажется, сдерживали даже дыхание. А он рисовал картину за картиной. Вот как бы вырастает из тумана высота Пунктирная, холм, покрытый ноздреватым и рыхлым после оттепели снегом. Затих бой. Умолкли орудия. Отстучали свое пулеметы. Среди наших потерь самая страшная — полковой медпункт. Гитлеровцы захватили в плен раненых бойцов, которые не в силах были передвигаться. В плен?.. Из немецких траншей вылетают на снег связанные по рукам и ногам раненые солдаты. Грохот... Черный дым... Клочья тел. Неслыханное, невиданное черное дело: фашисты прикрепили к раненым противопехотные мины и взорвали их...
...Деревенская изба, чистая, аккуратная... Четырнадцатилетняя девочка забилась в угол на русской печи. К ней тянет здоровенные ручищи дюжий эсэсовец. Отец девочки оттаскивает его. Приятели эсэсовца со смехом
41
хватают хозяина избы, вяжут петлю из бельевой верейки, закидывают другой конец через потолочную балку. Девочка кричит, отчаянно, надрывно... Отец раскачивается в петле перед ее глазами...
Мыц читает письмо жителей деревни Левошкино:
— «Трудно и невозможно передать словами, что мы выстрадали, когда фашисты занимали нашу деревню. Грабежи и насилия, горе и смерть принесли проклятые супостаты. Они убили Марию Зуеву и двух ее детей, Никиту Таманыча, Марию Забавину и многих других...
Вас ждут еще тысячи и тысячи советских людей, измученных и исстрадавшихся под фашистским ярмом. Помните об этом, наши спасители!..»
Голос Мыца обрывается.
Дальше говорить он не может. Только шепчет:
— Мстить надо, мстить!
И это тихое «мстить» переросло в гром на импровизированном митинге. Бойцы, словно наэлектризованные, потрясали винтовками и автоматами:
— Мстить, мстить!
И уже сама собой зазвучала песня. Это запели в первом батальоне:
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой...
И сразу же ее подхватили в других батальонах. Мощная, потрясающая души людей мелодия неслась над деревней:
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей, Насильникам, грабителям, Мучителям людей!
Слова песни звучали как клятва.
В составе 53-й армии дивизия находилась недолго. Совершив 125-километровый марш в район города Щиг-ры, мы поступили в распоряжение командующего Центральным фронтом.
Я был в 107-м полку, когда мне сообщили, что вызывает комдив. В крестьянской избе, где остановился Заиюльев, за столом сидел генерал. Я представился. Он поднялся мне навстречу, невысокий, смуглый, остриженный под машинку.
42
— Галаджев, начальник политуправления фронта. Сергея Федоровича Галаджева мы видели впервые. Однако держался он запросто, как давний добрый знакомый.
Мы рассказали ему о боевом пути дивизии, о замечательных людях, выросших и закалившихся в многочисленных боях. Не скрыли и тревоживших нас мыслей. Дивизия долго сражалась в лесах и болотах, приноровилась к ним. У наших солдат выработалась психология лесного боя, где часто все решает скрытность, внезапность, личная находчивость. А здесь равнина. Здесь простор для танковых лавин, с которыми мы еще не встречались.
Галаджев задумался. Он хорошо знал, как ошеломляюще действует даже на самых храбрых людей новое, необычное, дотоле неиспытанное...
— Хорошо. Пришлем к вам бывалых истребителей танков, — сказал он. — Опытных офицеров тоже... Остальное ваше дело.
Весь день начальник политуправления провел с бойцами в наших подразделениях — беседовал с ними, расспрашивал, рассказывал. К вечеру приказал собрать офицеров дивизии.
В зимнем наступлении наши войска в районе Курска продвинулись далеко вперед. Образовался огромный двухсоткилометровый выступ—клин, глубоко врезавшийся в территорию, которая еще находилась в руках врага.
Галаджев точно и строго, ничего не скрывая, говорил о значении этого выступа. О замыслах, надеждах и грозной опасности, которые были связаны с ним. Замыслы и надежды были связаны с глубокими фланговыми ударами по орловской и белгородской группировкам противника. Разгром этих группировок позволил бы развернуть стремительное наступление по землям Украины и Белоруссии. Грозная опасность для нас заключалась в тех мощнейших ударах под основание выступа, которые, несомненно, готовило гитлеровское командование. Если бы его планам дано было осуществиться, были бы окружены и разбиты крупные соединения Советской Армии, возможно, трагически проиграна летняя кампания 1943 года.
— Значит, планы врага должны быть сорваны. Иза это несет прямую ответственность перед всем народом,
43
перед всей страной и ваша дивизия, и каждый человек в вашей дивизии, — закончил Галаджев.
Его выступление было образцом партийной прямоты, воинской ясности. Именно этой ясностью и прямотой оно воодушевило и вооружило нас.
Мы долго еще беседовали с начальником политуправления о главных задачах в боевой подготовке дивизии. В этих беседах выкристаллизовалось то, что было самым решающим: надо учить людей противостоять танкам. В предстоящих сражениях гитлеровское командование собиралось сделать большую ставку на новый тип тяжелых танков T-VI — «Тигр». Броневая мощь этих машин была действительно велика, и враг всячески рекламировал неуязвимость «тигров».
Почти месяц занималась дивизия боевой учебой. Для военного времени это большой срок, и мы его использовали, как могли, с предельной загрузкой.
Занятия шли и днем и ночью. Раз за разом повторялась «танковая обкатка» пехоты. Грозные машины шли, вдавливаясь гусеницами во влажную весеннюю землю, прямо на окопы, в которых сидели бойцы. Танки приближались, ведя огонь. Осыпались комья глины с края траншеи. Стальное брюхо танка нависало над окопом, но солдаты под ним были вне опасности. Танк проходил вперед, бойцы поднимались, забрасывали его учебными гранатами, встречали огнем наступавшую за ним пехоту. Сначала все это казалось многим страшноватым, потом вошло в привычку.
Начальник артиллерии дивизии организовал боевые стрельбы по трофейным немецким танкам из пушек и ПТР.
Прибывшие к нам бывалые солдаты — участники битв на Волге и Дону — учили, как подбрасывать под танки мины и противотанковые гранаты, взрывавшие звенья гусениц и опорные катки.
Среди политработников было много людей, не имевших специального военного образования. Долгое время считалось, что с них в общем-то достаточно личной храбрости и политического чутья. Сейчас, однако, потребовалось, чтобы и военные знания их не уступали командирским.
Мы учились и сдавали зачеты по Боевому уставу пехоты 1942 года —уставу, обобщавшему опыт года
44
войны. У меня до сих пор сохранилась выписка из приказа по войскам фронта за подписями Рокоссовского, Телегина и Галаджева о том, что я сдал зачет с оценкой «хорошо».
Вдумайтесь! Приказ по фронту об учебных оценках политработников. Это ли не говорит о значении, которое придавалось росту воинской культуры армии в ходе жесточайшей войны!
Солдат — не военная машина, а человек. Бои боями, учеба учебой, однако нужно было думать и об отдыхе, о тех скромных радостях, которые надолго заряжают человека хорошим, веселым настроением. В сущности, ведь хорошее настроение — тот же боезапас. И скажем, знаменитый Василий Теркин помогал бойцам преодолевать беды и побеждать.
В нашей дивизии были свои живые Теркины, шутники и гармонисты.
По установившейся издавна российской традиции хороший гармонист никогда не разлучался со своей гармоникой. Ехал ли он на сезонные работы, или его призывали в армию — гармонь всегда была с ним. Эта традиция не нарушалась и в тяжелые годы войны. Вот почему в часы досуга частенько раздавался то залихватский плясовой перебор, то задушевные мелодии фронтовых песен.
Особой популярностью среди солдат пользовался наш духовой оркестр. Его капельмейстер старший лейтенант Литвиненко с помощью одаренных самодеятельных актеров и поэтов Зыкина, Целовальникова, Казакова, Штемпеля создал нечто вроде ансамбля песни и пляски. Они коллективно сочиняли песни, в которых прославляли подвиги воинов дивизии, веселые, лихие частушки. Всеобщим любимцем фронтовиков был Михаил Зыкин, человек истинного комедийного таланта, блестяще исполнявший едкую сатиру собственного сочинения на бесноватого фюрера и его генералов.
...Но вот и долгожданный приказ — дивизия передается в состав 60-й армии. Маршрут движения строго на запад от Курска. Он проходит по проселочным дорогам и глухим деревушкам, утопающим в зелени.
Казалось, ничто не напоминает здесь о войне. Во многих деревнях в глаза не видели ни своих, ни вражеских войск. И все же горе и здесь высеребрило во
45
лосы женщин, провело борозды морщин на их лицах. До кого дошел слух о гибели мужа, отца, брата... У кого «завербовали» в Германию дочь...
И здесь, как хлеба и воздуха, ждали нашей победы.
Совершив 130-километровый марш, мы сосредоточились у самой вершины Курского выступа.
Имя командующего нашей армией впоследствии стало всенародно известным: генерал-лейтенант Черняховский. Мы уже тогда слышали о нем как о генерале нового типа —широко образованном, глубокомыслящем, умеющем подчинить чувства строгому расчету. Он был лично храбр, но не храбрость и лихость, а спокойное мужество, организованная энергия, оперативное мышление создали ему популярность.
Генерал Черняховский не заставил себя долго ждать в дивизии. Он приехал к нам на следующий день после нашего прибытия. Задачи, поставленные им, были сформулированы с предельной ясностью и четкостью:
«Строить оборонительный рубеж по восточному берегу реки Свапа, на участке Белые Берега — Сныткино. Рубеж должен быть таков, чтобы удерживать его можно было даже малыми силами».
Весна размахнулась во всю ширь. Земля маслянисто лоснилась, дышала жарко. Эту бы землю засевать не пулями и осколками, а добрым зерном, золотой пшеницей! Эти мысли приходили в голову и Черняховскому, и мне, и многим бойцам. Да и предстоящая работа— создание укреплений поодаль от переднего края — во многом была похожа на мирную строительную работу.
Во всем этом тогда таилась немалая опасность, которую я условно назвал бы «размагничиванием». Размагничивание боевого соединения почти незаметный на глаз процесс. Оно начинается с небольших послаблений в дисциплине, разговоров, далеких от войны, постепенно притухает ненависть, острая жажда мести, возникает желание уцелеть во что бы то ни стало...
— Дивизия должна быть как сжатая до предела пружина, — сказал нам, уезжая, Черняховский. — Чем дальше, тем больше желание распрямиться, ударить по врагу. Смотрите, чтобы пружина не ослабела: отвечаете головой.
46
Люди упоенно работали на строительстве укреплений. Мы всячески поддерживали негласное соревнование, возникшее между подразделениями. Однако шли и на то, чтобы прерывать ход работ внезапными учебнобоевыми тревогами.
«Завтра битва, грозная, опасная, решающая» — об этом ежедневно напоминали в своих беседах и политработники.
У каждой медали две стороны. Оборотная сторона размагничивания и благодушия—неверие в свои силы. И это чувство не миновало некоторых бойцов.
Однажды в 228-м полку, беседуя с солдатами, я начертил на земле кончиком ветки линию фронта — Курский выступ. И вдруг услышал реплику:
— Как ахнут фрицы с двух сторон, так мы и в «мешке». Поминай как звали.
Боец, бросивший реплику, был немолод, из ветеранов, все вокруг затаили дыхание, ожидая моего ответа. Легко было рассердиться, раскричаться, обвинить солдата в трусости... Но ведь криком да обвинениями заставить молчать можно, а убедить нельзя.
— Попадал в окружение в сорок первом?
— Попадал. И о прошлом годе драпать приходилось...
— «О прошлом». Ну, ладно, а кто в прошлом году под Сталинградом в «мешок» попал? Кто драпал всю зиму? Мы или фашисты?
— Так-то оно так...
— А раз так, значит, время на нас сработало и дальше работает. Верно?
— Может, и верно... — все-таки в ответе солдата не было полной убежденности.
Тогда я заговорил о мощи нашей армии, об ее оснащенности, растущей день ото дня, о мастерстве бойцов, воле командиров... Я вспоминал победные бои, подвиги... И чувствовал, что солдаты уже верят мне.
— Что ж, ты, что ли, струсишь? Отступишь? Драпать будешь? — спросил я того, кто подавал реплики.
— Я-то не струшу, — ответил он.
— Почему же думаешь, что струшу я? Или твой товарищ? Или боец из соседней дивизии? А если все мы не струсим, так не фашист наломает нам бока, а мы ему!
47
...Я привел только одну из бесед. Их было десятки и сотни. Через них красной нитью проходила мысль о личной ответственности каждого бойца за победу. Думается, и поныне эта нить должна оставаться ведущей в воспитании бойцов. И тут нет никакой натяжки. Какой бы характер ни принимала война (пусть даже ядерный), только Человек с большой буквы может и должен быть победителем.
...Многое менялось в армии в 1943 году. Стремительный ход войны не позволял окостеневать никаким, самым привычным формам.
Прибыли директивы Главного политического управления об упразднении института заместителей командиров рот по политической части и реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций.
Вопрос об изменении структуры давно уже назрел.
В самом деле, в первичных организациях наших стрелковых полков насчитывалось по 25—30 ротных и равных им парторганизаций. В боевой обстановке партбюро полка зачастую не могло по-настоящему руководить ими. Даже заявления о приеме в партию порой залеживались. Бывало, люди, подавшие их, после ранений отправлялись в тыловые госпитали, возвращались в другие части, так и не получив партбилетов. Обидно! Неправильно! Но порой ничего не поделаешь!
Теперь Центральный Комитет партии установил новую структуру партийных и комсомольских организаций. В полках — бюро с правами комитетов, а первичные партийные и комсомольские организации — в батальонах. Вместо избираемых секретарей партийных и комсомольских организаций вводился институт назначаемых парторгов и комсоргов полков, батальонов и рот.
Это могло бы показаться нарушением демократии. Но война есть война.
В ходе боев секретари партийных и комсомольских организаций часто выбывали из строя, а созыв собраний для избирания новых секретарей далеко не всегда был возможен. Вот и получалось, что в жаркие дни сражений многие партийные и комсомольские организации оказывались без руководителей и партийная работа замирала в самый нужный момент.
48
Назначить парторга, конечно, намного проще, чем избрать его, и, собственно, отступление от демократии здесь было только формальное. Как правило, парторгами и комсоргами стали назначаться именно те авторитетные люди, которых избрали бы и сами коммунисты и комсомольцы.
Политотдел проводил большую организационную работу. Число первичных организаций значительно возросло.
На войне характер человека познается быстро. В мирное время с иным надо добрый пуд соли съесть, прежде чем его поймешь, на фронте порой достаточно сходить в разведку. Длительное знакомство «по совместной работе» для рекомендующих, годичный кандидатский стаж для вступающих в партию стали излишними в огне боев.
ЦК ВКП(б) установил новый порядок приема в партию для бойцов. Рекомендации им могли давать коммунисты, знающие их по фронту и меньше года. Кандидатский стаж сократился до трех месяцев.
Парторганизации быстро пополнялись, стремительно росли. И это имело огромное значение. Конечно, никому не придет в голову противопоставлять коммунистов беспартийным. По поведению солдата в бою далеко не всегда определишь, есть у него в кармане гимнастерки партбилет или нет. Партийность прежде всего чувство сердца, а не признак плательщика членских взносов. И все-таки партбилет ко многому обязывает честного человека и рождает в нем особое сознание ответственности не только за себя, но и за других. А само стремление все возрастающего количества бойцов стать коммунистами свидетельствовало о желании миллионов взять на себя всю полноту ответственности за судьбу Родины. И конечно, мне, политработнику, приятно было думать, что по первому призыву: «Коммунисты, вперед!» сразу подымется добрая треть любого подразделения.
Парторгами полков стали люди с большим опытом, испытанные и проверенные в боях, среди них был и друг моей комсомольской юности Дмитрий Власов, сын старого рабочего-большевика, сам еще подростком ставший к станку. В тридцатом мы вместе с ним проводили коллективизацию на Рязанщине, воевали с
4 Н. Б. Ивушкин
49
озверевшим кулачьем. Тогда Власова, улыбчивого розовощекого паренька, комсомольцы шутливо и уважительно называли: «Наш Митяй». Митяй был храбр и рассудителен в юности, в нем уже тогда созревали качества комсомольского вожака. Теперь он возмужал, стал еще увереннее, спокойнее, крепче. А добрую свою улыбку и юношеское обаяние сохранил. В нем были черты, искони присущие рабочему человеку: деловитость, требовательная сердечность, ненависть ко всякой рисовке.
Неведомо как проникло в полк прозвище «Митяй». Но одно то, что оно привилось, говорило: новый парторг пришелся по сердцу.
Я не знал так близко, как Дмитрия Ивановича, других парторгов. Но и они были люди крепкие, на которых можно положиться.
Прощался с дивизией. Уезжал полковник Шведов. Ему уже нечего было делать у нас: должности заместителя командира по политчасти и начальника политотдела объединялись.
И Шведов, и я понимали, что решение это было мудрым и справедливым. Всей политработой так или иначе руководил политотдел. А дивизия не такое крупное соединение, где необходим еще особый «член Военного совета». У нас дело осложнялось еще и тем, что контакт между Заиюльевым и Шведовым так и не установился. И все-таки расставаться было грустно.
Мы сидели в небольшом фруктовом саду, в деревне Хатуши. Стрельба вдали утихла. Яблоневые ветки над нами роняли белый цвет. Откуда-то доносились песни под гармонь, и среди них:
Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах...
Многое мы вспомнили, помечтали и о будущем. А потом, все-таки преодолев сентиментальное настроение, возвратились к делам сегодняшнего дня.
Было одно новое решение, которое тревожило меня: упразднялись должности заместителей командиров рот по политчасти. Трудно будет нам без этих политработников. Много, очень много сделали они для нашей армии.
Еще 22 марта 1942 года «Правда» писала:
50
«В историю Великой Отечественной войны как одна из славных и почетных ее фигур войдет фигура политрука,. с автоматом в руках, в маскировочном халате и каске идущего впереди и увлекающего за собой бойцов к достижению возвышенной и благородной цели — разгрома германских фашистов и освобождения своего отечества».
И это было справедливо. Ротный политрук, единственный из политработников, не приходил к бойцам и не уходил от них. Он всегда был с ними, он был их душой, их совестью и честью.
— Место политрука займет парторг роты, — сказал Шведов, — и тут уж и ему и вам надо приложить все силы, чтобы бойцы не ощутили потери.
Конечно, Шведов был прав, и, пожалуй, роль парторгов в ротах действительно очень выросла. А все же долго еще солдаты вспоминали своих политруков, долго еще всем их не хватало...
Шведов переходил на командную должность. Кстати, это было естественное стремление многих бывших комиссаров. В дни, когда они были на равных правах с командирами, комиссары привыкли смело и квалифицированно решать чисто военные вопросы тактического и оперативного характера. Не уступая многим строевым командирам в военных знаниях, такие комиссары порой обладали более широким политическим и общим кругозором, умением воздействовать на людские сердца.
—- Знаешь, горжусь тем, что был политработником,— сказал Шведов, — но чувствую в себе командира.
Потом Шведов заговорил о Фрунзе, которого считал не только талантливейшим полководцем нового, коммунистического типа, но и глубочайшим теоретиком, со всей силой подчеркнувшим необходимость слияния в командире-единоначальнике качеств военного специалиста и партийного деятеля.
— Мы сейчас широко пропагандируем героическое прошлое русского народа, традиции русской армии. Мы говорим об Александре Невском, Суворове, Кутузове. И это превосходно. Но почему мы молчим о нашем Фрунзе?—с горечью закончил Шведов.
Мы не задумывались тогда, почему Сталину не хотелось высоко поднимать имя крупнейшего военачаль
4*
51
ника гражданской войны. Но подлинный интерес к Фрунзе, к его жизни, деятельности, работам впервые заронил в мою душу Шведов в ту прощальную фронтовую ночь.
Мы расстались на рассвете, когда запели курские соловьи, и расстались уже навсегда. Шведов восемь месяцев учился в Академии имени Фрунзе в Москве, потом командовал полком в 27-й гвардейской дивизии и погиб в апреле 1945 года, не дожив двух недель до победы.
Этот большой, добрый и умный человек остался в моей памяти среди многих учителей жизни на войне, учителей-политработников, тех, кому в первую очередь посвящена эта книга, тех, о ком Михаил Иванович Калинин сказал так:
«Наши агитаторы, политработники, комиссары — это лицо партии в Красной Армии. Красноармейцы на фронте не могут изучать партийную программу, историю большевистской партии. Они познают большевистские традиции в действиях, в практической работе и в поведении комиссаров, политработников, агитаторов. Через этот канал преломляется понимание партии, познание партии широкой красноармейской массой».
Высокая оценка политработникам была дана и врагом— его ненавистью и яростью, переходившей все пределы.
Еще за три недели до начала войны бригаденфюрер СС генерал-майор войск СС Глюке разослал совершенно секретную директиву командования об обращении с политическими комиссарами Красной Армии. В ней говорилось: «Политических комиссаров во вражеских войсках можно опознать по особым знакам отличия — красной звезде с вытканным золотом серпом и молотом на рукаве... Эти комиссары не признаются в качестве солдат; на них не распространяется защита, предоставляемая военнопленным по международным правам. После отделения их следует уничтожить».
В мае 1941 года главная ставка Гитлера отдала приказ, в котором говорилось: «Политические руководители в войсках не считаются пленными и должны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях. В тыл не эвакуируются».
52
Бывший заместитель начальника оперативного отдела штаба ОКБ генерал Вальтер Варлимонт, допрошенный на предварительном следствии в связи с Нюрнбергским процессом, показал: «Я частично знаком с политикой германского правительства в отношении политработников и комиссаров Красной Армии во время войны Германии с СССР. Незадолго до начала военных действий я присутствовал на собрании главнокомандующих вооруженных сил вместе с их начальниками штабов, командующими армейскими группами, армиями, а также командующими взаимодействующими армейскими группами авиации и военно-морского флота.
На этом собрании Гитлер заявил, что он предпринимает специальные меры против политработников и комиссаров Красной Армии. Война против СССР будет не обычной войной, это будет борьба противоположных идеологий. Поэтому нельзя рассматривать политработников и комиссаров Красной Армии как обычных военнопленных. Их нужно будет передавать особым группам полиции безопасности и СД, которые последуют за немецкой армией в Россию».
На том же предварительном следствии солдат 2-й роты 3-го отряда истребителей танков Вольфган Шарте показал:
— За день до нашего наступления против Советского Союза офицеры нам заявили следующее: «Если вы по пути встретите русских комиссаров, которых можно узнать по советской звезде на рукаве, и русских женщин в форме, то их немедленно нужно расстреливать. Кто этого не сделает и не выполнит приказа, тот будет привлечен к ответственности и наказан».
Страшные приказы! И немецко-фашистские захватчики выполняли их беспрекословно. И даже после войны битые гитлеровские генералы не могут скрыть своей звериной ненависти к политработникам.
«За несколько дней до наступления, — читаем в мемуарах Манштейна «Утерянные победы», — мы полу^ чили приказ, который позже стал известен под названием «приказ о комиссарах». Суть его заключалась в том, что в нем предписывался немедленный расстрел всех попавших в плен политических комиссаров Красной Армии—носителей большевистской идеологии. С точки зрения международного права политические комиссары
53
вряд ли могли пользоваться привилегиями, распространяющимися на военнослужащих. Они, конечно, не были солдатами».
Не были солдатами? Это такая клевета, которая даже не требует опровержения.
Были самыми лучшими, самыми преданными Родине и самоотверженными солдатами. И это, хотя у Манштейнов короткая память, вынуждены были признавать они сами.
В одном из захваченных немецких документов «Источники военной мощи Красной Армии» сказано так:
«...Мы составляем о нем, солдате Красной Армии, представление благодаря тому, что хорошо познакомились с ним. Среди них прежде всего выделяются комиссары— политруки рот, комиссары батальонов, может быть, полков. Многие в плен не сдавались.
В одном из крупных сражений, когда русские были окружены и сопротивление их было ослаблено, я наблюдал комиссара, который вновь и вновь поднимал в бой части.
Мы подошли к ним вплотную, в рукопашном бою они были уничтожены один за другим. Последним остался комиссар батальона, он яростно отстреливался. Его окружили. Тогда он взял последнюю гранату, и, в то время, когда мы пытались скрытно приблизиться к нему, он поднес гранату к лицу, к краю каски. Раздался глухой взрыв, и тело комиссара поникло».
Что ж, мы, политработники, вправе гордиться и вынужденными признаниями врагов, которым не под силу отрицать нашу доблесть, и еще больше их ненавистью.
Чем сильнее, чем яростнее, чем непримиримее ненавидят нас фашисты, тем больше любят честные люди, тем лучше мы служим Родине, партии, народу. Эта оценка безошибочная!
СЛОВО «НАЗАД» ЗАБЫТЬ!
урская дуга — середина России. Тургеневский край с заливными лугами, трелями соловьев, песнями и сказками давних лет. Труд и поэзия родной земли.
Курская дуга — выжженные поля, изрытая окопами и воронками земля, центр военных событий лета 1943 года.
Жара. Знойное марево над бурьяном и
лебедой. Напряженная тишина перед бурей.
...Немецкое командование стремилось сделать все возможное для успеха операции с кодированным названием «Цитадель». Оно сосредоточило девятьсот тысяч солдат, десять тысяч орудий и минометов, две тысячи семьсот танков и самоходных орудий, более двух тысяч самолетов — три четверти своей авиации, действовавшей на советско-германском фронте.
4 июля Гитлер обратился к войскам: «...Мощный удар, который будет нанесен советским армиям, должен потрясти их до основания... И вы должны знать, что от успеха этого сражения зависит все...»
Врагу не удалось сохранить своих замыслов в тайне. Наше командование разгадало их.
На Курской дуге была создана прочная, глубоко эшелонированная оборона, сосредоточены силы, способные не только остановить врага, но и сокрушить его. Силы, сплоченные необоримой духовной властью идей коммунизма.
Готовилась схватка гигантов, одно из величайших сражений истории, в котором и нашей дивизии была предназначена своя, пусть скромная, но тоже важная роль.
2 июля штаб армии предупредил нас: третьего — пятого надо ждагь наступления немецких войск.
55
Дивизия заняла оборону на подготовленном рубеже. И хотя мы находились во втором эшелоне, настроение резко переменилось. Люди разом стали серьезнее, внимательнее, сосредоточеннее.
На исходе предсказанного срока, 5 июля, наступление врага началось. Немцы двигались из районов Орла и Белгорода на Курск.
У нас все еще было тихо, словно мы были на острове, выключенном из войны. А вдали от наших позиций в безоблачном, по-летнему синем небе кружились сотни самолетов, своих и чужих. Нельзя было разобрать, где чьи. Нельзя было поэтому ни радоваться, ни печалиться, когда один, другой, третий окутывались дымом, валились через крыло в штопор... И кто знал, чей парашют белым зонтом открывался над землей?
Трудно воевать. Может быть, порой еще труднее сидеть сложа руки, зная, что рядом в огне и гибели решается и твоя судьба.
Земля дрожала, в траншеях осыпался песок, будто к нам докатывалось эхо землетрясения.
Мы ждали сводок Совинформбюро, вестей из армии.
Главный удар на Центральном фронте противник сначала наносил в направлении на Ольховатку. Здесь немцы ввели в бой пять пехотных и три танковые дивизии. Полтысячи танков, тысячи орудий, сотни самолетов, десятки тысяч солдат, которым долго внушали, что русские сильны только зимой, что лето—-время фюрера...
Но как ни могуч был удар врага, он не достиг цели. В первый день наступления противник, понеся огромные потери, вклинился в нашу глубоко эшелонированную оборону всего на 5—8 километров. Этот частный успех был для немцев равен первому поражению.
Гитлеровское командование перенесло тяжесть главного удара в направлении станции Поныри.
...6 июля мы получили приказ подготовить дивизию к переброске на автомашинах в район активных боевых действий. В наше распоряжение отдавались три автобатальона.
Как спокойно и мирно звучат теперь слова «маршрут», «переброска», но совсем по-иному звучали они тогда. В любую минуту на автоколонны мог обрушиться 56
бомбовый удар с неба, из любого перелеска могли появиться прорвавшиеся немецкие танки.
Сам командующий армией генерал-лейтенант Черняховский приехал к нам, чтобы тщательно проверить подготовку к маршу: организацию походного охранения, разведку, противовоздушную и противотанковую оборону колонн.
Совершив 105-километровый бросок, дивизия 8 июля полностью сосредоточилась в полосе 13-й армии, в районе Нижне-Смородное, Рваное, Орлянка (15 километров южнее Понырей) и поступила в резерв командующего Центральным фронтом.
Нас встретили офицеры штаба фронта. Они указали рубеж обороны и сообщили командованию дивизии о боевой обстановке, сложившейся на фронте к моменту нашего прибытия.
— Сегодня, когда вы разгружались, — сказал офицер штаба, — тяжелые бои шли и под Понырями и на ольховатском направлении. Сейчас еще трудно сказать, где вы больше понадобитесь. Пока командующий фронтом оставляет дивизию в своем распоряжении.
В своих воспоминаниях Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, командовавший в то время Центральным фронтом, упоминает причину срочной переброски нашей дивизии. Ранее для усиления фронта Ставка выделила из своего резерва 27-ю армию. Но в связи с угрожающим положением на обоянском направлении ее передали Воронежскому фронту.
«В сложившейся обстановке, — пишет Рокоссовский, — необходимо было срочно увеличить резервы фронта. Это можно было сделать только за счет снятия сил с тех участков, где противник активности не проявлял. Я приказал командующему 60-й армией генерал-лейтенанту И. Д. Черняховскому одну стрелковую дивизию вывести в резерв фронта. Личный состав этой дивизии вместе с вооружением, боеприпасами, продовольствием и конским составом был погружен на автомашины и в течение суток перевезен в полосу 13-й армии». («Военно-исторический журнал», 1959, № 6).
9 июля в дивизию приехал на несколько часов уже знакомый нам начальник политуправления фронта генерал С. Ф. Галаджев. Он выглядел усталым, но был возбужден, весел, уверен в успехе. И эту уверенность
57
стремился внушить нам. Галаджев рассказывал, как дерутся наши войска, как успешно бьют они новые хваленые фашистские танки.
— Не так уж страшен оказался «тигр», как его малевали,— шутил Галаджев. — ...Но машина все-таки мощная, — предупреждал он, — и упаси вас бог от шапкозакидательства. Учтите, у «тигра» сильная броня, зато маневренность не ахти какая. Уязвимые места есть, особенно борта...
Галаджев советовал нам, не теряя времени, изучать опыт боевых действий частей, находившихся на переднем крае.
В тот же день Заиюльев ознакомил с обстановкой командиров полков, а они в свою очередь — всех офицеров. Замполиты собрали парторгов, комсоргов, агитаторов и рассказали о первом опыте борьбы с новыми танками противника.
Удивительное время мы переживали. Жили перипетиями боя, который шел пока без нас, говорили о подвигах, которые совершали другие, вспоминали о прошлых боях, которые казались уже ничтожными по сравнению с нынешним.
Человеку свойственно любить жизнь и беречь ее. Но бывают дни, когда она постыла без подвига, когда завидуешь героям, даже если их уже нет на земле. Такие чувства овладевали нами, когда мы, устав от пребывания в резерве, жаждали боя.
Есть такое старое выражение «жаден до клинка». В годину боя под Понырями мы понимали эту жадность.
В подразделениях читалась листовка о комсомольце Григории Кагамлыке. Он сделал то, что казалось выше человеческих сил: один из противотанкового ружья подбил два танка и самоходную пушку противника. Раненный, обессилевший, вынул из кармана гимнастерки комсомольский билет и написал на нем кровью: «Не отступлю ни шагу назад».
Мертвого Григория, его билет и ружье нашли в снарядной воронке, на засыпанной осколками земле.
Бойцы слушали текст листовки и, убежден, ясно представляли себе картину: неумолимо идут огромные машины, изрыгающие огонь, надвигаются на маленького человека с ружьем, грозя стереть его в прах. А ма-58
ленький человек горд своей любовью к родной земле и поэтому оказался сильнее грозных машин.
По всему рубежу нашей обороны были развешаны схемы с указанием уязвимых мест танка «тигр». На черных рисунках-чертежах эти места выступали словно кровавые раны. На обломках фанеры, кусках картона, на досках писались слышанные где-то стихи. Не поэзия, но боевой призыв:
Фриц броней своей грозится.
Не жалей, боец, огня.
Загорится вместе с фрицем
И фашистская броня.
В эти дни мы очень сдружились с Заиюльевым. Пока в дивизии был Шведов, комдив относился настороженно и ко мне. Может быть, ему казалось, что я настроен против него. Однако шло время, и он не мог не почувствовать мою искреннюю симпатию.
Нелегко человеку без товарища, перед которым он может открыться во всем, до конца. Заиюльев чувствовал себя в бою, с солдатами как рыба в воде. Но только в бою и только до тех пор, пока шла речь о чисто военных делах.
Я уже рассказывал о том, как он отмалчивался на новогоднем вечере, словно боясь произнести слово невпопад. Еще резче эта манера отмалчиваться бросалась в глаза при наших беседах с такими людьми, как Галаджев или Черняховский., Стоило разговору коснуться политических вопросов, прочитанных книг, виденных фильмов, как наш комдив словно набирал в рот воды.
Наедине комдив жадно расспрашивал меня обо всем: о книгах, о значении некоторых слов, услышанных им впервые, расспрашивал и поглядывал: не посмеиваюсь ли над ним.
Иногда, спохватившись и точно боясь, что уронит свой авторитет, замечал: «Да... да... все это мне давно известно... Хотелось знать, как ты на это смотришь». Но однажды разговорился откровенно:
— Понимаешь, у меня ведь не было никогда даже своей квартиры, что там квартиры — комнаты. Сирота я с ранних лет. У кулаков на Днепропетровщине батрачил— спал на сеновале, на завод в двадцатых пошел —
59
общежитие, в армии — сначала казарма солдатская, стал офицером — дальний гарнизон, землянка. Война — блиндажи... Своему делу учился и то наспех, а книги читать времени не хватало.
Да, нашему комдиву явно не хватало общей культуры. Казалось бы, она и не имела никакого значения на войне. Но все-таки ее отсутствие рождало в Заиюль-еве замкнутость и стеснительность.
Командирский рост Заиюльева на протяжении многих лет определялся больше всего его личной храбростью. Красноармейцем он участвовал в борьбе с бандами в Закавказье, на Халхин-Голе стал комбатом и Героем Советского Союза. Но, храбрый в бою, он, как многие старые службисты, побаивался начальства, древняя поговорка «с начальством спорить, что плевать против ветра» сидела у него в крови. А спорить порой было необходимо. И тут он всецело полагался на меня.
Постепенно он так привык ко мне, что вовсе не желал разлучаться. Порой поступал он даже по-детски. Устраивал, например, разнос политработникам в полку, где находился, чтобы иметь основание вызвать меня туда. Потом, бывало, говорил:
— Ну да, вот ты приехал, и теперь все как надо.
Я тоже полюбил Заиюльева за непосредственность, искренность, стеснительную душевность. Наш комдив не был тем идеальным современным командиром, который соединяет в себе особое хладнокровие с огромными знаниями, уверенность, основанную на строгом расчете, с осмотрительным мужеством. Нет, Заиюльев был ближе по типу к тем командирам гражданской войны, которые действовали часто по вдохновению, в отношениях с людьми поддавались порой настроению, верили своей интуиции больше, чем штабным планам. И можно, конечно, теперь строго судить недостатки Заиюльева, но не следует забывать, что идеальные во всех отношениях командиры встречались не так уж часто.
11 июля уже стало ясно: враг выдохся. Двенадцатого он перешел к обороне.
Командование Центрального фронта сообщило: «Встретив противника стеной разящего металла, русской стойкостью и упорством, войска Центрального фронта измотали в непрерывных ожесточенных восьми
60
дневных боях врага и остановили его натиск. Первый этап сражения закончился».
Вечером 13 июля, когда небо очистилось от самолетов и затих нескончаемый потрясающий землю гул артиллерии, Заиюльев собрал командиров и замполитов полков.
Все понимали причину вызова.
А комдив улыбался в усы, глаза его весело поблескивали. В хорошие минуты Заиюльев был всегда спокоен и говорил тихо.
— Вы знаете, наступление немцев остановлено. Войска нашего фронта готовятся к контрнаступлению. Дивизия переходит в район станции Возы и поступает в подчинение командира семнадцатого гвардейского корпуса тринадцатой армии. Поставлена задача быть готовыми к уничтожению вклинившегося противника в районе Поныри, Ржавец, Александровка, Озерки. Боевой приказ получите позже. О политической работе скажет начальник политотдела...
После совещания у комдива я застал всех политотдельцев у себя в землянке. Они ждали меня и, весело разговаривая, пили чай. Время уже сблизило меня с ними. Здесь были не просто подчиненные, а друзья. Я всматривался в их лица: открытое, доброе Иохима, подвижное, с вечной иронической ухмылкой Ровина, худое, небритое инструктора по информации Айзена... Каждый за шуткой скрывал волнение. И хотя Ровин рассказывал о необыкновенных зажигалках, которые ему удалось добыть (он их коллекционировал), а другие делали вид, что увлечены его рассказом, в сущности все думали о предстоящем наступлении. И все были рады перейти к делу. Быстро договорились, кто в какой полк идет. И вскоре разошлись.
На следующий день в политотделе остался только мой заместитель майор Ровин.
Ровин был у нас политотдельским «начальником штаба». Он любил держать в своих руках все нити информации, мгновенно и умно обобщал поступавшие снизу сведения, великолепно докладывал о них высокому начальству. Был он еще хорошим пропагандистом, однако любил выступать несколько академически, перед аудиторией, которая никуда не торопится — лучше на отдыхе, чем перед боем...
61
Я провел йочЬ перёд наступлением в 107-м полку. Вместе с другом моим замполитом полка майором Кузнецовым мы пошли в 1-й батальон, которым временно командовал опытный начальник штаба полка майор Николай Степанович Локтионов.
К этому времени батальон занял исходное положение для наступления. Командиры и политработники, как говорилось тогда, доводили боевую задачу до каждого воина. Есть в военном языке такие «неизящные», но абсолютно точные выражения: «Доводить до каждого». Именно доводить, чтобы не потерять в пути, не оставить только на командном пункте. Мы рассказывали о провалившихся планах немецкого командования, о героизме наших солдат в боях под Понырями, о том, что настало время и нам сравняться с ними в мужестве.
— Наступать будет нелегко. Перед нами находится шестая пехотная дивизия немцев и до сотни танков...— начал я разговор в одной из рот.
— Так много? — прозвучал чей-то встревоженный голос.
Но тут заговорили почти все сразу:
— Ничего, будем бить!.. Давно руки чешутся!..
Желание наступать было огромное, уверенность в своих силах — неодолимая, и это уже, по крайней мере, половина победы!
Ночью многие солдаты не спали. Трудно даже привычным ко всему людям заснуть перед боем! Хочется говорить о самом близком, дорогом, о том, за что завтра пойдешь хоть на смерть.
Родина? Конечно Родина! Но ведь она каждому видится по-своему — через свою любовь, свои березки...
В землянках и укрытиях фронтовые друзья открывали друг другу самые сокровенные мысли, писали письма, складывали треугольниками и отдавали старшине роты.
Кто-то рядом со мной вполголоса запел полюбившуюся фронтовикам песню:
...Ты меня ждешь
И у детской кроватки не спишь, И поэтому, знаю,
Со мной ничего не случится...
62
Что ж, может быть, ц этой вере в особую силу женской преданности и чистоты, способную охранять солдата от смерти, был свой глубокий смысл.
Подошел парторг батальона капитан Клименко, высокий, худощавый, с жестким обветренным лицом. Считался он человеком суховатым. На политработу был переведен с командной должности. Разговаривать много не любил. Сев рядом со мной, Клименко вынул из полевой сумки пачку бумаг и молча подал мне.
— Что это?
— Двадцать девять заявлений с просьбой принять в партию. Все они поданы сегодня... Вот так!
Было темно, и я не мог прочесть заявлений, но я перебирал их и, мне кажется, даже на ощупь угадывал биение сердец, которые отдавали себя партии до конца.
— Вот так!.. — повторил Клименко. Он не хотел выдавать волнение и закончил официально: — Разрешите идти. Надо подготовить и рано утром провести заседание партбюро.
— Иди, Василий Никитич!
Я отдал ему заявления, пожал руку.
...15 июля рано утром я возвратился на КП дивизии. Заиюльев уже ушел на наблюдательный пункт.
В 5 часов 45 минут началась артиллерийская подготовка. В небе появилась наша авиация. Гул непрерывный, все нарастающий, тысячи взрывов, словно слившиеся в один гигантский, потрясший небо и землю, дымные султаны над передним краем врага...
Заиюльев вызвал меня на наблюдательный пункт. Здесь находились командир 17-го гвардейского корпуса генерал-лейтенант Бондарев, начальник политотдела корпуса и командиры приданных частей. Наш комдив, как всегда при начальстве, чувствовал себя неуютно. А уйти нельзя было.
В 6 часов артиллерия перенесла огонь в глубь немецкой обороны и пехота поднялась в атаку.
Среди взрывов, сквозь пелену дыма видно, как пошли наши бойцы. Могучее «ура» донеслось до нас. И вот уже подразделения дивизии врываются в первую траншею противника.
У меня от радости захватывает дух, учащенно бьется сердце. Вот он, долгожданный день наступления! Многие месяцы мы его ждали, готовились к нему.
§3
Но успех только-только обозначился. Оправившись от первого удара, фашисты стали оказывать ожесточенное сопротивление. На правом фланге дивизии 111-й полк задержался в первых траншеях противника.
— Почему полк не /Продвигается? Что там делает ваш командир полка? Какого черта топчется? — кричит Бондарев. И, не дождавшись ответа, бросает начальнику политотдела корпуса и мне: — Сходите, разберитесь на месте. Я понимаю, что идти нам вдвоем вовсе ни к чему. Просто генерал нервничает. Но приказ остается приказом.
Командный пункт полка размещался в будке вблизи железной дороги. Противник вел усиленный огонь из дальнобойных орудий. Тревожно завывая, «юнкерсы» входили в крутое пике и бомбили.
Не успели мы забраться в будку, как в нее ахнул тяжелый снаряд. Половины будки как не бывало. Когда рассеялись пыль и дым, мы увидели убитого пропагандиста полка Акчурина и раненого инструктора политуправления фронта Алиева.
Отличные люди оба. Акчурин, храбрец из храбрецов, любил говаривать: "Самая убедительная пропаганда — идти впереди, да еще оставаться живым». Последнее ему, на беду, не удалось...
Алиев оказал нашей дивизии неоценимые услуги в работе с бойцами из Средней Азии. Знал он тамошние языки и наречия. Умел говорить с людьми по-свойски, убедительно, горячо.
Командир полка майор Челидзе понял причину нашего прихода и, не дожидаясь вопросов, стал горячо объяснять:
— Задачу выполним. Люди готовы на все. Смотрите, какой сделали рывок. Скоро возобновим атаку. Только зачем напрасные потери? Подбросьте «огоньку». И пусть наша авиация отгонит «небесных музыкантов» (так называли наши солдаты пикирующие бомбардировщики противника Ю-88). Тогда мы себя покажем.
Я слушал Челидзе и чувствовал: он на ветер слов не бросает.
Начальник политотдела корпуса доложил по телефону Бондареву обстановку и тут же ушел на НП дивизии, а я остался в полку.
64
Подмога не заставила себя ждать. «Сыграли» гвардейские минометы, появились «яки» и «Лавочкины». ' х
Атака возобновилась. Призывный клич «Коммунисты и комсомольцы, вперед!» разносился во всех батальонах. Политработники полка — заместитель командира по политической части майор Прохоров, парторг старший лейтенант Власов —в цепи наступающих; комсорг Николай Бобровский первым врывается в траншею противника...
В районе Березового Лога произошла серьезная заминка. Немцы ураганным огнем прижали к земле нашу пехоту. Челидзе немедленно послал туда своего заместителя по строевой части майора Полякова.
Поляков был замечательным человеком. Порывистый, словно переполненный бьющей через край жизнерадостностью, веселой энергией, он умел вести за собой людей легко, без принуждения. Он сам верил в свою счастливую звезду, и другие всегда верили, что с ним не пропадешь. Поэтому, наверно, ему давалось то, что порой казалось невозможным.
В нашу дивизию Борис Поляков прибыл в звании лейтенанта в декабре 1941 года, после ранения, которое получил в боях под Смоленском. Было ему едва девятнадцать лет, выглядел совсем мальчиком, но умело командовал мотострелковой ротой. И хотя, конечно, отлично знал и грязь и труд войны, сохранил романтическое отношение к подвигам. Известная пушкинская строка «есть упоение в бою» могла бы выразить обычное душевное состояние Полякова. Недаром с этой строкой перекликалась песня о Полякове, сложенная его солдатами:
Два ордена Краснознаменных —
Его боевой аттестат.
Он битвою был упоенный, Как истинный русский солдат.
Песня была не ахти какой грамотной, но пели ее долго и увлеченно.
В двадцать лет он уже в звании капитана командовал батальоном, затем стал майором и заместителем командира полка по строевой части.
5 Н. Б. Ивушкин
65
Челидзе, как и все мы, безгранично доверял Полякову. Едва тот ушел, как командир полка сказал:
— Ну, теперь все буд4т в порядке...
Центром вражеской/обороны, ее ключевым пунктом на участке, где продвижение задержалось, стал вкопанный в землю тяжелый танк. Он едва возвышался над полем боя и был плохой мишенью для нашей артиллерии. Мощная лобовая броня надежно охраняла его от осколков и выстрелов из ПТР. И орудие танка, оставаясь неуязвимым, било непрерывно и точно.
Поляков сразу нашел единственное верное решение: создать штурмовую группу. Эти штурмовые группы были удивительным тактическим нововведением, родившимся в ходе войны. Они создавались из самых смелых, находчивых и опытных солдат. Штурмовые группы неприметно обтекали неприступные доты, дзоты, вкопанные танки, забрасывали в амбразуры дотов гранаты, подкладывали взрывчатку под танки. Челидзе и я ждали сообщений от Полякова. Прошла минута... другая... пятая... И вот вдруг—взрыв. И уже вкопанный танк — не крепость, а могила. Наши бойцы во главе с Поляковым бегут, поднявшись в полный рост, и с разгона прыгают во вражескую траншею.
К исходу первого дня наступления 111-й полк выполнил поставленную перед ним задачу, овладев дорогой Поныри — Корпуньевка, на следующий день он очистил от врага обугленные развалины деревни Поныри Первые.
Успешно действовал и 228-й полк, сражавшийся за Поныри Вторые и Дружевецкий хутор.
...До сих пор я рассказывал только о том, что видел в этом бою своими глазами. Но поле зрения человеческого глаза ограниченно. Перебирая полуистлевшие рукописные бюллетени, выпускавшиеся в ходе сражения, вспоминая рассказы друзей, я хочу расширить летопись подвигов наших бойцов, обессмертивших свои имена в наступлении на Курской дуге.
Командир отделения Никитин, младший сержант Быков — товарищи на жизнь и на смерть. Под жестоким огнем, по земле, усеянной осколками, в час горячего боя, проползли они незаметно через линию немецких траншей. Неслыханная дерзость и точный расчет соединились в их поступке. Бойцы притаились в мертвом пространстве под самой амбразурой вражеского дзота.
66
И едва начался новый шк^ал нашей атаки, в амбразуру одна за другой полетели противотанковые гранаты...
Пулеметчик Игошев, комсомолец с доброй улыбкой и синими глазами, писавший домой письма в стихах, при отражении вражеской контратаки был ранен дважды. В обеих ногах были перебиты кости. Земля под ногами густо пропиталась кровью. А он стрелял, будто ничего не произошло, так же метко, так же спокойно, как всегда. И товарищи даже не знали толком, ранен ли он или просто побледнел от усталости и ярости боя.
Отбив контратаку, батальон двинулся вперед. Ползком со своим пулеметом передвигался вперед и Игошев. Какую выдержку, какую силу воли надо было для этого иметь! Теперь даже трудно себе представить. А расспросить Игошева уже нельзя. Вечером того же дня комсомолец, умевший бесконечно добро улыбаться друзьям, был найден у своего пулемета с третьей пулей в груди, пулей, пробившей сердце.
Младший сержант Иван Попович считался человеком слишком тихим и даже робким. Когда он неловко выкатился из траншеи и пополз навстречу «тигру», некоторые решили, что Попович от страха сошел с ума. А Попович и «тигр» все сближались и сближались друге другом. И вдруг боец поднялся в рост, с размаху швырнул противотанковую гранату. А после взрыва «тигр» с перебитой гусеницей завертелся на месте, уже не страшный никому.
Танк Поповича был первым «тигром», подбитым гранатами. И это событие, о котором мгновенно узнали все по «траншейному телеграфу», сыграло огромную роль. «Тигробоязнь» была уничтожена в зародыше.
А первую охоту на «тигра» с ружьем провел Иван Кукушкин. Кукушкин был пулеметчиком и противотанковое ружье до тех пор видел только в чужих руках. Но «тигры» шли на наши позиции, пулемет был против них бессилен, а расчет ПТР, находившийся рядом, был мертв. И тогда Кукушкин бросил пулемет и взялся за бронебойку. Солдатская сноровка помогла ему быстро разобраться в ней. В его памяти отчетливо запечатлелась многократно виденная схема уязвимых мест танка.
Выстрел — на пробу, второй, третий... И «тигр» уже дымится, полыхает огнем.
5* 67
Мы наступали, настойчиво7 продвигаясь вперед. Однако гитлеровцы еще не помышляли о бегстве. Более того, их еще не оставляла мысль остановить и разгромить нас шквалом бешеных контратак.
Под деревней Александровкой в час затянувшегося траншейного боя враг сумел сосредоточить танковый кулак, под его прикрытием двинулась на нас в контратаку и немецкая пехота.
У противника образовалось превосходство в силах. НП нашей дивизии находился всего в двухстах метрах от переднего края. Мы хорошо видели лавину, катившуюся на нас.
— Перенести энпэ назад? — нервно спросил дивизионный инженер Заиюльева.
— Слово «назад» забыть! — отозвался комдив. — А вот подступы сюда надо бы заминировать, — добавил он как бы походя.
Заиюльев отлично понимал, что малейшее колебание, малейшая неуверенность командования незримо передастся бойцам. Перенести наблюдательный пункт назад, в глубину, сейчас значило негласно допустить возможность отступления. Таких ошибок наш комдив никогда не совершал. Солдаты должны были знать: он здесь, с ними, рядом, уверенный в победе.
Прибыли саперы. Под огнем они поставили минное поле вокруг НП.
Бой теперь кипел и перед нами, и сбоку от нас. Действиями артиллеристов руководил заместитель командира дивизиона Петр Кудинов. Подбитые пушки до последней возможности вели огонь со старых позиций, уцелевшие меняли свое место и наносили неожиданные удары во фланг.
У самого НП взорвался на минах «тигр» и так и остался стоять, задрав хобот орудия к небу.
Кто-то в окопах 1-го батальона 228-го полка (мы так и не установили кто) написал, послюнив чернильный карандаш, кривыми буквами на фанерной крышке ящика от консервов: «Умрем, но не отступим!» Этот лозунг был воткнут в землю над траншеей.
Единое чувство, которое владело всеми, от комдива до поваров, тоже взявшихся за автоматы, сделало дивизию необоримой. Враг отступил. На его плечах мы ворвались в Александровку.
НОЧЬ ЗАТИШЬЯ
— очь затишья существует не только для от-у """ дыха. Есть множество вещей, о которых не-\ когда и думать во время боя, но о которых
I и забыть нельзя.
I Каждый подвиг должен быть отмечен. Ко-
I нечно, солдат сражается «не ради славы — I ради жизни на земле». Однако очень мало ня свете людей, которые были бы равнодушны к признанию своих заслуг, начисто лишены честолюбия, нечувствительны к поощрению.
Заслуженная награда для солдата — и символ благодарности Родины, и знак справедливости командира, и то отличие, что подымает его в собственных глазах и в глазах товарищей. Наконец, награда солдата нечто вроде паспорта чести для его семьи.
Теперь мы, к сожалению, частенько забываем об этом. Сколько орденов и медалей пылятся, забытые, в ящиках письменных столов! Сколько людей не носит даже орденских колодок, словно стесняясь славы. За равнодушием к боевой награде часто лежит равнодушие к самому подвигу. А это самое опасное равнодушие, когда им заражается молодежь, не нюхавшая пороха, но порой относящаяся уже скептически к героям минувших сражений.
Конечно, все мы сторонники мира и борцы за мир. Но ведь охраняют нашу страну не голуби Пикассо на плакатах, а люди с оружием в руках. И кто поручится за то, что этим людям не доведется решать судьбу всей планеты, проходя через стронциевые дожди и неслыханные взрывы термоядерных бомб. Чтобы выстоять тогда, к подвигу надо готовиться сегодня. Героизм должен быть и в мирные дни предметом восхищения, как это было на войне.
69
Заиюльев начинал ночь затишья с вручения наград. И он не пропускал ни одного из тех, кто выделился мужеством на поле боя. Каждому жал руку. Каждому прикалывал сам на пропотевшую гимнастерку орден или медаль.
Ночью бойцы получали разом завтрак, обед и ужин. Ночью вели с ними беседы политработники — о Родине и завтрашнем бое, о прошлом и будущем — чудесной стране «после войны».
На исходе ночи мы с Заиюльевым, подводя итоги, размышляли о том, что стало самым главным и решающим для нашей дивизии в нынешнем наступлении.
Борьба с танками? Конечно и она! Но, может быть, еще более — траншейные бои, требующие особого личного мужества и мастерства.
Прыгнуть с разгона во вражескую траншею, свалиться в ход сообщения, оказаться на пороге блиндажа — это порой только полдела. Далеко не всегда враг растерян, испуган, помышляет о бегстве. Чаще и он ожесточен до крайности. В узкой (какие-нибудь полметра) канаве противники сталкиваются лицом к лицу. Рвутся гранаты, поражая осколками и своих и чужих, автоматы стреляют в упор, руки врага тянутся к горлу. Десятки, сотни схваток, которыми, кажется, не в силах управлять никакой командир. Здесь каждый боец сам себе армия. И жизнь зависит от собственной смелости, смекалки, ловкости, силы.
В минувший день особо отличились парторги батальонов Клименко и Штейнгарт.
Клименко обладал редким хладнокровием и словно врожденным чутьем боя. Вчера он появился в одной из рот перед атакой, когда артиллерия уже обрабатывала немецкие траншеи. Артподготовка еще не кончилась, а наша авиация уже нанесла бомбовый удар.
Расстояние между нами и немцами — всего несколько десятков метров. Бомбы рвались совсем рядом. И наши бойцы лежали, уткнувшись лицом в землю.
Была опасность, что они, оглушенные бомбежкой, прозевают тот единственный, лучший для атаки момент, когда огонь уже перенесли в глубину обороны противника, а враг на переднем крае еще не опомнился, не пришел в себя.
70
— Передайте по траншее: быть готовыми к атаке,— сказал Клименко командиру роты. — И пусть каждое отделение разобьется на группы по три-четыре человека. И чтоб они там, в траншеях, держались друг друга.
Еще не отзвучало эхо последнего взрыва бомбы, ударившей между нами и немцами, а Клименко уже вскочил и крикнул:
— Вперед, друзья!
И никто не задержался, никто не замешкался. Рота свалилась на голову врага, почти не понеся потерь.
Да, во вражеской траншее нельзя управлять взводом, сложно даже отделением. Но и группы в три-четы-ре человека представляли организованные подразделения, со своими старшими. Они помнили советы Клименко: простреливали из автоматов прямой коридор траншеи, а прежде чем свернуть на ее изгибах, швыряли за угол гранаты и, прижавшись к стенке, ждали, пока они взорвутся.
Клименко доказал, что и траншейный бой можно вести с высокой степенью организованности, при относительно малых потерях.
Поразительные вещи проделывал Хаим Шоломович Штейнгарт. Вот уж был человек, чья подлинная сущность по-настоящему раскрывалась только в минуты величайшей опасности. Он пришел к нам в дивизию не так давно и поначалу произвел неважное впечатление. Слишком уже был тих, скромен и по-детски застенчив. И хотя был Штейнгарт участником битвы на Волге, рассказывал он о ней мало и скупо, а больше любил вспоминать о родной своей Белоруссии, о тишине ее дремучих лесов, о своем отце, рабочем лесопильни. Нет, уж героя в нем никак нельзя было заподозрить. И вдруг в первом же наступательном бою под Понырями Штейнгарт возглавил атаку одной из рот. Без громких слов, без крика «ура» первым пошел под пули, мало того, в траншейном бою собственноручно срезал из автомата трех гитлеровцев. Об этом случае я узнал позже, стороной. Сам Штейнгарт о нем умолчал.
Однако подлинные чудеса произошли позже. Известно, что у немцев были гранаты с длинными ручками. Известно и то, что в горячке ближнего боя гранаты швыряют торопливо и от их падения до взрыва проходит несколько секунд. Так вот Штейнгарт использовал все
71
это. С непостижимой ловкостью и невероятным хладнокровием, он ловил немецкие гранаты на лету и бросал их обратно. Нет, это был не единичный случай, а, так сказать, «штейнгартская система», вскоре ставшая известной всей дивизии.
Тихий, застенчивый парторг батальона стал в эти дни всеобщим любимцем бойцов. Заиюльев говорил офицерам:
— Учитесь вести бой в траншее у товарища Штейн-гарта.
И он учил — не словами, а делом — показом, не теряя в самой яростной схватке рассудительности, соображая мгновенно, действуя стремительно, не поддаваясь ни страху, ни усталости никогда.
Новое и удивительное рождалось не только в атакующих подразделениях. Появилось оно и у тех, кто действовал не штыком и гранатой, а скальпелем и тампонами, кто не уничтожал, а спасал человеческие жизни, у величайших гуманистов войны — врачей.
Накануне вечером я возвращался с переднего края на КП дивизии и увидел метрах в трехстах от переднего края, в неглубоком овраге, палатку, а рядом с ней раненых.
Удивленный, я спустился в овраг, было еще достаточно светло, чтобы разглядеть то, что делалось за открытым пологом палатки. Там шла операция.
Раненые, лежавшие на траве, были уже перевязаны по всем правилам. У многих были удалены осколки, некоторым сделано переливание крови.
Право, я не знал, что делать — то ли сердиться за нарушение всех инструкций, то ли одобрить инициативу и решительность медиков.
Из палатки вышла Надя Оцеп, ставшая командиром санитарной роты 107-го полка.
— На каком расстоянии от переднего края положено размещать медпункты, товарищ Оцеп? — спросил я.
— Думаю, в наступлении, чем ближе, тем лучше, — спокойно ответила она.—Чем скорее раненый попадет к нам, тем больше шансов у него вылечиться.
— А безопасность?
— Опасность артиллерийского обстрела что здесь, что за один-два километра одинакова. А продвигаться мы будем не назад, а вперед.
72
Внутренне я не мог не согласиться с Надей.
— Допустим. Ну, а по каким инструкциям положено производить на медпунктах операции и переливание крови?
— Товарищ начальник политотдела, разве инструкция — догма? По инструкции мы обязаны отправлять раненых в медсанбат дивизии. Но ведь сделать это можно только глубркой ночью. Так что же, им во имя инструкции помирать?
Девушка-врач рассуждала здраво. Мне оставалось только одобрить ее действия.
— Ну что ж, раз уж оперируете на переднем крае, постарайтесь делать это не хуже, чем в медсанбате.
— Стараемся.
Мы оба улыбнулись. Я крепко пожал Наде руку.
Я начал рассказ о медработниках дивизии с Нади Оцеп, но мог бы по справедливости начать и с санинструктора сержанта Ильи Салтысека. Если раненые попадали на медпункт своевременно, то в этом была прежде всего его заслуга.
Я не знаю людей другой профессии, у которых было бы так высоко развито чувство долга, как у медиков. Думается, одно приобщение к их «сословию» делает любого честного человека самоотверженным. Тут действует сила профессиональной традиции, как бы говорящая: «Ты призван спасать самое дорогое и святое — жизнь людей, и только тем, как ты это сделаешь, определяется цена твоей собственной жизни».
Так вот даже в минуты, когда самые отважные бойцы не смели поднять головы под жестоким огнем, нескладный, коренастый, узкоглазый Салтысек, сосредоточенный и спокойный, будто он зэнят был самым обыденным делом, ползал по полю боя, подбирая раненых. Привычно взваливал на спину обессилевшего от потери крови солдата, брал в руки его оружие и медленно, осторожно передвигался к медпункту, чтобы тотчас же снова вернуться под огонь.
Может быть, чувство долга само по себе надежная броня. Во всяком случае, в дни Курской битвы Салтысек вынес с поля боя 85 тяжелораненых. Он по праву заслужил орден Ленина.
Редкий по внутреннему драматизму эпизод произошел в медсанбате. Туда доставили раненого, которому
73
в мышцы бедра врезалась неразорвавшаяся мина 50-миллиметрового миномета. Мина вздрагивала при каждом движении, в любую секунду мог произойти взрыв. Доставили — не то слово. Раненого осторожно принес на руках его друг солдат и положил на операционный стол.
Главный хирург медсанбата Георгий Петрович Петров приказал уйти из палатки всем, кроме операционной сестры Марии Кот, девушки с простодушно-голубыми глазами и милыми ямочками на щеках.
Другие врачи и сестры, сбившиеся в кучку на безопасном расстоянии, могли наблюдать за операцией через откинутый полог палатки.
Конечно, бывало, что наши медсанбатовцы попадали и в более трудные положения. Случалось им оперировать и под бомбежкой и под артиллерийским обстрелом. Помнили они, как «мессеры» проносились на бреющем полете и били из пулеметов по палаткам с красным крестом. И все-таки то был быт войны и привычный ход медицинских дел, а здесь — необычайное, а потому и более драматичное и волнующее.
Петров был сосредоточен, спокоен, строг, Мария улыбалась раненому. И солдат на операционном столе, превозмогая страшную боль, пошутил:
— Операция по разминированию участка организма...
Минуты казались часами. Ножницы разрезали штанину, серое солдатское белье... Маленькая рука Марии придерживала мину. Скальпель хирурга вошел в тело...
И вот наконец Петров крикнул:
— Возьмите раненого!
Тут только прибежал сержант, вызванный из саперного подразделения, и забрал мину.
— В общем операция-то была пустяковой! — заметил Петров. — Давайте следующего.
— Ну и натерпелась я страха, — призналась Мария и улыбнулась.
...Раненых в эти дни было много. По ночам они поступали в медсанбат непрерывным потоком. Бывало, не только медработники, но и все политотдельцы занимались их эвакуацией с поля боя. Властью, которую нам давали офицерские звания, мы останавливали любые машины и подводы на фронтовых дорогах, даже 74
если эти машины и подводы принадлежали не нашей дивизии, даже если они везли продовольствие и боеприпасы: спасение человеческих жизней дороже всего. Именно на войне помнить об этом всегда особенно трудно, но и особенно важно.
Бойцы, раны которых не были слишком тяжелыми, как правило, не желали эвакуироваться дальше медсанбата. И, сознаюсь, это был тот вид «местного патриотизма», за который я стою горой: высокое, благородное чувство — стремиться пройти всю войну плечом к плечу со своими друзьями, в родной своей части.
Несмотря на запрещение санотдела армии иметь в медсанбатах большие команды выздоравливающих, мы с комдивом (судите нас как хотите) шли навстречу желаниям раненых бойцов. Думаю, что это оправдало себя и в чисто военном смысле. Команда выздоравливающих стала в ходе боев источником непрерывного пополнения редевших в атаках подразделений.
О многом можно вспомнить в ночь затишья перед новым боем. Но, как ни странно, скупее всего воспоминания о самых близких мне — работниках политотдела дивизии. Может быть, потому, что их ратный труд растворен, как соль в морской воде, во всех делах и подвигах, совершенных другими. Может быть, и потому, что к самым близким относишься всего требовательней, подвиг приравниваешь к простому исполнению долга, малейшую слабость считаешь непростительной ошибкой.
Беседую со своим помощником по комсомолу Степановым, но слышу ведь рассказ не о его делах, а о том, например, как комсорг батальона лейтенант Босолыга проводил во время боя заседание бюро прямо в траншее. И возникает перед моим мысленным взглядом приземистый лейтенант с широким русским лицом, обсуждающий под огнем достоинства и недостатки вступающих в комсомол солдат так же спокойно и деловито, словно и не отделяет здесь жизнь от смерти только время полета пули. И вижу отчаянного, веселого пулеметчика Горбунова и ворчливого неутомимого связиста Гопоненко, юношей с лицами обветренными и опаленными, которых сейчас более всего волнует, что скажет о них комсорг.
Разговариваю с инструктором по оргпартработе, могучим— косая сажень в плечах, храбрейшим майором
75
Бень, узнаю новое не о нем, а о командире взвода Ни-зовце, отметившем вступление в партию внезапной, поразительной по смелости атакой на немецкую пехоту, следовавшую за своими танками. И кажется, вижу, как переваливают «тигры» через наши траншеи, идут еще вперед, чтобы попасть под перекрестный огонь замаскированных орудий. А солдаты Низовца, едва лишь гусеницы проползли над их головами, вскакивают и бьют насмерть фашистских автоматчиков, оставшихся без прикрытия брони, панически бегущих назад по смертному полю. И как-то не думается о том, что Бень был рядом с Низовцом.
...Сидит передо мной подтянутый и строгий редактор дивизионной газеты «Победа» Пономарев. Его сотрудники провели весь день на переднем крае. Но не их переживания интересуют меня, а газетные полосы, где описаны подвиги других героев.
Позже я понял, что в чем-то, наверно, виноват перед самыми близкими друзьями. Редко представлял их к наградам, часто ругал, не сдерживаясь, за небольшие провинности.
Доводилось мне после войны встречать тыловых работников, только изредка попадавших на фронт, и то не дальше штаба полка, у которых вся грудь в орденах. И думал я тогда: «Напрасно скупился на награды своим политотдельцам».
Не так давно рассказал мне один из старых боевых друзей, что иные мои жесткие разговоры в политотделе и редакции шутя называли «ОВ» — очередными взбучками (впрочем, если быть до конца откровенным, словом «взбучка» я заменил здесь другое, более соленое).
Повторяю, может быть, я в чем-то виноват перед друзьями — подчиненными. Но я любил их, они были для меня как бы частью меня самого. Горжусь тем, что никто из них никогда не получал ни партийного, ни служебного выговора, ни один не ушел из дивизии с плохой характеристикой. Горжусь тем, что и теперь, через двадцать лет, между всеми нами не прервалась дружеская связь,
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ И ПОЛИТРУКИ
осле освобождения деревень Ясная Поляна, Новый Хутор, Озерки, Подлесное, Степная дивизия вышла на линию зимней обороны противника.
23 июля, вместе с войсками фронта, мы отмечали это радостное событие.
Впервые за войну лето начинало служить нашему оружию. Гитлеровская сказка о
решающей роли Деда Мороза в успехах русских войск уже не воспринималась всерьез никем. В томительно жаркие дни мы били фашистов ничуть не хуже, чем в ослепительно-морозные. Было чему радоваться. Неизмеримо выросла вера в мудрость и предвидение военачальников всех рангов и должностей.
Ушли в далекое прошлое разговоры о Горловых, скептические сомнения в правильности военных планов и приказов. Каждая встреча с такими военачальниками, как Рокоссовский или Черняховский, убеждала: командуют нами люди, знающие дело, мыслящие ясно и глубоко. Перед дивизией ставились задачи сложные и трудные, но всегда выполнимые. А убежденность в том, что успех зависит от тебя самого, неизмеримо повышает ответственность и становится основой мужества. Стиль командующих фронтами и армиями неизбежно становится стилем командиров дивизий, полков, батальонов. Никто уже не смел полагаться на авось. Все было подчинено твердому расчету. И солдат, рисковавший жизнью, знал, что рискует он не напрасно.
На фронте шла перегруппировка войск, и наша дивизия получила приказ совершить марш в район южного основания орловской группировки противника.
Идем по местам, где несколько дней назад происходила грандиозная битва. На изрытых бомбами и снаря
77
дами полях застыли подбитые танки, исковерканные орудия. Много еще незахороненных трупов немецких солдат. Деревни, встречающиеся на нашем пути, страшны. Редкие уцелевшие избы одиноко торчат среди пепелищ. Измученные, худые женщины и дети роются в золе. Ищут, не уцелело ли что, имеющее цену: вытаскивают как находку согнутую ложку, топор с обугленной рукояткой... Даже остов печи кажется им родным домом. Месяцами прятались они в лесах и оврагах от облав.
...На марше стало известно, что дивизия переходит в состав 29-го стрелкового корпуса 70-й армии. Едва мы сосредоточились на новом рубеже, как началась подготовка к наступлению. Дивизии предстояло прорвать глубоко эшелонированную оборону противника и продвигаться в направлении населенных пунктов: Чернь, Жирятино, Чувардино.
Круглые сутки кипела напряженная работа в штабе. Беспрерывно прибывали приданные нам части. Впервые за войну дивизию усиливали таким большим количеством артиллерии и танков. Достаточно сказать, что нам придали десять артиллерийских и минометных полков РГК (Резерва Главного Командования), танковую бригаду, саперов...
Среди командиров приданных частей было несколько генералов. Признаться, я боялся, что наш Заиюльев растеряется, оробеет перед ними, станет в тупик перед сложными проблемами взаимодействия различных родов войск. Но, видно, я еще недооценивал его характер и волевые качества. Он словно чудом вырос на глазах — был собран, четок. Вопреки прежним привычкам, держал штабистов при себе. Распоряжался уверенно и спокойно.
Командиры приданных частей уважительно согласовывали с нашим комдивом порядок взаимодействия, плановые таблицы стрельб, прислушивались к каждому слову Заиюльева.
Накануне наступления Военный совет фронта прислал обращение:
«Славные бойцы, командиры и политработники нашего фронта!
Мы первые летом этого года положили начало крупному разгрому немцев... Теперь надо первыми же
78
устроить немцам второй Сталинград под Орлом. Что нужно для этого?
...Смело просачивайтесь в стыки противника, выбрасывайте в его тыл группы отважных автоматчиков, пулеметчиков, минеров...»
Обращение Военного совета стало основой политработы. Ее новое главное звено в эти дни было в том, чтобы обострить у каждого командира способность к самостоятельным решениям, усилить в сердце каждого солдата веру в то, что он может полагаться на своих товарищей из других родов войск.
Прорыв вражеской обороны начался 25 июля. Перед совместным ударом артиллерийских, танковых и стрелковых частей гитлеровцы не смогли устоять.
О взаимодействии обычно говорят в масштабах фронта, армии, минимум — дивизии. Когда же речь идет о мелких подразделениях пехотинцев, артиллеристов, танкистов, чаще вспоминают об их соперничестве. Очеркисты любили измышлять наивные споры солдат о том, кто, дескать, важнее — «царица полей», «бог войны» или «экипаж машины боевой». Но, в сущности, взаимодействие в больших масштабах непременно подразумевает фронтовую дружбу представителей разных родов войск и в любом малом эпизоде боя.
Вот один из таких эпизодов мне и хочется вспомнить.
У нас в 111-м полку командовал огневым взводом 76-миллиметровых пушек младший лейтенант Семенченко Василий Алексеевич. Молодой коммунист и опытный артиллерист. Пришел он в нашу дивизию сержантом, после ранения, из госпиталя, в начале 1942 года и был назначен командиром орудия. Однажды в бою на Северо-Западном фронте все офицеры батареи вышли из строя и случилось так, что Семенченко взял на себя командование огневым взводом. Командовал он так уверенно и толково, что несколько позже ему присвоили офицерское звание и утвердили в должности.
К началу наступления две пушки из взвода Семенченко стояли на прямой наводке. Когда была прорвана оборона врага и пехота в сопровождении танков двинулась вперед, взвод Семенченко остался вроде не у дел. Тяги, кроме солдатских рук, у него не было. Однако Семенченко догадался. Как те, что «голосуют» на дорогах, остановил один танк и упросил прицепить орудие.
79
У второй линии вражеской обороны Семенченко отцепил пушку и открыл огонь по траншее. А вскоре появились немецкие танки. Начался танковый бой.
Теперь Семенченко пришел на помощь своему «тягачу»— подбил вражеский «тигр», готовившийся ударить в борт нашей «тридцатьчетверке». Через несколько минут уже танкисты выручили Семенченко, чье орудие едва не захватили фашистские автоматчики.
Наша пехота, сопровождаемая огнем и колесами, в первый же день освободила поселки «Красное знамя», «Новый свет», «Красный уголок». Но успешно начавшееся наступление стало ослабевать. Противник подтянул на машинах подкрепление и при поддержке танков перешел в контратаку. Завязались тяжелые бои.
29 июля командующий фронтом К. К. Рокоссовский поставил перед командиром дивизии боевую задачу — занять сильно укрепленный рубеж у деревни Жирятино. Требовалось срочно разведать вражескую оборону. За это дело взялся уже известный нам заместитель командира 111-го полка майор Поляков.
Тщательно подготовив поисковую группу, он сам повел ее через линию фронта.
Ночью разведчики проползли в глубь вражеского расположения. Им повезло. На склоне оврага, неподалеку от переднего края, три гитлеровца спали глубоким сном. Разведчики чуть не наткнулись на них. Дальнейшее было относительно просто...
Группа благополучно возвратилась. Пленные не принадлежали к фанатичным приверженцам фюрера и охотно рассказали все, что знали. Слабые места в обороне противника были определены.
Как весел, полон жизни и радости был вернувшийся из разведки Поляков. Кто мог подумать о том, что через несколько дней он нелепо погибнет, подорвавшись на мине, что орденом Ленина за бои на Курской дуге его наградят уже посмертно.
Главный удар должен был наносить 107-й полк. Поэтому политотдел сосредоточил на нем основное внимание. Мы уже пришли к выводу, что нецелесообразно перед боем распылять работников политотдела по всем частям: они должны быть там, где всего труднее.
80
6 107-й полк мы пришли целой группой и включились в подготовку к наступлению.
Здесь же заседала парткомиссия. Принимала в партию людей, отличившихся в недавних боях. Всю ночь в землянке при свете фронтовой лампы — коптилки из снарядной гильзы работники партийного учета политотдела— низкорослый, хмурый Козаев и длинный, улыбчивый Петя Курской—заполняли партийные документы. Рано утром фотограф Сенцов принес отпечатанные им за ночь фотокарточки.
На фотографиях бойцы выглядели и моложе и красивее, чем в жизни. Что ж, это и естественно. Каждый из них (а это в боях удавалось редко) тщательно брился и чистился, прежде чем предстать перед фотоаппаратом.
Еще до войны, когда я работал секретарем райкома, мне часто приходилось выдавать партийные билеты молодым коммунистам. Всегда это было событием. Но никогда я не испытывал такого особого душевного подъема и радостного волнения, как здесь, на фронте, где партбилет давал единственную привилегию — право идти первым в огонь.
Много лет прошло с тех пор, а забыть этого волнения и духовного подъема не могу. Но вот недавно, читая роман Владимира Фоменко «Память земли» (роман в целом правдивый и интересный), я вдруг наткнулся на такое место:
«Правда, носил билет и присланный из Новочеркасска мастер Попков, человек неплохой, но глубоко беспартийный, ставший кандидатом партии в армии, в войну, когда в тысячах солдат вспыхивал необычно горячий патриотизм: «Хочу умереть коммунистом!» Тогда Попков не умер, а теперь, в мирном быту, стал снова обывателем».
Меня это место в книге глубоко оскорбило. Дело, конечно, не в Попкове — люди бывают разные и случаи всякие. Но во фразах «необычно горячий патриотизм», «тогда не умер... стал снова обывателем» звучит непонятная и неуместная ирония и ощутимо проступает несправедливое и вредное обобщение.
Вступать в партию в период жестоких боев, когда решалась судьба Советской страны, брать на себя обязательство быть храбрейшим из храбрейших, самоотвер-женнейшим из самоотверженных и выполнять его — это
6 Н. Б. Ивушкин
81
й есть высшее проявление подлинной партийности, которое недопустимо приравнивать к вспышке чувств у обывателя.
...Вновь вспоминаю людей, которым выдал партбилеты в то июльское утро 1943 года. Прошло только несколько часов, и они ушли в бой. Пивнев и Зобков — так звали двух товарищей пулеметчиков. Еще шла артподготовка, еще в тревожном оцепенении ждали сигнала атаки в траншеях наши бойцы, а Пивнев и Зобков поползли со своим пулеметом через ничейную полосу. С какой-нибудь полусотни метров открыли они огонь по амбразурам немецких дзотов. И три вражеских дзота умолкл-и навсегда. Право, это молчание стоит лучших характеристик на людей, впервые спрятавших в нагрудные карманы гимнастерок кандидатские карточки.
Я перебираю сейчас полуистлевшие, покрытые пятнами тетрадные листки, прошедшие через много рук. На этих листках тогда, в только что захваченной вражеской траншее, агитатор полка Серебряков записал подвиги молодых коммунистов. Листки назывались «письмами-летучками».
Серебряков был немного медлительным, длинноносым, сутуловатым, худым человеком с тонкими руками. Когда он снимал пилотку, виден был аккуратнейший пробор, деливший его волосы на две неравные части. Он походил более всего на счетовода, но его любили как политработника и солдата. Серебряков ходил в атаку, как ходят теперь на службу, привычно и бесстрастно. Подбадривая оробевших, спрашивал удивленно:
— Ну чего замешкался?.. Ничего ведь особенного... Война как война.
Пожалуй, ни один подвиг не оставался им не замеченным. А о замеченном он всегда находил и время и место сообщить всем.
...Заиюльев вызвал меня из полка на НП.
Накал боя нарастал с каждым часом. Несколько раз немцы бросались в контратаку, но каждый .раз отступали с большими потерями. Они вызвали авиацию. Вначале послышался тяжелый гул бомбардировщиков, а еще через несколько секунд — оглушительные разрывы фугасок. Потом опять появились густые цепи наступающего врага...
82
Едва была отбита эта контратака, все присутствующие на НП командира дивизии с облегчением вздохнули. Но тут на пригорке показались немецкие танки.
Три... пять... десять... четырнадцать... И вот уже не сосчитать.
Я впервые вижу такое большое количество танков. Заиюльев кладет бинокль и, поворачиваясь к начальнику артиллерии, говорит:
— Ну, бог войны, давай подвижной заградительный огонь!
Еще несколько минут, и на пути танков встает заслон взрывов. «Тигры» останавливаются. Потом часть из них отделяется и, обтекая рубеж заградительного огня, ползет к окопам.
Артиллеристы ставят завесу огня перед самыми окопами. Облака дыма и пыли заволокли все — стали непроницаемы для глаза. Время будто остановилось. Каждая секунда кажется вечностью. Но вот дым чуть развеялся и уже ясно: одни «тигры» горят на поле боя, другие повернули восвояси. С НП командира дивизии видно, что наши соседи справа и слева так же ведут напряженные бои. Всюду пылают факелами вражеские танки...
И в небе кипит бой. Стремительные «яки» атакуют тяжеловесных «юнкерсов», отгоняют «мессеров». Один за другим валятся вниз немецкие самолеты, оставляя черные хвосты дыма. Впервые за время войны я вижу воочию превосходство наших соколов над авиацией противника. Может, для участников боев на Волге и на Кубани это и не новость. Но для нас, прибывших с Северо-Западного фронта, — открытие.
Сколько раз и в первые месяцы войны и летом 1942 года, когда мы вели бои на демянском плацдарме, немецкая авиация безнаказанно бомбила нас... Вера в то, что мы летаем «лучше, дальше, быстрее всех», воспитанная в мирные дни, тогда испытывала жестокие удары. На настойчивые вопросы бойцов: «Где наша авиация?» мы, политработники, отвечали неубедительно, потому что и сами еще не знали трагедии первого дня войны, когда было потеряно 1200 самолетов (большинство из них враг уничтожил на аэродромах).
Оправиться от таких потерь было нелегко. Нелегко было и создать новые типы самолетов, которые бы пре
6*
83
восходили по своим качествам вражеские. Авиационная промышленность, перебазировавшаяся на Восток, на первых порах не могла удовлетворить запросы фронта. А гитлеровцы кружили над дорогами, над полями боев, порой гонялись даже за отдельными машинами.
Но вот и кончился их срок. Несмотря на то, что враг сосредоточил на Курской дуге могучие воздушные армады, мы оказались сильнее. И как это было здорово: не только читать, слышать, но и убедиться самим, на собственном опыте, что отныне наша авиация — хозяин неба.
Мы давно потеряли счет времени, а бой не утихал ни на минуту. Не считаясь с огромными потерями, противник продолжал вводить в бой все новые и новые силы.
Этот день можно смело назвать днем величайшего напряжения духовных и физических сил для всех бойцов и командиров дивизии. Наши ряды сильно поредели, но не дрогнули ни разу, ни на один момент.
В первом батальоне 111-го полка в одной из рот выбыли из строя все офицеры. И тут же, не допустив замешательства, командование взял на себя рядовой боец Василий Конев.
Части дивизии не только отразили все контратаки, но и продвинулись вперед.
Уже в сумерках мы с Заиюльевым оставили НП и направились на командный пункт. Спало нервное напряжение, и сразу почувствовалась смертельная усталость. Однако было не до отдыха. Успех успехом, а у комдива были все основания и для серьезного беспокойства:
— Боеприпасы кончаются, а начальника боепитания и зама по тылу не могу найти. Если ночью ничего не подвезут, завтра воевать нечем.
— Очевидно, они застряли где-то в тылах армии,— заметил я.
— Может быть, ты сам займешься? — это было и вопросом и приказом. И тут уж не д® разграничения функций и служебных обязанностей.
В тылы армии ехать было далеко. Да и не был я уверен, что сумею там быстро договориться с интендантами. Для них начполитотдела дивизии не начальство. Вот и поехал искать командарма и Военный совет,
84
Навстречу мне, к переднему краю, тянулись кухни, повозки с продовольствием. Свежие части шли на смену обескровленным. Куда-то передвигались артиллерия, танки.
На сотнях машин с потушенными фарами везли боеприпасы, продовольствие, почту. Тягачи, тяжело урча, буксировали подбитые танки.
Небольшими группами возвращались люди из госпиталей в части переднего края. «Голосовали», останавливая попутные грузовики, шумные корреспонденты газет. Взад и вперед сновали офицеры связи штабов всех родов войск...
Неопытному человеку все это движение могло показаться хаотическим. А между тем происходило обычное, четко организованное кровообращение большого военного организма, подчиненного единой цели.
Природа не поскупилась, избороздив здешние поля балками. В них на различных расстояниях от передовой размещались штабы, медсанбаты, склады боеприпасов и горючего, мастерские...
В одной из таких балок, поросшей кустарником, я с трудом нашел командный пункт 70-й армии. Несмотря на поздний час, здесь никто не спал. Я вошел в блиндаж, освещенный электричеством. Навстречу мне поднялся коренастый генерал с открытым русским лицом, член Военного совета армии Савков. Я доложил о цели приезда, о положении дел в дивизии.
— По таким вопросам ко мне редко обращаются начподивы, — сказал он усмехнувшись, — но что ж... одобряю... правильно, что приехал... Боеприпасы к утру подвезем на армейском транспорте, — решительно заверил он меня. В последние месяцы я уже привык к тому, что у начальства слово с делом не расходится. Сразу стало легче на душе.
— Зайди к начальнику политотдела армии, — сказал, прощаясь со мной, генерал.
В блиндаже начпоарма Масловского сидело несколько человек, только что вернувшихся с переднего края. Шел оживленный разговор о пережитом дне, о завтрашних планах. Я оказался к месту. Масловский стал подробно расспрашивать меня о дивизии, о политработниках; о настроениях личного состава. Он у нас еще не успел побывать.
85
В дивизию я вернулся утром. Автоколонна с боеприпасами пришла раньше меня.
...Начало августа ознаменовалось неслыханной жарой. Белье прилипало к телу, гимнастерки побелели. Пыль забивала нос, уши, горло, нечем было дышать.
Мы вели бои за деревню Гранкино. В желтой сухой траве под этой деревней 7-я батарея артиллерийского полка вписала одну из самых славных страниц в историю нашей дивизии.
Батарея капитана Воскобойника была отрезана от своих. Один за другим на нее спикировали девять «юн-керсов». Еще не успел развеяться дым, еще не сосчитали люди ран и смертей, как полдесятка «тигров» и тяжелое самоходное орудие «фердинанд» двинулись на-батарею. И тут выяснилось, что осталась в строю только, одна пушка, а командир этой пушки старшина Иван Новиков ранен.
Казалось, есть только два выхода: бежать или умереть. Расстояние между головным танком и орудием' Новикова неуклонно сокращалось. И тут Новиков скомандовал четко, как на учении:
— Расчет, к бою! По головному танку бронебойной гранатой, прицел двенадцать, наводить на башню... Огонь!
У наводчика Смагина еще дрожали руки, подводили нервы, он слишком торопился: первый выстрел — промах! Смагин выругался солено и многоэтажно. Вроде стало легче. Второй выстрел — и головной танк подбит.
Взрыв у самого орудия. Убит солдат Хисматулин, стоявший рядом со Смагиным, тяжело ранен и Смагин. Но с редкой точностью он все же подбивает второй танк.
Новиков, выплюнув сгусток крови, занимает место Смагина. Четвертый выстрел — и третий танк горит.
Этим и кончилась потрясающая мужеством и трагизмом дуэль. Наши части уже врывались в Гранкино. Два уцелевших танка и «фердинанд» на полной скорости мчались назад, к горизонту.
...Неподалеку от Гранкино есть густой лес, чудом не тронутый войной. На опушке этого леса мы обнаружили тела разведчиков офицеров Затюпы и Симонова. Их едва можно было узнать — головы без ушей, лица, 86
Истыканные ножами, без глаз... Только черные провалы под лбами, да запекшаяся кровь.
Многое мы перевидали. Многое не могли простить. И это чудовищное преступление фашистов до сих пор бередит душу, когда я слышу по радио военные марши из ФРГ и кладу перед собой на стол старую дивизионную газету с описанием этого случая.
Дивизия шла вперед. У политотдела появились новые заботы: восстанавливали в освобожденных селах Советскую власть. Тогда еще не хватало времени, чтобы детально разбираться в сложных взаимоотношениях жителей деревень, проводить длинные собрания. Мы просто выбирали, полагаясь на свое партийное чутье, одного из мужиков, кто вел себя в дни оккупации самоотверженно или по крайней мере честно, назначали его уполномоченным Советской власти и представляли на сходке всей деревне. Если протестов не было, значит, не ошиблись.
Уполномоченному, впредь до восстановления сельсовета, поручалось организовать уборку урожая, ремонт мостов и дорог, сбор оружия и передачу его нашим тылам.
Однако административная деятельность отнюдь не была решающей и главной. Жители освобожденных районов, долгое время отрезанные от своей страны и армии, жаждали знать правду обо всем. Нам в дни наступления приходилось оставлять, и порой надолго, агитаторов-политотдельцев в деревнях. Наша кинопередвижка моталась по селам с кинофильмом «Радуга», снятым по мотивам повести Ванды Василевской.
Отличным и правдивым был этот фильм о горе и мужестве народа. По сердцу был он людям, узнававшим себя в героях фильма, судивших себя и других высокой мерой партийности.
Сложными, а порой и противоречивыми были наши чувства, когда мы проходили через освобожденные деревни, поселки, города. Не так-то просто было видеть вместо домов пепелища, одиноко скрипящие на ветру калитки, за которыми — ни кола, ни двора; горько было слушать рассказы о людях, расстрелянных фашистами ни за что ни про что, о женщинах, угнанных в рабство, о детях, умерших от голода, еще горше узнавать о предателях (были ведь и они)... И все-таки вся эта боль
87
й горечь отступали перед огромной радостью возвращения, перед счастьем приносить свободу и жизнь советским людям. И они, эти люди, «познавшие жизнь через смерть», забывали о своих бедах и печалях, когда обнимали нас. Как всматривались выплаканные глаза седых, морщинистых матерей в солдатские лица! Как ласково гладили пальцы женщин ткань пропотевших гимнастерок! Они любили нас. Они простили нам все, в чем мы были и не были виноваты.
«Были и не были». Я не мог не вспомнить вновь черные горестные дороги сорок первого, да и сорок второго, уводившие нас на восток. Не мог не вспомнить раздирающей душу готовности к страданиям у тех, кто говорил, утешая: «Ничего, мы вас подождем» и гнева тех, кто бросал нам колючие фразы: «Не в ту сторону наступаете!»
Мы шли тогда понурив головы. Знали, нет таких слов, которыми можно оправдаться...
Вот возникает перед моими глазами глубокий старик с окладистой черной как смоль бородой — Семен Спиридонович, председатель колхоза «Красная Москва». Он выводил нашу часть тайными лесными тропами из района, где главные дороги уже захватили немцы. В нашем обозе было вдоволь мяса и хлеба, отданного нам колхозниками... У Семена Спиридоновича в кармане расписки, тогда не имевшие цены.
Старик был суров и мрачен. Прощаясь с нами, он сказал:
— Помните... За все, что мы здесь под немцем переживем, и вы в ответе!
До сих пор стучатся в мое сердце, словно вызубренные наизусть, строки одной из передовых «Правды» тех лет:
«Слушайте, стонет наш народ в районах, захваченных немцами. Кровавыми слезами обливаются замученные женщины. От вас ожидают они спасения...»
Мы идем вперед, на запад. Идем победителями! И в конце концов именно это самое главное! Об этом хочется говорить людям, делиться мыслями, чувствами, радостью.
По ночам в батальонах, а иногда и в полках проходят партийные собрания. Неподалеку от переднего края, в оврагах, чуть освещенных луной, собираются комму
88
нисты, чтобы помочь друг другу до конца разобраться во всем, что произошло.
Конечно, тогда мы еще не могли в полной мере оценить значения победы на Курской дуге.
Позже стало известно, что из 70 немецких дивизий, участвовавших в наступлении, 30 были разбиты. В этом сражении гитлеровская армия потеряла убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести более полумиллиона солдат и офицеров. От таких потерь она уже оправиться не могла.
Вскоре, 19 августа, нашу дивизию вывели из боя, и она поступила в резерв командующего фронтом. Подразделения ее сильно поредели. Бойцы выглядели далеко не парадно: прохудились сапоги, обтрепались гимнастерки, в пропотевшем белье завелись «автоматчики»— вши, распроклятое порождение грязи.
В мирные дни одно насекомое, обнаруженное в казарме,— чрезвычайное происшествие, поднимающее на ноги всю медицину, всех командиров. Но война есть война, она не предоставляет ни еженедельной бани, ни чистого постельного белья.
На отдыхе чистились, проходили санобработку, меняли обмундирование.
Мы с Заиюльевым объезжали армейские и фронтовые госпитали: разыскивали бойцов из нашей дивизии, беседовали с ними, вручали награды.
Стало поступать пополнение — и опытные воины из госпиталей, и молодежь, еще не нюхавшая пороха. Предстояло много дел.
Среди новых политработников прибыл и человек, с которым я сразу же подружился тогда и дружу поныне,— секретарь парткомиссии Михаил Васильевич Поляков— неторопливый, уверенный, спокойный, дотошно знающий партийную работу.
В спокойной обстановке впервые появилась возможность собрать партактив всей дивизии. Это было событием.
...В летних сумерках чуть белела Меловая гора. Ее склоны густо заросли колючим кустарником. Тишина была неправдоподобной и непривычной.
Заиюльев и я встречали здесь участников партактива. Загоревшие до черноты, исхудавшие до невозможности, но с глазами, искрящимися радостью, шли люди— друзья-товарищи, подбивавшие танки, забрасывав
§9
шие гранатами амбразуры дзотов, герои траншейных боев. Многие хорошо знали друг друга, иные только понаслышке, знакомились тут же. Усаживались, закуривали, вели беседы.
...Доклад об итогах боевых действий дивизии делал Заиюльев. Он не был записным оратором. Но красноречивее слов говорили цифры.
62 километра прошла дивизия с боями и освободила 45 населенных пунктов. За это время было подбито 60 вражеских танков и 6 самоходных орудий, а уничтоженных врагов—не сосчитать.
За каждой цифрой стояли разум наших командиров, бесстрашие солдат, вдохновляющее слово и дело коммунистов.
Патриотизм и любовь к партии, преданность Родине и коммунистическая сознательность были неотделимы друг от друга. (Кстати, я не могу понять тех писак, которые пытаются выдать патриотизм военных лет за чисто национальное, лишенное классового и политического содержания качество.)
Только в июле 198 героев из героев было принято в кандидаты и 94 в члены Коммунистической партии, 270 — в комсомол. Ни за один месяц, в течение всей войны, не принималось в дивизии столько людей в партийные и комсомольские ряды. Это ли не свидетельство духовного роста армии!
Практика утверждала разумность новой структуры партийных организаций. Партбюро батальонов работали четко и оперативно. (При старой структуре было бы совершенно невозможно рассмотреть такое количество заявлений о приеме в партию во время боев.)
Практика отвергла и некоторые рекомендации, гладкие на бумаге. Политуправление фронта советовало нам организовать работу парторгов и комсоргов так, чтобы они днем занимались оформлением дел по приему в партию и комсомол, а ночью, в чясы затишья, проводили заседания бюро.
Но днем парторги и комсорги батальонов сражались.
Потери среди коммунистов стрелковых рот в ожесточенных боях были велики. Выбывали из строя и парторги. Резерва парторгов политотдел еще тогда не додумался создать. А должности заместителей командиров рот по политчасти были отменены. И политработникам
90
батальонного звена приходилось заменять их в ротах. Нечего и думать было днем о бумажных делах, хотя бы и самых значительных.
Оформлять документы по приему в партию и комсомол, проводить заседания бюро, докладывать на парт-комиссии — для всего этого была лишь короткая летняя ночь — ночь без отдыха. Иногда, казалось, силы исчерпаны, карандаш валился из рук...
Но воля была сильнее усталости. И после бессонной ночи парторги и комсорги снова шли в боевые порядки— воевали, учили, агитировали, вели за собой.
Бойцы не задумывались об их званиях и должностях и по старой доброй привычке называли всех политработников политруками. Это слово утвердилось так же, как слово «комиссар» в гражданскую войну. Оно было окружено такой же верой и любовью. И поныне в памяти людей «политрук» — обобщенное звание армейского политработника, смелого, кристально чистого, преданного идеалам коммунизма. Таким он после войны вошел и в литературу.
С удовольствием читал я в книге Георгия Березко «Сильнее атома»:
И это он — тысячу раз воскресший, неуязвимый, бессмертный, победоносный — опять сегодня в ленинской комнате роты читает «Правду» новобранцам, наклонившим к нему свои головы.
Не раз я повторял про себя строки из баллады Константина Симонова «Наш ’ политрук», строки о его нынешней судьбе:
Говорят, секретарь райкома, Говорят, бригадир в колхозе, Говорят, дипломат на Кубе, Говорят, в жилотдел послали, Чтоб на совесть все, без обмана... Говорят, в Партийном контроле, Восстанавливая справедливость, День и ночь сидел над делами, Что касались живых и мертвых, Что остались от тех, недобрых, Столько бед принесших времен.
91
конечно, тогда, когда шел фронтовой партактив, этих стихов еще не было и быть не могло. Но и в тот час мы говорили о политруках как о чести, совести, душе дивизии.
...С партийного актива расходились поздней ночью, гордые и счастливые, полные веры в победу, ощущая себя частицей великой Коммунистической партии.
Участники войны знают, как успехи умножают силы.
А Курская битва была грандиозной победой в сражении, не имеющем себе равных по ожесточенности и упорству борьбы.
«...Не было безымянных героев, — писал когда-то Юлиус Фучик, — а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю».
Эти слова полностью можно отнести и к Курской битве. Каждый ее участник внес свой вклад в победу, каждый имеет право войти в летопись тех былинных по героизму дней.
ЗДРАВСТВУЙ, УКРАИНА!
Заиюльевым случилась беда. Иначе я это назвать не могу. Он долго держал в узде свой характер и вдруг сорвался. Он показал себя в боях не только храбрецом, но и умным волевым военачальником (я был восхищен тем, как быстро, на глазах, росло его умение управлять сложной махиной дивизии в самых трудных, запутанных об
стоятельствах), другом своих бойцов, и вдруг поступил как распоясавшийся самодур. Дело обстояло так: офицер, ведавший наградными делами, принес Заиюльеву на подпись представление к ордену на одного из врачей, который не пользовался расположением комдива. Комдив представление отверг. Однако офицер настаивал на своем упорно. Ему казалось, что антипатия Заиюльева к врачу лишена твердой объективной почвы. Через некоторое время в другой пачке наградных листов, которая ждала подписи комдива, вновь оказалось злополучное представление.
— Ничего не получит этот разгильдяй! — крикнул Заиюльев.
Слишком сложно сейчас анализировать, был ли достоин награды врач, человек смелый, неплохой специалист, но подчас, на свою беду, излишне самонадеянный. Дело было спорное, но не в том суть.
Офицер, видимо, по просьбе начальника санитарной службы дивизии принес Заиюльеву наградной лист и в третий раз. И тут комдив проявил недопустимую грубость, жестоко оскорбив невинного человека.
Оправданий таким вещам нет и не может быть. Ссылки на нервное состояние и особый характер обычно не стоят выеденного яйца. Проверено: то, что в просто-
93
речии именуется «психом», прорывается, как правило, в отношениях с подчиненными, а не с начальством. Эта распущенность объясняется не медицинскими причинами, а бескультурьем. И она должна пресекаться строго, не взирая на лица.
Однако если теоретически все выглядит ясно и просто, то практически, на войне, трудно было принять верное решение.
Чрезвычайных происшествий такого рода в нашей дивизии еще не бывало, и, признаться, я даже растерялся. Я был убежден, что у Заиюльева, при всех его слабостях и ошибках, сердце настоящего коммуниста, что он нужен партии и своей дивизии. Я любил его и знал: сам комдив потрясен своим поступком, тяжело его переживает. Ругает себя нещадно. Разговор со мной он закончил так:
— Поступай как знаешь, по партийной совести...
Наверно, я проявил слабость, когда никому ни о чем не сообщил, когда оправдал себя тем, что поступаю в интересах всех заиюльевцев — всей дивизии, когда, утешая себя, думал: «Сам не буду впредь спускать глаз со своего командира», но по-иному я тогда рассуждать не мог, не сумел...
Позже начальство узнало о происшествии. Однако прошло уже много времени, заполненного подвигами. Партийная комиссия сочла возможным «ограничиться» взысканием комдиву. На этой парткомиссии и я вместе с ним краснел и бледнел.
В начале книги я уже говорил, что буду честно рисовать людей, а не иконы. Людям, каждому в соответствии со своими увлечениями и привязанностями, свойственно ошибаться. Кто не сумел избежать ошибки, должен по крайней мере сделать из нее твердые выводы. Мы с Заиюльевым сделали их. ~
Но это все, повторяю, было позже. А в те дни, непосредственно после битвы под Курском, дивизия продолжала наступление. И комдив вел ее из боя в бой.
26 августа в полосу прорыва, совершенного 60-й армией под командованием генерал-лейтенанта Черняховского, была введена 61-я армия, в состав которой вошла наша дивизия. 7 сентября мы были уже на марше. Шли
94
по ночам, в направлении к Десне. Ночи были темные и звездные. Казалось, что идешь, рассекая темноту, а над тобой полыхает зарево салютов.
В машинах не зажигали фар. Запрещалось курить. Только гул моторов да топот ног по мягкой земле свидетельствовали: идет дивизия. Противник не должен был нас обнаружить. О скрытности передвижения тщательно заботились все, от комдива и начальника политотдела до командиров взводов и парторгов рот.
Днем люди отдыхали в рощах, садах, балках, заросших кустарником.
Я приехал в 107-й полк утром, когда он расположился на большой привал. Майор Кузнецов сидел вместе с замполитами батальонов и слушал агитатора полка Серебрякова, читавшего принятую по радио сводку Совинформбюро. Вскоре о всех новостях были проинформированы парторги, комсорги и агитаторы рот. Редакторы боевых листков собирали заметки о ночном походе. Самодеятельные художники рисовали шаржи.
Мы с Кузнецовым устроились завтракать на траве. И тут он вытащил пачку писем. Замполит 107-го всегда находил время для переписки с семьями своих солдат. Он ценил эти листки — тетрадные с детскими каракулями, белые писчие, надушенные, из заветной пачки, с бисерными женскими почерками, серые, оберточные с полуграмотной вязью старушечьих поклонов — ценил, как ценят тепло родного дома, к которому путь лежит через победу.
«Георгий Иванович!
Я сегодня получила Ваше письмо и узнала о героизме своего мужа Норкина Василия Захаровича. С великой радостью перечитывала каждую строчку письма. Я счастлива и горжусь своим мужем. Шлю командованию части и Вам лично, Георгий Иванович, большое спасибо... Дуся Норкина. Вологодская область. Баевский район. Деревня Нивы».
«Дорогой товарищ Кузнецов!
...Вы обязательно приезжайте к нам в Сухуми с Шалвой, когда кончится война. Скорей разгромите врага!
Ната Лордкипанидзе».
95
«Дядя Георгий!
...Скажите папе, что я тоже буду бить фашистов, как он. А пока учусь на «хорошо» и помогаю маме.
Сеня Кутуков. Москва».
— Что же вы делаете с этими письмами?— спросил я у Кузнецова.
— Читаю вслух в подразделениях. Эта штука в смысле действия не хуже эренбурговских статей.
Много есть путей к сердцу человека. И Григорий Иванович Кузнецов всегда умел их найти. Умел потому, что любил людей, все делал для них и ничего для показа, для «галочки».
И сентября дивизия вступила на земли Украины.
Навстречу выплыли из ночи яблоневые сады. Щедрой была здесь земля. Необычно певуче разговаривали люди. Есть в украинском языке слова, каждое из которых— песня, например, «чуешь» или «кохання», — право, их нежности не передашь даже русскими «слышишь» и «любовь».
Изменился и пейзаж войны. Рядом с выжженными дочиста селами попадались нетронутые, крепкие — изба к избе. Гитлеровцы вели на Украине более сложную политику, чем в России, пытались действовать не только кнутом, но и пряником. Смертельно ненавидя партизан, неслыханно жестоко подавляя всякое сопротивление, они одновременно разжигали национальную рознь, пестовали желто-голубую националистическую сволочь, стремились противопоставить украинцев россиянам.
Политика их была построена на песке. Украина, давшая армии не один миллион храбрейших бойцов, родившая партизан Ковпака, бессмертных*молодогвардейцев, пылала под ногами захватчиков. Жалкое бендеровское отребье, националистическое охвостье было враждебно народу и чуждо ему.
Люди встречали нас, освободителей, как родных сыновей. Дети кидались к солдатам дивизии, как к кровным отцам. Пусть в школах оккупационного времени, уничтожив советские учебники, им вбивали в голову основу гитлеровской «Моей борьбы», пусть заставляли петь фашистские и националистические песни... Дети верили не гитлеровцам и их прислужникам, а своим ма-96
герям и тем из учителей, кто, подчиняясь для виду гитлеровцам, тайно учил любить Советскую Родину и ненавидеть ее врагов.
Конечно, вражеская пропаганда не могла пройти совсем бесследно. Среди многих самоотверженных и мужественных попадались и слабодушные. Встречались и девушки, которых заклеймили позорным прозвищем «немецкие овчарки», которым и в страшные дни пели с жалостью и гневом:
Да, вернутся соколы, смелые, отважные.
Как тогда ты выйдешь молодца встречать?
Ведь торговлю ласками и торговлю чувствами Невозможно, девушка, будет оправдать!
Были на нашем пути и села, где попадалось слишком много мужчин призывного возраста, ходивших с опущенными глазами. Это были те, кто в 1941 году, попав в окружение, не решились пробиваться через фронт к своим, а разбрелись по домам и жили по гнусной пословице «моя хата с краю».
Но и они уже давно горько сожалели о своей трусости. Давно мечтали искупить ее в бою. Просились в армию, считали честью вновь стать советскими солдатами.
...Старики вспоминали, как летом сорок первого вражеские солдаты все спрашивали: «Далеко ли до Москвы?» А в последнее время их интересовало другое: «Сколько километров до Десны?»
Старики были остры на язык и тоже хотели дела. Многие предлагали себя в проводники: знали наперечет все броды и водовороты на украинских реках.
До Десны нам оставался один переход. Мы получили приказ сосредоточиться в районе деревни Чаплеевка и форсировать реку.
Полковник Заиюльев сразу же собрал командиров частей, а затем в политотделе было проведено совещание замполитов, парторгов и комсоргов. Речь шла о том, как вместе с другими соединениями армии сорвать замыслы противника, пытающегося сдержать наступление Красной Армии на укрепленных им естественных рубежах, первым из которых была Десна.
Дивизия имела опыт боев в лесисто-болотистой местности, выдержала во время Курской битвы экзамен в
7 Ц. Б. Ивушкин 97
борьбе с танками, но форсировать водные рубежи ей еще не приходилось.
Специальных переправочных средств — понтонов, катеров, лодок — у нас не было. И получить их было неоткуда. Хочешь не хочешь, а готовься к тому, чтобы самим вязать плоты, добывать старые плоскодонки, рыбачьи челны...
15 сентября все части дивизии сосредоточились у Десны. Перед нами открылась освещенная ласковым солнцем бабьего лета пойма реки, изрезанная протоками и озерами. Ширина Десны здесь не превышала 170 метров, а глубина ее, по рассказам местных жителей, составляла 2—3 метра. Западный гористый берег, принадлежавший еще противнику, возвышался над уровнем реки на 70—100 метров.
Все здесь выглядело чертовски красиво, но всех нас интересовала не красота ландшафта... Природные преимущества были на стороне противника. К тому же на западном берегу им были созданы оборонительные сооружения.
Заиюльев вместе с офицерами штаба и командирами частей ушел к реке на рекогносцировку. Мы же, работники политотдела, направились в части.
Вскоре во всех подразделениях закипела работа. В ближайших деревнях собирали доски, бревна, снимали ворота с сараев. Связывали бочки и строили плоты всех систем. Нашлось и несколько лодок. Но всего этого было явно недостаточно для переправы, и многие солдаты набивали камышом плащ-палатки — создавали индивидуальные непотопляемые плавучие острова.
К исходу дня я попал в 228-й полк. Шли последние приготовления к форсированию реки. Командир 1-го батальона построил личный состав ичэбъяснил, как будет выполняться боевая задача. Затем выступил его заместитель по политической части, уже знакомый читателю капитан Мыц.
За последние недели он похудел и от этого стал выглядеть еще моложе. Говорил капитан, как всегда, тихо, спокойно. А глаза его сияли, и казалось, весь он светится изнутри. Мыц звал людей к подвигу, а подвиг он понимал как высшее счастье. И эта его мысль, это чувство передавались людям. Бойцы слушали Мыца, подавшись вперед, точно боясь проронить слово, и у 98
многих глаза так же, как у него, начинали сиять. А когда он вызвал охотников ночью вместе с ним вплавь форсировать реку, желающих оказалось более половины батальона.
Капитан Мыц отобрал 25 человек и еще долго с ними беседовал... Позднее я спросил одного немолодого уже солдата-украинца:
— Почему вы, пожилой человек, вызвались на такое отчаянное дело?
— Я умию добре плаваты. А з нашим замполитом я пиду куды завгодно, — сказал солдат. — Це ж наш батько.
— Какой же он вам отец! — Я улыбнулся. — Ему ведь всего двадцать пять.
— Справа не в литах. Вин як батько любить сол-датив и турбуеться за нас. Та не я одын, у нас вси його батьком зовуть.
Бывает теперь, такие слова,, как «фронтовая семья», «воинское братство», воспринимаются иными людьми как готовые формулы, стершиеся от употребления метафоры. Напрасно! Эти формулы-метафоры отражают самую суть армейских взаимоотношений и не могут быть заменены никакими другими, как нельзя заменить ничем слова «верность», «преданность», «любовь».
Когда опустились сумерки, мы проводили к Десне группу смельчаков во главе с капитаном Мыцем. Бойцы сбросили тяжелые сапоги. Закрепили автоматы на спинах повыше, у самой шеи, тихо вошли в реку и поплыли.
Немцы не могли ждать такой дерзости, и поначалу тишина не нарушалась ничем, но, едва пловцы выбрались на противоположный берег, фашисты заметили их и открыли огонь. Теперь спасение было только в стремительности. Пока еще тьму не распороли вспышки ракет, пока еще враг не пришел в себя, не разобрался в том, что перед ним лишь кучка храбрецов, преимущество было на стороне наших. Одним броском, на одном дыхании преодолели бойцы береговую крутизну, забросали первую траншею гранатами, захватили ее.
В течение ночи противник контратаковал пять раз, но бестолково, неуверенно...
...А едва рассвело, на плотах, лодках, плащ-палатках, набитых камышом, просто на бревнах начали пере-
7*
99
ГфаЬляться подразделения батальона. И группа Мыца4 прикрывавшая переправу, сыграла здесь огромную роль.
Когда же у противника появились танки и бронемашины, они ничего не смогли изменить. Переправившиеся петээровцы встретили их точным огнем.
Успешно шло форсирование реки и другими частями дивизии. В каждой из них были свои герои.
Стоит назвать их имена, и в памяти возникнут незабываемые картины. Младший сержант Ибакулло Исмаилов — это трехчасовой бой одного отделения, переправившегося на самодельном плоту, против целой вражеской роты. Сержант Нандык Цибенев — это станковый пулемет, уничтоживший прислугу вражеской батареи, это умолкнувшие немецкие орудия, так и не ударившие картечью по плывущим бойцам. Младший сержант Васильев— это дымящиеся немецкие танки, сраженные «бронебойкой».
А пушкари, выигравшие артиллерийскую дуэль... А саперы, под огнем строившие мост на совесть. Всех не перечесть.
Противник не сумел удержаться на выгодном, заранее подготовленном рубеже и начал отступать. Небо озарилось пожарами. Гитлеровцы увозили зерно и угоняли скот. А то, что не могли увезти — села, поселки, местечки, необмолоченные хлеба в полях, — сжигали. Взрывали мосты и заводы. Превращали землю в зону пустыни. Если успевали, угоняли с собой, под угрозой расстрела, людей. Назвать все это бешенством и зверством— значит еще смягчить вину фашистов. Бешенство и зверство были циничным, продуманным военным планом.
И теперь в этом признаются,^не стесняясь, битые гитлеровские генералы в своих воспоминаниях.
«Немецкая сторона вынуждена была прибегнуть к тактике «выжженной земли», — пишет в книге «Утерянные победы» Манштейн. — В зоне 20—30 км перед Днепром было разрушено, уничтожено или вывезено в тыл все, что могло помочь противнику немедленно продолжать свое наступление на широком фронте... при сосредоточении сил перед нашими днепровскими позициями, укрытием или местом расквартирования, и все, что могло облегчить ему снабжение, в особенности продовольственное снабжение его войск. Одновременно, по спе-100
циальному приказу экономического штаба Геринга, Из района, который мы оставляли, были вывезены запасы хозяйственного имущества и машины, которые могли использоваться для военного производства...
Главное командование германской армии приказало переправить через Днепр местное население».
Манштейну вторит генерал Меллентин:
«Единственным средством замедлить продвижение таких армий является уничтожение всего, что может быть использовано противником для размещения войск и их снабжения.
Осенью 1943 г. немецкая армия намеренно прибегла к таким действиям... и, если бы мы не приняли таких мер, многим тысячам солдат никогда не удалось бы достичь Днепра и организовать под защитой этого водного рубежа прочную оборону.
У меня нет никаких сомнений в том, что в противном случае группа армий была бы разбита и потеряна для будущих операций».
Отряды факельщиков, команды подрывников из самых тупых и жестоких, оболваненных и озверелых гитлеровцев, отряды и команды, бессмысленно губившие все созданное человеком — вот кого они тогда славили и награждали орденами, ставшими эмблемами позора.
Тактика «выжженной земли» не в состоянии была задержать стремительное наступление Красной Армии.
Наш комдив приказывал командирам полков с ходу сбивать заслоны, которые оставляли гитлеровцы на промежуточных рубежах, наносить удары с флангов, смело прорываться в тыл отступающему противнику. Так и действовали. Инициативу, решительность, самостоятельность проявляли командиры всех подразделений.
Особенно отличились разведчики. В дивизионную разведку мы отбирали наиболее смелых и сильных духом людей. Однажды с пополнением к нам пришла группа моряков-тихоокеанцев. Все они просили направить их в разведподразделения. Мы удовлетворили их просьбу и не ошиблись.
Я, пехотинец, не могу не отдать должного великолепным боевым качествам моряков. Нигде и никогда я не наблюдал такого действенного влияния традиций, как в их среде, такой высокой гордости своей профессией. С незапамятных времен повелось морякам отли-
101
чаться особой лихостью, поразительным бесстрашие^, пренебрежением к смерти. И эти качества словно вручались каждому новичку вместе с полосатой тельняшкой. Иным быть на флоте просто нельзя, вести себя по-иному— стать белой вороной... Помню, в сорок первом матросы в бушлатах ходили в атаку на пулеметы в полный рост. Тактически это было неразумно, но гордо и красиво, и у фашистов сдавали нервы. Не зря гитлеровцы в страхе называли наших матросов «черной смертью». Теперь моряки-разведчики, как и все, ходили в гимнастерках, но под ними носили полосатые тельняшки. Считали себя обязанными быть храбрее всех, чтобы не посрамить флота. Разведрота стала у нас крепкой и сплоченной, как экипаж корабля.
Я часто бывал у разведчиков и хорошо знал их. И сейчас стоит перед моими глазами Василий Матюшкин, молодой богатырь с насмешливым прищуром глаз. Спроси его о самом трудном: «Возможно ли?» Ответ: «Невозможно только штаны через голову надевать». Его посылали на самые опасные задания, и не было случая, чтобы он их не выполнял и даже не «перевыполнял».
12 сентября группа разведчиков во главе с Матюшкиным проникла в деревню Грязна. Их дело было лишь рассмотреть оборону врага. Однако разведчики установили, что в деревне силы немцев незначительны, и Матюшкин принял решение атаковать. Захваченные врасплох, гитлеровцы бежали в одном белье, теряя оружие.
Возвращаясь из вражеского тыла, разведчики неожиданно натолкнулись на группу немцев, вступили в бой и уничтожили их. А уже на следующую ночь Матюшкин со своей группой вновь был в тылу врага, напал на штаб немецкого батальона, разгромил егогзахватил документы и знамя.
Дела разведчиков всегда окружены дымкой романтики. Со стороны их успехи кажутся порой даже относительно легкими. И бывает так, что истинную глубину характеров дерзких и веселых людей познаешь только после трагедии.
Наша пехота проходила с боями по 18—20'километров в день, не давая врагу опомниться. Население пряталось в лесах и оврагах. Угнать его фашистам не удавалось. Частенько после ухода врага люди успевали вернуться и затушить пожар, прежде чем огонь уничто-102
жит их дома. Тогда в деревнях сразу налаживалась нормальная жизнь.
В дождливый сентябрьский день мы с комдивом въехали на «виллисе» в деревню Хлопяники. Перед нашими глазами предстало удивительное зрелище. В открытых гробах, усыпанных цветами, лежали двое в военных гимнастерках, вокруг толпились люди, приближался поп в полном облачении, размахивая кадилом.
К нашей машине подошел глубокий старик и попросил:
— Разрешите схоронить по-божески героев-великомучеников.
— А кто они такие?
— Да ваши... свои...
Мы услышали страшную и доблестную историю двух наших разведчиков сержанта Ковальчука и рядового Дмитриенко, попавших в плен к гитлеровцам.
Фашисты допрашивали их на площади посреди села, собрав тех жителей, которые не успели или не смогли уйти в леса. От наших бойцов требовали сведений о составе дивизии, о ее командирах и политработниках. Фашисты демонстрировали свою силу, гнусно измываясь над двумя безоружными людьми, руки которых были связаны за спиной. Их били палками, кололи ножами, а они молчали, крепко сжав зубы. А в последнюю секунду перед расстрелом Ковальчук крикнул:
— Хай живе Радянська влада!
Мы были потрясены рассказом старика. Бойцы заслуживали воинских почестей. Конечно, они, как и мы, были атеистами. Но трудно, невозможно было обидеть религиозных стариков и баб, которым хотелось проводить героев в свой наивный рай.
В это время в Хлопяники въехала крытая трехтонка дивизионного клуба. Из кабины вышел и приблизился к нам начальник клуба капитан Куксин, худой, сутуловатый, большеносый, горячий и дерзкий. Человек он был своеобразный, большой выдумщик и любитель необычного. До войны — директор Орловского театра, у нас еще недавно агитатор полка, Куксин сразу предложил идею:
— Устроим двойные похороны. Мы с оркестром и речами, а деревенские пусть по-своему.
103
Может быть, профессиональные антирелигиозники ныне осудят нас с Заиюльевым за то, что мы дали согласие на такие похороны. Но, право, не бога, а память героев прославляли все, кто участвовал в них.
Впереди шел бой, и мы с комдивом задерживаться не могли. Только, сняв фуражки, подошли к гробам попрощаться с мертвыми и уехали. Но долго еще за нами катилось эхо оркестра, игравшего «Вы жертвою пали...»
С тех пор прошло более двух десятилетий. Но история эта не забылась. Не так давно я написал письмо в Хлопяники и получил ответ от директора средней школы:
«...В день двадцатилетия освобождения села, 18 сентября 1963 года, всей пионерской дружиной, совместно с учителями, почтили память павших героев.
В сельисполкоме будем рассматривать вопрос о выделении средств на оборудование памятника.
Пионеры нашей школы взяли шефство над могилами. Будут оберегать их, украшать венками в дни революционных праздников и сохранят память о героях в сердцах навсегда».
...Наступать безостановочно становилось все труднее. Армейские тыловые органы не успевали доставить горючее. Тылы дивизии, артполк, отдельный истребительный противотанковый дивизион и другие подразделения, находившиеся на автотяге, стали на прикол за Десной. Лишь лошади в какой-то степени выручали нас. Они тянули полковые пушки. На них, хотя бы понемногу, подвозили боеприпасы и продовольствие.
Заиюльев поручил нам с начальником штаба организовать команды по сбору трофейного оружия и боеприпасов. Всех, кого можно было использовать, бросили на это дело, в том числе музыкантский взвод во главе со старшим лейтенантом Литвиненко. Подобранные на поле боя немецкие пулеметы, автоматы, гранаты — все пошло в дело.
Стрелковым батальонам были выданы деньги и предоставлено право закупки продуктов у местного населения. Дивизия преследовала врага, несмотря ни на что.
И все-таки замедление темпа наступления позволило 104
Гитлеровцам Полностью сжечь крупный районный цёнтр Карюковку.
За время войны мне пришлось много видеть всяких злодеяний фашистов, казалось, уже ничто не могло ни удивить, ни поразить. Но то, что узнали в развалинах Карюковки, вновь вывернуло душу.
В марте 1943 года гитлеровцы оцепили Карюковку и учинили дикую расправу над населением. Они врывались в дома и расстреливали всех, кого заставали на месте, не щадили ни женщин, ни детей. Тех же, кто бежал из горящих домов, ловили и сгоняли на центральную площадь.
В местном ресторане шла попойка. Одуревшие от спирта садисты-эсэсовцы требовали развлечений. И тогда с площади в ресторан стали приводить женщин. Тут же, среди столиков, под звуки губных гармошек, игравших нечто отвратительно-сентиментальное, женщин насиловали, убивали. Потом, покинув ресторан, стреляли из автоматов по толпе. Обливали бензином живых и мертвых и поджигали.
В одну ночь было убито свыше 6700 человек. А тех, кто уцелел в марте, ждала новая ночь ножей и крови в сентябре...
С юности я был воспитан в духе симпатии к немецкому народу, к его рабочему классу. Не раз мы с волнением и радостью слушали в Москве выступления Эрнста Тельмана и Клары Цеткин, встречали их, скандируя «Рот фронт» и провожали интернациональной песней итальянских рабочих «Бандьера Росса». Поколение моих сверстников по комсомолу в знак пролетарской солидарности носило форму юнгштурма — союза красных фронтовиков Германии. Многие из нас тогда считали, что капитализм не сможет привлечь массы для ведения войны против Советского Союза, думали, в случае нападения на родину социализма народ Германии откажется воевать, не будет стрелять в своих братьев по классу.
Однако фашизм не только расправился со свободолюбивыми людьми в своей стране, не только пытал и убивал коммунистов в тюрьмах и концлагерях. Ему удалось отравить ядом лжи и ненависти миллионы людей, растлить их души гнуснейшей из всех теорий — «теорией» господ и рабов.
105
Мы поняли это в годы войны. Пусть не забывают об этом сегодня новые поколения, когда слышат хриплые завывания реваншистов из Бонна, оасовцев из Парижа, берчистов из США.
В призыве немецкого командования к своим солдатам, напечатанном в виде «памятки», говорилось: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, — убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи и прославишься навеки».
Этой «памятке» следовали не одни эсэсовцы.
Недаром такая глубокая горечь прозвучала в Обращении Коммунистической партии Германии к своему народу, опубликованном в 1945 году: «Наше несчастье состояло в том, что многие миллионы немцев оказались в плену нацистской демагогии, что яд звериной расовой теории, теории «борьбы за жизненное пространство», смог отравить душу народа».
Ненависть рождает ненависть. Наши воины научились ненавидеть врага всеми силами души. Они не могли тогда думать о том, что среди немецких солдат есть рабочие и крестьяне, которых насильно призвали и послали на фронт. Выдвинутый партией лозунг «Смерть немецким захватчикам!» стал волей всего народа. Иначе нельзя было победить. Истинный гуманизм требовал уничтожения врага, его армии.
Мы полны глубокой симпатии к своим немецким друзьям, к тем, кто ныне строит социализм в Германской Демократической Республике. НЗша дружба основана на нерушимом фундаменте взаимного доверия, братской взаимопомощи, единства взглядов. Эта дружба— величайшее историческое завоевание. Во имя этой дружбы свободных народов мы в годы войны громили войска оккупантов, тем самым помогая народу Германии избавиться от ига и позора фашизма.
В подразделениях проходили митинги.
Прямо с митингов воины шли в бой. Наступление продолжалось под лозунгом: «Даешь Днепр!»
106
Дивизия шла по местам боевых действий украинских партизан. Крестьяне нам много рассказывали о славных делах народных мстителей — взорванных мостах, заминированных дорогах, дерзких налетах на немецкие штабы. Особенно тепло люди говорили о командире Карюковского партизанского отряда Федоре Ивановиче Короткове.
На подступах к городу Щорс мы встретили в лесу вышедший нам навстречу партизанский отряд имени Максима Богуна. (Богун, чье имя носил отряд, был одним из самых верных соратников Богдана Хмельницкого.)
Удары этого отряда по тылам врага во многом облегчили продвижение дивизии.
На подступах к Щорсу противник решил дать нам бой. Здесь у немцев была хорошо подготовленная оборона, много артиллерии, танки и самоходные пушки, вкопанные в землю. Но партизаны провели наш 107-й полк лесами и болотами в тыл врага. И гитлеровцы были разбиты наголову.
Рано утром 21 сентября части дивизии обложили город Щорс и начали наступление.
Командир 111-го полка майор Челидзе и его замполит майор Прохоров возглавили в атаке свои подразделения.
Мы с Заиюльевым пошли в 228-й полк, наступавший с юго-востока. Один из его батальонов выбил немцев из деревни, прилегающей к городу. Многие дома еще горели. Жители возвращались из леса, вылезали из погребов.
Заиюльев был человеком впечатлительным. Как ни сдерживал он себя, ярость иногда выплескивала через край. Порой ему мало было командовать дивизией, хотелось драться самому. Были минуты, когда он охотно отдал бы свое полковничье звание за солдатское, за право самому идти в атаку.
На окраине деревни мы увидели в дорожной пыли труп старика, раздавленного фашистским танком, рядом лежал его сын, красивый молодой парень, с головой, пробитой пулей. У тела сына на коленях стояла мать, ее распущенные седые волосы раздувал ветер. Заиюльев покинул «виллис», приблизился к ней. И тогда она сказала:
107
— Что ж вы стали!.. Что ж вы стали, сыночки! Что фашистов не бьете!..
Она подняла голову. Слезы текли по ее лицу.
Батальон вместо преследования противника окапывался. Комбат стоял рядом с комдивом. А вдали еще маячили фигуры бегущих гитлеровцев. По ним лениво постреливала наша артиллерия.
— За мной! — вдруг закричал Заиюльев.
Комдив побежал по дороге, и батальон, как один человек, ринулся за ним, преследуя врага.
Я тоже был с батальоном, с Заиюльевым. Трудно бывает судить за неосмотрительность, когда сердце переполнено гневом.
Атака была успешной. Как это часто случалось у нашего комдива, сердечный порыв совпал с интуитивной, но точной по существу оценкой боевой обстановки: окапываться еще было рано.
На войне иногда трудно было определить, чем вызвано непосредственное участие командира в бою — необходимостью или велением сердца. Но во всех случаях оно производило огромное впечатление на бойцов, подымало у них дух и приносило командиру любовь и уважение;
7-я пехотная дивизия противника, оборонявшая город Щорс, не выдержала ударов наших частей и отступила, понеся большие потери. В городе мы захватили несколько складов с продовольствием и боеприпасами, много всякого воинского имущества. Особо отличился в этом бою 111-й полк. Он первым ворвался в город и предотвратил уничтожение железнодорожных сооружений, подготовленных фашиста^ к взрыву.
...Идем по улице «Ленина. Нам показывают небольшой бревенчатый домик, в котором родился и вырос легендарный герой гражданской войны Николай Щорс. Этот музей — главная реликвия города. Немецкий комендант, решив символически утвердить свою власть, поселился в домике-музее, увешал его стены собственными фотографиями. Все, что напоминало Щорса, было уничтожено. Вещи сожгли. И не понять было тупому бюргеру-коменданту, что нельзя ни сжечь, ни расстрелять памяти сердца!
Город боролся, его подполье несло на своем знамени имя героя. И Щорс оживал в каждом борце.
108
Два года и девятнадцать дней хозяйничали здесь гитлеровцы. Расстреляли тысячи людей, но советского духа сломить не могли. Выходила из строя электростанция, летели под откос паровозы. Росли в украинских семьях дети живьем закопанных в землю евреев. Неуловимы были партизанские явки. Страшно было жить немцам в Щорсе. Еще страшнее их подручным — ублюдкам, предателям своего народа.
Одного из таких предателей нам удалось захватить. Его судили военно-полевым судом в железнодорожном клубе, судили за доносы, участие в пытках, за вымогательство и убийства.
Жирный, самодовольный тип с холеной мордой на глазах терял свою осанку. Он просил о снисхождении, унижался, ползал на коленях и становился все отвратительнее.
Его приговорили к повешению.
Характерна одна деталь. В клубном зале во время суда сидело несколько сот человек, а клуб был заминирован немцами. Наши саперы обнаружили это слишком поздно и не решились выводить людей из здания, где любой неверный шаг мог привести к взрыву.
По счастью, немцы торопились, минируя клуб. Мин оказалось немного. Саперы обезвредили их быстро. Но ведь подсудимый знал, что здание вот-вот может взлететь на воздух. Однако, труся и унижаясь, он все-таки об этом молчал. Гнусное стремление к убийству было у предателя сильнее даже чем жажда жизни.
...Город был наполовину разрушен. Вышли из строя электростанция и водопровод, взорван мост через реку Снов, пусты магазины. Жизнь надо было восстанавливать быстро.
Мы назначили комендантом города Ивана Иохима. Выбор был в значительной мере случаен. У отличного политработника Иохима не было никакого опыта хозяйственного руководства. Однако ведь есть доля правды в утверждении: таланты раскрываются тем быстрее, сверкают тем ярче, чем больше в них необходимость.
Иохим оказался прирожденным организатором. Он избегал мер принуждения, не злоупотреблял приказами,
109
а привлекал к себе людей, опирался на них. Его «гвардией» стали рабочие-железнодорожники, наиболее сплоченный коллектив в городе.
Через несколько дней вспыхнул свет в квартирах, пошла вода, вырос деревянный мост через Снов, потянулись на рынок телеги с продуктами из ближайших сел...
Если б не война, быть бы Иохиму вскорости председателем Щорсовского горсовета.
...Город на Снове остался позади. А до Днепра еще было далече. Осенние дожди секли украинскую степь. Развезло дороги. Немцы, подтянув танки, пытались задержать нас на промежуточных рубежах.
22 сентября развернулся бой за деревню Петровка. До роты солдат и 8 танков контратаковали одно из наших подразделений. С фланга на машинах под прикрытием броневиков немцы подтягивали подкрепление.
Бой этот примечателен тем, что начисто опровергает пословицу «один в поле не воин». Его успех, по существу, решил один человек — наводчик противотанкового ружья младший сержант Васильев, курносый паренек из Свердловска, которого все звали попросту Колькой.
Едва появились танки, он вылез из траншеи и расположился несколько впереди и сбоку в кустарнике на превосходно замаскированной позиции.
Когда два танка были совсем близко, раздался выстрел. Один из них задымился сразу. Второй продолжал идти вперед.
Снова выстрел. И этот танк подбит.
Через несколько минут приблизился «тигр». Васильев двумя выстрелами подбил и его.
Точное знание уязвимых мест танков, удивительное хладнокровие, снайперская меткость... И хотя вокруг рвались снаряды и свистели пули, Васильев действовал так, словно бил на стрельбище по мишеням. Он успел еще взорвать машину с боеприпасами, прежде чем немцы бросились наутек.
Вскоре Васильева за этот бой наградили Звездой Героя. Что и говорить, он был обрадован, но еще больше смущен. Меткая стрельба по танкам не казалась ему подвигом.
110
Поведение Васильева не было чем-то исключительным. Война уже вырастила солдат нового типа — уверенных в себе, в своем мастерстве и силе своего оружия. Храбрость этих людей была тоже храбростью нового типа — не бесшабашной лихостью, а расчетливым мудрым мужеством, умением побеждать, не рискуя собственной жизнью без толку.
Я сосредоточил здесь внимание на бронебойщике Васильеве, но мог бы рассказать и о пулеметчике Нан-дыке Цибеневе, уложившем в тот день добрый взвод немцев и награжденном орденом Ленина.
Что же касается артиллеристов, то они сплошь стали «профессорами войны».
Вот, скажем, бой за другую деревню — Александровку.
Достигнув ее окраины, подразделения 107-го полка окопались. Тотчас же все противотанковые орудия были расставлены на танкоопасных направлениях и хорошо замаскированы. И тут же, как и предполагалось, пехота противника пошла в атаку при поддержке самоходного орудия «фердинанд».
— Я решил не выдавать своего места расположения,— спокойно, как на лекции, рассказывал после боя командир взвода противотанковых пушек старшина Владимир Павлов, — не стрелять в лоб, а терпеливо ждать, когда самоходка противника поставит под наш выстрел свою боковую часть, которая наиболее уязвима. И когда это случилось, я, естественно, первым же выстрелом подбил ее. Тут мы, как полагается, немедленно сменили огневую позицию и снова тщательно замаскировались. Пусть фашисты стреляют по пустому месту. Ну, бой, конечно, продолжался. Немцы снова атаковали, пустив теперь перед пехотой восемь танков. Наводчик наш, младший сержант Воробьев, выстрелил в головной танк, но он продолжал двигаться. Второй выстрел — и опять мимо. Ладно, думаю, пусть учится. Третий выстрел — мимо. Это уж никуда не годится. Плохо, значит, мы этого Воробьева готовили. Обнаружив нашу пушку, танки открыли по ней огонь. Вижу, дело серьезное. Стал я на место наводчика сам и быстро выстрелил. Один танк загорелся. Второй выстрел — снаряд попал в башню другого и разворотил ее. Ну, после этого остальные танки отошли в деревню.
111
Не добившись успеха на земле, немцы Стали наб усиленно бомбить с воздуха и забрасывать листовками. Листовок этих были сотни тысяч. Бойцы охотно их использовали, когда ходили «за большой нуждой». И раньше фашисты писали всякие нелепости в листовках. Но на сей раз превзошли себя: ничего лучшего не могли придумать, как утверждать, что у Красной Армии резервов больше нет и после боев под Орлом и Белгородом она наступать не сможет. Такие листовки — тема для едких шуток — не нуждались в опровержении. Их опровергала сама жизнь.
В дни безостановочного движения от Десны к Днепру потерь у нас было немного. Но таково уж свойство человеческого сердца: чем меньше потерь, тем острее и болезненнее ощущается каждая из них.
В бою за деревню Олешня погиб один из лучших политработников дивизии, человек беззаветной самоотверженности и чистейшей души, заместитель командира батальона капитан Мыц.
Я уже не раз вспоминал о нем в этой книге. Теперь отдаю ему последнюю дань. Он вел одну из рот во фланг и тыл врага. Вел по огородам, легко перескакивая через низкие плетни. Полы его шинели развевались, как крылья. Пуля сразила его, словно птицу на лету. И упал он камнем, как подбитая птица.
В этом бою батальон сражался с особым ожесточением.
Мыца хоронили посреди деревни, взятой с бою. Митинг у могилы был митингом без речей. Приняли «клятву мести». Подняли автоматы и выстрелили в низкое, сумрачное небо, отдавая салют. Кто вздохнул тяжело, кто размазал рукавом слезу по щеке.
Клятва мести была опубликована в дивизионной газете. Вот ее текст:
«Каждый из нас, кто жил и боролся вместе с коммунистом капитаном Мыцем, повседневно чувствовал на себе благотворное влияние этого простого и задушевного офицера-отца. Он был славой нашего подразделения. Только на днях он первым повел нас отражать жестокую контратаку врага, поддержанную танками. Он вдохновлял нас простыми, но сильными словами: «За мной, орлы! За Родину, вперед!»
112
Десятки раз водил он нас в атаку, и всегда мы крепко били врага. Каждый из нас гордился своим старшим боевым другом и был доволен, когда на груди товарища Мыца засверкали ордена Красного Знамени, Красной Звезды и медаль «За отвагу». Он погиб в атаке.
Все мы поклялись жестоко отомстить за смерть любимого друга и отца товарища Мыца.
Свою клятву мы сдержали, в первом же бою истребили десятки гитлеровцев, но это только начало. Кровь любимого командира будет отомщена».
Долго не верилось нам, что Мыц погиб, долго еще по привычке называли мы его батальон батальоном Мыца. Долго еще бойцы смертями врагов отмечали бессмертие своего политрука.
8 Н. Б. Ивушкии
В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ФРОНТОВ РОССИИ
от и река, воспетая Гоголем и Шевченко, широкая, стремительная, синяя, с низким песчаным левым берегом, с грозными кручами на правом берегу. Мы — внизу, в мелком ивняке с одинокими узкими листьями на голых прутьях. А кручи укреплены, щетинятся стволами орудий, готовы полыхнуть огнем — артиллерийским, минометным,
пулеметным. За кручами — деревни Правобережья, каждая — мощный опорный пункт. И все это пышно названо
гитлеровцами «восточным оборонительным валом».
Неподалеку от правого берега несколько небольших островков. Наверно, весной в половодье они скрывались под водой. Но сейчас светились тускло и желто в ску
пых лучах солнца.
Части дивизии еще только сосредоточивались неподалеку от реки, еще тянулись по дорогам наши тылы, подыскивал удобное место в скрытом овраге медсанбат, а комдив уже приказал начать разведку вражеской обороны. Пока это только дерзкие действия отдельных смельчаков.
Лежа на крохотных плотиках, выплывают на стрежень младшие сержанты Мочалов и Родионов. Гребут они, вместо весел, саперными лопатами. Быстрое течение сносит их к пустым островкам. Молчит правобережье (не так глуп противник, чтобы сразу дать засечь свои огневые точки), только осенний ветер посвистывает в густом ивняке островков.
Родионов и Мочалов благополучно возвращаются. Узнали они немного. Но, во всяком случае, теперь можно определить, с какой силой и как далеко сносит течение, насколько выше надо заходить по берегу, чтобы без лишних усилий добраться до островков.
114
Командир 111-го полка Челидзе обстоятельно готовит в ночную разведку свою лучшую роту. Целый батальон строит для нее плоты, а рота отдыхает. Только ее командир лейтенант Баранов, как самый придирчивый ОТК, проверяет работу: прочно ли связаны бревна, хорошо ли просмолены добытые у рыбаков лодки.
...Осенняя ночь на Днепре темна, хоть глаз выколи.
Плоты и лодки выползают из прибрежных укрытых бухточек и тают во мгле. И вдруг — вспышки ракет, зарево, как при иллюминации. С правого берега ударили орудия, застрочили пулеметы. Водяные столбы поднялись у плотов, рассыпались брызгами. Защелкали пули, буравя воду, откалывая щепки от бревен.
Наши артиллеристы засекали цели, а лодки и плоты широким фронтом шли к островам. Немцы успели высадить здесь свои отряды автоматчиков. По горло, по пояс в воде, в зарослях ивняка шел яростный ночной рукопашный бой.
Рота Баранова, уничтожив подразделения врага, защищавшие остров, отплыла и возвратилась, к счастью, почти без потерь. Ее командир был представлен к званию Героя Советского Союза.
На следующую ночь двенадцать разведчиков старшего лейтенанта Чудаева, миновав островки, высадились на правом берегу, у подножия круч. Казалось, им удалось доплыть незамеченными. Однако у самого берега разведчиков ждала засада. В жестокой схватке шесть из двенадцати погибли.
И все-таки разведку надо было продолжать, вести непрерывно, чего бы это ни стоило. Сведения об обороне противника накапливались понемногу, каждая «мелочь» — засеченная огневая точка, подводная мель, скрытая от огня рытвина на берегу — имела огромное значение: позже, при форсировании Днепра, детальное знание всего этого помогло сберечь тысячи жизней.
Командир инженерной разведки саперного батальона Василий Романов попросил разрешения переплыть реку в одиночку. Он рассуждал так: мудрено заметить ночью одного пловца, легко одному укрыться в прибрежных зарослях хоть на сутки.
Мы знали Романова и верили ему — его мастерству, хладнокровию, расчетливости. Приходилось ему вручную под огнем делать проходы в минных полях и про-
8*
115
волочных заграждениях врага, не раз он пробирался в немецкие тылы и минировал там дороги. Выходил целым и невредимым из самых сложных и рискованных переделок, такой не сунется очертя голову в лапы к врагу.
Романов вошел глубокой ночью в ледяную днепровскую воду и исчез, мы ждали его к утру, ждали к вечеру— он не возвращался. Мы уже мысленно прощались с ним, потеряв надежду увидеть его живым, когда Романов вернулся. Вода стекала с него ручьями, зуб на зуб не попадал... Но фронтовая чарка и сухое белье быстро вернули ему форму. Василию Михайловичу, в недалеком будущем Герою Советского Союза, удалось проникнуть в глубь расположения противника. В землянке комдива он уверенно отметил на карте две линии вражеских траншей —одну неподалеку от берега, другую на высотах в 200—300 метрах от первой.
Дивизионной и армейской разведкой было установлено, что гитлеровцы на этом участке сосредоточили большие силы: около 18 батальонов пехоты, 96 станковых и 250 ручных пулеметов, 330 орудий и минометов. Естественно, наша дивизия не могла здесь с ходу форсировать Днепр. Требовалась серьезная подготовка. Этим и занимались все офицеры и солдаты дивизии. В ближайших деревнях собирали материалы, из которых можно было подготовить переправочные средства: бревна, доски, створки ворот, бочки, железные скобы. Вскоре застучали топоры, зазвенели пилы. Строились плоты, ремонтировались обнаруженные лодки. Для действий на правом берегу создавались штурмовые группы.
Мы ждали пополнения, мощной артиллерийской поддержки, авиационного прикрытия. Пока же даже нашу дивизионную артиллерию временно передали 12-й гвардейской дивизии.
Форсировать Днепр на этом участке нам так и не довелось.
Вскоре стало известно, что дивизия передвигается несколько ниже по течению реки в район местечка Лю-бич. Здесь соединения нашей 61-й армии уже захватили небольшой плацдарм на правом берегу Днепра, и его надо было расширить.
В ночь на 9 октября дивизия сдала свою 20-километровую полосу 65-й армии. На ней были поставлены 116
четыре стрелковые дивизии. Их командованию мы передали свои разведывательные данные.
Решение было мудрым. Для успеха операции требовались большие силы, чем те, которыми наше соединение располагало.
На новом участке к нам стало поступать пополнение. Всю работу с ним взял на себя политотдел. (Офицеры штаба были заняты по горло оперативными вопросами, связанными с подготовкой к форсированию Днепра.) Пополнение поступало из освобожденных от немецко-фашистской оккупации районов и вначале далеко не все в дивизии были довольны им.
Правильно оценить характеры, взгляды, настроения массы людей, живших «под немцем», было действитель-, но не просто. Среди них были й герои, которые вели всеми средствами борьбу с врагом-т-сами партизанили, помогали партизанам, укрывали раненых, саботировали приказы немецкого командования. Были и «окруженцы» 1941 —1942 годов, решившие отсидеться дома или «в примаках» у какой-нибудь из многочисленных вдов. Часть из них уже тяжко переживала свой позор и готова была смыть его кровью. Другая часть и сейчас еще была не прочь праздновать труса. Кто уже был убежден в силе советского оружия, а кто еще втайне верил фашистской пропаганде и преувеличивал возможности гитлеровцев.
В массе это еще была пестрая толпа, а не когорта воинов. Проверять их надо было бдительно, воспитывать и учить настойчиво. В то же время ни в коем случае нельзя было допустить пренебрежения, оскорбительного недоверия, слёпой подозрительности по отношению ко всем без разбора. А были у нас.офицеры, которые страдали этой болезнью.
Мы, политработники дивизии, вскоре убедились: люди, пришедшие к нам, при всем различии поведения в прошлом, идейной подготовленности, настроений были в абсолютном большинстве люди советские. Врагов среди них не должно было быть, а если бы один-другой и нашелся, они были бы изолированы, одиноки, обречены.
Значит, все дело заключалось в том, чтобы пополнение разобралось в ходе войны, в политике партии, чтобы оно (каждый боец в отдельности!) ощутило личную свою ответственность за судьбу страны,
П.7
Помню, инструктируя партийный актив, я прочел вслух ленинские советы слушателям Свердловского университета, отправлявшимся на фронт гражданской войны. Ильич говорил тогда: «Каждый из вас должен уметь подойти к самым отсталым, самым неразвитым красноармейцам, чтобы самым понятным языком, с точки зрения человека трудящегося, объяснить положение, помочь им в трудную минуту, устранить всякое колебание». Именно так и нам надо было подходить к каждому новому человеку, прибывшему с пополнением в дивизию.
Тщательное изучение людей, их настроений мы считали своим долгом. Ветераны дивизии сердечно и тепло принимали новых товарищей. В дивизионной газете было опубликовано обращение бывалых воинов:
«К новому боевому товарищу!
Будем знакомы, боевой друг! Уж такая у нас традиция — радушно принимать новых товарищей по оружию. Ты пришел в часть, за плечами которой немало славных дел. Тебя окружают воины, на счету которых имеются десятки уничтоженных гитлеровцев. Это результат боевого мастерства, мужества, отваги, стойкости и героизма. На груди многих твоих новых друзей — ордена и медали. Знакомься с нашими героями, быстрей осваивай их боевой опыт, становись похожим на них во всем — в соблюдении воинской дисциплины, в благородном стремлении совершенствовать военное мастерство, в чувстве пламенной любви к Родине и лютой ненависти к врагу.
Тебе выпала честь прибыть к нам в дни наступательных боев. Наши войска заняли Орел, Белгород, Харьков.
Так будем же вместе бить врага, как призывает нас партия».
Уважительный тон, торжественность печатного обращения произвели большое впечатление на новичков. Еще важнее и действеннее были беседы, которые вели ветераны: о подвигах героев, о мастерстве наших командиров. Многие запоминали наизусть стихи Бориса Палий-чука:
Смывали снег дожди косые, Плыла в проталинах весна, И в центре всех фронтов России Наш фронт поставила страна.
11В
«Центральный фронт» — само название вызывало гордость, а имя его командующего, прославленного полководца Рокоссовского, вызывало особую уверенность в успехах.
Комсомол отмечал свой 25-летний юбилей. Я помню, как в одном из приднепровских оврагов собрались на митинг представители молодежи всех частей. На небольших щитках и прямо на ветвях кустарника вывешивались «боевые листки», выпущенные в подразделениях к юбилею. Около импровизированной трибуны стоял лист фанеры, на котором большими буквами было написано:
За Днепром гудит горячий ветер, Жжет врага час от часу все злей, Здесь достойно молодежь отметит Славный комсомольский юбилей.
Это был настоящий праздник, хотя и проводился он необычно просто, по-фронтовому. Мой помощник по комсомолу Василий Степанов и выступавшие вслед за ним комсорги полков Семен Босалыга, Николай Бобровский, Николай Гладких и другие говорили о боевых делах, которыми наши комсомольцы отметили юбилей. Сержант Алексей Тупиков с группой бойцов совершил дерзкую вылазку в расположение огневой позиции врага. Перебив орудийный расчет противника, смельчаки забрали пушку, прикатили ее на руках к нам, открыли из нее огонь по врагу. Комсомольцы артиллеристы Сараев и Панов подбили каждый по танку...
Таких боевых подарков было много. Юбиляр был отнюдь не мальчишкой, а грозным воином. Его гимнастерку украшали полоски ранений и боевые ордена.
В дивизию прибыл армейский ансамбль песни и пляски. Пожалуй, еще нигде и никогда не было так нужно людям песенное слово, как на этой жестокой войне. «И песня, и стих — это бомба и знамя» — прав Маяковский! Песни нужны были людям, как боезапас. В них выражались самые сильные чувства и стремления.
Когда хор ансамбля запел «Песню о Днепре» Фрадкина и Долматовского, когда грянуло торжественнолирическое «Ой, Днипро, Днипро...», поднялись все, запели все... И казалось, на сотни километров зву-
119
ййло, катилось < волной по берегам, взлетало птицей к небу:
Славный час настал, мы идем вперед И увидимся вновь с тобой, Кровь .фашистских псов, пусть рекой течет, Враг Советский край не возьмет.
Как весенний Днепр, всех врагов сметет Наша армия, наш народ.
«Нас ждут за Днепром». Все мысли, чувства, вся жизнь была полна этим. Доклады, беседы, «боевые листки», выпускаемые в подразделениях, были посвящены форсированию Днепра.
В дивизионной газете «Победа» читали мы статью Ильи Эренбурга «Скорей!»
«Мы знаем, что значит каждый час промедления. К нам взывают женщины, нас ждут дома и хаты!
Жить хочет замученная Белоруссия. Она шепчет: «Скорей!»
Мы слышим, и мы идем».
15 октября дивизия получила приказ переправиться на правый берег Днепра.
В тот же день были проведены партийные и комсомольские собрания, а затем митинги всего личного состава. В них не было ничего официального, казенного, это был разговор сердец.
«Це ж наш Днипро. Невжеж вин нас нэ пустить?» — говорил на партийном собрании саперного батальона кандидат партии украинец Лысюк, и слезы текли по его щекам.
Я помню митинг личного состава 107-го полка, взволнованные речи .истребителя танков старшины Павлова, солдат Икрасова и Чуваева, парторга Недотанова и командира полка Смекалина... Все выступления заканчивались словами: «Вперед, нас ждут за Днепром».
16 октября дивизионная газета «Победа» вышла с крупными заголовками: «Вперед, за Днепр, сыны Отечества!», .«Сокрушим и добьем немецкое зверье!», «Вчера первые группы наших воинов форсировали Днепр!», «Слава первым!»
Патетически звучала передовая статья «Нас ждет Беларусь!»
«Воины! Перед нами Днепр! Мы слышим плеск, его седых волн. Мы видим гладь его светлых вод. Там, на 120
западном берегу, родная земля Украины и Белоруссии. Два года враг терзал наши города и. сел а за великим Днепром. Два года гитлеровцы измывались над нашими близкими, жрали наш хлеб, жгли и уничтожали все, что построено нашими руками. Пришла пора покончить с захватчиками. Сегодня наш путь- через Днепр. Там, на западном берегу, поднимем славное Красное Знамя».
В ту же ночь началось форсирование Днепра. Вновь назначенный начальник артиллерии дивизии полковник Николай Михайлович Городовенко приказал подтянуть всю артиллерию дивизии к Днепру.
С рассветом в небе появились бомбардировщики, штурмовики, истребители. Дотемна они господствовали в воздухе, били противника на правом берегу и прикрывали переправу.
Часть подразделений дивизии воспользовалась понтонным мостом, наведенным ранее форсировавшими Днепр соединениями нашей армии, другие переправлялись вплавь.
Командир огневого взвода 76-миллиметровых пушек 111-го полка лейтенант Семенченко рассказывал:
«Орудийному расчету, которым я командовал, предстояло форсировать Днепр. На правом берегу была горсточка наших стрелков, переправившихся прошлой ночью. Они удерживали плацдарм из последних сил. Многие бойцы сбросили шинели, в одних гимнастерках бросались в холодную воду Днепра. Они плыли к противоположному берегу каждый как мог, кто саженками, кто спортивным кролем, кто по-собачьи — на помощь своим. По ним стреляли гитлеровцы, но не было страха. Не было, и все.
Мой расчет переправлялся на плоту. Для нас переправа была удачной — на плот не попала ни одна мина. Но едва мы успели высадиться, как немцы начали атаку при поддержке танков.
Нас было мало, врагов много.- Но дальнобойная артиллерия своим огнем отсекла немецкую пехоту от танков. Мои артиллеристы, выкатив орудия на прямую наводку, быстро расквитались с вражескими танками. И затем мы вместе со стрелками поднялись в атаку. Такое было настроение, что никто не считал врагов. Может, на каждого из нас по десятку, а может, и по
121
два десятка. Только они уже в себя не верили: бежали или поднимали руки... «Рус, не стреляй. Гитлер капут».
И снова победителям хотелось выразить свои чувства звонким, поэтическим словом. Капитан Серебряков на небольших фанерных щитах написал стихи, а комсорг 1-го батальона Бражник водрузил их на правом берегу:
Друзья! Свершилась переправа,
• Пришла желанная пора, Восторжествует наша слава Над ширью древнего Днепра!
В тот же день и мы с Заиюльевым переправились на правый берег. Наш комдив не любил отрываться от передовых подразделений.
Белорусская земля лежала перед нами вся в ранах от взрывов снарядов и бомб. Здесь отвоевывался с бою каждый шаг. Вдоль всего берега протянулись две траншеи. Одна прямо на кручах, другая несколько позади. Это и была первая линия обороны противника. В траншеях еще лежали трупы гитлеровцев.
Плацдарм был пока очень мал. Правда, левее нас враг был оттеснен на два километра. Но на правом фланге линия обороны немцев упиралась в Днепр.
Перед дивизией была поставлена задача расширить плацдарм вправо и овладеть опорным пунктом противника деревней Деражичи.
Гитлеровцы создали там вторую линию обороны. Семь траншей, на расстоянии 250—300 метров одна от другой, множество дзотов, блиндажей, укрытий. Артиллерия, танковые группы прикрывали Деражичи.
Нам не удалось с ходу прорвать вторую линию обороны противника. Только ночью переправилась наша артиллерия. Пушки, вязнущие в песке, выкатывали в боевые порядки пехоты.
Под утро я решил немного отдохнуть.
Командный пункт дивизии еще не был оборудован. Блиндажи строить было не из чего. Алеша Мусатенко вырыл мне в сыром песке щель и накрыл ее ветками. Но поспать так и не удалось. Едва сомкнув глаза, я проснулся от адского холода. К тому же, когда неподалеку рвались снаряды, щель осыпалась. Песок был всюду: в волосах, в ушах, на зубах. Ну его подальше, такой отдых. Лучше уж сразу в бой, 122
Утром 17 октября 111-й и 228-й полки перешли и наступление и, прорвав линию обороны, захватили господствующую высоту 111,5. Сколько было таких безымянных, помеченных лишь цифрами высот! Какие гордые имена бойцов-героев каждая из них могла бы теперь носить!
Бой за высоту 111,5 длился почти сутки. Четырежды враг предпринимал контратаки под прикрытием танков, пытаясь во что бы то ни стало вернуть ее. Не раз создавались здесь критические моменты. Но брали верх беззаветная отвага и высокое воинское мастерство наших воинов.
Если б из бесчисленных подвигов, совершенных на этой высоте, надо было отобрать один, из сотни имен героев одно, я выбрал бы без колебаний имя комсомолки санинструктора Марии Дводненко.
Четыре тяжелых немецких танка неожиданно вышли во фланг наших траншей, рота автоматчиков прорвалась за ними. Казалось, уже ничем не остановить здесь врага. Казалось, совершена непоправимая ошибка. Наши бойцы дрогнули и стали отползать. И тут Мария поднялась в полный рост. Поднялась и крикнула:
— Стойте!.. Стойте, товарищи! Куда же вы? Здесь' каждый метр полит нашей кровью.
Она стояла, невредимая, под огнем. И вдруг заплакала.
— Стыдно мне за вас, стыдно!
Мария была любимицей бойцов. Скольких из них она вынесла с поля боя! Скольким сумела улыбнуться в тяжкую минуту, согреть словом, ободрить ласковым взглядом, движением руки!
Бойцы вернулись в траншею. Кто-то заставил укрыться Марию. Подоспели две противотанковые пушки, ударили по немецким машинам чуть ли не в упор. Танки загорелись. Но автоматчики уже ворвались в наши окопы.
И тогда командир полка бросил в дело свой последний резерв — взвод разведчиков.
В рукопашном бою вражеская рота была полностью перебита.
Мария перевязывала раны бойцам, а губы ее шептали:
— Вот теперь молодцы... Ничего не скажешь, молодцы.
123
К вечеру бой начал стихать, высота 111,5 твердо удерживалась нашими частями.
Помню, -в сумерках -я -собрал. политработников частей. Мы- стояли в траншее и молча пожимали друг другу руки. Сколько раз минувшим днем каждый смотрел смерти в глаза. Нет, не выглядели красавцами мои боевые друзья. Вот хоть заместитель командира 228-го полка неповоротливый толстяк майор Николай Васильевич Дмитриенко. Как он ухитрялся со своей тяжелой одышкой появляться то в одном, то в другом подразделении, и всегда вовремя, в самый опасный и нужный момент?!
Вот весь в песке, в помятом обмундировании,-обычно щеголеватый, по-артиллерийски интеллигентный, замполит 84-го артполка Анатолий Францевич Цыш. Оставил он на левом берегу свою автомашину. (А машина была-не простая — предмет всеобщей зависти — накрытом грузовике смонтировано нечто вроде боевой рубки корабля.) Перебрался Цыш на плацдарм и все время был в боевых порядках: все орудия его полка стояли на прямой наводке. А в боевых порядках пехоты франтоватого вида не сохранишь!
Вот Григорий Иванович Кузнецов, стирая с лица пот черным, как сажа, носовым платком, беседует с исхудавшим, -охрипшим Дмитрием Ивановичем Власовым. Из работников политотдела тут же Ефим Маркович Ровин и инструктор по информации капитан Борис Львович Айзен, секретарь партийной комиссии Михаил Васильевич Поляков. И им довелось сегодня участвовать в боях.
О многом надо было нам поговорить, много решить сложных вопросов. -
Поляков готовил заседание партийной комиссии. До чего ведь скучное слово «заседание», кажется, даже бюрократизмом^ него попахивает. Но ведь и заседание заседанию рознь.
. Как правило, парткомиссия рассматривала заявления прямо на передовой. Запомнилось одно заседание. Противник вел непрерывный артиллерийский обстрел. Члены парткомиссии, секретарь парторганизации, докладывавший о решениях партбюро, и вступающие в партию бойцы стояли в окопчиках, отрытых на определенном расстоянии друг от друга. Когда нарастал гул летящего
124
снаряда, все присаживались. После разрыва поднимались, задавали вопросы, голосовали, принимали решения. Новые партийцы ползком возвращались в свои подразделения. А случалось, и не доползали до них... Предстоящее ночное заседание обещало быть таким же. Ну что ж, дело привычное.
Замполитов более всего тревожило сейчас другое: многие бойцы весь день без пищи!
Все мы тут чего-то недодумали. Тылы пока оставались на левом берегу Днепра. Там же готовилась еда в походных кухнях. Затем кухни переправлялись на правый берег. Но подвезти их к самой передовой было нельзя, слишком уж заметную мишень они собой представляли. Поэтому кухни ставили у берега и тщательно маскировали. Пищу таскали ползком в термосах. Но термосов было мало, не хватало даже обыкновенных ведер. Интенданты только руками разводили. Что ж, решили послать им в помощь политработников. И через несколько часов все наладилось. Где нашли скрытые пути, чтобы , подвезти кухни, где организовали цепочки с котелками, где пустили в дело трофейную посуду...
А на рассвете — снова началось. Немцы, выполняя приказ Гитлера любой ценой удержать Днепр, проявляли отчаянное упорство. Несмотря на большие потери, они под прикрытием танков снова и снова контратаковали наши подразделения.
Опасное положение создалось на участке 111-го полка. Как раз в то время, когда танки подходили к траншее, разорвавшимся снарядом был выведен из строя расчет 76-миллиметрового орудия. Остался жив лишь командир огневого взвода коммунист Семенченко. Он один заряжал, наводил и вел огонь по вражеским танкам и вышел победителем. Два «тигра» горели вблизи наших траншей.
Под стать Семенченко, ставшему Героем Советского Союза, вел себя комсомолец наводчик противотанкового ружья Николай Повалишин. Танк двигался прямо на него — все ближе и ближе... Повалишин не стрелял. Человек редкой выдержки и хладнокровия, он хотел бить наверняка. Но вот уже грозная махина в пятнадцати, •в десяти метрах от траншеи. Бронебойщик нажал на спуск, но ружье отказало. Трудно было не растеряться.
125
Но Повалишин, не теряй ни секунды, бросил противд* танковую гранату. От взрыва лопнула гусеница танка, и он остановился.
...Нескольким танкам удалось пройти через наши траншеи. Но они были встречены артиллеристами. Первый танк подбили коммунист командир орудия Конев и наводчик Береженцев. Затем зажгли по одному танку парторг батареи Петр Гаганов и Василий Серегин. С четвертым танком покончили командир орудия Николай Орешкин и наводчик Лебедев.
Пьяные фашисты, бежавшие за танками, были уже у нашего переднего края. В это время поднялся с гранатой в руках командир батальона Митрофан Марин-ченко и повел батальон в атаку. Отрезанные от танков, гитлеровцы не выдержали удара и отступили.
На другом участке немцы вклинились в боевые порядки 228-го полка. И тогда горячий, вспыхивавший как порох лезгин Шарип Шарипов с возгласом: «Комсомольцы, за мной, джигиты, вперед!» — первым поднялся в атаку и увлек за собой других бойцов.
Всюду бились до последнего патрона и гранаты, а когда кончались боеприпасы, завязывалась рукопашная схватка. В яростном бою не считались с должностями и званиями. Как рядовые бойцы дрались капитан Сидоренко, старший лейтенант Трохин, старший лейтенант Павлов, политработники Штейнгарт, Хайров, Кузьменко, Винокуров и другие.
Часто на место выбывших командиров становились партийные и комсомольские работники, сержанты, солдаты.
Командир отделения молодой коммунист Михаил Пивнев взял на себя командование взводом. Комсорг 1-го батальона 228-го полка младший лейтенант Кон-друс и парторг 3-го батальона 111-го полка Ванчиков возглавили стрелковые роты.
Среди огня, ежесекундно рискуя жизнью, находились и наши медики. Тут же делали перевязки, накладывали жгуты и выносили раненых.
Удивительно, как в жестоком бою, при нечеловеческом напряжении сил, женщины не теряли врожденной своей мягкости, великой терпеливости и, не побоюсь сказать, обаяния. Честное слово, до сих пор символом женского величия и красоты остались для меня девушки 126
в шинелях, и среди них комсомолки санинструктор Поля Степанова и военфельдшер Тахтамышева — спасительницы человеческих жизней на днепровских кручах. х
Надо отдать должное ц организаторским способностям начальника санитарнбй службы дивизии майора Лугового. Перевезти раненцх на левый берег даже ночью было не простым делбм. Единственный понтонный мост простреливался, да и был перегружен. Десятки машин и повозок стояли у берегов и ждали своей очереди. Луговой добыл лодки — широкие плоскодонки, нашел гребцов, умелых и спокойных. Будто и не торопясь, быстро, без особого риска переправлял сотни раненых. Борьба за их жизнь продолжалась в медсанбате. Операции шли непрерывно. Врачи, медицинские сестры, санитары едва держались на ногах от усталости.
Душой замечательного коллектива хирургов был по-прежнему Георгий Петрович Петров, Хирург и Человек с боЛьших букв. Послеоперационное лечение больных возглавляла Мария Александровна Лебедева. Ее часто называли мамашей. Нет, тут дело было не в возрасте. Мария Александровна не выглядела старой. Но было в ней, в ее поведении, в отношении к 'людям что-то исконно материнское, словно все бойцы и вправду были ее детьми.
20 октября прибыл приказ продолжить наступление.
— Теперь мы уже не одни, — сказал мне комдив.— Нам придаются танки. Они' сегодня переправятся на плацдарм. С левого берега нас будет поддерживать армейская артиллерия. Так вот, пока я буду отрабатывать взаимодействие с командирами приданных частей, сходи на передний край, поговори с солдатами, расскажи о хороших новостях.
В 111-м полку, куда я направился, замполитом был майор Прохоров. Его имя уже упоминалось в этой книге. Отличный организатор, опытный воин, он умел позаботиться о бойцах. Хозяйственники в этом полку разбивались в лепешку, чтобы сделать все как полагается. Прохорова они уважали и побаивались.
J27
Однако же была у него черточка ~ «чудинка», неизменно вызывавшая улыбку. Вообще, надо сказать, «чудинки» у людей легко запоминаются. Стоит мне сейчас вызвать в памяти, например, Ррвина, и тотчас же перед глазами встанет его коллекция трофейных зажигалок. Задумаюсь об одном из на^пих хирургов — Газалове и невольно усмехнусь, припомнив его «авиационный слух». Человек отнюдь не из трусливого десятка, прирожденный оптимист, любитель замысловатых грузинских тостов, Газалов боялся на войне только бомбежки (обстрелами артиллерийскими, минометными, пулеметными пренебрегал). Почему это было так, трудно сказать. Но эта боязнь так обострила его слух, что в землянке или медсанбатовской палатке он сообщал о приближении вражеских самолетов, когда другим казалось, что вокруг тишина. Когда же все другие только начинали различать гул моторов, он уже кидался в щель. Кто-то даже шутя предлагал дать Газалову звание «дивизионного звукоулавливателя».
Но, впрочем, я отвлекся. Вернусь к Прохоров^. Его «чудинка» заключалась в том, что он все на свете твердо распределил по двум полочкам: «положено» и «не положено». Прохоров был убежден раз и навсегда: уж он-то знает все «пбложенное» назубок, и, хоть гром греми, ничего тут не переменится. Была у него заветная тетрадочка, а в тетрадочке записано по пунктам, кому и что следует говорить перед тем или иным видом боя. Все ветераны полка помнили «пункты» назубок, но Прохорова это ничуть не смущало.
В тот октябрьский день я застал в 111-м полку обычную картину. В блиндаже собрались политработники. Среди них стоял Прохоров с тетрадкой в руках, зачитывал «пункты». Остальные еле сдерживали улыбки.
Наверно, Прохоров обиделся на меня, но я прервал нравоучительное чтение, рассказал о новостях. Потом предложил замполиту вместе походить по подразделениям, побеседовать с солдатами «своими словами». Этого он не любил. Но я уже твердо решил отучить его от проклятой тетрадки. Кажется, мне удалось этого добиться, хотя не сразу и не в полной мере.
На переднем крае шла ленивая перестрелка. Гитлеровцы уже выдохлись. Мы еще не собрались с силами» 12$
Люди, пользуясь Относительным затишьем, закреплялись на занятом рубеже. Кто не дежурил, подносил ящики с боеприпасами, работал лопатами, поправляя брустверы окопов, совершенствуя огневые позиции. Кое-где командиры вели разбор вчерашнего боя. В штабах батальонов оформляли материалы для награждения отличившихся. Партийные бюро рассматривали заявления о приеме в партию.
Вскоре на передний край вместе с танкистами пришел проводить рекогносцировку полковник Заиюльев. Командир полка майор Челидзе вызвал комбатов. На месте уточняли порядок взаимодействия. Надо было четко определить, кто за какими танками и где будет продвигаться, как, кому и с кем поддерживать связь. Мы, Прохоров, Власов и я, собирали в подразделениях коммунистов. Собрания проходили в блиндажах и траншеях. Президиум не избирался, протоколы не велись. Длинные речи не произносились. Каждый коммунист должен был понять общую задачу завтрашнего дня, свое место в ее решении. Не слепого исполнения приказов, а высокой сознательности ждали мы от них. Если коммунисты понимают во всех деталях замысел боя, значит, они добьются, чтобы каждый солдат «знал свой маневр», был «маршалом» на своем участке, в своем деле. А это залог уверенности, инициативы бойцов и, в конечном счете, победы.
...Вечером прибыли саперы. Они должны были разминировать проходы для танков в немецком минном поле. Тяжело им пришлось в эту ночь. Фашисты, чуя неладное, освещали ракетами передний край. Едва в их ослепительном свете становились видны фигуры прильнувших к земле саперов, пулеметы открывали яростный огонь. По ним ударили наши пушки. Под ливнем пуль, под свист осколков, при вспышках ракет саперы продолжали свое дело.
Бойцы стрелковых подразделений помогали артиллеристам перетаскивать на новые позиции утопающие в песке орудия и устанавливать их на прямую наводку. Нескончаемым потоком двигались от берега к передовой солдаты с ящиками патронов и гранат. Несли на себе и снаряды для артиллерии.
21 октября выдался солнечный день. Рано утром с левого берега заговорили тяжелые орудия, началась
Р Н. Б. Ивушкии 129
мощная артподготовка, наша авиация бомбила передний край и опорный пункт немцев — Деражичи.
Синий Днепр, желтые кручи, черные и белые дымы над полем боя — все это моглох бы показаться красивым, если бы речь шла не о жизни и смерти.
Двинулись в атаку танки. На их броне сидели саперы. Они вели наши машины по путям, проторенным в минных полях ночью. Вплотную за танками двигалась пехота. Лязг гусениц, грохот снарядов, отскакивающих от брони, скрип песка под сотнями ног...
Танки с ходу проскочили через первую траншею, бойцы вскочили в нее. Впереди всех — Макаров, мужик борцовской силы и ловкости. Он оглушил прикладом двух фашистов. В одиночку бросился к орудию. Кинул гранату, дал из автомата длинную очередь — уложил весь расчет. Захватил пушку в полной исправности, развернул ее на 180 градусов...
Сколько было на войне таких богатырских подвигов! Теперь досужие скептики, не нюхавшие пороха, готовы объявить рассказы о них «козьмакрючковщиной», а я видел это своими глазами. И сейчас готов отдать земной поклон таким людям, как Герой Советского Союза Иван Николаевич Макаров.
...Танки уже утюжили вторые траншеи, рвали провода связи, подминали под себя пушки, вдавливали пулеметы в песок.
Наша артиллерия засыпала снарядами дороги в немецком тылу, и враг не смог подтянуть резервы.
— Вперед! Вперед!
Бойцы кричали «ура» и что-то еще неразборчиво, может, яростно матерились, не замечали ран, не чувствовали усталости.
В сумерках крупный опорный пункт врага — деревня Деражичи — был в наших руках.
Комдив, не давая противнику опомниться, наращивая удар, ввел в бой находившийся во втором эшелоне 107-й полк и поставил перед ним задачу овладеть населенными пунктами Тесны и Городок. Командира этого полка майора Смекалина я знал еще по 133-й стрелковой бригаде. Полный, широкий в плечах, с внимательными и добрыми глазами, он был рассудителен и спокоен даже в самые тяжелые моменты боя. Во время Курской битвы Смекалин показал себя мастером орга-130
низаний взаимодействия пехоты с танками й артиллё-рией. Как раз такой командир, спокойный, умный, не поддающийся азарту, нужен был для развития успеха В горячке дневного боя многое перепуталось и перемешалось.
Смекалин организовал наступление четко, как на учении.
Продвигались вперед. Вскоре в районе деревни Вывалки наши части соединились с правым соседом — 60-й дивизией, входившей в состав 65-й армии. Поставленная задача была выполнена.
На правом берегу Днепра соединениями 1-го Белорусского фронта был создан еще один плацдарм в 30 километров по фронту и 5—6 километров в глубину.
Гитлеровцы были отброшены с так называемого «восточного оборонительного вала». Один из самых напряженных боев, которые вела дивизия после Курского сражения, был выигран. Все попытки врага сбросить нас в Днепр провалились.
Гитлеровское командование все еще не признавалось в поражении. Геббельс в эти дни писал в берлинских газетах: «Большевикам не удалось отбросить от Днепра немецкую армию. Повара наших войск и поныне черпают воду из Днепра». Но все это были лишь жалкие «красивые слова».
На самом деле гигантская битва за Днепр была уже выиграна.
Что было главным и решающим в этой победе? Можно говорить о росте воинского мастерства солдат, о талантливости полководцев, о могучей технике, созданной в нашем тылу, можно привести список трофеев — все будет верно. И все-таки важнее всего растущая сила партии. Все больше людей чувствовали себя за все в ответе — за судьбы Родины, за будущее всего человечества и дружно поднимались на клич: «Коммунисты, вперед!», хотя многие еще не были членами партии. Именно это, прежде всего, делало нашу армию неодолимой. На память приходят слова М. И. Калинина. Отвечая на вопрос, почему во время Великой Отечественной войны в Коммунистическую партию шло все больше советских людей, он говорил: «Потому, что все чувствуют, что надо усилить партию. Все знают, что наша партия — руководитель, что только могучая, сильная
9* 131
партия может обеспечить народу победу. И когда крЗСь ноармеец видит, что он будет участником тяжелого боя, он подает заявление о вступлении в партию, желая идти в бой коммунистом. Это великая сила нашей партии, Советского государства. Массы хорошо знают, что у них один путь с партией».
Один путь — путь к коммунизму. Тогда он лежал для нашей дивизии через бои на белорусской земле.
МОЗЫРЬ
/I вадцать шестую годовщину Великого Ок-11 тября мы отмечали неподалеку от Днепра. I I Дивизия отдыхала, приводила себя в поря-/ I док, готовилась продолжать наступление. / I Проводились беседы,, подводились итоги, / I проходили торжественные собрания. Пол-g" q| ковник Заиюльев и командиры полков вру----------- чали правительственные награды офицерам и бойцам, отличившимся на Днепре. Повара хлопотали над приготовлением праздничных обедов, старшины рот проверяли запасы «драгоценной влаги», чтобы на каждого бойца хватило положенных фронтовых сто граммов.
Начальник дивизионного клуба капитан Куксин ухитрялся прямо на переднем крае, в траншеях, проводить концерты самодеятельных артистов. Землянки, где стояли радиоприемники и рации, были набиты до отказа. Все ждали последних сообщений из Москвы, сводок Совинформбюро, праздничного приказа Верховного Главнокомандующего.
Настроение у людей приподнятое. Днепр позади. Забыты трудности и опасности. Бойцы радуются тому, что добились успеха, успеха огромного, раскрывающего широчайшие перспективы. Будут, конечно, новые трудности, будут опасности, будет кровь, но у людей расправились крылья. И отрадно было видеть счастливые и гордые лица солдат.
Октябрьский праздник 1943 года был осенен победами. Они были одержаны почти на всем протяжении громадного фронта. От Волги до Днепра шагнули наши войска, освободив от врага сотни городов и тысячи сел. Все дальше на запад отбрасывала фашистов Советская Армия.
133
Октябрьский праздник 1943 года был осенен победами. Это был первый по-настоящему радостный праздник военных лет. Его хотелось отметить не только официально и торжественно, но и по-товарищески сердечно.
Помню мы, политотдельцы, собрались в большой землянке поздно вечером, когда все вернулись из частей... Алеша Мусатенко принес из кухни нехитрый солдатский ужин. Дополненный рыбными консервами — всей месячной нормой дополнительного офицерского пайка, он показался обильным. Приберегли к ужину и полагающиеся каждому сто граммов водки. Как всегда, говорили о пережитом.
Великолепным рассказчиком был майор Ровин. Он одинаково точно умел подмечать детали героического и смешного. Слушая его, как бы заново видел себя и своих друзей в каком-то необычном, интересном свете.
Признанным запевалой у нас считался Вася Степанов.
Затянет он «Землянку» или «Заветный камень», а мы подхватываем охрипшими голосами. И самим нравится, как поем.
Жаль, в последний раз мы пели с Васей:, провожали его на работу в комсомольский отдел политического управления фронта. Знали — повышение, надо радоваться, а расставаться все-таки тяжело.
...Передышка длилась недолго. В ночь на 9 ноября дивизия форсировала реку Песоченку и продолжала наступление.
Такого мощного и массового партизанского движения, как в Белоруссии, мы еще не встречали нигде. Белоруссию даже трудно было назвать оккупированной территорией. В руках у врага находились все. крупные города и железнодорожные узлы, но зато партизаны занимали и контролировали около 60 процентов территории республики. Здесь гитлеровцам не давали свободно разгуливать.
Фронт находился всюду. Железнодорожные станции, мосты были опоясаны системой дзотов и проволочных заграждений. Над ними вздымались в небо сто-134
рожевые вышки. По обеим сторонам дорог оккупанты вырубали лес. Но ничто не спасало их от внезапных ударов.
Наступление Красной Армии народные мстители встретили «рельсовой войной» в тылу врага. Взлетали на воздух идущие к фронту немецкие поезда с боеприпасами и вооружением. Части, предназначенные для борьбы с нами, задерживались для охраны дорог.
Вскоре наша дивизия начала организованно взаимодействовать с партизанскими отрядами. Когда мы вышли за рубеж реки Брагинка, командующий армией генерал-лейтенант Белов предупредил нас, что с наступлением темноты в тылу врага начнут операцию партизанские отряды Борунова и Синякова.
Их удары с тыла помогли 111-му полку быстро, почти без потерь, форсировать реку и овладеть городом Брагин.
В Хойниках мы встретились с партизанским отрядом, возглавляемым руководителями этого района. И он нам во многом помог.
Теперь, когда дивизия шла по лесам и болотам, опыт, приобретенный на Северо-Западном фронте, нам пригодился. Ветераны хорошо ориентировались и прекрасно знали тактику лесного боя.
Вот один характерный эпизод. Пытаясь приостановить наше наступление, фашисты возле деревни Гро-хово контратаковали 107-й полк. Создавалась угроза окружения. О том, как дальше развернулись события, мне рассказал комсорг полка Семен Босалыга:
— Вечером меня вызвал Смекалин и поручил как можно скорее найти капитана Клименко. Есть, мол, дело специально для него — ночью атаковать втянувшихся в лес гитлеровцев. Я разыскал Клименко в тылах полка, где он занимался с новым пополнением. Капитан построил солдат и повел их на передовую. Ночь была темная —хоть глаз выколи. Однако Клименко, кажется, такой ночью видел, как днем. А может, по слуху или чутьем все угадывал. Я был рядом с ним, он вел бойцов в старом темном лесу уверенно, как по полю. И вот уже не фашисты ударили нам в тыл, а мы им! Пули защелкали по деревьям. Гранаты взрыва
135
лись то тут, то там. Гитлеровцы растерялись. Разбежались в панике кто куда... Били мы их, вылавливали до самого утра.
Тут мне хочется напомнить читателю, что Клименко был не строевым командиром, а политработником, замполитом батальона. Но уже давно в ходе боев различие между политработниками и командирами стало исчезать. Практика войны каждому, кто умел думать и учиться, давала военные знания. К тому же Клименко не раз приходилось брать на себя командование батальоном. И за успешное выполнение боевых задач в этом качестве он был уже награжден орденом Александра Невского. Клименко не одинок. Политработников с командирскими навыками, как, впрочем, и командиров с душой и навыками политработников, в дивизии было много. Фронтовая обстановка далеко не всегда позволяла разграничивать функции тех и других. А это означало необходимость все настойчивее и шире дополнять практику теоретической учебой. Как ни сжато время на войне, бывают ведь и относительно свободные часы.
После переброски с Северо-Западного фронта дивизия не закреплялась надолго ни в одной армии. Дважды за это время мы находились в распоряжении командующего фронтом, побывали в составе 53, 60, 13, 70-й* армий, и теперь входили в 61-ю армию.
Отношение к новым дивизиям везде было одинаковое. Знакомились с ними поначалу бегло и поверхностно. Считали еще не совсем «своими», а следовательно, что греха таить, несколько поплоше своих. И внимания было меньше, и личных контактов (очень важных в любом деле) не хватало. Мы уже, признаться, устали от постоянной смены начальства — ведь у каждого командующего армией, военного совета, политотдела свой стиль, свои требования. Вот почему мы были рады, что в составе 61-й армии находимся уже четвертый месяц и наконец стали «своими». Правда, связь с политотделом армии в силу сложившейся боевой обстановки была еще слабой. Но она постепенно налаживалась. В дивизии дважды побывал начальник политотдела армии полковник Зыков. Хотя встречи были кратковремен"
136
йыМи, но отношения начали приобретать характер фронтовой дружбы.
Вскоре полковника Зыкова отозвали на другую работу. Нам в политотделе было приятно получить от него следующее письмецо: «Тов. Ивушкин! В связи с уходом из армии хочу поблагодарить Вас за работу. Жалею, что мало вместе поработали. Несмотря на это, впечатление остается только хорошее. От всего сердца желаю новых боевых успехов и здоровья. Привет политотдельцам. Крепко, крепко жму Вашу руку. К. Зыков».
Через некоторое время прибыл знакомиться с дивизией новый начпоарм Александр Георгиевич Котиков, высокий, стройный полковник с обветренным лицом и светлыми седеющими волосами.
Держался Котиков, казалось поначалу, несколько необычно. Выступления свои начинал не привычным обращением «товарищи», а старинным «други мои». Голос у него был удивительно звучный и мягкий — «бархатный баритон». Говорил он превосходно и, зная это, несколько любовался собой. Но, как выяснилось позже, даже в этом любовании не было ничего дурного. Котиков был душевным, умным, глубоко интеллигентным человеком.
В первый раз он пробыл в дивизии три-четыре дня, побывал на переднем крае. Беседовал с солдатами и офицерами, с замполитами полков и работниками политотдела, с каждым по-дружески, как с равным, спокойно, не торопясь, обо всем.
Однажды утром, когда все работники политотдела были на месте, Котиков предложил пойти пострелять из личного оружия. Сам он показал свое мастерство первым— все пули в центр мишени. В грязь лицом мы не ударили, но отлично стреляли далеко не все. Котиков посмеивался не обидно. Однако сказал: «Это не главное, но, право, политработник должен все делать образцово». Вечером он выступал перед личным составом. Как зачарованные, слушали мы его доклад «О военно-политическом положении на фронте». Не только говорил он здорово, но и мыслил интересно, глубоко, не стандартно.
Позже Котиков часто бывал в дивизии. Видел я его и в гневе. Более всего сердился он, когда сталкивался с формализмом и чиновной спесью. Помню, как он едко
137
высмеял одного полковника из фронтового политуправления, который вел беседу с солдатами примерно так:
— Как живете, товарищи?
— Хорошо, товарищ полковник.
— Как вас кормят?
— Хорошо, товарищ полковник.
— Письма из дому получаете?
— Получаем, товарищ полковник.
— Настроение боевое?
— Боевое, товарищ полковник.
На этом «беседа» обрывалась. Полковник, солидно покашливая, направлялся в следующее подразделение.
Когда полковник вернулся в политотдел, Котиков спросил его:
— Как живете, товарищ полковник?
— Хорошо...
— Как вас кормят?
— Хорошо...
— Письма из дому получаете?..
Мы все не удержались от улыбок, а полковник был красен как рак.
Сам Котиков если беседовал с солдатами о пище, так и ел с ними из одного котелка, если о письмах, так просил, которые можно прочитать вслух. Тут же порой решали, как и чем какой семье фронтовика можно помочь, кому написать.
Многому мы учились у Котикова — такту, сердечности, самостоятельности.
— Вы не ждите от меня специальных указаний по каждому поводу, сами думайте, — любил говаривать он. — Мысль, она и делает человека человеком.
Не удивительно, что после победы Котиков стал советским комендантом Берлина. Это была должность, требовавшая особого ума и такта.
В начале ноября наша дивизия натолкнулась на хорошо укрепленный оборонительный рубеж врага. Он прикрывал крупные населенные пункты Мозырь и Ка-линковичи. Начался краткий период «позиционной войны». Огромную, еще по-настоящему не оцененную роль сыграло в ней все разрастающееся снайперское движение.
138
О снайперах обычно вспоминают походя. Действительно, на первый взгляд кажется странным в эпоху могучей артиллерии, грозной бомбардировочной авиации, сокрушительных танковых армад, скорострельного автоматического оружия говорить всерьез о скромной винтовке с оптическим прицелом. Однако в периоды затишья, когда противник был надежно укрыт в многочисленных блиндажах с непробиваемыми перекрытиями, в глубоких, хорошо оборудованных окопах и траншеях, снайперы наносили ему больше урона, чем кто бы то ни было другой.
Мастера сверхметкого огня, люди особой зоркости, выдержки, хладнокровия, они вели счета мести, достигавшие внушительных цифр, держали врага в непрерывном нервном напряжении.
У нас в дивизии Кирилл Швыдченко (я уже упоминал о нем ранее), Ранчугов, Сабитов, Тимбербулатов возглавили целую школу стрелков — охотников за фашистами.
Снайперское движение имело не только военное, но и политическое значение. Оно служило воспитанию личной ответственности бойцов за судьбу войны. И если война — это работа, снайперский труд был трудом, конкретные результаты которого наглядны.
В массовом сражении роль того или иного бойца заметна только в исключительных случаях. Порой он даже не знает, достиг ли хоть один из его выстрелов цели. Снайперский счет был трудовым (боевым!) паспортом бойца, которым можно было гордиться.
Дивизионная «школа» снайперов была поставлена серьезно, теория и практика здесь находились в полном единстве. У меня сохранилась подробная запись одного из выступлений знатного снайпера Анатолия Ранчугова перед своими молодыми воспитанниками. И мне хотелось бы это выступление здесь привести:
«В последнее время немцы с 10 до 12 часов почти не появляются. Очевидно, они в это время отдыхают. После обеда, ночью и утром ведут наблюдение, ходят по обороне. В это время надо их выслеживать и стрелять. А до обеда посвящать время совершенствованию огневой позиции.
Добрая половина ваших неудач объясняется тем, что вы плохо знаете повадки врага, не проявляете достаточ-
139
но терпения и осторожности. Вот есть среди вас такие, что бьют на эффект, злоупотребляют трассирующими пулями. А трассирующая пуля выдает снайпера. Трассирующей пулей надо стрелять в исключительных случаях, по ориентирам, когда определяешь расстояние. И вот еще: при выборе огневой позиции надо знать, не велся ли огонь раньше с этого места.
Расскажу про один случай, который произошел у нас с Кириллом Швыдченко. Вышли мы на охоту, выбрали огневую позицию и замаскировались, ждем. Пролежали больше часа. Появился один гитлеровец с газетой в руках. Я выстрелил и убил его. Через некоторое время вышел другой — бьет Кирилл, убивает. Тут же немцы открывают по нас пулеметный и минометный огонь. Бьют они очень точно. Спасаемся мы, честно сказать, случайно. В чем же дело? Оказывается, наши бойцы всего два дня назад вели отсюда огонь и фашисты пристреляли это место. Как видите, в этом случае даже мы, опытные снайперы, допустили ошибку...»
За короткий срок опытные и молодые снайперы нашей дивизии (если сложить их счета) вывели из строя или уничтожили добрый батальон противника. Не говорю уже о моральном уроне, который он понес, находясь в постоянном страхе, каждую минуту чувствуя себя «на мушке».
Заканчивался 1943 год, принесший великий перелом в ходе второй мировой войны.
Внесла свой вклад в общее дело освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и наша дивизия. В этом году она прошла с боями от Понырей до подступов к Мозырю.
Нас радовали успехи советского тыла. Осуществленная партией перестройка народного хозяйства на военный лад принесла свои плоды. Дивизия, как и вся Советская Армия, бесперебойно снабжалась боевой техникой, боеприпасами, обмундированием, продовольствием — всем необходимым. Превосходство врага в танках и самолетах давно уже было ликвидировано.
Накануне Нового года к нам приехали гости — представители трудящихся Удмуртской ДССР. Это был 140
настоящий праздник братства фронта и тыла. Гости жили в наших блиндажах и землянках, проводили долгие часы на передовой, беседуя с бойцами. В те дни было относительно тихо: только время от времени артиллерия противника била по площадям да для острастки давали одну-другую очередь пулеметы. Но то, что у нас считалось затишьем, для гостей выглядело крещением огнем. С другой стороны, простая фронтовая пища казалась богатой и обильной тыловикам, жившим по строгим карточным нормам.
Гости восторгались героизмом бойцов; бойцы переполнялись нежностью к тонким, в ссадинах и мозолях, рукам женщин, заменивших своих мужей у станков. Гордость за своих матерей, сестер, невест, сутками не выходивших из цехов, умевших безропотно переносить и холод и голод, переполняла сердца.
Они там, в Удмуртии, жили одной мыслью: «Все для фронта!» Фронт сражался за них.
Инструктор обкома партии Дьякова, колхозные бригадиры Стародубова и. Зубарева и наши снайперы Швыдченко, Ранчугов, Сабитов сфотографировались вместе как люди одного дела, одной судьбы.
Рассказы гостей из тыла дополнялись письмами. Их было особенно много в предновогодние дни.
«Здравствуйте, бойцы и командиры!
С Новогодним приветом к вам мать Швыдченко Кирилла — Зинаида Емельяновна.
Сыны мои, нет слов, какая радость наполняет душу, когда мой сын смело дерется за нашу землю. Дорогой сынок! Большое тебе материнское благословение за то, что не осрамил моей седины, и вам всем, кто помог сыну выйти в люди. Бейте проклятых фрицев и с победой возвращайтесь по домам. Мы всеми силами будем помогать вам. Всё, милые. Будьте смелые и здоровые.
Зинаида Швыдченко».
Таких писем не сосчитать.
Большая дружба связывала наших воинов с трудящимися Куйбышевской области. Дивизия имела Красное знамя Куйбышевского обкома партии и облисполкома. Красные знамена от районов области были вручены и частям. 107-му полку — от Базарно-Сызганского райкома партии и исполкома райсовета, 111-му полку — от Кузоватовского райкома партии и исполкома рай-
141
совета, 228-му полку — от Барышского райкома партии и исполкома райсовета, 84-му артполку — от коллектива Гурьевской суконной фабрики имени Гладышева.
За несколько дней до Нового года дивизия получила целый вагон подарков от трудящихся Куйбышевской области. Подарки, среди которых были кисеты, носки, перчатки, вышитые платочки, вручались прямо на передовой. К каждому подарку было приложено письмо. Сколько радости они приносили фронтовикам!
С особым волнением читались письма детей. Вот одно из них: «Здравствуйте, наши дорогие защитники! Шлем вам свой горячий привет от учащихся школы № 10 г. Куйбышева. У многих из нас папы и братья на фронте. Они истребляют немцев, которые отняли у нас счастливое детство, сожгли и разрушили много городов и сел, убили и замучили много стариков, женщин и детей.
Мы просим вас: уничтожайте врагов.
Мы будем учиться только на «отлично» и ждать вас со скорой победой. По поручению учащихся школы: Таня Сергеева, Нина Маслова, Тамара Мясникова».
Где вы теперь, славные патриотки нашей Родины? Примите еще раз благодарность за вашу любовь, которая помогала нам воевать.
Вечером 31 декабря прямо на переднем крае, в окопах и блиндажах, командиры тепло поздравляли солдат с Новым годом. Ветеранам войны вручались новогодние поздравления от командования 61-й армии и нашей дивизии.
Помню, как вместе с командиром 107-го полка майором Смекалиным зашли мы в ту ночь в землянку снайперов. Смекалин зачитал текст новогоднего поздравления:
«Командование и политический отдел горячо поздравляют Вас, мужественного и умелого воина нашего соединения, с наступающим Новым 1944 годом, годом новых славных побед Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками.
В жестоких сражениях с врагом, в победоносных наступательных боях 1943 года Вы, как верный сын Родины, проявили свое высокое боевое мастерство, свою доблесть, отвагу и непреклонную веру в дело нашей 142
победы над немецко-фашистскими извергами. Сердечно приветствуя Вас с боевыми успехами в истекшем году, командование и политический отдел выражают твердую уверенность, что Вы и впредь будете наносить врагу жестокие удары, ознаменуете 1944 год новыми боевыми успехами».
В моих руках — пожелтевший листок «Новогоднего поздравления», отпечатанный в нашей походной типографии на четвертушке газетной бумаги. А ведь принимали его офицеры и солдаты как боевую награду.
— Я горжусь тем, что помогаю истреблять врага, — говорил знатный снайпер полка старшина Ранчугов.— В сорок третьем году из своей снайперской винтовки я убил восемьдесят пять фашистов. Теперь на моем счету сто пятьдесят два. Обещаю и впредь уничтожать их без пощады.
— Получая новогоднее поздравление, я заверяю командование, что в наступающем году буду еще решительнее истреблять немецких захватчиков, и пусть народ Узбекистана знает, что Рызаев Ташпулат не посрамит его имени, — говорил бывалый воин, участвовавший во многих боях.
Может быть, сейчас покажется слишком торжественным язык поздравления и «газетными» слова бойцов. Но каждое время рождает свои языковые формулы. И независимо от того, как воспринимает их теперь вкус эстета, они выражали искренние и глубокие чувства.
1944 год в дивизии начался с подготовки к наступлению.
Велась разведка боем. Лыжный батальон непрерывно тренировался, делая многокилометровые броски. Сформированный из молодежи, он стал вскоре целиком комсомольским.
Саперы начали делать проходы в проволочных заграждениях и минных полях, имитировали сосредоточение крупных сил в полосе дивизии. А в это время другие соединения нашей 61-й армии нанесли внезапный удар по врагу на отдаленном от нас участке. 9 января 2-й гвардейский кавалерийский корпус прорвал оборону противника, вышел в направлении Овруч — Ельск и со-
143
зДйл угрозу окружения мозьфско-калинковичской группировки.
12 января дивизия получила приказ перейти в наступление и овладеть городом Мозырь.
Наступательный порыв был так силен, что в первый же день, прорвав линию обороны, дивизия овладела населенными пунктами Большие Автюки, Прудок, Фо-бияновка, Игнатовка и устремилась дальше вперед.
Особенно успешно действовали учебная команда во главе с майором Долинским и лыжный батальон под командованием майора Иванченко.
Долинский был командиром, как бы рожденным для внезапных, стремительных атак. Он скучал в обороне, жаждал постоянно действий, в которые можно вложить всю душу.. Дожалуй, он не был достаточно осмотрителен, риск жизнью вошел у него в привычку. Он был неоднократно ранен, однажды подорвался на мине и только чудом остался жив. Вся спина у него была в шрамах от осколков. Не все осколки врачам удалось удалить (слишком рискованно было оперировать поблизости отгонной артерии). Долинский этими осколками пренебрегал, шутил: «Больше железа во мне — крепче буду!» Пренебрегал он и вообще опасностью. В бою под Мозырем лихость Долинского пошла на пользу дела. Стремительность здесь была важнее осмотрительности.
Учебная команда и лыжный батальон — люди молодые, крепкие, тренированные, как спортсмены, — с кавалерийской быстротой пересекли по льду реку Припять и ударили с запада противнику во фланг.
Три стрелковых полка, поддержанные дивизионной артиллерией, наступали с северо-востока. Во взаимодействии с 415-й стрелковой дивизией, наступавшей с юга, начали штурм города.
Первым ворвался в Мозырь взвод учебной команды во главе с младшим лейтенантом Федором Федоровичем Бойченко, за ним подразделения 111-го полка.
Штурм был настолько сокрушителен, что фашисты, побросав материальную часть, бежали из города.
В 3 часа утра 14 января Мозырь был освобожден.
Продолжая наступление, дивизия вела бой за деревню Рудня Горбавическая и вышла к станции Клинск, на рубеж реки Ипа.
144
Вечером 14 января у всех радиоприемников сидели бойцы. И вот в 20 часов 45 минут мы услышали знакомый голос Левитана.
Личный состав дивизии получил благодарность. Москва приветствовала нас салютом. А вскоре стало известно, что дивизии присвоено наименование «Мозырская».
Наименование воспринималось каждым бойцом как признание особых заслуг, как утверждение традиций.
Может быть, цифрами и весьма удобно пользоваться в штабах, расставляя соединения на картах, но для солдата цифра — абстракция, пустой звук без души. Редко бойцы называли свою дивизию 55-й, чаще — «непромокаемой», «заиюльевской». Теперь мы стали и «мозырцами» — это было уже официальное имя, звучавшее гордо.
Общая радость была омрачена тем, что Заиюльев покидал нас. Его отзывали в Москву на учебу. Сам он ходил мрачный, словно в воду опущенный. Хотя и понимал, что знаний ему не хватает, но обидно было расставаться с друзьями, казалось нелепым сидеть за партой, когда другие шагают под пулями.
Жаль было расставаться с Заиюльевым и мне. И сильные стороны комдива, и его слабости были давно изучены. Первых было гораздо больше, чем вторых. Бойцы верили Заиюльеву, любили его, он был для них «своим братом», никому не уступавшим в личной храбрости, и командиром, который вел их к победе в самые тяжкие времена.
А я думал о том, каким будет новый комдив, как сложатся отношения с ним.
В начале февраля Заиюльев уехал, а к нам прибыл новый комдив — Герой Советского Союза полковник Корней Михайлович Андрусенко.
Ю Н. Б. Ивушкин
УРОКИ ГЕРОИЗМА
а Мозырем, в районе города Петриков, как и на других участках фронта, немцы в течение длительного времени готовили глубоко эшелонированную оборону. Они хотели во что бы то ни стало остановить наступление Советской Армии и удержаться в Белоруссии.
В книге «История второй мировой вой-
ны» генерал Курт Типпельскирх писал: «За счет значи-
тельного оголения ранее занимаемых позиций, а также
с помощью двух дивизий, снятых командованием группы армий с других участков фронта, 2-я армия постепенно создала оборону на широком фронте от Петрикова до шоссе Брест — Ковель включительно».
Наступающие части не смогли с ходу прорвать эту оборону. Нужна была передышка для пополнения поредевших соединений людьми и вооружением. Поэтому и последовал приказ — занять оборону.
15 февраля мы, полковник Андрусенко и я, поехали во 2-й гвардейский кавалерийский корпус. Нам было приказано принять полосу обороны, занимаемую им в районе Скрыгалово — Убортская Рудня.
Все, кто встречался с кавалеристами, знают их традиционное гостеприимство. Приняли нас по-братски. Не обошлось и без доброй чарки. Потом кавалеристы показали нам оборону, и мы договорились о порядке смены частей.
Мне помогли здесь быстро сориентироваться старые друзья — заместитель командира корпуса полковник Толокольников и начальник политотдела одной из дивизий полковник Алексеевский. В свое время мы вместе работали в Московской области, в политотделах МТС. И вот теперь встретились на фронте.
146
Андрусенко сам в свое время служил в кавалерии и знал не только положительные качества, но и слабости кавалеристов. Мало кто из них способен удержаться от того, чтобы незаметно «приобрести» у пехоты доброго коня. Комдив не постеснялся предупредить всех командиров частей, чтобы хорошенько смотрели за лошадьми. И, как выяснилось потом, сделал это не зря. Кое-кто из лихих конников пытался тайком пополнить свои резервы за счет нашей дивизии.
Серьезных конфликтов, к счастью, не произошло: сумели все дело обернуть в шутку и 21 февраля расстались по-хорошему.
Перед фронтом дивизии оборона противника проходила по северному берегу реки Припять и по западному ее притоку — реке Уборть. На правом берегу Припяти, юго-западнее Конковичей, южнее Новоселок и города Петрикова, гитлеровцы сохранили предмостные укрепления. Часть местности в полосе обороны противника была заболоченной долиной реки Припять, покрытой камышом и кустарником. По берегам фашисты отрыли три линии траншей полного профиля, а на подступах к ним установили проволочные заграждения и минные поля.
С первого же дня наши части взялись за инженерное оборудование позиций и приступили к боевой подготовке. Проводилась она строго по плану, почти как в мирное время. Подразделения, находившиеся в первом эшелоне, занимались через день по четыре часа, а те, кто был во втором эшелоне, — ежедневно по шесть часов. С командованием дивизии и командирами полков занятия проводил командир 89-го стрелкового корпуса, в который тогда входило наше соединение, генерал-майор Александр Яковлевич Яновский, человек высокой культуры. Подробнее я расскажу о нем дальше, а пока лишь отмечу, что лекции Яновского были глубоки по мыслям и филигранно отточены по форме.
С командирами батальонов занимался полковник Андрусенко, с командирами рот — командиры полков.
Но война войной, учеба учебой, а быт бытом. В обороне надо устраиваться с максимальными удобствами. Солдат и так достаточно терпел лишений. Надо было дать ему возможность пожить хоть мало-мальски по-
10*
147
человечески. Тех, кто собственную лень и безрукость оправдывал войной, у нас не терпели.
Трудности в этом проклятом болоте были огромные. Не везде можно было глубоко зарыться в землю. По стенам землянок текли ручейки. Вода выступала из-под бревенчатых настилов, заменявших пол. И все же землянки постепенно благоустраивались: появлялись железные и кирпичные печки, столы и нары. Из снарядных гильз мастерили лампы.
Начальник химической службы дивизии майор За-стенский «изобрел» простейшую конструкцию бани. Из большой железной бочки выбивали дно, проходили по его краям напильником, потом впаивали так, чтобы оно делило бочку надвое. В нижней части — топка, в верхней — вода. Ставили такую бочку-баню в землянку и мылись. Бани появились во всех ротах. В каждом батальоне построили большие землянки-клубы. В них показывали кинокартины, устраивали концерты самодеятельности.
Бойцы говорили: «Жить можно».
Политотдельцы много занимались бытом. Но, конечно, главная задача была в другом. Все-таки крепких опытных парторгов для рот не хватало. Учить молодых парторгов в наступательных боях было некогда. Теперь группа работников политотдела во главе со старшим инструктором по организационно-партийной работе майором Василием Степановичем Бенем вместе с парторгами частей занялись и учебой и подбором людей.
Мы передвигали коммунистов из тыловых подразделений в стрелковые роты, проводили семинары. Учили и командиров рот, особенно молодых, тех, что слишком кичились офицерскими званиями и командирской властью, относиться к парторгам, как к своим непосредственным помощникам, прислушиваться к их советам. Позаботились и о том, чтобы каждый парторг имел одного-двух заместителей.
Решили также создать резерв парторгов рот как при политотделе, так и в полках. Из кого мы его создавали? Прежде всего, из коммунистов — рядовых и сержантов, прибывающих с пополнением, возвращающихся из медсанбатов и госпиталей.
К марту политотдел имел в резерве 16 парторгов. Держали мы их во втором эшелоне. Ежедневно прово-148
дили с ними занятия по военному делу и изучению опыта партийной работы. По заданиям политотдела они бывали в ротах, знакомились с бойцами, проводили беседы.
Одновременно мы решали вопрос о подборе комсоргов рот. Этим занимался мой новый помощник по комсомольской работе Николай Гладких вместе с комсоргами полков.
Перебирая в памяти события и встречи тех дней, я вспомнил об одной беседе с начальником политического управления фронта генералом Галаджевым. Мы с ним оказались тогда единомышленниками в серьезной дискуссии, которая шла в штабах фронта и армии.
В нашей дивизии в конце 1943 года по указанию штаба фронта была проведена реорганизация стрелковых полков. Отброшено было батальонное звено, как «лишняя инстанция». Предполагалось, что штаб полка будет непосредственно управлять ротами и квалифицированнее, и оперативнее. Однако теоретические выкладки, как это часто бывает, оказались односторонними. Гладко получалось только на бумаге. Первые же бои доказали это. Полк — огромная махина. Его штаб не справлялся с организацией взаимодействия многочисленных рот. Командиру полка приходилось слишком рассредоточивать.свое внимание, трудно было определить, где сейчас решающий участок, а где и неудача и успех второстепенны.
Мне было ясно, что надо как можно скорее прекратить опыт и вернуться к прежней проверенной организации. я доложил о точке зрения командования дивизии Котикову. Он направил меня к Галаджеву. Галаджев немедленно позвонил члену Военного совета фронта генерал-лейтенанту К. Ф. Телегину и спросил, не желает ли он поговорить с начальником политотдела дивизии, в которой проводится опыт новой организации стрелковых полков.
Разговор с Телегиным получился не из приятных. Он был одним из инициаторов опыта и, естественно, считал, что плоха не новая организация, а те, кто не сумели провести ее в жизнь. Убедить его я не смог, да он и, не расположен был слушать доводы, не устраивавшие его.
} — Ну что, я подвел вас под шишки? — спросил, улыбаясь, Галаджев, когда я возвратился к нему. Он
149
задумался немного и добавил: — Ничего, отстаивайте свое мнение, если убеждены. С субординацией в таком деле считаться не приходится.
Усадив меня за стол, Галаджев стал расспрашивать обо всех подробностях последних боев, о том, где находился я сам и где мои работники, что говорили командиры полков и командиры рот. Он был придирчив и дотошен. Казалось мне, порой он сам становился на точку зрения Телегина. И только в конце длинного разговора сказал твердо:
— Я целиком на вашей стороне. И не отступлюсь!
Я уже раньше знал Галаджева как человека умного и обаятельного. Теперь убедился в его глубокой принципиальности.
Вскоре для всех стало ясно: новая организация стрелковых полков себя не оправдала, перешли на старое штатное расписание. Все стало на свои места. Мы снова создали первичные партийные организации в батальонах. Назначили командиров и политработников.
Эта организационная перестройка совпала с изменением в составе командования двух стрелковых полков. На место отозванного в распоряжение штаба армии командира 111-го полка майора Челидзе был назначен начальник оперативного отделения штаба дивизии подполковник Черноусенко, а на место заместителя командира полка по политической части подполковника Прохорова, уехавшего на курсы переподготовки, прибыл майор Дивинский. Обновилось командование и в 228-м полку.
...На одном из совещаний член Военного совета армии генерал-майор Дубровский подверг резкой критике командира дивизии за плохую организацию разведки. Надо было исправлять положение. Эта задача легла на плечи начальника штаба полковника Шмыглева и мои.
С новым командиром дивизии нам не повезло. Вскоре полковник Андрусенко заболел. Шмыглев долгое время был центральной фигурой в нашей дивизии. Шмыглев — человечище, косая сажень в плечах — покорял людей обаянием силы, уверенности, искренности. Он умел весело подшучивать и над другими, и над самим собой. Рассказывал, например, такую историю. 150
Работал он в давние Довоенные годы в одном йз ростовских военкоматов. Носил еще звание старшины. И вот однажды довелось ему определять ВУС (военноучетную специальность) для Михаила Шолохова. «Кто такой?» — «Писатель». — «Ну, значит, в писаря...»
— Спасибо, всыпали мне, поправили, заставили прочесть «Тихий Дон». — И тут Шмыглев заразительно смеялся.
Шмыглев был смел без малейшей рисовки, говорил умно, без щегольства фразой, для солдат был «своим», хотя поблажек не давал никому.
Пошли мы со Шмыглевым в разведроту дивизии. Поговорили с коммунистами, комсомольцами. Народ в роте был великолепный. Неудачи с «языками» объяснялись плохой подготовкой к поиску.
На сей раз Шмыглев готовил поиск сам. Группу возглавил командир роты капитан Петр Никифорович Зимин. В нее вошли лучшие разведчики — старшие сержанты Патрикеев и Перетягин, сержант Скуратов и другие. Результат не замедлил сказаться. 21 мая был захвачен и доставлен в штаб дивизии унтер-офицер казначей одного из батальонов 102-й немецкой пехотной дивизии. Пленный дал весьма ценные показания.
Долго преследовали неудачи разведвзвод 111-го полка. А между тем разведчики здесь были самые боевые и инициативные. В большинстве своем комсомольцы. Перед поиском комсорг полка Николай Бобровский решил провести комсомольское собрание. Пришел на это собрание и парторг полка Власов. Доклад каадсорга взвода Берестяного был самым коротким из в§ех мне известных:
— До сих пор мы не взяли ни одного «языка». Завтра «язык» должен быть взят. Все!
Комсомольцы тоже говорили немного. Четверо написали заявления с просьбой принять их в партию. Просили рассмотреть их вопрос после возвращения из разведки:
— Хотим в бою завоевать право быть коммунистами.
На другой день взвод ушел в тыл врага. О том, как они там действовали, рассказал после возвращения командир взвода младший лейтенант Николай Король.
151
«Своих разведчиков я заранее разделил на группы обеспечения и захвата. Первую группу возглавил сам, вторую — коммунист сержант Юрий Подковкин.
Проползли через болото, проникли в тыл врага. Уточнив по карте обстановку, устраиваем засаду на дороге. По одну сторону дороги расположилась моя группа, по другую — группа захвата Подковкина. Сам он. с бойцом Фадеевым устроился неподалеку в пустом немецком блиндаже.
Мокрые, грязные, как черти, пролежали бессонно всю ночь. Никого! Наконец утром на дороге показалась группа немцев человек двенадцать — пятнадцать. А надо сказать, что еще раньше мы условились: если немцев будет больше десяти — в бой не вступать, но тут произошло то, чего мы совсем не ожидали.
Немцы приближались. Впереди шли четыре офицера, один из них вдруг свернул с дороги (за «нуждой», что. ли) и заглянул в блиндаж, где сидели Подковкин и Фадеев. Немец и ахнуть не успел, Подковкин уложил его выстрелом из нагана. Выстрел сержанта был сигналом для всех нас — разведчики открыли огонь по врагу.
Что тут поднялось! Гитлеровцы заметались, бросились врассыпную, их скашивали автоматными очередями, били гранатами. Упал один, другой, третий... Одного обер-лейтенанта подранили легко. Сержанты Лобыня и Гуров подхватили «обера» — «язык» готов. Но в это время на дороге показалась еще одна группа фашистов. Это уже был целый взвод, спешивший на помощь своим. Раздумывать было некогда. Приказал помкомвзводу сержанту Козакову немедленно атаковать врага. Вместе с Кармановым, Даниловым, сержантом Аняновым и тремя-четырьмя другими разведчиками он врывается в гущу фашистов. Фашистов били из автоматов в упор.
Натиск был настолько бурным и стремительным, что ошеломленные гитлеровцы, потеряв буквально в несколько секунд более десятка убитыми и ранеными, разбежались. А мы поспешили скрыться, пока они не пришли в себя.
И вот — родное подразделение. «Язык» — немецкий обер-лейтенант, оказавшийся командиром роты, — доставлен».
152
Комсомольцы-разведчики были приняты в кандидаты партии в тот же день после возвращения из поиска.
В апреле по реке Припять подошли корабли Днепровской флотилии. Им была поставлена задача прикрыть стык нашей дивизии и 119-го укрепленного района, а также содействовать нам при наступлении.
Однажды мне позвонил комдив:
— К нам прибыл гость. Направляется к тебе.
Через несколько минут ко мне в землянку вошел молодой офицер в морской форме, но в сапогах. На поясе висел парабеллум.
— Представитель политотдела Днепровской флотилии.
В дружеской беседе мы быстро пришли к общему мнению: важно поближе познакомить солдат с матросами, наладить и укрепить дружбу между ними. Не имея возможности в условиях боевой обстановки проводить большие собрания, мы договорились о встрече бывалых солдат с матросами на кораблях, а матросов — участников боев на Волге, ранее служивших в Волжской военной флотилии, — с солдатами на переднем крае.
В это время в наших частях проходили слеты бывалых воинов по специальностям, на них мы пригласили матросов.
Дружба наладилась быстро.
Первые совместные боевые действия дивизии с флотилией были проведены в ночь на 23 апреля. С целью разведки обороны противника на северном берегу Припяти в районе деревни Багримовичи на четырех катерах и трех полуглиссерах, которыми командовал капитан 3 ранга Песков, был высажен десант в составе 56 человек. Десант, поддержанный огнем катеров, успешно провел разведку боем. Дружба прошла первое испытание огнем.
Разведка наша теперь отлично справлялась со своими задачами. Нам было известно о перегруппировке частей противника, уточнена схема расположения его огневых средств. Перед фронтом дивизии стояли 102-я пехотная дивизия, 116-я дивизионная группа «Кнот», 114-й саперно-строительный батальон и пять дивизионов артиллерии. Эти соединения и части входили в состав 2-й немецкой армии.
153
Политическая работа в дни относительного затишья всегда приобретала широкий размах. Читались лекции и доклады о важнейших решениях партии и правительства, об успехах Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны и подвигах тружеников тыла, читались также лекции, непосредственно связанные с повышением военного мастерства солдат и офицеров, такие, как «Характеристика обороны противника перед нашей дивизией», «Наступление стрелкового батальона в лесисто-болотистой местности», «Об опыте форсирования водных преград».
В блиндажах и окопах, в боевом охранении и на огневых позициях велись беседы, количество которых никто не учитывал. Как были сформулированы темы бесед, тоже никто не скажет. Но одно ясно, что в них неустанно разъяснялась политика нашей партии, задачи, которые нам надо решать в ближайшее время. Непреклонная вера в победу над врагом была как бы постоянным излучением коммунистов и комсомольцев, находящихся на передовой.
Мы были благодарны писателям за то, что музы не молчали во время войны. В окопах и блиндажах, при свете коптилок читали вслух страстную публицистику и вдохновенную лирику Ильи Эренбурга, Николая Тихонова, Бориса Полевого, Леонида Соболева, Константина Симонова. Особенно большой популярностью пользовалась поэма Александра Твардовского «Василий Теркин». Помню также, какое огромное впечатление произвел на всех рассказ А. Довженко «Отступник». На передовой долго с ненавистью говорили о шкурниках и трусах.
Необычайно велик был спрос на газеты и книги. В нашу дивизию приходило: «Правды» — 200 экземпля-* ров, «Известий» — 65, «Красной звезды» — 150, «Комсомольской правды» — 34, «Красного флота» — 7, фронтовой газеты «Красная Армия» — 500, армейской газеты «Боевой призыв» — 400. И своя дивизионная газета выходила тиражом около тысячи экземпляров.
Фронтовая, армейская и дивизионная газеты доставлялись в день их выхода. Центральные газеты бойцы получали на второй день. Мы ежедневно докладывали в политотдел армии о том, когда газеты доставлены на передний край.
154
! Кроме газет на фронт высылалось большое количество различных журналов и книг. Все это шло бесплатно, нам не приходилось заниматься книготорговлей.
Думаю, что цифры, приведенные выше, говорят сами за себя. Политический и культурный уровень армии был высок, рос день ото дня. В сырых землянках, обстреливаемых врагом траншеях, залитых водой окопах советский человек всегда оставался Человеком, никогда не становился тупым убийцей, ходячей огневой точкой, как это было у фашистов.
...В один из самых тихих дней, рано утром, я зашел в штаб. Оперативный дежурный доложил: «Ночь прошла спокойно». И тут же раздался звонок. Меня разыскивал командир медсанбата.
— К нам привезли Хайрова. Он в тяжелом состоянии и просит вас приехать.
Вот и спокойно!..
Я поехал в медсанбат. Хайров был одним из самых дорогих моему сердцу политработников дивизии.
Хайров подорвался на случайной мине. Он истек кровью, прежде чем его заметили и подобрали проходившие мимо солдаты. Сейчас он лежал в хирургической палатке в тяжелом состоянии.
На мое приветствие Хайров ответил чуть заметной улыбкой и сразу заговорил, медленно, с трудом, белые губы едва шевелились. Но видно, ему важно было что-то высказать.
— Так нелепо все... Столько воевал, и вдруг... А хочется... увидеть победу.
Он замолчал, прикусил губу, словно стремясь собраться с силами. А перед моим внутренним взглядом проходили памятные страницы боевой жизни.
...1942 год. Оборонительные бои на Северо-Западном фронте. Тяжело раненный парторг батальона политрук Хайров не уходил из траншеи, стрелял, пока не потерял сознание. Его вынесли с поля боя и отправили в госпиталь. Вскоре я получил от него письмо:
«Все, на что до сих пор не обращал я внимания, вплоть до мелочей, кажется близким, родным, и еще больше хочется бить, уничтожать паразитов. Да! Хочет-
155
ся жить. Но чтобы жить, нужно истребить до единого эту мерзкую сволочь. Иначе жизнь не имеет цели и смысла...»
В январе 1943 года он вернулся к нам, стал замполитом батальона. В боях под деревней Левошкино повел роту в атаку и снова был ранен.
Во время Курской битвы я видел его при отражении контратаки. Пулеметчики вышли из строя, и Хайров сам лег за станковый пулемет. Вел огонь неумолимо и точно.
А вот, уже на правом берегу Днепра, вместе с пехотой продвигаются вперед и тащат на руках свои пушки артиллеристы — истребители танков, и среди них — замполит дивизиона Хайров.
Когда человек долго воюет, он начинает казаться бессмертным.
Хайров снова заговорил, прервав мои мысли:
— Трудно будет жене одной воспитывать троих детей.
Последние его слова были:
— Я очень люблю своих детей...
Не знаю, о чем еще хотел сказать мне Хайров. Знаю: и жил и умер он как человек большой души.
Пора уже подробнее рассказать и о наших дивизионных журналистах. Я давно был дружен с ними, но особенно сблизился теперь, в обороне, когда свободного времени было больше.
К нам прибыл новый редактор, Григорий Михайлович Скульский — киевлянин, по довоенной профессии литературный критик, впрочем не забывший еще юношеского увлечения стихами. Скульский начал путь армейского журналиста в июльские дни 1941 года, отступал по Украине, воевал на Дону, на Волге, на Днепре... Правда, военным в полном смысле слова он не стал. Что-то неистребимо штатско-интеллигентское было в его фигуре, манере держаться, разговаривать.
В редакции с его приходом утвердился не вполне воинский стиль отношений: вместо приказов часто просьбы и пожелания, вместо субординации — только уважение к знаниям, опыту, мастерству. Редактора не раз упрекали в недостаточной требовательности к под-156
виненным, но, думается теперь, без достаточных оснований. Он и сам был убежден и другим сумел внушить глубокое убеждение, что журналист просто не может не сделать хорошо то, что он обязан сделать.
Была такая песенка фронтовых газетчиков:
Жив ты или помер, j Главное, чтоб в номер
! Матерьял успел ты передать...
Пожалуй, эти строки могли стать девизом работников «Победы».
Заместителем редактора был капитан Крикун — «военная косточка», превосходный организатор и хозяйственник, вояка, владевший в совершенстве всеми видами оружия. На нем держался порядок в типографии. Он первым успевал побывать на самых опасных участках в жарком бою. И хотя особыми литературными способностями не обладал, пером владел хуже, чем винтовкой, зато уж записями о подвигах и боевом опыте его блокнот был начинен до отказа.
Секретарь редакции, пожилой, усатый, как запорожец, капитан Карамышев был фигурой своеобразной. Ворчун, всегда чем-нибудь недовольный, по-крестьянски бережливый и даже скуповатый (ссужая товарищам табачок или сахар, бывало, записывал долги), шутник, любивший ставить людей в неловкое положение, он был нелегок в общежитии. Однако Карамышев умел расхаживать по переднему краю под огнем, постукивая толстой суковатой палкой, умел не спать хоть по трое суток, записывая радиопередачи — сводки Совинформбюро, приказы Главнокомандующего.
Четвертого штатного сотрудника редакции, капитана Васильева, все называли Юрочкой. Был он красив, честолюбив и горяч. Легко обижался, органически не выносил критики в свой адрес. Но зато уж если его хвалили, готов был сделать невозможное. Писал он возвышенным стилем — торжественно и чуточку сентиментально. Однако и торжественность и трогательность очерков Васильева были солдатам по душе. Их ждали бойцы, охотно читали вслух, отправляли вместе с письмами женам.
Работников «Победы» объединяло стремление во что бы то ни стало сделать свою газету самой лучшей, са-
157
мой оперативной и боевой на фронте, самой любимой солдатами, первой попадающей к ним в руки. /
Даже политотдельцы и я сам иногда узнавали дивизионные новости через них. Вот пример. ;
Поздняя ночь. Зуммер телефона. Я беру трубку и слышу взволнованный голос редактора: I
— Вам известно о подвиге комсомольца Дегтярева? — Нет.
— С передовой только что вернулся капитан Карамышев и рассказал нам о нем. Мы готовим статью в завтрашний номер газеты. Хочу предупредить вас, что в связи с этим выход газеты задержится часа на два.
— Хорошо. Я скажу, чтобы письмоносцы не расходились, пока не выйдет газета.
...Было тихо. Александр Васильевич Карамышев ходил по окопам, беседовал с солдатами, готовил материал для газеты. И вдруг немцы обрушили шквал огня, а затем на одном из участков перешли в наступление.
Бой длился несколько часов. Вначале немцам удалось вклиниться в нашу оборону, но вскоре решительной контратакой они были отброшены назад. Потери обеих сторон были тяжелы.
Когда восстановили положение и солдаты подошли к умолкшей 76-миллиметровой пушке, стоявшей на прямой наводке, они увидели смертельно раненного комсомольца Дегтярева. Он один из всего расчета еще дышал, на земле лежал его комсомольский билет, залитый кровью.
Очевидцы восстановили картину боя. Пушка стреляла размеренно, быстро, точно. Но и вражеские снаряды ложились все ближе и ближе к ней. Осколки выводили из строя одного за другим бойцов орудийного расчета. Наконец у пушки остался лишь один заряжающий Иван Дегтярев. Он делал все сам: подносил снаряды, заряжал, наводил и стрелял. Кругом рвались мины, свистели пули, но орудие не умолкало. Подобравшись к огневой позиции, гитлеровцы стали бросать гранаты. Дегтярев схватил карабин, лег за станиной и открыл огонь. Долго не удавалось немцам захватить пушку. Но вот у героя кончились патроны. Осталась одна граната. Он поднялся, чтобы швырнуть ее, и в эту минуту его грудь пробила смертельная пуля.
И теперь, много лет спустя, я не могу без волнения читать сохранившийся у меня пожелтевший лист диви-158
Ьионной газеты, где описаны предсмертные минуты Ивана Дегтярева.
\ «Подайте мне билет, — попросил он подошедших товарищей.
Взяв комсомольский билет в руки, он развернул его и поцеловал. Затем тихо сказал:
— Первый раз я целовал его, когда получал, клялся, что не опозорю комсомола... Второй раз, когда фрицы наседали на пушку, а третий раз — сейчас.
Это были последние слова комсомольца...»
Статья о подвиге комсомольца Ивана Дегтярева читалась и перечитывалась бойцами. А комсомольский билет, выданный 23 июня 1941 года Шадринским райкомом ВЛКСМ Ивану Тихоновичу Дегтяреву, хранился в политотделе дивизии как реликвия боевой славы.
Наступила бурная весна, а мы по-прежнему сидели в обороне. Траншеи переднего края нашей дивизии во многих местах затопило паводком. Ни дорог, ни тропинок. Прыгнешь на зыбкую кочку, а она норовит уйти из-под ног и скрыться под водой.
Однообразные дни обороны стали расхолаживать солдат. Кое-кто начал рассуждать так: раз не наступаем, можно и малость отдохнуть от войны.
Даже снайперское движение кое-где пошло на убыль.
Враг залез в блиндажи, а кругом минные поля и болота. «Попробуй, подберись к нему», — говорили одни и разводили руками. Другие поддакивали: «Напрасные старания. Фриц проученный. Зря башку не высовывает». Поддались этому настроению и комсомольцы — снайперы 111-го полка.
Старший лейтенант Николай Бобровский решил доказать маловерам, что они не правы. Он пошел в одну из рот и остался там на ночь. Захватив с собой снайперскую винтовку, задолго до рассвета вышел на «охоту». Обосновался на удобной позиции и тщательно замаскировался. Однако, пролежав с утра дотемна, так и не убил ни одного фашиста.
Пробираясь по узкому переходу траншеи в землянку, он слышал негромкие смешки и иронические реплики бойцов:
— Комсорг-то, того, обмишурился.
159
Бобровский был упорен. Он остался в роте. Вернулся на снайперскую позицию. /
Шли томительные часы, миновал уже полдень, ког^а первый гитлеровец высунулся из окопа. Николай момен
тально поймал его на мушку. Раздался выстрел, и фа-
шист свалился. Счет открыт! К вечеру Бобровскому
удалось подстрелить еще офицера.
Гитлеровцы, взбешенные потерями, засыпали ве(:ь ротный район обороны минами и долго строчили из
пулеметов... Одйако наши были хорошо укрыты.
Статья о Бобровском в дивизионной газете сделала широко известной эту историю. Маловеры были посрам-
лены.
Вскоре на имя Николая Бобровского пришла телеграмма с благодарностью Верховного Главнокомандующего. Николай у себя в полку выступил инициатором патриотического почина по сбору денег во всенародный фонд обороны. Сам он внес наличными 2500 рублей.
В этот день мне нужно было побывать в полку, и я захватил телеграмму, чтобы передать ее Бобровскому. Мне давно хотелось поговорить с комсоргом в спокойной обстановке, и ночью я направился к нему в землянку.
К Николаю я питал особую симпатию. Бывают люди, которые сразу же подкупают своей глубокой искренностью, душевной чистотой и необычайной скромностью. Бобровский принадлежал к их числу.
Помню, Николай сидел у ящика, на котором чадил фитилек, торчавший из расплющенной латунной гильзы снаряда. Перед комсоргом лежала тетрадь. Он писал и так увлекся работой, что не слышал, как я вошел.
Я окликнул его, Николай вскочил на ноги. Я сел на нары, усадил и его. Кивнув на тетрадь, спросил:
— Что, дневник?
Бобровский немного замялся:
— Как вам сказать? Что-то вроде летописи боевой
славы комсомольцев полка.
— Можно взглянуть?
— У меня от вас нет секретов, товарищ полковник.— И Николай с готовностью протянул мне тетрадь.
Я стал с интересом листать исписанные страницы. А тем временем Бобровский натянул на себя гимнастер-
160
ку, спросил, буду ли я ужинать. Я не отказался. Гремя пустыми котелками, он вышел из землянки.
1 Пока Бобровский ходил за ужином, я углубился в чтение. Судя по датам, Николай эту тетрадь пронес по многим фронтовым дорогам. Первая запись относилась к 11942 году. Чувствовалось, что он писал по горячим следам событий, в перерывах между боями. Были здесь описания подвигов и мысли о войне, о судьбах и характерах людей, встречались выписки из прочитанных книг,
а среди них, конечно, тщательно подчеркнутые слова Николая Островского, слова, на которых было воспитано целое поколение героев: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».
...Мне впервые пришлось тогда читать чужой дневник. И кажется, впервые я подумал о том, как слова
писателя входят в плоть и кровь, становятся своими для
тех, кто читает его книги.
Вернулся в землянку Бобровский, мы нажали на гречневую кашу — «брюнетку», а потом долго пили чай и разговаривали обо всем — о родных, о любви, да и о нашей службе. Когда речь шла о делах, Николай старался казаться более взрослым и серьезным: хмурил брови и поджимал губы. Но стоило ему заговорить о чем-то своем, не официальном, как мгновенно расцветало его лицо и в глазах появлялись веселые искорки... Говорил он страстно, загораясь, волнуясь, радуясь, и все время поправлял рукой волосы, непослушные, часто падавшие на лоб.
— Вам не приходилось бывать в Красноярском крае? — вдруг спросил меня Николай.
— Нет, а что?
— Обязательно побывайте. Вот земля так земля, — он даже вздохнул. — Ширь... Леса... А люди!
Я улыбнулся:
— Люди всюду люди.
— Нет, не скажите. Вот работал я там на паровозе у старого машиниста Михеича. Таких нигде не найдешь. Сила медвежья. Мастер — не уступил бы тем знамени-
11 Н. Б. Ивушкин
161
тым из лесковской «Левши»... Жаль, что мало пришлось
поработать под его началом.
Николай мечтательно уставился в бревенчатый потр-
лок землянки.
...Мы вспоминали товарищей, которые не дошли/ с нами до Белоруссии, погибли под Старой Руссой, на Курской дуге, на Днепре...
— Неужели забудут когда-нибудь о них люди?)'— спросил Николай. — Нет, наверно, после войны в каждой школе будут такие уроки — уроки героизма. И учителя станут рассказывать о них и, может быть, даже о нас с вами. — Он засмеялся. — Насчет себя я, конечно,
перегнул...
Улеглись под утро. Николай Бобровский сразу заснул и во сне улыбался, а я, взбудораженный разговорами и воспоминаниями, не мог сомкнуть глаз. Думал тогда: вот в жизни и мыслях этого юноши, как солнце в капле воды, отражена судьба целого поколения комсомольцев. И конечно же они ничем не уступают нам, комсомольцам тридцатых годов.
Мысль цеплялась за мысль, воспоминания унесли меня в далекие времена. Перед глазами возник образ моего друга Саши Шаширина, в которого стреляли кулаки во время коллективизации на Рязанщине, припомнились боевые вожаки молодежи на электрозаводе — Владимир Тимофеев и Измаил Девишев, бывший секретарь МК комсомола Дмитрий Лукьянов...
В воспоминаниях все они были так же молоды, как спящий рядом Николай.
ЗА СЧАСТЬЕ РОДИМОЙ ЗЕМЛИ
ак дать представление о летнем наступлении дивизии тем, кто не знает Полесья, Мозырских и Пинских болот? Нет, не хочу я соревноваться в описаниях с писателями. Дам слово Якубу Коласу:
«...Поляны сменялись то стройным сосновым бором, то низкорослыми болотными чащами. Высокие тонкие березы, чередуясь
с бурыми стволами сосен, шли бесконечными рядами. Иногда лес расступался, давая место огромным болотам. Они тянулись вдаль и вновь замыкались стеной леса, чернеющего ровной полосой на далеком небосклоне. Море высокой пожелтевшей травы оставалось зимовать здесь потому, что в эти места не могли проникнуть ни скот, ни косари. Низкорослые сосны на бесчисленных кочках, почерневшие, гниющие корчаги давно поваленных и вырубленных деревьев покрывали эти некошеные земли. Кочки были опоясаны сверкающими лентами воды, чистыми и гладкими, как зеркала. С незапамятных времен стояли над ними, словно свечки, высохшие, трухлявые ольхи и грустно глядели в небо. Невыразимой тоской веяло от этих нескончаемых болот, от этого однообразия полесской чащи...»
Сошлюсь и на немецких генералов. Они, конечно, не прочь преувеличить природные трудности, чтобы оправдать свои неудачи. Но доля правды встречается и у них.
Недавно я прочитал книгу А. Филиппи «Припятская проблема». Вот несколько строк из нее: «Леса, растущие нередко на мокром грунте, как правило, превратились в дикие, непросматриваемые заросли... Особенно неприятны для действий войск многочисленные мелкие реки и ручьи, впадающие в Припять. Они являются фронтальным препятствием для всякого противника, который no
li*
163
желал бы прорваться через болота с запада на восток или с востока на запад. Годных для передвижения др-рог совсем мало. Легкие деревянные мосты построены \в давние времена и выдерживают лишь местные телегик
Что ж, наступать было и нам трудно. Но ни природр, ни яростное сопротивление врага не могли остановить л/е-том 1944 года продвижения войск 1-го Белорусского фронта, в составе которых по Мозырским и Пинским болотам наступала и наша 55-я Мозырская стрелковая дивизия.
24 июня войска 1-го Белорусского фронта прорвали долговременную оборону противника в районах Орша, Витебск, Могилев, Жлобин и устремились вперед. Стояла задача во взаимодействии с другими фронтами разгромить группу немецко-фашистских армий «Центр», освободить Белоруссию и Литву.
На другой день, 25 июня, наша дивизия получила боевой приказ: во взаимодействии со 2-й бригадой речных кораблей Днепровской флотилии прорвать оборону на левом берегу реки Припять, овладеть населенными пунктами Конковичи, Оцырки, Новоселки и городом Петриков. На подготовку к наступлению отводилось всего три дня.
В это время полковник Андрусенко из-за болезни все еше отсутствовал и обязанности комдива исполнял начальник штаба Вениамин Петрович Шмыглев. Вскоре он доказал, что обязанности командира дивизии ему вполне по плечу.
Первым форсировать реку Припять предстояло 107-му полку. Командир полка подполковник Смекалин решил главный удар наносить силами 1-го и 2-го батальонов. Энергичный и инициативный командир 1-го батальона старший лейтенант Василий Иванович Турчанинов начал деятельно готовиться к наступлению. Вот как были описаны действия турчаниновского батальона в одной из газетных статей тех времен:
«Жаркое солнце и тишина на фронте. Спокойно текут небыстрые воды Припяти. Южный берег наш, северный в руках немцев. Невооруженным глазом можно увидеть пустынные улицы селения на занятом врагом берегу. Снайперы слышат, как плещется рыба в реке.
Пять-шесть мин. Две-три очереди пулемета за день да заунывный гул всем надоевшей «рамы» — вот и все, что напоминает о войне.
164
I Есть время у солдат, чтобы написать письмо, прочесть газету и даже посмотреть кинофильм в старом сарае в полукилометре от немецкой позиции.
И все-таки всем надоела тишина. Всем хочется скорее в бой, в наступление, ибо знают все, что там, за рекой, фашисты творят неслыханные преступления, там, за рекой, ежедневно гибнут советские люди.
...Первыми ласточками предстоящего наступления были офицеры в необычной здесь морской форме. Они подолгу сидели на наблюдательных пунктах, часами совещались с комбатами и командирами полков.
Предметом обсуждения была немецкая оборона, сильная, долговременная, насыщенная огневыми средствами. 180 метров водного пространства, которые предстояло преодолеть, могли превратиться в сплошную зону смерти. Высадившийся десант мог оказаться перед непреодолимой стеной огня и стали.
В одну из ночей на небольшой лодке отчалили разведчики младшего лейтенанта Саблина, а с ними и четверо саперов капитана Лучкова. Они вернулись под утро, сплошь покрытые болотной грязью и тиной, мокрые, но веселые. Разведчики рассказывали о позициях немецких батарей, о дзотах и траншеях и, главное, о том (это последнее казалось невероятным), что им удалось пробраться через непроходимое и поэтому неохраняемое болото на правом фланге немцев.
— Вы уверены, что через болото можно пройти? — спрашивал капитан Турчанинов.
— Уверены. Мы же прошли, — твердо отвечал Саблин.
Следующей ночью к нашему берегу подошли четыре бронекатера. На первый из них взошли разведчики Саблина и стрелки младшего лейтенанта Коробицына. Солдаты знакомились с матросами, обменивались приветствиями. Возникали тихие беседы. Непривычно, неловко чувствовали себя солдаты на маленькой шаткой палубе катера. Но дружеское слово, совет, шутка, сказанные вполголоса, успокаивали, рассеивали тяжелое напряжение.
Первый катер отдал швартовы. Он не мог пристать вплотную к противоположному берегу. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы его заметили немцы. Как же быть?
165
Припять глубока в этих местах. Но катерники знал^ отмель, по которой можно было дойти вброд до берега; она начиналась почти с середины реки. К отмели подо^ шел катер. Высоко держа автоматы, винтовки, ручньй пулеметы над головой, по пояс, по грудь в воде шли в глубокую ночь солдаты.
Двадцать человек всего высадилось с младшим лейтенантом Саблиным. Но от умелых действий этой небольшой группы зависел успех боя. Они должны были зайти через болото в тыл противнику и ударить внезапно, посеять панику. Полчаса паники в лагере врага облегчили бы во много раз высадку батальона, сберегли бы десятки жизней.
Младший лейтенант Саблин повел людей к болоту. К счастью, их никто не заметил. А в болоте, он был уверен, фашистов нет. Сначала идти было просто трудно, ноги увязали в тягучей жиже. Потом шли, погружаясь по пояс в воду, помогали друг другу. Самые высокие и сильные несли ручные пулеметы. Низкорослый разведчик Матвеев внезапно попал в яму, и грязная вода покрыла его с головой. Курдюков вытащил товарища за волосы.
...Мучительно долог был этот путь, и подвиг тех, кто в кромешной тьме пробирался непроходимым болотом, не страшась, не ропща, равен был любому подвигу, совершенному в бою.
Но вот наконец болото кончилось. Бойцы залегли в кустарнике. Слышны были голоса немцев. В двадцати метрах виднелся вражеский дзот.
И вдруг тишина раскололась. Над немцами, над лесом, над Припятью зажглись десятки ракет. Заголосила вся немецкая артиллерия. Ей начала отвечать наша. Страшный грохот артиллерийского боя заполнил все пространство. Саблин достаточно ясно представил себе все, что произошло, и приказал приготовиться к атаке.
Между тем события на реке разворачивались так: два катера с погрузившимся на них десантом были замечены немцами посреди реки. На них обрушился шквал огня. В ответ оба катера ударили из своих пушек. Открыли огонь с нашего берега орудия и минометы. Два других еще свободных катера бросились на выручку к своим. Они подошли почти вплотную к немецкому берегу и стали бить прямой наводкой. Под прикрытием их 166
огня часть десанта все-таки успела высадиться, но за* /крепиться было почти невозможно. Грозили страшные потери.
И вот в эти самые тяжелые и напряженные минуты в тылу у немцев началась пальба.
Саблин с десятком бойцов атаковал немецкий дзот. Немного правее ворвался в траншеи с остальными бойцами Коробицын.
Курдюков бросил в дверь дзота одну за другой две гранаты. Уцелевшие от взрыва немцы были уничтожены очередями из автоматов. В две-три минуты бойцы Ко-робицына очистили от врагов значительную часть траншеи. Однако дело удалось только наполовину. Немцы быстро пришли в себя. Кучку наших бойцов атаковали с разных сторон до полусотни фрицев. Наши дрались самоотверженно, дрались как герои. И все-таки слишком неравным был бой. Казалось, ничто уже не спасет горсть храбрецов, казалось, нет выхода.
— За Родину!
Сначала даже не поняли, откуда раздались эти голоса. В бескозырках, сдвинутых набекрень, в полосатых тельняшках, прямо на головы гитлеровцам прыгали матросы.
С новой силой ударили бойцы Саблина и Коробицы-на. Теперь уже фашисты растерялись окончательно и побежали, бросая оружие, оглашая ночь дикими возгласами.
Паника прокатилась по всей вражеской обороне. Ослабел огонь немецких орудий. С берега донеслось русское «ура».
Вскоре первая траншея немецкой обороны была в наших руках.
Первыми, кого искал капитан Турчанинов, чтоб поблагодарить за успех боя, были младшие лейтенанты Саблин и Коробицын. А они указали капитану на своих спасителей — моряков, которых было всего пятнадцать, но таких пятнадцать, что стоят в бою хорошей роты».
...Враг отброшен на полтора километра. Плацдарм на левом берегу создан!
Вскоре весь батальон переправился на катерах и устремился вперед.
Продвигаясь с боями по труднопроходимой болотистой местности, батальон овладел важным опорным
167
пунктом противника деревней Конковичи. Остальными силами 107-й полк ликвидировал предмостный плацдарм врага севернее населенных пунктов Шестовичи и Ве-лавск.
Успешно действовал и 2-й батальон под командованием старшего лейтенанта Сергея Евсеевича Низовца. Он форсировал реку в районе деревни Новоселки и также захватил плацдарм. Сюда немедленно перебросили на катерах артиллерию дивизии. Тут же саперный батальон начал наводить переправу через Припять. 111-й и 228-й полки тем временем вели бои за уничтожение предмостного укрепления противника на правом берегу реки, южнее и юго-восточнее города Петриков.
Я находился в 228-м полку, когда меня вызвали на КП дивизии прибывшие к нам заместитель начальника политотдела армии полковник Горчаков и начальник политотдела корпуса полковник Даровский.
— Военный совет армии поручил нам расследовать причину отказа личного состава двести двадцать восьмого полка пойти в атаку, — сурово сказал мне Горчаков.
— Что такое?.. — от неожиданности я буквально ошалел. Ничего похожего, дававшего хоть какие-нибудь, пусть самые малые, основания говорить так, в полкуне произошло. Пораженный до глубины души, я смотрел на начальство и молчал.
Молчание было истолковано ложно. Горчаков с досадой произнес:
— Кто там командир полка и заместитель по политчасти? Как они могли это допустить?!
— Откуда у вас такие сведения? — наконец спросил я.
— Военному совету доложил об этом генерал Яновский,— ответил Горчаков. •
Командира корпуса Яновского до этого я глубоко уважал. Несколько часов назад виделся с ним в полку. Моему изумлению и возмущению не было предела.
— Это неправда!
— Яновский в блиндаже комдива, пойдемте к нему, — предложил Горчаков.
Разъяренный, я влетел в блиндаж, как бомба, и, забыв о всякой субординации, закричал:
— На каком основании вы доложили Военному совету о том, что полк отказался подняться в атаку?!
168
Генерал медленно поднялся. Взглянул на меня удивленно и скомандовал: — Стать смирно! Ну-ка приведите себя в порядок. — И, не выдержав, добавил: — Какого черта разорались?
Потом Яновский пояснил:
— Ни о чем подобном я Военному, совету не докладывал. Все где-то перепутали! Речь шла о том, что полк медленно продвигается вперед, а на поле боя не слышно голосов командиров...
Недоразумение разъяснилось. Кто виноват, меня это уже не интересовало. Я попросил разрешения уйти. Вскоре ко мне в блиндаж зашли Горчаков и Даровский. На том и закончилось расследование. Но наше столкновение с Яновским еще имело неожиданное продолжение. О нем я расскажу несколько позже.
Бой продолжался. Продолжалась и летопись подвигов.
...Раннее утро. Необычная, настороженная тишина. Приглушенные команды. И вот взвод младшего лейтенанта Бектыбаева сосредоточивается на исходной позиции. Ползком пробираясь по открытому месту, по зыбким кочкам болота, бойцы приближались к высоте. Немцы заметили их и открыли огонь. Воздух наполнился воем мин, свистом снарядов, треском пулеметов.
Впереди наступающих тащили свой тяжелый пулемет смуглый худой азербайджанец Азиз Алиев и его товарищи. Беспрерывно меняя позиции, они прикрывали взвод огнем. Кругом рвались вражеские мины и снаряды, взлетали комья грязи. Но бойцы упорно продвигались вперед. Однако, когда до высоты оставалось не более 400 метров, плотная завеса вражеского огня остановила наступающих, прижала к земле. Казалось, атака захлебнулась.
В этот критический момент сержант Алиев принял необычное и смелое решение. Он приказал рядовым Ма-хамбетову и Глушенко разобрать пулемет, распределил части пулемета между бойцами и приказал ползти в сторону, по фронту.
Путь отважным преградило болото. Сержант Алиев первым шагнул в трясину, за ним последовали его товарищи. По грудь и по горло в гнилой воде, держа над головами части пулемета и коробки с лентами, бойцы форсировали болото. Им удалось незаметно проникнуть через открытый фланг противника.
169
Выбрали позицию, тщательно замаскировали ее, и, быстро собрав пулемет, открыли огонь по врагу. Гитлеровцы от неожиданности растерялись. Бросая оружие, они побежали. Однако пулеметный огонь настигал их всюду.
Укрепленная высота была взята нами.
...Артиллеристы 4-й батареи, форсировав Припять, установили орудия у берега. Теперь необходимо было срочно наладить связь со стрелковым подразделением. Но по берегу реки — всюду вражеские мины. Ждать саперов некогда. Оставался единственный выход — тянуть связь по заросшей густой травой тропинке, через болото. Она не заминирована. Но зато за ней наблюдают немецкие снайперы, и каждого, кто покажется, ждет меткая пуля.
Как быть? За дело взялся солдат Клесунов. Катушку с проводом Клесунов установил на камнях так, чтобы она могла свободно вращаться. Затем он разулся, привязал к ноге конец провода и, плотно прижимаясь к земле, пополз. Теперь все зависело от его сноровки. Клесунов полз, как ящерица, даже трава колебалась не более, чем под ветром. Связь со стрелковым подразделением была установлена.
На второй день наступления командный пункт дивизии переместился на левый берег Припяти.
Полковник Шмыглев решил перебросить 111-й полк при помощи бригады речных катеров на плацдарм, захваченный 107-м полком под Новоселками, и развивать обозначившийся там успех. А в 228-й полк послал своего заместителя по строевой части полковника Николая Дмитриевича Поляткова. Ему была поставлена задача помочь на месте командованию полка изыскать возможности для преодоления болота и продвижения к Петрикову.
Поздно вечером мы сидели в палатке с Михаилом Васильевичем Поляковым. Он рассказывал о встречах и беседах с людьми переднего края. У него всегда было много свежих впечатлений. Наш секретарь парткомис-сии как-то ухитрялся почти не заниматься бумажными делами. Даже появлялся в политотделе редко. С полевой сумкой через плечо, вместе со своим неизменным спутником фотографом Валерием Сенцовым он шагал из одной части в другую. Проводил заседания в передовых
170
траншеях. Частенько откладывал дела и брался за автомат, чтобы вместе с солдатами отбить внезапную контратаку врага.
— Ну что, перерыв закончился, давайте продолжать заседание, — говаривал он после короткого успешного боя.
Мы с Поляковым дружили. Любили поговорить, когда выдавались свободные минуты, не спеша, с толком, немножко философствуя, о природе героизма, настоящей и показной смелости. В тот раз Поляков, кажется, развивал мысль о том, как у человека с собственным достоинством (пусть в душе далеко не храбреца) показная смелость постепенно превращается в органическую.
Из-за плохого освещения я не сразу разглядел вошедшего в палатку человека. К моему удивлению, это оказался генерал Яновский. Я вскочил, стал оправлять гимнастерку.
Было мне немного неловко. Ведь на днях я накричал на него, заслуженного генерала, участника трех войн, командовавшего еще в 1924 году 1-й Кавказской Краснознаменной дивизией, преподавателя академии, наконец, моего начальника.
— Я должен извиниться перед вами, полковник,— вдруг сказал Яновский. — Не сдержался, нагрубил, даже пустил по вашему адресу «черта». Уж простите, нервы...
Я был ошеломлен и, краснея, пробормотал:
— Но это я...
— Ну, вы были возмущены несправедливостью, — Яновский улыбнулся и вышел.
Этот урок истинной вежливости и выдержки запомнился мне на всю жизнь. Как часто наши и большие и маленькие начальники, сгоряча и обижали несправедливо и ругали куда похлеще «черта» своих подчиненных. А ведь не всем из них приходило в голову потом хоть признать открыто свою неправоту!
Стояла глубокая ночь. Бой нарастал. Он шел на подступах к Петрикову. Расположенный на высоком северном берегу реки, город был выгодным опорным пунктом для врага.
171
От русла реки Припять к его окраине тянулось двухкилометровое болото, простреливаемое противником.
Наступать было нечеловечески трудно.
Уже знакомый нам артиллерийский разведчик Кле-сунов, неся за плечами рацию, почти вплотную пробрался к вражеской траншее и из-за пригорка наблюдал за ней. Метким выстрелом он уничтожил высунувшегося фашиста. После этого ему пришла в голову дерзкая мысль. Он высмотрел участок, где не было огневых точек, пополз вперед. И вот прыжок, и Клесунов в ходе сообщения. Осмотрелся. Близко никого. Лишь издали доносятся голоса немцев. Клесунов установил рацию и стал корректировать огонь своей артиллерии прямо из вражеской траншеи.
Два брата — Михаил и Сергей Помазы шли рядом в атаку. В числе первых они форсировали Припять. Вместе ворвались во вражескую траншею. В жестокой схватке был убит Сергей. Упорный траншейный бой продолжался. Михаил дрался все яростнее. Ненависть и горе словно удесятерили его силы. Он настиг группу фашистов, открыл огонь из автомата. Восемь гитлеровцев ответили жизнями за смерть Сергея.
Решительные действия 107-го полка, захватившего на левом берегу реки плацдарм, позволили другим частям дивизии развить общий успех. 111-й полк под командованием подполковника Черноусенко обошел город Петриков с севера, перерезал шоссейную дорогу Трости-нец — Петриков, а также дорогу Рабочий поселок — Копцевичи — Петриков и, создавая угрозу окружения гарнизона противника, отвлек на себя его главные силы. И тут 228-й полк под командованием подполковника Ко-ломацкого, преодолев болото с юго-восточной стороны, ворвался в город.
30 июня, в 23 часа 30 минут, части нашей дивизии освободили город Петриков от немецко-фашистских захватчиков.
Я уже писал о том, какую помощь оказали дивизии моряки Днепровской флотилии. Действия бронекатеров и десантных групп были безупречны. Мы с полковником Шмыглевым сочли своим долгом выразить благодар-172
ность морякам. В письме, направленном нами командиру 2-й бригады речных кораблей капитану 2 ранга Митину и начальнику политотдела Мациевскому, говорилось: «Командование и политотдел 55-й стрелковой Мозырской дивизии выносит благодарность лично Вам, краснофлотскому и офицерскому составу 2-й бригады речных кораблей Днепровской речной флотилии за успешные совместные наступательные действия в районе Скрыгалово — Петриков и желает вам дальнейших успехов в вашей боевой работе по разгрому немецко-фашистских захватчиков».
Мне раньше не приходилось бывать в Петрикове, поэтому я не мог представить себе, каким он был до войны. Сейчас он лежал перед нами разрушенный и безлюдный. Лишь кое-где на дорогах встречались жители, возвращающиеся из лесов. Они останавливали наших бойцов, обнимали, целовали...
Сколько бы ни насмотрелся человек на фашистские зверства, он не мог сказать: «Я знаю все». Каждый раз в списке злодеяний появлялось что-нибудь новое.
В Петрикове и близлежащих деревнях устраивались облавы на детей в возрасте от шести до четырнадцати лет. Гитлеровцы оцепляли городской квартал или населенный пункт, врывались в дома или хаты и забирали ребятишек. Слезы и мольбы матерей не помогали. Детей бросали в крытые машины и увозили в лагеря, где собирались воспитать поколение рабов. Сопротивляющихся жестоко избивали. Четырнадцатилетнему Феде Филепцу сломали ногу, вывернули руки и швырнули его в грузовик. Екатерину Ивановну Кочура, прижавшую к груди одиннадцатилетнюю дочку Верочку, оглушили ударом приклада.
В одну из ночей фашисты увезли только из города почти восемьсот детей.
Мы были потрясены рассказом тринадцатилетнего мальчика Володи Колонина, бежавшего из фашистского лагеря:
— Двадцатого мая меня вдруг разбудили, за шиворот, как вора, вытащили из дому и бросили в крытую машину. Нас собрали сорок мальчиков и под охраной пятнадцати солдат повезли не знамо куда. Дорогой не давали есть. Через три дня прибыли мы в какую-то деревню. Там нас заперли в сараях. Ежедневно в четыре
173
утра всех выводили на работу, заставляли выравнивать дороги, выкорчевывать пни, а девочек — копать грядки. Шапки носить не разрешали, солнце сильно пекло, и из носа у меня шла кровь. Кормили так: два раза в день постный щавельный суп и пятьдесят грамм хлеба. Многие громко плакали. За слезы сажали в холодный погреб... Одиннадцатого июля я, Коля и Ваня Попович сделали в сарае подкоп и бежали. Шли мы ночью, а днем прятались в деревнях у добрых людей.
Некоторым детям удавалось послать через местных жителей письма. Нам показали письмо двенадцатилетней девочки Ларисы Чечет: «Дорогие родители, — писала она, — нас завезли в Капоткевичи и посадили за проволоку. Там таких же детей очень много. Говорят, нас повезут в Брест. Очень трудно подумать, что я вас больше не увижу. Не знаю, я, видно, не выдержу, погибну. Целуйте за меня девочек и всех. До свиданья».
Страшных дел гитлеровцев на белорусской земле не перечесть.
В октябре 1942 года в селе Березняки, Петриковско-го района, немец — начальник биржи, перепившись вдрызг, застрелился. В его смерти, ничтоже сумняшеся, обвинили жителей села. Палачи из отряда СС, прибывшие на место происшествия, согнали всю деревню на площадь и тут же расстреляли из пулемета. Трупы погибших бросали в колодцы. Случайно уцелевших заперли в сарай и сожгли. Из всего села удалось спастись лишь восьми человекам...
У въезда в Петриков агитатор политотдела капитан Марченко выставил большой плакат:
«Воин Красной Армии!
Посмотри на эти развалины. Здесь был цветущий город Петриков. Во время оккупации гитлеровцы сожгли более трехсот жилых домов, все школы, кинотеатр, советские учреждения. Они взорвали судоремонтные мастерские, расстреляли сотни ни в чем не повинных мирных жителей города, а многих, в том числе детей, угнали в лагеря.
Воин Красной Армии! Отомсти насильникам и убийцам!
Смерть немецким оккупантам!»
174
За восстановление порядка и нормальной жизни в Петрикове сразу же взялся командир отдельной зенитной роты старший лейтенант Борисов, назначенный комендантом города. Части дивизии продолжали наступление.
Командование 2-й немецкой армии, использовав естественные условия пересеченной местности, создало систему опорных пунктов и узлов сопротивления, приспособленных к круговой обороне. Подступы к ним были прикрыты минными полями. Железные и шоссейные дороги во многих местах гитлеровцы разрушили. Мосты подорвали. Расчет был на то, чтобы сковать здесь наши силы и задержать наступление.
Командир корпуса требовал от дивизии не давать противнику закрепляться на подготовленных оборонительных рубежах, преследовать его, отрезая пути отхода. Поэтому после освобождения Петрикова части без передышки продолжали наступление. Одни опорные пункты брали штурмом, другие обтекали, оставляя в нашем тылу. Гарнизоны их были обречены и вскоре слагали оружие.
Перед 2-й бригадой катеров полковник Шмыглев поставил задачу продвигаться по реке Припять, прикрывая открытый левый фланг дивизии, и овладеть крупным населенным пунктом Дорошевичи. Для совместных действий с моряками комдив выделил учебную роту в составе 70 человек, пополнив ее командой саперов. 1 июля эта десантная рота во главе с капитаном Андреевым погрузилась на катера.
В этот же день мы узнали от местных жителей о том, что в деревнях Каменка, Рубча и Оголицкая Рудня фашисты устроили концлагеря, где находятся тысячи советских людей. Полковник Шмыглев сразу же распорядился направить дивизионную разведку, кавалерийский эскадрон и одно подразделение 107-го полка в тылы противника, чтобы, нанеся внезапный удар по врагу, освободить заключенных из лагерей.
Надо было спешить. Каждый час промедления мог оказаться роковым. Отступая, фашисты отправляли заключенных в Германию или расстреливали на месте.
Удар наших подразделений был стремителен и успешен. Свыше 5000 человек было освобождено из лагерей, среди них старики, женщины и дети.
175
Навсегда запомнили наши воины те минуты, когда, плача от радости, выходили из лагерей заключенные.
Какие муки довелось им перенести!
Жили они в сараях, сколоченных из фанеры. Сараи не отапливались, и зимой дети замерзали на глазах у родителей. Было тесно, душно, грязно. Работали с 4 часов утра и до глубокой ночи. Заготовляли лес, строили дороги, грузили в машины катушки с колючей проволокой. Кормили утром баландой из мелкой нечищенной картошки, а вечером давали только кипяток.
...Грустным рассказам нет конца. Но надо спешить дальше на Запад. К этому времени подошли основные силы наступающей дивизии. Тепло проводили своих спасителей бывшие узники концлагерей.
Сильное сопротивление немцы оказали частям дивизии на промежуточном рубеже, восточнее поселков Бри-нев и Копцевичи. При поддержке трех танков и самоходного орудия они перешли в контратаку. Серьезное положение создалось в 107-м полку. 1-й батальон оказался в полуокружении, но удерживал захваченный рубеж. Комбат капитан Турчанинов, раненный, продолжал руководить боем. Командир 2-й батареи артполка капитан Лимонов, поддерживавший батальон, поставил все орудия на прямую наводку и в упор расстреливал наступающую пехоту противника. На прямую наводку выкатил орудия и командир батареи капитан Ушаков. Немцы наседали на огневые позиции, из строя выходили один за другим номера орудийных расчетов, но все пушки вели огонь.
Бесстрашным и умелым артиллеристом показал себя в этом бою наводчик Александр Чуприянов. Командир орудия был убит, заряжающий и ящичный ранены. Оставшись один у орудия, Чуприянов подносил снаряды, заряжал, наводил орудие и стрелял.
Великолепно действовал командир орудия сержант Сараев. Он метким выстрелом в башню вывел из строя самоходное орудие «фердинанд».
Достойно вели себя в этом бою минометчики под командованием младшего лейтенанта Евзерова. Когда гитлеровцы прорвались на их огневые позиции, они отбились гранатами.
Огромную, если не решающую, роль сыграл десант капитана Андреева.
176
Помните, несколько дней назад он погрузился на катера. Ему. предстоял, длинный боевой путь от только что занятого нашими частями Петрикова до Пинска — одной из главных целей наступления.
Впереди катеров, в полукилометре, шли полуглиссе-рььразведчики. У населенного пункта Дорошевичи полуглиссеры попали под сильный обстрел с берега. Вскоре фашисты стали бить по катерам. Положение было' чрезвычайно опасным. Но командир отряда катеров нашелся быстро. Повернули и причалили к крутому обрывистому берегу. Здесь отвесные стены защищали от огня. Снаряды пролетали над головой.
Но стоять долго нельзя. Надо было действовать. Скомандовали начать высадку.
— Коммунисты, за мной! — крикнул капитан Андреев и прыгнул на берег. Семьдесят человек — все подразде/ ление — бросились за ним.
Дорошевичи расположены у самой реки. Капитан-Андреев решил действовать дерзко. С ходу, под прикрытием огня катеров, десант атаковал населенный пункт. Атака была настолько стремительной и неожиданной, что Дорошевичи взяли почти без потерь;
Однако за Дорошевичами находилась укрепленная высота, где сосредоточились основные силы гитлеровцев. Отсюда они угрожали левому флангу дивизии, ведшей бои за опорный узел врага Копцевичи — Бринев.
Высоту надо было взять.
Решили атаковать с трех сторон. В лоб и справа шли бойцы капитана Андреева. Слева 35 моряков под командованием младшего лейтенанта Чалого. Медленно, маскируясь в траве, ползли пехотинцы, опытные бойцы. И вдруг они услышали громкое «ура». Моряки подня-лись и в полный рост во главе с Чалым бежали вперед. Это было удивительное зрелище — люди в черных бушлатах, не знающие страха. Но, к сожалению, это была и слишком хорошая цель для немецких пулеметов.
Храбрость без мастерства вела к гибели. Наступление сорвалось.
•На следующий день решили нанести основной удар по левому склону высоты, где росли густые кустарники. В лоб только, демонстрировали атаку. Гитлеровцев удалось обмануть. Их внимание было отвлечено. А в это время лейтенант Богданов со своими бойцами и де-
12 Н. Б. Ивушкин 177.
сятью матросами взбирались по левому склону холма. Матросы, теперь в армейских зеленых гимнастерках, ползли рядом с мастерами пехотных боев, по-пластунски скользившими в траве незаметно и неслышно. Тут моряки учились у пехотинцев искусству атаки на суше.
Внезапно по противнику ударил Богданов со своими людьми. Атака была настолько неожиданной и яростной, что враги опешили и растерялись. Здорово дрались моряки. Вскоре на высоту ворвался и капитан Андреев с остальными бойцами. Фашисты дрогнули и побежали.
Высота у Дорошевичей была в наших руках.
Вслед за тем пал и весь бриневский узел сопротивления врага.
В глухих, затерявшихся в лесах и болотах деревушках нас встречали с какой-то особенной торжественностью и необыкновенно тепло, с хлебом и солью на расшитых белых рушниках. В деревне Белево вдоль всех улиц стояли столы, накрытые вышитыми скатертями, уставленные мисками с кислым молоком, «бульбой», банками с маринованными ягодами и грибами.
Во время боев за деревню Свиный мне довелось познакомиться с замечательной женщиной Дарьей Венедиктовной Прутковской. Медицинская сестра, она помогла нашим санитарам выносить раненых с поля боя. Потом организовала даже нечто вроде медицинского отряда из местных жителей. Разместив раненых в двух домах и оказав им первую медицинскую помощь, Прут-ковская нашла в деревне подводы и отправила всех раненых в медсанбат дивизии.
Горькую радость испытал в эти дни старший сержант Василий Корж.
Отдельный истребительный противотанковый дивизион, в котором он служил, направлялся к переднему краю. У дороги стояли местные жители, всматривались в лица солдат и махали им руками. И вдруг раздался крик:
— Вася!.. Вася!.. Сыночек мой!
Пожилая женщина в обтрепанном платье ворвалась в строй и бросилась на шею Коржу. Все остановились. Встреча матери с сыном так взволновала бойцов, что некоторые, отвернувшись, смахивали с глаз слезы. Мать не могла пригласить сына в свой дом. Деревню Средняя 178
Рудня, где они до войны жили, фашисты дочиста сожгли. Те из жителей, кто не успел уйти в леса, погибли в огне.
— Ой, ни кола, Вася, ни двора... Только что угол у добрых людей...
Низко склонив головы, слушали Василий Корж и его боевые друзья рассказ матери...
Дивизион тронулся. Долго еще мать с сыном шли вместе по дороге. Но вот и огневые позиции, и слышен уже явственно стук пулеметов. Василий распрощался с матерью, и она медленно пошла обратно, худая, усталая и в то же время по-новому гордая.
Опыт показал, что при преследовании противника в лесисто-болотистой местности огромную роль играют действия небольших подразделений, мелких групп смельчаков. Они, эти группы, успешно проникали во вражеский тыл, перерезали важные коммуникации, отрезали пути отхода врагу, сеяли в его рядах панику и растерянность.
Политотделу надо было решить, как вести партийную работу в таких, ставших самостоятельными, группах и подразделениях.
Значительно повышалась роль каждого коммуниста, комсомольца, агитатора. Резерв парторгов рот, созданный при политотделе, теперь нас крепко выручил. Ни одна из групп не осталась без партийного ядра.
После разгрома бриневского узла сопротивления 1-й батальон 107-го полка, преследуя отступающего противника, вел бои с его арьергардом. Единственную дорогу, проходившую по лесу, немцы заминировали. Саперам нужно было время, чтобы обезвредить мины, но за это время враг мог безнаказанно оттянуть свои части. Командир батальона капитан Турчанинов принял решение— совершить бросок по лесным тропам и болотам и выйти в тыл отходящему противнику.
В батальоне стали комплектовать боевые группы из опытных и наиболее выносливых солдат. Провели в ротах короткие партийные собрания. Все коммунисты просились в состав комплектуемых групп. Что ж, это была их единственная привилегия, привилегия находиться всегда в самом опасном месте.
12*
179
Сам капитан Турчанинов повел своих людей По болотам. Шли без отдыха. Приходилось преодолевать броды по пояс в воде. С трудом вытаскивали ноги из болотной трясины. Сапоги разбухали от влаги. Тучи комаров покрывали лица и жгли бесчисленными уколами. Но жалоб не было. И не было отставших.
Внезапное появление турчаниновских групп в тылу Ьрага решило судьбу отступающих гитлеровцев. В - коротком бою было полностью уничтожено несколько вражеских подразделений.
Парторг одной из рот. Павел Кузнецов подошел к коммунисту Пашкину и комсомольцу Тырышкину и вручил им по красному флажку.
' — Вы люди быстрые, я слышал, спортсмены, — сказал он. — Вот и поставите эти флажки над вражеской траншеей, как только ворветесь в нее.
Началась атака. Враг открыл сильный артиллерийский огонь. Командир находившегося впереди взвода выбыл из строя, и продвижение приостановилась. Впереди бойцов выросла знакомая фигура парторга.
— Вперед, за мной! — раздался его клич.
Взвод, за ним вся рота устремились в атаку.
Но огонь противника усилился, и многие солдаты снова залегли. И тут вдруг все увидели во вражеской траншее.два красных флажка.
Пашкин и Тырышкин не посрамили своей спортивной славы, опередили товарищей, ворвались во вражескую траншею первыми и вступили в рукопашную схватку. Рота рванулась вперед на сигнал красных флагов. Бой был выигран.
Большинство работников политотдела находилось в частях. Но у нас был установлен порядок: раз в два-три дня собираться докладывать о том, что произошло, обмениваться мыслями. На одном из таких совещаний инструктор политотдела по информации Борис Львович Айзен предложил выпускать специальные бюллетени, посвященные опыту командиров и политработников в наступательном бою. Бюллетень был рассчитан на относительно узкий круг людей. Далеко не все, о чем в нем сообщалось, можно было публиковать в дивизионной газете.
180
У меня сохранился первый номер бюллетеня. Он не велик по размеру, всего несколько страниц, отпечатанных на машинке. Сжато и точно подводились итоги трехдневных боев. В частности, рассказывалось о командире роты автоматчиков старшем лейтенанте Фисенко, избегавшем лобовых атак, при которых большие потери неизбежны, отлично использовавшем обходные маневры. Комбат капитан Тельнов критиковал командиров рот и взводов, которые, вместо того чтобы руководить боем, подменяли командиров отделений. Отмечались факты пренебрежительного отношения к маскировке и окапыванию, обсуждался вопрос о применении залпового огня.
Заместитель командира 111-го полка по политчасти майор Дивинский подчеркивал значение правильной расстановки коммунистов и комсомольцев в батальоне, писал об умении сосредоточить партийный актив в подразделениях, которые должны были выполнять наиболее ответственные и опасные задачи.
Большие трудности возникли у нас с вручением 'партбилетов. Дело в том, что «партийное хозяйство» в целях безопасности находилось во втором эшелоне, в тылах дивизии. А во время наступления тылы значительно отстали. Было принято рискованное, но оправданное необходимостью решение забрать партучет в первый эшелон, на командный пункт дивизии. Работники партучета могли понадобиться в любую минуту. Политотдел армии строго следил за тем, чтобы партбилеты выдавались в установленные сроки.
В ряду самых необходимых солдату вещей — боеприпасов, воды и пищи — находились и сводки Совинформбюро. Эти сводки как бы связывали маленький участок войны, видный бойцу, со всем фронтом, всей страной. Свежие новости нужны были чуть ли не ежечасно, газет дожидаться не хотели. Но в дни стремительного наступления по плохим дорогам, когда к тому же не хватало бензина, машины с рациями и радиоаппаратурой отстали. Что было делать? Первым нашел выход агитатор 107-го полка Серебряков. Он установил радиоприемник на повозке, которая продвигалась вслед-за .наступающей пехотой. Если подвода и застревала в болоте, солдаты выносили ее на руках. Повозочный (выделенный специально для этой цели комсомолец) записывал- всё важ
г181
ные новости, переданные по радио. По нескольку раз гс сутки к нему приходили связные из подразделений, пе-реписывали сводки и передавали их в боевые порядки. Позднее такие «повозки информации» появились во всех полках.
Трудности были и с центральными газетами. Как известно, они доставлялись на самолетах в первые эшелоны фронта и армии в день выхода. На следующий день они должны были быть на переднем крае. Однако наша полевая почтовая станция не поспевала за наступающими частями. Путь письмоносцев с переднего края в ППС и обратно был труден и долог. К счастью, в одном из боев мы разгромили вражескую кавалерийскую часть и захватили много лошадей. Письмоносцы стали ездить верхом. На хорошей рыси, а то и галопом мчались они с газетами и письмами в свои подразделения.
К чести работников редакции, наша дивизионная газета «Победа» всегда и в любых условиях своевременно выходила в свет и, что бы там ни было, доставлялась на передний край. Тяжелая машина с типографией передвигалась порой, кажется, на одном самолюбии журналистов и любви бойцов к своей газете. Саперы разминировали для нее дорогу, вместе с местными жителями делали настилы через болота... Внештатные корреспонденты, редакторы, наборщики, печатники подпирали машину плечами, когда колеса буксовали в грязи.
Помню и такой случай. Горючее в дивизии кончилось. Выдавали его только артиллеристам, и то в обрез. Кое-как еще заправляли «виллисы» Шмыглева и мой.
Редакция прочно застряла в одной из деревушек в 20 километрах от наступающих частей. Неподалеку от нее, в других деревушках, стояли еще две редакции соседних дивизий.
Готовились мы тогда к штурму города Лунинец. Бойцам нужна была своя газета. Не привыкли они обходиться без нее. Нужны были и листовки с призывом к наступлению.
Под вечер я заехал к нашим журналистам и приказал:
— Выпустить газету, отпечатать листовки, к рассвету прибыть на КП.
.182
— Горючее? — только спросил редактор.
— Горючего нет.
— На чем поедем? Пожалуй, на руках машину донести к утру не успеем. Да и руки будут заняты, все-таки надо писать, набирать, печатать.
Редактор был настроен иронически, но я оборвал его:
— Литров пять бензина солью из своей машины, а дальше как знаете... Выполняйте приказ!
...Я уехал. Признаться, меня мучила совесть. Решил: не смогут — ничего не поделаешь. Ругать их не буду. А через денек-другой горючее подвезут.
Однако еще не успело наступить утро, еще я дремал в своей землянке, как в нее вошел редактор и, неловко, по-штатски откозыряв, доложил:
— Прибыли, газету и листовки привезли.
Честное слово, я готов был расцеловать и редактора, и всех его ребят. «Дивизионки» соседей не прибыли. Мы снабдили газетами и листовками весь корпус.
Позже редактор рассказал мне, как все удалось.
— Набрали материалы на месте. Печатать решили на ходу. С вашими пятью литрами до большой дороги добраться можно было. А на дороге там, помните, узкий мостик, на одну машину. Ну, как говорит наш шофер, на фронте главное не растеряться. Стали мы на этом мостике — ни объехать нас ни обойти. Водитель вылез из машины, в кузове копается. Только, что делает, не разберешь. За нами создалась целая очередь. «Пробка» — не вышибешь. С других грузовиков шоферы бегут помогать. Тут наш водитель и объявил: «Ребята, горючее кончилось!»
Машины были из разных частей, но с бензином у всех туго. Стали ругаться, грозили сбросить в кювет... Но мы предложили кончить дело миром: «С каждого по капле — нам канистра. Вы нам бензин — мы вам свежую газету со сводкой». Посмеялись, согласились. Кто-то еще грозился жаловаться и командующему и Военному совету. Но мы залили полбака — и сюда.
Итак, к этому времени дивизия, преодолев ряд водных рубежей, таких как Лань и Смердь, вышла к реке Цна у города Лунинец. Фашисты попытались нас здесь задержать. Лунинецкий железнодорожный узел связы-
183.
вал их южную и северную группировки в Ёелоруссйй. Через него осуществлялось маневрирование резервами и материальное обеспечение войск.
Командование 61-й армии стремилось как можно быстрее лишить противника важнейшей магистрали и поставило перед нами и 23-й дивизией задачу овладеть городом и железнодорожным узлом. Атаковать в лоб бессмысленно. Лунинец был сильно укреплен. Полковник Шмыглев решил совершить глубокий обходный маневр. Перед 107-м полком он поставил задачу форсировать реку Цна в районе Древска и наступать на город с севера, а 111-му полку — с северо-запада.
Форсировав реку, подразделения дивизии продвигались темной ночью по труднопроходимой местности, лесными тропами и даже без троп через бурелом...
Тем временем навстречу армии по тылам противника двигалось партизанское соединение, действовавшее в Полесье. Его возглавлял Герой Советского Союза генерал-майор Василий Захарович Корж. Имя этого отважного человека было широко известно. Еще во время гражданской войны он партизанил в Белоруссии. В 1937 году в Испании сражался с фашистами в рядах Интернациональной бригады.
Соединение выросло из отряда, созданного в начале Великой Отечественной войны в Пинске. В этом отряде первое время сражалась и Вера Хоружая, одна из бое-* вых руководителей комсомольского подполья в Западной Белоруссии во времена панской Польши. Впоследствии, как известно, ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Партизанское соединение генерала Коржа наносило чувствительные удары по врагу.
В ночь на 20 июня 1944 г. по всей республике был проведен третий тур «рельсовой войны», во время которого удалось подорвать 40 775 рельсов. В своих воспоминаниях В. 3. Корж пишет:
«Чтобы оказать действенную помощь нашим частям, наступающим на Лунинец, штаб соединения вместе с бригадами имени Ленина, имени Кирова и имени Куй-, бышева передвинулись в район станции Бостынь и решили перерезать железнодорожные дороги Лунинец--Барановичи и Лунинец — Пинск. В ночь на 3 июля бригада имени Ленина совершила нападение на стан-184
цию Люща, бригада имени Кирова — на станцию Ъо-стынь, а бригада имени Куйбышева — на станцию Ловча. В эту же ночь партизаны подорвали 797 рельсов. Захватить железнодорожные станции нам не удалось, но железная дорога Лунинец — Барановичи была выведена из строя. Весь день 4 июля она не работала. В ночь на 5 июля партизаны снова подорвали 130 рельсов и зажали вражеский бронепоезд севернее станции Люща, который и оставался там до подхода советских частей».
Активные действия партизан оказали соединениям Советской Армии, наступавшим на город Лунинец, большую помощь. Они вынудили врага оттянуть часть своих сил с оборонительных рубежей и бросить их на охрану дорог и станций.
К 6 часам утра 10 июля 107-й и 111-й полки дивизии, перерезав железную дорогу Лунинец — Барановичи, заняли в районе Новина исходное положение для штурма города. В 7 часов утра наши части, взаимодействуя с 23-й дивизией, ворвались в Лунинец и к 10 часам полностью освободили его.
Действия наступающих частей были настолько стремительны, что немцы не успели даже вывезти эшелоны с военным имуществом. Понесли они большие потери и в живой силе.
В тот же вечер мы приняли по радио приказ: личному составу дивизии объявлялась четвертая благодарность. А через несколько дней был получен Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении дивизии орденом Красного Знамени. 107-й и 111-й полки получили наименование Лунинецких.
Во всех частях и подразделениях прошли митинги. Офицеры и солдаты поздравляли .друг друга. Всем бойцам и командирам вручались именные благодарственные грамоты. Дивизионная газета «Победа» писала: «Поклянемся сегодня покрыть новой славой наши знамена. Да будет счастливым наш путь на запад — победный путь!»
Продолжая преследовать противника, части дивизии вступили в полосу Пинских болот, которые тянулись на многие и многие километры. Дороги фашисты, отступая, заминировали. Стрелковые подразделения обходили минные поля и завалы, часто по пояс и по грудь в гнидой воде»
185
Еще труднее было артиллеристам. Вот как описывает их путь бывший командир второго дивизиона подполковник Петр Николаевич Кудинов:
«Артиллерийский дивизион пробирался Пинскими болотами. Гудели перегревшиеся моторы. То и дело солдаты с криком: «Раз, два — взяли» толкали застрявшую машину с пушкой на прицепе. В ходе движения приходилось восстанавливать взорванные фашистами мосты, устраивать объезды, стелить настилы. Трудно было поспевать за пехотой, которая преследовала отступающего противника, пробираясь по лесным тропам, выходя к нему в тыл и на фланги.
Однажды мы сделали настил из бревен и веток, чтобы преодолеть заболоченный участок. Когда работа подходила к концу, подъехал командир стрелкового полка подполковник Смекалин.
— Скоро нас догоните? — спросил он.
— Думаю, через полчаса выберемся, а минут через пятьдесят догоним, — ответил я.
— Голубчики, поднатужьтесь, чертова батарея бьет из леса, не дает головы поднять, — обращаясь ко всем солдатам, попросил он.
Солдаты понимали, что зря подполковник просить не станет. Ведь более года дивизион поддерживает полк, которым командует подполковник Смекалин. Многие его знали лично, как знали других офицеров.
Я подошел к подполковнику и сказал ему, что подавить вражескую батарею мы, вероятно, не сумеем. Ведь она укрыта где-то в лесу. Самолета, аэростата или зву-коразведки, чтобы ее засечь и скорректировать огонь, в нашем распоряжении нет.
— Я понимаю, но вас ждут мои солдаты. Разве им расскажешь об этом? Пока батарея не прекратит огня, они будут ждать вашей помощи. Так что вы хоть попугайте фашистов, — закончил он.
Не ожидая, пока будет закончена гать, я, взяв с собой начальника штаба капитана Воскобойника, командира батареи капитана Керножицкого, разведчиков с буссолью, отправился вперед, чтобы до прибытия орудий принять на месте какое-либо решение: коль наша помощь нужна друзьям по оружию, мы должны ее оказать.
Быстро идем вперед, изредка посматривая на могучие сосны и ели, которые росли рядом с болотом. Ясно 186
слышны орудийные выстрелы и разрывы снарядов. По звуку определяем: вражеская 105-миллиметровая батарея с небольшим промежутком ведет методический огонь.
Мы пришли на большую поляну. Одного взгляда было достаточно для того, чтобы определить, что здесь можно ставить огневые позиции...
Пока капитан Керножицкий и разведчик намечали места орудий и глазомерно определяли точку стояния основного орудия, мы с начальником штаба развернули карту и примерно определили район, откуда может вести огонь батарея противника. Потом, установив буссоль, по звуку уточнили на нее направление. Чтобы определить дальность по вспышкам выстрелов с помощью секундомера, командиру батареи потребовалось залезть на дерево. Когда все это было сделано, на карте появилась ровная черта, которая шла от будущего места стоянки основного орудия в направлении вражеской батареи. Казалось, и направление, и дальность нам удалось определить правильно, ведь мы пользовались буссолью и секундомером. Однако полной уверенности не было.
— Давайте поставим себя на место вражеских артиллеристов и выберем на прочерченной линии огневую позицию, — предложил один из офицеров.
Нас заинтересовал отрезок линии между семью и девятью километрами от нашего места стояния. И до, и после этого участка на карте был густой лес или непроходимое болото. Начинаем прикидывать, где же лучше поставить огневую позицию на этом двухкилометровом отрезке, и в конце концов приходим к выводу — метрах в трехстах за деревней.
Когда прибыли орудия батареи, я приказал Керно-жицкому обстрелять огневую позицию противника на трех прицелах скачком в два деления, с доворотом угломера в обе стороны на три четверти батарейного веера. Количество снарядов на батарею — шестьдесят.
Через три минуты батарея открыла огонь. «Будет ли попадание?» — думал я. Когда были выпущены последние снаряды, все мы с волнением ожидали ответного огня гитлеровцев. Но его не было. Вражеская батарея замолкла. В середине следующего дня, когда наша пехота заняла деревню, через которую мы вели огонь, на месте вражеской батареи мы обнаружили три подбитые пушки и несколько убитых фашистских солдат».
187
Так действовали артиллеристы, а машины с боеприпасами и продовольствием ясе-таки застряли. Интенданты не справлялись со сложными задачами. Армейские тылы не могли оказать нам необходимой помощи. Они находились за сотни километров от нас, были отделены еще рекой Припять и многими, болотами. Поэтому со всей остротой встали вопросы обеспечения питанием и боеприпасами. Проблемой стала и эвакуация раненых.
Мы со Шмыглевым собрали заместителей команди-' ров частей по политчасти. Решили посоветоваться — что делать? В маленьких деревушках не предоставлялось возможности приобрести продовольствие. Гитлеровцы их начисто ограбили. Но многие крестьяне ухитрились при-' прятать и сохранить лошадей. Было решено разослать во все окрестные населенные пункты политработников, просить местных жителей помочь наступающей Красной Армии. Крестьяне охотно откликнулись на наш призыв. Тысячи людей вышли на ремонт дорог и прокладку гатей. Там, где не могли пройти автомашины, потянулись телеги, запряженные низкорослыми, крепкими каурками. Они подвозили боеприпасы и продовольствие. До самой реки Ясельда помогали нам крестьяне, «извозом» и работали на восстановлении дорог.
Военный-совет 61-й армии выпустил обращение ко всем работникам войскового тыла, призывая их улучшить работу. Из политотделов и полков были посланы в помощь интендантам политработники. Они находились в тылах до тех пор, пока не наладилось снабжение переднего края.
12 июля части дивизии вышли на последний водный рубеж, прикрывающий город Пинск, реку Ясельду, и сосредоточились в районе населенных пунктов Сошино и Вулька.
Гитлеровское командование подготовило Пинск к круговой обороне. На тактически выгодных рубежах фашисты оборудовали две линии сплошных траншей, соорудили много долговременных огневых точек. Правый крутой и обрывистый берег реки и господствующие высоты давали им огромные преимущества. >.
Но уже не было такой силы, которая могла бы остановить наступательный порыв наших бойцов и команди-188
ров. Бывалые воины рассказывали молодому пополнению об опыте форсирования Десны, Днепра и Припяти. Всюду готовились плоты, челноки, лодки.
Ночь на 13 июля застала меня" в 107-м полку. Подполковник Смекалин только что закончил вручать правительственные награды отличившимся в недавних боях. Такая оперативность стала возможной потому, что командирам полков было предоставлено право награждать от. имени. Президиума Верховного Совета СССР рядовой и сержантский состав медалями, а комдиву—: медалями и орденом «Красная Звезда» солдат и офицеров, до командира роты.
Много доводилось мне вести разговор с награжденными. Они не скрывали своей радости, но, как правило, все же бывали удивлены, говорили:
. — Ну что особенного... делал как все другие... Не ду-мал, что заслужу такую награду.
Какие это были нравственно чистые и крепкие духом люди. Как важно былц бы сохранить для истории, для памяти народа.их имена. Но, к сожалению, даже мы мало тогда об этом думали. А в центральных газетах куда чаще назывались имена генералов, чем рядовых. Глубоко прав был Александр Твардовский, когда он в поэме «Василий Теркин» писал: -
Между прочим, при отходе, Как сдавали города, Больше вроде был он в моде, Больше славился тогда. И по странности, бывало. Одному ему почет: Так, что даже генералы Были будто бы не в счет. Срок иной, иные даты, Разделен издревле труд: Города сдают солдаты, :
Генералы их берут.
Нет, мало, еще и до сих пор мало написано о главном герое войны — русском солдате, простом человеке и истинном рыцаре без страха и упрека. Конечно, слу-' чалось, обнаруживались люди слабые духом, появлялись даже изменники, трусы, самострельщики. Они нам, командирам и политработникам, доставляли . много неприятностей. Но все это были редчайшие исключенияг в среде бойцов.
18»
Утром 13 июля я был уже в 111-м полку. На опушке леса, близ командного, пункта полка, увидел разведчиков. Они сидели плотным кружком на густой траве и внимательно слушали Николая Бобровского, проникновенно читавшего стихи, опубликованные в дивизионной газете. (Стихи были подписаны псевдонимом С. Григорьев. Наш редактор почему-то немного стеснялся своих поэтических увлечений.)
Держа в левой руке газету, а правую сжав в кулак и выбрасывая ее вперед, Николай читал:
По топким болотам, лесами Полесья Под градом снарядов дорога идет. Сигнальной ракетой летит в поднебесье Гремящее, ярое слово — «вперед».
Окинув быстрым взглядом сидящих на траве разведчиков, он продолжал:
Пусть ляжет в морщинах усталость и копоть, Пусть пламя разрывов пред нами встает. Вперед по болотам, по травам, по тропам, По трупам фашистским — к победе, вперед!
Может быть, эти строки и несовершенны, но они били в цель. Бойцы горячо приняли их.
Во всех подразделениях шли последние приготовления к наступлению. Вот на лесной поляне выстроились солдаты, перед ними командир роты лейтенант Черкасов.
— Товарищи, — обращается он к ним, — сегодня мы передаем пулемет номер сто один ефрейтору Николаю Стройкову. Ранее этот ручной пулемет принадлежал герою нашего подразделения Лаврентию Яковенко, погибшему в боях с фашистами.
Стройков, принимая пулемет, клянется:
— Буду беспощадно мстить врагам за смерть Яковенко...
Хорошая это была традиция — вручать оружие погибших молодым бойцам.
Части дивизии сосредоточились на исходных рубежах. О начале наступления возвестила артиллерийская подготовка. Несколько минут на правом берегу реки, где притаился враг, бушевал огненный вихрь. Воздух наполнился непрерывными раскатами грома. Вместе с
190
другими соединениями 61-й армии и Днепровской флотилией дивизия перешла в наступление. Переплыв реку, бойцы с ходу ворвались в траншеи противника.
Главный удар был нацелен на восточную окраину Пинска, отвлекающий наносил слева десант 415-й стрелковой дивизии. Ему пришлось поначалу особенно туго. Нужно было оказать поддержку десантникам. Тогда приняли решение направить на катерах учебную роту нашей дивизии. Она уже имела опыт взаимодействия с кораблями флотилии.
«Рано утром двенадцатого июля, — рассказывал командир роты капитан Андреев, — мы погрузились на два катера и взяли курс на Пинск. Противник быстро обнаружил нас — мы попали в полосу заградительного огня...
Вода закипела от мин и снарядов. Пули с визгом защелкали о броню катеров. Мы пытались отвечать, но что могли поделать несколько пушчонок. Вражеский огонь усиливался. Снаряд, упавший рядом с катером, на котором я находился, поднял огромную волну. Вода залила палубу. Где-то на корме раздался сильный взрыв, вспыхнуло ослепительное пламя.
Я посмотрел на берег — до него было метров-сорок! Прямо против нас на горе, в парке, стояли четыре «фер-динанда» и вели огонь. Горящий катер начал тонуть, и его командир приказал:
— Десанту за борт!
Раздумывать было некогда. Не прошло и минуты, как все мои люди попрыгали в реку... Немцы били по нас из пулеметов длинными очередями. Раненые скрывались под водой и захлебывались. Ноги живых вязли в иле.
А город был недалеко. Мы хорошо видели «Фердинандов» в парке, ясно слышали выстрелы в центре города. Там дрались, зажатые в кольцо, бойцы из четыреста пятнадцатой.
Мы все-таки добрались до берега и здесь залегли, не в силах ничего больше предпринять...
К счастью, быстро стемнело. Осталось нас человек тридцать пять. Мы окопались, расставили ручные пулеметы и заняли оборону.
Утром бой в центре города возобновился. По моей команде десантники открыли огонь по парку. Прибыл
191
ещё один катер й под прикрытием нашего огня сравнительно беспрепятственно выгрузил на берег десант, во* оружение и боеприпасы.
Следующей ночью мы наконец проникли в город с юго-востока и завязали бой в городском парке. К этому времени подошел 111-й полк и стал штурмовать другую окраину города».
Той же ночью 107-й полк и артиллеристы дивизиона Сарычева перерезали дорогу Пинск — Подблоце. Враг попытался пробиться по этой дороге, но попал под шквальный огонь.
Всю ночь шли бои.,. А утром 14 июля части дивизии, вместе с другими соединениями 61-й армии, со всех сторон ворвались в Пинск и полностью освободили его.
Вечером Москва салютовала освободителям Пинска двадцатью артиллерийскими залпами.
Личный состав дивизии получил пятую благодарность, 228*му полку присвоили почетное наименование «Пинского», а 107-й полк был удостоен ордена Красного Знамени.
В те дни в дивизионной газете появились стихи сержанта В. Петрова. Они сразу полюбились бойцам. Веко* ре во время привала я услышал, как солдаты пели:
Мы шли по лесам и болотам, В огне, и в дыму, и в пыли Шагала, сражалась пехота , ,
За счастье родимой земли.
В атаки ходили, не труся, - - Счет мести платили сполна,
И нам города Беларуси Дарили свои имена.
Шагами пространство измерив, Мы смело к победе идем,' Клянемся: фашистского зверя В берлинской берлоге добьем.
До Берлина еще было далеко. Старинный Пинск, считавший свои годы со времен Киевской Руси, лежал р развалинах., В его уцелевшей тюрьме на стенах камеры смертников мы читали надписи:
«Здесь сидел за побег Хмарун С. А., военнопленный Гомельской обл., Речицкого р-на, дер. Святые». «Здесь сидели военнопленные 50 чел. Работали по эвакуации Отступающей немецкой армии». «Пишу в темноте 9 июля. Деваться некуда. Жду момента. Жора».
192
О судьбе этих людей нам так и не удалось ничего, узнать. Приняли вы смерть или чудом спаслись, муче-. ники фашистских застенков?
Тяжкие потери понесли мы при штурме города.. Среди погибших был и мой молодой друг, человек чистейшей души Николай Бобровский. Посреди .неширокой. Ясельды в лодку, где он находился, ударила минами комсорга не стало.
Я хорошо помню тот день, когда мы стояли,, обнажив головы перед его открытой могилой. Мне редко приходилось видеть солдатские слезы, но в этот скорбный момент плакали многие из его боевых друзей.
Николай Бобровский достойно прожил свою короткую жизнь. До войны .он мало успел. Когда гитлеровцы напали на нашу Родину, ему не было и восемнадцати. В ту пору Коля учился в. железнодорожном училище города Иланский, Красноярского края. Паренек страстно мечтал водить мощные локомотивы по сталь: ним магистралям страны.
В грозном военном .феврале 1942 года Бобровский успешно закончил учебу и стал помощником машиниста на красавце «ФД». Но не долго ему пришлось порабр.-тать. Через три месяца Николай сменил железнодорожную форму на армейскую. Он начал свой путь рядовым солдатом<вязистом, кончил лучшим комсоргом полка, любимцем всей дивизии. Романтик, мечтатель, он думал когда-то об «уроках героизма» в послевоенных школах, уроках, на которых будут вспоминать поименно достойно павших. Что ж, мне бы хотелось, чтобы осуществилась его мечта.
У. меня сохранился пожелтевший экземпляр нашей дивизионной газеты «Победа»;за .30 августа 1944 года. В этом номере опубликовано открытое письмо комсоргов. Бебенева,. Пуленка и Писчука, посвященное памяти Николая Бобровского. Оно заканчивается такими строками: «Пусть его светлый образ всегда будет жить в нашей памяти — образ молодого большевика с мужественным комсомольским сердцем».. '
Со дня гибели Николая Бобровского прошло уже много лет. Но в моей памяти он не умер. Такие не умирают. Они постоянно среди нас и живут в делах нового молодого поколения. Неугасимый огонь их душ — в сердцах покорителей целины и моряков, плывущих
J3 Н. Б. Ивушкии 193
сквозь штормы, строителей электростанции на холодной Ангаре и водителей поездов в жаркой пустыне...
В боях под Пинском выбыл из строя знатный снайпер 107-го полка Кирилл Швыдченко. И его хорошо знали и любили в дивизии. Ближайший друг Кирилла снайпер Виталий Сергеевич Ранчугов обратился с открытым письмом ко всем воинам дивизии;
«Товарищи по оружию! К вам, прошедшим со славой путь войны и побед, уничтожившим не одну сотню немецких оккупантов, к вам, бывалым бойцам и молодым воинам, завоевавшим для своей дивизии высокое и гордое имя Краснознаменной, к вам обращаюсь я сегодня.
Друзья мои!
Кто из вас не знает Кирилла Швыдченко — знатного снайпера, героя, у которого мы учились воевать, учились мужеству и ненависти к врагу. Камни сожженных городов, муки советских людей видел он своими глазами и жестоко мстил врагам.
193 фашиста уничтожил Кирилл Швыдченко.
Трижды награждала Родина знатного снайпера — одного из основателей героических традиций нашей Краснознаменной дивизии.
В последних боях вражеской пулей Кирилл Швыдченко тяжело ранен в ногу и вышел из строя. Жестоко страдает сейчас раненый герой. Мучает его боль от раны, а пуще боли страдает он от того, что не может сейчас делить с нами наших испытаний, наших трудов, подвигов и радости.
От имени моего ближайшего друга Кирилла Швыдченко я обращаюсь к вам, товарищи!
Будем драться умело и бесстрашно, как дрался он, будем мстить, яростно мстить проклятому врагу, как мстил он!
Пусть сотнями своих жизней ответят гитлеровцы за рану героя».
После освобождения Пинска наступать стало легче. Хотя и здесь встречались необозримые болота, заросшие камышом, но были и хорошие дороги. На Брест вел широкий большак. По его обочинам росли старые березы, хорошо маскировавшие наши тыловые подразделения, теперь уже выбравшиеся из болот.
194
Части дивизии, преследуя противника, отрезали пути отхода, окружали врага, захватывали большие трофеи: боеприпасы, продовольствие, военнопленных.
19 июля, форсировав вместе с 23-й дивизией реку Муховец, начали мы обходить с северо-запада город Кобрин.
Немецко-фашистские захватчики оставались верны себе до конца. Зверство нагромождалось на зверство, убийство на убийство — чем дальше, тем яростнее и бессмысленнее. У самой государственной границы в освобожденном нами селе Достоево, Ивановского района, Брестской области, был составлен по горячим следам преступления следующий акт:
«Товарищ, отомсти!
Воин, прочти этот короткий акт о чудовищных зверствах отступающего врага. Спеши догнать, окружить и уничтожить проклятых извергов, чтобы отомстить за муки и смерть наших людей, чтобы не дать им возможности свершить новые преступления.
Акт
Сего 16 июля 1944 года мы, нижеподписавшиеся, капитан Садыков Карим Хабибович, жители села Сахар-чук Семен Николаевич, Олещик Иван Павлович, Ткачук Николай Петрович, Буряк Петр Михайлович, составили настоящий акт о нижеследующем:
15 июля 1944 года фашистские солдаты и офицеры, отступая под напором Красной Армии, подожгли 22 дома, где, запертые в подвалах немецкими солдатами, задохнулись дымом и умерли:
Дети гражданина Сахарчука Семена Николаевича:
1. Галя Сахарчук — 8 лет: 2. Володя Сахарчук — 6 лет. 3. Евгения Сахарчук — 4 года. 4. Маня Сахарчук— 2 года.
Кроме того, запертая в подвале горящего дома, умерла беременная женщина — мать погибших детей Ксения Сахарчук —31 год.
Этот акт неслыханного зверства совершили солдаты фашистской армии 15.07 1944 года, вымещая свою злобу на мирном населении.
Факты установили (подписи): 1. Капитан Садыков. 2. Отец убитых детей — Сахарчук Семен. 3. Гражданин села — Ткачук Николай».
13*
195
.. Я сохранил фотографию погибших. Она не дает сердцу стать спокойным, она зовет к бдительности.
На подступах к станции. Жабинка гитлеровцы оказали нам сильное сопротивление.,Все командование дивизии направилось в части. Я прибыл, в 107-й полк. Передний край проходил по нескошенным хлебам, и определить линию фронта можно было лишь по разрывам снарядов. Наши залегли под огнем и несли потери. Было ясно, что надо быстрее поднимать людей и выводить, их из-под обстрела. Вместе- с ординарцем Алексеем Мусатенко мы пошли на передний край.
В тот день обстановка сложилась так, что все командование 107-го'полка было в, цепи наступающих. Заместители командира по политической и строевой части — Кузнецов и Евстегнеев сами повели бойцов в-атаку. О Григории Ивановиче Кузнецове я уже писал много, а вот рб Евстигнееве — ни слова. А нужно о, нем рассказать. . _ 0
По-разному складывались судьбы воинов дивизии. Одни погибали в первом же бою. Другие, отвоевав месяц-другой, после ранения увозились в глубокий тыл, а позже направлялись в другие части и там продолжали воинский путь. А третьи, вопреки всем случайностям войны, намертво связали свою судьбу с дивизией. Эти люди составляли наше боевое ядро и нашу живую, историю. К их числу относился и майор Петр Макарович. Евстегнеев. -
. Евстегнеев начал воевать под Москвой в октябре 1941 года.. В первых же боях был контужен, но быстро поправился и снова вернулся в строй. В конце декабря он получил сквозное пулевое ранение в грудь. Пришлось долго лечиться^.
. К нам в дивизию Евстегнеев прибыл в- конце. 1942 года. Его назначили офицером в оперативное отде->> ление штаба. Я с ним познакомился перед наступлением под Лерошкино.* Худой,., высокий, плечистый человек, с продолговатым волевым лицом. На слова скуп. Дер-’ жался просто, уверенно, твердо.. Штабист отличный. Но в штабе дивизии скучал. Его неудержимо тянуло на-пёредовую, вскоре он добился назначения командиром батальона в 111-й полр<«
Во- время бо^в под Лонырями Евстегнеев возглавил, одну из самых опасных атак, бь?л контужен и4 ранец в 196
Левое плечо и бедро. С такими ранениями в медсанбате раненых не оставляли. Евстегнеева эвакуировали в тыл. Мы уже не ждали его возвращения, как вдруг накануне форсирования Днепра он снова прибыл в дивизию.. Его, назначили заместителем командира 107-го полка по строевой части. Во время боев на Днепре Евстегнеев находился в батальоне, при отражении немецкой контр-, атаки был ранен в голову.
Сколько ранений! Казалось, будь человек из стали—, и то не выдержит. Но Евстегнеев был крепче стали. Он' был из тех, о ком поэт говорил;
Гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в мире гвоздей.
К началу летнего наступления 1944 года майор Евстегнеев был уже в полку и при форсировании реки Припять руководил переправой. Снова участвовал в горячих схватках с врагом.
И сегодня в густых хлебах, истоптанных солдатскими сапогами, он снова возглавил атаку и снова был тяжело ранен.
Мы опять прощались с ним. Забегая вперед, скажу: три года после этого ранения Петр Макарович пролежал в госпитале, все три года переписывался с нами. И, знаю, думал он и чувствовал так, словно все еще находился в строю.
Наши части вышли на дальние подступы к Бресту.
Наверно, редко так случалось, чтобы соединение после трех лет войны возвратилось в те места, где его застали первые выстрелы начавшейся войны. В этом смысле нам повезло. Известно, что в 1941 году на бреет-, ском направлении враг имел громадное превосходство в силах. Здесь были сосредоточены основные ударные чзсти одной из самых крупных группировок немецких' войск под командованием Гудериана.
Враг тогда рассчитывал одним ударом проложить путь для триумфального шествия на восток. Но доблестные воины 4-й армии отстаивали здесь каждый метр советской земли. Всему миру известна героическая обо-' рона Брестской крепости. В составе 4-й армии сража-’ лась и 55-я стрелковая дивизия. Теперь она снова вернулась сюда, овеянная славой, краснознаменная освободительница белорусских городов и земель.
197
Конечно, в составе дивизии были другие люди и судьбы их скрестились впервые в иных местах. Но ведь для всех нас 55-я стала своей семьей, своим походным родным домом, где каждое воспоминание тоже свое!
Брест нам брать не довелось. Дивизию вывели в резерв и направили под Белосток.
Было время подвести итоги прошедших боев, осмыслить накопившийся опыт. 10 августа 1944 года состоялось собрание партийного актива дивизии.
Каковы же итоги нашего наступления?
По той самой лесисто-болотистой местности, которую немецкие генералы считали непроходимой, 55-я Мозырская Краснознаменная стрелковая дивизия, наступая в составе 61-й армии 1-го Белорусского фронта, прошла с боями 393 километра, форсировала 14 рек, освободила от врага 402 населенных пункта.
952 воина нашей дивизии были награждены орденами и медалями.
Еще и еще раз оказался прав великий русский полководец Суворов, когда он утверждал: «Там, где пройдет олень, — там пройдет русский солдат, а там, где не пройдет олень, — все равно пройдет русский солдат».
Под Белостоком мы много и упорно работали с новым пополнением. Оно было необычным и трудным. К нам пришли люди из западных областей Украины и Белоруссии. Они еще не имели настоящей советской закалки. Их долго отравляли антисоветскими измышлениями гитлеровцы, бендеровцы, католическая церковь. Не только военному делу, но и основам политграмоты учили мы новых бойцов. Что ж, наша армия не только военная сила, но и школа жизни, школа коммунизма — в этом ее особое величие. Не так уж много времени прошло, а пополнение порой нелегко было отличить от ветеранов.
Недолго мы пробыли под Белостоком. Вместе со всей 61-й армией дивизия была погружена в эшелоны и вскоре оказалась в составе 3-го Прибалтийского фронта.
В конце сентября мы уже снова воевали, участвовали в освобождении Советской Латвии и ее столицы города 198
Риги. За эти бои 111-й стрелковый Лунинецкий полк был награжден орденом Красного Знамени, а 81-й артиллерийский полк — орденом Суворова 3-й степени.
В октябре 1944 года нашу дивизию вывели из боя и передали в состав Краснознаменного Балтийского флота.
У нас появились моряки-балтийцы. Они рассказывали нам о своих традициях, своем опыте, своих боях. Мы постигали бессмертную славу несломленного Ленинграда и гордого Кронштадта. Становились близки сердцу боевые дела стремительных миноносцев, торпедных катеров, подводных лодок.
Бойцы нашили на рукава желтые якорьки. Стали мы называться 1-й Мозырской Краснознаменной дивизией морской пехоты. А в ноябрьские дни 1944 года нас перебросили на финских торговых судах по усеянному минами штормовому морю на Порккала-Удд. Здесь по соглашению о перемирии с Финляндией организовывалась военно-морская база.
В Порккала-Удде мы встретили великий и долгожданный День Победы.
ГДЕ ЖЕ ВЫ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ?
1_ - ам, участникам войны, думается порой, что все было совсем недавно — и бои, и подви^ ги, и гибель близких. Пусть молодым это не покажется странным. Слишком еще тревожно в мире. Слишком часто недобитые фашисты, оасовцы, берчисты и прочая сволочь бряцают оружием. Нет, прошлое еще ....J не далекая история, не одна лишь память.
Оно и призыв к бдительности. Оно и школа мужества.
Советский народ восстановил разрушенные фашистами города и села. Это было нелегко.
Мы идем гигантскими шагами вперед, к коммунизму, и путь наЪл ярко освещает новая величественная Программа партии.
Там, где во время Великой Отечественной войны гремели жестокие бои, развернулось мирное строительство коммунизма. Но созидательный труд советских людей еще нуждается в защите.
После войны я побывал в Белоруссии, объехал места боев, поклонился могилам однополчан. Останки воинов, погибших при форсировании реки Ясельды, при освобождении Любели и Купятичей, теперь перенесены и захоронены в одной братской могиле в Пинкевичах. Ежегодно в День Победы сюда приходят многие жители окружающих деревень и в скорбном молчании возлагают к надгробию венки и цветы.
В июле 1964 года исполнилось 20 лет со дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни я получил письмо из Пинска, подписанное городским комитетом партии и городским Советом депутатов трудящихся. Я был взволнован его содержанием и считаю, что оно предназначено всем воинам нашей дивизии. Поэтому привожу его полностью:
200
«Двадцать лет назад, в незабываемые июльские дни 1944 года, доблестные войска Советской Армии, боевые экипажи бронекатеров и десантники Днепровской военной, флотилии подошли к Пинску и, сломив сопротивление врага, освободили город от немецко-фашистских захват-, ЧИКОВ.
В старом парке над Припятью, в братской могиле,; спят вечным сном герои боев за Пинск, те, кто не дожили до светлого часа победы. В дни 20-летнего юбилея освобождения города трудящиеся Пинска земным поклоном кланяются им за их великий подвиг во славу нашей любимой социалистической Родины.
Вас хорошо знают и всегда помнят здесь. В 1944 году Вы видели разрушенный, израненный Пинск. Сейчас, поднятый из пепла и руин, стал солнечным, зеленым, юным наш родной рабочий город новостроек и замечательных людей, вместе с Вами встречающих славную дату — 20-летие освобождения Пинска от немецко-фашистских захватчиков.
Сердечно и горячо поздравляем Вас, дорогой товарищ, с праздником.
Желаем доброго здоровья, счастья в личной жизни, новых успехов в мирном созидательном труде на благо советских людей, во имя торжества коммунизма в нашей стране».
Эти теплые слова в адрес воинов-освободителей наполняют мое сердце гордостью за людей нашей дивизии; внесших свой скромный вклад в разгром ненавистных' фашистов.
Не раз после боя, у могил боевых товарищей, отдавших свою жизнь за Родину, мы говорили о том, что память о них сохранится в веках, а подвиги будут внесены в историю золотыми буквами.
Эта мысль о долге живых перед павшими никогда, не покидала меня. И теперь в этой книге я отдаю дань глубокого уважения светлой памяти всех, кто, в составе нашей дивизии добывая победу над врагом, не дожил до. нынешних светлых и радостных дней.
По-разному после войны сложились судьбы моих боевых друзей и однополчан. Большинство из них вернулись к мирному созидательному труду и работают на предприятиях, в колхозах, научных учреждениях. Те^ кто помоложе, и теперь продолжают служить в Воору-
201
женных Силах. Со многими из них я встречаюсь или переписываюсь и знаю, что они и ныне остались верными солдатами партии и Родины.
Мой первый фронтовой наставник и боевой друг Сергей Изосимович Чекмарев, после того как мы с ним расстались в конце сорок первого года, был назначен комиссаром дивизии. Всю войну провел на фронте. Несколько раз ранен. Теперь полковник Чекмарев в запасе.
Живет в Москве бывший командир дивизии Герой Советского Союза Николай Николаевич Заиюльев. После окончания академических курсов он в 1949 году получил генеральское звание.
Видимся мы с Васей Степановым, бывшим моим помощником по комсомольской работе. Впрочем, Васей он остался лишь для нас — боевых друзей. Он уже давно окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, стал полковником. И называют его Василием Ивановичем.
Стали опытными политработниками преемник Степанова по комсомолу в дивизии Николай Минович Гладких и секретарь комсомольской организации саперного батальона Виктор Степанович Корюк. А еще один комсомольский работник — Семен Павлович Босалыга работает в Куйбышеве в строительном управлении. Коммунисты не раз оказывали ему доверие, избирая секретарем партийной организации. Он и теперь является заместителем секретаря парткома строительного треста.
Настоящий политработник и отважный воин Георгий Иванович Кузнецов окончил Высшие военно-политические курсы, служил на Тихоокеанском флоте. Теперь он живет в Ставрополе и стал профсоюзным работником.
Друг моей юности, бывший парторг 111-го полка Дмитрий Иванович Власов — хозяйственный работник в одном из научно-исследовательских институтов в Москве. Секретарь парткомиссии Михаил Васильевич Поляков после демобилизации работал в аппарате Центрального Комитета партии Латвии, а теперь на ответственной работе в Комитете партийно-государственного контроля в той же республике.
Нелегко было войти в мирную жизнь Ивану Александровичу Иохиму. Когда он сражался за Советскую власть на фронте, его отец, находившийся на оккупиро-202
ванной территории, скомпрометировал себя связью с фашистами. В годы культа личности этого было достаточно для того, чтобы закрыть перед Иохимом все пути. Но он не пал духом, не потерял себя. Пошел работать на завод. Был учеником, работал у станка. Пришли новые времена идей XX съезда партии. И теперь прекрасный организатор, бывший комендант города Щорса Иохим руководит цехом на подшипниковом заводе в Куйбышеве.
К большой моей радости, после многолетнего молчания объявился Василий Никитович Клименко, бывший политработник 107-го полка. Многочисленные раны дали о себе знать, и он тяжело заболел. Не один месяц ему пришлось пролежать в госпитале, лечиться в санаториях. Сейчас Василий Никитович чувствует себя лучше. Зная сильную волю и мужество этого человека, мы питаем надежду на его полное выздоровление.
Приходят письма из Таллина. Там живут несколько офицеров нашей дивизии. Бывший инструктор политотдела Борис Львович Айзен работает в редакции республиканской газеты. Григорий Михайлович Скульский давно стал профессиональным писателем — автором нескольких пьес, сборника рассказов и повестей «Рядом с «Русалкой», соавтором романов «В далекой гавани» и «Белые скалы».
Пользуюсь случаем, чтобы выразить сердечную признательность Г. М. Скульскому за помощь в работе над этой книгой.
В Таллине живет бывший агитатор 107-го полка Петр Алексеевич Серебряков. После войны он работал во флотской газете, а теперь уволился в запас и продолжает трудиться на предприятии.
Недавно я встретился с генерал-майором Александром Георгиевичем Котиковым. Тот ли он, каким был на фронте? Не согнули ли его годы, думал я перед встречей. Да, его здоровье сильно пошатнулось. Работа комендантом Берлина потребовала много сил и энергии. Он тяжело заболел. Много месяцев пролежал в госпитале. Но не сдался. После увольнения в запас Александр Георгиевич с присущей ему увлеченностью взялся за лекционную работу. Стал международником. Его можно встретить на заводе в Москве, где он ведет семинар, услышать в различных городах Советского Союза, куда его
203
посылают читать лекции. Котиков по-прежнему остался активным бойцом нашей партии, страстным пропагандистом ленинских идей. Он и теперь служит замечательным примером для наших офицеров, находящихся в запасе.
Ежегодно в День Победы собираются бывшие воины нашей дивизии в Москве в садике против Большого театра. Все мы стремимся на эту встречу, приносящую нам много радостных волнений. Так было и в 1964 году.
Вот подходит Иван Дементьевич Амплиев, и невольно картина прошлого возникает перед моими глазами. Курская битва. Учебная рота отбивает танковую контратаку врага. Сержант Амплиев бросает противотанковую гранату и подбивает вражеский танк. Всматриваюсь в лицо Ивана Викторовича Борисова, бывшего командира зенитной роты, и вспоминаю: это ведь он был назначен комендантом освобожденного от гитлеровских захватчиков города Петрикова. Сколько сил и энергии потребовалось тогда ему, чтобы разместить в разрушенном городе возвращавшихся из леса жителей!
Расспросам и восклицаниям «а помнишь!» нет конца. Петра Макаровича Евстегнеева окружили артиллеристы: Любимов, Сарычев, Трофименко. Им есть что вспомнить. Почти весь боевой путь дивизии они прошли вместе и много раз друг другу помогали в. боях.
А вот стоят, обнявшись, наши медицинские работники: Мария Кот, Нина Павлова, Аня Кушнерева, Юлия .Тико: Беседуют, весело смеются.
Время и на них наложило свой отпечаток. Они изменились, стали солидными. Но в нашем представлении они остались все теми , же боевыми девчатами, спасавшими жизнь многим и многим воинам дивизии.
Встретились здесь старые друзья, занимавшиеся в дивизии культурно-массовой работой, Борис Яковлевич Куксин и Илларион Савельевич Литвиненко. Они не изменили.своей любимой специальности и в мирное время. Куксин — режиссер драматических коллективов в городе Славянске, Литвиненко работает в Министерстве культуры СССР.
На этих встречах в День Победы мы узнали о судьбах многих наших сослуживцев. Так, стало известно о том, что командир артиллерийского дивизиона Петр Кудинов стал военнытм журналистом. Дмитрий Сергеевич Долинский работает в городе Жданове в го рис пол-
204
коме. Мой бывший заместитель Ефим Маркович РовиН после войны был начальником политотдела соединения, а теперь на профсоюзной работе в Архангельске. Бывший комбат Василий Иванович Турчанинов после окончания Военной академии имени М. В. Фрунзе был начальником штаба одной из дивизий, работал в центральном аппарате Министерства обороны, а теперь посвятил себя благородному делу воспитания курсантов в одном из военно-морских училищ.
Герой Советского Союза Василий Алексеевич Семенченко живет в Ростовской области и работает директором хлебозавода.
Из садика у Большого театра мы переходим в кафе, .продолжаем беседы, поем любимые' фронтовые песни и конечно:
Майскими короткими ночами, t Отгремев, закончились бой, Где же вы теперь, друзья-однополчане, Боевые спутники мои? • • < -
Эти традиционные встречи укрепляют узы дружбы ветеранов. .........
Хотелось бы в этой книге сказать еще о многих дорогих и близких мне людях нашей- дивизии,-да и не только дивизии... Но разве обнимаешь необъятное?!
Вот у нынешнего ректора Уфимского университета, а в' прошлом храбрейшего комиссара батальона Шай-хуллы Хабибулловича Чанбарисова есть, знаю, богатейшие материалы о боевом пути 133-й бригады. Что ж, и ему, и многим другим ветеранам — тоже перо в руки!..
Автор этих строк в 1961 году уволился в отставку. Но всем сердцем и помыслами остался с Советской Армией и Военно-Морским Флотом. Тому доказательство— эта книга.
1961—1964 гг.
Москва
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Дороги, дороги............................................ 3
Первое знакомство........................................ 10
Будни подвигов........................................... 22
Память сердца............................................ 32
К экзамену готовятся по-разному.......................... 39
, Слово „назад" забыть!.................................... 55
Ночь затишья............................................. 69
Военачальники и политруки ............................... 77
Здравствуй, Украина!..................................... 93
В центре всех фронтов России.............................114
Мозырь...................................................133
Уроки героизма...........................................146
За счастье родимой земли.................................163
Где же вы, друзья-однополчане?...........................200
Николай Борисович Ивушкин ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ (Военные мемуары)
М., Воениздат, 1965, 203 с. + 1 вкл.
Редактор Милютин В. И.
Художественный редактор Голикова А. М. Художник Васильев В. В. Технический редактор Кузьмин И. Ф. Корректоры Штынова С. Н.> Сакович Г. В. * * *
Сдано в набор 8.10.64 г.
Подписано к печати 1.12.64 г.
Г-11175
Формат бумаги 84ХЮ8,/И — 6х/> печ. л. « 10,66 усл. печ. л. + 1 вкл. — */w печ. л. «0,103 усл. печ. Л. — 10.744 уч.-изд. л. Тираж 51 000 экз« ТП 1965 г. Кв 87
Изд. Кв 3/6345
Цена 53 коп
Зак. 507 * * * 1-я типография Военного издательства Министерства обороны СССР Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
ДРУЗЬЯ ЧИТАТЕЛИ!
Военное издательство выпустило в серии «Военные мемуары» более 130 книг. Нам очень важно знать ваше мнение о прочитанном и конкретные пожелания на будущее. С этой целью просим ответить на следующие вопросы:
1. Какие книги из серии «Военные мемуары» вы прочитали и как их оцениваете?,
2. О чем: хотели бы прочитать в ближайшее время? На. какие события гражданской и Великой Отечественной войн следует обратить внимание редакции и авторов?
3. Удовлетворяет ли вас художественное и полиграфическое оформление этой серии?
Письма направляйте по адресу: Москва, К-160, Военное издательство.