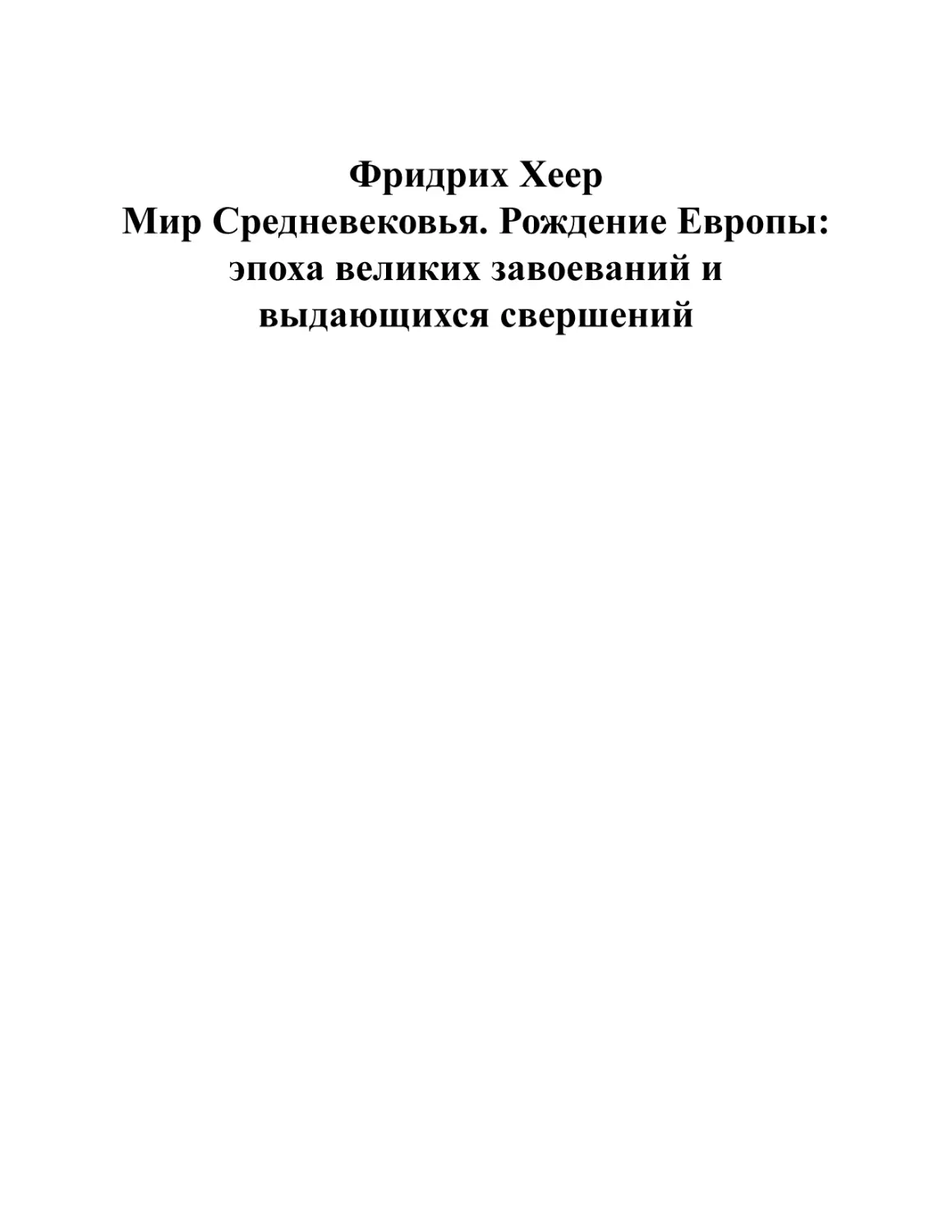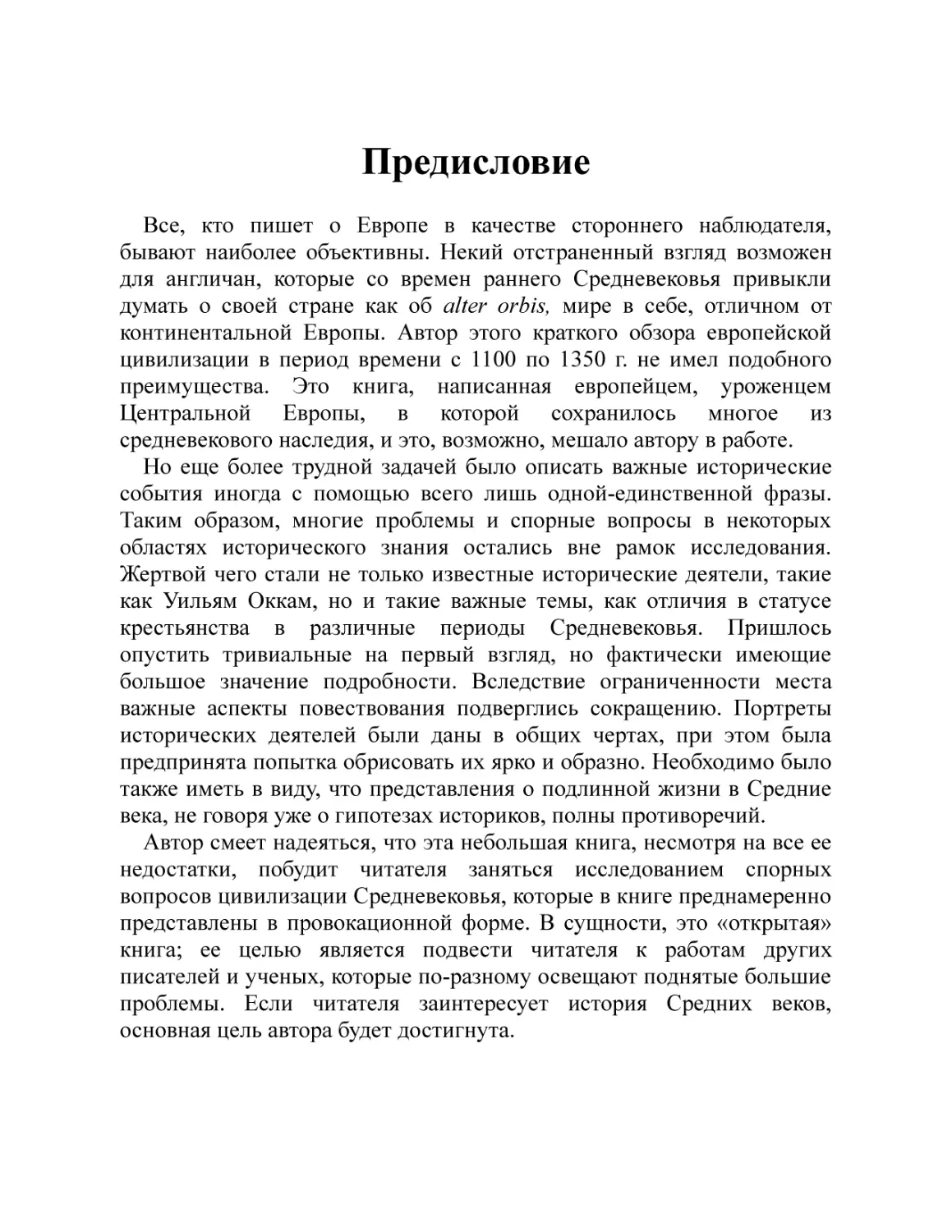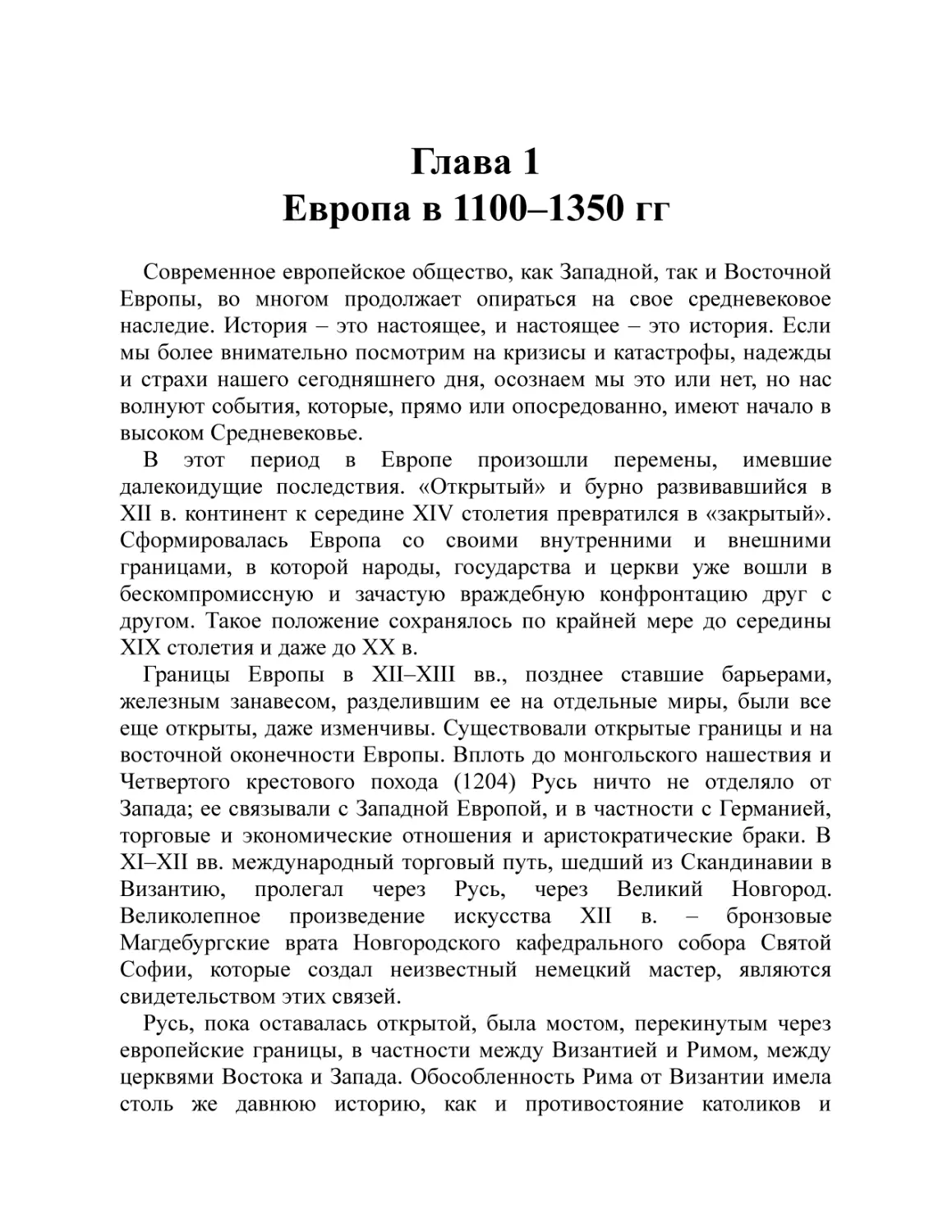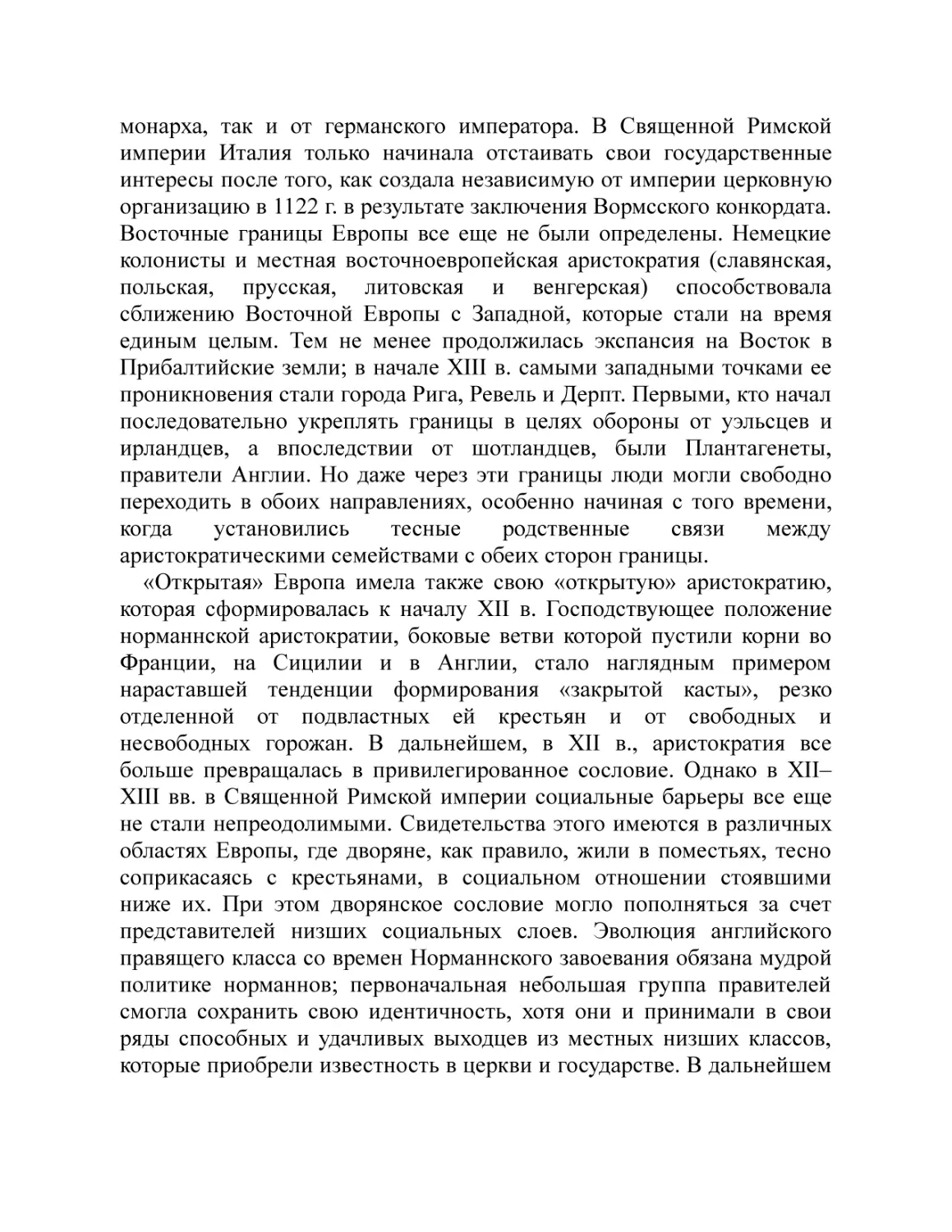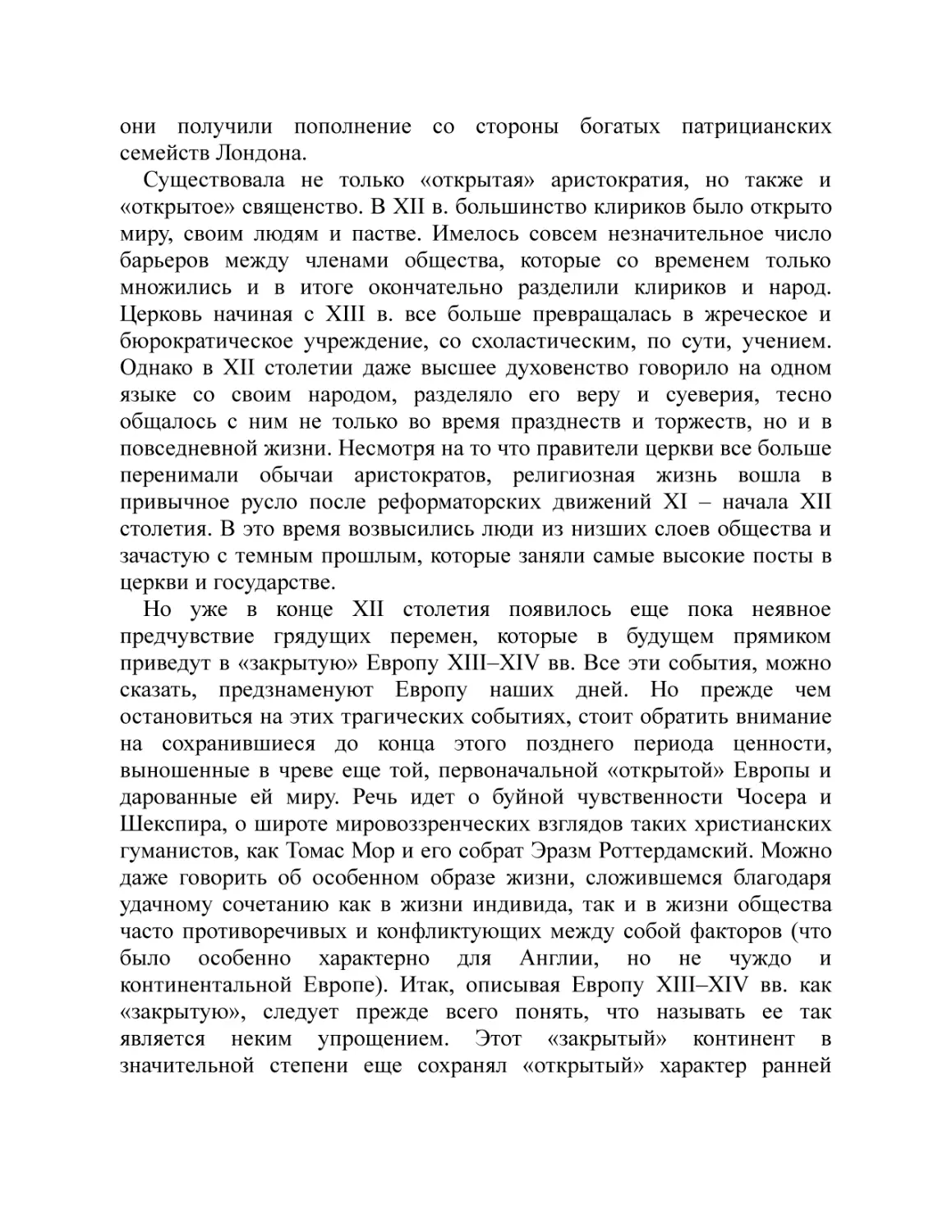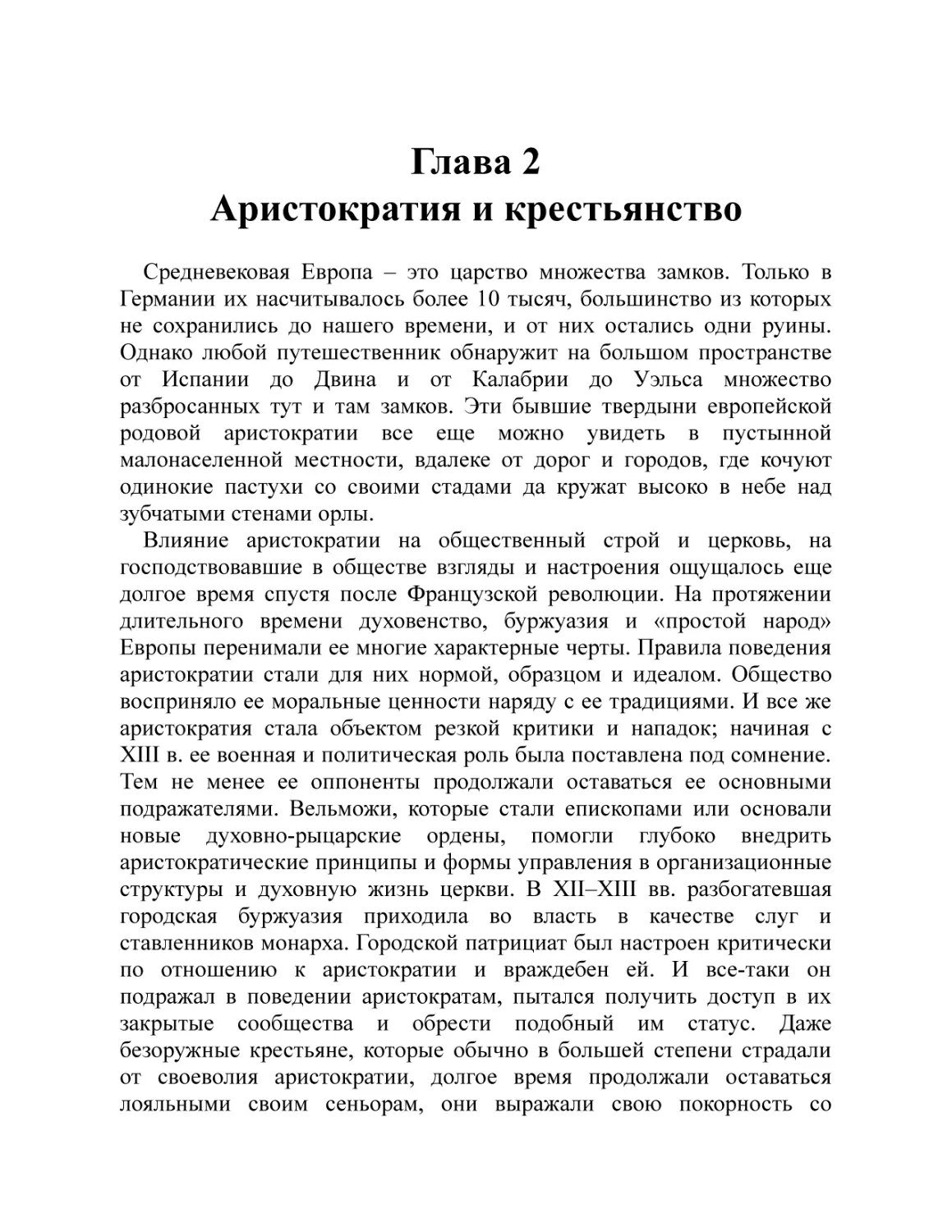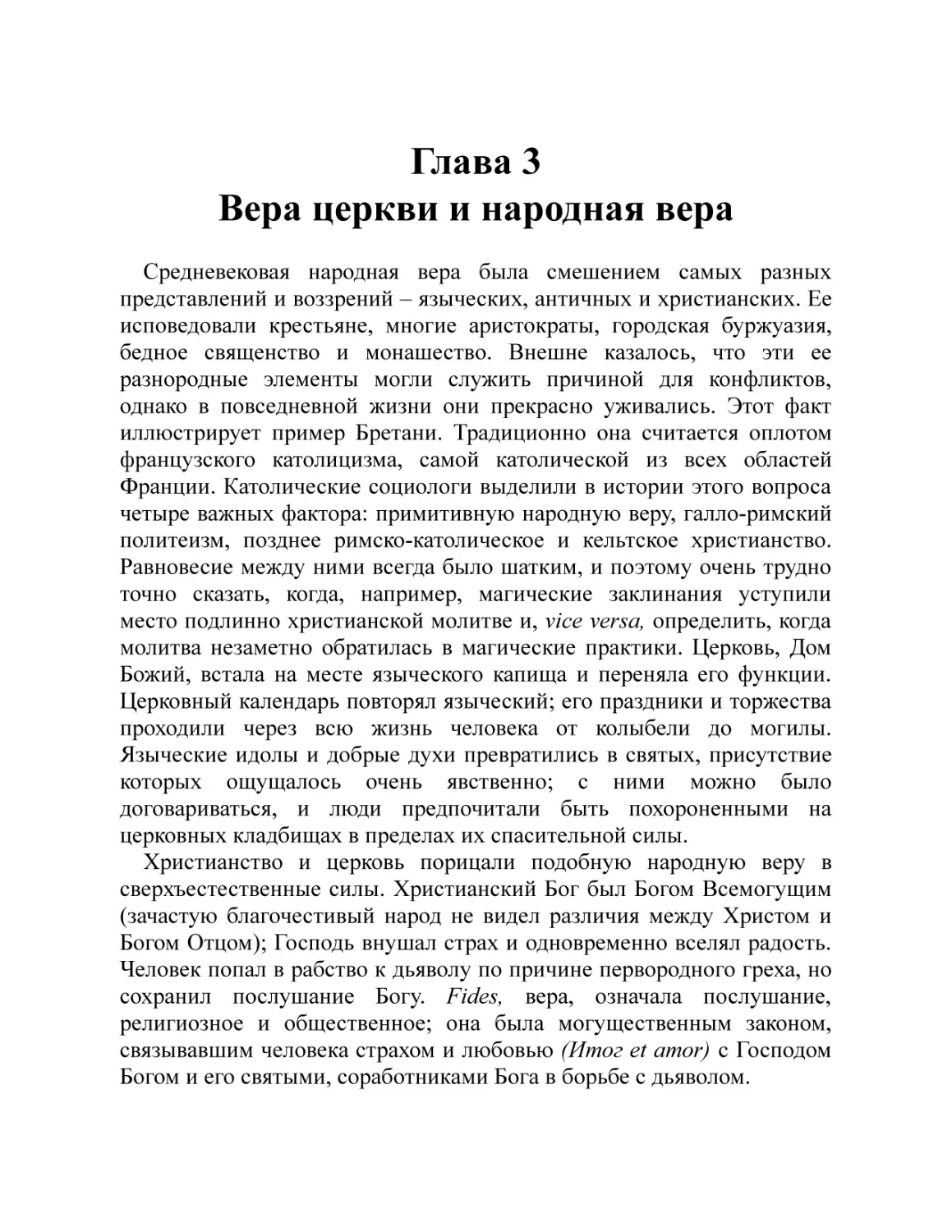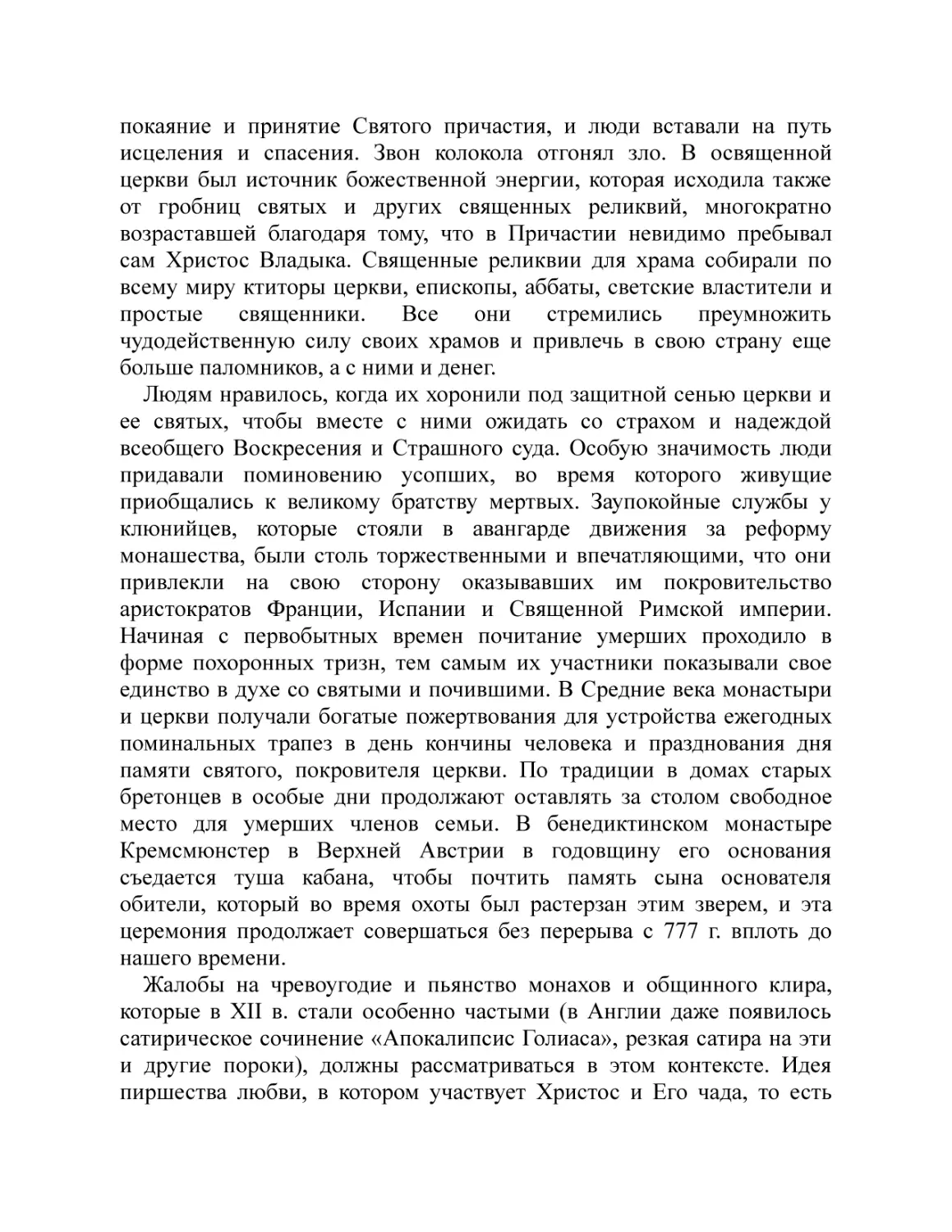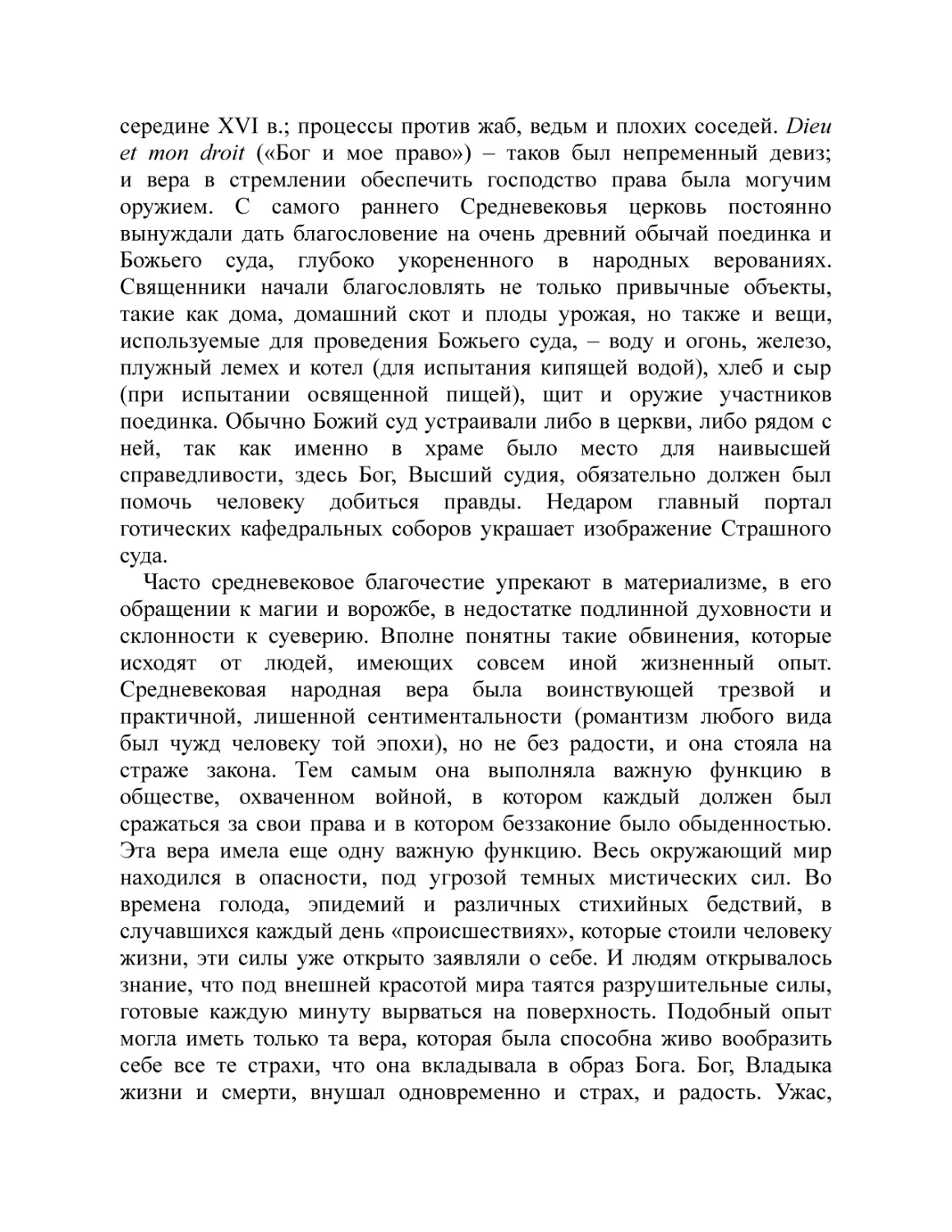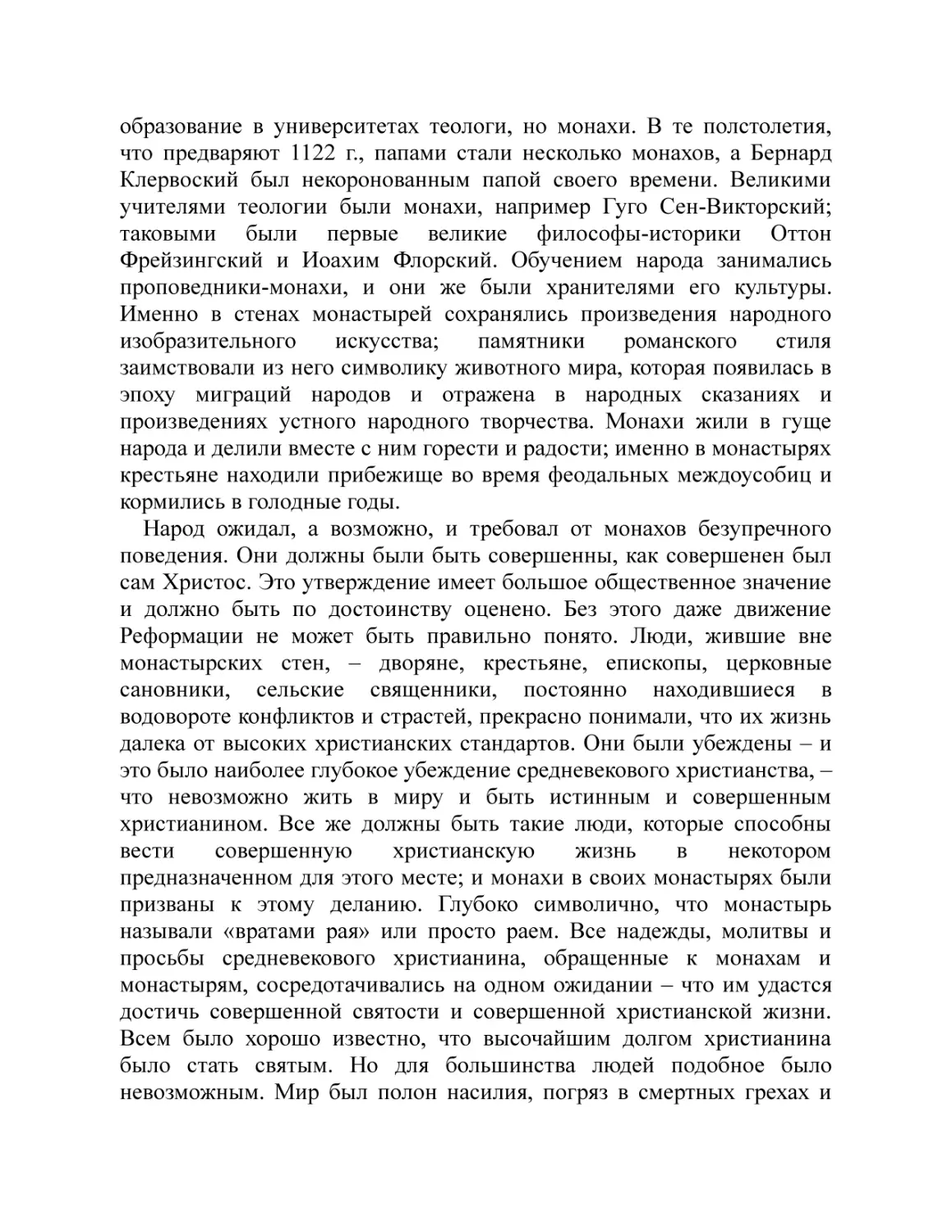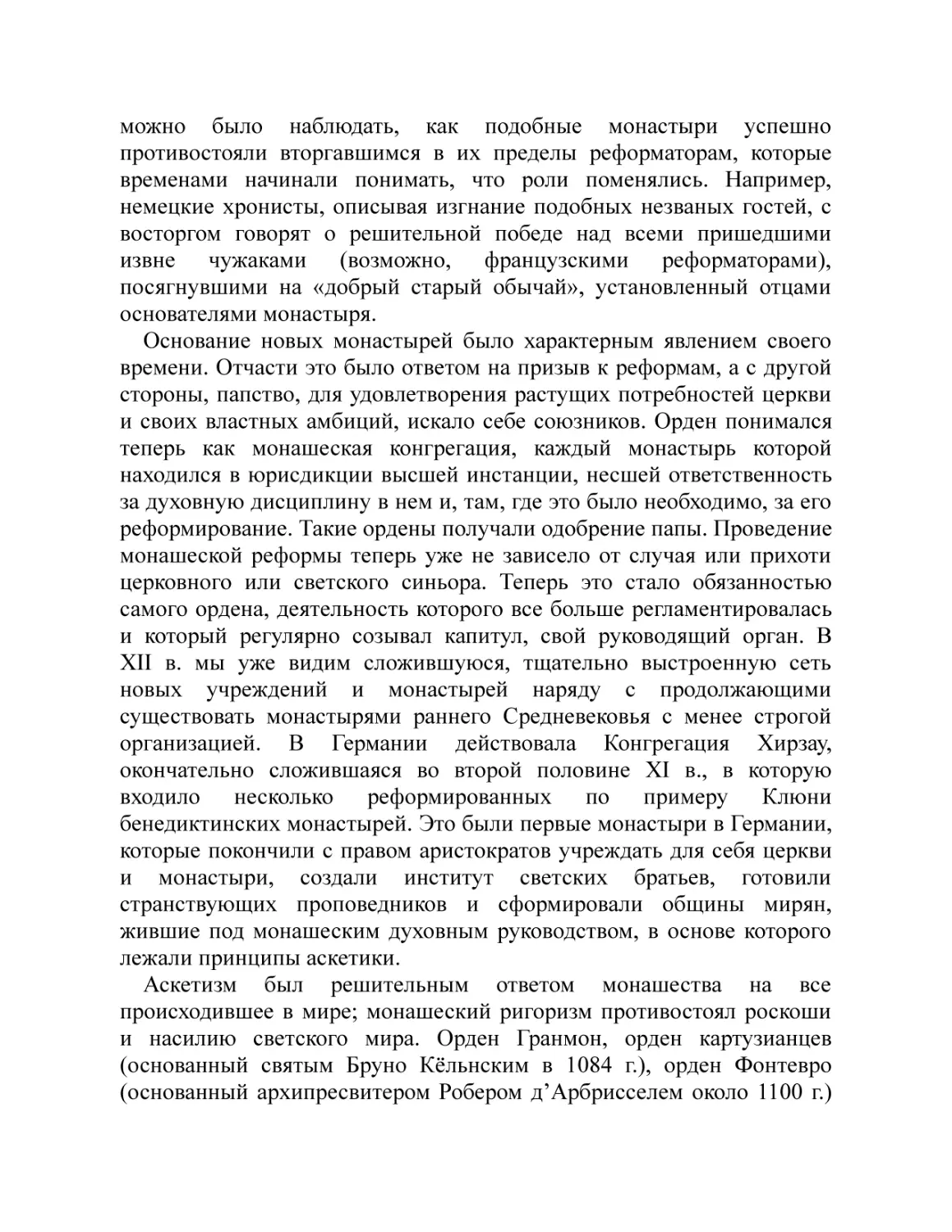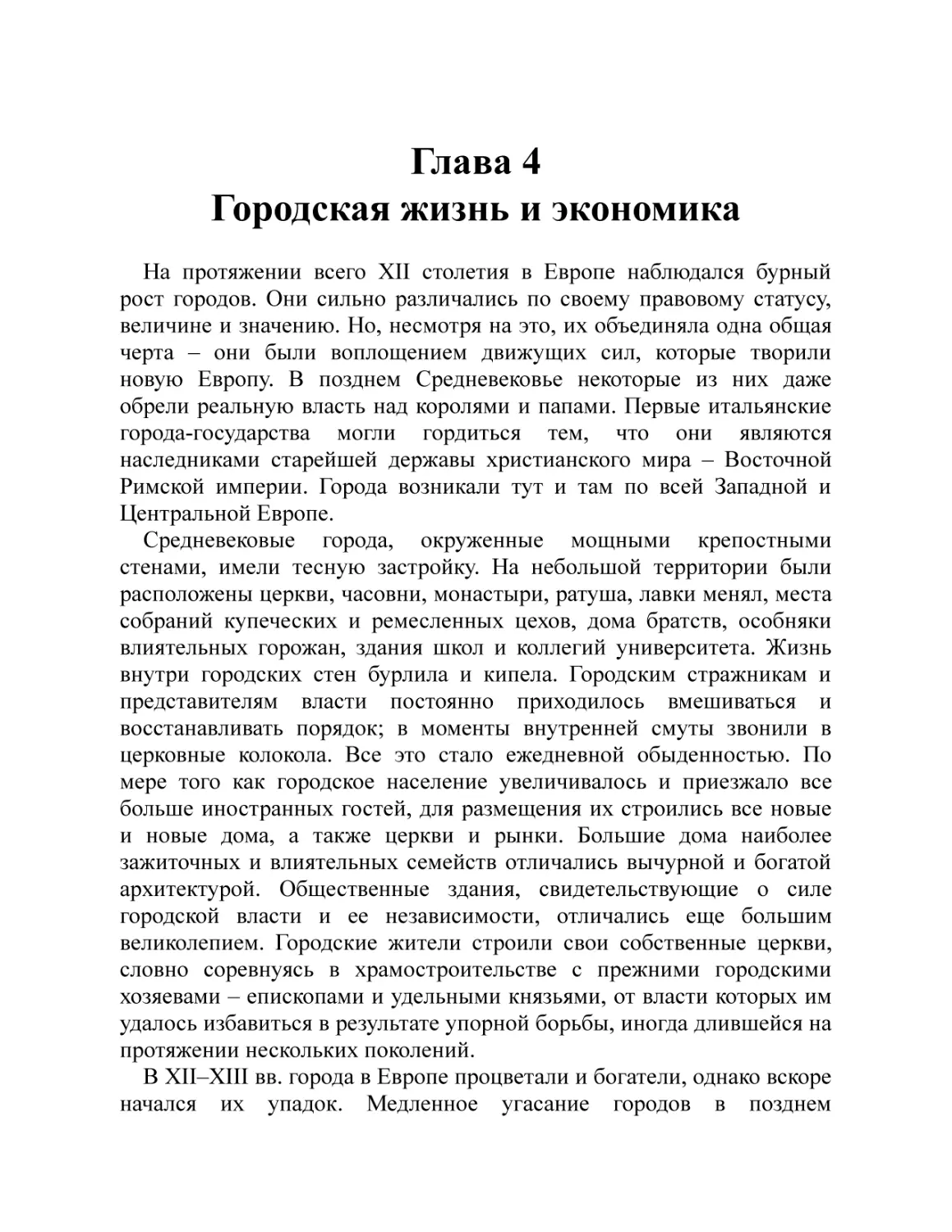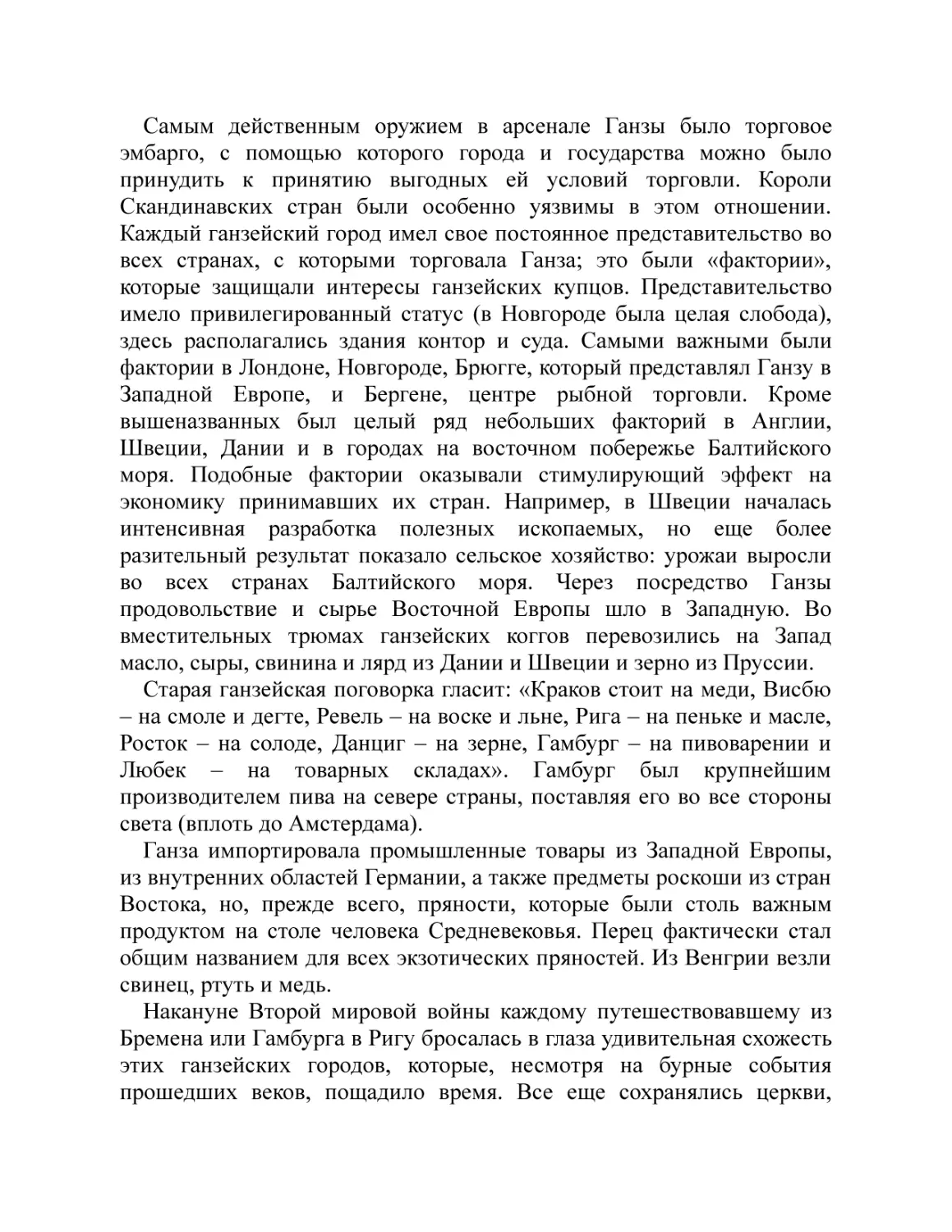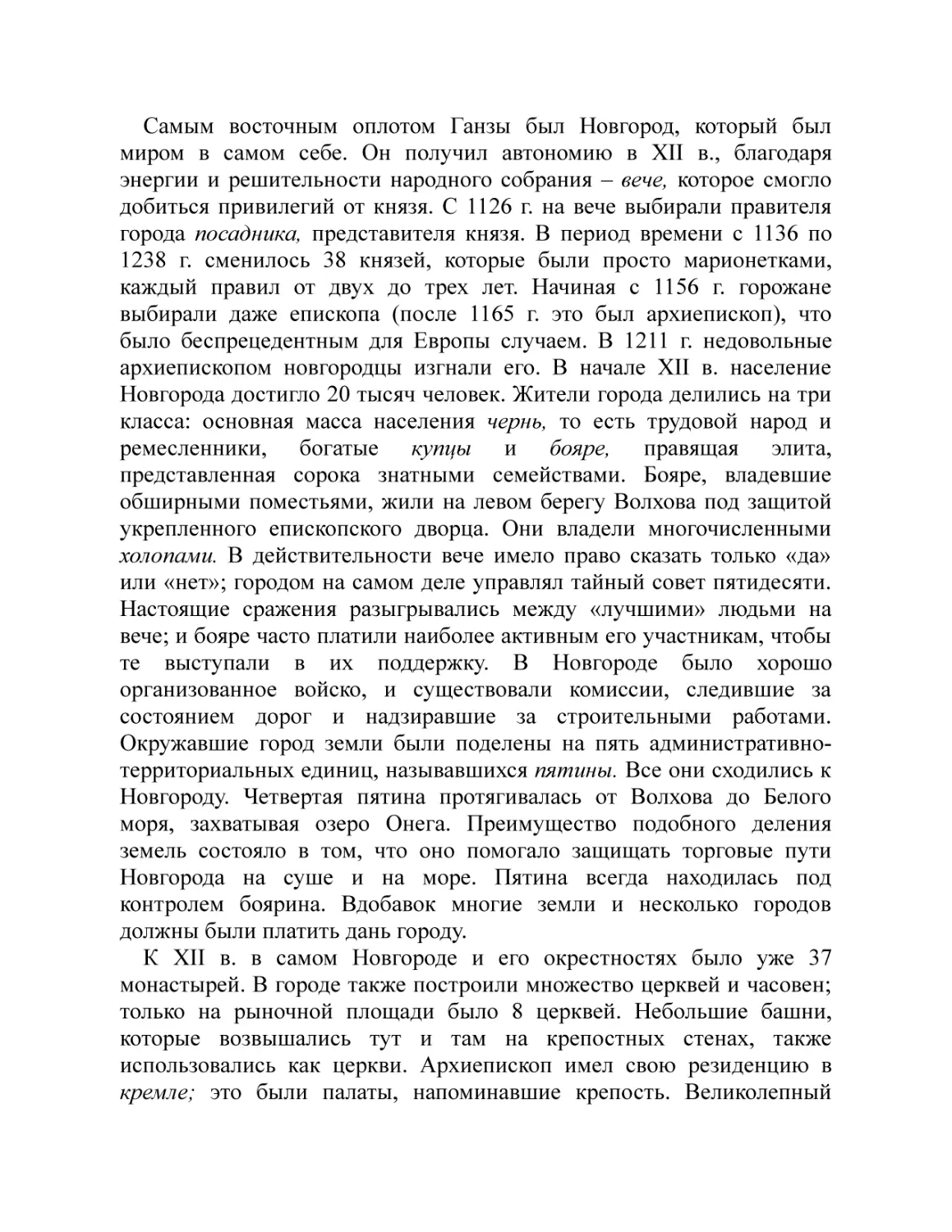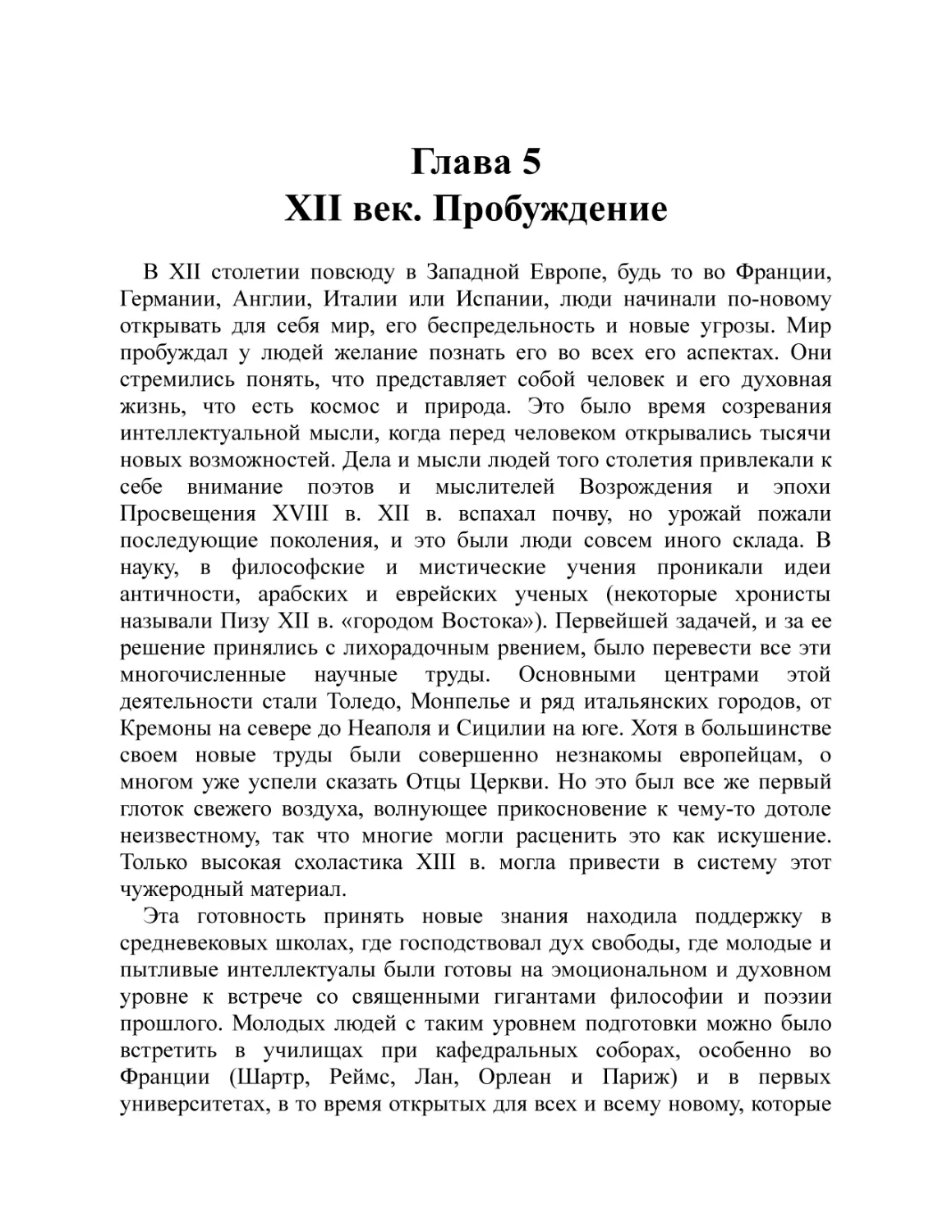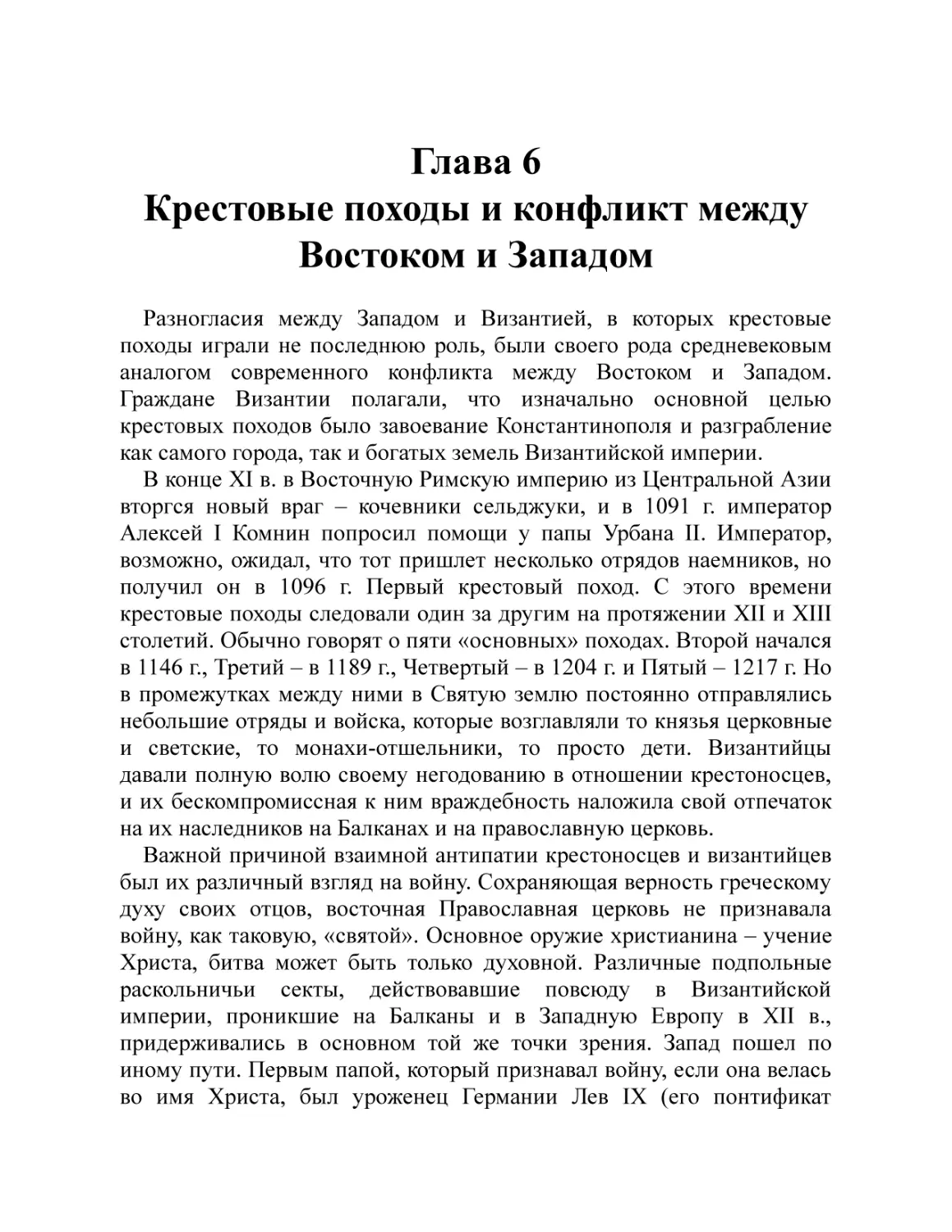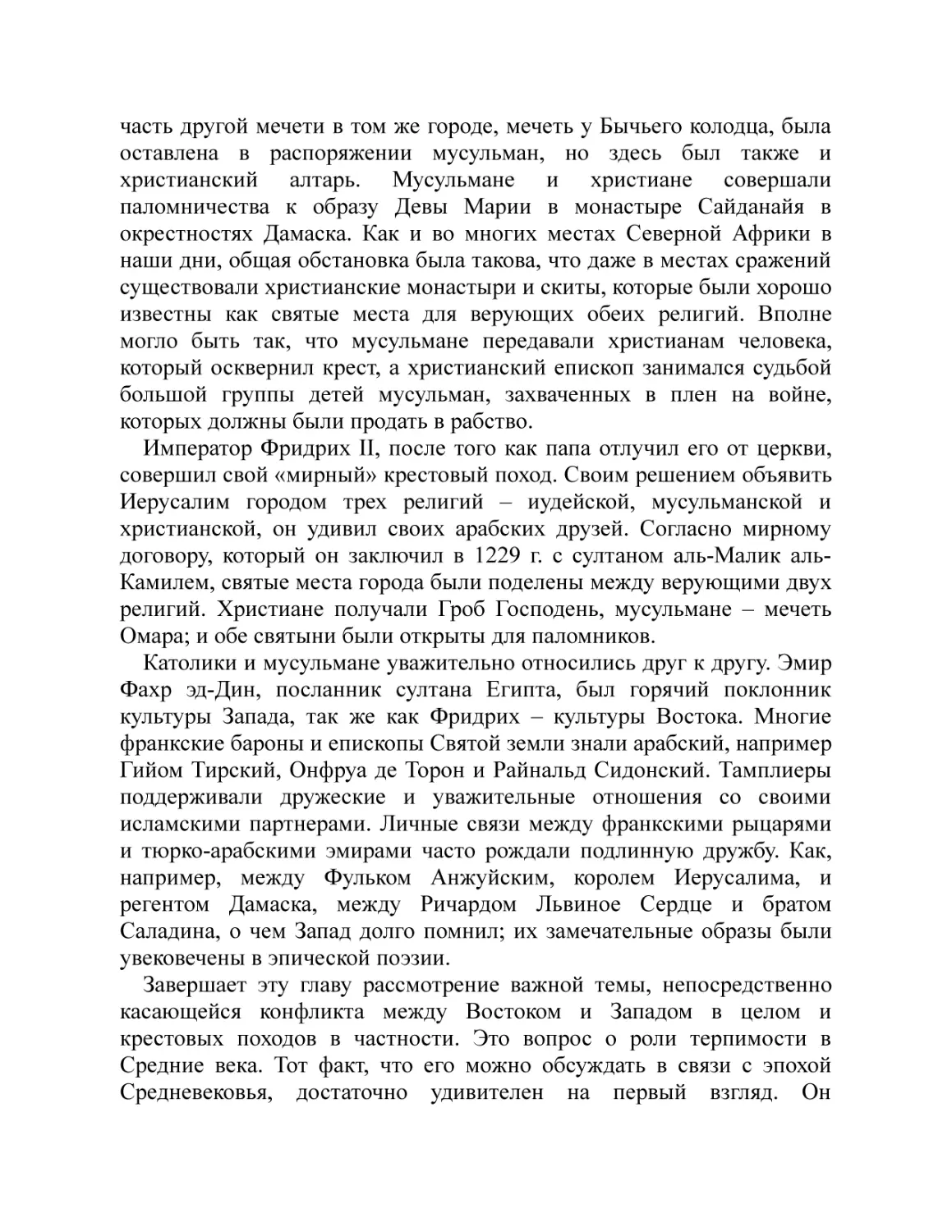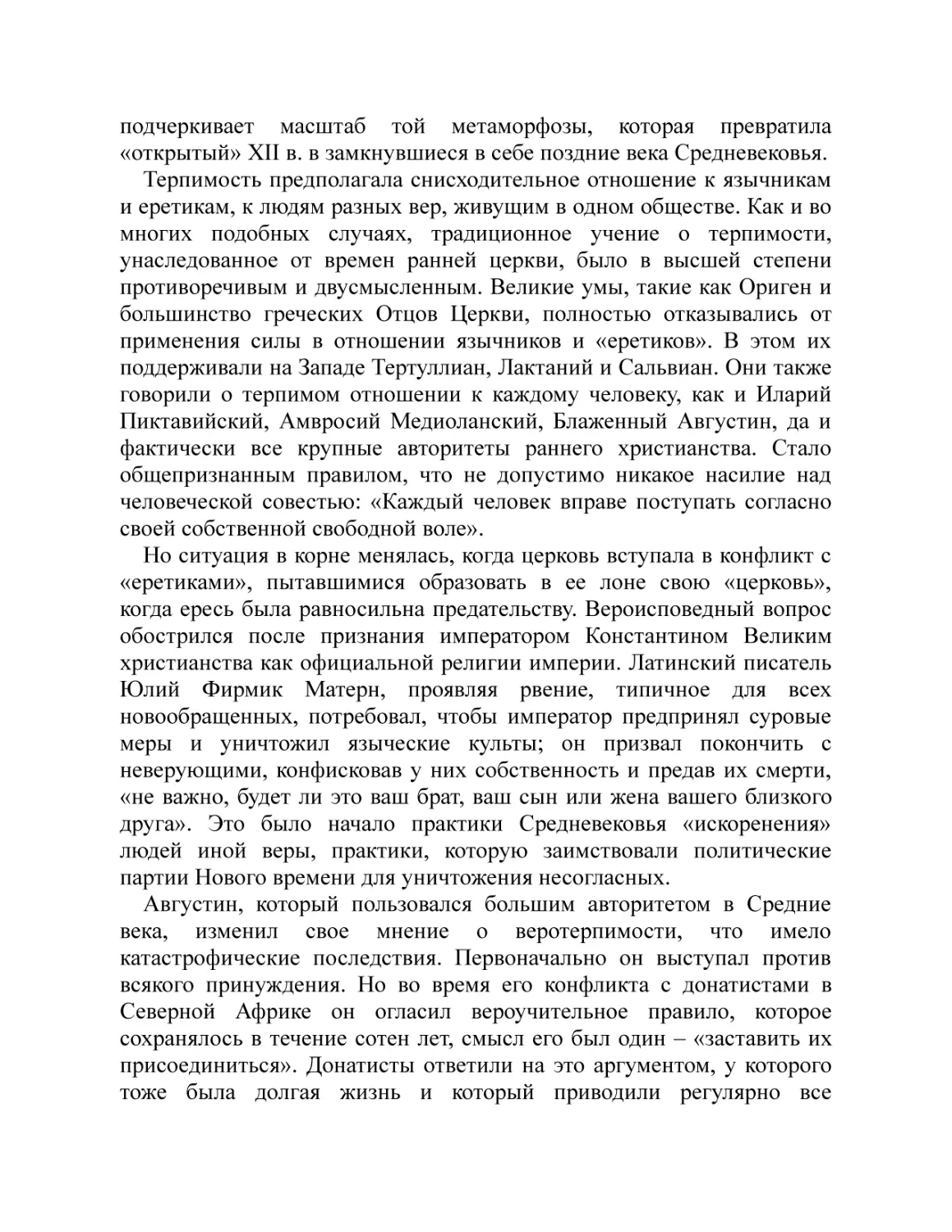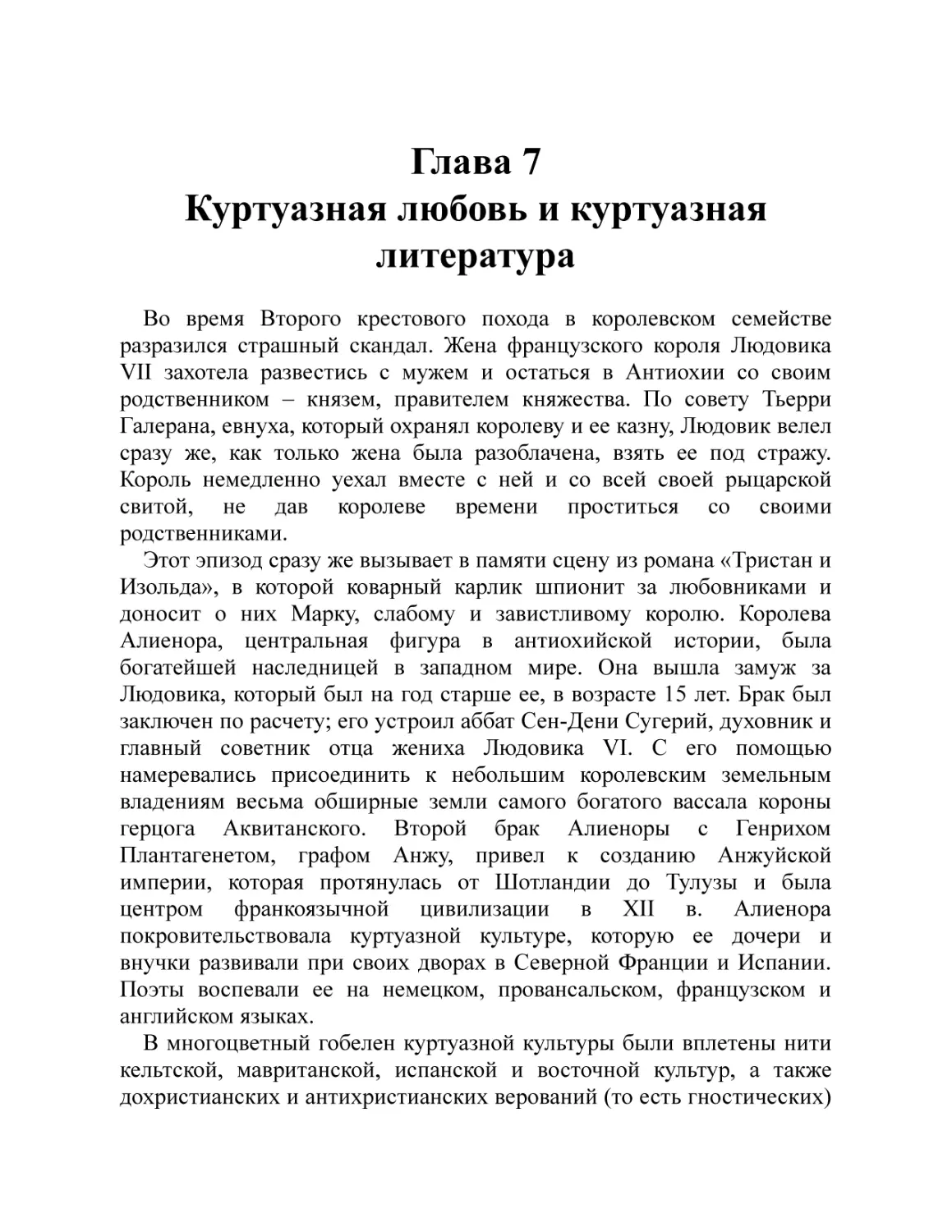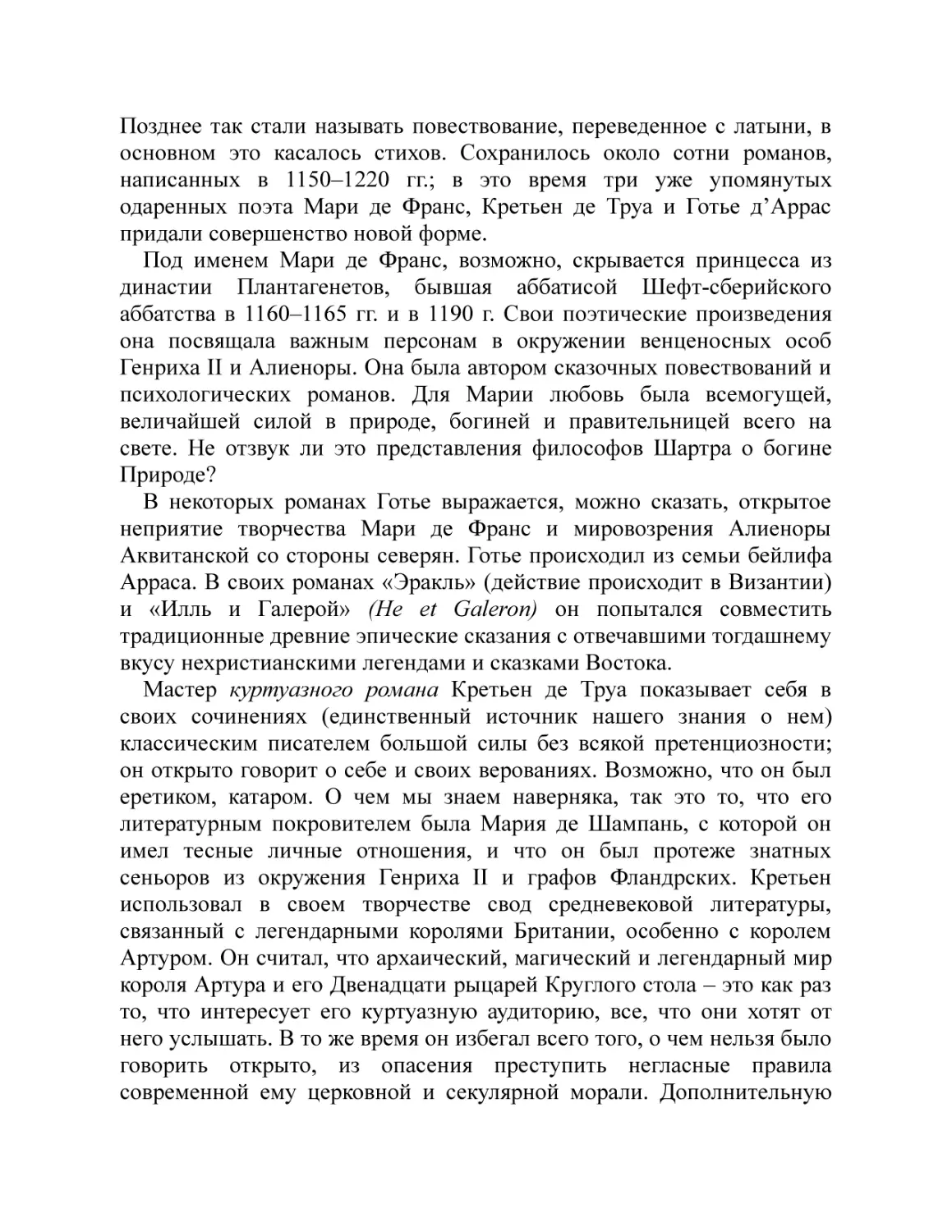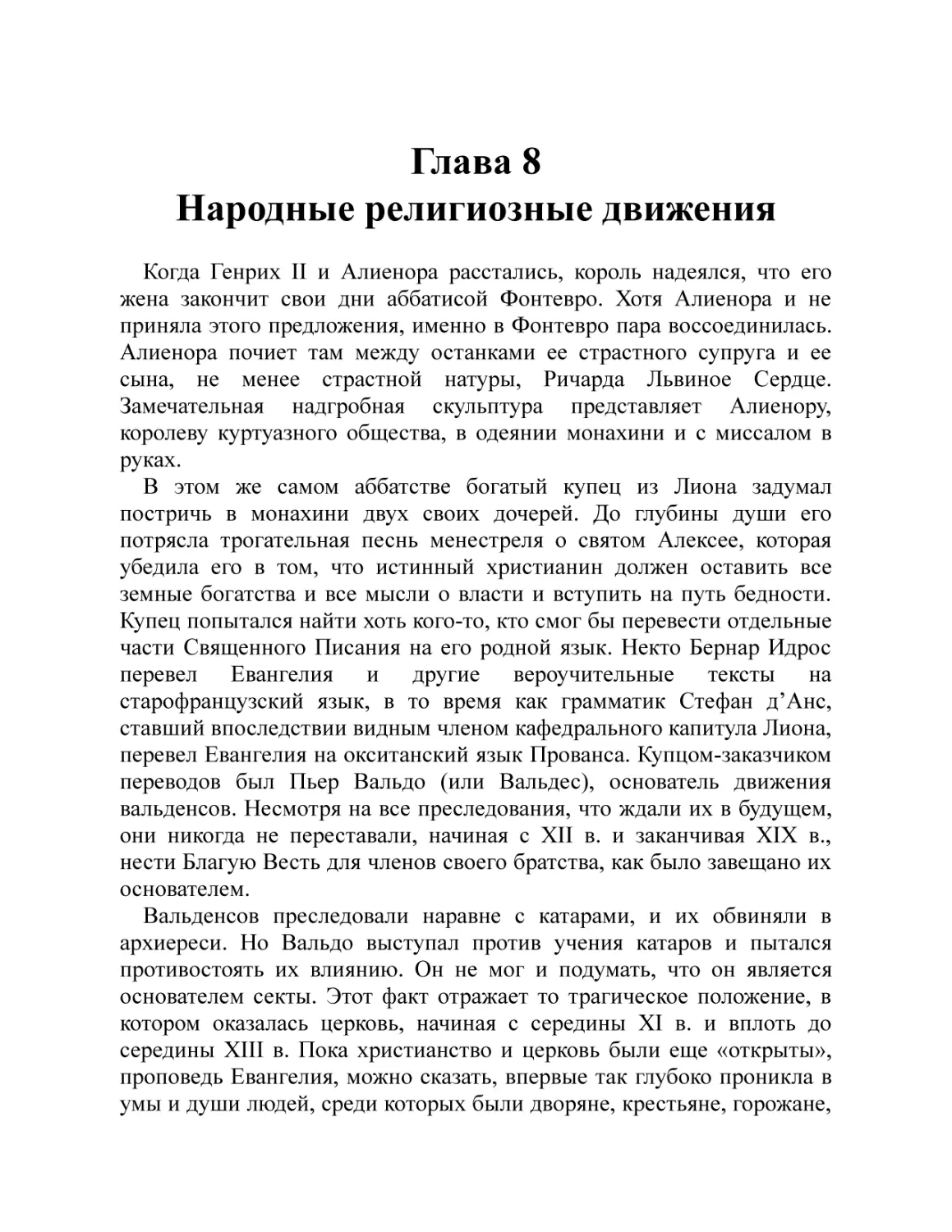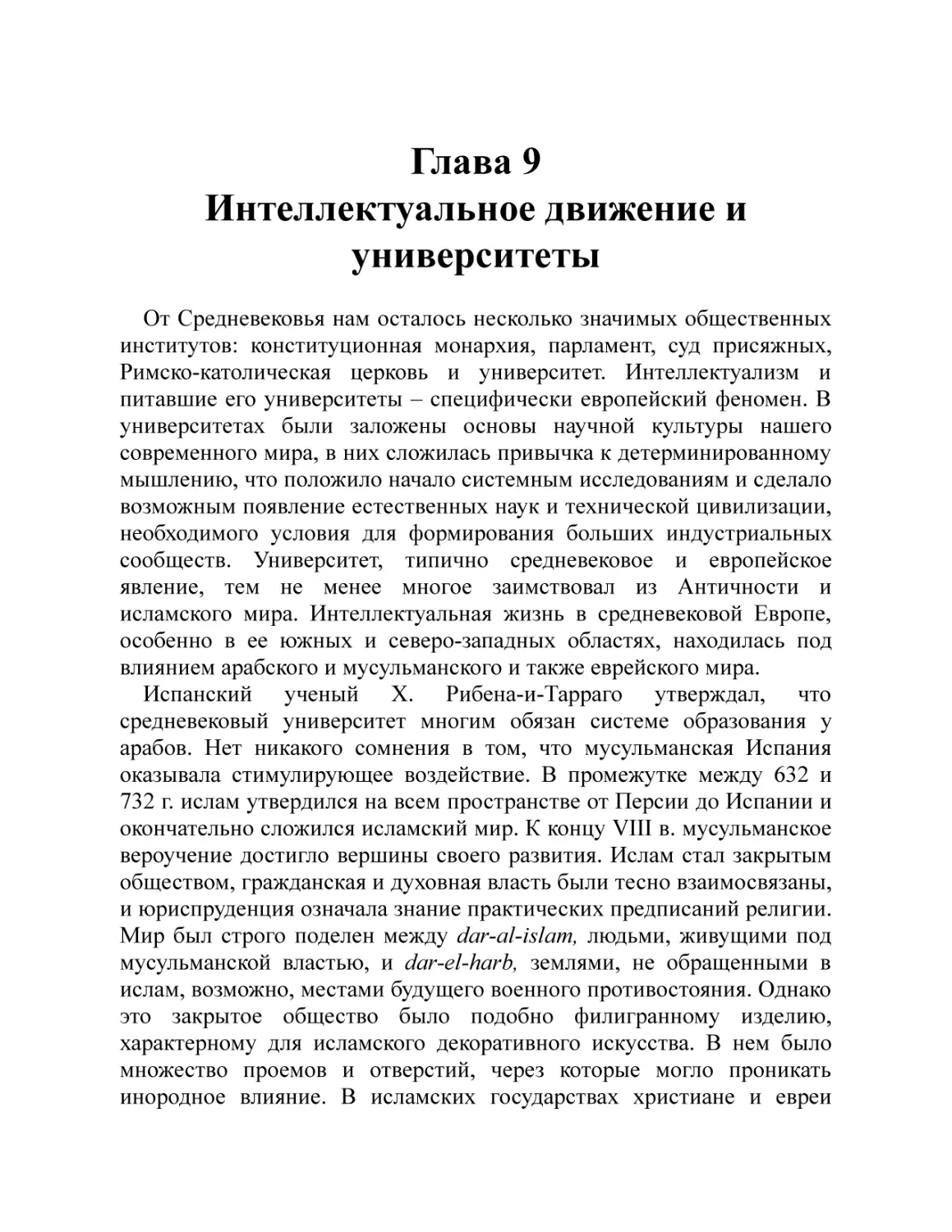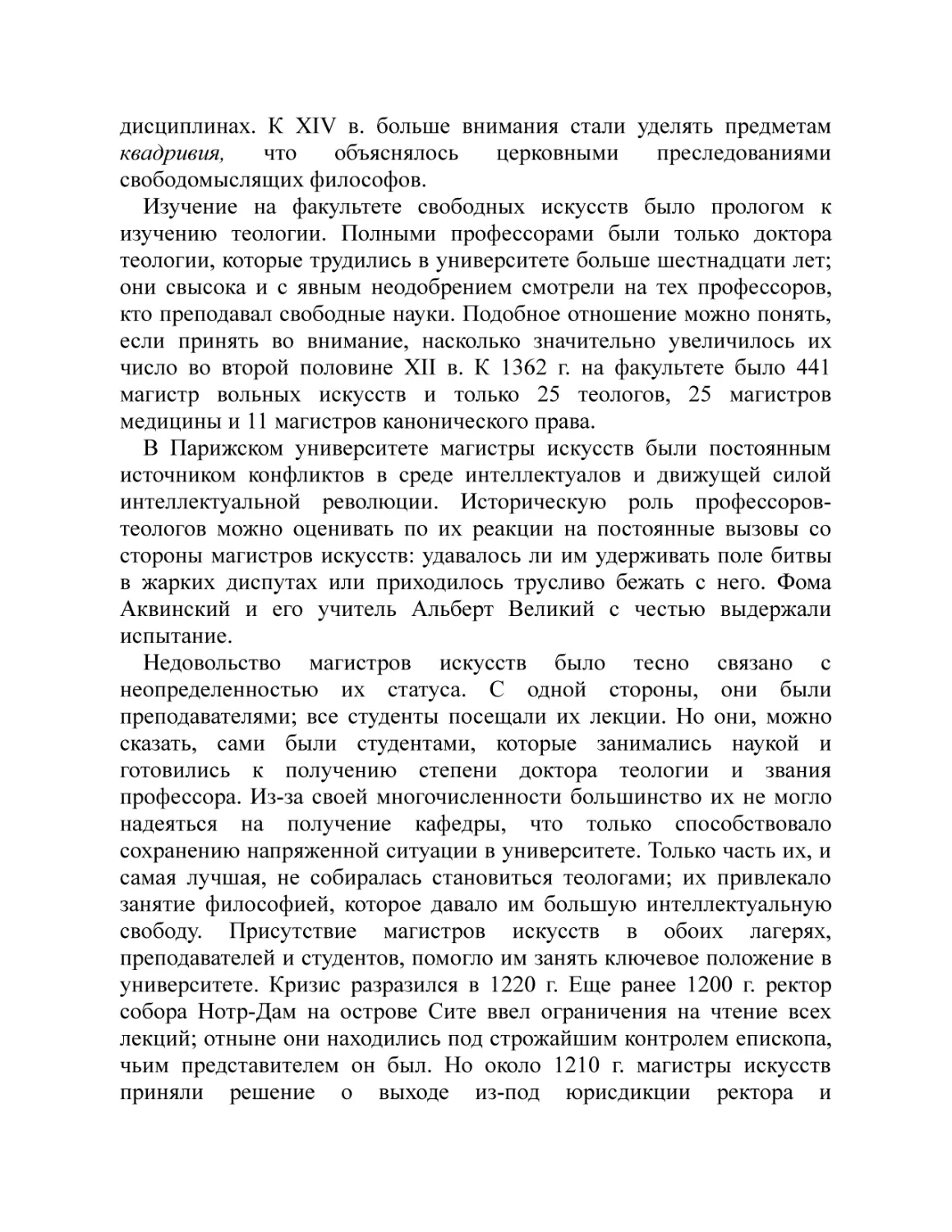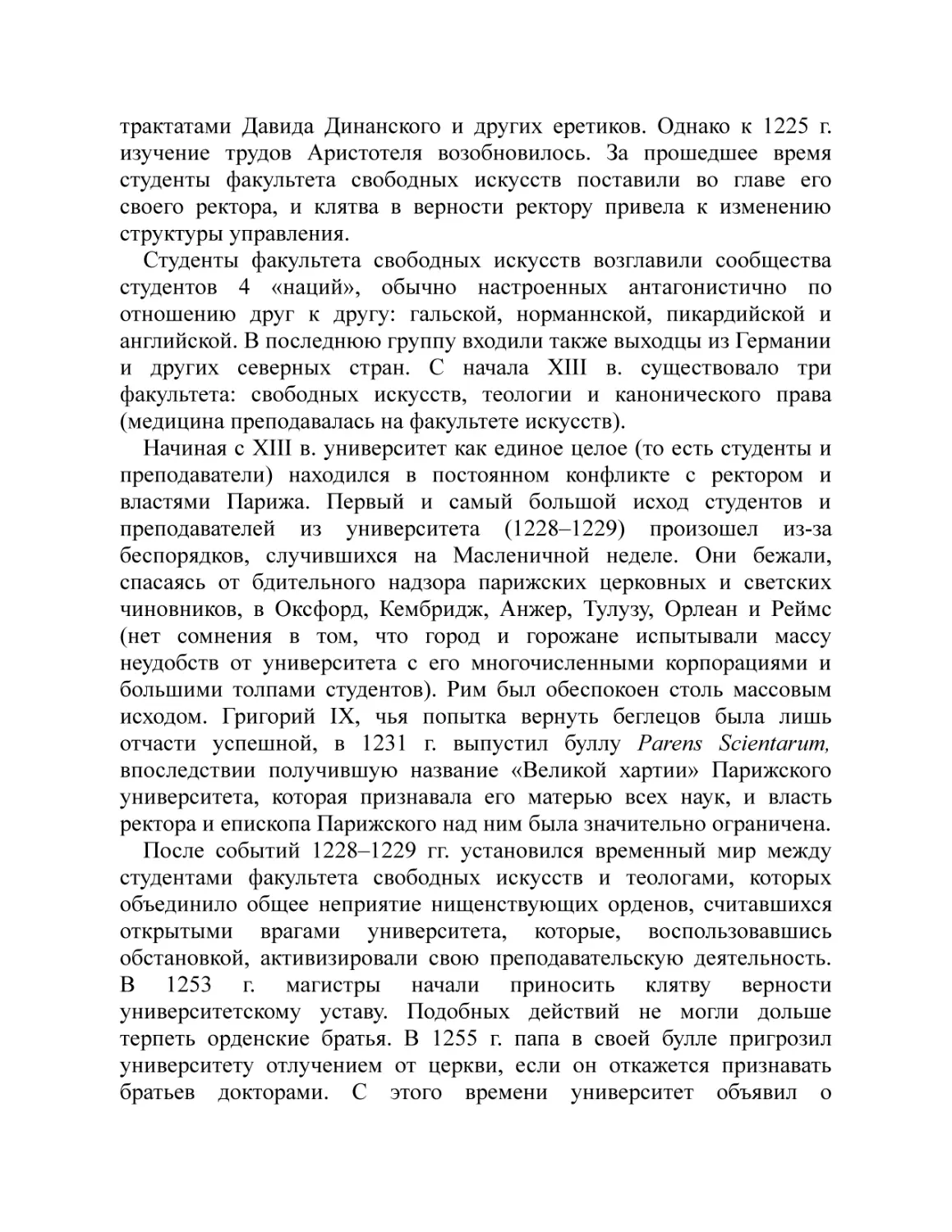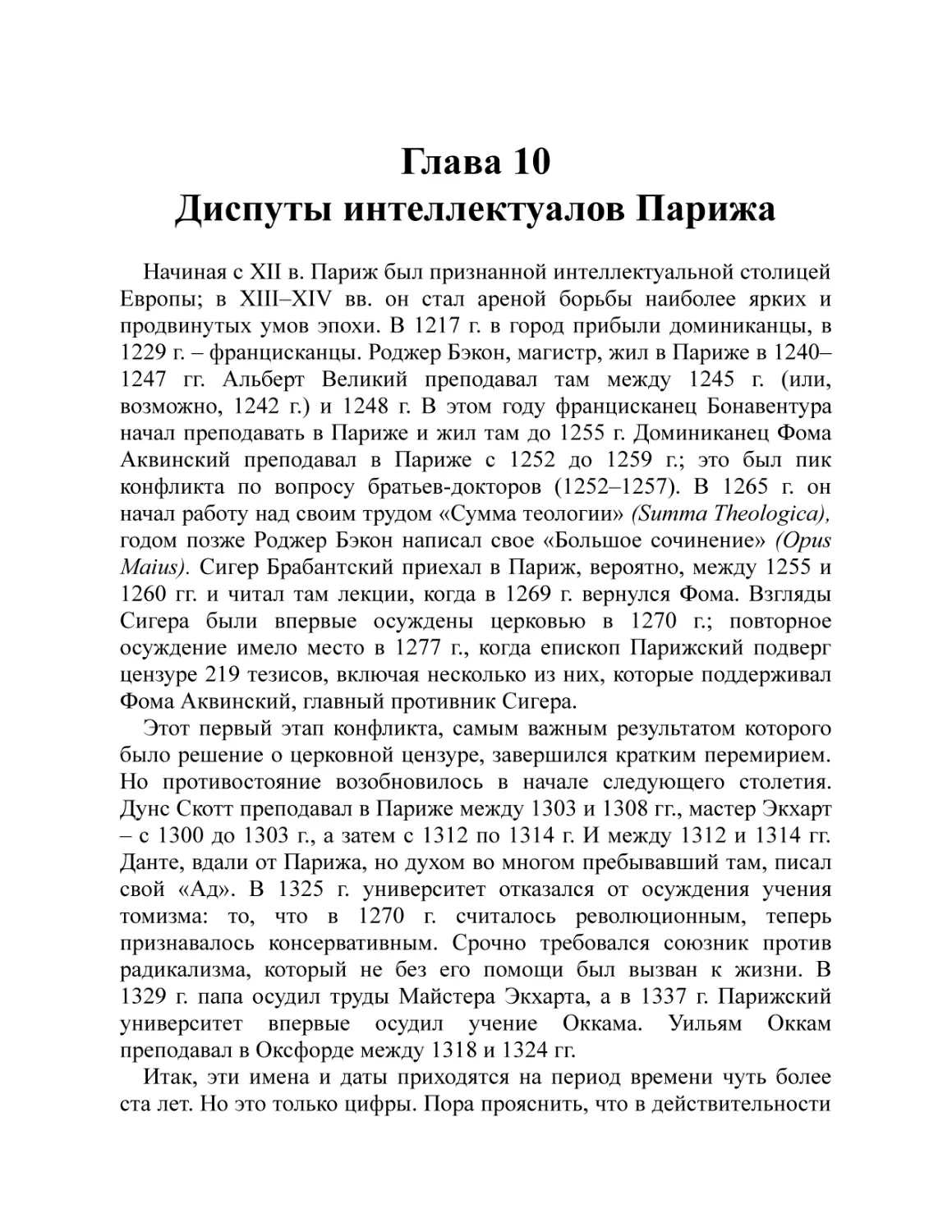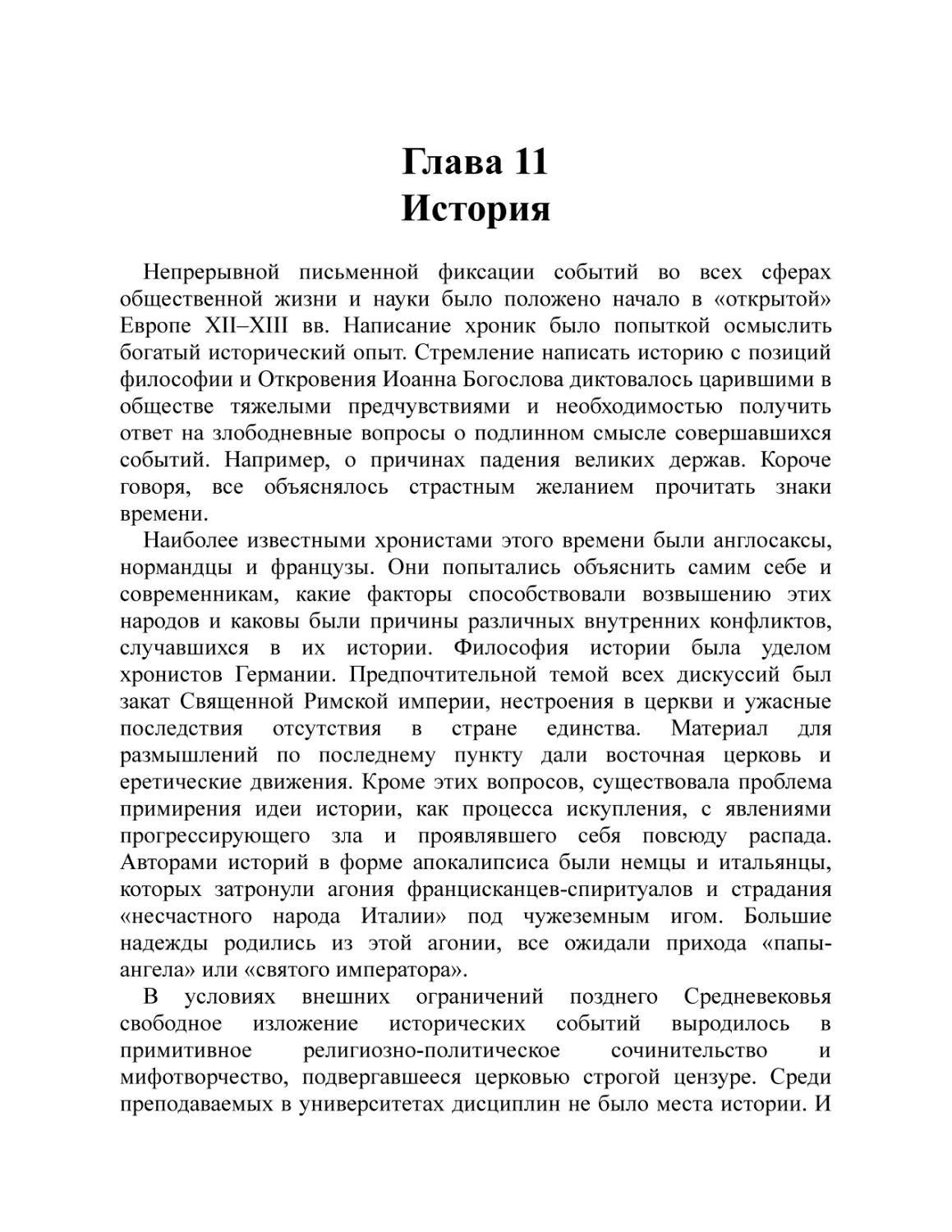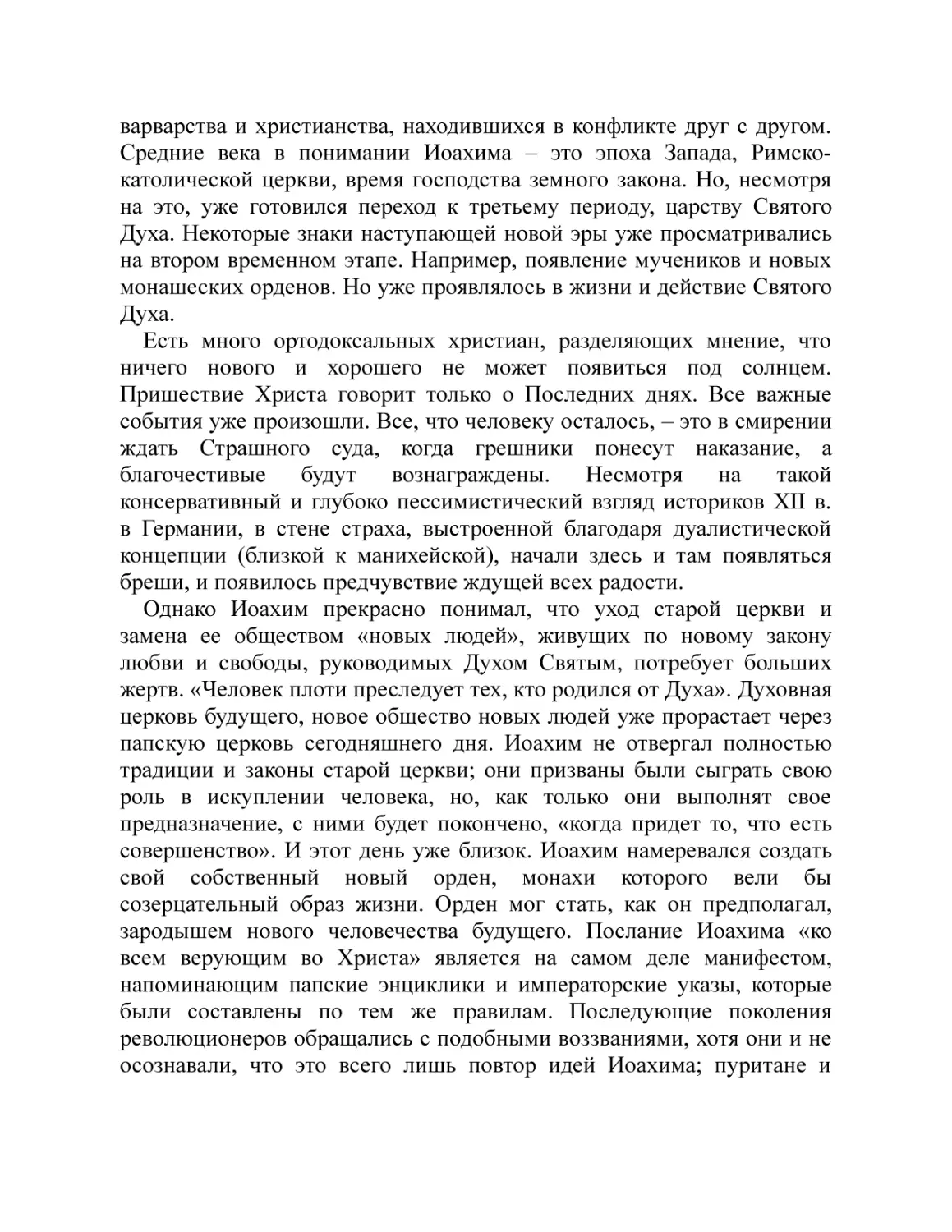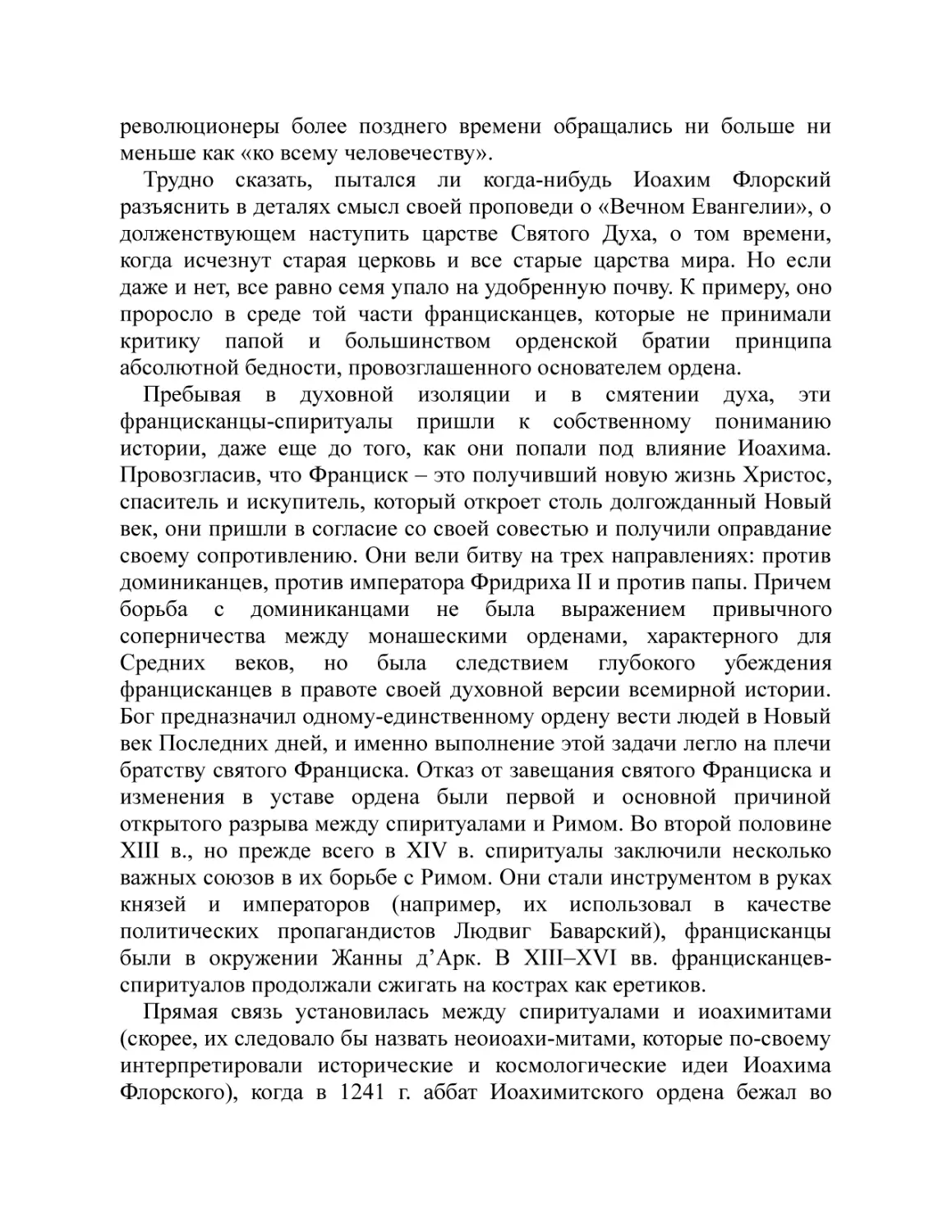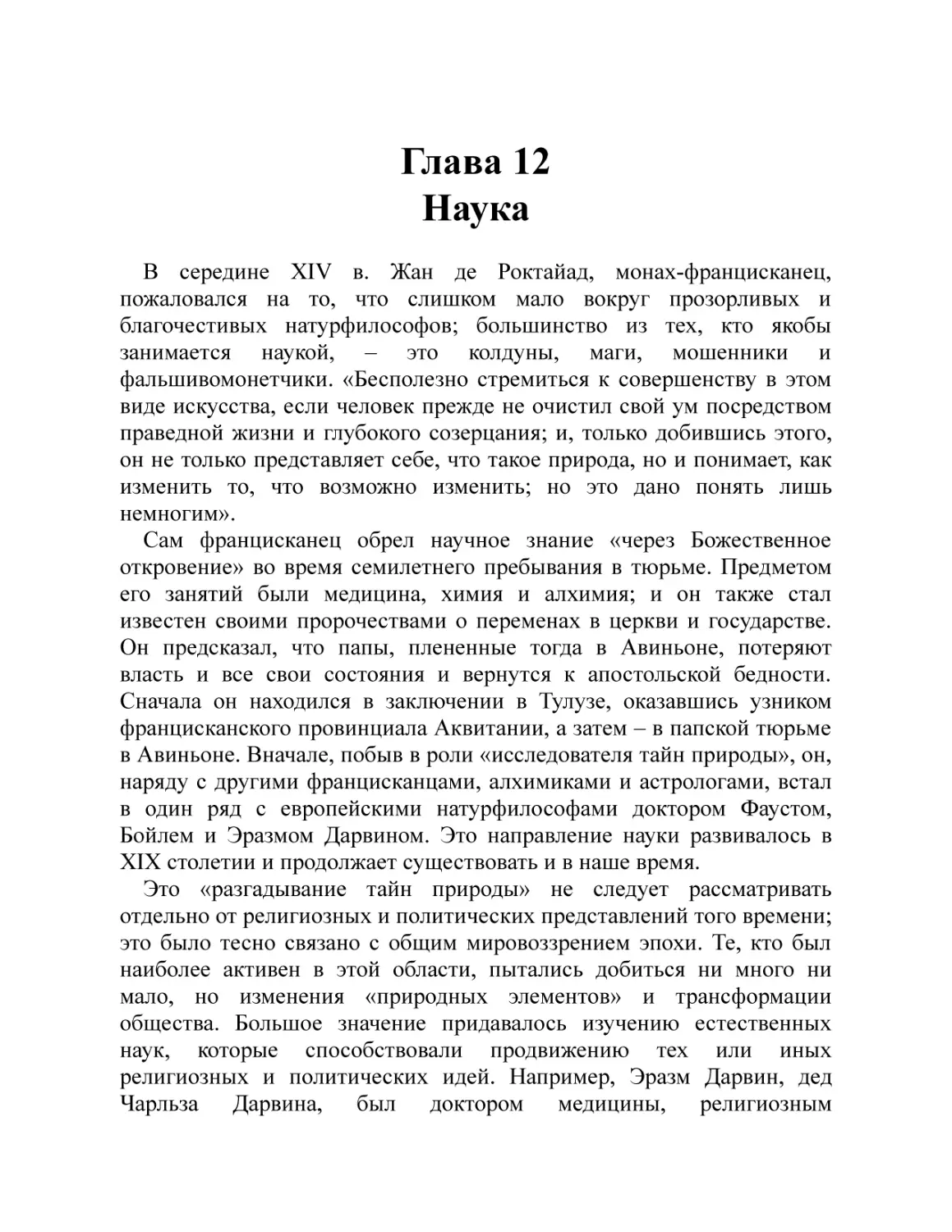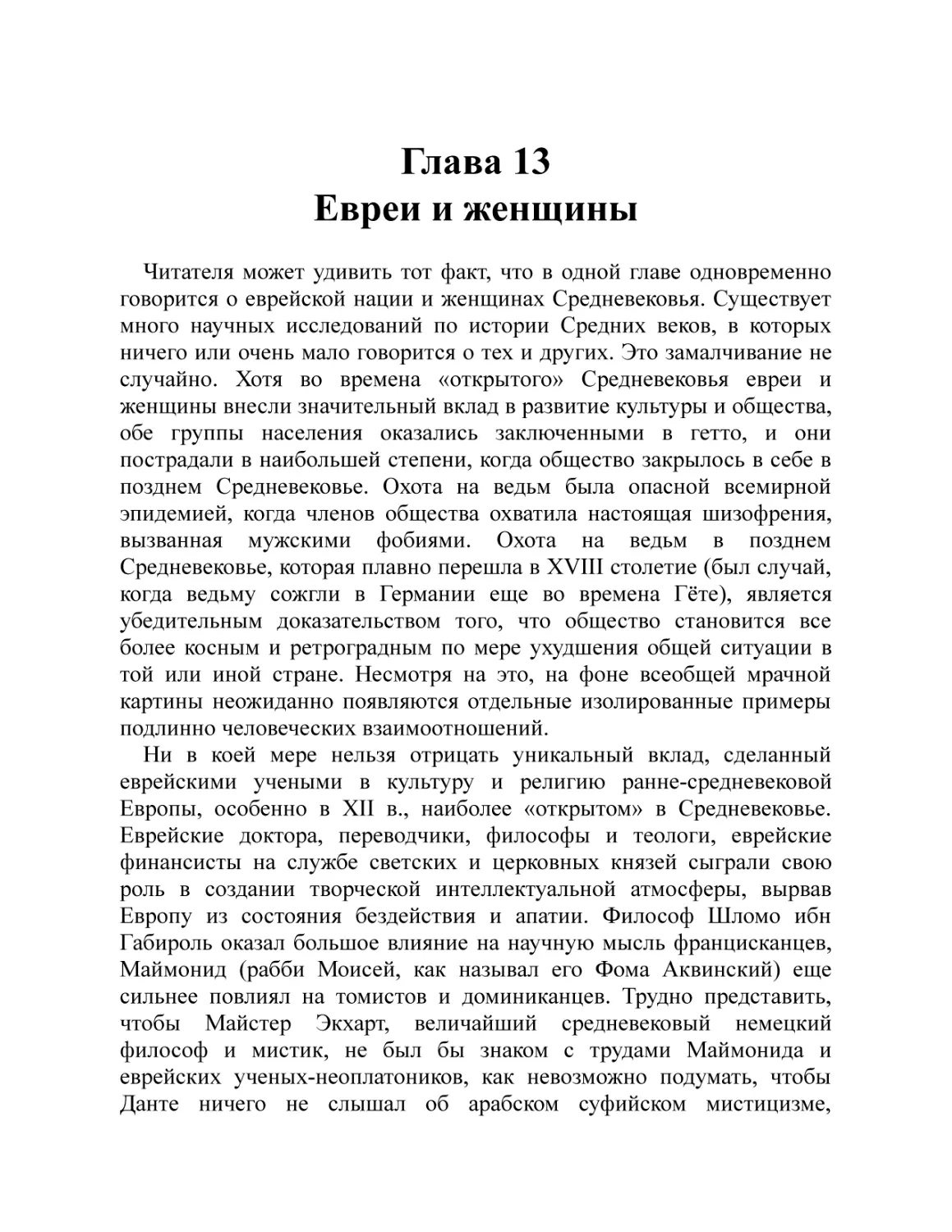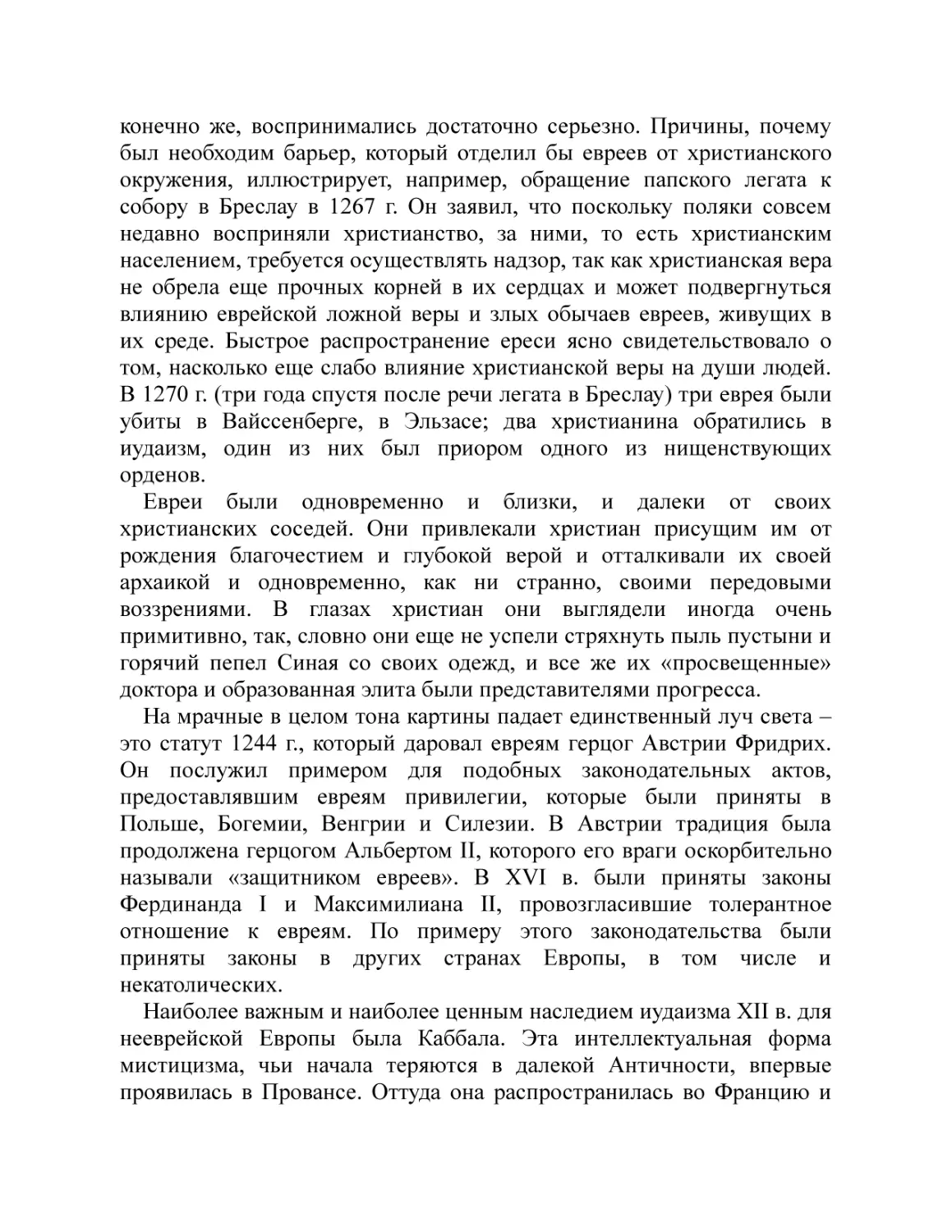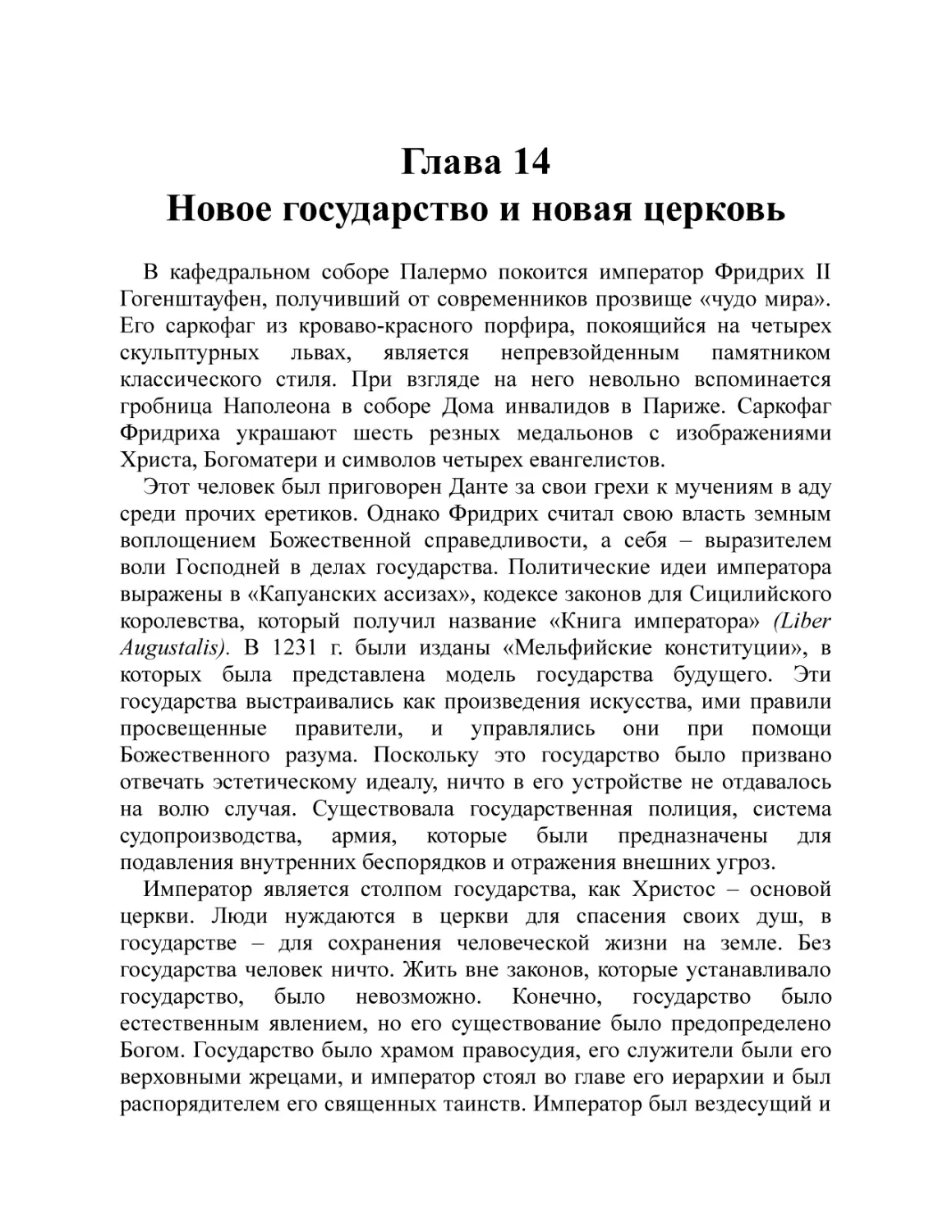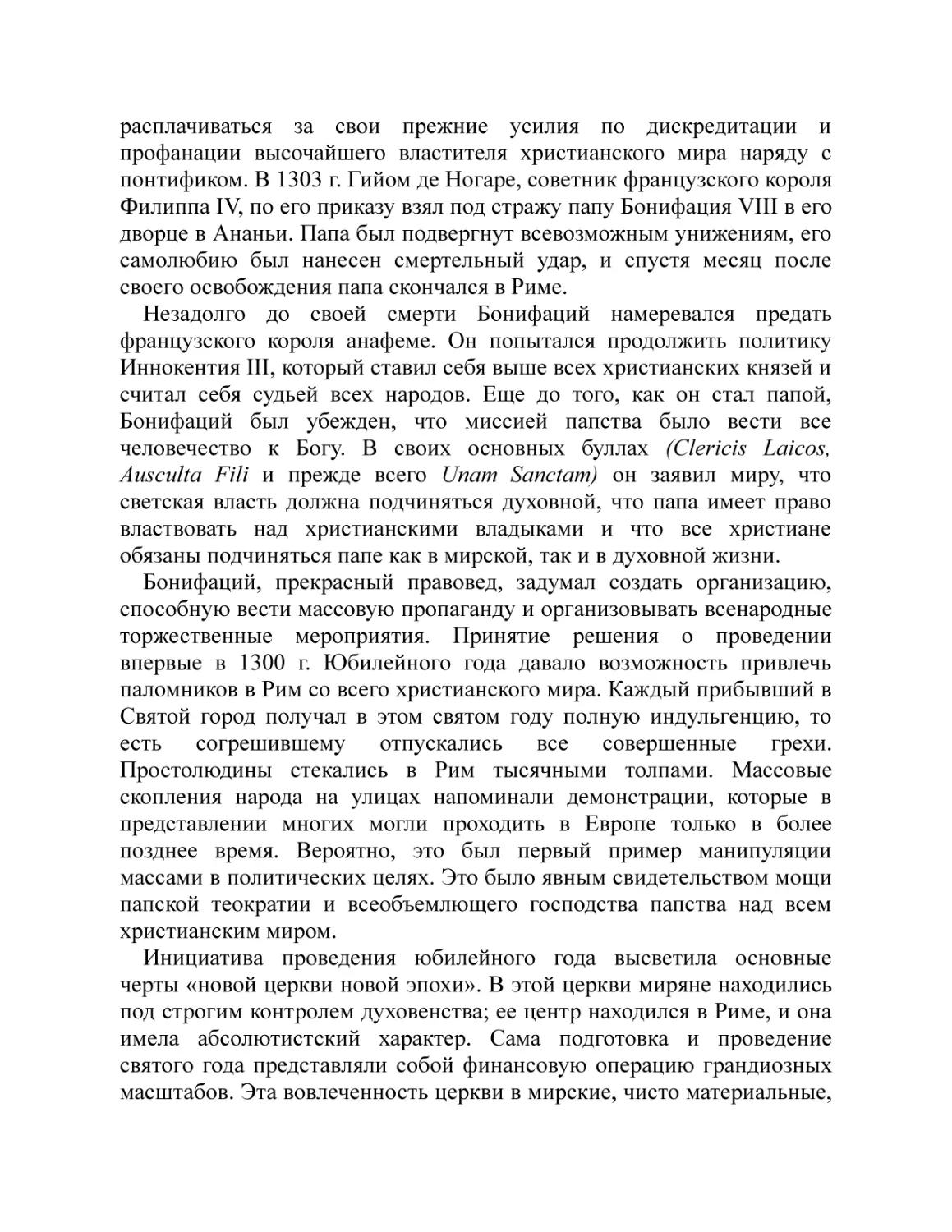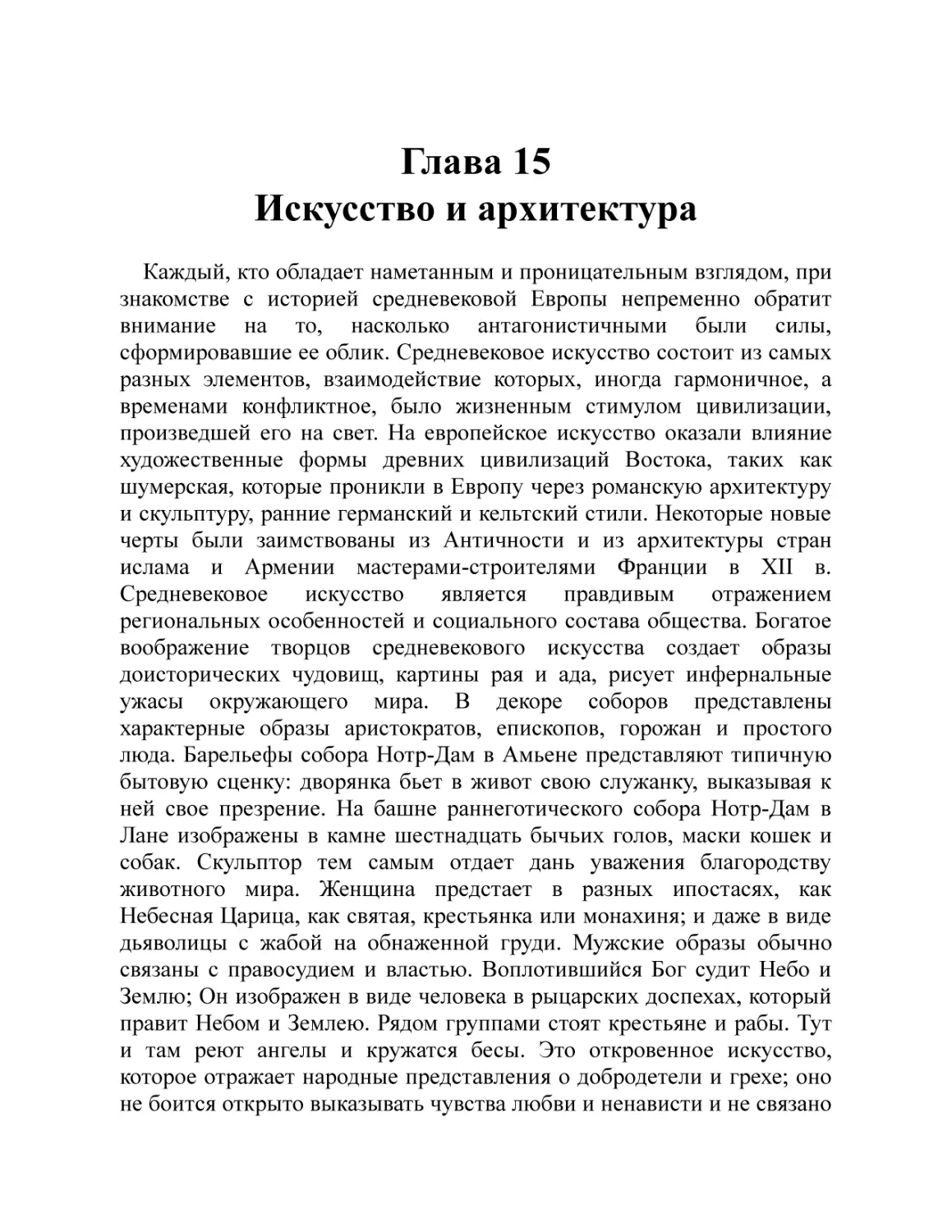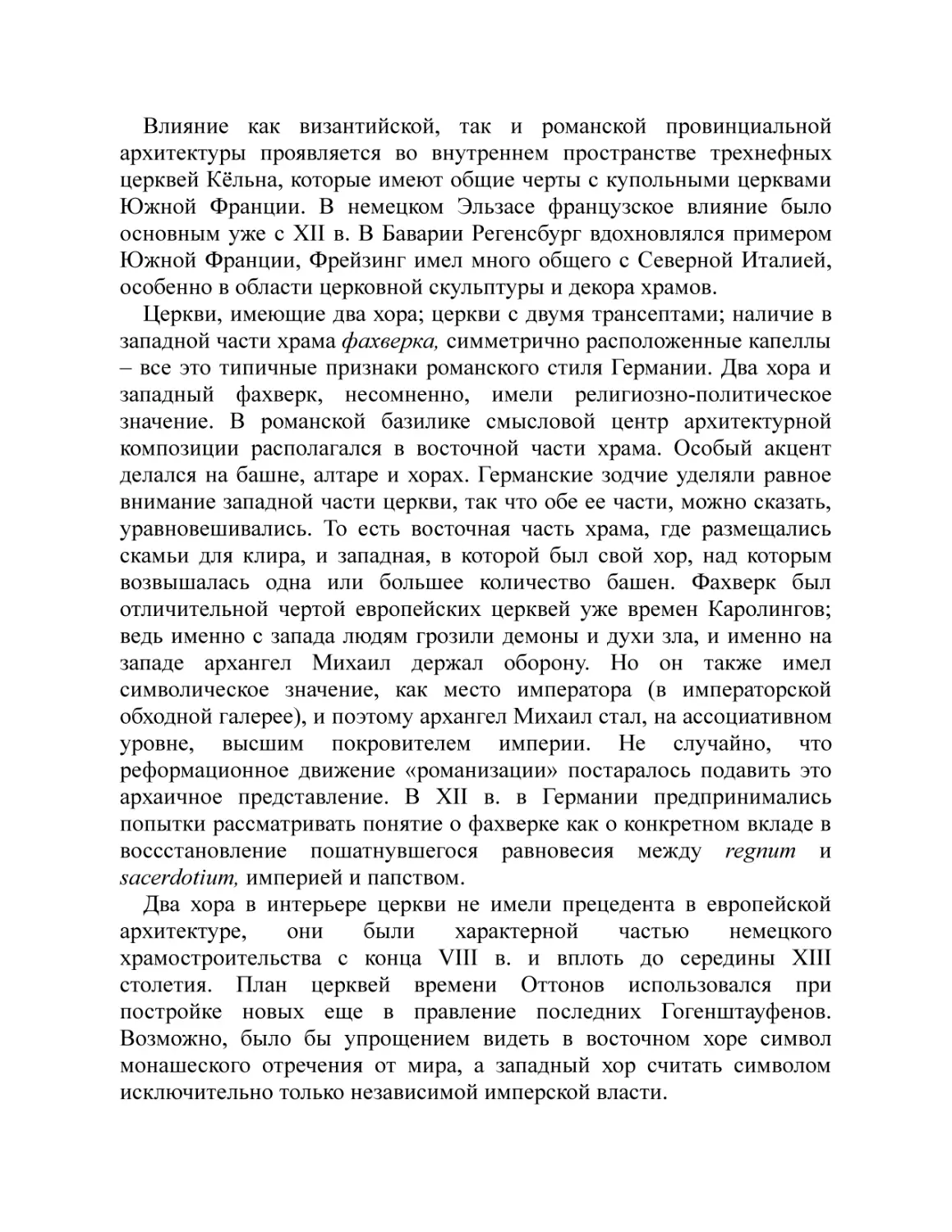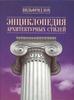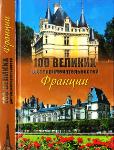Автор: Хеер Ф.
Теги: история европы крестовые походы средневековье правители великие династии мира
ISBN: 978-5-9524-5765-2
Год: 2024
Текст
Фридрих Хеер
Мир Средневековья. Рождение Европы:
эпоха великих завоеваний и
выдающихся свершений
FRIEDRICH HEER
THE MEDIEVAL WORLD
EUROPE,
1100–1350
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2024
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2024
Предисловие
Все, кто пишет о Европе в качестве стороннего наблюдателя,
бывают наиболее объективны. Некий отстраненный взгляд возможен
для англичан, которые со времен раннего Средневековья привыкли
думать о своей стране как об alter orbis, мире в себе, отличном от
континентальной Европы. Автор этого краткого обзора европейской
цивилизации в период времени с 1100 по 1350 г. не имел подобного
преимущества. Это книга, написанная европейцем, уроженцем
Центральной Европы, в которой сохранилось многое из
средневекового наследия, и это, возможно, мешало автору в работе.
Но еще более трудной задачей было описать важные исторические
события иногда с помощью всего лишь одной-единственной фразы.
Таким образом, многие проблемы и спорные вопросы в некоторых
областях исторического знания остались вне рамок исследования.
Жертвой чего стали не только известные исторические деятели, такие
как Уильям Оккам, но и такие важные темы, как отличия в статусе
крестьянства в различные периоды Средневековья. Пришлось
опустить тривиальные на первый взгляд, но фактически имеющие
большое значение подробности. Вследствие ограниченности места
важные аспекты повествования подверглись сокращению. Портреты
исторических деятелей были даны в общих чертах, при этом была
предпринята попытка обрисовать их ярко и образно. Необходимо было
также иметь в виду, что представления о подлинной жизни в Средние
века, не говоря уже о гипотезах историков, полны противоречий.
Автор смеет надеяться, что эта небольшая книга, несмотря на все ее
недостатки, побудит читателя заняться исследованием спорных
вопросов цивилизации Средневековья, которые в книге преднамеренно
представлены в провокационной форме. В сущности, это «открытая»
книга; ее целью является подвести читателя к работам других
писателей и ученых, которые по-разному освещают поднятые большие
проблемы. Если читателя заинтересует история Средних веков,
основная цель автора будет достигнута.
Глава 1
Европа в 1100–1350 гг
Современное европейское общество, как Западной, так и Восточной
Европы, во многом продолжает опираться на свое средневековое
наследие. История – это настоящее, и настоящее – это история. Если
мы более внимательно посмотрим на кризисы и катастрофы, надежды
и страхи нашего сегодняшнего дня, осознаем мы это или нет, но нас
волнуют события, которые, прямо или опосредованно, имеют начало в
высоком Средневековье.
В этот период в Европе произошли перемены, имевшие
далекоидущие последствия. «Открытый» и бурно развивавшийся в
XII в. континент к середине XIV столетия превратился в «закрытый».
Сформировалась Европа со своими внутренними и внешними
границами, в которой народы, государства и церкви уже вошли в
бескомпромиссную и зачастую враждебную конфронтацию друг с
другом. Такое положение сохранялось по крайней мере до середины
XIX столетия и даже до XX в.
Границы Европы в XII–XIII вв., позднее ставшие барьерами,
железным занавесом, разделившим ее на отдельные миры, были все
еще открыты, даже изменчивы. Существовали открытые границы и на
восточной оконечности Европы. Вплоть до монгольского нашествия и
Четвертого крестового похода (1204) Русь ничто не отделяло от
Запада; ее связывали с Западной Европой, и в частности с Германией,
торговые и экономические отношения и аристократические браки. В
XI–XII вв. международный торговый путь, шедший из Скандинавии в
Византию, пролегал через Русь, через Великий Новгород.
Великолепное произведение искусства XII в. – бронзовые
Магдебургские врата Новгородского кафедрального собора Святой
Софии, которые создал неизвестный немецкий мастер, являются
свидетельством этих связей.
Русь, пока оставалась открытой, была мостом, перекинутым через
европейские границы, в частности между Византией и Римом, между
церквями Востока и Запада. Обособленность Рима от Византии имела
столь же давнюю историю, как и противостояние католиков и
православных греков. Эти церкви находились в конфронтации друг с
другом, подобно тому как пророки Ветхого Завета сталкиваются лицом
к лицу с апостолами Нового Завета на фасадах средневековых соборов.
Соперничество в церковных делах между Римом, столицей папства, и
Константинополем,
городом
императора
Константина,
канонизированного православной церковью в лике равноапостольного,
с начала VIII в. все более обострялось. Византия, то есть Восточная
Римская империя, и ее православная церковь с крайней
подозрительностью относилась к недавно образовавшейся Франкской
империи и той поддержке, что она получила от папства. Что
обеспечивало баланс их интересов, так это задача обращения в
христианство стран Восточной Европы. Та из сторон, которая сможет
достичь успехов в этом деле, и будет оказывать решающее влияние на
их политику, общественные взаимоотношения и культуру.
Несмотря на то что в XI в. произошло разделение вселенской церкви
на Римско-католическую и Православную, «открытая» Европа XII в.
все еще задавала тон дружественному сотрудничеству, о чем
убедительно
свидетельствует
искусство
Западной
Европы.
Окончательный разрыв между восточной Православной и
Католической церквями наступил после Четвертого крестового похода.
Сразу же началось противостояние Восточной и Западной Европы,
продолжавшееся на протяжении последующих семи веков. Один
только вид франкских воинов («варваров», «разбойников»,
«поджигателей войны», как их обычно называли), пошедших в поход в
Святую землю во главе со своими князьями и епископами, вызывал
проклятия у византийцев, людей высокой культуры, как клириков, так
и мирян, и приводил их в отчаяние. Византийцам казалось, что у
франков была одна цель – уничтожение величайших шедевров
культуры и политической мысли общемирового значения. Они были
врагами
великой
империи
ромеев,
этого
замечательного
многонационального государства, которому удавалось столь
длительное время отражать многочисленные вражеские нашествия.
«Открытая» Европа XII и начала XIII столетия имела также границу
с исламом, которая тоже была изменчивой. В Испании шла война; это
означало, что две аристократические культуры находились в состоянии
постоянной вражды. Но даже в такой обстановке продолжали
существовать старые дружественные связи и завязывались новые.
Браки заключались между представителями испанских христианских и
исламских семей, и даже Сид Кампеадор, величайший испанский
герой в войне с мусульманами, подвиги которого прославляются в
национальном эпосе, большую часть жизни провел на службе
исламских правителей.
Все это объясняет стремление к познанию богатой культуры ислама,
которая неудержимо влекла к себе европейцев. В основе этой
сокровищницы знаний лежало богатейшее наследие философской
мысли
Древней
Греции,
преумноженное
многочисленными
комментариями и толкованиями исламских ученых Ближнего Востока
и Средиземноморья, учителями и наставниками обширной и
процветавшей «империи знаний», которая протянулась от Персии и
Самарканда, через Багдад и Салерно, вплоть до Толедо. Арабские (и
еврейские) переводчики и комментаторы помогли познакомить Запад с
философским и научным наследием Платона и Аристотеля, трудами их
учеников и последователей. Не только в Испании, но также в Южной
Франции, на Сицилии и в Южной Италии были люди, которые
приветствовали эти контакты и поддерживали связи с миром ислама.
Поскольку в XII в. внешние границы Европы были открыты,
естественно, внутри ее все общественные процессы развивались
свободно. Это касалось как образования, которое было либеральным,
так и народного благочестия, принимавшего различные формы; да и
сама церковь продолжала сохранять открытость. Обучение наукам
становилось все более фундаментальным. В школы, открывавшиеся
при кафедральных соборах Франции и Германии, и в городские школы
в Италии поступало все больше юных учеников, которые отличались
пытливостью ума и новым, непредвзятым взглядом на мир. Культура,
носителями которой они становились, имела много черт,
унаследованных из языческой древности и от нехристианского
Востока. Платоники, натурфилософы, поэты и теоретики ars amandi
(искусства куртуазной любви) XII в. были предшественниками
итальянского Возрождения XV–XVI вв. И когда в XVI–XVII вв.
закладывались основы современного научного знания, ученыеестествоиспытатели и философы (Николай Кузанский, Лейбниц,
Галилей, Исаак Ньютон, Бойль и Локк) постоянно оглядывались назад,
заимствуя научный опыт «открытой» Европы XII – начала XIII в.
Явно предвзятое мнение – смотреть на все Средневековье как на
темные века, которое основывается на банальном утверждении, что
средневековый
мыслитель
был
ограниченным
человеком,
находившимся под влиянием фанатичного духовенства, спеленутым в
смирительную
рубашку
застывших
религиозных
догматов.
Действительность дает нам совершенно иную картину. Понятно, что
ни одно столетие Средневековья (как и наше время) не было
полностью свободно от нетерпимости. Всегда существовали люди, не
воспринимавшие нонконформистские взгляды; люди с ограниченным
кругозором, опасавшиеся всего нового. Однако для правильной оценки
реальной действительности XII – начала XIII столетия и
открывавшихся тогда перспектив необходимо понять, что и набожный
простой народ, и духовная элита общества обоюдно были готовы
принять, со всем присущим им здравым простодушием, истинную
«католическую» веру. Только с приходом сторонников пуризма она
была подвергнута анализу, когда были выделены ее отдельные
компоненты и изолированы друг от друга и между ними была вырыта
глубокая пропасть. Открытая религиозная вера раннего Средневековья
была плодотворным смешением различных ее составляющих,
заимствованных из дохристианских «языческих» народных верований
и других религий, христианских по духу. Эта была религия народных
масс, а также в некоторых случаях господствовавших классов и
выдающихся исторических деятелей. Она успешно сосуществовала с
открытой культурой в лоне такой же свободной церкви, проявляя себя
в такой форме, которая позднее вызовет неприятие людей века
Реформации и Контрреформации.
«Открытая» церковь «открытого» XII столетия признавала свободы,
о которых не могли даже помыслить представители более поздних
поколений. Это была «живая» церковь; это определение равным
образом относилось и к ней самой, и к ее членам – оптимистичным,
ярким личностям, уважавшим чужое мнение и способным
договариваться. Таинства еще не подверглись строгому определению и
не были сведены к семи, а месса не получила окончательного
оформления. Многие положения веры еще не стали догматами;
в XIII в. их продолжали обсуждать теологи, и лишь окончательно они
были утверждены на Тридентском соборе в XVI столетии. Только в
середине XII в. церковь стала пониматься как реальный субъект.
Вплоть до этого времени люди мыслили в понятиях раннего
христианства; ни один автор не писал теологических или религиознополитических трактатов о церкви (слово «церковь» означало здание
или Дом Бога) и не возникало никаких богословских споров.
Отважный Абеляр заговорил о теологии в ее современном смысле. Это
был его термин и его концепция европейской теологии. Слова
«церковь» старались избегать из-за возникавшей при этом ассоциации
с языческой Античностью; все осознавали реальные опасности,
могущие возникнуть в случае принятия этого понятия. Господствовало
убеждение, что попытки «понять» Бога, заключить Его в жесткие
рамки теологии являлось некой разновидностью искушения.
Богословские диспуты в этой ранней «открытой» Европе были
перенесены в религиозные мистерии, которым были присущи
благоговейное отношение к богословским вопросам, осознанное
умолчание и Божественная любовь. Вера, как все сверхреальное, могла
только переживаться и никогда не укладывалась в определения.
«Открытая» церковь изначальной Европы была живым союзом
Небесного и Земного; материи и духа; жизни и смерти; тела и души;
прошлого, настоящего и будущего. Действительность была цельной, не
было пропасти между тварным миром и искупленным человечеством;
все люди были одной крови – от первого человека до последнего, все
были насельниками одной и той же земли, сквозь естественный,
природный лик которой временами проступали «сверхъестественные»
черты. Служившие в этой «открытой» церкви епископы и рядовые
священники обладали тем самым редким искусством savoir vivre,
иначе говоря, умением жить полнокровной жизнью. Они были
независимы во взаимоотношениях друг с другом, которые временами
становились то дружественными, то неприязненными, но не
враждебными. Рим был где-то там, далеко, и потому часто
непосредственным духовным наставником человека становился
местный епископ или аббат.
Государственные границы некоторых стран все еще оставались
открытыми. Протяженная граница между Францией и Германией в
Европе, источник повышенной напряженности в течение нескольких
столетий, даже еще не была окончательно обозначена. Для владений
крупных сеньоров была характерна чересполосица; многие магнаты
получали фьефы и земельные поместья в дар, как от французского
монарха, так и от германского императора. В Священной Римской
империи Италия только начинала отстаивать свои государственные
интересы после того, как создала независимую от империи церковную
организацию в 1122 г. в результате заключения Вормсского конкордата.
Восточные границы Европы все еще не были определены. Немецкие
колонисты и местная восточноевропейская аристократия (славянская,
польская, прусская, литовская и венгерская) способствовала
сближению Восточной Европы с Западной, которые стали на время
единым целым. Тем не менее продолжилась экспансия на Восток в
Прибалтийские земли; в начале XIII в. самыми западными точками ее
проникновения стали города Рига, Ревель и Дерпт. Первыми, кто начал
последовательно укреплять границы в целях обороны от уэльсцев и
ирландцев, а впоследствии от шотландцев, были Плантагенеты,
правители Англии. Но даже через эти границы люди могли свободно
переходить в обоих направлениях, особенно начиная с того времени,
когда
установились
тесные
родственные
связи
между
аристократическими семействами с обеих сторон границы.
«Открытая» Европа имела также свою «открытую» аристократию,
которая сформировалась к началу XII в. Господствующее положение
норманнской аристократии, боковые ветви которой пустили корни во
Франции, на Сицилии и в Англии, стало наглядным примером
нараставшей тенденции формирования «закрытой касты», резко
отделенной от подвластных ей крестьян и от свободных и
несвободных горожан. В дальнейшем, в XII в., аристократия все
больше превращалась в привилегированное сословие. Однако в XII–
XIII вв. в Священной Римской империи социальные барьеры все еще
не стали непреодолимыми. Свидетельства этого имеются в различных
областях Европы, где дворяне, как правило, жили в поместьях, тесно
соприкасаясь с крестьянами, в социальном отношении стоявшими
ниже их. При этом дворянское сословие могло пополняться за счет
представителей низших социальных слоев. Эволюция английского
правящего класса со времен Норманнского завоевания обязана мудрой
политике норманнов; первоначальная небольшая группа правителей
смогла сохранить свою идентичность, хотя они и принимали в свои
ряды способных и удачливых выходцев из местных низших классов,
которые приобрели известность в церкви и государстве. В дальнейшем
они получили пополнение со стороны богатых патрицианских
семейств Лондона.
Существовала не только «открытая» аристократия, но также и
«открытое» священство. В XII в. большинство клириков было открыто
миру, своим людям и пастве. Имелось совсем незначительное число
барьеров между членами общества, которые со временем только
множились и в итоге окончательно разделили клириков и народ.
Церковь начиная с XIII в. все больше превращалась в жреческое и
бюрократическое учреждение, со схоластическим, по сути, учением.
Однако в XII столетии даже высшее духовенство говорило на одном
языке со своим народом, разделяло его веру и суеверия, тесно
общалось с ним не только во время празднеств и торжеств, но и в
повседневной жизни. Несмотря на то что правители церкви все больше
перенимали обычаи аристократов, религиозная жизнь вошла в
привычное русло после реформаторских движений XI – начала XII
столетия. В это время возвысились люди из низших слоев общества и
зачастую с темным прошлым, которые заняли самые высокие посты в
церкви и государстве.
Но уже в конце XII столетия появилось еще пока неявное
предчувствие грядущих перемен, которые в будущем прямиком
приведут в «закрытую» Европу XIII–XIV вв. Все эти события, можно
сказать, предзнаменуют Европу наших дней. Но прежде чем
остановиться на этих трагических событиях, стоит обратить внимание
на сохранившиеся до конца этого позднего периода ценности,
выношенные в чреве еще той, первоначальной «открытой» Европы и
дарованные ей миру. Речь идет о буйной чувственности Чосера и
Шекспира, о широте мировоззренческих взглядов таких христианских
гуманистов, как Томас Мор и его собрат Эразм Роттердамский. Можно
даже говорить об особенном образе жизни, сложившемся благодаря
удачному сочетанию как в жизни индивида, так и в жизни общества
часто противоречивых и конфликтующих между собой факторов (что
было особенно характерно для Англии, но не чуждо и
континентальной Европе). Итак, описывая Европу XIII–XIV вв. как
«закрытую», следует прежде всего понять, что называть ее так
является неким упрощением. Этот «закрытый» континент в
значительной степени еще сохранял «открытый» характер ранней
Европы XII в.; именно конфликты XI–XII вв. подготовили почву для
будущих разделов.
Здесь следует привести несколько широко известных фактов, чтобы
проиллюстрировать растущую внутреннюю и внешнюю изоляцию
Европы в 1200–1350 гг. Монгольское нашествие на века отрезало
Россию от Европы; это разделение во многих аспектах продолжает
существовать и поныне. Захват крестоносцами Константинополя и
основание крестоносных государств на территории Византии
неизбежно привело к обособлению Востока от Запада, разделу
христианства на православную и римско-католическую сферы
влияния. Существование в Испании небольших арабо-мавританских
государств и появление новой мусульманской силы – турок,
угрожавших Балканам и Средиземноморью, имело своим следствием
установление
непреодолимых
границ
между
европейским
христианством и исламом. Три могучие и взаимовлияющие культуры,
представлявшие западный мир христианства, Византию и ислам, все
больше и больше отдалялись друг от друга. И это несмотря на тот
факт, что первоначально они имели много общего и поддерживали
между собой разнообразные связи в начальный период Средневековья.
Теперь все эти три образования вознамерились вернуться к тому
состоянию, которое принято считать типично «средневековым», – они
превратились в закрытые сообщества, создав свои отдельные миры.
Этой растущей внешней изоляции сопутствовали происходившие в
европейском обществе процессы резкого размежевания основных
общественных институтов. Две крупнейшие мировые силы раннего
Средневековья – папство и Священная Римская империя, став
соперниками, открыто обличали друг друга. Папству удалось сломить
империю, но оно не устояло перед французской монархией, своим
бывшим самым верным союзником. Образовавшиеся в позднем
Средневековье национальные государства держали свои церкви и
епископат на коротком поводке; эти церкви стали прототипом церквей,
за создание которых выступал швейцарский врач и богослов Томас
Эрастус.
Возникновение национального государства – необычайно сложный
феномен. Обращает на себя внимание прежде всего его религиознополитический аспект. Виклиф и Гус стоят на самой границе
рассматриваемого нами периода. Религиозный переворот был
неразрывно связан с расцветом национальных языков и национальных
литератур. Люди искали и обретали внутреннюю силу в родном языке.
Только в национальном языке можно было найти адекватные слова для
описания холмов и долин, родного для сердца и ума пейзажа, создать
песни, в которых выражались человеческие надежды и страхи и, не в
последнюю очередь, звучал боевой клич.
Латынь, язык церкви и имевших духовное образование ученых
людей, теперь перестала быть универсальным языком Европы. Она
осталась языком университетов и правящей элиты церкви и
государства; и она сохранилась в некоторых областях Германии и
Восточной Европы вплоть до XVIII и даже XIX в. (латынью
венгерские чиновники пользовались до 1848 г.).
Два наиболее могущественных сословия, аристократия и
духовенство, обособились от народа и стали закрытыми
сообществами; то же произошло с интеллектуалами, ревниво
относившимися к своему университетскому образованию и
привилегиям. Эти три социальные группы превратились в отдельные
сообщества в пределах нации. Да и сами нации постепенно приходили
к осознанию своей идентичности, большей частью вследствие их
совместного участия в крестовых походах. Антисемитизм позднего
Средневековья был частью той же самой тенденции: евреи были
изгнаны из Англии в 1290 г., и ее примеру последовали другие нации.
Высшее образование становилось все более профессиональным, и его
получали лишь немногие. Обюрократившаяся церковь, стоявшая за
инквизицией, руководствовавшаяся каноническим правом и
стремившаяся к пересмотру богословских положений, все более
отдалялась от мирян и простого народа. Клерикализм в церкви
проявлялся все более открыто. Этот процесс ускорился, когда на
рубеже 1200 г. вся Юго-Западная Европа и западные и южные области
Германии были охвачены «ересью». В некоторых местах это привело к
образованию оппозиционной церкви. Ответом церкви было создание
внушительного административного аппарата, учреждение новых
религиозных орденов (вскоре начавших соперничество друг с другом),
выработка более строгих положений теологии и непосредственное
вмешательство во внешние и внутренние дела государств.
Важно представить себе силу этого первоначального удара,
потрясшего основы существующего порядка, что привело к распаду
единой Европы в XIII в., когда унификация пришла на смену
разнообразию. Неожиданно появилось понимание того, что
христианство, бывшее единым целым, внезапно оказалось подточено
изнутри различными сектами, взгляды которых на религию,
окружающий человека мир, а зачастую и на политику кардинально
расходились со взглядами церкви и ее приверженцев. Это новое
понимание запустило цепную реакцию. Были организованы крестовые
походы против еретиков теперь уже в отдельных европейских странах,
создана инквизиция, введена церковная и государственная цензура –
вероисповедание каждого человека и свободная мысль подлежали
контролю.
В позднем Средневековье, когда человек, можно сказать, жил в
состоянии постоянного стресса, присущая «открытой» Европе
терпимость, зачастую распространявшаяся и на людей чужой расы,
вероисповедания и иного образа мыслей, была вытеснена предвзятым
отношением и ксенофобией, которая все более возрастала с каждым
новым приступом страха. После еретиков пришла очередь турок. Они
обрушились на Европу почти одновременно с гуситами, армии
которых прошли через всю Центральную Европу. Жанна д’Арк,
Орлеанская дева, намеревалась противостоять им; однако в глазах ее
французских и английских врагов Жанна была сама еретичкой,
родственной душой для гуситов.
Внезапные и губительные вспышки эпидемий, известных в Средние
века под общим названием «моровая язва» или «чума», приводили к
тому, что у людей усиливалось ощущение всеобщего распада,
особенно к концу Средневековья. «Черная смерть» (около 1350 г.), в
результате которой обезлюдели большие территории континента,
привела к резкому сокращению населения европейских стран в период
позднего Средневековья. В XII – начале XIII столетия внутренняя и
внешняя экспансия сопровождалась резким ростом населения. Как
только население в Европе сократилось, ее экономика начала
стагнировать.
Экономический застой, ставший потрясением для христианского
мира, национальные противоречия, чувство сословного превосходства
и исключительности – все эти факторы нашли отражение в
интеллектуальной и духовной жизни того времени. Это был период
триумфального появления номинализма в университетах и теологии;
это была победа тех, кто проводил резкую грань между верой и
знанием, духом и материей, Богом и человеком и между естественным
и сверхъестественным; эта философия, как и мистицизм, была
выражением сомнений и отчаяния, которые были присущи той эпохе.
И номинализм, и мистицизм были попыткой создать внутри себя
отдельные царства ума и души, в то время как вовне народы Европы
оказались в состоянии перманентной гражданской войны.
«Закрытая» Европа позднего Средневековья стала сценой, на
которой были разыграны две грандиозные эпопеи, каждая из которых
много значила для будущего Европы. Именно в этот период Англия и
Франция, возрастая бок о бок, достигли поры зрелости. Они сражались
между собой за Анжуйскую империю, жили в согласии на протяжении
многих лет мира в XIII в., снова воевали в течение еще более долгих
лет в XIV и XV столетиях; они совместно заложили основание того,
что называется Западом. Запад, как отдельное целое, отличается только
ему присущими идеалами гуманизма, имеет свои понятия о
политическом и социальном порядке, о том, что есть религия.
Контакты между Британскими островами и Францией в XII–XV вв., не
всегда дружественные, будь то в области политики, религии и
общественных связей, привели к созданию союза, который позднее,
после присоединения к нему Нидерландов и Северной Америки,
вышел за рамки Европы и стал Атлантическим сообществом, моделью
«свободного мира».
Пока Запад создавался на побережье Атлантики, в сердце
континента разворачивался другой процесс. С упадком Священной
Римской империи Германия начала проводить политику экспансии в
восточном направлении. В продвижении на восток участвовали
солдаты, миссионеры и поселенцы. С этого момента Восточная Европа
находилась под постоянным давлением Запада, внимательно наблюдая
за всеми действиями со стороны Германии. Это касалось городов,
которые были немецкими анклавами на территории иных народов,
крестьян-фермеров, аристократов и высшего духовенства. Княжество
Бранденбург-Пруссия и герцогство Австрия под господством
Габсбургов, появившиеся на руинах Священной Римской империи в
восточных ее областях, боролись с XVII по XX столетие за гегемонию
в немецкоговорящих землях. Эти два государства первыми проросли
на континентальной почве в XIII–XIV вв. Эта «закрытая» Европа
имела, таким образом, свой собственный «Восток» и свой
собственный «Запад»; это разделение вызвало серьезную внутреннюю
напряженность и привело к раздорам, что могло привести, и в итоге
привело, к конфликтной ситуации по линии Восток – Запад, то есть к
конфликтам в самой Европе. Под влиянием имевшего места кризиса
западники были готовы видеть в ближайших восточных соседях
воплощение «коварного Востока». Это был взгляд французов на
немцев, взгляд немцев на поляков, взгляд поляков на русских,
универсальный взгляд монголов, появившихся в начале XIII в., а
позднее и турок.
«Закрытая» Европа XIII–XIV вв. представляла собой фактически
пороховую бочку; все политические, социальные, интеллектуальные и
религиозные вопросы, которые всегда были значимы в европейской
истории, уже в основном сформировались. Во всей современной
истории Европы, вплоть до начала Второй мировой войны, не было ни
одного кризиса, ни одной войны, ни одной катастрофы, ни одного
бедствия, которое не имело бы в некотором смысле своего прообраза в
происходивших в этот период в средневековой Европе событиях. Это и
конфликт между папством и империей, и возникновение «Востока» и
«Запада» в границах самой Европы, и образование национальных
государств и особых социальных групп в самих нациях.
Однако есть много такого, что привлекает к себе внимание и
вызывает восхищение даже в столь внешне непривлекательной
Европе. Здесь сформировалось свое искусство и культура, сложились
политические институты, которые и в наше время лежат в основе
свободных сообществ свободных людей. Готические соборы
неразрывно связаны с начальным периодом борьбы французских
королей за свое существование в той крайне малой части Франции,
которая у них оставалась и которую они могли назвать своей. Точно
так же европейский интеллектуализм, университеты, гуманитарное
школьное образование были неразрывно связаны с постоянным
соперничеством пап, королей, епископов, белого и черного
духовенства; с ожесточенными спорами, считать ли великих учителей
древности, исламского и нехристианского миров, своими союзниками
или врагами в совместной борьбе против еретиков и неправоверных.
Конфликты были питательной почвой для новых идей. В огне сгорали
осужденные на смерть на костре, но существовал и иной,
невещественный внутренний огонь, пылавший в душе тех, кто в
мирной обстановке вел научный диспут.
Культура этой эпохи была также культурой чувств; придворное
общество полагало предел страстям и учило искусству любви и
утонченных манер. Правила поведения, существовавшие в XVIII–
XIX вв., – в Англии это было время джентльменов, во Франции –
аббатов и салонов, в Германии – век Просвещения, сентиментализма и
молодого Гёте – сложились под влиянием куртуазности, Прованса и
испано-арабской цивилизации, которые были сметены в результате
нашествия с севера, уничтожившего альбигойцев и их культуру.
Лишь спустя значительное время после эпохи Шекспира и первых
романов в прозе европейские авторы вновь обратили внимание на
сохранившееся богатейшее собрание сказаний, народных легенд,
романсов и «романтических» сюжетов, созданных в XII–XIII вв. на
утеху почтенной публике, жаждавшей новизны. Средневековое
искусство и цивилизация достигли одной из вершин в творчестве
Данте, произведения которого отражают все религиозные и
политические устремления мира Средневековья. Данте создал
«Божественную комедию», наделив своими чувствами – скорбью,
гневом, печалью и восторгом своих персонажей, которые во время
странствий посещают Рай и Ад. Этот шедевр Средневековья появился,
когда он находился в изгнании и ему было запрещено до конца своих
дней возвращаться в родную Флоренцию. Никто не был способен
ненавидеть так, как Данте, но, несмотря на это, он продолжает
оставаться одним из самых благороднейших певцов любви, земной и
небесной.
В эпоху Средневековья не было ни одного года, который не был бы
отмечен войной, гражданским конфликтом или междоусобной распрей.
Но на этой поистине вулканической почве смогла произрасти лоза,
подарившая нам вино готики; на ней процвели лавры поэзии, и на ней
же укоренился мирт мистицизма. Немецкий мистицизм берет свое
начало в распадающейся империи, когда светские князья постоянно
пререкались с князьями церкви о том, кому должна достаться большая
часть военных трофеев, в то время как мужчин, женщин и детей
сжигали на кострах как еретиков в Страсбурге и Кёльне. Мастер
Экхарт, Таул ер, Сузо и их сестры и братья по вере обращались к
чувственному и рациональному началу в душе человека, и их
проповедь была успешна и приносила плоды. Их учение подготовило
почву для становления неоплатонизма в Англии XVI–XVII вв.
Римо-католицизм, остро реагируя на все новые вызовы, предпочел
придерживаться закостенелого догматического мышления и сохранять
в неизменности свои институты, время от времени ревизуя и
совершенствуя их в связи с потребностями и амбициями папства в
последующие столетия. И эта тщательно выстроенная величественная
система власти и доминирования стала предметом критики со стороны
университетских преподавателей и студентов, монашества. Это был
эмоциональный и интеллектуальный протест. Уже не раз было сказано,
что Реформация зародилась в этот период Средневековья. Налицо все
ее составляющие: страстная критика духовенства и Рима; приступы
религиозного безумия, поражающие народные массы и мистицизм.
Монархические и гражданские правительства приступают к
реформированию своих «собственных» церквей, присваивая себе
самые широкие полномочия, что предвосхищает их абсолютную
власть, которую они обретут во времена Реформации. Более того, в
самой церкви образовалась глубокая пропасть между епископатом и
рядовым духовенством. К низшему клиру относились деревенские
священники, фактически крепостные, жившие вместе со своей
сельской паствой в нищете и невежестве, и клирики-пролетарии в
городах, не имевшие прихода, которые зарабатывали себе на жизнь,
служа мессы для обеспеченных священников и бродячих монахов.
Другую часть клира составляло высшее духовенство, которое
осознавало свое превосходство и понимало, что оно не ровня этим
священникам-голодранцам. Ведь они обладали связями с
аристократами и, что было не менее важным, имели университетское
образование. Лютеранство, кальвинизм, Англиканская церковь,
нонконформистские протестантские секты Европы и Америки провели
свое детство в средневековой колыбели.
Общественные институты и законы, которые лежат в основе нашей
юридической и политической систем, также имеют свое начало в
позднем Средневековье. «Беззаконие бродит по нашим путям». Этими
словами Вальтер фон дер Фогельвейде, величайший немецкий поэтминнезингер Средних веков, подытоживает свой горький опыт. С
полной уверенностью можно утверждать, что так обычно думали все
простые люди Средневековья. Закон нарушался каждый день, на него
покушались магнаты, большие и малые. Все, кто только мог. Столь
вопиющее беззаконие было трудно переносить, и это рождало
уникальную в мировой истории веру в необходимость закона.
Средневековая приверженность праву заложена в основу всех
общественных институтов и законов Европы. «Сам Бог есть закон», и
люди призваны осознать это, обязаны хранить закон и бороться за
него. Бароны, горожане, крестьяне и даже крепостные (их положение
невозможно было сравнивать с положением рабов Античности) – все
жили с глубоким убеждением, что у каждого есть свои права; все
прилагали всевозможные усилия в деле поддержания закона в своем
окружении, в своем городе, в своем доме.
Эта вера в закон требовала знаний законов. Каждому человеку
требовалось разбираться в юридических вопросах в большей мере, чем
это необходимо нам сегодня. В городе и на селе он каждодневно
должен был отстаивать свои права. Эту веру в закон и в действенность
судебного разбирательства олицетворяют суд присяжных, королевский
суд и суд общей юрисдикции и английский парламент. Благодаря этой
вере появились многие хартии свобод, такие как английская Великая
хартия вольностей и подобные ей в Испании, Венгрии и Польше. В
этих хартиях монарх подтверждал права различных сословий и
гарантировал их соблюдение. Завоеванные однажды гражданские
свободы стали бесценным приобретением, залогом будущих
демократических преобразований.
Закон был своего рода договором, который связывал
обязательствами обе стороны: Бога и человека, короля и народ, короля
и баронов, короля и сословия. Если правитель преступал закон, то
народ имел право на восстание; оно даже вменялось ему в
обязанность. Это естественное право средневековой Европы стоит за
каждым актом сопротивления «тиранам», когда бы и где бы они ни
пытались ввести тоталитарное и абсолютистское правление. Даже в
Конституции Соединенных Штатов Америки имеются отголоски
юридической практики Средних веков.
Глава 2
Аристократия и крестьянство
Средневековая Европа – это царство множества замков. Только в
Германии их насчитывалось более 10 тысяч, большинство из которых
не сохранились до нашего времени, и от них остались одни руины.
Однако любой путешественник обнаружит на большом пространстве
от Испании до Двина и от Калабрии до Уэльса множество
разбросанных тут и там замков. Эти бывшие твердыни европейской
родовой аристократии все еще можно увидеть в пустынной
малонаселенной местности, вдалеке от дорог и городов, где кочуют
одинокие пастухи со своими стадами да кружат высоко в небе над
зубчатыми стенами орлы.
Влияние аристократии на общественный строй и церковь, на
господствовавшие в обществе взгляды и настроения ощущалось еще
долгое время спустя после Французской революции. На протяжении
длительного времени духовенство, буржуазия и «простой народ»
Европы перенимали ее многие характерные черты. Правила поведения
аристократии стали для них нормой, образцом и идеалом. Общество
восприняло ее моральные ценности наряду с ее традициями. И все же
аристократия стала объектом резкой критики и нападок; начиная с
XIII в. ее военная и политическая роль была поставлена под сомнение.
Тем не менее ее оппоненты продолжали оставаться ее основными
подражателями. Вельможи, которые стали епископами или основали
новые духовно-рыцарские ордены, помогли глубоко внедрить
аристократические принципы и формы управления в организационные
структуры и духовную жизнь церкви. В XII–XIII вв. разбогатевшая
городская буржуазия приходила во власть в качестве слуг и
ставленников монарха. Городской патрициат был настроен критически
по отношению к аристократии и враждебен ей. И все-таки он
подражал в поведении аристократам, пытался получить доступ в их
закрытые сообщества и обрести подобный им статус. Даже
безоружные крестьяне, которые обычно в большей степени страдали
от своеволия аристократии, долгое время продолжали оставаться
лояльными своим сеньорам, они выражали свою покорность со
смешанным чувством любви и страха, amor et timor, что было столь
характерно для средневековых отношений между сеньором и слугами,
между Богом и человеком.
Замки и крепости аристократии напоминают нам о ее реальной силе
и власти. На протяжении многих веков, отмеченных постоянными
войнами, когда простой люд остро ощущал свою беззащитность и
отовсюду ему грозили беды, укрепленное поместье сеньора
обеспечивало защиту и безопасность всем, кто укрывался в нем.
Начиная с IX и вплоть до XI в., если не позже, Европа была во многом
слишком «открытой». Набеги совершались обычно со стороны моря –
чаще всего это были викинги. У викингов были быстроходные,
маневренные драккары с вырезанной из дерева головой дракона на
носу судна. На каждом было шестнадцать пар гребцов, всего на судне
могло разместиться до 60 человек. Были такие времена, когда
Британские острова и побережье Франции каждый год страдали от
набегов викингов, а в сердце континента венгры противостояли другой
опасности – набегам сарацин. Вблизи Сент-Морица в Швейцарии
расположена коммуна Понтрезина, латинское название которой Pons
Saracenorum, что означает «укрепленный сарацинский мост». Это
является напоминанием о бурном X столетии. Именно в этом месте
были
остановлены
отряды
захватчиков,
пришедших
из
Средиземноморья.
В теории признавалось, что церковь и монархия были основными
центрами власти, и, естественно, их обязанностью было поддерживать
мир, и обеспечивать безопасность, и осуществлять правосудие. Но в
эту эпоху они были слишком слабы и их терзали внутренние
конфликты, и потому они не могли выполнять свои обязанности.
Власть постепенно переходила в руки рыцарства, которому монархия
передавала свои полномочия, а церковь – земли и право суда. Взамен
они обязывались поддерживать своих сюзеренов и защищать
безоружное крестьянство.
Однако первейшей их задачей было защитить себя. Нам трудно
представить, насколько примитивными были большинство этих
«замков» периода раннего Средневековья. Приблизительно до 1150 г.
поместья англо-нормандской аристократии были обыкновенными
жилыми строениями; они имели двор, обнесенный деревянным
частоколом, внутри которого или рядом с ним находился насыпной
холм, на вершине которого возвышалась деревянная башня,
называемая донжоном. Это был особый тип замка, называвшийся
мотт и бейли (англ. Mott-and-bailey; рус. название курганнопалисадный замок). В случае необходимости для защиты холма и
двора выкапывали ров, заполненный водой. В более позднее время
донжон возводили из камня, особенно в тех местностях, где его
добывали, и тогда он становился неприступной крепостью. Каменные
замки французской и немецкой аристократии обычно имели одно
общее жилое помещение.
В таких стесненных условиях с минимальными удобствами не
существовало возможности для устройства полноценной личной
жизни. Нетрудно понять, почему нравы поместной аристократии были
столь грубы, жестоки и разнузданны, даже в более позднее «рыцарское
и благородное» время. Повседневная жизнь баронов не была отмечена
событиями; войны и охота (что было не чем иным, как репетицией
войны) перемежались пирами и турнирами. Будущие воины начинали
обучение военному искусству в возрасте 7–8 лет, а в отдельных
случаях и в 15 лет, которое продолжалось до тех пор, пока им не
исполнялся 21 год. Крестьяне, связанные с сеньором множеством уз,
могли обеспечивать себе и ему только скудное пропитание; это было
все, на что было способно слаборазвитое сельское хозяйство раннего
Средневековья. Необходимой потребностью была охота, которая
давала возможность хотя бы частично восполнить нехватку
продовольствия. В Англии и Германии в XI–XII вв. даже короли были
вынуждены переезжать из одного королевского поместья в другое, из
одной епископской резиденции в другую, чтобы прокормить себя и
свою свиту.
В войске начиная с X в. были уже не только пехотинцы; появилась
потребность в кавалерии, чтобы сражаться с армиями опытных конных
воинов – венгров и сарацин, а вскоре и с норманнами. Эти
кавалерийские сражения не имели никакого тактического плана;
конные воины устремлялись навстречу друг другу еп mass (скопом), а
затем исход сражения решали одиночные поединки. Обучение
благородным манерам дало результат, и в XII–XIII вв. противника
часто брали в плен, а не убивали на месте. Победитель, взявший
пленного, получал ценные трофеи – его боевого коня, оружие и
доспехи, а вскоре и деньги за выкуп. Но пленных низкого социального
положения, из другого народа и иной веры продолжали убивать или же
казнили через повешение.
В Европе с давних пор в сословии аристократов выделялись Herren
и Ritter в Германии, barons и chevaliers во Франции, barons и knights в
Англии, grandes и hidalgos в Испании, magnates и ur в Венгрии.
Естественно, в разные времена и в разных странах были и иные
деления. К 1100 г. произошло окончательное становление французской
аристократии, ставшей закрытым классом общества, не принимавшим
чужаков. В это же время англо-норманнскую аристократию Англии в
основном представляли бедные, безземельные авантюристы, жившие
за счет своего сеньора. Очень медленно шло становление класса
землевладельцев;
норманнская
знать
вытесняла
старую
англосаксонскую аристократию, которая в большинстве своем
эмигрировала либо была изгнана. В Германии начиная с XI в.
несвободные министериалы становились слугами короля и занимали
административные посты в империи, а в XII в. их ряды уже стало
пополнять все большее число свободных вассалов, получая
возможность быстро продвинуться по службе, особенно в итальянских
землях империи.
Вассалом (слово кельтского происхождения) называли во франкский
период рыцаря на службе сеньора. Он был свободным человеком,
который отдавал себя под покровительство более богатого и
могущественного сеньора, входил в состав его «двора» и начинал жить
по его законам. Вассал был обязан поддерживать сеньора во всех его
делах, многочисленных судебных исках и в спорных вопросах с
людьми его круга и другими вассалами. Если непосредственным его
сеньором был сам король, вассалу вменялось в обязанность давать ему
советы в вопросах внутренней и внешней политики. Короли
Средневековья, даже величайшие из них, как бы своенравны они ни
были по натуре, зачастую внимательно прислушивались к советам
своих преданных вассалов. Также вассал нес воинскую повинность, а
во Франции он оказывал своему сеньору также и денежную помощь в
четырех случаях: при посвящении в рыцари старшего сына своего
сюзерена, при устройстве свадебных торжеств старшей дочери
сюзерена, при выкупе самого сюзерена из плена и его снаряжении в
крестовый поход. Военная служба проходила только в домене сеньора.
Участие в крестовом походе представляло собой исключение.
Имперские вассалы исполняли свою рыцарскую службу, когда их
сюзерен и король отправлялся в Рим на свою императорскую
коронацию.
Торжественная
церемония
оммажа
(дань
уважения),
подтверждавшая заключение договора между сеньором и вассалом,
проходила следующим образом. Вассал, безоружный, опускался на
одно колено и с непокрытой головой вкладывал свои ладони в руки
сюзерена и обещал быть его человеком. Образовавшаяся таким
образом связь была взаимной. Этот средневековый обряд имел
фундаментальное, концептуальное значение, особенно в Западной и
Центральной Европе. Гленвилл, один из первых великих английских
юристов Средневековья, высказался достаточно ясно, что вассал
обязан своему сеньору не больше, чем сеньор обязан своему вассалу,
односторонние обязанности исключены. Если сеньор нарушал свою
клятву, вассал уже не был обязан служить ему. Это было кардинальное
событие в череде происходивших перемен в области политики,
общественной жизни и юриспруденции. Идея о праве на восстание
уже была заложена в этом взаимообязывающем договоре между
правителем и его подчиненным, между высшим классом и низшим. Об
этой идее часто вспоминали во время гражданских войн, когда один
оммаж противоречил другому; так, вассал, владевший феодами у
нескольких сеньоров, был вынужден выбирать, на чьей стороне ему
участвовать в сражении, какого сеньора поддерживать. Идея о
совместных обязательствах проникла и в сферу религии. Бог и его
святые давали обещание быть вместе с верующими и защищать их; но
Господь мог разорвать договор и оставить человека, вассала, в
конфликтной ситуации со смятенной душой, ввергая его в тяжелейший
духовный кризис, какой был только возможен в мире Средневековья.
Кризис, который мог привести к полному разрыву с Богом, к отказу от
послушания. Эта тема присутствует в известнейшем средневековом
немецком романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль».
Вассал за свою службу получал в дар земельное владение – фьеф
(бенефиций). Чем более богатым и могущественным был даритель,
тем большим могла быть площадь бенефиция. В эпоху раннего
Средневековья во Франции и Германии, когда распалась империя
Карла Великого, фьефы могли быть столь большими, что становились
основой для будущих королевств. С другой стороны, фьеф мог быть
настолько малым, что вассал и его семья были не в состоянии с него
прокормиться.
Войны, в том числе гражданские, непрерывные распри и мятежи и
даже крестовые походы – все это должно рассматриваться в контексте
борьбы аристократии, очутившейся в условиях земельного голода, за
средства существования. В результате аристократия приобретала
новые земли в Англии, Южной Италии, Испании и в СевероВосточной Европе. Не имевший земельных наделов сын короля Иоанн
Безземельный своими действиями вызвал один из самых страшных
кризисов, имевших тяжелые последствия. Безземельные сыновья
мелкого дворянства были постоянным источником смут. Каждый, кому
удалось получить их поддержку, имел возможность основать
королевство, захватить новые территории. Вильгельм Завоеватель,
одержав победу при Гастингсе в 1066 г., стал властителем Англии и
владельцем всей земельной собственности в королевстве. Он провел
межевание двух тысяч земельных поместий, преобразовал их в 200
основных фьефов и наделил ими своих вассалов баронов. Они, в свою
очередь, выделили из своих владений отдельные земельные наделы и
раздали их уже своим вассалам.
Однажды получив землю, вассал был обязан заботиться о
собственности сеньора, обеспечивать мир, безопасность и законность
в пределах его домовладения. Выше всех по значимости стояло
домовладение короля, к которому примыкали домовладения главных
арендаторов и субарендаторов, большие и малые. Каждое владение
было под защитой более крупного, которое обеспечивало его мирное
существование. Аристократическая Европа была сообществом десятка
тысяч небольших и нескольких сотен больших домовладений, которые
ощущали себя под защитой «Дома Господня», дома Христа-Короля, но
в то же время упорно отстаивали свои притязания и заключали союзы
друг против друга. Великое противостояние двух домов – Австрии и
Франции, которое определило судьбу Европы в XVI–XVIII вв. (и
позволило Англии создать свою обширную колониальную империю),
было последней судорогой старой Европы вместе с ее тысячью
соперничающих домов, ее финальным аккордом.
Слабая монархия был совершенно неспособна предотвратить
неподконтрольный процесс изменения статуса наследственных
владений (как это было во Франции, Германии и Италии в IX–XI вв.);
не могла противостоять своим могущественным вассалам, у которых
было часто больше земли и больше войск, чем у короля-сюзерена.
Пожалование общественных прав играло важную роль в империи, где
основными «выгодоприобретателями» были епископы, а позднее
консулы и гонфалонъеры городов Северной Италии. Это породило
серьезный конфликт между папством и германскими императорами, но
также способствовало превращению итальянских коммун в
независимые города-государства.
В Англии Вильгельм Завоеватель сохранил местное англосаксонское
судопроизводство: суды графств, городские и окружные суды. Они
продолжали осуществлять правосудие в соответствии с английскими
законами, за соблюдением которых следила не только аристократия, но
и король. Королю удалось настоять на принятии единой для всех
клятвы верности, которую вассалы давали непосредственно королю.
Прецедент принесения подобной клятвы был во времена правления
Каролингской династии, и она появляется вновь в нормандских
королевствах Англии и Сицилии и становится опорой сильной
королевской власти. Во Франции возник аналогичный институт
вассалитета; присяга на верность королю как сеньору была важнее
клятвы в верности каждого вассала своему непосредственному
сеньору.
Но как часто случалось так, что один оммаж противоречил другому
оммажу. Порой некоторые знатные вассалы присягали на верность
одновременно двум королям, например французскому и английскому.
Возникал вопрос, чью сторону они примут, когда два таких
могущественных сеньора потребуют от них исполнения их
феодальных обязанностей – военной помощи и совета в одно и то же
время? Кроме того, были менее знатные сеньоры, особенно в империи,
которые были держателями фьефов короля, епископов и монастырей.
За кем они последуют, если король, епископ, папа и аббат будут в
конфликте друг с другом? Тогда многим епископам пришлось бы
принимать мучительные решения. Будучи князьями империи, они
были вассалами своего сюзерена – короля и императора; в качестве
князей церкви они были связаны клятвой своему сюзерену папе.
Епископы Священной Римской империи столкнулись с этой проблемой
в XI–XIII вв.; жертвой сложившегося положения стал Томас Бекет.
Феодальная аристократия была всегда готова к действию, выжидая
только благоприятного случая, чтобы получить фьеф с помощью
выгодной партии или захватить его силой. Обязательно появлялся
какой-нибудь младший отпрыск некоего королевского дома или
предприимчивый авантюрист, готовый набрать отряд таких же, как он,
темных личностей, соблазнив их возможностью беспрепятственно
овладеть богатым поместьем. Такое было возможно и на юге Франции,
где еретикам-альбигойцам грозила скорая расправа, и в Испании и
Португалии, находившихся под властью мусульман. И даже в Империи
ромеев, где император постепенно терял власть. При этом не надо
также забывать, что существовала Святая земля, земля самого
высочайшего сюзерена Царя-Христа, который обещал свое древнее
право первородства своим вассалам.
В то же время появилась праздная придворная аристократия,
окружавшая троны славных монархов Мадрида, Лондона и Вены,
отличавшаяся утонченными манерами и кичившаяся своим
богатством. И Версаль со своей Зеркальной галереей, великолепный
дворец «короля-солнца» Людовика XIV, продолжает оставаться
символом монархии, одержавшей победу над феодальной
аристократией после пяти столетий противостояния и борьбы.
Бароны, которые творили историю в XII в., да и позднее, были
людьми энергичными; и короли, которые проводили жизнь в седле,
подобно Генриху II в Англии или императору Фридриху II, были
яркими примерами людей подобного склада. Они походили на
хищного ястреба, готового захватить добычу. Жизнь требовала от них
постоянного напряжения сил, и в ней было все – распри,
паломничества, пиры и охота. Хладнокровные и суровые, не
отличавшиеся вежливостью, они не были лишены остроумия и умели
вовремя отпустить шутку по адресу своих подчиненных, быстро
находили нужный ответ; их застольные песни были полны боевого
задора. Они могли быть жестокими даже по отношению к
собственным женам, которых брали, только рассчитав прежде их
ценность с точки зрения политической и хозяйственной выгоды. В их
действиях прослеживался трезвый расчет. Скольких людей мог
прокормить такой-то и такой-то фьеф? Насколько силен был тот или
иной соперник? Какой неожиданности можно ожидать со стороны
войска короля Франции или римского папы в случае того или иного
конфликта? Воспитанные в правилах своего сословия, они были
укоренены в культуре, которая почитала обычаи, освященные
временем, в основе которых лежал чтимый всеми, священный и
неприкосновенный закон. Они на деле были весьма сведущи в законах
своего времени, зачастую довольно запутанных, ведь на каждой
территории были свои собственные городские, таможенные и другие
законы. Чем больше творилось беззакония, тем настоятельнее
проявлялась необходимость следовать, по крайне мере формально,
букве закона. Судебные разбирательства были вторым любимым
занятием баронов после распрей и войн. Для них решение спорных дел
при помощи поединка или суда были двумя формами одного
противостояния. «Бог и мое право»: пусть Господь разрешит спор в
результате поединка или посредством «Божьего суда».
Занятия книжностью и делами благочестия были уделом младших
сыновей и прочих дальних родственников, которые уходили в
основанные ими монастыри. Каждый барон, имевший высокое
положение или обладавший влиянием в церкви и государстве, мог
добиться поставления своего родственника в епископы или аббаты или
обеспечить ему доходное место в капитуле кафедрального собора.
Порывистые, импульсивные в делах и словах бароны, упорно
отстаивавшие право на свой французский или английский фьеф на
протяжении нескольких поколений своего рода, при всех тяготах
своего беспокойного боевого существования, часто устраивали
роскошные пиры и грандиозные празднества. Господские праздники и
память святых, бывших «вассалами» в Божьем царствии Царя-Христа,
часто совпадали с памятным днем основания какого-нибудь
аристократического дома. Эти великие праздники церковного года,
отмечавшиеся торжественной службой в Божьем Доме, когда могло
происходить освящение нового храма, давали возможность сеньору
собрать своих вассалов для совета с ними по поводу очередной распри
с враждебным соседом, или совместного похода, или бракосочетания в
собственном доме или в доме вассала.
В XII столетии, в пору своего наивысшего могущества,
средневековые бароны, по-прежнему честолюбивые и деятельные,
внезапно оказались перед лицом серьезного кризиса, внешнего и
внутреннего. Набиравшие силу монархии Запада начали посягать на
их свободу и власть. И это было еще не все; городские коммуны
богатели, занимаясь торговлей и открывая мануфактуры, производя
товары повседневного спроса и предметы роскоши, и рано ввели
денежное обращение; они все больше подчиняли себе аристократию в
экономическом и финансовом отношении, в то время как аристократия
все больше беднела. Мир Средиземноморья и Ближнего Востока с его
древними легендами, который все больше открывался ей через участие
в крестовых походах, озадачивал ее и сбивал с толку. Образованная
придворная аристократия Византии и высокоцивилизованный мир
ислама с глубоким презрением смотрели на рыцарей-франков
Западной Европы. Оказавшиеся в незавидном положении бароны
Запада приняли брошенный им вызов. Их ответом было широкое
участие в еретических религиозных движениях и создание закрытых
придворных аристократических обществ.
Как уже говорилось ранее, основным средством существования
аристократии была земля; она жила за счет труда своих крестьян. В
Англии во времена ее завоевания норманнами подавляющая часть
крестьянства была до некоторой степени несвободна. Эту несвободу
нельзя смешивать или отождествлять с рабством, будь то древним или
современным. Несмотря на то что в Европе все же существовали рабы
вплоть до XVII–XVIII вв. В основном это были славяне, захваченные в
качестве военной добычи в Восточной Европе (считалось, что само их
название slave говорило о том, что им суждено быть рабами) или
попавшие в плен участники боевых действий в Восточном
Средиземноморье. Английский villein, французский vilain, немецкий
holde находились в зависимости от своего сеньора, выполняли
повинности в его пользу и платили налоги. Виллан трудился на земле
своего сеньора, а также отдавал ему часть доходов со своего
собственного надела; он был обязан принимать участие в общих
артельных работах на строительстве замков сеньора, дорог и мостов в
его владениях. Каждый виллан обязывался молоть все свое зерно
только на мельнице сеньора, за помол взималась определенная плата.
Кроме ветряных мельниц (которые, возможно, впервые появились в
Персии) были также водяные мельницы; к концу XI столетия их было
в Англии свыше 5 тысяч. Самым тяжелым среди всех обязательств
была уплата особой пошлины – taille, налагаемой на вассала его
сувереном. Это был произвольный налог, который взимался тогда,
когда сеньор считал это «необходимым»; его платили как свободные,
так и несвободные крестьяне. Однако они не были рабами; монархия и
церковь гарантировали им защиту, главным образом потому, что оба
общественных института стремились сохранить «старый добрый
закон», который был собственно крестьянским законом, который
защищал права крестьянина в манориальных судах. Однако эти суды
перешли под контроль сеньора; он назначал или, во всяком случае,
подтверждал полномочия провоста, или главного судьи, который
зависел от сеньора или, в случае его отсутствия, от его представителя
(стюарда или бейлифа).
Истоки несвободы крестьянина Средневековья были различны. В
странах Средиземноморья она коренится в договоренностях поздней
античности, когда крестьяне были прикреплены к земле государством,
чтобы тем самым гарантировать уплату налогов. Для народа в
подобной ситуации вторжение на его землю сарацин, норманнов,
испанцев или франков означало только смену хозяина, а не изменение
статуса. В Северной Германии раннего Средневековья свободные
крестьяне часто переходили более или менее добровольно под
покровительство сеньора. Каждый, кто ставил себя под его защиту,
освобождался от военной службы; теперь эту его обязанность
выполняли за него рыцари сеньора. Крестьянин взамен обязывался
платить арендную плату за себя, свое семейство и свою земельную
собственность. В качестве примера можно привести события,
происходившие в Зальцбурге в VIII в., когда 237 небольших земельных
наделов крестьян вошли в состав 50 больших поместий, из которых 21
принадлежало церкви, 12 – герцогам Баварии и 17 – другим большим
сеньорам. Это отчуждение крестьянских земельных наделов и
последующее их присоединение к крупным поместьям было одним из
наиболее важных событий в социальной истории Европы.
Несвободные крестьяне Западной Европы тем не менее обладали
некоторыми правами. Кроме той земли, которую сеньоры передавали
им во временное владение, они могли также иметь выделенное в их
полную собственность земельное владение – аллод. Сеньор
гарантировал крестьянам защиту и покровительство, они, в свою
очередь, были обязаны ему повиноваться, выполнять необходимые
повинности и платить налоги. Они выплачивали ежегодный подушный
налог, который был свидетельством их личной прикрепленности к
земле. Сеньор, оказавшись в трудных обстоятельствах, мог
потребовать от крепостных, а также от тех, кто номинально был
свободен, уплаты чрезвычайной пошлины (taille). Особый налог
взимался с крепостного, заключавшего брак на стороне, а также с
прямых наследников крепостного в случае его смерти. Этот «долг
смерти» состоял в передаче сеньору лучшей головы скота или, в
некоторых областях, части имущества усопшего.
В Европе, за небольшим исключением, в XII в. уже не было
полностью свободных крестьян. Те крестьяне, о которых говорили как
о свободных, находились тем не менее в зависимости от
покровительствующего им сеньора, как и все остальные. В нашем
словаре нет необходимых слов, чтобы назвать основные отличия
между различными группами и классами крестьянства, между
«свободными», «полусвободными», «несвободными» и «зависимыми»
крестьянами. Ситуация в действительности была еще более
запутанной, поскольку в некоторых местностях «свободный»
крестьянин мог находиться под еще большим гнетом и быть беднее,
чем «несвободный» крестьянин, проживавший всего в нескольких
милях от первого.
Однако, несмотря на общее усиление гнета и быстрое увеличение
числа крепостных, в некоторых областях отдельные выходцы из
крестьян смогли подняться по социальной лестнице. К XII–XIII вв.
крестьянство становится фактором, с которым приходилось считаться
королям и аристократии. Дело доходило вплоть до того, что
обращались к их помощи, как это происходило во Франции, где
крестьянские войска сражались на стороне короля против «бароновразбойников», крупных феодалов.
Бароны и короли стремились увеличить свои доходы и занимались
корчевкой леса и повышением плодородия земли, которая из-за
недостаточного ухода становилась заболоченной или, наоборот,
засушливой. Срочно потребовались крестьяне для этих работ, иначе
говоря, для внутренней колонизации. И их оказалось достаточно
много, так как превратности средневековой жизни – война, гнет хозяев
и присущая самим крестьянам страсть к путешествиям Wanderlust —
постоянно гнали их из дома. Те крестьяне, которые были приглашены
в работники, стали известны как hospites. Они получали грамоту, в
которой им обещали защиту от произвола сеньоров и избыточных
налогов и право третейского суда. Многочисленные новые поселения
(например, villes neuves в Северной Франции) возникли именно таким
образом. Для привлечения большего числа поселенцев вербовщики на
ярмарках громко зачитывали текст грамоты, подобно тому как это
делали в XIX в. железнодорожные компании Северной Америки,
которым были нужны пионеры для колонизации пустующих земель
Запада.
В XII–XIII вв. Германия повернулась лицом к Востоку. Короли
Польши, Богемии и Венгрии совместно с немецкими князьями
колонизовали земли Бранденбурга, Пруссии, Восточной Пруссии и
Прибалтики вплоть до Риги. Все они нуждались в рабочей силе,
немецких крестьянах и привлекали их с помощью агентов, известных
как locatores. Они рекрутировали крестьян, сопровождали их во время
длительного путешествия и размечали для них земельные участки на
новой территории.
Мир Средневековья, особенно «открытый» мир XII столетия,
предоставлял новые возможности, по крайней мере, для части
сельского населения на Востоке Европы, в Германии, Нидерландах,
Северной Франции и Англии. Например, в XIII–XIV вв., менее чем за
150 лет, только в Силезии было основано больше чем 1200 новых
деревень. Однако в XIII в. в сельском хозяйстве Западной Европы
начинался застой и, соответственно, ухудшалось положение
крестьянства. Европа уже начала превращаться в саму себя,
укреплялись социальные и географические границы.
Все это неизбежно сказалось на крестьянах. Расчистка пустующих
земель под пашню была прекращена. На деле некоторые сеньоры,
стремившиеся получать наличные деньги, превращали пахотные земли
в пастбища, скупая и экспроприируя крестьянские фермы. В Англии и
Франции подобное развитие событий привело к конфликту между
королем и баронами. В XIII–XIV вв. английские вилланы отстаивали
свою свободу в королевских судах. Хозяева феодальных поместий
менялись гораздо чаще, чем это можно было себе представить, –
вследствие браков или смерти владельцев, продажи или конфискации
их собственности. Когда собственность переходила к другому
владельцу, крестьянин мог быть пораженным в своих правах.
Манориальные суды, которые разбирали дела крестьян, не всегда
сохраняли протоколы заседаний, так что было очень сложно для
крестьянина, сеньор которого считал его вилланом, доказать свой
свободный статус в суде. Начиная с XIII в. английские суды были
завалены крестьянскими жалобами на добавочные отработки и
платежи, которых требовали от крестьян старые и новые хозяева. Но в
то же самое время некоторые крестьяне смогли улучшить свое
материальное положение, и многие вилланы выкупили право на
свободу у своих сеньоров. Иногда в этом деле им помогала церковь
или, как во Франции, монарх; так как, строго следуя букве закона,
несвободный крестьянин, не имевший собственности, не мог стать
свободным. Постоянно растущая потребность сеньора в деньгах
давала трудолюбивым и предприимчивым крестьянам прекрасную
возможность разбогатеть. «Свободные» крестьяне, которые были под
защитой короля, впоследствии слились с горожанами и стали «третьим
сословием», которое посылало своих представителей непосредственно
в Генеральные штаты, высшее совещательное учреждение сословного
представительства страны. В Южной Франции, которая выбрала
собственный путь развития, и потому процесс унификации с Севером
шел в XIII в. довольно медленно, крестьяне и городские сообщества
часто успешно выступали в совместной борьбе за то, чтобы их голос
был услышан в делах политики.
Как правило, бароны не стремились заниматься хозяйством в своих
поместьях и потому стали передавать земли крестьянам в аренду. В
итоге аристократия, участвуя в военных походах или занимаясь
интеллектуальной деятельностью, все больше и больше отдалялась от
повседневных проблем своих крестьян. Однако в Англии бароны
проявляли активный интерес к сельскому хозяйству, и в период между
1200 и 1340 гг. бурно развивались родовые баронские поместья.
Небольшое, но очень важное руководство «О земледелии», написанное
Уолтером из Хенли в последней четверти XIII в., где рассказывается об
основах ведения сельского хозяйства в поместье, интересное
письменное свидетельство этого времени. Сеньор был кровно
заинтересован в повышении урожайности, заставлял крестьян много
трудиться, чтобы выращивать продукцию не только для собственного
потребления, но и поставлять на рынок. Что касается рискованного
предприятия – производства шерсти, следует сказать, что английская
аристократия первой поддержала это начинание. Земля у крестьян
выкупалась или экспроприировалась, чтобы получить возможность
разводить на ней овец. Мы видим, что между аристократами Англии и
аристократами Франции существовал разительный контраст.
Английская знать сохраняла и преумножала традиции коммерции;
позднее ее вовлеченность в торговлю и индустрию связала ее с
буржуазией, сделала ее более восприимчивой к быстро менявшейся
общественной, политической и интеллектуальной среде.
В эпоху позднего Средневековья в Италии шло быстрое образование
городов-государств,
в
которых
жили
аристократы,
ассимилировавшиеся впоследствии с городской буржуазией. Здесь
человек становился полноценным горожанином, а культура была
отражением городской цивилизации. Крестьяне окрестных земель не
участвовали в этих процессах. Их образ жизни мало чем отличался от
жизни колонов поздней Римской империи. Проживая в ветхих лачугах,
на землях, принадлежавших сеньору, они не имели никакой
собственности; своей была только одежда на них, в которой они и
работали, и ходили дома, и даже ее мог потребовать себе синьор для
своих целей. Наряду с ними были фермеры-арендаторы, крестьяне,
платившие арендную плату и налоги, и бывшие свободными от
синьора.
В Испании завоеватели, пришедшие с севера и отвоевавшие страну
у арабов, смогли привлечь в качестве поселенцев некоторое число
«свободных» крестьян. Эти поселенцы были христианами; они
пришли на земли, уже населенные сельскими пролетариями, которых
безжалостно эксплуатировали и которые жили в ужасающей нищете со
времен поздней Римской империи. Пастушеское хозяйство, которое
развивала аристократия, и безвластие, бывшее следствием слабости
монархии в пяти христианских королевствах, вели к резкому
понижению статуса свободных крестьян.
Это ограничение гражданина в правах в позднем Средневековье, при
сохранении только какого-то их минимума, было также характерной
чертой Германии и Восточной Европы. Когда монархия оказалась
втянутой в борьбу с папством и вела войны в Италии (не говоря уже о
самих немецких князьях), немецкая аристократия пыталась
использовать все возможности, чтобы понизить статус «свободных»
крестьян, обязанных выполнить в течение года ряд оговоренных
заранее обязательств, до положения крепостных и обложить их
новыми произвольными налогами. Фактически отмечалось понижение
правового статуса и ухудшение экономического положения немецких
крестьян в северо-восточных областях страны. Здесь еще прежде
существовал социальный слой прусских и славянских крепостных,
сформировавший базис зависимой крестьянской общины. Этот пояс
крепостничества простирался через земли к востоку от Эльбы, через
Богемию, Моравию, Польшу и Прибалтику, где власть принадлежала
аристократам. Во всем этом регионе не существовало королевских
судов, которые могли защитить крестьянина, аристократия обладала
здесь всеми государственными правами, и ее поместья стали
крупными аграрными предприятиями.
Начиная по крайней мере с X в. славян и других «язычников»,
захваченных в плен на войне, продавали как рабов христианские
рыцари Запада. В XII в. Генрих Лев, герцог Саксонии и Баварии,
продал пленных христиан-датчан в качестве рабов через посредство
его славянских союзников, а маркграф Дипольд III фон Фобург продал
плененных итальянцев своим наемникам. В XIII–XIV вв. рабов
привозили в Италию через Венецию. Церковь, наследница
классической античности, была далека от того, чтобы осудить рабство.
Ее ведущие теологи XIII в., такие как Фома Аквинский, оправдывали
рабство с моральной точки зрения и из экономических соображений,
цитируя в поддержку своей точки зрения Аристотеля. С XIV в. папы
обычно угрожали своим врагам рабством. В 1303 г. в таком духе
высказался папа Бонифаций VIII в отношении Скьярра Колонна,
представителя знатного итальянского рода. В 1309 г. папа Климент V
наложил на Венецию интердикт и грозился продать ее подданных в
рабство. Позднее бессмысленные обвинения в работорговле
обрушились на Болонью и Флоренцию. Папа Павел III заклеймил как
рабов всех англичан, которые приняли сторону Генриха VIII. Им
предстояло, по его словам, стать трофеем крестоносцев, которые
придут и разгромят их.
Важно понять, что средневековый крестьянин жил в постоянном
страхе попасть в кабалу, превратиться чуть ли не в раба в том или ином
виде, явно или незаметно. Это и является одной из причин, почему
именно в сельской местности случались мятежи и восстания. Со
времен Каролингов крестьянские бунты были привычным явлением
сельской жизни, так что монахи-хронисты не удостаивали их своим
вниманием. Однако в конце XI начале XII столетия они стали столь
серьезным общественным фактором, что их уже было невозможно
игнорировать. Крестьянские отряды, связанные клятвой, создали
политическую, ставшую впоследствии религиозной, подпольную
организацию, в которой «еретические» секты и различные
скрывавшиеся от правосудия элементы искали защиты и убежища. И
подобное происходило задолго до того, как в рассматриваемый нами
период образовалась крестьянская лига, которая образовала затем
независимое государство Швейцарскую конфедерацию. В ее название
также вошло определение Eid-genossenschaft — «конфедерация».
Швейцария, внушавшая многим страх и вызывавшая у многих
уважение, медленно, но неуклонно шла к свободе. Она служит живым
напоминанием о тех многочисленных союзах и лигах, рожденных
крестьянским миром, которые удалось сокрушить светским и
церковным князьям.
В начале XIII в. произошло восстание крестьян в Бременском
княжестве-архиепископстве, которых называли Stedinger (по названию
местности Stedingen, где они проживали). Восстание было подавлено
после пяти лет сопротивления (1229–1234) только после того, как
против крестьян было послано крестоносное войско под
командованием герцога Брабантского и графов Голландии, Гельдерна,
Липпе и Клеве, составлявших элиту Северо-Западной Европы.
Церковь, которая провозгласила крестовый поход против этих
еретиков, направила в архиепископство также представителей
инквизиции.
В конце рассматриваемого нами периода произошли несколько
широкомасштабных крестьянских войн. В 1358 г. во Франции началась
Жакерия. В Англии восстание крестьян возглавили священники Джон
Болл и Джек Стро, военным его руководителем стал Уот Тайлер.
Восставшим удалось в 1380 г. на короткое время захватить Лондон и
взять в плен короля Ричарда II. Между 1395 и 1479 гг. имели место
крестьянские восстания в Испании, в частности в Каталонии. Во
Фландрии и в Северной Германии мятежи вспыхивали на протяжении
всего позднего Средневековья. Но даже в разгар решительной борьбы
за обретение крестьянином своих законных прав и своего
общественного статуса постоянное опасение потерять все никогда не
оставляло крестьянина. Он страшился усиления гнета и наступления
голода, возможности впасть в беспросветную нищету и оказаться
бесправным против закона, быть согнанным со своей земли и навсегда
оторванным от своих корней. Крестьяне Средневековья отличались
таким же беспокойным нравом, как и их предки во время длительной
эпохи Великого переселения народов, которое к тому времени еще не
закончилось.
Русские крестьяне свою тягу к перемене мест утоляли в успешной
колонизации Сибири, ставшей величайшим событием в мировой
истории. И мы уже видели, как немецкие крестьяне в XII–XIII вв.
переселялись на Восток, колонизуя новые земли. Средневековый
крестьянин оставлял «свою» землю, когда угнетение со стороны его
хозяина становилось, как ему казалось, невыносимым или когда враги
хозяина настолько опустошали его землю, что она уже не могла
прокормить его. Эпидемии, голод, неурожайные годы и другие
природные катастрофы были еще одной причиной, сгонявшей людей с
земли. К этому следует добавить наличие у крестьян древнего
кочевого инстинкта, сохранившегося с доисторических времен и
который в Средние века находил выход в паломничествах. Множество
крестьян из континентальной Европы, Англии и Скандинавии
отправлялись в паломничества в Святую землю, в Рим, в Сантьяго-деКомпостела. Подобно тому как много позднее русские крестьянепаломники шли в Казань, Киев и Новгород. Некий крестьянин из
Верхней Баварии три раза был паломником в Риме, дважды – в
Иерусалиме и один раз – в Сантьяго-де-Компостела. Это является
убедительным доказательством сохраняющейся мобильности и
консерватизма крестьянской жизни!
Этот консерватизм крестьянской жизни представляет собой как бы
повторяющуюся тему в яркой по содержанию партитуре европейской
истории за последнюю тысячу лет. Заметим, что результаты
археологических раскопок, проводившихся в основном во Франции,
показали, что во многих областях Европы крестьянская цивилизация
насчитывает от 10 тысяч до 20 тысяч лет, фактически восходит к
позднему каменному веку. Представители этой крестьянской
цивилизации использовали характерные орудия труда – плуги и
бороны. У них был календарь, где были отмечены основные
праздники, который регулировал отношения между живыми и
умершими, старыми и молодыми, мужчинами и женщинами, связывая
в единое гармоничное целое «технологию» и «магическое», рабочие и
праздничные дни. Эта крестьянская цивилизация просуществовала в
Европе до прихода машинного производства в середине XIX в.
и сохранялась в наиболее отдаленных и отсталых областях континента
вплоть до Первой, а отчасти и до Второй мировой войны. Крестьяне,
консервативные в образе жизни и мышления, твердо стоявшие на
земле, были стабилизирующим фактором. Сама земля была чем-то
постоянным и неизменным; она сохранилась, пройдя через бури войн
и революций, через духовные и интеллектуальные кризисы.
Крестьянство было привязано к земле, и она была его кормилицей.
Проводившиеся исследования человеческих скелетов Средневековья
показали, что на протяжении всего этого времени крестьяне
хронически недоедали, а среди их детей была высокая смертность.
Людям, которые выращивали для всех продукты питания и разводили
скот, зачастую не хватало хлеба и молока для самих себя и своих
детей. Земледельцы были привычны к тому, что с завидным
постоянством повторялся один и тот же жизненный цикл: голод
приходил на смену изобилию и время поста – на смену праздникам.
Европейский крестьянин стал творцом своеобразной крестьянской
культуры, в основе которой лежал тяжелый труд на земле. Именно она
помогла ему пройти через длительную и важную для Европы эпоху
образования
новых
сельских
поселений
в
VI–XIII
вв.
и одомашнивания европейского ландшафта. Кроме того, в XII–XIII вв.
наблюдался небольшой прирост населения, в основном крестьянского
(городское население начало расти где-то в XII в., но не за счет
жителей из сельской местности). Внешняя экспансия Европы и
расцвет духовной и интеллектуальной жизни стали возможны
благодаря этим достижениям. У крестьян было развито чувство
собственного достоинства, которое было результатом их тяжелого
труда на неплодородной земле, когда над ним стоял его суровый
господин и суровый Бог. Чувством гордости пронизана поэма Уильяма
Ленгленда «Видение о Петре-пахаре», написанная в XIV в. Поэт, явно
образованный человек, на которого оказал влияние духовный настрой
францисканцев, говорит о своем видении крестьянства, «бедного
народа». Петр-пахарь – защитник всех тех, благодаря труду которых на
земле и держится мир, благодаря пахарю, естественному человеку, то
есть созданному природой. Но Петр есть также Сын человеческий,
сын Христов, кровь которого удобряет «людское поле». Поле, которое
он вспахивает, чтобы приняло оно новое семя, из которого произойдет
новое поколение людей. И наконец, он выступает за церковь,
оплодотворенную Духом Святым, прообраз единого братства
будущего. Христос, истинный хозяин, собирает урожай человечества в
единой обители: «И назвал он это Домом Единства, что значит Святая
Церковь». В этом Доме все люди братья, кровные братья Христа.
Но можно ли в действительности сказать, что церковь, «Дом
Единства», открыта для всех, гарантирует ли она на самом деле всем
людям любого звания защиту, убежище, справедливость, безопасность
и мир? Ответ может быть неоднозначным. Участниками
торжественных церемоний, которые сопровождали освящение
величественных романских и раннеготических соборов XII в., были
короли, аристократы, епископы и церковные сановники и народные
массы. Вместе они слушали гимны и молитвы, восхвалявшие новый
Дом Божий, как образ Небесного Града, Нового Иерусалима. Однако
всего несколько десятилетий спустя в самом начале XIII в.
Иннокентию III, величайшему из средневековых пап, предстало
трагическое видение Церковного Дома, от которого остались одни
руины. Хранители церкви с тревогой смотрели на широко
распространявшуюся апостасию (вероотступничество), как среди
аристократов, так и крестьян в большей части Юго-Западной и
Центральной Европы, которые отказывались принять в качестве
прибежища церковь и признать в ней земное воплощение Дома
Божьего.
Триумфальный клич протестантского гимна Лютера Ein feste Burg ist
unser Gott («Господь твердыня наша») указывает на исход драмы,
разыгравшейся в позднем Средневековье. Ибо Церковный Дом лежал в
руинах, а вокруг возвышались совсем иные цитадели, замки
аристократии, хижины крестьян, городские стены средневекового
города и, не в последнюю очередь, дворцы и школы секулярной
придворной культуры, появлявшиеся во все большем количестве и
проявлявшиеся во всем своем многообразии.
В наших современных городах церковь или незаметна за большими
массивами домов, или же стоит среди них одиноко, словно музейное
здание. Это финал той борьбы, что вела церковь в позднем
Средневековье и которая завершилась ее кризисом, когда оказались
напрасными все ее усилия удержать под своим влиянием жаждавшую
власти
аристократию
и
испытывающий
лишения
народ,
контролировать философов и влюбленных. Церкви XIII столетия в
едином порыве вздымались в небо, но, взяв на себя непосильную
ношу, вскоре после того, как заканчивалось их строительство,
рушились. Папы, стремившиеся главенствовать и управлять королями
и христианскими государствами в духовной, политической и
юридической сферах, тоже брали на себя слишком многое. Из папы
старались сделать некоего «сверхчеловека», как было сказано, «уже не
человека, но еще не совершенного Бога», повелителя ангелов,
космократора, облеченного в символы божественного всемогущества.
Подобное возвеличивание означало, по сути, выход за пределы
разумного, за грань этого мира в область внеземного и вневременного.
С самого начала XIII в. церковь потеряла вкус к историческим
исследованиям; это касалось и богословия, и философии, и написания
хроник. На место процветавшей науки истории пришла риторика,
сухие исторические описания; обычно это были эпизоды из древней
истории, выбранные исключительно как примеры добропорядочного и
недостойного поведения. Мы не можем выйти за земные пределы, но
мы можем обратить наше внимание на людей Средневековья, которые
населяли этот земной мир, и на их религиозные воззрения и практики,
которые скрывают под собой много сложных и противоречивых
элементов бытия, как и любое другое явление средневековой жизни и
реальности.
Глава 3
Вера церкви и народная вера
Средневековая народная вера была смешением самых разных
представлений и воззрений – языческих, античных и христианских. Ее
исповедовали крестьяне, многие аристократы, городская буржуазия,
бедное священство и монашество. Внешне казалось, что эти ее
разнородные элементы могли служить причиной для конфликтов,
однако в повседневной жизни они прекрасно уживались. Этот факт
иллюстрирует пример Бретани. Традиционно она считается оплотом
французского католицизма, самой католической из всех областей
Франции. Католические социологи выделили в истории этого вопроса
четыре важных фактора: примитивную народную веру, галло-римский
политеизм, позднее римско-католическое и кельтское христианство.
Равновесие между ними всегда было шатким, и поэтому очень трудно
точно сказать, когда, например, магические заклинания уступили
место подлинно христианской молитве и, vice versa, определить, когда
молитва незаметно обратилась в магические практики. Церковь, Дом
Божий, встала на месте языческого капища и переняла его функции.
Церковный календарь повторял языческий; его праздники и торжества
проходили через всю жизнь человека от колыбели до могилы.
Языческие идолы и добрые духи превратились в святых, присутствие
которых ощущалось очень явственно; с ними можно было
договариваться, и люди предпочитали быть похороненными на
церковных кладбищах в пределах их спасительной силы.
Христианство и церковь порицали подобную народную веру в
сверхъестественные силы. Христианский Бог был Богом Всемогущим
(зачастую благочестивый народ не видел различия между Христом и
Богом Отцом); Господь внушал страх и одновременно вселял радость.
Человек попал в рабство к дьяволу по причине первородного греха, но
сохранил послушание Богу. Fides, вера, означала послушание,
религиозное и общественное; она была могущественным законом,
связывавшим человека страхом и любовью (Итог et amor) с Господом
Богом и его святыми, соработниками Бога в борьбе с дьяволом.
Вся жизнь была полем битвы – битвы Бога с Сатаной, двух владык
мира, между духами злобы и отважными исповедниками Христа,
короля-воина, знаменосцем которого был святой Архангел Михаил.
Месса и Святое причастие, как средства спасения, были решающим
вкладом в эту войну. Гонорий Отенский, чьи комментарии и
толкования Библии типичны для начала XII в., рассматривал мессу как
духовную битву Бога с дьяволом. Священнические одеяния
символизировали броню спасения, сам священник был представитель
Христа, ведущим народ в свое вечное небесное Отечество после
победы над древним врагом. Этого народного представления о мессе
придерживались также французский теолог Жан Белет и итальянский
прелат Сикард из Кремоны. Оно было отвергнуто схоластами XIII в.,
но они не смогли искоренить его в народной среде. Существовала еще
одна популярная интерпретация мессы, о которой также упоминает
Гонорий. Народ воспринимал мессу как суд, во время которого Бог
судит грешников, дьявол является обвинителем, а священник
выступает в качестве защитника.
Можно получить прекрасное представление об этой народной вере,
обратившись к изучению романских церквей Европы. Церкви во
Франции, Германии и Центральной Европе преимущественно
строились в этом стиле, начиная с эпохи Карла Великого, и к XII в. он
окончательно утвердился. Сохранялся этот стиль на протяжении всего
Средневековья, несмотря на появление готики и других новых
направлений в церковной архитектуре, и он оказал сильное влияние на
формирование личности человека.
Романская церковь имела мощные каменные стены (дома простого
народа, даже замки аристократии в течение длительного времени
строились из дерева, так что камень сам по себе считался, можно
сказать, священным), и ее приземистая, но массивная башня была
твердыней Бога на земле. Здесь только Бог был владыкой всего. Здесь
Он дарил мир, безопасность и радость истинным верующим. Здесь
изгонялись все злые духи, чудовища ада, которые склоняли человека к
греху, влекли его к смерти, в преисподнюю. Сцены изгнания этих
демонов воплощены в скульптурных группах на фасадах, а иногда и на
капителях колонн в интерьере. Церковь, Дом Бога, давала защиту,
убежище и правый суд человеку, постоянно преследуемому своими
грехами. Негативные энергии обращались в позитивную силу через
покаяние и принятие Святого причастия, и люди вставали на путь
исцеления и спасения. Звон колокола отгонял зло. В освященной
церкви был источник божественной энергии, которая исходила также
от гробниц святых и других священных реликвий, многократно
возраставшей благодаря тому, что в Причастии невидимо пребывал
сам Христос Владыка. Священные реликвии для храма собирали по
всему миру ктиторы церкви, епископы, аббаты, светские властители и
простые
священники.
Все
они
стремились
преумножить
чудодейственную силу своих храмов и привлечь в свою страну еще
больше паломников, а с ними и денег.
Людям нравилось, когда их хоронили под защитной сенью церкви и
ее святых, чтобы вместе с ними ожидать со страхом и надеждой
всеобщего Воскресения и Страшного суда. Особую значимость люди
придавали поминовению усопших, во время которого живущие
приобщались к великому братству мертвых. Заупокойные службы у
клюнийцев, которые стояли в авангарде движения за реформу
монашества, были столь торжественными и впечатляющими, что они
привлекли на свою сторону оказывавших им покровительство
аристократов Франции, Испании и Священной Римской империи.
Начиная с первобытных времен почитание умерших проходило в
форме похоронных тризн, тем самым их участники показывали свое
единство в духе со святыми и почившими. В Средние века монастыри
и церкви получали богатые пожертвования для устройства ежегодных
поминальных трапез в день кончины человека и празднования дня
памяти святого, покровителя церкви. По традиции в домах старых
бретонцев в особые дни продолжают оставлять за столом свободное
место для умерших членов семьи. В бенедиктинском монастыре
Кремсмюнстер в Верхней Австрии в годовщину его основания
съедается туша кабана, чтобы почтить память сына основателя
обители, который во время охоты был растерзан этим зверем, и эта
церемония продолжает совершаться без перерыва с 777 г. вплоть до
нашего времени.
Жалобы на чревоугодие и пьянство монахов и общинного клира,
которые в XII в. стали особенно частыми (в Англии даже появилось
сатирическое сочинение «Апокалипсис Голиаса», резкая сатира на эти
и другие пороки), должны рассматриваться в этом контексте. Идея
пиршества любви, в котором участвует Христос и Его чада, то есть
апостолы и все верующие в Него, была центральной в евангельском
повествовании об искуплении. Совместное принятие пищи и вина во
время празднования памятных событий, которое совершалось в святые
дни, было средством способствовать осуществлению человеческого
искупления. Поскольку это была общая точка зрения, то народ и клир,
аристократы, епископы и монахи с чистой совестью и глубокой верой
именно в подобной манере отмечали их союз с дорогими умершими.
До того, как в церковь начали проникать всевозможные ереси и
начались ее реформы, клир с пониманием относился к верованиям и
религиозным чувствам своей паствы, и это было то, что придавало
церкви этой эпохи такой открытый и толерантный характер.
В это время клир еще представлял собой единую социальную
группу общества. Высший клир – епископы, аббаты и кафедральное
духовенство – вел тот же образ жизни, что и приходские священники.
Все было как у всех: все посещали турниры и празднества, охотились
и враждовали. На церковных соборах (например, на Втором
Латеранском соборе в 1139 г.) предпринимались безуспешные попытки
отучить их от этих мирских привычек и обычаев. Священник на
приходе, имевший страсть к охоте, не мог удовлетворить ее иным
образом, кроме как занимаясь браконьерством. У него были сыновья,
которые наследовали ему. Целибат клириков вводился в сельской
местности с большим трудом. С этим были такие же проблемы в
Европе в XII–XIII вв., как и в Латинской Америке в XX в. Народ верил,
что в мире идет постоянная невидимая битва между плотью и духом.
Борьба приходского священника или монаха с дьяволом ничем не
отличалась от реального сражения с врагом. Бог и Сатана, блаженные
святые и злокозненные демоны были повсюду и рядом; для
крестьянина они были привычным элементом его повседневной
жизни. Существовали определенные правила поведения по отношению
к ним, как и в любом другом деле; только следуя им, человек мог
поступить «правильно».
Каждое Божье создание занимало свое место в мире согласно
определенному порядку (prdo), имело свой легальный статус,
защищало свою честь и отвечало за свои действия. Так, проходило
множество необычных судебных процессов. Примером может
послужить состоявшийся в 1478 г. в Базеле суд над майскими жуками,
которые нанесли урон посевам; большой крысиный процесс в Отене в
середине XVI в.; процессы против жаб, ведьм и плохих соседей. Dieu
et mon droit («Бог и мое право») – таков был непременный девиз;
и вера в стремлении обеспечить господство права была могучим
оружием. С самого раннего Средневековья церковь постоянно
вынуждали дать благословение на очень древний обычай поединка и
Божьего суда, глубоко укорененного в народных верованиях.
Священники начали благословлять не только привычные объекты,
такие как дома, домашний скот и плоды урожая, но также и вещи,
используемые для проведения Божьего суда, – воду и огонь, железо,
плужный лемех и котел (для испытания кипящей водой), хлеб и сыр
(при испытании освященной пищей), щит и оружие участников
поединка. Обычно Божий суд устраивали либо в церкви, либо рядом с
ней, так как именно в храме было место для наивысшей
справедливости, здесь Бог, Высший судия, обязательно должен был
помочь человеку добиться правды. Недаром главный портал
готических кафедральных соборов украшает изображение Страшного
суда.
Часто средневековое благочестие упрекают в материализме, в его
обращении к магии и ворожбе, в недостатке подлинной духовности и
склонности к суеверию. Вполне понятны такие обвинения, которые
исходят от людей, имеющих совсем иной жизненный опыт.
Средневековая народная вера была воинствующей трезвой и
практичной, лишенной сентиментальности (романтизм любого вида
был чужд человеку той эпохи), но не без радости, и она стояла на
страже закона. Тем самым она выполняла важную функцию в
обществе, охваченном войной, в котором каждый должен был
сражаться за свои права и в котором беззаконие было обыденностью.
Эта вера имела еще одну важную функцию. Весь окружающий мир
находился в опасности, под угрозой темных мистических сил. Во
времена голода, эпидемий и различных стихийных бедствий, в
случавшихся каждый день «происшествиях», которые стоили человеку
жизни, эти силы уже открыто заявляли о себе. И людям открывалось
знание, что под внешней красотой мира таятся разрушительные силы,
готовые каждую минуту вырваться на поверхность. Подобный опыт
могла иметь только та вера, которая была способна живо вообразить
себе все те страхи, что она вкладывала в образ Бога. Бог, Владыка
жизни и смерти, внушал одновременно и страх, и радость. Ужас,
исходящий от грозного Владыки Синая, который был подобен вулкану,
извергавшему огонь, растворялся в торжествующей радости церковной
мессы.
Войны, беззаконие, распри, всеобщий ужас перед жизнью – все
можно было преодолеть, если только каждый начнет бороться за
справедливость, вести праведную войну, прежде всего с дьяволом,
участвовать в богослужениях в Божьем доме и не забывать о
собственных обязанностях. Назовите, если хотите, это средневековое
благочестие народа наивным и примитивным, но в свое время оно
выполняло важные в жизни человека и общества функции. Для того
чтобы оценить в полной мере, чего удалось достичь с помощью
средневековой народной веры, в которой наряду с христианскими
постулатами присутствовали и архаичные, языческие и фольклорные
элементы, уместно задаться вопросом, какие функции выполняет
религия в жизни христианина индустриального общества XX столетия.
У человека Средневековья была одна вера: Бог, святые и священники
все трудятся вместе, чтобы защитить, исцелить и искупить его. Теперь
эти функции приняли на себя различные «профессии»: доктора и
психоаналитики, техники и агрономы; и, конечно, промышленники,
владельцы крупных предприятий, занимающиеся всевозможной
экономической деятельностью – от организации досуга до войны.
Ядерный реактор пришел на смену небольшим крепким сельским
церквам, чьей задачей было научить людей вере и так преобразить их,
что их искупленные, освобожденные и освященные, их уже
преображенные тела могли подняться на высший духовный уровень.
Их наследники заняты работой по преобразованию материальных
элементов. Человека оставили стоять за дверью, и вряд ли он способен
осознать, что может случиться, если взрыв, произведенный ядерной
энергией, совпадет по времени с взрывом его собственного эго, его
необученного, незрелого и непреображенного внутреннего «я».
Вернемся к теме народной веры в Средние века. Если мы
попытаемся найти то место, где действительно находилось сердце
церкви в те дни, когда она еще не изменилась под влиянием
еретических учений, ислама и ее собственных реформистских
движений, то мы обнаружим его в монастыре. Это факт
исключительной важности. Вплоть до середины XII в. вождями
христианства были не папы, не церковные правоведы и получившие
образование в университетах теологи, но монахи. В те полстолетия,
что предваряют 1122 г., папами стали несколько монахов, а Бернард
Клервоский был некоронованным папой своего времени. Великими
учителями теологии были монахи, например Гуго Сен-Викторский;
таковыми были первые великие философы-историки Оттон
Фрейзингский и Иоахим Флорский. Обучением народа занимались
проповедники-монахи, и они же были хранителями его культуры.
Именно в стенах монастырей сохранялись произведения народного
изобразительного
искусства;
памятники
романского
стиля
заимствовали из него символику животного мира, которая появилась в
эпоху миграций народов и отражена в народных сказаниях и
произведениях устного народного творчества. Монахи жили в гуще
народа и делили вместе с ним горести и радости; именно в монастырях
крестьяне находили прибежище во время феодальных междоусобиц и
кормились в голодные годы.
Народ ожидал, а возможно, и требовал от монахов безупречного
поведения. Они должны были быть совершенны, как совершенен был
сам Христос. Это утверждение имеет большое общественное значение
и должно быть по достоинству оценено. Без этого даже движение
Реформации не может быть правильно понято. Люди, жившие вне
монастырских стен, – дворяне, крестьяне, епископы, церковные
сановники, сельские священники, постоянно находившиеся в
водовороте конфликтов и страстей, прекрасно понимали, что их жизнь
далека от высоких христианских стандартов. Они были убеждены – и
это было наиболее глубокое убеждение средневекового христианства, –
что невозможно жить в миру и быть истинным и совершенным
христианином. Все же должны быть такие люди, которые способны
вести
совершенную
христианскую
жизнь
в
некотором
предназначенном для этого месте; и монахи в своих монастырях были
призваны к этому деланию. Глубоко символично, что монастырь
называли «вратами рая» или просто раем. Все надежды, молитвы и
просьбы средневекового христианина, обращенные к монахам и
монастырям, сосредотачивались на одном ожидании – что им удастся
достичь совершенной святости и совершенной христианской жизни.
Всем было хорошо известно, что высочайшим долгом христианина
было стать святым. Но для большинства людей подобное было
невозможным. Мир был полон насилия, погряз в смертных грехах и
пороке; среди суетного мира только монах мог достичь морального
совершенства.
Это убеждение лежало в основе всех реформ и реформаторских
движений. Потому что если монахи не добьются поставленной цели,
значит, весь мировой порядок и сама церковь находятся в большой
опасности, что все это иллюзия, фикция и ложь, так как не существует
больше надежды на возможность обрести христианское совершенство
здесь на земле. Таким образом, все зависит от сохранения чистоты
монашества; поэтому необходимо реформировать его, если оно
пребывает в состоянии упадка. Каждый, кто ищет христианского
совершенства, может отречься от мира и уйти в монастырь. Но что
делать ему, когда сами монастыри превратились в вертепы, стали
ничуть не лучше публичных домов. Среди обвинений в отношении
монастырей, зафиксированных хронистами, есть и такое: они суть
«силки, наживкой в которых служат блудницы». Во времена, когда
монашество стало прибежищем порока, благородного происхождения
девственницы, поступавшие в женские монастыри, подвергались
угрозе совращения, а их монастырские собратья вступали в
постоянные перебранки друг с другом и предавались пьянству. Тем
самым все христиане, независимо от их социального положения, были
заинтересованы в монастырской реформе. В раннем Средневековье, а
особенно начиная с IX в., возникло сразу несколько реформационных
движений, оставивших яркий след в истории церкви. В XI–XII вв. эти
движения окончательно оформились и приобрели широкое
общественное и политическое значение. К XII в. они еще больше
окрепли благодаря тому, что были созданы специально для проведения
реформы новые монашеские ордены, которые открыли новую эпоху
контролируемой папством церкви. Это были учащие нищенствующие
ордены, ставшие ее основной действующей силой.
Следует подчеркнуть, что многие реформы, произошедшие ранее
XII в., и даже большинство новых орденов, основанных в этом веке,
имели консервативный характер; реформировались только уже
существующие институты. Происходило это следующим образом.
Какой-либо аристократ, или епископ, или даже сам король и император
собирали обычно дюжину монахов (аббат вместе с двенадцатью
монахами символически изображали Христа и Его двенадцать
апостолов) и поселяли их на своей земле. Они находились в
юрисдикции вышеозначенных лиц, образуя своего рода небольшой
островок святости. Там они были обязаны молиться за своего сеньора
и его семейство, служить мессы, хоронить и поминать усопших. С
завидным постоянством, после смены двух-трех поколений монахов,
дисциплина обычно начинала расшатываться. Ее падение имело
различные причины: растущее благосостояние обители за счет все
новых пожертвований и дарений; праздность, поскольку выполнялась
только первая часть старого правила бенедиктинцев ora et labora
(«молись и работай»), а на монастырских землях могли трудиться
мирские братья и вилланы; и, не в последнюю очередь, общение с
«миром». Братия монастыря окончательно «развращалась». Было
невозможно откладывать и дальше назревшие реформы, опасность
грозила уже самой деревне и благополучию и спасению души членов
семейства ктитора. Ктиторы или их потомки озаботились
реформированием «своего» монастыря с помощью епископов и
аббатов и, возможно, даже папы. В монастыре должен был строго
соблюдаться устав; это мог быть либо реформированный устав святого
Бенедикта, патриарха монашества Запада, либо устав, ошибочно
приписываемый святому Августину. Таким образом, существовали
различные планы реформирования монашества, имевшие одну цель –
вернуться к истинному назначению монастырей, которые должны
выполнять свои специфические обязанности. Не было намерения
реформировать сам окружающий мир, церковь и мирское
христианство; это пришло бы само собой, если бы монашество вновь
обрело духовное здоровье и тем самым смогло бы благотворно
повлиять на мир, лежавший вокруг.
Реформаторские движения и реформирование духовных орденов,
имевшие место в XI–XII вв., косвенно вели к реформе церкви в целом
и реформе мирского христианства, к созданию новых анклавов
святости. Каждый раз, когда основывался новый монастырь или
реформировался старый, очищался кровоток христианства. Эти
жизнетворные обители были частью Царствия Небесного на земле,
местами спасения для христиан, бежавших из мира в поисках
христианского совершенства. Но старое монашество устава святого
Бенедикта отражало самодостаточность раннего периода своего
развития. Эти монастыри были фактически полностью независимыми,
напоминавшими небольшие государства. В XII в. довольно часто
можно было наблюдать, как подобные монастыри успешно
противостояли вторгавшимся в их пределы реформаторам, которые
временами начинали понимать, что роли поменялись. Например,
немецкие хронисты, описывая изгнание подобных незваных гостей, с
восторгом говорят о решительной победе над всеми пришедшими
извне чужаками (возможно, французскими реформаторами),
посягнувшими на «добрый старый обычай», установленный отцами
основателями монастыря.
Основание новых монастырей было характерным явлением своего
времени. Отчасти это было ответом на призыв к реформам, а с другой
стороны, папство, для удовлетворения растущих потребностей церкви
и своих властных амбиций, искало себе союзников. Орден понимался
теперь как монашеская конгрегация, каждый монастырь которой
находился в юрисдикции высшей инстанции, несшей ответственность
за духовную дисциплину в нем и, там, где это было необходимо, за его
реформирование. Такие ордены получали одобрение папы. Проведение
монашеской реформы теперь уже не зависело от случая или прихоти
церковного или светского синьора. Теперь это стало обязанностью
самого ордена, деятельность которого все больше регламентировалась
и который регулярно созывал капитул, свой руководящий орган. В
XII в. мы уже видим сложившуюся, тщательно выстроенную сеть
новых учреждений и монастырей наряду с продолжающими
существовать монастырями раннего Средневековья с менее строгой
организацией. В Германии действовала Конгрегация Хирзау,
окончательно сложившаяся во второй половине XI в., в которую
входило несколько реформированных по примеру Клюни
бенедиктинских монастырей. Это были первые монастыри в Германии,
которые покончили с правом аристократов учреждать для себя церкви
и монастыри, создали институт светских братьев, готовили
странствующих проповедников и сформировали общины мирян,
жившие под монашеским духовным руководством, в основе которого
лежали принципы аскетики.
Аскетизм был решительным ответом монашества на все
происходившее в мире; монашеский ригоризм противостоял роскоши
и насилию светского мира. Орден Гранмон, орден картузианцев
(основанный святым Бруно Кёльнским в 1084 г.), орден Фонтевро
(основанный архипресвитером Робером д’Арбрисселем около 1100 г.)
и многочисленные более мелкие обители свидетельствовали о
жизненности растущего аскетического движения. Всем им были
присущи общие черты: бегство от мира, проповедь бедности и
подражание Христу. Это движение может быть понято только в свете
крайней «обмирщенности» средневековой церкви и христианства в
целом. Такие христиане от «мира сего», зачастую впервые в своей
жизни, приходили к пониманию греховности мира. Этого не могло бы
произойти без глубокого осознания человеком основ христианского
учения, что было достижением аскетизма.
XII столетие стало свидетелем рождения двух орденов, которые во
многом были устремлены в будущее, – цистерцианцев и
премонстранцев. В начальный период своего существования
проповедь цистерцианцев была для верующего подобна глотку
родниковой воды. Бернард Клервоский, самый влиятельный
церковный деятель эпохи, вступил в орден в 1112 г. Это было время
правления англичанина святого Стефана Хардинга, третьего
настоятеля аббатства Сито (орден цистерцианцев получил свое
название от латинского наименования аббатства Cistercium). Бернард
основал 65 дочерних монастырей, продолжая управлять собственным
аббатством в Клерво. К 1270 г. цистерцианцы в Западной Европе
имели уже 671 аббатство. Во главе ордена стоял настоятель Сито, он
же председательствовал на генеральном капитуле; ему подчинялись
аббаты первых четырех дочерних монастырей. Полевые и
монастырские работы выполняли светские братья. «Серые монахи»
(так они были названы по цвету их одеяний из грубой шерсти)
колонизовали славянские земли в Восточной Европе. Цистерцианцы
были пуристами, хотя и не слишком строгими: они остановились на
полпути к пониманию готики, стиль их построек уже проторил для нее
дорогу. В своем понимании меры и пропорции, чувстве классической
незамутненной красоты и не в последнюю очередь благодаря дару
духовного руководства они близки гуманистам XX в.
Там, где гуманисты наиболее искренни в своих похвалах любви
земной и небесной, своей утонченной и изысканной манерой
выражения они обязаны вдохновению цистерцианцев. Поколение,
пришедшее позднее им на смену, ставшее под влиянием тяжелых
времен ханжеским и склонным к запретам, запретило публикацию
цистерцианских комментариев к Песни Песней.
Орден премонстрантов, или «белых каноников», был основан
святым Норбертом Ксантенским (скончался в 1134 г.). Премонстранты
уделяли особое внимание служению литургии, проповеди, попечению
о душах верующих и теологии. Они также сыграли важную роль,
особенно после того, как Норберт стал архиепископом Магдебурга в
1126 г., в обращении в христианскую веру полабских славян и
колонизации их земель, расположенных к востоку от Эльбы. Орден
имел строгую иерархическую структуру (стоявший во главе настоятель
носил титул генерала), отделения на государственном и региональном
уровнях. Аббатства делились на провинции (circaria). В XIII в.,
времени расцвета ордена, насчитывалась 31 провинция, которые были
объединены в Генеральную конгрегацию. Имеются ранние
свидетельства о наличии в ордене национальных противоречий, в
частности между французами и немцами, имевшими благородное
происхождение. В начальный период существования ордена «белые
каноники» основывали «двойные» монастыри, с мужской и женской
общинами; примером чего может служить аббатство Фонтевро. Эта
форма монашеской жизни была характерна для ирландского
монашества и пережила частичное возрождение в Англии в XII в.;
инициатором этого движения был Гилберт Семпрингамский
(скончался в 1189 г.). Но на континенте подобная форма монашеского
общежития не привилась, и орден отказался от нее по собственной
инициативе.
Современники смотрели на новые монашеские общины и ордены со
смешанным чувством удивления, надежды и смутных опасений. В
самом деле, смогут ли эти новые монахи вдохнуть новые силы в
христианство? Или же они были вестниками конца мира, Страшного
суда и пришествия Царствия Божия на земле? Как это новое
многообразие (ордены отличались друг от друга образом жизни,
обычаями, одеждой, правилами служения литургии) можно примирить
с единством церкви? Ненависть, недоверие и завистливое
соперничество проявились очень скоро во взаимоотношениях между
«серыми монахами» и «белыми канониками» и, в свою очередь, между
ними и старыми клюнийцами, между вновь образованными
монастырями и старыми и кафедральными капитулами. Конфликт
между францисканцами и доминиканцами был еще впереди. Но еще
более пугающим был для современников тот факт, что даже эти новые
монастыри были не в состоянии удовлетворить назревшие
религиозные потребности и оправдать горячие ожидания людей. Не
смогли они противостоять и напору новых идей и духовных движений,
пришедших из стран Средиземноморья. В начале своей миссии Петр
Вальдо, основатель движения вальденсов, отправил двух своих
дочерей в Фонтевро. Но это была скорее случайная связь старого
реформаторского движения и нового; между ними так и не были
наведены мосты.
Монашество было изначально «аристократическим» институтом и
оставалось таковым и в XII в., связанным с землей и сельским
хозяйством, далеким от городов и державшимся особняком от
«простого народа», хотя и были исключения из этого правила там, где
были стерты четкие границы с миром. Монахи были далеки от
симпатий к интеллектуалам, которые активно работали в школах при
кафедральных соборах и преподавали в университетах. Ни один из них
не вышел из их среды; задачи монашества были другие. Они
намеренно отгородились от тех интеллектуальных центров, в которых
в XI–XII вв. бурно развивалась научная и общественная мысль – новых
городов и высших школ.
Существовал принцип «постоянства места» (stabilitas loci)
монашеского служения, хотя и были исключения из этого правила.
Церковь и монашеские ордены были международными институтами,
однако, когда монахов отправляли из монастыря с поручением, даже на
длительное время, они продолжали сохранять связь со своим
монастырем. Тысяча с лишним бенедиктинских монастырей, приорств,
аббатств и скитов и более сотни новых орденов, построенных по тому
же принципу, были «оазисами» в глуши лесов, на берегу небольших
рек и в горных долинах Италии и Германии, на широких равнинах
Восточной Европы, в отдаленных безлюдных местах Прованса, среди
изумрудных полей Британских островов. Эти древние монастыри
пребывали в вечном безмятежном покое. Они могли стать желанным
прибежищем для беженцев этого беспокойного времени; но они не
могли игнорировать или отказаться от своего основного
предназначения. Именно в монастырях дремавшие и ожидавшие
своего часа умственные и духовные силы пришли в движение и
привели к созданию «новой» Европы.
Глава 4
Городская жизнь и экономика
На протяжении всего XII столетия в Европе наблюдался бурный
рост городов. Они сильно различались по своему правовому статусу,
величине и значению. Но, несмотря на это, их объединяла одна общая
черта – они были воплощением движущих сил, которые творили
новую Европу. В позднем Средневековье некоторые из них даже
обрели реальную власть над королями и папами. Первые итальянские
города-государства могли гордиться тем, что они являются
наследниками старейшей державы христианского мира – Восточной
Римской империи. Города возникали тут и там по всей Западной и
Центральной Европе.
Средневековые города, окруженные мощными крепостными
стенами, имели тесную застройку. На небольшой территории были
расположены церкви, часовни, монастыри, ратуша, лавки менял, места
собраний купеческих и ремесленных цехов, дома братств, особняки
влиятельных горожан, здания школ и коллегий университета. Жизнь
внутри городских стен бурлила и кипела. Городским стражникам и
представителям власти постоянно приходилось вмешиваться и
восстанавливать порядок; в моменты внутренней смуты звонили в
церковные колокола. Все это стало ежедневной обыденностью. По
мере того как городское население увеличивалось и приезжало все
больше иностранных гостей, для размещения их строились все новые
и новые дома, а также церкви и рынки. Большие дома наиболее
зажиточных и влиятельных семейств отличались вычурной и богатой
архитектурой. Общественные здания, свидетельствующие о силе
городской власти и ее независимости, отличались еще большим
великолепием. Городские жители строили свои собственные церкви,
словно соревнуясь в храмостроительстве с прежними городскими
хозяевами – епископами и удельными князьями, от власти которых им
удалось избавиться в результате упорной борьбы, иногда длившейся на
протяжении нескольких поколений.
В XII–XIII вв. города в Европе процветали и богатели, однако вскоре
начался их упадок. Медленное угасание городов в позднем
Средневековье было наиболее явным симптомом экономического
упадка, наступившего в эти века. Снижалась численность городского
населения, люди чаще меняли место жительства; к тому же Европа
стала «закрытой» в начале Нового времени. Все это, вместе взятое,
привело к тому, что человек стал недоверчив и замкнулся в себе, а это,
в свою очередь, вызвало вражду одной нации к другой нации, одной
веры к другой вере, одного города к другому.
Многие города вступили на путь упадка задолго до великого
бедствия – чумы 1347–1350 гг., приведшей к гибели миллионов людей.
Еще до того, как войны позднего Средневековья парализовали
торговлю, прежде финансовой катастрофы крупных банков и торговых
домов Италии и Германии. Процветавшие некогда города были
принуждены уступить свое первенство более успешным соперникам,
как, например, это произошло в Италии. Амальфи, Сиена и десятки
других небольших городов не выдержали конкуренции со стороны
Венеции, Милана, Флоренции и Генуи. Многие новые города
оказывались неудачными начинаниями, не могли привлечь достаточно
капиталов для развития торговли и возвращались к сельскому статусу.
Так, в XIII в. Людовик IX Святой начал осуществление грандиозного
проекта по освоению болотистых земель Прованса, где был построен
порт Эг-Морт. Со временем он заилился и потерял свое значение. Даже
города Шампани пришли в упадок, хотя они и стали в XII в. одними из
самых процветавших в Европе торговых и финансовых центров
благодаря своим крупным ярмаркам и находились под защитой графов
Шампани. С XV в. Брюгге стал мертвым городом, «городомпризраком», пробуждавшим только воспоминания о временах былой
славы XIII–XIV вв. Возвышение и падение того или иного города во
многом зависело от расположения к нему короля.
Необходимо помнить и о том, что большая часть городов никогда не
имела более чем несколько сотен жителей. Редко когда их число
превышало несколько тысяч человек. Некоторые города гибли по воле
случая или из-за стихийного бедствия, другие были обречены
погибнуть вследствие чужеземного нашествия или проигранного
сражения. Не следует забывать о неприглядной оборотной стороне
жизни средневекового города, часто мрачной и суровой, когда мы
восхищаемся высоким искусством его мастеров и его развитой
культурой. Средневековая городская цивилизация имеет три славных
достижения, которые делают ей честь и относятся к высочайшим
свершениям Средних веков. Во-первых, это «Божественная комедия»
Данте – единственный в своем роде гимн ненависти и любви,
посвященный его родному городу Флоренции, из которого он был
изгнан. Во-вторых, это фигура Фомы Аквинского, сына аристократа,
который, подобно его покровителю императору Фридриху II, имел
явное недоверие к городам. Но тем не менее для Фомы Аквинского
город был идеальным типом человеческого поселения, который давал
великолепную возможность обеспечить экономическую безопасность
на основе самоуправления и самодостаточности. Третье великое
достижение средневекового города – это университет, являющийся во
многих отношениях порождением городского образа жизни. Здесь
развивалось искусство вести диспут (disputatio) или научную
дискуссию, что было высшей формой состязания в красноречии,
ставшим повседневным событием в средневековых городах. Горожане
в спорах учились отстаивать городские свободы.
Города средневековой Европы разительно отличались от городов
городских цивилизаций Ближнего Востока и стран Средиземноморья,
от городов арабского мира и Руси. Эти неевропейские города часто
были более развиты, чем европейские, в технологическом,
производственном и санитарном отношении и стояли на более
высоком уровне развития цивилизации. В IX–XII вв. русские города во
многом превосходили по своему развитию города Северной Европы.
Торговые пути раннего Средневековья шли с Востока по русским
рекам в страны Балтийского моря. Результаты раскопок столицы
древнего государства Волжская Булгария в Среднем Поволжье
показали, что здесь, в глубине России, еще до захвата в середине
XIV в. этих территорий татаро-монголами, явственно прослеживается
влияние государств Востока и поздней Античности. Площадь столицы
равнялась 4 квадратным километрам; план ее застройки повторял
планы больших эллинистических и исламских городов. Существовали
общественные бани и городской водопровод; дворец правителя имел
централизованную систему отопления. Город поддерживал торговые
связи с Китаем (фарфор и изделия из стекла), Японией (изделия
гончарного производства), Киевом и Новгородом (оружие), Византией
(ювелирные и гончарные изделия). Неразвитость городов раннего
Средневековья в Европе можно представить себе, только сравнив их с
более цивилизованными эллинистическими и арабскими городами
Средиземноморья и Ближнего Востока. Эти города существовали со
времен Ниневии и Вавилона, будучи построенными по одному и тому
же плану. Но малые города Европы имели преимущество в двух
аспектах: они обладали свободой и индивидуальностью.
В XII в. города Южной Европы, Италии, Прованса и Испании
начинали все больше осознавать свои античные корни, одновременно
развивая новые направления в градостроительстве. На севере Европы
и в Германии все больше ценили те преимущества, которые
предоставляет городское поселение в торговле, обороне и в области
законодательной деятельности. Областям максимального сближения
романских и германских общественных институтов и языков было
предназначено стать центрами городской культуры в регионах к северу
от Альп – во Фландрии, Бургундии и в долинах рек Маас и Рейн.
Следует обратить взоры на юг, где люди наслаждались удобствами
городской жизни. Мир Гомера уже был миром городов; город был
местом, где обитали боги и царь, правитель города. Идея города как
места совместного проживания богов и людей была перенесена в
Средневековье, когда каждый город имел своего святого покровителя.
«Святой» Кёльн защищали Три Волхва, 11 тысяч девственниц, святой
Мартин, святой Патрокл и много других святых. Древнегреческие
города,
первоначально
резиденции
землевладельцев,
были
религиозными и политическими центрами. Во времена расцвета Афин
в городе насчитывалось от 130 до 150 тысяч свободных людей и до 100
тысяч рабов. Начиная с XIII в. во Фландрии и Италии, а позднее и в
больших городах Париже, Лондоне и Кёльне выделялся социальный
слой несвободных пролетариев, довольно многочисленных, но
влачивших нищенское существование и совершенно бесправных. Из
них-то и сформировалось политическое и религиозное «подполье»,
которое породило взрывоопасную ситуацию времен позднего
Средневековья, когда города стали очагом постоянных волнений.
Древнеримская городская цивилизация, находившаяся под влиянием
этрусков, развивалась в сильной зависимости от азиатской модели.
Буквально все здесь напоминало о городах Малой Азии. Это касалось
ритуалов, сопровождавших основание города, его квадратной
планировки с четырьмя главными улицами (перенесенной позднее
испанцами в Южную Америку), расположения военных и жреческих
учреждений в центре квадрата, образующего город. В средневековых
церквах присутствовал шумерский декор и его мотивы.
В старейших городах к северу от Альп, а это были кельтские oppida
(города), существовали как аристократические кварталы, так и
купеческие, а также кварталы для отправления религиозных культов.
Германские oppida были местом убежища, поэтому здесь возводились
оборонительные укрепления (burgs); одновременно они были
религиозными и политическими центрами и местом проведения
ярмарок. На севере города вырастали из небольших купеческих
поселений-колоний, окруженных частоколом, где торговцы имели свои
склады. Постепенно различия между бургами и купеческими
поселениями стерлись. Обычай купцов селиться в одном выбранном
месте в значительной степени повлиял на рост первых средневековых
городов.
Именно в тех обществах, где все их участники равным образом
разделяли торговые риски, появилась система гильдий, корпораций и
братств. Гильдии способствовали развитию экономики средневековых
городов, часто ожесточенно соперничавших друг с другом. Яркое
представление об их истории дают нам устраиваемые горожанами
торжественные процессии, проходящие во время ежегодных
фестивалей святого покровителя города во Флоренции, Сиене и
некоторых
небольших
итальянских
городках.
Сохранились
средневековые полотна, на которых изображены члены гильдий при
оружии и в парадных одеяниях своих братств, во главе процессий,
участники которых гордо проходят по улицам своих городов и несут
цеховые знамена, статуи святых и их мощи.
Города на севере Европы вырастали из поселений, где оседали
бродячие торговцы и становились купцами. В Кёльне, Регенсбурге,
Вердене и Намюре еще до XI в. первоначальное поселение
огораживали крепостными стенами; в других же местах, таких как
Майнц, Камбре, Реймс, Бове, Нуайон и Турне, стены, сохранившиеся
со времен Древнего Рима, подновляли и укрепляли, чтобы защититься
от норманнов. Верден в X в. был важным центром торговли рабами; их
привозили со славянского Востока и продавали на юге, в частности в
Испании, где был спрос на евнухов при дворах халифов. В XI в.
появился еще один тип города – епископальный город (civitates),
находившийся под защитой крепостных стен; в его окрестностях
существовали также купеческие поселения; в качестве примера таких
городов можно назвать Льеж, Вюрцбург и Магдебург.
По мере развития городов постепенно формировался городской
патрициат, который подражал в своем поведении земельной
аристократии и предпринимал попытки добиться равных с ней прав, в
том числе и через заключение с ее представителями брачных союзов.
Однако в Северо-Западной Европе пропасть между наследственной
земельной аристократией и городским патрициатом так и не была
преодолена и этот социальный раскол в средневековом обществе
продолжал существовать.
В XII–XIII вв. медленно утверждался принцип «городской воздух
делает человека свободным», хотя он ни в коей мере не стал
определяющим. Города приобрели право убежища и постарались
обезопасить себя от посягательств сеньоров на свои муниципальные
права. Идея свободы лежала в основании всех таких законодательств.
Город ассоциировался с libertas — свободой; город был оазисом
свободы под защитой закона. Люди наводняли города в поисках
работы, хлеба, справедливости и крова над головой.
В Италии юридическое понятие «городского мира», унаследованное
от лангобардов, уже утвердилось к XII в. Конституция 958 г. города
Генуя, которая представляет собой хартию вольностей, принятую в
интересах ее жителей и подтвержденную итальянскими королями
Беренгаром II и его соправителем Адальбертом II, является самым
ранним примером хартии подобного рода. Хотя в Испании в этот
период времени имелись похожие законодательные акты. И в Италии,
и в Испании городской статус подтверждался дарованным королем
правом иммунитета, и эта королевская привилегия даровалась городу в
каждом конкретном случае. В Северной Европе странствующие купцы
сами отдавали себя под защиту короля и тем самым получили у него
признание за ними обычного права, легшего в основу муниципального
права в областях к северу от Альп. Во многих случаях принцип
«городской воздух делает человека свободным» служил политике
правительства, как в Испании, где жителям было необходимо
отстраивать свои города после завершения Реконкисты.
Городское население Северо-Западной Европы и ее восточных
областей было настроено враждебно к аристократии и феодальной
системе в целом, и, естественно, обратилось за помощью к монарху,
как своему покровителю и союзнику. Но в Южной Европе, особенно в
Италии, города были центрами земельных владений аристократии,
которая принимала участие в городской жизни и рано занялась
торговлей, в особенности с заморскими странами. Договор,
получивший в Генуе название habitaculum (лат. место, обиталище),
обязывал аристократов какое-то время в году жить в городе. В XII в.
большие города окончательно установили свою власть над
окружающими город землями и их владельцами – аристократами.
Заключенные в XIII в. «аристократические договоры» между
прирейнскими городами, в особенности Кёльном, и сеньорами
окружавших
их
земель
продемонстрировали
новый
тип
взаимоотношений: договаривавшиеся стороны сохранили свой статус
горожан и аристократов и подписали общие договоры о ненападении в
качестве равных партнеров.
Краткий обзор мира городов высокого Средневековья можно начать
с Италии, города которой были одним из наиболее ярких и красочных
феноменов средневековой цивилизации. То, что мы называем эпохой
Возрождения, во многом их достижение. К концу XI в. был образован
по указу короля (или императора) такой институт, как консульство.
Они появились в 1081 г. – в Лукке и Пизе, в 1094 г. – в Милане, в
1099 г. – в Генуе; в первой трети XII столетия – в Бергамо, Болонье,
Брешии, Модене и Вероне, а в 1138 г. – во Флоренции. Это указывало
на политическую зрелость коммун, муниципальные власти которых
становились все более независимыми и богатели. Сами консулы
происходили из аристократических или зажиточных буржуазных
семейств; они осознавали свое высокое социальное положение,
которое служило укреплению престижа и влиятельности городов,
представителями которых они были. В тесной связи с консульской
системой была система названого братства (societas, communitas,
compagnia, coniuratio). Первоначальной целью цехов, корпораций и
старых патрицианских семейств было сгладить внутренние
противоречия и предотвратить образование партий, но, как часто
случалось в Средневековье, города, чьим предназначением было стать
оазисами мира, были местом постоянной вражды.
Городом (urbs), стоявшим выше всех других городов, как в античном
мире, так и в Средневековье, был, конечно, Рим. В X в. Святой город
защищали 181 оборонительная башня и 46 крепостей. К XIII в.
количество башен превысило 500, больших и малых. На улицах города
продолжала литься кровь из-за ожесточенной вражды знатных
аристократических династий Франджипани и Пьерлони, Анибаль-ди и
Савелли, Конти и Орсини, Капоччи и Колонна, которые плели интриги
друг против друга. Историю церкви и папства можно лучше понять из
хроник, повествующих о распрях аристократов. Повсюду были их
вооруженные до зубов сторонники, которые скрывались под сводами
храмов, акведуками и в Колизее. Колонна жили в палаццо
Монтечиторио, где располагается резиденция современной палаты
депутатов Италии, нижней палаты парламента. Их распря с
Бонифацием VIII, папой из династии Гаэтани, приблизила конец
господства папства и одновременно покончила с честолюбивым
стремлением правителя Святого города стать реальным главой всего
христианского мира, властителем над всеми народами объединенной
Европы.
Уже в XIII в. иностранцы начали выказывать открытое недовольство
бедственным положением города. Это был грязный, терзаемый
всевозможными болезнями, полный бандитских притонов город, где
приезжего обирали до нитки местные мошенники, и он окончательно
терял свое здоровье из-за отвратительной пищи и множества
кровососущих насекомых. Обличающие «порочный город Рим» голоса
были слышны по всей Европе, они выражали также общее неприятие
сельских жителей к этому городу; особенно сильным было его
отторжение на севере Германии, где подобные настроения сохранились
до времен Лютера и даже позже. Позднее появились другие города,
оспаривавшие пальму первенства у Рима, как «Вавилона, города
порока»: сначала Париж (проповедь Жака де Витри), а затем Лондон
(Баньян и Блейк).
Между итальянскими городами велись бесконечные войны: воевали
друг с другом Венеция, Генуя и Пиза; Флоренция сражалась с Сиеной
и Пизой, Пистоей и Ареццо. Этот перечень может быть продолжен:
Милан соперничал с Кремоной, Болонья с Моденой, Верона с Падуей
и Кремона с Мантуей. При каждом внезапном нападении били в набат;
и о готовящемся выступлении граждан, способных носить оружие,
также оповещал колокольный звон. Когда город, особенно если он был
небольшим, оказывался на военном положении, все мужчины в
возрасте от 14 до 70 лет призывались на военную службу. Войско вела
в бой боевая колесница, бывшая священным палладиумом города. Во
Флоренции также была известная колесница Carroccio, запряженная
двумя быками. Кремона имела свою «Берту», Парма – «Бланкардо»,
украшенные изображениями Мадонны и городских святых.
Даже в разгар всех этих войн в XII–XIV вв. наблюдался удивительно
быстрый рост некоторых городов. Население Сиены и Пизы
превысило 30 тысяч жителей; население Флоренции в XIV в. выросло
с 6 тысяч до почти 74 тысяч; число жителей Венеции и Милана
подошло к 100 тысячам человек. В 1287 г. из-под пера местного
уроженца по имени Бонвезин да Рива вышло описание Милана,
хвастливое по тону и с явными преувеличениями, свойственными
итальянскому патриотизму. Как он сообщает, в городе было 3 тысячи
мельниц, 1 тысяча таверн, 400 нотариусов, 200 судей, 200 врачей, 150
больниц, 80 учителей, 50 писцов, 1345 церквей с 3 тысячами алтарей,
120 часовых башен и 10 тысяч монахов. Так автор описывал богатый
город Северной Италии, силы которого опасались и который не могли
одолеть императоры Священной Римской империи от Фридриха I до
Фридриха II.
Экономической мощи итальянских городов способствовали три
фактора: разнообразные промышленные производства, торговля с
заморскими странами и банковские операции. Что касается участия
отдельных групп горожан в политической жизни итальянских городов,
то она, конечно, зависела от их экономического положения.
Будет полезно кратко рассмотреть городской социум на примере
Флоренции XIII в. Самая влиятельная группа городского населения
primo popolo (ит., дословно «первые люди») состояла из членов семи
основных цехов, которые назывались arti maggiori (ит., дословно
«большие цехи»). В первый цех входили судьи и нотариусы. Во второй
– богатые купцы с Каллемала, улицы, ведущей от площади мэрии к
кафедральному собору; менялы; ткачи; торговцы среднего достатка из
квартала Пор’Санта-Мария; мелкие лавочники, аптекари и врачи;
мастера по изготовлению луков и стрел. Резко отличались по своему
социальному положению от цехов, входивших в primopopolo,
небольшие цехи и корпорации, числом от 15 до 20, представляющие
arti minori (ит. малые цехи) и образующие popolo minuto (ит. мелкий
люд). Среди этой группы населения выделялись кузнецы, плотники и
виноторговцы. Пролетариат, многочисленный уже со времени своего
зарождения и ультралевый по воззрениям, во время бунта всегда мог
заявить о себе. Его вождями становились члены цеха мясников,
которые научились ловко орудовать острыми топорами при разделке
туш.
К XII в. итальянцам удалось создать множество процветавших
предприятий по производству шерсти, полотна, кожи, скобяных
изделий и изделий из дерева, благодаря своему упорству и мастерству
и таланту ремесленников и мастеров своего дела. Полученные
прибыли снова вкладывались в дело ради создания новых
материальных ценностей. Именно итальянцы познакомили европейцев
с теорией финансов и банковским делом, учили, как наилучшим
образом использовать капитал в производстве.
Основным условием для банковских транзакций было стабильное
денежное обращение. На него не должно было влиять частое и
произвольное снижение цены металлических монет, бывшее
популярным способом «делания» денег среди правителей
Средневековья. В 1192 г. в Венеции была отчеканена серебряная
монета под названием гроссо, которая соответствовала 12 пенсам. В
1252 г. во Флоренции появился золотой флорин, соответствовавший по
стоимости одному фунту. В 1284 г. в Венеции отчеканили золотой
дукат, позднее названный цехином, того же веса и пробы, что и
флорентийский флорин. Эти золотые монеты наряду с более поздним
французским экю и серебряным турским грошем (gros tournois),
чеканка которого началась в 1266 г., стали международными валютами,
как это произошло с долларом в наши дни. Ломбард-стрит в
лондонском Сити и использование слова Lombard в современном
немецком языке для обозначения депозитного банка – это напоминание
о том времени, когда «ломбардцы», то есть итальянские финансисты,
проводили банковские операции по всей Европе, что превратило
Флоренцию, Сиену и Геную в ведущие финансовые центры того
времени.
Итальянская финансовая олигархия не смогла бы добиться сильной
экономической и политической власти без развитой внешней торговли.
Начиная с середины XI в. итальянские приморские города захватили
торговые пути Византийской империи, торговый флот которой был в
упадке, и это позволило им контролировать торговлю в Восточном
Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Финансисты и коммерсанты
Ломбардии и городов внутренних областей Италии контролировали
горные перевалы в Савойе, через которые товары шли на север. Это
открыло им доступ на ярмарки Шампани, в города Северной Франции,
во Фландрию и Северо-Западную Германию, самые важные центры
торговли и промышленности в регионе к северу от Альп. Здесь
итальянцы установили торговые связи с немецкими купцами, которые
торговали с англичанами и скандинавами и даже с Новгородом.
Венеция, Генуя и Пиза сказочно обогатились благодаря крестовым
походам XII – начала XIII в., когда они получили монопольное право
на транспортировку и снабжение войск Запада. Им также удалось
настоять на своем требовании о выделении им трети территории
каждого завоеванного сирийского города. Здесь родился «ранний
европейский
колониальный
капитализм»;
местные
жители,
большинство из которых не были христианами, были принуждены
трудиться на итальянских промышленных предприятиях. Таким
образом, они получили монополию на производство шелка и стекла.
Название тканей, таких как дамаст (производное от Дамаска), муслин
(от Мосула), газ (от Газы), служат напоминанием о золотом веке
итальянской левантийской торговли. К середине XIII в. два больших
соперника Генуя и Венеция установили полный контроль над своими
зонами влияния. Для Генуи это были порты Черного моря, для
Венеции – греческие острова Эгейского моря. Рабы были также
важной и постоянной статьей торговли, и рынки рабов были устроены
в Венеции, Флоренции и Риме; для влиятельных горожан иметь рабов
было обычным делом. Поражает беспринципность и цинизм
итальянских торговцев, которые продавали в рабство французских и
немецких детей, участников детских крестовых походов. Лишь только
они сходили с корабля на берег в итальянских портах, как капитан
сразу же продавал их своим мусульманским партнерам по бизнесу.
Работорговля прекратилась в основном по экономическим причинам:
там,
где
развивалась
промышленность,
она
становилась
неприбыльной. Сначала она была отменена в небольших городах, в
1205 г. в Пистойе и в 1210 г. в Ассизи, но в Болонье только в 1256 г., а
во Флоренции – в 1299 г. Однако официальное запрещение вначале
мало что изменило в положении дел.
Итальянские купцы были в прекрасных взаимоотношениях с
неверными – исламскими принцами Ближнего Востока и
Альмохадами, берберами с гор Высокого Атласа, которые правили
Испанией с середины XII столетия. Купцам Италии и Прованса было
дано разрешение селиться в Тунисе и в других торговых факториях
Средиземноморья.
Итальянцы оставили Западной Европе опасное наследие. Имея
военный и торговый флот, «национализированную» экономику и свою
систему налогообложения, которую они внедрили в свои византийские
владения, они были представителями «алчного», «сеющего войну»,
«беспринципного» Запада.
После 1205 г. дожи Венеции присвоили себе гордый титул «владыки
четверти и полчетверти Византийской империи».
Борьба за власть в итальянских городах была столь же
ожесточенной, как и борьба между самими городами: здесь
соперниками
были
различные
политические
партии,
аристократические семейства, каждое со своей клиентелой и
«большими» и «малыми» цехами. Вспыхнуло яростное соперничество
между гвельфами и гибеллинами (эти прозвища первоначально
означали соответственно сторонников императоров Гогенштауфенов и
сторонников папы), так что к середине XIII в. сложились все условия
для установления диктаторского правления, хотя первоначально оно не
было выражено в столь явной форме. Было много потенциальных
кандидатов на роль диктатора: кондотьеры (наемники из дворян),
имперские викарии, назначенные Фридрихом II и сохранившие
контроль над городским самоуправлением и после его смерти под
собственную ответственность, и, не в последнюю очередь,
представители аристократических и патрицианских семейств,
боровшиеся за власть над своим городом. В середине XII–XIII вв. была
предпринята попытка взять ситуацию под контроль, учредив новую
официальную должность подеста. Иногда его назначали только на год;
он должен был поддерживать внутренний мир в городе, сдерживать
проявления смертельной вражды между различными партиями и
пресекать все попытки горожан из низших классов заявить о своих
правах на участие в управлении городом. Подеста, принимавший на
себя исполнение всех административных и судебных обязанностей,
имел юридическое образование. У него был свой штат сотрудников,
большинство из которых окончили Болонский университет. По
истечении года (или нескольких лет) пребывания во власти подеста
отчитывался перед городскими властями.
Становится понятным, почему наряду с административными и
судебными чиновниками, которые служили народу в качестве его
правителей, появилась полиция. Подеста имел собственный отряд
полиции, который охранял его и выполнял его поручения. Подобный
тип общественного устройства прекрасно соответствовал запросам
юридически образованной, зрелой, просвещенной городской
буржуазии, но только до тех пор, пока они были готовы к воплощению
на практике своей идеи города как творения божественного и
человеческого разума. По этой самой причине она плохо подходила к
суровым условиям политической борьбы, как внутренней, так и
внешней. Когда разгорались конфликты, подеста часто оказывался не у
дел, или же он начинал править городом по своему личному
усмотрению.
Флоренция и Венеция развивали собственные своеобразные формы
управления. Некоторое время свободная республика Флоренция была
аристократической
«демократией»,
когда
городом
правила
патрицианская элита, в которую входили представители семи ведущих
цехов. Этот орган городского самоуправления назывался синьория.
Синьория состояла из двенадцати комиссий и комитета городского
управления. Были выработаны также сложные правила проведения
выборов. Судьба Данте, одного из многих политических изгнанников,
показывает, до какой степени беззакония и озлобления могла доходить
внутренняя борьба за власть. Время существования синьории
укладывается во временные рамки со дня смерти Фридриха II в 1250 г.
и до начала правления рода Медичи в 1434 г., представителю которого
Козимо де Медичи (1389–1464) удалось сокрушить всех своих
внутренних врагов.
Конституция Венеции, на которую было много нападок и которой
многие завидовали и восхищались, оставалась неизменной с XII в.
и вплоть до конца независимости Венеции в 1797 г. Венеция – яркий
пример правления аристократии, которой удалось подавить все
попытки установления диктатуры. С 1192 г. дож подчинялся высшему
органу республики Большому совету. При доже состоял Малый совет.
Правящая аристократия превратилась в замкнутую касту, которую
охраняла от внутренних и внешних угроз государственная полиция,
контролируемая
Советом
десяти,
постоянной
комиссией,
ответственной за безопасность республики. На западных мыслителей
Нового времени, включая участников Французской революции,
произвело большое впечатление то, как была организована власть
Венецианской республики, ее административные и судебные
учреждения. Джеймс Гаррингтон присвоил многие черты
венецианской конституции некоему идеальному государству,
описанному им в его политической утопии Oceana, которое он
рассматривал как модель конституционного государства будущего.
Некоторые положения конституции Венеции вошли в конституцию
Североамериканских штатов.
С XII в. процветавшие итальянские города начали играть важную
роль в европейских делах. Финансовая и коммерческая активность
итальянских купцов принимала различные формы. Они предоставляли
ссуды под большие проценты монархам Неаполя, Франции и Англии;
в обмен им предоставляли лицензии на экспорт зерна и шерсти, право
чеканить монету, добывать соль, собирать налоги и различные подати.
Семейство Франчези из Флоренции были казначеями французского
короля Филиппа IV Красивого, Фрескобальди были администраторами
Гаскони при Эдуарде II, Барди собирали налоги для Анжуйского дома
в Абруццо, Перуцци контролировали финансы английского
королевства в царствование Эдуарда III. В XIII в. импорт и экспорт
товаров во Франции был в итальянских руках. Их привилегии и
богатства вызывали зависть в народе и у местных мелких торговцев,
результатом чего были неоднократные выступления против
итальянцев. Их преследовали подобно евреям, как нежелательных
чужаков, и в 1311 г. Филипп Красивый приказал изгнать их из
королевства.
Южная Франция, особенно Прованс, имела тесные экономические,
культурные и религиозные связи с городской цивилизацией Италии,
так что в некоторых отношениях они составляли единое целое.
Итальянские купцы основали крупные колонии в Южной Франции,
где они селились вместе со своим семейством (подобно мессеру
Бернардоне, отцу святого Франциска). Итальянцы тесно сотрудничали
с провансальскими торговыми партнерами, они распространили свою
деятельность и на Испанию, и на мусульманское Средиземноморье.
Испанские хронисты рассказывают, как по призыву итальянских и
французских купцов жители Сантьяго-де-Компостела, Овьедо и
Саагуна восстали против церковных властей. Подобное не могло быть
случайностью. Эти купцы находились в постоянном духовном поиске;
они распространяли учения вальденсов и катаров и принесли с собой
мягкую, мелодичную речь Лангедока, которую услышала вся Италия.
Южная Франция, по сути, была частью мира Юга и имела гораздо
больше общих черт со своими соседями Италией и Испанией, чем с
чужим ей Севером, где даже язык был другим. Южная Франция,
только после продолжительного сопротивления покорившаяся Северу,
начиналась к югу от Луары. В нее входила Аквитания, часть
Анжуйской империи и Лангедок от Роны до Пиренеев. Все эти области
находились в юрисдикции графов Тулузских. Здесь было много
городов, преимущественно небольших, зажиточные жители которых
отличались независимым характером; города заключали договоры друг
с другом и с итальянскими городами. В портах Нарбон и Монпелье
можно было встретить купцов и моряков со всего Средиземноморья.
Наряду с итальянскими колониями существовали процветающие
еврейские колонии, которые наложили свой отпечаток на города
Южной Франции. Здесь на Юге еврейские купцы вели торговлю с
большим
размахом.
Епископов,
аббатов
и
аристократовземлевладельцев
обслуживали
еврейские
банкиры,
высокопоставленные городские чиновники и консультанты по
финансам. Большие торговые центры в Безьере, Ниме, Тулузе и
Каркассоне заключали договоры с крестьянами, проживавшими в
сельских городках, на поставку продукции с плодородных полей.
Французские короли установили над этими южными городами свой
патронаж; это касалось равным образом многочисленных небольших
старых городов и вновь основанных в XII–XIII вв., которые
находились под защитой монарха. Эти южные города мало чем
отличались от двух сотен северных городов Франции, «коммун»,
имевших высший юридический статус и находившиеся под
покровительством короля.
В XII в. на всей территории, находившейся под юрисдикцией
французского монарха, существовали сотни малых «закрытых»
городов (yilles closes), жители которых упорно боролись с переменным
успехом за расширение своих прав. Тут и там можно было встретить
отдельные большие города, с населением от 5 до 6 тысяч человек, и,
возможно, был всего лишь десяток городов с числом жителей свыше
10 тысяч, но только Париж был действительно большой городской
агломерацией. Ремесленники, крестьяне и фермеры-арендаторы,
бежавшие от своих сеньоров, находили убежище в городах, где их
могли достать только длинная рука сеньора, сам король или какойнибудь влиятельный граф. Однако по мере того, как они богатели, их
неопределенный юридический статус все больше мешал им занять
подобающее место в высшем обществе. Горожане приобретали
привилегии и права у главы города, а затем вступали в заговор против
него. В Везле – против аббата, управлявшего городом; в Камбре,
Шартре, Бове и Лаоне – против епископа, в Амьене – против баронов.
Однако крупные сеньоры вскоре поняли, какие большие финансовые
и экономические выгоды они смогут получить, если начнут
поддерживать «свои» города, и поэтому начали действовать в этом
направлении. Почин в этом деле был положен графами Фландрскими и
королями из династии Капетингов, которые постарались поставить под
свою власть два наиболее важных города в своем королевстве – Париж
и Орлеан. Они решили укрепить свою власть и взяли под особую
защиту города в землях крупных вассалов. В Анжуйской империи
английские короли, будучи герцогами Нормандскими и вассалами
французской короны, покровительствовали Руану, Ла-Рошели, Байонне
и Бордо, соперничая с их сюзереном в Париже.
В тех местах, где сходились торговые пути, связывавшие Юг и
Север, в XII в. существовали большие французские ярмарки – СенДени, Бокер на реке Роне, Шалон-сюр-Сон и, конечно, славные
ярмарки Шампани. Лишь немногие из тех городов, где устраивались
ярмарки, достигли общеевропейского статуса города ярмарок; в XIII в.
это были Брюгге и Женева, в XIV в. Франкфурт-на-Майне. Самыми
первыми и старейшими, однако, были ярмарки Шампани. Графы
Шампани проводили по отношению к ним протекционистскую
политику, и ярмарки стали в XII в. главными торговыми центрами
Западной Европы. Графы Шампани гарантировали для всех купцов,
проезжавших через их земли, безопасность в дороге на ярмарку и при
возвращении с нее. Закон также предусматривал суровое наказание за
нарушение общественного порядка во время проведения ярмарок; и,
видимо, поэтому эта местность с ее четырьмя ярмарочными городами,
а это были Провен, Труа, Ланьи-сюр-Марн и Бар-сюр-Об, стала самой
безопасной для занятия торговлей. Ярмарки длились практически
круглый год. Все сделки в текстильной промышленности, самой
важной индустрии в Западной Европе, заключались на ярмарках.
Англия поставляла шерсть на прядильные предприятия Фландрии и
Артуа, Брабанта и Эно, в города, расположенные по реке Маас, и в
саму Шампань. Большое прядильное производство было также в
Париже. Шестьдесят городов Северо-Западной Европы, где работали
ткацкие фабрики, обращали свои взоры в сторону Шампани, ярмарки
которой были готовы принять фабричный товар. Внешняя торговля
шла в основном через Юг. Здесь, как и повсюду, за купцами стояли
итальянцы – финансисты из Генуи, Асти, Милана, Пьяченцы, Болоньи,
Венеции, Флоренции, Лукки, Сиены и Рима. Процветающие ярмарки
Шампани привлекли к себе гостей из Германии. Немцы, приезжавшие
во Францию, были купцами, ремесленниками и студентами; они
основали немецкие колонии в Париже, Орлеане, Монпелье и
Авиньоне. Но когда в 1284 г. Филипп IV приобрел Шампань, его
политика насильственного взыскания поборов быстро привела в
упадок все ярмарки. Под главенством Венеции и Генуи итальянцы
поставили под свой контроль морской путь во Фландрию, чтобы выйти
на центры ткацкой индустрии, где их встретили купцы из Германии и
Северной Англии. Брюгге занял место ярмарок Шампани, города
которой погрузились в сонное оцепенение; в состоянии упадка
оказались многие средневековые города.
В Англии небольшие города называются borough. Впервые они
появляются во времена англосаксонских королей. Это были места,
безопасные для устройства рынков, ведения дел в присутствии
свидетелей и для чеканки монет. Они имели укрепления и могли
предложить убежище и защиту. Все современные главные города
графств в Англии так или иначе берут начало в англосаксонском
прошлом. Появление Лондона было уникальным событием. Его
первые по чести горожане титуловались баронами, и так к ним
обращались короли Вильгельм II Руфус и Генрих I. Горожане Пяти
портов (в пределах современных графств Кент и Сассекс), обязанные
предоставлять морские суда королю для его нужд, также смогли
получить для себя звание баронов. Однако, несмотря на то что
горожанам удалось добиться поставленных целей, следует принять во
внимание тот печальный факт, что после Нормандского завоевания
Англии многие города оказались в упадке; и такое положение
сохранялось на протяжении всего XII в.; чтобы выйти из застоя,
потребовались большие усилия. Даже когда им удалось освободиться
от контроля со стороны шерифа, предпринятая ими попытка стать
«независимыми» городами, по примеру французских коммун, так и не
удалась.
Средневековые английские города были небольшими, как и
большинство городов на континенте, с населением от 1 до 6 тысяч
человек. Во второй половине XI в. только Йорк имел, вероятно, более 8
тысяч жителей.
Большое влияние Лондона, которое вскоре стало определяющим,
заметно проявилось уже в англосаксонский период. Об особом
положении города свидетельствует высокоразвитая система судебной
власти. Уже к началу XII в. Лондон стал настолько богатым и
могущественным городом, что короли были вынуждены проявлять
крайнюю осмотрительность в отношениях со своей столицей.
Показательным примером специфического лондонского патриотизма
является трактат London Glosses on the Laws of the Anglo-Saxon kings,
который представляет собой комментарии к законам англосаксонских
королей, написанный в Лондоне в 1205-м или же в 1215 г.
Ознакомившись с ним, можно сделать вывод, что лишь небольшая
часть жителей Лондона в период пробуждения интеллектуальной и
политической активности в 1189–1215 гг. думали в категориях
«демократии»; они идеализировали англосаксонское прошлое, считая,
что именно в ту эпоху могли бы реализоваться их идеалы. Считается,
что первая школа англосаксонского права появилась в Лондоне
примерно ко времени написания комментариев к законам древних
королей. В основу вышеупомянутого труда заложена мысль, что между
королем и народом существует тесная взаимная связь. Особо
подчеркивается роль общины (соттипа), и потому предлагается
создать Лондонское братство в качестве образца для всего королевства.
Союз между горожанами Лондона и королем нашел воплощение в
основании английского государства, и клятва верности подданных
превратилась в клятву братства, подобную той, что связывает членов
цеха. Все англичане в качестве «совместно принявших присягу
братьев» (fratres conjurati) обязаны защищать монархию и королевство
от его врагов, призваны к защите мира и «чести и достоинства нашей
верховной власти» (точно так же во Франции монархически
настроенные горожане Парижа поддерживали короля в кризисные
времена).
London Glosses — типичное средневековое повествование, в котором
под выдумкой, политическими мечтаниями и трезвым реализмом
скрываются важнейшие пророческие идеи, которые изложены в форме
призыва к закону, к здравому смыслу английского народа. Королю, при
поддержке советников, должно осуществлять правосудие в границах
добрых старых законов, отбросив любую мысль о возможности
прибегнуть к деспотизму и насилию, чтобы заставить суд принять
нужное ему решение.
В провинциальных английских городах жизнь обычно была
небогатой на события. В XII в. большинство жилых построек и даже
церквей все еще были из дерева; каменные дома зажиточных горожан
встречались крайне редко. Улицы городов были узкими, примером
чего в наши дни может служить улица Стип-Хил в Линкольне.
Промышленность была развита слабо, в основном это было
производство шерсти; появившиеся в XII в. цехи и корпорации
объединяли валяльщиков и ткачей. Большая часть внешней торговли
была в руках иностранцев, в основном итальянцев. Подобно тому как
это было в Восточной Европе в XIX – начале XX в., часто купцами и
заимодателями выступали евреи, которые одними из первых стали
строить дома из камня, отчасти в целях самозащиты. В XII–XIII вв.
часто случались выступления против евреев, зачинщиками которых
были народные проповедники. Генрих II попытался защитить евреев,
но во время коронации в Лондоне его наследника Ричарда Львиное
Сердце лондонская чернь поднялась против евреев, и многие другие
города закрыли свои ворота перед ними. В 1290 г. Эдуард I
окончательно изгнал их из Англии. Его предшественники
пользовались любой возможностью, чтобы грабить и эксплуатировать
евреев, которые находились под особой «защитой» короля. Теперь их
изгнание можно было оправдать тем, что у королей была также
обязанность защищать «свои» города, чтобы местные горожане могли
снова играть ту экономическую роль, которая до этого принадлежала
евреям и чужакам.
Во Фландрии богатые фламандские города служили местом деловых
встреч английских, французских, немецких и итальянских торговцев.
Здесь экономическая жизнь имела меньше ограничений, чем у их
английских соседей. Производство тканей было сосредоточено в трех
городах: Брюгге, Ипре и Генте. Работа была надомной, ее выполняли
жители, проживавшие в сельской местности и в малых городах.
Именно во Фландрии в начале XIII в. дали о себе знать первые
проявления капитализма в Западной Европе. Капитал, экономическая и
политическая власть сосредоточились в руках небольшого
меньшинства, зажиточного патрициата. Торговец поставлял сырье и
наблюдал за каждой стадией производства – прядением, крашением и
выкраиванием тканей – и занимался продажей готового продукта.
Часто он оплачивал труд работников не деньгами, а натурой (как,
например, в конце XVIII в. в Манчестере), и, сколько они получат,
зависело от воли торговца. Поскольку все больше людей из сельской
местности переезжали в города – это был безземельный пролетариат,
которого гнал из деревни голод и гнет сеньоров, – предприниматели
могли быть всегда уверены в большом предложении рабочей силы.
В больших городах разворачивалась борьба между патрициатом
(poorters), посредниками, находившимися под защитой закона (прямые
сделки между клиентами были запрещены), и цехами, в основном
ткачей. Своим положением были недовольны мелкие цеха и
эксплуатируемый пролетариат. Также существовало соперничество
между самими городами, в особенности между Гентом и Брюгге,
каждый из которых ревниво относился к привилегированному
положению соседа. Французские короли, желавшие овладеть
богатствами фламандских городов, были готовы вмешаться на стороне
poorters, когда их положение стало шатким, и герцоги Бургундии
позднее вознамерились поступить таким же образом.
Пейзаж Фландрии уже стал городским; один город незаметно
переходил в другой. Связующим звеном между городами стали
деревни и рынки. Неудивительно, что Фландрия была также центром
социальных волнений, которые грозили перекинуться на территорию
Франции и Германии. Борьба уже велась не только, как прежде, между
городами и церковными и светскими сеньорами; теперь городские
массы выступали против патрициата и могущественных цехов. В
1297–1328 гг. во Фландрии бушевала гражданская война между
богатыми гражданами города (majores, goden) и мелкими
ремесленниками (minores, gewaden). Еще до ее начала произошли
восстания против патрициата во Франции, в частности в Бове,
Провене, Руане и Париже, а как только война во Фландрии
закончилась, цехи и патрициат в Германии вступили в борьбу друг с
другом за контроль над городами, такими как Ульм, Франкфурт,
Нюрнберг, Майнц, Страсбург, Базель и Кёльн. Событие, произошедшее
в самый разгар войны во Фландрии, стало грозным предупреждением
о приближавшемся закате феодальной Европы. 11 июля 1302 г.
в сражении при Куртре, знаменитой Битве шпор, фламандская
«демократическая» армия под началом ткача Петера Конинка нанесла
сокрушительное поражение рыцарской коннице французского короля
Филиппа IV Красивого, которой командовал граф Робер Артуа.
Золотые шпоры разгромленных рыцарей были собраны на поле боя
горожанами-победителями.
Ветер перемен задул и в «Нижних Землях». Нидерландская
революция XVI в. была войной семнадцати провинций за
независимость от владычества Испании. Она стала продолжением
внутренней борьбы, продолжавшейся на протяжении более чем двух
столетий, в которой присутствовал и социальный протест, и
религиозный мистицизм. «Война богачам и священникам!» – таков
был девиз восставших горожан в 1323 г. в Ипре и в 1328 г. в Брюгге.
Низшие классы общества смотрели на себя как на отдельный «Божий
народ». В 1338 г. в Генте купец-суконщик Якоб ван Артевелде
(впоследствии его сменил сын Филипп) возглавил «демократическое»
движение, продолжавшееся затем вплоть до 1382 г., которое
стремительно распространилось на Францию и Германию. К XIV в.
уже успело погибнуть много людей в череде подобных мятежей,
особенно в городах Франции. Во Фландрии, где зародилось это
движение, положение изменилось коренным образом после битвы при
Роозбеке в ноябре 1382 г., настоящей бойни, в которой погибло 20
тысяч ремесленников Гента, когда Филипп II Смелый Бургундский
установил свое господство над фламандскими городами. Его
наследники подавили восстания в Брюгге (1436–1438), Генте (1431,
1436, 1448), Льеже и Динане (1408, 1466, 1468), однако стремление к
свободе они подавить не смогли, и оно продолжало жить среди
ремесленников и крестьян. Однако более зажиточные горожане и
патрициат предпочитали полагаться на князя, свою защиту против
волнений и беспорядков.
На месте станции метро «Кэннон-стрит» располагалась Ганзейская
фактория. С XIII по XVI в. здесь находился западный терминал
обширной торговой сети Ганзейского союза, который связывал
Англию с Германией, Скандинавией и Русью. Товары поступали в
Брюгге, шли далее через Францию в Венецию, а затем направлялись
через Средиземное море в Черное море. Союз городов, известный как
Ганза, был уникальной торговой организацией Европы. Во времена
расцвета в него входило 160 городов от Динана до Ревеля, включая
Бреслау, Эрфурт, Краков и Стокгольм; его торговыми аванпостами
были Новгород, Брюгге, Берген и Лондон. На пике своего могущества
он оказался в 1370 г., когда после подписания Штральзундского мира
Ганза получила право вето при выборе датского короля. Согласно
условиям договора, заключенного с сильнейшей державой на Балтике,
23 ганзейских города без разрешения Дании могли торговать сельдью.
На рыбу, как на основной продукт питания в пост, был большой спрос,
и Ганза торговала ей даже во Франции.
Именно в Лондоне, этом огромном торговом центре, под влиянием
которого вся Северная Европа превратилась в единый рынок,
появилось название Ганза, означавшее союз, объединение. Уже в
1000 г. немецких купцов из Кёльна и Вестфалии принимали в Лондоне
на тех же правах, что и своих местных граждан. С этого времени
Англия стала, можно сказать, домом для кёльнских купцов, которые
имели свое место собраний в Лондоне (Guild-hall) во время
царствования короля Генриха II Плантагенета. В XIII в. был образован,
не без внутренней борьбы, Лондонский филиал Ганзы, в который
вошли купцы Кёльна, Любека и Гамбурга. Они занимались экспортом
английской шерсти во Фландрию, благодаря чему было налажено
производство фламандских сукон. Центром этой торговли был Брюгге.
В 1313 г. королевской властью этот город был определен в качестве
основного места торговли английской шерстью и кожами. Немецкие
купцы в Англии уже находились под защитой короля, а в 1303 г.
Эдуард I утвердил список протекционистских мер для всех
иностранных торговцев – carta mercatoria. Когда в связи с протестами
английских купцов это решение пришлось отменить, в 1334 г. особая
привилегия была дарована только немцам. Большой Ганзейской
факторией в Лондоне управляли два олдермена, английский и
немецкий.
В Балтийских землях ганзейские купцы шли по следам викингов, по
тому пути, что вел на Русь и в Византию. С 900 по 1200 г. число
немецких городов в этих землях увеличилось с 40 до 250. Любек,
возможно впервые основанный вендами в 1050 г., был основан
повторно в 1143 г., теперь уже как немецкий город. Саксонский герцог
Генрих Лев заново отстроил город; после его смерти Любеком стали
управлять «консулы» в силу привилегии, дарованной в 1225 г.
Фридрихом II. Любек был первым среди «венедских» городов,
ставших основой Ганзы. В течение столетия после его повторного
основания все Балтийское побережье от Любека до Ревеля и Нарвы
стало немецким, а сам Любек – образцом для городских поселений во
всем регионе.
Интересы Германии, и прежде всего немецких купцов и капитанов,
еще до образования Ганзы представляло Объединение торговых
посредников Готланда Священной Римской империи. Таково было
название союза немецких купцов, обосновавшемся на Готланде, самом
первом торговом центре на Балтике. В главном городе острова Висбю
в 1190 г. была построена церковь Богоматери Немецкой. Старые
церкви города и средневековая городская стена являются
напоминанием о времени небывалого расцвета торговли в этом
северном регионе Европы. Отсюда торговые пути вели в Финляндию,
и Смоленск, и в Новгород, где находилась Готландская фактория. Во
второй половине XII в. немецкие торговцы уже посещали Новгород,
один из самых больших, могущественных и населенных городов
Европы. Под властью Новгорода находилась обширная территория, и
он имел монополию на пушную торговлю. Выделкой русского меха
занимались немецкие мастера стран бассейна Балтийского моря. Адам
Бременский замечает, что люди имели столь же горячее стремление к
торговле пушниной, как и к своему вечному спасению. Несомненно,
меха обладали магической властью, и в Средние века роскошный мех
был высшим знаком отличия в одежде, показателем престижа его
владельца; императоры, принцы, прелаты, зажиточные горожане и
купцы – все хотели приобрести его. Те, кто не мог позволить себе
купить дорогие меха, наподобие горностая, соболя или ласки, или
шкуру медведя, рыси, бобра, выбирали более дешевый вариант – мех
зайца либо кролика. Кроме пушнины и шкур Новгород поставлял мед,
который служил заменой сахара, воск, пеньку и лен. Немцы в обмен
везли соль, очень дорогой по тем временам товар, фламандские сукна
и иногда продовольствие (например, во время случившегося в 1230 г.
в Новгороде голода). С востока также поступал деготь, древесный
уголь, поташ.
Между Любеком и Новгородом лежали земли, населенные
язычниками – литовцами, пруссами, финно-угорскими народами.
Начиная с XII в. шел постоянный поток переселенцев с Запада на эти
плодородные земли. Возвышение Ганзы неразрывно связано с
немецким проникновением в этот регион. Во второй половине столь
значимого XII в. радикально изменились побудительные причины этой
экспансии на Восток. Вплоть до 1147 г. она понималась как крестовый
поход против язычников-вендов. Однако теперь первейшей целью
стало достижение мирного соглашения. Славянские названия
сохранились, вендская аристократия ассимилировалась с немецкой;
было положено начало процессу слияния наций. Для организации
поселений были назначены особые чиновники locatores. Города,
которые они основывали, были небольшими; они имели регулярную
планировку, и в центре их находилась рыночная площадь. В это же
время славянские князья начали заселять леса на окраинах
колонизуемых немцами земель.
«Nach Ostland wollen wir reiten… dort ist eine bessere Statt» («Мы
хотим отправиться на восточные земли… ведь там наилучшее место»).
Это была песня немецких юношеских организаций в период между
двумя мировыми войнами, но в действительности это фламандская
народная песня. Средневековая Фландрия была перенаселенной
страной, и отсюда люди, в основном горожане, уезжали в Восточную
Европу в поиске свободных земель. Фактически вся Западная
Германия была охвачена этой тягой к переселению, и было три
крупных пика этой вынужденной миграции – около 1150 г., 1210 г.
и 1250 г. Переселенцы отправлялись из Рейнской области в Венгрию и
Трансильванию, из Фландрии и Любека – в Прибалтику. Голландцы,
зеландцы и фламандцы заселяли Бранденбург и редконаселенные
славянские земли и немецкие восточные области Центральной
Европы, Халле и Виттенберг, Дессау и Цербст, Саксонию и Тюрингию.
Еще одним стимулом для миграции были частые наводнения в важных
сельскохозяйственных районах на побережье Фрисландии, Зеландии и
Голландии.
Средневековая Европа, как и большая часть Азии и Африки наших
дней, была зоной голода; нехватку хлеба вызывал земельный голод.
Вербовщики обещали переселенцам, что на Востоке у них будет много
земли, и, значит, изобилие мяса, зерна, мелкой птицы и меда.
«Отправляйтесь скорей в путь, вы, саксонцы и франки, вы,
лотарингцы, и вы, фламандцы, дерзайте, чтобы спасти ваши души и
получить надел лучшей земли в мире». Подготовить земли Восточной
Германии к заселению должны были местные князья вместе с
епископами, монашескими общинами, дворянами и духовнорыцарскими орденами. Монастыри получили разрешение раздать
часть своих земель в обмен на уплату аренды. Тамплиеры,
госпитальеры и тевтонские рыцари (которых в Ливонии называли
«носящие меч братья рыцарства Христова», или, коротко, меченосцы)
пробивали свой путь на Восток мечом, крестом и плугом. Людей XII–
XIII вв. мало волновали проблемы, которые могли возникнуть в
результате завоевательных походов и установления господства над
иными народами, вопрос учреждения христианских миссий.
Славянские князья также внесли большой вклад в немецкую
колонизацию земель Мекленбурга, Померании и Восточного Поморья.
Именно польский князь Конрад I Мазовецкий призвал тевтонских
рыцарей в Пруссию, что стало определяющим событием в истории
Восточной Европы; последствия этого шага ощущаются и сегодня.
Тевтонские рыцари и Ганзейский союз тесно сотрудничали. Еще
прежде из Любека уезжало большое количество переселенцев за море
(перед глазами встает пример Америки в XVIII–XIX вв.). Рига была
захвачена в 1201 г., и менее чем через два поколения все южное
побережье Балтийского моря покрылось сетью городов с немецким
населением. Росток был основан в 1218 г., Висмар – в 1224–1249 гг.,
Ревель – в 1219 г., Нарва – в 1223 г., Данциг – в 1224 г. Весной 1231 г.
войско тевтонских рыцарей переправилось через Вислу. В 1309 г.
Великий магистр ордена (основанного первоначально для службы в
Святой земле) перенес свою резиденцию из Венеции в Мариенбург;
центр интересов смещался из Средиземноморья на восток Европы.
Спустя полтора столетия во владениях ордена было 93 города и 1400
деревень с 60 тысячами крестьянских владений. Городам было
даровано Кульмское право, включавшее в себя часть норм
Магдебургского права, принятого многими городами Бранденбурга,
Силезии, Пруссии, Богемии, Венгрии, Польши и Валахии. Любекское
право было не менее известным. Такова была особенность
европейской правовой системы, когда законы более древнего города,
«материнского», передавались городу более молодому. В Германии
кроме Магдебурга и Любека в Восточной Германии «материнскими»
городами были Кёльн в Рейнской области, Франкфурт-на-Майне в
Центральной Германии, Фрайбург в Юго-Западной Германии.
Из Ганзы немецких купцов выросла Ганза немецких городов,
которая защищала своих торговцев и свои торговые пути на суше и на
море, добивалась привилегий для них в других странах, изгоняла со
своей территории всех чужаков, которые не были членами их союза,
будь то русские, немцы из Южной Германии или ломбардцы. Ядром
этой Ганзы был союз трех городов: Любека, Висмара и Ростока.
Впоследствии к нему присоединились Штральзунд, Грайфсвальд и
Штеттин, а также другие вновь основанные города на востоке: Киль,
Гамбург и Люнебург. Среди городов Запада, входивших в Ганзейский
союз, главным был Кёльн. Этот союз, или, если сказать точнее, союзы
ганзейских
городов
не
имели
жесткой
организации
в
противоположность городским союзам Южной и Юго-Западной
Германии, объединившимся на политической и военной основе. На
«съезды» ганзейские города собирались нерегулярно и предпринимали
совместные действия только в случае возникновения какой-либо
серьезной угрозы, например конфликта с Данией. Немецкая Ганза
никогда не выступала как единое целое, никогда не вела
наступательных войн и не имела собственного военного флота.
(Англия была в то время единственной страной, которая располагала
военно-морским флотом; в 1215 г. у короля Иоанна Безземельного
было 52 галеры.) Торговые суда приходилось переделывать в военные
при каждой кампании, и тогда они получали название «корабли мира»,
поскольку их задачей было восстановление мира; их использовали в
основном против пиратов. Эти города Северной Германии,
разбогатевшие благодаря своему предприимчивому и дальновидному
купечеству, предпочитали торговлю войне. Ганзе было достаточно
осознавать свою реальную власть, и не более того. Англия, морская
держава, унаследовала от Ганзы господство в океанах всего мира,
приняв на вооружение ее политику.
Самым действенным оружием в арсенале Ганзы было торговое
эмбарго, с помощью которого города и государства можно было
принудить к принятию выгодных ей условий торговли. Короли
Скандинавских стран были особенно уязвимы в этом отношении.
Каждый ганзейский город имел свое постоянное представительство во
всех странах, с которыми торговала Ганза; это были «фактории»,
которые защищали интересы ганзейских купцов. Представительство
имело привилегированный статус (в Новгороде была целая слобода),
здесь располагались здания контор и суда. Самыми важными были
фактории в Лондоне, Новгороде, Брюгге, который представлял Ганзу в
Западной Европе, и Бергене, центре рыбной торговли. Кроме
вышеназванных был целый ряд небольших факторий в Англии,
Швеции, Дании и в городах на восточном побережье Балтийского
моря. Подобные фактории оказывали стимулирующий эффект на
экономику принимавших их стран. Например, в Швеции началась
интенсивная разработка полезных ископаемых, но еще более
разительный результат показало сельское хозяйство: урожаи выросли
во всех странах Балтийского моря. Через посредство Ганзы
продовольствие и сырье Восточной Европы шло в Западную. Во
вместительных трюмах ганзейских коггов перевозились на Запад
масло, сыры, свинина и лярд из Дании и Швеции и зерно из Пруссии.
Старая ганзейская поговорка гласит: «Краков стоит на меди, Висбю
– на смоле и дегте, Ревель – на воске и льне, Рига – на пеньке и масле,
Росток – на солоде, Данциг – на зерне, Гамбург – на пивоварении и
Любек – на товарных складах». Гамбург был крупнейшим
производителем пива на севере страны, поставляя его во все стороны
света (вплоть до Амстердама).
Ганза импортировала промышленные товары из Западной Европы,
из внутренних областей Германии, а также предметы роскоши из стран
Востока, но, прежде всего, пряности, которые были столь важным
продуктом на столе человека Средневековья. Перец фактически стал
общим названием для всех экзотических пряностей. Из Венгрии везли
свинец, ртуть и медь.
Накануне Второй мировой войны каждому путешествовавшему из
Бремена или Гамбурга в Ригу бросалась в глаза удивительная схожесть
этих ганзейских городов, которые, несмотря на бурные события
прошедших веков, пощадило время. Все еще сохранялись церкви,
посвященные святым покровителям купцов, моряков и рыбаков –
Богоматери, святому апостолу Петру, святому Николаю и святому
Иакову. Другими почитаемыми святыми были Иоанн, Климент и
Екатерина. Многие из этих церквей были построены по образцу
Мариенкирхе (церкви Святой Марии) в Любеке. Большие и высокие,
из красного кирпича здания (на их постройку обычно уходило до 50
лет и больше) удовлетворяли стремление богатых горожан всячески
выделиться среди соседей и заявить о себе. Их церкви были местом не
только встреч горожан и представителей цехов, но и местом духовного
общения живых и умерших. Самые влиятельные купеческие семейства
владели усадьбами в небольших городах, расположенных между
Любеком и Дерптом. В купеческом сообществе все определяли
семейные связи. Брак был инструментом большой политики,
позволявшим раздвинуть границы своих торговых империй. Вторая
мировая война собрала богатую жатву – было уничтожено много
известных патрицианских домов, церквей и монастырей в странах
Балтии. Не избежал своей участи и Дом Черноголовых
(Schwarzhaupterhaus) в Риге (восстановлен в 1996–2000 гг.).
Черты, присущие ганзейскому купечеству, которое некогда покорило
мир, – и прежде всего чувство собственного достоинства и гордость
своей профессией – передались их наследникам из Бремена и
Гамбурга; и это является еще одним наследием европейского
Средневековья.
В соседстве с типично европейской городской цивилизацией на Руси
складывался совсем иной ее тип. Эта цивилизация оказалась под
сильным влиянием азиатского и мусульманского мира. В XIII–XIV вв.
немецкие купцы принесли с собой специфически европейский тип
городов в Польшу, Богемию и Моравию. Однако главная линия раздела
между западной и «азиатской» городской цивилизацией прошла через
Венгрию, и это было справедливо и для Средних веков. Города Южной
Венгрии, Задунавья и Трансильвании (такие как Фюнфкирхен и
Гроссвардейн) входили в ареал западной культуры; города на
Венгерской равнине, такие как Сегед и Надькёрёш, которые возникли
как пастушеские поселения, принадлежали к другому, восточному
миру, главной отличительной чертой которого было отсутствие
городской буржуазии.
Самым восточным оплотом Ганзы был Новгород, который был
миром в самом себе. Он получил автономию в XII в., благодаря
энергии и решительности народного собрания – вече, которое смогло
добиться привилегий от князя. С 1126 г. на вече выбирали правителя
города посадника, представителя князя. В период времени с 1136 по
1238 г. сменилось 38 князей, которые были просто марионетками,
каждый правил от двух до трех лет. Начиная с 1156 г. горожане
выбирали даже епископа (после 1165 г. это был архиепископ), что
было беспрецедентным для Европы случаем. В 1211 г. недовольные
архиепископом новгородцы изгнали его. В начале XII в. население
Новгорода достигло 20 тысяч человек. Жители города делились на три
класса: основная масса населения чернь, то есть трудовой народ и
ремесленники, богатые купцы и бояре, правящая элита,
представленная сорока знатными семействами. Бояре, владевшие
обширными поместьями, жили на левом берегу Волхова под защитой
укрепленного епископского дворца. Они владели многочисленными
холопами. В действительности вече имело право сказать только «да»
или «нет»; городом на самом деле управлял тайный совет пятидесяти.
Настоящие сражения разыгрывались между «лучшими» людьми на
вече; и бояре часто платили наиболее активным его участникам, чтобы
те выступали в их поддержку. В Новгороде было хорошо
организованное войско, и существовали комиссии, следившие за
состоянием дорог и надзиравшие за строительными работами.
Окружавшие город земли были поделены на пять административнотерриториальных единиц, называвшихся пятины. Все они сходились к
Новгороду. Четвертая пятина протягивалась от Волхова до Белого
моря, захватывая озеро Онега. Преимущество подобного деления
земель состояло в том, что оно помогало защищать торговые пути
Новгорода на суше и на море. Пятина всегда находилась под
контролем боярина. Вдобавок многие земли и несколько городов
должны были платить дань городу.
К XII в. в самом Новгороде и его окрестностях было уже 37
монастырей. В городе также построили множество церквей и часовен;
только на рыночной площади было 8 церквей. Небольшие башни,
которые возвышались тут и там на крепостных стенах, также
использовались как церкви. Архиепископ имел свою резиденцию в
кремле; это были палаты, напоминавшие крепость. Великолепный
кафедральный собор Святой Софии, вызывающий в памяти образ
собора-тезки в Константинополе, был политическим, церковным и
духовным центром этого славного города-государства, ставшего
Восточным Римом. Верховенству культа святой Софии тевтонские
рыцари противопоставили немецкий культ Богородицы Девы, которой
они поклонялись на своих территориях. Конфликт не был чисто
внешним, обе стороны были готовы выйти со своими церковными
хоругвями на битву, которая и произошла льду Чудского озера в
1242 г., и в ней великий князь Новгородский Александр Невский
разгромил войско тевтонских рыцарей. Русская православная церковь
причислила его к лику святых.
Из Новгорода «Прусский путь» (получивший такое название около
1250 г.) шел по левому берегу реки Волхов к Риге. На правой стороне
реки находился деловой центр города, здесь приставали ладьи, русские
большие плоскодонные речные суда. Расположенные здесь два
ганзейских двора – Петерхоф и Готский двор – имели очень выгодное
расположение на случай обороны. В XII в. русские купцы ходили в
Данию, Швецию и на Готланд. Однако немцы постепенно вытесняли
их из торговли, так как немецкие товары были дешевле и лучшего
качества. Начиная с XIII в. купцы проникали все дальше на земли Руси
и вышли к Булгарии на Волге. Путь по Волге открывал новые
перепективы в торговле с Персией и Китаем. Через него шел импорт
пряностей и шелка с Дальнего Востока, пока монгольское нашествие
не поставило на нем точку.
В пределах этой единственной в своем роде «империи» Новгорода
немцы имели свой домен – факторию. Петерхоф отделяли от
окружавшего его русского мира деревянный частокол и каменная
стена, по ночам двор стерегли цепные псы. В качестве последней
защиты от возможного нападения взбунтовавшейся толпы была
каменная церковь Святого Петра, именно здесь хранилась казна и
запасы товаров и продовольствия. Священник церкви исполнял также
обязанности писца у купцов. Эта небольшая независимая немецкая
община (она полностью состояла из мужчин; женщины в Петерхоф не
допускались) не поддерживала никаких связей с русским населением.
Русских не допускали на немецкие склады для инспекции товаров,
хотя русские товары тщательно досматривали и проверяли, в том числе
и перед любой покупкой. Немецкая сторона отказывала русским в
любом торговом кредите.
Два враждебных мира противостояли друг другу, и все же на
протяжении веков их связывали тесные торговые отношения. Немцы
могли изучать русский язык, но русские не учили немецкий;
православные священники считали, что изучение иностранных языков,
как и торговля с иностранцами, ведет к ереси. Несмотря на
ксенофобию, проповедуемую церковью, все больше немцев, презрев
опасности пути, приезжало на Русь. В 1210 г. и 1229 г. немцы были
назначены советниками русских князей Смоленска.
На Руси никогда не было городов западноевропейского типа, не
существовало муниципальных законов, не было этого непреложного
правила – «городской воздух дарит свободу». Крестьяне,
переселившиеся позднее в города, оставались крепостными, и их
хозяева могли в любое время вернуть их обратно в деревню. Город и
село сливались воедино, в противоположность Западной Европе, где
права и привилегии городов проводили четкую грань между городом и
деревней. Города Западной Европы, к которым можно отнести
прибалтийские Ревель и Дерпт, господствовали над сельской
местностью, имели свои законы и свободы; в них родилась свобода
слова в Европе.
Глава 5
XII век. Пробуждение
В XII столетии повсюду в Западной Европе, будь то во Франции,
Германии, Англии, Италии или Испании, люди начинали по-новому
открывать для себя мир, его беспредельность и новые угрозы. Мир
пробуждал у людей желание познать его во всех его аспектах. Они
стремились понять, что представляет собой человек и его духовная
жизнь, что есть космос и природа. Это было время созревания
интеллектуальной мысли, когда перед человеком открывались тысячи
новых возможностей. Дела и мысли людей того столетия привлекали к
себе внимание поэтов и мыслителей Возрождения и эпохи
Просвещения XVIII в. XII в. вспахал почву, но урожай пожали
последующие поколения, и это были люди совсем иного склада. В
науку, в философские и мистические учения проникали идеи
античности, арабских и еврейских ученых (некоторые хронисты
называли Пизу XII в. «городом Востока»). Первейшей задачей, и за ее
решение принялись с лихорадочным рвением, было перевести все эти
многочисленные научные труды. Основными центрами этой
деятельности стали Толедо, Монпелье и ряд итальянских городов, от
Кремоны на севере до Неаполя и Сицилии на юге. Хотя в большинстве
своем новые труды были совершенно незнакомы европейцам, о
многом уже успели сказать Отцы Церкви. Но это был все же первый
глоток свежего воздуха, волнующее прикосновение к чему-то дотоле
неизвестному, так что многие могли расценить это как искушение.
Только высокая схоластика XIII в. могла привести в систему этот
чужеродный материал.
Эта готовность принять новые знания находила поддержку в
средневековых школах, где господствовал дух свободы, где молодые и
пытливые интеллектуалы были готовы на эмоциональном и духовном
уровне к встрече со священными гигантами философии и поэзии
прошлого. Молодых людей с таким уровнем подготовки можно было
встретить в училищах при кафедральных соборах, особенно во
Франции (Шартр, Реймс, Лан, Орлеан и Париж) и в первых
университетах, в то время открытых для всех и всему новому, которые
невозможно сравнивать с косными и отгородившимися от мира
школами позднего Средневековья. Были также «странствующие
школяры», которые были типичным явлением для XII в.; это было
своего рода литературное и интеллектуальное движение. Эти ваганты
были проницательными наблюдателями своего времени, авторами
сатирических произведений; некоторые из них стали одаренными
поэтами. В это же самое время при первых европейских дворах,
которые отличались изысканными манерами, великие поэты плели
золотую нить своих песен, которая, хотя и поблекла и истончилась от
постоянного употребления, послужила материалом для романистов
более позднего времени и для современности.
В XII столетии латынь стала средством для творческого
самовыражения, языком интеллектуального мира Европы, мира,
первоначально представленного исключительно клириками. И когда
миряне присоединились к ним, они прошли через тот же начальный
этап обучения. Латинский язык свободного от условностей XII в. был
весьма далек от того сухого школярского языка XIII в., который Фома
Аквинский и преподаватели богословия стали использовать в качестве
инструмента, с помощью которого они пытались выразить логическую
и «чисто научную» мысль, когда каждое слово должно было строго
соответствовать своему значению. Постепенно упрощая и суживая
значение слова, они добились его одномерности. Латынь XII в., и
особенно латынь, на которой говорили теологи и философы, была
живым и выразительным языком. В каждом слове легко
просматривалось несколько его значений. Каждый человек находил в
этом «открытом» языке такие слова, с помощью которых мог передать
религиозный опыт своего детства и своего народа, и тысячелетний
опыт истории. Слова были тайнописью, символами, святыми знаками,
связующим звеном различных явлений; они указывали на нечто, что
выходит за грань нашего мира. Ученые мужи XIII в. (и отчасти также
конца XII в.) не пользовались этим языком, они заклеймили его, заявив
о его «неточности», «нелогичности», «ненаучности». Однако это был
тот язык, который, как никакой другой, подходил для написания
научных трактатов, для выражения самых глубоких духовных
переживаний присутствия Бога, для описания созданного им мира;
и этот язык был присущ самым известным мыслителям XII в.
Здесь необходимо сделать несколько предварительных замечаний о
произведениях
народной
литературы,
которая
развивалась
одновременно с этим «открытым» латинским языком. В народной
поэзии XII в. есть, несомненно, своя магия. Но очарование, присущее
этой первоначальной народной поэзии Испании, Прованса, Северной
Франции, Германии и Нидерландов, постепенно уходило, уступая
место галантной манере изложения, столь характерной для
представителей высшего общества; содержание поэтических
произведений ограничивалось модным репертуаром, а их язык терял
свои «провинциальные» особенности. Народный просторечный язык
превратился в лишенный искренности и манерно изысканный язык
элиты просвещенного общества. Так была подготовлена почва для
становления куртуазной поэзии, развивавшейся на протяжении пяти
веков и которая очень легко превратилась в поэзию морализирующую
и самодостаточную. К XIII столетию победа этого поэтического стиля
и сопутствовавшего ему целого ряда теологических, философских и
поэтических идей была обеспечена.
XII в. был открытым веком. В интеллектуальной сфере он еще
только-только намечал свой путь, за решение спорных вопросов
брались поспешно, еще до того, как была проведена необходимая
подготовительная работа, и люди инстинктивно верили в силу разума,
в силу чисел – математику и геометрию, в возможность дать
решительный ответ на загадки вселенной. У людей было чрезмерное
доверие к ораторскому искусству, была вера в действенность слов и
красиво построенных фраз.
Образованные люди консервативного склада, а их было
большинство, отрицательно относились к подобным импульсивным
порывам в обществе. Такого взгляда придерживались учителя школ
при кафедральных соборах, члены секулярных орденов, которые были
преподавателями в новых университетах, назначенные церковными
властями ректоры университетов, епископы и ведущие теологи и
представители монашеских орденов. Как всегда бывает, в новом XII в.
появился свой тип мыслителя, и можно было ожидать, что у него
вскоре появится множество как сторонников, так и соперников или
даже открытых врагов, стремящихся исходя из различных мотивов
представить его как «новатора». В сугубо ортодоксальных кругах
главным доказательством ереси и был как раз тот факт, что люди были
новаторами, провозгласившими «новую истину». То же самое
обвинение было выдвинуто спустя пять столетий во времена
Контрреформации. Немецкое слово Ketzer (еретик) происходит от
слова «катары», то есть «чистые». В XII в. вся Юго-Западная Европа
оказалась под влиянием учений катаров, вальденсов и еще целой
дюжины более мелких ересей. Так что в XII в. каждый интеллектуал,
будь то теолог, философ или натурфилософ, имевший склонность к
теоретизированию, оказался под огнем с трех направлений. Он должен
был защищаться от нападок своих более консервативных коллег; от
него ожидали, что он выступит против «еретических» новаторов,
которым он мог вполне сочувствовать; и он мог оказаться в конфликте
со своими коллегами, которые были «прогрессивными», как и он сам,
но принадлежали к другой научной школе. Такая ситуация порождала
очень сложные взаимоотношения и вела к драматическим, даже
трагическим последствиям. Линии трех фронтов зачастую
пересекались и безнадежно путались: «консерваторы» и «новаторы»
оказывались то союзниками, то противниками, не способными прийти
к взаимопониманию. Два характерных момента научной полемики
проявились вновь со времен великих споров о природе Христа во II–
VI вв. Во-первых, небывалый накал проводившихся дискуссий; и, вовторых, взаимное недоверие и подозрительность их участников по
отношению друг к другу. Этот дух раздора впоследствии никуда не
ушел. Такая подозрительность привела к достойным сожаления
последствиям. Несогласие с общепринятым мнением жестко
подавлялось вследствие диктата догматического знания, что было
следствием непонимания человеческой природы. XII в. дает нам яркие
примеры так называемой rabies theologica (богословского
неистовства), необъяснимой на первый взгляд злобы, с которой велись
богословские споры в монашеских орденах и университетах.
Интеллектуальный мир XII в. был обращен в равной мере как к
прошлому, так и к будущему. Обращение к прошлому предполагало
приверженность тысячелетней традиции познания триединого Бога в
духе благоговейного страха и любви. Подобные божественные тайны
можно было «понять» только через символизм и благочестивое
толкование символов; они могли открываться человеку в образах и
аллегориях, но не могли быть до конца понятыми. Обращение к
будущему означало смелое и без всяких предрассудков принятие
философии, которая включала в единую систему Бога, природу и
человека. Ансельм Кентерберийский (1033–1109), ступив на порог XII
столетия, частично принадлежал великой традиции прошлого,
частично – неведомому будущему.
Внешне жизнь Ансельма типична для ученого его времени. Из
Италии, страны, где изучение грамматики и логики никогда не
прерывалось, он направился сначала во Францию, а затем в Англию;
эти две страны имели единую культуру. Ансельм родился в Аосте,
имел благородное происхождение; он начал обучаться в монастырской
школе в аббатстве Ле-Бек и, таким образом, приобщился к
насыщенной культурной жизни одного из монастырей Нормандии.
Здесь он стал учеником Ланфранка, уроженца Павии, имевшим
юридическое образование, который стал сначала приором монастыря,
а затем аббатом. Ансельма называли отцом схоластики. Такое
утверждение может быть принято только отчасти и если только речь
идет о его неуемной жажде познания и твердом намерении мыслить
«рационально».
Эти
присущие
ему
черты
соответствуют
представлениям возникшего позднее философского направления
рационализм. «Нервный центр» творческой мысли этого великого, но
явно консервативного философа обнаруживается во всех его трудах –
его онтологическое доказательство бытия Бога, которое остается
предметом дискуссий среди европейских философов и которое они
неверно понимают и после Канта. Об этом он писал в своем труде Cur
Deus Homo? («Почему Бог стал человеком?»). Из самой идеи Бога
следует его объективное существование; даже атеист понимает, что
«Бог» – это нечто «столь великое, что ничего более великого
вообразить невозможно». Ансельм дает следующее определение:
«Таким образом, существует в понятии и действительности нечто,
более чего нельзя ничего помыслить».
Еще во время жизни Ансельма были ученые логики, такие как
монах Гаунило из Мармутье, которые могли показать, что с точки
зрения формальной логики это доказательство несостоятельно. Но
такое его заявление не относилось к сути вопроса, что не понимали ни
Ансельм, ни его оппоненты. Понятие Бога у Ансельма больше чем
вербальное определение. Оно включает в себя все знания человека о
Боге, о влиянии Бога на повседневную реальность, на мысли, чувства
и поведение человека. Это проявление рационализма Ансельма, его
веры в разум; вспомним его известную апофегму credo ut intelligam
(«Я верю, что я могу понять»). Вера раскрывает сердце и ум, создает
внутреннее пространство, в котором может действовать только разум:
fides quar-erens intellectum («вера, ищущая понимания»). Такая вера –
не случайная ночная гостья, которая распространяет над тобой свои
крылья, пока мысль дремлет, но радостная, ясная вера в Бога как
творца человека, являющегося сознательным существом. Подобная
вера просвещает ум, готова понять и быть понятой. Ансельм
выразительно объясняет, что людей, чья вера неразумна, ложна или
даже мертва, должно просветить светом правды, убедить
рациональными доводами.
Ансельм написал свой трактат Cur Deus Ното («Почему Бог стал
человеком?») в форме диалога специально для необразованных
монахов из крестьян аббатства Ле-Бек, хотя он думал при этом и о
других своих возможных читателях с иной подготовкой. Необходимо
упомянуть о трех важных вещах. Во-первых, Ансельм удачно
пользуется диалогом; он любит такой вид полемики. В ту эпоху
теология, философия и семь свободных искусств (грамматика,
риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка)
могли стать предметом научных диспутов: с учеником, с великими
учителями прошлого, с современным оппонентом с академическим
званием. Эту тягу к диспутам мы не можем считать случайной, если
примем во внимание социальное положение их участников.
Университетские преподаватели и учителя из монашества были, как
правило, аристократического происхождения, они искали новые
формы борьбы, соразмерные с тем бременем, которое было возложено
на их сословие. Да и само его существование и духовная жизнь
оказались в опасности, когда на открытую, незащищенную Европу
обрушились штормовые ветры с Востока.
Во-вторых, этот диалог еще раз подчеркивает, и очень наглядно,
насколько сильно в Средневековье общее понятие о мире было
окрашено религиозно-политическими воззрениями народных масс. Бог
боролся за спасение человека, который вследствие греха стал добычей
другого владыки, дьявола. Христос, сын Божий, загладил
преступление человека, из-за которого он нарушил обещание в
верности, данное Богу. Это было «фелонией», тягчайшим
преступлением, в глазах общества. Сын Божий восстановил честь
Владыки Небес; его вочеловечение и смерть на кресте восстановили и
«союз» между Богом и человеком и прежний справедливый порядок в
Царствии Небесном. Иоанн Солсберийский, великий английский
гуманист XII в., обходит ледяным молчанием это народное богословие.
Тот факт, что он совсем не упоминает о нем в биографии Ансельма,
показатель того, как сильно изменилось умонастроение в научном
мире в течение всего лишь нескольких десятилетий. В-третьих, наше
внимание привлекает главный вопрос в его диалоге, который подводит
нас к пониманию гуманизма, важном явлении XII столетия.
Гуманизм XII в., ярко проявивший себя в мире, в книгах и
дискуссиях, имел в центре своих интересов человека. Гуманизм был
антропоцентричен, он не видел смысла в философствовании о Боге и
природе, если сам человек не присутствовал в картине мира. В этом
было что-то от «строго научных» богословских систем несколько
более позднего времени, когда возобладало мнение, что неотъемлемой
частью богословия должна стать антропология, наука о человеке.
Уже в начале XII в. появились тонко чувствующие мыслители в
монашеской среде, которые не переставали размышлять о тайне
человека и прославлять ее. Гуго (1096–1141), учитель в монашеской
школе в аббатстве Сен-Виктор в Париже, сын графа, один из наиболее
влиятельных теологов своего века, учил, что Бог создавал мир ради
человека; «человечество поставлено в центр творения». То есть
человек стоял между Богом и видимым миром и был причастен
одновременно к Богу и к миру. Мир служил человечеству,
человечество должно служить Богу. Человеку была дана великая
свобода, magna libertas; его не стоит принуждать, чтобы он обратил
свое сердце к Богу, который есть величайшее Добро. Служить Богу в
духе свободы означало пользоваться высшими дарами ума и души,
которые человечество получило от Бога: разум и понимание, с одной
стороны, вера и сила любящего сердца – с другой.
Но здесь пути расходятся. Бернард Клервоский (1091–1153) боролся
за примат сердца; в свое время он был наиболее сильным и страстным
защитником его достоинств. Пьер Абеляр (1079–1142), величайший ум
своего времени, боролся за примат разума. Из-за полной
противоположности их взглядов между ними разверзлась пропасть;
и спустя столетия теологи и философы только и занимались тем, что
либо углубляли эту пропасть, либо наводили через нее мосты, а то и
скрывали ее существование. С этого времени невозможно понять, о
чем думали европейцы, если не принять во внимание эти постоянные
попытки примирить или противопоставить веру и знание, доводы
сердца и разума; и эти два подхода стали столь диаметрально
противоположными, что истинно верующие христиане стали считать
ученых настоящими атеистами.
Бернарду Клервоскому, сыну бургундского аристократа, исполнился
21 год, когда он вступил в Цистерцианский орден; три года спустя он
стал аббатом монастыря Клерво, откуда он «правил» папами,
королями, епископами, прелатами, дворянами и простым народом.
Крестовый поход 1147 г. был его делом, как и многочисленные
монастыри, что он основывал повсюду на всем пространстве от
Сицилии и до Восточной Европы. Уместно спросить, что было
источником этой абсолютной власти; поняв это, мы найдем ключ к
религиозному мировоззрению Бернарда. Все указывает на то, что он
вел духовную брань против власти сатаны в самом себе, всячески
смиряя себя и призывая на помощь в борьбе с гнездившейся в его
душе гордыней, гневом и злобой силы Божественной любви.
Цистерцианский гуманизм Бернарда представлял собой драму его
собственной личности, которая отражалась в образе человечества.
Человек был сотворен по образу и подобию Божьему и имел «великую
душу», anima magna. Человек добродетельный мог бы прямо, не
страшась ничего, предстоять перед Господом. Но человека согнула
тяжесть греха, он получил «согбенную душу», anima curva. Он восстал
против Бога и отвернулся от него. Источником всякого греха было
своеволие, proprium consilium. Человек полагал, что он лучше Бога
знает, что ему нужно. Бернард описывал здесь свои личные соблазны и
искушения. Было ли это случайным, что его страшно разгневало, когда
он увидел, даже был принужден увидеть, что подобное «своеволие»
проявляется в человеке, придерживающемся иных взглядов и
философии?
Вера исцеляет человека, восстанавливает его душу в ее прежнем
величии. Вера означала смиренную покорность, просвещение ума и
запрет своеволия; только при выполнении этих условий воля снова
открывалась любви. Человек стремится к обретению истинной любви
только в союзе с Богом. Главная цель человека – растворение в
Божественной субстанции, в постоянном переживании той любви,
которую испытывает Бог Отец к Богу Сыну, окруженному сияющим
нимбом, зажженным пламенем Святого Духа. «Сердце с сердцем
говорит»: сердце человека взывает к сердцу Бога, а Божье сердце
отвечает сердцу человека. Мистицизм Бернарда, вдохновляемый
святым Августином и библейской Песнью Песней (к которой он
написал комментарии, поражающие своей страстностью), породил
направления в богословии большой духовной силы, влияние которых
ощущалось на протяжении нескольких столетий. Многие мистики в
разные эпохи – немецкие в XIV в., испанские в XVI в., французские в
XVII–XVIII вв. – черпали в нем свое вдохновение. В этом отношении
можно также говорить о Мартине Лютере и пиетистах, деистах и
квиетистах. Понятия Бернарда, такие как «прекрасная душа» и
«благородное сердце», его идею о преображении мира заимствовали из
его наследия, хотя и в искаженном и секуляризованном виде,
английские романтики и Руссо. Под его чары попал юный Гёте.
Бернард первым среди европейцев, кто заговорил о «любви» как
наиболее интимном и личностном чувстве, рождающемся в душе
человека, его внутреннем стержне. Отныне это чувство стало
отличительной чертой человека Западной Европы. Эта внутренняя
жизнь могла вмещать в себе полный спектр эмоций, все душевные
драмы, переживания и искушения; это был многоголосый оркестр с
солирующей темой. Восхождение на Небеса и сошествие во ад
европейской души – путешествия в ее собственные глубины –
составляют только часть труднейшей задачи, а именно умерщвления
плоти. Все это стало излюбленным сюжетом в «исповедальной»
поэзии и романах европейских авторов.
Однако Бернарда Клервоского не привлекала писательская стезя;
подобно святому Августину, своему великому предшественнику и
учителю, он слишком хорошо знал, что такое искушение из своего
опыта. «Медоточивый учитель церкви», doctor mellifluous, легко мог
позволить себе быть унесенным потоком собственного красноречия.
Постоянно боровшийся со своими греховными влечениями, Бернард
выступал против искушающей человека плотской красоты, против
чувственности и роскоши, в чем бы они ни выражались и где бы они
ни встречались: в церковном ли искусстве, в среде ли монашеской
братии, в жизни епископов или пап. Бернард Клервоский не искал ни
красоты внешней, ни власти. Но он прибегал к помощи обеих, вполне
осознавая свою непоследовательность, но которую гений всегда может
себе позволить, чтобы выполнить свою задачу; в данном случае –
становление и обучение человека.
Бернард имел страсть к образованию. Он видел себя наставником
пап и королей, братии своего ордена и других монашеских
конгрегаций, особенно ордена тамплиеров, которому он выказывал
особое расположение, и молодых аристократов Европы, которых он
хотел привлечь в свои монастыри.
Именно в XII в. впервые вышло на сцену европейской истории
новое юношество, полное сил и жажды знаний, стремившееся к
познанию реальности. Поразительным было преобладание среди
канцелярских служащих молодых людей, готовых работать и учиться,
исследовать космос идей и духа. Эти юноши, представители поколения
Sturm und Drang («Бури и натиска»), к которым позднее
присоединились молодые женщины, всегда стремились больше знать,
больше открывать, больше испытать, больше любить и даже больше
страдать. В первый раз множество этих «молодых людей» (которые
могли быть любого возраста – 12, 17 лет и старше), хотя и обращенных
в христианство, но оказавшихся невостребованными, пробудилось к
активной жизни.
Европа пробуждалась, и ее образованное молодое поколение искало
для себя учителей-философов и духовных вождей. Столкновение
Бернарда Клервоского с Абеляром, из которого Бернард вышел
победителем, можно рассматривать как противостояние двух
наставников. Кому присягнет на верность молодое поколение – это
было главным вопросом для Бернарда. Станет ли оно жертвой
интеллектуализма, «бесстыдного любопытства» (как он называл это)
Абеляра, который осквернял все, к чему бы он ни прикасался своей
дерзкой рукой? Пойдет ли оно за этим человеком, который не боится
дерзко рассуждать о Святая Святых, святом и неприкосновенном
Сердце Господнем, о Святой Троице? Последует ли юное поколение за
человеком, который подверг понятие о Троице логическому анализу,
постепенно снимая с нее священные покровы, подобно тому как
лавочник очищает от кожуры луковицу?
«Сын еврейского отца и египетской матери» – так Гуго СенВикторский охарактеризовал Абеляра. Гуго, рассудительный и
уважаемый мыслитель, ясно чувствовал различие в происхождении
между Абеляром и собой, сыном немецкого аристократа. Пока
выражение «национальное различие» рассматривается в его
естественном значении, не искаженном предрассудками больной
идеологии, нет ничего предосудительного в том, чтобы рассматривать
крайности национального характера двух больших противников –
Бернарда и Абеляра. Бургундец Бернард, высокий и худой,
голубоглазый и рыжеволосый, имевший вспыльчивый характер,
обладавший чувством собственного достоинства и великодушный,
имел германский тип внешности. Абеляр, низкого роста,
темноволосый, чувственный бретонец, сам признавался, что есть нечто
в его личности и природе, что роднит его с его страной и его народом.
Бретонцы были людьми моря, подобно грекам, которые с любовью
наградили его восьмьюдесятью эпитетами. Люди с таким складом ума
и души были по натуре непостоянны и ветрены, своенравны и
непокорны; как под ударами ветра море приходит в движение и
начинает вздыматься волнами, так и люди начинают меняться, и это
происходит многократно, когда их овевает Божественный ветер –
дыхание Святого Духа (pneumo). Абеляр должен был основать для
своей возлюбленной Элоизы женский монастырь, посвященный
Святому Духу, под его греческим наименованием Параклет.
Абеляр начал читать лекции в Мон-Сен-Женевьев близ Парижа в
1113 г.; он был свободным учителем, и толпы студентов посещали его
лекции. Вскоре, чтобы послушать их, к нему стали съезжаться
студенты со всей Европы. Спустя два поколения, когда
университетское образование получило дальнейшее развитие, такие
неформальные отношения между преподавателем и его учениками уже
были невозможны. Абеляр был наследником странствующих учителей,
грамматистов и диалектиков, которые в конце XI – начале XII в.
переходили из города в город и из страны в страну, открывая школу
там, где, как они считали, были подходящие для этого условия. Они
учили грамматике, риторике и диалектике; это были вводные предметы
для дальнейшего изучения философии и логики, подготовительный
курс для обучения теологии. Что же было такого необычного и
привлекательного в этом учителе, который притягивал к себе
студенчество всей Европы?
Многих привлекали в первую очередь его профессионализм и
смелость при рассмотрении основных положений логики и
диалектики. Подобно медику, использующему острый скальпель, он
мог прозондировать самые непонятные и противоречивые выводы и
положения, содержащиеся в трудах почитаемых «авторитетов» науки и
Отцов Церкви, в Библии и собраниях канонического права. Другие
были очарованы его недюжинным умом, критически воспринимавшим
современную
ему
интеллектуальную
жизнь
и
политику.
Университетские преподаватели XII–XIII вв., как и их последователи,
очень часто чурались окружавшего их мира. Во всех их важных
трактатах практически нет отсылок к конкретным проблемам,
тревожившим людей их эпохи. Абеляр был другим. Он был укоренен в
жизни своего века. Любовные песни его авторства распевались на
улицах Парижа. В его проповедях говорилось о продажности
церковных деятелей; о примитивных суевериях, распространенных в
монастырской среде (Абеляр был некоторое время аббатом монастыря
в Бретани); о политических интригах честолюбивых прелатов и о
предосудительном поведении старой аристократии, которое едва ли
можно было назвать христианским. Его ученик Арнольд Брешианский,
неистовый борец против папства и епископата, предшественник Кола
ди Риенцо, безуспешно пытался реформировать церковь и установить
демократию в Риме во время восстания 1143 г.
Такое далекое от академического поведение Абеляра привлекало к
нему молодых интеллектуалов, всегда готовых послушать его простую
ясную речь, и одновременно пугало его коллег в Париже и в
церковных школах по всей Северной Франции. Его критики задавали
себе вопрос, действительно ли парадоксальные диалектические
построения Абеляра следует воспринимать со всей серьезностью. Они
называли (с легкой руки Бернарда) его теологию «болтологией», то
есть считали, что внешне в ней все выглядело научно, но, по сути, она
ставила под сомнение таинство веры. Единственный вывод, который
следовал из всего этого, – Абеляр наиболее опасный и ловкий
искуситель европейского юношества.
Угроза, исходившая от Абеляра, объединила в борьбе против него
рядовое монашество и консервативных теологов. Вспомним, что
Сократ был также обвинен в проповеди безбожия среди молодых
своих последователей. Этот невзрачный человек Абеляр, уже
скомпрометировавший себя скандальной связью с племянницей
влиятельного члена капитула кафедрального собора Парижа, был в
глазах своих противников интеллектуалом, подававшим пагубный
пример, сторонником «прогресса», находившим удовольствие
состязаться со студентами в остроумии даже во время обсуждения
вероучительных вопросов. Своей софистикой он подрывал основы
веры, которые считались установленными на века.
Абеляр, конечно, не был тем монстром, каким его рисовали его
очернители. За его иронией и внешней строгостью скрывалась тонкая
и чувствительная натура; он лишь хотел увидеть природу вещей. Он
стремился к чистому знанию и чистой вере. Он не мог воспринимать
Бога как Владыку мертвых, Rex Tremendae Majestatis, для него Бог был
чистым духовным существом, горевшим в очистительном огне
Святого Духа. Бог Дух открылся человечеству в двух бесценных дарах
– разуме и любви. Важная роль Абеляра в истории его времени и
последующих столетий проявляется в философии и богословии,
учении о морали и в формировании нового человека.
Всеми преследуемый и обвиненный на соборах в Сансе и Суассоне
Абеляр, которому папа к тому же запретил (по наущению Бернарда
Клервоского) и учить, и писать, был одним из отцов схоластики; разум
был его постоянным помощником в познании истины. С его помощью
теология стала наукой; Фома Аквинский и академические философы
позднего Средневековья пользуются наследием Абеляра. Свою
систему Абеляр выстраивал, развивая методы Аристотеля и
нескольких канонистов, работавших незадолго до него. Для поиска и
обнаружения истины, считал он, необходимо ставить рациональные
вопросы, и при этом получать компетентный и твердый ответ sic et
поп, да или нет. Беспристрастный и честный подход к решению
вопроса был возможен, только если проводить твердое различие (хотя
бы на первое время) между верой и знанием. Вере, за которую так
легко принимают эмоциональную взволнованность, не должно
позволять стоять постоянно на пути разума; и разум, в свою очередь,
не должен использовать интеллект как средство решения последних
тайн веры, которые были недоступны для разума. Критика Бернардом
воззрений Абеляра в общем и целом была направлена мимо цели.
Абеляр хотел только показать, что для человека были доступны более
обширные области научного исследования с помощью рационального
метода, чем это готовы были признать теологи старой школы. Что
касается его попытки рационального обоснования Троицы, которая
вызвала особое осуждение со стороны Бернарда, то Абеляр следовал
великой традиции, берущей начало с Ансельма Кентерберийского и
прослеживаемой далее до смелых мыслителей Шартрской школы и до
Ришара Сен-Викторского. В действительности это была одна из
основных обсуждаемых тем столетия.
Абеляр был творческой натурой; он мастерски выстраивал
внутреннее царство человека, для него это было прежде всего царство
ума. Доступ в это внутреннее царство преграждала пассивная
«материалистическая» средневековая этика и ее покаянная практика,
которая рассматривала вину, грех и искупление как юридически
оформленную сделку с Богом. Грешник должен был заплатить Богу
определенный штраф за каждый грех, за каждый проступок против
веры, так же как убийца должен был заплатить положенный штраф за
убийство дворянина, клирика или несвободного крестьянина.
Внутреннее «я» личности вряд ли могла затронуть такая примитивная
этика. Абеляр учил, что все зависело от совести и от ее воспитания
или, иначе сказать, от внутреннего обращения: намерение, но не сами
дела, вот что было первично. Зажиточные монастыри, которые Абеляр
критиковал также и по другим поводам, особенно болезненно
воспринимали это утверждение, поскольку они получали много
благодеяний от богатых грешников высокого положения, которые
делали пожертвования в монастырь в искупление своих грехов. Если
все зависело лишь от внутренних перемен в душе, то в чем тогда
смысл «добрых дел»? Абеляр в этом вопросе разворошил осиное
гнездо, и он понимал это. Потребность перейти к действиям, то есть к
воспитанию, после высказанной критики становилась, вероятно, все
более настоятельной.
Это предмет его знаменитой «переписки» с Элоизой, новой
аббатисой Параклета. Нельзя определенно сказать, является ли эта
переписка между женщиной, на которую он оказал столь большое
влияние, что она изменилась внутренне, и между ним самим, ее
другом, любовником и учителем, подлинной. Автором всех этих писем
мог быть на самом деле сам Абеляр. Более важно содержание этих
писем, магическое влияние которых ощутили на себе Петрарка и
гуманисты, и которое продолжали ощущать все благочестивые люди
на протяжении XV, XVI и XVII вв. и мы наряду с ними.
В этих письмах Абеляр обращался к своим современникам –
монашеству и всем представителям мужского пола, которые думали
только о власти, о почестях (которых они ожидали не только на земле,
но и на Небесах), о воинских подвигах. Он высказал идею, что новым
человеком может стать женщина. Она обладала утонченной душой и
высокой духовностью, могла общаться в духе с Господом в своей
душе. Абеляр подчеркивал тот факт, что женщины, которые
последовали за Христом, сохранившие ему верность, стоят ближе к
Нему, чем все мужчины; это было их заслугой, что Он, воскресший
телесно, вошел в радость Пасхального дня. Абеляр ставил Марию
Магдалину, святую покровительницу всех грешных женщин, выше
всех воинствующих святых Средневековья. Так было положено начало
культу Марии Магдалины, который нашел отражение в
изобразительном искусстве эпохи расцвета раннего итальянского
Ренессанса, произведения которого можно увидеть в музее Барджелло
во Флоренции.
Такие идеи не могли не разгневать «монастырских учителей», для
которых Бог был прежде всего Богочеловеком, имевшим мало общего
с нечистым женским естеством. Церковное уложение о наказаниях и
брачные договоры XII и даже XIII в. свидетельствуют о глубоко
укорененном враждебном отношении к женщине. Абеляр призывал
юношество и женщин Европы мыслить свободно и не бояться любить
страстно, как и полагается новым людям.
Все эти его заявления, несомненно, обличали его как совратителя
юношества. Бернард Клервоский получил разрешение епископа
Парижского Стефана читать проповеди парижским студентам,
возможно даже в соборе Нотр-Дам, с обличениями воззрений Абеляра.
В этих проповедях Абеляр не назывался по имени, но каждый
понимал, что речь идет о нем, когда критике подвергались профессора
за их тщеславие и высокомерие. Правда, он обличал особо одного
человека как «гидру порока», который скрывал свой подлинный лик
под маской благочестия, был грязным соблазнителем чистой голубицы.
Бернард только тем и занимался, что писал послания епископам,
кардиналам и самому папе, пытаясь сорвать маску с Абеляра и
доказать, что он есть архиеретик своего времени. Он сурово осуждал
его, называя монахом, не имевшим призвания, аббатом без монастыря,
который погряз в незаконных связях с женщинами. Все это было
злостной клеветой, но Бернарду казалось очевидной истиной. Ведь
только грешник мог учить лжи, и Абеляр был лжеучителем. Здесь
следует прервать на время повествование и обратить внимание на этот
наглядный пример внутренней церковной практики, чтобы понять, как
фабрикуются обвинения. Нонконформист, который верит и мыслит не
так, как все, сразу же обвиняется в «аморальном поведении». Он не
способен «правильно», «здраво» мыслить; он глубоко развращенный
человек. И он обречен быть таким, из-за того что неправильно мыслит.
Порочный круг тем самым замыкался.
Бернард не нуждается в оправданиях. Более важным было бы для
нас понять его. Аббат монастыря Клерво был убежден, что Абеляр
разрушает весь труд его жизни – воспитание нового человека в
основанных им монастырях. Предметом спора было будущее молодого
поколения Европы. Бернард испытывал чувство тревоги при одной
мысли о том, что молодые интеллектуалы от Парижа до Рима, даже
сам папа, готовы принять как должное рациональное мышление,
поддаться этому «соблазну». Его глубокое беспокойство было не
лишено оснований. Когда схоластика триумфально победила в
университетах, разверзлась на самом деле пропасть: на одной ее
стороне была христианская этика, воспитание души; на другой –
богословские исследования. Прервалась связь теологов со
священниками-пастырями, и так продолжалось на протяжении
столетий. Теолог размышляет о Боге и о тысяче других вещей вокруг, и
по мере того, как он продолжает мыслить, дух и жизнь, Бог и человек
все больше и больше отдаляются друг от друга. Бернард
предчувствовал в будущем победу Абеляра, великого изменника,
виновного в дехристианизации и рационализации богословия. Что он
полностью проглядел, так это то, что, хотя Абеляр и был
первопроходцем и представителем большого интеллектуального
движения, тем не менее, не будь его, новые идеи так или иначе все
равно бы овладели сердцами европейского юношества.
С того самого времени, как Бернард начал произносить в Париже
свои проповеди, обличающие Абеляра, последний понял, что этот
могущественный церковник намерен уничтожить его. Он также
осознавал, что существовало единственное поле битвы, на котором он
мог выступить как равный Бернарду или даже одержать над ним верх.
Это был общественный диспут, в котором обе стороны выступают как
антагонисты и их аргументацию рассматривает беспристрастный судья
и выносит свое решение. Диспуты между мыслителями с различными
убеждениями были распространены при дворах арабских шейхов, а
позднее они устраивались и при монгольском дворе. В Западной
Европе в XII в. они стали обычным явлением.
Друзья Абеляра убедили архиепископа Санса вызвать Бернарда и
Абеляра на подобное состязание. Абеляр охотно согласился. Бернард,
опасаясь поражения в споре, втайне от Абеляра и общественности
заручился поддержкой епископа и заранее подготовил обвинительный
приговор своему оппоненту. В день Пятидесятницы 1140 г. Абеляр
явился в кафедральный собор Святого Стефана в Сансе и предстал
перед большим собранием. Присутствовали сам король Франции и его
свита, профессора, студенты, дворяне и высшие церковные сановники.
Когда Абеляр понял, что его, скорее всего, осудят, он апеллировал к
папе и покинул собор. Бернарду не потребовалось много времени,
чтобы добиться своих целей – обвинения Абеляра как еретика,
отлучения от церкви его сторонников, запрета Абеляру на принятие
монашества и сожжения его книг. Сам папа Иннокентий II сложил из
них костер рядом с собором Святого Петра.
В одном из своих ранних писем к папе Бернард настоятельно просил
его, чтобы тот «искоренил» ересь Абеляра. Он полагал, что со всеми
новомодными интеллектуальными движениями должно быть
покончено раз и навсегда. Но за триумфом Бернарда последовала
победа Абеляра. Приняв смиренно свой приговор, Абеляр умер в
1142 г. в монастыре в Клюни, аббатом которого был тогда Петр
Достопочтенный, человек добрейшей души, относившийся к Абеляру
с высочайшим уважением и почтительностью. Другом Абеляра был
отважный философ Гильберт Порретанский. Против него Бернард
Клервоский пытался применить ту же тактику, что и против Абеляра,
обвинив его в ереси, однако кардиналы Римской курии осудили
действия Бернарда. Многие ведущие мыслители того времени
находились под сильным влиянием Абеляра: теолог Иоанн
Солсберийский, хронист Оттон Фрейзингенский, папа Александр III;
монах-правовед Грациан, автор сборника канонического права;
епископ Парижа Петр Ломбардский, автор «Книги сентенций».
В письме, адресованном Бернарду и написанном незадолго до
последнего акта трагедии, Абеляр выдвигает основную идею, которая,
по его мнению, должна доминировать в период интеллектуальной
зрелости Западной Европы: diversa non adversa («разные, но не враги
друг другу»). Люди различны, но каждый индивидум неповторим. Но
из этого разнообразия должна родиться гармония, воздающая хвалу
Богу, и разнообразие мнений не должно больше вызывать
враждебность. Именно в этом духе молодые умы XII в. собирали,
подобно пчелам (сравнение вполне современное), мед Античности,
которая была передана им через культуру мусульманской Испании.
Шартрская школа, представленная великими учителями и учеными,
возможно, была самым ярким символом интеллектуального движения
XII столетия. Ее возглавляли два соотечественника-бретонца, братья
Бернар и Тьерри Шартрские, и Гильберт Порретанский. Покровителем
школы
был
Годфри,
епископ
Шартрский,
из
старого
аристократического
семейства
Бос
(Веаисе),
известный
государственный деятель, друг Бернарда Клервоского и, возможно,
ученик Абеляра. Именно он поставил во главе школы Бернара, Тьерри
и Гильберта. Интеллектуальное влияние Шартрской школы, которая
пережила XII в., распространилось на Сицилию и на исламский мир.
Но и он, в свою очередь, повлиял на нее. Все величие гуманизма
школы Шартра отразил сохранившийся до наших дней западный фасад
собора, возможно, самый прекрасный среди всех фасадов
Средневековья времен епископа Годфри.
В одном письме XII в. Тьерри Шартрский характеризуется как
«возможно, самый видный философ во всей Европе». Обращает на
себя внимание название Европа. Прошло много времени с тех пор, как
его использовали в последний раз. Концепция Европы, как она
понималась в Каролингской империи, давно была забыта. Папы начали
говорить о Европе вновь только в связи с крестовыми походами. Но
процитированная фраза говорит нам о новой Европе, открытой Европе
молодого мира интеллектуалов, готового обсуждать все то, что
волновало тогда человека, – о природе Бога и человечества.
Intellectibilitas — «способность умопостижения»; это новое понятие,
которое предложил Кларенбальд из Арраса, указывает на руководящий
принцип школы: Бог, космос, природа и человечество могут быть
исследованы, поняты и измерены в своих пропорциях, числе, весе и
гармонии. У Кларенбальда есть еще одно высказывание:
«Богословствовать – это значит философствовать». Философы-
платоники Шартра рассматривали положения теологии с точки зрения
математика и геометра. Натурфилософы XVI–XVIII вв., да и после
Лейбница, продолжали находиться под влиянием этих мыслителей
XII в., которые находили объяснение фундаментальным понятиям
реальности в мистике чисел и математической структуре космоса.
Тьерри объяснял, что есть Троица в геометрических символах, он
представлял природу Сына Божьего в образе прямоугольника. Эти
рассуждения кажутся несколько тривиальными. Они могли иметь
причиной атавистическую веру в магическую значимость чисел и
геометрических фигур; или же это было влияние Каббалы,
неоплатоников и ислама. Нельзя исключать элемента игры, но с этим
были связаны, что более важно, постоянно предпринимаемые попытки
понять космос через математические формулы и признать теологию
матерью всех наук, как что-то, что можно рационально понять с
помощью строгой логики.
Алан Лилльский, обучавшийся в Шартре, ввел термин аксиома в
теологию и постарался переосмыслить теологию как логическую
систему. Другой выпускник Шартра, Николай Амьенский, посвятил
свой труд Ars Fidei Catholicae папе Клименту III. «Католическая вера»
(названная так впервые, поскольку требовалось провести различие
между ней и многими другими верованиями) стала учебным
предметом, который отныне можно было преподавать и одновременно
изучать. Теология стала высшей формой арифметики; Николай смог
ввести теологию в рамки евклидовой геометрии. Его целью было
создать
простую
и
понятную,
рациональную
теологию,
величественную, как готические соборы, в которой числа, свет, музыка
и архитектура космоса – все основанное на взаимоотношении чисел –
указывали на природу самого Божества. Здесь мы только кратко
остановились на этом вопросе, но и этого достаточно, чтобы понять,
какие многообещающие перспективы открывали представители
Шартрской школы.
Все труды и вся жизнь представителей Шартрской школы – поэтов,
натурфилософов, ученых – непредставимы в более позднюю эпоху,
даже спустя каких-то одно-два поколения. В XVI в. в Италии и Южной
Франции людей сжигали на костре и за менее крамольные мысли, чем
за высказывания Бернарда Сильвестриса, Вильгельма Коншского или
Алана Лилльского, принадлежавших к школе Шартра. Не следует
забывать, что участники этого небольшого кружка принуждены были
действовать в обличье никодемитов. Иначе говоря, крамольные мысли
и критика церковных дел, и прежде всего идеи, несовместимые с
догматами церкви и господствовавшей теологии, высказывались в
символической и аллегорической форме и вкладывались в уста поэтов
классической Античности.
Бернард Сильвестрис, поэт, философ и автор комментария к
«Энеиде», написал труд De Mundi Universitate («О всеобщей природе
мира») между 1145 и 1153 гг. Немецкий историк Эрнст Роберт
Курциус, который лучше знал интеллектуальный мир Средневековья,
чем многие современные ученые, справедливо заметил, что в этой
работе христианские идеи сведены до «нескольких окончательных
сущностей». В книге мы встречаем богиню Натуру, вечно
плодоносящую мать всего сущего (как во второй части «Фауста» Гёте).
Здесь явно прослеживается влияние идей поздней Античности. В
позднем Средневековье, когда труд Бернарда был включен в
универсальную энциклопедию Speculum Majus («Зерцало великое»),
главный труд Винсента из Бове, он стал широко известен в кругах
интеллектуалов-теоретиков в Авиньоне, Париже и Павии, а также в
Англии и Германии.
Эпопея-аллегория Anticlaudianus («Антиклавдиан») французского
теолога и поэта Алана Лилльского (родился около 1128 г., умер в Сито
в 1202 г.), который был учеником Бернарда Сильвестриса, пробудила
творческое воображение писателей Возрождения и эпохи барокко.
Мильтон обращался к ней при описании Дворца Природы в своей
поэме «Потерянный рай». Алану был присужден почетный титул
doctor universalis. Кроме него этого титула удостоился только Альберт
Великий. Алан Лилльский – автор полемических сочинений против
катаров, альбигойцев, вальденсов, евреев и мусульман. Его задачей
было вернуть фрондирующих интеллектуалов Западной Европы в лоно
церкви. Именно по этой причине он пытался показать, что силы,
дающие жизнь человечеству, по природе своей божественны и ими
может распоряжаться только Бог. Нельзя не признать, что образование
церковных интеллектуалов было пуританским, которое отличалось
враждебным отношением к природе и обращало недостаточно
внимания на природные явления. Этот факт, наряду с неприязнью к
«нечистому женскому полу» и к «презренной материи», способствовал
в
значительной
мере
распространению
греха
содомии,
профессиональному заболеванию европейского интеллектуала. Алан
посвятил этому вопросу свое сочинение Liber de planctu naturae
(«Плач природы») (содомией в эту эпоху называли все сексуальные
отклонения, но прежде всего гомосексуализм). Алан возвышает
Природу (natura) и противопоставляет ее этой псевдодуховности.
Стоит только позволить Природе создать совершенного нового
человека, который будет жить в гармонии с космосом, и золотой век
вернется. Алан считал свой труд «энциклопедией», написанной с
«католических» позиций и способствующей образованию всего
человечества. Христос не играл никакой роли в описываемом им
процессе. Алан считал, что изучение природы не связано с занятием
теологией. Учение о природе и теология не противопоставлялись друг
другу, это были две разные вещи: non-adversa sed diversa. Мы
встречаемся вновь, уже в новом замечательном изводе, с магической
формулой XII в.
Пожалуй, только некоторые искренние поклонники Шартрской
школы усомнились в том, что не все так однозначно в воззрениях ее
ученых, касавшихся вопросов космологии и математики. Сам Алан
Лилльский, Петр из Целлы, Петр Блуаский и, не в последнюю очередь,
Иоанн Солсберийский полагали, что изучению математики и
«свободных искусств» в Шартре уделяется «чрезмерное» внимание.
Они видели опасность в том, что подобные умственные
теоретизирования о Боге, природе и мире приведут в итоге к гибели
подлинного наследия христианской веры.
Подобная критика особенно впечатляет, когда она исходит от
человека, который сам обучался в Шартре и который умер в сане
епископа. Заметки его, написанные с большой теплотой, содержат
краткие биографические сведения о некоторых великих учителях
школы Шартра. Это – Иоанн Солсберийский, вероятно, незнатного
происхождения, родившийся около 1115 г. в Старом Саруме и
скончавшийся около 1180 г. в Шартре. В этом человеке, «у которого и
улыбка была серьезной», нашел свое самое яркое воплощение
гуманизм XII столетия. Во многом он напоминает нам Эразма
Роттердамского, этого великого представителя позднего английского
гуманизма. Три с половиной века разделяют этих людей. Умеренность
во всем, нелюбовь к тирании и насилию в любой форме, глубокое
недоверие к громким словам и людям во власти, независимость
суждений и ирония, привычка открыто выражать свои мысли – все эти
черты личности Иоанна Солсберийского, великого гуманиста XII в.,
роднят его с Эразмом, «князем гуманистов».
Неудачи не ожесточили Иоанна, хотя было много трудного и
горького в его жизни. Закончив обучение во Франции, он стал
секретарем и сотрудником архиепископа Кентерберийского Теобальда
(умер в 1161 г.) и его главным помощником в сношениях со Святым
престолом. Это были последние годы правления короля Стефана,
который почти не общался с церковными деятелями и учеными.
Между 1163 и 1170 гг. Иоанн жил в изгнании во Франции; причиной
опалы стала его поддержка Томаса Бекета. Из Франции он наблюдал с
нараставшим беспокойством, как разгорается конфликт между папой
Александром III и императором Фридрихом I Барбароссой. Иоанн
Солсберийский был гуманистом в политике, он стремился к
достижению entente cordiale (мирного соглашения) между Францией,
Англией и папством в ответ на угрозу со стороны Германии.
«Кто поставил немцев судьями над народом Христа?» Иоанну
казалось, что Райнальд фон Дассель, честолюбивый канцлер Фридриха
I Барбароссы, стремился к мировому господству и к превращению
римской кафедры в собственную церковь (Eigenkirche) его имперского
властителя. Иоанн был первым писателем-политиком на Западе,
который обратил внимание на то, насколько сильно отличается
культура англо-французских высших кругов с их «цивилизованным»
городским гуманизмом от более архаичной, «средневековой»
и примитивной культуры Германии. В Германии благочестие
имперских епископов и народа находилось под влиянием политики.
Имперская
церковь
была
сверхбогатой,
воинствующей
и
могущественной; в союзе со своим имперским правителем она
прославляла божественное величие в присущей ей манере.
В своих многочисленных посланиях французским и английским
друзьям Иоанн противопоставляет свой собственный мир
«варварству» Германской империи; его мир – это мир внутренней
свободы, городской жизни (он расточает похвалы Парижу) и дружбы
столь искренней, что даже самого близкого друга можно критиковать
ради торжества истины (к примеру, Александра III).
«Каждая земля – Отечество для сильных духом. Там, где Дух
Господень, там и свобода». Иоанн говорит о своей приверженности
мудрости Сократа и Евангелиям. Человек духовно свободный должен
платить за свою свободу бедностью, гонениями и иногда, как это было
в его случае, изгнанием.
Иоанн, студент Абеляра и ученик школы Шартра – первый великий
мыслитель, представитель чисто западного гуманизма. Современное
английское издание отдельных частей его труда «Поликратики»
(Polycraticus), в котором он говорит о своих политических взглядах,
названо просто «Книга государственного деятеля». И это
представляется оправданным. Завершенный в 1159 г. труд посвящен
Томасу Бекету, в то время еще бывшему канцлером Генриха II. Как и в
других своих работах, в которых он описывает современные ему
события и дает им оценку, Иоанн и в этом труде выступает против
произвола и насилия власти аристократов, основной целью которых
является навязать всем свой «закон», опирающийся только на силу. Вот
почему Иоанн так опасался влияния немцев, наблюдая, как Запад
начинает следовать в фарватере политики Гогенштауфенов, когда
каждый их успех оказывал на всех магическое воздействие и заставлял
поступать таким же образом. Но не меньшее беспокойство вызывали у
него нравы, царившие при дворе английского короля Генриха II. Под
внешними крайне изысканными манерами утопавшего в роскоши
придворного общества скрывались интриганство, жестокость и
высокомерие; даже честный и порядочный человек, оказавшись в
подобной обстановке, быстро становился лицемером и фатом. Иоанн
предложил положить в основание королевской власти принцип
справедливости. Тогда в этом королевстве свобода слова и свободная
церковь будут находиться под защитой правителя, который будет
служить общественному благу. «Он всей полнотой принадлежит Богу,
большей частью – своей стране, в значительной части – своим близким
и ближайшим слугам и лишь в самой малой мере – иноземцам». Иоанн
видел контуры будущей «просвещенной» национальной монархии, о
которой размышлял Томас Мор. Последним средством борьбы с
тиранией он считал право на тираноубийство. Имя этого
уравновешенного, миролюбивого человека часто вспоминали в
последующих поколениях, считая его первым поборником права
народа на восстание.
Иоанн, глубоко веривший в то, что интеллект был дан Богом
человеку как инструмент познания, признавал Аристотеля главой всех
философов, хотя это не мешало ему при случае критиковать его. Это
свободное беспристрастное отношение даже к великим авторитетам
прошлого типично для «открытого» века. Иоанн сохранил для нас
известное выражение Бернарда Шартрского: «Мы подобны карликам,
сидящим на плечах гигантов, откуда мы можем видеть больше и
дальше, чем они. Подобное можно объяснить не остротой нашего
зрения или нашим большим ростом, но тем, что их небывалое величие
послужило нам примером».
«Карлики» XII в., несомненно, «видели больше и дальше». В
Шартре и Клюни, аббат которого Петр приютил Абеляра, изучали
Коран и ислам. Люди Западной Европы все чаще обращали свои взоры
на Восток. В XII в. большие усилия прилагались для перевода книг, все
большее внимание уделялось изучению канонического права и
исторических сочинений. Кстати, уместно упомянуть, что
существовало различие между «научной» историей, основанной на
изучении документов, чем занимались нормандские и англофранцузские историки, и историей, изучаемой с теологических и
философских позиций, что было характерно для ученых Германии и
Италии. Оттон Фрайзингенский, дядя императора Фридриха I,
цистерцианский монах, впоследствии рукоположенный в епископа,
бывший наиболее известным историком XII в., сотрудничал как с
представителями «научного» подхода, так и с «философским»
направлением.
Руперт из Дойца первый, кто дает нам возможность познакомиться с
исторической философией, представленной произведениями немецких
авторов того времени. Основные ее положения развили Ансельм
Хафельбергский и Хильдегарда Бингенская, о которой кратко
упоминает в своих трудах Иоанн Солсберийский. Она дала импульс
развитию космологии. Очевидный факт, что интеллектуальная жизнь в
империи долгое время существовала сама по себе, вне связи с
интеллектуальной жизнью Запада, и с опозданием воспринимала
рожденные там новые идеи. На землях между Кёльном, Рейном и
Дунаем, между Гамбургом, Бременом и Веной все еще сохранялись
старые традиции и, соответственно, и традиционная картина мира, и
традиционное благочестие, унаследованное со времен Каролингов.
Здесь наука была едина и неделима, в то время как на Западе ученые
уже начинали проводить строгие границы между Богом, природой и
человеком, между церковью как церковным институтом и
секулярными властями. В этих исконно немецких областях ощущалось
сильное влияние архаики и существовала страстная приверженность
идее, что Бог, человек, природа, животный мир и мир вещей
взаимодействуют все вместе в строгих рамках закона; и такое
представление сохранялось на протяжении нескольких веков. На пике
XII в. немецкая эпическая поэзия времен переселения народов была
увековечена во всем своем дохристианском величии. В это время
возникла готика, новое направление в изобразительном искусстве
нового западного мира, названная «французским стилем»;
окончательно она утвердилась только в середине XIII в., а в некоторых
странах даже в XIV–XV вв.
В непринужденной свободной атмосфере, характерной для Запада в
XII в., известные писатели могли совмещать свои занятия философией
и теологией с написанием стихов на латинском языке в соответствии с
классическими правилами (cirs poetica) и сатирических комментариев
на современные темы. Странствующие школяры, ваганты,
осмеливались высказываться по различным вопросам и открыто
говорить о предметах, которые всего лишь небольшое время спустя
станут запретными темами для профессоров и теологов и даже для
поэтов. В таком мире Марбод, епископ Реннский (1035–1123),
чувствовал себя как дома. Прославленный как новый Овидий, Марбод
был автором как любовной лирики, обращенной к высокородным
дамам, так и дидактической религиозной поэзии. Хильдеберт
Лаварденский (1056–1133), в конце жизни ставший архиепископом
Турским, был, возможно, самым типичным представителем
классической латинской поэзии своего времени. Его стихи были у всех
на устах; он был также автором сатир с литургическими
реминисценциями, но светских по тону и элегических. Особенно
утонченными и горькими чувствами наполнен его плач над руинами
urbs beata, божественного и земного Рима. Сам Хильдеберт часто
получал послания от своих горячих поклонников, среди которых были
посвящавшие ему любовные песни императрица Матильда и Адела
Блуаская, которых можно назвать предшественницами образованных
женщин придворного общества Нового времени.
Типичным примером ваганта-интеллектуала можно считать Гуго, по
прозвищу Примас Орлеанский (около 1095–1160), который был
учителем грамматики в Париже в 1142 г. Это был своего рода poete
maudit, поэт таверн, воспевавший любовь и топивший свои печали в
вине; женщины были его музой в песенном творчестве. Когда он
говорит о мире, его правителях и владыках, тон его произведений
становится резким и язвительно-насмешливым. Исследователи давно
пытались отождествить Гуго Примаса с неизвестным вагантом по
прозвищу Архипиита Кёльнский, которому покровительствовал
канцлер императора Райнальд фон Дассель.
В знаменитом произведении Архипиита Confessio звучит тема,
которая будет повторяться вечно снова и снова. И о чем пишут Вийон,
Бельман, Христиан Гюнтер, Рембо, Малларме и многие другие поэты:
«Выпей пьянящий напиток жизни до дна, до последней горькой
капли».
В наши дни мы могли бы охарактеризовать сатирическую
«журналистику» XII в. как актуальную и обличительную. Она
процветала в Англии, Нидерландах, Франции и больше всего в
Западной Германии. Carmina Вигапа и другие песенные сборники того
времени, произведения Уолтера Мапа и Уолтера Шатийонского и
многих родственных им по духу писателей имеют схожую тематику:
это жалобы на епископов и церковных сановников, на монаховчревоугодников и невежественных священников, на жестоких баронов.
Часто это был импульсивный взрыв негодования, но это было также
отражением широкого общественного мнения, выразителями которого
были люди, не принадлежавшие к тому или иному сословию, да у них
и не было возможности добиться «положения» в обществе. Эти ваган –
ты, голиарды, бродячие поэты были обречены на исчезновение после
их осуждения церковью на нескольких церковных соборах в период
времени между 1127 и 1239 гг. На их место пришли менестрели и
жонглеры, трубадуры и труверы XIII в., которые часто превосходили
их в целеустремленности и резкости даваемых ими оценок.
В Англии XII столетия, где сатирическая литература имела широкое
распространение и сатиру можно обнаружить и в произведениях
Иоанна Солсберийского, особо выделяется Найджел де Лонгшан или
Уирекер (1130–1207?), великий сатирик из Кентербери. В своем
сочинении «Зеркало дураков», написанном между 1170 и 1187 гг., он
высмеивает монашескую глупость и злоупотребления клира и
епископов. В Генте, богатом городе Северо-Западной Европы, творил
школьный учитель Нивард Гентский, родом из Германии, написавший
сатирическую поэму «Изенгрим» в семи книгах. Этот серьезный,
независимый в суждениях человек, выходец из Рейнской области,
подпал под магическое влияние французской культуры, однако остался
верен своему стилю. Волк Изенгрим олицетворяет тип жадного и
неотесанного монаха. Это произведение является яркой сатирой на
монашество того времени. Мы имеем дело с удачным примером
средневековой аллегории, где основными персонажами выступают
животные. Влияние этой поэмы ощущалось в литературе на
протяжении нескольких веков. Оно прослеживается в страстном и
мелодраматическом тоне обличительных речей гуманистов и
реформаторов XVI в. Эта сатира замечательна тем, что она дает
объективную и наглядную картину церковной жизни той эпохи,
отражает нараставшие в церкви процессы секуляризации.
Глава 6
Крестовые походы и конфликт между
Востоком и Западом
Разногласия между Западом и Византией, в которых крестовые
походы играли не последнюю роль, были своего рода средневековым
аналогом современного конфликта между Востоком и Западом.
Граждане Византии полагали, что изначально основной целью
крестовых походов было завоевание Константинополя и разграбление
как самого города, так и богатых земель Византийской империи.
В конце XI в. в Восточную Римскую империю из Центральной Азии
вторгся новый враг – кочевники сельджуки, и в 1091 г. император
Алексей I Комнин попросил помощи у папы Урбана II. Император,
возможно, ожидал, что тот пришлет несколько отрядов наемников, но
получил он в 1096 г. Первый крестовый поход. С этого времени
крестовые походы следовали один за другим на протяжении XII и XIII
столетий. Обычно говорят о пяти «основных» походах. Второй начался
в 1146 г., Третий – в 1189 г., Четвертый – в 1204 г. и Пятый – 1217 г. Но
в промежутках между ними в Святую землю постоянно отправлялись
небольшие отряды и войска, которые возглавляли то князья церковные
и светские, то монахи-отшельники, то просто дети. Византийцы
давали полную волю своему негодованию в отношении крестоносцев,
и их бескомпромиссная к ним враждебность наложила свой отпечаток
на их наследников на Балканах и на православную церковь.
Важной причиной взаимной антипатии крестоносцев и византийцев
был их различный взгляд на войну. Сохраняющая верность греческому
духу своих отцов, восточная Православная церковь не признавала
войну, как таковую, «святой». Основное оружие христианина – учение
Христа, битва может быть только духовной. Различные подпольные
раскольничьи секты, действовавшие повсюду в Византийской
империи, проникшие на Балканы и в Западную Европу в XII в.,
придерживались в основном той же точки зрения. Запад пошел по
иному пути. Первым папой, который признавал войну, если она велась
во имя Христа, был уроженец Германии Лев IX (его понтификат
продолжался с 1049 по 1054 г.), сын графа фон Эгисхайма. Его
противниками были норманны, вскоре ставшие ударной силой во
время похода крестоносных войск на Восток. Они пленили Льва в
1053 г., так что Первый крестовый поход имел печальный финал. К
1096 г. давний обычай проводить свою политику, прикрываясь
религиозными целями, стал столь привычным на Западе, что под
образным выражением братьев паулинов «война за Христа»
понималась воинская служба рыцарей. В XI в. наблюдается резкое
увеличение числа литургических молебнов за дарование крестоносцам
победы и появляются первые упоминания о благословении оружия,
которое было первым шагом в торжественной церемонии посвящения
в рыцари. Она имела такое же значение для рыцаря, как церковная
коронация для монарха; отныне рыцарь должен был следовать в жизни
этическим и религиозным правилам, исполнения которых
первоначально требовали только от правителя; он также принимал на
себя древние королевские обязательства защищать бедных и
немощных, включая женщин. Рыцарь вставал под знамя Христа,
военачальника и царя, чтобы отвоевать «землю, принадлежавшую Ему
по праву рождения» у неверных. Если он погибал, то получал награду
на Небесах; если он одерживал победу, то увенчивался славой, получал
поместье на земле и становился причастным Царству Небесному.
Это было время, когда реформированное папство, укрепившее свои
позиции благодаря Клюнийскому движению, стремилось объединить
Европу под своим главенством. Было необходимо, чтобы дворянство
Западной Европы вместо того, чтобы постоянно участвовать в
междоусобицах, объединило бы свои усилия для достижения общей
цели – завоевания Святой земли. Для плана папы было важно то, что
норманнам, уже имевшим давний опыт разбойничьих набегов, было
хорошо известно о богатствах Константинополя, и они мечтали о
захвате «богатейшего города мира». Генрих VI (1190–1197), сын
Фридриха Барбароссы, в 1184 г. унаследовавший корону Сицилийского
королевства норманнов, разработал подробный план завоевания
Византии. Его современник архиепископ Евстафий оставил нам явно
предвзятое описание завоевания сицилийцами Салоник в 1185 г. Нет
нужды говорить о постоянных предъявляемых византийским
императорам требованиях крестоносцев. Алексей III (1195–1203),
например, был вынужден взимать «немецкий налог» (Alamanikon) со
всех провинций для уплаты тяжелой дани. Но о чем нельзя не сказать,
так это об открытом протесте Анны Комнины, императрицы и
хрониста, которая еще в XII в. заявила о претензиях, которые в
будущем византийцы выдвинут против Запада. В их представлениях
франки (собирательное имя всех западных христиан) были
примитивны, некультурны и агрессивны; это были поистине варвары,
и не могло быть никакого сравнения между ними и утонченным и
интеллектуальным миром Византии и миром ислама. Их христианство
было суеверным и неистинным, засоренным всякого рода ересями.
Весь Запад был апостасийным, далеким от Христа и истинной
культуры. В Византии, в ответ на военное превосходство врага,
родился миф о «растленном Западе» и сформировалась атмосфера
холодной войны. Восточная церковь постоянно отправляла
миссионеров и группы пропагандистов на Балканы, в Египет и на
Ближний Восток, которые в унисон византийским дипломатам
говорили о греховности Запада. «Запад выступает за войну и
угнетение, он неизлечимо болен, от него исходит зараза; Рим –
Западный Рим – это Вавилон, мать всех пороков».
С падением Константинополя в 1204 г. во время Четвертого
крестового похода настал поворотный момент. Разделение единой
церкви на Восточную и Западную официально произошло в 1054 г., но
только теперь простой народ Восточной церкви в полной мере осознал
этот факт. Это был непреодолимый раскол, который, несмотря на
переговоры отдельных византийских императоров с Римом о
воссоединении, все более углублялся. Следует кратко остановиться на
истории этой схизмы, поскольку она продолжает оказывать влияние на
разделение современной нам Европы.
Правило 28 Халкидонского собора (451 г.) гласило, что епископы
Рима и Константинополя имели равные права; папа имел лишь чисто
номинальное почетное первенство. «Экуменический патриарх»
в Константинополе (этот титул встречается в посланиях VI в.
и присутствует на печатях после 1054 г., и только со второй половины
XII в. он фигурирует в качестве подписи к документам) считал себя
представителем православного по духу христианства, старшим братом
римского папы. Испытывая все усиливавшееся давление со стороны
турок-сельджуков, императоры Комнины и Палеологи, правившие в
XIII–XV вв., постарались заключить союз с Римско-католической
церковью. Они согласны были заплатить такую высокую цену за
военную помощь Запада. Несколько императоров даже перешли в
католицизм, но их планы потерпели крах, когда Рим оказался
неспособен предоставить необходимую помощь, а население империи
выступило против намерений своих властителей. Все же около 1246 г.
император Иоанн III Дука Ватац велел отчеканить бронзовую монету,
на реверсе которой было изображение святого Петра и ключей;
казалось, мечта папы и Запада добиться господства над Востоком была
близка к осуществлению. Начались длительные переговоры между
императором Иоанном и папой Иннокентием IV. На Лионском соборе
1274 г. – это была вершина папского могущества в Средние века –
посланники Византии выразили согласие с догматами Рима и с
положением о папской супрематии. Они сделали это от имени своего
императора Михаила VIII, который надеялся заполучить помощь Рима
в борьбе против Карла Анжуйского, наследника норманнов. В
Константинополе
возникла
сильная
оппозиция
союзу
на
предложенных условиях. Вся эта идея показала свою полную
абсурдность, когда новый папа Мартин IV, марионетка
могущественной Анжуйской династии, отлучил от церкви
византийского императора. Михаил в отместку организовал в 1282 г.
«Сицилийскую вечерню» (завершившуюся уничтожением или
изгнанием всего французского населения Сицилии), и это выбило
оружие из рук его противника.
Спустя почти столетие в 1369 г. император Иоанн V и его
ближайшие последователи обратились в католицизм; однако народные
массы и духовенство по-прежнему упорствовали в своем неприятии
латинян. Несмотря на свое обращение, Иоанн V не получил
ожидаемую помощь с Запада. Наоборот, на обратном пути из Рима он
был с позором брошен в тюрьму в Венеции как должник и вернулся на
родину во всем разочаровавшийся и с пустым кошельком. Это была
судьба всех «предателей», которые доверились «растленному Западу».
Конечно, существует и оборотная сторона медали. Мария Терезия,
великая императрица Габсбургов XVIII в., с нескрываемым
презрением высказывалась о graeca fides (греческой вере). Это было
намеком на печально известную двуличность греков (то есть
византийцев), которая, как она считала, проявилась в их русских
наследниках. В XV в. турецкая угроза привела к возобновлению
переговоров между католиками и православной церковью. На соборе в
Ферраре и Флоренции (1438 г.) мечта Рима, казалось, снова начинала
сбываться. Но в 1453 г. Константинополь пал, а вместе с ним и
Восточная Римская империя, которая просуществовала тысячу лет,
став наиболее удивительным примером стойкости классических
институтов древности и культуры. Ни один крестовый поход не мог
спасти ее. В последние годы перед падением святого города
императора Константина Равноапостольного правители Византии
утвердились в своем убеждении, что даже турецкий тюрбан
предпочтительней латинской митры.
Все крестовые походы следует рассматривать в контексте политики,
хотя и неудачной, Римско-католической церкви, направленной на
подчинение власти папы Восточной Римской империи и Православной
церкви, что в итоге могло бы привести к духовному господству Рима
над Восточной Европой и Русью. Добиться этого можно было только
одним путем – через Константинополь, что было понятно дипломатам
Курии и в XII в., и в веке XIX.
Однако восточное и западное христианство встречались не только на
тропе войны, трагически жестокой и всегда безрезультатной. Еще в
эпоху раннего Средневековья открылись широкие возможности для
мирных, дружественных контактов во многих областях культурной,
духовной и религиозной жизни. Величественный Константинополь
притягивал к себе толпы паломников с Запада. На латинян
производила глубокое впечатление его древняя, богатая и изысканная
культура. Впечатляло и устройство странноприимных домов и
больниц. В монастыре Пантократора, где была усыпальница
византийских императоров, располагалась также лечебница, в которой
трудились профессиональные врачи. Все это во многом превосходило
то, что имелось в этой области на Западе.
В процветающем и гостеприимном Константинополе так же, как и
при дворах мусульманских владык, устраивались диспуты между
представителями восточного и западного духовенства. Особо важные
для Запада диспуты были проведены в 1136 г. в соборе Святой Софии
и в церкви Святой Ирины между архиепископом Никитой и
философом и историком Ансельмом Хафельбергским, епископом и
посланником Священной Римской империи. На своем обратном пути с
Востока на Запад Ансельм сформулировал свою новую теорию
мировой истории, согласно которой она развивалась под
непосредственным воздействием Святого Духа. Спустя три столетия
Николай из Кюэ проделал тот же самый путь и, находясь под глубоким
впечатлением от взаимодействия двух миров, пророчествовал о
единстве в будущем всех народов и религий, о наступлении нового
века всеобщего мира.
Константинополь был многоликим городом, особенно поражавшим
воображение приезжих с Запада. Это был прежде всего город Девы
Марии и, как таковой, имел особое значение для Запада, где под
влиянием крестовых походов и рождавшегося готического стиля все
больше распространялся культ Богородицы. Константинополь также
по праву называли «средневековым Версалем», а придворный этикет и
образ жизни византийской знати стремились перенимать императоры,
короли и князья Запада. Византийская монархия служила образцом не
только для Священной Римской империи, но и для монархии
норманнов, несмотря на то что норманнские короли не раз замышляли
напасть на Византию. Здесь стоит упомянуть об одной внешне
малозаметной особенности византийской дипломатии в Восточной
Европе: женщины – члены императорской семьи носили титул
«нобилиссима» в знак глубокого к ним уважения, что было
немаловажно при заключении брачных союзов. Нижняя часть короны
Святого Иштвана, венгерского короля, является даром византийского
императора Михаила VII Дуки жене венгерского короля Гезы I, которая
была племянницей императора Никифора III Вотаниата. Пирошка,
дочь венгерского короля Ласло I Святого, которая прибыла в
Константинополь как невеста императора Иоанна II Комнина, приняла
имя Ирина и основала известный монастырь Пантократора.
Мозаичный портрет ее и мужа сохранился в галерее собора Святой
Софии, который могли видеть крестоносцы.
На протяжении всего X в. в Европе ощущалось культурное влияние
Константинополя. Проявление его можно наиболее ясно видеть – оно
просто материально осязаемо – в искусстве: в иллюминированных
манускриптах, в миниатюрах, в стенных росписях и даже в
архитектуре. Более того, Византия удержала за собой на Западе
несколько
областей,
значительных
центров
духовного
и
интеллектуального влияния и важных в области церковной политики:
Южную Италию, Неаполь и Сицилию. Они входили в культурный
ареал Востока, и греческие монастыри на этих территориях были
проводниками восточного влияния. Монастыри Монтекассино и
Гроттаферрата (в последнем литургию служат на греческом языке, и
здесь принят византийский обряд) также принадлежали к
византийскому монашескому миру Апулии и Калабрии. Начиная с
XI в. греческая Южная Италия противостояла Риму, подобное
отношение к нему в Неаполе стало традиционным. Его
придерживались городской университет в XIII в. и Неаполитанская
академия Панормита в XVI в., и оно сохранилось и в
«освобожденном» либертарианском Неаполе, который дал прибежище
Бенедетто Кроче в XX в. Веяние Святого Духа постоянно ощущалось в
этих южных греческих монастырях, в которых религиозная и
политическая мысль приносила обильнейшие плоды, зачастую
выражавшиеся в виде пророчеств. Падение Запада, разрушение
Западного Рима и грядущее царство Святого Духа (третье
тысячелетие) – все эти предсказания появлялись начиная с XIII в.
Тесные контакты между разными мирами, установившиеся в эпоху
крестовых походов, способствовали проникновению на Запад
богатейшего литературного наследия Византии – древних легенд,
мифов и романов. Широко раскрылись шлюзы восточной фантазии,
буквально захлестнувшей Западную Европу. Будда впервые появился
на Западе в византийских одеждах, наряду с героями античных мифов
и восточных романов. Прошедший путь бодхисатвы Будда Шакьямуни
появляется в византийской «Повести о Варлааме и Иоасафе»,
написанной в жанре агиографических романов, под именем Иоасаф.
Он отправляется в странствие из Индии, проходит через Аравию,
Грузию и Грецию. Финальная метаморфоза образа совершается на
Западе. Рождается святой Иоасаф нашего времени, которому
посвящена церковь в Палермо (город, имеющий греческие традиции!).
Его почитают в Испании, Португалии и Провансе, позднее его культ
распространяется в Польше, Румынии, Англии и в Скандинавии.
Жажда познания и обретения новых святых реликвий создали на
Западе рынок, открытый для индийского и арабского романа, Византия
была в этом посредником.
Настало время разобрать более детально, каким образом повлияло
расширение кругозора европейцев на становление Западной Европы.
Насколько изменилось восприятие человеком окружающего мира
ввиду новых перспектив, которые открыли крестовые походы?
В течение длительного времени крестовые походы воспринимались
как характерное явление исключительно европейского Средневековья.
Их определение будет справедливым, если есть ясное понимание того,
что под ним скрывается. Взглянув более широко на сложившееся
положение, можно утверждать, что Европа позднего Средневековья
смогла добиться слияния противоположных и конфликтующих
элементов в единое целое, и это видно в каждой области повседневной
жизни. Крестовые походы подтверждают самым явным образом и на
многих часто несовместимых примерах этот факт сосуществования
различных элементов, которое кажется неправдоподобным и
поразительным более поздним поколениям. Каждый крестовый поход,
да и каждый его участник, был движим множеством противоречивших
друг другу мотивов, связанных с религиозными, экономическими,
политическими и классовыми факторами. На первом месте всегда
стояла вера, сильная, искренняя, торжествующая и наивная; часто это
было смешение политики и религии. Если рассматривать крестовый
поход в свете веры, то, по сути своей, это было паломничеством в
Иерусалим, актом покаяния (хронисты XI–XII вв. не говорят о
крестовых походах, но о «путешествии в Иерусалим», «путешествии к
Святому Гробу Господню», «паломничестве в Иерусалим»). Покаяние
было необходимо ради искупления грехов, совершенных под влиянием
грешного мира. Но в то же время было страстное и горячее желание
увидеть землю, которая издревле, согласно «праву по рождению»,
была предназначена Сыну Божьему, а возможно, и умереть там.
Некоторые хотели привезти домой для себя и своих семей реликвии
или почитаемые и священные предметы Святой земли.
Однако искупления грехов можно было добиться только через
страдания и войну. Война велась против неверных, которых называли
«псами, ненавидящими Господа». Однако вскоре, к изумлению многих,
появилось прозвище «благородные язычники». Папы с готовностью
давали индульгенцию крестоносцам. Каждому, кто взял на себя крест,
отрешившись от тяжких земных обязанностей, и смог встретить
смерть свободно и радостно, была обещана жизнь вечная. Это влекло
на Восток главным образом не имевших земельных поместий
аристократов, а также простых людей, бежавших от гнета своих
хозяев. Элитой крестоносцев, их вождями, были аристократы из
норманнских королевств и Северной Франции, которые стремились
захватить богатую военную добычу «в земле за морем» – на Ближнем
Востоке, и им это удалось. В их руках оказались замки, княжества и
большие материальные ценности.
Крестовые походы были религиозным предприятием. Даже
циничные и беспринципные купцы Генуи и Венеции, которые сделали
себе большие состояния благодаря крестовым походам, действовали,
как они сами считали, из религиозных побуждений. Менталитет
крестоносцев является ярким отражением христианской веры в целом
в Средние века.
Пример того, как тесно и нераздельно могли быть связаны друг с
другом различные побудительные причины – религиозные,
социальные, политические и экономические, – дает драматическая
история духовно-рыцарских орденов, которые появились в Святой
земле. Бывшие в начале своего становления небольшими
аристократическими братствами, основной задачей которых была
забота о пилигримах и больных, очень скоро они превратились в
могущественные организации. Их финансовые операции, которые
приобрели большой размах (особенно это касалось тамплиеров), их
участие в едва ли честной борьбе за власть (иногда в союзе с
мусульманскими вождями), высокомерие и самоуверенность
орденских братьев имели следствием двойственное к ним отношение.
Их уважали и прославляли, ими восхищались, но одновременно их
боялись и ненавидели. Первым среди орденов следует назвать орден
тамплиеров (который основал около 1120 г. французский рыцарь Гуго
де Пейн), за ним следует орден Святого Иоанна, или госпитальеров
(орден возвысился в середине XII в.), и Тевтонский орден (учрежден
папской буллой в 1199 г.). Испанские духовные рыцарские ордены –
орден Калатравы, орден Алькантара и орден Сантьяго – и Ависский
орден в Португалии представляют собой отдельный случай, поскольку
во главе ордена стоял король с титулом Великий магистр.
Духовно-рыцарские ордены были известны своим попечением о
больных паломниках и благотворительностью, своим рыцарским
духом и храбростью в бою, готовностью сражаться до конца. Но этому
можно противопоставить их интриги, их одиозные личные споры и
коллективный эгоизм этих военных корпораций; все это вело к тому,
что сотрудничество орденских братьев часто обращалось в
соперничество; и они не испытывали никаких угрызений совести,
предавая брата из другого ордена. Изменения в поведении братьев в
чужой стране были столь стремительны, что уже во втором поколении
члены орденов своей одеждой, манерами и обычаями производили на
вновь прибывших паломников из Европы в лучшем случае
впечатление полуязычников. Могущество и богатства тамплиеров
были причиной их трагического падения; после 1300 г. французский
король уничтожил орден, и это знаменовало окончание эры крестовых
походов.
Насколько многочисленны были крестоносные армии? Цифры,
которые приводят источники того времени, являются плодом
воображения. Более того, войска крестоносцев сопровождали люди, не
принимавшие участия в боевых действиях, – духовенство и женщины.
Рыцари иногда брали с собой своих жен и детей (как, например, в
случае Бодуэна Булонского), а у их жен была своя свита.
Вольнонаемные работники сами были по численности второй армией.
Соотношение конных и пеших воинов было приблизительно один к
семи. Из принимавших в осаде Иерусалима в Первом крестовом
походе 12 тысяч воинов было от 1200 до 1300 конных. Высокородные
сеньоры, такие как короли и аристократы Западной Европы (Франции,
Англии и Нормандии), приводили с собой от 500 до 1 тысячи конных
рыцарей каждый. В Первом крестовом походе общая численность
войска составляла: 4500 конных воинов и 30 тысяч пехотинцев.
Впоследствии число бойцов было зачастую еще меньшим.
С самого начала крестовые походы были отмечены героическими
подвигами
рыцарей
и
самопожертвованием
воинов,
но
сопровождались
всяческими
тяготами,
участников
похода
преследовали голод и болезни. Многие скончались во время
длительного сухопутного пути через Балканы, которым шли
крестоносцы из Германии и Фландрии. Рыцари из Англии и Франции
добирались морем, их корабли сильно потрепала буря. Походы
привели к большим материальным и людским потерям. Героический
порыв и готовность встретить смерть в бою (что прославляется в
«Песне о Роланде») соседствовали со зверствами и насилием. Стоит
хотя бы вспомнить, к примеру, кровожадность крестоносцев при
штурме Иерусалима во время Первого крестового похода. Западные
источники сообщают о гибели 10 тысяч мусульман; арабские называют
цифру в 100 тысяч человек, включая женщин и детей. Арабский мир
был потрясен. Мусульмане не были готовы к встрече с крестоносцами,
в отличие от византийцев. И только теперь, в ответ, они научились
ненавидеть латинский Запад и отныне называли франков
«христианские собаки».
Один арабский поэт так выразил свою боль и горечь от
случившегося:
«Наша кровь и слезы смешались.
В живых не осталось никого, кто мог бы отбиться от этих
угнетателей.
Остается только стенать, в то время как сталь мечей отражает все
пожирающее пламя.
О, сыны Мохаммеда, какие битвы вас еще ожидают, сколь много
героев будет растоптано конскими копытами!
И все же ваше стремление – это окончить в старости дни ваши в
безопасности и благополучии, и жизнь одарит вас улыбкой, как цветы
в поле.
О, как много крови должно было пролиться, и у стольких женщин не
осталось никакой защиты своей чести, кроме безоружных рук!
От ужасного лязга мечей и копий лица детей побелели от ужаса».
Поэт заканчивает свое повествование призывом к сопротивлению и
борьбе.
За кровавой баней Первого крестового похода последовал разгром
Второго. Бернард Клервоский, его вдохновитель и духовный вождь,
хотя и был обвинен в поражении, отказался взять на себя вину за эту
катастрофу; виноваты во всем, по его словам, были грехи
христианства. В 1191 г. во время Третьего крестового похода
крестоносцы открыто повздорили друг с другом, немцы с французами,
французы с итальянцами и англичанами и англичане с немцами.
Возникло соперничество между крестоносцами и «местными»
рыцарями, которые уже в большей степени принадлежали миру
Востока, нежели Запада. Кровавые преступления продолжали
множиться. Так как переговоры с Саладином затягивались, Ричард
приказал казнить от двух до трех тысяч пленных мусульман. Их
внутренности внимательно осмотрели в поисках золота, которое могли
проглотить пленники в попытке спрятать его, а затем их тела сожгли,
чтобы просеять пепел. Ужаснувшись от этих зверств, мир ислама
теперь уже не доверял Западу. Во время Третьего крестового похода
Иерусалим отвоевать не удалось, несмотря на невиданные
человеческие жертвы. Возможно, что общее число потерь – около 500
тысяч человек, как сообщают хроники, – было явно завышенным, но
даже и десятая их часть могла значительно подорвать военную силу
западного христианства; человеческие ресурсы были и так уже
незначительны.
Четвертый крестовый поход закончился завоеванием и
разграблением Константинополя в 1204 г. Погибло больше
произведений искусства и культурных ценностей, чем когда-либо еще
в истории Средневековья, не исключая турецкое завоевание в 1453 г.
Виллардуэн, который был свидетелем событий, сообщал, что было
просто невозможно оценить количество золота, серебра, драгоценных
камней, серебряной посуды, шелковых тканей, мехов и богатых
одеяний, которые были взяты в качестве трофеев.
Это был крестовый поход, после которого образовалась
непреодолимая
пропасть
между
восточным
и
западным
христианством. Четвертый крестовый поход был также первым
предупреждением средневековому папству о близящемся его упадке.
Иннокентий III, влиятельнейший средневековый папа, полностью
потерял управление этим, своим «собственным», задуманным им
самим походом.
Жестокости и поражения, безмерные страдания и явно
бессмысленные жертвы, сопровождавшие крестовые походы, – все это
вместе отбросило мрачную тень на Запад. Но этим мрачным тонам
можно противопоставить вдохновленную идеей крестового похода
лирическую поэзию. Эти песни, которые совершенно невозможно
перевести на любой современный язык, звучат, резонируя в душе
подобно колоколу, и отражают внутренние чувства многих простых
людей, которые отдали крестовому походу все, что они имели. Одни
умерли во время него, у других в сердце осталась незаживающая рана.
Песни немецких поэтов, таких как Генрих фон Морунген, Хартман
фон Ауэ, Фридрих фон Хаузен и Вальтер фон дер Фогельвейде, – это
незабываемый рассказ о чувствах и переживаниях простого рыцарякрестоносца. О его грустном прощании со своим домом и семьей, о его
тревогах и надеждах и верности Богу, о его чувстве долга, страхе
смерти и стремлении к Царству Небесному. Это было время «весны
миннезанга», когда народное сознание попыталось выразить себя в
песне на родном языке. Именно в драматических событиях крестовых
походов ранние миннезингеры черпали основные темы своего
творчества.
Самая искренняя и чистая вера проявила себя в одном из самых
ужасных и трагических эпизодов всей эпохи – детских крестовых
походах. Вельможи верили в силу меча: христианин прибегал к его
помощи, чтобы сражаться за Царство Небесное. Но в XII в. постепенно
шло духовное пробуждение, особенно заметное среди женщин и детей,
к которому был также причастен святой Франциск и некоторые
религиозные секты. Крест начал восприниматься не только как символ
силы, но прежде всего как символ все покоряющей любви. Спустя век
катастроф и резни идея крестоносного движения приняла новую
форму в сердцах простого народа и детей, которые осмелились
надеяться на то, что там, где грубая сила потерпела поражение, может
победить только сила любви.
Нет прямой связи между двумя крестовыми детскими походами,
которые начались в один и тот же год – 1212-й; один в Рейнской
области, другой – в долине Луары. Десятилетний подросток Николай
проповедовал крестовый поход в Кёльне и, как говорили, собрал
вокруг себя около 20 тысяч детей. Когда они добрались до Италии,
многие дети были отданы в публичные дома, другие стали домашней
прислугой. Епископ Бриндизи постарался отговорить их отправиться
за море. Те, кто продолжил путешествие, были проданы на Востоке в
рабство. Оставшиеся вернулись, больные и разочарованные. Во
Франции мальчик по имени Стефан из деревни Вандом, по слухам,
собрал в поход около 30 тысяч детей. В Марселе они попали в руки
мошенников и были переправлены в Александрию и проданы там в
рабство; два судна по пути туда пошли ко дну.
Крестовые походы детей не должны рассматриваться просто как
единичный эпизод, но как следствие глубокого недовольства простого
народа. Иннокентий III, признанный всеми одним из наиболее
расчетливых и бескомпромиссных политиков своего времени, якобы
заявил: «Эти дети стали виновниками нашего позора; пока мы спали,
они храбро выступили в поход». Прежде всего, чудеса, что
сопутствовали крестовому походу Стефана (как рассказывали в
народе, многие животные, птицы, рыбы и бабочки присоединились к
нему), заставляют нас вспомнить еще двух других персонажей. Святой
Франциск и Жанна д’Арк принадлежали к одной и той же религиозной
традиции, берущей начало в тайных глубинах народной жизни.
Крестовые походы пастушков 1251 г. и 1320 г. – наглядный пример
того, как искры религиозного энтузиазма готовы перекинуться из
одного века в другой. Юной девушке из Домреми Жанне д’Арк,
Орлеанской деве, был задан во время судебного разбирательства
вопрос: «Верно ли, что ты вместе с твоим знаменем пошла в битву,
окруженная роем бабочек?» В древности считалось, что бабочки были
носителем души (подобное поверье уже существовало в Древнем
Египте), и недаром они летали над головами Стефана и юного
Франциска Ассизского.
Первые крестовые походы и многочисленные небольшие
экспедиции, имевшие место в то же время, привели к большим
потерям и минимальным результатам. Несомненно, это было
следствием своеволия крупных и мелких сеньоров и аристократов
Западной Европы, не хотевших договариваться и проводивших
самостоятельную политику. В середине XII в. в Европе существовали
прямо противоположные взгляды в отношении крестовых походов.
Папы взяли на себя их подготовку и руководство ими, что имело
серьезные последствия для Западной Европы.
Римская курия стала крупнейшим финансовым магнатом в Европе.
Сбор налогов с крестоносцев и торговля индульгенциями
способствовали коммерциализации церкви, что еще больше отвращало
западноевропейцев от Рима. Особое возмущение вызывало
злоупотребление правом разрешать крестоносцев от клятв или делать
им иные послабления (существовала возможность откупиться от
участия в крестовом походе) и незаконное использование налогов на
крестоносцев в других, не связанных с походами, целях. Курия очень
часто становилась жертвой подобных финансовых сделок. Король
Англии Генрих III и король Норвегии Хакон IV – классический пример
правителей, привычно использовавших налоги, уплачиваемые
крестоносцами, для собственных нужд.
Набор воинов в войско крестоносцев, в котором принимали участие
также папские эмиссары, сопровождался религиозной и политической
пропагандой среди простого народа. Призывы к крестовым походам в
большей части исходили от монахов нищенствующих орденов. В ход
шло все: примитивные рассказы о жестоких преступлениях иноверцев,
ложь, подстрекательские призывы к отмщению. Неудивительно, что
народ стремился разрядить накопившееся в обществе напряжение в
погромах против евреев и бунтах против чужеземцев, считая их всех
врагами и еретиками. Начиная с середины XII в. целью крестовых
походов становилась уже не только Святая земля. Крестоносцы
отправлялись в поход против внутренних врагов: против славян в
восточных областях Германии (крестовый поход в земли вендов в
1147 г.), против мавров и местных еретиков в Испании (1179 г.), против
альбигойцев Южной Франции (1209–1228) и против восставших
крестьян в Северной Германии. Все это вело к выхолащиванию
основных высоких идей и целей похода, что стало характерной чертой
крестоносного движения вплоть до конца Средних веков. В первой
половине XIII в. папы становились во главе крестовых походов, целью
которых был их злейший враг – династия Гогенштауфенов. Стало
общераспространенным явлением идти в крестовый поход против
своего политического оппонента. Эта традиция долго не хотела
уходить; даже в эпоху Генриха VIII и Елизаветы I со стороны Рима
предпринимались попытки заставить Англию подчиниться ему с
помощью крестового похода.
Знатоки церковного канонического права в Римской курии в
значительной мере поспособствовали тому, чтобы придать вид
законности подобным крестовым походам и обосновать их новую
идеологию. Чем большим было неприятие европейским светским
обществом деградировавшего идеала крестового похода, который стал
вызовом его совести и интеллекту, тем более бескомпромиссными
становились определения папских юристов. Они трудились над
решением неблагодарной задачи, которая ставилась перед юристами в
каждом новом поколении, найти оправдание любой войне и, если
возможно, доказать ее «святость». Итальянец Энрико Бартоломеи (по
прозвищу Hostiensis), возможно самый известный канонист XIII в.,
учил, что крестовый поход церкви против «неверных» всегда был
«справедливой войной». Это была «война Рима», потому что война
церкви с язычеством была продолжением войны Рима против
варваров. Ведь «Рим – глава и мать нашей веры». Долгом христиан
было «воевать с сарацинами и побеждать их, поскольку они не
признавали суверенитета ни церкви, ни Римской империи». Канонисты
XIV в. доработали этот тезис: папа был единственным законным
наследником Римской империи и потому унаследовал обязанность
вести ее войны.
Со времени Четвертого Латеранского собора (1215 г.) крестовые
походы против «еретиков» и других врагов Римско-католической
церкви в самой Европе стали наиболее обсуждаемой темой среди
канонистов. Бартоломеи и в этом вопросе проявил себя: «Хотя
общественное мнение благосклонно относится к крестовым походам в
заморские земли (crux marina), тем не менее каждому, кто судит
разумно и согласно здравому смыслу, цели крестового похода в своей
родной стране (crux cismarina), несомненно, покажутся более
справедливыми». Для поддержания своего авторитета церковь
извлекала большую пользу от крестовых походов дома, чем от
крестовых походов в Святую землю, в край знойных каменистых
пустынь, получивших название Утремер (Outremer, что в переводе
означает «Земля за морем»).
Время шло, и постепенно менялось направление крестовых походов,
а вместе с ним и клятва крестоносца. Тот, кто давал клятву отправиться
в Святую землю, теперь мог дать клятву пойти в поход в любую
европейскую страну – Францию, Испанию либо Пруссию.
Французские и испанские короли и дворяне Северной Германии
довольно часто пользовались этой возможностью, которая имела
законное обоснование. Знатоки церковного права усердствовали в
своих усилиях, пытаясь доказать, что папа имеет право вести войска
крестоносцев против Священной Римской империи, то есть против
императоров из династии Гогенштауфенов, в частности Фридриха II.
Это в действительности означало, как говорили оппоненты, вести
армию против себя самого. Два самодержца христианской Европы
находились в трагическом конфликте друг с другом.
Неудача, постигшая крестоносное движение, его отказ от своей
основной цели вызвали бурную реакцию всей Западной Европы;
Англию, Францию, Германию и Италию буквально захлестнула волна
негодования и возмущения. В Германии неудача Второго крестового
похода уже вызвала резкую критику. Во Франции негодование
достигло высшей точки после катастрофического поражения
крестового похода Людовика IX Святого, духовные вожди которого,
защитники истинной веры, и цвет французского рыцарства покрыли
себя несмываемым позором. Мать короля Бланка Кастильская,
женщина столь же умная, сколь и осторожная, напрасно пыталась
уговорить своего сына отказаться от крестового похода, утверждая, что
в самой Франции есть более важные дела. Будучи регентом Франции
на время отсутствия Людовика, Бланка запретила своим подданным,
под угрозой конфискации их земельных владений, присоединяться к
крестовому походу папы Иннокентия IV против Конрада
Гогенштауфена. Сам Людовик Святой с возмущением отказался
выступить против Фридриха II. В это время стала обычной открытая
критика крестовых походов папства. В Германии кафедральный
капитул в Пассау даже призвал к «походу» против папского легата,
который прибыл с целью вербовки новых воинов.
Во Франции родилась идея необычного крестового похода, которая
завладела умами горожан и простонародья и который отчасти
поддерживала сама королева. Некий Иаков, «учитель из Венгрии», как
его называли, призвал пастухов отправиться с ним в Святую землю.
Эти крестовые походы «пастушков» имели явно антиклерикальный
характер, и его участники были настроены враждебно по отношению к
рыцарям, монахам и священникам. Поэты Южной Франции описывали
этих «крестоносцев» как безумцев и глупцов. Трубадур Гийом
Фигейра обличал Рим в том, что тот нанес меньший урон сарацинам,
чем грекам и латинянам, ставших жертвами массовых убийств. Даже
после того, как было покончено с альбигойцами, народ в Южной
Франции все еще чутко откликался на замечания подобного рода.
Катары и некоторые другие небольшие нонконформистские
религиозные движения проповедовали религиозный пацифизм,
который заставлял вспомнить отцов восточной церкви. Все было очень
просто: христианину запрещалось участвовать в любых войнах.
«Левое крыло» народного религиозного движения XII–XIII вв.
придерживалось идеи религиозного пацифизма, которая была
подхвачена «духовными» францисканцами. Она вновь появилась в
тесном кругу сторонников философа-схоласта Джона Уиклифа; затем
единое движение разделилось на ряд небольших направлений, которые
привели к пацифизму баптистов и квакеров.
Вспомним, что средневековый канонист Бартоломеи учил, что
крестовый поход является плодом разумного решения. Он был голосом
папского разума, когда Римская курия была на пике своего
могущества. Другой голос, голос разума горожанина, слышится в
воображаемом споре между рыцарем-домосед ом и крестоносцем.
Таким представил его себе автор этого произведения французский
трувер и величайший поэт Рютбёф.
«Должен ли я оставить свою жену и детей, все мое состояние и все,
что мне осталось в наследство, и отправиться завоевывать чужую
землю, что не даст мне ничего взамен? Я могу поклоняться Богу с
таким же успехом в Париже, как и в Иерусалиме. Нет надобности
плыть за море, чтобы попасть в рай. Те богатые сеньоры и прелаты,
что присвоили себе все богатства на земле, может, и имеют
потребность отправиться в крестовый поход. Но я живу в мире со
своими соседями, и они меня не беспокоят, так что я не имею никакого
желания просто взять да и отправиться на войну на другом конце
света. Если тебе по нраву героические подвиги, ты можешь
отправиться один и покрыть себя славой. Передай султану от меня
лично, что, если он пожелает напасть на меня, я прекрасно знаю, как
мне защититься от него. Но до тех пор, пока он оставляет меня в
покое, мне лучше выбросить всякую мысль о нем из головы. Всем вам,
большим и малым, отправляющимся в паломничество в Землю
обетованную, суждено стать там поистине святыми. Так почему же так
получается, что те, кто возвращается назад, ничем не отличаются от
разбойников? Если бы требовалось всего лишь пересечь неширокий
морской поток, я охотно бы перепрыгнул через него, да и мог бы
просто перейти вброд. Но воды, разделяющие нас и Акру, широки и
глубоки. Бог – везде. Для тебя Он может быть только в Иерусалиме, но
для меня Он также и здесь во Франции».
Бог присутствует во Франции, в Италии, в Англии, в Германии, в
сердце и уме каждого простого христианина. Эра крестовых походов
совпала с образованием наций и народных языков, с рождением
индивидуализма, основанным на религиозной вере, и с началом
интеллектуального движения, настроенного глубоко критически к
окружающему миру. Все это оказывало сильное влияние на
крестоносное движение, которое к 1260–1270 гг. окончательно
утратило свои первоначальные принципы. С 1264 г. праздник Тела
Христова стал обязательным в Римско-католической церкви. Папа
Урбан IV поручил Фоме Аквинскому, светилу новой теологии,
подготовить соответствующие литургические тексты и гимны. Его
празднование, и обязательно сопутствовавшая ему торжественная
процессия, предполагало, что Иерусалим может присутствовать в
любом городе Запада. Народ с глубоким восторгом взирал на гостию,
или Тело Христово, и обряд Возношения гостии стал обязательным
именно с этого времени. В каждой гостии незримо пребывал Христос.
Так же и в каждой церкви, в каждом кафедральном соборе
присутствовал Небесный град Иерусалим.
Как заметил рыцарь из сочинения Рютбёфа, «воды, разделяющие нас
и Акру, широки и глубоки». На другом берегу этих вод, под пылающим
солнцем Сирии, небольшие «франкские» государства крестоносцев
смогли прекрасно сосуществовать с миром ислама на протяжении двух
столетий. Значение этого факта для истории Европы часто забывается,
как и восьмивековое сосуществование мусульман, евреев и христиан в
средневековой Испании.
«Христиан и язычников в Акре ничто не разделяло. Все паломники
составляли единое братство; они даже и не помышляли, что оно может
однажды легко распасться». Это утверждение немецкого ваганта
XIII в. Фрейданка (из его дидактического сборника «Мудрое
суждение») перекликается со словами француза Фульхерия
Шартрского: «Мы, кто были некогда людьми Запада, стали людьми
Востока. Германец или француз в этой стране становится
галилеянином или палестинцем, уроженец Реймса или Шартра стал
уроженцем Тира или Антиохии. Ибо мы забыли те страны, где мы
родились. Для большинства из нас они стали неизвестными землями, о
которых уже не упоминалось больше. У человека здесь может быть
свой дом, своя семья и свои владения, как будто он унаследовал их от
своих отцов. У кого-то может быть жена, не из своего народа, но
сирийка, или армянка, или даже крещеная сарацинка, и он живет
вместе с родственниками жены… Тот, кто однажды был чужаком, стал
местным жителем; был приезжим, а теперь укоренился на новом
месте».
Во франкском Иерусалимском королевстве (1099–1185) и
Королевстве Акры (1189–1291) западные рыцари быстро переняли
местные обычаи и установили близкие дружественные и
рыцарственные отношения со своими соседями – мусульманской
аристократией. Бароны и эмиры доблестно соревновались вместе на
турнирах и обменивались богатыми дарами; с обеих сторон звучали
хвалы рыцарскому поведению в битвах, и война считалась выяснением
отношений между рыцарями, как это было принято на Западе. В такой
атмосфере две религии мирно уживались друг с другом, и отношения
между ними были вполне дружественными. В XIII в. доминиканский
миссионер Рикольдо да Монтекроче (Ricoldus de Monte Cruets) с
похвалой отзывался о благочестивой жизни в исламских общинах, в
которых ему довелось побывать и где ему, западному христианину,
была устроена радушная встреча. Особенно он хвалил мусульман за их
благотворительность и великодушие. Такой личный опыт общения с
«благородными неверными» произвел глубокое и неизгладимое
впечатление на мир Запада. Это повлияло и на поэзию одного из
крупнейших немецких эпических поэтов – Вольфрама фон Эшенбаха.
Эта тема с течением времени получила дальнейшее развитие. Хронист
Оливер Схоластик повествует, как султан аль-Малик аль-Камиль
снабдил разгромленное войско франков продовольствием. «Кто мог
сомневаться в том, что подобная доброта и милосердие исходит от
Господа? Люди, сыновья и дочери, братья и сестры которых пали от
наших рук и умерли в агонии, чьи земли мы завоевали, кого мы
выгнали нагими из их домов, неожиданно подкрепили наши силы,
когда мы умирали от голода. Они поделились с нами пищей и
проявили к нам милость, когда мы были в их власти». Монахбенедиктинец Арнольд Любекский вкладывает такие слова в уста
мусульманина: «Верно то, что, даже если наши веры разные, мы имеем
одного и того же Создателя и Отца, и потому мы должны быть
братьями. И не оттого, что этого требует наша вера, но просто следуя
человеческим чувствам. Давайте вспомним нашего общего Отца и
накормим наших братьев».
Франки на северных территориях не могли не знать, что в этих
местах сирийские христиане на протяжении столетий занимали
высокие и почетные должности при дворах мусульманских калифов в
качестве врачей, писцов, астрономов и переводчиков. Две религии,
которые на Западе считались враждебными по самой сути, на Востоке,
где и шли религиозные войны, сосуществовали в относительной
гармонии. Некоторые священные места для поклонения были общими
для двух религий. В Акре большая мечеть была перестроена в церковь,
но боковой придел был оставлен для молитв мусульман. Большая
часть другой мечети в том же городе, мечеть у Бычьего колодца, была
оставлена в распоряжении мусульман, но здесь был также и
христианский алтарь. Мусульмане и христиане совершали
паломничества к образу Девы Марии в монастыре Сайданайя в
окрестностях Дамаска. Как и во многих местах Северной Африки в
наши дни, общая обстановка была такова, что даже в местах сражений
существовали христианские монастыри и скиты, которые были хорошо
известны как святые места для верующих обеих религий. Вполне
могло быть так, что мусульмане передавали христианам человека,
который осквернил крест, а христианский епископ занимался судьбой
большой группы детей мусульман, захваченных в плен на войне,
которых должны были продать в рабство.
Император Фридрих II, после того как папа отлучил его от церкви,
совершил свой «мирный» крестовый поход. Своим решением объявить
Иерусалим городом трех религий – иудейской, мусульманской и
христианской, он удивил своих арабских друзей. Согласно мирному
договору, который он заключил в 1229 г. с султаном аль-Малик альКамилем, святые места города были поделены между верующими двух
религий. Христиане получали Гроб Господень, мусульмане – мечеть
Омара; и обе святыни были открыты для паломников.
Католики и мусульмане уважительно относились друг к другу. Эмир
Фахр эд-Дин, посланник султана Египта, был горячий поклонник
культуры Запада, так же как Фридрих – культуры Востока. Многие
франкские бароны и епископы Святой земли знали арабский, например
Гийом Тирский, Онфруа де Торон и Райнальд Сидонский. Тамплиеры
поддерживали дружеские и уважительные отношения со своими
исламскими партнерами. Личные связи между франкскими рыцарями
и тюрко-арабскими эмирами часто рождали подлинную дружбу. Как,
например, между Фульком Анжуйским, королем Иерусалима, и
регентом Дамаска, между Ричардом Львиное Сердце и братом
Саладина, о чем Запад долго помнил; их замечательные образы были
увековечены в эпической поэзии.
Завершает эту главу рассмотрение важной темы, непосредственно
касающейся конфликта между Востоком и Западом в целом и
крестовых походов в частности. Это вопрос о роли терпимости в
Средние века. Тот факт, что его можно обсуждать в связи с эпохой
Средневековья, достаточно удивителен на первый взгляд. Он
подчеркивает масштаб той метаморфозы, которая превратила
«открытый» XII в. в замкнувшиеся в себе поздние века Средневековья.
Терпимость предполагала снисходительное отношение к язычникам
и еретикам, к людям разных вер, живущим в одном обществе. Как и во
многих подобных случаях, традиционное учение о терпимости,
унаследованное от времен ранней церкви, было в высшей степени
противоречивым и двусмысленным. Великие умы, такие как Ориген и
большинство греческих Отцов Церкви, полностью отказывались от
применения силы в отношении язычников и «еретиков». В этом их
поддерживали на Западе Тертуллиан, Лактаний и Сальвиан. Они также
говорили о терпимом отношении к каждому человеку, как и Иларий
Пиктавийский, Амвросий Медиоланский, Блаженный Августин, да и
фактически все крупные авторитеты раннего христианства. Стало
общепризнанным правилом, что не допустимо никакое насилие над
человеческой совестью: «Каждый человек вправе поступать согласно
своей собственной свободной воле».
Но ситуация в корне менялась, когда церковь вступала в конфликт с
«еретиками», пытавшимися образовать в ее лоне свою «церковь»,
когда ересь была равносильна предательству. Вероисповедный вопрос
обострился после признания императором Константином Великим
христианства как официальной религии империи. Латинский писатель
Юлий Фирмик Матерн, проявляя рвение, типичное для всех
новообращенных, потребовал, чтобы император предпринял суровые
меры и уничтожил языческие культы; он призвал покончить с
неверующими, конфисковав у них собственность и предав их смерти,
«не важно, будет ли это ваш брат, ваш сын или жена вашего близкого
друга». Это было начало практики Средневековья «искоренения»
людей иной веры, практики, которую заимствовали политические
партии Нового времени для уничтожения несогласных.
Августин, который пользовался большим авторитетом в Средние
века, изменил свое мнение о веротерпимости, что имело
катастрофические последствия. Первоначально он выступал против
всякого принуждения. Но во время его конфликта с донатистами в
Северной Африке он огласил вероучительное правило, которое
сохранялось в течение сотен лет, смысл его был один – «заставить их
присоединиться». Донатисты ответили на это аргументом, у которого
тоже была долгая жизнь и который приводили регулярно все
преследуемые нонконформисты начиная с XII в. Он звучал так:
«Истинная церковь та, которую преследуют, но не та, что преследует».
Алкуин, авторитетный теолог при дворе Карла Великого, резко
критиковал императора за то, что тот насильно обращал англосаксов в
христианство во время войн с ними в конце VIII – начале IX в. Алкуин
был уроженцем Британских островов, и его взгляды были наследием
традиции свободы, присущей «кельтской» церкви. В XI в. епископ
Вазо Льежский выступил против жестокого обращения с еретиками во
Франции. В XII в. две великие традиции толерантности и
нетерпимости вошли в противоречие друг с другом; в XIII в., в эпоху
схоластики и академического обучения, когда церковь представляли
канонисты и папские политики, нетерпимость восторжествовала, как в
теории, так и на практике. Фома Аквинский требовал самого сурового
наказания для еретиков, а также для вероотступников (relapsi) по
причине того, что ересь настолько заразна, что требуется просто
искоренять всех, кто ее придерживается. При этом забывалось, среди
всех прочих факторов, что «болезнь» распространится еще больше,
если начать ее преследовать, станет еще более вирулентной, когда ею
«заразятся» низшие классы населения. Одно интересное последствие
победы западной церкви над восточной церковью (в любом случае
иллюзорной победы) выразилось в том, как Отцы восточной Церкви
начали трактоваться на Западе. Фома Аквинский утверждал, что Иоанн
Златоуст потребовал осуждения на смерть Ария, и этим было
положено начало вынесения смертных приговоров для еретиков!
Для «открытого» XII в. было характерно сосуществование
различных точек зрения, как в духовной жизни, так и в науке.
Внимание христианских философов и теологов было сосредоточено на
трех основных группах общества: евреях, еретиках и мусульманах. В
первый раз всерьез обсуждалась возможность существования
плюралистического общества: могут ли люди разных вер жить вместе
в одном государстве и одном обществе? Положение осложнялось, с
одной стороны, как уже говорилось, традицией преследования
несогласных, а с другой – тем фактом, что иудаизм, ислам и
христианство, три тесно взаимосвязанные веры, были крайне
нетерпимы в вопросах догматики. Так что насущным вопросом
становился вторичный вопрос: приведет ли нетерпимость в догматике
к нетерпимости в отношении отдельных «неверующих». Много
дополнительных вопросов было связано с основным. Например,
дозволяется ли исповедующим какую-либо веру признавать отдельные
положительные черты в другой вере и каким правилам поведения они
должны следовать в случае конфликта с представителями другой веры.
«Кругом одни евреи». Эти слова принадлежат хронисту XIII в., но
они выражают общую проблему всего XII в. Руперт Дойц, Бернард
Клервоский, Петр Достопочтенный, Абеляр и многие другие
обсуждали вопрос, могут ли евреи быть терпимы в христианском
обществе. Их ответ оказался утвердительным: Христос был еврейской
крови, евреи будут спасены при конце мира, и, конечно, они требуют к
себе снисхождения. Бернард Клервоский в письме к архиепископу
Майнца Генриху безоговорочно осудил некоего монаха Радульфа,
который призвал к преследованию евреев в преддверии крестового
похода. Такова была либеральная Европа XII в., широко и непредвзято
смотревшая на мир. Жильбер Криспен (скончался в 1117 г.), аббат из
Вестминстера, рассказывая о диспуте между ним и образованным
евреем из Майнца, который приехал в Англию по торговым делам,
сообщает,
что
обсуждение
происходило
в
предельно
взаимоуважительной манере. Есть свидетельства о подобных
дискуссиях в Испании, Франции и Италии. В XIII в. общественные
диспуты между христианскими теологами и евреями были запрещены
(в Париже в 1208 г., в Трире в 1223 г. и отдельно папой Григорием IX в
1232 г.). Но средневековое общество, которое находило такое
удовольствие в дискуссиях и обсуждениях, не сразу могло избавиться
от старой привычки. Диспуты продолжились под патронатом короля, в
Париже в 1240 г. в присутствии Людовика IX, и в Барселоне в 1262 г.
в присутствии короля Арагона Хайме I. Тем не менее изменилась их
атмосфера. От открытого обсуждения быстро перешли к оскорблениям
и обвинениям; евреев обличали как «порочную и развращенную
нацию». Именно это отношение эпохи позднего Средневековья
одновременно с церковными проповедями, направленными против
«проклятого племени», было унаследовано более поздними
поколениями. Папа Иоанн XXIII только в 1958 г. повелел удалить
упоминание о «предательстве» евреев из пятничной молитвы
Страстной седмицы.
Несмотря на то что западные теологи и другие известные писатели
призывали относиться к евреям и «язычникам», прежде всего
мусульманам, хотя бы с некоторой долей терпимости, этому призыву
было трудно следовать на деле. Для правоверных христиан было
непосильной задачей терпеть еретиков. Этот подвиг был не под силу
даже Лютеру, Кальвину и их последователям. Нельзя было даже и
помыслить об этом в то время. Как это вообще было возможно, чтобы
человек называл себя христианином и одновременно отрекался от
церкви? Как мог тот, кто открыто заявлял, что церковь и все
христианство ошибаются, все еще оставаться христианином? По мере
того, как теологи все больше упорствовали в своем мнении, все
большее число людей влекло к еретическим учениям. Приговор
теологов оставался неизменным – еретики должны быть уничтожены,
обвиненные в ереси заслуживают смертной казни. Канонисты конца
XII–XIII вв., начиная со времени Бернарда Клервоского, продолжали
плести свою сеть наветов. И только отдельные христианские
мыслители осмеливались напоминать о высказывании апостола Павла:
«Надлежит быть и разногласиям между нами». Петр Ломбардский,
авторитетный философ-схоласт XII в., ставший епископом Парижским,
был одним из тех, кто дерзновенно сделал свой собственный вывод из
слов апостола Павла. Он высказался так: «Мы нуждаемся в еретиках, и
не из-за их учения, но потому, что они побуждают нас, католиков, к
поискам истины и правильному пониманию всего, что есть в мире».
Абеляр, который выступил на защиту заблудших душ, опирался на
проповедь апостола Павла; ему удалось несколько смягчить чрезмерно
суровое отношение своих современников к еретикам. Эти люди,
говорил он, тоже имеют свои права, и не следует еще больше
травмировать их и так ранимое сознание, даже если они и ошибаются.
Абеляр был основателем теологической школы, которая на протяжении
XII–XIII вв. стояла на защите прав людей нетвердых в вере и
заблуждавшихся и к которой отчасти имели отношение Альберт
Великий и Фома Аквинский. Но в действительности победу одержала
августинская традиция при поддержке ревностных в вере и
консервативных францисканцев. Благодаря трудам Александра
Гэльского и Бонавентуры эта традиция перешла в работы по
каноническому праву и в практику инквизиции. Все заблуждавшиеся в
вере не имели права на выражение своих взглядов, их следовало
обратить в истинную веру или уничтожить. С ними следовало
покончить с помощью «меча, огня и воинствующего учения новых
университетов» (как говорится в уставе Университета Тулузы,
основанного в 1229 г., который должен был содействовать замирению
потерпевших поражение еретических южных областей Франции).
Наше представление о Средних веках будет крайне искаженным,
если мы позволим этим мрачным и суровым доктринам заслонить от
нас яркую и противоречивую картину повседневной жизни. Именно в
реальной жизни проявлялись сотрудничество и терпимость. Во многих
городах Западного Средиземноморья, в Испании, Италии и Франции
люди трех «братских религий» жили и трудились бок о бок. Евреи,
христиане и «неверные» тесно сотрудничали в торговле и в иных
занятиях. В итальянских городах в XII–XIII вв. негласно признавалось,
что пользовавшиеся большим уважением знатные господа и дамы
зачастую становились «еретиками». Действительно, в Италии в это
время слово nobile (дворянин) было синонимом понятия «еретик».
Простым людям в повседневной жизни приходилось сосуществовать
со «смертельными врагами» задолго, часто за столетия, до того, как
теологи и идеологи, смирив свою гордыню и подавив свои сомнения,
выстроили
необходимый
интеллектуальный
фундамент
для
обоснования религиозной терпимости, которую простой народ еще
неосознанно, но уже для себя принял.
В XII в. терпимость была следствием не только практического
опыта, но и чего-то большего. Среди либерально настроенных ученых
и здравомыслящих благочестивых мирян терпимость была осознанно
воспринятым принципом. Здесь мы снова должны вернуться к
Шартрской школе, которая в XII в. задала тон европейскому
интеллектуальному пробуждению и дальнейшему развитию
континента. Тьерри Шартрский, Бернард Сильвестрис и Герман
Каринтийский (последний тесно связанный с Шартром) выступали за
беспристрастный, объективный, научный образ мышления, когда в
первую очередь смотрят на «качество» человеческого ума, прежде чем
вынести окончательное суждение. Они имели своих последователей
среди ученых достаточно смелых, чтобы быть толерантными, которые
появляются время от времени в европейском обществе. Например, это
можно сказать о членах первоначального Королевского научного
общества (первое в Европе научное общество) XVII в., и о
международной элите ученых-атомщиков наших дней. В XII в.
некоторые англичане отправлялись в путешествие в поисках учения
более либерального и просвещенного, чем они могли найти в тесных
границах их родного христианства. Аделяр из Бата отправился в
Испанию и на Ближний Восток, Дэниел Морли – к «мудрым
учителям» Толедо и привез оттуда библиотеку древнегреческих и
арабских авторов. Абеляр, раздраженный тем, как к нему относились
монахи его бретонского аббатства, открыто высказал крамольную
мысль, которую не раз выскажут в грядущих столетиях люди, которым
Европа стала слишком тесной. Он сказал, что готов отказаться от
христианства и найти убежище у язычников, среди которых можно
будет жить в мире истинной христианской жизнью. Язычники были, во
всяком случае, более приятными людьми. Это чувство имело
обыкновение повторяться. Люди будущих поколений находили образ
жизни «язычников» индейцев и китайцев столь же привлекательным.
Наряду с этими искренними интеллектуалами были миряне из
аристократов и рыцарей, которые никогда не забывали, что их
противникам присущи те же человеческие качества, что и им, даже в
пылу битвы. Достаточно будет привести два примера. Испанская
эпическая поэма Cantar de Mio Cid («Песнь о моем Сиде», написанная
между 1140 и 1160 гг.) повествует о героических подвигах Сида,
рыцаря XI в., испанского национального героя Реконкисты.
Основанная на рассказах одного из соратников Сида, поэма оставляет
после прочтения впечатление реальности происходивших событий. В
ней описываются учтивая галантность и благородные манеры Сида в
общении с мавританской аристократией, говорится о его готовности
вести с ней дела (он сам провел много лет на их службе). Так,
например, после того, как он овладел замком, он оставляет его после
своего отъезда на попечение потерпевшим от него поражение маврам;
и те дают ему свое благословение, когда он уезжает.
Знаменательно, что Вольфрам фон Эшенбах, величайший эпический
поэт немецкого Средневековья, автор романа «Парцифаль», страстно
выступает от лица героини своего произведения «Виллехальм»
в защиту терпимости в повседневной жизни. Ее отец Гибурк язычник,
и она старается примирить своих языческих и христианских
родственников. В качестве аргумента она ссылается на то, что во
власти Бога спасти тех людей, что находятся вне церкви. Язычники и
христиане награждены от природы одной и той же добродетелью –
чистотой сердца, которая приятна Создателю и не зависит от
крещения. Чистое сердце гораздо важнее, чем цвет кожи человека или
его вера. Для Вольфрама, которому была хорошо известна ситуация в
Южной Франции и Испании, терпимость человека свидетельствовала
о его духовности и благородстве. В наше время веротерпимость
разрушает границы между христианами, язычниками, евреями и
еретиками (которых Вольфрам называет «мытарями»; так часто
называли катаров) и всех объединяет.
Вольфрам описывает опыт, полученный крестоносцами во время
походов, особенно тех, кто основал династии на Ближнем Востоке.
Именно они столкнулись лицом к лицу с «языческой знатью». В
мусульманских государствах было общепринятой практикой позволять
христианам исповедовать свою веру. Сам ислам не нес никаких
обязательств за спасение душ людей иных вер. Не было потребности
обращать христиан в свою веру, надо было просто не давать им
вмешиваться в жизнь мусульман.
Появление монголов на сцене мировой истории открыло новые
перспективы для Западной Европы, для крестоносцев и христианского
Востока. Чингисхан основал свою мировую монгольскую империю в
1206 г.; в 1258 г. монголы разгромили войско багдадского халифа, и
последний представитель династии Аббасидов, бывших на
протяжении пяти столетий духовными вождями ислама, был предан
смерти. Когда Западная Европа пришла в себя после монгольского
нашествия (1223–1241), многие ведущие политические и церковные
деятели поняли, что открываются две уникальные возможности.
Первая – это обратить Азию в христианство, и вторая – нанести
поражение мусульманам, туркам и арабам, воспользовавшись
помощью монголов, которые наступали на позиции ислама с Востока.
В течение второй половины XIII и всего XIV в. Запад продолжали
преследовать видения мировой империи, которая управляется Римскокатолической церковью, где господствует латинская культура и которая
находится под защитой монгольских правителей. Папы, короли
Франции, даже императоры Византии (был случай, когда принцесса из
императорского семейства было обручена с монгольским правителем),
в общем, все были увлечены этой идеей, которая также нашла своих
сторонников в некоторых кругах монашества и крестоносцев. Мечта
так и не была реализована, но были сделаны отдельные открытия.
Западные послы при дворе монгольского императора были удивлены
дружеской атмосферой, царившей в центре этой Монгольской
империи, в основании которой лежала всеобщая терпимость и мирное
сосуществование основных религий. В то самое время, когда в
Западной Европе свободная общественная дискуссия о религиозной
вере находилась под угрозой запрета, Восток являл собой образец
терпимости.
Первоначально монголы придерживались шаманистских верований;
однако в Монгольской империи мирно уживались буддисты, даосисты,
конфуциане, мусульмане, манихеи, иудеи, несториане, католики и
многочисленные секты. Каждая церковь имела свой статус и свою
собственную юрисдикцию. Чингисхан был склонен к даосизму, и он с
надеждой ожидал от учителя-даосиста, что тот снабдит его эликсиром
вечной жизни. Многие его воины и полководцы и даже некоторые
члены его семьи (в частности, его любимая невестка) были
христианами, членами Несторианской церкви, которая сохранила свою
независимость как от Рима, так и от церкви Византии, несмотря на все
бурные события, происходившие на Востоке в течение первого
христианского тысячелетия.
При наследниках Чингисхана несториане составляли большую часть
монгольского двора, и несторианский патриарх Багдада учредил
Пекинскую архиепископию. Великий хан Мункэ, внук Чингисхана,
сын христианки несторианского толка и имевший двух женнесторианок, объяснял францисканскому монаху Гильому де Рубруку,
что он практикует с равным рвением все религии, разрешенные при
дворе. Еще один высокородный монгол признавал, что поскольку ему
неизвестно, какая из вер правильная, то он исповедует все их сразу.
Рубрука отправил ко двору великого хана в 1253 г. французский король
Людовик Святой. Выехав из Константинополя, фламандец пересек всю
Азию. Он был поражен, встретив там христиан-несториан. 30 мая
1254 г. в Каракоруме в присутствии великого хана он провел
публичный диспут. В нем приняли участие несториане и мусульмане,
которых он признавал как теистов, и буддистские монахи, которых он
считал атеистами. Францисканец, к своему удивлению, обнаружил при
дворе монгольского правителя в горах Алтая настоящее европейское
общество в миниатюре. Здесь были люди, захваченные в плен в
Венгрии; дама из Меца, столицы Лотарингии, вышедшая замуж за
русского, строительного подрядчика; парижский ювелир (его женой
была «сарацинка» из Венгрии), брат которого все еще имел свое дело
на Гран-Пон в Париже, и представители иных народов.
Другой францисканский монах Джованни Плано Карпини,
посланник папы Иннокентия IV в Золотую Орду, уже вернулся в
Европу и привез с собой свидетельства об удивительной терпимости,
царившей при дворе хана Гуюка (1246), внука Чингисхана. Западные
посланники сильно удивлялись, встречая европейских христиан при
монгольском дворе, которые нисколько не скрывали, что они еретики,
бежавшие от преследований на родине. Один из них, например, был
врачом из Ломбардии.
К середине XIII в., когда изгнанники с Запада устремились в
Армению, на Русь и в земли монголов, папы и короли Запада пытались
заключить союз с монголами против турок и арабов. Монголы, со
своей стороны, требовали, чтобы западные правители стали вассалами
великого хана, поскольку «только один Бог на Небесах, и один
правитель на земле – Чингисхан, сын Бога». Монголы воплотили на
деле древний идеал единства Запада – один Бог, одна империя, один
правитель-император, одна вера, одна церковь.
Итальянские торговцы впервые появились на рынках Дальнего
Востока во времена Хубилай-хана. Среди них были Никколо и Маттео
Поло, которые побывали при его дворе в Пекине в 1266 г. Он передал
через них послание папе с просьбой прислать в Китай сотню ученых,
«сведущих в семи искусствах». Во время второго путешествия в 1271–
1275 гг. братьев Поло сопровождал их любознательный и
честолюбивый племянник Марко, который надолго остался в
Монголии. Он провел там, находясь на государственной службе,
пятнадцать лет. В своей знаменитой «Книге о разнообразии мира», в
который описываются страны Дальнего Востока, он сообщает, что
Хубилай-хан, император монголов в Пекине, почитал Иисуса,
Мухаммеда, Моисея и Шакьямуни и получал в свой день рождения
подношения и дары от служителей всех четырех религий.
Францисканские и доминиканские миссионеры, отправившиеся в
качестве посланников папы в Монголию и Китай, были первыми
европейцами, которые привезли сведения о буддизме и об искреннем
благочестии приверженцев этой «веры без Бога». «У этих монахов
более аскетический образ жизни, и они более набожны, чем наше
западное
монашество».
Францисканский
монах
Джованни
Мариньолли, бывший легатом папы Бенедикта XIII при дворе
императора Китая, в 1342 г. заканчивает свое сообщение о буддийских
монахах следующими словами: «Эти люди ведут самую святую жизнь,
хотя им не хватает веры». Людей западного мира смущало и удивляло
присутствие христиан-несториан в Монгольской империи, как и
сосуществование там мировых религий и полное отсутствие
догматической веры. В то время как одни на Западе упорно отстаивали
положение, что возможно и должно быть только одной вере –
христианству под главенством римского папы, другие открывали для
себя, что в обширной Азии тоже были свои высокообразованные и
влиятельные христиане. Они были прекрасно осведомлены о
европейских делах, но не признавали ни папу, ни организационные
формы церкви. В 1287 г. Раббан Саума, образованный несторианский
монах, был отправлен Аргун-ханом, правившим в Персии, с миссией
на Запад. Ее целью было договориться о заключении союза против
мамелюков. В Париже в Сент-Шапеле, шедевре готической
архитектуры, его принял король Филипп Красивый. Впоследствии он
посетил английского короля Эдуарда I в Бордо, и в 1288 г. – папу
Николая IV в Риме.
Иронией истории можно назвать тот факт, что с 1290 г. и до периода
1350–1370 гг. включительно, когда европейское христианство
клонилось к упадку и его влияние падало, новые широкие горизонты
открывались для него в Азии, особенно в Китае. Это подтверждается
несколькими удивительными совпадениями. 1291 г. стал годом
падения Акры, последней твердыни франков в Святой земле; в этом же
году Марко Поло вернулся в Европу. В 1294 г. папой стал Бонифаций
VIII, который едва не привел церковь к гибели; и в этом году
францисканец Джованни да Монтекорвино обратил в христианство
монгольского принца унгута Кёргуза. Этот монгольский вождь,
ставший «принцем Георгием», был опорой католической миссии в
Азии и Китае. В 1307 г. во Франции шла расправа с орденом
тамплиеров, в то время как на Дальнем Востоке Джованни да
Монтекорвино стал архиепископом Пекина. В 1312–1314 гг. Данте
писал свое произведение «Ад» (Inferno), открывая миру образ Европы,
раздираемой ненавистью, насилием и всевозможными грехами; а в
1314 г. Одорико Порденоне, один из самых успешных миссионеров,
путешествовал в Восточной Азии. В 1338 г., когда Европа погрузилась
в пучину войн, эпидемий и голода, Андало да Севиньяно, генуэзец на
службе императора Китая, приехал на Запад с посольством, а аланы,
составлявшие гвардию китайского императора, были обращены в
католицизм. К 1350 г., когда Европа обезлюдела в результате эпидемии
чумы, перспективы контактов с Востоком уже не были столь
привлекательны. В 1368 г. Чжу Юаньчжан завоевал Пекин и положил
начало империи Мин; владычество монголов в Китае закончилось, а
вместе с ним ослабло и влияние католицизма; центром архидиоцеза
тогда был Пекин. Ослабление власти наследников Чингисхана
означало постепенное угасание влияния европейской светской и
церковной культуры в Центральной Азии и Китае.
«Я полагаю, что Святой Дух может проявлять себя в христианах,
евреях, маврах, и в людях всякого рода и звания, и не только в людях
мудрых, но и простых». Эту мысль подтверждает опыт всех
путешественников XII–XIII вв.: крестоносцев, ученых и купцов. Эта
фраза взята из письма Христофора Колумба, адресованного
«католическим королям Изабелле и Фердинанду». В тот год, когда его
еврейские родственники были изгнаны из Испании, Колумб
отправился в свое первое плавание, которое привело к открытию
Америки. Его целью, как он экспрессивно выразился, было открыть
Индию и реализовать старую мечту крестоносцев победить ислам,
одновременно окружив его армии с Востока и Запада. Позднее, когда
он оставил должность вице-короля Индий, Колумб продолжал
собирать предсказания, с помощью которых он смог бы определить то
время, когда Иерусалим будет освобожден Испанией с Божьей
помощью и благодаря силе предвидения Колумба. Для своего великого
предприятия открытия Индии, которое было для него крестовым
походом и вкладом в евангелизацию мира, Колумб призвал в
покровители замечательного персонажа середины XII в. аббата
Иоахима Флорского, экзегета и мистика, который учил о грядущем
тысячелетнем царствии Святого Духа.
Открытие Америки, таким образом, можно рассматривать как
результат европейского крестоносного движения, весь пыл которого
быстро угас, но разгорался затем вновь и вновь, приводя к совершенно
неожиданным последствиям.
Глава 7
Куртуазная любовь и куртуазная
литература
Во время Второго крестового похода в королевском семействе
разразился страшный скандал. Жена французского короля Людовика
VII захотела развестись с мужем и остаться в Антиохии со своим
родственником – князем, правителем княжества. По совету Тьерри
Галерана, евнуха, который охранял королеву и ее казну, Людовик велел
сразу же, как только жена была разоблачена, взять ее под стражу.
Король немедленно уехал вместе с ней и со всей своей рыцарской
свитой, не дав королеве времени проститься со своими
родственниками.
Этот эпизод сразу же вызывает в памяти сцену из романа «Тристан и
Изольда», в которой коварный карлик шпионит за любовниками и
доносит о них Марку, слабому и завистливому королю. Королева
Алиенора, центральная фигура в антиохийской истории, была
богатейшей наследницей в западном мире. Она вышла замуж за
Людовика, который был на год старше ее, в возрасте 15 лет. Брак был
заключен по расчету; его устроил аббат Сен-Дени Сугерий, духовник и
главный советник отца жениха Людовика VI. С его помощью
намеревались присоединить к небольшим королевским земельным
владениям весьма обширные земли самого богатого вассала короны
герцога Аквитанского. Второй брак Алиеноры с Генрихом
Плантагенетом, графом Анжу, привел к созданию Анжуйской
империи, которая протянулась от Шотландии до Тулузы и была
центром франкоязычной цивилизации в XII в. Алиенора
покровительствовала куртуазной культуре, которую ее дочери и
внучки развивали при своих дворах в Северной Франции и Испании.
Поэты воспевали ее на немецком, провансальском, французском и
английском языках.
В многоцветный гобелен куртуазной культуры были вплетены нити
кельтской, мавританской, испанской и восточной культур, а также
дохристианских и антихристианских верований (то есть гностических)
с элементами архаики и магии. В нем просматривались и другие нити,
распутать которые очень сложно. Таинственность и скрытность ныне
широко используются в качестве художественных приемов.
Влюбленные и адепты религиозных сект имеют свой тайный язык, и
члены небольших групп эзотериков узнают друг друга по условным
знакам и символам, по эмблемам и паролям. Этим искусством
прекрасно владел Данте.
На севере, где церковные правящие круги имели сильное влияние,
такое новое явление, как куртуазность, было воспринято с
подозрительностью, страхом и даже ненавистью. Куртуазность была
детищем свободного Юга, античной Греции с ее преклонением перед
эросом и ее свободой духа. Бернард Клервоский ненавидел
представителей Анжуйского дома; он был убежден, что они ведут
свою родословную от дьявола и к нему же и возвратятся. Северный
святой был прав, когда он увидел в их лице демона, точнее, «демона
Юга», но он несколько ошибся в своих пророчествах, поскольку две
внучки Алиеноры стали матерями святых: Бланка Кастильская была
матерью Людовика Святого, короля Франции, Беренгария – Фернандо
III Святого, короля Кастилии и Леона.
Алиенора
оказалась
верной
дочерью
своих
предков,
высокообразованных и предприимчивых герцогов Аквитанских,
которые приложили руку ко всем мирским и святым деяниям своего
века. Алиенора гордилась своим происхождением от Каролингов.
Представители ее семейства основали аббатство Клюни, возводили на
престол пап и антипап. Центром ее наследственных владений был
Бордо, чьи особняки и герцогский дворец несут на себе отсвет славы
древнеримской цивилизации. Дед Алиеноры Гильом, седьмой граф
Пуатье и девятый герцог Аквитании (1071–1127), – первый трубадур,
произведения которого дошли до нас. Его отличало умение жить
(savoir vivre, как говорят французы). Он принимал участие в крестовых
походах на Восток и в Андалусию; однако на него обрушился гнев
духовенства за его, как оно считало, непристойные стихи, в которых
воспевалась женщина. Овидий и Испания мавров оказали влияние на
его поэзию. Ему было присуще стремление испробовать все, что мир
мог ему предложить; он всецело отдался наслаждениям мирской
любви, но одновременно жаждал познать радости любви небесной. По
его приглашению странствующий проповедник Робер д’Арбриссель
провел десять лет (1105–1115) при его дворе. В любовных песнях
Гильома те слова, что прежде служили для выражения любви к Богу,
используются теперь в литургическом прославлении женщины, и
наоборот. Чаша жизни была выпита трубадуром до дна, и ему, после
того как церковь заклеймила его как человека развратного и
законченного циника, ничего иного не оставалось, как только впасть в
меланхолию и сказать «прощай» этой жизни или же отправиться в
покаянное паломничество в Сантьяго-де-Компостелу.
Южный темперамент горячил Алиеноре кровь, и земли,
доставшиеся ей по наследству, сжигал жар солнца Юга.
Простиравшиеся от Луары до Пиренеев, от Оверни в Центральной
Франции до побережья Атлантики, они представляли собой
богатейший и крупнейший домен христианского мира, в сердцевине
которого
находился
Прованс.
Куртуазная
культура,
распространившаяся подобно пламени и на XIII столетие, родилась
именно в этом месте. Путешественник, оказавшийся в этом краю, все
еще может представить в своем воображении, каков был его облик во
времена его расцвета, когда Прованс играл уникальную роль в
культурной жизни Европы. Только руины памятников Древней Греции
и греческих колоний на Сицилии имеют тот колорит, который можно
сравнить с золотисто-желтым медвяным цветом скал Прованса.
Древнеримские амфитеатры, арены, акведуки, колонны и фасады
зданий, памятники скульптуры XII–XIII вв. – все они говорят на одном
и том же языке и носят на себе отпечаток чистых античных форм,
находясь в обрамлении классического пейзажа, в котором
господствуют кипарисы и лавры, заросли дрока и оливковые деревья.
Прованс имел источником вдохновения Грецию, Испанию и
Ближний Восток. Не случайно, что этот регион был столь
притягателен для людей последних времен античной цивилизации.
Константин Великий намеревался сделать Арль своей столицей. Рядом
с городом расположен Аликамп, средневековый город мертвых,
который упоминается в поэзии Данте и Ариосто. В IX–XIII вв. этот
большой некрополь был самым востребованным местом для
захоронения во Франции; это последнее место упокоения выбирали
для себя знать и духовенство. Аликамп был земным Элизиумом,
сказочным царством почивших душ, пребывающих в вечном
блаженстве. В наши дни еще можно пройтись по его заросшим
тропинкам, по обеим сторонам которых стоят пустые саркофаги.
Каждый, кто увидит это место в закатных лучах солнца, обязательно
вспомнит, что великая кельтская поэзия, которая под покровом
эпического романтизма сохранилась до нынешних дней, была всегда
поэзией смерти. Ее основной темой было путешествие на мифический
остров Авалон, благословенную землю мертвых, где вечно царствует
король Артур, и колдовская музыка дарует ему жизнь вечную.
Прекрасная романская церковь Святого Трофима в Арле – это, по
сути, квинтэссенция христианской вселенной. В конце дороги,
ведущей к Аликампу, лежат величественные руины церкви Святого
Гонората Арелатского, разграбленной в первый раз сарацинами.
В Провансе и до Алиеноры были знатные дамы, языческие и
христианские матроны поздней империи, чьи имена можно прочесть
на саркофагах Арля: Юлия Луцина, Корнелия Оптата, Гидрия
Тертулла, Оптатина Жакена, Корнелия Садата. Женские искусства и
куртуазность были рождены в Провансе; здесь появилось понятие
«дама», и здесь Алиенора чувствовала себя как дома.
Но брак Алиеноры с представителем династии Капетингов вырвал
ее из родной почвы. Предполагалось, что сын французского короля
Людовик станет монахом (что соответствовало его характеру), и он
воспитывался в монастыре. Он был типичным северянином,
светловолосым и голубоглазым. Однако внезапная смерть его старшего
брата Филиппа все изменила. Вернувшись в Париж после свадьбы с
Алиенорой в Бордо, Людовик сразу же снова погрузился в чтение
научных трактатов и философские размышления. Экспансивная
молодая женщина, полная сил и энергии, прибыв в 1137 г. в Париж,
нашла, должно быть, столицу, застроенную обветшалыми и
невзрачными зданиями, захолустной и старомодной. Она не шла ни в
какое сравнение с богатыми и роскошными городами Аквитании.
Королевская резиденция находилась в мрачной башне дворца
Меровингов, который располагался в западной части острова Сите. В
восточной его части проживал архиепископ Парижский. Поблизости
теснились одна подле другой убогие древние церковки рядом с
домами, где жили евреи, здесь же было несколько таверн и общежития
для студентов. На левом берегу Сены были расположены школы,
впоследствии здесь возник студенческий Латинский квартал; это было
шумное место, где часто вспыхивали уличные диспуты,
заканчивавшиеся потасовками. Улицы тонули в грязи, свирепствовали
эпидемии; и подобную картину можно было увидеть и позже, когда
среди толп студентов из коллежей Монтегю и Сент-Барб
прогуливались Эразм и Рабле, Кальвин и Игнатий Лойола.
Против молодого короля постоянно выступали мятежные магнаты,
церковь в лице неистового Бернарда Клервоского, которая однажды
даже отлучила его. Только аббат Сугерий оставался верен ему. Для
молодой пары было истинным облегчением покинуть враждебный им
Париж и отправиться в крестовый поход. Людовик и Алиенора
приняли на себя крест в Везле из рук их противника – самого
Бернарда. Существует легенда, что Алиенора и сопровождавшие ее
дамы прибыли в Везле, одетые и вооруженные подобно амазонкам,
восседая на белых лошадях. Многие хронисты утверждают, что вместе
с крестоносцами были в войске и женщины-воины. Византийский
историк Никита Хониат описывает один женский отряд,
предводительницу которого, «даму в золотых сапогах», он сравнил с
Пентесилеей, царицей амазонок.
В ореоле легенды предстает этот гибельный крестовый поход.
Память о нем сохраняют хевсуры, живущие в горах Кавказа. Они
облачаются в средневековые доспехи и устраивают турниры; в их
песне есть такие слова: «У французских воинов была королева,
королева Алиенора, королева Алиенора». Хотя трубадурам было
запрещено участвовать в крестовом походе, они все же шли в поход,
чтобы развлекать дам своим пением.
Крестоносцы открыли для себя два поистине волшебных города.
Первым был Константинополь; император Мануил I предоставил в их
распоряжение дворец во Влахернах, а сам переехал во дворец
Буколеон на берегу Мраморного моря. Воспоминания о мрачной
башне в Париже стерлись из памяти. Крестоносцы были ослеплены
блеском золотых украшений и мозаик храмов, поражались
привезенным из Персии и Катая, Багдада и Мосула бесценным
сокровищам. Здесь они ощутили на себе всю утонченность и роскошь
Востока. (Спустя столетие будет предпринята попытка воспроизвести
подобное великолепие в Париже, в готической часовне Сент-Шапель.)
Но череду празднеств и пиров внезапно прервала весть о
катастрофическом поражении войска короля Германии Конрада III,
которого Бернард Клервоский все-таки убедил отправиться в поход
совместно с французским королем.
Франки отправились в Антиохию, которая стала для них городомсказкой, но здесь королевская чета оказалась в еще более гибельном
положении. В XII в. Антиохия как город сложилась под влиянием
многих культур – эллинистической, древнеримской, византийской и
персидской династии Сасанидов, плодотворно взаимодействовавших
друг с другом. Население ее было смешанным: здесь жили бок о бок
мусульмане и христиане, греки и франки. В городе было множество
церквей и мечетей, роскошный дворец князя Антиохии Раймунда,
уроженца Юга и дяди Алиеноры. Многие представители второго
поколения крестоносцев, жившие в Антиохии, были наполовину
сарацинами по крови и вели полумусульманский образ жизни. На
Алиенору Антиохия произвела глубокое впечатление; город был
удивительно схож с ее родным Бордо, который тоже был древним
южным городом-«космополитом», где среди местных жителей
встречались мавры, негры и евреи. Париж, олицетворение Севера, со
своим подражательным северным христианством, находился, казалось,
где-то очень далеко. Распался ли брак Алиеноры из-за ее связи с
Раймундом? Шлейф скандала, возникшего вокруг ее имени, тянулся до
ее смерти и после нее. И он тоже занял свое место в истории
куртуазной любви. Алиенора, ее первый и великий покровитель, жила
в тени своей дурной славы и постоянно тлевшего скандала. Для
Бернарда Клервоского в этом не было ничего необычного. Он видел в
Алиеноре злого гения французского короля, жену-дьяволицу,
бесплодную до кончиков волос – после десяти лет замужества она все
еще не подарила королю наследника мужского пола.
Людовик насильно вывез жену из Антиохии. Он направился в
Иерусалим и торжественно въехал в город через Яффские ворота;
впереди процессии несли черно-белое боевое знамя тамплиеров
gonfanon bausent и священную орифламму французских королей.
Патриарх Иерусалимский Фульк вышел ему навстречу. Королевскую
пару приняла в городе королева Мелисенда, отец которой был
французом, а мать – армянкой. Вместе с ней был ее юный сын король
Балдуин III из династии Анжу. Однако хронисты вообще не
упоминают о пребывании Алиеноры в Иерусалиме.
На обратном пути во Францию отдалившиеся друг от друга супруги
посетили Рим, где их примирил папа. Зимой 1149/50 г., которая была
необычайно суровой в Северной Европе, Алиенора родила вторую
дочь, и Капетинги опять остались без наследника. Граф Анжу
Жоффруа, получивший прозвище Плантагенет по цветку дрока,
который он носил на шлеме, начал оказывать знаки внимания
королеве. Видимо попав под его обаяние, королева произнесла фразу,
которую часто упоминали впоследствии: «Я думала, что вышла замуж
за короля, но оказалось, что я была обручена с монахом». Алиенора
теперь была настроена против своего мужа; она чувствовала себя
пленницей варваров северян, которые даже не могли говорить на
мягком южном наречии Лангедока (окситанском языке). Жоффруа
оценил представившуюся ему возможность. Его сын Генрих (будущий
король Англии Генрих II) мог жениться на королеве и принести
богатое наследство дому Анжу. Генриху исполнилось восемнадцать,
Алиеноре было около тридцати лет, однако эта разница в возрасте не
была препятствием для династических браков в Средние века. Сам
Жоффруа был на одиннадцать лет моложе своей жены императрицы
Матильды, вдовы императора Священной Римской империи Генриха V.
Посредником в важном деле признания королевского брака
недействительным был не кто иной, как Бернард Клервоский, для
которого Алиенора была поистине бельмом на глазу. Он убедил папу
Евгения III, своего бывшего ученика, разрешить дать развод Алиеноре
и тем самым избавиться от этой бесстыдной женщины, предки которой
столь часто становились врагами Рима. Архиепископ Санса, который
был председателем на суде, обвинившим Абеляра, расторг брак 21
марта 1151 г. по причине кровного родства супругов. Восемь недель
спустя Алиенора вышла замуж за Генриха, который состоял с ней в
столь же близкородственных отношениях, что и ее первый муж, и,
будучи герцогом Нормандии, был вассалом короля Франции. Этот брак
был предвестником будущих, длившихся на протяжении нескольких
столетий, раздоров между Францией и Англией, двумя
соперничающими западными державами, которые, несмотря все
противоречия, существовавшие между ними, выступали совместно от
лица Запада. Какие бы различия между этими странами ни
существовали, они имели общее государственное устройство, общую
организацию общества и принадлежали к одной цивилизации. Две
страны объединяла специфическая западная культура.
Алиенора имела теперь свой двор в Анже, главном городе графства
Анжу; в первый раз в жизни она могла устроить свой двор по своему
желанию и по обычаям Юга и Ближнего Востока. Именно в Анже
трубадур Бернар де Вентадур сочинил в ее честь несколько своих
самых лучших любовных песен. Бернар явился в Анже изгнанником;
он был вынужден оставить Вентадур из-за своего страстного чувства к
тамошней графине. Его судьба была типичной для трубадура; через те
же испытания прошли миннезингеры Германии. Поэт посвящал свою
любовную песнь какой-нибудь высокородной замужней даме, с
которой он не мог иметь отношений, но которая была благосклонна к
нему и готова была его слушать. Поэт клялся, что он ни за что не хотел
бы иметь иную судьбу – любого «короля, герцога иль адмирала», хотя
и находился в постоянном тревожном ожидании ответного чувства,
переходя от надежды к отчаянию. Это общая черта поэзии трубадуров,
когда безродные и безземельные рыцари ставят себя выше королей и
императоров, даже таких, как Генрих VI и Фридрих II, заявляют о
своей готовности отказаться от всех царств этого мира, чтобы только
завоевать благосклонность своей дамы сердца.
Бернар клялся Алиеноре, что Тристан никогда не претерпевал
столько страданий из-за любви к Изольде, как он теперь страдает из-за
нее. Это древнее кельтское сказание о запретной любви было известно
Бернару в самом первом варианте до того, как его пересказал англонормандский трувер Томас Британский и написал на его основе свой
роман известный поэт средневековой Германии Герман Страсбургский.
Возможно, что легенда была переосмыслена, и все уверились в том,
что все это произошло в действительности и что это поучительный
пример, который должен восхищать и вдохновлять дам высшего света.
Алиенора вскоре променяла своего слабого, болезненного супруга на
молодого, сильного рыцаря. Но теперь Генрих был ее мужем, и, чтобы
разлучить Алиенору и Бернара, он вызвал трубадура в Англию. Тем
временем Алиенора родила Генриху первенца Уильяма и сразу же
выделила ему в наследство графство Пуату.
Алиенора одновременно с обучением искусству любви постигала
азы искусства политики. В этом ее учительницей была императрица
Матильда, мать ее мужа, имевшая свой двор в Руане. Матильда
воспитала своего сына, взяв за образец наставление по соколиной
охоте. «Привлеките своих друзей и союзников обещанным им
вознаграждением, держите его постоянно перед их глазами, но
убирайте наживку всякий раз, как только они попробуют получить его;
тем самым вы обеспечите их преданность и готовность служить вам».
Существовал определенный риск последовать подобному совету,
поскольку
создавалось
невыносимое
напряжение
во
взаимоотношениях соперничавших партий. Генрих V, подорвав свое
здоровье, умер от тяжелой болезни. Матильда также научила своего
сына (она была единственной женщиной, к мнению которой он
прислушивался) самому все подвергать испытанию, прибегая при этом
к помощи зрения, слуха и осязания; не важно, шла ли речь об оружии,
драгоценных камнях, женщинах, людях, охотничьих соколах и
собаках, музыкальных инструментах и различных играх. Достижения
Генриха в политике были обязаны его воспитанию. Предприимчивый и
самоуверенный юноша смог в итоге создать обширную империю
западного мира.
Генрих и Алиенора были коронованы в Вестминстерском аббатстве
в 1154 г. в последнее воскресенье перед Рождеством. Спустя несколько
недель, и тоже в Лондоне, Алиенора родила второго сына, которого
назвали Генрихом и присвоили титул графа Анжу. После смерти своего
старшего брата в следующем году он стал наследником английского
трона. Алиенора родила мужу еще шестерых детей: в 1156 г. –
Матильду; в 1157 г. в Оксфордском дворце – Ричарда, будущего короля
по прозвищу Львиное Сердце; в 1158 г. – Жоффруа; в 1161 г. –
Алиенору; в 1165 г. – Иоанну и в 1166 г. – будущего короля Иоанна
Безземельного.
Версия «Тристана и Изольды» Томаса содержит панегирик Лондону
и его богатствам; это был город трудолюбивых горожан, моряков и
купцов, пропахших рыбой и пивом, грубоватых и простых в
обхождении. Алиенора и ее супруг способствовали формированию в
столице новой особенной атмосферы, в которой только и могло
процветать куртуазное общество.
Постепенное становление куртуазного образа жизни, рождение
roman courtois (куртуазного романа) и расцвет поэзии трубадуров были
тесно связаны со становлением Анжуйской империи и
непосредственно с именем Алиеноры. Новая литература была
направлена, тайно и явно, против франко-германской идеи Священной
империи и Карла Великого, как ее святого покровителя; она была
также антипапской и антимонашеской. То время, когда монахи и
священники стояли на страже человеческих душ, ушло в прошлое. Все
надежды и само счастье человека были в руках его госпожи, его дамы
сердца. Эти двое – причем дама выступала в качестве ментора –
вступали в союз, где царила куртуазная любовь, и он не зависел от уз
брака.
Приезд в Англию Алиеноры и Генриха дал уникальный шанс
отразить в куртуазном романе политические устремления Анжуйской
империи. Главными ее соперниками были король в Париже и папа в
Риме.
Вплоть
до
этого
времени
культурные
запросы
аристократического общества выражал такой литературный жанр, как
chanson de geste (что можно перевести как «песнь о деяниях»). Расцвет
его пришелся на время между 1120 и 1160 гг. Хронист Гвиберт де
Ножан, приступивший в 1104 г. к написанию своего главного труда о
Первом крестовом походе Gesta dei per francos («Деяния Бога через
франков»), говорил о франках как об избранном народе. Франки, иначе
говоря, французы, были народом Карла Великого. В Сен-Дени,
недалеко от ворот Парижа, изобретательный аббат Сугерий (о его роли
в создании стиля готики будет рассказано позднее) всячески поощрял
культ Карла Великого. Его штандарт, королевская орифламма перешла
к его наследнику, королю Франции, который, как и он, ходил в
паломничество в Сантьяго-де-Компостела и продолжил его
завоевательные войны, отправившись в свой крестовый поход.
В аббатстве Сен-Дени культивировался жанр chanson de geste. Эти
песни способствовали не только поднятию престижа французского
короля, наследника Карла Великого, но также прославлению «старого
франкского» рыцарства. Все эпические поэмы (Pelerinage de
Charlemagne, Couronne-ment de Louis, Charroi de Nimes, Prise d'Orange,
например) восходят к французской поэме «Песнь о Роланде» (Chanson
de Roland) и прославляют благородных франков, непобедимых воинов,
в их войне против «неверных собак»; во многих этих песнях образ
«язычников» (то есть сарацин) сливается с образом коварных
германцев и англичан, со всеми нефранками, которые осмелились
бросить вызов славному Карлу Великому и его героям. Большой успех
эти песни имели не только во Франции, и, естественно, он не зависел
от их более поздней официальной трактовки, что якобы они
возвеличивают Французское королевство, как данное Богом. Их
популярность объясняется тем, что они звучали удивительно в унисон
с
эмоциональным
настроем
и
представлениями
баронов,
принадлежавших к старому поколению, которым была чужда
утонченность чувств.
Chanson de geste и вся культура аристократического общества
Парижа, которая сложилась в правление Людовика VI и Людовика VII,
были в представлении Алиеноры и ее двора примитивными,
провинциальными, далекими от куртуазности и грубыми по стилю, не
вызывавшими никакого интереса, над которыми можно было разве что
только посмеяться. Новый куртуазный эпический роман складывался
из трех основных частей: англосаксонских романов, кельтских
сказаний и философской концепции любви и эротизма, типичной для
Прованса и Юго-Западной Франции. Все три фактора в итоге привели
к появлению высокохудожественных произведений, отмеченных
культурным влиянием Анжуйского дома.
Но вернемся к Алиеноре и Англии. Ей удивительно повезло с
эпохой, в которой она жила. В Англии проявился интерес к вопросам
общественной и интеллектуальной жизни, что было следствием
политических начинаний Алиеноры и Генриха, которые были
актуальны в то время. В наэлектризованной атмосфере того
двадцатилетия – 1160–1180 гг. – творили три гениальных поэта: Мари
де Франс (Мария Французская), Кретьен де Труа и Готье Арраский,
авторы гениальных произведений, послуживших источником
вдохновения для писателей, продолжателей европейской литературной
традиции. Влияние этих поэтов прослеживалось вплоть до XVI в., и о
них помнили даже в XIX столетии.
Как уже говорилось, тремя источниками нового эпического романа
были английские исторические романы, литературное кельтское
наследие и представления о куртуазной любви, сложившиеся при
дворе графов Анжу. Однако наряду с теми общими элементами, из
которых сложилась высокая литература века, и куртуазный роман в
частности, существовали и более частные ее аспекты, которые не
могли не оказать глубокого влияния на отдельную личность в процессе
осознания ею самой себя и пробуждения в ней силы творческого
воображения.
Рассмотрим в первую очередь английские исторические романы.
Английские хронисты вначале уделяли больше внимания царям
далекой от них Античности. Они создавали фантастические сюжеты,
вкладывая в них особый идеологический смысл. Такие писатели, как
Симеон Даремский (скончался в ИЗО г.), Генрих Хантингдонский
(умер около 1155 г.) и, прежде всего, Уильям Мальмсберийский
(скончался в 1143 г.), описывали англосаксонское прошлое. В труде
Гальфрида Монмутского Historia regum Britannie («История королей
Британии») появляется священный образ короля Артура, великого
родового архетипа королей Анжуйской династии, и ее рыцарство.
Артур – кельтский король и воплощение чести, солнце куртуазной
эпической поэзии, вокруг которого вращались его рыцари, подобно
звездам. Его патриархальный образ выполнял две важные функции для
Анжуйской династии. Он был олицетворением всех древних
английских королей, которые обеспечивали лояльность английского
народа, страдавшего под нормандским игом, служил связующим
звеном между деятелями прошлого и их верными наследниками.
Новая придворная аристократия имела для себя образцом двор короля
Артура. Во-вторых (что не менее важно), Артур был достойным
противником Карлу Великому. Канонизация Карла Великого
антипапой, которого поставил Фридрих Барбаросса, была недавним
событием. Еще одним показательным действом было перенесение
мощей Трех волхвов из Милана в Кёльн, что было инициативой
Райнальда фон Дасселя, канцлера Фридриха, который получил их в
качестве военного трофея. Ахен, город Карла Великого, был любимым
местом паломничества французских королей. Поэтому неудивительно,
что Ричард I отправился в паломничество для поклонения останкам
короля Артура, которые были обретены в Гластонбери в 1191 г., когда
Анжуйская империя достигла пика в своем развитии и одновременно
критического поворотного пункта в своей истории. Ричард приказал
торжественно перезахоронить останки Артура вместе с останками его
легендарной супруги Гвиневры, которые были тоже обнаружены
недавно. Остатки римского лагеря у Карлеона на реке Аск, то самое
место, где Артур принимал древнеримских послов, некоторое время
привлекали к себе пилигримов из молодых придворных аристократов.
Очарование языческого Рима и руин Античности только-только
начинало овладевать Западом, и не в последнюю очередь пока еще
только некоторыми, но знатными английскими лордами.
Аббатство в Гластонбери получило богатые пожертвования от
Плантагенетов и надежно утвердилось в Уэльсе и других кельтских
областях королевства, где имелись его земельные владения.
Гластонбери было тесно связано не только с Артуровой легендой, но
также и с Граалем. Собрание историй о короле Артуре, Персивале,
Ланселоте и Граале является выражением кельтского духа. Конечно,
совершенно не случайно, что территория, в пределах которой так
быстро распространялись эти легенды и поэмы, совпала с областью
первых кельтских поселений в Европе, расположенной между
Шотландией, Тюрингией и Северной Италией. Когда произведения об
Артуре начали проникать с Британских островов на континент, они
повсюду встречали горячий прием, как это было, например, при дворе
ландграфа Тюрингии, устроенного согласно новым требованиям века и
ставшего средоточием куртуазной поэзии и культуры в Германии.
Сказания об Артуре стали популярны также в Вене, основанной еще
кельтами, и в Северной Италии.
Аббатство Гластонбери и находившиеся под его управлением
богатые монастыри вполне могли напомнить об еще одной своей
исторической заслуге, имевшей прямое отношение к их кельтскому
наследию. В еще более ранние времена кельтское ирландское
монашество смогло поставить на службу кельтскому христианству все
богатства поэзии языческих менестрелей. В XII в., когда шотландцы,
ирландцы и валлийцы конфликтовали с английскими королями из
Анжуйской династии, снова появилась необходимость обуздать
неистовую жизненную силу кельтского мира и поставить ее в строгие
рамки христианства, под контроль церкви и мирских властей, то есть
новых королей и их рыцарства.
«Куртуазный» рыцарь Анжуйской империи был человеком
«перевоплотившимся», человеком «новым», который под действием
магической силы древнего мифа был посвящен в рыцари и благодаря
этому вошел в ближний круг рыцарей короля Артура. Его
сопричастность (в чисто церковном смысле этого слова) творящим
чудеса героям кельтского и англосаксонского прошлого давала ему
силы решать великие задачи, поставленные перед ним Анжуйской
державой. Королевство Плантагенетов, открытое Югу и Востоку и
обращавшее свои взоры в сторону Средиземноморья, нуждалось в
помощи Англии – источника денег и воинской силы.
Для того чтобы понять, какую роль играл в куртуазной литературе и
цивилизации третий элемент – искусство любви, нашедшее свое
практическое воплощение в Южной Франции и Провансе, достаточно
будет проследить вновь, как ткалась нить жизни Алиеноры. Мы уже
обращали внимание на то, что куртуазный роман, имевший
английские и кельтские корни, был традиционно антагонистичен
Священной Римской империи, Франции королей Капетингов и Риму. К
уже существовавшему противоречию добавлялось еще одно, не менее
важное, – это бунтарская нетерпимость гордой уроженки Прованса в
отношении жесткого авторитарного мира королей-мужчин. Поэтому
конфликт Алиеноры с Генрихом II был неизбежен. Общественная
трагедия королевы была тесно связана с крахом куртуазной
цивилизации Прованса. Царство куртуазной любви было втянуто в
конфликт с великими державами той эпохи. Но его силы все же смогли
подвести мины под вражеские бастионы, его разведчики проникли
глубоко в умы людей и остались там, в засаде на целые столетия. Этот
факт доказывает все еще сохраняющееся влияние куртуазности в
Италии и других частях Западной Европы. Но вначале враг пережил
час триумфа.
Действие «Баллады о Прекрасной Розамунде» развертывается в
Оксфорде и Годстоу между 1166 и 1177 гг. Эта баллада – одна из
множества легенд, которые породила одна идиллическая история.
Однако для Алиеноры она вряд ли была таковой. Розамунда Клиффорд
была любовницей ее мужа. Алиеноре было прекрасно известно
непостоянство Генриха; ни одна из служанок не могла чувствовать
себя в безопасности в его присутствии, а вассалы короля старались не
показывать ему своих жен и дочерей. Но подобное поведение мужа
мало беспокоило ее, поскольку средневековое общество воспринимало
такие случаи с большей терпимостью, чем в более позднее время. Что
действительно настроило Алиенору против своего мужа, так это то,
что его связь с Розамундой Клиффорд стала известна в обществе;
к тому же их отношения продолжались уже длительное время и стали
серьезными. Алиенора отстранилась от своего мужа формально и
физически и стала его самым опасным врагом. Генрих, гордый и
властный человек, позднее бросит ее в тюрьму и лишит ее власти.
Алиенора, столь же гордая и независимая в своих решениях, лишит его
привязанности сына.
Около 1170 г. Алиенора обосновалась со своим двором в Пуатье.
Здесь она последовательно занималась тем, что укрепляла позиции в
Пуату, своих наследственных владениях. Здесь она провела
торжественную церемонию посвящения сына Ричарда в герцоги
Аквитанские в форме символического бракосочетания в церкви
Святого Стефана в Лиможе между Ричардом и святой Валериеймученицей, патроном этих мест. Кольцо святой было надето на палец
молодого герцога в знак его нерушимого союза с Аквитанией и ее
вассалами. Это действо объединило в себе наделение символами
царской власти, обряд священной инициации и архаичные
религиозные мистерии. Мы не сможем в полной мере понять
атмосферу куртуазных романов, пока не примем в качестве
непреложного
факта
существования
тесной
связи
между
первобытными и магическими представлениями и практичной,
трезвой политикой. В Венеции в течение столетий продолжал
совершаться с большой торжественностью древний обряд, имевший
важнейшее значение в жизни республики, – обручение дожа (который
был воплощением непобедимой мощи Венеции) с морем, священной
матерью добра и зла, во время которого в воды Адриатики бросали
кольцо.
Двор Алиеноры в Пуатье стал главной академией образования в
Западной Европе, где обучали искусству куртуазности. Здесь были
воспитаны несколько будущих королей и королев и множество
герцогов и герцогинь, которые следовали образцу поведения,
заданному этой могущественной и страстной женщиной. В будущем
они попытаются воспроизвести уже при своих дворах эту атмосферу
куртуазности, как это было в Версале во времена «короля-солнце».
Движимые желанием выразить свою благодарность или удовлетворить
свое любопытство, или просто получить удовольствие от своего
визита, отпрыски двух соперничавших королевских домов Капетингов
и Плантагенетов совершали визиты ко двору Алиеноры, чтобы
засвидетельствовать свое к ней почтение. Среди ее гостей были
Маргарита, дочь Людовика VII от его второго брака и жена молодого
Генриха Плантагенета; младшая сестра Маргариты Алиса,
помолвленная с Ричардом Плантагенетом; Констанция, графиня
Бретани, помолвленная с Жоффруа Плантагенетом; Аликс, графиня
Блуаская; и дочери самой Алиеноры – Алиенора, королева Кастилии, и
Иоанна, королева Сицилии. Возглавляла академию дочь Алиеноры от
ее первого брака Мария, графиня Шампани. В Париже отец
воспитывал ее в строгих правилах; в Пуатье она стала патронессой
куртуазной любви и поэзии.
Во время очередного сезона, имевшего место между днем Троицы и
днем памяти Иоанна Крестителя (24 июня), когда соблюдалось
ежегодное
перемирие
в
постоянных
баронских
войнах,
аристократическое юношество Европы собралось в Пуатье. Они
прибыли, чтобы принять участие в рыцарских турнирах, насладиться
общением в кругу куртуазного общества, но прежде всего выбрать
себе невесту. Только богатая партия могла дать надежду
безземельному молодому дворянину добиться положения в
аристократическом обществе и подняться еще выше. В некоторых
областях Франции существовала практика передачи фьефов не по
прямой, а по боковой линии родства, оставляя при этом целое
поколение молодых людей без наследства. Все это было головной
болью земельных магнатов, беспокоило королей Франции и Англии.
Вызывало это и озабоченность у пап. На какие шаги могли бы пойти
эти безземельные, безденежные и гордые юноши-дворяне, если бы их
не отправляли в крестовые походы или не постригали в монашество?
Их шаткий социальный статус заставлял их критичнее, а иногда даже
враждебно относиться к своим престарелым отцам, не говоря уже о
главном Отце в Риме. Таким образом, были молодые люди, как и
молодые женщины, которые были готовы приветствовать новый
куртуазный образ жизни и ценили открытость и искренность этого
общества, которое сознательно намеревалось освободиться от оков
«старого мира».
Те женщины, которые были судьями в этом обществе, должно быть,
и сами понимали, в каком одновременно завидном и гибельном
положении они находятся. Существовало ли большее удовольствие,
чем воспитывать юношей в соответствии с собственным вкусом? Дочь
Алиеноры Мария приехала из Парижа вместе с Андреасом
Капелланусом, которого она выбрала в качестве помощника в ее
трудах обучения благородным манерам молодых людей, составлявшим
шумное и буйное общество. Их отучали от грубых манер и дурных
привычек, прививали им высокие понятия и благородные идеалы.
Любовь была одновременно и целью, и средством обучения. Суть
любви, как учили в Пуатье, заключалась не в потакании
неконтролируемой страсти, но в обуздании ее и удержании в
определенных границах, что было задачей дамы сердца юноши, его
«госпожи».
Андреас, который, надо сказать, равнодушно относился к
выполнению своих обязанностей, сочинил для Марии по ее просьбе
небольшой трактат «О науке куртуазной любви» (De arte honeste
amandi). В основу его он положил сочинения Овидия, современных
поэтов-лириков и поэмы-повествования Артуровского цикла. Трактат
Андреаса довольно скучен, и не только из-за его формальной манеры
повествования. По нему можно было видеть, что автор, клирик,
получивший образование в исключительно мужском окружении,
разрывается между желанием понравиться своей высокородной
госпоже и собственными взглядами. В последней части своего
сочинения, добавленной позднее, Андреас отрекается от идей, которые
содержатся в главной части его труда. Он поступает так совсем как
Кретьен де Труа, более важный протеже графини Марии, который
противопоставляет своего Клижеса Ланселоту и тем самым отрекается
от своей госпожи. Однако любительское сочинение Андреаса
Капеллануса быстро приобретает известность и признание во всей
Европе, как самое первое и серьезное обсуждение столь важной темы;
его постулаты подверглись серьезному обсуждению, и в 1277 г., спустя
столетие, они были окончательно осуждены епископом Парижским.
Кодекс Любви, содержащий 31 статью, который входит в трактат
Андреаса, полон пульсирующей энергии и страсти, побуждал женщин
из окружения Алиеноры создать свой собственный мир и низвергнуть
с трона господство и власть мужского начала. Куртуазная любовь была
прикладным орудием борьбы с господствовавшими в обществе
нравами (moeurs). Мария де Шампань утверждала, что любовь не
имеет отношения к браку; обе стороны в свободном любовном союзе
свободно любят друг друга, брак же предполагает взятие на себя
обязательств и принуждение, что приводит к смерти любви. Замечание
Андреаса было более осторожным: «Брак не является препятствием к
любви». В новом царстве куртуазной любви кипели нешуточные
любовные страсти, без которых оно было просто невозможно. На
полюсах старого социального порядка находились папа и император,
священник и народ, душа и Бог. Полюсами куртуазного общества были
дама и ее «мужчина», ее возлюбленный, который был верен только ей.
Андреас писал, что «сердце вздрагивает при неожиданном появлении
любимого человека». Когда-то одно чувство Божьего присутствия
заставляло сердце (которое в трактовке Августина находится в центре
человека) вздрагивать в благоговейном страхе и трепетать. Теперь
сердце стало последним прибежищем, спасавшим от князей и властей
этого мира.
В Провансе в высшем обществе существовала традиция устраивать
«суды любви», и нечто подобное происходило открыто при дворе
королевы Алиеноры в Пуатье. Все эти судебные заседания
происходили в большом зале дворца на глазах негодующего
феодального общества, придерживавшегося старых взглядов. Решения
суда (arrest d'amour) касались основного вопроса: любил ли такой-то и
такой-то придворный свою даму «законно», то есть в соответствии с
правилами куртуазной любви. Подобные судебные решения
облекались в юридическую форму, тем самым подрывая все устои
общественного порядка. Судьями были дамы в возрасте в основном от
25 до 30 лет: сама Алиенора, Мария де Шампань, графиня Фландрская
Изабелла (племянница королевы), графиня Нарбоннская Эрменгарда,
Эмма Анжуйская и другие. Эти судьи сидели на возвышении, ниже их
располагались мужчины, истцы, готовые выслушивать длительные и
подробные рассуждения о сути и природе любви и объяснять
обязанности мужчины, который служил своей даме.
Игры, в которые играли в судах любви в Пуатье, отражали отчасти,
можно сказать, трагическое (временами трагикомическое) положение,
в котором оказалась куртуазная лирическая поэзия той эпохи. С одной
стороны был нереальный, воображаемый мир, с другой – чувство
разочарования и обиды. Знатные дамы прекрасно понимали, что не
они были хозяйками положения, что мужчины рассматривали их в
качестве своей добычи или предмета торга; они, тайно или явно,
торговали ими как вещью между собой, смотрели на них как на приз в
соревновании, который иногда можно было просто украсть. Это было
ценное приобретение, с помощью которого можно было увенчать себя
короной, обзавестись новыми подданными и новыми земельными
владениями. В феодальном обществе брак был важной политической и
торговой сделкой, как это было и в наследовавшем ему буржуазном
обществе. Долгое время в феодальном обществе не хотели признавать
любовь как чисто человеческое естественное чувство; позднее о ней
стали говорить как о чем-то, о чем пишут в «литературе». Но эти
высокородные дамы уже видели занимающуюся зарю новой эры, того
времени, когда каждый воспитанный человек, разбирающийся в
искусстве любви, может сам устроить свою жизнь, не обращаясь к
какому-нибудь покровителю королевских кровей. Женщина добьется
своего и будет образовывать мужчину, пожиная плоды своей мудрости.
Здесь, в Пуатье при дворе Алиеноры, далеко от Парижа, Лондона и
Рима, женщины обучались науке властвовать, используя для этого
новые утонченные методы. Мужчину нужно было подчинить себе,
руководить им и учить его. Алиенора указывала путь Беатрисе.
Двор Алиеноры был местом встреч баронов-бунтарей и всех
недовольных политикой Генриха II, находившихся к нему в оппозиции.
Королева вела тайные переговоры с сыновьями Ричардом и Жоффруа,
настраивая их против отца; наследник трона Генрих тоже перешел на
их сторону. В 1173 г. король подавил мятеж своих сыновей, а жену
заточил в замковой башне в Солсбери. В течение следующих
пятнадцати лет Алиенора вплоть до смерти мужа оставалась в Англии
на положении его узницы, сопротивляясь всем попыткам с его стороны
получить развод. Во время всего заточения мужество и гордость
никогда не покидали ее. Она продолжала поддерживать связи с
епископами и магнатами своей родной страны. Когда в 1189 г. Генрих
умер, Алиенора была готова сразу же встать во главе королевства.
В это время продолжались феодальные усобицы между королем, его
баронами и его сыновьями. Следует упомянуть один характерный
момент при описании этого периода, когда грубые манеры прошлого
скрывали за куртуазным фасадом. «Молодой король» Генрих, старший
сын Генриха II, коронованный еще при жизни отца, выступил против
своего брата Ричарда Львиное Сердце, блистательного правителя
Аквитании. Возмущение Генриха в отношении его брата достигло
точки кипения, когда ему попали на глаза стихи Бертрана де Борна,
владельца замка Отфор, что близ Перигё, который был мастером этого
жанра. Подобные стихи, называемые сирвентес (sirvantes), были
одним из феноменов поэзии трубадуров. Это был подлинный
фейерверк остроумия, напоенный смертельным ядом; эти стихи были
орудием пропаганды против церкви и крупных землевладельцев. Они
переходили из уст в уста, были выражением требований общества к
власти и отражали также его настроения. Стихи Бертрана
распространял по всей Европе его жонглер Папиоль.
Какой сегодня день недели – понедельник или вторник,
И месяц – апрель иль март, не важно.
Пока кругом меня одни враги,
Рази, мой меч, врагов, рази…
Мир не приносит мне покоя,
Живу я лишь одной войною.
В XI в. многие были сторонниками идеи объявить днями мира
некоторые дни недели, когда должны прекращаться все боевые
действия. К примеру, предлагали выбрать для этого понедельник и
вторник и праздники Пасху, Рождество и Троицу. Для таких дворян,
как Бертран, подобные предложения были предметом насмешек.
Песни Бертрана дышат ненавистью, этим страстным чувством Юга,
его образ жизни был вызовом всем принятым правилам поведения и
условностям общества.
Генрих II умер в 1189 г., побежденный своими сыновьями. Они
объединились, имея за собой растущую мощь Франции, которая была
готова нанести решительный и последний удар по Анжуйской
империи. Генрих был погребен в аббатстве Фонтевро, где
впоследствии вместе с ним нашли место вечного упокоения Ричард
Львиное Сердце и Алиенора (в 1199 и 1204 гг.). Жизненная сила
Анжуйской династии проявилась в прекрасных скульптурных
надгробиях, украсивших их гробницы.
Славное правление Алиеноры, представительницы Ричарда на троне
(после кончины мужа она приняла титул Алиенора, милостью Божией,
королева Англии), принадлежит уже истории. Ричард, который
относился к большим городам со смешанным чувством высокомерия и
опасения, часто присущим аристократам, не видел для себя никакого
проку в Лондоне. «Я продал бы Лондон, если бы кто-нибудь нашел
мне покупателя». Утверждают, что это его подлинные слова. Его
поведение во время крестового похода, которому он уделял столько
внимания, вызывало множество нареканий. Можно привести
высказывание папы Целестина III в качестве примера: «Этим
человеком вовсе не движет страх Божий или покаянное чувство; все
его предприятия – это плод его гордыни, тщеславия и жажды славы».
Находясь в неволе в замке Дюрштайн на Дунае, он не мог не думать
о заговорах, которые назревали на родине. Его младший брат Иоанн
Безземельный в союзе с Филиппом II Августом, наследником
французского трона, намеревались заплатить императору 100 000
серебряных марок, чтобы заполучить Ричарда в свои руки. Смерть
Генриха II освободила из 25-летнего заточения Алису, сестру Филиппа
Августа, которую некогда ее отец Людовик VII отправил ко двору
Генриха II в качестве невесты Ричарду; но помолвка не состоялась, и
все говорили, что алчный король оставил ее для своих утех. Рано
постаревшая, теперь она была выдана замуж ее братом за одного из его
вассалов. Эта трагическая история еще раз доказывает правоту
королевы Алиеноры, пытавшейся хотя бы в своих владениях духовно
раскрепостить женщину.
Анжуйская империя быстро распалась, а вместе с ней и
возвышенный мир куртуазной любви. Ричард Львиное Сердце был
убит выстрелом из арбалета при осаде замка в самом конце века, в
1199 г. Его убийцей был молодой незнатный рыцарь. У Ричарда не
было сыновей, и наследником стал Иоанн Безземельный, который
окончательно потерял империю.
Необходимо сказать пару слов об исторической обстановке, в
которой действовали Алиенора и ее дочери, без чего невозможно
представить себе зарождение куртуазной культуры и литературы и ее
влияние на общество. Все это движение оказалось на гребне волны,
которая начала подниматься задолго до этого момента и воздействие
которой ощущалось еще много лет спустя, когда уже ушла в прошлое и
Анжуйская империя, и цивилизация Прованса. Трубадуры, известные
в Северной Франции как труверы, появились впервые около 1080–
1090 гг.; это были поэты благородного происхождения, чем-то
напоминавшие Гильома Аквитанского, деда Алиеноры. Их влияние
было значительным. Они привили аристократическому правящему
классу вкус к изысканному стилю и состязанию в остроумии; они
установили целый ряд правил, которым был обязан следовать любой
поэт, писавший на родном языке. К концепции куртуазной любви они
добавили от себя свод правил рыцарского поведения; это было
искусственным смешением правил поведения людей Востока,
гностиков и мусульман.
Трубадуры в своем творчестве следовали принятому всеми образцу.
Главной темой chanson d'amour была любовь (amor), о которой
говорили в куртуазной и поэтической форме. Имя госпожи (dompna)
скрывалось под прозвищем (senhal); она была замужем, поэтому
заботилась о своей репутации (pretz), и она знала себе цену (valor). С
возлюбленным ее разлучали различные социальные и нравственные
табу. Любовь сопровождали различные чувства: восхваление, желание,
печаль, надежда, смирение и покорность судьбе. Основным жанром
куртуазной лирики была кансона, состоявшая из нескольких строф со
своей мелодией. От трубадура ожидали, что он сам сочинит мелодию,
но этим обычно занимался жонглер, им нанятый. Только самые
неимущие трубадуры были одновременно и жонглерами.
Существовала тенсона — поэтический диалог между двумя или
несколькими поэтами на определенную тему с чередующимися
строфами. Наиболее глубокие эмоциональные переживания
передавала алъба. Здесь и объяснение влюбленных, и ночной страж,
предупреждающий их о наступлении утра, и внезапно появляющиеся
враги вместе с тайными шпионами, и приход самой смерти.
Известны имена около ста трубадуров, чье творчество пришлось на
время с 1150 по 1250 г., включая около двадцати женщин. Их
литературное наследие неожиданно пополнилось благодаря открытию,
сделанному после Второй мировой войны. Были обнаружены
очаровательные испанские chansons, двуязычные, написанные на
арабском и древнееврейском языках или на арабском с припевом на
испанском. Этот прототип куртуазной лирики, должно быть,
существовал в Андалусии, самое раннее в XI в. Что касается Европы в
целом, то именно Прованс и области, где говорили на окситанском или
провансальском языке, являются колыбелью искусства трубадуров;
отсюда оно распространилось на Северную Францию, Англию,
Италию, Германию и Восточную Европу. Известно, что между 1175 и
1205 гг. писал свои песни трубадур Пейре Видаль, родом из Тулузы.
Он много путешествовал, побывал в Испании, Италии, Венгрии и
Палестине. Расцвет лирики Прованса приходится на период времени
между 1175 и 1220 гг., на которые пришлось творчество примерно
сорока талантливых поэтов. Их участие в событиях своего времени –
крестовых походах на Восток, войнах Генриха II со своими сыновьями,
крестовом походе против альбигойцев – заострило наконечники их
копий и внесло суровые ноты в их поэзию. Поэзия трубадуров, как и
другая куртуазная литература, однако, довольно быстро, добившись
изысканности
и
утонченности
языка,
приобрела
некую
искусственность. Рембо де Вакейра, живший во второй половине
XII в., использовал пять разных языков в одной поэме (окситанский,
галисийский, баскский и каталанский языки и северофранцузский
диалект). В интеллектуальном и эмоциональном плане поэзия
трубадуров XII в. свидетельствует об их высокой образованности и
развитом чувстве прекрасного.
Вплоть до 1200 г. в Северной Франции куртуазная лирика была
известна только по произведениям авторов из Прованса. После этого
времени в подобном жанре стали писать поэты, родившиеся на Севере,
шестеро из них были известными трубадурами; следующее поколение
представлено еще четырнадцатью поэтами. В Италии окситанский
язык продолжал быть языком куртуазной литературы вплоть до 1250 г.
Император Фридрих II и Франциск Ассизский, совершенно различные
по духовному складу, равным образом были ее преданными
читателями. Культура Прованса была разгромлена крестоносцами из
Северной Франции во время Альбигойских войн (1209, 1229, 1240 гг.).
Многие южные территории Анжуйской империи стали владениями
французского короля; это была последняя победа Капетингов над
королевой Алиенорой. Осталось еще несколько поэтов местных
уроженцев, которые выразили протест против такого враждебного
отношения к Югу. Среди них был Пейре Кардиналь, дворянин из ЛеПюи, начавший карьеру поэта около 1225 г. и продолжавший писать до
1274 г., когда ему исполнилось почти сто лет. Но с ним голос Прованса
умолк. Прошло более столетия, прежде чем цивилизация Юга была
окончательно поглощена французской цивилизацией. Первый
значительный автор, родившийся на Юге, который начал писать на
французском, был Антуан де Ла Саль (1388–1464).
Куртуазный роман был также продуктом куртуазной культуры, как и
лирика, и происхождение его было таким же. Название роман
относилось к любому произведению, написанному на родном языке.
Позднее так стали называть повествование, переведенное с латыни, в
основном это касалось стихов. Сохранилось около сотни романов,
написанных в 1150–1220 гг.; в это время три уже упомянутых
одаренных поэта Мари де Франс, Кретьен де Труа и Готье д’Аррас
придали совершенство новой форме.
Под именем Мари де Франс, возможно, скрывается принцесса из
династии Плантагенетов, бывшая аббатисой Шефт-сберийского
аббатства в 1160–1165 гг. и в 1190 г. Свои поэтические произведения
она посвящала важным персонам в окружении венценосных особ
Генриха II и Алиеноры. Она была автором сказочных повествований и
психологических романов. Для Марии любовь была всемогущей,
величайшей силой в природе, богиней и правительницей всего на
свете. Не отзвук ли это представления философов Шартра о богине
Природе?
В некоторых романах Готье выражается, можно сказать, открытое
неприятие творчества Мари де Франс и мировозрения Алиеноры
Аквитанской со стороны северян. Готье происходил из семьи бейлифа
Арраса. В своих романах «Эракль» (действие происходит в Византии)
и «Илль и Галерой» (Не et Galeron) он попытался совместить
традиционные древние эпические сказания с отвечавшими тогдашнему
вкусу нехристианскими легендами и сказками Востока.
Мастер куртуазного романа Кретьен де Труа показывает себя в
своих сочинениях (единственный источник нашего знания о нем)
классическим писателем большой силы без всякой претенциозности;
он открыто говорит о себе и своих верованиях. Возможно, что он был
еретиком, катаром. О чем мы знаем наверняка, так это то, что его
литературным покровителем была Мария де Шампань, с которой он
имел тесные личные отношения, и что он был протеже знатных
сеньоров из окружения Генриха II и графов Фландрских. Кретьен
использовал в своем творчестве свод средневековой литературы,
связанный с легендарными королями Британии, особенно с королем
Артуром. Он считал, что архаический, магический и легендарный мир
короля Артура и его Двенадцати рыцарей Круглого стола – это как раз
то, что интересует его куртуазную аудиторию, все, что они хотят от
него услышать. В то же время он избегал всего того, о чем нельзя было
говорить открыто, из опасения преступить негласные правила
современной ему церковной и секулярной морали. Дополнительную
привлекательность его романам придавало разнообразие материала,
что удовлетворяло тягу молодых читателей ко всему новому и
необычному.
Энциклопедические романы высокого Средневековья имели просто
гигантские объемы, например романы о Ланселоте и Граале,
появившиеся между 1220 и 1235 гг. Они насчитывали до 4000
печатных страниц и обрушивали на читателя горы самой
разнообразной информации. В этих повествованиях приглушены
чувства и отсутствует воображение, что, собственно, характерно для
этого жанра. Этого нельзя сказать о произведениях Кретьена. В его
романах отражены взлеты и падения пробудившейся души, борьба его
эго за свободу.
Романы Кретьена произвели глубокое впечатление на многих его
современников по той простой причине, что в них присутствовало
несколько сюжетных линий, что было, вне всякого сомнения,
отражением его разносторонней личности. Он писал свои романы с
дидактической целью, задавая некий стандарт: «Эрек и Энида» (1165–
1170), «Клижес» (1170–1171), «Ланселот» (важнейший из всех трех,
написанный около 1172–1175 гг.) и его шедевр «Ивэйн, или Рыцарь со
львом» и «Персеваль или Повесть о Граале» (1174–1180 или 1177–
1187). Все эти романы были написаны с образовательной целью;
Кретьен поставил перед собой задачу показать и сформировать новый
тип человека. Романы предназначались не только для легкомысленных
молодых аристократов, но и для более серьезных читателей. Перед
каждым из них ставилась задача самосовершенствования в обычной
повседневной жизни. Носителями важнейших добродетелей были
рыцарство и духовенство, для каждой личности было важно получить
куртуазное, рыцарственное по духу, образование. Bravoure et justice, то
есть истинная смелость и приверженность справедливости, были
отличительными чертами рыцарства; elegance et culture —
духовенства; человек должен был правильно себя вести, следуя
определенному этикету, будь то с врагом, другом или дамой.
Более чем на протяжении пяти столетий образование мирян в
Европе на практике ничем не отличалось от образования аристократии.
Лишь позднее заговорили о необходимости выработать идеал
воспитания, о котором писал Бальдассаре Кастильоне в трактате
«Придворный»; и были поставлены более определенные цели –
воспитание в XVII в. джентльмена (gentleman) в Англии и дворянина
(gentilhomme) во Франции в эпоху классицизма. Но прототип этого
дворянина уже присутствует в XII в., и Кретьен де Труа был одним из
его ярких описателей.
Ранее я уже утверждал, что средневековую цивилизацию, особенно
на стадии ее «открытости», следует понимать как соединение зачастую
противоположных элементов, значительно различающихся по времени
образования и по происхождению. Эта парадоксальная цивилизация
нашла для персонажей и «рыцарских приключений» куртуазного
романа идеально подходившие для них художественные и формальные
формы их выражения. Как в большом ковре, основные темы-нити
переплетались, создавая сложные по смыслу узоры-арабески,
заимствованные из разных миров. Историки, теологи и филологи,
представители соперничавших дисциплин – все попробовали выделить
одну ведущую тему – будь то христианскую, гностическую,
мусульманскую и всевозможные прочие. Эти попытки вполне
объяснимы и, в общем-то, оправданны. Но все они несправедливы,
поскольку имеют дело с искусством, создававшимся в живой
реальности, с его «символическими» персонажами, обладавшими
неотразимой властью. На самом деле именно внешняя форма и
символизм придает силу и влияние куртуазному роману. Этот внешний
покров одновременно скрывает и обнажает различные линии родства
персонажей и различные аллегории добра и зла, с которыми
встречаются герои повествования. Именно из-за такой насыщенности
романа
различными
элементами
он
обретает
поистине
психологическую глубину. Уже нет никакого сомнения в том, что
главные темы эпического повествования (во Франции – начиная с
Кретьена де Труа и вплоть до Рено де Боже, в Германии – от
Хартманна фон Ауэ и до Вольфрама фон Эшенбаха) – это инициация,
посвящение, преображение и начало более совершенной жизни,
одновременно более гуманной и более божественной.
Все произведения Кретьена, включая романы о короле Артуре, были
попытками показать процесс внутреннего становления человека. Здесь
поэзия служит дидактическим и лечебным целям. Это объясняет,
почему столь часто повторяются одни и те же мотивы и ситуации. Так
же как это происходит во время психоанализа. Лечебными средствами
для человека, который в тысячный раз уходит в дикий лес своих
незрелых страстей, становятся женщина, «природа», mysterium (тайна,
тайное учение). Тем самым в рыцарских романах женщина всегда
находится рядом, чтобы преобразовать и облагородить мужчину. Через
связь с женщиной мужчина получает доступ к собственной душе, к
глубинам своего «сердца». Рыцарь отправляется на поиски своей
«королевы», и во время своего трудного пути он становится умнее,
учится чувствовать и переживать, начинает поступать более разумно.
Успех образования человека зависит от того, какую цену он готов за
него уплатить: будет много окольных дорог, развилок, тупиков,
неожиданных поворотов, приключений, напрасных подвигов,
схождений в ад, сокрушительных поражений.
Вот это глубокое проникновение эпического куртуазного романа во
внутренний мир человека обеспечивало его превосходство в качестве
инструмента образования над схоластическими и «христианскими»
учебниками педагогики той эпохи и более позднего времени.
Куртуазный роман не пренебрегал исследованием глубинных чувств
личности; он давал целостное отображение жизни. Это – «мудрая»
литература. Все опасности, искушения, заблуждения, грехи и зачастую
бесцельность предпринимаемых усилий – все это необходимо, чтобы
сформировать и облагородить внутренний мир личности. Нам
открывается удивительный опыт «глубинного психологизма»,
присутствующего в этих романах (по крайней мере для тех, кому
незнакома мудрость мифов и сказаний, имеющая прямое отношение к
обсуждаемым темам). В них присутствуют мотивы отца и матери,
призванные проиллюстрировать отношение героя к своим родителям;
и, что важнее, часто показаны две пары, в противопоставлении друг
другу, что уже говорит о понятии четвертичности, и это прямо
отсылает нас к исследованиям Юнга. В романе «Эрек и Энида» это
сами его главные герои и пара Мабонагрен и его возлюбленная, в
«Ивэйне» – Ивэйн и Лодина, Говен и Люнет. (Этот принцип
четвертичности присущ комедии дель арте.) Главная тема романа
«Ивэйн, или Рыцарь со львом» – крайне эксцентричное поведение
героя, иногда оно смахивает на явное безумие. Это вполне может быть
этапом в его индивидуальном развитии, если этого требует внутренняя
необходимость. Но чтобы добиться успешного результата, человеку
природы (Ивэйну) должны помочь его природные инстинкты (лев) и
связь с женщиной природы (Лодина). Ивэйн и Лодина, таким образом,
«природная пара». Противоположный персонаж Говен, который
олицетворяет коллективное и условное начало, введен специально в
повествование, чтобы служить мерилом происходящей в Ивэйне
эволюции. Говен – это солнце сверхъестественной пары; квартет
завершает женский персонаж Луна, Люнет, которая способствует
дальнейшим изменениям в характере героя.
В XII в. концепция соответствия микрокосмоса (человека) и
макрокосмоса (природы) часто выходит на первый план в диспутах о
космологии. Она играет важную роль в ритуалах кельтских друидов,
когда особое внимание уделяется священным предметам и местам. Эта
космическая концепция присутствует в романах в образовательных
целях, как и в сочинениях Данте, где она доминирует и объединяет все
сущее в единое целое. Ее значение можно объяснить следующим
образом. Человек – это существо, формирование и образование
которого возможно только в духе предельной искренности и чистоты,
при участии всех элементов этого земного и сверхъестественного
миров. Здесь на их стыке древняя мудрость поэта, повивальная бабка
его воображения, должна сыграть свою роль, потому что только через
иные образы человек вживается в свой образ. Эти многослойные
образы, каждый со своим значением, воздействуют на человека
незаметно, помимо его сознания, беспокоят и пробуждают его,
управляют его поступками.
Остановимся кратко на теме Грааля, священной чаши. В ней нашли
отражение все «фантастические представления» Востока о священных
сосудах (зороастрийское Хварено, эмблема царской харизмы, имеет
связь со сказочным камнем имперской короны Священной Римской
империи); представления о ритуальных чашах и сосудах, которые
могли быть наследием друидов, катаров, гностиков и, возможно, даже
тамплиеров. Сыграл также свою роль мистицизм цистерцианцев, их
особое отношение к священному причастию – гостии.
Грааль, на самом глубинном смысловом уровне, – это женский
материнский символ. В незаконченном романе Кретьена «Персеваль»
отношения героя с его матерью стоят в центре повествования. Все
действие вращается вокруг темы искупления Персивалем своей вины в
смерти матери. Грааль рожден девственницей, и рядом с ним, с
оправданной необходимостью, находится мужской символ Священного
копья (фаллический символ наподобие жезла Моисея, королевского
скипетра и так далее). Становление человека сопровождается
созреванием обоих полюсов человеческой природы, мужского и
женского. В романе поиск Персевалем Грааля происходит параллельно
с поиском Говеном Копья. Говен убил отца незнакомого рыцаря,
Персеваль был обязан искупить смерть своей матери. Персеваль и
Говен – зеркальные образы, каждый независимо друг от друга
формируется как человек.
Клирик Кретьен и дворянин Рено де Боже писали прежде всего для
женщин, предмета их ревностного служения. Оба свободно
рассуждают на темы эротики и плотской любви с искренним и теплым
чувством. Тональность произносимых ими сентенций резко отлична от
тона покаянных церковных правил, брачных контрактов и различных
высказываний теологов эпохи, в которых женщину по-прежнему
представляют как нечистое, опасное создание, близкую родственницу
змея-искусителя и «сосуд греха».
Роман Рено де Боже «Прекрасный незнакомец» (Le Bel Inconnu) был
написан в самом конце XII в. Смысл его очень прост. Бог создал
женщину, чтобы мужчина почитал ее и служил ей, женщина – это
источник всего хорошего. Отрицать любовь – чистое безумие.
Женщина наделена Богом всеми самыми лучшими качествами, и всех
тех, кто плохо отзывается о ней, Бог проклянет и покарает немотой. В
этих словах – предчувствие близящейся беды, это и обращение, и
предупреждение одновременно. В лишенной свободы Европе позднего
Средневековья ненависть к женщине и страх перед ней проявились с
новой силой. Королева Гвиневра, творящая чудеса жена Артура,
должна была бы погибнуть на костре как ведьма, вместе со всеми
другими героинями куртуазных романов. В атмосфере страха и тревог,
постоянного ожидания несчастий, в средневековой Европе наступило
время охоты на ведьм. Прекратились все разговоры об образовании и
воспитании личности.
Свидетельством той важности, что Рено де Боже придавал такому
образованию, является его «Некья» (Nekyia), рассказ о путешествии к
Новой Жизни, дорога к которой проходит через ад, смерть и встречу с
дьяволом. При прочтении поэмы вспоминаются повествование Гомера
о путешествии Одиссея в Аид, и дантовский «Ад» (Inferno). В версии
Рено де Боже герой приходит в замок с тысячью вдов, замок
привидений. У каждого окна сидит музыкант, перед которым стоит
горящая свеча; играет дьявольская музыка; это обиталище демонов,
ими полон воздух. Рыцарь встречает в залах демона во многих
обличьях. Вокруг заколдованного замка лежит город мертвых,
навевающие ужас владения смерти, мир Преисподней. Сама жизнь и
развитие – опасные предприятия. Полного развития можно достигнуть
только путем болезненных трансформаций, но и здесь человеку
мешает смерть, и он проходит через суровые судилища. Чем выше
человек поднялся ради своего спасения, тем в более глубокую бездну
он низвергается. У Рено наказания, которые полагаются за попытку
достичь спасения, символизируются поцелуем змея. Пройдя
победоносно через все суды, рыцарь смело и отважно позволяет змею
поцеловать себя в губы, и после этого он обращается в человека.
Работа по сотворению совершенного человека завершена.
Одними из наиболее характерных черт куртуазной поэзии были
восточные мотивы и «глубокий психологизм», что явственно
прослеживается в «Некье». Во многих гностических культах змея была
священным существом, символом спасения. В литургии офитов,
гностической секты, которая была широко распространена в поздней
Античности, кульминационным моментом был поцелуй змеи.
Христианская секта уже наших дней, американская Church of God,
имеет литургический культ змеи. В Европе XII–XIII вв. повсюду
прослеживалось влияние гностиков. Более важным является второй
признак. Многие писатели и их женская аудитория осознавали, что
кризис в умах и мироощущении нового человека XII в. стал настолько
острым, что уже стало невозможным отгородиться от него старыми
обесценившимися символами, которые только и могла предложить
церковь в своих потерявших актуальность проповедях.
Вне Франции уже сложившаяся куртуазная цивилизация оказала в
XII–XIII вв. глубокое творческое влияние на Германию. В 1180–
1220 гг. французская куртуазная литература вызвала повсеместный
отклик во всех немецкоговорящих землях. Так же как величие и
совершенство французской готики на пике своего развития,
скульптурный готический декор соборов Шартра, Реймса и Амьена
смогли повторить только в сооружениях Наумберга, Бамберга и
Майнца.
Это было не случайным. В Германии новая литература стала
конструктивным ответом на глубокий кризис, в котором оказались
общество, «государство» и существовавшие тогда политические и
церковные структуры. Две великие эпохи немецкой культуры были
временем острейшей напряженности в обществе. Его распад в позднем
Средневековье и кризис империи породили тревоги и надежды в
немецком народе, которые нашли отражение в 1480–1525 гг. в культуре
немецких гуманистов и в эпоху Лютера. Значительно позднее, в 1770–
1830 гг., когда немцы снова оказались во власти надежд и тревог,
будучи запертыми в тесных границах враждебных карликовых
государств и различных конфессий, ответ на все мучительные вопросы
пришел от Гёте и поэтов-романтиков. Именно они указали немецкому
народу на свет занимавшегося нового дня, призвав его, как всем
казалось, к выполнению миссии вселенского масштаба.
К середине XII в. началось духовное пробуждение Германии,
которая прежде ощущала свою самодостаточность; особенно это
проявилось в ее юго-западных областях. Его признаки были
многочисленными: это были рост городов и формирование служилого
дворянства; возникновение министериалов; усиление религиозных
споров и появление еретиков различных убеждений, в первую очередь
в Кёльне и Цюрихе. Народ, наблюдавший за изнурительной борьбой
между Фридрихом I и папством, возможно, догадывался, что добром
это не кончится. И действительно, в XIII в. начался упадок папства и
империи. Более того, чужие идеи и взгляды начали проникать как с
запада из Франции, так и с востока из Византии.
Терзаемый усобицами своих духовных и мирских владык, народ был
вправе спросить: «Где же Бог? Чем занят папа, который, видимо,
заинтересован только в том, чтобы выбивать из нас, глупых немцев,
звонкую монету? Что, в самом деле, собирается делать император?» На
эти вопросы давали ответы поэты, и не только в провокационной, но и
зачастую в революционной форме.
Аристократия Германии и Франции была давно тесно связана друг с
другом общественными и родственными связями. В XII в. эти более
старые тесные отношения стали иметь для Германии меньшее
значение, чем связи с Англией и Южной Францией. Императрица
Матильда, вдова императора Генриха V, была матерью Генриха II.
Другая Матильда, дочь Генриха II и Алиеноры, должна была стать
супругой Генриха Льва, самого могущественного князя Германии
после Фридриха Барбароссы, стоявшего во главе клана Гвельфов.
Родственные связи Гвельфов и Плантагенетов были одним из главных
факторов политической жизни в XII в. и в начале XIII в. Один из
внуков Алиеноры станет императором Оттоном IV. Что касается
Южной Франции, короли Германии и императоры имели с ней тесные
связи начиная с XI в.; в этом регионе и в Бургундии они владели
землями и пользовались привилегиями. Жонглеров Прованса тепло
встречали на празднествах, устраиваемых при императорском дворе.
Непокорная аристократия Прованса имела своего дневника в лице
служилой аристократии, возникшей при правлении династии
Гогенштауфенов. Первоначально несвободные, эти способные и
храбрые бойцы проявили себя на службе короля и императора и заняли
ответственные посты; в частности, им была поручена охрана
имперских замков, целая сеть которых покрывала большую
территорию от Эльзаса до Эгера, Кама и Наббурга. Министериалы
были кастелянами замков и управляли также земельными поместьями,
принадлежавшими как династии, так и императору. Некоторые
имперские министериалы занимали очень высокие должности;
в Италии они были вице-королями или имперскими комиссарами,
управлявшими большими областями страны и городами.
Плодами куртуазной цивилизации Прованса, Юга, попытались
воспользоваться в первую очередь представители новой аристократии
homines novi (новые люди). Они пришли в мир, не имея за собой ни
наследственных земельных владений, ни традиций, ни культуры. Имея
перед собой пример старой аристократии и князей церкви, эти новые
люди озаботились поиском нового образа мышления и нового способа
выражения своих чувств, чтобы освободить себя от внутреннего
рабства, уйти из-под старой власти. Этим новым сеньорам и их дамам
миннезингеры обещали открыть «царство любви», величественное
царство с новыми горизонтами, стоящее выше всех существующих
ныне «империй», которые все еще продолжали распоряжаться судьбой
немецкого народа: «империи» обусловленного политикой благочестия,
правящей церкви и самой Священной Римской империи. Основание
нового королевства зависело только от личных взаимоотношений двух
человек, желающих общения друг с другом. Влюбленные колебались
между желанием и его удовлетворением, вот почему миннезингеры
столь часто употребляли глагол sweben (колебаться) в своих песнях.
Поучителен и важен тот факт, что различие в периодизации событий
Западной и Восточной Европы проявлялось и в области литературы. В
восточных областях Германии сменилось поколение, а то и два, прежде
чем все литературные произведения, пришедшие с Запада, были
восприняты и переработаны; и чем дальше на Восток, тем временной
лаг был больше. Куртуазная поэзия Прованса и отчасти Северной
Франции вошла в быт Юго-Западной Германии после того, как
сменилось поколение. В 1160–1180 гг., время расцвета творчества
Марии де Франс и Кретьена де Труа и когда песням деда Алиеноры
исполнилось пятьдесят лет, лирические произведения Германии все
еще оставались фольклорными по характеру. Их авторам были
абсолютно незнакомы куртуазные правила обхождения, которые
требовали от дамы и ее возлюбленного соблюдать необходимую
дистанцию общения; подобный куртуазный формализм вызывал у них
неприятие. В этой «архаической» поэзии, которой были присущи
прямота и страстность, мужчины и женщины свободно говорили о
своих желаниях, не соблюдая условностей и не придерживаясь
куртуазных канонов. Основная тональность произведений – радостная
искренность и прямота, временами даже некая развязность; явно
выражена примитивная наивная вера в родство человека с космосом,
Богом, природой. Это лирика простая и безыскусственная, глубоко
прочувствованная,
питаемая
неразмышляющей
набожностью.
Некоторые поэты анонимны, как, например, «Автор из Кюренберга»
(der von Kurenberg), «Бургграф из Регенсбурга» (der Burggraf von
Regensburg), «Бургграф из Ритенбурга» (der Burggraf von Rietenburg).
Другие поэты, принадлежавшие к этой группе, – Майнло фон
Зевелинген и Хартвик фон Руте. Стоит упомянуть также Генриха фон
Ругге и Дитмара фон Айста.
Однако между 1180 и 1220 гг. куртуазная лирика взяла верх; царство
Minne (от нем. «любовь») вступило в свои права. Немецкое «царство
любви» было построено по образцу Прованса, за некоторыми
исключениями. В Германии все выглядело не столь ярко, было более
мрачным, но чувства были глубже. То, что на Юге было
легкомысленным занятием, утонченным и ироничным, в Германии
приобретало особый вес; чувства отличались большей глубиной и
преданностью. Дамское «изящество и прелесть» были неотразимы,
они зиждились на благочестии, источником которого была Божья
благодать и покровительство Богородицы. Верность рыцаря своей
даме сердца основывалась на традиции верности вассала своему
сеньору, христианина – Богу и своему королю. Но в обществе
произошла разительная перемена: взаимоотношения двух влюбленных
стали восприниматься как единственная реальность. Они занимали
центральное место на общественной сцене. Бог, природа, мир и время
ждали своего часа. Бога познали и со стороны Его «куртуазности»:
куртуазный Бог – покровитель влюбленных и приноравливает Себя к
ним, подобно тому как длинные рукава вошли в моду при дворе и все
стали носить их. «Он всегда оказывается в нужном месте и отвечает
вам, когда бы вы к Нему ни обратились» (таковы известные слова
поэта Готтфрида Страсбургского). Какое дело до этого королям и
императорам? Куртуазный поэт знает больше, чем кто-либо другой,
если он снискал расположение дамы своего сердца.
Все миннезингеры были поэтами глубоко индивидуальными.
Фридрих фон Хаузен, служивший при епископе Майнца Кристиане и
отправившийся вместе с ним в Италию по поручению Фридриха I и
Генриха VI Гогенштауфена, был, по сути, рыцарем старой школы,
который сумел найти новые формы для выражения своих мыслей и
чувств. Его широко известная песня крестового похода Mein Herz und
mein Leib, die wollen sich scheiden вовсе не является новым вариантом
поэмы Конона де Бетюна; это совершенно новое произведение,
отчасти плод его опыта. Он погиб во время крестового похода
Фридриха Барбароссы.
Генрих фон Морунген, наиболее страстная личность среди поэтов
его круга, оригинал в жизни и в поэзии, нашел в себе силы отвергнуть
правила придворного этикета. Вернувшись из крестового похода, он
отправился в Индию, что было довольно необычно, насколько нам
известно, для поведения немецкого рыцаря XII столетия. В своей
песне Ruckblickslied он говорит о куртуазном царстве любви, как о
фикции, некой иллюзии. Генрих описывает, как он бесстрастно
беседует с дамой, подобно соколу, кружащему над своей добычей. Но
теперь он полностью потерял веру в женскую силу исцелять человека.
Даже самая благородная дама не может предложить никакого
утешения. Не в ее власти и силах освободить мужчину и все
человечество. Кому в таком случае это суждено?
Папа находился далеко, и власть его была чужой. Императоры,
царствовавшие после короля Генриха VI, вплоть до прекращения
династии Гогенштауфенов в 1250 г., были бессильными, также часто
чужими и далекими. Однако было два княжеских дома в Восточной
Германии, дворы которых стали центрами новой культуры: это были
Бабенберги в Вене и ландграфы Тюрингии в Вартбурге.
Вена при Бабенбергах была открыта влиянию и с Востока, и с
Запада. Существовали родственные связи с византийцами вследствие
династических браков; и через Вену также проходили отряды
крестоносцев. Купцы установили связи с Восточной Европой и Русью.
Существовал торговый путь в Регенсбург, который шел через Вену еще
со времен раннего Средневековья. Связи Вены с Западом были
многочисленны и разнообразны: политические, династические,
религиозные и интеллектуальные. В двух последних важных сферах в
XII в. была значительна роль цистерцианцев и некоего французского
ученого мужа по имени Magister Petrus episcopus. При
космополитическом дворе Вены творил немецкий поэт и музыкант
Рейнмар фон Хагенау, как его назвали позднее, «схоласт несчастной
любви». Его стихи отмечены высоким интеллектом; они
свидетельствуют о том, что он был искусным мастером софистики.
Именно здесь, при венском дворе, на землях, что станут Австрией,
учился «петь и говорить» величайший немецкий лирический поэт
Средневековья Вальтер фон дер Фогельвейде.
По рождению он принадлежал к классу мелкого безземельного
рыцарства – министериалов; не имея строгих обязательств перед
своим сеньором, он был свободен искать свой кров и стол, где бы он
ни пожелал. Он жил при дворах благородных особ, часто переезжая с
места на место. Его покровителями были три австрийских герцога:
Леопольд VI, Фридрих и Леопольд VII; герцог Каринтии Бернард;
ландграф Тюрингии Герман; маркграф Дитрих IV Мейсенский; герцог
Гвельф VI; церковные князья империи, такие как Вольфгер фон
Элленбрехтскирхен, епископ Пассауский, а впоследствии патриарх
Аквилеи, архиепископ Кёльнский Энгельберт, и многие другие
представители знати более низкого ранга. Во время своих путешествий
Вальтер познакомился со многими людьми и странами и сделал для
себя вывод, что мир был пренеприятным местом. Князья, как могли,
хватались за обломки распадавшейся империи; всюду народ жил в
бедности. Он испытал на себе, что такое нищета, но она была не
только материальной, она поражала душу. Все это сильно повлияло на
него, так что он стал большим религиозным и политическим поэтом. В
своих дидактических и политических песнях (Spruche) он резко
критикует жадность и мошенничество римских пап; это не столько
напоминает нам страстные протесты его провансальских собратьев,
сколько обличения Гуттена и Лютера. Вальтер предвидел наступление
мировой катастрофы: империя, церковь и христианство распадались на
глазах, и даже куртуазная цивилизация не была защищена от
разрушения. Где же можно было искать спасения? В простой вере в
Бога Любви, явленной в младенце Христе, возлежавшем в яслях,
«молодом создании и древнем Боге, кротком в присутствии быка и
осла». Вальтер предвидел будущее вертепное представление,
устроенное святым Франциском Ассизским, Poverello di Assisi, когда
он впервые в истории христианства установил ясли в Греччо,
развенчав претензии могущества церкви и государства.
Любовь к Богу налагала добавочные ограничения; это означало,
например, любить своего врага как самого себя, как брата во Христе. В
этом Вальтер был далеко впереди своего времени и своих
соотечественников, и его любовные песни не были в должной мере
поняты.
Социальное происхождение Гартмана фон Ауэ, первого немецкого
поэта, начавшего писать эпические песни, было таким же, как и у
Вальтера. Гартман пересказал романы «Эрек» и «Ивэйн» Кретьена де
Труа таким образом, что они стали по духу чисто немецким
произведением. Оригинальные произведения Гартмана – повести о
«Столпнике Григории» (Gregorius von Steine, 1195–1196) и о «Бедном
Генрихе» (Der Arme Heinrich, 1199). В них немецкий поэт критикует
немецкое аристократическое общество. В «Столпнике Григории» это
инцест и жестокость; каждый, кто искренне хочет спастись из
расставленных на него тенет, должен быть готов долгое время вести
суровую покаянную жизнь. В «Бедном Генрихе» (который вдохновил
Герхарта Гауптмана написать свою версию сказания) главный герой
рыцарь Генрих, страдающий от проказы; он также символ самых
лучших черт рыцарства. Генрих, без помощи сеньора и церкви, спасен,
вылечен и искуплен любовью чистой деревенской девушки. Прежде
всего он излечен от гордыни, которая была болезнью его души.
Девушка желает отдать жизнь за своего господина, пожертвовать свою
кровь для него; хирургическую операцию проводит врач из Салерно.
Ее готовность принести жертву коренится в ее любви к господину и к
Христу. Христос является ей в видении под видом «свободного
крестьянина», любовь которого к ней, крестьянской девушке, столь
велика, как ни к одной королеве. Стоит вспомнить, что в повести
«Видение о Петре Пахаре», которую написал полтора века спустя
Уильям Ленгленд, имеется описание такого же видения «бедного
Христа», который является «бедному народу» Англии ради его
утешения. Чувства немецкого народа достигли той же критической
точки перед наступлением XIII в.
Две поэмы, написанные около 1200 г., очень разные по форме, но
одинаково страстные в своем неприятии политического и церковного
порядка, какой сложился в Священной Римской империи, показывают,
какой горючий материал накопился в Германии к этому времени.
Особенно это касалось Западной Германии, которая была открыта
влиянию своих соседей Франции, Фландрии, Нидерландов и Италии. В
Эльзасе, области между Страсбургом и Кёльном, такая опасность уже
давно присутствовала. Это была область, печально известная своими
еретическими движениями, мятежами баронов, восстаниями горожан
против власти епископов над городами и непокорными монастырями,
сопротивлявшимися Реформации. Именно в этой неспокойной области
зрела закваска немецкого мистицизма, проявившая себя позднее в
полной мере. Здесь в Эльзасе всегда имел глубокие корни немецкий
спиритуализм и интеллектуальный нонконформизм; он проявил себя в
Страсбурге во время Реформации, в пиетистах и квиетистах в XVIII в.
Подобные настроения не ограничивались городами; небольшие
городки, леса и отдаленные зеленые долины – все они были отмечены
внешне слабо проявленным духом восстания «сердца» против «силы».
Таким был фон, на котором разворачивается действие сатирического
«Романа о Лисе», написанного около 1181 г., и романа «Тристан и
Изольда» 1205 г., автором которого был Готтфрид Страсбургский.
Придворные поэты и имперская пропаганда прославляли Священную
Римскую империю, возрожденную императором Фридрихом I,
представляли ее как земное отражение Царства Божия, где каждый
может получить спасение и жить по правде. Империя подавалась в
таком виде «правоверным подданным», то есть тем, которые верны
одновременно Богу и империи (Dei et Imperii Fideles). Эта империя
основывалась на основополагающем правиле – император вознаградит
за верную службу с той же королевской щедростью, как Бог наградил
своих верных слуг. Добродетельные получат свою награду, злодеи
будут наказаны. Однако в Эльзасе, как всем было известно, Фридрих I
часто не мог или не хотел держать своих обещаний, что в некоторых
случаях приводило к открытому восстанию против него. Генрих
Лицемер, автор «Романа о Лисе», использовал стандартный прием
средневековой политической сатиры – сказку о животных с целью
доказать, что империя была фикцией. В то время как ловкие
мошенники и льстецы получают награды, с лояльных и честных
подданных стригут шерсть, словно с баранов. Имперская пропаганда
представляет императора в виде Льва, благородного царя зверей, за
которым скрывается образ Христа. Но для Генриха лев – это образ
дьявола, царя греха. Вероломный, удивительно глупый, он все время
попадает в ловушки Лиса, своего коварного советника, и позорно
умирает. Но люди оплакивают «смерть своего благородного короля».
«Священная империя» была не единственной целью острой и резкой
критики Генриха. Под ударом оказываются церковные догмы того
времени и даже куртуазная цивилизация. Фридрих I, при поддержке
своего советника Райнальда фон Дасселя, архиепископа Кёльнского,
организовал канонизацию Карла Великого как часть общего плана по
прославлению святых своей династии. Король в «Романе о Лисе»
приказывает, чтобы похороны Курицы были обставлены наиболее
торжественной литургической церемонией. Затем Заяц ложится на ее
могилу, и его посещает видение, о котором он сообщает королю:
«Курица теперь пребывает в небесной славе в присутствии Бога». С
придворного общества тоже сорваны все маски. Лукавый Лис знаток
придворного этикета, и он использует его, среди прочего, с целью
изнасиловать жену Волка.
В «Тристане и Изольде» Генрих Страсбургский использует все
формальные художественные средства куртуазной литературы, чтобы
разоблачить придворный мир, как мир лжи и обмана, и часто
бесцельного самообмана. Будет полезно сравнить его сочинение с
суровыми обличениями Иоанна Солсберийского, который говорил о
лживости и злобе придворных Генриха II. Готтфрид вначале
представляет супруга Изольды короля Марка как образчика доброго,
святого и обходительного правителя. Карл Великий и король Артур в
одном образе. Марк – благочестив, храбр, великодушен и справедлив;
слава о его дворе, где подают пример куртуазного поведения,
распространилась повсюду. Затем автор позволяет Марку незаметно
встать на путь, который ведет к жалкому унижению: со времени его
первой встречи с Изольдой видно, как он низко пал. Он позволяет
обмануть себя в первую брачную ночь и проводит ее с Бранжьеной,
доверенным лицом Изольды. Позднее, когда он не может не заметить
любви своей жены к Тристану, он проявляет себя человеком слабым и
нерешительным, для которого никакой обман или подлог не считается
низким деянием, если он дает возможность восстановить его права на
Изольду. Мастер куртуазного поведения превращается в отчаявшееся,
потерявшее рассудок, жалкое создание и становится позором своего
двора и всех земных королей.
Эта тема, не важно, проявляется ли она явно или подспудно, лежит в
основе многих куртуазных романов. Независимо от того, как к этому
относиться, но только все немощи короля проявляются в смертельной
болезни; он уже не маг или кудесник и потерял свой целительный дар.
Это король-рыбак Амфортас, король Марк, да и сам Артур.
Королевский титул оставался значимым символом до тех пор, пока
король продолжал оставаться образцом чести для своих рыцарей,
подвиги которых получали тем самым оправдание. В короле они
видели легитимацию своих действий. Поскольку в своем собственном
«королевстве», царстве любви, каждый из этих вновь посвященных
рыцарей был одновременно и папой, и императором или королем.
Только Шекспиру, который мог в перспективе рассматривать события
Столетней войны и бурную трехвековую историю монархии, удалось
увидеть двойной аспект королевской власти. Он признает преходящий
характер всех земных монархий и их конечность, но в то же время
утверждает, что «не смыть всем водам яростного моря святой елей с
монаршего чела» (У. Шекспир. Ричард II. Акт 3. Сцена 2).
Германский автор Готтфрид Страсбургский, со своей стороны,
приводит ужасающие подробности того, как воды жизни смывают с
Марка его королевский сан, что ведет к его полной гибели.
«Несчастный Марк» превращается в ослепшего жадного глупца,
ставшего обузой для себя и окружающих. Все случилось из-за его
неспособности отказаться от того, что никогда ему не принадлежало, –
своей жены Изольды, которая изначально любила только Тристана.
Вид спящих влюбленных в Пещере любви, за которыми Марк тайно
наблюдает из укрытия, наполняет его страхом. Эта Пещера
влюбленных была церковью нового Сокровенного Царства. То, как
описывает ее Готтфрид, – это то наполовину дворец Гогенштауфенов,
то готический кафедральный собор, украшенный архитектурными
мотивами Востока и Южной Франции. С описания пребывания
влюбленных в Пещере поэт переходит к критике монархии, древней и
новой, иерархической церкви и общества своего времени. Он
объясняет, что Тристан и Изольда получили «помазание» любовью.
Все другие таинства, помазание короля и епископа, посвящение в
священники, таинство брака и само причастие, превосходит это
таинство любви. Это новое таинство, подразумевающее полное
растворение друг в друге влюбленных на глубочайшем интимном
уровне, нанесло фатальный удар по всем иерархическим системам –
секулярным, церковным и социальным.
Готтфрид выражается предельно ясно. Посредством своего
плотского и духовного союза влюбленные становятся Священным
Граалем и причастием, они преподают один другому таинство нового
царства, причастие плоти и крови. «Мужчина был там с Женщиной,
Женщина была там с Мужчиной. В чем еще ином они могут
нуждаться?»
Это была единственная правда о жизни и действительности, которая
интересовала поэта и его читателей. По взаимоотношениям двух
людей можно было судить о чести, справедливости и морали. Мораль
была исполнением желаний сердца. Миром управляло «сердце»
влюбленных. Даже Божий суд был бессилен против него. Готтфрид
трудился в Страсбурге, который в результате конфликта города со
своим епископом Генрихом фон Ферингеном попал под церковный
запрет проводить службы на протяжении пяти лет. В 1212 г.
восемьдесят еретиков, мужчин и женщин, благородного и простого
происхождения, были сожжены на костре. Казнь произошла после
проведения Божьего суда, во время которого применялось раскаленное
железо. Хронисты сообщают, что осужденные, среди которых были и
дети, держались бодро перед лицом смерти.
Большая часть «Тристана» была, должно быть, написана между 1211
и 1215 гг. Священная империя была в предсмертном состоянии. После
битвы при Бувине в 1214 г. король Франции Филипп II Август,
одновременно друг и враг сыновей Алиеноры, послал Фридриху II
пойманного орла. Крайний индивидуализм, характерный для
атмосферы Прованса, которая окружала двор королевы Алиеноры,
нашел отражение в «Тристане», сочинении германского поэта. Нет
никакой священной империи, кроме империи любви. И империя любви
представляет собой союз двух любящих людей, который отказывается
от всего, что Бог, окружающий мир и социальный порядок могут
предложить им, и чего их могут лишить.
Готтфрид относился с глубокой антипатией к своему современнику
Вольфраму фон Эшенбаху. Вольфрам, величайший поэт, писавший
куртуазные романы на немецком языке, был мелким рыцарем, как
Гартман фон Ауэ и Вальтер фон дер Вогельвейде. Мы уже отмечали
его позицию как сторонника толерантности в его романе
«Виллехальм». В своем шедевре, романе «Парцифаль», Вольфрам
стремился реабилитировать империю, дворянство, куртуазность и
воспитание личности на основе христианской веры. Таким образом,
«Парцифаль» в одно и то же время утверждение куртуазности и ее
поражение. Парцифаль задает вопрос: «Бог остается верным?» И его
вопрос порождает сомнения в умах людей, крестоносцев и «бедного
народа». Ответ Вольфрама звучит утвердительно. Господь верен, но
очень часто выражает свое благоволение к человеку через
неодобрение. «Бог может даровать радость и горе по своему желанию.
Он может не посмотреть на мои горячие мольбы и обернуть их в
слезы, если Он поступает так, то тем самым доказывает Его
расположение ко мне». Господня доброта сокрыта в Его гневе. Человек
может сбиться с пути, в его жизни встречаются испытания, он
проходит через грех и вину. Человеку важно знать, что все это нужно
перенести.
Литературный стиль произведений Вольфрама, повествующих о
рыцарских приключениях его героев, уже близок стилю барокко. Это
широкое полотно, которое отображает изменения, происходящие в
человеке на пути его великого паломничества в глубины его
собственной души. Для того чтобы добиться победы, надо пройти
через поражения. Победу каждый человек может обрести только в
своей душе. Тому, кто сумеет преодолеть самообман, гордыню,
фальшивые страхи и разочарование в себе, будет даровано увидеть
Божество, «вечную Троицу», познать глубокую тайну власти, любви и
духа. Таким было видение Абеляра Святой Троицы.
Глава 8
Народные религиозные движения
Когда Генрих II и Алиенора расстались, король надеялся, что его
жена закончит свои дни аббатисой Фонтевро. Хотя Алиенора и не
приняла этого предложения, именно в Фонтевро пара воссоединилась.
Алиенора почиет там между останками ее страстного супруга и ее
сына, не менее страстной натуры, Ричарда Львиное Сердце.
Замечательная надгробная скульптура представляет Алиенору,
королеву куртуазного общества, в одеянии монахини и с миссалом в
руках.
В этом же самом аббатстве богатый купец из Лиона задумал
постричь в монахини двух своих дочерей. До глубины души его
потрясла трогательная песнь менестреля о святом Алексее, которая
убедила его в том, что истинный христианин должен оставить все
земные богатства и все мысли о власти и вступить на путь бедности.
Купец попытался найти хоть кого-то, кто смог бы перевести отдельные
части Священного Писания на его родной язык. Некто Бернар Идрос
перевел Евангелия и другие вероучительные тексты на
старофранцузский язык, в то время как грамматик Стефан д’Анс,
ставший впоследствии видным членом кафедрального капитула Лиона,
перевел Евангелия на окситанский язык Прованса. Купцом-заказчиком
переводов был Пьер Вальдо (или Вальдес), основатель движения
вальденсов. Несмотря на все преследования, что ждали их в будущем,
они никогда не переставали, начиная с XII в. и заканчивая XIX в.,
нести Благую Весть для членов своего братства, как было завещано их
основателем.
Вальденсов преследовали наравне с катарами, и их обвиняли в
архиереси. Но Вальдо выступал против учения катаров и пытался
противостоять их влиянию. Он не мог и подумать, что он является
основателем секты. Этот факт отражает то трагическое положение, в
котором оказалась церковь, начиная с середины XI в. и вплоть до
середины XIII в. Пока христианство и церковь были еще «открыты»,
проповедь Евангелия, можно сказать, впервые так глубоко проникла в
умы и души людей, среди которых были дворяне, крестьяне, горожане,
простые сельские священники. Монахи и миряне становились
бродячими проповедниками, которые учили, что Христос пришел не в
силе и с мечом, но в облике бедняка и что он обитал не в епископских
дворцах, не в богатых монашеских обителях, но под открытым небом,
в полях и лесах, в сердцах тех, кто принял Его. В Испании в XI–XII вв.
уже распространялась проповедь о «крестьянском Христе» (Cristo de
los campesinos); это были первые проповеди в Европе о необходимости
вернуться к евангельским заповедям.
Существовали многочисленные небольшие группы «бедняков во
Христе» (так некоторые из них называли себя) в Южной и Северной
Франции, во Фландрии, в Рейнской области и Северной Италии. Они
не имели представления о том, к чему приведет их начинание. Они
считали
себя
непререкаемыми
представителями
«святого
христианства» (в XI–XII вв. под словом «церковь» в народе понимали
просто здание).
Уже не раз мы говорили, что возникновение небольших групп
проповедников Евангелия зависело, видимо, от чистой случайности.
Такая группа могла получить признание церкви, стать реформистским
орденом или конгрегацией. В противном случае она могла
подвергнуться преследованию и со временем стать действительно
еретической. Вытесненная на обочину церковной жизни, а иногда и
загнанная в подполье, подобная группа могла стать более радикальной
и даже отойти от религии. Могла она наладить связь и с каким-нибудь
подпольным братством, которые уже существовали по всей Европе.
Святой Франциск Ассизский имеет много почитателей сегодня;
среди них есть благочестивые католики, протестанты и нехристиане,
которых привлекает его любовь ко всем живым созданиям и его
пацифизм. Эти преданные почитатели едва ли имеют представление о
том, как близко он приближался к бушевавшему вокруг него пламени,
которое поглотило тех, кто стоял к нему ближе всех, его преследуемых
друзей и братьев.
Чувство великой радости и внутренней свободы, которое испытала
ранняя церковь от осознания того, что она владеет Благой Вестью, и
чувство ее связи с воскресшим Господом уже давно уступили место
чувствам страха и отчужденности. Люди в своих молитвах уже больше
не воздевали рук, обращаясь к Христу, своему восходящему солнцу, но
покорно складывали свои руки в позе рабов, рабов Божьих и своего
греха. Когда-то священник служил мессу, стоя лицом к людям, являя
доказательство своей доступности, теперь он оборачивался к ним
спиной и удалялся в алтарь, как в крепость, отделенный от прихожан
завесой. И наконец, мессу служили на языке, который никто не
понимал. В поисках защиты от греха люди начали поклоняться
множеству святых, к которым обращались как к «ближайшим
соработникам Бога», народным заступникам, имевшим власть
исцелять. Именно через святых угодников люди получали доступ к
грозному и всемогущему Богу. Некоторые из них имели мифическое
происхождение, другие принадлежали к предкам древних
аристократических родов.
Постепенно все труднее становилось обнаружить высшую
божественную реальность в совершавшемся таинстве мессы,
превратившейся в формальный, чисто внешний обряд. Теперь эту
реальность искали во всем таинственном и чудесном. Все это вело к
появлению все новых чудес, что подрывало благочестие верующего
народа. Настоящая одержимость в их поиске дошла до того, что люди
повсюду находили какие-то чудесные явления и рассказывали о своих
видениях. Многие из них, несомненно, были любопытными
феноменами. Хотя в XII в. страсть к чудесам несколько поутихла,
найдя выход в литературе, в частности, в куртуазном романе, в
области религии она все еще была сильна. Ранее мы уже обращали
внимание на критическое отношение авторов «Романа о Лисе» и
«Тристана» к культу чудес.
Необратимые перемены в народном религиозном чувстве имели в
основе две важные причины. Во-первых, люди потеряли прямой
доступ к Христу; прямой контакт с Ним стал первой и основной
привилегией монашества и, во вторую очередь, приходского
духовенства, через которое Господь являл себя в таинствах, прежде
всего таинстве евхаристии. Священники ежедневно предстояли Христу
Царю, великому Властителю Царства Небесного. Во-вторых,
наложенное Римско-католической церковью вето на перевод Евангелий
и других религиозных текстов на национальные языки было наиболее
эффективным средством держать народ на расстоянии вытянутой руки.
Греческая православная церковь, которая изначально была
миссионерской церковью, придерживалась противоположного мнения
и, что делает ей честь, осуществила многочисленные переводы Библии
на народные языки: коптский, сирийский, древний латинский, геэз,
грузинский, армянский, готский и древнеславянский. Византийские
миссионеры уже в VI в. проповедовали среди гуннов на их языке.
Римско-католическая церковь вплоть до дня сегодняшнего всегда
ревниво сохраняла главенствующую роль латинского языка, как языка
священного в противоположность всем остальным. Цена, уплаченная
за это, была велика. Не существовало «авторизованного»
христианского перевода Библии, который могли бы прочитать
берберы, кельты или германские племена. Задача перевода Библии на
национальные языки не представила бы трудности для церковных
интеллектуалов в Африке, для церкви Тертуллиана и Августина. Но
этого сделано не было, и Северная Африка отпала в ислам. Начиная с
XII в. латинская церковь начала терять прихожан и целые народы,
уходившие в религиозные движения, которые переводили для своих
нужд Библию и другую религиозную литературу на свои родные
языки. В позднем Средневековье произошло сначала отступничество
Англии и Богемии, а немного позднее – Германии.
Движение катаров, которое было наиболее мощным движением в
XII–XIII вв., направленным против Римско-католической церкви,
унаследовало от Православной церкви и от манихейцев практику
проведения евангелизации на национальных языках. Манихейцы были
наиболее плодовитыми переводчиками, количество сделанных ими
переводов превзошло по объему греческие. В XII в. они продолжили
свои труды на Западе; до этого они занимались переводами на
азиатские языки, включая китайский.
В XI в., когда народные религиозные движения только зарождались,
обвинения в ереси предъявлялись сначала лишь отдельным крестьянам
и людям «невежественным», а также некоторым клирикам и дворянам.
Например, около 1000 г. возникло дело крестьянина Лётара из
Шампани. Возвратившись однажды с полевых работ (возможно, как у
Жанны д’Арк, ему было видение), он прогнал из дома жену, разбил на
мелкие осколки распятие в церкви, отказался платить десятину и
заявил, что он ставит ни во что пророков Ветхого Завета. В 1019 г.
в Орлеане объявились еретики с юга Франции, которые сумели
привлечь на свою сторону часть дворянства и образованных клириков
из окружения французского короля Роберта II Благочестивого (996—
1031), который поддержал церковную реформу. Разоблаченные в
ереси, они радостно встретили свою смерть 28 декабря 1022 г.; это
была первая казнь через сожжение на костре на Западе. Они были
уверены, что весь народ Франции, включая короля, вскоре примет их
учение.
Около 1028 г. группа крестьян, клириков и дворян, исповедовавших
еретические взгляды, укрепились в замке Монфор, расположенном
между Турином и Генуей. В этих людях было что-то от спокойной
уверенности, присущей францисканцам. Они учили, что Бог Отец –
творец всего сущего, что Христос не был Богом, далеким от людей и
грозным, но душой человечества, который пребывал в Божьей любви,
и что истинное знание и понимание Священного Писания явлено в
Святом Духе. Когда им предлагали выбор между крестом и сожжением
на костре, они, не колеблясь, выбирали последнее. В церковных
хрониках этой эпохи, чьим свидетельствам вполне можно доверять,
часто говорилось о радостной готовности еретиков, с какой они шли на
казнь. Подобное чувство могло быть только плодом внутренней
свободы, когда освобождались из-под гнета глубинные пласты души в
результате лично пережитого нового опыта веры. Пьянящее ощущение
радости и свободы, характерное для первых францисканцев и
иезуитов, имеет в основе тот же опыт.
В XI в. самым могущественным защитником народного
религиозного благочестия было само папство. Когда папой становился
человек, выражавший передовые взгляды своего времени, его самыми
преданными последователями были те люди, что обычно получали
клеймо еретика. Движение патаренов, начавшееся в Милане и
Флоренции в 1057 г., нашло союзника в лице реформатора папы
Григория VII. В то время он находился в конфликте с епископатом,
уличенном в симонии, исключительно аристократическим по своему
составу, который отказывался сотрудничать с ним в реформировании
церкви. Тогда Григорий призвал народ отстоять общими усилиями
«свободу церкви», поскольку ему было необходимо защитить свои
реформы от опасных действий феодальной и германизированной
церкви. Народ, исповедовавший веру в «Христа бедняков», был
настроен против своих епископов и стремился получить поддержку от
папы. В 1077 г., например, некоторые фанатично настроенные
фламандские миряне обратились к папе с просьбой защитить их от
епископа Камбре, который обвинил их в ереси. В 1162 г. фламандские
горожане снова обратились к папе Александру III с жалобой на
архиепископа Реймского, который назвал их еретиками, так как они
ведут, по его словам, «апостолический» образ жизни. В 1179 г. тот же
самый папа в порыве братского чувства обнялся с Пьером Вальдо,
которого угрозы архиепископа Лиона заставили обратиться за
помощью в Рим.
Несмотря на все вышеприведенные свидетельства, Рим в XII в. был
слишком слаб, чтобы привлечь в церковь все эти мятущиеся души, где
они могли обрести защиту и стать ее чадами. Необходимые для
выполнения этой задачи люди и духовные ресурсы отсутствовали.
Проблема была оставлена на усмотрение епископов и монашеских
орденов, старых и новых, которые с неодобрением и
подозрительностью относились к «новаторам». Основной причиной
недовольства этими «необразованными» людьми была их проповедь и
призыв к переводу Библии. Пьер Вальдо стал «еретиком», потому что
ничто не могло отвратить его и его сторонников от проповеди.
«Свобода слова Божьего» была для этих визионеров выше «свободы
Церкви».
Европа начала XII в. была наводнена отшельниками, бродячими
проповедниками и монахами-странниками. Когда они объединяли свои
силы, из их сплоченной группы мог возникнуть новый монашеский
орден или конгрегация, если они получали благословение церкви, или
еретическая секта. Робер д’Арбриссель был таким странником. Он
основал аббатство Фонтевро, ставшее прибежищем для Алиеноры
Аквитанской и дочерей Пьера Вальдо.
Основание обители было личным делом Робера; были и другие
монахи-одиночки в это время, которые стояли в начале какого-либо
предприятия, иногда большого, иногда незначительного. Различные
народные движения были особенно многочисленны во Франции и
Фландрии, хотя их можно обнаружить также и в Северной Италии. В
них были представлены все слои общества; здесь были священники,
монахи, дворяне, кузнецы, ремесленники, крестьяне и представители
городского патрициата. Движущей силой всех этих проявлений
горячего религиозного чувства было желание вести апостолический
образ жизни, подражая бедному и смиренному житию Христа.
Эти еретики XII в. были убеждены, что их учение верно и
соответствует духу и учению Евангелий, в то время как церковь, как
им казалось, находилась в состоянии апостасии, отрекшись от Бога,
Христа, Святого Духа и самой любви. Именно они были «верными
христианами». Эти «еретики» отличали «добрых» священников от
«плохих», у которых они отказывались принимать таинства. Но их
антиклерикализм не следует понимать превратно. Даже во времена
наиболее явного господства католицизма, средневековое общество
было достаточно раскованным и открытым для критики духовенства,
так что в этом, как и в других аспектах, мнение еретиков в XII в.
совпадало с народным чувством. Если некоторые группы переставали
искать теоретическое обоснование своим действиям, не желая
конфликтовать с церковью, то вследствие преследований со стороны
отдельных епископов они были вынуждены это делать ради своей
защиты.
Необходимо отметить одно интересное явление. По мере того как
шло время, женщины благородного происхождения становились
известными покровителями еретических движений, что сразу же
вызвало симпатию у мужской части семьи. Женщины устали от власти
мужчин, им не нравилось быть товаром на брачном рынке, терпеть
презрительное отношение к себе и монашеские подозрения. В попытке
вырваться из-под этого гнета они начинали заниматься воспитанием
ума и души. Куртуазная культура и учение катаров процветали под
покровительством знатных дам, прежде всего благородных дам
Прованса.
Распространение учения катаров в Западной Европе в XII в. стало
драматическим поворотным пунктом в судьбах всех еретиков. Само
это учение возникло вне Европы, на Востоке, и по сути своей было
нехристианским. Первоначально, тайным путем, оно проникло в ЮгоЗападную Европу. Однако когда оно открыто заявило о себе, его успех
был стремительным; и оно было подавлено только после 30-летней
гражданской войны. Катары впервые появились в Западной Европе в
1140 г., а последние их представители в Южной Франции были
сожжены на костре в 1323–1324 гг. Даже после этого их дух продолжал
жить. Гугеноты в XVI–XVII вв. видели в катарах братьев по духу, а их
церковь считали
истинной
церковью. Боссюэ, сторонник
воссоединения протестантов с католиками под эгидой «королясолнце», открыто говорил о катарах как предшественниках гугенотов,
приверженцев этой дьявольской церкви, которая постоянно бросала
вызов Римско-католической церкви.
Драма и трагедия катаров была тесно связана с трагедией,
постигшей куртуазную цивилизацию Юга, и с судьбой народных
религиозных движений в целом в XIII–XIV вв. Всегда имелись
недоброжелатели, готовые связать ту или иную религиозную группу с
катарами, которая сразу же по определению становилась
антихристианской. Вальденсы и катары были сожжены на одном и том
же костре, несмотря на имевшиеся первоначально большие
расхождения во взглядах. Францисканцы, отказавшиеся признать
победу Бонавентуры над Франциском Ассизским, получили огульно
ярлык катаров.
Движение катаров представляло собой первую попытку восточной
нехристианской религии завоевать плацдарм на Западе. Оно имело
свои корни в гностицизме, родиной которого была Греция, и в
манихействе, пришедшем из Персии и Ближнего Востока. «Катар»
в переводе с греческого означало «чистый». Чистота духа и его
освобождение от мирового зла и от уз материи было целью греческих
религиозных мистерий и манихейства. Основной чертой гностицизма
была искренняя вера в способность чистого духа установить прямую
связь с Божеством; манихеев отличала вера в существование явно
выраженной нерушимой границы, которая отделяет «детей света» от
«детей тьмы». Эта дуалистическая доктрина, которая может
рассматриваться одновременно и как оптимистическая, и как
пессимистическая, появилась в Болгарии в X в. Болгары находились в
то время под тройным угнетением: руссов, византийцев и Римскокатолической церкви. Болгарское общество было расколото. На одной
стороне находилась зажиточная аристократия и богатая церковь, на
другой – мелкое дворянство, приходское духовенство и крестьянство.
Вот к этой второй группе обратился сельский священник Богомил с
посланием, смысл которого можно кратко сформулировать так: «Мир –
это зло, поэтому давайте жить так, как жили апостолы, – в покаянии,
молитве и внутренней сосредоточенности». Если идеалом была
простота жизни, тогда все церковное великолепие и мирская власть и
богатства были просто суетой. В этой жизни христианина ждали
только кровь и слезы, ведь этот мир был созданием Сатаны, старшего
сына Бога и брата Христа, «Бога» Книги Бытия и Ветхого Завета.
Очевидно, что основные положения христианства и нехристианские
гностические учения уже начинали сливаться друг с другом. В IX в.
византийские императоры принудительно переселили во Фракию
приверженцев двух восточных гностических сект, павликиан и
мессалиан, которые позднее объединились с богомилами, «собратьями
Бога». После завоевания Болгарского царства Византией в 1018 г.
теперь уже в самой империи распространилось еретическое учение.
Богомилам удалось найти сторонников среди высшей аристократии,
которая имела склонность к философским занятиям, в частности в
области космологии, и находилась в религиозном поиске. Движение
катаров было привлекательным в XII в. и для аристократии Прованса.
Богомилы повлияли также на взгляды византийского монашества.
Раскол в рядах богомилов произошел в связи с дальнейшим
расширением их деятельности в новых политических условиях
Византийской империи, в новой интеллектуальной атмосфере. Старые
богомилы определяли себя как церковь «болгар», в то время как
«новые» богомилы, которые начали называть себя по области Фракии
Драговица, стали Драговицкой церковью. Когда крестоносцы в начале
XII в. прибыли в Византийскую империю, они первым делом увидели,
что императора беспокоил вопрос, как изгнать богомилов. После того
как они были изгнаны (в 1110 г. и после 1140 г.), богомилы разбрелись
повсюду, неся с собой свое учение. Их миссионерская активность
развивалась прежде всего в Сербии, Боснии и Далмации; затем они
проникли в Италию и Францию. В Боснии богомильство стало на
время государственной религией; во время правления Бана Кулина
(1180–1204) оно превратилось в идеологию сопротивления страны
экспансионистским устремлениям Венгрии, поддержанной папством.
На Балканах богомилы оказались зажаты между двумя великими
церквями и двумя великими империями, Западной Римской и
Восточной Римской, но все же они смогли выжить, пока турки не
пришли к власти в XV в. И даже это был еще не конец. Уйдя в
подполье, богомилы разделились на две ветви. Одна – это радикальное
боевое тайное сообщество, положившее начало тайным братствам XIX
и начала XX в., которые сыграли свою роль в Первой и Второй
мировых войнах. Вторая была пацифистским братством, столь же
радикальным, которое с XVI в. объединилось с идеалистами из
Западной Европы в Трансильвании, Польше и Моравии и из тех стран
проникло в Россию. Считается, что последний богомильский клан в
Герцеговине принял ислам в 1867 г. В целом характерные особенности
подпольного движения на Балканах, в его религиозном, политическом
и интеллектуальном аспектах, могут быть поняты только в свете
учения богомилов; и то же самое можно сказать о подпольном
движении в Западной Европе, где богомилов преследовали, называя их
катарами и болгарами (родовое название для еретиков любого вида).
В Рейнскую область и Северную Францию учение богомилов
принесли купцы и, возможно, также разочаровавшиеся во всем
крестоносцы, вернувшиеся из Второго крестового похода в 1149 г.
Богомилы, изгнанные из Византии, также селились в этих областях.
Это была «открытая» (некоторые могут сказать опасно открытая)
Европа XII столетия. Переход этих «еретиков» на Запад был «подобен
триумфальному шествию; их приветствовали повсюду и встречали их
с невиданным энтузиазмом». Богатый город Кёльн был особенно к ним
расположен. Бернард Клервоский, самый горячий защитник западного
христианства, метал против них громы и молнии, но его не
поддержали, и его призывы были напрасны. Основными целями его
обличений были их гордыня и лицемерие.
Движение катаров захватило большую территорию между Рейном и
Пиренеями всего за два года. «Строгое соответствие их образа жизни и
учения имело ошеломительное воздействие». Все классы общества
охватило поистине безумие, все сословные различия были забыты.
Среди сторонников катаров были духовенство и женщины. Европа
переживала первое в ее истории движение Возрождения.
Следуя прецеденту богомилов, катары основали епископства на
Западе. Первое было учреждено в Северной Франции, вероятно, в
Мон-Эме в Шампани (около 1150–1160?). Следующим было в области
Альби в Южной Франции; именно оно дало движению новое название.
Миссии альбигойцев были направлены из Франции в Италию, и вскоре
они действовали по всей стране от Ломбардии до Неаполя.
В 1162 г. отряд германских катаров, во главе которых был некий
Герхард, прибыл в Англию. Возможно, это были крестьяне, и среди
них были женщины. Их постигла неудача; и по приказу церковного
собора, проведенного в Оксфорде, их схватили и, после того, как
поставили всем клеймо на лбу, выслали из страны. Они стойко и
радостно перенесли испытание. Кларендонские ассизы 1166 г.,
которые имеют параграф, осуждающий пособничество еретикам,
являются первым примером в средневековой Европе секулярного
закона, направленного против ереси. Английский хронист,
комментируя неудачную вылазку этих еретиков в Англию, замечает,
что это безымянное движение оставило свои следы повсюду – во
Франции, Испании и Англии, перемещаясь и оседая тут и там, подобно
пескам на морском побережье. В 1210 г. вновь появляется сообщение о
катарах в Англии.
Движение катаров распространялось столь стремительно, что даже
его вожди были неспособны контролировать его. Проблемы
административного и духовного руководства, порожденные столь
быстрым продвижением катаров, привели к трениям и расколам
внутри движения, что имело следствием замедление его развития.
Восточные ересиархи, которые заинтересованно следили за ходом
событий на Западе, решили, что настало время действовать. Никита,
епископ дуалистической Драговицкой церкви в Константинополе,
прибыл в Ломбардию, возможно, в 1167 г. и посвятил в епископы
человека по имени Марк, который был диаконом Итальянской
катарской церкви. В результате итальянские катары стали более
радикальными. До этого катары Западной Европы, следуя курсу
«старых богомилов», исповедовали несколько видоизмененную форму
дуализма (Сатана помог Богу создать мир). Никита заставил принять
свои доктрины не только итальянских, но и французских катаров; и на
соборе катаров, проведенном в Сен-Феликс – де-Караман близ Тулузы
в 1167 г., вновь рукоположил трех катарских епископов, епископов
Северной Франции, Южной Франции и Ломбардии. Будучи сильной
личностью, он объединил под своей властью большинство катаров
Западной Европы и убедил их в необходимости принять его
радикальное учение. Движение катаров стало теперь в значительно
меньшей степени христианским и менее западным по своему
характеру. Восточные и нехристианские элементы пришли на смену
идеалу бедности и апостольскому образу жизни, которые были
определяющими чертами движения.
В своем большом обращении к собору катаров Никита призвал
западных братьев пребывать и впредь в мире и гармонии между собой.
Но эта просьба была невыполнимой. Характерной особенностью
европейской средневековой цивилизации была ее способность,
несмотря на временный спад в своем развитии, возрождаться вновь,
или приняв идеологию катаров, анти-Церкви, или же возвратившись в
лоно Римско-католической церкви. Христианство уже совмещало в
себе множество противоречивых элементов. Этим искусством
сосуществования, которое и представить себе не могут будущие
поколения, в полной мере, и даже больше того, овладели катары
Западной Европы. От движения катаров отпочковалось много групп,
имевших отличные от общих взгляды; в верованиях рядовых катаров
было много христианских представлений, некоторые из которых были
признаны церковью. Катары позднее развивали собственное
схоластическое учение; и в процессе дискуссии они все больше и
больше сближались со своими противниками, пока не начали ставить
те же самые вопросы и формулировать их схожим образом. В учении
катаров причудливо смешались евангельские тексты и различные
другие верования манихеев и гностиков.
Позднее в XII в. катары начали проникать в Восточную Европу, имея
в качестве базы в своем тылу епископальные города Рейнской области,
расположенные по Дунаю, вплоть до Пассау и Вены. Для катаров
настоящим раем были Италия и Прованс. В Италии у них было шесть
церковных организаций, из которых самой большой была церковь
Ломбардии, а в окрестностях Флоренции у них была собственная
духовная академия в Поджибонси. Среди катаров были представители
всех слоев общества, однако нотариусы и ткачи составляли элиту.
Начиная с XII в. и по XIX в. включительно ткачи представляли собой
передовой отряд пролетариата; они всегда численно преобладали в
нонконформистских движениях, будь то религиозных или
политических. В городах большинство сторонников катаров
составляли ремесленники и поденщики. В Южной Франции и
Провансе движению покровительствовали аристократы. Здесь
состоятельная аристократия находилась в постоянной конфронтации с
богатым высшим духовенством и монашескими домами, чьей
собственностью она хотела бы завладеть. Худородное дворянство
влекли к еретикам те же причины. Интерес женской половины
общества к катарам имел более возвышенную причину. Дамы, которые
публично провозглашали себя катарами, были grandes dames (знатные
дамы). Это были жены Раймунда VI Тулузского и Раймона-Рожера де
Фуа,
родственницы
королевы
Алиеноры,
дамы
высокого
общественного положения, такие как известная владелица замка
Бланш де Лорак, и монахини благородного происхождения. Некоторые
дамы имели домашних священников-катаров.
Чем же так привлекало людей XII в. учение катаров, в котором были
перемешаны гностические и христианские элементы? Прежде всего,
это была идея «чистоты». Это было фундаментальным убеждением
катаров, что существовало непреодолимое противоречие между душой
чистого человека и миром, лежащим во зле. Доказательством того, что
подобная точка зрения все еще сохраняет привлекательность для
людей высокого интеллекта и чистоты духа, является пример Симоны
Вейль, одной из наиболее духовных мыслительниц из среды
современных французских интеллектуалов. В поисках абсолютной
истины во время Второй мировой войны она совершила
паломничество в Тулузу, где проповедовали неокатары. «Чистота»
была необходима человеку, чтобы очистить мир и себя от всего
недуховного, которое по определению было «нечистым». Дух учения
катаров веет над колыбелью всех пуристов, и в первую очередь
пуритан. Прежде всего, как считали катары, в «очищении» нуждается
Библия. Ветхий Завет был подвергнут тщательному критическому
изучению. В Канон катаров из него перешли только тринадцать
пророков; книги Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней,
Премудрости Соломона и Псалмы (позднее были крайне популярны у
гугенотов). Христос не был Богом. Он и Дева Мария были духами
высшего порядка, их физические тела были одной видимостью. Души
людей представляли собой «падших духов», совращенных Сатаной на
Небесах и затем изгнанных на землю.
Между различными группами катаров были большие расхождения
во взглядах на происхождение космоса и роли в этом Сатаны.
Наиболее радикальные катары считали Сатану злым Богом, создавшим
космос, земной мир и плоть человеческую. Души людей, заключенные
в тюрьму на земле, могут быть искуплены только при условии полного
разрыва с материальным миром. Катары Испании и Италии считали
злого Бога равнодушной жизненной силой, действующей на
физическом уровне. Медицинские специалисты и другие ученые, чьи
интересы лежат в области натуральной философии, нашли это
представление о природе как автономной силе особенно
конгениальным. Один из последних катаров, который учил в Тревизо в
1280 г., утверждал, что Бог предоставил всему в мире идти своим
чередом. Не Бог, но собственная влага земли заставляет плоды расти и
созревать; люди умирают, как умирает скот.
Среди катаров нет единства во взглядах и на природу доброго Бога.
Один из последних учителей катаров Южной Франции считал, что
сама природа была добрым Богом, что земля, вода и ветер были
истинной троицей. Это был крайний взгляд на вещи. Основной смысл
учения заключался в следующем. Историю мира необходимо понимать
как конфликт между двумя богами, добрым и злым. Все страдания
человека коренятся в его невежестве: «дети тьмы» сражаются с
«детьми света». Ослепленные Сатаной, «дети тьмы» обращали свои
молитвы к злому Богу, Иегове, Ваалу, Юпитеру и Богу Римскокатолической церкви, стремящейся к власти, и все больше и больше
закабаляли себя. Человечество может быть искуплено через «истинное
знание», через признание правдивого и доброго Бога. Христос был
учителем, посланным этим добрым Богом. После его смерти Сатана
основал Сатанинскую церковь, Вавилонскую блудницу, церковь Рима,
которая теперь преследует «чистых», бедняков, истинных
последователей Христа и будет продолжать поступать так до конца
мира. Было еще одно утверждение (его придерживались некоторые
правоверные реформаторы XI в.), с которым были согласны катары:
Римско-католическая церковь не устояла перед соблазном стяжания
материальных благ и жаждой власти, и правит теперь в нечестивом
союзе с князьями мира сего. Ни церковь, ни светские князья не имели
права преследовать и судить еретиков, тем более осуждать их на
смертную казнь. (Это убеждение разделяли вальденсы.) Казнь
преступников и еретиков была чистым убийством. Все войны и все
крестовые походы греховны. В XII–XV вв. богомильская церковь
Боснии, верная своим пацифистским убеждениям, выступала в
качестве миротворца во всех спорных вопросах между монархией и
аристократией, католиками и богомилами, венграми и турками.
Пропаганда катаров против войны и крестовых походов была столь
эффективной, что католики были принуждены ответить; в их
обширных трактатах, оправдывающих войну и крестовые походы как
средство «защиты общественного порядка», мы видим, что
используемые теологами XII–XIII вв. аргументы подобны тем, к
которым прибегают теологи XX в.
Мир греховен, и человек, который стремится быть чистым и
безгрешным, должен отвергнуть его. «Совершенные» (perfecti)
решительно отвергали плотское начало, они воздерживались от
половых сношений и брака, практиковали самый суровый аскетизм,
вели страннический образ жизни в абсолютной нищете и
проповедовали. На народ это произвело глубочайшее впечатление, и
многие стали спрашивать себя, не появились ли наконец-то «истинные
монахи», прихода которых они так долго ждали. «Совершенные»
своим поведением показывали, чего может достичь человек, который
имеет «чистую душу». Их проповедь основывалась исключительно на
Новом Завете, они предлагали народу вероучительную литературу на
его национальном языке и имели в этом преимущество перед
католиками.
Каждый «совершенный» строил свою жизнь в соответствии с
требованиями духа, который стал его разумом и волей. Одним из
следствий этого было его право лишить себя жизни посредством
самоубийства. Самым предпочтительным способом было наложить на
себя добровольный строжайший пост (так называемое запощивание).
Прославление самоубийства было новым явлением в средневековой
Европе. В области Тулузы, где в XII–XIII вв. было много случаев
самоубийства «совершенных», в XVI–XVII вв. к подобному феномену
привело распространение идей Ренессанса и стоиков.
Радикализм церкви Чистых был обращен в равной мере и к народу, и
к людям образованным. Большинство сторонников секты вели более
или менее обычный образ жизни, они смотрели на «совершенных» как
на свой идеал, которому они готовы были последовать, но только при
приближении смерти, в преклонном возрасте. Преклонение людей
перед ритуалом катаров было особым источником беспокойства для их
оппонентов. Бернард Клервоский и другие проповедники обвиняли
катаров в скрытности и замкнутости. «Подобно преступникам,
боящимся света», они служат свои «богомерзкие литургии» в подвалах
городских зданий, в лесах и на пустырях. Говорили, что в местностях,
где они были наиболее влиятельны, например в Тулузе, Милане и
Флоренции, они даже использовали церкви для проведения своих
служб. Потрясение, перенесенное Бернардом и проповедниками
крестового похода против альбигойцев, было бы более глубоким,
пойми они, что во многом ритуалы катаров отражали практику ранней,
еще до императора Константина, церкви. Вся драма крестового похода
против альбигойцев 1208–1228 гг., во время которого движение
катаров было полностью разгромлено, заключена в одном
поразительном факте. Сильно изменившемуся христианству,
родившемуся в век варварства, испытавшему влияние Древнего Рима,
кельтов и германских племен, теперь был брошен вызов со стороны
тех, чей образ жизни и вера были столь радикальными и фанатичными,
что ситуация стала во многом напоминать ту, в которой находилась
первоначальная церковь. На протяжении первых четырех веков
христианство еще только формировалось и находилось в хаотическом
состоянии. Это было время, когда «цвели сотни цветов» (выражение
принадлежит Клименту Александрийскому) и господствовали
восточные и эллинистические влияния. Да и в самом христианстве
было множество всяких толков; из конфликтующих мнений рождалась
истина. В «открытом» и восприимчивом к новым идеям XII в.
появилась надежда, что христианская Европа вновь обретет
жизненную силу.
Религиозный обряд катаров был простым. В центре его была
молитва – ежедневная и еженощная. Гимны и хвалебные песнопения
играли важную роль в богослужении. Ритуал был таков: читалась
благодарственная молитва, происходило благословение и преломление
хлебов, и все участвовали в общей трапезе, так же как это происходило
и в ранней церкви вплоть до середины III столетия. Тогда агапа
(братская трапеза) была все еще тесно связана с Соепа Domini,
Вечерей Господней. Один из «совершенных» прочитывал гомилию
(проповедь), основанную исключительно на текстах Евангелий.
Литургия всегда заканчивалась поцелуем любви; затем верующие
становились на колени перед «совершенным», призывая Святого Духа.
Один раз в месяц конгрегация исповедовала публично свои грехи
одному из «совершенных»; этот обряд назывался apparelliamentum.
Церковь Чистых признавала только одно таинство – consolamentum
— возложение рук. Через него верующий получал от одного из
«совершенных» благодать Святого Духа, потерянного им, когда ангелы
ниспали из Рая. Прежде чем оно могло состояться, было необходимо
целый год провести в качестве катехумена (оглашенного); это было
временем испытания и покаяния. Consolamentum совмещало в себе
крещение, конфирмацию, посвящение в священство и соборование.
Кандидата называли «живым камнем храма Бога», «учеником Иисуса
Христа». Ему задавали вопрос: «Предаешь ли ты себя Богу и
Евангелию?» Этот священный договор, заключаемый в торжественной
обстановке, словно дававший клятву готовился к мученичеству,
завершался принесением клятвы быть верным учению катаров до
смерти. Это таинство давало верующему силы трудиться во имя
Христа.
Это было ответом катаров на мессу и другие таинства католической
церкви. В частности, католики почитали Крест, который для катаров
был символом победы Сатаны над Христом. Катары видели в мессе
греховную и глупую пародию на истинную «Божественную службу»,
умаление силы Святого Духа и одно суеверие. Утверждают, что
Алиенора, жена Раймунда VI Тулузского и родственница другой
хорошо известной нам Алиеноры, однажды тайно провела службу
melioramentum в той же капелле, где папа служил мессу.
Первоначальный успех катаров был столь ошеломляющим, что
Римско-католическая церковь едва успевала предпринимать
контрмеры, да и то с большим запозданием. Первый крестовый поход
1181 г. во главе с Анри, аббатом Клерво, против катаров и их
сторонника Роже II, виконта Безье и Каркассона, не получил большой
поддержки и был мало успешен. Со времени Третьего Латеранского
собора, который решил даровать первые индульгенции участникам
крестовых походов против катаров, прошло всего два года. Успех
пришел только когда Иннокентий III призвал северян-аристократов
принять участие в крестовом походе, обещая передать им в
собственность конфискованные земельные владения альбигойцев, а
короля соблазнил перспективой распространить его власть на земли
Юга. На Четвертом Ла-теранском соборе 1215 г. был принят канон «О
еретиках», и «пункт за пунктом была опровергнута доктрина катаров».
Доминиканский орден, основанный Иннокентием III для обращения
еретиков, первоначально не имел успеха. Как и цистерцианцы вместе с
папскими легатами. В 1204 г. состоялся последний публичный диспут
между катарами и католиками в Каркассоне. Присяжные заседатели в
количестве 26 человек, которые представляли интересы обеих сторон,
наблюдали за ходом дебатов. Подобная организация диспута была
типична для «открытого» XII в., когда при большом стечении народа
обсуждались фундаментальные вопросы веры. Таким же образом
проводились
подобные
мероприятия
и
в
просвещенных
мусульманских сообществах, а позднее и при дворе монголов.
«Действие важнее созерцания». Подобное многозначительное
утверждение содержится в письме, адресованном папой Иннокентием
III в январе 1205 г., накануне большой войны, своему легату Пьеру де
Кастельно, задачей которого было искоренить ересь на Юге. Фраза
Иннокентия стала девизом воинствующего Запада. Миссии по
утверждению христианства в иных странах и кампании по
просвещению народов, пребывавших во мраке невежества, и
наделение их при этом дарами «прогресса» перестали носить мирный
характер, и отныне основным элементом политики стала реальная
война, которая велась с помощью реального оружия.
Знать и дворяне Северной Франции, к которым обратился с
призывом Иннокентий, вначале колебались, но вскоре дали
положительный ответ. Папа призвал покончить с еретиками. Глагол
exterminare, который употребил в своей речи папа, в латинском языке
имеет два значения – «изгнать» и «казнить». Война, которая велась с
1208–1209 до 1229 г., была необычайно жестокой и фанатичной.
Осквернялись даже трупы, но наибольшему унижению подвергались
женщины, наиболее ненавидимые и наиболее обожаемые женщины
Юга. Царство королевы Алиеноры обратилось в пыль и пепел, а
вместе с ним ушла и женственная культура Юга и исчез «свободный
дух» трубадуров. Как это часто бывало в Средние века, люди нередко
переходили во враждующий лагерь. И в этой последней попытке Юга
защитить свою независимость от Севера некоторые католики, выходцы
из аристократических семейств, сражались на стороне катаров.
Рыцари, которые отважно воевали против арабов в Испании и приняли
участие в знаменитой битве при Лас-Навас – де-Толоса, пали в
Альбигойских войнах от руки своих бывших соратников-северян.
Среди тех, кого настигла подобная смерть, были король Арагона
Педро, барон д’Астарак и многие другие. Случалось и иное;
в окружении Симона де Монфора, который возглавил крестовый
поход, были капелланы катары. Война окончательно завершилась
после капитуляции Раймунда VII, графа Тулузского. Парадоксальный
факт, но, когда крестоносные армии Севера готовились к последнему
наступлению, третье поколение катаров было занято созданием новой
мирной церкви. Это была бы «церковь среднего пути». Многие черты
католицизма реформаторами были возрождены, и на смену буйному
радикализму представителей первого и второго поколений могли бы
прийти более умеренные взгляды. Это напоминало бы во многом
квиетизм, без всякого намека на революционное изменение мира.
Трибуналы инквизиции были учреждены в Тулузе, как только
альбигойцы потерпели поражение в открытой войне. Все лица
женского пола начиная с 12 лет и все мужчины старше 14 лет должны
были отречься от ереси. Никому не разрешалось иметь книги Ветхого
и Нового Заветов, не важно на латинском ли языке или родном;
единственно дозволенными были Псалтырь, Бревиарий и Часослов,
все на латинском языке. Синод в Тулузе в 1229 г. издал первый
перечень запрещений и ограничений при чтении Библии на
национальном языке.
Папский университет в Тулузе был основан в год великой победы в
1229 г. Он должен был стать центром воинствующего богословия и
оказывать поддержку нищенствующим орденам, в частности
доминиканцам, в искоренении ереси. Обвиненные еретики
передавались светским властям для вынесения приговора. В Италии
император Фридрих II и папа соперничали друг с другом в
составлении нового законодательства против еретиков. Император, в
присущей ему манере, перехватил лидерство. Он требовал сожжения
еретиков на костре, поскольку он видел в каждом бунтовщике против
власти еретика. Итальянские города не приняли оба предложенных
законодательства, имперское и папское. Папа объявил о вступлении в
силу своего закона на папских территориях в 1231 г., а в 1232 г. закон о
казни еретиков на костре был утвержден в империи. С 1233 г. папа
проводил политику насаждения инквизиции в городах Италии.
Восстания против трибуналов инквизиции, происходившие в Италии,
Южной Франции и Германии во второй половине XIII в., были
свидетельством
народного
сопротивления
этим
новым
беспрецедентным законодательным мерам. С появлением инквизиции
Средние века перестают быть «открытыми». Появляются «закрытое»
общество, «закрытая» церковь и «закрытое» государство позднего
Средневековья.
Это объяснялось основным правилом, которым руководствовалась
инквизиция: «Не может быть никаких споров с еретиками. Если еретик
обретет веру, его следует принять обратно в общение, если он
отказывается верить, ему следует вынести обвинительный приговор».
Инквизиция не нуждалась в каких-либо диспутах с людьми
противоположных взглядов, которые имели место в открытом мире XII
столетия. Инквизиция признавала только полную капитуляцию,
окончательное подавление сознания и интеллекта.
Все это имело ряд серьезных побочных последствий. Доносить на
еретиков стало считаться обязанностью каждого истинно верующего,
обвиняемому не раскрывали имени доносчика; все имущество
еретиков подлежало конфискации, в соответствующем размере оно
передавалось государству, информатору и церкви. Сопротивление,
оказываемое инквизиции, удалось постепенно сломить только
решительными действиями папства; особенно был известен
Иннокентий IV, который снова и снова выступал в поддержку
религиозной миссии фанатиков-инквизиторов. Институт инквизиции
формировался медленно, шаг за шагом, пока он не превратился в
безжалостную машину. Катары принимали смерть в спокойной
убежденности своей правоты, следуя своему девизу «Блажен тот, кого
преследуют за правое дело». Они говорили: «Нет смерти более
блаженной, чем огненная смерть».
Несмотря на все преследования, катары просуществовали в Южной
Франции до 1244 г. В Северной Франции начиная с 1233 г. подпольное
движение катаров безжалостно искоренялось. Выжившие спасались
бегством в Италию, где за катарами вновь начинали охоту секретные
агенты инквизиции. Катары бежали из Прованса не только в Италию,
но и в Каталонию, которая имела тесные связи с их родиной. Как
только инквизиции был открыт доступ в Испанию, она превратилась в
страну «двух наций». С одной стороны, была свободолюбивая,
неортодоксальная «францисканская» Испания с центром в Каталонии,
которая дала убежище многочисленным группам катаров, а также
вальденсам. Но была и другая Испания – страна святого Фернандо
Кастильского (правнука королевы Алиеноры), который своими руками
подбрасывал дрова в костер, на котором сгорали еретики. В первой
трети XIII в. в Кёльне, Страсбурге, Госларе, Эрфурте и в городах на
Дунае еще существовали отдельные группы катаров. Богемия приняла
у себя беглецов катаров и вальденсов, которые стали
предшественниками Яна Гуса.
Генеральным инквизитором Франции был Робер ле Бугр. Само его
имя указывает на то, что в его семье были еретики («Бугр» или
«булгар», то есть еретик); в итоге он окончил свои дни в королевской
тюрьме. В Германии в 1231–1233 гг. главным инквизитором был
Конрад Марбургский, который оставил после себя выжженную
пустыню. Конрад, устраивавший массовые сожжения еретиков, был
исповедником и духовным наставником святой Елизаветы Венгерской,
принцессы, проживавшей в Германии с детства, ставшей одной из
самых почитаемых средневековых святых. Три года Конрад
свирепствовал по всей Германии, преследуя еретиков; его
помощниками были Конрад, известный как Дорсо, и некто однорукий
и одноглазый Иоанн.
Германские источники того времени, в основном церковные, рисуют
ужасающую картину царства террора, развязанного этими тремя
«сумасшедшими», приверженными своей миссии очистить мир от
преступных еретиков. Они настойчиво пытались сделать чистыми
«чистых». Например, вот что сообщала Chronica regia Coloniensis
(Кёльнская королевская хроника): «В различных областях Германии
так случилось, что многие люди, благородные и неблагородные,
монахи и монахини, горожане и крестьяне, были осуждены после
скорого суда на смерть в языках пламени по воле брата Конрада по той
причине, что он считал их еретиками или только подозревал их в этом.
Человека могли казнить без права пересмотра его обвинения в день
вынесения приговора; было ли обвинение справедливым или нет, не
имело никакого значения». Конрад был убит 30 июля 1233 г.
сторонниками нескольких дворян, которые должны были предстать
перед судом. После его смерти архиепископ Майнца Зигфрид III и
некий доминиканец по имени Бернард отправили папе Григорию IX
подробный перечень преступлений Конрада, который развязал террор,
пытал узников и предавал их неправедному суду. Архиепископы
Кёльна и Трира еще раньше выступили с подобными обвинениями.
Папа, потрясенный открывшимися ему фактами, искренне негодовал:
«Мы озадачены тем, что вы позволили твориться подобному
беззаконию у вас в течение столь длительного времени и что вы не
поставили нас в известность о происходящем. Подобные деяния
должны быть нетерпимы впредь, и мы, данною нам властью,
объявляем, что все имевшие место судебные решения не имеют
никакой силы. Мы не можем позволить себе повторения таких
злодеяний, которые вы нам описывали».
В Германии смерть Конрада все восприняли так, как будто сгинул
сам дьявол. Неожиданно всем стал ясен абсурд происходившего, когда
все люди, стар и млад, столь долгое время боялись этого наводившего
ужас невзрачного человечка, разъезжавшего на крошечном муле в
сопровождении двух мрачных помощников. Люди удивлялись тому,
как вообще все это стало возможным. Однако возникает вопрос,
интересный не только с современной точки зрения, но который
проливает свет на некоторые черты инквизиции позднего
Средневековья, ускользающие от нашего внимания и которые могут
быть поняты только в контексте массовых психозов. Зачастую, когда
народные массы, побуждаемые религиозным рвением, стремились
«очистить» себя от «греховной нечистоты», истерическое благочестие
смешивалось со страхом перед всем чужеродным и адом. Этими
страхами и предрассудками и воспользовалась инквизиция.
Аристократия и епископат были настроены враждебно к инквизиторам
и в некоторых странах продолжали оказывать им сопротивление на
протяжении столетий, так как инквизиция покушалась на их правовое
положение и иногда выступала как законодательная власть. Такая
оппозиция существовала в Германии в XIII в. и в Испании в XV–
XVI вв. Конрад начал свою карьеру в Германии с проповеди
крестового похода в 1214 г. Он был страстным и искусным оратором,
одновременно поддерживая религиозную истерию в народе и разжигая
свои костры веры. Как это случалось с демагогами более позднего
времени, в итоге он отравился собственным ядом; уверовав в свое
господство над умами простых людей, зараженный алчностью,
ненавистью и завистью толпы, всегда готовой выплеснуть свое
недовольство властью, Конрад попал под влияние того самого народа,
вождем которого он намеревался стать. Ведущий стал ведомым и впал
в искушение. В каждом городе, замке и монастыре были свои
недовольные; были люди, готовые свести счеты. Конрад действовал в
Германии как катализатор. Его глубоко невротическая натура
провоцировала, в свою очередь, психозы в народной массе и у
отдельных личностей, сообщая им разрушительную силу.
Конрад был похоронен в Марбурге в новом кафедральном соборе,
поблизости от гробницы святой Елизаветы. Это был первый в
Германии собор, построенный в готическом стиле, ставший его
великолепным образчиком. В Южной Франции готический стиль
только еще зарождался после ее завоевания.
В Южной Франции, несмотря на суровые репрессивные меры,
прежние традиции продолжали существовать, хотя и под спудом.
Списки обвиненных инквизицией содержат имена дворян, клириков,
монахов, епископальных служителей, юристов, врачей и купцов, а
также отдельных чиновников, приехавших с Севера бороться с ересью,
но принявших сторону катаров. В Альби, Корде и Лиму всегда были
группы еретиков с разной степенью влияния. В Каркассоне в 1280 и
1291 гг. были совершены две удачные попытки нападения на архивы
инквизиции. Движение катаров вспыхнуло снова после 1295 г., когда
провансальцы, бежавшие в Комо, попытались отвоевать свою родину.
Около 1310 г. это движение подавила инквизиция. Однако «красный
Юг» (как его позднее назвали) продолжал волноваться; вскоре он стал
убежищем преследуемых «левых» францисканцев, иоахимитов и
еретической секты фратичелли. Здесь и в Каталонии эти беженцы
формировали свою особую интеллектуальную и духовную среду.
Однако в XIII–XIV вв. движение катаров все больше уходит в
Италию. Есть много общего между окситанским языком и фриульским
языком и между лигурийским и сицилийскими диалектами. Некоторые
современные филологи приписывают эту схожесть влиянию катаров,
которые, придя в Италию, уходили все дальше и дальше на юг.
Существовали хорошо организованные тайные маршруты, благодаря
которым «совершенные» имели возможность бежать из Франции и
Германии во все области Италии. Безопасность самих путей и беглецов
обеспечивала подпольная сеть посредников и проводников, которые
могли провести своих клиентов дикими и безлюдными тропами.
Наиболее безопасными убежищами были богатые процветающие
города, которые часто конфликтовали со своими епископами и
кафедральными капитулами. В городах еретики находили пристанище
у зажиточных горожан и даже у аристократов. У катаров были
могущественные покровители во Флоренции – семейства Кавальканти,
Барони, Пульчи и Чиприани; в Риме для них были открыты двери дома
сенатора Бранкалеоне. Часто катары находили заступников в лице
знати, поддерживавшей Гибеллинов; среди них был князь Эццелино III
да Романо и Уберто Паллавичини. Италия была единственным местом,
где катары пережили гонения XIII в. После 1300 г. итальянские катары
бежали на Сицилию, под покровительство короля Федериго III
Арагонского (1296–1337). Не позднее как в 1412 г. останки пятнадцати
катаров были эксгумированы и сожжены в Кьери близ Турина; столь
велик был страх властей, что яд этой «чумы» мог распространиться
даже из могилы и заразить здоровый итальянский народ.
Некоторые из наиболее энергичных итальянских инквизиторов
начинали свой путь как убежденные катары. Например, был известный
Райнир Саккони и его коллега святой Петр Мученик, умерщвленный
катарами. Петр был доминиканцем; многие его враги, включая
францисканцев, замышляли убить его. Его убийца по имени Карино
встретил свою благочестивую кончину в доминиканском приорате в
Форли, во главе которого стоял брат его жертвы. Этот эпизод
иллюстрирует сложность средневековых взаимоотношений, насколько
были переплетены судьбы врагов и друзей.
Эти сложные ситуации могли разрешаться по-разному. Во второй
половине XIII в. некий Арманно Пунджилупо почитался святым в
кафедральном соборе Феррары, где он был похоронен и в его честь
был устроен алтарь. Подготовка к его беатификации завершилась в
1300 г. И тут только инквизиция выяснила, что «святой» был еретиком.
Все его иконы были уничтожены, а алтарь и останки преданы
сожжению.
Церковные источники даже в XII в. переполнены жалобами на
«лицемерие» катаров, их способности ловко скрывать свои взгляды.
Народ, как утверждали, принимал катаров за святых; у них был такой
благочестивый внешний вид вполне благонамеренного человека, что
они могли повлиять на любого своим учением, врожденной
учтивостью и благотворительностью. Никодемизм – так это явление
начали называть впоследствии – вскоре стал большим искусством в
Италии. Никодемиты скрупулезно следовали внешним правилам
истинной веры, в то время как содержание ее выхолащивалось и ее
место занимало новое верование и новый дух. Поэзия нового стиля –
dolce stil nuovo — и куртуазной любви пропитана духом никодемизма,
как и само творчество Данте.
Один французский клирик писал в 1215 г., что Милан остается
основным оплотом еретичества. Папа Иннокентий III угрожал городу,
что его участь ничем не будет отличаться от участи, что постигла
альбигойцев. Его благочестивое намерение не могло быть реализовано
в полной мере, поскольку в самой Италии папство явно ослабело.
Наиболее острое оружие пап – интердикт и отлучение, столь часто
используемое в борьбе с городами и городскими республиками, вскоре
притупилось. В XIII–XIV вв. в таких больших городах, как Милан и
Флоренция, годами оставались под церковным запретом службы и
совершение таинств, чем пользовались «еретики», заполняя вакуум.
Даже такой признанный еретик, как Отто Висконти, некоторое время
продолжал быть архиепископом Милана. Вряд ли был хотя бы один
диоцез, епископ которого не выступал бы против папы. Иннокентий III
остро осознавал все более ухудшавшуюся ситуацию в среде
духовенства. В своем послании De Contemptu Mundi, опубликованном
незадолго до избрания его папой, он обличал клириков, которые
«ночью обнимают Венеру, а наутро славят Деву Марию». Во время
открытия Четвертого Латеранского собора 11 ноября 1215 г.
Иннокентий произнес речь, в которой он нарисовал мрачную
картину положения христианства и церкви, пребывавшей в упадке.
«Часто случается, что епископы, вследствие необходимости
выполнения своих многочисленных обязанностей, наличия у них
воинственных наклонностей, а также желания плотских удовольствий,
и вследствие многих иных причин, не в последнюю очередь
недостаточного духовного опыта и отсутствия пастырского рвения,
неспособны проповедовать слово Божье и управлять людьми».
Сельское духовенство жестоко угнетали знатные землевладельцы;
клирики были бедны как церковные мыши. Было много клириков,
которые едва могли писать и читать. Некоторые священники
содержали пивные, чтобы прокормить своих жен и детей. Суеверия,
гадания, занятие магическими обрядами и астрологией – все это
оказывало пагубное и развращающее влияние на духовенство. Вплоть
до эпохи Возрождения на повседневную жизнь людей влияли обычаи,
унаследованные от древних ритуальных практик нехристианских
религий. Некоторые итальянские чародеи учились своему ремеслу в
Испании, пока Сиена не стала центром итальянской магии,
итальянским Толедо. Магические обряды стали повседневной
практикой; с их помощью защищались от постоянных угроз городской
жизни и бедствий и войн, опустошавших сельскую местность. К этому
верному средству прибегали, чтобы расправиться с врагом на поле боя.
В это бурное время в Италии почти каждый город воевал со своими
городами-соседями, а в самих городах были соперничающие партии. В
Риме подобные враждующие партии вели постоянный спор за папское
наследие. В XIII в. папский престол оставался свободным в течение
более девяти лет. Выборы папы завершились безрезультатно,
соглашения достигнуто не было. Между правлением Целестина IV и
правлением Иннокентия IV престол был вакантным на протяжении 19
месяцев (1241–1242), Климента IV и Григория X – 2 года и 9 месяцев
(1268–1271), Гонория IV и Николая IV – 11 месяцев (1287–1288), и еще
2 года и 3 месяца прошло между правлением Николая IV и Целестина
V (1292–1294). Были еще периоды от 3 до 7 месяцев, когда престол
оставался вакантным.
Города и народ Италии уже давно научились справляться с
собственными проблемами без внешней помощи. Вряд ли
удивительно, что в таких условиях ересь находила для себя
благодатную почву. В нескольких городах власть захватывали
временно еретики. В Орвьето (не так далеко от Рима) еретики в 1199 г.
убили подесту, который недавно был назначен на свой пост церковной
фракцией с большим трудом. При поддержке Иннокентия III подеста
предпринимал решительные меры против ереси. Более двухсот дворян
были вовлечены в его убийство, получив клеймо «еретика». В 1204 г.
граждане Ассизи выбрали подесту, находившегося под отлучением, и
они остались верны ему, несмотря на возражения папы.
Сопротивление города было сломлено только после наложения на него
интердикта.
В том же Ассизи в 1204 г. уже восходила звезда святого Франциска.
Этот святой католической церкви, почитаемый его преданными
соратниками как «второй Христос», привлек к себе почитателей далеко
за пределами своей церкви и своего времени. Духовная сила,
исходившая от Poverello, затронула самых разных мужчин и женщин,
включая реформаторов времен Лютера, нонконформистов XVIII и
последующих веков и людей вне Европы и вне христианства. Мы
можем только гадать, было ли это чистой случайностью, что самые
первые письменные заметки о нем, свидетельства его первых и
ближайших соратников, были открыты вновь только в конце XIX в.
Весьма знаменателен и тот факт, что материалы о нем были найдены в
архивах ордена клариссинок, францисканских монахинь, куда их
передали в свое время на сохранение. И разве случайно, что только
теперь изучение наследия святого Франциска значительно
продвинулось вперед и позволило слой за слоем снять налет
притворного благочестия и сентиментальности, зачастую сознательно
привнесенных в учение святого, подобно тому как это происходит,
когда мы открываем раннехристианские изображения в катакомбах и
вновь проявившиеся черты уже начинают походить на реальные?
Автор жития Франциска Фома Челанский описывает облик святого,
что находит подтверждение в ранних портретах, еще свободных от
более поздней идеализации образа. Это фреска в монастыре СакроСпеко в Субьяко, портрет на хорах церкви Сан-Франческо-а-Рипа в
Риме и фрагменты цикла росписей живописца Бонавентуры
Берлингьери в церкви Сан-Франческо в Пешии.
«Роста он был скорее невысокого; голова небольшая и круглая. Лицо
вытянутое, скулы выдающиеся вперед, лоб гладкий и низкий. Глаза
средние по размеру и черные, взгляд прямой; волосы темные, брови
прямые. Нос хорошо сложенный, тонкий и прямой; уши торчащие, но
утонченные. В беседе он был дружествен, страстен и убедителен.
Голос его был ясный, мягкий и внятный. Губы тонкие, зубы белые,
ровные и тесно расположенные. Борода черная и довольно редкая.
Шея тонкая, плечи прямые, руки короткие, кисти рук маленькие с
длинными пальцами и узкими ногтями. Ноги тонкие, ступни ног
небольшие. Кожа нежная, плоть истонченная. Одежда его была грубой;
спал он мало».
Портрет точный, исчерпывающий и соответствовавший оригиналу.
В 1260–1263 гг. Генеральный капитул ордена францисканцев поручил
министру-генералу Джованни да Фиданца, известному как
Бонавентура, составить официальное жизнеописание святого
Франциска. После того как оно появилось, была сделана попытка
выявить все письменные биографические сведения из ближайшего
окружения святого и уничтожить.
Ни Челано, ни Бонавентура не показывают нам подлинный облик
святого, человека, который одновременно источал радость и печаль, в
котором соединялись безмятежность и чувство горечи, спокойствие и
порывистость, он вселял радость в людей и всякую живую тварь. Но
был аскетически суров, в нем была сила отцов пустынников, чей дух
был рожден из любви и огня, а лик омыт слезами и кровью, – это был
человек распятый. Появление на теле Франциска стигмат, Христовых
ран, – первое свидетельство о подобном феномене среди христиан
Запада. Восточная церковь ничего не знала о подобных чудесах и знать
не хотела. В восточном христианстве никогда не акцентировалось
внимание на Страстях Христовых. Важнее было Преображение
Господне. Христос был владыкой Космоса. Когда он пребывал в своей
человеческой ипостаси, его осиял дивный свет, исходивший «от
тройного солнца Божества». Таковым было учение о человеческой
природе Христа в восточной церкви.
Однако прежде, чем Бог стал совершенным человеком, он был
рожден простым младенцем, которого положили в ясли, чтобы все
могли его увидеть. Франциск поставил в Греччо рождественские ясли
не в качестве праздничного украшения, но как напоминание о
пророчестве волхвов, обращенное ко всем христианам и богословам:
«Узрите вашего Бога, бедное и беззащитное дитя, и бык, и осел рядом
с ним». Вальтер фон дер Фогельвейде высказался подобным образом:
«Ваш Бог происходит от вашей плоти. Он живет в вашем ближайшем
окружении, в каждом человеке, поскольку все люди – ваши братья».
Вся жизнь святого Франциска, обрученного с Госпожой
Бедностью, – это послание великим мира сего, которые в этот
судьбоносный час боролись в Европе и Италии за власть над
человечеством. В послании катарам было сказано: «Бог не только
„чистый дух“, но также и человек плотский, страстный и
беспомощный. Кровь людей, которые все связаны братскими узами,
бесценна, чтобы ее можно было проливать в сражении». К
византийцам и восточной церкви были обращены следующие слова.
Даже в Преображении Христос является нам в облике простого
человека, тело которого носит на себе следы распятия (таким было
видение святого Франциска Ассизского на горе Ла-Верна). Риму,
церкви, которая претендовала на власть над императорами и королями
всего мира, было сказано следующее: Христос пришел на Землю,
чтобы быть слугой для Себя Самого. Итальянским городам,
охваченным войной, как и весь христианский мир, напомнили о том,
что христиане призваны быть миротворцами. Homo homini lupus est —
«человек человеку волк». Таково было пессимистическое кредо
античного мира и политическая реальность Средневековья. Франциск,
который проповедовал зверям и сдружился с «братом-волком», не
принимал этой реальности, он учил, что все создания, все люди были
созданы Богом, чтобы быть братьями.
Но было бы неверно представлять католического святого как
рядового протестанта. Протестант обязательно протестует против
чего-то или кого-то; к Франциску не применимо слово «против».
«Бедный Франциск» не читал проповеди против катаров и вальденсов,
несмотря на то что он хорошо представлял, кто они такие. Не
проповедовал он и против императора и императорской партии в
Италии, когда они начинали свой последний этап борьбы с папством.
И это в то время, когда Франциск обладал наибольшим влиянием.
Франциск был также молчаливым свидетелем уже упомянутого
конфликта между горожанами Ассизи и папой в 1204 г.; тогда он
только что вернулся в город из Перуджи, где он был в плену из-за его
участия в войне между Перуджей и Ассизи. Не проповедовал он и
против папы, но скорее предал себя его воле, своему епископу и всему
духовенству. Франциск, так и не ставший священником, в
«Завещании» говорил о своей вере им: «Если они и будут преследовать
меня, я все равно буду обращаться к ним за помощью». Он не
признавал никаких границ в общении, он мог на равных обратиться и к
султану, и к братьям.
Франциск учил о Благой Вести как о послании радости и любви. Бог
живет в мире с человеком, посредник в общении Христос. Духовный
опыт Франциска, когда он и Христос стали единым целым, –
исторический факт. Средневековому обществу, когда повседневностью
стали войны, мятежи, ненависть, зависть и жажда власти, святым был
брошен величайший вызов. Франциск понимал, что в таком мире
иметь открытое сердце значило готовность принять мир во всей его
полноте и преобразить его своей чистой жертвенной жизнью.
«Терпимость» значила для Франциска то же, что и для апостола Павла
и Христа: смирение перед лицом смерти на Кресте, ну а в
повседневной жизни – несение своего креста в этом мире вплоть до
смерти.
Джованни Бернардоне родился в 1181 или 1182 г. в Ассизи. Его
отцом был Пьетро Бернардоне, зажиточный торговец тканями. По
своим коммерческим делам ему часто приходилось посещать Южную
Францию. Видимо, он был там, на торговой ярмарке, когда родился
Джованни, и по возвращении он дал своему сыну еще одно имя
Франческо в честь близкой ему страны. Мать ребенка могла быть
француженкой, уроженкой Пикардии. В юности жизнь Франциска
была похожа на жизнь любого отпрыска богатого семейства в
процветавшем городе, отличавшемся вольными нравами. Только после
болезни и плена он словно в первый раз взглянул на окружавший его
мир глазами Создателя. Ему открылось, что его первейшей
обязанностью было культивировать в себе спокойную отрешенность от
всего, что было связано с войной и вечными соблазнами городской
жизни, покончить с завистью и ненавистью. «Послушай и пойми, до
этого времени я называл Пьетро Бернардоне своим отцом. Но теперь,
когда я намерен служить Господу, я возвращаю этому человеку все
деньги, что приносят ему столько беспокойства, и всю одежду, что
была его собственностью, и отныне буду говорить так: мой „Отец,
который на Небесах“, а не „мой отец Пьетро Бернардоне“».
Он радостно оставил мир, чтобы служить миру. Франциск стал на
путь совершенной бедности, зарабатывая хлеб насущный трудом своих
рук или прося милостыню; и, когда он был в дороге, он проповедовал.
Он так определил самое главное в своем послании: «Бойтесь и
почитайте Бога, восхваляйте и благодарите Его… Отца, Сына и
Святого Духа… Кайтесь, ибо близок час кончины нашей…
Исповедуйте все ваши грехи… Благословенны те, которые перед
смертью успели покаяться, ибо пойдут они в Царство Небесное, а все
нераскаянные – в вечный огонь… Берегите себя от зла и стойте в
добре до конца».
Франциск и не думал основывать монашеский орден. Со своими
братьями он просил подаяние и проповедовал по всей Италии, Южной
Франции и Испании. Люди толпами шли за ним, обретая мир и
радость, обретая новый образ Господа и новое братство.
Что отличало этих «кающихся из Ассизи», как они называли себя, а
все они были мирянами, от еретиков всякого рода, «бедных людей
Христа», вальденсов и альбигойцев, которые тоже странствовали по
дорогам Юго-Западной Европы, уча и проповедуя? Основное отличие
состояло в том, что Франциск полагал, что необходимо получить
благословение папы и принять устав братства, чтобы не дать ему
исчезнуть в случае гонений. Опасность была реальной, вальденсы
намеревались найти убежище под кровом новой общины, ряды
которой росли с фантастической скоростью. К 1282 г. Францисканский
орден владел 1583 домами в Европе. Но сам Франциск не желал иметь
никакого «дома», никакого надежного пристанища, ни монастыря, ни
собственности, ни привилегий. Все это были для него оковы,
связывавшие его с мирскими делами. Его братство должно было быть
открытым и беззащитным. Он строго запретил братьям идти в Рим за
охранной грамотой и просить папу о привилегиях. Все верные Христу
и его ученики на земле должны пребывать в абсолютной бедности, без
какой-либо собственности и защиты со стороны закона. Такой полный
отказ от всего создавал новый вид аскетизма, который давал новое
видение мира.
Можно вспомнить один эпизод, который свидетельствует о глубокой
убежденности Франциска в возможности существования христианства
без монастырей. В 1220 г. он распорядился закрыть дом учебы в
Болонье, который основал Пьетро Стачча, министр-провинциал
францисканцев и известный юрист. «Вы пытаетесь разрушить мой
орден; мое убеждение и желание состоит в том, чтобы братья, следуя
примеру Иисуса Христа, отдавали больше времени молитве, чем
учебе». Франциск отлучил юриста от церкви и, как говорили, вплоть
до своей смерти отказывался отменить свое решение. Франциск
действовал сознательно. Новые теологи пытались заключить Бога в
тесные рамки своей философской системы, привязать божественную
суть к своим желаниям и целям. Законодатели церковного права и
юристы стремились превратить римское домовладение папы в бастион
земной власти. В своей борьбе за утверждение прав курии и церкви
средневековое папство прошло долгий путь к вершинам своего
могущества, которое закончилось упадком.
Домовладение было базовой организационной единицей в мире
Средневековья – укрепленные дома, другими словами, замки, дома
патрициата в городах, дома землевладельцев, епископские и
монашеские дома. Вполне понятно, что такое общество должно было
попытаться навести порядок в постоянно множившихся общинах
«меньших братьев», или миноритов, как они называли себя с 1216 г.,
объединяясь вокруг святого Франциска. Таким образом, был основан
орден. Франциск и его самые первые и ближайшие соратники были
мирянами. К 1219–1220 гг. братство уже сложилось в монашеский
орден. За несколько лет до своей смерти вследствие болезни
Франциску пришлось оставить управление орденом. Тем не менее, он
попытался закрепить в новом уставе основные принципы монашеской
жизни ордена – постоянная молитва и труд. Хотя в каких-то вопросах
ему пришлось пойти на компромисс. В уставе, который получил
окончательное одобрение папы Гонория III в 1223 г., известном как
Regula Secunda или Bullata, крайне важные пункты о бедности были
вычеркнуты и смягчены; полную бедность могли практиковать только
отдельные личности, и отсутствует любое упоминание о возможности
ведения проповеди странствующими проповедниками. Теперь
францисканцы уже образовали орден и, подобно другим орденам,
были готовы вести борьбу за привилегии в каждом христианском
городе; основными их соперниками были доминиканцы.
Последние годы жизни Франциск мучительно переживал, что его
идеалы все больше извращаются. Постоянно созерцая распятого
Христа, он все глубже переживал его страдания, ставя себя на Его
место. Незадолго до своей смерти он обнаружил на своем теле раны,
которые соответствовали пяти ранам его Владыки. Он предпринял
самые тщательные меры предосторожности, чтобы скрыть этот
ужасающий факт от своих ближайших учеников, с которыми он жил
теперь вместе и защищать которых стало его основной задачей. Самым
дорогим для него был, пожалуй, Лео, имя которого присутствует всего
лишь в двух сохранившихся документах, написанных рукой святого.
Один из них – письмо: «Брат Лео, ваш брат Франциск посылает вам
свое приветствие и пожелание мира. Мой сын, я разговариваю с вами
подобно матери, приводя в этом письме все пожелания и советы, что я
дал вам во время нашего общения. Если вы поймете, что ваше решение
будет в высшей степени угодно Господу нашему, и вы можете
последовать Ему и принять на себя Его бедность, сделайте это по
благословению Господа Бога и следуя моему наставлению. А если это
будет необходимо для спасения вашей души или для вашего утешения
прийти ко мне и если вы захотите этого, тогда, Лео, приходите».
В другом документе мы находим на одной стороне благословение
брату Лео, а на обороте – благодарственный гимн: «Ты – святой,
Господь и Бог, ты Бог всех Богов, Бог, что творит чудеса. Ты сильный,
Ты великий, Ты высочайший, Ты всемогущий. Ты – святой отец, царь
неба и земли. Ты – единственное и высочайшее благо, единственный и
истинный Господь Бог. Ты есть любовь и милость, Ты есть мудрость,
Ты есть смирение, Ты есть терпение, Ты есть красота, Ты есть
спасение, Ты есть покой, Ты есть радость. Ты – наша надежда и наша
доброта. Ты есть справедливость и умеренность. Ты есть сила и
благоразумие. Ты есть богатство и достаток. Ты есть кротость. Ты есть
наш защитник, наш страж, наш покровитель. Ты есть наш щит, наше
убежище и наша добродетель. Ты есть наша вера, надежда и
сострадание. Ты есть наша величайшая услада. Ты есть бесконечная
доброта, величие и восторг. О, мой Господь, всемогущий,
милосердный Бог и Спаситель».
Этот гимн полностью свободен от жалоб и упреков, которыми были
наполнены последние года и дни жизни святого, когда он завещал
миру свое наиболее ценное личное наследие. Он выявил новую
особенность человеческой природы: радость рождалась от
добровольного и полного предания себя страданию, желания вкусить
его горчайшие плоды. В Ассизи, в саду женской францисканской
общины при церкви Сан-Дамиано, умиравший человек, наблюдая
гибель своих трудов, все еще мог проникновенно распевать лауду
«Песнь о солнце».
Орден Франциска сыграл ведущую роль в мирном движении под
названием «Великая Аллилуйя», которое было подобно весенней буре,
случившейся на Пятидесятницу, и охватило многие города Северной
Италии: в Парме его представителями были братья Бенедикт и
Джерардо, в Пьяченце – брат Лео. Старые распри были забыты,
враждовавшие противники примирились; каждый слезно покаялся в
своих грехах, каждый был охвачен чувством братской любви и
радости.
Затем весенний ливень сменился засухой. Войны продолжились.
Ясно видно, что великую францисканскую религиозную поэзию
(высочайшее европейское достижение в этом жанре) создавали люди,
убежденные в реальности бесконечных страданий. Секвенция Dies
Irae, Dies Illa (лат. «день гнева») по-прежнему являет собой главную
тему заупокойной мессы католической церкви. Она исходит из сердца
ее автора-францисканца, потрясенного проповедью святого Франциска
о страданиях, страхах и надеждах человечества. Страдание и радость
неразрывны; так утверждается в этом францисканском гимне, даже,
скорее, поэме, которая является одновременно и церковной, и
секулярной. Гениальным поэтом, писавшем в жанре лауда (ит.
«хвала»), находившемся под влиянием фольклора, был автор
известнейшего средневекового гимна Stab at Mater. Им был Якопоне да
Тоди
(1230–1306),
юрист
по
образованию,
благородного
происхождения, гедонист по образу жизни. Он стал братом-мирянином
ордена францисканцев после ужасной смерти своей невесты во время
свадьбы. Якопоне восхвалял святую бедность Франциска. Так как он
был миноритом и открытым сторонником семейства Колонна, папа
Бонифаций VIII бросил его на пять лет в тюрьму. Якопоне был
выпущен на свободу только после смерти папы.
Если смотреть вверх по направлению к Ассизи со склона горы
Субасио, засаженного оливковыми деревьями и застроенного
небольшими домами, можно обнаружить несколько каменных
строений. На вершине стоит церковь Сан-Франческо, место упокоения
святого Франциска, окруженная массивными постройками, словно
вырастающими из горного склона. Две церкви, большой мужской
монастырь с внутренними дворами и двенадцать небольших башен
образуют все вместе огромную цитадель. Все это, конечно, было
построено не в один день. Но именно строительство обширной
погребальной церкви и сбор необходимых для этого огромных
денежных сумм привели в 1230 г. к открытому конфликту между двумя
соперничавшими внутри ордена партиями, которому было суждено
продолжаться на протяжении столетий, хотя названия фракций могли
меняться. В первой половине XIV в. орден, казалось, распадется на
несколько еретических группировок. К началу XV в. эта опасность
была преодолена, но вместо этого появилась угроза раскола между
обсервантами, желавшими возродить первоначальные идеалы святого
Франциска, и конвентуалами вместе с занимавшими нейтральную
позицию братьями в качестве третьей силы. Строительство базилики
стало символом победы конвентуалов над «спиритуалами», которые
апеллировали к завещанию святого Франциска и требовали
соблюдения абсолютной бедности.
Те, кто считал себя духовными наследниками святого Франциска,
успеха, можно сказать, не имели. В то время как ближайшие и самые
преданные последователи святого, Лео или Жиль, удалились в
отдаленные сельские общины, спиритуалы, или, иначе, zelanti (ит.
«ревнители»), стали партией фанатиков, которые на протяжении всего
XIII в. соперничали с конвентуалами за главенство над орденом. Илья
из Кортоны, вождь конвентуалов, который занимался строительством
базилики в Ассизи, и был министром-генералом ордена, безжалостно
преследовал спиритуалов; их глава Цезарий Шпейерский,
францисканский провинциал Германии, был даже заключен в тюрьму.
В 1239 г. диктаторское правление Ильи стало невыносимым для
ордена; папа лишил его поста, и впоследствии он стал сторонником
императора Фридриха II. Первый министр-генерал из спиритуалов был
Иоанн Пармский (1247–1257). Однако во время его правления
появились первые зловещие признаки грядущей катастрофы. В 1255 г.
брат из Пизы Герард да Борго-Сан-Доннино был приговорен к
пожизненному заключению. Герард написал введение к трактату
аббата Иоахима Флорского и опубликовал его в Париже вместе с
произведением аббата. Во введении говорилось о третьем
предсказании Иоахима, согласно которому плотская церковь уступит
место спиритуалам францисканцам. В ордене явно оформилось
иоахимитское крыло, представители которого считали себя
избранными людьми будущего, которым предназначено стать
наследниками папской церкви. Компрометирующая спиритуалов связь
с экстатическими пророчествами сделает их жертвой будущих
преследований, которые не утихнут вплоть до конца XIV в.
Вокруг спиритуалов сформировалась атмосфера интеллектуального
и религиозного поиска, которая подвигла Роджера Бэкона заняться
научными исследованиями, а Уильяма Оккама – философскими
теориями. Оба были монахами-францисканцами. Преследуемые
спиритуалы бежали из Италии в Южную Францию, Испанию и на
Восток. К последнему году XIII в., например, относится сообщение,
что некоторые из них отправились в Армению.
Эти «левые» францисканцы, в отличие от самого Франциска,
протестовали против сложившегося в мире порядка. Против суетности
орденских монахов и их участия в политике, против доминирования
Римской курии над орденом, ставшим орудием папской пропаганды и
сотрудничавшим с инквизицией.
Отказ от идей святого Франциска в самом ордене не мог не иметь
благотворного эффекта. Это значит, что в некоторых францисканских
монастырях всегда приветствовались радикальные взгляды в религии,
философии и политике; в таких домах наблюдалась враждебность к
Риму и одновременно имело место почитание памяти Бедняка из
Ассизи, как вождя новой эпохи христианства и человечества, эпохи
рожденного вновь Христа, пришедшего освободить своих братьев от
цепей Закона. В Италии, Южной Франции и Испании, а позднее также
и в Германии наиболее активная часть францисканских монахов и
монахинь объединилась с последними выжившими вальденсами,
альбигойцами и другими подобными движениями, находившимися в
подполье. Образовалась настоящая отдельная церковь со своими
святыми и мучениками, среди которых были те самые спиритуалы,
казненные Римом. Например, четыре спиритуала, приговоренные в
Марселе в 1318 г., были почитаемы как «католические и славные
мученики» во всей Южной Франции и Каталонии.
Большинство орденских братьев, однако, поддерживали победивших
конвентуалов. Последние считали своим долгом сражаться на трех
фронтах: против проникновения в их дома спиритуалов, против
еретиков всякого сорта и против ограничительных практик
университетов, где не приветствовали преподавателей – монахов
нищенствующих орденов.
Хотя другой большой нищенствующий орден, орден доминиканцев,
был основан примерно в то же время, его положение было во многом
иным. Доминик, кастилец по рождению, научился распознавать
еретиков в Лангедоке, когда он еще был молодым человеком. Его
орден стал мечом церкви, направленным как против внутренних, так и
внешних врагов. Доминиканцы, domini canes, псы Господни, нашли
свое главное призвание в инквизиции. Со времени папы Григория IX
они занимали особое положение в Риме как самые верные помощники
папы в решении всех вопросов, касавшихся правой веры. Томизм, с
1286 г. бывший официальной идеологией ордена, после борьбы,
продолжавшейся с XIII по XX в., стал господствующим учением
католической церкви. Доминиканцы были также полезными
помощниками пап в их диспутах с епископами и с местными
церковными институтами.
Братьев ордена, основанного святым Домиником (скончался в
1221 г., канонизирован в 1234 г.), никогда не терзали душевные
искушения, которые испытывали последователи святого Франциска.
Повышенная эмоциональность и экстаз, пророчества и эсхатология –
все эти черты были чужды темпераменту доминиканцев.
Доминиканцы подвергались иному искушению – жажде познания; они
стремились исследовать «высоты и глубины Божества». Однако
достижения Майстера Экхарта и других французских и немецких
доминиканцев показывают, что и они были свободны от всяких
ограничений.
Оба ордена предприняли особые усилия, чтобы привлечь к себе
мирян и женщин, тех самых людей, у которых отсутствие позитивного
религиозного чувства в значительной степени способствовало
быстрому распространению движений катаров, вальденсов и других
неортодоксальных религиозных групп. Франциск основал свой
«второй орден» кларис-синок, который возглавила святая Клара
Ассизская. В 1212 г. в Порциункуле она приняла обеты добровольной
бедности и целомудрия. Доминик с самого начала был решительно
настроен против основания женской общины в своем ордене. Его
чисто мужскому характеру претила сама мысль попечения о женских
душах. В итоге, когда все же были основаны несколько обеспеченных
доходами женских домов Доминиканского ордена, мужская часть
ордена пожелала избавиться от ответственности за их духовное
руководство. Однако в Германии им вменили это в обязанность; там
расцвел тот самый мистицизм, что стал прекрасным плодом
христианства в Германии.
«Третьи ордена» францисканцев и доминиканцев были
предназначены для мирян, которые могли принимать также и бывших
членов прекративших свое существование братств. Продолжая жить в
миру, человек мог попытаться реализовать в своей жизни монашеский
идеал. В этих орденах подвизались известные святые: Елизавета
Венгерская, Людовик Французский, Ядвига Силезская.
Судьба бегинов, которые в XIV в. часто искали защиты у
доминиканцев, чтобы избежать обвинений в ереси и преследований,
показывает, как быстро, в постоянно менявшихся обстоятельствах
тогдашней жизни, меняло свой характер народное религиозное
движение. Из левого оно становилось правым, из ортодоксального
превращалось в еретическое. Первые бегины, точнее, бегинки
появились в Льеже в 1170–1180 гг.; это были женские общины в тех
областях, где женское население преобладало. Они продолжали вести
обычную жизнь, занимались прядением, ткачеством и другими
подобными ремеслами, но они находились под духовным
руководством. Движение быстро распространилось через прирейнские
города в Германию и во Францию, а также в другие католические
страны, и появилось мужское крыло движения. С самого его начала
бегинов подозревали в ереси или, по крайней мере, считали, что они
близки к ней; поэтому они подвергались постоянным нападкам. Само
их название вызывало подозрения. Современные исследователи
считают, что слово begina происходит не от слова beige (бежевый),
цвета их монашеских одеяний, но от альбигойцев. Бегинами снова и
снова называли еретиков, так что слово стало синонимом еретика. И
правое, и левое крыло бегинов в равной мере подвергалось
преследованиям. В 1311 г. папа Иоанн XXII отлучил от церкви всех
бегинок и бегардов; несколько лет спустя он был принужден изменить
свое решение. В движении бегинов мистика, как ортодоксальная, так и
еретическая, нашла для себя благодатную почву.
Глава 9
Интеллектуальное движение и
университеты
От Средневековья нам осталось несколько значимых общественных
институтов: конституционная монархия, парламент, суд присяжных,
Римско-католическая церковь и университет. Интеллектуализм и
питавшие его университеты – специфически европейский феномен. В
университетах были заложены основы научной культуры нашего
современного мира, в них сложилась привычка к детерминированному
мышлению, что положило начало системным исследованиям и сделало
возможным появление естественных наук и технической цивилизации,
необходимого условия для формирования больших индустриальных
сообществ. Университет, типично средневековое и европейское
явление, тем не менее многое заимствовал из Античности и
исламского мира. Интеллектуальная жизнь в средневековой Европе,
особенно в ее южных и северо-западных областях, находилась под
влиянием арабского и мусульманского и также еврейского мира.
Испанский ученый X. Рибена-и-Тарраго утверждал, что
средневековый университет многим обязан системе образования у
арабов. Нет никакого сомнения в том, что мусульманская Испания
оказывала стимулирующее воздействие. В промежутке между 632 и
732 г. ислам утвердился на всем пространстве от Персии до Испании и
окончательно сложился исламский мир. К концу VIII в. мусульманское
вероучение достигло вершины своего развития. Ислам стал закрытым
обществом, гражданская и духовная власть были тесно взаимосвязаны,
и юриспруденция означала знание практических предписаний религии.
Мир был строго поделен между dar-al-islam, людьми, живущими под
мусульманской властью, и dar-el-harb, землями, не обращенными в
ислам, возможно, местами будущего военного противостояния. Однако
это закрытое общество было подобно филигранному изделию,
характерному для исламского декоративного искусства. В нем было
множество проемов и отверстий, через которые могло проникать
инородное влияние. В исламских государствах христиане и евреи
занимали иногда самые высокие посты в государственном управлении
или финансовых учреждениях; их называли «людьми Книги»,
приверженными Священному Писанию. Они и представлявшие их
религиозные общины пользовались определенными правами, которые
гарантировал им заключенный с ними договор.
Есть апокрифическое высказывание Мухаммеда, которое звучит так:
«Моя община будет разделена на семьдесят три ереси (firaq), из
которых только одна будет спасена». Действительно, ислам породил
множество сект, в нем много философских и мистических тайных
учений, в которых отражены верования покоренных исламов народов.
В XI в. в Испании существовало множество мелких роскошных дворов
соперничавших между собой мусульманских владык, где развивалась
светская блестящая культура. Севилья, Кордова, Малага, Валенсия и
Сарагоса соревновались, кто из них представит лучшего писателя и
поэта. Некоторые правители были сами знаменитыми поэтами, такие
как Мутамид ибн Аббад из Севильи (1069–1091). В христианской
части Испании эта цивилизация вызывала в одно и то же время страх и
восхищение. Во время этого периода испанский язык заимствовал ряд
арабских слов, которые относились к области управления, техники и
культуры. Просвещенные испано-арабские принцы Тайфы имели
своих последователей в лице императора Фридриха II Гогенштауфена
и испанских и португальских королей-«философов» XII–XIII вв. При
дворах мусульманских правителей устраивались диспуты между
учеными и теологами трех религий: ислама, иудаизма и христианства.
Посланник императора Оттона I был крайне удивлен, когда узнал, что
важные придворные должности при одном из этих дворов занимали
христианские прелаты и еврейские раввины.
Правоверные ислама сопротивлялись, как могли, подобной
терпимости, пока им на помощь не пришли добровольные помощники
из сердца африканской пустыни и гор Высокого Атласа. В XI в.
Альморавиды, кочевое племя из Сахары, ворвались на сцену истории.
Их первой победой было завоевание Марокко (1056). Местные
верования были искоренены, и в течение всего 25 лет в СевероЗападной Африке образовалась большая империя.
Прибытие Альморавидов в Испанию стало сигналом для бегства на
север во Францию, Германию и Италию большого числа евреев,
спасавшихся от примитивного исламского и африканского фанатизма
захватчиков; они унесли с собой культуру мысли, которую во многом
обогатил ислам.
Правление Альморавидов закончилось в середине XII в.; они
оставили после себя богатое наследство, тесные связи между
Испанией и Марокко, благодаря которым произошло возрождение
испано-мавританской культуры. Альмохады, горные берберские
племена, пришли на смену Альморави-дам. Они приступили к
политической и религиозной реформам и, как и их предшественники,
ответили на призыв очистить ислам от нездоровых связей с порочным
и неверующим неисламским миром. Однако Альмохады вскоре
адаптировались к господствовавшей в обществе интеллектуальной и
культурной среде, и создание величественной цивилизации середины
XII столетия продолжилось. Ее великолепные мечети, свидетели
былого величия, сохранились до наших дней. Это Кутубиджа в
Марракеше, Хиральда в Севилье, мечеть Хассана в Рабате. Мощные
оборонительные стены их городов с монументальными воротами
послужили образцом при строительстве норманнских твердынь на
Сицилии, в Неаполе и в Англии и для замков крестоносцев в Святой
земле. Возродились литература, философия и наука. Поэты, историки,
философы и теологи творили при дворе в Марракеше. Ибн Туфайль и
Аверроэс (Ибн Рушд) были наставниками принцев Альмохадов. В
таких условиях в XII в. особенно успешно развивалась исламская
схоластика. Порядок проведения вероисповедных диспутов сложился
еще в IX в. Если обсуждаемую тему нельзя было проверить словом
Корана, тогда обращались к авторитетному суждению. Оно могло
исходить от патриархов ислама, опираться на высказывания самого
Мухаммеда или его соратников. Если и они не давали ответа, то тогда
под рукой были последние труды теологов-современников. Подобное
отношение, характерное и для европейских христианских схоластов,
которые искали ответов у Отцов Церкви или великих ученых
Античности, здесь имело свой прецедент.
Внутренние конфликты в исламе вследствие различий в учении
имели двойственную причину. С одной стороны, существовали
юриспруденция,
грамматика,
лексикография,
история,
литературоведение, поэзия и метрика, хорошо известные исламу. С
другой стороны, естествознание, философия и математика были
чужды ему, даже враждебны для правоверных мусульман.
Арабские ученые и религиозные философы находились под
бдительным оком ревнителей правоверия и пристальным вниманием
простого народа, защитника чистоты веры. Изучение сокровищ
античного знания было опасным предприятием, работой на вулкане.
Ученые изучали труды неоплатоников, сочинения эллинистических
авторов по медицине и естественным наукам, но наибольшую
ценность представляли труды Аристотеля, которые вместе с
сочинениями Платона были погребены в массе совершенно разной по
тематике
литературы,
и
прежде
требовалось
выделить
«оригинальный» материал. На протяжении веков небольшой отряд
ученых исследователей, одна часть которых искала Бога, другая
состояла из агностиков и скептиков, предпринимали небезуспешные
попытки проникнуть в «подлинное» учение Аристотеля, сторонника
геоцентрической модели мира и представителя рационального
научного
метода,
который
мог
обходиться
без
«Бога»
и трансцендентной веры. Подобный трудный путь прошли аль-Кинди
(ок. 873), аль-Фараби (ок. 950), Авиценна (скончался в 1037 г.), Ибн
Баджа (скончался в 1138/39 г.) и Аверроэс (скончался в 1198 г.). Их
ортодоксальные критики были убеждены, что такая рационалистская
философия уничтожает целостность мусульманской веры.
С VIII по XII в. ряд мыслителей были обвинены в ереси и атеизме и
даже подверглись преследованиям. Они были вынуждены постоянно
менять место жительства; из Испании они уезжали в Северную
Африку, в Египет, Сирию и Персию. Они направлялись на Восток, как
и многие из христиан в VI в. и в XII–XIII вв., поскольку думали и
мыслили они не по принятым нормам. Их труды запрещались и
сжигались, а они сами приговаривались либо к ссылке, либо к
смертной казни.
Арабские ученые были не одиноки в своих исканиях. Подобная
жажда познания неизведанного была характерна и для Запада. Ученые
Запада и Востока встречали друг друга на полпути, буквально и в
переносном смысле. Толедо, город разных вер, где проживали мавры,
евреи и испанцы (находившийся под мусульманским правлением с 712
по 1085 г.; в XII в. здесь все еще был в ходу арабский), был особенно
привлекателен для интеллектуалов Западной Европы по причине того,
что архиепископ Раймунд I (1126–1151) основал в городе школу
переводчиков. Раймунду повезло с помощником – архидиаконом
Доминго Гундисальво, новообращенным христианином из евреев. С
арабского на латинский язык были переведены основные труды
Аристотеля, а также великих мусульманских и еврейских философов и
религиозных мыслителей, таких как аль-Кинди, аль-Фараби, альБаттани, Авиценна, Ибн Габироль, аль-Газали.
На примере Толедо Европа смогла понять, что знание не имеет
границ, что оно универсально, что оно дело всего человечества, без
учета расы и религии. В Толедо арабы, евреи и греки трудились
совместно с испанцами, французами и немцами, со славянами с Балкан
и, не в последнюю очередь, с англичанами. Аделяр Батский, один из
первых ученых Западной Европы, непосредственно изучавший
природу, вероятно, тоже побывал здесь. За ним гостями города стали
Роберт Честерский, Даниэль Морли и Альфред Сарешельский. Из
Италии приезжали Платон Тиволи, Герард Кремонский, Иоанн из
Брешии. Фландрию представляли астролог Анри Бат и переводчик с
арабского на латынь Рудольф из Брюгге, Францию – эмиссары Петра
Клюнийского и ученых Шартрской школы. С Балкан приезжал Герман
Каринтийский. Из Южной Франции – известные еврейский врач и
переводчик Моисей ибн Тиббон и астроном и врач Яков бен Махир
ибн Тиббон. В Толедо, в столь благоприятной для творчества
обстановке, Гундисальво сделал первую попытку примирить
богословие Августина и Авиценны.
Толедо не представлял собой исключения; существовали целые
области, такие как Прованс, Северная Италия и Сицилия, которые изза своего открытого характера стали форумом для обмена идеями и
текстами. Открытые города Милан, Пиза, Монпелье, Салерно, Неаполь
и Палермо были кроветворными клетками в кровеносной системе
европейской интеллектуальной жизни.
Но когда эти открытые области закрыли и их контакт с
мусульманским миром, тоже страдавшим от «сужения артерий», был
также прерван, вся структура интеллектуальной жизни Европы резко
изменилась. В то время как в XII – начале XIII в. пути сообщения еще
были открыты, в позднем Средневековье они были заблокированы.
Под тяжелым грузом знаний, осознавая, что целый круг проблем
ожидает решения, европейские мыслители отступили на территорию,
границы которой теперь отмечали Оксфорд, Брюссель, Кёльн и Базель.
Лишь позднее она распространилась до Кракова, Праги и Вены,
центром ее стал Париж. Для интеллектуалов уже было невозможно
оттачивать свои умственные способности, отправляясь в путешествия
по миру, в том числе и на Восток, из которых они возвращались с
новыми
впечатлениями.
Интеллектуальная
жизнь
теперь
сосредоточилась в университетах. Публичные диспуты с катарами,
вальденсами, иудеями или теологами восточной церкви были также
больше невозможны вследствие изменения церковного
и
общественного климата. Однако в несколько измененной форме, при
соблюдении строгих правил, предписанных церковью, схоластические
диспуты теперь устраивались в университетах, что стало
отличительной чертой школярской жизни Средневековья. Университет
был учреждением, в одно и то же время ограничивавшим активность
студентов и поощрявшим ее. Университет был бастионом веры,
твердыней папской церкви, инструментом королей, прелатов и
монашеских орденов. В них проходило подготовку новое клерикальное
сословие, академически образованные эксперты и церковные
чиновники. Специалисты в церковном каноническом и гражданском
праве становились ценными помощниками для обретавшей силу и
влияние папской церкви и для западных монархий.
Однако университеты были и оазисами свободомыслия. В их
аудиториях все «запретные» вопросы можно было открыто обсуждать
и критиковать. Едва ли была какая-либо животрепещущая проблема,
касавшаяся Божия бытия, мира и церкви, христианства и догматов,
которая не обсуждалась бы в университетах XIII–XIV столетий.
Для папства университеты были предметом их надежд и причиной
их глубокого недовольства, что можно проиллюстрировать на двух
примерах. Университет Болоньи получил от папы статус «учителя
Европы». В Булле 1220 г. папа Гонорий III с благодарностью признал,
что из Болоньи выходят «правители, что управляют христианским
народом»; это был намек на специалистов канонического права,
которыми была известна Болонья. В 1290 г. на церковном соборе в
Париже выступил папский легат с суровой критикой Парижского
университета. Легатом был не кто иной, как Бенедетто Гаэтани,
будущий папа Бонифаций VIII. Он укорил профессоров университета в
том, что они много возомнили о себе и выставляют напоказ свою
мудрость перед Папской курией. «В Риме мы считаем их скорее
глупыми, чем невежественными, людьми, отравившими не только себя
своим учением, но и весь мир. Вы, мэтры Парижа, сделали вашу науку
и доктрины предметом насмешек… Все это пустое… Для нас ваша
слава просто глупость и мираж… Мы запрещаем вам под угрозой
потери вашего высокого положения и вашего достоинства обсуждать
привилегии нищенствующих орденов, будь то открыто или тайно».
Гаэтани пришел в ярость, услышав о поддержке, оказанной
университетом французским епископам, выступившим против буллы
Ad fructus uberes, которая подтверждала право священников
нищенствующих орденов принимать исповедь, что, как считало
приходское духовенство, было его прерогативой. Гаэтани настаивал,
что мэтры Парижа не имеют право вмешиваться в подобные дела:
«Римская курия скорее закроет Парижский университет, чем отзовет
эту привилегию. Бог нас призвал не для того, чтобы становиться
мудрецами и производить тем самым впечатление на людей, но спасать
наши души».
Парижский университет, оказавшись в подобной ситуации, не
собирался сдаваться. В позднем Средневековье он стал самым
влиятельным оппонентом папства, главным поборником галликанской
политики французских королей и французской церкви. Когда начался
этап демократизации церкви, то есть оформилось концилиарное
движение в начале XV в., Парижский университет на соборах в
Констанце и Базеле заявил о своем праве судить пап.
В Средние века слово universitas означало прежде всего ассоциацию
или корпорацию, которая была обычным городским институтом. Этим
словом называли также цеха купцов или ремесленников, вообще
любую организованную социальную группу. Университет, в узком
значении слова, появился как ассоциация профессоров и учащихся,
созданная в общих интересах на время пребывания ее в той или иной
стране. Будучи иностранцами, они не имели никаких прав, пребывая за
границей, и потому объединялись в целях своей защиты и
безопасности. В Болонье под universitas понимали ассоциации
германских, французских и английских студентов. В Париже это была
ассоциация профессоров, которые приехали совместно в столицу (в
Болонье все преподаватели были в основном местными жителями и не
нуждались в протекции). Парижский и Болонский университеты,
которые начали развиваться во второй половине XII в., представляют
собой, таким образом, два архетипа европейского университета.
Салерно славился своей медицинской школой, которая была старше
университетов Парижа и Болоньи. Основанный в X в., Салерно был
уже известен древнегреческим и древнеримским медицинским
наследием. Здесь преподавал Константин Африканский (скончался в
1071 г.), который перевел на латынь многие труды арабских врачей.
Салерно поддерживал постоянные связи с Константинополем, где
было замечательно организовано больничное дело, о чем мы уже
говорили.
В Болонье изучали юриспруденцию, Париж был центром
преподавания
теологии.
Успешное
становление
Болонского
университета обязано двум обстоятельствам. Италия имела давнюю
традицию светского образования (сыновья дворянства Ломбардии
учились читать и писать, в то время как аристократы к северу от Альп
с презрением относились к образованию); рост городов в Италии
порождал потребность в юристах и образованных людях.
Существовали известные юридические школы и до Болоньи – в Риме,
Павии и Равенне. Конечно, около 1000 г. Болонья славилась не своей
юридической школой, но Академией семи свободных искусств. Только
в XII в. Ирнерий начал преподавать римское право и получить
юридическое образование в Болонье стало престижным. Четыре его
ученика, ставшие профессорами, Булгар, Мартин, Якоб и Гуго,
присутствовали в качестве советников германского императора
Фридриха I на сейме в Ронкальи. Около 1140 г. монах-правовед
Грациан, живший в Болонье, написал учебник по каноническому
праву, который назвали Decretum Gratiani (Декрет Грациана). В нем
давалось
систематическое
изложение
различных
судебных
разбирательств в области канонического права. Его труд написан
отчасти под влиянием сочинения Абеляра Sic et поп. Александр III,
величайший из пап XII в., был учеником Грациана и его первым
комментатором; а Иннокентий III был учеником другого канониста из
Болоньи, Угуччо Пизанского.
Канонисты Болоньи намеревались выработать для церкви,
понимаемой как societas perfecta (идеальное общество), свое
законодательство; каноническое право должно было стать столь же
совершенным, не допускавшим никакого отклонения от закона, как
римское право. Именно канонисты выстроили новую иерархию
папской церкви; начиная с XIII в. основные посты в церкви занимали
юристы, а не монахи, пасторы и теологи. Именно канонисты
разработали теорию о всеобщем суверенном праве папства, которая
обосновала его притязания на политическую власть над всеми
народами мира.
Однако было бы неверным считать, что Болонский университет был
«клерикальным», в Средние века, по крайней мере, все было с
точностью до наоборот. Речь идет о студентах, изучавших гражданское
право и имевших мирские интересы, большая часть которых была
зрелого возраста и имела жизненный опыт. Они не потерпели бы,
чтобы им читали наставления, будь то посланники Рима или их
университетские профессора. Университет был во власти студентов.
Профессор в Болонье был частным наставником, которого нанимала
группа студентов, возрастом от 17 до 40 лет. И он не был для них
авторитетом ни в науке, ни в духовном плане. Являясь доминирующей
силой в университете, студенты могли оказать давление на городские
власти. Они договаривались с ними о ценах на общежитие и питание и
вели постоянные тяжбы.
Если студентам не удавалось достичь соглашения с городом или
профессорами, они могли заявить о выходе из-под их юрисдикции.
Имеются примеры этого в Болонье и Париже. Другие города были
готовы приветствовать академических мигрантов по вполне понятным
причинам, экономическим и политическим. В них была потребность
как в сфере управления, так и в экономике. Фактически большинство
итальянских юридических школ и университетов были образованы
теми студентами и профессорами, которые вышли из состава своей
альма-матер, поскольку не могли больше мириться со сложившимся
положением в своих городах. Самый наглядный пример подобного
рода имел место в Болонье в 1222 г., когда ее студенты образовали
университет в Падуе, от которого в 1228 г. отпочковался университет в
Верчелли. Университет в Виченце, основанный в 1204 г., был,
возможно, тоже рожден Болонским университетом.
Примерно с середины XIII в. болонские студенты обучались, можно
сказать, в двух «университетах»; в одном из них – universitas
citramontanorum — учились только итальянцы, во втором – все
«трансмонтаны», то есть студенты из различных стран Европы, с той
стороны Альп. С самых первых лет в Болонском университете учились
немцы, поляки, чехи и венгры. Студенты держали в полном
подчинении своих профессоров, вплоть до пунктуального соблюдения
расписания лекций под угрозой денежных штрафов, а неугодным
преподавателям устраивали бойкот. Естественно, преподавательский
состав пытался как-то защитить себя от такой репрессивной политики.
Подобно студентам, профессора реализовали идею создания
собственной корпорации, и именно она решала, кто получит лицензию
на преподавание – licentia docendi. Ее обладатель становился
доктором. Общие лекции проходили по утрам, специальные лекции –
во второй половине дня. Академический год начинался 19 октября.
Порядок окончания университета утвердил в 1219 г. папа Гонорий III,
и ему стали следовать во всей Европе. Так как на каждом присвоении
докторской степени должен был присутствовать архидиакон Болоньи,
то тем самым обеспечивался определенный контроль со стороны
церкви. Однако студенты Болоньи не имели папских привилегий.
Влияние пап усилилось только в позднем Средневековье, когда они
установили контроль над городом.
Кроме школ канонического и гражданского права в Болонье были
также «университеты» свободных искусств и медицины. Философия и
медицина были тесно взаимосвязаны, что было характерно для
университетов Италии; основными авторитетами были Аристотель и
другие классические медицинские труды. Хорошо известно, что
практическая медицина, включая хирургию, считалась уделом
хирургов-брадобреев и военных лекарей. В Болонском университете
имелась также кафедра астрологии; самый известный среди тех
профессоров, кто возглавлял ее, был астроном Чекко д’Асколи,
который стал жертвой инквизиции и был сожжен в 1327 г.
Организация интеллектуальной и академической жизни в Италии
преследовала политические и социальные цели. Папа полагал, что
теологией должны заниматься ученые Англии и Франции, а не
итальянцы; помехой в этом является их темперамент. В Болонье
впоследствии был организован факультет теологии, но его роль была
незначительна. Колледжи, основанные в Болонье для «иностранных»
студентов («Авиньон» в 1267 г., «Брешия» в 1326 г., «Испанский»
колледж в 1367 г.), так и не стали своими в университетской жизни.
Парижский университет в Средние века был средоточием наиболее
значительных конфликтов в области научной мысли той далекой
эпохи. Он был также местом, где мыслители позднего Средневековья
начали закладывать основы современного научного знания.
Университет постоянно не ладил с епископами, папами и королями,
долгое время сопротивлялся влиянию нищенствующих орденов. В
XIII–XIV вв. Парижский университет обрел в Европе ту власть,
которая превосходила все, о чем только могут мечтать сегодняшние
университеты. Средневековый Париж создал свой мир в мире Европы.
Стоит напомнить, что к концу XI – началу XII в. прерогатива
обучения постепенно переходила от монахов к белому духовенству, что
стало настоящей революцией в интеллектуальной сфере. Абеляр, хотя
он ничего не знал об университетах, был первым преподавателем,
который привлекал толпы студентов в Париж из каждой страны
Европы. Существовали три важные школы, которые впоследствии
были преобразованы в университеты: школа коллегиальной церкви
Святой Женевьевы, монашеская школа Святого Виктора и
кафедральная школа Нотр-Дам. Университет был образован между
1150 и 1170 гг., и его «церковным суперинтендентом» стал ректор
Нотр-Дам-де-Пари, кафедрального собора Парижа. Он был
уполномочен выдавать licentia docendi всем достойным соискателям.
Настоятель был также judex ordinarius для студентов. Долгое время
наиболее важными преподавателями в университете были иностранцы,
которые были объединены в свой цех. Необходимо заметить, что во
время длительного конфликта между университетом и ректором,
назначенным епископом, папа принял сторону университета (1200–
1220). Риму было важно привлечь его на свою сторону, поскольку это
был важный центр богословских исследований; и вот почему в 1219 г.
Гонорий III запретил в Париже преподавание римского права. Папа
опасался, что его изучение может отвлечь молодых теологов от их
основных занятий, что у них появится желание сделать себе карьеру и
продвинуться на церковной и государственной службе. С этим
запретом были согласны и французские короли, у которых римское
право ассоциировалось со Священной империей.
Самым большим факультетом в университете был философский, где
преподавали семь свободных искусств. Первый цикл наук назывался
trivium (тривий) – грамматика, риторика и диалектика; второй –
quadrivium (квадривий), в который входили музыка, арифметика,
геометрия и астрономия. В XIII в. весь интерес сосредотачивался на
предметах тривия, то есть на философии и вспомогательных
дисциплинах. К XIV в. больше внимания стали уделять предметам
квадривия,
что
объяснялось
церковными
преследованиями
свободомыслящих философов.
Изучение на факультете свободных искусств было прологом к
изучению теологии. Полными профессорами были только доктора
теологии, которые трудились в университете больше шестнадцати лет;
они свысока и с явным неодобрением смотрели на тех профессоров,
кто преподавал свободные науки. Подобное отношение можно понять,
если принять во внимание, насколько значительно увеличилось их
число во второй половине XII в. К 1362 г. на факультете было 441
магистр вольных искусств и только 25 теологов, 25 магистров
медицины и 11 магистров канонического права.
В Парижском университете магистры искусств были постоянным
источником конфликтов в среде интеллектуалов и движущей силой
интеллектуальной революции. Историческую роль профессоровтеологов можно оценивать по их реакции на постоянные вызовы со
стороны магистров искусств: удавалось ли им удерживать поле битвы
в жарких диспутах или приходилось трусливо бежать с него. Фома
Аквинский и его учитель Альберт Великий с честью выдержали
испытание.
Недовольство магистров искусств было тесно связано с
неопределенностью их статуса. С одной стороны, они были
преподавателями; все студенты посещали их лекции. Но они, можно
сказать, сами были студентами, которые занимались наукой и
готовились к получению степени доктора теологии и звания
профессора. Из-за своей многочисленности большинство их не могло
надеяться на получение кафедры, что только способствовало
сохранению напряженной ситуации в университете. Только часть их, и
самая лучшая, не собиралась становиться теологами; их привлекало
занятие философией, которое давало им большую интеллектуальную
свободу. Присутствие магистров искусств в обоих лагерях,
преподавателей и студентов, помогло им занять ключевое положение в
университете. Кризис разразился в 1220 г. Еще ранее 1200 г. ректор
собора Нотр-Дам на острове Сите ввел ограничения на чтение всех
лекций; отныне они находились под строжайшим контролем епископа,
чьим представителем он был. Но около 1210 г. магистры искусств
приняли решение о выходе из-под юрисдикции ректора и
обосновались на левом берегу Сены на Рю-дю-Фуэн, «соломенной
улице», названной так потому, что перед входом в школы мостовые
обычно покрывали соломой. Так образовался Латинский квартал.
Факультет свободных искусств оказался в юрисдикции аббата Святой
Женевьевы, соперника ректора с его кафедральной школой.
В нескольких минутах ходьбы от острова Сите расположен
небольшой квартал живописных зданий разных архитектурных стилей,
любимое место парижских художников; это все, что осталось от
старой улицы Рю-дю-Фуэн. Несомненно, это памятник ушедшей в
прошлое эпохи интеллектуального героизма. Именно здесь
интеллектуальная жизнь средневековой Европы обрела небывалую до
того свободу самовыражения, а страстная полемика выплеснулась за
все возможные границы.
Данте в «Божественной комедии» помещает Сигера Брабантского,
магистра факультета искусств Парижского университета, в Рай. Как ни
странно, но в поэме его восхваляет Фома Аквинский, глава теологов и
последовательный оппонент Сигера.
То вечный свет Сигера, что читал
В Соломенном проулке в оны лета
И неугодным правдам поучал.
Обвиненный церковью, Сигер был брошен в тюрьму, где и
скончался. Строки Данте, посвященные этому мыслителю,
свидетельство подспудных течений в русле средневековой
интеллектуальной жизни.
С самого начала студенты факультета искусств вели жизнь бурную.
В начале XIII в. была раскрыта группа «пантеистов» и
«вольнодумцев», и в результате несколько священников и клерков
факультета были сожжены на костре или приговорены к тюремному
заключению. Они впали в ересь из-за идей, которые внушили им
Амальрик из Бена и Давид Динанский. В 1215 г. папский легат
запретил преподавание философии природы Аристотеля (труды
«Физика» и «Метафизика») и распорядился, чтобы все студенты
факультета искусств дали клятву, что они даже не откроют фолианты с
трактатами Давида Динанского и других еретиков. Однако к 1225 г.
изучение трудов Аристотеля возобновилось. За прошедшее время
студенты факультета свободных искусств поставили во главе его
своего ректора, и клятва в верности ректору привела к изменению
структуры управления.
Студенты факультета свободных искусств возглавили сообщества
студентов 4 «наций», обычно настроенных антагонистично по
отношению друг к другу: гальской, норманнской, пикардийской и
английской. В последнюю группу входили также выходцы из Германии
и других северных стран. С начала XIII в. существовало три
факультета: свободных искусств, теологии и канонического права
(медицина преподавалась на факультете искусств).
Начиная с XIII в. университет как единое целое (то есть студенты и
преподаватели) находился в постоянном конфликте с ректором и
властями Парижа. Первый и самый большой исход студентов и
преподавателей из университета (1228–1229) произошел из-за
беспорядков, случившихся на Масленичной неделе. Они бежали,
спасаясь от бдительного надзора парижских церковных и светских
чиновников, в Оксфорд, Кембридж, Анжер, Тулузу, Орлеан и Реймс
(нет сомнения в том, что город и горожане испытывали массу
неудобств от университета с его многочисленными корпорациями и
большими толпами студентов). Рим был обеспокоен столь массовым
исходом. Григорий IX, чья попытка вернуть беглецов была лишь
отчасти успешной, в 1231 г. выпустил буллу Parens Scientarum,
впоследствии получившую название «Великой хартии» Парижского
университета, которая признавала его матерью всех наук, и власть
ректора и епископа Парижского над ним была значительно ограничена.
После событий 1228–1229 гг. установился временный мир между
студентами факультета свободных искусств и теологами, которых
объединило общее неприятие нищенствующих орденов, считавшихся
открытыми врагами университета, которые, воспользовавшись
обстановкой, активизировали свою преподавательскую деятельность.
В 1253 г. магистры начали приносить клятву верности
университетскому уставу. Подобных действий не могли дольше
терпеть орденские братья. В 1255 г. папа в своей булле пригрозил
университету отлучением от церкви, если он откажется признавать
братьев докторами. С этого времени университет объявил о
формальном самороспуске. Такое решение было его наиболее сильным
оружием, которое он мог использовать без всяких для себя
последствий. У университета не было принадлежавших ему зданий;
и у него была возможность продолжить свою деятельность в любом
ином месте, а его преподаватели и студенты могли найти желанный
прием по всей Европе.
Во время конфликта каждая сторона выступала с обличениями
противоположной стороны, называя своих противников «еретиками»,
«атеистами» и всякими оскорбительными эпитетами. Для XIII в. было
характерно явное ухудшение интеллектуального климата, что было
тесно связано с этим раздором. В 1261 г. было достигнуто временное
перемирие благодаря папе Урбану VI, который изучал каноническое
право в Париже. Университет согласился принять орденских братьев,
но факультет свободных искусств был для них закрыт, он по-прежнему
оставался территорией свободы. В борьбе с доминиканцами и
францисканцами возродился корпоративный дух университета, и в
1318 г. присягу в верности были обязаны приносить также и орденские
братья.
Серьезное политическое влияние Парижский университет обрел в
XIV – начале XV в. Университет был вне любой светской юрисдикции,
в том числе королевского суда. Однако его внутренняя слабость
проявилась в посмертном осуждении Жанны д’Арк в еретичестве и
колдовстве два года спустя после ее смерти. Его положение еще более
ухудшилось после длительной конфронтации с французской
монархией во время правления Карла VII, Людовика XI и Людовика
XII. В последний год XV в. Людовик XII в полном вооружении вошел
на территорию университета и отменил все его привилегии. Этим
своим действием король покончил со многими свободами, некоторые
из них не восстановлены и по сей день.
С самого начала своего существования Парижский университет
имел тесные связи с интеллектуалами Англии. В XII в. английские
студенты составляли большинство среди учащихся нефранцузов. В
Париже, а не в Англии была образована система коллежей; этому
факту часто не уделяется должного внимания. Первый такой коллеж в
Париже назывался College des Dix-Huits, размещался он в «ОтельДьё», находившемся напротив западного фасада собора Нотр-Дам.
Коллеж занимал одну комнату, которую купил лондонский горожанин,
возвращавшийся через Париж на родину из паломничества в
Иерусалим. Впоследствии он приобрел целый дом. В 1186 г. граф
Роберт де Дрё основал хоспис для «бедных клириков» в окрестностях
Лувра. В 1208 г. парижанин Этьен Бело основал вместе с женой
коллеж «Добрые дети Святого Оноре». Их примеру последовали не
только другие горожане Парижа, но также аббаты и высшее
духовенство церкви, например аббаты Клерво, Премонтре и Клюни.
Самый известный коллеж из всех «Дом Сорбонна» был основан около
1257 г. священником Робером де Сорбон, духовником короля Людовика
IX Святого, который дал название всему университету. Первоначально
это был коллеж для студентов свободных искусств, а затем стал
богословским. В 1304 г. был основан не менее известный Коллеж
Наварры Жанной I Наваррской, женой французского короля Филиппа
Красивого.
Однако коллежи в Париже значительно отличались от колледжей в
Оксфорде. В Париже во главе коллежа студентов стоял старший, им
был преподаватель. У них было меньше прав, чем у оксфордских
колледжей. Церковные власти в Париже имели право инспектировать
коллежи. В Оксфорде колледжи были автономными корпорациями,
которые возглавляли выборные директора; они управляли с помощью
старших членов колледжа, и при решении важных вопросов
необходимо было присутствие всех членов колледжа. Но глава
колледжа не имел права голоса при обсуждении общеуниверситетских
вопросов.
В то время, когда в Парижском университете учились Эразм
Роттердамский, Кальвин, Игнатий Лойола, коллежи стали, можно
сказать, небольшими самостоятельными университетами. Многие
парижские коллежи исчезли со временем, а другие были сметены
Французской революцией. В Англии была сохранена преемственность:
почти все колледжи средневековых университетов Оксфорда и
Кембриджа существуют и поныне в той или иной форме.
Старые английские университеты и колледжи сохранили некоторые
из своих средневековых свобод. Оксфорд был прародителем;
Кембридж возник, когда сюда прибыли в 1209 г. студенты из
Оксфорда. Нортгемптонский университет, существовавший между
1238 и 1264 гг., основали мигранты-преподаватели из Оксфорда и
Кембриджа. Исход студентов из Оксфорда в Солсбери в 1238 г. привел
к появлению в городе studium generale, образовательного учреждения,
которое просуществовало до 1278 г.; а в 1334 г. еще одна группа
мигрантов из Оксфорда предприняли попытку организовать
университет в Стамфорде. Что касается Оксфорда, то основу коледжа
составили английские преподаватели и студенты, приехавшие из
Парижа в 1167 г. В процессе борьбы Генриха II с архиепископом
Кентерберийским Томасом Бекетом Оксфорд получил статус studium
generate. В Оксфорде не было кафедры епископа, и, соответственно, не
было кафедральной школы. Он находился в диоцезе Линкольна,
епископ которого жил в 120 милях от Оксфорда, что давало больше
возможностей для университета получить независимость. Как и в
Париже, ректор университета первоначально был епископальным
чиновником, но время конфликта между университетом и епископом,
имевшим место в XIII в., именно ректор начал во все большей степени
представлять интересы университета. В начале XIV в. епископ
окончательно потерял власть над Оксфордом.
В Оксфорде, как и в Париже, существовало деление студентов на
«нации», но вскоре оно потеряло свое значение. Относительно
быстрое образование единой нации в Англии позволило покончить в
1274 г. с «северными» и «южными» нациями, которые, как и в Париже,
находились в ожесточенном конфликте друг с другом.
Несмотря на то что с Парижем сохранялись тесные связи, Оксфорд
пошел своим путем. Преподавание естественных наук стало
приоритетным, и в университете было много францисканцев. Лучшие
математики XIII в. вышли из Оксфорда, например Джон Холивуд и
францисканец Джон Печам, который стал архиепископом
Кентерберийским. Долгое время францисканцев никто не беспокоил.
Доминиканцы обосновались в Оксфорде в 1221 г., приобретя дом в
самом центре города, расположенный у восточной границы большого
еврейского квартала, так как в городе велась оживленная торговля. Мы
еще не раз убедимся, насколько было велико их интеллектуальное
влияние, и не в последнюю очередь благодаря связям с Испанией и
Востоком. Если мы ознакомимся с трудами Роджера Бэкона, то
увидим, что именно благодаря еврейским переводчикам оксфордским
студентам стали доступны знания Античности и арабских ученых,
накопленные в странах Средиземноморья. Доминиканцы в Оксфорде
считали своей основной миссией обращение евреев в христианство.
Многие монашеские ордены обосновались в Оксфорде:
францисканцы – в 1224 г., кармелиты – в 1256 г. и августинцы – в
1268 г. Конфликта между служителями-мирянами и монахами,
который в Париже оставил заметный след на всей деятельности
университета, в Оксфорде не было. Только в начале XIV в. возникли
серьезные разногласия между братьями и университетом, подобные
тем, что беспокоили Парижский университет. В результате судебного
процесса в 1314 г. монархом была выдана патентная грамота
университету, в которой были утверждены основные принципы
университетской конституции и подтвержден демократический
характер правящей им Великой конгрегации.
Слава Оксфорда неотделима от славы его колледжей, поэтому
необходимо, хотя бы кратко, рассказать о наиболее важных из них.
Университетский колледж основал около 1280 г. частный
благотворитель Уильям Дарем, получивший звание магистра в
Парижском университете. Колледж представлял собой небольшое
самоуправляющееся общество из четырех магистров, проживавших
вместе под управлением самого старшего из них. Колледж Баллиол
основал сэр Джон де Баллиол; это был его акт покаяния за
совершенные им грехи. Первоначально он являлся общежитием для
неимущих студентов по парижскому образцу, и только в XIV в. он стал
обычным английским колледжем. Уолтер де Мертон основал свой
колледж де-факто и де-юре в 1264 г., и его можно считать «самым
первым колледжем Оксфорда». Все первые восемь студентов были
племянниками основателя, и, даже когда их число выросло до
двадцати, все они были его родственниками. Мертон не имел
академического статуса, его власть над школярами исходила из того
факта, что он был им in loco avunculi (вместо дяди, и к тому же
богатым). Все учащиеся его семейного колледжа носили униформу.
Устав колледжа, окончательно сложившийся после внесенных в него
дополнений в 1270 и 1274 гг., был также принят за основу при
выработке устава новых учебных заведений. Свобода, которой
пользовались студенты на континенте, была не представима в Англии.
В Оксфорде были основаны колледжи: Эксетер (1314), Ориэль (1324),
Куинз-колледж (1341), Нью-колледж (1379).
В Италии в XIII–XIV вв. было множество небольших
университетов, каждый из которых имел собственное здание; многие
из них были не крупнее, чем городские юридические школы. Они
были скорее светскими по характеру, нежели церковными. Например,
были университеты в Реджо, Виченце, Сиене, Пьяченце, Перудже,
Тревизо, Вероне, Пизе, Флоренции и Павии. Университет Неаполя,
основанный Фридрихом II в ответ на основание Болонского
университета (который принадлежал Гвельфам и, таким образом, был
папским университетом), находился на особом положении.
Падуанский университет, основанный студентами и преподавателями
из Болоньи в 1222 г., получил дальнейшее развитие в 1306 и 1322 гг.,
когда пришло новое пополнение учащихся. Он имел уникальное
положение среди университетов Европы. Под патронатом
Венецианской республики Падуя стала центром, где изучалось
наследие Аристотеля, она притягивала студентов со всей Европы, из
Германии, Польши и центральноевропейских стран. Коперник и
Галилей опирались на научные результаты исследований целых
поколений падуанских докторов, математиков, астрономов и
натурфилософов. Находясь под защитой Венеции, университет мог не
опасаться инквизиции. Падуя стала известна благодаря ее терпимости.
Это был первый университет на Западе, который в 1409 г. присудил
докторскую степень еврею. Даже в XVIII в. в Падую приезжали
работать студенты-протестанты из Англии и Шотландии.
В Испании и Португалии университеты основывали короли, и они
поддерживали тесные связи с монархом. Ректором их, как правило,
был королевский чиновник, и они имели связь с местными школами
при кафедральных соборах, что иногда приводило к вмешательству
епископа диоцеза в учебный процесс. Заслуживают упоминания
университеты: в городах Испании – Вальядолид (середина XIII в.),
Саламанка (около 1227), Паленсия (1208–1209) и Лерида (1300);
в Португалии – университеты в Лиссабоне и Коимбре (1290).
Самая важная юридическая школа средневековой Франции
располагалась в Университете Орлеана, который уже в начале XII в.
был крупным научным центром, не только в области юридических, но
и гуманитарных наук, классического литературоведения, грамматики и
поэзии. Самые известные стилисты и поэты века получили
образование в Орлеане; здесь учились все секретари папы Александра
III и папы Луция III. Когда Шартрская школа клонилась к закату,
классическая гуманистическая традиция XII в. была подхвачена
Орлеаном. Некий писатель XIII в. ставил Орлеан наряду с Парижем,
Болоньей и Салерно. В XIV в. университет предпринял
революционный шаг, на который в других странах решились спустя
столетия (в Германии это произошло только в XVII–XVIII вв.).
Профессора начали читать лекции на французском языке, наряду с
обязательным их чтением на латинском языке.
Университет Тулузы основал в 1229 г. папа Григорий IX в целях
борьбы с идеологией катаров. В качестве примера дальновидного
решения светских и церковных деятелей можно назвать разрешение
преподавать учение Аристотеля, что было запрещено в Парижском
университете; это поднимало престиж Тулузского университета.
Вероятно, в Тулузе преподавали профессора из многих высших
учебных заведений Европы, чья концепция преподавания и учебный
материал не во всем соответствовали предъявляемым к ним
требованиям основателями университета. Университет был одним из
немногих больших европейских университетов, где были
представлены все факультеты.
Во Франции существовали небольшие университеты в Авиньоне
(основан в 1303 г. папой Бонифацием VIII), Анжере, Кагоре, Гренобле,
Оранже и Э, которые были основаны между 1332 и 1409 гг. В
Монпелье, где в XIII в. проживали арабы, евреи и испанцы, в 1220 г.
был основан университет. Это был город, где царила интеллектуальная
атмосфера, где сохранялся присущий Провансу и всей Южной
Франции дух сопротивления. Непосредственное арабское влияние
особенно сильно проявилось в медицине (ее рассматривали здесь как
важную отрасль науки) и различных теоретических науках. В
университете учились выходцы из Прованса, Бургундии и Каталонии.
Ректора Монпелье назначал епископ и три магистра университета.
Резиденция епископа находилась поблизости в Магеллоне; ближе, чем
Или к Кембриджу или Линкольн к Оксфорду. Как магистры, так и
студенты состояли в юрисдикции епископа. Однако студенты добились
некоторых практических прав: дважды в год студенты и магистры
собирались для составления расписания лекций на ближайший
семестр и для рассмотрения различных жалоб с обеих сторон.
Вплоть до середины XIV в. Германия в области получения
образования ориентировалась на Парижский университет и
университеты Северной Италии. Так, император Карл IV (1347–1378)
учился во Франции. Первым немецким и первым чешским
университетом был Пражский университет; основанный в 1348 г., он
формировался по образцу Парижского. То же можно сказать и о
Венском университете, основанном в 1365 г., который был первым
высшим учебным заведением на немецкой почве. В обоих случаях
проявилось также влияние Оксфорда. Первыми преподавателями в
Венском университете были англичане из Парижа. Университет
Парижа стал образцом для университетов Эрфурта (1379–1392),
Гейдельберга (1385), Кёльна (1388) и для первых университетов
Польши (Краков, 1364–1397) и Венгрии (Печ/ Фюнфкирхен, 1367;
Буда, 1389–1395; Прессбург, 1465–1467). Следует пояснить, почему
для некоторых университетов даются две даты. Как правило,
проходило некоторое время после основания, прежде чем университет
начинал функционировать в полной мере. К тому же у правящих
кругов этих стран не всегда присутствовала заинтересованность
формировать собственную интеллектуальную элиту.
В средневековых университетах готовился новый класс и начинал
складываться новый тип человека, который имел академическое
образование и был интеллектуалом. Необходимо сказать, что иногда
обучение продолжалось от 14 до 16 лет. Минимальный возраст для
поступления был обычно 14 лет, и большинство абитуриентов были в
возрасте от 13 до 16 лет. Много было тех, за кого платили другие,
богатые родственники или покровители; много было неимущих
студентов. Условия проживания были тяжелыми, квартиры почти не
отапливались, освещение было плохим. На улицах городов часто
происходили стычки и драки студентов с местными жителями.
Дисциплина в университетах была суровой, была распространена
система слежки и доносов.
Лекции начинались очень рано, зимой – в 6 часов утра, летом – еще
раньше; часто продолжались три часа. Известные преподаватели
привлекали большие толпы студентов, которые едва вмещали тесные
комнаты, использовавшиеся как лекционные аудитории.
Современникам, видимо, казалось, что студентов можно было
встретить буквально на каждом шагу, так что они приводили
завышенные сведения об их численности. Например, считали, что в
1287 г. в Париже насчитывалось 30 тысяч студентов, в Болонье – 10
тысяч. На самом деле в Париже их было, вероятно, около двух с
половиной тысяч; и только во времена расцвета университета их число
достигало от 6 до 7 тысяч. В Оксфорде в конце XIII в. могло обучаться
от 1,5 до 2 тысяч студентов.
Знаменательный факт, что средневековые университеты не давали
религиозной подготовки. Этим стали заниматься преподаватели более
позднего времени, которые имели сильное религиозное чувство,
например реформаторы Уиклиф и Гус. Это стало началом новой эпохи.
Сильные религиозные и национальные чувства, часто причудливо
перемешанные, оказывали сильное воздействие на студентов и
преподавателей, особенно в Восточной Европе.
Выпускники университетов, получившие юридическое образование,
стали востребованы в качестве должностных лиц в новообразованных
государствах высокого Средневековья, в частности Англии и Франции,
в княжества Германии. Короли, папы, принцы, прелаты, города и
корпорации – все стремились воспользоваться услугами этого нового
класса, говоря современным языком, «класса менеджеров». Они были
администраторами и бюрократами, зачастую единственными людьми,
способными управлять рычагами власти. Их появление и становление
начиная с XII в., история которого вызывает сегодня большой интерес,
прошло почти не замеченным их современниками. От хронистов
трудно было ожидать, что они его заметят; они писали только о битвах
и бесконечных распрях пап, королей и баронов. Но на фоне этих
событий можно было видеть напряженную работу людей нового
класса по развитию и укреплению структур государства и
превращению церкви в бюрократический институт. Они спокойно и
уверенно продолжали идти своим путем, несмотря на отсутствие
поддержки со стороны королей и высокомерное отношение пап. Самые
способные полностью отдавались своей миссии, и никакие неудачи не
могли остановить их. Построение церкви и государства
приравнивалось к искусству, требовавшему высокого интеллекта, в
этом администраторы уподоблялись архитекторам, возводящим
готический собор. Государство, церковь и административный аппарат
стали самоцелью; для тех, кто служил им, старые границы
растворились и потеряли свой прежний смысл.
Образование нового класса отличалось предвзятым отношением в
интеллектуальном и юридическом плане. Величие и нищета
европейских интеллектуалов брали свои корни в средневековых
университетах, главной целью которых было воспитание
человеческого разума, в чем были достигнуты убедительные успехи.
Но оставались незатронутыми целые области образования. Не
задумывались о воспитании человека, развитии его чувств и
способностей, формировании истинной веры. У средневековых
интеллектуалов зачастую проявлялись симптомы расколотого
сознания; они могли обладать развитым интеллектом, но имели
неотесанные манеры и порочные наклонности, и в духовном
отношении их личности были незрелыми. Все это вызывало
возмущение людей чувствительных и благочестивых. Париж
интеллектуалов был Вавилоном для Жака де Витри, каковым он был и
для Бернарда Клервоского. Бернард призывал преподавателей и
студентов бежать из него и спасать, пока не поздно, свои души. Однако
для людей иного склада Париж был подлинным раем. Голиарды и
бродячие школяры воспевали его, для них это был «рай на земле, роза
мира, бальзам вселенной». Интеллектуалы Европы сделали его своей
столицей. Они были настроены сверхкритично; они критиковали все и
вся, бюрократическую церковь и, прежде всего, монахов, которых они
считали чревоугодниками и развратниками. Последними из плеяды
этих язвительных критиков монашества были Лоренцо Валла и Эразм
Роттердамский. Будучи типично городскими жителями, парижские
интеллектуалы с презрением относились к провинциальному и
сельскому миру, к крестьянству. На аристократию они смотрели по
крайней мере как на равных, если не свысока. Что действительно
считалось важным, так это «внутреннее благородство». В погоне за
новым знанием они прибегали к логике; это был бесконечный процесс
разложения явления на составляющие элементы, затем их анализа и
определения. Немалая их часть имела твердую веру (и иллюзию) в то,
что можно познать природу всех вещей, дать им точную формулировку
и логически классифицировать их. У них была своя версия мечты
Фауста: мир и окружающую реальность можно контролировать, если
понять, что они собой представляют, то есть дать им правильное
определение. Боэций Дакийский, занимающий достойное положение
среди интеллектуалов Средневековья, назвал главной добродетелью
magnanimatas (лат. «величие души»). Абеляр еще раньше превозносил
подобное человеческое качество, считая его наивысшей добродетелью,
предметом, достойным философского исследования. Обладая
духовным благородством, наследием философов Античности, и
доблестью современного рыцарства, человек смог бы попытаться
проникнуть в тайны природы и человека, в сердце самого Божества.
Великие умы позднего Средневековья проявили себя во всех
областях познания, в искусстве, в делах церкви и государства. Они
возвышаются над массой своих менее талантливых соработников
подобно тому, как готический собор, наиболее интеллектуальное
творение средневекового искусства, высится над низкими домами
людей, построивших его.
Глава 10
Диспуты интеллектуалов Парижа
Начиная с XII в. Париж был признанной интеллектуальной столицей
Европы; в XIII–XIV вв. он стал ареной борьбы наиболее ярких и
продвинутых умов эпохи. В 1217 г. в город прибыли доминиканцы, в
1229 г. – францисканцы. Роджер Бэкон, магистр, жил в Париже в 1240–
1247 гг. Альберт Великий преподавал там между 1245 г. (или,
возможно, 1242 г.) и 1248 г. В этом году францисканец Бонавентура
начал преподавать в Париже и жил там до 1255 г. Доминиканец Фома
Аквинский преподавал в Париже с 1252 до 1259 г.; это был пик
конфликта по вопросу братьев-докторов (1252–1257). В 1265 г. он
начал работу над своим трудом «Сумма теологии» (Summa Theologica),
годом позже Роджер Бэкон написал свое «Большое сочинение» (Opus
Maius). Сигер Брабантский приехал в Париж, вероятно, между 1255 и
1260 гг. и читал там лекции, когда в 1269 г. вернулся Фома. Взгляды
Сигера были впервые осуждены церковью в 1270 г.; повторное
осуждение имело место в 1277 г., когда епископ Парижский подверг
цензуре 219 тезисов, включая несколько из них, которые поддерживал
Фома Аквинский, главный противник Сигера.
Этот первый этап конфликта, самым важным результатом которого
было решение о церковной цензуре, завершился кратким перемирием.
Но противостояние возобновилось в начале следующего столетия.
Дунс Скотт преподавал в Париже между 1303 и 1308 гг., мастер Экхарт
– с 1300 до 1303 г., а затем с 1312 по 1314 г. И между 1312 и 1314 гг.
Данте, вдали от Парижа, но духом во многом пребывавший там, писал
свой «Ад». В 1325 г. университет отказался от осуждения учения
томизма: то, что в 1270 г. считалось революционным, теперь
признавалось консервативным. Срочно требовался союзник против
радикализма, который не без его помощи был вызван к жизни. В
1329 г. папа осудил труды Майстера Экхарта, а в 1337 г. Парижский
университет впервые осудил учение Оккама. Уильям Оккам
преподавал в Оксфорде между 1318 и 1324 гг.
Итак, эти имена и даты приходятся на период времени чуть более
ста лет. Но это только цифры. Пора прояснить, что в действительности
скрывается за ними.
В качестве прелюдии необходимо вспомнить один драматический
эпизод. В 1210 г. тело Амальрика Венского, преподавателя философии
(и магистра искусств), который умер четырьмя годами ранее, было
эксгумировано и сожжено. Та же судьба постигла десять его живых
последователей-амальрикан. Амальрик учился в Шартре (деревня близ
него называлась Бен). До него там преподавал Кларембальд (скончался
после 1170 г.), труды которого критиковал Фома Аквинский, а Майстер
Экхарт, наоборот, считал авторитетом. Кларембальд учил, что все в
мире познаваемо; материя находится в постоянном движении.
Математики раскрывают законы, управляющие изменением материи.
Таким образом, если задействовать наиболее мощные ресурсы
интеллекта, возможно познать Бога. Амальрик учил: ад – это незнание,
ад находится внутри нас, «подобно больному зубу во рту». Бог есть во
всем сущем; даже зло принадлежит Ему и доказывает свое всесилие.
Человек, который знает, что Бог действует во всем, не может грешить,
ведь тогда каждый поступок человека – это акт Бога. Уже само
признание подобной правды помещает человека на Небеса и дает
единственную возможность возрождения. Нет никакой иной жизни;
предназначение человека только в такой жизни.
В этих воззрениях можно обнаружить начала того земного
гуманизма, которого придерживались в XIII в. последователи Ибн
Рушда и Аристотеля. Он лег в основу нехристианского
гуманистического мышления и проявился в романах Жида, Сартра и
Камю.
Уже среди амальрикан этот гуманизм наполнился политическим
содержанием. Амальрик и его ученики выражали в политически
активной, если не сказать – взрывной, форме идеи Иоахима Флорского.
Их политическое послание можно сформулировать следующим
образом: все три лица Троицы были результатом творения и имели
свое собственное воплощение. Царство Отца было царством Ветхого
Завета; царство Сына было церковью со своими таинствами, чье
господство близилось к концу; царство Святого Духа только
начиналось, вновь воплощаясь каждый день в каждого верующего,
делая его Богом. Идея отождествления Святого Духа с духом,
действующим в каждом человеке и понимаемом как «активный
интеллект» (intellectus agens), была выдвинута самыми верными
приверженцами учения Аристотеля и Аверроэса. Вероятно,
амальрикане имели поддержку королевского двора. Считается, что
Амальрик был наставником сына Филиппа Августа, наследника трона,
который, как в это верил Амальрик, станет спасителем в последние
дни мира и покончит с империей и папством.
Давид Динанский, чье учение было осуждено вместе с учением
Амальрика, был приверженцем Аристотеля, и в основе его взглядов
лежала
чистая
логика.
Представляется,
что
он
учил
материалистическому пантеизму: Бог – это материя, и никакая
реальность не существует вне материи, вне Бога. Все, что известно о
Давиде, – это то, что он имел встречу с папой Иннокентием III в Риме.
В пьянящем увлечении Аристотелем и арабскими толкователями,
прежде всего Авиценной и Аверроэсом, эти молодые магистры
рассматривали Бога и природу, материю и дух в одной и той же
плоскости. Некоторые учения действовали как вошедший в привычку
наркотик. Полагали, что материя вечна и находится в постоянном
движении; не было никакого творения во времени. Существует лишь
один интеллект, способность к мышлению, которая присуща всем
людям. Есть только одна мировая душа, присутствующая во всех
живых существах. Нет личного бессмертия. Между верой и знанием
необходимо провести четкую границу. Наука изучает только природу и
происходящие в ней процессы. Богословие не является наукой. В
Парижском университете была пресечена деятельность студенческих
групп, исповедовавших свободомыслие и пантеистические взгляды;
против них были применены дисциплинарные меры. Между 1213 и
1241 гг. появилось шесть указов, запрещавших изучение естественных
наук. Ни одному преподавателю «с плохой репутацией» не
разрешалось чтение лекций (статуты Робера де Курсона, кардиналалегата, принятые в 1215 г.). В 1231 г. церковь запретила проведение
диспутов на национальном языке. Галилею также было строго указано
на то, что он внушает «опасные мысли» своим слушателям.
Тем не менее в 1230–1250 гг. основные научные трактаты
Аристотеля и арабских комментаторов, попавшие под запрет,
приобретали все большую популярность в Парижском университете. В
1245 г. Роджер Бэкон в своих лекциях об учении Аристотеля часто
обращался к арабским философам-комментаторам. Некоторое время
спустя стало ясным, что среди преподавателей факультета свободных
искусств имеются немногочисленные, но последовательные
сторонники учения Аристотеля. Все они были северянами, выходцами
из Северной Франции, Северной Германии и Скандинавии: Сигер
Брабантский, Боэций Дакийский (он был датчанином или шведом) и
Госвен де Ла-Шапелль из Нидерландов. Их фундаментальную
позицию отражают слова Сигера: «Мы не обсуждаем чудеса Божьи;
чем мы действительно обязаны заниматься, так это обсуждать
естественные вещи с точки зрения естественных законов». Боэций
замолчал после обвинения, выдвинутого против него в 1277 г. К
сожалению, мы мало знаем о нем; неизвестно, откуда он был родом и
когда умер. Боэций был автором одного из наиболее известных
трактатов Средневековья по теории грамматики De modis significandi и
небольшой работы «О высшем благе» (De summo bono), которую
французский историк Пьер Мандонне охарактеризовал как пример
«чистейшего и наиболее последовательного рационализма, какой
вообще можно себе представить». Боэций пришел к выводу, что
величайшая красота проявляет себя в делании добра и познании
правды. Интеллект должен руководить человеком в его трудах. Ведь
если есть что-то божественное в человеке, так это его интеллект;
и именно он помогает понимать, что есть правда и справедливость.
Интеллект, правда и надлежащее поведение образуют троицу
человеческой красоты. В своем трактате Боэций проводит резкое
различие между верой и знанием; его концепция «двойственной
истины» вызвала большие споры. Вера и знание руководствуются
разными принципами, за которыми признается своя ценность.
Все еще продолжаются споры о мировоззрении Сигера
Брабантского (родился около 1249 г., убит сумасшедшим в тюрьме в
Орвието в 1282 г.). Его считают своим одновременно Восток и Запад.
В одном манускрипте того времени утверждается, что еще в 26-летнем
возрасте он наметил основные цели своих будущих научных
исследований, и о нем говорится, как о «Сигере Великом». Однако
теолог Дунс Скот считал, что любой ученый, который придерживается
глубоко ошибочных взглядов, ставит себя вне рамок человеческого
общества. Петрарка такими словами описывал Аверроэса, главного
авторитета Сигера: «Сумасшедший пес, бросающийся в слепом
безумии на Христа и Господа и католическую веру». Сигер оказался в
эпицентре жарких диспутов, проводившихся во второй половине
XIII в. в Парижском университете. Партия Сигера в течение
нескольких лет отказывалась признать результаты выборов ректора,
состоявшихся в 1271 г. В глазах студентов и преподавателей,
восхищавшихся Сигером, он был последовательным поборником
автономии разума, «чистого» знания, свободного от любого
теоретического ограничения. Человек, обладающий знанием, подобен
истинному пророку. «Бодрствуй, учись, читай, и, если у тебя осталось
хоть какое-то сомнение, пусть оно подвигнет тебя к дальнейшему
исследованию непознанного, поскольку жизнь без знания это смерть,
могила для несовершенного человека». «Чистый разум» может ничего
не знать о предопределении или свободной воле, но необходимо
признать, что мир существовал вечно и не был сотворен и что все
люди содержат в себе одну и ту же божественную душу;
индивидуальная душа не вечна. Религия была необходима для
простого народа, но не для образованных людей. Догматы питали веру,
но часто разум учил совершенно противоположным вещам. Сигер
придерживался теории цикличности, которая была общеизвестна во
времена Античности. История была циклична, все регулярно
повторялось, включая судебные системы и религии. Мир находился в
саморазвитии, управляясь собственным механизмом; только
располагавшиеся на его периферии звезды, обладавшие интеллектом
небесные создания, могли оказывать какое-либо влияние. Материя,
движение и время – вечны, люди – преходящи; однако их души были
частью умной души всего человечества. «Свобода воли», строго
говоря, была пустой фразой. Жизнь каждого человека была
предопределена существовавшими законами. Добро заключалось во
всем полезном для человеческого рода, зло – во всем, что вредило ему.
За год до того, как учение Сигера было впервые осуждено, в 1269 г.
Фома Аквинский был вызван в Париж для того, чтобы продолжить
чтение лекций, несмотря на то что устав университета разрешал
монахам нищенствующих орденов чтение только одного курса лекций.
В его помощи университет сильно нуждался, чтобы противостоять
сторонникам Аверроэса. Диспут между Фомой Аквинским и Сигером
считался всеми одним из главных событий в интеллектуальной жизни
XIII в. Когда Фома, изнуренный болезнями, скончался в 1274 г.,
Альберт Великий, его учитель и друг, продолжил борьбу.
Сохранилась молитва святого Фомы Аквинского; в ней он просит
Бога даровать ему бодрость духа, но без излишней легкости, и
мудрость, но без возношения. «Сицилийский вол» (как его в
восхищении называли братья) вмешался в интеллектуальные споры
своего времени с добрым душевным расположением и спокойствием,
которые в наши дни трудно представить. Во всем его обширном
письменном наследии имеются лишь несколько моментов
персональной полемики. Он всегда контролировал себя, ко всем
вопросам подходил трезво и взвешенно, давал полностью высказаться
своему оппоненту. Его методы ведения полемики и академических
дебатов были отточены до совершенства, чего не могли добиться все
ученые, бывшие до него и после. Фома Аквинский, работая в
университете и занимаясь философскими исследованиями, смог
сохранить традиционный подход, уже не существовавший нигде в
мире, к ведению открытой дискуссии по самым сложным проблемам с
наиболее несговорчивыми противниками.
Фоме Аквинскому противостояли два правых и два левых
направления в интеллектуальной жизни. Правых консервативных
взглядов придерживались университетские теологи и францисканцы.
Левое крыло представляли свободно мыслящие профессора и
радикальные аверроисты, поддерживавшие Сигера. В 1277 г. епископ
Тампье осудил латинский аверроизм, выделив 219 неприемлемых
тезисов в работах аверроистов. Этот шаг епископа привел к тому, что
Фома Аквинский вместе с Сигером и другими «атеистами» оказался в
одной и той же лодке, не говоря уже об амальриканах и всяких
политических и религиозных фанатиках.
Для сторонников правых взглядов Фома был революционером и
очень опасным человеком. Люди левых взглядов полагали, что он
остановился на полпути. Традиционалисты и францисканцы упрекали
его в том, что с его помощью в теологию университета и церкви
проникли мрачная фигура Аристотеля и его еще более опасные
толкователи, что он открыл дверь для еврейских, арабских и античных
философов. Особо острой критике со стороны францисканцев Фома
подвергался в период 1265–1270 гг.
Опираясь на учение святого Августина, францисканские теологи и
философы оставались верными одной из старейших школ
традиционной теологии, в которой рассматривались вопросы Божьей
благодати
и
любви,
конфликт
между
естественным
и
сверхъестественным, между духом и плотью. Гордый интеллект был
врагом христианского гуманизма. Этот способ мышления имел
сильную эмоциональную окраску. Фому Аквинского обвиняли в том,
что он предал Христа и церковь, отдавшись играм разума. Нельзя
отрицать, что Фома, сын одного из наиболее верных вассалов
Фридриха II (он был ему дальним родственником) и брат придворного
миннезингера, был гораздо ближе по духу Сигеру Брабантскому, чем
францисканцам и традиционной школе. Жадный до новых знаний,
Фома полностью отдавался изучению вновь открытых древних
текстов. Он читал труды Аверроэса и Авиценны еще в самом начале
своего жизненного пути (хотя вначале он и не оценил громадную
прикладную значимость прочитанного). По мере того как
осуществлялись все новые переводы античных, арабских и еврейских
текстов, он все больше погружался в изучение этой литературы. На
взгляды Фомы Аквинского, Альберта Великого и Майстера Экхарта
большое влияние оказали труды Маймонида, великого представителя
неоиудаизма, еврейской «эпохи Просвещения».
В то время как правые обвиняли Фому в преклонении перед разумом
и в твердом следовании научному методу, в том, что он был
представителем рациональной и спекулятивной философии, левые
ставили ему в вину нерешительность и неспособность сделать
окончательный вывод. Они порицали все его попытки защитить
учение Аристотеля, всех арабских философов-рационалистов с
помощью теологии, что могло только исказить смысл того, что он
защищал.
Предрасположенность Фомы к среднему пути лежит в его характере
и особенностях его эпохи. Сэр Генри Слессер назвал Аквинского
«первым вигом». Сознательно или нет, но томизм был притягательной
силой для английских философов, научная мысль которых была
консервативна. Среди ранних теологов церкви Англии можно назвать
влиятельного философа Ричарда Хукера. Фома прекрасно представлял
себе границы человеческого познания и никогда не менял свою точку
зрения. Все земные факторы – подходящий объект для исследования, и
на их основании можно делать выводы о том, что относится к области
небесного. Мир хорош, ибо он сотворен Богом. Человек, как дитя Бога,
тоже был создан совершенным, но его разумная душа затемнилась в
основном вследствие совершенного им греха. Перворожденная дочь
нечистоты, как утверждал Фома, это слепота ума. Однако с Божьей
помощью человек может задействовать всю силу своего ума и духа, и,
будучи хозяином самого себя и своего интеллекта и воли, он обретает
способность творить добро, строить свою жизнь здравым и
рациональным образом. Человек может получить помощь от Бога
через церковь и общество, через взаимопонимание и диспуты с
оппонентами. Фома, вслед за Аристотелем, признавал, что во всех
отношениях
«общая
воля»
главенствует
над
множеством
индивидуальных воль. В «школе» церкви и общества каждый человек
был обязан подчиняться господствовавшему социальному порядку.
Фома Аквинский принимал in toto (в целом) традиционную иерархию
аристократической Европы. Неутомимая творческая деятельность
Фомы Аквинского, два его больших труда («Сумма теологии» и
«Сумма против язычников»), его университетские лекции имеют корни
в его личном опыте и убеждениях. Он был знаком не только с
молодыми интеллектуалами Парижского университета, но и всей
Европы; он испытал завораживающее влияние научной мысли
Ближнего Востока. Представители молодого поколения были уверены,
что им все позволено и все существующее является целью
исследования и доступно человеческой мысли. Для Фомы Аквинского
был неприемлем такой радикализм, и это было основной причиной его
споров с левыми.
Фома Аквинский сохранял умеренность во взглядах. Излишняя
самоуверенность более поздних теологов-схоластов, пытавшихся
объяснить существование Бога и мира, человека и природы при
помощи своих спекулятивных рассуждений, была ему совершенно
чужда. Вот почему, при случае, он мог критиковать даже Аверроэса, из
трудов которого он многое заимствовал, как «мыслителя, исказившего
учение Аристотеля». Фома был убежден, что Аристотель обладал
врожденным чувством смирения и благочестия, что удерживало его от
попыток раскрыть последние тайны, лежавшие в сердце реальности.
В то время как Фома предупреждал левых мыслителей, что они
зашли слишком далеко, правые обвиняли его почти в тех же
выражениях и даже заявляли, что ему непозволительно даже
задумываться над некоторыми вопросами. Положительным итогом
нападок справа было признание Фомы «отцом Просвещения»,
непосредственным предшественником рациональной философии
Декарта и Канта. Фома Аквинский не только противостоял
обскурантизму, он был против того, чтобы позволить эмоциям и тем
самым вере овладеть разумом; и это было важным шагом на пути
самопознания Европы. В этом вопросе Фома в первый и последний раз
полемизирует с величайшим западным теологом Августином, который
учил о примате «воли» и «сердца». Аквинский учил о примате
интеллекта. Бог «самое совершенное из всех созданий, наделенных
интеллектом». Что наиболее существенно в бытии и существовании
Бога, так это то, что Он думает, понимает и наблюдает за Собой. Это
великая «Магна Карта» европейского рационализма.
Чем больше человек развивает свой интеллект, тем более открытым
он становится как для Бога, так и для себя самого. Правильно
организованное общество – это такое общество, которое свободные и
разумные люди, говорящие на общем для всех языке, создают на
основе взаимного понимания. Но Фома Аквинский осознавал, что
люди в действительности потеряли способность понимать друг друга.
Первейшей целью обучения стала чисто практическая задача выявить
тот базовый язык, с помощью которого человеческие мысли могли
быть приведены к общему знаменателю. Схоластика для Фомы
Аквинского означала упражнение в чистом мышлении. Дидактической
целью Фомы было добиться того, чтобы человек мог выразить себя
наиболее исчерпывающе и предельно ясно, насколько это было
возможно. Это объясняет его пристрастие к диспутам. Диспут,
который проходил согласно предписанным правилам, disputatio legit
ima, использовался в целях обучения в университетах в XIII в. Он
проходил через следующие этапы: вопрос, ответ, тезис, согласие,
опровержение,
аргумент,
предполагаемое
доказательство
и
окончательное решение. Фома Аквинский использовал эту схему
диспута в своих трудах (фактически все его работы написаны в такой
форме), и как преподаватель особенно предпочитал ту форму диспута,
где окончательное решение оставалось за аудиторией. Это был диспут,
названный disputatio de quolibet, что отражало его фундаментальное
убеждение в том, что в интеллектуальном споре всеобщий интерес
требует не победы одной стороны, но торжества правды. Нужно быть
благодарным и за ошибку, поскольку она помогла выявить истину.
Самое большое благодеяние, которое человек способен сделать своему
соседу, – это вести его к правде. «Мы должны в равной мере любить
тех, чьи мнения мы разделяем, и тех, чьи мнения мы не принимаем.
Так как обе стороны предприняли усилие раскрыть правду, то обе они,
действуя так, помогли нам».
Фома Аквинский мастерски осваивал аргументы своих оппонентов.
Тогда, когда это было необходимо, он формулировал их в более ясной
и доступной форме. У Поля Валери есть замечательная мысль:
«Первой задачей любого человека, кто намерен опровергнуть чье-либо
мнение, является задача усвоить его настолько, чтобы он смог
превзойти самого горячего его защитника».
В своих сочинениях и лекциях Фома Аквинский выстраивал теорию,
в которой сочетались рациональная мысль и вера. Он считал, что
сотворенный мир, который охватывает природу, человека, общество и
все объекты, доступен для рационального исследования и потому
должен быть исследован. Это было первым долгом теологии:
обязательство сохранять молчание о Боге. В этом Фома согласен со
старейшими традициями христианской теологии. «Поскольку мы не
можем понять, что такое есть Бог, но только то, что не есть Бог».
Затем пришел день памяти святого Николая (6 декабря) 1273 г.; в тот
день Фома Аквинский вернулся с мессы и решительно отложил в
сторону свой труд «Сумма теологии» со словами: «Я не смогу
завершить его». Когда Реджинальд из Пиперно, его близкий друг и
секретарь, попытался возражать, Фома вновь повторил: «Я не смогу
этого сделать. Все, что я написал, – это столь несущественно». И затем
добавил после краткой паузы: «В сравнении с тем, что я видел и что
было открыто мне». Это молчание длилось вплоть до конца зимы.
Потом, по настоянию папы, Фома направился в Лион на собор пешком.
Он принадлежал к нищенствующему ордену, и ему было положено
путешествовать таким образом. Реджинальд пытался ободрить его:
«Как только вы прибудете на собор, много полезного принесет это для
всей церкви, для нашего ордена и для королевства Сицилия». Фома
ответил так: «Да будет воля Божья на то, чтобы там совершилось чтолибо благое». На пути в Лион он умер. Последние его слова были
ответом монаху из Фоссе-Нуово, который просил его истолковать ему
Песнь Песней.
Понимал ли Фома Аквинский, какие усилия необходимо
предпринять, чтобы его синтез интеллекта и чувства, знания и
откровения, рациональной философии и христианской теологии
сохранил свою жизнеспособность и мог развиваться дальше? Он
исходил из того, что должна была существовать изначальная гармония
между церковью и государством, что существовали разумные и
цивилизованные люди, готовые вести дружественную полемику. Более
того, эти разумные и приученные к порядку люди должны были бы
исповедовать искреннюю и глубокую веру; веру, которая принимала
бы все догматы так же легко, как они принимали законы логики и
познания. Фома Аквинский выдвинул две аксиомы, которые он считал
крайне убедительными.
«Наше воскресение будет таким же, как и воскресение Христа» и
«Человек – часть природы» (homo res naturalis est). Фома почти не
упоминает конфликт между империей и папством. Не комментирует он
и смерть на костре амаль-рикиан и преследования его юных коллег на
факультете свободных искусств. Это были вопросы, которые не могли
игнорировать грядущие поколения. В Париже задул ледяной ветер,
когда Фома Аквинский и Бонавентура умерли, а Сигер и его соратники
оказались в изгнании или в тюрьме.
Папа Бонифаций III, попытавшись еще раз установить главенство
пап над князьями и народами Европы, был унижен советником
французского короля Гийомом де Ногаре и умер от понесенного
бесчестья. В 1309–1377 гг. папы пребывали в Авиньоне и были
вынуждены, в той или иной степени, идти навстречу интересам
французской монархии. Слабость пап была видна всему миру. Более
того, люди, которые стремились вести подлинно религиозный образ
жизни, не только не встречали поддержку со стороны папства, но и
становились объектом критики. Папа Иоанн XXII был готов не только
осудить францисканцев-спиритуалов, которые были верны идеалу
бедности, принятому святым Франциском, но и анафематствовать
Марсилия Падуанского, Уильяма Оккама и Майстера Экхарта.
Размежевание стояло на повестке дня. В свете этого опыта, который
обрела интеллектуальная и религиозная элита, идея Аквинского о
синтезе была вряд ли осуществима. В университетах утвердилась
механистическая и косная разновидность томизма, претендовавшего
на главенство в якобы истинной теологии. Этот томизм претендовал на
то, что его методы действенны на все времена.
Этим схоластическим воззрениям был брошен вызов со стороны
выдающихся интеллектуалов того поколения, которое пришло после
Фомы Аквинского. Принимая во внимание ту пропасть, что
разверзлась между церковью и обществом и человеком, как
представителем этого общества, было необходимо отбросить
формальную логику и поставить на ее место «реальность». Появились
такие мыслители, как Генрих Гентский, Годфри из Фонтейна,
Марсилий Падуанский и другие, которые попытались дать
определение церкви и государства в конкретных терминах. Появились
также мыслители, которых интересовала всемирная история и
естественные законы, которые были предметом дискуссии среди
иоахимитов и францисканцев. Ученые натурфилософы Парижского и
Падуанского университетов также внесли свой вклад в антитомистское
движение. В схоластике оформились альтернативные томизму
направления – это ско-тизм, по фамилии шотландского теолога и
философа Дунса Скота, и номинализм Оккама, английского теолога.
Оба они принадлежали к ордену францисканцев.
Согласно представлениям Скота (ок. 1270–1308), Бог бесконечно
далек от Своего творения. Скот отказывается от томистского синтеза,
считая его недостаточно убедительным. Бога и человека, веру и
знание, теологию и философию разделяет глубочайшая пропасть. Бог –
это свобода, Его воля самая свободная из всех и ограничена только
законами логики и первыми двумя заповедями. Но Бог не связан со
своим созданием, искуплением и с моральным законом. Он вполне мог
и не создавать мир, а человек мог не получить искупления. С одной
стороны пропасти находится Бог, а с другой – человек, находящийся в
«крайнем одиночестве», в суровом мире природы, управляемой
неизменными законами. Человек реализует себя в своих действиях, в
своем ответе на постоянные требования выбора. Бог, мир и все
объекты природы противостоят человеку, как факторы внешние. В
некотором смысле можно представить Скота как первого
христианского экзистенциалиста.
Уильям Оккам (родился до 1300 г., умер в 1349–1350 гг.), монахфранцисканец, спиритуалист, показывает нам, как быстро Скот попал
под влияние молодого поколения, отличавшегося более радикальными
взглядами. Номинализм Оккама был наиболее прогрессивной
философией позднего Средневековья, а сам он был отцом
«современного» образа мышления.
От Платона до Фомы Аквинского было принято считать, что, если
человек мыслит, значит, он существует. Человеческая мысль отражала
порядок и конечную реальность, существующую в космосе. Под
«правильным» мышлением понималось такое мышление, которое
находилось в гармонии с «правильным» порядком в мире. Однако
Оккам выступил против такого подхода и ввел новый язык, новую
терминологию и новый образ мышления. Речь – это результат
договоренности,
достигнутой
свободными и независимыми
индивидами, которые пришли между собой к соглашению о том, что
значит каждое слово. Для выражения мысли более не требуется
употреблять в разговоре данные Богом слова, и уже не нужно
открывать данный Богом смысл каждой отдельной вещи.
Человеческий язык уже не является языком Бога и творения, но
результатом соглашения между людьми.
Эта «демократическая» философия отражена в политических идеях
Оккама, который был францисканцем-спиритуалом. Некоторое время
он провел под стражей в Авиньоне по приказу папы; ему удалось
сбежать вместе с Бонаграцием Бергамским, спиритуалистом, и Микеле
Чезена, генералом ордена францисканцев, в Германию, под
покровительство императора Людвига Баварского.
Философы и теологи начинали выходить за стены университетов и
за пределы университетской полемики; Оккам и другие подобные ему
деятели, как Виклиф, Гус и Лютер, лично принимали участие в
значимых
политических
событиях
своего
времени.
В
действительности именно они делали историю. Весь корпус
философских трудов Оккама буквально пронизан политическими
идеями. Его резкое осуждение непомерных амбиций профессоров
теологии, которые ничего не понимали ни в истинной вере, ни в ереси,
и его обличение папства в стремлении к неограниченной власти
является одним из аспектов его теологии и философии, их
неотъемлемой частью.
«Каждая вещь неповторима и уникальна». Целое состоит из
отдельных индивидуальностей, которые сосуществуют совместно. Бог
– свободен, и человек – тоже свободен, и они противостоят друг другу
в своей предельной неповторимости. Каждый индивид отделен от себе
подобных и, по сути, обладает полной свободой и врожденной
моралью. Мораль – это то, что разумно. Большинство существующих
политических и религиозных институтов и общественных организаций
не имеют никакого отношения к Богу и космосу; они образованы
благодаря «позитивному праву», вследствие соглашений, которые
могут быть изменены в любое время. Оккам, который во многих
отношениях стоял у истоков демократической политической мысли и
имел свои понятия о том, что теперь называется «права человека», тем
не менее не был защитником безграничной свободы индивида, а
скорее поддерживал свободы союзов и ассоциаций, народов и
государств. Гражданам следовало самим прийти к взаимопониманию
на основе соглашения, и это их право и долг – выбрать
начальствующих над ними из церковной или государственной среды.
Если кто-то спросит, какое место занимает Бог в этой схеме, ответ
таков – Бог не имеет никакого отношения к общественным
институтам, созданным человеком. Бог – нечто совершенно иное,
бесконечно удаленное, непонятное и непредставимое. Он существует
вне круга человеческих дел и занятий (естественно, далекий от
политики церкви) и не имеет контакта с человеком (и вне понимания
теологов). Оккам считал значительную часть трудов старого
богословия чистой фикцией; это была просто безответственная игра
словами. Бог ускользал от теологов, и люди обманывали себя, если
думали иначе.
С распадом школы номиналистов Оккама оригинальные и
дерзновенные идеи философа были почти полностью забыты. Это
типичный пример того, как «открытая» Европа постепенно сдавала
свои позиции «закрытой» Европе позднего Средневековья и начала
Нового времени. Более того, когда доминиканцы официально приняли
томизм, а францисканцы – учение Скота, эти два направления стали
паролем академических фракций, резко антагонистичных друг другу.
Обе группировки считали себя «реалистами», последователями via
antiqua, в противоположность представителям via moderna, то есть
номиналистам Оккама. Однако сторонники Фомы Аквинского, Дунса
Скота и Оккама явно измельчали, в них уже не было прежнего
величия.
Противников различала только принадлежность к тому или иному
лагерю; и чем больше было между ними схожих черт, тем язвительнее
становился язык их диспутов. Хотя Фома Аквинский был
канонизирован в 1323 г., томизм переживал упадок в XIV столетии. В
следующем веке его твердыней стал Кёльн. Однако с победой
абсолютизма и Контрреформации состоялось торжественное
возвращение томизма. Учение Скота, с элементами номинализма,
раскрыло свой революционный потенциал в Оксфорде времен
Виклифа и в Праге Гуса. Даже в XVI–XVII вв. были значительные
группы последователей Скота в Риме, Падуе, Саламанке, Алькале и
Коимбре. Оккам, отлученный от церкви в 1328 г., завоевал Парижский
университет со своим номинализмом в 1340 г., и оттуда он
распространился в университеты Германии. Дальнейшему развитию
номинализма Оккама способствовал немецкий теолог Габриэль Биль,
который оказал большое влияние на Лютера. Накануне Реформации
университеты Эрфурта и Виттенберга были на стороне номиналистов.
Глава 11
История
Непрерывной письменной фиксации событий во всех сферах
общественной жизни и науки было положено начало в «открытой»
Европе XII–XIII вв. Написание хроник было попыткой осмыслить
богатый исторический опыт. Стремление написать историю с позиций
философии и Откровения Иоанна Богослова диктовалось царившими в
обществе тяжелыми предчувствиями и необходимостью получить
ответ на злободневные вопросы о подлинном смысле совершавшихся
событий. Например, о причинах падения великих держав. Короче
говоря, все объяснялось страстным желанием прочитать знаки
времени.
Наиболее известными хронистами этого времени были англосаксы,
нормандцы и французы. Они попытались объяснить самим себе и
современникам, какие факторы способствовали возвышению этих
народов и каковы были причины различных внутренних конфликтов,
случавшихся в их истории. Философия истории была уделом
хронистов Германии. Предпочтительной темой всех дискуссий был
закат Священной Римской империи, нестроения в церкви и ужасные
последствия отсутствия в стране единства. Материал для
размышлений по последнему пункту дали восточная церковь и
еретические движения. Кроме этих вопросов, существовала проблема
примирения идеи истории, как процесса искупления, с явлениями
прогрессирующего зла и проявлявшего себя повсюду распада.
Авторами историй в форме апокалипсиса были немцы и итальянцы,
которых затронули агония францисканцев-спиритуалов и страдания
«несчастного народа Италии» под чужеземным игом. Большие
надежды родились из этой агонии, все ожидали прихода «папыангела» или «святого императора».
В условиях внешних ограничений позднего Средневековья
свободное изложение исторических событий выродилось в
примитивное
религиозно-политическое
сочинительство
и
мифотворчество, подвергавшееся церковью строгой цензуре. Среди
преподаваемых в университетах дисциплин не было места истории. И
тех провидцев, что говорили о новой всеобщей истории, с насмешкой
игнорировали. Даже иезуиты в своих учебных программах зачислили
историю в один класс с риторикой. Простое повествование также
находилось в упадке в позднем Средневековье, что объяснялось
необразованностью хронистов и пристрастностью их взглядов.
Таково было состояние умов, когда англо-норманнские историки
XII в. принялись за свою работу. Ордерик Виталий (умер около 1154 г.)
был автором «Церковной истории» (Historia Ecclesiastika), в которой
описывались события в мире западного христианства от Рождества
Христа до его времени. Для него история была осуществлением
Божественного плана для обучения человечества. Но его внимание и
основной интерес были сосредоточены на возвышении норманнов и их
дальнейшей судьбе в Англии после 1066 г. Он был монахом, и потому
ему были явственно видны следы морального разложения и кризиса в
образовании в англосаксонской церкви до завоевания Англии. Он
также довольно быстро осознал, насколько тяжелым было положение
простого народа под властью новых господ. Он описывает энергию,
отвагу и политические способности нормандских завоевателей,
сравнивая их с сенаторами Древнего Рима. В то же самое время он
обращает внимание на их гордыню, жестокость и ненасытную жажду
власти. Всему его повествованию присуща живая злободневность;
ясно, что он принимал непосредственное участие во всех
описываемых им событиях.
Труд монаха-бенедиктинца Эдмера (умер около 1124 г.),
современника Ордерика, отражает высокое мастерство писателяисторика. Ученик и биограф Ансельма Кентерберийского, Эдмер был
убежден в том, что правдивость повествования была первейшей
обязанностью историка. Его сочинения отличаются ясностью стиля и
беспристрастностью, и среди них самое важное – «История Нового
времени в Англии» (Historic! Novorum), в котором повествуется в
основном о событиях его времени. Симпатии автора находятся на
стороне его народа, и он видит в норманнах его врагов. Монахбенедиктинец Уильям Мальмсберийский (умер около 1142 г.)
принадлежал по рождению двум нациям – английской и норманнской;
он уже с презрением смотрел на «невежественных» историков
прошлого и считал себя выше их. Хотя он был всецело на стороне
западного мира, и англо-норманнов в частности, ему пришлось
постараться, чтобы правдиво рассказать о трагической истории
Священной Римской империи в XI столетии. Он находился под
глубоким впечатлением политической и военной роли имперской
церкви Германии (он рассказывает нам, что аббат Фульды смог
предоставить в распоряжение императора 60 тысяч воинов) и способен
был здраво оценивать поведение сарацин, признавая их прирожденную
гуманность.
Более молодой соотечественник Уильяма Мальмсберийского
историк Уильям Ньюбургский (умер около 1201 г.) был автором труда
«История Англии» (Historic! rerum Anglicarum). В XIX в. его считали
«отцом исторической критики», потому что он относился весьма
скептически к «открытиям» Гальфрида Монмутского, касавшимся
короля Артура. Уильям Ньюбургский и другие английские историки, в
особенности Роджер Ховеденский, Гервасий Кентерберийский и
Мэтью Парижский (монах из Сент-Олбанского монастыря), умели
работать с письменными историческими источниками подобно
современным ученым. Роджер имел тесные связи с английским
двором, состоял на службе Генриха II в качестве судьи и канцлера. У
него был чисто английский трезвый и эмпирический взгляд на
историю; большее внимание он уделял текущим событиям. Наряду с
этим его интересовали математические проблемы и естественные
науки, которые он изучал в только что учрежденном университете
Оксфорда.
В английской исторической литературе важную роль играли
жизнеописания исторических деятелей. Роджера интересует то
влияние, какое оказывали на события исторические персонажи, лично
ему известные. С этой точки зрения были написаны биографии
Генриха II и Ричарда I. Написанная французским хронистом Сугерием
«Жизнь Людовика VI» несколько отлична по своему содержанию.
Сугерий идеализировал своего героя, представляя Людовика
идеальным христианским королем, который защищал свой народ от
угнетателей-аристократов и был воплощением мира и справедливости.
Хроники крестовых походов занимают особое место среди
исторических сочинений Запада. Гвиберт Ножанский, историк Первого
крестового похода, Фульхерий Шартрский, Гильом Тирский, Уильям
Мальмсберийский и другие авторы, писавшие о крестовых походах,
были, без всякого сомнения, настроены некритично по отношению к
крестоносцам. Крестовые походы и настоящее открытие для многих
Востока разжигали интерес широкой читательской аудитории к новому
материалу. Это был серьезный запрос историкам, писавшим на
национальном языке. Вплоть до конца XIV в. англичане все еще
писали на французском, бывшем языком двора и аристократии.
Первым значительным произведением этого периода был «Роман о
Роллоне» (Roman de Rou) нормандского поэта XII в. Васа, который был
написан около 1170 г.; в нем прославляются первые нормандские
герцоги и Нормандское завоевание Англии. Наиболее важным
произведением исторической тематики на национальном языке
является хроника «Завоевание Константинополя» де Вилардуэна. Были
также биографии, написанные мирянами. Так, автором «Книги
благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля
Людовика» был выходец из аристократической семьи Жан де
Жуанвиль.
Король Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрый (1252–1284)
поставил перед собой задачу дать образование своему народу и
подготовил для своих воинов, пастухов и крестьян исторический
сборник на испанском языке, в который вошла книга об истории
Испании (Grande e General Estoria) и энциклопедия вместе с
учебником юриспруденции (Las Partidas). Король сделал испанский
язык (кастильский) государственным языком страны, это был первый
романский язык, получивший подобный статус. Альфонсо поощрял
развитие школьного образования, науки и истории. Тем самым он
следовал культурным традициям мусульманских стран Востока,
традициям, первоначально существовавшим в мусульманских
эмиратах Испании и возрожденным Фридрихом II на Сицилии.
Следует упомянуть, что эта либеральная и восточная культура
развивалась под патронатом монголов; благодаря этому появились
новые исторические труды, например «Сборник летописей» врача и
ученого Рашид ад-Дина (1247–1318); вероятно, он был обращенным в
ислам евреем. Рашид стал визирем ильхана Газан Махмуда,
монгольского правителя Персии, который поручил ему написать
всеобщую историю, работа над которой была продолжена при
наследнике Газана. Рашид привлек к работе в качестве своих
помощников двух китайцев, буддистского отшельника из Кашмира,
монгола (как эксперта по генеалогии монголов), «франкского» монаха
и несколько персов. Цель этого исторического сочинения, которое
описывало мировые события, происходившие на большой территории
от Китая до Англии, была просто грандиозной. Должно было пройти
пять веков, прежде чем в Европе могло появиться нечто подобное.
В Германии были свои хронисты и составители анналов, однако
основное внимание уделялось все же философии истории. Взгляды
ученых Германии вплоть до XII в. отличались консервативностью.
Старые общественные институты – Священная Римская империя и
имперская церковь – упорно оборонялись, и сохранялось архаичное
основополагающее понятие о гармонии между Богом, миром,
человеком и всем сущим. Но при попытке объяснить и оправдать
старый государственный строй возникли новые революционные идеи,
что случается довольно часто. Что касается истории, то немецкие
монахи, прелаты и теологи разработали новые исторические
концепции и сделали из них выводы, которые выходили за пределы их
понимания и намерений.
Кёльнский монах Руперт из Дойца, придерживавшийся крайне
консервативных взглядов, чья писательская деятельность пришлась на
начало XII в., представлял всеобщую историю как раскрытие в мире
тайны Троицы. Гуго Сен-Викторский, немец по рождению, но живший
в Париже, уже выступил борцом с идеей прогресса. Он задавал вопрос,
действительно ли какой-то благотворный импульс тайно влияет на
постоянную изменчивость человеческих дел и поступков, на
возвышение и падение великих империй. Он закончил тем, что убедил
себя в том, что медленно, но неуклонно наступает царство Христа.
Существовала ли тогда причина рассматривать всеобщую историю в
терминах прогресса? Подобную гипотезу открыто отрицали
мыслители-катары, идеи которых находили себе приверженцев в
Рейнской области. Они рассматривали историю как процесс
постоянного упадка, наглядным примером чего служила история
Западной Европы. Монаху Экберту из Шёнау принадлежит одна из
ранних версий понятия «гнилой Запад». Этот миф был настолько
пугающим, что Экберт записал свои предложения о том, каким
образом можно защитить Запад, империю и церковь, и передал их
своему бывшему однокурснику архиепископу Райнальду фон Дасселю,
канцлеру императора Фридриха I.
Тем не менее пессимизм левых иноверцев нашел массовую
поддержку даже среди мыслителей-ортодоксов. Его разделял даже
Блаженный Августин, взгляды которого Павел Орозий донес до
мыслителей Средневековья (его «История», увидевшая свет в V в.,
дала средневековым историкам основной материал для написания их
сочинений). Это чувство, владевшее немецкими философами,
сказалось и на духовных ценностях; оно прослеживается до Лютера и
далее, можно сказать, до Шпенглера. Этот пессимизм во все времена
сильно влиял на мировоззрение немцев; он выражался в их нежелании
заниматься политической деятельностью и сопротивляться, как на
индивидуальном уровне, так и в составе большого коллектива,
политическому курсу, проводимому великими правителями и
великими державами.
Среди тех, кто боролся с этой проблемой, были два писателя
середины XII в., Герхох фон Райхерсберг и Отто фон Фрейзинг. Оба
ужаснулись последствиям разрушительного конфликта между
империей и папством, начало которому было положено спором между
императором Генрихом IV и папой Григорием VII в конце XI в.
Невозможно отрицать масштаб тех церковных бедствий и народных
страданий, имевших место в Германии в результате этой борьбы.
Единственный обсуждаемый вопрос касался будущего. Герхох,
рукоположенный в пресвитера на приход в Баварии, представлял себе
всемирную историю как процесс непрерывного распада и разложения.
Работа, в которой он развивает эти идеи, называется «О четвертой
ночной страже» (De cuarta vigilia noctis). В условиях долгой ночи
варварства, когда вера погасла, а моральное разложение стало
всеобщим, осталось совсем немного тех, кто продолжает
свидетельствовать о свете; это стражи, избранные Богом. Четвертая
стража началась со времени прихода Григория VII и будет
продолжаться до Страшного суда. Именно в эту четвертую стражу
церкви угрожает серьезный внутренний раскол. Алчность и
властолюбие заставят даже пап сойти с истинного пути. Стражу будут
нести всего лишь несколько «бедных людей Христа», горстка
смиренных монахов и мирян.
Взгляды Герхоха разделяла Хильдегарда Бингенская, другой пророк
эпохи упадка, чья слава еще в XII в. распространилась далеко за
пределы Германии, достигла Англии и Исландии. Эта провидица
рассматривала историю как прогресс человека под водительством Бога
вплоть до того момента, когда Он воссядет на троне судить живых и
мертвых. Когда пройдет пять эпох человеческой истории и золото
человеческого характера очистится в огне времен, тогда исполнятся
сроки и наступит окончательный Судный день. Каждая эпоха имела
свою эмблему в виде какого-либо животного: огнедышащая гончая
означала неограниченную власть, золотой лев – страдания войны,
буланый конь – легкомыслие и роскошь, черная свинья – разврат и
схизму и, наконец, серый волк – Антихрист (отзвуки северных саг о
волке Фенрире). Когда все эти эпохи пройдут, вспыхнет яркий свет и
настанет конец всему космосу. Прежде чем это случится, империя и
церковь, император и папа падут; короли Запада станут независимыми
правителями, и ересь распространится в каждой стране.
Оттон фон Фрайзинг, величайший из средневековых историков
Германии, был сыном Леопольда III Святого, маркграфа Австрийского.
Он приходился внуком Генриху IV, императору Священной Римской
империи, и был дядей Фридриха I Барбароссы. После учебы в
Парижском университете, где он слушал лекции Абеляра, он стал
цистерцианским монахом (что не помешало ему воспринимать труды
Бернарда Клервоского с некоторым скепсисом и критикой), а
впоследствии поставлен епископом Фрайзинга. Его глубоко потрясла
трагедия Священной Римской империи. Главная тема его хроники «О
двух государствах» (Historic! de duabus civitatibus) – конфликт между
детьми света и детьми тьмы, проходивший через всю историю.
Основополагающей была следующая идея: все, что было значимо для
истории мира, уже ушло в прошлое. Но Оттон не поддался чувству
пессимизма, ведь Царство Божие продолжает медленно и невидимо
возрастать посреди всяческих бедствий. Новые люди, монашество
новых орденов, уже несут свет счастливого будущего, «новой эры»
последних дней.
Оттон застал начало правления Барбароссы, и эти года принесли
ему большое утешение. Более светлые ноты появляются в его труде
«Деяния императора Фридриха» (Ges-ta Frederick), в нем ясно
выражено его убеждение, что приход сильного и справедливого
правителя остановил процесс упадка.
Представление Оттона о трех периодах всемирной истории позднее
развил Ансельм из Хавельберга, занимавшийся вопросами философии
истории, в своей работе «Диалог» (Dialogus). Ансельм много
путешествовал: пешком, в седле, на борту корабля, что помогло ему
увидеть мир XII столетия во всем его многообразии. Он был монахом
ордена премонстрантов; участвовал в дипломатических миссиях по
поручению императора; стал епископом Хавельберга в еще
полуязыческой Восточной Европе, а свой жизненный путь завершил в
сане архиепископа Равенны. Ансельм на основании личного опыта
был знаком с положением дел в Риме, Византии и на славянском
Востоке, побывал в древних культурных центрах Древнего Рима и
Эллады, знал все о новых монашеских орденах. Все эти факты нашли
отражение в его представлениях о всемирной истории, которую он
рассматривал как длительный процесс божественного просвещения.
Бог медленно, но последовательно вел человека к познанию истины, то
есть Христа. Первые шаги в обучении человека происходили под
влиянием представлений и образов языческой предыстории, и только
потом пришла очередь церкви. Оптимизм Ансельма, как и у Отцов
православной церкви, проистекал из убеждения, что всем управляет
Святой Дух. Для него исторические перемены имели положительное
значение, поскольку они происходили под воздействием Святого Духа,
который был агентом и движущей силой прогресса.
Основателем нового ордена во второй половине XII в. был аббат
Иоахим Флорский, который прежде возглавлял монашескую общину
цистерцианцев в Калабрии. Цистерцианцы отнеслись к нему как к
ренегату, а теологи Парижского университета и члены других
монашеских орденов считали его еретиком. Суждение известного
философа-схоласта Генриха фон Лангенштейна об Иоахиме
достаточно типично, и подобное шаблонное отношение со стороны
схоластов и других университетских философов (включая Фому
Аквинского) сохранялось на протяжении столетий; они были
равнодушны к истории как к предмету изучения или даже враждебны
ей. «Парижская школа (которая занимает первое место в науке во всем
цивилизованном мире) знает достаточно хорошо, каким он был
человеком. Здесь он не пользуется никаким авторитетом и не имеет
никакой репутации; он просто мошенник, впредь для нас он просто
дилетант». Однако в действительности было не так уж много
«дилетантов», имевших столь большое влияние, которые пробудили у
европейцев интерес к философии. Данте поместил его в Раю в своей
«Божественной комедии», в круге солнца, как светоч христианской
мудрости, «наделенный пророческим духом». Колумб обращался к его
идеям, его труды были напечатаны в Венецианской республике в эпоху
Возрождения и Реформации. В XVIII в. в Германии к наследию
Иоахима Флорского обращался Лессинг.
Иоахим умер в 1202 г. в отдаленном горном монастыре.
Ошеломительный успех его учения в XIII–XIV вв. скрывает от нас
факты его личной жизни и деятельности. Источники дают
противоречивые сведения о его происхождении; одни утверждают, что
он был сыном нотариуса, другие говорят о его крестьянском
происхождении, третьи – о том, что он был евреем. Не вызывает
сомнений только то, что он рос в греческой Южной Италии, где
норманнские правители и их наследники Гогенштауфены боролись с
папами за власть и что он с раннего возраста имел интерес к
политическим и церковным делам. У него были связи при дворе в
Палермо и с Папской курией; и везде его мнение имело вес. Он мог
близко знать различных немецких историков из тех, о которых мы уже
упоминали. Монастырь Монте-Кассино находился в сфере немецкого
церковного и культурного влияния. Руперт из Дойца провел там
несколько лет, и Ансельм из Хавельберга прекрасно знал, как обстоят
дела в Италии.
В произведениях Иоахима постоянно обращается внимание на
страдания итальянского народа, находившегося под чужеземным
владычеством. Этот факт был чрезвычайно важен для формирования
его концепции истории. Для него приход новой эры, эры Святого Духа
должен был обязательно предваряться крахом старой церкви под
гнетом варварского царства террора. Старый клир и старая церковь
показали свою неспособность в деле созидания «нового человека»
и духовного руководства им, воспитания в нем совершенной любви и
глубокой духовности. Старое жреческое духовенство и господство
церкви постепенно уходят в прошлое.
Иоахим разделял историю человечества на три периода. Первый –
это время Ветхого Завета, строгой материалистической законности.
Второй – Средних веков; Тертуллиан еще во II в. употребил выражение
tempus medium. Немецкие же историки XII в. говорят о status mediocris.
Для них, как и для Тертуллиана, под этим определением понималось
такое время, для которого характерно смешение старого и нового,
варварства и христианства, находившихся в конфликте друг с другом.
Средние века в понимании Иоахима – это эпоха Запада, Римскокатолической церкви, время господства земного закона. Но, несмотря
на это, уже готовился переход к третьему периоду, царству Святого
Духа. Некоторые знаки наступающей новой эры уже просматривались
на втором временном этапе. Например, появление мучеников и новых
монашеских орденов. Но уже проявлялось в жизни и действие Святого
Духа.
Есть много ортодоксальных христиан, разделяющих мнение, что
ничего нового и хорошего не может появиться под солнцем.
Пришествие Христа говорит только о Последних днях. Все важные
события уже произошли. Все, что человеку осталось, – это в смирении
ждать Страшного суда, когда грешники понесут наказание, а
благочестивые
будут
вознаграждены.
Несмотря
на
такой
консервативный и глубоко пессимистический взгляд историков XII в.
в Германии, в стене страха, выстроенной благодаря дуалистической
концепции (близкой к манихейской), начали здесь и там появляться
бреши, и появилось предчувствие ждущей всех радости.
Однако Иоахим прекрасно понимал, что уход старой церкви и
замена ее обществом «новых людей», живущих по новому закону
любви и свободы, руководимых Духом Святым, потребует больших
жертв. «Человек плоти преследует тех, кто родился от Духа». Духовная
церковь будущего, новое общество новых людей уже прорастает через
папскую церковь сегодняшнего дня. Иоахим не отвергал полностью
традиции и законы старой церкви; они призваны были сыграть свою
роль в искуплении человека, но, как только они выполнят свое
предназначение, с ними будет покончено, «когда придет то, что есть
совершенство». И этот день уже близок. Иоахим намеревался создать
свой собственный новый орден, монахи которого вели бы
созерцательный образ жизни. Орден мог стать, как он предполагал,
зародышем нового человечества будущего. Послание Иоахима «ко
всем верующим во Христа» является на самом деле манифестом,
напоминающим папские энциклики и императорские указы, которые
были составлены по тем же правилам. Последующие поколения
революционеров обращались с подобными воззваниями, хотя они и не
осознавали, что это всего лишь повтор идей Иоахима; пуритане и
революционеры более позднего времени обращались ни больше ни
меньше как «ко всему человечеству».
Трудно сказать, пытался ли когда-нибудь Иоахим Флорский
разъяснить в деталях смысл своей проповеди о «Вечном Евангелии», о
долженствующем наступить царстве Святого Духа, о том времени,
когда исчезнут старая церковь и все старые царства мира. Но если
даже и нет, все равно семя упало на удобренную почву. К примеру, оно
проросло в среде той части францисканцев, которые не принимали
критику папой и большинством орденской братии принципа
абсолютной бедности, провозглашенного основателем ордена.
Пребывая в духовной изоляции и в смятении духа, эти
францисканцы-спиритуалы пришли к собственному пониманию
истории, даже еще до того, как они попали под влияние Иоахима.
Провозгласив, что Франциск – это получивший новую жизнь Христос,
спаситель и искупитель, который откроет столь долгожданный Новый
век, они пришли в согласие со своей совестью и получили оправдание
своему сопротивлению. Они вели битву на трех направлениях: против
доминиканцев, против императора Фридриха II и против папы. Причем
борьба с доминиканцами не была выражением привычного
соперничества между монашескими орденами, характерного для
Средних веков, но была следствием глубокого убеждения
францисканцев в правоте своей духовной версии всемирной истории.
Бог предназначил одному-единственному ордену вести людей в Новый
век Последних дней, и именно выполнение этой задачи легло на плечи
братству святого Франциска. Отказ от завещания святого Франциска и
изменения в уставе ордена были первой и основной причиной
открытого разрыва между спиритуалами и Римом. Во второй половине
XIII в., но прежде всего в XIV в. спиритуалы заключили несколько
важных союзов в их борьбе с Римом. Они стали инструментом в руках
князей и императоров (например, их использовал в качестве
политических пропагандистов Людвиг Баварский), францисканцы
были в окружении Жанны д’Арк. В XIII–XVI вв. францисканцевспиритуалов продолжали сжигать на кострах как еретиков.
Прямая связь установилась между спиритуалами и иоахимитами
(скорее, их следовало бы назвать неоиоахи-митами, которые по-своему
интерпретировали исторические и космологические идеи Иоахима
Флорского), когда в 1241 г. аббат Иоахимитского ордена бежал во
францисканский женский монастырь в Пизе, опасаясь угроз Фридриха
II разрушить его резиденцию. Он привез с собой много сочинений
Иоахима. Как спиритуалы, так и иоахимиты видели в императоре
Антихриста, или, по крайней мере, его предтечу. Францисканец
Джерардо из Борго-Сан-Доннино приехал из Пизы в Париж, где он
опубликовал в 1254 г. «Введение к Вечному Евангелию». В это
издание, от которого не сохранилось ни одного экземпляра, входили
три основных труда Иоахима Флорского с предисловием
францисканца и глоссами, объяснявшими, по его мнению,
основополагающие понятия этих трудов. Представляется, что
Джерардо не комментировал подробно содержание «Вечного
Евангелия», это было просто невозможно. Он хотел донести до
читателя ту мысль, что это Евангелие коренным образом меняет
Евангелие Христа, что уже нет нужды во всяких знаках и символах и
это все уже принадлежит прошлому. Старая церковь завершает свое
существование. Новая эра должна начаться в 1260 г., и те, кому
предназначено стать членами новой церкви Святого Духа, могут
возрадоваться.
Джерардо публично и письменно выразил те мысли, что уже давно
зрели в умах иоахимитов и спиритуалистов в Италии, Южной
Франции и Испании. Но случилось так, что он высказал их в Париже в
то время, когда университет переживал внутренний кризис.
Секулярные профессора ухватились за эту возможность, чтобы
обличить нищенствующие ордены в ереси, обвинить их в том, что они
создают благодатные условия для совращения студентов и
превращения их в фанатиков.
В 1255 г. Джерардо подвергся церковному осуждению. Здесь нет
места, чтобы подробно описывать преследование спиритуалов
церковью, которое продолжалось полтора столетия. Необходимо лишь
сделать одно важное замечание о том, насколько радикально
изменилось их представление об истории с тех пор, как они были
загнаны в подполье. Их идеи приобрели политическую окраску и
стали более секулярными. Тот образ, который они создали себе, –
постоянно гонимых «бедных людей Христа», находившихся в
постоянном конфликте с Римом и всем миром, – будет существовать
еще долгое время.
В 1298 г. в Нарбонне (в прошлом культурный центр Прованса и
движения катаров) умер францисканец Петр Иоанн Оливи, не
единожды осужденный церковью. Его «Письмо», адресованное
сыновьям неаполитанского короля Карла II Анжуйского, и
«Комментарий на Апокалипсис» отражают взгляды спиритуалов на
историю. Всемирная история должна пройти через три священных
этапа: царство Отца, царство Сына и царство Святого Духа. Все новое
приходит только через тяжкие муки, сопровождаемые страданиями и
преследованием. «Третье царство», царство Святого Духа и свободы,
придет с помощью спиритуалов, а преследовавшая их Римскокатолическая церковь будет разоблачена как Антихрист. Папская
церковь, властолюбивая и жадная, была новым Вавилоном, которая
еще имела силы подавить движение францисканцев, но была обречена
на скорое поражение. Франциск был «новым человеком», новым
вождем преображенного человечества.
Однако, несмотря на столь оптимистическое предсказание,
преследование спиритуалов только набирало силу. Анджело да
Кларено, рассказывая о бедствиях своего ордена, в своем сочинении
описывал также страдания человечества. Во всей Южной Италии,
особенно в области Неаполя, спиритуалы стали все больше выражать
народные требования, что особенно проявилось на примере секты фра
Дольчино. Ее последователи были первыми, кто признал возможность
для секулярного правителя возглавить вступление в Новый век.
Сначала наиболее подходящим кандидатом посчитали короля Неаполя,
затем остановились на кандидатуре правителей Арагона,
отстранивших представителей Анжуйской династии от власти. Но не
только спиритуалам-францисканцам оказывал покровительство
королевский двор Неаполя. Это было время распространения идеи
мессианства. Кола ди Риенцо, известный ныне многим только как
персонаж оперы Вагнера, попытался встать во главе власти в Риме в
облике «народного трибуна». В 1347 г. он заявил об особой миссии
итальянского народа, которому уготовано спасение. Он видел себя
вторым Франциском, призванным продолжить и завершить его дело,
но подведя под него политический фундамент. В последующие века
многие революционные теории и движения несли на себе отпечаток
идеологии францисканцев.
Выяснилось, что Новому веку не суждено было наступить ни в 1260,
ни в 1300 г., и потому все время назначалась новая дата грядущего
события. Старые правители и старые власти были повсюду
триумфаторами. И перспективы будут все более мрачными, как об
этом вскоре заявил Данте, ученик спиритуалов. Некоторые надеялись
искать убежища за морем. В 1299 г. Анджело Кларено отправился с
миссией в Армению. Другие бежали в Африку или на Дальний Восток
и сумели добраться даже до Монголии, где толерантно относились к
представителям всех религий.
Некоторые спиритуалы пробовали уйти во внутреннюю духовную
жизнь, заняться изучением естественных наук. На францисканском
конвенте в Йере близ Тулона, интеллектуальном центре иоахимитов
Прованса, Гуго де Динь возглавил группу врачей, нотариусов и других
образованных людей, основной целью которых было изучение Библии
и публичные чтения трудов Иоахима Флорского. Эти набожные
миряне, в свою очередь, пробудили интерес спиритуалов к
естественным наукам. Уже упомянутый Петр Иоанн Овили был также
заинтересован в исследовании природы; его натурфилософская теория
импетуса и его понимание инерции были первыми шагами в
формировании современной теории движения.
Изучение естественных наук было средством «переделать» мир в
духе спиритуалов-францисканцев. Роджер Бэкон и его ученик Арнольд
из Виллановы обратились с призывом приобретать знания, которые
только и могли дать тем, кто ими обладал, возможность преобразовать
окружающий мир. Единственно верные знания человеку давало
изучение природы. Но только тому человеку, кто проникся истинным
духом, которого он открыл для себя в сердце природы. Спиритуалы
пророчествовали, что настанет Новый век, век Человека, который,
будучи в Духе, завоюет землю.
Глава 12
Наука
В середине XIV в. Жан де Роктайад, монах-францисканец,
пожаловался на то, что слишком мало вокруг прозорливых и
благочестивых натурфилософов; большинство из тех, кто якобы
занимается наукой, – это колдуны, маги, мошенники и
фальшивомонетчики. «Бесполезно стремиться к совершенству в этом
виде искусства, если человек прежде не очистил свой ум посредством
праведной жизни и глубокого созерцания; и, только добившись этого,
он не только представляет себе, что такое природа, но и понимает, как
изменить то, что возможно изменить; но это дано понять лишь
немногим».
Сам францисканец обрел научное знание «через Божественное
откровение» во время семилетнего пребывания в тюрьме. Предметом
его занятий были медицина, химия и алхимия; и он также стал
известен своими пророчествами о переменах в церкви и государстве.
Он предсказал, что папы, плененные тогда в Авиньоне, потеряют
власть и все свои состояния и вернутся к апостольской бедности.
Сначала он находился в заключении в Тулузе, оказавшись узником
францисканского провинциала Аквитании, а затем – в папской тюрьме
в Авиньоне. Вначале, побыв в роли «исследователя тайн природы», он,
наряду с другими францисканцами, алхимиками и астрологами, встал
в один ряд с европейскими натурфилософами доктором Фаустом,
Бойлем и Эразмом Дарвином. Это направление науки развивалось в
XIX столетии и продолжает существовать и в наше время.
Это «разгадывание тайн природы» не следует рассматривать
отдельно от религиозных и политических представлений того времени;
это было тесно связано с общим мировоззрением эпохи. Те, кто был
наиболее активен в этой области, пытались добиться ни много ни
мало, но изменения «природных элементов» и трансформации
общества. Большое значение придавалось изучению естественных
наук, которые способствовали продвижению тех или иных
религиозных и политических идей. Например, Эразм Дарвин, дед
Чарльза Дарвина, был доктором медицины, религиозным
реформатором, просвещенным человеком и революционером. Можно
показать на конкретных фактах, что реформаторское представление о
том, что наука «делает мир лучше», имеет богатую предысторию. В
XIX в. среди правых деятелей эту идею высказывал немецкий
естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель, среди левых –
немецкий политический деятель Фридрих Энгельс. В Европе о
естественных науках заговорили по крайней мере в XII в., а в XIII–
XIV вв. они уже заявили о своих правах. Каждый, кто стремился
познать «тайны природы» и проводил практические эксперименты в
области естествознания, сразу же получал ярлык колдуна и алхимика,
который вместе с другими заговорщиками пытался раскрыть секреты
природы, которые Господь намеренно хранил под покровом тайны.
Такие люди в представлении современников были движимы
честолюбием и тщеславием, и даже вполне могли заключить договор с
дьяволом. Герберт Аврилакский, ученый X в., занимавшийся
математикой и астрономией, который после избрания его папой
принял имя Сильвестр II, был известен в Средние века не как папа, но
как маг и чернокнижник. Бойль, друг Ньютона и «отец современной
химии», был практикующим алхимиком.
В Средние века те, кто изучал естественные науки, не имел никаких
общественных прав, церковь их также не признавала. В университетах
избегали проведения научных экспериментов; ими могли заниматься
только в каких-то тайных, небольших ремесленных мастерских, а сами
экспериментаторы считались людьми с темной репутацией. Теологи
отметали любую попытку проникнуть в тайны природы, это
рассматривалось как незаконное вторжение в священное чрево
Великой Матери. Даже в XIX в. испанская Академия наук отвергла по
этой причине предложение зарегулировать течение реки Мансанарес.
Любой человек, который, несмотря на общественное мнение,
продолжал заниматься наукой, становился изгоем. Это могли быть и
евреи Прованса, которые занимались алхимией, медициной и
астрологией, пользуясь знанием арабского языка. И те исследователи,
что тайно от всех пытались обнаружить философский камень и
превратить ртуть в золото. Любой ученый, кто, подобно Роджеру
Бэкону, имел смелость устроить в монашеской келье научную
лабораторию, мог заплатить за это тюрьмой.
Необходимо подчеркнуть, что средневековое образование состояло
из самых разнообразных и часто противоречивых элементов.
Учеными, занятыми научными исследованиями, руководили самые
различные мотивы, рациональные и иррациональные; зачастую наука
шла рядом с суеверием. Наряду с научными эмпирическими методами
существовал и чисто спекулятивный метод мышления. Некоторые
предметы исследования были столь тесно связаны друг с другом, что
науки и лженауки образовывали необычные пары, например, химию
сопровождала алхимия, астрономию – астрология, математику –
космология (числа рассматривались как священные цифры, в которых
скрыты все тайны макрокосма и микрокосма), технологию – магия,
медицину – философия, оптику – мистические представления о
свойствах света.
Самым первым центром научного знания стал Оксфорд времен
Роберта Гроссетеста (родился около 1170 г., умер в 1253 г.). Гроссетест
был родом из Суффолка, учился в университетах Оксфорда и Парижа.
Вернувшись в Оксфорд, он стал наставником францисканской школы,
а затем занял пост канцлера университета. Умер он в сане епископа
Линкольнского, однако не переставал опекать свой родной
университет. Оксфорд при его жизни был центром древнегреческой
учености, пристанищем чистого разума; и его влияние
распространилось далеко повсюду. Еще до смерти Гроссетеста
натурфилософ Витело в Силезии значительно продвинулся в познании
законов оптики, исследования которой он начал еще в Оксфорде.
Платон полагал, что свет и числа – тесно взаимосвязанные
элементы, представляющие основные структуры космоса. В Средние
века этой теории придерживались Августин и неоплатоники. В то
время как доминиканцы исповедовали мировоззрение Аристотеля,
францисканцы, особенно в Оксфорде, были платониками и твердыми
сторонниками Августина. Гроссетест учил, что свойства пространства
определяются свойствами света. Свет и световая энергия, по его
мнению, были первопричиной всех вещей в природе. По этой причине
законы оптики имели фундаментальное значение для объяснения того,
что есть природа. Всякое развертывание материи происходит
благодаря мультипликации света. Законы космоса раскрывались в
числах и в простейших геометрических моделях. Гроссетест полагал,
как Бэкон и Галилей после него, что ничего нельзя понять в
натурфилософии и при эмпирическом исследовании без помощи
математики, под которой он понимал геометрию.
Гроссетест выдвинул теорию, согласно которой свет был
универсальным
принципом,
помогавшим
проиллюстрировать
взаимоотношения между тремя ипостасями Троицы, «объяснить»
действие Божественной благодати через посредство свободной воли.
Свет был тем посредником, через который душа воздействовала на
тело; именно свет придавал красоту видимому творению. Эти идеи
были унаследованы от Античности, и в Оксфорде они получили
дальнейшее развитие.
Научные традиции Оксфорда, которым положил начало Гроссетест,
продолжили Роджер Бэкон, Джон Пэкхэм, Дунс Скот, Уильям Оккам,
Томас Брадвардин, Джон Дамблтон и другие менее именитые ученые.
Влияние университета распространилось на Германию, университеты
в Падуе и Париже. Проблемы, поднятые натурфилософами и
исследователями XIII–XIV вв., привлекли к себе пристальное
внимание последующих поколений ученых, что является
знаменательным фактом.
Оксфордская школа развивала новые научные методы, среди
которых был индуктивный метод исследования с применением
математических и философских принципов (например, при
рассмотрении актуальной проблемы: действительно ли наши чувства
говорят нам правду?). О большом размахе практических исследований
свидетельствуют работы ученых XIV в. Ричард Уоллингфордский
(около 1292–1335) заложил основы тригонометрии и сконструировал
ряд вычислительных приборов, в частности астрономические часы и
экваториум. Уильям Мерль (он вполне мог принадлежать к тому же
самому семейству, что и ученый XII в. Даниэль Морли) вел в Оксфорде
дневник метеорологических наблюдений в 1337–1344 гг. и использовал
полученные данные при написании трактата о предсказании погоды
для нужд фермеров. Сочетание непосредственных наблюдений с
точными математическими расчетами сделали метеорологию одним из
важнейших предметов в Оксфордском университете в это время.
Ученый,
известный
как
Perscrutator
(лат.
«изыскатель,
исследователь»), вполне возможно, что это был Роберт Йоркский,
назвал древних авторов «поставщиками» всяких небылиц. Он
заимствовал у них только отдельные правила и методы, а в остальном
возложил все надежды на милость Божью, свои собственные научные
выкладки и на эксперимент. Ричард Суайнсхед в своем «Калькуляторе»
(который хотел переиздать сам Лейбниц) предложил несколько
теоретических принципов для применения математических методов в
физике.
Однако, несмотря на все эти достижения, все, что связано с научной
деятельностью Бэкона, которого назвали впоследствии первым
«современным ученым», указывает на то, что Оксфордский
университет был все еще глубоко укоренен в мире Средневековья.
Францисканец Бэкон, распродав свое наследственное родовое
имущество, чтобы получить средства для своих научных
исследований, стал откровенным посмешищем для испанских
студентов в Оксфорде, так как его духовное начальство посадило его в
тюрьму. Роджер Бэкон обратил свои взоры на Юг, где
взаимодействовали друг с другом христианские, арабские и еврейские
ученые – математики, астрологи, библейские экзегеты и философы. Не
могло быть подлинной теологии без натурфилософии. В своих трудах
Бэкон цитирует более тридцати исламских и еврейских авторитетов
науки. В Оксфорде существовала еврейская община, которая, видимо,
оказала стимулирующее влияние на исследования Бэкона, да и в целом
на весь университет. Бэкон стремился обрести абсолютное знание,
которое должно было очистить христианство и преобразовать мир.
С этой мыслью он тщательно изучал отчеты францисканских
миссий, трудившихся на Дальнем Востоке, и обратился к папе, своему
духовному главе, с предложением отправить исследовательские
экспедиции по всему миру. Бэкон лично вычертил мировую карту
(ныне утеряна), на которой показаны морские пути, ведущие на запад
от Испании в Индию. Об этом стало известно Колумбу от епископа
Пьера д’Айли.
Папой, о котором идет речь, был Климент IV, родом из Южной
Франции. Мирское его имя было Ги де Фульк, он принял сан
священника только после смерти своей жены. Он уже успел побывать
солдатом, юристом и секретарем у французского короля Людовика
Святого. Затем стал архиепископом Нарбонны и, наконец, в 1265 г. –
папой. Этот папа из Прованса, обладавший широким кругозором,
поддерживал Бэкона и попросил присылать тайные отчеты о его
научных открытиях в Римскую курию. Авиньон, ставший позднее
резиденцией пап, был прибежищем астрологов, алхимиков, чародеев и
некромантов. Некромантия были наиболее популярной формой черной
магии, и даже короли и епископы не раз пытались с ее помощью
избавиться от своих врагов. Гуго Герард, епископ Кагора, пытался
убить папу Иоанна XXII при помощи магии, а французский король
Филипп IV наводил порчу на Бонифация VIII и тамплиеров. Папа
Иоанн XXII постоянно имел дело с судебными процессами над
клириками, обвиненными в колдовстве, и в 1318 г. он учредил
комиссию для расследования магических практик духовенства при
папском дворе. В папской булле Super illius specula было заявлено, что
большое число христиан занимается колдовскими практиками и
заключает договоры с дьяволом. Папа созвал конференцию, пригласив
на нее известных ученых и алхимиков, с целью выяснить, имеет ли
искусство колдовства какое-нибудь естественное объяснение или же
полностью основано на черной магии. Алхимики ответили, что такое
объяснение есть, ученые дали отрицательный ответ. Такова была
обстановка в Европе, в которой развивались естественные науки; очень
медленно разгонялись облака, поднимавшиеся из котлов, где кипело
ведьмино
колдовское
варево,
сдобренное
экстатическими
заклинаниями.
Бэкон надеялся, что его «ангел-хранитель» папа Климент IV
возродит церковь, «очистит» образование и освободит теологию. Бэкон
придерживался мнения, что все науки полезны по-своему и что они
имеют определенную цель – помочь христианству интеллектуально и
морально в борьбе с язычниками и неверными. Он полагал, что лучше
убеждать неверующих и учить их, а не вести против них войны, успех
которых непременно будет эфемерным. Военные крестовые походы
потерпели поражение, и потому на смену им должны прийти
крестовые походы, несущие свет образования, чтобы с его помощью
завоевывать умы и сердца.
Бэкона, который принадлежал к францисканцам-спиритуалам,
охватывало чувство гнева и возмущения при виде столь бессильного
христианства, неспособного организовать поход подобного рода. Рим и
курия, монашеские ордены все были вконец продажны; гордыня,
алчность, разврат владели всем клиром. Именно totus clerus, как
подчеркивал Бэкон. Князья и миряне были столь же продажны,
постоянно воюя друг против друга. Не избежал этой участи и
Парижский университет.
Все это требовало очищения христианства, и в первую очередь
самого обучения. Университеты должны были избавиться от греха
содомии и уволить всех профессоров-гомосексуалистов. Теология
также нуждалась в очищении; среди ее семи смертных грехов была
сосредоточенность на формальной философии и пренебрежение
естественными науками, филологией и критикой текста. Два
последних предмета были важны для эсхатологии, поскольку
следовало проанализировать каждое слово и слог в Библии, которые
были ключами к истории и будущему церкви от начала до конца
времен.
Бэкон придерживался точки зрения францисканцев-спиритуалов на
исторический процесс. Настал момент, когда апокалиптические
пророчества были оставлены ради астрологии. Этот тренд начал
проявляться во все большей степени среди францисканцев, так как
астрология, как они полагали, используя науку как свою служанку,
могла с уверенностью предсказывать будущее.
Начиная с XII в. астрологические идеи и практики, которые или
достались в наследство от Античности, или имели арабские и
еврейские корни, буквально наводнили Западную Европу. Гороскопы
составляли астрологи всех религий, включая представителей secta
Christi, впервые описанную Бэконом, и secta Catholicorum, о которой
рассказывает Пьер Дюбуа, известный французский памфлетист и
ученик Сигера Брабантского. Время возвышения и падения
христианского Запада были предметом самых серьезных расчетов.
Представляется естественным включить в число учеников этих
предсказателей тех одержимых этой идеей мыслителей XIII в. и далее,
вплоть до Ницше и Шпенглера; все они рассчитывали время
существования различных культур, мировых империй и западной
цивилизации. К примеру, астролог и врач Пьетро д’Абано,
получивший образование в Константинополе и Париже и принесший
философию аверроизма в Падуанский университет, указывал, что
Сократ, Платон и Аристотель, не упоминая многих поэтов, процветали
под знаком планеты Меркурий. Чекко д’Асколи составил гороскоп
Христа, утверждая, что весь его жизненный путь, включая его
Страсти, определяли звезды и что все происходило независимо от его
свободной воли. Это была радикальная, «научная» астрология, для
которой было характерно агрессивное антихристианство и
антикатолическая направленность. Пьетро д’Абано категорически
заявил, что не может быть такого понятия, как «пророчество», так как
природа следует своим неизменным законам, которые могут быть
поняты учеными, и прежде всего астрологами. Отсюда следовало, что
чудеса невозможны, и никто не мог утверждать, что он обладает
властью творить чудеса, что подрывало основы папства и церкви.
Астрологи не были «лжемагами», но людьми, понимавшими законы
природы. Для них все те, кто практиковал «ложную магию», были
связаны с религией, любого вида религией. Церковь и духовенство, со
своей стороны, были готовы доказать, что в действительности магами
и колдунами были сами ученые и астрологи, что было делом довольно
затруднительным, так как сам клир был глубоко вовлечен в занятие
алхимией, астрологией и черной магией. «Правые» астрологи, включая
Бэкона, имели иной взгляд на астрологию. Бэкон надеялся точнейшим
образом вычислить время окончательного падения ислама и составить
новый реформированный по астрономическим принципам календарь.
Научные исследования Бэкона и его взгляды основывались на
убеждении о неизбежности наступления новой и последней эры; он
имел в виду эру господства духа. Это будет делом рук «духовного
человека»,
который
подвергался
преследованиям
еще
с
доисторических времен. И для Бэкона это был не кто иной, как
естествоиспытатель, подлинный ученый. Именно он был призван
просветить церковь и мир. Бэкон верил, что новое зажигательное
стекло было изобретено «Божьей милостью», что указывает на
фундаментальный переворот во взглядах людей. Прежде по милости
Бога правили императоры, короли и папы. Теперь их место заняли
машины. «Духовный человек», ученый, явил всем истинное «чудо»
техники.
Джованни де Донди (родился в 1318 г.), профессор астрономии в
Падуанском университете и профессор медицины во Флорентийском
(его отец был врачом и профессором университета в Падуе),
потративший десять лет на создание часов с особым механизмом,
писал: «Нас каждый день окружают вещи, на которые мы смотрим как
на чудо, когда мы начинаем пользоваться ими, они уже не кажутся нам
таковыми, а становятся понятными и обыденными. Меня не
переполняют, как прежде, чувства восхищения и ужаса перед
чудесами; я уже научился рассуждать о том, что я вижу, и больше не
позволяю себе удивляться без всякого повода».
Известный современник де Донди епископ города Лизьё Николай
Орем (умер в 1382 г.) резко обличал астрологов в своих трудах,
написанных на французском, его родном языке, на который он
переводил научные сочинения Аристотеля. На протяжении всей своей
жизни он боролся с «ошибочной верой в чудеса», присущей простому
народу. Он критиковал стремление человека во всем видеть чудеса,
давать свободу воображению и фантазии. Этот просвещенный прелат
порицал клириков, стремившихся во всем необычном видеть чудо, а
также тех из них, кто обманывал простой народ хитроумно
подстроенными чудесами с целью раздобыть денег для содержания
своих церквей. Орем настаивал на необходимости исследовать тайны
природы и рационально рассматривать события, описанные в Библии,
в частности в Евангелиях, и христианскую веру в целом. «Все
содержащееся в Евангелиях в высшей степени разумно
(rationabilissima)». Из этого можно сделать вывод, что критика культа
чудес зарождалась в рамках средневековой теологии и обучения. Она
была подхвачена позднее деятелями Реформации, представителями
просвещения. С одной стороны, были объяснимые с научной точки
зрения «чудеса природы», а с другой – «иррациональные» чудеса
старой церкви, суеверия непросвещенного народа.
Вернемся к Роджеру Бэкону. Францисканец из Оксфорда выступал
как против суеверий масс, так и против враждебного отношения к
научным воззрениям преподавателей Парижского университета. Он
призывал к эмпирическим исследованиям природы и побуждал ученых
к проведению экспериментов, хотя он сам не смог достичь каких-либо
результатов в этой области. Нам важно понимать, что научный
эксперимент в то время ассоциировался с магией и колдовством; все
поставленные опыты были в духе доктора Фауста, во время их
проведения призывали добрых и злых духов и произносили
магические заклинания.
У Бэкона было свое представление о техническом мире будущего.
Он видит его таким: суда без гребцов, подводные корабли,
«автомобили», летающие по воздуху машины; небольшие
механические приспособления, которые позволяют бежать из тюрьмы,
магические кандалы (для узников), приспособление для хождения по
воде. Его влекли непознанные тайны природы. Тот, кто овладеет ими,
полагал он, станет властелином мира, и ему будет принадлежать
будущее. Это была новая грань мироощущения человека того времени.
Учеником Бэкона был алхимик и врач, работавший при дворах пап и
королей, Арнольд из Виллановы (родился около 1238 г.). По
национальности он был каталонцем, учился в университетах Неаполя,
Барселоны, Монпелье, Парижа, Рима и Авиньона; его перу
принадлежат труды по медицине, алхимии и астрологии. Как и его
учитель,
он
был
францисканцем-спиритуалом
и
потому
придерживался их религиозных и научных воззрений. Арнольд
составил манифест, направленный против сторонников учения Фомы
Аквинского, озаглавленный «Меч правды против приверженцев
томизма». В нем он писал о «Папе-ангеле», который возглавит
грядущее «омоложение», что приведет к трансформации космоса,
церкви, общества и всех его элементов. Арнольд был занят поиском
такого медицинского средства, которое стало бы панацеей от всех
болезней и которое омолодило бы человеческое тело и душу. В его
представлении натурфилософия была самым могучим союзником
спиритуалов в их усилиях преобразовать мир.
Как врач и алхимик, Арнольд привлекает наше внимание к
некоторым специфическим аспектам химии и медицины той эпохи. Он
был известен в свое время и спустя столетия благодаря, как считается,
написанным им руководствам по алхимии. В те времена химия и
алхимия считались одной наукой. Тексты по алхимии из арабских
источников ходили по Европе с 1144 г. Целью алхимии-химии было
преобразовать элементы природы таким образом, чтобы в итоге
сложилась некая лучшая действительность, высокодуховная и
божественная. В одном из трактатов, приписываемых Арнольду,
Страсти Христовы сравниваются со «страстями» химических
элементов: химические метаморфозы имели прямую аналогию в
таинстве претворения хлеба и вина в плоть и кровь Христову; ртуть –
это агнец, ведомый на заклание, и тому подобные сравнения.
Что касается средневековой медицины Западной Европы, то, можно
сказать, она обладала своей философией, научные положения которой
отражали мировоззрение той далекой эпохи; выросла она из медицины
Античности, представляли которую арабские и еврейские доктора. Два
великих мыслителя XII в. Ибн Рушд, или Аверроэс, и Маймонид были
известными врачами, к тому же, что особенно важно, практикующими
врачами. То же самое можно сказать и об Ибн Сине, или Авиценне.
Каждый средневековый доктор был в какой-то степени астрологом. К
середине XIII в. уже существовало стандартное собрание
классических, арабских и еврейских, медицинских текстов, которое
имелось во всех больших библиотеках Монпелье, Салерно, Парижа,
Гранады, Толедо, Каира, Дамаска и Багдада.
Каждый студент-медик должен был провести какое-то время в
«просвещенных» странах Средиземноморья, в атмосфере научного
«свободомыслия». Здесь практическая и теоретическая медицина
бурно развивались и шли рука об руку. Практическая медицина
дерзновенно раскрывала секреты одного из самых удивительных чудес
природы – человеческого тела. В наши дни едва ли можно
представить, что это означало для людей Средневековья, когда тело
каждого человека было образом Тела Христова – Corpus Christi.
Анатомирование человеческого тела было равносильно попытке
анатомировать тело Бога. Не было более безбожного, нечестивого и
негуманного занятия, чем занятие анатомией. В XIII–XIV вв. Петрарка
и гуманисты яростно обличали «безбожных врачей», критикуя в
первую очередь последователей учения Аверроэса из Падуанского
университета. Этот антагонизм существовал на протяжении пяти
столетий, да и сегодня еще дает себя знать в скрытом недоверии к
«докторам».
Несмотря на сопротивление научным экспериментам, в изучении
анатомии в Средние века достигли определенных успехов. Для
препарирования и проведения опытов, например в Салерно, во второй
половине XI – начале XII в. использовали свиней, а затем в
анатомических театрах стали вскрывать трупы преступников. Однако
великий век анатомии наступил только в XIV в., основоположником ее
стал итальянский врач и анатом Мондино де Луцци. В 1252 г. в Падуе
появился труд Бруно да Лонгобурго Chirurgica Magna,
способствовавший дальнейшему развитию хирургии. В Западной
Европе основные успехи в области медицины принадлежали военным
врачам и хирургам, на работу которых университетские профессора
смотрели свысока. В университетах медицину изучали исключительно
по учебникам на основании античных текстов.
Клиническая медицина обрела защиту в лице арабских и еврейских
ученых; искусство врачевания начало передаваться по наследству в
некоторых семьях, и сложились целые врачебные династии,
просуществовавшие по крайней мере с XII до XIV–XV столетий.
Близкий друг Аверроэса по имени Ибн Зухр (Авензоар), вероятно
величайший из мусульманских врачей, происходил из семьи врача в
мусульманской Севилье, в Испании; он был представителем врачебной
династии, насчитывавшей шесть поколений. Существовали также
кланы еврейских докторов в Испании, Провансе и Италии, где евреи
были домашними врачами и астрологами на папской службе.
Преемственность профессии, которая давала практикующим врачам
уверенность в своем призвании и формировала традицию, была
немаловажным фактором.
Были также семьи переводчиков, которые занимались переводами
различных трактатов, и не только медицинских, и писали к ним
комментарии. Например, Яков бен Махир ибн Тиббон, математик,
астроном и зоолог, один из величайших переводчиков с арабского
языка на еврейский, происходил из известной семьи образованных
евреев и возглавлял сторонников Маймонида в борьбе против старых
раввинов-ортодоксов. Тексты его переводов цитировали Кеппель и
Коперник.
Естественные науки были оттеснены на обочину европейской
интеллектуальной жизни, в среду маргинальных групп общества. Их
изучали вне университетов, и именно те еврейские и мусульманские
ученые и францисканцы-спиритуалы, чьи воззрения считались ересью.
Было еще одно важное направление научных исследований –
практическая механика. Ею занимались люди из низших слоев
общества, в основном люди ручного труда, но она привлекала
внимание, будучи основой технологического прогресса, людей
образованных, таких как Иордан Неморарий, механик и математик
XIII в. У него был анонимный ученик, которого Пьер Дюэм,
французский физик и историк науки, называл «предтечей Леонардо да
Винчи». Герард Брюссельский, Роджер Бэкон, Петр Иоанн Оливи и
еще несколько исследователей, которые работали в Падуе, Оксфорде,
Фландрии и Силезии, занимались некоторыми вопросами,
относившимися к области техники в узком смысле слова. Но должно
было пройти еще несколько столетий, прежде чем установилось
плодотворное сотрудничество между академиками и ремесленниками
на самом начальном этапе существования Лондонского королевского
общества, в Нидерландах и во Франции в начале XVIII в.
В 1600 г. Уильям Гильберт (придворный врач королевы Елизаветы I)
опубликовал шеститомный трактат «О магните, магнитных телах и
большом магните – Земле», первый печатный труд, написанный
академиком, который описывает исключительно научный объект на
основании проведенных опытов и наблюдений. Гильберт был горд тем,
что он воспользовался при написании своего труда профессиональным
опытом горняков и моряков. Он придавал особенное значение работам
Роберта Нормана, моряка в отставке, который изучал способы
производства компасов и записывал свои наблюдения. Но еще в 1269 г.
Петр Чужак (Peter the Stranger), во время осады Лучеры в Калабрии,
написал трактат о магнитах, один из наиболее замечательных
памятников средневековых экспериментальных исследований в
области изучения магнетизма.
Надежды и мечты средневековой науки и теологии, средневековой
церкви и государства наиболее ярко проявились в жизни и трудах
Раймунда Луллия (1235–1315). Сочинения этого замечательного
человека продолжают читать и комментировать, и не только в его
родной Испании. Ученый великого ума и благородного духа, открытый
всему миру, Луллий был уверен, что обращение в христианство, как
кульминация земной правды, обязательно последует за всеобщим
просвещением. В действительности подлинное просвещение и
обращение в христианство – это идентичные вещи. Между верой и
разумом, мистикой и рациональностью имеется неразрывная связь.
Луллий много путешествовал. Он посещал Римскую курию, аудитории
университетов Парижа и Падуи, бывал при королевских дворах
Франции и Германии. Его можно было встретить на улицах и базарах
североафриканских городов, а возможно, и азиатских, погруженным в
живой разговор с людьми. И еще долгое время после его смерти, такие
выдающиеся ученые и гуманисты, как Николай Кузанский, Пико делла
Мирандола, Джордано Бруно, Пьер Гассенди, пребывали под влиянием
его трудов и его личности. Луллию было уже сорок лет, когда он
написал Ars Magna. Озарение пришло к нему, когда он находился в
одиночестве на горе Ранда (недалеко от Пальма-де-Мальорка, места
его рождения) и перед ним явилось воплощенное видение его мечты о
всеобщем знании. Луллий создал логическую машину в виде
построенных по троичной логике бумажных концентрических кругов.
Эти круги заключали в себе всю область возможного знания. Вращая
их и получая новые комбинации, можно было открыть новые реальные
истины. В этой «сказочной машине» предвосхищались, хотя и в самой
рудиментарной форме, универсальные формулы Эйнштейна и
Хайзенберга. Луллий подошел совсем близко к осуществлению своей
мечты об обретении универсального научного языка, необходимого
условия для достижения всеобщего мира.
Луллий был автором дидактического романа «Бланкерна», имевшего
большую популярность у читателей эпохи Просвещения XVIII в. Это
была также первая европейская книга путевых заметок, в которой
описывались Судан, Абиссиния, Турция и Грузия. В романе есть
эпизод, рассказывающий об обращении папы к кардиналам с просьбой
о поддержке проекта, который выдвигал сам Луллий. «Помогите мне,
прошу вас, помочь осуществить мое намерение – свести все
существующие языки к одному. Поскольку если будет только один
язык, люди легко поймут друг друга и через взаимопонимание
научатся любить друг друга; они примут одинаковые традиции,
которые объединят их». Такой человек, можно возразить, мечтательутопист. Он и был им на самом деле. Но он был также мировым
гением, предвосхитившим многие проблемы будущего.
Так же как и Бэкон, Луллий призывал к учреждению в Европе
академий, в которых основными предметами обучения стали бы
древнееврейский, арабский и древнегреческий языки. Луллий с
уважением относился к своим противникам из лагеря ислама и хотел
возродить практику диспутов между представителями трех основных
религий. В его книге Libro del Gentil (которая появилась вначале на
арабском в 1272–1273 гг. на Мальорке) еврей, мусульманин и
христианин рассказывают о главных положениях своих вер. В книге
Liber de Sancto Spiritu это делают православный и католик в
присутствии мусульманина, в то время как в Liber tartari et Christiani
(Рим, 1285) татарин задает вопрос о вере еврею, христианину и
мусульманину. Луллий полагал, что детям христианской Европы
необходимо иметь хоть какое-то представление о еврейском и
мусульманском мире. Он был убежден, что нужен новый подход к
обучению европейских христиан, чтобы у них открылись глаза на
красоту иных миров.
Эпоха крестовых походов завершилась. Теперь враги церкви могут
капитулировать только под давлением чистого знания и чистой веры.
После длительных колебаний стал терциарием Францисканского
ордена. Он имел много общего со святым Франциском – любовь к
простым людям (он был одним из великих писателей Средних веков,
пишущих на родном языке) и к детям, и имел свойство любить своих
врагов. Он был также последовательным францисканцем в своем
отрицании интеллектуализма томистского Парижского университета и
аверроистской Падуи. В восьмидесятилетием возрасте он сподобился
венца мученичества, к которому он так стремился. Останки его
покоятся в кафедральном соборе Пальма-де-Мальорка.
Глава 13
Евреи и женщины
Читателя может удивить тот факт, что в одной главе одновременно
говорится о еврейской нации и женщинах Средневековья. Существует
много научных исследований по истории Средних веков, в которых
ничего или очень мало говорится о тех и других. Это замалчивание не
случайно. Хотя во времена «открытого» Средневековья евреи и
женщины внесли значительный вклад в развитие культуры и общества,
обе группы населения оказались заключенными в гетто, и они
пострадали в наибольшей степени, когда общество закрылось в себе в
позднем Средневековье. Охота на ведьм была опасной всемирной
эпидемией, когда членов общества охватила настоящая шизофрения,
вызванная мужскими фобиями. Охота на ведьм в позднем
Средневековье, которая плавно перешла в XVIII столетие (был случай,
когда ведьму сожгли в Германии еще во времена Гёте), является
убедительным доказательством того, что общество становится все
более косным и ретроградным по мере ухудшения общей ситуации в
той или иной стране. Несмотря на это, на фоне всеобщей мрачной
картины неожиданно появляются отдельные изолированные примеры
подлинно человеческих взаимоотношений.
Ни в коей мере нельзя отрицать уникальный вклад, сделанный
еврейскими учеными в культуру и религию ранне-средневековой
Европы, особенно в XII в., наиболее «открытом» в Средневековье.
Еврейские доктора, переводчики, философы и теологи, еврейские
финансисты на службе светских и церковных князей сыграли свою
роль в создании творческой интеллектуальной атмосферы, вырвав
Европу из состояния бездействия и апатии. Философ Шломо ибн
Габироль оказал большое влияние на научную мысль францисканцев,
Маймонид (рабби Моисей, как называл его Фома Аквинский) еще
сильнее повлиял на томистов и доминиканцев. Трудно представить,
чтобы Майстер Экхарт, величайший средневековый немецкий
философ и мистик, не был бы знаком с трудами Маймонида и
еврейских ученых-неоплатоников, как невозможно подумать, чтобы
Данте ничего не слышал об арабском суфийском мистицизме,
гностицизме и космологических идеях, ставших известными в мире
Западного Средиземноморья благодаря евреям Прованса, Испании и
Италии.
Культура еврейского народа достигла вершин своего развития в
преддверии надвигавшейся катастрофы. Преследование евреев,
которое сопровождало первые два крестовых похода, в 1096 и 1146 гг.,
прозвучало как серьезное предупреждение. До этого времени
антисемитизм в Западной Европе был редким и случайным явлением.
Но теперь знамения не обманывали. Несмотря на то что евреи были
окончательно изгнаны из Англии в 1290 г., столетием ранее уже
произошло их массовое убийство. Франция изгнала евреев в 1306 г.,
Литовское княжество – в 1395 г., Испания – в 1492 г., Португалия – в
1497 г. Евреям не разрешали вернуться в Англию до начала правления
Кромвеля в 1655 г.; пуритане, строившие «Новый Израиль», прекрасно
понимали, кто были их духовные отцы.
В 1215 г. согласно указу Четвертого Латеранского собора, – а это
было время, когда церковь обладала наивысшей властью, – всем
евреям предписывалось носить особые знаки отличия на одежде. Чаще
всего это была нашитая желтая лента, но не только; был и особый,
увенчанный рогами колпак, и другие отметки Каина, что вызывало
враждебность тех, кто видел в евреях «убийц Христа». В 1233 г. папа
своей буллой запретил проведение любых диспутов, касавшихся
вопросов веры, между христианами и евреями. Такие диспуты были
обычны в «открытом» XII в., но теперь если их все-таки и
осмеливались проводить, то только при покровительстве королей
Испании или известных миссионеров. Но и в таком случае в них уже
не было никакого смысла. XII в. стал свидетелем зарождения системы
гетто и тем самым изоляции евреев от их привычного городского
окружения. Евреи перестали селиться там, где жили христиане, и
образовали в городе особые еврейские кварталы, надеясь найти защиту
вместе со своими соплеменниками от любых неожиданных
преследований.
Кто были гонители евреев и кто – их защитники? К первым можно
было отнести небольшие отряды фанатиков-крестоносцев, не
подчинявшихся своим командирам; именно они были ответственны за
первые вспышки насилия в отношении евреев, но, к сожалению, к
этому приложили руку и монахи-проповедники. Впоследствии к
травле присоединились францисканцы. Но значительное число
граждан не приняло в этом участия, продолжая поддерживать братские
отношения со своими соседями-евреями. Отдельные крестьяне,
горожане и рыцари предоставляли убежище евреям в своих домах.
Охранные грамоты и привилегии для евреев давали папы, императоры
и короли. В то время как мирские и церковные правители держали их в
качестве управляющих в своих домовладениях. В позднем
Средневековье евреи были объектом запутанных коммерческих сделок.
Людвиг Баварский продавал «своих» евреев или одалживал их князьям
на краткое время. В целом исследователю трудно получить
исчерпывающую картину преследования евреев. В качестве примера
существования иной точки зрения стоит сослаться на Третий
Латеранский собор 1179 г., который призвал толерантно относиться к
евреям «исключительно по причине гуманизма», pro sola humanitate.
Антисемитские настроения длительное время господствовали в
основном среди низших слоев населения, среди обездоленных людей
города и деревни. Свою лепту в это вносили монахи нищенствующих
орденов, которые проповедовали большей частью в городах. Полная
неспособность христианства вылечить народы Европы от глубоко
укорененной ненависти к чужакам и врожденных страхов, что было
фактом исключительной важности в истории Европы в эти
христианские века, поставила евреев в еще более трудное положение.
Существовавшая в обществе напряженность была тем более опасна,
что она была тесно связана с невежеством населения: любой
несчастный случай с ребенком, разразившаяся эпидемия или голод
объяснялись злонамеренными происками неких злодеев. В первую
очередь виновными объявляли евреев и женщин, заподозренных в
ведьмовстве. Многие еврейские общины были уничтожены во время
чумы – «черной смерти», – бушевавшей в Европе в 1348–1350 гг.
Из-за ограниченности места мы не можем во всей полноте описать
кампании преследования евреев начиная с XII столетия, но приведем
ее вкратце. Трагические события начали происходить в городах
Франции и Рейнской области, где целые общины обрекались на
смерть; распевая псалмы, люди сгорали заживо в синагогах. Те, на кого
падало подозрение в еврействе, часто решались на самоубийство.
Убивали друг друга муж и жена; матери убивали своих детей. По
размаху и длительности преследований и страданий еврейского
народа-мученика ничего подобного в истории Европы, да и в мире
прежде не случалось. Долг историков, христиан и иудеев – сохранить
для потомков все эти факты.
В истории Европы шли интенсивные процессы миграций,
обусловленные гонениями на евреев. Из Южной Испании евреи
бежали на север полуострова в Кастилию, где среди местного
населения были им сочувствующие. Они спасались от фанатизма
мусульман Северной Африки, когда там господствовали представители
династий Альмохадов и Альморавидов. Евреи, которые мигрировали
из Прованса во Францию и Италию, были носителями еврейского
культурного ренессанса. Большая миграция в восточном направлении
началась после Первого крестового похода, когда евреи из Германии и
стран Центральной Европы бежали в Польшу, Богемию, Моравию,
Силезию и Венгрию. Эта миграция с запада на восток шла
параллельно с продвижением Германии в этом же направлении. Немцы
и евреи двигались одновременно, и Польша приобрела известность как
«колония немецких евреев». Английские евреи бежали во Францию,
Германию, Испанию и Италию. Евреи Франции уезжали в Италию,
Испанию, Иерусалим и мусульманские страны. Евреи покидали
Германию и отправлялись во Францию, Испанию, Польшу и Италию.
Эти постоянные миграции придавали средневековому обществу столь
характерную для него мобильность. Евреи, даже если они никуда в
данный момент не бежали, находились всегда в движении, имея самые
разные причины для деловых поездок. Стоит проследить маршрут
путешествий Авраама ибн Эзры, который родился около 1090 г.
в Толедо. В 1140 г. он посетил Рим, в 1141 г. – Салерно, в 1145 г. –
Верону, в 1148 г. – Лукку, в 1156 г. – Безьер, в 1158 г. – Лондон, в
1160 г. – Нарбонну. В 1167 г. он скончался, вероятно, в Калаорра. Ибн
Эзра был известным переводчиком с арабского языка на иврит, одним
из известнейших средневековых комментаторов Библии. Его трудами
восхищался Спиноза. Новообращенный в христианство Педро
Альфонсо, соотечественник Ибн Эзры, умерший в 1110 г., был личным
врачом кастильского короля Альфонсо VI, позднее стал придворным
врачом английского короля Генриха I. Он является автором более
тридцати сказок, переведенных на многие языки и сюжет которых
использовали в своих сочинениях Чосер, Шекспир и другие
европейские писатели. Два известных путешественника XII в.
Бенджамин из Туделы и Петахья из Регенсбурга оставили после себя
заметки о путешествиях по странам Европы и Ближнего Востока.
Существует тесное соответствие между развитием иудейской мысли
и христианской философии и теологии. Вначале евреи на пару
поколений опережали христиан, когда в XII в. они сделали
доступными для Запада культурные достижения античности и труды
арабских ученых. В XIII в. еврейские ученые и христианские теологи
мыслили в основном в одинаковом направлении. Постепенно, с
упадком еврейской общинной жизни в Испании и Германии в XIV–
XV вв., иудаизм приобрел некую косность во взглядах, что было
похоже на то, что происходило с христианской мыслью. Евреи теперь
замкнулись в узких границах ортодоксии и уже не признавали и не
хотели признавать существование каких-либо связей с внешним
миром. В XIII в. во Франции и Испании устраивались диспуты в
синагогах
с
философами,
сторонниками
«просвещения»,
последователями Маймонида, которые во всем походили на диспуты
христианской церкви.
Именно в мусульманской Испании XII в. еврейская поэзия и
философская и религиозная мысль достигли своего апогея. Оттуда
золотой век распространил свое благодатное влияние на Прованс, что
продолжало питать интеллектуальную жизнь европейского еврейства.
В этой части Европы два еврейских писателя XI в. уже наметили путь
будущего развития; это были неоплатоник Ибн Габироль
(латинизированное имя Авицеброн) и Ибн Пакуда, название труда
которого «Заповеди сердца» достаточно понятно говорит о его
взглядах. Появились явные признаки религиозного и духовного
пробуждения. Два поэта Моисей ибн Эзра и Иегуда Галеви
проникновенно рассказали об особом духовном опыте своего народа.
Израиль по отношению к другим народам подобен сердцу по
отношению к другим частям тела; оно страдает за всех и скорбит
больше всех других членов. Неспроста Бог говорил с Израилем,
выделил его среди всех других народов и провозгласил: «Смотри,
сегодня Я поставлю тебя над народами и царствами» (Иеремия, 1: 10).
Эта фраза – квинтэссенция еврейской мысли, которая оказала явное
влияние на еврейский интеллектуализм и, часто скрытое, на еврейское
остроумие и иронию. Еврейское чувство страдания не имело подобия в
Европе. Страстность еврейского чувства была вечна и современна,
евреи испытали в полной мере те страдания, что уготовал человек
человеку. «Почему?» – спрашивали они, и горестный вопль исторгался
из груди тех, кого подобно животным вели на заклание, и такой же
вопрос задавали еврейские философы. «Почему Господь обрекает нас
на такие страдания? Почему он допускает совершаться подобному злу
в отношении Себя и Его избранного народа?» Это страдание родило
великую еврейскую поэзию в Германии и Испании на родном языке, и
в нем она имеет свои корни. Достаточно только вспомнить поэзию
монаха-францисканца Якопоне да Тоди, причисленного к лику
блаженных, и полную отчаяния поэзию немецкого поэта Вальтера фон
дер Фогельвейде с его сетованиями о бедах империи, церкви, всего
мира, «где неправда крадется по улицам», и элегическая поэзия
немецко-еврейских поэтов XII–XIII вв. сразу же получает свое
объяснение.
Основные черты немецкого менталитета отражаются в жизни
немецкого еврейства. Немецкие евреи внесли в еврейскую культуру и
духовность ярко выраженный опыт страдания и строгий и
ограниченный талмудизм, что привело к появлению мистического
движения квиетизм. В XIV в. раввины Германии, уехавшие в Южную
Францию и Испанию, неожиданно приняли сторону закона и порядка и
противопоставили себя более либеральным воззрениям учеников
Маймонида.
Моше бен Маймон, «второй Моисей», родился в Кордове в 1135 г.,
умер в Каире в 1204 г. Маймонид – выдающийся еврейский философ и
либеральный мыслитель. Он оказал значительное влияние на
европейскую философию, начиная от Фомы Аквинского до Спинозы и
Канта. Рожденный в семействе врача, он сам стал доктором, который
верил в эмпирические методы, одновременно он был философом и
богословом. Был знаком с трудами Аристотеля и сочинениями его
современников арабских ученых (Аверроэс также происходил из
Кордовы), и в то же время прекрасно разбирался в вопросах религии и
был одним из влиятельных галахистов своего поколения. Его
намерением было добиться того, чтобы мысли и чувства его народа
звучали в унисон с великими традициями античной философии, чтобы
разум и благочестие объединились в гостеприимном лоне синагоги.
Эта открытость его ума нашла благодарный отклик среди еврейских
интеллектуалов, которые смогли укорениться в чужом для них мире
Прованса и Испании. Еврейские врачи, переводчики, зажиточные
горожане, судебные чиновники на службе королей Испании, советники
епископов, финансисты знатных аристократов признали, что они, как
евреи, могут внести свой вклад в развитие философской и научной
мысли.
Ученики Маймонида встретились с сильной оппозицией в лице тех
ортодоксальных раввинов, которые хотели сохранить в неизменной
целостности учение иудаизма, исключив всевозможные влияния извне.
Они даже решились сделать донос в инквизицию на приверженцев
Маймонида, как это было в Монпелье в 1233 г.; это означало
развертывание всеобщей кампании за чистоту иудаизма. Публично
заявленное намерение ортодоксов «уничтожить, сжечь и выкорчевать»
все несогласные мнения указывает на пугающее сходство во взглядах с
католическими «охотниками за еретиками». Политика преследования
привела еврейских ортодоксов лишь к большей их замкнутости и
отчужденности. К XIV–XV вв., когда евреи, вынужденные признать
введенные против них ограничения жизни в гетто, приняли
безоговорочно все предписания своей веры, триумф ортодоксов стал
окончательным.
Попытавшись обрисовать кратко сложившееся положение,
необходимо также не забыть упомянуть о двух интересных феноменах.
Во-первых, это трагическая роль новообращенных евреев в качестве
информаторов и преследователей. Массовое уничтожение евреев в
Испании в результате Священной войны 1391 г. не могло бы
состояться, если бы не помощь тех самых conversi, которые,
вдохновляемые ненавистью, присущей всем новообращенным и
ренегатам, нацелились на полное уничтожение еврейства или
обращение его в христианство.
Однако следует помнить, что христиане Средневековья были
подвержены влиянию иудаизма, о чем часто забывают. Всеми
признается, что были единичные случаи обращения в чужую веру (не в
последнюю очередь это касалось клириков, которые находили, что Бог
Ветхого Завета является более совершенным представлением их идеи
о Боге), но не было массовых случаев обращения, как это позднее
происходило в Восточной Европе и Южной Италии. Неоднократно
повторенные предупреждения со стороны церковных соборов и
капитулов об опасностях контакта с евреями и еврейскими обычаями,
конечно же, воспринимались достаточно серьезно. Причины, почему
был необходим барьер, который отделил бы евреев от христианского
окружения, иллюстрирует, например, обращение папского легата к
собору в Бреслау в 1267 г. Он заявил, что поскольку поляки совсем
недавно восприняли христианство, за ними, то есть христианским
населением, требуется осуществлять надзор, так как христианская вера
не обрела еще прочных корней в их сердцах и может подвергнуться
влиянию еврейской ложной веры и злых обычаев евреев, живущих в
их среде. Быстрое распространение ереси ясно свидетельствовало о
том, насколько еще слабо влияние христианской веры на души людей.
В 1270 г. (три года спустя после речи легата в Бреслау) три еврея были
убиты в Вайссенберге, в Эльзасе; два христианина обратились в
иудаизм, один из них был приором одного из нищенствующих
орденов.
Евреи были одновременно и близки, и далеки от своих
христианских соседей. Они привлекали христиан присущим им от
рождения благочестием и глубокой верой и отталкивали их своей
архаикой и одновременно, как ни странно, своими передовыми
воззрениями. В глазах христиан они выглядели иногда очень
примитивно, так, словно они еще не успели стряхнуть пыль пустыни и
горячий пепел Синая со своих одежд, и все же их «просвещенные»
доктора и образованная элита были представителями прогресса.
На мрачные в целом тона картины падает единственный луч света –
это статут 1244 г., который даровал евреям герцог Австрии Фридрих.
Он послужил примером для подобных законодательных актов,
предоставлявшим евреям привилегии, которые были приняты в
Польше, Богемии, Венгрии и Силезии. В Австрии традиция была
продолжена герцогом Альбертом II, которого его враги оскорбительно
называли «защитником евреев». В XVI в. были приняты законы
Фердинанда I и Максимилиана II, провозгласившие толерантное
отношение к евреям. По примеру этого законодательства были
приняты законы в других странах Европы, в том числе и
некатолических.
Наиболее важным и наиболее ценным наследием иудаизма XII в. для
нееврейской Европы была Каббала. Эта интеллектуальная форма
мистицизма, чьи начала теряются в далекой Античности, впервые
проявилась в Провансе. Оттуда она распространилась во Францию и
Испанию и приобрела значительное влияние начиная с эпохи раннего
Возрождения и впоследствии. Гуманисты и представители
созерцательной философии, включая Рейхлина, Пико делла
Мирандола, Якоба Бёме и других, находили ее просто неотразимой.
Изгнанные из Англии, вынужденные жить в стесненных условиях
коммун во Франции и Германии, евреи сохранили относительную
свободу в Италии, и не только в Риме, где они были под защитой пап.
Отчасти наблюдался даже ренессанс интеллектуальной жизни евреев в
Италии, чему, несомненно, способствовала более свободная атмосфера
страны. В Риме родился Иммануэль Римский (около 1270–1335),
«средневековый Гейне», поэт, автор множества эпиграмм и поклонник
Маймонида. Главным центром еврейской учености была Падуя, где
царил строгий талмудизм, пришедший из Германии и нашедший здесь
для себя почву и приобретший многих сторонников, как ранее это
произошло в Испании. Падуя была также городом родившегося на
Крите философа Элияху Дельмедиго (около 1460–1497), который
преподавал в университете под протекцией Венецианской республики
и был наставником молодого Джованни Пико делла Мирандола.
Название его небольшого трактата «О ценности человека» указывает
на главный вопрос европейского гуманизма.
Необычно, что только две женщины-еврейки знакомы современной
публике, и можно подумать, не случайно ли это. В Англии это
прекрасная еврейка, выдуманный персонаж романа «Айвенго»;
в Германии – «еврейка из Толедо», реальное историческое лицо,
главная героиня в одноименной пьесе австрийского драматурга
Франца Грильпарцера.
Положение женщины в Средневековье в общем ключе определить
гораздо сложнее, чем положение евреев. Статус женщины не имел
такого единообразия, все зависело от ее социального положения в
обществе, от времени и места. Но уже на исходе Средних веков твердо
сложилась одна социальная аксиома, которая просуществовала еще
значительное время: «Голос женщины не имеет значения в
общественных вопросах». Всем известны слова апостола Павла:
«Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а
быть в подчинении, как и закон говорит». Закон был на стороне
мужчины, именно мужчина был главным авторитетом в семье, в
обществе и государстве. Прошло время, когда великие правители-
женщины, аббатисы, патронессы куртуазного общества и поэтессы
влияли на людей своего поколения.
Несколько иллюстраций из французской истории помогут показать,
до какой степени упала роль женщины. Во время господства
Меровингов выделялись женщины сильного, волевого характера. Так,
можно привести в качестве примера властолюбивую королеву франков
Брунгильду (умерла в 613 г.), которая не была в этом отношении
единичным явлением. Бертрада Лаонская, мать Карла Великого, и
Хильдегарда, его третья жена, были женщинами огромного влияния, в
то время как королева Юдифь, жена Людовика I Благочестивого, была
тверже и решительнее своего мужа, имея имя, достойное великой
апокрифической героини. В распрях и войнах последующих столетий,
когда монархия была слаба, а бароны могущественны, вдовы, имевшие
явно сверхчеловеческую силу, часто боролись за сохранение
наследства для своих детей, защищая его от грабительских покушений
со стороны жадных феодалов. Несмотря на то что в IX в. церковный
совет диоцеза Нанта запретил женщинам посещать политические
ассамблеи, имеются свидетельства, что в одной южной области
Франции женщины приняли участие в выборах муниципального
руководства коммуны. Начиная с XI в. в этой местности существовало,
вероятно, отчасти равенство полов. Еще позднее, в 1308 г., некоторые
женщины Турени участвовали в выборе депутатов в провинциальную
ассамблею сословий в Туре. Городская хартия Бомона, которая
служила образцом для более пятисот небольших городов Шампани и
Восточной Франции, предоставляла жене продавца право на участие в
продаже товаров или иной собственности.
В XII–XIII вв. во Франции во власти находились великие женщины.
Алиенора Аквитанская, императрица Матильда и Бланка Кастильская
– их имена сразу приходят на память. Эту эпоху правления женщин
открывает Матильда, жена Вильгельма Завоевателя, которая твердо
правила Нормандией, в то время как ее муж находился в Англии. Затем
была Эрменгарда, графиня Нарбонна, которая правила в своих
владениях и командовала войском на протяжении 50 лет, а также
стояла во главе французской роялистской партии в Южной Франции,
противодействуя англичанам, то есть содействуя благородной Жанне
д’Арк. Эрменгарда несколько раз была замужем, но ни один ее муж не
принимал участия в управлении. Она вела многочисленные войны,
обороняя свои владения. Слыла покровительницей трубадуров и
защитницей церкви и имела широкую известность как арбитр и судья в
сложных вопросах феодального права.
Когда Филипп Август вел борьбу за объединение страны под своим
владычеством, большими по площади частями страны управляли
женщины. Это были Алиенора Аквитанская; Алиса де Вержи, регент
Бургундии; графини Мари и Бланш в Шампани, где они
способствовали организации ярмарок и развивали городские
поселения. Фландрией, другим крупным центром экономической
активности в Северо-Западной Европе, за овладение которой велись
войны, в течение 73 лет правили женщины. Сначала это была Жанна
(1205–1244), а вслед за ней ее сестра Маргарита II (1244–1278),
которая смогла восстановить страну после разрушительной войны.
Маргарита считала себя вассалом французского короля и германского
императора. Она была первым правителем, кто сделал французский
язык официальным языком ее канцелярии. Это произошло в 1221 г.;
в Париже французский приобрел подобный статус только несколькими
годами позже в правление Людовика IX. Развитие национальных
языков, можно сказать, во многом заслуга женщин.
Бланка Кастильская, королева Франции, оставила след в каждой
области общественной жизни страны в первой половине XIII в. О том,
что она была регентом при своем сыне, будущем короле Людовике
Святом, уже было сказано ранее. Она выступила защитником евреев и
с поддержкой бедных слоев простого народа. Ближайшие советники
Людовика францисканцы убедили его в необходимости проведения
новой несправедливейшей политики в отношении еврейского
населения. В его правление состоялись первые публичные сожжения
Талмуда. Когда некоторые евреи обратились с жалобой на
несправедливые действия в королевский суд в Париже, их приняла
королева-мать; она рассудила их с большей мудростью и пониманием,
чем ее сын, находившийся словно в некоем помешательстве. Бланш
выступила защитницей бедняков, о чем рассказывает французский
хронист, который похвалил ее за защиту простых людей от жестокости
крючкотворов-чиновников. Капитул кафедрального собора Парижа
приговорил к тюремному заключению большое число арендаторов из
деревень Орли, Шатенэ и других мест за их отказ заплатить
специальный налог. Королева пришла лично и открыла двери тюрьмы
и отпустила всех людей на свободу, мужчин, их жен и детей, которые
уже задыхались от невыносимой духоты.
Наследницей Бланки стала ее невестка Маргарита Прованская, хотя
между ними не было особой близости. Женщина невероятной силы и
мужества, мать одиннадцати детей, Маргарита заставила своего сына
Филиппа, наследника трона, дать обещание слушаться ее советов до
тех пор, пока ему не исполнится 30 лет.
Таким образом, возвышение Франции в XII–XIII вв. было обязано
усилиям ее великих женщин. Затем наступила эра мужчин. В 1317 г.
ассамблея нотаблей, собравшаяся в Париже под председательством
Филиппа V, провозгласила, что женщины лишаются права
наследования трона. Карьера Жанны д’Арк на исходе Средневековья
свидетельствовала, казалось, о возвращении женщинам бывшего
политического статуса и престижа. Однако очень скоро она
превратилась в легендарный персонаж. Это было характерно для
эпохи: то, что раньше считалось трезвой реальностью, теперь
выглядело
как
полная
непрактичность
и
несоответствие
обстоятельствам.
Мы уже говорили о том позитивном вкладе в движение катаров,
который был заслугой аристократок и женщин простого
происхождения. В первый раз женщинам довелось сыграть ведущую
роль в религиозном обществе. Женщины получили возможность
проповедовать и утешать. Графиня де Фуа оставила своего мужа и
возглавила женскую коммуну альбигойцев. Женщины и девушки
Тулузы сражались бок о бок со своими мужьями и отцами против
боевых частей крестоносцев, которых привел с севера Симон IV де
Монфор, воплощение мужской брутальности и честолюбия.
Были и женщины-трубадуры. Из наследия графини Беатрис де Дье
сохранилось пять песен, в которых открыто и без ложного чувства
стыда поведала о своей любви к графу Рембо де Оранж. Среди целой
плеяды женщин-трубадуров можно назвать дочь Беатрис Тибергу,
Клару де Андюз, Изабель де Маласпина и Мари Вантадур.
Прославленная поэтесса Мари де Франс, или Мария Французская, с
гордой уверенностью говорит о себе: «Marie ai пот, si sui de France».
Это всего лишь простая констатация факта: «Мария – мое имя, и я
родилась во Франции». Ее слова, подобно эху, звучат в гордом и
открытом признании Жанны из Домреми, сделанном в суде, перед
синклитом из 50 теологов обвинителей: «Меня зовут Жанна, и я
родилась во Франции, в Домреми».
В 1250 г. в Германии насчитывалось всего пять сотен монахинь
среди всех 25–30 тысяч монастырских насельников. Понятно, что
церковь не давала женщинам в полной мере проявить себя в
религиозной жизни. Хильдегарда Бингенская, жившая в XII в., уже
оценила всю серьезность ситуации. Она утверждала, что упадок,
переживаемый церковью и обществом, вызван главным образом
мужской слабостью; женщины должны действовать там, где мужчины
потерпели неудачу. Должна была наступить эпоха женщин – tempus
muliebre. Если клир бездействовал, тогда сами женщины должны были
идти и проповедовать против еретиков, заниматься миссионерством в
прирейнских городах. В характере аббатисы Хильдегарды было много
мужских черт; к тому же женские обители долгое время жили по тем
же правилам, что и мужские. Около 1100 г. был составлен учебник для
монахинь Speculum Virginum на латинском, средненижненемецком и
шведском языках. В нем не было раздела, где говорилось бы о любви,
не было упоминания о личной молитве; не было ни намека на заботу о
душе монахини. Предписываемая духовная дисциплина была суровой
и не знавшей снисхождения. Никакого покаяния не принималось от
согрешившей монахини, хотя было общеизвестно, как легко могли
юные монахини пасть жертвой совратителя и лишиться милости
Божией.
Иноверцы и еретики предоставляли женщинам большую свободу и
широкое поле деятельности. Вальденсы и катары и другие секты
поощряли женщин в их стремлении проповедовать и уделять больше
внимания внутренней духовной жизни. Когда церкви удавалось
напасть на след этих сект, их участники, в том числе и женщины,
предавались казни; обретшие внутреннюю свободу, они радостно шли
на смерть. Те женщины, которым посчастливилось уцелеть, искали
убежище в доминиканских и францисканских монастырях и у бегинов.
Положение еще более осложнилось в XIII–XIV вв. Монахи неохотно
брали на себя ответственность за духовное руководство женщин и
всячески избегали этого. Церковь продолжала не доверять женщинам,
которые находились в духовном поиске, постоянно подозревая их в
ереси. На краткое время обстановка стала более благоприятной, когда
Мейстер Экхарт, Таулер и Сузо привнесли учение мистицизма в
доминиканские женские монастыри Германии. Им удалось направить
духовные поиски монахинь в нужное русло, удовлетворить их
стремление к личному общению с Богом, придать духовной жизни
формы, признаваемые церковью. Но все это было временным
явлением.
В позднем Средневековье над Европой начала сгущаться мгла, и
чувство тревоги овладело всеми; нации и церкви все больше
обособлялись, охваченные взаимной враждебностью и ненавистью.
Подобная ситуация была тесно связана с провалом всех попыток
использовать на благо общества ту духовную энергию, что столь ярко
и драматично проявилась в женщинах в XII столетии. Горящие угли
были притушены, но все еще тлели. Женщины, предоставленные сами
себе в духовной и интеллектуальной жизни, были заключены в тесные
рамки маскулинного мира, в котором господствовала мужская мораль.
Слабая половина человечества появлялась на сцене, когда без нее было
уже невозможно обойтись. Этический кодекс Фомы Аквинского
относился исключительно к мужской части общества. Предназначение
женщины заключалось только в продолжении рода и заботе о
пропитании. Хотя в некоторых трактатах о покаянии в XIII в.
о женщинах говорилось с некоторым снисхождением к их слабостям, в
большей части произведений литературы по гомилетике сохраняется
недоверие к женщине, и она ассоциируется с понятием «грех».
Традиция эта имеет древние корни и восходит к Августину и отцам
ранней церкви, прежде всего к святому Иерониму, патрону всех
женоненавистников. Он полагал, что «женщина открывает врата
дьяволу и греху, подобна ядовитой змее, иными словами, она – опасное
существо».
О шизофреническом состоянии общества позднего Средневековья
свидетельствует та пропасть, что разверзлась между господствующими
теориями и социальной реальностью. Монахи и теологи смотрели на
женщину со страхом и презрением. И это в то время, когда женщины
своим трудом способствовали развитию экономики города и села.
Женщины работали в поле; в Германии, например, они выполняли все
сельскохозяйственные работы. Горожанки были заняты в торговле и в
различных производствах. В Париже насчитывалось более сотни
женских профессий. Они работали ткачихами, вышивальщицами,
кружевницами. В случае смерти мужа жена продолжала вести его дела.
Женщины были учителями, врачами и коммивояжерами; могли вести
заморскую торговлю в больших объемах. Во всех областях подобной
деятельности они ни в чем не уступали мужчинам. Упадок немецких
городов в позднем Средневековье связан с ликвидацией процветавших
женских производств и замещением профессиональных женщинработниц мужчинами, что привело к росту проституции среди женщин
и к моральному упадку движения бегинов. Существовала значительная
диспропорция между мужским и женским населением в крупных
городах позднего Средневековья. На каждую тысячу мужчин
приходилось женщин: в Нюрнберге – 1207, Базеле – 1246 и Ростоке –
1295. Женщины не находили применения своим способностям и не
получали ответ на свои духовные и интеллектуальные запросы.
Женщины, которые выросли в атмосфере куртуазной цивилизации
XII столетия, научились свободно мыслить и давать волю
воображению, жить и любить, как это принято в цивилизованном
обществе. В эпоху позднего Средневековья в общей серой массе
угнетенных женщин, вынужденных принимать свою бедственную
жизнь и своих мужей такие, какими они есть, было не так-то много
ярких личностей. Среди них была Екатерина Сиенская, которая
угрожала папам самыми страшными карами, в случае если они
посмеют вернуться из Авиньона в Рим. В Средние века так и не была
решена проблема положения женщины в обществе; это тяжелое
наследие досталось будущему.
Глава 14
Новое государство и новая церковь
В кафедральном соборе Палермо покоится император Фридрих II
Гогенштауфен, получивший от современников прозвище «чудо мира».
Его саркофаг из кроваво-красного порфира, покоящийся на четырех
скульптурных львах, является непревзойденным памятником
классического стиля. При взгляде на него невольно вспоминается
гробница Наполеона в соборе Дома инвалидов в Париже. Саркофаг
Фридриха украшают шесть резных медальонов с изображениями
Христа, Богоматери и символов четырех евангелистов.
Этот человек был приговорен Данте за свои грехи к мучениям в аду
среди прочих еретиков. Однако Фридрих считал свою власть земным
воплощением Божественной справедливости, а себя – выразителем
воли Господней в делах государства. Политические идеи императора
выражены в «Капуанских ассизах», кодексе законов для Сицилийского
королевства, который получил название «Книга императора» (Liber
Augustalis). В 1231 г. были изданы «Мельфийские конституции», в
которых была представлена модель государства будущего. Эти
государства выстраивались как произведения искусства, ими правили
просвещенные правители, и управлялись они при помощи
Божественного разума. Поскольку это государство было призвано
отвечать эстетическому идеалу, ничто в его устройстве не отдавалось
на волю случая. Существовала государственная полиция, система
судопроизводства, армия, которые были предназначены для
подавления внутренних беспорядков и отражения внешних угроз.
Император является столпом государства, как Христос – основой
церкви. Люди нуждаются в церкви для спасения своих душ, в
государстве – для сохранения человеческой жизни на земле. Без
государства человек ничто. Жить вне законов, которые устанавливало
государство, было невозможно. Конечно, государство было
естественным явлением, но его существование было предопределено
Богом. Государство было храмом правосудия, его служители были его
верховными жрецами, и император стоял во главе его иерархии и был
распорядителем его священных таинств. Император был вездесущий и
непогрешимый. Было кощунством даже обсуждать «приговоры,
решения и эдикты императора».
«Обойдя молчанием все его другие ошибки, мы утверждаем, что
император виновен в четырех больших преступлениях: он во многих
случаях лжесвидетельствовал; произвольно разрывал мирные
соглашения, заключенные им с церковью; он отдавал святотатственные
приказы о бессудном задержании кардиналов и прелатов, участников
собора, созванного нашим предшественником; и просто подозревается
в ереси». Таково было обвинение, которое предшествовало решению
Иннокентия IV о лишении Фридриха власти, принятое на Лионском
соборе 17 июля 1245 г. Окончательный текст решения выглядел так:
«После тщательного рассмотрения нашими братьями и на заседании
священного собора вопроса о греховности этого князя властью вязать
и решить, данной нам Господом, чьими недостойными
представителями мы здесь на земле являемся, мы заявляем следующее.
Этот князь, вследствие своих грехов, оказался недостойным титула
императора и своего королевства. Бог отрекается от императора и
вменяет в ничто его честь и достоинство. Силой нашей апостольской
власти мы запрещаем впредь каждому оказывать подчинение ему и
присягать на верность как императору и королю. Мы постановляем:
каждый, кто даст ему в будущем совет, окажет помощь или какую-либо
услугу, будет немедленно отлучен от церкви. Те, кто обладает правом
выбирать императора, смогут без каких-либо помех выбрать его
наследника. Мы сами распорядимся судьбой Сицилийского
королевства после обсуждения с нашими братьями».
Папа и отцы собора затем потушили свои горящие свечи о каменный
пол кафедрального собора в знак того, что слава императора угасла.
Затем все торжественно пропели Те Deum.
Это был ключевой момент в конфликте всемирного масштаба.
Казалось, что папство окончательно сокрушило своего самого
могущественного и опасного соперника – императора Священной
Римской империи, или, как называли его немецкие гуманисты в
придворных кругах в XVI в., императора Священной Римской империи
германской нации. Теперь, когда император был лишен власти и своего
высокого положения, наконец-то появилась возможность для
образования независимых государств в Западной и Восточной Европе.
Одновременно появился шанс для папской церкви стать
«совершенным обществом», а для папы – владыкой всех христианских
князей и судьей всех народов. Молодая мощная поросль новых
государств и наций начала подниматься над хладным телом
Священной Римской империи. Возникла новая церковь, иерархическая
организация которой теперь достигла высочайшего совершенства.
Старая империя и ее правители стали достоянием прошлого.
Наследники распавшейся империи соперничали между собой еще в
течение пяти столетий.
Теперь было бы уместно остановиться на отдельных важных
моментах исторической обстановки, какой она сложилась к середине
XIII в. в процессе борьбы между двумя могущественными силами
Средних веков – империей и папством.
Со времени основания Карлом Великим Священная Римская
империя всегда была главным покровителем церкви. В Средние века и
позднее народ Германии имел ясное представление о значимости двух
земных опор Божественного мирового порядка. Оба владыки, папа и
император, были связаны братскими узами. Оба они были
хранителями христианства, под которым понималось все человечество.
Духовный меч был в руках папы, мирской – принадлежал императору.
Будучи защитником церкви, император от ее имени вел войны и нес
ответственность за поддержание мира и обеспечение законности. Все
императоры и их приближенные были убеждены в том, что их
обязанностью было поддерживать «справедливый порядок» в Италии,
этом «прекрасном саду империи», как называл ее Данте, сохранять все
имперские права и защищать папу в Риме, поддерживать
реформаторов в церкви, когда в этом появится необходимость.
Власть императора и Священной Римской империи достигла пика
своего могущества в X – начале XI в. во время правления государей
Саксонской династии, которые были подлинными хранителями церкви
и христианства. Они реформировали церковь и монастыри, ставили и
свергали пап и решительно вмешивались в опасные конфликты,
которые превращали пап, ослабленных политически и духовно, в
легкую добычу различных клик и кланов римской аристократии.
В XIII–XIV вв. сама идея «господства варваров-германцев» над
Италией и церковью вызывала у итальянцев, которые поставили себе
целью реформировать церковь, гнев и возмущение. Перспектива была
довольно мрачной, их ждала судьба жить под чужеземным гнетом. И
потому Фридрих II олицетворял для них Антихриста. Однако клирики
Германии вспоминали саксонских императоров с восхищением.
Фридрих I и его церковные советники стремились возродить все былое
великолепие империи Оттонов. Возводимые кафедральные соборы и
императорские дворцы должны были соперничать в своем
великолепии с постройками архитектурного стиля оттоновского
Возрождения.
Уровень развития искусства и цивилизации в эпоху Оттонов
свидетельствует о том, что это был именно тот период европейской
истории, когда Германия была непререкаемым лидером в мире. Ни
одна другая страна (исключая, конечно, Италию) и ни один народ не
создали ничего такого, что могло бы сравниться с немецким
искусством, достигшим монументальной ясности стиля и высокой
духовности. В архитектуре, строительной технике, скульптуре,
иллюминированных рукописях и религиозной поэзии германская
нация превосходила все другие. Принимая все это во внимание, можно
сделать вывод, что Священная Римская империя, как она задумывалась
немцами, не была химерой. Это не было ни иллюзией, ни актом
насилия, несмотря на противоречивые утверждения позднейших
хулителей империи и поведение ее многих политических наследников.
В XI в. под руководством реформаторов-монахов революционное
папство восстало против имперской опеки. Григорий VII сражался за
«свободу церкви» против «погрязших в мирских делах и плотских
удовольствиях прелатов», против симонии духовенства, которое
покупало свои должности у светских сеньоров, и против короля
Германии, который, будучи одновременно императором, захватил
власть над Италией и троном понтифика.
В попытках освободиться от условностей эпохи раннего
Средневековья революционное папство обрело союзников, которые
впоследствии оказались врагами. Это были духовно пробудившиеся
массы, монахи-реформаторы и даже светские князья, как в самой
империи, так и за ее пределами. Все они видели в союзе с Римом
средство, которое могло помочь ограничить власть императора,
сделать его первым среди равных – primus inter pares.
Римо-католицизм все еще несет на себе шрамы, полученные в той
борьбе, которую вели Григорий VII и его союзники-реформаторы
против секуляризации церкви и против Генриха IV, «нечестивого
короля». Григорий намеревался ввести целибат для всего духовенства.
Свободный от «зова плоти», от обязанностей содержать семью, клирик
мог полностью посвятить себя служению Богу и святому Петру, что на
практике означало служить папе в Риме. Влияние этого указа,
предполагающего существование единственного в своем роде Отца
было революционным. Одним решением устранялась власть мирских
владык, включая власть самого императора как christus domini,
правителя, Божьего помазанника. До сих пор император имел
достоинство епископа и был почетным диаконом, поэтому у него было
свое место во многих кафедральных капитулах, включая кафедру в
Риме. Все это обеспечивало ему надежное положение в самой
церковной иерархии.
Реформаторы папы Григория приняли программу, осуществление
которой растянулось на XII и XIII вв. Лишение императора
священнической власти сопровождалось приобретением папой новых
титулов, должностей и передачей папе императорских обязанностей.
Папа присвоил себе (или, можно сказать, узурпировал) право носить
священнические облачения, своим великолепием затмевавшие
императорские парадные одежды. Императорской короне, символу
всеобъемлющей власти, папа противопоставил свою тройную корону –
тиару, заменив ею прежний обычный головной убор. Специалисты
канонического права внесли уточняющие дополнения в теорию
государства и права, которая была идеологической основой папских
притязаний. Утверждалось, что Римско-католическая церковь была
единственной законной наследницей империи Древнего Рима, а папа –
единственным законным наследником римских императоров. В его
власти было назначать правителей Германии и всех христианских
княжеств. Светские князья, как в империи, так и в Европе,
поддерживали политику папы до тех пор, пока сами не были
вовлечены в конфликт с Римской курией, когда возник вопрос, кому
должны подчиняться церкви на той или иной территории. Сам
император сопротивлялся подобному развитию событий всеми
имевшимися в его распоряжении средствами. В итоге одна из попыток
добиться компромисса оказалась успешной, и в 1122 г. был заключен
Вормский конкордат между германским императором Генрихом V и
римским папой Каллистом II, завершившим полувековую борьбу за
инвеституру. Король Германии получал свободу действий в своей
стране, даже в делах церкви, а в Италии за папой признавалось право
назначать епископов, что обеспечивало ему контроль над своей
церковью.
Однако Италия оставалась основным полем битвы, и не было
никакой возможности избежать столкновения между императором и
папой. Каждый раз, когда позиции императора в Германии
усиливались, он начинал задумываться об обретении своего былого
могущества – renovatio imperii, то есть о восстановления власти над
императорскими владениями в Италии, связь с которыми все более
ослабевала. Папы понимали, что они будут не в состоянии
противостоять военному и политическому давлению императора, если
он обретет для себя твердую почву в Италии. Брак между
Констанцией, наследницей норманнского королевства Сицилии и
Южной Италии, и Генрихом VI, сыном императора Фридриха I
Барбароссы, представлял настоящую угрозу для папства.
Фридрих II, молодой сын Генриха, находился под опекой
Иннокентия III. Незадолго до своей смерти Иннокентий взял с
Фридриха обещание, что когда он будет коронован императором, то
отречется от владения Сицилией в пользу сына инфанта Генриха,
который будет править совместно с папой регентом. В
действительности Фридрих не намеревался отказываться от
Сицилийского островного королевства, где он был воспитан и где он
мог опереться на космополитическое общество сарацин, греков и
норманнов и элиту профессиональных администраторов для
достижения своих целей. Сицилия, управляемая норманнской
администрацией и имея высокоразвитую налоговую систему, была тем
самым местом, где Фридрих мог построить свое идеальное
государство будущего. В полуостровной Италии, где власть Фридриха
ограничивали могущественные города-республики и где существовали
обширные по площади земельные владения как его союзников, так и
противников, его намерения реализоваться никак не могли. Такой
эксперимент не мог быть проведен и в Германии, где задавали тон
светские и церковные князья. И только в последние годы его
правления такой шанс появился в восточной части империи, когда
умер последний представитель династии Бабенбергов в Австрии.
Фридрих планировал создать Австрийское королевство, которое после
присоединения старых владений Гогенштауфенов могло стать
бастионом независимой власти в юго-восточной части его империи.
Именно на этой территории, протянувшейся от Эльзаса через югозапад Германии до Вены, спустя тридцать лет Габсбурги начали
строить свое государство.
Отлученный от церкви, поставленный вне закона – убить Фридриха
не только дозволялось, но считалось христианским долгом, –
провозглашенный папскими эмиссарами антихристом, скитающийся с
места на место по всей стране, выслеживаемый предателями и
наемными убийцами, терпевший часто поражения и редко
одерживавший победы, император скончался в 1250 г. Так завершилась
важная эпоха в мировой истории. В Германии распад Священной
империи привел к гражданской войне, пришло время террора, «эпохи
без императора».
Конрадин, внук Фридриха и последний из Гогенштауфенов, был
казнен в 1268 г. Приговор был приведен в исполнение на рыночной
площади Неаполя, в котором Фридрих II основал свой «антипапский»
университет, ставший крупным просветительским центром и школой
подготовки администраторов для всей Европы. Конрадин, пытаясь
вернуть свое сицилийское наследство, попал в плен к новому
правителю королевства Карлу Анжуйскому. Папская партия в Италии
ликовала: было покончено с последним отпрыском императора –
дьявольское отродье уничтожено.
Публичная казнь последнего из Гогенштауфенов в Неаполе была
революционным событием, беспрецедентным в истории Европы. До
того как это случилось, никто не мог и подумать, что подобное
возможно. К этому деянию, несомненно, привело молчаливое согласие
папы с подобным развитием событий и воздействие на людей
пропаганды Рима, проводившейся на протяжении последних двух
столетий. Папы, принижая статус императоров, готовили тем самым
эшафот для будущих правителей аристократического происхождения
(или «божественного» по народному поверью) – Карла I и Людовика
XVL Папы несли прямую ответственность за нарушение
преемственности европейской истории. Под воздействием папской
политики по очернительству почитаемого народом христианского
монарха его священный образ сильно потускнел, и теперь по его
адресу раздавались одни лишь проклятия. Не успело смениться одно
поколение после казни Конрадина, как папству пришлось
расплачиваться за свои прежние усилия по дискредитации и
профанации высочайшего властителя христианского мира наряду с
понтификом. В 1303 г. Гийом де Ногаре, советник французского короля
Филиппа IV, по его приказу взял под стражу папу Бонифация VIII в его
дворце в Ананьи. Папа был подвергнут всевозможным унижениям, его
самолюбию был нанесен смертельный удар, и спустя месяц после
своего освобождения папа скончался в Риме.
Незадолго до своей смерти Бонифаций намеревался предать
французского короля анафеме. Он попытался продолжить политику
Иннокентия III, который ставил себя выше всех христианских князей и
считал себя судьей всех народов. Еще до того, как он стал папой,
Бонифаций был убежден, что миссией папства было вести все
человечество к Богу. В своих основных буллах (Clericis Laicos,
Ausculta Fili и прежде всего Unam Sanctam) он заявил миру, что
светская власть должна подчиняться духовной, что папа имеет право
властвовать над христианскими владыками и что все христиане
обязаны подчиняться папе как в мирской, так и в духовной жизни.
Бонифаций, прекрасный правовед, задумал создать организацию,
способную вести массовую пропаганду и организовывать всенародные
торжественные мероприятия. Принятие решения о проведении
впервые в 1300 г. Юбилейного года давало возможность привлечь
паломников в Рим со всего христианского мира. Каждый прибывший в
Святой город получал в этом святом году полную индульгенцию, то
есть согрешившему отпускались все совершенные грехи.
Простолюдины стекались в Рим тысячными толпами. Массовые
скопления народа на улицах напоминали демонстрации, которые в
представлении многих могли проходить в Европе только в более
позднее время. Вероятно, это был первый пример манипуляции
массами в политических целях. Это было явным свидетельством мощи
папской теократии и всеобъемлющего господства папства над всем
христианским миром.
Инициатива проведения юбилейного года высветила основные
черты «новой церкви новой эпохи». В этой церкви миряне находились
под строгим контролем духовенства; ее центр находился в Риме, и она
имела абсолютистский характер. Сама подготовка и проведение
святого года представляли собой финансовую операцию грандиозных
масштабов. Эта вовлеченность церкви в мирские, чисто материальные,
дела и другие перечисленные нами негативные факторы ее
деятельности показывают, насколько сильно отличался ее облик,
фальшивый и ретроградный, от того образа, каким она его пыталась
представить. В таком состоянии церковь вступала в позднее
Средневековье и начальный период Нового времени.
В 1303 г. во Франции против Бонифация было начато судебное
разбирательство, которое продолжалось в течение десяти лет уже
после смерти обвиняемого. Папе было предъявлено обвинение в ереси.
Среди обвинителей были французские прелаты и королевские юристы,
всегда готовые принять нужное для короля решение, и кардиналы из
семейства Колонна, настроенные непримиримо к Бонифацию. Те
«свидетельства», которые они представили, теперь уже не вызывают
интереса. Что действительно важно, так это историческая ситуация,
при которой стало возможно подобное расследование. Бонифаций,
который считал себя трезвомыслящим человеком, совершенно не
заметил произошедших изменений в религиозной и политической
жизни Европы со времен понтификата Иннокентия IIL На западе уже
начинали складываться новые государства Франция и Англия, которые
нисколько не были расположены передавать Риму контроль над
«своими» церквями. Люди, обратившие свои взоры в сторону Рима,
почувствовали себя обманутыми и разочарованными. Они равнодушно
воспринимали беды Рима, при виде их ими овладевали самые разные
чувства – от открытого злорадства до гнева и возмущения. Церковь не
успевала реагировать на происходившие события и постоянно
оказывалась в состоянии конфронтации со вновь образованными
государствами Запада. Церковь позднего Средневековья превратилась
в косный административный институт; она смотрела на мирян, словно
на своих крепостных, а иногда низводила их до уровня рабов,
«говорящих орудий», которые были обязаны беспрекословно ей
подчиняться (об этом говорил еще Аристотель, давая определение
рабу).
Понтификат Бонифация стал поворотным пунктом в истории
средневековой церкви. Сложно увидеть в нем черты величия,
внутренней силы и смелости. Но они становятся явными, если только
мы признаем, что многое в политике Бонифация уже имело место во
время понтификата папы, деяния которого являются самыми великими
в истории средневекового папства, а сам он считается величайшим
папой своей эпохи. Это – Иннокентий III.
Иннокентий, признавая, что папа по своему достоинству стоял ниже
Бога, тем не менее утверждал, что по своему положению он выше
любого человека. Бог говорил и действовал через папу, из этого
следовало: закон, принятый папой, дан свыше, Божьей милостью. Папа
мог толковать Божью волю. На языке политики это означало, что
Иннокентий видел себя императором, стоявшим выше всех королей и
императора Священной империи. В делах церкви все епископы
подчинялись только папе, через своих легатов он управлял церквями в
странах Европы.
Многие из славных побед Иннокентия, при более внимательном
рассмотрении, были временным, часто случайным, триумфом. Многие
его инициативы оказались катастрофичны для церкви и христианства;
их результаты проявились спустя столетия. Например, намерением
папы было стать главой лиги христианских государств. Действительно,
некоторые слабые правители заполучили корону только благодаря ему,
и потому они заявили о себе, как о вассалах папы. Правители
Португалии, Арагона, Польши, Венгрии, Сербии, Хорватии были
многим обязаны ему в этом отношении. Вмешательство Иннокентия в
английские дела показывает, что он сильно переоценивал свои
возможности. Несмотря на то что он смог принудить короля Иоанна
Безземельного признать, что Англия является папским фьефом, его
неприятие
Великой
хартии
вольностей
было
открыто
проигнорировано. Его вмешательство в дела Германии вызвало к нему
непримиримую враждебность, которая отразилась в политических
песнях Вальтера фон дер Фогель-вейде.
Четвертый крестовый поход, бывший инициативой папы, закончился
полным поражением. Разграбление Константинополя и завоевание
Византийской империи вызвало непреходящую ненависть ромеев и их
Православной церкви. Не менее трагическими были для Западной
Европы последствия крестового похода против альбигойцев и
последовавшее за ним уничтожение культуры Прованса. Правда,
Четвертый Латеранский собор 1215 г. принес краткий триумф. Но
одновременно Иннокентий был вынужден признать на соборе
существовавшую в церкви симонию, продажность епископата,
неграмотность духовенства и неверие мирян.
Следует заметить, что теологи, такие как Годфри из Фонтейна и
Августин Триумфус из Анконы (оба умерли в начале XIV в.),
продолжали обсуждать вопрос, кто более способен управлять
церковью – юрист или теолог. В итоге они высказались в пользу
последнего. Однако в XIII–XIV вв. папы предпочитали видеть во главе
церкви юриста, и в итоге она, как общественный институт, по меткому
выражению Г. Хеймпеля, большого специалиста по истории позднего
Средневековья, оказалась в состоянии «канонического окаменения».
Было признано всеми, что управление церковью следует поручить
юристам, предпочтительно специалистам по каноническому и
римскому праву.
Юристы придали законченность доктрине об абсолютной папской
власти, на основании которой папа обосновывал свое право быть
главой церкви и ее законодателем. При папском дворе трудились
правоведы многих стран, но преимущественно это были знатоки
канонического права из Италии, Испании и Англии. Бонифаций VIII
полагался в основном на авторитет английского теолога Алануса и
английских юристов. «Папа вправе делать все то, что может делать
Бог». Поскольку папа – это «Царь Небесный», coelestis imperator, то он
может разрешать людей от клятвы и смещать с трона королей и
императоров. Ересь приравнивали к тяжелому преступлению lesemajeste (оскорбление величества), а сопротивление папской политике
считалось мятежом. «Мятежников» предавали анафеме, и против них
отправляли войска. Именно этой причиной папа оправдывал войны,
которые он вел в Италии.
В XIV в. папы отгородились от мира массивными стенами,
толщиной в несколько футов, возведенными вокруг их укрепленного
дворца на меловых скалах долины Роны в Авиньоне. Французский
король Филипп IV Красивый, победитель Бонифация VIII,
способствовал в немалой мере пленению пап в Авиньоне в 1309 г., и
этот город оставался резиденцией Римской курии до 1377 г. Внешний
аскетизм дворца контрастировал с внутренней роскошью его залов.
Настенная роспись поблекла, и только фрески в комнате для
облачения, на которых изображен сад земных наслаждений, все так же
ярки и впечатляющи.
Святая Бригитта Шведская имела видение об Авиньоне, который
предстал ей в виде «поля, поросшего плевелами». «Сначала его
требуется прополоть железной мотыгой, затем очистить огнем и вновь
вспахать плугом». Под «плевелами» понимались гордыня, зависть,
честолюбие, симония; все в Авиньоне имело свою цену.
Средневековые авторы описывают Авиньон самыми бранными
словами. Это была «бездна беззакония», ад, Вавилон.
Улицы средневекового Авиньона, расположенные у подножия холма,
где располагалась папская резиденция, которая была одновременно
дворцом и крепостью, были узкими и грязными. Зловоние было столь
ужасающим, что однажды посол Арагона, проезжая по улице, потерял
сознание. Квартирная плата была высокой; мест, где можно было
найти стол и ночлег, явно не хватало (дома были в основном
одноэтажные). На городских улицах было невиданное скопление
людей. Это были просители, посланники, гонцы, менялы (в 1327 г.
в Авиньоне насчитывалось 43 итальянца-менялы), нотариусы,
чиновники курии и других европейских дворов, ремесленники,
строительные рабочие. Город также наводняли всяческие темные
личности – воры, проститутки, астрологи, ворожеи и колдуны,
практикующие черную магию. Папский административный аппарат
рос как на дрожжах. Одной из главных дикастерий была Апостольская
палата (camera apostolica), которую всегда возглавлял кардинал
(camerarius). Он был самым важным членом курии, ближайшим
советником папы и его финансистом. Камерарий контролировал
дипломатическую переписку, казначейство и папский монетный двор;
собственно говоря, он вел все финансовые дела.
Много сил и энергии уходило на поиск источников финансирования.
Большие средства тратились на содержание суда и его чиновников, на
ведение войн в Италии (которые тянулись на протяжении всего
XIV в.). Эти войны официально считались крестовыми походами, и
они финансировались за счет особой десятины, которую теперь многие
страны отказывались платить. Для того чтобы обеспечить постоянный
приток денежных средств, требовалась еще большая централизация
церкви;
процессы
ее
консолидации
сопровождались
совершенствованием политики налогообложения. Все несли тяжелое
налоговое бремя; платить приходилось за все. Иоанн XXII был
главным архитектором этой тщательно выстроенной налоговой
системы, которая вызывала к себе всеобщую враждебность и
постоянные жалобы хронистов многих европейских стран, не говоря
уже о Данте и Петрарке. Любой человек, который был не в состоянии
платить, мог подвергнуться анафеме. Так, всего лишь в один день 5
июля 1328 г. были отлучены от церкви по этой причине патриарх, 5
архиепископов, 30 епископов и 46 аббатов.
Большинство
чиновников
папской
администрации
были
французами. Во время Авиньонского пленения пап из 134 кардиналов
13 были итальянцами, 1 – уроженцем Женевы, 5 – испанцами и 2 –
англичанами; оставшиеся 113 – французами. Среди них не было ни
одного немца. Подобную «кадровую политику» начал проводить
Григорий IX, и от нее пришлось отказаться вследствие Великой
схизмы 1378 г., когда папе Урбану потребовалась помощь германского
императора. Авиньонские папы, подозреваемые в антигерманских и
профранцузских настроениях, подготовили тем самым почву для
движения Реформации в Германии и Англии.
Первый из авиньонских пап Климент V (1305–1314), бывший
архиепископ Бордоский, был высокообразованной личностью; он
распорядился учредить кафедры древнееврейского, сирийского и
арабского языков в университетах Парижа, Болоньи, Оксфорда и
Саламанки. Его друзьями были доктора медицины и некоторые ранние
гуманисты. Но он отличался слабым здоровьем и потому не смог
ответить на вызов влиятельного противника французского короля
Филиппа Красивого, который перенес резиденцию пап в Авиньон.
Следующий папа Иоанн XXII (1316–1334) был сыном сапожника из
Кагора в Провансе. При нем Римская курия стала мировым
финансовым центром. По натуре он был скрытным и
раздражительным. Иоанн показал себя решительным врагом
императора и ересей. Он предал анафеме не только спиритуаловфранцисканцев (за их приверженность принципу «апостольской
бедности»), но также вальденсов, катаров и бегинов. Папа осудил
труды Майстера Экхарта и Иоанна Петра Оливи. Однако он сам был
близок к ереси в вопросе о судьбе души после смерти; свои воззрения
на это он изложил в трех проповедях. Души праведников, полагал он,
не сподобятся блаженного видения Бога, пока не придет время
всеобщего воскресения из мертвых. Ад будет также пустовать до дня
Страшного суда. Эта путаная доктрина была истинным подарком для
императорских теологов Микеле да Чизена, Оккама и Бонаграция да
Бергамо. Им удалось быстро разоблачить ересь этого папы, который
сам был «охотником за ересью». Этот холерический и упрямый старик
(ему уже было 72 года, когда он стал папой), частично отрекся от своей
ереси незадолго до того, как он умер, ненавидимый всеми.
Иоанна сменил на папском троне его протеже Бенедикт XII (1334–
1342), который был простого происхождения. Еще когда Бенедикт был
профессором в Парижском университете, а позднее стал епископом, он
помогал Иоанну в написании памфлетов, направленных против
францисканцев, иоахимитов, Майстера Экхарта, Оккама и Оливи. Став
папой, он прославился как «гроза еретиков». Вальденсы и альбигойцы,
которых он безжалостно преследовал, проклинали его и называли
«дьяволом» и «духом зла». Его кардинальные реформаторские меры и
кампания против нищенствующих орденов (сам он был
цистерцианцем) принесли ему частичный успех. Хотя он и обладал
твердым и бескомпромиссным характером, современники обвиняли
его в корыстолюбии и непомерном самомнении. Когда он умер,
кардиналы вознамерились изменить духовную атмосферу в Авиньоне
и выбрали папой открытого и щедрого вельможу Пьера Роже, бывшего
архиепископа Руана, правившего под именем Климента VI (1342–
1352). При дворе папы собрался едва ли не весь высший свет Европы.
Сюда стекались потомственные аристократы, любители светских
удовольствий и рыцарских турниров. Все трое наследовавших ему пап
жаловались на его большие траты, истощившие папскую казну.
Климент VI был также покровителем образования и искусств; в этом
отношении он в некоторм роде был предшественником пап эпохи
Возрождения. Он собрал вокруг себя художников из Германии и
Италии, поэтов и архитекторов из Франции, ученых и врачей со всей
Европы. Обладая широким кругозором, он был также человеком
широкой души. В самый разгар эпидемии «черной смерти» папа
оказывал щедрую помощь всем нуждавшимся. В понтификат
Иннокентия VI (1352–1362) ветер подул в другую сторону. Новый папа
был
инквизитором,
безжалостным
гонителем
спиритуаловфранцисканцев.
В самом начале XIV в. Пьер Дюбуа, один из идеологов французского
короля Филиппа Красивого, писал о том, что для всего мира было бы
благом, если бы он признал над собой главенство Франции, поскольку
французы наиболее здравомыслящий народ в Европе. Дюбуа был
сторонником Европейской федерации при гегемонии Франции. Для
него
принцип
ее
главенства
диктовался
политической
целесообразностью.
Франции
выпала
задача
противостоять
претензиям Священной Римской империи и папской церкви. Дюбуа
называет империю не римской, но германской и дает определение
церкви как secta catolicorum. Таким образом, он лишает две великие
силы их древних и священных титулов, что было знаменательным
фактом в условиях изменившейся исторической обстановки.
Крестовые походы он рассматривал как средство, способствовавшее
развитию торговли и колонизации новых земель. Они помогали
снизить цены на восточные товары на рынках Запада и обезопасить
торговые пути Средиземноморья. У Дюбуа были интересные идеи о
реформе преподавания и образования в целом, которая стала бы одной
из основных задач проектируемой европейской федерации. Он
предвосхитил идею ЮНЕСКО за шесть столетий до его образования.
Главенство Запада в мире могло быть обеспечено только
образованием, высшим знанием и рационально организованным
образом жизни. Дюбуа напоминает и о необходимости обратить
внимание на женское образование.
Случайно произнесенная Дюбуа фраза secta catolicorum выразила
идею, давно принятую политиками, не исключая церковнослужителей,
в Англии и Франции. Под церковью, с одной стороны, понималась
Римская курия, с другой – сама церковь как общественный институт,
которая все больше втягивалась в политику, поддерживая авторитет
национального монарха. В свете событий, происходивших во Франции
и Англии, агрессивную политику папства и сопровождавшую ее
идеологическую пропаганду следует рассматривать в качестве
защитного рефлекса. Рим и Авиньон поняли простое правило:
нападение – лучшая форма защиты и средство сохранения статус-кво.
Но папской власти становилось все труднее обосновывать свои
притязания. Светские правители неуклонно и последовательно
отвоевывали все новые позиции у папства. Они создавали новые
государства, опираясь на служилых людей, получивших во Франции
прозвище chevaliers du roi, набиравшихся на государственную службу
из мелкопоместного дворянства и зажиточных горожан.
Удивительно быстрый подъем Франции был непосредственной
заслугой ее королей. В этом им значительно помогала вера народа в
монархическую власть. В начале XII в. монархия была еще слаба, ей
приходилось прилагать значительные усилия для защиты своего
домена Иль-де-Франс (с центром в Париже). Однако в 1124 г.
доблестное сопротивление французов германскому вторжению
выявило наличие в народе глубоко укорененного национального
чувства. Патриотизм поощрял Сугерий, аббат Сен-Дени, личный
советник Людовика VII. Наряду с чувством культурного превосходства
французам было присуще чувство национальной идентичности, что
явствует из слов Людовика VII, сказанных послу английского короля
Генриха II, своему сопернику, который владел тогда значительной
частью Франции. «Ваш господин, король Англии, ни в чем не
нуждается. У него есть опытные воины и боевые кони, золото, шелка,
много дичи в лесах, он может получить все, чего он только ни
пожелает. Во Франции все по-другому. У нас есть только наш хлеб,
наше вино и наши простые развлечения».
Людовик VII был осмотрительным и экономным хозяином. Его
любимым занятием после трудового дня была игра в шахматы. К
старости он усвоил себе привычку обедать в монастырской трапезной.
Терпеливый по натуре, он не торопил событий и мог подолгу ждать
гибели своих врагов, до тех пор, пока успех не приходил к нему,
свалившись в руки, подобно созревшему плоду. Так король вновь
обрел богатые земли Западной и Южной Франции. Для того чтобы
вернуть все французские земли, потребовались столетия. Три великих
короля создали французское королевство в течение одного столетия:
Филипп Август (1180–1223), Людовик IX Святой (1226–1270) и
Филипп IV Красивый (1285–1314). Все они стремились укрепить в
народе доверие к королевской власти, к чему всегда призывал Сугерий.
«Наихристианнейший король Франции», получавший помазание
святым елеем от мощей апостола франков святого Ремигия, был
законным наследником Карла Великого, чей священный меч и
орифламму он брал с собой, отправляясь на битву с «варварами»,
врагами Бога и церкви. Французская церковь, «самая старшая и самая
послушная дочь» Рима, оставалась верной королю, который
обеспечивал мир и правосудие в стране. Король, коронованный и
помазанный в Реймсе, был наделен целительной силой:
прикосновением рук он мог вылечивать золотуху (убежденные
роялисты ожидали подобного чуда от короля из династии Бурбонов,
восстановленного на троне после поражения Наполеона).
Тот факт, что один из королей, способствовавший возвышению
Франции, стал святым, был явным доказательством того, что вера
народа в монархию не была напрасной, но имела под собой твердое
основание и была оправданной. Эта вера разгорелась вновь на
критическом этапе Столетней войны, когда Франция, казалось, была на
грани гибели, но появилась Жанна д’Арк.
В последней четверти XIII в. фундамент королевской власти
претерпел радикальную трансформацию, когда была принята
концепция суверенной власти на основе римского права. До этого
государство считалось частным владением короля; теперь же
королевская власть становилась абстрактной и безличной. Пришло
время современного государства. Королевские юристы обучались в
школе Монпелье, они сформировали ядро административного
управления государством. Король как личность отступил на задний
план. С течением времени чиновничий аппарат все больше пополнялся
из буржуазии, влиятельной, образованной и расчетливой парижской
буржуазии, антиклерикальной и монархической. Они были
неоценимой поддержкой для монархии. Филипп Август предвидел
такое развитие событий; отправляясь в крестовый поход, он включил
шесть человек, представлявших городской патрициат Парижа, в свой
совет, чтобы те защищали экономические интересы королевства в его
отсутствие.
Филипп Красивый был, возможно, первым французским монархом,
переставший заниматься повседневными делами страны. Его наиболее
смелые предприятия – процесс против Бонифация VIII, ликвидация
ордена тамплиеров (наиболее позорное деяние, объяснявшееся
финансовыми проблемами короля) и изгнание пап в Авиньон – были
удачными благодаря тому, что за ним стоял народ и государство. Он
был первым французским королем, созвавшим Генеральные штаты, в
которых были представлены духовенство, дворянство и буржуазия.
Внешне они напоминали английский парламент 1295 г., однако
значительно от него отличались. Генеральные штаты были
проводником королевской политики, они оказали поддержку королю в
его конфликте с папой и тамплиерами, а позднее выделили
необходимые денежные суммы для покрытия расходов на фламандские
войны.
В роялистском, буржуазном и антипапском Париже в 1324–1326 гг.
сотрудничали Жан де Жандун и Марсилий Падуанский в написании
труда «Защитник мира» (Defensor Pads). Само место способствовало
его созданию; именно в Париже зарождалась тогда среди чиновного
люда, профессоров и горожан пьянящая умы идея с помощью
человеческого разума создать рациональное общество. «Защитник
мира» решительно и последовательно выступил против супрематии
папы и привел аргументы в пользу чисто светского государства.
Жан де Жандун преподавал в Парижском университете почти в то
же время, что и Майстер Экхарт. Будучи бескомпромиссным
сторонником аверроизма, он проводил отчетливую границу между
верой и разумом, теологией и знанием, церковью и государством.
Теологии Жан отводил второстепенную роль и советовал верующим
оставить все попытки примирить веру и разум, что только
подчеркивало приоритет разума. Он разделял точку зрения Марсилия,
что независимой политике церкви должен быть положен конец в
интересах социальной гармонии. Заботой государства было всячески
способствовать утверждению «доброго образа жизни».
Марсилий Падуанский, врач, правовед, философ аверроистской
школы и, подобно многим его итальянским соотечественникам,
страстный оппонент папства, был назван папой Климентом VI
«величайшим еретиком своего времени». Марсилий понимал
государство как творение человеческого разума и человеческой воли.
Нельзя было доверяться понятиям церкви об «истине» и «лжи».
Государство должно основываться на чистом разуме и
рациональности. Носителем высочайшего авторитета является само
государство, и именно «народ» правит в этом государстве в лице
наиболее здравомыслящих его представителей. Вся законодательная
власть принадлежит народу, и он имеет право свергать неугодного
правителя. Народ должен защищать преследуемых граждан. Марсилий
провозглашал право на полную свободу совести и вероисповедания и
требовал защиты «еретиков» и неверующих от преследований. Идеи
Марсилия
о
реформировании
церкви
были
полной
противоположностью идеям и политическому курсу Авиньона и
папской церкви. Его намерением было, можно смело утверждать,
вернуться к основам раннего христианства. Для Марсилия благая весть
Христа была вестью о свободе. Люди должны распоряжаться в церкви,
избирать для нее священников и епископов и вернуть ее на путь,
ведущий к апостольской бедности. Каноническая теория первенства
папы была плодом гордыни и воображения. Клирикам следует
неукоснительно выполнять только свои священнические функции:
совершение таинств и служение литургии. Все «секулярное» было
делом государства и народа.
Сделанный в 1535 г. английский перевод первого издания на
латинском языке труда Марсилия Падуанского «Защитник мира»
(Defensor Pads), опубликованный в 1522 г., повлиял в какой-то мере на
разрыв Англии с Римом. История Англии в Средние века в большой
степени определялась двумя факторами: войной с Францией (которая
велась на французской территории) и Римом. Дважды в XII в. в связи с
утверждением Анжуйской династии и Столетней войной всем
казалось, что Англия и Франция объединятся в одну великую
Западную империю под главенством английского короля. Английские
коронационные обычаи, которые еще живы, напоминают нам, что
лежит в основе королевской власти в Англии: примитивная магическая
вера в то, что власть держится силой короля и его прямым контролем
над церковью.
Еще до Нормандского завоевания Англии существовал тесный союз
между королями и епископами. Короли часто имели резиденцию в
епископских дворцах, границы королевств и диоцезов зачастую
совпадали. Когда король отправлялся на войну, он оставлял править
страной епископа. Вильгельм Завоеватель с помощью архиепископа
Кентерберийского Ланфранка добился контроля над англосаксонской
церковью. Нормандские короли, окончательно упрочив над нею свое
господство, уже могли обращаться к ней за помощью и советом,
особенно когда дело касалось англосаксонских традиций. Генрих II
еще более возвысил в глазах народа королевскую власть, совершив
канонизацию
последнего
англосаксонского
короля
Эдуарда
Исповедника. Этому примеру тут же последовал Фридрих Барбаросса;
в 1165 г. по его настоянию антипапа Пасхалий III канонизировал
императора Карла Великого.
Генрих II исцелял золотушных больных возложением рук так же, как
это делали французские короли. Придворный клирик Петр из Блуа
называл короля «святым» (sanc-tus); он был «Божьим помазанником» и
«королем милостью Божьей». Идея о святости короля была глубоко
укоренена в верованиях простого народа, именно она помогла
английским королям пройти через все исторические катастрофы.
Решение Генриха VIII взять на себя управление церковью Англии и
полное устранение влияния Рима на церковные дела в стране
диктовалось древними традициями английской средневековой
монархии. Уникальное положение короля Англии объяснялось полным
доверием народа к его власти.
Еще нормандский герцог Вильгельм Завоеватель показал себя
твердым правителем страны. Он относился к Англии как к
завоеванной стране, земли которой он намеревался поделить между
своими воинами. Вильгельм прибыл в Англию с шеститысячным
войском; с ним было не более 200 баронов, 4 тысячи рыцарей, а
остальную часть войска составляли наемники. Англосаксонские воины
короля Гарольда, не имевшие надежных доспехов, оружием которых
были боевые топоры, еще не отдохнувшие после предыдущих боев,
были не в состоянии противостоять нормандской кавалерии и
лучникам и потерпели сокрушительное поражение в битве при
Гастингсе, продолжавшейся с раннего утра до наступления сумерек.
После 1066 г. многие англосаксонские аристократы бежали в
Шотландию. Другие отправились за море, некоторые из них добрались
до Руси и Византии, где поступили на службу к императору.
Новый король Англии повелелел построить для себя замок в каждом
графстве. Первыми были Певенси и Гастингс. Нормандские бароны
последовали его примеру, с помощью замков они защищали свои
поместья, а народ держали в повиновении. Новые возглавители
церкви, епископы родом из Нормандии, активно строили массивные
кафедральные соборы строгих форм, внушительные символы своей
власти. Первым был возведен собор в Дареме, строительство которого
продолжалось с 1093 по 1133 г.
Вильгельм Завоеватель был самым могущественным феодальным
правителем своего времени. На королевском совете, состоявшемся в
1085 г. в Глостере на Рождество, было принято решение о проведении
переписи «страны, чтобы знать, кем и какими людьми она населена»;
ее результаты вошли в «Книгу Страшного суда». Это была первая
перепись, которая оценила материальные и человеческие ресурсы
страны. Несмотря на абсолютистскую власть нормандских королей, в
среде англосаксонского населения все еще было живо чувство
свободы, которое не могло не оказать влияния на формировавшуюся
новую аристократию и монархию. Из такого плодотворного
взаимодействия двух противоположных тенденций общественной
жизни родилась Англия будущего, свободная нация, гордая своими
традициями; страна, где утвердились жизненно важные для общества
конституционные принципы, легшие в основу современной западной
демократии.
Вильгельм Завоеватель сохранил англосаксонскую судебную
систему в графствах и городах, поставив ее под нормандский
контроль. Для подтверждения законности своей власти как законного
наследника
Эдуарда
Исповедника
Вильгельм
сохранил
англосаксонское обычное право и «древние права и обычаи»
английской монархии. Два важных королевских права были: сбор
денежной дани – «датских денег» (данегельд), которую уплачивали
викингам, и право объявлять королевский мир, запрещавший частные
войны между феодалами. Генрих I (1100–1135) назначал разъездных
судей для графств, и там, на месте, проводились суды. В Англии
стоявший во главе графства шериф был всего лишь королевским
чиновником, в отличие от своего коллеги во Франции, который
обратил свое графство в наследственное владение. Английские
графства сохранили свой официальный статус, и они сделали большой
вклад в развитие системы самоуправления и, в итоге, в становление
парламента. Генрих I учредил отдельный финансовый департамент,
который способствовал тому, что англо-нормандские короли со
временем достигли невиданного финансового могущества в западном
христианстве. Дважды в год, на Пасху и в День святого Михаила,
шерифы должны были отчитываться перед казначейством в своих
доходах и расходах за финансовый год (отчеты назывались Great Rolls
of the Pipe). Один из этих годовых отчетов времен Генриха I (1130–
1131) сохранился до наших дней. Подобная практика сохранялась
неизменной до времен правления Вильгельма IV, когда была отменена.
Генрих II (1154–1189) должен быть назван среди наиболее
решительных и дальновидных архитекторов королевской власти в
Англии. Он был правителем не только Англии, но и владел доменом во
Франции, который простирался от Пиренеев до устья Сены. Генрих
знал не только латинский язык, но и некоторые европейские языки
(провансальский, итальянский, северофранцузский). Вероятно, у него
были поверхностные знания английского языка, но он знал, как надо
править и как вести расчеты (во всех отношениях). Генрих II был
отцом английского общего права. Королевские суды отправляли
правосудие в той или иной области страны, где в этом появлялась
необходимость, поэтому был учрежден институт разъездных судей.
Действовал
суд
присяжных;
при
вынесении
приговора
руководствовались также королевскими указами.
Методы судебного разбирательства эпохи королей из династии
Анжу – наглядная иллюстрация того факта, насколько самовольно и
импульсивно поступали короли, часто выступая в роли сурового
арбитра, не забывая при этом о преимуществах рассудительного и
рационального подхода к закону, для утверждения которого короли
Анжу столь много сделали. Это необычное сочетание таких разных
подходов давало королю возможность выбора. Он мог решить вопрос
по своей воле – тега voluntate, ни перед кем не отчитываясь. Или же
он действовал per legem, согласно закону; решение выносилось в
Верховном суде. Сменилось всего два-три поколения, и этот
двойственный подход привел к явной шизофрении в сознании короля.
Петр из Блуа описывает беседу Генриха II и аббата Бонневаля, во
время которой король признал, что он разрывается между желанием
обеспечить соблюдение закона и порядка и намерением решить все с
помощью грубой силы, к чему его подталкивает проникший ему в
душу дьявол. «Гнев и злая воля» (ira et malevolentia) были
врожденными чертами королевского характера. Полнота власти
принадлежала только тем королям, которые были способны внушать
страх: страх Божий и страх согрешить. Гнев короля был гневом
Всемогущего Бога, так утверждал сам Генрих II. Однажды он сказал:
«По натуре я сын гнева; почему бы мне не гневаться? Сам Бог
гневается, когда Он рассержен».
Генрих II, правитель недюжинных способностей, умер сломленным
и ожесточившимся человеком, в сознании, что даже Иоанн, его
любимый сын, участвовал в заговоре против него вместе со своими
братьями. Последними словами Генриха были: «Позор, позор королю,
который побежден». Они звучали так, словно были взяты из драмы
Шекспира. Генрих создал государство Англия, действуя самыми
безжалостными методами. В то время как его сын Иоанн, слабый и
нерешительный, хотя и по-своему одаренный, потерпел поражение от
Филиппа Августа и Иннокентия III, а мятежные бароны вырвали у
него Великую хартию вольностей – Magna carta. В июне 1215 г.
делегация баронов неожиданно посетила короля (эта встреча
произошла на лугу Раннимид на берегу Темзы) и вынудила его пойти
им на уступки, якобы от имени народа. Однако они не были
представителями английского народа ни в малейшей степени. В XIII в.
на подобное компромиссное соглашение с представителями родового
дворянства были вынуждены пойти феодальные правители Венгрии,
Испании и Польши. Великая хартия отчасти носила реакционный
характер: расчетливая и своекорыстная аристократия, преследуя свои
групповые эгоистические интересы, вознамерилась присвоить себе
часть прав ослабевшего монарха.
Все же, по сути, люди правы, когда говорят о Великой хартии
вольностей как одной из величайших деклараций политических
свобод. Каждый очередной правящий король торжественно
подтверждал ее незыблемость вплоть до конца эпохи Средневековья.
Именно она проложила путь к созданию конституционной монархии и
государств Нового времени, и даже в наши дни все еще сохраняется ее
аура. Знаменательным фактом можно считать отправку одной из пяти
копий хартии, скрепленной королевской печатью, в США на военном
корабле во время Второй мировой войны.
Особое значение имеет 39-я статья Великой хартии вольностей. «Ни
один свободный человек не будет арестован, или заключен в тюрьму,
или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан,
или каким-либо [иным] способом обездолен, и мы не пойдем на него и
не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его
[пэров] и по закону страны» (перевод Д.М. Петрушевского). Хартия
основана на принципе законности: все политические и
конституционные решения являются судебными решениями. Король
больше не должен выносить решение самостоятельно, но только после
совета с магнатами королевства и согласно законам страны. В типично
английском духе хартия не выдвигает никаких теорий, никаких
идеальных планов по управлению страной. Она решает конкретные
вопросы. Имеются требования целого ряда специфических прав –
свобода церкви, права и привилегии Лондона и других городов, право
магнатов давать свое согласие на введение новых налогов.
В качестве гарантии соблюдения прав и вольностей баронов
создавался особый комитет из 25 баронов. За ними закрепляли
верховную судебную власть в королевстве. В действительности никто
в 1215 г. не намеревался свято соблюдать положения хартии: ни
победившие бароны, ни униженный ими король. Иннокентий III
решительно осудил ее принятие и охарактеризовал произошедшее
событие как незаконное посягательство на королевскую власть.
Однако в ревизованной версии 1225 г. хартия стала краеугольным
камнем политического строя и правопорядка в Англии.
XIII в. стал свидетелем становления английского парламента и
окончательной трансформации феодального английского королевства в
«содружество сообществ». Это произошло во время правления
величайшего английского короля Средневековья Эдуарда I (1272–
1307). Его предшественник Генрих III (1216–1272) довольно часто
оказывался в такой ситуации, когда не мог принимать самостоятельные
решения; так было в 1216–1227 гг., когда вместо несовершеннолетнего
короля правил регент, и в период внутренней смуты в 1258–1265 гг.
Когда же король брал на себя управление страной, он постоянно
вступал в конфликт с баронами и терпел поражения. Генрих был
поклонником культуры Южной Франции и готической архитектуры.
Заключенный Генрихом с королем Франции договор оказался
эпохальным событием в истории европейской дипломатии. Хотя
перемирие с французами было заключено еще в 1216 г. после смерти
Иоанна Безземельного, только в 1259 г. был подписан Парижский
мирный договор, который завершил продолжавшуюся целый век войну
между королевскими домами Плантагенетов и Капетингов. Генрих был
принужден отказаться от Нормандии и от графств Мэн, Анжу и Пуату,
но получил на правах вассала от Людовика Святого феод Гасконь. С
этого момента мирные отношения между Францией и Англией
установились на длительное время, пока не грянула великая Столетняя
война 1339–1453 гг.
В 40-х гг. XIII столетия важные собрания с участием короля,
баронов и высших государственных чиновников получили название
парламенты. Первоначально под «парламентом» понимались просто
переговоры любого вида, например между королями Англии и
Шотландии. Любое собрание могли называть таким образом. В
качестве общественного института парламент развился из Большого
королевского совета, участниками которого вначале были только
аристократы и епископы. На Совете обсуждались ключевые вопросы
текущей политики. Во время проведения парламента соблюдался
«всеобщий мир», за поддержание которого отвечал лично король.
Бароны были обязаны являться на него безоружными. Эдуард I,
«английский Юстиниан», проявлявший страстный интерес к
законотворческой деятельности и лично курировавший процесс
принятия законов, сумел превратить королевский парламент в
открытый форум для обмена мнениями по спорным вопросам, которые
волновали передовое общество. Парламент стал местом, где король
просил денег, войск и снова денег у английского народа. На эти
требования бароны, рыцари и горожане отвечали петициями. Сословия
отстаивали свои права, короли стремились превратить парламент в
инструмент управления. Часто в петициях баронов фигурировали
требования предоставить им право назначать королевских чиновников.
Они пытались добиться того, чтобы основные должностные лица
королевства – канцлер, казначей, юстициарий – избирались
парламентом. Они выдвигали требование созывать парламент на
постоянные сессии, вместо того чтобы ожидать, когда сам король
соизволит собрать его. Подвергаясь постоянному давлению со стороны
знати, король постарался заручиться поддержкой неродовитого
дворянства, призвав в парламент джентри, рыцарей, а впоследствии и
представителей городов.
Важный и уникальный вклад джентри в развитие английского
конституционного строя невозможно преуменьшить. На континенте,
особенно во Франции, неродовитое дворянство не смогло
сформироваться в отдельное сословие. В Англии джентри и городская
буржуазия сумели добиться этого. В XIV в. из них была образована
палата общин в парламенте, хотя разделение его на две палаты,
верхнюю и нижнюю, произошло только в 1352 г. Палата общин, имея
поддержку короля, сделала все, чтобы ее голос был услышан.
Первоначально от нее требовалось лишь молчаливое согласие.
«Образцовый парламент» 1295 г. – важная веха в его развитии.
Собравшийся парламент, который выделил деньги на войну против
Шотландии и Франции, состоял из представителей духовенства,
баронов, двух рыцарей от каждого графства и двух горожан от каждого
города. «То, что касается всех, должно быть принято всеми». Таково
было твердое правило, которое служило оправданием столь
многочисленного представительства. Курс Европы на политическую
свободу и утверждение основополагающих принципов западной
демократии стал возможен благодаря упорной и непрекращавшейся
борьбе за свои «права и свободы», которую вели церковные и светские
князья, английские джентри и буржуазия.
Правление Эдуарда I было временем бурной законодательной
деятельности в Англии, сравнимой только со временем Генриха VIII.
Законодательные акты, которые вносились Эдуардом на утверждение
парламента, должны были придать существующим законам и обычаям
окончательный и неизменный вид.
Эдуард I многое сделал для продвижения английских торговых
интересов. В своих финансовых сделках он в основном прибегал к
помощи итальянских купцов и банкиров. Будучи герцогом
Аквитанским, он покровительствовал городскому строительству.
Около 140 укрепленных поселений были основаны в его правление.
Следует напомнить, что Эдуард был деятелем европейского масштаба.
Изгнав в 1290 г. евреев из Англии, он подал дурной пример, которому
позже последовали во Франции, Испании и других странах. Первый
король, который после Нормандского завоевания взял себе
англосаксонское имя, был ненавидим ближайшими соседями. Он
получил прозвище «молот шотландцев»; он сломил сопротивление
Уэльса, организовав две жестокие кампании по его усмирению. Король
даровал своему сыну титул принца Уэльского, и с 1345 г. его стали
получать все наследные принцы британского трона. В правление
Эдуарда I родилась английская нация.
Затянувшаяся на длительное время трагедия восставших против
английского владычества Шотландии и Ирландии не укладывается в
рамки рассматриваемого в книге исторического периода. Однако сам
факт его важен для нас, поскольку имеет касательство к теме нашего
повествования, и здесь необходимо кратко его прокомментировать. Все
дело в том, что изначально существовало враждебное отношение со
стороны англо-нормандской аристократии и английского населения к
кельтам. Центрами сопротивления английской монархии и
правительству в кельтских землях стали церкви. Английские короли
заменяли местных епископов своими назначенцами. В этом их
поддерживали папы, которые были противниками независимости
кельтского духовенства. Английские монархи воздвигали повсюду в
покоренных областях замки, основывали кафедральные соборы и
монастыри.
Англичане смотрели на кельтов как на варваров. Некий
церковнослужитель из ближайшего окружения архиепископа
Кентерберийского Джона Пекхэма писал в 1282 г., что валлийцы –
потомки троянцев, которые волей дьявола были заброшены на дикие,
пустынные равнины Камбрии. Они, как он уверял, занимались разбоем
и предавались постыдному разврату. Если бы не великое милосердие
английских королей, это дьявольское племя давно было бы уже
искоренено и исчезло с лица земли. Джеральд Валлийский,
священнослужитель и историк, со своей стороны веком ранее писал,
что англичане были народом, обреченным по своей природе быть
рабами.
Валлийцы были нацией пастухов, кочевавших со своими стадами с
места на место. Их не привлекал ни оседлый образ жизни
англосаксонского крестьянства, ни упорядоченный быт норманнов.
Разжигая у народа ненависть к несчастным валлийцам, шотландцам и
ирландцам,
англичане
придумали
целый
словарь
самых
уничижительных для них прозвищ, которому мог бы позавидовать
любой современный пропагандист. Столь же суровыми и
безжалостными были меры, с помощью которых пытались подавить их
сопротивление. Здесь достаточно упомянуть, что отрубленная голова
последнего независимого правителя Уэльса Лливелина II Валлийского
в 1282 г. была насажена на копье и выставлена на обозрение всему
Лондону на одной из башен Тауэра. Расправа с участниками
шотландского восстания 1306 г. была также крайне жестокой. Рыцари
были повешены, епископы закованы в кандалы и брошены в тюрьмы.
Епископ Глазго оказался узником замка в Портчестере, епископ СентЭндрюса был сослан в Уинчестер, аббат Ско-уна – в Уилтшир.
Деревянные клетки были построены для женщин, состоявших в
родстве с Робертом Брюсом, королем Шотландии. У английского
короля и английских епископов в XVII в. не было большего врага, чем
шотландские пуритане.
Правление валлийского короля Ллевелина Великого (1195–1240)
было золотым веком кельтской культуры, литературы и песенного
творчества. Это возрождение народной культуры в XIII в., именно в то
время, когда между нациями Британии нарастала взаимная
отчужденность, привлекла внимание к необычному феномену
европейской истории Средневековья. Это было время господства
национализма и всеобщей ненависти, когда ближайших соседей прямо
называли презренными собаками и еретиками.
Глава 15
Искусство и архитектура
Каждый, кто обладает наметанным и проницательным взглядом, при
знакомстве с историей средневековой Европы непременно обратит
внимание на то, насколько антагонистичными были силы,
сформировавшие ее облик. Средневековое искусство состоит из самых
разных элементов, взаимодействие которых, иногда гармоничное, а
временами конфликтное, было жизненным стимулом цивилизации,
произведшей его на свет. На европейское искусство оказали влияние
художественные формы древних цивилизаций Востока, таких как
шумерская, которые проникли в Европу через романскую архитектуру
и скульптуру, ранние германский и кельтский стили. Некоторые новые
черты были заимствованы из Античности и из архитектуры стран
ислама и Армении мастерами-строителями Франции в XII в.
Средневековое
искусство
является
правдивым
отражением
региональных особенностей и социального состава общества. Богатое
воображение творцов средневекового искусства создает образы
доисторических чудовищ, картины рая и ада, рисует инфернальные
ужасы окружающего мира. В декоре соборов представлены
характерные образы аристократов, епископов, горожан и простого
люда. Барельефы собора Нотр-Дам в Амьене представляют типичную
бытовую сценку: дворянка бьет в живот свою служанку, выказывая к
ней свое презрение. На башне раннеготического собора Нотр-Дам в
Лане изображены в камне шестнадцать бычьих голов, маски кошек и
собак. Скульптор тем самым отдает дань уважения благородству
животного мира. Женщина предстает в разных ипостасях, как
Небесная Царица, как святая, крестьянка или монахиня; и даже в виде
дьяволицы с жабой на обнаженной груди. Мужские образы обычно
связаны с правосудием и властью. Воплотившийся Бог судит Небо и
Землю; Он изображен в виде человека в рыцарских доспехах, который
правит Небом и Землею. Рядом группами стоят крестьяне и рабы. Тут
и там реют ангелы и кружатся бесы. Это откровенное искусство,
которое отражает народные представления о добродетели и грехе; оно
не боится открыто выказывать чувства любви и ненависти и не связано
запретами, когда изображает еретиков и Антихриста и опасных и
отвратительных врагов, присутствующих в дольнем мире, – сарацин и
славян. Антиклерикальные взгляды народа, существовавшее в его
среде критическое отношение к монашеству проявляются в тех сценах,
где монахи представлены в виде волков, пожирающих овец-мирян.
Какой-то мастер нашел выход своему антисемитизму и изобразил
евреев в виде свиней.
Несмотря на отсутствие сентиментальности в средневековом
искусстве (хотя без исключения не обошлось, к примеру, в готике),
сквозь его суровый внешний аскетизм временами прорывались
отзывчивость и нежность. В ту эпоху, когда никакое примирение на
политической и социальной почве было в принципе невозможно, да к
нему и не стремились, возможно, только в высоком искусстве было
достигнуто какое-то подобие гармонии. Мастер, который создал две
парные скульптуры для собора в Страсбурге «Синагога» и «Церковь»,
с большей симпатией и теплотой изваял «Синагогу», нежели ее
победоносную сестру. Анонимные скульпторы, трудившиеся на
строительстве Наумбургского собора, придали образам апостолов
черты крестьян-славян и наделили их достоинством, присущим
немецким дворянам, донаторам храма; их статуи находятся на втором
ярусе хоров. Искусство было способно наводить мосты между столь
разными культурными мирами Западной Европы и Византии, Европы
и стран ислама. Арабские архитектурные формы и техника возведения
храмов были заимствованы зодчими Южной Франции, Италии и
Сицилии. Далеко на севере в Брауншвейге, Германия, в это же время
появился шедевр XII в. – рукописное Евангелие для городского собора.
Одной из иллюстраций была сура Корана, написанная куфическим
почерком. Что касается византийского искусства, то исследователи
выделяют несколько периодов его влияния на европейское искусство
начиная с IX столетия.
Возможно ли в таком случае говорить о примирении через
искусство, через его шедевры, столь разных и противоположных
миров средневековой цивилизации?
Многое говорит в пользу этого убедительного предположения.
Например, это утверждение дает нам возможное объяснение причин
постоянного повторения в скульптурных работах образов, пришедших
из древности, – Одина и волка Фенрира, демонов и духов зла, героев
саг и сказаний (Дитрих Бернский, например) и персонажей легенд
Артуровского цикла. Это также объясняет появление в христианском
искусстве богов Античности. Большей частью это заимствование
проходило неосознанно. Тот же самый процесс проходил и в
архитектуре. Но стоит только признать тот факт, что средневековые
мастера понимали свою работу с камнем как служение Богу и как
памятник своему мастерству, как сразу же становится понятным, что
невозможно говорить о примирении. С торжеством готики, «властного
стиля», была открыта новая область в искусстве; язык ее архитектуры
превратился в лингва франка, то есть стал средством коммуникации
между разными народами и странами Европы. Его первыми
«пропагандистами» стали короли Франции и цистерцианцы, а князья
церкви и светские властители быстро переняли новую моду. Эта
победа была еще одним симптомом близящегося общеевропейского
упадка, свидетельством перехода от эклектики открытой Европы к
Европе закрытой, эпохи позднего Средневековья с унифицированной
церковью и государством, стремившихся прежде всего к
единообразию. Все же наряду с готикой продолжали существовать
старые традиции архитектуры, и не только в Германии, где они
получили новую жизнь в XIII в., когда готика была на пике своего
развития. Готика различалась от страны к стране; английский,
немецкий и итальянский стиль отличался от французского прототипа.
Объединяющей
их
чертой
была
величественность
и
монументальность. В Италии и Провансе зарождение и развитие
готики сопровождалось классическим возрождением, известным как
Проторенессанс. Более того, декор поздней готики унаследовал
фантастических чудовищ романского стиля, которые напоминают нам
о том, что злые феи присутствуют при рождении красоты.
Для тех, кто знаком с современным искусством, представляется
удивительным тот факт, что средневековая Европа, о чем известно из
множества документальных источников, сохранила органическую
связь с большими формами примитивного искусства, широко
распространенных на всех континентах. В романском искусстве
примитивные формы и образы нашли свое выражение в скульптуре.
Именно в ней присутствуют архетипические образы всеобщего упадка
и конца мира, которые близки тем образам, что присутствуют в
«Прорицании Вёльвы» и в произведениях Данте. Для того чтобы
понять великое романское искусство XII в., от человека требуются
храброе сердце, крепкие нервы и непредвзятое к нему отношение. Это
искусство производит глубокое впечатление тем, как оно использует
пространство, скульптуру и мысленные образы и представления.
Архитектурные памятники романского стиля, которые поражают своей
монументальностью и массивностью, можно сравнить только с
монументальными постройками Месопотамии, Египта и раннего
периода Древней Греции. Ничего подобного не встречается на
протяжении XIII–XIX вв. в европейском искусстве. Романские
памятники рождают чувство благоговейного трепета; они не являются
просто любопытным туристическим объектом, на который можно
только бегло взглянуть и сразу же забыть о нем. Чего они
действительно требуют от наблюдателя, так это внимательного и
неспешного созерцания. Нам следует рассмотреть основные
выразительные средства романского стиля и роль пространства в его
сооружениях.
В Средние века люди наделяли пространство явно выраженными
метафизическими свойствами. Огороженное место было наполнено
святым и божественным содержанием, оно объединяло мир горний и
дольний, Бога, святых и мертвых. Средневековый человек предпочитал
строить церкви поблизости от текущих вод (например, кафедральный
собор Падерборна), так как вода считалась святой субстанцией,
прямым средством коммуникации с чревом мира, которое помещали в
недрах земли. В античном мире можно также найти этому примеры;
достаточно вспомнить дорические храмы Пестума. Пространство
представляло женское начало; священная пещера или священное чрево
было в действительности чревом «Матери-Церкви». Еще в бронзовом
веке люди признавали женский характер тех мест, где проводились
священные обряды. Такое мегалитическое сооружение, как
Стоунхендж, было частью матери-земли, пробужденной к новой жизни
плодотворящим воздействием солнца. Священные закрытые
пространства были призваны защищать мертвых вплоть до времени их
воскресения, поскольку именно они обеспечивали их безопасность.
Романская церковь была оплотом Бога, надежной защитой от сил зла и
греховного мира.
Границей женского пространства служил камень – мужское начало.
Во многих областях Европы, и не только, люди приписывают камню
священные свойства. Он способен победить смерть и повысить
плодородие земли. В XI–XII вв., да и в XIII столетии люди жили в
деревянных домах, только дом Бога и Его святых был построен из
камня. Сегодня для нас трудно представить то благоговение, которое у
верующего вызывал один только вид собора, возвышающегося над
окружающими его низкими деревянными хижинами. Ныне эти соборы
затеряны среди высотных зданий современной архитектуры и совсем
не привлекают внимания прохожих.
Пространство и камень были атрибутами святости. Еще большую
силу и мощь придавали каменным храмовым постройкам башни и
колонны. Башня церкви (где обычно размещался колокол), или
донжон, главный элемент композиции, была в представлении
средневекового горожанина укрепленной сторожевой заставой,
предупреждавшей нападение дьявола, оплотом небесного ангельского
воинства, во главе которого стоял архангел Михаил. Колонны
символизировали древо жизни, они были священным предметом. Горе
было тому, кто поднимал на них руку. Любое их повреждение
считалось серьезнейшим преступлением, как об этом свидетельствует
Баварская правда (Lex Baiuvariorum). Существовало поверье, что они
были способны творить чудеса. Их предназначением было служить
Божьему дому, принимая на себя всего лишь малую толику бремени,
которое нес на своих плечах победоносный Христос-Бог. Люди,
трудившиеся на украшении этих колонн, переживали состояние
восторженного экстаза, испытывая одновременно чувство любви и
благоговейного страха. Их капители рассказывают историю
человеческого искупления, ее персонажи взяты из древних
мифологических сказаний, из героических саг народной истории и
назидательных житий святых. Формы колонн самые разнообразные,
как и их декор. На одних колоннах господствуют мотивы животного
мира, на других присутствуют человеческие образы, которые показаны
в процессе их формирования, являются результатом реализации
динамического внутреннего импульса. В итоге можно сделать вывод,
что имеется тесная связь между изображением человека на романских
колоннах и его сложившимся индивидуальным образом в
гуманистической скульптуре готики.
Без преувеличения можно сказать, что церкви романского стиля
утопают в цвете. Стены, потолок (его еще долгое время делали из
дерева) и колонны – самых разнообразнейших цветовых оттенков;
преобладающие тона охряный, зеленый, голубой и фиолетовый.
Эффект еще более усиливается благодаря тканым гобеленам на стенах
и сияющим золотом витым подсвечникам, напоминающим
миниатюрные башни небесного града Иерусалима. Во время службы
на освящении храма торжественно звучат следующие слова: «Terribilis
est locus iste. Vere est aula Dei et porta coeli» («Как страшно это место!
Это не иное что, как Дом Божий, это врата небесные»). И Царь
Небесный, справедливый Судия, Владыка живых и мертвых
приглашает верующих войти в Его дом, совершить Ему служение и
принять участие в духовном пиршестве.
В основе плана соборов романского стиля лежит раннехристианская
базилика, состоявшая из высокого центрального нефа и двух более
низких. Она имеет древнюю историю. Подобные ей тронные базилики
Древнего Египта заимствовали эллины и перенесли их в Северное и
Западное Средиземноморье; новую жизнь они обрели в Древнем Риме.
В базиликах размещались императорские дворцы (дворец Флавиев на
Палатинском холме в Риме, вилла Адриана в Тиволи, дворец
Диоклетиана в Сплите), претории, или официальные резиденции
римских наместников в провинциях, суды, синагоги и места
отправления различных языческих культов. В Средние века романские
базилики стали Домом Бога, духовным оплотом и земной твердыней
для защиты от врагов и убежищем во время гражданских войн.
Некоторые
церкви
каролингского
времени
строились
по
базиликальному плану: монастырская церковь в Фульде (791–822),
первый кафедральный собор Кёльна (около 800 г.), бенедиктинское
аббатство в Сен-Рикье (или Centula, строительство начато в 790 г.),
аббатства Корвей и Сен-Галл (IX в.). В мирное время эти базилики
использовали в качестве городских ратуш, где могли собираться
горожане для обсуждения насущных административных и
вероисповедных вопросов. Подобная практика была обычна в большей
мере для Италии.
Были и другие планы базилик. В некоторых из них все нефы были
почти равны по высоте (так называемые зальные церкви). Другие
церкви строились по плану собора Святой Софии в Константинополе.
Деревенские каменные церкви имели более упрощенный план; они
были однонефными и с одной башней. Такие церкви строились
сотнями по всей Европе в IX–XIII вв. Много подобных строений того
времени еще можно увидеть на проселочных дорогах Центральной
Европы, в отдаленных горных долинах Швейцарии, в Баварии, Тироле
и Северной Италии. Они возводились крестьянами с помощью
патрона, которому принадлежала земля.
Большие романские церкви строили монашеские общины – во
Франции и Испании это были клюнийцы, в Германии конгрегация
Хирзау. Ктиторами были также епископы, они соревновались с
монастырской братией в великолепии и величественности возводимых
построек. Эра готики привлекла к церковному строительству новых
патронов. Это были французские короли; придворное духовенство;
новые монашеские конгрегации, такие как цистерцианцы и
премонстранты; новые монашеские ордены, как францисканцы и
доминиканцы; зажиточные горожане.
В Каролингский период Европа еще ничего не знала о
«национальных» стилях архитектуры. Дворцы и церкви в
каролингском стиле встречаются в любой части Священной Римской
империи. Только с наступлением XI в. в храмовом строительстве
начали
проявляться
местные
национальные
архитектурные
особенности. Так, мы можем сказать, что церковь Святого Михаила в
Хильдесхайме типична для Северной Германии; базилика Святого
Мартина в Туре – для Франции. Этот процесс совершенствования
архитектурного стиля достиг своей вершины в открытой Европе XII в.
Романское искусство делится, если рассматривать его в общих
чертах, на два основных региональных типа – средиземноморский и
северный. Первый включал в себя Италию и Южную Францию, второй
– Англию, Северную Францию (Иль-де-Франс и Нормандию),
Бургундию, Фландрию и Германию. В области искусства между
Южной и Северной Францией существовали даже большие различия,
чем между Северной Францией и Германией. Бургундия занимала в
этом ряду промежуточное положение. Собор в Лангре (XII в.) и
аббатство Святой Марии Магдалины в Везле, большом паломническом
центре, где Бернард Клервоский призвал ко Второму крестовому
походу, тяготели к северному типу; кафедральный собор Святого
Лазаря в Отёне (XII в.) и заложенная в 1088 г. и возведенная к 1220 г.
церковь аббатства Клюни III (выражение, используемое для
обозначения третьего этапа строительных работ, XI–XII вв.) – к
средиземноморскому. Эта внушительных размеров церковь была
разрушена во времена Французской революции. Две эти монастырские
церкви были предназначены для размещения реликвариев и для
служения торжественных месс; они могли принимать большое число
паломников. В каждом нефе было до трех, пяти и даже больше
приделов; в местах пересечения трансептов возвышались башни.
Пилигримов, входивших в церковь, встречали великолепные
скульптурные порталы, на которых были изображены сцены
Страшного суда, внушавшие страх грешникам и обещавшие загробное
блаженство для избранных.
Одни церкви Бургундии имеют цилиндрический свод (Клюни),
другие – крестовый (Везле). Местные строительные приемы
отличались как от методов строительства северных мастеров, так и от
методов зодчих южных архитектурных школ. Северная школа во
многом стала предтечей готики. Иное распределение нагрузки на
стены помогло значительно облегчить их, и в результате стало
возможным перейти к нервюрному своду. Пропала тяжесть камня, и
здание церкви устремилось вверх. На Юге массивные постройки
словно притягивало к земле, и они производили впечатление единого
каменного блока. Помещение церкви было подобно пещере,
вырубленной в теле скалы; ее перекрывал тяжелый цилиндрический
свод с башнями. Этот тип церквей романского стиля был характерен
для Аквитании, Анжу и Сентон-жа; в Пуату были возведены
великолепные зальные церкви (среди них Нотр-Дам-ля-Гранд, шедевр
архитектуры XII в.). Церкви подобного архитектурного стиля можно
встретить также в Оверни, в Тулузе (базилика Сен-Сернен) и в Конке
(церковь Сен-Фуа). Эти церкви были расположены на паломническом
пути в Сантьяго-де-Компостела, к святилищу Святого Михаила в
Монте-Гаргано и к местам паломничеств в самой Франции, в тот же
Конк. В Оверни в X в. возник обычай устанавливать на сельских
дорогах скульптурные изображения святых, выполненные в различных
материалах, выглядевшие словно фетиши, которые вызывали чувства
преклонения у крестьян и возмущение у клириков с севера.
В романском стиле в Южной Франции была возведена базилика
Сен-Пьер в Муассаке, в тимпане южного портала которой
присутствуют сцены из Апокалипсиса, и романо-византийская церковь
в Суйаке (XI–XII вв.). В Арле в XII в. был построен собор Святого
Трофима, имевший ярко выраженные романские черты, с
великолепным западным порталом. Еще один уникальный памятник
этого же стиля – церковь аббатства Сен-Жиль. На Юге строились
небольшие сельские церкви в изысканном классическом стиле; они
словно вырастают из местной красноватой земли, поднимаясь среди
моря виноградников и оливковых рощ, вызывая в памяти образ
языческого храма. Архитектура этих церквей Прованса имеет много
общего с базиликой Сан-Миниато-аль-Монте во Флоренции,
подлинной жемчужины Тосканы, отличающейся классической
простотой своих внешних форм. Купольные церкви, встречающиеся на
пути между Кагором и Ангулемом, погружают галльский пейзаж в
атмосферу Востока; кафедральный собор Сен-Фрон в Перигё, как и
собор Святого Марка в Венеции, является копией храма Святых
Апостолов в Константинополе.
Романский стиль в архитектуре немецких земель проявил себя не
столь заметно; тем не менее сформировались региональные
архитектурные стили: саксонский, вестфальский, рейнский, баварский
и австрийский. Все они адаптировали для себя идеи французской
церковной архитектуры. В качестве ведущего образца была выбрана
вторая монашеская церковь в Клюни (X в.), имевшая форму базилики.
Предшественниками памятников романской архитектуры были церкви
краткого периода Оттоновского возрождения (в конце X в.), имевшего
место в Нижней Саксонии. Это было время бурного развития истинно
имперского, монументального искусства. Саксонские церкви были
трехнефными; вдоль всего центрального нефа с обеих его сторон шли
ряды устоев-колонн. Впечатляющим примером этого строго
имперского стиля были церкви аббатства в Кведлинбурге и Святого
Годехарда Хильдесхайме, церковь Девы Марии в Хальберштадте,
кафедральные соборы в Любеке и Хильдесхайме. Церкви зального
типа в Вестфалии (собор Святого Патрокла в Зосте, например) можно
привести в качестве примера совершенно иного архитектурного языка.
Это церкви с тремя равновысотными нефами и невысокие; их словно
притягивает к себе земля. Строили их по заказу крестьян, твердо
уверенных в том, что и мать-земля, и Божья Матерь – обе держат их в
рабстве. Возводили церкви подобного типа, вероятно, по образцу
капеллы Святого Варфоломея в Падерборне, постройки 1017 г.,
имевшей много византийских черт.
Влияние как византийской, так и романской провинциальной
архитектуры проявляется во внутреннем пространстве трехнефных
церквей Кёльна, которые имеют общие черты с купольными церквами
Южной Франции. В немецком Эльзасе французское влияние было
основным уже с XII в. В Баварии Регенсбург вдохновлялся примером
Южной Франции, Фрейзинг имел много общего с Северной Италией,
особенно в области церковной скульптуры и декора храмов.
Церкви, имеющие два хора; церкви с двумя трансептами; наличие в
западной части храма фахверка, симметрично расположенные капеллы
– все это типичные признаки романского стиля Германии. Два хора и
западный фахверк, несомненно, имели религиозно-политическое
значение. В романской базилике смысловой центр архитектурной
композиции располагался в восточной части храма. Особый акцент
делался на башне, алтаре и хорах. Германские зодчие уделяли равное
внимание западной части церкви, так что обе ее части, можно сказать,
уравновешивались. То есть восточная часть храма, где размещались
скамьи для клира, и западная, в которой был свой хор, над которым
возвышалась одна или большее количество башен. Фахверк был
отличительной чертой европейских церквей уже времен Каролингов;
ведь именно с запада людям грозили демоны и духи зла, и именно на
западе архангел Михаил держал оборону. Но он также имел
символическое значение, как место императора (в императорской
обходной галерее), и поэтому архангел Михаил стал, на ассоциативном
уровне, высшим покровителем империи. Не случайно, что
реформационное движение «романизации» постаралось подавить это
архаичное представление. В XII в. в Германии предпринимались
попытки рассматривать понятие о фахверке как о конкретном вкладе в
воссстановление пошатнувшегося равновесия между regnum и
sacerdotium, империей и папством.
Два хора в интерьере церкви не имели прецедента в европейской
архитектуре,
они
были
характерной
частью
немецкого
храмостроительства с конца VIII в. и вплоть до середины XIII
столетия. План церквей времени Оттонов использовался при
постройке новых еще в правление последних Гогенштауфенов.
Возможно, было бы упрощением видеть в восточном хоре символ
монашеского отречения от мира, а западный хор считать символом
исключительно только независимой имперской власти.
Можно выделить три наиболее замечательных в архитектурном
отношении имперских, то есть построенных под прямым
покровительством императора Священной Римской империи,
кафедральных собора – в Шпайере, Вормсе и Майнце. Древнейший из
них – это величественный Шпайерский собор, посвященный Деве
Марии, самый большой романский храм Европы. Его строительство
началось в 1030 г. в правление короля Германии и первого императора
из Салической династии Конрада II и было продолжено при Генрихе III
и Генрихе IV; в начале XII в. он был перестроен. Внешне собор
выглядит как мощная цитадель, предназначением которой было
служить не только Небесному Владыке, но и земному – императору и
его епископам Бенно Оснабрюкскому и Оттону Бамбергскому, которые
тоже принимали участие в строительстве. Собор – это также дань вере
человека в священность и незыблемость строительного материала –
камня (толщина западной стены около 20 футов!). Здесь царят величие
и благоговейный страх, которые заставляют человека преклонить
колени. Здесь власть государя обретает сугубую материальность.
Шпайерский собор был исключительно памятником архитектуры, в
его декоре нет скульптур, подобных тем, что украшают соборы XII в.
в Майнце и Вормсе. Это самые первые скульптурные изображения, но
только представителей животного мира; образы человека появляются
около 1200 г. Самые ранние по времени создания сцены отражают
противоборство человека и сил зла: Даниил борется с двумя львами,
Самсон убивает льва (зло одолевает тех, кто не находится под защитой
Христа). В резных рельефах на могильных плитах двух архиепископов
Майнца Зигфрида фон Эппштайна и Питера Айхшпальта мы видим
огромного роста церковных иерархов, коронующих королей,
выглядящих как подростки. Эти плиты относятся к позднему послероманскому периоду, уже после распада Священной империи, так же как
и портреты императоров в соборе Шпайера.
В XII – начале XIII в. образы сказочного мира романской
скульптуры Северной Италии проникают даже в Норвегию. Как и в
национальной литературе, древние силы пробудились к новой жизни в
виде монстров и демонов, героев и бесов, которые столкнулись в
смертельной схватке на капителях и порталах соборов. В душе народа
присутствовало реальное чувство страха и боязни ада, и искусство
предлагало способы избавить от него человека, изгнать его, следуя
практике экзорцизма. Мрак и ужас исходят от декорированной
диковинными зверями колонны крипты собора Фрайзинга, и от образа
Одина, верховного бога германской мифологии, и от Фенрира,
гигантского волка скандинавских саг. Подобные апокалиптические
сцены встречаются на северном портале церкви Святого Иакова,
романской базилики, в Регенсбурге; на главном портале собора
Святого Стефана в Вене. Можно найти и другие примеры: романская
церковь начала XIII в. в Шёнграбене, церковь Гроссмюнстер в Цюрихе,
бывшая замковая церковь Святой Маргарет в Нюрнберге, церковь в
Хирзау; порталы норвежских церквей начала XII в., которые украшены
эпизодами древнескандинавского «Сказания о Сигурде».
Новым элементом в романской архитектуре были узловатые
колонны, то есть парные колонны, соединенные плоским узлом. Эти
колонны часто встречались в интерьерах храмов, оформляли оконные
ниши и фасады; они декорировались изображениями львов и других
зверей. Впечатляющим примером является опорная колонна в церкви
Суйака с резными фигурами животных-чудовищ и людей, сошедшихся
в жестокой битве, что заставляет вспомнить скульптурную группу
Лаокоона и его сыновей, борющихся со змеями. В готических соборах
образы зверей и страшных чудовищ или отсутствуют, или выглядят
внешне не столь уродливо и отталкивающе. Готическая скульптура
вызывает противоположный эффект, она облегчает восприятие
скульптурной композиции и снимает при этом излишнее напряжение.
В немецких землях империи покровителями искусства и
архитектуры были епископы. Имперские кафедральные соборы
возводили при их непосредственном участии. В Италии, и прежде
всего в Ломбардии, церкви строили горожане, тем самым показывая,
что они не приемлют диктат епископов. По свидетельству хронистов,
все слои городского населения принимали участие в возведении
храмов,
которые
становились
символом
политической
и
экономической власти. Каждый город стремился превзойти другие
города в величии и великолепии своих церковных зданий. В
барельефах храмов Пьяченцы и Борго-Сан-Доннино запечатлены
купцы и ремесленники гильдий и цехов, бытовые эпизоды
повседневной жизни. В декоре церквей Пармы и Вероны появляются
антиклерикальные мотивы; монахи часто изображаются в виде волков.
Церкви большей частью были зального типа; необходимо было
обеспечить достаточно места для собраний горожан и проведения
различных ассамблей (например, церковь Святого Амвросия в
Милане).
В XII в. в городах Северной Италии еще преобладал северный
романский стиль, а во Флоренции и Риме уже можно было
почувствовать первые импульсы Ренессанса в условиях усиления
византийского влияния, которое проникало в Центральную Италию с
востока и запада – из Венеции и из норманнской Сицилии и греческих
поселений Южной Италии. Во Флоренции классическая традиция
никогда не прерывалась, и теперь ее сознательно поддерживали. В
XII в., во время так называемого Проторенессанса, достоинства этого
стиля – простота, ясность и гармония – противопоставлялись
«варварству» северных стилей. В XV в. во Флоренции появились
сторонники новой эстетической теории, согласно которой
«средневековое» и «готическое» искусство было извращением
«чистого» искусства Античности.
В Италии политика и искусство шли рука об руку; художественное
творчество способствовало росту престижа господствующего класса и
церкви, чем и воспользовались папство и аристократия. Стоит только
внимательно приглядеться, например, к великолепным мозаикам
кафедрального собора Рима – Латеранской базилики. Они являются
живым доказательством триумфа пап над империей. Когда Рим был
признан городом классической Античности, его власти вступили в
затяжную войну с папством. Рим уже был не расположен отныне
рассматривать свою собственную территорию как место, где светские
и церковные сеньоры могли использовать каменные развалины
древних зданий и форумов Вечного города в качестве строительного
материала для возведения соборов и палаццо. Декрет сената 1162 г.
грозил тому, кто осмелился бы покуситься на колонну Траяна,
смертной казнью. Люди начали коллекционировать античные
предметы быта и скульптуры. Так, например, кардинал Орсини,
современник императора Фридриха I, посетил Рим в 1151 г. с целью
поиска античных древностей. В XII в. появился труд Mirabilia urbis
Romae, в котором описывались разнообразные чудеса Рима.
XIII в. стал свидетелем появления великого искусства, которому
оказывал покровительство сам папа. В это время создавал свои
гениальные произведения итальянский живописец и мозаичист Пьетро
Каваллини (родился ок. 1250 г.), в творчестве которого слились
византийские и романские традиции. Его мозаики и фрески можно
видеть и сегодня в церквах Санта-Мария-Маджоре и Санто-Паолофуори-ле-Мура, и в старой церкви Трастевере. На небесах в величавом
покое пребывает Христос, а на земле ему равен только папа.
Апостолы в длинных тогах, стоящие по обе стороны от Христа,
подобны кардиналам в облачении, окружающим папу.
Следует сказать несколько слов о символике и священном значении
цвета, что нашло отражение в классических традициях императорского
культа. В искусстве раннего христианства мученики всегда
изображались в белых одеждах (candidi), которые в Византии носили
все участники торжественного выхода императора. Христос всегда был
облачен в пурпурные и золотые одежды, что были цветами высшей
власти. Цвета литургических одеяний также заимствовались из цветов
императорских придворных церемоний. Господствовали белые,
пурпурные, красные, золотые (желтые) и голубые священные тона.
Эти пылающие символы указывали на то, что все атрибуты власти
византийского императора переданы Христу, как Императору небес,
или, иначе говоря, Царю Небесному и его земному представителю
папе. В XIII в., начиная с понтификата Иннокентия III, папы посвятили
себя великому предприятию – восстановлению Рима как града Бога,
владыки космоса, на земле. Каждая новая постройка означала
дальнейшее возрождение имперско-папского Рима, чье великолепие
поражало каждого приезжего из Европы.
Этот «золотой Рим», который пытался утвердить себя в XII в.,
занимаясь восстановлением обветшавших церквей и соборов, имел
явного соперника в лице замечательных памятников архитектуры
норманнской Сицилии и Южной Италии, которые заимствовали свои
великолепные архитектурные формы не только из Античности, но
также из византийского и арабского искусства. Это бьющее в глаза
богатство и великолепие призвано было продемонстрировать миру, и
особенно Риму, что норманнские короли были истинными лидерами
секулярного христианства. Палермо, с его Палатинской капеллой
(строительство закончено в 1143 г.), блистающее ожерелье
норманнских кафедральных соборов – в Монреале, Палермо, Капуе и
Салерно, с самым первым по значимости Чефалу (1145),
многочисленные замки и небольшие крепости (Циза и Бари) – все это
вызывало удивление и восхищение как христианской Европы, так и
стран ислама. Арабский странствующий поэт Ибн Джубайр искренне
рассыпался в похвалах церкви Марторана в Палермо: «Внутри все
стены церкви блещут золотом и имеют вкрапления цветного мрамора;
ни один человек не видел ничего подобного… Витражи, словно
тысячи солнц, ослепили нас, так что мы мысленно попросили Аллаха
защитить нас от них». И под конец он высказывает благочестивое
пожелание: «Пуст Бог явит Свою милость и дарует нам счастье
услышать вскоре пение муэдзина с колокольни храма». Как всем
известно, три века спустя эта просьба была выполнена в отношении
византийских церквей Константинополя.
Церкви региона Апулия романского стиля – большие и
внушительные по своим размерам здания. Многие из них, в Бари,
Битонто, Джовинаццо, имеют в восточной части основного объема
огромную стену, которая поднимается подобно скале, и здесь же
возвышаются две башни. Эти церкви и другие, в Манфредонии, Лечче,
Отранто, Канозе и Монте-Сант’Анджел о, разбросанные тут и там,
выглядят словно чужестранцы среди чужеземного ландшафта. Замки,
являющиеся наследием Гогенштауфенов времен норманнских королей
Сицилии, производят тот же самый эффект. Это замок Кастель-дельМонте, Лагопезоле, Мельфи, Джоя-дель-Колле и Лучера.
Фридрих II воплотил в камне свое видение империи. Его замки и
общественные здания, построенные на Сицилии, были оберегом от
папского Рима и от покушений на его власть со стороны монашества и
горожан. Когда владычество Фридриха закончилось, один из его
мастеров по имени Никколо бежал в Пизу, которая все еще сохраняла
верность императору, и обзавелся там прозвищем Пизано. Он стоял у
истоков итальянской скульптуры; среди его выдающихся работ –
шестиугольная кафедра из мрамора, опирающаяся на арки высоких
колонн, для баптистерия в Пизе; богато украшенная многофигурными
рельефами кафедра для Сиенского кафедрального собора, другие
произведения. Все они в равной мере обладают классической формой
и классическими пропорциями.
Несмотря на то что итальянские архитекторы заимствовали
отдельные готические черты в храмостроительстве, они использовали
их исключительно для украшения своих построек согласно
классическим требованиям, предъявляемым к форме здания. Великий
Джотто (ок. 1267–1337), который многие свои живописные
композиции посвятил жизни и трудам святого Франциска, что было в
духе того времени, сочетал в своем творчестве три стиля: готический,
византийский и собственно итальянский. Фрески Джотто в Капелле
дель Арена в Падуе знаменуют собой начало новой эры в европейской
живописи. Творчество других знаменитых итальянцев, в той или иной
мере его современников, таких как Чимабуэ, отец и сын Гадди, Андреа
Орканья, Нардо ди Чоне, представитель сиенской школы Дуччо ди
Буонинсенья, Симоне Мартини и братья Лоренцетти, принадлежит
эпохе позднего Средневековья Италии. Все они были замечательными
мастерами, способными передавать в своих фресках всю гамму
человеческих чувств и мыслей; ведь именно в Италии, по
утверждению Данте, находился цветущий сад человечества. Подобный
расцвет не зависел ни от политики молодого настойчивого в своих
устремлениях императора, ни от авторитета пап, которые вызывали
живописцев в далекий Авиньон к своему двору. Он был обязан многим
природным талантам, соревновавшимся между собой, рожденным в
городах, наследникам городских династий и цехов, находившихся в
постоянном соперничестве, если не в открытой вражде. Удивительное
разнообразие новых форм и стилей в итальянском искусстве между
1260 и 1350 гг. – свидетельство значительных внутренних потрясений
в общественной жизни Италии в этот период времени, когда
появлялись все новые города-республики и княжества.
Это творческое разнообразие, характерное не только для Италии, но
и для всего романского искусства в Европе, теперь пришло в
столкновение с новым строгим стилем архитектуры, «инженерным»
искусством, для которого техника была всем – готикой. Местом ее
зарождения стала область Иль-де-Франс, наиболее отсталая в
культурном отношении область Франции. Ее столица Париж была в
представлении Алиеноры Аквитанской варварским городом.
Аскетичный пуризм готики мог проявиться только при полном
отсутствии каких-либо иных стилей. На неблагодарной почве
королевского домена иметь успех мог только трезвый и практичный
правитель. Сугерий из аббатства Сен-Дени, вознамерившийся возвести
монастырскую церковь, достойную той священной династии, которой
он служил, происходил из крестьянской семьи, и у него был талант
строителя. Он сумел привлечь шесть могущественных церковных
иерархов к реализации своего важного предприятия. Это были пэры
Франции и зажиточные вассалы короля: архиепископ Реймский,
епископы Лана, Лангра, Шалона, Бове и Нуайона. Поскольку
церковных деятелей объединяло чувство враждебности к светской
аристократии, заключенный ими союз имел также политический
аспект. Принадлежность к той или иной партии влияла на то, каким
будет зарождавшийся и готовый появиться на свет архитектурный
стиль. Роялист Сугерий был советником и ближайшим сподвижником
королей Франции Людовика VI и Людовика VII, и ему приходилось
также управлять страной в качестве регента. Он был сторонником
тесного союза с Англией и папой (alliance cordiale), направленного
против императора и Германии. Соборная церковь Сан-Дени, по мысли
Сугерия, должна была стать образцом придворного храма
«наихристианнейшего короля» – Rex Christianissimus.
Сугерий, получивший титул майордома, внимательно следил за
тщательным соблюдением всех правил строительства и контролировал
ход работ, вплоть до того, что сам лично отбирал бревна и организовал
доставку колонн на повозках, запряженных быками, из дальней
местности. Он оставил после себя описание торжеств освящения
собора в 1144 г. (Liber de consecratione ecclesie). День освящения стал
большим праздником для Запада, днем рождения готики. Девятнадцать
епископов и архиепископов освятили все алтари (готический
кафедральный собор мог иметь до тридцати и больше алтарей). Король
Людовик VII, Божий помазанник, вместе с двенадцатью рыцарями
олицетворяли Христа и Его двенадцать апостолов. Сен-Дени, архетип
кафедрального готического собора, стал, как и было задумано,
главным свидетелем святости королей из династии Капетингов. В
основу строительства кафедральных соборов Парижа, Шартра, Реймса
и Амьена был положен тот же самый план.
Церковь аббатства Сен-Дени была первой монастырской церковью,
построенной в готическом стиле, собор Санса – первым готическим
кафедральным собором; на западных фасадах Сен-Дени и собора
Шартра впервые появилась готическая скульптура. Все эти свершения
были результатом совместных усилий трех иерархов: Анри, епископа
Санса; Жоффруа, епископа Шартра, и Сугерия. Их связывали узы
дружбы, и они имели общие взгляды на церковные и светские дела.
Однако вскоре инициатива одного человека стала коллективным
предприятием. Собор Сен-Дени не получал денег из казны и строился
на пожертвования узкого круга светских и церковных вассалов короля.
Перестройка кафедрального собора Шартра в 1194–1220 гг. (западный
фасад был закончен ранее, и его не затронул пожар 1194 г.)
происходила
в
пору
стремительного
роста
французского
национализма. Рабочие, строители собора, выстраивались в молодую
нацию. Дворяне, горожане, купцы и крестьяне – каждый из них в
отдельности и все вместе – несли свое бремя, как в прямом, так и в
переносном смысле слова. На обложке соборного Синодика
изображена Дева Мария в окружении епископов, рыцарей, королей и
королев, представителей городского патрициата и крестьян. Собор
Нотр-Дам Шартра посвящен, как и многие другие готические церкви,
Деве Марии, матери всех людей и нации. Богатые дары прибыли в
Шартр от герцога кельтской Бретани; в городе имелась процветающая
и влиятельная бретонская община.
Капитул собора Шартра получал значительные доходы с алтарей.
Только его настоятель получал ежегодно 2300 турских ливров. Слава
ярмарок Шартра, которые устраивались в дни Богородичных
праздников четыре раза в год, привлекала толпы паломников и их
деньги. Купцы ставили свои прилавки на церковном дворе, пилигримы
ночевали под сенью порталов и в крипте; днем к собору приходили
ремесленники в поисках работы. Даже продовольствие можно было
купить в церкви; и хотя капитул одно время запретил продажу вина в
главном нефе, все же для этой цели было выделено особое место в
крипте.
Эти бытовые зарисовки могут показаться неуместными при
обсуждении достоинств архитектурного шедевра, который вызывал в
душе многих верующих романтические устремления и рождал чувство
глубокого благоговения. Несомненно, что Генри Брукс Адамс и Шарль
Пеги недооценили в своих заметках Шартрский собор, поистине он
заслуживает большего. Готика, и прежде всего французская готика,
была блестящим достижением инженерного искусства, порождением
холодного и расчетливого интеллекта.
«Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил
круговую черту по лицу бездны…» (Притч., 8: 27). Это отрывок из
«Нравоучительной Библии» (Bible moralisee); такого рода Библии
имели широкое хождение в XIII в. Здесь Бог представлен как
архитектор Вселенной, который измеряет мир с помощью циркуля,
подобно геометру. Нет ничего удивительного в небывалом успехе
готики, ведь духовное видение, как считалось, обусловлено
математическими знаниями.
Люди XIII в. с огромным уважением относились к великим
архитекторам-современникам. Из сохранившихся документов явствует,
что мастер, построивший Шартрский собор, был мирянином. Пьер де
Монтрёй и Гуго Либержье, архитекторы кафедральных соборов
Реймса и Амьена, оставили по себе славную память, о которой говорят
хвалебные эпитафии на их надгробиях. Представители этого нового
класса строительных инженеров и технологов отдавали себе отчет в
своей значимости; именно они создали международную организацию
свободных каменщиков – франкмасонов. Их ложи возникали там, где
велось интенсивное готическое строительство.
Ни один из элементов готического стиля не был новым
изобретением. Разновидности армянской арки и нервюрный свод
арабского зодчества встречались в постройках Европы с конца X в. В
развитии готики сыграла значительную роль Нормандия, здесь
появилась своя англо-норманская стрельчатая готическая арка. Она
нашла применение в соборах Дарема (конец XI в.), Уинчестера (после
1107 г.), Питерборо (1118 г.) и Глостера (между 1100 и 1120 гг.). Однако
в самой Нормандии не было возведено ни одной значительной
готической постройки вплоть до ее завоевания французским королем
Филиппом II Августом. Кафедральный собор в Ле-Мане, столице
графства Мен, вначале был построен в романском стиле, хотя повсюду
уже возводились первые готические соборы. Только после
присодинения города к землям французской короны капитул принял
решение о частичной перестройке собора в стиле готики, благодаря
чему появился один из замечательных памятников этого стиля. Южная
Франция настойчиво отторгала готику вплоть до 1250 г., и только
после ее покорения началось распространение нового стиля.
«Архитектура – это прикладная геометрия». Это определение
Гундисальво (относящееся к 1140–1150 гг.) нашло всеобщее признание
среди писателей и архитекторов Средневековья. Готический
кафедральный собор представляет собой тщательно выверенную
математическую конструкцию в искусстве. Основной задачей было
облегчить инертную массу стен. Это стало возможным, когда
строители прибегли к помощи аркад и верхних обходных галерей над
боковыми нефами, или трифориями. Тяжесть свода облегчалась также
при помощи контрфорсов-аркбутанов. Стены собора, которые на всю
их высоту занимали витражи, пронизывал свет. Возникало ощущение
парения купола, находящегося где-то там, на небесных высотах.
Романские церкви производили иное впечатление. Они были
тяжеловесными, походили больше на цитадели Бога на земле.
Готическая церковь – это видение рая, это небесный Иерусалим.
Чувствуется, что мастера готики испытывают восторг, когда им удается
во внешних материальных формах передать духовное содержание,
основные постулаты веры. В стремлении превзойти друг друга
архитекторы шли иногда на неоправданный риск, заставляя стены
подниматься все выше и выше. Первая катастрофа случилась при
строительстве собора в Бове в 1284 г., когда рухнула часть сводов,
возведенных ранее между 1247 и 1272 гг.
Великую симфонию французской готики, которая заканчивается на
пике своего развития, можно разделить на три части. К первой
относятся Сен-Дени, собор Парижской Богоматери, соборы Лана,
Нуайона и Санлиса, посвященные Божьей Матери (начинается около
1150 г.). Вторая, «классическая» часть включает в себя соборы Шартра,
Амьена, Реймса, Руана, посвященные Божьей Матери, и собор Святого
Стефана в Бурже (около 1200 г.). Третья, завершающая часть
начинается около 1250 г. Это готическая часовня Сент-Шапель в
Париже, базилика Святого Урбана в Труа, собор Вознесения Девы
Марии в Клермон-Ферране, собор Святого Стефана в Лиможе и собор
Нотр-Дам в Ро-дезе. Сент-Шапель представляет собой капеллуреликварий, которая была построена по повелению Людовика Святого
в 1242–1248 гг., украшением верхней капеллы являются пятнадцать
высоких (до 20 м) окон-витражей, на которых изображены 1134
библейские сцены. Этот архитектурный шедевр является
свидетельством того, что при умелом владении художественными
приемами и совершенной технике исполнения возможно создать
подобное чудо – образ рая, мир волшебства и фантазии.
Высокая художественность декора капеллы вызывает у нас
восхищение, но еще большее впечатление производит на нас радостная
безмятежность готической скульптуры, лучшие образцы которой мы
видим в соборах Реймса, Бурже и Амьена. Это статуя Христа,
помещенная в простенке главного портала, которую называют
«прекрасным богом Амьена» (Beau-Dieu), и статуя «Золотая
Богоматерь» в том же соборе. Они говорят нам об искупленном
человечестве, о человеке, обретшем внутреннюю свободу. Львы и
драконы, змеи и василиски, копошащиеся у ног Христа, представлены
в виде карликовых созданий, наподобие комнатных болонок. Христос,
поднимающий в жесте благословения обе руки, изображен
совершенным во всем человеком. Но является ли Он также и
совершенным Богом? Готика, которая низвела образы монстров
романского стиля до чистого гротеска, потеряла способность внушать
человеку страх Божий. В этом не было никакой случайности. Готика
обычно принижала значимость вопроса о смерти и зле, она скрывала
повседневный ужас бытия под прекрасными формами и благородным
обликом изображаемого предмета, как об этом свидетельствует
известный трехуровневый Столб Ангелов, установленный в
кафедральном соборе Страсбурга, символизирующий начало
Страшного суда. Здесь статуи ангелов Апокалипсиса и четырех
евангелистов образуют гармоничную группу, которая находит свою
смысловую кульминацию в фигуре Христа Высшего Судии. Ангелы
словно приглашают нас принять участие в пиршестве, которое
устраивается на Небесах.
В Германии в качестве примера первых построек готического стиля
можно назвать соборы Бамберга, Наумбурга, Марбурга, Кёльна,
Фрайбурга, Регенсбурга и Вены; однако он оформился окончательно
только к 1240 г., времени постройки церкви Святой Елизаветы в
Марбурге. В Вестфалии, где сказывалось сильное влияние Южной
Франции, готические церкви зального типа вскоре получили всеобщее
распространение. Для готического стиля архитектуры Северной
Германии была характерна кирпичная готика; обычно церкви
строились из красного кирпича. Примером подобных построек могут
быть церкви в Любеке (Мариен-кирхе), Висмаре, Ростоке,
Штральзунде, Копенгагене, Мальмё, Данциге, а также в Риге, Ревеле и
Дерите.
Пример французов вдохновил скульпторов Германии, и они также
начали украшать внешние стены и интерьеры своих храмов
скульптурами, которые стали одними из самых совершенных образцов
в истории европейского искусства. Это «Церковь и Синагога» и
«Смерть Девы Марии» в соборе Страсбурга; статуи-портреты
благотворителей в соборе Наумбурга (типичные представители
дворянства Восточной Германии); потрясающая «Последняя вечеря»
в галерее того же собора; ученикам Христа, образы которых полны
экспрессии, приданы славянские черты.
Рафинированному и куртуазному классицизму французской
готической скульптуры германские мастера противопоставили более
натуралистичный, временами агрессивный подход; им важно было
показать движение и выразительность изображаемых ими персонажей.
Апостолы и пророки на преграде хор Бамбергского собора горячо
спорят, обмениваясь краткими репликами. Это типичный обмен
мнениями на немецкий манер, дружественный и язвительный в одно и
то же время. У апостола Иоанна облик революционного крестьянинапророка, предшественника настоящих крестьянских вождей XV–
XVI вв.
Бурный период истории Германии, выпавший на позднее
Средневековье, когда народные массы потеряли веру в спасительную
власть церкви и империи, отразился в горестной статуе Пьета,
выразившей глубокое материнское горе, в котором нашел отклик
безутешный плач всех матерей, которые оплакивают своих убитых
детей. Итальянские статуи Пьеты эпохи Возрождения, в том числе и
великое произведение Микеланджело, имеют своим прототипом эту
немецкую Скорбящую Мать, как, например, статую Пьета из Бонна
(около 1300 г.). В Южной Германии, на родине мистицизма, во второй
половине XIV – начале XV в. появились новые темы и образы.
Например, скульптурная группа Johannesminne. Мы видим
проникновенный образ Иоанна, возлюбленного апостола Христа,
который возлежит на груди своего господина.
Стоит кратко остановиться на триумфальном шествии готики по
Европе, которую в Германии называли opus Fran-cigenum —
«французское искусство». Французские архитекторы работали не
только в своей стране, но и за ее пределами в Испании, Португалии,
Германии (мастер Герард, трудившийся в Кёльне, возможно, был
уроженцем Франции) и в Скандинавии. Этьен де Боннёй в 1287 г. был
приглашен в Уппсалу в качестве главного архитектора кафедрального
собора, а император Карл IV, женой которого была Бланка Валуа,
пригласил Матьё Арраского в 1344 г. в Прагу для возведения нового
кафедрального собора. Его дело продолжил немецкий и чешский
зодчий Петер Парлер. План пражского собора повторял план собора
Нарбонны; французскому плану следовал также собор Святого
Станислава в Кракове (Вавель). Французские цистерцианцы активно
действовали в Венгрии, вслед за ними в стране побывали французский
рисовальщик Виллар де Синекур и архитектор Жан де Сен-Дье,
строивший в Клаузенбурге и Кашау. Готика стала общим
архитектурным стилем Европы именно в то время, когда народы
континента начали расходиться по своим национальным квартирам.
Для евреев готическое искусство было почти что «Третьим Заветом»,
комбинацией Ветхого и Нового. В то время как на готических порталах
цари Иудеи изображались участниками триумфальных шествий, евреи
тогдашней Европы подвергались жестокому преследованию.
Для ранней готики была типична универсальность. В период
поздней готики XIV–XV вв. в полной мере проявились ее
национальные различия. В каждой стране готика проходила
определенные этапы развития. Так, в Англии был этап ранней готики
(1170–1250),
«декоративного»
стиля
(1250–1350)
и
«перпендикулярного» стиля (после 1350 г.). Архитекторы норманнской
Англии заимствовали многие достижения готической архитектуры
Франции, интерпретировав их в духе своих традиций. Результатом
чего была непохожесть английских соборов на любую постройку
подобного типа на континенте. Самое раннее свидетельство
присутствия французской готики на английской почве, например, хор
Кентерберийского собора (1175–1185), автором которого был Мастер
из Санса. Позднее уже появились английские мастера, чье
архитектурное искусство проявилось при возведении соборов в
Линкольне и Солсбери.
Здание Вестминстерского аббатства (1245–1258) свидетельствует о
возвращении к традициям французской готики. К периоду высокой
готики относятся соборы в Эксетере, Или и Личфилде, от которых
совершился плавный переход к перпендикулярному стилю, который
повлиял на архитектурный стиль, известный на континенте как
«пламенеющая» готика. Проходя последовательно через все этапы
своего развития, английская готика продолжала придерживаться своих
собственных правил и законов, которые давали о себе знать на каждом
шагу.
Английский кафедральный собор, который мог выполнять функции
и городского собора и монастырского, представлял собой большой и
сложный комплекс закрытых пространств. Только общий декор
объединял отдельные части собора – хоры и неф, ретрошуар или
помещение за основным алтарем, капеллу Девы Марии,
дополнительные восточные трансепты. Все эти отдельные
компартименты собора выделяются своим холодным и суровым
рисунком, который присущ также и скульптурным композициям
английских кафедральных соборов. Остроконечные арки, которые
начали применяться очень рано, образовывали аркады, постепенно
переходившие в реберный свод. Несмотря на большую высоту собора,
создается впечатление, что при строительстве архитекторам было не
менее важно заложить большую ширину. Английские соборы не парят
над землей, но твердо стоят на земле, гордо заявляя о своей власти.
Посетитель может переходить из одного закрытого пространства в
другое, оставив всякую надежду увидеть общую картину здания.
Распланированные до малейших деталей, английские кафедральные
соборы напоминают нам, что английские математики и знатоки
канонов играли ведущую роль в Европе XIII–XIV вв. Основная
композиционная черта английского собора не арка (как во Франции),
не массивность (как в романских постройках Германии и в ранней
немецкой готике), но линия или, точнее, сеть линий.
Перпендикулярный стиль был присущ английской готике с самого
начала.
Скульптура соборов Англии представлена торжественными,
полными
достоинства,
немного
статичными,
неотмирными
надгробными статуями: рыцаря в Темпл-Черч в Лондонском Сити,
Ричарда Свинфилда в Херефордском соборе, благородной леди на
гробнице Эдуарда III. В этом проявилась великая англосаксонская
традиция, которая имела свою кульминацию в Уинчестерской школе.
Ранее уже говорилось, что норманнская Англия никогда не
воспринимала серьезно континентальную готику; она просто
заимствовала необходимые элементы архитектуры, для того чтобы
создать нечто совершенно «неготическое». В то же время вряд ли
можно было ожидать, что Англия Плантагенетов и их наследники
примутся за строительство французских кафедральных соборов, этих
символов власти «наихристианнейшего короля». Ни французское
представление о рае, ни сказочное очарование Сент-Шапеля не
производило никакого впечатления на трезвомыслящих англонорманнов. Но существование целого ряда впечатляющих английских
средневековых соборов – это доказательство того, что франкоязычная
страна, управлявшаяся франкоговорящим правящим классом вплоть до
конца XIV в., смогла бросить серьезный вызов Франции, стране,
которая породила не только готику, но и стояла у истоков
средневековой английской культуры и образования.
Если поставить рядом готические соборы Франции и Англии, то
станет заметно, что они, будучи близкими по форме, сильно
отличаются по духу. Их трактовка пространства различна, как и их
внутренняя
структура.
Это
одновременное
сближение
и
противостояние Франции и Англии, двух близких стран, которые
сильно повлияли на самопознание и самоутверждение Западной
Европы в позднем Средневековье, предельно ясно выражены во
внешнем облике этих соборов, в скульптурах королев Брунхильды и
Кримхильды, борющихся друг с другом на портале кафедрального
собора Вормса.