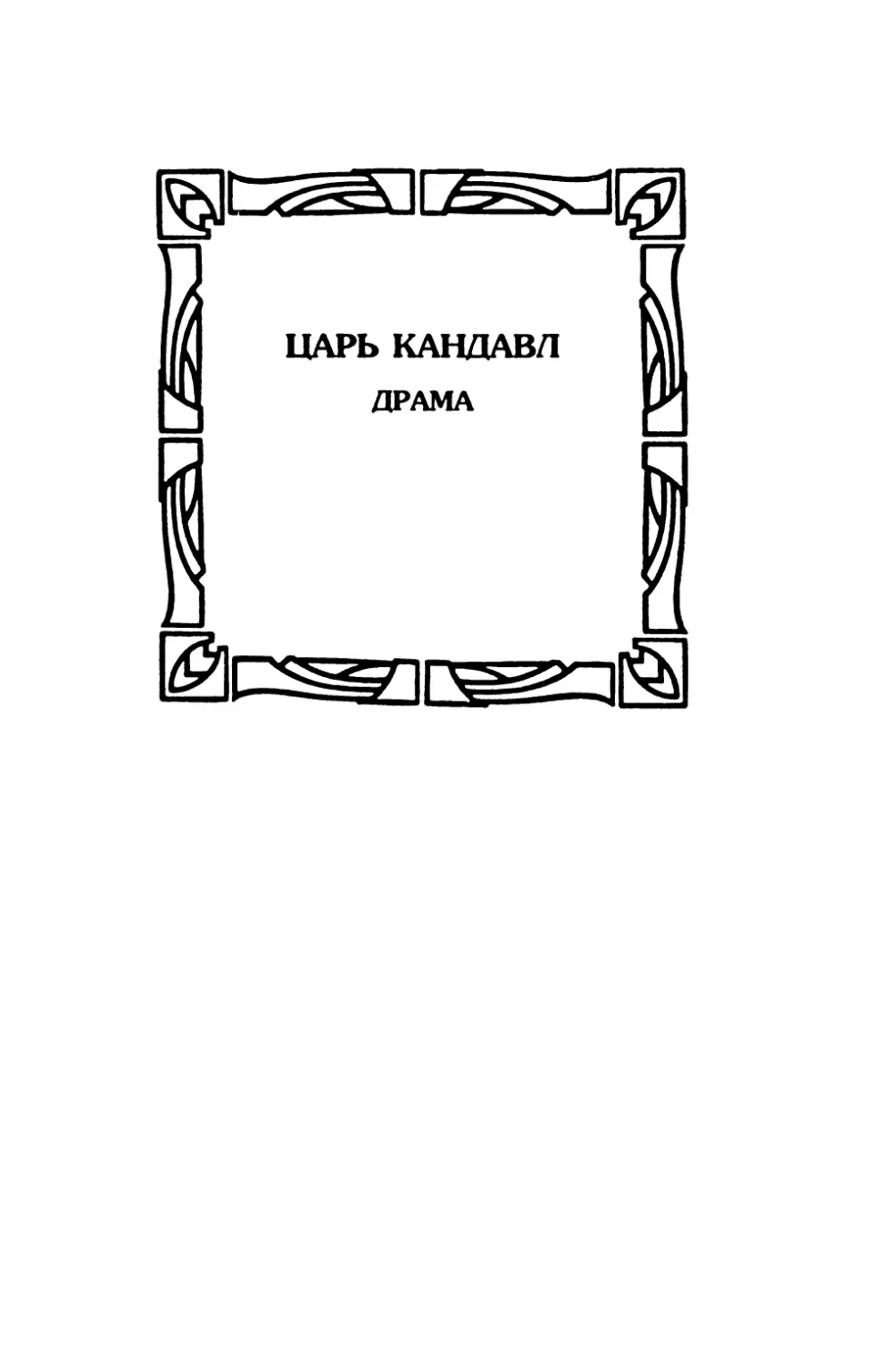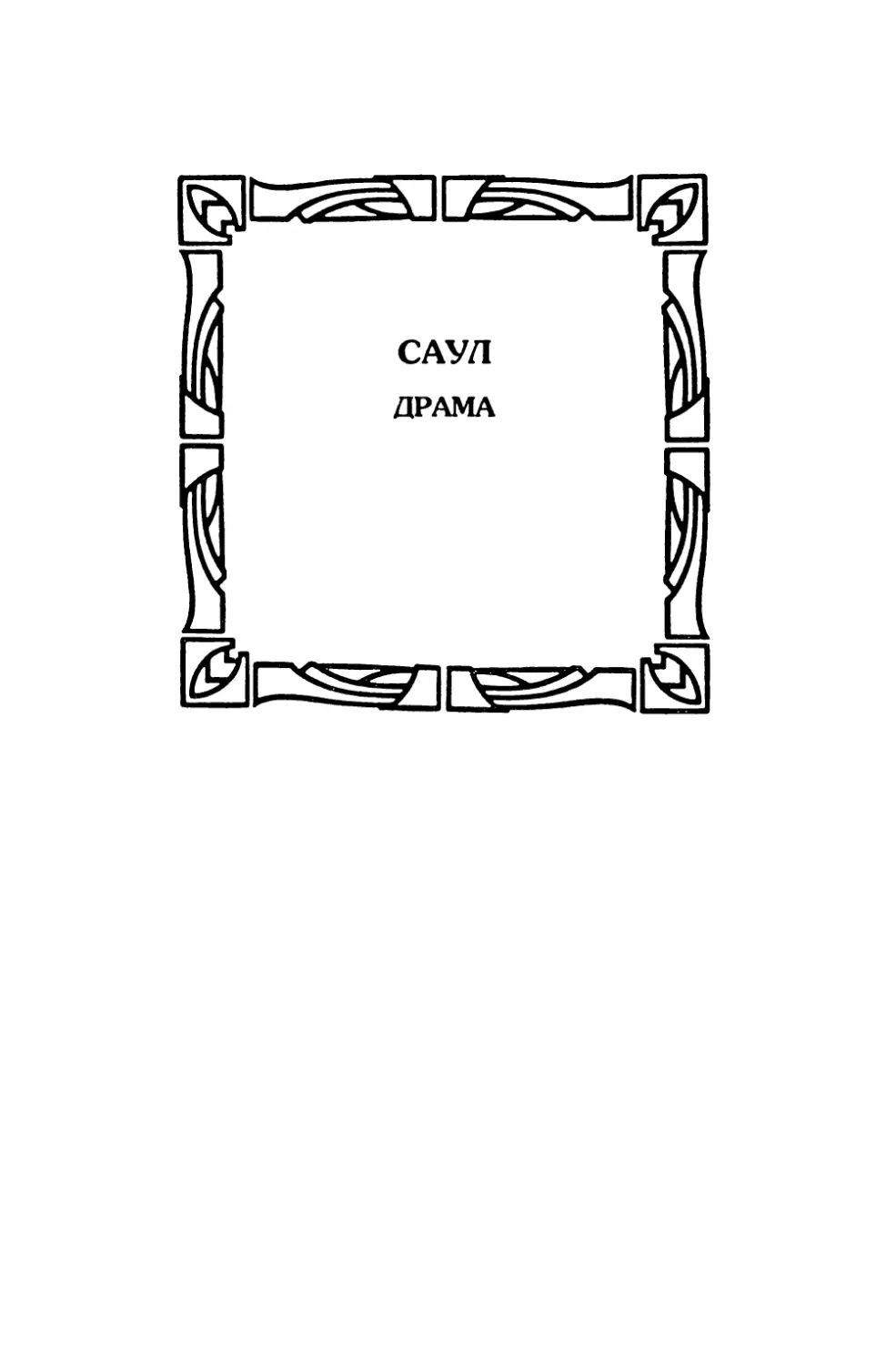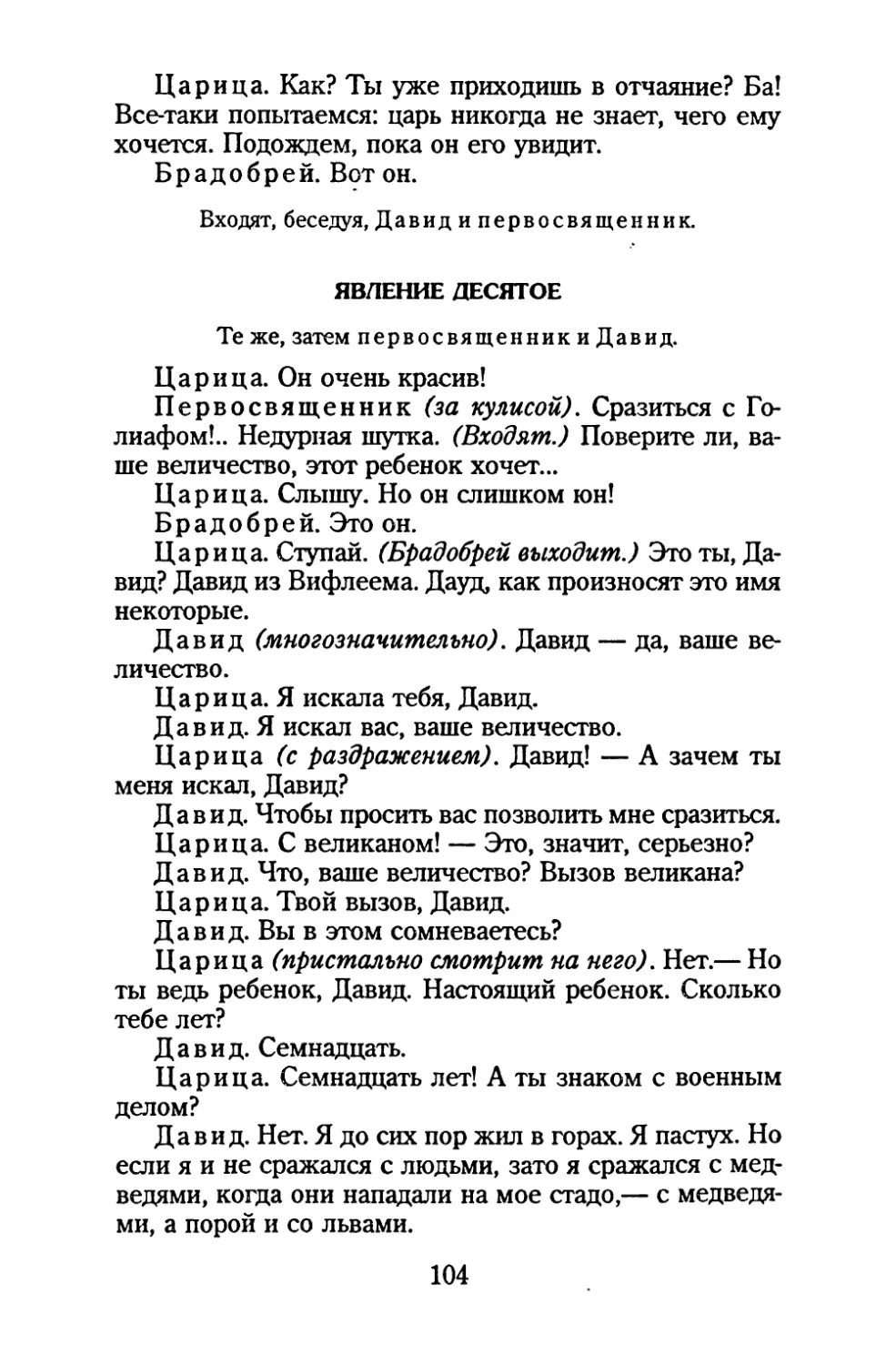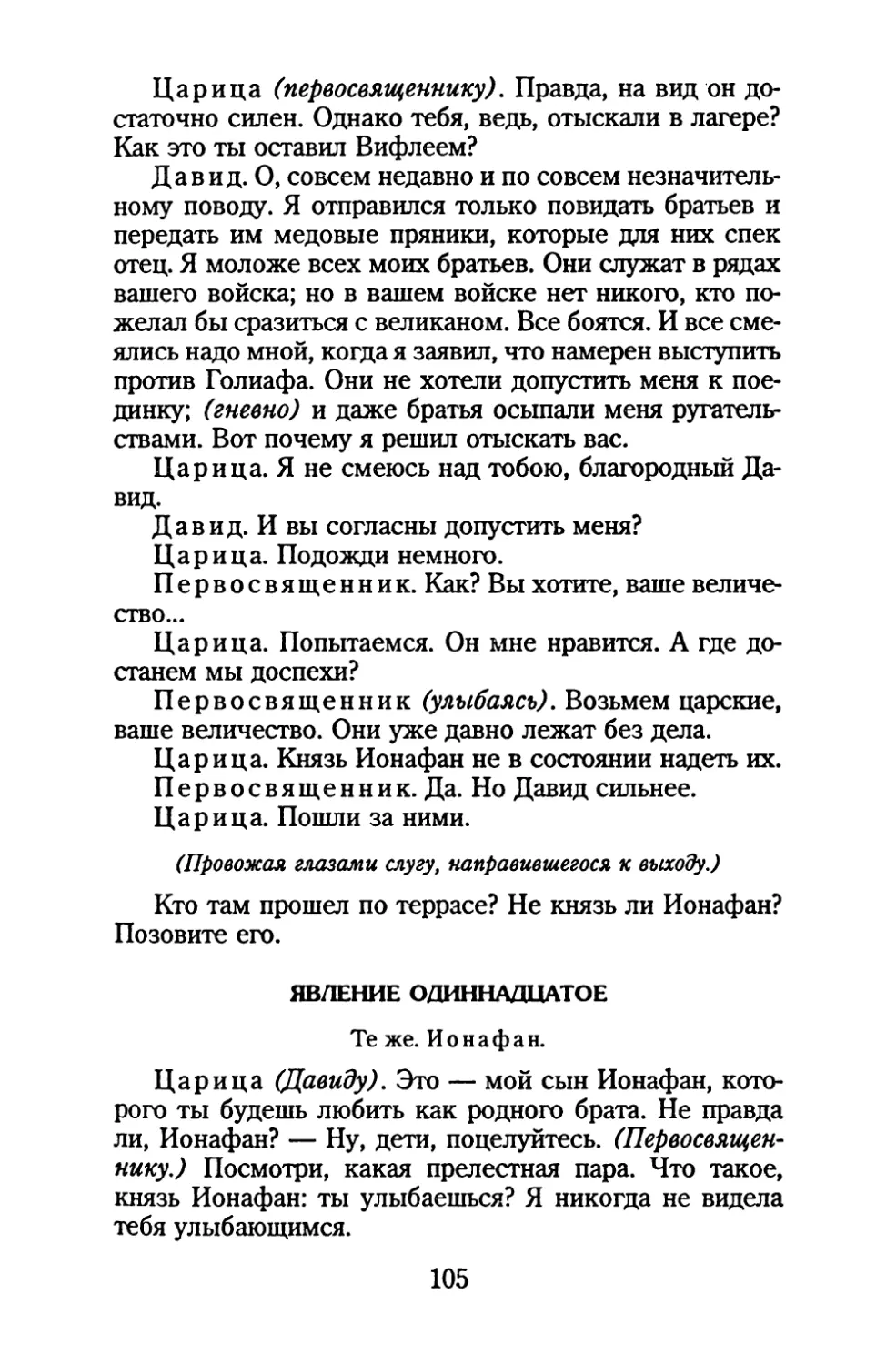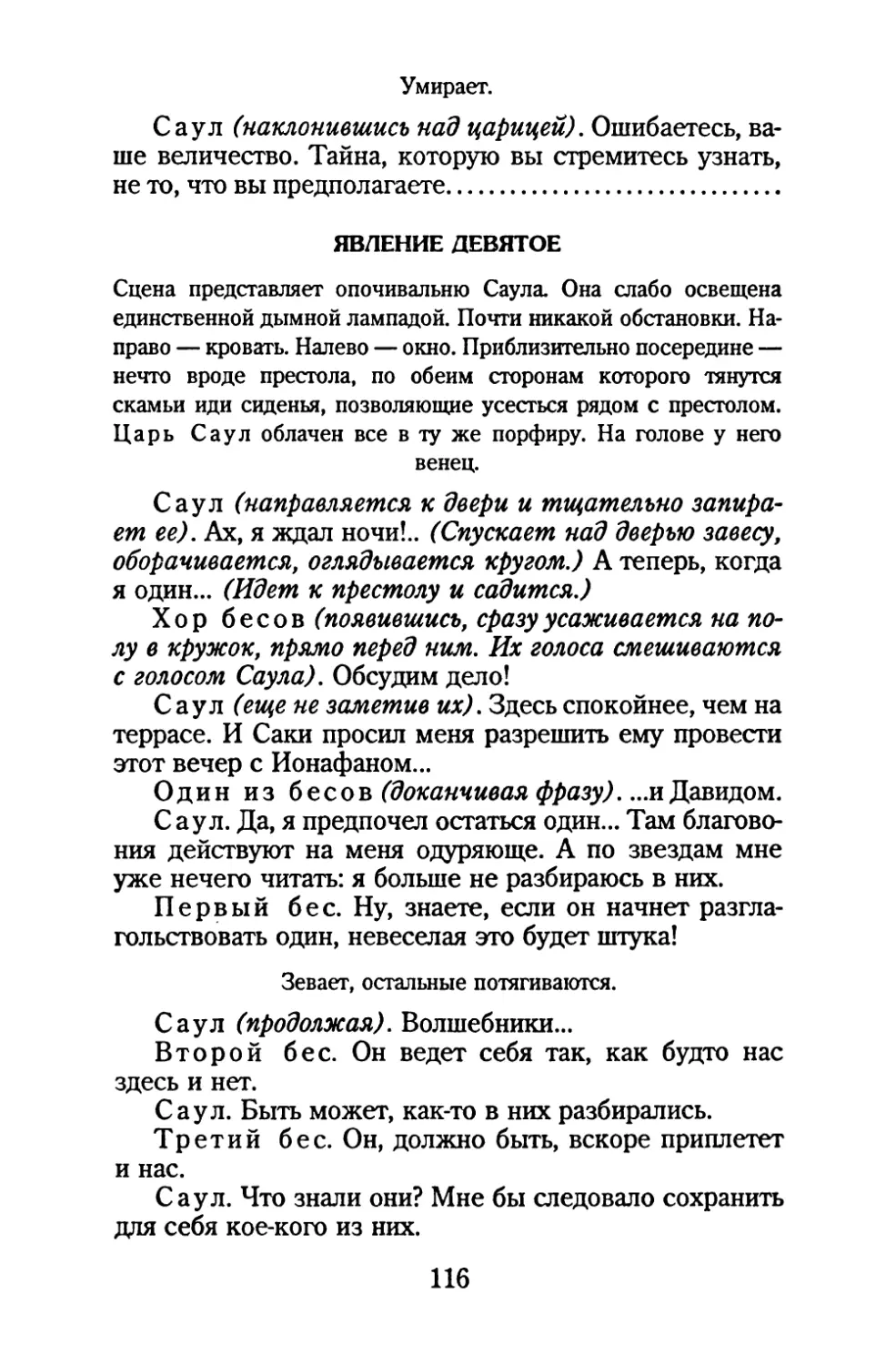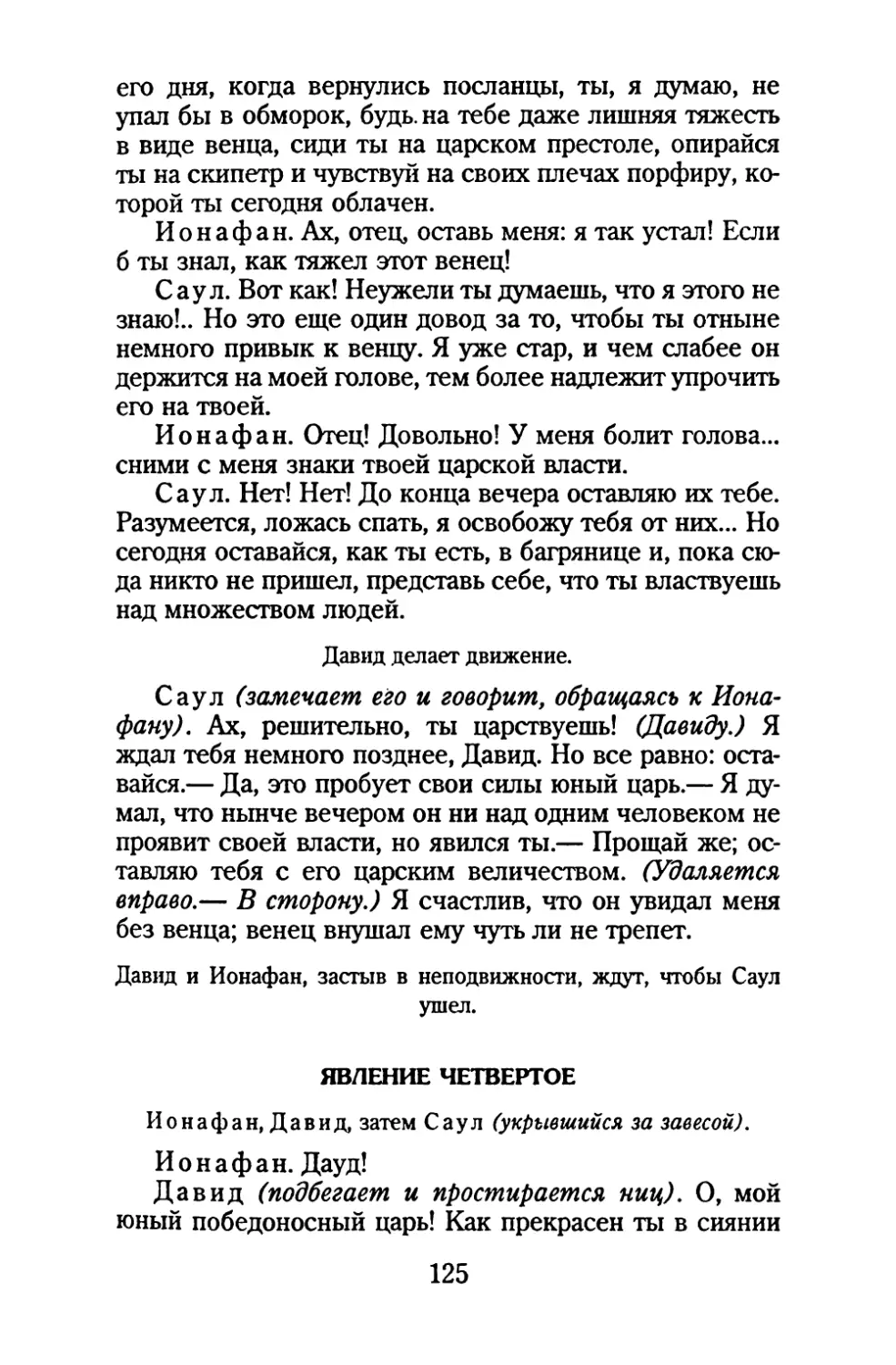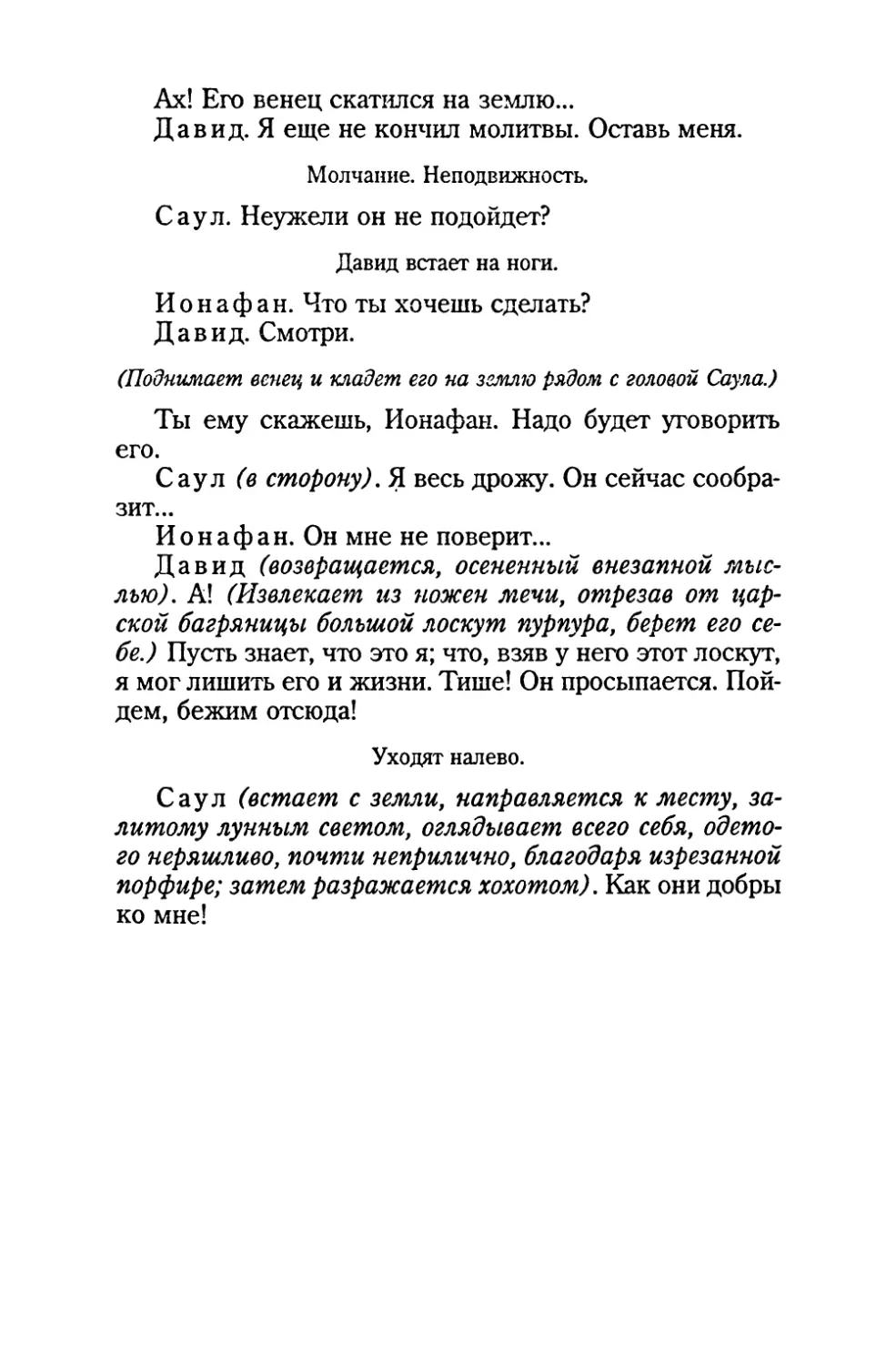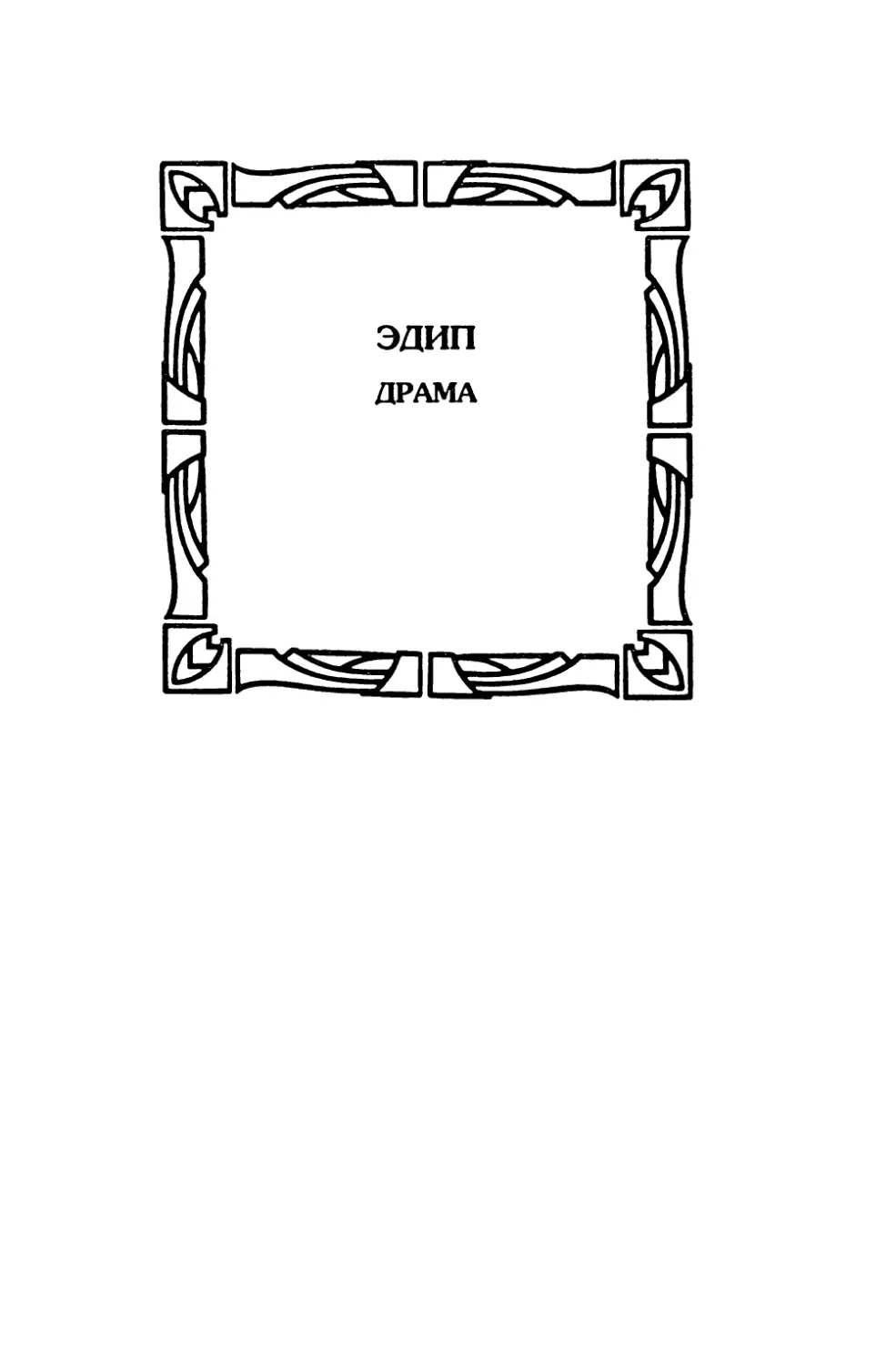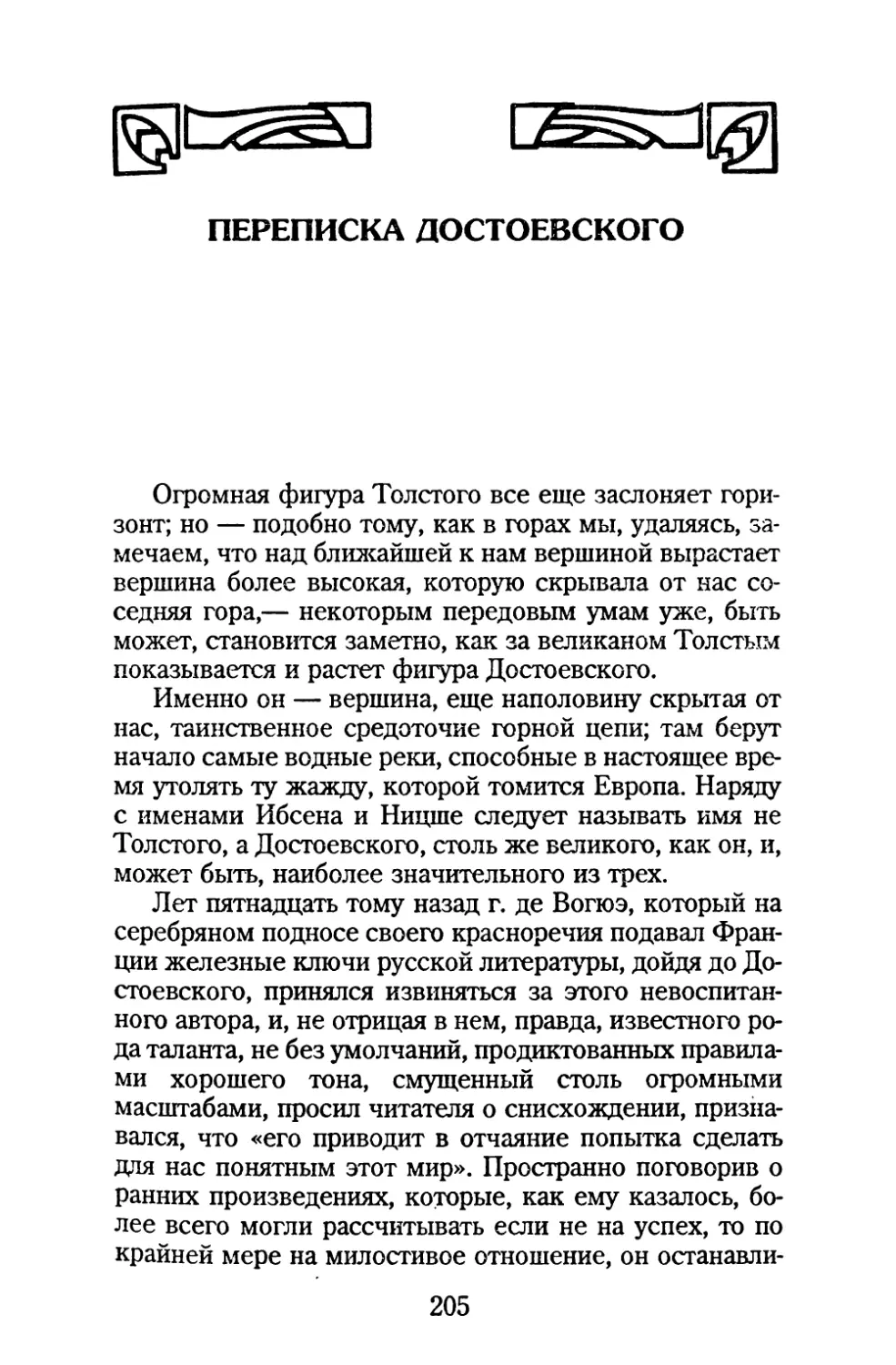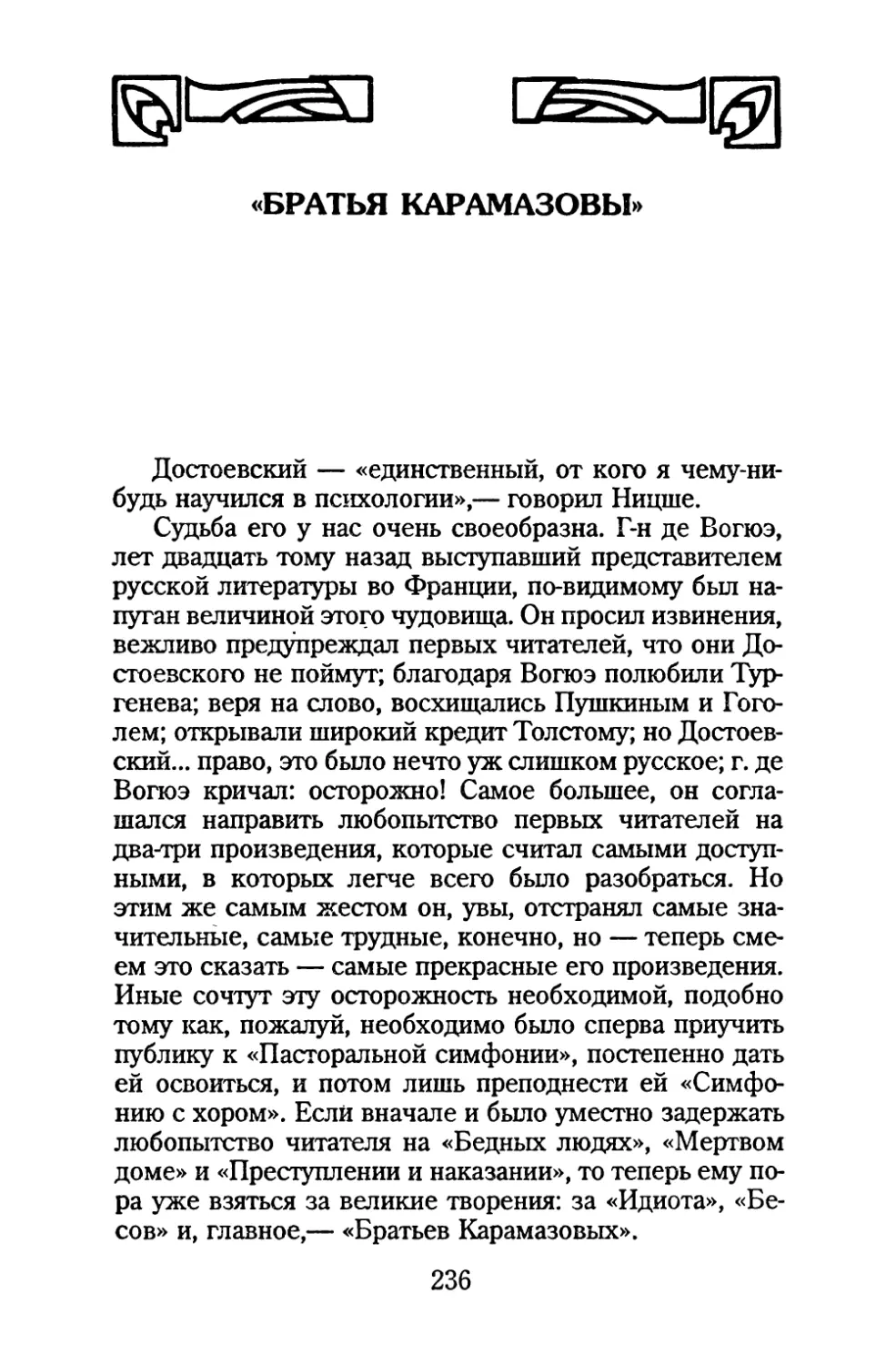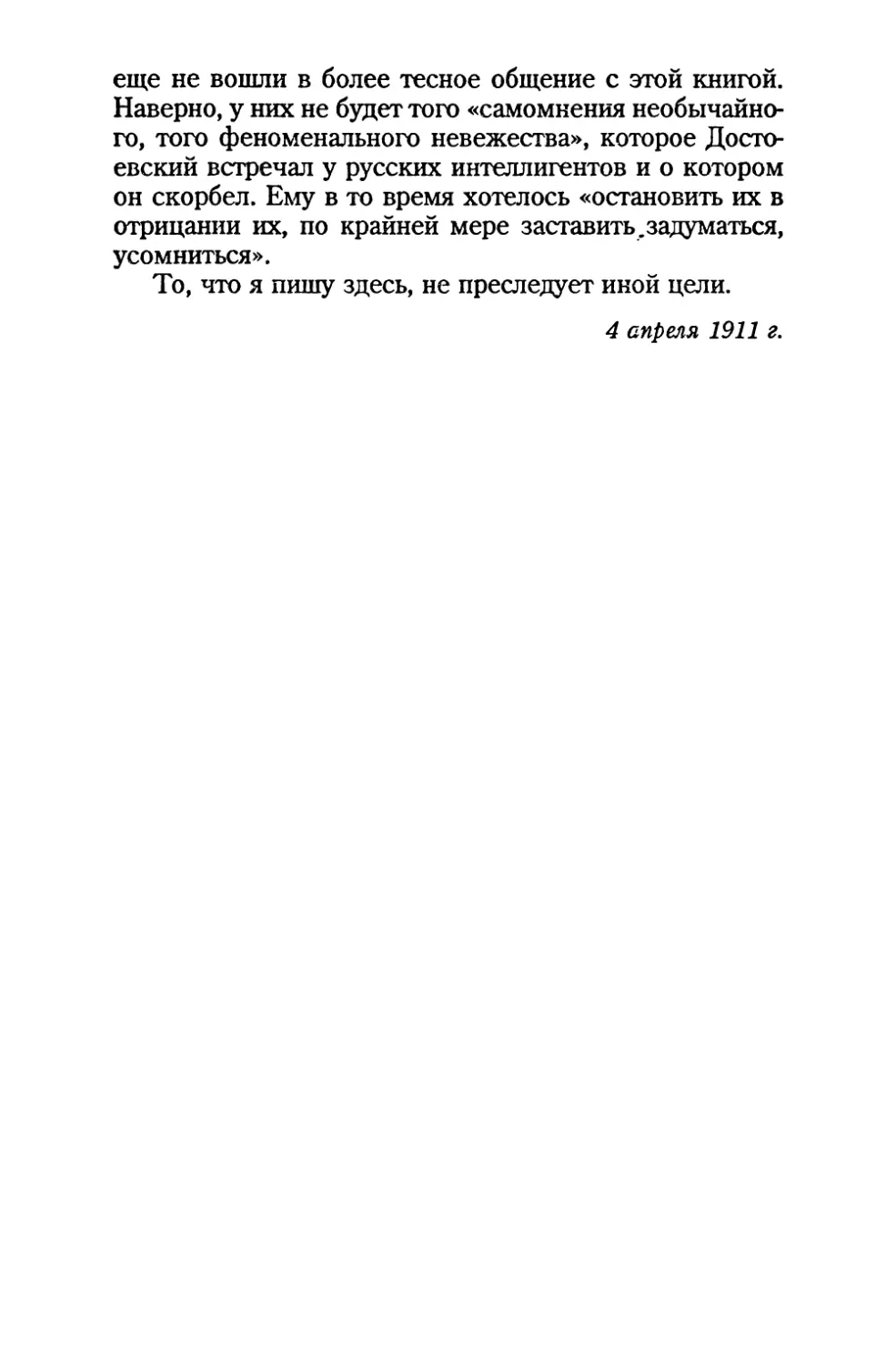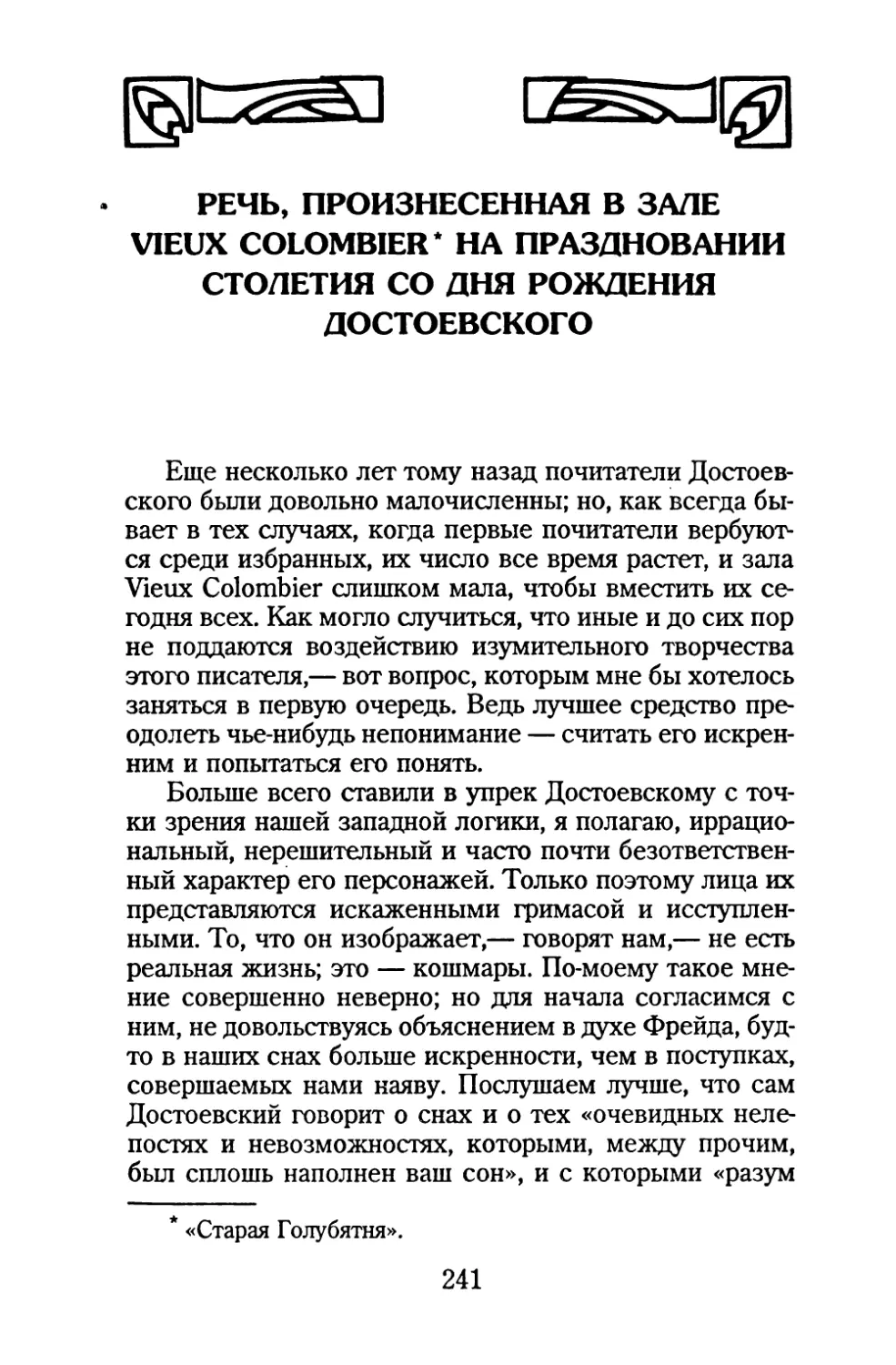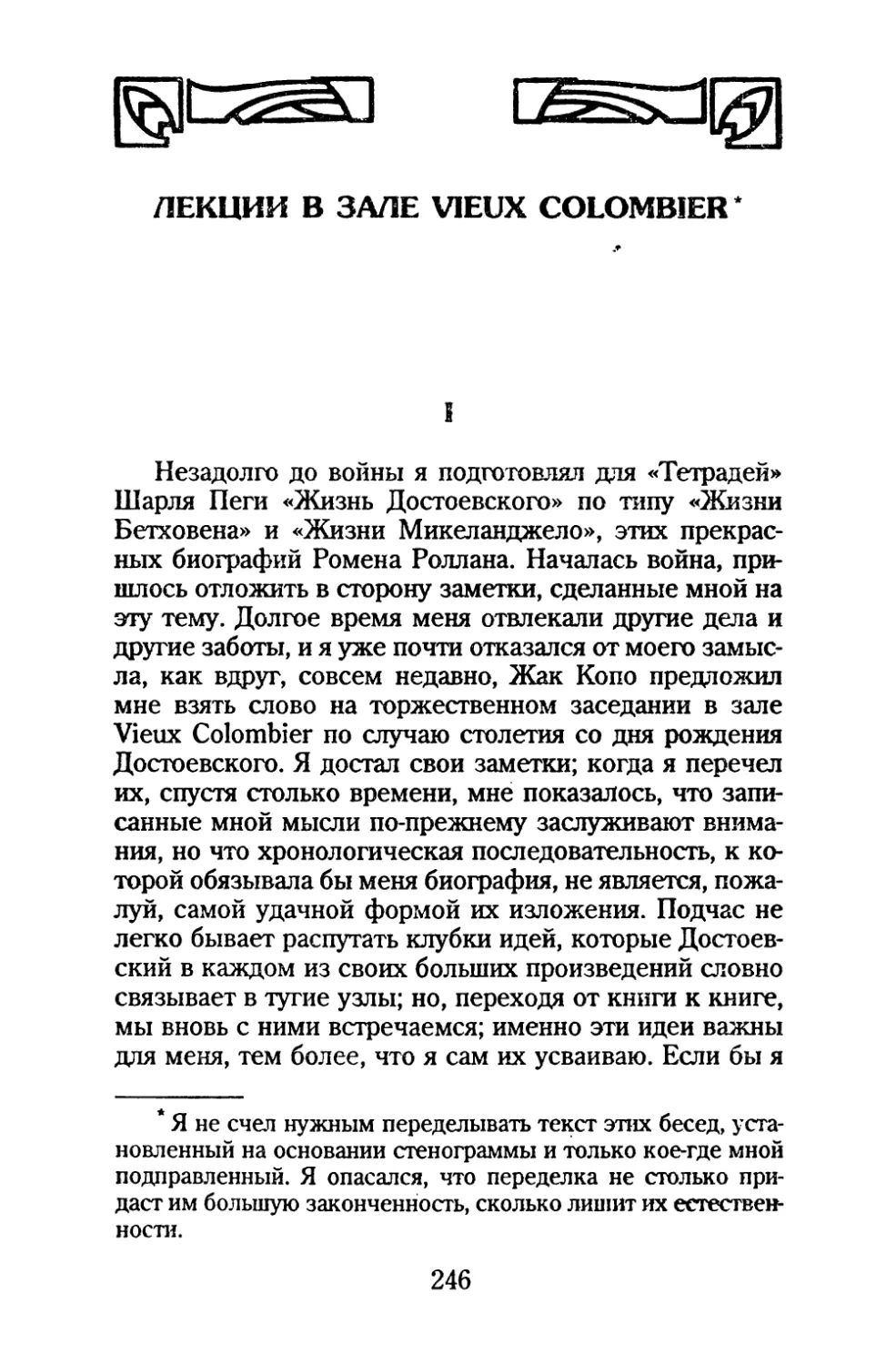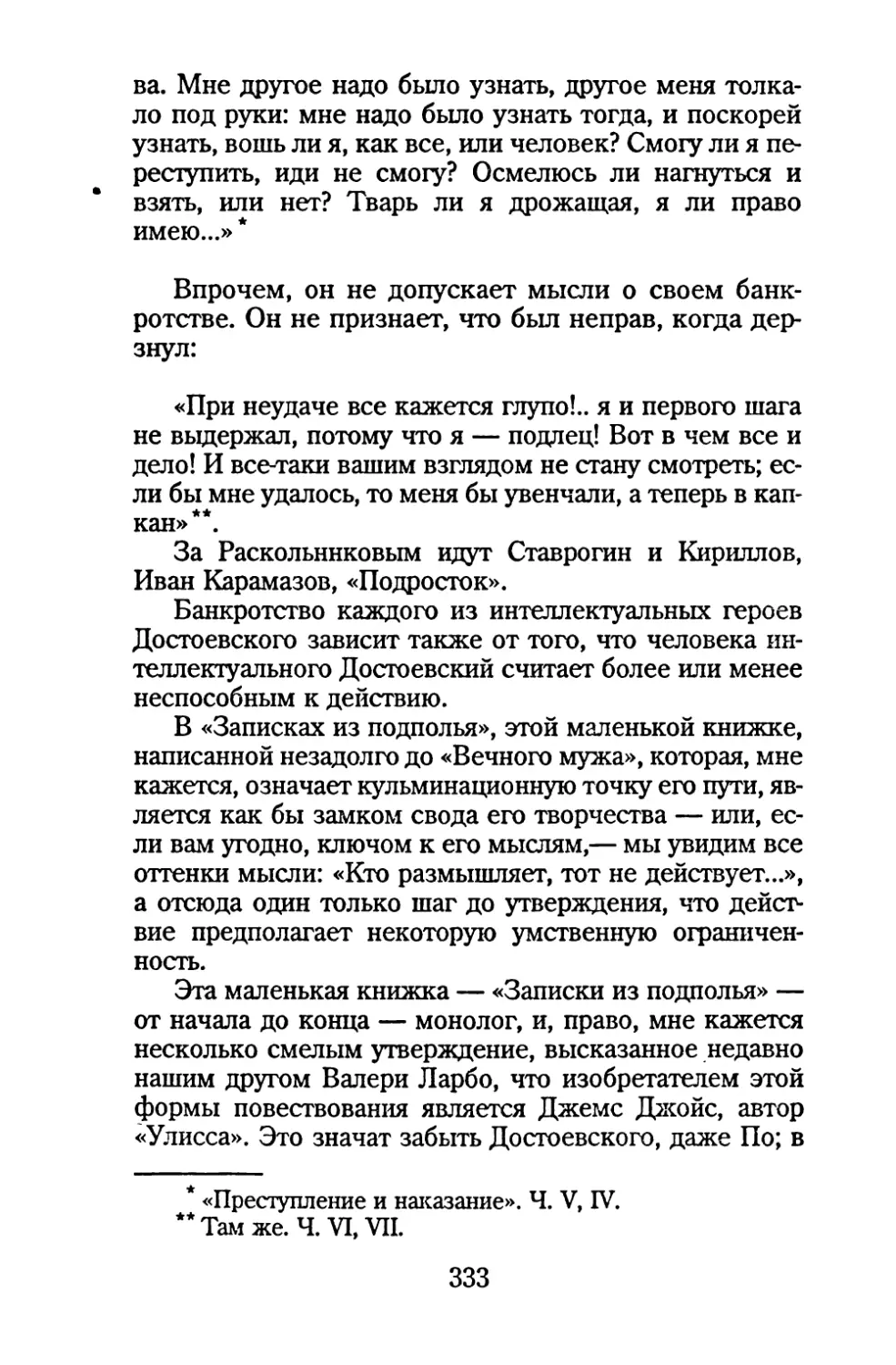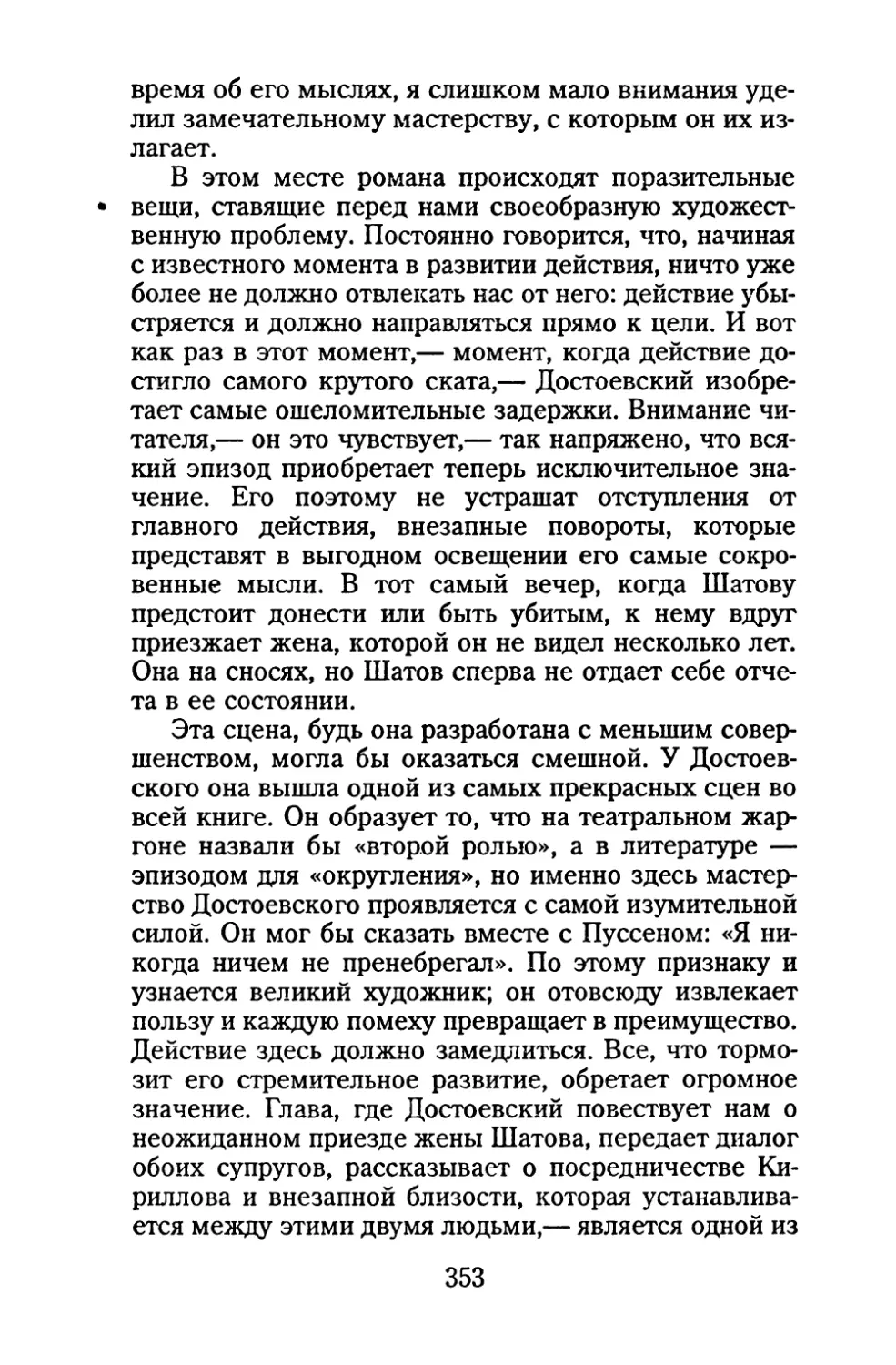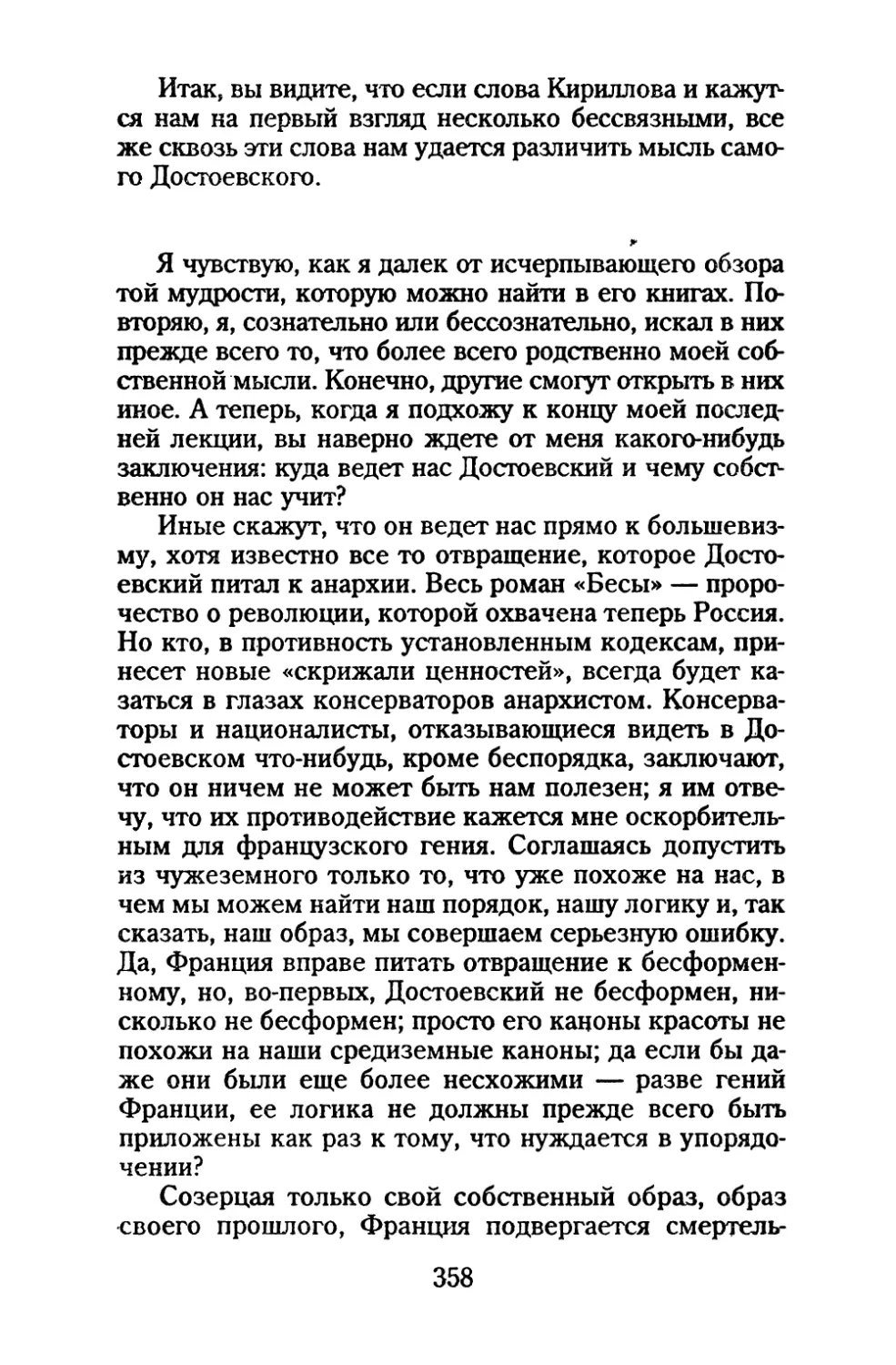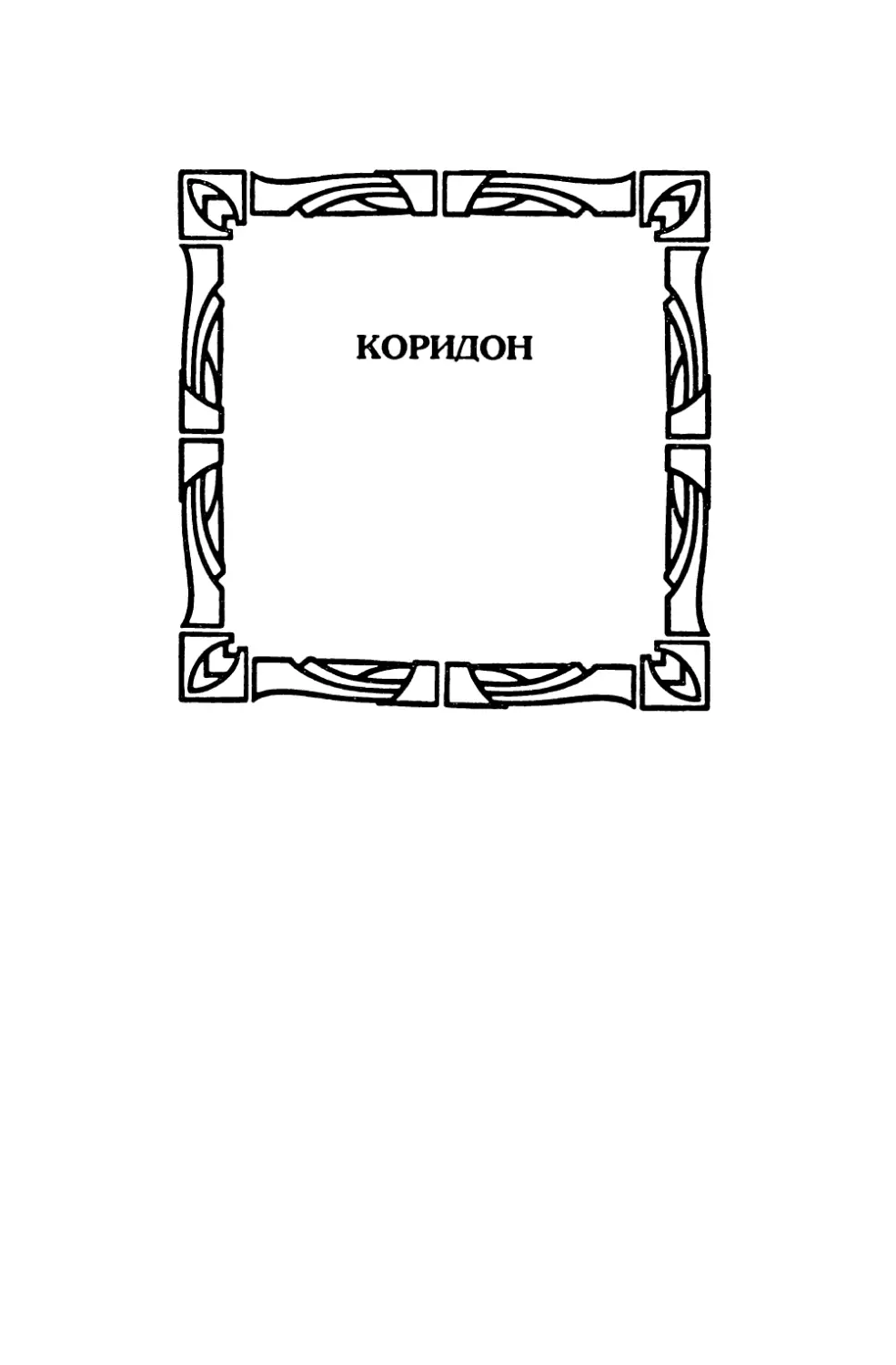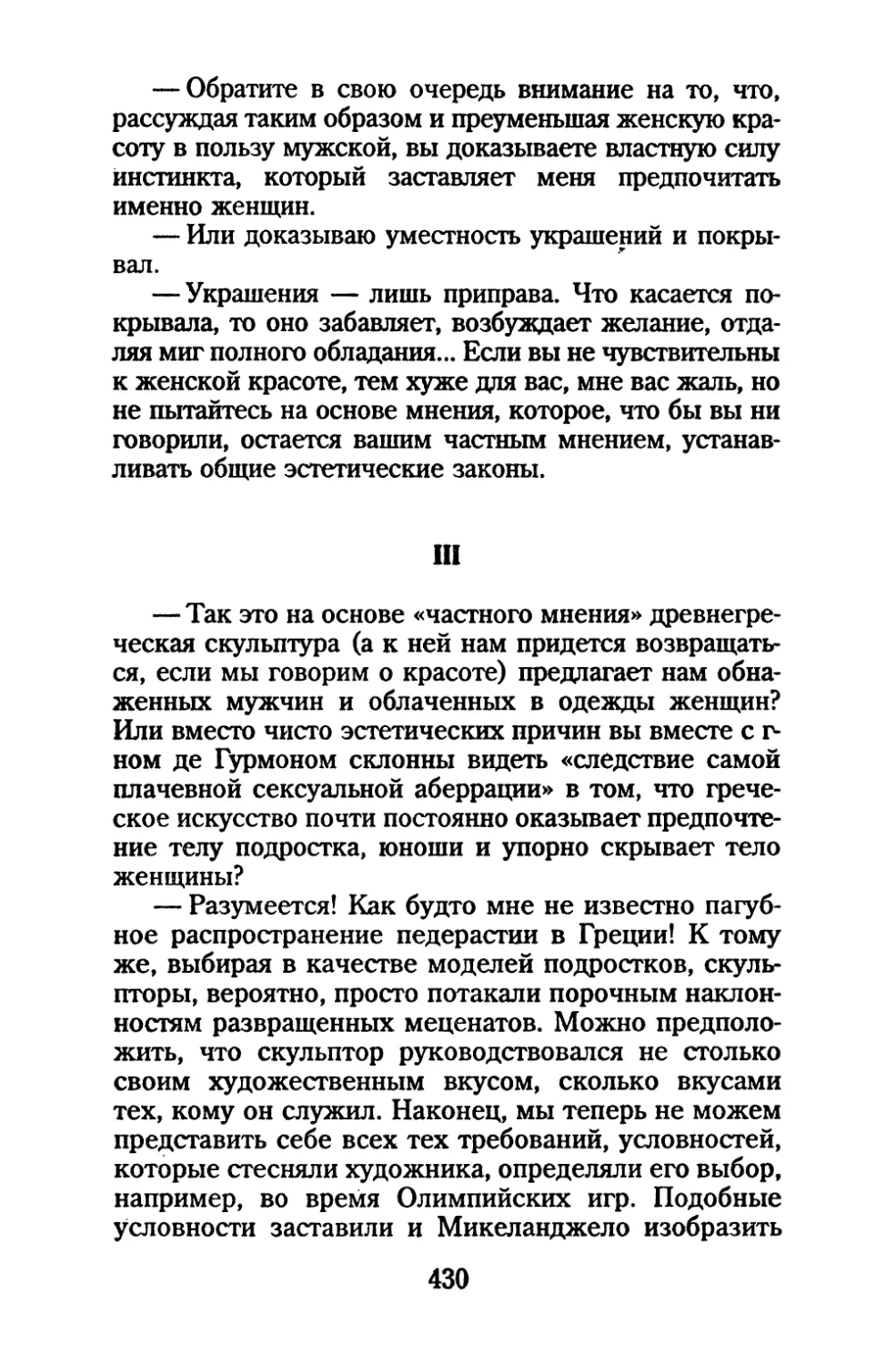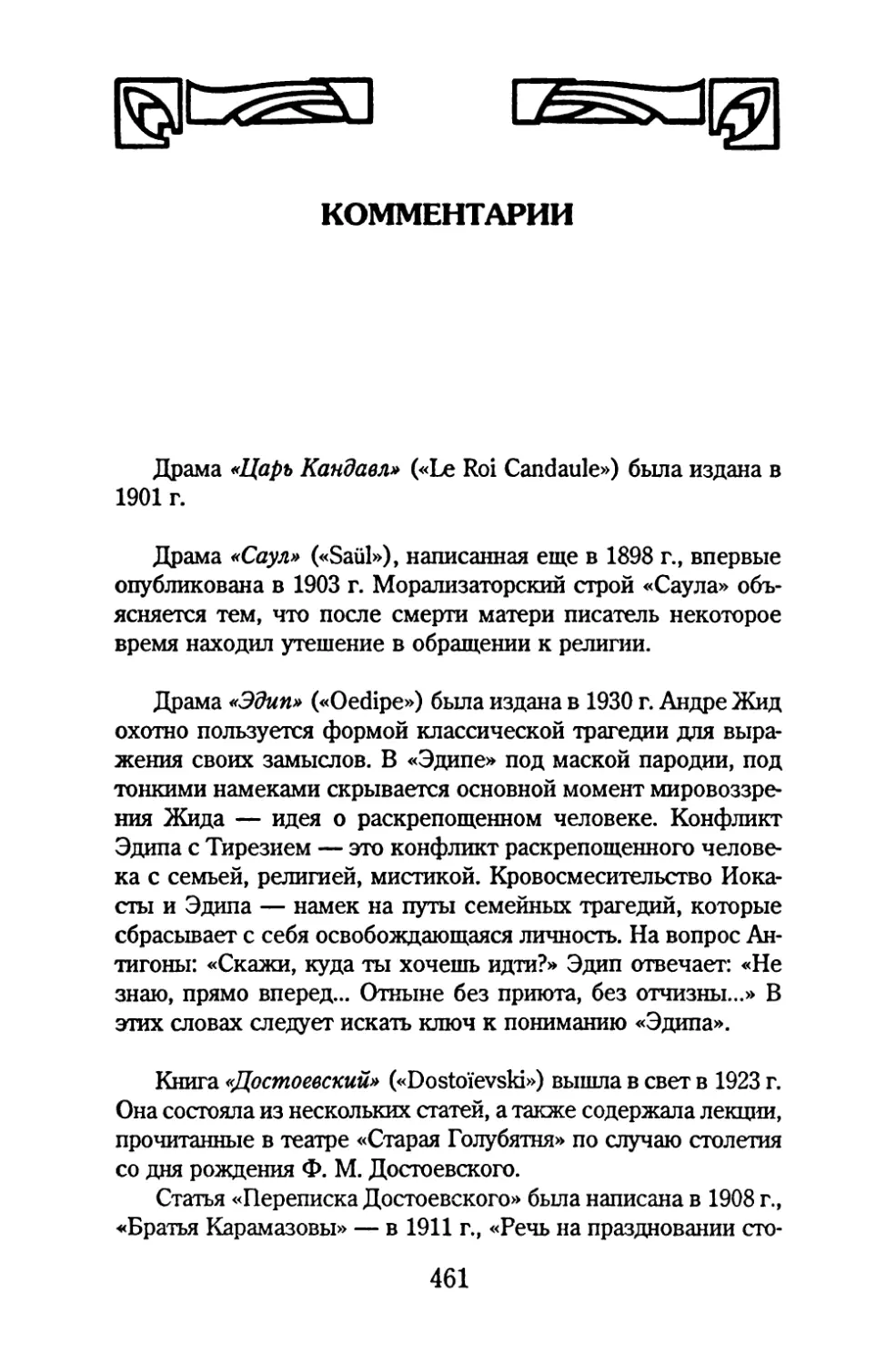Автор: Жид А.
Теги: литература литературоведение художественная литература французская литература собрание сочинений переводная литература издательство терра книжный клуб
ISBN: 5-275-00623-3
Год: 2002
Текст
Андое
Ж' 69 Id)
ннв
шшшшиш^шт
■ПН
жие сочинении в семи томах
/
Собрание сочинений в семи тонах
Том 6
1
\
v^
^
fN
Царь Кандавл
Драма
Саул
Драма
Эр
Драма
Достоевский
Кородон
и
Г. ИЖо-г;.
МОСКВА
ТЕРРА - КНИЖНЫЙ КЛУБ 2002
..— __ ^
УДК 82/89
ББК84(4Фр)
Ж69
Оформление художника
Ф.БАРБЫШЕВА
Составитель
В. НИКИТИН
Жид Андре
Ж69 Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6: Царь Кандавл;
Саул: Драмы / Пер. с фр. Б. Лившица; Эдип: Драма /
Пер. с фр. В. Станевич; Достоевский / Пер. с фр.
А. Федорова; Коридон / Пер. с фр. Е. Гречаной. —
М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2002. — 464 с.
ISBN 5-275-00623-3 (т. 6)
ISBN 5-2754)0618-7
Известнейший французский писатель, лауреат Нобелевской
премии 1947 года, классик мировой литературы Андре Жид (1869-
1951) любил называть себя «человеком диалога», «человеком про-
тиворечий». Он никогда не предлагал читателям определенных
нравственных решений, наоборот, всегда искал ответы на бесчис-
ленные вопросы о смысле жизни, о человеке и судьбе. Много-
гранный талант Андре Жида нашел отражение в его ярких, подчас
гротескных произведениях, жанр которых не всегда поддается оп-
ределению.
В шестой том Собрания сочинений вошли драмы «Царь
Кандавл», «Саул», «Эдип», статьи и лекции из книги «Достоев-
ский» и эссе «Коридон».
УДК 82/89
ББК 84 (4 Фр)
ISBN 5-275-00623-3 (т. 6)
ISBN 5-275-00618-7
© В. Станевич, «Эдип», перевод, наследники, 1934
© А. Федоров, «Достоевский», перевод,
наследники, 1935
© Е. Гречаная, «Коридон», перевод, 2002
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2002
ЦАРЬКАНДАВЛ
ДРАМА
В
Предисловие
Я извинился бы прежде всего в том, что пишу это
предисловие, если бы не писал его с целью извиниться
в написании самой пьесы. Я не скрываю от себя, что, ес-
ли пьеса хороша, она не нуждается в поддержке пре-
дисловия и что, если пьеса плоха, величайшая ошибка,
в которую может впасть автор после написания пье-
сы,— это желание объяснить ее. Потому-то до сих пор
я не разрешал себе никаких предисловий; само собой,
я и впредь продолжал бы поступать таким образом, не
будь эта пьеса слишком необычайна и не рискуй она
вызвать некоторые недоразумения.
Неуверенный в приеме, который она встретит, я мо-
гу, я должен предположить все... даже что ей будут ру-
коплескать. В этом-то и заключалось бы недоразуме-
ние. Ибо, видя шумный успех, которым пользуются у
публики пьесы, скажем, господина Ростана, я не могу
ни на мгновение допустить, что, если мою пьесу ждут
рукоплескания, причиной этого явятся ее литературные
достоинства; если аплодисменты разразятся, они будут
вызваны именно тем, что покажется скандальным ли-
цам, которые не захотят рукоплескать ей; именно тем,
что я уничтожил бы в своей пьесе, если бы это тем са-
мым не уничтожило всей пьесы и если бы, признаюсь,
я не считал, что драматическое произведение, помимо
своей глубокой значительности, должно еще быть раз-
носторонне увлекательным, представлять собою зрели-
ще — и притом прекрасное зрелище, не опасаясь «обра-
7
щаться к чувству». Но чем больше эта сторона — в
моей пьесе все-таки второстепенная — имеет шансы по-
нравиться публике, тем сильнее во мне потребность
сразу же оправдаться в этом, чтобы, по крайней мере,
в дальнейшем избегнуть недоразумения. Объяснимся:
I
Я просто хотел создать произведение искусства.
Но так как сегодня искусства уже нет и так как кро-
ме того уже нет никого, кто был бы способен понимать
его, мне приходится выдвигать на первый план идейный
комплекс — в моих глазах отнюдь не самый важный,
долженствующий, правда, служить красоте, но могущий
осуществить эту задачу лишь в том случае, если он сам
совершенно верен и основателен. Это скелет моей дра-
мы, но — увы! — сегодня я смею говорить только о нем.
II
Царь Кандавл безумно любил свою жену и считал ее
красивейшей из женщин. Одержимый своей страстью, он
беспрестанно расхваливал красоту жены Гигесу *, одному
из своих телохранителей, которого он очень любил и ко-
торому доверял наиболее важные дела. Спустя немного
времени Кандавл (он не мог избежать своего несчастья)
обратился к Гигесу со следующими словами: «Мне кажет-
ся, ты не веришь моим уверениям насчет красоты цари-
цы. Рассказ третьего лица всегда производит меньшее
* Должен ли я извиниться в том, что не следовал в своей
драме ни истории, ни легенде: знаменитый перстень Гигеса
был дан ему не Кандавлом. Найден он был, как свидетельст-
вует о том Платон, не в теле рыбы, а в утробе огромного брон-
зового коня. Кроме того, Гигес был не рыбак, а пастух, да он
и не воспользовался перстнем, чтобы увидеть царицу. К тому
же, и т. д. и т. д. (Геродот. Клио. VIII и ел.).— Здесь и далее,
кроме особо оговоренных случаев, примеч. авт.
8
впечатление, нежели лицезрение предмета: сделай же вес?
от тебя зависящее, чтобы увидеть ее нагой».— «Что ты
говоришь, государь! — воскликнул Гигес.— Подумал ли ты
о том, что мне предлагаешь? Приказать рабу взглянуть
на наготу его царицы? Разве ты забыл, что женщина,
снимая с себя одежду, оставляет с нею и всякий стыд.
Правила добропорядочности известны испокон века: мы
должны руководиться ими; наиболее же важное из них
предписывает нам смотреть лишь на то, что нам при-
надлежит. Я убежден, что ты обладаешь прекраснейшей
из всех жен, но заклинаю тебя, не требуй от меня, что-
бы, я совершил бесчестный поступок».
Так отказывался от царскою предложения Гигес,
опасавшийся дурных последствий для самого себя. «Ус-
покойся, Гигес,— сказал ему Кандавл.— Не бойся ни
твоего царя (мои слова — не ловушка, и я совсем не хо-
тел испытать тебя), ни царицы; она не сделает тебе
ничего дурного. Я устрою все таким образом, что она
и знать не будет о том, что ты ее видел...»
Никакой возможности уклониться от этого у Гигеса
не было. Надо было погибнуть либо ему, либо Кандавлу.
III
Драма возникла, быть может, просто в результате чте-
ния Геродота; впрочем, быть может, отчасти она вызвана
также чтением одной статьи, талантливый автор которой,
выступая защитником «нравственной свободы», обруши-
вался на тех, кто, сосредоточив в своих руках искусство,
красоту, богатство (словом, на «правящие классы»), не
делает никаких попыток воспитать народ, учредив для
него выставки красоты. Автор сознательно обошел мол-
чанием вопрос, следует ли предоставить народу право
прикасаться к экспонатам. Я полагаю, что, будучи слиш-
ком умен, чтобы не видеть, что именно в этом заключа-
ется наиболее интересная сторона вопроса, он предпочел
уклониться от его обсуждения, сознавая всю значитель-
9
ность последствий и опасаясь, что уже не будет в состоя-
нии показать их. Отсюда возник мой «Кандавл».
Немного времени спустя, зародившаяся таким обра-
зом драма разрослась и удалилась от своих истоков. Из
первоначального вопроса, как его необходимое следст-
вие, возникли другие вопросы. Если слишком, возвышен-
ный, слишком великодушный *, неумолимо последова-
тельный Кандавл позволяет невежественному Гигесу сна-
чала лицезреть, затем осязап> и, наконец, разделить с ним
то, во вкус чего Гигес входит слишком медленно и вме-
сте с тем слишком быстро,— спрашивается, до каких пре-
делов может простираться такая общность владения? —
Что должна думать об этом Нисия? И сам Кандавл после
того, что все совершилось?.. И Гигес?.. Но здесь я преры-
ваю комментарии: пускай говорит сама пьеса.
В этой трагической истории Кандавла, может быть,
следует видеть, вместе с греческим историком, только
повествование о восшествий на лидийский престол пер-
вого царя из династии Мермнадов. Однако, быть мо-
жет, будет не совсем неуместным видеть в ней также и
историю поражения, почти самоубийства аристократии,
которую слишком благородные черты ее характера сде-
лали совершенно беззащитной, лишили всякой способ-
ности сопротивления... Не в этом дело. Пусть только не
ищут здесь «символов», пусть видят в пьесе просто при-
зыв к обобщению. И пусть выбор подобного сюжета, ис-
ключительного характера Кандавла, находит в этом
свое объяснение и оправдание.
IV
На сцене всякий новый характер на первых порах
всегда кажется характером исключительным. Прежде
чем допустить его, публика протестует. На сцене все,
* «Великодушен до порочности» — пишет Ницше; и в дру-
гом месте: «Любопытная вещь: чрезмерное великодушие не
обходится без потери стыдливости». Стыдливость — одержи-
вающее начало.
10
что выходит за пределы условности, кажется фальши-
вым. Театр живет условностями. Зритель в претензии
на всякого, кто избавляет нас от них; на всякого, кто
старается избавить нас от них. По мнению публики, су-
ществуют чувства естественные и неестественные. Все
чувства заключены в человеке, однако некоторые из
них называют исключительно естественными, вместо
того чтобы попросту называть их чаще встречающими-
ся. Как будто то, что встречается чаще, более естест-
венно, чем редко! Свинец естественнее золота! Все, что
делает Кандавл, естественно.
V
Некоторые упрекали меня за сухость, за быстроту и
недостаточное развертывание действия моей драмы;
мне говорили, что она не столько трактует вопрос,
сколько намечает его, что вся она скорее рисунок, чем
живопись. Я знаю это, и упрек справедлив; но в эпоху,
когда все занимаются живописью и почти никто не ри-
сует, мне хотелось, стараясь рисовать, сохранить в ри-
сунке всю его добротность, строгость и логичность, не
прибегая ни к одному из слишком легких, на мой
взгляд, приемов лирической перегрузки и приподнято-
сти, чтобы замаскировать этим путем его недостатки.
Если эти недостатки существуют, я хочу, чтобы они вы-
ступили наружу, точно так же, как, надеюсь, выступят
и его достоинства.
Иные упрекали меня в том, что самый способ типо-
графского начертания сообщил видимость стиха тому,
что чаще всего является лишь четко скандируемой про-
зой. Я не могу привести никаких соображений в пользу
этого, за исключением нижеследующего: с того дня, как
я задумал настоящую пьесу, я хотел видеть ее напечатан-
ной именно так, и если впоследствии, идя навстречу же-
ланиям некоторых друзей, я и согласился, подогнав
вплотную друг к другу мои слишком свободные стихи,
перепечатать их «в виде прозы», мне все же никак не мог
понравиться этот новый способ их воспроизведения.
11
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Кандавл
Гигес
Федр
Сифак
Никомед
Фарнак
Слуги и м
Филеб
Симий
Себ
Архелай
Повар
Нисия
Тридо
узыканты
Действие происходит в Лидии
в очень отдаленные времена.
Пролог
Гигес
Пусть прячется от всех тот, кто владеет счастьем,
Иль счастие свое пусть прячет от людей.
Сегодня вечером даст вволю поживиться
Здесь царь Кандавл за счет его льстецам.
Тем хуже! — Отроду я к лести неспособен,
Поскольку мой язык не так силен, как руки.
Я, Гигес бедный,
Имею на земле всего четыре вещи:
Лачугу, сеть, жену и нищету.
Да голую еще вдобавок: силу.
Она и гордости моей подсйорье и жилья.
Она мне помогла собрать камыш приречный,
Чтоб крышею покрыть мой дом.
Морской травы набрав в часы отлива
И высушив ее, на ложе жестком и пахучем,
Усталый, каждый вечер засыпаю я с женой.
А чуть заря — уж я на рыбной ловле:
Сеть на плече, в другом плече — вся сила,
Затем что в море, где родится все,
Еще владельца не имеет рыба,
Пока она находится в воде.
Вот эту рыбу я поймал.
Я выловил ее и дал жене зажарить.
Уже два дня жена работает на кухне во дворце.
Как будто счастье кажется ему
Для одного его чрезмерным,
Кандавл великодушный пригласил
13
К себе царей и всех вельмож подвластных.
Уже два дня они пируют.
Не так давно с царем Кандавлом бедный Гигес был
знаком:
Мы с ним ведь однолетки.
В те времена, когда мы были с ним детьми,
Кандавл охотно прибегал на берег моря,
Я там играл. Играл и он,
Игрушками со мной всегда делясь:
Великодушен был он от рожденья.
Теперь богат, он позабыл то время,
Но в жизни бедняка все оставляет след.
С тех пор его я не видал.
Но я люблю Кандавла и страдаю
При мысли, что ныне окружен
Бесстыдными льстецами и глупцами,
Живущими за счет его щедрот,
Кадящими ему, его не понимая.
Да здравствует Кацдавл! Все славославия льстецов
Не стоят одного его «благодарю вас!»
Но что в моей любви царю Кандавлу?
Ведь взор властителя не замечает бедняка.
Вот почему я все же ухожу,
Хотя меня на кухню пригласили,
Не скоро кончится их пир,
А пьянству и конца не видно.
Я пропустил бы утреннюю ловлю.
— Ну, гордый Гигес, ну, воздержный Гигес,
В людской возьми свой вечно влажный невод,
Затем, не озираясь, подожди,
Чтобы жена, по окончаньи пира богачей тарелки вымыв,
С тобою возвратилась в дом
Рыбацкий Гигеса.— Ну, Гигес, ты пошел.
(Уходит.)
Пролог может быть прочитан перед занавесом, который подни-
мается лишь по уходе Гигеса.
Действие первое
Сцена представляет собою уголок сада, тщательно расчищенный
и превращенный в празднественный зал. Немного вправо — стол,
накрытый всем необходимым для пиршества.
ЯВЛЕНИЕ!
Входят Повари несколько слуг с блюдами на руках.
Повар
Расставь везде плоды...
Эй, Гигес, ты куда?
Салаты — вон туда!
Нет, Гигес, погоди!
(По-прежнему обращается к Гигесу, который находится за ку-
лисами.)
Сегодня царь на пир зовет всех, кто проходит мимо,
А я прошу тебя быть гостем нашей кухни.
Царь хочет, чтоб вино текло рекой везде,
Чтоб и за нашими оно лилось столами,
Чтоб все перепились — до самых младших слуг.
Гигес (снова проходит, нагруженный сетями)
Но я ведь в царском не служу дворце.
Повар
Что нужды? Ломятся от яств и вин столы: ешь вволю.
15
Гигес
Нет, объедать царя я вовсе не хочу.
(Выходит в левую кулису.)
Повар
Грубиян! Его жена сговорчивее, к счастью.
(К слугам.)
Эй вы, скорей! Скорей!
Входят несколько лиц и расхаживают по сцене.
Себ и Архелай.
Себ (берет со стола смокву и ест)
Ну, где же сядем мы?
Повар указывает ему место.
Не слишком далеко, не правда ли, от флейтщид?
Повар
Не будет их совсем.
Себ и Архелай
О-о!
Повар
Царица против них.
Архелай
Что ж, утешимся, взирая на царицу.
Себ
Она придет на пир?
Повар
Сегодня в первый раз ее увидят все.
Себ
Что прятала она от нас? Свое уродство?
16
Архелай
Нет, красоту, напротив.
Себ
Она горда?
Архелай
О нет, скромна.
Оба хохочут.
Себ (берет еще смоквы, ест сам и передает Архелаю)
Раскрой пошире рот.
Я удручен, мой милый Архелай:
Она уйдет.
Архелай
Уйдет?
Себ
Ну да, кухарка.
Архелай
Твоя любовница?
Себ
Муж после ужина возьмет ее домой.
Архелай
Мой бедный Себ!
Себ
Нет, лучше посочувствуй ей...
А что до наших флейтщиц...
Удаляются.
Слышен голос Архелая.
...Обжора!
Никомед, Сифак, Фарнак.
Никомед
Ну, что же, дорогой Сифак: сегодня пир
Как будто неплохой нас ждет. Что скажешь ты?
Сифак
Скажу, что лучше пир, чем устроитель пира.
Фарнак
Нет, лучше царь Кандавл, чем пиршество его.
Никомед
А чем?
Фарнак
Пир даст нам лицезреть лишь одного царя Кандавла,
Кандавл же множество еще нам даст узреть пиров.
Повар (слугам)
Немного смокв — сюда.
Сифак (отходит в сторону с Никомедом)
А знаешь, я, пожалуй, соглашусь,
Что если царь дает нам пир за пиром
И щедро нам благотворит,
То этому причиною не глупость
И не политика, но, как ты говорил,
Порывы смутные врожденного великодушья.
Никомед делает жест, выражающий его согласие со словами
Сифака.
Повар
Двух чаш здесь нехватает.
Сифак (продолжает)
Вот это именно теперь мне в тягость:
Пока я презирал царя,
Охотно принимал я от него дары;
18
Но если он таков, как я подозреваю,
То мне придется презирать себя, а не его.
Никомед
Оставь! Оставь! Берешь ты только то,
что сам тебе дарит он.
С небес ли, от людей ли к нам приходит благо,
Кто радостно его умеет принимать,
Тот тайной счастья овладел.
Повар
Ну, вот и убран стол.
(Отходит в сторону с прочими слугами.)
Вельможи удаляются.
Федр и Симий, дружески беседуя; затем Филеб.
Федр
Нет, верь мне, Симий, у царя Кандавла
Побольше мудрости, чем ты предполагаешь.
Что может быть мудрее, чем считать себя счастливей
всех?
Симий
Он счастлив или нас лишь уверяет в том?
Федр
Еще мудрей — счастливцем притворяться.
Филеб
Не лучше ль верить в то, что счастлив ты,
чем к счастию стремиться?
Федр
При всех сокровищах своих он цену дружбы не забыл;
Он знает, что ее за злато не купить,
И потому не придает значенья
Слащавым уверениям льстецов:
Он настоящую словам их знает цену;
19
Оплачивая их, он все же им не верит,
И только ими он бывает раздражен.
Филеб
Пожалуй, счастие его омрачено
Лишь тем, что окружен он, вследствие богатства,
Толпой одних низкопоклонников, а не друзей.
Симий
Как? А царица?
Филеб
Ну, нет: жена — другое дело.
Симий
Я слышал, он ее безумно любит.
Федр
Он прав вполне.
Симий
Она на диво, говорят, прекрасна.
Федр
Никто ее ведь не видал.
Симий
Ее увидим мы сегодня на пиру.
Филеб и Федр
Вот вздор какой!
Между тем Кандавлс несколькими, уже появлявшимися на сце-
не вельможами, подходит к беседующим. Он слышит последние
слова, в это время
Симий (повернувшись, обращается к нему)
Я слышал от Кандавла.
20
ЯВЛЕНИЕ П
Царь Кандавл
Да, это говорит Кандавл. Сегодня пир
, Собою Нисия украсит.— Дивный вечер...
Великолепье дня едва ль не с каждым часом возрастала,
Как радостнейший гимн, который до высот
Тончайшего поднялся бы звучанья,
Почти неуловимого для слуха.
Теперь стихает все, и гимн вот-вот замрет;
Но там, на маленькой террасе, лишь совсем недавно
Мы млели все.
Напрасно не пришел ты к нам, Филеб мой нежный;
Все лавры там уже в цвету
И в сумрак льют свой аромат...
Сифак, Никомед и Фарнак
...роскошный.
Царь Кандавл (по-прежнему обращается к Филебу, который
все еще жмется к Федру и Сгипию)
Стесняешь ты своих друзей.
Федр и Симий (улыбаясь)
Ничуть.
Царь Кандавл
Последовать за мной я им не предлагаю;
В уединеньи лишь их дружба раскрывается вполне.
О Симий, дружбе я завидую твоей:
Она дороже моего богатства,—
Пускай же в нем она навдет опору.
Себ, для тебя велел я издали доставить эти смоквы;
Пускай твой тонкий вкус их отличить сумеет,
В них оценив, как я, их сладкий сок.
Фарнак, твой ум меня пленил;
Ты завтра обо всем мне дорасскажешь.
Твои стихи мне нравятся, Сифак:
Я музыку велю к ним написать.— Увы, мой Архелай,
21
Сегодня вечером не будет флейтщиц...
Царица будет здесь...
Ведь если бы на них смотрел ты, как вчера,
Ты б оскорбил ее стыдливость.
Как ни неловко мне, друзья, я все-таки прошу вас
Не позволять себе нескромных разговоров:
Царица будет здесь.
Я с ней вернусь сюда спустя мгновенье.
(Отходит на несколько шагов, затем возвращается.)
Роскошный вечер!..
Филеб мой нежный, вон на той террасе
Сладчайшие шербеты пили мы...
О преизбыток счастья моего!
Ужель, чтоб исчерпать его, моих мне хватит чувств?
Лишь с вашей помощью я выжму, господа,
Как выжимают сок из виноградной грозди,
Пьянящее блаженство, что сгустилось в этой части дня.
Делясь с друзьями, я свою удвою радость.
Прекрасный этот день мы завтра вспомним с вами...
(Удаляется.)
Сифак
Чудесен наш Кандавл!
Архелай
Как он красив!
Себ
Как он велик!
Никомед
Как принимает он гостей великолепно.
Фарнак
Действительно.
Сифак
Мы будем пить сейчас за счастие Кандавла.
22
Фарнак
Опасно, друг Сифак*
Сифак.
* Опасно — мне?
Фарнак
Ему.
Сифак
Ба!.. Да откуда взяться тут беде?
Никомед
От Ниши, быть может...
Федр
Вернее нет супруги.
Филеб
Ну, от него тогда...
Симий
Тсс! Тише! Вот они.
ЯВЛЕНИЕ Ш
Царь Кандавл (царице)
Открой свое лицо: здесь всё мои друзья.
Царица
Какое множество! Что ты богат, я знала
И все ж поражена.
Прошу гостей пожаловать к столу,
Коль видеть в их среде меня тебе угодно.
Все рассаживаются. Слова Царицы вызывают у присутствующих
некоторое смущение.
Архелай (Фарнаку)
Ну, говори!
23
Фарнак (вполголоса)
Но что же мне сказать? Скажу одно:
она прекрасна.
Архелай (Филебу)
Ну, ты тогда.
Филеб делает молчаливый жест.
Царица
Как? Вы молчите все? Ужель из-за меня?
Как ни хотелось мне желаньям угодить Кандавла,
За этот стол усевшись рядом с вами,
Но, если б знала я,
Что это омрачить веселье может пира,
Я встала бы из-за стола сейчас,
Затем что радость здесь
Уместнее самой царицы.
Никомед
Дерзну ли высказать царице,
Что редкой красотой ее лица
Мы всё еще поражены,
И наша молчаливость — только знак
Восторженного созерцанья.
Царь Кандавл
Мой друг, довольно!
Как раз. вот этого-то, Никомед,
Хотела избежать царица:
Хвалебных гимнов.—
Ответь им, Нисия, прошу тебя.
Ведь если ты со мной не примешь нужных мер,
Они сведут застольный разговор
Лишь к состязанью в складных похвалах
Да к вялому обмену мнений.
Конечно, необычное на пире
Твое присутствие должно стеснять их.
Клянусь тебе, со мной они красноречивей.
Пускай же им твой ум, скорей придя на помощь,
24
Исправит зло, что причинила красота твоя,
И скуку, исходящую уже от всех, рассеет.
Царица
Что ж, если в том мое лицо повинно,
Нетрудно положить, Кандавл, предел такой беде.
Позволь мне снова скрыть его под покрывалом,
Которое сняла я против воли,
Меж тем как подымать его должна лишь пред тобой.
Царь Кандавл (с раздражением)
Нет, Нисия... Скажи еще два-три подобных слова
И радость пиршества испортишь ты вконец.
Напротив, Нисия, брось свой покров совсем.
А мы, друзья, скорее
Осушим первый кубок за веселье!
Здесь за столом оно уснуло крепко:
Пусть наши голоса его разбудят.
Движение.
Пей, Нисия, и ты! Пей, Нисия! —
Сифак
От имени ли всех мне отвечать?
Несколько человек
Да, да, Сифак!
Царь Кандавл
Сперва наполни чашу.
Сифак
От имени друзей Кандавла
Я пью за красоту и совершенство
Царицы Нисии, жены Кандавла.
Царь Кандавл
Оставь, Сифак...
25
Сифак
И за Кандавла: он, сокровищем владея редким,
Не захотел, укрыв от всех, хранить его лишь для себя,
А соглашается, чтоб мы, почтительно любуясь, им пьянели,
Несколько человек (тянутся к нему с чашами)
Отлично сказано! — За здравие Кандавла!
Царь Кандавл
Вам нечего меня благодарить за то,
Что пир я увенчал присутствием царицы.
Не мог я созерцать ее красу один:
Чем большее я к ней питал благоговенье,
Тем больше сознавал, чего лишаю вас;
Я говорил себе, что жадный я скупец,
Всеобщим светочем владеющий неправо.
Фарнак
Неправо? Но, Кандавл, не в том ли справедливость,
Чтоб каждый собственным добром распоряжаться мог?
Кандавл
По-моему, украл бы я у всех
Добро, которым пользуюсь один.
Себ
Столь замечательную мысль не выразить искусней.
Царица (Кандавяу)
Стыдись, Кандавл. Ты, кажется, забыл,
Что эта собственность — твоя жена.
Царь Кандавл
Мои слова толкуешь ты неверно!
Я думал, Нисия, не о тебе,
И то, что я сказал сейчас,
Имеет только общее значенье.
26
Филеб
А государыня о дележе какого мненья?
Симий (Федру)
Ну и смельчак Филеб!
Царица (Филебу)
Нам счастье иногда бывает легче
Убить совсем, чем разделить с другим.
Пир мало-помалу оживился. Собеседники спешат высказаться, так
что Себ, Федр и Царь подают свои реплики почти одновременно.
Кандавл (с раздражением, словно он слышал только ответ
царицы)
Смотря с кем разделить...
Федр (Симию)
Ты понял, как умело
Царица обошла насмешку?
Себ
На столь ехидно заданный вопрос
Нельзя ответить остроумней.
Кандавл
Довольно, Себ! Поешь-ка лучше этих смокв.
(Бросает ему смокву.)
Федр, ты совсем не пьешь? Ну, чокнемся с тобой.
Друзья, сегодня я решил вас испытать.
Никомед
Нас испытать, Кандавл? А чем, скажи?
Кандавл
Вином крепчайшим.
Федр
Я не умею пить и пьянства избегаю;
Избавь меня, Кандавл, от этой пробы.
27
Царь Каидавл
Ужель ты трусишь, Федр?
Ведь опьянение наружу вывесть
Способно лишь присущие нам свойства.
Чего ж бояться тем,
В ком нет совсем неблагородных чувств? -
Вино не исказит, а лишь преувеличит,
Вернее, выведет наружу то, что мы
Стыдливо до сих пор скрывали про себя:
У Федра — мудрость; ум — у вас, Сифак, Фарнак.
У Архелая — ничего; у Себа — только смоквы.
Федр
Царь сделался болтлив.
Царь Кандавл (слугам)
Нарежьте рыбу нам.
Никомед
Как золото, блестит!
Царь Кандавл
Бьюсь об заклад, она водилась в тех местах,
Где солнце летнее садится. Какова?..
Повар показывает рыбу на блюде.
Архелай
Великолепна.
Повар
Отличная дорада.
Царь Кандавл
Не выпить ли, друзья, за блеск ее златой?
А ты, Фарнак, стихи сложи нам о дораде...
Мы ждем!
Фарнак
По-видимому, царь забыл, что рыбы немы все.
28
Сифак
Не все! Меж ними есть, по слухам, и пифия.
Фарнак
Тогда читай стихи, Сифак...
Несколько человек
Стихи! Стихи!
Сифак
Сейчас... Но только не бранить меня:
Солнце, чьи лучи отрада
Чешуе твоей, дорада,
Избранным дает отгады-
вать оракул твой, дорада.
Фарнак и КандавЛ
Ай да Сифак!
Никомед
Надеюсь, рыба будет лучше, чем стихи.
Обносят рыбу.
Царь Кандавл
Ну, как она на вкус, Фарнак и Архелай?
Фарнак
Чудесна!..
Архелай (вскрикивает)
Тьфу, пропасть! Это что?
Чуть-чуть не проглотил я перстня!
Никомед и другие
Как — перстень!
Архелай
Два зуба я сломал на йем.
29
Сифак (вполголоса)
Обжора-то какой!
Архелай
Он был запрятан в самом теле рыбы.
Смешно вам?
Сифак и другие (протестуя)
Да что ты!
Себ
Ты слишком крупные куски глотаешь.
Архелай
Я подавиться мог.
Сифак
Еще бы — вмиг!
Никомед
Давай, посмотрим перстень.
Филеб (передавая, ему кольцо)
Работа недурна.
Никомед (выражая желание взглянуть в свою очередь на
перстень)
Так в рыбе, говоришь?
Сифак
Совсем не рыбья пища.
Никомед
А камень в нем отличный.
Царь Кандавл
Оставь! По-моему, сапфир из самых заурядных.
Есть много у меня гораздо чище и крупней.
Друг Никомед, ты их увидишь завтра.
30
Сифак (к которому, побывав в руках у всех присутствующих,
пришел перстень)
Но чей же будет перстень?
Архелай
Он рыбой дан мне в дар, а я дарю его царю.
Сифак
Ей-ей, весьма умно ответил Архелай.
Несколько человек
Кандавлов! Правильно. Кандавлов перстень!
Федр (взявший перстень, чтобы передать ею царю)
Постойте! — Тут и надпись есть.
Никомед (наклоняясь к Федру, чтобы разглядеть)
Сифак был прав: дорада прорекла.
Царь Кандавл и Нисия
Что там за надпись?
Никомед
Мне трудно разобрать.
Федр
Пускай прочтет Фарнак.
Фарнак (встав из-за стола и подойдя к одному из факелов или
к одной из светилен, которые тем временем внесли слуги)
По-гречески.
Царь Кандавл
Переведи.
Фарнак
E\>T\>xiav хрйято*
31
Федр
«Я счастие таю».
Несколько человек
Я счастие таю? Какое? Чье?
Никомед
Мне непонятен смысл.
Фарнак (как будто увидев еще что-то)
Постойте... Нет ли здесь...
Все замирают в ожидании.
Нет — это все.
Кольцо таинственное, царь Кандавл, хочу надеть тебе
на перст.
Царь Кандавл (жестом останавливает Фарнака)
Эй, повар, где ты рыбу взял?
Повар
Купил ее у рыбака,
Который сам сюда ее принес.
Царь Кандавл
Где этот человек теперь?
Повар
Пошел к себе домой.
Царь Кандавл
А почему на кухне угощенья ты ему не предложил?
Повар
Он отказался наотрез.
Царь Кандавл
Как он посмел отвергнуть приглашение?
Судя по виду, кто он?
32
Повар
Голыш, рыбак безвестный.
Царь Кандавл
А что ты за дораду дал ему?
Повар
Немного серебра.
Царь Кандавл
Он злата заслужил.
Повар
Он беден и вполне доволен серебром.
Царь Кандавл
Неправда: бедняков в моем нет государстве...
Во всяком случае о них я не слыхал.
Скажи, как звать его?
Повар
Он, государь, зовется: Гигес.
Царь Кандавл
Пошли за ним скорей: хочу взглянуть, каков он.
Клянусь, никто кольцом свой не украсит перст,
Пока я с Гигесом не встречусь...
Так звать его?..
Повар
Да, государь.
Царь Кандавл
Пока я с Гигесом не переговорю.
Пускай его найдут.
Повар (дающий указания одному из слуг)
Уже идут за ним.
33
Вслед за словами Кандавла воцаряется довольно продолжительное
молчание. Затем раздаются голоса.
Себ
Здесь дышится свободнее, чем в зале.
Филеб
Как в сумраке ночном прекрасен этот уголок!
Никомед
Ах! прелесть!
Отсюда нам видна и вся морская даль,
Где — поглядите! — тонкий серп луны уже восходит.
Нисия
Что это там за свет?
Филеб
Царица, это месяц.
Нисия
Да нет! Вон там: на берегу песчаном.
Фарнак
Не хижина ль, объятая пожаром?
Никомед
Прекрасный вид.
Себ
Фазаны хороши.
Архелай
Я выбрал перепелку.
Сифак
Кандавл молчит: он чем-то удручен.
Царь Кандавл
Почти совсем темно. Эй, факелов побольше!
34
Приносят факелы.
Вина мне в чашу!
Филеб! Фарнак! У вас обоих тоже нет вина!
Филеб, которому слуга хочет налить, отказывается.
Что ж, если ты не пьешь, тогда скажи,—
я беспокоюсь,-^—
В чем тайный смысл, Филеб, сей надписи на перстне?
Я не могу отвлечься от нее.
Филеб
О, почему, Кацдавл?
Мне кажется, что в ней смысл заключен двойной,
Какой обычно мы в оракулах встречаем.
В таинственности их не главная ль причина нашей веры?
С трудом, в конце концов, мы открываем в них
Под столь загадочным покровом лишь одну из
всем известных истин.
Фарнак
А зачастую в них и вовсе смысла нет.
Царь Кандавл
Итак, по-вашему, значенья не имеет надпись.
Филеб
«Я счастие таю»? О, нет!
Царь Кандавл
Тем лучше. Я встревожиться бы мог.
Никомед
К тому же, коль она обескуражить
Способна человека натощак,
То среди нас теперь никто не в состояньи,
Не сомневаюсь я,
Подобные разгадывать загадки.
35
Сифак
Согласен с Никомедом.
Давайте проста пить за счастие Кандавла.
Не следуя завету перстня, он
Не прячет счастья своего. Напротив!
Фарнак (поднявшись, чтобы чокнуться с остальнъипи)
Да здравствует Кандавл, счастливейший из смертных!
Царь Кандавл (с силой ударяя кулаком по столу)
Да знаете ли вы, в чем счастие мое?
Федр (совершенно спокойно)
Совсем не знаем.
Царь Кандавл (овладев собою)
Простите, господа,
Мою горячность. Сам не знаю,
Чем я встревожен. Нисия, а ты,
Молчащая, пока тебя не спросят, отвечай мне,
Что думаешь о счастьи ты моем?
Нисия
Оно подобно мне, мой государь.
Царь Кандавл (снова раздражаясь)
Опять загадка! Что под этим разуметь
Я должен? Говори ясней.
Нисия
Я опасаюсь,
Чтоб, явленное всем, не отцвело оно...
Царь Кандавл (на которого начинает действовать вино)
Ну, что ж, закрой лицо.
Теперь мне все равно: тобой налюбовались.
У Нисии вырывается жест грустного удивления.
36
О Нисия, прости! Как мог я это молвить?
Я не хотел ведь огорчить тебя...
Но дело в том, что для меня, напротив,
Лишь в ближнем черпает
Всю мощь и силу счастие мое.
Мне кажется порой, что существует
Оно в сознаньи лишь людей мне близких,
Что я владею, только
Когда об этом знают все.
Клянусь, я счастья бы не испытал совсем,
Один владея всей землею,
Когда бы я на ней единственный был житель
Иль обо мне не знал никто.
Друзья, поверьте, именно когда
Вы пользуетесь всем моим богатством,
Я счастлив им.
Я сказочно богат. Не в опьяненьи
Я склонен это утверждать.
Я сказочно богат.
И если только что я рассердился,
Когда вы пили, громко возглашая:
«Да здравствует Кандавл, он всех людей богаче!» —
Так это потому, что вы, друзья,
Еще не знаете вполне моих богатств.
Федр
Кандавл, не за твои богатства,
Нет! пили мы за счастие твое.
Царь Кандавл (поднявшись и постепенно все более
возбуждаясь)
Тем хуже, господа!
Что знаете о счастьи вы моем?
И сам-то я о нем что знаю?
Кто может видеть счастие свое?
Мы видим только счастье ближних,
Свое же сознаем, когда совсем не смотрим на него.
Какой истомою сегодня полон воздух...
Ну, где же Гигес? Что он не идет?
37
(Царь Кандаел встает из-за стола, покидает кресло или
скамью, делает несколько шагов, еле заметно шатаясь.)
Давайте мне еще вина! Пускай все допьяна напьются!
И Гигеса мы тоже напоим.
(Ему наливают в чашу. Он подходит к Федру.)
Хочу тебе поведать тайну, Федр...
(Садится между Федром и Симием.)
Гости мало-помалу пересаживаются на другие места, как это бы-
вает у нас за столом, к моменту, когда подают кофе. Никомед
подходит к царице и что-то говорит ей.
Царь Кандавл (продолжая обращаться к Федру)
В конце концов, что нужды в счастьи мне?
Не правда ли, лишь беднякам прилично
Заботиться о счастии своем?
Федр, понимаешь ты меня?
Согласен ли твой ум глубокий
С тем, в чем тебе признаюсь одному?
Любая вещь, едва лишь ставши нашей,
Родит желанье в нас испытывать ее.
Испытывать и есть, по-моему, владеть.
(Ударяет о стол пустою чашей и прислушивается к ее звону.)
Да говори же, Федр! Ты не пил ничего?
О Федр, в покое ли свое обрел ты счастье?
Ты проповедуешь не жизнь, а дрему?
Ужели я мудрей тебя, хоть ты философ,
Поскольку я постиг, что счастия избыток
Лишь там, где преизбыток жизни?
О Федр, поверь, когда бедняк всего себя изводит,
Желая счастия достичь,
Он тоже счастлив на свой лад...
Не тем, что он желал, конечно,—
О нет! — а тем, что он для счастья поработал.
Другая разновидность счастья — риск.
Но риск доступен лишь одним богатым людям.
38
Мне он доступен.
Я так богат, так полон жизни, Федр...
Симий
Нет, если б в дружбе счастье ты обрел.
Ты ею рисковать, Кандавл, не захотел бы...
Но дружба — это то, чего тебе так не хватает.
Царь Кандавл
Ты прав: каких бы я сокровищ за твою
Не отдал, о прекрасный Симий!
Из левой кулисы появляется Повар, ведущий за собой Ги гее а.
Повар
Царь, вот он, тот рыбак.
Царь Кандавл (усевшийся на правом конце стола)
А, Гигес! Это ты?
Гигес
Да, царь Кандавл, я — Гигес...
Царь Кандавл
Ты — Гигес-рыболов?
Гигес
Да, Гигес-рыболов.
Царь Кандавл
Ты — Гигес бедный?
Гигес
Да, царь Кандавл, я — Гигес бедный.
Архелай
Он не красноречив.
Себ
Пример берет он с рыб.
39
Царь Кандавл
Брось, Себ! Ты, Гигес, подойди.
А почему ушел ты с пиршества на кухне?
Гигес молчит.
Налить ему вина! — Хоть изредка вино ты йьешь?
Гигес
Почти что никогда.
Царь Кандавл
Отведай-ка.
(Заметив, что слуга собирается налить Гигесу простого вина.)
Нет, нет, не этого! Дай лучшего ему.
Фарнак
А, Гигес, каково?
Царь Кандавл
Фарнак, ни слова.
Ты, Гигес, говорят, несчастней будешь всех?
Гигес
Несчастней — нет. Беднее — многих.
Царь Кандавл
Ты очень беден?
Гигес
Все ж, кое-как живу.
Сифак
Для рыболова он не слишком глуп.
Царь Кандавл
Как ты живешь?
40
Гигес
Имел я домик свой,
Но, возвратившись с кухни, царь Кандавл, твоей,
Моя жена была чуть-чуть пьяна,
И, наш очаг разжечь желая,
Чтоб мне похлебку подогреть,
Случайно подожгла солому.
Уж я и сам не знаю, как —
Сухая, что ль, была постройка? —
Сгорело все.
Царь Кандавл
И это все, что ты имел?
Гигес
Нет, я имел и сеть:
Она сгорела вместе с домом.
Царь Кандавл
Как? На одной земле со мною,
Бок о бок с роскошью, в которой я живу,
Возможна ли нужда такая?
Хотел бы видеть, Гигес, я твою жену.
Архелай
И я хочу.
Гигес
Ее увидеть? Что ж, Кандавл, она совсем недалеко.
Боялся я ее одну оставить полупьяной
И взял ее с собою во дворец.
Гигес уходит.
Сев (локтем толкая Архелая — вполголоса)
Ну, Архелай, нас ждет потеха.
Ведь девка-то — она.
41
Архелай
Вся кровь во мне кипит.
(Фарнаку)
Чудеснейшая мысль Кандавла осенила.
(Себу)
Красива ли она?
Себ
Чего ты от жены желаешь рыбака?
Фарнак
Мой друг, я видывал не раз таких крестьянок,
Что не...
Федр (при виде Гигеса, вернувшеюся с женой, пьяной, дико ози-
роющейся, одетой в лохмотья, с волосами, ниспадающими ей
на лоб)
Надраено это ты затеял, царь!
Гигес (показывая на нее)
Вот, господа, вам Гигеса жена!
Архелай
Хе! хе!
Царь Кандавл
Она зовется?
Гигес
Ее зову я Тридо.
Себ
Ах, Тридо! Тридо! Если бы я знал!
Царь Кандавл
Молчите, господа!
42
Хочу поговорить я с этим человеком.
Так, бедный Гигес, ты теперь утратил все?
Гигес
Не лучше ли владеть немногим, но
Ни с кем уж не делясь?
Себ (расхохотавшись—Архелаю)
Послушай-ка!
Гигес
Владел я прежде четырьмя вещами,
Из них осталось две.
Но легче четырех две вещи
Сберечь нам.
Царь Кандавл
И что же, славный Гигес, ты сберег?
Гигес
Жену — во-нервых.
Себ (не в силах удержаться)
Ха! ха! Ну, Гигес мой, насчет жены
Не беспокойся: ты владеешь ею не один.
Царь Кандавл (возмущенно)
О Себ!
Себ
Да нет, нельзя же допустить, чтобы рыбак презренный
Кичился предо мной и нагло утверждал,
Что этой женщиной лишь он один владеет...
Царь Кандавл
Себ! Себ!
Себ
Меж тем, когда свою ловил он рыбу...
43
Архелай корчится от смеха.
Вчера, на кухне... Тридо... а?
Нисия (Кандавлу)
Ужасно, государь...
Царь Кандавл
Прошу тебя, сдержись.
Я никому его обидеть не позволю.
Гигес
Благодарю тебя, Кандавл.— А ты,
Чье даже имя неизвестно мне,—
Да не хочу и знать его совсем! —
Перед тобой бессилен я, увы,
Но над своей женой я властен.
Она моя, ты слышишь?
(Хватает со стола нож и наносит Тридо удар.)
Она моя! Она моя!
Смятение.
Нисия
Вмешайтесь же!
Никомед
Себ! Архелай! Держите же его!
Себ, поднявшись, запутался ногами в складках своего хитона и,
совершенно охмелев, скатился под стол. Нисия, встав из-за
стола, хочет уйти; Никомед пытается удержать ее.
Фарнак
Ах, этот человек ужасен!..
Царь Кандавл
Напротив, восхитителен, Фарнак!
И много благородней Себа.— Себ!
Да где же он?
44
Никомед
Он под столом укрылся.
Царь Кандавл
Оставь его, Фарнак: ему там хорошо.
Куда ты, Нисия?
Нисия уходит. Гигес, на одно лишь мгновение склонивший над
мертвой женой, направляется к выходу.
Нет, Гигес, погоди!
Постой!
Гигес
Уйду я.
Царь Кандавл
Постой!
Гигес
Нет, нет —
Отныне на земле мне лишь одно осталось,
И этого меня никто уж не лишит.
Царь Кандавл
Чего ж?
Гигес
Нужды жестокой.
Царь Кандавл
Нет, Гигес, и ее тебя лишит
Твой господин, Кандавл.
Гигес
Но я ведь не слуга тебе, о царь.
Царь Кандавл
Отлично сказано. Филеб и Федр, не правда ль?
Да, славный Гигес, ты мне не слуга,
45
И я не царь твой и властитель,
А друг тебе.
(Слугам)
Пусть отведут ему здесь, во дворце, покой.—
Прощайте, господа. Я думаю, теперь >
У вас и пить прошла охота...
Конец первого действия
Действие второе
Сцена представляет собою один из покоев дворца, с большим про-
светом слева, завершающимся террасой, на которой находятся
музыканты. Кандавл и Гигес еще задержались за столом пе-
ред остатками ужина. Оба полулежат на низких сиденьях. Гигес
одет великолепно. Музыканты уже исполняют конец симфонии.
ЯВЛЕНИЕ I
Царь Кандавл
Мне эта музыка надоедает.
Довольно! Оценил искусство ваше Гигес.
Лишь неожиданность приятно нас волнует;
Воде текучей рек подобна наша радость;
Она свежа, пока на месте не стоит.
(Музыкантам.)
Идите, слух гостей пленяйте на террасе
И извинитесь за меня, что к ним не выхожу.
Я с Гигесом вдвоем
Побуду здесь, а к ним лишь поздно ночью выйду я.
Ступайте. Музыкой своей веселой
Старайтесь их рассеять сон.
Музыканты удаляются.
Эй, уберите яства!
Слуги поспешно исполняют приказание.
47
Оставьте нам вино.
Еще, быть может, пить захочет Гигес...
Дай, Гигес, кубок твой.— Оно ведь с Кипра.—
Налить тебе?
(Слугам, которые уже убрали все со стола.)
Внесите поскорей светильни. Уж совсем стемнело.
Живей.
Слуги уходят. Кандавл подсаживается ближе к Гигесу.
Итак, друг Гигес, в неблагоприятную погоду
Голодным ты ложился спать?
Гигес
Да, царь Кандавл. В твоей стране, поверь, немало бедаых,
Голодными ложатся часто спать.
Царь Кандавл
Жаль, что не знал об этом я досель.
Гигес
А что б ты сделал?
Царь Кандавл
Я бы встревожился, быть может.
Гигес
Лишился б счастья ты.
Царь Кандавл
Нет, счастьем нищету я б победил, напротив...
Оно, по-моему, настолько велико,
Что рядом с ним нужда была бы невозможна.
Гигес
А если б ты меня не знал, ты был бы так же добр ко мне?
Царь Кандавл
Да, если б даже я тебя не знал.
48
Гигес (грустно отворачивается от него)
Теперь ты видишь, царь, что наша дружба невозмох
Царь Кандавл
О Гигес, почему?
Гигес
Ты милостив ко мне из жалости одной.
Не дружбой — жалостью своей мы бедняка дарим.
Царь Кандавл
Но разве ты теперь бедняк? Встань, Гигес, встань!
Взгляни на новые свои одежды, друг мой, Гигес.
Великолепен ты: кто б вздумал ныне пожалеть тебя?
Гигес поднялся; он оглядывает великолепные свои одежды, но
кажется чем-то озабоченным и отворачивается от Кандавла.
Царь Кандавл
Надень-ка цепь...
(Снимает с себя цепь и хочет надеть ее на шею Гигесу, но тот
уклоняется.)
Надень.
Гигес, надев на себя цепь, снова садится. (Кандавл, сидя рядом с
ним, настойчиво)
Скажи, богат я?
Гигес
О, да.
Царь Кандавл
И очень?
Гигес
Весьма богат.
Царь Кандавл
Но как богат я, знаешь ты?
49
Гигес
Я знаю: далеко твое простерлось царство —
До горизонта тянется оно.
Царь Кандавл
О, нет! Его рубеж ушел за горизонт.
Гигес
Ты островами, говорят, владеешь.
Царь Кандавл
От них мои суда ко мне приходят с грузом:
Они моих богатств ничтожнейшая часть.
Ты знаешь, сколько есть в моих подвалах злата?
Гигес
Примерно столько, сколько нехватает бедным.
Царь Кандавл
О бедных, Гигес, мне не говори:
Я мог бы превратить их в богачей,
Почти не уменьшив притом моих богатств несметных.
Осмотришь завтра ты мои дворцы.
Скажи мне, Гигес, тесен был тебе твой дом?
Гигес
Он был, Кандавл, и мал и низок.
Царь Кандавл
Слыхал ты о моих камнях?
Гигес
Ты показал мне целый клад.
Царь Кандавл
Есть камни у меня прекраснее стократ.
А чем ты жажду утолял обычно?
Гигес
Водой.
50
Царь Кандавл
А как мое вино?
Гигес
Как видишь, пью.
Царь Кандавл
Есть у меня старей.
Гигес (отнимая руки от головы)
Зачем тебе так хочется, Кандавл,
Меня с твоим богатством познакомить?
Царь Кандавл
Чтоб дружбе радовался ты моей:
Ведь я с тобой делюсь своим добром.
Гигес
Я думал, хочешь ты, чтоб я дружил с тобой,
А вовсе не с твоим, о царь Кандавл, богатством.
Царь Кандавл
Оставь насмешливость, мой друг,
И счастья своего не отвергай.
Неважно, кто из нас дарит, кто получает,
Коль сообща моим владеем мы добром.
Себе я места, Гигес, не найду,
Покуда ты не будешь знать
До мелочей мое несметное богатство.
Гигес
Царь, ты владеешь очень многим,
Что для меня лишь звук пустой.
Зачем перечислять предметы,
Которых вкус мне незнаком?
Царь Кандавл
Хочу, чтоб счастья ты изведал вкус.
Гигес
О недоступном нам не стоит и мечтать.
51
Царь Кандавл
Но если я с тобой все это разделю?..
О Гигес, слишком долго ты страдал.
Мне хочется, чтоб радости твои
Теперь переросли былые скорби.
Слуги вносят факелы и удаляются. Пауза.
Царь Кандавл
О чем задумался сейчас, мой друг?..
О том, что делал он еще вчера,
Волною горькой утомленный,
Бедняк-рыбак?..
Гигес (перебивая его)
Он шел к себе домой, где,— знал он,— Тридо ждет.
Царь Кандавл
Да, Тридо — верно. Ты о ней грустишь,
Мой бедный Гигес? Рядом сядь со мной.
Ты ведь любил ее?
Гигес по-прежнему молчит.
О Гигес, неужели ты
Нисколько мне не доверяешь?
О друг мой Гигес! Отвечай: ведь ты
Ее любил?..
Гигес (хватается за голову обеими руками и рыдает)
Ночами зимними мне было с ней тепло...
Беседовали мы, в постели лежа рядом.
Я счастлив верой был, что Тридо я любим.
Царь Кандавл
Мой бедный друг!
(Кандавл, испытывая чувство неловкости, встает и большими
шагами прохаживается с озабоченным видом в глубине залы;
вполголоса.)
Мысль беспокойная, к чему меня ты нудишь?..
52
(На что-то решившись, он гасит несколько факелов и, продолжая
по-прежнему стоять, поворачивается к Гигесу.)
О Гигес, знаешь ли, за что тебя я полюбил?
Один ты оценил всю красоту царицы.
Пока, бедняжка, ты ее не видел,
Ты мог считать свою жену красивой...
Но только раз на Нисию взглянув,
Ты тотчас разочаровался в Тридо.
(Подходит к Гигесу.)
Не правда ль, Гигес, ты ее за это и убил?
Гигес
Как можешь ты меня подозревать?
Царь Кандавл
А? Разве я тебя не раскусил?
Гигес
Ты ошибаешься: богами в том клянусь.
Царь Кандавл (сн-ова принимаясь расхаживать)
Ты веришь в них?
Гигес
Конечно.
Царь Кандавл
А я не очень.— Рыбарь простодушный,
Ты лишь простые постигаешь вещи,
Но я...
(Вполголоса.)
О мысль моя, себя не бойся обнаружить!
Куда меня ведешь? Кандавл великолепный!..
(Расхаживая, гасит еще одип факел, затем, повернувшись к Гигесу.)
Так, значит, только потгому...
53
Что ты не в состояньи был стерпеть,
Чтобы жена всецело не была твоей?
Гигес
Да, я убил ее за это,
И потому, что я не мог убить мужчину. ,
Царь Кандавл
Занятнейшая, Гигес, мысль...
Ужели, только обладая малым,
Желаем мы им обладать одни?
...А если бы соперник был твой друг?..
Гигес
О царь! Да разве друг решился б обмануть меня?
Царь Кандавл
Но если б обошелся он без лжи?
Гигес
Я, царь Кандавл, тебя не понимаю.
Царь Кандавл
Брось... Значит, ты и не видал царицы?
Гигес
Лишь мельком. Я едва к ней присмотрелся.
Царь Кандавл
Ну, значит, ты ее совсем не видел...
Кто разглядел ее, с нее уже не сводит глаз.
(Понизив волос.)
Вот почему она не хочет больше выходить;
Она сказала мне:
«Пусть первый выход мой последним также будет».
(Приближается вплотную к Гигесу и говорит еще тише.)
Ты хочешь увидать царицу?
54
Г и гее (выведенный из себя, встает; он делает вид, будто ничего
не слышал)
Я слишком утомлен, оставь меня.
Царь Кандавл (удерживает его за полу)
Ты хочешь увидать царицу?
Г и гее (вырываясь)
Да нет!
Царь Кандавл
А почему?
Ее хочу я показать тебе.
Г и гее (повернувшись лицом к Кандавлу, резко)
Зачем, когда я не хочу?
Царь Кандавл (вполголоса)
Ах, если б ты увидел!..
Гигес
Не любишь ты ее?
Царь Кандавл.
Люблю сильнее жизни!
Но лучше ей не знать об этом...
И ею я любим!..
Вот доказательство тебе
Ее чудесной красоты:
(Наклоняется и шепчет на ухо Гигесу.)
Ни разу женщины другой не вожделел я.
Ее лицо — ничто, о Гигес, коль сравнить...
А как она нежна! — Когда бы ты слыхал...
Мне больно, если кто начнет хвалить другую:
Узнавши Нисию, нельзя хвалить других.
Ты хочешь, Гигес, Нисию узнать?
55
Гигес
Ты хочешь испытать меня, Кандавл? Зачем?
Царь Кандавл
Оставим этот спор...
Цепь, что на шею я тебе надел,
Здесь, во дворце, все слуги знают:
Ее носителя все исполняют волю,
Как царскую; ее тебе дарю я.
Ужель моей еще не веришь дружбе?
Гигес
Пока из нас двоих даритель будешь ты —
Конечно... А теперь прощай. Я спать хочу.
Царь Кан дав л (слегка рассердившись)
Успеешь ты поспать. Останься, Гигес... Слушай:
Ты тоже сделал мне подарок ценный...
Гигес
Скажи: какой?
Царь Кандавл
Садись... Поговорим еще.
Гигес присаживается на край сиденья.
Вот — видишь? — перстень.
Безделкой я считал, его еще вчера,
Да я и знать не мог его цены.
Однако надпись позади гнезда
Меня тревожила и то, как перстень появился.
Сокрыт был этот перстень, Гигес,
В дораде, что ты выловил вчера.
Один из нас нашел кольцо внутри нее
И мне вручил его; я был смущен
И слово дал не надевать кольца,
Пока я не увижу рыбака,
Который мне к столу доставил эту рыбу.
Явился ты, мы начали беседу,
56
Но ужина чудовищный конец
Меня заставил позабыть о перстне.
Сегодня вновь найдя его,—
В кругу своих друзей-вельмож я находился,—
На палец я его, не думая, надел,
И тотчас: «Где ж Кандавл?» — спросил один из них.
«Он только что был здесь близ нас»,— другой ответил.
«Да где же он? — Ушел! Ушел...» — решили все.
Меж тем все там же я стоял.
Я видел всех друзей
Со мною рядом так, как вижу я тебя.
Они ж не видели меня...
Я понял, радостью внезапной поражен,
Что перстень делает меня для всех незримым.
Я не обмолвился ни звуком
И, двигаясь бесшумно, ускользнул от них.
И я уже тогда подумал:
Чудесным перстнем Гигесу обязан я.
Ему я вечером же покажу кольцо.
Смотри, мой друг.
Гигес
Как, дорогой Кандавл, я друг твой, в самом деле?
Царь Кандавл
Гляди-ка на меня.
(Подчеркивая свои движения, надевает кольцо себе на палец.)
Гигес
Ах!.. Как крупинка соли таешь ты.
Кандавл, ты в воздухе как будто растворился!
Ты жив? Ты все еще, Кандавл, со мною?..
Так же подчеркнуто, как он его надел, Кандавл снимает с паль-
ца кольцо. Нет ни малейшей необходимости путем какого бы то
ни было трюка добиваться исчезновения Кандавла на глазах у
зрителей. Слов и жестов Гигеса вполне достаточно, чтобы ука-
зать на то, что Гигес его уже не видит. Как только Кандавл сни-
мает кольцо, Гигес, кидаясь к его ногам, показывает, что снова
видит его.
57
Глаза мои!.. Он здесь!
Ты исчезаешь, царь, и вновь являешься подобно богу.
Царь Кандавл
Нет, Гигес, я не бог:
Ведь то же будет и с тобою,
Когда на перст наденешь ты кольцо...
Попробуй сам.
Г и гее сначала с опаской поглядывает на перстень, затем, решившись,
надевает его на палец.
О чудо! Сон от вежд того, кто только что проснулся,
Не так стремительно бежит...
Волшебное кольцо, исчезнувшее с тем,
Кого ты сразу сделало незримым,
Охраной Гигесову счастью будь и скрой его!
Сокройся, Гигес... Тсс!.. К нам Нисия идет! —
(Поворачивается наугад к месту, на котором он оставил Гигеса
и которое уже пусто, ибо Гигес, охваченный ужасом, отступил
вглубь сцены.)
Не появляйся больше, Гигес! Не снимай с руки кольца!
Ни слова! Не дыши!
Как воздух будь незрим, о Гигес! О прозрачность?
(Тушит еще один факел. Зал теперь еле освещен.)
Ты ль это, Нисия?
Нисия (снаружи)
Кандавл?
Царь Кандавл
Идешь?
Нисия (неспешно)
Приди, Кандавл, взгляни: как чудно на дворе!
Покоем дышит ночь!
Царь Кандавл (услыхав последние слова Нисии, вздрагивает, ох-
ваченнъш приступом нежной грусти. В сторону, голосом, похожим
на рыдание, он произносит)
58
О Нисия, моя любовь! Моя родная!
Крепись, крепись, Кандавл: не надо колебаний!..
Вина! Скорей! — Иль хватит нам? — Я ослабел.
(Пьет, затем — наудачу, в пространство.)
Получше спрячься! — Я решился на безумство...
ЯВЛЕНИЕ И
Ни-сия приближается немного, однако продолжает оставаться в той
части зала, которая образует террасу и которая освещена только лу-
ной; теперь единственный факел слабо освещает внутренность по-
коя. При виде Нисии, хотя она его не видит, Гигес инстинктивно
вздрагивает, он отступает налево и в продолжение всей сцены оста-
ется наполовину скрытым. Кандавл подходит к Нисии.
Нисия
Уже давно бы я сюда явилась,
Но все казалось мне, что ты здесь не один:
Я громкий голос твой слыхала издали.
Царь Кандавл
Нет, я один, но вслух читал стихи Сифака.
Нисия
Зачем так рано ты ушел от общества гостей?
Царь Кандавл
Я ими утомлен.
Нисия
С тех пор, как здесь они, тебя я вижу редко...
Ты разучился жить один.
Ты разлюбил уединенье?
Царь Кандавл
О, нет!
Нисия
Ты одинок и в обществе моем?
59
Царь Кандавл
Ах, Нисия!
Нисия
Скажи мне правду: эти музыканты на террасе...
Зачем ты их услал туда?
Царь Кандавл
Чтоб одному побыть с тобой, родная...
Нисия
Их музыка вдали звучит еще прекрасней
И к нам доносится по воле ветерка...
...Послушай! Тишины одной лишь слышен голос.
(Опершись на руку Кандавла и склоняясь к нему с большой неж-
ностью.)
Как долго без тебя тянулись эти дни!
Царь Кандавл
И для меня.— Я утомлен
Речами, пением и смехом
И жду конца пиров, чтоб снова быть с тобой.
Нисия
Знай, что когда ты не со мной, моя любовь постится
И что страдаю я, с тобой разлучена.
Ты приучил меня к неслыханному счастью!
Я стольким, нежный друг, обязана тебе...
Царь Кандавл
О, Нисия, тебе и не такие жертвы
Я принесу, в тебя все более влюблен.
Порой дивлюсь я сам,
Как в угождении тебе я неискусен.
Ах, все, что на земле любовь внушает смертным,
Хотел бы первым я придумать для тебя.
Но что могу я сделать?..
60
Нисия
Любить меня, Кандавл.
Царь Кандавл
Тебя боготворю я.—
Пойдем, ты можешь простудиться здесь.
(Снимает с плеч Нисии царскую мантию.)
Нисия (готовая покориться ею желаниям)
Туши и этот факел.
Кандавл (удерживает руку Нисии, протянутую к факелу)
Нет, дай насытить взор.
Нисия
Твой взор меня заставит верить,
Что любишь ты во мне лишь красоту.
(Смеется и хочет сама погасить факел.)
Царь Кандавл (раздражаясь)
Оставь! Оставь, ты слышишь?
Нисия (игриво)
Тогда ты дашь мне обещанье.
Царь Кандавл (впадая в тот же тон)
Клянусь...
Нисия
А в чем?
Кандавл (расстегивая на Нисии платье и таинственно обер-
нувшись в сторону Гигеса, по-видимому, не отдает себе отчета
в том, что творит)
В чем хочешь... Говори, чего желаешь ты?
Нисия (спуская с себя платье)
Клянись, что только ты меня без покрывала
Отныне можешь увидать.
61
Кандавл, охваченный внезапной тревогой, шатается.
Кандавл!
Царь Кандавл (садится, точно оглушенный ударом)
Не знаю, что со мной... Дай мне немного
Вина из этого ковша... Сейчас пройдет...'
Нисия отходит в сторону, чтобы налить ему вина.
О! о! о! о! на что я посягнуть решился?..
— Не в силах я...
(Сжимает кулаки.)
Кандавл, ты слишком слаб!
Но кто ж отважится на это, коль не ты?
Мужайся!
Нисия (подавая ему вино)
Ну, как? Ты лучше чувствуешь себя?
Царь Кандавл
Да, да, благодарю. Почти прошло.
Пьет.
Нисия (безразличным тоном)
Противен мне Филеб: он слишком нагл.
Царь Кандавл
А Федр? Что скажешь ты?
Нисия
Каков он с виду? Позабыла я.
Царь Кандавл
А Никомед? Каков он?
Нисия
Он скучен.
Ну, что их вспоминать! Я спать хочу.
62
(Тем временем Нисия мало-помалу разделась. Она убирает воло-
сы, затем садится на кровать, в глубине покоя, чтобы снять
с себя сандалии.)
Царь Кандавл (став на колени)
Дай ногу, Нисия: я сам тебя разую.
Волосы Нисии, распустившись, ниспадают на коленопреклонен-
ного Кандавла.
Люблю, когда они спадают на меня!
Нисия
А этот рыболов?.. Что сталось с ним?
Скажи, Кандавл,
Помог ли ты ему расстаться с нищетою?..
Царь Кандавл (испытывая неловкость)
Тсс! Тсс! Молчи.
Нисия
Зачем молчать мне?
Иль я не ведаю всей доброты твоей?
Царь Кандавл
О Нисия!..
Ни сия
Скажи, а как его зовут?
Царь Кандавл
Не знаю я.
Нисия
Несчастный! Хоть его поступок был ужасен,
Мне жаль его.
Как может женщина пойти на это?..
Он вправе был ее убить.
Принадлежать двоим... Какая гнусность!
63
Царь Кандавл
Прошу, потише говори.
Нисия
Но почему?
Царь Кандавл
Мне больно это слышать.
Нисия
Прости. Я буду гнать отныне эту мысль.
Не лучше ль нам забыть, что можно быть неверным?..
Кандавл, любимый мой...
Царь Кандавл
О Нисия, родная!
Нисия (заканчивая приготовления ко сну)
Я пряжку расстегнуть не в силах; помоги.
Издали доносится пение.
Кто это там поет?
Царь Кандавл
Меня заждавшиеся гости:
Теперь уже довольно поздно,
А я им обещал, что к ним еще вернусь.
Нисия
Зачем тебе к ним выходить?
Царь Кандавл (направляясь к выходу)
Одно мгновение — а ты пока ложись:
Я тотчас возвращусь... Ложись, моя подруга...
Как ты прекрасна, Нисия!..
Нисия разделась почти догола. Гиге с, не в силах побороть се-
бя, подходит ближе и смотрит на нее; чувствуется, что в душе у
него идет борьба и что он хотел бы не видеть ничего; в то мгно-
64
вение, когда Нисия собирается спустить с плеч последний по-
кров, Гигес устремляется к единственному факелу, который еще
горит, и бросает его на пол. Темнота.
Царь Кандавл
О Гигес!
Нисия (страшно перепуганная закрывается пологом или
платьем)
Ах! Что за шум?
Царь Кандавл (возбужденный, почти опьяненный тем, что
собирается сделать)
Да не волнуйся так!
Нечаянно я факел погасил...
Спи. Спи. Я буду скоро.
Нисия ложится.
Голоса снаружи
Кандавл! Кандавл! Мы ждем тебя... Нам скучно...
Кандавл (кричит)
Иду!
Наталкивается на Гигеса, который тоже хочет выйти и в совер-
шенной растерянности закрыл лицо плащом.
Царь Кандавл (шепотом)
Ты, Гигес? Это ты?
Гигес
Да, это я.
Царь Кандавл (повелительно)
Назад!
(Уходя.)
Хочу, чтобы вокруг меня дышало счастьем все.
(Выходит.)
Конец второго действия
65
Действие третье
Декорация первого действия. В правом углу сцены беседуют
Сифак, НикомедиФарнак.
ЯВЛЕНИЕ I
Сифак
Скажите мне, не слишком перегружены ль мои стихи?
(Читает.)
Пусть виночерпий льет свою
Светлейшего вина струю
Мне чрез плечо — вино я славлю,
Но чашу подаю свою
Царю Кандавлу, и не прав ли,
Приветствуя в царе Кандавле
Того, кто льет вина струю?
Никомед
Забавные стихи, но я не вижу, чем они
Кандавла более касаются, чем нас с тобою?
Фарнак
А я не вижу, что тебя смущает в них.
Мы ценим в человеке вовсе не его природные черты
и свойства.
В Кандавле нам всего милей его богатства...
66
Никомед и Сифак протестуют.
И щедрость, с коей он открыл нам доступ к ним.
Не будь он щедр, его богатствами мы пользоваться
не могли б,
Но если б не был он богат, какой бы в щедрости
его был толк?
Никомед смеется.
Сифак
И не Кавдавла бы в стихах я прославлял.
Никомед (повторяет стихи Сифака)
Приветствуя в царе Кандавле
Того, кто льет вина струю.
Что нужды! Если бы я был бутылкой,
Благодарил бы я за то Кандавла,
Что стольких он людей развлечь умеет мной.
Незадолго перед тем в глубине сцены появляются Федр и
Симий; они продолжают стоять несколько поодаль от других.
Федр
Да, если б вдруг бутылка объявила:
«Хочу быть выпитою Никомедом, не Кандавлом;
Он лучше пьет!..» —
Навряд ли так старался бы Кандавл
Вином твою наполнить чашу.
Фарнак
Любезный Федр, нам говорят одни плохие вина:
«Мы предпочли б, чтобы другой нас выпил».
Хорошее вино шептало мне всегда...
Сифак (перебивая его, тянет его за полу плаща)
Довольно, не остри. Послушай-ка стихи.
Нам мало времени осталось до начала пира.
Идете с нами, Симий, Федр?
67
Федр
Нет. Выиграть должны стихи без нас.
Вы чувства личные свои сумеете полней
В них выразить, оставшись лишь втроем.
Никомед
Я не пишу стихов: я только буду слушать.
Федр
Мы остаемся здесь.
Остальные уходят налево. Федр и Симий подходят друг к другу.
Федр
Пускай уходят. Нам не место в их кругу.
Симий
И во дворце нам, Федр, не место?
Федр
Ты прав. Ты прав. Нам следует уйти.
Симий
Оставивши Кандавла?
Федр
Я горячо его всегда любил и уважал;
Но со вчера в себе замкнулся он и избегает нас.
Ах, Симий, мы ему уже не нужны.
Симий
И ты решил уйти, не повидав его?
Федр
Нет, я дождусь его, чтоб с ним поговорить наедине.
Из правой кулисы появляются СебиАрхелай; они рассматри-
вают стол, накрытый для пиршества.
Прощайте, Себ и Архелай! Желаю вам счастливо
пировать.
68
Себ и Архелай
Куда? А пир?
Федр
Прощайте!
Архелай
Напрасно вы...
Себ
Смотрите, стол уже накрыт к очередному пиру.
Федр
Мы нашу долю вам оставим.— Друг, пойдем.
Федр и Симий уходят налево. Себ и Архелай переглядываются,
затем пожимают плечами.
Архелай
Ты голоден?
Себ
Уже.
Архелай
С утра?
Себ (плачевным тоном)
Я, Архелай, жирею.
Архелай
Поменьше ешь.
Себ
Как? Чтобы отощать?
Архелай
Ты мог бы больше есть потом.
Себ
Ты думаешь? — Пожалуй, ты и прав.
Кладу обратно смокву.
Да, в полдень я могу все это наверстать.
69
Из правой кулисы быстро входит Филеб.
Филеб
Видали вы Фарнака и Сифака?
Архелай
Я видел их...
Себ (перебивая его)
Да вот они.
Входят Никомед, Сифак и Фар на к. Филеб сидит на скамье
у пиршественного стола, руки на бедрах; он не может отдышаться.
Никомед
Фшхеб, не знаешь, где Кандавл? Не можем мы его найти.
Филеб
Я прямо от него.
Сифак
Да где же он?
Филеб
Везде!
Повсюду и нигде; он рыщет, он блуждает...
Друзья, я надорвусь от смеха.
Занятная история. Ха! Ха!
(Словно задыхается от смеха.)
Фарнак и Себ
Да в чем дело?
Филеб
Вы знаете кольцо, которым чуть не подавился Себ?..
Архелай
Нет, это я едва не подавился им.
Филеб
Пусть ты. Неважно.
70
Архелай
Но это важно для меня.
Филеб
Тем хуже! — Дай дорассказать.
Фарнак, ты помнишь
Два слова греческих, начертанных на нем?
Себ
Прости, при чем тут он? Прочел их Федр.
Филеб
Не прерывай меня!
Никомед, Фарнак и Сифак
Мы слушаем тебя.
Филеб
Не знаю как, но в тот же вечер царь,
Взволнован надписью, прочтенной на кольце,
Забыл, куда девал он самое кольцо.
Быть может, Гигеса приход повинен в этом.
Друзья мои, когда б вы знали — продолженье!..
Вот потеха!..
Остальные
Да не тяни!
Филеб
Не знаю даже, как вам рассказать.
Никомед и Фарнак
Рассказывай — и все.
Филеб (сотрясаясь от смеха)
Нет, если б видеть вы могли царя Кандавла!
Сифак
Но что же с ним?
Филеб
Он ищет.
Сифак и Фарнак
Что ищет он?
Филеб (кричит)
Кольцо.
Послушайте... Конец совсем невероятен.
Все столпились вокруг Филеба, который по-прежнему сидит на
скамье.
Вчера лишь утром царь Кандавл —
Не знаю я: зачем?
Не знаю также: как? —
Надеть решился, наконец, кольцо.
Он с нами был тогда. Вы помните, как вдруг
Пропал он из виду бесследно?
Архелай
Да. Почему же он запел?
Филеб
Он вовсе не ушел.
Фарнак и Ником ед (выведенные из терпения)
В чем дело? Объясни!
Филеб
Мне кажется, кольцо... Как мне уверить вас?..
Остальные
Мы верим: говори.
Филеб
И в этой надписи-то заключался смысл...
(Очень серьезно.)
Кто б ни надел кольцо, становится незрим.
72
Никомед
Что хочешь ты сказать?
Филеб
Невидимый кольца становится носитель.
Остальные
Ну и история! Ха! ха!
Филеб
Дослушайте ж рассказ:
Конец истории всего забавней.
Открытьем изумлен, Кандавл молчит
И сразу — так он мне признался сам.—
Поверить чуду не решаясь,
Желает испытать кольцо на ком-нибудь другом.
Тут Гигес был; ему он передал кольцо.
Рыбак его надел на палец... Вот и все.
Себ и Архелай
Как это все?
Филеб
Так — все.
Свое ль могущество постиг внезапно Гигес?
Не знаю, но с кольцом он тотчас молча скрылся.
Кольцо на Гигесе, сокрывшее его,
Исчезло с Гигесом... Пусть ищет их Кандавл!
Нет, Гигес не дурак: он прячется везде.
Между тем Гигес, появившись из правой кулисы, медленно под-
ходит к беседующим; к концу повествования Филеба он оказыва-
ется лицом к лицу с рассказчиком и как бы окружен остальными
вельможами; он стоит, повернувшись спиной к публике.
Найти незримое — тяжелая задача.
Царь бродит и кричит: «Кто Гигеса видал?
Нашел ли кто мой перстень?»
Но как теперь их отыскать?
И у Кандавла нынче есть властитель:
Для Гигеса весь мир — его обитель!
73
Остальные
Неслыханные чудеса!
Филеб
Рыбак для нас теперь гроза,
Ему же не страшны незрячие глаза:
Как одолеть того, кто стал уже незрим?
Что сделали бы мы, его услыша глас,
Уведомляющий, что он средь нас — среда нас...
Наш слышит разговор и крикнуть нам готов: «глупцы вы!»
Гигес (громко)
Глупцы вы!
Услыхав голос Гигеса, все кидаются врассьишую. В испуге Архелай
наталкивается на дерево и, думая, что это — Гигес, вскрикивает.
Архелай
Прости!
На сцене остается один только Гигес.
ЯВЛЕНИЕ II
Гигес (оставшись один, вне себя от стыда и отчаянья, сразу
падает на поя, к подножью скамьи, на которой сидел Филеб)
Кольцо мое! Кольцо!
(Прижимает его к губам.)
Скрой мысль мою поглубже...
Незримый Гигес, ты им всем внушаешь страх.
Кольцо! Зачем с тобой я от себя не скроюсь?
Ведь Гигес Гигеса страшит.
(Рыдает, схватившись за голову руками.)
Оскорблена ль моих ты грубостью объятий?
Любви и страха полн, без мысли о возврате
Бежал я от тебя, заснувшей на кровати...
Бежал в ночную тьму, бежал, как гнусный вор,
По хладной мураве, росой омыть желая
74
Горячку рук моих, преступность негодяя,
Стыд моего чела, души моей позор...
Сюда идут... Она!.. Куда получше скрыться?..
Остается на полу, слегка прислонившись к скамье. Входят
Нисия и Кандавл.
ЯВЛЕНИЕ III
Нисия (опирается на руку Кандавла, Оба садятся на скамью)
Так этим удручен ты, государь?
Чем замечателен твой перстень,
Что скорбишь ты об утере?
Из-за него меня покинул ты с утра?
Проснувшись на заре, вся теплая еще,
Искала я тебя на ложе,
Но место близ меня твое давно остыло.
Как ты ушел, когда я так тебя еще любила?
Ах, ты не знаешь, как тобой я вся была полна...
Когда ж потом тебя я встретила в саду,
Ты не был пламенным любовником, меня ласкавшим
ночью.
Ты озабочен. Что с тобою? — Ты бежишь?
Я к перстню этому, Кандавл, тебя ревную;
Ты для него отверг жену свою родную.
Что ж ты молчишь? Твои уста зажаты туго.
На что тебе кольцо? Ты без него богат!..
Ты столько всем даришь — представь, что и его ты
отдал другу.
Кандавл
Ах, только бы его увидеть вновь!
Нисия
Но воли не давай покуда мыслям мрачным.
Как утро хорошо! Как в воздухе прозрачном
Все улыбается и влюблено, как мы!
От этой ночи я, о государь, устала.
Ведь для меня твоя любовь прекрасней дня,
А эта ночь была...
75
Царь Кандавл (перебивая ее)
Я слышать не хочу об этой ночи!
Нисия
Ну, что же, замолчу я.
Но пламя твоего забуду ль поцелуя,
Палящее меня еще и до сих пор?
Ах, эта ночь любви — всех остальных прекрасней!
Царь Кандавл
Прекраснее, Нисия?.. Ты говоришь, прекрасней?
Нисия
Ты этим удивлен... В чем дело?.. Что с тобой?
Царь Кандавл
Прекрасней?.. Почему?
Нисия (краснея)
Ты забавляешься, Кандавл, моим смущеньем...
Зачем ты встал? Куда ты рвешься? Что с тобой?
Царь Кандавл (в сторону)
Ревнуешь ты, Кандавл! Стыдись!
Постыднейшая страсть, ты замолчишь!
(Жестом как бы обуздывает себя.)
Прости...
Нисия, схватив Кандавла за полу, хочет усадить его на скамью.
Пусти меня!
(Высвободившись — в сторону.)
Прекрасней!.. Ах, узнать хочу я, почему...
Прекрас... Мне Гигеса необходимо повидать.
(Нисии, от которой он немного отошел влево.)
В саду я вижу Федра...
Прости: к тебе я скоро возвращусь.
Нет, не иди за мной. Не надо, Нисия.
76
Нисия
Тогда тебя дождусь я здесь... Вернись скорей.
Во время этой сцены Гигес мало-помалу поднялся с пола.
ЯВЛЕНИЕ IV
Гигес (вполголоса)
Прекрасней всех ночей!.. Довольно! Прочь кольцо!
(Срывает с пальца перстень.)
Пускай умру, но с ней мне надо объясниться.
(Приводит в порядок свою одежду и подходит к Нисии.)
Царица!
Нисия (застигнутая врасплох, опускает покрывало)
Как ты ко мне подкрался?
Я не расслышала твоих шагов.
Гигес (склоняясь перёд ней)
Царица!
Нисия
Кто ты такой?
Гигес (протягивает ей перстень/
Кольцо, которое царь ищет,— вот оно.
Нисия
Зачем же, зная, что его он ищет,
Ты перстня сразу же ему не отдал в руки?
Гигес
Я именно тебе хотел его отдать.
Нисия
А как он оказался у тебя?
77
Гигес
Его вручил мне царь.
Нисия
Тогда зачем его повсюду ищет он?
Гигес
Не чтоб отнять кольцо — чтоб увидать меня.
Нисия
Я не пойму тебя... Да кто же ты такой?
На пире, помнится, ты не был средь гостей.
Гигес
Нет, был. Но я пришел уж к самому концу...
Я — Гигес. Иль не помнишь ты, царица?
Тот самый Гигес, о котором ты еще вчера
Осведомлялась у Кандавла:
«А этот рыболов — что сталось с ним?»
Он пред тобой.
Нисия (вначале немного смущенная)
Как мне узнать тебя в одеждах пьппных, рыболов?
Всем этим царской ты обязан доброте?
Гигес (в замешательстве)
Да, государыня... Все это — от царя,
А также и кольцо.
(Еще раз склоняется перед ней и передает ей перстень.)
Нисия
Я передам Кандавлу.
Гигес
Еще два слова разреши... прошу... Кольцо...
Царица рассматривает перстень и собирается надеть его на палец.
Ах, нет! Молю, не надевай его!..
78
Нисия
А почему?
Гигес (озабоченный мыслью о том, что ему предстоит
сказать)
Кольцо...
Нисия
Смелей, рыбак!
Гигес
Носителя... от всех скрывает взоров,
Нисия (улыбаясь)
Конечно, нет цены такому перстню. Мне теперь
Понятно, почему Кандавл его так ищет.
Гигес
А также почему его он не нашел.
Нисия (начиная испытывать тревогу)
Ты, Гигес, прятался?
Гигес
Кольцо меня скрывало.
Нисия
Но для чего, скажи, Кандавл вручил тебе кольцо?
Гигес
Чтоб, скрывшись, видеть все.
Нисия
Но что же царь хотел
Тебе, о Гигес, показать?
Гигес (падает на колени перед Нисией)
Твою красу!
(Он протягивает ей кинжал, который она инстинктивно берет
в руку.)
79
Рази! Рази меня! Сегодня ночью я...
Не кто иной, как я, делил с тобою ложе...
Я мог бы умолчать, и не узнала б ты,
Но слышал я, как ты сказала,
Что эта ночь любви прекрасней всех ночей...
Ни сия (чье смятение возрастает с каждым слов№ Гигеса и ко-
торая только теперь начинает понимать, в чем дело, издает
крик и перебивает Гигеса)
Кандавл! О ужас! Я себя любимой мнила!
Гиге с (немного выпрямившись)
Ты и была любима...
Нисия (запальчиво)
Ужель?
Гиге с (нежно)
Любима и сейчас.
Нисия (как бы внезапно примирившись, вкладывает Гигесу в
руку кинжал)
Убей его!
Гиге с (растерянно)
Царя?
Нисия
Убей его!
Гиге с (роняет кинжал на пол)
Я не могу; он — друг.
Нисия
Он мужем был моим!.. Убей его!
Гигес
Я не могу... Ведь он мне подарил...
Нисия
Меня он низко предал.
80
(Раздирает на себе покрывало.)
Его шаги! Один из вас двоих умрет...
Скорей!.. Надень кольцо... Рази! Рази его!
Гигес (растерянно)
Как? Не представ ему?
Нисия
Скрывался ж ты передо мной?
Гигес
Но перстень — дар его!
Нисия (выведенная из себя сопротивлением Гигеса)
Ах, надо, чтоб из вас хотя б один заревновал!
(Схватывает Гигеса в объятия и яростно целует его в губы.)
Ты, Гигес, поразишь его!.. Ты поразишь его!
Кольцо! Надень кольцо!
(Надевает ему на палец кольцо.)
Сокройся!.. Он идет.
Кандавл входит, беседуя с Федром; Нисия и Гигес отступают
вглубь сцены.
ЯВЛЕНИЕ V
Царь Кан дав л (Федру вполголоса)
Нет, Федр, тебя прошу я
Побыть и на сегодняшнем пиру.
Ведь это будет мой последний пир...
Они вино допить и не успеют,
Как я скажу: «Расстанемся друзья.
Своим дворцом
И празднествами наслаждаться я хочу один,
И Нисией...»
Да, Нисией... Теперь я Нисию укрою
•В тени, вдали от всех, для одного себя,
81
Как прячут аромат нескромный и летучий.
Ни слова более — она идет сюда.
Так ты придешь на пир?
Федр
Приду.
Царь Кандавл
Пока прощай.
Федр уходит.
Царь Кандавл (Нисии)
Уж скоро полдень... Стол давно накрыт.
Все приглашенные должны сейчас прибыть.
Я проводить могу тебя до твоего покоя.
Подходит к ней, она отступает; Гигес стоит в некотором отдале-
нии от них.
Нисия
Нет. Я останусь здесь.
Царь Кандавл
Как? За столом?
(Замечает смущение царицы.)
В чем дело, Нисия?
Нисия (отступает еще и обращаясь е пространство)
Рази! Рази его, о Гигес!..— Осторожно!
(С тоскою.)
Рази! Да поскорей!.. Ах!
Гигес наносит удар Кандавлу в минуту, когда последний начинает
испытывать беспокойство.
Царь Кандавл (упав на землю — обернувшись клевой кулисе)
Как, Гигес, это ты?
Что сделал я тебе?
82
О Нисия, ведь я творил одно добро!..
И этот вот кинжал, о Гигес, от меня ты получил.
Сними свое кольцо... Предстань нередо мной.
• Гигес одно мгновение колеблется, затем швыряет перстень далеко
от себя.
Гигес (охваченныйужасом и отчаяньем, становится на колени
перед Кандавлом и, склонившись над ним)
Кандавл! Мой друг!
Кандавл умирает.
Нисия (тянет его га полу)
Царь Гигес, подымись!
Гигес (растерянно)
Я! Гигес!.. Царь!
Нисия
Ты, Гигес,— мой супруг, а я — царица.
Вставай. Вот наши гости. Встань скорей.
(Снимает венец с головного убора Кандавла.)
Надень венец! — Мне душно в этом покрывале.
(Срывает его с себя.)
Вельможи (приблизившись немного, взволнованно)
Кандавл!
О! О!
Ужасно!
Сифак (схватив за руку Федра, показывает на Гигеса)
Тсс! Осторожно, друг!..
Нисия (царственно опираясь на руку Гигеса)
Прошу вас, господа. Мы только ждали вас.
(Бесстыдно.)
Сегодня, Архелай, ты танцовщиц увидишь.
83
Федр удаляется, уводя с собой Силая.
Гигес (мало-помалу оправившись)
Садитесь, господа.
(Враждебно — Нисии.)
По-моему, под покрывалом
Твою красу уместно было б скрыть.
Ни сия (презрительно)
Скрыть, Гигес, от тебя. Оно разорвано Кандавлом.
Гигес (грубо прикрывает ей лицо полой одежды)
Что ж, ты зашей его!
Сифак (среди волнения, вызванного поведением Гигеса)
За счастье Гигеса давайте пить, друзья.
Конец
^JC^UL^SHLg?
САУЛ
ДРАМА
В
Действие первое
Царский дворец
Обширный зал, почти без обстановки; направо — двери, веду-
щие во внутренние покои дворца; налево — амбразуры, закры-
тые спущенными завесами. Прямо напротив зрителя — широ-
кий открытый просвет; направо и налево массивные колонны
заменяют стену; посередине пространство между колоннами
заполнено огромным престолом. Между колоннами открыва-
ется вид на террасу и дальше — на сады; можно разглядеть
лишь верхушки деревьев. Ночь. В глубине террасы, освещен-
ной луной, царь Саул погружен в молитву. Рядом с ним —
уснувший виночерпий.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Приподняв концы завес, входят бесы. Часть их появляется
другими входами.
Бесы. Царский дворец? Извольте.
Первый бес. Он самый.
Бесы. Ха! ха! Славные шуточки! Явились мы все
вместе, а ты нас принимаешь теперь в качестве хозяи-
на. Как же ты сюда проник?
Первый бес. Тсс! тсс! Говорите тише: вон — царь.
(Указывает на него.)
Третий бес. Где же он? (Замечает его). А! А ря-
дом с ним?
Первый бес. Виночерпий.
87
Второй бес. Что делает царь?
Третий бес. Спит?
Первый бес. Нет, молится. Говори тише.
Третий бес. Я говорю достаточно тихо. Если я по-
тревожу его, то лишь потому, что он молится недоста-
точно громко.
Четвертый бес. Он делает, что может.
Первый бес. Замолчи, глупец! Где же остальные?
Второй бес. Сейчас прибудут.
Первый бес. Ну! Входите! Входите! — Все ли в
сборе?
Входят новые бесы.
Второй бес. Никогда в точности не знаешь. Кое-
кто еще задержался в пустыне.
Первый бес. А теперь скажите: верно ли, что он
приказал умертвить наших властителей?
Несколько б е с о в. Да. Всех! Всех!
Пятый бес. Не всех. Он оставил в живых Аэндор-
скую волшебницу.
Второй бес. О, у нее не было в услужении ни од-
ного значительного беса: сплошь бессловесные, не-
взрачные жабы.
Первый бес. А волшебники?
Пятый бес. Все до последнего перебиты!
Первый бес. В таком случае тем хуже для него!
Раз это он лишил нас обиталища, мы вселимся в царя
Саула.
Четвертый бес. Но зачем он приказал перебить
волшебников?
Второй бес. Хитрец! Чтобы только он один про-
видел будущее.
Четвертый бес. Чтобы только он один отгады-
вал его, хочешь ты сказать.
Третий бес. Его отгадывают лишь по мере того,
как оно наступает.
Шестой бес. Какое из всех будущих наиболее со-
кровенно?
Пятый бес. То, которому не дано никогда осуще-
ствиться.
88
Все хохочут.
Первый бес. Ах вы, насмешники! Старайтесь ве-
сти себя серьезнее. Займемся сначала вопросом о жи-
лище; а там можете хохотать. Распределим справедли-
во между собою работу, сообразно способностям каж-
дого. Пусть каждый скажет, что ему подходит (среди
бесов движение), и отвечает только, когда я его спро-
шу.— Эй, ты, говори: что избираешь ты? Отвечайте
толком.
Шестой бес. Его кубок. Я зовусь гневом или бе-
зумием; он найдет меня в часы, когда будет искать опь-
янения.
Первый бес. Ладно. А ты?
Пятый бес. Я его ложе. Я зовусь сластолюбием;
он найдет меня на своем ложе, когда будет искать сна.
Первый бес (другому). Тебя как звать?
Четвертый бес. Страхом. Я усядусь на его пре-
столе, и от моего дыхания его надежды затрепещут, как
пламя свечи; я назовусь также сомнением, когда буду
нашептывать ему то, что он примет за советы.
Первый бес. Ты?
Третий бес. Я избираю его скипетр. Он будет тя-
жек в его руках и тяжек на плечах других, кого ударит
царь, но хрупок и зыбок, как тростник, когда, ослабев,
он захочет на него опереться. Я назовусь господством.
Другой бес (по знаку первого). Я — его порфи-
ру. Мое имя — тщеславие; ибо наг будет он под своей
багряницей; и когда подует ветер, он будет дрожать от
холода под нею; а в жару я назовусь — непристойно-
стью.
Первый бес. Я беру себе его венец и называюсь
Легион. А теперь — ха! ха! — дорогие друзья, мы мо-
жем хохотать вволю! Ну-ка, давайте сюда мой венец!
Подымите мою влачащуюся по земле порфиру! Поддер-
жите мой дротик! И несите передо мной этот кубок —
то-то зрелище: царь, бегущий за ним, бегущий за ним во
всей своей славе!
Напяливает на себя царское облачение, оставленное на престоле;
все бесы образуют шутовское шествие.
89
Царь зашевелился! Слушай! Близится рассвет! Быс-
тро — по местам! Скроемся!
Кладут обратно на престол царское облачение и исчезают, точно
проваливаясь внутрь престола. Медленно входит царь Саул.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Саул. Как-никак я — царь Саул, но есть черта, за
пределами которой я уже ничего не постигаю. Было
время, когда Бог отвечал мне: правда, в ту пору я ред-
ко вопрошал его. Каждое утро священник говорил
мне, что мне следует предпринять: в этом и заключа-
лось все будущее, и оно было мне известно. Творцом
будущего был я сам. Явились филистимляне; я встре-
вожился; я захотел сам вопрошать; и с этих пор Бог
умолк. Как же хочет он, чтобы я поступал? Чтобы
действовать как следует, надо знать будущее. Я при-
нялся открывать его по светилам небесным; двадцать
ночей кряду я пытливо вглядывался в него. Я не уви-
дел ничего касающегося филистимлян... но что нуж-
ды! Я открыл нечто иное, нечто сразу состарившее
меня: Иоанафан, мой сын Иоанафан, не наследует мо-
его престола, и мой род на мне прекратится. Но вот
чего мне никак не удается дознаться: кто займет мое
место? Уже двадцать ночей я вопрошаю об этом, и да-
же сегодня ночью я снова пытался воссылать молит-
вы. Летом ночи слишком коротки, стоит такая жара,
что никто вокруг меня не в состоянии заснуть — ни-
кто, кроме моего уставшего виночерпия. Мне нужно,
чтобы окружающие спали; меня постоянно кто-нибудь
беспокоит. Малейший шум, малейший запах отвлека-
ют меня; мои внешние чувства напряжены, и самое
неприметное явление не ускользает от моего внима-
ния.
Сегодня ночью слуги по моему приказу отправились
перебить всех волшебников — да, всех волшебников
Израиля. Это — тайна, о которой никто, кроме меня, не
должен знать. А когда один только я буду знать гряду-
щее, мне кажется, я сумею и изменить его. Они теперь
90
уже мертвы; я в этом уверен; около полуночи я почув-
ствовал, что моя тайна вдруг разрослась, отныне ведо-
мая мне одному, она как бы заняла больше места в мо-
ем сердце и гнетет меня.— Я шгадею ею.
Ну, вот и день. Пусть все во дворце пробуждается.
Я же на короткий миг засну.— Этой ночью я сочинил
несколько песней; я передам их первосвященнику:
пускай поет их и пусть распорядится петь во всей
стране.
(Облачается в порфиру, надевает на голову венец, берет в руку
скипетр и удаляется со словами)
Да! Я все еще Саул, и слуг у меня великое мно-
жество.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Двое слуг входаг с метлами на плечах.
Первый слуга. Ну, что ж, видел ты его?
Второй слуга (Иоил). Кого?
Первый слуга. Царя.
Второй слуга (Иоил). Царя?
Первый слуга. Ну да! Вот уже третью ночь как
мы застаем его здесь. Он спасается от нас, когда мы
приходим на террасу.
Не знаю, чем он может здесь заниматься, но, судя
по его худобе, навряд ли он занят молитвами.
Подметают зал, затем приподымают на левой стороне широкую
завесу. Утренний свет проникает в зал.
Второй слуга (заметив уснувшего виночерпия).
Смотри-ка: Саки! — Эй, виночерпий! Здесь не место
для сна! Ну-ка, брысь! Что ты тут делаешь, малыш?
Саки (просыпается). Царь...
Первый слуга (делает вид, будто собирается
смести его). Царь! Это — я, царь метельщиков! (Саки
подымается). Да! Поговорим-ка о царе. Недурно попи-
ровал он на этой террасе, а?
Второй слуга (Иоил). Замолчи, дурень!.. Ска-
жи мне, малыш, царь провел эту ночь здесь?
91
Саки. Да.
Иоил. Всю ночь?
Саки. Да.
Иоил. Всю ночь и предыдущие ночи?
Саки. Вот уже десятая ночь.
И о и л. А ты-то что делаешь?
Саки. Наполняю ему кубок.
Первый слуга. А он что делает?
Саки. Пьет.
Первый слуга. Это, однако, омерзительно —
царь, напивающийся допьяна.
Саки. Саул не напивается допьяна.
Первый слуга (разражаясьхохотом). Значит, ты
наполняешь ему кубок не так, как следует.
Иоил. Замолчи же, дурень! Ну и что же, малыш?
Говори. Что здесь делает царь всю ночь напролет?
Саки. Он говорит, что хочет напиться допьяна, но
не может: вино недостаточно крепкое; ну, он и смот-
рит на небо и разговаривает вслух, точно он здесь
один.
Иоил. Что же он говорит?
Саки. Не знаю; видно только, что он сильно чем-то
терзается. Он становится на колени, как будто чтобы
помолиться, но тогда уже не произносит ни слова. Вче-
ра он спросил меня, умею ли я молиться. Я сказал, что
утлею. Тогда он велел мне молиться за пророков. Я по-
думал, что он шутит, и сказал, что это пророкам следу-
ет молиться за нас. Тогда он сказал, что человеку надо
молиться до того, как он стал пророком, потому что по-
сле ему это уже не удается. Он говорил еще многое
другое, чего я толком не понял, но сам он смеялся и
плакал.
Иоил. А потом?
Саки. Он сказал мне, что я, вероятно, устал и что
мне надо поспать.
Иоил. И ты заснул?
Саки. Заснул.
Пауза.
Иоил. Любишь ты царя, малыш?
92
Саки. Да, я люблю царя. Очень.
Иоил. Тем хуже.
Саки. Почему — тем хуже?
Иоил. Тем хуже! Тем хуже!
Саки. Да, я люблю царя. Он очень добр ко мне.
Он иногда дает мне отпить из своего кубка и ласко-
во улыбается, когда я нахожу, что вино слишком
крепко. Он беседует со мной; он говорит, что счаст-
лив лишь по ночам, но что даже ночью дневные за-
боты не дают ему покою. Он говорит, что был счаст-
лив в дни своей молодости и что он не всегда был ца-
рем.
Первый слуга. Тьфу, пропасть!
Саки. Это правда, что он не всегда был царем?
Первый слуга. Он пас коз, как и мы.
Саки. Значит, правда то, что он мне рассказыва-
ет, будто однажды он очень далеко углубился в
пустыню, бежал двадцать дней и двадцать ночей,
ища заблудившихся ослиц? Я думал, что и это шут-
ка, ибо он говорил, что самое счастливое для него
время было, когда он искал в пустыне своих ослиц,
но что этих ослиц он так и не нашел. Он также го-
ворит, что в молодости он был очень красив — кра-
сивее всех детей израильских, если верить его сло-
вам... Он и теперь еще очень красив, царь Саул, не
правда ли?
Первый слуга. Он немного утомлен, царь Саул,
и если он впредь будет по целым ночам под открытым
небом тыкаться носом в кубок...
Иоил. Замолчи же, дурак! — Пойди, приляг, ма-
лыш. После таких ночей утром только и остается, что
поспать... (В сторону.) Ничего не поделаешь с этим ма-
лышом.
Саки направляется к выходу; первый слуга вырывает у него из
рук кувшин.
Первый слуга. Эй, послушай, оставь-ка нам это!
Не будешь же ты спать с кувшином... (Саки ждет.) Ну!
Прощай! Прощай!
93
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Оба слуги.
Первый слуга (пьет). Он помешался.
Иоил. Кто?
Первый слуга. Царь. Он помешалед! (Пьет.) По-
мешался! Видишь ли, я охотно допускаю, что можно
всю ночь напролет пить это вино; или же молиться, ес-
ли у тебя на сердце неизбывная тяжесть; или, наконец,
смотреть на небо, чтобы узнать, какая будет завтра по-
года... Но все три дела разом! (Пьет.) Он помешался!
(Пьет.)
Иоил (поглощенный раздумьем). Замолчи же, ду-
рак. (В сторону.) Он слишком юн и простодушен — у
него ничего не узнаешь.
Первый слуга. Смотри-ка! Первосвященник!..
Когда царь ложится, этот встает...
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Слуги, первосвященник, затем царица.
Первосвященник (первому слуге). Иди, подме-
тай где-нибудь подальше.
Первый слуга удаляется.
Ну как, Иоил, видел ты царя? Говорил он? Говорил
ты о нем? Что тебе известно? Что тебе известно? Что
тебе известно? Расскажи. Я пришел сюда чуть свет, ибо
еще до того, что он опять увидит своих посланцев, нам
нужно знать, как нам вести себя, и быть в состоянии
дать отпор его новым решениям. Посланцы уже возвра-
тились; они сделали свое мерзкое дело; клики народа
разбудили царя, если только он еще спал.
И о и л. И да и нет.— Вот уже давно, как царь прово-
дит на террасе одну бессонную ночь за другой.
Первосвященник. Под открытым небом... Ска-
жи на милость!.. И один?
Иоил. Да... Нет, с ним еще виночерпий.
Первосвященник. Мальчик... Говорит он? Ну,
рассказывай: что ты знаешь?
94
И о и л. Ты слишком быстро задаешь вопросы, да я и
не знаю ничего.
Первосвященник. Что говорит мальчик?
Иоил. Ничего существенного.
Первосвященник. Он слишком юн.— А царь на-
пивается?
Иоил. Он говорит, что царь не может напиться
допьяна.
Первосвященник. Нам, значит, надо поискать
других путей.
Иоил. Царица!
Входит царица.
Первосвященник (обращаясь к ней). Ничего, го-
сударыня, по-прежнему — ничего.
Пауза, затем:
Царица (слуге). Беседует он с виночерпием?
Иоил. Нет. Лишь с самим собой.
Царица. И... что же он говорит?
Иоил. Мальчик ничего не в состоянии повторить.
Первосвященник. Вот этого я и опасался, госу-
дарыня; он слишком юн.
Царица. Надо будет найти кого-нибудь другого.
Слуга направляется к выходу. Первосвященник окликает его.
Первосвященник. Иоил!.. Еще слово: что гово-
рит Саки о царе?
Иоил. Что он его любит.
Первосвященник (царице). Видишь: он привя-
зал его к себе.
Иоил уходит.
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Первосвященник и царица.
Первосвященник. Никаких сомнений, государы-
ня: у царя есть тайна. Он пытается читать по звездам. И
если он приказал убить волшебников, так это потому,
95
думается мне, что он один хочет знать тайну, вычитан-
ную по звездам. Царице, конечно, известно, что Саул
проводит теперь все ночи на террасе...
Царица. Ах, Навал! Откуда мне это знать. (Перво-
священник улыбается,) Ох, Саул уже давно от меня
отдалился!.. Навал! Сегодня я еще больше, встревоже-
на и хочу побеседовать с тобою подольше. Навал! Са-
ул никогда не любил меня. На первых порах после бра-
ка он притворился, будто питает ко мне некоторую
склонность; но он очень недолго насиловал себя... ты
понятия не имеешь, Навал, как холодны его ласки! Ед-
ва я забеременела, они совсем прекратились. Одно
время я думала, что у меня есть основания ревновать
его; но опасения мои оказались напрасны: никакого
повода к ревности не было. Я знаю, я знаю, что он взял
себе наложниц; но теперь он всех их от себя отстра-
нил, и затем — признаться ли тебе, Навал? — Иона-
фан, Ионафан один — его родной сын. Он до срока вы-
пал из моего чрева — подобие зеленому плоду, кото-
рый вянет, не созрев. Не скоро удалось мне побороть
в себе стыд, вызванный рождением столь хилого от-
прыска. Рано отлучив его от груди, я решила передать
этого слабого ребенка на попечение одних лишь муж-
чин и долгое время надеялась, что, живя среди воинов,
он станет немного мужественнее... Потому-то он поч-
ти и не знает меня. Я для него царица, а не мать. Он
меня боится, но совсем не любит. Не сразу сумела я,
признаюсь тебе, заглушить все порывы моего сердца,
пока еще всецело, как ныне, не отдалась трудному де-
лу управления государством. Саул ни в чем не помога-
ет мне — и счастлив; его нерадивость просто неверо-
ятна, а между тем он всегда чем-то озабочен. Навал,
Навал, как я страдала сначала, видя мрачное выраже-
ние отцовского лица на челе его тщедушного сына! Я
иногда прокрадывалась за ним, когда он бродил по са-
дам или в тени дворцовых коридоров: ни разу я не ви-
дала его улыбающимся. И ненависть моя обращалась
опять на Саула за то, что при моем участии он вызвал
к жизни жалкое потомство, отвратительно похожее на
него самого.
96
Первосвященник. Однако Саул был очень кра-
сив.
Царица. Ионафан тоже очень красив... Я знаю... Я
знаю: в его слабости есть даже некоторая прелесть. Но
•я ненавижу его слабость, Навал. Я ненавижу его, нена-
вижу, ненавижу!
Но разве для того, чтобы говорить тебе о нем, я ото-
рвала тебя от твоего богослужения! Послушай: меня
вовсе не тревожит беспокойное состояние царя; мне
нравится, когда он чем-то занят. Любовные заботы за-
хватывают и изнуряют нас сильнее, чем заботы государ-
ственные; вторые избавляют меня от первых. Мне нра-
вится также чувствовать мое могущество; к тому же,
царь не возражал против этого. Все шло хорошо: Бог
Израиля, расширившего свои пределы, процветал при
моем правлении. А теперь, Навал...
Первосвященник. А теперь!..
Царица. Мы так крепко держали его в руках, На-
вал.
Первосвященник. Да. Но вот уже месяц, как он
совсем ушел из наших рук.
Царица. Мне кажется, я уже совершенно бессиль-
на с тех пор, как не знаю, о чем он думает, филистим-
ляне ждут под стенами города. Один Саул может рас-
порядиться. Но еще недавно его волю направляла я. Я
могла добиться всего при его посредстве. По крайней
мере, он прислушивался ко всему, что я говорила ему
твоими устами. Но теперь, по твоим словам, он ушел у
нас из рук, и между тем как филистимляне у город-
ских ворот, не подвигаясь ни вперед, ни назад, потеша-
ются над бездействием наших людей, он взирает на
них с высоты террасы и, по-видимому, озабочен чем-то
другим.
Первосвященник. Филистимляне потешаются.
Это верно. Чтобы еще больше поглумиться над нами,
они придумали новое средство: человека с отврати-
тельной наружностью, некоего Голиафа, который на
целую голову выше самых рослых людей. Вот уже че-
тыре дня как по утрам раздается звук трубы: вдоль
рядов нашего войска прохаживается маленького рос-
97
та воин, шествующий впереди великана. Голиаф вы-
зывает на бой любого, кто пожелает померяться с
ним силами, и предлагает таким единоборством ре-
шить судьбу сражения. Наше войско молча смотрит
на него, никто не соглашается выступить, так что
каждое утро наглость великана становится все боль-
ше, его вызов все насмешливее и издевки оскорби-
тельнее. Вскоре он будет считать себя как бы одер-
жавшим победу. Победу без боя, победу в виде полю-
бовной сделки! — Наши воины уже перестали отно-
ситься серьезно к своему делу: это забава, а не война;
над нею смеются; между обоими народами возника-
ют уже какие-то связи; сейчас же вслед за утренним
вызовом на поединок те и другие выходят за преде-
лы своих станов, навещают противника, сливаются в
одну толпу, вступают в обмен орудиями, богами, лю-
бовью, товарами. Саул продолжает хранить молча-
ние, а неприступный Израиль мало-помалу подпадает
под чужое влияние.
Царица. Великана, ты говоришь, зовут...
Первосвященник. Голиафом.
Царица. Ты не знаешь никого, кто бы мог с ним
сразиться?
Первосвященник. Пока никого.
Царица. А заменить виночерпия?
Первосвященник. Этим занят брадобрей. Но
зачем заменять виночерпия? Царь может что-то
заподозрить; он привязался к мальчику. Надо уч-
редить новую должность: певца или лютниста, что
ли...
Царица. Но кто возьмется уговорить Саула? Он
нам не доверяет и не допускает к себе никого из по-
сторонних... Нужно, чтобы брадобрей Иона подгово-
рил его к этому; он знает, как подойти к Саулу; он
причесывает царя, и в это время ему разрешается го-
ворить.
Первосвященник. Он придет сюда?
Царица. Сейчас — вместе с Саулом.
Первосвященник. Вот они оба.
98
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Те же. Саул и брадобрей Иона. Телохранители, затем Иона-
фан, затем посланцы.
Царица (заискивающе). Государь мой, Саул, как
провели вы эту ночь? Вы очень бледны, словно лунное
сияние еще не сошло с вашего чела. Поверьте мне, на-
прасно вы проводите всю ночь на террасе. (Саул дела-
ет движение рукой.) Говорят, будто летом полная луна
оказывает пагубное влияние на наши мысли. С тех пор,
как вы бодрствуете таким образом, забота, по-видимо-
му, не сходит с вашего чела.
Саул. Ах, оставьте меня, ваше величество! Я бодр-
ствую таким образом лишь с тех пор, как забота не схо-
дит с моего чела. (Входят телохранители. К телохра-
нителям.) Ну, как посланцы?
Первый телохранитель. Ждут, чтобы царь их
призвал.
Саул. Где они?
Первый телохранитель. Во дворе.
Саул (в бешенстве). В толпе народа! (В сторону.)
Мне следовало бы проделать это втайне.
Царица (подходит к нему). Государь мой, Саул,
правда ли, что говорят во дворце? Будто бы вы прика-
зали умертвить пророков?
Саул. Не пророков, ваше величество: волшебников.
Вам ведь отлично известно, что они не угодны Богу.
Царица. Кто же теперь будет предсказывать нам
грядущее?
Саул (кричит). Царь! (Телохранителю.) Ну! По-
звать их!
Телохранитель выходит через левую кулису. Через правую
входит Ионафан.
Саул (заметив его). А! Князь Ионафан! Здравст-
вуй. Рад видеть тебя близ меня в этот час. Ты увидишь,
как надо править государством. Уже время научиться
тебе. Иди сюда.
Ионафан налево от царя. Царица направо от него.
99
Царица (наклонясь к Саулу). Еще три седых во-
лоса, государь мой! Брадобрей, ты плохо делаешь
свое дело. После приема ты заново причешешь царя.
Его черты хранят печать усталости, борода его не в
порядке...
С этими словами она подходит к брадобрею. Снова появляется
телохранитель.
Телохранитель. Государь, посланцы здесь.
Царь. Пусть войдут.
В то время как входят посланцы, царица, подойдя вплотную к
брадобрею, шепотом:
Царица. Ну, что же?
Брадобрей. Ну, что же! Я нашел, государыня...
Это...
Царица. Говори скорей...
Их голоса заглушаются другими.
Царь. Элифас. Тебе я вручил список.
Элифас (один из посланцев). Вот он.
Подает список царю, и пока царь рассматривает его —
Царица (брадобрею). Давид, говоришь ты?
Брадобрей. Давид вифлеемлянин...
Царь (читает). Двое в Раме; в Кеиле — заклина-
тель духов; трое на горе Вефиль и четверо на горе
Гелвуе; близ колодезя Секу — снотолкователь; в Миг-
масе...
Продолжает читать шепотом. Царица приблизилась между тем к
первосвященнику, и когда понижается голос царя, слышен голос
царицы.
Царица (первосвященнику, как бы продолжая бесе-
ду). Давид.
Первосвященник. Давид?
Царица. Сын Иессея, да, из Вифлеема. Ступай ско-
рей и прикажи разыскать его в лагере.
Первосвященник уходит.
100
Царь. Так говорите же, это — правда? Вы напали
на них сзади, или, если спереди, то лишь потому, что
они спали? Они, значит, не могли вас увидать. Они
ничего не говорили? (У Ионафана подкашиваются
ноги.) Послушай, Ионафан... Что с тобой? Ты заша
тался...
Ионафан. Ах, нет, отец мой! Мы управляем госу-
дарством.
Саул. Обопрись на меня. Послушай! будь тверд... Я
же не могу требовать этого от всех: я слишком утомлен
сегодня. Они ничего не говорили?.. Ах, я же велел вам
вырвать у всех язык...
Элифас. Языки — у нас.
Саул (Ионафану). Между ними есть и такие, что
говорят даже после смерти.
Ионафан падает в обморок.
Саул. Ну! Вот он уже лишился чувств! — А! (Гнев-
ный жест.) Заберите его, царица!.. Тьфу! Точно жен-
щина. Он — причина того, что я совсем плохо расспра-
шиваю их... Значит, покончено, не правда ли? Положи-
тельно, я слишком утомлен.— Всех постигла одна и та
же участь. Всех... и никто не проронил ни слова.— Но,
если кто-нибудь из вас что-то узнал, пускай побережет-
ся... Впрочем, каждый из вас, верные мои слуги, полу-
чит награду. (Во время этой тирады царь несколько раз
проводит рукою по лбу и снимает с себя венец. Подняв-
шись, он направляется к двери.)
Слуги и телохранители выходят. Первый телохранитель и
брадобреи на минуту остаются одни.
Телохранитель. Что с царем? Он болен?
Брадобрей. Брось, брось: я полечу его.
Телохранитель. Но...
Входит царь. Видя, что посланцы вышли, он делает знак тело-
хранителю и говорит таинственно:
Саул. Ты прикажешь убить посланцев...
Телохранитель удаляется.
101
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Брадобрей, царь, затем царица.
Брадобрей (царю, отстраняющемуся от него).
Разрешите, ваше величество... простое освежение ли-
ца — м&пенькое втирание... О! О! Я уже издали заметил
эту морщину... Только два раза легонько смазать этой
мазью, и все исчезнет бесследно.
(С этими словами он достает из кармана свои инструменты и
усаживает царя на стул в правом углу сцены.)
А вот и волосы, на которые только что указала
царица.— Ах, это правда, что их белизна на редкость
хороша; но остальные, черные, не менее красивы.
А его величество еще не в том возрасте, когда...
Его величество чудо как сохранился! СУ Саула выры-
вается жест.) Не взирая на все тяготы царской вла-
сти (новый жест; брадобрей подводит глаза сурь-
мою)... осторожно!.. Сохранить свою красоту... Нуж-
ды нет! Его величество за последнее время немного
устал...
Саул. Я не...
Брадобрей. Нет! Нет! Не шевелите губами... Я тут
допустил маленькую оплошность с бородой... Ах, я хо-
тел предупредить его высочество: мне удалось изгото-
вить (это мое изобретение) новый вид шербета... на ани-
се... да, на анисе! Он замечательно освежает и, вместе
с тем, пьянит... Когда жажда его величества соблагово-
лит приказать мне... А я-то чуть было не забыл!!.. Какая
рассеянность!
Царица тихо входит через заднюю дверь.
Маленький певец, о котором я уже говорил...
Саул. Ты ни о ком не говорил.
Брадобрей. Ни о ком не говорил? Где же была
моя голова? Великолепный певец, государь... Он поет,
сопровождая свое пение игрой на лютне!..
Царь. Ну так что?
Брадобрей. Ну, так я его разыскал! (Внушитель-
но.) Он здесь.
102
Царь. Но кто тебе велел?
Брадобрей. Его высочество, его высочество... На
днях, выходя из купальни, его высочество воскликнул:
«Ах, только бы немного музыки!» Но он теперь слиш-
ком утомлен и не помнит об этом.
Саул. Ах, оставь меня в покое с твоим лютни-
стом! Я не желаю близ себя никого, слышишь ли, ни-
кого! Принеси мне только твои шербеты, у меня
жажда.
Царица (подойдя к нему). Почему, дорогой супруг,
вы не выслушали его? Отличный лютнист! Дорогой, воз-
любленный супруг, лютнист мог бы немного рассеять
вашу скуку.
Саул. А! Ее величество! (В сторону.) Как только
она мне что-нибудь предлагает, у меня сразу же пропа-
дает к этому всякая охота.
Царица. Я уже заметила, что музыка, даже звуки
военных труб оказывают наилучшее действие на ваши
ослабевшие способности...
Саул (в сторону). Эта женщина меня ненавидит.
Царица. Часто наш дух, под влиянием игры на лют-
не, отвлекаясь от своей тревоги, непринужденно преда-
ется сну...
Саул (в сторону). Я ненавижу ее.
Встает.
Царица. ...Или, освобождаясь от всего, что в нем
есть нечистого, извергает в ввде бессвязных речей то,
что...
Саул. Замолчите же, ваше величество!.. Я вдоволь
вас наслушался.
Уходит.
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Царица, брадобрей.
Царица. Ну как, брадобрей?
Брадобрей. Что вы хотите, ваше величество, надо
от этого отказаться.
103
Царица. Как? Ты уже приходишь в отчаяние? Ба!
Все-таки попытаемся: царь никогда не знает, чего ему
хочется. Подождем, пока он его увидит.
Брадобрей. Вот он.
Входят, беседуя, Давид и первосвященник.
ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ
Те же, затем первосвященники Давид.
Царица. Он очень красив!
Первосвященник (за кулисой). Сразиться с Го-
лиафом!.. Недурная шутка. (Входят) Поверите ли, ва-
ше величество, этот ребенок хочет...
Царица. Слышу. Но он слишком юн!
Брадобрей. Это он.
Царица. Ступай. (Брадобрей выходит.) Это ты, Да-
вид? Давид из Вифлеема. Дауд, как произносят это имя
некоторые.
Давид (многозначительно). Давид — да, ваше ве-
личество.
Царица. Я искала тебя, Давид.
Давид. Я искал вас, ваше величество.
Царица (с раздражением). Давид! — А зачем ты
меня искал, Давид?
Давид. Чтобы просить вас позволить мне сразиться.
Царица. С великаном! — Это, значит, серьезно?
Давид. Что, ваше величество? Вызов великана?
Царица. Твой вызов, Давид.
Давид. Вы в этом сомневаетесь?
Царица (пристально смотрит на него). Нет.— Но
ты ведь ребенок, Давид. Настоящий ребенок. Сколько
тебе лет?
Давид. Семнадцать.
Царица. Семнадцать лет! А ты знаком с военным
делом?
Давид. Нет. Я до сих пор жил в горах. Я пастух. Но
если я и не сражался с людьми, зато я сражался с мед-
ведями, когда они нападали на мое стадо,— с медведя-
ми, а порой и со львами.
104
Царица (первосвященнику). Правда, на вид он до-
статочно силен. Однако тебя, ведь, отыскали в лагере?
Как это ты оставил Вифлеем?
Давид. О, совсем недавно и по совсем незначитель-
ному поводу. Я отправился только повидать братьев и
передать им медовые пряники, которые для них спек
отец. Я моложе всех моих братьев. Они служат в рядах
вашего войска; но в вашем войске нет никого, кто по-
желал бы сразиться с великаном. Все боятся. И все сме-
ялись надо мной, когда я заявил, что намерен выступить
против Голиафа. Они не хотели допустить меня к пое-
динку; (гневно) и даже братья осыпали меня ругатель-
ствами. Вот почему я решил отыскать вас.
Царица. Я не смеюсь над тобою, благородный Да-
вид.
Давид. И вы согласны допустить меня?
Царица. Подожди немного.
Первосвященник. Как? Вы хотите, ваше величе-
ство...
Царица. Попытаемся. Он мне нравится. А где до-
станем мы доспехи?
Первосвященник (улыбаясь). Возьмем царские,
ваше величество. Они уже давно лежат без дела.
Царица. Князь Ионафан не в состоянии надеть их.
Первосвященник. Да. Но Давид сильнее.
Царица. Пошли за ними.
(Провожая глазами слугу, направившегося к выходу.)
Кто там прошел по террасе? Не князь ли Ионафан?
Позовите его.
ЯВЛЕНИЕ ОДИННА/ШАТОЕ
Те же. Ионафан.
Царица (Давиду). Это — мой сын Ионафан, кото-
рого ты будешь любить как родного брата. Не правда
ли, Ионафан? — Ну, дети, поцелуйтесь. (Первосвящен-
нику.) Посмотри, какая прелестная пара. Что такое,
князь Ионафан: ты улыбаешься? Я никогда не видела
тебя улыбающимся.
105
Ионафан. Я улыбаюсь Давиду, ваше величество.
Царица. Понятно. Он будет биться.
Ионафан. С Голиафом! Это правда, Давид?
Приносят доспехи.
Ц а р и ц а. А вот и царские доспехи.
Давид (берет шлем и примеряет его; взвешивает
на руке броню). Нет! я ничего не надену. Я буду биться
без всего.
Царица. Но это безумие, Давид.
Давид. Простите меня, ваше величество; вся эта
тяжесть не столько защитила бы меня, сколько была
бы помехой моей отваге. Я не боюсь ничего, ибо
знаю, что Бог Израилев мне защита. Я пойду в чем
есть, взяв с собою только пращу, с которой умею ис-
кусно обращаться.
Слуга, принесший доспехи и оставшийся в зале, уносит их
обратно. Царица и первосвященник переглядываются.
Первосвященник. Ваше величество, не будем
препятствовать ему. Он производит впечатление истого
храбреца.
Оба неспешно направляются к выходу. Давид и Ионафан остаются
на авансцене.
Ионафан. Хочешь, Давид, возьми мою пращу?
Давид (берет ее в руки, рассматривает и возвра-
щает Ионафану). Я привык к моей. Моя лучше.
Ионафан. Тогда возьми эти метательные камни.
Давид (так же, как с пращей). Они недостаточно
остры.
Царица (в глубине сцены). Ну, пойдем, первосвя-
щенник! Пускай устраиваются сами. Оставим их. Эта
ведь дети.
Уходят.
Ионафан. Что же в таком случае я дам тебе, Да-
вид? Мне бы все-таки хотелось...
Давид. Князь...
106
Ионафан. Ах, не называй меня князем. Называй
меня просто Ионафаном. Здесь никто не называет ме-
ня так, но все — князем Ионафаном. Даже отец и
мать... Надоело мне это.
Давид. В Вифлееме отец и мать называют меня Да-
удом — только они одни.
Ионафан. Как же мне тебя называть?
Давид. Как и они: Даудом. Хочешь, Ионафан?
Ионафан. Иди и возвращайся с победой, Дауд! С
высоты террасы я буду наблюдать за тобой.
Действие второе
Декорация первого действия — с той лишь разницей, что все за-
лито светом. Все завесы на левой стороне подняты. Люди снуют
по всем направлениям, образуют оживленные группы. Из правой
кулисы выходят Иоил и брадобрей.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Группа людей.
Первый мужчина. Говорю тебе — чтобы пови-
дать братьев.
Второй. Нет, чтобы сразиться с филистимлянами.
Третий. Брось! Разве он мог проведать об этом в
Вифлееме? Это царица послала его сражаться.
Четвертый. Да, после того, что она его увидела.
Но останется непонятным, как он проник во дворец.
Третий. Он проник во дворец?
Четвертый. Никак ему удалось говорить с цари-
цей.
Первый. Он говорил с царицей?
Подходит еще один.
Пятый. Оставьте! Он не добрался бы до царя, если
бы царица не искала лютниста.
Подходит еще один.
Шестой. Он не добрался бы до царицы, не будь у
царя тайны...
108
Второй. А! Тайна царя!! Ты хочешь знать царскую
тайну?
Наклоняется к первому и шепчет ему на ухо.
.Первый (разражаясь хохотом — третьему). Хо-
чешь знать царскую тайну?
Шепчет ему на ухо; третий хохочет.
Кто хочет знать царскую тайну?
Третий. Десять драхм за царскую тайну!
Тем временем подходит еще один.
Седьмой. Подумаешь! У меня, как и у царя, тоже
есть тайна. (Его обступает несколько человек.) Дело в
том, что перед смертью великий Самуил отправился в
Вифлеем; там он велел привести к нему отрока Давида
и в маленьком дворике, где его почти никто не видел,
помазал отрока елеем, как он раньше помазал Саула...
тридцать драхм с вас.
К группе подошли И о ил и брадобрей.
Иоил. За такую тайну ты можешь заплатить много
дороже, старый болтун.
Седьмой. А именно?
Иоил. Собственной головой, негодяй! Смотри, что-
бы никто...
Беседовавшие разбредаются в разные стороны и пропадают в
толпе.
Седьмой. Нечего сказать, хороша награда за дове-
рие!
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Иоил и брадобрей
Иоил. Царь об этом знает?
Брадобрей. Конечно, нет. А царица?
Иоил (стращая его). Брадобрей! Берегись!
Брадобрей (тем же тоном). Иоил! Будь осто-
рожнее...
109
Иоил (передумав и словно охваченный внезапной
симпатией). Милейший брадобрей!
Брадобрей (тем же тоном). Чудеснейший Иоил!..
Берут друг друга под руку и направляются к выходу. Снаружи
доносятся крики.
Но все эти крики...
Иоил. Это проходит мимо конвой Давида.
Другие, вместе с ними, устремляются к выходу. Внизу, под
террасой крики усиливаются.
Брадобрей. Сойдем поскорее вниз.
К террасе направляются Ионафан и Саки.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Ионафан и Саки
Саки. Нет, князь,— сюда: здесь вам будет лучше
видно.
Ионафан. Так расскажи же еще, Саки... Один! Не
имея ничего, кроме простой пращи! Ты хорошо его рас-
смотрел! Ах, какой у него был победный вид! Знаешь,
он мой друг... (Появляется Саул.) Но пойдем, сюда
вдет отец...
Сцена остается пустой.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
При появлении Саула сцена пуста.
С аул. Наконец-то я один! Но это потому, что все из-
бегают меня! Ну-ка, пускай приведут ко мне этого... по-
бедителя. Он раздражает меня. Все окружающие повер-
гают меня в сильнейшее раздражение. Мне докучает
эта крикливая толпа. Такими радостными кликами —
нельзя ли избавить меня от них? — ведь он восторжест-
вовал чисто случайно — они не приветствовали меня во
время моих трудных побед... А, ваше величество, вы
подбираете себе людей! — Это ребенок, говорили мне...
110
Зачем? Чтобы меня успокоить?.. Кто же дал ему право
побеждать? Вы, быть может! Я ему не давал.
(Говорит, все время расхаживая и продолжая расхаживать в
начале следующего явления.)
В левой двери показываются телохранители.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Саул, Дав ид, те л о храните л и
Саул. Ну! Привести его ко мне! Э, да он пастух,
этот победитель! Однако, верно: он совсем еще юн... Ах,
да он потрясающе красив. (Последние три фразы он
произносит, все более и более понижая голос. Расхсинси-
вает по сцене. Саул до сих пор видел Давида только сза-
ди. Он подходит к нему. Громким голосом, гневно)'. Да
руки у него все еще в крови! (Оглядывает его со всех
сторон.) Он весь забрызган кровью!.. Следовало бы
сначала очиститься!.. Эй, телохранители! Разве вы не
могли предупредить его? Всему, что носит на себе сле-
ды крови, здесь не место! (Давид порывается уйти.)
Нет! Пускай остается! — Малолетний убийца великана,
ты вызываешь во мне сильную ярость.
Расхаживает большими шагами. После короткой паузы.
Давид. Почему вы гневаетесь на меня, царь Саул?
Мне удалось одержать победу, это так, но я ведь сра-
жался не против вас.
Саул. Да кто же тебе разрешил?
Давид. Царица мне...
Саул. Царица — пожалуй. Да будет же тебе извест-
но, что царицы в Израиле нет. Есть только жена царя.
Давид (после некоторой паузы). Почему вы серди-
тесь, государь? — Ведь я предан вам.
Саул (в сторону). Ах, его голос действует на мой
гнев так же, как влага небесная на ветром поднятый
прах... (Громко). Оставьте меня одного... (Давид на-
правляется к дверям вместе с ним.)
Телохранители уходят.
111
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Давид и царь.
Саул (продолжая расхаживать). Я кажусь очень
разъяренным, не правда ли? (Давид молчит.) Ну, гово-
ри же! Твое имя? Как тебя зовут?
Давид. Давид.
С аул. Давид... Давид... Моавитяне, те говорят: Дауд.
Хочешь ты, чтобы я называл тебя Даудом?
Давид. Нет.
Саул. Нет! Почему? Позволь мне тебя называть... Я
хочу называть тебя Даудом.
Давид. Кое кто меня уже называет так; я обещал,
что только он...
Саул. Кое-кто? Кто именно?
Давид молчит.
Саул. Пастушок, я хочу знать, кто. Я — твой царь.
Давид. Ваше право не простирается за пределы ва-
шей власти.
Саул. Моей власти! А как поступаешь ты, когда ов-
ца из твоего стада не слушает тебя?
Давид. Я бью ее.
Саул. Ты упорно не слушаешься меня.
Давид. Бейте меня.
Саул (замахивается на него дротиком, потом оду-
мавшись). Любишь ты Бога?
Давид. Моя любовь к нему — источник моей силы.
Саул. Разве ты так силен, Давид?
Д а в и д. Он всесилен.
Саул (выдержав паузу). А что ты теперь собираешь-
ся делать?
Давид. Вернуться на родину, в Вифлеем.
Саул. Нет, Давид... Я хочу оставить тебя при себе...
Царица говорила, что нашла для меня какого-то лютни-
ста; я не хочу ее ставленника, но...
Давид. Она имела в виду меня.
Саул (озабоченный какой-то мыслью, затем взяв
себя в руки). А!., ты, значит, умеешь играть... Но вот
и царица. Она, быть может, ищет тебя... Я оставлю
112
вас вдвоем. Я думаю, у вас найдется о чем побеседо-
вать.
(Делает вид, будто уходит, в действительности же прячется
за колонной.)
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Царица, Давид, Саул за колонной.
Царица появляется "справа, беседуя с первосвященником.
Заметив Давида:
Царица (первосвященнику). Вот он. Оставь нас.
Первосвященник уходит.
Ах, Давид! Наконец я вижу тебя и, слава богу, по-
крытым славой. Сначала я видела в тебе только пасту-
ха, правда, и так прелестного; теперь же, после того,
что ты украсил себя победой, я хочу видеть тебя толь-
ко победителем. Чем ты озабочен, Давид? Ибо вид у те-
бя озабоченный. Я знаю, что царь только что резко го-
ворил с тобой. Это ли удручает тебя?
Давид. Нет, ваше величество. Царь мало-помалу
смягчил свою первоначальную суровость и вскоре заго-
ворил со мною очень кротко.
Царица. Это был также и продолжительный разго-
вор? Вы остались одни, не правда ли?
Давид. Да, некоторое время.
Саул (за колонной). Они слишком далеко от меня.
Ничего не слышу.
Царица. Право, Давид, напрасно тебя это так забо-
тит. Дурное расположение царя не должно тяготить те-
бя: оно не имеет большого значения; часто он бывает
угрюм и враждебен без всякой причины; меняется бес-
престанно...
Давид. Да я нисколько этим не озабочен, ваше ве-
личество. Царь был со мною очень добр.
Царица. Я счастлива, если это так, Давид. Правда,
твоя красота должна нравиться каждому, но то, что
царь, как ты говоришь, был добр с тобою, сильно помо-
жет нашему делу. Ибо я желаю тебе добра, Давид: му-
113
жество, только что тобой проявленное, заслуживает
иной награды, чем восторги бессмысленной, легко воз-
буждающейся толпы... Я чижу, что ты сумеешь поддер-
живать разговор с царем, ибо грустное расположение
его духа переменилось во время беседы с тобой и... но,
прежде всего, вот что, Давид: не забывай,^что именно
мне ты обязан этой честью!
Давид. Какою честью, ваше величество?
Царица. Быть певцом при особе царя.
Давид. Простите меня, ваше величество, если бы я
уже знал...
Царица. А! Тебе сказал первосвященник?
Давид. Нет.
Царица. Брадобрей?
Давид. ...К тому же, сам царь тоже предложил
мне...
Царица. А!
Давид. Вы, кажется, этим недовольны?
Царица. Почему недовольна? Разве не к лучшему,
Давид, что на тебе сошлись наши желания?.. А ты, что
ответил ты?
Приближаются к царю.
Давид. Как раз в это мгновение вы сюда вошли, и
царь удалился до того, что я успел ему ответить.
Подходят еще ближе.
Царица. Ну, что же... отвечай теперь.
Давид. Но ведь царя здесь нет, ваше величество.
Саул (за колонной). Прекрасно, отважный Давид.
Царица. Давид, ты еще слишком молод и нужда-
ешься в наставлениях. Царь Саул обладает властью не в
той мере, в какой ты предполагаешь.
Саул (за колонной). А! А!..
Царица. Некогда это был царь, исполненный муд-
рости и отваги, но теперь его воля чрезмерно ослабела;
ее необходимо направлять, и его решениями по боль-
шей части руковожу я.— Так, мысль завести при его
особе певца принадлежит мне; он согласился с нею, и
тем лучше, раз этим певцом будешь ты. Но пойми так-
114
же, Давид, что царь, утомленный дурными мыслями,
нуждается в неустанном присмотре.
Саул (за колонной). Берегитесь, ваше величество!
Царица. Однако со мной он беседует мало; я ред-
ко нахожусь близ него... Малейшее его слово, малей-
шее движение, все, что исходит от него, проливая свет
на его болезненное состояние, может улучшить мой
уход за ним. Обо всем этом мне следует докладывать.
Давид. Ваше величество!
Царица. Давид, ты не должен дурно понимать мои
слова. Чего стоил бы твой царь, если бы не мои заботы
о нем? Ты будешь мне помогать. Вдвоем мы иногда по-
пытаемся рассеять его печаль. Ты раньше меня узнаешь
о ней, ты мне расскажешь... и мы оба... Но ты мол-
чишь... отвечай мне... Ах, для победителя у тебя слиш-
ком робкий вид! И ты опускаешь взор, меж тем как я,
наоборот, подымаю глаза на тебя, Дауд, ибо так ты еще
прелестнее... (Дотрагивается рукой до его щеки.)
Давид. Ах! Ваше величество! Царь...
Саул выскакивает из-за колонны. Давид убегает.
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Саул, царица.
Саул. Дауд!! Довольно! Ваше величество, доволь-
но! — Вы отлично видите, что этот ребенок... да не убе-
гай, Давид! Я тебя не преследую, Давид, и, смотри, не
тебя я поражаю. (Схватив царицу за одежду и за воло-
сы, волочит ее по земле.)
Царица. Возможно ли, ты ревнуешь? Ты!!
Саул. Ах, не шутите, ваше величество... Ревную,
ужасно!.. (Ударяет ее несколько раз дротиком.)
Царица. Гнусный Саул! Безрассудная, я недоста-
точно ненавидела тебя! Пускай же вся тяжесть твоего
венца падет теперь на тебя одного! Оставайся один со
своими заботами! Храни их про себя! Пагубный царь Са-
ул! Будь отныне пагубой для самого себя! Я теперь уви-
жу, удалось ли тебе сохранить свою тайну от мертвых...
Я не думала, что она так ужасна.
115
Умирает.
Саул (наклонившись над царицей). Ошибаетесь, ва-
ше величество. Тайна, которую вы стремитесь узнать,
не то, что вы предполагаете
ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ
Сцена представляет опочивальню Саула. Она слабо освещена
единственной дымной лампадой. Почти никакой обстановки. На-
право — кровать. Налево — окно. Приблизительно посередине —
нечто вроде престола, по обеим сторонам которого тянутся
скамьи иди сиденья, позволяющие усесться рядом с престолом.
Царь Саул облачен все в ту же порфиру. На голове у него
венец.
Саул (направляется к двери и тщательно запира-
ет ее). Ах, я ждал ночи!.. (Спускает над дверью завесу,
оборачивается, оглядывается кругом.) А теперь, когда
я один... (Идет к престолу и садится.)
Хор бесов (появившись, сразу усаживается на по-
лу в кружок, прямо перед ним. Их голоса смешиваются
с голосом Саула). Обсудим дело!
С аул (еще не заметив их). Здесь спокойнее, чем на
террасе. И Саки просил меня разрешить ему провести
этот вечер с Ионафаном...
Один из бесов (доканчивая фразу). ...и Давидом.
Саул. Да, я предпочел остаться один... Там благово-
ния действуют на меня одуряюще. А по звездам мне
уже нечего читать: я больше не разбираюсь в них.
Первый бес. Ну, знаете, если он начнет разгла-
гольствовать один, невеселая это будет штука!
Зевает, остальные потягиваются.
Саул (продолжая). Волшебники...
Второй бес. Он ведет себя так, как будто нас
здесь и нет.
Саул. Быть может, как-то в них разбирались.
Третий бес. Он, должно быть, вскоре приплетет
и нас.
Саул. Что знали они? Мне бы следовало сохранить
для себя кое-кого из них.
116
Четвертый бес. Он не дает нам вставить ни
слова.
Первый бес. Терпение!
Саул (смотрит в упор на бесов, но не видит их).
Ибо мысль моя останавливается в растерянности и за-
мирает, сам не знаю перед чем.
Пятый бес. Можно было бы попытаться сделать
несколько пробных предложений.
Саул. Мое внимание, невидимому, к чему-то прико-
вано, но я сам не знаю к чему.
Шестой бес. В таком случае к Давиду.
Саул. Они хотят узнать мою тайну; но разве я знаю
ее сам? У меня их несколько.
Первый бес. Послушай, с нами нечего стесняться.
Саул. Теперь мне понятно, почему я так мало лю-
бил царицу! Я был слишком целомудрен в юности. У ме-
ня было много добродетелей... Ах! Я хотел порадовать-
ся тому, что избавился от царицы — рассмотреть пре-
имущества...
Седьмой бес. Можно было бы также...
Саул (как бы развивая мысль, подсказанную бе-
сом)... уничтожить также — думал я — первосвященни-
ка. У Израиля находится больше вопросов, нежели у не-
го ответов. Вопрошая, я обращаюсь не к нему. На небе
есть больше ответов, чем вопросов на устах у людей.
Седьмой бес. Но...
Саул (тоже, и все еще не видя бесов). ...некоторьрс
ответов приходиться выжидать.
Третий бес ("в один голос с четвертым). Некото-
рых и не прочтешь.
Четвертый бес. В таком случае их придумывают.
Оба беса набрасываются друг на друга и дерутся — но это длит-
ся лишь одно мгновение — так что действие непрерывно разви-
вается в прежнем направлении.
Первый бес. Эй! Послушай! Царь Саул! Побесе-
дуй с нами!
Саул. Он утверждает, что любит Бога и что вся его
сила объясняется лишь этим. Я, я тоже хочу любить Гос-
пода; я люблю его, но он отстраняется от меня — почему?
117
Первый бес. Потому что решил дать нам возмож-
ность приблизиться к тебе.
Хохочут.
Саул. Глаза мои смыкаются от усталости и от сла-
бости.
Первый бес. Тебе необходимо выпить немного.
Саул (до сознания которого мало-помалу доходит
присутствие бесов, хотя он и не видит их отчетливо).
Вы полагаете? Нет — рано еще — да и Саки тут нет.
Второй бес. Но мы, мы-то здесь.
Саул. О, верные мои слуги!
Второй бес. Э, что там, старик Саул! Какая ма-
лость!
Третий бес. Царь Саул, мы хотим пить.
Саул. Да, да — я пойду за кубком.
Пятый бес. Э, не стоит, добрейший царь — пого-
ди, тебе его сейчас принесут.
Первый бес. Да оставь же его — это его занимает.
Оба дерутся. Царь Саул встал с престола. (Актер должен играть
так, словно он продолжает монолог.) — Саул колеблется в нере-
шительности.
Саул (ибо шум драки увеличивается). Не шумите
так, малютки! Я уже не слышу собственных слов.
Второй бес. Но ты ничего не говоришь.
Все надрываются от смеха. Саул, несмотря на все старания, также
не может удержаться от смеха.
Саул (берет кубок и кувшин с вином, отпивает не-
много). ...И кувшин. Ах, этот венец тяготит меня...
(Издали швыряет его на ложе и, возвратившись на место, са-
дится на престол; порфира слегка соскальзывает у него с плеч.
Садясь, он отпивает еще глоток и замечает наконец бесов.)
Но, дружочки, вам, должно быть, неудобно на полу.
Садитесь же сюда, рядом со мною.
Все подымаются и садятся рядом с Саулом, в то время как он
занимает свое место на престоле.
118
Первый бес. О, поверь: мы делаем это ради тебя,
а не ради себя.
Саул улыбается.
Второй бес (как бы приняв улыбку Саула за при-
глашение). Ближе?
Саул (немного задыхаясь). Вы слишком тесно об-
ступили меня: мне немного душно.
Четвертый бес. Да нет!Тебе просто необходимо
выпить.
Пятый бес. Налить? Торопись: ночь почти на ис-
ходе.
Саул протягивает кубок; бес наполняет em. Саул осушает его.
Пятый бес. Еще?
Саул еще раз протягивает кубок. Бес наполняет его. Когда Саул
подносит кубок ко рту:
Несколько бесов. Ну, а мы?
Саул слегка наклоняет кубок. Бесы теснятся вокруг Саула,
каждый хочет завладеть кубком; кубок опрокидывается.
Саул (внезапно подымается, сбрасывает наземь
бесов, которые так и остаются на полу; роняет кубок
и громко вскрикивает). Ах, моя одежда вся запятнана!
(Он теперь ходит по залу или стоит неподвижно; лам-
пада меркнет, и левое окно начинает светлеть от за-
ри,— но сцена еще почти совсем погружена во мрак.)
Довольно продолжительная пауза.
Второй бес (совершенно другим тоном). Саул!
Саул! Вот час, когда пастыри коз выгоняют из хлевов
свои стада.
Третий бес. Саул! Теперь можно было бы, под-
нявшись на башню, наблюдать приближение зари.
Четвертый бес. Или на благоуханном холме, в
чистоте утреннего воздуха, петь — петь духовную песнь.
Пятый бес. Есть окропленные росою травы...
Шестой бес. Есть во дворце уже приготовленные
ванны...
119
Первый бес. О, что касается меня, наибольшее
удовольствие после бессонной ночи мне доставил бы
сладкий анисовый шербет.
Седьмой бес. Мне — послушать, как поет Давид.
Все хохочут.
Саул (хватается обеими руками за голову). Быть
одному! Быть одному!
(Распахивает окно, в которое вливается слабый
свет зари, и падает на колени, простирая руки в про-
странство.)
Бесы почти совсем скрылись, но их исчезновение произошло
незаметно.
Господь Давида! Помоги мне!
Действие третье
Обстановка первого действия — с той только разницей, что на ле-
вой стороне сцены спущены завесы, отделяющие зал от террасы.
Иоил, появляясь из левой кулисы, собирается перейти через сцену.
Брадобрей приподымает завесу.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Брадобрей. Тсс! Иоил!
Иоил. А, это ты, брадобрей!
Брадобрей. Видел ты Давида?
Иоил. Поговорить с ним следовало бы тебе. Я его
не знаю.
Брадобрей (выгораживая себя). Я знаю его так
мало.
Иоил. Неважно. Это должен сделать ты. Надо по-
исследовать, брадобрей; поисследуй!
Брадобрей. Поисследуем, Иоил! Поисследуем!
(Пауза. Брадобрей начинает плакать.) Царица тоже
исследовала.
Иоил. Она это делала слишком рьяно.
Брадобрей (плача). Бедная государыня! С нею
все шло так гладко!
Пауза.
Иоил. Он удивителен, этот юнец Давид! Достаточ-
но было ему появиться...
121
Брадобрей. Чтобы она очистила место.
Иоил. Ты хочешь сказать: чтобы от нее очистили
место, которое она занимала.
Брадобрей. Я предпочитаю помогать тому, кто
очищает, чем...
Иоил. Да... но прими во внимание, дто очищает
Саул.
Брадобрей. Тут не сразу разберешься, что выгод-
нее. Кому служить? Боже великий, кому служить? Я ни-
чего другого не желаю, как посвятить себя целиком ко-
му-нибудь...— Надо поисследовать.
Иоил. Поисследуем, брадобрей! Поисследуем!..
Но какого черта ты решил, что у царя нет собственной
воли!..
Брадобрей. Ах, извини, этого я не говорил: я ска-
зал тебе, что воля его больна; она действует скачкооб-
разно.
Иоил. Смотри, как бы она не перескочила на нас.
Да! В таком состоянии она страшнее всего. Ее решения,
невидимому, ничем не обоснованы. Поисследуй царя,
брадобрей.
Брадобрей. По-твоему это так легко.— Первосвя-
щенник...
Иоил. Ну?
Брадобрей. Ну! Он лязгает от страха, когда обра-
щается теперь к царю.
Иоил. Как это так: лязгает от страха?
Брадобрей. Я хочу сказать: лязгает зубами от
страха перед царем.
Иоил пожимает плечами.
Брадобрей. Затем, к Саулу уже трудно подойти.
Впрочем, все разбегаются при его приближении. Те-
перь выслеживает он; он прячется — не слышно, как он
подкрадывается — и вдруг его накрывают подслушива-
ющим за завесой, либо он накрывает кого-нибудь; и все
бесшумно перебегают из одного зала в другой, во двор-
це, по которому бесшумно бродит царь...
Иоил. Дьявол!
122
(Произнося последнюю фразу, он стоит у левой спущенной завесы;
резким движением он внезапно приподымает ее.)
Брадобрей (вздрогнув от шума взвившейся заве-
сы). Ах! Ты меня напугал!.. У меня нет меча.
Иоил. Неважно, брадобрей. Ты поговоришь с ца-
рем, и все, что узнаешь...
Брадобрей (рассматривая меч Иоила). Удиви-
тельно, Иоил, до чего возрастает наша дружба!
Иоил. Все способствует тому, чтобы она стала...
(Заканчивает фразу жестом, как бы завязывая
что-то.)
Брадобрей (подхватывая жест Иоила). ...еще
теснее.— Э, вот бежит Давид! Ступай скорее отсюда!
Оставь нас вдвоем.
Давид подымается на террасу. Иоил уходит.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Давид и брадобрей.
Брадобрей (с таинственным видом). Князь Да-
вид! Князь Давид!
Давид. В чем дело, брадобрей?
Брадобрей (как бы запыхавшись). Вот уже четы-
ре дня, как я хожу следом за вами и не могу застать вас
ни на мгновение одного, князь Давид!
Давид. Я — не князь, брадобрей.
Брадобрей Да, государь, но...
Давид (все строже и строже). И не государь.
Брадобрей. Я ведь не знаю, как следует имено-
вать славного победителя, который...
Давид. Я победил лишь с помощью Божьей, брадо-
брей! Я даже не военачальник.
Брадобрей. Но ваше мужество...
Давид. Оно не сильнее моей веры.
Брадобрей. Вот именно, вера... Но ваша надеж-
да-
Давид. Призвав меня для того, чтобы я убил Голи-
афа, Бог Израиля, удовольствовавшись этим, позволит
123
мне возвратиться в Вифлеем к отцу моему, где я, как и
прежде, буду пасти коз.
Брадобрей. О, коз! Давиду следовало бы поду-
мать о том, как пасти не коз, а людей... и вот именно
это я хотел вам сказать — поскорее, ибо сюда в любое
время могут прийти... Дело в том, что царь Саул устал
от власти, Ионафан же слаб, как маленькая редкая
птичка; ни тот, ни другой не пользуются расположени-
ем народа, и если бы вы, государь, захотели, то я, цар-
ский брадобрей и лекарь, которого царь ежедневно до-
пускает к себе, я мог бы...
Давид. Теперь, когда ты выдал мне свою тайну, бра-
добрей, выслушай, что я тебе скажу. Я люблю Саула как
своего царя, а Ионафана — больше, чем самого себя. Я
боюсь Господа, брадобрей, и тебе следовало бы осторож-
нее выбирать слова, чтобы не оскорбить ими избранни-
ка божия. Ты только что называл меня государем, зна-
чит, ты готов повиноваться мне: уходи же, брадобрей!
Брадобрей уходит.
Ионафан! Ионафан! Да укрепит предвечный на сла-
бом челе твоем зыбкий царский венец!
Входят Саул и Ионафан.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Саул, Ионафан, Давид.
Саул в простом одеянии; Ионафан облачен во все царские ре-
галии. Давид отступил назад, в левый угол сцены; не видя его,
Саул и Ионафан направляются к престолу. Саул замечает,
что завеса поднята, и тщательно спускает ее.
Саул. Вот таким я люблю видеть тебя, Ионафан.
Ну, займи сегодня вечером мое место на этом престо-
ле! Пора тебе поучиться, хотя бы в пустынном зале, ис-
кусству быть царем. Царское достоинство в значитель-
ной мере сводится к привычному обращению со знака-
ми его отличия; надо уметь носить их; впрочем, все эти
предметы сами служат друг другу поддержкой, и треть-
124
его дня, когда вернулись посланцы, ты, я думаю, не
упал бы в обморок, будь, на тебе даже лишняя тяжесть
в виде венда, сиди ты на царском престоле, опирайся
ты на скипетр и чувствуй на своих плечах порфиру, ко-
торой ты сегодня облачен.
Ионафан. Ах, отец, оставь меня: я так устал! Если
б ты знал, как тяжел этот венец!
Саул. Вот как! Неужели ты думаешь, что я этого не
знаю!.. Но это еще один довод за то, чтобы ты отныне
немного привык к венцу. Я уже стар, и чем слабее он
держится на моей голове, тем более надлежит упрочить
его на твоей.
Ионафан. Отец! Довольно! У меня болит голова...
сними с меня знаки твоей царской власти.
Саул. Нет! Нет! До конца вечера оставляю их тебе.
Разумеется, ложась спать, я освобожу тебя от них... Но
сегодня оставайся, как ты есть, в багрянице и, пока сю-
да никто не пришел, представь себе, что ты властвуешь
над множеством людей.
Давид делает движение.
Саул (замечает его и говорит, обращаясь к Иона-
фану). Ах, решительно, ты царствуешь! (Давиду.) Я
ждал тебя немного позднее, Давид. Но все равно: оста-
вайся.— Да, это пробует свои силы юный царь.— Я ду-
мал, что нынче вечером он ни над одним человеком не
проявит своей власти, но явился ты.— Прощай же; ос-
тавляю тебя с его царским величеством. (Удаляется
вправо.— В сторону.) Я счастлив, что он увидал меня
без венца; венец внушал ему чуть ли не трепет.
Давид и Ионафан, застыв в неподвижности, ждут, чтобы Саул
ушел.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Ионафан, Давид, затем Саул (укрывшийся за завесой).
Ионафан. Дауд!
Давид (подбегает и простирается ниц). О, мой
юный победоносный царь! Как прекрасен ты в сиянии
125
славы! Почему ты не Саул — и почему, призванный к
тебе, не мог бы я петь для тебя самые восхитительные
гимны!., или, оставшись близ тебя, созерцать тебя, не
говоря ни слова,— или простереться, как я делаю сей-
час, у ног твоих...
(Затем встает, смеется, устремляется к Ионафану и целует его.)
Саул (приподняв левую завесу). Тише! тише!
Ионафан. Почему ты смеешься, Давид, когда я
смертельно бледен и когда ты видишь, что я сейчас за-
плачу? Еще мгновение, и от усталости упаду я к твоим
ногам.
Давид (отступив). Ионафан!
Ионафан (встает и подходит к нему). Взвесь
этот венец. Какова тяжесть? А?
Саул (за завесой). Место для наблюдения отлич-
ное... Ох!
Ионафан (передает венец Давиду). У меня от не-
го синяки на лбу. Давид! я болен... Не правда ли, он тя-
жел.,. О, послушай, надень его на себя. (Надевает его
на голову Давида J
Саул. Ох, лучше бы мне не видать этого...
Ионафан. Как он тебе к лицу! Но, скажи, не прав-
да ли, он тяжел?
Саул. Ох! Давид! Как? Неужели ты...
Давид. Мой бедный Ионафан! Я рад был бы по-
чувствовать его тяжесть,— но как ты, должно быть,
слаб!
Ионафан. Это правда: он уже не кажется тяжелым
на твоем челе... Дауд!
Саул. И это ты! Ионафан! (Падает на колени и ры-
дает, лишь наполовину прикрытый завесой.)
Давид. Но тебе дурно, Ионафан? Ты бледен и вспо-
тел...
Ионафан. Меня душит эта порфира... этот пояс...
этот меч тяготит меня; на челе я еще храню воспомина-
ние о бремени венца. Ах, Давид! Я хотел бы сбросить с
себя все эти знаки царского достоинства! Хотел бы рас-
тянуться на полу и заснуть. Ах, почему я не пастырь коз,
как ты, чье нагое тело прикрыто лишь овечьей шкурой,
126
как ты, живущий на вольном воздухе! Как ты прекра-
сен, Давид! Я хотел бы прогуляться с тобою по горам:
ты убирал бы каждый камень на моем пути; в полдень
мы обмывали бы ноги в студеной воде, а потом прилег-
ли бы в винограднике; ты пел бы, а я бы без конца го-
ворил тебе о своей любви.
Саул (выслушавший всю тираду так, как если бы
он сам ее произнес). Да.
Ионафан. Наступил бы вечер: ты, такой сильный,
на, возьми меч — ты защищал бы меня от хищных зве-
рей. Я желал бы отдохнуть, чувствуя рядом с собою
твою силу!.. Ах, я задыхаюсь! На, возьми, порфиру. Со-
рви с меня этот плащ. (Помогает Давиду, снимающему
с него царское облачение.)
Саул. Ах, мне не следовало бы... видеть это.
Ионафан. Твое плечо в нем кажется белее... А мой
пояс...
Саул. Ах, я не... Я теряю последние силы.
И о н а ф ан. Не знаю, от радости ли, от холода ли, от
лихорадки ли томления или от любви, что вот здесь, но
я весь дрожу теперь, когда на мне один лишь льняной
хитон.
Саул. Как он прекрасен в порфире! — Дауд! (Точ-
но окликает его шепотом.)
Давид. Ионафан! Вот в своем белом хитоне ты пре-
краснее, чем в твоих царских облачениях. Я и не знал,
как ты прекрасен и какую прелесть сообщает твоему
телу твоя слабость.
Саул. Ах!
Давид. Ионафан, ради тебя спустился я с горы, на
которой твой хрупкий цветок завял бы под слишком
знойным солнцем.— Ты плачешь? Ужели и я заплачу от
нежности? Ты дрожишь? Ты шатаешься? Найди утеше-
ние своей слабости в моих объятиях...
Саул. Ах, нет! Только не это...
Ионафан (лишаясь чувств). Дауд!
Саул (влачась по полу, как безумный, громко). А
как же Саул? А Саул?
Ионафан (в испуге). Спасайся, Давид! Спасайся!
127
Как только показывается Саул, Давид, со скорбью оставив
Ионафана, убегает, но не слишком быстро, с отвращением
сбрасывая с себя царские регалии. Ионафан падает в обморок.
Давид. Несчастный! Несчастный! Несчастный!
Саул. А Саул!
(Глядя в оцепенении на убегающего Давида, подходит, не говоря
ни слова, к Ионафану, становится возле него на колени, берет
его руку.)
Она слишком худа!.. Ну, Ионафан!.. Скажи хоть сло-
во. Послушай, это я! Знаю, я испугал тебя, но я не пи-
таю к тебе ненависти... (С отвращением отбрасывает
руку Ионафана, которую он держал в своей.) Ах, она
слабее женской! (Наклонившись над ним.) Неужели ты
побледнел от любви к Давиду? (Подбегает к правой ку-
лисе, зовет.) Давид! Он все убегает! Как будто это ему
следует бояться! (Перебегает налево, подымает заве-
су). Эй, кто-нибудь! Кто-нибудь! (Зовет.)
Занавес.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Опочивальня Саула.
Саул (входит, беседуя с первосвященником). Зна-
чит, ни одного? Не осталось ни одного, даже самого ни-
чтожного волшебника?
Первосвященник. Его величеству прекрасно из-
вестно, что всех их истребили по его повелению.
Саул. Я не спрашиваю тебя об этом! Я только
спрашиваю, не забыли ли какого-нибудь самого ни-
чтожного?
Первосвященник. Ни одного.
Саул. Не для того, чтобы покарать, пойми меня...
напротив... я хотел бы, чтобы о нем забыли... Я ищу од-
ного... я сам.
Первосвященник (молчит).
Саул. Тем хуже. Ступай. (Первосвященник удаля-
ется.) Как быть? Ничего! Ничего! Самый ничтожный
128
прорицатель знал бы больше. (Внезапно устремляется
к двери.) Эй! Первосвященник! Первосвященник!
Первосвященник снова появляется.
А твой Бог? Он все еще безмолвствует?
Первосвященник. Все еще.
Саул. Однако это немного чересчур! Что я ему та-
кое сделал? Да ну, говори же, священник! Почему он те-
перь молчит? Надо было бы, в конце концов, объяснить-
ся... Ах, я хотел оправдаться перед ним. Я — подсуди-
мый, ты — мой судья: допрашивай меня.
Первосвященник (на протяжении всего диало-
га, совершенно оцепенев от ужаса). Что?
Саул. До чего он глуп!.. Да разве я могу знать? —
Спроси меня... сожительствовал ли я с чужеземками...
Первосвященник. Да.
Саул. Что: да? Я предлагаю тебе спросить меня,
брал ли я к себе на ложе чужеземок. Задашь ты мне
вопрос? Несчастный, я тебя... (Потрясает дроти-
ком.)
Первосвященник (дрожа). Я спрашиваю тебя,
сожительствовал ли ты с чужеземками?
Саул (в ярости). Нет, я не сожительствовал с чу-
жеземками! Слышишь? Тебе хорошо известно, что я не
сожительствовал с чужеземками. (Внезапно успокоив-
шись.) Ну! Скорей! Спрашивай еще.
Первосвященник. Что еще?
Саул. Спроси меня... Словом, ты должен знать!
Есть множество второстепенных заповедей...
Первосвященник. Существует только десять за-
поведей Божьих.
Саул. Ну, что ж, перечисли их, твои десять запове-
дей Божьих. Чего ты ждешь? Ну-ка.
Первосвященник (читает). Я Господь Бог
твой, который вывел тебя из земли Египетской, из до-
ма рабства...
Саул. Да торопись: я жду брадобрея.
Первосвященник. Да не будет у тебя других бо-
гов перед лицом моим.
Саул. Нет, не так. Задавай вопросы.
129
Первосвященник. Не делал ли ты себе кумиров
или изображений того, что на небе вверху, и что на зем-
ле внизу, и что в водах под землей? (Саул с нетерпени-
ем пожимает плечами.) Не поклонялся ли им и не слу-
жил им? Ибо я Господь, Бог твой, бог ревнитель (Саул
зевает), наказывающий детей за беззак9ние отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и...
Саул (с облегчением). А! Вот и брадобрей! Ты про-
должишь это как-нибудь в другой раз.
Первосвященник уходит.
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Саул, брадобрей.
Саул. А, вот и ты, дружок-брадобрей! Зажги свечи:
уже ничего не видать.
Брадобрей зажигает свечи, раскладывает свои инструменты.
Саул (в сторону). Мне так хотелось бы знать, что
не Давида я должен опасаться! Я не MOFy... не могу не-
навидеть его. Я желаю нравиться ему.
Брадобрей знаком показывает, что он готов.
Я велел позвать тебя, чтобы ты отрезал мне бороду.
Брадобрей (в величайшем изумлении). Отрезал
бороду?
Саул. Да, бороду. Она решительно старит меня. Те-
перь для меня настало время придать себе более моло-
дой вид... Ведь от этого я помолодею, не правда ли?
Брадобрей. Бесспорно! Но вид у вас будет менее
почтенный.
Саул. Я вовсе и не стремлюсь казаться слишком
почтенным. Ну, ты готов? Я жду.
Брадобрей. Нет, в самом деле? Царь действитель-
но хочет этого?
Саул. Вот как, брадобрей! Ты находишь, что у ме-
ня шутливое выражение лица! (Смеется.) Да! Но ты
увидишь, насколько удачнее я буду шутить, сняв боро-
ду... Ну, серьезно, срежь ее.
130
Брадобрей (приступает к делу). Прекрасная бо-
рода, однако! — Какая жалость.
Саул. Подумаешь! Она скрывала мои черты. Надо
уметь сразу принимать решения. Как ты меня нахо-
* дишь, брадобрей?
Брадобрей. Утомленным.
Саул. А!
Брадобрей. Видно, что его величество много ра-
ботает.
Саул. Да, мне пришлось проработать и эту ночь на-
пролет.
Брадобрей. Ах, теперь, когда царицы уже нет в
живых, его величеству приходится гораздо больше за-
ниматься важными государственными делами,
Саул. Есть дела более важные, чем государствен-
ные; дела, касающиеся одного лишь меня.
Брадобрей. О, да!
Саул. Что.
Брадобрей. Я говорю: о, да! — Я хочу сказать: о,
да... то есть, что они, наверное, касаются одного лишь
царя — и что именно потому он так утомлен; ибо он вы-
нужден все хранить про себя; впрочем, быть может, его
величество слишком близко принимает к сердцу мно-
гое... правда, если филистимляне...
Саул (вопросительно). Филистимляне?
Брадобрей (договаривая). ...вернутся.
Саул. А! вернутся?
Брадобрей. Царю отлично известно, что они, по
слухам, возвращаются.
Саул. Ему известно. Ему известно. Но...
Брадобрей. Но... если бы мне позволено было го-
ворить... Царь ищет волшебника?
Саул. А! Ты знаешь...
Брадобрей. Д-да.
Саул. Откуда?
Брадобрей. Не все ли равно?
Саул. Ты имеешь в виду?
Брадобрей. Тсс!.. Ах, мои ножницы! (Роняет их.)
Тсс!.. Одно мгновение! Вот! готово! Не-уз-на-ва-ем! Я за-
ставил царя помолодеть на десять лет.
131
Саул (с тоскою в голосе). Говори же! Ты имеешь в
виду?..
Брадобрей. Д-да.
Саул. Волшебника?
Брадобрей. Нет: волшебницу.
Саул. Где?
Брадобрей. В Аэндоре.
Саул. А! Ворожею! Как же это я позабыл о ней?
Брадобрей. Как! Вы тоже знаете ее?
С аул. Ту, что беседует с мертвецами? Да, некогда я
видел ее. Я забыл о ней. Я странным образом забыл о
ней... Но она меня знает.— Так ты говоришь, что я не-
узнаваем?
Брадобрей. Пусть царь возьмет зеркало; я кон-
чил.
Саул. Да я еще недурен в таком виде... Ох, какая
морщина!
Брадобрей. Борода скрывала ее немного... Попро-
бовать, что ли, разгладить ее?
Саул. Нет, оставь. Оставь меня.
Брадобрей уходит.
Саул. Неузнаваем! В этот раз моя страсть пошла
мне на пользу. Пойду. (Подходит к окну и распахивает
его.) Тучи низко нависли. Надвигается ужасная гроза.
Весь песок пустыни носится в воздухе. Ничего!
(Отходит от окна. Снимает с себя порфиру и облачается в ста-
рый плащ.)
В самом деле, неузнаваем! (Как бы повторяя урок.)
Мне нужно кого-то опасаться. (На коленях.) Боже мой!
Сделай так, чтобы — не Давида! Я не могу... не могу...
(Подымается.) Ба! Вот уже сколько времени, как я не
молился. Однако, когда я молился, получалось то же са-
мое. Мы еще поборемся. Не я должен возвратиться к
нему. Он первый оставил меня. Ах! Я хотел бы знать...
что это не он. (Ветер, ворвавшись в окно, задувает све-
чи.) А! Ветер! Идем! Идем!
Саул уходит.
132
ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ
Внутренность не слишком большой пещеры; в глубине, налево,
вход; направо — очаг, слабо освещающий пещеру.
Волшебница, затем царь Саул.
Аэндорская волшебница. Еще эти четыре
хлеба, эти несколько пучков кореньев — а там, Аэн-
дорская чародейка, последнее око, бдящее над Изра-
илем, угасни как немощное, отпылавшее пламя. Те, у
кого я выпрашиваю милостыню, называют себя мои-
ми благодетелями, потому что не доносят на меня ца-
рю; они молчат, но есть мне больше не дают. Царь Са-
ул, зачем ты нас всех уничтожил? Между тем, однаж-
ды — помнишь ли? — сын Киса, еще не мечтавший о
царском венце, ты явился ко мне пастухом отцовских
стад; ты тщетно разыскивал в пустыне нескольких за-
блудившихся ослиц; тогда я первая предсказала тебе,
что ты будешь царем. Ходят слухи, царь Саул, будто с
этого дня ты пророчествуешь. О чем вещают твои про-
рочества? Разве твои губы так же дрожат и не могут
сомкнуться, распираемые ужасным давлением гряду-
щего? Какое проступает сквозь тебя будущее, которое
ты хочешь знать один? — ибо ты приказал убить вол-
шебников. Что же! Пускай они безмолвствуют в мо-
гиле! Но ты, царь Саул, молчишь ли ты? Что касается
меня, я ухожу, совсем изношенная: в жажде неведо-
мого люди приникали, точно к закраине колодца, к
моим устам, источавшим пророчества. Но люди не
любили меня, ибо им хотелось, чтобы я предрекала
им счастье, между тем как я предсказывала и то, что
находится по ту сторону счастья. Теперь же я думаю,
что человеку лучше не знать будущего, ибо ни одна
человеческая радость не длится дольше того мгнове-
ния, которое потребно, чтобы вымолвить: «я счаст-
лив»; притом надо торопиться сказать это, ибо на то,
чтобы говорить: «я был счастлив», людям довольно
всего остального времени; я думаю также, что счастье
человеческое слепо...
133
Мне холодно. Какая ужасная погода! Все жабы, жи-
вущие поблизости, пришли укрыться в моей пещере;
дождь льет ливмя, и дует такой ледяной ветер, что на
дворе — думается мне — я умерла бы от стужи еще
раньше, чем от голода. Никогда еще не чувствовала я
себя столь слабой. Кто же, мучимый желанием узнать
будущее, мог в такую непогоду пуститься в путь? Триж-
ды я усомнилась в этом, но пламя четыре раза повтори-
ло все тот же знак: кто-то направляется сюда. А я-то
считала себя основательно всеми забытой! Приготовим-
ся же принять его. Ну, последний светоч Израиля, бро-
сим для приближающегося к нам чужеземца последний
отблеск — а там пускай опустится поднятая в послед-
ний раз завеса, пускай сомкнутся, так и не выдав тай-
ны, приоткрывшиеся уста мертвецов — навеки... наве-
ки... ах! ах! он приближается...
(В эту минуту волшебница, стоя на коленях, наклоняется над
котлом, откуда, по-видимому, исходят пары; она покачивает го-
ловой, раскачивается всем туловищем и говорит, все более зады-
хаясь и все более возбужденно. Кажется, что в налитом водою
котле она, как в зеркале, видит все, о чем повествует ее
монолог.)
Он приближается, чужеземец, которому знакома
дорога — у него нет даже факела в руке... Я чувствую,
как на меня обрушивается — ах! вся тяжесть его пути!
в горах! Ах! его пути; он скользит по залитой водою гор-
ной тропе; ветер, дующий там, забирается в складки его
плаща, усталость — ах, я, кажется, умру сейчас! —
ужасная! Бедная женщина, старая, как мир с его скор-
бями, желала бы, чтобы хоть перед смертью ее остави-
ли в покое... Он приближается! Он приближается, чуже-
земец! Ах, как терния раздирают ему тело! Голова его
обнажена; у него столь же смертельно усталый вид, как
и у меня — несчастный, несчастный — ах! — как и я.
Он падает на колени. Ах, пусть он помолится! Нет, он
подымается, он бежит, бежит по тропе, ведущей к пе-
щере! в руке у него дротик. Молю о жалости! я совсем
без сил, я слышу его шаги — здесь. Здесь!
134
(Со все более и более диким видом, волшебница приподняла голо-
ву. В ту минуту, когда она восклицает: «Здесь» — она оглядыва-
ется кругом так, чтобы было понято, что оба фокуса зрения —
действительный и воображаемый — слились воедино.)
Неужели я сейчас умру? (Все более громким голо-
сом, переходящим, наконец, в крик.) Сжалься надо
мной! Сжалься! Сжалься! (Появляется Саул.) Саул!!!
На пороге пещеры, одетый в рваный плащ из грубой шерсти; вид
у него растерянный; мокрые от дождя волосы спадают на лоб.
Саул (с отчаянием). А! Ты меня узнаешь? Между
тем я не похож на царя!
Волшебница (простершись ниц). Сжалься, Саул!
Сжалься надо мной, несчастной!
Саул. Разве я менее несчастен, чем ты?
Волшебница. Сжалься, Саул, надо мною; я сейчас
умру...
Саул. Да не бойся меня, ворожея! Я пришел не ис-
пытывать тебя, я пришел тебя умолять, а не для того,
чтобы ты меня умоляла... (Хватается за голову обеими
руками.) Скорбь моя невыносима.
Волшебница. Неужели это говорит царь Саул?
Саул. Да, Саул. Но не царь. Ах, зачем, зачем, воро-
жея, ты однажды предрекла мне царскую власть? По-
мнишь ли, как я был хорош собою без царского венца?
У самого простого горного пастуха (я тоже был таким
пастухом) больше царственности в осанке, чем мне
придали багряница и венец. Я знаю одного пастуха, ко-
торый с первого же шага покоряет себе всех... Ну, а я...
(тяжело опускается на камень)... я устал.
Волшебница (встав с земли). Саул! (Как бы из
сострадания и не зная, что сказать.) Труден путь в та-
кую непогоду.
Саул. В непогоду? Да разве шел дождь? (Ощупыва-
ет промокший насквозь плащ.) Да, верно. Мне холод-
но. Подойди ко мне поближе, я нуждаюсь в утешении.
Волшебница (с великой нежностью прикасается
рукой к челу Саула.) Саул.
Саул. Что?
135
Волшебница. Ничего. Мне жаль тебя, царь
Саул.
Саул. Ах! Жаль?.. Правда, я жалок... ворожея! Вот
уж сколько ночей, как... (Он как будто готов свалить-
ся со своего сиденья.) Ах! я сейчас упаду в обморок!.,
сколько ночей, как я доискиваюсь и трачу последние
душевные силы на поиски...
Волшебница. Поиски чего? Будущего, Саул?
Саул (пророчески). Ни с чем несравнимые терза-
ния моей души!.. (Спохватываясь.) Я не всегда так
слаб, как сейчас; в иные дни я еще кажусь рассудитель-
ным; но дорога сюда совсем подкосила меня. Я ничего
даже не захотел взять в рот нынче вечером.
Волшебница. У меня есть несколько хлебцев —
хочешь?
Саул. Нет. Пока еще нет. Душа моя алчет сильнее
плоти.— Но, говори, ворожея: можешь ты вызвать мер-
твеца?
Волшебница (в затруднении). Ты хочешь... мер-
твеца? Но кого?
Саул. Кого? — Самуила.
Волшебница (в ужасе). Это слишком великая
тень!
Саул. Саул я или нет?
Волшебница. Хорошо, я исполню твое приказа-
ние. Ты еще властвуешь.
(Подходит к очагу и делает телодвижения и колдовские жесты,
которыми вызывают дух мертвеца.)
Смотри! Пламя шевелится. Посторонись.
Саул (стоя, закрывает лицо плащом, но лишь на
столько, чтобы не видеть тени; зрителям же оно ос-
тается видно). Самуил! Самуил! Самуил! Это — я. Я
призываю тебя и боюсь твоего страшного появления.
Поговори со мной. Одним своим словом раздави ме-
ня,— раздави меня или облегчи мое бремя... Я дошел до
предела в моих сомнениях, и моя тревога ужаснее все-
го, что ты можешь мне сказать.— Ворожея! Ворожея!
Что видишь ты?
Волшебница. Пока ничего.
136
С аул. Я не смею смотреть... На душе у меня так тре-
петно и так легко, словно я сейчас запою... Я падаю в
обморок, ворожея! Ворожея, что видишь ты?
Волшебница. Ничего... Ах! Ах! Ах! — я вижу бо-
га, подымающегося из-под земли.
Саул. Какое лицо у него?
Волшебница. Подымается старик; он закутан в
плащ.
Саул (простирается ниц). Самуил...
Тень Самуила. Зачем ты потревожил меня в мо-
ем сне?
Саул. У меня великое горе. Филистимляне пошли
на меня войной, а Господь отступился от меня.
Тень Самуила. Почему же ты ищешь моего сове-
та, если предвечный отступился от тебя и стал твоим
врагом?
Саул. У кого же, как не у тебя, искать мне совета?
Он не ответил мне ни через священнослужителей, ни в
сновидениях. Кто мне скажет, что я должен делать те-
перь?
Тень Самуила. Саул! Саул! Зачем все еще лжешь
ты перед Господом? Ты ведь прекрасно знаешь, что в
глубине сердца у тебя живет другая мысль: не фили-
стимляне вызывают у тебя тревогу и не об этом ты
явился расспрашивать меня.
Саул. Говори в таком случае ты, Самуил, ты, зна-
ющий мою тайну лучше, чем я сам. Страхи со всех сто-
рон обступили мою душу; я уже не дерзаю взглянуть
на свою собственную мысль. Что она собой представ-
ляет?
Тень Самуила. Саул! Саул! Есть совсем другие
враги, чем филистимляне, которых надо покорить; но
именно то, что причиняет тебе страдание, ты принял в
дом свой.
Саул. Я покорю...
Тень Самуила. Слишком поздно, Саул; теперь
Господь уже покровительствует твоему врагу. До того,
как он был зачат в чреве матери, Господь уже избрал
его себе. Не для того ли, чтобы подготовиться к этому,
принимаешь ты его в дому своем?
137
Саул. Но в чем же тогда заключается моя вина?
Тень Самуила. В том, что ты принял его.
Саул. Но ведь Господь избрал его.
Тень Самуила. Ты думаешь, что Бог, решив по-
карать тебя за последние твои душевные колебания, не
предвидел их еще издали? Он поставил врагов твоих пе-
ред твоею дверью; твоя кара — в их руках. Они ждут за
порогом твоей плохо запертой двери; но призваны они
давно. Ты также чувствуешь в сердце своем, с каким
нетерпением они выжидают: тебе прекрасно известно,
что чувство, которое ты именуешь страхом, не что
иное, как вожделение.
Вот теперь филистимляне, о которых ты говорил,
уже готовятся к битве. Господь предаст в их руки весь
Израиль. (Саул падает, растянувшись на земле во весь
рост.) Царская власть станет для тебя расползающею-
ся багряницей,— водой, просачивающейся сквозь слабо
зажатые пальцы руки...
Саул (со вздохом). А Ионафан?
Тень Самуила. У Ионафана не будет уже ни кап-
ли воды, чтобы напиться, ни клочка багряницы, чтобы
прикрыть свое тело... Ах, несчастный Саул, что сделает
с тобою грядущее, если одно лишь предсказание его
уже сокрушает тебя?
Саул. Предвечный господь воинств! Грядущее мое
в твоей всесильной длани... (Падает без чувств.)
Тень Самуила. Да, несчастный Саул, убивающий
тайновидцев и истребляющий снотолкователей, дума-
ешь ли ты уничтожить будущее? Вот твое будущее уже
грядет, и в руке у него меч. Ты можешь убить тех, кто
взирает на него, но его приближению ты не воспрепят-
ствуешь. Оно наступает, Саул; оно наступает; оно уже
приняло такие размеры, что ты не в состоянии поме-
шать кому бы то ни было глядеть на него.
Зачем ты требовал моего появления, если ты не в
силах выслушать меня? Речь моя, вызванная тобою, те-
перь не умолкнет: отныне она будет звучать все гром-
че и громче; если ты теперь истребишь пророков, нео-
душевленные предметы обретут голос; а если ты отка-
жешься внимать ему, ты сам станешь пророчествовать.
138
Через три дня филистимляне дадут тебе сражение,
и цвет Израиля погибнет. Смотри: царский венец уже
не на твоей голове. Господь возложит его на голову Да-
вида: смотри, сам Ионафан уже возлагает его... Про-
щай, Саул,— ты и твой сын, оба вскоре явитесь в мою
обитель.
Тень исчезает.
Волшебница (слабым голосом). Я еще раньше,
чем они, Самуил...
Саул (словно пробуждаясь). Я голоден.
Пауза.
Волшебница (на коленях, рядом с простертым
на земле Саулом). Саул!
Саул (подымаясь). Я.— Я голоден. Ну, женщина,
видишь: надо иметь жалость и к царю. Он болен. Дай
ему чего-нибудь поесть...
Волшебница. Бедный Саул! Я сберегла хлебцы;
возьми, поешь.
Саул (не сознавая происшедшего). Скажи, кто это
здесь только что говорил? (Приходит в волнение.) С
кем ты разговаривала, старуха? Ну! Зачем я сюда при-
шел? Отвечай-ка поскорее: разве ты не Аэндорская вол-
шебница?
Волшебница. Бедный Саул!
Саул. Волшебница! Нет! Нет! Все волшебники мер-
твы! Саул приказал убить всех волшебников. Аэндор-
ская волшебница умерла... (выпрямляясь) или умрет
сейчас.
Волшебница (все еще стоя на коленях). Ах, и без
твоего удара, Саул, она скоро умрет. Оставь ее...
Саул (окончательно пробудившись; со все возраста-
ющим волнением). С кем ты разговаривала?.. Разве не
с... Кто тебе разрешил вызвать Самуила?
Волшебница. Несчастный!
С аул. А! Я уничтожу то, что он говорил... Я хочу вы-
травить из твоих ушей то, что он сказал!.. Я сам уже
почти ничего не помню.
Волшебница. Несчастный!
139
Саул. Но... но я не все расслышал... (Сяростью по-
ворачивается к волшебнице.) А! И ты — несчастная! Ты
сейчас заговоришь!.. Теперь я все вспоминаю!.. Я упал...
Что он сказал? Что он сказал?
Волшебница. Несчастный!
Саул. А! А! Говори, чародейка! — ...Назвал он?., ска-
жи... говори... назвал он кого-нибудь?
Волшебница. Сжалься!
Саул. Другого...
Волшебница. Сжалься, Саул!
Саул. Кроме меня...
Волшебница. Сжалься надо мной!..
Саул. И Ионафана, как...
Волшебница. Нет!
С аул. А, ты теперь знаешь все! — Как моего преем-
ника на престоле?
Волшебница. Нет!!
Саул. Лжешь!.. Лжешь!!. Это некто, сказал он тебе,
кого я люблю?..
Волшебница. Саул!
Саул. Да?.. Ты знаешь все... Давид?
Волшебница. Почему ты назвал его имя?
Саул. Нет! Нет! Не говори этого! Нет! Нет! (Ударя-
ет ее концом дротика.)
Волшебница. Ты меня ранил.
Саул. Нет! Нет! Да нет же! Пустяки, это был лишь
легкий удар копьецом; говори, договаривай; скажи...
что не его он назвал.
Волшебница (опираясь на один локоть, Саул на-
клонен над нею). Саул, ты смертельно ранил меня! Са-
ул, я и без того уже собралась умереть! Почему ты не
оставил меня в покое? — Смотри, моя бледная кровь —
на твоем плаще...
Саул. Нет! Нет! Я не причинил тебе боли. Ну — го-
вори! Можешь подождать еще мгновение, прежде чем
умереть. (Умоляя.) Ах, отвечай мне!
Волшебница. Дай моей душе — ах! — уснуть без-
мятежно: она уже успокоилась.
Саул. Нет^нет, еще...
Волшебница. Царь Саул...
140
Саул. Что?
Волшебница. Царь, обладающий плачевной склон-
ностью к гостеприимству, запри твою дверь!..
Саул. Ах! Отвечай мне: назвал он тебе?..
Волшебница. Тише, оставь мою душу в покое,—
она погружается...
Саул (схватившись за голову руками). А!
Волшебница. Царь Саул!
Саул (с последним проблеском надежды). Что?
Волшебница (в предсмертных судорогах). Запри
дверь! Закрой глаза! Заткни свои уши — и пусть благо-
ухание любви...
Саул (вздрогнув). Что?
Волшебница (напрягая последние силы). ...не на-
ходит больше доступа к твоему сердцу. Все, что прель-
щает тебя, тебе враждебно... Освободись от него! Саул!..
Саул! (Умирает.)
Саул (помере того как ее голос становится глуше,
все ниже и ниже наклоняется над ней, словно еще на-
деясь услышать новое откровение). Что?.. Она умерла?
(Оглядывается кругом; очаг погас; в пещере стало
совершенно темно.)
Неужели отныне мне придется одному метаться во
мраке?..
(Ощупью пробирается к выходу.)
ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ
Большой зал первого действия; завесы с обеих сторон наглухо
опущены. Саул в полном царском облачении (порфира, венец и
дротик) сидит на престоле. Давид, немного поодаль, на низкой
скамеечке или просто на полу, играет перед царем на лютне.
Давид. «...Кто любит Господа, Саулу рукоплещет.
Враги царя обращены им в бегство.
Царю защита — сам Господь».
А вот новая песнь, которую я сочинил для Саула:
«...Из сержа моего потоком лейтесь, вдохно-
венные слова.
Пою. Слагаю эту песнь царю.
Да будет это гимн искусного певца».
141
Пауза.
«О лютня, пробудись!
И, вместе с лютней, пробудись, о арфа!
Пусть песнь моя зарю разбудит...»
Пауза. "
«Взойди на колесницу, царь,
И правду защити, покой и справедливость!
Взойди на колесницу, царь!»
Пауза.
«Все воины ждут твоего лишь знака...
Отсрочка — филистимлянам отрада.
Но спит Саул; Саула в войске нет!..»
Пауза.
«Взойди на колесницу, царь,
Чтоб Господа враги не восторжествовали,
И пресеки их ликованье».
Пауза.
«Саул! Саул! Скорей проснись:
Тебя моя сопровождает лютня.
Тьмой новых подвигов прославь свою десницу».
Пауза.
«Опояшись мечом, воитель!
Он — твой убор и слава.
Твоя он слава!»
Саул (вначале немного смущенный, вскоре начина-
ет зевать и знаком приказывает Давиду перестать).
Не знаешь ли ты чего-нибудь повеселее?
Давид. Повеселее?
Саул. Да.— Тебя это удивляет? — Дело в том, что
ты недостаточно знаешь меня... Ну, оставь свою лютню,
Давид! Побеседуем. Мы ведь здесь для того, чтобы раз-
влекаться. Скажи: на кого я похож внешним своим ви-
дом, Даввд?
142
Давид. На царя.
Саул. Нет. Ты не понимаешь моего вопроса. Я хо-
чу сказать: что ты находишь самым примечательным во
мне?
Давид. Царскую внешность.
Саул (с раздражением, затем одумавшись). Вот
как!.. Даже без бороды?
Давид. Без бороды она немного проигрывает.
Саул. Я потому кажусь менее царственным, что те-
перь меня можно лучше рассмотреть. Да, для того я и
снял бороду: я в меньшей степени чувствовал себя ца-
рем, нежели казался окружающим... Между тем как те-
перь... Скажи мне, что ты предпочитаешь видеть меня
таким.
Давид. Я предпочитаю видеть тебя царем.
Саул. Нет, Давид: теперь я кажусь тебе моложе, и
я, действительно, моложе. Старя меня в твоих глазах,
она не могла мне нравиться, эта царственная борода... Я
снял ее из-за тебя... Давид.
Давид в смущении снова принимается играть на лютне. Саул, в
ярости, готов поразить его дротиком.
Давид!
Давид делает движение по направлению к двери.
Не уходи! Я пошутил. Я хочу... Поговорим еще, Да-
вид. Скажи: молишься ты иногда Богу?
Давид. Да, царь Саул, часто.
Саул. Зачем? Он никогда не внемлет нашим моль-
бам.
Дави д. О чем таком может просить царь, чтобы его
мольба никогда не была исполнена? О чем таком мо-
жет просить царь?
Саул (колеблясь, ответить ему или нет — затем
резко). А ты? О чем ты его молишь?
Давид (смущенно). О том, чтобы никогда не стать
царем.
Саул (сначала в ярости кидается к Давиду, кото-
рый сидит, не шелохнувшись, затем склоняясь над ним,
говорит менее громко). Давид! Давид! Хочешь, объеди-
143
нимся против Бога? Давид, а что, если бы я дал тебе
царский венец?..
(Пристально смотрит на Давида, затем, смущенный его печаль-
ным удивлением и испугом, решает, что лучше всего — расхохо-
таться.)
Ха! Ха! Ха! Ты видишь, что безбородый царь умеет
шутить! (Подымается опять на престол, садится; с
яростью ) Довольно! Я не хочу шутить один. Клянусь
Богом, ты принял мои слова всерьез, я это вижу... Цар-
ский венец, Давид! Тебе хочется венца! — Ха! Ха! Что
ты? А Ионафан? Ты, значит, уже не думаешь о слабом
Ионафане, Давид? Ты, значит, уже не думаешь о сла-
бом Ионафане? (Давид, выведенный из себя, хочет
уйти.) Ну, вот, уже опять порывается уйти! Дикая пти-
ца! Тебя никак нельзя приручить... Пой в таком слу-
чае! — Ну, Давид! Что-нибудь веселое. (Давид делает
отрицательный жест.) Нет! Ничего веселого! Ты не
знаешь ничего веселого! — Вот как! Ты, значит, никого
да не шутишь со своим Ионафаном? Никогда!! Тогда —
играй; только твое пение, кстати сказать, вызывает в
моих мыслях расстройство. Нельзя же вечно развле-
каться.
Давид принимается за игру на лютне и играет до конца явления.
Ах! Ах! Это пение лютни проникает мне прямо в ду-
шу... Я тоже умел хвалить Господа, Давид. Я пел ему
гимны; в былые времена мои уста всегда были отвер-
сты для него, и язык мой не ведал устали. Теперь же,
из боязни проговориться, мои уста, замкнувшись, хра-
нят мою тайну, и эта тайна, живущая во мне, вопит внут-
ри меня изо всех сил. (Саул приходит в возбуждение и
начинает говорить точно в бреду.) Я извожу себя мол-
чанием. С тех пор, как я молчу, душа моя чахнет; слов-
но неугасимый огонь, днем и ночью моя тайна понем-
ногу испепеляет меня.
Пауза. Музыка тоже на короткое время замолкает.
Ужас! Ужас! Ужас! Они хотят узнать мою тайну, а
между тем я сам не знаю ее! Она медленно возникает
144
в моем сердце... Но музыка пробуждает ее. Подобно то-
му как птица наталкивается на прутья своей клетки, она
подошла уже вплотную к моим зубам; она стремится
перепорхнуть на уста и хочет вырваться наружу... Да-
вид, мои душевные муки ни с чем несравнимы! Уста
мои! Чье имя вы произносите? Замкнитесь, уста Саула!
Запахни свой царский плащ, Саул! Всё вокруг осажда-
ет тебя! Заткни себе уши, чтобы не слышать ее голоса!
Всё, что приходит ко мне, враждебно мне! — Закрой-
тесь, двери очей моих! Всё, что прельщает меня, мне
враждебно. Прелестный! Прелестный! Почему я не с
ним, на берегу ручья — с пастырем коз? Я мог бы ви-
деть его целый день. Почему не заблудился я в знойной
пустыне — увы, как в то время, когда я искал ослиц? Я
сгорел бы в раскаленном воздухе; но зато не столь жгу-
чим было бы пламя души моей, разжигаемое пением и
устремляющееся с моих губ — к тебе — Давид — о пре-
лестный!..
Давид швыряет на пол лютню; она разбивается.
Саул (словно очнулся от сна). Где я? Давид! Давид!
Да останься же...
Давид. Прощай, Саул! Отныне не для тебя одного
невыносима твоя тайна... (Уходит.)
Действие четвертое
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Уже ночь, но еще не слишком темно; небольшое пространство, за-
нимаемое сценой, представляет сад, упирающийся в подножье
крутого холма; налево струится источник; ^вокруг него симмет-
рично посаженные кипарисы.
Ионафан, Саки, затем Давид.
Ионафан. Ты уверен, что это действительно
здесь?—Да, вот источник и кипарисы. Какая здесь див-
ная ночь, Саки! Ах, если бы я раньше знал про этот сад,
я уже не раз побывал бы в нем... Ну, а как подняться на
эту площадку?
Саки. О, для этого надо долго идти в обход.
Ионафан. Да! Да! Это именно здесь... именно
здесь!
Саки. Что именно, ваше высочество? Чего вы ище-
те?
Ионафан. Птичку, маленькую птичку, для того я и
взял с собою лук; мне сказали, что каждую ночь она ле-
тает над этим родником и садится вон там... Стой! Ви-
дишь ты ее? Видишь?
Саки. Нет.
Ионафан. Смотри! Смотри, как она летает! Она
кружится, кружится так, словно сейчас сядет.
Саки. Да я ровно ничего не вижу.
Ионафан. Вот она уже на земле. Тсс!.. Как? Ты ни-
чего не видишь? Вон там, рядом с белым камнем. Вот:
хорошенько следи за тем, куда полетит моя стрела...
146
Есть! Есть! Беги скорей, скорей! Принеси мне либо
стрелу, либо птицу.
Как только Саки удалился, из-за кустов выходит Давид.
Давид. Ионафан!
Ионафан. Ах! Давид! Я думал, что умру от трево-
ги. Говори скорее! У нас в распоряжении один лишь
миг.— Саки сейчас вернется... Но для чего понадобил-
ся этот сад? Разве не удобнее было бы нам встретиться
во дворце?
Давид. Нет, Ионафан. Здесь больше никто не дол-
жен видеть меня. Я ухожу. В эту ночь я говорю тебе:
прощай!
Ионафан. Ах! Давид! Ты говоришь: прощай? Как?
Ты собираешься уйти! (В бессилии опускается на зем-
лю близ источника.)
Давид. Ионафан! Одних моих сил недостаточно,
чтобы расстаться с тобой: нужны и твои силы. Не под-
давайся слабости. Возьми себя в руки.
Ионафан. Вдали от тебя для меня не существует
никаких радостей... Ты хочешь уйти!
Давид. Я должен уйти... Саул... (замявшись).
Ионафан. Говори. Мой отец...
Давид. Не выносит моего присутствия... Он меня...
Ионафан. Он тебя ударил!
Давид. Да... Ударил!.. Ударил!.. Ты знаешь его раз-
дражительный нрав.— Ах, Ионафан, встань! Я еще уви-
жусь с тобой, Ионафан.
Ионафан. Куда ты идешь? Вдали от тебя я совсем
беспомощен...
Давид (сначала колеблясь). Куда я иду... теперь? К
филистимлянам.
Ионафан. К филистимлянам!
Давид. Быстро пойми, что я тебе скажу. Сейчас
возвратится Саки: я не хочу, чтобы он меня здесь за-
стал. Если бы твой отец узнал!.. Но самого важного я
тебе еще не сообщил. Слушай: филистимляне снова го-
товятся к битве. Твой отец в тревоге; я не знаю, что его
смущает, но мысли его далеки от войны — и если фи-
листимляне пойдут на приступ, для него это будет вер-
147
ным поражением. Филистимляне на приступ пойдут:
это — несомненно, и потому-то я хочу стать во главе их;
будет казаться, что я пошел войной на тебя, но если я
отниму у Саула царский венец, то лишь для того, чтобы
вернуть его тебе.
Ионафан (как будто ничего не слышал). К фили-
стимлянам! Дауд,— ты у филистимлян!
Давид. Ах, пойми меня! Никогда бы я не пошел на
это, если бы я думал, что твой отец может победить. Но
ты знаешь, что он целиком поглощен своей заботой; ни-
кто не в силах отвлечь его от нее, и его душевное смя-
тение сказывается на войске. Воины теперь строптивы;
он не в состоянии стать во главе их.
Ионафан. И я?
Давид. Ты, Ионафан... Увы, вы оба пали бы жерт-
вой. Ах, дай мне победить — ради вас обоих. Но слушай
и не упускай ничего из того, что я тебе скажу. Если к
вечеру второго дня ты увидишь неприятельское войско,
расположившееся станом на вершине холма — того,
что напротив города,— на вершине холма Гелвуй, не
бойся ничего, а сделай вот что.
Ионафан. Говори: как ты скажешь, так я и по-
ступлю.
Давид. В глубине этого сада, укрытый за лимонны-
ми деревьями и кустами терновника, есть вход в боль-
шой грот; там я буду ждать тебя всю ночь. Не опасайся
ничего. Не думаю, чтобы кто-либо знал про этот вход.
Приходи без факела, ибо он может тебя выдать; небо
безоблачно, и в ту ночь будет полнолуние. Это, собст-
венно, не грот, а нечто вроде пещеры с провалившимся
сводом, в который, после того как минешь узкое
ущелье, видно небо. Я буду ждать тебя и буду твоим
провожатым во мраке... Мы поговорим. Мы условимся,
как нужно будет нам...
Слышно пение Саки.
Ионафан. Ах! Что? Говори!
Давид. Саки возвращается. Ионафан! Ионафан!
Брат мой! Моя душа рыдает от любви... Прощай! Не
забудь... (Удаляется, затем оборачивается назад.)
148
Ты мне дороже моей души, — ах, Ионафан! — доро-
же души.
Ионафан. Довольно, Давид, довольно,— или ты
возьмешь с собой и мою жизнь.
Саки. Князь! Птица улетела. Мне удалось найти
только стрелу.
Ионафан. Пойдем.
Уходят.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Пустыня. Безводная песчаная равнина, кое-где пересеченная не-
высокими холмами. Знойное солнце. Налево, простершись на
песчаном бугре, лежит бес в непомерно длинном коричневом
плаще, который волочится по песку.
Саул, Черный бес.
Саул (появляется слева с обнаженной головой; в ру-
ке узловатый посох; багряницы на нем нет; он без вер-
хней одежды). Осторожно! Вот при таком солнце и ис-
паряется мудрость царей. Зачем я сюда пришел?.. Ах,
да! За ослицами... Всякий след их пропал, как вода в пе-
ске... (Нагибается к земле, затем внезапно отпряды-
вает.) Брр!! Змея.
Бес (продолжает оставаться неподвижным). Не
причинит тебе зла.
Саул (не слишком изумленно). Что?
Б е с. Я говорю, что она не причинит тебе зла. Послу-
шай, брось: не тебе теперь бояться змей, старый само-
держец!..
Саул. Этот маленький уродец не оказывает мне
должного уважения... (Приближается к нему, желая
ударить его.)
Бес. Надо сознаться, царь Саул, что без бороды у те-
бя менее почтенный вид чем прежде. (Царь ударяет его
несколько раз посохом.) Ах! Нет, нет! Не щекочи меня,
это может вызвать у меня слишком сильный приступ
смеха! (Корчится от смеха. Царь — тоже.) Царь Саул,
где ты оставил свой венец? Не отдал ли ты его Давиду?
149
Саул (подносит руку к голове). Я немного попры-
гал в пустыне. Он, должно быть, свалился.
Бес. Берегись солнца пустыни: у тебя на голове
слишком мало волос, тебе нельзя оставаться без венца.
Возьми мой головной убор. (Дает ему свой колпак; Са-
ул надевает его.) Царь Саул, где ты оставил свой плащ?
Свою прекрасную червленицу, царь Саул? Не отдал ли
ты ее Давиду?
Саул. Мне было слишком жарко... В пустыне слиш-
ком жарко.
Бес. Верно. Но по ночам в пустыне очень холодно.
Возьми мой плащ.
Саул. А как же ты?
Б е с. Я привык к пустыне.
Саул (снимает с него плащ). Смотри-ка! Ты мне не
сказал, что ты так красив...
Бес (совершенно голый). О, я, пожалуй, немного
черноват.
Саул. Что ты! Что ты!
Бес. Это — дело вкуса. (Саул облачается в непо-
мерно длинный плащ, волочащийся за ним.) А где, ска-
жи, ты оставил свой жезл?
Саул (машинально). Оставил его Давиду... Он
слишком тяжел. Этот посох более пригоден в пустыне.
Бес (протягивает руку). Покажи-ка. Но, царь Са-
ул, это ведь змея!
Саул. Ах,ты, забавник! (Смеется.) Змея! Змея! Как
бы не так! Послушай, брось свои шутки! (Посох, обра-
тившись в змею, уползает.) Беги за ним! (Царь стано-
вится на четвереньки.)
Бес (выпрямившись во весь рост на холме). Надо
признаться, что в таком положении ты уже не слишком
похож на царя. (Хохочет. Саул возвращается.) Знаешь,
Саул, что помогло мне узнать тебя? Твоя красота.
Саул (восхитительный в своем дурацком плаще —
тоскливо). Вот как! В самом деле? Я еще кажусь...
Бес. Как давно я тебя не видел! Юный Саул, ты уже
приходил сюда, помнишь? Когда ты искал ослиц...
Саул (вздыхая). Ах! Мои ослицы!!
Бес. Царь Саул! Где ты оставил твоих ослиц?
150
Саул. Ты знаешь, где, скажи? Ты-то знаешь, где?
Бес (тянет его за полу плаща). Пойдем, хочешь?
Поищем их вдвоем. (Исчезают за холмом. Слышны их
голоса.) Ох, послушай, царь Саул, я устал! Возьми меня
на руки.
Саул (лаская его). Малютка! Малютка!..
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Двор дворца — тот же, что и в первом действии. Народ толпит-
ся, чтобы поглазеть, но оставляет свободным предназначенный
для царя проход, ведущий от двери направо к престолу. В сторо-
не, направо, брадобрей и Иоил наблюдают толпу и беседуют
шепотом. Большинство стоит спиной к публике.
Толпа, затем Саул и Ионафан
Первый мужчина. Ну и что?
Второй. Его тогда привели обратно во дворец.
Первый. Он все еще пел!
Второй. Еще как пел! И плясал притом! Нельзя бы-
ло удержать его.
Третий. Князь хотел, чтобы его облачили в цар-
скую одежду и надели ему на голову венец, но он так
прыгал, что венец не мог удержаться у него на голове.
Смеются.
Четвертый. Все-таки это досадно! Один только
раз избрали себе царя...
Пятый. Давид — тот сам избрал себя.
Третий. Но говорят, он не желает быть царем?
Пятый. Да, еще бы! Разве есть человек, не желаю-
щий быть царем?
Второй. Ну, а ты хотел бы?
Первый. А что бы ты сделал, если бы ты был ца-
рем? А?
Пятый. Первым делом выставил бы Давида за дверь.
Смеются.
Шестой (подходя к ним — враждебно). Кто это
злословит насчет Давида?
151
Третий, четвертый и пятый. Никто насчет
Давида не злословит.
Шестой. Подождите только, вот он возвратится, и
вы увидите, его ли выставят за дверь — или Саула.
Несколько человек. О, Саула?! Саула?! (Тоном,
говорящим, что Саулу невелика цена, но вместе с тем
не утверждающим это положительно.)
Старик-еврей (подойдя, обращается ко второму
мужчине). А что он говорил, Саул?
Второй. Почем знать? Он выкрикивал сам не зная
что.
Третий. Он не знает только того, что сам говорит.
Старик-еврей. Надо всегда прислушиваться к
словам пророков.
Четвертый из народа. Но Саул не пророк.
Кучка все растет.
Седьмой. Нет! Нет! Саул — пророк. Я присутство-
вал при том, как он плясал перед Самуилом.
Восьмой (седьмому). Это правда, будто Самуил пе-
ред смертью благословил Давида?
Ребенок. Это правда, будто царь Саул снял бороду?
Все смеются. Кучка распадается, или, вернее, беседа постепенно
переносится в другое место.
Девятый, десятый и третий. Разумеется,
правда.
Первый и другие. Ну и потеха!
Кто его видел?
Как? Всю бороду дочиста?
Второй. По-моему, это не годится — царю быть без
бороды.
Четвертый. Но у Давида тоже нет бороды.
Второй. У него еще нет бороды.
Пятый. Кроме того, Давид хорош собою.
Четвертый (второму). А Ионафан!
Несколько человек. О! Ионафан! Когда-то она
у него еще будет!..
Другие (в правом углу сцены, откуда нарастает
гул). Тише! Тише! Вот и царь.
152
Один (очень громко). Почему — тише?
Слитный гул нескольких голосов. Это прав-
да! У него, в самом'деле, уже нет бороды!
Первый (к кучке людей). Да не орите так!
Один из кучки (оборачивается к первому). О,
вот уже который день, как он не слышит того, что ему
говорят.
Пятый или другой. Правда, вид у него больной!
Шестой. Ау Ионафана!
Пятый и другие. О! Ионафан!!
Первый в ряду (следовательно, далеко от публи-
ки). Да не толкайтесь же!
Низкорослый человек. Яков! Яков! Подыми
меня. Я хочу видеть царя без бороды.
Все хохочут. Народ пятится, что свидетельствует о приближении
Саула; толпа, разделившись, тесно обступает престол таким обра-
зом, чтобы зрители все-таки могли видеть появление царя.
По всему происходящему на сцене ясно, что царь приближается
и что актеры его видят, между тем как от зрителей он пока оста-
ется сокрыт.
Первый. Почему это он выходит к народу один? Я
думал, что при нем есть телохранители...
Третий. О, теперь никто не слушается его; когда он
зовет, все разбегаются.
Саул приближается нерешительно, как пьяный, или, вернее, как
человек, окруженный насмешливо-враждебной толпой; у него
взгляд сумасшедшего, порою полный ненависти, порою тревож-
ный; он опирается на еле держащегося на ногах Ионафана, чей
пристыженный, печальный взор молит народ о пощаде.
При последних словах Саул смешно потрясает в воздухе дроти-
ком. Толпа пятится назад.
Третий. Да не бойтесь же: у него дротик без же-
лезного наконечника.
Первый. Значит, верно, что ему уже не дают в ру-
ки никакого оружия?
Второй. Это вполне разумно.
Пятый. Он, кажется, хотел убить Давида...
153
Чувствуется, что Ионафан страшно страдает от этих речей; при
последних словах кто-то из толпы кидает в Саула перезревшим
плодом, который расплющивается у него на спине.
Кто-то (с ненавистью). Лови!
Несколько человек оборачиваются с негодованием.— Толчея.—
Шум.— Царь подымается на престол; рядом с ним становится
Ионафан, схватившись за голову руками. Саул жестикулирует,
как человек, собирающийся говорить.
Крики. Тише! Тише!
Саул (стоя). Любезные иудеи!
Многие корчатся от смеха.
Иные. Что он сказал? Что он сказал?
Саул. Любезный народ иудейский!
Хохот еще безудержней. На лице царя явное беспокойство. Он
говорит медленно и с трудом подыскивая слова.
Накануне решительного сражения, которое мы со-
бираемся дать...
Голос его заглушается возрастающим гулом, идущим слева: там
давка, кого-то, по-видимому, обступили и рассматривают. Внима-
ние привлечено вновь прибьгошими лицами; в увеличивающемся
шуме, в котором окончательно теряется голос царя, можно
расслышать отдельные слова:
Да! На холме Гелвуе...
Другие. Что? Что?
Первые. Войско Давида... Филистимляне, да. Его
можно видеть с площади...
Другие. Где? Где?
Чей-то сильный голос покрывает в эту минуту все остальные и
торжественно объявляет:
Царь Саул! Войско Давида расположилось Станом
на горе Гелвуе!
Все. Пойдем посмотрим! Пойдем посмотрим!
Суматоха, все кидаются врассыпную.
154
Девочки. Скорее! Скорее!
Ионафан (подымает голову, которую он, закрыв
руками лицо, держал до сих пор опущенной; он точно
очнулся от сновидения. Оглядывается кругом, смот-
рит на Саула; с его уст срываются слова). Вечер вто-
рого дня! Ах, Давид! Давид! (Вне себя не то от радо-
сти, не то от беспокойства, он уходит в сторону, про-
тивоположную той, куда побежал народ. В то время
как разыгрывается эта сцена)
Саул (рассердившись, кричит, как учитель вслед
разбегающимся школьникам). Да останьтесь же! Да ос-
таньтесь же... когда я говорю! Да останьтесь же!.. (Хо-
чет кинуться вслед за ними; неловко бросает им вдо-
гонку дротик; затем с жалким видом подбирает его.)
Сцена теперь пуста. На ступенях престола плачет навзрыд отрок.
Это Саки. Царь возвращается.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Царь, Саки
Саул.Ты! Саки! (Подходит к нему и с большой неж-
ностью). Ты плачешь из-за меня?.. Бедняжка Саки...
Саки продолжает рыдать.
(Царь, в смущении, останавливается после каждой фразы.)
Не надо меня жалеть... Ты, значит, любишь меня!
Саки (всхлипывая). Все они покинули вас — все
покинули...
Саул. И потому-то ты плачешь! Малютка Саки... Да
ведь это, пойми, не так уж важно. Ах, мне хотелось бы
утешить этого ребенка! Саки, ты, значит, меня любишь
немного?
Саки. О! Очень! Очень!
Саул. Вот как!! А за что?
Саки. Вы добры ко мне.
Саул. Я? Добр?
Саки. Да. Ночью, на террасе, вы поили меня...
Саул (с отвращением к самому себе). А!., вином.
155
Саки. Кроме того... Кроме того...
Саул. Что?
Саки. Вы одиноки.
Саул (мало-помалу охваченный до сих пор совершен-
но незнакомым ему волнением). Но ты же видишь, что
это не так, Саки: ты ведь со мной. Ах, я не знал, что при-
чиняю кому-то печаль. Как быть?
Входят несколько человек дворцовой стражи; впереди них —
насмерть перепуганный первосвященник.
Первосвященник (по-видимому, собираясь сооб-
щить что-то чрезвычайно важное). Царь Саул...
Саул (перебивая его). Оставьте меня в покое! Вы
же видите, что я занят беседой...
Пришедшие уходят, жестами показывая, что спорить нет смысла.
С аул (шутливо). Хотелось бы тебе быть царем, Саки?
Саки. О, нет!
Саул. Как! Ты не желал бы быть царем?
Саки. Не знаю.
Саул. «Не знаю»... Послушай, хочешь примерить
мой венец?
Саул, взяв венец в руки, подносит его к голове Саки.
Саки (отстраняет от себя венец). Нет...
Саул (на минуту отказавшись от своего намере-
ния). Скажи, Саки, почему ты не последовал за Дави-
дом?
Саки. Не знаю...
Саул (все больше раздражается). «Не знаю»... Ты,
значит, не любишь Давида?
Саки. О, нет!.. Но...
Саул. Но...
Саки. Я предпочитаю оставаться с вами.
С аул. Но я думал, Саки, что ты покидаешь меня ра-
ди Ионафана... Последние несколько вечеров, на терра-
се, ты оставлял меня...
Саки. Ради Ионафана — да...
Саул. Ну что же! Давид и Ионафан, они ведь быва-
ют вместе, не правда ли?
156
Саки. Да, довольно часто.
Саул. И с ними занятнее, чем со старым царем.
Саки. О, вы не стары, царь Саул!
Саул (не надев на себя венец, но держа его на коле-
нях, время от времени как будто порывается возло-
жить его на голову Саки, однако отказывается от
этого, как только мальчик, сидящий у его ног, подыма-
ет голову). Ты находишь? По-твоему, я еще не разучил-
ся шутить?
Саки. Давид и Ионафан никогда не шутят.
Саул. А! Но что же они делают?
Саки. Ничего.
Саул. А! А что же они говорят?
Саки. Ничего.
Саул. Они беседуют друг с другом?
Саки. Да.
Саул. А что же они говорят?
Саки. Не знаю.
В смущении он все ниже и ниже опускает голову, так что Саул
внезапно надевает на него венец, который спадает ему на глаза.
Саул (с деланной шутливостью). А! ты не знаешь!..
Фью-фью!! Венец!
Саки (в смертельном испуге). Ох! Что это такое?
Саул. Это — царский венец!
Саки. Он закрывает мне глаза... Я уже ничего не
вижу!
Саул (заливаясь хохотом). «Я уже ничего не ви-
жу»!! Ха! ха! ха! ха!
Саки. Мне очень больно... Ох, снимите его, царь Саул!
Саул (придерживая обеими руками, еще глубже на-
саживает венец на голову Саки). Что говорит Давид?
Саки (всхлипывая). Да ничего, уверяю вас! Ох, сни-
мите его!
Саул (ударяет по рукам отбивающегося Саки).
Брось! Брось!.. Это шутка. А что говорит Ионафан?
Саки. Ничего, царь Саул. Клянусь вам.
Саул. «Ничего, ничего». И что же?..
Саки. Он называет его Даудом.
Саул. Я это знал — и что же?
157
Саки (в отчаянии). Да ничего! Да ничего! Да ниче-
го, царь Саул!
Саул трагическим жестом снимает венец. Саки проводит рукой
по лбу.
Саки. Смотрите: кровь!
Саул (почти торжествуя). А! Теперь ты видишь,
что я совсем не добрый!
(Затем внезапно наклоняется, с большой нежностью.)
Я причинил тебе боль, Саки?
Саки, не оправившись от испуга, отстраняет Саула, подымается
с пола и медленно пятится к выходу.
Саул. А что говорили, когда меня поймали? Что я
сумасшедший, а? (Задушевным тоном.) А? Ты знал, что
я сбежал? А? Но теперь мне не разрешают выходить без
венца... Это Ионафан хочет... (По-видимому, лишь те-
перь замечает, что Саки хочет улизнуть, и в ту мину-
ту, когда мальчик оборачивается в последний раз,
прежде чем сбежать.) О, Саки, ты уходишь? (С большой
грустью.) А ты ведь говорил, что любишь меня, Саки?..
(Саки, тронутый этими словами, возвращается со-
всем к Саулу, который наклоняется к нему и как бы до-
веряя ему тайну.) Послушай: мои ослицы! Ты ведь зна-
ешь про моих ослиц? Ну, так вот: мне известно, где они
находятся!! Хочешь? Отправимся вместе за ними!.. (Ухо-
дят.) Мы вырвемся, мы вырвемся отсюда!!.
Уходят.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Грот или, вернее, пещера, в левой части которой свод обвалился;
через это отверстие сквозь кустарники и лианы проникает свет
полной луны; налево — скалистые глыбы; направо — простран-
ство, прикрытое сводом, утопает в непроглядном мраке; крутая
тропинка в глубине пещеры выводит направо; по ней, нащупывая
почву ногами, спускается Саул.
Саул и Бес, затем Давид и Ионафан
158
Саул. Смотри-ка: источник!.. Здесь скользко.Я чуть
не упал. Под ногами у меня вода. Куда ты меня завел?
Бес (молчит),
Саул. Это здесь? Ну, отвечай же! Вечно одно и то
же! Навряд ли ты меня таскаешь за собой по всяким ме-
стам для того, чтобы я ничего не нашел из того, что
ищу. (Идет налево,) Смотри! Здесь довольно занятно!
Тут можно недурно побеседовать... В конце концов,
знаешь, я не так уж гонюсь за моими ослицами... Толь-
ко для моего возраста ты заставляешь меня слишком
много ходить! Понимаешь, я могу утомиться. (Ищет
места, где бы присесть, и возвращается направо; са-
дится на что-то вроде каменной лавки, в темной час-
ти пещеры.) Садись сюда. (Неопределенным жестом
указывает напротив себя. Бес хочет присесть.) Нет,
не садись на землю: мокро. (Протягивает ему венец.)
Садись на него. (Бес садится на венец.) Сперва ты мне
расскажешь... (Чихает как человек, только что схва-
тивший насморк.) Но если дело не в ослицах, зачем же
ты привел меня сюда? (Чихает.)
Бес. На здоровье!
Саул. Что?
Бес. Хи! хи! хи!
Саул. Ах, я вовсе не люблю, чтобы смеялись, когда
я не шучу.
Бес. Хи! хи! Царь Саул, это так забавно! Знаешь ли
ты, кого ты здесь увидишь?
Саул. Ах, Саки! Я сейчас совсем не расположен
смеяться. Ну, говори, кого мы увидим? (Встает и на-
правляется к бесу.)
Бес. Тсс! Тсс! Послушай только.
Слева доносятся звуки приближающихся шагов и голоса.
Саул. А! Ионафан!
Бес. И?
Саул (шепотом). Давид!
Бес. Поблагодари меня!
Давид (появляется с Ионафаном; они освещены лу-
ной). ...Трижды. Я велю протрубить трижды. Как только
ты услышишь звук трубы, приготовься. Это будет почти
159
перед самым рассветом... Уговори Саула. После того
как труба прозвучит в третий раз, я уже ни за что не от-
вечаю. Надо, чтобы до рассвета вы оба укрылись здесь.
Саул (порывается подойти к ним; бес тянет его
назад за полу плагца). О-го! Да он внушает ему измену!
Бес. Если ты покажешься, они скроются.
Ионафан. Прощай, Давид.
Давид (прильнув челом к плечу Ионафана). Ах!
Ионафан!
Бес (оттаскивая Саула). Пойдем! Пойдем! Заля-
жем здесь. Дадим им приблизиться. Притворись спя-
щим. Ты рассмотришь их вблизи.
Саул ложится на том месте, где он раньше сидел. Бес исчезает.
Давид (подняв лицо кверху). Прощай. Отправляйся
сейчас же. Оставь меня на несколько мгновений одно-
го. Мне еще надо помолиться.
Ионафан. Ао чем ты молишь Бога?
Давид. Разве ты не знаешь, Ионафан? Ах! О том,
чтобы меня минул этот венец.
Саул (в сторону, насмегиливо). Как это просто!
Бес. Тсс!
Ионафан. Прощай!
Давид среди утесов преклоняет колени, почти повернувшись
спиною к публике. Ионафан отходит вправо. Замечает Саула
и поспешно возвращается к Давиду.
Давид! Давид! Отец мой здесь.
Давид, поглощенный молитвой, остается все в том же положе-
нии. Ионафан вне себя.
Здесь отец, Давид!
Давид (все еще молясь). Я не кончил молитвы. Ос-
тавь меня!
Ионафан (снова отходит от него и смотрит в
сторону Саула. Давиду.) Он спит.
Лунный свет, на протяжении всей этой сцены медленно переме-
щающийся слева направо, падает теперь на царский венец Саула,
лежащий на земле.
160
Ах! Его венец скатился на землю...
Давид. Я еще не кончил молитвы. Оставь меня.
Молчание. Неподвижность.
Саул. Неужели он не подойдет?
Давид встает на ноги.
Ионафан. Что ты хочешь сделать?
Давид. Смотри.
(Поднимает венец и кладет его на землю рядом с головой Саула.)
Ты ему скажешь, Ионафан. Надо будет уговорить
его.
Саул (в сторону). Я весь дрожу. Он сейчас сообра-
зит...
Ионафан. Он мне не поверит...
Давид (возвращается, осененный внезапной мыс-
лью). А! (Извлекает из пожен мечи, отрезав от цар-
ской багряницы большой лоскут пурпура, берет его се-
бе.) Пусть знает, что это я; что, взяв у него этот лоскут,
я мог лишить его и жизни. Тише! Он просыпается. Пой-
дем, бежим отсюда!
Уходят налево.
Саул (встает с земли, направляется к месту, за-
литому лунным светом, оглядывает всего себя, одето-
го неряшливо, почти неприлично, благодаря изрезанной
порфире; затем разражается хохотом). Как они добры
ко мне!
Действие пятое
Смеркается. Сцена представляет собою горный ландшафт, очер-
тания которого пропадают во мраке. Направо — шатер Саула.
ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Иоил, Брадобрей.
Перед шатром.
Брадобрей. Все еще нет никаких распоряжений?
Иоил. Распоряжений? Распоряжения есть: распоря-
жений множество, да не понять, к чему они.
Брадобрей. Правда ли, что иудеи раскололись на
два стана?
Иоил. Раскололись? Ничего подобного: все они за
Давида.
Брадобрей. Черт возьми! Это обещает быть преза-
нятным зрелищем — эта битва! (Слегка посмеиваясь,)
А Саул? Он тоже за Давида?
Иоил (не теряя своей важности). Замолчи, бра-
добрей; Саул нерешителен, как старик. И эта битва —
только подобие битвы: в своем сердце он уже заранее
пережил поражение.
Брадобрей. Что же, в таком случае, ты будешь де-
лать, Иоил?
И о и л. А ты что будешь делать, брадобрей? Уж не за
советом ли обращаешься ты ко мне? С каких это пор я
162
должен давать направление твоим мыслям? Посторо-
нись: вот Саул.
Появляются Саул, Ионафан. Факелы освещают внутренность
шатра.
ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Саул, Ионафан, еще несколько человек, среди которых вино-
черпий Саки.
Саул (Ионафану). Погляди на мои руки... как они
дрожат!
Ионафан. Бедный отец!
Саул. Что было бы полезнее для меня? Как, по-тво-
ему: выпить вина? Или не пить? По-моему, лучше бы —
выпить... Ступай, Саки...
Саки уходит.
Сегодня я не нашел бы в себе силы убить даже вра-
га. Настало для меня время предстать перед Господом...
(Громче.) А теперь, оставьте меня. Ночь на исходе, и
мне необходимо остаться одному и поразмыслить.
(Движение.) Ты, Ионафан, оставайся: мне бы хотелось
еще поговорить с тобой.
Все прочие уходят. Саул некоторое время расхаживает большими
шагами, храня молчание.
Ионафан. Отец, у меня очень мало времени.
Саул (чихает). Опусти эту завесу. (Чихает.) Я
простудился третьего дня в одной пещере. Впрочем, ты,
быть может, знаешь ее: она недалеко отсюда... Разбой-
нику Давиду она должна быть хорошо известна...
Ионафан (все более и более смущенный настойчи-
востью Саула). Умоляю, отец, покончим скорее. Одна
лишь эта ночь отделяет нас от битвы. Надо готовиться
к ней или спать.
Саул (наставительно). Готовиться, сын мой! Се-
годня вечером вся душа моя готовится.
Ионафан. Отец, надо готовиться действовать. О
чем хотите вы со мной поговорить?
163
Саул. Ах, именно об этом, Ионафан. Когда я дейст-
вовал, я этого не понимал. Есть пора, когда человек
действует, и есть пора, когда он раскаивается в том, что
действовал. Сын мой, пойми, существует нечто более
важное для души, нежели победы, одерживаемые вой-
ском...
Ионафан. Когда же это вы так действовали, отец
мой?
Саул. Знаю, знаю: я, главным образом, вожделел.
Но, дитя мое, наступает пора, когда я хотел бы раска-
яться и в этом.
Ионафан, которого это все более и более выводит из терпения
порывается уйти.
Как! Ты уходишь?
Ионафан. Ах! Время бежит. Мне нужно все осмот^
реть... Отец, я скоро вернусь.
Саул. Ионафан! Ионафан! Когда мое сердце трепе-
щет, ты покидаешь меня! Неужели ты не можешь ос-
таться со мною?.. Сын мой, я теперь нежнее, чем преж-
де, уверяю тебя...
Ионафан. Увы!.. Вот Саки... Отец, избавьте меня.
Саул (одновременно обращаясь к Ионафану и к Са-
ки), Ах! Избавьте меня оба от себя! Я безумец, если ищу
у вас поддержки... Саки, унеси вино. Мне лучше не
пить. Ступай. Ступай.
Ионафан уходит. Саки незаметно остается в углу шатра.
Ионафан (уходя). Отец, вы последуете за мною,
когда я возвращусь?
Саул. Быть может. (Окликает его.) Погоди, Иона-
фан! Ионафан, не печалься. Возвращайся скорее: я после-
дую за тобой... А теперь дай мне помолиться немного.
ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Саул, Саки, которого в начале этой сцены Саул не замечает;
снаружи — Бес.
Саул (думая, что он один). Ах! Ах! Отрешимся от
всего земного. Кто я?
164
Бес (прячась на дворе). Саул!
Саул (направляясь ко входу). Ионафан! (Осматри-
вается.) Нет. Я один. (Становится на колени.) Госпо-
ди! Кто я пред тобой...
Бес (прячась). Саул!
Саул. ...что ты обременяешь меня вожделениями?
Все, в чем я ищу поддержки, оказывается непрочным.
В себе самом не нахожу я никакой опоры... (Отвлек-
шись мыслями.) Что мне особенно нравится в нем, это
его сила. Гибкость его чресел восхитительна! Я видел
его, когда он спускался с горы; он словно всегда готов
сделать прыжок... (Сурово обрывая себя.) Довольно, ус-
та мои! (Подымается.)
Бес (голосом жалобным, как крик ночной птицы).
Саул!
Саул. Я не в состоянии сосредоточиться.
Бес. Саул!
Саул. Гм! Кто-то меня зовет. (Направляется к две-
ри шатра.)
Саки (желая помешать ему открыть дверь). Не
открывайте, царь Саул!
Саул. Как! Это был ты, Саки! Что ты тут делаешь?
Саки. Мне страшно за вас.
Саул. Ты меня звал?
Саки. Нет.
Саул. А, это снаружи.
Саки. Нет! Не отпирайте... Там, снаружи может
быть всякое: уже глубокая ночь.
Бес. Саул!
Саки. Не впускайте никого...
Саул. О, глухое сердечко! Разве ты не слышишь,
что меня зовут? (Саул выходит с факелом.)
Бес (по-прежнему очень жалобно). Саул!..
Саул (подходит, нагибается). Малютка! Ах, как он
дрожит! От холода, что ли? (Дотрагивается до него.)
Да оно совсем замерзло, бедное дитя! Пойдем, у меня
в шатре теплее. Ну, идем: я тебя обогрею. (Бес остает-
ся неподвижным.) О, да не могу же я тебя, однако, не-
сти на руках, тварь ты малая! (Подымает его.) Но он
чудовищно тяжел. (Уносит его.)
165
Саки уходит.
Саки уходит! Мы кстати избавились от него. Он ос-
тавил вино. Ты выпьешь. (Спускает его на землю.) Уф!
На, закутайся в мою багряницу. (Садится.)
Бес (наполовину завернувшись в порфиру). Она ра-
зорвана! *
Саул (улыбаясь). Да, с этой стороны Давид уже от-
резал себе лоскут.
Бес (весело хохочет). Ха! Ха! Ха!
Саул. Что?
Бес. Ничего.
Саул. Забавно?
Бес. Да. Я пить хочу.
Саул (протягивает ему кувшин). Пей... Ну, как —
лучше тебе? Сюда, прижмись ко мне. А теперь посиди
спокойно: мне надо о многом подумать.
Ионафан (снаружи). Отец мой!
Саул (пристыженный). Ну, хорошо! Ионафан!
Нельзя... (Бесу.) Спрячься.
Ионафан. Отец мой, следуйте за мною. Пойдем
сейчас: пора.
Саул (в крайнем смущении). Встаю. Одно мгнове-
ние... Ступай: я иду за тобой.
Показывается 6 е с; он насмешливо смотрит на Ионафана.
Ионафан. О! Это что такое?
Саул. Это ребенок, дрожавший от холода,— я при-
ютил его у себя в шатре.
Ионафан, (глубоко опечаленный). А?
Саул (стыдливо). Да.
Ионафан (впадая все больше и больше в отчая-
ние). Отец мой! Пускай он теперь убирается! Идем!
Саул (не двигаясь, совсем как слабоумный). Да.
Ионафан. О, отец мой! Отец мой! Разве вы не лю-
бите меня хоть чуточку больше, чем этого малыша?
Саул (почти рыдая). Замолчи, Ионафан!.. Иона-
фан! Умоляю тебя! Ты не знаешь, как это трудно!
Ионафан. Что — трудно? Бедный мой отец... Как
вы терзаетесь.
166
Саул. Ионафан... Ты слишком молод, чтобы понять
меня: я сознаю, что мое поведение становится все бо-
лее удивительным. Моя ценность — в моей сложности.
Послушай, я хочу сообщить тебе кое-какие тайны: ты
* думаешь, что я спал в ту ночь... там, в пещере...
Ионафан (притворяясь непоиимаюгцим). В пеще-
ре...
Саул. Да — ты знаешь — когда Давид...
Ионафан. Давид?
Саул (раздражаясь). Да, Давид... подготовлял с то-
бой мое поражение... и отрезал полу у моей багряницы,
чтобы научить тебя, каким образом лучше всего пре-
дать меня. Ха! Ха! Вы отлично сговорились оба... Какая
заботливость по отношению ко мне! Ты поблагодаришь
его за меня! Ты поблагодаришь его, а, Ионафан? (Бес
ухмыляется.) Ты хорошенько поблагодаришь его от мо-
его имени. Он считает меня совершенно одряхлевшим!
Слышно, как трубы играют сбор.
Ионафан. А!
Саул. А! Условный знак!
Ионафан. Пойдем, отец, Ах, сжальтесь над самим
собой!
Саул. Ты плачешь! Ионафан! Ионафан, сын мой! —
скажи, ты по крайней мере понимаешь, что я страдаю —
страдаю, сознавая себя причиной твоих слез? Выслушай
еще эту пословицу — я сам сочинил ее. (Выпроваживая
его на порог шатра, наставительно.) «Чем может уте-
шиться человек в своем падении, как не тем, что заста-
вило его пасть?» (Отпуская его.) Ступай! Иди! Беги ско-
рее!.. В пещеру!! Беги! Я сейчас приду к тебе.
Слышно и видно, как проходят отряды воинов. Ионафан уда-
ляется.
ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Саул, бес.
Саул (позабыв про беса). Ах, чего я жду теперь, что-
бы подняться и действовать? Пробуждения моей воли!
167
Моей воли! Я зову ее теперь, как покинутый на берегу
моряк окликает ладыо, которая, он видит, убегает
вдаль — скрывается совсем!.. Скрывается совсем... Я
против собственного убеждения сообщаю бодрость все-
му, что меня окружает.
Замечает беса, пьющего вино.
Ну, теперь оставь меня. Прощай... Уходи. Мне надо
отдохнуть.
Бес не двигается.
Бес. Ты больше не отдохнешь, царь Саул.
Саул. Я больше не отдохну! Почему ты это гово-
ришь, малютка?
Бес. Потому что я больше с тобой не расстанусь,
царь Саул.
Саул. Больше не расстанешься!
Бес. Никогда.
Саул. Как, ты больше со мною не расстанешься? Но
почему?
Бес. Потому что ты заботился обо мне.
Саул. Заботился! Что я такое сделал для тебя, не-
счастный? Я только дал тебе укрыться моей багряни-
цей — ты дрожал от холода.
Бес. Но я страшно согрелся. На, потрогай! Чувству-
ешь, как горит моя кожа?
Саул. Нет! Брось... Я не в состоянии. Уходи! Прошу
тебя: сжалься надо мной, как я сжалился над тобой.
Бес. Сжалился! О, послушай, Саул: не надо гово-
рить мне, что если ты меня приютил, это не доставляло
удовольствия тебе самому. Тебе ведь было приятно чув-
ствовать меня под плащом... а? Саул! Саул! Ну-ну, по-
слушай, Саул, потешь меня немного — нам грустно.
Разве я причинил тебе зло? А? Почему ты на меня сер-
дишься?
Саул (желая оградить себя от него). Я хочу мо-
литься.
Бес (не слыша). Кроме того, знаешь... если тебе уж
хотелось проявить свою жалость... так ведь я не один.
Там, на дворе, есть еще много других.
168
Саул (против собственной воли охваченный по-
хотью). Ах! Есть еще другие? Где лее?
Б е с. Да там — за дверью.
Саул идет к двери, подымает завесу. Бесы, толкая друг друга,
врываются в шатер.
ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ
Саул и бесы.
Саул. О, какое их множество!! Ну, входите! Боюсь,
что если я хоть одного не впущу к себе, то это как раз
окажется самый прелестный или самый несчастный!
Завеса над входом опускается. Теперь в шатре не прекращается
смутное гудение. Бесы кишат в нем целым роем.
Первый бес (остальным). Царь только что ска-
зал такую забавную вещь...
Суматоха. Он шепчет каждому из них на ухо — все смеются...
Слышно, как вторично трубят сбор.
Саул. Ах! Ах! Ночь на исходе... Надо торопиться!
Является Ионафан.
Ионафан (снаружи). Отец мой!
Саул (одним прыжком оказывается на пороге и рас-
пластывает в воздухе багряницу, чтобы заслонить от
Ионафана происходящее внутри шатра). Не входи сюда!
Ионафан (в отчаянии). Ах! Идем со мной!
Саул (настойчиво). Заклинаю тебя Богом Давида,
беги, Ионафан! Беги скорее! Я иду за тобой.
Ионафан уходит. Воины все в большем беспорядке появляются
на сцене. Снаружи доносится шум. В самом шатре бесчинствуют
бесы. Мало-помалу занимается заря. Но внутри шатра еще темно:
он освещается только факелами.
Саул (подходит к рампе, лицом к зрителям. Его
голос покрывает все остальные звуки.) Прежде чем
уйти, мне хотелось бы в нескольких словах подвести
итог. (Шум, производимый бесами, возрастает.) Да за-
169
молчите, буяны! Вы же видите, что я обращаюсь к пуб-
лике! (К зрителям.) Чем может утешиться человек...
Бесы. Да ты уже говорил об этом... ты уже гово-
рил... Ха! ха! ха!!
Впечатление все усиливающегося гама, вызываемого вознею
бесов, достигается мерными звуками музыки.
С аул (поворачивается лицом к бесам). Ну, что там?
Послушайте! Если вы хотите занять мое место... сыг-
раите нам что-нибудь, по крайней мере — покажите,
что вы умеете делать.
Бесы кувыркаются — размеренный щум. Саул долго смотрит на
них с важным видом.
Саул (с отвращением). Это вовсе не красиво.
Бесы. Но, Саул, ты нас ничему не научил.
Саул. В таком случае, довольно. Хватит.
Саул, которого затолкали, падает на колени; он пользуется этим,
чтобы сказать.
Я хочу помолиться.
Снаружи шум.
Саул (продолжая стоять на коленях, немного по-
пятился к дверям, куда мало-помалу его загнали свои-
ми толчками бесы. Молясь). Обрету ли я какое-либо
иное средство избавиться от своих желаний, кроме их
удовлетворения? (Пятится еще.) Я подвожу итог! Под-
вожу итог!.. (Свирепо.) Эй, вы, малыши! Вы совсем за-
давили меня... (Тише.) Я совершенно уничтожен.
Рассвело. Слышно, как третий раз трубят сбор. Саул, наполовину
вьгарямившись, распахивает завесу над входом. Бесы исчезают
под натиском дневного света. Музыка прекратилась.
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ
Многие.
Саул (громогласно среди полного безмолвия). Слиш-
ком поздно! Уже день.
170
Выйдя из шатра, идет налево, становится на колени или садится
на землю, погрузив руки в траву.
Ах! Как освежает меня эта прохлада!.. Теперь как
раз тот час, когда пастыри коз выгоняют стада из хле-
вов. Есть окропленные росою травы...
Входит Иоил с другими воинами из войска Давида.
Иоил (увидав Саула). Как! Он молится?
Саул (уйдя в себя, не замечая их). Искушения об-
ступают меня.
Воин (другим). Люди Давида, бегите! Известите ца-
ря, что Саул здесь и безоружен. Бегите! Давид не жела-
ет, чтобы его убивали.
Воины уходят, Иоил остается.
Саул (по-прежнему поглощенный своими мысля-
ми). ...Окропленные росою...
Иоил (подкрадывается сзади к царю и внезапно
выпрямляется во весь рост с поднятым мечом).
Саул. О! О! О! Это — одно из самых гнусных иску-
шений; оно нападает на меня с тыла.
Иоил разит его мечом. Саул падает. Иоил срывает с него венец и
хочет вручить его Давиду, появляющемуся в эту минуту с много-
численным конвоем. По приказанию Давида Иоила задерживают.
Смятение. Уже совсем светло.
Давид. Несчастный! Несчастный! Уведите этого че-
ловека! Казните его и труп отдайте на съедение поле-
вым зверям. Позор тому, кто подымает руку на пома-
занника моего Господа! Всю тяжесть этого венца он об-
рушил на мою голову.
(Наклоняется над Саулом и берет в руки венец, который он спер-
ва распорядился положить рядом с телом Саула; возлагает себе
на голову венец. Низко наклонившись, произносит
шепотом.)
Я не питал к тебе ненависти, царь Саул. (Выпрямив-
шись.) И Ионафана тоже, говорите вы? Несчастный!
Несчастный! Пускай принесут сюда его тело. Пускай
171
положат рядом с Саулом, и пусть смерть соединит их
обоих. Что это за крики? Что за стенания доносятся сна-
ружи? Душа моя стала обителью скорби.
Приносят тело Ионафана; его сопровождает целое шествие.
Горы Гелвуйские! Да не будет на вас отныне ни ме-
да, ни росы! (Склоняется над Ионафаном.) Я сделал
все, что мог, Ионафан! Я сделал все, что мог, Ионафан,
брат мой!.. (Выпрямившись.) Ну, пора подняться! Отне-
сти во дворец тела Саула и князя! Положить их на цар-
ские носилки! Пусть весь народ примет участие в погре-
бальном шествии; пускай его рыдания и жалобные сто-
ны сопутствуют моей скорби. Вы, музыканты, пусть за-
звучат похоронные напевы.
Многолюдное шествие удаляется под звуки траурного марша.
Щ
ЭДИП
ДРАМА
Действие I
Эдип. Вот я перед вами здесь весь, в этот миг веч-
ного бытия, подобный человеку, который вышел на
авансцену театра и говорит:
«Я — Эдип. Мне сорок лет, царствую двадцать. Бла-
годаря моим рукам я — у вершины счастья. Чье-то про-
павшее дитя, без имени, звания, без документов,— я
особенно рад, что обязан всем только себе. Счастье мне
не было дано: я его завоевал. Меня подстерегает само-
мнение. И, чтобы избежать его пут, я сначала себя спро-
сил, нет ли тут некоего предопределения, боясь, чтоб
голова не закружилась,— как часто о гордость споты-
кались полководцы, и не из последних... Смотри, смот-
ри, Эдип, не садись в ладьи слишком длинных фраз, из
которых рискуешь не выбраться. Говори просто, что
сказать имеешь. Пусть не будет в словах твоих чванст-
ва, которого ты постоянно стремишься в жизни избе-
жать. Просто все и вовремя зреет. Будь прост и сам, и
прям, как стрела. Сразу в цель!.. Это возвращает меня
к началу. Да, если мне иногда удается поверить в то,
что я руководим богами, я только становлюсь скромнее
и отношу за их счет свою счастливую судьбу. Ибо в мо-
ем случае как раз нетрудно возмечтать о себе. И я до-
биваюсь смирения, создавая над собой священную
власть, которой, хочу или нет, но я подчиняюсь. Да и
кто не признает охотно такую власть, раз она приводит
туда, куда пришел я? «Некий бог тебя ведет, Эдип! Вто-
рого, как ты, не найдется». Вот что я твержу себе по
175
воскресеньям и праздничным дням. В остальное время
мне некогда думать об этом. Да и к чему? Рассуждаю я
плохо. В логике не силен. Я действую по интуиции.
Есть такие люди, что на каждом шагу и во всех затруд-
нениях жизни всё тревожатся: уступать или нет, имеют
ли они право сделать еще шаг? Я действую рсегда слов-
но по внушению бога».
На авансцене хор, разделенный на две группы, справа и слева
от Эдипа.
Хор (обе группы вместе). Мы, хор, имеющие осо-
бую миссию — представлять в этом месте мнение боль-
шинства, мы заявляем, что удивлены и огорчены испо-
веданьем личности столь гордой. Чувства, высказанные
Эдипом, терпимы у ближнего только под маской. Ко-
нечно, хорошо привлечь богов на свою сторону. Но са-
мый верный путь — это быть на стороне жреца. Эдипу
следовало бы поговорить с Тирезием, ибо он постоянно
сносится с богами. Эдип, якобы служа народу, рискует
их настроить пропив него, и мы, наверно, ему обязаны
теми бедствиями, которые нас ныне терзают. (Вполго-
лоса.) Мы постараемся не очень дорогими жертвопри-
ношениями и умело направленными молитвами заслу-
жить их милость и, отступившись от нашего царя, обра-
тить на него одного ту жару, которой этот гордец заслу-
жил.
Хор справа (Эдипу). В том, что ты счастлив, хотя
об этом и говоришь слишком много,— никто не сомне-
вается. Но мы — несчастливы, мы — твой народ. Мы,
Эдип, твой народ, и мы несчастны. От тебя хотят наше
горе скрыть. Но эта драма не могла бы возникнуть, ес-
ли бы мы с тобой не поделились крайне горестной вес-
тью: чума — ведь надо же назвать ее по имени — про-
должает сеять в городе смерть. Твоей семьи она пока не
коснулась, но царю пристало сочувствовать бедствиям
своего народа даже и тогда, когда они его лично щадят.
Хор слева. Впрочем, мы склонны думать, что на-
ше несчастье и твое счастье как-то мистически связа-
ны, по крайней мере так можно понять из поучения Ти-
резия. Нужно, чтобы на этот счет все было ясно. Апол-
176
лон должен просветить нас. Ты сам соизволил напра-
вить спешно к святилищу бога доброго Креона, твоего
зятя, и он должен вскоре принести нам долгожданный
ответ оракула.
Эдип. Вот он как раз возвращается.
Входит Креон.
Эдип. Ну, что ж?
Креон. Не лучше ли было б вам поговорить с гла-
зу на глаз?
Эдип. Зачем? Ты знаешь, как я презираю личины
и задние мысли! Итак, ты скажешь всё при всех. Пред-
лагаю это тебе. Приказываю! О том, что может помочь
народной скорби, должен узнать народ, не только я.
Лишь так он может мне помочь его исцелить. Что ска-
зал оракул?
Кр е о н. Как я и предчувствовал, в царстве что-то не-
благополучно!
Эдип. Постой! Народа мало мне. Пусть позовут сю-
да твою сестру Иокасту и наших четырех детей.
Креон. Послушай! Хвалю тебя за то, что ты позвал
Иокасту. Ты знаешь, как сильны во мне родственные
чувства, к тому ж она полезный совет может дать. Но
дети, по-моему, еще слишком юны, чтобы принять уча-
стие в подобной беседе.
Эдип. Антигона уже не дитя. Этеокл и Полиник —
такие, каким я был в их возрасте: неглупы, беспечны, в
решениях поспешны. Занять их ум заботами будет по-
лезно. А Йемена — дитя и ничего не поймет.
Входят Иокастаи четверо детей Эдипа.
Эдип (Иокасте). Твой брат вернулся от пифии.
Мне хотелось услышать ответ бога, имея вас всех подле
себя... Ну, Креон, теперь говори, что же сказал оракул?
Креон. Что бог отвратит свой гнев от Фив не рань-
ше, чем будет отомщен покойный царь Лай.
Эдип. Отомщен? За что?
Креон. Ты разве не знаешь, что тот, чье место ты
занял на ложе Иокасты, сестры моей, и на престоле, по-
гиб от руки убийцы?
177
Эдип. Я это знал. Но разве преступника не пока-
рали?
Креон. Полиция его не поймала, и надо сознаться,
что не очень старалась об этом.
Эдип (Иокасте). Ты мне не говорила...
И о каста. Всякий раз, когда я начинала, ты меня,
мой друг, прерывал. «Не говори мне о прошлом, нет! —
восклицал ты.— Я не хочу знать ничего. Начался золо-
той век. Все вещи сделаны заново...»
Креон. Слово «справедливость» в твоих устах ста-
новилось «прощением».
Эдип. Если бы я знал, кто эта скотина...
И о каста. Успокойся, друг мой! Это древняя исто-
рия. Не вспоминай о прошлом.
Эдип. Нет, я не успокоюсь... И очень жаль, что не
знал я об этом раньше. Клянусь адом, я буду искать, по-
ка не найду виновного! Куда бы он ни сгинул, я его на-
стигну и обещаю — ему не ускользнуть. Сколько лет
прошло с тех пор?
Иокаста. Я была вдовой полгода, когда ты насле-
довал Лайу. Значит, двадцать лет.
Эдил. Двадцать лет счастья...
Тирезий. Которые пред оком божьим — как один
день.
Тирезий, слепой, одетый монахом, вслед за Антигоной и Исме-
ной входит, незамеченный.
Эдип. Боже! Как он надоел мне! Только и знает,
что соваться в чужие дела. Кто тебя звал?
Иокаста (Эдипу). Не следует, мой друг, так гово-
рить при детях. Опасно подрывать авторитет того, кого
мы им дали в наставники и кто должен постоянно быть
с ними. (Обращаясь к Тирезию.) Вы говорили...
Тирезий. Я не хотел бы разгневать царя.
Эдип. Не тем, что говорят, но тем, что в мыслях от
меня скрывают, можно разгневать меня. Начинай.
Тирезий. С глазу на глаз, Эдап, мы поговорим о
твоем счастье, о том, что счастьем называешь ты. Но
сейчас речь идет о несчастье народа. Эдип! Народ стра-
дает, и его царь не может об этом не знать. Между 6о-
178
гатством немногих и нищетой большинства бог ткет та-
инственную связь. Имя божье, Эдип, у тебя на устах не-
редко, и за это я тебя, конечно, не виню. Но виню за то,
что ищешь ты в боге больше пособника, чем судью, за
• то виню, что ты не трепещешь перед ним.
Эдип. Я никогда не был трусом.
Тирезий. Чем храбрее воин перед лицом людей,
тем более его трепет угоден богу.
Эдип. Если б я трепетал перед сфинксом, то не
смог бы ему ответить и не был бы теперь царем.
Оба хора. Эдип, Эдип! Все это бесполезно. Ты же
знаешь, что, говоря с Тирезием, даже царь не может
рассчитывать на последнее слово.
1-й хор. Конечно, ты сфинкса победил. Но вспом-
ни: ты уверял, что, разгадав его загадку, можешь обой-
тись без прорицания птиц.
2-й хор. А так как они мешали тебе спать, ты впу-
тал и нас, разрешив их прогнать, несмотря на увещания
Тирезия.
Оба хора. Рагу из птиц было превкусно, но мы по-
няли, что согрешили, потому что бог, в гневе, послал гу-
сениц на наш урожай.
1-й хор. И если этот год мы голодали, то, наверно,
в наказание...
2-й хор. А также потому, что нам нечего было
есть.
Оба хора. Отныне мы, готовые к послушанию,
призываем тебя покориться Тирезию.
Эдип (своим двум сыновьям). Народ всегда предпо-
читает естественному объяснению — мистику. Ничего
не поделаешь. (Тирезию.) Ну! Говори!
Тирезий. Царская полиция может искать убийцу.
Но пока она его найдет, возлагаю на каждого из вас
епитимью, ибо каждый из вас перед богом виновен, и
нет человека без греха. Так пусть каждый в себя углу-
бится, проверит себя и покается. Все же я думаю, неко-
торые жертвы смогут успокоить того, чьим гневом
столь тяжко испытуем народ. Мертвых уже не пере-
честь. Полиник, с которым мы недавно гуляли и видя-
щий то, чего я не вижу, скажет тебе...
179
Полиник. Да, отец, мы натолкнулись недалеко
от дворца на кучку зачумленных. Выпачканные ка-
лом и блевотиной, они извивались в ужасных корчах
и словно помогали друг другу умирать. Весь воздух
вокруг был наполнен их вздохами и плачем, взгляда-
ми, икотою.
Креон. Довольно! Довольно!
Йемена в обмороке.
Этеокл (Полинику). Не следовало рассказывать об
этом при сестре.
Эдип (Иокасте). Пожалуйста, уведи детей. (Тире-
зий выходит вместе с ними.) Пусть народ уйдет... Я по-
стараюсь обдумать.
Эдип и Креон остаются одни.
Креон. Ты непоследователен, как все пылкие нату-
ры. К чему этот обет, который ты только что дал?
Эдип. Какой обет?
Креон. Видишь, ты уже позабыл. Но народ, но де-
ти его не забудут, а Тирезий тебе о нем напомнит. Обет
отомстить за смерть царя.
Эдип. Ах, да! Почему не постарались убийцу пой-
мать?
Креон. Дело замяли.
Эдип. Кто?
Креон. Прежде всего — я. Я был тогда регентом к
счел неразумным привлекать к этому делу внимание
народа, показав, что и царь может быть убит, как лю-
бой человек.
Эдип. Да, но теперь народ знает.
Креон. Иокаста тоже не захотела расследования,
учтя, с большим умом, что начало твоего царствования
не должно быть омрачено.
Эдип. Иокаста всегда умела сберечь мое счастье.
Она — совершенство, Иокаста. Какая жена! Какая
мать! Я, матери родной не знавший, люблю ее, как сын
и как муж, вдвойне. Скажи-ка, что первый муж... она
его любила?
Креон. Наверно, гораздо меньше, чем тебя.
180
Эдип. Скажи еще... у них не было детей?
Креон. Это целая история. Не знаю, следует ли мне
о ней говорить...
Эдип. Тогда не начинал бы. Теперь я должен знать.
Креон. Ну вот: они не хотели иметь детей, так как
оракул...
Эдип. Опять оракул!
Креон. ...им предсказал, что Лайус умрет, заколо-
тый собственным сыном. Но однажды, в некий веселый
вечер, по неосторожности...
Эдип. Я понял. Плод опьяненья... Какая же судьба
его постигла?
Креон. Родился сын. И его сейчас же отдали одно-
му пастуху, чтобы тот, выполняя печальный приказ,
унес его в горы, где звери вскоре его растерзали.
Эдип. А пастух этот жив?
Креон. Ты хочешь слишком много знать. Вот мой
совет: не мучь себя понапрасну. Живи спокойно.
Эдип. Боюсь, что с такой занозой в ухе я спать со-
всем перестану. Впрочем, ты слышал: бог хочет, чтоб
убийца был наказан.
Креон. Милый друг, оракулы — это для народа, но
не нами им повелевать! Мы, правители, используем их
для укрепления власти и вертим ими, как захотим. Лай,
говорят они, должен быть убит своим сыном. Сын был
устранен. Все же Лай умер, возразишь ты мне. Будь он
жив, ты не смог бы занять его место. Зачем тебе опла-
кивать его смерть и стараться узнать, почему он умер?
Если он убит, то убит для тебя, убийца сыграл тебе в ру-
ку. Не наказывать нужно его, а вознаградить, быть мо-
жет.
Эдип. Но что скажетТирезий?
Креон. Ты его боишься?
Эдип. Не то что боюсь, но народ слушает его, да и
меня самого порой он голосом смущает, звуком голоса,
который словно исходит из ада... Вот он опять! Никог-
да не услышишь его приближения... Что хочешь ты от
нас, Тирезий?
Вошел Тирезий.
181
Тирезий. Эдип, царица желает с тобой говорить.
Она ждет тебя во дворце.
Эдип уходит.
Тирезий (Креону). Я хотел удивить его. Я слышал
все, о чем вы говорили. у
Креон. Ты слушал?
Тирезий. Мне слушать не надо, чтобы слышать.
Прежде чем услышать, мне уже ведомы мысли. А ты
напрасно успокаивал Эдипа.
Креон. Как это понять?
Тирезий. Слишком он и так спокоен. Его душа —
как замкнутый сосуд: она недоступна страху. Но стра-
хом божьим сильна моя власть. Нечестиво мирное сча-
стье Эдипа. Ты должен слегка надломить это счастье.
Креон. Зачем?
Тирезий. Через этот надлом бог проникнет в его
сердце. Этеокл и Полиник от меня ускользают, с каж-
дым днем мне это яснее. Иокаста подтвердит мои сло-
ва. Следуя примеру отца, она надеется освободиться от
власти, которой каждому быть покорным надлежит. Го-
ворю с тобой не во имя свое, но во имя божье и как его
представитель, затем во имя Иокасты и праведной Ан-
тигоны, наконец — во имя народа. Он охвачен ужасом.
Он видит в бедах, постигших его, наказанье за нечести-
вость царя. Да и как могла бы Антигона уважать отца,
Иокаста любить супруга, чья душа отвратилась от бога,
которого обе чтут? И ты, Креон, должен понять, что это
в интересах всех. Следует царю склониться перед вы-
сшей властью, у которой каждый, хотя бы и против ца-
ря, мог искать поддержки.
Входит Иокаста.
Иокаста. Эдип поражен вестью, которую ему я со-
общила: Антигона хочет остаться при храме.
Креон. Весталкой?
Тирезий. Неудивительно! Бедная девочка надеет-
ся искупить неверие своего отца.
Иокаста. Она доверилась мне, но это тайна пока и
от братьев.
182
Креон. Бедное дитя!
Тирезий. Почему? В боге она найдет счастье бо-
лее прочное, чем счастье Эдипа, светлое блаженство,
рожденное смирениеАм, не гордостью.
Креон. Вероятно, народное горе взволновало ее.
И о каста. Она просила позволить ей ходить за
больными. Я возражала, что это не занятие для прин-
цессы. «Тогда просить за них, за них молиться,— сказа-
ла она и затем прибавила тише: — А может быть, и за...»
Но слезы ей помешали докончить.
Тирезий. За того, кто болен еще сильней.
Креон. Она говорила об отце?
Тирезий. Наверно. А как отнесся к этому Эдип?
И о каста. Сначала он был и взбешен, и огорчен. За-
тем вскричал, что узнаёт работу Тирезия.
Тирезий. Я — только оружие божье, так как он
действует через меня. Но на этом дело не кончится.
И о каста. Верность, преданность и храбрость в воз-
любленном супруге — их к богу обратить!.. Тирезий, я
чувствую, что вот наш долг священный.
Тирезий. Креон пусть мне поможет. Пусть он по-
колеблет уверенность царя, чтобы мои слова до него
скорее дошли.
Креон. Попробую. Но не отвечаю за успех. Эдип не
станет слушать, если ему надо есть.
Тирезий. Бог внушит и тебе, чем его задеть за жи-
вое.
Креон. Бог мне вообще внушал маловато.
Тирезий. Лучше всего он внушает слепым.
И о каста. Доверяюсь, Тирезий, тебе. Твоими уста-
ми с нами говорит всевышний.
Действие II
Эдип и Креон подходят к авансцене, продолжая начатый
разговор.
Креон. ...Если б мы не были столь разны, мы пони-
манием друг друга так не дорожили. Люблю беседу с
тобой, милый зять,— ты раскрываешь мне горизонты,
которых сам бы я не увидел. Тебе — инициатива и но-
визна. Что до меня — то я связан с прошлым. Уважаю
традиции, обычаи, закон. Не думаешь ли ты, что благо,
когда в государстве все это представлено? Я для тебя —
хороший противовес: он умеряет твою быстроту, он для
смелых твоих начинаний — узда. Не раз угрожали они
телу государства распадом, но их тормозил я силой
инерции и цеплянья за прошлое-
Эдип (рассеянно). Возможно.
Креон. Семейные чувства развиты во мне особен-
но сильно. В конце концов, ты тоже член моей семьи,
и судьба твоих детей меня волнует не меньше, чем судь-
ба моих. Прости, но меня беспокоит здоровье Исмены:
она нервна, и этот обморок вчера, во время рассказа ее
брата...
Эдип. Она скоро оправилась.
Креон. Все же ей нужно побольше движения. Ты
бы последил... Иокаста тоже мне не кажется здоровой
с некоторых пор. Беда народная ее тревожит. Ты дол-
жен бы ее развлечь.
Эдип. Ладно, ладно.
184
Креон. И когда мы будем свободней, я поговорю с
тобой о твоих сыновьях. Тирезий, наверно, прекрасный
наставник, но они не хотят его слушаться. Не знаю, что
за дух упрямства,— верно от тебя,— живет в них... Читал
ли Этеокл тебе свои размышления о язвах нашей эпохи?
Эдип. О чуме?
Креон. Да нет... О язвах эпохи, с подзаголовком:
«Наши опасенья». Речь идет, конечно, об опасеньях в
высшем смысле. Замечательный мальчик, просто чудо!
Впрочем, Полиник ему не уступает ни умом, ни красо-
той, ни силой. Должно быть, они похожи на тебя, каким
ты был в их возрасте. Ты, верно, узнаешь в них себя.
Эдип. Иногда.
Креон. Мятежные души! Но у них по крайней ме-
ре твой пример перед глазами. Тогда как ты, почувст-
вовав себя чужим у Полиба... Кстати, почему ты двор
его покинул? Тебе плохо жилось у него?
Эдип. Мне? Я там как сыр в масле катался. Но я не
люблю, когда со мной нянчатся. В те времена я считал се-
бя сыном Полиба. И вот однажды при дворе появился
колдун и каждому стал гадать. Каждый его вопрошал.
Мой черед подошел. И вдруг он бледнеет, не хочет гово-
рить при других, затем, отведя меня в сторону, шепчет,
что в моей судьбе — убийство отца. Над этим предска-
заньем я сначала посмеялся, но, после уверений колдуна,
почел за благо принять свои меры. И первой мыслью бы-
ло открыться Полибу. Я сказал, что, желая избежать
предреченной беды, я хочу удалиться от него навеки,
хоть это и трудно, ибо я его люблю. Тогда он мне открыл,
желая успокоить, что я не сын ему, а только воспитанник,
и что в отношении его мне бояться нечего. О том же, кто
мой отец, он ничего мне сказать не смог. Какой-то пас-
тух пас свое стадо и нашел меня в горах. К нижним вет-
кам деревца я за ногу был привязан и висел словно плод
(вот почему я немного хромаю), на ветру, под дождем,
словно плод нежеланной любви, тайной, позорной.
Креон. Незаконный ребенок? Да, это верно, очень
тяжело.
Эдип. О, нет, черт возьми! Я даже ничего не имею
против. Когда я еще считал себя сыном Полиба, то ста-
185
рался подражать его добродетелям. «Что есть во мне,
чего не было уже в моих предках?» — спрашивал я се-
бя. Внимая урокам прошлого, я ждал, что вчерашний
день один определит мой — «таков он был». Затем
вдруг — эта нить порвалась. Хлынуло неведомое. Про-
шлого нет, образца нет. Не на что опереться. Заново
всё — родину, предков — открыть, найти, изобрести.
Не на кого походить, кроме себя. И какое мне дело с
тех пор, грек я или швейцарец? Ах, Креон! Ты столь по-
корный и согласный с прошлым, как тебе понять красо-
ту взыскательности этой? Ведь это призыв к мужест-
ву — ни отца, ни матери не знать.
Креон. Но зачем ты ушел от Полиба, раз он тебя
успокоил? Он был бездетным и ты мог бы наследовать
его престол.
Эдип. Передачу прав ненавижу и не стану пользо-
ваться ничем, чего я сам не заслужил. Во мне дремали
доблести, в бездействии мне было нетерпимо. Я чувств
вовал, что при дворе Полиба, в тишине и благополучии,
я изменю своему предназначенью.
Креон. Вполне понятно, что моя точка зренья со-
всем иная. Будь я незаконным, может быть, и я жаждал
бы, как ты, таких добродетелей и свойств, каких не по-
лучил по праву и наследству. Но, сын царя, брат царя, я
не Могу не быть консервативным. Не царствуя сам, я
охотно вкушал рри дворе Лайа и вкушаю при твоем все
блага короны, не ведая ни бремени ее, ни забот.
Эдип. Вкушай с миром! Верно, так лучше, чтоб лю-
ди склада и характера, как мой, попадались редко... Но
вот идут дети. Послушаем их незаметно...
Эдип и Креон отступают в глубь сцены. Входят Антигона и
Полиник.
Полиник. Нельзя мыслить свободно, не стерев с
разума борозд, оставленных религиозными навыками.
Антигона. Страсти, едва им отдашься, еще хуже
его мнут и кренят. Да, в разуме моем уж есть борозды,
и я мыслить могу только прямо. Правда, все движенья
моего существа направлены к...
Полиник. Кончай же...
186
Антигона. Все движенья направлены к богу.
П о л и н и к. Почему ты сначала запнулась?
Антигона. Потому — знаю я, что ты в бога не ве-
ришь.
Полиник. Бог — это просто то, к чему ты устрем-
ляешь порыв своей мысли. Ты, правда, в него веришь?
Антигона. Верю всем сердцем и всем умом. Если
б здесь был другой, я сказала б — и всей душой. Но в
душу ты тоже не веришь.
Пол иник. Может быть, в твою — ты меня верить
и заставишь, но твой бог — существует ли он вне тебя?
Антигона. Ну да, ведь это он меня влечет.
Пол иник. Просто отраженье твоих добродетелей.
Антигона. Нет, наоборот, это я отражаю. Все доб-
родетели излучает он.
Полиник. Антигона, послушай... Я хочу тебя спро-
сить... Не красней.
Антигона. Я краснею заранее, но ты спроси.
Полиник. Жениться на сестре запрещено?
Антигона. Да, конечно: и богом, и людьми. Зачем
об этом ты меня спросил?
Полиник. Если бы я мог жениться на тебе совсем,
я, кажется бы, дал тебе вести себя к этому богу.
Антигона. Как, поступая дурно, надеяться быть с
добром?
Полиник. Добро, зло... одно ты затвердила.
Антигона. Все слова, что я говорю, побывали сна-
чата в моем сердце.
Креон и Эдип оставались во время всей этой сцены незамечен-
ными; и они останутся незамеченными и во время последующих
сцен.
Креон (Эдипу). Нет, ты знаешь, я кровосмешения
признавать не могу.
Эдип. Молчи!
Полиник и. Антигона отступают в глубь сцены. Входят Э т е о к л
и Йемена.
Йемена. Вот редкость — ты один! Всегда ты вме-
сте с братом. Как вы ухитряетесь быть в такой дружбе?
187
Э те о к л. Разве не естественно, что брат лучше пой-
мет, чем друг?
Йемена. Антигона и я — мы во вкусах так несход-
ны, что я постоянно с ней ссорюсь. Все, что я люблю,
она порицает и говорит, что этого нельзя. Я смеяться бо-
юсь и играть при ней. Знаю, что она гораздо старше ме-
ня, но можно подумать, что она никогда не была моло-
дой.
Э те о к л. Полиник и я — два близнеца, вместе рос-
ли и общим у нас было все. Ни радости нет, ни мыслей,
которых бы я не делил с ним, чтоб, в нем отразившись,
они не стали вдвое ярче.
И с м е н а. Не знаю, как понравился бы мне двойник,
и не стала ли бы я ненавидеть его. Впрочем, есть вещи,
которых нельзя поделить.
Э те о к л. До сих пор они нам не попадались.
Йемена. А если влюбится один из вас?
Э те о к л. Ну, вот! Мы влюбимся в сестер-близнецов.
И с м е н а. А когда дело дойдет до престола?
Этеокл. Мы друг другу обещали, что будем пра-
вить по очереди.
Йемена. А если близнецов не найдется?
Оба смеются.
Этеокл. Пойду, посоветуюсь с ним.
Этеокл уходит. Антигона возвращается.
Антигона. Когда в городе траур, как ты можешь
смеяться?
Йемена. А ты — даже когда все благополучно во-
круг, ты не смеешься.
Антигона. Ведь в этом мире, увы, повсюду мень-
ше радости, чем горя.
Йемена. Радость — во мне самой, и она поет в мо-
ем сердце. Если оплакивать несчастных, ведь этим не-
счастья не уменьшить. Но ты сочувствуешь только тем,
кто страдает, и даже чужое счастье тебе — как нена-
стье.
Антигона. Счастье иных тревожит меня.
Йемена. Иных?
188
Антигона. Отца. И чем больше он мне дорог, там
сильней это счастье путает меня. Он хочет бога мино-
вать. Но прочным будет только то, в чем нам опора —
бог.
И с м е н а. А моя радость — крылата.
Обе уходят.
Креон (Эдипу). Нет, ты слышал, как литературно
выражались эти дети? «Моя радость крылата». Хочется
запомнить. А об Антигоне — как будто пустяк, но ты
знаешь, ее слова очень глубоки. Именно это мне хоте-
лось сказать тебе, но я не знал, как взя!ься.
Эдип. Что именно?
Креон. Ну вот! Что не так уж прочно оно, это сча-
стье твое... Идут твои сыновья.
Входят Этеокл и Полиник.
Этеокл. Чего мы, в сущности, ищем в книгах? Так
или иначе — но позволенья. Даже тот, кто как будто
влюблен в порядок и чтит закон и обычай и кого Тире-
зий зовет благонамеренным, и тот ищет позволения тес-
нить, угнетать и застращивать соседей. Он ищет таких
теорий, чтобы право было на его стороне и успокоена
совесть.
Полиник. А мы в них ищем, мы, неблагонамерен-
ные, разрешения делать то, что приличия и закон, дер-
жа нас в страхе, нам запрещают.
Этеокл. Говоря иначе — признанья недозволен-
ного.
Полиник. Да, пожалуй, нечто в этом роде.
Этеокл. Так, например, теперь я в них ищу слов,
разрешающих мне спать с Исменой.
Креон (вполголоса Эдипу). Вот шалун!
Полиник. С твоей сестрой?
Этеокл. С нашей сестрой... А что?
Полиник. Если ты найдешь — скажи мне, тогда...
Креон. Два шалуна!
Эдип (Креону). Уйди.
Креон уходит.
189
Этеокл. Если найду — что?
Полиник. Это разрешенье. Есть другое, более об-
щее, и найти его тебе будет легче: просто обойтись без
разрешенья.
Этеокл. Ах, это... Ну, я не ждал, пока найду его в
книгах, чтобы... +
Полиник. Чтобы получить его?
Этеокл. Еще бы! И если я теперь ищу доказа-
тельств, то скорей для нее.
Полиник. Для Исмены?
Этеокл. Да, для Исмены. Мне лично на это напле-
вать.
Полиник. А если я лично дам тебе по морде, тебе
будет уже не наплевать?
Этеокл. Попробуй только... ты, ревнивец! Как буд-
то до сих пор мы не всем делились! Напрасно я загово-
рил... И потом, дуралей, неправда это! Я просто хотел
тебя позлить.
Полиник. Клянись, что между тобою и Исменой
ничего нет!
Этеокл. Пока нет, борюсь с собой.
Полиник. Меньше меня.
Этеокл. Не заговори я, тебе и в голову бы не при-
шло.
Полиник. То есть я бы не знал о том, что думаю.
Есть множество вещей, о которых мы думаем, об этом
не зная.
Этеокл. Из этого состоят наши сны.
Полиник. Ты себя не спрашивал, докуда может
доходить мысль? Ее можно бы сравнить с драконом,
причем мы чаще всего видим только голову и
хвост — то, что уходит в прошлое. Некий сфинкс во
мне поводит невидимой мордой, нюхая все, втягивая
все, на все направляя свое любопытство. А прочее тя-
нется за ним.
Этеокл. Этого дракона и я назвал злом эпохи. Я
чую в себе неустанное его вопрошание. Он пожирает
меня, кусая вопросами.
Полиник. Я вспоминаю дракона, которого Кадм
победил. Говорят, что мы родились из его зубов.
190
Этеокл. Ты веришь в это, Полиник? Говорят так-
же, что Семела, дочь Кадма и смертная, носила в чре-
ве бога Вакха. На той стадии цивилизации, на которой
мы теперь, и с тех пор как последний сфинкс был убит
•нашим отцом, боги и чудовища больше не живут ни в
воздухе, ни в водах, они — в нас.
Полиник. Кадм, Ликий, Амфион — кому мы обя-
заны азбукой и уменьем фиксировать наши мысли... О,
каким старым стало человечество и все это — далеким
от нас! Я думаю о днях, когда само слово не было еще
изобретено.
Этеокл. Тирезий учит тому, что слово было людям
дано богами.
Полиник. Охотнее я верю в героев, чем в богов.
Эдип подходит к сыновьям.
Эдип. Верно! Узнаю в вас своих сыновей: слыша
вас (да, я подслушал), я упрекал себя в том, что мало с
вами общаюсь, но я хотел бы посоветовать сначала: ува-
жайте ваших сестер. Слишком близкое к нам никогда
не дает прочной победы. Чтобы расти, надо взгляд на-
править подальше. И потом — не смотрите много назад.
Поймите, что человечество гораздо дальше от цели,
чем можно себе представить, и ближе к исходной точ-
ке, которой уже не различить.
Этеокл. Цель?.. Какая же это цель?
Эдип. Какая бы ни была, она впереди. Я рисую се-
бе гораздо позднее землю, заселенную людьми, не зна-
ющими рабства. Они будут смотреть на нашу цивилиза-
цию так же, как мы смотрим на человечество в начале
его медленного пути. Я победил сфинкса, но не за тем,
чтоб вы отдыхали. Твой дракон, Этеокл, похож на дра-
кона, ждавшего меня у Фиванских врат, куда мне пред-
стояло войти победителем. Тирезий нам надоел со сво-
им мистицизмом и моралью. Меня этому учили у Поли-
ба... Тирезий никогда ничего не изобрел и не может
понять тех, кто ищет и изобретает. Как бы он ни вдох-
новлялся божеством и всеми его птицами и откровени-
ями, загадку сфинкса разрешил не он. Я понял, один я
понял, что единственный пароль, защищающий от
191
сфинкса, слово Человек. Конечно, потребовалось кое-
какое мужество, чтоб произнести его, это слово. Но я
держал его наготове еще перед тем, как услышал загад-
ку, и моя сила была в том, что я не допускал иного от-
вета, каким бы ни был вопрос. Ибо, поймите меня, де-
ти, каждый из нас в юности встречается в начале пути
с чудовищем. Оно ставит перед нами загадку, которая
могла бы помешать идти. Но если каждому из нас (у
каждого свой сфинкс) задается иной вопрос,— поверь-
те мне, что на каждый вопрос отвечает тот же ответ:
что есть только один ответ на тысячи разных вопросов,
что этот единственный ответ — Человек, что этот че-
ловек для каждого из нас его «я».
Вошел Тирезий.
Тирезий. В этой ли мудрости последнее слово,
Эдип? Сюда привело тебя твое знание?
Эдип. Отсюда оно, наоборот, начинается. Это его
первое слово.
Тирезий. А следующие?
Эдип. Искать их будут мои сыновья.
Тирезий. Они не найдут их так же, как их не на-
шел и ты.
Эдип (в сторону). Он еще надоедливей сфинкса!
(Сыновьям). Оставьте нас.
Этеокл и Полиник уходят.
Тирезий. Да, ты просишь сыновей оставить тебя,
когда нечего сказать им и твоя наука бессильна. Толь-
ко гордости ты можешь научить их. Всякое знание, иду-
щее от человека, а не от бога, не стоит ничего.
Эдип. Я долго считал, что некий бог ведет меня.
Тирезий. Это бог был ты сам,— ты сам себя обо-
жествил.
Эдип. Ты хочешь мне дать понять, что без этого бо-
га я мог и обойтись?
Тирезий. Без этого ложного бога — да, мог, но не
без истинного бога, без того, кого ты не хочешь признать,
но кто видит каждый шаг, каждую самую тайную мысль,
бога, знающего тебя так, как ты сам себя не знаешь.
19а
Эдип. Откуда ты взял, что я себя не знаю?
Тирезий. Из того, что ты считаешь себя счастли-
вым.
Эдип. Почему же не считать, раз я счастлив?
Тирезий. Когда больной мнит, что он здоров, то
мало надежд на выздоровление.
Эдип. Ты будешь уверять, что я болен?
Тирезий. Тем сильней, что ты сам об этом не по-
дозреваешь. Эдип, уверенный, что избавился от бога,
ты даже не знаешь, кто ты. Научись же видеть себя.
Эдип. Слушая тебя, можно подумать, что слепой я,
а не ты.
Тирезий. Если очи тела моего закрыты, то чтоб
лучше раскрылись очи души.
Эдип. И очами души что ты видишь?
Тирезий. Твою нищету. Но скажи мне: с каких пор
перестал ты чтить бога?
•Эдип. С тех пор, как перестал приближаться к его
алтарям.
Тирезий. Конечно, без религиозных упражнений
наша вера гаснет. Но почему, если ты еще верил, ты пе-
рестал приближаться к его алтарям?
Эдип. Я не мог с нечистыми руками.
Тирезий. Ты их осквернил грехом?
Эдип. На пути к тому богу, которого я шел вопро-
шать, и к сфинксу, с которым собирался сразиться, я со-
вершил убийство.
Тирезий. Кого же ты убил?
Эдип. Незнакомца. Он мне загородил дорогу.
Тирезий. Дорогу, ведущую к богу? Та, где ты
встретил сфинкса,— иная. Но ты ведь знал, что бог не
отвечает тем, чьи руки осквернены?
Эдип. Верно. Вот почему, решив его не вопрошать,
я пошел другим путем, ведущим к сфинксу.
Тирезий. Что хотел ты у бога спросить?
Эдип. Кто мой отец? Затем вдруг решил не узна-
вать.
Тирезий. После убийства?
Эдип. Я вдруг понял тайну того, как превратить са-
мо неведенье в силу.
Тирезий. А мне казалось — ты всегда жаждал все-
знанья. Но перед тем, как ты решил не спрашивать, ска-
жи, Эдип, какой вопрос ты богу хотел задать? Почему
это было так важно для тебя?
Эдип. Однажды оракул предсказал, что я... Но ты
становишься назойлив, я больше отвечатьтебе не буду.
Тирезий. Оракул также предсказал Лайу, что он
будет убит сыном. Эдип, Эдип! Найденыш! Нечестивый
царь! Твою уверенность тебе дает незнанье прошлого.
Твое счастье — слепо. Открой глаза на свое отчаянье.
Бог отнял у тебя право на счастье.
Тирезий уходит.
Эдип. Уйди! Уйди! Как будто счастье — это то, что
я искал. От счастья убегал я тогда, у Полиба, в двадцать
лет, напрягши мышцы, сжав кулаки. Знает ли кто, как
была прекрасна заря над Парнасом, когда я спешил по
росе, ожидая предсказанья, не имея ничего, кроме си-
лы, но богатый всеми возможностями моего существа
и еще не зная, кто я? Да, от ответа бога зависела тогда
моя судьба, и я ей подчинялся охотно. Но здесь есть
что-то, чего я никак не пойму. Это верно, до сих пор я
размышлял немного... Чтобы думать, надо остановить-
ся. А тогда я спешил действовать... Я свернул с дороги,
ведшей меня к богу, действительно ли потому, что я
обагрил свои руки? Я тогда об этом не думал. Теперь
мне даже кажется, что именно убийство меня толкну-
ло сначала к сфинксу. Чего ждать от бога? Ответов. А
я сам себя чувствовал ответом на мне еще неведомый
вопрос. Это был вопрос сфинкса. И я, прозорливец, его
победил. Но с тех пор разве для меня все постепенно
не потускнело? Но с тех пор, но с тех пор... Что ты сде-
лал, Эдип? Отупев за вкушением награды, я сплю вот
уж двадцать лет. И вот опять наконец нового чудовища
слышу в себе движенье. Великий рок меня ждет, при-
таившись в вечерних тенях. Эдип, время покоя минова-
ло. Проснись от счастья своего!
Действие III
Эдип (удерживая Иокасту за полу ее царской
мантии). Нет, нет, я знать хочу! Не ускользай, как
тень. Ты мне не ответила. Всей той правды, что мо-
жет жить в тебе, пока ты мне не откроешь, я тебя не
отпущу. Во всем этом есть что-то неясное, что я уз-
наю любой ценой. Во-первых, когда я вошел в Фивы
после победы над сфинксом, ты уже знала о смерти
Лайа?
И о каста. Как я могла обещать престол победите-
лю сфинкса, еще не зная, что я вдова?
Эдип. Чтобы стать фиванским царем, недостаточно
было ответить сфинксу,— нужно было убить царя.
И о каста. В чем же ты себя обвиняешь?
Эдип. Да нет, да нет, ты слишком спешишь. Я про-
сто хочу сказать: нужно было, чтобы Лай умер.
И о каста. Послушай! Я уже не помню ни происхо-
дившего, ни сколько времени с тех пор протекало. Кре-
он, наверно, помнит, он тебе скажет...
Эдип. Что мне до Креона? Знаешь ты, что он мне
уже сказал? Мне скорее следовало бы вознаградить
убийцу, чем его карать: ведь без его преступления я не
был бы царем. Об этой смерти царя — скажи, ты, же-
на, знала ли?
И о каста. Но, мой друг, уверяю тебя, я, право, те-
терь не помню. Из-за чего ты себя мучишь? Я знаю
одно: едва тебя тогда я увидела, как тотчас поже-
лала.
195
Эдип. Этот престол и ложе, чтоб их иметь, их
надо было освободить. Лишь благодаря убийству ца-
ря я смог получить их. Но ты еще не знала, что сво-
бодна?
И о к а с т а. Мой друг, мой друг, стоит ли этот вопрос
выяснять? Ни один историк его пока не охметил.
Эдип. Тогда — я понял все! Ты знала: убийца царя...
это...
Иокаста. Молчи!
Эдип. Убийца — это я.
Иокаста. Говори тише.
Эдип. Когда я приближался к сфинксу, на мне еще
не высохла кровь человека.
Иокаста. Довольно!
Эдип. Он хотел меня задержать. Его колесница за-
городила дорогу. Поссорившись с ним и требуя, чтобы
он меня пропустил, я его заколол. Этот незнакомец, хо-
тя на нем и не было короны, это...
Иокаста. Зачем ты хочешь знать?
Эдип. Это необходимо.
Иокаста. Над счастием своим ты не сжалишься
разве?
Эдип. Ни над чем! Счастья, основанного на неведе-
нии и ошибке,— мне его не нужно. Это для народа. Я
могу обойтись и без счастья. Теперь конец! Колдовской
обман, золотистый туман разрывается... Ты можешь
войти, Тирезий.
Входит Тирезий, ведомый Кр е о н о м.
Тирезий. Скажи, тебе я нужен?
Эдип. Нет еще. Я хочу сначала сойти на самое дно
пропасти. Это царь, убитый, скажи... Впрочем, нет, не
говори. Я понял все. Я его сын.
Креон. Ну, уж извините! Как? Что слышу я? Моя
сестра — тебе мать? Эдип, к которому я привязался! Ка-
кую мерзость большую себе представить? Не знать, кто
же он мне — племянник или зять!
Эдип. Тебя только это беспокоит? Не сбивай меня
вопросами о родстве. Если мои сыновья — мои братья,
. я любить их буду только тем сильнее.
196
Креон. Позволь мне считать эту спутанность
чувств чрезвычайно тяжелой. К тому же, как дядю, ме-
ня следует уважать.
Эдип. О страшная награда за разгадку! Как? Вот
что таилось по ту сторону сфинкса! А я-то радовался,
что родителей не знаю. Из-за этого я сочетался с ма-
терью, увы, увы! — а через нее и со всем своим про-
шлым. О, понимаю теперь, почему во мне все ценней-
шее спало! Тщетно грядущее звало меня. Иокаста тяну-
ла меня назад. Иокаста, напрасно старавшаяся избе-
жать того, что должно было случиться, ты, кого я
любил, как супруг и, того не зная, как сын... Пора. Ухо-
ди! Я нить порываю. И вы, дети, спутники спячки моей,
вы, оплотневшие мои желанья,— без вас мне должно в
мой вечер войти, чтоб завершить свою судьбу.
Тирезий. Эдип, сын греха и заблуждений, родись
заново. Страданья — вот чего тебе недоставало. Раскай-
ся! Приди к богу, он ждет. Твой грех будет прощен.
Эдип. К нему мне богом был начертан путь. Когда
еще на свет я не родился, уже был готов капкан, чтоб я
в него попался. Или оракул твой солгал, или я бы спа-
стись не смог. Я был пойман.
Тирезий. Пойман богом. Один он может примирить
тебя с самтл собою и смыть с тебя твой грех. Ты об этом
поразмысли. Но разве не следует предупредить народ, что-
бы несчастье его прекратить? Не ты сам ли обещал ему,
что виновный понесет наказанье согласно воле бога?
Эдип. Иди! Извещай, кого хочешь. Я хотел бы, чтоб
все узнали. Позови сюда и детей. Только сам им пове-
дай. Поведай все то, чего сказать я не сумею, этот грех,
который я не знаю, как назвать...
Тирезий уходит.
Иокаста. Ах! Зачем разглашать при всех то, что
могло остаться между нами? Никто бы ничего не запо-
дозрил. Еще есть время. Убийство позабыто. Оно не по-
мешало, оно дало тебе счастье. Ничто не изменилось.
Эдип. Как — ничто не изменилось? Все, все не так,
как раньше мне казалось. Ведь я был сыном царя, и,
чтобы царствовать, я мог не убивать, лишь подождать.
197
И о к а с т а. Но боги судили иначе.
Эдип. Итак, что сделал я, того не мог не сделать.
Да, верно, я думал, что бог меня ведет. И я строил на
этом уверенность в своем счастье. Но скоро даже и в
нее я верить перестал, чтобы зависеть только от себя.
Теперь я в поступках своих себя уж не узнаю. И есть
один, мной совершенный, который мне хотелось бы от-
рицать, настолько его облик изменился... Или изменил-
ся я сам, и все мне предстает по-другому.
И о каста. Тогда тебя бог ослеплял.
Эдип. Бог — говоришь ты? Я казался себе доста-
точно сильным, чтобы устоять даже против него. Я хо-
тел от него отвернуться, когда направлялся к сфинксу.
Почему? Теперь я понимаю, почему. Я соглашался
быть ему покорным, пока он вел меня к славе, но не
к преступленью, весь ужас которого он от меня скрыл.
О, низкое предательство божье, тебя нельзя стерпеть!
А теперь — разве я еще не в плену? Оракул предска-
зал, что я должен был сделать сейчас. Что мне —
спросить его еще? Узнать, Тирезий, что скажут твои
птицы? О, я хотел бы избавиться от этого бога, обвола-
кивающего меня от самого себя! Нечто сверхчелове-
ческое, героическое меня терзает. Я хотел бы изобре-
сти какую-то новую муку. Придумать сумасшедший
жест, который поразит всех, поразит меня самого и
богов. Этих глаз, не сумевших предуведомить, я не...
(Уходит.)
И о к а с т а. Иди за ним, Креон. Не покидай ни на миг...
Креон уходит.
И о каста (одна). О, несчастный Эдип! Зачем тебе
нужно было знать? Все сделала я, что могла, чтоб ты не
разорвал покрова над счастьем нашим. Отвергнутая то-
бой, я мерзко обнажена. Как отныне тебе на глаза по-
казаться, детям нашим и всему народу, приближенье
которого я слышу? О! Я хотела бы вернуться обратно к
сделать бывшее небывшим, забыть о позорном ложе и
пред лицом умерших быть только супругой Лайа, к ко-
торому пора мне уйти...
Двойной хор (диалогически).
198
— Куда пошла царица? — Спрятаться, конечно.— А
где Эдип? — Прячется тоже. Ему стыдно. Спать со
своей матерью, чтоб от нее в свою очередь родить де-
тей...— Все это дела семейные, это нас не касается —
касается богов, и они в гневе.— А потом еще убийство
Лайа, которое Эдип, его сьш, свершил, за которое Эдип
сам обещал отмстить? — Да, можно сказать, не везет,
попал в скверный переплет.— Судья должен обернуть-
ся на себя и указать на себя, как на жертву.— Верно,
чтоб смягчить богов, нужен был, по меньшей мере,
царь, так наши бедствия ужасны.— Впрочем, разве не
естественно, чтоб царь ради народа собою пожертво-
вал? — Да, если эта жертва нас от наших язв освободит.
Оба хора вместе.
Эдип, ты, себя считавший счастливым, но спавший на
ложе мерзости, о, если б нам никогда тебя не знать! Ты
нас освободил от сфинкса. Это так. Но твое презренье
к богам нам стоит несчастий и бед, и сделанное тобой
добро их не покрывает. Всякое счастье, полученное во-
преки богам, неправедно, и боги за него поздно или ра-
но заставят поплатиться. Выскажем вслух эти мысли,
так как сюда идет Тирезий.
Входит Тирезий в сопровождении детей Эдипа.
Тирезий. Дети, вы знаете, где убежище найти, ког-
да защита отца у вас будет отнята. Это ускорит ваш вы-
ход в жизнь. Эдип связал себя обетом отомстить за
смерть Лайа.
Э те о к л. Он больше не вправе занимать фиванский
престол.
П о л и н и к. Он больше не может оставаться в стране.
Антигона. Не произносите жестоких слов,— боги
их слышат и обернут против вас.
Э те о к л. Мы последуем примеру отца.
Полиник. Но, чтобы занять престол, нам хоть не
придется его убивать.
Антигона. Отец совершил свой грех по неведе-
нию.
Этеокл. Нам не придется искупать преступленья.
199
Слышны крики.
Хор. Что это за крики?
Йемена. Мне страшно!
Антигона. Пойди ко мне.
К р е о н выходит из дворца.
Креон. Ужасная кара превзошла преступленье.
Иокасты, вашей матери, не стало. Пока я следил за Эди-
пом, она покончила с собой. «Того, что очи мои не дол-
жны бы видеть (как сказал Эдип), я, увы, увидел». Моя
несчастная сестра повесилась. И потом, сейчас же
вслед, когда я пытался ее спасти, Эдип, ринувшись впе-
ред, берет царскую мантию, открывает золотые застеж-
ки и вонзает их в свои глаза, так что брызги влаги и
кровь на меня попадают и текут по его лицу. Вы слы-
шали крики? Это кричал Эдип, сначала от ужаса, потом
от боли.
Тирезий. Их больше не слышно.
Креон. Он в обмороке, наверно.
Хор. Нет. Вот он. Шаг неуверен.
Антигона (оставив Йемену, бросается к Эдипу).
Отец!..
Эдип. Твои, Антигона, я трогаю волосы? Ты — и
дочь и сестра.
Антигона. О, не напоминайте о позоре! Я не хочу
никогда быть никем, кроме дочери вашей.
Эдип. Ты, никогда не солгавшая, скажи тому, кто
уже не видит, где здесь Тирезий.
Антигона. Вот, перед вами, отец.
Эдип. Не слишком далеко, чтобы слышать мой го-
лос?
Тирезий. Да, я слышу тебя, Эдип. Ты желал со
мной говорить?
Эдип. Теперь ты доволен, Тирезий? Ревнуя к мое-
му свету, ты хотел увлечь меня в ночь. Как ты, я теперь
созерцаю божественный мрак. Я покарал эти очи, не су-
мевшие меня просветить. Отныне ты не сможешь пре-
следовать меня твоим превосходством слепого.
Тирезий. Итак, гордость побудила тебя себя осле-
200
пить. Бог не ждал от тебя нового греха во искупление
прежних, а только лишь раскаянья.
Эдип. Теперь, когда я спокойней и затихает боль
вместе с раздраженьем на тебя, я могу с тобою спорить,
Тирезий. Я восхищаюсь этим предложением раскаять-
ся, идущим от тебя, когда именно ты считаешь, что бо-
ги нас ведут и что избрать судьбу было не в моей вла-
сти. Вероятно, и эта жертва моя предусмотрена, так что
я не мог обойти и ее. Все равно. Я охотно отдаю себя
на заклание. Я дошел до той черты, за которую не мог
перейти, не напав на самого себя.
Креон. Я очень рад, милый Эдип, что боль твоя в
общем, выносима, ибо должен сообщить тебе еще одну
довольно горестную новость. После того, что случи-
лось, о твоем преступлении узнал народ, тебе нельзя ос-
таваться в Фивах.
Хор. Мы требуем, чтоб ты, согласно велению бога,
освободил нас от себя и от наших бедствий.
Креон. Этеокл и Полиник уже мечтают о престо-
ле. Если они слишком молоды, я регентом буду снова.
Тирезий. Твои сыновья сделали из твоих наставле-
ний должный вывод, тебя пусть он не удивляет.
Эдип. Охотно оставляю им, на их несчастье, не за-
воеванный и незаслуженный престол. Но из моих на-
ставлений они усвоили только приятное им, труднейше-
го и лучшего не взяв.
Антигона. Отец мой, я знаю, что вы из всех благо-
роднейший изберете выход, поэтому я вас не покину.
Тирезий. Уже обещавшись богу, ты не вправе рас-
полагать собой.
Антигона. Я обета не нарушу. Освободившись от
тебя, Тирезий, я богу останусь верной. Мне кажется да-
же, я лучше буду ему служить, уйдя с отцом, чем оста-
ваясь с тобою. До сих пор ты говорил мне о боге, но еще
благоговейней буду я ныне внимать поучениям разума и
сердца моего. Отец, обопрись рукой о мое плечо. Я креп-
ка. Ты можешь на меня опереться. Я буду расчищать ко-
лючки на твоем пути. Скажи, куда идти ты хочешь?
Эдип. Я не знаю. Прямо пред собою... Отныне —
без родины, без семьи...
201
Йемена. Яв отчаяньи, что вы так уходите!.. Дайте
мне только сшить себе траур, и я догоню вас верхом.
Ти р е з и й. Прежде чем Эдипа отпустить, выслушай-
те все, что говорят мне боги: благословенна будет та
земля, в которой будут лежать его кости.
Креон. Послушай, право, тебе лучше,бы остаться
среди нас. Это можно будет как-нибудь устроить.
Эдип. Поздно, Креон! Душа моя уже покинула Фи-
вы, и все нити с прошлым своим я порвал. Уж больше
я не царь, а только безымянный путник, отрекшийся от
славы, от богатства.
Хор. Останься с нами, Эдип! Тебе будет хорошо,
увидишь. Вспомни, что когда-то ты нам оказал большие
услуги. И если твой грех вызвал гнев богов против нас,
ты за него отплатил собою. Вспомни о твоих фиванцах,
о твоем народе. Что тебе за дело до тех, кто не знает
тебя?
Эдип. Кто бы они ни были — это люди. Мне сладо-
стно ценой своих страданий им дать счастье.
Тирезий. Не о счастье их нужно думать, но о спа-
сении.
Эдип. Ну, объясняй это сам народу. Прощай! Пой-
дем, дочь моя. Ты — единственная из моих детей, в ко-
торой я себя признать хотел бы и кому доверяю. Анти-
гона чистейшая, я дам отныне себя вести только тебе.
в
щ
ДОСТОЕВСКИЙ
В
ПЕРЕПИСКА ДОСТОЕВСКОГО
Огромная фигура Толстого все еще заслоняет гори-
зонт; но — подобно тому, как в горах мы, удаляясь, за-
мечаем, что над ближайшей к нам вершиной вырастает
вершина более высокая, которую скрывала от нас со-
седняя гора,— некоторым передовым умам уже, быть
может, становится заметно, как за великаном Толстым
показывается и растет фигура Достоевского.
Именно он — вершина, еще наполовину скрытая от
нас, таинственное средоточие горной цепи; там берут
начало самые водные реки, способные в настоящее вре-
мя утолять ту жажду, которой томится Европа. Наряду
с именами Ибсена и Ницше следует называть имя не
Толстого, а Достоевского, столь же великого, как он, и,
может быть, наиболее значительного из трех.
Лет пятнадцать тому назад г. де Вогюэ, который на
серебряном подносе своего красноречия подавал Фран-
ции железные ключи русской литературы, дойдя до До-
стоевского, принялся извиняться за этого невоспитан-
ного автора, и, не отрицая в нем, правда, известного ро-
да таланта, не без умолчаний, продиктованных правила-
ми хорошего тона, смущенный столь огромными
масштабами, просил читателя о снисхождении, призна-
вался, что «его приводит в отчаяние попытка сделать
для нас понятным этот мир». Пространно поговорив о
ранних произведениях, которые, как ему казалось, бо-
лее всего могли рассчитывать если не на успех, то по
крайней мере на милостивое отношение, он останавли-
205
вался на «Преступлении и наказании», сообщая читате-
лю, принужденному верить ему на слово, так как в то
время почти ничего другого еще не было переведено,
что «с этой книгой талант Достоевского перестал рас-
ти»; что он, «правда, еще не раз мощно взмахнет крыль-
ями, но для того лишь, чтобы кружить в кольце тумана,
в непрестанно сгущающемся сумраке»; "затем, благо-
душным тоном изобразив характер «Идиота», он гово-
рил о «Бесах» как о книге «путанной, плохо построен-
ной, подчас нелепой и загроможденной апокалиптиче-
скими теориями», а о «Дневнике писателя» как «о непо-
нятных гимнах, не поддающихся ни анализу, ни
логическому обсуждению», не касался ни «Вечного му-
жа» *, ни «Записок из подполья» и писал: «Я не говорил
о романе, озаглавленном «Подросток»**, значительно
уступающем своим старшим братьям», и с еще большей
непринужденностью: «Я также не буду останавливаться
на «Братьях Карамазовых»; по общему признанию, сре-
ди русских очень немногие имели мужество прочесть
до конца эту бесконечную историю». И заканчивал: «Я
лишь ставил себе задачей привлечь внимание к писате-
лю, знаменитому там, почти неизвестному здесь, отме-
тить в его творчестве три части (?), лучше всего показы-
вающие нам разные стороны его таланта: это — «Бед-
ные люди», «Записки из мертвого дома», «Преступле-
ние и наказание».
И в результате не знаешь, какое, собственно, чувств
во должно возобладать в тебе: благодарность ли, ибо в
конце концов он ведь первый указал нам на Достоев-
ского, или же раздражение,— так как невидимому про-
тив своего желания Вогюэ, при всех своих явно добрых
намерениях, дает нам плачевно обедненный, неполный
и тем самым искаженный образ этого необыкновенно-
го гения; и находишься в недоумении: оказал ли Досто-
* Произведение, которое такой тонкой знаток, как Мар-
сель Швоб, признавал шедевром Достоевского.
** У Вогюэ это заглавие переведено «Croissance» («Рост»).
В тексте самого Жида всюду верный перевод: «L'AdoIe-
scent».— Примеч. пер.
206
евскому услугу автор «Русского романа», обративший
на него внимание публики, или же причинил ему вред,
сосредоточив это внимание лишь на трех его книгах,
правда, уже замечательных, но не самых значительных,
лишь за пределами которых наше восхищение достига-
ет своей полноты. Может быть, впрочем, салонному со-
знанию нелегко было с первого раза схватить или по-
стигнуть Достоевского... «Он не дает отдыха; он утом-
ляет, как чистокровные лошади, которые не могут ус-
тоять на месте; прибавьте к этому необходимость
разбираться в этой путанице... В результате читатель
должен напрягать свое внимание... чувствовать себя
внутренне обессиленным»... и т. д. Тридцать лет тому
назад суждения светских людей о последних квартетах
Бетховена мало чем отличались от этого.
Эти уничижительные суждения могли, правда, за-
держать перевод, издание и распространение сочине-
ний Достоевского, отпугнуть многих читателей и позво-
лить г. Шарлю Морису преподнести нам «Карамазо-
вых» в безжалостно искалеченном виде *,— они не мог-
ли, к счастью, помешать постепенному выходу в свет,
том за томом, у разных издателей, собрания сочинений
Достоевского **.
* Якобы полный перевод «Братьев Карамазовых» появил-
ся впоследствии (в 1906 году) в издательстве Шарпантье; он
принадлежит гг. Бинштоку и Торкё.
** Во всяком случае, остаются непереведенными лишь не-
сколько незначительных повестей. Может быть, нам будут
признательны, если мы дадим здесь перечень переводов. Вот
эти переводы в хронологической последовательности подлин-
ников:
«Бедные люди» (1844). Перевод Виктора Дерели. Изд.
Плон и Нури, 1888.— «Двойник» (1846). Пер. Бинштока и
Верта. Mercure, 1906.— «Чужая жена» (1848) (и несколько
повестей). Пер. Гальперина-Каминского и Ш. Мориса. Плон,
1888.— «Слабое сердце» (1848). Пер. Гальперина-Каминско-
го. Перрен, 1891 — «Честный вор» (1848). Пер., 1892.— «Не-
точка Незванова» (1848). Пер. Гальперина-Каминского. Ла-
фитт, 1914.— «Маленький герой» (1849). Пер. Гальперина-Ка-
минского. Фламмарион, 1890.— «Из записок неизвестного»
207
Если, однако, еще и теперь Достоевский вербует се-
бе читателей лишь медленно, и притом в избранном и
довольно обособленном кругу; если он отталкивает не
только широкую публику, полуобразованную, полусерь-
езную, не вполне благожелательную,— публику, до ко-
торой, правда, не доходят также и драмы Цбсена, но ко-
торая умеет ценить «Анну Каренину» и даже «Войну и
мир»,— или ту, менее любезную публику, которая при-
ходит в восторг от «Заратустры»,— то было бы неосно-
вательно возлагать ответственность за это на г. де Во-
гюэ; я вижу здесь причины довольно сложные, которые
в значительной степени позволят нам раскрыть изуче-
ние переписки. Да я ведь сейчас и не собираюсь гово-
рить о творчестве Достоевского в целом, а только о по-
следней книге, вышедшей в издательстве Mercure de
France в феврале 1908 года («Переписка»).
(Село Степанчиково) (1858). Пер. Бинштока и Торке.
Mercure, 1906.— «Дядюшкин сон» (1859). Пер. Гальперина-
Каминского. Плон, 1895.— «Записки из мертвого дома»
(1859—1862). Пер. Нейруд. Плон, 1886.— «Униженные и ос-
корбленные» (1861). Пер. Эмбера. Плон, 1884.— «Записки из
подполья» (1864). Пер. Гальперина-Каминского и Ш. Мориса.
Плон, 1886.— «Игрок» и «Белые ночи» (1848—1867). Пер.
Гальперина-Каминского. Плон, 1887.— «Преступление и на-
казание» (1866). Пер. Виктора Дерели. Плон, 1884.— «Иди-
от» (1868). Пер. Виктора Дерели. Плон, 1887.— «Вечный
муж» (1869). Пер. Гальпериной-Каминской. Плон, 1896.—
«Бесы» (1870—1872). Пер. Виктора Дерели. Плон, 1886.—
«Дневник писателя» (1876^—1877). Пер. Бинштока и Ж. А. Но.
Шарпантъе-Фаскель, 1904.— «Подросток» (1875). Пер. Бинш-
тока и Фенеона. Revue blanche (Фаскель), 1902.— «Мальчик
у Христа на елке» (1876). Пер. Гржибовского. Прюдомм, Ша-
тоден, 1894.— «Братья Карамазовы» (1870—1880). I. Пер.
Гальперина-Каминского и Ш. Мориса. Плон, 1888; И. Пер.
Бинштока и Торке. Шарпантье, 1906.
Вышли в свет отдельными изданиями: отрывки из «Брать-
ев Карамазовых». Пер. Гальперина-Каминского. Авар, 1889;
Фламмарион, 1897.— «Кроткая», из «Дневника писателя».
Пер. Гальперина-Каминского. Плон, 1886. (Указатель сделан в
1908 г.)
208
I
Мы ожидали увидеть божество, а перед нами чело-
век — больной, бедный, вечно беспокойный и странным
образом лишенный того псевдодостоинства, в котором
он столько упрекал французов: красноречия. Говоря о
книге столь безыскусственной, единственной своей
целью я поставлю добросовестность. Если есть читате-
ли, надеющиеся увидеть здесь мастерство, литератур-
ные достоинства или позабавить свой ум, я сразу же ска-
жу, что они лучше сделают, если оставят это чтение.
Язык этих писем часто запутан, неловок, неправи-
лен, и мы благодарны г. Бинштоку за то, что, совершен-
но отказавшись от искусственного изящества, он не пы-
тался исправить эту столь характерную нескладность*.
Да, первое впечатление отталкивающее. Гофман,
немецкий биограф Достоевского, замечает, что выбор
писем, который дают нам русские издатели, мог бы
быть удачнее **; он не убеждает меня в том, что тональ-
ность их стала бы от этого иною. В том виде, как она
есть, это — толстая, утомительная книга*** — не пото-
* Вот почему во всех наших цитатах мы будем придер-
живаться текста г. Бинштока, полагая, что шероховатости вос-
производят особенности русского оригинала. Само собой ра-
зумеется, все цитаты из Достоевского здесь даны в русском
оригинале.— Примеч. ред.
** Может показаться (говорит он), в особенности если
мы окинем взглядом интимную переписку Достоевского, что
Анна Григорьевна, вдова писателя, и Андрей Достоевский, его
младший брат, в выборе писем, опубликованных ими, после-
довали чьим-то неудачным советам, и что, без всякого ущер-
ба для чьей-либо скромности они с успехом могли бы заме-
нить несколькими письмами более личного содержания мно-
гочисленные письма, касающиеся только денежных вопро-
сов.— Насчитывается не менее четырехсот шестидесяти
четырех писем Достоевского к Анне Григорьевне, из которых
ни одно еще не было опубликовано.
*** Несмотря на всю свою толщину, она могла бы быть,
она должна была бы быть еще толще. Мы жалеем о том, что
к письмам, изданным первоначально, г. Биншток не присое-
209
му, что писем много, а в силу чрезвычайной бесфор-
менности каждого из них. Пожалуй, у нас еще не бы-
ло примера писательских писем, написанных так дур-
но, то есть столь ненарочито. Достоевский, так пре-
красно умеющий говорить от чужого лица, затрудняет-
ся, когда ему надо говорить от своего лица; кажется,
что мысли ложатся под его перо не одна за другой, а
одновременно, или что, подобно тем «ветвистым но-
шам», о которых говорил Ренан, они царапают его, по-
ка он извлекает их на свет, и за все цепляются по до-
роге; отсюда — то путаное изобилие, которое, будучи
обуздано, обусловит мощную сложность его романов.
Достоевский, такой упорный, такой суровый в работе,
неустанно исправляющий, уничтожающий, переделы-
вающий написанное, страницу за страницей, пока ему
не удастся вложить в него тот глубокий смысл, кото-
рый в нем содержится,— пишет здесь, как попало, дол-
динил писем, появившихся затем в различных журналах. По-
чему, например, дает он только первое из трех писем, появив-
шихся в «Ниве» (апрель 1898)? Почему нет письма Врангелю
от 1 декабря 1858 года — по крайней мере, тех отрывков из
него, которые были изданы, где Достоевский рассказывает о
своей женитьбе и выражает надежду, что исцелится от своей
ипохондрии благодаря счастливой перемене в его жизни? А
главное, почему нет замечательного, исключительно важного
письма от 23 февраля 1854 года, опубликованного «Русской
стариной» и появившегося в «La Vogue» 12 июля 1886 года (в
переводе Гальперина и Ш. Мориса)? И если мы благодарны
ему за то, что он дал нам в виде дополнения к этому тому
«Прошение государю» три объявления о подписке на журнал
«Время», неудобоваримые «Зимние заметки о летних впечат-
лениях», где есть несколько мест, специально касающихся и
Франции, и весьма замечательный «Опыт о буржуа»,— поче-
му не присоединил он к этому проникнутую пафосом замеча-
тельную речь «Моя зашита», написанную во время дела Пет
рашевского, изданную в России восемь лет тому назад и поя-
вившуюся во французском переводе (Ф. Розенберга) в «Revue
de Paris»? Быть может, наконец, ряд пояснительных примечаг
ний кое-где послужил бы на помощь читателю, а наличие хро-
нологических разделов, быть может, объяснило бы длитель-
ные промежутки молчания.
210
жно быть, ничего не вычеркивая, но постоянно переби-
вая самого себя, стараясь сказать как можно скорее, на
самом деле бесконечно затягивая. И ничто не позволя-
ет лучше измерить расстояние, отделяющее произведе-
ние от создающего его автора. О вдохновение! Льсти-
вая романтическая выдумка? Покорные музы! где
вы? — «Долгое терпение...» — если когда-нибудь были
уместны эти смиренные слова Бюффона, то именно в
данном случае.
«Но что у тебя за теория, друг мой,— пишет он сво-
ему брату почти в самом начале своей литературной де-
ятельности,— что картина должна быть написана сразу
и проч., и проч., и проч.? Когда ты в этом убедился? По-
верь, что везде нужен труд, и огромный. Поверь, что
легкое, изящное стихотворение Пушкина, в несколько
строчек, потому и кажется написанным сразу, что оно
слишком долго клеилось и перемарывалось у Пушкина.
Все, что написано сразу,— все было незрелое. У Шекс-
пира, говорят, не было помарок в рукописях. Оттого-то
у него так много чудовищностей и безвкусия, а работал
бы,— так было бы лучше...»
Таков тон всей переписки. Свои лучшие, свои са-
мые счастливые часы Достоевский отдает работе.
Удовольствия ради не написал он ни одного письма.
Он постоянно говорит о странном, непобедимом, не-
возможном отвращении писать письма».— «Пись-
ма — глупая вещь,— говорит он,— я согласен, ничего
не выскажешь». И еще отчетливее: «Описал я вам все,
и вижу, что главного — моей духовной, сердечной
жизни — я не высказал и даже понятия о ней не дал.
Так будет и всегда, пока мы в письмах. Я письма не
умею писать и о себе не умею в меру писать». В дру-
гом месте он заявляет: «В письме никогда ничего не
напишешь. Вот почему я терпеть не могу M-me de
Sevigne. Она писала уже слишком хорошо письма».
Или еще — в юмористическом тоне: «...если я попаду
в ад, то мне, конечно, присуждено будет за грехи мои
писать по десятку писем в день, не меньше», и это, ка-
жется, единственная шутка, которую можно найти в
этой мрачной книге.
211
Итак, он будет писать, вынужденный к этому толь-
ко самой жестокой необходимостью. Каждое из его пи-
сем (за исключением, правда, писем последних десяти
лет, которые выдержаны в совсем ином тоне и о кото-
рых я еще буду говорить особо), каждое из его писем —
вопль: у него больше ничего не осталось) ои дошел до
крайности; он просит. Мало сказать «вопль»... это не-
скончаемый и однообразный стон отчаяния; он просит
неумело, без всякой гордости, без всякой иронии; он
просит и не умеет просить. Он умоляет; он торопит; он
возвращается все к тому же, настаивает, подробно опи-
сывает свои нужды... Он приводит мне на память того
ангела, который, как повествуется в «Fioretti» святого
Франциска, под видом странника постучался в дверь за-
рождавшегося братства. Если верить рассказу, он сту-
чал так; настойчиво, так долго, с такой силой, что frati
возмутились, и Массео (я думаю, это был г. де Вогюэ),
отворив ему, наконец, спросил: «Откуда ты пришел, что
стучишься так неучтиво?» А на вопрос ангела: «Как же
надо стучаться?» — Массео ответил: «Надо постучаться
трижды, но не сразу, а потом ждать. Тому, кто будет от-
ворять, надо дать время прочесть «Отче наш»; когда это
время истечет, надо постучать снова...» — «Я ведь так
тороплюсь»,— отвечает ангел. «..Я ведь утопаю, утонул
совершенно,— пишет Достоевский.— Мне ни распла-
титься, ни подняться не на что, и я в совершенном отча-
янии». («А коли не к кому, коли идти больше не к ко-
му?» — говорил один из его героев.) «Писал в Москву
к родственнику и просил 600 руб. Если не пришлет —
я погиб».
Этих жалоб или подобных им в переписке так мно-
го, что все цитаты я беру наудачу... А местами — на-
стойчивость, наивно повторяющаяся каждые шесть ме-
сяцев.
В последние годы, словно опьяненный тем смирени-
ем, которым он умел опьянять своих героев, тем стран-
ным, русским смирением, которое может ведь быть и
христианским, но, как утверждает Гофман, встречается
в каждой русской душе, даже вовсе лишенной христи-
анской веры, и которого, по его словам, никогда по-на-
212
стоящему не поймет западный человек, видящий в гор-
дости достоинство, Достоевский пишет:
«Почему же им мне отказать? тем более, что я не
требую, а покорнейше прошу».
Но, быть может, эта переписка обманывает нас, ри-
суя нам в вечном отчаянии того, кто писал только тог-
да, когда был в отчаянии... Нет: приток денег каждый
раз мгновенно поглощается долгами, так что в 50 лет он
мог писать: «Я всю жизнь работал из-за денег и всю
жизнь нуждался ежеминутно, теперь более, чем когда-
либо». Долги... или карты, распущенность и эта природ-
ная беспредельная щедрость, которая заставила Ризен-
кампфа, товарища двадцатилетнего Достоевского, ска-
зать: «Достоевский принадлежал к тем личностям, око-
ло которых живется всем хорошо, но которые сами
постоянно нуждаются».
В пятьдесят лет он пишет: «Этот будущий роман
(речь идет о «Братьях Карамазовых», которые он напи-
шет только девять лет спустя), этот будущий роман уже
более трех лет как мучает меня, но я за него не сажусь,
ибо хочется писать его не в срок, а так, как пишут Тол-
стые, Тургеневы и Гончаровы. Пусть хоть одна вещь у
меня свободно и не на срок напишется».— Но тщетно
он будет говорить: «Я работы из-за денег на почто-
вых — не понимаю: с его работой всегда будет связы-
ваться вопрос о деньгах и опасение, что эту работу не
удастся сдать к сроку: «Боюсь не поспеть в срок, опоз-
дать. Не хотел бы портить поспешностью. Правда, план
хорошо составлен и изучен, но поспешностью можно
все испортить».
Этим вызвано страшное переутомление, ибо для
него непреклонная верность своему обязательству —
дело чести; он скорее умер бы, чем дал бы нечто не-
совершенное, и под конец своей жизни он вправе бу-
дет сказать: «...Во всю мою литературную жизнь ис-
полнял я точнейшим образом мои литературные обяза-
тельства и ни разу не манкировал; сверх того, ни разу
не писал собственно из-за одних денег, чтобы отде-
213
латься от принятого на себя обязательства». И еще —
в том же письме, несколько выше: «..Я никогда не вы-
думывал сюжета из-за денег, из-за принятой на себя
обязанности к сроку написать. Я всегда обязывался и
запродавался, когда уже имел в голове тему, которую
действительно хотел писать и считал нужным напи-
сать». Таким образом, если в одном из своих ранних
писем, написанных, когда ему было двадцать четыре
года, он восклицает: «Но как бы то ни было, а я дал
клятву, что коль и до зарезу будет доходить,— кре-
питься и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит все.
Я хочу, чтобы каждое произведение мое было отчет-
ливо хорошо»,— то можно, не слишком придираясь,
сказать, что, несмотря на все, он сдержал слово.
Но всю жизнь его мучит сознание, что будь у него
больше времени, будь он более свободен, он мог бы
лучше выразить свою мысль: «Мучает меня очень, что
напиши я роман вперед, в год, а потом месяца два-три
переписки и поправки, и не то бы вышло, отвечаю». Не
самообман ли это? Кто знает? Если б у него было боль-
ше досуга — чего бы он мог достичь? Чего он еще ис-
кал? Большей простоты, должно быть, более совершен-
ной иерархии деталей... В том виде, какой они имеют,
лучшие его вещи почти на всем своем протяжении до-
стигают такой степени отчетливости и убедительности,
которую трудно превзойти.
Сколько усилий, чтобы дойти до этого! «Только
вдохновенные места и выходят зараз, залпом, а ос-
тальное все претяжелая работа». Своему брату, кото-
рый, вероятно, упрекал его в том, что он пишет недо-
статочно «просто», подразумевая под этим: недоста-
точно быстро, и в том, что он не «отдается вдохнове-
нию», Достоевский, еще молодой, отвечал: «Ты явно
смешиваешь вдохновение, то есть первое мгновенное
создание картины или движения в душе (что всегда
так и делается) с работой. Я, например, сцену тотчас
же и записываю так, как она мне явилась впервые, и
рад ей; но потом целые месяцы, год обрабатываю ее,
214
вдохновляюсь ею по нескольку раз, не один (потому
что люблю эту сцену) и несколько раз прибавлю к ней
или убавлю что-нибудь, как уже и было у меня, и по-
верь, что выходило гораздо лучше. Было бы вдохно-
венье. Без вдохновенья, конечно, ничего и не бу-
дет».— Должен ли я просить извинения, цитируя так
часто, или, напротив, мне будут благодарны за то, что
я как можно чаще предоставляю слово Достоевскому?
«Вначале, то есть еще в конце прошлого года (письмо
относится к октябрю 1870 года), я смотрел на эту вещь
как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свы-
сока. (Речь идет здесь о «Бесах».) Потом посетило ме-
ня вдохновенье настоящее,— и я вдруг полюбил вещь,
схватился за нее обеими руками — давай черкать на-
писанное».— «Весь год,— говорит он еще (1870),— я
только рвал и переиначивал. Не менее десяти раз я из-
менял весь план и писал всю первую часть снова. Два-
три месяца я был в отчаянии. Наконец, все создалось
разом и уже не может быть изменено». И вечно эта на-
вязчивая мысль: «Если б было время написать, не то-
ропясь (не к срокам), то, может быть, и вышло бы что-
нибудь хорошее».
Каждая его книга возбуждает в ней эту тревогу, это
недовольство собой: «Роман большой в шесть частей.
(«Преступление и наказание».) В конце ноября много
было написано и готово; я все сжег; теперь в этом мож-
но признаться. Мне не понравилось самому. Новая фор-
ма, новый план меня увлек, и я начал сызнова. Работаю
я дни и ночи и все-таки работаю мало». И еще в другом
месте: «Я до того заработался, что отупел и голова как
забитая». И еще: «Я здесь (Старая Русса), как в катор-
жной работе, и, несмотря на постоянно прекрасные
дни, которыми бы надо пользоваться, сижу день и ночь
за работой».
Иногда обыкновенная статья заставляет его трудить-
ся так, словно целая книга, ибо по отношению к малой
вещи совесть его остается столь же строга, как и по от-
ношению к большой.
«Я дотянул до сего времени, и, наконец-то, со скре-
жетом зубовным кончил (воспоминания о Белинском,
215
которые до сих пор не удалось разыскать). Десять лис-
тов романа было бы легче написать, чем эти два листа!
Из всего этого вышло, что эту растреклятую статью я
начинал, если все считать в сложности, раз пять, и по-
том все перекрещивал и из написанного опять переде-
лывал. Наконец, кое-как вывел статью, но до того дрян-
ную, что из души воротит». И если он глубоко убежден
в ценности своего творчества, по крайней мере в цен-
ности своих мыслей, то он остается, даже по отноше-
нию к лучшим своим вещам, требовательным в процес-
се работы над ними и неудовлетворенным по их окон-
чании:
«Редко являлось у меня что-нибудь новее, полнее и
оригинальнее («Карамазовы»). Я могу так говорить, не
будучи обвинен в тщеславии, потому что говорю еще
только про тему, про воплотившуюся в голове мысль, а
не про исполнение. Исполнение же зависит от Бога, мо-
гу и испакостить, что часто со мною случалось».
«Как бы ни вышло скверно и гадко то, что я напи-
шу,— говорит он в другом месте,— но мысль романа и
работа его — все-таки мне-то бедному, то есть автору,
дороже всего на свете».
«Романом я недоволен до отвращения,— пишет он в
период работы над «Идиотом».— Работать напрягался
ужасно, но не мог; душа нездорова. Теперь сделаю по-
следнее усилие на третью часть. Если поправлю ро-
ман — поправлюсь сам, если нет, то погиб».
Написав не только те три книги, в которых г. де Во-
гюэ видит шедевры, но «Записки из подполья», «Идио-
та», «Вечного мужа», он восклицает, увлеченный но-
вым сюжетом («Бесы»): «Пора же, наконец, написать
что-нибудь и серьезное».
И даже еще, в год своей смерти, в письме к Н...,
которой он пишет впервые, он говорит: «Я знаю, что
во мне, как в писателе, есть много недостатков, пото-
му что я сам, первый, собою недоволен. Можете во-
образить, что в иные тяжелые минуты внутреннего от-
чета я часто с болью сознаю, что не выразил букваль-
но и двадцатой доли того, что хотел бы, а может быть
и мог бы выразить. Спасает при этом меня лишь всег-
216
дашняя надежда, что когда-нибудь пошлет Бог на
столько вдохновения и силы, что я выражусь полнее,
одним словом, что выскажу все, что у меня заключе-
но в сердце и в фантазии».
Как мы далеки от Бальзака, от его уверенности и
его беззаботного несовершенства! Знал ли даже Фло-
бер такую суровую требовательность к себе, такую же-
стокую борьбу, такую неистово напряженную работу?
Не думаю. Его требовательность в большей мере одно-
сторонне-литературна, и если его непримиримая лите-
ратурная честность, если повествование о тяжелом его
труде выступает на первый план в его письмах, то при-
чина еще и в том, что этот самый труд его увлекает и
что, не хвастаясь им, он, во всяком случае, им гордит-
ся; недаром он истребил все остальное, видя в жизни
«нечто столь отвратительное, что единственный спо-
соб ее переносить — избегать ее», и сравнивая себя с
«амазонками, которые выжигали себе груди, чтобы
натягивать лук». Достоевский ничего в себе не истре-
бил; у него есть и жена и дети, он любит их; он не пре-
зирает жизнь; выйдя из каторги, он пишет: «По край-
ней мере жил, хоть страдал, да жил!» Его самоотрече-
ние во имя своего искусства, не столь заносчивое, не
столь сознательное и не столь преднамеренное, тем са-
мым только более трагично и более прекрасно. Он лю-
бит приводить слова Теренция и не желает, чтобы что-
либо человеческое оставалось ему чуждо: «Человек
не имеет права отвертываться и игнорировать то, что
происходит на земле, и есть высшие нравственные
причины, на то homo sum et nihil humanum... и т. д.».
Он не отворачивается от своих страданий, а принима-
ет их во всей их полноте. Потеряв свою первую жену,
а через несколько месяцев брата Михаила, он пишет:
«И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страш-
но. Вся жизнь переломилась надвое. В одной полови-
не, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в
Другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все
новое, и ни одного сердца, которое бы мне могло за-
217
менить тех обоих. Буквально, мне не для чего остава-
лось жить. Новые связи делать, новую жизнь выдумы-
вать? Мне противна была даже и мысль об этом. Я тут
в первый раз почувствовал, что их некем заменить,
что я их только и любил на свете, и что новой любви
не только не наживешь, да и не надо цаживать». Но
две недели спустя он пишет: «Из всего запаса моих
сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревож-
ное и смутное, что-то близкое к отчаянию. Тревога, го-
речь, самая холодная суетня, самое ненормальное для
меня состояние, и вдобавок — один,— прежних и
прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между
тем все мне кажется, что я только что собираюсь
жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть».
Ему в это время сорок четыре года; и не пройдет и го-
да, как он снова женится.
Уже в двадцать восемь лет, находясь в предвари-
тельном заключении, в ожидании Сибири, он воскли-
цал: «Я ожидал гораздо худшего и теперь вижу, что
жизненности во мне столько запасено, что и не вычер-
паешь». И (в 1856 году), еще из Сибири, но, уже отбыв
каторгу и женившись на вдове Марии Дмитриевне Иса-
евой, он пишет: «Теперь не так, как прежде, столько об-
деланного, столько обдуманного и такая энергия к пись-
му!.. Ну, неужели, имев столько мужества и энергии в
продолжение шести лет для борьбы с неслыханными
страданиями, я не способен буду достать столько денег,
чтоб прокормить себя и жену? Вздор! Ведь главное, ни-
кто не знает ни сил моих, ни степени таланта, а на это-
то главное я и надеюсь».
Но, увы! Бороться ему приходится не только с нуж-
дой! «Я же и вообще-то работаю нервно, с мухой и за-
ботой. Когда я усиленно работаю, то болею даже физи-
чески». «...Все это время работал день и ночь букваль-
но, несмотря на припадки». И в другом месте: «А меж-
ду тем, припадки добивают окончательно, и после
каждого я суток по четыре с рассудком не могу со-
браться».
Достоевский никогда не скрывал своей болезни;
припадки «священного недуга» были к тому же, увы!
218
слишком часты, чтоб многие из друзей и даже посто-
ронних не становились порой их свидетелями. Страхов
описывает нам в своих воспоминаниях один из этих
припадков, не видя в эпилепсии, так же как и Достоев-
ский, ничего постыдного или даже указывающего на
более «низкий» нравственный или умственный уровень,
ничего, кроме обстоятельства, затрудняющего работу.
Даже незнакомым корреспонденткам, которым Досто-
евский пишет в первый раз, он вполне наивно и просто
будет говорить, жалея, что задержал письмо: «Я выдер-
жал три припадка моей падучей болезни, чего уже мно-
гие годы не бывало в такой силе и так часто. Но после
припадков я по два, по три дня ни работать, ни писать,
ни даже читать, ничего не могу, потому что весь разбит,
и физически, и духовно. А потому, узнав это теперь, из-
вините меня за долгий неответ».
Эта болезнь, которой он страдал еще до Сибири,
усиливается в годы каторги, ослабевает во время пре-
бывания за границей, затем снова овладевает им с еще
большей силой. Со временем припадки становятся ре-
же, но тем сильнее. «Когда припадка долго не бывает
и вдруг разразится, то наступает тоска необычайная,
нравственная. До отчаяния дохожу. Прежде (пишет он
в возрасте пятидесяти лет) эта хандра продолжалась
дня три после припадка, а теперь дней по семи, по
восьми».
Несмотря на припадки, он цепляется за свой труд,
он делает напряженные усилия под гнетом взятых на
себя обязательств: «Они объявили, что в апрельском но-
мере («Русского Вестника») явится продолжение
(«Идиота»), а у меня ничего не готово, кроме одной, ни-
чего не значащей главы. Что я пошлю — не понимаю!
Третьего дня был сильнейший припадок. Но вчера я
все-таки писал в состоянии, похожем на сумасшест-
вие».
Пока результатом этого являются страдания и неу-
добства, положение еще сносно: «Но, увы! Замечаю с
отчаянием, что уже не в состоянии, почему-то, стал так
скоро работать, как еще недавно, и как прежде». Он. не-
однократно жалуется на то, что его память и воображе-
219
ние слабеют, и за два года до смерти, в пятьдесят во-
семь лет, говорит: «Давно уже заметил, что чем дальше
идут годы, тем тяжелее мне становится работа. Все
мысли, стало быть, неутешительные и мрачные...»
Между тем он пишет «Карамазовых».
В прошлом году, когда были опубликованы письма
Бодлера, г. Мендес пришел в ужас и не без пафоса про-
тестовал, аргументируя «целомудрием» художника и
т. п. Читая переписку Достоевского, я вспоминаю заме-
чательные слова, приписываемые самому Христу и
лишь недавно получившие известность: «Царство Бо-
жие наступит тогда, когда вы снова станете ходить на-
гие и не будете стыдиться».
Конечно, всегда найдутся щепетильные любители
литературы, чрезмерно стыдливые, предпочитающие
видеть только бюст великого человека и восстающие
против издания личных документов, частных писем; в
этих писаниях они как будто не усматривают ничего,
кроме удовольствия, которое испытывает посредствен-
ность* видя, что герои поддаются таким же слабостям,
как и она. По этому поводу они начинают рассуждать о
бестактности, и если у них романтическое перо, то и об
«осквернении могил», и уж во всяком случае о нездо-
ровом любопытстве; они говорят: «Оставим человека;
важны только произведения».— Бесспорно. Но ведь
изумительно, и для меня бесконечно поучительно то,
что он их создал, несмотря на свои слабости.
Так как я не занимаюсь биографией Достоевского,
а набрасываю его портрет, и лишь на основании дан-
ных, которые содержит его переписка, то остановился
я только на препятствиях конституционального харак-
тера, к числу которых полагаю возможным отнести эту
непрерывную нужду, так тесно связанную с ним, нуж-
ду, которой как будто втайне требовала его природа...
Все складывается против него: в самом начале его де-
ятельности, несмотря на болезненность в детские годы,
220
его признают годным для службы, между тем как его
брата Михаила, более крепкого, забраковывают. Попав
в кучку подозрительных, он арестован, приговорен к
смерти, потом помилован и сослан в Сибирь для искуп-
* ления своей вины. Там он проводит десять лет: четыре
года на каторге и шесть в Семипалатинске, на военной
службе. Там, быть может, без особой любви*, в том
смысле, как мы обычно понимаем это слово, а из ка-
кого-то страстного милосердия, из жалости, из нежно-
сти, потребности самопожертвования и природного
влечения брать на себя всякое бремя и ни от чего не
уклоняться, он женится на вдове каторжника Исаева,
матери уже довольно большого мальчика, ленивого
или неспособного, который с тех пор останется у него
на попечении. «Если спросите обо мне, то что вам ска-
зать: взял на себя заботы семейные и тяну их. Но я ве-
рю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу уми-
рать». На его попечении также и семья брата Михаила,
после смерти последнего. На его попечении, как толь-
ко у него появляются лишние деньги, а следовательно,
становится возможен кой-какой досуг,— журналы, ко-
торые он основывает, поддерживает, редактирует**.
«Надобно было решиться на меры энергические. Я стал
печатать разом в трех типографиях, не жалел денег, не
жалел здоровья и сил. Редактором был один я, читал
корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправ-
лял статьи, доставал деньги, просиживал до шести ча-
сов утра и спал по пять часов в сутки, и хоть ввел в
журнал порядок, но уже было поздно». Журнал, дейст-
* «О друг мой, она любила меня беспредельно, я любил
ее тоже без меры, но мы не жили с нею счастливо. Все рас-
скажу вам при свидании,— теперь же скажу только то, что,
несмотря на то, что мы были положительно несчастны вме-
сте (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастиче-
скому характеру),— мы не могли перестать любить друг дру-
га; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг
к другу, как ни странно это, а это было так». (Письмо Вранге-
лю, после смерти жены)
** «Чтобы отстаивать идеи, которые, как ему казалось, у
него были»,— говорит г. де Вогюэ.
221
вительно, не избежал гибели. «Но главное,— прибавля-
ет он,— при всей этой каторжной и черной работе, я
сам не мог написать и напечатать в журнале ни строч-
ки своего. Моего имени публика не встречала, и даже
в Петербурге, не только в провинции, не знала, что я
редактирую журнал».
Все равно! он продолжает, упорствует, начинает
снова; ничто не приводит его в отчаяние, в уныние. Од-
нако и в последний год своей жизни он еще должен бо-
роться, если не с общественным мнением, которое он
окончательно завоевал, то с газетами, которые еще со-
противляются: «За мое же слово в Москве (речь о Пуш-
кине) видите, как мне досталось от нашей прессы поч-
ти сплошь: точно я совершил воровство, мошенничеств
во или подлог в каком-нибудь банке. Даже Юханцев
(знаменитый в то время мошенник) не был облит таки-
ми помоями, как я».
Но не награды ищет он, и не самолюбие или тщесла-
вие писателя руководит им. В этом смысле как нельзя
более знаменательно его отношение к своему первому
блестящему успеху: «Вот уже третий год литературно-
го моего поприща,— пишет он,— я как в чаду. Не вижу
жизни, некогда опомниться, наука уходит за невремень-
ем... Сделали они мне известность сомнительную, и я
не знаю, до каких пор пойдет этот ад».
Он так убежден в ценности своей идеи, что его цен-
ность как человека растворяется в ней и исчезает. «Что
я вам сделал,— пишет он барону Врангелю, своему дру-
гу,— что вы меня так любите?», а под конец жизни, об-
ращаясь к незнакомой корреспондентке: «Вы думаете,
я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают
души, отгоняют скорбь? Многие мне это пишут,— но я
знаю наверно, что способен скорее вселить разочарова-
ние и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иног-
да брался за это». И все же — сколько нежности в этой
душе, такой больной! «Я тебя каждую ночь во сне вижу,
тревожусь страшно,— пишет он из Сибири своему бра-
ту,— не хочу, чтоб ты умер, я хочу еще раз в жизни ви-
деть и обнять тебя, мой бесценный. Успокой же меня,
ради Бога, и если ты здоров, то ради Христа отбрось все
222
свои дела и хлопоты и напиши мне сию минуту, иначе
я с ума сойду».
Найдет ли он хоть здесь какую-нибудь поддерж-
ку? — «Напишите мне подробно и скорее: как вы на-
чали моего брата? (Письмо барону Врангелю из Семипа-
латинска от 23 марта 1856 года.) В каких он мыслях обо
мне? Прежде это был человек, меня любивший горячо!
Он плакал, прощаясь со мною. Не охладел ли он ко
мне? Не изменил ли характера? Как грустно было бы
мне это! Не обратился ли он весь в наживу денег и за-
был все старое? Не верится мне как-то этому. Но опять:
чем же объяснить, что он не пишет иногда по семь, по
восемь месяцев*. ...И так мало нижу я прежнего, заду-
шевного! Никогда не забуду, что он сказал Хоментов-
скому, передававшему ему мою просьбу похлопотать за
меня: что мне лучше оставаться в Сибири». Правда, он
это написал, но он только и стремится предать забве-
нию эти жестокие слова; нежное письмо Михаилу, из
которого я только что цитировал отрывки, написано по-
зднее; вскоре он писал Врангелю: «Брату скажите, что
я обнимаю его, прошу у него прощения за все горести,
которые я нанес ему; на коленях перед ним». Наконец,
* В течение последних четырех лет каторги Достоевский
не получал известий от своих. 22 февраля 1854 года, за де-
сять дней до своего освобождения, он написал своему брату
первое из известных нам сибирских писем, замечательное
письмо, которое, к сожалению, не напечатано в собрании
Бинштока: «Наконец-то, кажется, я могу поговорить с тобою
попространнее и повернее. Но, прежде чем напишу строчку,
спрошу тебя: Скажи ты мне ради Господа Бога, почему ты
мне до сих пор не написал ни одной строчки? И мог ли я ожи-
дать этого? Веришь ли, что в уединенном, замкнутом положе-
нии моем, я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, ду-
мая, что тебя нет и на свете, и тогда по целым ночам разду-
мывал, что было бы с твоими детьми, и клял мою долю, что
не могу быть им полезным... Да неужели же тебе запретили?
Ведь это разрешено, и здесь все политические получают по
нескольку писем в год. Кажется, я отгадал настоящую причи-
ну твоего молчания. Ты по неподвижности своей не ходил в
полицию...»
223
самому брату он пишет 21 августа 1855 года (письмо, от-
сутствующее у Бинштока): «Милый друг, прошлый год,
в октябре месяце, на мои, подобные этим, сетования, ты
написал мне, что тебе очень грустно, очень тяжело бы-
ло читать их. Дорогой мой Миша! не сердись на меня,
ради Бога вспомни, что я одинок, как камень отброшен-
ный; что характером я был всегда грустен, болен и мни-
телен. Сообрази все это и извини меня, если сетования
мои неправы, а предположения глупы; я даже и сам
уверен, что я неправ».
Конечно, Гофман была права, и западный читатель
запротестует против столь смиренного раскаяния; наша
литература, которая слишком часто бывает окрашена в
испанские тона, учит нас, что благородство велит не за-
бывать оскорбления!..
Что же он скажет, этот «западный читатель», ког-
да прочтет: «Вы пишете, что все любят царя. Я сам
обожаю его»? А Достоевский, пишущий это, еще в Си-
бири. Не ирония ли в этих словах? Нет. Он постоянно
возвращается к этому в своих письмах: «Монарх добр,
милосерд», а когда, после десяти лет ссылки, он хода-
тайствует о разрешении вернуться в Петербург и о за-
числении своего пасынка Павла в гимназию, то гово-
рит: «Я рассуждал, что если откажут в одном, то, мо-
жет быть, не захотят отказать в другом, и если не со-
изволит государь разрешить мне жить в Петербурге,
то по крайней мере примет Пашу, чтоб не отказывать
совершенно».
Действительно, такая покорность приводит в сму-
щение. Нигилисты, анархисты, даже социалисты не
смогут извлечь из этого никакой пользы. Как! Ни ма-
лейшего крика протеста? Если не против царя, которо-
го благоразумнее почитать, то по крайней мере против
общества, против тюрьмы, из которой он вышел поста-
ревший? Послушаем же, как он говорит о ней: «Что
сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим
умом и сердцем в эти четыре года — не скажу тебе.
Долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в са-
мом себе, куда я убегал от горькой действительности,
принесло свои плоды. У меня теперь много потребно-
224
стей и надежд, таких, о которых я и не думал» *. И в
другом месте: «Если ты думаешь, что во мне еще есть
остаток той раздражительной мнительности и подо-
гревания в себе всех болезней, как и в Петербурге, то,
йожалуйста, разуверься, и помину прежнего нет...» И,
наконец, много времени спустя, в письме от 1872 го-
да С. Д. Яновскому, замечательное признание (где
слова, напечатанные разрядкой, подчеркнуты Досто-
евским): «Вы любили меня и возились со мною, с
больным душевной болезнью (ведь я теперь со-
знаю это), до моей поездки в Сибирь, где я
вылечился».
Итак, ни единого слова возмущения! Напротив,
благодарность! Он — точно Иов, которого рука пред-
вечного терзает, хоть и не может вырвать из его сер-
дца ни единого богохульства... Этот мученик приво-
дит нас в смущение. Ради какой веры живет он? Ка-
кие убеждения поддерживают его? — Быть может, ис-
следуя его взгляды, хотя бы в тех пределах, в каких
они сказываются в этой переписке, мы поймем тай-
ные, но уже приоткрывающиеся нам причины, по ко-
торым Достоевский не имел успеха у большой публи-
ки, поймем причины этой немилости и того, что он
все еще медлит в чистилище славы.
II
Не принадлежа ни к одной партии, боясь духа мя-
тежа, вносящего разделение, он писал: «К тому же тут
мысль всего более меня занимающая: «в чем наша об-
щность, где те пункты, в которых мы могли бы все,
разных направлений, сойтись?» Глубоко убежденный
в том, что «высшая русская мысль есть всепримире-
ние идей» Европы, Достоевский, «старый русский ев-
ропеец», как он себя называл, всеми силами своей ду-
ши трудился ради этого русского единства, которое в
* Письмо к Михаилу от 22 февраля 1854 года, отсутствую-
щее у Бинштока.
225
великой любви к родине и к человечеству должно бу-
дет слить все партии. «Да! разделяю с вами идею, что
Европу и назначение ее окончит Россия. Для меня это
давно было ясно», пишет он из Сибири. В другом ме-
сте он говорит о России, как о «вакантной нации»,
«способной стать во главе общечеловеческого дела».
И если, в силу убеждения, может быть лишь прежде-
временного, он заблуждался относительно значения
русского народа (чего я отнюдь не думаю), то причи-
ной было не шовинистическое увлечение, а глубоко
проникновенное понимание принципов и страстей,
определяющих партийный раздор в Европе, понима-
ние, которым,— так ему казалось,— он обладал имен-
но как русский. Говоря о Пушкине, он восхваляет его
«способность всемирной отзывчивости» и прибавляет:
«Способность эта есть всецело способность русская,
национальная, и Пушкин только делит ее со всем на-
родом». В русской дутые он видит «склонность к все-
мирной отзывчивости и к всепримирению» и доходит
до того, что восклицает «Да и какой истинный рус-
ский не думает прежде всего о Европе!», до того, что
произносит изумительные слова: «Русскому скиталь-
цу необходимо именно всемирное счастие, чтоб успо-
коиться».
Он убежден в том, что «характер нашей будущей де-
ятельности должен быть в высшей степени общечело-
веческий, что русская идея, может быть, будет синте-
зом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким
мужеством развивает Европа, в отдельных своих наци-
ональностях», взоры его все время устремлены на Евг
ропу; его суждения о политической и социальной жиз-
ни Франции и Германии относятся к числу самых инте-
ресных для нас мест в его переписке. Он путешествует,
подолгу остается в Италии, Швейцарии, Германии, ув-
лекаемый сперва своей любознательностью, потом це-
лые месяцы удерживаемый нескончаемыми денежны-
ми затруднениями, потому что ему нехватает средств
продолжать путешествие, заплатить новые долги или
потому, что в России он опасается встретить старых
кредиторов и снова побывать в тюрьме... «С моим здо-
226
ровьем,— пишет он в сорок девять лет,— я не вынесу и
полугода в заключении публичном, а главное, ничего
не сработаю».
Но за границей ему сразу же нехватает русского
* воздуха, соприкосновений с русским народом, нет для
него ни Спарты, ни Толедо, ни Венеции; он нигде не мо-
жет обжиться, нигде ему не по себе, хотя бы на миг.
«Ах, Николай Николаевич,— пишет он Страхову,— мне
так нестерпимо жить за границей, что и передать нель-
зя этого!» Нет письма, где бы ни слышалась все та же
жалоба изгнанника: «Надо в Россию. Здесь тоска одо-
левает». Кажется, будто тайные соки, которыми пита-
лись его творения, он черпал там, на месте, и они исся-
кали, едва он отрывался от родной почвы: «Не пишет-
ся, Николай Николаевич, или пишется с ужасным муче-
нием. Что это — я понять не могу. Думаю только, что
это — потребность России. Во что бы то ни стало надо
воротиться». И в другом месте: «...мне Россия нужна,
для моего писанья и труда нужна...» «Я слишком ясно
почувствовал, что теперь, где бы ни жить,— оказывает-
ся все равно, в Дрездене или где-нибудь, везде на чу-
жой стороне, везде ломоть отрезанный». И еще: «Од-
ним словом, если б вы знали, до какой степени я чувст-
вую себя здесь совершенно лишним и чужим челове-
ком... здесь я тупею и ограничиваюсь, от России отстаю,
русского воздуха нет и людей нет. Я не понимаю, нако-
нец, русских эмигрантов. Это — сумасшедшие».
Однако «Идиота» он пишет в Женеве, в Вевё; «Веч-
ного мужа», «Бесов» — в Дрездене. Но не все ли рав-
но! «Про здешнее же писание вы говорите золотые
слова; действительно я отстану — не от века, не от зна-
ния, что у нас делается (я наверно гораздо лучше ваше-
го это знаю, ибо ежедневно прочитываю три русские
газеты до последней строчки и получаю два журна-
ла),— но от живой струи жизни отстану; не от идеи, но
от плоти ее,— а это ух как влияет на работу художест-
венную».
Таким образом, эта «всемирная отзывчивость» со-
провождается и подкрепляется пламенным национализ-
мом, который в сознании Достоевского является ее не-
227
обходимым дополнением Он неустанно, без конца воз-
мущается теми, кого там в то время называли «прогрес-
систами», то есть (такова мысль Страхова) против «по-
литиканов, которые ждут прогресса от русской культу-
ры,— не от органического развития народных основ, а
от поспешно усвоенных уроков Запада. «Француз преж-
де всего француз, я англичанин — англичанин, и быть
самим собою их высшая цель. Мало того: это-то и их си-
ла». Он восстает против людей, которые делают рус-
ских беспочвенными, и, задолго до Барреса, предосте-
регает студента, который, «отрываясь от общества и ос-
тавляя его, уходит не к народу, а куда-то за границу, в
«европеизм», в отвлеченное царство небывалого никого
да общечеловека, и таким образом разрывает и с наро-
дом, презирая его и не узнавая его». Совершенно в ду-
хе Барреса и его суждений о «нездоровом кантианстве»
он пишет в объявлении о подписке на редактируемый
им журнал *: «Как бы ни была плодотворна сама по се-
бе чья-нибудь захожая к нам идея, но она лишь тогда
только могла бы у нас оправдаться, утвердиться и при-
нести нам действительную пользу, когда бы сама наци-
ональная жизнь наша, безо всяких внушений и рекомен-
даций извне, сама собою выжила эту идею, естествен-
но и практически, вследствие практически сознанной
всеми ее необходимости и потребности. Ни одна в ми-
ре национальность, ни одно сколько-нибудь прочное го-
сударственное общество еще никогда не составлялось
доселе по предварительно рекомендованной и заимст-
вованной откуда-нибудь извне программе». И у Барре-
са я не встречал утверждений ни более решительных,
ни более настойчивых.
Но, будь сказано совершенно мимоходом, вот заме-
чание, которого, к сожалению, мы у Барреса не найдем:
«Способность отрешиться на время от почвы, чтобы
трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже
сама по себе признак величайшей особенности; способ-
ность же примирительного взгляда на чужое есть высо-
* Объявление о подписке на журнал «Эпоха», которое
Биншток дает в виде приложения к переписке.
228
чайший и благороднейший дар природы». Впрочем, До-
стоевский как будто не предвидел, до какого ослепле-
ния должна доводить нас эта доктрина: «Француза ни-
когда не разуверишь в том, что он первый человек на
• всем земном шаре. Впрочем, о всем земном шаре, кро-
ме Парижа, он весьма мало знает. Да и знать-то очень
не хочет. Это уж национальное свойство и даже самое
характеристичное».
От Барреса он еще более четко и еще более выгод-
но отличается своим индивидуализмом. А по сравне-
нию с Ницше он становится для нас замечательным
примером того, как мало самовлюбленности и самодо-
вольства может иногда требовать эта вера в ценность
собственного я. Он цишет:
«Ни из какой цели нельзя уродовать свою жизнь»;
ибо, с его точки зрения, без патриотизма, равно как и
без индивидуализма нет никакой возможности послу-
жить человечеству. Если иного барресиста и завоевали
утверждения, сначала процитированные мною, то где
тот барресист, которого эти последние высказывания
не восстановили бы против Достоевского?
Точно так же — где тот французский католик, ко-
торый, читая вот эти строки: «Нравственное основа-
ние общества, взятое из позитивизма, не только не да-
ет результатов, но и не может само определить себя,
путается в желаниях и в идеалах. Неужели, наконец,
мало теперь фактов для доказательства, что не так со-
здается общество, не те пути ведут к счастию, и не от-
туда происходит оно, как до сих пор думали? Откуда
же? Напишут много книг, а главное упустят: на Запа-
де Христа потеряли... и оттого Запад падает, единен
венно оттого»,— не пришел бы в восторг, если бы уже
не натолкнулся на замечание, которое я сперва опу-
стил: «На Западе Христа потеряли по вине католициз-
ма»? Где тот французский католик, который теперь
посмеет умилиться слезами благочестия, наводняю-
щими эту переписку? Тщетно Достоевский пожелает
«разоблачить перед миром русского Христа, миру не-
ведомого, и которого начало заключается в нашем
родном православии»,— французский католик, в силу
229
собственного своего правоверия, не захочет слушать,
и тщетно, по крайней мере, с точки зрения нашей со-
временности присовокупит Достоевский: «По-моему в
этом вся сущность нашего будущего цивилизаторства
и воскрешения хотя бы всей Европы и вся сущность
нашего могучего будущего бытия». >
Точно так же, если 1^ну де Вопоэ Достоевский дает
повод усмотреть в его произведениях «ожесточенную
борьбу с мыслью, с полнотой жизни», «освящение иди-
отизма, пассивности, бездеятельности» и т. д., то, с дру-
гой стороны, в его письме к брату, отсутствующем у
Бинштока, мы читаем: «Там все люди простые,— гово-
рят мне в ободрение. Да простого-то человека я боюсь
более, чем сложного». Молодой девушке, желавшей
«быть полезной», выразившей ему свое намерение
стать сиделкой или акушеркой, он писал: «...можно бы,
занявшись правильно своим образованием, приготовить
себя на деятельность во сто раз более полезную, чем
темная и ничтожная роль какой-нибудь фельдшерицы,
бабки и лекарки... не лучше ли бы теперь заняться вы-
сшим образованием... большинство наших специали-
стов — все люди глубоко необразованные... А большин-
ство студентов и студенток — это все безо всякого об-
разования. Какая тут польза человечеству!»
Разумеется, мне и без этих слов было понятно, что
г. де Вопоэ заблуждается, но как-никак ошибка была
возможна.
Не легче завербовать Достоевского и в ряды сторон-
ников или противников социализма; ибо хотя Гофман в
праве сказать: «Достоевский никогда не переставал
быть социалистом в самом человечном смысле этого
слова», то разве не читаем мы в его переписке: «Уж и
теперь социализм проел Европу, а к тому времени уже
подточит все окончательно».
Являясь консерватором, но не поборником тради-
ций, монархистом, но демократом, христианином, но
не католиком, либералом, но не «прогрессистом», До-
стоевский остается человеком, которым мы не знаем,
230
как распорядиться. Он способен доставить неудоволь-
ствие любой партии. Ведь он никогда не воображал,
что для роли, которую он на себя берет, хватит даже
всего его ума,— или же, что ради непосредственных
* целей он имеет право фальшивить, искажать звуки это-
го бесконечно нежного инструмента. «По поводу всех
этих возможных направлений,— пишет он, и слова
подчеркнуты им,— слившихся в общем мне приветен
вии (9 апреля 1876 года), я и хотел было написать
статью, а именно впечатление от тех писем (без обо-
значения имен). К тому же, тут мысль, всего более ме-
ня занимающая: «в чем наша общность, где те пункты,
в которых мы могли бы все, разных направлений, сой-
тись?» Но, обдумав уже статью, я вдруг увидел, что ее
со всею искренностью ни за что написать нельзя; ну, а
если без искренности, то стоит ли писать?» Что он хо-
чет сказать? Вероятно, следующее: чтобы эта злобо-
дневная статья понравилась всем и чтобы успех был ей
обеспечен, ему пришлось бы совершить насилие над
своей мыслью, упростить ее сверх меры, наконец,
взвинтить свои убеждения, лишив их естественности.
На это он не может согласиться.
В силу индивидуализма, чуждого прямолинейности
и совпадающего с простой честностью мысли, он не со-
глашается представить свою мысль иначе, как во всей
ее сложной полноте. И это самая важная и самая сокро-
венная причина его неуспеха у нас.
Я не хочу сказать, что сильные убеждения обычно
влекут за собой несколько нечестную аргументацию;
но логичность для них не необходима; и все же г. Бар-
рес слишком умен, чтобы не понять сразу, что всего бы-
стрее мы проведем в свет какую-нибудь идею не путем
всестороннего и беспристрастного ее освещения, а
энергично ее подталкивая в одном определенном на-
правлении.
Чтобы обеспечить идее успех, следует выдвигать
только ее одну, или, если угодно: чтобы достигнуть ус-
пеха, следует выдвигать только одну идею. Найти удач-
ную формулу еще недостаточно; важно не выходить за
ее пределы. Встречаясь с каким-нибудь именем, публи-
231
ка желает знать, чего держаться ей, и не выносит того,
что затуманивает ей мозги. Когда говорят: — Пастер,
она рада, что сразу же может подумать: ах, да, бешен-
ство; Ницше? — сверхчеловек; Кюри? — радий; Бар-
рес? — земля и мертвецы; Кентон? — плазма — совер-
шенно в духе: Борнибюс? — фабрикант горчицы. И
Пармантье, если это правда, что он «изобрел» карто-
фель, пользуется благодаря этому единственному ово-
щу большей известностью, чем если бы мы были обяза-
ны ему всеми овощами нашего огорода.
И на долю Достоевского чуть было не выпал во Фран-
ции успех, когда г. де Вогюэ придумал назвать «религией
страдания» и таким образом определить удобной стерео-
типной формулой учение, которое он нашел в последних
главах «Преступления и наказания». Пусть оно в самом
деле заключается в этих главах, и пусть формула найде-
на удачно... К несчастью, она не покрывает объекта; он
совершенно не умещается в ней. Ибо если Достоевский
был из числа тех, кто «нуждается в одной-единственной
вещи: в познании Бога», то во всяком случае это позна-
ние Бога он хотел показать в своем творчестве во всей
его человеческой и тревожной сложности.
Ибсена тоже не легко было упростить, как и всяко-
го, чье творчество является более вопрошающим, чем
утверждающим. Относительный успех двух драм: «Ку-
кольный дом» и «Враг народа» вызван вовсе не их до-
стоинствами, но объясняется тем, что Ибсен дает в них
подобие вывода. Публику плохо удовлетворяет писа-
тель, не приходящий в конце к какому-нибудь остроум-
ному решению, она видит в этом недостаток уверенно-
сти, леность мысли или слабость убеждений; а так как
чаще всего она плохо умеет ценить ум, то мерилом
убеждений писателя служит для нее лишь страстность,
настойчивость и однообразие его утверждений.
Отнюдь не желая расширять рамки темы, уже и без
того столь обширной, я не буду сейчас пытаться точнее
определять взгляды Достоевского; я хотел только ука-
зать на противоречия, которые в нем заключаются с точ-
232
ки зрения западного сознания, непривыкшего к прими-
рению крайностей. Достоевский остается в убеждении,
что противоречия между национализмом и европеиз-
мом, индивидуализмом и самоотречением только кажу-
' щиеся; он думает, что противоположные точки зрения,
учитывающие каждая лишь одну сторону этой жизнен-
ной проблемы, одинаково далеки от истины. Я позволю
себе еще одну цитату; она лучше всякого комментария
покажет точку зрения Достоевского *: «Что же, скаже-
те вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счаст-
ливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напро-
тив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но
именно надо стать личностью, даже гораздо в высочай-
шей степени, чем та, которая теперь определилась на За-
паде. Поймите меня: самовольное, совершенно созна-
тельное и никем не принужденное самопожертвование
всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высо-
чайшего развития личности, высочайшего ее могущест-
ва, высочайшего самообладания, высочайшей свободы
собственной воли. Добровольно положить свой живот
за всех, пойти за всех на крест, на костер — можно толь-
ко сделать при самом сильном развитии личности. Силь-
но развитая личность, вполне уверенная в своем праве
быть личностью, уже не имеющая за себя никакого стра-
ха, ничего не может и сделать другого из своей лично-
сти, то есть никакого более употребления, как отдать ее
всю всем, чтоб и другие все были точно такими же са-
моправными и счастливыми личностями. Это закон при-
роды, к этому тянет нормально человека».
Это решение указано ему Христом: «Кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу
свою ради меня, тот сбережет ее».
Вернувшись в Петербург зимой 1871—1872 года, в
пятьдесят лет, он пишет Яновскому: «Что же, надо при-
* Она взята из «Опыта о буржуа», одной из глав «Зимних
заметок о летних впечатлениях», перевод которых г. Бинш-
ток очень кстати приложил к своему изданию переписки.
233
знаться, старость подходит, а меж тем и не думаешь,
все еще располагаешь писать новое (он работал над
«Карамазовыми»), что-нибудь издать, чем бы, наконец,
сам остался доволен, ждешь еще чего-нибудь от жизни,
а меж тем, может быть, уже все получил. Я про себя
вам повествую. Что ж, я вполне счастлив».Л5сю жизнь
Достоевского, все его творчество тайно проникает это
счастье, эта радость, достигнутая страданием, радость,
которую прекрасно сумел почуять Ницше и которой со-
вершенно не заметил г. де Вогюэ, что я в первую оче-
редь и ставлю ему в упрек.
Тон писем этого последнего периода резко меняем-
ся. Его обычные корреспонденты живут, как и он, в Пе-
тербурге, и пишет он уже не им, а неизвестным, случай-
ным корреспондентам, которые просят наставлений,
утешения, руководства. Цдгировать нужно было бы
почти сплошь; лучше отослать к самой книге; привести
к ней моего читателя — единственная цель этой статьи.
Освободившись, наконец, от своих страшных денеж-
ных забот, он в последние годы жизни берется за изда-
ние «Дневника писателя», появлявшегося с перебоями.
«Вам дружески признаюсь, что, предпринимая с буду-
щего года «Дневник» (на днях пускаю объявление), ча-
сто и многократно на коленях молился уже Богу, чтоб
дал мне сердце чистое, слово чистое, безгрешное, не-
раздражительное, независтливое» — пишет он Аксако-
ву в ноябре 1880 года, то есть за три месяца до смерти.
В этом «Дневнике», где г. де Вогюэ мог усмотреть
лишь «непонятные гимны, не поддающиеся ни анализу,
ни логическому обсуждению», русский народ увидел, к
счастью, нечто другое, и Достоевский мог почувство-
вать, как вокруг его творчества осуществляется мечта
о единстве, достигнутом без всякого насилия.
При известии о его смерти ярко сказалось это еди-
нение и смятение умов, и если сперва «разрушительные
элементы общества собирались насильственно захва-
тить его тело», то вскоре оказалось, что «благодаря од-
ной из тех неожиданных реакций, тайна которых от-
крывается России, когда ее одушевляет национальная
идея, все противники, все разрозненные лоскутья импе-
234
рии связаны воедино общим энтузиазмом». Слова при-
надлежат г. де Вопоэ, и я рад,, что после всех тех заме-
чаний, которые вызвала у меня его работа, я могу про-
цитировать эту полную благородства фразу. «Если пер-
• вых русских царей называли «собирателями» земли
русской,— пишет он дальше,— то этот царь в области
духа был собирателем русского сердца».
Такое же собирание сил происходит благодаря До-
стоевскому и в Европе — медленно, почти таинствен-
но,— главным образом, в Германии, где число изданий
его произведений растет, а затем и во Франции, где но-
вое поколение понимает и ценит его лучше, чем совре-
менники г-на де Вогюэ. Скрытые причины, замедлив-
шие его успех, обеспечат этому успеху прочность.
1908 г.
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Достоевский — «единственный, от кого я чему-ни-
будь научился в психологии»,— говорил Ницше.
Судьба его у нас очень своеобразна. Г-н де Вогюэ,
лет двадцать тому назад выступавший представителем
русской литературы во Франции, по-видимому был на-
пуган величиной этого чудовища. Он просил извинения,
вежливо предупреждал первых читателей, что они До-
стоевского не поймут; благодаря Вогюэ полюбили Тур-
генева; веря на слово, восхищались Пушкиным и Гого-
лем; открывали широкий кредит Толстому; но Достоев-
ский... право, это было нечто уж слишком русское; г. де
Вогюэ кричал: осторожно! Самое большее, он согла-
шался направить любопытство первых читателей на
два-три произведения, которые считал самыми доступ-
ными, в которых легче всего было разобраться. Но
этим же самым жестом он, увы, отстранял самые зна-
чительные, самые трудные, конечно, но — теперь сме-
ем это сказать — самые прекрасные его произведения.
Иные сочтут эту осторожность необходимой, подобно
тому как, пожалуй, необходимо было сперва приучить
публику к «Пасторальной симфонии», постепенно дать
ей освоиться, и потом лишь преподнести ей «Симфо-
нию с хором». Если вначале и было уместно задержать
любопытство читателя на «Бедных людях», «Мертвом
доме» и «Преступлении и наказании», то теперь ему по-
ра уже взяться за великие творения: за «Идиота», «Бе-
сов» и, главное,— «Братьев Карамазовых».
236
Этот роман — последнее произведение Достоевско-
го. Он должен был начать собою серию романов. Досто-
евскому было тогда пятьдесят девять лет; он писал:
«...Я часто с болью сознаю, что не выразил букваль-
• но я двадцатой доли того, что хотел бы, а, может быть,
и мог бы выразить. Спасает при этом меня лишь всег-
дашняя надежда, что когда-нибудь пошлет Бог настоль-
ко вдохновения и силы, что выражусь полнее, одним
словом, что выскажу все, что у меня заключено в сер-
дце и в фантазии».
Он был из тех редких гениев, которые с каждой но-
вой вещью делают шаг вперед, идут путем непре-
рывного совершенствования, пока внезапная смерть не
оторвет их от работы. Эта кипучая старость не знает
упадка так же, как старость Рембрандта или Бетховена,
с которым мне хочется его сравнить: уверенное и мощ-
ное усложнение мысли.
Без всякой снисходительности к самому себе, веч-
на неудовлетворенный собой, до невозможности тре-
бовательный к себе, однако в полном сознании своей
силы, Достоевский, приступая к «Карамазовым», чув-
ствует тайный трепет радости: тема ему по росту, по
росту его гению.
«Редко являлось у меня,— пишет он,— что-нибудь
новее, полнее и оригинальнее».
Эту книгу Толстой читал на своем смертном ложе.
Испуганные ее размерами, первые переводчики
этой несравненной книги показали нам ее в искалечен-
ном виде; под предлогом соблюдения внешнего единст-
ва они местами отбросили целые главы, которых хвати-
ло, чтобы составить целый дополнительный том, поя-
вившийся под заглавием «Les Precoces». Из предосто-
рожности фамилия Карамазовы были изменена на
Шестомазовы, чтобы окончательно сбить с толку чита-
237
теля. В остальном же все, что переводчики соблагово-
лили перевести, было передано весьма удачно, и этот
перевод я предпочитаю тому, что появился впоследст-
вии. Может быть, принимая в расчет время его выхода
в свет, иные признают, что публика была еще недоста-
точно зрелой для восприятия полного перевода столь
сложного произведения; поэтому я ставлю переводчи-
кам в упрек только то, что они не оговорили сделанных
ими сокращений.
Четыре года тому назад появился новый перевод гг.
Бинштока и Но. У него то важное преимущество, что в
более компактном томе он дает общую структуру кни-
ги, то есть восстанавливает в надлежащих местах те ча-
сти, которые первые переводчики из книги изъяли, но
систематически сжимая и, я сказал бы, замораживая
каждую главу, новые переводчики выкидывали из диа-
логов все нескладности, весь патетический трепет, они
пропускали треть фраз, часто и целые абзацы, притом
самые знаменательные. Получилось нечто четкое, об-
рывистое, лишенное оттенков, точно гравюра на цинке
или, вернее, штриховой рисунок, пытающийся воспро-
извести глубокий портрет Рембрандта. Каково же со-
вершенство этой книги, если, несмотря на столько ис-
кажений, она остается замечательной! Книга, которая
терпеливо могла ждать своего часа, подобно тому как
терпеливо дожидались своего часа книги Стендаля;
книга, час которой, наконец, по-видимому, настал.
В Германии переводы книг Достоевского следуют
один за другим, и каждый новый перевод по точности,
добросовестности и силе превосходит предшествую-
щий. Англия, более косная и более тяжелая на подъем,
старается не отстать. Арнольд Беннет, объявляя в «New
Age» от 23 марта этого года о переводе Констанции Гар-
нетт, выражает пожелание, чтобы все английские рома-
нисты и новеллисты Англии изучили «могущественней-
шие создания воображения, которые когда-либо были
написаны», и, касаясь главным образом «Братьев Кара-
мазовых», говорит: «Страсть достигает здесь своей выс-
шей мощи. Эта книга дает нам целый ряд безусловно
грандиозных образов».
238
Разве эти «колоссальные образы» обращались когда-
нибудь и к кому-нибудь, даже в самой России, более не-
посредственно, чем теперь к нам, и разве до нынешне-
го дня их голоса могли являться столь насущными?
• Иван, Дмитрий, Алеша, три брата, столь непохожие и
вместе с тем связанные друг с другом такой кровной
связью, и жалкая тень Смердякова, их лакея и побочно-
го брата, повсюду следующая за ними и тревожащая их.
Носитель умственного начала Иван, страстный Дмит-
рий, мистик Атеша как будто поделили между собой
мир духовной жизни, из которого постыдно бежал их
старик отец, и на многих молодых людей они, я это
знаю, оказывают явное влияние; их голоса уже не ка-
жутся нам чужими; даже более того — их диалог мы
слышим в самих себе. Тем не менее в структуре этой ве-
щи нет никакого неуместного символизма; известно,
что внешним поводом к созданию книги послужило все-
го-навсего уголовное происшествие, темное «дело», ко-
торое взялась осветить изощренная проницательность
психолога. Ни одно создание художественной фантазии
не обладает более убедительным бытием, чем эти зна-
менательные образы; ни на мгновение не утрачивают
они своей столь ярко выраженной реальности.
Теперь, когда их переносят на сцену (а среди созда-
ний фантазии, среди героев истории нет таких, которые
заслуживали бы этого в большей степени), весь вопрос
в том, узнаем ли мы в разученных интонациях актеров,
их смущающие голоса.
Вопрос в том, сумеет ли автор инсценировки пока-
зать нам, без больших искажений, события, необходи-
мые для интриги, сталкивающей этих людей. Я считаю
его исключительно умным и умелым; он, я уверен, по-
нял, что для удовлетворения требованиям сцены недо-
статочно вырезать, как это обычно делается, и подать в
сыром виде самые яркие эпизоды романа, а нужно ов-
ладеть самыми истоками книги, переделать и сократить
ее, расположить ее элементы по законам иной перспек-
тивы.
Вопрос, наконец, в том, пожелают ли с должным
вниманием взглянуть на нее те из зрителей, которые
239
еще не вошли в более тесное общение с этой книгой.
Наверно, у них не будет того «самомнения необычайно-
го, того феноменального невежества», которое Досто-
евский встречал у русских интеллигентов и о котором
он скорбел. Ему в то время хотелось «остановить их в
отрицании их, по крайней мере заставить .задуматься,
усомниться».
То, что я пишу здесь, не преследует иной цели.
4 апреля 1911 г.
РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ЗАЛЕ
VIEUX COLOMBIER* НА ПРАЗДНОВАНИИ
СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДОСТОЕВСКОГО
Еще несколько лет тому назад почитатели Достоев-
ского были довольно малочисленны; но, как всегда бы-
вает в тех случаях, когда первые почитатели вербуют-
ся среди избранных, их число все время растет, и зала
Vieux Colombier слишком мала, чтобы вместить их се-
годня всех. Как могло случиться, что иные и до сих пор
не поддаются воздействию изумительного творчества
этого писателя,— вот вопрос, которым мне бы хотелось
заняться в первую очередь. Ведь лучшее средство пре-
одолеть чье-нибудь непонимание — считать его искрен-
ним и попытаться его понять.
Больше всего ставили в упрек Достоевскому с точ-
ки зрения нашей западной логики, я полагаю, иррацио-
нальный, нерешительный и часто почти безответствен-
ный характер его персонажей. Только поэтому лица их
представляются искаженными гримасой и исступлен-
ными. То, что он изображает,— говорят нам,— не есть
реальная жизнь; это — кошмары. По-моему такое мне-
ние совершенно неверно; но для начала согласимся с
ним, не довольствуясь объяснением в духе Фрейда, буд-
то в наших снах больше искренности, чем в поступках,
совершаемых нами наяву. Послушаем лучше, что сам
Достоевский говорит о снах и о тех «очевидных неле-
постях и невозможностях, которыми, между прочим,
был сплошь наполнен ваш сон», и с которыми «разум
* «Старая Голубятня».
241
ваш мог помириться». «Почему же пробудясь от сна и
совершенно уже войдя в действительность, вы чувству-
ете почти каждый раз, а иногда с необыкновенной си-
лой впечатления, что вы оставляете вместе со сном что-
то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости
вашего сна и чувствуете в то же время, чтх> в сплетении
этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль
уже действительная, нечто принадлежащее к нашей на-
стоящей жизни, нечто существующее и всегда сущест-
вовавшее в вашем сердце; вам как будто было сказано
вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое ва-
ми...» («Идиот». Ч. III. Гл. X).
То, что Достоевский говорит здесь о снах, мы при-
меним к его собственным книгам, не потому, что я хоть
одну минуту считал бы возможным отождествить его
повествования с нелепостью иных снов, а потому, что,
пробуждаясь от его книг, даже тогда, когда разум наш
отказывается дать на это полное согласие, мы равным
образом чувствуем, что автор коснулся чего-то сокро-
венного, «принадлежащего нашей истинной жизни». И
я думаю, здесь мы найдем объяснение, почему некото-
рые умы отвергают гений Достоевского во имя запад-
ной культуры.
Мне сразу бросается в глаза, что во всей нашей за-
падной литературе, причем я имею в виду литературу
не только французскую, роман, за очень редкими ис-
ключениями, занимается лишь отношениями людей
друг к другу, отношениями эмоциональными или интел-
лектуальными, отношениями семейными, обществен-
ными, классовыми,— но никогда, почти никогда не за-
нимается отношениями индивидуума к самому себе или
к Богу, которые здесь первенствуют над всеми прочи-
ми. Думаю, что мою мысль лучше всего пояснят слова
одного русского, которые г-жа Гофман приводит в
своей биографии Достоевского (эта биография луч-
ше — и много лучше, чем все другие, известные мне,
но, к сожалению, не переведена на французский язык),
слова, с помощью которых она хочет дать нам почувст-
вовать одну из особенностей русской души. Этот рус-
ский, которому ставили в упрек его неаккуратность,
242
весьма серьезно отвечал: «Да, жизнь трудна! Есть мину-
ты, которые надо прожить как следует, и это гораздо
важнее, чем вовремя прийти на свидание». Личная
жизнь здесь важнее, чем отношение людей друг к дру-
гу. Именно в этом,— не так ли? — секрет Достоевско-
го, то, благодаря чему он для некоторых так велик, так
значителен, а для многих других так невыносим.
Я ни минуты не думаю, что западный человек, фран-
цуз, является личностью исключительно общественной,
несуществующей вне своего костюма: у нас есть «Мыс-
ли» Паскаля, «Цветы зла», книги строгие и одинокие и
тем не менее столь же французские, как любая другая
книга в нашей литературе. Но кажется, будто извест-
ный рад проблем, тревог, страстей, отношений заброни-
рован за моралистом, богословом и поэтом, и что не к
чему загромождать ими роман. Из всех книг Бальзака
наименее удачная, конечно, «Луи Ламбер»; во всяком
случае, это только монолог. Чудо, осуществленное До-
стоевским, заключается в том, что каждое из его дей-
ствуюищх лиц,— а он создал их целую книгу,— сущест-
вует прежде всего применительно к самому себе и что
каждый из этих персонажей, живущих своей внутрен-
ней жизнью и носящих в себе свою особенную тайну,
предстает нам во всей своей проблемной сложности;
чудо состоит в том, что именно эти проблемы изжива-
ются каждым из персонажей, правильнее было бы ска-
зать: живут за счет каждого из них — проблемы, кото-
рые сталкиваются, борются и очеловечиваются, чтобы
погибнуть или восторжествовать на наших глазах.
Нет такой высокой проблемы, которая не была бы
затронута в романах Достоевского. Но я сразу же дол-
жен прибавить: он никогда не касается ее абстрактно,
идеи существуют у него лишь применительно к лично-
сти; этим-то и обусловлена их постоянная относитель-
ность; этим же обусловлена и их мощь. Те или иные
идеи о Боге, провидении и вечной жизни приходят дан-
ному лицу только потому, что ему известно, что оно
должно умереть через несколько дней или часов (Ип-
полит в «Идиоте»), другой персонаж — в «Бесах» —
воздвигает целую метафизическую систему, уже содер-
243
жащую в зародыше Ницше, в связи с собственным са-
моубийством, и потому что через четверть часа он дол-
жен лишить себя жизни,— и, слушая его, мы уже не
знаем, потому ли он это думает, что должен покончить
с собой, или же он должен покончить с собой потому,
что он это думает. Наконец, третий — .князь Мыш-
кин — своими самыми необычайными, самыми боже-
ственными прозрениями обязан приближающимся пр№
падкам эпилепсии. Из этого замечания я покамест не
собираюсь выводить иных заключений, кроме следую-
щего: романы Достоевского, хотя и являются романа-
ми — я чуть было не сказал, книгами — наиболее на-
сыщенными мыслью, тем не менее никогда не бывают
абстрактными, и я не знаю других книг, где так силен
был бы трепет жизни.
Вот почему персонажи Достоевского, несмотря на
всю свою насыщенность идеями, никогда не теряют, так
сказать, человеческих черт и не превращаются в симво-
лы. Они также никогда не являются типами, в духе на-
шей классической комедии; они остаются личностями,
такими же особенными, как своеобразнейшие из персо-
нажей Диккенса, написанными и обрисованными с та-
кой силой, как наилучший портрет в любой литературе.
Вот послушаем:
«Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь та-
кое, что представило бы их разом и целиком, в их са-
мом типическом и характерном виде; это те люди, ко-
торых обыкновенно называют людьми «обыкновенны-
ми», «большинством», и которые, действительно, со-
ставляют огромное большинство всякого общества... К
этому разряду «обыкновенных» или «ординарных» лю-
дей принадлежат и некоторые лица нашего рассказа,
доселе (сознаюсь в том) мало разъясненные читателю.
Таковы именно Варвара Ардальоновна Птицына, супруг
ее, господин Птицын, Гаврила Ардальонович, ее брат».
Итак, Гаврила Ардальонович — персонаж, который
будет особенно трудно характеризовать. Что же удает-
ся Достоевскому сказать о нем?
«Глубокое и беспрерывное самоощущение своей
бесталанности и, в то же время, непреодолимое жела-
244
ние убедиться в том, что он человек самостоятельней-
ший, сильно поранили его сердце, даже чуть ли еще не
с отроческого возраста. Это был молодой человек с за-
вистливыми и порывистыми желаниями, и, кажется, да-
• же так и родившийся с раздраженными нервами. По-
рывчатость своих желаний он принимал за их силу. При
своем страстном желании отличиться он готов был
иногда на самый безрассудный скачок; но только что
дело доходило до безрассудного скачка, герой наш
всегда оказывался слишком умным, чтобы на него ре-
шиться. Это убивало его» *.
И это — об одном из самых незаметных персона-
жей. Что касается других, крупных персонажей, персо-
нажей первого плана, то Достоевский их не обрисовы-
вает, но, так сказать, предоставляет им самим себя об-
рисовать на протяжении книги, создать свой портрет,
непрестанно меняющийся, никогда не достигающий за-
вершенности. Его главные персонажи все время в про-
цессе становления, они никогда не выходят вполне из
окружающей их тени. Замечу здесь мимоходом, как
глубоко он в этом отношении отличается от Бальзака,
который как будто больше всего заботится о совершен-
ной последовательности персонажа. Бальзак рисует,
как Давид; Достоевский пишет, как Рембрандт, и кар-
тины его — создания искусства столь мощного и часто
столь совершенного, что даже если бы за ними и вокруг
них не раскрывались такие глубокие мысли, то все же,
думается мне, Достоевский оставался бы величайшим
из романистов.
1921 г.
* «Идиот».
ЛЕКЦИИ В ЗАЛЕ VIEUX COLOMBIER*
I
Незадолго до войны я подготовлял для «Тетрадей»
Шарля Пеги «Жизнь Достоевского» по типу «Жизни
Бетховена» и «Жизни Микеланджело», этих прекрас-
ных биографий Ромена Роллана. Началась война, при-
шлось отложить в сторону заметки, сделанные мной на
эту тему. Долгое время меня отвлекали другие дела и
другие заботы, и я уже почти отказался от моего замыс-
ла, как вдруг, совсем недавно, Жак Копо предлолшл
мне взять слово на торжественном заседании в зале
Vieux Colombier по случаю столетия со дня рождения
Достоевского. Я достал свои заметки; когда я перечел
их, спустя столько времени, мне показалось, что запи-
санные мной мысли по-прежнему заслуживают внима-
ния, но что хронологическая последовательность, к ко-
торой обязывала бы меня биография, не является, пожа-
луй, самой удачной формой их изложения. Подчас не
легко бывает распутать клубки идей, которые Достоев-
ский в каждом из своих больших произведений словно
связывает в тугие узлы; но, цереходя от книги к книге,
мы вновь с ними встречаемся; именно эти идеи важны
для меня, тем более, что я сам их усваиваю. Если бы я
* Я не счел нужным переделывать текст этих бесед, уста-
новленный на основании стенограммы и только кое-где мной
подправленный. Я опасался, что переделка не столько при-
даст им большую законченность, сколько лишит их естествен-
ности.
246
стал рассматривать одну за другою каждую из его книг,
я не мог бы избежать повторений. Лучше избрать дру-
гой путь; прослеживая эти идеи от книги к книге, я по-
пытаюсь их распутать, усвоить и изложить вам с макси-
мальной отчетливостью, насколько мне это позволит их
явная запутанность. Это идеи психолога, социолога, мо-
ралиста, ибо Достоевский является одновременно и
тем, и другим, и третьим,— оставаясь, однако, прежде
всего романистом. Они-то явятся темой настоящих бе-
сед. Но так как в творчестве Достоевского идеи никог-
да не предстают нам в сыром виде, а всегда даются при-
менительно к выражающим их персонажам (отсюда-то
их запутанность и их относительность); так как, с дру-
гой стороны, я сам стараюсь избежать отвлеченности и
придать этим мыслям как можно большую рельеф-
ность, то хотел бы прежде всего показать вам самую
личность Достоевского, рассказать вам о некоторых со-
бытиях его жизни, раскрывающих нам его характер и
дающих возможность нарисовать его образ.
Биографии, которую я подготовлял до войны, я со-
бирался предпослать введение, где хотел сперва рас-
смотреть общепринятый взгляд на великого человека.
Чтобы осветить этот взгляд, я намеревался сопоставить
Достоевского с Руссо — сопоставление отнюдь не про-
извольное: их характеры в самом деле представляют
глубокое сходство, которое и позволило «Исповеди»
Руссо оказать на Достоевского исключительное влия-
ние. Но мне сдается, что Руссо еще на заре жизни был
как бы отравлен Плутархом. Он составил себе по Плу-
тарху представление о великом человеке, представление
несколько риторическое и выспренное. Он воздвигал
перед собой статую воображаемого героя и всю жизнь
прилагал усилия на нее походить. Он старался быть тем,
чем желал казаться. Я готов признать, что, рисуя свой
портрет, он искренен, но он думает о своей позе, кото-
рая ему диктуется гордостью.
«Ложное величие,— прекрасно говорит Ла Брюй-
ер,— бывает нелюдимо и недоступно: чувствуя свою
слабость, оно прячется или по крайней мере не откры-
247
вает своего лица и дает на себя смотреть, лишь посколь-
ку это необходимо, чтобы внушить к себе почтение и
не показаться тем, чем оно является на самом деле, то
есть истинным ничтожеством».
И если я все-таки не согласен признать здесь сход-
ство с Руссо, то, напротив, я думаю о Достоевском, чи-
тая дальше:
«Истинное величие бывает непринужденным, мяг-
ким, простым в обращении, доступным; его можно тро-
гать и ощупывать, оно не проигрывает, если смотреть
на него вблизи; чем ближе узнаешь его, тем более им
восхищаешься. По доброте своей оно наклоняется к
тем, кто ниже, и без труда принимает вновь свою есте-
ственную позу; иногда оно сходит с пьедестала, пренеб-
регает своими обязанностями, поступается своими пре-
имуществами, всегда имея возможность отвоевать и ут-
вердить их...»
Действительно, Достоевскому чужда всякая поза,
всякая театральность. Он никогда не смотрит на себя
как на сверхчеловека; нельзя себе представить ничего
более скромного и человечного; и я даже думаю, что
горделивый ум неспособен вполне его понять.
Само слово покорность постоянно появляется в его
переписке и в его книгах:
«Почему же им мне отказать,— тем более, что я не
требую, а покорнейше прошу» (письмо от 23 ноября 1869
года). «Понимаю, что не имею права требовать. Но я не
требук?, а прошу покорнейше» (7 декабря 1869 года).
«Две недели тому назад (12 февраля 1870 года) послал
Кашпиреву самую покорнейшую и убедительнейшую
просьбу...»
«Вот это-то смирение предо мной от такого челове-
ка... разом воскрешало в моем сердце всю мою неж-
ность к нему»,— говорит подросток о своем отце, и,
стараясь определить отношения, существующие между
248
его отцом и матерью, характер их любви, вспоминает
слова, сказанные его отцом: «мать моя полюбила его по
приниженности» *.
Совсем недавно, в интервью с г-ном Анри Бордо я
прочитал фразу, несколько удивившую меня: «Сперва
надо пытаться познать себя»,— сказал он. Вероятно, ин-
тервьюер плохо понял. Писатель, который себя ищет,
подвергается большой опасности: он рискует найти се-
бя. С этой минуты он будет писать только холодные,
уверенные, похожие на него самого произведения. Он
будет подражать себе самому. Если он узнал теперь
свои пределы, свои грани, то лишь затем, чтобы уже не
переступать их. Он уже не боится быть неискренним;
он боится быть непоследовательным. Истинный худож-
ник, когда творит, почти не сознает себя. Он не знает в
точности, кто он. Ему удается познать самого себя толь-
ко через свое произведение, только благодаря своему
произведению, только после его создания... Достоев-
ский никогда не искал себя; он со всей страстью отда-
вался своему творчеству. Он терял себя в каждом из
своих героев; вот почему мы находим его в каждом из
них. Сейчас мы увидим его крайнюю неловкость в тех
случаях, когда ему приходится говорить от своего име-
ни, и, напротив, его красноречие, когда его собствен-
ные мысли бывают выражены теми, кого он призвал к
жизни. Давая своим героям жизнь, он находит себя. Он
живет в каждом из них, и это растворение себя в их
многообразии прежде всего служит средством огра-
дить собственную непоследовательность.
Я не знаю писателя, у которого было бы столько
противоречий и непоследовательностей, как у Достоев-
ского; Ницше сказал бы: «столько антагонизмов». Если
бы он был не романистом, а философом, он наверное
постарался бы обуздать свои мысли, и мы лишились бы
лучшего, что в них есть.
События жизни Достоевского, при всей их трагич-
ности, протекают на поверхности. Волнующие его
* «Подросток». Ч. I. Гл. 1. V.
249
страсти как будто глубоко его потрясают; но за их
пределами всегда остается некая интимная область,
куда не доносятся ни события, ни даже страсти. По
этому вопросу для нас явится откровением одна коро-
тенькая фраза Достоевского, если мы сопоставим ее
с другим текстом:
«Без какой-нибудь цели и стремления,— пишет он в
«Мертвом доме»,— не живет ни один живой человек.
Потеряв цель и надежду, человек с тоски обращается
нередко в чудовище...»
Но в то время он, по-видимому, еще неотчетливо
представлял себе эту цель, так как сразу же он при-
бавляет:
«Цель у всех наших была свобода и выход из катор-
ги» \ Это писано в 1861 году. Так вот что он понимал
тогда под словом «цель». Конечно, его мучило это
страшное заточение. (Он пробыл четыре года в Сибири
и шесть лет на принудительной работе.) Он мучился; но
как только он снова сделался свободен, он отдал себе
отчет, что его истинная цель, что свобода, которой он
действительно желал, была чем-то более глубоким и не
имела ничего общего с выходом из тюрьмы на волю.
И в 1877 году он пишет необыкновенную фразу, кото-
рую мне хочется сопоставить с только что приведенны-
ми его словами: «Ни из какой цели нельзя уродовать
свою жизнь» **.
Итак, по мнению Достоевского, у каждого из нас
есть цель жизни, высшая, тайная,— тайная нередко да-
же для нас самих, и, разумеется, совершенно отличная
от той внешней цели, которую большинство из нас ста-
вит себе.
Но сперва попытаемся представить себе облик Фе-
дора Михайловича Достоевского. Его друг Ризенкампф
рисует его нам, каким он был в 1841 году, двадцати лет:
^ Ч. П. Гл. VII.
** Письмо к Герасимовой, 7 марта 1877 года.
250
«Довольно кругленький, полненький, светлый блондин
с лицом округленным и слегка вздернутым носом...
Светло-каштановые волосы были коротко острижены,
под высоким лбом и редкими бровями скрывались не-
• большие, довольно глубоко лежащие, серые глаза; ще-
ки были бледные, с веснушками; цвет лица болезнен-
ный, землистый, губы толстоватые».
Некоторые считали, что первые припадки эпилеп-
сии были у него в Сибири; но болен он был еще до при-
говора, и болезнь только усилилась на каторге. «Болез-
ненный цвет лица»: у Достоевского всегда было слабое
здоровье. Однако именно его, болезненного и хилого,
берут на военную службу, между тем как его брат,
очень крепкий, от нее освобожден.
В 1841 году, то есть в двадцать лет, он произведен в
унтер-офицеры. Затем он готовится к экзаменам на
офицерский чин, который и получает в 1843 году. Мы
знаем, что его офицерское жалованье составляло три
тысячи рублей, и, хотя после смерти отца ему досталось
наследство, все же он постоянно входил в долги, так
как жил очень широко и кроме того должен был взять
на иждивение младшего брата. Вопрос о деньгах вста-
ет на каждой странице его переписки, и притом с гораз-
до большей настойчивостью, чем даже в письмах Баль-
зака; он играет чрезвычайно важную роль до конца
жизни писателя, и только в последние годы он по-насто-
ящему вышел из стесненного положения.
Вначале Достоевский ведет рассеянный образ жиз-
ни. Он посещает театры, концерты, балеты. Он беспе-
чен. Ему случается нанять квартиру только потому, что
понравилось лицо квартирного хозяина. Слуга обкрады-
вает его, это воровство его только забавляет. Удачи и
неудачи резко меняют его самочувствие. Видя его неу-
мение жить, семья и друзья выражают желание, чтобы
он поселился со своим приятелем Ризенкампфом.
«Возьми в пример его немецкую аккуратность»,— гово-
рят ему. Ризенкампф на несколько лет старше Федора
Михайловича; он доктор, и в 1843 году поселился в Пе-
тербурге. Достоевский в это время был без копейки,
жил в долг, питаясь хлебом и молоком. «Федор Михай-
251
лович принадлежал к тем личностям, около которых
живется хорошо, но которые сами постоянно нуждают-
ся» — читаем мы в одном из писем Ризенкампфа. Итак,
они селятся вместе, но Достоевский оказывается невоз-
можным сожителем. Он выходит к пациентам Ризен-
кампфа, ожидающим в приемной. Всякий раз, когда
кто-нибудь из них кажется ему нуждающимся, он помо-
гает ему деньгами — Ризенкампфа или своими, если у
него есть. Однажды он получает из Москвы тысячу руб-
лей. Деньги эти сразу же идут на покрытие долгов, а ос-
таток Достоевский в тот же вечер проигрывает (на
бильярде, гласит рассказ) и на следующее утро вынуж-
ден занять пять рублей у приятеля. Я забыл сказать, что
последние пятьдесят рублей были украдены одним из
клиентов Ризенкампфа, которого Достоевский, в поры-
ве внезапной дружбы, привел к себе в комнату. Ризен-
кампф и Федор Михайлович разъехались в марте 1844
года, причем их совместная жизнь по-видимому не осо-
бенно исправила Достоевского.
В 1846 году он выпускает «Бедных людей». Книга
имела большой, внезапный успех. Тон, которым Досто-
евский говорит об этом успехе, знаменателен. Мы чи-
таем в одном из писем этого периода:
«Не вижу жизни, некогда опомниться, наука уходит
за невременьем... Сделали они мне известность сомни-
тельную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад» *.
Я говорю только о наиболее значительных фактах и
обхожу молчанием выход в свет нескольких книг,
представляющих меньший интерес.
В 1849 году его арестует полиция вместе с кучкой
подозрительных. Это так называемый заговор Петра-
шевского.
Весьма трудно сказать, что, в сущности, представля-
ли собой в то время политические и социальные воз-
зрения Достоевского. Это общение с подозрительны-
ми, по-видимому, свидетельствует о большой любозна-
* Письмо М. М. Достоевскому, апрель 1847 г.
252
тельности и душевном благородстве, толкнувшем его
на опрометчивый поступок; но ничто не дает нам осно-
вания думать, что Достоевский когда-нибудь являлся
так называемым анархистом, человеком, опасным для
• государства.
Многие страницы «Переписки» и «Дневника писа-
теля» рисуют его сторонником совершенно противо-
положных взглядов, и весь роман «Бесы» представля-
ет собой как бы обвинительный акт против анархии.
Как бы то ни было, его арестовали в числе подозри-
тельных, группировавшихся вокруг Петрашевского.
Он был посажен в тюрьму, предан суду, выслушал
смертный приговор. Лищь в последнюю минуту этот
приговор был смягчен, и смертная казнь заменена
ссылкой в Сибирь. Все это вы уже знаете. Мне хоте-
лось бы сообщить вам в этих беседах только то, чего
вы нигде не могли бы найти,— но для тех, кто этих
писем не знает, я все-таки прочитаю ряд отрывков, ка-
сающихся приговора и жизни на каторге. Они мне по-
казались чрезвычайно знаменательными. Из них мы
увидим, как сквозь страдания все время проступает
оптимизм, который поддерживал Достоевского всю
жизнь. Вот что он писал 18 июля 1849 года из крепо-
сти, где ждал суда:
«В человеке бездна тягучести и жизненности, и я,
право, не думал, чтобы было столько, а теперь узнал по
опыту».
Затем в августе, совершенно измученный болезнью,
он писал:
«Грешно впадать в апатию: усиленная работа con
amore — вот настоящее счастье».
И еще — 14 сентября 1849 года:
«Я ожидал гораздо худшего и теперь вижу, что
жизненности во мне столько запасено, что и не вы-
черпаешь».
253
Я прочитаю вам почти целиком его коротенькое
письмо от 22 декабря:
«Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский
плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали
приложиться к кресту, переломили над гелозой шпаги
и устроили нам предсмертный туалет (белые рубахи).
Затем трех поставили к столбу для исполнения казни.
Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я
был во второй очереди и жить мне оставалось не более
минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в послед-
нюю минуту ты, только один ты был в уме моем, я тут
только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел
тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и
проститься с ними. Наконец, ударили отбой, привязан-
ных к столбу привели назад и нам прочли, что его им-
ператорское величество дарует нам жизнь».
В романах Достоевского мы неоднократно будем
встречать более или менее прямые упоминания о смер-
тной казни и о последних минутах осужденного. Сей-
час я не могу задерживаться на этом.
Перед отправкой в Семипалатинск ему дали полча-
са на прощание с братом. Он оказался более спокой-
ным, чем тот,— сообщает нам один из друзей,— и ска-
зал брату:
«И в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше
меня, достойнее меня... Да, мы еще увидимся, я наде-
юсь на это, я даже не сомневаюсь, что увидимся. А вы
пишите, да когда обживусь — книг присылайте; я напи-
шу каких; ведь читать можно будет...»
(«Действительно воображал это Федор Михайлович
или только утешал брата»,— замечает повествователь.)
«А выйду из каторги, писать начну... В эти месяцы я
много пережил, в себе самом много пережил, а там впе-
реди что увижу и переживу; будет о чем писать».
В течение четырех лет пребывания в Сибири Досто-
евский не имел разрешения писать своим; по крайней
254
мере, том переписки, который у нас в руках, не дает ни
одного письма, относящегося к этому периоду, и «Ма-
териалы», изданные Орестом Миллером в 1883 году, не
содержат в этом отношении никаких указаний; однако
• со времени выхода в свет этих «Материалов» опублико-
вано множество писем Достоевского; наверно будут
найдены еще и другие.
По Миллеру, Достоевский вышел из каторги 2 мар-
та 1854 года, по официальным документам — 23 января.
В архивах упоминается девятнадцать писем Федора
Достоевского к его брату, родным и друзьям за время
с 16 марта 1854 по 11 сентября 1856 года, за годы его
военной службы в Семипалатинске, где, наконец, он
отбыл свое наказание. В своем переводе г. Биншток
дает лишь двенадцать писем, и непонятно, почему от-
сутствует замечательное письмо от 22 февраля 1854 го-
да, перевод которого был напечатан в 1886 году в 12-м
и 13-м (ныне уже недоступных) номерах «La Vogue» и
перепечатан в «Nouvelle Revue Fran?aise» в номере от
1 февраля этого года. Так как его нет в томе «Перепи-
ски», позвольте мне прочесть из него несколько длин-
ных цитат:
«Наконец-то, кажется, могу поговорить с тобою по-
пространнее и повернее. Но, прежде чем напишу тебе
строчку, спрошу тебя: скажи ты мне ради Господа Бо-
га, почему ты мне до сих пор не написал ни одной
строчки? И мог ли я ожидать этого? Веришь ли, что в
уединенном, замкнутом положении моем я несколько
раз впадал в настоящее отчаяние, думал, что тебя нет и
на свете, и тогда по целым ночам раздумывал, что бы-
ло бы с твоими детьми, и клял мою долю, что не могу
быть им полезным».
Итак, то, что больше всего его мучит — быть может,
вовсе не чувство одиночества, а невозможность прийти
на помощь.
«Ну, как передать тебе мою голову, понятие, все,
что я прожил, в чем убедился, и на чем остановился за
255
все это время? Я не берусь за это. Такой труд решитель-
но невозможен. Я ни одного дела не люблю делать в по-
ловину, а сказать что-нибудь ровнешенько ничего не
значит. Впрочем, главная реляция перед тобой. Читай и
выжимай, что хочешь. Я обязан это сделать и потому
принимаюсь за воспоминания.
Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый
мой, дорогой, возлюбленный мой? Только что ты оста-
вил меня, нас повели, троих, Дурова, Ястржембского и
меня, заковывать. Ровно в 12 часов, то есть ровно в
Рождество в пятый раз надел кандалы. В них было фун-
тов десять и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас
посадили в открытые сани, каждого особо, с жандар-
мом, и на четырех санях, фельдъегерь впереди, мы от-
правились из Петербурга. У меня было тяжело на серд-
це и как-то смутно, неопределенно от многих разнооб-
разных ощущений. Сердце жило какой-то суетой, и по-
тому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух
оживлял меня, и так как обыкновенно перед каждым
новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и
бодрость, то я в сущности был очень спокоен и при-
стально глядел на Петербург, проезжая мимо празднич-
но освещенных домов и прощаясь с каждым домом в
особенности. Нас провезли мимо твоей квартиры, и у
Краевского было большое освещение. Ты сказал мне,
что у него елка, что дети с Эмилией Федоровной отпра-
вились к нему, и вот у этого дома мне стало жестоко
грустно. Я как будто простился с детенками. Жаль их
мне было, и потом, уже годы спустя, как много раз я
вспоминал о них чуть не со слезами на глазах. Нас вез-
ли на Ярославль, и потому к утру, после трех или четы-
рех станций, мы остановились чем свет в Шлиссельбур-
ге, в трактире. Мы налегли на чай, как будто целую не-
делю не ели. После восьми месяцев заключения мы так
проголодались на шестидесяти верстах зимней езды,
что любо вспомнить. Мне было весело, Дуров болтал без
умолку, а Ястржембскому виделись какие-то необыкно-
венные страхи в будущем. Все мы приглядывались и
пробовали нашего фельдъегеря. Оказалось, что это был
славный старик, и добрый и человеколюбивый до нас,
256
как только можно представить, человек бывалый, быв-
шие во всей Европе — с депешами. Дорогой он нам сде-
лал много добра. Его зовут Кузьма Прокофьевич Про-
кофьев. Между прочим, он нас пересадил в закрытые
• сани, что нам было очень полезно, потому что морозы
были ужасные. Другой день был праздничный, ямщики
садились к нам в армяках серо-немецкого сукна с алы-
ми кушаками, на улицах деревень ни души. Был чудес-
нейший зимний день. Нас везли пустырем по Петербур-
гской, Новгородской, Ярославской и т.д. Городишки
редкие, неважные. Но мы выехали в праздничную по-
ру, потому везде было что есть и пить. Мы мерзли
ужасно. Одеты мы были тепло, но просидеть, например,
часов десять, не выходя из кибитки, и сделать пять,
шесть станций было почти невыносимо. Я промерзал до
сердца и едва мог потом отогреться в теплых комнатах.
Но чудно: дорога поправила меня совершенно. В Перм-
ской губернии мы выдержали одну ночь в сорок граду-
сов. Этого тебе не рекомендую. Довольно неприятно.
Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и
кибитки увязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из
повозок, это было ночью, и, стоя, ожидали, покамест
вытащат повозки. Кругом снег, метель; граница Евро-
пы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, наза-
ди все прошедшее,— грустно было и меня прошибли
слезы. По всей дороге на нас выбегали смотреть целы-
ми деревнями, и, несмотря на наши кандалы, на станци-
ях брали с нас втридорога. Один Кузьма Прокофьевич
взял чуть ли не половину наших расходов на свой счет,
взял насильно, и таким образом мы заплатили только
по пятнадцать рублей серебром каждый за трату в до-
роге. 11 января мы приехали в Тобольск, и после пред-
ставления начальству и обыска, где у нас отобрали все
наши деньги, были отведены, я, Дуров и Ястржембский,
в особую каморку, прочие же, Спешнев и другие, при-
ехавшие раньше нас, сидели в другом отделении, и мы
все время почти не виделись друг с другом. Хотелось
бы мне очень подробнее поговорить о нашем шести-
дневном пребывании в Тобольске и о впечатлении, ко-
торое оно на меня оставило. Но здесь не место. Скажу
257
только, что участие, живейшая симпатия, почти це-
лым счастием наградили нас. Ссыльные старого време-
ни (то есть не они, а жены их) заботились об нас, как о
родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним го-
рем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо
нас держали строго. Но они присылали нам пишу,
одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавший налегке
и не взявший даже своего платья, раскаялся в этом.
Мне даже прислали платье. Наконец мы выехали и че-
рез три дня приехали в Омск. Еще в Тобольске я узнал
о будущем, непосредственном начальстве нашем. Ко-
мендант был человек очень порядочный, но плац-май-
ор Кривцов — каналья, каких мало, мелкий варвар, су-
тяга, пьяница, все, что только можно представить отвра-
тительного. Началось с того, что он нас обоих, меня и
Дурова, обругал дураками за наше дело и обещался при
первом проступке наказать нас телесно. Он уже два го-
да был плац-майором и делал ужаснейшие несправед-
ливости. Через два года он попал под суд. Меня Бог от
него избавил. Он наезжал всегда пьяным (трезвым я
его не видал), придирался к трезвому арестанту и драл
его под предлогом, что тот пьян, как стелька. Другой
раз при посещении ночью за то, что человек спит не на
правом боку, за то, что вскрикивает или бредит ночью,
за все, что только влезет в его пьяную голову. Вот с та-
ким-то человеком надо было безвредно прожить, и
этот^то человек писал рапорты и подавал аттестации об
нас каждый месяц в Петербург...
Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за
стенами, и выходил только на работу. Работа достава-
лась тяжелая, конечно, не всегда, и я, случалось, выби-
вался из сил, в ненастье, в мокроту, в слякоть или зи-
мою в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре
на экстренной работе, когда ртуть замерзла и было,
быть может, градусов 40 морозу. Я ознобил себе ногу.
Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Вообра-
зи себе старое, ветхое, деревянное здание, которое дав-
но уже положено сломать и которое уже не может слу-
258
жить. Летом духота нестерпимая, зимою холод невыно-
симый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок,
можно скользить и падать. Маленькие окна заиндеве-
ли, так что в целый день почти нельзя читать. На стек-
лах на вершок льду. С потолка капало — все сквозное.
Нас как сельдей в бочонке. Здтопят шестью поленами
печку, тепла нет (в комнате лед едва оттаивал), а угар
нестерпимый — и вот вся зима. Тут же в казарме аре-
станты моют белье и всю маленькую казарму заплеска-
ют водой. Поворотиться негде. Выйти за нуждою уже
нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запирают-
ся, и ставится в сенях ушат, а потому духота нестерпи-
мая. Все каторжные воняют, как свиньи, и говорят, что
нельзя не делать свинства, дескать, «живой человек».
Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка.
Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всег-
да всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь. Блох, вшей и
тараканов четвериками. Зимою мы одеты в полушуб-
ках, часто сквернейших, которые почти не греют, а на
ногах сапоги с короткими голяшками — изволь ходить
по морозу. Есть давали нам хлеба и щи, в которых по-
лагалось четверть фунта говядины на человека; но го-
вядину кладут рубленую, и я ее никогда не видал. По
праздникам каша почти совсем без масла. В пост капу-
ста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желу-
док нестерпимо и был несколько раз болен. Суди, мож-
но ли было жить без денег, и, если б не было денег, я
бы непременно помер, и никто, никакой арестант та-
кой жизни не вынес бы. Но всякий что-нибудь работа-
ет, продает и имеет копейку. Я пил чай и ел иногда
свой кусок говядины, и это меня спасло. Не курить та-
баку тоже было нельзя, ибо можно было задохнуться в
такой духоте. Все это делалось украдкой. Я часто ле-
жал больной в госпитале. От расстройства нервов у ме-
ня случалась падучая, но, впрочем, бывает редко. Еще
есть у меня ревматизм в ногах. Кроме этого я чувствую
себя довольно здорово. Прибавь ко всем этим приятно-
стям почти невозможность иметь книгу, что доста-
нешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору кру-
гом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем,
259
никогда один, и это четыре года без перемены — пра-
во, можно простить, если скажешь, что было худо.
Кроме того всегда висящая на носу ответственность,
кандалы, и полное стеснение духа, и вот образ моего
житья-бытья. Что сделалось с моей душой, с моими ве-
рованиями, с моим умом и сердцем за эда четыре го-
да — не скажу тебе. Долго рассказывать. Но вечное со-
средоточение в самом себе, куда я убегал от горькой
действительности, принесло свои плоды. У меня теперь
много потребностей и надежд таких, о которых я и не
думал. Но это все загадки, и потому мимо. Одно: не за-
будь меня и помогай мне. Мне нужно книг и денег.
Присылай ради Христа.
Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом
зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не ви-
дел. Городишка грязный, военный, и развратный в вы-
сшей степени. Я говорю про черный народ. Если б не
нашел здесь людей, я бы погиб совершенно. К. И. И-в
был мне как брат родной. Он сделал для меня все, что
мог. Я должен ему деньги. Если он будет в Петербурге,
благодари его. Я должен ему рублей 25 серебром. Но
чем заплатить за это радушие, всегдашнюю готовность
исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость,
как о родном брате. И не один он! Брат, на свете очень
много благородных людей.
Я уже писал, что твое молчание иногда меня мучи-
ло». Спасибо за присылку денег. С первым же письмом
(хотя бы и официальными, ибо не знаю еще, могу ли те-
бе передавать теперь известия), с первым же письмом
пиши мне подробнее обо всех твоих обстоятельствах,
об Эмилии Федоровне, детях, обо всех родных и знако-
мых, об Московских, кто жив, кто умер, о твоей торгов-
ле; напиши, на какой капитал ты стал торговать, выгод-
но ли, есть ли у тебя что-нибудь и, наконец, можешь ли
ты мне помогать деньгами, и сколько ты в состоянии
мне присылать ежегодно. Но денег не посылай в офи-
циальном письме, разве если я не найду тебе другого
адреса. Покамест пересылай от Михаила Петровича
(понимаешь?). Но у меня еще есть деньги; зато книг
нет. Если можешь, пришли мне журналы на этот год,
260
хоть «Отечеств. Записок». Но вот что необходимо: мне
надо (крайне нужно) историков древних (во француз-
ском переводе) и новых, экономистов и отцов церкви.
Выбирай дешевейшие и компактные издания. Пришли
немедленно.
«Там все люди простые», говорят мне в ободрение.
Да простого-то человека я боюсь более, чем сложного.
Впрочем, люди везде люди. И в каторге между разбой-
никами я в четыре года отличил наконец людей. Пове-
ришь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрас-
ные, и как весело было под грубой корой отыскать зо-
лото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не
уважать. Другие решительно прекрасны. Я учил одного
молодого черкеса (присланного в каторгу за разбой)
русскому языку и грамоте. Какою же благодарностью
окружил он меня. Другой каторжный заплакал, расста-
ваясь со мной. Я ему давал денег — да много ли? Но за
это благодарность его была беспредельна. А между тем
характер мой испортился; я был с ними капризен, не-
терпелив. Они уважали состояние моего духа и перено-
сили все безропотно. Сколько я вынес из каторг и на-
родных типов, характеров! Я сжился с ними, и потому,
кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и
разбойников и вообще всего черного, горемычного бы-
та. На целые томы достанет. Что за чудный народ! Во-
обще время для меня не потеряно. Если я узнал не Рос-
сию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как мо-
жет быть немногие знают его. Ну, это мое маленькое
самолюбие! Надеюсь, простительно.
Пришли мне Коран, «Critique de raison pure» Канта,
и если как-нибудь в состоянии мне переслать не офици-
ально, то пришли мне непременно Гегеля, в особенно-
сти Гегелеву Историю философии. С этим вся моя бу-
дущность соединена! Но, ради Бога, старайся и проси об
моем переводе на Кавказ, да наведайся у людей знаю-
щих, можно ли мне будет печатать, и как об этом про-
261
сить. Я попрошу года через два или три. Вот до тех-то
пор корми меня, пожалуйста. Без денег задавит солдат-
ство. Смотри же!
Теперь буду писать романы и драмы, да много еще,
очень много надо читать. Не забывай же меня и еще раз
прощай».
Это письмо осталось без ответа, как и многие дру-
гие. Очевидно, Федор Михайлович не получал вестей
от своих за все или почти все время каторги. Что каса-
ется брата, то должны ли мы предполагать соображе-
ния осторожности, боязнь скомпрометировать себя или,
быть может, равнодушие? Не знаю... К последнему
предположению склоняется 1\жа Гофман, биограф До-
стоевского.
Первое из известных нам писем Достоевского после
его освобождения и назначения в седьмой пехотный ба-
тальон Сибирского корпуса относится к 27 марта 1854
года. Его нет в переводе г. Бинштока. Мы читаем там:
«А теперь попрошу у тебя книг... Журналов не надо;
а пришли мне европейских историков, экономистов,
святых отцов, по возможности, всех древних (Геродота,
Фукидита, Тацита, Плиния, Флавия, Плутарха и Диодо-
ра и т. д. Они все переведены по-французски). Наконец,
Коран и немецкий лексикон. Конечно, не все вдруг, а
что только можешь. Пришли мне тоже физику Писаре-
ва и какую-нибудь физиологию (хоть на французском,
если на русском дорого). Издания выбирай дешевей-
шие и компактные. Не все вдруг, помаленьку. Я и за ма-
лое поклонюсь тебе. Пойми, как нужна мне эта духов-
ная пища!..»
Теперь ты знаешь мои главнейшие занятия. По
правде, более не было никаких, кроме служебных.
Внешних событий, переворотов жизненных, экстрен-
ных случаев тоже никаких. А душу, сердце, ум,— что
262
выросло, что созрело, что выбросилось вон, вместе с
плевелами, этого не передашь и не расскажешь на
клочке бумаги. Живу я здесь уединенно; от людей по
обыкновению прячусь. К тому же, я пять лет был под
конвоем, и поэтому мне величайшее наслаждение очу-
титься иногда одному. Вообще каторга много вывела
из меня и много привила ко мне. Я, например, уже пи-
сал тебе о моей болезни. Странные припадки, похожие
на падучую, и однако ж не падучая. Когда-нибудь напи-
шу о ней подробнее».
К этому страшному вопросу о болезни мы еще вер-
немся в последней нашей беседе.
Прочитаем еще отрывок из письма от 6 ноября того
же года:
«Вот уже скоро десять месяцев, как я вышел из ка-
торги и начал мою новую жизнь. А те четыре года счи-
таю я за время, в которое я был похоронен живой и за-
крыт в гробу. Что за ужасное было это время, не в си-
лах я рассказать тебе, друг мой. Это было страдание не-
выразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая
минута тяготела, как камень, у меня на душе. Во все че-
тыре года не было мгновения, в которое я бы не чувств
вовал, что я в каторге».
Но посмотрите, до какой степени сразу же, вслед за
этим перевес оказывается на стороне его оптимизма:
«Все лето я был так занят, что едва находил время
спать. Но теперь немного привык. Здоровье мое тоже
стало получше. И, не теряя надежды, смотрю я вперед
довольно бодро».
Три письма, относящихся к тому же времени, были
опубликованы в «Ниве», в апрельском номере 1898 го-
да. Почему г. Биншток дает только первое из этих пи-
сем и не приводит письма от 21 августа 1855 года? До-
стоевский упоминает в нем о письме, написанном в ок-
тябре 1854 года и до сих нор не найденном:
263
«Милый друг, прошлый год, в октябре месяце, на
мои подобные этим сетования, ты написал мне, что те-
бе очень грустно, очень тяжело было читать их. Доро-
гой мой Миша! не сердись на меня, ради Бога, вспом-
ни, что я одинок, как камень отброшенный, что харак-
тером я был всегда грустен, болен и мнителен... я даже
и сам уверен, что я неправ».
Достоевский вернулся в Петербург 29 ноября 1859
года. В Семипалатинске он женился. Женился он на
вдове каторжника, у которой уже был довольно взрос-
лый сын, человек, по-видимому, весьма неинтересный.
Достоевский его усыновил и взял на свое иждивение,—
у него была мания брать на себя всякое бремя.
«Федор Михайлович, как мне показалось, не изме-
нился физически,— говорит Милюков, его друг, и при-
бавляет: — Он даже как будто смотрит бодрее прежне-
го и не утратил нисколько своей обычной энергии».
В 1861 году он выпустил «Униженных и оскорблен-
ных», в 1861—1862 году— «Записки из мертвого до-
ма»; первый из его крупных романов «Преступление и
наказание» появился только в 1866 году.
В течение 1863, 1864 и 1865 годов он деятельно за-
нимался журналом. Одно из его писем так красноре-
чиво рассказывает нам об этих промежуточных го-
дах, что я не могу удержаться и прочитаю вам следу-
ющие отрывки. Это, кажется, последний раз, что я де-
лаю цитаты из его переписки. Это — письмо от 31
марта 1865 года.
«Слушайте же: напишу вам всю мою историю за это
время. Впрочем, не всю, этого нельзя, потому что в по-
добных случаях в письмах главнейшего никогда не рас-
скажешь. Иное просто не могу рассказывать. А потому
расскажу вам лучше, по возможности вкратце, послед-
ний год моей жизни.
Вы знаете, вероятно, что брат затеял четыре года
назад журнал. Я ему сотрудничал. Все шло прекрас-
264
но. Мой «Мертвый дом» сделал буквально фурор, и я
возобновил им свою литературную репутацию. У бра-
та были огромные долги при начале журнала, и те ста-
ли оплачиваться — как вдруг в 63 году, в мае, журнал
• был запрещен за одну самую горячую и патриотиче-
скую статью, которую ошибкой приняли за самую воз-
мутительную — против правительственных действий
и общественного тогдашнего настроения... Это окон-
чательно его расстроило и доконало. Он начал делать
долги, здоровье же его стало расшатываться. Меня в
это время подле него не было; я был в Москве, подле
умиравшей жены моей. Да, Александр Егорович, да,
мой бесценный друг, вы пишете и соболезнуете о
моей роковой потере, о смерти моего ангела брата
Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня за-
давила! Другое существо, любившее меня и которое я
любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда пе-
реехала за год до смерти своей, от чахотки. Я пере-
ехал — вслед за нею, не отходил от ее постели всю
зиму 1864 года...»
«О друг мой, она любила меня беспредельно, я лю-
бил ее тоже без меры, но мы не жили с нею счастливо.
Все расскажу вам при свидании,— теперь же скажу
только то, что, несмотря на то, что мы были с нею по-
ложительно несчастны вместе (по ее странному, мни-
тельному и болезненно-фантастическому характеру),—
мы не могли перестать любить друг друга; даже чем не-
счастнее были, тем более привязывались друг к другу.
Как ни странно это, а это было так. Это была самая че-
стнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая
женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда
она умерла,— я хоть мучился, видя (весь год), как она
умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я
хороню с нею,— но никак не мог вообразить, до какой
степени больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпа-
ли землей. И вот уж год, а чувство все то же, не умень-
шается... Бросился я, схоронив ее, в Петербург, к бра-
ту,— он один у меня оставался; через три месяца умер
265
и он, прохворав всего месяц и слегка, так что кризис,
перешедший в смерть, случился почти неожиданно, в
три дня.
И вот я остался вдруг один и стало мне просто
страшно. Вся жизнь переломилась надвое. В одной по-
ловине, которую я перешел, было все, для чего я жил,
а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все
новое, и ни одного сердца, которое бы могло мне заме-
нить тех обоих. Буквально мне не для чего оставалось
жить. Новые связи делать, новую жизнь выдумывать?
Мне противна была даже и мысль об этом. Я тут в пер-
вый раз почувствовал, что их некем заменить, что я их
только и любил на свете и что новой любви не только
не наживешь, да и не надо наживать».
Это письмо он продолжал в апреле, и вслед за кри-
ком отчаяния, который мы только что слышали, через
две недели, 14-го числа, он пишет следующее:
«Из всего запаса моих сил и энергии осталось у ме-
ня в, душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое
к отчаянию. Тревога, горечь, самая холодная суетня, са-
мое ненормальное для меня состояние, и вдобавок —
один,— прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже
при мне. А между тем, все мне кажется, что я только
что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья
живучесть!»
Он прибавляет:
«Так будет и всегда, пока мы в письмах. Я письма
не умею писать, и об себе не умею в меру писать. Впро-
чем, оно и трудно: много лет легло между нами, да и
каких лет!»
Мне хотелось бы сблизить это с одной необыкно-
венной фразой, которую я нахожу в «Преступлении и
наказании». В этом романе Достоевский повествует о
Раскольникове, совершившем преступление и сослан-
ном в Сибирь. На последних страницах книги Достоев-
266
ский говорит о странном чувстве, завладевшем душой
его героя. Ему кажется, что он впервые начинает жить:
«Да и что такое,— говорит он,— эти все, все муки
прошлого! Все, даже преступление его, даже приго-
вор и ссылка, казались ему теперь, в первом порыве,
каким-то внешним, как бы даже не с ним случившим-
ся фактом».
Эти фразы я читаю вам в подтверждение того, что я
говорил вначале.
Большие события внешней жизни, как бы трагичны
они ни были, имели в биографии Достоевского мень-
шее значение, чем маленький факт, которого нам пора
коснуться.
В Сибири Достоевский встретился с женщиной, ко-
торая дала ему Евангелие. Евангелие, впрочем, было
единственное чтение, официально разрешенное на ка-
торге. Чтение Евангелия и размышления, связанные с
ним, имели для Достоевского первостепенное значе-
ние. Все, что он писал потом, проникнуто евангельским
учением. В каждой из наших бесед нам придется воз-
вращаться к тем истинам, которые он открывает в нем.
Чрезвычайно интересным материалом для наблюде-
ний и сравнений мне представляются те столь отличные
друг от друга реакции, которые встреча с Евангелием
вызвала в двух столь родственных с известной точки
зрения натурах, как Ницше и Достоевский. Непосредст-
венная, глубокая реакция, которую она вызвала у Ниц-
ше, была, надо прямо сказать, зависть. Мне кажется,
что, не принимая в расчет этого чувства, нельзя пра-
вильно понять произведения Ницше. Ницше завидовал
Христу, завидовал до безумия. Ницше, пишущий своего
«Заратустру», все время мучится желанием стать сопер-
ником Евангелия. Он часто пользуется самой формой
заповедей блаженства и создает полную их противопо-
ложность. Он пишет «Антихриста», а в своем послед-
нем произведении «Ессе Homo» держит себя как побе-
доносный противник того, чье учение он думал заме-
нить своим.
267
У Достоевского реакция была совершенно иной. Он
сразу же почувствовал, что здесь — нечто высшее по
отношению не только к нему, но и ко всему человече-
ству, нечто божественное... То смирение, о котором я
говорил вам вначале и к которому мне еще не раз при-
дется вернуться, располагало его к покорности перед
тем, в чем он видел нечто высшее. Он низко склонил-
ся перед Христом; и первое и самое важное последст-
вие этого подчинения, этого самоотречения, как я уже
сказал, было сохранение всей природной его сложно-
сти. Действительно, ни одному художнику не удалось
лучше, чем ему, осуществить завет Евангелия: «Кто хо-
чет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто отдаст ее
(пренебрежет ею), тот сделает ее истинно живою».
Это смирение, это самоотречение и сделало воз-
можным существование самых противоречивых чувств
в душе Достоевского, сохранило и спасло необычайное
обилие антагонизмов, боровшихся в нем.
В следующей беседе мы займемся вопросом, не яв-
ляются ли определенные черты облика Достоевского,
которые нам, западным людям, могут показаться наибо-
лее странными, чертами, свойственными всякому рус-
скому вообще, а это позволит нам лучше различить осо-
бенности, присущие только ему.
II
Те психологические и моральные истины, которых
книги Достоевского позволят нам коснуться, представ-
ляются мне чрезвычайно важными, и мне хочется по-
скорее к ним перейти, но они столь смелы и столь но-
вы, что могут показаться вам парадоксальными, если я
подойду к ним прямо. Надо соблюсти некоторую осто-
рожность.
В нашей последней беседе я говорил об облике са-
мого Достоевского; теперь мне представляется своевре-
менным, как раз для того, чтобы отчетливее оттенить
особенности этого облика, погрузить его в свойствен-
ную ему атмосферу.
268
Я близко знал некоторых русских, но никогда не бы-
вал в России, и без посторонней помощи моя задача бы-
ла бы сейчас очень трудна. Итак, прежде всего изложу
вам те замечания о русском народе, которые я нашел в
• одной немецкой книге о Достоевском. Г-жа Гофман, ав-
тор превосходной биографии Достоевского, прежде
всего усиленно подчеркивает ту круговую поруку за
всех и за каждого, те братские чувства, которые во
всех слоях русского общества приводят к упразднению
социальных перегородок и совершенно естественно
влекут за собой простоту общения, постоянно встреча-
ющуюся в романах Достоевского: знакомства по собст-
венному почину, внезапное зарождение симпатий, то,
что один из его героев столь красноречиво называет
«случайными семействами». Дома превращаются в би-
вуаки, дают приют вчерашнему незнакомцу; человека
здесь принимают потому, что он друг чьего-нибудь дру-
га, и сближение происходит тотчас же.
Другая особенность русского народа, отмечаемая г-
жою Гофман,— неспособность его к точному методу и
нередко даже к точности вообще; русский как будто не
очень страдает от беспорядка и не делает особенных
усилий, чтобы его преодолеть. И если мне позволи-
тельно искать оправдание беспорядочности этих бесед,
то я нашел бы его в неясности самих мыслей Достоев-
ского, в их крайней запутанности и в той специфиче-
ской трудности, на которую мы наталкиваемся, пыта-
ясь подчинить их плану, удовлетворительному с точки
зрения нашей западной логики. Причиной этих колеба-
ний, этой нерешительности г-жа Гофман считает в из-
вестной мере слабое сознание времени, обусловленное
бесконечными зимними ночами и бесконечными лет-
ними днями, которые не укладываются в ритм часов. В
коротенькой речи, произнесенной в театре Vieux
Colombier, я уже приводил рассказанный ею анекдот;
русский, которому ставили в упрек его неточность, от-
вечал: «Да, жизнь — трудное искусство! Есть минуты,
которые стоят того, чтобы их прожить как следует, а
это гораздо важнее, чем аккуратно прийти на свида-
ние»,— эта знаменательная фраза вместе с тем пока-
269
жет нам своеобразное отношение русского к личной
жизни. Она для него гораздо важнее всех обществен-
ных отношений.
Отметим еще вместе с гжою Гофман наклонность
к страданию и состраданию, Leiden und Mitleiden,— со-
страданию, простирающемуся и на преступника. В рус-
ском языке одно слово означает и несчастного и пре-
ступника, одно слово означает и преступление и обык-
новенный проступок. Если к этому прибавить почти ре-
лигиозное сокрушение, нам станет более понятна
неистребимая недоверчивость русского к другим лю-
дям, особенно к иностранцам,— недоверчивость, на ко-
торую часто жалуются европейцы, но которая, по ут-
верждению г-жи Гофман, скорее проистекает от вечно
настороженного чувства собственных недостатков и
грехов, чем от сознания чужой негодности: это недо-
верчивость вследствие самоуничижения.
Ничто не может ярче осветить эту столь своеобраз-
ную религиозность русского человека, остающуюся да-
же и тогда, когда всякая вера угасла, чем рассказ о че-
тырех встречах князя Мышкина, героя «Идиота», кото-
рый я сейчас прочитаю вам:
«А насчет веры,— начал он, улыбнувшись (видимо,
не желая так оставлять Рогожина) и, кроме того,
оживляясь под впечатлением одного внезапного вос-
поминания,— насчет веры я, на прошлой неделе, в два
дня четыре разные встречи имел. Утром ехал по одной
новой железной дороге и часа четыре с одним С-м в
вагоне проговорил, тут же и познакомился. Я еще
прежде о нем много слыхивал и между прочим как об
атеисте. Он человек действительно очень ученый, и я
обрадовался, что с настоящим ученым буду говорить.
Сверх того, он на редкость хорошо воспитанный чело-
век, так что со мной говорил совершенно как с рав-
ным себе, по познаниям и по понятиям. В Бога он не
верует. Одно только меня поразило: что он вовсе как
будто не про то говорил, во все время, и потому имен-
но поразило, что и прежде, сколько я ни встречался с
неверующими и сколько ни читал таких книг, все мне
270
казалось, что и говорят они и в книгах пишут совсем
будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то. Я
это ему тогда же и высказал, но, должно быть, неясно,
или не умел выразить, потому что он ничего не по-
• нял*.. Вечером я остановился в уездной гостинице пе-
реночевать, и в ней только что одно убийство случи-
лось в прошлую ночь, так что все об этом говорили,
когда я приехал. Два крестьянина, и в летах, и не пья-
ные, и знавшие уже давно друг друга приятели, напи-
лись чаю и хотели вместе, в одной каморке ложиться
спать. Но один у другого подглядел в последние два
дня часы серебряные, на бисерном желтом снурке, ко-
торых, видно, не знал у него прежде. Этот человек
был не вор, был даже честный и, по крестьянскому бы-
ту, совсем не бедный. Но ему до того понравились эти
часы и до того соблазнили его, что он, наконец, не вы-
держал: взял нож и, когда приятель отвернулся, подо-
шел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза
к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горь-
кою молитвой: «Господи, прости ради Христа!» — за-
резал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у не-
го часы.
Рогожин покатился со смеху. Он хохотал так, как
будто был в каком-то припадке. Даже странно было
смотреть на этот смех после такого мрачного недавне-
го настроения.
— Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего! — вы-
крикивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь: — Один
совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует,
что и людей режет по молитве... Нет, этого, братчшязь,
не выдумаешь! Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего!
— На утро я вышел по городу побродить,— продол-
жал князь, лишь только приостановился Рогожин, хотя
смех все еще судорожно и припадочно вздрагивал на
его губах,— вижу, шатается по деревянному тротуару
пьяный солдат в совершенно растерзанном виде. Под-
ходит ко мне: «купи, барин, крест серебряный, всего за
двугривенный отдаю; серебряный!» Вижу в руке у него
крест и, должно быть, только что снял с себя, на голу-
бой, крепко заношенной ленточке, но только настоя-
271
щий оловянный, с первого взгляда видно, большого раз-
мера осьмиконечный, полного византийского рисунка.
Я вынул двугривенный и отдал ему, а крест тут же на
себя надел,— и по лицу его видно было, как он дово-
лен, что он надул глупого барина, и тотчас же отправил-
ся свой крест пропивать, уж это без сомнения. Я, брат,
тогда под самым сильным впечатлением был всего то-
го, что так и хлынуло на меня на Руси; ничего^го я в ней
прежде не понимал, точно бессловесный рос, и как-то
фантастически вспоминал о ней в эти пять лет за гра-
ницей. Вот иду я и думаю: нет, этого христопродавца по-
дожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных
и слабых сердцах заключается. Через час, возвращаясь
в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком.
Баба еще молодая, ребенку недель шесть будет. Ребе-
нок ей и улыбнулся, по наблюдению ее, в первый раз от
своего рождения. Смотрю, она набожно так вдруг пере-
крестилась. «Что ты,— говорю,— молодка?» (Я ведь
тогда все расспрашивал.) «А вот,— говорит,— точно
так, как бывает материна радость, когда она первую от
своего младенца улыбку заприметила, такая же точно
бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с неба за-
видел, что грешник перед ним от всего сердца на мо-
литву становится». Это мне баба сказала, почти этими
же словами, и такую глубокую, такую тонкую и истин-
но-религиозную мысль, такую мысль, в которой вся
сущность христианства разом выразилась, то есть все
понятие о Боге как о нашем родном отце и о радости
Бога на человека, как отца на свое родное дитя,— глав-
нейшая мысль Христова! Простая баба! Правда, мать...
и, кто знает, может, эта баба женой тому же солдату
была. Слушай, Парфен, ты давеча спросил меня, вот
мой ответ: сущность религиозного чувства ни под какие
рассуждения, ни под какие проступки и преступления и
ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и
вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут
скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить.
Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сер-
дце это заметишь, и вот мое заключение! Это одно из
самых первых моих убеждений, которые я из нашей
272
России выношу. Есть что делать, Парфен! Есть что де-
лать на нашем русском свете, верь мне!..»
К концу этого рассказа мы видим, как вырисовыва-
• ется еще одна особенность характера: вера в особую
миссию русского народа.
Эту веру мы находим у многих русских писателей;
у Достоевского она становится живым и мучительным
убеждением, и великую вину Тургенева он видел имен-
но в отсутствии этого национального чувства; в Турге-
неве он слишком чувствовал европейца.
Пушкин,— так заявляет Достоевский в своей речи
о нем,— еще в период подражания Байрону и Шенье
внезапно нашел то, что Достоевский называет «народ-
ным духом» — «новый и искренний тон». В ответ на во-
прос, который Достоевский называет «проклятым во-
просом»: «Можно ли верить в русский народ и в его
силу?» — Пушкин восклицает: «Смирись, гордый чело-
век, и прежде всего сложи свою гордость. Смирись,
праздный человек, и прежде всего потрудись на род-
ной ниве».
Этнические особенности, нигде быть может, не ска-
зываются столь отчетливо, как в понимании чести. Тай-
ная пружина поведения культурного человека, которую
я усматриваю не столько в «самолюбии», как сказал бы
Ларошфуко, а в том, что мы называем «чувством чес-
ти»,— это чувство чести, эта «невралгическая точка» не
является чем-то одинаковым для француза, англичани-
на, итальянца или испанца. Но с точки зрения русского,
чувство чести всех этих западных народов по-видимо-
му почти совпадает. Знакомясь с русским понятием че-
сти, мы сразу же уясняем, как часто западная честь про-
тиворечит евангельским заветам. И как раз в этом
смысле чувство чести у русского, отклоняясь от запад-
ноевропейского чувства чести, приближается к Еванге-
лию; или, если вам угодно, в русском человеке христи-
анское чувство нередко берет верх над чувством чести
в том виде, в каком мы, европейцы, понимаем его.
Будучи поставлен перед необходимостью или ото-
мстить, или же признать свою неправоту и принести из-
273
винение, европеец чаще всего сочтет вторую возмож-
ность — делом недостойным, трусостью, низостью... не-
желание простить, забыть, уступить европеец склонен
считать признаком сильного характера. И действитель-
но, он всячески старается избежать положения винова-
того, но если уж он попадает в такое положение, то са-
мое неприятное, что может с ним случиться,— это не-
обходимость признать свою вину. Русский, напротив,
всегда готов сознаться в своей неправоте,— даже перед
врагом,— всегда готов на самоуничижение, самообви-
нение.
Конечно, греческое православие только благоприят-
ствует развитию этой природной склонности, посколь-
ку оно допускает и часто даже поощряет публичную ис-
поведь. Идея исповеди не на ухо священнику, исповеди
перед первым встречным, всенародной, повторяется,
как нечто неотступное, в романах Достоевского. Когда
Раскольников признался Соне в своем преступлении,
она сразу же советует ему, как единственное средство
облегчить душу, пасть на колени посреди площади и за-
кричать: «Я убийца». Большинство персонажей Досто-
евского в известные минуты, и чаще всего совершенно
неожиданно и несвоевременно, испытывают неудержи-
мую потребность покаяться, попросить прощения у пер-
вого встречного, который порою даже не понимает, в
чем дело,— потребность унизиться перед человеком, к
которому они обращаются.
В «Идиоте» вам наверно памятна необычная сцена
на вечере у Настасьи Филипповны: кто-то из гостей
предлагает для развлечения, вроде игры в шарады, что-
бы каждый из присутствующих рассказал самый мерз-
кий поступок в своей жизни; и замечательно, что пред-
ложение не отвергается, и гости начинают исповедо-
ваться с большей или меньшей искренностью, но почти
без стыда.
Есть факт еще более характерный — анекдот из
жизни самого Достоевского. Я узнал его от одного рус-
ского, находившегося в непосредственной близости к
писателю. Я имел неосторожность кое-кому рассказать
этот анекдот, и им уже воспользовались; но при пере-
274
сказе он сделался неузнаваем, таким образом, мне при-
ходится его восстановить.
В жизни Достоевского есть некоторые чрезвычайно
темные факты. Таков в частности тот, на который есть
уже намек в «Преступлении и наказании» (Ч. IV. Гл. II)
и который, по-видимому, явился темой одной главы
«Бесов», отсутствующей в самой книге и оставшейся
неизданной даже в России; насколько мне известно,
она была напечатана до сих пор только в Германии, в
издании, не поступившем в продажу*.
В ней идет речь об изнасиловании девочки. Пору-
ганный ребенок вешается, а преступник, Ставрогин,
знающий, что она вешается, ждет ее смерти в соседней
комнате. Какова доля действительности в этой мрачной
истории? Выяснение этого для меня в данном случае
неважно. Как бы там ни было, Достоевский, после од-
ного приключения в этом роде, испытывал то, что при-
ходится называть угрызениями совести. Эти угрызения
мучили его некоторое время, и наверно он говорил се-
бе то, что Соня говорила Раскольникову. Он ощутил по-
требность в исповеди, но не просто исповеди священни-
ку. Он искал человека, перед которым эта исповедь бы-
ла бы для него особенно мучительной; таким челове-
ком бесспорно был Тургенев. Достоевский давно не
видел Тургенева и был в очень скверных отношениях с
ним. Тургенев был человек солидный, богатый, знаме-
нитый, всеми уважаемый. Достоевский вооружился
всей своей храбростью или, может быть, поддался сво-
его рода головокружению, его увлекла какая-то таинст-
венная и страшная сила. Представим себе уютный рабо-
чий кабинет Тургенева. Тургенев сидит у письменного
стола. Звонок. Лакей докладывает о приходе Федора
Достоевского. Чего ему надо? Его приглашают войти, и
вот он сразу же начинает свой рассказ. Тургенев с
изумлением слушает. Какое ему дело до всего этого?
Несомненно, его гость сошел с ума! Рассказ окончен.
* Перевод этой главы был издан потом в «Nouvelle Revue
Francaise» (июнь и июль 1922 года). Появился затем отдельно
под заглавием «Исповедь Ставрогина».
275
Долгое молчание. Достоевский ждет, что Тургенев ска-
жет слово, сделает какой-нибудь жест... Наверно, он ду-
мает, что, как это случается в его, Достоевского, рома-
нах, Тургенев заключит его в объятия, прослезится и
поцелует его, помирится с ним, но так как ничего это-
го не случается, он говорит:
— Господин Тургенев, я должен сказать вам: «я глу-
боко презираю себя»...
Он ждет еще. Все то же молчание. Тогда Достоев-
ский уже не выдерживает и в ярости прибавляет:
— Но вас я презираю еще больше. Это все, что я со-
бирался вам сказать...— и уходит, хлопнув дверью. Тур-
генев был слишком европеец, чтобы его как следует
понять.
Мы видим здесь резкую смену чувств, переход сми-
рения в его полную противоположность. Человек, кото-
рого смирение заставило склониться, под влиянием
унижения, напротив, встает на дыбы. Смирение откры-
вает ворота в рай, унижение ввергает в ад. Смирение
подразумевает своего рода добровольное подчинение,
оно — результат свободного выбора; в нем сказывает-
ся правда евангельских слов: «Уничижающий себя воз-
высится». Унижение же, напротив, грязнит душу, приги-
бает ее, уродует, сушит, раздражает, клеймит; оно нано-
сит своего рода нравственную рану, которая заживает с
большим трудом.
По-моему, нет ни одной уродливости и извращенно-
сти характера,— из тех, что персонажи Достоевского,
столь волнующие, столь болезненно причудливые, явля-
ют нам во множестве,— которая не коренилась бы в ка-
ком-то ранее испытанном унижении.
«Униженные и оскорбленные» — таково заглавие
одной из первых книг Достоевского, и все его творче-
ство вечно во власти томящей мысли, что в униже-
нии — проклятие, а смирение ведет к святости. Рай в
том виде, как о нем мечтает и как его рисует нам Але-
ша Карамазов,— это мир, в котором больше не будет ни
униженных, ни оскорбленных.
Что касается самого странного и самого волнующе-
го персонажа романов Достоевского, жуткого Ставро-
276
гина из «Бесов», то объяснение, ключ к его демониче-
скому характеру, на первый взгляд столь непохожему
на все остальное, мы найдем в нескольких фразах этой
книги:
«Николай Всеволодович,— рассказывает один из
персонажей,— вел тогда в Петербурге жизнь, так
сказать, насмешливую,— другим словом не могу оп-
ределить ее, потому что в разочарование этот чело-
век не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал
заниматься» *.
А мать Ставрогина, которой это говорят, спустя не-
много восклицает:
«— Нет, это было нечто высшее чудачества и, уве-
ряю вас, нечто даже святое! Человек гордый и рано ос-
корбленный, дошедший до той «насмешливости», о ко-
торой вы так метко упомянули...» **
И далее:
«И если бы всегда подле Nicolas (отчасти пела уже
Варвара Петровна) находился тихий, великий в смире-
нии своем Горацио,— другое прекрасное выражение ва-
ше, Степан Трофимович,— то, может быть, он давно
уже был бы спасен от грустного и внезапного «демона
иронии», который всю жизнь терзал его».
Случается, что иные персонажи Достоевского,— на-
туры, глубоко поврежденные унижением, находят осо-
бого рода удовольствие и удовлетворение в том паде-
нии, которое оно влечет за собой, как бы ужасно оно
ни было.
«Была ли во мне злоба? — говорит герой «Подрост-
ка», как раз только что перенесший жестокое оскорб-
ление.— Не знаю,— может быть, была. Странно, во мне
всегда была, и, может быть, с самого первого детства,
такая черта: коли уж мне сделали зло, восполнили его
окончательно, оскорбили до последних пределов, то
всегда тут же являлось у меня неутолимое желание пас-
сивно подчиниться оскорблению и даже пойти вперед
^ «Бесы». Ч. I. Гл. 5. VI.
** Там же.
277
желаниям обидчика: «На-те, вы унизили меня, так я еще
пуще сам унижусь, вот смотрите, любуйтесь» *.
Ибо, если смирение есть отказ от гордости, то уни-
жение, напротив, усиливает гордость.
Выслушаем еще жалкого героя «Подполья» **:
«Раз, проходя ночью мимо одного трактиришки, я
увидел в освещенное окно, как господа киями подра-
лись у бильярда и как одного из них в окно спустили. В
другое время мне бы очень мерзко стало; но тогда та-
кая вдруг минута нашла, что я этому спущенному гос-
подину позавидовал, и до того позавидовал, что даже в
трактир вошел, в бильярдную: «авось, дескать, и я поде
русь, и меня тоже из окна спустят».
Я не был пьян, но что прикажете делать — до такой
ведь истерики может тоска заесть! Но ничем не обо-
шлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть неспосо-
бен, и я ушел, не подравшись.
Осадил меня там с первого же шага один офицер.
Я стоял у бильярда и по неведению заслонял дорогу,
а тому надо было пройти; он взял меня за плечо и мол-
ча, не предуведомив и не объяснившись, переставил ме
ня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел,
как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но
никак не мог простить того, что он меня переставил и
так окончательно не заметил.
Черт знает, что бы дал я тогда за настоящую, более
правильную ссору, более приличную, более, так ска-
зать, литературную] Со мной поступили, как с мухой.
Был этот офицер вершков десяти росту; я же человек
низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих
руках: стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спу-
стили в окно. Но я раздумал и предпочел... озлобленно
стушеваться».
Но если мы продолжим чтение, то вскоре увидим,
что эта крайняя ненависть превращается в любовь:
* «Подросток». Ч. II. Гл. 9.1.
** «Записки из подполья». Ч. П. 1.
278
«Я часто потом встречал этого офицера на улице и
хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли
он меня. Должно быть, нет; заключаю по некоторым
признакам. Но я^го, я смотрел на него с злобою и не-
• навистью, и так продолжалось... несколько лет-с! Зло-
ба моя даже укреплялась и росла с годами. Сначала я
потихоньку начал разузнавать об этом офицере. Труд-
но мне это было, потому что я ни с кем не был зна-
ком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на
улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный
к нему, и вот я фамилию узнал. Другой раз я просле-
дил его до самой его квартиры и за гривенник узнал
у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с
кем-нибудь и т. д., одним словом, все, что можно уз-
нать от дворника. Раз поутру, хоть я никогда не лите-
ратурствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого
офицера в обличительном виде, в карикатуре, в виде
повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обли-
чил, даже поклеветал; фамилию я так подделал снача-
ла, что можно было тотчас узнать, но потом, по зре-
лом рассуждении, изменил и отослал в «Отечествен-
ные записки». Но тогда еще не было обличений, и
мою повесть не напечатали. Мне это было очень до-
садно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец я
решился вызвать моего противника на дуэль. Я сочи-
нил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умо-
лял его передо мной извиниться; в случае же отказа,
довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так
сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал «пре-
красное и высокое», то непременно бы прибежал ко
мне, чтоб броситься мне на шею и предложить свою
дружбу. И как бы это было хорошо! Мы бы так зажи-
ли! Так зажили...»
Так у Достоевского одно чувство часто сменяется
другим, резко противоположным.
Мы могли бы привести не один пример; как на один
из примеров мы указали бы на несчастного мальчика в
«Братьях Карамазовых», который с ненавистью кусает
Алешу за палец, когда тот протягивает ему руку, хотя
279
как раз в это время, не отдавая себе отчета, этот маль-
чик начинает безумно его любить.
Откуда же у этого мальчика такая извращенная лю-
бовь? Он видел, как Дмитрий Карамазов, брат Алеши,
выйдя пьяный из трактира, избивал его отца и, обнаг-
лев, таскал его за бороду: «Папочка! Папочка! Как он
тебя унизил!» — восклицает он потом.
Итак, в параллель к смирению и, если можно так вы-
разиться, в той же нравственной плоскости, но на дру-
гом конце этой плоскости — гордость, которую униже-
ние разжигает, ожесточает и искажает, порою до чудо-
вищных размеров.
Конечно, психологические истины всегда пред-
ставляются Достоевскому тем, чем они являются в
действительности: истинами частными. Как романист
(ибо Достоевский отнюдь не теоретик, он — рудокоп)
он остерегается метода индукции и знает, как неосто-
рожно было бы (по крайней мере, с его стороны) фор-
мулировать общие законы*. Что касается этих зако^
нов, то уже наша задача, если мы этого хотим,— по-
пытаться выделить их, как бы прокладывая дороги в
чащах его книг. Таков, например, следующий закон:
человек, которого унизили, старается в свою очередь
кого-нибудь унизить**.
Несмотря на необычайное богатство человеческой
комедии Достоевского, персонажи его располагаются,
группируются в одной и той же, всегда неизменной пло-
* «Русский гений,— говорит г. Шледер в «Nouvelle Revue
Frangaise» (в февральском номере 1922 года),— и это одна из
его самых существенных особенностей, как бы отважен он ни
был, всегда основывается на конкретном факте, на живой
действительности; впоследствии он может устремиться к по-
строениям самым отвлеченным, самым рискованным, но
лишь для того, чтобы в конце концов вернуться обогащенным
всеми приобретениями мысли к этой действительности, к
факту, его исходной точке и конечной цели».
Таков Лебедев в «Идиоте»; см. замечательную главу,
где Лебедев с наслаждением изводит генерала Иволгина.
280
скости — в плоскости смирения и гордости; плоскости,
которая дезориентирует нас и вначале даже не вполне
отчетливо вырисовывается перед нами, по той единст-
венной причине, что мы обычно не в этом направлении
•производим разрез и устанавливаем иерархию людей.
Поясню мою мысль: читая например, замечательные
романы Диккенса, я иногда чувствую себя почти нелов-
ко, в силу той условности, почти что ребяческой, кото-
рую представляет его иерархия и, если воспользоваться
выражением Ницше, его скала ценностей. Когда я чи-
таю книгу Диккенса, мне кажется, что я смотрю на
один из «Страшных судов» Анжелико: есть здесь из-
бранники, есть осужденные на муки, есть и сомнитель-
ные, весьма немногочисленные, из-за которых спорят
добрые ангелы и злые демоны. Весы, которые всех их
взвешивают, точно на египетском барельефе, принима-
ют в расчет лишь большую или меньшую степень их
доброты. Добрым — небо, злым — ад. Диккенс в этом
отношении верен взглядам своего народа и своего вре-
мени. Случается, что злые благоденствуют, что добрые
приносятся в жертву: это позор для нашей земной жиз-
ни и нашего общества. Все его романы имеют тенден-
цию показать нам и дать нам почувствовать превосход-
ство сердца над умом. Диккенса в качестве примера я
выбрал потому, что сравнительно со всеми известными
нам великими романистами он дает, мне кажется, клас-
сификацию в самой простой форме, и я прибавлю: это-
то и обусловило его огромную популярность.
И вот, перечитав недавно почти все книги Достоев-
ского подряд, я пришел к выводу, что аналогичная клас-
сификация существует и у него; менее заметная, конеч-
но, хотя почти столь же простая и представляющаяся
мне гораздо более важной: иерархию (простите мне это
ужасное слово) его персонажей можно установить не в
зависимости от их большей или меньшей доброты, от
качеств их сердца, а по их большей или меньшей гор-
дости.
Достоевский рисует нам, с одной стороны, смирен-
ных (и некоторые из них доведут свое смирение до уни-
чижения, до того, что в уничижении они будут находить
281
удовольствие), а с другой стороны — гордецов (и некото-
рые из них доведут гордость до преступления). Послед-
ние обычно являются более интеллектуальными. Мы уви-
дим, как они, мучимые демоном гордости, вечно будут
состязаться в благородстве: «Ну, бьюсь же об заклад, что
вы всю ночь просидели в зале рядышком ца стульях и о
каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили все
драгоценное время», говорит Ставрогину гнусный Петр
Степанович в «Бесах» *, или еще, например:
«Катерина Николаевна, несмотря на весь свой
страх, который я в ней сама приметила, всегда питала,
еще с прежнего времени, некоторое благоговение и
удивление к благородству правил и к возвышенности
ума Андрея Петровича... В письме же своем он дал ей
самое торжественное, самое рыцарское слово, что опа-
саться ей нечего... она доверилась... отвечая самыми ге-
роическими чувствами. Тут могла быть некоторая ры-
царская борьба с обеих сторон» **.
«Тут нет ничего, что может растерзать ваше само-
любие,— говорит Елизавета Николаевна Ставрогину,—
и все совершенная правда. Началось с красивого мгно-
вения, которого я не вынесла. Третьего дня, когда я вас
всенародно «обидела», а вы мне ответили таким рыца-
рем, я приехала домой и тотчас догадалась, что вы по-
тому от меня бегали, что женаты, а вовсе не из презре-
ния ко мне, чего я в качестве светской барышни всего
более опасалась».
И она заканчивает:
«По крайней мере самолюбие не страдает» ***.
Поведение его женских персонажей в еще большей
мере, чем поведение персонажей мужских, определя-
* «Бесы». Ч. II.
** «Подросток». Ч. III. Гл. 10. III.
*** «Бесы». Ч. III. Гл. 3.1.
282
ется и направляется мотивами гордости (такова сестра
Раскольникова, Настасья Филипповна и Аглая Епанчи-
на в «Идиоте», Елизавета Николаевна в «Бесах» и Ка-
терина Ивановна в «Карамазовых»).
Но в силу перемещения ценностей, которое я осме-
люсь определить как евангельское, самые уничижен-
ные ближе к царству Божьему, чем самые благород-
ные,— до такой степени творчество Достоевского про-
никнуто глубокими истинами: «Последние да будут пер-
выми», «Я пришел взыскать и спасти погибшее» и т. д.
С одной стороны, мы видим самоотречение, отказ
от своего я, с другой — утверждение личности, «волю
к власти», утрированное благородство, и надо отметить,
что эта воля к власти в романах Достоевского всегда ве-
дет к краху.
Г-н Суде упрекнул меня недавно в том, что ради До-
стоевского я жертвую Бальзаком, даже, кажется, при-
ношу его на заклание. Стоит ли возражать? Мое восхи-
щение Достоевским, конечно, самое искреннее, но я
все же не думаю, чтобы оно ослепляло меня, и готов
признать, что персонажи Бальзака представляют боль-
шее разнообразие, чем персонажи русского романиста;
его человеческая комедия более пестрая. Конечно, До-
стоевский проникает в области гораздо более глубокие
и затрагивает вопросы гораздо более важные, чем это
удается любому другому романисту; но можно сказать,
что все его персонажи созданы из одного и того же ма-
териала. Гордость и смирение остаются тайными пру-
жинами их поступков, хотя в силу различной дозиров-
ки этих свойств реакции их носят пестрый характер.
У Бальзака (как, впрочем, во всем, западноевропей-
ском обществе, а особенно в обществе французском,
картину которого нам являют его романы) на сцену вы-
ступают два фактора, не играющих почти никакой роли
в творчестве Достоевского; факторы эти — ум и воля.
Я не говорю, что в произведениях Бальзака воля
всегда приводит человека к добру и что все его воле-
вые персонажи сплошь добродетельны; но мы по край-
ней мере видим, как многие, из его героев достигают
добродетели силой воли и делают великолепную карье-
283
ру благодаря упорству, уму и решимости. Вспомните
Давида Сешара, Бьяншона, Жозефа Бридо, Даниэля
д'Артеза... я мог бы назвать десятка два имен.
Во всем творчестве Достоевского мы не видим ни
одного великого человека, «Однако же,— скажете вы
мне,— есть изумительный старец Зосйма...» —Да, не-
сомненно, это самый высокий образ, начертанный рус-
ским романистом; он возвышается над всей этой дра-
мой, и, когда, наконец, у нас будет обещанный нам
полный перевод «Братьев Карамазовых», его значение
станет нам еще более понятно. Но нам еще более
понятно станет и то, в чем для Достоевского заключа-
ется его подлинное величие: старец Зосйма — не вели-
кий человек в глазах света. Это святой, а не герой. Свя-
тости он достигает как раз отречением от воли, отка-
зом от разума.
В произведениях Достоевского, совершенно так же,
как и в Евангелии, царство небесное принадлежит ни-
щим духом. То, что у него противополагается любви,
есть не столько ненависть, сколько суемудрие.
Вглядываясь в исполненных решимости персонажей
Достоевского и сравнивая их с бальзаковскими, я нео-
жиданно замечаю, что все они — существа страшные.
Вспомните Раскольникова, открывающего их серию,
вначале — мелкого честолюбца, которому хотелось бы
стать Наполеоном и которому удается лишь убить рос-
товщицу и невинную девушку. Вспомните Ставрогина,
Петра Степановича, Ивана Карамазова, героя «Подро-
стка» (единственного среди персонажей Достоевского,
который с самых ранних лет, по крайней мере с тех
пор, как он себя помнит, живет с навязчивой идеей:
стать Ротшильдом; и, словно в насмешку, ни в одной из
книг Достоевского нет существа более дряблого, более
зависимого от всех и от каждого). Воля его героев, весь
тот ум и вся та воля, которые есть у них, как будто стре-
мительно влекут их в ад; и, пытаясь определить, какую
роль интеллект играет в романах Достоевского, я заме-
чаю, что это всегда демоническая роль.
Самые опасные его персонажи являются также и са-
мыми интеллектуальными.
284
Я хочу сказать не только то, что воля и ум персона-
жей Достоевского направлены исключительно на зло,
но что, даже когда они устремляются к добру, добро-
детель, достигаемая ими, оказывается добродетелью
• горделивой и ведет к гибели. Герои Достоевского всту-
пают в царство Божие, только жертвуя своим интеллек-
том, отрекаясь от своей индивидуальной воли, отказы-
ваясь от своего я.
Конечно, можно сказать и про Бальзака, что в изве-
стной степени он тоже писатель христианский. Но лишь
сопоставив две этики, этику русского романиста и эти-
ку романиста французского, мы можем понять, до ка-
кой степени католицизм второго отклоняется от чисто
евангельской доктрины первого, до какой степени ка-
толическое сознание может отличаться от сознания
просто христианского. Чтоб никого не задевать, ска-
жем, если вам угодно, что «Человеческая комедия»
Бальзака родилась из соприкосновения Евангелия с ла-
тинским сознанием, русская же комедия Достоевско-
го — из соприкосновения Евангелия с буддизмом, с со-
знанием азиатским.
Все сказанное до сих пор является лишь предвари-
тельными замечаниями, которые позволят нам глубже
проникнуть в душу этих странных героев, что я и наме-
реваюсь сделать в следующей лекции.
III
До сих пор мы были заняты только подготовкой
почвы. Прежде чем приступить к анализу идей Досто-
евского, мне хотелось бы предостеречь вас от одного
опасного заблуждения. В последние пятнадцать лет
своей жизни Достоевский много занимался редактиро-
ванием журнала. Собрание статей, которые он писал
для этого журнала, составило так называемый «Днев-
ник писателя». В этих статьях Достоевский излагает
свои мысли. Казалось бы, очень просто и очень есте-
ственно было бы постоянно ссылаться на эту книгу;
но,— это я сразу же скажу вам,— книга эта глубоко
285
разочаровывает. Мы находим здесь изложение соци-
альных теорий: они сумбурны и выражены исключи-
тельно неумело. Мы находим здесь политические про-
рочества: ни одно из них не сбылось. Достоевский пы-
тается предвидеть будущее Европы и ошибается почти
непрестанно. г
Г-н Суде, недавно посвятивший Достоевскому один
из своих фельетонов в «Temps», ставит на вид его
ошибки. В этих статьях он соглашается видеть лишь
журналистику на текущие темы, и я вполне готов при-
соединиться к его мнению; но я возражаю, когда он до-
бавляет, что эти статьи прекрасно знакомят нас с идея-
ми Достоевского. По правде говоря, проблемы, кото-
рые Достоевский рассматривает в «Дневнике писате-
ля»,— не те, которые больше всего его интересуют:
политические вопросы, надо признать, представляются
ему менее важными, чем вопросы социальные; вопро-
сы социальные — менее, гораздо менее важными, чем
вопросы моральные и касающиеся личности. Самые
глубокие и самые исключительные истины, которых
мы можем от него ждать,— порядка психологического;
и я добавлю, что идеи, которые он выдвигает в этой об-
ласти, чаще всего остаются в виде проблем, в виде во-
просов. Он стремится не столько к решению, сколько к
изложению,— изложению как раз этих вопросов, кото-
рые в силу своей чрезвычайной сложности и спутанно-
сти чаще всего остаются неясными. Наконец, если уж
все говорить, то Достоевский в сущности не мыслитель,
он — романист. Его самые дорогие, самые тонкие, са-
мые новые идеи мы должны искать в речах его персо-
нажей и даже не всегда персонажей первого плана: ча-
сто случается, что самые важные, самые смелые идеи
он вкладывает в уста персонажам второстепенным. До-
стоевский бывает в высшей степени неловок, как толь-
ко начинает высказываться от собственного лица. Мож-
но отнести к нему самому фразу, которую произносит
Версилов в «Подростке»:
«Развить? — сказал он: — Нет, уж лучше не разви-
вать, а к тому же страсть моя — говорить без развития.
286
Право, так. И вот еще странность: случись, что я начну
развивать мысль, в которую верую, и почти всегда так
выходит, что в конце изложения я сам перестаю верить
в излагаемое» \
Можно даже сказать, что Достоевский в редких слу-
чаях не начинает бороться со своей собственной мыс-
лью, едва только высказав ее. Кажется, что для него
она сейчас же начинает источать трупный смрад, по-
добный тому, который исходил от трупа старца Зосимы
как раз в то время, когда от него ждали чудес,— и та-
ким мучительным сделал для его ученика Алеши Кара-
мазова бдение над его телом.
Несомненно, для «мыслителя» это обстоятельство
было бы довольно досадным. Идеи Достоевского поч-
ти никогда не являются абсолютными; они почти всег-
да соотнесены с его персонажами, которые их выра-
жают, и даже более того: они соотнесены не только с
этими персонажами, но и с определенными мгновени-
ями в жизни этих персонажей; они, так сказать, дости-
гаются своеобразным и преходящим состоянием того
или иного персонажа; они всегда относительны; всег-
да находятся в прямой зависимости о*г факта или ка-
кого-либо поступка, который они обусловливают или
который обусловливает их. Как только Достоевский
начинает теоретизировать, он разочаровывает нас.
Так, даже в своей статье о лжи, этот писатель, кото-
рый с таким удивительным мастерством выводит на
сцену типы лжецов (столь не похожие на тип корне-
левского лжеца) и с помощью этих типов умеет сде-
лать для нас понятным, что побуждает лжеца лгать,—
как только он хочет нам объяснить все это, как толь-
ко он приступает к теоретическому обоснованию сво-
их примеров, он становится плоским и очень мало ин-
тересным.
Этот самый «Дневник писателя» показывает нам,
до какой степени Достоевский является романистом;
ибо, если в статьях теоретических и критических он
* «Подросток». Ч. П. Гл. 2. П.
287
остается довольно посредственным,— он зато сразу
становится великолепен, как только на сцену появля-
ется тот или иной персонаж. Именно в этом «Дневни-
ке» мы находим прекрасный рассказ о «Мужике Ма-
рее» и — главное — изумительную вещь — «Крот-
кая», одно из самых мощных творений Достоевского,
своего рода роман, являющийся, собственно говоря,
не чем иным, как длинным монологом, подобно «За-
пискам из подполья», написанным приблизительно в
то же время.
Но мы находим здесь и нечто большее — то есть не-
что более показательное: Достоевский в «Дневнике пи-
сателя» два раза дает нам возможность присутствовать
при процессе творчества романиста, которым почти не-
вольно, почти бессознательно занят его ум.
Рассказав нам об удовольствии, которое он получил,
наблюдая на улице гуляющих, а подчас и следуя за ни-
ми, он вдруг приковывается к одному из этих встречен-
ных прохожих:
«Вот замечаю в толпе одинокого мастерового, но с
ребенком, с мальчиком,— одинокие оба, и вид у них у
обоих такой одинокий. Мастеровому лет тридцать, ис-
питое и нездоровое лицо. Он нарядился по-празднично-
му: немецкий сюртук, истертый по швам, потертые пу-
говицы и сильно засалившийся воротник сюртука; пан-
талоны «случайные», из третьих рук с толкучего рын-
ка, но все вычищено по возможности. Коленкоровая
манишка и галстук, шляпа цилиндр, очень смятая, бо-
роду бреет. Должно быть где-нибудь в слесарной или
чем-нибудь в типографии. Выражение лица мрачно-уг-
рюмое, задумчивое, жестокое, почти злое. Ребенка он
держит за руку, и тот колыхается за ним, кое-как пере-
качиваясь. Это мальчик лег двух с небольшим, очень
слабенький, очень бледненький, но одет в кафтанчик,
в сапожках с красной оторочкой и павлиньим перыш-
ком на шляпе. Он устал; отец ему что-то сказал, может
быть, просто сказал, а вышло, что как будто прикрик-
нул. Мальчик притих. Но прошли еще шагов пять, и
отец нагнулся, бережно поднял ребенка, взял на руки
288
и понес. Тот привычно и доверчиво прильнул к нему,
обхватил его за шею правой ручкой и с детским удив-
лением стал пристально смотреть на меня: «Чего, де-
скать, я иду за ними и так смотрю?» Я кивнул было ему
• головой и улыбнулся, но он нахмурил бровки и еще
крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно
быть, оба большие.
Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к
иным, совсем незнакомым прохожим, изучать их лица
и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что
особенно их в эту минуту интересует. Про мастерово-
го с мальчиком мне пришло тогда в голову, что у него,
всего только с месяц тому, умерла жена и почему-то
непременно от чахотки. За сироткой-мальчиком (отец
всю неделю работает в мастерской) пока присматрива-
ет какая-нибудь старушонка в подвальном этаже, где
они нанимают каморку, а может быть всего только
угол. Теперь же, в воскресенье, вдовец с сыном ходи-
ли куда-нибудь далеко на Выборгскую, к какой-нибудь
единственной оставшейся родственнице, всего вернее,
к сестре покойницы, к которой не очень-то часто ходи-
ли прежде и которая замужем за каким-нибудь унтер-
офицером с нашивкой и живет непременно в каком-ни-
будь огромнейшем казенном доме и тоже в подваль-
ном этаже, но особнячком. Та, может быть, повздыха-
ла о покойнице, но не очень; вдовец, наверно, тоже не
очень вздыхал во время визита, но все время был уг-
рюм, говорил редко и мало, непременно свернул на ка-
кой-нибудь деловой, специальный пункт, но и о нем
скоро перестал говорить. Должно быть, поставили са-
мовар, выпили вприкуску чайку. Мальчик все время
сидел на лавке в углу, хмурился и дичился, а под конец
задремал. И тетка, и муж ее мало обращали на него
внимания, но молочка с хлебцем наконец-таки дали,
причем хозяин унтер-офицер, до сих пор не обращав-
ший на него никакого внимания, что-нибудь сострил
про ребенка в виде ласки, но что-нибудь очень соленое
и неудобное, и сам (один, впрочем) тому рассмеялся, а
вдовец, напротив, именно в эту минуту строго и неиз-
вестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие че-
289
го тому немедленно захотелось аа, и тут отец уже без
крику и с серьезным видом вынес его на минутку из
комнаты... Простились так же угрюмо и чинно, как и
разговор вели, с соблюдением всех вежливостей и при-
личий. Отец сгреб на руки мальчика и понес домой, с
Выборгской на Литейную. Завтра опять в мастерскую,
а мальчик к старушонке».
В другом месте той же книги мы читаем рассказ о
встрече со столетней старухой. Проходя по улице, До-
стоевский видит ее сидящей на скамейке. Он заговари-
вает с ней, а потом идет дальше. Но вечером, «прочтя
одну статью журнала и отложив журнал», он вспомина-
ет об этой старухе, представляет себе ее возвращение
к своим, слова, с которыми домашние обращаются к
ней. Он описывает ее смерть. «Почему-то мигом дори-
совал себе продолжение о том, что она дошла к своим
пообедать; вышла другая, может быть очень правдопо-
добная маленькая картина. На то я и романист, чтоб
выдумывать» *.
Впрочем, Достоевский никогда не придумывает на-
удачу. В одной из статей того же самого «Дневника» по
поводу деда вдовы Корниловой он на свой лад восста-
навливает и заново создает роман, но потом, когда су-
дебному следствию удастся полностью осветить пре-
ступление, он сможет написать: «Я угадал так, как буд-
то сам был при этом», и прибавить: «Как раз случилось
одно, весьма благоприятное обстоятельство, доставив-
шее мне скорую возможность посетить Корнилову... И
вот, я даже сам был удивлен: представьте себе, что из
мечтаний моих, по крайней мере, три четверти оказа-
лось истиною. О, разумеется, я кое в чем и ошибся, но
не в существенном: Корнилов, например, хоть и кресть-
янин, но ходит в немецком платье». И Достоевский го-
ворит в заключение: «Несходства мелкие, но в главном,
в сущности ошибки никакой» **.
* «Дневник писателя».
** «Дневник писателя». 1876 г., декабрь. Гл. 1.1 («Опять о
простом, но мудреном деле»).
290
Если с такой наблюдательностью, с таким даром вы-
мысла и воссоздания действительности сочетается еще
и чувствительность, можно стать Гоголем или Диккен-
сом (может быть, вам вспоминается начало «Лавки
древностей», где Диккенс также выслеживает прохо-
жих, наблюдает их, а расставшись с ними, продолжает
воссоздавать в воображении их жизнь), но этих талан-
тов, как бы изумительны они ни были, еще недостаточ-
но, чтобы стать Бальзаком или Томасом Гарди, или До-
стоевским. Разумеется, их было бы недостаточно для
того, чтобы Ницше мог написать:
«Открытие Достоевского имело для меня еще боль-
шее значение, чем открытие Стендаля; он — единствен-
ный, от кого я чему-нибудь научился в психологии».
Страницу из Ницше, которую я прочитаю вам сей-
час, я выписал уже давно. Ницше, когда писал ее,— не
имел ли он в виду то, что как раз составляет самое сво-
еобразное свойство великого русского романиста, то,
что противополагает его множеству наших современ-
ных романистов, например, Гонкурам, на которых Ниц-
ше как будто указывает здесь:
«Мораль для психологов: не заниматься психоло-
гией по мелочам! Никогда не наблюдать ради одного
наблюдения! Это создает ложную перспективу, «тик»,
известную напряженность, которая легко переходит в
преувеличение. Пережить что-нибудь потому, что захо-
телось это пережить,— такие вещи не удаются. В мо-
мент события нельзя смотреть на себя; тут всякий глаз
превращается в «дурной глаз». Природный психолог ин-
стинктивно избегает смотреть, чтобы видеть; так же об-
стоит дело с природным художником. Он никогда не
пишет с натуры — он полагается на свой инстинкт, на
свою camera obscura, расчищая, выражая «факт», «нату-
ру», «пережитое»... Он заботится только об общем, о
выводе, о равнодействующей: ему незнакомы произ-
вольные следствия, выводимые из частного факта. Ка-
кой получается результат, когда за дело берутся по-ино-
му? Например, когда по методу парижских романистов
занимаются большой и малой психологией по мелочам?
291
Человек в известном смысле выслеживает действи-
тельность, приносит каждый вечер пригоршню рарите-
тов. Но посмотрите, что получается...» и т. д. *
Достоевский никогда не наблюдает ради наблюде-
ния. То, что он создает, никогда не возникает путем на-
блюдения над действительностью или, во всяком слу-
чае, оно возникает не только этим путем. Оно также не
возникает из предвзятой идеи, и вот почему оно ни-
сколько не теоретично, а погружено в действитель-
ность; оно возникает из столкновения идеи и факта, из
слияния (blending назвали бы это англичане) того и дру-
гого, столь полного, что никогда нельзя сказать, ко-
торый из элементов перевешивает,— благодаря чему
самые реалистические сцены романов Достоевского
вместе с тем наиболее полны психологического и нрав-
ственного смысла; точнее говоря, каждое произведе-
ние Достоевского — результат оплодотворения факта
идеей. «Идея этого романа существует во мне уже три
года» — пишет он в 1870 году (речь здесь идет о «Брать-
ях Карамазовых», которых он написал только девять
лет спустя), а в другом письме:
«Главный вопрос, который проведется во всех час-
тях,— тот самый, которым я мучился сознательно и бес-
сознательно всю мою жизнь — существование Божие».
Но эта мысль останется расплывчатой в его мозгу
до тех пор, пока не столкнется с фактом из хроники
происшествий (в данном случае — крупным уголовным
делом), который оплодотворит ее; только тогда можно
будет сказать, что произведение зачато. «То, что я пи-
шу сейчас,— вещь тенденциозная»,— скажет он в том
же самом письме о «Бесах», которых он вынашивает
одновременно с «Карамазовыми». «Карамазовы» —
произведение тоже тенденциозное. Конечно, нет ниче-
го менее безосновательного, чем творчество Достоев-
ского. Каждый из его романов — это своего рода дока-
* «Mercure de France», август 1898 года.
292
зательство; даже можно бы сказать защитительная речь
или — еще вернее — проповедь. И если бы осмелиться
сделать упрек этому замечательному художнику, то,
пожалуй, Это был бы упрек в том, что он хотел слиш-
ком многое доказать. Оговоримся: Достоевский ни-
когда не стремится повлиять на наше суждение. Он
стремится просветить нас, сделать очевидными сокро-
венные истины, которые его ослепляют, которые ему
кажутся, — а вскоре и нам покажутся, — истинами вы-
сочайшей важности, самыми важными из истин, кото-
рых может достигнуть человеческий ум,— истины не
отвлеченного порядка, не лежащие вне человека, а ис-
тины порядка личного, истины сокровенные. С другой
стороны, и это-то как раз и предохраняет его произве-
дения от всяких тенденциозных извращений,— эти ис-
тины, эти идеи Достоевского все время подчинены
факту, глубоко внедрены в действительность. По отно-
шению к человеческой действительности он сохраняет
смиренную, покорную позу; он никогда не принуждает;
он никогда не подчиняет себе события; кажется, что да-
же к своей мысли он применяет евангельский завет:
«Кто хочет спасти ее, тот ее потеряет, а кто от нее от-
кажется, тот сделает ее истинно живой».
Прежде чем попытаться проследить по книгам До-
стоевского некоторые его идеи, мне хотелось бы рас-
сказать вам о его методе работы. Страхов нам сообща-
ет, что Достоевский работал почти исключительно по
ночам: «Писал он,— говорит Страхов,— почти без ис-
ключения ночью. Часу в двенадцатом, когда весь дом
укладывался спать, он оставался один с самоваром и,
попивая не очень крепкий и почти холодный чай, писал
до пяти и шести часов утра. Вставать приходилось в два,
даже в три часа пополудни, и день проходил в приеме
гостей, в прогулке и посещениях знакомых». Достоев-
ский не всегда умел довольствоваться этим «не слиш-
ком крепким чаем»; говорят, в последние годы своей
жизни он частенько прибегал к спиртным напиткам.
Однажды,— рассказывали мне,— Достоевский вышел
293
из своего кабинета, где в то время писал «Бесов», в со-
стоянии очень сильного умственного возбуждения, до-
стигнутого отчасти искусственными средствами. Это
был приемный день его жены. Федор Михайлович, уг-
рюмый и растерянный, вторгся невзначай в гостиную,
где было несколько дам, а когда одна из них начала
увиваться вокруг него с чашкой чая в руке, он закри-
чал: «Черт бы вас побрал с вашими помоями!»
Вы помните коротенькую фразу аббата де Сен-Реа-
ля,— фразу, которая могла бы показаться нелепой, если
бы ею не воспользовался Стендаль, подведя под нее
свою этику: «Роман — это зеркало, которое двигает
вдоль дороги». Конечно, во Франции и в Англии есть
множество романов, построенных согласно этой форму-
ле; романы Лесажа, Вольтера, Фильдинга, Смоллета...
Но нет ничего более далекого от нее, чем роман Досто-
евского. Между романом Достоевского и романами пе-
речисленных писателей, даже романами Толстого или
Стендаля, совершенно такое же различие, какое сущест-
вует между картиной и панорамой. Достоевский создает
картину, в которой самое важное, самое главное,— рас-
пределение света. Он исходит из одного источника... В
романах Стендаля, в романах Толстого — свет постоян-
ный, ровный, рассеянный; все предметы освещены оди-
наково, мы видим их одинаково со всех сторон; у них нет
тени. А точно так же, как на картинах Рембрандта, самое
существенное в книгах Достоевского — это тень. Досто-
евский так группирует своих персонажей и события и
так направляет лучи света, что они падают на них толь-
ко с одной стороны. Каждый из его персонажей погру-
жен в тень, опирается на свою тень. У Достоевского мы
также замечаем своеобразную потребность группиро-
вать, сгущать, сосредоточивать все элементы романа,
создавать между ними как можно больше отношений и
взаимодействий. Вместо ровного и медленного течения
событий, как у Стендаля или Толстого, у него всегда бы-
вает момент, когда эти события скрещиваются и связы-
ваются в узел, образуя своего рода концентрическое
сплетение; это — водовороты, в которых элементы пове-
294
ствования — моральные, психологические и внешние —
затериваются и снова отыскиваются. Мы не видим у не-
го никакого упрощения, никакого очищения линии. Ему
нравится сложность; он бережет ее. Чувства, мысли,
страсти никогда не являются в чистом виде. Он не созда-
ет пустоты вокруг них. Здесь своевременно будет сде-
лать одно замечание о рисунке Достоевского, о его ма-
нере рисовать характеры своих персонажей; но сперва
разрешите мне прочесть вам на эту тему следующие за-
мечательные высказывания Жака Ривьера:
«Когда представление о персонаже сложилось в уме
романиста, в его распоряжении есть два весьма различ-
ных способа употребить его в дело: он может или де-
лать упор на его сложность, или же подчеркивать его
связность; создаваемую им душу он может или напол-
нить густым мраком, или же, напротив, устранить для
читателя этот мрак, описав его, он может или укрыть
ее тайники, или выставить их напоказ» *.
Вы видите, в чем заключаемся мысль Жака Ривье-
ра: французская школа обследует тайники, тогда как
некоторые иностранные романисты, в особенности До-
стоевский, оставляют неприкосновенным и охраняют
их мрак.
«Во всяком случае,— продолжает Ривьер,— Досто-
евского прежде всего интересуют пучины души, и все
его заботы направлены на то, чтобы сколько возможно
создать впечатление их непостижимости.
Мы же, напротив, столкнувшись с фактом сложно-
сти души и прилагая усилия к тому, чтобы ее изобра-
зить, инстинктивно пытаемся внести в нее порядок» *\
Это уже весьма важная мысль; но Ривьер еще при-
бавляет:
«В случае надобности мы идем еще дальше; мы устра-
няем кое-какие диссонирующие черточки, мы истолко-
* «Nouvelle Revue Fransaise», 1 февраля 1922 года.
** Там же.
295
вываем некоторые темные детали в смысле наиболее
благоприятном для создания психологического единства.
Совершенно засыпать все бездны — вот идеал, к ко-
торому мы стремимся».
Я не в такой степени убежден в том, что, например,
у Бальзака мы не найдем некоторых «бездн», не найдем
ничего неожиданного, необъяснимого; я также не впол-
не убежден в том, что бездны Достоевского всегда яв-
ляются столь мало объясненными, как кажется с перво-
го взгляда. Вам угодно пример бездны из Бальзака? Я
нахожу его в «Поисках абсолютного». Бальтазар Клаэс
занят поисками философского камня; он как будто со-
вершенно позабыл религиозное воспитание, получен-
ное в детстве. Философский камень поглощает его все-
цело. Он оставляет свою жену, благочестивую Жозефи-
ну, которая в ужасе от вольнодумства мужа. Однажды
она стремительно входит в его лабораторию. Ток возду-
ха из раскрытой двери производит взрыв. Г-жа Клаэс
падает в обморок... Какое же восклицание вырывается
из уст Бальтазара? Восклицание, в котором вдруг дает
себя знать, несмотря на все напластования его мысли,
вера детских лет: «Слава Богу, ты жива! Святые спасли
тебя от смерти». Бальзак не делает на этом ударения.
И, конечно, из двадцати читателей книги Бальзака де-
вятнадцать даже не заметят этого срыва. Бездна, кото-
рую он нам приоткрывает, остается необъясненной, а то
и необъяснимой. В действительности эти вещи не инте-
ресовали Бальзака. Ему важно создать персонажей
внутренне последовательных, тут он действует в согла-
сии с ощущением французской расы, ибо мы, францу-
зы, ощущаем потребность прежде всего в логике.
Я скажу даже, что не только персонажи «Человече-
ской комедии» Бальзака, но и персонажи той реальной
комедии, в которой участвуем мы, обрисовываются,—
что все мы, французы, как мы есть, рисуем себя — со-
ответственно бальзаковскому идеалу: непоследователь-
ности нашей природы, если они ость, представляются
296
нам стеснительными, нелепыми. Мы отрекаемся от
них. Мы всячески стараемся не принимать их во внима-
ние, подавлять их. Каждый из нас сознает свое единст-
во, свою непрерывность и все, что есть в нас подавлен-
ного, бессознательного, похожего на чувство, которое
внезапно проявляется у Клаэса, и если мы не в состоя-
нии все это истребить, мы по крайней мере перестаем
придавать ему значение. Мы постоянно ведем себя так,
как, по нашему мнению, должно вести себя то сущест-
во, которым мы являемся, которым себя считаем. Боль-
шинство наших поступков продиктовано нам не удо-
вольствием, которое они нам доставляют, а потребно-
стью в подражании самим себе, потребностью проеци-
ровать в будущее наше прошлое. Истину (то есть
искренность) мы приносим в жертву непрерывности,
чистоте линии.
В этом отношении что нам дает Достоевский? Пер-
сонажей, которые, вовсе не заботясь о внутренней по-
следовательности, охотно подчиняются всем противо-
речиям, всем отрицаниям, на которые способен их ха-
рактер. Кажется, что непоследовательность больше все-
го интересует Достоевского. Он не только ее не прячет,
но непрестанно ее выдвигает; он бросает на нее свет.
Конечно, у него есть много необъясненного. Не думаю,
чтобы у него было много необъяснимого, если только
мы в согласии с Достоевским допустим в человеке со-
существование противоречивых чувств. У Достоевско-
го это сосуществование часто кажется тем более пара-
доксальным, что чувства его персонажей доведены до
предела, утрированы до нелепости.
Я полагаю, здесь полезно кое-что подчеркнуть, так
как вы, может быть, подумаете: для нас это не ново; это
не что иное, как борьба страсти и долга в том виде, как
она дана нам у Корнеля. Речь идет не об этом. Француз-
ский герой, каким его изображает Корнель, ставит пе-
ред собой идеальный образец, которым является он же
сам, но такой, каким ему хотелось бы быть, каким он
силится быть, а отнюдь не такой, каков он от природы,
каким он был бы, предоставленный самому себе. Внут-
ренняя борьба, которую рисует нам Корнель,— это
297
борьба между существом идеальным, образцовым, и су-
ществом действительным, от которого герой пытается
отступиться. В общем, мне кажется, мы здесь не очень
далеки от того, что г. Жюль де Готье называет бовариз-
мом,— слово, которым он, по имени флоберовской ге-
роини, обозначает существующую у некоторых людей
наклонность удваивать свою жизнь, дополняя ее жиз-
нью воображаемой, переставая быть тем, чем являешь-
ся на самом деле, чтобы стать тем, чем считаешь себя,
чем хочешь быть.
Каждый герой, каждый человек, живущий не так,
как придется, а стремящийся достичь идеала, пытаю-
щийся приноровиться к этому идеалу, являет нам при-
мер такого раздвоения, такого боваризма.
Персонажи, которых мы видим в романах Достоев-
ского, примеры раздвоения, которые он нам дает, очень
отличны от этого; они также не имеют ничего общего
или очень мало общего с тем довольно часто наблюдае-
мым патологическим явлением, когда вторая личность,
привившаяся к первоначальной, чередуется с ней, так
что возникают две не ведающие одна о другой группы
ощущений, ассоциированных воспоминаний, и вскоре
перед нами оказываются две разные личности, живу-
щие в одном и том же теле. Они сменяются и поочеред-
но уступают друг яругу места, ничего не зная друг о дру-
ге (случай, поразительную иллюстрацию которого дает
нам Стивенсон в своем превосходном фантастическом
рассказе: «Двойная жизнь доктора Джекиля»).
Но у Достоевского нас сбивает с толку одновремен-
ность всего этого и сохраняемое каждым персонажем
сознание своей непоследовательности, своей двойст-
венности.
Случается, что кто-нибудь из его героев, находясь во
власти самого живого чувства, недоумевает, чем оно
вызвано — ненавистью или любовью. Два противопо-
ложных чувства смешиваются в нем и сливаются друг
с другом.
«И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-
то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как
298
бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он
вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее; но
он встретил на себе беспокойный и до муки заботли-
вый взгляд ее; тут была любовь, ненависть его исчезла
как призрак. Это было не то; он принял одно чувство
за другое» \
Несколько примеров такого неправильного истолко-
вания индивидуумом чувства, которое он испытывает,
мы могли бы найти также и у Мариво или у Расина.
Иногда одно из этих чувств истощается от самой
своей чрезмерности; кажется, будто выражение этого
чувства озадачивает того, кто его выражает. Здесь еще
нет двойственности чувств; но вот черта еще более сво-
еобразная. Послушаем Версилова, отца «Подростка»:
«Хоть бы я был слабохарактерною ничтожностью и
страдал этим сознанием. А то ведь нет, я ведь знаю,
что я бесконечно силен, и чем, как ты думаешь? А вот
именно этою непосредственною силою уживчивости с
чем бы то ни было, столь свойственною всем умным
русским людям нашего поколения. Меня ничем не
разрушишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь.
Я живуч, как дворовая собака. Я могу чувствовать
преудобнейшим образом два противоположных чув-
ства в одно и то же время — и уж, конечно, не по
моей воле» *.
«Не возьмусь я растолковать заранее все противоре-
чия, из которых он состоит»,— говорит вполне опреде-
ленно повествователь «Бесов», и вот что еще мы слы-
шим от Версилова:
«...Сердце полно слов, которых не умею высказать,
право, все таких каких-то странных слов. Знаете, мне ка-
жется, что я весь точно раздваиваюсь,— оглядел он нас
всех с ужасно серьезным лицом и с самою искреннею
сообщительностью.— Право, мыспенно раздваиваюсь и
* «Преступление и наказание». Ч. V. Гл. 1. IV.
** «Подросток». Ч. П. Гл. 1. III.
299
ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник;
вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сде-
лать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, а иногда пре-
веселую вещь; и вдруг вы замечаете, что это вы сами хо-
тите сделать эту веселую вещь, и Бог знает зачем, то есть
как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил, хотите.
Я знал однажды одного доктора, который на похоронах
своего отца, в церкви, вдруг засвистал. Право, я боялся
придти сегодня на похороны, потому что мне с чеп>то
пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг за-
свищу или захохочу, как этот несчастный доктор, кото-
рый довольно нехорошо кончил...» *
А Ставрогин, странный герой «Бесов», скажет нам:
«Я все так же, как и всегда, прежде могу пожелать
сделать доброе дело и ощущаю от того удовольстие; ря-
дом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие» **.
С помощью некоторых фраз Вильяма Блека я попы-
таюсь бросить свет на эти кажущиеся противоречия, и
в частности на это странное заявление Ставрогина. Но
свой опыт объяснения я откладываю на дальнейшие бе-
седы.
* «Подросток». Ч. III. Гл. 10. П. И еще: «Версилов не мог
иметь ровно никакой твердой цели и даже, я думаю, совсем
тут и не рассуждал, а был под влиянием какого-то вихря
чувств. Впрочем, настоящего сумасшествия я не допускаю во-
все, тем более, что он — и теперь вовсе не сумасшедший. Но
«двойника» допускаю несомненно. Двойник, по крайней мере
по одной медицинской книге одного эксперта, которую я по-
том нарочно прочел, двойник — это есть не что иное, как пер-
вая ступень некоторого серьезного уже расстройства души,
которое может повести к довольно худому концу» («Подро-
сток». Ч. III. Гл. 13. L). Но здесь мы встречаемся с тем клини-
ческим случаем, о котором я говорил выше.
** «Бесы». Ч. III. Гл. 8 («Заключение»), «Во всяком чело-
веке во всякий час существует одновременно два устремле-
ния, одно к Богу, другое — к сатане» — читаем мы также у
Бодлера («Дневники»).
300
IV
В нашей последней беседе мы констатировали сму-
щающую двойственность, которая проникает и раздира-
ет большую часть персонажей Достоевского, двойст-
венность, заставляющую приятеля Раскольникова так
отозваться о герое «Преступления и наказания»: «Пра-
во, точно в нем два противоположные характера по
очереди сменяются».
И все было бы еще хорошо, если бы эти два разные
характера проявлялись, сменяя друг друга, но мы виде-
ли, что часто они обнаруживаются одновременно. Мы
видели, как каждый из этих противоречащих порывов
истощается и, так сказать, обесценивает себя, бывает
озадачен самым своим выражением и обнаружением и
уступает место порыву как раз противоположному; ге-
рой никогда не бывает так близок к любви, как в ту ми-
нуту, когда он дал волю своей ненависти, и никогда не
бывает так близок к ненависти, как тогда, когда он до
крайнего предела дошел в любви.
Мы обнаруживаем в каждом из героев Достоевско-
го, а особенно в его женских характерах, тревожное
предчувствие собственной изменчивости. Боязнь, что
не хватит сил поддержать в себе то же чувство и остать-
ся верным принятому решению, нередко толкает их на
самые экстравагантные поступки.
«А так как я и без того давно знала,— говорит Лиза
в «Бесах»,— что меня всего на один миг только хватит,
то взяла и решилась» *.
Я намерен разобрать сегодня некоторые следствия
этой странной двойственности; но сначала я хотел бы
поставить вопрос, сутдествует ли эта двойственность на
самом деле, или же только в воображении Достоевско-
го? Дает ли ему действительность подобные примеры?
Наблюдал ли он то в жизни или поддался внушениям
своей фантазии?
* «Бесы». Ч. III. Гл. 3.1.
301
«Природа подражает тому, что ей предлагает произ-
ведение искусства»,— говорит Оскар Уайльд в своем
«Intentions». Этот кажущийся парадокс он поясняет при
помощи ряда не лишенных убедительности соображе-
ний, существо которых можно выразить так:
«Разве вы не заметили, что с некоторых пор приро-
да стала походить на пейзажи Коро?»
По-видимому, он хочет сказать следующее: природу
мы обычно видим некоторым условным образом и уз-
наем в ней только то, что произведение искусства нау-
чило нас подмечать в ней. Когда художник пытается
выразить и передать в своем произведении индивиду-
альную манеру видеть, то новый аспект природы, кото-
рый он нам показывает, сначала представляется нам па-
радоксальным, неискренним и почти чудовищным. Но
очень скоро мы приучаемся смотреть на природу, как
бы применяясь к этому новому произведению искусст-
ва, и узнаем в ней то, что показал нам художник. Та-
ким образом, глазу, научившемуся смотреть по-новому
и по-иному, кажется, что природа «подражает» художе-
ственному произведению.
То, что я сказал здесь о живописи, в равной мере от-
носится к роману и внутренним пейзажам психологии.
Мы живем, пользуясь готовыми данными, и быстро ус-
ваиваем привычку видеть мир не таким, каким он явля-
ется в действительности, но таким, каким его убедили
нас видеть. Сколько болезней казались несуществую-
щими, пока они не были открыты. Сколько странных,
патологических, ненормальных состояний обнаружива-
ем мы вокруг себя и в самих себе, осведомленные чте-
нием Достоевского. Да, действительно, я думаю, что
Достоевский открьгоает нам глаза на ряд явлений, кото-
рые даже, может быть, и нередки, но которых мы про-
сто не умели подмечать.
Встречаясь со сложностью, которую представляет
почти всякое человеческое существо, взгляд наш не-
вольно и почти бессознательно стремится к упроще-
нию.
Таково же инстинктивное стремление французско-
го романиста: он выделяет основные данные характера,
302
умудряется различить в нем четкие линии, дать его
связный чертеж. Будь то Бальзак или кто-либо дру-
гой — желание стилизации, потребность в стилизации,
берет в нем верх... Но, мне кажется, было бы большой
ошибкой (ошибкой, которую, боюсь, делают многие
иностранцы) дискредитировать и презирать психоло-
гию французской литературы именно за четкость кон-
туров, даваемых ею, за отсутствие неясного, за недоста-
точность тени...
Напомним здесь, что Ницше с удивительной прони-
цательностью признал и провозгласил, напротив, чрез-
вычайное превосходство французских психологов и
даже смотрел на них,— на моралистов может быть еще
в большей степени, чем на романистов,— как на вели-
ких учителей всей Европы. И действительно, в восем-
надцатом и девятнадцатом веках у нас были несравнен-
ные аналитики (я имею в виду, главным образом, на-
ших моралистов). У меня нет полной уверенности, что
наши теперешние романисты могут с ними равняться,
ибо у нас во Франции есть досадная наклонность при-
держиваться формулы,— быстро превращающейся в
метод работы,— успокаиваться на ней, на пытаясь ид-
ти дальше.
Я отметил уже в другом месте, что Ларошфуко, не-
смотря на свои исключительные заслуги в психологии,
все же, пожалуй, в силу самого совершенства своих
«максим», несколько задержал ее развитие. Прошу из-
винения, что процитирую самого себя, но в данную ми-
нуту мне трудно было бы выразить это лучше, чем я пи-
сал в 1910 году*.
«В день, когда Ларошфуко задумал разложить дви-
жения нашего сердца и свести их к побуждениям само-
любия,— он, боюсь я, не столько доказал свою необык-
новенную проницательность, сколько задержал попыт-
ки более основательного исследования. Раз формула
была найдена, ее стали держаться, и больше двух сто-
летий этим объяснением удовлетворялись. Самым иску-
шенным казался психолог, который проявлял больше
* «Morceaux choisis». С. 102, 103.
303
всего скептицизма и, встречаясь с самыми благородны-
ми, самыми жертвенными поступками, лучше всех
умел вскрыть лежащие в их основе тайные эгоистиче-
ские побуждения. Вследствие этого от него ускользает
все, что есть противоречивого в душе человека. И Ла-
рошфуко я упрекаю не в том, что он вскрыл «самолю-
бие», я упрекаю его в том, что он на этом остановился;
я его упрекаю в том, что, по его мнению, он сделал все,
вскрыв самолюбие. В особенности же я упрекаю после-
дующих психологов в том, что они не сделали ни шагу
дальше».
Во всей французской литературе мы встречаем от-
вращение к бесформенному; она испытывает некото-
рое смущение даже перед тем, что еще не успело офор-
миться. И этим я объясняю себе незначительное место,
занимаемое детьми во французском романе сравни-
тельно с романом английским или даже с русской лите-
ратурой. В наших романах почти не встречается детей,
а те, которых изредка выводят наши романисты, чаще
всего условны, неуклюжи, неинтересны.
Напротив, в произведениях Достоевского — изоби-
лие детей; следует даже отметить, что большая часть
его персонажей, и притом самых значительных,— су-
щества еще юные, едва сформировавшиеся. Кажется,
более всего его интересует генезис чувств. Он весьма
часто рисует их как нечто еще смутное и находящееся,
так сказать, в эмбриональном состоянии.
Особенно привлекают его случаи анормальные, яв-
ляющиеся как бы вызовом общепринятой морали и пси-
хологии. Видимо, в атмосфере этой ходячей морали и
этой психологии ему не по себе. Его собственный тем-
перамент вступает в мучительное противоборство с из-
вестными правилами, которые почитаются незыблемы-
ми, но которыми он не может удовлетвориться, кото-
рые его стесняют.
То же самое стеснение, ту же неудовлетворенность
мы находим и у Руссо. Мы знаем, что Достоевский был
эпилептик, что Руссо сошел с ума. В дальнейшем я ска-
жу обстоятельнее о роли болезни в формировании мыс-
ли этих писателей. Сейчас мы ограничиваемся призна-
304
нием факта, что в этом физиологически ненормальном
состоянии заключен своего рода призыв к восстанию
против психологии и морали стада.
Если даже допустить, что в человеке нет ничего
необъяснимого, то в нем есть необъясненное; но раз
признана двойственность, о которой я говорил выше,
нельзя не изумляться, с какой логичностью Достоев-
ский выводит из нее следствия. И прежде всего кон-
статируем, что почти все персонажи Достоевско-
го — полигамисты, то есть почти все они способны,
как бы для удовлетворения сложности своей натуры,
направлять свою любовь в одно и то же время на не-
сколько объектов. Другое следствие, или, если мож-
но так выразиться, другой королларии, выводимый
из этого постулата,— это то, что для них почти не-
возможна ревность. Они не умеют, они не могут
стать ревнивыми.
Но сперва остановимся на их полигамии. Вот князь
Мышкин, стоящий между Аглаей Епанчиной и На-
стасьей Филипповной:
«...я люблю ее всей душой! Ведь это... дитя; теперь
она дитя, совсем дитя! О, вы ничего не знаете!
— И в то же время вы уверяли в своей любви Аглаю
Ивановну?
— О, да, да!
— Как же? Стадо быть, обеих хотите любить?
— О, да, да!
— Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь!..
И как это любить двух? Двумя разными любвями каки-
ми-нибудь? Это интересно...»*
И совершенно так же каждая из этих двух героинь
делит себя между двумя возлюбленными.
Вспомните еще Дмитрия Карамазова, мечущегося
между Грушенькой и Катериной Ивановной. Вспомни-
те Версилова.
* «Идиот». Ч. IV. 9.
305
Я мог бы привести еще не один пример.
Можно подумать: одна любовь — плотская, дру-
гая — мистическая. Это объяснение кажется мне слиш-
ком уж упрощенным. Впрочем, Достоевский никогда
не бывает вполне откровенен на этот счет. Он внушает
нам множество предположений, но предоставляет нас
самим себе. Лишь в четвертый раз читая «Идиота», я об-
ратил внимание на следующее обстоятельство, которое
теперь представляется мне очевидным, а именно: что
все неровности в отношении генеральши Епанчиной к
князю Мышкину, что все непостоянство самой Аглаи,
дочери генеральши и невесты князя, можно хорошо
объяснить тем, что обе эти женщины (в особенности
мать, само собою разумеется) чуют какукнго тайну в ес-
тестве князя и что обе не вполне уверены, что он мо-
жет стать полноценным мужем. Достоевский неодно-
кратно подчеркивает целомудрие князя Мышкина, и
это-то целомудрие, конечно, и внушает беспокойство
генеральше, будущей теще:
«Бесспорно, для него уже составляло верх блажен-
ства одно то, что он опять будет беспрепятственно при-
ходить к Аглае, что ему позволят с нею говорить, с нею
сидеть, с нею гулять, и кто знает, может быть, этим од-
ним он остался бы доволен на всю свою жизнь! Вот это-
го-то довольства, кажется, и боялась Лйзавета Прокофь-
евна про себя; она угадывала его; многого она боялась
про себя, чего и выговорить сама не умела» *.
И еще отметим здесь следующее, на мой взгляд очень
важное обстоятельство: любовь наименее плотская здесь,
как это, впрочем, часто бывает,— всего сильнее.
Мне не хотелось бы насиловать мысль Достоевско-
го. Я не утверждаю, что эта двойная любовь и это отсут-
ствие ревности всегда и неизбежно должны приводить
нас к мысли о полюбовном дележе; они скорее ведут к
самоотречению. Повторяю, Достоевский не слишком
откровенен в этом вопросе...
* «Идиот». Ч. IV. 5.
306
Проблема ревности всегда занимала Достоевского.
Уже в одной из его первых вещей («Чужая жена») мы
встречаем следующий парадокс: в Отелло не следует
видеть подлинный тип ревнивца; впрочем, может быть,
в этом утверждении сказывается прежде всего потреб-
ность в протесте против ходячих взглядов.
Но впоследствии Достоевский возвращается к это-
му вопросу. Отелло он снова касается в «Подростке»,
книге, относящейся к последнему периоду его творче-
ской деятельности.
Мы читаем там:
«Версилов раз говорил, что Отелло не для того убил
Дездемону, а потом убил себя, что ревновал, а потому,
что у него отняли его идеал...» *
Действительно ли это парадокс? Я недавно открыл у
Кольриджа подобное же утверждение,— и сходство
так велико, что закрадывается мысль, не был ли знаком
с ним Достоевский.
«Не ревность,— замечает Кольридж, говоря имен-
но об Оттелло,— как мне кажется, убивает его... тут
скорее надо видеть мучительную тоску, когда стало
нечистым и достойным презрения существо, которое
казалось ему ангелоподобным, из которого он сделал
идеал своего сердца и которое он не может перестать
любить. Да, это борьба и усилие убить в себе любовь,
нравственное негодование, отчаяние, вызванное этим
падением добродетели, заставляет его воскликнуть:
«But yet the pity of it, Jago, о Jago, the pity of it, Jago»
(что можно перевести лишь очень приблизительно:
«Но как все-таки жаль, Яго, о Яго, как все-таки
жаль»).
Значит, герои Достоевского неспособны к ревно-
сти? Я захожу, может быть, слишком далеко; по край-
ней мере, здесь уместно сделать кое-какие оговорки.
* «Подросток». Ч. П. Гл. 4. II.
307
Можно утверждать, что они знают ревность только
как страдание, страдание, не сопровождающееся нена-
вистью к сопернику (и это очень важное обстоятельств
во). Если ненависть и есть, как в «Вечном муже» —
мы это сейчас увидим,— то эта ненависть уравновеши-
вается и удерживается в должных пределах, так ска-
зать, таинственной и странной любовью к сопернику.
Но чаще всего никакой ненависти нет, даже нет стра-
дания; мы оказываемся на наклонном пути, где риску-
ем встретить Жан-Жака, который мирится с благо-
склонностью г-жи де Варан, оказываемой его соперни-
ку, Клоду Ане, или, думая о г-же дУдето, пишет в
своей «Исповеди»:
«Какой бы жгучей страстью к ней я ни пылал, я на-
ходил столь же сладостным быть ее наперсником, как
и предметом ее любви, и на ее любовника я никогда не
смотрел как на соперника, но как на друга. (Речь идет
здесь о Сен-Ламбере.) Скажут, что это еще не была лю-
бовь. Пусть так, значит, это было нечто большее».
Отступление, которое я собираюсь сделать, даст нам
возможность глубже проникнуть в эту проблему, то
есть лучше понять мнение Достоевского. Когда я недав-
но перечитывал собрание его сочинений, мне показа-
лось чрезвычайно интересным проследить, как Досто-
евский переходит от книги к книге. Конечно, после
«Записок из мертвого дома» естественно было расска-
зать историю Раскольникова в «Преступлении и наказа-
нии», то есть историю преступления, которое приводит
его в Сибирь. Гораздо интереснее наблюдать, каким об-
разом последние страницы этой книги подготовляют
«Идиота». Вы помните, Раскольникова мы оставляем в
Сибири в совершенно новом душевном состоянии, ко-
торое заставляет его сказать, что все события его жиз-
ни потеряли для него свое значение: его преступления,
его раскаяние, самые его муки кажутся ему событиями
в чьей-то чужой жизни.
«...Он только чувствовал. Вместо диалектики насту-
пила жизнь».
308
Именно в таком состоянии мы найдем в начале
«Идиота» князя Мышкина,— состоянии, которое мы
вправе назвать и которое верно и было в глазах Досто-
евского состоянием христианским по преимуществу. Я
* к этому вернусь.
Достоевский как будто вводит в душу человека или
просто обнаруживает в ней разные пласты — нечто вро-
де геологических наслоений. В персонажах его романов
я различаю три слоя, три области: область интеллектуаль-
ную, чуждую душе, но являющуюся источником самых
опасных искушений. Именно в ней, по мнению Достоев-
ского, обитает коварное демоническое начало. В данную
минуту меня занимает только второй слой — область
страстей, область, опустошаемая бурными вихрями, ко-
торые, однако, не задевают в собственном смысле души
его героев, как бы трагичны ни были события, вызван-
ные этими бурями. Но есть область более глубокая, ко-
торую страсти не волнуют. Именно эта область дает нам
возможность приблизиться вместе с Раскольниковым к
воскресению (я беру это слово в том смысле, какой при-
дает ему Толстой), ко «второму рождению», как говорил
Христос. Это сфера, в которой живет князь Мышкин.
Как Достоевский переходит от «Идиота» к «Вечно-
му мужу»? Тут нечто еще более любопытное. Вы навер-
но помните, что в конце «Идиота» мы оставляем князя
Мышкина у изголовья Настасьи Филипповны, которую
только что убил Рогожин, ее любовник, соперник кня-
зя. Оба соперника остаются здесь лицом к лицу, один
возле другого. Что же: начинается между ними поеди-
нок? Нет! Напротив. Они плачут, прижавшись друг к
другу. Всю ночь они не спят, простершись рядом в но-
гах Настасьи Филипповны.
«Князь сидел подле него неподвижно на подстилке
и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда боль-
ного, спешил провесть дрожащей рукой по его волосам
и щекам, как бы лаская и унимая его».
Это уже почти сюжет «Вечного мужа». «Идиот»
написан в 1868 году, «Вечный муж» — в 1870. Эта
309
книга считается некоторыми знатоками шедевром До-
стоевского (таково было мнение очень умного Марсе-
ля Швоба). Шедевр Достоевского? Пожалуй, это че-
ресчур. Но, говоря безотносительно, это шедевр, и ин-
тересно послушать, что говорит нам об этой книге сам
Достоевский:
«У меня есть один рассказ,— пишет он 18 марта
1869 года своему другу Страхову*. Этот рассказ я еще
думал написать четыре года назад, в год смерти брата,
в ответ на слова Ап. Григорьева, похвалившего мои
«Записки из подполья» и сказавшего мне тогда: «Ты в
этом роде и пиши». Но это не «Записки из подполья»;
это совершенно другое по форме, хотя сущность та же,
моя всегдашняя сущность... Этот рассказ я могу напи-
сать очень скоро — так как нет ни одной строчки и ни
единого слова, неясного для меня в этом рассказе. При-
том же много уже и записано (хотя еще ничего не на-
писано)».
А в письме от 27 октября 1869 года мы читаем:
«Две трети повести уже написано и переписано
окончательно. Старался сократить из всех сил, но не
мог. Но дело не в объеме, а в достоинстве; но об досто-
инстве мне сказать нечего, ибо сам ничего не знаю на
этот счет; решат другие».
Вот как решили другие:
«Ваша повесть,— пишет Страхов,— производит
весьма живое впечатление и будет иметь несомненный
успех. По-моему, это одна из самых обработанных ва-
ших вещей, а по теме — одна из интереснейших и глу-
бочайших, какие только вы писали. Я говорю о харак-
тере Трусоцкого; большинство едва ли поймет, но чи-
тают и будут читать с жадностью».
* «Переписка».
310
«Записки из подполья» появились немногим рань-
ше. Я думаю, что в «Записках из подполья» Достоев-
ский достигает вершины своего творчества. Эту кни-
гу я рассматриваю (и не я один), как замок свода все-
• го его творчества. Но эта книга возвращает вас в сфе-
ру интеллектуальную, поэтому я сегодня не буду о ней
говорить. Останемся с «Вечным мужем» в сфере стра-
стей. В этой маленькой книге всего два действующих
лица: муж и любовник. Невозможно достигнуть боль-
шей концентрации. Книга в целом отвечает идеалу,
который мы назвали бы сейчас классическим: само
действие, или, по крайней мере, исходное событие,
порождающее драму, уже случилось, как в драмах
Ибсена.
Вельчанинов вступил в ту пору жизни, когда минув-
шие события начали принимать в его собственных гла-
зах несколько иной оттенок.
«Теперь, к сороковым годам, ясность и доброта
почти погасли в этих глазах, уже окружавшихся лег-
кими морщинками; в них появились, напротив, цинизм
не совсем нравственного и уставшего человека, хит-
рость, всего чаще насмешка и еще новый оттенок, ко-
торого не было прежде; оттенок грусти и боли — ка-
кой-то рассеянной грусти, как бы беспредметной, но
сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда он
оставался один»*.
Что же творится с Вельчаниновым? Что творится в
этом возрасте, на этом повороте жизненного пути? До
сих пор человек веселился, человек жил, но внезапно
он отдает себе отчет в том, что наши поступки, собы-
тия, вызванные нами, оторвавшись от нас и, так сказать,
будучи пущены в мир, подобно челну, пущенному в мо-
ре, продолжают жить независимо от нас, причем мы ча-
сто об этом не знаем. (Прекрасно говорит об этом
Джордж Элиот в романе «Адам Вид».) Да, события его
собственной жизни представляются Вельчанинову уже
* «Вечный муж». I.
311
не совсем в том свете, что раньше, то есть он вдруг со-
знает свою ответственность. В это время он встреча-
ет человека, с которым был прежде знаком,— мужа
женщины, которой он обладал. Встреча с этим мужем
имеет довольно фантастический характер. Не знаешь
хорошенько, избегает ли он Вельчанинова, или, напро-
тив, ищет его. Он как будто внезапно вырастает среди
улицы. Он таинственно скитается, бродит вокруг дома
Вельчанинова, который его сперва не узнает.
Я не буду пытаться передать вам содержание всей
книги и рассказывать о том, как после ночного визита
мужа, Павла Павловича Трусоцкого, Вельчанинов ре-
шается отдать ему визит. Их взаимоотношения, внача-
ле смутные, проясняются.
«— Скажите, Павел Павлович, вы здесь, стало быть,
не один? Чья это девочка, которую я застал при вас да-
веча?
Павел Павлович даже удивился и поднял брови, но
ясно и приятно посмотрел на Вельчанинова.
— Как чья девочка? Да ведь это Лиза! — проговорил
он, приветливо улыбаясь.
— Какая Лиза? — пробормотал Вельчанинов, и что-
то вдруг как бы дрогнуло в нем. Впечатление было
слишком внезапное. Давеча, войдя и увидев Лизу, он
хоть и подивился, но не ощутил в себе решительно ни-
какого предчувствия, никакой особенной мысли.
— Да наша Лиза, дочь, наша Лиза! — улыбался Па-
вел Павлович.
— Как дочь? Да разве у вас с Натальей... с покойной
Натальей Васильевной были дети? — недоверчиво и
робко сщ5осил Вельчанинов, каким-то уж очень тихим
голосом.
— Да как же-с? Ах, боже мой, да ведь и в самом де-
ле, от кого же вы могли знать? Что же это я? Это уж
после вас нам Бог даровал!
Павел Павлович привскочил даже со стула от неко-
торого волнения, впрочем, тоже как бы приятного.
— Я ничего не слыхал,— сказал Вельчанинов и по-
бледнел.
312
— Действительно, действительно, от кого же вам
было и узнать-с! — повторил Павел Павлович расслаб-
ленно-умиленным голосом,— мы ведь и надежду с по-
койницей потеряли, сами ведь вы помните, и вдруг бла-
* гословляет Господь, и что со мной тогда было,— это
ему только одному известно! Ровно, кажется, через год
после вас! Или нет, не через год, далеко нет, постойте-
с: вы ведь от нас тогда, если не ошибаюсь памятью, в
октябре или даже в ноябре выехали?
— Я уехал из Т. в начале сентября, двенадцатого
сентября; я хорошо помню...
— Неужели в сентябре? Гм... что ж это я? — очень
удивился Павел Павлович; — ну так, если так, то по-
звольте же: вы выехали сентября двенадцатого-с, а Ли-
за родилась мая восьмого, это стало быть сентябрь —
октябрь — ноябрь — декабрь — январь — февраль —
март — апрель — через восемь месяцев с чем-то-с,
во'рс! И если б вы только знали, как покойница...
— Покажите же мне... позовите же ее...— каким-то
срывающимся голосом пролепетал Вельчанинов».
Итак, Вельчанинов отдает себе отчет в том, что эта
мимолетная любовь, которой он не придавал значения,
оставила след. Перед ним встает вопрос: знает ли муж?
И почти до конца книги читатель находится в сомне-
нии. Достоевский держит нас в неуверенности, и эта са-
мая неуверенность терзает Вельчанинова. Он не знает,
что думать. Или, вернее, нам вскоре начинает казаться,
будто Павел Павлович знает, но притворяется, что не
знает, именно для того, чтобы мучить любовника этой
неуверенностью, которую он в нем искусно поддержи-
вает.
Вот как может быть понята эта странная книга:
«Вечный муж» показывает нам борьбу правдивого и
искреннего чувства с чувством условным, с общепри-
нятой психологией, с прочно укоренившимися обыча-
ями.
«Тут дуэль!» — восклицает Вельчанинов; но мы от-
даем себе отчет, что это — жалкое решение, которое
не удовлетворяет никакого реального чувства, а просто
313
отвечает некоторой искусственной концепции чести,
той самой, о которой я говорил выше,— некоторому ев-
ропейскому понятию. Здесь оно неуместно. Действи-
тельно, нам вскоре становится понятно, что Павел Пав-
лович любит, в сущности, свою ревность. Да, в самом
деле, он любит свое страдание, он ищет ею. Эта тяга к
страданию уже играла очень важную роль в «Записках
из подполья».
Во Франции вслед за виконтом Мельхиором де Во-
гюэ много говорилось, по поводу русских, о некоей «ре-
лигии страдания». У нас во Франции в большой чести и
в большом ходу формулы. Это один из способов «нату-
рализации» писателя, это дает нам возможность найта
для него место в витрине. Французскому уму непремен-
но надо знать, на чем ему остановиться; а потом он уже
не чувствует потребности ни вглядываться, ни вдумы-
ваться.— Ницше? — Ах, да — «Сверхчеловек. Будем
суровы. Жить среди опасностей».— Толстой? — «Не-
противление злу».— Ибсен? — «Туманы севера» —
Дарвин? — «Человек происходит от обезьяны. Борьба
за существование».— Д'Аннуцио? — «Культ красоты».
Горе авторам, мысль, которых нельзя свести к форму-
ле! Широкая публика не приемлет их (и это отлично по-
нял Баррес, когда изобрел для своего товара ярлык:
«земля и покойники»).
Да, у нас во Франции большая склонность отделы-
ваться словами и считать, что, как только найдена
формула,— уже все сказано, все достигнуто и остает-
ся только идти дальше. Так, благодаря формуле Жоф-
фра: «я их изведу», или же русскому «утрамбовочно-
му катку» мы могли поверить, что победа уже одер-
жана.
«Религия страдания». Тут надо прежде всего устра-
нить недоразумения. Дело идет здесь не о страдании
других или, по крайней мере, не только о нем, не толь-
ко о всемирном страдании, перед которым простирает-
ся наш Раскольников, падая к ногам Сони, проститутки,
или старец Зосима, кланяясь до земли Дмитрию Кара-
мазову, будущему убийце, но также и о собственном
страдании.
314
Вельчанинов на протяжении всей книги будет зада-
вать себе вопрос: ревнует ли Павел Павлович Трусоц-
кий, или не ревнует? Знает ли он, или не знает? Бес-
смысленный вопрос.— Да, конечно, он знает! Да, ко-
• нечно, он ревнует; но то, что он поддерживает в себе,
что он оберегает,— так это самое ревность; страдание
ревности — вот чего он ищет, что он любит,— совер-
шенно так же, как герой «Записок из подполья» любит
свою зубную боль.
Мы почти ничего не узнаем об этих ужасных стра-
даниях ревнивого мужа. Узнать, угадать их Достоев-
ский нам позволит лишь косвенным путем — по тем
изощренным страданиям, которым Трусоцкий подвер-
гает окружающих,— начиная с этой девочки, которую
он все-таки страстно любит. Страдания этого ребенка
позволят нам измерить силу его собственного страда-
ния. Павел Павлович истязает девочку, но он ее обожа-
ет; он столько же неспособен ненавидеть ее, как неспо-
собен ненавидеть любовника.
«Знаете ли, что такое была для меня Лиза? — при-
помнил он вдруг восклицание пьяного Трусоцкого и
чувствовал, что это восклицание было уже не кривля-
ние, а правда, и что тут была любовь. Как же мог быть
так жесток этот изверг к ребенку, которого так любил,
и вероятно ли это? Но каждый раз он поскорее бросал
этот вопрос и как бы отмахивался от него; что-то ужас-
ное было в этом вопросе, что-то невыносимое для него,
и — нерешенное»*.
Мы должны убедиться в том, что всего более его му-
чит именно неспособность к ревности, или, точнее, до-
ступность для него только ее страданий, невозмож-
ность ненавидеть того, кого ему предпочли. Самые
страдания, которые он причиняет этому сопернику, ко-
торые он пытается ему причинить, страдания, которым
он подвергает свою дочь, как бы являются своего рода
мистическим противовесом, которым он защищается от
* «Вечный муж».
315
ужаса и отчаяния, овладевшего им. Тем не менее он по-
мышляет о мщении; не то, чтобы ему именно хотелось
отомстить, но он говорит себе, что должен отомстить и
что мщение, может быть, единственный выход, избав-
ляющий его от этого страшного отчаяния. Мы видим
здесь, как привычная психология берет верх над ис-
кренним чувством. «Обычай решает все, даже в люб-
ви»,— говорил Вовнарг*.
Вы помните максиму Ларошфуко?
«Сколько людей никогда бы не узнало любви, если
бы они ничего о ней не слышали?»
Не вправе ли и мы сказать: сколько людей никогда
бы не были ревнивыми, если б они не слыхали о ревно-
сти, если бы они не убеждали себя в том, что надо рев-
новать?
Да, конечно, условность — великая пособница лжи.
Скольких людей принуждает она всю жизнь играть
роль, до странности чуждую им, и как трудно открыть
в себе чувство, которое бы не было уже описано и ок-
рещено, пример которого не находился бы у нас перед
глазами. Нам легче подражать чему угодно, чем изо-
брести безделицу. Сколько есть людей, которые согла-
шаются всю жизнь калечить себя ложью и, несмотря ни
на что, чувствуют среди фальшивой условности больше
удобства и меньше потребности совершать над собой
усилие, нежели в искреннем утверждении свойственно-
го им одним чувства. Такое утверждение потребовало
бы от них изобретательности, на которую они не чувст-
вуют себя способными.
Послушаем Трусоцкого:
«А я вам, Алексей Иванович, один анекдотик пре-
уморительный, давеча в карете вспомнил-с, хотел сооб-
щить-с. Вот вы сказали сейчас: «у людей на шее вис-
нет». Семена Петрович Ливцова, может, припомните-с,
к нам в Т. при вас заезжал; ну, так брат его младший,
тоже петербургский молодой человек считается, в В-ом
при губернаторе служил и тоже блистал-с разными ка-
* Вовнарг. «Максимы». 39.
316
чествами-с. Поспорил он раз с Голубенко, полковни-
ком, в собрании, в присутствии дам и дамы его сердца
и счел себя оскорбленным, но обиду скушал и затаил;
а Голубенко тем временем даму сердца его отбил и ру-
ку ей предложил. Что же вы думаете? Этот Ливцов —
даже искренно ведь в дружбу с Голубенкой вошел, со-
всем помирился, да мало того-с, в шафера к нему сам
напросился, венец держал, а как приехали из-под вен-
ца, он подошел поздравлять и целовать Голубенку, да
при всем-то благородном обществе и при губернаторе,
сам во фраке и завитой-с,— как пырнет его в живот но-
жом — так Голубенко и покатился! Это собственный-то
шафер, стыдто какой-с! Да это еще что-с! Главное, что
ножом-то пырнул, да и бросился кругом: «Ах, что я сде-
лал! Ах, что такое я сделал!» Слезы льются, трясется,
всем на шею кидается, даже к дамам-с: «Ах, что я сде-
лал! Ах, что, дескать, такое я теперь сделал!» Хе-хе-хе!
Уморил-с. Вот только разве жаль Голубенку; да и то вы-
здоровел-с.
— Я не вижу, для чего вы мне рассказали,— строго
нахмурился Вельчанинов.
— Да все к тому же-с, что пырнул же ведь но-
жом-с,— захихикал Павел Павлович»*.
И так же пробивается наружу подлинное, непосред-
ственное чувство Павла Павловича, когда ему прихо-
дится вдруг ухаживать за Вельчаниновым, у которого
неожиданно начались боли в печени.
Позвольте мне прочесть целиком эту замечатель-
ную сцену:
«Больной как-то вдруг заснул, через минуту как лег.
Все неестественное напряжение его в этот день и без
того уже при сильном расстройстве здоровья за послед-
нее время как-то вдруг порвалось, и он обессилел как
ребенок. Но боль взяла-таки свое и победила усталость
и сон; через час он проснулся и с страданием припод-
нялся с дивана. Гроза утихла; в комнате было накурено,
* «Вечный муж».
317
бутылка стояла пустая, а Павел Павлович спал на дру-
гом диване. Он лежал навзничь, головой на диванной
подушке, совсем не раздетый и в сапогах. Его давеш-
ний лорнет, выскользнув из кармана, тянулся на шнур-
ке чуть не до полу»*.
Замечательна эта потребность Достоевского, ког-
да он увлекает нас в самые темные области психоло-
гии, уточнять все, вплоть до малейшей реалистиче-
ской детали дабы сделать как можно более несом-
ненным то, что иначе показалось бы нам фантазией и
выдумкой.
У Вельчанинова страшные боли, и вотТрусоцкий не-
медленно начинает ухаживать за ним.
«Но Павел Павлович, Бог знает почему, был почти
вне себя, как будто дело шло о спасении родного сына.
Он не слушался и изо всех сил настаивал на необходи-
мости припарок и, сверх того, двух-трех чашек слабого
чаю, выпитых вдруг,— «но не просто горячих-с, а кипят-
куч:!» — Он побежал^гаки к Мавре, не дождавшись по-
зволения, вместе с нею разложил в кухне, всегда стояв-
шей пустою, огонь, вздул самовар; тем временем успел
и уложить больного, снял с него верхнее платье, укутал
в одеяло, и всего в каких-нибудь двадцать минут состря-
пал и чай и первую припарку.
— Это гретые тарелки-с, раскаленные^:! — говорил
он чуть не в восторге, накладывая разгоряченную и
обернутую в салфетку тарелку на больную грудь Вель-
чанинова,— других припарок нет-с, и доставать долго-с,
а тарелки, честью клянусь вам-с, даже и всего лучше бу-
дутчг, испытано на Петре Кузьмиче-с, собственными
глазами и руками-с. Умереть ведь можно-с. Пейте чай,
глотайте,— нужды нет, что обожжетесь; жизнь доро-
же... щегольства-с...
Он затормошил совсем полусонную Мавру; тарелки
переменялись каждые три-четыре минуты. После
третьей тарелки и второй чашки чаю-кипятку, выпито-
* «Вечный муж». XV.
318
го залпом, Вельчанинов вдруг почувствовал облегче-
ние.
—А уж если раз пошатнулась боль, то и слава Богу-
с и добрый знак-с! — вскричал Павел Павлович и радо-
• стно побежал за новой тарелкой и за новым чаем.
— Только бы больно сломить! Больгто бы нам толь-
ко назад повернуть! — повторял он поминутно.
Через полчаса боль совсем ослабела, но больной
был уже до того измучен, что, как ни умолял Павел
Павлович,— не согласился выдержать «еще тарелочку-
с». Глаза его смыкались от слабости.
— Спать, спать,— повторял он слабым голосом.
— И то! — согласился Павел Павлович.
— Вы ночуйте... который час?
— Скоро два, без четверти-с.
— Ночуйте.
— Ночую, ночую.
Через минуту больной опять крикнул Павла Павло-
вича.
— Вы, вы,— пробормотал он, когда тот подбежал и
наклонился над ним,— вы — лучше меня! Я понимаю
все, все... благодарю.
— Спите, спите,— прошептал Павел Павлович и по-
скорей, на цыпочках, отправился к своему дивану.
Больной, засыпая, слышал еще, как Павел Павлович
потихоньку стлал себе наскоро постель, снимал с себя
платье и, наконец, загасив свечи и чуть дыша, чтоб не
зашуметь, протянулся на своем диване».
Тем не менее, когда Вельчанинов через четверть ча-
са просыпается, Трусоцкий, думая, что он спит, накло-
няется над ним, чтоб его убить.
Никакой преднамеренности в этом преступлении.
Во всяком случае —
«Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет
убить. Это бессмысленно, но это так» *, — думал Вель-
чанинов.
* «Вечный муж». XVI.
319
Однако это еще не удовлетворяет его:
«— И неужели, неужели правда была все то,— вос-
клицал он опять, вдруг поднимая голову с подушки и
раскрывая глаза,— все то, что этот сумасшедший натол-
ковал мне вчера о своей ко мне любви, ковда задрожал
у него подбородок и он стукал в грудь кулаком?
«Совершенная правда»,— решал он, неустанно углуб-
ляясь и анализируя,— этот Квазимодо из Т.— слишком
достаточно глуп и благороден для того, чтобы влюбиться
в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет ни-
чего не приметил! Он уважал меня девять лет, чтил па-
мять мою и мои «изречения» запомнил — Господи, а я-то
не ведал ни о чем! Не мог он лгать вчера Но любил ли он
меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал: «поквита-
емся»? Да, со злобы любил, эта любовь самая сильная...»*
И наконец:
«Только не знал тогда, чем он кончит: обнимется
или зарежет? Вышло, конечно, что всего лучше и то и
другое вместе. Самое естественное решение!» **
Если я так задержался на этой маленькой книге, то
потому, что ее легче охватить, чем другие романы До-
стоевского, потому что она позволяет нам, оставив по-
зади любовь и ненависть, коснуться того глубинного
слоя, о котором я только что вам говорил, той области,
которая не есть область любви и в которую не проника-
ет страсть, области, которой так легко и так просто до-
стигнуть, той самой области, о которой, как мне кажет-
ся, говорил Шопенгауэр, и где сосредоточено все чув-
ство человеческой солидарности, где исчезают грани-
цы личности, где теряется сознание индивидуальности
и сознание времени,— словом, той области, в плоско-
сти которой Достоевский искал и нашел тайну счастья,
как мы это увидим в следующей беседе.
* «Вечный муж». XVI.
**Там же.
320
V
В нашей последней беседе я говорил о тех трех сло-
ях или областях, которые Достоевский как будто разли-
* чает в человеческой личности,— о трех пластах: об об-
ласти умствования, области страстей, промежуточной
между первой и той глубинной областью, куда не дохо-
дит волнение страстей.
Эти три слоя, очевидно, не обособлены и даже не
имеют границ в собственном смысле слова. Между ни-
ми существует постоянное взаимодействие.
В своей прошлой беседе я говорил вам о промежу-
точной области — области страстей. В этой области, в
этом плане и разыгрывается драма; разыгрываются не
только те драмы, которые мы видим в книгах Досто-
евского, но и драмы всего человечества в целом, и мы
сразу могли констатировать то, что сперва казалось
нам парадоксальным: как бы бурны и могучи ни были
страсти, они в общем счете не имеют большого значе-
ния, или, по крайней мере, мы вправе сказать, что они
не потрясают души в ее глубинах; внешние события ос-
тавляют ее безучастной; они ей не интересны. Со-
шлемся на войны,— чего уж более разительный при-
мер. Были произведены анкеты по поводу недавно
закончившейся мировой войны. Писателям ставился
вопрос, каково, по их мнению, ее значение, каков ее
моральный резонанс, каково влияние на литературу?..
Ответ очень прост: влияние это равно нулю или близ-
ко к нему.
А еще лучше — возьмите войны Империи. Попро-
буйте обнаружить их отголосок в литературе, опреде-
лить, какие изменения внесли они в душу человека...
Есть, разумеется, стихотворения на случай о наполео-
новской эпопее, подобно тому, как и теперь есть боль-
шое, очень большое количество стихотворений о по-
следней войне; но где же глубокие отклики, коренная
перемена? Нет! Их не может вызвать внешнее событие,
как бы ни было оно трагично и значительно! Правда, с
французской революцией дело обстоит иначе. Но здесь
перед нами событие не исключительно внешнее; его
321
нельзя назвать в собственном смысле слова случайно-
стью: это — не травма, если можно так выразиться. Со-
бытие рождено здесь самим народом; влияние, оказан-
ное французской революцией на сочинения Монтескье,
Вольтера, Руссо, значительно; но их сочинения написа-
ны до революции. Они подготовляют ее. И то же мы
увидим в романах Достоевского: мысль не следует за
событием, она его предваряет. Чаще всего роль посред-
ника между мыслью и действием принадлежит стра-
стям.
Однако мы увидим, как иногда в романах До-
стоевского элемент интеллектуальный непосредст-
венно соприкасается с глубинной областью. Эта глу-
бинная область — вовсе не ад души; напротив, это ее
рай.
У Достоевского мы находим то загадочное переме-
щение ценностей, которое встречается уже у Вильяма
Блека, великого английского поэта-мистика, о котором
я говорил в одной из прошлых бесед. Ад, по Достоев-
скому,— это, напротив, верхний слой, область интел-
лектуальная. Во всех книгах Достоевского, стоит нам
только прочесть их искушенными глазами, мы можем
констатировать не систематическое, правда, но почти
непроизвольное обесценивание рассудка, обесценива-
ние евангельское.
Достоевский никогда не утверждает, но дает понять,
что любви противостоит не столько ненависть, сколько
суемудрие. Ум для него — как раз то, что индивидуали-
зирует себя, что противополагает себя царству Божье-
му, вечной жизни, тому вневременному блаженству,
которое приобретается лишь ценой отказа от индивиду-
альности, чтобы погрузить нас в чувство некоторого
смутного содружества.
Следующий отрывок из Шопенгауэра прольет свет
на этот вопрос:
«Он поймет, что различие между тем, кто причиня-
ет страдание, и тем, кто должен его терпеть, только
феномен и не касается вещи самой в себе, которая
есть живущая в обоих воля, которая здесь, обманутая
привязанным к ее служению познанием, не узнает са-
322
ма себя, ища в одном из своих проявлений усиленного
благоденствия, производит в другом великое страда-
ние и, таким образом, в пылу увлечения вонзает зубы
в собственное тело, не зная, что она все только терза-
ет самое себя, заявляя тем самым, в среде индивидуа-
лизации, ту вражду с самою собою, которую носит
внутри себя. Мучитель и мучимый — одно. Первый за-
блуждается, считая себя непричастным к страданию,
второй заблуждается, считая себя непричастным вине.
Если бы оба они прозрели, то причиняющий страдание
познал бы, что он живет во всем, что в беспредельном
мире терпит мучения, и, если одарено разумом, на-
прасно вопрошает, почему оно вызвано в бытие на та-
кое страдание, коего вины оно не понимает; а мучи-
мый понял бы, что все злое, совершаемое в мире, или
когда-либо бывшее, истекает из той же воли, которая
составляет и его существо, и в нем проявляется, и что
он посредством этого проявления и его утверждения
принял на себя все страдания, проистекающие из та-
кой воли, и терпит их по праву, пока он продолжает
быть этой волей»*.
Но пессимизм (который иногда кажется нам почти
что притворным у Шопенгауэра) у Достоевского усту-
пает место безудержному оптимизму.
«Мне хоть три жизни дайте,— мне и тех будет ма-
ло» **, — заставляет он сказать одного из персонажей
«Подростка». И еще в той же книге:
«Ты так хочешь жить и так жаждешь жить, что дай,
кажется, тебе три жизни, тебе и тех будет мало»***.
Мне хотелось бы глубже вникнуть вместе с вами в
то состояние блаженства, которое Достоевский описы-
вает или приоткрывает нам в каждой из своих книг,—
состояние, в котором вместе с исчезновением чувства
* Шопенгауэр. Мир как воля и представление. § 63 (Пе-
ревод А. Фета).
** «Подросток». Ч. I. Гл. 4. П.
***Тамже.Ч. I. Гл. 7. Ш.
323
индивидуальной ограниченности исчезает и чувство те-
чения времени:
«В этот момент,— скажет князь Мышкин,— мне
как-то становится понятно необычайное слово о том,
что времени больше не будет» \
Прочтем еще следующий красноречивый отрывок
из «Бесов».
«...— Вы любите детей?
—Люблю,— отозвался Кириллов довольно, впро-
чем, равнодушно.
— Стало быть, и жизнь любите?
— Да, люблю и жизнь, а что?
— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную.
Есть минуты, вы доходите до минуты, и время вдруг ос-
танавливается и будет вечно»**.
Я мог бы умножить число цитат, но, думаю, можно
ограничиться приведенными.
Каждый раз, когда я перечитываю Евангелие, меня
поражает, с какой настойчивостью непрестанно повто-
ряются слова: «Et nunc» — «Отныне». Конечно, Досто-
евского поразило это, поразило то, что блаженство, со-
стояние блаженства, обещанное Христом, может быть
достигнуто тотчас же, если человеческая душа отречет-
ся от себя и смирится: «Et nunc...»
Вечная жизнь не есть удел будущего (или по край-
ней мере не только удел будущего), и если мы не до-
стигнем ее еще здесь, то очень мало надежды вообще
когда-нибудь ее достигнуть.
Прочитаем в связи с этим следующий отрывок из за-
мечательной «Автобиографии» Марка Расерфорда:
* «Идиот». Ч. П. Гл. V.
** «Бесы». Ч. П. Гл. 1. V.
324
«Состарившись, я стал лучше понимать, как безум-
на была эта непрестанная погоня за будущим, эта
власть завтрашнего дня, эти отсрочки счастья, откла-
дыванье со дня на день. Я, наконец, научился, когда
уже было едва ли не слишком поздно, жить в настоя-
щем мгновении, понимать, что солнце, которое светит
мне, сейчас так же прекрасно, как и всегда, не созда-
вать себе вечных беспокойств о будущем; но во вре-
мена моей молодости я был жертвой заблуждения, ко-
торое почему-то поддерживает в нас природа, заблуж-
дения, заставляющего нас лучезарнейшим июньским
утром думать об утрах июльских, которые будут еще
лучезарнее.
Я ничего не позволю себе сказать ни в подтвержде-
ние, ни в опровержение доктрины бессмертия, я просто
говорю следующее: люди могли бы быть счастливы и
без нее, даже в годы бедствий; всегда видеть в бессмер-
тии единственный мотив наших поступков на земле —
это крайний предел того безумия, которое всех нас всю
жизнь обольщает непрестанно откладываемой надеж-
дой, и смерть приходит, когда мы еще не успели впол-
не насладиться ни одним часом».
Я охотно скажу: «что для меня вечная жизнь, если у
меня каждую минуту не будет сознания этой вечности?
Вечная жизнь может сразу же, во всей полноте начать-
ся для нас. Мы живем этой жизнью, как только согла-
симся умереть ддя себя, согласимся на самоотречение,
которое тотчас же воскрешает нас к вечности».
Тут нет ни предписания, ни приказа; просто это
тайна высшего блаженства, которую, как и всюду в
Евангелии, открывает нам Христос. «Если это знаете,
блаженны вы»,— говорит еще Христос (от Иоанна.
Гл. XIII, 17). Не «блаженны будете», а «блаженны вы».
Уже отныне, сразу же мы можем приобщиться бла-
женству.
Какое спокойствие! Здесь воистину останавливает-
ся время, здесь чувствуется дыхание вечности. Мы
вступаем в царство Божье.
Да, здесь — таинственное средоточие мысли Достоев-
ского, а также и христианской морали, блаженная тайна
325
счастья. Индивидуум торжествует благодаря отказу от
индивидуальносга. Тот, кто любит свою жизнь, кто обе-
регает свою личность, утратит ее; но тот, кто откажется
от нее, сделает ее воистину живой, обеспечит ей вечную
жизнь, и не в будущем, а с настоящей минуты внедрит ее
в вечность. Воскресение в жизни целокупной, забвение
всякого частного счастья. Совершенное восстановление.
Это возвеличение ощущения, этот запрет, наложен-
ный на мысль, нигде не выражены так отчетливо, как в
следующем отрывке из «Бесов», являющемся продол-
жением того, который я только что вам читал:
«...— Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?
—Да, очень счастлив,— ответил тот, как бы давая
самый обыкновенный ответ.
— Но вы так недавно еще огорчались, сердились на
Липутина?
— Гм, я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что
был счастлив. Видали вы лист, с дерева лист?
— Видал.
—Я видел недавно желтый, немного зеленый, с краев
подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зи-
мой закрывал глаза нарочно и представлял лист, зеленый,
яркий с жилками, и солнце блестит. Я открьгоал глаза и не
верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.
— Это что же, аллегория?
— Н-нет... зачем? Я не аллегорию, я просто лист,
один лист. Лист хорошо. Все хорошо...»
«...— Как же вы узнали, что так счастливы?
— На прошлой неделе во вторник, нет, в среду, по-
тому что уже была среда ночью.
— По какому поводу?
— Не помню, так; ходил по комнате.,, все равно. Я
часы остановил, было тридцать семь миюпг третьего» *.
* «Бесы». Ч. II. Гл. I.V.
326
Но,— скажете вы, если ощущение торжествует над
мыслью, если душа не должна больше знать иного со-
стояния, кроме этих смутных переживаний, поддаю-
щихся всякому влиянию извне и от него зависящих, то
что может отсюда последовать, как не полная анархия?
Нам говорили, нам за последнее время часто повторя-
ли, что это и есть роковой результат учения Достоев-
ского. Споры об этом учении могли бы завлечь нас
весьма далеко, ибо я уже заранее слышу возражения,
которые могли бы быть мне сделаны, если бы я стал ут-
верждать: нет, не к анархии ведет нас Достоевский, а
просто — к Евангелию. Здесь нам необходимо столко-
ваться. Христианское учение — то, которое содержит-
ся в Евангелии,— обычно представляется нам, францу-
зам, только в преломлении католической церкви, при-
рученное церковью. Достоевскому же церковь внушает
отвращение, особенно церковь католическая. Он пола-
гает, что воспринял учение Христа непосредственно и
единственно из Евангелия, а этого как раз и не допуска-
ет католик.
Много раз в своей переписке Достоевский ополча-
ется против католической церкви. Обвинения его столь
резкие, столь решительные, столь страстные, что я не
осмеливаюсь их вам прочитать, но они мне объясняют
и позволяют лучше понять то общее впечатление, кото-
рое остается у меня всякий раз, как я читаю Достоев-
ского: я не знаю писателя более христианского и в то
же время более чуждого католицизму.
— Ну, так что ж? — воскликнут католики: — Мы
ведь не раз поясняли вам, и вы как будто поняли, что
Евангелие, слова Христа, взятые обособленно, приводят
нас только к анархии; именно отсюда — необходимость
апостола Павла, церкви, всего католицизма в целом.
Пусть последнее слово останется за ними.
Итак, Достоевский ведет нас если не к анархии, то
по крайней мере к своего рода буддизму, к квиетизму
(и это, как мы видим, не единственная его ересь с точ-
ки зрения правоверных). Он уводит нас весьма далеко
от Рима (я хочу сказать — от энциклик), а также весь-
ма далеко от светской чести.
327
Что же в таком случае предлагает нам Достоев-
ский? Не созерцательную ли жизнь? Жизнь, в кото-
рой, отказавшись от разума и от всякой воли, чело-
век, существующий вне времени, будет знать одну
любовь?
В этом, может быть, он и нашел бы счастье, но во-
все не в этом видит Достоевский конечную цель чело-
века. Как только князь Мышкин, вдали от своей роди-
ны, достиг этого высшего состояния, он испытывает не-
преодолимую потребность вернуться к себе на родину;
а когда юный Алеша исповедует старцу Зосиме свое
тайное желание окончить свои дни в монастыре, Зоси-
ма ему говорит: «Уходи из монастыря... ты там нуж-
нее... около братьев будь».— «Не молю, чтобы ты взял
их от мира, но чтобы сохранил их от лукавого»,— гово-
рил Христос.
Я замечаю (и это позволит нам коснуться демони-
ческого элемента в книгах Достоевского), что в боль-
шинстве переводов Библии эти слова Христа передают
так: «Но чтобы сохранил их от зла», а это не одно и то
же. Правда, переводы, о которых я говорю,— перево-
ды протестантские. Протестантизм имеет тенден-
цию — не принимать в расчет ни ангелов, ни бесов.
Мне довольно часто случалось, в виде опыта, спраши-
вать протестантов: «Верите ли вы в дьявола?» И вся-
кий раз вопрос этот в некотором роде озадачивал
собеседника. Чаще всего я убеждался, что такого во-
проса протестант никогда себе и не ставил. В конце
концов я получал ответ: «Ну, конечно, я верю в зло»,
а когда я продолжал допытываться, мой собеседник
кончал признанием, что в зле он видит только отсут-
ствие добра, совершенно так же, как в тени — отсут-
ствие света. Таким образом, мы здесь очень далеки от
евангельских текстов, которые неоднократно намека-
ют на дьявольскую силу, реальную, находящуюся по-
дле нас, своеобразную. Не «сохранить их от зла», но
«сохранить их от лукавого». Проблема дьявола,— по-
зволю себе так выразиться,— занимает значительное
место в творчестве Достоевского. Некоторые наверно
увидят в нем манихейца. Мы знаем, что учение вели-
328
кого ересиарха Манеса признавало существование в
мире двух начал: доброго и злого,— начал, одинаково
деятельных, независимых, одинаково неотврати-
мых — особенность, непосредственно связывающая
учение Манеса с учением Заратустры. Мы видели,—
и я на этом настаиваю, так как это одно из самых су-
щественных обстоятельств,— что дьявола Достоев-
ский поселяет вовсе не в низшей области человече-
ской психики,— хотя человек может целиком стать
его обиталищем и его добычей,— а, напротив, в самой
высшей, в области интеллектуальной, в области мозга.
Великие искушения, которым подвергает нас лука-
вый,— это, по Достоевскому, искушения интеллекту-
альные, недоуменные вопросы. И я думаю, что не осо-
бенно отклонюсь от моей темы, если сперва рассмот-
рю те вопросы, в которых выразилась и с которыми
так долго связывалась вечная тревога человечества:
«Что такое человек? Откуда он? Куда идет он? Чем он
был до своего рождения? Чем он становится после
смерти? На какую истину может притязать человек?»
и даже еще точнее: «Что есть истина?»
Но со времени Ницше и благодаря Ницше встал но-
вый вопрос, вопрос совершенно отличный от прочих...
и не столько примыкающий к ним, сколько их вытесня-
ющий и становящийся на их место,— вопрос, тоже ис-
полненный тревоги, тревоги, которая доводит Ницше
до безумия. Вопрос этот: «Что могут люди? Что может
человек?» — вопрос этот осложняется еще жуткой
мыслью, что человек мог бы быть чем-то другим, что
он был бы способен на большее, что он способен на го-
раздо большее, что он недостойным образом успокоил-
ся на первом этапе, не заботясь о своем совершенство-
вании.
Действительно ли Ницше первый формулировал
этот вопрос? Не решусь это утверждать, и, конечно, од-
но внимательное изучение внутреннего развития Ниц-
ше покажет нам, что вопрос этот он встречал уже у гре-
ков и у итальянцев эпохи возрождения; но у этих по-
следних вопрос этот сразу же находил ответ: он устрем-
лял человека в область практической деятельности.
329
Ответ на него они искали и немедленно находили в сво-
их поступках и в произведениях искусства. Я думаю об
Александре и Цезаре Борджиа, о Фридрихе П (короле
обеих Сицилии), о Леонардо да Винчи, о Гете. Это бы-
ли творцы, высшие существа. Перед художниками и
людьми дела вопрос о сверхчеловеке не встает или, по
крайней мере, для них он сразу же оказывается решен-
ным. Сама их жизнь, само их творчество служат непо-
средственным ответом. Тревога начинается тогда, ког-
да вопрос остается без ответа или даже когда он ставит-
ся задолго до нахождения ответа. Тот, кто предается
размышлениям и фантазирует, но не действует, отрав-
ляет себя, и я вам снова приведу здесь слова Вильяма
Блека: «Человек, который желает, но не действует, яв-
ляется очагом заразы». Вот от этой-то заразы, отравлен-
ный ею, умирает Ницше.
«Что может человек?» Вопрос этот есть в сущности
вопрос атеиста, и Достоевский это прекрасно понял: от-
рицание Бога — роковым образом приводит к самоут-
верждению человека: «Если нет Бога, то я бог». Эта
слова мы читаем в «Бесах». Мы встретим их и в «Кара-
мазовых».
«Если Бог есть, то вся воля его, и из воли его я не
могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить сво-
еволие» *.
Как утвердить свою независимость? Тут начинается
тревога. Все дозволено. Но что же? Все! Что может че-
ловек?
Каждый раз, когда кто-нибудь из героев Достоевско-
го ставит себе этот вопрос, мы можем быть уверены,
что вскоре будем свидетелями его банкротства. Вот пе-
ред нами Раскольников: это у него впервые и возника-
ет та самая мысль, которая у Ницше становится мыслью
о сверхчеловеке. Раскольников написал несколько кра-
мольную статью, в которой говорится, что:
«...Все люди как-то разделяются на «обыкновенных»
и «необыкновенных». Обыкновенные должны жить в
* «Бесы». Ч. Ш. Гл. 6. V.
330
послушании и не имеют права преступать законы, пото-
му что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновен-
ные имеют право делать всякие преступления и всяче-
ски преступать закон, собственно потому, что они нео-
быкновенные».
Так, по крайней мере, считает возможным резюми-
ровать эту статью Порфирий:
«Это не совсем так у меня,— начал Раскольников
просто и скромно.— Впрочем, признаюсь, вы почти
верно ее изложили, даже, если хотите, и совершенно
верно... (Ему точно приятно было согласиться, что со-
вершенно верно.) Разница единственно в том, что я во-
все не настаиваю, чтобы необыкновенные люди непре-
менно должны и обязаны были творить всегда всякие
бесчинства, как вы говорите. Мне кажется даже, что та-
кую статью и в печать бы не пропустили. Я просто-за-
просто намекнул, что «необыкновенный» человек име-
ет право... то есть не официальное право, а сам имеет
право разрешить своей совести перешагнуть... через
иные препятствия, и единственно в том только случае,
если исполнение его идеи (иногда спасительной, может
быть, для всего человечества) того потребует».
«Далее, помнится мне, я развиваю в моей статье, что
все... ну, например, хоть законодатели и установители
человечества, начиная с древнейших, продолжая Ли-
кургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так
далее, все до единого были преступниками уже тем од-
ним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древ-
ний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший,
и уж конечно не останавливались и перед кровью, если
только кровь (иногда совсем невинная и доблестно про-
литая за древний закон) могла им помочь. Замечатель-
но даже, что большая часть этих благодетелей и устано-
вителей человечества были особенно страшные крово-
проливцы. Одним словом, я вывожу, что и все, не то
что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди,
331
то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь
новенькое, должны, по природе своей, быть непремен-
но преступниками,— более или менее, разумеется. Ина-
че трудно им выйти из колеи, а оставаться в колее они,
конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе
своей, а по-моему так даже и обязаны не согласиться» *.
«Одинаковый закон для льва и для вола — это
гнет» — читаем мы у Вильяма Блока.
Но уже один тот факт, что Раскольников ставит се-
бе вопрос, вместо того, чтобы просто ответить на него
практическим действием, показывает нам, что он не
сверхчеловек. Банкротство его полное. Он ни минуты
не может избавиться от сознания своей посредственно-
сти. Именно для того, чтобы доказать себе, что он
сверхчеловек, он идет на преступление.
«Тут одно только, одно,— твердит он себе,— стоит
только посметь... Мне вдруг ясно, как солнце, представи-
лось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не
смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-
запросто все за хвост и стряхнуть к черту!.. Я... я захотел
осмелиться и убил... я только осмелиться захотел» **.
А потом, после преступления:
«...Может быть,— прибавляет он,— тою же доро-
гой идя, я уже никогда более не повторил бы убийст-
* «Преступление и наказание». Ч. III. 5.
Отметим здесь мимоходом, что, несмотря на такие убеж-
дения, Раскольников остался верующим:
«— И-и-и-и в Бога веруете? Извините, что так любопытст-
вую.
— Верую,— повторил Раскольников, поднимая глаза на
Порфирия.
— И-и в воскресение Лазаря веруете?
— Ве-верую. Зачем вам все это?
— Буквально веруете?
— Буквально» («Преступление и наказание». Ч. III. 5).
В этом отношении Раскольников отличается от других ти-
пов сверхчеловека у Достоевского.
** «Преступление и наказание». Ч. V, ГУ.
332
ва. Мне другое надо было узнать, другое меня толка-
ло под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей
узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я пе-
реступить, иди не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и
взять, или нет? Тварь ли я дрожащая, я ли право
имею...»*
Впрочем, он не допускает мысли о своем банк-
ротстве. Он не признает, что был неправ, когда дер-
знул:
«При неудаче все кажется глупо!., я и первого шага
не выдержал, потому что я — подлец! Вот в чем все и
дело! И все-таки вашим взглядом не стану смотреть; ес-
ли бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в кап-
кан»**.
За Раскольннковым идут Ставрогин и Кириллов,
Иван Карамазов, «Подросток».
Банкротство каждого из интеллектуальных героев
Достоевского зависит также от того, что человека ин-
теллектуального Достоевский считает более или менее
неспособным к действию.
В «Записках из подполья», этой маленькой книжке,
написанной незадолго до «Вечного мужа», которая, мне
кажется, означает кульминационную точку его пути, яв-
ляется как бы замком свода его творчества — или, ес-
ли вам угодно, ключом к его мыслям,— мы увидим все
оттенки мысли: «Кто размышляет, тот не действует...»,
а отсюда один только шаг до утверждения, что дейст-
вие предполагает некоторую умственную ограничен-
ность.
Эта маленькая книжка — «Записки из подполья» —
от начала до конца — монолог, и, право, мне кажется
несколько смелым утверждение, высказанное недавно
нашим другом Валери Ларбо, что изобретателем этой
формы повествования является Джемс Джойс, автор
«Улисса». Это значат забыть Достоевского, даже По; в
* «Преступление и наказание». Ч. V, IV.
* Там же. Ч. VI, VII.
333
особенности это значит забыть Браунинга, который не-
вольно приходит мне на ум, когда перечитываю «Запи-
ски из подполья». По-моему, Браунинг и Достоевский
сразу же довели монолог до того совершенства и утон-
ченного разнообразия, каких могла достигнуть эта ли-
тературная форма.
Это сопоставление двух имен, может быть, удивит
некоторых знатоков литературы, но я не могу не сде-
лать его, не могу не поражаться глубоким сходством не
только в отношении формы, но и в отношении самого
материала, между некоторыми монологами Браунинга
(причем я особенно имею в виду «My last duchess
Porphyrias lover» *, пожалуй, еще больше оба показания
мужа Помпилии в «The Ring and the Book» **), с одной
стороны, и, с другой, замечательным рассказом из
«Дневника писателя» под заглавием «Кроткая». Но еще
настоятельнее, чем форма и манера их произведений,
заставляет меня сближать Браунинга с Достоевским,
как мне кажется, их оптимизм — оптимизм, у которо-
го очень мало общего с оптимизмом Гете, но который
одинаково приближает их обоих к Ницше и великому
Вильяму Блоку, о котором мне еще надо поговорить с
вами.
Да, Ницше, Достоевский, Браунинг и Блек — четы-
ре звезды, принадлежащие одному и тому же созвез-
дию. Мне долго был неизвестен Блек, но когда нако-
нец, совсем недавно, я открыл его, мне показалось, что
я сразу узнал в нем четвертое колесо «Большой Медве-
дицы» ***; и, подобно тому как астроном может, еще за-
долго до открытия звезды, почувствовать ее влияние и
определить ее положение; я могу утверждать, что дав-
но уже предчувствовал Блека. Значит ли это, что влия-
ние его было значительно? Нет, напротив, мне неизве-
стно, чтобы он оказал на кого-нибудь влияние. Далее в
* «Возлюбленный последней моей герцогини Порфи-
рии».
** «Кольцо и книга».
***Это созвездие называют по-французски «Колесни-
цей».— Примеч. ред.
334
Англии Блек до последнего времени оставался почти
неизвестным. Это очень чистая и очень далекая звезда,
лучи которой только еще начинают доходить до нас.
Самое знаменательное его произведение — «Брак
неба и ада», из которого я приведу несколько отрывков,
мне кажется, позволит нам лучше понять некоторые
особенности Достоевского.
Цитированная мною фраза Блека — из «Пословиц
ада», как он называет некоторые свои изречения: «Же-
лание, не сопровождаемое действием, рождает зара-
зу», могла бы послужить эпиграфом к «Запискам из
подполья», как и другая: «От стоячих вод жди только
отравы».
«Человек девятнадцатого столетия — существо
бесхарактерное»,— заявляет герой — если его можно
так назвать — «Записок из подполья». Человек дейст-
вия, по Достоевскому, всегда является умом посредст-
венным, ибо ум горделивый лишен возможности дей-
ствовать сам; он увидит в деятельности нечто компро-
метирующее, некоторое ограничение своей мысли;
действовать же будет под его давлением какой-нибудь
Петр Степанович, какой-нибудь Смердяков (в «Пре-
ступлении и наказании» Достоевский еще не устано-
вил этого разграничения между мыслителем и деяте-
лем).
Ум бездеятелен, он только побуждает к действию;
в целом ряде романов Достоевского мы встречаем это
своеобразное распределение ролей, "это волнующее со-
отношение, этот тайный сговор между существом
мыслящим и существом им вдохновленным, которое
будет действовать как бы от его имени. Вспомните
Ивана Карамазова и Смердякова, Ставрогина и Петра
Степановича, которого Ставрогин называет своей
«обезьяной».
Любопытно, что первую, так сказать, версию своеоб-
разных взаимоотношений мыслителя Ивана и лакея
Смердякова в «Братьях Карамазовых», последней кни-
ге Достоевского, мы находим в «Преступлении и нака-
зании», первом его большом романе. Там рассказано о
некоем Фильке, слуге Свидригайлова, который вешает-
335
ся, чтобы спастись не от побоев своего барина, а от его
насмешек. «Это,— читаем мы,— был какой-то ипохон-
дрик, какой-то домашний философ...» «Люди говорили,
зачитался» *.
Все эти подначальные, эти «обезьяны», эти лакеи,
все эти существа, которые будут действовать вместо
мыслителя, благоговеют перед дьявольским превосход-
ством ума, преисполнены любви к нему. Авторитет, ко-
торым Ставрогин пользуется в глазах Петра Степанови-
ча, безграничен; столь же безгранично и презрение
Ставрогина к этому низшему существу.
«Хотите всю правду? — говорит Ставрогину Петр
Степанович: — Видите: у меня действительно мелькала
мысль (мысль эта — план гнусного убийства),— сами
же вы ее мне подсказали, не серьезно, а дразня меня
(потому что не стали же бы вы серьезно подсказы-
вать)».
«...В горячке речи он приблизился к Ставрогину
вплоть и стал хватать его за лацкан сюртука (ей-богу,
может быть, нарочно). Ставрогин сильным движением
ударил его по руке.
— Ну, чего же вы... полноте... этак руку сломае-
•*
те...»
(Примеры такой же грубости встретятся в отноше-
ниях Ивана Карамазова к Смердякову.)
И далее:
«Николай Всеволодович, скажите как пред Богом,
виноваты вы или нет, а я, клянусь, вашему слову пове-
рю, как Божьему, и на край света за вами пойду, о, пой-
ду! Пойду, как собачка...»***
* «Преступление и наказание». Ч. IV. П.
^** «Бесы». Ч. III. Гл. 3. И.
***Там же.
336
И, наконец:
«— Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная полови-
на моя, были шутом» *.
Сильный интеллект радуется своей власти над дру-
гим человеком, но вместе с тем его приводят к крайнее
раздражение поступки неуклюжего исполнителя, пред-
ставляющие как бы карикатуру на его собственную
мысль.
Из переписки Достоевского мы узнаем, как склады-
вались его произведения, в частности — как складыва-
лись «Бесы», эта необыкновенная книга, которую я
считаю самым мощным, самым замечательным созда-
нием великого романиста. Здесь перед нами очень сво-
еобразное литературное явление. Книга, которую До-
стоевский собирался написать, довольно сильно отли-
чалась от той, которую мы знаем. Пока он ее писал, но-
вый персонаж, о котором он вначале почти не думал,
встал перед ним, выдвинулся мало-помалу на первый
план и вытеснил того, кто сперва должен был явиться
главным героем. «Никогда никакая вещь не стоила мне
большего труда,— пишет он из Дрездена в октябре
1870 года.— В начале, то есть в конце прошлого года я
смотрел на эту вещь, как на вымученную, как на сочи-
ненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдох-
новение настоящее — и вдруг полюбил вещь, схватил-
ся за нее обеими руками — давай черкать написанное.
Потом летом опять перемена: выступило еще новое ли-
цо, с претензией на настоящего героя романа, так что
прежний герой (лицо любопытное, но действительно
не стоящее имени героя) стал на второй план. Новый
герой до того пленил меня, что я опять принялся за пе-
ределку» **.
Этот новый персонаж, которому он теперь уделяет
все свое внимание,— Ставрогин, самое странное, мо-
жет быть, и самое жуткое создание Достоевского. В
^ «Бесы». Ч. III. Гл. 3. II.
** Переписка.
337
конце книги Ставрогин сам объяснит себя. Редко быва-
ет, чтобы персонажи Достоевского, в тот или иной мо-
мент, и часто самым неожиданным образом, не дали
нам в какой-нибудь внезапно сорвавшейся у них фразе,
так сказать, ключа к своему характеру. Вот что Ставро-
гин скажет о самом себе:
«В России я ничем не связан — в ней мне все так-
же чуждо, как и везде. Правда, я в ней более, чем в дру-
гом месте, не любил жить; но даже и в ней ничего не
мог возненавидеть!
Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это,
«чтобы узнать себя». На пробах для себя и для показу,
как и прежде, во всю мою жизнь, она оказывалась бес-
предельною. На ваших глазах я снес пощечину от ваше-
го брата; я признался в браке публично. Но к чему при-
ложить эту силу — вот чего никогда не видел, не вижу
и теперь, несмотря на ваши одобрения в Швейцарии,
которым поверил. Я все так же, как и всегда прежде,
могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того
удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую
удовольствие» *.
В последней нашей беседе мы вернемся к первому
пункту этого признания Ставрогина, столь важного в
глазах Достоевского: отсутствию у Ставрогина привя-
занности к своей стране. Сегодня же рассмотрим
лишь ту раздвоенность желаний, которая терзает
Ставрогина.
«Во всяком человеке,— говорил Бодлер,— есть од-
новременно два тяготения: к Богу и к сатане».
В сущности, Ставрогин по-настоящему любит только
энергию. Обратимся к Вильяму Блеку за объяснением
этого загадочного характера. «В одной энергии —
жизнь», «Энергия — вечное наслаждение»,— говорил
Блек.
Прослушайте еще несколько пословиц: «Путь край-
ностей ведет во дворец мудрости» или: «Если бы безу-
мец упорствовал в своем безумии, он сделался бы муд-
* «Бесы». Ч. III. Гл. 8 («Заключение»).
338
рецом» и еще: «Только тот знает довольство, кто снача-
ла познал чрезмерность». Это прославление энергии
принимает у Блека самые различные формы: «Рыкание
льва, вой волков, яростный взмет моря и меч-разруши-
тель — это обрывки вечности, слишком громадные для
человеческого глаза».
Прочтем еще следующее: «Водоем бережлив, род-
ник — расточителен» и: «Тигры гнева мудрее, чем ко-
ни знания», и наконец — мысль, которой открывается
книга «Неба и ада» и которую словно усвоил Достоев-
ский, не зная о ее существовании: «Без противопо-
ложностей нет прогресса: влечение и отвращение,
рассудок и энергия, любовь и ненависть в равной ме-
ре необходимы для человеческого бытия». И далее:
«Есть и всегда будут на земле два противоположных
тяготения, которые вечно будут враждовать. Старать-
ся их примирить — то же, что пытаться уничтожить
бытие».
К этим «Пословицам ада» Вильяма Блока мне хоте-
лось бы прибавить от себя еще следующие две: «Пло-
хая литература делается при помощи прекрасных
чувств» и: «Нет произведения искусства без сотрудни-
чества дьявола». Да, конечно, всякое произведение ис-
кусства есть место соприкосновения или, если вы пред-
почитаете, обручальное кольцо неба и ада; Вильям
Блек нам скажет: «Причина, по которой Мильтон ис-
пытывал затруднение, изображая Бога и ангелов, и пи-
сал привольно, изображая злых духов и ад,— та, что он
был подлинный поэт — был, сам того не зная, на сто-
роне дьявола».
Достоевский всю жизнь мучился отвращением к злу
и вместе с тем мыслью о необходимости зла (а под
злом я понимаю также и страдание). Когда я читаю его,
мне вспоминается притча о хозяине поля: «Рабы сказа-
ли ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем плевелы. Но
он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдерга-
ли вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе и то
и другое до жатвы».
Помню, как, встретившись два года тому назад с
Вальтером Ратенау, который приехал повидаться со
339
мной на нейтральной территории и провел со мной два
дня, я его расспрашивал о современных событиях и в
частности спросил, что он думает о большевизме и рус-
ской революции. Он ответил, что, разумеется, он болез-
ненно воспринимает все крайности, совершенные рево-
люционерами, что он находит это ужасным... «Но, по-
верьте,— сказал он,— народ, как и отдельная личность,
достигает самосознания не иначе, как погрузившись в
страдания и в бездну греха».
И он прибавил: «Оттого что Америка не согласи-
лась ни на страдание, ни на грех, у нее до сих пор нет
души».
Это и заставило меня сказать вам относительно
старца Зосимы, поклонившегося Дмитрию, относитель-
но Раскольникова, поклонившегося Соне, что они пре-
клоняются не только перед человеческим страданием,
но и перед грехом.
Надо остерегаться ошибочного истолкования мысли
Достоевского. Повторяю, если он отчетливо поставил
вопрос о сверхчеловеке, если вопрос этот исподтишка
всплывает в каждой из его книг, все же в конечном
счете у него торжествуют евангельские истины. Досто-
евский не видит и не представляет себе иного пути спа-
сения, кроме отказа личности от самой себя; но, с дру-
гой стороны, он дает нам понять, что человек никогда
не бывает ближе к Богу, чем в то время, когда он дохо-
дит до пределов отчаяния. Только тогда вырвется
вопль: «Господи, к кому же нам идти! У тебя глаголы
жизни вечной».
Он знает, что вопля этого можно ждать не от чело-
века добропорядочного, от того, кто всегда знает, куда
идти, кто считает себя рассчитавшимся с самим собою
и с Богом, а только от того, кто больше не знает, куда
ему идти!
«А если не к кому, коли идти больше не к кому! —
говорил Раскольникову Мармеладов.— Ведь надобно
же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно
было пойти. Ибо бывает такое время, когда непремен-
но надо хоть куда-нибудь да пойти!» Лишь оставив поза-
ди свое отчаяние и свое преступление, даже наказание,
340
лишь будучи выброшен из человеческого общества,
Раскольников встретился с Евангелием.
Есть, конечно, известная запутанность в том, что я
говорил вам сегодня... но, быть может, виноват в этом
также и Достоевский.— «Культура пролагает прямые
пути,— говорит нам Блек,— но пути бесполезно изви-
листые и есть пути гения».
Во всяком случае, Достоевский был вполне убеж-
ден, так же как и я, в том, что в евангельских истинах
нет никакой путаницы; а это самое существенное.
VI
Я чувствую себя подавленным множеством и значи-
тельностью вещей, которые мне еще остается сказать
вам. Вы, я думаю, поняли также (о чем я говорил вам
с самого начала), что Достоевский часто является
здесь для меня только предлогом высказать мои собст-
венные мысли. Я стал бы больше оправдываться, если
бы считал, что, поступая таким образом, я исказил
мысль Достоевского... Однако, нет. Самое большее, я,
как пчелы, о которых говорит Монтень, искал в его
произведениях преимущественно то, что подходило
для моего меда. При всем сходстве портрета, в нем
всегда есть нечто от художника, почти в такой же сте-
пени, как и от оригинала. Всего замечательнее, конеч-
но, тот оригинал, который позволяет находить в нем
самые разнообразные сходства и дает материал для
самого большого числа портретов. Я попытался дать
портрет Достоевского. Я чувствую, что далеко не ис-
черпал его сходства.
Меня равным образом подавляет и количество по-
правок, которые я хотел бы внести в наши предшеству-
ющие беседы. Не было в числе их ни одной, по оконча-
нии которой мне бы сразу не приходило на ум все, что
я забыл вам сказать из приготовленного мной. Так, в
прошлую субботу мне хотелось объяснить вам, каким
образом «плохая литература делается при помощи пре-
красных чувств» и почему «ни одно подлинное произ-
341
ведение искусства не обходится без сотрудничества
дьявола». Эти очевидные для меня положения могут по-
казаться вам парадоксальными и требуют некоторых
пояснений. (Я терпеть не могу парадоксов и никогда не
пытаюсь удивлять, но если бы я не собирался сказать
вам вещей хоть сколько-нибудь новых, я бы вовсе не
стал говорить; а все новое всегда кажется парадоксаль-
ным.) Чтобы облегчить вам восприятие этой истины, я
решил остановить ваше внимание на фигурах святого
Франциска Асизского и Анжелико. Если последний мог
стать великим художником,— а я ради доказательности
примера выбрал из всей истории искусства фигуру не-
сомненно самую чистую,— то потому, что, несмотря на
всю свою чистоту, его искусство, чтобы быть тем, чем
оно есть, должно было допустить сотрудничество дья-
вола. Нет произведения искусства без демонического
участия. Святой — это не Анжелико, это — Франциск
Асизский. Нет художников среди святых; нет святых
среди художников.
Произведение искусства можно уподобить сосу-
ду, наполненному благовониями, которые не стала
бы разливать Магдалина. И я приводил вам по этому
поводу поразительную фразу Блека: «Причина, по
которой Мильтон испытывал затруднение, изобра-
жая Бога и ангелов, и писал привольно, изображая
злых духов и ад,— та, что он был подлинный поэт,
был, следовательно, на стороне дьявола, сам того не
подозревая».
Три колка распирают станок, на котором ткется
всякое художественное произведение, это — те три
вожделения, о которых говорил апостол: «Похоть
очей, похоть плоти и гордость». Припомните слова Ла-
кордера в ответ на поздравления, принесенные ему по
случаю одной удачной его проповеди: «Дьявол сказал
мне это еще до вас». Дьявол не сказал бы ему, что его
проповедь была прекрасна, ему бы вовсе не пристало
это говорить, если бы он сам не участвовал в ее созда-
нии.
Процитировав стихи из гимна «К радости» Шилле-
ра, Дмитрий Карамазов восклицает:
342
«Красота — это страшная и ужасная вещь... Тут дья-
вол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей» *.
Наверно ни один художник не отводил дьяволу та-
кой крупной роли в своем творчестве, как Достоев-
* ский, если не считать Блека, сказавшего,— и этой фра-
зой заканчивается его замечательная книга «Брак неба
и земли»:
«Этот ангел, ставший теперь демоном, мой близ-
кий друг: мы часто читали вместе Библию в ее инфер-
нальном или дьявольском значении, том самом, кото-
рое откроется в ней миру, если он будет хорошо себя
вести».
Выйдя прошлый раз из этого зала, й тотчас отдал се-
бе отчет и в том, что, цитируя некоторые замечатель-
ные «Пословицы ада» Вильяма Блека, я позабыл про-
честь вам полностью то место из «Бесов», которое слу-
жит поводом к этим цитатам. Позвольте мне исправить
мое упущение. К тому же, эта страница «Бесов» даст
вам случай оценить спаянность (а также спутанность)
различных элементов, которые я пытался вам наметить
в предшествующих беседах,— я разумею прежде всего
оптимизм, эту неистовую любовь к жизни,— которую
мы находим во всех произведениях Достоевского,— к
жизни и ко всему миру, тому «необъятному миру на-
слаждений»,— о котором говорит Блек,— миру, где
живут и тигр и ягненок**.
«— Вы любите детей?
— Люблю,— отозвался Кириллов, довольно, впро-
чем, равнодушно.
— Стало быть, и жизнь любите?
—Да, люблю и жизнь, а что?
— Если решили застрелиться».
Мы видим также, что и Дмитрий Карамазов готов
лишить себя жизни в порыве оптимизма, просто от из-
бытка восторга.
* «Братья Карамазовы». Ч. I. Кн. 3. III.
** «Бесы». Ч. II. Гл. 1. V.
343
«Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо.
Жизнь есть, а смерти нет совсем.
...— Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?
— Да, очень счастлив,— ответил тот, как бы давая
самый обыкновенный ответ.
— Но вы так недавно еще огорчались, сердились на
Липутина?
— Гм, я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что
был счастлив... Человек несчастлив потому, что не зна-
ет, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто уз-
нает, тотчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь
умрет, а девочка останется — все хорошо. Я вдруг от-
крыл... Хорошо. ...Всем тем хорошо, кто знает, что все
хорошо...»
Не обманывайтесь насчет этой кажущейся свирепо-
сти, которая часто проглядывает в произведениях До-
стоевского. Она составляет часть квиетизма, подобного
квиетизму Блека, квиетизма, который побудил меня
сказать, что христианство Достоевского ближе к Азии,
чем к Риму. Правда, что у Достоевского это приятие
жизненной энергии, которое у Блека переходит даже в
ее прославление, силы, имеет характер скорее запад-
ный, чем восточный.
Но оба они, и Блек и Достоевский, слишком прель-
щены истинами Евангелия, чтобы не признать, что эта
свирепость — нечто преходящее, мимолетный резуль-
тат своего рода ослепления, то есть нечто назначенное
к исчезновению.
И было бы предательством по отношению к Блеку
представить его вам лишь в этом обличьи жестокости.
Вслед за его жуткими «Пословицами ада», которые я
вам цитировал, мне бы хотелось прочитать вам то его
стихотворение, может быть самое прекрасное из его
«Песен невинности» (но как найти в себе смелость пере-
дать столь текучие стихи?), где он возвещает и где пред-
сказывает время, когда сила льва будет применяться
лишь на защиту слабого ягненка, лишь на охрану стада.
344
Точно так же, продолжая начатый нами поразитель-
ный диалог из «Бесов», мы услышим от Кириллова сле-
дующее:
«Они не хороши,— начал он вдруг опять,— потому
что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не бу-
дут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хоро-
ши, и все тотчас же станут хороши, все до единого» \
Диалог продолжается, и вот мы видим появление за-
мечательной мысли о человекобоге.
«— Вот вы узнали же, стало быть, хороши?
— Я хорош.
— С этим я, впрочем, согласен,— нахмуренно про-
бормотал Ставрогин.
— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
— Кто учил, того распяли.
— Он придет, и имя ему человекобог.
— Богочеловек?
— Человекобог, в этом разница».
Эта идея человекобога, приходящего на смену бо-
гочеловека, возвращает нас к Ницше. Здесь мне еще
раз хотелось бы внести поправку по отношению к
доктрине «сверхчеловека» и выступить против одно-
го мнения, слишком часто и слишком легко при-
нимаемого на веру; если девизом сверхчеловека
Ницше,— а это и позволю нам обособить его от
сверхчеловека, мерещившегося Раскольникову и Ки-
риллову,— если девизом сверхчеловека Ницше явля-
ется: «Будьте суровы»,— слова, которые так часто
цитируются, часто так неверно истолковываются,—
то не против других направит он эту суровость, а про-
тив самого себя. Человеческая природа, над которой
он хочет подняться,— это его собственная природа.
Резюмирую: исходя из одной и той же проблемы,
Ницше и Достоевский предлагают разные, даже
* «Бесы». Ч. П. Гл. 1. V.
345
прямо противоположные решения. Ницше предлага-
ет утверждение своего я,— в этом он видит цель
жизни. Достоевский предлагает смириться. Там, где
Ницше мерещится апогей, Достоевский предвидит
лишь банкротство.
Вот что прочел я в письме одного садитара, скром-
ность которого не позволяет мне назвать его имя. Это
было в самые мрачные дни минувшей войны; вокруг се-
бя он видел только жестокие страдания, слышал лишь
слова отчаяния: «О, если бы только они умели выска-
зать свои страдания!» — писал он.
Этот возглас излучает такой яркий свет, что я счел
бы неуместным его комментировать. Я только сопо-
ставлю с ним следующую фразу из «Бесов»:
«А как напоишь слезами своими под собою землю
на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возра-
дуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей
больше не будет...» *
Здесь мы подходим вплотную к «полному и сладо-
стному смирению» Паскаля, заставлявшему его воскли-
цать: «Радость! Радость! слезы радости».
Это радостное состояние, которое мы постоянно
находим у Достоевского,— разве это не то самое, ко-
торое обещает нам Евангелие,— состояние, в кото-
рое нас вводит то, что Христос называл «вторым
рождением», блаженство, которое достигается лишь
ценою отказа от всего, что есть в нас личного; ибо
именно привязанность к самим себе не позволяет
нам погрузиться в вечность, войти в царство Божие
и приобщиться к смутному чувству жизни вселен-
ской.
Это второе рождение прежде всего возвращает че-
ловека в состояние первых лет его жизни, в состояние
детства: «Не войдете в царство Божие, если не будете
сами как дети». По этому поводу я приводил вам фра-
зу Лабрюйера: «У детей нет ни прошлого, ни будущего,
* «Бесы». Ч. I. Гл. 4. V.
346
они живут в настоящем», что уже недоступно взросло-
му человеку.
Немедленному приобщению к вечной жизни, как я
говорил вам, учило нас уже Евангелие, где слова: «Et
nunc» — «отныне» — повторяются непрестанно. Состо-
яние радости, о котором говорит нам Христос, состоя-
ние не будущее, а немедленное.
«— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную.
Есть минуты, вы доходите до минуты, и время вдруг ос-
танавливается и будет вечно».
И Достоевский в конце «Бесов» снова возвращается
к этому странному состоянию блаженства, достигнуто-
му Кирилловым.
Прочитаем следующий отрывок, позволяющий нам
глубже вникнуть в мысль Достоевского и затронуть од-
ну из самых важных истин, о которых мне еще осталось
говорить с вами:
«— Есть секунды, их всего зараз приходит пять или
шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гар-
монии, совершенно достигнутой. Это все земное; я не
про то, что оно небесное, а про то, что человек в зем-
ном виде не может перенести. Надо перемениться фи-
зически или умереть. Это чувство ясное и неоспори-
мое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг
говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в
конце каждого дня создания говорил: «да, это правда,
это хорошо». Это не умиление, а только так, радость.
Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже не-
чего. Вы не то, что любите, о — тут выше любви! Все-
го страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Ес-
ли более пяти секунд — те душа не выдержит и долж-
на исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и
за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Что-
бы выдержать десять секунд, надо перемениться физи-
чески. Я думаю, человек должен перестать родить.
К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута?
В Евангелии сказано, что в воскресении не будут ро-
347
дить, а будут как ангелы Божий. Намек. Ваша жена
родит?
— Кириллов, это часто приходит?
— В три дня раз, в неделю раз.
— У вас нет падучей?
— Нет.
— Значит, будет. Берегитесь, Кириллов, я слышал,
что именно так падучая начинается. Мне один эпилеп-
тик подробно описывал это предварительное ощуще-
ние перед припадком, точь-точь как вы; пять секунд и
он назначал и говорил, что более нельзя вынести.
Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролить-
ся, пока он облетел на коне своем рай. Кувшин — это
те же пять секунд; слишком напоминает вашу гармо-
нию, а Магомет был эпилептик. Берегитесь, Кириллов,
падучая!
— Не успеет,— тихо усмехнулся Кириллов»*.
В «Идиоте» князь Мышкин, тоже знакомый с этим
состоянием эйфории, равным образом связывает его с
припадками эпилепсии, которой он страдает.
Итак, Мышкин — эпилептик: Кириллов — эпилеп-
тик, Смердяков — эпилептик. В каждом большом про-
изведении Достоевского есть эпилептик; эпилепти-
ком, как известно, был сам Достоевский, и его упор-
ное возвращение во всех романах к эпилепсии проли-
вает достаточно света на роль, которую он приписывал
болезни на образование своей этики, на кривую своих
мыслей.
Если хорошенько поискать, то в основе всякого
крупного нравственного преобразования окажется ка-
кая-нибудь маленькая физиологическая загадка, физи-
ческая неудовлетворенность, неспокойство, аномалия.
Извините, что я буду цитировать самого себя**, я не
мог бы, не повторяясь, выразить мои мысли с той же от-
четливостью:
«Естественно, что всякая большая нравственная
+* «Бесы». Ч. III. Гл. 8. V.
** «Избранное» («Morceaux choisis»). С. 101. 1.
348
реформа, то, что Ницше назвал бы переоценкой цен-
ностей, вызывается нарушением физиологического
равновесия. Чувствуя довольство, мысль почивает, и,
покуда порядок вещей ее удовлетворяет, она не мо-
• жет ставить своей задачей изменить его (имею в ви-
ду порядок внутренний, ибо в отношении внешнего
или общественного порядка мотивы, руководящие ре-
форматором, совсем иные; в первом случае мы видим
химиков, во втором — механиков). В основе рефор-
мы всегда лежит недомогание; недомогание, которым
страдает реформатор, есть отсутствие внутреннего
равновесия. Нравственные ценности, их удельный
вес, их взаимоположение — даны ему как нечто не-
согласованное, и реформатор трудится над их согла-
сованием: он стремится достигнуть нового равнове-
сия; его дело не что иное, как попытка перестроить в
соответствии со своим разумом, со своей логикой,
беспорядок, который он ощущает в себе; ибо состоя-
ние неупорядоченности для него невыносимо. Я не го-
ворю, понятно, что достаточно быть неуравновешен-
ным, чтобы сделаться реформатором, но я утверж-
даю, что всякий реформатор прежде всего человек
неуравновешенный».
Я не знаю ни одного реформатора — из тех, что да-
ли человечеству новые ценности,— в котором нельзя
было бы обнаружить того, что г. Бине-Сангле назвал бы
изъяном *.
Магомет был эпилептик, эпилептиками были и
пророки Израиля, и Лютер, и Достоевский. У Сократа
был свой демон, у апостола Павла таинственная «зано-
за в теле», у Паскаля — «бездна», у Ницше и Руссо —
безумие.
Тут мне могут сказать: «Это не ново. Это, собствен-
но, теория Ломброзо или Нордау: гений — это не-
* Г-н Бине-Сангле — автор книги, озаглавленной «Безу-
мие Иисуса Христа», где он стремится отрицать значение Хри-
ста и христианства, доказывая, что Христос был сумасшед-
ший, что он обладал некоторым физиологическим недостач
ком.
349
вроз». Нет, нет; воздержитесь от слишком поспешных
заключений и позвольте мне отметить следующее
чрезвычайно существенное, с моей точки зрения, об-
стоятельство:
Есть гении совершенно здоровые, как, например,
Виктор Гюго: присущее ему внутреннее равновесие не
ставит перед ним никаких новых проблем. Руссо, если
бы не его безумие, был бы наверно всего лишь несклад-
ным Цицероном. Пусть не говорят: «Как жаль, что он
был больной». Если бы он не был больной, он не пытал-
ся бы разрешить проблему, которую ставила ему его
аномалия, не пытался бы вновь обрести гармонию, ко-
торая в свою очередь не исключает диссонансов. Ко-
нечно, есть вполне здоровые реформаторы; но это за-
конодатели. Тот, кто обладает совершенным внутрен-
ним равновесием, может проводить реформы, но ре-
формы чисто внешние по отношению к человеку; он
устанавливает законы. Ненормальный — тот, напротив,
чувствует себя стесненным существующим законода-
тельством.
Наученный собственным опытом, Достоевский вы-
двигает гипотезу о болезненном состоянии, которое
на известное время влечет за собой и внушает тому
или иному персонажу особое понимание жизни.
В данном случае мы имеем дело с Кирилловым —
персонажем, на котором держится вся интрига рома-
на «Бесы». Мы знаем, что Кириллов покончит с со-
бой; это не значит, что самоубийство произойдет не-
медленно; но во всяком случае у него есть намерение
покончить с собой. Почему? Это мы узнаем только в
конце книги.
«Я ничего не понимаю, в чем у вас там фантазия
себя умертвить,— обращается к нему Петр Степано-
вич.— Не я это вам выдумал, а вы сами еще прежде
меня заявили об этом первоначально не мне, а чле-
нам за границей. И заметьте, никто из них у вас не
выпытывал, никто из них вас и не знал совсем, а са-
ми вы пришли откровенничать, из чувствительно-
сти. Ну, что же делать, если на этом был тогда же
350
основан, с вашего же согласия и предложения (за-
метьте это себе: предложения!), некоторый план
здешних действий, которого теперь изменить уже
никак нельзя» *.
Самоубийство Кириллова — поступок абсолютно
своевольный, то есть совершается без всякого внешне-
го побуждения. Сейчас мы увидим всю ту бессмысли-
цу, которая вторгается в жизнь под защитой и под по-
кровом «своевольного поступка».
С тех пор как Кириллов принял решение покон-
чить с собой, все ему стало безразлично; своеобраз-
ное душевное состояние, в котором он находится и ко-
торое делает возможным и обусловливает его само-
убийство (ибо этот поступок, хоть он и своеволен, не
является беспричинным), оставляет его равнодушным
к тому, что его обвинят в преступлении, которое бу-
дет совершено другими и которое он согласится взять
на себя; так по крайней мере думает Петр Степано-
вич.
При помощи этого затеянного им преступления
Петр Степанович думает связать заговорщиков, во гла-
ве которых он стоит, но власть над которыми, он чувст-
вует, ускользает из его рук. Он полагает, что каждый
из заговорщиков будет чувствовать себя соучастником
совершенного ими преступления, что никто из них не
сможет, не посмеет увильнуть.— Кого же собираются
убить?
Петр Степанович еще колеблется. Надо, чтобы жер-
тва наметила себя сама.
Заговорщики собрались в одном помещении, и во
время разговора встает вопрос: «Неужели между нами
может находиться в эту минуту доносчик?» Слова эти
вызывают необычайное волнение: все начинают гово-
рить зараз.
«Господа, если бы так,— продолжал Верховен-
ский,— то ведь всех более компрометировал себя я, а
* «Бесы». Ч. III. Гл. 6. П.
351
потому предложу ответить на один вопрос, разумеется,
если захотите. Вся ваша полная воля.
— Какой вопрос? Какой вопрос? — загалдели все.
— А такой вопрос, что после него станет ясно, оста-
ваться нам вместе или молча разобрать наши шапки и
разойтись в свои стороны.
— Вопрос, вопрос?
— Если бы каждый из нас знал о замышленном по-
литическом убийстве, то пошел ли бы он донести, пред-
видя все последствия, или остался бы дома, ожидая со-
бытий? Тут взгляды могут быть разные. Ответ на во-
прос скажет ясно — разойтись нам или оставаться вме-
сте и уже далеко не на один этот вечер».
И Петр Степанович начинает допрашивать некото-
рых членов этого тайного общества, каждого отдельно.
Его прерывают:
«...Напрасный вопрос. У всех один ответ. Здесь не
доносчики!
— Отчего встает этот господин? — вскрикнула сту-
дентка.
— Это Шатов. Отчего вы встали, Шатов? — вскрик-
нула хозяйка.
Шатов встал действительно, он задержал свою шап-
ку в руке и смотрел на Верховенского. Казалось, он хо-
тел ему что-то сказать, но колебался. Лицо его было
бледно и злобно, но он выдержал, не проговорил ни
слова и молча пошел вон из комнаты.
— Шатов, ведь это для вас же невыгодно! — зага-
дочно крикнул ему вслед Верховенский.
— Зато тебе выгодно, как шпиону и подлецу! — про-
кричал ему в дверях Шатов и вышел совсем.
Опять крики и восклицания.
— Вот она, проба-то! — крикнул голос».
Таким образом, тот, кого должны убить, сам наме-
чает себя. Надо поспешить: убийство Шатова должно
предупредить его донос.
Отдадим здесь дань мастерству Достоевского,
ибо я должен упрекнуть себя в том, что, говоря все
352
время об его мыслях, я слишком мало внимания уде-
лил замечательному мастерству, с которым он их из-
лагает.
В этом месте романа происходят поразительные
• вещи, ставящие перед нами своеобразную художест-
венную проблему. Постоянно говорится, что, начиная
с известного момента в развитии действия, ничто уже
более не должно отвлекать нас от него: действие убы-
стряется и должно направляться прямо к цели. И вот
как раз в этот момент,— момент, когда действие до-
стигло самого крутого ската,— Достоевский изобре-
тает самые ошеломительные задержки. Внимание чи-
тателя,— он это чувствует,— так напряжено, что вся-
кий эпизод приобретает теперь исключительное зна-
чение. Его поэтому не устрашат отступления от
главного действия, внезапные повороты, которые
представят в выгодном освещении его самые сокро-
венные мысли. В тот самый вечер, когда Шатову
предстоит донести или быть убитым, к нему вдруг
приезжает жена, которой он не видел несколько лет.
Она на сносях, но Шатов сперва не отдает себе отче-
та в ее состоянии.
Эта сцена, будь она разработана с меньшим совер-
шенством, могла бы оказаться смешной. У Достоев-
ского она вышла одной из самых прекрасных сцен во
всей книге. Он образует то, что на театральном жар-
гоне назвали бы «второй ролью», а в литературе —
эпизодом для «округления», но именно здесь мастер-
ство Достоевского проявляется с самой изумительной
силой. Он мог бы сказать вместе с Пуссеном: «Я ни-
когда ничем не пренебрегал». По этому признаку и
узнается великий художник; он отовсюду извлекает
пользу и каждую помеху превращает в преимущество.
Действие здесь должно замедлиться. Все, что тормо-
зит его стремительное развитие, обретает огромное
значение. Глава, где Достоевский повествует нам о
неожиданном приезде жены Шатова, передает диалог
обоих супругов, рассказывает о посредничестве Ки-
риллова и внезапной близости, которая устанавлива-
ется между этими двумя людьми,— является одной из
353
лучших глав во всей книге. Нас здесь снова поражает
то отсутствие ревности, о котором я уже говорил
раньше. Шатов знает, что жена его беременна, но об
отце ребенка, которого она ожидает, нет даже и речи.
Шатов совершенно обезумел от любви к этой женщи-
не, которая испытывает боли и находит для него толь-
ко слова оскорбления.
«Один только этот факт и спас «мерзавцев» от наме-
рения Шатова, а вместе с тем и помог им от него «из-
бавиться». Во-первых, он взволновал Шатова, выбил его
из колеи, отнял от него обычную прозорливость и осто-
рожность. Какая-нибудь идея о своей собственной без-
опасности менее всего могла прийти теперь в его голо-
ву, занятую совсем другим» *.
Возвратимся к Кириллову: наступил момент, когда
Петр Степанович рассчитывает воспользоваться его са-
моубийством. Что заставляет Кириллова покончить с
собой? Петр Степанович допытывает его. Ему не впол-
не понятно. Он зондирует. Он хочет понять. Он боится,
как бы в последнюю минуту Кириллов не переменил
намерения, не ускользнул от него... Однако, нет.
«— Я не отложу; я именно теперь хочу умертвить се-
бя...»
Диалог Петра Степановича и Кириллова остается
особенно загадочным. Он остался весьма загадочным
в мысли самого Достоевского. Повторяю, Достоев-
ский никогда не выражает своих мыслей в чистом
виде, а всегда развивает в зависимости от тех, кто го-
ворит, кого он ими наделяет и кто является их истол-
кователем. Кириллов находится в весьма странном
болезненном состоянии. Через несколько минут он
покончит особой, и слова его резки, бессвязны; нам
самим предоставляется выудить из них мысль Досто-
евского.
* «Бесы». Ч. III. Гл. 5. П.
354
Идея, толкающая Кириллова к самоубийству,— идея
мистического порядка, недоступная пониманию Петра
Степановича.
«— Если Бог есть, то вся воля его, и из воли его я не
могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить сво-
еволие...
— Я обязан себя застрелить, потому что самый пол-
ный пункт моего своеволия — это убить себя самому».
И еще:
«...Бог необходим, а потому должен быть.
— Ну и прекрасно.
— Но я знаю, что его нет и не может быть.
— Это вернее.
— Неужели ты не понимаешь, что человеку с таки-
ми двумя мыслями нельзя оставаться в живых?
— Застрелиться, что ли?
— Неужели ты не понимаешь, что из-за этого толь-
ко одного можно застрелить себя?
— Да ведь не один же вы убиваете; много самоубийц.
— С причиною. Но безо всякой причины, а только
для своеволия — один я.
«Не застрелится» — мелькнуло опять у Петра Степа-
новича.
— Знаете что,— заметил он раздражительно,— я бы
на вашем месте, чтобы показать своеволие, убил кого-
нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я
укажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, и не
стреляйтесь сегодня. Можно сговориться».
И на мгновение у него является мысль: в случае ес-
ли Кириллов отступит перед самоубийством, заставить
его убить Шатова, а не только взять вину на себя.
«— Убить другого будет самым низким пунктом мо-
его своеволия, и в этом весь ты. Я не ты: я хочу высший
пункт и себя убью».
355
«— Я обязан неверие заявить,— шагал по комнате
Кириллов.— Для меня нет выше идеи,— что Бога нет.
За меня человеческая история. Человек только и де-
лал что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя;
в этом вся всемирная история до сих пор. Я один во
всемирной истории не захотел первый раз выдумы-
вать Бога».
Не забудем, что Достоевский — самый настоящий
христианин. В утверждении Кириллова он снова пока-
зывает нам банкротство. Как мы уже говорили, Досто-
евский видит спасение только в самоотречении. Но к
этой мысли тесно примыкает новая мысль, и чтобы луч-
ше освоиться с нею, я снова процитирую одну из «По-
словиц ада» Блека: «If others had not been foolish, we
should be so». «Если бы другие не были безумны, бе-
зумны были бы мы» или «Чтобы позволить нам не быть
более безумными, другие должны были ранее стать та-
ковыми».
Полубезумие Кириллова заключает в себе мысль о
жертве: «Я начну и кончу, и дверь открою».
Хотя необходимым условием таких мыслей являем
ся болезнь Кириллова,— впрочем, не все они одобряют-
ся Достоевским, поскольку это мысли своеволия,— тем
не менее, в них заключается доля истины, и хотя Ки-
риллов должен быть больным, чтобы дойти до них, од-
нако все это нужно и для того, чтобы мы могли узнать
их, и не будучи больными.
«Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам
непременно, чтобы начать и доказать. Я еще бог поне-
воле и несчастен, ибо обязан заявить своеволие. Все
несчастны потому, что все боятся заявить своеволие.
Человек потому и был до сих пор так несчастен и бе-
ден, что боялся заявить самый главный пункт своево-
лия, и своевольничал с краю как школьник... Но я за-
являю своеволие, я обязан уверовать, что не верую. Я
начну и кончу, и дверь отворю. И спасу... Я три года
искал атрибут божества моего и нашел: атрибут боже-
ства моего — своеволие. Это все, чем я могу в глав-
356
ном пункте показать непокорность и новую страшную
свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя,
чтобы показать непокорность и новую страшную сво-
боду мою...»*
Каким бы безбожником ни казался здесь Кирил-
лов, все же, будьте уверены, Достоевский, создавая
его образ, зачарован мыслью о Христе, о необходимо-
сти крестной жертвы ради спасения человечества. Ес-
ли Христос должен был быть принесен в жертву, то
не для того ли, чтобы нам, христианам, дать возмож-
ность быть христианами не ценою такой смерти. «Спа-
си себя сам, если ты Бог»,— говорят Христу.— «Если
бы Я спас Себя Самого, то вы были бы погублены.
Чтобы вас спасти, гублю Я Себя, приношу в жертву
Мою жизнь».
Следующие, написанные Достоевским строки, кото-
рые я нахожу в приложении к французскому переводу
его «Переписки» **, по-новому освещают фигуру Кирил-
лова:
«Поймите меня: самовольное, совершенно сознатель-
ное и никем не принужденное самопожертвование всею
себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего
развития личности, высочайшего ее могущества, высо-
чайшего самообладания, высочайшей свободы собствен-
ной воли. Добровольно положить свой живот за всех,
пойти за всех на крест, на костер,— все это можно сде-
лать только при самом сильном развитии личности.
Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем
праве быть личностью, уже не имеющая за себя никако-
го страха, ничего не может и сделать другого из своей
личности, то есть никакого более употребления, как от-
дать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими
же самоправными и счастливыми личностями. Это за-
кон природы; к этому тянет нормального человека».
* «Бесы». Ч. III. Гл. 6. И.
** «Зимние заметки о летних впечатлениях». Гл. VI.—
Примеч. ред.
357
Итак, вы видите, что если слова Кириллова и кажут-
ся нам на первый взгляд несколько бессвязными, все
же сквозь эти слова нам удается различить мысль само-
го Достоевского.
Я чувствую, как я далек от исчерпывающего обзора
той мудрости, которую можно найти в его книгах. По-
вторяю, я, сознательно или бессознательно, искал в них
прежде всего то, что более всего родственно моей соб-
ственной мысли. Конечно, другие смогут открыть в них
иное. А теперь, когда я подхожу к концу моей послед-
ней лекции, вы наверно ждете от меня какого-нибудь
заключения: куда ведет нас Достоевский и чему собст-
венно он нас учит?
Иные скажут, что он ведет нас прямо к большевиз-
му, хотя известно все то отвращение, которое Досто-
евский питал к анархии. Весь роман «Бесы» — проро-
чество о революции, которой охвачена теперь Россия.
Но кто, в противность установленным кодексам, при-
несет новые «скрижали ценностей», всегда будет ка-
заться в глазах консерваторов анархистом. Консерва-
торы и националисты, отказывающиеся видеть в До-
стоевском что-нибудь, кроме беспорядка, заключают,
что он ничем не может быть нам полезен; я им отве-
чу, что их противодействие кажется мне оскорбитель-
ным для французского гения. Соглашаясь допустить
из чужеземного только то, что уже похоже на нас, в
чем мы можем найти наш порядок, нашу логику и, так
сказать, наш образ, мы совершаем серьезную ошибку.
Да, Франция вправе питать отвращение к бесформен-
ному, но, во-первых, Достоевский не бесформен, ни-
сколько не бесформен; просто его каноны красоты не
похожи на наши средиземные каноны; да если бы да-
же они были еще более несхожими — разве гений
Франции, ее логика не должны прежде всего быть
приложены как раз к тому, что нуждается в упорядо-
чении?
Созерцая только свой собственный образ, образ
своего прошлого, Франция подвергается смертель-
358
ной опасности. Чтобы выразить мою мысль с макси-
мальной точностью и максимальной мягкостью, ска-
жу: хорошо, что во Франции есть консервативные
элементы, поддерживающие традицию, противодей-
ствующие и сопротивляющиеся всему тому, что они
считают чужеземным вторжением. Но что же дает
смысл их существованию, как не приток того ново-
го, без которого нашей французской культуре грози-
ла бы опасность превратиться вскоре в пустую фор-
му, в пораженную склерозом оболочку? Что им из-
вестно о французском гении? Что известно о нем
нам самим, кроме того, чем он был в прошлом? С на-
циональным чувством дело обстоит точно так же,
как и с церковью. Я хочу сказать, что, сталкиваясь с
гениями, консервативные элементы часто поступают
так, как церковь часто поступала со святыми. Во имя
традиции были отвергаемы и гонимы многие, кому
вскоре суждено было стать краеугольным камнем
этой традиции.
Я не раз высказывал свой взгляд на протекцио-
низм по отношению к интеллектуальным ценностям.
Думаю, что он представляет серьезную опасность, но
полагаю, что всякая попытка лишить ум его нацио-
нальных свойств представляет опасность не мень-
шую. Говоря это, я опять-таки высказываю мысль До-
стоевского. Нет другого писателя, который явился бы
столь национально-русским и в то же время столь
универсально-европейским. Лишь будучи столь спе-
цифически-русским, он может быть столь общечело-
веческим и может тронуть каждого из нас так свое-
образно.
«Старый русский европеец» — говорил Достоев-
ский о себе самом и заставлял говорить Версилова в
«Подростке»:
«Высшая русская мысль есть всепримирение идей.
И кто бы мог понять тогда такую мысль во всем ми-
ре? — я скитался один. Не про себя лично я говорю —
я про русскую мысль говорю. Там была брань и логи-
ка; там француз был всего только французом, а немец
359
всего только немцем: и это с наибольшим напряжени-
ем, чем во всю их историю, стало быть, никогда фран-
цуз не повредил столько Франции, а немец своей Гер-
мании, как в то именно время. Тогда во всей Европе
не было ни одного европейца! Только я один, между
всеми петролейщиками, мог сказать им.з глаза, что
их Тюильри ошибка; и только я один между всеми
консерваторами-отмстителями мог сказать отмстите-
лям, что Тюильри — хоть и преступление, но все же
логика. И это потому, мой мальчик, что один я, как
русский, был тогда в Европе единственным европей-
цем. Я не про себя говорю,— я про всю русскую
мысль говорю» *.
А немного дальше мы читаем следующее:
«Европа создала благородные типы француза, анг-
личанина, немца, но о будущем своем человеке она
почти еще ничего не знает. И, кажется, еще пока знать
не хочет. И понятно: они не свободны, а мы свободны.
Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда
был свободен.
Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз
может служить не только своей Франции, но даже и че-
ловечеству, единственно под тем лишь условием, что
останется наиболее французом, равно англичанин и не-
мец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть го-
раздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог,
получил уже способность становиться наиболее рус-
ским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец.
Это и есть самое существенное национальное различие
наше от всех»**.
В параллель к этому и чтобы показать вам, насколь-
ко Достоевский отдавал себе отчет в крайней опасно-
сти, которую могла бы представить для страны слиш-
* «Подросток >. Ч. III. Гл. 7. II.
** «Подросток». Ч. III. Гл. 7. III.
360
ком далеко зашедшая европеизация, я прочту следую-
щее замечательное место из «Бесов» **:
«Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с на-
чала веков, исполняли лишь должность второстепенную
и служебную; так и будут исполнять до конца веков. На-
роды слагаются и движутся силой иною, повелевающей и
господствующей, но происхождение которой неизвестно
и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания
дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это
есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения
своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как гово-
рит писание, «реки воды живой», иссякновением кото-
рых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое,
как говорят философы, начало нравственное, как отож-
дествляют они же. «Искание бога», как называю я проще.
Цель всего движения народного, во всяком народе и во
всякий период его бытия есть единственно лишь искание
бога, бога своего, непременно собственного, и вера в не-
го как в единого истинного. Бог есть синтетическая лич-
ность всего народа, взятого с начала его и до конца. Ни-
когда еще не было, чтобы у всех или у многих народов
был один общий бог, но всегда и у каждого был особый.
Признак уничтожения народностей, когда боги начинают
становиться общими. Когда боги становятся общими, то
умирают боги, и вера в них вместе со всеми народами.
Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда не
было еще народа без религии, то есть без понятия о зле
и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле
и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают
у многих народов становиться общими понятия о зле и
добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие
между злом и добром начинает стираться и исчезать» **.
#* «Бесы». Ч. П. Гл. 1. VII.
** «Население Океанийских островов погибает, оттого
что у него больше нет совокупности понятий, направляющих
его поступки, общего мерила для суждения о том, что хоро-
шо и что дурно» (Реклю. География. XIV. С. 931).
361
«— Не думаю, чтобы не изменили,— осторожно за-
метил Ставрогин: — Вы пламенно приняли (мои мыс-
ли) и пламенно (их) переиначили, не замечая того. Уж
одно то, что вы Бога низводите до простого атрибута
народности...
Он с усиленным и особливым вниманием начал
вдруг следить за Шатовым, и не только за словом его,
сколько за ним самим.
— Низвожу Бога до атрибута народности? — вскри-
чал Шатов: — Напротив, народ возношу до Бога. Да и
было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело Божие.
Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет
своего бога особого, а всех ссыльных на свете богов ис-
ключает безо всякого примирения; пока верует в то,
что своим богом победит и изгонит из мира всех осталь-
ных богов. Так веровали все с начала веков, все вели-
кие народы, по крайней мере, все сколько-нибудь отме-
ченные, все стоявшие во главе человечества. Против
факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы
дождаться Бога истинного, и оставили миру Бога истин-
ного. Греки боготворили природу и завещали миру
свою религию, то есть философию и искусство. Рим
обоготворил народ в государстве и завещал народам го-
сударство. Франция в продолжение всей своей длинной
истории была одним лишь воплощением и развитием
идеи римского бога».
«...Если великий народ не верует, что в ней одном
истина (именно в одном и именно исключительно),
если не верует, что он один способен и призван всех
воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же
обращается в этнографический материал, а не в вели-
кий народ. Истинный великий народ никогда не мо-
жет примириться с второстепенной ролью в человече-
стве, или даже с первостепенной, а непременно и ис-
ключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже
не народ».
А в заключение — следующее замечание Ставроги-
на, которое могло бы послужить выводом из предшест-
362
вующих: «Тот, кто теряет связь со своей землей, тот те-
ряет и богов своих».
Что в наши дни мог бы думать Достоевский о Рос-
сии и ее народе-«богоносце»? Мучительно об этом ду-
% мать... Предвидел ли он, мог ли он предчувствовать ны-
нешние бедствия?
В «Бесах» мы уже видим весь зарождающийся боль-
шевизм. Выслушаем хотя бы Шигалова, излагающего
свою систему и заканчивающего свое изложение таким
признанием:
«Я запутался в собственных данных, и мое заключе-
ние в прямом противоречии с первоначальной идеей, из
которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я
заключаю безграничным деспотизмом» *.
Послушаем еще Петра Верховенского:
«И начнется! Раскачка такая пойдет, какой еще мир
не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым
богам».
Разумеется, весьма неосторожно, а то и нечестно,
приписывать автору мысли, выражаемые действующи-
ми лицами его романов и повестей; но мы знаем, что
все они являются выразителями мысли Достоевского...
и как часто он пользуется даже незначительным лицом,
чтобы сформулировать ту или иную истину, которая
для него дорога. Не его ли собственный голос слышим
мы из уст второстепенного персонажа «Вечного му-
жа»,— голос, говорящий о том, что он называл «рус-
ской болезнью»?
«Я к тому, что в наш век в России не знаешь, кого
уважать. Согласитесь, что это сильная болезнь века,
когда не знаешь, кого уважать,— не правда ли?» **
Я знаю, что и среди того мрака, в котором мечется
сейчас Россия, Достоевский наверно продолжал бы на-
^* «Бесы». Ч. II. Гл. 7. II.
** «Вечный муж». Гл. XVI.
363
деяться. Может быть, он также думал бы (эта мысль не-
однократно проскальзывает в его романах и в его «Пе-
реписке»), что Россия приносит себя в жертву, как Ки-
риллов,-и что эта жертва, может быть, послужит на
пользу остальной части Европы, остальной части чело-
вечества.
в
151
КОРИДОН
Я
ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ
В 190... году скандальный судебный процесс вновь
поставил на повестку дня непростой вопрос об ураниз-
ме. Целую неделю в салонах и кафе ни о чем другом не
говорили. Устав от восклицаний и рожденных наобум
теорий невежд, упрямцев и глупцов, я захотел придать
основательность моим суждениям и, признавая только
за разумом право осуждать или оправдывать, отправил-
ся поговорить на эту тему с Коридоном. Я слышал, что
он не опровергает некоторых приписываемых ему про-
тивоестественных наклонностей. Мне хотелось убе-
диться самому в истине и узнать, что он скажет в свое
оправдание.
Последний раз я видел Коридона десять лет тому
назад. Тогда это был пылкий, мягкий и в то же время
гордый юноша, великодушный, всегда готовый помочь,
один взгляд которого вызывал уважение. Он с блеском
завершил медицинское образование, и специалисты
рукоплескали его первым работам. После окончания
лицея, где мы вместе учились, нас долго связывала тес-
ная дружба. Затем годы путешествий нас разлучили, и,
когда после возвращения из странствий я обосновался
в Париже, дурная репутация, которой ему стоили его
нравы, удержала меня от возобновления нашего зна-
комства.
Должен признаться, что, войдя в его квартиру, я не
испытал того неприятного чувства, которого опасался.
Впрочем, Коридон не внушает подобного чувства и
367
своей манерой одеваться: достойной и даже отчасти
нарочито строгой. Он провел меня в комнату, где я
тщетно искал те признаки женственности, которые
специалисты находят во всем, что имеет отношение к
извращенцам, утверждая, что никогда на этот счет не
ошибаются. Все же над его секретером из 1фасного де-
рева можно было заметить большую фотографию, изо-
бражающую фреску Микеланджело «Сотворение че-
ловека»: на ней обнаженный Адам, простертый во пра-
хе и послушный творящему персту Бога, обращает к
нему сияющий благодарностью взор. Коридон настаи-
вает на своей любви к произведениям искусства, так
что, если бы я вздумал удивиться его выбору, у него
всегда есть оправдание. На его рабочем столе стоит
портрет белобородого старца, в котором я тотчас же
узнал американца Уолта Уитмена: этот портрет пред-
варяет перевод его сочинений, недавно опубликован-
ный г-ном Базальжеттом. Г-н Базальжетт — автор так-
же биографии Уитмена. С этим объемистым трудом я
как раз недавно ознакомился, и он послужил мне по-
водом для начала разговора.
I
— После того, как я прочитал книгу г-на Базальжет-
та,— начал я,— мне кажется, что этот портрет не име-
ет достаточных оснований находиться у вас на столе.
Моя фраза была дерзкой. Коридон сделал вид, что
не понял ее. Я продолжал настаивать.
— Во-первых,— ответил он,— творчество Уитмена
остается достойным восхищения, как бы ни представля-
ли его нравы...
— Признайтесь все же, что ваше восхищение Уит-
меном весьма поубавилось после того, как гн Базаль-
жетт доказал, что ему не были свойственны нравы, ко-
торые вы ему с удовольствием приписывали.
— Ваш друг Базальжетт вовсе ничего не доказал;
все его рассуждения опираются на легко опровергае-
мый силлогизм:
368
Он исходит из принципа, что гомосексуализм —
противоестественная наклонность.
Поскольку Уитмен был совершенно здоров и перед
нами, собственно говоря, самый совершенный естест-
* венный человек, какого нам когда-либо предлагала ли-
тература...
— То, следовательно, Уитмен не был педерастом.
Вот, на мой взгляд, единственно возможный вывод.
— Но перед нами его произведения. Г-н Базальжетт
тщетно переводит «love» как «привязанность» или
«дружба», a «sweet» как «чистый» в тех случаях, когда
поэт обращается к «товарищу»... От его перевода все
страстные, чувственные, нежные, трепетные стихотво-
рения не перестают быть все того же порядка, то есть,
«противоестественными», как вы это называете.
— Я вовсе не говорю о «порядке»... Ну, а каков ваш
силлогизм?
— Пожалуйста:
Уитмена можно рассматривать как образец нор-
мального человека.
Следовательно, Уитмен был педерастом.
— Итак, педерастия — это нормальная склонность.
Браво! Остается доказать, что Уитмен был педерастом.
Один принцип против другого. Я предпочитаю силло-
гизм Базальжетта, он меньше противоречит здравому
смыслу.
— Важно не противоречить не здравому смыслу, а
истине. Я пишу статью об Уитмене, ответ на аргументы
Базальжетта *.
* Г-н Базальжетт, разумеется, имеет право (и его обязыва-
ет к тому французский язык) всякий раз, когда род в англий-
ском языке остается неопределенным, переводить, к примеру
«the friend whose embracing me» как «подруга, которая и т. д.»,
хотя при этом он вводит в заблуждение и себя самого, и чи-
тателя. Но он не имеет права, внеся изменения в текст, делать
на его основе выводы. С обезоруживающим простодушием он
признается, что сюжет с участием женщины в написанной им
биографии Уитмена — «чистый» вымысел. Его стремление
перетянуть своего героя в гетеросексуальную область столь
велико, что, когда он переводит слова «the heaving sea»,
369
— Вас так занимают подобные вопросы нравов?
— В достаточной мере, признаюсь. Я готовлю до-
вольно большую работу на эту тему.
— Значит, трудов Молля, КрафтчЭбинга, Раффало-
вича вам недостаточно!
— Они меня не удовлетворяют. Я хочу сказать о том
же, что и они, по-другому.
— Чем меньше говорят об этих вещах, тем лучше, и
зачастую они существуют только потому, что кто-то их
неловко пропагандирует — так мне всегда казалось.
Кроме их некрасивости всегда найдутся повесы, гото-
вые следовать именно тому примеру, который кто-то
намеревался осудить.
— Я не намерен ничего осуждать.
— Ходят слухи, что вы выступаете за терпимость.
— Вы меня не понимаете. Очевидно, я должен ска-
зать вам заглавие моего сочинения.
— Слушаю.
— Я пишу «Защиту педерастии».
— Почему бы не «Похвалу», раз на то пошло?
— Такое заглавие не вполне отвечает моей мысли.
Впрочем, я уже опасаюсь и того, как бы некоторые не
усмотрели своего рода вызов в слове «Защита».
— И вы посмеете опубликовать вашу книгу?
— Нет, не посмею,— ответил он очень серьезно.
«вздымающееся море», ему необходимо добавить «словно
груди» (С. 278), что по смыслу просто нелепо и к тому же глу-
боко противоречит поэтике Уитмена. Читая такой перевод, я
спешу сличить его с текстом в уверенности, что он... ошибо-
чен. Точно так же, когда мы читаем «смешавшись с толпой
очищающих яблоки, я требую то у той, то у другой поцелуя за
каждый найденный мной красный плод» (С. 93), женский
род, разумеется, вымысел Базальжетта. Подобных примеров
множество, а других нет, то есть нет таких, на которые мог
бы опереться Базальжетт. Поистине Уитмен словно обращает-
ся именно к нему, восклицая: «Я не таков, как вы думаете»
(С. 97). Что касается литературных искажений, то они на-
столько многочисленны и серьезны, что дают превратное
представление о поэзии Уитмена. Я знаю немного переводов,
которые так сильно искажали бы оригинал... но это рассужде-
ние завело бы нас слишком далеко и в другую область.
370
— Поистине, вы все одинаковы,— продолжал я по-
сле короткой паузы.— Вы хорохоритесь у себя в спаль-
не и среди вам подобных; но вне стен вашего дома, пе-
ред публикой ваша храбрость улетучивается. В глубине
души вы прекрасно чувствуете, что вас осуждают на за-
конном основании. Вы красноречиво протестуете впол-
голоса, но возвысить голос — выше ваших сил.
—Да, правда, в нашем деле не хватает мучеников.
— Тогда не произносите громких слов.
— Я употребляю те слова, которые необходимы. У
нас были Уайльд, Крупп, Макдональд, Эйленбург...
— И вам этого мало!
— О! Жертвы, да! Жертв сколько угодно! Но муче-
ников, ни одного. Все отрицали и будут отрицать.
— Что поделаешь, черт возьми! Перед лицом обще-
ственного мнения, перед журналистами и на суде вся-
кого охватывает чувство стыда и желание отступить.
— К сожалению, все молчат! Да, вы правы: утверж-
дать свою невинность ценой отрицания своей жизни
значит позволять торжествовать общественному мне-
нию. Как странно! У всех хватает смелости иметь свое
мнение, но признать свои нравы решимости нет. Все со-
гласны страдать, но никто не хочет быть опозоренным.
— Разве вы не такой, как все, если не осмеливае-
тесь напечатать вашу книгу?
Он немного помолчал, затем произнес:
— Быть может, осмелюсь.
— А если вас прижмет на суде какой-нибудь Квинс-
берри или Гарден, вы, конечно, предвидите, каким бу-
дет ваше поведение.
— Увы! Наверное, мне, подобно моим предшествен-
никам, не хватит силы духа и я стану все отрицать. Мы
не настолько одиноки, чтобы комья грязи, которые в
нас бросают, не запятнали кого-то другого, кто нам до-
рог. Скандал привел бы в отчаяние мою матушку, и я
бы этого себе не простил. Моя младшая сестра еще не
замужем и живет вместе с ней. Быть может, мой веро-
ятный зять постыдится сделать ей предложение.
— Так, черт возьми! Понимаю: вы признаете, что
эти нравы позорят даже того, кто их только терпит.
371
— Это не признание, а констатация факта. Вот по-
чему я бы хотел, чтобы в нашем деле появились муче-
ники.
— Кого вы имеете в виду?
— Того, кто выдержит натиск, кто, не хвастаясь и не
бравируя, стерпит осуждения и оскорбления. Вернее, я
бы хотел, чтобы достоинство, честность и прямота та-
кого человека были столь общепризнаны, что осужде-
ние не посмело бы его коснуться...
— Вот такого человека вам и не найти.
— Позвольте мне выразить пожелание, чтобы он на-
шелся.
— Послушайте! Между нами говоря, вы считаете,
что от этого будет какая-то польза? Какой перемены в
общественном мнении вы ждете? Согласен, что вас не-
сколько притесняют. Но если бы вас притесняли чуть
больше, было бы только лучше, поверьте. Эти гнусные
нравы, если не давать им волю, просто перестали бы су-
ществовать. (Я заметил, что он пожал плечами, но я
продолжал настаивать на своем.) Вы полагаете, что на
свет божий вытащено недостаточно мерзостей? По-мо-
ему, гомосексуалистам там и сям постыдно потакают.
Пусть довольствуются скрытой жизнью, поощрением со
стороны себе подобных. Но не добивайтесь для них от
порядочных людей ни одобрения, ни хотя бы снисхож-
дения.
— Все же я не могу обойтись без уважения этих лю-
дей.
— Что же делать? Измените ваши нравы.
— Дело в том, что я не могу их изменить. Вот дилем-
ма, для решения которой Крупп, Макдональд и многие
другие не нашли иного решения, кроме пистолетного
выстрела.
— К счастью, вам не свойствен подобный трагизм.
— Не могу в этом поклясться. Я бы просто хотел на-
писать мою книгу.
— Признайтесь, что здесь замешано немало гордыни.
— Ничуть.
— Вы культивируете вашу странность, не хотите ее
стыдиться и рады ощущать себя не таким, как другие.
372
Он снова пожал плечами и молча прошелся по
комнате. Затем, словно справившись с раздражением,
которое вызвали мои последние слова, заговорил,
вновь усевшись возле меня:
II
— Когда-то вы были моим другом. Помнится, мы
понимали друг друга. Зачем же сегодня вы иронизиру-
ете над каждой моей фразой? Разве вы не можете, не
скажу, одобрить меня, но хотя бы спокойно выслу-
шать? Вот так, как я спокойно говорю с вами... во вся-
ком случае, как я буду говорить, если вы станете меня
слушать.
— Простите меня,— сказал я, обезоруженный его
тоном.— Я и впрямь вас давно не видел. Да, мы были
близкими друзьями в то время, когда в вашем поведе-
нии никак не проявлялись ваши наклонности.
— А затем вы перестали со мной видеться, вернее,
вы порвали со мной.
— Не станем объясняться на этот счет. Давайте про-
сто поговорим, как раньше,— продолжал я, протянув
ему руку.— У меня есть время, и я готов вас выслушать.
Когда мы общались, вы были еще студентом. Скажите,
вы уже тогда все знали о себе? Говорите! Я жду от вас
исповеди!
В его обращенном ко мне взгляде начало возрож-
даться доверие, и он заговорил:
Когда я находился в интернатах при больницах, воз-
никшее сознание моей... аномалии вызвало во мне
смертельную тревогу. Бессмысленно утверждать, как
это делают некоторые, что педерастия — следствие раз-
врата и удел пресыщенных. Я не мог также признать се-
бя ни умственным, ни физическим уродом. Я был тру-
долюбив, вел очень целомудренный образ жизни и
имел твердое намерение после окончания больничной
практики жениться на одной девушке. Она уже умерла,
но тогда я любил ее больше всего на свете.
373
Я любил ее слишком сильно, чтобы отдать себе яс-
ный отчет в том, что я не желал ее. Я знаю, что неко-
торые с трудом допускают то, что любовь может не
всегда сочетаться с желанием. Мне об этом ничего не
было известно. Между тем, никакая другая женщина не
становилась предметом моих мечтаний и не пробужда-
ла во мне никаких желаний. Еще меньше меня привле-
кали девки, с которыми спешили развлечься почти все
мои приятели. Но тогда я не подозревал, что могу же-
лать кого-то другого и что вообще другие, не женщины,
могут стать объектом подлинного желания, и был уве-
рен в том, что мое воздержание похвально, бурно радо-
вался при мысли, что вступлю в брак девственником, и
гордился своей чистотой, не думая о том, что она мо-
жет быть обманчивой. Только постепенно мне удалось
понять себя. И я должен был признать, что все эти хва-
леные соблазны, которым я гордо противился, меня со-
вершенно не привлекали.
Итак, то, что я принимал за добродетель, было все-
го лишь равнодушием! Вот открытие, которое должно
повергнуть юную и достаточно благородную душу в
ужасную растерянность. Только работа спасала меня от
меланхолии, которая обесцвечивала и омрачала мою
жизнь. Вскоре я понял, что не способен жениться. Я не
мог ничего сказать моей невесте о причинах моей гру-
сти, и мое поведение с ней становилось все более дву-
смысленным и приводящим в недоумение. Вместе с
тем некоторый опыт, приобретенный в борделях, дока-
зал мне, что я не импотент и в то же время окончатель-
но раскрыл мне глаза.
— Раскрыл глаза на что?
— Мой случай казался мне очень странным (разве
мог я знать тогда, что он, напротив, очень распростра-
нен?). Я был способен испытывать сладострастие, но не
желание. Родители мои отличались отменным здоровь-
ем. Сам я был крепок и силен. По моему внешнему ви-
ду нельзя было догадаться о моем дефекте. Никто из
моих друзей о нем не догадывался. Я бы скорее пред-
почел, чтобы меня четвертовали, чем открылся бы ко-
му-нибудь. Но ломать комедию, изображать хорошее
374
настроение и веселье только ради того, чтобы не воз-
никло ни малейшего подозрения, становилось для меня
нестерпимо. Вскоре, в одиночестве, я окончательно
пал.
Серьезность и убежденность его тона усиливали
мой интерес.
— Сколько во всем этом воображения! — сказал я
мягко.— Просто вы были влюблены, следовательно, вас
мучили разные страхи. После свадьбы любовь превра-
тилась бы в нормальное желание.
—Да, я знаю, так говорят... Как я был прав, не веря
этому!
— Теперь вы, кажется, мало расположены к ипохон-
дрии. Как вы излечились от этой болезни?
— В то время я много читал. Однажды мне попалась
одна фраза, ставшая моим спасением. Она принадле-
жит аббату Гальяни. «Самое главное,— писал он г-же
д'Эпине,— не добиваться исцеления, но научиться жить
со своими болезнями».
— Почему бы вам не повторять эту фразу вашим
больным?
— Я говорю ее тем, кто не может выздороветь.
Эти слова, наверное, кажутся вам слишком простыми.
А я извлек из них мою философию. Мне оставалось
только узнать, что я не урод, не единичный случай, и
я вновь обрел уверенность и перестал быть себе про-
тивен.
— Вы рассказываете о том, как вы определили, что
вас мало привлекают женщины, но не говорите о том,
как обнаружились ваши наклонности..
— Это не слишком приятная история, я не люблю ее
рассказывать. Но вы меня внимательно слушаете, и, на-
деюсь, мой рассказ поможет вам не столь легкомыслен-
но, как прежде, смотреть на эти вещи.
Я заверил его если не в моем сочувствии, то, по
крайней мере, в почтительном внимании.
— Итак, вы знаете, что я был обручен. Я нежно лю-
бил ту, которая должна была стать моей женой, но лю-
бил любовью почти мистической, и, разумеется, по
375
неопытности не представлял себе, что можно любить
как-то иначе. У моей невесты был брат, моложе нее на
несколько лет. Я часто его видел, и он проникся ко мне
живейшей симпатией.
— Ах, вот оно что! — воскликнул я невольно.
Коридон строго посмотрел на меня. -••
— Нет, между нами не произошло ничего нечисто-
го; его сестра была моей невестой.
— Простите меня.
— Но представьте мое волнение, мое смущение,
когда однажды вечером, в минуту откровенности, мне
пришлось признать, что этот мальчик не только хотел
дружить со мной, но и просил моей ласки.
— Вы хотите сказать, вашей нежности. Как множе-
ство детей, черт возьми! И здесь мы, старшие, обязаны
быть бдительными.
— Что я и делал, клянусь вам. Но Алексис уже был
не ребенком, но подростком, полным грации и ума. Его
признания приводили меня в тем большее замешатель-
ство, что во всех его откровениях, во всех его наблюде-
ниях, которые он так рано, с удивительной проница-
тельностью делал над собой, я словно слышал собствен-
ную исповедь. Но все же ничто не оправдывало мою су-
ровость.
— Суровость?
— Да. Мне было страшно за нас двоих. Я говорил с
ним сурово, даже жестко и, что еще хуже, с преувели-
ченным презрением по отношению к тому, что я назы-
вал женоподобием и что было лишь естественным вы-
ражением его нежности.
— Да, в таких случаях деликатность не мешает!
— Я был столь далек от нее, что бедный ребе-
нок — да, это был еще ребенок — воспринял мою су-
ровость самым трагическим образом. Три дня подряд,
удвоив свою нежность, он пытался победить мой яко-
бы гнев. Я же демонстрировал все большую холод-
ность, так что...
— Продолжайте.
— Как! Разве вы не знаете, что Алексис Б. покончил
с собой?
376
— И вы смеете предполагать, что...
— О! Я ничего не предполагаю. Сперва говорили о
несчастном случае. Мы тогда отдыхали на природе: те-
ло нашли у подножия скалы... Несчастный случай? По-
* чему бы мне и не поверить в это? Но вот письмо, кото-
рое я нашел в изголовье моей постели.
Он выдвинул один из ящиков стола, дрожащей ру-
кой взял листок бумаги, бросил на него взгляд, затем
сказал: •
— Нет, я не стану читать вам это письмо; вы ста-
нете презирать бедного ребенка. Он писал мне в об-
щих чертах, но с какой страстью! о той тоске, в кото-
рую погрузил его наш последний разговор... в особен-
ности некоторые мои фразы. Спасением от подобно-
го физического томления,— воскликнул я, лицемерно
возмущаясь теми вкусами, в которых он мне призна-
вался,— станет, я надеюсь, большая любовь.— Увы! —
писал он мне.— Эту любовь я чувствую по отношению
к тебе, мой друг. Ты не понял меня; или, что еще ху-
же, понял и теперь презираешь. Я вижу, что стал для
тебя отвратителен, и с этой минуты испытываю отвра-
щение к самому себе. Если я не могу ничего изменить
в моей чудовищной природе, то могу, по крайней ме-
ре, освободить мир от нее... Потом четыре страницы
патетических излияний, характерных для этого возра-
ста. То, что мы с излишней легкостью назвали бы де-
кламацией.
Этот рассказ произвел на меня довольно тягостное
впечатление...
— Понимаю! — произнес я наконец.— То, что объ-
яснение в подобной любви было обращено именно к
вам,— вот поистине насмешка судьбы. Эта история, ко-
нечно, причинила вам боль.
— До такой степени, что я немедленно отказался от
мысли жениться на сестре моего друга.
— Но,— решил я закончить свою мысль,— я предпо-
читаю думать, что с каждым случается лишь то, чего он
заслуживает. Признайтесь, что если бы этот подросток
не почувствовал в вас возможного отклика на его пре-
ступную страсть, эта страсть...
377
— Быть может, какой-то темный инстинкт и впрямь
известил его о правде, но в таком случае очень жаль,
что тот же инстинкт не дал знать о том же мне самому.
— И как бы вы тогда поступили?
— Мне кажется, я бы исцелил бедного ребенка.
— Вы только что говорили, что от этою нет исцеле-
ния; вы процитировали слова аббата: «главное — не до-
биваться исцеления...».
— Да послушайте же! Я бы исцелил его так же, как
исцелился сам.
— То есть?
— Убедив его в том, что он не болен.
— Сейчас вы скажете, что извращение его инстинк-
та было естественным.
— Я бы убедил его в том, что уклонение его инстин-
кта в иную сторону было в высшей степени естествен-
ным.
— Значит, если бы все началось сначала, вы бы ему,
конечно, уступили.
— О! Это совсем другой вопрос. После того, как
проблема физиологии решена, встает вопрос морали.
Наверное, из уважения к его сестре, с которой я был по-
молвлен, я бы призвал его преодолеть эту страсть, как,
наверное, преодолел бы ее и сам. Но во всяком случае,
эта страсть перестала бы казаться ему чудовищной.
Случившаяся трагедия, которая окончательно открыла
мне глаза на себя самого, прояснив природу моей при-
вязанности к мальчику, трагедия, о которой я много ду-
мал, заставила меня... заняться тем, что кажется вам
столь достойным презрения. В память об этой жертве,
я захотел исцелить других жертв, страдающих от того
же недоразумения: исцелить так, как я уже сказал.
III
Полагаю, теперь вы понимаете, почему я хочу напи-
сать книгу. Единственные известные мне серьезные
книги на эту тему созданы врачами. С первых же стра-
ниц чувствуется нестерпимый запах больницы.
378
— Значит, вы собираетесь говорить не как врач?
— Как врач, как натуралист, как моралист, как со-
циолог и историк...
— Я не знал, что вы разбираетесь во всех этих нау-
ках.
— Просто я собираюсь говорить не как специалист,
а как человек. Обычно пишущие на эту тему врачи име-
ют дело с уранистами, которые стыдятся самих себя, с
жалкими, извращенными, больными существами. Толь-
ко такие обращаются к врачам. Как врач я, конечно, ле-
чу и таких. Но как человек я вижу и других, ни хилых,
ни жалких, и на них мне бы хотелось поставить.
— Ну, да, на нормальных педерастов!
— Совершенно верно. Поймите: гомосексуализм,
как и гетеросексуальность, включает все возможные
градации, все оттенки: от платонизма до похотливости,
от самоотречения до садизма, от радостного здорового
самоощущения до мрачной угрюмости, от простодушно-
го излияния чувств до рафинированной порочности. Ин-
версия — лишь дополнение. К тому же между крайним
гомосексуализмом и крайней гетеросексуальностью су-
ществует множество промежуточных стадий. Но обыч-
но нормальной любви наивно противопоставляется лю-
бовь, которая считается противоестественной. И для
большего удобства с одной связываются радость, благо-
родная или трагическая страсть, красота поступков или
творений ума, а с другой — всякая грязь и мерзость...
— Не горячитесь. Сафизм пользуется у нас бесспор-
ной благосклонностью.
Он был так возбужден, что не расслышал моего за-
мечания и продолжал:
— Что может быть смешнее, чем то, как всякий раз
во время судебного процесса по поводу нравов, газет-
чики благопристойно удивляются при виде мужествен-
ного вида обвиняемых! Разумеется, согласно обще-
ственному мнению, они должны быть в юбках. Вот,
смотрите, во время процесса над Арданом я вырезал из
газеты эту заметку:
Граф фон Гогенау, высокого роста, затянутый в ре-
дингот, гордого и рыцарственного вида, нисколько не
379
производит впечатление женоподобного мужчины. Это
совершенный тип гвардейского офицера, влюбленного в
свою профессию. А между тем над этим человеком бла-
городного и воинственного вида тяготеют самые серьез-
ные обвинения. Граф фон Динар тоже высокого роста...
— Точно так же,— продолжал Коридор,— даже са-
мым предубежденным зрителям Макдональд и Эйлен-
бург показались умными, красивыми, благородными...
— Короче говоря, во всех отношениях достойными
любовного желания.
Он на минуту смолк, и в его взгляде вспыхнула ис-
кра презрения, но он взял себя в руки и продолжал,
словно моя стрела не задела его:
— Мы вправе ожидать красоты от объекта желания,
а не от того, кто желает. Мне нет дела до красоты тех,
о ком я говорю. Если я обращаю внимание на их внеш-
ний вид, то чтобы показать, что они здоровы и мужест-
венны, вот, что для меня важно. Но я не утверждаю, что
таковы все уранисты; среди гомо-, как и среди гетеро-
сексуалистов, есть свои вырожденцы, уроды и больные.
Как врач я вслед за многими моими коллегами сталки-
вался с целым рядом тяжелых, жалких или трудных
случаев. Я не стану утруждать читателя рассказом о
них. Повторяю, моя книга будет посвящена здоровому
уранизму, или, как вы только что выразились, нормаль-
ной педерастии.
— Разве вы не заметили, что я употребил это выра-
жение в насмешку? Для вас было бы большой удачей,
если бы я начал употреблять его всерьез.
— Я не жду от вас любезности. Я предпочитаю при-
нудить вас к пониманию истины.
— Теперь шутите вы.
— Я не шучу. Держу пари, что менее чем через
двадцать лет слова «противоестественный», «противо-
природный» и т.д. больше не будут восприниматься
всерьез. Я считаю, что в мире есть только одна вещь,
которую можно назвать неестественной: это произведе-
ние искусства. Все остальное волей-неволей остается в
пределах естества и должно быть рассмотрено с точки
зрения не моралиста, а натуралиста.
380
— Слова, которые вы осуждаете, все же укрепляют
наши добрые нравы. Где мы окажемся, если вы отверг-
нете эти понятия?
— Мы не станем более безнравственными, и я бы
* даже сказал, если бы посмел: наоборот!.. Вы нас здоро-
во дурачите, господа гетеросексуалисты! Послушать
вас, так только отношения разных полов законны, по
крайней мере, «нормальны».
— Достаточно того, что эти отношения могут быть
нормальными. Тогда как все гомосексуалисты — люди
развращенные.
— Вы полагаете, что им неизвестны самоотречение,
самообладание, целомудрие?
— К счастью, их порой понуждают к этому законы
и опасение потерять уважение окружающих.
— А для вас счастье, что законы и нравы понужда-
ют вас к этому так мало.
— Да послушайте же! Есть же, наконец, брак, чест-
ный брак, то, чего нет у вас. Разговаривая с вами, я чув-
ствую, что уподобляюсь тем моралистам, которые ви-
дят в плотских утехах вне супружества грех и осужда-
ют все отношения, за исключением законных.
— О! Здесь я готов их поддержать и, раз вы меня к
этому побуждаете, быть еще непримиримее, чем они.
Из множества супружеских альковов, в которые я был
приглашен проникнуть как врач, я видел, клянусь вам,
очень мало чистых. И я бы не стал биться об заклад, что
больше изощренности, извращенности в том, что каса-
ется любовной механики, надо искать среди куртиза-
нок, а не среди некоторых «честных» супружеских пар.
— Вы невыносимы.
— Но если альков — супружеский, порок сразу же
обретает невинную белизну.
— Супруги могут делать то, что хотят, им это дозво-
лено. Вас такие вещи не касаются.
— «Дозволено»; да, мне больше нравится это слово,
чем слово «нормально».
— Меня предупреждали, что среди вам подобных
нравственное чувство странным образом извращено. И
до какой степени, поразительно! Вы как будто совер-
381
шенно забыли о естественном акте оплодотворения, ко-
торый освящен в браке и хранит великую тайну жизни.
— И вне которого любовь эмансипируется и превра-
щается в безумие, во всего лишь бесплодную фантазию,
в игру. Нет, нет! Я не забыл об этом, и именно на ко-
нечной цели я хочу основать свою мораль. ЛЗне оплодот-
ворения остается только удовольствие, а оно убеждает
с трудом. Но заметьте, что акт зачатия происходит не
часто, и достаточно одного каждые десять месяцев.
— Немного.
— Очень мало, тогда как природа предлагает гораз-
до больше затрат энергии. И... я не решаюсь продол-
жать...
— Не стесняйтесь! Вы уже столько всего сказали.
— Ну, что ж, пожалуйста: я полагаю, что далеко не
будучи единственно «естественным», акт зачатия в при-
роде, несмотря на самое удручающее изобилие матери-
ала, чаще всего представляет собой случайную удачу.
— Черт побери, объяснитесь!
— Охотно. Но здесь мы вступаем в область естест-
венной истории; с нее начинается моя книга. Если вы
готовы меня выслушать, я вам перескажу ее. Приходи-
те завтра. Я как раз приведу в порядок мои бумаги.
ВТОРОЙ ДИАЛОГ
На следующий день в тот же час я снова был у Ко-
ридона.
— Я уже хотел не приходить,— сказал я, входя.
— Я знал, что вы это скажете,— ответил он, пригла-
шая меня сесть,— и, тем не менее, прийдете.
— Вы проницательны. Но, видите ли, я пришел по-
слушать не психолога, а натуралиста.
— Не беспокойтесь, я буду говорить с вами как на-
туралист. Я тут собрал мои наблюдения. Если использо-
вать их все, трех томов не хватило бы. Но, как я сказал
вам вчера, медицинские наблюдения я оставляю в сто-
роне. Не потому, что они меня не интересуют. Просто
моя книга в них не нуждается.
— Вы говорите так, словно она уже написана.
— Во всяком случае, она уже составлена. Материа-
ла слишком много... Она будет состоять из трех частей.
— И первая будет посвящена естественной истории.
—Да, и ей мы посвятим наш сегодняшний разговор.
— Могу ли я узнать, что будет во второй части?
— Приходите завтра, мы поговорим об истории, ли-
тературе и изящных искусствах.
— А послезавтра?
— Тогда я постараюсь доставить вам удовольствие
как социолог и моралист.
— А потом?
— Потом я с вами распрощаюсь и предоставлю сло-
во другим.
— Хорошо, я вас слушаю. Говорите.
383
I
— Признаюсь, что сперва я принимаю некоторые
ораторские предосторожности. Я цитирую Паскаля и
Монтеня.
— Какое они имеют к этому отношение?
— Вот две фразы, которые я хочу поставить эпигра-
фами. Мне кажется, они задают правильный тон дис-
куссии.
— Посмотрим, что это за цитаты.
— Та, что из Паскаля, вам известна: «Я сильно опа-
саюсь, что эта натура — всего лишь первая привычка,
как привычка — это вторая натура».
— Действительно, я должен был догадаться.
— И я подчеркиваю слова: «Я сильно опасаюсь».
— Почему?
— Мне нравится, что он испытывает сильный страх.
Уверен, что было из-за чего.
—А Монтень?
— «Законы совести, порождаемые, по нашему мне-
нию, природой, имеют в качестве источника привычку».
— Я знаю, что у вас много книг. В хорошей библио-
теке можно найти все, что угодно, если поискать. Толь-
ко напрасно вы пытаетесь спрятаться за случайной
строчкой Паскаля, которую толкуете, как вам заблаго-
рассудится!
— Поверьте, что у меня был большой выбор. Вот, я
переписал и другие фразы, которые доказывают, что я
не искажаю его мысли. Читайте.
Он протянул мне листок, где были выписаны следу-
ющие слова:
«В натуре человека нет ничего, кроме природы, при-
чем животной. Все становится естественным. Утратить
можно только естественное». Или, если хотите...
И он протянул мне другой листок. Я прочитал:
«Скорее всего природа не может быть столь однооб-
разной. Стало быть, ее делает такой привычка, ибо она
сдерживает природу. И порой природа берет верх над
привычкой, хорошей или плохой, и человек действует
согласно инстинкту».
384
— Вы полагаете, что гетеросексуальность — всего
лишь дело привычки?
— Вовсе нет! Привычкой стало рассматривать толь-
ко гетеросексуальность как нечто естественное.
— Паскаль был бы польщен, узнай он, чему вы за-
ставляете его служить!
— Я не думаю, что извратил его мысль. Достаточно
понять, что выражение «против природы» вполне мож-
но заменить на другое: «против привычки». Если мы с
этим согласимся, то сможем, надеюсь, перейти к нашей
теме с меньшей предвзятостью.
— Ваша цитата — обоюдоострый меч. Я могу обра-
тить его против вас же: педерастия, завезенная из
Азии или из Африки в Европу, а во Францию — из
Германии, Англии или Италии, некоторое время рас-
пространяла среди нас свою заразу. Но, слава богу! ес-
тественная, здоровая гальская основа никогда не ис-
чезала, равно как и гальская галантность, веселость и
крепость*.
Коридон встал и в молчании прошелся по комнате.
Наконец он снова заговорил:
— Прошу вас, дорогой друг, не примешивайте сюда
национальный вопрос. Я бывал в Африке, где европей-
цы убеждены, что этот порок дозволен, и предаются
ему с большей свободой, чем у себя на родине, благо
для того предоставляется много возможностей, да и ме-
стные жители отличаются красотой. В результате му-
сульмане прониклись убеждением, что эти вкусы при-
несены к ним из Европы...
— Позвольте мне все же думать, что пример зарази-
телен; законы подражания...
— Разве вы не заметили, что они иногда действуют
в другом направлении? Вспомните глубокую мысль Ла-
рошфуко: «Есть люди, которые никогда бы не влюби-
* «Если существует порок или болезнь, неприемлемые для
французского духа, французской морали и здоровой основы
французской нации, то это, конечно, если называть вещи сво-
ими именами, педерастия». Ernest-Charles, Grande Revue (25
juillet 1910. P. 399).
385
лись, если бы никогда не слышали о любви». Подумай-
те о том, что в нашем обществе, в наших нравах все на-
целено на союз мужчины и женщины, все учит разно-
полой любви, все к ней призывает, провоцирует ее: те-
атр, книги, газеты, демонстративный пример взрослых,
картина того, что происходит в салонах, на улицах.
«Если после всего этого не влюбишься, значит, ты был
плохо воспитан»,— шутливо восклицает Дюма-сын в
предисловии к «Вопросу денег». Что же! Если подро-
сток поддается наконец на уговоры среды, вы не дума-
ете, что его выбор сделан под влиянием какого-то сове-
та, что его желание приняло предписанное направление
в силу общественного мнения! Но если, несмотря на
всевозможные советы, призывы, провокации он прояв-
ляет гомосексуальные наклонности, вы тут же обвиня-
ете какую-нибудь книгу, усматриваете чье-нибудь влия-
ние (и так вы рассуждаете в отношении целой страны,
целого народа). Это благоприобретенный вкус, утверж-
даете вы, результат, конечно, некоего внушения. Как
будто он не мог развиться сам по себе!
— Я не могу допустить, что такой вкус появляется
сам по себе у здорового человека, разве что у извра-
щенцев, вырожденцев и больных.
— И что же! Этот вкус, эту склонность, которые все
заставляет скрывать и все сковывает, которые не име-
ют права проявиться ни в искусстве, ни в книгах, ни в
жизни, которые, едва утвердившись, подпадают под си-
лу закона и оказываются пригвождены вами к позорно-
му столбу, становятся предметом шуточек, оскорбле-
ний, всеобщего презрения...
— Успокойтесь! Успокойтесь! Разумеется, ваш ура-
нист — великий изобретатель.
— Я не говорю о том, что он только и делает, что
изобретает. Просто когда он подражает, то потому, что
хотел подражать, потому, что пример потакал его тай-
ной склонности.
— Вы явно настаиваете на том, что этот вкус —
врожденный.
— Я просто констатирую факт... И позвольте мне за-
метить, что к тому же подобный вкус не передается по
386
наследству, поскольку может быть передан только в ре-
зультате гетеросексуального акта...
— Тонкая шутка.
— Признайте, что подобный вкус должен быть
очень силен, неистребим, пронизывать всю плоть, ска-
жем прямо: должен быть весьма естествен, чтобы ус-
тоять против публичных унижений и не исчезнуть. Не
находите ли вы, что он похож на источник, который, ес-
ли его пытаются перекрыть, начинает бить чуть поо-
даль, ибо его невозможно осушить. Свирепствуйте, все
будет тщетно! Перекрывайте! Подавляйте! Вам ничего
не удастся сделать.
— Да, я согласен, в последние годы сообщения в
прессе о подобных случаях растут с печальной быстро-
той.
— Все потому, что благодаря нескольким знамени-
тым процессам газеты решились заговорить о данном
предмете и делают это теперь регулярно. Гомосексуа-
лизм кажется более или менее распространенным в за-
висимости от того, насколько он всплывает на свет бо-
жий. На самом деле такой инстинкт, который вы назы-
ваете противоестественным, всегда существовал и был
во все времена и повсюду примерно так же силен, как
все естественные потребности.
— Повторите-ка фразу Паскаля: «все вкусы — при-
родны»...
— «По-видимому, природа не столь однообразна.
Стало быть, все дело в обычае, который понуждает при-
роду. И порой природа берет верх, и тогда человеком
управляет инстинкт...»
— Я начинаю вас лучше понимать. Но тогда вам при-
дется считать естественными также садизм, тягу к же-
стокости, к убийству, самые редкие, самые худшие ин-
стинкты... и вы не намного продвинетесь вперед.
— Действительно, я полагаю, что во всяком инстин-
кте кроется животное начало. Кошки, занимаясь любо-
вью, сочетают ласки с укусом. Но мы отклонились от
нашей темы. А вообще, я полагаю, что по не совсем по-
нятным причинам не уранизм, а гетеросексуальные от-
ношения чаще,связаны с садизмом... Если хотите, ска-
387
жем проще: существуют общественные и антиобщест-
венные инстинкты. Является ли гомосексуализм анти-
общественным инстинктом, об этом я рассуждаю во
второй и третьей частях моей книги; позвольте мне по-
ка не касаться этого вопроса. Для начала мне надо не
только признать гомосексуализм естественным явлени-
ем, но также попытаться объяснить его и понять, поче-
му он существует. Несколько предварительных замеча-
ний не были лишними, ибо предупреждаю вас: я соби-
раюсь сформулировать не больше не меньше, как но-
вую теорию любви.
— Черт побери! Значит, прежней вам не доста-
точно?
— Конечно, нет, поскольку в ней педерастия тракту-
ется как «противоприродная»... Мы живем, полностью
ослепленные и сбитые с толку очень старой, избитой
теорией любви, которую нам не приходит в голову об-
суждать. Эта теория проникла в естественную историю,
дала ложное направление множеству идей и наблюде-
ний. Боюсь, мне будет трудно избавить вас от нее за не-
сколько минут нашего разговора...
— Все-таки попытайтесь.
— То, что я собираюсь вам изложить, вытекает из
этой теории.
II
Он подошел к своей библиотеке и оперся о книж-
ные полки.
— О любви много писали, но теоретиков любви не-
много. По правде говоря, помимо Платона и собесед-
ников его «Пира», я признаю из них только Шопенга-
уэра.
— Недавно на вашу тему написал г-н де Гурмон...
— Я поражаюсь тому, что столь раскованный ум не
сумел разоблачить это последнее убежище мистициз-
ма, что столь ярый скептик не смог отрешиться от ме-
тафизических целей, которые предполагает теория,
превращающая любовь в томление всей природы, а
жажду спаривания — в тайную пружину жизни. Нако-
388
нец, меня удивляет то, что порой столь изощренный ум
не пришел к тем выводам, которые я собираюсь вам из-
ложить. Его книга «Физика любви» одушевлена единен
венной заботой: низвести человеческую любовь на уро-
• вень животных спариваний. Я называю такую заботу
зооморфизмом — теория, достойная антропоморфиз-
ма, который повсюду находит человеческие вкусы и
пристрастия.
— А ваша теория?
— Сейчас она предстанет перед вами, поначалу в
своей чудовищной, парадоксальной форме. Затем мы
ее немного отретушируем. Вот она: любовь — чисто че-
ловеческое изобретение, в природе любовь не существ
вует.
— То есть, вы хотите сказать вслед за гаом де Гур-
моном, что то, что мы называем любовью,— от начала
до конца всего лишь более или менее скрытый сексу-
альный инстинкт. Возможно, это не совсем верно, но,
уж, конечно, не ново!
— Нет, нет! Я хочу сказать, что антитеисты, которые
хотят заметить Бога огромным идолом под названием
«всеобщий инстинкт размножения», удивительным об-
разом заблуждаются. Г-н де Гурмон предлагает нам ал-
физику любви. Я же утверждаю, что знаменитый «сек-
суальный инстинкт», который неодолимо влечет один
пол к другому,— целиком их собственная конструкция,
что этот инстинкт не существует. .
— Ваш категорический тон меня не смущает. Что
значит ваше отрицание полового инстинкта? И в то вре-
мя, когда сама общая теория инстинктов подвергнута
сомнению в работах Леба, Бона и других.
— Я не предполагал, что вам известны прилежные
труды этих господ.
— Признаюсь, что я читал не все.
— И я обращался не к ученому мужу, но к вам, чув-
ствуя, что вы не совсем сведущи в естественной исто-
рии... Не оправдывайтесь: многим литераторам свойст-
венно это незнание. Не претендуя на то, чтобы дать оп-
ределение понятия «инстинкт», достаточно расплывча-
того, и, сознавая, что некоторые понимают «половой
389
инстинкт» как властную силу, действующую наподобие
хорошо отлаженного механизма*, «послушание коему
неизбежно», по выражению г-на де Гурмона, я все же
утверждаю: нет, этот инстинкт не существует.
— Вы, я вижу, играете словами. «В действительно-
сти,— пишет весьма тонко ваш Бон в недавно опубли-
кованной книжке,— опасность состоит не в том, что
мы пользуемся словом «инстинкт», но в том, что мы не
понимаем его значения и пользуемся им в качестве
объяснения» **. Я с ним согласен. Вы, конечно, допуска-
ете наличие полового инстинкта и, черт возьми, не мо-
жете поступать иначе. Просто вы отрицаете, что этот
инстинкт обладает тем автоматизмом, который ему по-
рой приписывают.
— И, разумеется, он ослабевает по мере восхожде-
ния по лестнице живых существ.
— То есть, вы хотите сказать, что человеку свойст-
венна наибольшая неопределенность.
— Мы не говорим сегодня о человеке.
— Четкий или нет, этот инстинкт присущ человеку;
он сыграл свою роль и достаточно проявил себя.
* «...Поскольку жуки-долгоносики обладают центральной
нервной системой, их враг, бугорчатая оса (cerceris), ограни-
чивается одним ударом жала; если двигательная система
зависит от трех нервных узлов, она жалит три раза; если от
девяти — девять раз. Так поступает пушистая аммофила (раз-
новидность осы), когда ей надо добыть для своих личинок гу-
сениц ночной бабочки, называемых обычно зелеными червя-
ми. Если укус в мозговой ганглии представляет опасность,
охотник ограничивается медленным пожевыванием, пока не
наступает нужная степень неподвижности» (см. цитирован-
ный труд Реми де Гурмона, с. 218. Он опирается на наблюде-
ния Ж.-А. Фабра. См. превосходную критику Маршала этой
теории в работе Бона «Новая психология животных», с. 101—
104). Почти весь этот диалог был написан летом 1908 г.; «Но-
вая психология животных» Бона еще не была опубликована,
и я еще не ознакомился с мемуаром Макса Вейлера «О моди-
фикации общественных инстинктов» (1907), теория которого
весьма близка той, что я здесь излагаю.
** Бон. Цит. соч. С. 121.
390
— Вот именно: достаточно...
Он задумался, поднес руку ко лбу, словно собираясь
с мыслями, затем продолжил, подняв голову:
— Под словами «половой инстинкт» вы понимаете
сочетание автоматических реакций или, во всяком слу-
чае, тенденций, прочно укорененных в низших живых
существах, но ослабевающих по мере того, как вы под-
нимаетесь по лестнице творения.
Дабы сочетание этих тенденций сохранялось, за-
частую необходимы определенные совпадения, по-
пущения, о которых я скажу после. Без них вся связ-
ка распадается. Этот инстинкт, если можно так вы-
разиться, не однороден, ибо жажда наслаждения,
ведущая у обоих полов к акту оплодотворения, не
связана, как вы знаете, неизбежно и исключительно
с этим актом.
Сейчас мне не важно, предшествует ли в ходе эво-
люции жажда наслаждения этой тенденции или следу-
ет за ней. Я охотно допускаю, что удовольствие вен-
чает всякий акт, в котором проявляется жизненная
активность, и в случае полового акта, в процессе ко-
торого происходит одновременно наибольшая растра-
та и торжество жизненной энергии, наслаждение до-
стигает оргазма... И, наверное, этот столь дорогостоя-
щий созидательный труд был бы невозможен без
столь замечательной награды, но наслаждение не до
такой степени связано с целью оплодотворения, что
не может отделиться от нее*, с легкостью эмансипи-
роваться. Начиная с этого момента наслаждение ста-
новится единственной целью, вне связи с заботой о
продолжении рода. Живое существо начинает искать
удовольствие, а не радеть об оплодотворении. Это су-
щество ищет удовольствие и заодно осуществляет оп-
лодотворение.
— Чтобы открыть столь замечательную истину, ко-
нечно, нужно быть уранистом.
* Во всяком случае среди «высших» видов живых су-
ществ.
391
— Возможно, и в самом деле не хватало человека,
которого бы не устраивала господствующая теория.
Шопенгауэр и Платон, заметьте, поняли, что должны
были в своих теориях считаться с уранизмом; они не
могли поступить иначе. Платон даже уделяет ему
столько внимания, что вас это, конечно не может не
тревожить. Что касается Шопенгауэра, чья теория в
настоящее время пользуется большим признанием, то
он рассматривает уранизм как исключение из правил.
Он хитроумно, но не точно объясняет это исключе-
ние, о чем я скажу позже. Признаюсь, что исключения
пугают меня как в биологии, так и в физике. Мой ум
не постигает, как может существовать естественный
закон, который не распространяется на все явления и
позволяет, даже понуждает выйти из-под своего кон-
троля.
— Таким образом, outlaw*, каким вы являетесь...
— ...согласен с тем, что попадает под запрет, что его
осуждают человеческие законы, обычаи его времени и
страны, но не согласен занимать в природе маргинала
ное положение. Это невозможно по определению. Гра-
ницы существуют лишь потому, что кто-то предписал
слишком узкие рамки.
— И ради вашего личного удобства вы предлага-
ете рамки по эту, а не по ту сторону любви. Отлич-
но! Могу ли я вас спросить: вы сами все это приду-
мали?
— Кое-кто мне помог. Например, чтение Лестера
Уорда навело меня на эту мысль, точнее, помогло ей
оформиться. Не бойтесь: я все объясню, и надеюсь на-
конец показать вам, что в моей теории не только нет
ничего подрывного, но что она придает Любви то вы-
сшее благородство, которое г-н де Гурмон с удовольст-
вием у нее отнимает.
— Час от часу не легче! Я вас слушаю... Но что за
автора вы назвали?
— Лестер Уорд — американский экономист и био-
* Человек вне закона (англ.).— Примеч. пер.
392
лог, проповедник гинекоцентристской теории. Я спер-
ва изложу вам его идеи. Благодаря ему мы обращаем-
ся к самой сути нашей темы.
III
— Андроцентризм, которому Лестер Уорд противо-
поставляет свой гинекоцентризм,— это едва ли теория,
во всяком случае теория, возникшая бессознательно.
Андроцентризм вошел в обычай, которому привычно
следуют натуралисты, когда рассматривают самца как
типичного представителя того или иного рода и первым
делом описывают именно его, отодвигая самку на вто-
рой план.
А Лестер Уорд исходит из положения, что в слу-
чае необходимости Природа могла бы обойтись без
самца.
— Очень любезно с его стороны.
— Я нашел у Бергсона — а я знаю, что вы им восхи-
щаетесь — фразу, которая может служить вам ответом:
«Двуполое поколение,— пишет он в «Творческой эво-
люции»,— это, быть может, излишняя роскошь в мире
растений» (с. 130). Без женского пола невозможно
обойтись. «Мужской пол,— говорит Лестер Уорд,— по-
явился на определенной стадии... с единственной
целью,— добавляет он проницательно,— обеспечить
скрещивание семян. Создание мужского пола было
первой игрой природы, своего рода спортивным состя-
занием».
— Спортивная игра или наказание, самец тем не ме-
нее существует. Куда хочет его сослать ваш гинекоцен-
трик?
— Мне пришлось бы изложить его мысль во всех де-
талях. Но вот отрывок, который вам объяснит смысл
его теории.
Он взял листок и прочитал:
«Нормальная расцветка птиц — расцветка птенцов и
самок. Расцветка самца — результат его чрезмерной
изменчивости. Самки не могут так меняться, они пред-
393
ставляют собой центр тяжести биологической системы,
ту «упрямую силу постоянства», о которой говорит Ге-
те. Самка — не только типичный представитель своего
рода, она — сам род» *.
— Не вижу в этом ничего особенного.
— Послушайте дальше: «Изменению или, как гово-
рят, прогрессу подвержен только самец, самке чужда
модификация. Поэтому так часто говорят, что самка
представляет наследственность, а самец — вариации».
И Уорд цитирует фразу У. К. Брукса: «Яйцо — это ма-
териальная среда, благодаря которой утверждается на-
следственный закон, а мужское начало — это средство
передачи новых вариаций» *. Прошу прощения за стиль:
это не моя вина.
— Продолжайте. Если мне интересен смысл, я не
обращаю внимания на стиль.
— Уорд делает вывод о превосходстве женского на-
чала. «Идея, согласно которой женский пол является
господствующим в природе, кажется невероятной,—
пишет он,— и только свободомыслящие, непредубеж-
денные люди, обладающие серьезными познаниями в
биологии, способны допустить эту идею». Ну, что же.
Если я не хочу ее «допускать», то потому, что понятие
превосходства кажется мне не достаточно философ-
ским. Мне довольно просто понять распределение ро-
лей. Полагаю, что и вам тоже.
— Продолжайте.
— В подтверждение сказанному Уорд предлагает
своего рода историю мужского начала, рассматривая
различные стадии эволюции животного мира. Если по-
зволите, мы проследим за его мыслью. Он обращает
внимание на то, что сперва это начало было едва разли-
чимо у кишечно-полостных с их гермафродитизмом.
Затем оно несколько оформилось, но входило, словно
крошечный паразит, в состав гораздо более представи-
тельного женского начала, прицепившись к нему в ка-
честве простого средства оплодотворения, наподобие
* Lester Ward. Sociologie pure. Т. П. Р. 28.
* Там же.
394
того, как некоторые женщины из диких племен носят
на шее изображение фаллоса.
Я не мог скрыть удивления, услышав столь неверо-
ятные вещи:
— И это действительно естественная история?
Ваш Уорд начинает издалека. Можно ли ему верить
на слово?
Коридон встал и направился к библиотеке.
— Эти виды живых существ были давно известны.
Автор «Петера Шлемиля», нежный Шамиссо, был од-
ним из первых, кто занимался этой темой. Вот два то-
ма Дарвина, опубликованных в 1854 г. и целиком по-
священных изучению киррипедов, которых долгое
время не отделяли от моллюсков. Большинство кирри-
педов — гермафродиты, однако Дарвин отмечает, что
среди них встречаются крошечные самцы, чье строе-
ние упрощено до такой степени, что они выполняют
только функцию носителей семени. У них нет ни рта,
ни пищеварительных органов, lia каждую самку при-
ходится три-четыре таких самца. Дарвин называет их:
дополнительные самцы. Они встречаются также среди
некоторых ракообразных паразитов. Вот, смотрите,—
и он открыл огромную книгу по зоологии,— это изо-
бражение омерзительной самки chondracanthus
gibbosus с крошечным, прилепившимся к ней сам-
цом...
Но мне из всех этих исследований нужно лишь то,
что служит моей теории. В моей книге я показываю,
что мужское начало, которое сперва было полностью
дополнительным, сохраняет — причем все больше и
больше — возможность вариаций, бесполезных для ро-
да и различных в' зависимости от индивида.
— Мне трудно следить за вашей мыслью, вы слиш-
ком торопитесь.
— Вам поможет Лестер Уорд: «Превосходство ко-
личества самцов над количеством самок — нормаль-
ное явление среди низших видов живых существ».
Согласен, но должен заметить: эти количественно
превосходящие самок самцы имеют только одну фун-
кцию: зачатие. Их количество — вот роскошь, кото-
395
рую позволила себе природа, ибо для оплодотворения
одной самки достаточно одного самца. Так что перед
нами — промах, чрезмерное изобилие, бесполезная
роскошь. По мере того, как на более высоких ступе-
нях живых существ количество самцов, пропорцио-
нальное количеству самок, уменьшается* эти беспо-
лезность, роскошь как бы концентрируются на одном
индивиде. Постулат Уорда: «Важно, чтобы ни одна
самка не осталась не оплодотворенной». Отсюда —
постоянное сверхпроизводство* мужского элемен-
та — сверхпроизводство самцов и семенного матери-
ала. Но в то время как самка, едва лишь оплодотво-
рено ее единственное яйцо, полностью посвящает се-
бя служению своему виду, самец остается свободен,
полон силы.
— Быть может, эта сила понадобится ему для за-
щиты вида и помощи самке, стесненной своим служе-
нием?
— Позвольте, я вновь призову на помощь Уорда.
«Нет ничего более ложного,— пишет он,— чем то рас-
пространенное под влиянием андроцентрической тео-
рии мнение, согласно которому так называемые «вы-
сшие» самцы употребляют свою обновляемую силу на
то, чтобы защитить и прокормить самку и ее потомст-
во». Далее следуют примеры. Читать?
— Вы дадите мне книгу. Пойдем дальше.
— Не так быстро. Почва еще не готова.
Он поставил на место тома Дарвина, вновь сел и
продолжал более спокойным голосом:
— «Важно, чтобы ни одна самка не осталась неопло-
дотворенной», это так! Но для оплодотворения одной
самки достаточно одного самца. Да что там! Достаточ-
но одного выброса семени, одного сперматозоида! А
между тем мужское начало повсюду преобладает. Ко-
личество самцов преобладает там, где самец во время
зачатия истощает свою силу. А по мере того, как это ко-
* Или почти постоянное: в конце данного диалога мы уви-
дим, что некоторые виды, как будто не подчиняющиеся это-
му закону, как раз подтверждают мою теорию.
396
личество уменьшается, каждый самец оказывается спо-
собен оплодотворить все большее количество самок.
Поразительная загадка, не так ли? Прежде чем обра-
титься к ее объяснению, рассмотрим ее последствия.
IV
— Что касается низших видов, то роковым по-
следствием того, что самка не спаривается (как, на-
пример, в случае киррипедов) с несколькими самца-
ми, не дает им приюта на своем теле или дает этот
приют самому ничтожному их количеству, является
то, что значительное число самцов будет лишено...
нормальной любви, ибо половой акт окажется им вос-
прещен. И это число намного превзойдет количество
тех самцов, что смогут познать «нормальное» удов-
летворение.
— Давайте перейдем к тем видам, где пропорция
самцов уменьшается.
— У них детородная сила увеличивается, и пробле-
ма теперь встает не перед массой, а перед отдельным
индивидом. Но проблема все та же: избыток оплодот-
воряющего вещества. Семени гораздо больше, чем по-
ля, которое надо засеять.
— Боюсь, что вы разыгрываете карту неомальтузи-
анцев: самцы должны несколько раз спариваться с од-
ной и той же самкой, несколько самцов — с одной сам-
кой...
— Но обычно самка после оплодотворения выходит
из игры.
— Понимаю: речь идет о животных.
— С домашними животными поступают просто:
оставляют одного жеребца на стадо кобыл, одного
петуха — на курятник, остальных самцов кастриру-
ют. Но Природа-то не кастрирует. Смотрите, как жи-
реют кастрированные животные: волы, каплуны хо-
роши только у нас на столе. Кастрация превращает
самца в своего рода самку: он обретает, вернее, со-
храняет ее типичные черты. И в то время, как у сам-
397
ки запасная сила расходуется на пользу вида, то во
что превращается эта сила у некастрированного сам-
ца? В материю, способную к вариациям. Вот ключ к
тому, что называют «половым диморфизмом», кото-
рый почти во всех так называемых «высших» видах
превращает самца в праздное украшение, произведе-
ние искусства, спортивное упражнение или — в игру
ума.
— Я нашел у Бергсона,— продолжал он, роясь в бу-
магах,— замечательный фрагмент, который еще лучше
все объяснит... А! Вот он: в нем речь идет о двух проти-
воположных феноменах, происходящих в живых тка-
нях, «анагенезисе» и «катагенезисе». «Анагенетическая
энергия,— пишет Бергсон,— призвана усиливать орга-
низм в процессе усвоения неорганических веществ.
Она созидает ткани. Напротив...» Впрочем, определе-
ние катагенезиса не столь четкое. Но вы, конечно, по-
няли: роль самки — анагенетическая, а самца — ката-
генетическая. Кастрация, ведущая к торжеству у самца
не находящей применения анагенетической силы, пока-
зывает, насколько естественна для него бесполезная
растрата силы.
— Однако избыток мужского элемента может
стать у кастрированных самцов поводом для вариаций
только при условии, как мне кажется, если этот эле-
мент не растрачивается. То есть, я хочу сказать, что
эти вариации находятся в прямой зависимости от воз-
держания.
— Думаю, что тут нет правила. Самые опытные зоо-
техники ограничивают одним разом в день выброс се-
мени у жеребца. Но даже если жеребец, с юных лет
предаваясь нерегулируемым совокуплениям, исчерпает
свою силу, он не утратит ни одной характеристики сво-
его диморфизма*. Ослабленная у кастрированного жи-
вотного, катагенетическая сила обладает у настоящего
самца первостепенной важностью.
* Этот диморфизм весьма слаб у представителей семейст-
ва лошадиных, но то, что я говорю, относится к любому се-
мейству.
398
— Можно привести пример теноров, которые, в том
случае, если живут половой жизнью, становятся не спо-
собны с прежним совершенством воспроизводить верх-
ние ноты...
— Во всяком случае, можно сказать, что среди
«высших» видов диморфизм достигает расцвета при
условии, что растрата семени сведена к минимуму.
Но воздержание не приносит самке никакой поль-
зы... А вот рядом с цитатой из Бергсона фрагмент
речи Перрье на ежегодном заседании пяти акаде-
мий в 1905 г. Он не говорит ничего особенного, но
все же...
— Читайте.
— «Если у низших живых существ яйцеклетки усва-
ивают эти ресурсы с такой жадностью, что разрушают
организм, в котором они сформировались, то ясно, что
у высших живых существ яйцеклетки противятся всяко-
му бесполезному развитию. Поэтому женский пол так
часто сохраняет признаки юных существ, в то время
как мужской пол через определенный период их утра-
чивает. Все, таким образом, сходится».
— Анагенезис.
— «Но в случае мужского пола мы имеем дело с
контрастами, противоречиями, парадоксами. Этот пол
имеет, впрочем, свои отличительные черты. Блестящие
уборы, роскошные средства соблазна представляют со-
бой, в сущности, пустое выставление напоказ мертвых
частей тела, признак неумеренной расточительности
организма, направленного вовне темперамента, которо-
му чужда бережливость».
— Катагенезис! Самый что ни есть!
— «У бабочек роскошно окрашены изысканные, но
совершенно безжизненные чешуйки... У птиц — омерт-
вевшие перья, и т.д.». Я не могу прочитать вам всю
речь.
— Да... Не так ли скульптура, живопись, искусство
в целом расцвело на тех частях древнегреческих хра-
мов, которые стали бесполезными?
— Да, так объясняют, например, появление тригли-
фов и метоп. Можно сказать, что эстетическим целям
399
служит лишь то, что бесполезно. Но мы отклонились от
предмета.
«Таким образом, женский пол,— заключает Пер-
рье,— отличается физиологическим предвидением, а
мужской пол — блестящим, но бесплодным изобили-
ем»...
— Не причина ли это естественного отбора? Ведь
Дарвин учит нас, что, подобно пению соловья, все рос-
кошные краски и удивительные формы служат лишь
тому, чтобы привлечь самку?
— Откроем вновь Уорда. Простите за множество ци-
тат, но теория, которую я излагаю, смела, и мне нужна
некоторая поддержка: «Самка — хранительница на-
следственных качеств. Вариации могут быть чрезмер-
ными... и потому нуждаются в регулировании. Самка —
залог равновесия в природе...»
И дальше: «В то время как голос Природы, возбуж-
дая в самце сильный голод, говорит ему: оплодотворяй!
самке она отдает иной приказ: выбирай!»
По правде сказать, я не верю в «голос природы». Из-
гнать Бога из творения и заменить его «голосами», это
не много! Сия красноречивая Природа похожа на ту,
что «боится пустоты». Научный мистицизм кажется
мне вреднее, чем религия... Ну, да ладно! Даже если по-
нимать слово «голос» в самом метафорическом смыс-
ле, я зсе равно не думаю, что он говорит самцу «опло-
дотворяй», а самке «выбирай». Им обоим он говорит
просто «наслаждайся». Это железы, органы подают го-
лос, требуют освобождения и использования по назна-
чению. Но управлять ими будет только сладострастие,
и ничего больше.
Что касается выбора, который делает самка, то его
проще допустить с точки зрения логики. Но в большин-
стве случаев ею овладевает самый ловкий из самцов, и
она просто вынуждена его выбрать.
На мгновение он замолчал, словно в замешатель-
стве, вновь зажег потушенную сигарету и продол-
жал:
— Мы в целом рассмотрели последствия перепро-
изводства мужского начала (и я предполагаю вер-
400
нуться к этому во второй половине моей книги, со-
держание которой изложу вам завтра, если хотите).
А теперь мы поищем причину.
V
Я называю расточительностью всякие затраты, не-
соизмеримые с полученным результатом. Я посвящаю
несколько страниц моей книги расточительности При-
роды. Избытку форм, избытку количества. Сегодня нас
будет интересовать последнее. Прежде всего избыточ-
ное количество яиц, затем — избыток семенного мате-
риала.
Большая белая дорида (разновидность морской
улитки) откладывает около шести сот тысяч яиц (по
подсчетам Дарвина, убежденного, что в действитель-
ности это число гораздо больше). «Между тем,— пи-
шет он,— этот вид не слишком распространен: несмот-
ря на постоянные поиски, я нашел под камнями всего
семь дорид» \ Ибо избыточное количество яиц вовсе
не означает широкого распространения вида; напро-
тив, этот избыток скорее означает трудность в дости-
жении результата, пропорциональную расточитель-
ности. «Между тем, самая распространенная ошибка
натуралистов,— говорит далее Дарвин,— состоит в
том, что они ставят количество представителей того
или иного вида в зависимость от его способности к
размножению» **. То есть, надо полагать, что если до-
рида будет откладывать на сотню яиц меньше, то она
вообще исчезнет как вид.
Далее Дарвин пишет о туче пыльцы, слетающей с
хвойных деревьев, о «густых облаках пыльцы, из кото-
рой лишь несколько семян случайно упадут на жен-
скую гамету». Если бы этими семенами руководил инс-
тинкт, направляющий их к цели, невозможно было бы
ни объяснить, ни оправдать подобное изобилие. Но,
* «Путешествие натуралиста». С. 216.
** Там же.
401
быть может, при меньшем количестве мужского эле-
мента таинственный акт оплодотворения стал бы менее
удачным? *
Таким образом, можно предположить, что посто-
янный преизбыток в природе мужского элемента**
объясняется в некоторой нечеткости полового инс-
тинкта (если позволено допустить сочетание таких
слов, как инстинкт и нечеткость). Не придется ли нам
констатировать, что этот могучий инстинкт несколько
двойствен? И что Природу можно сравнить с нелов-
ким стрелком, который из опасения не попасть в цель
производит множество выстрелов вместо одного точ-
ного?
— Я не думал, что вы сторонник финализма.
— Действительно, меня больше интересует «как?»,
а не «почему?» Но зачастую эти два вопроса трудно от-
делить один от другого. Природа образует бесконеч-
ную сеть, бесконечную последовательность звеньев и
самое сложное — объяснить, заключается ли причина
появления вот этого звена в предшествующем или по-
* В конце этой части мы увидим, что, как только у неко-
торых видов инстинкт становится более четким, количество
мужского элемента уменьшается.
** «Самцы намного превосходят в количественном отно-
шении самок и, возможно, среди них лишь одному из ста уда-
ется выполнить свою миссию (!)», — признает г-н де Гурмон
(«Физика любви». С. 178), пересказав вслед за Бланшаром
«историю одного натуралиста, который, поймав и спрятав у
себя в кармане самку шелкопряда, вернулся домой в окруже-
нии тучи самцов».— «Заключенная в клешу самка павлинье-
го глаза может привлечь сотню самцов», — отмечает Гурмон
в другом месте (Гам же.). См.: Ч.Дарвин. Происхождение че-
ловека («О пропорциональном соотношении полов»): «У неко-
торых видов самцы столь многочисленны, что почти все оста-
ются холостяками. Среди маленьких серебристо-голубых жу-
ков hoplia cerulca, сидящих на таволге у воды и порой исполь-
зуемых в качестве украшений, встречается одна самка на
восемьсот самцов. У майских жуков (rhizotrogus astivus) —
также одна самка на триста самцов» (pdmond Perrier. Le
Temps. 1912).
402
следующем звене. Быть может, целую книгу Природы
следует читать с конца, быть может, последняя страни-
ца объяснит первую, последнее звено — потаенное на-
чало... Сторонник финализма — тот, кто читает книгу
с конца.
— Только без метафизики, прошу вас!
— Вы предпочитаете предшествующее звено? Вы
будете довольны, если какой-нибудь биолог ответит
вам, что причина перепроизводства самцов в недо-
статке пищи, предварительно доказав, например, сле-
дующее: что изобилие пищи ведет к увеличению чис-
ла самок (впрочем, я не уверен, что это должным об-
разом установлено*), но в природе такое изобилие пи-
щи встречается редко, во всяком случае длится
недолго. Допустим все же подобное изобилие. Со-
гласно излагаемой теории оно ведет к перепроизвод-
ству самок. Тогда либо часть их остается неоплодот-
воренной (что противоречит первому постулату Уор-
* Самые интересные наблюдения на эту тему принадле-
жат Фабру, который отмечает, что пчелы из рода осмия от-
кладывают яйца преимущественно того или иного пола в со-
ответствии с размером пространства, предназначенного для
будущих личинок. Известно также, что пчелы взращивают
маток, трутней и рабочих пчел в соответствии с размером
ячейки, созданной для яйца, и с характером той пищи, кото-
рой они кормят личинок. Самец — это minus habens.
Привожу также наблюдения В. Курда о ветвистоусых ра-
кообразных (приведенные Клаусом). «Самцы обычно появля-
ются осенью; но они могут появиться в любое время года и
всякий раз, как это только что было доказано, когда вследст-
вие изменения окружающей среды, биологические условия
становятся «неблагоприятными» (Зоология. С. 636). Г-н Рене
Вормс в замечательном исследовании «Пол и рождаемость во
Франции» делает вывод, что вопреки распространенному
представлению увеличение рождаемости мальчиков является
признаком бедности народа, что их количество сокращается
по мере роста благосостояния и, когда оно становится всеоб-
щим, уступает место превосходящему количеству рожденных
девочек. «Надо признать,— добавляет Эдмон Перрье,— что
этот вывод находится в полном согласии с моим собствен-
ным...» (Ed. Perrie. Le Temps. 1912).
403
да), либо (в том случае если все они сумели зачать)
следующее поколение, слишком многочисленное, ста-
нет причиной нехватки пищи, а это, в свою очередь,
приведет к увеличению числа самцов, и через два по-
коления равновесие будет восстановлено. Вообще в
Природе, если только значительная часть живых су-
ществ не оказывается внезапно истреблённой, никог-
да не будет слишком много пищи: на одну кормушку
всегда слишком много ртов.— Ну, что, вам нравится
такое объяснение?
— Как сказать... Попробуем рассмотреть последую-
щее звено.
— Возьмем его с другого конца: если половой ин-
стинкт недостаточен, да, недостаточен и не может
гарантировать продолжение рода, тогда избыток
самцов можно считать необходимой предосторож-
ностью...
— Скажем лучше, что те виды, у которых было не-
достаточно самцов, исчезли.
— Если хотите. Проделав путь в обратном направле-
нии, финалист и эволюционист оказываются в этом пун-
кте. Избыток самцов необходим для продолжения рода,
потому что половой инстинкт недостаточен.
— Но данное утверждение еще надо доказать.
— Сейчас мы в этом убедимся. Но прежде я бы
хотел поискать вместе с вами возможные причины
этой очевидной недостаточности, и несколько от-
клониться от моего сюжета. Будем продвигаться
шаг за шагом.
— Я следую за вами. Итак, вы сказали, что при
меньшем количестве мужского элемента акт оплодот-
ворения может оказаться не слишком удачным...
— Он становится дерзким предприятием. Налицо
два элемента: мужской и женский, которые надо сое-
динить. Двигатель процесса только один — наслажде-
ние. Но чтобы достичь этого наслаждения, сочетание
двух полов не обязательно. Самец необходим для оп-
лодотворения самки, но самка не обязательна для то-
го., чтобы самец получил удовлетворение. Знамени-
тый «половой инстинкт» диктует животному тот авто-
404
матизм, благодаря которому достигается наслажде-
ние, но направленность этого автоматизма столь рас-
плывчата, что Природе для достижения зачатия порой
приходится прибегать к таким хитростям, как, напри-
мер, изощренное по своей сложности оплодотворение
орхидей.
— Вы снова говорите как финалист.
— Но позвольте: творение налицо. Не знаю, мог-
ло ли его не быть, но оно есть. Остается его объяс-
нить и с наименьшими затратами. Мы имеем дело с
видами живых существ, которые воспроизводят
друг друга благодаря оплодотворению. Это, как я
уже сказал, сложное предприятие. Ставка очень ве-
лика и риск внушает такой страх, что избыток сам-
цов был необходим на случай многочисленных фи-
аско.
— Вот, видите, перед нами вновь намерение При-
роды.
— Вас сбила с толку моя метафора. Быть может,
существует Бог, но у Природы не существует никаких
намерений. Вернее, если есть, то они от Бога. У на-
слаждения нет цели, а между тем только оно ведет к
возможному зачатию. Но, предшествует ли наслажде-
ние этой тенденции или следует за ней, оно эмансипи-
руется, утверждаю я, не считается ни с чем, кроме
себя самого и становится самодостаточным*. Так
Шамфор называл любовь всего лишь «контактом двух
эпидерм».
— И «обменом двух причуд».
* Это также одно из развлечений самца, который, сыграв
свою роль в естественном отборе, затем занимается только
собой.
Напомню, что говорит Фабр о саранчовых (он мог бы
сказать то же о птицах): «Зачем этот звуковой аппарат? Не
буду отрицать, что он нужен для образования супружеской
пары. Но его основная функция состоит не в этом. Насеко-
мое использует свой звуковой аппарат прежде всего для то-
го, чтобы выразить радость жизни, воспеть сладость сущест-
вования...»
405
— Оставим человеку причуды, а животным — лишь
наслаждение от совокупления.
— Вы хотите сказать, что у человека половой инс-
тинкт ослаблен?
— Вовсе нет! Я хочу сказать, что без вспомогатель-
ных средств этот инстинкт остается неопределенным.
Нет уверенности в том, что самец выберет самку и
добьется оплодотворения. Повторяю, это трудное
предприятие, и Природа не достигла бы своих целей
без побочных обстоятельств.
VI
Слишком новая для меня его теория сперва привела
меня в замешательство, но я быстро с ним справился:
— Черт побери! Вы смеетесь! Отрицать половой ин-
стинкт, Коридон! Я не большой знаток естественной ис-
тории и не особенно склонен к наблюдениям, но в де-
ревне, где я осенью хожу на охоту, я видел, как псы
проделывали километровый путь из соседнего села и
проводили ночь под моим забором, посылая любовные
призывы моей собаке...
— Это, должно быть,' тревожило ваш сон.
— К счастью, такое длится лишь определенный пе-
риод.
— Вот как? Почему же?
— Потому что, слава богу, у моей суки не долго про-
должается течка.
Я тут же пожалел о сказанном: у Коридона появи-
лось такое насмешливое выражение лица, что мне ста-
ло боязно. Но я зашел слишком далеко и не мог пере-
стать отвечать на его вопросы. Он спросил:
— Сколько же времени она продолжается?
— Примерно неделю.
— И как часто?
— Два-три раза в год...
— А в другое время?
— Коридон, вы несносны! Что вы хотите, чтобы я
сказал?
406
— Что в другое время года кобели оставляют суку в
покое, как вы прекрасно знаете. Что вне периодов теч-
ки кобель не может совокупиться с сучкой (а это, кста-
ти, не так просто и в благоприятный период, отметим
мимоходом) — во-первых, потому что сучка его не под-
пускает, а во-вторых, потому что кобель не испытывает
ни малейшего желания*.
— Вот видите! Разве не половой инстинкт предуп-
реждает их, что в это время оплодотворения не про-
изойдет?
— Какие образованные твари! Разумеется, ваши
ученые собаки предаются воздержанию в обычное вре-
мя, движимые исключительно добродетелью?
— Многие животные спариваются только в период
течки.
— Вы хотите сказать, что их самки допускают спа-
ривание... Если, выражаясь поэтическим языком, суще-
ствует пора любви, то не для самцов (в частности соба-
ки, о которых мы говорим, и вообще домашние живот-
ные не придают большого значения времени года). Для
самца подходит любой сезон, а вот для самки — толь-
ко период течки. И только тогда ее желает самец**. Не
специфический ли запах, который издает самка, притя-
гивает в это время самца? *** Не этот ли аромат, а не ва-
ша сука, привлекал из соседнего села кобелей с тонким
* «В данном случае, как всегда у животных, спаривание
происходит лишь в период, когда у самок течка. В другое вре-
мя они не подпускают самца» (Samson. Zootechnie (Lutte des
ovides). II. P. 181).
** «Инстинкт размножения пробуждается у самца толь-
ко под влиянием запаха, который издает самка в течке. У
самки он появляется обычно в определенное время в резуль-
тате овуляции. После оплодотворения инстинкт размноже-
ния исчезает у нее на весь период вынашивания и частично
на период кормления потомства. У большинства наших до-
машних животных этот период длится в течение года»
(Samson. П. Р. 87).
* «Наступает активный период деятельности вагинальных
желез, их выделения издают специфический запах, который
сразу распознает нюх самца» (Samson. V. P. 181, 182).
407
нюхом и заставляла их бодрствовать, хотя они не мог-
ли к ней подойти?..
— И то, и другое. Поскольку аромата не было бы, не
будь суки...
— Позвольте с вами не согласиться. Установив,
что сука возбуждает кобеля свои запахом, мы устано-
вили затем, что этот запах возбуждает кобеля незави-
симо от конкретной суки. Не провести ли нам
experimentum crucis*, которым остался бы доволен
Бэкон?
— Что еще за эксперимент вы предлагаете?
— Тот самый, о котором столь откровенно, то есть
точно, повествует Рабле во второй книге «Пантагрюэ-
ля» (глава XXII). Мы узнаем, что Панург, желая ото-
мстить одной даме за ее холодность, поймал суку, у ко-
торой была течка, поджарил ее, вырезал у нее яичники
и, хорошенько растерев их, посыпал этим порошком
платье жестокосердной дамы. Далее передаю слово
Рабле.
Коридон, встал, взял с полки книгу и прочел мне
следующий отрывок:
— Все это, быть может, просто выдумка.
— Которая не может нас убедить? Но природа бес-
престанно предлагает нам столь же убедительные при-
меры **: этот запах так сильно привлекает, так волнует
* Решающий эксперимент (лат.),— Примеч. пер.
** Вот что сообщает Фабр: самка шелкопряда притягивает
множество самцов. Бабочки осаждают сетчатый колпак, под
которым заключена самка. Она же равнодушно сидит на ве-
точке в центре колпака. Если на следующий день Фабр заклю-
чает самку в другую клетку, то именно прежняя клетка и в
особенности веточка, на которой сидела самка, пропитанная
тонким запахом, привлекают претендентов. Хотя им прекрас-
но видна самка, которую Фабр помещает у них на пути, они
оставляют ее без внимания, стремятся к ветке, затем облеп-
ляют то место, где она находилась.
408
животных, что превращается во что-то большее, чем
стимул к совокуплению: он охмеляет, словно возбужда-
ющее средство, не только самца, но и других самок, пы-
тающихся как-нибудь приблизиться к самке в течке *.
Фермеры выводят из стада корову в течке, потому что
ее осаждают другие коровы **... Короче говоря: если са-
мец испытывает половое возбуждение от запаха, пери-
одически издаваемого самкой, то оно возникает толь-
ко в это время ***.
— Некоторые утверждают, и не без основания, на
мой взгляд, что самец, унося запах недавнего соития и,
следовательно, воспоминание о самке, может возбу-
дить других самцов.
— Было бы странно, если бы этот запах, исчезаю-
щий у нее так быстро, «сразу после оплодотворения»,
как пишет Самсон, сохранялся, будучи передан кобе-
лю****... Но дело не в этом! Уверяю вас, что я видел,
как кобели преследовали своей любовью других кобе-
лей, девственников, и это при каждой новой встрече, в
любое время.
* Я знаю одну сучку, которая прекрасно ладит с кош-
кой и котом. Когда кошка в течке, сучка возбуждается и по-
рой пытается взобраться на нее подобно тому, как это делает
кот.
** «Можно даже увидеть, как коровы в течке залазят
друг на друга. Быть может, они провоцируют таким образом
самца, а, быть может, под влиянием визуального образа пы-
таются подражать желаемому акту»,— пишет г-н де Гурмон,
который замечает несколькими строками выше: «Вообще,
аберрации животных следует объяснять как можно проще».
Затем он добавляет: «Это замечательный в силу своей абсур-
дности пример двигательной силы визуальных образов». Бо-
юсь, он более абсурден, чем замечателен («Физика любви».
С. 229^230).
*** «Некоторые животные затевают любовную игру с
самцами своего пола»,— довольно загадочно пишет Монтень
в «Апологии Раймонда Себонда».
**** Даже г-н де Гурмон знает, что «в нормальных услови-
ях покрытая самка должна сразу же перестать издавать свой
возбуждающий запах» («Физика любви». С. 179).
409
— Если излагаемые вами факты верны — а я не со-
мневаюсь в их точности...
— Еще бы!
— То как вы объясните, что они до сих пор не фи-
гурируют в Великой Книге Науки?
— Ну, прежде всего потому, что «Велцкой Книги»
не существует; затем по той причине, что вещи, о ко-
торых я вам говорю, очень мало изучены; наконец, по-
тому, что хорошо изучать — такая же редкость, как хо-
рошо думать и хорошо писать. Достаточно быть хоро-
шим наблюдателем, чтобы стать великим ученым.
Великий ученый — такая же редкость, как и любой
другой гений. Зато многочисленны полу-ученые, при-
нимающие традиционную теорию, которая их направля-
ет или сбивает с толку, во всяком случае, они «изуча-
ют» природу в согласии с этой теорией. Долгое время
все подтверждало мнение, согласно которому Природа
боится пустоты, все наблюдения. Все подтверждало и
то, что существует два разных электричества, притяги-
ваемых друг другу благодаря своего рода половому ин-
стинкту. И до сих пор все подтверждает теорию поло-
вого инстинкта... Вызывает смех изумление некото-
рых животноводов, констатирующих гомосексуальные
наклонности у своего вида. Все эти скромные «наблю-
датели», не желающие видеть ничего другого, кроме
того вида, которым они занимаются, констатируя по-
добные нравы, торопятся объяснить их как чудовищ-
ное исключение. «Представляется, что голуби в осо-
бенности (!) склонны к половым извращениям, если ве-
рить М. Ж. Байи-Мэтру, знающему птицеводу и хороше-
му наблюдателю» *, читаем в книге Хэвлока Эллиса, а
Муччоли, «авторитетный ученый в области изуче-
* Этот факт был замечен столь давно, что в старом «Сло-
варе домашнего хозяйства» Белеза можно прочитать в статье
«Голубь»: «Порой случается, что выводок, о котором должна
заботиться супружеская пара(?), оказывается на попечении
двух самцов или двух самок. О наличии двух самок можно су-
дить по двум кладкам светлых яиц, о наличии двух самцов —
по беспорядку в голубятне» (?!).
410
ния голубей (J) утверждает, что у бельгийских почто-
вых голубей можно наблюдать любовные игры между
самцами, проходящие даже в присутствии многих са-
мок».
— Так что же, значит басня Лафонтена «Два голу-
бя»?!.
— Не беспокойтесь, это французские голуби. Дру-
гие наблюдают подобные же нравы среди уток, так
как именно их они выращивают. Лакасань занимается
жеребцами и констатирует эти нравы у жеребцов.
А Бувар и Пекюше разве не усматривали их у куропа-
ток?.. Да нет ничего смешнее этих робких наблюде-
ний, разве что вывод, который из них делают, или то,
как их объясняют. Доктор X, констатируя частые спа-
ривания самцов майского жука, объясняет все эти
мерзости...
— Да, знаю: тем, о чем я только что говорил: только
недавно спарившийся с самкой самец, весь пропитан-
ный ее запахом, может стать приманкой для другого
самца...
— Уверен ли доктор X в том, что он утверждает?
Действительно ли только после спаривания самцы под-
вергаются в свою очередь осаде? Проводил ли он тща-
тельные наблюдения? Или, может быть, это его пред-
положения? Предлагаю провести следующий опыт: я
хочу знать, не будет ли лишенный обоняния кобель
осужден на...
— Однополую любовь?
— Во всяком случае на холостяцкую жизнь, на пол-
ное отсутствие гетеросексуальных желаний... Но из то-
го, что кобель желает сучку только тогда, когда она из-
дает определенный запах, не следует, что в остальное
время его желания спят. Отсюда следуют частые гомо-
сексуальные игры.
— Позвольте мне в свою очередь спросить вас: про-
водили ли вы тщательные наблюдения? Или это только
предположения?..
— Вы сами могли бы это заметить. Но я знаю, что в
большинстве случаев те, кто видит спаривание двух со-
бак, делают вывод о том, какого пола каждая из них
411
соответственно занимаемой ими позиции*. Позвольте
рассказать вам один случай. Дело было на одном из па-
рижских бульваров. Две собаки, совокупившись тем
жалким способом, который вам известен, пытались за-
тем оторваться друг от друга. Их разнородные усилия
весьма смущали некоторых зрителей, другие сильно ве-
селились. Я подошел поближе. Вокруг этой пары бро-
дили три кобеля, видимо, привлеченные запахом. Один
из них, более смелый или наиболее возбужденный, по-
теряв терпение, попытался взгромоздиться сверху па-
ры. Некоторое время он проделывал сложные акроба-
тические трюки... Нас было несколько человек, наблю-
давших за этой сценой по тем или иным причинам. Но
бьюсь об заклад, что я один заметил следующее: кобель
хотел оседлать только самца, на самку он не обращал
внимания. Поскольку самец был прикреплен к самке и
не мог сопротивляться, осаждающий кобель уже был
близок к цели... но тут появился полицейский и быстро
разогнал актеров и зрителей.
— Позвольте и мне спросить вас, не предшество-
вала ли теория, которую вы излагаете и которая, оче-
видно, соответствует вашему темпераменту, вашим
странным наблюдениям и не подвержены ли вы той
же слабости, в которой так резко упрекаете своих
коллег: не наблюдаете ли вы ради того, чтобы дока-
зать?
* «Самцы часто предаются таким же играм, раскачивая
тулозище и хватая лапами бока другого самца. В то время
как тот, кто сверху, делает быстрые вращательные движе-
ния, находящийся снизу, остается недвижим. Порой появля-
ется еще третий рассеянный (?!) и даже четвертый, и залазят
на первую пару. Тот, кто на самом верху, качается и быстро
перебирает передними лапами, другие не двигаются. Так они
на мгновение утешаются после того, как им отказала самка».
(/.-#. Fabre. Cerocomes. Т. III. P. 272).
О, Фабр! Терпеливый наблюдатель! Вы действительно на-
блюдали, что эти гомосексуальные игры начинаются после от-
каза самки? Вы уверены в том, что самцы спариваются толь-
ко после того, как их отвергли? Быть может, они предаются
этим играм спонтанно?
412
— Сперва надо признать: трудно предположить,
что наблюдение может быть случайным, что оно пред-
стает уму как непредвиденный ответ на вопрос, кото-
рым вы не задавались. Главное — не форсировать от-
вет. Удалось ли мне это? Надеюсь, хотя и не утверж-
даю: я могу так же ошибаться, как и другие. Я просто
требую, чтобы те ответы, которые мне нашептала или
прокричала Природа, были проверены. И я отмечаю,
что на вопрос, поставленный по-иному, она ответила
мне иначе *.
— Нельзя ли задавать ей вопросы не преднаме-
ренно?
— Что касается нашей темы, мне это представляет-
ся особенно трудным. Сент-Клэр Девиль, например, пи-
шет, что он наблюдал за тем, как козлы, бараны и псы,
помещенные вместе в отдалении от самок, начинают
волноваться и испытывать «сексуальное возбуждение,
которое не зависит от законов спаривания, и заставля-
ет их совокупляться». Обратите внимание, прошу вас,
на этот изысканный эвфемизм: «которое не зависит от
законов спаривания»! И Сент-Клэр Девиль добавляет:
«Достаточно привести самку, и порядок будет восста-
новлен». Уверен ли он в этом? Действительно ли наблю-
дал такое? Он убежден в том, что утверждает, но это
еще не означает истины... Приведенный пример взят из
отчета, представленного Академии нравственных наук
и посвященного «интернату и его влиянию на воспита-
ние юношества». Говорит ли Сент-Клэр Девиль как уче-
ный или только как педагог? И наконец, эта спаситель-
ная самка, которую он хочет привести на псарню или в
стойло, где не действуют «законы спаривания», непре-
менно должна быть в течке, иначе, как мы знаем, кобе-
ли к ней не приблизятся. Пусть приведет хоть два десят-
ка сучек, псы будут продолжать преследовать друг дру-
га, не обращая ни на что внимания.
* Какие наблюдения казались более точными, более про-
веренными, чем наблюдения терпеливого Фабра над пчелами
из рода осмия? А между тем ныне они полностью опровергну-
ты, во всяком случае, поставлены под сомнение Маршалом.
413
— Сент^Клэр Девиль, быть может, с самого начала
вел неправильные наблюдения.
— О чем вы говорите! Он с самого начала прекрас-
но заметил гомосексуальное поведение животных.
А дальше начинается его очевидный вымысел. Если бы
он продолжал свои наблюдения, то замети^ бы, что по-
явления одной или нескольких самок вовсе не доста-
точно, чтобы «восстановить порядок», разве что в тече-
ние одной недели в году, когда самки возбуждают сам-
цов. В остальное время года гомосексуальные игры
продолжаются «даже в присутствии многих самок», как
писал Муччоли.
— Быть может, вы называете сладострастными иг-
рами самые невинные жесты.
— Хотя эти игры весьма красноречивы, можно от-
метить, что животные не находят в них полного удов-
летворения или находят его очень редко. Каким же вла-
стным должно быть желание, которое влечет их тем не
менее к гомосексуальным играм.
— Вы, наверное, знаете,— сказал я неосторож-
но,— что и сучки, даже когда они в течке, не всегда
охотно исполняют желание самца. Сука, о которой я
рассказывал,— породистая. Я хотел иметь щенков.
С большим трудом мне удалось подобрать подходя-
щего кобеля, но сколько хлопот стоила случка! Спер-
ва моя собака убегала, кобель выбивался из сил,
преследуя ее, затем она казалась покорной, но все
равно отвергала его... Только через пять дней она по-
несла.
— Но позвольте,— ответил он с улыбкой,— разве
это против моей теории?
Отступать было некуда.
— Мои беспристрастные наблюдения должны по-
служить изучению вопроса.
— Спасибо... Да, все животноводы и птицеводы зна-
комы с этими трудностями. На фермах часто приходит-
ся устраивать случки, и Половой Инстинкт предстает
тогда в виде пастуха.
—А каков он в природном обличье?
414
VII
— Я уже битый час объясняю вам, почему мужской
элемент столь многочислен. Ваш знаменитый «поло-
вой инстинкт» предлагает изобилие вместо точности.
В домашнем хозяйстве оставляется только строго необ-
ходимое количество самцов, и человек должен управ-
лять спариванием, иначе есть риск остаться без потом-
ства. В курсе зоотехники Самсона не меньше девяти
страниц посвящено случке лошадей*, ибо жеребец,
объяснял он в Гриньоне своим юным ученикам, «часто
сбивается с пути», и потому, «как только он встал на
дыбы, конюх должен схватить его пенис и направить
куда следует» и т. д.
Но, как вы сами заметили, трудность состоит не
только в неловкости самца; самка со своей стороны
упирается и спасается бегством, приходится ее дер-
жать. Такой поразительной строптивости дают два объ-
яснения: первое состоит в том, что самке приписьгоают
чувства Галатеи, которая возбуждает самца притвор-
ным бегством; второе объяснение заключается в том,
что Галатее приписьгоают ощущения самки, которая од-
новременно желает и испытывает страх...
— Разве вам не кажется, что данные объяснения
имеют много общего?..
— Уверяю вас, что некоторые этого не замечают, и
г-н де Гурмон предлагает второе объяснение, противо-
поставляя его первому.
— У вас, конечно, есть третье.
— Разумеется. Вот оно: у самки половой инстинкт
столь же расплывчат,ччто и у самца... Да, она почувст-
вует себя довольной, только будучи оплодотворена. Но
если она предрасположена к оплодотворению в силу
тайной работы внутренних органов, то желаегто она,
пусть смутно, наслаждения, а не самца. Так и самец со
своей стороны желает не самку, а еще меньше — «про-
должения рода», но просто наслаждения. Оба стремят-
ся насладиться, и больше ничего.
* Fabre. Op. cit Т. 1П. Р. 214—223.
415
Вот почему мы так часто видим, как самка убегает
от самца и все же не может устоять перед наслаждени-
ем и возвращается к самцу, который один может доста-
вить ей удовольствие. Я согласен с тем, что они могут
испытать полное удовлетворение только благодаря друг
другу (во всяком случае самка — только благодаря сам-
цу) и что только при совокуплении их органы находят
совершенное применение. Но они об этом как будто не
ведают или ведают очень смутно, ибо смутным являет-
ся обычно любой инстинкт.
А чтобы произошло оплодотворение, надо хотя бы
один раз слить воедино два смутных желания. Потому
возникает тот притягательный запах, который в благо-
приятное время издает самка, или еще более тонкий
аромат, различимый лишь усиками насекомых и порой,
как в случае с некоторыми видами рыб, издаваемый не
самкой, но икринкой: оплодотворение происходит по-
сле кладки икры и оплодотворяется непосредственно
икринка. Самка же не знает любовных игр.
Такова единственная, на время и едва приоткрытая
дверь, и через нее должно просочиться будущее. Ради
столь трудной победы над беспорядком, над смертью
расточительность позволена тебе, Природа! Быть мо-
жет, здесь нет «неумеренных трат», ибо, учитывая ко-
личество неудач, победа стоит такой цены...
— Вы сказали «неудач»?
— Да, неудач с точки зрения конечной пользы. Но
благодаря таким неудачам расцветают искусство, фи-
лософия, торжествует игра. И как противостоят друг
другу анагенетическая и катагенетическая силы, так
противоположна приверженность самки к своему ви-
ду, а самца — к своему искусству, спорту, пению.
Есть ли драма прекраснее, чем та, в которой столк-
нутся эти две привязанности, породив возвышенный
конфликт?
— Не тема ли это нашей завтрашней беседы? А мне
бы не хотелось расстаться с естественной историей, не
задав вам еще несколько вопросов. Например, такой:
утверждаете ли вы, что гомосексуальные наклонности
встречаются у всех видов животных?
416
— У многих, но не у всех. Здесь мне не хватает
знаний... Тем не менее я сомневаюсь, что эти наклон-
ности встречаются у тех видов, у которых процесс
совокупления носит особенно трудный, усложнен-
м ный характер и требует максимум усилий, как, на-
пример, у стрекоз или у некоторых пауков, осущест-
вляющих своего рода искусственное оплодотворе-
ние, или наконец в том случае, когда сразу после или
даже во время спаривания самка пожирает самца...
Повторяю, здесь я ничего не утверждаю, я только
предполагаю.
— Странное предположение!
— Быть может, для его подтверждения достаточно
констатировать, что у тех видов, у которых совокупле-
ние носит акробатический или опасный характер, про-
порциальное количество мужского элемента меньше.
И здесь меня поражают слова Фабра: «Только во вто-
рой половине августа я начинаю обнаруживать взрос-
лое насекомое... С каждым днем все чаще встречают-
ся беременные самки. Их тощие спутники, напротив,
встречаются редко, и мне часто не удается составить
пару» *. Речь идет о mantis religiosa, которая всегда по-
жирает своего супруга.
Уменьшение мужского элемента перестает казать-
ся парадоксальным, если оно компенсируется четко-
стью инстинкта. Если любовник приносится в жертву
любовнице, необходимо, чтобы желание, влекущее
его к совокуплению, было властным и четким, и как
только желание становится четким, избытка самцов
уже не требуется. И наоборот, количество самцов*
должно возрастать, как только инстинкт ослабляется.
А инстинкт ослабляется, как только наслаждение пе-
рестает быть связанным с опасностью, во всяком слу-
чае как только достижение наслаждения становится
легким.
#* Там же. Т. V. Р. 291.
** Я хочу сказать, пропорциональное количество мужско-
го элемента: изобилие семенного материала возрастает, как
только совокупление перестает грозить гибелью самцу.
417
Таким образом, следующая странная аксиома: число
самцов уменьшается по мере того, как усложняется
процесс совокупления,— является лишь естественным
следствием того, о чем я уже говорил: избыток самцов
(или изобилие мужского элемента) компенсирует не-
четкость инстинкта или, если хотите, доказательством
нечеткости инстинкта служит изобилие мужского эле-
мента или еще...
—Я понял.
— Позвольте мне уточнить еще раз:
1. Инстинкт тем более четок, чем сложнее совокуп-
ление.
2. Количество самцов тем меньше, чем четче инс-
тинкт.
3. Отсюда следует: количество самцов уменьшается
по мере усложнения процесса совокупления (это отно-
сится к самцам, которых самка приносит в жертву люб-
ви). Очевидно, если бы был другой способ испытать на-
слаждение, эти самцы отказались бы от гибельного со-
вокупления, и вид исчез бы. Но, видимо, Природа не
дает им больше никакой возможности достичь удов-
летворения *.
* Следует отметить, что именно у вида богомола обыкно-
венного (mantis religiosa), несмотря на малое количество сам-
цов, самки пожирают их без всякой меры. Они всегда готовы
к совокуплению и притягивают самцов даже после оплодот-
ворения. Фабр наблюдал, как одна самка спарилась с семью
самцами, которых поочередно сожрала. Властный и четкий
половой инстинкт превосходит свою цель. Я, естественно, за-
даюсь вопросом: быть может, у тех видов, которые отяичают-
ся меньшей пропорцией самцов, большей четкостью инстинк-
та и, следовательно, меньшим количеством неиспользованно-
го материала, «подверженного вариациям», диморфизм слу-
жит женскому полу? Иначе говоря: не является ли внешний
вид самцов этих видов менее блистательным, чем внешний
вид самок? Так вот, именно это мы можем констатировать на
примере вида mantis religiosa, самец которого, «маленький,
тощий, бесцветный и непримечательный» (это эпитеты Фаб-
ра), не может конкурировать с «призрачной красотой» самки,
когда она разворачивает свои широкие, прозрачные, с зеле-
418
Повторяю, что это лишь предположения.
— Надо будет их обдумать. Чем лучше я вас пони-
маю, тем яснее вижу, что ваши выводы намного превос-
ходят ваши изначальные посылки. Я благодарен вам,
признаюсь, за то, что вы заставили меня размышлять о
вещах, в которые обычно предписывается верить имен-
но так, а не иначе. Итак, вот какое заключение я делаю.
Несмотря на ваши утверждения, половой инстинкт
существует и обладает властной и четкой силой. Но
только в определенное время он ведет к соединению
двух разных элементов. Для того чтобы поймать мо-
мент благорасположения самки, желание самца долж-
но быть постоянным. По вашему мнению, самец дейст-
вует бескорыстно, а самка — полна заботы о будущем.
Только гетеросексуальные отношения (животных) ве-
дут к оплодотворению.
— И самец не всегда удовлетворяется только ими.
— Мы давно не говорили о вашей книге. Делаете ли
вы какие-нибудь выводы в ее первой части?
—Да, и мой вывод я адресую сторонникам финализ-
ма: если, несмотря на почти постоянный преизбыток
мужского элемента, природе требуется столько
средств, столько ухищрений для того, чтобы обеспе-
чить продолжение рода, удивительно ли, что нужно
столько разного рода препятствий, чтобы удержать че-
ловечество от тех наклонностей, которые вы объявляе-
те «ненормальными», что нужно столько разного рода
ными прожилками, крылья. Фабр, впрочем, никак не коммен-
тирует это необычное распределение внешних качеств, кото-
рое подтверждает мою теорию. Я помещаю мои соображения
в сноске, так как они отклоняются от основного сюжета, но
мне бы не хотелось, чтобы они остались незамеченными: на
мой взгляд, они представляют очень большой интерес. Ра-
дость, которую я испытал, когда, завершив построение столь
новой и, признаюсь, столь дерзкой теории, я неожиданно на-
шел ей подтверждение, можно сравнить с радостью искателя
сокровищ из рассказа Эдгара По, который, копая землю, на-
ходит ящик с драгоценностями именно на том месте, где он
должен был находиться согласно его расчетам. Быть может,
я однажды опубликую другие наблюдения на ту же тему.
419
советов, примеров, призывов и убеждений, чтобы со-
хранить в человеческом обществе желаемый коэффи-
циент гетеросексуальное™.
— Позвольте мне верить, что эти стеснения и убеж-
дения приносят пользу.
— Я не стану вас переубеждать, но только до завт-
ра. Завтра мы рассмотрим наш вопрос не с зоологиче-
ской, а с человеческой точки зрения, и подумаем, не
намного ли превзошли меру все эти запреты и призы-
вы. Признайте все же, что гомосексуальные вкусы уже
не кажутся вам столь противоестественными, как нын-
че утром. На сегодня мне этого достаточно.
ТРЕТИЙ ДИАЛОГ
— Я много думал о нашем последнем разговоре,—
сказал я Коридону, войдя к нему на следующий день.—
Позвольте спросить, твердо ли вы верите в ту теорию,
которую мне вчера излагали?
— Во всяком случае я твердо убежден в реально-
сти фактов, которые лежат в ее основе. Что касает-
ся их объяснения, то я далек от того, чтобы считать
его единственно возможным или наилучшим. Но, ес-
ли позволите, это не имеет большого значения, на
мой взгляд. Я хочу сказать, что значение предложен-
ной новой системы, нового объяснения некоторых
явлений измеряется не только точностью, но также
и в особенности тем стимулом, которые новая тео-
рия дает уму, побуждая его к новым открытиям, но-
вым выводам (пусть даже они подрывают ее). Она
прокладывает новые пути, убирает препятствия, дает
новое оружие. Важно, что она предлагает нечто но-
вое и в то же время противостоит старому. Сегодня
нам может показаться, что сами основы теории Дар-
вина колеблются, но будем ли мы отрицать, что дар-
винизм способствовал развитию науки? Можно ли
сказать, что Де Врис опроверг Дарвина? Нет, как
нельзя сказать, что Дарвин или даже Ламарк опро-
вергли X.
— Послушать вас, так и Галилей...
— Позвольте заметить, что есть разница между
уточнением фактов и их объяснением. Объяснение
421
всегда несколько расплывчато, но оно часто предшест-
вует новым выводам, а не следует за ними. Иногда и да-
же зачастую мы видим, как теория опережает наблюди
ния, которые лишь впоследствии подтверждают смелое
предположение ума. Примите мои соображения как ги-
потезу. Я буду рад, если вы всего лишь признаете их но-
выми. Повторяю, факты налицо и их нельзя отрицать.
Что касается моего объяснения, я готов отказаться от
него, как только вы предложите другое.
I
Вчера мы установили,— продолжал он,— ведущую
роль обоняния, этого чувства, активизирующего инс-
тинкт животных. Благодаря обонянию неопределен-
ный инстинкт самца направляет его к самке — и ис-
ключительно к самке в течке. Не преувеличивая, мож-
но сказать, что «сексуальность» самца (говоря совре-
менным языком), его инстинкт продолжения рода
заключены в чувстве обоняния. Самец не выбирает
самку; как только она начинает издавать специфиче-
ский запах, самец просто бросается к ней, и при этом
нос служит ему проводником. Лестер Уорд в одном из
пассажей, который я вам не читал, настаивает на том
факте, что «все самки для самца едины», и, действи-
тельно, они все одинаковы, как мы видели. Только са-
мец подвержен вариациям и отличается теми или ины-
ми особенностями. У самки есть только одно средство
привлечь его — запах, другого ей и не нужно. Ей не на-
до быть привлекательной, лишь бы запах был соответ-
ствующий. Выбор — если только на самом деле он не
означает победу самого ловкого — выбор остается
привилегией самки. Если она выбирает согласно свое-
му вкусу, то тут начинается область эстетики. Уорд ут-
верждает, что именно самка отвечает за естественный
отбор, способствует тому, что он называет «расцветом
самца». Покамест я оставляю в стороне вопрос, не име-
ет ли место и в человеческом обществе то превосход-
ство красоты самца, которое, благодаря хорошему вку-
422
су самки, сохраняется в мире насекомых, птиц, рыб и
млекопитающих.
—А я как раз жду разговора об этом.
—Тогда, раз вам не терпится, отметим сперва сле-
* дующее: самец соловья расцвечен не более самки, но
она не поет. Расцвет самца состоит не обязательно в
красивой внешности, это прежде всего роскошь, и она
может проявляться как пение, особая ловкость, нако-
нец большой ум.
Но позвольте мне придерживаться той последова-
тельности, которую предлагает моя книга, а в ней я ка-
саюсь этого вопроса позднее.
— Разумеется, я вас понимаю. Вы откладываете
как можно дальше самые сложные для вас вопросы.
Будем надеяться, что вы до них дойдете. Я не остав-
лю вас в покое, пока вы не выскажете все ваши со-
ображения, не исчерпаете все ваши доводы. Теперь
же скажите, с чего начинается вторая часть вашей
книги.
— Прежде всего я констатирую, что обоняние, игра-
ющее столь важную роль в случках животных, не име-
ет никакого значения, разве что побочное, в сексуаль-
ных отношениях людей.
— Какой интерес представляет такого рода конста-
тация?
— Это различие представляется мне очень важным,
и у меня вызывает сомнение то, что гл де Гурмон, ни-
как не упомянув о нем в своей книге, никак не учиты-
вая его при уподоблении человека животным, действи-
тельно ничего не заметил. Быть может, он просто
решил не касаться этого различия или скрыл его для
собственного удобства.
— Между тем, возражения, насколько я знаю, ни-
когда не смущали мга де Гурмона. Быть может, он про-
сто не придал этому обстоятельству того значения, ко-
торое придаете ему вы.
— Надеюсь, вы согласитесь со мной, когда я опишу
вам последствия.
Итак, женщина больше не привлекает мужчину
периодически возникающим во время менструаций
423
запахом. Видимо, его заменяет что-то другое, другие
чары, естественные или искусственные, не завися-
щие от периода времени, от овуляции. Желанная
женщина остается желанной в любое время. Ска-
жем больше: если самец желает самку, а та подпу-
скает его только в период течки, то мужчина, напро-
тив, обычно воздерживается от соития в период,
когда у женщины месячные. Они не только не при-
влекают, но даже в какой-то мере отталкивают, не
важно, по каким причинам: физическим или нравст-
венным. Что бы ни лежало в этом временном отвра-
щении, которое вызывает плоть: пережиток древних
религиозных предписаний или рациональные сооб-
ражения — в этом пункте человек резко отличается
от животного.
И у человека сексуальное вожделение, оставаясь
столь же властным, что и у животного, ничем не огра-
ничено. Если у животного обоняние служит как бы ко-
ротким поводком, то человеку предоставлена полная
воля. Это первое освобождение влечет за собой другое.
Любовь (я не хотел бы употреблять это слово, но при-
ходится) тотчас же превращается в игру — причем в иг-
ру без правил.
— Надеюсь, это не означает, что каждый волен иг-
рать в нее, как захочет.
— Нет, ибо желание не становится менее властным.
Но игра может стать разнообразнее. Императив, остава-
ясь категорическим, обретает в каждом отдельном слу-
чае некоторые особенности. К тому же мужчина теперь
испытывает влечение не к любой особе женского пола,
а к определенной женщине.
«Нежные чувства животных так же отличаются от
нежных чувств людей, как отличаются природа живот-
ного и природа человека,— говорит Спиноза и далее
продолжает, имея в виду уже только людей: — На-
сколько отлична натура одного человека от натуры дру-
гого, настолько разнится характер их наслаждения —
adeo gaudium unius a gaudio alterius tantum natura
discrepat, quantum essentia unius ab essentia alterius
differt».
424
— После Монтеня и Паскаля — теперь Спиноза. Вы
умеете находить сторонников. Мне ничего не говорит
ваш «gaudium unius». «Я чувствую сильное опасе-
ние»,— как говорил Паскаль... Продолжайте.
Он на мгновение улыбнулся, затем снова заговорил:
II
— С одной стороны— постоянная привлекатель-
ность, с другой — отбор, совершаемый теперь не сам-
кой, но мужчиной... Не здесь ли ключ к тому, что жен-
ская прелесть необъяснимым образом превосходит
мужскую?..
— Что вы хотите сказать?
— Что на всей лестнице живых существ мы кон-
статируем явное превосходство красоты самца (чему
я пытался дать вам объяснение) и что неожиданное
нарушение этой иерархии на стадии человека должно
нас весьма озадачить. Что причины, которыми пыта-
лись объяснить это явление, маловразумительны или
просто неверны. Некоторые скептики утверждали,
что красота женщины — это следствие желания муж-
чины и что...
Я не дал ему договорить. Для меня было такой нео-
жиданностью, что он присоединился к доводам здраво-
го смысла, что поначалу я не понял его мысль. Но едва
она стала мне ясна, как я поспешил заговорить, чтобы
не дать ему возможности отказаться от нее.
— Вы вывели нас из затруднительного положения,
и я вам благодарен. Теперь я понимаю, что «постоян-
ная привлекательность» женщины начинается там, где
кончаются ее непостоянные чары. Быть может, нема-
лое значение имеет тот факт, что влечение возникает
у мужчины не вследствие запаха, но вследствие дру-
гого, художественного и менее субъективного чувст-
ва — зрения. Вот что служит развитию культуры, ис-
кусств...
Не переставая радоваться торжеству здравого смыс-
ла, я уже не мог остановиться:
425
— Весьма забавно, что именно уранист дает здравое
объяснение «превосходящей красоте прекрасного по-
ла», как вы говорите. Признаюсь, что прежде я только
смутно об этом догадывался. Теперь я могу смело про-
читать отрывки из речи г^на Перрье в Академии, кото-
рую вы дали мне вчера...
— Какие отрывки вы имеете в виду?
Вытащив брошюру из кармана, я прочитал:
«Когда видишь, как в лучах летнего солнца или в
свете канделябров на балу переливаются красками па-
радные платья (далее следует описание)... можно поду-
мать, что украшения — это изобретение исключитель-
но дочерей Евы... Мне думается, что, украшая их, се-
ребро, золото (перечисление), бриллианты (перечисле-
ние), цветы (перечисление), перья (перечисление),
крылья бабочки... мужчины еще не дерзнули «изобре-
сти» все эти украшения, олицетворение женского ко-
кетства: их изысканные, хитроумные, грандиозные
шляпы...»
— Вы должны его извинить: он наблюдал женщин в
собраниях.
— «Таков резкий контраст: в то время как, по край-
ней мере в наших цивилизованных странах, растет и
развивается извечная любовь женщин к украшениям,
мужчины становятся все более чужды всяким изы-
скам...»
— Я же вам говорил: расцвет самца не обязательно
проявляется в его внешнем виде.
— Дайте мне дочитать: «...темный костюм треть-
его сословия и тот кажется слишком обремени-
тельным: его облегчают, укорачивают, верхняя
часть превращается в простой пиджак, и на торже-
ственных собраниях мы в присутствии женщин ка-
жемся неприметными личинками на роскошных
цветах».
— Очень любезно с его стороны.
— «Данная эволюция весьма характерна; она отли-
чает человека от высших животных, как никакие дру-
гие физические или психические особенности. Эта пря-
мая противоположность тому, что мы видим в живот-
426
ном мире. Там мужской пол наиболее облагодетельст-
вован природой, что проявляется уже на стадии низших
живых существ, наделенных хоть какой-то активно-
стью».
— Вас смущал этот пассаж? Позвольте спросить, по-
чему?.. Мне кажется, он, напротив, должен был вам по-
нравиться.
— Не надо изображать невинность! Как будто вы
не понимаете, что Перрье, якобы восхваляя прекрас-
ный пол, на самом деле хвалит лишь его внешнее уб-
ранство \
— Ну, да, то, что я назвал «искусственной привлека-
тельностью».
— Это выражение с подвохом, но я понимаю, что вы
хотите сказать. Думаю, что наш ученый муж не слиш-
ком учтиво настаивает на этом пункте. Сказать женщи-
не: «у вас очаровательная шляпка» не то же, что ска-
зать: «вы прекрасны».
— Поэтому чаще всего говорят: как эта шляпка вам
идет! Но разве вас больше ничего не смущает? Я при-
поминаю, что в конце своей речи Перрье переходит от
убранства к его носительнице. Дайте-ка книжку... Вот:
«Вы победили, милые дамы, и эта победа — блеск ва-
шей кожи, кристальная чистота вашего голоса, мяг-
кость и изящество ваших движений и грациозные
очертания, вдохновившие нежную кисть Бугеро». Что
может быть приятней? Почему вы не прочитали эти
строки?
* Но столь же наивны и несколько строк Аддасона из
«Спектейтора» (Spectator, № 265):
«Известно, что в мире птиц природа в особенности по-
заботилась об украшении самца, у которого очень часто мы
видим красивейший головный убор: гребешок, хохолок, пу-
чок перьев или одно перо, торчащее наподобие шпица. У
нас, напротив, всеми прелестями природы украшена женщи-
на, и вдобавок она старательно пользуется искусственными
средствами украшения. Гордо выступающий петух не рас-
цвечен так ярко, как убранство британской леди, когда она
появляется на балу или на именинах...» (пер. с англ.) Где
здесь ирония?
427
— Потому что вы не любите Бугеро.
— Вы слишком предупредительны!
— Перестаньте насмехаться и скажите, что вы об
этом думаете.
— Признаюсь, что столько искусственных средств,
призванных на помощь природе, меня беспокоит. Я
вспоминаю Монтеня: «Не столько целомудрие, сколь-
ко расчет и предосторожность руководят нашими
дамами, когда они запрещают нам входить в их каби-
неты прежде, чем они украсят и принарядят себя, го-
товясь явиться в обществе». И я сомневаюсь, не приве-
дет ли откровенный показ женских прелестей, обычай
ходить повсюду обнаженными, как об этом мечтает
Пьер Луис в «Трифеме», к результату, противополож-
ному тому, который он предсказывает, а именно: не
охладит ли это в значительной мере желание мужчин.
«Хотелось бы знать,— писала мадемуазель Кино,— не
стали бы вы холодно и спокойно взирать на все то,
что, будучи скрыто от взора, рождает в вас столько
прекрасных и возмутительных мыслей, если бы вы
могли постоянно созерцать все потаенное; ведь тому
есть примеры». Наконец, на земле есть места, и очень
красивые, где мечта «Трифема» осуществлена (во вся-
ком случае, так было лет пятьдесят тому назад до по-
явления миссионеров), например, Таити. Там в 1835 г.
побывал Дарвин. На нескольких страницах он описы-
вает красоту местных жителей, замечая, в частности:
«Должен признать, что женщины меня несколько ра-
зочаровали; они далеко не так красивы, как мужчи-
ны...». Затем, отметив, что женщины восполняют недо-
статок красоты украшениями*, Дарвин заключает:
«В общем, мне показалось, что женщины выиграли бы
гораздо больше мужчин, если бы носили какие-нибудь
одежды».
— Я не знал, что Дарвин был уранистом.
* «Тем не менее у них есть милые обычаи, например,
обычай носить белый или красный цветок на затылке или
в проделанных в ушах отверстиях» («Путешествие натура-
листа»).
428
— Кто вам это сказал?
— Разве его фраза не достаточно ясна?
— Неужели я должен воспринимать всерьез то, что
пишет г-н де Гурмон: «Воплощением красоты является
• женщина. Всякое другое мнение всегда будет звучать
как парадокс или восприниматься как следствие самой
плачевной сексуальной аберрации».
— Наверное, это «всегда» задевает вас за живое?
— Впрочем, успокойтесь. Насколько мне известно,
Дарвин был уранистом не больше, чем многие другие
путешественники, которые при виде нагих дикарей вос-
торгались красотой молодых мужчин. Так, например,
Стивенсон, рассказывая о полинезийцах, признает, что
красота мужчин намного превосходит красоту женщин.
Вот почему мне важно их мнение, и я полагаю не как
пуританин, но как художник, что женщинам подобает
целомудрие, что покрывало им вполне подходит —
«quod decet».
— Тогда о чем же вы мне раньше говорили? Я имею
в виду ваше, на мой взгляд, верное замечание о преле-
сти прекрасного пола.
— Я хотел вместе с вами попытаться рассуждать
следующим образом: если самка делает выбор и произ-
водит естественный отбор, то это идет на пользу самцу;
если же выбирает мужчина, то, вероятно, это должно
идти на пользу женщине.
— Поэтому женская красота превосходит мужскую,
именно так я и понял.
— Вы слишком поторопились, я даже не успел за-
кончить свою мысль. Я как раз хотел обратить ваше
внимание на следующее: если в мире животных кра-
сота самца может быть передана только самцу, «жен-
щины передают многие свои черты, в том числе
красоту, своим детям обоего пола» (цитирую Дарви-
на*). Сильные и крепкие мужчины, беря в жены кра-
сивых женщин, способствуют расцвету своего рода,
появлению на свет одинаково прекрасных дочерей и
сыновей.
* «Происхождение человека».
429
— Обратите в свою очередь внимание на то, что,
рассуждая таким образом и преуменьшая женскую кра-
соту в пользу мужской, вы доказываете властную силу
инстинкта, который заставляет меня предпочитать
именно женщин.
— Или доказываю уместность украшений и покры-
вал.
— Украшения — лишь приправа. Что касается по-
крывала, то оно забавляет, возбуждает желание, отда-
ляя миг полного обладания... Если вы не чувствительны
к женской красоте, тем хуже для вас, мне вас жаль, но
не пытайтесь на основе мнения, которое, что бы вы ни
говорили, остается вашим частным мнением, устанав-
ливать общие эстетические законы.
III
— Так это на основе «частного мнения» древнегре-
ческая скульптура (а к ней нам придется возвращать-
ся, если мы говорим о красоте) предлагает нам обна-
женных мужчин и облаченных в одежды женщин?
Или вместо чисто эстетических причин вы вместе с г-
ном де Гурмоном склонны видеть «следствие самой
плачевной сексуальной аберрации» в том, что грече-
ское искусство почти постоянно оказывает предпочте-
ние телу подростка, юноши и упорно скрывает тело
женщины?
— Разумеется! Как будто мне не известно пагуб-
ное распространение педерастии в Греции! К тому
же, выбирая в качестве моделей подростков, скуль-
пторы, вероятно, просто потакали порочным наклон-
ностям развращенных меценатов. Можно предполо-
жить, что скульптор руководствовался не столько
своим художественным вкусом, сколько вкусами
тех, кому он служил. Наконец, мы теперь не можем
представить себе всех тех требований, условностей,
которые стесняли художника, определяли его выбор,
например, во время Олимпийских игр. Подобные
условности заставили и Микеланджело изобразить
430
на плафоне Сикстинской капеллы не женщин, но об-
наженных подростков,— из уважения к святости
места и дабы не пробуждать наших желаний. Вооб-
ще, если признать вслед за Руссо, что искусство ви-
• новно в поразительной развращенности греческих
нравов...
— Или флорентийских. Ведь бросается в глаза то,
что всякое возрождение или расцвет искусств всегда и
во всех странах сопровождались значительным распро-
странением уранизма.
— Следовало бы сказать, распущенностью.
— Когда дело дойдет до создания истории ураниз-
ма в его связях с изящными искусствами, станет оче-
видно, что он усиливается не в периоды декаданса, но,
напротив, в славные, пышущие здоровьем эпохи, ког-
да искусство отличается спонтанностью и далеко от
манерности. С другой стороны, мне кажется, что не
всегда, но зачастую — восхваление женщины являет-
ся признаком упадка в пластических искусствах. По-
добным же образом мы видим, что как только в теат-
ре, где прежде женские роли исполняли юноши, начи-
нают играть женщины, драматическое искусство при-
ходит в упадок.
— Вам нравится смешивать причину и следствие.
Упадок начался в тот момент, когда благородное драма-
тическое искусство поставило своей целью воздейство-
вать на чувства, а не на ум. Тогда-то, ради привлечения
публики, женщина и появилась на сцене, откуда вам ее
уже не согнать. Но вернемся к пластическим искусст-
вам. Мне вдруг вспомнился прелестный «Сельский кон-
церт» Джорджоне (в котором, я надеюсь, вы не стане-
те усматривать произведение эпохи декаданса), где,
как вы знаете, изображено небольшое общество на ло-
не природы: две обнаженные женщины и два одетых
молодых музыканта.
— С точки зрения пластики, красоты линий невоз-
можно утверждать, что тела этих женщин прекрасны;
too fat*, как говорил Стивенсон. Но какие светлые
* Слишком толстые (англ.).— Примеч. пер.
431
краски! Какое мягкое, глубокое, гармоничное сияние!
Если в скульптуре торжествует мужская красота, то
женская плоть в особенности передает игру красок.
Вот, подумал я при виде этой картины, противополож-
ность античному искусству: одетые юноши, обнажен-
ные женщины; почва, на которой расцвел этот шедевр,
должна быть весьма бедна скульптурными произведе-
ниями.
— И скудна в том, что касается педерастии?
— О! В этом отношении одно небольшое полотно
Тициана весьма красноречиво.
— Какое же?
— «Тридентский собор», где на переднем плане, но
несколько в стороне, в тени, изображена группа знат-
ных господ, по двое, в недвусмысленных позах. Воз-
можно, мы имеем дело с вольностью по отношению к
тому, что вы называете «святостью места», но скорее
всего, и нас убеждают в этом мемуары того времени,
подобные нравы были вполне обычны, и возмущали со-
временников не более, чем вооруженных алебардами
воинов, которые стоят на полотне Тициана бок о бок с
упомянутыми сеньорами.
— Я десятки раз смотрел на эту картину, не заметив
ничего ненормального.
— Все мы замечаем лишь то, что нас интересует.
Но должен сказать, что, как на этой картине, так и в
венецианских хрониках педерастия (впрочем, на по-
лотне Тициана речь идет скорее о содомии) не пред-
ставляется мне чем-то спонтанным. Она больше напо-
минает браваду, порок, особое развлечение людей раз-
вращенных, пресыщенных. И не могу не заметить, что
и венецианское искусство, далеко не народное и не
спонтанное, бурно расцветшее на почве, подобной
почве Древней Греции и Флоренции, ставшее, по выра-
жению Тэна, «дополнением окружающей неги», пре-
вратилось в развлечение магнатов, как и искусство
французского Возрождения во времена правления
Франциска I, столь женственное, купленное у Италии
по столь дорогой цене.
— Поясните вашу мысль.
432
IV
— Я полагаю, что восхваление женщины — признак
искусства менее естественного, менее связанного с
родной почвой по сравнению с тем, которое являют нам
великие эпохи творчества уранистов. Я также полагаю,
простите мою дерзость, что, как мужской, так и жен-
ский гомосексуализм — более естественны, просто-
душны, нежели гетеросексуальность.
— Вам легко торопиться с заключениями, посколь-
ку вас не беспокоит, успеваю ли я следить за вашей ло-
гикой,— сказал я, пожав плечами. Но он продолжал,
словно не расслышав меня:
— Это очень хорошо понял Баррес. Когда в «Бере-
нике» ему понадобилось изобразить существо, близкое
к природе, послушное лишь своим инстинктам, он изо-
бразил лесбиянку, подружку маленькой «Розовой свеч-
ки». Только воспитание поднимает ее до разнополой
любви.
— Вы приписываете Морису Барресу тайные наме-
рения, которых у него не было.
— Возможно, он не предвидел их последствий, вот
все, что вы можете сказать. В первых книгах вашего
друга, как вы знаете, даже изображение эмоций не
лишено преднамеренности. «Береника,— заявляет он
тоном поучения,— представляет для меня загадочную
силу, мировой импульс». Несколькими строками ни-
же он, по моему мнению, дает тонкое определение ее
анагенетической роли, когда говорит о «ясности ее
функции, которая состоит в том, чтобы оживотворять
все, что она воспринимает», и он противопоставляет
эту функцию категенетическому «беспокойству ее
ума».
Я плохо помнил содержание книги Барреса, и не
мог ничего сказать. А он продолжал:
— Любопытно узнать, не был ли знаком Баррес
со столь близким его мысли мнением Гете об ураниз-
ме, о котором сообщает канцлер Мюллер (запись от
апреля 1830 г.). Позвольте мне вам его процитиро-
вать:
433
«Goethe entwickelte, wie diese Verirrung eigentlich
dather komme, dass, nach rein aesthetischem Masstab,
der Mann weit schoner, vorzuglicher, vollendeter als die
Frau sei».
— У вас такое произношение, что я с трудом вас по-
нимаю. Пожалуйста, переведите. >
— «Гете объяснил нам, что эта аберрация происхо-
дит вследствие того, что с чисто эстетической точки
зрения тело мужчины гораздо красивее и совершеннее,
чем тело женщины».
— Но здесь нет ничего общего с тем, о чем пишет
Баррес,— воскликнул я в нетерпении.
— Погодите немного, мы подходим к главному:
«Подобное чувство, будучи пробужденным, близко к
животному инстинкту. Любовь к мальчикам — стара,
как мир (Die Knabenliebe sei alt wie die Menschheit,
und man konne daher sagen, sie liege in der Natur), и
можно сказать, что она естественна, что ее основа —
природа (ob sie gleich gegen die Natur sei), что она со-
гласуется с природой. Но нельзя терять то, что культу-
ра отвоевала у природы, любой ценой это нужно сохра-
нить (Was die Kultur der Natur abgewonnen habe, werde
щап nicht wieder fahren lassen; es um keinen Preis
aufgeben).
— Возможно, гомосексуальные нравы были так
глубоко укоренены в германском народе, что могли
показаться кое-кому естественными (на эту мысль
наводят недавние скандалы по ту сторону Рейна), но
для настоящего французского ума теория Гете всег-
да будет казаться, поверьте мне, совершенно неверо-
ятной.
— Если вы затрагиваете национальный вопрос, то
позвольте мне прочитать вам несколько строк из Дио-
дора Сицилийского *, насколько я знаю, одного из пер-
вых писателей, сообщающего нам о нравах наших пред-
ков. Вот что он пишет о кельтах: «Хотя их женщины ми-
ловидны, они к ним нисколько не привязаны и страст-
но любят мужское общество. Обычно они по двое
* Кн. V. 32.
434
заворачиваются в звериные шкуры, брошенные на зем-
лю, и так спят».
— Разве это не явное намерение опорочить тех, ко-
го греки называли варварами?
— В то время подобные нравы не могли опорочить.
Аристотель в своей «Политике» также бегло говорит о
кельтах. Сожалея о том, что Ликург пренебрег закона-
ми, касающимися женщин, Аристотель пишет, что это
приводит к большому вреду, «в особенности, когда
мужчины позволяют женщинам управлять ими, что
обычно происходит у воинственных, энергичных наро-
дов. Впрочем, я исключаю из их числа кельтов и неко-
торые другие народы: у них любовь между мужчинами
явно и открыто в чести» *.
— Если то, что рассказывают ваши греки, правда,
признайте, что мы далеко от них ушли!
— Да, мы испытали некоторое влияние культуры.
Именно об этом и говорит Гете.
— Значит, вы предлагаете мне рассматривать педе-
раста как человека отсталого, непросвещенного...
— Не совсем так, но гомосексуальный инстинкт —
это нечто очень наивное, первозданное.
— Вот где, вероятно, оправдание гомосексуальной
направленности древнегреческой и римской буколиче-
ской поэзии, в которой с большей или меньшей долей
искусственности якобы возрождаются простодушные
нравы Аркадии **.
* Аристотель. Политика. II, К. 7—8.
** «Так значит странная любовь, воспетая в элегиях антич-
ных поэтов, столь нас поражавшая и нам непонятная, сущест-
вует на самом деле, и впрямь возможна. В наших переводах
мы ставили женские имена вместо тех, которые там стоят.
Ювентий превращался в Ювентию, Алексис — в Ксанфу. Кра-
сивые мальчики становились красивыми девушками. Так мы
меняли состав чудовищного сераля Катулла, Тибулла, Марци-
ала и нежного Вергилия. Это весьма милое занятие, но оно по-
казывает, как мало мы понимали античный гений» (Gautier.
Mademoiselle de Maupin. Т. П. Chap. К. P. 13—14 (первое из-
дание).
435
— Буколическая поэзия стала искусственной в тот
момент, когда поэт перестал быть влюбленным в пасту-
ха. Но, возможно, произошло то же, что в арабской или
персидской поэзии: женщине было оказано предпочте-
ние, ради удобства... Из сказанного Гете для меня в осо-
бенности важно то, что он говорит о культуре, точнее
было бы сказать: о необходимости учиться гетеросексу-
ализму. Вполне вероятно, что мужчина-ребенок, муж-
чина, не затронутый влиянием культуры, стремится к
соприкосновению, ласке, а не к половому акту. Воз-
можно, что некоторых, даже многих смущает и оттал-
кивает тайна другого пола, тем более, что больше ника-
кие чары, никакой запах их уже не привлекает. (Как
видите, я опускаю довод касательно меньшей красоты,
ибо полагаю, что половое влечение не обязательно за-
висит от нее). И наверное, некоторых будет непреодо-
лимо влечь не противоположный пол, но свой собствен-
ный, как объясняет Аристофан, в «Пире» Платона. Но я
утверждаю, что, даже испытывая исключительное вле-
чение к противоположному полу, мужчина, предостав-
ленный самому себе, не сразу овладеет точными дви-
жениями, не всегда сможет их сам придумать и понача-
лу будет неловок.
— Любовь всегда служила вожатым влюбленному.
— Слепым вожатым, и раз вы употребили это сло-
во, которое я хотел пока приберечь, то надо добавить
следующее: влюбленный будет тем менее ловок, чем
сильнее он будет влюблен. Да, чем больше подлинной
любви входит в состав его желания, чем менее эго-
истично его желание, тем больше он станет опасаться
причинить боль любимому существу. И пока его не
научит какой-нибудь пример, хотя бы животных, ка-
кой-нибудь преподанный урок или предварительная
инициация, пока его не научит, наконец, сама возлюб-
ленная...
— Черт побери! Как будто желание влюбленного
не находит достаточного дополнения во взаимном чув-
стве!
— Я в этом убежден не более, чем Лонг. Вспомните
об ошибках, о первых нерешительных жестах Дафниса.
436
Разве этот неловкий влюбленный не испытывал нужды
в уроках какой-нибудь куртизанки?
— Все эти неловкости и длинноты, о которых вы го-
ворите, нужны затем, чтобы придать этому пустому ро-
ману какую-нибудь содержательность и заниматель-
ность.
— О, нет! За легким покровом жеманства в этой
замечательной книге скрывается глубокое знание то-
го, что 1>н де Гурмон называет «Физикой любви», и я
считаю историю Дафниса и Хлои образцом естествен-
ности.
— К чему вы клоните?
— К тому, что необразованные пастухи Вергилия
не ведали таких тяжких усилий, что «инстинкта» по-
рой и даже очень часто недостаточно, чтобы разре-
шить загадку другого пола. Для этого нужно приле-
жание. Таков просто мой комментарий к словам
Гете...
Вот почему у Вергилия в то время, как Дамет жалу-
ется на бегство Галатеи «в ветлы», Меналк делит с
Аминтом ничем не ограниченные утехи.
At mihi sese offert ultro, meus igni, Amyntas *.
«Когда влюбленный соединяется с возлюблен-
ным,— с удивительной точностью говорит Леонардо да
Винчи,— он отдыхает».
— Если разнополая любовь требует некоторых на-
выков, то признайте, что в наших городах и селах те-
перь есть множество учеников, владеющих этим ремес-
лом в возрасте гораздо более раннем, чем* возраст Даф-
ниса.
— И в то же время даже (вернее, в особенности)
в деревнях гомосексуальные игры довольно редки и
считаются предосудительными. Да, как мы отметили
третьего дня: все в наших нравах и обычаях толкает
один пол к другому. Сколько тайных и явных усилий,
чтобы убедить мальчика еще до пробуждения у него
* «Мне добровольно себя предлагает Аминт, мое пламя»
(пер. С. Шервинского).— Примеч. пер.
437
желаний, что удовольствие можно вкусить только с
женщиной, что вне ее нет наслаждения. Какое пре-
увеличение, вплоть до абсурда, притягательности
«прекрасного пола» одновременно с систематиче-
ским превращением мужского пола в нечто незамет-
ное, некрасивое, смешное! С этим явно не согласи-
лись бы одаренные художественным вкусом народы,
у которых в самые блистательные и достойные восхи-
щения эпохи чувство красоты возобладало над «ус-
ловностями».
— Я уже ответил на это.
— И вместе с г-ном Перрье, насколько мне по-
мнится, выразили восхищение постоянной заботой
об украшениях, благодаря которым вечная женствен-
ность повсюду и во все времена пытается пробудить
желание мужчины, восполнить недостающую кра-
соту.
— Да, то, что вы называете «искусственной привле-
кательностью». И что вы доказали? Что украшения жен-
щинам к лицу. Вы им польстили! Ведь, с другой сторо-
ны, нет ничего отвратительнее, чем разодетый и накра-
шенный мужчина.
— Повторяю еще раз: у красивого подростка нет
нужды в украшениях; греческая скульптура представля-
ет его прекрасным в своей наготе. Но высказанное
вами осуждение принимает в расчет только наши за-
падные нравы; вам, должно быть, известно, что на Вос-
токе не всегда разделяют ваше мнение*. Если вместо
того, чтобы делать подростка неприметным, невзрач-
* Так очаровательный Жерар де Нерваль рассказывает,
как он уже был готов воспылать любовью к двум «соблаз-
нительным танцовщицам» в одной из египетских кофеен,
«очень красивым, с горделивым выражением лица, подве-
денными глазами и нежными, пухлыми щечками». В тот мо-
мент, когда он «уже собирался, согласно чистейшим обыча-
ям Леванта, прилепить им ко лбу несколько золотых мо-
нет», он во время заметил, что эти красивые танцовщицы —
мальчики, достойные самое большее того, чтобы им «броси-
ли несколько медяков». (Gerard de Nerval Voyage en Orient.
T. I. P. 140—141).
438
ным, вы подчеркнете его красоту украшениями, то вы
получите то, о чем пишет Монтескье: «В Риме женщи-
ны не появляются на сцене; их роли исполняют одетые
в женский наряд кастраты. Это очень дурно влияет на
нравы, ибо ничто, насколько мне известно, не возбуж-
дает так в римлянах ту любовь, о которой писал Пла-
тон». И далее: «В мою бытность в Риме я видел в теат-
ре Капраника двух кастратов, Мариотти и Кьостра, оде-
тых как женщины. Это были прекраснейшие создания,
каких я когда-либо видел в жизни, пробуждавшие вку-
сы Гоморры в самых далеких от этих вещей людях.
Некий молодой англичанин страстно влюбился в од-
ного из них, приняв его за женщину, и пребывал в этом
заблуждении в течение месяца. Некогда во Флоренции
великий герцог Козимо Ш установил в театре те же
правила из соображений благочестия. Судите, какое
действие это произвело в городе, который был в этом
отношении новыми Афинами!» («Путешествие I.
С. 220—221). И Монтескье цитирует Горация: «Вилой
природу гони, она все равно возвратится» («Naturam
expelles furca, tamen usque recurret»), выражение, кото-
рому мы вольны придать любой смысл.
—Теперь я вас понимаю: для вас природа — это го-
мосексуализм, а то, что все человечество до сих пор
имеет наглость рассматривать как естественные и нор-
мальные отношения, для вас — искусственность. Право
же! Вы слишком смелы.
Он помолчал, затем ответил:
— Разумеется, мою мысль легко довести до абсур-
да. Но когда в моей книге она явится естественным
следствием высказанных только что посылок, то не по-
кажется слишком дерзкой.
Тогда я попросил его вернуться к позабытой нами в
течение некоторого времени книге. Он продолжал:
V
— Вчера я пытался доказать вам, что властный
«половой инстинкт» — не столь силен и четок у жи-
439
вотных, как это обычно утверждают, и я попытался
разобраться, что действительно скрывается за этим
общим понятием, каково в реальности функциониро-
вание обоняния, его сила, насколько вкус бывает
уклончив, насколько велика зависимость от внеш-
них факторов, от объекта. Я установил, что комп-
лекс устремлений, обозначаемых выражением «по-
ловой инстинкт», представляет собой крепкую связ-
ку лишь в тот единственный момент, когда запах
овуляции направляет самца и понуждает его к спари-
ванию.
Сегодня я сделал наблюдение, что чувства мужчи-
ны не зависят ни от какого запаха и что женщина, не
располагая подобными действенными средствами (я
имею в виду единовременную, но непреодолимую при-
тягательность самки), стремится быть постоянно же-
ланной и делает это искусно с одобрения, поощрения
и при содействии (во всяком случае, в наших европей-
ских странах) законов, обычаев и т. п. Я отметил
также, что зачастую искусственность и притворство
(благородной формой коего является целомудрие), ук-
рашения и покровы восполняют недостаток привлека-
тельности... Означает ли это, что иногда мужчин все
равно неудержимо влекут женщины без прикрас (или
какая-то одна женщина)? Нет, конечно! Но мы видим
и других мужчин, которые, несмотря на все ухищре-
ния прекрасного пола, несмотря на все предписания,
запреты, опасности, сохраняют непреодолимое влече-
ние к мальчикам. В общем, я утверждаю, что в боль-
шинстве случаев у подростка пробуждается желание,
не отличающееся четкими требованиями, что наслаж-
дение влечет его независимо от пола объекта, с кото-
рым оно связывается и что своими нравами он обязан
скорее внешним наставлениям, нежели своим наклон-
ностям. Если хотите, я утверждаю, что желание редко
получает четкое направление без поддержки опыта.
А первый опыт редко бывает продиктован подлинным
желанием. Легче всего сбиться с верного пути именно
в сексуальной области и...
— Пусть бы так оно и было! Я вижу, к чему вы
440
клоните: что если предоставить подростков самим се-
бе и снять внешние запреты, иначе говоря, если осла-
бить узду культуры, то гомосексуалистов станет еще
больше.
Мой черед процитировать вам Гете: «Нельзя терять
то, что культура отвоевала у природы, любой ценой это
нужно сохранить».
ЧЕТВЕРТЫЙ ДИАЛОГ
— Недавно появилась книга,— начал он,— вызвав-
шая некоторый скандал. (И признаюсь, что я сам, читая
ее, не мог порой удержаться от неодобрения.) Вам она
знакома?
Коридон протянул мне трактат Леона Блума «О
браке».
— Забавно слышать, что и вы в свою очередь выра-
жаете неодобрение. Да, я читал эту книгу. Она написа-
на умело и, стало быть, опасна. Евреи — мастера по рас-
шатыванию наших самых уважаемых установлений,
тех, что служат основанием и опорой нашей европей-
ской культуры. Взамен нам предлагают распущенность
и безнравственность, что, к счастью, чуждо нашему
здравому смыслу и нашему латинскому чувству обще-
жития. Мне всегда казалось, что в этом состоит, быть
может, отличительная черта их литературы, в частно-
сти, театра.
— Против этой книги возражали, но никто ее не оп-
роверг.
—Довольно возражений.
— Но проблема остается, и закрыть на нее глаза не
значит решить ее, как бы нас не возмущало то решение,
которое предлагает Блум.
— Какая проблема?
— Она непосредственно связана с тем, о чем я гово-
рил вам третьего дня: изобилие самца намного превос-
ходит потребности как репродуктивной функции друго-
442
го пола, так и воспроизводства вида. Расточительность,
к которой приглашает Природа, ставит некоторые про-
блемы и рискует превратиться в угрозу сложившемуся
общественному порядку, как его понимаем мы, евро-
пейцы.
— Отсюда эта тоска по сералю, которой проникнута
книга Блума. Но она чужда, повторяю, нашим нравам,
нашим установлениям, основанным на моногамии*.
— Мы предпочитаем бордель.
— Перестаньте.
— Скажем точнее: проституцию. Или адюльтер.
Другого выхода нет... Разве что повторять вслед за ве-
ликим Мальтусом: «Целомудрие — вовсе не вынужден-
ная добродетель, как полагают некоторые. Оно основы-
вается на требованиях природы и разума. Действитель-
но, эта добродетель — единственное законное средство
избежать пороков и несчастий, связанных с ростом на-
родонаселения» .
— Разумеется, целомудрие — это добродетель.
— На которую законы не слишком полагаются, не
так ли? Я хотел бы в моей книге прибегнуть к дово-
дам добродетели лишь в последнюю очередь. Леон
Блум, не взывающий к добродетели, но занятый по-
исками общественного неблагополучия, возмущен
тем униженным положением, до которого при попу-
стительстве законов доведено в борделе покорное су-
щество. Полагаю, что мы можем разделить его
скорбь.
— Можно вспомнить и об опасности для здоровья
общества, возникающей, как только проституция выхо-
дит из-под гнусного контроля государства.
* Характерно высказывание Наполеона: «Женщина дана
мужчине для того, чтобы рожать детей. Но одной женщины
для этого недостаточно: она не может быть женой мужчины,
когда кормит грудью или болеет, она перестает быть его же-
ной, когда утрачивает способность рожать детей; стало быть,
мужчина, который по своей природе не ограничен ни возра-
стом, ни другими препятствиями, должен иметь несколько
жен» (Мемориал. Июнь 1816).
443
— Поэтому Блум предлагает направить наши муж-
ские аппетиты на молодых девушек, честных и поря-
дочных, готовящихся стать женами и матерями.
—Да, именно это показалось мне просто чудовищ-
ным и заставило сомневаться, посещал ли он когда-ни-
будь настоящее французское общество или знаком
только с левантийским.
— Я думаю, что ни один католик не решится же-
ниться на девушке, прошедшей предварительное обуче-
ние у еврея. Но если вы возражаете против всех реше-
ний, которые вам предлагаются...
— Скажите свое, я заранее трепещу, догадываясь о
нем.
— Не я его придумал. Это решение, которое востор-
жествовало в Греции.
— Черт возьми! Мы у цели.
— Умоляю вас выслушать меня спокойно. Я хочу на-
деяться, что между людьми одинакового воспитания,
одинаковой культуры всегда возможно некоторое взаи-
мопонимание, несмотря на все различие темперамен-
тов. С самого раннего детства вас учили так же, как и
меня, и научили почитать Грецию. Мы ее наследники.
В нашей школе и наших музеях произведения древних
греков занимают почетное место. Нас призывают при-
знать их творения тем, чем они в действительности яв-
ляются: чудесами гармонии, спокойствия, мудрости и
безмятежности. Нам ставят их в пример, С другой сто-
роны, нас учат, что произведение искусства не возника-
ет случайно, что его объяснение, причину его возник-
новения следует искать в народе, в создавшем это про-
изведение художнике. Ибо созданная им гармония за-
ключается прежде всего в нем самом.
— Мне все это известно. Что дальше?
— Мы знаем также, что Греция блистала не только
в области пластических искусств. Во всех других про-
явлениях ее жизни мы находим то же совершенство,
довольство, гармоническую легкость. Софокл, Пиндар,
Аристофан, Сократ,. Мильтиад, Фемистокл или Пла-
тон — не менее замечательные представители Древней
Греции, чем Лисипп или Фидий. Душевный покой, ко-
444
торый приводит нас в восхищение в каждом художни-
ке, в каждом произведении искусства,— свойство все-
го народа Греции, прекрасного здорового растения.
Полный расцвет каждой ветви не повредил никаким
другим ветвям.
— Все это давно известно и не имеет ничего обще-
го с...
— Как! Вы не хотите понять, что существует пря-
мая связь между цветком и растением, между качест-
вом соков этого растения и его произрастанием? Вы
хотите, чтобы я допустил, что народ, способный пред-
ложить миру подобные воплощения мудрости, граци-
озной силы и блаженства, не умел управлять собой, не
умел исполнить такой же счастливой мудрости и гар-
монии прежде всего свою жизнь и свои нравы? Но как
только речь заходит о греческих нравах, о них начина-
ют сожалеть, от них с отвращением отворачиваются *;
не понимают или не хотят понять, допустить, что эти
нравы составляют неотъемлемую часть целого, что
они необходимы для функционирования общественно-
го организма и что без них прекрасный, вызывающий
восхищение цветок, был бы другим или его не было
бы вовсе **.
Если от общих рассуждений мы перейдем к конк-
ретным случаям и рассмотрим пример Эпаминонда, ко-
торого Цицерон называет величайшим человеком, рож-
денным в Греции, то мы увидим, что один из биографов
Эпаминонда (Валькенер), представляя его как «безус-
ловный и совершеннейший образец великого полковод-
ца, патриота и мудреца», почитает своим долгом доба-
вить: «К сожалению, не вызывает сомнений, что Эпами-
* Впрочем, не всегда. Можно было бы привести прони-
цательное одобрение Гердера в его книге «Мысли о филосо-
фии истории».
** Хочется повторить вслед за Ницше (он писал о войне и
рабстве): «Никто не сможет избежать подобных выводов, ес-
ли беспристрастно искать причины совершенства греческого
искусства, совершенства, которого достигло только грече-
ское искусство» (Цит. по: Halevy. P. 97).
445
нонд разделят те отвратительные вкусы, коих греки, и
в особенности беотийцы и лакедемоняне (то есть, са-
мые доблестные среди греков) нисколько не стыди-
лись» («Всемирная биография») *.
— Согласитесь все же, что эти нравы занимают в
древнегреческой литературе незначительнее место.
— В той, что дошла до нас, да, быть может. И тем
не менее! ** Вспомните о том, что, когда Плутарх и Пла-
тон говорят о любви, они имеют в виду и ту, и другую.
Затем прошу вас принять в соображение (если это уже
отмечалось, то, насколько мне известно, в недостаточ-
ной мере), что почти все древние рукописи, благодаря
которым мы знаем Грецию, прошли через руки церков-
ников. Было бы весьма любопытно изучить историю
древних рукописей. Посмотреть, не убирали ли порой
из благих побуждений ученые монахи-переписчики то,
что казалось им скандальным, не сохранили ли они пре-
имущественно то, что было наименее скандальным.
Вспомните, сколько пьес Эсхила и Софокла дошло до
нас: из девяноста и ста двадцати соответственно того и
другого осталось в общей сложности семь. Но мы зна-
ем, что «Мирмвдоняне» Эсхила, например, были посвя-
щены любви Ахилла к Патроклу. Те несколько стихов,
которые цитирует Плутарх, достаточны, чтобы дога-
* Ср. с пассажами из Паскаля, Монтеня и рассказами о
смерти Эпаминонда.
* «Главный сюжет «Илиады» — страсть Ахилла... его лю-
бовь к Патроклу. И это прекрасно понял один из величайших
поэтов и глубочайпшх знатоков литературы, Данте, давпшй в
«Аде» следующую точную характеристику греческого героя:
Achille
Che per amor al fine combatteo.
(Ахилл, сражавшийся из-за своей любви до конца.)
Этот полный глубокого смысла стих раскрывает суть
«Илиады». Гнев Ахилла, направленный на Агамемнона, спер-
ва заставивший его выйти из боя, любовь Ахилла к Патрок-
лу, превосходящая его любовь к женщине и, несмотря на
гаев, возвращающая его на поле битвы,— вот две основные
сюжетные оси «Илиады» (J. A. Symonds. The Greek Poets. III.
P. 80).
446
даться, о чем идет речь. Но дело не в этом. Я склонен
полагать, что однополая любовь занимала в греческой
трагедии не больше места, чем в театре Марлоу, напри-
мер (что уже достаточно). Что это доказывает, кроме
того, что драма предпочитает иные сюжеты, или, гово-
ря яснее, что эта счастливая любовь не предоставляет
материала для трагедий? * Зато о ней говорят лириче-
ская поэзия, мифы и все жизнеописания, все трактаты,
хотя все они пропущены через то же сито.
— Не знаю, что вам ответить. Мне недостает сведе-
ний.
— Да главное и не в этом. В конце концов, что та-
кое Гил, Батилл или Ганимед по сравнению с прекрас-
ными образами трагедий: Андромахой, Ифигенией,
Алкестой, Антигоной? Так вот, я утверждаю, что этими
чистыми женскими образами мы также обязаны одно-
полой любви. И я не считаю рискованным заметить, что
так же обстоит дело с драмами Шекспира.
— Если это не парадокс, то я хотел бы знать...
— О! Вы меня быстро поймете, если примете в со-
ображение, что при наших нравах ни в одной литерату-
ре не уделено так много места адюльтеру, как во фран-
цузской, не говоря уже об всех этих полудевственни-
цах, полублудницах. Вы возражаете против того выхо-
да, который предлагала Греция, так как он казался ей
естественным. Тогда сделайте всех святыми, иначе же-
лание мужчины будет уклоняться от законной супруги,
порочить молодую девушку... В Греции воспитание де-
вушки имело целью не столько любовь, сколько мате-
ринство. Как мы видели, желание мужчины было обра-
щено в иную сторону, и ничто не казалось более необ-
ходимым для государства, более достойным уважения,
нежели чистота гинекея.
— Значит, по-вашему, получается, что ради спасе-
ния женщины жертвами становились дети.
* «Счастливы влюбленные, когда им отвечают взаимно-
стью»,— пишет Бион в восьмой идиллии. Затем он приводит
три примера такой счастливой любви: Тезей и Пирифой,
Орест и Пилад, Ахилл и Патрокл.
447
— Вскоре я рассмотрю, с вашего позволения, мож-
но ли говорить в данном случае о жертвах. Теперь же
мне хотелось бы ответить на одно тонкое замечание,
для меня это очень важно: Пьер Луис упрекает Спарту
в том, что она не породила ни одного художника и
осуждает слишком строгую добродетель, которая мог-
ла сформировать только воинов, да и то они терпели
поражение. «Величие и слава Спарты существуют
только для слепого почитателя античности,— писал
г-н Лабулэ в комментариях к «Духу законов» Монте-
скье.— Что дала миру эта солдатская обитель, кроме
разрушения и развалин? Чем обязана цивилизация
этим варварам?» *
-—Да, я припоминаю такой пункт обвинения. Другие
им воспользовались.
— Но я не уверен, справедлив ли он.
— Тем не менее факты налицо.
— Во-первых, не забывайте, что именно Спарте мы
обязаны дорическим ордером, ордером Пестума и Пар-
фенона. И потом вспомните, что если Гомер родился
бы в Спарте слепым, его сбросили бы со скалы. Имен-
но там, у подножия скалы, следует искать лакедемон-
ских художников; Спарта, быть может, была способна
произвести их на свет, но она слишком любила физиче-
ское совершенство, а гений часто сочетается с каким-
нибудь физическим изъяном...
— Да, я понимаю, что вы хотите сказать: Спарта си-
стематически умерщвляла тех своих детей, которые, по
выражению Виктора Гюго, рождались
бледными, с потухшим взором.
— Зато она создала прекрасную форму. Спарта при-
думала селекцию. Она не дала миру скульпторов, это
правда, но она дала скульптору образец.
— Послушать вас, так получается, что все модели
афинских ваятелей были из Лакедемона, как ныне в Ри-
ме все модели — из Сараджинеско. Это просто смеш-
но. Я все же считаю, с вашего позволения, что хорошо
* Esprit des lois. IV. Chap. 6. P. 154. Ed. Gamier.
448
сложенные греки не обязательно были грубыми живот-
ными, а их художники — колченогими и кривобокими.
Вспомните молодого Софокла в Саламине...
Коридон улыбнулся и жестом дал мне понять, что
согласен со мной. Затем он продолжал:
— Еще одно замечание относительно спартанцев:
вам известно, что в Лакедемоне любовь к мальчикам
была не только дозволена, но и, осмелюсь сказать, поль-
зовалась одобрением. Вам известно также, что спартан-
цы были необычайно воинственны. «Спартанцы,— чи-
таем у Плутарха,— были величайшими мастерами и
наилучшими учителями в том, что касается искусства
боя». Вам также известно, что фиванцы...
— Позвольте! — воскликнул я, перебив его.— Се-
годня у меня с собой кое-какие тексты.
И я вынул из кармана блокнот, в который накануне
вечером переписал фразу из «Духа законов» (IV. Гл. 8).
Я прочитал: «Мы краснеем, читая у Плутарха, что фи-
ванцы, дабы смягчить нравы своих юношей, узаконили
ту любовь, которую должны были бы запретить все на-
роды мира».
— Ну, да, об этом я вам и говорю,— ответил он, не
краснея.— В настоящее время все ее осуждают, и я
знаю, что это безумие — утверждать, что ты один
прав*, но, поскольку вы сами начали, давайте вместе
перечитаем фрагмент из Плутарха, который возмутил
Монтескье.
Он достал с полки толстую книгу, открыл ее на
«Жизнеописании Пелопида» и прочитал:
«Во всех битвах лакедемонян, будь то с греками
или с варварами, они ни разу не были разбиты врагом,
уступающим или даже равным им в численности (как
* «Тот, кто противопоставляет свое суждение всеобщему
мнению, должен иметь в качестве опоры неопровержимую
истину. Зная истину, он будет глупцом и трусом, если побоит-
ся признать ее наперекор мнениям других людей. Человеку
трудно сказать, что, кроме него, весь мир заблуждается. Но
если это так, то что же делать?» (пер. с англ.); (Даниэль Де-
фо; цит. по: Taine. Litterature anglaise. IV. P. 88).
449
это произошло в битве при Тегирах, о чем Плутарх рас-
сказал ранее)... Эта битва впервые показала народам
Греции, что доблестные и воинственные мужи рожда-
ются не только на берегах Эврота, но повсюду, где мо-
лодежь стыдится вещей позорных, доказывает свою
храбрость достойными деяниями и боится больше
осуждения, нежели опасности. Такие люди опасны для
врага».
— Ну, вот, видите, он сам говорит: «Повсюду, где
молодежь стыдится вещей позорных и боится больше
осуждения, нежели опасности...»
— Боюсь, что вы его не поняли,— ответил с важно-
стью Коридон.— Из этого пассажа следует как раз то,
что однополая любовь не осуждалась. Далее на это яс-
но указывается. Он продолжил чтение:
— «Говорят, что священный отряд фиванцев был со-
бран Горгидом и состоял из трехсот лучших воинов. Го-
сударство содержало их и оплачивало их учения... Не-
которые утверждают, что этот отряд состоял из любя-
щих и любимцев, и приводят шутливое высказывание
Памменида: «Надо, чтобы при построении влюбленный
стоял рядом с возлюбленным, ибо невозможно рассеять
или нарушить строй любящих друг друга: они бесстраш-
но встретят все опасности, одни из привязанности к
предмету своей любви, другие из страха быть обесче-
щенными в глазах любящих их». Вот видите, что они
понимали под бесчестьем,— заметил Коридон. «В этом
нет ничего удивительного,— продолжает мудрый Плу-
тарх,— если правда, что люди больше дорожат мнени-
ем тех, кто их любит, даже если они далеко, чем мне-
нием всех остальных, тех, кто рядом». Разве это не пре-
красно?
— Разумеется, прекрасно,— ответил я.— Но для
этого не обязательны дурные нравы...
— «Так, один воин,— продолжал Коридон чтение,—
поверженный врагом и видя, что тот собирается его
прикончить, стал умолять и заклинать, чтобы тот уда-
рил его мечом в грудь: «Дабы любящий меня, найдя мой
труп, не устыдился того, что мне нанесли удар сзади».
Рассказывают также, что Иолай, которого любил Ге-
450
ракл, разделял его труды и сражался бок о бок с ним
(но, быть может, вы предпочитаете воображать Герак-
ла в обществе Омфалы или Деяниры?). Аристотель пи-
шет, что еще в его время любящие и их любимцы при-
% ходили давать клятву на могилу Иолая. По видимости,
этому отряду дали прозвание «священный» в согласии
с мыслью Платона о том, что любящий — это друг, в ко-
тором есть нечто божественное.
Священный отряд фиванцев оставался непобеди-
мым до битвы при Херонее. После этой битвы Филипп,
обходя поле битвы, остановился на том месте, где бы-
ли распростерты триста фиванцев; у всех них была
пронзена пикой грудь, и то была груда перемешанных
тел и оружия. Филипп с удивлением взирал на это зре-
лище. Узнав, что перед ним отряд любящих и любимых,
он прослезился и воскликнул: «Да погибнет жалкой
смертью тот, кто заподозрит этих людей в том, что они
были способны сделать и стерпеть что-либо постыд-
ное».
— Напрасно стараетесь! — воскликнул я.— Вы не
заставите меня воспринимать этих героев как разврат-
ников.
— Но кто вас заставляет воспринимать их именно
так? И почему вы не хотите допустить, что эта любовь,
как и другая, может сочетаться с самоотречением, са-
мопожертвованием и даже порой с целомудрием?*
* «Агесилая не менее мучила и любовь к Мегабату, хотя,
когда юноша бывал с ним, он упорно, всеми силами старался
побороть эту страсть. Однажды, когда Мегабат подошел к не-
му с приветствием и хотел обнять и поцеловать его, Агесилай
уклонился от поцелуя. Юноша был сконфужен, перестал под-
ходить к нему и приветствовал его лишь издали. Тогда Агеси-
лай, жалея, что лишился его ласки, с притворным удивлени-
ем спросил, что случилось с Мегабатом, отчего тот перестал
приветствовать его поцелуями. „Ты сам виноват,— ответили
его друзья,— так как не принимаешь поцелуев красивого
мальчика, но в страхе бежишь от них. Его же и сейчас мож-
но убедить прийти к тебе с поцелуями, если только ты снова
не проявишь робости". После некоторого молчания и раз-
думья Агесилай ответил: „Вам не нужно уговаривать его, так
451
Впрочем, продолжение рассказа Плутарха показывает,
что если иногда и, быть может, даже зачастую, однопо-
лая любовь побуждала к целомудрию, она на него от-
нюдь не претендовала.
В поддержку моих слов я могу привести множество
примеров, процитировать множество текстрв, и не од-
ного Плутарха, которые, будь они собраны вместе, со-
ставили бы целую книгу. Если хотите, я могу вам их все
предоставить.
Думаю, что нет более ложного и более распростра-
ненного мнения, чем то, которое видит в гомосексуаль-
ных наклонностях и в любви к мальчикам прискорбное
достояние изнеженных, вырождающихся народов, или
даже заимствование азиатских нравов*. Напротив,
именно пришедший из Азии нежный ионический ордер
заменил мужественную дорийскую архитектуру. Упа-
док Афин начался в тот момент, когда греки перестали
посещать гимнасий, а мы теперь знаем, что он для них
значил. Уранизм уступает место гетеросексуализму. В
это время последний торжествует в искусстве Еврипи-
да** и вместе с ним как его естественное дополне-
ние — женоненавистничество.
— Почему вдруг женоненавистничество?
— А как же иначе? Это факт, и очень важный, свя-
занный с тем, о чем я вам недавно говорил.
— С чем же?
как я нахожу больше удовольствия в том, чтобы снова начать
с самим собою эту борьбу за его поцелуи, чем в том, чтобы
иметь все сокровища, которые я когда-либо видел". Так дер-
жал себя Агесилай, когда Мегабат был поблизости; когда же
тот удалился, он почувствовал такую страсть к нему, что,
трудно сказать, удержался ли бы он от поцелуев, если бы тот
снова появился перед ним» (Плутарх. Жизнь Агесилая. XI.
Пер. К Лампсакова).
* «Персы, учившиеся у греков, переняли у них обычай со-
вокупляться с мальчиками» (Геродот. I, 135).
** Атеней. XIII, 81: «Софокл так же любил молодых маль-
чиков, как Еврипид женщин».
452
— С тем, что почитанием женщины мы обязаны ура-
низму, как и прекрасными женскими образами в дра-
мах Софокла и Шекспира. И если уранизм обычно со-
провождается уважительным отношением к женщине,
• то, как только она становится объектом всеобщего во-
жделения, уважение к ней падает. Поймите, что это
происходит само собой.
Признайте также, что периоды уранизма (если так
можно выразиться) отнюдь не являются периодами де-
каданса. Осмелюсь утверждать, что, напротив, периоды
художественного расцвета, такие, как эпоха Перикла в
Греции, эпоха Августа в Риме, эпоха Шекспира в Анг-
лии, эпоха Возрождения в Италии и во Франции, эпоха
Людовика XIII в той же Франции, эпоха Гафиза в Пер-
сии и так далее были периодами явного, если не сказать
официального утверждения гомосексуальных нравов. Я
готов также заявить, что те периоды или страны, кото-
рые отличаются отсутствием уранизма, отличаются так-
же отсутствием искусств.
— Не опасаетесь ли вы стать жертвой некоторой ил-
люзии? Быть может, эти периоды представляются вам,
как вы говорите, «уранистскими» просто потому, что в
силу их блеска мы уделяем им особо пристальное вни-
мание, и через блистательные произведения нам откры-
вается тайная игра страстей, вдохновивших эти произ-
ведения?
— Ваши слова означают то, что вы согласны с
тем, о чем я недавно говорил: что уранизм довольно
широко распространен. Ну, что же, как вижу, вы не-
сколько продвинулись вперед,— с улыбкой сказал
Коридон.— Между тем, я не говорил, что в эти цве-
тущие периоды наблюдается усиление уранизма, я
отмечаю только его утверждение и открытую прак-
тику. Впрочем,— добавил он через мгновение,— в
периоды войн, возможно говорить об усилении. Да,
думаю, что периоды воинственного воодушевле-
ния — это по преимуществу уранистские периоды.
Так и воинственные народы в особенности склонны
к гомосексуализму.
Он некоторое время помолчал, затем вдруг спросил:
453
— Вы никогда не задавались вопросом, почему в
«Кодексе Наполеона» ни один закон не запрещает пе-
дерастию?
— Быть может, потому,— отвечал я, ошарашен-
ный,— что Наполеон не придавал ему никакого значе-
ния или рассчитывал на то, что нашего инстинктивного
отвращения будет достаточно.
— Скорее всего потому, что подобные законы стес-
нили бы его лучших генералов. Предосудительные или
нет, эти нравы вовсе не расслабляют, но, можно ска-
зать, укрепляют боевой дух, и признаюсь, что у меня
вызвали серьезные опасения громкие процессы по ту
сторону Рейна, которые даже бдительность императора
не смогла скрыть, а еще раньше — самоубийство Круп-
па. Кое-кто во Франции усмотрел во всем этом призна-
ки упадка. А я так думал про себя: следует страшиться
народа, у которого даже разврат носит воинский харак-
тер, а женщине отведена роль производить на свет пре-
красных детей.
— Учитывая тревожное снижение рождаемости
во Франции, позвольте мне полагать, что сейчас не
время уклонять наши желания (если это вообще воз-
можно) в ту сторону, о которой вы говорите. Ваш те-
зис по меньшей мере не своевремен. Увеличение
рождаемости...
— Как! Вы действительно верите, что все эти любов-
ные игры приведут к рождению большого числа детей?
Вы считаете, что все эти женщины, предлагающие себя
в любовницы, согласятся зачать? Вы шутите!
Я утверждаю, что бесстыдно возбуждающие чувст-
венность картинки, театральные пьесы, мюзик-холлы
и многие газеты лишь отвращают женщину от ее
обязанностей, превращают ее в вечную любовницу,
отвергающую материнство. Я утверждаю, что для го-
сударства такое положение вещей опаснее, чем чрез-
мерное распространение иных нравов и что эти нра-
вы связаны с меньшими затратами и меньшими изли-
шествами.
— Не кажется ли вам, что вы идете на поводу ваше-
го особого вкуса и ваших интересов?
454
— Хоть бы и так! Главное не в том, заинтересован
ли я в защите какой-то вещи, а в том, достойна ли она
защиты.
— Итак, вы не только призываете нас быть терпи-
мыми в отношении уранизма, но еще хотите превратить
его в гражданскую добродетель.
— Не приписывайте мне абсурдных высказываний.
Каким бы ни было вожделение, гомо- или гетеросек-
суальным, добродетель состоит в том, чтобы его пре-
возмочь. Я вскоре к этому вернусь. Но, не утверждая
вместе с Ликургом (во всяком случае, если верить Плу-
тарху), что гражданин может быть порядочным и по-
лезным республике лишь в том случае, если у него есть
друг*, я утверждаю, что уранизм сам по себе не пред-
ставляет никакой опасности ни для общественного по-
рядка, ни для государства. Как раз наоборот.
— Станете ли вы отрицать, что зачастую гомосексу-
ализм сочетается с некоторыми изъянами в умствен-
ном развитии, как это отмечают многие ваши коллеги
(я обращаюсь к вам как к врачу)?
— С вашего позволения, мы не будем говорить о
клинических случаях. Мне жаль, что те, кто плохо ос-
ведомлен, путают нормальных гомосексуалистов с из-
вращенцами. Надеюсь, вы понимаете, что значит «из-
вращенец». Среди гетеросексуалистов также есть деге-
нераты, маньяки и больные. Вынужден признать, увы!
что часто у других...
—У тех, которых вы имеете смелость называть нор-
мальными педерастами.
—Да... у них порой наблюдаются недостатки в ха-
рактере, ответственность за которые я возлагаю исклю-
чительно на состояние наших нравов. Так всегда проис-
ходит, если систематически подавлять естественные
желания. Да, состояние наших нравов способствует то-
му, что гомосексуальные наклонности имеют следстви-
ем лицемерие, хитрость и неприятие законов.
* «Поклонники» делили с их любимцами и честь, и стьщ...
Каждый старался сделать друга еще доблестней» («Жизнь Ли-
курга»).
455
— Скажите прямо: преступность.
— Разумеется, если вы сами делаете из того, о чем
я говорю, преступление *. Но именно в этом я и обви-
няю наши нравы, точно так же, как я возлагаю ответст-
венность за три четверти производимых абортов на то
осуждение, которому подвергаются забеременевшие
девушки.
— Вы можете также отчасти обвинить наши добрые
нравы в уменьшении рождаемости.
— Вы знаете, как Бальзак называл нравы? «Лицеме-
рием народов». Поразительно, до какой степени, когда
речь идет о столь серьезных, столь неотложных и столь
жизненно важных вопросах, до какой степени слово
предпочитают вещи, видимость — реальности и ради
витрины жертвуют складом товаров...
— Против чего вы теперь выступаете?
— О! Теперь я говорю не о гомосексуализме, но о
снижении рождаемости во Франции. Но это увело бы
нас слишком далеко...
* Насколько общественное мнение может препятствовать
торжеству справедливости ясно показывает статья в «Матен»
(от 7 августа 1909 г.) «Нравственный итог одного судебного
процесса», посвященная делу Ренара: «За последние годы де-
ло ни одного подсудимого не вызывало столько сомнений,
сколько дело Ренара, представшего перед судом присяжных
департамента Сена. Тем не менее присяжные без колебаний
отправили его на каторгу. На суде присяжных в Версале со-
мнения лишь еще больше возросли, однако и присяжные Вер-
саля без рассуждений признали его виновным. В кассацион-
ном суде приговор, казалось бы, имел все шансы быть обжа-
лованным, однако кассационная жалоба была быстро отверг
нута. И общественное мнение — за несколькими редкими,
само собой разумеющимися (?) исключениями — всякий раз
было на стороне присяжных и судей.., Почему? Потому что
было доказано, что Ренар, даже если допустить, что он не
убивал, был мерзким и отвратительным чудовищем. Потому
что толпа находилась под влиянием чувства, что Ренар, даже
если он не убивал г-на Реми, принадлежит к числу тех лично-
стей, которых общество выбрасывает из своей среды и от-
правляет гнить в Гвиану» и т. д.
456
Вернемся к интересующей нас теме. Будьте увере-
ны, что в нашем обществе среди тех, кто вас окружает
и кого вы чаще других посещаете, есть люди, весьма
уважаемые вами и при этом такие же гомосексуали-
сты, как Эпаминонд или я. Не ждите, что я назову име-
на. У каждого есть самые веские причины для того, что-
бы скрывать правду. И если кто-то вызывает подозре-
ния, то предпочитают закрыть на них глаза и принять
участие в лицемерной игре. Чрезмерное осуждение да-
же служит защитой преступнику, как об этом писал
Монтескье: «Жестокость законов препятствует их ис-
полнению. Когда наказание безмерно, ему часто прихо-
дится предпочесть безнаказанность».
— Тогда на что же вы жалуетесь?
— На лицемерие. На обман. На непонимание. На то,
что вы заставляете ураниста вести себя как контрабан-
дист.
— В общем, вы хотите вернуть греческие нравы.
— Когда бы такое могло случиться! Ради блага госу-
дарства!
— Слава богу, христианство все это очистило, омы-
ло, облагородило и возвысило. Оно укрепило семью, ос-
вятило брак и вне его предписало целомудрие. Что вы
на это скажете?
— Или вы меня плохо слушали, или все же поняли,
что я вовсе не выступаю против брака и целомудрия.
Могу повторить вслед за Мальтусом: «Я буду безуте-
шен, если какие-либо мои слова можно будет истолко-
вать как противоречащие добродетели». Я не уранизм
противопоставляю целомудрию, но вожделение, удов-
летворенное или нет. И я также утверждаю, что грече-
ские нравы лучше, чем наши, обеспечивали супруже-
ский покой, честь женщины, уважение семейного оча-
га, здоровье супругов. Точно так же уроки целомудрия
и добродетели были благороднее и естественно вели к
их достижению. Или вы полагаете, что, отдав свое сер-
дце другу, которого он любил сильнее, чем какую-либо
женщину, Блаженный Августин с большим трудом при-
шел к Богу? Неужели вы думаете, что совместное вос-
питание мальчиков в древности располагало их к раз-
457
врагу больше, чем смешанное обучение наших школь-
ников? Я считаю, что друг, в греческом смысле слова,
лучший советчик для подростка, чем любовница.
Я считаю, что уроки любви, преподанные, например,
г-жой де Варане юному Жан-Жаку, были гораздо пагуб-
нее для него, чем спартанское или фиванерое воспита-
ние. Да, я думаю, что он был бы менее испорчен и да-
же более... мужествен с женщинами, если бы немного
ближе следовал примеру столь почитаемых им героев
Плутарха.
Повторяю еще раз, я противопоставляю целомудрию
не разврат, каким бы он ни был, но нечистоту, и сомне-
ваюсь, что молодой человек может подойти к браку бо-
лее испорченным, чем некоторые нынешние гетеросек-
суалисты.
Я утверждаю, что если молодой человек влюбляет-
ся в девушку и его любовь глубока, то есть много шан-
сов, что она будет целомудренной и поначалу далекой
от желаний. И это очень хорошо поняли Виктор Гюго,
который говорит в «Отверженных», что Мариус был
скорее готов бежать к девкам, чем приподнять хотя
бы взглядом край юбки Козетты, и Филдинг, который
в своем восхитительном «Томе Джонсе» заставляет
своего героя тем больше забавляться с девицами в
трактире, чем сильнее его любовь к Софи. Именно на
этом сыграла хитрая де Мертей в несравненной книге
Лакло, когда юный Дансени влюбился в юную Воланж.
Но хочу добавить, что для всех них было бы менее
опасным, если бы их добрачные утехи были иного ха-
рактера.
Наконец, если вы позволите мне сравнить ту и дру-
гую любовь, то я отмечу, что страстная привязанность
старшего друга или сверстника зачастую столь же со-
четается с самоотвержением, как и любовь к женщи-
не. Тому есть много примеров, и знаменитых*. Но
здесь, как Базальжетт в своем переводе Уитмена, вы
охотно заменяете слово «любовь», стоящее в подлин-
нике и отражающее реальность, менее компрометиру-
* См., в частности,.роман Филдинга «Амелия». Ш. Гл. 3 и 4.
458
ющим словом «дружба» *. Я говорю, что, если эта лю-
бовь глубока, то она тяготеет к целомудрию **, разуме-
ется, если заставляет желание истаять, и может наи-
лучшим образом воспитать смелость, трудолюбие и
добродетель***.
Я утверждаю также, что старший друг лучше пони-
мает подростка и его трудности, чем женщина, даже
опытная в любви. Разумеется, я знаю слишком многих
мальчиков, предающихся уединенным утехам, и потому
считаю такого рода любовь наиболее действенным
средством исцелиться от этой привычки.
«Я видел юношей, которые в возрасте от тринадца-
ти до двадцати двух лет хотели бы быть красивыми де-
вушками, а позднее становились мужчинами»,— пишет
Лабрюйер («О женщинах», 3), несколько отдаляя, на
мой взгляд, тот момент, когда определяется гетеросек-
суальная ориентация подростка. До тех пор его жела-
ние расплывчато и подвержено влиянию внешних при-
меров, указаний и побуждений. Его влюбленности но-
сят случайный характер, и примерно до восемнадцати
лет он скорее приглашает любить его, чем сам умеет
любить.
Если в том возрасте, пока он еще остается «molliter
juvenis» ****, по выражению Плиния, более желанным,
* «Существует ли чувство, более нежное и благород-
ное, чем одновременно страстная и робкая дружба, которая
связывает двух мальчиков? Тот, кто влюблен, не решается вы-
разить свое чувство лаской, взглядом, словом. Это нежность,
не ослепляющая, но заставляющая страдать от малейшей
ошибки возлюбленного, и в ее состав входят восхищение и са-
мозабвение, гордость, умиление и тихая радость» (Jacobsen.
Niels Lyhne. P. 69).
«Похоть и воспаленные чувства не имеют ничего или
очень мало общего с Любовью» (Дуиза Лабе. Спор безумия и
любви. Беседа Ш).
*** «Поклонники»,— говорит Плутарх в «Жизни Ликур-
га», делили с их любимцами и честь, и стыд. Когда один маль-
чик закричал во время борьбы от страха, начальники наложи-
ли штраф на его «поклонника».
«Нежным юнцом» (лат.).— Примеч. пер.
459
чем желающим, кто-нибудь постарше влюбится в него,
то я думаю, разделяя мнение той прошлой культуры,
лишь оболочкой которой вы согласны восхищаться, что
не будет для него ничего лучше, предпочтительней,
чем любовник. Пусть влюбленный окружит его ревни-
вым вниманием и сам, восторженный и.-очищенный
своей любовью, направит его к тем сияющим верши-
нам, коих невозможно достичь без любви. Если же, на-
против, подросток попадет в объятия женщины, то по-
истине это может быть для него пагубно. Увы! Мы зна-
ем тому много примеров. Но в этом слишком нежном
возрасте подросток еще очень неопытен в делах любви,
и женщина, к счастью, вскоре теряет к нему интерес.
Возраст между тринадцатью и двадцатью двумя го-
дами (если следовать возрастным указаниям Лабрюйе-
ра) был для греков временем дружбы-любви, взаимно-
го ободрения, благородного соперничества. Только
выйдя из этого возраста, юноша «желает стать мужчи-
ной», то есть думает о женщине и, стало быть, о женить-
бе, чему никто не противился.
Я дал ему возможность выговориться и не стал пе-
ребивать. После окончания своей речи он некоторое
время ждал моих возражений. Но я лишь попрощался с
ним, взял шляпу и вышел, будучи уверен в том, что луч-
шим ответом на некоторые утверждения служит много-
значительное молчание.
КОММЕНТАРИИ
Драма «Царь Кандавл» («Le Roi Candaule») была издана в
1901 г.
Драма «Саул» («Saul»), написанная еще в 1898 г., впервые
опубликована в 1903 г. Морализаторский строй «Саула» объ-
ясняется тем, что после смерти матери писатель некоторое
время находил утешение в обращении к религии.
Драма «Эдип» («Oedipe») была издана в 1930 г. Андре Жид
охотно пользуется формой классической трагедии для выра-
жения своих замыслов. В «Эдипе» под маской пародии, под
тонкими намеками скрывается основной момент мировоззре-
ния Жида — идея о раскрепощенном человеке. Конфликт
Эдипа с Тирезием — это конфликт раскрепощенного челове-
ка с семьей, религией, мистикой. Кровосмесительство Иока-
сты и Эдипа — намек на путы семейных трагедий, которые
сбрасывает с себя освобождающаяся личность. На вопрос Ан-
тигоны: «Скажи, куда ты хочешь идти?» Эдип отвечает: «Не
знаю, прямо вперед... Отныне без приюта, без отчизны...» В
этих словах следует искать ключ к пониманию «Эдипа».
Книга «Достоевский» («Dostoievski») вышла в свет в 1923 г.
Она состояла из нескольких статей, а также содержала лекции,
прочитанные в театре «Старая Голубятня» по случаю столетия
со дня рождения Ф. М. Достоевского.
Статья «Переписка Достоевского» была написана в 1908 г.,
«Братья Карамазовы» — в 1911 г., «Речь на праздновании сто-
461
летая со дня рождения Достоевского» была произнесена в
1921 г. и лекций прочитаны в 1922 г.
Эссе «Коридон» («Corydon») было напечатано в 1911 и
1920 гг., но не стало достоянием публики. Полный и оконча-
тельный вариант произведения вышел в свет в 1924 г.
В представленном издании «Коридон» впервые публикуется в
русском переводе.
СОДЕРЖАНИЕ
ЦАРЬ КАНДАВЛ. Драма. Перевод Б. Лившица 5
САУЛ. Драма. Перевод Б. Лившица 85
ЭДИП. Драма. Перевод В. Станевич 173
ДОСТОЕВСКИЙ. Перевод А. Федорова 203
ПЕРЕПИСКА ДОСТОЕВСКОГО 205
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» ,... 236
РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ЗАЛЕ VIEUX COLOMBIER
НА ПРАЗДНОВАНИИ СТОЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО 241
ЛЕКЦИИ В ЗАЛЕ VIEUX COLOMBIER 246
КОРИДОН. Перевод Е. Гречаной 365
Комментарии 461
щ
I