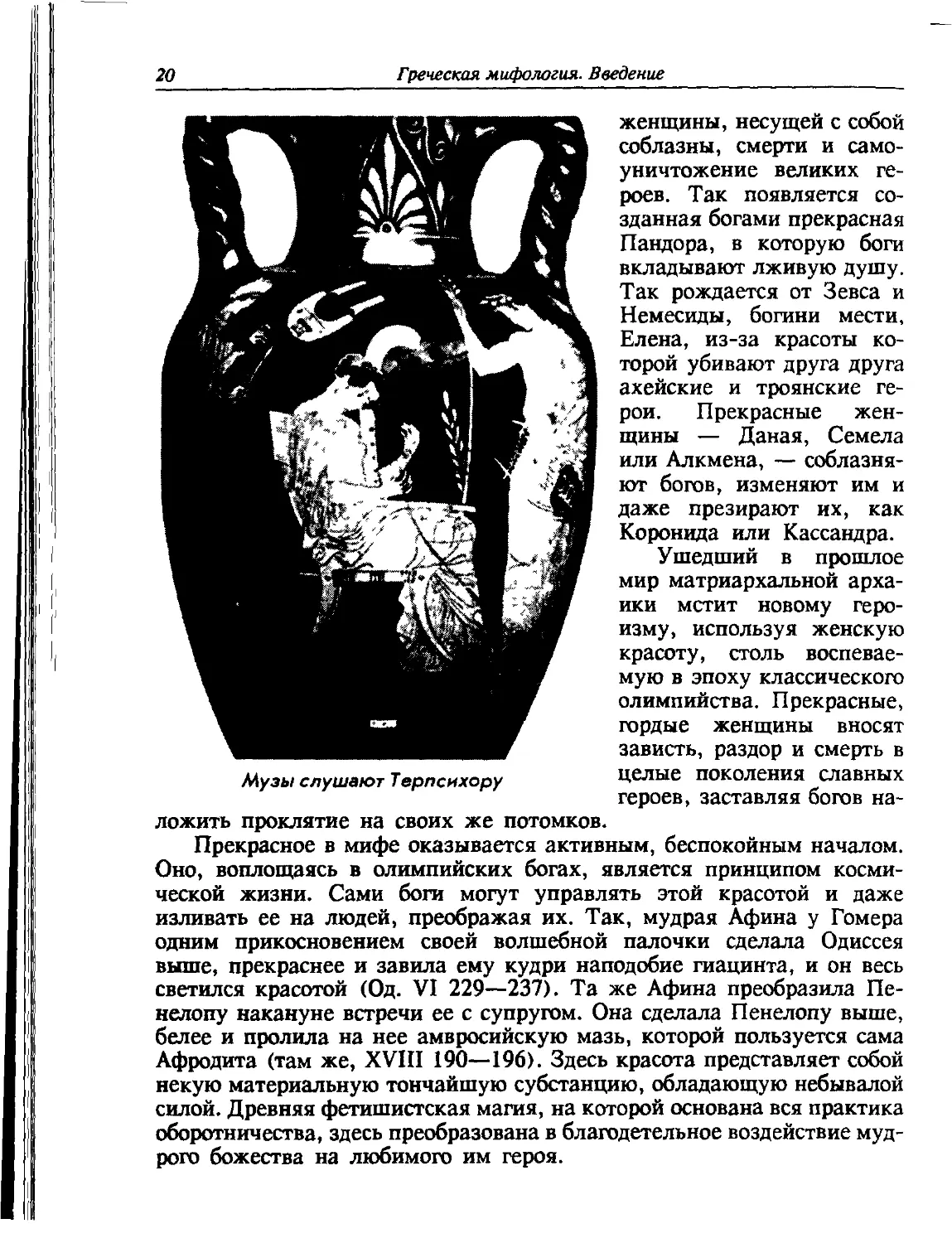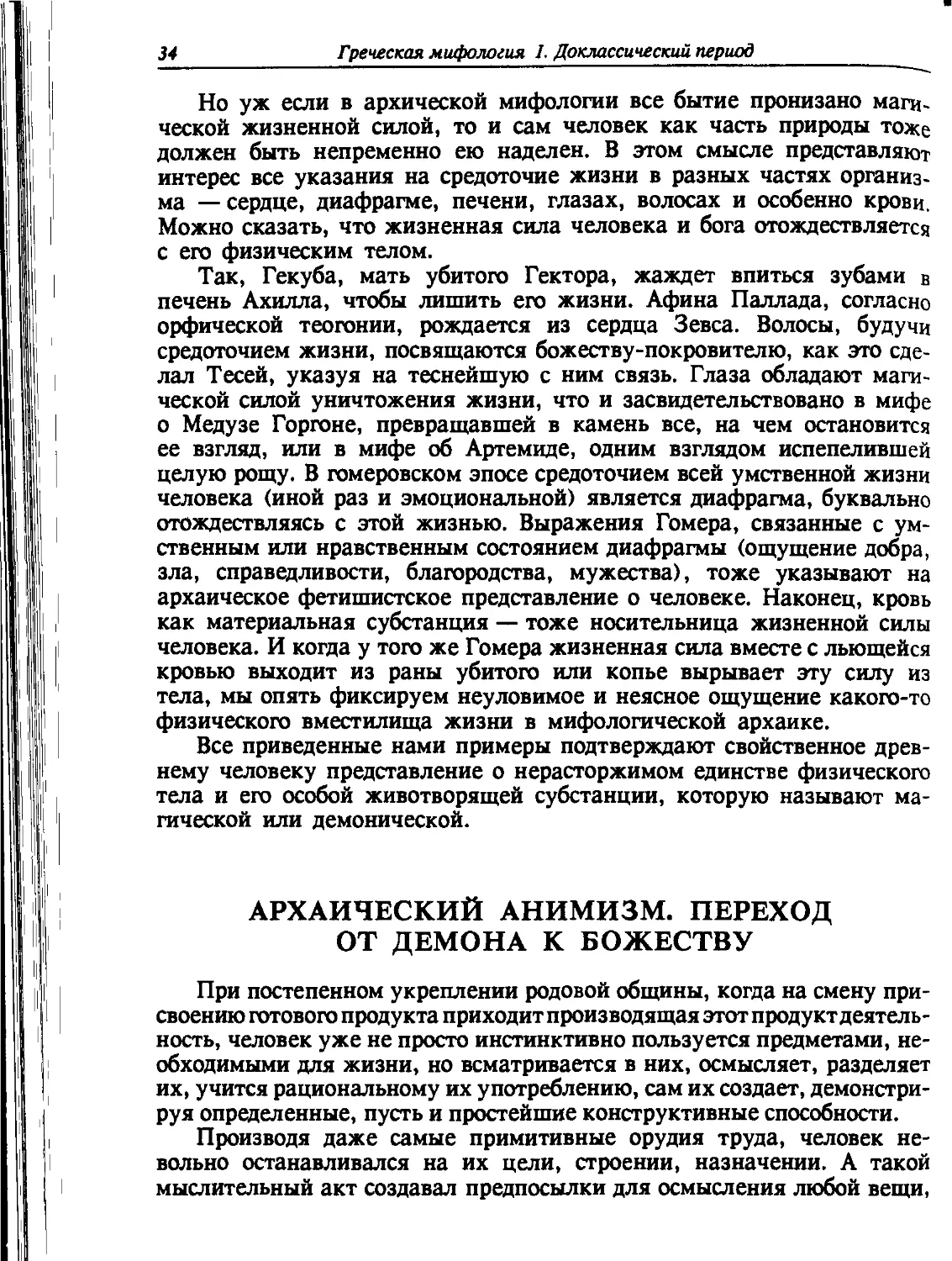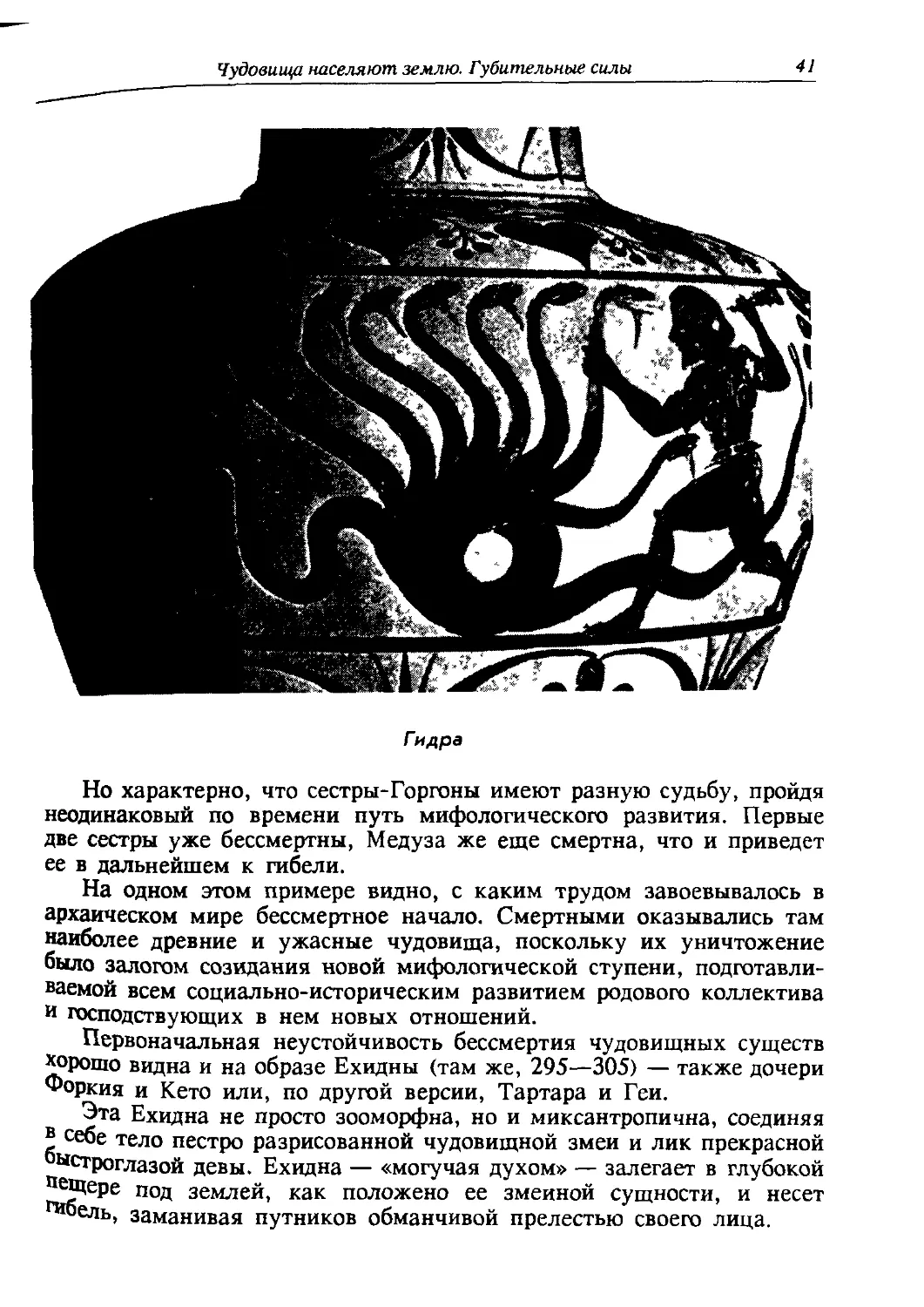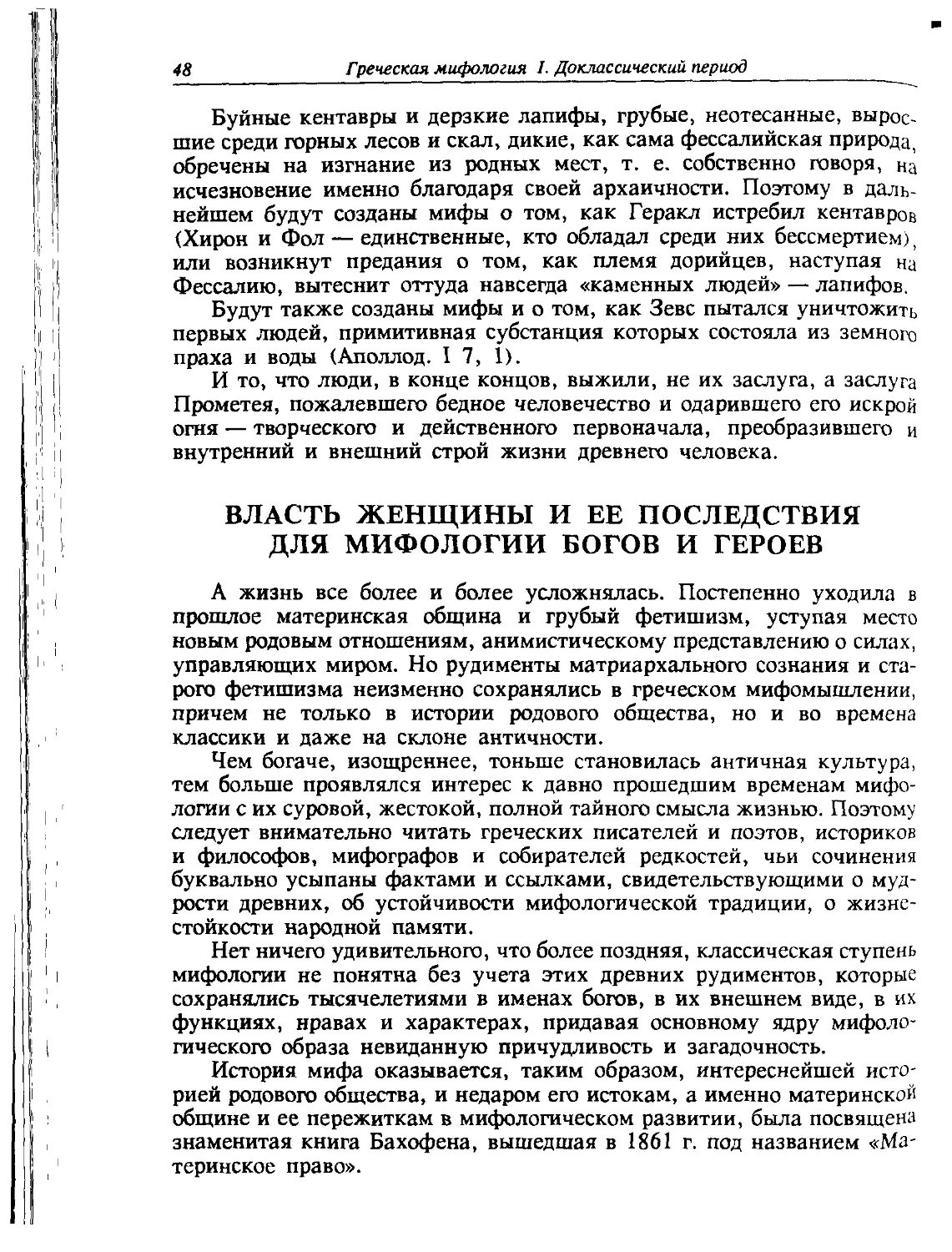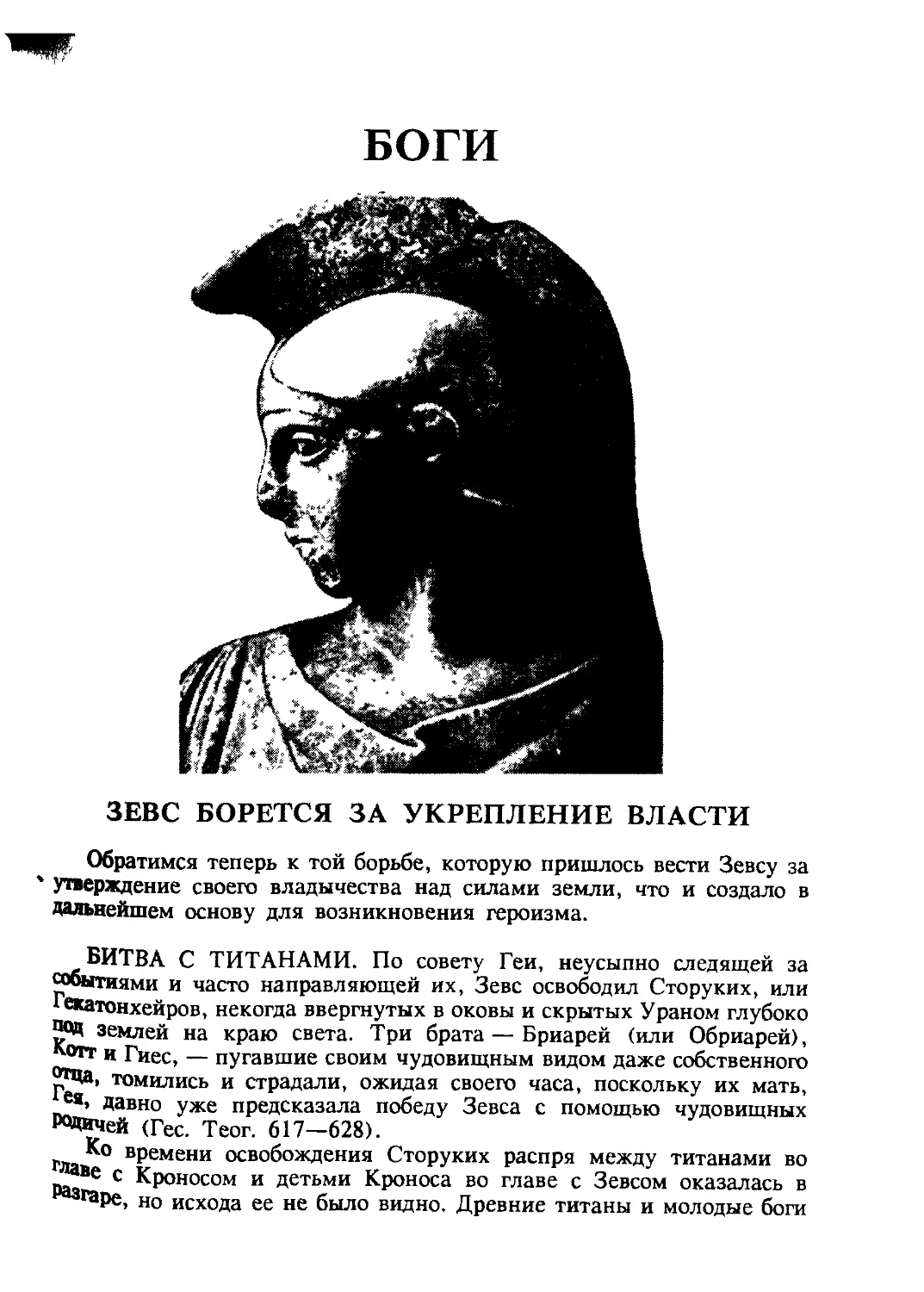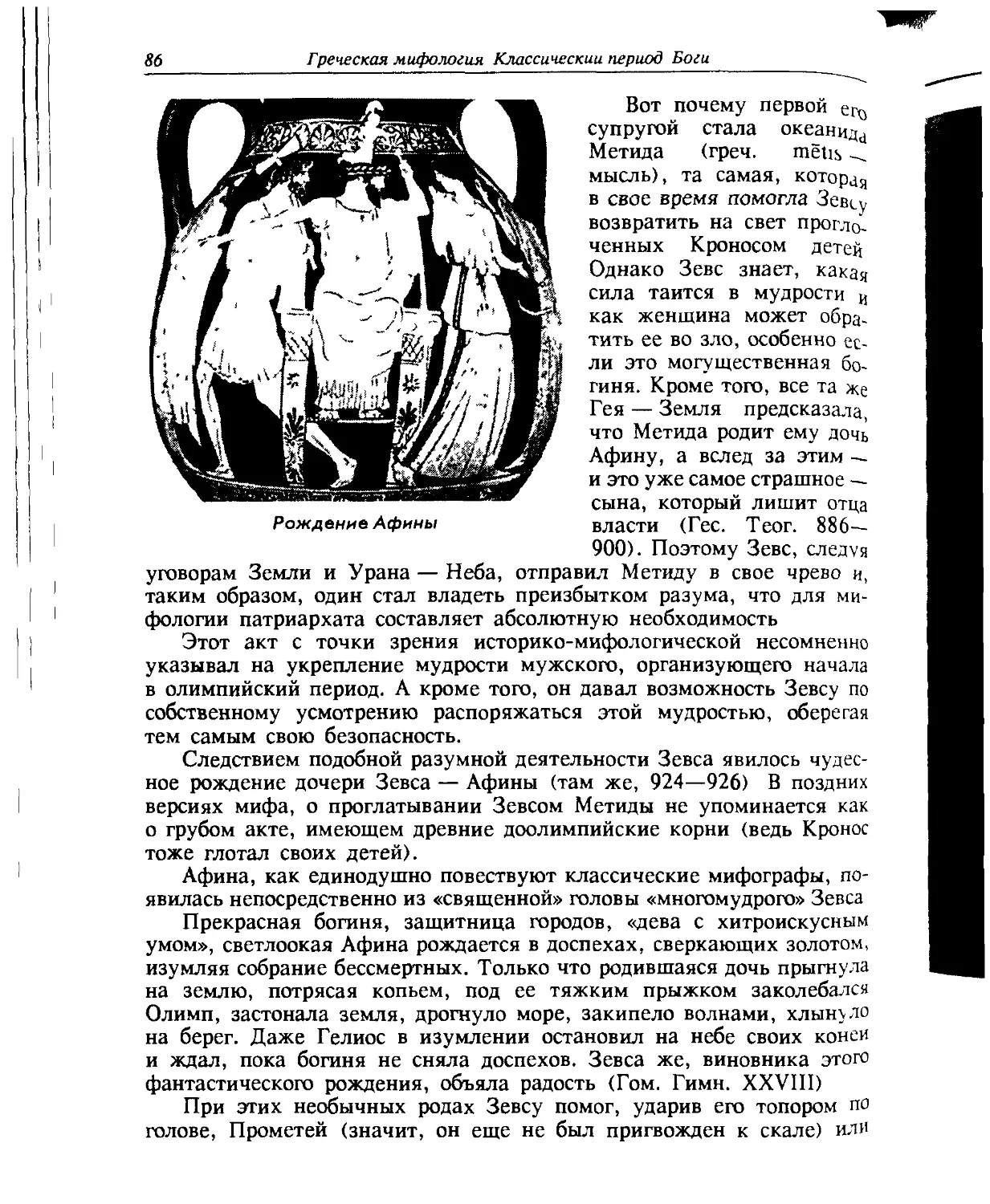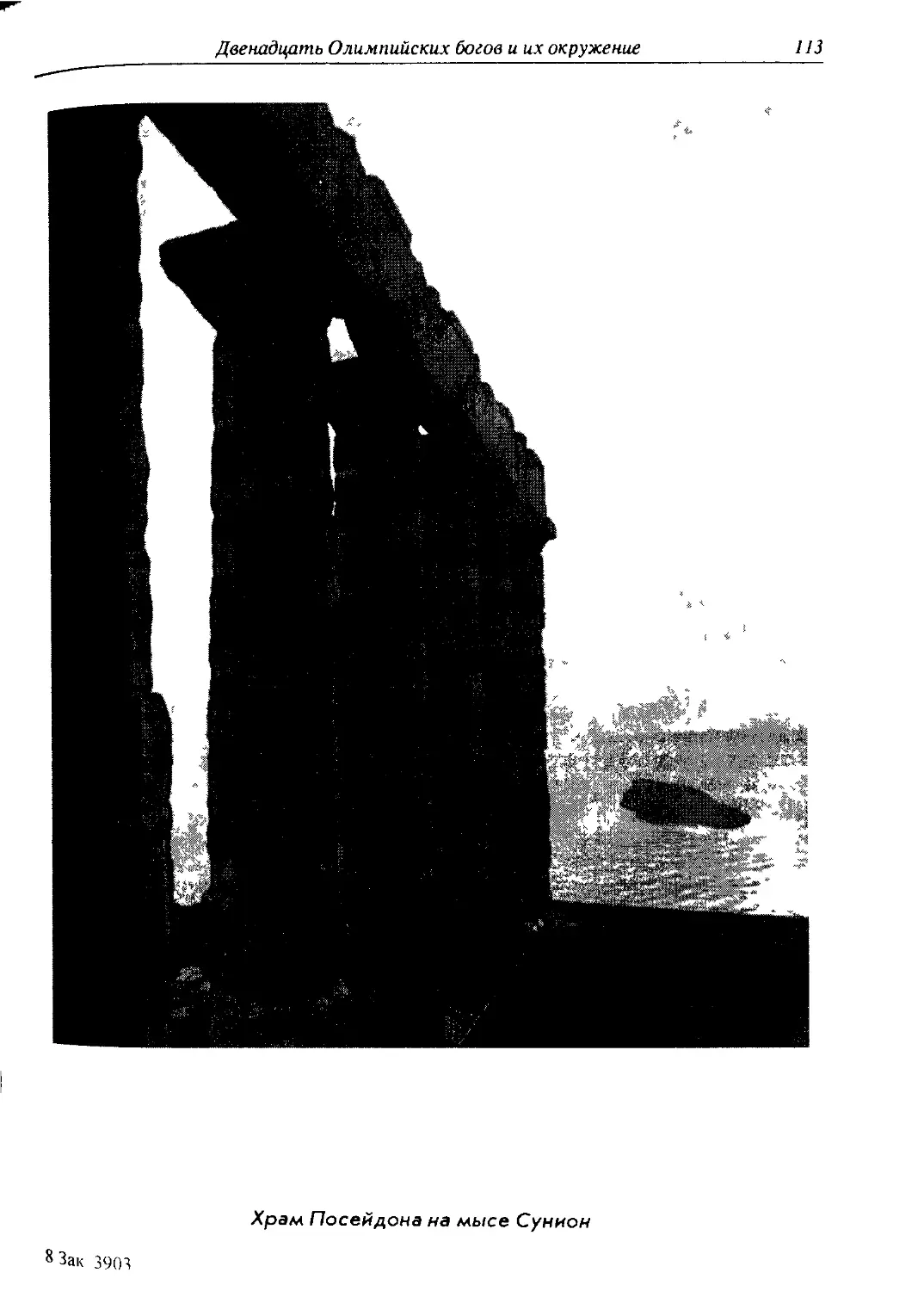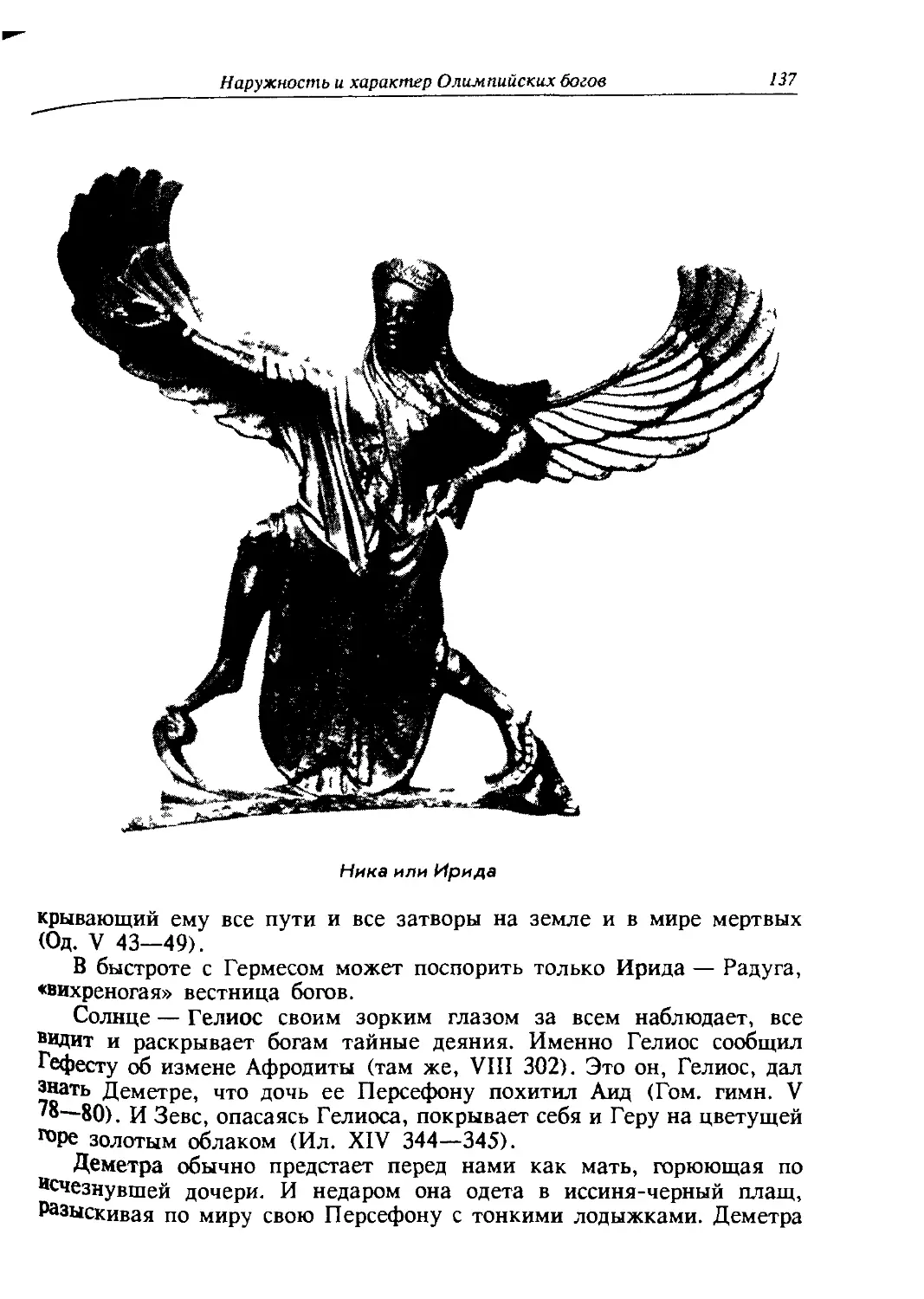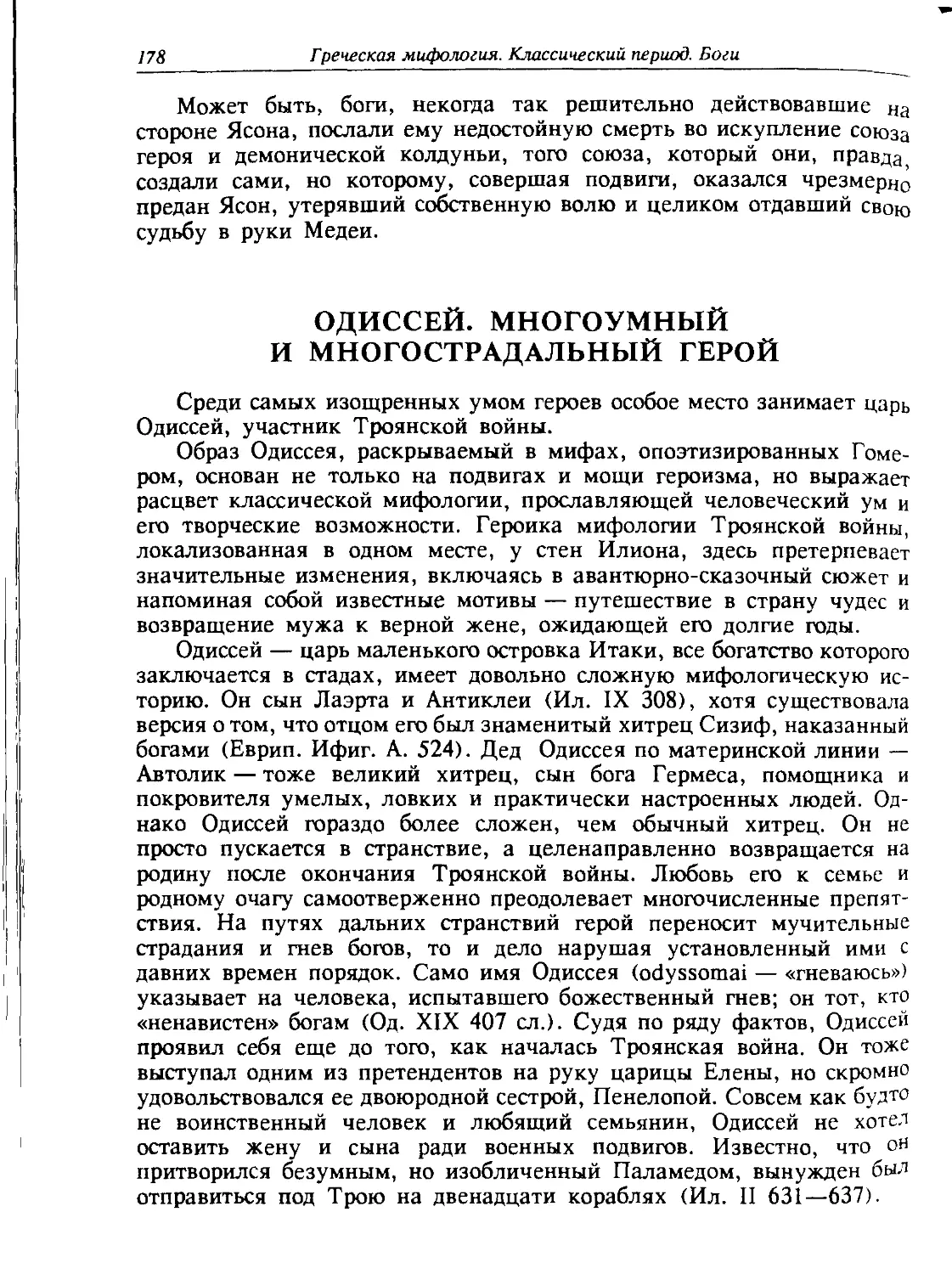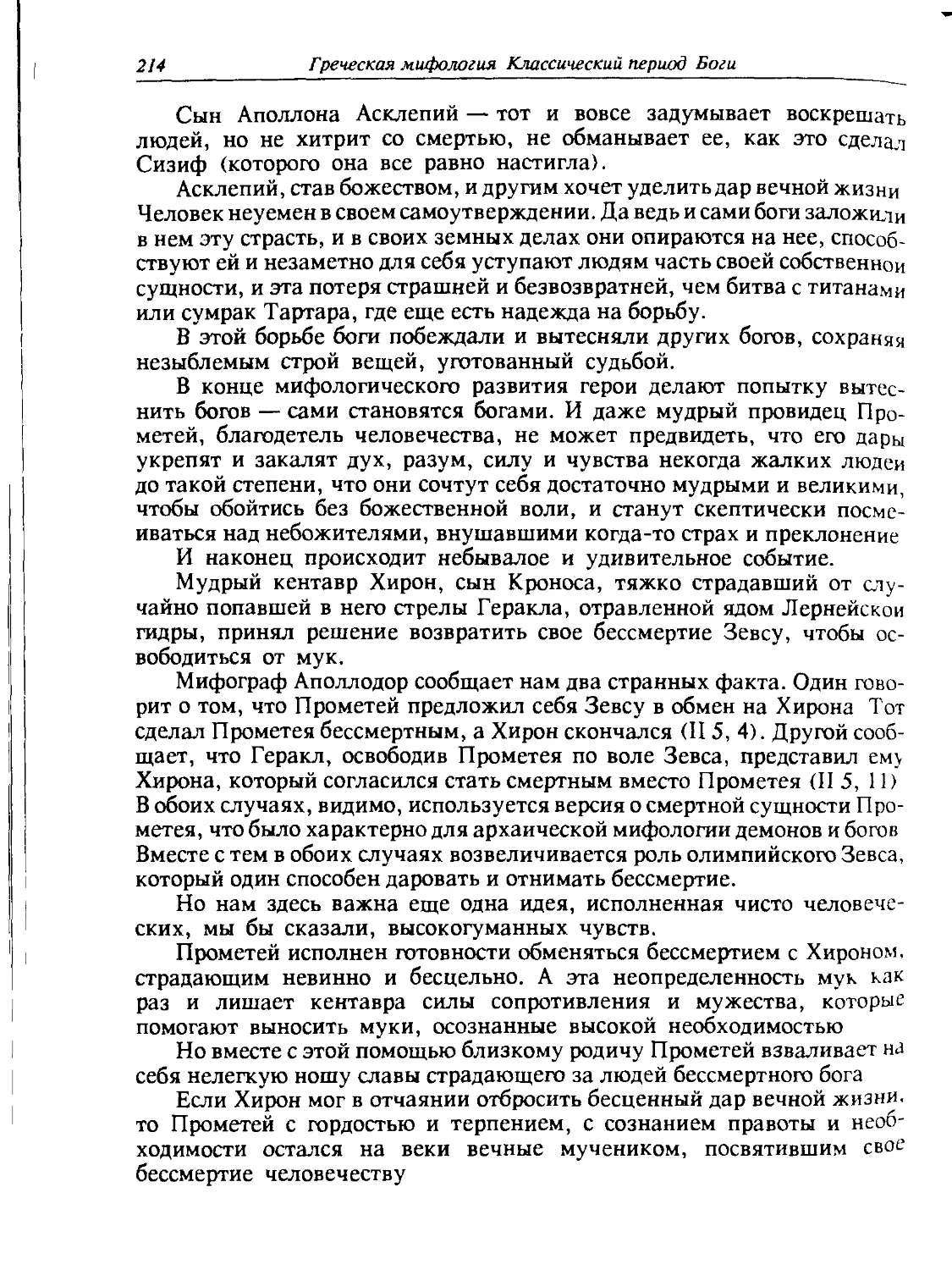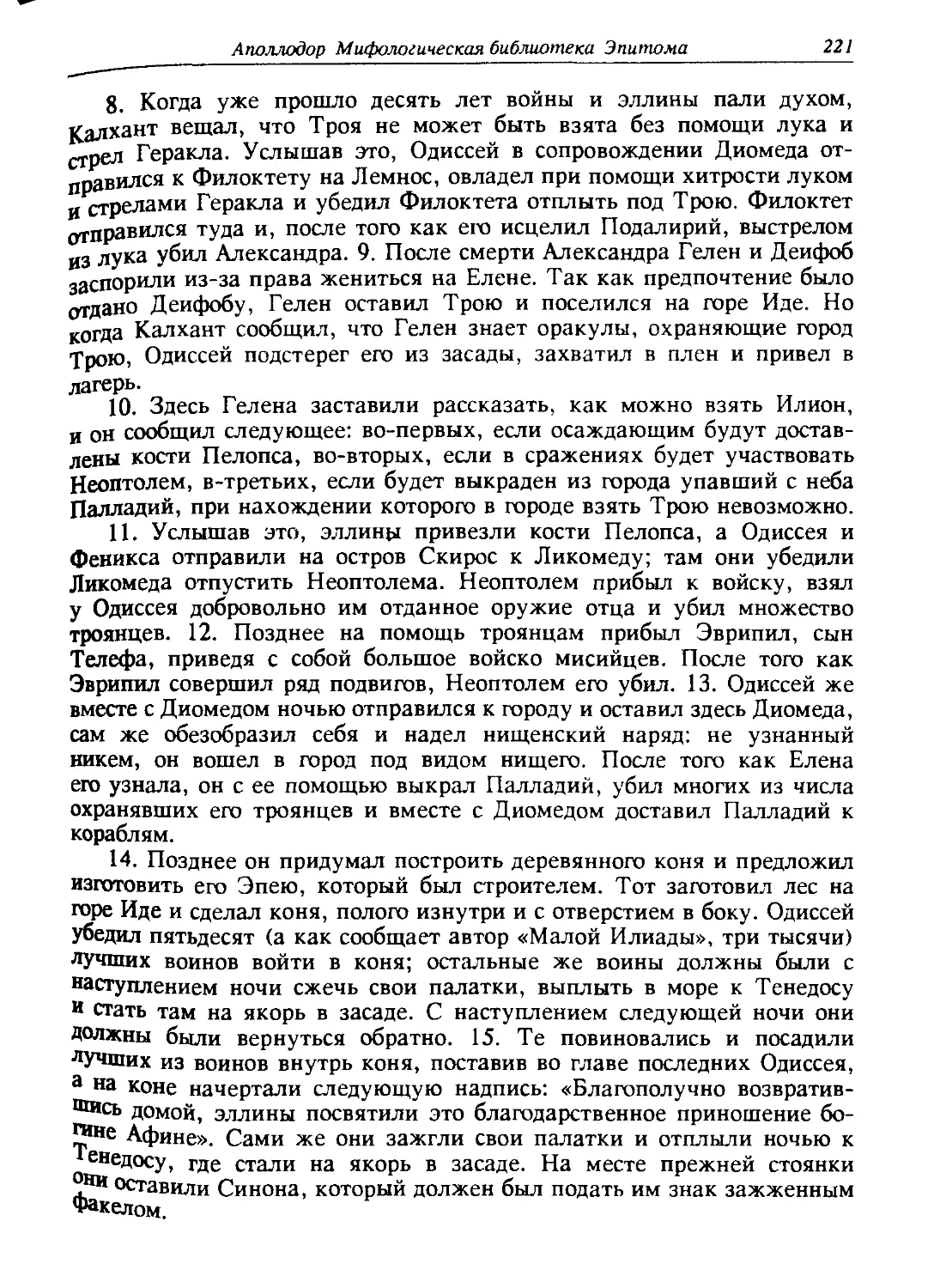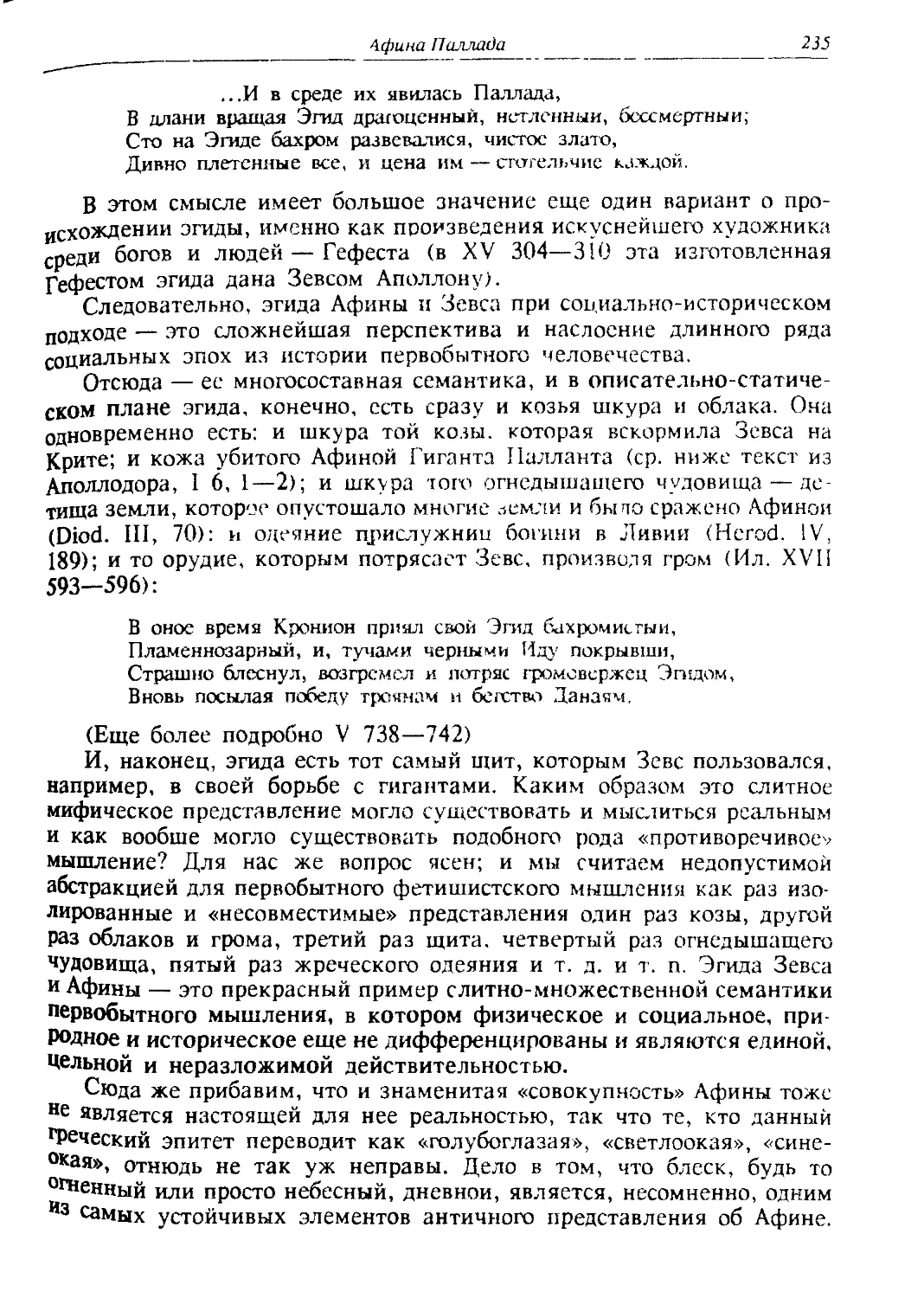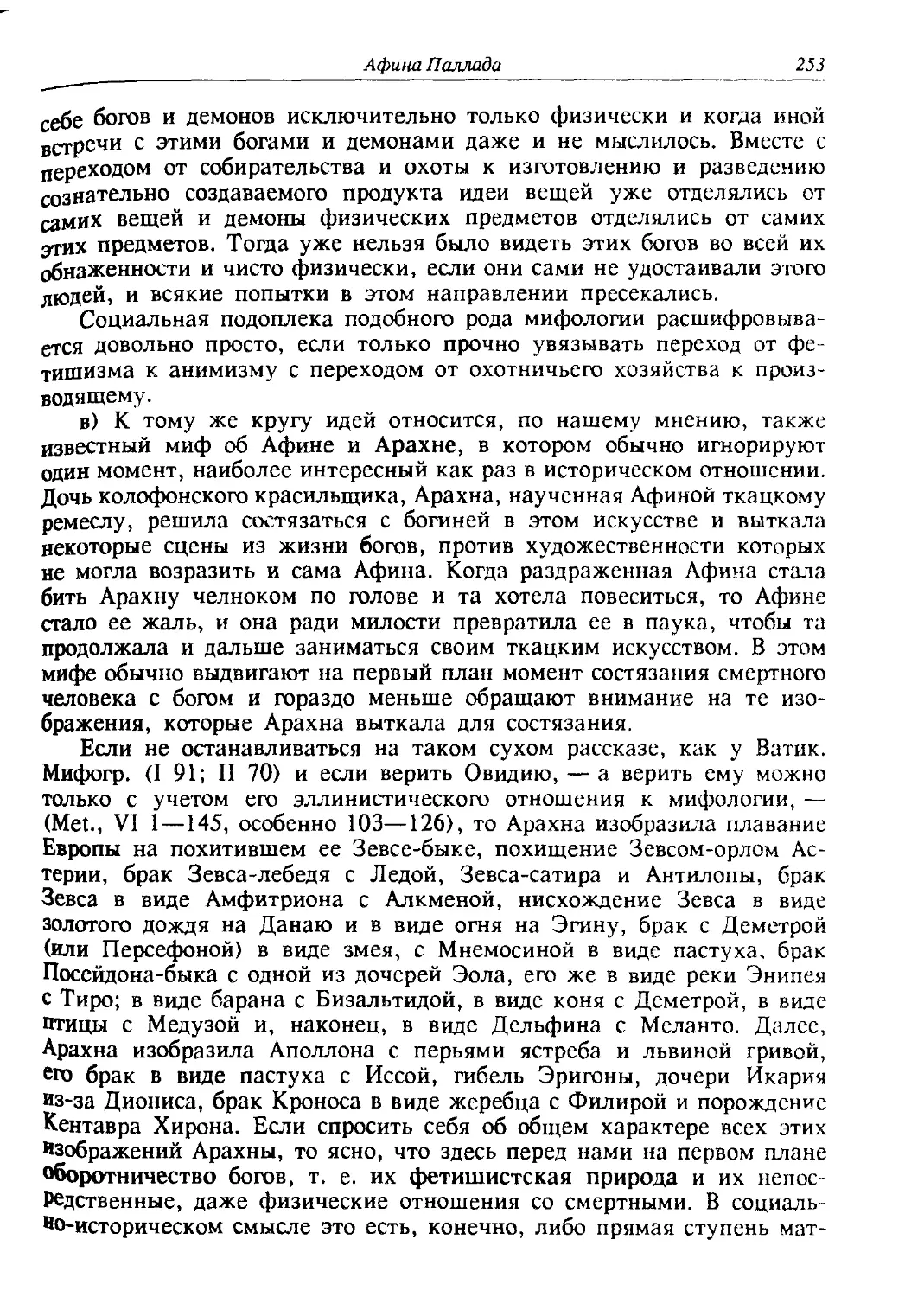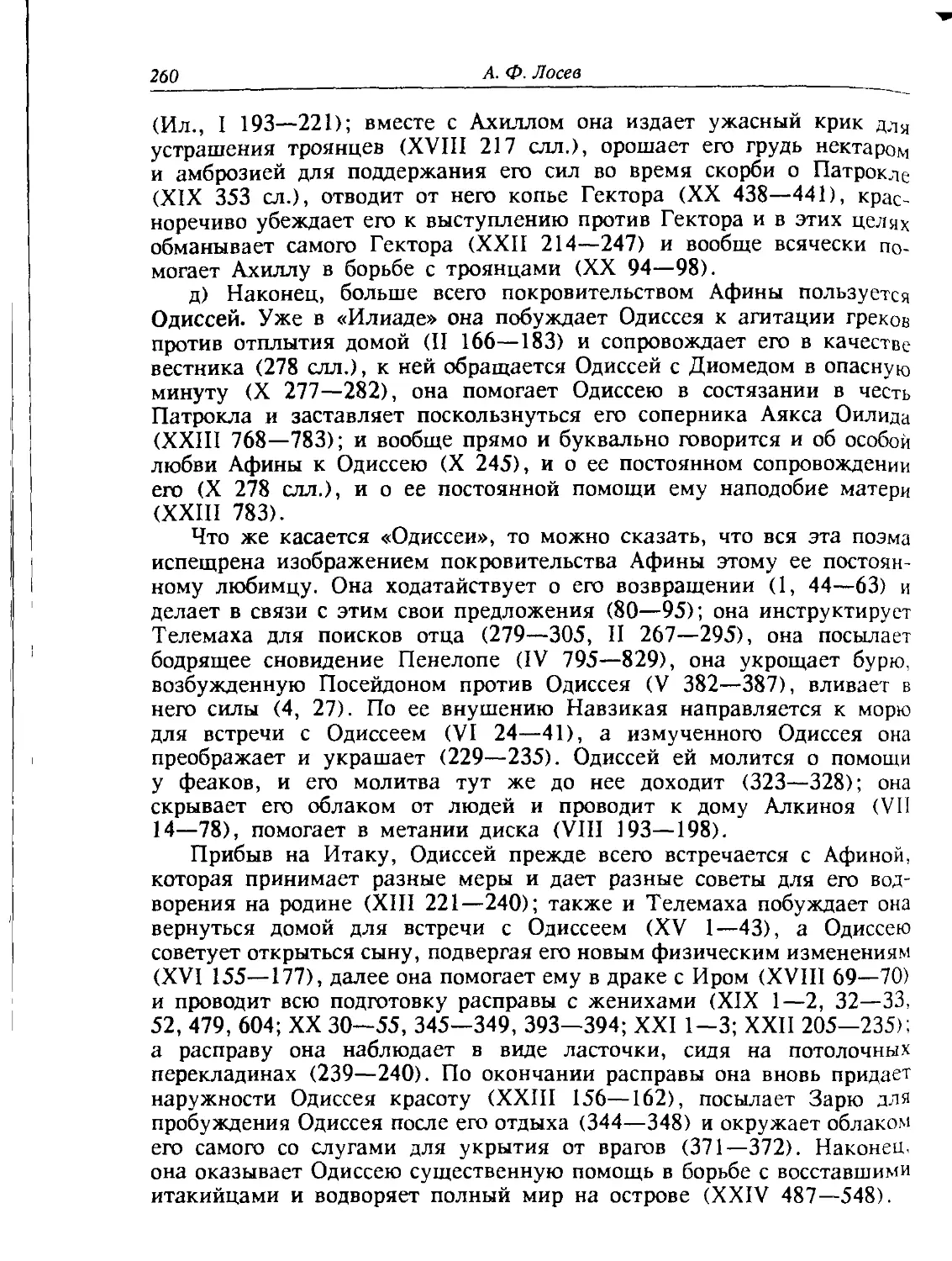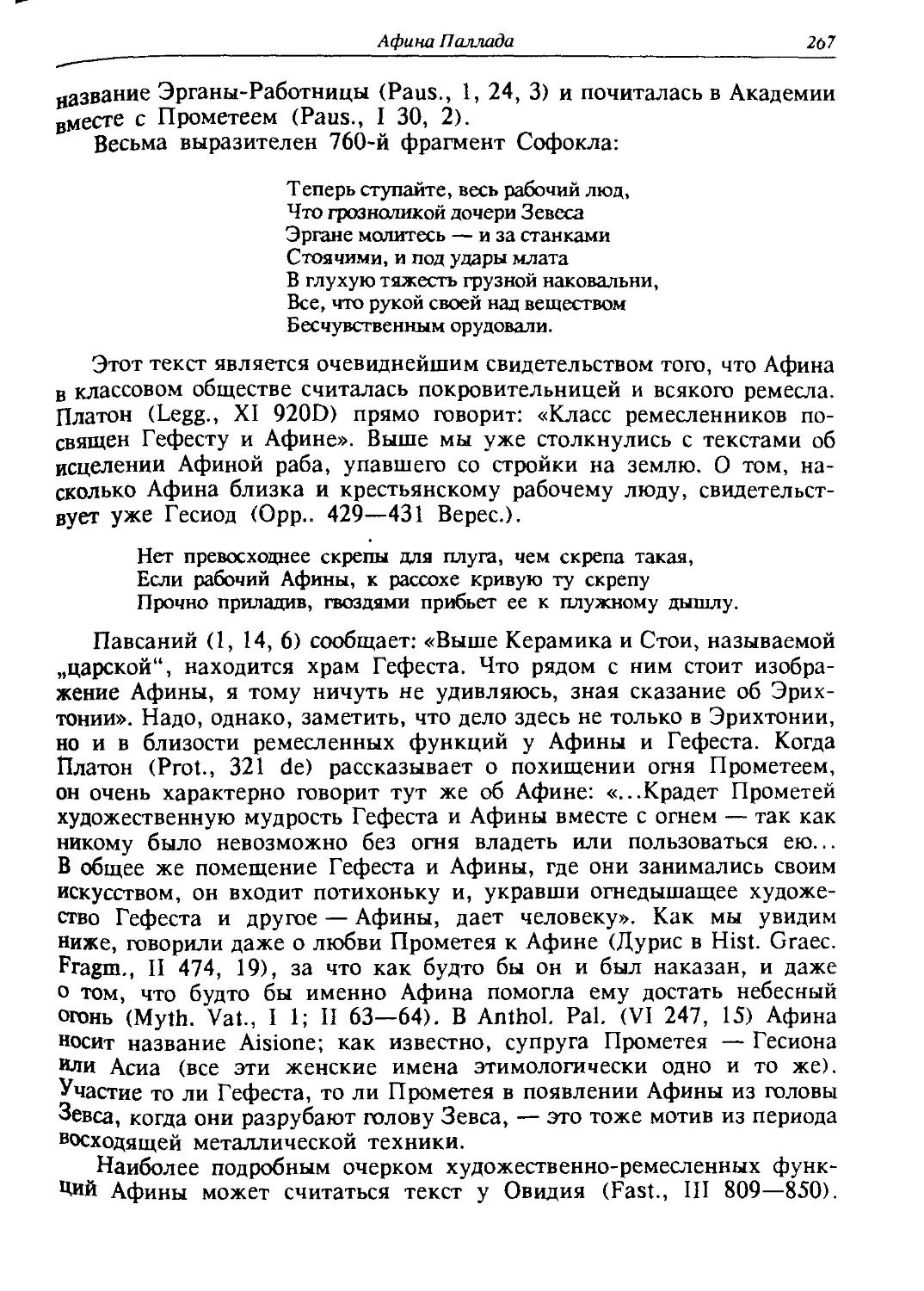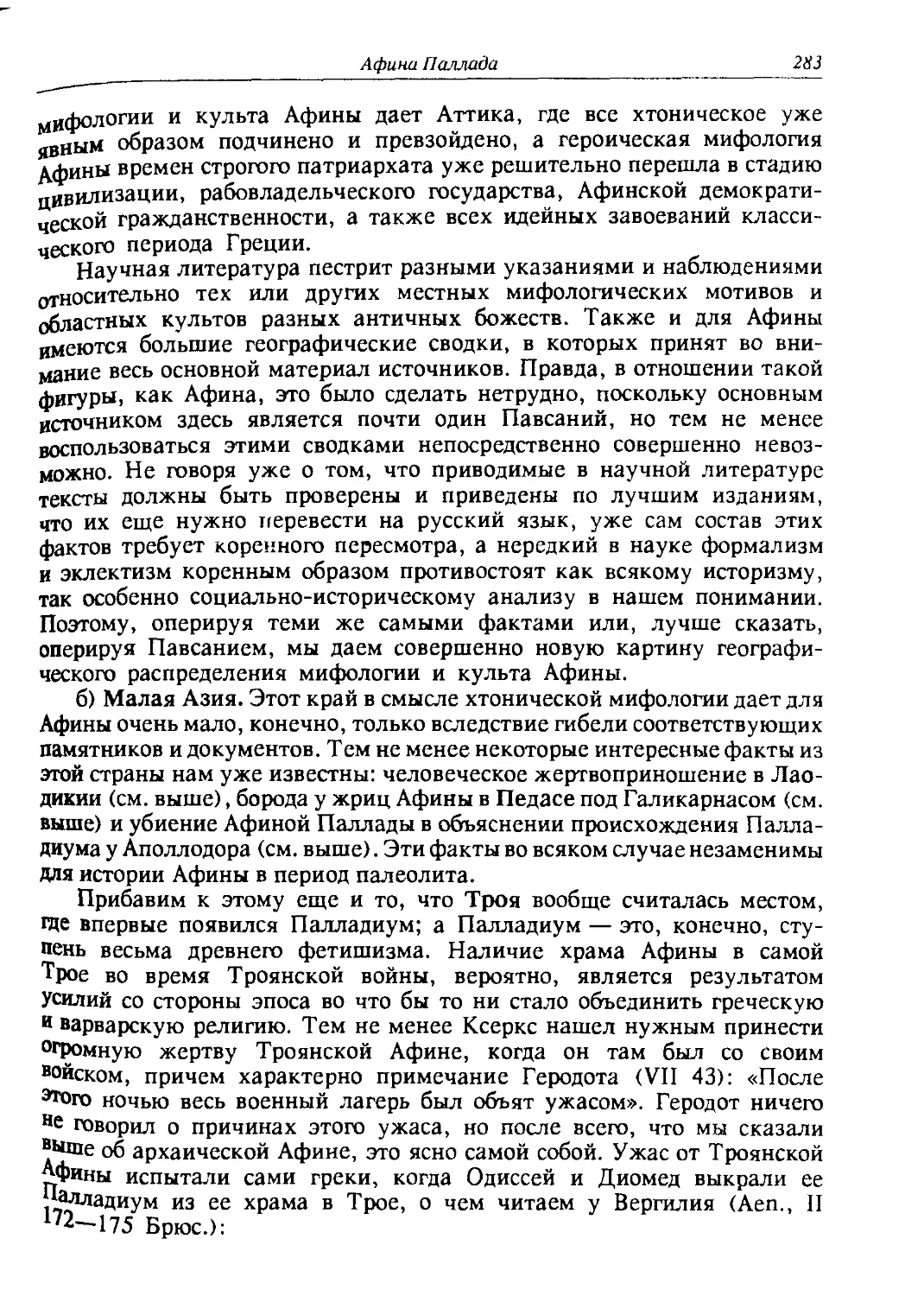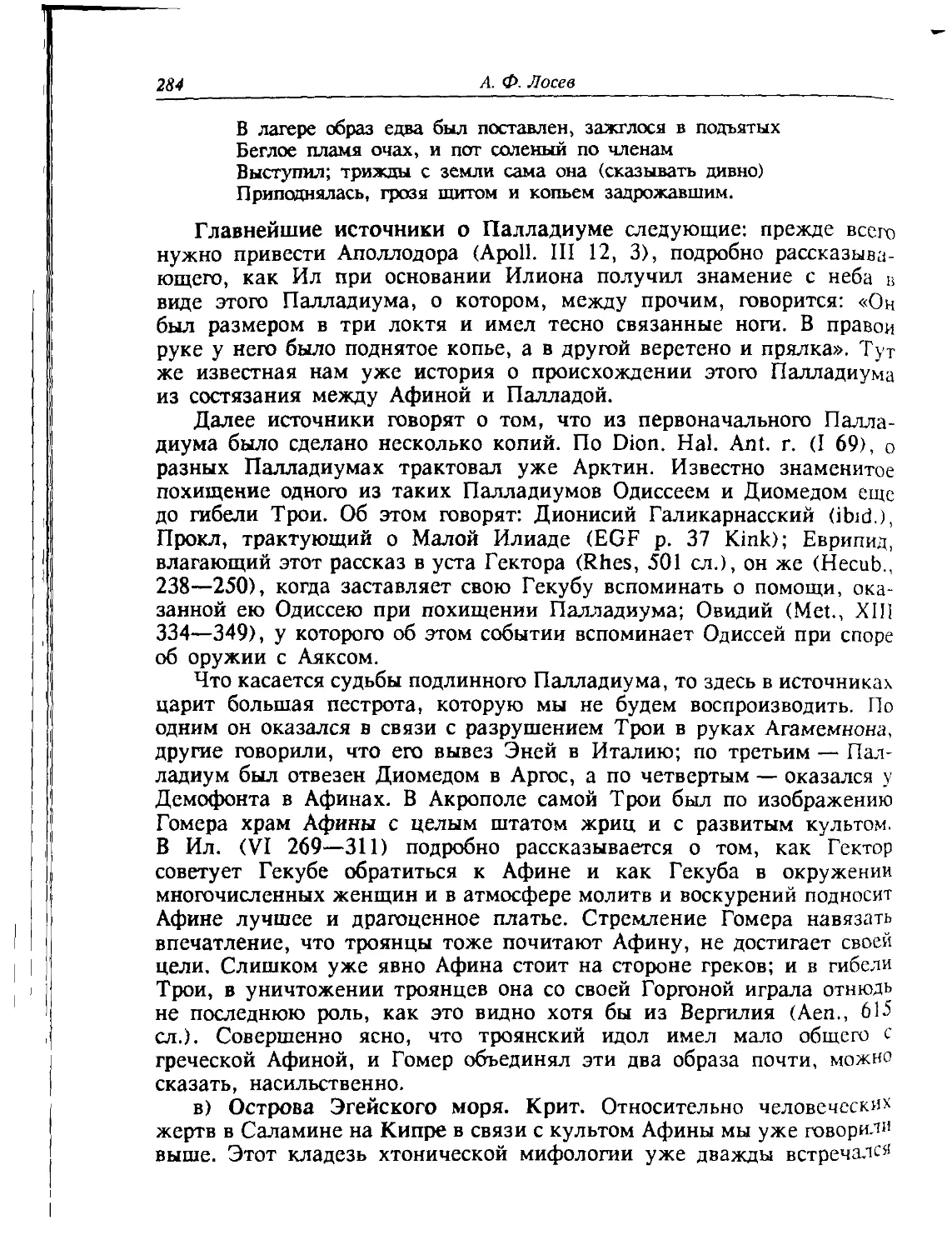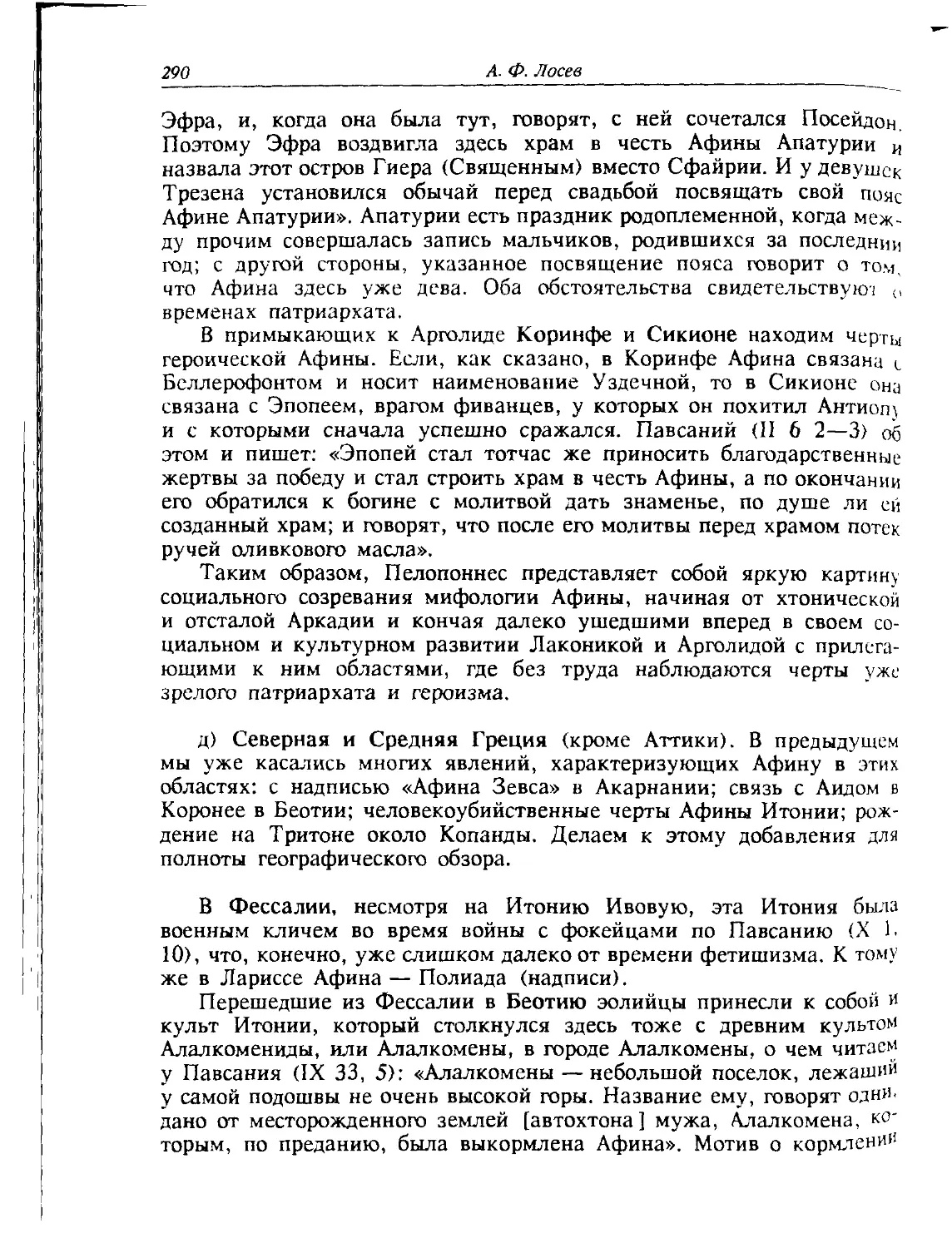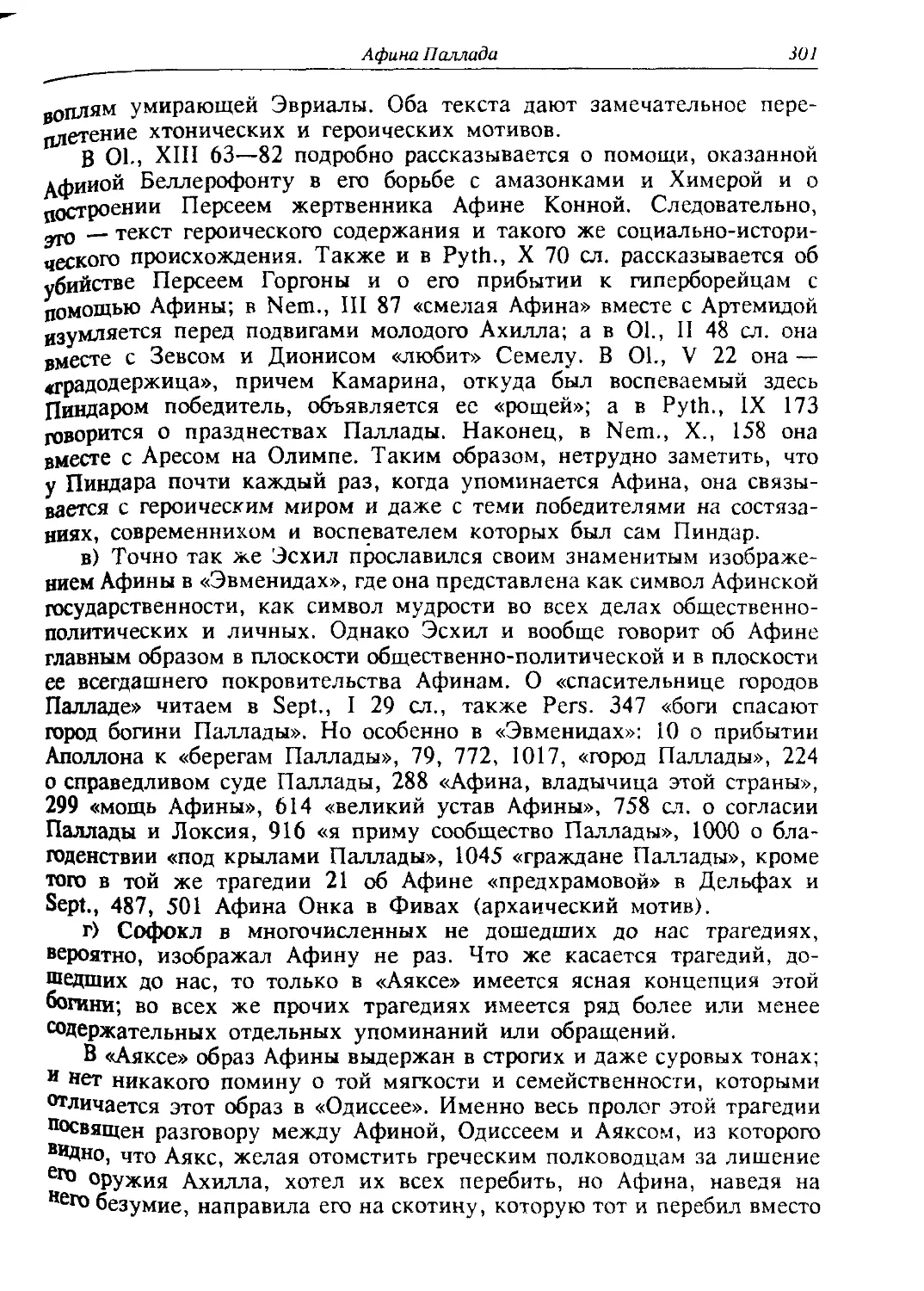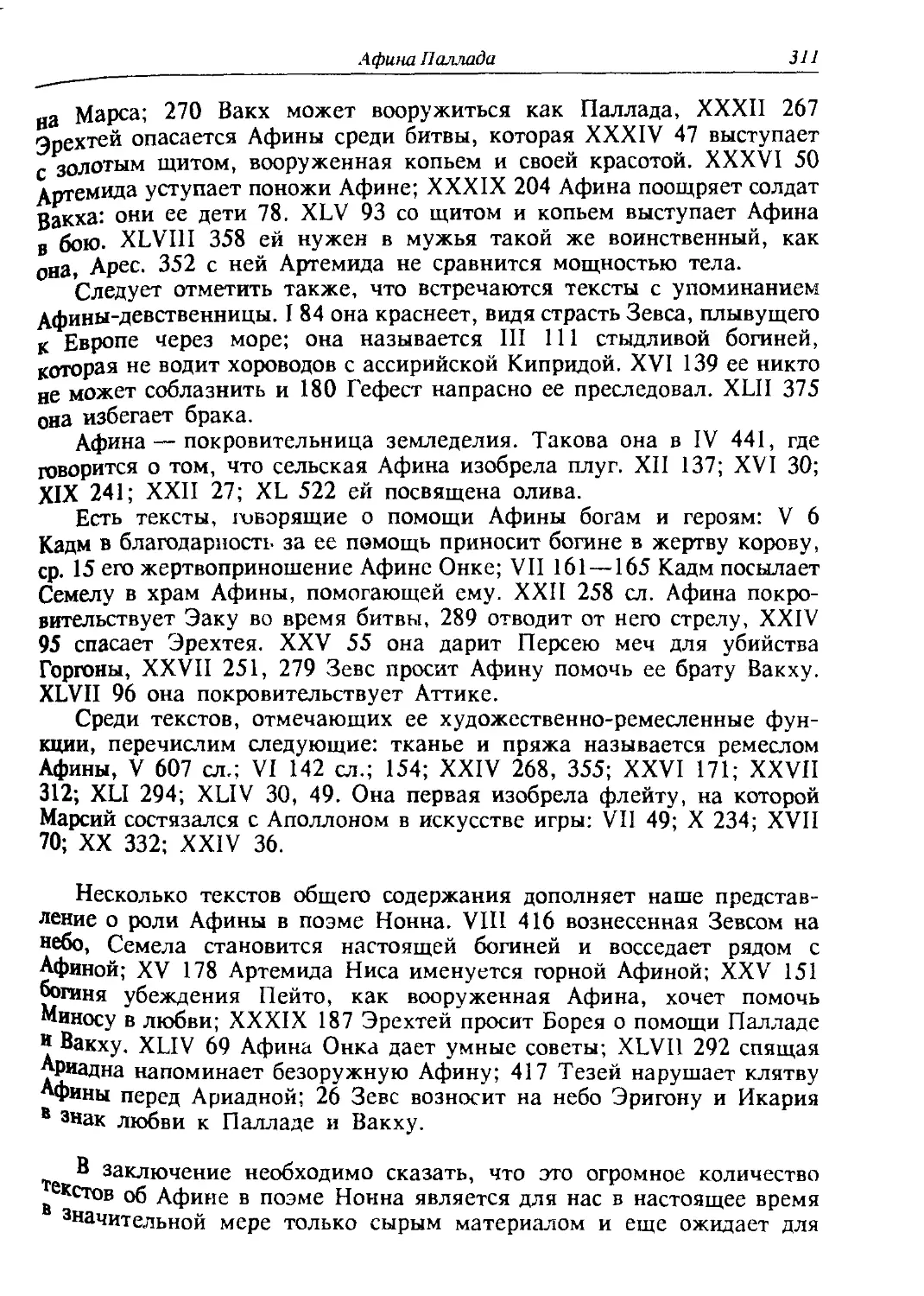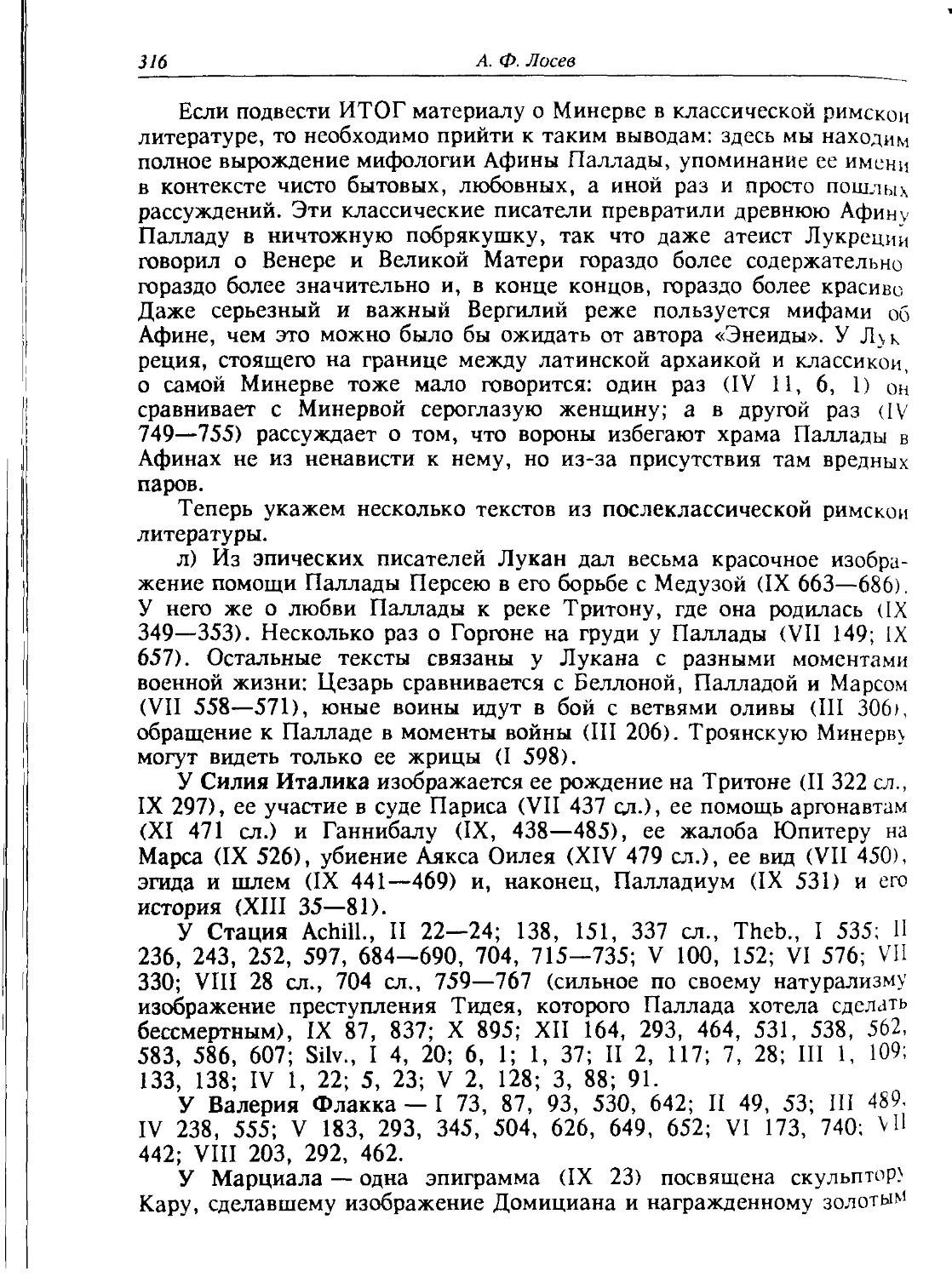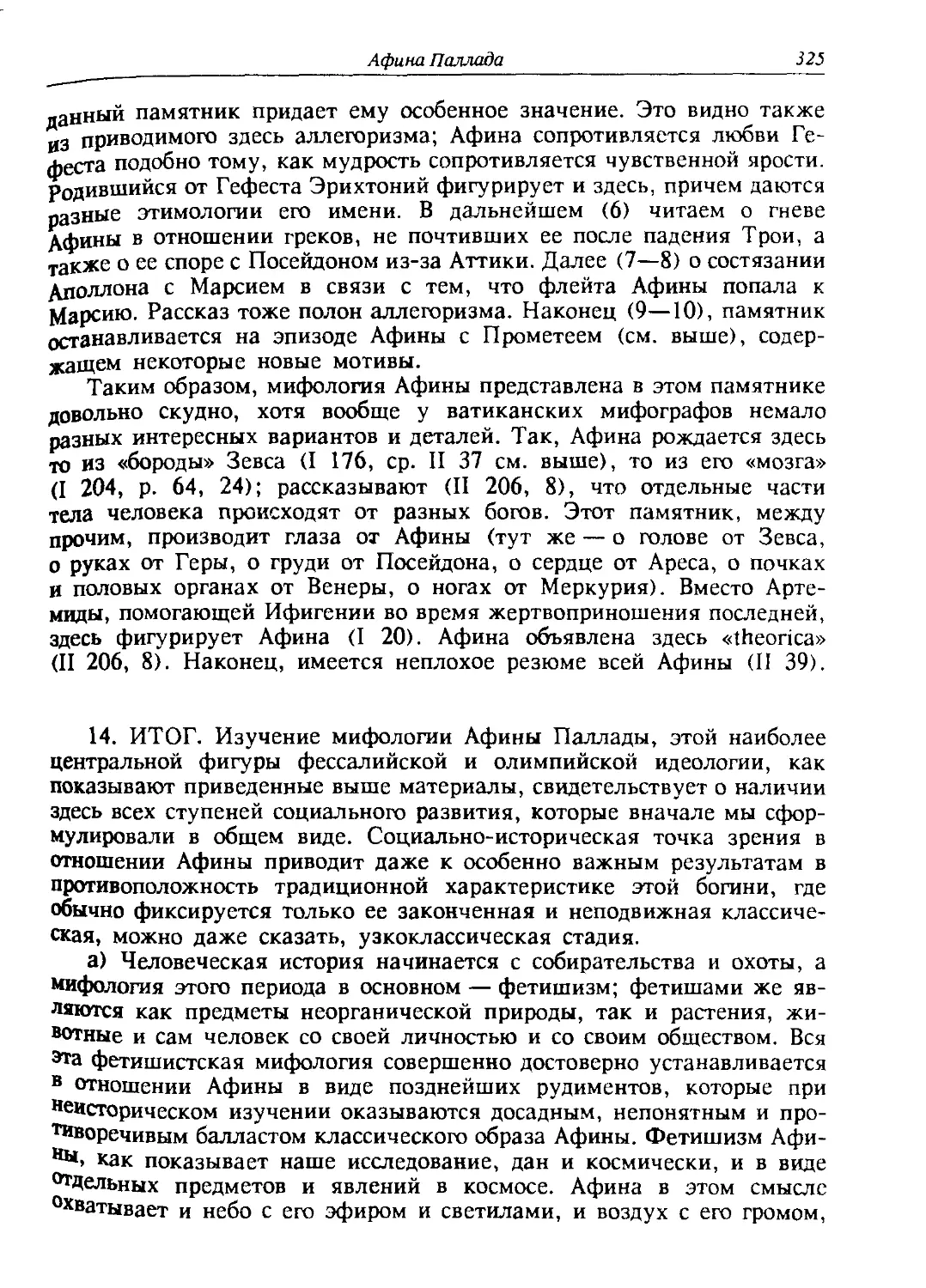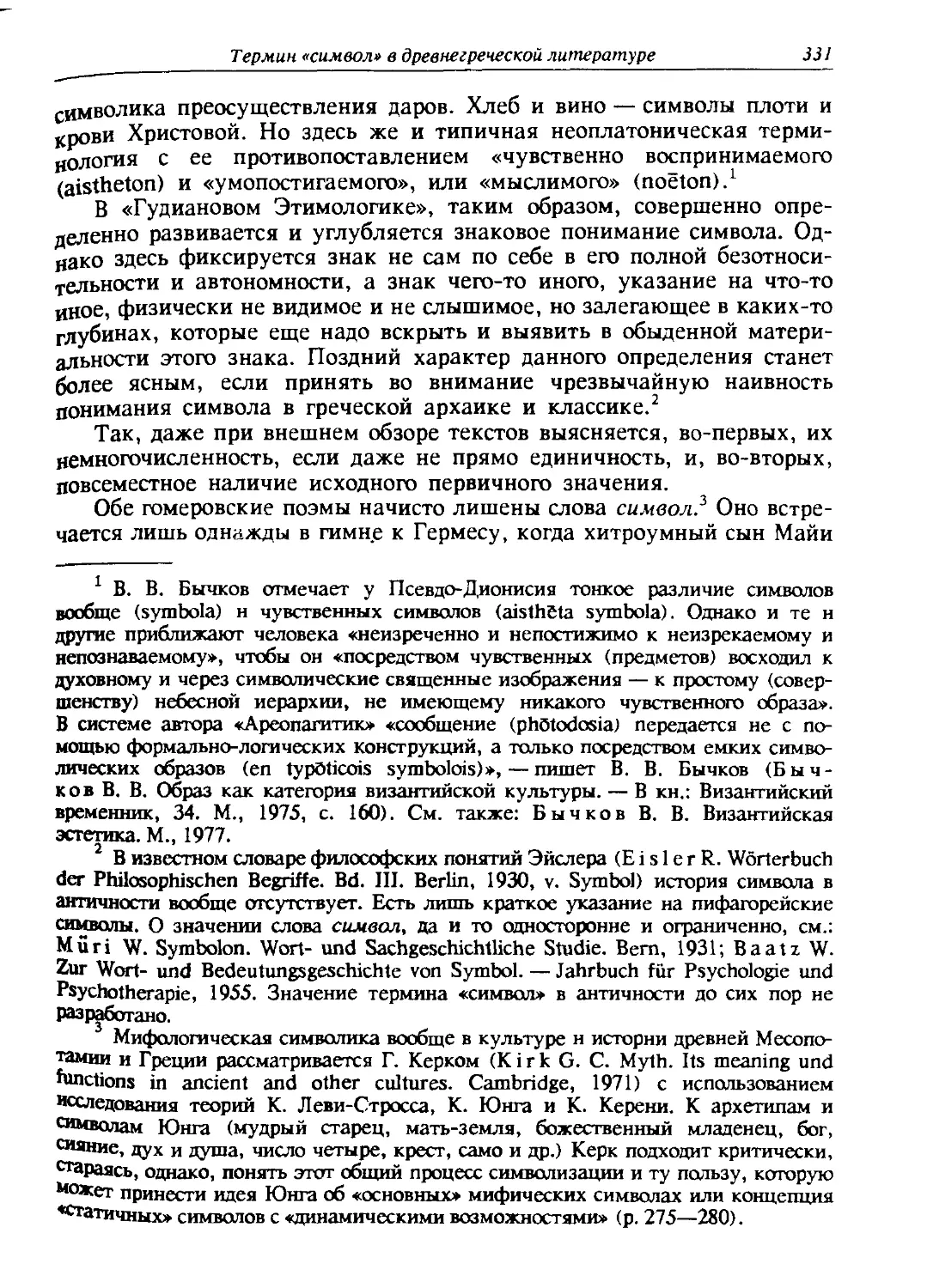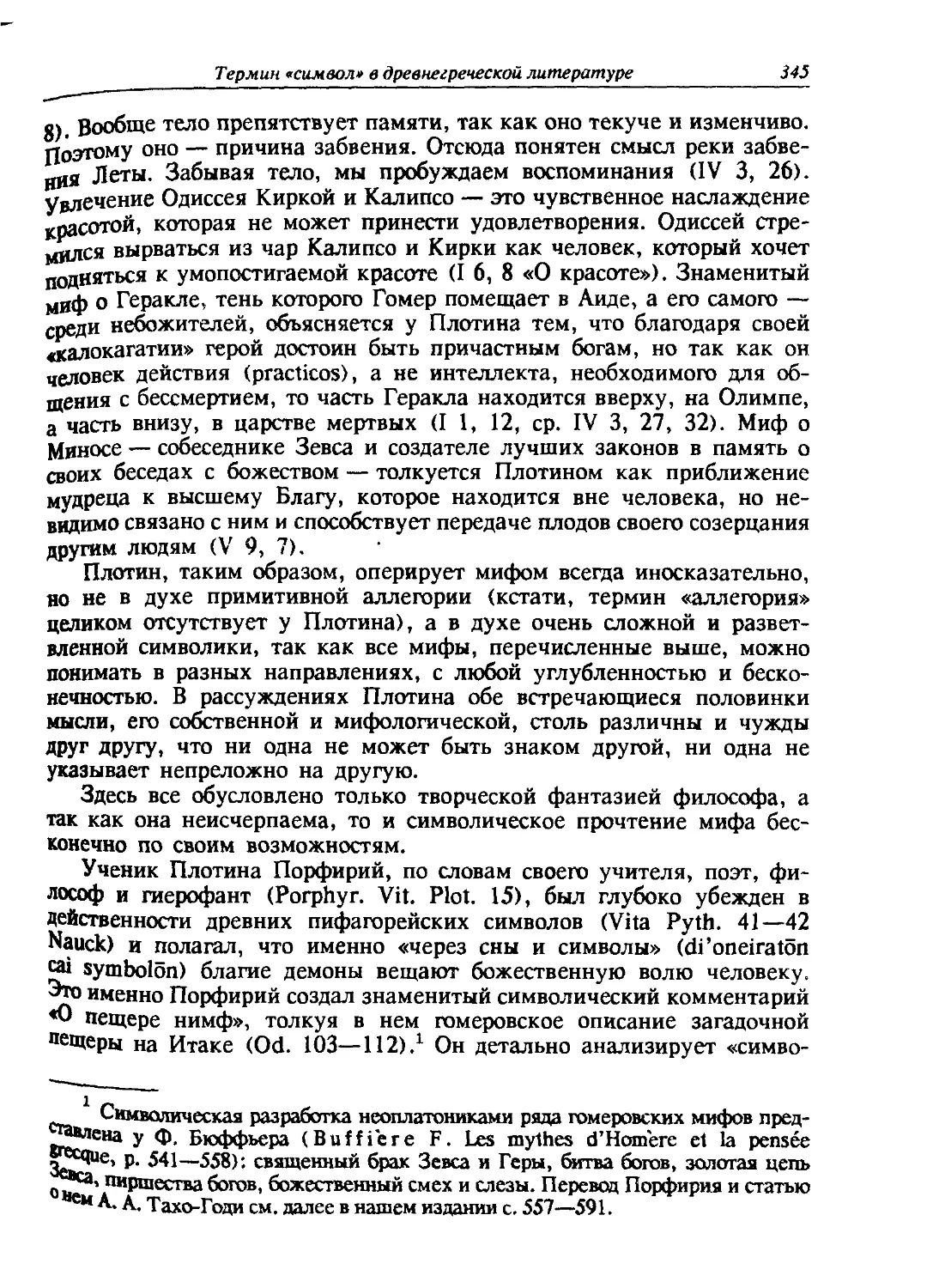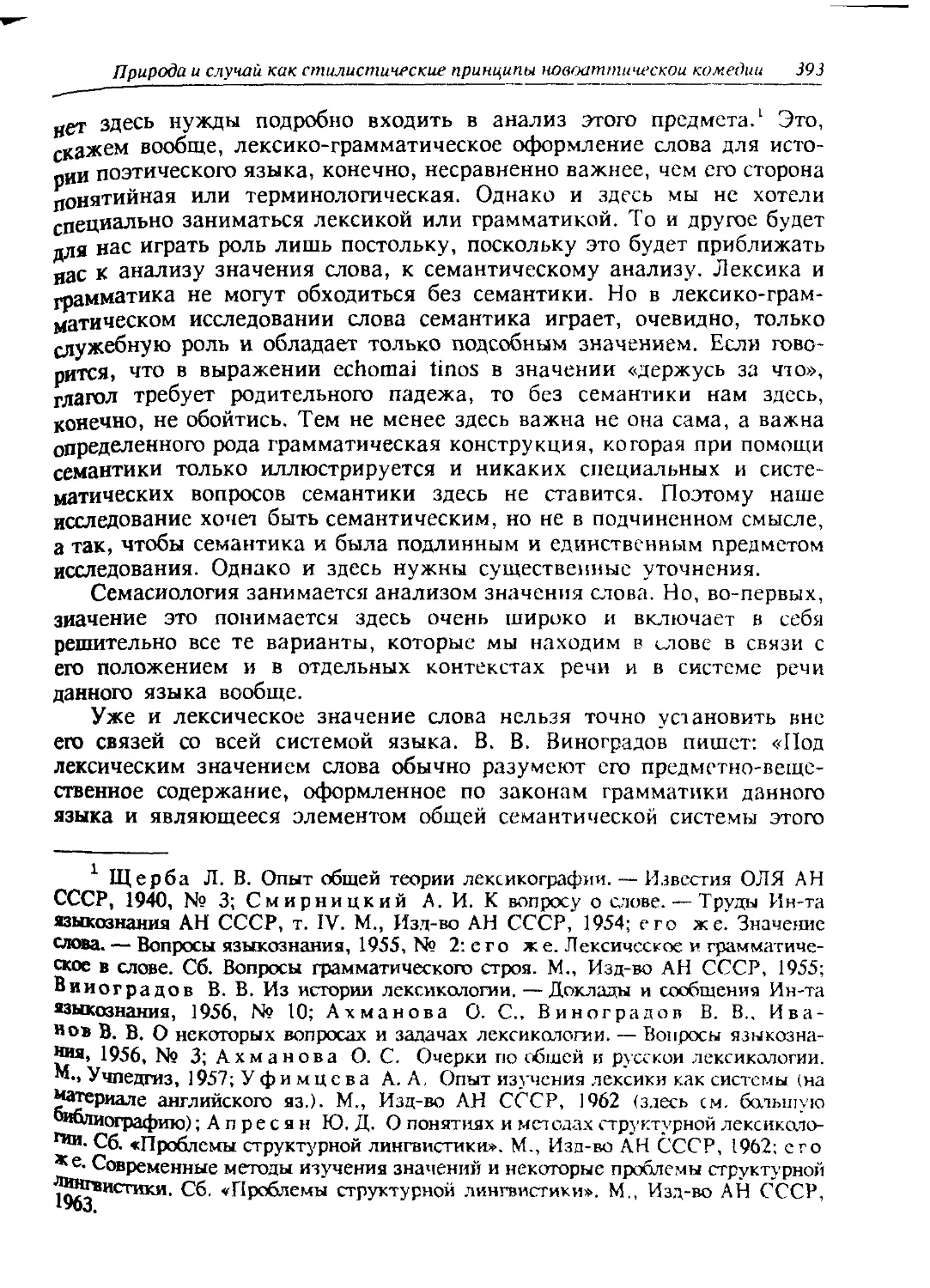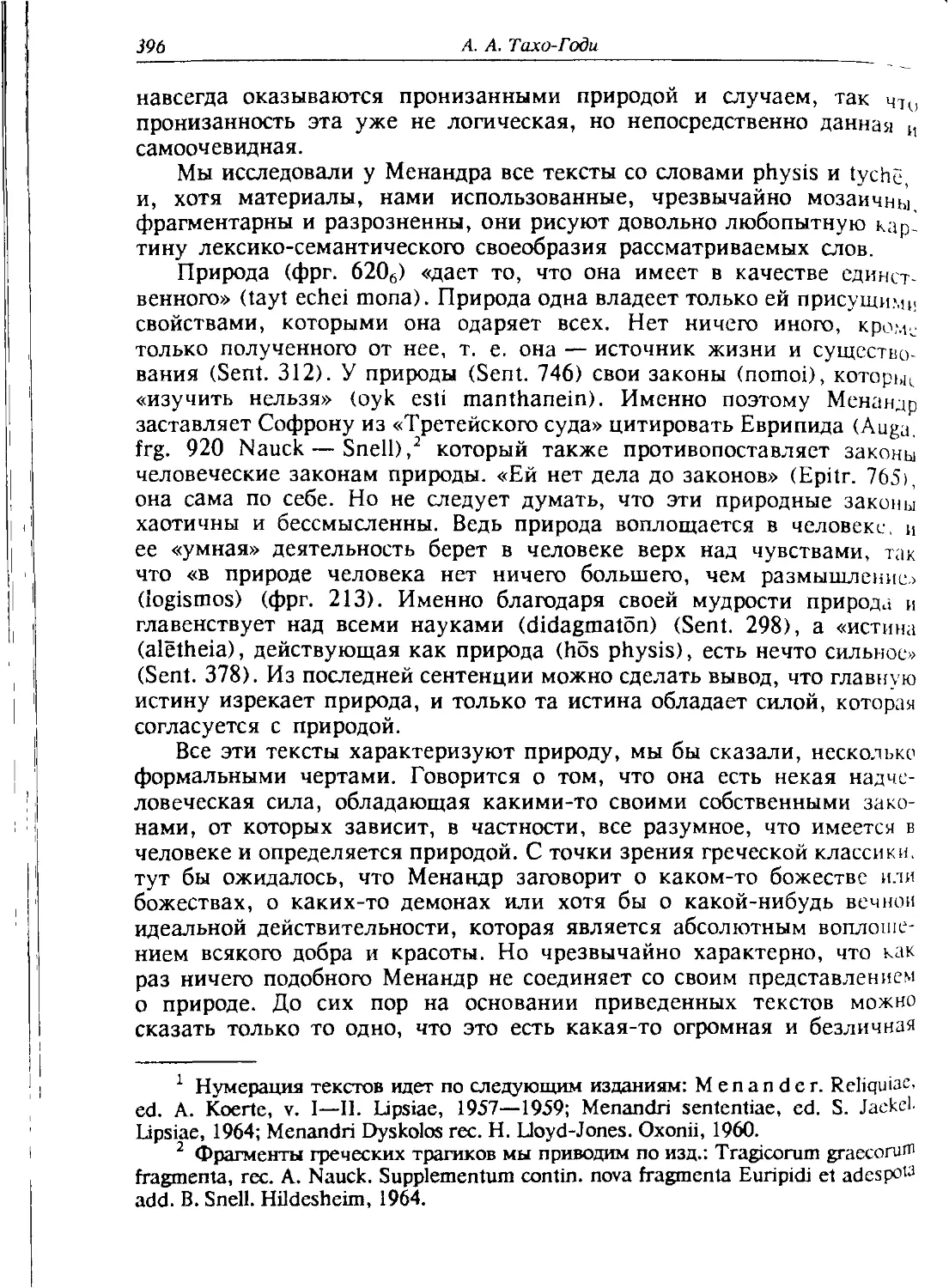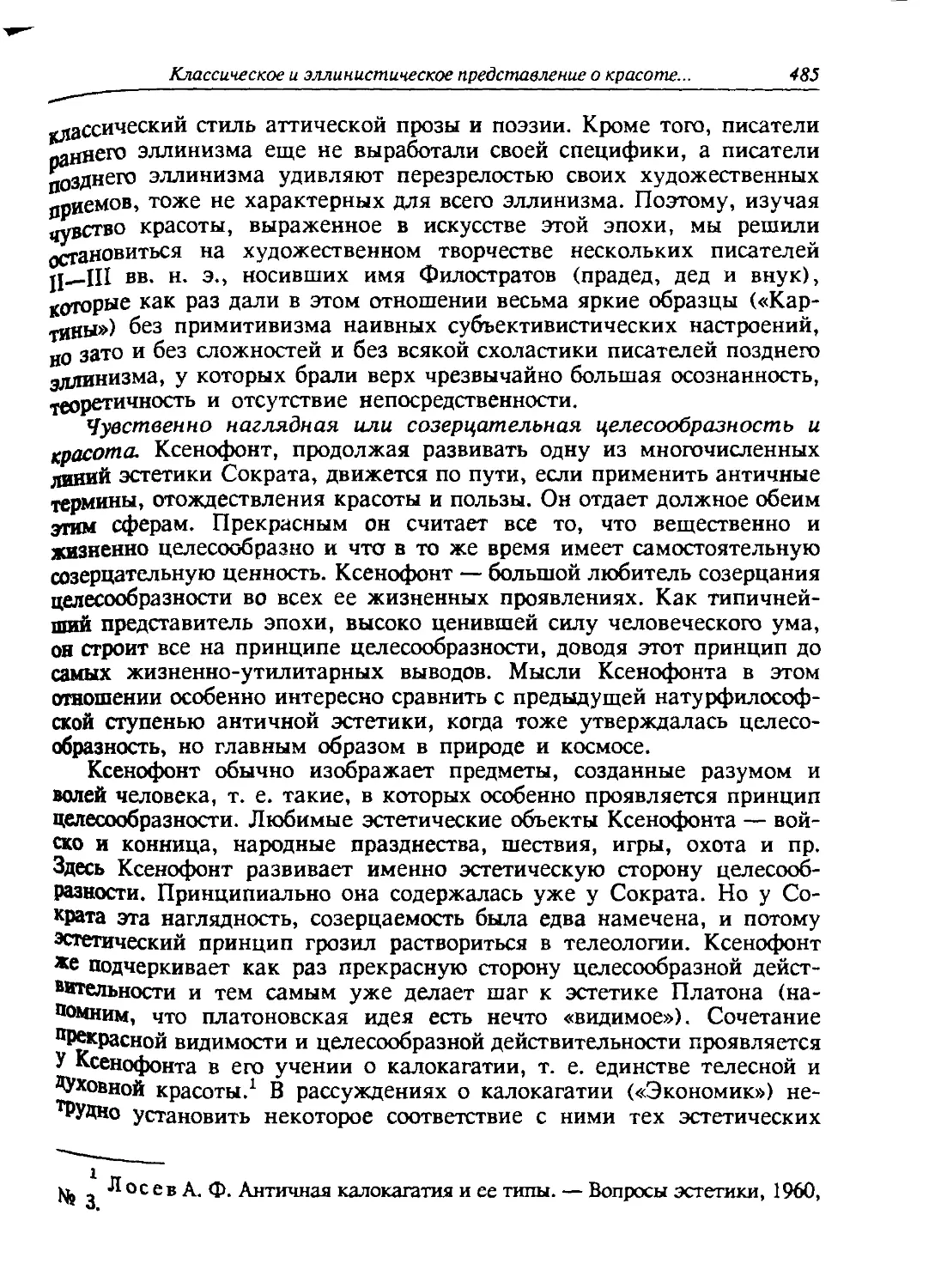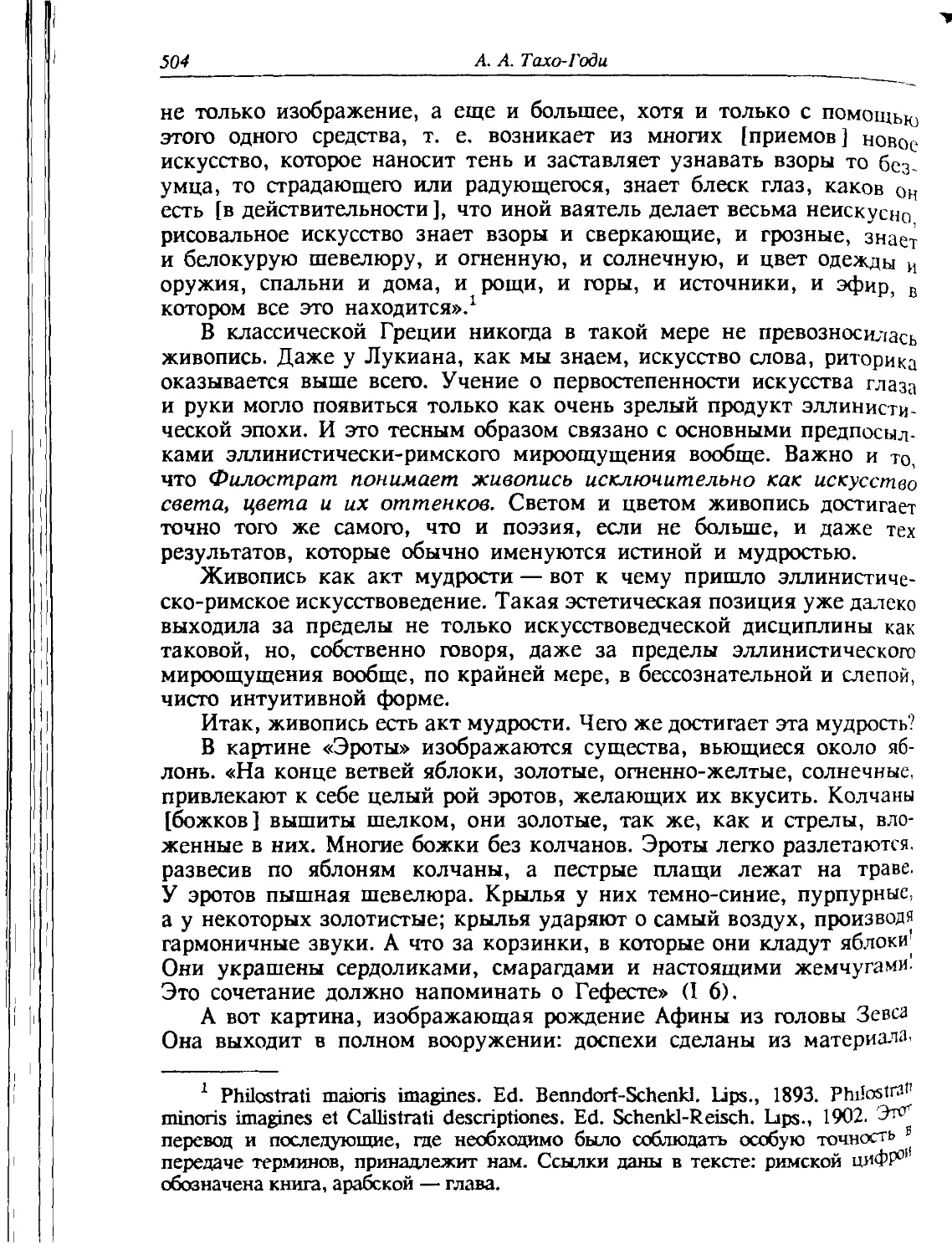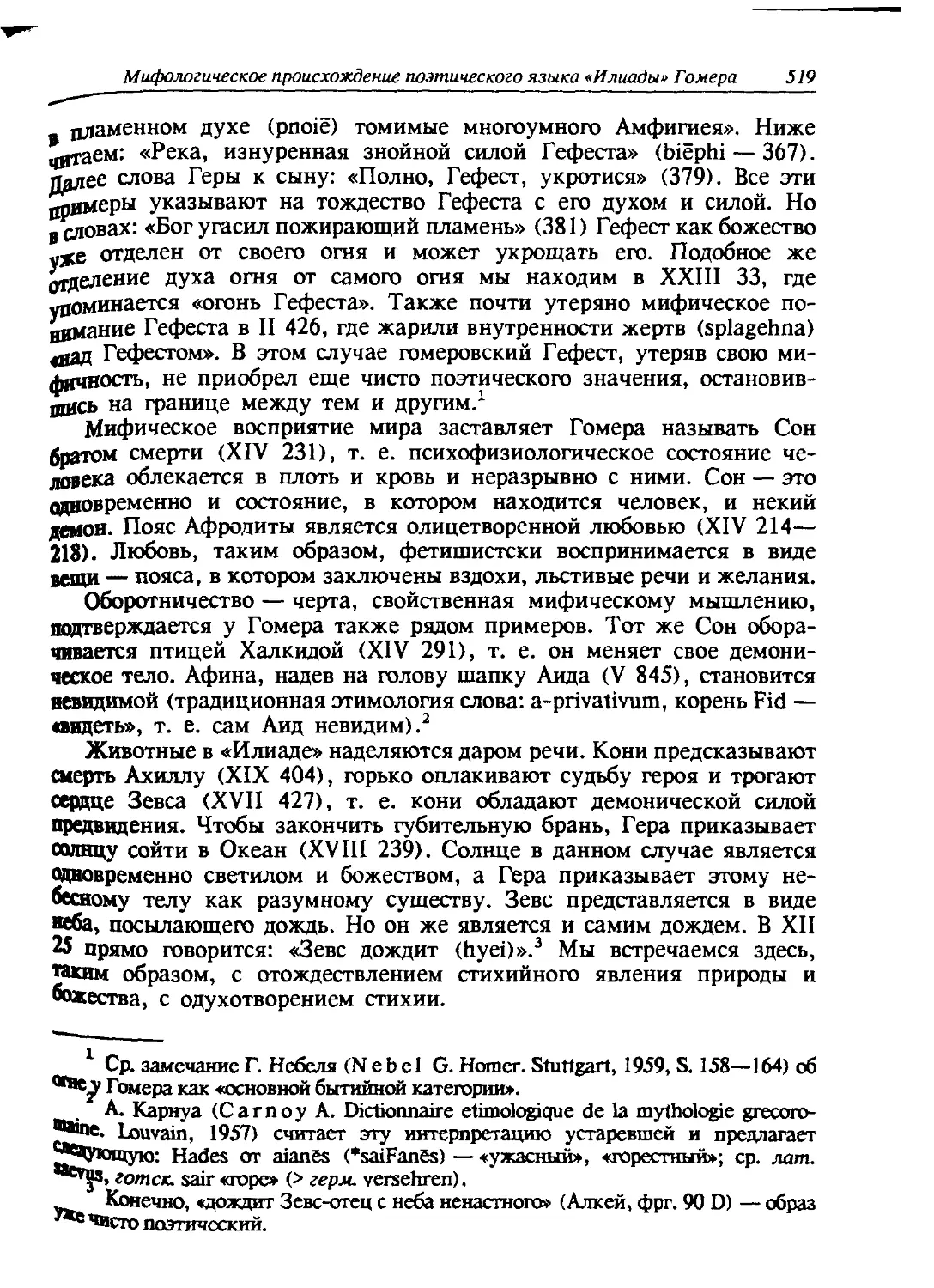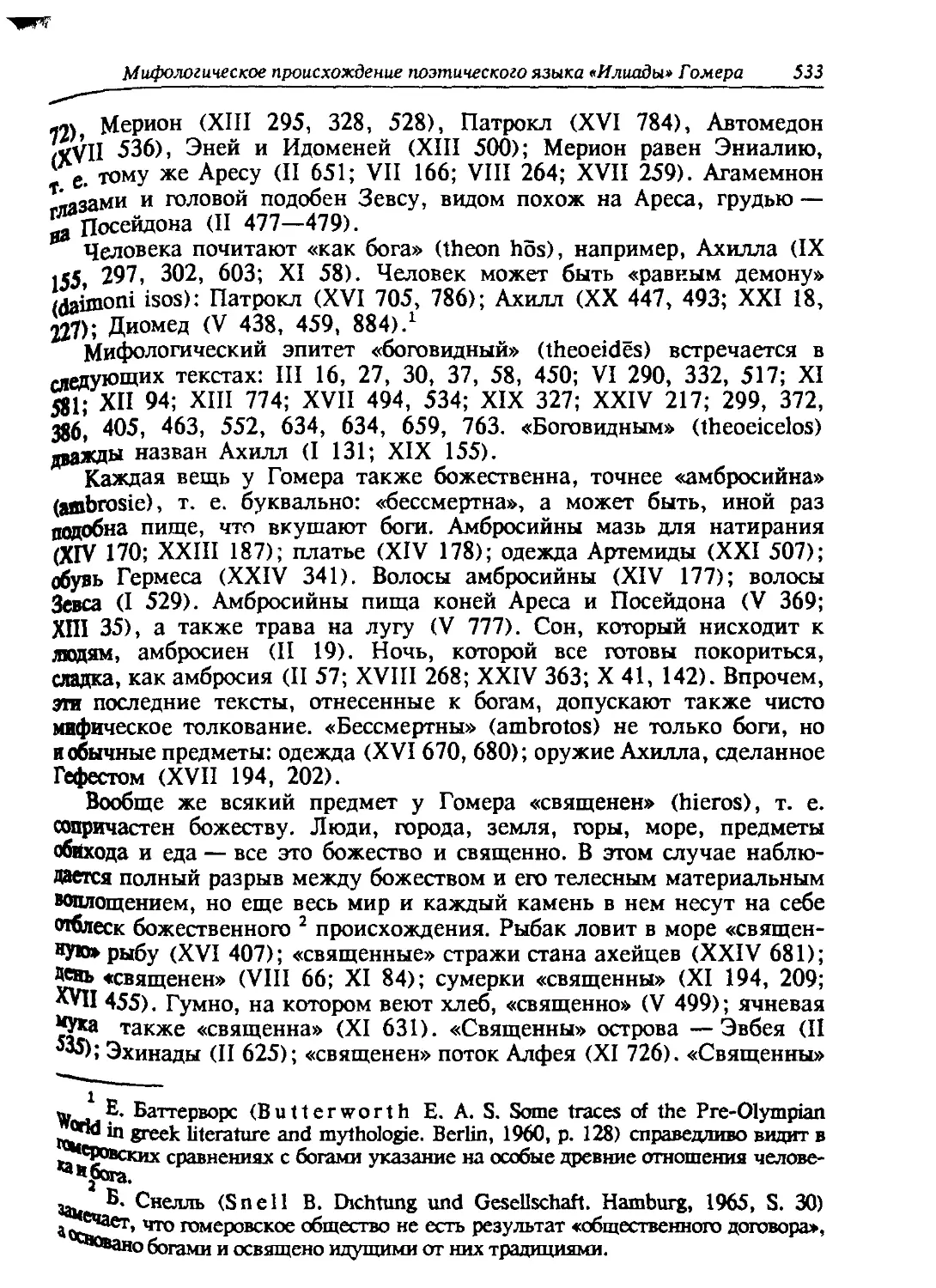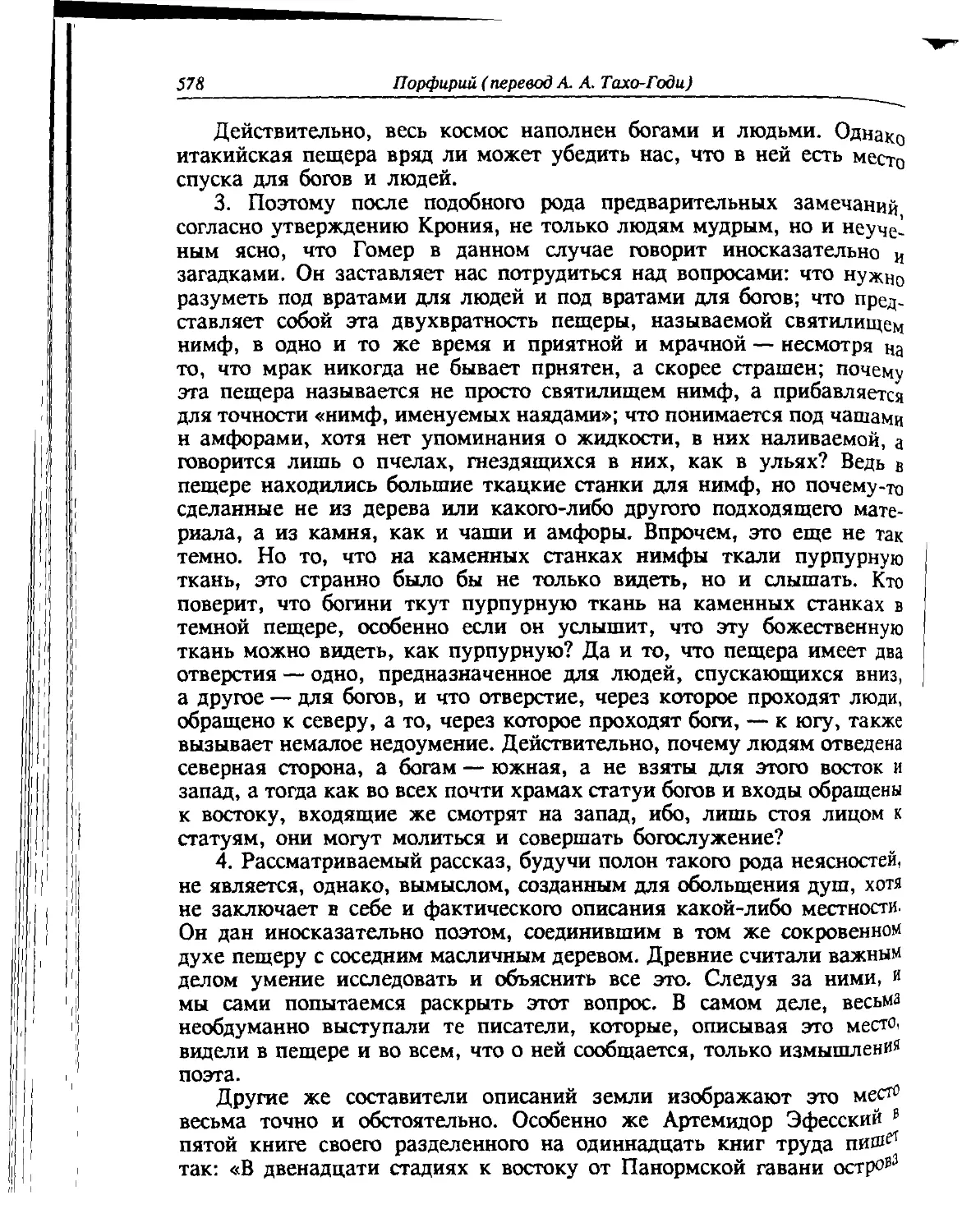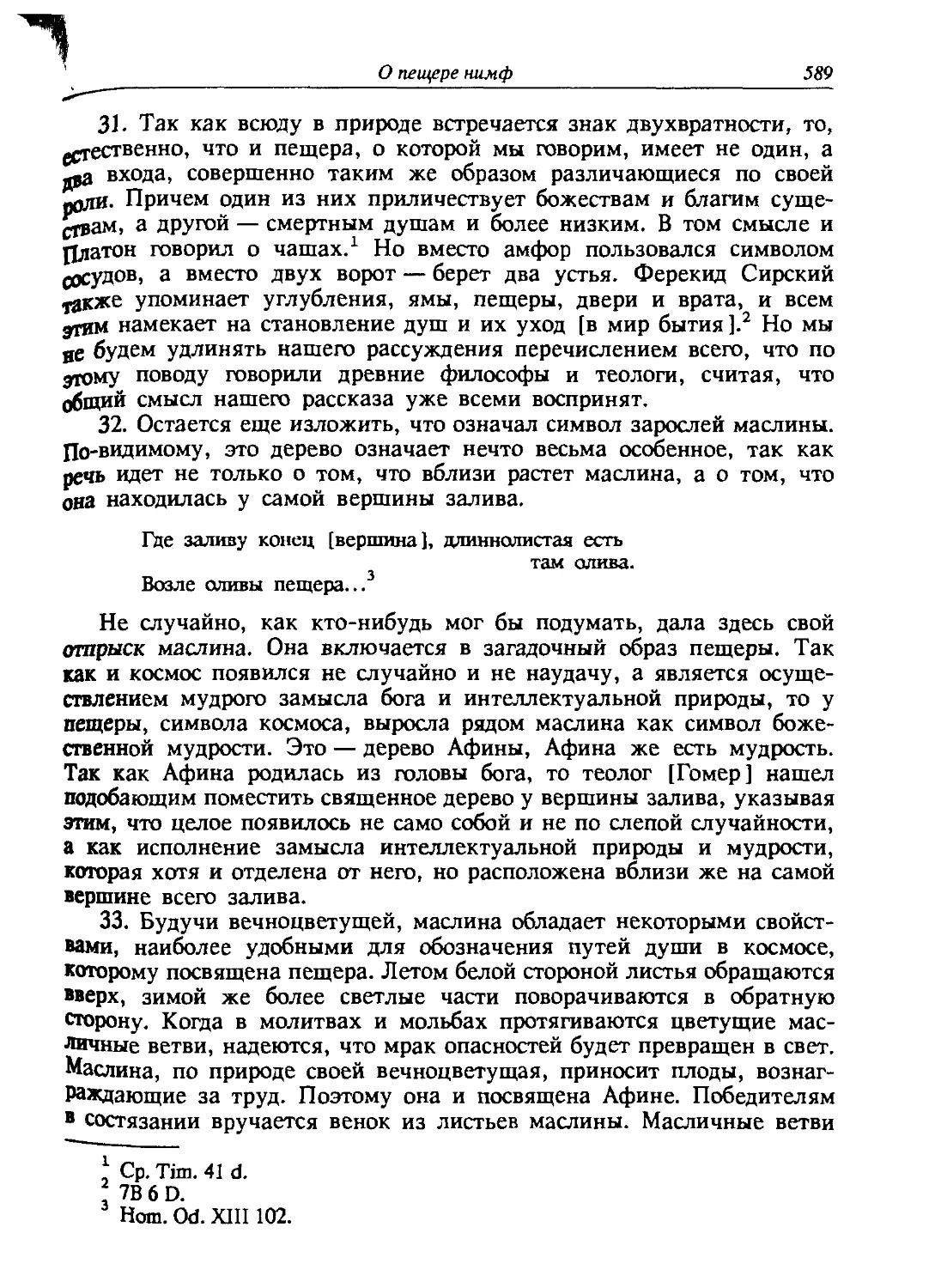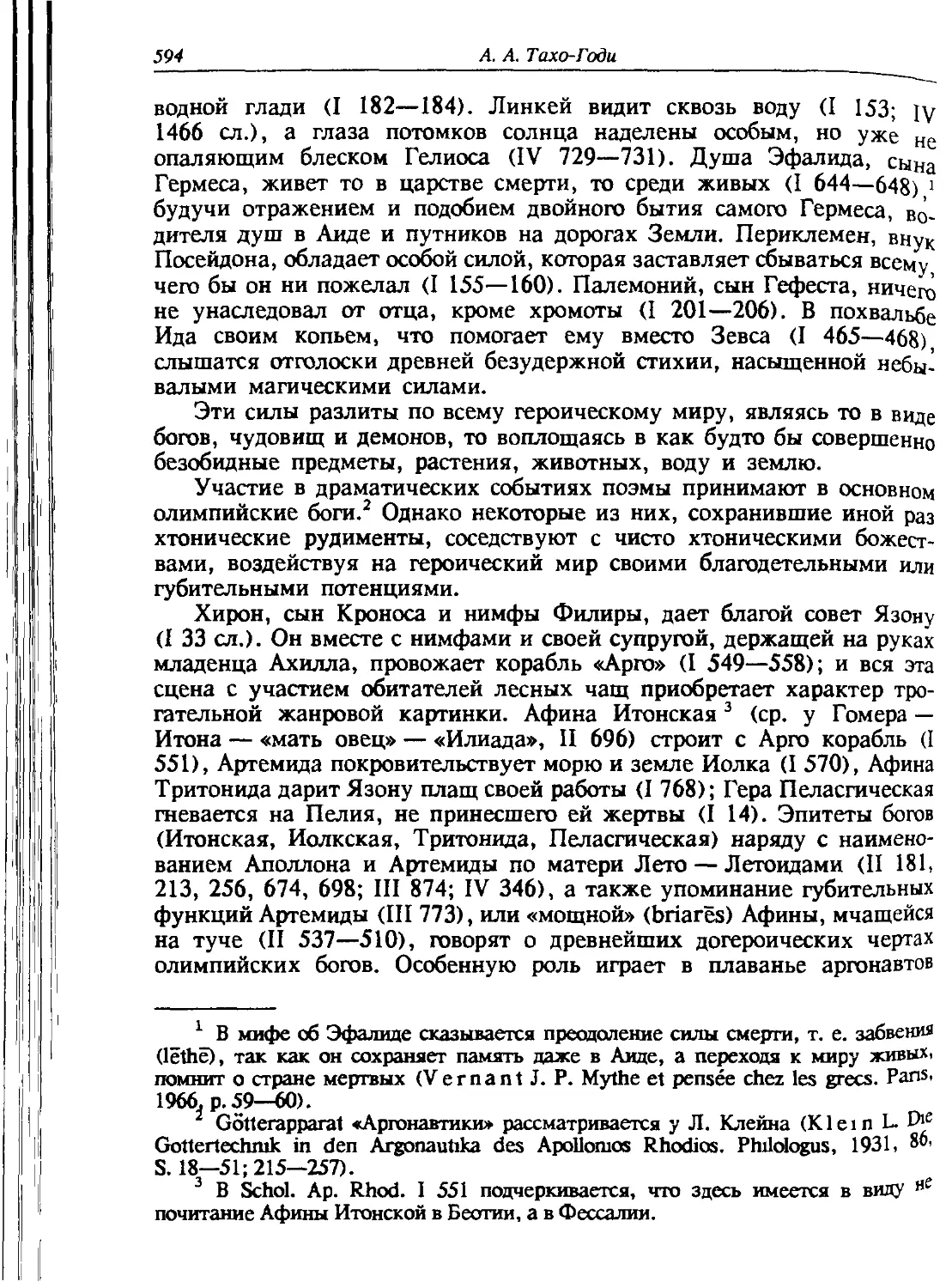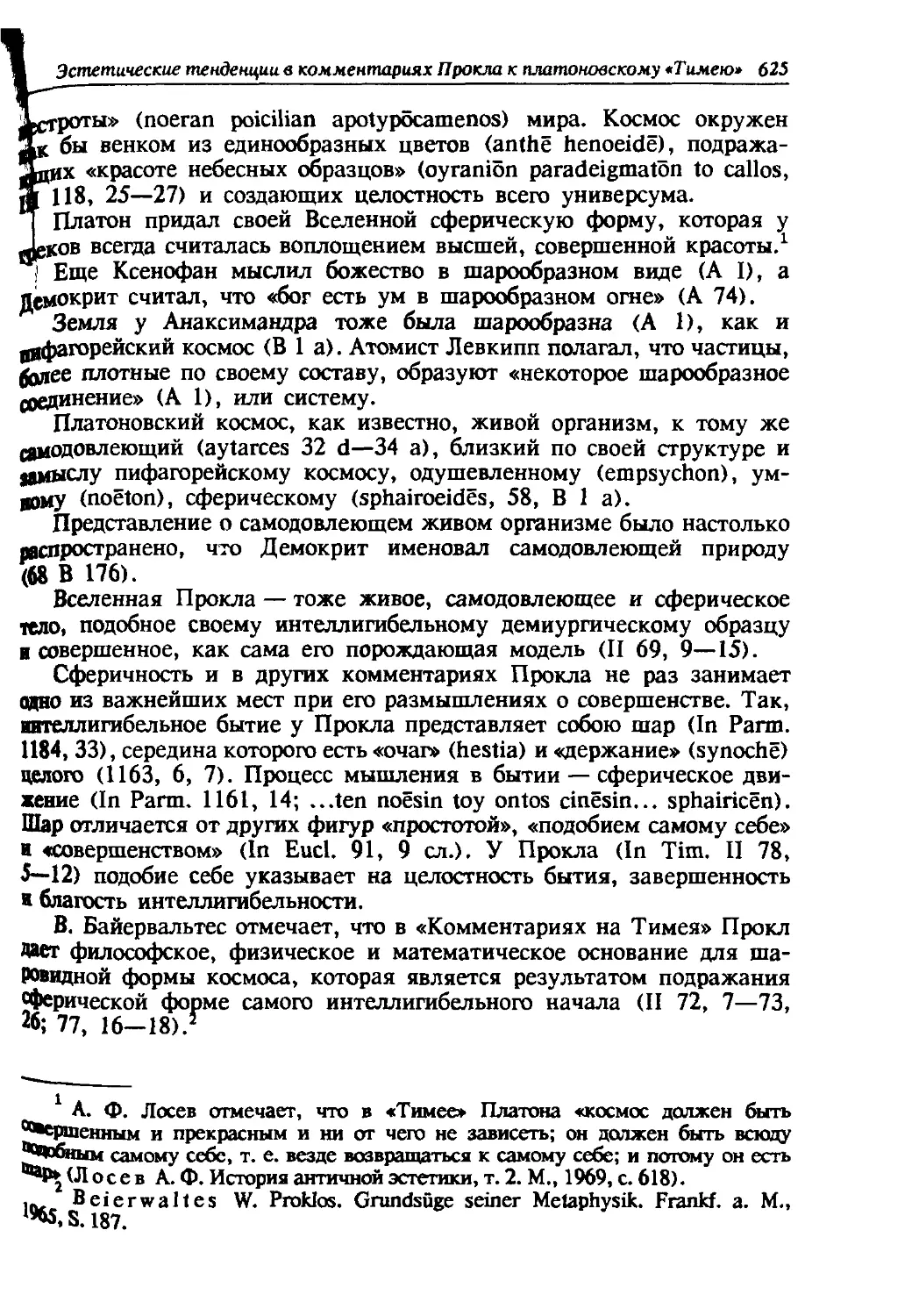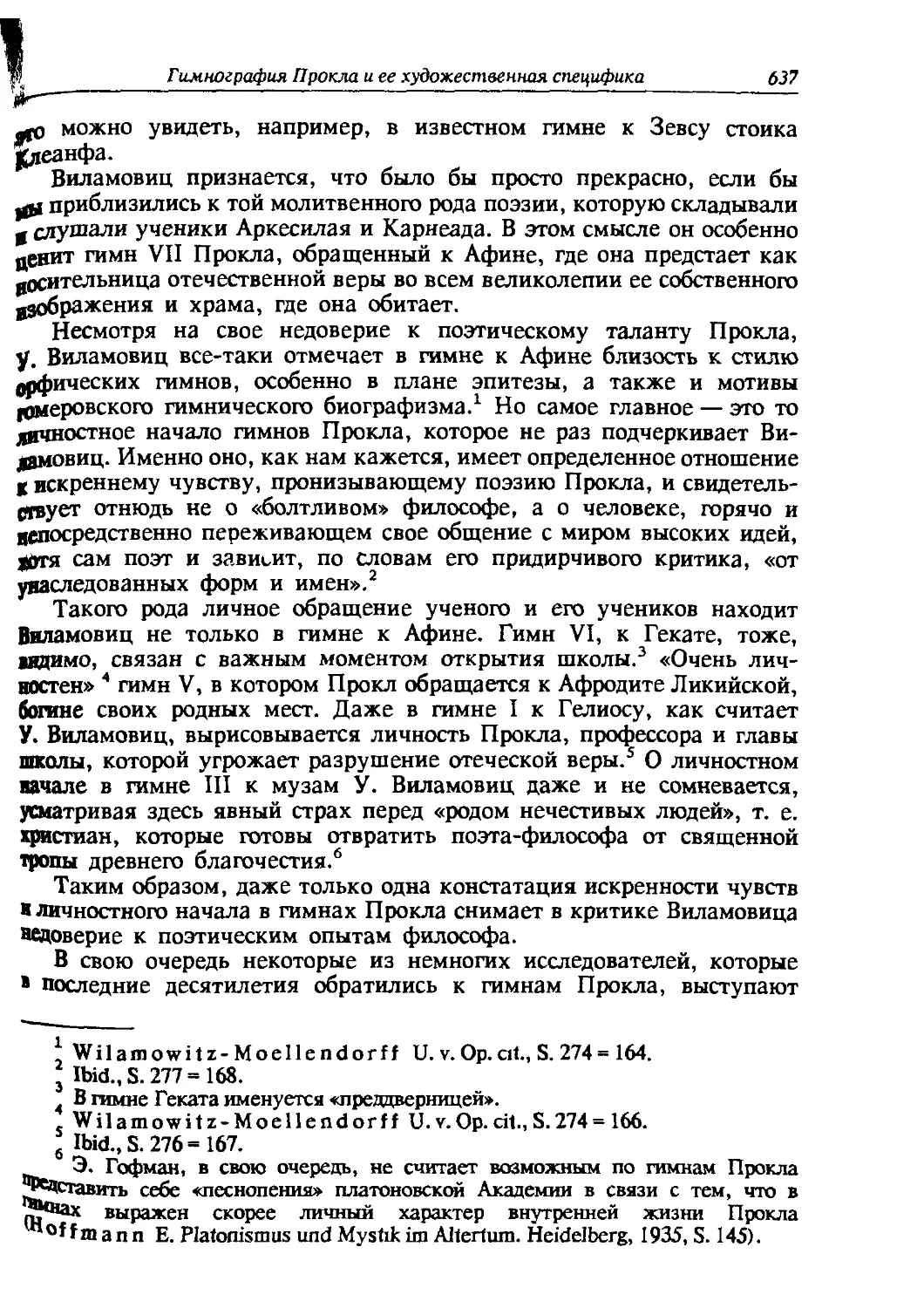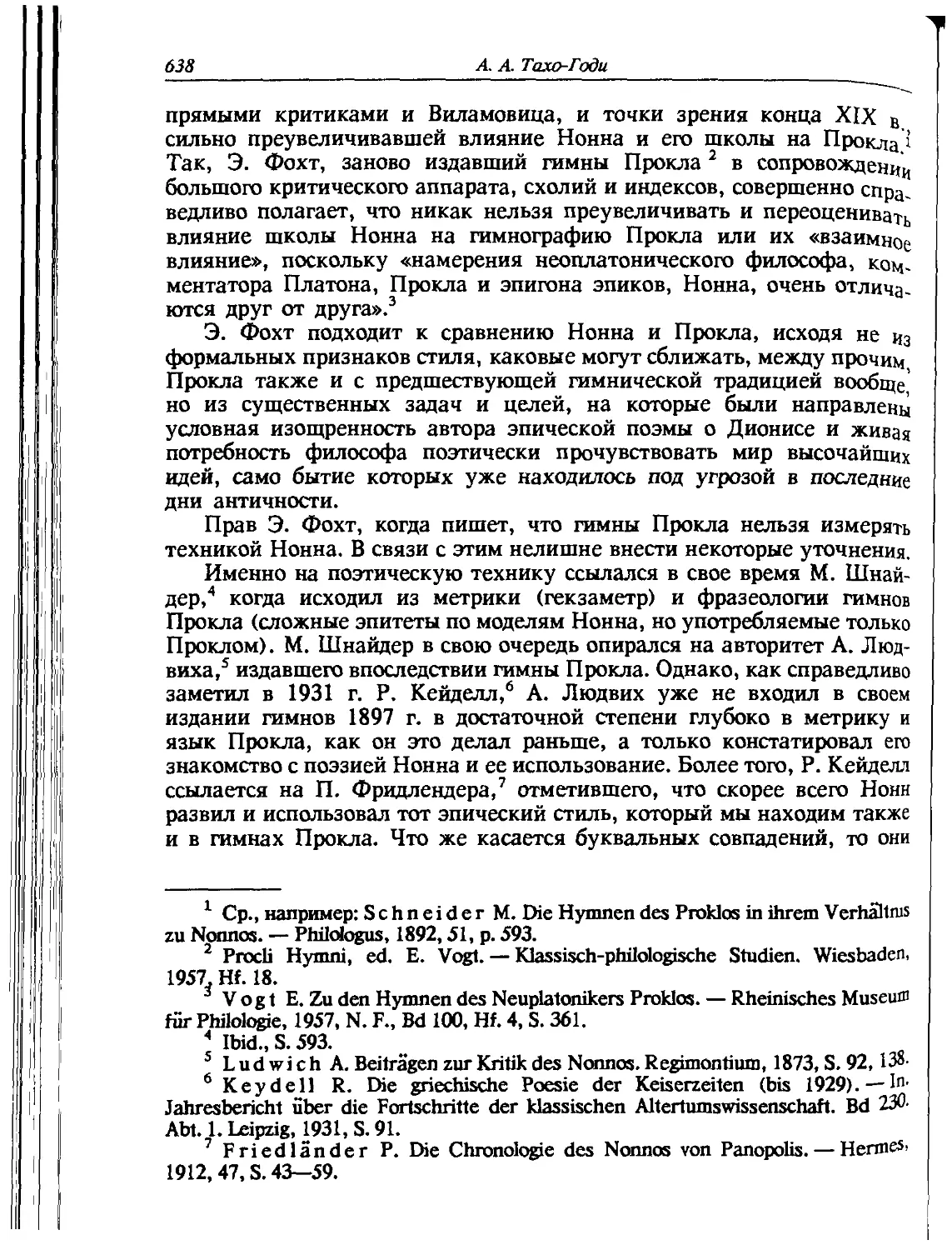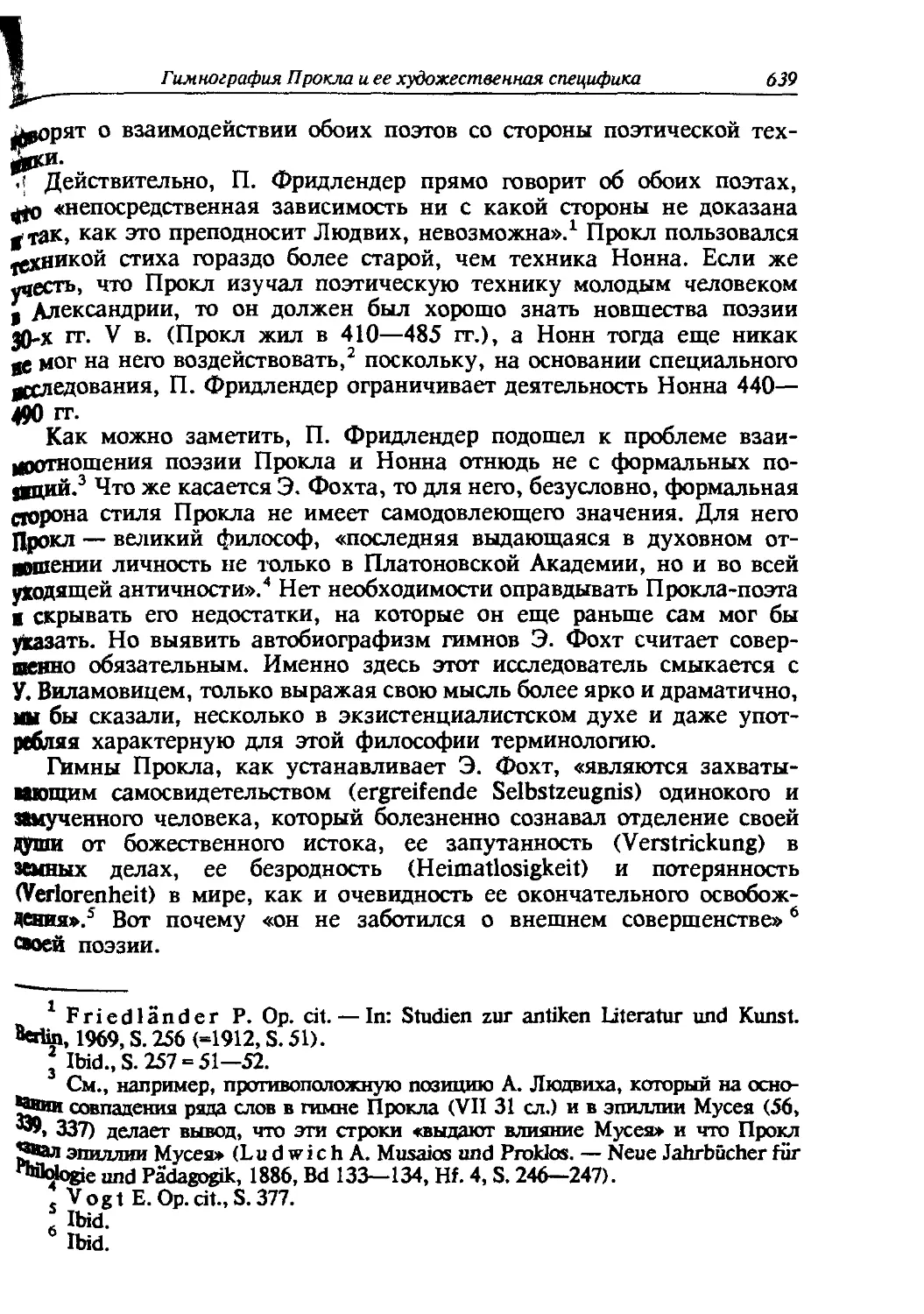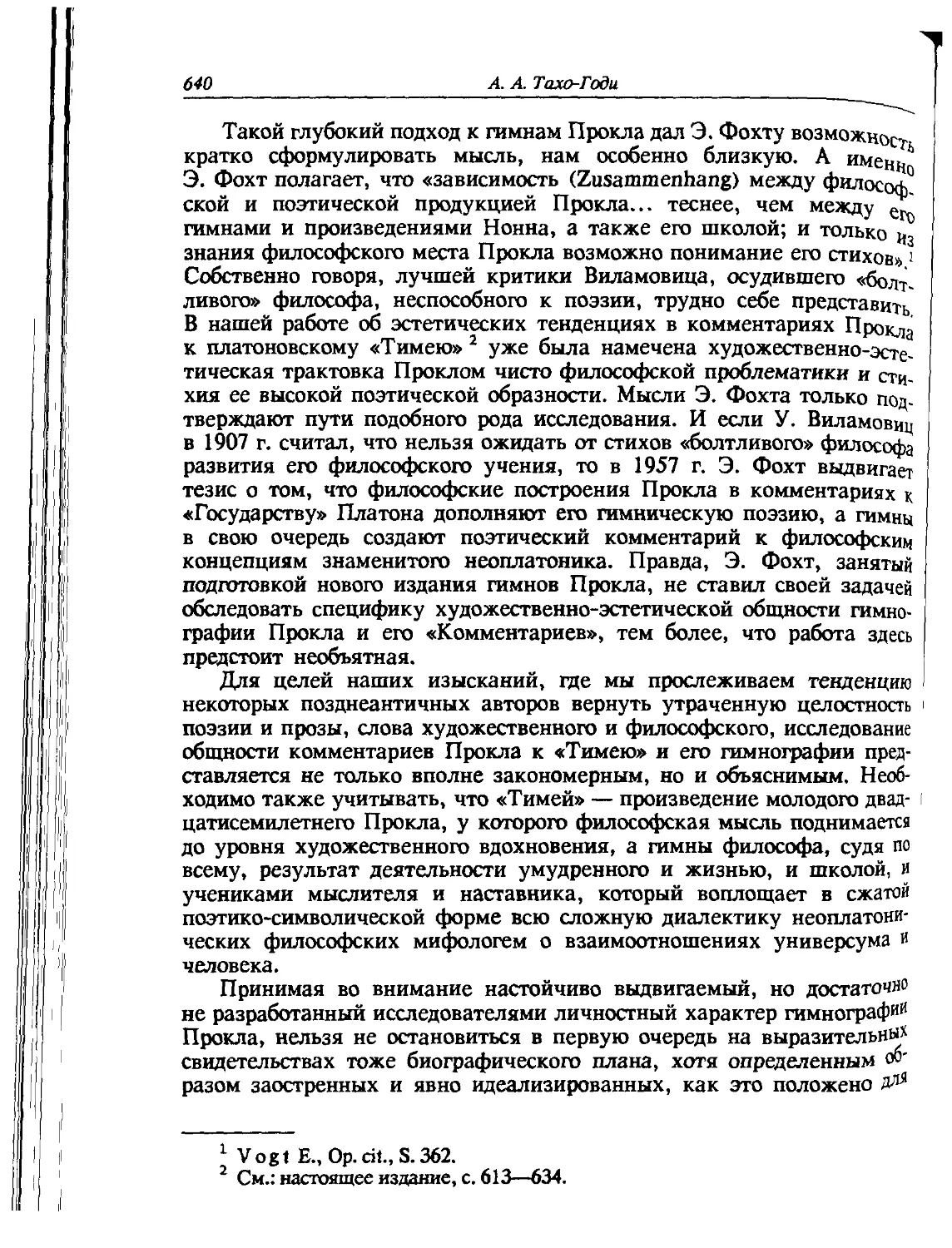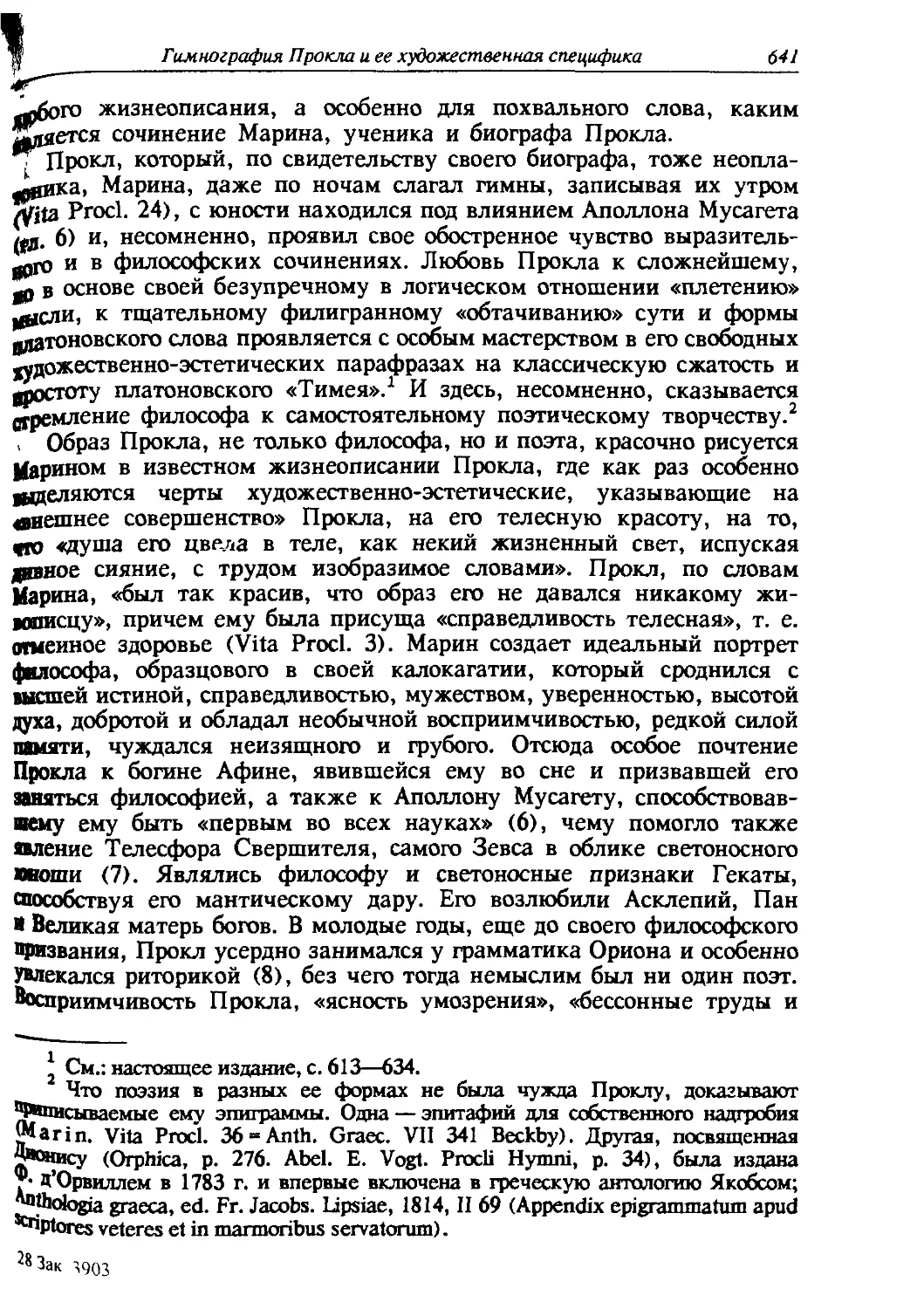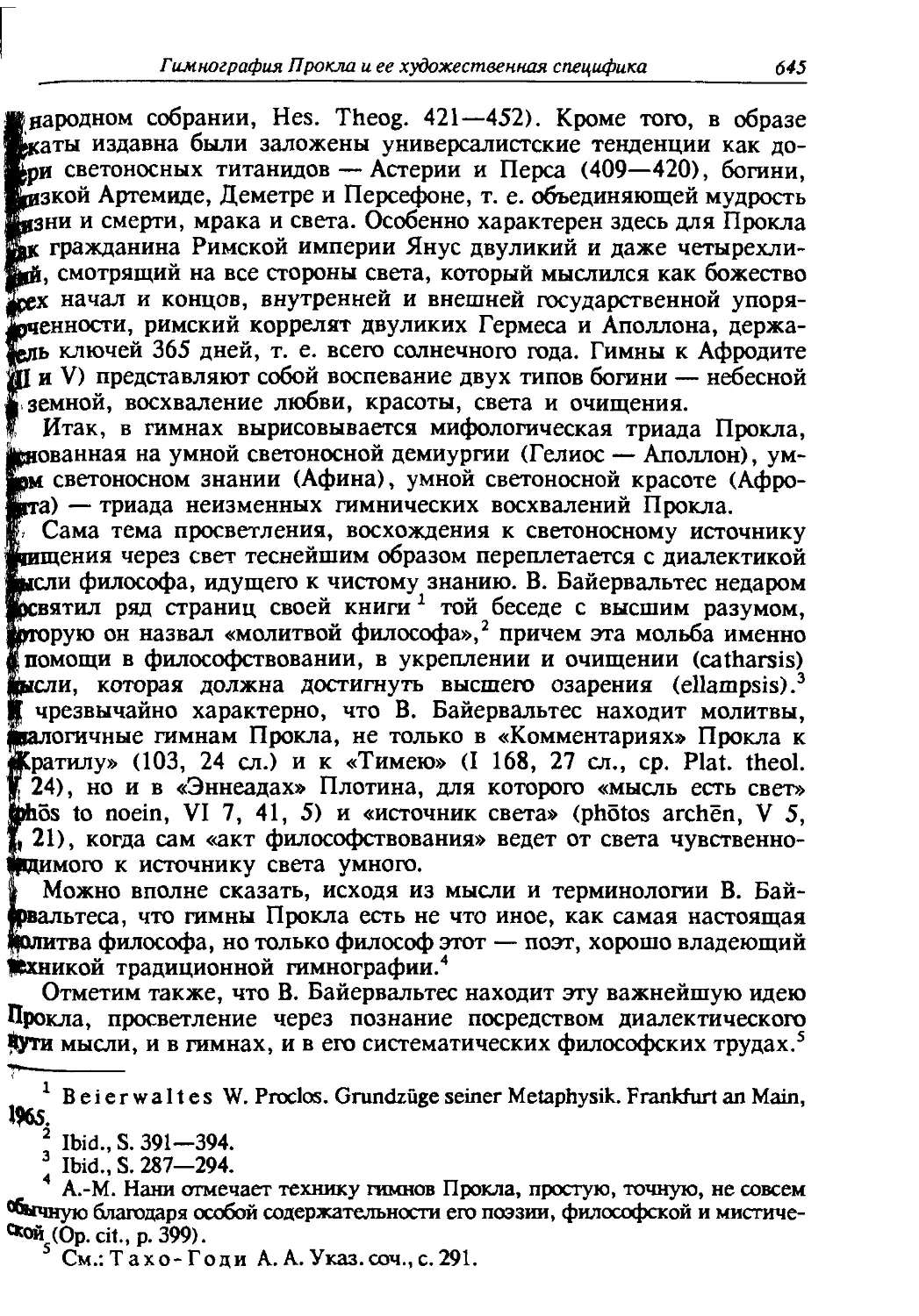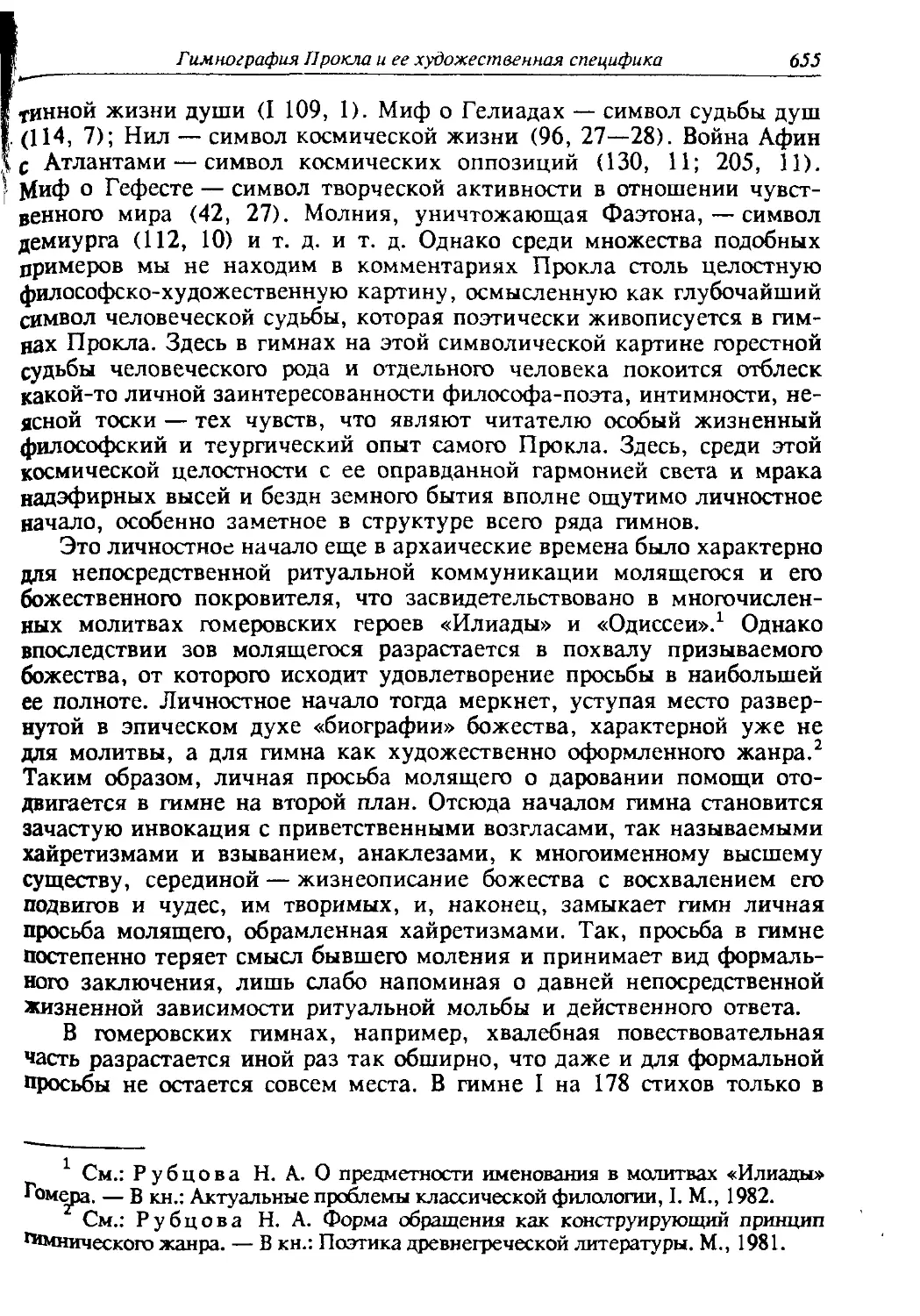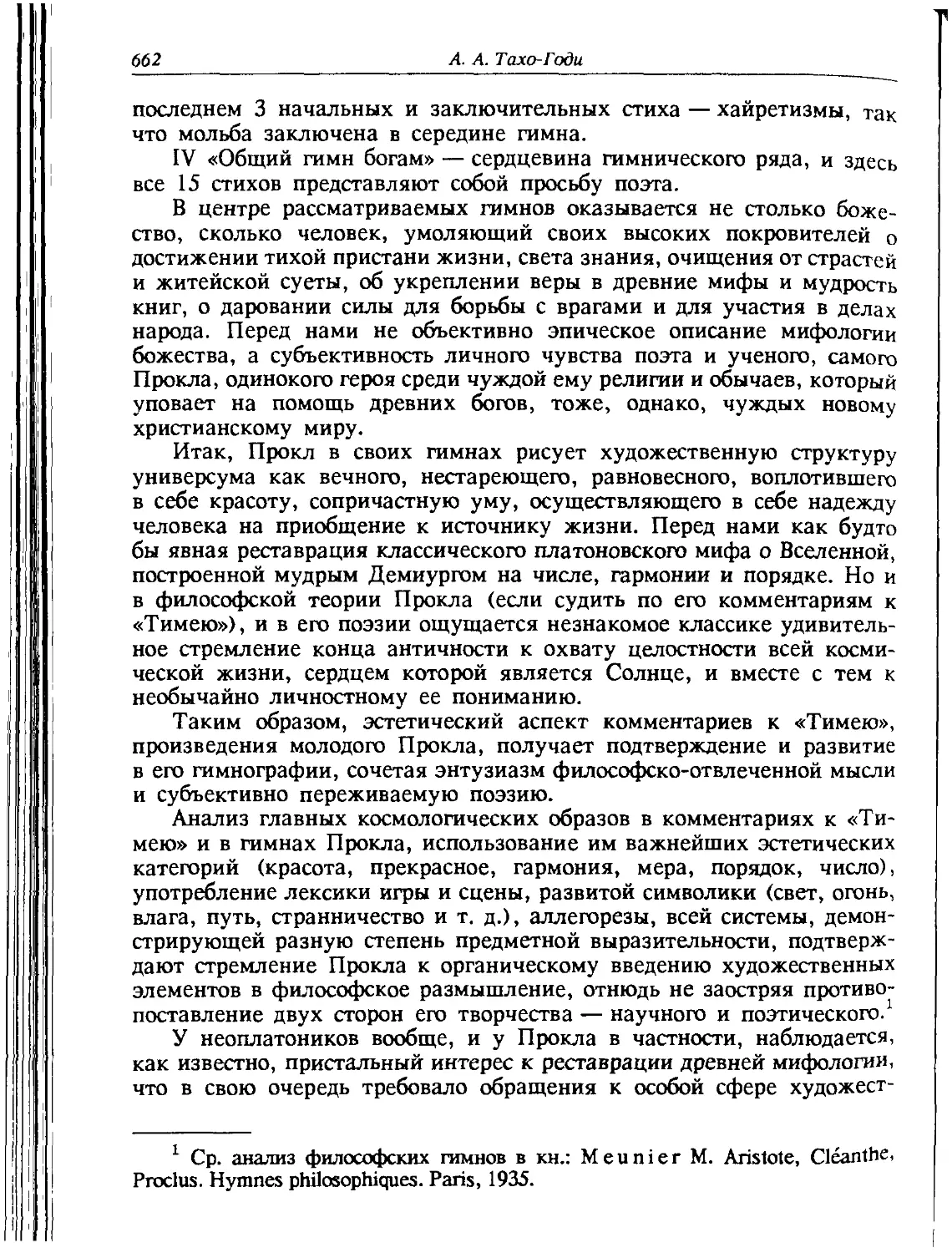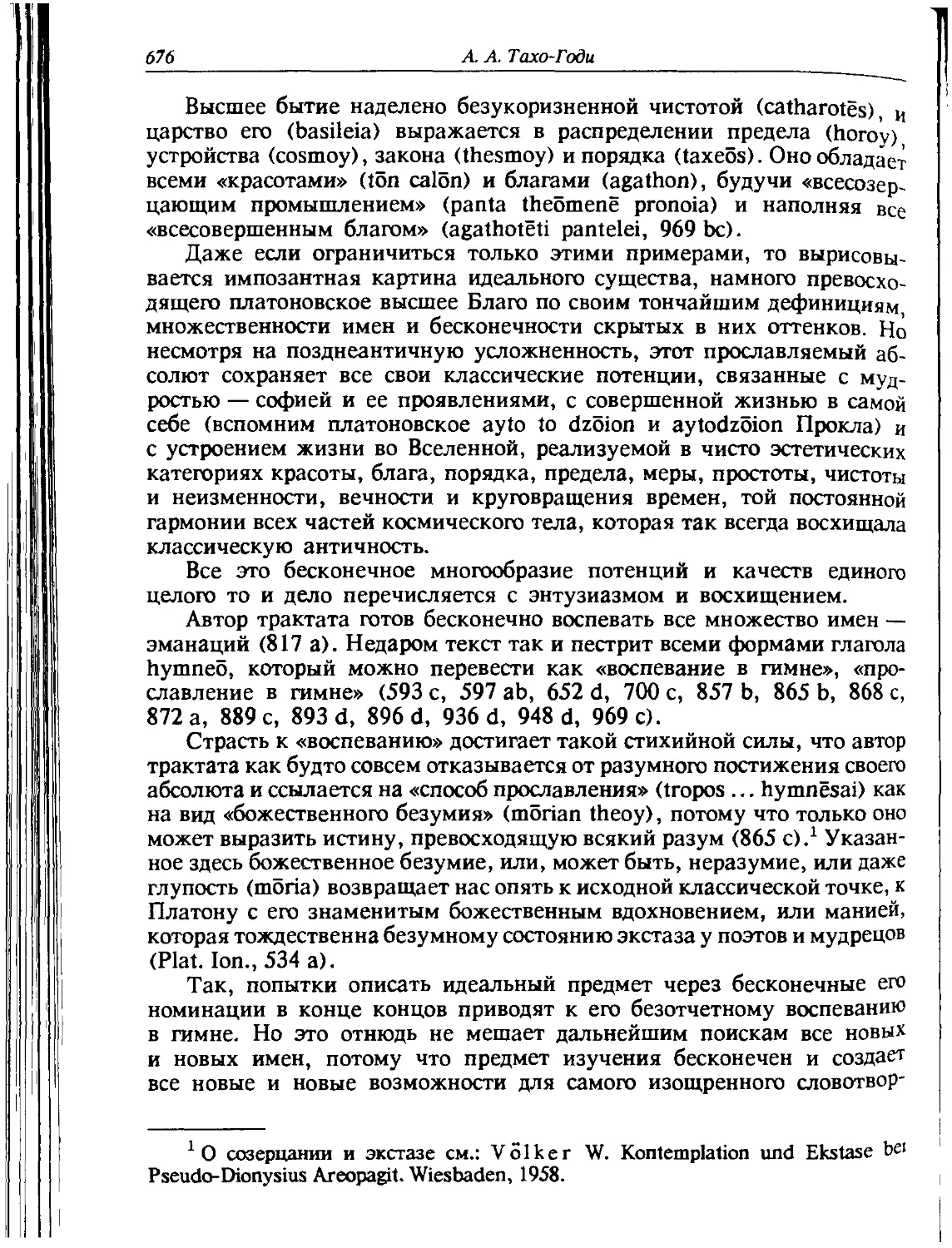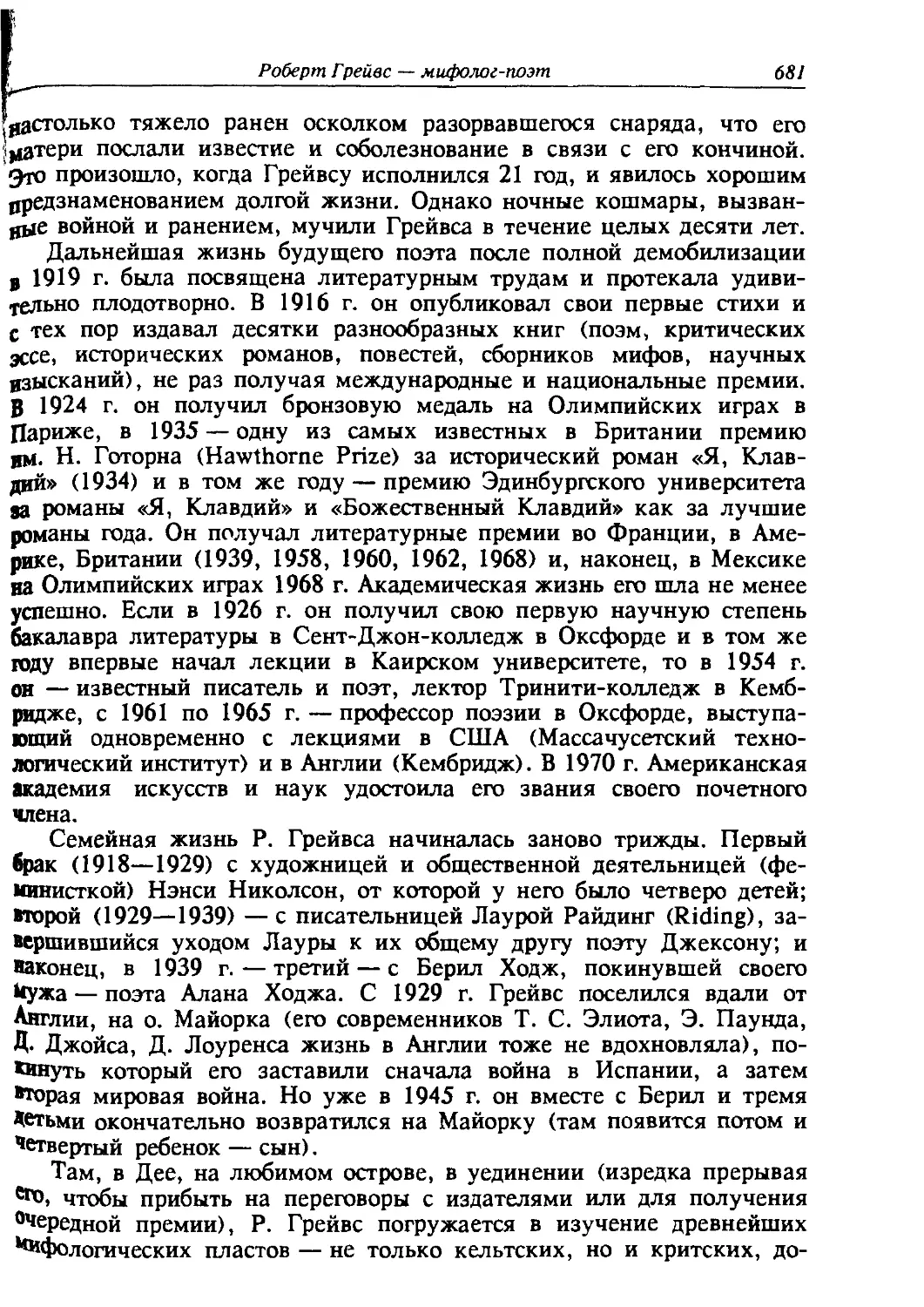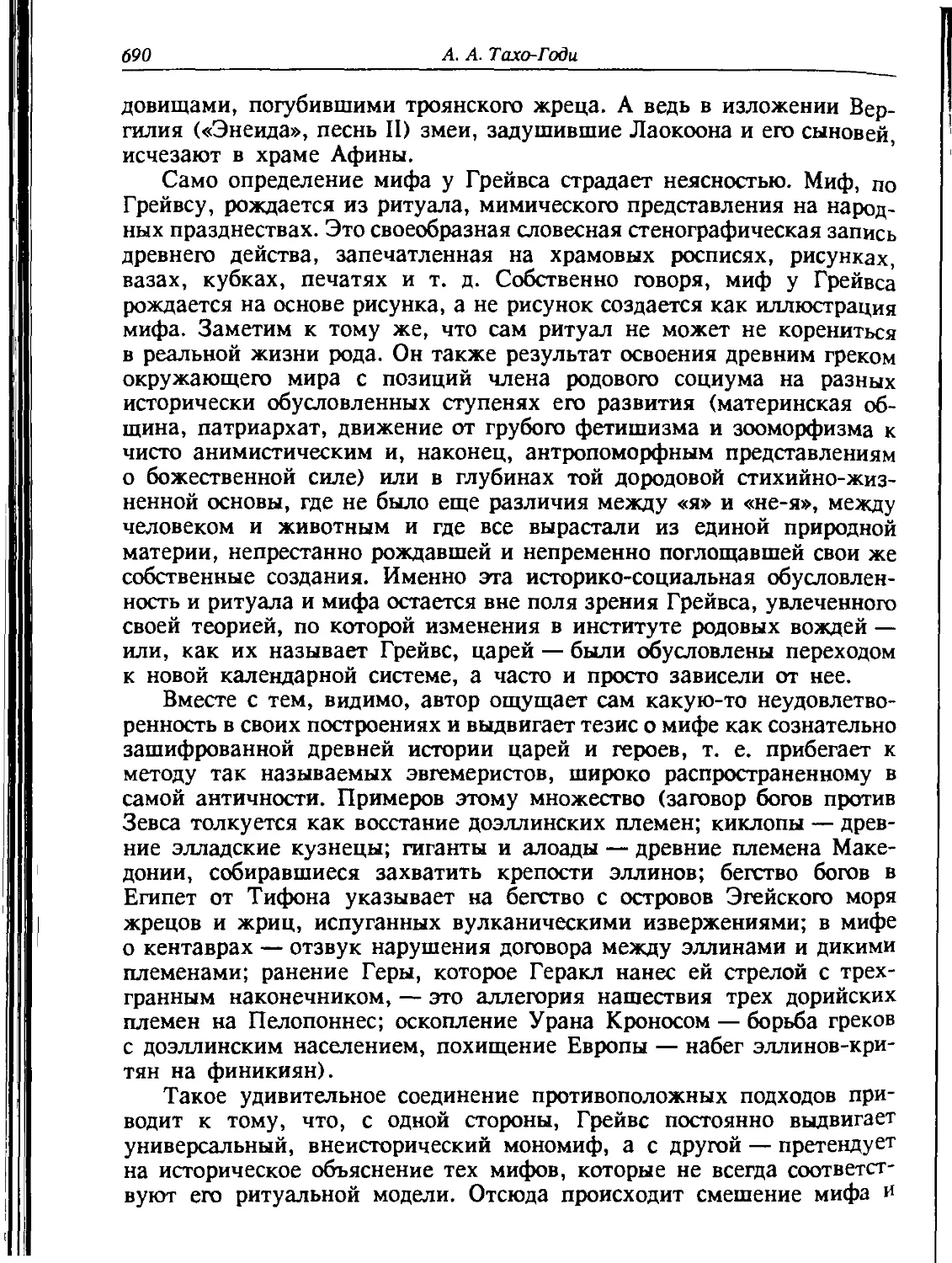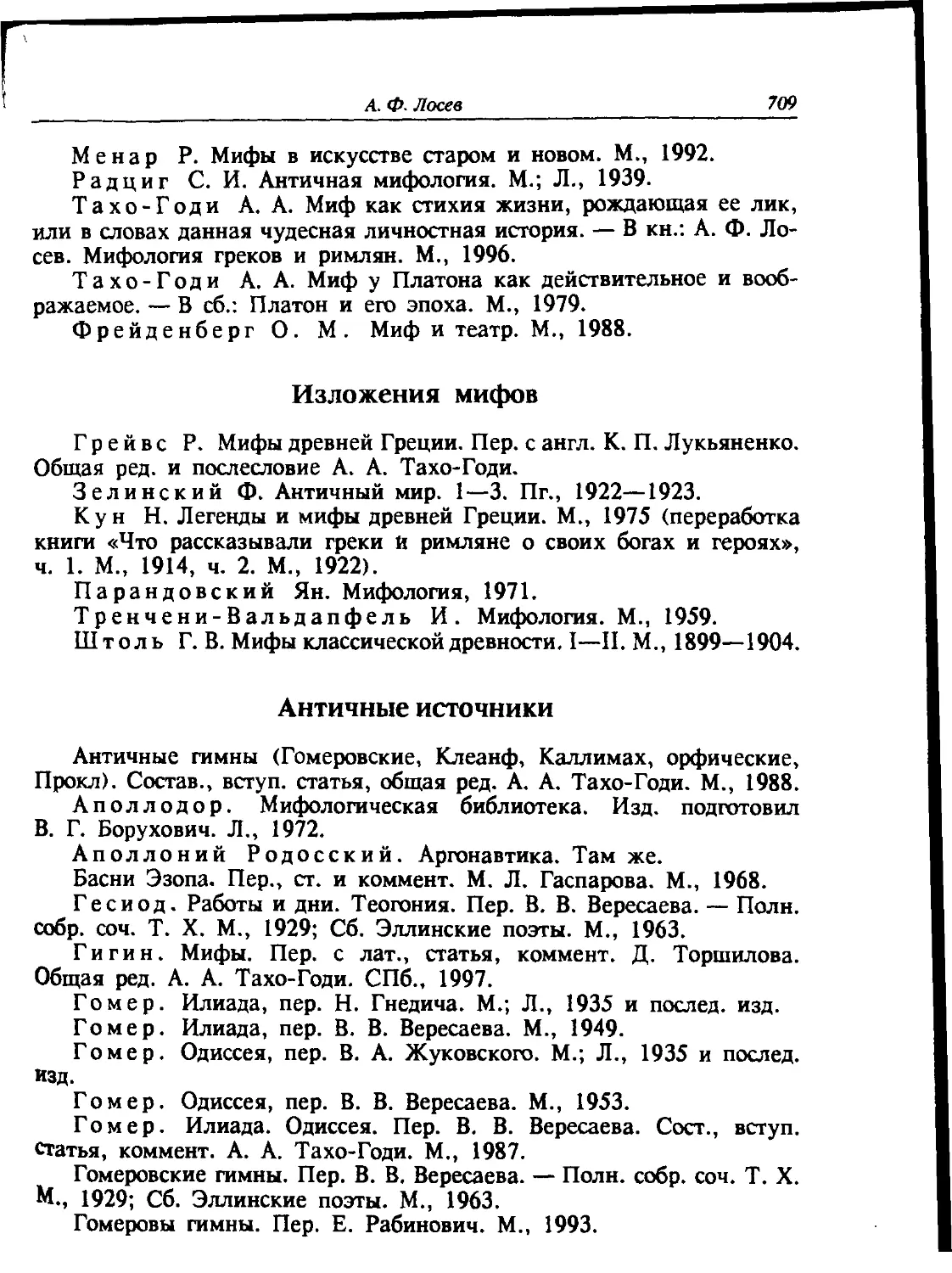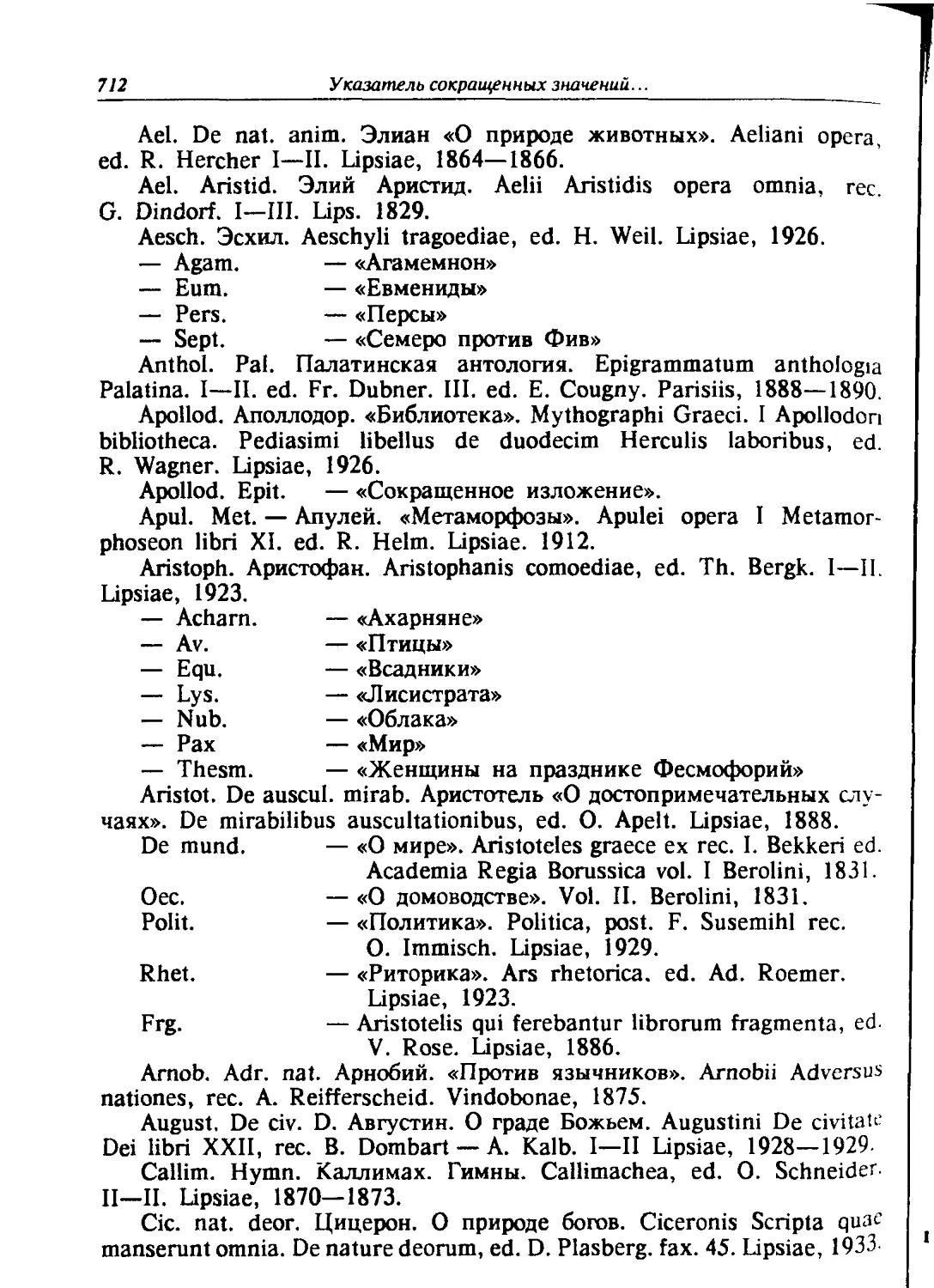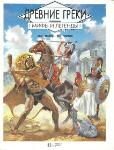Текст
А. А. ТАХО-ГОДИ
А. Ф. ЛОСЕВ
ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В МИФАХ, СИМВОЛАХ И ТЕРМИНАХ
Составление и общая редакция
А. А. Тахо-Годи
Издательство
«АЛЕТЕЙЯ»
Санкт-Петербург
1999
ББК 11.780(Греция)
Тахо-Годи 99
Основатель и руководитель серии:
О. Л. Абышко
Предлагаемая вниманию читателей книга состоит из ста-
тей, написанных в разное время и по различному поводу, но
одинаково недоступных широкому кругу любителей и цени-
телей истории античной культуры. Объединяют же все рабо-
ты два громких имени, — А. А. Тахо-Годи и А. Ф. Лосева —
не нуждающихся в представлении. Включенные в сборник
исследования охватывают древнегреческую культуру, выра-
женную преимущественно в мифе и символе, начиная от глу-
бокой древности, от Гомера и орфических космогоний, и
кончая V в. н. э., Проклом и Псевдо-Дионисием Ареопаги-
том. Центральное произведение сборника — «Греческая ми-
фология» А. А. Тахо-Годи — задает основные лейтмотивы
книги, в остальных статьях (общим количеством около двад-
цати) подробнее разрабатываются наиболее существенные де-
тали авторской концепции античной культуры.
В заключении сборника прилагается исследование А. Ф. Ло-
сева — глава об Афине Палладе из его «Олимпийской мифо-
логии». Она дополняет представление о великих богах, Зевсе
и Аполлоне, данное Лосевым в книге «Античная мифология
в ее историческом развитии», завершая построение язычес-
кого пантеона богов на основании принципа троичности.
Все статьи, представленные в сборнике, основаны на ис-
черпывающем изучении текстов, охватывающих целое тыся-
челетие. Древнегреческая культура с самых своих истоков
предстает пронизанной мифомышлением и мифотворчеством,
а поздняя античность оказывается немыслимой без символи-
ческого освоения мира.
Для всех интересующихся античной культурой.
© Издательство «Алетейя» (Санкт-Петербург) — 1999 г.
© А. А. Тахо-Годи, составление и общая редакция — 1999 г.
А. А. Тахо-Годи
Несколько необходимых замечаний
Исследования, включенные в эту книгу, отнюдь не явлются механическим
собранием работ, написанных в разные годы. Работы мои не только объединены
в один смысловой круг, но и само их написание не было случайным, а, наоборот,
вполне закономерным и связано с моей университетской практикой на класси-
ческом отделении, где мне довелось за долгие гады преподавания читать историю
греческой литературы, историю греческого языка, историю греческой мифологии,
вести спец, курсы по Платону, Менандру, Аполлонию Родосскому, гимнографии,
руководить спец, семинарами, дипломниками, диссертантами. Например, книга
«Греческая мифология» (М., «Искусства», 1989) основана на моем многолетнем
мифологическом курсе для студентов отделения классической филологии МГУ
им. Ломоносова. Курс этот, все дополняемый, читается мною и поныне.
Статьи моего сборника посвящены изучению греческих терминов, мифов
и символов. Ведь вся греческая культура от Гомера до Прокла пронизана
мифотворчеством. Поздняя же античность не мыслима вне символического
восприятия и интерпретации мифа. Слова-термины в свою очередь создавали
понятия, в которых наиболее ощутимо проявлялись глубинные основы миро-
воззренческих интенций древних греков.
Однако максимально выявленный смысл предмета вовне есть не что иное,
как его выразительное, или эстетическое начало, причем эстететическое вовсе
не обязательно равнозначно прекрасному. Безобразное тоже по-своему может
достигнуть совершенства и быть тем самым выразительным, т. е. эстетическим.
Таким образом, греческая культура в словах-терминах, словах-мифах, словах-
символах выявляет свою особую эстетическую сущность. И даже никому не
подвластная судьба представляется здесь как эстетическая категория, задающая
неповторимый рисунок жизни человеческой и божественной.
Неслучайно некоторые из моих статей включены А. Ф. Лосевым в его
многотомную «Историю античной эстетики» (1963—1994), а 2-я книга VIII
тома «Итоги тысячелетнего развития» завершается моими исследованиями о
соматическом, телесном представлении личности у греков и космической жизни
как сценической игре.
Я не могла поместить здесь ряд моих изысканий о мифе и символе по
чисто формальной причине — они связаны с другими культурами, например, с
римской или русской.
В содержании книги указаны издания, в которых впервые печатались
собранные здесь работы. Большинство из них появилось в разного рода ученых
сборниках, например, в «Вопросах классической филологии». Эта незаурядная
серия была основана мной вместе с профессором И. М. Наховым в 1965 г. как
орган кафедры классической филологии Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова после того, как я возглавила в 1962 г. кафедру.
За это время вплоть до 1998 г. вышло 11 выпусков и ряд приложений, где
печатались многие наши сотоварищи по классической филологии.
В 60—70-е гады начали устанавливаться отношения с коллегами в Польше,
Германии (в ГДР и ФРГ), Венгрии, Румынии, Югославии, Болгарии. Стало
Функционировать Международное общество антиковедов «Эйрене» («Мир»), со-
6
Несколько необходимых замечаний
биравшее регулярно свои конференции. Близкие научные связи объединяли нас
с А. Ф. Лосевым и польского академика Казимира Куманецкого, ученого с
европейским именем, выдающегося немецкого ученого профессора И. Метте
(он основал вместе с Б. Снеллем знаменитый лексикон греческого эпоса, издание
которого все еще продолжается), профессора Александра Ничева (Болгария),
профессора Имре Тренчени-Вальдапфеля (Венгрия), Р. Вердьера (Бельгия). Не
раз приезжал в Москву из Берлина профессор И. Ирмшер. Тогда стали появ-
ляться в зарубежных изданиях переводы моих работ, то полностью, то в
сокращенном виде, а то и в тезисной форме.
Так, терминологическую статью по Менандру (нем. яз.) см. в сб. «Menanders
Dyskolos als Zeugnis seiner Epoche» herausg, v. Fr. Zucker, Berlin Akademie —
Verlag, 1965. Статья о термине «природа» у Менандра — в польском журнале
«Meander», 1967, № 8 (на нем. яз.). О термине sOma — там же, 1969, № 4
(польск. яз.). Работа, дополняющая мои изыскания хтонической мифологии
Аполлония Родосского, — в сб. «Vergiliana», ed. par Н. Bardon et R. Verdiere.
Leiden. Brill., 1971 (франц, яз.). О физической концепции личности — в изве-
стнейшем издании «Archiv fur Begriffsgeschichte, herausg. mit H.-G. Gadamer
und Y. Ritter von K. Griinder». Bd. XVI. H. I. Bonn, 1972 (англ, яз.). Материалы
этого капитального издания использовались при подготовке многотомного словаря
философских понятий «Historischers Worterbuch der Philosophic» herausg. v.
Y. Ritter, K. Griinder. Basel—Stuttgart (Bd. I—IX 1971—1995, изд. продолжается).
Моя статья о термине soma и понятии личности у древних греков использована
в томе V (1980) этого замечательного словаря. Тезисы о символизме неопла-
тоников печатались в Материалах XII Конференции «Эйрене» в Румынии,
Клуж, 1972 г. (франц, яз.), о символизме Платона и Порфирия в материалах
XIII Конференции в Югославии, Скопле, 1974 г.
В предлагаемом мною собрании включены также две работы А. Ф. Лосева.
Одна представляет собой главу из его труда «Олимпийская мифология» (Ученые
Записки МГПИ им. Ленина, вып. 72, М., 1953), ставшего библиографической
редкостью. Это первая публикация А. Ф. Лосева после 23-летнего вынужденного
молчания. Здесь — подробное историческое исследование мифологии Афины
Паллады. Оно дополняет книгу Лосева «Античная мифология в ее историческом
развитии», посвященную Зевсу Критскому и Аполлону (первое изд. — М., 1957,
второе в книге А. Ф. Лосева «Мифология греков и римлян». М., 1996). Таким
образом, современный читатель, обращаясь к моей «Греческой мифологии»,
получает дополнительную возможность обозреть в одной системе портреты трех
великих олимпийцев — Зевса, Аполлона и Афины.
Другая работа касается проблемы античной культуры, как ее понимал н
разрабатывал А. Ф. Лосев. В основу ее легла беседа автора с профессором
Д. В. Джохадзе, печатавшаяся в «Вопросах философии» (1984, № 1). Думаю,
что и этот материал будет небезынтересен читателям, особенно тем, кто знаком
или собирается познакомиться с университетской лекцией Лосева «Двенадцать
тезисов об античной культуре» (впервые в журнале «Студенческий меридиан».
1983, № 9—10, а затем в «Истории античной эстетики», т. VIII; «Итоги
тысячелетнего развития». Кн. 1, М., 1992).
Так в моей книге составляют полное единство практика и теория исследо-
вания греческой культуры в терминах, мифах и символах.
ГРЕЧЕСКАЯ
МИФОЛОГИЯ
Введение
ПОЧЕМУ МИФ НАЗЫВАЮТ МИФОМ
Что такое мифология вообще и греческая мифология в частности —
вопрос отнюдь не праздный и не такой самоочевидный, как кажется
на первый взгляд. На эту тему написаны горы книг, существует
множество теорий, объясняющих и в целом, и в деталях разные
аспекты происхождения, сущности, развития, значения, влияния, ин-
терпретации мифологии; издаются специальные энциклопедии и ми-
фологические словари на всех языках, ученые собрания мифологиче-
ских текстов и популярные сборники.1 Но от этого изобилия сведений
не становится легче. И читатель, даже самый искушенный и образо-
ванный, зачастую не сомневается в том, что миф и легенда — это
одно и то же, что миф ничем не отличается от сказки, что мифология
есть не что иное, как религия или фольклор. А уж почему закрепилась
с глубокой древности традиция обозначать словом «миф» нечто свя-
занное с богами и героями античности, этого и подавно читатель не
знает.
Вопросы встают один за другим.
См. энциклопедическое издание «Мифы народов мира» (т. 1—2. М.,
1980—1982), особенно статью А. Ф. Лосева «Греческая мифология», где приводит-
ся самая существенная литература на эту тему. См. также «Философскую
энциклопедию» (т. 3. М., 1964) со статьей А. Ф. Лосева «Мифология», где
привадятся теории происхождения мифа и его развития. В нашей работе мы при-
держиваемся историко-теоретических принципов, сформулированных А. Ф. Лосе-
вым в его книге «Античная мифология в ее историческом развитии» (М., 1957,
2-е изд. в кн.: А. Ф. Лосев. Мифология греков и римлян. М., 1996) и проводимых в
его многочисленных трудах. Факты греческой мифологии, представленные нами в
строго продуманной системе, основаны только на подлинных текстах античных
источников и не содержат никаких привнесенных извне домыслов.
10
Греческая мифология. Введение
Но мы, оставив в стороне всю концептуальную пестроту теории
мифа (это предмет особой, в данном случае не нашей задачи),
спросим себя, а что же действительно означает слово «миф» и почему
с древних времен, учитывая определенные цели, укрепилось именно
оно?
«Миф» по-гречески означает не что иное, как «слово». Поэтому и
древнегреческие мифы можно назвать «словом» о богах и героях.
Но дело в том, что древние греки были очень чуткими к тончайшим
оттенкам языка и представление о слове выражалось в их лексике
особенным образом.
Греки различали «слово» как «миф» (pvdoq — mythos), «слово»
как «эпос» (feiroq — epos) и «слово» как «логос» (Хоуос; — logos).1
Миф, эпос и логос имели свои сферы употребления, хотя границы
эти, некогда довольно четкие, с течением времени стали не столь
очевидными и доступны объяснению только при специальном анализе.
Кроме того, надо иметь в виду, что каждое из этих трех слов имело
множество оттенков значения (в слове «логос» их около шестидесяти),
среди которых намечался ведущий, основной, тот, который отграни-
чивал данное слово от другого и создавал его неповторимость.
Изучение первичного, устойчивого смысла этих слов с учетом их
этимологии приводит к следующим выводам. «Миф», оказывается,
выражает обобщенно-смысловую наполненность слова в его целостно-
сти. «Эпос» указывает на звуковую оформленность слова, на сам
процесс произнесения (ср., например, в дальнейшем «эпос» — жанр
героической песни, «слово» о подвигах, как гомеровские поэмы или
древнерусское «Слово о полку Игореве»).
Что же касается «логоса», то он предполагал первичную выде-
ленность и дифференциацию элементов, переходящую затем в некую
их собранность. Судя по всему, «логос» связан с развитием анали-
тического мышления и широко употребляется в греческой классике,
не находя себе места в архаические времена, где господствовал «миф»,
выражая первичную нерасчлененность и обобщенную целостность
жизненных представлений. У Гомера, например, «логос» совсем не
встречается, если не считать только трех случаев, но зато у фило-
софов-стоиков IV—III вв. до н. э., разрабатывавших учение о слове,
в равной мере не употребляется «миф», повсеместно уступая место
«логосу».2
Итак, выясняется, что древняя традиция совсем не случайно име-
новала «мифом» слово о богах и героях, закрепив за песнями об их
Далее греческое написание не приводится. Древнегреческие слова переда-
ются в латинской графике.
Подробнее см.: Тахо-Годи А. А. Миф у Платона как действительное и
воображаемое. — В кн.: Платон и его эпоха. М., 1979.
Когда и как рождается миф
11
подвигах наименование «эпоса» и представив «логосу» сферу филосо-
фии, науки и рассуждающей мысли вообще.
КОГДА И КАК РОЖДАЕТСЯ МИФ
Теперь мы можем сказать — то, что обычно называют мифологией,
есть упорядоченное единство существовавших первоначально в диф-
ференцированном виде «слов», обобщающих для древнего человека
представление о том мире, в котором он живет, и о тех силах, которые
этим миром управляют.
Нерасчлененно-целостное, а значит, и мыслительно-чувственное
обобщение действительности, которое именуется мифологическим, ха-
рактерно для очень древнего периода социально-исторической жизни,
а точнее говоря, локализуется в общинно-родовой, или первобытно-
общинной, формации, которая для Греции ограничивалась первой
третью I тысячелетия до н. э., но истоки которой уходили в бездны
тысячелетий.
Общинно-родовая формация тоже неоднородна и тоже имеет свою
историю, о чем мы будем говорить ниже. Но есть нечто единое,
характерное для всех ее периодов. Это жизнь родовыми объединениями,
где отсутствуют частная собственность, разделение на бедных и бога-
тых, сословные различия и где сама земля и орудия производства
принадлежат всей родовой общине. Собственно говоря, общинно-ро-
довая формация является доклассовым обществом, жизнь которого
организована на основе стихийно-коллективистских родственных от-
ношений.
Для человека этого времени, для члена такой общины наиболее
естественны и доступны отношения родственные, которыми обуслов-
лена вся трудовая жизнь коллектива, а значит, и его существование.
И вполне закономерно, что природную жизнь этот древний грек 1
не может представить себе иначе как с помощью все тех же родст-
венных связей, объединяющих предков с родителями и детьми и
образующих одну большую родовую общность, мы бы сказали те-
перь — космическое единство, охватывающее землю, небо, море и
подземный мир.
Мы говорим здесь и далее о греках и Греции в условно-обобщенном плане.
Ни о единой Греции, ни о едином греческом народе или языке не может быть и
Речи в те древние времена, когда существовали отдельно племена со своими
особыми наименованиями и своими диалектами (эолийцы, ионийцы, дорийцы,
^Wo-ахейцы и ионийско-аттическая общность. Ср. миф об Эллине и его сыновьях
'’Оле, Ионе и Доре — родоначальниках эллинских племен. — Алоллод. 17,3).
12
Греческая мифология. Введение
Вполне естественно, что такой древний человек, глядя на окру-
жающую жизнь, видит в ней огромное количество единичных явлений,
которые он вполне способен назвать определенным словом. Но, называя
отдельный предмет, человек вместе с тем осуществляет мыслительный
акт обобщения, а так как мышление находится в единстве с языком,
то этот акт осуществляется в слове.
Так, глядя на огонь, вспыхнувший от удара молнии, на огненные
языки костра, на светящиеся в ночи огоньки, на тлеющие угли, на
лесной пожар или на пламя в кузнечном горне, древний человек
все эти конкретные отдельные феномены огня обозначает одним
словом, обобщает их в «мифе», давая имя огненной силе вообще,
той силе, что живет огнем, сама им является и управляет им. Имя
этой огненной силы — Гефест. Так рождается «слово» о Гефесте, миф
о Гефесте со всеми дальнейшими последствиями, поскольку мысли-
тельный акт связан с непосредственно чувственным восприятием,
обобщается жизненным опытом, дальнейшим вымыслом, выдумкой,
живописующими о происхождении огненной силы, именуемой Гефе-
стом, его родителях, его семье, его деяниях.
Глядя на зреющий колос, на пробивающийся стебель, на зелене-
ющую траву или зацветающие плодовые деревья, древний человек
все эти феномены произрастания называет обобщенно одним словом —
Деметра, т. е. мать-Земля, та, что рождает, выращивает, выкармли-
вает. Отсюда в дальнейшем сложная и занимательная биография Де-
метры, горюющей по исчезнувшей дочери и радующейся ее обретению,
что сопровождается то оскудением природы в засушливое время или
зимой, то ее изобилием при сборе урожая осенью.
Видя, как бушует море, как разливаются или высыхают реки,
несутся водопады, пробиваются родники, бегут ручьи, древний человек
обобщает все проявления водной стихии в одном слове — Посейдон,
т. е. владыка вод или супруг Земли, объемлющий ее водным про-
стором.
И небо с его светом, с его бездонной ясностью, с его просторами,
где-то в неведомых высях смыкающимися со снежными вершинами
гор, древний грек называет одним словом — Зевс — светоносное небо,
светоносный день.
И так один за другим рождаются слова-мифы, разрастающиеся
в рассказы о высшнх существах, таких же, как и человек, только
бесконечно мощных и бессмертных, живущих одной семьей и уп-
равляющих космической общиной, господствующих над миром. Таким
образом, говоря предварительно, в самых общих чертах, рождается
мифология, мифологическое мышление или мифомышление, свой-
ственное первобытному человеку, который переносит свои собст-
венные родовые отношения на всю окружающую его действи-
тельность.
Необходимые отграничения и разъяснения
13
НЕОБХОДИМЫЕ ОТГРАНИЧЕНИЯ
И РАЗЪЯСНЕНИЯ
Здесь, на этой древней ступени родового общества, в процессе
мифологизирования действительности обобщенное понятие становится
отдельным существом, т. е., собственно говоря, не чем иным, как
божеством.
Античный миф, как видим, основан на непосредственно-чувствен-
ном восприятии мира и обобщении этого восприятия в целостное
единство, расцвеченное вымыслом. Древняя мифология — предмет не-
оспоримой реальности и веры в ее непреложность. Она возникает и
развивается еще до религии, которая нуждается в теоретических обос-
нованиях, догмах и в системе почитания божества со всеми ее обя-
зательными ритуалами, законами, требованиями и запретами, т. е.
культом. Для живой мифологии культ вторичен, а первична реальность
космического бытия, переживаемого как проекция вовне родовой жизни
первобытного коллектива.
Античный миф нельзя называть сказкой, потому что сказка — это
уже продукт народного творчества, она вполне сознательно придумы-
вается, с заранее намеченной целью и идеей, причем и рассказчик,
и слушатель прекрасно понимают сказочную выдумку и верят ей
условно, в рамках своеобразной игры.
Миф ничего заранее не придумывает и вполне реален, как сама
жизнь, естественно творящая этот миф.
Чудеса, населяющие миф, превосходят всякую чудесность сказки
и впоследствии снабжают ее материалом чудесности. Но эти чудеса
не условны, они рождены самой первобытной жизнью с ее наивной
верой в обязательность и повседневность чуда.
Миф — это и не легенда, предание, хотя последние в основе своей
мотут иметь элементы некогда пережитой мифологии. Легенды и пре-
дания складываются с учетом обстоятельств исторической и социаль-
но-политической жизни, являясь сознательным подкреплением тех или
иных идей, фактов или тенденций, требующих своего оправдания,
подтверждения или опровержения и упразднения, обязательно с опорой
на высшие и потому неоспоримо авторитетные силы.
Миф не знает такой преднамеренности и не складывается ни
a priori, ни post factum, а рождается стихией самой первобытной
жизни, обоснованной через самое же себя.
Все вышесказанное отграничивает миф и от фольклора, хотя в
более позднее время мифологическая образность поставляет материал
и для устного народного творчества в любой его форме (песни, сказки,
предания, поучения, басни, загадки и т. д.).
Мифология не есть ни продукт просто незрелого и примитивного
*®ппления, ни результат сознательного и целенаправленного творче-
14
Греческая мифология. Введение
ства древнего человека. Она понятна только исходя из специфики
родовых отношений первобытного коллектива, будучи одной из форм
освоения мира этой первобытной общиной. И самое примечательное,
что единство мифа и мышления в этн древние времена отнюдь не
исключает их принципиального различия.
Миф только и возможен при обобщающей деятельности мысли, а
значит, и слова первобытного человека, но, появившись на свет, миф
призван одушевить весь мир, создавая целое, единое, целостное, живое
тело космической общины. А если это так, то животворящее слово-миф
в представлении древних исполнено таинственной, всемогущей, так
называемой магической силы, и законы ее начинают господствовать
в жизни мифа, поддерживаясь смутными человеческими ощущениями
и аффектами. Но, как и должно быть, мышление в противовес мифу
пытается вывести жизнь на пути объяснения ее закономерностей,
стремится и ее, и человеческую практику осознать вне всякой магии,
направить ее разумно и целесообразно.
Вот почему, как это ни парадоксально, миф не существует без
функций мышления, но само же мышление призвано этот миф признать
несостоятельным и избавиться от него. Отсюда — извечное слияние и
извечная борьба мифа и мышления в течение тысячелетий, отсюда
же — задача науки изучить развитие человеческого мышления, иду-
щего сначала по пути мифологического освоения жизни, а в дальней-
шем вступающего в противоречие с мифом, отрицающего миф и
развивающегося в борьбе за самостоятельность.
ИСТОЧНИКИ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Греческая мифология существовала в далеких тысячелетиях до
нашей эры и закончила свое развитие вместе с концом общинно-родо-
вого общества. Однако до нас дошло множество произведений античной
письменной литературы, из которой можно извлечь и образы, и сю-
жеты, и факты, свидетельствующие о том, что мифологическая тра-
диция была устойчива, закреплялась в памяти поколений, передавалась
от предков к потомкам и с развитием письменной литературы стала
фиксироваться и систематизироваться.
Почти вся античная литература — художественная (эпос герои-
ческий и дидактический, драма, лирическая поэзия) и научная (фи-
лософия, история, география как описание путешествий и земель) —
изобилует мифологическими материалами, не говоря уже о том, что
существовали специальные сборники мифов, которые дошли до нашего
времени, пусть не целиком, а в отрывках и переложениях, но все-таки
дошли.
Источники мифологической традиции
15
Среди главных источни-
ков для изучения всех пери-
одов мифологического разви-
тия Греции в первую очередь
назовем героические поэмы
Гомера — «Илиаду» и «Одис-
сею», складывавшиеся не-
сколько веков (первая треть
I тысячелетия до н. э.) на
границе родового и классово-
го рабовладельческого обще-
ства, объединив тем самым в
одно художественное целое
мощные пласты мифологиче-
ского и исторического бытия
от примитивных до самых
утонченных форм.
Первым систематизато-
ром мифологии, и особенно
мифов о создании мира, рож- Фестский диск
дении богов, их генеалогии
(«Теогония») и смене человеческих поколений («Труды и дни»), яв-
ляется поэт Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.), ставший одним из зачи-
нателей, как говорят иногда, предфилософии.
Фрагменты и изложение так называемых киклических поэм (VII—
VI вв. до н. э.) дают возможность представить в определенной после-
довательности мифы Троянского цикла.
Трагики V в. до н. э. Эсхил, Софокл, Еврипид использовали в
своих сюжетах мифологию героизма во всей ее сложности и гибельной
безысходности.
Традиция насыщать поэмы о героях мифологическими сведениями
особенно процветала в эпоху эллинизма, ту, что пришла на смену
греческой классике (VII—IV вв. до н. э.), уже с конца IV в. до н. э.,
а затем переросла в эллинистически-римский период (I—V вв. н. э.).
Познание мира, открывшегося грекам в своей огромности и беспре-
дельности после завоеваний Александра Македонского, способствовало
возникновению интереса к экзотике дальних стран, к уединенным
народам, хранителям древних таинств, чудес и магии, а также к
собственному прошлому как незыблемой основе в быстро меняющемся
мире. Поэтому большое значение для мифологии имеют поэма Апол-
лония Родосского «Аргонавтика» (III в. до н. э.) и огромная поэма в
48 песен Нонна Панополитанского о Дионисе (V в. н. э.).
Гимническая поэзия (а гимн — одна нз древнейших литературных
Форм, коренящаяся в религиозной практике) , в том числе так назы-
ваемые Гомеровские гимны (с VII в. до н. э. вплоть до византийского
16
Греческая мифология. Введение
времени), гимны Каллимаха (III в. до н. э.), Орфические гимны (VI в.
до н. э. — II в. н. э.), гимны Прокла (V в. н. э.), резюмирует мно-
говековую традицию античной мифологии, воспевая подвиги богов,
давая им интересные характеристики с помощью множества эпитетов,
создавая своеобразные божественные биографии. Большой и разнооб-
разный мифологический материал дают и латинские поэты I в. до
н. э., такие, как Вергилий («Энеида») и Овидий («Метаморфозы»).
Не меньший интерес проявляли к мифологии знатоки древних
генеалогий — логографы Гекатей, Акусилай, Ферекид, Гелланик (VI в.
до н. э.); философы — Эмпедокл, Парменид, Ксенофан, Платон; ис-
торики — Геродот (V в. до н. э.), Полибий (III—II вв. до н. э.), Диодор
Сицилийский (I в. до н. э.); географы, такие, как Страбон (I в. до
н. э. — I в. н. э.); философ-моралист и историк Плутарх (I—II вв.
н. э.); путешественник и любитель старины Павсаний (II в. н. э.);
коллекционер редкостей Атеней (III в. н. э.); поздние философы-
неоплатоники, создавшие своеобразную диалектику мифологии и ис-
толковавшие аллегорически и символически древние мифы, — Плотин
и Порфирий (III в. н. э.), Прокл (V в. н. э.).
Но особенно была важна работа мифографов — собирателей мифов
и составителей специальных сборников. Среди мифографов отличались
своей ученостью александрийцы (III—II вв. до н. э.). Широко известен
Аполлодор Афинский (II в. до н. э.), которому принадлежало не до-
шедшее до нас сочинение «О богах» в 24 книгах. Ему же приписывается
известная «Библиотека», дошедшая частично в компилятивном изло-
жении (I в. до н. э. — II в. н. э.), где подробно излагаются теогония
и главнейшие родословные героев, следуя Гомеру, эпическому циклу,
Гесиоду, трагикам и другим источникам.
Мифограф Гигин, писавший на латинском языке (I в. до н. э.—I в.
н. э.), несмотря на сухость и краткость изложения, очень полезен для
изучения мифологии так же, как и сборник, известный под названием
«Ватиканских мифографов» (VII в. н. э.) и включающий, собственно
говоря, три мифографических сочинения, где в систематическом виде
дается обзор всей античной мифологии.
Незаменимым источником мифологии являются комментаторы ан-
тичной поэзии, такие, например, как римский комментатор Вергилия
Сервий (III в. н. э.).
Христианские авторы первых веков нашей эры, например Татиан,
Афинагор (II в. н. э.), Климент Александрийский (III в. н. э.), Ар-
нобий (IV в. н. э.), также могут служить источником сведений о
мифах, и притом вариантов очень древних и редких. Борясь с языческой
религией, христианские авторы опровергали ее, используя факты
греко-римской мифологии, доказывающие, по их мнению, невежество,
грубость, жестокость и несуразность язычества и его божественно-
героического пантеона.
Художественно-эстетическое значение мифологии
17
Кроме письменных источников свидетельства о разных периодах
мифологического развития составляют памятники античного искусства
(архитектура, скульптура, керамика, вазопись, мелкая пластика,
глиптика/ торевтика* 2), особенно архаические; археологические на-
ходки, которыми богаты XIX—XX вв. (Крит, Кипр, Микенская Гре-
ция, Малая Азия, Северная Греция); этнографические изыскания,
изучающие религиозно-мифологические пережитки в обрядах, пред-
метах быта, культовых постройках; устное народное творчество, со-
хранившее устойчивую мифологическую образность.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
МИФОЛОГИИ
Перед нами немаловажный вопрос — имеет ли греческая мифология
свою, присущую ей художественную ценность, определенную эстети-
ческую значимость, если она ориентирована целиком на представления
древнего и, казалось бы, достаточно примитивного человека о его
собственном бытие, еще очень тесно связанном с простейшими функ-
циями природы вообще — рождением, выкармливанием, выращивани-
ем, удовлетворением элементарных потребностей, борьбой за сущест-
вование, болезнями и, наконец, смертью, которой, однако, не завер-
шается жизненный цикл, продолжаясь и повторяясь в неведомом, уже
потустороннем крае.
Выше мы пришли к выводу, что греческая мифология отличается
от ранних форм устного народного творчества — сказки, песни, ле-
генды, басни, — где всегда ощущается сознательное стремление к фан-
тазии и поучению. Но всякий, кто знакомился с греческими мифами,
даже в разных пересказах, должен признать, что они вовсе не лишены
творческого вымысла и своеобразной выразительности, впитавших к
тому же жизненный опыт древнего человека.
Мифотворчество поражает нас буйством фантазии, непредвзятостью
чувств, безудержностью страстей, столь же стихийных, как и сама
природа, в изобилии чудес и красоты. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что, являясь одной из древнейших форм освоения мира,
греческая мифология имеет огромное самостоятельное эстетическое
значение, если понимать под эстетическим максимальную выразитель-
ность внутреннего содержания предмета вовне.
Наиболее отчетливо и завершенно эстетическая направленность
греческой мифологии выявлена в гомеровском эпосе и в «Теогонии»
2 Глиптика — искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях.
Торевтика — искусство рельефной обработки изделий из металла.
2 Зак. 3903
А П п г,
18
Греческая мифология. Введение
Гесиода, где мифологическая картина всего космоса, богов и героев
приняла законченно-систематический вид.
У Гомера красота есть божественная субстанция и главные ху-
дожники — боги, создающие мир по законам искусства. Недаром
красота мира создается богами в страшной борьбе, когда олимпийцы
уничтожают архаических и дисгармонических чудовищ. Правда, эта
дикая доолимпийская архаика тоже полна своеобразной красоты.
Титаны прекрасны в своей безудержной стихийности, полудева-полу-
змея Ехидна привлекает путников прекрасным ликом. Эта «быстро-
глазая нимфа» является одновременно чудовищем, кровожадной змеей,
залегающей в пещере и несущей смерть. Тератоморфизм 1 совмещает
в себе чудовищность и чудесность, ужас и красоту. Однако красота
архаической мифологии гибельна. Сирены привлекают моряков пре-
красными голосами и умерщвляют их. Скалы, на которых обитают
сирены, усеяны костями и высохшей кожей их несчастных жертв.
Эти страшные полуптицы-полуженщины (так называемые миксант-
ропические, т. е. «смешанные» существа) уже прекрасны своим искус-
ством пения, но еще ужасны во всей своей дикости. Красота мифо-
логической архаики достигает подлинного совершенства в удивитель-
ном безобразии причудливых форм таких чудовищ, как Тифон или
Сторукие. Гесиод с упоением изображает стоголового Тифона, у
которого пламенем горят змеиные глаза. Головы Тифона рычат львом,
ревут яростным быком, заливаются собачьим лаем. Жуткий сторукий
Котт именуется у Гесиода «безупречным». Он великолепен в своем
совершенном безобразии. Ужас и красота царят в «Теогонии» Гесиода,
где сама Земля-великанша неустанно порождает чудовищных детей,
«отдавшись объятиям Тартара страстным». Зевс, сражаясь с титанами,
тоже прекрасен своим грозным видом. Он пускает в ход перуны,
гром и молнии так, что дрожит сам Аид, а Земля-великанша горестно
стонет. Олимпийцы и титаны швыряют друг в друга скалы и горы,
жар от Зевсовых молний опаляет мир, поднимается вихрь пламени,
кипит почва, океан и море, жар охватывает Тартар и Хаос, солнце
закрыто тучей камней и скал, которые мечут враги, ревет море,
земля дрожит от топота великанов, а их дикие крики доносятся до
звездного неба. Перед нами — космическая катастрофа, мучительная
гибель мира доолимпийских владык. Так же когда-то уступил новым
властителям змеевидный Офион, по орфическому преданию, царивший
еще до Кроноса на снежном Олимпе. Перед нами в муках рождается
новое царство Зевса и великих героев, оружием и мудрой мыслью
создающих новую красоту, ту, которая основывается не на ужасе и
дисгармонии, а на строе, порядке, гармонии, которая освящена Му-
зами, Харитами, Орами, Аполлоном в его светлом обличье, мудрой
1 Греч, слово to teras означает «чудовище» и «чудо».
Художественно-эстетическое значение мифологии
19
/фвявЬ, искусником Гефе-
стом и которая как бы раз-
ливается по всему миру,
преображая его и украшая.
Гомеровская мифоло-
(ия — это красота героиче-
ских подвигов, почему она
и выражена в свете и си-
янии солнечных лучей,
блеске золота и великоле-
пии оружия. В мире этой
красоты мрачные хтониче-
суир 1 силы заключены в
Тартар или побеждены ге-
роями. Чудовища оказыва-
ются смертными. Гибнут
Медуза Горгона, Пифон,
Ехидна, Химера, Лерней-
ская гидра. Прекрасные
олимпийские боги жестоко
расправляются со всеми,
кто покушается нарушить
гармонию установленной
ими власти, той разумной
упорядоченности, которая
выражена в самом слове
«космос» (греч. cosmeo —
украшаю). Однако побеж-
денные древние боги вме-
шиваются в эту новую
жизнь. Они дают, как, на-
пример, Земля, коварные
советы Зевсу, они готовы
возбудить вновь разрушаю-
щие силы. Да и сам геро-
ический мир становится на-
столько дерзким, что нуж-
дается в обуздании. И боги
посылают в этот мир кра-
соту, воплощая ее в облике
Муза с лирой на горе Геликон
Греч. chthOn — «земля».
лтсиический — рожденный зем-
ле"» потомок порождений земли.
20
Греческая мифология. Введение
Музы слушают Терпсихору
женщины, несущей с собой
соблазны, смерти и само-
уничтожение великих ге-
роев. Так появляется со-
зданная богами прекрасная
Пандора, в которую боги
вкладывают лживую душу.
Так рождается от Зевса и
Немесиды, богини мести,
Елена, из-за красоты ко-
торой убивают друга друга
ахейские и троянские ге-
рои. Прекрасные жен-
щины — Даная, Семела
или Алкмена, — соблазня-
ют богов, изменяют им и
даже презирают их, как
Коронида или Кассандра.
Ушедший в прошлое
мир матриархальной арха-
ики мстит новому геро-
изму, используя женскую
красоту, столь воспевае-
мую в эпоху классического
олимпийства. Прекрасные,
гордые женщины вносят
зависть, раздор и смерть в
целые поколения славных
героев, заставляя богов на-
ложить проклятие на своих же потомков.
Прекрасное в мифе оказывается активным, беспокойным началом.
Оно, воплощаясь в олимпийских богах, является принципом косми-
ческой жизни. Сами боги могут управлять этой красотой и даже
изливать ее на людей, преображая их. Так, мудрая Афина у Гомера
одним прикосновением своей волшебной палочки сделала Одиссея
выше, прекраснее и завила ему кудри наподобие гиацинта, и он весь
светился красотой (Од. VI 229—237). Та же Афина преобразила Пе-
нелопу накануне встречи ее с супругом. Она сделала Пенелопу выше,
белее и пролила на нее амвросийскую мазь, которой пользуется сама
Афродита (там же, XVIII 190—196). Здесь красота представляет собой
некую материальную тончайшую субстанцию, обладающую небывалой
силой. Древняя фетишистская магия, на которой основана вся практика
оборотничества, здесь преобразована в благодетельное воздействие муд-
рого божества на любимого им героя.
Краткая периодизация
21
Цо еще важнее та внутренняя красота, которой наделяют олим-
пийские боги певцов и музыкантов. Это красота поэтического мудрого
дохяовения. Мифический поэт и певец вдохновляется Музами или
Аполлоном. Но Музы и Аполлон — дети Зевса, так что в конечном
счете красота поэтического таланта освещается отцом людей и богов.
Поэт, певец и музыкант, обладает пророческим даром, ведая не только
прлпт’лпе. но и будущее. Вся греческая мифология пронизана прекло-
нением и восхищением перед этой внутренней вдохновенной красотой,
отпадавшей великой колдовской силой. Орфей заставлял своей игрой
на лире двигаться скалы и деревья и очаровал Аида с Персефоной.
Амфион, играя на лире, заставлял огромные камни складываться в
фиванские стены.
Представление о красоте в греческой мифологии прошло долгий
путь развития — от губительных функций к благодетельным, от со-
вмещения с безобразным к воплощению ее в чистейшем виде, от
фетишистской магии до милых и мудрых Олимпийских Муз.
Греческая мифология в историческом развитии дает нам неис-
черпаемый материал для освоения ее в плане эстетическом и для
раскрытия ее художественного воздействия в литературе и искусстве
античности.
КРАТКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ
Греческая мифология развивалась вместе с историей общества,
поэтому она никак не может быть представлена в виде раз навсегда
данной, застывшей картины, прекрасной в своей неизменности, где
вне времени и пространства находят себе место вечно пирующие на
Олимпе бессмертные боги, а смертные люди призваны совершать ге-
роические подвиги на земле. Чтобы такая картина появилась в пред-
ставлении древнего человека, должно было пройти немало времени,
измеряемого тысячелетиями. И начинается греческая мифология не с
прекрасных богов и героев, а с мира смутного и страшного, где ни о
богах, ни о героях нет еще и помину. Греческая мифология имеет
периоды своего развития, которые в кратчайшем виде можно назвать
доклассическим, или архаическим, и классическим, или героическим.
Первый из них, тоже говоря кратко, начинается в сумраке
тысячелетий и завершается ко II тысячелетию до н. э., о чем свиде-
тельствуют главным образом археологические данные, подкрепляющие
исторические выкладки.
Второй падает в основном на II тысячелетие до н. э., достигая
Расцвета в середине этого тысячелетия и завершаясь в его конце
мифами о гибели героических поколений. Старая наивная мифология
уходит в небытие вместе с родовым строем, когда в первой трети
22
Греческая мифология. Введение
I тысячелетия возникают предпосылки классового общества и созда-
ются принципиально новые формы жизни.
Мифологические сюжеты и образы приобретают в дальнейшем
развитии греческой культуры вплоть до конца античности художест-
венные и идеологические функции. Однако не они являются предметом
нашей книги. Нас интересует живой мифологический процесс. По-
этому, принимая во внимание эти грандиозные сдвиги социально-
исторических и мифологических пластов, остановимся подробнее на
указанных выше периодах.
I
ДОКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
ГЛАВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Доклассический период мифологического развития совпадает с пе-
риодом собирательско-охотничьего хозяйства и начальными ступенями
хозяйства производящего, наиболее законченно выражая жизнь древ-
нейшей, т. е. материнской, общины. В связи с этим доклассический
период мифологии именуют также мифологией матриархата. Но так
как это древнейший период, то он вполне может называться архаи-
ческим (греч. arche — начало, отсюда и греч. archaios — архаический,
древний). Но и этого мало.
Древнейшая ступень мифологии именуется к тому же доолимпий-
ской или дофессалийской. А что же это такое? Неужели были времена,
когда и гор& Олимп на севере Греции, в Фессалии, не существовало?
Нет, и Фессалия и Олимп существовали. Более того, Олимп не один,
их несколько, и не только тот, самый главный — в Фессалии, но и в
Малой Азии (Ликия и Мизия), на острове Кипр (целых два Олимпа),
на юге Греции (в Лаконике и Аркадии), на западе Греции (в Элиде,
вблизи Олимпии); да и само название «Олимп» относится к так
называемому балканскому догреческому субстрату, т. е. к древней
языковой основе, существовавшей до более поздних напластований
греческого языка. Ведь все вообще греческие географические названия
(так называемая топонимика) уходят вглубь балканского субстрата,
несут на себе печать большой древности, устойчиво сохраняясь на
протяжении тысячелетий.
Однако представления о том, что боги обитают на Олимпе Фес-
салийском, еще не появилось в эти далекие времена. Отсюда с полным
правом можно говорить о доолимпийском или дофессалийском периоде
мифологического развития.
Ученые применяют к нему также название хтонического, от гре-
ческого слова «chthon» — «земля», так как в эти архаические времена
земля мыслилась всеобщей матерью, которая всех порождает и вскар-
мливает. Но тогда и вся природа, и все то, что есть на земле, ока-
зывалось живым и даже одушевленным. Всякое же физическое тело
и вообще любой предмет, понятый как нечто живое, является не чем
Главные определения
25
Богиня с двумя двойными топорами
иным, как фетишем, почему архаический период мифологии можно
называть также фетишистским. Однако и этого мало.
Древний человек, погруженный в стихию природы, воспринимает
вс как нечто дисгармоничное, ужасное, страшное, чудовищное, что
определяется термином «тератоморфизм» (греч. teras — чудовище, чу-
до), а сама мифология — тератоморфной, т. е. имеющей дело с чудо-
26 Греческая мифология I. Доклассический период
иищными образами, а значит, и с чудесами, подстерегающими человека
на каждом шагу, вызывающими у него и ужас, и удивление.
Древнейшая мифология не знает человеческих форм, она доан-
тропоморфна, дочеловечна, а будучи порождением природы, где все
живет своей тайной и неведомой жизнью — и камень, и животное, и
растение, — эта мифология с полным правом обозначается не только
как фетишистская, но еще и как фетишистски-анимистическая (лат.
animus — дух, anima — душа), а детальнее как зооморфная (греч.
dzoon — животное) и фитоморфная (греч. phyton — растение). А по-
скольку всеобщее одушевление, анимизм, предполагает наличие при-
митивных человеческих праформ, еще не отделенных от животного и
растения, так же как не отделен от них и сам человек, то и архаическая
мифология именуется миксантропической, т. е. состоящей из смешения
образов живой природы с человеческими формами.
Таким образом, перед нами возникает интереснейший комплекс
наименований, зная смысл которых, уже можно сразу в целостном
виде представить специфику доклассической мифологии.
СПЕЦИФИКА ДОКЛАССИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
Главное, на что приходится обратить здесь внимание, — это сли-
яние архаического человека с природным миром, его невыделенность
из природного бытия, ощущение себя, как и вообще всего животного
мира, частью природы, порождением одной и той же матери — материи.
Поскольку же границы между «я» и «не-я» размыты, неясны, то
человек еще не чувствует себя в полной мере человеком, а неким
животным организмом, частью общего природного тела. Вот почему
так характерны для древнейшей мифологии смешанные миксантропи-
ческие формы вроде сочетания человека и коня (кентавры), человека
и змеи (Ехидна) или сразу нескольких образов в одном — голова и
грудь человека, крылья грифона, туловище льва (Сфинкс).
Становятся понятными и мифы о превращениях одного существа
в другое, то, что именуют оборотничеством.
Если и человек, и животное, и растение, и водная стихия мыслятся
единой природной материей, то нет никакой разницы между формами,
которые принимает то или иное существо. В архаических мифах человек
с легкостью превращается в серого волка, оборачивается сизой птицей,
течет быстрой речкой, не меняя своей единой со всем миром сущности.
Одним из важнейших принципов этой архаической мифологии
является господство в мире несоразмерности, беспорядочности, дис-
гармонии, доходящей до ужаса, принцип, не предусматривающий ни-
какой определенной формы для порожденной природы. Это станет
понятным, если учесть, что в период собирательства и охоты, когда
Специфика доклассической мифологии
27
человек, пользуясь готовым про-
дуктом, проявляет себя достаточно пассивно, природная жизнь восп-
ринимается им как смутное, нерасчлененное, беспорядочное течение
явлений, без твердо очерченных образов и границ, когда человек не
может себе представить жизненную силу вне того или иного предмета
ян существа, независимо от ее носителя, как некую вечную сущность.
Вот почему каждая частица природы, все ее порождение сменяют друг
ЯРУга в бесконечном чередовании жизни и смерти, ибо вечна только
са*га мать-земля, из лона которой все появляется на свет и которая
оринимает в себя всех уходящих в небытие.
28
Греческая мифология I. Доклассический период
ПЕРВЫЕ ПОРОЖДЕНИЯ
Древнегреческий поэт Гесиод в своей «Теогонии», поэме о рождении
богов, называет среди тех, кто «зародился прежде всего», Хаос, Гею,
Эрос и Тартар (116—120). Первая из этих мощных сил получила
наименование Хаоса, происходящее от греч. слова chasco, chaino —
зеваю, раскрываю рот или пасть. Из глубин этой разверстой пасти,
клубясь, появляются какие-то смутные очертания, рождаются такие
же бесформенные, как и он сам, Тьма — Ночь и Мрак — Эреб.
Хаос родился, когда еще и земли не существовало, но зато Ночь
и Мрак уже окутывают мировое пространство и, вступив в брак,
готовые вот-вот породить День и Эфир.
Ночь и Мрак вступают в брачный союз потому, что появилась еще
одна мощная сила, движущая миром: Эрос — Любовь, тоже не имеющая
никакого определенного образа и совсем не напоминающая того прекрас-
ного и коварного бога любви с крыльями, колчаном и стрелами, сына
Афродиты, который появится позже. Здесь это пока тоже стихийная, но
мощная сила, дающая жизнь и побуждающая весь мир к брачным союзам.
Следом за Хаосом родилась «широкогрудая Гея» — Земля (она же
Хтон). И характерно для наивного стихийного материализма греков, что
первой была именно она, а не небесные просторы. Земля рождает сама из
себя равное ей пространство — Уран, звездное небо. И опять обращает
на себя внимание, что здесь нет собственных личных имен, а только
наименования отдельных частей космоса. Но они вступают в брак и со-
здают целостное, неделимое, нерасторжимое космическое тело.
И еще появляется одна первопотенция — Тартар, именуемый сум-
рачным. Что это такое, не совсем ясно. То ли это пространство, залегаю-
щее в недрах земли, какая-то великая бездна, обладающая (и это приме-
чательно) шеей, которую окружает в три ряда ночь. В Тартар сверху
проникают корни земли и моря, окутанные густым черным туманом. То
ли это живое существо, поскольку Земля-великанша рождает чудовищ-
ного Тифона, «отдавшись объятиям Тартара страстным» (Гес. Теог. 823).
Из этих четырех первооснов три — Хаос, Эрос и Тартар — крайне
загадочны. Хаос в дальнейшем станет символом какой-то спутанности
жизни, смутная сила любви превратится в антропоморфного сына
богини Афродиты, а Тартар станет выполнять роль темницы для
свергнутых богов.
Главной очевидностью и реальностью является в архаической ми-
фологии земля, дающая жизнь неисчислимому потомству.
Все, что порождено землей, произрастает и обитает на ее просторах,
все живет своей особой жизнью, ибо жизненная сила, как мы знаем,
разлита по всему миру, в котором нет еще различия между живой и
неживой природой, между органическими и неорганическими сущест-
вами.
Архаический фетишизм, магия и оборотничество
29
архаический фетишизм, магия
И ОБОРОТНИЧЕСТВО
Как было уже сказано, архаическая мифология характерна именно
фетишизмом. И воспоминание об этих древних фетишах сохра-
нюсь до самого конца античности.
Так, в течение всей античности Зевса в городе Сикионе почитали
в виде каменной пирамиды (Паве. II 9, 6). На острове Делосе пока-
зывали грубый ствол дерева, именуя его матерью Аполлона и Арте-
циды. богиней Лето (Атен. XIV 614b). В городе Феспиях был свя-
щенный камень, считавшийся воплощением божества любви Эроса
(Паве. IX 27, 1), а в Спарте особо почитали два бревна, соединенные
перрупадиной. — двух неразлучных братьев Диоскуров — Кастора и
Попидевка. сыновей Зевса (Плутарх. О братской любви I). Во всех
приведенных выше случаях имеются в виду фетиши, в которых обитала
демоническая сила, когда и помину не было об олимпийской семье
богов.
Подобного рода факты можно в изобилии найти хотя бы в книге
Павсания (И в. н. э.), описавшего всю Элладу с ее храмами, святи-
лищами, прорицалищами, алтарями и богами уходящего языческого
мира.
Безымянные фетиши архаической мифологии в более поздние вре-
мена, сохраняя свое священное прошлое, были включены в культ
олимпийских богов, считаясь как бы их древнейшим воплощением.
Пережитки архаики в позднем культурном слое обычно именуются
рудиментами, и подобных рудиментов в греческой мифологии великое
множество. t
В Греции особенно был развит фитоморфный фетишизм, т. е. по-
читание деревьев и растений, таких, как лавр, виноградная лоза,
плющ, кипарис, дуб.
В каждом дереве заключалась особая таинственная, так называемая
магическая сила, дающая жизнь, слитая с физическим бытием самого
дерева. Эта сила жила, пока жило дерево, и могла погибнуть, если
оно гибло (Гом. гимн. IV). Греки оберегали священные рощи и в
гораздо более поздние времена, полагая, что ущерб, нанесенный дереву,
может оскорбить то древесное существо, что в нем обитает и составляет
его сущность. Такие древесные существа, гамадриады (от греч. hama —
вместе, drys — дуб), т. е. обитающие вместе с деревом, еще не об-
ладали полнотой бессмертия, характерной для богов классической
мифологии. Гамадриады кончали свой век с веком дерева так же, как
Хивая сила камня умалялась и уничтожалась, если он был расколот
и Раздроблен, а живая сила ручья исчезала, если ручей высыхал.
Древний фетишистский мир был смертен, как отдельные части
природы, и вместе с тем бессмертен, как вся природа в ее целостности.
30
Греческая мифология I. Доклассический период
Дафна, превращающаяся в дерево
Магическая или демониче-
ская (ближе к греческому
произношению «даймони-
ческая»: греч. daimon — бо-
жество, daimonios — боже-
ственный) сила пронизыва-
ла собой все; иссякая в
одном месте, она пробива-
лась в другом, будучи не-
разрывно слита с тем фи-
зическим телом, в котором
она жила. Капли крови вы-
ступали на ветке, стонало
срубленное, сломанное де-
рево, но жизненная сила
всего природного организма
была неисчерпаема.
Память об этих расти-
тельных фетишах сохрани-
лась в мифологических био-
графиях греческих богов, в
их именах и эпитетах.
Так, лавр особенно до-
рог Аполлону, потому что
этот бог безответно полю-
бил древесную деву лав-
рового дерева — нимфу
(греч. nymphe — дева), или
дриаду, Дафну (греч.
daphne — лавр). Дафна и
есть сам лавр, но в более
поздней мифологии Апол-
лона это нимфа, превратив-
шаяся в лавровое дерево,
чтобы избежать преследо-
ваний влюбленного бога.
Аполлон же венчает своих
избранников, поэтов, пев-
цов, музыкантов венком из
листьев любимого им де-
рева.
Виноградная лоза и
плющ связаны с именем
бога Диониса, которого да-
же именовали «виноград-
Архаический фетишизм, магия и оборотничество
31
л гроздью» и «плющом» в
“°мЯТь древней священной
’“да,, пребывающей в этих
плетениях, неотъемлемых от
«статических оргий Диони-
са. Мощная сила дуба тоже
была священна, и в класси-
ческие времена особенно по-
читался связанный с именем
Зевса дуб на севере Греции,
в Додоне.
Но и животныи мир —
птицы, звери, пресмыкаю-
щиеся — тоже восприни-
мался в мифологической ар-
хаике зооморфными фети-
шами. Они имели свой язык,
свою потаенную мудрость и
особую силу оборотниче-
ства.
Недаром классический
Аполлон Волкоубийца сам
некогда был просто-напросто
волком-оборотнем, пожира-
телем детей. Глубинная муд-
рость земли воплощалась в
змее (кстати сказать, русские
«земля» и «змея» — одного
корня), а тайное всеведение
ночи — в сове с ее горящими
холодным светом глазами.
И когда уже не помнили обо
всех этих древних зооморф-
ных фетишах, а мудрость
стала воплощаться в пре-
красной богине Афине, ни со-
на, ни змея не были забыты.
Они остались непременными
атрибутами Афины Палла-
ды, которая именовалась «со-
ноокой» и изображалась со
змеей, выползающей из-под
ее щита, и с совой, сидящей
на плече. Более того, в одном
из Орфических гимнов Афи-
Афина и сова
32
Греческая мифология I. Доклассический период
Аполлон и Дафна (вверху)
Афина и дочь Кекропса
ну прямо называли змеей
(XXXII 11).
И грозная медведица,
мыслившаяся некогда влады-
чицей леса, оберегавшая зве-
рей, но и губившая их, в
эпоху классической мифоло-
гии почиталась в Брауроне
как воплощение Артемиды —
божественной охотницы.
А богиня Гера, супруга
Зевса, принимала в Сикионе
поклонение в виде священной
коровы. Гомеровский же эпос
именует эту прекрасную бо-
гиню «волоокой», напоминая
нам о временах зооморфного
фетишизма.
Архаический фетишизм, магия и оборотничество
33
Вот почему, знакомясь с
известнейшими классически-
ми мифами, нашедшими от-
ражение в греческой литера-
туре и искусстве, приходится
обращать внимание на разно-
образные именования богов и
их святилищ, на их эпитеты,
на их неизменные атрибуты,
на рассказы об их бесконеч-
ных метаморфозах.
Внимательное изучение
подобных материалов неза-
медлительно обнаруживает
рудименты, или реликты (ос-
татки) , древнейших мифоло-
гических пластов в деяниях со-
вершенных олимпийских бо-
гов, В ИХ внешнем виде, В ИХ Медуза Горгона
функциях.
В этом отношении показателен, например, Гомеровский VII гимн
к богу Дионису, воспевающий силу и многоликость этого божества
неиссякаемых природных сил, благодетеля человека (виноградная ло-
за — его дар) и страдальца (живительный виноградный сок — Диони-
сова кровь, впитавшаяся в землю).
Захваченный морскими разбойниками, Дионис испробовал на них
чудеса своей божественной мощи. Он явился им красавцем с иссиня-
черными кудрями, в пурпурном плаще, с черными улыбчивыми гла-
зами, полный внутреннего спокойствия.
Когда разбойники схватили его и связали, он мгновенно разорвал
путы, а на корабле начали твориться чудеса. Прежде всего по палубе
зажурчало благовонное вино, снасти покрылись виноградными лозами,
с которых свисали гроздья, по мачте карабкался плющ, всюду красо-
вались плоды, и даже уключины весел были в венках из цветов.
Сам же пленник неожиданно превратился в рычащего льва, затем в
яростную медведицу, растерзал предводителя пиратов, превратил бро-
сившихся в море похитителей в дельфинов и только тогда, наконец,
открыл кормчему свое божественное имя.
Весь этот гимн полон архаических рудиментов — фитоморфных и
зооморфных, указывающих на древнее прошлое божества стихийных
сил природы.
Метаморфозы, которые претерпел Дионис и его похитители, —
свидетельство древнего оборотничества, которое характерно для хто-
иической мифологии с ее текучей полиморфностью, т. е. изменчивой
иноголикостью.
3Зак 3903
34
Греческая мифология I. Доклассический период
Но уж если в архической мифологии все бытие пронизано маги-
ческой жизненной силой, то и сам человек как часть природы тоже
должен быть непременно ею наделен. В этом смысле представляют
интерес все указания на средоточие жизни в разных частях организ-
ма — сердце, диафрагме, печени, глазах, волосах и особенно крови.
Можно сказать, что жизненная сила человека и бога отождествляется
с его физическим телом.
Так, Гекуба, мать убитого Гектора, жаждет впиться зубами в
печень Ахилла, чтобы лишить его жизни. Афина Паллада, согласно
орфической теогонии, рождается из сердца Зевса. Волосы, будучи
средоточием жизни, посвящаются божеству-покровителю, как это сде-
лал Тесей, указуя на теснейшую с ним связь. Глаза обладают маги-
ческой силой уничтожения жизни, что и засвидетельствовано в мифе
о Медузе Горгоне, превращавшей в камень все, на чем остановится
ее взгляд, или в мифе об Артемиде, одним взглядом испепелившей
целую рощу. В гомеровском эпосе средоточием всей умственной жизни
человека (иной раз и эмоциональной) является диафрагма, буквально
отождествляясь с этой жизнью. Выражения Гомера, связанные с ум-
ственным или нравственным состоянием диафрагмы (ощущение добра,
зла, справедливости, благородства, мужества), тоже указывают на
архаическое фетишистское представление о человеке. Наконец, кровь
как материальная субстанция — тоже носительница жизненной силы
человека. И когда у того же Гомера жизненная сила вместе с льющейся
кровью выходит из раны убитого или копье вырывает эту силу из
тела, мы опять фиксируем неуловимое и неясное ощущение какого-то
физического вместилища жизни в мифологической архаике.
Все приведенные нами примеры подтверждают свойственное древ-
нему человеку представление о нерасторжимом единстве физического
тела и его особой животворящей субстанции, которую называют ма-
гической или демонической.
АРХАИЧЕСКИЙ АНИМИЗМ. ПЕРЕХОД
ОТ ДЕМОНА К БОЖЕСТВУ
При постепенном укреплении родовой общины, когда на смену при-
своению готового продукта приходит производящая этот продукт деятель-
ность, человек уже не просто инстинктивно пользуется предметами, не-
обходимыми для жизни, но всматривается в них, осмысляет, разделяет
их, учится рациональному их употреблению, сам их создает, демонстри-
руя определенные, пусть и простейшие конструктивные способности.
Производя даже самые примитивные орудия труда, человек не-
вольно останавливался на их цели, строении, назначении. А такой
мыслительный акт создавал предпосылки для осмысления любой вещи,
Архаический анимизм. Переход от демона к божеству
35
составных частей, а
^ачит, и ее разложения
части и соединения в
zLo целое. Если понять
2исл вещи и есть умение
-с расчленять, значит,
и магическую си-
лу демона этой вещи,
ддмцпего ей смысл и
отделить от самого
предмета, заставить демо-
ца жить независимо от
предмета, извне действо-
вать на него, не под-
вергаясь уже никакому
ущербу вместе с гибнущей
вещыо, но сохраняя не-
изменность своего состоя-
ния или, как говорят, не-
подверженность смерти,
бессмертие.
Таким-то образом чис-
тый фетишизм вступает
на анимистический путь,
признавая наличие не-
зависимого животворного
источника для объектив-
но существующего бытия,
для любого порождения
матерн-Земли.
Вся природа в таком
случае обретает преобра-
женный вид. Леса теперь
полны таинственных не-
Неренда, бегущая по волнам
видимых существ, дающих жизнь цветам и деревьям, оберегающих и
Защнщающих их. В лесных чащах обитают все те же древесные девы,
но*отныне они не гамадриады, живущие одной жизнью с деревом и
тонущие вместе с ним. Теперь это бессмертные нимфы, дриады, извне
направляющие жизнь растительного мира.
Сокровища, хранимые в земле, тоже находятся под властью неких
^гадрчных ковачей — дактилей ростом с палец (греч. dactylos — палец).
Поля и луга населяют косматые и козлоногие, с козьими рожками
существа — паны, паниски, сатиры, — наблюдающие за благоденстви-
ем стад.
36
Греческая мифология I. Доклассический период
Ручьи, реки, озера, источники, болота полны вечно снующих там
водяных дев, именующихся наядами или нимфами, так как греческое
слово «нимфа» означает не только деву, но и родниковую воду. В горах
прячутся горные девы — ореады (греч. oros — гора), охранительницы
вершин, горных дорог, пещер и гротов; и этим девам путник ради
своей безопасности должен принести жертву.
Эти горные нимфы характерным образом ни бессмертны, ни
смертны. Они живут долго, питаясь амбросией, и с рождением каждой
из них вырастают на высоких горах деревья — сосны или дубы,
высокие, с пышной листвой. Никто не смеет прикоснуться к свя-
щенным деревьям, но наступает час, предназначенный судьбой, и
деревья засыхают на корню, «отмирает кора, отпадают зеленые ветви».
В этот же миг души горных нимф расстаются с жизнью (Гом. гимн.
IV 257—272).
Глубь моря, — а греки морской народ и любят его, — так и кишит
неисчислимыми причудливыми существами, теми, что придают морю
его изменчивую окраску, его соленость; теми, что создают игру волн,
их всплески, водовороты, быстроту движения, пенные гребни, бездон-
ную глубину, песчаные отмели, скалистые берега.
Стоит прочитать «Теогонию» Гесиода, где он перечисляет пятьдесят
дочерей Нерея, рожденных в морской глубине (240—264), или детей
реки Океана, омывающей землю (337—370), число которых достигает
трех тысяч.
Их имена Кимо (Волна), Фоя (Быстрота), Феруса (Несущая вол-
ны), Понтопорея (Пролагающая морской путь), Динамина (Водоворот),
Окироя (Быстрое течение), Каллироя (Прекрасное течение), Главко-
нома (Зелено-голубой цвет), Галия (Соленый вкус), Псамата (Пес-
чаность) и Петрея (Скалистость моря).
Пока еще существа, отделившиеся от материального тела природы
и получившие независимую от нее жизнь, достаточно неопределенны
и неоформлены, как те стихии, которые они направляют и которыми
они управляют.
На ступени перехода от фетишизма к чистому анимизму архаи-
ческая мифология не знает еще продуманно оформленной божествен-
ной силы, имеющей личное имя и свою особую божественную био-
графию. Перед нами мир пока еще не богов, но демонов, неизвестно
как возникающих и неизвестно куда уходящих, скрытых от человека,
который не может даже воззвать к ним по имени, вступить с ними
в общение.
Эта демоническая сила внезапно налетает, неся человеку горе,
посылая зловещие сны, вызывая у него неожиданные мысли и действия.
Демон сопричастен рождению человека (ср. идентичное греческому
демону латинское genius — гений, присущий от рождения) и его смер-
ти, неожиданному благу и такому же неожиданному несчастью. В клас-
сической мифологии эти демоны, потеряв свое всемогущество, станут
Земля и ее потомство
37
р-пршгями между богами и людьми, но в архаической мифологии
е пол110 демонов — ив них древний человек осмысляет неразгадан-
„ и таинственность нерасчлененного хаоса жизни, господство тех
Явлений, которые именуются случайными, до тех пор, пока для них
ше не найдено объяснение.
Но став на путь анимизма, древний человек не мог уже с него
свернуть. И существа, рождаемые матерью-Землей, получали в арха-
ической мифологии независимую от их породительницы жизнь, имели
свой образ и имя, а значит, и свою судьбу.
ЗЕМЛЯ И ЕЕ ПОТОМСТВО
Для греческого стихийно-материалистического мифомышления ха-
рактерно, что Небо — Уран не является извечным, но само порождено
Землей — Геей (Гес. Теог. 126—128), будучи в свою очередь также
порождающим началом и вместе с тем пространством, усеянным звез-
дами, по своей протяженности равным Гее.
Независимо от Неба Земля производит на свет из своих недр горы
и обитающих в них нимф, а затем и шумное море, Понт (там же,
129—132). Примечательно, что Понт в духе архаической магии яв-
ляется и морским простором (ср. др. рус. п ть — путь), и живым
существом, дающим начало новому потомству.
Итак, оказывается, что мир, или по-гречески «космос», получает
свой привычный вид благодаря жизненной силе земли. Он, этот космос,
простирается в равной мере между небом и землей, омываемой морем,
покрытой горами и тенистыми горными лесами.
Однако не забудем, что наряду с землей среди первых четырех
вселенских потенций нашел себе место Эрос, сила которого покоряет
живую душу и лишает ее разума. Именно благодаря Эросу Небо —
Уран и Земля — Гея, вступив в брачный союз, рождают ужасных
видом детей — шесть сыновей и шесть дочерей (там же, 132—136),
которые получают имя титанов.
Братья — Океан, Кой, Крий, Гиперион, Иапет, Кронос. Сестры —
Тейя, Рея, Фемида, Мнемосина, Феба, Тефия.
Дети Земли и Неба наделены неиссякаемой силой жизни — они
бессмертны. Каждый из них имеет свое собственное имя, в котором
слышны отзвуки каких-то природных стихий и владычества над ни-
ми — воздуха, влаги, ветра, огненного жара, звездного света. Но уже
среди буйства вихревых потоков и грозовых молний и ливней, осве-
жающих землю, возникает робкое чувство о чем-то дозволенном, а
значит, и недозволенном (греч. themis — Фемида), о чем-то остаю-
щемся в памяти, а значит, незабываемом (греч. mnemosyne — Мне-
мосина, память). Отсюда напоминание или память о праве перейдет
38
Греческая мифология I. Доклассический период
к детям титанов (они получат имя Олимпийских богов), укрепится
там и станет основой устроения их могущества.
А пока титаны и титаниды, братья и сестры, вступают друг с
другом в брак (прекрасный пример кровнородственной семьи), смешав
в одно целое круговорот космических стихий.
Но кого же еще, как не детей небесных грозовых просторов,
готовых низринуться на черную землю, могли породить Уран и Гея?
И вот среди их потомства еще трое — круглоглазые киклопы: Бронт —
Гром, Стероп — Молния и Apr — Ослепительный блеск молний (там
же, 139—146).
Рядом с ними тоже трое, по словам Гесиода, «несказанно ужасных»
Сторуких — Котт, Бриарей и Гиес. У каждого — пятьдесят голов и
сотня рук (там же, 147—153).
Дальнейшую историю титанов, по Гесиоду, можно себе представить
следующим образом (там же, 154—210).
Весь этот чудовищный род стал ненавистен даже их отцу —
Урану, и тот немедленно отправил своих детей при появлении на
свет в недра матери-Земли. Но тогда великанша-Земля начала ис-
пытывать тяжкие муки и задумала отомстить Урану, переполнившему
ее утробу.
Из «седого железа» она сделала серп и печальными словами пы-
талась разжалобить своих детей, подбивая их отомстить отцу. Однако
все молчали, объятые страхом, и лишь один Кронос, младший из
титанов, обладавший хитрым умом, исполнился смелостью и осуще-
ствил замысленное Землей дело. Наученный матерью, он оскопил
спавшего отца и тем самым пресек неиссякаемую плодовитость Урана,
которая переполняла землю чудищами. (По версии Аполлодора (I 1,
4), все титаны, за исключением Океана, напали на отца).
Но даже из крови оскопленного Урана, пролитой в море, и из
морской пены, смешавшейся с кровью, все еще появлялись существа,
поражавшие или своим диким видом, или невиданной страстью.
Так, Уран породил Эриний — седых окровавленных старух с со-
бачьими головами и змеями в спутанных волосах, блюстительниц прав
материнского рода. От него же — Гиганты и древесные нимфы Мелии —
Ясеневые (из стволов ясеней древние герои делали древки копий). Но
от него также и прекрасная Афродита — «пеннорожденная», всегда в
сопровождении Эроса и Гимера — страстного желания, вышедшая на
берег острова Кипра вблизи приморских Кифер — почему она и Кип-
рида, и Киферея.
Так Земля отомстила Урану и пресекла избыток сил плодородия,
поставив им некий предел, который мы можем оценить как достаточно
раннюю и пока еще слабую попытку ограничить тератоморфную ха-
отичность земнородных. С этим актом уходило в небытие владычество
Урана и наступало царство Кроноса. Однако деяние Кроноса (при
молчаливом согласии его братьев-титанов) было чревато возмездием,
Земля и ее потомство
39
которому пока не пришел
соок. н0 к0Т°Р°е Уже задУ"
~^но в глубинах мифоло-
гической истории, начав-
шей различать и держать
в памяти права, связующие
отцов и детей, и нарушение
утих прав.
Тем временем, пока со-
зревали условия будущего
возмездия, не подозревав-
шие своей печальной уча-
сти дети Геи и Урана про-
должали заселять землю
новым потомством (Гес.
Теог. 211—232).
Оказалось, что Ночь,
рожденная некогда самим
Хаосом, также вполне са-
мостоятельно, вне всякого
брачного союза, стала ма-
терью Мора, Смерти, Сно-
видений, а также породила
брата и сестру — едко-на-
смешливого Мома и Пе-
чаль. В черных глубинах
Ночи зародилась сама
Судьба в виде трех сес-
тер — Клото (прядущая
нить жизни), Лахезис (да-
ющая человеку тот или иной жребий) и Атропос (бесповоротность,
неотвратимость судьбы).
Месть — Немесида и Эрида — Раздор — тоже дети Ночи, причем
Эрида дала начало тяжкому труду в сопутствии голода и скорби, а
также стала матерью убийствам, битвам, ослеплениям и всяческим
беззакониям.
Таким образом, те четыре первоначала, о которых мы говорили
выше (Земля, Хаос, Эрос, Тартар), вполне закономерно начали про-
являть свое могущество.
Земля оказалась всеобщей матерью, дающей начало жизни, пусть
эта жизнь еще полна ужасов, спутанна, безобразна. Но, раз появив-
шись, она несет в себе принцип совершенствования и чревата лучшим
будущим. Хаос-бездна из собственных глубин рождает антипод жиз-
5й Ночь, а эта последняя породила Смерть и все те ужасы, которые
УДУт преследовать в дальнейшем человека.
40
Греческая мифология 1. Доклассический период
Древние греки, будучи великими жизнелюбцами, вполне справедливо
еще в страшных глубинах архаики уравновесили царство Ночи ее же
собственной дочерью, исполненной света Гемерой — Днем.
Эрос оказался движущей силой космического влечения, и без него
немыслимо мифологическое развитие древних.
Что же касается Тартара, то именно в его объятиях породила
Земля своего младшего сына, Тифона, или Тифоея. У Тифона не
только сотня змеиных голов, но это головы, мечущие из глаз пламя,
а глотки этого чудовищного дракона испускают «невыразимые голо-
са» — то рев быка, то львиный рык, то собачий лай или змеиный
свист, а то вдруг внятный голос, доступный для понимания.
Однако свое подлинное предназначение Тартар выполняет на ис-
ходе архаики, когда он станет абсолютно необходимым в той картине
космоса, которая постепенно станет вырисовываться во мгле тысяче-
летий, принимая все более и более совершенную конструкцию.
До этого времени, правда, еще далеко, почему и Земля и Море
(а корни их переплетаются, залегая в Тартаре) все еще без устали
порождают чудовищных детей и по своему усмотрению заселяют ими
мировое пространство.
ЧУДОВИЩА НАСЕЛЯЮТ ЗЕМЛЮ.
ГУБИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
Как было уже установлено выше, потомки матери-Земли были и
тератоморфны, и миксантропичны, т. е. их чудовищный вид уже имел
какие-то человеческие черты. Особенно причудливы и страшны были
порождения женского рода, что вполне понятно, если учесть матри-
архальную основу древнейшей мифологии (Гес. Теог. 237—239, 270—
280).
Кроме Земли особенно было богато потомством Море — Понт. Обе
эти могучие стихии вступили в супружеский союз, плодом которого
оказались Форкий и Кето, в свою очередь сочетавшиеся в браке и
давшие начало самым причудливым порождениям.
Дочерьми Форкия и Кето, живущими на краю света, были Грайи,
родившиеся седыми старухами, но зато «прекрасноланитными». Обе
(по другой версии, их три и на всех приходится один глаз и один
зуб) — в изящных пеплосах. Но главное, дети Форкия и Кето — Сфено
(Мощная), Евриала (Многоречивая) и Медуза (Владычица) —сестры-
Горгоны.
Все три Горгоны ужасны видом. Их волосы — змеи, вместо зубов —
кабаньи клыки, мощные руки — из блестящей меди, за плечами —
золотые крылья, взгляд глаз завораживает все живое, превращая в
камень.
Чудовища населяют землю. Губительные силы
41
Гидра
Но характерно, что сестры-Горгоны имеют разную судьбу, пройдя
неодинаковый по времени путь мифологического развития. Первые
две сестры уже бессмертны, Медуза же еще смертна, что и приведет
ее в дальнейшем к гибели.
На одном этом примере видно, с каким трудом завоевывалось в
архаическом мире бессмертное начало. Смертными оказывались там
наиболее древние и ужасные чудовища, поскольку их уничтожение
было залогом созидания новой мифологической ступени, подготавли-
ваемой всем социально-историческим развитием родового коллектива
И господствующих в нем новых отношений.
Первоначальная неустойчивость бессмертия чудовищных существ
хорошо видна и на образе Ехидны (там же, 295—305) — также дочери
Форкия и Кето или, по другой версии, Тартара и Геи.
Эта Ехидна не просто зооморфна, но и миксантропична, соединяя
в себе тело пестро разрисованной чудовищной змеи и лик прекрасной
ыстроглазой девы. Ехидна — «могучая духом» — залегает в глубокой
®^Щере под землей, как положено ее змеиной сущности, и несет
бель, заманивая путников обманчивой прелестью своего лица.
42
Греческая мифология 1. Доклассический период
Гаргона с Пегасом
Как говорилось выше, Ехидна — хороший пример губительной силы
красоты в архаической мифологии. Дева и змея, красота и смерть
неразлучны в этом образе. Отсюда — два варианта мифа о судьбе
Ехидны. По одному — ее ожидает гибель, по другому — она остается
бессмертной, вечно обитая вдали от людей и от богов как напоминание
о тайных и ждущих своего часа силах земли.
Эта страшная дева-змея порождает от стоглавого Тифона не менее
ужасных дочерей — Лернейскую гидру, Химеру, душительницу
Сфинкс, а также двух кровожадных псов — Орфа и Кербера с пятью-
десятью головами и медными глотками (там же, 306—326).
Гидра нашла себе пристанище в болотах Лерны. У этой драконши
пять или шесть змеиных голов, хотя в более поздней традиции она
миксантропична и головы у нее человеческие. Кровь ее несет в себе
смертельный яд, дыхание ее глоток тоже смертельно.
Чудовища населяют землю. Губительные силы
43
Каждая голова Гидры обладает необычной силой жизни — даже
ли ее срубить, она вырастает вновь. Чтобы лишить это чудовище
^^мертия, необходимо принять особые меры, чем и воспользуется в
\льяейшем убивший ее Геракл. Только огонь, которым прижигается
ЛдГС?пяиие срубленной головы, может уничтожить новое ее появление.
°1даИ опять-таки, по одному из вариантов мифа, средняя голова Гидры
бессмертна, но и она срублена Гераклом, а затем погребена им же
под огромной скалой (Аполлод. II 5, 2). По сути дела, бессмертная
пмюва, отделенная от смертного туловища, продолжает свое сущест-
вование в недрах земли как потенциальная угроза человеку.
Крылатая Химера выдыхает пламя, и, чтобы с ней расправиться,
падо взнуздать коня Пегаса. Именно с его помощью, взмыв в небо,
Химеру настигнет и убьет герой Беллерофонт (там же, II 3, 1).
Не менее зловредна третья сестра, Сфинкс — Душительница с
У^гилиитем льва, головой и грудью девы, крыльями хищной птицы,
змеиным хвостом. Это чудовище обладало особой мудростью (там же,
III 5, 8). Не сумевших разгадать загаданную ею загадку Сфинкс
дурукла в когтистых лапах • так же, как ее мать Ехидна душила
путников в кольцах змеиного тела.
Мать Ехидна соблазняла красотой лика, дочь Сфинкс соблазняла
хитрым вымыслом — ив том, и в другом случае люди расплачивались
жизнью за попытку приоткрыть покров таинственного бытия природы.
Среди детей то ли морского Форкия, то ли речного Ахелоя —
сестры-Сирены (Од. XII 40—54, 166—200), две или три, тоже мик-
сантропические существа — птицы с женскими головами, а на более
древних изображениях просто птицы, круглоглазые, с огромными ос-
тановившимися зрачками, острым клювом и когтистыми лапами. В сво-
ем облике эти «прекрасно поющие девы» сохранили и хищные когти,
и неуклюжесть птичьего туловища в тяжелом оперении.
Придет день, когда мимо Сирен проплывет Одиссей, привязав себя
к мачте и наслаждаясь их пением. Однако до этого еще далеко, время
героев пока не наступило.
Как видим, магия женской красоты, магия таинственного слова и
магия прельстительного пения (может быть, даже заклятия) смертельна
ДМ всякого, кто пытается к ней прикоснуться и, значит, разгадать
ее скрытый смысл.
Мир архаической мифологии дышит ужасом и нагоняет страх.
Дети Ночи — Керы веселятся среди битв, обагряясь кровью и нанося
вертельные удары воинам.
Собакоголовые и тоже окровавленные Эринии — Алекто, Тисифо-
Мегера — выходят из царства смерти, чтобы возбудить месть,
безумие и злобу (Аполлод. I 1, 4).
Крылатые чудовищные птицы с девичьими лицами — Гарпии (Гес.
Jeor. 267) налетают вихрем и уносят бесследно исчезающих людей.
44
Греческая мифология I Доклассический период
Кровавая Ламия бессонно бродит по ночам, похищая и пожирая
детей (Страбон I 2, 8).
В пещере таится дракон Дельфиний, полузмей-полудева, готовый
прийти на помощь порождениям Земли (Аполлод. I 6, 3).
В Темпейской долине гигантский змей втайне выкармливает сто-
главое чудовище Тифона на погибель миру (Том. гимн. II 173—177)
Где-то у морского пролива подстерегает мореходов чудовищная
двенадцатиногая Скилла с шестью собачьими головами, с шестью
пастями, железными зубами в три ряда. А по другую сторону пролива
страшный водоворот Харибда трижды в день поглощает и изверга ei
черные воды, неся неминуемую гибель мореходам, так что даже сам
владыка моря Посейдон не в силах спасти человека, попавшего в
ловушку между Скиллой и Харибдой (Од. XII 85—100, 245—250)
В самом же сердце Греции, в Беотии, охраняет священный ис-
точник огромный дракон (Аполлод. III 4, 1). А за далекими морями,
в Колхиде, неусыпным стражем золотого руна пребывает тоже пестро
разрисованный дракон с горящими глазами (там же, I 9, 23). На
крайнем западе, где врата смерти, стережет золотые яблоки вечной
молодости змей, свернувшийся в кольцо и глубоко укрывшийся в
землю (Гес. Теог. 333—336). И наконец, по свидетельству так на-
зываемой орфической теогонии (Аполл. Род. I 503), владыкой мира
до того времени, пока им стал править титан Кронос, был обитавший
на снежной горной вершине гигантский змей Офион (греч. ophis —
змея).
ЛЮДИ НАСЕЛЯЮТ ЗЕМЛЮ.
БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
Но и в этом несчастном мире, готовом погибнуть в змеиных
объятиях, среди ночи, где бродят спутники демона войны — Страх и
Бледность, все-таки ждут своего часа и таятся благодетельные силы
Лесной Пан не только наводит ужас, но и охраняет стада, играя на
свирели. Загадочная в своем уединении Мать зверей, их питательница
и кормилица, обитает в горных пещерах. Но кто знает, не сама ли
это гора Дикта (или Ида) на острове Крит, изобильная пастбищами
и холодными родниками.
Морской старец Нерей, хотя он родной брат чудовищных Тавманта
и Форкия, обладает доброй душой и подает благие советы. Океан по
своему мирному нраву совсем не похож на братьев-титанов. Среди
мрака ночи для земнородных людей, а не только для бессмертных
льет сладостный свет титанида Тейя. Водные просторы населяют не
только стихийные, но и благодетельные нереиды, среди которых вы-
Люди населяют землю Благодетельные силы
45
делается Немертея с правдивой душой. Все ее сестры большие искус-
ницы и мастерицы.
В лесных чащобах Фессалии среди буйного племени кентавров —
Хирон и Фол — воплощение мудрости и благожелательности. Оба —
миксантропичные полулюди-полукони, оба — дети древесных нимф.
Первый — сын Филиры (Липы), второй — Мелии (Ясеневой) (Аполлод.
I 2, 4; II 5, 4). Один — от титана Кроноса, другой — от мудрого
Силена, внук Пана.
Дети Земли — куреты помогают приручать животных, разводить
пчел и строить жилища (Диодор V 65), а живущие в недрах гор
Демонические дактили (Страбон X 3, 20) обучают ремеслу и работе
с железом. Но если есть помощники и наставники среди обитателей
атонического мира, целиком зависящего от порождающих сил Земли,
Должно найтись место и для человека.
Да, человеческое естество там и сям проскальзывает среди звериной
сущности архаики, скорее всего, начало женское и чаще всего в
змеином обличье или в виде кровожадного хищника.
Первые люди как бы вырастают из самой природы, они не то
Фитоморфны, не то зооморфны, наподобие растений и животных,
с°пряженных с человеческими членами. И происходят они иной раз
46
Греческая мифология I Доклассический период
Титан Океан
прямо из земли. Известен миф (Аполлод. III 4, 1) о том, как из
попавших в землю зубов погибшего дракона, того самого, что оберегал
в Беотии источник, появились на свет в полном вооружении люди,
немедленно истребившие друг друга, так что осталось их всего пять.
Их так и прозвали — спарты, т. е. «посеянные». Эти пятеро хтони-
ческих, рожденных землей братьев носили характерные имена: Эхион
(Змеиный), Удей (Почвенный), Хтоний (Земляной), Пелор (Исполин),
Гиперенор (Гордый силой). Они и дали начало лучшим фиванским
семьям.
Таким образом, родоначальники тех, кто правил Фивами, мысли-
лись автохтонами, т. е. рожденными самой местной землей.
Представления о первых властителях Афин тоже связаны с мифом
об их автохтонном происхождении. Так, Эрихтоний (В высшей степени
земляной), один из первых аттических царей, был рожден Землей
(там же, III 14, 6) и обладал полузмеиным-получеловеческим телом
Другие, более ранние аттические властители, Кекропс и Кранай,
тоже были автохтонами и полузмеями (там же, III 14, 1. 5).
У знаменитого трагика Эсхила в его «Прометее прикованном»
(447—453) рассказывается история жалкого существования первых
людей, живших в темных пещерах наподобие муравьев, не знавших
Люди населяют землю Благодетельные силы
47
Битве лапифов с кентаврами
огня, имевших глаза и уши, но слышавших не слыша и видевших не
вида, т. е. бессмысленно влачивших подобие жизни. Может быть, это
были одни из первых человекоподобных существ, вылепленных из
земли и воды сыном титана Иапета Прометеем, а может быть, они
сами выросли из земли, как вырастали деревья.
Судя по древнейшим мифам, первые люди были столь же дикими,
как сама природа, и наделены звериной силой. Некоторым воспоми-
нанием о них являются мифы о кентаврах, обитателях гор и лесов,
отличавшихся буйным нравом и невоздержанностью. Они вечно воюют
со своими соседями — лапифами, похищая для себя жен из этого
племени (Овид. Мет. XII 210—535).
Однако, как мы говорили выше, исключением среди них являются
Хирон и Фол, которым суждено в дальнейшем перейти в мир более
поздней классической мифологии.
Но и племя лапифов не лучше кентавров (Диодор IV 69—70).
Живут они по соседству с последними среди гор, лесов и диких утесов
Оссы и Пелиона. Даже название этого племени означает людей «ка-
менных», «горных». Имена лапифов тоже связаны с растительным и
животным миром, что неудивительно, так как первый лапиф и первый
кентавр были родными братьями. Так, среди лапифов известны Элат
(Ель) и Коронида (Ворона), Леонтей (Львиный), Форбант (Пасущий
СКот), Гипподамия (Укротительница коней), Исхий (Мощный). Многие
JJMena связаны со стихией огня: Флегий, Пирифой, Перифат, Авгий,
Стильба указывают на пламя и сияющий яркий свет.
Есть среди лапифов и великан-оборотень Кеней, принимавший то
^УЖской, а то и женский вид (Аполл. Род. I 57—64).
48
Греческая мифология I. Доклассический период
Буйные кентавры и дерзкие лапифы, грубые, неотесанные, вырос-
шие среди горных лесов и скал, дикие, как сама фессалийская природа,
обречены на изгнание из родных мест, т. е. собственно говоря, на
исчезновение именно благодаря своей архаичности. Поэтому в даль-
нейшем будут созданы мифы о том, как Геракл истребил кентавров
(Хирон и Фол — единственные, кто обладал среди них бессмертием),
или возникнут предания о том, как племя дорийцев, наступая на
Фессалию, вытеснит оттуда навсегда «каменных людей» — лапифов.
Будут также созданы мифы и о том, как Зевс пытался уничтожить
первых людей, примитивная субстанция которых состояла из земного
праха и воды (Аполлод. I 7, 1).
И то, что люди, в конце концов, выжили, не их заслуга, а заслуга
Прометея, пожалевшего бедное человечество и одарившего его искрой
огня — творческого и действенного первоначала, преобразившего и
внутренний и внешний строй жизни древнего человека.
ВЛАСТЬ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ МИФОЛОГИИ БОГОВ И ГЕРОЕВ
А жизнь все более и более усложнялась. Постепенно уходила в
прошлое материнская община и грубый фетишизм, уступая место
новым родовым отношениям, анимистическому представлению о силах,
управляющих миром. Но рудименты матриархального сознания и ста-
рого фетишизма неизменно сохранялись в греческом мифомышлении,
причем не только в истории родового общества, но и во времена
классики и даже на склоне античности.
Чем богаче, изощреннее, тоньше становилась античная культура,
тем больше проявлялся интерес к давно прошедшим временам мифо-
логии с их суровой, жестокой, полной тайного смысла жизнью. Поэтому
следует внимательно читать греческих писателей и поэтов, историков
и философов, мифографов и собирателей редкостей, чьи сочинения
буквально усыпаны фактами и ссылками, свидетельствующими о муд-
рости древних, об устойчивости мифологической традиции, о жизне-
стойкости народной памяти.
Нет ничего удивительного, что более поздняя, классическая ступень
мифологии не понятна без учета этих древних рудиментов, которые
сохранялись тысячелетиями в именах богов, в их внешнем виде, в их
функциях, нравах и характерах, придавая основному ядру мифоло-
гического образа невиданную причудливость и загадочность.
История мифа оказывается, таким образом, интереснейшей исто-
рией родового общества, и недаром его истокам, а именно материнской
общине и ее пережиткам в мифологическом развитии, была посвящена
знаменитая книга Бахофена, вышедшая в 1861 г. под названием «Ма-
теринское право».
Власть женщины и ее последствия для мифологии богов и героев
49
Единоборство юноши-лапифв с кентавром
4 За« 3903
50
Греческая мифология /. Доклассический период
О былом величии и главенстве женского начала говорят, например,
такие образы развитой и поэтически преобразованной мифологии, как
Гера, Афина и Лето.
Гера, супруга Зевса, если судить по гомеровским поэмам, находится
в постоянной оппозиции к своему могущественному супругу. Она
вдохновляет и подбивает на сопротивление Зевсу его брата Посейдона,
способствует успешным военным действиям ахейцев, усыпляя с по-
мощью бога Сна своего мужа.
Зевс, в свою очередь, не испытывает к Гере постоянства и увлечен
прекрасными богинями и смертными женщинами. Более того, пресле-
дуя козни Геры, он жестоко ее наказывает. В свою очередь Гера
взывает к скрытым силам земли и, ударив по ней ладонью, способствует
порождению стоглавого Тифона, как это живописует Гомеровский
гимн к Аполлону Пифийскому (153—177).
Афина Паллада в течение всего мифологического развития остается
неизменно богиней-воительницей, причем мудрой воительницей.
Именно ей, деве, а не богу Аресу принадлежит честь покровительницы
героев, вдохновляющей их на подвиги, помощницы в битвах, как об
этом красочно повествует все тот же Гомер в V песне «Илиады»,
изображая там героя Диомеда и сопутствующую ему Афину. Ум и
воинственность слиты в одном прекрасном образе Афины. Ум ее про-
низан живой деятельностью, а воинственность ее всегда продуманна,
соразмерна и знает свои пределы.
Что касается богини Лето, то имя ее — догреческого происхождения
и указывает на «жену», «мать». Как мать близнецов Аполлона и
Артемиды, она прославляется во всех мифах. Она гордится своими
детьми, как бы живет в них. Чувство материнской гордости и счастье
переполняют ее, когда во дворце Зевса появляется ее сын Аполлон и
устрашенные боги встают перед ним, трепеща от страха (Гом. гимн.
I 1—13).
Женщина-мать играет столь важную роль в мифах, что некоторые
боги называются постоянно по имени матери, родившей и воспитавшей
их.
Так, Аполлон всегда именуется Летоидом, т. е. происходящим от
Лето, сыном Лето, как будто бы у него нет отца, великого Зевса.
Кентавр Хирон — сын Кроноса и нимфы Филиры — обычно име-
нуется также по имени матери — Филирид, в то время как его сводный
брат Зевс, сын Кроноса и Реи, носит имя отца и называется Кронидом.
В мифологических ситуациях приходится сталкиваться с фактом
долгого отсутствия отца, когда мать в одиночестве рождает сына,
воспитывает его в своей собственной семье, а затем отправляет на
поиски отца. Так, дочь трезенского царя Питфея, Эфра, ставшая
женой Эгея всего на одну ночь, родила от него сына по имени Тесей,
причем до поры до времени этот последний не имел представления о
своем отце. Впоследствии, когда он возмужал, мать отправила его
Власть женщины и ее последствия для мифологии богов и героев
51
цгкивать отца, причем на пути Тесей нашел под огромным камнем
Р8® ие Эгея и его сандалии. Надев их на себя, он, как это и положено
оРУ фетишистского понимания предмета, приобщился к отцовской силе
приумножил ее. В Афинах юный Тесей нашел отца, узнавшего его,
в свою очередь, по родовому оружию — огромному мечу, которым был
опоясан сын.
Известно, например, что Одиссея разыскивал его сын от волшеб-
ницы Кирки, Телегон, «Рожденный вдалеке», которого отец никогда
не видел.
Смерть Одиссея связана как раз с тем моментом, когда на остров
Итаку напали морские разбойники, предводителем которых был Те-
легой. Отец и сын, не зная друг друга, сразились, и Одиссей погиб
сыновней руки.
В свое время Кирка злоумышляла против Одиссея, но он справился
с ее чарами, наученный богом Гермесом. То, что не удалось волшебству
матери, осуществил сын, вскормленный ею без отца.
В трилогии Эсхила «Орестея» Клитемнестра убивает своего супруга
Агамемнона, не испытывая угрызений совести. Блюстительницы ма-
теринского права, Эринии, оправдывают ее преступление, основываясь
на том, что Клитемнестра не состояла в кровном родстве с мужем,
т. е. происходила из другого рода и, значит, имела все основания
безнаказанно пролить не свою, а чужую кровь.
В мифе об этолийском герое Мелеагре (Аполлод. I 8, 2—3) особую
роль играет фетишистское представление о жизненной силе и непре-
ложное право материнского рода.
Жизнь Мелеагра при его рождении была заключена богинями
судьбы в горящую головню, которая была вынута из очага его матерью
Алфеей и спрятана в ларце. Через много лет Мелеагр во время охоты
на Калидонского вепря нанес оскорбление братьям матери, лишив их
почетного дара, результатом чего была жестокая ссора, кончившаяся
убийством родичей.
Когда Алфея узнала об этом убийстве, она впала в безумную
ярость, прокляла сына и, вынув обугленную головню из ларца, швыр-
нула ее в костер. Вместе со сгоревшей головней кончилась и жизнь
Мелеагра, погибшего в страшных муках. Для Алфеи кровь родных
братьев дороже крови сына. Также и Электра, сестра Ореста, ощущает
теснейшую с ним кровную связь, вдохновляя его на убийство матери.
В данном случае сестра и брат принадлежат к роду отца, Агамемнона,
но не к роду матери, Клитемнестры.
Эрифила, например, предаст своего мужа Амфиарая в угоду брату,
АДрасту, когда будет готовиться поход Семерых вождей против Фив.
Подкупленная знаменитым ожерельем Гармонии, она высказывается
33 поход мужа. Однако впоследствии их сын Алкмеон убивает мать,
410 приводит его к безумию, так как он поднял руку на родную
52
Греческая мифология I Доклассической период
Афина
кровь. Ведь и Ореста, убив-
шего мать, преследуют дикие
Эринии. Оправдывая Кли-
темнестру, они мстят Оресту,
защищая право матери.
Как видим, в период
классической мифологии на
героя ополчаются силы дав-
них времен, а именно времен
владычества женщины.
Учитывая эти матриар-
хальные пережитки, мы не
удивляемся, когда в «Одис-
сее» Гомера царица Арета
изображается полновластной
владычицей острова феаков,
причем не вызывает никаких
сомнений полная зависи-
мость царя Алкиноя от соб-
ственной жены и ее решений
Заметим интересную де-
таль в поэме «Аргонавтика»
Аполлония Родосского (III в
до н. э.). Там Медея, пре-
давшая отца и братьев, бе-
жит с героем Язоном и на-
ходит приют на острове фе-
аков у Ареты и Алкиноя
Царь Алкиной во избежание
столкновений решает Медею
отдать отцу, если она еще
дева, но если она разделила
ложе с Язоном, защищать ее
интересы. Тогда Арета дает
Язону мудрый совет — сроч-
но и тайно от Алкиноя со-
вершить бракосочетание с
Медеей (Аполл. Род. IV
1068—1120). Вступив в брак,
Медея тем самым переходит
из-под власти отца, т. е. власти отцовского рода, в род мужа и тем
самым уже не подвластна воле царя Ээта.
Мифологическая ситуация, использованная Аполлонием, дает воз-
можность выделить мудрость царственной Ареты, спасшей остров от
врагов, и вместе с тем указать на возможности, открываемые перед
Власть женщины и ее последствия для мифологии богов и героев 53
ншиной, когда она переходит под покровительство мужа в его
*е Ю) в другой род, чуждый отцовскому.
Се Вообще брачные союзы мифологических персонажей сохраняют
множество матриархальных рудиментов.
Еще в начале теогонического процесса Земля вступает в брак со
воим собственным сыном Ураном. Их дети, шесть титанов и шесть
титанид, тоже вступили в брак друг с другом. У гомеровского бога
ветров Эола шесть сыновей стали мужьями шести своих собственных
сестер. Собственно говоря, здесь идет речь о кровосмешении и груп-
повом кровнородственном браке, т. е. о рудиментах беспорядочных
брачных отношений архаической материнской общины.
Не только боги, но и герои, чьи судьбы стали сюжетом греческого
эпоса и трагедии, тоже несут на себе печать этих рудиментарных
моментов в брачных отношениях.
После смерти мужа, например, вдова переходит как бы по наслед-
ству к его брату. Так, Клитемнестра сначала супруга Тантала, затем
наследственным путем жена его двоюродного брата Агамемнона, убив-
шего и Тантала и его сына, от Клитемнестры. Впоследствии, однако,
Клитемнестра с полным сознанием правоты становится женой Эгисфа,
родного брата убитого Тантала.
Геракл, умирая, отдает просватанную им Иолу своему сыну Гиллу,
осуществляя брачный союз в лице наследующего ему сына. Любопытно,
что уже упомянутые нами Арета и Алкиной — родные племянница и
дядя, а по некоторым источникам даже брат и сестра.
Здесь, как видим, сказываются отголоски браков на основе кро-
вородственных отношений, предшествующих принципу моногамной
семьи эпохи патриархата.
Несомненным пережитком былого величия женщины, главы и за-
щитницы рода, являются также мифы об амазонках. Это женщины-
воительницы, ведущие свое происхождение от самого бога войны Ареса.
Они обитают где-то в Малой Азии, на реке Фермодонт у города
Фемискира или вблизи кавказских предгорий и озера Меотиды (ны-
нешнее Азовское море). Амазонки, во главе которых стоит царица,
живут воинственной жизнью, совершая набеги на соседние народы и
делая далекие походы. Вооруженные луками и боевыми топорами,
всегда на конях, они неуловимы и непобедимы в битвах.
Эти истребительницы мужчин вступают в брак с чужеземцами
только для продолжения рода. Классическая мифология знает амазонок
как союзниц троянцев в борьбе с осаждающими Илион ахейцами,
герой которых Ахилл убил царицу амазонок Пентесилею. Известны
походы героев против амазонок, например Беллерофонта, Геракла,
*есея, побеждавших воинственных женщин. Но известно и то, что
амазонки осаждали Афины в ответ на пленение Тесеем их царицы
Антиопы.
54 Греческая мифология I Доклассический период
В мифах о женщинах, обладающих магической силой, волшебни-
цах, держащих в плену героев и завораживающих их, также сказы-
вается воспоминание о давнем беспрекословном подчинении женщине,
воздействующей на мужчин некой таинственной властью. Такова,
например, история о волшебнице Кирке, дочери Солнца — Гелиоса
обитательнице острова Эя, превратившей спутников Одиссея в зверей
благодаря магическим заклятиям, но потерпевшей неудачу с Одиссеем,
которому пришел на помощь бог Гермес. В конце концов Кирка сама
была обольщена Одиссеем и даже имела от него сына Телегона (Од
X 207—574).
Такова же нимфа Калипсо, дочь титана Атланта (или того же
Гелиоса), державшая в плену на острове Огигия на крайнем западе
полюбившегося ей Одиссея целых семь лет. Она прельщает Одиссея
бессмертием (от чего он отказывается) и беспечальной жизнью среди
красот природы, в гроте, увитом виноградом. Даже имя Калипсо
характерно указывает на ее архаические связи с миром смерти — «Та,
что скрывает». С помощью богов Одиссей покидает Калипсо, тем
самым побеждая смерть, и возвращается к миру жизни.
В образе волшебницы Медеи, внучки Гелиоса, тоже находим от-
голоски специально женской магии, включающей и человеческие жер-
твы и ритуальные убийства. Заметим, что все упомянутые выше
женщины происходят из рода Солнца, сына титанов.
Одним из известнейших женских образов архаики, глубоко уко-
ренившимся и в поздней мифологической системе, оказался образ
Великой матери богов, почитавшейся под многими именами (Кибела,
Кивева, Диндимена, Идейская мать) и отождествлявшейся с титанидой
Реей.
Великая мать родом из Фригии (Малая Азия), но почитаема во
всем античном мире, от Греции до Рима, где культ ее был установлен
официально в 204 г. до н. э., объединившись там с чисто римским
представлением о богине посевов и жатвы Опс. Лукреций в поэме
«О природе вещей» рисует великолепную картину шествия Идейской
матери, дарующей плоды земли и защитницы городов (II 600—643)
Великая мать — дарительница плодоносных сил земли всегда в
окружении экстатически поклоняющейся ей толпы и жрецов, нанося-
щих друг другу раны в безумном восторге. Великая мать требует себе
беспрекословного подчинения, а отсюда и полного отречения мужчины
от жизненных благ, любви к женщинам, к семье, т. е. очень строгого,
аскетического поведения.
Посвященные в таинства Кивевы уходят из мира, предавая себя
в руки мрачной и страшной богини, оскопляют себя, чтобы не иметь
потомства, служа одной великой владычице.
Ярким примером такого безоглядного повиновения богине является
история юного Аттиса. По одному из мифов (Паве. VII 17, 9—12),
он — сын самой Великой матери, выступающей под именем двуполого
Власть женщины и ее последствия для мифологии богов и героев
55
Амазономахия
мяппяяийского божества Агдитис, испытывающего любовь к Аттису.
Эта любовь приводит юношу к безумию. Он оскопляет себя и умирает,
но по молитвам Агдитис — Великой матери из крови Аттиса вырастают
весенние цветы и деревья, т. е. он оказывается вечно молодым и
нетленным, почитаясь затем как божество умирающей и воскресающей
природы.
Овидий в «Фастах» (IV 223—246) рассказывает не только о введении
в Риме культа Великой матери, но и живописует историю Аттиса,
любимца Кибелы, который, будучи стражем ее храма, нарушил обет
девственности, полюбив прекрасную нимфу. Кибела не только губит
нимфу, но и насылает безумие на Аттиса, оскопившего себя.
Небольшая поэма Катулла (I в. до н. э.) под названием «Аттис»
исполнена ужаса и отчаяния перед зависимостью от иррационального,
мрачного могущества Кибелы — Диндимены. В IV в. н. э. император-
философ Юлиан посвятит Великой матери вдохновенную речь «К Ма-
тери богов».
Так древний экстатический культ владычицы — женщины и все-
общей матери с течением времени осложнится попытками обуздать
неиссякаемое плодородие земли и его хаотический характер, выдвигая
черты аскетизма и самоограничения, чтобы соответствовать тенденциям
нового представления о божестве, упорядочивающем стихийность при-
роды.
Однако само это обуздание имеет вполне страдательный характер,
полностью лишенный какого-либо рационализма и являющийся ре-
3Ультатом все того же безграничного оргиазма и буйства страстей.
56
Греческая мифология I. Доклассический период
Образ Великой матери — замечательный рудимент архаики в класси-
ческой мифологии и несомненный аналог роли матери-Земли, сумев-
шей ограничить неиссякаемую плодоносную силу Урана, а значит, а
стихийность матриархального мира.
На этих примерах видно, как давно исчезнувшие формы жизни
неизменно продолжали существовать в устойчивой мифологической
традиции, усложняя четкую героическую направленность классиче-
ского мира, вступающего в драматический конфликт с архаикой, тре-
бующей неизменного уважения к себе, но и вызывающей протест
молодого поколения богов и героев.
ТИТАНЫ НА ПОРОГЕ НОВОГО МИРА.
РОЖДЕНИЕ ЗЕВСА
На исходе периода хтонической доолимпийской мифологии, когда
анимистическое представление о бессмертной божественной силе до-
статочно укрепилось и когда безудержное плодородие земли самоог-
раничилось, а стихийность и бесформенность божественного образа
были осознаны как уродливое несовершенство, начали назревать новые,
качественно иные тенденции, укреплявшие антропоморфизм нового
потомства матери-Земли.
Теогонический процесс, т. е. процесс порождения богов, все еще
продолжался, но он вступал теперь в свой заключительный период,
переходя к относительной стабильности.
Титаны, как мы уже знаем, совершившие злодейство по совету
матери и простершие руку (греч. titaino — простираю, отсюда, как
считали греки, и появилось наименование титанов), чтобы низвергуть
своего отца Урана, вступили в брачный союз со своими сестрами или
племянницами — титанидами.
Океан — глубокий поток, омывающий Землю, ее старший сын,
взял в жены Тефию (Гес. Теог. 337—370). Тефия оказалась очень
плодовитой (имя ее указывает на «мать», «бабку», «тетку»), и Океан
породил с ней все реки да еще три тысячи Океанид, нимф бесчисленных
водных источников.
Эта пара жила в большом согласии, обитая на краю света и
гостеприимно встречая посещающих ее детей и внуков, например свою
любимую внучку — богиню Геру.
Гиперион (Идущий наверху), огненно сияющий титан (в последу-
ющие времена он отождествлялся со своим сыном Гелиосом), вместе
с Тейей (Божественной) породил Гелиоса — Солнце, Селену — Луну
и Эос — Зарю. Эти внуки Земли зажгли для бедных людей, ютящихся
в лесах и пещерах, небесный благодетельный огонь, осветив день,
ночь и раннее утро (там же, 371—374).
Титаны на пороге нового мира. Рождение Зевса
57
Титан Кой и его сестра
Леба (Чистая, Светлая)
стали родителями двух до-
черей, Лето и Астерии
(Звездной). Эта пара ти-
танов имела своими вну-
кали близнецов Аполлона
и Артемиду (дети Лето) и
богиню Гекату (дочь Асте-
оии) — самых светлых и
самую темную из богов
классической мифологии
(там же, 405-411).
Титан Иапетвзялв суп-
руги свою племянницу,
океаниду Климену (по дру-
гому варианту — ее сестру
Асию). Дети их были осо-
бенно примечательны —
Атлант, отличающийся
мощной силой, дерзкий
Менетий, мудрый Проме-
тей и недалекий Эпиметей.
Их судьба окажется цели-
ком в зависимости от исхо-
да борьбы титанов с потом-
ством (там же, 507—511).
Крий стал мужем своей
единоутробной сестры Ев-
рибии, славившейся «же-
Титан Анит
лезной душой». Матерью Еврибии была Земля, как и у титанов, но отцом
ее бил Понт — Море.
От этой пары появились на свет Астрей (Звездный), Паллант —
супруг божества подземной реки Стикс — и Перс — супруг Астерии,
отец мрачной Гекаты. Гесиод так повествует об этом:
«С Крием в любви сочетавшись, богиня богинь Еврибия
На свет родила Астрея великого, также Палланта
И между всеми другими отличного хитростью Перса.
Эос-богиня к Астрею взошла на любовное ложе,
И родились крепкодушные ветры от бога —
Быстролетящий Борей и Нот и Зефир белопенный.
Также звезду Зареносца и сонмы венчающих небо
Ярких звезд родила спозаранку рождения Эос*
(там же, 375—382).
1
38 Греческая мифология I Доклассический период
И наконец, младший титан Кронос взял в жены родную сестру
Рею. Кронос славился своим хитроумием и решительностью. Именно
он поднял руку на своего отца Урана, которого особенно ненавидел
Первенство в заговоре Земли против Урана обеспечило младшему ее
сыну власть над остальными братьями.
Воцарившись, Кронос в супружестве с Реей имел шестерых детей
трех дочерей — Гестию, Деметру, Геру — и трех сыновей — Аида, По-
сейдона и Зевса (там же, 453—457).
Одиако бессмертная жизнь Кроноса была омрачена мыслью о воз.
можном возмездии за судьбу Урана. Более того, эта возможность
становилась все более очевидной, когда и Земля — Гея и Небо — Уран
предсказали младшему сыну его собственное ниспровержение и тоже
с помощью его младшего сына. Поэтому Кронос, как только Рея клала
ему на колени очередного родившегося младенца, немедленно пожирал
каждого, отправляя в свою утробу.
Существует миф о том, как опечаленная Рея пыталась обмануть
супруга при рождении Посейдона, спрятав сына среди пасущихся овец
и дав Кроносу проглотить жеребенка, которого она якобы родила. Но,
как гласит более устойчивая традиция Гесиода, все дети были про-
глочены Кроносом, кроме Зевса.
По совету все той же мудрой матери-Земли Рея спасла Зевса,
подав мужу запеленутый камень, тотчас же им проглоченный. Сам
же младенец Зевс был воспринят своей бабкой Геей — Землей и
передан Рее, которая скрыла сына в Диктейской пещере на острове
Крит.
Именно там воспитывался и рос младенец Зевс. Крики и плач
ребенка заглушали резкие звуки флейт куретов и корибантов, слу-
жителей богини Реи, которые били также в тимпаны и щиты копьями
и мечами. Зевс был вскормлен медом пчелиных сот, родниковой водой,
молоком козы Амалфеи, так что возрастание Зевса оказалось необы-
чайно быстрым (там же, 453—49Г, Каллим. I 46—54). Возмужав и
задумываясь о власти, Зевс призвал на помощь океаниду Метиду,
известную своей мудростью (греч. metis — мысль). Это она еще раньше
опоила Кроноса зельем (Аполлод. I 2, 1), которое заставило его
изрыгнуть камень, а затем и пятерых проглоченных им детей.
Но по Гесиоду, советом Зевсу помогла не Метида, а все та же
мать-Земля (Теог. 494). И это характерно. Мудрость — Метида, бу-
дущая супруга Зевса, отождествляется здесь с мудростью древней
прародительницы Земли, мудрее которой ничего быть не может.
Братья и сестры Зевса, выйдя на свет, передали ему, младшему,
первенство над собой вместе с громами и молниями, до того времени
скрытыми в недрах великанши-Земли (там же, 458—506).
Здесь у Гесиода сказано прямо:
Титаны на пороге нового мира. Рождение Зевса
Младенец Зевс н Амалфея, справа Пан
60
Греческая мифология 1 Доклассический период
Зевс и Кронос
Титаны на пороге нового мира. Рождение Зевса 61
Рея вручает Крону камень
«Братьев своих и сестер Уранидов, которых безумно
Вверг в заключенье отец, на свободу он вывел обратно.
Благодеянья его не забыли душой благодарной
Братья и сестры и отдали гром ему вместе с палящей
Молнией: прежде в себе их скрывала Земля-великанша.
Твердо на них полагаясь, людьми и богами он правит»
(501—506).
Зевс, его братья и сестры достигли высшей степени антропомор-
физма, на который было способно греческое мифомышление патриар-
хата, приходящего на смену материнской общине.
Для укрепления патриархальной ступени общинно-родового строя
имьло значение первое разделение труда (скотоводство отделилось от
мледелия), способствовавшее более интенсивному развитию произ-
вольных сил, что, в свою очередь, вызвало к жизни новые про-
"“ОДСтвенные отношения и новую основу для поддержания отцовской
1
62 Греческая мифология I Доклассический период
Женщина — мать, кормилица, воспитательница и защитница р0.
да — уже не имела возможности в одном своем лице управлять ра3.
росшимся сообществом родичей и обеспечивать ему пропитание и
безопасность. Община в создавшихся новых условиях могла выжцТь
и не потерять независимости только при упорядоченной организации
всего хозяйства и семейных отношений.
Разделение труда повлекло за собой и разделение функций в
родовом коллективе. Женщина осталась все той же продолжательницу
рода, выкармливающей и растящей детей, но ее деятельность ограни-
чилась теперь хозяйственными работами, необходимыми для семьи
сохранением домашнего очага и целостности нового моногамного брака
Добытчиком средств к существованию и защитником от врагов, уст.
роителем мирной жизни и предводителем в военных набегах стал
мужчина, отец, вождь, глава рода, который подает мудрые советы и
предводительствует в бою, т. е. тот, кто в греческой мифологии не-
изменно именуется героем.
Этот переход к героической мифологии патриархального рода про-
исходит в Древней Греции в конце III тысячелетия, чтобы затем
пережить свое наивысшее развитие и завершенность уже во II тыся-
челетии, совпадая в историческом плане с эпохой крито-микенского
могущества.
II
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
ВСТУПЛЕНИЕ
СПЕЦИФИКА КЛАССИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
Прежде чем непосредственно перейти к мифам классического пе-
риода, установим ряд дефиниций, осмысление которых поможет понять
самую суть этой качественно новой и принципиально не похожей на
предшествующую ступени мифологического развития.
Как уже было сказано выше, этот классический период мифологии
вырастает на основе патриархальной общины. Именно поэтому клас-
сическая мифология именуется мифологией эпохи патриархата. Но
так же, как произошла консолидация родового коллектива, возглав-
ляемого вождем, мужчиной, отцом, так же произошло объединение
греческих богов под властью одного владыки, Зевса, средоточие власти
которого находится на горе Олимп в Фессалии (Северная Греция)
Вот почему классический период мифологии по праву именуется Олим-
пийским и Фессалийским, в противовес доолимпийской архаике с ее
разлитой по всей природе магически-демонической силой. Классиче-
ская мифология не хтонична, это не мифология земли. Она борется
с порождениями земли, утверждая себя на Олимпе, горе, чьи вершины
сходятся с небом, так что еще не известно — гора ли Олимп или это
само высокое и прекрасное небо.
Если древнейшая мифология была мифологией фетишистской или
фетишистски-анимистической, то мифологическая классика чисто ани-
мистическая, когда божество мыслится бессмертным и вечно сущест-
вующим.
Классическая мифология противоположна архаике с ее зооморф-
ными, фитоморфными и миксантропическими формами.
Олимпийские боги — антропоморфны. Но одного антропоморфизма
для них мало.
В классической мифологии антропоморфизм основан на принципа'-
гармонии, меры и всеобщей упорядоченности, являющейся предпосыл-
кой прекрасного тела и прекрасного духа, свойственного героическом'
Специфика классической мифологии
63
Пропилеи на Афинском Акрополе
5 За* 3903
66
Классический период. Сложность мифологического комплекса
человеку. Отсюда — олимпийская мифология именуется не только ан-
тропоморфной, но и героической.
Именно поэтому боги и герои олимпийской мифологии борются с
тератоморфным и стихийным миром, побеждая чудовищ и устанав-
ливая новые, прекрасные в своей основе закономерности жизни.
СЛОЖНОСТЬ МИФОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Итак, классическая мифология во всех отношениях является антипо-
дом архаики. Но это еще не означает, что древность ушла в небытие со
всеми своими страхами, ужасами и своей таинственной связью с матерью-
Землей. Архаика подспудно таится в глубинах нового мира, на его окра-
инах, в глухих уголках и дальних странах. Знакомясь с героической
мифологией, поражаешься, сколько в ней этих древних рудиментов, как
непобедимы эти демонические силы и как велика их изворотливость, их
жажда жизни, их магическая злая власть над человеком.
Прекрасные и величественные боги Олимпа, прекрасные и мощные
герои, дети и потомки богов, сами, зачастую против своей воли,
скрывают в себе нечто страшное, грубое, несправедливое, злое. Но
эти тайники героической души зависят от кровной ее связи с темной
архаикой, которую герой преодолевает всю жизнь и даже искупает
своими страданиями и смертью.
Олимпийская мифология является, таким образом, сложнейшим ком-
плексом, в котором приходится выделять более древние пласты, уходящие
в хтоническое прошлое рудименты. Они не характерны для принципов
нового отношения к жизни и переживаются как некое наследие, законо-
мерно оставшееся от глубокой архаики в исторически сложившихся ми-
фах, а совсем не как случайное уродство или причудливость образа.
Однако следует иметь в виду, что основное героическое ядро мифа
включает в себя не только рудименты прошлого, но и то, что еще только
намечается, что разовьется позже, на склоне мифологической истории,
т. е. включает в себя также и так называемые ферменты, свое будущее.1
Учитывая всю сложность классического периода мифологии, в на-
шем дальнейшем изложении мы постоянно будем касаться неоднород-
ности мифологических образов, их противоречивости и даже несооб-
разности. Однако пути исторического изучения мифа продемонстри-
руют нам полную обоснованность и закономерность всех компонентов
единого мифологического комплекса, в котором старое и новое создают
неповторимую целостность, обеспечивая античной мифологической
традиции необыкновенную устойчивость и систематичность.
Прекрасную классификацию мифологических комплексов, ядра рудиментов
и ферментов дает А. Ф. Лосев в своей книге «Античная мифология в ее
историческом развитии» (М., 1957, с. 17—32; 2-е изд. — М., 1996, с. 22—40).
БОГИ
ЗЕВС БОРЕТСЯ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ВЛАСТИ
Обратимся теперь к той борьбе, которую пришлось вести Зевсу за
утверждение своего владычества над силами земли, что и создало в
дальнейшем основу для возникновения героизма.
БИТВА С ТИТАНАМИ. По совету Геи, неусыпно следящей за
событиями и часто направляющей их, Зевс освободил Сторуких, или
Гекатонхейров, некогда ввергнутых в оковы и скрытых Ураном глубоко
землей на краю света. Три брата — Бриарей (или Обриарей),
Котт и Гиес, — пугавшие своим чудовищным видом даже собственного
томились и страдали, ожидая своего часа, поскольку их мать,
ея» давно уже предсказала победу Зевса с помощью чудовищных
Родичей (Гес. Теог. 617—628).
Ко времени освобождения Сторуких распря между титанами во
с Кроносом и детьми Кроноса во главе с Зевсом оказалась в
₽азрДре, но исхода ее не было видно. Древние титаны и молодые боги
68
Греческая мифология. Классический период Боги
сражались десять лет. Одни — собрав силы на Офрийской горе, лру.
гие — на Олимпе. Но когда Сторукие отведали нектара и амбросии,
пищи, которой питаются боги и которая поддерживает их бессмертие'
они воспрянули духом, преисполнились силы и выслушали обращенную
к ним речь Зевса.
Отец людей и богов, как обычно именовали Зевса Гомер и Гесиод
призвал Сторуких вспомнить свои страдания, а также оценить бла-
годеяние, оказанное им, и помочь своему освободителю в борьбе с
титанами.
Отвечал Зевсу один из братьев, Котт, прозванный «безупречным».
Он целиком был предназначен для разрушительных функций, мощь
вполне соответствовала дикому виду — порицать и упрекать его было
невозможно. Котт поклялся за себя и братьев выступить беспощадной
войной против титанов, руководствуясь, как это ни казалось бы стран-
ным, «разумной мыслью» и «внимательным духом» (там же, 629—673).
Став союзниками Зевса, Сторукие, судя по всему, приобщаются к
иному, дотоле чуждому им разумному миру и оказываются уже под
его благотворным воздействием.
В сражении участвуют с одной стороны титаны и титаниды, с
другой — сыновья и дочери Кроноса вместе с тремя великанами. Кик-
лопы выковали Зевсу гром, молнию и перун. Посейдон получил от
них трезубец. Аид — медный шлем, делающий его невидимым (ср.
греч. aides — букв, «невидный»). В каждой сотне рук у Гекатонхей-
ров — скалы, камни, обломки горных хребтов. Горделиво вздымаются
на крепких туловищах по пятьдесят голов. Все участники сражения
исполнены мужества.
И вот застонала земля, ахнуло небо, содрогнулся Олимп с вершины
до подножия. Глухой топот ног, свист от летящих камней, крики
нападающих достигают глубоких недр земли и доносятся до звездного
неба.
Сердце Зевса возликовало и преисполнилось силы. Он начал метать
молнии и громы с Олимпа и неба. Земля загудела от жара, взвихрилось
пламя, затрещал охваченный огнем лес, закипели даже сама почва,
воды Океана и морские просторы. Жар, охвативший титанов, дошел
до эфира, и Хаос оказался объятым ужасом. Шум от сражения был
столь велик, что казалось, будто небо обрушилось на землю и разбило
ее на неисчислимые куски. Ревел ветер, крутились вихри пыли, со-
дрогалась земля, опаляемая перунами Зевса. Триста камней метнули
Сторукие в титанов и затмили солнечный свет. Исход битвы решился,
и титаны, теперь уже побежденные, были закованы в узы и брошены
в глубочайшие недра земли, в тот самый Тартар, который наконец
оказался возмездием и вместилищем свергнутых богов, их вечной
тюрьмой (там же, 674—719). Он же и угроза Зевсу, Олимпийцам,
если они будут свергнуты.
Зевс борется за укрепление власти 69
Посейдон, Аполлон и Артемида
Тартар находится настолько глубоко под землей, насколько небо
далеко отстоит от земли. Если, взяв медную наковальню, говорит
Гесиод, метнуть ее с неба, то она за девять дней долетит до земли.
Но еще девять дней понадобится, чтобы наковальня долетела с земли
ДО Тартара, — путь невиданно огромный (там же, 720—725).
Там, в Тартаре, за медной оградой, во мраке, окружающем его
шею в три ряда, среди затхлости, под переплетением корней моря и
земли скрыты титаны. Темница их замкнута медной дверью, окружена
стеной с воротами из мрамора и медным порогом, вросшим корнями
• землю. Там, в этих глубинах, залегают страшные концы и начала
земли, Тартара, моря и неба, т. е. все начинается и все кончается
зеликой бездной, до дна которой даже и за год нельзя добраться. Там
*е находятся жилища Ночи, одетые черным туманом, а темница
ТИтанов простирается за пределы самого Хаоса.
Но и Сторукие, которым надлежит охранять титанов, тоже поневоле
обитают в глубочайших местах Океана, омывающего Землю. Правда,
ооги предоставили им крепкие жилища, а в утешение самому могучему
Из трех братьев, Бриарею, дана в жены дочь Посейдона Кимополея
(там же, 726—745, 807—819).
70
Греческая мифология Классический период Боги
Архаическая триада (трехглавый Тифон)
После победы над титанами, повинуясь воле Земли, боги просили
Зевса стать их владыкой и царем (там же, 881—884). Так все стало
на свои места. Боги молодого поколения — на Олимпе, в золотых
дворцах, боги старого поколения — в темнице Тартара. Для победив-
ших— верхнее небо, Олимп, для побежденных — нижнее небо, Тар-
тар. Верхнее небо в сияющем свете эфирных высей, нижнее — в
глубоком мраке великой бездны. Но и там и здесь обитают вечные и
бессмертные боги. Кто знает, не настанет ли час, когда титаны вспомнят
о своем былом могуществе? Победителю Зевсу предписано все той же
мудрой Землей опасаться собственного сына, который может свергнуть
отца и занять его место. И это предсказание омрачает будущность
победителя, тем более что гул от бунтующих титанов иной раз доходит
и до вершин Олимпа.
Кроме того, напоминанием о вечно живущих врагах Зевса являются
некоторые из детей титанов, участники или сочувствующие титано-
махии. Сыновей Иапета, братьев Прометея, Зевс наказал особо (там
же, 514—525). Менетий, пораженный молнией, был отправлен Зевсом
в Эреб — мрак, порожденный Хаосом. Атлант, другой брат Прометея,
Зевс борется за укрепление власти
71
краю земли в наказание
дожит на голове небесный
подпирая его мощны-
^руками.
Известно также, что
Прометей, будучи мудрым
богом (имя его означает
^предвидящий», «промыс-
дктель»), знал заранее всю
дцетность титаномахии и
противился борьбе ти-
1PBOB, уговаривая их при-
менять хитрость, а не силу
(Эсх. Пром. 202—208).
Всеведение Прометея, по
изложению Эсхила, обус-
ловлено тем, что мать его
йто бы сама Земля —
ПЖ, тождественная Феми-
де — Справедливости, по-
давала ему мудрые советы.
Тем не менее титаны не
Атлант
вняли уговорам родича, и
Прометей, уверенный в
правоте новых закономер-
ностей жизни, устанав-
ливаемых Олимпийцами,
вступает вполне доброволь-
но в их союз и противопо-
ставляет себя титанам, не
признающим ничего, кроме
грубой силы и буйства
страстей.
Так что в мире, завое-
ванном Зевсом, о борьбе
не только
поверженные
новых и старых поколений богов напоминают
врага Зевса, но и пока дружественный Зевсу его ближайший родст-
венник Прометей. Он, как известно, хранитель великой тайны (Эсх.
«РОМ. 515—519) — он знает имя той будущей супруги Зевса, которая
РОД®1 сына сильнейшего, чем отец, т. е. нового владыку Олимпа. Эта
таина разделяет Зевса и Прометея, являясь предпосылкой и для иных
вОДов соперничества этих великих богов.
Не надо забывать также, что существовала редкая версия о Про-
Угее — внебрачном сыне Геры и гиганта (мифографы именуют его
Т®таном, но это частое в античности смешение понятий) Евримедонта.
72
Греческая мифология. Классический период. Боги
Гнгантомахия. Сцена с гигантом Порфирионом
Зевс борется за укрепление власти
73
Зевс выместил злобу на обоих — одного сбросил в Тартар, другого
приковал на Кавказе.
глухого
Олимп
ТИФОН. Как бы испытывая волю Зевса, Земля тем временем
породила на смену титанам еще одного сына — стоглавого Тифона
(или Тифоея).
Выше уже был обрисован чудовищный вид Тифона. Рожденный
от Тартара, этот младший сын Земли тоже стал претендовать на
власть. Но время притязаний тератоморфных существ уже прошло.
Попытка Земли и Тифона вновь утвердить хаос и ужас явно запоздала,
если уже однажды Зевс одержал победу.
И на этот раз отец людей и богов загрохотал громами. Раскатам
могучего рева ответили земля и небо, воды Океана и моря,
и Тартар. Мир содрогнулся от тяжелой поступи бога. Вновь
^стонала земля, снова жаркое пламя объяло фиалково-темное море,
закипели почва и небо, огромные волны бились о прибрежные скалы,
СотРясая твердь. Титанов в Тартаре объял трепет, от страха задрожал
владыка мертвых — Аид. Громы и молнии, посылаемые Зевсом с Олим-
спалили головы чудовища, и Тифон, укрощенный страшными
Ударами, упал, потерял силу и был низвергнут Кронидом все в тот
же широкий Тартар (Гес. Теог. 820—868).
74
Греческая мифология Классический период Ьоги
Гнгантомахия Гигант Алкионей
Зевс борется за укрепление власти
75
Гигантомахия Гнгант Алкионей и Афина
Но это не означало, что все попытки отнять власть у олимпийских
богов прекратились
ГИГАНТЫ Когда Зевс укрепился, породил мощных детей, богов
и героев, им всем пришлось сразиться с гигантами Гиганты были
рождены Землей и Ураном — Небом после завершения титаномахии
(по другой версии, гиганты рождены землей из крови оскопленного
Урана).
Эти миксантропичные чудовища имели нижнюю часть тела зме-
®яую, извивающуюся кольцами Они обитали на Флегрейских полях
(букв, «место пожарищ» на севере Греции, во Фракии) Гигантомахия
произошла там же. Она доставила много хлопот Гее, их матери, так
как гиганты, в отличие от титанов, были смертны, и только особая
волшебная трава могла сохранить им жизнь Но Зевс опередил Гею,
сам срезал траву, послав на землю мрак, призвал на помощь своего
**°гучего сына Геракла, всех своих божественных детей и жестоко
карал врагов, которых насчитывали до ста пятидесяти Зевс унич-
Жил Порфириона, Геракл (по совету Афины) — Алкионея, набирав-
сс'ся силы от земли, Аполлон — Эфиальта, Гефест — Миманта, По-
jf, Греческая мифология. Классический период. Боги
сейдон — Полибота, Гермес — Ипполита, Артемида — Гратиона, ге,
ката — Клития, Дионис — Эврита, богини судьбы Мойры — Агрия и
Тоона. Афина не только обрушила на Энкелада целый остров Сицилию
но содрала кожу с еще живого Палланта и сделала из нее панцирь’
Всех остальных погубил Зевс, а Геракл добивал поверженных стрелами
Так еще раз хтонические силы Земли были побеждены Олимпий-
цами (Аполлод. I 6, 1—2).
АЛОАДЫ. Была и еще одна попытка овладеть Олимпом. Сыновья
или внуки владыки морей Посейдона Алоады — братья От и Эфиальт
обладали непомерной силой и гигантским ростом. В девять лет они
достигли ширины в 9 локтей (около 4 м), а высоты в 9 саженей
(около 17 м). Возмужав, Алоады настолько возомнили о себе, что
стали запугивать богов, мечтая взгромоздить на Олимп гору Оссу, на
нее — гору Пелион и таким путем достичь неба (Од. XI 305—320),
Они умудрились заковать в цепи бога войны Ареса и требовали
себе в жены Артемиду и Геру. Однако против Алоадов сам Зевс не
выступил, предоставив расправиться с ними Аполлону. Этот последний
перебил их стрелами. Но говорят о другом, более хитроумном способе
их уничтожения. Алоады пронзили друг друга копьями, пытаясь по-
пасть в промчавшуюся между ними лань, в которую превратилась
Артемида (Аполлод. I 7, 4). Нечестивцы были сброшены в Тартар,
где они окованы змеиными кольцами и не могут заснуть от непре-
рывных криков совы (Гигин 28).
Таким образом, Тартар оказался узилищем не только для детей
Земли — титанов и Тифона, но и для потомков морской стихии —
Алоадов. Ни те, ни другие не могли покушаться на целостность
олимпийского божественного мира, который неизбежно обрекал на
гибель архаический тератоморфизм во всех его видах.
МИР ПОДЕЛЕН
МЕЖДУ ЗЕВСОМ И ЕГО БРАТЬЯМИ
Наконец, три брата — Зевс, Посейдон и Аид — поделили между
собой мир, бросив жребий. Зевсу досталось небо, Посейдону — море-
Аиду— царство мертвых (Аполлод. 12, 1). Олимп и земля должны
были стать общим владением всех братьев. Но в действительности
Зевс оказался верховным владыкой. Он роздал семье олимпийских
богов разные уделы (Гес. Теог. 885), т. е. наделил всех тверда
установленными функциями, сохранив за своими союзниками прежние
их владения. Так, например, верный Зевсу титан Океан благодаря
своей мудрой осторожности не участвовал вообще в титаномахии 11
остался владыкой вод, омывающих землю.
Мир поделен между Зевсом и его братьями
77
Гигантомахня. Гигант От
78
Греческая мифология Классический период Боги
Сам Зевс вершил высшую власть, простирая ее на Олимп и земл^
и используя авторитет главенства над братьями.
Судя по эпитетам Зевса — «Земляной» (Хтоний), «Подземный >
он, видимо, некогда объединял в себе функции жизни и смерТи
обладая и землей и подземным миром. Вообще в биографии Зевс^
много архаического, особенно в мифах, связанных с пребыванием
Зевса-младенца на Крите. А в Дельфах, например, был якобы центр
земли в виде фетиша, камня под названием Омфал, т. е П\л
который считали пупом младенца Зевса или камнем, проглоченным
Кроносом, и всячески ему поклонялись
В классической мифологии Зевс — божество светлое, дневное Не-
даром имя его (судя по индоевропейскому корню) означает «светлое
дневное небо» (ср. лат dies — день, divus — божественный, греч
Dzeys).
Мир приобретает под владычеством Зевса вполне упорядоченное
Богиня Никс
единство, по праву на-
зываясь космосом (греч
cosmos — порядок, кра-
сота), который вполне мо-
жет быть противопоставлен
безмерной, бесформенной
разверстой бездне Хаоса
Вселенная в классической
мифологии напоминает по
форме яйцо, в равной мере
сплюснутое на полюсах На
одном из них — Олимп
смыкающийся с эфирными
высями, огненной разре
женной материей, т е
верхнее небо. На другом —
глубина Тартара, пророс-
шего корнями земли и мо-
ря, вечный мрак нижнего
неба. Посредине это яйцо
как бы перерезано пополам
тонким диском земли, на
которой живут люди Над
землей — воздушные про-
странства, где веют ветры
Над землей встает Эос —
заря, днем ходит солнце —•
Гелиос, двигаясь с востока
на запад и ночью переплы-
вая в золотом челне чере^
Мир поделен между Зевсом и его братьями
79
Океан, чтобы снова взойти на востоке Ночью земля освещается
— Селеной и бесчисленными звездами.
^На земле текут реки и источники, зеленеют леса, цветут цветы и поля,
ией возвышаются горы, ее омывает бескрайнее море.
в3 цод землей — царство смерти, где во дворце со своей супругой, до-
пьюЗевса Персефоной, обитает мрачный бог Аид и куда приходят после
е«ги души умерших. На земле существуют места, таящиеся в глубоких
С шерах (а пещера — всегда связь земли и подземного бытия), откуда
BfliVT пути к царству мертвых. Они то ли на крайнем востоке, где-то в
Киммерии 1 (возможно там, где наша Таврида), или, как у Гомера, на
уряйнем западе, где закатывается солнце (а запад — закат, и есть смерть),
V потока Океана (Од. XI 13—14) вблизи сада Гесперид — нимф заката
(яблоки, там зреющие, дают богам вечную молодость) и, наконец, побли-
же к людям, на древней италийской земле, у Кум, где обитает в пещере
лророчица Аполлона — кумекая Сивилла и где в священном лесу золотая
ветвь Персефоны, сорванная героем, открывает вход в мир небытия (Верг.
Эн. VI 136—148), так что род человеческий или, как его называли древ-
ние, «однодневки^ ^«эфемериды»), живет на земле, ощущая неизбежную
связь со смертью. Только герой, да и то не всякий, можете ней побороться
и преодолеть ее.
СУДЬБА ЛЮДЕЙ И СОПЕРНИЧЕСТВО
ПРОМЕТЕЯ С ЗЕВСОМ
Герои еще не появились на свет, ибо они произойдут от браков
богов и смертных людей. А пока Олимпийцы застали на земле какие-то
жалкие подобия человека, тех, кто попал в этот новый мир из давней
архаики, где кратковечные существа со слабыми начатками осмыс-
ленной жизни ютились под землей в страхе перед звериной силой
владычицы-природы. Эсхил, как было сказано выше, нарисовал вы-
разительную картину копошащихся во тьме, не различающих дня и
ночи порождений земли. Не исключено, что это именно те самые
®ОДишки, которых сын титана Иапета Прометей вылепил из земли
и воды.
Видимо, в античной мифологической традиции несовершенство
первых людей связано с тем, что они обязаны своим появлением
Прометею, давнему сопернику Зевса по благодетельным для челове-
чества функциям.
Недаром существуют в противовес Прометеевой и другие версии
происхождения людей. Некоторые более архаические, другие более
См. Геродот IV 11—12.
80
Греческая мифология Классический период Боги
классические. Так, например, в поэме Нонна (V в. н. э.) о ДионцСе
повествуется (VI 155—388) о том, как титаны растерзали Дионис4
Загрея (Великого охотника), сына обернувшегося змеем Зевса и под.
земной Персефоны. В свою очередь титаны были испепелены молниями
Зевса, наславшего на землю великий потоп. А из пепла титанов и
крови Диониса появились первые люди (Олимпиодор. Комментарии
на платоновского «Федона» 61 с), обреченные отныне на страдальце-
ство (в память о муках Диониса) и на великую дерзость (в память
о злодеянии титанов).
Рассказ, напоминающий жалкую участь первых людей у Эсхил4
находим и у Платона в диалоге «Протагор» (320d—322d). Здесь миф
о тех временах, когда боги уже существовали, а людей и животных
не было. Тогда боги создали первых людей и животных в глубине
земли из смеси земли и огня, добавив соединительные частицы. Затем
Прометею и его брату Эпиметею было предписано вывести их на свет
и распределить между всеми средства к жизни и разные способности
Неразумный Эпиметей одарил в первую очередь животных, а затем
когда Прометей выяснил, что на людей не хватило средств к жизни,
он украл огонь из кузницы Гефеста и Афины и наделил им челове-
чество, спасая это последнее от гибели.
Знаменитая история о попытке Зевса погубить хтоническии род
первых людей и о заступничестве Прометея может быть рассмотрена
с двух позиций — с позиции правоты Прометея и с позиции правоты
Зевса. Но для того, чтобы это понять, необходимо вспомнить об
исконном соперничестве двоюродных братьев, сыновей титанов Кроноса
и Напета.
С мифолого-исторической точки зрения Прометей является по
своим источникам архаическим доолимпийским божеством балканского
субстрата, покровителем древних автохтонов. В этом образе сказыва-
ется попытка соединить старое местное божество с богами новых
племен, пришедших на Балканы. Вот почему Прометей мыслится
благодетелем и даже создателем первых людей.
Благодельные функции Прометея наряду с его мудростью, унас-
ледованной от Земли, но облагороженной в условиях классического
периода мифологии, создают основу для споров Зевса и Прометея,
для непокорности и наказания этого последнего, поскольку в эпоху
классической мифологии самым мудрым и великим может быть только
одно божество, так же как и вершителем судеб человечества может
быть только один владыка. Не случайно в ряде мифов подчеркивается,
что Прометей так и не сумел наделить людей законами и правильной
общественной жизнью. В «Протагоре» Платона привилегия Проме-
тея — огонь и ремесло, но не государственное устройство человече-
ского коллектива, вполне чуждое Прометею, в основе своей старинном'
божеству давно прошедших времен.
Судьба людей и соперничество Прометея с Зевсом
81
Итак, Прометей, а не кто иной, призван был, с точки зрения
хаики, пожалеть человеческий род.
Если рассматривать миф об истреблении людей с позиции патри-
хальной мифологии, то Зевс имел все права быть недовольным их
римитивным существованием.
Судя по Эсхилу, ущербность и ничтожество первых людей на-
-голько досаждали Зевсу, что он задумал их погубить, лелея надежду
Насадить», как говорится у Эсхила в «Прометее прикованном» (232),
новый человеческий род. Примечательно, что здесь используется пред-
ставление, прекрасно известное в архаической мифологии, — люди
вырастают наподобие деревьев, а может быть, они и сами древовидны,
й потому жизнь их смутна, инстинктивна и проходит как бы в некой
дреме. Их легко уничтожить так же, как вырубить деревья. Но для
божества не стоит труда еще раз насадить новый род, может быть,
более совершенный и жизнеспособный.
Эсхиловский Зевс замыслил погубить людей с такой легкостью
именно потому, что они ничем не отличались от вечно рождающейся
и вечно умирающей природной материи. Но вмешательство Прометея
изменило все планы Зевса.
Прометей пробрался в кузницу Гефеста и вынес оттуда в полом
стволе нартекса1 (Гес. Теог. 565) искру огня, передав ее людям.
Прометей как бы искупил глупость своего недалекого брата Эпиметея
(букв. — Крепкий задним умом), виновного в беззащитности людей,
истратившего на животных все дары и не позаботившегося о людях.
Прометей наделил людей разумом, научил их строить дома, ко-
рабли, заниматься ремеслами, носить одежду, считать, писать, читать.
Он внес упорядоченность в их жизнь, научил их различать времена
года. И, что особенно важно для древних, обучил приносить богам
жертвы, совершать разного рода гадания (Эсх. Пром. 442—504). Можно
с полным правом сказать, что «все искусства у людей от Прометея»
(там же, 506).
Значит, не только ремесла у людей от Прометея, но от него у
них связь с богами через жертвы, сопровождаемые особыми ритуалами
и Целой системой гаданий, что повлекло за собой в дальнейшем
выделение особой категории жрецов, возносителей молитв, толкова-
телей воли богов и исполнителей божественных решений.
Есть еще один дар Прометея, о котором почти забыли, но без
которого человечество вряд ли смогло бы развиваться. Он вселил в
юодей «слепые надежды» и вложил в них тем самым стремление к
наподобие стволов бамбука, есть
у которого,
д.р.! Нартекс — ВИД тростника, У которого, viduuiud машинка, CV1 ь
Не1гРенние перегородки, так что, разделенный на части, он представляет собой
neвместилище. Пастухи Греции и Италии в таких полых частях тростника
Реаосили тлеющие угли, сохраняя огонь.
6 Зак 39оз
82 Греческая мифология. Классический период. Боги
постоянной деятельности (там же, 248—250), научил их, собственно
говоря, верить мечте.
Характерно, что Прометей причастен еще к одному обману, на-
правленному против воли Зевса и тоже относящемуся к взаимоотно-
шениям людей и богов. Этот обман иные древние мифографы, например
Гесиод, даже считали его первым деянием против Зевса, за которым
шло уже второе — кража огня. Но, рассуждая логически, сначала
Прометею надлежало спасти людей от уничтожения, сделать их более
разумными, а затем уже принять участие в основании ритуальных
жертвоприношений, установленных богами и людьми в древнем Меконе
(в классическое время — область Сикиония на севере Пелопоннеса).
Прометей решил и здесь помочь людям, чтобы не обременять их
обильными жертвоприношениями. Он рассек тушу быка, спрятал мясо
в содранную бычью шкуру, положив сверху самую худшую часть —
желудок. Рядом он искусно сложил кости и прикрыл их сверху бле-
стящим жиром, полагая, что жадный Зевс не заметит обмана и выберет
для жертвоприношения именно эту, внешне самую лучшую часть, но
на самом деле для богов наихудшую, зато самую выгодную для людей.
Зевс действительно остановил свое внимание на куче, покрытой
жиром, однако сделал выбор умышленно, чтобы найти предлог для
наказания слишком хитроумного Прометея (Гес. Теог. 535—560).
В результате встречи в Меконе людей и богов невольно выиграли
люди, так как решение Зевса непреложно и его выбор был оконча-
тельным. Отныне люди стали в честь богов сжигать кости, покрытые
жиром. Боги, таким образом, довольствовались ароматным дымом,
поднимавшимся к небу. Люди же съедали мясо, посыпанное солью,
священной ячменной мукой и хорошо поджаренное на огне, знаменуя
этим свою причастность к божественной трапезе и подтверждая жер-
твоприношением договор двух миров — человеческого и божественного.
Разгневанный Зевс должен был неминуемо наслать кару на Про-
метея и на людей. Поскольку за Прометеем числился первый (или,
по Геосиду, второй) обман — похищение огня, то Зевс покарал Про-
метея, предписав Гефесту приковать его к скалам Кавказа цепями с
помощью Власти и Силы, Зевсовых прислужников.
Не забудем, что Прометей, несмотря на безвыходное положение,
был тоже вооружен против Зевса, храня в сердце тайну о будущей
судьбе последнего. Поэтому Зевс старался уговорить Прометея выдать
ему тайну в обмен на свободу, но Прометей был непреклонен, несмотря
на все уговоры. Ему оставалось в громах и молниях разгневанного
Зевса быть низвергнутым в недра земли, чтобы потом снова появиться
на свет, уже на новые муки.
Ежедневно прилетавший к скале Прометея орел выклевывал Б
течение мириад лет (мириада — примерно 10 тысяч) его печень, вЫ'
раставшую заново каждую ночь. А так как Прометей — бессмертный
Судьба людей и соперничество Прометея с Зевсом
83
ИГ"
Гера
84
Греческая мифология. Классический период. Боги
бог, он мог только мучиться, не достигая желанной ему смерти (Эсх
Пром.).
Соперничество с Зевсом — не то, физическое, на которое отважи.
лись чудовищные порождения матери-Земли, а, можно сказать, ин-
теллектуальное — стоило Прометею великих страданий то ли на Кав-
казе, то ли на краю земли, где стоит его брат Атлант.
Главное здесь то, что пройдут века, мир изменится, родится новое
поколение героев, совершающих подвиги, но Прометею суждено тысячи
лет висеть пригвожденным к скалам, оставаясь только свидетелем
героических деяний (Аполл. Род. II 1248—1258) в жизни, где ему нет
места, где он только поверженный соперник Зевса.
Прометей дождется своего освобождения именно в эти героические
времена, хотя, к его досаде, опять-таки по воле Зевса. Но об этом в
свое время.
А пока последовало наказание людей, принявших и огонь, и вы-
годные им установления жертв благодаря хитрости Прометея.
ПАНДОРА ПОСЛАНА БОГАМИ
В НАКАЗАНИЕ ЛЮДЯМ
По решению Зевса Гефест, смешав землю с водой, вылепил подобие
женщины как бы в насмешку над Прометеем, создавшим когда-то
людей тоже из смеси земли и воды. Остальные боги всемерно украсили
это искусное произведение рук Гефеста. Милые Хариты и Пейто —
Убеждение надели на нее золотое ожерелье. Оры увенчали ее кудри
весенними цветами. Афина застегнула пояс на серебристом платье,
набросила тончайшее покрывало, возложила ей на голову золотой
венец. Гермес же «вложил в грудь красавицы льстивые речи, обманы,
хитрую душу» и назвал ее Пандорой (Одаренная всеми), поскольку
каждый из богов одарил это подобие женщины на погибель людям.
Затем Гермес отвел Пандору к недалекому Эпиметею, забывшему
предупреждение своего брата не принимать такого дара. Пандора,
ставшая супругой Эпиметея, оказалась на самом деле виновницей бед,
обрушившихся на человека. Любопытная Пандора открыла сосуд, пе-
реданный ей богами, и оттуда разошлись по миру беды, болезни и
страдания. Более того, по воле Зевса Пандора захлопнула крышку
сосуда, оставив там Надежду. Оказалось, что люди лишились даже
надежды на спасение от тысячи бедствий, которые отныне переполнили
их жизнь (Гес. Труд. 69—105; Теог. 570—612). Так свершилась воля
Зевса.
В истории Пандоры греческое мифомышление не только осудило
злую природу былой женской власти, не только представило женщину
источником зла и соблазнов, но впервые показало несоответствие
между внешней красотой тела и внутренним безобразием души.
Пандора послана Богами в наказание людям
85
Вся греческая культура пронизана идеей так называемой калока-
й т. е. гармонии прекрасного тела (греч. calos — прекрасный) и
пошей в нравственном отношении (греч. agathos — хороший) внут-
* иней сущности человека. Но идеальная осуществленность этой ка-
пкагатии, примером чего было классическое искусство греков и о
gm мечтали поэты и философы, не могла сохраниться в реальной
*изни. Гесиод, живописуя прекрасную видом и злую душой Пандору,
понял дисгармонию мифологического, а значит, и реального бытия и
доздал великолепный по своей жизненности символ.
В дальнейшем поэтесса Сапфо (VII в. до н. э.) ощутит перевес
внутренней, душевной, красоты, предоставив внешней, физической,
радовать лишь человеческий взор.
И Платон в диалоге «Пир» устами Алкивиада набросает вырази-
тельный портрет Сократа, где дисгармония внешнего безобразия и
внутренней красоты духа окажется символом идеальной мудрости, не
нуждающейся в украшениях и доступной только для тех, кто доберется
до нее, преодолев уродливую оболочку тела. Но до этих классических
времен поэзии и философии, еще далеко. А миф уже зафиксировал
ужасную перспективу, открывшуюся для ограниченного человеческого
ума, — вечно обманываться и вечно страдать, принимая зло за добро
и соблазняясь ложью прекрасного лика. Надежды избежать этого пути
нет. Она осталась на дне захлопнутого Пандорой сосуда.
ЗАКОННЫЕ БРАКИ ЗЕВСА И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
На классическом Олимпе, где все сияет, где природа благодетельна,
мир желанен, а война ненавистна, особый характер приобретает де-
ятельность наследников Зевса и его помощников, воплотивших в себе
новое отношение к упорядоченному космическому бытию и воцарив-
шейся в нем красоте.
МЕТИДА И РОЖДЕНИЕ АФИНЫ. Семья богов на Олимпе раз-
расталась, так как Зевс вступал в брак не один раз.
Если внимательно остановиться на женах и детях Зевса, выясняется
любопытная историко-мифологическая картина. Все на Олимпе шло
к ТОму, чтобы власть Зевса укреплялась, чтобы бытие богов было
осмыслено с человеческой, а не с природной точки зрения, создавая
®адежную опору и защиту для мира смертных взамен прежнего его
Умаления и унижения перед неведомой страшной силой с ее ирраци-
ональным и безжалостным воздействием.
Примечательно, что Зевс стремится, создавая олимпийскую семью
1X58 и вступая в брак, приумножить в первую очередь свою мудрость.
86
Греческая мифология Классический период Боги
Вот почему первой ег^
супругой стала океанида
Метида (греч. metis
мысль), та самая, котордя
в свое время помогла Зевсу
возвратить на свет прогл0.
ченных Кроносом детей
Однако Зевс знает, какая
сила таится в мудрости и
как женщина может обра-
тить ее во зло, особенно ес-
ли это могущественная бо-
гиня. Кроме того, все та же
Гея — Земля предсказала,
что Метида родит ему дочь
Афину, а вслед за этим —
и это уже самое страшное —
сына, который лишит отца
власти (Гес. Теог. 886—
900). Поэтому Зевс, следуя
Рождение Афины
уговорам Земли и Урана — Неба, отправил Метиду в свое чрево и,
таким образом, один стал владеть преизбытком разума, что для ми-
фологии патриархата составляет абсолютную необходимость
Этот акт с точки зрения историко-мифологической несомненно
указывал на укрепление мудрости мужского, организующего начала
в олимпийский период. А кроме того, он давал возможность Зевсу по
собственному усмотрению распоряжаться этой мудростью, оберегая
тем самым свою безопасность.
Следствием подобной разумной деятельности Зевса явилось чудес-
ное рождение дочери Зевса — Афины (там же, 924—926) В поздних
версиях мифа, о проглатывании Зевсом Метиды не упоминается как
о грубом акте, имеющем древние доолимпийские корни (ведь Кронос
тоже глотал своих детей).
Афина, как единодушно повествуют классические мифографы, по-
явилась непосредственно из «священной» головы «многомудрого» Зевса
Прекрасная богиня, защитница городов, «дева с хитроискусным
умом», светлоокая Афина рождается в доспехах, сверкающих золотом,
изумляя собрание бессмертных. Только что родившаяся дочь прыгнула
на землю, потрясая копьем, под ее тяжким прыжком заколебался
Олимп, застонала земля, дрогнуло море, закипело волнами, хлынуло
на берег. Даже Гелиос в изумлении остановил на небе своих коней
и ждал, пока богиня не сняла доспехов. Зевса же, виновника этого
фантастического рождения, объяла радость (Гом. Гимн. XXVIII)
При этих необычных родах Зевсу помог, ударив его топором по
голове, Прометей (значит, он еще не был пригвожден к скале) или
Законные браки Зевса и рождение детей
87
Храм Геры в Олимпии
88
Греческая мифология Классический период Боги
Гефест — кузнец (значит, он уже появился на свет, что указывав
на ряд внешних довольно частых несообразностей в разновременных
пластах мифа). Рождение богини произошло будто бы у реки Или
озера Тритон в Ливии, отчего она и называется Тритонидой АфИНа
есть несомненное продолжение мысли Зевса, исполнительница его
замыслов. Она, по сути дела, призвана осуществлять скрытые наме
рения Зевса, будучи дочерью и его и Метиды, а так как Метида стала
сущностью Зевса, то, значит, Афине достаточно оставаться дочерью
только одного отца. Отныне Афина предназначена быть ближайшее
помощницей Зевса в устроении героического мира, покровительницей
героев, но не всех, а отличающихся разумной силой.
Отцовское начало сделало Афину любимой богиней классической
мифологии. Но независимость Афины, ее гордость девы-воительницы
хранящей свое целомудрие, указывают на то, что образ этот сложился
не просто, а связан с древнейшими представлениями о самостоятель
ности женщины, не нуждающейся в мужском начале, терпимом (как
у амазонки) только в силу необходимости порождения потомства Но
бессмертной богине нет нужды в потомстве, ее дети — герои, о которых
она печется, подбадривая их своим совооким взором, загадочно мер
цающим из-под шлема, или, совсем наподобие Зевса, кивая головой
в знак одобрения.
Появление дочери Зевса, рожденной разумом отца, имело для
классической мифологии столь принципиальное значение, что через
тысячу лет в трагедии Эсхила «Эвмениды» (заключительная часть
трилогии «Орестея») защитники Ореста, убившего мать, будут под-
тверждать правоту сына, ссылаясь на значительность и первичность
мужского начала вообще, поскольку Зевс в былые времена сам породил
Афину, не нуждаясь в браке с женщиной.
Итак, первый брачный союз Зевса и рождение Афины подготовили
почву для появления и развития особого поколения людей — героев,
по имени которых стал именоваться самый блестящий период мифо-
логической истории.
ФЕМИДА. РОЖДАЮТСЯ ОРЫ И МОЙРЫ. Следующая, вторая
супруга Зевса — Фемида (греч themis — установление, нечто закон
ное), дочь Геи и Урана, т. е. титанида (Гес. Теог 900—906) Проис-
хождение ее вполне архаическое, и в ряде мифов она отождествляется
с Землей, считаясь матерью Прометея. Именно она передала Прометею
тайну будущего рокового брака Зевса и Метиды, в результате которого
Зевс потеряет власть.
Дар прозрения и прорицания будущего дает ей возможность спра-
ведливо решать дела настоящего, почему она и воплощает функции
справедливой, правосудной богини.
Фемида в свое время получила от Геи знаменитый оракул в
Дельфах, передала его своей сестре титаниде Фебе, а та в свою очередь
Арес
90
Греческая мифология Классический период Боги
принесла в дар Дельфийское прорицалище своему внуку Аполлону
Так, Земля — Фемида оказалась родоначальницей древней мудрОс?
прорицания в классической мифологии, перешедшей во владение Анод,
лона.
Фемида родила Зевсу трех Ор — богинь времен года — Евномию
(Благозаконие), Дику (Справедливость), Эйрену (Мир), а также, Что
чрезвычайно характерно для классической мифологии, трех Мойр
богинь судьбы (греч. moira — участь, часть) — Клото (Пряху), Лахезис
(Дающую жребий), Атропос (Неотвратимую), тех самых, которые в
архаический период были дочерьми Ночи.
Оры также унаследовали черты архаических, природных божеств
на что вполне явственно указывают имена, данные им в Афинах, J
Ауксо (Приумножительница), Талло (Цветение), Карпо (Плодонося-
щая). Значит, времена года с приуроченными к ним произрастанием
и плодоношением оказались в классической мифологии тоже подвла-
стны Зевсу.
Архаические Мойры, представление о которых было связано с
обычаем уделять определенную часть еды, добычи или жертвоприно-
шения каждому члену рода, объединяя их в одно целое, теперь в
классической мифологии патриархата настолько зависят от Зевса, что
он именуется даже Мойрагетом — Водителем Мойр и статуя его на-
ходится в Дельфийском храме рядом со статуями Мойр. Зевс Мойрагет
знал все человеческие дела, все, что Мойры назначали человеку, и
все, в чем они ему отказывали.
Как видим, Зевс благодаря союзу с Фемидой сосредоточил в своих
руках правосудие, идею справедливости, добросовестное исполнение
законов и, что крайне важно, мирную жизнь в пределах неба и земли
Таким образом, в основе владычества Зевса Олимпийского лежит
принцип гармонии, а не дисгармонии, мира, а не войны, разумных
установлений, а не стихийного своеволия.
ГЕРА — ГРОЗНАЯ ОХРАНИТЕЛЬНИЦА ЗАКОННОГО БРАКА
РОЖДЕНИЕ АРЕСА И ГЕФЕСТА. Наконец Зевс вступает в третий
законный брак со своей родной сестрой Герой, богиней, блюдущей
устои моногамной патриархальной семьи, зорко следящей за верностью
мужчины и правильностью взаимоотношений родителей и детей (там
же, 921—923).
И хотя среди незаконных жен Зевса были великие богини Деметра,
Евринома, Мнемосина и Лето (о связях Зевса с нимфами и смертными
женщинами и говорить нечего), Гера — главенствующая супруга и
хранительница семейных устоев — преследовала эти незаконные у в-
лечения Крониона.
Особенно жестоко Гера покарала дочь реки Инах, прекрасную Ио
Она превратила ее в корову (по другой версии это сделал сам Зевс
поклявшись, что с ней не сходился), приставила к ней стражем
Законные браки Зевса и рождение детей
91
Деметра
92
Греческая мифология. Классический период. Боги
всевидящего Аргуса, наслала на нее жалящего овода. Когда ГерМес
убил по приказу Зевса стоглазого стража, Ио, гонимая безумием (п
греч. «овод» и «безумие» обозначаются одним словом — oistros), сгран
ствовала вплоть до пределов Египта, где она родила Зевсова сыца
Эпафа, родоначальника многих героев и среди них самого Герак.-1а
(Аполлод. II 1, 3; Эсх. Пром. 846—876).
Таким образом, и законные связи Зевса, и преследования ГерЬ|
не только не помешали появиться за свет знаменитым потомкам Зевса
без которых была бы немыслима вся мифология героизма, но даже
способствовала в конечном счете укреплению героического мира и
прославлению богов, объединяя в одно целое Олимп и землю. Зевс и
его дети невольно оказались связанными кровными и родственными
узами с поколением героев, о которых речь пойдет дальше, и тем
самым даже Олимп как божественная твердыня станет, в конце концов,
доступным для самых достойных и прославленных из них.
Однако архаическое прошлое Геры, ее былой фетишизм и зоомор-
физм (на острове Самос ей поклонялись в виде деревянного фетиша,
в городе Аргос она — священная корова) сказываются в первую очередь
на ее сыне Аресе (Ил. V 96), боге безудержной и жестокой войны,
имеющем свои корни в догреческом, возможно фракийском, мифоло-
гическом субстрате. Во всяком случае, среди олимпийцев Арес с его
непризнанием всяких разумных и правовых норм чувствует себя не-
уютно, особенно рядом с богиней Афиной, мудрой воительницей.
Зевсу, самому прошедшему через битвы с чудовищными против-
никами (титаны, Тифон, гиганты), положившему в основу олимпий-
ского бытия мир и гармонию (Эйрена — Мир — его законная дочь от
Фемиды, богини справедливости, а Гармония — его внучка), был не-
навистен Арес именно за то, что он похож нравом на Геру, от которой
сын унаследовал древнее матриархальное буйство.
Арес, отличающийся буйным нравом и вероломством, явно нелюбим
Зевсом. Ему дана в удел презираемая Олимпийцами кровожадная,
дикая, бессмысленная резня. По мнению Зевса, Арес самый ненави-
стный из богов, и отец рад был бы отправить его глубже всех потомков
Урана в Тартар (там же, 889—898). Но он все-таки и Зевсов сын, а
жестокую войну невозможно вести, не истребляя людей. Значит, не-
обходимо существование Ареса уравновесить Афиной.
Зато дочь Геры Илифия особенно близка матери. Она покрови-
тельница рожениц, посылающая им и страдания, и освобождение от
них. Илифия неизменно повинуется матери, а Гера не раз прибегает
к ее помощи, чтобы причинить вред соперницам (Каллим. IV 255-"
258).
Другая дочь Геры и Зевса — Геба, богиня вечной юности, прислу-
живающая на трапезах богов, создавая милый семейный уют в доме
Зевса. Ее отдадут в жены любимому сыну Зевса, Гераклу, когда тот
после всех страданий будет взят на Олимп и станет там богом.
Законные браки Зевса и рождение детей
93
Гера упорно отстаивает самостоятельность своего женского начала,
оля Д° невероятных крайностей. Так, по одному свидетельству,
совершила страшное дело в ответ на рождение Афины. Ударом
пони по земле она способствовала рождению из нее чудовищного
£?d)OHa (Гом. гимн. II 154—174). Правда, по более распространенному
нФУ> Тифона рождают Гея — Земля и Тартар еще до укрепления
Чевса'на Олимпе, так что Гера оказывается непричастной хтоническому
ZvnoBHffly и остается богиней классической мифологии. Но все-таки
свидетельство знаменательно.
Чудесное рождение Афины (по другой версии) послужило поводом
-лл появления на свет Гефеста тоже не менее удивительным путем,
и^гут уже без участия отца (Гес. Теог. 927 сл.). Но месть Геры Зевсу
оказалась испытанием в первую очередь для нее как для матери —
ибо без участия Зевса, своего мужа, она могла породить только урод-
ливого Гефеста или просто чудовище Тифона. Печальное рождение
Гефеста и попытка Геры отделаться от него, сбросив с Олимпа, только
усугубили его хромоту, и породили его вражду к матери (Гом. Гимн.
П 138—140).
Любопытно тем не менее, что ненавистный матери сын защищает
ее перед Зевсом, за что терпит наказание, будучи вторично сброшен
с Олимпа, но уже отцом (Аполлод. I 3, 5; Ил. VI 135).
Гефест, несмотря ни на что, глубоко ощущает кровную и истори-
ческую связь с матерью в двух планах.
Как мы знаем, Гера — одна из главных покровительниц ахейских
героев, их активная союзница, часто идущая на хитрость ради помощи
своим подопечным. И это объединяет Геру с эпохой героизма в истории
развития мифологии. Вот почему Гефест охотно выполняет ее просьбы.
Помогая Ахиллу, огненная сила Гефеста успешно сражается с водами
речного бога Ксанфа (Ил. XXI 330—384). С другой стороны, с мат-
риархальными рудиментами Геры вполне уживается огненная стихия
Гефеста как демонической силы, все пожирающей и испепеляющей.
Однако, в отличие от Гесиода, Гомер считает Гефеста законным сыном
Зевса и Геры, а такое олимпийское происхождение преобразует древ-
него повелителя огня в благодетельное божество, отдающее огонь на
пользу богам и людям. Недаром Гефест, как сын Зевса, берет в жены
Афродиту. По другой версии, его супруга — тоже дочь Зевса, одна из
Аарит, прелестное и милостивое божество (там же, XVIII 382—383).
Как сын Зевса, Гефест иногда направляет свое искусство во вред
еРе> наказывая ее. Он выковывает прекрасный трон, но когда Гера
Усаживается на него, ее охватывают золотые узы, и богиня испытывает
муки от своей беспомощности и стыда (Гигин 166 Паве. I 20, 3).
Вел/Так’ появление Гефеста на свет сопряжено с мучительными для
событиями, хотя именно благодаря им постепенно формируется
г Олимпийской мифологии образ некрасивого, но умного и доброго
страдающего от распрей отца и матери, сознающего материнское
94
Греческая мифология. Классический период. Боги
несовершенство и жестокость отца, жалеющего чужих матерей и чужИх
сыновей.
Классическая мифология в лице Гефеста обретает бога-помощника
наделенного сострадательным нравом, почему он и станет особенно
близок людям.
Для Олимпа был также важен факт рождения близнецов Аполлона
и Артемиды. Гера, как всегда предугадав здесь глубокие последствия,
решительно противодействует этому для упрочения своего брака.
Так в образе верховной богини причудливо переплетаются старин-
ные матриархальные черты и совершенно новые функции, укрепля-
ющие и облагораживающие отношения патриархальной семьи.
НЕЗАКОННЫЕ БРАКИ ЗЕВСА И ДЕТИ ОТ НИХ
Власть Зевса на Олимпе укреплялась еще и другим путем. Он
ради продолжения потомства вступал в незаконные связи. Но, что
самое интересное, дети от этих неканонических браков ничуть не
уступали его другим, законным. Наоборот, Зевс утвердил себя на
Олимпе именно через богинь, им любимых, ради которых он терпел
унижения от ревнивой Геры и ради которых ему приходилось пускаться
на хитрости.
ЕВРИНОМА И РОЖДЕНИЕ ХАРИТ. Первой незаконной женой
Зевса (по общему счету всех его семи браков — третьей) была океанида
Евринома (Гес. Теог. 907—911). Она родила Зевсу трех прелестных
и милых Харит (греч. charis — милость). Они воплотили в себе доброе,
радостное и вечно юное начало жизни. Имена Харит — Аглая (Сия-
ющая), Евфросина (Благомыслящая), Фалин (Цветущая). Здесь при-
рода повернута к человеку своей благодетельной стороной вопреки
злой и разрушающей стихии архаики.
Хариты, можно сказать, совершенно необходимы в мире, утверж-
даемом Олимпийским Зевсом и построенном на гармонии и порядке.
Доброта, ласка, радость наряду с высокими подвигами, страстями и
страданиями героев — привилегия классической мифологии. Это то,
чего так не хватает в архаике, что ей было абсолютно чуждо и что
облагородило и подняло в собственных глазах человека, способного
на суровое мужество и на доброе сострадание к подобному себе.
ДЕМЕТРА И РОЖДЕНИЕ ПЕРСЕФОНЫ. Но вот оказывается,
что Зевс претендует и на роль помощника в добывании средств к
жизни. Вступив в незаконную связь со своей сестрой Деметрой (чет-
вертый брак по общему счету), богиней плодоносной земли и урожая,
Зевс начинает отвечать за прокормление людей, за их жизненную
Незаконные браки Зевса и дети от них
95
-гойчивость, за их физическое благополучие (там же, 912—914).
{Среди принять во внимание, что его дочь от Деметры, Персефона,
А а женой Аида и владычицей царства мертвых, то Зевс как бы
^овь, y«e в своем потомстве, возвращается к функциям древнего
^жесгва Зевса Подземного, или Хтония, а не только Зевса Небесного.
МНЕМОСИНА И РОЖДЕНИЕ МУЗ. Еще более значителен лю-
дный союз Зевса с титанидой Мнемосиной (греч. mnemosyne —
память), хотя и он не освящен законом (пятый по общему счету
боак)- Этот брак совершенно необходим для укрепления Зевса в мире
культурных классических ценностей (там же, 915—917; 56—62).
' Ведь без памяти и вне памяти немыслимо поступательное движение,
невозможно любое развитие. Зевс объединяется с Памятью (как он
раньше объединился с Мыслью) и порождает девять сестер, которые
именуются Музами.
Эти Музы, рожденные в Пиерии, носят имя Олимпийских. Их
имена — Каллиопа, Клио, Мельпомена, Евтерпа, Эрато, Терпсихора,
Талия, Полигимния, Урания—указывают на связь Муз с пением,
уяяпями. музыкой и вообще с утонченным наслаждением духа. Урания
(Небесная) и Клио (Дарующая славу) наделяют человека способно-
стями изучать небо и землю, ход небесных светил и земных дел.
Дальнейшая, уже не мифологическая, а реальная история античной
культуры имела все основания считать Уранию покровительницей
астрономических занятий, а Клио — исторических разысканий. Эрато
стала Музой лирической поэзии, Евтерпа — музыки, сопровождающей
лирическую песню, Каллиопа — эпической поэзии, Мельпомена —
трагедии, Полигимния — гимнических песен, Терпсихора — танца и
Талия — комедийного искусства.
Эти девять Олимпийских муз, видимо, имеют истоки в трех музах
архаической мифологии, где они выражали первые начатки мудрости
земли. Архаических муз почитали не певцы и поэты, а великаны
Алоады (Паве. IX 29, 1—2), которые некогда принесли на горе Геликон
жертвы и дали им характерные имена — Мелета (Опытность), Мнема
(Память), Аойда (Песнь). Получается, что некогда существовали так
взываемые старшие музы, дочери Урана и Геи, а те, которые от
Зевса, — музы младшие. Так, доолимпийская мифология уже имела
РЯД предпосылок для формирования не чисто физических, а каких-то
новых, высших потребностей и способностей человека, который должен
ыл сознательно ориентироваться в жизни, закрепляя свои знания в
“а**®™, и ощущать некую усладу души.
Видимо, все-таки хтоническое прошлое Олимпийских муз давало
я знать и в классической мифологии, потому что они имели иной
хОпи?отомство явно оргиастического и стихийного типа, например
к^А?НТОв и сирен наряду с такими певцами героического времени,
Орфей и Лин.
96
Греческая мифология Классический период Боги
Рождение Аполлона и Артемиды. Делос и Лето
Прислушаемся к тому, что повествует об Олимпийских музах
Гесиод, поэт и земледелец из селения Аскра, расположенного у под-
ножия Геликона.
В «Теогонии» — поэме о рождении и поколениях богов, одном из
главных источников мифологии, — Гесиод рассказывает, не смущаясь
невероятностью событий, о своей встрече с Музами на геликонских
вершинах. Оказывается, девять олимпийских сестер имеют обыкнове-
ние водить там хороводы, обходя жертвенник Зевса и источник «фи-
алково-темной» воды. Они омывают свои тела в течениях Пермеса
или в роднике Иппокрены (его выбил копытом из скалы крылатый
конь Пегас), а затем предаются пляскам. Когда же наступает ночь,
то, одевшись непроглядным туманом, Музы спускаются со священной
горы и приходят вниз, ближе к людям. Они распевают чудесные песни-
прославляя великих Олимпийцев — Зевса и Геру, Афину и Аполлона
с Артемидой, Посейдона и Афродиту с Фемидой, Гебу, Диону и ее
дочь Лето, — древних титанов Напета и Кроноса, Зарю и Ночь, Солнце
и Луну, мать-Землю и воды Океана.
Именно эти Олимпийские музы повстречались с Гесиодом, когД3
он пас у подножия Геликона овец, поведали ему о том, как они умсль1
Незаконные браки Зевса и дети от них
97
?3а* 3903
98
Греческая мифология Классический период Боги
Артемида
на хитрые выдумки, о том, как можно превращать лживые рассказы
в чистейшую правду.
Собственно говоря, Музы открыли Гесиоду тайну поэтического
вымысла — того, что мы сейчас называем фантазией. А вслед за этим
они вручили Гесиоду вырезанный ими посох из зеленого лавра, дерева
любимых Аполлоном певцов и поэтов. Вручая свой дар, Музы вдохнули
в пастуха Гесиода дар божественных песен. Сам о том не подозревая
Гесиод привел замечательный пример фетишистского понимания по-
этического вдохновения. Оказывается, оно, как живое существо, оби-
тает в лавре, а значит и в лавровом посохе, вместе с которым оно
чисто физически переходит во владение Гесиода.
Так, Музы обучили Гесиода песням и создали поэта, а он в свою
очередь прославил в «Теогонии» дочерей Зевса (1—116).
Их уста изливают сладкие звуки, на которые в ответ звучат не
менее сладостные песни обитателей Олимпа. Музы воспевают боже
ственный мир во всей его целостности, от Земли и Неба до Зевса 11
его потомков. Как и подобает божествам классической мифологии
Незаконные браки Зевса и дети от них
99
не только наделяют людей даром приятного слова, но воспевают
остановленные Зевсом законы, добрые нравы, царящие на Олимпе,
У уШают разумные мысли, утоляют печаль, прекращают ссоры.
®®У»ракИм образом, Музы закрепляют в памяти людей и в поэтическом
е вСе благие начинания Зевса Олимпийского, поддерживая, как
<Хариты, Оры и Мойры, гармоническое устроение мира, послушное
Зевсовым законам и вполне сознательно осмысленное
ЛЕТО РОЖДАЕТ ЗЕВСУ АПОЛЛОНА И АРТЕМИДУ. Эти об-
шекультурные функции Зевса еще более укрепляются на Олимпе с
рождением Аполлона (Гес. Теог. 918—920).
Бедная Лето, гонимая Герой, запретившей твердой земле дать
приют будущей матери, с трудом нашла место, когда пришло время
рржять. Она странствует по городам, и островам Греции — была в
Афинах. Милете, на Эвбее, в Самофракии, в горах Пелиона, Иды,
па островах Имброс, Лемнос, Лесбос, Книд, Наксос, Парос, Скирос,
Зг^ня. И наконец, каменистый Делос (он именовался тогда Ортигией
и был плавучим, т. е. не являлся твердой сушей) дает ей приют в
ответ на мольбу Лето и ее клятву, что остров станет священным
пристанищем Аполлона и будет почитаться в веках прославленным
великолепным храмом.
Лето мучается девять дней. Ей помогают при родах мать Зевса —
Рея, его бывшая супруга — Фемида, мать Афродиты — Диона, супруга
Посейдона — Амфитрита. Только злобная Гера задерживает Илифию,
свою дочь, богиню родов. Однако богини находят выход. Они подкупают
Илифию богатыми дарами. Тогда Лето, обхватив пальму руками,
рождает Аполлона прямо в мягкий луговой ковер (по Аполлодору I
4, 1, Лето сначала родила Артемиду, а с ее помощью — Аполлона).
И тотчас же улыбается земля, а богини, омыв младенца, повивают
его тонкой белой тканью, завязывают ее золотым ремнем. Фемида
впускает в губы ребенка нектар и амбросию.
Распускается золотой ремень, спадают пеленки, и вот уже Аполлон
требует лук, лиру и заявляет о своих будущих прорицаниях.
Получив желаемое, «далекоразящий» Феб зашагал по земле, «бо-
гини остолбенели», а «Делос весь засиял, словно золотом», будто бы
весь зацвел лесными цветами. И мать Лето веселилась сердцем, ра-
ДУвсь, что родила столь мощного сына (Гом. гимн. I 25—139; Каллим.
IV 55-274).
Итак, Лето, как незаконная супруга Зевса, испытала на себе гнев
еры, но зато она же оказалась счастливой матерью близнецов Апол-
лона и Артемиды. И если образ Артемиды, девы-охотницы, коренится
Давних пластах мифологии как образ повелительницы лесов и зверей,
сАиоллон являет собой пример божества, у которого его классическая
Про °СТЬ всячески пыталась подавить свое собственное архаическое
100
Греческая мифология Классический период Боги
Рождение Афродиты
Мощная фигура светлого солнечного бога, стреловержца, караю-
щего чудовищ, Мусагета (Водителя Муз), вдохновенного певца, муд-
рого прорицателя и врачевателя, покровителя пастухов, строителя
городов и основателя законодательств, никак не могла окончательно
вытеснить оборотня-волка, истребителя пастушьих стад, фитоморфного
демона, мрачного убийцу людей, насылателя смертельных болезней,
разрушителя городов.
Однако чем больше укрепляется на Олимпе Зевс, тем большую
силу набирает Аполлон, постепенно становясь каким-то универсальным
классическим богом, тождественным с миром света, наконец, самим
светом, сияющим, и даже — Водителем Мойр (Мойрагетом), скрепля-
ющим всю мировую гармонию. В конце концов этот универсализм
Аполлона доходит до такой степени, что поздние мифографы на склоне
античности отождествят его с Зевсом. Но если не вдаваться в крайности
поздней мифографии, настроенной философско-символически, то Апол-
лон классического периода действительно является наряду с Афиной
одним из главных столпов Олимпа и вообще героического принципа
Незаконные браки Зевса и дети от них
10J
Антия. Правда, в отличие от
аЛины, неизменно верной сво-
отцу, в Аполлоне заметны
Тенденции к соперничеству с
Зевсом и самоутверждению
вопреки отцовской воле.
АФРОДИТА - ДОЧЬ ДИ-
ОНЫ. По традиционной клас-
сической версии Гомера (Ил. V
370), Афродита — дочь Зевса и
богини Дионы, мирно уживаю-
щейся с Герой на Олимпе. По
древней версии, она родилась
из крови оскопленного Кроно-
сом Урана, попавшей в море.
Однако классическая мифоло-
гия, чуждая грубого хтонизма,
преображает эту мрачную кар-
тину и живописует рождение
богини любви и красоты испол-
ненным великолепия и пышно-
сти, вне которых не мыслятся олимпийские боги.
Гонимая дуновением Зефира по волнам, к острову Кипру в
воздушной пене приплыла Афродита. Дочери Зевса, Оры, радостно
встречают богиню, облекая ее нетленной одеждой, увенчивают голову
золотым венцом, в уши вдевают золотые серьги, шею обвивают
золотым ожерельем. В сопровождении прелестных Ор — Евномии,
Дики, Эйрены — пришелица в мир, названная Кипридой, шествует
к богам-олимпийцам. Те в знак приветствия пожимают ей правую
Руку и, дивясь фиалковенчанной Афродите, зажигаются страстью
ввести ее супругой в собственный дом (Гом. гимн. VI). Красоте и
власти Афродиты подвластны боги (все, кроме Афины, Артемиды,
Гестин), герои и даже дикие звери — серые волки, медведи, огнен-
ноокие львы, барсы, — при виде богини кротко виляющие хвостами
(там же, IV 2—72).
Так таинственное существо, зародившееся в кровавой пене оскоп-
ленного Урана, попавшей в море (а от капель этой же крови в земле
Родились Эринии и гиганты), превращается в златовенчанную, улыб-
ЧИвУю, нежную Афродиту с изогнутыми ресницами, знаменуя этим
как бы второе рождение Зевсова Олимпа и утверждение на нем
красоты.
102
Греческая мифология Классический период Боги
ГЕРМЕС —СЫН МАЙЦ
С удивительными события-
ми на Олимпе связано так
же рождение Гермеса (там
же, III). Если это древнее
догреческое, возможно, мо
лоазиатское по происхож-
дению божество некогда бы
ло фетишем, грудой кам-
ней, каменным столбом
(герма), которыми отмеча-
лись места погребения, гра-
ницы владения, ворота до-
ма, охранительные знаки на
дорогах, то олимпийская
мифология знает другого
Гермеса. Это сын Зевса и
Ирида и младенец Гермес Майи, одной из дочерей Ат-
ланта, внучки титана Напе-
та. Он родился в Аркадии. Матерью его была обитавшая в тенистой пещере
горная нимфа — ореада, которую Зевс посещал по ночам, когда мирно
спала «белолокотная» Гера.
Гермес-младенец возрос столь же быстро, как и другие божест-
венные дети Зевса. Он родился рано поутру, в полдень уже играл на
кифаре, а вечером выкрал у Аполлона коров.
Кифару он умудрился смастерить из панциря найденной им че-
репахи. Он попросту выпотрошил ножом черепаху, затем нарезал
тростниковые стебли, укрепил их на панцире, обтянул воловьей шк\-
рой, сделал перекладину, приладил из овечьих кишок семь струн и
тотчас же попробовал плектром струны, подпевая своей игре.
Первое, что сделал Гермес, — это воспел собственное рождение,
прославив Зевса и Майю, а также дом своей матери и счастливую
жизнь в нем. Вечером ему страшно захотелось мяса, и он украл стадо
Аполлоновых коров, уведя их хитростью (он вел их задом, а сам шел
босиком, тоже пятясь задом, выбросив сандалии в море).
Обильно вкусив жареного мяса от зарезанных двух коров, он
вернувшись домой, пробравшись сквозь замочную скважину, улегся в
колыбель, прижимая к себе лиру и беседуя с матерью о своих будущих
ловких проделках, мечтая взломать стену дельфийского храма и на-
воровать там золота.
Однако Гермесу приходится расстаться с лирой, которую он дарит
Аполлону в обмен на стадо, тем более что гневный бог грозит забросить
юркого Гермеса в туманный Тартар, откуда его не выведут ни отец,
ни мать. Примиренные Зевсом на Олимпе, сводные братья возлюбили
Незаконные браки Зевса и дети от них
103
друга. Гермес вручил Аполлону в придачу сделанную им свирель,
ДРзато получил в дар от Аполлона золотой жезл и искусство гадания
^Аполлод. Ш Ю, 2), скрепив дары клятвой водами Стикса.
*** Так от древнего фетишистского демона и примитивного обманщика
Геомес только за одни сутки после своего появления на свет достигает
1 сложения помощника на путях живых и мертвых (благодаря золотому
жезлу), а значит, покровителя героев (лира вручается Аполлону для
строителей Фив, Персею он вручает меч для убийства Медузы, Одис-
^10 _ волшебную траву, спасающую от колдовства и т. д.) и, следо-
вательно, посредника между богами и людьми, что было крайне не-
обходимо для классического Олимпа.
ПАН — ВНУК ИЛИ СЫН ЗЕВСА. Веселое смятение на Олимпе
было вызвано рождением внука Зевса, сына Гермеса и древесной
димфы. дочери Дриопа (Дубовидного), Пана (Гом. гимн. XIX). Это
божество с рудиментами хтонизма и миксантропизма (шерсть, козьи
рожки, копытца) в классической мифологии не только пугает своими
проделками встречных, но благосклонно к людям, охраняя стада и
увеличивая приплод.
Страшного, бородатого младенца, заросшего шерстью, в ужасе
отбросила мать, но Гермес, взяв его на руки и закутав шкурой горного
зайца, принес на Олимп. Боги весело смеялись, глядя на такое милое
чудище, назвали его, «всех» порадовавшего, Паном (греч. pan — все)
и приняли в свою семью. Положение Пана в Олимпийском кругу
богов оказалось настолько прочным, что по некоторым версиям он
является даже сыном Зевса и аркадской нимфы Каллисто или Зевса
и богини Гибрис — Дерзости, наставником Аполлона в прорицаниях
(Аполлод. I 4, 1).
РОЖДЕНИЕ ДИОНИСА, СЫНА ЗЕВСА И СМЕРТНОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ СЕМЕЛЫ. Другое божество, Дионис — воплощение плодонос-
ных сил земли — тоже хтонического происхождения, мощное ирраци-
ональной стихийностью и оргиазмом, оказывается в классической ми-
фологии сыном Зевса, являющимся в разных ипостасях.
То это древнейший Дионис Загрей (Великий охотник), связанный
с критской мифологией, сын Зевса-Змея и Персефоны, то это не менее
Древний Дионис Иакх, сын Зевса и Деметры, связанный с элевсинской
мифологией земли. Но на олимпийской ступени Дионис — сын Зевса
и смертной женщины Семелы, дочери фиванского царя Кадма.
Рождение его тоже необычно, как и всех детей Крониона, не
вМеющих отношения к Гере. Однако коварство Геры сказалось и здесь:
083 сделала Зевса невольным убийцей Семелы. Гера, приняв вид
^арой няньки, внушила Семеле мысль потребовать от Зевса его
°ивления перед возлюбленной во всей своей божественной мощи.
104
Греческая мифология. Классический период. Боги
Пан
Связанный клятвой, Зевс явился перед ожидавшей рождения ребенка
Семелой в громах и молниях.
Когда же громы и молнии испепелили Семелу и сожгли ее терем,
Дионис, рожденный до срока (ему было всего шесть месяцев), был
выхвачен Зевсом из пламени (Аполлон тоже выхватил из пламени
костра своего сына Асклепия), зашит им в бедро, доношен до необ-
ходимого срока и рожден уже самим отцом вторично (Гес. Теог
940—942; Еврип. Вакх. 1—9, 88—98, 266—297), подобно тому, как
была рождена Афина.
Зевс отдал сына через посредничество Гермеса на воспитание ним-
фам в дальние горы Нисы, и малыш рос в душистой пещере, увен-
чанный хмелем и лавром (Гом. гимн. XXVI).
Однако Диониса, избежавшего гибели чудесным путем, преследовал
гнев Геры, которая навела на него безумие, заставив его странствовать
по Востоку вплоть до Индии. Это буйный бог, наводящий, в свою
очередь, безумие на врагов, противников его культа (на своего родича
фиванского царя Пенфея, на фракийского царя Ликурга), мчащийся
Незаконные браки Зевса и дети от них
105
г
Рождение Диониса из бедра Зевса
Нимфа с младенцем Дионисом
и вакхантами, оборотень, вечно
как сама природа. То плющ и
в экстазе, окруженный вакханками
меняющий свой лик, изменчивый,
виноградная лоза, то бык и козел, лев и пантера, он сокрушает оковы
и стены, освобождает человека от привычной и скучно-размеренной
ЖИЗНИ (недаром он Лиэй — Освободитель).
Вобрав в себя оргиазм природы, Дионис дает возможность человеку,
ограниченному установлениями, традициями, законами, выразить кро-
®Щийся в каждом избыток сил, приобщиться к беспредельной боже-
ственной стихии, почувствовать неизмеримость свободы от любых уз,
ощутить собственную мощь. Но Дионис, как олимпийское божество,
ие препятствует возвращению своих адептов к мирной и деятельной
демонстрируя единство разрушения и созидания, гармонии,
безграничности и предела, свободное приобщение человека к тому и
* Другому. Дионис, который в своей древнейшей ипостаси был растерзан
Ранами и возрожден Афиной, этот полубог классических мифов, в
106
Греческая мифология Классический период Боги
Силен с младенцем Дионисом
Незаконные браки Зевса и дети от них
107
Дионис с сатирами и менадами
Дионис и силен
Дионис с девой и Эрот
КШце концов достигает высот Олимпа и бессмертия в награду за все
ООН страдания и даже претендует войти в число двенадцати великих
Олимпийских богов.
Рожденный вне Олимпа, Дионис особенно характерен именно для
МИмпийской мифологии, поскольку в его образе, уходящем в глубины
монизма, наличествуют замечательные тенденции всемерно растущего
рЧ>оизма, которому благодаря неимоверным испытаниям, страданиям
подвигам станет открыто соперничество с богами, пусть не всегда
ИИчное, пусть даже караемое бессмертными, но все-таки дерзко ут-
врждаемое смертными людьми.
В дальнейшем мы станем свидетелями того, как дети Зевса, столь
Удивительным образом пришедшие на свет, станут помощниками и
-“Ступниками героев, тоже родившихся необычным путем от брака
001108 и смертных и мечтающих о чуде бессмертного бытия.
108
Греческая мифология Классический период Боги
Силен и менада
Незаконные браки Зевса и дети от них
109
Итак, появление на свет детей Зевса — это не бессмысленное
преизбыточное плодородие старого хтонизма с его чудовищами, ды-
шащими убийством.
Наследники Зевса рождены для великих целей, они приходят в
жизнь, исполняя возвышенные замыслы отца, утверждая новые ра-
зумные отношения, борясь со всякой иррациональностью и очищая
землю от разрушительных сил, некогда порожденных Геей и ее по-
томками.
ПО
Греческая мифология. Классический период. Боги
Деметра и Персефона
БРАТЬЯ ЗЕВСА —
АИД И ПОСЕЙДОН
Как видим, семья Зевса
на Олимпе велика и разно-
родна, но она свидетельст-
вует о попытке классиче-
ской мифологии сделать
всех главнейших богов за-
висимыми от Зевса и по их
функциям и по их крови.
Однако у Зевса, как из-
вестно, есть два брата, По-
сейдон и Аид, разделяющие
с ним власть над миром.
Аид с Персефоной не име-
ют потомства, как и по-
ложено богам царства мер-
твых. Смерть никого не
порождает, но только бе-
рет, уносит, почему и бог
Аид именуется «гостепри-
имным», «богатым». «Щед-
рый», он наделяет всех лю-
дей смертью и с готовно-
стью принимает их в свое
царство.
Находясь среди мертвых
в мрачном и туманном под-
земном царстве, Аид даже
свою собственную супругу должен был похитить на земле. Он умчал
прекрасную Персефону, свою племянницу, дочь Зевса и Деметры, на
золотой колеснице в разверзшуюся землю.
Персефона, будучи дочерью плодоносной Деметры и став супругой
мрачного бога, осуществляет единство двух миров — жизни и смерти,
что подтверждается ее появлением на земле в обусловленное время.
Персефона и в царстве мертвых помнит землю, помогает героям,
приведенным по воле судьбы к вратам смерти, но зернышко граната,
которое дал ей насильно вкусить Аид, заставляет ее ежегодно возвра-
щаться к нему и не пытаться простирать свою власть за пределы мира
мертвых.
Итак, на историю Олимпа Аид и Персефона почти не оказывают
влияния.
Братья Зевса — Аид и Посейдон
111
Плутон
112 Греческая мифология. Классический период. Боги
Посейдон, «владыка вод», «колебатель земли», «земледержец» (если
судить по индоевропейскому корню его имени, еще и «супруг Земли»)
как именует его Гомер, с древнейших времен славится анархической
силой буйной морской стихии.
Однако в законном супружестве с Амфитритой, дочерью Нерея, у
него только один сын Тритон, божество морских глубин. Зато бесчис-
ленны дети от возлюбленных Посейдона, смертных женщин и богинь
Сыновья, так же как их отец, отличаются диким нравом и полным
беззаконием (великан Антей, чудовище Минотавр, братья-великаны
Алоады, людоед Полифем, разбойники Скирон и Керкион и многие
другие). Все подобные дети Посейдона гибнут от рук героев или терпят
тяжелое наказание. Поэтому потомство Посейдона не может рассчи-
тывать на право наследования и на власть в олимпийском мире. Лишь
один из сыновей Посейдона — афинский царь Тесей — достоин вели-
ких подвигов, но и его крайне своеобразная биография имеет неизг-
ладимые черты божественного отца. Однако судьбе Тесея, как и других
героев, у нас отведено особое место.
Итак, выясняется, что подлинная власть на Олимпе и на земле
принадлежит только Зевсу и его потомкам. Олимпийский Зевс по
праву носит имя отца богов и людей.
ДВЕНАДЦАТЬ ОЛИМПИЙСКИХ БОГОВ
И ИХ ОКРУЖЕНИЕ
Несмотря на то, что в классической мифологии устанавливается
традиционная картина мира Олимпийсих богов, с ней не все обстоит
так уж просто и безоговорочно. Здесь имеется множество архаических
рудиментов, все еще дающих о себе знать, целый ряд ферментов,
указывающих на тенденции, полное воплощение которых осуществится
позже, на исходе мифологического развития.
Принятое в изложениях мифологии представление о двенадцати
Олимпийских богах тоже соблюдается достаточно условно. Обычно же
в число двенадцати богов включается вполне устойчивая группа.
Зевс и Гера — верховные владыки Олимпа. Афина и Аполлон
славятся мудростью и конструктивно-художественной деятельностью.
Деметра — покровительница земледелия. Артемида — охотница. Аф-
родита — богиня любви и красоты. Арес — божество необузданной вой-
ны. Гефест — основатель кузнечного дела и ремесел. Гермес — по-
мощник в предприятиях человека (торговле, скотоводстве, искусстве,
путешествиях). Гестия — хранительница домашнего очага. Дионис —
божество виноградарства и вообще плодородия.
Однако Посейдон с гораздо большим основанием, чем Дионис,
претендует на включение его в число двенадцати богов, хотя он
Двенадцать Олимпийских богов и их окружение
ИЗ
Храм Посейдона на мысе Сунион
8 Зак 3903
j j4 Греческая мифология. Классический период. Боги
владыка вод и обитает в морской глубине, а не на Олимпе. Диониса
же, как сына Зевса и смертной женщины, попавшего на Олимп после
своего обожествления, следовало бы исключить из этого числа.
Аид хотя и царь мертвых, но он родной брат Зевса и принадлежит
вместе с ним к третьему поколению богов. Значит, Аид тоже имеет
основание быть в числе двенадцати Олимпийцев.
Таким образом, на двенадцатое место существует три претендента
и говорить о незыблемости данной канонической картины очень трудно.
Зевс, как было сказано выше, роздал богам, своим союзникам,
каждому определенные владения и упорядочил тем самым управление
миром. Некоторые боги старшего поколения сохранили и при Зевсе
уважение и почет. Земля — Гея и Небо — Уран находятся не у дел,
но тем не менее зорко следят за событиями, происходящими в олим-
пийском мире и, как мы знаем, подают и будут еще подавать Зевсу
полезные советы.
Титан Океан, божество одноименной реки, тоже оказался среди
самых почитаемых, так как в титаномахии не выступил против Зевса.
Вместе со своей супругой Тефией он наслаждается мирной жизнью
на краю света. Океан благодаря доброму нраву слывет хорошим по-
средником в трудных делах. Когда Зевс пытается узнать у прикованного
Прометея хранимую им тайну, то именно Океан уговаривает Прометея
пойти на мировую с Зевсом и получить от него прощение. Океану
трудно понять непримиримость Прометея, и он, жалея сына Иапета,
все-таки уверен, что действовать, преступая меру, нельзя. Он сам,
отступив от братьев-титанов, сумел соблюсти меру жизненных отно-
шений, так что в олимпийском мире жребий его вполне беспечален.
Титаниды, сестры свергнутых титанов — мать Зевса Рея и его законная
супруга Фемида, а также не вполне законные Мнемосина и дочь
Океана Евринома — каждая получили свою почетную долю. Фемида
правит справедливый суд, Мнемосина — живая связь памяти прошлого
и настоящего — создает преемственность в развитии мира. Рее доста-
точно сознавать себя матерью Зевса. Что касается океаниды Евриномы,
то она (по одной версии), вытесненная вместе со своим бывшим
супругом Офионом с Олимпа Реей и Кроносом, теперь рождает Зевсу
прекрасных детей и вполне умиротворена, восстановив через Зевса и
дочерей свою связь с Олимпом.
В почете и морской старец Нерей, вытеснивший в новой жизни
своего отца Понта — божественное Море. Нерей и Океан породнились,
так что пятьдесят нереид, дочери Нерея и Дориды, оказались внучками
мудрого Океана по своей матери океаниде.
Три тысячи океанид — дочерей Океана и Тефии — и три тысячи
потоков — сыновей Океана — вместе с нереидами целиком сохранили
свое положение в мире классической мифологии, отличаясь от своей
былой стихийной архаики благодетельным характером и получая ан-
тропоморфные, иной раз очень выразительные, черты.
Архаические боги помогают Зевсу укрепить власть
115
Среди внучек Океана не только крылатые Гарпии, которым суждено
погибнуть от рук героев, но и прекрасная Ирида — Радуга, вихреногая
богиня, ставшая на Олимпе вестницей богов. Дети титанов Тейи и
Гипериона — Гелиос, Селена и Эос — Заря — исправно светят на небе
Олимпийцев, равно необходимые богам и людям. Они помогли Зевсу
в подготовке гигантомахии, на время лишив мир своего света, и Зевс
подтвердил их уделы.
Даже Кербер, медногласый пес с пятьюдесятью головами, порож-
дение Тифона и Ехидны, несет охранительные функции у ворот
Аида.
Нашли свое место в царстве, упорядоченном Зевсом, Сторукие,
стерегущие в Тартаре титанов, и Киклопы, кующие Зевсу громы и
молнии.
АРХАИЧЕСКИЕ БОГИ ПОМОГАЮТ ЗЕВСУ
УКРЕПИТЬ ВЛАСТЬ
На примере некоторых мифологических персонажей особенно за-
метно, как Зевс стремится приумножить свою власть с помощью былых
архаических сил.
СТИКС. Стикс — страшное божество одноименной реки в царстве
мертвых, океанида, дочь Океана и Тефии, причем одна из старших
дочерей. Существует и другая версия ее происхождения, не менее
почтенная: от Никс — Ночи и Эреба — Мрака. Само имя ее означает
«ненавистная».
От брака с Паллантом, сыном титана Крия, Стикс родила приме-
чательных детей — Зависть (или, иначе, Рвение), Нику (Победу),
Власть и Силу.
В разгар титаномахии Стикс поспешила стать на сторону Зевса, прий-
дя ему на помощь вместе со своими детьми. А так как Зевс обещал своим
союзникам сохранить их былой почет и владения, то после победы Зевса
Стикс оказалась в числе самых почитаемых. Ее дети навсегда остались
на Олимпе рядом с Зевсом — вот почему он постоянно наделен мощью,
власть его неизбывна, а победа всегда ему сопутствует.
В награду богине Зевс заставил Олимпийцев испытывать их вер-
ность страшной клятвой холодными водами подземной реки Стикс.
Ирида — вестница богов приносит для этого воду из подземного потока,
и клятвы приносятся над золотой чашей с этой зловещей водой. Если
бог нарушает клятву, он падает бездыханным и пребывает в таком
виде год, не вкушая ни нектара, ни амбросии, а затем девять лет
Чребывает вдали от Олимпа, не участвуя в пирах богов, и лишь на
Десятый год возвращается в круг Олимпийцев. Верность Зевсу самой
116
Греческая мифология. Классический период. Боги
богини, испытанная в титаномахии, — залог божественной верности
вообще. Поэтому клятва именем Стикс самая страшная и надежная
(Гес. Теог. 775—806).
Союз Зевса и мрачной подземной богини, которая внушает yxat.
даже бессмертным, стал возможен только на путях всемерного укреп
ления власти Зевса. Кронид использует в полной мере устрашающее
воздействие архаической богини на всех, кто от него зависит. Стике
наряду с другими хтоническими чудовищами предоставила свою мощь
в услужение Зевсу и тем самым сохранила свое место в олимпийском
мире.
ГЕКАТА. Геката — дочь Перса и Астерии, внучка титанов Фебы
и Коя. Это богиня мрака, ночных видений и чародейства, с помощью
которого возможно вызывать мертвецов. Однако она особенно дорога
Зевсу. И не только потому, что это племянница любимой им Лето и
двоюродная сестра Аполлона и Артемиды. Кровные связи не имеют
значения ни для Зевса, ни для других богов, если дело касается власти
Дело в том, что Геката оказалась верной союзницей Зевса и всей ею
семьи в борьбе с гигантами. Геката убила собственноручно гиганта
Клития и честно сражалась с чудовищными сыновьями Геи.
В награду за верность богиня получила после воцарения Зевса
власть над судьбою земли и моря. Сохранив архаические функция
(она вызывает призраки умерших, охотится ночью со сворой собак
среди могил и мертвецов, помогает в изготовлении зелий и вообще
колдовству), Геката вместе с тем вошла в число богов — помощников
людям в их повседневных трудах. Она способствует охоте, пастушеству,
разведению коней, даже общественным занятиям человека (суд, на-
родные собрания, состязание в спорах), покровительствует юношеству
(там же, 411—452).
Геката в мире Олимпийских богов имеет двойственный образ
(недаром ее изображают двуликой и даже трехликой): она земная —
Хтония и небесная — Урания. Она богиня мрака и ночного сияния,
лунная богиня, близкая Селене. Она, как и Артемида, охотница, но
только ночная. В ней есть черты, близкие Деметре — жизненной
силе земли и Персефоне — богине подземного царства. Ведь именно
Геката помогает Деметре разыскивать ее дочь Персефону, похищен-
ную Аидом.
В классической мифологии это доолимпийское божество связует
два мира — живой и мертвый. Зевс, всемерно одарив Гекату, заставил
архаический демонизм служить героям, которые с помощью этого
последнего одерживают победу над темными силами, хотя и не без
ущерба для собственного героического сознания.
Заговор против Зевса и решающая роль Фетиды в спасении Зевса
117
ЗАГОВОР ПРОТИВ ЗЕВСА И РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ
ФЕТИДЫ В СПАСЕНИИ ЗЕВСА
Как видим, устроение Олимпа оказалось делом достаточно сложным
и трудным. Надо было не только победить и наказать соперников, но
я ублажить прежних богов, своих союзников, и следить за родичами,
тоже мечтающими о власти.
Зевсу пришлось пережить серьезное испытание, когда против него
назрел заговор, в котором, по Гомеру, участвовали Гера, Посейдон и
Афина Паллада (Ил. I 397—400). По схолиям к этому месту «Илиады»,
участниками заговора считаются Посейдон, Аполлон и Гера, что более
вероятно. Независимо от имен участников заговора известно, что Гера
и Посейдон всегда домогались власти, Афина и Аполлон настолько
могучие боги, что вполне способны сами владеть Олимпом. Известно
также, что в Троянской войне Гера, Афина и Посейдон объединились,
действуя вопреки воле Зевса и стремясь помочь ахейцам, осаждающим
Трою (там же, XIV).
Заговорщикам, однако, как бы неожиданно помешала скромная
богиня Фетида, дочь Нерея, морского старца, и океаниды Дориды,
всего лишь одна из пятидесяти сестер-нереид.
Фетида не внушает ужаса, как Стикс или Геката, она, наоборот,
мила лицом, но роль ее в мифологии героизма не менее значительна,
чем у этих страшных богинь.
На руку Фетиды в свое время претендовали Зевс и Посейдон. Судя по
всему, Фетида была неравнодушна к Зевсу и выбрала его, но оба ее жениха
отказались от прелестной нереиды, так как их смутило некое предсказа-
ние. Как всегда, оно исходило от Геи, носящей много имен, в том числе
имя Фемиды, и, по одной из версий, матери Прометея. Именно Гея —
Фемида передала своему сыну тайну брака Зевса, которой можно было
воспользоваться в борьбе против этого последнего. Заключалась она в том,
что тот, кто возьмет в жены Фетиду, будет иметь сына, более могущест-
венного, чем он сам, и готового лишить власти своего отца.
Прометей в конце концов открыл эту тайну Зевсу в обмен на
освобождение от страданий. Зевс же в свою очередь отказался от
Фетиды.
Но Фетида, несмотря на то, что ее отвергли, продолжала сохранять
свою приязнь к Зевсу. Именно она в ответ на призыв Зевса о помощи
повелела одному из Сторуких явиться немедленно на Олимп. Это был
Бриарей — Эгеон. Он торжественно уселся рядом с Зевсом, сознавая свою
непомерную мощь, а боги-заговорщики пришли в ужас и отказались от
намерения заковать Зевса, лишив его власти (там же, I 396—406).
Так Фетида с помощью Бриарея не только спасла Зевса и устрашила
весь Олимп, но и продемонстрировала свои собственные возможности,
какую-то свою удивительную власть над чудовищными Сторукими.
118
Греческая мифология Классический период Боги
Асклепий
Заговор против Зевса и решающая роль Фетиды в спасении Зевса Л/9
Если же вдуматься в мифологию Фетиды, то выясняется, что она
оезвычайно сложна и есть не что иное, как история стихийного архаи-
ческого божества давних времен, чья судьба претерпела много унижений
в героический век, сохранив, однако, память о былом могуществе.
Даже в облике этой нереиды есть несомненные рудименты архаики.
Гудя по тому, что Гомер именует Фетиду «среброногой», что-то напоми-
нает в ней миксантропическое существо с хвостом, покрытым серебристой
чешуей. Но в гомеровской поэзии тело ее серебрится от морских брызг,
просвечиваемых солнцем. Фетида выходит из моря то ли-как легкое
облако, то ли она туман, что поднимается с моря. Как все морские боже-
ства, она самый настоящий оборотень (ср., например, Протея в гомеров-
ской «Одиссее»), изменчивая, как сама морская стихия.
Фетида унижена, так как ее выдали за смертного человека, царя
Пелея, несмотря на все ее хитрости, несмотря на умение превращаться
в огонь, воду, птицу, тигра, льва, змея, не даваясь в руки мужа.
Фетида унижена тем, что сын ее, хотя он и великий герой Ахилл,
смертен. Будучи еще и колдуньей, Фетида пытается изменить чело-
веческое естество сына с помрщью огня. Но колдовство ей не удается,
шестеро ее детей гибнут, а Пелей едва сумел спасти Ахилла, выхватив
его из рук матери (Аполлод. III 13, 4—6).
К этому можно добавить еще немаловажную деталь. Фетида —
племянница океаниды Евриномы, возлюбленной Зевса. Евринома же —
бывшая супруга Офиона, по всей видимости хтонического змея (на
это указывает его имя), с которым она некогда царствовала на снежных
склонах Олимпа, пока их не вытеснили оттуда Кронос и Рея (Аполл.
Род. I 503—506).
Таким образом, дочь Нерея сама принадлежит к миру архаических
богов, она им ровня и родня, она своя и среди Сторуких, которые
готовы ей повиноваться. Зато в новом мире олимпийской мифологии
прерогативы ее утеряны. Став супругой Пелея (хотя она покинула
его и живет у отца), она заняла место скромного и незаметного
божества. Фетида находится на обочине олимпийского великолепия.
Сама обиженная нынешними богами, она, сидя в гроте на дне
моря вместе с Евриномой, помогает тем, кого тоже обидели. Именно
Фетида приняла к себе младенца Гефеста, который родился хромоногим
Уродцем и которого мать Гера с презрением вышвырнула с Олимпа.
Гефест воспитывался девять долгих лет у Фетиды (Гом. гимн. II
ИО—142) и Евриномы. Сын Зевса и Семелы Дионис бросился в море,
преследуемый царем Ликургом. Там его спасла и приютила Фетида
<Ил. VI 135—136).
Она не появляется открыто на Олимпе и пробирается туда тайно
от Геры (хотя от Геры ничто не скроется), одевшись туманом, чтобы
просить Зевса о милости для своего сына. И как ни боится Зевс гнева
1еРы, но волю Фетиды выполняет (там же, I 496—527).
120
Греческая мифология. Классический период. Боги
Перед нами еще один пример того, как боги прежних времен
уживаются в классической мифологии и, как будто не обладая реальной
властью, все-таки совершенно необходимы здесь и даже помогают
Зевсу в критические моменты, памятуя о своем былом могуществе
РАСПРИ МЕЖДУ ЗЕВСОМ И АПОЛЛОНОМ
На заговоре против Зевса попытки противостоять его власти не
прекратились.
Характерна в этом плане знаменитая история распрей между Зевсом
и Аполлоном.
Первая из них является следствием участия Аполлона в заговоре
на Олимпе. Разгневанный Зевс жестоко наказал Аполлона и Посей-
дона, заставив их в унизительном рабском виде служить троянскому
царю Лаомедонту. Аполлон пас царские стада на склонах Иды (здесь
сказалась его древняя функция покровителя стад), а Посейдон один
или с помощью все того же Аполлона возводил мощные троянские
стены (для Посейдона строительство не характерно и может служить
только наказанием).
Боги работали целый год за условленную плату. Но когда пришел
срок платежа, Лаомедонт плату удержал и выгнал богов, угрожая
связать их по рукам и ногам да еще обрезать уши, как это делали
жалким рабам. Боги, претерпевшие невиданную несправедливость,
ушли без вознаграждения (Ил. XXI 441—457). За это Аполлон наслал
на город чуму, а Посейдон — морское чудовище, на съедение которому
отдали царевну Гесиону, дочь Лаомедонта, затем спасенную Гераклом
(Аполлод. II 5, 9). Однако распри с Зевсом на этом не кончились.
Аполлон от Корониды, дочери Флегия — царя племени лапифов
(а может быть, и нимфы), имел сына Асклепия. Мать, уличенную в
измене, Аполлон убил, но из чрева Корониды, сжигаемой на погре-
бальном костре, успел спасти сына (Гигин 202) и отдал его на вос-
питание кентавру Хирону (Овид. Мет. II 534—632), где Асклепий
усовершенствовал полученный от отца дар врачебного искусства, ко-
торое привело юношу к мысли воскрешать людей.
Зевс увидел в такой дерзости Асклепия, во-первых, чрезмерную
помощью людям (а мы знаем, что один из принципов царства Зевса
именно мера), во-вторых, полное нарушение извечной гармонии жиз-
ни и смерти и, главное, в-третьих, покушение на основную преро-
гативу богов — бессмертие, распознав здесь, несомненно, попусти-
тельство Аполлона, тоже знаменитого своим целительным искусством.
В гневе Зевс поразил Асклепия молнией, которую выковали ему
Киклопы.
Распри между Зевсом и Аполлоном
121
Но Аполлон решил отомстить за сына и отважился на поединок с
Зевсом. Он выступил как бог-стреловержец, бог-губитель. Своими стре-
лами он перебил Киклопов — ковачей Зевсова оружия. В ответ Зевс ре-
шил ввергнуть Аполлона в Тартар, но тронутый просьбами его матери,
богини Лето, отослал Аполлона уже вторично и снова в человеческом виде
идти в услужение к царю Адмету в Феру (Фессалия, на севере Греции),
гае Аполлон ровно год пас царские стада, приумножив их, так как коровы
приносили постоянно двойню (Аполлод. III 10, 4).
Находясь у Адмета, Аполлон помог Гераклу побороть Смерть и
спасти от нее жену царя, самоотверженную Алкесту.
В баснях Эзопа (106 Hausrath) 1 есть еще один любопытный факт —
о соперничестве Аполлона и Зевса в стрельбе из лука. Оказалось, что
когда Аполлон натянул лук и пустил стрелу, то Зевс в это же время
прошел то самое расстояние, на которое стрелял Аполлон. Этот сюжет
имеет нравоучение: достойны смеха те, которые состязаются с силь-
нейшими (ср. у Гесиода в поэме «Труды и дни» 210: «Разума тот не
имеет, кто меряться хочет с сильнейшими»).
Все эти посягательства Аполлона на непререкаемую власть Зевса
указывают на ранние формы мифологии классического периода, на
неустойчивость олимпийской семьи, в которую к этому времени вошли
боги, по происхождению своему совсем негреческие (Аполлон, Гефест,
Афродита имеют малоазийские корни, Арес, видимо, фракиец) или
догреческие (Прометей, Посейдон, Афина, Гера), сохраняющие остатки
своей самостоятельности и в распрях с Зевсом. Но возможно, что в
случае с Аполлоном здесь фигурируют также позднеолимпийские от-
ношения, когда сын постепенно перенимает все отцовские функции,
намереваясь его в конце концов вытеснить.
Следует вспомнить при этом ряд пророчеств Геи о наступлении
конца Зевсова могущества. Да и вообще регулярная смена поколений
богов неизбежна, иначе остановится мифологическая история, отра-
жающая реальные социально-исторические сдвиги родового общества.
Кроме того, небезынтересен мотив служения людям как наказания
божества за тяжкий проступок. Такой мотив в мифологии Аполлона,
несомненно, связан с идеей периодического ухода и возвращения
божества, с временным оставлением божественных функций и их
обретением. Для бога вообще, и Аполлона в частности, рабское слу-
жение человеку равносильно уходу бога света в мрачное небытие,
приобщению к смерти. Но так как боги бессмертны, то подобная
смерть обязательно чревата возрождением, напоминая о всеобщей
текучести, о постоянных изменениях в самой природе, о ее увядании
и Цветении, как это видно по мифу о насильственном пребывании
1 Corpus Fabularum Aesopicarum, ed. A. Hausrath, H. Hunger, vol. I., fasc. 1—2,
^Pzig, 1959—1970. В изд. M. Л. Гаспарова басня 104.
122
Греческая мифология. Классический период. Боги
Персефоны в царстве смерти и о периодическом ее возврате на землю
к матери Деметре.
Перед нами исконное в древнем мифологическом сознании чере-
дование жизни и смерти, света и мрака, дня и ночи, ухода и возвра-
щения, т. е. целостная картина природного бытия, на которое опира-
ется и из которого вырастает человек родовой общины.
СОПЕРНИЧЕСТВО ПОСЕЙДОНА С АФИНОЙ
И ДРУГИМИ БОГАМИ
Не менее интересны споры Посейдона с Афиной Палладой и дру-
гими богами, поскольку они свидетельствуют о стремлении древнего
морского божества утвердить себя вопреки разумным замыслам Олим-
пийцев.
Посейдон вступает в спор с Афиной из-за владычества над Аттикой,
причем орудием его является традиционный трезубец, самый настоя-
щий фетиш, наделенный живой магической силой.
Посейдон претендует на власть в Афинах и, одаряя жителей Аттики,
выбивает трезубцем из скалы источник соленой воды, но никак не
пресной, столь необходимой в засушливой стране.
Тогда Афина одаряет жителей этой земли плодоносной маслиной. Но
Посейдон не унимается и спорит на суде с Афиной, требуя справедливости.
Решение выносят афинские цари Кекропс и Кранай (по другой версии,
сами Олимпийские боги) в пользу Афины, взрастившей на скалах акро-
поля маслину, кормилицу народа Аттики (Аполлод. III 14, 1).
Стать основателем и покровителем поселений и городов, как это
характерно для Афины, Аполлона, Зевса, Посейдону никак не удается.
Древняя стихийная мощь Посейдона разрушительна, а не созидательна,
поэтому он тщетно вступает в соперничество с богами, помогающими
планомерному устроению жизни. Из Афин и Трезен Посейдона вы-
теснила Афина, из Дельф — Аполлон, из Аргоса — Гера, из Коринфа —
Гелиос, с острова Эгины — Зевс, с острова Наксоса — Дионис. Един-
ственное владение, где царили дети и потомки Посейдона — остров
Атлантида, да и тех за нечестие, пороки и небывалую роскошь,
вызвавшую падение нравов, покарал Зевс, уничтожив эту страну
(Платон. «Критий»). Посейдон постоянно вступает в распри и споры
со всеми богами, проявляя свое самовластие и каждый раз пуская в
ход знаменитый трезубец. Начало гомеровской «Одиссеи» (I 68—79)
дает полное представление о презрении Посейдона к законам, уста-
новленным на Олимпе, а V песнь той же «Одиссеи» рисует вырази-
тельную картину Посейдонова буйства на море, когда он насылает
ураганный ветер на плот Одиссея, разбивает его в щепы, будоражит
Сила судьбы и мудрость земли
123
-езубцем море, тучи и ветры (V 291—319), мстя за ослепление
лдиссеем своего сына, людоеда Полифема.
Он насылает не только морские бури, но и землетрясения (на
острове Фера есть храм, посвященный Посейдону Асфалию, дарующему
безопасность при землетрясениях); наводнения, как было в Аргосе
. аМ храм Посейдону — причине наводнений) после соперничества с
Герой и в Аттике после спора с Афиной, когда он затопил Элевсин;
бесплодие земли, как это было в Трезене (там есть храм Посейдона
фитальмия — пропитавшего растения солью) после распри с той же
Афиной, когда он затопил землю морской водой и лишил ее плодородия.
Посейдон все время стремится главенствовать на Олимпе, хотя
получил по жребию свой удел — море. Но древнее хтоническое про-
шлое Посейдона столь сильно, что он никак не может найти себе
позитивного места в мифологии героизма. Посейдону, этому постоян-
ному спорщику и носителю раздоров, ничего не остается, как насылать
на людей бедствия и устрашать их грозными проявлениями стихий
воды и земли. Власть на Олимпе для него исключена навсегда.
СИЛА СУДЬБЫ И МУДРОСТЬ ЗЕМЛИ
А есть ли какая-нибудь сила, которой подчинен сам Зевс и которая
направляет его действия, или он поистине управляет Олимпом по
собственному усмотрению?
Этот вопрос решается вполне конкретно в зависимости от разных
ступеней героической мифологии, более ранних или более поздних.
Одно несомненно — наряду с Зевсом и всеми другими богами су-
ществует еще одна мощная сила, которую именуют судьбой.
Древнейшее понимание судьбы связано с представлением о неве-
домом, неожиданном, не имеющем названия демоническом проявлении.
Как и положено демонической силе, она не имеет не только имени,
но даже образа, налетая на человека внезапно и неся ему внезапную
гибель. Однако в мифологии героизма этот древнейший демонизм
находится в рудиментарном состоянии, что хорошо видно на гомеров-
ских поэмах, где иной раз умирающий герой винит наряду со своими
Убийцами свою судьбу, которая его «сковала» или «окутала» (Ил. XVI
849; IV 517; XII 116) своей волей, причем судьба рядом со смертью
может коварно подстерегать героя (там же, XVI 853; XXI НО), убивая
его из засады.
Гораздо более развита в олимпийской мифологии персонификация
еудьбы, которую обычно именуют Мойрой — участью (греч. moira —
часть, доля), что присуща человеку от рождения. Мы уже говорили,
*го здесь сказался древний обычай родового коллектива наделять
каждого определенной долей добычи, трапезы, жертвы, чтобы все
члены рода оказались причастными общему, связующему всех делу.
124
Греческая мифология Классический период Боги
Харон, готовящийся перевезти умерших
Отсюда — первоначальное воплощение участи человека в фетише, фи-
зическом предмете, наделенном живой силой.
Нами упоминался миф о Мелеагре, участь которого была заключена
в головешке и жизнь которого завершается со сгоранием ее на костре
В классической мифологии такое явление, несомненно, является
рудиментом, так как здесь участь существует независимо от материи
в которой она когда-то заключалась, и получает божественный стати
наряду с антропоморфным образом, правда, неясным, смутным, до
конца неведомым и загадочным.
Это та самая Мойра или Мойры, число которых твердо не уста
новлено и колеблется от одной до трех. Мойры — дочери Ночи, затем
усердные пряхи: Лахесис — Дающая жребий, Клото — Прядущая нить
жизни, Атропос — Неотвратимо настигающая человека. Так, судьбу
героя может выпрясть мощная Мойра (там же, XXIV 209; Од VII
197). Но не только люди, сами боги зависят от этих мрачных, сосре-
доточенно работающих над пряжей сестер. Боги выполняют веления
Сила судьбы и мудрость земли
125
суЯъ6ы, не решая ничего са-
ми. Поэтому великий Зевс в
критическую минуту достает
золотые весы и взвешивает
на них жребии троянцев и
ахейцев или жребии Ахилла
и Гектора, ибо Зевс ограни-
чен в своих собственных ре-
шениях (Ил. VIII 69—74;
ХХП 209—214). Боги могут
приблизить гибель героя или
его спасение, только зная,
что это уже установлено
судьбой (гибель Гектора, Ил.
XV 612—614; возвращение
Одиссея, Од. V 41 сл.; спа-
сение Энея, Ил. XX 332—
338).
Но вот оказывается, что
воля судьбы как бы сливается
с решениями богов, отожде-
ствляется с ними, и тогда
Зевс именуется Морием, т. е.
дарующим предназначенную
участь. Теперь сами боги
прядут участь человека, о
чем не раз упоминается, на-
пример, у Гомера (Ил. XXIV
525; Од. I 17). И Зевс достает
уже не золотые весы судьбы,
а свои собственные, направ-
ляемые им по своей воле (Ил.
XVI 658).
Зевс классического
Олимпа и мифологии героиз-
ма настолько велик, что три
Мойры, как мы знаем, ста-
новятся его дочерьми от бо-
гини Фемиды, а он сам по
®Раву возглавляет шествие
Мойр, именуясь их Водите-
лем, Мойрагетом. В храме
евса Олимпийского в Афи-
по сообщению известно-
писателя Павсания, над
Танатос и Гермес с умершей (возможно,
с Ифигенией или Алкестой)
Гипнос
126
Греческая мифология. Классический период. Боги
головой статуи Зевса находилось изображение Мойр, чтобы всем было
видно, как «предопределение и судьба повинуются одному только
Зевсу» (Паве. I 40, 4). Более того, в поэмах Гомера фиксируется и
такой позднеклассический мотив в словесной формуле: «мойра боже-
ства», т. е. судьба, исходящая от божества, а также «айса Зевса», т. е
судьба, исходящая от Зевса (айса — одно из наименований судьбы,
дарующей всем равную часть).
Зевс Олимпийский, несомненно, великая сила. Он достигает такого
положения, когда сам становится отцом судьбы и ее владыкой. Однако
сила эта не обладает устойчивостью даже в самые блаженные для
Зевса времена. Еще до рождения Зевса существуют такие могущест-
венные владыки, такое знание глубин теогонического процесса, такое
прозрение будущего, что мощь Зевса то и дело направляется в необ-
ходимую и ему и его участи сторону кем-то извне или, скорее, из
глубин мироздания. А это и есть мудрость матери-Земли.
Земля еще до рождения Зевса предопределила появление на свет
нового поколения богов, ограничив безмерную плодовитость Урана.
Она направила титанов на преступление против их отца и тем самым
создала прецедент для обязательной, совершенно необходимой в ми-
фологической истории борьбы детей против собственных отцов. Мать-
Земля, произведя на свет чудовищных титанов и Тифона, укрепляла
и выковывала мощь Зевса, будущего владыки Олимпа. Сначала она
помогла ему спастись от прожорливого Кроноса. Позже она содейст-
вовала ему в борьбе с титанами. По ее мудрому прозрению Зевс
избежал рождения сына, более мощного, чем он сам, дважды — от
Метиды и от Фетиды. Земля давала Зевсу советы сама или через
посредничество Прометея.
Наступят времена, когда в мире будут жить и действовать герои.
И тогда снова станет Зевс внимать советам Земли, являясь исполни-
телем ее воли. Земля и судьба как бы сольются вместе, а Зевс не без
их участия возьмет в супруги богиню мести Немесиду и станет орудием
мести Земли всему роду героев, против которого он ополчался не раз,
но которому, наконец, суждено будет истребить самого себя по воле
все той же матери-Земли. Но это предмет особого повествования.
Вид от вершины Олимпа и до глубин Тартара
127
ВИД ОТ ВЕРШИНЫ ОЛИМПА
И ДО ГЛУБИН ТАРТАРА
Итак, Зевс обитает на Олимпе, на той самой горе или, вернее,
том горном хребте, что протянулся вдоль границ Фессалии и Маке-
донии. Еще в древности Олимп поражал воображение греков своей
высотой (около 3 тыс. м, а именно 2985 м) и величественностью. Его
вершина, покрытая вечными снегами и прячущаяся в облаках, как
бы смыкается с небом, почему и кажется, что Олимп и небо — одно
и то же- Эта мощная горная гряда соседствует на востоке с не менее
знаменитыми горами — Оссой (1950 м) и Пелионом (1650 м), которые
некогда мечтали взгромоздить на Олимп братья Алоады, чтобы завла-
деть небом. И если на Олимпе обитали высшие боги, то Осса была
родиной архаических кентавров, а Пелион, славный лугами и целеб-
ными травами, был приютом кентавра Хирона — искусного врачева-
теля и воспитателя героев. Неподалеку находится также знаменитая
Офрийская гора, откуда в свое время выступили титаны, сражаясь с
Олимпийскими богами. Рядом, к востоку от Олимпа, протянулась
Пиерийская гряда, где нашли себе одно из пристанищ (другое было
в центре Греции, в Беотии, на горе Геликон) Музы, так и называвшиеся
Пиерийскими.
Между Олимпом и Оссой простирается Темпейская долина или,
скорее, ущелье, по которому течет Пеней, омывающий крутые склоны
Олимпа. Но другой берег Пенея, граничащий с Оссой, плодороден,
богат дубами, лаврами и платанами. Именно туда, в долину Темпе,
явился Аполлон для очищения после убийства чудовищного змея Пи-
фона. Там, на берегу Пенея, был воздвигнут некогда жертвенник и
храм сыну Лето.
Склоны Олимпа прорезаны ущельями (он «многоущельный»), за-
росшими темными еловыми лесами. Вздымаются его скалистые отроги
(Олимп «многовершинный»), пропасти, скрытые густым кустарником,
преграждают путь. Повсюду громоздятся валуны и камни, те самые,
которые когда-то метали в Олимпийцев титаны. У подножия Олимпа
из-под корней бьют родники и начинаются едва заметные тропинки.
Но вершина Олимпа крепко-накрепко замкнута воротами, которые
стерегут богини времен года Оры, открывающие и закрывающие их
по приказу старших богов.
Туда, на Олимп, скрытая туманом, тайно пробирается богиня
Фетида, чтобы просить Зевса о милости для своего сына Ахилла (Ил.
£’95—497). Туда, на Олимп, богатый пропастями, Фемида по приказу
'1евса созывает богов (там же, XX 4—15). Приходят нимфы рощ,
лУг°в, источников, все реки, кроме Океана, и даже сам Посейдон. Он
*®®ет в своем уделе, в морских просторах и в золотом дворце в Эгах,
4,0 вблизи от острова Эвбея (Од. V 381). Ему достаточно сделать три
128
Греческая мифология. Классический период. Боги
Зевс из восточных провинций
Римской империи
шага из горной Фракии (j
на четвертом — он уже д0.
ма, в Эгах (Ил. XIII 12—
22). Однако Посейдон
всегда появляется в черю-
гах Зевса, предпочитая пи-
ровать в стране эфиопов,
обитающих на краю света
Аид — владыка мерт-
вых навсегда скрыт в своих
ужасных владениях, и
Олимп ему чужд. В глуби-
нах царства мертвых стра-
шен Мрак — Эреб, текут
печальные реки — Кокит,
Ахеронт, Стикс, Пирифле-
гетон. В бездне у границ
Тартара расположены жи-
лища сумрачной Ночи,
одетые черным туманом
Там же находятся дома сы-
новей Ночи — Сна и Смер-
ти, на которых никогда не
взирает Гелиос. Дворцы
Аида и Перссфоны много-
звонкие и гулкие, там пах-
нет плесенью и затхло-
стью. Пес Кербер ласково
встречает прибывающих
мертвецов, но никого не выпускает обратно на землю. Тени умерших
блуждают по асфоделевым лугам, благие души пребывают в Элизиуме:
каждого ждет суд праведных судей Миноса, Радаманта и Эака и
беспощадные наказания тем, кто провинился на земле.
Рядом с дворцом Аида и Персефоны дом ужасной богини Стикс
дочери Океана. Над домом нависли скалы, вокруг — колонны из се-
ребра. Из-под скалы струится среди ночи холодная, как лед, вода,
которую черпает золотой кружкой богиня-вестница Ирида, чтобы уне-
сти на Олимп для возлияний и клятв (Гес. Теог. 775—806).
Но если на земле сражаются боги, то шум от их битвы доносится
в подземные глубины, и в страхе дрожит Аид, вскакивая со своего
трона.
Олимп всегда представляется светлым и уходящим в светоносные
эфирные выси. День и Ночь мерно чередуются на Олимпе и на земле,
так что ночная тьма всегда на пороге света. На краю земли, там. где
Атлант держит на голове, поддерживая руками, широкое небо, встре-
Вид от вершины Олимпа и до глубин Тартара
129
чаются День и Ночь, сестры Гемера и Никс. Они переступают высокий
медный порог своего жилища и, перебросившись словом, расходятся
в разные стороны. Одна — наружу, чтобы обойти землю, другая —
внутрь, чтобы далее ожидать прихода сестры и затем самой пуститься
в дорогу (там же, 746—754).
Дневной свет начинается с восходом Зари — Эос. Богиня в шаф-
ранном одеянии простирает над миром свои персты, подобные лепе-
сткам розы.
Ночной свет излучает Луна — Селена, сестра Зари. Пышнокудрая,
русоволосая Селена, облаченная в блестящие одежды, поднимается из
глубин Океана, омыв прекрасное тело. Лучезарные гривастые кони
мчат ее по небу, и воздух озаряется светом ее золотого венца (Гом.
гимн. XXXII). Яркие звезды, рожденные Зарей от Астрея — Звездного,
целыми сонмами венчают ночное небо.
В разгар дня царит Гелиос, брат Зари и Луны. Он правит золотой
колесницей. Из-под золотого шлема сияют страшные огненные глаза.
Весь он светится в блеске лучей, на плечи спадают ярко блестящие
кудри (там же, XXXI). Гелиос озирает сверху землю и море, ибо он
Панопт — Всевидящий (Эсх. Пром. 91), поэтому ему ведомы все дела
людей и богов. Днем Гелиос мчится по небу на огненной четверке
коней под золотым ярмом, а ночью в золотой чаше переплывает море
к месту своего восхода.
И хотя в воздушных просторах ближе к земле носятся ветры:
северный — Борей, восточный — Эвр, южный — Нот, западный — Зе-
фир (матерью Борея, Нота и Зефира считается Эос, но у Гомера все
ветры вообще — дети Эола, сына Гиппота с острова Эолии), — на
Олимпе царит вечный покой.
Там, в этой обители богов, не веют ветры, не льют дожди (их
посылает Зевс на землю), не идет снег (хотя у того же Гомера Олимп
«многоснежный»). Небо там безоблачно и светится ясным сиянием,
подтверждая этим блаженное и беспечальное бытие богов (Од. VI
41-46).
НАРУЖНОСТЬ И ХАРАКТЕР
ОЛИМПИЙСКИХ БОГОВ
Олимпийские боги видом, явленным миру, напоминают прекрасных
горделивых людей, однако в их жилах течет особая бесцветная кровь,
ихор, и, в отличие от людей, они бессмертны. Подлинного лика
божества никто из людей, как правило, не знает, потому что выдержать
его мощь и красоту человек не в силах. Вот почему боги являются
иа землю, то принимая облик людей, то давая знать о своем присут-
ствии с помощью вещих снов, вещих птиц, таинственных примет и
знаков, которые истолковывают гадатели. Умение понимать чудесные
9Зак 3903
130
Греческая мифология. Классический период Боги
знаменья, гадать и пророчествовать пришло к первым людям от Про-
метея (Эсх. Пром. 484—499), а затем было приумножено ими под
покровительством Аполлона.
Несмотря на всю загадочность божественного существования, ми-
фологическая традиция на все лады расписывает и достоверно под-
тверждает наружность и характер каждого бога.
Зевс — сильнейший и мудрейший из богов. Он может низринуть
любого ослушника в Тартар. С ним неразлучно пребывают Мощь
Сила и Победа — Ника. Ему куют Киклопы в небесной кузнице громы
и молнии, и недаром он — тучегонитель, высокогремягций, метатель
молний, громовержец. Он Эгиох — Обладатель щита — эгиды, в сере-
дине которой голова Горгоны, наводящая ужас и леденящая сердце
(Ил. V 736—742). Стоит ему потрясти эгидой, как все окутывается
облаками, сверкают молнии, гремит гром. Одним посылается победа,
другим — бегство (там же, XVII 593—596). Зевс неразлучен с эгидой
и уступает ее только любимой дочери — Афине (там же, V 733—742).
Зевс готов один удержать золотую цепь, спускающуюся с неба, и
пересилить богов и богинь, даже если все они схватятся за нее. Он
грозит Олимпийцам повлечь море, землю и богов вместе с этой цепью,
обмотать ее вокруг вершины Олимпа и подвесить весь мир среди
небесных просторов (там же, VIII 13—27).
Грекам хорошо известны величавость Зевса и грозный взгляд его
светлых глаз (там же, XIV 236).
Стоит ему войти во дворец, как боги немедленно встают ему
навстречу. Изрекая свою волю, Кронион, как говорили в старину,
помавает иссиня-черными бровями и подтверждает ее кивком головы.
В этот момент Олимп колеблется от подножия до вершины, а «не-
тленные кудри» рассыпаются волнами по плечам владыки богов.
Однако, несмотря на всю грозность Зевса, с ним спорят и даже
обманывают его. Гера непрестанно строит ему козни. И не раз эту
златокудрую богиню охватывает злоба (там же, XIV 158) или она
«коварствует сердцем» (там же, 329). Именно ее, белорукую, или,
как некогда переводил Гнедич, «лилейнораменную», нещадно наказы-
вает Зевс, подвесив между небом и землей. Но и волоокая Гера, желая
помочь ахейцам, хитростью очаровывает Зевса, усыпляя его в своих
объятиях.
Сын Зевса и Геры Гефест хром на обе ноги (его дважды сбросили
с Олимпа — и мать и отец), уродлив и мал ростом, но бесконечно
умен, сметлив и обладает двумя важными способностями: создавать
прекрасные вещи искусным трудом и примирять родителей, водворяя
спокойствие на Олимпе. Когда Гера, заподозрив неладное в тайном
приходе Фетиды, пытается негодовать на Зевса, а тот уже готов
наложить на нее свои необорные руки, встает Гефест. Он подает кубок
с нектаром матери и призывает ее смириться, дабы не увидеть ее
вновь под ударами мощного супруга.
Наружность и характер Олимпийских богов
131
Посейдон
132
Греческая мифология Классический период Боги
Это благодаря Гефесту Зевс завершает смутный день, предавший
покою и сладостному сну в опочивальне со златотронной Герой (там
же, I 551—611).
Проявляет своеволие и брат Зевса, владыка водных просторов
Посейдон синекудр, как его родная морская стихия, и, как она
буен нравом.
С неизменным трезубцем в руке он мчится на золотой колесниц,
вместе с Амфитритой, взбаламучивая море, и никто не знает то
это вздымаются белые гребни волн, то ли это мчатся гривастые кони
колебателя земли. Он всегда идет наперекор другим, но занятии
своими пиршественными удовольствиями (например, в стране эфио
пов), может не поспеть на совет богов, где тотчас же противники
воспользуются его отсутствием, и может упустить объект своего гнева
Вспомним, что именно так он прозевал решение олимпийцев о
возврате Одиссея домой (Од. I 22—80). Только на восемнадцатый день
спокойного плавания Одиссея Посейдон, возвращаясь от эфиопов,
увидел на море плот своего врага и обрушил на него трехдневнхю
морскую бурю (там же, V 286—296). Одиссей опережает тяжелого на
подъем Посейдона, вовремя проскользнув к берегам Итаки Посейдон
хоть и поздно, но срывает гнев на несчастных корабельщиках Мощномс
богу достаточно шагнуть, и он уже нагнал феакийскии корабль, ударил
по нему ладонью, вбил в морское дно, превратил в скалу, запер ею
доступ к городу. «И после того удалился», — как замечает Гомер (гам
же, XIII 116—164).
Афина — любимица Зевса, мудрая воительница с жуткими сови
ными глазами. Афина носит грозный боевой наряд своего отца Сняв
мягкий узорный пеплос, она надевает Зевсов хитон, плечи облекли
эгидой, на которой изображены Ужас, Распря, Погоня, на голове
водружает шлем с двумя гребнями и четырьмя султанами, вооружается
громадным копьем и выезжает на огромной, крепкой, тяжелой, блс
стящей колеснице (Ил. V 734—747). Она кричит так, что голос с.
доходит до неба. Ей достаточно шагнуть, чтобы с острова феаюв
достичь Марафона и дворца Эрехфея в Афинах (Од. VII 78—81)
Одним дыханием она отводит копье Гектора от Ахилла. Приняв образ
Деифоба, Гекторова брата, богиня коварно обещает Гектору помощь
побуждает к битве, а затем, обманув, покидает его, обреченного на
смерть (Ил. XXII 226—299).
Зато она же помогает Диомеду сразиться с богом Аресом. Встав
на колесницу, богиня хватает бич и вожжи, погоняя лошадей, дубовая
ось тяжко стонет под грузным ее телом. Она увлекает Диомеда в бои
и направляет его копье в Ареса (там же, V 835—857)
Афина — и боец, и умная советчица друзьям. Она преданно по
могает героям, опекает Одиссея и неистощима на выдумки.
Не менее могуч и Аполлон, сын русокудрой Лето и брат Артемиды
«радующейся стрелами».
Наружность и характер Олимпийских богов
133
Афина
134
Греческая мифология Классический период Боги
Афродита Капуанская
Аполлон высок ростом
многомощен, поступь его
тяжела, в гневе он шест-
вует ночи подобный (там
же, I 47). Взгляд Летоида
грозен, и стоит ему только
пройтись по дому Зевса,
как трепещут все боги, от
страха повскакавши со сво-
их мест (вспомним, что так
же страшатся они Зевса)
За плечами бога серебря-
ный лук, колчан со стре-
лами, несущими смерть
Радующаяся в сердце своем
Лето с любовью смотрит на
сына, снимает с его плеч
колчан, вешает на золотой
колок близ Зевсова трона,
распускает лук, а отец сам
подает Аполлону нектар в
золотой чаше. Сын усажи-
вается в кресло; только тог-
да успокаиваются боги и
вновь занимают свои места
(Гом. гимн I 1—13). Что
же говорить о людях, ко-
торые бессильны перед
Аполлоном, даже если они
великие герои.
Устрашенный Диомед отступает перед богом, ибо тот грозно на-
поминает ему, что смертные не равняются с богами. Патрокла же
бог, закутавшись в мрачное облако, мгновенно сражает замертво ко-
варным ударом в спину (Ил. XVI 790—792).
И этот же Феб — Аполлон, как это хорошо знали греки, наслаж-
дается сам игрой на форминге и услаждает ею слух богов. Музы в
его присутствии поют еще более прекрасными голосами, и он вторит
им радостно.
Богиня Афродита неизменно именуется «золотой», «фиалковен-
чанной», «прекрасновенчанной» и «улыбколюбивой». Хотя она не ус-
тупает другим богам в коварстве, зато превосходит их всех очарова-
нием.
Вечно устраивая любовные дела богов и людей, она владеет пест-
роузорным поясом, в котором заключены любовь, желания и оболь-
стительные речи (там же, XIV 215—220). Богиня сохраняет милый
Наружность и характер Олимпийских босое
135
Артемида
136
Греческая мифология Классический период Боги
нрав даже в самые непри-
ятные минуты, например,
когда она застигнута му-
жем и другими богами на
любовном свидании с Аре
сом. Кокетство не поки-
дает Афродиту и тогда,
когда, раненная Диоме-
дом, она плачет, уткнув-
шись в колени своей ми-
лой матери Дионы По
истине, как говорит Гера,
богиня Афродита покоря-
ет богов и людей силой
любви и влекущей преле-
стью.
Зато золотокудрый
Арес, которого она со-
блазнила, имеет, по сло-
вам Зевса, дух своей ма-
тери Геры — необуздан-
ный и строптивый.
Раненный героем Ди-
омедом, он дико ревет,
так, как кричат девять
или десять тысяч воинов
(там же, V 859—860). Ра
ненный богиней Афинои
он простерся, упав на зем-
лю, на семь плетров1
(там же, XXI 407).
Вечно спешит выпол-
нять поручения богов
улыбчивый, ловкий Гер-
мес, сын Зевса и Майи
Он в шапочке с крыльями,
в крылатых золотых сан-
далиях, которые несут его
над землей и морем. В ру-
ке — жезл-кадуцей, от-
1 Плетр равен 0,095 гектара, или 950 кв. м. Таким образом, Арес покрыт
собой поверхность в 6650 кв. м.
Наружность и характер Олимпийских богов
137
Ника или Ирида
крывающий ему все пути и все затворы на земле и в мире мертвых
(Од. V 43—49).
В быстроте с Гермесом может поспорить только Ирида — Радуга,
«вихреногая» вестница богов.
Солнце — Гелиос своим зорким глазом за всем наблюдает, все
видит и раскрывает богам тайные деяния. Именно Гелиос сообщил
Гефесту об измене Афродиты (там же, VIII 302). Это он, Гелиос, дал
знать Деметре, что дочь ее Персефону похитил Аид (Гом. гимн. V
/8—80). И Зевс, опасаясь Гелиоса, покрывает себя и Геру на цветущей
г°Ре золотым облаком (Ил. XIV 344—345).
Деметра обычно предстает перед нами как мать, горюющая по
исчезнувшей дочери. И недаром она одета в иссиня-черный плащ,
Разыскивая по миру свою Персефону с тонкими лодыжками. Деметра
138
Греческая мифология Классический период Боги
высока ростом, статная
пышноволосая, в венке из
колосьев, взоры ее светятся
благоволеньем и достоин-
ством, как и положено бо-
гине — кормилице людей.
Аид суров, мрачен и
чернокудр. Он — облада-
тель шлема, делающего бо-
га невидимым. Иным он и
не может быть, так как
скрыт от мира жизни, вос-
седая на троне рядом с
Персефоной в своем гул-
козвонком дворце.
У женоподобного Дио-
ниса иссиня-черные волосы
и темно-синие глаза. Он
привык менять свой облик
в бесконечных превраще-
ниях (см. Гом. гимн. VII),
так что подлинный лик его
не всегда уловим. Но оба
они улыбаются не хуже
Афродиты. Аид «улыбнулся
бровями», отпуская на вре-
Дионис мя Персефону (там же, V
357), ибо он уже дал ей
вкусить зернышко граната, чтобы помнила царство мертвых и верну-
лась в медный дом мужа. Дионис в свою очередь «улыбался глазами»
(там же, VII 15), задумав ловко провести морских разбойников и
заранее радуясь своей хитрости.
Греки знали своих богов не только грозными и ужасными, но еще
и радостными, веселыми, улыбающимися и просто хохочущими, ско-
рыми на гнев и на милость, на расправу и на помощь, на великие
дела и на забавные проделки.
ЖИЗНЬ БОГОВ НА ОЛИМПЕ
КРАСОТА БОЖЕСТВЕННОГО БЫТИЯ. Жизнь на Олимпе ис-
полнена великолепия и торжественной пышности, как и подобает
небожителям.
Искусный Гефест возвел каждому из богов прекрасное жилище,
но самый великолепный золотой дворец с гладким блестящим порти-
Жизнь богов на Олимпе
139
м медным порогом и прекрасной опочивальней — у Зевса. В чер-
К га'х Гефеста, сияющих медью, звездных, нетленных, есть мастерская,
трудится божественный кузнец, а в покоях — искусно сработанные
^песла, обитые серебряными гвоздями, и удобные скамеечки для ног.
______обладательница укромной спальни, надежные двери которой
с потайным замком, тоже работы Гефеста. Там богиня облачается в
ддраям. умащается притираниями, там хранятся ее драгоценности и
платья.
Афродита обитает то в доме своего супруга Гефеста, то на Кипре
в Пафосе, где у нее алтарь, священная роща и уютные покои с ванной
ддя омовения.
Собрания и пиршества объединяют всех богов во дворце Зевса,
1де бы они ни обитали.
Так, еще с восходом зари Зевс собирает богов на высочайшей
вершине многоглавого Олимпа и обращается к ним с речью, требуя
повиновения в предстоящем сражении ахейцев и троянцев. Боги в
изумлении перед угрозами Зевса хранят молчание (Ил. VIII 1—29).
Задумав потешиться битвой между самими небожителями, Зевс по-
сылает Фемиду созвать на Олимп бессмертных обитателей земли, моря
и рек (там же, XX 1—14). Когда решается судьба Одиссея, боги тоже
собираются в чертогах Кронида на совет (Од. I 26—28).
Однако чаще всего во дворце Зевса происходят пиршества. Беспе-
чальная жизнь бессмертных, если только они не бродят по земле,
вмешиваясь в человеческие дела, и не предаются своим обязанностям,
посвящена радостному провождению времени — пирам, хороводам, му-
зыке, пению.
В покоях Зевса боги восседают на золотых тронах за золотым
столом. Там мальчик Ганимед виночерпий; правда, боги пьют не вино,
а нектар. Там юная Геба подает на стол пищу, дающую бессмертие, —
амбросию, ибо боги не вкушают хлеба. Хромоногий Гефест обносит
сотрапезников полными чашами, а они, потешаясь над его ужимками,
пьют из золотых кубков и хохочут, как это свидетельствует всезна-
ющий Гомер, «неугасимым смехом» (Ил. I 599).
Боги любят, чтобы их угощали. С особенным удовольствием от-
правляются они с Олимпа на край света, к водам Океана, где обитают
♦беспорочные эфиопы» (там же, I 423), устроители пиршественного
веселья. Так, Зевс и все Олимпийцы отправились на одиннадцать
Айей пировать к эфиопам и вернулись оттуда с зарей двенадцатого
Двя (там же, I 493—495). Именно в этот момент богиня Фетида
взошла с ранним туманом на Олимп, чтобы просить Зевса о милости.
Посейдон настолько любит наслаждаться пиршествами, что часто один
путешествует в страну эфиопов, населявших оба края земли, там, где
входит и заходит небесное светило. Мало того, что Посейдон пирует
он еще охотно принимает жертвы, целые гекатомбы быков и
“Дранов (Од. I 22—26). И вот в то время, когда колебатель земли
140
Греческая мифология Классический период Боги
пребывал у эфиопов и не явился на совет богов, Одиссею было
позволено вернуться домой из многолетних странствий. Пировал По-
сейдон ни много ни мало, а целых семнадцать дней, больше, чем все
боги, взятые вместе.
Покидает Олимп и Аполлон, чтобы отправиться в страну, «лежа
щую за северным ветром Бореем», к счастливым гиперборейцам. Апол-
лон летит туда на колеснице, запряженной лебедями, и возвращаемся
в свой священный город Дельфы только летом (Гимерий. Речи XIV
10). Там, у гиперборейцев, бог наслаждается песнями, хороводами,
музыкой, пирами. Иные полагают, что Аполлон посещает эту бла-
женную страну раз в девятнадцать лет (Пиндар. Пиф. II 47) и тем
самым приносит особое счастье и так уже счастливым людям, которые
настолько пресыщены наслаждениями, что, испытав их все, по соб-
ственной воле бросаются в море.
Особая радость наступает на Олимпе, когда Аполлон в благоуха-
ющих одеждах, играя на блистающей лире, быстрее мысли переносится
из Дельф на Олимп и появляется в палатах Зевса. Каждый из богов
жаждет песен и лиры. Музы начинают петь, сменяя друг други,
полухориями.
Другие дочери Зевса, пышноволосые Хариты, веселые Оры, Аф-
родита, Геба, а также дочь Афродиты и Ареса Гармония, взявшись
за руки, начинают хоровод. С ними вместе становится в круг великая
ростом Артемида, тут же веселятся могучий Арес и Гермес, славный
своей зоркостью. Аполлон играет на кифаре, шагая в такт песне. Его
окружает сиянье, развеваются пышные одежды, мелькают быстрые
ноги. Всемудрый Зевс и златокудрая Лето радуются, глядя на милого
сына (Гом. гимн. II 4—28).
Веселые хороводы устраиваются также в доме самого Аполлона,
в дельфийской округе. Артемида, натешившись охотой, приходит к
брату, вешает лук и колчан, надевает украшения и приглашает в
хоровод Муз и Харит. Танцуя, бессмертные поют сладкими голосами,
прославляя богиню Лето, родившую таких славных детей, как Аполлон
и Артемида (там же, XXVII 11—20).
Любят водить хороводы также и нимфы. Горные нимфы — ореады,
нимфы дубрав и священных рощ пляшут вместе с богами (там же. X
257—261). Ореады пляшут вместе с Паном вблизи темноводных род-
ников, а сам козлоногий бог то играет на свирели и приплясывает,
то выступает в хороводе на мягком цветущем лугу (там же, XIX
15—17).
Океаниды играют на цветочных лугах (там же, V 6, 417). а М>зы
ведут хоровод на священной горе Геликон, вблизи источника с фи-
алково-темной водой и жертвенником Зевса, распевая чудесные песни
и прославляя племя бессмертных богов (Гес. Теог. 1—21).
Жизнь богов на Олимпе
141
Дионисии — сатиры и менады
Состязание Аполлона и Марсия, слева — Афина
142
Греческая мифология. Классический период. Боги
КРАСОТА БОЖЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ. Земля с ее красками
и цветами, птицами и солнцем благосклонна утехам богов, и от
присутствия божества хорошеет природа.
Море, по словам древнего поэта, улыбается (Гом. гимн. V 14)
играет и лучится под солнцем, одевается туманной дымкой, ластится
к девам-нереидам. Оно цвета искрящегося или густого вина, перели-
вается синевой и перламутром, волнуется пурпуром, темное в час
заката, как фиалка, сверкает серебристыми брызгами, белеет пеной;
оно зеленовато-голубое на дальних просторах, черное в безднах. Ис-
точники и родники, бьющие из глубин земли, бархатисто-темные,
фиалковые. А рядом танцуют Музы.
Струятся светло-текучие воды Кефиса, и на берегу в раздумье
Аполлон ищет место для храма. Он поднимается на каменисто-суровую
гору Кинф, а внизу на влажно-густых лугах и в тенистых рощах
ведут пляску нимфы.
На скале сидит Дионис в пурпурном плаще, иссиня-черные кудри
падают на его плечи, а по «винно-черному» (там же, VII 2—8) морю
плывут тирренские корабельщики.
Козлоногий Пан забирается на снежные вершины, прыгает со скалы
на скалу через пропасти, бродит по тропинкам кремнистых утесов,
пробирается сквозь частый кустарник, где нежно журчит поток, скло-
нился над темноводным родником.
Теплым весенним вечером звучит свирель Пана, призывно тоскуя,
и звонкоголосые горные нимфы сбегаются слушать песни влюбленного
бога.
На весенних лугах пестреют цветы — крокусы, гиацинты, ирисы,
фиалки, нарциссы, лилии, розы. Девы-океаниды с нежными именами:
Мелита — Пчелка, Хрисеида — Златовидная, Родопа — Розоволикая,
Родейя — Розовая, Ианфа — Фиалка, Электра — Прозрачно-блистаю-
щая (Янтарная) — и сама «цветоликая» Персефона вместе с Афиной,
Артемидой и Уранией — Небесной (там же, V 5—10, 418—428) играют
на лугах, собирая приветливые цветы, и зачарованно смотрят на чудо
с сотней цветочных благоухающих головок, которым Аид задумал
прельстить Персефону. Этот благовонный цветок источает такой аро-
мат, что невольно улыбаются широкое небо, земля и соленое море
(там же, 11—14).
Там, где ступила нога божества, всегда прекрасно.
А каким покоем веет от обители нимфы Калипсо, которая в числе
подруг Персефоны тоже забавлялась на цветочном лугу! Калипсо —
дочь титана Атланта и племянница Прометея. Она владычица таин-
ственного острова там, где самый пуп моря и где своими чарами,
наподобие древних могущественных богинь, она семь лет скрывает
Одиссея.
Нимфа живет в просторной пещере на берегу фиалково-темного
моря. Вокруг — густой лес: черный тополь, ольха, кипарис, где гнез-
Жизнь богов на Олимпе
143
Гефест и Фетида с доспехами Ахилла
Дятся птицы — совы, копчики, морские вороны. Возле пещеры — лозы
винограда, светлая вода четырех источников бежит на четыре стороны
света, на лужайках — фиалки и сельдерей (он любим греками, как и
укроп, за свой аромат, почему их вплетали в пиршественные венки).
Красота острова поражает даже бога Гермеса. Он стоит охваченный
изумлением, вдыхая аромат от брошенного в очаг кедра и благовоний,
которыми напоен воздух (Од. V 55—75).
Миру олимпийской мифологии чужд ужас, внушаемый тайнами
земли и моря, гор и лесов. Природа смотрит на бога и человека
пРИветливо и мягко, очаровывая души бессмертных и смертных. Бури
и грозы посылаются Зевсом, но им же насылаются светлые, солнечные
Я8и, которые становятся особенно дороги после дождя и снега, тоже
евсовых и тоже необходимых для полной гармонии бытия, где ночь
144
Греческая мифология Классический период Боги
сменяется днем, лунный свет — солнечным, сон — бодрствованием, d
жизнь непременно борется со смертью.
У первых людей не оставалось счастливой надежды, спрятанное
в сосуде Пандоры, олимпийский же универсум живет надеждой
благо. И хотя в глубинах Тартара затаились титаны, но к «чудовищам
прежних времен», по словам Эсхила (Пром. 151), возврата нет
КРАСОТА ИСКУССТВА И ТРУДА. Олимпийские боги, проиия
через все испытания в борьбе с хтоническими врагами, а среди них
были их собственные отцы, предаются мирному устроению Олимпа н
земли. Они не только пируют, поют, внимая музыке Аполлона ()
водят хороводы (греки не мыслят совместной жизни без дружеского
общения за столом и искусства), но твердо выполняют возложенные
на них Зевсом обязанности.
Каждое божество занято своим уделом, но всех объединяет одно —
наслаждение в труде, который можно прямо назвать вдохновенным
искусством.
Древние греки, как известно, вообще не разделяли искусство и
ремесло. Оба они, расчлененные в Новое время, тысячелетия назаа
были едины, именуясь тоже одним словом — «техне». Каждая вещь
вышедшая из рук ремесленника, была не только полезна, но и пре-
красна, а создатель ее был истинным Мастером. Так было в жизни
так было в мифе. На классическом Олимпе, так же как и на земле
классических героев, все преданы благородным ремеслам-искусствам
Главное место здесь занимает мудрый бог Гефест, внешний с роз
ливый вид которого вполне искупается высокой художественной ода-
ренностью божественного мастера.
Еще ребенком, сброшенный с Олимпа Герой за свою хромоту, он
попадает к Фетиде и Евриноме. И там, на дне Океана, сидя в глубокой
пещере, он девять лет мастерит прекрасные украшения для нереид и
океанид. Вокруг бежит бесконечный шумный Океан, играя пеной, а
прилежный Гефест в тишине и одиночестве (о нем никто ни из богов
ни из людей не проведал) изготавливает пряжки, застежки, витые
запястья, ожерелья (Ил. XVIII 400—405).
А теперь, уже в славе на Олимпе, он работает в своей удивительной
мастерской, где горит горн, дышат шумно меха, шипит раскаленное
железо и слышны удары молота.
Он изготовил двадцать треножников на золотых колесиках, чтобы
они сами катились в собранье богов и сами бы возвращались домой
Для удобства треножники имели ручки, чтобы на них было приятно
сидеть. Гефест, увидев пришедшую к нему Фетиду (она просит
Гефеста выковать для сына оружие), отодвигает в сторону от горнило
меха, прячет инструменты в серебряный ящик, вытирает губкой
запотевшие щеки, руки, грудь н шею, облачается в хитон и, опираясь
на палку, идет к двери. Его поддерживают чудо-служанки, сделанные
Жизнь богов на Олимпе
145
Деметра, Триптолем и Персефона
'Зак 3903
146
Греческая мифология. Классический период Боги
им из золота, обладающие разумом и голосом, да еще умеющие
работать.
Приступая к изготовлению оружия для Ахилла, он приказывает
двадцати мехам дышать, раздувая огонь. Бросает в горнило медь и
олово, золото и серебро, берет в правую руку молот, в левую клещи
и бьет по наковальне.
Первым он выковал щит с тройным ярким ободом и в пять слоев,
а сзади прикрепил серебряный ремень. Этот щит, описанный Гомером,
поражал воображение слушателей, занимая со всеми подробностями
сто тридцать стихов. Коротко говоря, Гефест представил на щите весь
космос с землей, небом, морем, солнцем, месяцем, созвездиями.
Но здесь же картины из жизни людей, где представлена мирная
и военная жизнь городов, свадьбы, пляски, судилище, осада, угон
стад, сражение, гибель воинов. Здесь же — труд землепашцев, жатва,
обед на поле, виноградник с тяжкими гроздьями, сбор спелых плодов,
пенье и танец под формингу. Здесь же — стада коров и пастухи,
отбивающие их от нападения львов; стада овец, загоны и хлевы;
хороводы юношей и дев в легких хитонах и платьях, в прекрасных
венках и певец в хороводном кругу, поющий под формингу, да еще
два скомороха. Самый же край щита окружает великий Океан (там
же, XVIII 478—608).
Гефест выковал Ахиллу также панцирь ярче пламени, прекрасный
шлем с золотым гребнем и поножи из гибкого олова (там же, XVIII
609-613).
Все самое прекрасное на Олимпе является работой Гефеста — дома,
колесницы, утварь, украшения.
Великолепное описание кузницы Гефеста можно найти в «Энеиде»
Вергилия (VIII 370—453). И там Гефест не только кует громы и
молнии Зевса вместе со своими подручными Киклопами, но создает
роскошные доспехи Энею по просьбе его матери Венеры (греческой
Афродиты). Не забудем, что украшение Пандоры, соблазнительницы
людей, тоже произведение рук Гефеста. Его выдумке принадлежат и
четыре источника вблизи дворца сына Солнца, царя Ээта, в Колхиде —
источники молока, масла, воды и вина, текущие из-под виноградной
лозы (Аполл. Род. III 219—229).
Роскошное ожерелье преподнесли богини покровительнице роже-
ниц, Илифии, чтобы она облегчила роды Лето. Это ожерелье в девять
локтей длиной было из золота и янтарных зерен (Гом. гимн. I 102—
104). Когда родилась Афродита, то Оры в золотых диадемах увенчали
ей голову золотым венцом, в уши вдели серьги из золотомеди, шею
обвили золотым ожерельем (там же, VI 5—13). На свидание с Анхисом
Афродита пришла в лучезарном пеплосе, на шее золотые ожерелья
светились, как месяц, на руках витые, жаркие, как пламя, запястья
(там же, IV 85—90).
Жизнь богов на Олимпе
147
В пещере нимфы Майи,
в кладовых, вместе с запа-
сами нектара и амбросии
хранятся золото, серебро,
серебряно-белые и пурпур-
ные платья (там же, III
247-251).
Гера в своей тайной опо-
чивальне умащает тело пре-
красными ароматами, наде-
вает пестроузорное платье,
которое ей выткала богиня
Афина, золотые застежки,
пояс с сотней висящих кис-
тей, серьги с тремя глазка-
ми, наподобие тутовой яго-
ды, набрасывает блестящее,
как солнце, покрывало,
только что сотканное, на-
девает красивые сандалии
(Ил. XIV 169—188).
Нимфа Калипсо тка-
чиха не хуже Афины и
Геры. В серебряном длин-
ном платье с золотым поя-
сом она обходит ткацкий
станок, держа в руках золо-
той челнок (Од. V 61—62,
230—232).
Коварная волшебница
Кирка, дочь Гелиоса, на
Эрот и Психея
своем острове, что окружен
морем, как венком, тоже работает за ткацким станком, выделывая тон-
кую, мягкую ткань, и при этом распевает звонким голосом (там же, X
220—223). Она усаживает Одиссея на прекрасное кресло, обитое сереб-
ряными гвоздиками, со скамеечкой для ног, наливает в золотой кубок
питье. На серебряных столах у нее стоят золотые корзины для снеди, вино
в серебряном кратере, золотые кубки. В доме ванна из блестящей меди,
Ще она омывает Одиссея. Для умывания — золотой кувшин и серебряный
таз (там же, X 348—370).
Афина надевает на себя Зевсову эгиду, сняв мягкий пестроузорный."
пеплос, вытканный ею самой (Ил. V 733—735).
Зевс облекается в золотые одежды, выезжает на дивно сработанной
Колеснице, берет в руки золотой бич и несется, паря между землей
и звездным небом (там же, VIII 41—46).
148
Греческая мифология. Классический период. Боги
На колеснице Геры медные колеса из восьми спиц с железной
осью, ободы колес — из золота и меди, ступицы из серебра. На конях
золотые сбруи и впряжены они в золотое ярмо. Так, вся сияющая
золотом, выезжает супруга Зевса с Олимпа в раскрытые Орами не-
бесные ворота (там же, V 720—732).
Как видим, на Олимпе и на земле великие и малые боги окружены
ласковой прекрасной природой, сияньем, которое исходит от солнца,
золота, серебра и меди. Все, к чему прикасаются их руки, на что
обращен их ум и уменье, красиво, искусно и поистине, как говорит
Гомер, божественно. Перед нами созидательная, животворная красота,
радующая дух, вселяющая силу и в бога и в человека.
СТРАДАНИЯ НЕ ЧУЖДЫ БОГАМ. Жизнь на Олимпе в зените
Зевсовой славы ничем как будто не омрачается. Враги Олимпийцев
повергнуты, среди небожителей царит мир.
Однако гармоничность бытия богов осуществляется только при
условии их приобщения ко всему миру, окружающему Олимп, — и к
земле и к царству мертвых, — причем это приобщение оказывается
иногда драматическим, ибо, как мы знаем, боги переживают страдания,
мучаются от боли и любви, но они же хохочут неугасимым смехом
за пиршественными столами, знаменуя неистощимую полноту бла-
женства. Драматическим событием явилось похищение Персефоны,
дочери Зевса и Деметры, богом Аидом (Гом. гимн. V).
Произошло оно не без участия Зевса, и, видимо, было им задумано
с очень важной целью — укрепить единство Олимпа и Аида, внести
в природу упорядоченную смену бытия и небытия, ибо вечность до-
стойна только богов, а мир, ими созданный, основывается на текучем
и преходящем, изменчивом чередовании света и мрака, жизни и
смерти.
И вот Персефону, мирно игравшую на мягком лугу вместе с
подругами-океанидами, что собирали весенние цветы — ирисы и гиа-
цинты, фиалки и крокусы, — умчал Айдоней, появившись из развер-
стой земли на золотой колеснице. Вопли Персефоны слышали только
Геката в темной пещере (вспомним, что Геката отождествляется с
луной) и солнечный бог Гелиос. Земля, море, улыбавшиеся дотоле, и
благоухавшее от цветов небо теперь огласились плачем Персефоны.
Бездны моря и горные вершины тяжко ахнули, и этот вопль услышала
мать Деметра. Она разодрала в горести покрывало, сбросила сине-
черный плащ и устремилась по суше и морю на поиски дочери.
Деметра скиталась девять дней, освещая путь факелами, не вкушая
ни амбросии, ни нектара, не омываясь, и только на десятый день
встретила Гекату, которая, однако, не видела похитителя, но слышала
лишь плач Персефоны.
Обе богини отправились к Гелиосу, и тот по просьбе Деметры
поведал ей о том, как Аид увлек в туманный сумрак под землю ее
Жизнь богов на Олимпе
149
почь. Гелиос напрасно утешал Деметру тем, что похититель ее родной
боат, получивший по жребию великое царство смерти.
^ Горестная Деметра не вернулась на Олимп. Она стала скитаться
по земле и посетила Элевсин, где после ряда событий в царской семье,
виновницей которых была богиня, ей возвели прекрасный храм. Де-
метра продолжала горевать, пребывая в своем храме, и на землю
пришел голод, потрясший даже Зевса.
На приглашение Зевса прийти на Олимп, переданное через Ириду,
Деметра ответила отказом и запретила земле высылать людям плоды
до возвращения Персефоны.
Тогда Зевсом к Аиду был послан Гермес, и владыка мертвых
отпустил жену на Олимп, но дал вкусить зернышко граната «слаще
меда», чтобы его супруга вернулась назад и не помышляла остаться
с матерью.
Радостно обнялись мать и дочь, но, когда Персефона поведала о
зернышке граната, вечная жизнь на Олимпе оказалась для нее за-
претной- Отныне она могла одну треть года проводить у своего супруга,
а две трети — с матерью и. другими бессмертными, приходя к ним
вместе с весной и цветами.
Деметра по воле Зевса не только установила чередование времен
года (а различать их научил людей Прометей), но еще и обучила
элевсинцев во главе с Триптолемом и Келеем своим священным та-
инствам.
Так весна, изобилие и тепло стали чередоваться с ненастным
временем, всеобщим увяданием и отсутствием плодов земли.
Зато люди с особенной радостью ожидали благодатных дней, усер-
дно трудились, собирая урожай и заполняя на зиму кладовые.
Отныне две трети года вся природа расцветает, плодоносит, ликует,
одна треть посвящена Аиду. Плодородие земли не мыслится вне пред-
ставления о неизбежной смерти растительного мира, без которой также
немыслимо его возрождение во всей полноте жизненных сил.
Роковое гранатовое зернышко является здесь символом именно
бесконечной плодовитости, но владельцем граната является бог смерти.
Да и сама Деметра несет в себе рудименты хтонизма (она почитается
как Хтония — Земляная, Термасия — Жаркая, покровительница горя-
чих горных источников). Но она же научает людей правильному
земледелию, посеву и пахоте, оказываясь благодетельницей трудолю-
бивого земледельца.
СТРАСТИ НЕ ЧУЖДЫ БОГАМ. АФРОДИТА И АРЕС. Если
Драматическое событие с похищением Персефоны продемонстрировало
единение процессов жизни и смерти, то благодаря власти Афродиты
красота и любовь на Олимпе не только сами оказались преображен-
иыми, но сдерживают и преображают также древнее буйство стихий.
150
Греческая мифология Классический период. Боги
Афродита, обучающая Эрота стрелять
В этом смысле замечательна история брака Афродиты и Гефеста,
а также любовного увлечения Афродиты и Ареса.
Как говорилось выше, Олимпийские боги, покоренные прелестью
пеннорожденной богини, мечтали ввести ее в свой дом. Однако кра-
савица выбрала того, кто и не мечтал, — уродливого, хромого Гефеста.
Правда, Гефест сам наделен был красотой замыслов, по которым и
создавал прекрасные произведения искусства. Красота эта скрывалась
за внешним безобразием бога, и брак его с Афодитой, воплощением
идеи прекрасного, только способствовал укреплению и выявлению
мощного творящего начала Гефеста. Для классической мифологии этот
брак вполне понятен и необходим, объединяя художественную мудрость
и прекрасное само по себе.
Здесь гармонично сливаются внешние противоположные катего-
рии — безобразное и прекрасное. И то и другое нуждается друг в
Жизнь богов на Олимпе
151
nvre, ибо безобразие Гефеста таково только по видимости, а в сущ-
оно полно неизреченной внутренней красоты ума, которая без-
отчетно притягивает к себе Афродиту.
Однако Афродита пришла, чтобы уделять свои дары всему миру.
В ней нуждаются и мудрость, и искусство, и мощь, и буйство, и
подвиги, и героизм. Эта космическая и надкосмическая сила прони-
зывает любовью небо и землю. В Афродиту все влюбляются: и боги
и люди. Она сама любит и богов и людей.
Так, Афродита влюблена в троянского царя Анхиса (Гом. гимн.
IV) и приходит к нему на свидание в роскошных одеждах и украшениях
как великая владычица, одаривающая покорного ей прекрасного юно-
шу. Она очаровывает буйного Посейдона и дикого Ареса.
Ее безмятежная красота цветет среди роскоши, созданной для нее
Гефестом. Когда богиня перед серебряным зеркалом расчесывает зо-
лотым гребнем свои кудри, занимаясь полуденным туалетом, и при-
нимает гостей, Гефест уже с рассвета трудится в своей лемносской
кузнице среди пламени и копоти (Аполл. Род. III 36—51).
Чары древней мощной богини любви на классическом Олимпе
приобретают также особый характер наивно-игрового склада, давая
возможность гомеровской «Одиссее» живописать вероломное кокетство
Афродиты и влюбленность златокудрого Ареса (Од. VIII 266—366).
Афродита и Арес встречаются тайно, пользуясь постоянным от-
сутствием Гефеста. Но всевидящий Гелиос донес Гефесту о том ос-
корблении, которое нанесли ему собственная супруга и родной брат.
Тогда Гефест выковал хитроумную сеть, опутал ею ножки кровати,
спустил ее тонкой паутинкой сверху на ложе и сделал вид, что
удаляется на Лемнос.
Арес и Афродита, наслаждаясь любовью, оказались прикованными
сетями и были застигнуты на месте преступления Гефестом, созвавшим
богов полюбоваться бесстыдством жены и ее любовника. Тотчас же
на вопли Гефеста пришли Посейдон, Аполлон, Гермес и все остальные
боги (богини из стыдливости остались дома). И что же оказалось?
Боги подняли неугасимый смех, как бы изливая неистребимую жиз-
ненную энергию веселья. Они оценили и одобрили мудрую хитрость
Гефеста, но они же и позавидовали Аресу. Каждый захотел очутиться
на его месте и даже быть опутанным втрое крепчайшей сетью при
многочисленных свидетелях, лишь бы покоиться рядом с золотой Аф-
родитой. Хохотали вновь и вновь. Только один Посейдон не смеялся
И упросил Гефеста освободить Ареса под свое поручительство и пеню,
всегда готовый уплатить ее за племянника.
Гефест не посмел перечить своему дяде, известному суровым нра-
вом, распустил сеть, и Арес с Афродитой немедленно исчезли с глаз
веселой толпы богов. Арес умчался во Фракию, Афродита — на Кипр,
в свой любимый Пафос, где у нее алтарь и священная роща. Хариты
152
Греческая мифология. Классический период Боги
приняли богиню, искупали ее, натерли тело нетленным маслом, об-
лекли в платье, дивное для взоров.
Добавим, что у Афродиты и Ареса были дети. Двое — Эрос и
Антэрос — указывали на единство притягательной и отталкивающей
силы любви. Другая пара — Деймос и Фобос (Страх и Ужас) — спут-
ники Ареса в битвах. Но ведь и Афродита рвется в любовные сражения,
спускаясь на черную землю в золотой колеснице, запряженной воро-
бышками (Сапфо. Фрг. I). Она даже пытается вмешаться в бой ахейцев
с троянцами, получает рану и возвращается в слезах на Олимп,
доставленная туда колесницей Ареса (Ил. V 334—343, V 363 ел.).
Особенно примечательна их дочь Гармония (Гес. Теог. 934—937),
живое воплощение единства противоположных начал своих родите-
лей — невозмутимой красоты и дикой необузданности. Афродита и
Гефест детей не имели (хотя у самого Гефеста от других связей их
много). Красота богини питала мудрость Гефеста, и тогда появлялось
особое потомство — божественные создания искусства.
СВЯЩЕННЫЙ БРАК ЗЕВСА И ГЕРЫ. На классическом Олимпе,
как заметно из нашего изложения, побежденный хтонизм переживает
внутреннее переосмысление и внешнюю трансформацию. В уравнове-
шенном олимпийском космосе существует все — и сияющий огненный
эфир, из которого сотканы тела богов, и глубины Тартара, где пре-
бывают чудовищные титаны, и поднебесье, где веют ветры, и подзе-
мелье, куда уходят души. Гея бессмертна, Небо вечно объемлет Землю.
Но неисчисляемое плодородие Урана и Геи — в прошлом. Мудрая
Земля сама положила предел избыточным силам рождения и по своему
усмотрению распоряжается потомством. Что же говорить о богах треть-
его поколения, создавших новую семью и пытающихся преодолеть
анархию природных сил?
Все проходит, все подвержено гибели, все можно истребить, кроме
памяти. И недаром мудрая Мнемосина — Память родила Зевсу девять
дочерей — Муз, благодаря которым помнят и поют о прошлом певцы,
помнят и воссоздают прошлое художники, помнят и записывают пре-
дания летописцы. Поэтому и классическая мифология в расцвете
блеска и славы своих владык помнит то начало, когда боги еще не
обитали в золотых дворцах на высоких вершинах Олимпа, а были
только Земля и Небо. И они влеклись друг к другу мощной силой
любовного влечения — Эроса. И покоились в страстных объятиях, со-
четаясь космическим браком, освящая и благословляя им всю мировую
жизнь и все грядущие поколения.
Теперь же герои олимпийского мифа Зевс и Гера удаляются на
ночь в свою опочивальню с золотым ложем, и сладостный сон ниспу-
скается на молниевержца Зевса и златотронную Геру.
Но вот неожиданно среди этого благоденственного и мирного бытия
разгораются страсти Троянской войны. И Гера заодно с Посейдоном
Жизнь богов на Олимпе
153
Афиной, видя бедственное положение ахейцев, решает им помочь,
ИоЯреки Зевсу, который пообещал Фетиде перевес троянских войск,
^бы прославить ее сына Ахилла, который один из ахейцев способен
с0Крушить врагов. Но как преступить волю Зевса?
Хитроумная Гера задумывает обольстить супруга, явившись к нему
в расцвете красоты и великолепия, усыпить его в своих объятиях, а
затем повернуть военные действия на пользу ахейцам.
Не долго думая, богиня надевает роскошный наряд в тайной спаль-
не, где хранятся ее сокровища, натирается ароматным маслом, прячет
на груди взятый у Афродиты пояс, в котором заключаются обольсти-
тельные слова, желания, любовь, и устремляется с вершины Олимпа.
Гомер рисует внушительную картину мощного полета Геры.
С Олимпа через Пиерию, землю фракийцев, она вихрем несется над
высочайшими вершинами снежных гор, не касаясь земли, спускается
с Афона на кипящее волнами море и приходит на остров Лемнос.
Там Гера встречает бога Сна и просит усыпить Зевса, обещая ему
в награду золотое кресло работы Гефеста. Однако Сон делает вид,
что его страшит гнев Зевса,. вспоминая, как уже однажды усыпил
молниевержца, когда Гера наслала бурю на корабли Зевсова сына
Геракла. Тогда Гера обещает в жены Сну прекрасную Хариту Пасифею,
давно желаемую Сном, и тот не может устоять, требуя тем не менее
от Геры в подтверждение страшной клятвы именами титанов.
Теперь уже оба летят они к Трое, и вершины лесов колеблются
у них под ногами. Достигнув горы Иды, боги разлучаются. Сон,
уподобляясь птице, укрывается в ветвях идейской ели, а Гера подни-
мается вверх на отрог Иды — Гаргарскую вершину.
И тотчас же страсть затуманивает разум Зевса, как только он,
сидя на той вершине, видит Геру. Но Гера с деланным равнодушием
говорит, что она собирается навестить стариков, Океана и Тефию,
некогда ее воспитавших.
Зевс, охваченный страстью, вспоминает всех своих бывших воз-
любленных и признается, что никого он не любил так, даже и ее
самое в прошлом, как сейчас нынешнюю Геру. Кокетливая Гера
противится, как бы стыдясь всеблаженных богов, которые увидят
супругов спящими на вершине Иды, и просит вернуться в дом, в
спальню, сооруженную Гефестом, снабженную крепчайшими две-
рями.
Но Зевс окутывает себя и супругу золотистым облаком, сквозь
которое не проникает даже глаз Гелиоса. И вот оба покоятся, скрытые
золотистым густым покровом, с которого ниспадают, сверкая, капли
Р°сы- А земля, радуясь этому союзу, тотчас же взращивает вокруг
®Их цветущие травы, росистый донник, шафран и цветы гиацинта,
ва которых спит в объятиях громовержца белолокотная Гера (Ил. XIV
152—353).
154
Греческая мифология. Классический период. Боги
Эта милая, с тонким юмором и изяществом нарисованная Гомером
сцена есть не что иное, как воспоминание о космическом браке Неба
и Земли, давшем начало всему сущему в мире.
Мифология классического Олимпа эстетизирует этот древний свя-
щенный союз Урана и Геи, создает отраженный и преображенный искус-
ством образ, в ретроспективе которого встают страшные беспредельные
силы, животворящие вселенную своим грандиозным единением.
На победившем Олимпе по сравнению с прошлым все иное —
соразмерное, гармоничное, прекрасное в своей стройности и величине.
Любовные объятия Зевса и Геры не над безднами мрачных мировых
пространств, озаряемых огнями далеких светил, а на цветущем ве-
сеннем ковре под золотым облаком. Но это — отблеск и память былых
бурных страстей мощных стихийных сил.
В памяти людей менялись места, где покоились на ложе любви
Зевс и Гера. То это был сад Гесперид с золотыми яблоками, то Эвбея,
то Крит, но гомеровская цветущая Ида затмила все.
Вот почему воспоминанием о любовном союзе владык Олимпа
явились в античной Греции ритуальные празднества, прославляющие
так называемый священный брак Зевса и Геры, когда статую богини
омывали, украшали подвенечным нарядом и торжественно провожали
через весь город на колеснице в коровьей упряжке (зооморфная
доклассическая Гера — корова, и в дальнейшем ее рудимент — ко-
ровьи глаза, «волоокость») к храму, где было приготовлено ее брачное
ложе.
БОГИ ОСНОВЫВАЮТ СВОИ СВЯТИЛИЩА
НА ЗЕМЛЕ
Боги покидают золотые дворцы на Олимпе, чтобы на земле ут-
вердить свои святилища и храмы. Этот процесс происходит не без
борьбы с прежними, хтоническими владыками священных мест.
О соперничестве между самими Олимпийцами, как, например,
между Афиной, Герой и Посейдоном, мы уже говорили. Со своей
стороны и мифология Аполлона интересна как насильственное вытес-
нение светлым героическим богом древних чудовищ.
Архаический Аполлон, как известно, сам был демоном смерти,
убийств и человеческих жертвоприношений.
Но классическая мифология, знающая власть Аполлона над жизнью
и смертью, укрепляет и преобразует ее в духе героической борьбы
божества с темными силами природы. Отсюда прославление странствий
Аполлона в поисках места для знаменитого оракула с подробным
описанием всего пути бога с севера в самое сердце Греции (Гом. гимн.
II 38—115).
Боги основывают свои святилища на земле 155
Аполлон шествует с Олимпа через Фессалию с ее горами и долинами,
затем на Эвбею, оттуда в Беотию, в Фивы, одетые дремучим лесом, где
еде даже не обитали люди и где еще не колосились поля — свидетельство
того. чт0 Деметра пока не научила людей землепашеству.
Миновав священную рощу Посейдона в Онхесте, Аполлон достиг
прекрасноструящегося Кефиса, пересек луга Галиарта и дошел до
источника Тельфусы.
Прельстившись этим местом, он тут же заложил основание для
храма и прорицалища, чтобы можно было подавать людям благие
советы и принимать от них гекатомбы.
Однако давняя владелица источника, нимфа Тельфуса, убедила
Аполлона идти дальше, ибо здесь, по ее словам, у воды будет слишком
шумно и людно, а в долине под снежным Парнасом в укромном месте
находится Криса, самое подходящее место для храма.
Хитроумная Тельфуса, отговорив бога, оставила священное место
в своем владении, а обманутый стреловержец отправился дальше,
перевалил через скалистый хребет, пришел в Крису, что лежит под
Парнасом, под самой его скалой, в дикой долине.
Там Аполлон заложил основание для храма и оракула в ожидании
великих гекатомб.
Умелые строители Трофоний и Агамед возвели сначала каменный
порог, а затем был воздвигнут неисчислимыми строителями храм
недалеко от знаменитого родника.
По одной из старших версий, на этом месте уже существовал
оракул Геи — Фемиды, который Земля передала сестре, титаниде Фебе,
а та принесла его в дар внуку Аполлону. Но по другой, более новой
версии, Аполлону пришлось выдержать борьбу с хтоническим чудо-
вищем, владыкой источника, огромным драконом. Это был тот самый
змей, которому некогда Гера отдала на воспитание Тифона. Аполлон
поразил змея стрелами, восклицая при этом: «Иэ-пеан». Дракон, изви-
ваясь и хрипя, катался по черной земле, по лесной чаще, пока не
испустил дух. Стрелоносный бог радостно прославил свою победу, а
убитый им змей под лучами Гелиоса превратился в гниль и поэтому
был прозван Пифоном (греч. pytho — сгнаиваю). Аполлон же отныне
стал именоваться Пифийским, как и его собственный храм в этом
месте.
Только одержав победу, понял Аполлон, как его обманула нимфа
Тельфуса. В гневе он снова отправился к оставленному им источнику,
чтобы наказать Тельфусу. Аполлон завалил каменистое устье родника,
скрыл его под обвалом, а себе построил в тенистой роще около свободно
жертвенник. С тех пор Аполлон носит еще и имя
посрамив нимфу и сделав ее святилище своим (Гом.
Гимн. П 178—209).
Вслед за этим Аполлон заставил приплыть в Крису корабль с
С’строва Крита, плывший в Пилос. Он уподобился дельфину, выскочил
струящейся воды
Тельфусийского,
156
Греческая мифология. Классический период. Боги
Храм Афины в Линде
из воды, залег на дне корабля и, сотрясая корабельные балки, наводя
страх на моряков, заставил плыть корабль сам собой в Крисейский
залив. Там бог уподобился звезде, рассыпающей вокруг искры, спу-
стился в свой храм, осветив сиянием всю Крису. Наконец он принял
вид прекрасного юноши и на вопросы пораженных корабельщиков
открыл им свое божественное имя, предписав им забыть родной Крит,
поселиться вблизи храма в долине Парнаса, куда они пришли, ведомые
богом, и где были принесены ему обильные жертвы.
Бывшие критяне стали стражами храма, гостеприимцами паломни-
ков, жрецами, приносящими богу жертвенные гекатомбы. Асам Аполлон,
явившийся им в виде дельфина, получил сакральное имя Дельфиний,
храм же его стал называться Дельфийским (Гом. гимн. II 210—366).
Таким образом, Аполлон, чтобы основать свой храм, вынужден
был, прибегнув к силе, наказать нимфу Тельфусу, а главное, унич-
тожить дракона, присоединив к себе их имена и став тем самым
наследником древней славы.
Однако тому же Аполлону пришлось в дальнейшем искупить перед
хтоническим Пифоном его убийство. Поэтому, хотя он и установил
пифийские игры в честь своей победы, но еще должен был отправиться
Боги основывают свои святилища на земле
157
Храм Геры в Агригенте
158
Греческая мифология. Классический период. Боги
в Темпейскую долину (Фессалия), чтобы очиститься от скверны, при-
чем это уединение в Темпе (там тоже был жертвенник Аполлону»
толковалось как нисхождение бога в Аид, в мир смерти, где он
прикоснулся к мощным силам земли и возвратился на свет, как бы
рождаясь заново (Плутарх. О падении оракулов 21). По некоторым
свидетельствам, Аполлон (видимо, не очень укрепившись) сражался
с героем Гераклом за обладание дельфийским треножником (Аполлод.
II 6, 2). Аполлон и Геракл, оба, разделили одну участь. Чтобы получить
очищение после совершенных ими убийств, они в наказание были
посланы в рабское служение людям (там же, II 6, 2; III 10, 4).
Если архаические мифы гласили о гибели Аполлона от чудовища
и этот слух подкреплялся якобы наличием в Дельфах могилы божества
(Порфирий. Жизнь Пифагора 16), то в классической мифологии Апол-
лон — убийца Пифона. Архаический Аполлон близок Гее и получает
в конечном счете от нее дар прорицания (или же от кентавра Хирона),
но классический Дельфийский Аполлон именуется «пророком Зевса»
(Эсх. Эвм. 19), возвещая в Дельфах волю своего великого отца (Со-
фокл. Царь Эдип 151). Здесь, в Дельфах, он не фитоморфный демон
лаврового дерева, но только прорицает из лавра (Гом. гимн. II 215)
или любит нимфу Дафну (греч. daphne — лавр). Также он перестал
быть демоном плюща, но зато на Парнасе, у подножия которого
находится Дельфийский храм, Аполлона почитают как «плющевого»,
объединяя его с Дионисом (Эсхил, фрг. 341). Он наделяет даром
прорицания полюбившуюся ему царевну Кассандру, но, отвергнутый,
лишает ее прорицания доверия (Аполлод. III 12, 5). Дети его — тоже
прорицатели: Бранх, Сивилла Кумекая, Мопс, Идмон.
Став прорицателем и победив Пифона, Аполлон в дальнейшем
основывает множество святилищ в Малой Азии и Италии, например
Кларос, Дидимы, Колофон, Кумы и даже именуется Мойрагетом,
«водителем судьбы».
Аполлон как божество героической мифологии особенно выделяется
победами над чудовищами прежних времен. Он — убийца великана
Тития, пытавшегося обесчестить Лето (Аполлод. 14, 1), гигантов (там
же, I 6, 2), титанов (Гигин 150), Алоадов, Киклопов.
Из всех этих примеров вполне очевиден трудный путь Аполлона
к достижению славы олимпийского бога, сопряженный и с кровавой
борьбой, и с ее искуплением, и с установлением мест его почитания.
ГЕРОИ
МИФЫ О ПОКОЛЕНИЯХ ЛЮДЕЙ —
ПОДГОТОВКА ГЕРОИЗМА
Классическая мифология представляет богов в постоянном общении
с миром людей, который с древнейших времен достаточно усовершен-
ствовался. Мы говорили уже о первых людях, почти не отличимых
от растений и зверей, вылепленных из земли и воды, не заслуживших
от Зевса ничего иного, кроме желания их уничтожить. Правда, в
греческой поэзии, например у Гесиода в его поэме «Труды и дни»,
Жизнь людей древнейшего времени мыслится каким-то золотым веком,
так что поэт прямо называет самое раннее поколение людей «золотым».
Они, правда, не знали ни земледелия, ни ремесел, но зато земля
сама давала им обильный урожай, а тучные стада составляли их
богатство. Старость не приближалась к ним, и, собственно говоря,
смерти они также не знали, а были скрыты землей и по воле Зевса
бревратились в благостных демонов, покровителей человечества (Гес.
*РУД. 109—126).
160
Греческая мифология. Классический период. Боги
Оказывается, что каждое следующее поколение людей (а их всего
пять) несет в себе ростки ухудшения, пока жизнь не становится
невыносимой.
Второе — серебряное — совсем не похоже на предыдущее. Люди
сохраняют детство чуть ли не до ста лет, тешась забавами, но зато,
возмужав, умирают очень быстро, наказанные Зевсом за нежелание
приносить жертвы богам. Земля скрыла и это поколение, оказавшееся
все-таки в почете у смертных как поколение блаженных людей (там
же, 127—142).
Третье поколение — медное. Люди этого поколения не ели хлеба,
обладали небывалой силой, любили войну, выделывали медное оружие,
не зная железа. Они перебили друг друга и ушли безымянные в
царство Аида (там же, 143—155).
Четвертое поколение, созданное Зевсом, — род славных героев-
полубогов, погибший в войнах. Это те самые герои, что сражались
под Фивами и в Трое. Однако некоторые из них по воле богов обитают
на Островах блаженных, не изведав смерти, трижды в год собирая
там плоды, приносимые землей (там же, 156—173).
Собственно говоря, поколения мифологического прошлого конча-
ются этим четвертым родом, так как пятое, к которому причисляет
себя поэт Гесиод, относится к историческому прошлому греков VIII в.
до н. э.
По мысли Гесиода, неиспорченность близких к природе людей
принадлежит золотому веку. Зато по мифологической традиции, под-
держанной трагиком Эсхилом в «Прометее прикованном», это были
примитивные создания, мало чем отличающиеся от муравьев, но зато
спасенные и направленные на путь совершенствования Прометеем.
Характерно, что Зевс, потерпевший неудачу с истреблением этих
людей, в дальнейшем все-таки послал потоп на землю, истребившим
как раз то, названное Гесиодом третьим, медное поколение людей,
известных мощных духом, страшным видом и страстью к битвам
Античные поэты, в частности Овидий (Мет. I 246—380), живописуют
ужасы этого потопа. Пережили этот потоп только Девкалион, сын
Прометея, и его жена Пирра, дочь Эпиметея (там же, I 318 сл., 350
сл., 390). Именно они, родичи Зевса, примерная супружеская пара,
были пощажены Кронидом и создали новый род людей, бросая себе
за спину кости своей матери-Земли, т. е. камни (там же, I 390—413),
так что Прометей, хотя и через своего сына и племянницу, участвовал
в создании еще одного рода людей.
По другой версии, человеческий род пострадал от потопа, после
того, как Зевс испепелил титанов, растерзавших Диониса Загрея. Тогда
и люди и боги оказались в пучине вод. Но если боги были бессмертны,
то люди, настигнутые гибельными волнами, оказались вскоре погре-
бенными в бездне. И только Девкалион, непревзойденный морепла-
ватель, построив ковчег без парусов, бороздил на нем бескрайние
Мифы о поколениях людей — подготовка героизма 161
одные просторы. В тот момент, когда мир перестал быть миром и
жизнь готова была прерваться, Зевс прекратил потоп, Гелиос высушил
землю, смертный род снова отстроил города, дома, дворцы, и природа
снова стала улыбчивой (Нонн. Поэма о Дионисе V 250—388).
Во всяком случае, в те времена, когда родился Гермес, а его
старший брат Аполлон основал свое святилище в Дельфах и Деметра
странствовала в поисках дочери, род человеческий уже укрепился,
возрос, знал хлебопашество, ремесла, торговлю. Люди бороздили на
кораблях моря, плыли чуть ли не на край света, стремились к упо-
рядоченной жизни, управлялись царями, почитали богов, строя им
храмы и принося обильные жертвы.
Были даже целые народы, особенно дорогие богам. Эфиопы на
крайнем востоке и крайнем западе приглашали на пиршество богов,
именуясь «беспорочными». Гиперборейцы на далеком севере прини-
мали у себя Аполлона; феаки, потомки Посейдона, на загадочном
острове Схерии жили блаженной, беспечальной жизнью, проводя
целые дни за пирами, плясками, играми, омовением в банях (Од.
VIII 248 сл.), наслаждались роскошью царских дворцов, а также
удивительным изобилием природы (там же, VI—VIII). Феаки спасали
терпящих бедствие на море, отвозя их в родные места на своих
быстроходных кораблях, что вызывало гнев Посейдона, наказавшего
их за помощь Одиссею. Это у них на пиру Одиссей повествует о
। своих скитаниях (там же, IX—XII). Феакам, что особенно редкостно,
| боги являются в собственном виде и пируют с ними за одним столом.
Феаки милы богам, так же как Киклопы или буйное племя гигантов
(там же, VII 201—206). В последнем утверждении чувствуется го-
меровская ирония по поводу превознесения людей, близких к природе
и не терпящих никакого вмешательства со стороны, поскольку сви-
репые Киклопы, мирно разводящие стада, оказываются на деле лю-
доедами (там же, IX 106—566); а гиганты числятся среди предков
феаков, они тоже потомки Посейдона, погубленные своим же владыкой
Евримедонтом (явное смещение понятий — гиганты как дети Земли
и противники богов и гиганты как племя, сначала любимое, а потом
истребленное богами).
Однако как ни простирают боги свою власть за пределами Олимпа,
как ни вмешиваются в дела земли, то создавая, то истребляя людей,
то покровительствуя им, то питая злобу, еще больше они мечтают
укрепить и утвердить свою волю и свои замыслы, опираясь на своих
же собственных потомков, близких по крови. Отсюда стремление
I Олимпийцев вступать в брак со смертными.
Сначала это делают богини, как типичные матриархальные вла-
дычицы, выбиравшие себе мужей.
Так, Афродита, влюбленная в троянца Анхиса, приходит к нему
на свидания и рождает от него Энея (Гом. гимн. IV). Богиня Эос
влюбляется в троянца Титона, вступает с ним в брак и дарует ему
Ч Зак 3903
162 Греческая мифология. Классический период. Боги
бессмертие, забыв дать вечную молодость (там же, 218—238). Селена
тайно приходит в пещеру к Эндимиону (Аполл. Род. IV 54—65).
Боги не отстают от богинь и, вступая в брак со смертными жен-
щинами, создают поколения героев. Но здесь нам следует остановиться
и разобраться в том, что древние греки понимали под героизмом и
героями и как можно в сжатом виде представить всю историю героизма
вплоть до V в. до н. э.
Вслед за этим мы подробно остановимся на различных типах
мифологических героев и на гибельной судьбе всего героического по-
коления в конце мифологического развития.
КОГО ГРЕКИ НАЗЫВАЛИ ГЕРОЯМИ
Итак, герой (heros) в древнегреческой мифологии — сын или по-
томок божества и смертного человека. У Гомера героем обычно име-
нуется отважный воин или благородный человек, имеющий славных
предков. Гесиод впервые называет род «героев», созданный Зевсом,
«полубогами» (hemitheoi) (Труд. 158—160). Лексикограф Гесихий
Александрийский (VI в. н. э.) разъясняет: «герой: мощный, сильный,
благородный, значительный». Современные этимологи не дают единого
толкования этого слова, выделяя в нем функцию защиты, покрови-
тельства (корень *ser — вариант *swer- *wer-; ср. servare, а также
сближение с именем богини Геры — Нега).
История героизма, как известно, относится к классическому, или
олимпийскому, периоду древнегреческой мифологии (II тыс. до н. э.,
расцвет — середина II тыс.), связанному с укреплением патриархата
и расцветом микенской Греции. Олимпийские боги, ниспровергшие
титанов в борьбе с доолимпийским миром чудовищных порождений
матери-Земли, создают поколения героев, вступая в брак с родом
смертных людей. Известны так называемые каталоги героев с указа-
нием их родителей и места рождения (Гес. Теог. 240—1022; он же
фрг. 1—153 Rzach;1 Аполл. Род. I 23—233). Иной раз, правда, герой
не знает своего отца, воспитывается матерью и отправляется на его
поиски, совершая по пути подвиги.
Герой признан выполнять волю олимпийцев на земле среди людей,
упорядочивая жизнь и внося в нее справедливость, меру, закон вопреки
древней стихийности и дисгармоничности. Поэтому он наделяется
обычно непомерной силой и сверхчеловеческими возможностями. Од-
нако герой лишен бессмертия, остающегося божественной привилегией.
Отсюда несоответствие и противоречие между ограниченностью смерт-
ного существа и стремлением героев утвердить себя в бессмертии. До
нас дошли мифы о попытке богов сделать героев бессмертными. Так,
1 Hesiodi carmina ed. A. Rzach. Lipsiae, 1913.
Кого греки называли героями
163
фетида закаляет Ахилла в огне, выжигая в нем все смертное и умащая
его амбросией (Аполлод. III 13, 6), или Деметра, покровительствуя
афинским царям, закаляет в огне их сына Демофонта (Гом. гимн. V
239__262). И в том и в другом случае богиням мешают неразумные
смертные родители (Пелей — отец Ахилла, Метанира — мать Демо-
фонта). Стремление нарушить исконное равновесие сил смерти и
бессмертного мира принципиально не имеет успеха и карается Зевсом.
Так, Асклепий, сын Аполлона и Корониды, пытавшийся воскрешать
пот пей, был поражен молнией Зевса (Аполлод. III 10, 3—4). Геракл
похитил яблоки Гесперид, дарующие вечную молодость, но затем
Афина возвратила их на место (там же, II 5, 11). Так же безуспешна
попытка Орфея вернуть к жизни свою жену Эвридику (там же, I 3,
2).
Невозможность личного бессмертия компенсируется в героическом
мире бессмертием подвига и славой среди потомков. Личность героя
большей частью имеет драматический характер, так как жизни одного
героя не хватает, чтобы воплотить предначертания богов. В связи с
этим в мифах укрепляется идея страдания героической личности и
бесконечного преодоления йспытаний и трудов. Герой часто гоним
враждебным божеством, например Геракла преследует Гера (там же,
II 4, 8), и зависит от слабого, ничтожного человека, через которого
действует враждебное божество. Так, Геракл подчинен царю Еврисфею,
Ясон зависит от царя Пелия, оба они близкие родичи героев, неспра-
ведливо захватившие власть.
Чтобы создать великого героя, требуется не одно поколение героев.
Зевс трижды вступает в брак со смертными женщинами, чтобы через
тринадцать поколений появился от брака Зевса и Алкмены Геракл
(Эсх. Пром. 774), среди предков которого уже были Данай, Персей,
Алкей и другие сыновья и потомки Зевса. Таким образом, происходит
нарастание героической мощи, достигающей апофеоза в мифах об
общегреческих героях, таких, например, как тот же Геракл.
Можно наметить разные типы героев, сложившиеся исторически.
Более ранний героизм связан с подвигами героя, физически уничто-
жающего чудовищ. Такова борьба Персея с Горгоной, Беллерофонта
с Химерой, ряд подвигов Геракла, вершиной которых является борьба
с Аидом (т. е. со смертью), которого он ранит (Аполлод. II 7, 3).
Поздний героизм связан с интеллектуализацией героев, с их культур-
ными функциями, как, например, у искусного мастера Дедала или
строителей фиванских стен Зета и Амфиона. Среди героев — певцы
и музыканты, овладевшие магией слова и ритма, укротители стихий
(Орфей), прорицатели (Тиресий, Калхант, Трофоний), отгадыватели
загадок (Эдип), хитроумные и любознательные странствующие герои
(Одиссей), установители законодательства (Тесей).
Независимо от рода героизма подвиги героев всегда сопровождаются
помощью божественного родителя (Зевс, Аполлон, Посейдон) или бога,
164
Греческая мифология Классический период Боги
функции которого близки характеру того или иного героя (мудрая
Афина помогает умному Одиссею). Соперничество богов и их прин-
ципиальное отличие друг от друга сказывается на судьбе героя (гибель
Ипполита как результат спора Афродиты и Артемиды; буйный По-
сейдон преследует Одиссея вопреки мудрой Афине; Гера, покрови-
тельница моногамии, ненавидит Геракла, сына Зевса и Алкмены).
Герой зачастую испытывает мучительную смерть (самосожжение
Геракла, см. Софокл «Трахинянки», Сенека «Геракл Этейский»), гиб
нет от руки вероломного злодея (Тесей), по воле враждебного божества
(Гиацинт, Орфей, Ипполит). Вместе с тем подвиги и страдания героев
рассматриваются как своего рода испытания, вознаграждение за ко
торые приходит после смерти. Геракл обретает бессмертие на Олимпе
и получает в жены богиню Гебу (Гес. Теог. 950—955). Однако, по
другой версии, на Олимпе находится сам Геракл, а тень его скитается
в Аиде (Од. XI 601—604), что указывает на двойственность и не-
устойчивость обожествления героев.
Такая же двойственность в судьбе Ахилла: он гибнет под Троей,
но затем оказывается на острове Левке (аналог Островов блаженных),
где вступает в брак с Еленой (Паве. Ill 1, 11—13) или даже с Медеей
в Елисейских полях (Аполл. Род. IV 811—814). На острове Левке
находились после смерти также оба Аякса, Патрокл и Антилох (Паве
III 19, 13). Большая определенность у таких героев, как Менелай,
который, будучи зятем Зевса, не испытав смерти, переносится в Ели-
сейские поля (Од. IV 561—563). Гесиод же считает обязательным для
большинства героев переселение на Острова блаженных (Труд. 167—
173). Асклепий, сын Аполлона, убитый молниями Зевса, мыслится
ипостасью Аполлона, обретает божественные функции целителя, и
культ его даже вытесняет в Эпидавре культ его отца Аполлона.
Единственный полубог, т. е. герой, сын Зевса и Семелы, Дионис,
становится еще при жизни божеством (см. «Вакханки» Еврипида), но
и эта его божественность подготавливается рождением, смертью и
воскресением Загрея, архаической ипостаси Диониса, сына Зевса и
богини Персефоны (Нонн VI 155—388). В песне Элейских женщин к
богу Дионису обращаются как к Дионису-герою.1 Таким образом,
Геракл явился образцом для представления о герое-боге (Пиндар. Нем
III 22), а Дионис считался героем среди богов.
Развитие героизма и самостоятельности героев приводит к их про-
тивопоставлению богам, к их дерзости и даже преступлениям, которые
накапливаются в поколениях героических династий, приводя к гибели
героизма вообще. Известны мифы о родовом проклятии, которое ис-
пытывают на себе герои конца классического олимпийского периода
мифологии, соответствующего упадку микенского владычества. Таковы
1 Anthologia lynca graeca. Ed. E. Diehl. Lipsiae, 1925. Vol. 2, p. 206, frg. 46.
Кого греки называли героями
165
^ифы о проклятиях, тяготеющих над родом Атридов, или Танталидов
(Тантал, Пелопе, Атрей, Фиест, Агамемнон, Эгисф, Орест), над родом
Кадмидов (дети и внуки Кадма — Ино, Агава, Пенфей, Актеон), Лаб-
дакидов (Эдип и его сыновья), Алкмеонидов (Амфиарий и его сын
Длкмеон). Создаются также мифы о гибели всего героического рода
людей. Таковы мифы о войне семерых вождей против Фив и о Тро-
янской войне. Гесиод рассматривает их как войны, где герои истребили
друг друга (Труд. 156—165). Итак, конец II тысячелетия можно
рассматривать как конец всего героизма.
В постдорийский период, период после нашествия дорийцев, т. е.
в начале I тысячелетия до н. э., большое распространение получает
культ умерших героев, совсем незнакомый гомеровским поэмам, но
зато хорошо известный по микенским царским захоронениям. В культе
героев сказалась идея божественного вознаграждения их после смерти,
продолжение их заступничества и покровительства людям. На могилах
героев приносили жертвы, желая отвратить несчастье (ср. жертвы
Агамемнону в «Хоэфорах» Эсхила), им отводили священные участки
(например, Эдипу в Колоне), вблизи их погребений устраивали со-
стязания певцов (в честь Амфидаманта в Халкиде с участием Гесиода —
Труд. 654—657). Плачи, или френы, по героям, прославлявшие их
подвиги, послужили одним из источников эпических песен (ср. «слав-
ные деяния мужей», которые поет Ахилл, — Ил. IX 189). Общегре-
ческий герой Геракл считался установителем Немейских игр (ср. Пин-
дар. Нем. I). Ему приносили жертвы в разных храмах — в одних как
бессмертному олимпийцу, в других как герою (Геродот II 44). Неко-
торые герои воспринимались как ипостаси бога, например Зевса (ср.
Зевс — Агамемнон, Зевс — Амфиарай, Зевс — Трофоний, Посейдон —
Эрехфей). На месте исчезновения Трофония вопрошали оракула (Паве.
IX 39, 5).
Там, где была прославлена деятельность героев, строились храмы
(храм Асклепия в Эпидавре).
В VII—VI вв. до н. э. с развитием культа Диониса некоторые
древние герои, эпонимы городов, вынуждены были уступить торжества
в их честь Дионису (при тиране Клисфене в Сикионе почитание
Адраста сменилось почитанием Диониса — Геродот V 67).
В Греции мифологический героизм перешел, начиная с VII в. до
и. э., с эпохи формирования городов-государств, в стадию религиоз-
но-культового героизма, освященного полисными установлениями и
игравшего политическую роль. Герой оказывался защитником полиса,
Мыслился посредником между богами и людьми, предстателем за людей
перед богами. Останки древних героев переносили в города, как это
оыло в 475 г. до н. э. с прославлением Тесея в Афинах, куда перенесли
его прах с острова Скироса (Плутарх, Тесей 36). Отсюда — жертвы
героям, павшим в битвах, например, в греко-персидской войне при
1латеях (Плутарх, Аристид 21). Отсюда же обожествление после
166
Греческая мифология Классический период Боги
смерти и причисление к лику героев известных исторических лиц
(Софокл после смерти стал героем по имени Дексион). Почетное
звание героя получили после гибели выдающиеся полководцы (Брасид
после битвы при Амфиподе — Фукидид V 11, 1). В культе героев
сказалось древнее почитание мифологических героев, которые стали
восприниматься потомками как предки — покровители семьи, рода и
полиса.
РАЗНЫЕ ТИПЫ ГЕРОИЗМА — СИЛА И РАЗУМ
Как говорилось выше, расцвет героизма в классической мифологии
связан с серединой II тысячелетия до н. э. И начинается он с пред-
ставления о героях, наделенных необычной физической силой. Что
же касается тонкостей ума, то обычно рядом с героем находится
божество, подающее мудрые советы и приводящее героя к определен-
ному решению. Предоставленный самому себе, герой может совершить
непоправимый поступок, стоящий ему жизни. Именно таким образом
погиб Мелеагр, сын Ойнея, этолийский герой. Это тот самый Мелеагр,
чья жизнь была заключена в тлеющей головешке, спрятанной его
матерью в ларце. Тот самый Мелеагр, который прославился охотой
на Калидонского вепря (Аполлод. I 8, 1—3), собравшей героев со всех
концов Греции, причем все это герои раннего поколения, предшест-
вовавшего Троянской войне: Идас и Линкей, сыновья Афарея из
Мессении, Кастор и Полидевк из Лакедемона, дети Зевса, Тесей, сын
Эгея из Афин, Пирифой, сын Иксиона из Лариссы, Пелей, сын Эака
из Фтии, Амфиарай, сын Оиклея из Аргоса, Ясон, сын Эсона из
Иолка, и дева Аталанта из Аркадии. Здесь, таким образом, мыслится
некое единство всех частей Греции, представленное отдельными ге-
роическими личностями. Калидонская охота — общегреческое пред-
приятие. Однако оно чревато усобицами и взаимным истреблением.
Чудовищный вепрь был убит, но в споре за почетный дар Мелеагр
отдал предпочтение Аталанте, первой поразившей зверя, и убил братьев
матери, претендовавших на шкуру вепря. Тогда Алфея — мать — про-
кляла сына Мелеагра и бросила в костер головешку, с уничтожением
которой огнем погиб в муках и Мелеагр.
В этом мифе наряду с архаическим фетишистским представлением
о жизни человека, заключенной в материальный предмет, наряду со
следами матриархата и важной ролью женского начала выдвигается
мощный герой, избавитель от чудовища, разоряющего страну и губя-
щего посевы.
По другой версии, Мелеагр убивает дядьев в войне, разгоревшейся
после споров за шкуру вепря, но сам тоже гибнет в сражении, а мать
и жена его кончают в горе самоубийством. Конец героя и в одном и
в другом случае зависит и от его собственной, ничем не сдерживаемой
Разные типы героизма — сила и разум
167
Мелеагр
16S
Греческая мифология Классический период Боги
Смерть Медузы
воли и от напора древних стихийных сил. Рядом нет мудрого боже-
ства-помощника. Но зато миф предполагает, что истинным отцом
Мелеагра был сам бог Арес (там же, I 8, 2). Это дикое и буйное
божество только и могло толкать Мелеагра на безрассудные поступки
и кичливость своей физической мощью. Вот почему результаты по-
двига, собравшего всех греческих героев, оказались столь горестны
Гибнет от руки героя Беллерофонта, сына Главка, чудовищная
Химера, рожденная Тифоном и Ехидной. Химера с львиным тулови-
щем, хвостом дракона, тремя головами, из которых козья, средняя
изрыгала пламя, тоже опустошала землю и губила скот. Но Белле-
рофонт взнуздал Пегаса, коня, рожденного от Медузы Горгоны и
Посейдона, поднялся ввысь и оттуда поразил Химеру (там же, II 3, 1)
В дальнейшем герой стал наследником царя Иобата, отдавшего за
него дочь, когда убедился в безупречности Беллерофонта, оклеветан-
ного царем Пройтом. Замечательно, что этот последний, чью дочь
отверг Беллерофонт, по ее наущению послал героя к Иобату с до-
щечками, на которых, по словам Гомера, были начертаны «губительные
знаки» — semata lygra (Ил. VI 169), т. е. просьба предать Беллерофонта
смерти. Беллерофонт избежал смерти, так как не пытался прочитать
Разные типы героизма — сила и разум
169
Беллерофонт и Пегас
172
Греческая мифология. Классический период. Боги
послание (а известно, что судьба настигает тех, кто пытается ее
избежать); а затем, убивая Химеру по воле царя Иобата, он имел
косвенным союзником самого Посейдона, породившего от Горгоны
Медузы коня Пегаса.
Другой герой, один из предков Геракла, Персей, сын Зевса и
Данаи, в опочивальню которой Зевс проник в виде золотого дождя
уже непосредственно руководим в своих действиях мудрыми советами
богов (Аполлод. II 4, 1—5). Он — освободитель рода человеческого от
Медузы Горгоны, превращавшей своим ужасным взглядом каждого
человека в камень. Как Пройт Беллерофонта, Персея жаждет погубить
царь Полидект и посылает его за головой Медузы. Но Персеем руко-
водят Гермес и Афина. По их советам он сначала приходит к сестрам
Форкиадам, затем к нимфам, от которых получает крылатые сандалии,
заплечную сумку и шапку-невидимку, Гермес вручает ему изогнутый
меч, Афина направляет его руку, готовую поразить Медузу, и по се
совету он смотрит на отражение чудовища в своем медном щите, не
встречаясь с ее живым ликом. Персею удается избежать преследования
двух бессмертных Горгон благодаря шапке-невидимке.
На своем пути он совершает еще подвиг, освободив царевну Ан-
дромеду, отданную на съедение морскому чудищу. Заметим, что Персей
не только убивает чудовищ, разорявших посевы и поедавших скот,
как это было с Мелеагром и Беллерофонтом. Персей освобождает от
страха людей и восстанавливает справедливость, губя врагов, поправ-
ших ее, головой Медузы. Именно таким образом он восстановил на
царство Диктиса и свергнул Полидекта, угрожавшего его матери Данае.
Когда же подвиг завершен, Персей возвращает своим божественным
помощникам атрибуты бессмертной силы. Сандалии, сумку и шапку
через Гермеса вновь обретают нимфы, а голову Горгоны Афина по-
мещает на свой щит.
Далее все более возрастает не только непосредственная помощь
богов героям, но герой учится побеждать и осуществлять свои цели
с помощью собственного разума. Можно сказать, что интеллектуали-
зация героев необычайно усиливается, поскольку герой уже не только
претворяет советы богов в действие, но внутренне вполне подготовлен
к самостоятельному размышлению. Мы упоминали уже этих умных
героев, певцов, музыкантов, прорицателей. Их действия доказывают
преимущество умственного дара, помогающего человеку без примене-
ния насилия и без кровопролития.
Так, Амфион, сын Зевса и Антиопы, строит вместе со своим братом
Зетом фиванские стены. Пока Зет с огромными усилиями громоздит
камни, Амфион, играя на кифаре, заставляет их складываться в мощ-
ные стены.
Дедал, внук афинского царя Эрехфея и родня Тесея, отличается
особой изобретательностью. Он и архитектор, и скульптор, и великий
мастер. Само имя его (Daidalos) указывает на «искусного» человека
Разные типы героизма — сила и разум
173
Дедалу настолько дорого первенство в мастерстве, что он даже
бивает своего племянника Талоса из-за соперничества с ним и вы-
нужден бежать на Крит к царю Миносу (там же, III 15, 9). Он—
/-гроитель лабиринта для чудовищного Минотавра, но он и освободитель
йз лабиринта Тесея с его спутниками (вспомним клубок нити, данной
им Ариадне для Тесея). Он сооружает тайно крылья для себя и сына,
чтобы скрыться в Сицилию. И хотя сын его Икар гибнет, когда солнце
растопило воск крыльев, Дедал невредимым добирается до Сицилии
к царю Кокалу. И лишь только Минос пытается выманить его оттуда
хитростью, царь Кокал с помощью совета Дедала умерщвляет Миноса,
навсегда избавляя Дедала от преследования.
Дедал, как и положено герою, — фигура драматичная: его ум и
сноровка невольно служат злым целям властителей, и попытка осво-
бодиться от их воли приводит к гибели самого дорогого, чем владеет
великий мастер, — единственного сына Икара.
Эдип, сын царя Лайя, настолько мудр, что побеждает страшную ду-
шительницу Сфинкс, пожиравшую тех, кто не отгадает ее загадки. И что
характерно, по версии более классической, Эдип не убивает это чудовище,
а побеждает его остротой ума, так, что Сфинкс гибнет сама.
Как только загадка разгадана и тайна открыта, жизнь теряет
всякий смысл для кровожадной душительницы. Сфинкс бросается в
пропасть с вершины горы и находит там смерть (там же, III 5, 8).
Орфей, сын речного бога Эагра и музы Каллиопы, обладает ма-
гической силой искусства. Он — сотоварищ Ясона, Пелея и Геракла,
участник похода аргонавтов. Игрой на форминге он усмиряет волны
и успокаивает человеческие страсти (Аполл. Род. I 492—515).
Очарованные музыкой, приходят к Орфею дикие звери, движутся
деревья и скалы. Подземные божества Аид и Персефона, тронутые
игрой Орфея, отпускают на землю его жену Эвридику.
Орфей известен как учредитель древних религиозных обрядов.
Гибель его от рук диких вакханок свидетельствует о столкновении
двух сил — дионисийского буйства природы и аполлоновского умиро-
творения, так как Орфей — певец и музыкант входит в круг героев,
близких именно Аполлону и Музам.
ЯСОН. ГЕРОИЗМ В СОЮЗЕ С ДРЕВНЕЙ МАГИЕЙ
Ясон, сын царя Эсона из Иолка, знаменит как глава похода на
к°рабле «Арго» за золотым руном в далекую Колхиду. Там он овладел
золотым руном, избежав козней царя Ээта. Но произошло это с
помощью влюбленной в него Медеи, дочери Ээта, сведущей в древней
магии и колдовстве. В свою очередь любовь и помощь Медеи возможны
°лаГОдаря вмешательству великих богинь Геры, Афины и Афродиты,
1J4 Греческая мифология Классический период Боги
допускавших удивительный союз героической силы и колдовской муд-
рости.
Главным источником для истории Ясона является поэма Аполлония
Родосского «Аргонавтика» (III в. до н. э), включающая множество
сведений из древнейших мифологических пластов.
Сама тема похода с ее дальними странствиями, подвигами в за-
гадочной Колхиде и многотрудным возвращением на родину заставляет
включить в спутники Ясона характерных героев Во-первых, это ми
нийцы, т. е. герои из племени древних орхоменских автохтонов, по-
томков Эола, а во-вторых, многие из них знамениты даже не сами
по себе, а своими отцами и дедами, предками явно хтонического
происхождения. Не говоря уже о самом Ясоне, потомке Эола, на
«Арго» находятся: Геракл (он, правда, вернется с середины пути),
Орфей, лапиф Полифем Элатид (собственно «сын ели»), лапиф Кеней,
известный оборотничеством, Флиант — сын Диониса, Навплий — по-
томок Посейдона, Линкей и Идас — сыновья Афарея, некогда сражав-
шиеся с Диоскурами, Авгий — сын Гелиоса, Евфем из Тенара — сын
Посейдона и Европы, дочери великана Тития, Эргин и Анкей —
сыновья Посейдона, сын Ойнея Мелеагр, жизнь которого была заклю-
чена в тлеющей головешке, Зет и Калаид — сыновья северного ветра
Борея и Орифии, Палемоний — сын Гефеста. Дети и внуки богов
сохраняют рудименты былой демонической мощи, объединяя ее зача-
стую с новым типом разумной силы, разрушающей грубый, испот-
ненный магии и фетишизма хтонизм своих праотцов.
Так, Орфей, сын музы Каллиопы, унаследовал от нее магическую
силу искусства. Дети Борея мчатся по воздуху, на ногах с золотыми
пятками, у них черные крылья. Евфем, сын Посейдона, не ведая
морских глубин, бегает вихрем по водной глади. Линкей видит сквозь
воду, а глаза потомков Солнца наделены особым, но уже не опаляющим
блеском Гелиоса. Душа Эфалида, сына Гермеса, живет то в царстве
смерти, то среди живых, будучи отражением и подобием двойного
бытия самого Гермеса, водителя душ в Аиде и путников на дорогах
земли. Периклемен, внук Посейдона, обладает особой силой, которая
заставляет сбываться всему, чего бы он ни пожелал. Палемоний, сын
Гефеста, ничего не унаследовал от отца, кроме хромоты, а в похвальбе
Идаса своим копьем, что помогает ему вместо Зевса, слышатся отго-
лоски древней безудержной силы. Она не так уж чужда героическому
миру, являясь то в виде богов, чудовищ и демонов, то воплощаясь в
как будто бы совершенно безобидные предметы — растениях, живот-
ных, воду и землю.
Участие в событиях похода принимают в основном Олимпийские
боги. Однако некоторые из них, сохранившие архаические рудименты
соседствуют с чисто хтоническими божествами, воздействуя на ге-
роический мир своими благодетельными или губительными потенци
ями.
Ясон. Героизм в союзе с древней магией
175
Орфей
176
Греческая мифология. Классический период. Боги
Хирон, сын Кроноса и нимфы Филиры, дает благие советы Ясону
(там же, I 33 сл.). Афина, наделенная архаическим эпитетом Трито-
нида, дарит Ясону плащ своей работы; Гера Пеласгическая (ее имя
указывает на большую древность) гневается на Пелия, не принесшего
ей жертвы (и отсюда вся ее дальнейшая вражда к нему). На пути
аргонавтов встречается Аполлон Заревой, идущий из Ликии к гипер-
бореям, вселяя одним своим видом ужас в сердца героев, сотрясая
землю и моря.
Тритон, обитатель водных глубин, с рыбьим хвостом, по молитве
Ясона является в божественном виде, продвигая корабль аргонавтов
к морю. Ночная богиня Геката не раз возникает, вызванная закли-
наниями Ясона, среди факельных огней, лая подземных псов, воплей
болотных и речных нимф, обвитая змеями.
Путникам встречаются удивительные чудовища: шестирукие «зем-
лерожденные», крылатые Гарпии, железные птицы Ареса. Золотое
руно в Колхиде охраняется змеем, сыном Геи, родившимся на Кавказе.
Медные быки, выдыхающие пламя, пашут ниву Ареса, где из зубов
дракона появляются воины.
В сказочной Колхиде по воле царя Ээта Ясон совершает свои
подвиги, усмиряя огнедышащих быков и уничтожая землерожденных
воинов. Но не следует забывать, что Ясону приходит на помощь
царская дочь Медея, полюбившая его по решению богинь — Геры,
Афины и Афродиты. Однако Медея, внучка Солнца — Гелиоса, кол-
дунья, сведущая в магических ритуалах, призывающая богиню Гекатх
в союзницы, обладает собственной демонической силой. Именно она
делает зелье из цветка, выросшего на крови Прометея, задумывает |
усыпить змея и действительно усыпляет его с помощью Сна и ночной
владычицы недр Хтонии. Чтобы склонить брата Апсирта на встрече
с Ясоном, Медея окропляет воздух зельем, сила которого может при-
вести с гор даже дикого зверя. По ее коварным советам Ясон убивает
Апсирта. Она же своей колдовской песней очаровывает Кер — демонов
смерти, желая погубить медного великана Талоса. Ввергнутый в бе-
зумие чарами Медеи, Талое, охраняющий Крит, гибнет, наткнувшись
на острый камень и истекая кровью. Медея дает Ясону советы, как
совершить жертвы Гекате. По ее совету он вызывает страшную богиню,
мажет волшебным снадобьем свое оружие и сам натирается им, чтобы
стать неуязвимым.
Таким образом, оказывается, что герой Ясон, потомок Эллина, а
значит, Прометеева сына Девкалиона (может быть, даже отцом его
был Зевс — Аполлод. I 6, 2) и самого Прометея, нуждается в помоши I
не своих божественных предков, но в колдовской силе Медеи, хотя
характерным образом боги для пользы героического предприятия Ясона
сами допускают такой союз, доказывая этим свою собственную опор)
на архаическое прошлое. Для совершения подвига классического героя
требуется демоническая сила прошлых веков, еще живая и действенная
Ясон. Героизм в союзе с древней магией
177
краю света, в Колхиде. Однако, по устоявшейся мифологической
падиции, Ясон отталкивается от Медеи, пытается уйти от нее, как
^чего-то чуждого по существу, как от силы, которая обесценивает
своими чарами благородный героический подвиг и низводит его до
низких, недостойных дел (например, жестокое убийство Апсирта).
Поэтому мифы о Ясоне подчеркивают с самого начала любовь, вну-
шенную богом Эротом Медее, а не Ясону, отсюда удаленность друг
от друга героев, связанных кровавыми преступлениями гораздо больше,
чем любовью.
Тем не менее разрушительные силы древнего хтонизма губительно
сказываются на героической сущности Ясона. И хотя Медея остается
только необходимой до времени и только терпимой в героическом
мире, но не любимой, она сделала свое дело. Героизм и хтонизм,
соединившись по воле богов для свершения подвига, взаимно чуждые
по самому своему существу, должны разойтись и вступить в тот
драматический конфликт, который зловеще озаряет весь комплекс
мифов о Медее и Ясоне. Но, как известно, судьба героев всегда
драматична.
Чем больше злодеяний при возвращении Ясона на родину совершает
Медея, чтобы добыть тому царскую власть, некогда отнятую его дядей,
Пелием, тем все более эти усилия оказываются напрасными.
Медея умерщвляет Пелия с помощью его дочерей, но жители
Иолка изгоняют ее вместе с Ясоном. Они отправляются в Коринф,
но там Ясон пытается расстаться с Медеей и берет в жены царскую
дочь. Тогда Медея, брошенная Ясоном, мстит невесте и ее отцу,
погибающим в пламени от пропитанных ядом одежд. Из мести Ясону
Медея убивает двух своих сыновей, а третий, Фессал, спасается и в
дальнейшем царствует в Иолке, на родине отца (по версии Диодора
IV 54). Сама же она покидает Коринф на колеснице, запряженной
драконами и присланной ее дедом Гелиосом. Медея еще пытается
устроить свои дела сначала в Фивах, у Геракла, затем в Афинах,
соблазняя старого царя Эгея и строя козни против его сына Тесея,
но изгнана и оттуда. Не узнанная никем, возвращается Медея в
Колхиду, убивает брата отца, Перса, чтобы вернуть власть Ээту, от
которого она когда-то бежала и которого предала ради Ясона (Аполлод.
I 9, 28).
Круг замыкается. Колдунья и волшебница выполнила свое назна-
чение. Золотое руно добыто с ее помощью Ясоном, Гера удовлетворена
Гибелью не почитавшего ее Пелия, но конец Ясона не может считаться
Достойным. И это наносит героической личности главный урон, так
Дак слава героя живет в песнях потомков. По версии Диодора (IV
W), Ясон кончает самоубийством в Коринфе, по другой — гибнет под
Развалинами корабля Арго, знаменуя этим крушение всей жизни
'Схолиаст к «Медее» Еврипида).
12 Зак 3903
178
Греческая мифология. Классический период. Боги
Может быть, боги, некогда так решительно действовавшие на
стороне Ясона, послали ему недостойную смерть во искупление союза
героя и демонической колдуньи, того союза, который они, правда,
создали сами, но которому, совершая подвиги, оказался чрезмерно
предан Ясон, утерявший собственную волю и целиком отдавший свою
судьбу в руки Медеи.
ОДИССЕЙ. МНОГОУМНЫЙ
И МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ
Среди самых изощренных умом героев особое место занимает царь
Одиссей, участник Троянской войны.
Образ Одиссея, раскрываемый в мифах, опоэтизированных Гоме-
ром, основан не только на подвигах и мощи героизма, но выражает
расцвет классической мифологии, прославляющей человеческий ум и
его творческие возможности. Героика мифологии Троянской войны,
локализованная в одном месте, у стен Илиона, здесь претерпевает
значительные изменения, включаясь в авантюрно-сказочный сюжет и
напоминая собой известные мотивы — путешествие в страну чудес и
возвращение мужа к верной жене, ожидающей его долгие годы.
Одиссей — царь маленького островка Итаки, все богатство которого
заключается в стадах, имеет довольно сложную мифологическую ис-
торию. Он сын Лаэрта и Антиклеи (Ил. IX 308), хотя существовала
версия о том, что отцом его был знаменитый хитрец Сизиф, наказанный
богами (Еврип. Ифиг. А. 524). Дед Одиссея по материнской линии —
Автолик — тоже великий хитрец, сын бога Гермеса, помощника и
покровителя умелых, ловких и практически настроенных людей. Од-
нако Одиссей гораздо более сложен, чем обычный хитрец. Он не
просто пускается в странствие, а целенаправленно возвращается на
родину после окончания Троянской войны. Любовь его к семье и
родному очагу самоотверженно преодолевает многочисленные препят-
ствия. На путях дальних странствий герой переносит мучительные
страдания и гнев богов, то и дело нарушая установленный ими с
давних времен порядок. Само имя Одиссея (odyssomai — «гневаюсь»)
указывает на человека, испытавшего божественный гнев; он тот, кто
«ненавистен» богам (Од. XIX 407 сл.). Судя по ряду фактов, Одиссей
проявил себя еще до того, как началась Троянская война. Он тоже
выступал одним из претендентов на руку царицы Елены, но скромно
удовольствовался ее двоюродной сестрой, Пенелопой. Совсем как будто
не воинственный человек и любящий семьянин, Одиссей не хотел
оставить жену и сына ради военных подвигов. Известно, что он
притворился безумным, но изобличенный Паламедом, вынужден был
отправиться под Трою на двенадцати кораблях (Ил. II 631—637).
Одиссей. Многоумный и многострадальный герой
179
Одиссей
180
Греческая мифология. Классический период. Боги
Тогда, в свою очередь, он хитростью заставил участвовать в войне
юного Ахилла и также хитростью доставил под Трою героя Фил октета
с его бьющим без промаха луком.
Однако хитрость Одиссея не примитивна, а направлена на ско-
рейшее взятие Трои. Он устраивает приезд дочери Агамемнона Ифи-
гении в Авлиду, а значит, способствует ее жертвоприношению и, как
следствие этого, разрушению Илиона. Он ведет вместе с Менелаем
мирные переговоры в Трое. Вместе с Диомедом он пробирается тайно
в город и с помощью Елены похищает древнее изображение Афины —
палладий (Аполлод. Эпит. V 13) — залог победы для тех, кто им
обладает. Ему же принадлежит идея постройки деревянного коня, в
который он прячется вместе с другими воинами. Одиссей по праву
носит эпитет «разрушитель городов», деля его с Ахиллом. Не раз
Одиссей выступает заодно с такими суровыми героями, как Диомед
или Аякс. Он совершает ночную разведку вместе с Диомедом или
наряду с Аяксом участвует в посольстве к Ахиллу, прося его выйти
в бой.
Энергичный, практический, проницательный Одиссей вступает в
противоречие и даже соперничество с тяжеловесной мощью раннего
героизма. Он, например, жестоко ссорится с Ахиллом (Од. VIII 75—77).
После гибели Ахилла тот же Одиссей получает, как храбрейший, его
доспехи, обойдя в этом сомнительном споре Аякса, что приводит
великого героя к самоубийству. Даже в царстве мертвых Аякс не
может забыть ему этой кровной обиды.
Ряд изложенных здесь фактов оттеняет облик героя, объясняя не
совсем понятную жестокость Одиссея, не только устроившего по воз-
вращении на родину побоище женихам Пенелопы, но приказавшего
изрубить на куски и бросить на съедение псам пастуха Мелантия и
предписавшего сыну Телемаху казнить неверных служанок, повесив
их на одном корабельном канате, натянутом во дворе.
Жестокость Одиссея — достояние архаики, относящейся к более
старому пласту мифа. В Одиссее более поздних пластов она в основном
отступает на задний план, давая место совсем иному, так сказать,
интеллектуальному героизму, находящемуся под неусыпным покрови-
тельством Афины.
Перед нами новый тип умного, любознательного, многоопытного
героя, хитрость которого направлена на познание мира с его чудесами.
Эпитет Одиссея «многоумный» включает в себя разнообразную гамму
переходов — от элементарной хитрости к сложнейшей работе мысли.
Одиссей сам признается царю Алкиною в том, что славен хитрыми
измышлениями, а богиня Афина подтверждает, что в ловкости и
выдумках с Одиссеем трудно состязаться даже богу. Он ловок не
только в стрельбе из лука, в которой не превзойдет его ни один из
живущих людей. Он не только славен копьем. Одиссей велик душой,
велик сердцем. Он вдохновенный оратор, возбуждающий боевой пыл
Одиссей. Многоумный и многострадальный герой
181
воинов и дающий благие советы. Слова устремляются из его уст как
снежная вьюга, и ни один из смертных не может с ним состязаться
в ораторском искусстве (Ил. III 221—224). Одиссей очаровывает своими
вечами богиню Афину, царя Алкиноя и юную Навсикаю, изящно
сравнив ее со стройной делосской пальмой, он тонко восхваляет и
родителей, и братьев царевны, и ее будущего мужа.
Однако проницательный ум, а также страсть к познанию мира
ставят Одиссея в столь сложные обстоятельства, что характерное для
него благочестие нарушается либо самим героем, либо его спутниками.
То по неведению, а то и сознательно Одиссей вступает в конфликт
с богами, испытывая гнев Посейдона, Эола, Гелиоса, Зевса, почему
и появляется в его жизни мотив страдания. Одиссей многострадальный.
Судьба его полна драматических коллизий, и он, несмотря на свою
безудержную энергию, скорбит, плачет, тоскуя по жене, сыну и дыму
родного очага, обладая как будто бы всеми радостями жизни и любви
на острове нимфы Калипсо, и даже отвергает даруемое ею бессмертие —
ради своей скудной Итаки. Одиссей не может забыть погибших спут-
ников; его посещают мысли р смерти, и он, в конце концов, остается
в полном одиночестве, с тоской простирая руки к умершим друзьям
и матери, проливая слезы в беседе с тенями бывших соратников,
которые не очень его долюбливали.
Но этот же Одиссей, восхищенный пением слепого певца Демодока,
посылает ему почетный кусок мяса, оставив, однако, бблыпую часть
себе. Этот же многострадальный герой успевает перевязать сундук с
царскими дарами хитрым узлом, как его научила когда-то волшебница
Кирка. А попав на Итаку и погоревав вдосталь о своей судьбе, Одиссей,
спохватившись, немедленно пересчитывает богатые дары феаков. Он
припадает в умилении к родной земле, но ухитряется сочинить по-
разительную по выдумке историю, удивив ею даже богиню Афину.
«Скорбью безмерной крушась» «в жестокой тоске по отчизне», Одиссей
все-таки со свойственным ему практицизмом по совету Афины прячет
свои сокровища в пещеру нимф; а затем они оба, сидя под старой
оливой, обдумывают, как бы погубить наглых женихов.
Здесь раскрываются два мира. Один — древний, полный ужасов,
страхов и чудес, с которыми сталкивается Одиссей с опасностью для
жизни, но гордый преодолением ужаса. Это явные чудовища, такие,
как Полифем — одноглазый сын Посейдона, людоед (его ослепил Одис-
сей), Скилла и Харибда (Одиссей проплыл мимо них). Сирены тоже
людоеды, только сладкоголосые, но Одиссей слушает их пение, при-
вязав себя к мачте. Злая колдунья Кирка не только зачаровывает
путников, превращая их в животных, но и сама поддается чарам
Одиссея. Что же касается нимфы Калипсо, то она даже как будто не
причиняет никакого физического вреда, но зато семь лет не выпускает
из любовного плена Одиссея, вполне оправдывая свое имя — «Та, что
СкРЫвает». Она уводит человека от дорогой ему жизни. Забвением
182
Греческая мифология. Классический период Боги
родины, утерей памяти грозит Одиссею страна лотофагов, а милые и
добрые феаки тоже обладают притягательной магией сказочного бла-
женства. На чудесном кораблике, управляемом мыслью кормчего, за
одну ночь доставляют феаки Одиссея на родину. Но они могут и не
выпустить полюбившегося им героя, который глубоко задел чувство
царевны Навсикаи, мечтавшей именно о таком супруге.
Одиссею помогают великие Олимпийские боги, спасая его в мире,
полном явных и тайных опасностей. С помощью Гермеса и его вол-
шебной травы Одиссей обращает во благо злое чародейство Кирки
Афина убедительной речью склоняет Зевса вернуть своего любимца
на Итаку, а Калипсо повинуется приказу все того же Гермеса, со
слезами собирая Одиссея в путь. Мудрая Афина и мудрый Одиссеи
неразлучны. Особое, интимно-теплое дружеское чувство привязывает
богиню к этому великому выдумщику и многострадальному скитальцу.
Афина, можно сказать, прямо любуется Одиссеем как детищем своей
выучки. Никогда не появляясь перед ним в своем божественном ве-
личии, Афина незаметно следит за Одиссеем, попадается ему на пути
то в виде прекрасной девы, то в облике друга и ровесника Одиссея,
Ментора, то пастуха в утро высадки Одиссея на Итаке. Ночью перед
побоищем женихов Афина сама несет светильник, освещая путь Одис-
сею и Телемаху, которые прячут оружие в укромном месте. Во время
боя с женихами Афина маленькой ласточкой сидит на закопченной
потолочной балке, подбадривая своего друга и его товарищей. Наконец,
грозная Афина во время последней схватки Одиссея с мятежниками
устрашает их и устанавливает мир на Итаке.
Одиссей прославлен в героической мифологии как странствующий
герой, который преодолевает стихию древнего ужаса, вступая в союз
с мудрыми богами Олимпа.
Более того, наш герой одинаково хорошо орудует веслом и топором,
мечом и луком, «многоумный» и «многоопытный», он наподобие ма-
стера-демиурга пытается сам строить свою судьбу. Помощь богов от-
нюдь не мешает Одиссею в его самостоятельном, творческом отношении
к жизни. Борясь с бурей на море, Одиссей как бы борется с самим
Посейдоном, заметившим на море своего врага и наславшим страшную
бурю. Когда море затянулось мглой, а волны вздымаются громадами
и мачта сломана, Одиссеем овладевает отчаяние, он в кипящей и
бурлящей воде тщетно хватается за плот. Морская богиня Левкотея
бросает ему спасительное покрывало, но Одиссей не может расстаться
со своим плотом. Уже плот разбит Посейдоном, сам Одиссей носится
по бурному морю третьи сутки, и перед ним встают скалистые утесы
неведомой земли. Упрямо карабкается Одиссей по прибрежным скалам,
обдирая кожу, Афина, изумленная таким мужеством, приходит ему
на помощь.
Чего в этой сцене больше — самостоятельности Одиссея или его
зависимости от богов? Самостоятельность Одиссея подчеркивается не
Одиссей. Многоумный и многострадальный герой
183
Одиссей убивает женихов
раз, и боги возвращают его на родину, побаиваясь, как бы этот герой
не вернулся на родину, как говорится, «судьбе вопреки». Одиссей
распространяет свою самостоятельность и творческую выдумку не
только на область повседневной жизни, но и на проникновение в
чудеса мира и, главное, на решительное устроение своей судьбы.
Мужество героя, его выдержка, его дерзкое право на самоутверждение
заставляют богов внимать ему и приходить на помощь. Вот почему
Одиссей стал классическим типом интеллектуального героизма, до-
стигшим в этом образе своего наивысшего выражения.
Однако классический героизм развивался еще и по иным направ-
лениям. Одиссей интересен своей собственной судьбой, но были герои,
которые воплощали в себе как бы сгусток энергии героизма той или
иной части Греции или даже всего греческого мира вообще. К таким
героям относятся Тесей и Геракл. Тесей — знаменитый аттический
герой, Геракл — общегреческий.
ТЕСЕЙ — АТТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
Тесей — сын афинского царя Эгея и Эфры, дочери трезенского
царя Питфея, потомка Зевса.
Отец Тесея Эгей был сыном афинского царя Пандиона II, внуком
Кекропса II, правнуком Эрехфея. Значит, Тесей имел среди своих
предков Пандиона I Эрихтония — автохтона, рожденного из семени
Гефеста Землей и воспитанного Афиной — и, наконец, тоже автохтонов
Краная и Кекропса — первого аттического царя. Предки Тесея — мик-
сантропические чудовища, полузмеи-полулюди, мудрые хтонической
мудростью, судившие спор между Афиной и Посейдоном, жившие еще
великого Девкалионова потопа и во время него. Однако Тесей
оказался представителем чистого героизма, будучи одновременно сы-
184
Греческая мифология. Классический период. Боги
ном человека и бога, да еще одного из самых диких и хтонических,
а именно Посейдона. Со стороны матери Тесей происходит от Пелопса^
отца Питфея, Атрея и Фиеста, а значит, от Тантала и, наконец, от
самого Зевса.
Будучи бездетным, Эгей отправился к оракулу вопросить о по-
томстве, но не мог разгадать его ответ. Зато оракул был разгадан
трезенским царем Питфеем, который понял, что власть в Афинах
будет принадлежать потомкам Эгея и, напоив гостя пьяным, уложил
его на ночь вместе со своей дочерью Эфрой. Говорили, что в эту же
ночь к Эфре сошел Посейдон (Аполлод. III 15, 6—7) или же он
сочетался с ней накануне на острове Сферосе.
Таким образом, сын, рожденный Эфирой, имел, как положено
великому герою, двух отцов, земного — Эгея и божественного — По-
сейдона. Говорили, что Питфей сознательно распространял слух об
отцовстве Посейдона, так как этого бога особенно почитали в Трезене.
Уходя от Эфры, Эгей просил воспитать будущего сына, не называя
имени отца, но оставил ему свой меч и сандалии, положив их под
тяжелым камнем. Когда Тесей возмужал, он по совету матери поднял
этот камень, надел сандалии отца, вооружился его мечом и тем самым
как бы приобщился к магической силе предшествующих поколений,
владевших этим мечом и направляющих его действия. Тесей тайно
отправился на розыски отца, так как была опасность захвата власти
в Афинах Паллантидами, детьми младшего брата Эгея — Палланта,
претендовавшего на власть из-за бездетности Эгея. Еще до своего
ухода из Трезена Тесей, став юношей, посвятил прядь волос богу
Аполлону в Дельфах, тем самым как бы вручая богу самого себя и
заключая с ним союз.
Тесей отправился в Афины по суше, через Коринфский перешеек,
по особенно опасной дороге, где на пути от Мегары и до Афин путников
подстерегали разбойники и душегубы, дети и потомки хтонических
чудовищ. Так он поочередно убил Перифета, Синиса, Кроммионскую
свинью, Скирона, Керкиона и Дамаста (он же Полипемон) и добрался
до Афин (Плутарх. Тесей 8—11). Путь Тесея, отправляемого матерью
к неведомому ему отцу, является одним из вариантов распространен-
ного фольклорного мотива — розыски сыном отца (ср., например, ро-
зыски Телемахом или Телегоном Одиссея). Тесей на пути в Афины
как бы явился двойником Геракла, выполняющим его героические
функции, ибо тот находился тогда в Лидии у Омфалы.
А в это же время в Афинах царь Эгей попал под власть волшебницы
Медеи, нашедшей у него приют и надеявшейся, что ее сын от Эгея,
Мед, получит право на престол. Тесей явился в восьмой день месяца
Гекатомбеона в Афины как освободитель от чудовищ, прекрасный и
юный, однако не был узнан Эгеем, которому Медея внушила опасения
к пришельцу и заставила Эгея опоить юношу ядом. За трапезой Тесей
вытащил свой меч, чтобы разрезать мясо, и отец узнал сына, отшвыр-
Тесей — аттический герой
183
л чашу с ядом, и, обрадованный, представил Тесея афинянам. По
иной версии, Эгей отправил незнакомца на охоту за Марафонским
быком, разорявшим поля, и, когда Тесей одолел его, на пиру преподнес
ему яд, но тут же узнал сына и изгнал Медею (Аполлод. Эпит. I
j__б). Тесею пришлось также бороться с пятьюдесятью Паллантидами,
которым он устроил засаду, истребив двоюродных братьев. Так Тесей
утвердил себя как сын и наследник афинского царя и спаситель Аттики
от разорения и бесправия.
Тесей прославил себя как достойный наследник царской власти и
во время столкновения Афин с царем Миносом, требовавшим раз в
девять лет приносить в дань семь юношей и семь девушек как ис-
купление за гибель своего сына Андрогея, будто бы коварно подстро-
енную Эгеем (хотя есть сведения об убийстве его в Фивах). Когда
Минос приехал в третий раз за данью, Тесей решил отправиться сам
на Крит, чтобы помериться силой с чудовищем Минотавром, на съе-
дение которому обрекались жертвы. Хотя корабль отправился под
черным траурным парусом, Тесей, уверенный в победе, повез с собой
запасной — белый (Плутарх. Тесей 17).
По пути на Крит Тесей доказал Миносу свое происхождение от
Посейдона, не менее важное, чем происхождение самого Миноса от
Зевса, достав со дна моря перстень, брошенный туда Миносом. Тесей
и его спутники были помещены в Лабиринт, где герой убил Минотавра,
тем самым подняв руку на чудовище, рожденное быком Посейдона
или даже самим Посейдоном, если считать быка ипостасью бога. Герой,
рожденный Посейдоном, таким образом, уничтожил чудовище, по-
сланное на землю тем же божеством. Из Лабиринта Тесей и его
спутники вышли благодаря нити царской дочери Ариадны, влюбив-
шейся в него, причем герой обещал взять ее в жены.
Эту помощь Ариадна оказала по совету Дедала, строителя Лаби-
ринта и родича Тесея. Ночью Тесей с Ариадной и афинской молодежью
тайно бежали на остров Наксос. Однако там Ариадна была похищена
влюбленным в нее богом Дионисом (или оставлена случайно Тесеем),
а Тесей, огорченный утратой, отправился дальше, забыв переменить
паруса, что и стало причиной гибели Эгея, бросившегося в море, когда
он увидел черный парус и тем самым уверился в смерти сына (Аполлод.
Эпит. I 7—11).
Тесей, как и другие герои, сражался с амазонками, напавшими
на Аттику. Он то ли участвовал в походе Геракла, то ли сам пошел
на воинственных женщин походом, похитив царицу амазонок Антиопу
или Меланиппу, а может быть, Ипполиту. Амазонки, желая освободить
Царицу, напали на Афины и взяли бы их приступом, если бы не
посредничество царицы амазонок, ставшей женой Тесея. Она родила
1есею сына Ипполита, того, в которого влюбилась вторая супруга
1есея, сестра Ариадны Федра, родившая Тесею двух сыновей — Ака-
Манта и Демофонта. Говорили, что Тесей женился вторично еще при
186
Греческая мифология. Классический период Боги
первой жене, которая вместе с амазонками напала на свадебных гостей
и пала будто бы от руки мужа. Самому Тесею пришлось пережить
большое горе, когда отвергнутая Ипполитом Федра оклеветала юношу,
обвинив его в насилии, и он, проклятый отцом, погиб на дороге и3
Трезена в Афины. Разъяренный бык, высланный из моря Посейдоном,
нагнал ужас на коней Ипполита, они понесли, и несчастный юноша
погиб, влекомый по камням своими же конями.
Так гневный бог по просьбе Тесея расправился со своим же внуком,
чтобы потом причинить еще большее горе Тесею, узнавшему о неви-
новности Ипполита. Однако с точки зрения мифологического сознания
жертва Посейдону была совершенно необходима, так как в свое время
Тесей убил Посейдснова Минотавра, а это убийство требовало боже-
ственного возмездия и восстановления порядка, искони принятого бо-
гами, когда ни одно покушение на божественную кровь не проходит
бесследно.
Тесей также участвовал в битве с кентаврами, бесчинствовавшими
на свадьбе лапифа Пирифоя, ближайшего друга Тесея. Он участник
Калидонской охоты на вепря, возглавленной Мелеагром. Но в походе
аргонавтов Тесей не мог участвовать, так как он в это время помогал
своему другу, Пирифою, добыть еще одну супругу, самое богиню
царства мертвых Персефону (Аполл. Род. I 101 —104). Вот здесь Тесей
перешел ту меру действий, которая была установлена богами для
героев, и тем самым стал ослушником и дерзостным героем. Он бы
так и остался в Аиде, где навеки был прикован к скале Пирифои,
если бы Геракл не спас Тесея и не отправил его в Афины. В этом
же дерзком духе совершено похищение Тесеем юной Елены Спартан-
ской, дочери Зевса. Однако в отсутствие Тесея, отправившегося с
Пирифоем за Персефоной, Диоскуры отбили сестру, захватив в плен
Эфру, мать Тесея, и передав власть в Афинах Менесфею, правнук}
по отцу царя Эрехфея, изгнанному Тесеем.
Дерзостные поступки сыграли роковую роль в жизни Тесея; вер-
нувшись из своего печального похода в царство Аида, он нашел престол
занятым Менесфеем, уже вошедшим в силу.
Тесей вынужден был отправиться в изгнание, не сумев усмирить
своих врагов. Он тайно переправил детей на Эвбею, а сам, проклявши
афинян, отплыл на остров Скирос, где у его отца когда-то были земли.
Но царь Скироса Ликомед вовсе не желал расстаться со своей землей
и коварно убил гостя, столкнув его со скалы.
Так окончил от руки злодея свою жизнь герой, сбросивший в
давнее время со скалы в море злодея Скирона, сына Посейдона.
Смерть Тесея — это возврат к той стихии, с которой он боролся
и которую постоянно стремился преобразить своим героизмом, но
которая тем не менее тоже давала себя знать в безудержном удальстве
Тесея, в его опасных увлечениях женщинами, в его странствиях за
Тесей — аттический герой
187
поеДелами Афин, которые стоили ему жизни и власти, возвращенной
его сыновьям, прибывшим из-под Трои только после смерти Менесфея.
Однако Тесей навсегда остался в памяти афинян как царь, пы-
тавшийся преобразовать Аттику и внести в ее жизнь устойчивость,
единство всех сословий и демократический дух.
Тесей собрал всех жителей Аттики и сделал их единым народом,
оставив себе место военачальника и стража законов. Он назвал город
Афинами, учредил празднества Панафинеи, дал права гражданства
всем желающим пришельцам, выделил впервые три сословия — бла-
городных, землевладельцев и ремесленников, — проявил благосклон-
ность к простому люду и даже сложил с себя царскую власть,
занявшись устроением общества (Плутарх. Тесей 24—25). Все эти
реформы были проведены Тесеем во цвете лет, и он снискал у всех
греков репутацию неподкупного и справедливого арбитра в трудней-
ших делах.
Он похоронил тела семерых вождей, павших под Фивами, помог
Гераклу, впавшему в безумие, и очистил его от невинно пролитой
крови, он дал у себя приют гонимому Эдипу и его дочерям. И только
будучи уже зрелым пятидесятилетним мужем, Тесей оказался увле-
ченным стихией недозволенных поступков, приведших к крушению
всего дела его жизни.
Афиняне вспомнили Тесея и признали его героем во время гре-
ко-персидской войны, когда, как говорят, в битве при Марафоне
воинам явился герой в полном вооружении, предводительствуя греками.
Пифия предписала также найти прах Тесея и достойно похоронить
его. Кимон в 475 году до н. э. перенес с острова Скироса останки
героя, найденные там в могиле вместе с копьем и мечом, которые
были торжественно погребены в Афинах как останки Тесея. Место
погребения Тесея служило в Афинах убежищем для рабов, бедных и
угнетенных, которым он всегда при жизни покровительствовал (там
же, 36).
Образ Тесея в полной мере можно представить как сложный
мифологический комплекс, включающий в себя черты зрелой классики
(подвиги Тесея и уничтожение хтонизма), рудименты ранней клас-
сики, связанные с происхождением Тесея от Посейдона и, следова-
тельно, со стихией безудержного своеволия, которые смыкаются с
концом классического героизма, нарушающего установленный богами
порядок своей дерзостью, и, наконец, выход за пределы мифологизма
и вхождение в систему полисной идеологии с ее демократическими
идеями и твердым законодательством, когда государственная деятель-
ность Тесея получает полуисторическое и даже символическое ис-
Тадкование.
188
Греческая мифология. Классический, период. Боги
ГЕРАКЛ — ОБЩЕГРЕЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
Героическая личность Тесея прославила Аттику, но подвиги Ге-
ракла оказали воздействие на весь известный грекам мир. Сам он
проявил себя и со стороны небывалой физической силы, как это
свойственно первым героям, и как человек, обладающий великой
душой и духовной мощью. Такой всеобъемлющий тип героя мог по-
явиться на свет только по замыслу великого Зевса, и жизнь его должна
была не походить ни на одну другую.
Еще Прометей, прикованный Зевсом к скалам Кавказа, при встрече
с несчастной возлюбленной Зевса Ио предсказал великую славу ее
потомку Гераклу, своему будущему освободителю.
И действительно, Зевс тщательно подготавливает рождение Ге-
ракла, как бы постепенно накапливая в течение многих поколений
богатырскую силу. Поколений этих до рождения Геракла — целых
двенадцать, так что сам он относится уже к тринадцатому поколению.
Итак, все начинается с любви Зевса к Ио, которую преследования
Геры заставляют бежать в египетскую землю, в дельту Нила. Там у
Ио рождается сын Зевса — Эпаф, символически названный «Дитя
прикосновения». От брака Эпафа и Мемфиды — дочь Ливия, родившая
от Посейдона двух близнецов, Бела и Агенора. У Бела два сына —
Египет и Данай, дети которых Линкей и Гипермнестра, вступив в
брак, стали родителями аргосского царя Абанта.
Сын Абанта Акрисий имел дочь Данаю, которую полюбил Зевс.
Плодом этой любви оказался Персей, славный герой, убийца Медузы
Горгоны, освободитель Андромеды и ее супруг. От брака Персея и
Андромеды — сыновья, среди которых следует выделить двоих, Алкея
и Электриона. Но был еще третий — Сфенел, отец Еврисфея. От брака
Электриона и его племянницы Анаксо, дочери Алкея, родилась дочь
Алкмена, которую взял в жены сын Алкея, ее двоюродный брат —
Амфитрион. Здесь браки между близкими родичами (дядя и племян-
ница, двоюродный брат, который является своей двоюродной сестре и
жене одновременно также дядей, т. е. братом ее матери) напоминают
старинные кровнородственные связи, не давая выйти за пределы одной
семьи той силе, которой наделил ее Зевс.
Наконец Зевс, бывший родоначальником этого знаменитого рода,
вступает в брак теперь уже с дочерью своих собственных потомков —
Алкменой, и плодом этой связи является Геракл, имевший, как это
обычно для героев, также и земного отца, Амфитриона.
Герой, имеющий столь блестящую родословную и подготавливаемый
к великим подвигам, уже с момента своего предполагаемого рождения
ненавидим Герой. И это вполне закономерно. Гера преследовала Ио —
родоначальницу Геракла, ее ненависть перешла на потомка Ио.
Геракл — общегреческий герой
189
в то время, когда должен был родиться Геракл, Зевс обещал
„арство в Микенах тому из потомков Персея, кто появится на свет
именно в этот час, подразумевая своего сына Геракла. Но Гера за-
держала роды Алкмены и ускорила рождение Еврисфея, внука Персея
и родича Геракла.
Таким образом, Еврисфей, появившись на свет до срока, семиме-
сячным, в дальнейшем воцарился в Микенах и Тиринфе. Там ему,
честолюбивому и посредственному правителю, будет служить Геракл,
совершая свои подвиги и находясь по воле богов в зависимости от
ничтожного человека.
Дальнейшая жизнь Геракла исполнена драматизма и полна стра-
даний не только физических, но и духовных.
Геракла, любимого сына Зевса, ожидают тяжкие испытания и
искушения, в которых закаляется его душа и которые, в конце концов,
приведут его к бессмертию, достойному богов.
Геракл теряет тех, кто ему близок, впадая в безумие, насылаемое
Герой, или по воле печального случая. Еще мальчиком он случайно
убил своего учителя, певца и музыканта Лина, брата Орфея. Сражаясь
с кентаврами, он нечаянно ранит своего друга Хирона и тот, мучимый
раной, умирает, расставшись со своей бессмертной жизнью. Нечаянно
от стрелы Геракла гибнет также кентавр Фол, и Геракл сам хоронит
своего друга.
Помраченный умом (безумие наслала Гера) он кинул в огонь трех
своих детей от жены Мегары и двух детей своего сводного брата
Ификла. В безумии, нежданно напавшем на него, он убил Ифита,
своего гостя. От его руки случайно погиб на пиршестве у царя Ойнея
мальчик, родственник царя.
От этих тяжких убийств Гераклу необходимо очиститься в Дельфах,
испытать мучительные болезни, удалиться в изгнание, находиться в раб-
стве (например, у царицы Омфалы). Да и знаменитые его подвиги —
результат повеления пифии как искупление им убийства собственных
детей.
И этот же Геракл спасает от смерти царицу Алкесту, побеждая
бога смерти Таната. Он спасает прекрасную троянскую царевну Ге-
сиону от морского чудища; спасает от брака с кентавром дочь царя
Дексамена; выводит своего друга Тесея из царства Аида; освобождает
Прометея, убив орла, терзавшего его печень; помогает освободить от
лапифов страну дорийского царя Эгимия; учреждает Олимпийские
состязания и сооружает алтари двенадцати богам; принимает посвя-
щение в элевсинские таинства.
Знаменитые двенадцать подвигов Геракла приобретают особую важ-
ность, если учесть их локализацию.
Геракл совершает два первых — убийство Немейского льва и Лер-
нейской гидры — в центре Пелопоннеса, на равнинах Арголиды.
190
Греческая мифология. Классический период. Боги
Один из Диоскуров
Третий и четвертый по-
двиги — победа над Кери-
нейской ланью и над Эри-
манфским вепрем, а также
шестой подвиг — убийство
Стимфалийских птиц — про-
исходят на юге Пелопоннеса,
в горных ущельях, в Арка-
дии.
На западном побережье
Пелопоннеса, в Элиде, Ге-
ракл совершает пятый по-
двиг, очищая конюшни царя
Авгия.
Затем Геракл выходит за
пределы Пелопоннеса. Вось-
мой подвиг — усмирение ко-
былиц Диомеда — происхо-
дит на севере Греции, во
Фракии.
Седьмой подвиг — укро-
щение Критского быка —
происходит уже вне матери-
ковой Греции, южнее, на ос-
трове Крит.
Далее Геракл выходит за
пределы Греции. Девятый
подвиг — война с амазонка-
ми и добыча пояса Ипполи-
ты — происходит на крайнем
юго-востоке, у далекой Фе-
мискиры или у озера Меоти-
ды.
Десятый подвиг — овла-
дение коровами Гериона на
острове Эритея (Красном) —
происходит на противопо-
ложном конце мира, на край-
нем юго-западе.
И наконец одиннадца-
тый и двенадцатый по-
двиги — овладение яблока-
ми Гесперид и Кербером,
которого Геракл вывел из
царства Аида, — имеют ме-
Геракл — общегреческий герой
191
Геракл
192 Греческая мифология. Классический период. Боги
сто на крайнем западе, у берегов Океана, где заходит солнце, в стране
заката, у врат смерти.
Таким образом, если представить себе степень распространения
подвигов Геракла, то окажется, что от одной точки в Пелопоннесе,
где он сам родился и где совершил первые два деяния, постепенно
начинают расходиться круги, как от камня, брошенного в воду. И эти
круги захватывают все большее пространство, окружность которого
не умещается ни в Пелопоннесе, ни в самой Греции, ни за ее ближними
пределами, а достигают крайних концов известного грекам мира —
скифских степей востока и берега Океана на западе.
Подвиги Геракла (а кроме главных есть множество второстепенных;
не умещаются ни в одной части Греции, и он по праву может считаться
общегреческим и общечеловеческим героем так же, как Зевс был
отцом людей и богов, а не каким-либо местным божеством.
Да и сами деяния Геракла не ограничены только применением
физической силы или только решениями ума. Он душит собственными
руками Немейского льва, срубает головы Лернейской гидре, с помощью
своего племянника Иолая прижигая их огнем. Но он умело использует
яд гидры, напитав им стрелы, а шкура льва служит ему надежнее
боевых доспехов.
Керинейская лань и Эриманфский вепрь захвачены им живыми с
большим умением — лань, изнемогая от преследования, попала в руки
Геракла, раненная им, а вепря, загнанного в глубокий снег, достаточно
было связать. Стимфалийских птиц Геракл выгнал из леса медными
трещотками (подарок Гефеста), а затем уже перестрелял. Кобылиц
Диомеда Геракл погнал к морю, зная, что им будет некуда деться.
И если ему пришлось убить царицу амазонок, чтобы завладеть се
поясом, то в этом была повинна Гера, призвавшая амазонок к сра-
жению. Коровы Гериона, Марафонский бык и адский пес Кербер были
взяты только силой, но зато скотный двор царя Авгия Геракл очистил,
применив и сноровку и сообразительность: он отвел через сооруженный
канал воды двух рек и пустил их через скотный двор, так что горы
навоза и нечистот были унесены потоками воды.
Что же касается яблок Гесперид, то здесь Геракл проявил предус-
мотрительное благоразумие, послушавшись совета Прометея обратить-
ся за помощью к Атланту, брату Прометея, на краю земли державшему
на своих плечах небесный свод.
Геракл взялся подержать небесную сферу, пока Атлант добыл ему
три яблока из сада Гесперид. Но когда тот не захотел снова взвалить
на себя тяжкое бремя, Геракл прибегнул к хитрости (по совету все
того же Прометея), попросив Атланта на время подержать небо, пока
сам Геракл не сделает подушку под эту тяжкую ношу. Однако по
другой версии Геракл убил дракона Ладона и, перепугав нимф Гес-
перид, добыл у них яблоки. Характерно, что Геракл принимает советы
Геракл — общегреческий герой
193
Подвиги Геракла (прорисовка). Слева направо сверху вниз: Немейский лев,
Порнейская гидра, Стимфалийские птицы, Критский бык, Керинейская лань,
пояс царицы Ипполиты, Эриманфский вепрь, кобылицы Диомеда, великан
Герион, золотые яблоки Гесперид, Кербер, очистка Авгиевых конюшен
13 Зак 3903
194
Греческая мифология. Классический период. Боги
от Прометея и следует этим советам, уже в этом проявляя и свои
ум, и понимание силы мудрости Прометея.
Геракл, как и подобает истинному герою, спасает людей от ист-
ребляющих их чудовищ. Но ряд его деяний является демонстрацией
вообще безграничных возможностей героического духа и после их
завершения не имеет как будто бы практических результатов.
Так, Геракл доказывает своими подвигами, что героическая лич-
ность способна поколебать извечный страх человечества перед смер-
тью — он борется с Танатом — богом смерти, отнимая у него Алкестх,
единоборствует с богом Аидом, выводит из царства мертвых Тесещ
умерщвляет корову из стада Аида, выводит пса Кербера на землю.
Он овладевает яблоками вечной молодости из сада Гесперид и даже
несет на своих плечах небесный свод.
Но боги не могут допустить нарушения равновесия жизни и
смерти, ограниченности людей и всемогущества бессмертных. Вот
почему законы, на которых строится мир, остаются непоколебимыми.
Наступит время, и смерть все равно настигнет Алкесту, как и все
живое; бог Анд все равно непобедим для героя и вечно восседает на
своем золотом троне в царстве мертвых; пес Кербер по-прежнему
на своем месте и стережет вход в преисподнюю; яблоки, дарующие
молодость, снова возвращены Афиной или Герой в сад на краю света,
сын титана Иапета Атлант вечно сгибается под тяжестью небесного
свода, как это было ему предписано наказанием Зевса (Атлант
выступал против Зевса на стороне титанов).
Итак, в мире царит установленная богами гармония, но герой
доказал, что человечество принципиально готово и в состоянии поку-
ситься на нее. Вот почему Геракл стоит на одном уровне с богами.
Он натягивает свой лук, угрожая богу Гелиосу и требуя его золотой
челн (Аполлод. II 5, 10); он вступает в единоборство с Аполлоном,
желая вместо Дельфийского храма установить свое прорицалище (там
же, 6, 2); он наносит рану Аиду, сражаясь с пилосцами, которым
помогал бог (там же, II 7, 3); он освобождает Прометея, прикованного
по воле Зевса (там же, II 5, И). Геракл убивает сына Земли и
Посейдона Антея; сына Посейдона — Еврипила (там же, II 7, 1); сына
бога Ареса — Кикна (там же, II 5, 11); и Зевс не только попусти-
тельствует ему, но и охраняет своего сына, вовремя метнув перун.
когда Арес приходит на помощь Кикну и когда Аполлон ополчается
на Геракла, или он уносит Геракла с поля боя, когда тот тяжело
ранен (там же, II 7, 1).
Зевс, испытывая мощь Геракла, берет его в союзники. Когда боги
сражаются с гигантами, по совету мудрой Афины на стороне Зевса
находится Геракл. Это он сначала сразил гиганта Алкионея стрелой'
а затем, и тоже по совету Афины, совлек его с земли Паллены,
которая возвращала ему жизнь, и убил. Геракл убил из своего лука
гиганта Порфириона, великодушно спасая Геру. Стрелы Геракл3
Геракл — общегреческий герой
195
побивали погибающих гигантов, поверженных Зевсом (там же, I 6,
1-2). , т
Геракл является союзником богов и когда ими задумывается 1ро-
янская война. Лук Геракла, перешедший к герою Филоктету, нахо-
дящемуся под Троей, — залог победы ахейцев над врагами. И если в
свое время Посейдон и Аполлон в гневе на царя Лаомедонта разрушили
по основания Трою, то Геракл повторяет это деяние и также разрушает
Трою, действуя вместе с Теламоном еще за поколение до великой
впйны. Он ополчается на Трою, так как царь Лаомедонт не отдал
ему в счет обусловленной платы знаменитых Зевсовых коней после
освобождения Гесионы от чудовища. Человеческая неблагодарность
возмущает Геракла так же, как некогда она возмутила Аполлона и
Посейдона.
Последним подвигом и последним испытанием для Геракла является
его смерть, невольной причиной которой была его жена Деянира, а
прямой — месть умирающего от руки Геракла кентавра Несса, вру-
чившего Деянире под видом любовного зелья смертельный яд. Охва-
ченная ревностью Деянира пропитала ядовитой кровью кентавра одеж-
ду Геракла, намереваясь вернуть его любовь. Тогда Геракл, охваченный
пламенем и терпя невиданные страдания, взошел на костер, разло-
женный на горе Эте, чтобы в его огне покончить с пожирающим нутро
жаром.
Приняв мученическую смерть, Геракл был вознесен Зевсом на
Олимп, где Гера во искупление своей ненависти отдала ему в жены
свою дочь Гебу и где Геракл, став бессмертным, проводил вечность
вместе с блаженными богами.
Однако характерно, что этот счастливый конец, столь желаемый
для великого Геракла, берется под сомнение. Герой гомеровской «Одис-
сеи» (XI 601—626), спустившись в царство мертвых, встречает там
«священную силу» Геракла, его тень, блуждающую по асфоделевому
лугу, в то время как сам он находится на Олимпе. Геракл, как
рассказывал Одиссей, подобный темной ночи, держал в руках лук со
стрелой, готовый, если понадобится, тотчас же ее спустить с тетивы,
а перевязь на его груди сияла золотым блеском, и на ней искусно
были изображены львы, медведи, вепри, схватки и битвы. Геракл
обратился со скорбными словами к Одиссею, признавая в печали, что
°н, сын Зевса Кронида, испытал бесконечные страдания, подчиняясь
недостойнейшему мужу, исполнял тяжелейшие труды, а также овладел
псом Аида.
Это признание красноречивее всего свидетельствует о неуверен-
ности в счастливой посмертной судьбе героя, хотя обычно считается,
только двое из сыновей Зевса — Дионис и Геракл — достигли
шественного достоинства. И оба — после мучительной смерти, а
Ракл еще после тяжких трудов, которые есть не что иное, как
196
Греческая мифология. Классический период. Боги
подвиги и страдания одновременно (на это же указывает греческий
язык, где слово «athlos» означает и то и другое вместе).
КРАСОТА ГЕРОИЧЕСКОГО БЫТИЯ
В эпоху классической мифологии не только боги беспечально оби
тают в золотых дворцах, обладая полнотой власти и радуясь своей
безграничной силе. Дети и потомки богов, герои, совершающие не-
бывалые подвиги, создают свой особый мир, тоже исполненный вели-
колепия и блеска, что, однако, как мы знаем, не исключает ни трудов,
ни страдания, ни неизбежной смерти.
Герой по праву мыслит себя в конечном счете происходящим о г
Зевса, т. е. «Зевсовым» или, как в дальнейшем стали говорить, «бо-
жественным», так как греческое прилагательное «dios» означало то и
другое вместе. Отсюда — сознание своего царского, освященного богами
достоинства, которое воплощено в скипетре — знаке власти. Потомок
Зевса Агамемнон не расстается со своим скипетром работы Гефеста.
Когда-то Гефест подарил его Зевсу. Зевс же передал скипетр Гермесу,
а тот герою Пелопсу, Зевсову внуку. От Пелопса этот скрипетр попал
к его сыну Атрею, затем к брату последнего, Фиесту, и наконец к
Агамемнону, законному владыке Аргоса (Ил. II 100—108).
Герой ощущает тесную связь со своими предками, и никто из
потомков не может сравниться с ним в силе и славе, как, например,
это подтверждает старец Нестор, вспоминая Тесея и Пирифоя (там
же, I 260—268). Поэтому уже одним своим видом герой отличается
от других людей.
Так, Агамемнон глазами похож на Зевса, станом — на Ареса, а
грудью — на Посейдона. Аякс, сын Телемона, превосходит всех oi-
ромным ростом, силой, шириной плеч. Но зато Менелай и Одиссей
умеют хорошо говорить. Один — отчетливо, коротко, быстро, а у дру-
гого слова устремляются из уст, как снежная вьюга.
Оружие героя великолепно и устрашающе. Агамемнон гордится
своей броней с десятью стальными, двадцатью оловянными и двенад-
цатью золотыми полосами, по которой извиваются искусно сработанные
темно-синие змеи. На его щите — десять медных кругов с изображе-
ниями Горгоны, Ужаса и Бегства. На ремне щита — черный дракон
с тремя головами. Шлем — с двумя гребнями и конской гривой. Щит
Ахилла — целое произведение искусства.
На перевязи Геракла мастерски изображены огненноокие львы,
медведи, вепри, жестокие схватки, битвы и убийства.
Аякс — обладатель огромного семикожного щита, покрытого вось-
мой, медной полосой.
А копья воинов, сделанные из стволов ясеня, столь мощные, что
пробивают шесть слоев кожи щита. Герои мечут друг в друга громадные
Красота героического бытия
197
камни, но медь Аяксова щита, страшно взревев, выдерживает этот
удар, зат0 щит Гектора пробит Аяксом, метнувшим еще больший
камень, похожий на жернов.
Однако, если старшие герои ценили больше мощь и хитрость, то
молодое поколение участников Троянской войны понимает толк в
красоте, воплощенной и в людях, и в вещах, сделанных человеческими
пуками, и вообще в любых проявлениях жизни. Боги делают своих
любимцев особенно прекрасными, как это совершила, например, Афина
с Одиссеем, облекая его прелестью, заставляя его буквально светиться
красотой (Од. VI 229—237).
Герой чаще всего русоволос или волосы его цвета спелой ржи, как
у Ахилла, а то и светло-золотые или даже огненно-блистающие, как
у Одиссея и Менелая, или они у того же Одиссея подобны цветам
гиацинта. Прекрасны и супруги героев. Так, Пенелопа, верно ожида-
ющая мужа двадцать лет, неизменно прекрасна. Красота ее не ума-
ляется и не исчезает, хотя Пенелопа не раз проливала слезы. Накануне
встречи с супругом Афина усыпляет ее сладким сном, умащает лицо
Пенелопы амвросийной красотой, делает ее выше и белее, чтобы
привести в изумление всех ахейцев.
Несмотря на все превратности судьбы, сияет красотой Елена, под-
тверждая мифологические представления о неизменяемой во времени
наружности героя в соответствии с неизменяемой его сущностью.
И сама красота героев, вполне в духе мифологической эстетики, фи-
зически ощутима и телесна. Ее можно осязать, брать в руки, ею
можно натереться, ее можно пролить, и она светоносна, заставляя
прекрасного человека светиться и изумлять всех своим сияющим бле-
ском.
Герой не всегда одет в мощную броню. Он с не меньшим удов-
летворением облекается в мягкий прекрасный хитон, в пурпурный
двойной плащ, покрытый пушистой шерстью, надевает прекрасные
сандалии, но не забывает взять в руки скипетр или копье или надеть
на серебряном ремне меч, выходя к военному стану.
Герой живет в мире, где он сражается и с чудовищами, и с
природными стихиями, создавая основу для мирной жизни, полной
творческого отношения к труду и утверждения высоких ценностей
человечности.
Эта жизнь изобилует прекрасными вещами, сделанными руками
человека. В роли демиурга, т. е. мастера и одновременно художника,
выступают не только боги, но и люди, подтверждая всей своей дея-
тельностью нераздельность искусства и ремесла, характерную для
треков. Если нимфа Калипсо занимается ткацким делом как настоящая
ткачиха, то не менее прилежно ткет нескончаемую ткань Пенелопа.
Царевна Навсикая с девушками-служанками стирает «блестящие одеж-
Ды» всего своего семейства, включая пятерых братьев, двух женатых
и трех холостых (Од. VI 26, 57—65). Трудятся ткачихи в доме Одиссея
198
Греческая мифология. Классический период. Боги
под зорким взглядом Евриклеи. Прядет пряжу прекрасная Елена. Сам
Одиссей умело валит огромные деревья и строит плот. Он же некогда
своими руками сделал резное ложе для себя и Пенелопы.
В этом мире все, что сделано с уменьем, — прекрасно и хорошо
так же, как и вся действительность, созданная богами, прекрасная
хорошая и священная. В героическом бытии разрисовывается каждая
вещь — будь то ожерелье Пенелопы с золотом и янтарем, сияющее
как солнце, медный ключ с ручкой из слоновой кости, великолепная
перевязь Геракла, излучающая блеск, или ложе, украшенное Одиссеем
золотом, серебром и слоновой костью.
Герои живут в прекрасных покоях. Роскошный дворец Менелая
сияет медью, золотом, серебром, электром и слоновой костью, как бы
освещенный солнцем или луной (там же, IV 71—73). Великолепен
дворец Алкиноя, сиянием подобный солнцу или луне, где стены из
меди с темно-синим карнизом, золотые двери, косяки и притолока из
серебра, медный порог и золотое дверное кольцо. Там золотые и
серебряные собаки, изваянные Гефестом, мягкие кресла, золотые юно-
ши, держащие в руках яркие факелы. Сад при дворце полон груш,
гранатов, яблонь, смоковниц, олив, винограда, грядок с овощами. Й все
это изобилие плодоносит летом и зимой без конца, овеваемое теплым
Зефиром (там же, VII 81—132).
Во дворце Менелая сидит вечно прекрасная Елена. В руках у
нее — золотое веретено, под ногами — резная скамеечка, пурпурная
шерсть брошена в серебряный ларец на колесиках. Две серебряные
ванны хранятся в доме Менелая. В серебряном платье, подпоясанном
золотым поясом, с золотым челноком в руках, пышноволосая нимфа
Калипсо обходит ткацкий станок среди виноградных лоз и фиалок.
Нежнейшую луковую пленку напоминает блестящий как солнце хитон
Одиссея. Сверкает белизной чисто выстиранное белье, разложенное
на прибрежной гальке под ослепительным солнцем.
Прекрасные вещи, которыми окружает себя герой, обязательно
светятся и сияют золотом, серебром, слоновой костью, медью. Здесь
все золотое: застежки (там же, XVIII 294), кубки (IV 58), чаши
(III 50), кувшины (XVII 91), пояса (V 232), ремни (XI 610), веретена
(IV 135), двери (VII 88), корзины (X 355), сандалии (I 96), серебряные
тазы (XVII 91), ванны (IV 128), дверные ручки (I 441), ларцы с
золотой каемкой (IV 131), кратеры с золотыми краями (XV
115 сл.).
Меч Агамемнона усеян золотыми гвоздиками (Ил. XI 29) и висит
на золотом ремне (XI 31), на шлеме Ахилла — золотой гребень (XVIII
612), и нити в нем тоже золотые (XIX 382 сл.). Золотые застежки v
Менелая (IV 132) и Одиссея (Од. XIX 226—231), да еще с изображением
схватки золотых оленя и собаки. Светятся серебряные рукояти мечей
(Ил. I 219), серебряные ножны мечей (XI 30—31), серебряные пряжки
на поножах (III 330—331), серебряные гвоздики на ножнах (III 334;
Красота героического бытия
199
Вознесение Геракла на Олимп
XIII 610), серебряный ларец для инструмента (XVIII 413), серебряная
перемычка на форминге (IX 186). Даже волосы героя переплетены
серебром и золотом (XVII 51—52).
Слоновая кость украшает не только стены дворцов, но и ножны
мечей (Од. VIII 404), вожжи колесниц (Ил. V 503), кресла (Од. XIX
56), великолепное ложе (XXIII 199—200).
Что же говорить о блеске меди, когда ею светятся все боевое
оружие и все бытовые предметы, такие, как тазы, котелки, блюда,
ножи, терки, ключи, крючки и т. п. Единственное, чего здесь нет в
изобилии, так это железа — невиданного сокровища, о котором только
мечтают или обещают в дар, но время которого явно не наступило и
придет по окончании героического века.
Герой, живущий среди всего этого великолепия, любит мягкие,
прекрасные разукрашенные постели из овечьих шкур с пурпурными
подушками и пушистыми одеялами, покрытые тонкими льняными
тканями, пурпурными покрывалами (Ил. XXIV 644) или коврами,
которыми вообще покрывают кресла и столы, ставя на них серебряные
кратеры, золотые корзины с угощениями и золотые кубки (Од. X
357). Заметим, что сосудов здесь множество. Кратеры, в которых
200
Греческая мифология. Классический период. Боги
смешивают вино с водой, чаши, кубки, бокалы, чарки, рюмки, и все
это разной величины и формы. Ставится эта посуда на прекрасно
полированные, серебряные, а то и просто хорошо тесанные столы
Сидят за столами на полированных или плетеных стульях, на креслах
иные из которых удобны для какого-либо занятия, имеют скамейку
для ног, покрыты густой овчиной, другие же — с широкой спинкой
предназначены для отдыха.
Герой, будь то старики Феникс или Приам, юный Телемах или
Одиссей, с наслаждением укладывается на теплое ложе (Ил. IX 660
сл.; Од. IV 296—299; VII 335—338), разделяя его с супругой (как
Одиссей с Пенелопой) или с любимой пленницей (как Ахилл с пре-
красноланитной Форбантой, как Патрокл с легкой станом Ифидой, —
Ил. IX 663-667).
С таким же удовольствием герой принимает ванну и натирается
маслом (Одиссей у феаков — Од. VIII 449—451; у Кирки — там же,
X 361—364; Телемах в доме Менелая — там же, IV 47—50).
На пирах герой услаждает свой слух пением и игрой на форминге
или кифаре искусных певцов вроде Демодока и Фемия, причем эти
певцы, вдохновленные Музами, «божественные» и, что не менее важно,
«голосистые» (там же, XXII 376).
Ублажаются герои и танцами веселых скоморохов (там же, IV
18—19) или юношей (там же, VIII 258—267) и в пиршественных
залах, и на специальных площадках.
В конце концов оказывается, что герои не только сами прекрасны
и не только любят прекрасное, но еще испытывают великое наслаж-
дение, созерцая искусную работу (Ил. XIX 18—20), красоту дворца
(Од. IV 47), слушая прекрасное пение (там же, I 421), проводя
время на пиру (там же, VIII 429), беседуя между собой (Ил. XV
393).
Таким образом, жизнь героев на земле вполне созвучна бытию
богов на Олимпе, но с одной существенной разницей. На земле герои
смертны и проводят жизнь в тяжких трудах и подвигах, почему
особенно ценятся ими краткие радости красоты и наслаждения. Жить
для героя значит «видеть свет солнца», и сын богини Фетиды, великий
герой Ахилл, находясь в царстве смерти, мечтает хотя бы ненадолго
явиться под яркое сияние дня, лишь бы не царить среди мертвецов
и подземного мрака (Од. XI 489—501).
Утешительной для героев бывает мысль о том, что поколения
людей схожи с поколением листьев на деревьях. Те и другие неизбежно
гибнут, но чтобы снова родиться и снова зазеленеть (Ил. VI 146—149) -
Утешением служит и память о деяниях героев, которые будут про-
славлены в прекрасных песнях (там же, IX 189).
Обитатели же Олимпа не нуждаются в утешении. Они бессмертны,
и наслаждение красотой есть сущность их вечного бытия.
Мифы о конце героического века
201
МИФЫ О КОНЦЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ВЕКА
ПРОКЛЯТИЯ, НАЛОЖЕННЫЕ БОГАМИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ГЕ-
РОЕВ И ИХ ПОТОМКОВ. Боги, создавая героев в течение многих
поколений, не только даровали им доблести и славу, не только ис-
пытывали их в подвигах и трудах, но и зорко следили за тем, чтобы
присущая им сила была обращена на благо.
Однако герои, ощутив свои почти безграничные возможности, воз-
гордились и стали злоупотреблять доверием богов.
Причин для гордости было много.
Внучка Зевса Ниоба, дочь Тантала, гордилась числом своих сыновей
и дочерей (то ли двенадцатью, то ли четырнадцатью) и на этом
основании сочла себя выше самой богини Лето, матери только двоих
детей, но зато каких — Аполлона и Артемиды. Ниоба забыла о том,
что эти двое — боги, а ее многочисленные дети — смертные. По воле
разгневанной богини Аполлон истребил своими стрелами сыновей Ни-
обы, Артемида же — дочерей. Несчастная мать от горя и ужаса ока-
менела. Но, как рассказывают мифы, это боги, сжалившись, превра-
тили ее в скалу. А Ниоба, даже став камнем, все продолжала плакать,
источая капля за каплей влагу.
Внук Аполлона, Фамирид, сын царя Филаммона, гордился своим
музыкальным даром. Он вызвал на состязание самих Муз и похвалялся
перед ними, но был ими наказан за дерзость, побежден, лишен зрения
и дара песен.
Сизиф, потомок Прометея и сын царя Эола, гордился хитростью
ума и всезнанием. Подсмотрев похищение Зевсом нимфы Эгины, он
не преминул сообщить об этом ее отцу, богу реки Асопу, в обмен на
дарование источников воды его родному городу Коринфу. Зевс низри-
нул Сизифа в Аид, где тот вечно занят бесплодным и тяжким трудом,
вкатывая на гору громадный камень, неизменно скатывающийся вниз.
Это ему мы обязаны выражением «сизифов труд».
По другой версии мифа, Зевс послал к Сизифу Смерть, которую
этот герой обманул, заковав в цепи, и люди перестали умирать,
нарушив привычный порядок вещей. Освободив Смерть по воле Зевса,
Сизиф вынужден был все-таки умереть, но из Аида он снова вернулся
на землю, якобы для того, чтобы наказать жену, которая не приносила
жертв подземным богам. Таким образом, Сизиф прожил еще долгие
годы.
Царь из племени лапифов, Пирифой, пытался похитить богиню
Персефону, за что оказался навеки прикованным к скале в пределах
Царства мертвых.
Герой Диомед, сын этолийского царя Тидея, одного из Семерых
в°ждей, шедших на Фивы, настолько был горд своей силой, что в
202
Греческая мифология. Классический период. Боги
битве под Троей, подстрекаемый покровительствующей ему Афиной
ранил Ареса и Афродиту, но Аполлона устрашился.
Сын царя Флегия из племени лапифов, Иксион (по другой версии
его отец — бог Арес), осмелился влюбиться в богиню Геру, но обнимал
вместо нее только призрак, сотканный из облака. По воле Зевса этот
гордец, сравнявший себя с богами, терпит вечные муки, распростертый
на вращающемся огненном колесе то ли в небесных просторах, то ли
в Аиде.
Салмоней, сын царя Эола и брат Сизифа, довел свою гордость д0
предела, объявив себя ничуть не хуже Зевса. Он разъезжал по стране
на колеснице с жалким подобием громов и молний — зажженными
факелами, грохочущими щитами и железными цепями на колесах.
Зевс испепелил этого безумца.
Однако гордость и дерзость героев возрастали, и проступки уже
накапливались в разных поколениях, а благодетельная сила, получен-
ная ими от божественных предков, умалялась и угасала.
Так, к концу II тысячелетия до н. э. появились мифы о героях,
чей род проклят богами за страшные преступления. Подобные мифы
были созданы неслучайно. Героический век вместе с микенской Гре-
цией уходил в прошлое, но какие силы разрушали этот некогда
устойчивый мир, никто не знал и объяснить не мог. Мы-то знаем,
что уходила в прошлое родовая община и рвались те кровнородст-
венные отношения, что крепко держали весь коллектив родичей,
связуя в единое целое предков и потомков. Здесь были свои соци-
ально-экономические причины, исподволь расшатывающие прежнюю
надежную основу патриархальной общины, когда ради захвата власти,
земли, богатства, золота велись разорительные войны в соседних
пределах и в заморских владениях и когда шло интенсивное иму-
щественное расслоение спаянного в прошлом коллектива и выделение
сословной верхушки. А власть басилевсов-«царей» сосредоточивалась
в одних руках не только на войне, но и в мирной жизни, приобретая
наследственный характер. На смену прежнему благочестию выдвига-
лись совсем иные ценности, несравнимые с суровыми доблестями
расцвета героического века.
Властители Микен, Аргоса или Фив, мыслившие себя потомками
богов, истребляли друг друга, питая честолюбивые замыслы и не щадя
ближайших сородичей. Лишь проклятием, наложенным богами на
дерзко возгордившихся героев, могли объяснить современники, доверяя
мифологическому сознанию, такой упадок нравов и такую неразбор-
чивость в средствах.
Известны мрачные истории царственных домов Атридов, потомков
Тантала (Микены), Кадмидов и Лабдакидов (Фивы), Алкмеонидов
(Аргос).
Еще Тантал, сын Зевса, пировал с небожителеями за одним столом,
но, как говорили, похитил там пищу богов — нектар и амбросию. Он
Мифы о конце героического века
203
Раненая Ннобнда
204
Греческая мифология. Классический период Боги
же пригласил богов, в свою очередь, к себе на пир и угостил их
блюдом, приготовленным из тела зарезанного им сына Пелопса. Однако
разгневанные боги не прикоснулись (кроме Деметры, расстроенной
пропажей дочери) к этой трапезе и приказали Гермесу возроди п,
Пелопса к жизни (часть лопатки, отведанной Деметрой, была заменена
слоновой костью), а самого Тантала, разгласившего к тому же тайну,
доверенную ему Зевсом, предали мукам в Аиде, где он испытывает
вечный голод и неутолимую жажду (Од. XI 582—592).
В дальнейшем Пелопе тоже совершил злодеяние. Он убил, не
желая делиться богатством, своего возничего Миртила, с помощью
которого одержал победу в беге колесниц и добыл себе жену Гиппо-
дамию. Миртил, умирая, проклял род Пелопса, и вся последующая
его истории полна кровавых преступлений.
Сыновья Пелопса, Атрей и Фиест, сначала убили своего сводного
брата Хрисиппа, а затем стали питать уже обоюдную ненависть.
Фиест соблазнил жену Атрея Аэропу. С ее помощью он похитил
златорунного барашка, обладание которым было залогом царской
власти. Атрей изгнал Фиеста из города, а жену приказал бросить в
море. Тогда Фиест подослал к брату убийцу — его собственного сына
Плисфена, которого воспитал как своего. Однако Плисфен был схвачен
и умерщвлен Атреем. Затаив злобу, этот последний внешне мирится
с Фиестом и приглашает его на дружеский пир. Там он угощает
брата блюдом, приготовленным из умерщвленных им маленьких сы-
новей Фиеста (см. трагедию Сенеки «Фиест»). Фиест, узнавший за
пиршественным столом об этом злодеянии, проклинает брата и по
совету оракула, вступив в брак со своей дочерью, становится отцом
Эгисфа. Вот этот Эгисф и оказывается, в конце концов, мстителем
за отца.
Мифы повествуют о том, как дочь Фиеста Пелопия впоследствии
вступила в брак с овдовевшим Атреем, как она еще до этого подбросила
рожденного ею Эгисфа к пастухам, воспитавшим его, как мальчик
понравился Атрею, был взят в дом, усыновлен, а затем послан убить
Фиеста. Однако Фиест узнает сына по родовому мечу, и тот, исполняя
волю отца, наконец убивает Атрея (Аполлод. Эпит. II 14).
Цепь преступлений в доме Атридов продолжалась. Врагами стали
двоюродные братья Агамемнон, сын Атрея, и Эгисф, сын Фиеста. Пока
Агамемнон находился в походе под Троей с войсками, Эгисф соблазнил
его жену Клитемнестру. У нее же были свои причины ненавидеть
мужа. Во-первых, Агамемнон насильственно взял в жены Клитемне-
стру, убив ее мужа (брата Эгисфа) и сына от первого брака. Во-вторых,
Агамемнон принес в жертву по требованию Артемиды перед троянским
походом дочь Ифигению, горячо любимую им самим и матерью
Вернувшийся из похода в родной дом Агамемнон убит то ли одним
Эгисфом, то ли обоими любовниками, а заодно убивают и его пленницу,
прорицательницу Кассандру, дочь троянского царя Приама.
Мифы о конце героического века
205
Но сын Агамемнона, Орест, убивает и Эгисфа, и свою мать, мстя
за отца. В знак справедливой мести за попранную власть мужа и
героя Орест очищен от скверны богом Аполлоном и прощен судом
людей и богов в Афинском ареопаге (см. трилогию Эсхила «Орестея»),
По воле Аполлона он в дальнейшем привозит статую Артемиды
из Тавриды, где чуть было не погиб от руки собственной сестры
Ифигении, считавшейся погибшей, но спасенной богиней и ставшей
жрицей Артемиды. Орест возвращается в Микены, убивает сына Эгис-
фа, вступает в брак с Гермионой, дочерью своего дяди Менелая, и
наконец овладевает Аргосом и Спартой. В дальнейшем сын Геракла
Гилл вытеснит его из родных владений в Пелопоннесе, и Орест погибнет
в Аркадии от укуса змеи.
Не менее драматична судьба Кадмидов и Лабдакидов в Фивах,
потомков Зевса и Ио через Агенора, кровными узами связанных также
и с Посейдоном, и с Аресом, и с Афродитой.
Кадм, сын финикийского царя Агенора, правнука Зевса, в поисках
своей сестры Европы, похищенной Зевсом, приходит в самое сердце
Греции, в Беотию, где и основывает город Фивы. Там Кадм убил
рожденного Аресом дракона, стерегущего источник воды. По совету
Афины Кадм посеял в землю зубы дракона, из которых появились
вооруженные люди, так называемые спарты — «посеянные». В борьбе
друг с другом они почти все погибли, но пятеро оставшихся детей
Земли — Хтоний, Удей, Пелор, Гиперион, Эхион — положили начало
знатным фиванским родам. Сам же Кадм после искупительной службы
Аресу вступил в брак с прекрасной Гармонией, дочерью Ареса и
Афродиты. В браке с Гармонией Кадм имел несколько детей, на
которых и пало проклятие богов, и, скорее всего, именно Ареса. Ведь
Кадм умертвил его дракона, и если следовать мифологической логике,
то герой поднял руку даже на самого бога войны, так как змей,
стерегущий источник, был или ипостасью Ареса, или его сыном. По-
добную дерзость можно искупить лишь страданиями Кадма и его
потомков.
Внук Кадма Актеон, сын его дочери Автонои, гибнет, растерзанный
своими же собаками (то ли он увидел купающуюся Артемиду, то ли
сватался к Семеле, любимой Зевсом). Дочь Кадма Ино, обезумев (по
воле Геры, когда Зевс отдал младенца Диониса на воспитание Ино),
бросается со своим сыном Меликертом в море. Третья дочь, Агава,
охваченная вакхическим буйством, растерзывает не признавшего бо-
жественную власть Диониса своего сына Пенфея (в дальнейшем по-
гнут и потомки Пенфея, сыновья Креонта Менекей и Гемон, по-
кончив самоубийством). Четвертая дочь, Семела, возлюбленная Зевса,
гибнет от ревности Геры, но зато становится матерью Диониса, пре-
терпевшего много страданий.
Таким образом, внуки Кадма все во власти страшных стихийных
сил, то ли божественных, то ли природных, сначала разрушающих
206
Греческая мифология. Классический период. Боги
сознание человека, а затем приводящих к гибели. Вспомним, что ведь
и Кадм убил змея, хтоническое существо, так что вполне закономерная
здесь наступательная, тоже стихийная, мощь земли, мстящая потомкам
убийцы. Да и сам Кадм и Гармония, чтобы искупить проклятие богов
(Гигин 6), покинут родные места, примут облик двух страшных дра-
конов, разрушат во главе чужеземных войск свою собственную страну
и по воле Зевса найдут успокоение в Елисейских полях (Аполлод. щ
5, 4).
Однако проклятие богов будет преследовать род Кадма и Гармонии
и дальше, но уже по линии их сына Полидора и всего мужского
потомства этого последнего.
Полидор в браке с Никтеидой («Ночной»), внучкой спарта Хтония
(«Земляного»), породил Лабдака, чей сын Лай благодаря своему не-
честию приумножит новым проклятием старое, родовое. К тому же
женой Лая станет Иокаста, правнучка Пенфея, сына Кадма, вступив-
шая в брак с родичем.
Далее преступления этой ветви Кадмова рода еще более разра-
стутся, особенно когда сын Лая Эдип убьет своего отца и женится на
своей матери, даже и не ведая о содеянном зле. Изгнанный из Фив
после раскрытия преступления, Эдип ослепляет себя, Иокаста кончает
жизнь самоубийством; сыновья их, Этеокл и Полиник, убивают друг
друга, борясь за обладание властью, причем Полиник участвует в
походе Семерых вождей на Фивы. Гибнет и дочь Эдипа Антигона.
Борьбу продолжают Лаодамант, сын Этеокла, и Ферсандр, сын По-
линика. Ферсандр также идет на родной город в числе других Семерых
вождей, так называемых эпигонов, т. е. потомков участников первого
похода.
В битве под Фивами от руки Алкмеона гибнет Лаодамант, защитник
города. Сын Полиника, Ферсандр, ставший правителем Фив, будет
убит мизийским царем Телефом во время первого неудачного похода
ахейцев против Трои.
Так борьба за власть над Фивами приводит к гибели не только
прямых потомков Кадма, основавшего город, но и многих великих
героев, соблазненных богатствами семивратных Фив.
И здесь с проклятым домом Кадма переплетается судьба аргосских
царей. Губительную роль и в первом и во втором походе играет
Эрифила, падкая на богатые дары. Она сестра аргосского царя Адраста
и жена родича, царя-прорицателя Амфиарая. Оба они боролись за
власть в Аргосе, причем Амфиарай убил отца Адраста. Враги внешне
примирились. Адраст, став в Аргосе царем, выдал свою сестру Эрифилу
за Амфиарая, но затаил на него злобу. Поэтому, когда Полиник
собирал вождей на Фивы, Эрифила сыграла в судьбе мужа зловешую
роль.
Она была подкуплена даром Полиника — ожерельем Гармонии
Оно вместе с пеплосом Гармонии тоже несло на себе часть обшего
Мифы о конце героического века
207
«Маска Агамемнона»
208
Греческая мифология Классический период Боги
Орест и Пилад
проклятия Кадмова рода. Это был к тому же свадебный подарок
Гармонии, преподнесенный Афиной и Гефестом, пропитавшими свой
дар ядом из ненависти к Афродите, матери невесты. Эрифила уговорила
мужа идти в поход, хотя тот, как прорицатель, знал о гибельном
исходе похода и взял клятву у своего сына, чтобы он отомстил за
него матери.
Под стенами Фив погибли все вожди, кроме Адраста, а сам Ам-
фиарай вместе с колесницей по воле Зевса был заживо поглощен
разверстой землей (там, где в последующее время был оракул Амфи-
арая) .
Приблизительно через десять лет, когда возмужали дети вождей,
осаждавших Фивы и нашедших там смерть, они собрались уже в
новый поход. И снова Эрифила, теперь уже в качестве матери Алк-
меона, была подкуплена Ферсандром, сыном Полиника. Она получила
в дар великолепный пеплос все той же Гармонии, чье ожерелье ее
некогда соблазнило. Эрифила уговорила Алкмеона возглавить поход
эпигонов. После убийства Лаодаманта, Эдипова внука, защитника
Фив, Алкмеон вернулся домой, но, памятуя о клятве, данной отц)-
требовавшему отомстить коварной Эрифиле, он убивает свою мать
Мифы о конце героического века
209
Однако, преследуемый Эриниями, богинями мести, Алкмеон впал
в безумие и после долгих странствий, попав к царю Фегею, был им
очищен от скверны, получил в жены его дочь и принес ей в качестве
свадебного дара ожерелье и пеплос Гармонии. Но проклятие богов
продолжало действовать, и страну постиг голод. Тогда Алкмеон по
пешению Аполлона оставил семью, отправился к течению Ахелоя,
был очищен этим последним от убийства и женился на его дочери
Каллирое. Жена тотчас потребовала от него все тот же роковой дар —
ожерелье и пеплос Гармонии. Вынужденный прибегнуть к обману,
Алкмеон получил от Фегея эти драгоценности. Он обещал принести
их в храм Аполлона, но преподнес новой жене.
Когда обман раскрылся, сыновья Фегея убили Алкмеона, что по-
служило в дальнейшем поводом для мести Каллирои за мужа. Теперь
уже ее сыновья умертвили убийц Алкмеона, самого Фегея и его жену.
Только после всех этих несчастий ожерелье и пеплос, обладавшие
губительной силой проклятия, были наконец посвящены сыновьями
Алкмеона Дельфийскому богу (там же, III 7, 2—7).
Характерно, чго здесь в канун заката героического века божест-
венное проклятие материализуется в ожерелье и пеплосе, исполняющих
функции архаических фетишей. Обладание таким фетишем делает
человека сопричастным заложенной в нем губительной силе и целиком
зависимым от нее. Нейтрализация фетиша возможна только в том
случае, если он возвращен его первым обладателям, богам. Ожерелье
н пеплос, попадая в храм Аполлона, бога, очищающего от проклятий
и освобождающего от заклятий, теряют свою губительную силу и
становятся предметом благочестивых поклонений. Героические же
семьи, попавшие под проклятие богов, в течение долгих лет истребляют
друг друга, утрачивая былую власть, силу и славу.
ПРОКЛЯТИЯ, НАЛОЖЕННЫЕ БОГАМИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ НА-
РОДЫ. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА И ГИБЕЛЬ ГЕРОЕВ. Нечестием, судя
по мифам, отличались не только отдельные царствующие династии,
но даже целые народы.
Так, Платон пишет об Атлантиде, используя древние легенды,
переданные египетскими жрецами Солону. В своих сочинениях «Ти-
мей» и «Критий» он красочно разрабатывает подробности жизни этого
Удивительного острова и тем самым вступает на путь мифотворца,
сохранив интересующую нас в данном случае древнюю идею — о
народе, наказанном богами.
Оказывается, атланты происходили от морского бога Посейдона и
смертной девушки Клейто. Отец оставил в наследство пятерым парам
сыновей-близнецов (т. е. десяти сыновьям) изобильный остров. Первый
®з старшей пары близнецов стал впоследствии царем, а его братья —
старейшинами. По имени первого царя, Атланта, весь народ стал
именоваться атлантами.
14 Зак 19Q3
210
Греческая мифология. Классический период. Боги
Кадм, убивающий дракона
Казалось, что этот народ ожидает счастливая будущность, так как
земля родила все необходимые плоды, таила в своих недрах ископа-
емые, выращивала леса и животных. Атланты и сами приложили
много трудов, чтобы отстроить в центре громадной равнины велико-
лепный город, окружили его каналами, соединенными с морем, создали
гавань, оборонительные кольца, мосты, башни, стены, скрытые стоянки
для кораблей, верфи, мастерские, гимнасии, святилища.
В храме на холме совершали жертвоприношения Посейдону; статуи
бога сияли золотом и медью.
Атланты вели обширную торговлю со всеми странами мира, строго
соблюдая законы, записанные на орихалковой стеле и данные самим
Посейдоном, обладали огромной армией, не используя ее во зло.
Однако с течением времени атланты стали забывать о своем бо-
жественном происхождении, предались бесполезной роскоши и на-
Мифы о конце героического века
211
сдаждениям, презрели доблесть, обнаружили невероятную алчность и
додумывали, на что бы им употребить грозную воинскую силу.
Но Зевс, уже давно наблюдавший за этим любимым богами на-
родом, решил покарать потомков Посейдона, вначале выступив перед
небожителями с речью.
На этом месте повествование обрывается (диалог «Критий» не
дошел полностью), и читателям неведомо задуманное Зевсом наказа-
ние. Однако в другом сочинении Платона — «Тимей» — говорится о
борьбе атлантов с афинянами, о победе свободолюбивых Афин, о
страшном землетрясении и наводнении, которые погубили победителей
и побежденных. Афинское войско погибло в разверзшихся недрах
земли, море поглотило воинскую силу атлантов, сам же остров Ат-
лантида погрузился в пучину.
Если в сочинениях Платона мы имеем философско-литературную
модификацию V в. до н. э. древней мифологической идеи о наказании,
досланном богами некогда любимому народу, то по греческим эпиче-
ским поэмам IX—VII вв. до н. э. — «Илиаде» и «Одиссее» Гомера и
так называемым циклическим поэмам — можно восстановить круг сю-
жетов конца II тысячелетия до н. э., на исходе живого мифологического
творчества.
Эпос, который обычно связывают с событиями Троянской войны
(XIII—XII вв. до н. э.), в основе своей тоже имеет идею божественной
кары. Это то самое вспоминаемое в «Илиаде» «решение Зевса» (I 5),
которое привело к истреблению героев и гибели всего героического
века.
Зевс устал от жалоб матери-Земли, не могущей терпеть тех стра-
даний, которые приносит ей человеческий род своим нечестием. И вот
созрело решение — уничтожить злосчастное человечество, причем не
просто обрушить на него громы и молнии или, как это уже было,
потоп, но заставить людей уничтожать друг друга. Такой коварный
совет был подан богом издевательской насмешки Момом, и Олимпийцы
начали осуществлять свой замысел.
Боги решили снова послать на землю красоту (как некогда Пан-
дору), но такую, чтобы она соблазнила весь героический мир, готовый
ради нее сражаться и умереть. Так на склоне мифологического развития
снова появляется давняя идея губительной силы женской красоты,
влекущей к себе носительницы зла.
Ради исполнения этой цели Зевс вступает в брак с богиней мести
Немесидой, и плодом этого брака является прекрасная Елена, которую
смертные люди считают дочерью Зевса и Леды, супруги царя Тиндара.
Ио привычной мифологической традиции божественные родители всег-
да Должны иметь свой земной аналог, поэтому распространенная обыч-
но версия называет родителями Елены Тиндара и Леду. Перед нами
Р'Цкий пример тройного понимания родительской пары. Тиндар и
ОДа — первая ступень — земные родители, Зевс и Леда — вторая сту-
212
Греческая мифология. Классический период. Боги
пень — божество вступает в брак со смертной женщиной, третья сту-
пень только для посвященных в высшую тайну: истинные родители —
боги, Зевс и Немесида.
Таким образом, богами создана идеальная, совершенная красота,
но цели ее — зловещи. Поэтому Елена повсюду вызывает восхищение,
любовную страсть, желание обладать ею, т. е. все то, что сопряжено
с борьбой, соперничеством, смертью.
Чтобы возбудить всеобщую войну, боги способствуют приходу в
мир великого героя Ахилла, сына богини Фетиды и царя Пелея. Далее
появляется третье лицо — царевич Парис, сын троянского царя При-
ама. Этот юноша-пастух присудил богине Афродите как самой пре-
красной яблоко и тем самым вызвал ненависть обойденных им Афины
и Геры. Вот почему они яростные враги троянцев и союзницы ахейцев.
Итак, в этом мифологическом сюжете три персонажа готовы вы-
полнить каждый свою функцию. Влюбленный Парис похищает Елену,
супругу спартанского царя Менелая, и Елена, по основной версии,
тоже увлечена Парисом и десять лет находится с ним в Трое, будучи
его женой, хотя часто и тяготится им.
Но так как еще до замужества Елены все сватающиеся к ней
герои дали друг другу клятву не чинить препятствий ее избраннику
и, наоборот, прийти в случае беды ему на помощь, то теперь, после
похищения Елены, все они собираются в поход на Трою, увлекая
множество героев со всех концов Эллады.
Теперь открываются все предпосылки для бесчисленных подвигов
под стенами Трои в течение десятилетия, для соперничества, состя-
зания в уме, силе, ловкости, хитрости и т. д.
Все это подготавливает почву для подвигов и прославления Ахилла,
которому никто из героев не хочет уступить в доблести. Ссора Ахилла
и царя Агамемнона (брата Менелая), главы ахейских войск, начав-
шаяся с пустяка, из-за красивой пленницы, переходит границы личного
спора. Небывалый гнев Ахилла вовлекает в действие мать Ахилла,
Фетиду, а также Зевса, Геру, Афину, Аполлона и вообще всех богов,
разделивших свои симпатии между ахейцами и троянцами.
Борьба героев перерастает в войну народов, подстрекаемых Олим-
пийцами, живо вмешивающимися в земные события. Все кончается
убийством Ахилла (за пределами «Илиады»), смертельно раненного
стрелой Париса, направленной самим Аполлоном, главным защитником
троянцев.
Но смерть Ахилла влечет за собой озлобление ахейцев, хитрость
Одиссея с деревянным конем, обманный захват Трои, пожар, унич-
тожение великого города, избиение троянцев, лишившихся еще раньше
своего славного героя, царевича Гектора (он убит Ахиллом в пределах
«Илиады»). Кто остался в живых, увезен в качестве богатой добычи
победителями, корабли отходят, переполненные золотом, среди воплей
и плача пленниц.
Мифы о конце героического века
213
Менелай готов убить Елену, виновницу всех зол, но она так
прекрасна, что обезоруживает его. Меч падает из рук Менелая, и
любящие супруги отправляются на родину, где их ждет мирное житие,
а после смерти — вечность на Островах блаженных, как и положено
дочери богов и ее супругу, даже если он и происходит из страшного
рода Атридов.
Боги неумолимы к героям, прославленным под Троей. Одни из них
пали под ее стенами, другие среди пожарищ, третьи, впав в безумие,
кончают с собой (Аякс Теламонид), иные гибнут от гнева Посейдона, едва
успев отплыть в море (Аякс Оилид). Есть и такие, которые вернутся домой
в славе, но найдут смерть дома от руки жены и родичей, как царь Ага-
мемнон. Некоторые, вроде Одиссея, будут скитаться десять лет, пока в
полном одиночестве, потеряв всех друзей, не явятся в родной дом, где еще
надо завоевать собственную жену и сразиться с многочисленными сопер-
никами, чтобы, в конце концов, пасть от руки своего сына, незнакомого
отцу и приплывшего из-за моря. А есть и такие, как Диомед, — они
достигнут побережья Италии и обоснуются вдали от родины, дав начало
совсем другому роду. Эней, оставшийся в живых, сын троянца Анхиза и
Афродиты, покинет город с сыном, отцом (жена исчезла, и ему предназ-
начен новый брак) и священными изображениями домашних богов, чтобы
обрести в далекой земле латинян новую родину, новую семью, новый язык
и забыть все, что было дорого прежде, положив основание будущему
величию Рима.
Разрушена не только Троя. В страшной войне, где не было ни
победителей, ни побежденных, кончал свою жизнь героический век.
НАРУШЕНИЕ БОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕРОГАТИВ. Но и в мире
богов тоже к этому времени не все было так уж благополучно. Как
известно, владычество Олимпийцев во главе с Зевсом не раз находилось
под угрозой, и только великое примирение Зевса и Прометея спасло
Зевсов престол от посягательств возможного преемника. Однако гра-
ницы твердо установленных божественных прерогатив постоянно на-
рушались, причем нарушали их герои, дети богов и смертных, те
самые герои, которые пришли в мир, чтобы устроить его по прекрасным
замыслам богов. И что же оказалось? Герои посягали на самый ос-
новной принцип мифологической системы жизни — принцип бессмер-
тия, который создает недоступный людям мир богов, понимает его
как некое идеальное высшее бытие, как лоно непознаваемой судьбы,
Управляющей по таинственным законам смертными и бессмертными.
Любимые сыновья Зевса Геракл и Дионис завоевали себе бессмертие
вопреки установленному миропорядку, а уж каким путем это проис-
ходит — через труды, страдания, мучительную смерть — это их дело,
Дело героев, в чьих жилах течет алая человеческая кровь, а не
есцветный божественный ихор.
214
Греческая мифология Классический период Боги
Сын Аполлона Асклепий — тот и вовсе задумывает воскрешать
людей, но не хитрит со смертью, не обманывает ее, как это сделал
Сизиф (которого она все равно настигла).
Асклепий, став божеством, и другим хочет уделить дар вечной жизни
Человек неуемен в своем самоутверждении. Да ведь и сами боги заложили
в нем эту страсть, и в своих земных делах они опираются на нее, способ-
ствуют ей и незаметно для себя уступают людям часть своей собственной
сущности, и эта потеря страшней и безвозвратней, чем битва с титанами
или сумрак Тартара, где еще есть надежда на борьбу.
В этой борьбе боги побеждали и вытесняли других богов, сохраняя
незыблемым строй вещей, уготованный судьбой.
В конце мифологического развития герои делают попытку вытес-
нить богов — сами становятся богами. И даже мудрый провидец Про-
метей, благодетель человечества, не может предвидеть, что его дары
укрепят и закалят дух, разум, силу и чувства некогда жалких людей
до такой степени, что они сочтут себя достаточно мудрыми и великими,
чтобы обойтись без божественной воли, и станут скептически посме-
иваться над небожителями, внушавшими когда-то страх и преклонение
И наконец происходит небывалое и удивительное событие.
Мудрый кентавр Хирон, сын Кроноса, тяжко страдавший от слу-
чайно попавшей в него стрелы Геракла, отравленной ядом Лернейскои
гидры, принял решение возвратить свое бессмертие Зевсу, чтобы ос-
вободиться от мук.
Мифограф Аполлодор сообщает нам два странных факта. Один гово-
рит о том, что Прометей предложил себя Зевсу в обмен на Хирона Тот
сделал Прометея бессмертным, а Хирон скончался (II 5, 4). Другой сооб-
щает, что Геракл, освободив Прометея по воле Зевса, представил ему
Хирона, который согласился стать смертным вместо Прометея (II 5, 11)
В обоих случаях, видимо, используется версия о смертной сущности Про-
метея, что было характерно для архаической мифологии демонов и богов
Вместе с тем в обоих случаях возвеличивается роль олимпийского Зевса,
который один способен даровать и отнимать бессмертие.
Но нам здесь важна еще одна идея, исполненная чисто человече-
ских, мы бы сказали, высокогуманных чувств.
Прометей исполнен готовности обменяться бессмертием с Хироном,
страдающим невинно и бесцельно. А эта неопределенность мук как
раз и лишает кентавра силы сопротивления и мужества, которые
помогают выносить муки, осознанные высокой необходимостью
Но вместе с этой помощью близкому родичу Прометей взваливает на
себя нелегкую ношу славы страдающего за людей бессмертного бога
Если Хирон мог в отчаянии отбросить бесценный дар вечной жизни,
то Прометей с гордостью и терпением, с сознанием правоты и необ-
ходимости остался на веки вечные мучеником, посвятившим свое
бессмертие человечеству
Мифы о конце героического века
215
Шлем гладиатора со сценами Троянской войны
216
Греческая мифология Классический период Боги
Парис и Елена
Итак, бессмертный бог добровольно уходит в царство смерти, рас-
ставшись с самой сутью своей божественности. И если смертные герои
добивались бессмертия через страдания и муки, то Хирона, сына
титана Кроноса, страдания заставили отринуть вечную жизнь.
Но и в том и в другом случае важно одно — нарушены привычные
принципы и гармония мифологического миропорядка. Открываются
пути для дальнейших необратимых процессов, в том числе и сомнения
в его устойчивости.
Лик мира, с такими трудами завоеванного и охраняемого олим-
пийцами, преображается невиданным образом.
Мифы о конце героического века
217
Похищение Елены
Человечество прощается с наивной мудростью мифологических
чудес, чтобы с помощью знания, дарованного Прометеем, преобразо-
вать жизненную реальность, утверждая в ней свое подлинное бессмер-
тие неустанными трудами, стремлениями, а значит, и неизбежными
страданиями.
Второе тысячелетие до н. э. кончалось кровавыми войнами и
катастрофами. Греция стояла на пороге дорийского завоевания. От-
куда-то с севера на Пелопоннес шли племена, вожди которых называли
себя потомками Геракла.
В первой четверти I тысячелетия до н. э. бедная, разоренная страна
погрузилась во мрак «темного времени». Но и там уже зрели новые
силы, жили воспоминания о былом величии ахейского мира. Стран-
ствующие поэты пели о походах в заморские земли, о богатой добыче,
° прекрасных девах, о божественных предках. В муках столетий рож-
дались песни, те самые «славы героям», о которых мечтали воины,
отваживаясь на гибельный бой.
И уже семь городов спорят о родине поэта. Создан великий гре-
ческий эпос, где древние мифы стали бессмертной поэзией, а поэзия —
и Доныне неразгаданным мифом о вдохновленном богами Гомере.
218
Греческая мифология. Классический период. Боги
Ахилл, перевязывающий Патрокла
ПРИЛОЖЕНИЕ
АПОЛЛОДОР.
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА. ЭПИТОМА 1
V 3. Мемнон, сын Тифона и Эос, с большим войском эфиопов прибыл
под Трою, чтобы принять участие в сражении против эллинов. Он убил
многих из эллинов, в том числе и Антилоха, но погиб и сам от руки
Ахиллеса. Преследуя троянцев, Ахиллес был поражен в лодыжку стрелой
Александра и Аполлона у Скейских ворот. 4. Из-за тела Ахиллеса нача-
лось сражение: Эант убил Главка и дал отнести вооружение Ахиллеса к
кораблям, сам же поднял тело и вынес его из сечи, в то время как Одиссей
отбивал натиск врагов. 5. Смерть Ахиллеса повергла все войско в уныние.
Похоронили его на Белом острове вместе с Патроклом, смешав их кости.
Говорят, что Ахиллес после смерти, находясь на Островах Блаженных,
женился на Медее. В его честь устроили состязания, в которых Эвмел
одержал победу на колеснице, Диомед — в беге, Эант — в метании диска,
Тевкр — в стрельбе из лука. 6. Было решено все вооружение Ахиллеса
отдать в награду самому доблестному, и из-за него вступили в спор Эант
и Одиссей. В качестве судей выступили троянцы, а по иным сообщени-
ям — союзники, и предпочтение было отдано Одиссею. Обиженный Эант
задумал ночью напасть на свое войско, но Афина, вселив в него безумие,
направила его, уже поднявшего меч, на стадо скота. В своем безумии он
стал убивать животных и пастухов, принимая их за ахейцев. 7. Позднее
к нему вернулся рассудок, и он покончил самоубийством. Агамемнон
запретил предавать его тело огню, и Эант единственным из всех, кто погиб
под Троей, был похоронен в гробу. Могила его находится в Ройтее.
, ~ Эпитома — сокращенное изложение. В настоящем издании приведены вы-
">Рки из повествования (гл. V—VI) о событиях после гибели Гектора, о взятии
Рол и отплытии победителей. См. Апполодор. Мифологическая библиотека. Изд.
Подготовил В. Г. Борухович — Л., 1972.
220
Греческая мифология Приложение
Менелай с телом Патрокла
Аполлодор Мифологическая библиотека Эпитома
221
8. Когда уже прошло десять лет войны и эллины пали духом,
Калхант вещал, что Троя не может быть взята без помощи лука и
стрел Геракла. Услышав это, Одиссей в сопровождении Диомеда от-
правился к Фил октету на Лемнос, овладел при помощи хитрости луком
и стрелами Геракла и убедил Филоктета отплыть под Трою. Филоктет
отправился туда и, после того как его исцелил Подалирий, выстрелом
из лука убил Александра. 9. После смерти Александра Гелен и Деифоб
заспорили из-за права жениться на Елене. Так как предпочтение было
отдано Деифобу, Гелен оставил Трою и поселился на горе Иде. Но
когда Калхант сообщил, что Гелен знает оракулы, охраняющие город
Трою, Одиссей подстерег его из засады, захватил в плен и привел в
лагерь.
10. Здесь Гелена заставили рассказать, как можно взять Илион,
и он сообщил следующее: во-первых, если осаждающим будут достав-
лены кости Пелопса, во-вторых, если в сражениях будет участвовать
Неоптолем, в-третьих, если будет выкраден из города упавший с неба
Палладий, при нахождении которого в городе взять Трою невозможно.
11. Услышав это, эллины привезли кости Пелопса, а Одиссея и
феникса отправили на остров Скирос к Ликомеду; там они убедили
Ликомеда отпустить Неоптолема. Неоптолем прибыл к войску, взял
у Одиссея добровольно им отданное оружие отца и убил множество
троянцев. 12. Позднее на помощь троянцам прибыл Эврипил, сын
Телефа, приведя с собой большое войско мисийцев. После того как
Эврипил совершил ряд подвигов, Неоптолем его убил. 13. Одиссей же
вместе с Диомедом ночью отправился к городу и оставил здесь Диомеда,
сам же обезобразил себя и надел нищенский наряд: не узнанный
никем, он вошел в город под видом нищего. После того как Елена
его узнала, он с ее помощью выкрал Палладий, убил многих из числа
охранявших его троянцев и вместе с Диомедом доставил Палладий к
кораблям.
14. Позднее он придумал построить деревянного коня и предложил
изготовить его Эпею, который был строителем. Тот заготовил лес на
горе Иде и сделал коня, полого изнутри и с отверстием в боку. Одиссей
убедил пятьдесят (а как сообщает автор «Малой Илиады», три тысячи)
лучших воинов войти в коня; остальные же воины должны были с
наступлением ночи сжечь свои палатки, выплыть в море к Тенедосу
и стать там на якорь в засаде. С наступлением следующей ночи они
Должны были вернуться обратно. 15. Те повиновались и посадили
лучших из воинов внутрь коня, поставив во главе последних Одиссея,
а на коне начертали следующую надпись: «Благополучно возвратив-
домой, эллины посвятили это благодарственное приношение бо-
!?не Афине». Сами же они зажгли свои палатки и отплыли ночью к
енедосу, где стали на якорь в засаде. На месте прежней стоянки
J*01 оставили Синона, который должен был подать им знак зажженным
Факелом.
222
Греческая мифология Приложение
Разрушение Трои
Аполлодор Мифологическая библиотека. Эпитома
223
16. Когда наступил день, троянцы увидели лагерь эллинов опу-
стевшим; сочтя, что враги убежали, они, обрадованные, втащили коня
и поставив его у дворца Приама, стали совещаться о том, что надлежит
с ним сделать. 17. После того как Кассандра сказала, что внутри него
сидят вооруженные воины и к ней присоединился прорицатель Лао-
коонт, некоторые предложили его сжечь, другие же советовали сбросить
его в пропасть. Но большинство троянцев решило посвятить его богам
и принеся жертву, они стали пировать. 18. Аполлон, однако, подал
им знамение: с близлежащих островов две змеи переплыли море и
поглотили сыновей Лаокоонта. 19. Когда же наступила ночь и все
погрузилось в сон, эллины от Тенедоса подплыли ближе и Синон
зажег для них факел на могиле Ахиллеса. Елена же, подойдя к коню,
стала звать витязей, подражая голосу жены каждого из них, и, когда
Днтикл захотел ответить, Одиссей зажал ему рот. 20. Затем, убедив-
шись, что враги заснули, сидевшие внутри коня воины открыли от-
верстие и в полном вооружении стали выходить. Первым выпрыгнул
Эхион, сын Портея, и сразу же погиб; остальные же, обвязавшись
веревкой, взобрались на стены и, открыв ворота, впустили приплывших
от Тенедоса эллинов. 21. Войдя в город с оружием в руках, они стали
заходить в дома и убивать спящих. Неоптолем убил Приама, прибег-
нувшего к защите алтаря Зевса Отрадного. Главка, сына Антенора,
укрывшегося в своем доме, опознали и спасли Одиссей и Менелай,
зайдя туда с оружием в руках. Эней бежал, неся на спине Анхиса,
своего отца, и эллины пропустили его, уважая его благочестие. 22.
Менелай, убив Деифоба, повел Елену к кораблям. Этру, мать Тесея,
увели сыновья Тесея Демофонт и Акамант; как говорят, они тоже
позднее прибыли под Трою. Кассандра искала защиту, охватив дере-
вянную статую Афины, но подверглась насилию локрийца Эанта. По
этой причине, говорят, эта статуя имеет глаза, обращенные к небу.
23. Перебив троянцев, эллины зажгли город и поделили между
собой добычу. После этого они принесли жертвы всем богам и сбросили
Астианакса с башни, а Поликсену закололи на могиле Ахиллеса.
В качестве почетной награды Агамемнон взял себе Кассандру, Нео-
птолем получил Андромаху, а Одиссей — Гекабу. Но некоторые рас-
сказывают, что ее взял Гелен и переправился с ней в Херсонес. Там
он похоронил ее после того, как она превратилась в собаку: поэтому
это место теперь зовется Киноссема. Лаодику, которая была самой
красивой из дочерей Приама, поглотила земля у всех на глазах. Когда
эллины, опустошив Трою, уже собирались отплыть, их задержал Кал-
кант, сказавший, что Афина разгневана на них вследствие святотатства
Эанта. Они едва не убили Эанта, но он прибегнул к защите алтаря,
и его пощадили.
VI. 1. После всего этого было созвано собрание, на котором вступили
в спор Агамемнон и Менелай. Менелай требовал немедленного отплы-
ТИя> тогда как Агамемнон настаивал на том, чтобы остаться и принести
224
Греческая мифология Приложение
Обожествление Гомера
Аполлодор Мифологическая библиотека. Эпитома
225
жертву богине Афине. Диомед, Нестор и Менелай вместе выплыли в
открытое море. Плавание Нестора и Диомеда было счастливым. Ме-
нелай же попал в бурю и, потеряв почти весь свой флот, только с
пятыо судами прибыл в Египет. (...) 5. Агамемнон, принеся жертву,
отплыл и причалил к Тенедосу; Неоптолема же появившаяся Фетида
убедила подождать еще два дня и принести жертву, и тот остался
Другие, выплыв в открытое море, попали в бурю у Теноса, ибо Афина
«просила Зевса наслать бурю на эллинов Многие корабли эллинов
пошли ко дну.
6. Афина метнула иерун в корабль Эанта Судно разрушилось,
сам же Эант спасся, уцепившись за скалу При этом Эант сказал,
что спасение пришло к нему против воли Афины. Тогда Посейдон
ударил трезубцем в скалу и расколол ее, Эант же упал в море и
погиб. Тело его, выброшенное волнами, предала погребению Фетида
на Миконе. 7. Когда флот остальных эллинов приблизился ночью к
Эвбее, Навплий зажег факел на горе Каферее. Эллины решили, что
это сделали некоторые из числа тех, кто спасся после бури, и стали
подплывать. Но 3 Каферейских скал корабли разбились, и многие
погибли. (...)
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ *
Сокращение имен авторов и названий произведений соответствует принятому
в русских изданиях античных текстов. Названия, упоминаемые в тексте один-два
раза, не сокращались. При упоминании классического памятника или отсылке
к нему указывается принятая во всех изданиях рубрикация — первая (римская)
цифра означает самую крупную единицу текста (книгу или песнь), вторая и
третья (арабские) —соответственно, главу, параграф или стих. Например, Ил.
XIV 351—353 означает. «Илиада», песнь XIV, стих с 351 по 353 Русские
переводы античных авторов указаны в списке литературы.
Аполлод.
Аполлод. Элит.
Аполл. Род.
Верг. Эн.
Гес. Теог.
Гес. Труд.
Гом. гимн.
Диодор
* Примеч. ред.
— Аполлодор «Библиотека»
— Аполлодор «Эпитома»
— Аполлоний Родосский «Аргонавтика»
— Вергилий «Энеида»
— Гесиод «Теогония»
— Гесиод «Труды и дни» (.иначе «Работы и дни»)
— «Гомеровские гимны»
— Диодор Сицилийский «Историческая библиотека»
15 Зак 390,
226
Греческая мифология. Приложение
Еврип. Ифиг. А. Еврип. Вакх. — Еврипид «Ифигения в Авлиде» — Еврипид «Вакханки»
Ил. — Гомер «Илиада»
Каллим. — Каллимах «Гимны»
Од. — Гомер «Одиссея»
Овид. Мет. — Овидий «Метаморфозы»
Паве. — Павсаний «Описание Эллады»
Пиндар. Нем. — Пиндар «Немейские оды»
Пиндар. Пиф. — Пиндар «Пифийские оды»
Плутарх Орф. гимн. Страбон Эсх. Пром. Эсх. Эвм. — Плутарх «Сравнительные жизнеописания» — «Орфические гимны» — Страбон «География» — Эсхил «Прометей прикованный» — Эсхил «Эвмениды»
фрг. — фрагмент
А. Ф. Лосев
АФИНА ПАЛЛАДА 1
1. ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ АФИНЫ ПАЛЛАДЫ. Афина Паллада
является не только центральной фигурой всей олимпийской мифологии,
но и по своей значимости она почти равна самому Зевсу, а во многих
отношениях даже и превосходит его. В одном отношении она, во
всяком случае, важнее Зевса — это в отношении ее древности и ис-
торического приоритета. Она восходит ко временам матриархата, т. е.
к тем временам, когда о Зевсе не было и помину, но и после всех
своих социальных превращений, когда она уже вполне стала богиней
периода патриархата и героизма, она пользовалась авторитетом и
весом нисколько не меньше самого Зевса.
Эта ее равнозначность с Зевсом постоянно чувствуется у Гомера,
где она имеет доступ к Зевсу гораздо больше, чем все другие боги.
Арес с негодованием упрекает Зевса в особой его склонности к Афине
(Ил., V 877—880):
Боги другие, какие ни есть их на светлом Олимпе,
Все мы тебе повинуемся, каждый готов покориться.
Сей лишь одной никогда не смиряешь ни словом, ни делом.
Но потворствуешь ей, породивши зловредную дочерь!
В знаменитом месте Илиады VIII, где Зевс с гневом заявляет о
своем превосходстве в силе над всеми богами, взятыми вместе, он
оговаривается, что его гнев не относится к Афине (38—40). Телемах
не только выделяет Зевса и Афину из всех богов, но и прямо говорит
°б их равенстве (Од., XVI 263—265, Шуйский).
Глава из книги А. Ф. Лосева «Олимпийская мифология», напечатанной в
Ученые записки МГПИ им. Ленина, М., 1953. Останавливаем свой выбор
енно на этой главе, т. к. двум великим божествам, Зевсу и Аполлону,
Мто46”3 книга: ^1Хев- Античная мифология в ее историческом развитии.
•> 1957. 2-е изд. в книге: Л. Ф. Лосев. Мифология греков и римлян. М., 1996.
228
А. Ф. Лосев
Те, которых назвал ты, защитники лучшие наши:
Сидя на небе высоком, они и над всеми другими
Смертными власть простирают, равно и над всеми богами.
Мысль о равенстве Афины и Зевса вообще не редкость в античной
литературе. Гесиод (Theog. 896) понимает Афину, как «равную силой
и мудрым советом отцу Громовержцу». Каллимах в своих гимнах (V
131—136) изображает помавание главой у Афины совершенно на манер
Гомеровского Зевса и говорит, что это помавание в знак согласия так
же неложно, как и у самого Зевса. Плутарх (Conv. 2, р. 617 С)
считает ее «занимающей всегда ближайшее место к Зевсу». У Горация
(Сапп. I 12, 17—20, Шатерн.) читаем:
Выше, чем он сам, не родил Юпитер,
Равных нет ему иль его второго...
А за ним — почет воздаем великий
Деве Палладе.
Такая необычайная значимость Афины Паллады заставляет совре-
менного исследователя относиться к этой мифологической фигуре с
особенным вниманием. Мы начнем анализ Афины Паллады не с самого
древнего мифа, но с того более позднего универсального античного
мифа, который трактовал о необычном происхождении этой богини.
2. МИФ О РОЖДЕНИИ АФИНЫ ПАЛЛАДЫ ИЗ ГОЛОВЫ ЗЕВСА.
Наиболее оригинальной чертой образа Афины Паллады является ее
необычайное происхождение. Уже указывалось, что эта черта важна
именно в социально-историческом отношении, поскольку здесь стал-
киваются две великие эпохи первобытного общества, матриархат и
патриархат. Мы позволим себе сейчас несколько углубить этот вопрос.
а) Прочитаем сначала то, что сообщает об этом Гесиод (Theog.,
886—900 Верес.).
Сделалось первою Зевса супругой Метида-Премудрость;
Больше всего она знает меж всеми людьми и богами.
Но лишь пора ей пришла синеокую деву Афину
На свет родить, как хитро и искусно ей ум затуманил
Льстивою речью Кронид и себе ее в чрево отправил,
Следуя хитрым Земли уговорам и Неба — Урана.
Так они сделать его научили, чтоб между бессмертных
Царская власть не досталась другому кому вместо Зевса.
Ибо премудрых детей предназначено было родить ей, —
Деву Афину сперва, синеокую Тритогенею,
После ж Афины еще предстояло родить ей и сына, —
С сердцем сверхмощным, владыку богов и мужей земнородных.
Раньше, однако, себе ее в чрево Кронион отправил,
Дабы ему сообщала она, что зло и что благо.
Афина Паллада
229
В этом сообщении Гесиода имеет огромное значение для социаль-
но-исторического исследования почти каждое слово.
Прежде всего, здесь говорится о первом браке Зевса, и притом о
боаке с Метидой, т. е. с Мудростью. Это указывает на то, что здесь
мы имеем дело не с Зевсом хтоническим, но с Зевсом вполне антро-
поморфным, с Зевсом уже периода патриархата, когда, главным об-
озом, стал выдвигаться и в экономике и в мышлении принцип ор-
ганизованности и упорядочения. Задачей верховного божества является
здесь не стихийная производительность, но разумно упорядоченная,
почему и супругой Зевса является здесь Мудрость, а не просто ка-
кая-нибудь земная материальная стихия.
Далее, Зевс здесь проглатывает свою забеременевшую супругу, и
притом по указанию Урана и Геи. Ясно, что этот мотив свидетельствует
о полной подчиненности женского начала мужскому, т. е. опять-таки
о сложившемся агрессивном и развитом патриархате. При этом ука-
зание на Урана и Гею говорит о том, что подобное господство мужского
начала вызвано глубочайшими причинами, коренящимися во всей
мировой жизни, 1. е. по данному мифу оно является очередной и
неотвратимой ступенью в развитии человеческой жизни вообще.
Далее, интересно указание на характер тех детей, которых должна
была бы родить Метида. Это — Афина Паллада и сын, не названный
здесь по имени, но более могущественный, чем сам Зевс. Очевидно,
здесь мифологически фиксируется то сознание позднего первобытного
общества, когда уже зародилось представление о могущественном ин-
дивидууме, совмещающем в себе силу Земли и мощь размышления.
Таковой и является, прежде всего, сама Афина Паллада, которая
отныне делается покровительницей именно героев и богиней плано-
мерной войны (в отличие от хаотического и беспринципного Ареса).
Далее слова о том, что Метида продолжает вещать добро и зло
во чреве Зевса, замечательным образом свидетельствуют о вечном и
непрерывном значении мудрости Земли, т. е. о том, что хтонизм не
был уничтожен, но только преображен и возведен на новую ступень.
Этот мотив о внутренней зависимости героизма от хтонизма не раз
встречается в разных видах в античной мифологии, как, например,
в мифе об убиении Пифона Аполлоном, где мудрость змея отнюдь не
уничтожается, а только получает новое оформление и является основой
мудрости самого Аполлона и его нового святилища.
Отсюда, далее, вытекает и необходимость уметь разбираться в
фонических элементах даже такой нехтонической богини, как Афина
баллада. Античная мифология традиционно представляет себе Афину
балладу обязательно как деву, причем деву не по случайности, но
Аж1НЦИПИальн0 и непреложно. Общеизвестно то отвращение, с которым
^фина отнеслась к насильственному поведению Посейдона в ее храме
1у°™Ошении Медузы, о чем можно читать хотя бы у Овидия (Met.,
'98—804). Это указывает на глубочайшую независимость Афины
230
А Ф Лосев
от мужского начала и даже на господство над ним, а это есть
элемент матриархата. Правда, матриархат тут мыслится уже не
хийным и не в виде господства производительности над упорядоче
но в гом новом, уже преображенном и упорядоченном виде, ког
слагался под влиянием патриархата и который на первый пла,-
двигал индивидуальную и разумную волю, организованность и гер
Девственность Афины, покровительницы героизма, поэтому есть с
интересный социальный комплекс, в котором чувствуется отраж> х
и матриархата и патриархата, и притом в весьма глубоком и интере \
сочетании и взаимоотношении.
Наконец, полным триумфом патриархата с его принципами
члененного мышления, с его приматом мужского начала над жене* >
с его принципами организованной военной мощи являются следую
слова Гесиода, которыми в дальнейшем увенчивается все это пог-
вование о рождении Афины именно из головы Зевса (924—926):
Сам он родил из главы синеокую Тритогенею,
Неодолимую, страшную, в битвы ведущие рати.
Чести достойную, — милы ей войны и грохот сражений.
В таком же страшном и воинственном виде изображена ohj
щите Геракла в Scut. 197—200. <...>
3. ЗООМОРФИЧЕСКИЕ РУДИМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ Л '
НЫ ПАЛЛАДЫ. Этот богатый образ знаменитой богини содерж
себе исторические пережитки не только в том художественном о
образовании, которое замечается в мифах о ее рождении, о ее дез~
венности и о ее покровительстве героям. Как мы уже знаем, име. <
и гораздо более осязательные и даже, можно сказать, более rpyt .
рудименты, о которых мы сейчас сделаем несколько наблюдений
а) Прежде всего, само имя Athene, по твердому мнению cos
менных лингвистов, как и все имена на ёпё (например, Микс
Приена, Кирена, Сирена, Эйрена),—догреческого происхождеь
Главнейшими атрибутами Афины являются, наряду с прочими, сс
и змея; а относительно атрибутов тоже можно считать весьма про
установленной теорией то, что они являются в прошлом образа
данного божества и потому восходят еще к его фетишистской стад’
То, что змея, — это постоянное в античности олицетворение Зек
и ее мудрости, — характерна для Афины Паллады, явствует из
общеизвестной хрисоэлефантинной статуи Фидия в Парфеноне,
змея изображена около богини в виде буквы S. Тут нам необход '
вспомнить миф о дочерях Кекропса, которым Афина передала яш '
с запрещением его вскрывать, а в этом ящике оказался Эрихтонм 1
живыми змеями. Геродот (VIII 41) пишет: «Афиняне рассказывав-
что огромная змея, страж Акрополя, обитает в храме. Впрочем. -
только говорят об этом, но и каждое новое новолуние совершаю
Афина Паллада
231
предлагают змее жертву, как будто она в самом деле находится в
храме. Ежемесячная жертва состоит из медовой лепешки». Интересен
v Вергилия эпизод с Лаокооном, где изображаются две змеи, которые,
выйдя из моря и задушив Лаокоона и его сыновей, в дальнейшем
Укрываются под защитой Афины — Тритонии, около ее щита в ее
храме (Verg. Aen. II 225—227). Многочисленные изображения Афины
00 змеею содержит также вазопись как чернофигурная, так и крас-
нофигурная. Нельзя не отметить того обстоятельства, что богиня со
змеями является популярнейшим мотивом крито-микенского искусства
и мифологии. Поэтому греческая Афина со змеями, несомненно, вос-
ходит к этому древнему символу времен матриархата. Орфический
гимн (XXXII, И) прямо называет Афину «пестровидной змеей».
О совином прошлом Афины Паллады, несомненно, говорит ее
постоянный эпитет у Гомера glaycopis,* который переводчики едва ли
правильно понимают как «совоокая». Скорее это, может быть, «сово-
ликая», «сововидная» или «с видом совы». Намечается также связь
Афины и с другими птицами. Так, у Гомера она (Од. III, 371)
превращается в мирского орла в Пилосе у Нестора, в ласточку XXII,
239 для наблюдения за избиением женихов, в ястреба Ил. VII, 59
вместе с Аполлоном для наблюдения боев; в Од. I, 320 она либо
сравнивается с морской птицей, либо прямо превращается в нее (слово
anopaia допускает здесь разные толкования, из которых Аристарх
предпочитал именно толкование как наименование птицы). В Ил., X
275 Афина посылает Одиссею и Диомеду благоприятное знамение в
виде цапли. По Павсанию (IV, 34, 6), в Коронее (Мессения) была
статуя Афины с вороной в руке, по поводу чего можно вспомнить
Овидия, у которого (Met. II 567—588) рассказывается, что дочь Коронея
некогда была превращена Афиной в ворону ради спасения от пресле-
дования со стороны Посейдона и (548—565) что впоследствии она
лишилась защиты Афины за нежеланное сообщение о вскрытии Аг-
лаврой ящика с Эрихтонием. Гигин (Fab. 166) рассказывает, что когда
дочери Кекропса раскрыли ящик с Эрихтонием, то оттуда появилась
ворона. В Ил., V 788 Афина и Гера сравниваются с голубками. По
Павсанию (VI 26, 3), в Акрополе Элиды была статуя Афины, на
шлеме которой был изображен петух; при этом Павсаний, ничего не
понимающий в подлинном значении архаики, присоединяет к этому
свои рационалистические объяснения: «...петухи — птицы, наиболее
уклонные к боям; ...и ...эта птица считается посвященной Афине
Эргане». В Мегаре была скала Афины Эфии, т. е. утки-нырка, где
Пандион (Paus I 5, 3; ср. 41, 6), по поводу чего
_ d’Aithyia) любопытно сообщает: «В этом виде Афина,
почитается у мегарцев, потому что, превратившись в утку-нырка, она
* Греческие слова даются в латинской транслитерации. (Прим. А. Тахо-Го-
“"м похоронен
Гесихий (v. еп
232
А. Ф. Л осе a
спрятала под крыльями Кекропса и доставила его в Мегару (ср. Lycophi
359), а этот Кекропс, по тому же Павсанию, был изгнан Метионидамя
из Афин. Все эти птицы, конечно, имеют ближайшее отношение
образу Афины в ее далеком прошлом. К ее птичьему прошлому вое
ходят как ее крылатость в некоторых памятниках изобразительно; <
искусства, так и ее знаменитые крылатые сандалии, которыми он.
пользуется у Гомера (Од. I 96). По Tzetz Lyc. 355, эти крылья д
сандалий она получила от убитого ею гиганта Паллантз.
В научной литературе уже не раз делались догадки о крито-мь
кенском происхождении как самой Афины, так, в частности, и <
змеиного и совиного образа. Характерно, что уже и тогда на Кри;
и в Микенах была налична связь этого птичьего фетиша с охраной
если не прямо героев, то, во всяком случае, царского дворца и/,,;
города. По крайней мере, можно считать твердо установленным, чт .
минойский дворец находился под охраной и совы и змеи. Поэтом>
весьма много вероятия за тем предположением современных археоли
гов, что микенское изображение на известняке богини со щитом ecu,
прообраз олимпийской Афины Паллады.
Имеется ряд текстов, говорящих о самой тесной связи совы ,
военным делом в соответствии с совиным представлением об Афине
что также свидетельствует о невозможности зооморфизма в чистом,
изолированном виде. Плутарх (Themist. XII) рассказывает, как сова
способствовала Фемистоклу перед саламинским сражением: «.. .с правой
стороны от корабля показалась летевшая сова, которая села на вер
хушку мачты. Это и побудило, главным образом, принять его сове:
и готовиться к морскому сражению». Диодор (XX 11) рассказываем
как однажды в 310 г. Агафокл, ведя войну с Карфагеном, снабдил
свое плохо вооруженное войско целой стаей сов, которые, сидя на
щитах и шлемах воинов, возбуждали в них мужество, поскольку эта
птица «посвящена Афине». Элиан (De nat. anim. X 37) говорит о том
что такая же сова была, наоборот, предвозвестником поражения дл.
Пирра. Плутарх в той же биографии Фемистокла (10) рассказывает
о том, как Фемистокл использовал для военной агитации исчезновение
священной змеи с Акрополя, объявив, что это сама «богиня покинула
город и зовет за собой афинян к морю». Известны не только крылатые
Ники-Победы, но, как указано выше, и крылатые Афины.
Насколько совы и змеи характерны для Афины, даже для периода
покровительства ее афинскому государству, свидетельствует Аристо-
фан, заставивший своих женщин в «Лизистрате» ужасаться змей г
сов, когда эти женщины забрались на Акрополь и завладели всеми
его тайными местами (Arist. Lys. 758 слл.). Если иметь в виду по
стоянное пребывание Афины в том или ином виде в афинском Акро
поле, то хтонизмом веет от этой совершенно нехтонической богини 11
в сообщении Гомера о храме Эрехтея в Афинах (Ил. II 547 слл.,’, "
Афина Паллада
233
... Которого в древние веки
Матерь-Земля родила, воспитала Паллада Афина
И в Афины ввела, и в блестящий свой храм водворила.
О древней стадии мифа говорит здесь не только происхождение
Эрехтея от Земли, но и близкое, непосредственное общение Эрехтея
с Афиной, вплоть до обладания одним жилищем. В Од. VII 80 прямо
говорится о том, что Афина пришла в «дом Эрехтея». Такое непос-
редственное соприкосновение богов и людей может быть только во
времена фетишизма, а в период анимизма оно уже было в чистом
виде немыслимо. Это — хтонический рудимент.
Насколько была тесной и прочной связь Афины с совой, можно
заключить также и из мифа о Никтимене, который известен нам из
поздних источников. Гигин (Fab. 204) пишет: «Говорят, что Никтимена,
дочь лесбосского царя Эпопея, была необычайно красивой девушкой.
Ее отец Эпопей, воспламененный к ней любовью, совершил над ней
насилие. Охваченная стыдом, она пряталась в лесах. Минерва же,
сжалившись над ней, превратила ее в сову, которая из-за стыда не
выходит на свет, а появляется только ночью». Нескромный Овидий
(Met. П 590—595) не преминул внести этот рассказ в свои «Мета-
морфозы»; некоторые же более поздние источники говорят здесь не
об отце Никтимены Эпопее, но о Никтсе. Конечно, и мотивировка
преступления Никтимены, и мотивировка се превращения в сову, и
вся не очень скромная трактовка этого мифа у Овидия есть продукт
античного декаданса. Однако за этим нельзя не находить очень от-
даленных и очень глубоких связей самой Афины с совой.
б) В связи со змеиным и совиным прошлым Афины необходимо при-
помнить также и тот ее знаменитый атрибут, который носит название
эгиды и состоит из козьей шкуры, употребляемой в виде щита или пан-
циря, с изображением на ней головы Медузы и опять-таки змей. Многие
мифологи считали неудобным связывать такую почтенную богиню и та-
кую важную вещь, как ее щит, с козой и потому старались дать этому
атрибуту какое-нибудь более торжественное объяснение. Поскольку эта
эгида принадлежит, собственно юворя, Зевсу, и Афина получает ее от
Зевса, а Зевс, бросая правой рукой молнию, левой рукой держит эгиду и
ею потрясает, то на этом основании старая мифологическая наука много
упражнялась относительно метеорологического значения эгиды, связы-
вая ее с облаками и громом. Для нас это объяснение является, конечно,
позитивизмом, неспособным подняться за пределы изолированных физи-
ческих фактов и увидеть живую диалектику мифологии, как определен-
ного типа мышления на соответствующей ступени человеческого разви-
тия. В противоположность эгому миф об эгиде насыщен самыми острыми
атоническими и фетишистскими элементами, ярко рисующими мифоло-
гию и магическую практику гой отдаленной ступени социального разви-
тия, которую мы теперь называем ранним матриархатом.
234
А. Ф. Лосев
Чтобы прикоснуться к этой страшной хтонической и магической
практике, нашедшей здесь свое отражение, достаточно вспомнить то,
что рассказывает, например, псевдо-Эратосфен о созвездии Возничего
(Catast., 13). Здесь мы читаем о том, что Зевс, отданный после своего
появления на свет его матерью Реей нимфе Амалфее, был вскормлен
козой этой Амалфеи. Будучи дочерью Гелиоса, она была «настолько
страшной, что боги времен Кроноса, ужасаясь вида этого детеныша,
просили Гею скрыть его в какой-нибудь пещере на Крите». «Когда
ребенок вырос и собирался воевать с Титанами, у него не было оружия.
Тогда ему было предложено воспользоваться шкурой козы как оружием
вследствие ее неуязвимости и ее страшного вида, а также вследствие
того, что в середине спины она имела лик Горгоны. Зевс исполни.!
это и с помощью искусства получил возможность иметь две разные
наружности. Кости козы он покрыл другой шкурой. Он сделал ее
живой и бессмертной [и вознес ее на небо, как звезду]. Сам же он
получил название эгидодержавного».
Таким образом, под эгидой Зевса и Афины мы социально-истори-
чески вскрываем отдаленную эпоху матриархата с ее кровавой магией,
с магической маскировкой в виде животного для получения силы этого
последнего, с животным полиморфизмом, с оборотничеством и со
стихийно-множественной семантикой животного и космического мира,
и с ожесточенной борьбой матриархата и патриархата, когда патри
архат побеждал с помощью опоры все на те же самые древние хто-
нические силы.
Конечно, совершенно отрицать космические элементы в эгиде не-
возможно. Эсхил (Cho. 592) при изображении картины космической
жизни говорит о «гневе бурь», где aigidon только так и можно перевести
«бурь», причем нет никакого и помину ни об Афине, ни о ее эгиде:
у позднейших авторов (например, Aristot. De Mund. 4, 395 а 5) caiaigis
значит только «буря», «ураган», a aigidzein, cataigidzein тоже означает
только «бушевать». И тем не менее изоляция и гипостазирование
одной метеорологии вопреки бездонно-глубокому содержанию мифа
есть чистейшая метафизика.
Заметим, что на мифе об эгиде отразились не только кровавые
ужасы матриархата с его напряженной демонологией, не только
металлический век с его победой патриархальных пластических форм
над матриархальными стихиями, но и неометалл, та замечательная
грань между всей общинно-родовой формацией и цивилизацией, ко-
торая представлена у Гомера таким выразительным развитием худо-
жественной мифологии в среде разлагающейся родовой знати. А имен-
но, эта эгида не только ужасна и страшна, но еще и прекрасно
сделана. Она есть произведение высшего и тончайшего искусства.
Об этом свидетельствует место в Ил. II 446—449:
Афина Паллада 235
...И в среде их явилась Паллада,
В длани вращая Эгид драгоценный, нетленный, бессмертный;
Сто на Эгиде бахром развевалися, чистое злато,
Дивно плетенные все, и цена им — стогельчис каждой.
В этом смысле имеет большое значение еще один вариант о про-
исхождении эгиды, именно как произведения искуснейшего художника
среди богов и людей — Гефеста (в XV 304—310 эта изготовленная
Гефестом эгида дана Зевсом Аполлону).
Следовательно, эгида Афины и Зевса при социально-историческом
подходе — это сложнейшая перспектива и наслоение длинного ряда
социальных эпох из истории первобытного человечества.
Отсюда — ее многосоставная семантика, и в описательно-статиче-
ском плане эгида, конечно, есть сразу и козья шкура и облака. Она
одновременно есть: и шкура той козы, которая вскормила Зевса на
Крите; и кожа убитого Афиной Гиганта Палланта (ср. ниже текст из
Аполлодора, 1 6, 1—2); и шкура того огнедышащего чудовища — де-
тища земли, которое опустошало многие земли и было сражено Афинои
(Diod. Ill, 70): и одеяние прислужниц богини в Ливии (Herod. IV,
189); и то орудие, которым потрясает Зевс, производя гром (Ил. XVII
593—596):
В оное время Кронион приял свой Эгид бахромистыи,
Пламеннозарный, и, тучами черными Иду покрывши,
Страшно блеснул, возгремел и потряс громовержец Эгидом,
Вновь посылая победу троянам и бегство Данаям.
(Еще более подробно V 738—742)
И, наконец, эгида есть тот самый щит, которым Зевс пользовался,
например, в своей борьбе с гигантами. Каким образом это слитное
мифическое представление могло существовать и мыслиться реальным
и как вообше могло существовать подобного рода «противоречивое?
мышление? Для нас же вопрос ясен; и мы считаем недопустимой
абстракцией для первобытного фетишистского мышления как раз изо-
лированные и «несовместимые» представления один раз козы, другой
раз облаков и грома, третий раз щита, четвертый раз огнедышащего
чудовища, пятый раз жреческого одеяния и т. д. и т. п. Эгида Зевса
и Афины — это прекрасный пример слитно-множественной семантики
первобытного мышления, в котором физическое и социальное, при-
родное и историческое еще не дифференцированы и являются единой.
Цельной и неразложимой действительностью.
Сюда же прибавим, что и знаменитая «совокупность» Афины тоже
не является настоящей для нее реальностью, так что те, кто данный
греческий эпитет переводит как «голубоглазая», «светлоокая», «сине-
окая», отнюдь не так уж неправы. Дело в том, что блеск, будь то
огненный или просто небесный, дневной, является, несомненно, одним
Из самых устойчивых элементов античного представления об Афине.
236
А. Ф. Лосев
Однако ученые и публика, исходя из этого правильного наблюдении
большей частью тут же впадали в антиисторическую абстракцию
гипостазируя это зрительное восприятие и метафизически изолир, ,
его от прочих особенностей той же богини. А главная или, по крайней
мере, одна из главных ее особенностей — это то, что она есть сона.
Следовательно, надо уметь представлять себе Афину и как сову, и
как небо с синевой, облаками и громом. Таким образом, перевод ее
основного эпитета как «совоокая» и как «светлоокая» одинаково яв-
ляется абстракцией, так что истина тут заключается только во вза-
имной слитности совоокосги и светлоокости.
Добавим к зооморфическому прошлому Афины также и то, чц,
ее образ связывался с образом лошади. По крайней мере ее эшпо
Гиппия-Конная засвидетельствован весьма надежными источниками
(Paus. V 30, 4; 31, 6>; а Большой Этимологик (474, 30) даже пускается
в разнообразные объяснения этого эпитета, что, несомненно, указывает
на его распространенность.
4. КОСМИЧЕСКИЕ РУДИМЕНТЫ АФИНЫ ПАЛЛАДЫ, а) Од-
нако, заговорив о стихийно-множественной семантике Афины, необ-
ходимо сделать существенное добавление также и к приведенном;
выше толкованию мифа о рождении богини. То, что солярные мифолоы;
говорили на эту тему, есть, конечно, сущий вздор, так как своди и,
рождение Афины из головы Зевса на появление грома и молнии щ
тучи — это значит исходить из мелкобуржуазной теории познания,
основанной на метафизике изолированных чувственных восприятии.
И тем нс менее если брать эту метеорологию не в порядке абстракции
и не в порядке мещанско-обывательской гносеологии, но в порядке
первобытной слитности, то она должна войти как вполне реальный
элемент общего мифа об Афине.
Никак нельзя отбросить и пренебрежительно игнорировать такое,
например, сообщение схолиаста к Pind 01. VII, 66: «Аристокл относит
рождение Афины к Криту, утверждая, что богиня была скрыта тучей
и что Зевс вывел ее на свет, ударивши по облакам». Между прочим,
здесь характерно указание на Крит, который является древним хра-
нилищем вообще всякой хтонической мифологии. Да и у самого Пин-
дара в приведенном только что месте его Олимпийской оды (VII
62—70) рождение Афины рисуется на фоне весьма интенсивной ме-
теорологии. «Здесь некогда великий царь богов оросил город золотыми
ливнями, когда Афина, появившись из темени своего отца, искусно
рассеченного медной секирой Гефеста, закричала сильнейшим голосом,
а Небо и Мать-Земля от нее затрепетали».
В связи с этим уместно будет упомянуть и о тех толкованиях
«головы» или «темени» Зевса, которые имели место как в античных,
так и в новейших мифологических теориях. Гесиодовское (Theog. 924)
выражение «из головы», выражение Гомеровского гимна (II 131) <(i3
Афина Паллада
237
темени» (ес coryphes) и прочие подобные выражения можно сопоставить
с одним интересным фрагментом некой неизвестной теогонии, которую
мы читаем у стоического философа Хрисиппа в передаче Галена (Stoic,
vet. fragm. II 908 Агп.). Здесь говорится, что Зевс, поглотив забере-
меневшую от него Метиду, породил Афину Палладу «на вершине (par
coryphen) у берегов реки Трито». Ясно, что в данном случае coryphe
значит не «голова» и не «темя», но «вершина», «гора», «холм», т. е.
рождение Афины понимается здесь тоже весьма близко к космическому
мифу, по которому в результате грозы на высоких местах возникали
большие потоки воды, низвергающиеся с этих высоких мест (заметим,
что необязательность буквального понимания головы и темени Зевса
вытекает и еще из одной генеалогии Афины (Cic. nat. deor. Ill 23,
59 Афина есть дочь Зевса и Корифы, дочери Океана).
б) Родственно с этим также античное представление о палладиуме,
т. е. об изображении Афины, упавшем с неба. Этот древний фетиш (тоже
вскрывающий одну из самых отдаленных стадий развития Афины), не-
сомненно, связан с метеорологическими и астрономическими представ-
лениями, для которых всякий метеорит, конечно, всегда был фетишем.
Известен древний камень в Акарнании с надписью «Афина Зевса». Из-
вестен такой же камень в Мантинее с наименованием «Перун Зевса».
В Дельфах показывали камень, поглощенный Кроносом вместо Зевса и
потом извергнутый им назад (Paus. X 24, 6). Везде тут несомненные
космические представления, хотя в то же время и совершенно ясно, что
космос и социальная жизнь даны тут еще на стадии полной слитности,
до всякого расчленения.
в) Прибавим к этому и такие не безразличные тексты, как Ил. V 745
о «пламенной колеснице» Геры и Афины или как IV 74 слл., где полет
Афины сравнивается с падающей «звездой», или как V 7 слл., где она
окружает голову Диомеда сиянием, или как XVIII 203 слл., где то же —
с Ахиллом, или как XI 45 сл., где она вместе с Герой гремит в честь
Агамемнона. Везде тут обычная для античных божеств стихийно-множе-
ственная семантика, подобно тому, как и Уран трактуется то как «звезд-
ный», т. е. как небо, то как вполне человекообразное существо, вступаю-
щее в брак и имеющее детей и даже страдающее от увечья, нанесенного
собственным сыном, или как Эос, которая — то заря, т. е. явление при-
роды, то богиня, вступающая в брак и имеющая детей.
Чрезвычайно важен мотив золотого дождя у Филострата (Imag.
И 27, 3) в связи с рождением Афины (ср. выше цитату из Пиндара
° том же): «А родосцам, как говорят, потекло с неба золото и наполнило
Дома их и улицы, так как Зевс развернул над ними тучу из золота
за то, что и они признали Афину». Как и в мифе о браке Зевса с
Данаей, образ небесного золотого дождя является наилучшим символом
Из всей хтонической мифологии, поскольку здесь рисуется космическая
стихия, но не просто физическая, а еще и животворная, и даже
238
А Ф Лосев
жизнетворная. У Эсхила (Eum. 827 сл. Weil) Афина сама ставит сег
в ближайшую связь с молнией:
.. .Меж богов одна
Ключи добыть умею от хранилища,
Где молнии хранятся под печатями.
По одному редкому варианту (Schol. II VIII 39 BLU), Афина ес
дочь циклопа Бронта и Метиды; но слово Бронт значит «гром». Свя
Афины с циклопами удостоверяется такими текстами, как Orph. Б
179 К.
Зевсу гром они дали и сковали перуны,
Первые ковачи — хитрецы, что Гефеста с Афиной
Научили искусствам, которые небо содержат.
Другой текст из того же орфического фрагмента гласит, что Цш
лопы, эти «первые хитрецы — ковачи», «и Афину и Гефеста научаю
разным видам форм, как первые виновники форм, schematon)».
Нет недостатка в текстах, связывающих Афину и с другими ст и
хиями и явлениями природы. В Трезене одна из жриц Афины был
Эфра, мать Тесея; а слово Эфра значит «ясная погода». Авга — до»!
Алея, которую опекает в Аркадии Афина Алея (ниже, п. 11 г.), з
слово Авга означает «сияние» и особенно «солнечный луч». Метила
с которой вступил Зевс в брак для рождения Афины, является дочсрь;
Океана и Тефии (Hesiod. Theog. 359).
Связь с водной стихией также достаточно свидетельствует древниv
эпитетом богини Тритогенея, который встречается и у Гомера и которые
означает «рожденная Тритоном», «рожденная у Тритона» или «рожден
ная из Тритона». Тритон же — это, прежде всего, река или озеро. С эти м
названием была река в Беотии, впадавшая в Коцаиду, каковое место и
мыслилось как место появления на свет Афины. Такое же озеро было и з
Ливии, куда тоже относили рождение Афины, как это утверждает, на
пример, Schol. Apoll. Rhod. I 109 в противоположность, например, Пав
санию (IX 33, 7), относящему рождение Афины к Тритону у беотиискоь
Копаиды. В Аркадии была Алифера, место древнего почитания Афины,
тоже с речкой Тритон. Диодор (V 70, 72) такую же реку и с тем же мифом
о рождении Афины указывает на Крите около Кносса. Кроме того, Гри
тон — это морское чудовище получеловеческого, полурыбьего вида, по
рождение Посейдона и Амфитриты, живущее с ними в глубине моря в
золотом дворце (Hesiod. Theog. 930—933). Имя супруги Посейдона -
тоже Амфитрита. Один из вариантов происхождения Афины, — прав и
довольно редкий, но зато у Геродота (IV 180), — гласит, что Афина яв
ляется дочерью Посейдона и Тритониды в Ливии; другой же вариант (Сго
De nat. deor. Ill 23, 59) считает ее порождением Зевса и Корифы, приче»
Корифа объявляется Океанидой.
Афина Паллада
239
Всех этих текстов более чем достаточно для удостоверения водного
происхождения Афины.
Не чужда Афина и воздушной стихии. В Од. II 420 сл. Афина
помогает морскому путешествию Телемаха тем, что поднимает по-
путный для него ветер. В V 108 сл. Афина, разгневанная на ахейцев,
напускает против них бурю и волны во время их возвращения. В V
382—385 она помогает возвращающемуся на Итаку Одиссею путем
запрещения дуть всем ветрам, кроме попутного для Одиссея — Борея.
В XV 292—294 она опять посылает попутный ветер Телемаху, она и
вообще — ветровая (Paus. IV 35, 8). Если данная стихия находится
в распоряжении того или иного божества, то для мифолога это —
ясное свидетельство о том, что некогда и само это божество было
данной стихией.
Нечего и говорить о том, что на той стадии Афины, которую
можно назвать классической, все эти хтонические элементы уже по-
теряли свой первоначальный стихийный смысл, т. е. перестали быть
самостоятельными фетишами и превратились только в атрибуты, не-
сравнимые по своей значимости с самой богиней. Афина Фидия в
Парфеноне своим щитом придавливает змею; эгида, несмотря на все
свои ужасы, покорно облегает ее грудь, акропольские совы не имеют
без нее никакого значения; а огнем и пламенем для окружения головы
героев она пользуется так же легко, как женщина косметическими
средствами (в Одиссее прямо так и говорится, что она «разлила
прелесть» по голове и плечам своего любимца Одиссея, Од. VI 235),
и это происходит потому, что на данной стадии перед нами уже не
хтонический фетиш или демон, но герой и покровитель героев, для
которого все эти хтоническо-фетишистские черты есть только более
или менее слабые рудименты.
5. ВЕГЕТАТИВНЫЕ РУДИМЕНТЫ АФИНЫ ПАЛЛАДЫ. Если
от неорганической природы перейти к органической, то прежде всего
была весьма значительна роль Афины как покровительницы земледе-
лия, и притом, конечно, — еще гораздо раньше развитого земледелия,
т. е. еще в хтонически-фетишистский период.
а) Всем известна связь Афины с масличным деревом, которое она
насадила в Аттике и за которое она была поставлена во главе города
Афин и всего Аттического государства. Те дочери Кекропса, которым
она препоручила ящик с Эрихтонием, носили характерные имена:
Агравла — Полебороздная (писали и «Аглавра — Световоздушная», что
менее правильно), Пандроса — Всевлажная и Герса — Роса. Эти имена
викак не могут быть случайными. Для тех скептиков, которые сомне-
ваются в целесообразности нашего перехода от спутников и атрибутов
“Огов к самим богам, мы бы указали текст Schol. Anst. Lys. 439, где
1андроса фигурирует как имя самой Афины («по Пандросе и Афина
Называется Пандроса»). Не оставляет никакого сомнения и сообщение
240
А. Ф. Лосев
Суды (v, Aglayros): «Аглавра (sic!) —дочь Кекропса. Также и наиме-
нование Афины» (то же и у Harpocrat. под тем же словом). В связи
с этим такие сообщения, как у Гесихия (v. Aglayros), что Аглавра —
«жрица Афины», или Порфирия (De abst. II 54, см. ниже), что в
Кипрском Саламине она почиталась рядом с Афиной, отнюдь не имеют
для нас только один буквальный смысл, но открывают большую ис-
торическую перспективу.
Далее, на празднике Прохаристерий в конце зимы Афина почи
талась в связи с прорастанием хлеба, на празднике Плинтерий — к
связи с началом жатвы, на празднике Аррефорий (Эррефорий) — н
связи с дарованием ночной росы для посевов, на празднике (Плинтсрии
и Каллинтерий) при возрастающей жаре — в связи с созреванием
плодов. В науке указывалось на связь Афины, как и Деметры, <
Кабирами, хтоническими демонами плодородия. В Фивах же Афина
прямо заступала место Деметры. Некоторую связь имела Афина с так
называемой травой куропатки (по-русски, может быть, стенница, или
просто плющ). У Плутарха (Pericl. 13) и Плиния (Nat. hist. XXII 43
и XXIV 81) рассказывается, что когда во время одной постройки на
Акрополе упал раб сверху на землю, то явившаяся во сне Периклу
Афина указала на эту траву как на средство исцеления, и что раб
от этого средства действительно исцелился.
б) Гораздо реже встречаются в источниках указания на питающие
и воспитывающие функции Афины. Она принимает меры к воспи-
танию Эрихтония, который появился из земли от Гефеста, хотевшего
вступить с Афиной в брак. Она — также воспитательница Иакха,
Элевзинской ипостаси Диониса. Она помогает Лето при ее родах,
когда появились Аполлон и Артемида. Элидские женщины прямо
величали ее матерью. В последнем случае интересен рассказ Павсания
(V 3, 3) об опустошении Элиды Гераклом: «Так как страна потеряла
всех мужчин в зрелом возрасте, то элейские женщины, говорят,
молились Афине, чтобы забеременеть им тотчас же, как только они
сойдутся с мужчинами. Их молитва была исполнена, и они воздвигли
храм в честь Афины, дав ей наименование Матери». Имеется эпитет
Афины — Куротрофос — детопитательница. Была и Афина Гигиея --
Здоровье.
6. СВОДКА СТИХИЙНО-МНОЖЕСТВЕННОЙ СЕМАНТИКИ
АФИНЫ ПАЛЛАДЫ. Таким образом, как и следовало ожидать, oi
периода хтонизма, — и как мы это видели на Зевсе, — Афина связана
решительно со всеми областями космической жизни, т. е. и с небом,
и с атмосферой, и с землей, составляя в период космическо-фетиши-
стского мышления единое целое со всей мифической действительностью
и постепенно дифференцируясь путем медленного тысячелетнего раз-
вития.
Афина Паллада
241
а) Для характеристики этого развития хтонизма имеет большое
значение и то обстоятельство, что античные знатоки мифологии, когда
они хотели наиболее общим образом говорить об Афине, нисколько
не стеснялись в этих различных космических квалификациях и упот-
ребляли здесь самые решительные выражения. Евстафий (Ил. 1
402 слл.) называет ее «Эфиром». Августин (De civ. d. VII 16) говорит,
что древние, не находя возможным отождествить Афину с каким-ни-
будь светилом, считали ее «самым верхним эфиром» или луной. Еще
более интересно говорит об Афине Макробий (Sat. 117, 70): «Порфирий
свидетельствует, что Минерва является осуществленной силой
(virtutem) солнца, которое управляет разумностью (prudentiam) в че-
ловеческих умах. По этой-то причине и говорится, что эта богиня
произошла из головы Юпитера, т. е. вышла из верхней части эфира,
откуда берет свое происхождение и солнце». Здесь стихийно-множе-
ственная семантика характеризована прямо буквально. Страбон (X 3,
19) даже сообщает о браке Афины с Гелиосом и о детях от этот
брака, Корибантах, — характерная семантическая множественность,
космическо-зооморфическо-аитропоморфная.
б) Но если бы мы захотели спуститься с неба на землю, то и здесь мы
встречаемся с Афиной: Schol. Townl. Ил. I 400, комментируя известное
место о восстании Геры, Афины и Посейдона против Зевса, прямо так и
называет Афину «Землей». Обращаем вниманием на то, что в этом вос-
стании Афины, Геры и Посейдона против Зевса в Ил. I 399—406 Афина
выступает именно как хтоническая сила против антропоморфического,
героического Зевса; и остается Зевс у власти здесь только потому, что ему
на помощь пришел Сторукий Бриарей — Эгеон, т. е. тоже хтоническая
сила, но находившаяся в союзе с Зевсом. Афина даже производит земле-
трясения (как у Квинта Смирнского XII 397, в эпизоде с Лаокооном).
О том, что Афина связана с горами, свидетельствует ее почитание на
городских Акрополях, на Пентеликоне в Аттике (Paus. I 32, 2). Кроме
того, у Гесихия читаем под словом Acria «Вершинная»: «Афина в Аргосе,
водруженная на некоем холме, по которому она была названа также и
Акрисией».
Что она связана с ветрами, это, как мы знаем, явствует из ее
эпитета Ветровая, а то, что она ближайшим образом связана с водой,
это, по предыдущему, ясно из ее эпитета Тритогения.
в) Но если спуститься не только с неба на землю, но пойти еще
глубже, то мы натолкнемся и там на Афину и на ее связь с Аидом.
Если об этом не так много говорит игра Афины с Персефоной на лугу
Перед похищением Персефоны Плутоном (Hymn. Hom. V 424), то
зато имеется другой, весьма выразительный текст. Именно у Страбона
«X 2, 29) мы читаем следующее многозначительное сообщение об
°ДНом храме в беотийской Коронее: «В храме рядом с Афиной по-
ставлен Аид, по какой-то, говорят, сокровенной причине». Можно
Припомнить здесь и упоминание у Гомера (Ил. V 845) о шапке Аида,
242
А. Ф. Лосев
которую надевала Афина для того, чтобы сделаться невидимой. Обычно
не обращают никакого внимания на то, откуда Афина взяла эту шапку
и почему именно она пользуется ею. Единственный ответ, который
можно было бы дать на эти вопросы, это то, что здесь есть тоже своя
«сокровенная причина». Причина эта может заключаться только в
том, что на известной ступени мифологического развития, а именно
на ступени фетишистско-космического хтонизма, Аид и Афина пред-
ставляли собой единое целое и что выделение Афины из общекосми-
ческого целого произошло только впоследствии, в связи с гибелью
хтонического мышления.
г) Итак, Афина есть эфир, солнечная сила, гром и молния, облака
и тучи, ветер, воздух, и вода, земля, змея, сова, ласточка, ястреб,
морской орел, цапля, коза, лошадь, ослица, подземный мир; или,
попросту говоря, Афина есть весь космос. Можно ли после этого
удивляться, что Афина есть также и сама судьба?
Действительно, в науке уже ставился вопрос о связи оливкового
дерева Афины с представлениями о судьбе. Прежде всего, само название
священных оливковых деревьев Афины как moriai и самой Афины как
Moria указывает именно на это: Moria значит Роковая. Идол Афины
Паллады, упавший с неба и носивший название Палладиума, был
сделан именно из маслины (Schol. Demosth. XXII 13). В Линде на
Родосе Афине была посвящена оливковая роща (Anthol. Pal. XV 11).
Лето, которой Афина помогала при родах, родит на Делосе под оливами,
тоже посвященными Афине. У Эврипида читаем (Iphig Taur., 1099 слл.
Анненск.) как обращение к Артемиде:
Лавр густой возлюбила ты
И оливы святую ветвь —
Милый терем Латоны...
Указание на роды Лето под оливами на Делосе находим также у
Каллимаха, Катулла и др. Геродот (VIII 55) рассказывает, что после
того, как сгорел храм Афины и оливковое дерево в нем на Акрополе,
и Ксеркс приказал афинянам принести жертву богине, на стволе оливы
сразу выросла новая ветвь в локоть длиной. Плиний (Nat. hist. XVI
199) тоже связывает оливу с судьбой городов: «На площади в Мегаре
долго стояла дикая олива, на которую храбрые воины прикрепляли
свое оружие; и оно, окруженное корой, было скрыто долгое время
Это было дерево судьбы для города, поскольку оракул предсказал
гибель этого последнего в том случае, когда дерево произведет на свет
оружие. Это и случилось, когда олива была срублена, и внутри нее
были найдены наколенники и шлемы». В науке устанавливалось, что
Афина даже и живет в оливе. В Аттике был обычай выставлять венок
из оливы перед дверьми после рождения младенца мужского пола,
что некоторые объясняли как посвящение новорожденного Афине и
Афина Паллада
243
что, несомненно, было некоторым магическим приемом для доставле-
ния благополучия только что появившемуся живому существу. Ари-
стотель в «Афинской Политии» (60) сообщает о древнем законе в
отношении священной оливы в Афинах: «А если кто-нибудь выкапывал
иди срубал священную маслину, его судил совет Ареопага, и в случае
обвинительного приговора его предавали смертной казни». По Schol.
Arist. Nub. 1005, сын Посейдона Галлиротий, пытавшийся срубить
священную оливу Афины на Акрополе, ранил сам себя топором и
умер или, по Serv. Verg. Georg. 1 18, отскочившее лезвие топора
снесло ему голову (может быть, это есть вариант борьбы Афины и
Посейдона). Точно так же в науке известно, что у финикиян «оливковое
масло» и «судьба» обозначаются одним и тем же словом «мешхах».
Следовательно, имеется достаточно данных связывать Афину и с об-
ластью представления о судьбе. Афина — судьба.
Из растительного мира Афина имеет какую-то связь еще с кипа-
рисом, как это можно заключить из наличия храма Афины Кипари-
совой в Акрополе города Асопа в Лаконике (Paus., Ill 22, 9), а также
из наличия храма Афины Кипарисийской в городе Кипарисиях в
Мессении (IV 36, 7. Однако кипарис очень тесно связан с представ-
лениями о смерти и жизни вообще. Дом покойника убирался ветками
кипариса, на могилах тоже часто фигурировали кипарисы. Кипарисы
были у входа в подземный мир. С другой стороны, известна связь
кипариса с хтоническими и стихийно-экстатическими культами Ки-
белы и Артемиды Эфесской.
Наконец, не без основания связывают Афину Итонию из Фессалии,
Беотии и Аттики с греческим словом itea (ива), так что Афина,
возможно, имеет отношение и к иве. Любопытно отметить, что ива,
как и кипарис, тоже связана главным образом с подземным миром:
роща Персефоны в Аиде — ивовая (Од., X 510); в Колхиде покойников
вешали на ивах; около пещеры Зевса на Крите стояла ива (Критский
Зевс — по преимуществу хтонический). Если указанная этимология
Итонии правильная, то здесь перед нами еще один хтонический ру-
димент Афины. Павсаний (II 29, 1) говорит об Афине плющевой в
Эпидавре; на одной терракотовой статуэтке шлем Афины увит тоже
плющом. Тем самым Афина втягивалась также и в круг представлений
дионисийского хтонизма и фатализма.
д) Но если мы дошли до универсально-космического и фатального
значения Афины, то сам собой возникает тот вопрос, с которым мы
обычно сталкиваемся в этой древней фетишистской мифологии, где
божество, жрец как ипостась этого божества и приносимая этому
божеству жертва есть одно и то же. Тут мы встречаемся также с
одним из самых замечательных типов древней стихийно-множествен-
ной семантики, доходящей до явного отождествления противополож-
ностей. Прежде чем разделятся функции принимающего жертву, при-
244
А. ф. Лосев
носящего жертву и самой жертвы, проходят целые тысячелетия, когда
размытое и слитное первобытное мышление отождествляет эти три
момента, так что это разделение функций есть результат раздельного
и уже более или менее формально-логического мышления. Как для
других божеств, так и для Афины мы имеем здесь небезынтересный
материал.
Мы уже знаем и еще увидим ниже, что Афина умерщвляет Горгону
и гиганта Палланта. Однако да будет известно, что и сама Афина
трактуется как Горгона и Паллада. У Софокла (Ajax 450) Аякс на-
зывает ее gorgopis, т. е. «горгоноликая», или, как неточно переводят,
«грозноликая». То же и во frg. 760: «Голова Горгоны на стенах
Акрополя имела не меньшее значение, чем олива» (Paus., I 41, 1; V,
12, 2). Одна из Горгон носит название Сфено — Могучая (Hesiod.
Theog., 276); но почти такое же наименование — Сфениада — носила
и сама Афина в Трезене (Paus., II 30, 6). То, что голова Горгоны
оказывается у Афины в виде ее атрибута, это также немаловажный
аргумент в пользу былого тождества Афины и Горгоны. Устанавли-
вается также аналогия между отношениями Посейдона к Горгоне-Ме-
дузе (например, у Овидия Met., IV 789 слл.) и к Афине.
Глаза Афины славились своей страшной и ужасающей силой не
меньше, чем глаза Медузы. Эти глаза вращались даже в том деревянном
Палладиуме, под видом которого Афина упала с неба. Стоит только
сравнить такие два текста. В Liber monstrorum 1 38 (Haupt. Ind. lect.
Bert., 1883, 13) говорится о Горгоне, «одну из которых, защищая себя
зеркальным щитом, убил Персей и отрубленная голова которой, как
говорят, вращала глазами, как живая». Но вот что сообщает Страбон
(VI 1, 14) о Троянской статуе Афины в городе Сирисе: «О статуе
рассказывают, что она закрыла глаза, когда ионяне, взявши город,
отвлекли молящихся от нее... даже в настоящее время показывают
деревянную статую, закрывающую глаза».
Далее, как мы уже знаем, Афина, по одной версии, — дочь гиганта
Палланта, следовательно, она сама гигант. Если она убивает своего
отца, и притом гиганта, ясно, что гигантизм уничтожает здесь самого
себя, т. е. переходит на другую, более высокую ступень. В отношении
Афины и Горгоны уже не раз выставлялось мнение, что первоначально
Афина и была не чем иным, как Горгоной; а это значит, во-первых,
что Афина отделилась от Горгоны и, во-вторых, что она в дальнейшем
уничтожает в самой себе свою горгоническую сущность.
Так же, по-видимому, надо рассуждать и о взаимоотношении
Паллады с Паллантом. Но имеется сообщение еще более ясное. Апол-
лодор (III 12, 3), разъясняя происхождение Палладиума, рассказывает,
что Афина, воспитываясь у Тритона, из-за горячности убила на во-
енных упражнениях Палладу, дочь Тритона. И потом, сжалившись
Афина Паллада
245
над нею, она сделала ее статую и покрыла ее эгидой, а Зевс сбросил
эту статую на Троянскую землю. Здесь очевиднейший отголосок тех
времен, когда жрец и жертва представляли собой одно и то же лицо,
ибо иначе Афина не носила бы имени убитой ею Паллады. В качестве
параллели к этому мифу приведем рассказ из Etym. Magn. v. Itonis
об аналогичном убийстве Афиной даже своей собственной сестры в
Беотии: «Итонида и Итония — название Афины у фессалийцев от
города Итон. Как рассказывает генеалог Симонид, у Итона было две
дочери, Афина и Иодама. Во время их соревнования в военных уп-
ражнениях они затеяли друг с другом спор, и Иодама была убита
Афиной». (Тут же приводятся стихи из Apoll. Rhod., I 549—551 о
том, как Пелиады взирали на Арго, «сооружение Афины Итонской».)
У Павсания (IX 34, 2) Афина и Иодама не сестры, но убийство все
равно происходит: «Жрица богини Иодама как-то ночью вошла в
священную ограду, и вот перед ней явилась Афина, на одеянии которой
была голова Медузы — Горгоны. Как только Иодама взглянула на нее,
она обратилась в камень. И поэтому женщина, каждый день возла-
гающая огонь на жертвенник Афины Итоны, трижды возглашает на
беотийском наречии, что Иодама жива и просит огня».
Точно так же мы уже приводили версии о происхождении Афины
от Посейдона, но, с другой стороны, Посейдон кое-где заступает
место Гефеста, который, с одной стороны, по редкому варианту,
является отцом Афины (Clem. Alex. Protr., II 28, 1—2), а с другой,
как известно (Hyg. Fab., 166), неудачно претендовал на Афину, т. е.
он — ее муж, пусть хотя бы и неудачный; кроме того, имеется прямо
версия о рождении Аполлона от Афины и Гефеста (Clem. Alex. Protr.,
II 28, 3); с третьей стороны, Эрихтоний, или Эрехтей, появившийся
от этого своеобразного брака, есть не что иное, как ипостась самого
Посейдона, который кое-где так и почитался под именем Посейдона —
Эрехтея; а та вода, которую Посейдон напустил на Аттику в своем
споре с Афиной, называлась «Эрехтеевым морем». Другими словами,
Афина есть дочь Посейдона, Афина есть жена Посейдона и Афина
есть мать Посейдона. То, что мы находим в позднейшее время, а
особенно в литературе в виде случайных противоречивых данных,
восходит к той хтонической, космической и фетишистской дикости,
когда плохо расчлененное мышление не различало разных степеней
родства; да этого не различала тогда и сама жизнь, очень медленно
переходившая от беспорядочного полового общения к кровнородствен-
ной семье и от кровнородственной семьи вообще к групповому и
парному браку.
е) В связи с этим хтоническая Афина имеет мало общего с клас-
сической и в отношении вызываемых ею аффектов. Даже в эпической
поэзии, где она появляется часто в безобидном виде, она то и дело
квалифицируется как deine, т. е. «ужасная», «страшная». Таковой
является она не только при своем рождении на свет у Гесиода (Theog.,
246
А. Ф. Лосев
924), не только в описаниях ее военной мощи (как в общем виде
Hom. Hymn., XI, 2), но и при вступлении на колесницу Диомеда
Ил., V 839, а также у мирных феаков, когда она всего только сопр.
вождает Одиссея (Од., V4 41). У Аристофана (Equ., 1177) она
«пугающая войска».
Особенным у>.асом о~л^ч лись глаза Афины, как это ясно из i
связи с Горгоной. Она так и называлась «пронзительноокой». Афин
с таким наименованием Диомед построил храм в Аргосе (Paus,
24, 2). В Спарте тоже был храм Афины «Офталмитис» — «Глазницы
хотя и у Павсания (III 18, 2) и у Плутарха (Lyc., 11) рассказываете
о том. что Ликург построил храм Афины «Глазницы» на том месте
где он спасался от преследования Алкандра, выбившего у него од«.
глаз из-за недовольства его законодательством; тут, следовательно
скорее имеются в виду целительные функции Афины.
Об ужасе глаз Афины (с присоединением еще других ужасов) мы
читаем у Плутарха (Arat. 32), который, правда, говорит здесь не о
Афине, но об Артемиде; однако Полиэн (VIII 59) тот же самый расска
связывает с Афиной, что является более вероятным, поскольку реч>
здесь касается военных дел. Приведем этот рассказ по Плутарх,
«Сами пелленцы говорят, что статуя богини остается неприкосновенн>'
почти все время; когда же жрица сдвинет ее с места и станет выносить
никто не смеет глядеть на нее, все отворачиваются в сторону. Смотре)
на статую страшно и опасно не для одних людей, — даже деревья *
тех местах, где несут ее, становятся бесплодными и раньше времен!
теряют свои плоды. В то время жрица, по рассказам населения, выноса
статую, все время держала ее лицом к этолийцам, вследствие чег.
они пришли в исступление и лишились рассудка». Последнее сообщение
вполне аналогично мотиву окаменения, которое обычно связывает! ,
с мифом о глазах Горгоны-Медузы.
Точно так же слишком часто забывают, что Афина вызвала безумш
у дочерей Кекропса и тем довела их до самоубийства; что она навел,
безумие на Аякса ради защиты ахейских вождей и тем самым в кони
концов тоже довела Аякса Теламонида до самоубийства (сюжет об
щеизвестной трагедии Софокла «Аякс», ср. Procl. excerpt. Ер. cycl. г*
242 Wagn; Apollod. Epit. 5, 6); что она «жалит» безумием дунь
«смертных» (Orph. hymn., XXXII 6); что после растерзания Дионис.
Титанами она спасает сердце Диониса и доставляет его Зевсу ил>
погребает под Парнасом (в сердце Диониса, очевидно, есть квинтэс
сенция его организма и экстатического хтонизма); что она изобрел.?
флейту «в подражание при помощи инструмента громко раздающемус*
воплю, который исторгается быстро стучащей зубами Эвриалой» (Pind
Pyth., XII 33—38 Schr.), а Эвриала — это другая Горгона, кричавшая
при убиении своей сестры Медузы Персеем. Афина убивает свою
подругу Палладу и свою жрицу Иодаму, превращает Арахну в паук;:
и Никтимену — в сову; да и Агравла была превращена в камень нс
Афина Паллада
247
без ее участия. О хтонизме Афины говорят и такие, правда, редкие
эпитеты, как «Арейя» или «Гефестия». Орфический гимн (XXXII 11)
называет Афину «philentheos», что буквально значит «любящая боже-
ственную одержимость». Недаром на одной краснофигурной вазе изо-
бражается, как Афина принимает из рук водной нимфы Дирки мла-
денца Диониса; Тесею и его спутникам на Наксосе, после отнятия
Дионисом у Тесея его Ариадны, она приказывает оставить остров и
отправляться в Афины (Pherecyd. HGF. 197, 106). Вспомним также
вышеприведенное место из Павсания об Афине Плющевой в Эпидавре
и в шлеме Афины, увитом плющом; а плющ — исконный атрибут
Диониса. На амфоре VI в. Дионис изображен среди богов, присутст-
вующих при рождении Афины. При Пизистрате, когда Дионис усиленно
прививался к государственной религии Афин, Дионис находил в Афине
свою упорядочивающую форму и занял вместе с ней центральное
место в афинской религии (см. ниже тексты из неоплатоников о
взаимоотношении Афины и Диониса).
Здесь этот древний оргиазм и безумие дополняются еще и тем,
совершенно необходимым для времени хтонизма, волшебством и кол-
довством, которое в период классики, по крайней мере для передового
греческого сознания, было уже только отдаленным воспоминанием.
В связи с Афиной Скирой Фотий называет Скирон «тем местом в
Афинах, где восседали прорицатели», а Зенобий (V 75) прямо говорит,
что «Афина изобрела гадание при помощи камешков». Здесь речь идет
об изобретении жеребьевки в Дельфах. Один поздний магический
источник свидетельствует о колдовстве при помощи головы Афины.
Именно тут мы находим такие слова: «Ты — вино, ты — не вино, но
ты — голова Афины» (Wien. Acad. d. Wissensch., 1893, XLII 44). Воз-
можно, рудиментом каких-то старинных магических и мантических
представлений об Афине является нередкая у Гомера связь Афины со
снами: она посылает сладкий сон Пенелопе в Од., 1 364, XVI, 451,
XIX 604 и XXI 358; она, «как дуновение ветра» (характерное выра-
жение), является во сне Навзикае и побуждает ее ехать к морю,
навевая ей брачные образы (что совсем не характерно для классической
Афины и даже резко ей противоречит) в VI 20—41.
Ясно и то, что древняя Афина отнюдь не отличается тем не-
возмутимым спокойствием, благородством и благожелательством, ко-
торые присущи ей в классическое время. Гигин в своей не дошедшей
до нас Fab., 265 (о которой мы знаем из оглавления) специально
трактовал о тех, кто погиб от руки Афины. Известна также та месть,
которую употребила Афина для греков за их грабеж в Трое: когда
они потерпели кораблекрушение, она специально убила молнией
Аякса Оилида за оскорбление им Кассандры (например, Hyg. Fab.,
116).
Наконец, источники дают нам указания на самые мрачные времена
дикости, когда, оказывается, Афина тоже не отсутствовала; мы имеем
24Я А. Ф. Лосев
в виду человеческие жертвы в культе этой древней Афины, чт.
является самым резким, самым неожиданным контрастом ко всем
тому, что думает популярная литература о классической Афине Пал
ладе. Мы располагаем двумя свидетельствами Порфирия о куль,
Афины в Лаодикии и на Кипре. О первом Порфирий (De abst., II 5с
говорит совершенно точно и без всяких кривотолков: «В Лаодикы
сирийской ежегодно приносилась в жертву Афине девушка, в настояли
же время — лань». Несколько сложнее обстоит дело с Кипром.
Тот же Порфирий (Ibid., II 54) пишет: «У киприйцев в теперешне*
Саламине, который прежде назывался Коронидой, в месяц Афродисио
приносился в жертву Агравле, дочери Кекропса и нимфы Агравлидь
человек. И этот обычай сохранился вплоть до времени Диомед
В дальнейшем этот обычай изменился в том смысле, что человечески
жертвы приносили Диомеду. В одной ограде находился храм Афиш.
Агравлы и Диомеда. Закалываемый человек, которого вели эфеб) *
трижды обегал алтарь. Затем жрец пронзал его копьем в горло i.
таким образом, сжигал его целиком над разведенным огнем». Эт<
кровавый культ в Киприйском Саламине отправлялся, следовательно
не самой Афине, но Агравле. Однако выше мы уже приводили исгочни,
о тождестве Агравлы и Афины. Кроме того, после разделения одно»
демона на двух, Афину и Агравлу, они все еще продолжали находить,
в ближайшем отношении. Обычно Агравла есть одна из намеченны
Афиной воспитательниц Эрихтония или ее жрица; а в данном случ.,
культы Афины и Агравлы справляются территориально рядом один
другим. Для исторического анализа это более чем достаточный мат.
риал. Афина — не только чудовище, но и людоед.
В конце концов Афина — это есть та самая древняя универсальна
великая мать, которая зарегистрирована решительно во всех мап_р|
алах архаической мифологии всех стран, которая является и роди
гельницей и губительницей всего живого. Об этом мы читаем зам.
нательное рассуждение у Апулея (Met., XI 5), вложенное в ус
египетской Изиды: «Там фригийские перворожденные зовут меня fit.
синунтской матерью богов; тут аттические прирожденные насельц
Минервой кекропической, здесь приморские кипряне Пафийскои В
нерой, критские стрелки Дианой Диктинской, троязычные сицилийи
Стигейской Прозерпиной, елевсинцы Церерой, древней богиней; одь
Юноной, другие Беллоной, те Гекатой, эти Рамнузиеи, но эфиопн
которых первые лучи восходящего солнца раньше других озарял»
арийцы и египтяне, богатые древним учением и чтущие меня соо
ветствующими мне церемониями, зовут меня настоящим моим им
нем — владычицей Изидой». В связи с этим загадочное место орф>>>
ческой Аргонавтики (31), трактующее среди множества разных хт
ническик образов также и о «ночах Ареевой Афины», может быт •
Афина Паллада
244
нужно понимать как указание на тождество с Деметрой, поскольку о
«Священных ночах» в Элевсине читаем у Иустина (II 6). Но если
говорить вообще об истоках мифологии Афины, то, повторяем мы
здесь сталкиваемся не только с Деметрой, но и вообще с Великои
Матерью периода матриархата, среди ипостасей которой в дальнейшем
мы встречаем множество и других разноплеменных богинь и, в час-
тности, Афину Палладу.
В связи с таким хтоническим пониманием Афины, мижс < иытъ,
до некоторой степени приоткрывается загадка одинокого и странного
сообщения Цицерона (De nat. deor., Ill 23, 59) об одном тине Афины,
именно гои, которая является матерью Аполлона (да еще не ог кого
другого, как or Гефеста, Cic de nat. deor.. Ill 32, 55) Это из ряда
вон выходящее сообщение получает свой смысл только в том единст-
венном случае, если и Аполлона и Афину мы будем понимать не
классически, но архаически и хтонически. Афина здесь не дева, но
мать; и Аполлон здесь не просто свет и искусство, не сын Лето и не
брат Артемиды, но то, что само только еще появляется из тьмы,
подобно тому Аполлону — Заревому, о котором несколько раз упоми-
нает Аполлоний Родосский (II 686, 700; ср. схол. к. II 1). Тем более,
что и упомянутая выше у Апулея Изида в том же месте его романа
говорит: «День, что родится из этой ночи, день этот издавна мне
посвящается». Вероятно, именно ее, ночную, мудрую и воинственную
малоазиатскую Ма однажды Сулла видел во сне, по изображению
Плутарха (Sull. 9): «Рассказывают, что и сам Сулла увидел во сне
богиню, культ которой римляне заимствовали у каппадокийнев, —
Луну, Минерву или Беллону. Сулле показалось, что она предстала
перед ним, вручила ему молнии и, называя по имени каждого из его
врагов, приказала бросать в них молнии. Они падали на землю и
исчезали». А что эта универсальная богиня есть и жизнь и смерть
одновременно, об этом читаем замечательные слова Аполдодора (W
10, 3): «...Асклепии, принявший от Афины кровь, которая истекла из
жил Горгоны, пользовался кровью из левой ее руки для уничтожения
людей, а из правой для сохранения; и при помощи этой последней
крови он воскрешал мертвых». В Ионе Эврипида две капли крови
Горгоны Афина передает младенцу Эрехтею. Здесь происходит следу-
ющий диалог между Креусой и стариком (999—1017 Анненск '.
К ре уса. Был Эрихтоний... но ты знаешь, старец!
Старик. Конечно — предок земнородный ваш.
Креуса. Ему дала Паллада при рожденьи...
Старик. Ну, что? Конца твоей я вести жду.
Креуса. Две ярых капли из крови Горгоны.
Старик. Но как дала она тот дар младенцу?
Креуса. В златой змее. Наследник — мой отец.
Старик. И вслед за ним владеешь ими ты?
250
А. Ф Лосев
Креуса. Да, и ношу в запястье, как ты видишь.
Старик. Но этот дар двойной, каков же он?
Креуса. Есть капля там одна из полой жилы...
Старик. К чему она? Какая сила в ней?
Креуса. Недуг целит и жизнь она питает.
Старик. Ну, а другой-то сгусток, тот зачем?
Креуса. Чтоб убивать... То яд из змей Горгоны...
Старик. Слила ль ты их иль носишь, разделив?
Креуса. Нельзя с хорошим смешивать дурное.
Если сделать сводку всем приведенным у нас материалам о хто-
нической Афине Палладе, то можно сказать следующее. Это был
плохо расчленяемый и размытый образ космического целого, включая
небо, воздух, землю, воду и преисподнюю, в виде то ли змеи, то ли
совы, ласточки или ястреба, то ли козы, или лошади, оливы, кипариса
или ивы, каковой образ, становясь роковым, стихийным и магически
действующим чудовищем, циклопом, гигантом и Горгоной-Медузой,
был одновременно и образом мировой матери — матери, дочери и
супруги всего живого и губительницей всего живого, превращавшей
одним своим взглядом в камень все, на что она взирала.
В таком виде надо было бы в настоящее время дать сводку всей
стихийно-множественной семантики, которую можно извлечь из ан
тичных источников по Афине Палладе.
7. ДРУГИЕ ЧЕРТЫ ПЕРЕХОДА ОТ МАТРИАРХАТА К ПАТРИ-
АРХАТУ. Новая стадия Афины Паллады после матриархального хто-
низма есть патриархальный героизм, подчинивший себе всю прежнюю
хтоническую и фетишистскую стихию прежней Афины на основе
центрального мифа о рождении из головы Зевса. Но даже в пределах
этого героического образа Афины, когда она стала вполне антропо-
морфной, как показывают источники, еще долгое время оставались
черты стихийности, например, чудовищности и огромности.
а) Рудиментом, идущим из фетишистской старины, является, на-
пример, изображение у Гомера того, как Ахилл вместе с Афинои
кричит на троянцев, причем крик этот настолько велик, что троянць
в ужасе обращаются в бегство, несмотря на безоружность Ахилла
(Ил., ХУШ 217—231).
Мало общего с классическим представлением об Афине Паллад^
имеет сообщение Гомера также о том, как затрещала колесница Дио-
меда при вступлении на нее Афины (Ил., V 837 слл.):
Быстро сама в колесницу к Тидиду восходит богиня,
Бранью пылая; ужасно дубовая ось застонала,
Зевса подъявшая грозную дщерь и храбрейшего мужа.
Афина Паллада 251
Эта огромная физическая тяжесть богини свидетельствует о ее
циклопических размерах, уводящих нас ь эпоху мифологических чу-
довищ и не имеющих ничего общего . гой, почти исловечсски-быговои
Афиной, которая в Одиссее является суетливой покровительницей
главного героя последней.
Прибавим к этому, что даже когда Афина перестала бы го чудо-
вищем и превратилась в человека, она далеко не сразу приобрела те
классические формы, которые всем известны из греческого искусства
V в. до н. э. Византийский историк Прокопий в своем изображении
войн с готами (VI 15 Кондр.) небезынтересно говорит о Палладиуме
Афины в Беневенте: «Это изображение в камне, похожее на воитель-
ницу, поднявшую копье как бы для сражения. Но и в этом случае
ее туника опускается до самых ног. Ее лицо не похоже на греческие
изображения Афины; оно совершенно таково, каким его в древности
делали египтяне. Если слушать византийцев, то эту статую император
Константин зарыл на той площади, которая носит его имя». Эта
грузная мощь матриархального демона причудливым образом пере-
плетается с тем символом и -почти, можно сказать, олицетворением
волевого разума, которое, как мы знаем, могло создаться только в
период восходящего патриархата. В одном Гомеровском гимне (XXVIII
4—16) читаем:
.. .Родил ее сам многомудрый Кронион.
Из головы он священной родил ее, в полных доспехах,
Золотом ярко сверкавших. При виде ее изумленье
Всех охватило бессмертных. Перед Зевсом эгидодержавным
Прыгнула быстро на землю она из главы его вечной,
Острым копьем потрясая. Под тяжким прыжком Светлоокой
Заколебался великий Олимп, застонали ужасно
Окрест лежащие земли, широкое дрогнуло море
И закипело волнами багровыми; хлынули воды
На берега. Задержал Гиперионов сын лучезарный
Надолго быстрых коней, и стоял он, доколе доспехов
Богоподобных своих не сложила с бессмертного тела
Дева Паллада Афина. И радость объяла Кронида.
К этому циклопическому образу богини, уже на стадии ее героизма,
надо отнести, как мы уже знаем, также и ее участие в титаномахии
(Hyg. Fab., 150) и ее гигантомахии, где она сражает гиганта Энкелада
и других, а также Горгону. У Apollod., I 6, 1—2 читаем: «Геракл
первым поразил из лука Алкионея. Но последний, падая на землю,
приобретал еще большую силу. Тогда Афина, отступив перед ним,
Увлекла его из пределов Паллены и, таким образом, он был убит...
На Энкелада, когда он пытался бежать, Афина навалила остров Си-
цилию, а с Палланта она содрала шкуру и ею во время битвы
прикрывала свое собственное тело». К этому тексту необходимо за-
метить, что гиганты есть дети Земли, т. е. типичные хтонические
252
А. Ф. Лосев
чудовища, и потому нет ничего удивительного, что Алкионей получае ।
силу от Земли, а шкура Палланта обладает магической силой. Очень
важно отметить рассказ Плутарха (Thes., 13) о борьбе Тесея с Пал
лантидами, претендовавшими на царство после Эгея и отвергавшим)
Тесея как побочного сына Эгея. Борьба кончилась полной победе)
Тесея. Если за этим кроются какие-нибудь подлинные исторически,
события в Аттике, то борьба олимпийцев, и в частности Афины, .
Гигантами, и в частности с Паллантом, может рассматриваться ка:
мифическое отражение социально-политической борьбы в Аттике на
кануне образования аттического государства. Важно и то, что в рассказе
Плутарха фигурирует дем Паллена в качестве места борьбы Тесея .
Паллантидами, а у Аполлодора Афина борется с Гигантами и тоже ь
Паллене. Ясно, что Гиганты в мифе и Паллантиды в истории здесь —
темные силы изживающей себя самое древней ступени общинно-ро-
довой формации, в то время как Афина и Тесей — представители
героизма и, следовательно, патриархата. Характерно и то, что Пал-
лантиды отвергают Тесея именно из-за несоответствия его родовым
традициям, что подтверждается также и последующей деятельностью
самого Тесея как создателя синойкизма. Следовательно, Афина и
Тесей уже выходят в данном случае за рамки строгой родовой общины
и характерны для другого этапа, государственного.
Об убиении Афиной Горгоны (в противоположность более извест-
ному рассказу об убиении Горгоны-Медузы Персеем) читаем также в
разных местах, как, например, у Eurip. Ion, 989—991 ср. эпите,
Афины «Горгоноубийца», там же, 1476 и Orph. hymn., XXXII 8. Кроме
того, и вся гигантомахия должна расцениваться нами как символ
борьбы патриархата с матриархатом, поскольку гиганты являются
хтоническими чудовищами, а сражающиеся с ними олимпийцы во
главе с Зевсом — представители новой эпохи, выдвинувшей приоритет
мужского индивидуума.
б) Далее, к элементам, указывающим на переход от матриархата
к патриархату, необходимо отнести и то необычайное явление, о
котором сообщает Геродот (I 175, VIII 104), что у педасейской жрицы
Афины около Галикарнасса, как предвестие несчастья, трижды выра-
стала борода.
Сюда же надо отнести и историю с Тирисием, рассказанную %
Каллимаха (Hymn., V 75—84): когда Афина однажды омывалась в
Гиппокрене под Геликоном и на нее нечаянно натолкнулся молодой
Тиресий, сын ее подруги-нимфы Харикло, омывавшейся там же, то
Афина лишила его зрения за его невольную нескромность, даровав
ему, впрочем, в то же время дар пророчества. Такой же рассказ можно
найти, например, у Аполлодора (III 6, 7, 2—3). Подобного рода мифы
(ср. также Актеона, нечаянно увидевшего на охоте обнаженную Ар-
темиду и потом разорванного собственными собаками) свидетельствую!
о том, что уже прошли века фетишизма, когда человек представлял
Афина Паллада
253
себе богов и демонов исключительно только физически и когда иной
встречи с этими богами и демонами даже и не мыслилось. Вместе с
переходом от собирательства и охоты к изготовлению и разведению
сознательно создаваемого продукта идеи вещей уже отделялись от
самих вещей и демоны физических предметов отделялись от самих
этих предметов. Тогда уже нельзя было видеть этих богов во всей их
обнаженности и чисто физически, если они сами не удостаивали этого
людей, и всякие попытки в этом направлении пресекались.
Социальная подоплека подобного рода мифологии расшифровыва-
ется довольно просто, если только прочно увязывать переход от фе-
тишизма к анимизму с переходом от охотничьего хозяйства к произ-
водящему.
в) К тому же кругу идей относится, по нашему мнению, также
известный миф об Афине и Арахне, в котором обычно игнорируют
один момент, наиболее интересный как раз в историческом отношении.
Дочь колофонского красильщика, Арахна, наученная Афиной ткацкому
ремеслу, решила состязаться с богиней в этом искусстве и выткала
некоторые сцены из жизни богов, против художественности которых
не могла возразить и сама Афина. Когда раздраженная Афина стала
бить Арахну челноком по голове и та хотела повеситься, то Афине
стало ее жаль, и она ради милости превратила ее в паука, чтобы та
продолжала и дальше заниматься своим ткацким искусством. В этом
мифе обычно выдвигают на первый план момент состязания смертного
человека с богом и гораздо меньше обращают внимание на те изо-
бражения, которые Арахна выткала для состязания.
Если не останавливаться на таком сухом рассказе, как у Ватик.
Мифогр. (I 91; II 70) и если верить Овидию, — а верить ему можно
только с учетом его эллинистического отношения к мифологии, —
(Met., VI 1—145, особенно 103—126), то Арахна изобразила плавание
Европы на похитившем ее Зевсе-быке, похищение Зевсом-орлом Ас-
терии, брак Зевса-лебедя с Ледой, Зевса-сатира и Антилопы, брак
Зевса в виде Амфитриона с Алкменой, нисхождение Зевса в виде
золотого дождя на Данаю и в виде огня на Эгину, брак с Деметрой
(или Персефоной) в виде змея, с Мнемосиной в виде пастуха, брак
Посейдона-быка с одной из дочерей Эола, его же в виде реки Энипея
с Тиро; в виде барана с Бизальтидой, в виде коня с Деметрой, в виде
птицы с Медузой и, наконец, в виде Дельфина с Меланто. Далее,
Арахна изобразила Аполлона с перьями ястреба и львиной гривой,
его брак в виде пастуха с Иссой, гибель Эригоны, дочери Икария
из-за Диониса, брак Кроноса в виде жеребца с Филирой и порождение
Кентавра Хирона. Если спросить себя об общем характере всех этих
изображений Арахны, то ясно, что здесь перед нами на первом плане
оборотничество богов, т. е. их фетишистская природа и их непос-
редственные, даже физические отношения со смертными. В социаль-
но-историческом смысле это есть, конечно, либо прямая ступень мат-
254
А Ф Лосев
риархата, либо рудименты этой ступени в период олимпийскою j <
роизма.
Любопытно обратить внимание также и на го, чтб в этом состязиь.
изображала Афина (VI 10—100). Она выткала не чго иное, как св<
знаменитое состязание с Посейдоном из-за Аттики, которое, как
вестно, кончилось примирением обоих божеств. Это состязание, кром
того, изображается в торжественном присутствии всех 12 олимпийсю
богов. По четырем углам этой картины даны: превращение Гема
Родопы в снежные горы за присвоение ими себе имени Зевса и Герт,
превращение Герой матери Пигмеев в журавля за ее красоту, Анти
гоны, дочери Лаомедонта, в аиста за красоту ее волос, и дочер^
Кинира в ступени храма за попытку превзойти Геру своей красотой
Все эти изображения Афины свидетельствуют о том, что в них проводе
очень определенный мифологический принцип; это — принцип сора<>
мерности и уравновешенности, принцип пребывания каждого вид
бытия на своем месте, когда богам и людям отводится определенны
ранг, который нельзя переступать.
Другими словами, состязание Афины и Арахны мыслится здесь и
просто как спор о мастерстве и художественном превосходстве, но Ка.
борьба двух совершенно различных мифологических ступеней. Арахн
защищает принцип несоразмерности, принцип хаотического смешени
богов и людей в одной общей фетишистской мифологии; Афина ж,
защищает принцип размеренности, упорядоченности, гармонии, прин
цип пребывания каждой вещи в мироздании на своем собственном
только ей одной подобающем, месте.
Разумеется, этими замечаниями мы вовсе не предполагаем исчер
пать все содержание этого глубокого рассказа о споре Афины и Арахны
Нужно иметь в виду, что в период падения олимпийской религии
мифологии как раз реставрировались древние доолимпийские пред
ставления, которые в обстановке борьбы с антропомофизмом получал,
значение более позитивных, более научных и материалистически
принципов. Так, на этой реставрации матриархального титанизм,
вырастали мифы о Дионисе, Прометее, Орфее, а в дальнейшем и вс>
досократовская натурфилософия. Что же касается поэтов, то, воскре
шая древний хтонизм, они подносили его в стиле комическом, бур
лескном и часто даже фривольном. Для вольнодумца Овидия гут бы i
конечно, огромный материал; и мы видим, с каким удовольствием и.
нагромождает здесь нам целую энциклопедию превращений и брако)
Этого момента никак нельзя упускать из виду, но что за этим лежи
далекая перспектива борьбы хтонизма и героизма, в этом также н
может быть никакого сомнения.
г) Однако, помимо всех приведенных у нас выше текстов, доп\
скающих то или иное толкование, имеется один замечательный текс
о связи Афины Паллады с патриархатом, текст, против которого
смогут возразить никакие скептики и никакие противники историчс
Афина Паллада
255
ского изучения мифологии. Это сообщение Варрона, переданное нам
Августином (De civ. dei, XVIII 9). Данный текст настолько выразителен
и настолько не допускает никаких кривотолков, что мы сначала при-
ведем его полностью. Он выгодно отличается от кратких, сухих и
ничего не говорящих рассказов Аполлодора (III 14, 1, 2—4), Гигина
(Fab. 164) и Ватик. Мифогр. (I 2; р. 172, 38; р. 225, 33, 2, 119) на
ту же тему.
«Варрон указывает следующую причину, почему так называются
Афины, каковое название, очевидно, происходит от Минервы, имену-
емой по-гречески Афиной. Когда там внезапно появилось оливковое
дерево, а в другом месте пробилась вода, эти чудеса взволновали царя,
и он отправил к Аполлону Дельфийскому спросить, как это надо
понять и что надо делать. Тот ответил, что олива обозначает Минерву,
вода — Нептуна и что при наименовании государства во власти граждан
предпочесть одного из двух богов, знаки которых там находились.
Тогда Кекроп, получив оракул, собрал для проведения голосования
граждан обоего пола (поскольку в тех местах был обычай, чтобы даже
женщины участвовали в общественных собраниях). Итак, когда со-
брание было опрошено, мужчины высказались за Нептуна, а женщины
за Минерву, и, поскольку женщин оказалось на одну больше, победила
Минерва. Тогда разгневанный Нептун опустошил афинские земли
бурными морскими волнами, поскольку божествам нетрудно распро-
странить какую угодно воду на более обширное пространство. Чтобы
умилостивить гнев Нептуна, как говорит тот же автор, афиняне на-
ложили на женщин тройное наказание, — чтобы никто из них в даль-
нейшем не голосовал, чтобы ни один новорожденный не принимал
имени матери и чтобы их никто не называл афинянками.
Так это государство стало матерью и кормилицей свободных наук
и стольких великих философов, благороднее и славнее чего Греция
никогда не имела, и в то время как (прочие) боги принимали это за
шутку, ввиду спора своих божеств, мужского и женского, государство
приняло имя женщины Афины. Но оскорбленное побежденным [богом],
оно было принуждено наказать победительницу за эту победу, испы-
тывая страх больше от воды Нептуна, чем от оружия Минервы.
Действительно, в женщинах, которые были наказаны, была побеждена
и победившая Минерва. При этом она не помогла своим избиратель-
ницам, так как в дальнейшем после утери их власти и отчуждения
Детей от имени матери им только было позволено называться афи-
нянками и быть достойными носить имя этой богини, которую своим
голосованием они сделали победительницей мужского божества».
Центральное содержание этого рассказа настолько ясно, что почти,
Как говорится, не требует комментария. Тем не менее кое-что здесь
все же надо пояснить.
Прежде всего может представиться неясным, почему в приведенном
тексте Варрона-Августина наказаны женщины-избирательницы, в то
256
А. Ф. Лосев
время как избранная ими Афина осталась у власти. Здесь необходим^
принять во внимание, что женщины избирают Афину, по-видимому
совершенно слепо и непринципиально, только потому, что Афина —
женщина, совершенно не учитывая всей специфики Афины. В резуль
тате этого женщины не понимают, что Афина есть принцип уц0
рядоченной, размеренной и разумно-волевой жизни, а потому они
невольно дают свободу и чисто стихийному началу, которое тут жу
не замедлило проявиться в виде Посейдона с его бурными водами 1к
всей Аттике. Ясно также и то, что миф рисует такое состоянг
общества, когда безудержная стихийность уже не была ведущим » .
чалом, вследствие чего женщины тут же терпят и наказание. Люб.,
пытно и само это наказание: женщины лишаются избирательных праь,
их дети будут теперь числиться по роду отца, и они вообще лишаются
гражданских прав в Аттике. Правда, это последнее наказание в даль
нейшем отпадает. Но первые два остаются навсегда, и они сами говоря ।
за себя: тут перед нами не что иное, как конец власти женщины и
наступление патриархата. Другими словами, афинские женщины сами
не знали, кого они избрали, поскольку Афина означала уже упоря-
доченную стихию и патриархат, но не господство женщины.
К сожалению, известие Варрона-Августина ничего не говорит о
дальнейших взаимоотношениях Афины и Посейдона в Аттике, кроме
того одного, что Афина все же остается победительницей и дает свое
имя главному городу Аттики. Однако из других источников мы хорошо
знаем, что Посейдон, это древнейшее хтоническое и притом древнейшее
ионийское божество, отнюдь не ушел из Аттики и продолжал поль-
зоваться там большим почетом. Эрехтей построил один храм Афине
и Посейдону. Оба эти божества спорили также и относительно Трезсн
и также пришли к примирению (Paus., II 30, 6). В Академии были
жертвенники Афине-Конной и Посейдону-Конному (Paus., I 30, 4,
Статуи Афины и Посейдона часто и вообще ставились вместе. Ясно,
что Афина и Посейдон как-то были согласованы в аттической мифо-
логии и продолжали владеть этой страной сообща. Однако само собой
разумеется, что хтоническому, стихийному Посейдону эпохи матри
архата пришлось сильно реформироваться в условиях наступавшего
героического патриархата, т. е. упорядочиться и преобразиться при-
мерно так, как это произошло, по изображению Эсхила, с Эринниями,
тоже вступившими в соглашение с таким нехтоническим божеством,
как Аполлон.
Приведем по этому поводу небезынтересную эпиграмму Юлиана
из Anthol. Pal., XVI 157 Кондр.
Что ты, о Тритогения, стоишь среди города грозно?
Что со скалы так блестит золотом пышный доспех?
Ведь уже давно Посейдон уступил, отказавшись от спора.
Ныне Кекропса детей город ты мощно храни.
Афина Паллада
257
Так или иначе, но сообщение Варрона-Августина в своем основном
^держании совершенно не допускает никакого скепсиса и никаких
кривотолков; Афина — это непререкаемый символ патриархата, и вся
се основная мифология есть очевиднейшее отражение, вообще говоря,
борьбы патриархата с матриархатом.
8. КЛАССИЧЕСКАЯ АФИНА ПАЛЛАДА. ГЕРОИЧЕСКИЕ ФУН-
КЦИИ. Все материалы об Афине, которые мы рассматривали до сих
дор, рисуют нам либо хтонизм Афины, либо ее переход от хтонизма
д героизму. Материалы эти не только меньше других анализируются
в научных работах, но ввиду бесконечных предрассудков анализиру-
ются еще и хуже всего. Образованная публика тоже почти совсем
ничего не знает о хтонических рудиментах Афины. Поэтому мы сочли
необходимым остановиться на этих рудиментах более подробно; и все
прочие черты образа Афины мы уже не будем рассматривать подробно
ввиду их общеизвестности, а займемся почти только их систематиза-
цией и перечислением.
а) Очень важно отметить прежде всего тот факт, что все эти
основные элементы мифологии Афины, по исключению хтонизма и
перехода от хтонизма к героизму, поддаются одной вполне единооб-
разной характеристике, свидетельствующей о том, что все эти основные
элементы есть явления довольно поздние. Именно мы находим воз-
можность объединить все эти элементы одним названием идейно-ор-
ганизующих. Дело в том, что хтоническая мифология в основном
отражает собой стихийное развитие первобытного общества, где очень
слабо выражены элементы планомерности и организованности. Эта
мифология наполнена бесчисленными существами, силами и предме-
тами , возникающими более или менее стихийно, т. е. случайно, и
само столкновение этих предметов мыслится здесь неорганизованно и
стихийно именно так, как начиналась и многие тысячелетия сущест-
вовала и сама общественная практика человека. С переходом от про-
стога собирательства и охоты к планомерному производству жизненных
ресурсов существенно меняется также и человеческое мышление, пе-
реходя от стихийно возникающих жизненных ощущений и борьбы к
более или менее расчлененному сознанию, которое пытается плано-
меряо воздействовать на природу и самостоятельно создавать для
определенных целей те или иные предметы. Может ли остаться в
стороне от этого и мифология? Очевидно, она тоже теперь должна
Давать образы не просто бесконечно-мощной производительности или
вообдце стихийного возникновения, но образы, в которых мышление
более или менее дифференцируется от общежизненного процесса и
Даже пытается на основании тех или иных полученных из опыта и
вози икших из общественной практики идей планомерно воздействовать
на ясивую действительность, т. е. на природу и общество, и сознательно
Формировать и организовать их в том или ином, необходимом для
16 Зак 3903
258
А. Ф. Лосев
жизни, направлении. Вот почему Афина Паллада, как она существует,
начиная с металлического века, уже не является стихийным демоном
возникшим неизвестно откуда и неизвестно для чего. Она теперь есть
образ некой планомерно проводимой организации по определенным
жизненно-необходимым принципам и целям.
Эта идейно-организующая функция Афины проявилась главным
образом в трех видах — в виде героизма, социально-политического
строительства и художественно-технического творчества.
Начнем с героической функции Афины.
б) Если взять самых древних героев, например, Кадма, то Апол-
лодор (III 4, 1, 3—4) сообщает, что перед основанием Фив Кадм
приносит жертву Афине и что (III 4, 2, 2) Афина в дальнейшем
ставит Кадма на царство. «Спарты по воле Афины были союзниками
Кадма при основании Фив». (Myth. Vat., I 149, 13).
Если взять такого героя, как Данай с его дочерьми Данаидами,
то оказывается, что именно Афина построила для них корабль, когда
им предстояло бегство в Аргос. После убийства Данаидами своих
мужей их очищают Афина и Гермес по приказанию Зевса (Apollod.,
II 1, 5, 11), так что они воздвигли ей статую в Линде на Родосе (ср.
Apollod., II 1, 5; Hyg. Fab., 168, ср. 277). Потомок Даная Персей,
оказывается, воспитывался Полидектом тоже не где-нибудь, но как
раз в храме Афины (Hyg. Fab., 63). Вместе с Гермесом она неизменная
помощница Персея во всех его подвигах и, прежде всего, в убийстве
Медузы. Чтобы Персей не погиб от взора Медузы, она дает ему
зеркально-блестящий щит, при помощи которого он может видеть
Медузу, не встречаясь с ней взглядом непосредственно. Об этом говорят
Аполлодор (II 4, 2), Овидий (Met., IV 82 сл.), Лукиан (Dial, mar.,
14), Ватик. Мифогр. (II 112 ср., I, 130).
О своей помощи Гераклу сама Афина говорит следующее (Ил.,
VIII 362—369):
...несколько раз я спасала
Сына его, Эврисфеем томимого в подвигах тяжких.
Там он вопил к небесам, и меня от высокого неба
Сыну его помогать ниспослал олимпиец Кронион.
Если б я прежде умом проницательным то предузнала
В дни, как его Эврисфей посылал в Аид крепкое ратный
Пса увести из Эрева, от страшного бога Аида, —
Он не избегнул бы гибельных вод глубокого Стикса.
В Од., XI 626 Геракл тоже говорит, что увести подземого пса
помогли ему Афина и Гермес. Так же и Гигин (Fab. 30) рассказывает
об умерщвлении Гераклом Гидры по указанию именно Афины.
В Schol. Arist Nub. 1950 приводятся стихи Пизандра о том, как
Афина предоставила теплое омовение Гераклу, утомленному около
Фермопил. Афина и вообще помогает Гераклу в его подвигах. В Дель-
Афина Паллада
259
.„х была скульптурная группа, в которой Афина удерживала Геракла
время его борьбы с Аполлоном за треножник (Paus., X 13, 7). Тот
jxe Павсаний (III 18, 11) видел на Амиклейском троне изображение
того, как Афина ведет Геракла на Олимп для совместной жизни с
богами. У одного Аполлодора в его рассказах о Геракле содержится
целый ряд сведений о помощи Афины Гераклу: она дает ему оружие
01 4, И, 5), пеплос (II 4, И, 8), трещотку (II 5, 6, 2), а также
уносит гесперийские яблоки назад (II 5, 11, 13), способствует борьбе
с Гигантами (II 7, 1, 2), дает локон Горгоны (II 7 3, 5), помогает
Двге, соблазненной Гераклом (II 7, 4, 2). Говорили даже о любовной
связи Геракла с Афиной (на одной редкой вазе изображение Афины
сопровождается надписью «дева Геракла»), что, однако, маловероятно
ввиду совершенно нерушимой и общепризнанной в античности девст-
венности Афины.
в) Беллерофонта Афина учит взнуздывать Пегаса, причем у Pind.
01., ХШ 80 рассказывается, что Беллерофонт видел во сне упряжь
Пегаса, после чего он принес жертву Афине Гиппии и Посейдону
Укротителю. Эрихтония (Apeliod. Ill 14, 6), Тидея (Apollod. Ill 6,
8, 3) и Диомеда она хочет сделать бессмертными (как и сама она
часто носит эпитет «бессмертная»). Тидей помешал этому тем, что
рассек голову своего врага Меланиппа и съел его мозг.
Особенно покровительствует Афина сыну Тидея Диомеду, чему
посвящается значительная часть У п. Илиады, 1—29, она воспламеняет
его на бой с сыновьями Дареса, окружив его голову и плечи огнем и
засветив особенным блеском его щит и шлем; 121 слл. она исцеляет
его после ранения по его молитве и направляет его против Афродиты;
778, 863 она снова возбуждает его и на этот раз против Ареса. В X
274 слл. Афина посылает доброе знамение Диомеду и Одиссею в виде
птицы, а в 507—514 она подает Диомеду благой совет; в XXIII
389—390, 399—400 Афина помогает во время состязания на колеснице
в честь Патрокла.
Существенную роль играет Афина также и в походе Аргонавтов.
Она помогает строить корабль «Арго» (Apoll. Rhod., I 551), даже
вкладывает в корму «Арго» кусок Додонского дуба (526); (ср. Аполлодор
1 9, 16, 6, Hyg., 14) вместе с Герой она просит Афродиту внушить
любовь Медее к Язону, которому она тоже особенно покровительствует
(Apoll. Rhod., Ill 30). При ее содействии Язон умерщвляет Абсирта,
брата Медеи, на возвратном пути из Колхиды (Hyg. Fab., 23). В Кизике
“связи с аргонавтами даже почиталась так называемая Язонова Афина
J1 960). Афина помогает грекам и в Фиванской войне (Myth. Vat.,
П1 15, 7, р. 255, 9).
г) Афина отвращает от Менелая стрелу Пандара (Ил., IV 127—133),
хотя сама же она побуждала Пандара стрелять в ахейцев (85—104).
на является к Ахиллу в ту решительную минуту, когда он хочет
Роситься на Агамемнона, и удерживает его от безрассудного поступка
260
А. Ф. Лосев
(Ил., I 193—221); вместе с Ахиллом она издает ужасный крик дЛя
устрашения троянцев (XVIII 217 слл.), орошает его грудь нектаром
и амброзией для поддержания его сил во время скорби о Патрокле
(XIX 353 сл.), отводит от него копье Гектора (XX 438—441), крас-
норечиво убеждает его к выступлению против Гектора и в этих целях
обманывает самого Гектора (XXII 214—247) и вообще всячески по-
могает Ахиллу в борьбе с троянцами (XX 94—98).
д) Наконец, больше всего покровительством Афины пользуется
Одиссей. Уже в «Илиаде» она побуждает Одиссея к агитации греков
против отплытия домой (II 166—183) и сопровождает его в качестве
вестника (278 слл.), к ней обращается Одиссей с Диомедом в опасную
минуту (X 277—282), она помогает Одиссею в состязании в честь
Патрокла и заставляет поскользнуться его соперника Аякса Оилида
(XXIII 768—783); и вообще прямо и буквально говорится и об особой
любви Афины к Одиссею (X 245), и о ее постоянном сопровождении
его (X 278 слл.), и о ее постоянной помощи ему наподобие матери
(XXIII 783).
Что же касается «Одиссеи», то можно сказать, что вся эта поэма
испещрена изображением покровительства Афины этому ее постоян-
ному любимцу. Она ходатайствует о его возвращении (1, 44—63) и
делает в связи с этим свои предложения (80—95); она инструктирует
Телемаха для поисков отца (279—305, II 267—295), она посылает
бодрящее сновидение Пенелопе (IV 795—829), она укрощает бурю,
возбужденную Посейдоном против Одиссея (V 382—387), вливает в
него силы (4, 27). По ее внушению Навзикая направляется к морю
для встречи с Одиссеем (VI 24—41), а измученного Одиссея она
преображает и украшает (229—235). Одиссей ей молится о помощи
у феаков, и его молитва тут же до нее доходит (323—328); она
скрывает его облаком от людей и проводит к дому Алкиноя (VII
14—78), помогает в метании диска (VIII 193—198).
Прибыв на Итаку, Одиссей прежде всего встречается с Афиной,
которая принимает разные меры и дает разные советы для его вод-
ворения на родине (XIII 221—240); также и Телемаха побуждает она
вернуться домой для встречи с Одиссеем (XV 1—43), а Одиссею
советует открыться сыну, подвергая его новым физическим изменениям
(XVI 155—177), далее она помогает ему в драке с Иром (XVIII 69—70)
и проводит всю подготовку расправы с женихами (XIX 1—2, 32—33,
52, 479, 604; XX 30—55, 345—349, 393—394; XXI 1—3; XXII 205—235);
а расправу она наблюдает в виде ласточки, сидя на потолочных
перекладинах (239—240). По окончании расправы она вновь придает
наружности Одиссея красоту (XXIII 156—162), посылает Зарю для
пробуждения Одиссея после его отдыха (344—348) и окружает облаком
его самого со слугами для укрытия от врагов (371—372). Наконец,
она оказывает Одиссею существенную помощь в борьбе с восставшими
итакийцами и водворяет полный мир на острове (XXIV 487—548).
Афина Паллада
261
Таким образом, все возращение Одиссея домой и особенно его
водворение на родине с самого начала и до самого конца проходят
вод постоянным активным воздействием Афины и на самого Одиссея
й на все его окружение. И даже после Итаки Афина все еще не
докидает Одиссея, помогая ему, например, в войне с феспротами
(procl. excerpt. Ер. cycl. Wagn. р. 246а).
Нетрудно заметить, что Афина и вообще самая ярая защитница
греков под Троей у Гомера. Несмотря на то что ее культ правится
и в самой Трое, она — постоянный враг троянцев: она не внимает
иольбам троянских женщин и их приношению (Ил., VI 311), она в
образе Деифоба, брата Гектора, заманивает Гектора на борьбу с
Ахиллом и коварно покидает его в решительную минуту (XXII
297—300); после совета богов, по приказанию Зевса, именно она
заставляет Пандара нарушить перемирие с греками и возобновить
бои (IV 73—104), она и прямо натравливает греков против троянцев
(IV 439) и т. д. Знаменитый деревянный конь был сделан в честь
Афины (Procl. excerpt. Ер. cycl. Wagn, р. 244; Apollod. epit. 5, 15.
Hyg. Fab., 108). Все это, конечно, не мешает Афине гневаться на
любимых ею греков в тех случаях, когда они этого заслуживают, с
ее точки зрения. Так, она мстит Оилиду и грекам за насилие над
Кассандрой (Procl. excerpt. Ер. cycl. р. 245 Wagn; Apollod. epit. 5,
22; 6, 5—6; Myth. Vat., 1, 181).
К этому нашему изображению героических функций Афины необ-
ходимо добавить, что даже и в них заметны следы разных стадий
мифологического развития. Когда предыдущие тексты говорили нам о
вступлении Афины на колесницу Диомеда или о ее совместном крике
с Ахиллом, то, очевидно, это тянет к стадии гигантизма и циклопизма,
т. е. к матриархату. Когда Афина выступает в качестве всегдашнего
противника Ареса, то ли направляя против него Диомеда (Ил., V
825—863), то ли успокаивая его ярость (XV 123—142), то ли сама
сражаясь с ним непосредственно (XXI 391—415) и далее с Афродитой
(423—433), то здесь нельзя не видеть борьбы олимпийского принципа
уравновешенности и соразмерности и, в частности, принципа упоря-
доченной и правильной войны с варварским принципом беспорядоч-
ности как везде, так, в частности, и на войне.
Здесь, следовательно, перед нами Афина строгого патриархата. Но
кохда мы читаем многочисленные эпизоды в «Одиссее» о покровитель-
стве Афины главному герою этой поэмы, то нас поражает мелочность,
суетливость, интимность и даже какая-то игривость этого покрови-
тельства. Тут перед нами выступает Афина уже тех последних времен
°бщинно-родовой формации и начала цивилизации, когда мифология
из серьезной веры превратилась в какое-то светское поэтизирование
богов. Особенно интересно в этом отношении место (Од., XIII 287—
'’"1). где Афина, заметив обман Одиссея, любовно треплет его по
°*еке и игриво заявляет, что они оба любят хитрить. Несомненно,
262
А. Ф. Лосев
такого рода функция Афины в историческом отношении есть нечто
гораздо более позднее, чем указанные только что два типа покрови-
тельства, и свидетельствует уже о светском и цивилизованном отно-
шении к мифологии. Очевидно, мы здесь выходим уже далеко
пределы фессалийской основы Афины.
Очень рельефным в социально-историческом смысле является теад
(Од., VI 229—237), где рассказывается о косметических приемах Афл'
ны в отношении Одиссея. Богиня делает своего героя выше ростом и
полнее телом, завивает его кудри наподобие гиацинта, разливает
красоту по его лицу так, что он сияет силой и прелестью мужества
после своего морского приключения и лежания голым в грязи под
листьями. Почти такой же текст об украшении Одиссея и перед его
свиданием с Пенелопой (XXIII 156—163). С внешней стороны все это
кажется только косметикой. Тем не менее мы уже встречали выше
тексты в «Илиаде», говорящие о воспламенении Афиной головы Дио-
меда и Ахилла; и это уже не косметика, но очень важная магическая
практика для весьма серьезных героических целей. «Косметика» при-
веденного текста из «Одиссеи», свидетельствуя об утонченности вкусов
родовой аристократии периода разложения, представляет собой не что
иное, как переосмысление старой магической практики, указывающей
в приведенных случаях с Диомедом и Ахиллом на гораздо более
раннюю стадию, именно на стадию строгого героизма, и притом с
весьма интенсивными фетишистскими элементами. Но если бы мы
захотели пойти еще глубже в историю, то указанный текст из «Одиссеи»
оказался бы и переосмыслением той стадии мифологии, когда сама
Афина являлась не чем иным, как огнем и светом, который делает
видным и оформляет все темное и безобразное.
Таким образом, социально-исторический анализ обнаруживает да
же в таком простом факте, как украшение Одиссея Афиной, рельефное
изображение целого ряда мифологических стадий, раскрыть которые
может только последовательная история мифа.
е) Равным образом любопытен в социально-историческом отно-
шении общеизвестный миф о яблоке раздора и суде Париса. Наиболее
канонические тексты для этого — Procl. Excerpt. Ер. cycl., р. 238
Wagn.; Apollod. Epit. 3, 2; Myth. Vat., Ill 23 p., 241, 26 (здесь
Афина — символ теоретической мудрости, подобно тому как Гера —
символ практической мудрости и Афродита — вожделения). Обычно
в этом мифе Афина, эта строгая богиня войны и мудрости, оказывается
соперницей Геры и Афродиты в красоте, становясь в этом отношении
на одну плоскость с кокетливыми и ревниво относящимися к своей
красоте женщинами. Тут перед нами тоже бурлеск эпических поэтов
начала цивилизации, имеющей мало общего с героической и хтони-
ческой мифологией, хотя, несомненно, и как-то в ней кореняю-
щейся.
Афина Паллада
263
Было время, как демоны и люди мыслились в настолько близком
и непосредственном взаимоотношении, что человек действительно мог
сколько угодно «судить» о демонических делах. Но это было то время,
когда человек, будучи совершенно беспомощным перед стихийными
силами природы и общества, чувствовал себя только слабым и слу-
чайным придатком стихийных сил, так что его вмешательство в эти
стихийные силы было результатом действия в нем самих же стихийных
сил. Миф о суде Париса открывает нам совершенно другую картину.
Здесь не человек является жалким придатком демонического мира,
но, скорее, наоборот, демонический мир является здесь придатком
человека, так что человек, оставаясь теперь уже самим собой, властно
вмешивается в демонические дела и является авторитетным судьей.
Миф о суде Париса указывает на огромное развитие человеческого
самоутверждения, при котором божества и демоны оказываются до
последней глубины соразмерными с самим человеком.
Греческий миф вообще весьма чутко отметил рост человеческой
личности, перед которой падали вековые твердыни непонятных сил:
когда Эдип разгадал загадку Сфинкса. Сфинкс бросилась со скалы;
когда Одиссей (или Орфей) не поддался завораживающему пению
сирен и невредимо проплыл мимо них, сирены в тот же момент
погибли; когда аргонавты благополучно проплыли среди Симплегад,
скал, которые до тех пор непрестанно сходились и расходились, то
эти Симплегады остановились навсегда. Суд Париса в этом смысле —
свидетельство огромной историко-социальной важности, свидетельство
небывалого возрастания человеческого сознания, перед которым по-
степенно падали загадки окружающих таинственных сил.
Боги у Гомера изображены часто в весьма сниженном стиле,
далеком от рабского и смиренного богопочитания. Этот бурлеск на-
полнен каким-то очень тонким иронически-юмористическим отно-
шением к демоническому миру и, мы бы сказали, отношением уже
весьма снисходительным ко всем слабостям изображаемых богов и
демонов, хотя в то же самое время и с неизменным внутренним
сочувствием к ним, почти даже с нежностью. Этот удивительный по
своей стилевой специфике поздний, ионический эпос, в котором
Гомер был таким великим мастером, повторяем, свидетельствует уже
о конце строгой мифологии общинно-родовой формации и указывает
на свободомыслие начального периода греческой цивилизации. В зна-
чительной мере в этом стиле рождаются и другие троянские мифы,
® прежде всего мифы о похищении Елены, о содействии этому
Афродиты и пр. Однако если указанный тонкий бурлеск не так виден
Ва Гере и Афродите, других участницах конкурса красоты, поскольку
вн вообще свойственны разного рода женские «слабости», то на
Фине это заметно весьма ощутительно, поскольку строгость и не-
доступность этой богини каким-нибудь «слабостям» особенно ярко
264
А. Ф. Лосев
контрастирует со всем этим легким, чтобы не сказать легкомыслен
ным, соревнованием в красоте.
ж) Из прочих героев, испытавших помощь Афины, можно указать
еще на Пандиона, которого она спасает после его изгнания (Paus., !
41, 6; ср. выше, п. За), а также Ореста, которого Афина оправдал,!
после матереубийства в Афинах, учредивши для него Ареопаг, це
знаменитому изображению в «Эвменидах» Эсхила. Также необходимо
указать на Иона, о помощи потомству которого говорит сама Афин,
у Еврипида (Ion. 1571—1588).
В заключение этого отдела о героях небесполезно будет указан
на одно интересное место из Еврипидовского [или псевдо-Еврипидов
ского] «Реса» [938—949]. Здесь мать убитого Одиссеем и Диомедом
Реса, сама Муза, обращается к Афине, содействовавшей этому убий-
ству, не столько с упреком, сколько с выражением своего почтения
По мысли этой матери Реса, хотя Афина и есть настоящий убийца,
все же ее город почитается музами больше всего; Орфей, двоюродный
брат Реса, учредил в Афинах свои мистерии, а мудрейший Мусей —
тоже соотечественник Афины. Поэтому она не жалуется и не ищет
посредника между собой и Афиной, и авторитет великой богини за-
ставляет ее молчать. Этот интересный текст Еврипида свидетельствует,
насколько считалась непререкаемой помощь Афины различным героям
даже тогда, когда с человеческой точки зрения эта помощь могла
приносить другим людям страдание и горе.
9. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-
РЕМЕСЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ, а) К числу идейно-организационных
функций Афины относится также функция социальная, особенно во-
енная и политическая в античном смысле слова «политика». То, что
Афина является богиней войны, это самой собой вытекает из ее
героической функции, из ее всегдашнего покровительства героям. А ка-
кого характера эта военная функция Афины, особенно в сравнении с
Аресом, об этом мы уже знаем из общей характеристики строгой
олимпийской мифологии. Еврипид (Тго., 561) называет все факты
войны «делами девы Паллады».
Что же касается политических функций Афины, то и здесь, оче-
видно, необходимо различать доклассовые и классовые черты Афины
Несомненно, еще задолго до перехода к рабовладельческой формации
и еще задолго до образования государства Афина уже была богиней
целого ряда городов, и особенно того города, который стал носить ее
собственное имя. Достаточно вспомнить ее еще гомеровский эпитет
erysiptolis (Ил., VI 305, «Градозащитница»). Можно сказать, что в
смысле покровительства городам с ней может сравниться только Зевс,
да и то местами Афина значила для города больше, чем Зевс. Еврипид
(Hippol. 1122) говорит в этом смысле о «ярчайшем светиле Афины»
Кроме Афин особенным покровительством богини пользовались Аргос.
Афина Паллада
265
Доегара, Спарта, Хиос, Эритрея, Трезены, Приена, Тегея, Илион,
ДОегалополь и др. Но, как всем известно, особенного почитания Афина
достигла в Афинах, где специально справлялся праздник Панафиней
в память объединения жителей Аттики в единое государство, где ей
были посвящены храмы Эрехтейон и Парфенон и где стояла огромная
статуя Афины Промахос (Передовой Боец) с копьем, светившимся на
солнце и видимым за несколько километров от города. Главнейшие
эпитеты Афины с этими функциями — Полиада или Полиатис-Град-
ская и Полиухос-Градодержица.
Неувядаемым памятником прославления Афины как покровитель-
ницы Афинского государства и притом уже в классовом смысле является
трагедия Эсхила «Эвмениды» (тексты см. ниже). Здесь, после анализа
Бахофена, мы имеем замечательное изображение отдаленных соци-
альных эпох матриархата и патриархата, представленных Эринниями
и Аполлоном и доведенных до нового этапа развития именно под
покровительством Афины. Афина, по Эсхилу, учреждает верховное
судилище в Аттике — Ареопдг, в котором она сама председательствует.
По мысли Эсхила это есть верховное правительство всего Афинского
государства, обладающее высочайшим авторитетом, апофеоз мудрости
и справедливости. Что для момента появления Эвменид это было у
Эсхила некоторой пропагандой старинных аристократических идеалов,
это достаточно хорошо известно и уже давно вошло в наши учебники
по греческой литературе и греческой истории. Таким образом, город-
ская функция Афины, коренясь еще в доклассовом обществе, перере-
живает и все доклассовое общество, переосмысливается в дальнейшем
в связи с ростом классовой идеологии и используется в определенном
социально-политическом направлении как аристократическими, так,
в дальнейшем, и демократическими группами греческого общества.
б) Далее, Афина славится своими художественно-ремесленными
функциями, которые она получила, конечно, не раньше эпохи пат-
риархата.
Она покровительствует прежде всего изобразительному искусству
и всякого рода художественному ремеслу. Она вдохновительница ко-
раблестроителя Ферекла, владеющего и другими ремеслами (Ил.. V
59—62). Она — богиня гончарных (Hom. Epigr., 14), плотничьих, куз-
нечных (SophocL, frg. 760) и золотых дел (Од.. VI 233, XXIII 159).
Она изобрела плуг (Hesiod. Opp., 429—431), колесницу (Hom. hymn.,
IV Ю—15), обувь, краски (Ovid. Fast., Ill 815 слл.) и учит скульптуре:
в результате ее наставлений родосцам «улицы их были уставлены
созданиями, подобными живым и двигающимся существам» (Pind. 01.,
VII 95 сл. Schr.). Она не чужда также и врачебному делу (Ovid. Fast.,
HI 8, 27). Около Керамика в Афинах (Paus., I 2, 5) была статуя
Афины Пеонии-Целительницы, а в Оропе (1 34, 3) этой же Афине
266
А. Ф. Лосев
была посвящена часть жертвенника Амфиарая; она — создатель горя-
чего источника в Гимере (Diod., V 3). Плиний (Nat. hist., XXII 44)
рассказывает, как во время построения храма Афине при Перикле
один рабочий упал со стройки, но был исцелен травой, которую Афина
указала Периклу во сне.
Известна ее помощь Эпею при построении троянского коня. Мы
приведем для этого эпизода один курьезный документ из поздней
античности, а именно эпиграмму Симмия Родосского, напечатанную
в Палатинской антологии (XV 22). Эта эпиграмма написана с внешней
стороны в виде двулезвийного топора; при чтении же строк этой
эпиграммы в порядке цифр, поставленных слева, эпиграмма принимает
форму простого топора. Правда, этот формалистический выкрутас до
некоторой степени компенсируется осмысленным содержанием, отно-
сящимся к Афине. Вот этот кунстштюк эпохи развала античной ли-
тературы, переведенный нами строка в строку ради соблюдения пре-
следуемого этой эпиграммой внешнего вида.
1. Мужественной богине Афине соорудил в качестве дара фокеянин
в благодарность за ее мощную мудрость.
3. Тогда, когда он поверг в прах священный город с помощью огнедышащей Керы,
5. Будучи незнатным, оказавшись в первых рядах ахейцев,
7. Теперь стал на Гомеровский путь,
9. Трижды блаженный, которого ты душой —
11. Он счастьем
12. Всегда дышит —
10. Милостивая, со всех сторон окружаешь
8. Когда благодатью, чистая многосоветная Паллада.
6. Но от чистых источников доставил влагу, бесславный
4. Ниспроверг с трона отягченных золотом вождей дарданцев
2. Эпей принес топор, который некогда разрушил высоту богосозданных башен.
Афина помогает также при построении корабля «Арго» (Apoll. Rhod,
I 551). Интересна та мотивировка, которую дает Гигин (Fab., 14) для
помещения Афиной этого корабля «Арго» на небо: «Это есть тот корабль
Арго, который Афина вознесла в звездную сферу по той причине, что он
был сооружен ею самой и впервые был спущен в море».
Кроме того, она издавна славилась как искусная ткачиха, настав-
ница в прядении и тканье и притом еще у Гомера (Ил., V 733—735,
XIV 178, Од., VII 108—411, XX 72). В Дельфах была картина Поли-
гнота с изображением дочерей Пандарея, обученных Афиной женским
искусствам (Paus. X 30, 1). Известно, как она украшала Геру (см. указ,
текст из Ил., XVI) и Пандору (Hesiod. Theog., 573—575, Opp., 72—76) -
В связи с ее художественно-ремесленными функциями она носила
Афина Паллада
267
название Эрганы-Работницы (Paus., 1, 24, 3) и почиталась в Академии
вместе с Прометеем (Paus., I 30, 2).
Весьма выразителен 760-й фрагмент Софокла:
Теперь ступайте, весь рабочий люд,
Что грозноликой дочери Зевеса
Эргане молитесь — и за станками
Стоячими, и под удары млата
В глухую тяжесть грузной наковальни,
Все, что рукой своей над веществом
Бесчувственным орудовали.
Этот текст является очевиднейшим свидетельством того, что Афина
в классовом обществе считалась покровительницей и всякого ремесла.
Платон (Legg., XI 920D) прямо говорит: «Класс ремесленников по-
священ Гефесту и Афине». Выше мы уже столкнулись с текстами об
исцелении Афиной раба, упавшего со стройки на землю. О том, на-
сколько Афина близка и крестьянскому рабочему люду, свидетельст-
вует уже Гесиод (Орр.. 429—431 Верес.).
Нет превосходнее скрепы для плуга, чем скрепа такая,
Если рабочий Афины, к рассохе кривую ту скрепу
Прочно приладив, гвоздями прибьет ее к плужному дышлу.
Павсаний (1, 14, 6) сообщает: «Выше Керамика и Стой, называемой
„царской", находится храм Гефеста. Что рядом с ним стоит изобра-
жение Афины, я тому ничуть не удивляюсь, зная сказание об Эрих-
тонии». Надо, однако, заметить, что дело здесь не только в Эрихтонии,
но и в близости ремесленных функций у Афины и Гефеста. Когда
Платон (Prot., 321 de) рассказывает о похищении огня Прометеем,
он очень характерно говорит тут же об Афине: «...Крадет Прометей
художественную мудрость Гефеста и Афины вместе с огнем — так как
никому было невозможно без огня владеть или пользоваться ею...
В общее же помещение Гефеста и Афины, где они занимались своим
искусством, он входит потихоньку и, укравши огнедышащее художе-
ство Гефеста и другое — Афины, дает человеку». Как мы увидим
ниже, говорили даже о любви Прометея к Афине (Дурис в Hist. Graec.
Fragm., II 474, 19), за что как будто бы он и был наказан, и даже
о том, что будто бы именно Афина помогла ему достать небесный
огонь (Myth. Vat., I 1; II 63—64). В Anthol. Pal. (VI 247, 15) Афина
носит название Aisione; как известно, супруга Прометея — Гесиона
или Асиа (все эти женские имена этимологически одно и то же).
Участие то ли Гефеста, то ли Прометея в появлении Афины из головы
Зевса, когда они разрубают голову Зевса, — это тоже мотив из периода
восходящей металлической техники.
Наиболее подробным очерком художественно-ремесленных функ-
ций Афины может считаться текст у Овидия (Fast., Ill 809—850).
268
А. Ф. Лосев
В заключение характеристики художественно-ремесленных функции
Афины в области изобразительных искусств, приведем одно менее
известное место из Аполлония Род. (I 721—768 Церет.), в котором
изображается плащ, изготовленный Афиной и подаренный ею Язон;
На этом плаще богиня с небывалым искусством изобразила: Циклопов,
кующих перун Зевса (730—734); Зета и Амфиона за постройкой Фив
(735—741); Афродиту со щитом Ареса в виде зеркала (742—746ц
похищение тафийцами стада коров у Электриона, сына Персея (747—
751); состязание Пелопса и Эномая (752—758); Аполлона, мечущего
стрелу в Тития (759—762); Фрикса с золотым бараном (763—767).
Этот плащ Афины по своей роскоши сравним со щитом Гефеста для
Ахилла и со щитом Вулкана для Энея.
Он же, на плечи надев Тритониды богини изделье,
Плащ пурпурный двойной, застегнул его. Плащ тот Паллада
Подарила, когда для Арго устрояла подпоры
И научала скамьи для гребцов вымерять по правйлу,
С легкостью большей ты б мог устремить на всходящее солнце
Взоры свои, чем упорно глядеть на плаща багрянистость.
Ведь середина его отливала багрянцем, с краев же
Темно-багряным он был, и на каждом краю его много
Выткано было отдельных картин с несказанным искусством.
Были Циклопы, — они, за нетленной работою сидя,
Зевсу владыке ковали перун. Он почти был закончен
В блеске своем, — одного лишь луча у него не хватало,
И молотки, в ход пуская железные, луч тот ковали
Ныне Циклопы, — огня всепалящего дымное пламя.
Было там двое сынов Антиопы, Азоповой дщери,
Зет с Амфионом... От них недалеко, пока что без башен,
Фивы лежали, — им только еще основание клалось
Братьями. Зет, — тот вершину утеса крутого на плечи
Взявши, тащил, и был с мужем он схож, напрягающим силы.
А Амфион шел за ним, на форминге златой песнь играя.
И вдвое большая глыба вослед ему быстро катилась.
А невдали Киферея была пышнокудрая дивно
Выткана, с легким Ареса щитом. От плеча и до локтя
Левого, грудь обнажая, хитон у нее распустился,
И этот образ ее, ей насупротив, с точностью полной
В медно-блестящем щите для себя находил отраженье.
Выгон травистый там был для коров. За коров меж собой
Электриона сыны там сражалися и Тел сбои,
Те защищая себя, а Тафийцы-добычники, стадо
Мысля расхитить. Их кровью уж луг обагрился росистый,
Многие все же немногих они пастухов одолели.
И колесницы там две, состязавшихся, вытканы были.
Той, что неслась впереди, управлял, потрясая вожжами,
Пелопе, а место бойца Гипподамия в ней занимала.
В той же, что мчалась вдогонку, Мйртил гнал кбней, а с ним
Афина Паллада
269
Царь Эномай, что нацелил копье, взяв его в свою руку,
Пал с колесницы уже, ибо в ступицб ось подломилась,
Прежде, чем Пелопса спину ему пронизать удалося.
Изображен был и Феб Аполлон, еще малый ребенок,
Мечущий стрелы свои в ухватившего мать его дерзко
За покрывало ее огромного Тития, сына
Дивной Элары, взращен же и снова рожден был он Геей.
Также и Фрике был Миниец, — как будто и вправду барана
Слушал он, тот же и впрямь с говорящим о чем-то был сходен.
Их созерцая, ты б смолк и в душе бы своей обманулся,
Мня, что разумное слово от них в состояньи услышать.
В этой надежде на них неотрывно смотрел бы ты долго
Вот был подарок каков Тритониды, богини Афины.
в) Что касается мусических искусств, т. е. музыки и орхестики,
то и на эту тему имеется достаточно материала в мифологии Афины.
Беотийское сказание прямо приписывает ей изобретение флейты (Pind.
Pyth., XII 9—27), так что выходит, будто она научила игре на флейте
и самого Аполлона (Коринна у Plut. De mus., 14), в то время как в
малоазиатской версии изобретение флейты приписывается лидийскому
Силену Марсию. Обе версий, впрочем, объединились потом в одну:
изобрела флейту Афина, но она ее бросила, так как флейта портила
ей лицо, а поднял эту флейту и ею настоящим образом воспользовался
Марсий (Aristot. Polit., VIII 6, 8, текст — ниже). Подробный рассказ
об этом читаем у Овидия (Fast., VI 697—710). Она изобрела и военные
трубы (говорилось обычно о «тирренской» трубе, ср. Aesch. Eum., 567,
Soph. Ai., 17 и Paus., II 21, 3). Она первая протанцевала пиррихий
на празднестве после гигантомахии (Plat. Legg., VII 796 В, Dion. Hal.
Ant. г., VII 72), каковой танец потом стал неотъемлемой принадлеж-
ностью Панафиней (ср. Lys., XXI 1, 4).
Если бы мы захотели наметить наиболее поздний этап в развитии
художественных функций Афины, то, насколько можно судить, наи-
лучшей иллюстрацией для этого был бы тот образ украшения героев,
который у Гомера появляется не один раз. Образ этот состоит в том,
что Афина пользуется красотой на манер какого-то косметического
средства, разливая эту красоту по лицу и стану героев. Здесь то, что
Гомер называет красотой, еще не потеряло своего древнего, вполне
материального характера. С другой стороны, это — самая настоящая
ультрабожественная красота. Приведем некоторые тексты.
Одиссей, после того как был выкинут на берег, оказался весь в
грязи и тине. Невзикая дает ему омыться, натереться и одеться. И из
жалкого грязного бродяги Одиссей сразу превращается в красавца
божественной неотразимости. А главное (Од. VI 229—237):
Дочь светлоокая Зевса Афина тогда Одиссея
Станом возвысила, сделала телом полней и густыми
Кольцами кудри, как цвет гиацинта, ему закрутила.
270
А. Ф. Лосев
Так, серебро облекая сияющим золотом, мастер,
Девой Палладой и богом Гефестом наставленный в трудном
Деле своем, чудесами искусства людей изумляет;
Так красотою главу облекла Одиссею богиня.
Берегом моря пошел он и сел на песке, озаренный
Силой и прелестью мужества.
Когда Одиссей появился перед феакийцами на площади (опять V1
18 слл.),
.. .ему красотой несказанной
Плечи одела Паллада, главу и лицо озарила,
Стан возвеличила, сделала тело полнее, дабы он
Мог приобресть от людей феакийских приязнь и вселить в них
Трепет почтительный.
Те же приблизительно стихи повторены (XXIII 156—159) причем:
Так, серебро облекая сияющим золотом, мастер,
Девой Палладой и богом Гефестом наставленный в трудном
Деле своем, чудесами искусства людей изумляет.
Когда старца Лаэрта омыли в бане, натерли маслом и одели в
чистое, то Афина (XXIV 368 сл.):
Тайно к нему подошедши, его возвеличила ростом,
Сделала телом полней и лицу придала моложавость.
Вышел из бани он светел. Отца подходящего видя,
Сын веселился его красотой, божественной чистой.
Вспомним еще, как Афина преображала Пенелопу накануне встре-
чи этой последней с ее супругом (XVIII 187—197):
Умная мысль родилася тут в сердце Афины Паллады:
Сну мироносцу велела богиня сойти к Пенелопе.
Сон прилетел и ее у лелеял, и все в ней утихло;
В креслах она неподвижно сидела; и ей усыпленной
Все, чем пленяются очи мужей, даровала богиня:
Образ ее просиял той красой несказанной, какою
В пламенно-быстрой и сладостно-томной с харитами пляске
Образ Киприды, венком благовонным венчанной, сияет;
Стройный ее возвеличился стан, и все тело нежнее,
Чище, свежей и блистательней сделалось кости слоновой.
Так одаривши ее, удалилась богиня Афина.
Этот тип художественной деятельности Афины является продуктом
уже тех времен, которые порвали со старыми традициями и возросли
на новой почве восходящей цивилизации, хотя еще и весьма далеки
от эллинистического аллегоризма.
В заключение всех этих материалов об Афине и искусствах вы-
ясняется и все ее огромное различие с Гефестом и Прометеем. Нео-
Афина Паллада
271
платоник Гермий (In. Phaedr., 247 С, р. 149, 9 Couvr.) не без основания
пишет: «Ведь Гефест есть виновник всякой формы телесной и внут-
римировой, а Афина — всякой душевной и мыслительной, Циклопы
же — формы божественной и повсюдной». Ввиду этого понятно, почему
Орфический гимн (XXXII 3) называет Афину «неизреченно-реченной».
Ц хотя XX Гомеровский гимн и много говорит об искусствах Гефеста,
в том числе и гуманитарных, все же только о ней можно было сказать,
как сказал Прокл в своем гимне Афине (VII 23 сл.), что она «мать
книг». Что же касается Прометея, то есть одно универсальное отличие
Афины от Прометея, какие бы искусства и науки ни приписывались
этому последнему. У Эсхила ему присваивается изобретение письмен-
ности, арифметики, металлургии, строительного искусства, медицины,
мантики, но есть одно искусство, которое Эсхил не приписал своему
Прометею и которым так богата Афина. Это остроумно подметил
Платон, который (Prot., 321D), признавая, что Прометей дал людям
при помощи огня мудрость, утверждает, что Прометей не дал людям
гражданского искусства: «Так для жизни-то необходимую мудрость
человек через это получил, гражданской же — нет: потому что была
она у Зевса». Вот этой политической (в античном смысле слова)
мудростью и отличается Афина (вместе с Зевсом) от Прометея и тем
более от Гефеста или во всяком случае отличается ею преимущест-
венно.
г) Наконец, Афина стала и богиней мудрости вообще, причем
нужно иметь в виду, что греческие слова sophia «мудрость» или sophos
«мудрый» в своей основной и центральной значимости для греческого
сознания связаны именно с производством, техникой и ремеслом:
мудрые — по-гречески это значит, прежде всего, «умеющие» пользо-
ваться каким-нибудь орудием, «владеющие каким-нибудь ремеслом
или искусством». Поэтому то, что Афина является богиней мудрости,
есть не что иное, как наибольшее обобщение все той же производст-
венно-технической стороны ее мифологии.
Эта античная «мудрость» тоже, конечно, имела несколько стадий
своего развития в связи с общими периодами социального развития,
которые мы уже не раз формулировали.
Интересующий нас в данном месте период классики, как это
можно заключить уже из общего учения о греческой классике,
характеризуется, конечно, полной согласованностью мудрости с жиз-
нью. Восходящий греческий рабовладельческий полис был основан
на прямом и непосредственном рабовладении, что также непосред-
ственно и просто ориентировало человека в окружающей жизни. Его
мудрость не противопоставлялась жизни, но отражала ее, проявляясь
в одном едином и совокупном акте с нею самой, поэтому и Афина
периода классики есть мудрость, но не в смысле оторванной от жизни
Философской теории. Это — мудрость греков, переходивших от родо-
»ой общины к государству, от аристократии к демократии, от под-
272
А. Ф. Лосев
чинения персам к победе над ними, от варварства к цивилизации и
к победе науки и искусства, к цветущему состоянию Греции в период
наибольшей славы. Черты этой жизненной мудрости Афины рассыпаны
там и здесь в греческой философии VI—IV вв. до н. э. и, как мы
увидим ниже, им резко будут противостоять абстрактные теории
Афины в век эллинизма.
д) У пифагорейцев, т. е. в период греческой философской классики,
т. е. в период первого и пока еще весьма интуитивного философст-
вования, Афина соединялась с определенными геометрическими пред-
ставлениями, которые, вообще говоря, играют немаловажную роль в
стиле греческой классики. Так, например, пифагорейцы посвящали
Афине треугольник (32 А 14 Diels4),* что имело для пифагорейцев
вполне резонный смысл: после нерасчлененного единства точки и
неопределенной, без конца продолжающейся прямой линии, треуголь-
ник был у них первым конкретным определением пространства вообще,
первой определенно очерченной фигурой вообще; Афина, таким об-
разом, выступала здесь как первая определенность вообще, как вообще
принцип определенности и недробимости. Но о Демокрите уже опре-
деленно гласит источник: «Афина Тритогения считается у Демокрита
разумностью (phronesis). Ведь из разумности происходит следующих
три предмета: давать хорошие советы, безошибочно говорить и делать
то, что надо» (55 В 2 D.).**
Платон развивает эту мысль о тождестве Афины и разума, при-
соединяя к этому еще и свою собственную фантастическую этимологию
(Crat., 407 b): «Об Афине и древние думали, по-видимому, так, как
думают нынешние знатоки Гомера. Ведь многие из них, истолковывая
поэта, говорят, что Афина сотворила самый ум и мысль; и составитель
имен что-то подобное представлял относительно нее; еще же величе-
ственнее говорит он, называя Афину как бы умом бога (theoy noesin).
как бы она есть Богомудрая (theonoa), и в этом слове, по произношению
иностранному, употребив вместо ё, а, и отняв буквы i и s. А может
быть, н не так; но составитель имен, предпочтительно перед прочими,
назвал ее Феоноей, поскольку она мыслит божественное. Ничто не
мешает полагать и то, что он разумел помышление сердца (ten еп
toi ethei noesin) и, олицетворяя его в этой богине, хотел назвать ее
Сердечно-мудрой (ethonoen). Впоследствии же либо сам он, либо
другие, направляя это имя, как думали, к лучшему, назвали ее
Афиной». (Заметим еще другую, менее интересную для нас этимологию
Платона в том же диалоге 406—407а, относительно имени Паллады —
от pallein — «сотрясать», причем имеется в виду движение Афины во
время ее военной пляски). В Тимее (21е—24d) Платон рисует Афину
* В последующих изданиях Дильса гл. 32 соответствует 44. Нумерация
свидетельств и фрагментов сохраняется. (Прим. А. Тахо-Годи).
** 55 гл. = 68 гл. изд. Дильса.
Афина Паллада 273
Ак покровительницу Афин и египетского Саиса и в связи с этим
называет ее «любящей войну и любящей мудрость».
I Аристотель (Polit., VIII 6, 1341, В7> тоже пишет: «Афину мы
облекаем в знание (epistemen)».
Орфики тоже учили о появлении Метиды из Фанета — Первояв-
ленности, что также невольно вызывает ассоциацию с Афиной.
е) В заключение этого отдела о классической Афине необходимо
коснуться одного вопроса, на который мало обращалось внимания в
науке, но который имеет немаловажное значение для социально-ис-
торического анализа, именно вопроса об отношениях Афины и Про-
метея. Для решения этого вопроса имеется достаточно указаний в
источниках. Важен этот вопрос потому, что он оттеняет и подчеркивает
прогрессивную сторону в Афине, связывая эту фигуру с одним из
наиболее передовых образов античной мифологии. Мы уже знаем, что
Афина возглавила патриархат, что в период рабовладельческой фор-
мации она возглавляет прогрессивное демократическое государство,
что она покровительница художественно-технического прогресса и да-
же вождь художников и ремесленников. К этому теперь мы и прибавим
ее близкую связь с Прометеем.
Прежде всего, в тех мифах, где Прометей является создателем
людей, Афина есть его помощница и соучастница. Было ли это ста-
родавним достоянием мифологии Прометея или развилось в более
позднюю эпоху, сказать трудно. Во всяком случае, Лактанций Плацид
приписывает эти мифы уже Гесиоду, чему, впрочем, нельзя верить
безоговорочно, поскольку идея создания людей Прометеем намечается
не раньше V в. до н. э. и делается популярной только в период
эллинизма. Лактанций (Lact. Placid, ad Ovid. Met. I 34) пишет: «Про-
метей, сын Иапета, как то же самое показывает Госиод, создал че-
ловеческий род из земли, в который Минерва влила дух». Независимо
от того, имелся ли у Гесиода этот миф на самом деле, здесь характерен
уже сам факт отнесения этого мифа поздним автором к Гесиоду, и
еще более характерно само содержание этого мифа, свидетельствующее
о прямом и самом глубоком сотрудничестве Афины с Прометеем.
Также у Лукиана (Prom. 3) читаем о создании людей Прометеем:
«В целом этот художественный замысел ему самому принадлежал, но
частично сотрудничала также Афина, вдохнувшая жизнь в глину и
дожившая душу в лепные изображения». Большой Этимологик (v.
Iconion) рассказывает, что после потопа «Зевс повелел Прометею и
Афине вылепить из глины людей и вдохнуть в них ветры и сделать
их живыми». Буквально те же самые выражения мы встречаем и у
'-тефана Виз. под тем же словом.
274
А. Ф. Лосев
Особенно нужно сказать о создании женщин и Пандоры. Обыкно-
венная версия гласит, что Пандора была создана Гефестом по пове-
лению Зевса в наказание людям за пользование огнем. Так у Гесиода
(Theog., 571—584, Opp., 59—82). Но мы уже знаем, что Гефест и
Прометей являются родственными фигурами и кое-где заменяют друг
друга, как, например, в помощи Зевсу при появлении из его головы
Афины. Прометей и вообще отличается от Гефеста только тем, что
старше его. Функции же их, как демонов огня, — вполне одинаковые,
не исключая и просветительских функций у Гефеста (ср. XX. Гомер,
гимн). Поэтому можно с уверенностью предполагать, что выступление
Гефеста в качестве создателя женщин есть позднейший миф в срав-
нении с выступлением Прометея в этой роли. Заметим, что среди
богов, одаряющих Пандору, Афина в обеих поэмах Гесиода занимает
первое место. Это, несомненно, отголосок прямого сотрудничества в
этом деле Прометея и Афины. Однако есть и прямые свидетельства
о том, что женщин создал именно Прометей, так что наша догадка
о тождестве Гефеста и Прометея в этом мифе уже перестает быть
просто догадкой. Плотин (IV 3, 14) прямо говорит о «мифе, гласящем,
что Прометей вылепил женщину и что ее украсили другие боги», так
же как и Фульгенций (II 9) сообщает, что Прометей, «как говорят,
изваял Пандору». О том, что разница между Гефестом и Прометеем
в данном вопросе незначительна и что они часто заменяли друг друга
в том или ином виде, свидетельствует Гигин (Fab., 142), у которого
читаем: «Прометей первый создал людей из глины, а впоследствии из
глины сделал изображение женщины Вулкан. Этому изображению
Минерва дала душу, а прочие боги одарили ее каждый по-своему,
почему ее и назвали Пандорой». Таким образом, в создании ли всех
людей или в создании Пандоры и женщин, но Прометей и Афина
были здесь сотрудниками.
Далее, Афина помогает Прометею даже в похищении огня. Сервий
(Bucol., VI 42) пишет: «Прометей, сын Иапета и Климены, после того,
как он создал людей, взошел, как говорят, с помощью Минервы на
небо и похитил огонь, прикоснувшись факелом к колеснице Солнца.
Этот огонь он доставил людям, по каковой причине разгневанные боги
послали на землю два бедствия — женщин и болезни. Об этом упо-
минают Сафо [145 Bergk 3] и Гесиод [Орр., 100 сл.)» (Тут же цитата
из Горация о Прометее и о людских несчастьях, после чего — из
Горация Сапп. 13, 29—31). Весь этот текст целиком переписан у
Ватик. Мифогр., I 1 и III 10, 10. Некоторым вариантом является тут
же II 64, где тоже читаем о «помощи Минервы».
Однако этот же памятник содержит целую повесть о сотрудничестве
Прометея и Афины в деле похищения огня (II 63); «Когда Прометей
создал человека, то по повелению богов он примешал к нему частицы
от всех зверей, насколько они соответствовали природе этих последних.
Поэтому он, как говорят, примешал ко внутренностям силу льва.
Афина Паллада
275
Потому что мы в большой степени воспламеняемся гневом, страх от
зййца, хитрость от лисицы, мудрость от змеи и простоту от голубя.
Однако он сделал человека неодушевленным и лишенным чувстви-
тельности. Минерва, изумленная этим произведением, клятвенно обе-
дала ему, что он найдет для своего создания то, чего он хочет из
небесного. На это Прометей отвечал, что он не знает ничего такого
хорошего, что имелось бы на небе. Но, если это можно, то он поднялся
бы до высших богов и что он на основании собственной непосредст-
венной оценки вынес бы оттуда то, что он найдет подходящим для
своего произведения. Минерва доставила его на небо в кайме своего
семикожного щита.
Прометей, увидев одушевленные, вспоенные живой силой небесные
существа, прикоснулся факелом к фебовой колеснице, добыл огонь,
дотронулся им до груди человека и сделал человека одушевленным».
Почти тот же самый текст повторен в III 10, 9.
Взаимоотношение Афины и Прометея вполне отчетливо сознавалось
уже в самой античности. Да оно и не могло не осознаваться ввиду
общей для обоих персонажей символики мудрости и общего художе-
ственно-производственного Понимания этой мудрости. Эта античная
интерпретация взаимоотношений Афины и Прометея сформулирована
у фульгенция, переданного у Ватик. Мифогр. (III 10, 9) так: «Фуль-
генций признает, что Прометей понимается как предвидение бога, а
что Минерва есть небесная мудрость, и что божественный огонь по-
нимается как мудрость или душа. Следовательно, божественное пред-
видение под наблюдением Паллады, богини мудрости, т. е. то пред-
видение, которое образует человека, находит, что ему необходима
душа для того, чтобы он жил, каковую Паллада, как бы сводя с неба,
божественно вдыхает в человека».
Прометей и Афина оба являются мудростью. Но Прометей своей
мудростью создает тело, Афина же своей мудростью одушевляет это
тело. А так как душа есть огонь, и этот огонь у богов, то оба они
похищают этот огонь, причем похищение это фактически совершается
Прометеем, направляется Афиной.
Наконец, между Афиной и Прометеем устанавливалась в антич-
ности настолько большая близость, что в некоторых мифах говорится
даже об их любовной связи. Источники перечисляют целый ряд жен
Прометея — Гесиону, Пандору, Климену, Пирру, Келайно, Асию, При-
нею, Аксиофею. От Пандоры или Климены у него был даже сын,
знаменитый Девкалион. Относительно же Афины имеется интересное
свидетельство историка Дуриса, почерпаемое нами у схолиаста к Апол-
лонию Род. (II 1249): «Гесиод говорит, что Прометей был прикован,
и к нему был послан орел за похищение огня. Дурис же говорит, что
— из-за того, что он влюбился в Афину. На этом основании жители
Кавказа не приносят жертв только Зевсу и Афине за то, что те явились
виновниками наказания Прометея». То, что наказание Прометея мо-
276
А. Ф. Лосев
тивируется здесь не похищением огня, не должно вызывать нашего
удивления, поскольку похищение огня вообще не было здесь единст-
венной мотивировкой. Евстафий (Ил. р. 987, 4 сл.) мотивирует на-
казание Прометея еще иначе, а именно внебрачным происхождением
Прометея от Геры: «Другие передают миф, что Гера до замужества
родила Прометея от Евримедонта, одного из Титанов, а Зевс, узнав
об этом, Евримедонта низверг в Тартар, а Прометея впоследствии,
под предлогом похищения огня, распял и пригвоздил на Кавказе».
То же у Эвфориона (frg. 134). Приходится только пожалеть, что
сообщение Дуриса является для нас единственным в своем роде.
Некоторым отдаленным отголоском этих отношений Прометея и
Афины является намек в одном Эсхиловском фрагменте на то, что
похищаемый Прометеем с неба огонь был женщиной. Именно Плутарх
(De utilitat. ex inim. percip. II) пишет: «Когда сатир первый раз увидел
огонь и захотел его полюбить и захватить, Прометей ему сказал:
„Смотри, ты, козел, как бы ты не обжег свою бороду"». Это — фрг.
207 из эсхиловской сатировской драмы «Прометей — зажигатель огня».
Фрагмент этот приводится и другими источниками. Насколько можно
судить, здесь мы имеем отголосок первобытной, фетишистской мифо-
логии или, может быть, начального периода демонологии, когда кос-
мические социальные и индивидуальные мотивы почти совсем не
расчленялись и когда земные и небесные отношения трактовались, в
частности, по типу отношений любовных и брачных.
Ясно, что отношения Афины и Прометея уходят в эту фетишист-
ско-демоническую даль; и можно предположить, что они были рестав-
рированы в начальный период греческой цивилизации вместе с другими
матриархальными мотивами и что здесь они получили весьма про-
грессивное значение. О Прометее, этом, по Лафаргу, матриархальном
демоне, в данном отношении сомневаться не приходится, поскольку
он был реставрирован в послегомеровский период для борьбы с ари-
стократическим Олимпом; но что Афина тоже была втянута в этот
круг прогрессивных идей восходящего рабовладельческого общества и
что отсюда вырастала ее сильная прогрессивная сторона, это мы сейчас
можем утверждать с большой уверенностью на основании приведенных
текстов и соображений.
10. АФИНА АНТИЧНОГО ДЕКАДАНСА (ФИЛОСОФИЯ, АЛЛЕ-
ГОРИЗМ, НАТУРАЛИЗМ, ФОРМАЛИЗМ ИЛИ ЭСТЕТИЗМ, НИГИ-
ЛИЗМ). а) В связи с гибелью периода классики, т. е. периода клас-
сического рабовладения, когда экономической основой общества был
мелкий свободный производитель, в дальнейшем зарождается эпоха
крупного рабовладения и крупного землевладения с неизбежным от-
рывом отдельного индивидуума от непосредственной связи с коллек-
тивом, обществом и с вытекающим отсюда развитием субъективизма
и идеалистической концепции. Античный декадан — это эпоха так
Афина Паллада
277
зазываемого эллинизма (IV в. до н. э.—V в. н. э.). Мифология ан-
тичного декаданса уже далека от всякого непосредственного реализма.
В ней мы видим оперирование мифологическими образами то в виде
философских категорий, то в виде более или менее условных алле-
горий, то в виде образов, лишенных своего древнего реализма или
классической идейности, вследствие чего они здесь неизбежно превра-
щались или в бытовые сцены со всем присущим быту натурализмом,
или в эстетическую и формалистическую игру абстрактными вымыс-
лами. В конце концов эта мифология периода декаданса начинала
разрабатываться в таком стиле, который свидетельствовал уже о са-
моуничтожении и самоотрицании мифологии и означал нигилистиче-
ское к ней отношение, свидетельствуя о гибели всего античного мифа
в целом. Попробуем привести некоторые материалы для характери-
стики Афины этого периода античного декаданса.
б) Прежде всего укажем несколько фактов для характеристики
философских концепций Афины в период эллинизма. На основе указан-
ного выше понимания Афины у Демокрита, Платона и Аристотеля,
но уже с превращением Афины в совершенно самостоятельную, ни-
сколько не мифологическую, а философскую категорию, развилось
учение об Афине в школах неоплатонизма. Со значением глубокого
человеческого ума Афина выступает у Плотина (VI 5, 7). В дальнейшем
же в связи с развитием спекулятивной философии в неоплатонизме
мы находим у Прокла очень сложную и схоластически тонко развитую
теорию Афины как божественного ума, управляющего разделением и
устроением всего мира (конечно, в языческом и пантеистическом
смысле). Этой проблеме Прокл посвящает много страниц в своем
главном труде In Plat, theol. Мы, однако, сошлемся на текст Прокла
гораздо более простой и легкий и сравнительно небольшой, именно
на его комментарий к приведенному выше месту к Платоновскому
Кратилу (Procl. in Crat., рр. Ill—113 Pasqu.). Аналогичное место
занимает Афина также и в системе богов у неоплатоника Саллюстия
(De diis et mund. 6).
Мы отметили бы только одну мысль неоплатоников, именно о
противоположности организующей и упорядочивающей Афины, с одной
стороны, и экстатического, хаотического Диониса — с другой.
У Прокла (in Tim., 35 А, II 145, 18 Diehl) читаем: «Он [Орфей]
Утверждает, что в то время, как прочие его [Диониса] демиургемы
находятся в разделении благодаря разделяющим богам, только одно
его сердце в силу промышления Афины является неделимым. Дей-
ствительно, хотя он выставляет и умы, и души, и тела, но души и
тела получают у него большое разделение в самих себе и дробление,
Ум же остается объединенным и неразделенным, будучи всем в едином
и обнимая единым мышлением все умопостигаемое целиком. При
этом, как он утверждает, только мыслительная сущность и мысли-
278
А. Ф. Лосев
тельное число остается спасенным Афиной». Здесь, таким образом
миф о спасении Афиной сердца Диониса после растерзания его самого
Титанами понимается как нечто неделимое и неуничтожимое в Ди-
онисе, что орфики и неоплатоники трактуют как неделимый и все-
охватывающий космический ум в противоположность разделению у
дроблению отдельных и частичных умов, душ и тел внутри космос i
Афина с этой точки зрения и есть принцип неделимости этого ума
То же читаем мы у того же Прокла и в другом месте (in Parmenio
130 В, р. 808, 25 Cous.2): «Поэтому и богословы говорят, что t
Дионисовых растерзаниях ум остается неделимым благодаря промыт-
лению Афины; душа же делится...». Также и в трактате In Alcifed
1 344, 31 Cous 2 Прокл говорит об «Афинином уме» (noys Athenaicosj
и утверждает, что «является Афининым делом спасение жизни в
неделимом виде, откуда Афина Паллада и называется „Спаситель-
ницей“».
Однако мы зашли бы очень далеко, если бы стали анализировать
все это учение в его целом и по его существу. Делать этого в настоящей
работе мы не будем.
На одну идею этого идеалистического учения неоплатоников мы
обратили бы внимание читателей. Именно на противопоставление
Афины и Диониса. Действительно, если брать не архаическую Афину,
но Афину в ее классическом завершении, то нет ничего более про-
тивоположного, чем Афина и Дионис. Дионис — это божество весьма
бурное и буйное, божество экзальтации и экстаза, в то время как
Афина больше всего славится своей сдержанностью, разумностью и
целомудрием.
В настоящем труде мы не занимаемся специально философскими
теориями Афины, но для характеристики Афины у поздних греческих
философов все же важно будет привлечь два памятника, максимально
близких в этой поздней философии к мифологии. Первый памятник —
это гимн «велемудрой Афине», принадлежащий Проклу и занимающий
7-е место в сборнике его гимнов. В этом гимне много интересного.
Сначала (1—4) рисуются общие воинские и вообще мужественные
черты Афины. Далее говорится о ее мудрости (7), о ее борьбе с
Гигантами (8), об отстранении притязаний Гефеста и сохранении
девства (9—10), о спасении сердца Диониса Загрея, растерзанного
Титанами (11—15), об отношении к Гекате (16—17), об ее искусствах
и ремеслах (18—20). Подробнее — об отношении Афины к ее городу
и Посейдону (21—30). Последняя же часть гимна (31—51) представляет
собой любопытнейший синкретизм позднего язычества с христианст-
вом, где на первом плане мотивы несчастной земной доли человека’
смиренного покаяния, просьб о спасении, мотивы надежды на будут*1’1
век и благодатную помощь богини, велемудрой и со светлым ликом.
Афина Паллада
279
Другой памятник тоже очень любопытен. Это 32-й орфический гимн.
Для мифологии он особенно интересен реставрацией архаических мо-
тивов: близкое отношение к пещерам, горам и дубравам (4—5), на-
вдждение безумия на смертных (6), обладание грозным сердцем (7),
змеиный вид (11), любовь к божественной одержимости (11), совоо-
кость (14). Остальные мотивы здесь более обычные (война, искусство,
мудрость).
Другая линия философского понимания Афины в послеклассиче-
ский период античной философии опиралась на древнее пифагорейство
и приводила к спекулятивно-математической теории, отождествляя
Афину с пифагорейской пентадой, как, например, это делает Ps. Jambl.
Theol. arithm. 41.18 Falc. В этом трактате Афина понимается и как
семерка: «Афиной они называют гептаду потому, что она является
некой безбрачной девой, близкой к той, о которой говорится в мифах,
не родившись ни от матери, которая относится к четному числу, ни
от отца, который относится к нечетному числу, но только из темени
отца всего, что нужно понимать как из главы числа монады». Поэтому
Афина есть как бы некое «неженское (athelyntos)», «поскольку женское
начало является легкоделимым числом». О том, что гептада не имеет
матери и является девой, —так же 54, 11.
Понимание Афины как гебдомады — семерки мы находим также
и у Филона, который (De mund. opif., 33) пишет: «Как я сказал,
только одно число 7 по природе своей не рождает и не рождается,
по каковой причине иные философы уподобляют это число не име-
ющей матери Нике и Деве, о которой имеет смысл говорить, что
она появилась из головы Зевса. Пифагорейцы же уподобляют ее
водителю всего».
в) Но в эллинизме, как мы указали выше, кроме философии была
еще и другая линия понимания Афины, та, которую можно назвать
метафорической или, лучше сказать, аллегорической. Интересную
картину в этом отношении представляют стоики, у которых Афина
Действительно есть некоторого рода аллегория. Правда, если верить
Диодору (1, 11, 7), то уже древние египтяне понимали Афину как
воздух. Подобное суждение, возможно, есть просто результат аллего-
рической ограниченности самого Диодора, что же касается древних
стоиков, то Афина у них уже несомненно есть натурфилософская
аллегория.
«Афину же они называют распространением по эфиру ведущего
вачала божества» (SVF—II 305, 21 Агп.). «Афина есть то, что рас-
пространено по эфиру из Зевса» (III 217, 17). «Вслед за ним [стоиком
Хрисиппом] Диоген Вавилонский, перенося в книге под названием
»О Минерве" роды Юпитера и рождение девы на язык натурфилосо-
фии, отделял этот предмет от сказания» (III 217, 29). Для общего
аллегорического толкования Афины у стоиков особенно интересно
следующее суждение Филодема (II 258 17—25): «Некоторые стоики
280
А. Ф. Лосев
говорят, что ведущее начало находится в голове. Действительно, оно
есть разумность, почему и называется мыслью (metis). Хрисипп же
утверждает, что ведущее находится в груди и что именно там возникла
Афина, поскольку она и есть разумность. А вследствие того, что звук
исходит из головы, он утверждает, что она из головы: с помощью
Гефеста — потому, что разумность создается с помощью искусства.
Поэтому Афина называется в смысле Athrena (Думающая); Тритонидои
же и Тритогенией — из-за того, что разумность состоит из трех мо-
ментов — физического, этнического и логического».
Далее мы приведем еще один текст опять-таки из Хрисиппа, где
в очень ясной и неприкрытой форме дается обычная в те времена
аллегорическая концепция Афины как разумности и искусства.
Хрисипп в изложении Галена пишет (II, frg. 909 Агп.): «Прежде
всего, Метида считается как бы некоторого рода разумностью и
искусством в области того, что происходит в жизни. Действительно,
искусство надо поглощать и вкладывать. В этом смысле мы и говорим
о некоторых, что они поглощают слушаемое. Но из-за этого погло-
щения целесообразно говорится и о том, что оно принимается во-
внутрь. А после этого осмысленно будет и порождать из него подобное
поглощенное искусство, на манер рождающей матери. В добавление
к этому надо, однако, еще рассмотреть, как же появляется вовне
это рождаемое в людях науками и через что именно оно, главным
образом, появляется. Ясно, что оно появляется вовне при помощи
слова, через рот, находящийся на голове. Это применимо равным
образом и к голове в условном смысле (в каком смысле говорится
о головах скота и о том, что у тех-то отнимают столько-то голов
скота).
В этом смысле говорится и о появлении из темени, причем может
возникнуть и еще больше новых ситуаций, если их понимать симво-
лически. Однако и без этого рассказа можно было бы утверждать
подобное только на основании одного ее происхождения через голову
Ведь [Гесиод) вовсе не говорит, что она возникает в голове, если
только кто-нибудь не скажет, извращая или меняя смысл [мифа), что
она выходит так, а возникает иначе. Поэтому, как я сказал, лучше
и этот символ относить к другому смыслу. Больше всего выражает
вышеприведенную историю то, что возникшие в них художественные
предметы выходят наружу через голову». По этому толкованию вы-
ходит, следовательно, что Афина есть попросту всякий продукт ум-
ственного и художественного творчества, возникающий на почве
такого же умственного и художественного восприятия действительности
и такой же ее внутренней, субъективно-человеческой переработки. От
архаической и классической Афины Паллады здесь осталась только
метафора и даже только аллегория, сама по себе не имеющая никакого
значения, кроме условного термина, который, конечно, может быть
заменен любым другим словесным обозначением.
Афина Паллада
281
Сошлемся еще на Корнута, трактат которого содержит много всяких
материалов по разным богам и демонам. 20-я глава трактата Корнута
посвящена специально Афине. Это, пожалуй, наиболее систематически
проведенная стоическая, да и вообще античная, аллегоризация Афины
Паллады. Основной смысл ее прост и ясен: Афина — это разумность
и добродетель, понимаемая в духе стоицизма, т. е. в космосе это —
эфир, который есть тончайшая материя и тончайшая сущность, тон-
чайший творческий дух; а в человеке — это его разум и разумная
воля, его непоколебимая и безоговорочная добродетель.
г) В порядке прогрессирующей потери старинной мифологической
сущности мифология Афины, как и вся античная мифология вообще,
получает также и чисто бытовую разработку. В качестве любопытного
примера мы привели бы Каллимаха, а именно его не раз используемый
нами гимн на омовение Афины. Здесь говорится о том, как Афина
омывает пот и пену со своих фыркающих коней (V 9—12), а затем
очень подробно о том, какими благовониями она натирается сама и
как расчесывает волосы золотым гребнем (25—32). Купанье Афины
в Гиппокрене изображается на фоне тихой и безмятежной природы,
в горах, в полуденный час (70—74). Самое ослепление Тиресия,
страдание его матери и разговор ее с Афиной проведены уже в изящном
стиле Овидия (75—136).
В качестве другого примера мы привели бы и самого Овидия, у
которого миф об Аглавре, ее сестрах в связи с Афиной изложен
следующим образом (Met. II 711—835). Когда эти три сестры участ-
вовали в процессии в честь Афины, одна из них, Герса, понравилась
Гермесу, который тут же решает на ней жениться, для чего обращается
к Аглавре за помощью. Та обещает ему помочь за золото, но Афина,
вспомнив о неповиновении Аглавры, которая некогда вскрыла ящик
с Эрихтонием, решает теперь помешать Аглавре в ее предприятии.
Богиня обращается к демону Зависти, с просьбой вселить в Аглавру
зависть к сестре за выбор ее Гермесом. Далее весьма натуралистически
изображаются муки Аглавры от зависти, ревности и ненависти к
сестре, ее ужасающее заболевание и в дальнейшем ее превращение
Гермесом в камень. Здесь перед нами целый ряд чисто бытовых и
вполне натуралистических картинок и тот эллинистический жанр пре-
вращений, который имел уже мало общего со старинной верой в
оборотничество.
д) Наконец, мы бы указали еще на один этап развития мифологии
Афины, который в пределах эллинизма является, может быть, наиболее
Далеко ушедшим от классической Афины. Это есть сатирический
нигилизм Лукиана, использующий древнюю мифологию даже и без
всяких метафорических целей, а исключительно ради издевательства,
сатиры и пародии. В своих знаменитых «Разговорах богов» Лукиан
'8-й разговор) рисует в юмористически-пародийном тоне Зевса, при-
казывающего Гефесту разрубить ему голову, испуг и оторопь Гефеста,
282
А. Ф. Лосев
смешное появление Афины, комические замечания по этому поводу
Гефеста, его внезапное желание жениться на Афине и двусмысленное
поведение Зевса. В другом месте (19-й разговор) Афродита в коми-
ческих тонах упрекает Эрота, побеждающего своими стрелами всех
богов и людей, в том, что он бессилен перед девственностью Афины.
В подобного рода мифологических картинках античная мифология
сама отрицает себя. Здесь нет не только веры в объективную реальность
мифологии, но даже нет использования ее в целях метафорических
поэтических или научно-философских. Здесь просто мифология унич-
тожает самое себя, превращаясь в насмешку и издевательство над
самой собой. Это и означает гибель всей античной мифологии. Это
окончательная и последняя стадия развития античной Афины Паллады.
11. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР, а) Наше исследование было бы
недостаточным, если бы мы ограничились только одним социально-
историческим анализом и не поставили бы вопроса о том, где и как
эти исторические периоды Афины реализовались, где и как они по-
лучили свою конкретную историческую значимость. Другими словами,
мы должны коснуться вопроса о географическом распределении ми-
фологии и культа Афины. Многое из этого было указано в предыдущем.
Однако географическая фиксация мифологии и культа Афины до сих
пор нигде не интересовала нас специально, и географические указания
мы делали только более или менее случайно. Сейчас мы должны,
во-первых, припомнить все наши географические указания из преды-
дущего, а во-вторых, мы должны прибавить все то, что было характерно
для отдельных местностей Греции, но с чем мы еще не повстречались
в предыдущем изложении.
Само собой разумеется, этот географический обзор может и должен
быть у нас не исчерпывающим, но содержащим только самые необ-
ходимые моменты в географическом распределении, поскольку исчер-
пывающий обзор занял бы у нас огромное место, но был бы только
абстрактно-академическим предприятием, не внося ничего существенно
нового.
Из этого обзора, как мы увидим, вырисовывается довольно яркая
картина. Как и следовало ожидать, более отсталые местности, вроде
Малой Азии или островов Эгейского моря, характеризуются и более
древними представлениями об Афине, восходящими, несомненно, еще
к периоду матриархата с его фетишизмом и демонологией. Пелопоннес
представляет собой уже гораздо более пеструю картину: более отсталая
Аркадия содержит и более архаическую мифологию Афины; другие
же области Пелопоннеса, а особенно Лаконика и Арголида, уходят
значительно вперед и дают яркие образцы не только хтонической, но
и героической мифологии Афины.
Еще дальше того идет средняя Греция с примыкающей к ней из
Северной Греции Фессалией. Наконец, более всего развитую картину
Афина Паллада
2ИЗ
мйфологии и культа Афины дает Аттика, где все хтоническое уже
явным образом подчинено и превзойдено, а героическая мифология
Афины времен строгого патриархата уже решительно перешла в стадию
цивилизации, рабовладельческого государства, Афинской демократи-
ческой гражданственности, а также всех идейных завоеваний класси-
ческого периода Греции.
Научная литература пестрит разными указаниями и наблюдениями
относительно тех или других местных мифологических мотивов и
областных культов разных античных божеств. Также и для Афины
имеются большие географические сводки, в которых принят во вни-
мание весь основной материал источников. Правда, в отношении такой
фигуры, как Афина, это было сделать нетрудно, поскольку основным
источником здесь является почти один Павсаний, но тем не менее
воспользоваться этими сводками непосредственно совершенно невоз-
можно. Не говоря уже о том, что приводимые в научной литературе
тексты должны быть проверены и приведены по лучшим изданиям,
что их еще нужно перевести на русский язык, уже сам состав этих
фактов требует коренного пересмотра, а нередкий в науке формализм
и эклектизм коренным образом противостоят как всякому историзму,
так особенно социально-историческому анализу в нашем понимании.
Поэтому, оперируя теми же самыми фактами или, лучше сказать,
оперируя Павсанием, мы даем совершенно новую картину географи-
ческого распределения мифологии и культа Афины.
б) Малая Азия. Этот край в смысле хтонической мифологии дает для
Афины очень мало, конечно, только вследствие гибели соответствующих
памятников и документов. Тем не менее некоторые интересные факты из
этой страны нам уже известны: человеческое жертвоприношение в Лао-
дикии (см. выше), борода у жриц Афины в Педасе под Галикарнасом (см.
выше) и убиение Афиной Паллады в объяснении происхождения Палла-
диума у Аполлодора (см. выше). Эти факты во всяком случае незаменимы
для истории Афины в период палеолита.
Прибавим к этому еще и то, что Троя вообще считалась местом,
где впервые появился Палладиум; а Палладиум — это, конечно, сту-
пень весьма древнего фетишизма. Наличие храма Афины в самой
Трое во время Троянской войны, вероятно, является результатом
усилий со стороны эпоса во что бы то ни стало объединить греческую
и варварскую религию. Тем не менее Ксеркс нашел нужным принести
огромную жертву Троянской Афине, когда он там был со своим
войском, причем характерно примечание Геродота (VII 43): «После
этого ночью весь военный лагерь был объят ужасом». Геродот ничего
по говорил о причинах этого ужаса, но после всего, что мы сказали
выше об архаической Афине, это ясно самой собой. Ужас от Троянской
‘‘фины испытали сами греки, когда Одиссей и Диомед выкрали ее
.«лладиум из ее храма в Трое, о чем читаем у Вергилия (Aen., II
'2—175 Брюс.):
284
А. Ф. Лосев
В лагере образ едва был поставлен, зажглося в подъятых
Беглое пламя очах, и пот соленый по членам
Выступил; трижды с земли сама она (сказывать дивно)
Приподнялась, грозя щитом и копьем задрожавшим.
Главнейшие источники о Палладиуме следующие: прежде всего
нужно привести Аполлодора (Apoll. III 12, 3), подробно рассказыва-
ющего, как Ил при основании Илиона получил знамение с неба в
виде этого Палладиума, о котором, между прочим, говорится: «Он
был размером в три локтя и имел тесно связанные ноги. В правой
руке у него было поднятое копье, а в другой веретено и прялка». Тут
же известная нам уже история о происхождении этого Палладиума
из состязания между Афиной и Палладой.
Далее источники говорят о том, что из первоначального Палла-
диума было сделано несколько копий. По Dion. Hal. Ant. г. (I 69), о
разных Палладиумах трактовал уже Арктин. Известно знаменитое
похищение одного из таких Палладиумов Одиссеем и Диомедом еще
до гибели Трои. Об этом говорят: Дионисий Галикарнасский (ibid.),
Прокл, трактующий о Малой Илиаде (EGF р. 37 Kink); Еврипид,
влагающий этот рассказ в уста Гектора (Rhes, 501 сл.), он же (Hecub.,
238—250), когда заставляет свою Гекубу вспоминать о помощи, ока-
занной ею Одиссею при похищении Палладиума; Овидий (Met., XIII
334—349), у которого об этом событии вспоминает Одиссей при споре
об оружии с Аяксом.
Что касается судьбы подлинного Палладиума, то здесь в источниках
царит большая пестрота, которую мы не будем воспроизводить. По
одним он оказался в связи с разрушением Трои в руках Агамемнона,
другие говорили, что его вывез Эней в Италию; по третьим — Пал-
ладиум был отвезен Диомедом в Аргос, а по четвертым — оказался у
Демофонта в Афинах. В Акрополе самой Трои был по изображению
Гомера храм Афины с целым штатом жриц и с развитым культом.
В Ил. (VI 269—311) подробно рассказывается о том, как Гектор
советует Гекубе обратиться к Афине и как Гекуба в окружении
многочисленных женщин и в атмосфере молитв и воскурений подносит
Афине лучшее и драгоценное платье. Стремление Гомера навязать
впечатление, что троянцы тоже почитают Афину, не достигает своей
цели. Слишком уже явно Афина стоит на стороне греков; и в гибели
Трои, в уничтожении троянцев она со своей Горгоной играла отнюдь
не последнюю роль, как это видно хотя бы из Вергилия (Аеп., 615
сл.). Совершенно ясно, что троянский идол имел мало общего с
греческой Афиной, и Гомер объединял эти два образа почти, можно
сказать, насильственно.
в) Острова Эгейского моря. Крит. Относительно человеческих
жертв в Саламине на Кипре в связи с культом Афины мы уже говорили
выше. Этот кладезь хтонической мифологии уже дважды встречался
Афина Паллада
285
нам в связи с Афиной. Аристокл относил к Криту метеорологическое
представление об Афине (см. выше), и Диодор (V 72) относил к Криту
рождение Афины на Тритоне: «Мифы повествуют, что и Афина ро-
дилась от Зевса на Крите у истоков реки Тритона, почему она и
названа Тритогенией; еще и теперь около этих истоков находится
священный храм указанной богини, в каковом месте, по мифам, и
произошло рождение богини».
С точки зрения социально-исторического анализа важно сообщение
Страбона (X 3, 19), с которым мы уже встречались выше, о появлении
Корибантов от Афины и Гелиоса: «...Будто бы Корибант, друг их
["Куретов^ и основатель Иерапитны, подал повод Прасиям у родосцев
говорить, что Корибанты — какие-то божественные существа, дети
Афины и Гелиоса». Здесь замечательно не только то, что Афина
лишена своей традиционной девственности, не только то, что мужем
ее оказывается ни больше ни меньше как само Солнце, но, главным
образом, еще и то, что порождения от этого брака оказываются
демоническими и мистическими существами (о которых мы имели
случай говорить выше) — Корибантами-Куретами, каковых и вообще
надо считать наилучшим и самым выразительным образом древнего
хтонизма. По Orph. (frg. 185 К.) Афина трактуется также и как
«вождь Куретов» и как наставник в танце пиррихий. Можно сказать,
эта Критская Афина (из Иерапитны) не имеет ничего общего с клас-
сической Афиной и есть порождение полуфетишистское, полуаними-
стическое, но во всяком случае и ярко выраженное хтоническое.
Имеется ряд голых сообщений о культе Афины в разных местностях
Крита, но приводить их тут не стоит.
Другой знаменитый остров, Родос (кроме пришедшей сюда и только
что упомянутой версии об Афине и Корибантах) известен нам уже
из предыдущего тоже двумя драгоценными хтоническими рудиментами:
мотивом золотого дождя Зевса в момент рождения Афины (см. выше)
и мотивом преподания Афиной родосцам искусства изготовления живых
статуй (см. выше). Упоминалось также и об оливковой роще Афины
на Родосе. Прибавим к этому, что почитателями Афины на Родосе
являются, во-первых, Гелиады, дочери Солнца, представлявшие собой
Древнейшее население острова. По тому же сообщению (Pind. 01., VII
58—99), откуда мы берем мотивы золотого дождя и живых статуй,
Гелиос сообщает Гелиадам на Родосе о рождении Афины, и они первые
нриносят ей жертву (впопыхах без огня). Тот же рассказ читаем и у
Диодора (V 56), который еще больше подчеркивает архаизм самого
°браза Гелиад. Во-вторых же, первыми почитателями Афины на Родосе
являются самые древние и самые маститые герои, которых мы теперь
Расцениваем как глубоко архаические фигуры, граничащие со звери-
фетишизмом и матриархальным демонизмом: здесь, после своего
Регства из Египта, Данай с данайцами сооружает (по Аполлодору, II
’ 4) статую Афины, по Геродоту же (II 182) — целый храм, а по
286
А. Ф. Лосев
Диодору (V 58) — и храм и статую; Кекропс приносит здесь богине
огненную жертву вместо безогненной Гелиад (Diod., V 56); Кадм,
проездом через Родос, тоже посвящает Афине бронзовую чашу и
устанавливает для нее особое почитание (Diod., V 58).
г) Пелопоннес. Эта южная Греция тоже содержит множество ар-
хаизмов в мифологии Афины, но черты классической Афины просту-
пают тут уже гораздо заметнее. Ради сводки вспомним сначала те
пелопоннесские материалы, которые приводились у нас выше; таковы
следующие мотивы, драгоценные с точки зрения социально-историче-
ского развития: Афина — покровительница матерей в Элиде, Афина —
губительная сила в ахейской Пеллене, Афина в связи с гигантами,
спор и примирение Афины с Посейдоном в Трезене, Афина и Кипарисы
в Лаконике и Мессении, Афина Конная в аркадской Тегее и в Элиде,
Афина на мысе Ослиная Челюсть в Лаконии и Афина с вороной в
Мессении, Афина на р. Тритон около Алиферы в Аркадии, Афина
Гигиея в Тегее, Офтальмитис — Глазница в Лаконике, Оксидерка —
Зоркоглазая в Аргосе, Сфониада — Мощная в Трезене, Халинитис —
Уздечная в Коринфе (Paus., II 4, 1), Акриа Вершинная в Аргосе,
Ветровая в Элиде.
Прибавим к этому также и следующие аркадские материалы,
историческая значимость которых очень глубока.
Наиболее древним рудиментом в мифологии Афины является пред-
ставление в Аркадии этой богини в виде четырехугольной колонны в
Мегалополе с некоторыми другими божествами (Paus., VII 31, 7; 34, 4).
Чисто фетишистский характер этого представления не требует никакого
комментария. Культ Афины в Тегее, по-видимому, вообще является
тоже очень древним. Павсаний (VIII 47, 1) сообщает о Тегейской
Афине, что у всех эллинов эта богиня почитается под именем Алей,
да и у самих жителей Пелопоннеса это название стало распростра-
ненным. Наряду с указанными только что культовыми наименованиями
Афины в Тегее необходимо указать еще на следующий миф об Афине,
тоже связанный с этим городом (VIII 47, 5): «...говорят, что для
охраны города богиня отрезала и дала ему (Кефею) локон из волос
Медузы». Характерно, что этот несомненный фетишизм уживается с
Афиной, понимаемой в этом городе как Полиада, т. е. Градохрани-
тельница (там же), несмотря на то, что охрана городов Афиной (как,
разумеется, и наличие самих городов) явление гораздо более позднее,
чем фетишизм, т. е. чем период дикости. Такой же древней стадией
магического мышления отличается аркадский миф о Тевфисе — наи-
менование города и его царя (VIII 28, 4—6). «Когда для эллинов,
стоявших в Авлиде, не было попутного ветра, и сильная буря долгое
время держала их здесь запертыми в гавани, то Тевфис поссорился с
Агамемноном и собирался увести назад своих аркадян. Тогда, говорят,
Афина в образе Меласа, сына Опса, стала отговаривать Тевфиса от
возвращения домой; он же, пылая яростью, ударил богиню копьем в
Афина Паллада
287
бедР0 и все-таки увел свое войско назад домой из-под Авлиды. Когда
он вернулся домой, то ему показалось, что явилась перед ним богиня
с раной в бедре. И с этого времени Тевфиса поразила истощающая
болезнь, а жителям Тевфиды, одним из всех аркадян, земля не при-
носила плодов. Впоследствии они получили вещанье из Додоны, чем
они могут умилостивить богиню, и, кроме всех других приношений,
яМ было приказано воздвигнуть статую Афины, имеющую рану в
бедре. Эту статую я видел сам, у нее бедро перевязано пурпурной
повязкой». Здесь чисто фетишистский миф о взаимной борьбе и гу-
бительстве человека и божества перенесен в контекст позднейшей
Троянской мифологии, т. е. в период перехода к классовому обществу
(подобно известному рассказу о ранении Ареса и Афродиты Диомедом
в Ил., V).
Наконец, с Аркадией связан миф о дочери Алея Авге, перешедший
к Еврипиду. У Страбона (XIII 1, 69) читаем: «Еврипид рассказывает,
что Алей, отец Авги, узнав об оскорблении последней Гераклом,
заключил ее вместе с сыном Телефом в ящик и бросил в море, что
ящик, благодаря заботливости Афины, переплыл через море и попал
в устье Каика, после чего Тевфрант принял несчастных, Авгу сделал
своей супругой, а Телефа усыновил». Заботливость Афины об Авге и
ее сыне едва ли есть филантропия вообще. Скорее это есть аналогия
вышеуказанного элидского представления об Афине как покровитель-
нице матерей. Кроме того, Авга является дочерью Алея, а сама Афина
носит здесь название тоже Алей; Авга еще сестра Кефея, того самого,
которому Афина, как мы только что видели, дала локон Горгоны для
защиты города. Все это свидетельствует об упорных фетишистских
рудиментах Афины в чисто героической среде, о ее большой попу-
лярности именно в Аркадии и именно в Тегее. Варианты мифа об
Авге тоже небезынтересны. У Аполлодора (II 7, 4; ср. III 9, 1, 2—3)
рассказывается, что после рождения Авгой от Геракла ребенка на
священном участке Афины в стране разразилась чума, после чего
Алей извлек ребенка оттуда и отнес на гору Парфенион, где тот был
вскормлен ланью и воспитан пастухами. Здесь — уже хорошо знакомая
нам губительная сторона Афины, причем отправление ребенка на гору
Парфенион, т. е. Девичью, тоже, по-видимому, указывает на какую-то
аналогию жертвоприношения Афине. О насилии Геракла над Авгой в
Тегее кратко упоминает и Павсаний (VIII 47, 4).
Таким образом, аркадская мифология Афины представляет огром-
ный интерес с точки зрения разных периодов мифологического раз-
вития, хотя вместе с тем Аркадия ничуть не чужда более поздних
стадий. Как известно, фетишистские рудименты Афины прочно увя-
3ЗДы здесь с героическим мифом. Кроме сделанных выше наблюдений,
**°*но прибавить еще и Афину Тритониду в Фенее, которая, несмотря
^а свое архаическое прозвище, фигурирует у Павсания (VIII 14, 4)
контексте рассказа об Одиссее: ее храм — в Акрополе Фенея, а
288
А. Ф. Лосев
рядом характерным образом статуя Посейдона-Конного, которую по-
ставил якобы Одиссей, разыскавший здесь своих пропавших конец
Тот же Павсаний (VIII 21, 4) кратко упоминает об Афине Кории в
Клиторе; а Цицерон (De nat. deor., Ill 23, 59), как мы уже встречали
раньше, считает эту Корию изобретательницей колесницы. Это более
поздний, уже не хтонический мотив, равно как и вообще эта наиболее
хтоническая область в Пелопоннесе не чужда позднейших художест-
венно-ремесленных функций Афины. Павсаний (VIII 36, 5) ссообщает,
что по дороге из Мегалополя в Менал «есть и храм Афины с эпитетом
изобретательницы, так как эта богиня всегда измышляет всякие планы
и придумывает хитрости».
О мифологии Афины в АХЕЕ Павсаний (VII 22, 8—9) сообщает
следующее: «Арес будто бы сочетался с Тритией, дочерью Тритона:
эта девушка была жрицей в храме Афины, и... сын Ареса и Тритии
Меланипп, когда вырос, основал этот город и дал ему имя в честь
матери». Здесь перед нами любопытный семантический комплекс: Афи-
на имеет своей жрицей Тритию, которая является дочерью Тритона,
и город этот тоже Трития, — несомненные архаизмы, свидетельству-
ющие об исконном тождестве Афины Тритии и Тритона и о после-
дующей дифференциации этой исконной семантической слитности на
трех разных субъектах; супругом Тритии является ни больше и ни
меньше как Арес — тоже архаическое стихийное и даже не греческое
божество, сын от этого брака тоже характерным образом получает
имя Меланиппа, т. е. Черноконя. Прибавим к этому и детали, сооб-
щенные Павсанием в том же месте и тоже рисующие архаическую
обстановку культа Афины в Ахее: «В Тритии есть святилище так
называемых Великих богов; их статуи сделаны из глины. Каждый год
в их честь справляется праздник, ничем не отличающийся от того,
который эллины справляют в честь Диониса. Есть здесь и храм Афи-
ны... У них установлено приносить тут жервы Аресу и Тритии».
Статуи богов из глины, аналогия с культом Диониса, стихийно-хто-
нические божества, а также совместность культа Афины, Ареса и
Тритии — все это весьма выразительно свидетельствует об архаизме,
т. е. хтонизме и фетишизме Афины в Ахее.
В Элиде — возвышенность с развалинами города Фриксы и храмом
Афины Кидонийской. По Павсанию (VI 21, 6), этот храм был основан
Клименом, потомком Геракла идейского, выходцем из Кидонии на
Крите. Связь с Гераклом идейским и с Критом — типичный архаизм.
Рядом с этим характерное указание на Эргану — работницу в Олимпии.
Связь этой Эрганы с позднейшим развитием ремесла в противоречии
с доремесленной архаикой свидетельствуется у Павсания (V 14,
«Этой Эргане приносят жертву и потомки Фидия, так называемые
чистильщики, получившие от элейцев почетную обязанность — при"
Афина Паллада
289
вилегию — чистить статую Зевса от всей оседающей грязи; они при-
носят ей жертву прежде, чем начинают чистить статую».
В Мессении, в Пилосе, по Павсанию (IV 36, 2), был храм Афины
Корифассийской, что не может не вызывать у нас в памяти предло-
женных выше наблюдений относительно значения слова coryphe в
мифологии Афины.
Дальше ушедшие вперед в культурно-социальном отношении об-
ласти Пелопоннеса Лаконика и Арголида дают и для мифологии
Афины тоже более позднюю сладию. На Спартанском Акрополе мы
находим наряду с прочим опять-таки Афину Эргану и Афину Поли-
ухос — Градодержицу и, кроме того, еще в окружении Зевса — Кос-
мета, Хранителя порядка и Муз (III 17, 2—5). Связь типов Афины
с героическим веком не только ясна из наших предыдущих рассуж-
дений, но формулируется и Павсанием. Это ясно точно так же, как
и связь находимой нами тут же в Лаконике около Ферапны деревянной
статуи Афины Алси (III 19, 7) с гораздо более древними временами.
В Арголидс, несомненно, также главенствует героическая сущность
Афины. Здесь мы находим ряд мифов, связывающих с Афиной Ар-
госского героя Диомеда и его потомков. Напомним, что Диомед —
похититель Палладиума. К Аргосу относится также и упоминавшаяся
выше героическая мифология Персея. Именно тут Горгона связывалась
с Персеем, в то время как в Аттике она была связана с Афиной. Что
Горгона представляла собой образ первоначально совершенно самосто-
ятельный, независимый ни от Персея, ни от Афины, эго доказывается
наличием головы Горгоны в своем полном и нетронутом виде и со
всеми своими ужасами в Аиде (Од. XI 634 сл.).
В Арголиде вообще мы находим один из главных греческих центров
почитания Афины. В связи с Афиной тут существовал и особый культ
щитов, тоже, конечно, героический (ср. Каллимах Hymn V 35:
«О, Афина, несут перед тобой и щит Диомеда»). С Аргосом связан и
миф об омовении Афины, а также относящийся сюда обряд. Каллимах
посвятил этой теме целый гимн, в котором, как мы знаем, поэт
рассказывал также и об ослеплении Тиресия во время одного из таких
омовений Афины. Все начало этого гимна (V 1—56) посвящено омо-
вению Афины на Инахе в Аргосе; и в дальнейшем Аргос и аргосцы
Уминаются здесь еще не раз (137—139). Представление об этом омо-
вении, конечно, очень древнее и восходит ко временам хтонизма и
фетишизма. Здесь оно, однако, дано в героической переработке, как
и образ самой Афины (ср. особенно начало гимна).
Этой же героической переработкой отличается и миф об Афине
рпатурии, рассказанный у Павсания (II 33. 1) так: «На этот остров
коло Трезена) во исполнение сновидения, посланного Афиной, чтобы
вершить погребальные возлияния этому герою (Сфайру), явилась
17 Зак 3903
290
А. Ф. Лосев
Эфра, и, когда она была тут, говорят, с ней сочетался Посейдон.
Поэтому Эфра воздвигла здесь храм в честь Афины Апатурии и
назвала этот остров Гиера (Священным) вместо Сфайрии. И у девушек
Трезена установился обычай перед свадьбой посвящать свой пояс
Афине Апатурии». Апатурии есть праздник родоплеменной, когда меж-
ду прочим совершалась запись мальчиков, родившихся за последним
год; с другой стороны, указанное посвящение пояса говорит о том,
что Афина здесь уже дева. Оба обстоятельства свидетельствую!
временах патриархата.
В примыкающих к Арголиде Коринфе и Сикионе находим черты
героической Афины. Если, как сказано, в Коринфе Афина связана с
Беллерофонтом и носит наименование Уздечной, то в Сикионе она
связана с Эпопеем, врагом фиванцев, у которых он похитил Антиощ
и с которыми сначала успешно сражался. Павсаний (II 6 2—3) об
этом и пишет: «Эпопей стал тотчас же приносить благодарственные
жертвы за победу и стал строить храм в честь Афины, а по окончании
его обратился к богине с молитвой дать знаменье, по душе ли ей
созданный храм; и говорят, что после его молитвы перед храмом потек
ручей оливкового масла».
Таким образом, Пелопоннес представляет собой яркую картину
социального созревания мифологии Афины, начиная от хтонической
и отсталой Аркадии и кончая далеко ушедшими вперед в своем со-
циальном и культурном развитии Лаконикой и Арголидой с прилета-
ющими к ним областями, где без труда наблюдаются черты уже
зрелого патриархата и героизма.
д) Северная и Средняя Греция (кроме Аттики). В предыдущем
мы уже касались многих явлений, характеризующих Афину в этих
областях: с надписью «Афина Зевса» в Акарнании; связь с Аидом в
Коронее в Беотии; человекоубийственные черты Афины Итонии; рож-
дение на Тритоне около Копанды. Делаем к этому добавления для
полноты географического обзора.
В Фессалии, несмотря на Итонию Ивовую, эта Итония была
военным кличем во время войны с фокейцами по Павсанию (X 1.
10), что, конечно, уже слишком далеко от времени фетишизма. К тому
же в Лариссе Афина — Полиада (надписи).
Перешедшие из Фессалии в Беотию эолийцы принесли к собой и
культ Итонии, который столкнулся здесь тоже с древним культом
Алалкомениды, или Алалкомены, в городе Алалкомены, о чем читаем
у Павсания (IX 33, 5): «Алалкомены — небольшой поселок, лежащий
у самой подошвы не очень высокой горы. Название ему, говорят одни,
дано от месторожденного землей [автохтона] мужа, Алалкомена, к0'
торым, по преданию, была выкормлена Афина». Мотив о кормление
Афина Паллада
291
Афины, конечно, древний. О рождении Афины именно здесь говорит
я Страбон (IX 2, 36).
Перешедшая из Фессалии Итония поселилась в беотийской Коронее.
q ней читаем у Алкея (frg. 3. Diehl Иван.):
Афина — дева, браней владычица,
Ты, что обходишь свой Коронейский храм
По заливным лугам священный
Там, где поток Коралийский плещет.
О том, что Итония и Алалкоменида втянулись в круг героической
мифологии, свидетельствует хотя бы то, что первая была помощницей
аргонавтов при построении их корабля, а вторая попадается у Гомера
(Ил., IV 8, V, 908). В Беотии имеется еще одна исконная богиня в
виде аналога Афины, с нею потом слившаяся. Это — Онка (этимология
загадочная), которая фигурирует у Эсхила (Sept., 483) вблизи южных
ворот Фив и о которой Павсаний (IX 12, 2—3) сообщает: «Ведь по
божьему велению Кадму и сопровождавшему его войску надлежало
основать себе город там, где корова, устав, захочет лечь. Фиванцы
указывают и это место. Есть здесь под открытым небом алтарь и
статуя Афины. Говорят, ее воздвиг Кадм». Афина не только руководит
Кадмом при построении Фив, но она научает его, как убить дракона
и как расправиться со спартами; и ей он приносит в жертву корову,
указывающую ему путь (ср. об Афине и Кадме выше). Павсаний,
называя эту Афину в дальнейшем Онкой, выводит это наименование
из Финикии, что, несомненно, навеяно ему финикийским происхож-
дением самого Кадма. Финикийское происхождение этого наименова-
ния сомнительно. Однако связь Онки с Кадмом говорит за значитель-
ную старину этой богини и этого наименования.
Имеются все основания предполагать, что если имя Афины не
греческого происхождения, то имена Итонии — Ивовой и Алалкоме-
ниды — Мощной (а может быть, и Онки) вполне греческие и что в
классическом образе Афины мы находим слияние двух родственных
богинь, одной примерно Критской или Малоазиатской и другой, Фес-
салийско-Беотийской. Сюда же, по-видимому, относится и имя Пал-
лады, тоже греческое и означающее «Девушка», насколько можно
судить по значению слова Палладиум. В этом предположении нет
ничего невероятного так же, как и в наименовании Афины Парфенос,
что означает тоже «Дева», или Корой, означающей приблизительно
I? же самое. Софокл (О. R., 20) говорит о двух храмах именно
Чаллады на площади в Фивах. Представление о деве в данном случае
Уже вполне греческое, что вытекает также и из наименования двух
^атуй Афины в тех же Фивах, как статуй Афины Опоясывающей с
характерным разъяснением Павсания (IX 17, 3): «Считается, что это
Посвятительный дар Амфитриона. Говорят, что здесь он надел оружие,
292
А. Ф Лосев
когда собирался идти войной против эвбейцев и Халкодонта. Надеть
на себя военные доспехи древние называли и опоясаться».
То обстоятельство, что одному и тому же мифологическому пер-
сонажу придается два наименования, одно негреческое и другое
греческое, нисколько не может нас удивлять, так как это явление
в античной мифологии, вообще говоря, нередкое: Бриарей и Эгеон
(ср. Ил., 1 403) Парис и Александр, Троя и Илион, Ортигия и
Делос.
Наконец, Афина связана с Фивами еще и через Геракла как его
покровительница, что в общем виде мы уже встречали раньше. Геракл
в Фивах родился, в Фивах женился на Мегаре, дочери Креонта, в
Фивах он перебил свое семейство. Связь Афины с Гераклом в Фивах
такая же глубокая, как и с Кадмом.
Если в заключение коснуться Фокиды, то здесь мы находим также
и черты архаики, и черты классики. С одной стороны, по Павсанию
(X 4, 9), «у давлийцев есть храм Афины и древнее ее изображение;
еще более древний деревянный ее идол» (ксоанон), по их словам,
Прокна привезла с собой из Афин. Точно так же об Афине в Амфиссе
читаем (X 38, 5): «На Акрополе есть у них храм Афины и ее медная
статуя; богиня изображена в стоячем положении; говорят, она при-
везена Фоантом из Илиона и является частью троянской добычи».
С другой стороны, в Фокиде наличны и черты Афины Парфенос с
афинского Акрополя (X 34, 7—8): «Приблизительно стадиях в двадцати
от Элатеи находится храм Афины, именуемой Кронеей... Богиня изо-
бражена готовой к бою, и на ее щите сделана в виде рельефа точная
копия тех изображений, какие в Афинах имеются на щите так на-
зываемой афинянами Афины Парфенос [Девы ]». О храме Афины Про-
наи Геродот (VIII 37) рассказывает, как во время наступления персов
оружие Афины само вышло из храма, а когда персы приблизились к
храму, то их поразила молния, на них обрушились две вершины
Парнаса и из храма раздались жалобы и крики. Наконец, Павсаний
указывает на разные статуи Афины в Дельфах, большей частью при-
ношения разных исторических личностей и городов; перечислять их
не стоит.
е) Аттика. Прежде чем перейти к Аттике, укажем на примыка-
ющую к ней Западную Мегару. Выше мы уже встречались с любо-
пытным мегарским образом Афины Утки-Нырка, причем этот зоомор-
физм, как мы помним, тесно переплетается здесь с героизмом (в связи
с аттическими царями Кекропсом и Пандионом). Кроме этого у Пав-
сания (1, 42, 4) читаем: «На вершине Акрополя сооружен храм Афины,
и там стоит ее статуя, вся золоченая, кроме рук и конца ног: они.
как и ее лицо, сделаны из слоновой кости. Сооружен здесь и другой
храм Афины, называемой „Победительницей**, и еще храм [Афины!
Афина Паллада
293
Эантиды... Аянт, унаследовав власть от Алкафоона, думаю, поставил
угу статую Афины». Из этого очевидна как большая популярность
дфины в Мегаре, так и ее связь с военно-героическими функциями.
Кроме того, в Мегаре был храм Ино-Левкотеи, которая, по мегарскому
преданию, была выброшена волнами именно на мегарский берег и
похоронена дочерьми Лелега Клесо и Таврополос (1, 42, 7). Но по
Schol. Arist. Lys., 447 Таврополос — это или Артемида, или Афина.
Суда (v- Tayrobolos) прямо отождествляет Тавроболос и Афину, а в
другом месте (v. Tayropolos) понимает здесь и Артемиду и Афину на
Андросе. Судя по тому, что в указанном только что месте Павсаний
говорит об оливковой роще около храма Ино, можно предполагать,
что тут идет речь именно об Афине.
Из всех греческих областей Аттика является в смысле мифологии
и культа Афины самым замечательным и самым интересным местом.
Здесь перед нами в очень осязательной форме развертывается вся
социальная история Афины, начиная с древнейших ступеней и кончая
самыми поздними. Но в то время как прочие области Греции в
основном давали нам только архаический материал, с немногочислен-
ными элементами позднейших ступеней, в Аттике представлены по
преимуществу именно эти позднейшие ступени, лежащие в основе
классической Афины, и гораздо меньше представлена архаика. Почти
все главнейшие архаические элементы из Аттики уже обсуждались у
нас в предыдущем, и сейчас мы только сделаем их сводку.
Нигде, как в Афинах, и именно в Акрополе, не была подчеркнута
такая близкая связь Афины с совами и змеями. Афинский Акрополь,
можно сказать, всегда кишел бесчисленными гнездами сов и змей.
В Аттике же Афина — Конная. Чисто аттическим мифом является
связь Афины с оливковым деревом, причем нужно иметь в виду и то
более обширное значение оливы в данном случае, которое мы обсуж-
дали выше. На стенах того же Акрополя мы находим и голову Горгоны,
этого «второго Я» Афины, Аттика же дала нам пример связи Афины
с горами — с Пентеликоном. Уже некоторым семантическим комплек-
сом явился у нас миф о страсти Гефеста к Афине, о бегстве от него
этой последней, о появлении Эрихтония от семени Гефеста, попавшего
на землю. У Гигина (Fab., 166) по этому поводу имеется рассказ...
«Посейдон, враждебно настроенный к Афине, подзадорил Гефеста
просить себе Афину в жены. Когда ...тот проник в спальню, Афина,
по наущению Зевса, защитила свое девство оружием. Из его семени,
Упавшего во время борьбы на землю, родился мальчик, имевший
нижнюю часть тела — дракона. Его потому и назвали Эрихтонием,
нто eris — по-гречески значит „состязание" (спор), a chthon — „зем-
Ля • Тайно кормя его, Афина передала его в ящике для сохранения
Дочерям Кекропса: Аглавре, Пандросе и Герсе. Когда они вскрывали
®Цик, то оттуда появилась ворона. Подверженные Афиной безумию,
сами они бросились в море». Совершенно сходный с этим рассказ
294
А. Ф Лосев
читаем у Аполлодора (III 14, 7, 1) и Ватик. Мифогр. (I 128, р. 122
43; II 37). То, что змеевидный Эрихтоний появляется из земли <
участием такого архаического демона, как Гефест, — это есть наш
ящий хтонизм. Однако Афина здесь уже девственница, что ведет нд
к периоду патриархата, несмотря на явный матриархальный рудимен!
материнскую заботливость Афины об Эрихтонии. Приведем по повод!
этого мифа остроумную эпиграмму неизвестного автора из Anthoi
Pal., IX 590 Кондр.:
То сочетает искусство, чего не может природа
В подлинном виде создать, — мудрый так скульптор сказал.
Матерью деву Афину зовут, хоть она не рожала,
Мужем ей не был Гефест, пусть им рожден Эрехтей.
Точно так же переходного типа и легенда о помещении землерод
ного Эрехтея-Эрихтония Афиной в ее храме на Акрополе, по Апол
лодору (III 14, 7, I) Эрихтоний погребен на участке Афины; по нем-,
же (III 15, 1, 1), Бут, сын Эрехтея, —жрец Афины и Посейдона, а
по Ватик. Мифогр. (III 6, 19, р. 185, 16), сам Эрехтей — слуга Афины
Добавим к этому, что, кроме афинского Акрополя и Пентеликона,
местом древнейшего почитания Афины была еще Паллена (между
Афинами и Марафоном), с которой (как еще с Халкидикой) издавна
был связан миф о гигантомахии и в которой в позднейшее время
характерным образом мыслился царь Паллант, захвативший якобы
Афины в свои руки вопреки законным правам Тесея и в дальнейшем
побежденный и убитый Тесеем. Необходимо напомнить, что тот гигант,
которого убила Афина, носил, как мы знаем, имя как раз Палланта.
а Тесей, как и сама Афина, всегда мыслился в Аттике именно как
борец за демократическое государство.
Явно переходным характером обладает миф о споре Афины с Посей-
доном за обладание Аттикой, а также и миф о дочерях Кекропса — Аглав-
ре, Пандросе и Герсе, которые хтоничны в уже более новом смысле, а
именно в смысле земледелия. Наконец, переход от хтонизма к героизму
наглядным образом засвидетельствован в знаменитой статуе Афины Пар-
фенос, поскольку здесь богиня своим щитом подавляет змею.
С переходом к патриархату земледелие и ремесло, как и везде
стали ведущими движущими силами социального развития. Афина,
это основное божество периода патриархата, с этих пор получает в
Аттике исключительное значение, и именно здесь она в этом отношении
прославлялась больше всего. Выше мы уже имели случай упомянуть
об аттических праздниках, связанных с почитанием Афины как по-
кровительницы земледелия. Скажем о них сейчас несколько подробнее
пользуясь существующими и науке сводками данного материала.
Афина Паллада
295
С первыми ростками посева праздновали Прохаристерии, в которых
соединены элевсинские и древнеаттические ритуалы. Жрецы и жрицы
яз рода Кроконидов и Этеобутадов принимали участие в Прохаристе-
пиях. Следует отметить, что род Этеобутадов вел свое начало от
Бу теса, ипостаси Посейдона и в храме Эрехтейон имел свой жертвенник
И своего жреца.
В середине лета 12-го Скирофория праздновали в Афинах Скиро-
фории, умоляя Афину и элевсинских богов отвратить засуху. В про-
цессии, которая направлялась из Афин в Элевсин и предместье Скирон,
принимали участие жрец Эрехтея и жрица Афины Полиады (из рода
Этеобутадов). а также жрец Гелиоса. В Скироне находился храм
Афины Скиры. Жрец Эрехтея нес большой белый зонт от солнца и
приносил в Скироне жертвы Афине и элевсинским богам. Священное
вспахивание, которое происходило в Скироне, как многие думают,
является компромиссом между культом Афины и Элевсина.
В этом же месяце праздновались в Афинах Эррефории, или Ар-
рефории. Павсаний (I 7, 3) рассказывает, что две девушки, называемые
«аррефорами», живут при храме Афины — Полиады. В ночь праздника
они тайно относят неведомый ни им самим, ни жрице дар в подземный
ход в «Садах» и, оставив там этот дар, уносят оттуда тоже нечто
закрытое. После этого в храм берут двух других девушек. Возможно,
что здесь мы находим аналогию с аррефориями для Деметры и ее
дочери.
Следующие два праздника — Каллинтерии и Плинтерии отмеча-
лись 19 и 24-го числа месяца Фаргелион. В этих обрядах принимали
участие жрецы из рода Праксаэргидов. Каллинтерии — это праздник
омовения, а Плинтерии — праздник очищения и искупления. Они
носят апотропейный характер и связаны с судьбой Аглавры, первой
жрицы Афины. В день празднества процессия со священными изобра-
жениями направлялась к Фалерону, где происходило омовение статуи,
которую ночью с факельным шествием возвращали в храм.
Ко всему этому прибавим еще и то, что в Аттике во Флии Афина
с прозвищем Тифрона (может быть, Плодовитая) почиталась в очень
характерном окружении специально божеств плодородия (Paus., 1
31, 4). Но был один обычай так называемой священной вспашки,
справлявшейся родом Бузигов под Акрополем и представлявшей собой
очень интересное смешение чисто земледельческого культа с обще-
культурными идеями, покровительницей которых была та же самая
Афина.
Точно так же смешением земледельческих представлений с граж-
данскими отличается и тот факт, что эфебы перед войной приносили
Аглавре (Demosth., XIX, 303), а что Аглавра есть ипостась
, это мы уже встречали выше. Заметим, что на северном склоне
Акрополя, на месте предполагаемой гибели Аглавры было специально
Клятву
Афины
296
А Ф Лосев
посвященное ей святилище и, что характернее всего, недалеко t
святилища Деметры Плодородящей.
Об Афине Органе — работнице в Аттике тоже говорилось выш
Однако если бы мы захотели указать на ту область культурно-1
циальной жизни, которая находилась в Аттике под преимущественны
покровительством Афины, область, через которую Афина прославил,,
не только во всем античном мире но и в истории всего v д турн,
человечества, давая свое имя одному из самых замечазелпчы . < оры
всей древности, го ко была само собой разум.-ii я. афигск..ч ыл
дарственное™ и гражданственность, афищ.ос заюно'чи льсн-ы
вся демократическая культура Афин.
Здесь Афина прежде всего Фрагрия-Бразская Был специалн
праздник Апатурий с идеей именно этого «братства», которое легло
основу Афинского государства. Схолиаст к Аристофане (Acharn. 14g
подробно описывает этот праздник, указывая, что на второй его де>
приносилась жертва Зевсу Фратрию и Афине. Об Афине Фратрии
упоминает Платон (Euthyd., 302 d). В этом смысле Афина носили
также и прозвище Булайя — Советная, Сотейра — Спасительниц.
Пронойя — Провидящая, Промахос — Передовой Боец, Ника — Поб(
да. Кроме того, в предыдущем мы уже имели случай отметить, ч,
весь афинский Акрополь был не чем иным, как апофеозом Афин.
Об этом свидетельствует наличие здесь, как мы уже знаем, на главны ч
местах специальных храмов — Парфенона и Эрехтейона (последний
был и храмом Полиады), а также колоссальной статуи Афины Промахщ
со знаменитым копьем, сиявшем на несколько километров вокри
Афин. Ученые даже спорят о том, Афины ли получили свое названо,
от имени богини или богиня стала называться по этому городу. Ценны
соображения об этом можно найги в работе С. А. Жебелева «Афин,
и Афины», напечатанной в XXVI томе «Записок Восточного Отделен -
Русского Археологического Общества».
Наконец, может быть самым выразительным показателем всен.-.
родной и общегосударственной значимости Афины был специаин,
посвященный ей в Афинах праздник под названием Панафинеи. Мы
приведем здесь некоторые краткие сведения, пользуясь существуют7*
ми в научной литературе общими сводками по этом\ предмету.
Великие Панафинеи справлялись раз в четыре гола 27 и 2S : <
катомбеона с необычайной пышностью и роскошью. Это празднг-
Афины — покровительницы города, апофеоз государственности *
мудрого законодательства. Легендарным основателем Панафинеи счи-
тался Эрихтоний, а их таким же легендарным преобразователем
истинно всенародное торжество был Тесей. Солон начал устраивал-
ежегодные Панафинеи, а Великие Панафинеи вели свое начало
Пизистрата. Он же ввел обычай использования Гомеровских поэм t!-‘
Панафинеях. Перикл установил здесь состязания на кифаре, фтеиг
Хфини Паллада
297
0 в пении. Победители в пении получали денежную награду, в эван-
дрии —щит, в гимнастике и ристаниях — оливковое масло. Это по-
следнее состязание, как и награда за него — наиболее древнего про-
исхождения.
В первый день праздника шли гимнастические и конные состязания;
культовые процессии были 28 Гекатомбеона, который считался днем
рождения Афины. Ночью совершалось факельное шествие, а днем вся
праздничная процессия направлялась из Керамика к Пропилеям. Везли
жертвенных животных, шли красивейшие старцы с оливами в руках,
девушки несли корзины и скамейки, метэки — корыта, их жены и
дочери — гидрии и зонты ог солнца. В центре процессии следовала
конница и колесницы. На Панафинеях приносились богатые жертвы
и происходила передача пеплоса богине. В древнее время на нем
изображались обычно ее подвиги, именно — гигантомахия. Афине По-
лиаде приносили гекатомбу, Афине Нике — корову, были жертвы и
Афине Гигиее. Возможно, что жертвы Эрехтсю производились как раз
в это время.
Многие черты ритуала Пднафиней заимствованы из древних праз-
дников Полиады, особенно из Плинтерий. Факельное шествие и при-
ношение пеплоса составляли когда-то особый праздник, факелы же,
несомненно, связывали Афину с Гефестом Оливковое масло в виде
награды и оливковые ветви в процессии указывают на древний культ
почитания оливы Афины; зонты, которые несли девушки, напоминают
Скирофории.
Однако все эти древние культы получили на Панафиниях полное
переосмысление, превратившись из хтонических и фетишистских в
культ, наполненный государственным и гражданским содержанием.
С переходом от обшинно-родовой формации к рабовладельческой, т. е.
от родо-племенной общины — к государству и от патриархата — к
цивилизации афиняне и все аттическое население не только не пе-
рестало почитать свою богиню Афину, но это почитание здесь только
усилилось, хотя и получило уже государственное, а вместе с тем и
классовое значение.
Классическим текстом, где прославляется эта, теперь уже давно
нехтоническая, не фетишистская, не матриархальная и даже вообще
не родовая, но цивитизованная государственная и гражданственная
Афина, является знам; нигый торжественный финал трагедии Эсхила
«Эвменидш Приведем отсюда в заключение об аттической Афине
несколько отрывков в качестве ито<а всех вообше аттических пред-
ставлений об, этой Оогине (по изд.. Греческая трагедия. Гослитиздат.
1950).*
* Это перевод Вяч. Иванова, имя которого нс было обозначено s издании, где
просто указывался перевод под ред. Ф. Л Петровского. Имя Вяч. Иванова тогда
стояло под запретом \!7рии. А. Гахи-Годп).
298
А. Ф. Лосев
916 Будь мне свят, Наш с Палладой общий град! Светлостенный дом богов, Его ж Зевс блюдет, и браней вождь, Арей, крепит, грозя грозой! Град — оплот и образ Эллинских родных святынь! Намолю тебе я, град, Напророчу на века Избыток неоскудный благодатных сил. Брызнут недра жизнью,
926 938 К солнцу рвущейся на свет. Ты не вей, Вредный древу, черный ветр! Властно пенье кротких чар. Ты, зной, Знай предел, хмельной лозы Щади росток, щади глазок! Засуха, ржа, не троньте нив! Овцы тучные ягнят Двойнями пускай плодят! Откройся людям, о земля богатая! Руд тайник бесценный, Гермий, недр вещун, яви?
976 Не ярись, не бушуй, Брань междоусобная, Ненасытный злой мятеж! Черная ль кровь напоила твой прах, пресвятая, Оставь живущим Пеню за грех: новой Крови не требуй, Земля! Царствуй муж граждан, взаимность! Дружных да свяжет согласье — Иль вражда, одна во всех! Против многих
987 1017 Бед и зол согласье — щит. Радуйтесь, радуйтесь, В счастье, в богатстве, в славе! Радуйся, градской народ! С вами дева Зевсова, Милая с любимыми, Мудрая с разумными! Под крылом Палладиным Отчии любимицы вы.
Афина Паллада
299
ж) Великая Греция. Относительно Палладиума с закрывающимися
глазами в Сирисе около Метапонта мы уже упоминали выше. Сейчас
прибавим к этому только то, что на Западе греческого мира встречаются
святилища Афины, основанные троянскими героями, что указывает,
конечно, на позднюю, героическую ступень Афины. Таковы храмы,
основанные якобы Одиссеем недалеко от Помпеи на мысе Сирене или
Афинее (Strab., V 4, 8) и в городе Одиссее в Иберии (там же, III
2 13). Точно так же Филоктет основал святилище Афины Эйлении
в’Метапонте (Etym. Magn. v. Eilenia). В Луцерии или Давнии культ
Афины был учрежден Диомедом (там же, VI 3, 9). В дорийской
Гераклее, на месте Сириса, почиталась Полиада.
12. Из поэтической литературы, а) У Гомера мы находим настолько
развитой и многосложный образ Афины, что не только не может идти
здесь никакой речи о древнем его характере, но даже невозможно в
достаточно ясной форме анализировать все глубокое и разностороннее
содержание этого образа у Гомера. Во всяком случае это — предмет
специального исследования.
Из наиболее отдаленных рудиментов мифологии Афины мы уже
встречались с элементами зооморфическими и космическими. Точно
так же у Гомера очень ярко представлена и демонологическая, а
именно титанически-циклопическая ступень Афины. Мы уже указы-
вали, например, на ее грузные формы, заставлявшие трещать колес-
ницу Диомеда, или на ее потрясающе громкий голос, которым она
вместе с Ахиллом отгоняет троянцев от ахейцев. Одним своим дыха-
нием она отводит копье Гектора от Ахилла (Ил., XX 438). Когда все
олимпийцы покоряются Зевсу, одна только Афина дерзает ему воз-
ражать (V 877). По словам Телемаха (Од., XVI 263), Зевс и Афина
вообще властвуют над всеми богами. А щит Афины даже сильнее
перунов Зевса (Ил., XXI 401). Хтонизмом веет также и от сообщения
Гомера о древнейших местах культа Афины в Афинах, Алалкоменах
и Трое. Связь ее со стихиями у Гомера также весьма интенсивная:
оиа распоряжается ветрами (Од., V 382—385), гремит громом с Герой
(Ил., XI 45).
Этот древний титанически-циклопический образ Афины заметно
смягчается, что тоже вполне ощутимо в поэмах Гомера. Сюда относятся
прежде всего ее военные функции, которыми она так резко отличается
°т беспринципного и аморального Ареса. Она его выводит из сражения
(Ил., V 29—36), она даже стаскивает с него вооружение (XV 123—142),
И| когда он бранит ее назойливой мухой, она даже ранит его огромным
камнем, после чего он растягивается на «семь десятин» (XXI 392—415).
“Прочем, часто они фигурируют в сражениях и вместе (XVIII 516,
358, V 428, Од., XIV 216), равно как и Афина с Эиио (V 330).
300
А. Ф. Лосев
Как богиня войны, она помогает Ахиллу (XIX 352, XX 438), Менелаю
(Од., IV 128), Диомеду (Ил., V 121—122) и направляет этого последнего
против Афродиты (123—132) и Ареса (825—834), и вообще она по-
стоянная защитница ахейцев, например, после совета богов (IV 85—
104) или на самом совете богов по поводу возвращения Одиссея (Од..
I 43—95, V 5—20), или тогда, когда она ведет греков против троянцев
(Ил., IV 439), агитирует их по указанию Геры против возвращения
домой (II 156—182), защищает их перед Зевсом (VIII 30—37) (1
объединяется в этом целиком с Герой (350—380, IX 254). Афина
вдохновляет пилосцев на бой с врагами (XI 714) и отвращает их от
этих последних в нужную минуту (758). Ради Одиссея она является
причиной падения Аякса (XXIII 774) и даже бывает вестником Одиссея
(II 280; Од., XIII 299, 331, 189; XIX 479; Ил., X 245) или принимает
образ его вестника (Од. VIII 7).
Дальнейшим этапом развития Афины являются ее художественные
функции, представленные у Гомера весьма обильно и в самых разно-
образных художественных областях. Но может быть, наиболее поздним
этапом социально-исторического развития Афины является ее покро-
вительственное и интимно-семейственное отношение к Одиссею, до-
ходящее до вполне бытового обслуживания и материнской заботы.
Впрочем, то, что она сама изготовила роскошное одеяние для Геры
(Ил., XIV 178), или ее собственные наряды (V 733—735) свидетель-
ствуют, что уже и в «Илиаде» эта воинственная и строгая богиня
отнюдь не чужда эстетических потребностей.
Таким образом, у Гомера мифология Афины представлена в самом
разнообразном виде, начиная от древнейших рудиментов и кончая
аристократической эстетикой перезрелого родового общества при пе-
реходе его к цивилизации.
Из Гомеровских гимнов Афине посвящены два — XI о военных
доблестях богини и XXVIII о космическом эффекте появления Афины.
Гесиод, большой любитель древнехтонических мифов, дал весьма
важное изображение своеобразного брака Зевса с Метидой и появления
отсюда Афины. Характерно, однако, то, что тот же Гесиод рисует
отношение Афины к женским нарядам в мифе о Пандоре (Theog.
573—577, Opp., 72—76). В «Щите» она ободряет Геракла в борьбе с
Кикном (325—344, 455, 470). Остальное у Гесиода об Афине несуще-
ственно (Theog. 13, frg. 245).
б) Из классической лирики кроме Алкея, frg. 3, приведем Пиндара.
Весьма ценным текстом у этого последней является 01., VII о рож-
дении Афины, а также Ру th., XII об изобретении флейты в подражание
Афина Паллада 301
воплям умирающей Эвриалы. Оба текста дают замечательное пере-
плетение хтонических и героических мотивов.
В 01., XIII 63—82 подробно рассказывается о помощи, оказанной
Афиной Беллерофонту в его борьбе с амазонками и Химерой и о
построении Персеем жертвенника Афине Конной. Следовательно,
— текст героического содержания и такого же социально-истори-
ческого происхождения. Также и в Ру th., X 70 сл. рассказывается об
убийстве Персеем Горгоны и о его прибытии к гиперборейцам с
помощью Афины; в Nem., Ill 87 «смелая Афина» вместе с Артемидой
изумляется перед подвигами молодого Ахилла; а в 01., II 48 сл. она
вместе с Зевсом и Дионисом «любит» Семелу. В 01., V 22 она —
«градодержица», причем Камарина, откуда был воспеваемый здесь
Пиндаром победитель, объявляется ее «рощей»; а в Pyth., IX 173
говорится о празднествах Паллады. Наконец, в Nem., X., 158 она
вместе с Аресом на Олимпе. Таким образом, нетрудно заметить, что
у Пиндара почти каждый раз, когда упоминается Афина, она связы-
вается с героическим миром и даже с теми победителями на состяза-
ниях, современником и воспевателем которых был сам Пиндар.
в) Точно так же Эсхил прославился своим знаменитым изображе-
нием Афины в «Эвменидах», где она представлена как символ Афинской
государственности, как символ мудрости во всех делах общественно-
политических и личных. Однако Эсхил и вообще говорит об Афине
главным образом в плоскости общественно-политической и в плоскости
ее всегдашнего покровительства Афинам. О «спасительнице городов
Палладе» читаем в Sept., I 29 сл., также Pers. 347 «боги спасают
город богини Паллады». Но особенно в «Эвменидах»: 10 о прибытии
Аполлона к «берегам Паллады», 79, 772, 1017, «город Паллады», 224
о справедливом суде Паллады, 288 «Афина, владычица этой страны»,
299 «мощь Афины», 614 «великий устав Афины», 758 сл. о согласии
Паллады и Локсия, 916 «я приму сообщество Паллады», 1000 о бла-
годенствии «под крылами Паллады», 1045 «граждане Паллады», кроме
того в той же трагедии 21 об Афине «предхрамовой» в Дельфах и
Sept., 487, 501 Афина Онка в Фивах (архаический мотив).
г) Софокл в многочисленных не дошедших до нас трагедиях,
вероятно, изображал Афину не раз. Что же касается трагедий, до-
шедших до нас, то только в «Аяксе» имеется ясная концепция этой
богини; во всех же прочих трагедиях имеется ряд более или менее
содержательных отдельных упоминаний или обращений.
В «Аяксе» образ Афины выдержан в строгих и даже суровых тонах;
и нет никакого помину о той мягкости и семейственности, которыми
отличается этот образ в «Одиссее». Именно весь пролог этой трагедии
посвящен разговору между Афиной, Одиссеем и Аяксом, из которого
вйдно, что Аякс, желая отомстить греческим полководцам за лишение
ег° оружия Ахилла, хотел их всех перебить, но Афина, наведя на
него безумие, направила его на скотину, которую тот и перебил вместо
302
А. Ф. Лосев
греческих вождей. Уже из одного этого видно, что Афина здесь древняя
богиня безумия и кровавых ужасов. Однако этот дикий хтонизм смягчен
здесь суровой моральной концепцией, которую выражает здесь и сама
богиня (127—133) и в дальнейшем еще Вестник, передающий настав-
ления Калханта брату Аякса — Тевкру (762—779): Аякс — гордец и
надменный, самоуверенный человек, отвергнувший как увещания соб-
ственного отца о благочестии, так и предложения самой Афины оказать
ему помощь в бою. Таким образом, концепция Афины у Софокла
сводится к обычной для этого трагика проповеди набожности и сми-
рения перед грозными богами и к запрету всякой гордости и надмен-
ности перед ними.
После этого отметим отдельные выражения и восклицания. О. R. 20
просящий народ у статуи Паллады; 159 «дочь Зевса, бессмертная
Афина» призывается хором вместе с Артемидой и Аполлоном, как
блюстительница города. О. С. 107 «город величайшей Паллады, поч-
теннейший из всех городов»; 706 знаменитая маслина оберегается
Зевсом — Морием и «совоокой Афиной»; 1076 о почитании «Афины
Конной»; 1090 призывается Зевс и его «благословенное дитя Афина
Паллада». Ant. 1184 о молитвах к «богине Палладе». Trach. взывание
Геракла «Паллада, Паллада!». Таким образом, Афина выступает у
Софокла в очень суровом виде, строго воздающая за гордость и при-
зываемая вместе с Эринниями по преимуществу в несчастье и даже
в катастрофах (чума, скитание, самосожжение). Единственное место,
где Афина рассматривается как благодетельница нормальной челове-
ческой жизни, а именно труда, его frg. 760 (выше), но и здесь -она
именуется «Горгоноликой».
д) У Еврипида образ Афины гораздо мягче. Архаические мотивы,
предполагающие титанизм, циклопизм и вообще грандиозность мифо-
логии, здесь почти отсутствуют. Они имеются почти только в «Ионе»;
здесь вспоминается миф об Эрихтонии и об отдаче его Афиной вместе
со змеями на хранение дочерям Кекропса (21, 268—274). В связи с
этим говорится о передаче Афиной Эрихтонию двух волшебных капель
Горгоны (1001—1031, выше). Креуса клянется Горгоноубийцей (1476),
а также Афиной в связи с убиением Гигантов (1527). О вечно цветущей
оливе Афины читаем в 1431. Далее, в EL, 1254 Диоскуры предска-
зывают исцеление Ореста от прикосновения к истукану Афины
В Hercul. (904—909 Анненск.) хор по поводу грозного явления Афины
в связи с убийством Гераклом детей говорит:
О боги! Но ты
Чего же ты ищешь в чертогах.
Дочь неба, Паллада?
Ты тяжко ступаешь...
Так некогда в битву
Афина Паллада
303
С гигантами шла ты,
И так же дрожала земля
До недр сокровенных.
В дальнейшем (1001—1006) Вестник подробно говорит о том, как
Афина смирила Геракла копьем и ударом камня. Примеры этой архаики
У Еврипида немногочисленны.
' Гораздо более ярко и часто представлено у Еврипида покрови-
тельство Афины городу Афинам и героям. В Suppl., 1183—1226 Афина
сообщает Тезею о том, что Адрасг должен заключить договор дружбы
с Афинами, говорит о принесении жертв и о будущей войне эпигонов
с фивами. В HercuL, 1323—1339 Тесей приглашает Геракла, подав-
ленного собственным преступлением, в «город Паллады», где его ждет
умиротворение при жизни и почитание после смерти. В Heraclid.,
920—925 читаем о спасении Геракла Афиной и о спасении его детей
народом афинским. В той же трагедии хор (748—781) тоже воспевает
в торжественной форме покровительство «совоокой» Афины городу и
стране, причем богиня именуется также «госпожою», «матерью», «вла-
дычицей», «стражем» (770 сл.-). В Iphig. Таиг., 1435—1474 в обширной
речи Афина заставляет Фоанта прекратить преследование Орест;! и
Ифигении, обещает очищение Оресту после водворения в Афинах
кумира Артемиды, велит прекратить Фоанту человеческие жертвы и
требует от Ореста мирных отношений между Аргосом и Афинами.
Здесь, как и в других текстах, где Афина является покровительницей
Афин и героизма, ее повеление полно гуманности и благородства.
В Ion., 1553—1605 она наставляет Креусу и ее только что опознанного
сына Иона и предрекает славное будущее ионийскому племени, равно
как и другим греческим племенам в связи с генеалогией Ксуфа, Дора
и Ахея. В Iphig. Таиг., 958—966 Арес говорит, что он очистился только
благодаря Фебу и Палладе. В Ion., 452—471 хор обращается к Афине,
рожденной из головы Зевса, и к Артемиде, к двум божественным
девам, с прошением о завершении рода Эрсхтея. А в Iphig. Aul.,
247-252 Анненск так говорится об афинских кораблях:
Их нетрудно распознать:
Ведь на всех зарей
Золотой горит
Лик вдохновенный Паллады могучей;
Грозно она колесницей крылатой
Правит, ясный знак пловцам.
Наконец, в Heraclid., 360 для Гераклидов Афина — символ победы.
Немало текстов имеется и о прямом пособничестве Афины ахейцам
Против троянцев. В Тго., 9—12 Афина является помощником Эпею в
создании деревянного коня; а в 23 сл. прямо говорится о поражении
Фригийцев, нанесенном Афиной и Герой. В 46 сл. Афина уже одна
304
А Ф Лосев
«погубила» троянцев. В той же трагедии в 47—97 Афина ведет длинный
разговор с Посейдоном относительно наказания греков за оскорбление
нанесенное ими Кассандре.
Покровительство героическим Афинам проявляется также в
именованиях Афин и Аттики по имени богини: Ion 9 «город зла го
копейной Паллады», 235 сл. «питающее жилище Паллады».
Если подвести итог всем изображениям Афины у Еврипида, то в oi
личие от Софокла образ Афины носит здесь везде черты возвышенное п<
и чистоты, так что на нем чувствуется культурный прогресс V в. и тен
денция очищать мифологию от всяких старинных, диких и аморальных
элементов. Еврипид, представляющий себе божество в отвлеченном и
почти уже в немифологическом виде, обрабатывал в этом направлении
также и образ Афины. Хотя в Iphig. AuL, 182 слл. еще вполне согласно с
традицией суд Париса упоминается в связи с Герой, Афродитой и Афинои
тем не менее после аргументации Елены в Тго., 925 сл со ссылкой на суд
Париса, когда Паллада будто бы обещала Парису отдать греческую землю
троянцам, Гекаба гневно говорит (971—982 Шестак.):
Не верю я, чтобы Гера и Паллада
Дошли до неразумия такого,
Чтобы одна Аргос предала иноземцам,
Паллада же — Афины в рабство Трое.
Для шутки, а не с тем, чтобы красотой хвалиться
Пришли они на Иду. И к чему
Так красоты желать богине Гере?
Не для того ль, чтобы в мужья достать
Кого-нибудь повыше бога Зевса?
Афина тоже нс ловила ль в женихи
Кого-либо, та самая Афина,
Что выпросила у отца остаться девой,
Брак ненавидя. Глупыми не делай
Богинь ты, свой проступок прикрывая:
Не убедить людей разумных этим.
Эти «разумные», или, как сказано в подлиннике, sophoi, г с
«мудрые», конечно, уже не являются здесь старинными общенародными
мудрецами; но это — те, которые восприняли высшую культуру и
цивилизацию V в. в Греции и которые рационалистически очишати
старинные грубые мифы. Черты этого просвещенного рационализма
заметны как вообще в мифологии Еврипида, гак и в частности н
мифологии Афины.
Материалы фрагментов незначительны. Если у Эсхила и Софок и
вообще нет ни одного фрагмента с упоминанием Афины Паллаты ' 1
имеются только некоторые косвенные сообщения о сюжетах с л’
участием), то у Еврипида мы могли вычитать только следуюыш
фрагменты: 369 в контексте пропаганды мирной жизни говорится о
неиспользованном копье Афины; 360 в контексте прославления Аф1,н
Афина Паллада
305
0 почитании Паллады; 1109 в контексте разговора о суде Париса
Гера — о красоте своей и Афины. Прибавим к этому еще frg
adespota 62: «Сначала преклонюсь перед Гелиосом, а затем перед
славной землей благостовенной Паллады». Что же касается косвенных
упоминаний, то у Софокла об Афине, и именно как о разумности в
противоположность Афродите, шла речь в «Критянах» (frg. 334). У Ев-
рипида же об отношениях с Авгой в трагедии того же названия (266;
и в «Телефе» (696); и, наконец, о романе Афины и Гефеста в трагедии
неизвестного названия (925). У Эсхила, таким образом, мы не находим
ни одного фрагмента и ни одного косвенного сообщения с упоминанием
Афины Паллады.
е) У Аристофана против ожидания, собственно говоря, только
один текст содержит пародийные элементы в мифологии Афины. Это —
Equ., 1171 —1189, где дается разговор Демоса, Клеона и Колбасника,
пародирующий благоволение Афины к Демосу с изображением миски
с бобами и кашей, будто бы присланной от богини к Демосу. По-
лупародийно звучит также мольба женщин к Афине в Lys., 347—365
о даровании победы над осаждающими их стариками. Все прочие
тексты об Афине из Аристофана, насколько мы наблюдаем, не содержат
в себе ровно ничего пародийного и продолжают классическую кон-
цепцию Афины как покровительницы Афин и дарователя победы, не
исключая и соответствующего внешнего вида богини.
Начнем с этого последнего. Афина — «златошлемная» (Lys., 344),
«совоокая», «златокопейная» (Thesm., 318), «горгоношлемная», (т е
«с Горгоной на шлеме») (Equ., 181), «носитель Эгиды» (Nub., 602 сл )
Далее она встречается здесь с Гомеровскими эпитетами «могуче-от-
цовская» (Equ., 1178) «Тритогенея» (Lys., 347). Она также — «Три-
тогенея» (Equ., 1189), «наводящая ужас в сражениях» (1177), «вои-
тельница в Пилосе» (1172), «медно-живущая» (т. е. «живущая в мед-
ном храме в Спарте», Lys., 1321), единственная наследница Зевса
(Av., 1653). С одной стороны, Афина — «Полиада» (Av., 828), «Гра-
додержица» (Nub., 602 сл. Equ., 581), «правящая городом» (Equ.,
763—767, ею клянется Клеон), ей принадлежит тучная земля Аттики
(Nub., 300) и ею клянутся (Рас., 218). Но с другой стороны, она,
конечно, также и «Градорушительница» (Nub., 967), поскольку этот
момент, согласно нашему исследованию, тоже входит в образ класси-
ческой Афины.
Наконец, Аристофану принадлежат два замечательных текста,
содержащих прямое прославление Афины с использованием всех ее
классических особенностей. Первый текст — это Equ., 581—594:*
* Здесь и далее перевод Адриана Пиотровского. (Прим. А. Тахо-Гойи).
306
А. Ф. Лосев
О градодержица, тебя,
Дева Паллада, мы зовем.
Свята земля твоя, и нет
В мире кругом меча острей,
Нет и поэтов слаще.
Ныне приди. И пусть с тобой,
Спутница наша вечно, —
К нам победа придет, хоров подруга,
На врагов пусть она, с нами восстанет.
Ныне, Дева, явись, явись.
В битве мы одолеть должны.
Дай победу сынам твоим
Ныне вновь, как и прежде.
Такой же выразительный хор, состоящий на этот раз из женщин
на празднике Фесмофорий, мы читаем в Thesm., 1137—1148:
Свято обычай старинный чтим,
Ныне Палладу в наш хор зовем,
Пренепорочную деву.
В городе нашем царит она.
С силой, с властью державною
И врата охраняет,
Тираноубийца.
Свой светлый яви лик!
Племя женщин зовет тебя!
Пусть с тобой Тишина придет,
Резвых плясок подруга.
Насколько можно судить, не Аристофан, но Гермипп был первым
комиком, который стал пародировать мифы и притом именно Афину.
Этот Гермипп относится ко временам Кратина и Эвполида, о которых
говорит Аристофан. Он осмеивал Перикла и вел с ним активную
политическую борьбу. Среди дошедших до нас фрагментов этого Гср-
миппа имеется семь фрагментов (1 р. 380 слл. Mein.), относящихся
к комедии «Рождение Афины». К сожалению, эти фрагменты ровно
ничего не говорят о содержании комедии, хотя уже самое название
ее, конечно, кое о чем говорит. Во всяком случае, пародия на Афину
у комедиографов была значительно раньше Аристофана.
Переходим к эллинизму.
ж) Из раннего эллинизма остановимся на Аполлонии Родосском-
Образ Афины у Аполлония складывается из художественно-ремеслен-
ных и героических элементов. Что же касается элементов архаических,
то во всей поэме Аполлония имеется на эту тему только три места-
III, 1177—1190 — Афина выдергивает зубы у дракона, убитого Кадмом.
и отдает часть этих зубов Кадму (из посева которых в землю рождаются
воины), другую же часть — царю Ээту, который пользуется ими против
аргонавтов; I, 527 — Афина вделывает кусок Додонского дуба в дно
Афина Паллада
307
корабля «Арго», и этот кусок дуба гневно пророчествует в IV 583.
Может быть, некоторое отношение к архаике имеет та Афина Ми-
нойская, которой аргонавты воздвигли храм на Крите (IV 1691), или
та Ясонийская, в храм которой аргонавты поместили камень от якоря
в I 960. Некоторым намеком на космическое прошлое Афины является
легкое оперирование Афины тучами при спуске с Олимпа на землю
в И 537-548.
В остальном образ Афины у Аполлония вполне героический. Она
искусно проводит аргонавтов через Симплегады (II 598—603), каковую
помощь Афины тут же подтверждает Тифис (611—614), причем этот
Тифис в качестве предсказателя погоды был введен в число аргонавтов
тоже Афиной (V 109 сл.). Вместе с Герой она совещается о помощи
аргонавтам (III 7—35); при этом Афина становится в тупик; и когда
Гера предлагает использовать Эрота для воздействия на Язона и
Медею, то Афина заявляет о своей непричастности к делам Эрота и
в дальнейшем (36—112), при посещении вместе с Герой Афродиты,
не роняет ни одного звука. При плавании аргонавтов около Планктов
она вместе с Герой ужасается (IV 960). Довольно часто в поэме
упоминается о помощи Афины при построении корабля Арго (I 18 сл.,
111, 226; II 1187 сл.; III 340 сл.; сюда же — приведенный выше текст
о куске Додонского дуба в «Арго»). Затейливое, изысканное, изощрен-
ное и весьма подробное изображение плаща, вытканного Афиной и
подаренного ею Ясону, в I 725—768 мы уже встречали раньше. На-
конец, в IV 1311 —беглое упоминание о рождении Афины в полном
вооружении из головы Зевса у Тритона.
Другим большим писателем раннего эллинизма является Каллимах.
Его IV гимн «На омовение Паллады» отличается чертами эллини-
стической поэзии и уже привлекался нами выше. У Феокрита (XV
80—86) изображаются восторги одной женщины перед вытканным
ковром, изображающим Адониса в типично эллинистическом виде
(Сиротин.):
О преблагая Афина! Какие их ткали ткачихи!
И живописцы какие так верно фигуры писали!
Точно живые, стоят и движутся, точно живые!
Дышат — не вытканы! Подлинно, мудрые люди созданья.
Сам же как дивно лежит, на серебряном ложе простершись,
С первым пушком, от висков нисходящим — трикраты любезный
Всем Адонис — Адонис, самим Ахеронтом любимый.
Здесь Афина является не просто покровительницей тканья; но
тканье это является предметом для некоего восторженного и почти
Романтического любования. Это — настоящая эллинистическая Афина.
У того же Феокрита (XVIII 36) говорится о высокохудожественной
ИгРе Елены на лире ради восхваления широкогрудой Афины и Арте-
миды — мотив тоже аналогичный предыдущему. В XX 25 характерно
308
А. Ф Лосев
также и то, что один пастух, рисуя свою собственную красоту, говорит
у Феокрита, что его голубые глаза не уступают Афине, — признание,
которое для периода классики было бы чересчур нескромным. О прял-
ке, как даре «голубоглазой» Афины женщинам, читаем в XXVIII 1
тоже в контексте эллинистической поэзии.
Из позднего эллинизма мы приводили выше Орфический гимн,
любопытно реставрирующий классическую концепцию Афины, а также
гимн Прокла, характерный для периода языческо-христианского син-
кретизма (там же). Изображение рождения Афины у Филострата Ст
(II 27) отличается обычными для этого автора приемами живописности,
колористики и психологизма и тоже весьма характерно для позднего
эллинизма (с этим текстом мы отчасти уже встречались).
Памятником позднейшего формалистического творчества является
также эпиграмма Симмия Родосского, написанная внешне в виде
двойного топора и посвященная художественным талантам Афины (см
выше).
Из позднего эпоса можно коснуться Квинта Смирнского, в поэме
которого Афина играет значительную роль. Эта роль почти целиком
сводится к участию Афины в Троянской войне и к помощи грекам
против троянцев. Укажем главнейшие тексты в порядке развития
сюжета поэмы.
I 124—128 Афина посылает обманный сон Пентесилее. III 233
Афине посвящена гора в Ликии, Меланипп. 420 сл. Афина мечет
камень в Ареса. 533—535 она натирает труп Ахилла амбросией. VII
556—563 она наблюдает за битвой с Сигейского мыса, желая грекам
победы. VIII 340—353 она устрашается Зевса в битве с Аресом. IX
403—405 она унимает гнев Филоктета и 436 сл. дает ему попутный
ветер. X 353—354 (ср. XII 83) Диомед и Одиссей похищают Палладиум
Афины. XII 284 сл. она возбуждает ахейцев. XII 38, 106—НО, 148,
154—156, 439 Афина помогает в постройке деревянного коня и радуется
его появлению в Трое. 173 она нападает на Ареса, 396—415 лишает
Лаокоона зрения, 447 сл. насылает драконов на детей Лаокоона. XIII
415—419 Афина радуется гибели Трои, 420—423 гневается на Аякса
Оилея. XIV 421, 449—451, 530—533 она в гневе на Аякса разбивает
корабль, преследует греков и 628—631 радуется их гибели, хотя и
опечалена судьбой Одиссея. XIV 582 сл. вспоминается ее битва с
гигантом Энкеладом.
У Колуфа Афина, как это и следует ожидать по теме этого
произведения, тоже играет некоторую роль. Она здесь не просто богиня
войны 90, но она является на свадьбу Пелея и Фетиды 33, обещает
Парису военную славу 136—144, 139, 150. А после суда Париса она
оказывается вместе с Герой предметом поношения со стороны побе-
дившей Афродиты 170, 179—191. В 238 говорится о ее золотом изо-
бражении в Спарте.
Афина Паллада
309
Такую же существенную роль играет Афина и в поэме Трифиодора,
где в связи с подготовкой взятия Трои и построением деревянного
коня она выступает неоднократно. Здесь она просто рассматривается
как фактический создатель деревянного коня 2, 44, 121. Она доставляет
грекам свое изображение 56 и вдохновляет Одиссея в виде глашатая
Ц2. 185 заключенным в деревянном коне грекам она приносит пищу
и 331, 390, 432 помогает троянцам втащить этого коня в город, причем
еще раньше того 298 Синон убеждал троянцев поместить этого коня
в ее храме. 444 конь и вводится в этот храм, где в 467 оказывается
и Елена. 489—496 эту Елену Афина отсюда выводит и вызывает греков
ffr Тенедоса. В битве в самой Трое 566 она потрясает эгидой. 648
Аякс Оилей оттаскивает Кассандру от ее изображения.
Наконец, необходимо сказать о знаменитой поэме Нонна, являю-
щейся не только концом греческого литературного эпоса, но, собственно
говоря, и всей греческой литературы. К сожалению, в этой огромной
поэме совершенно нет больших и развернутых эпизодов, посвященных
Афине, так что импрессионистически-декадентский стиль Нонна почти
не показан здесь на мифологии Афины. Мы сначала укажем более
крупные тексты, а потом перечислим мелкие упоминания.
Из всех крупных эпизодов обращает на себя внимание V 70—74,
где Тритонида Паллада трактуется как луна, и Кадм посвящает ей
фиванские ворота. Здесь, очевидно, космическая реминисценция. Бли-
же к хтонизму также и V 338—345 и 479—481, где вспоминается
ослепление Тиресия Афиной в связи с гибелью Актеона по аналогичной
причине; XLIV 39—44, когда Дионис сотрясает Фивы, Афина, которой
Кадм некогда поставил алтарь, покрывается потом. Из более класси-
ческих функций богини необходимо отметить помощь героям и богам:
IV 389—406 Афина является Кадму у источника и дает ему указания
относительно спартов, в 423—463 Кадм, следуя совету Афины, побивает
спартов (сцена битвы дана в мрачных красках и расцвечена фанта-
стическим описанием Ареса, ползущего среди крови и праха, олицет-
воряя собой битву); XXVI 2—36 посылает ложный сон Дериаду, царю
индов, побуждая его к битве; XXVII НО—115 тайно вскармливает
Эрехтея, сына Гефеста; XXX 249—297 сходит с неба посланницей
Зевса и помогает Вакху в борьбе с индами; XXXVII 318—323 Эрехтей
ищет помощи Афины; XL 3—81 Афина в образе Моррея уговаривает
Дериада подчиниться Вакху, но царь идет в бой; XLVIII 799—803
нимфа Аура призывает на помощь Артемиду и Афину, которые вскар-
мливали детей. Таковы же и военные функции: XXXVI 11—27 Арес
называет Афину на бой и сражается с ней; а также и художественные:
XXIV 255-329 интересное измышление Нонна о том, как однажды
Хфродита, оставив свои непосредственные занятия, обратилась к ис-
кусству тканья, этой монополии Афины, и как ввиду упадка любовных
у людей Зевс приказал Афродите вернуться к ее прямой специ-
альности. К числу больших отрывков относятся также: XII 254—269
310
А Ф Лосев
в споре о преимуществе виноградной лозы Вакх сравнивает грозд i
винограда с оливой Паллады й считает последнюю побежденной; j.
XXV 445—450 Гера делится с Палладой своим возмущением по повод'
Ганимеда — виночерпия богов.
Сделаем теперь краткий обзор мелких упоминаний Афины Паллады
в поэме Нонна. Таких мест можно найти очень много, и некоторн,
из них заключают в себе интересный материал.
Отметим сначала хтонические мотивы. I 10 говорится о рожденш
Афины в полном вооружении из головы Зевса; 468 Тифон обещает <
жены Кадму Афину и похваляется (477), что она ничего не сможет
сделать с его, Тифона, чудовищной силой. И 210 этот же Тифсн,
кичится тем, что сможет овладеть Афиной и (311—313) обещает е<
в жены гиганту Эфиальту; однако боги побеждают Тифона и II 708 сл
Афина, оставив оружие, появляется на Олимпе в нежном хитоне с
пением и пляской, сопровождаемая Никой; III 122 ворона — вещд^
птица Афины — предсказывает Кадму его будущее; VII 251 совоокая
Афина омывается после наказания Тиресия. VIII 47 Зависть овладевает
умом Афины, возбуждая ее против Семелы; 103 упоминается о рож
дении Вакха из бедра Зевса, причем это рождение может поспорить
с рождением Афины. Этот же мотив можно найти также в VIII 80—83
XX 212 и XLVI 48; XX 400 упоминается Тиресий, ослепленным
богиней; XXIX 317—320 встречаемся с распространенной у Нонна
версией романа Гефеста и Афины (ср. XLI 249 об отказе Афины
Гефесту и XLVIII 411 Зевс обещает ее Гефесту), 335—339 эта по-
следняя, вспоминая притязания Гефеста, желает его брака с Афроди-
той, XXXIII 245 Эрот грозится воспламенить любовью Афину и Ге-
феста, если они не оставят в покое Афродиту. XXXVI 249 вспоминается
гигант Эфиальт, который осаждал Олимп в надежде стать супругом
Афины. 128 Посейдон выступает против Афины в споре из-за Аттики,
но она XXXVII 345 побеждает его, когда Кекропс XLIII 125 присудил
ей первенство. XLIV 174 Пенфей, охваченный безумием, гордится
тем, что Паллада разделяла его ложе.
Среди всех этих упоминаний главное место занимает рождение
Афины и связь с древними стихийными чудовищами и богами, как
Тифон, Эфиальт, Гефест, и, наконец, губительные свойства, присущие
ей как мощному и грозному божеству. Все это уводит нас у Нонна
к древним хтоническим временам, и есть намеренная реставрация
архаики.
Наметим далее мотивы, связывающие Афину с военным делом. II
106 упоминается меч непорочной Афины, XIII 345 Кадм с копьем
ливийской Афины сражается за Гармонию, XX 56 Афина своим му-
жеством посрамляет Вакха; 214 она сильнее Вакха, XXIX 67—69
Афина Победа участвует в битве с индами, и Дериад, их царь, мечет
в нее камень, 381 Арес и Афродита сражаются с Афиной XXXIII 243
копье Афины олицетворяет войну. XXXI 244 Афина готова броситься
Афина Паллада 311
на Марса; 270 Вакх может вооружиться как Паллада, XXXII 267
Эрехтей опасается Афины среди битвы, которая XXXIV 47 выступает
с золотым щитом, вооруженная копьем и своей красотой. XXXVI 50
Артемида уступает поножи Афине; XXXIX 204 Афина поощряет солдат
Вакха: они ее дети 78. XLV 93 со щитом и копьем выступает Афина
в бою. XLVI1I 358 ей нужен в мужья такой же воинственный, как
она, Арес. 352 с ней Артемида не сравнится мощностью тела.
Следует отметить также, что встречаются тексты с упоминанием
Афины-девственницы. I 84 она краснеет, видя страсть Зевса, плывущего
к Европе через море; она называется III 111 стыдливой богиней,
которая не водит хороводов с ассирийской Кипридой. XVI 139 ее никто
не может соблазнить и 180 Гефест напрасно ее преследовал. XLII 375
она избегает брака.
Афина — покровительница земледелия. Такова она в IV 441, где
говорится о том, что сельская Афина изобрела плуг. XII 137; XVI 30;
XIX 241; XXII 27; XL 522 ей посвящена олива.
Есть тексты, юворящие о помощи Афины богам и героям: V 6
Кадм в благодарность за ее помощь приносит богине в жертву корову,
ср. 15 его жертвоприношение Афине Онке; VII 161 —165 Кадм посылает
Семелу в храм Афины, помогающей ему. XXII 258 сл. Афина покро-
вительствует Эаку во время битвы, 289 отводит от него стрелу, XXIV
95 спасает Эрехтея. XXV 55 она дарит Персею меч для убийства
Горгоны, XXVII 251, 279 Зевс просит Афину помочь ее брату Вакху.
XLVII 96 она покровительствует Аттике.
Среди текстов, отмечающих ее художественно-ремесленные фун-
кции, перечислим следующие: тканье и пряжа называется ремеслом
Афины, V 607 сл.; VI 142 сл.; 154; XXIV 268, 355; XXVI 171; XXVII
312; XLI 294; XLIV 30, 49. Она первая изобрела флейту, на которой
Марсий состязался с Аполлоном в искусстве игры: VII 49; X 234; XVII
70; XX 332; XXIV 36.
Несколько текстов общего содержания дополняет наше представ-
ление о роли Афины в поэме Нонна. VIII 416 вознесенная Зевсом на
небо, Семела становится настоящей богиней и восседает рядом с
Афиной; XV 178 Артемида Ниса именуется горной Афиной; XXV 151
богиня убеждения Пейто, как вооруженная Афина, хочет помочь
Миносу в любви; XXXIX 187 Эрехтей просит Борея о помощи Палладе
и Вакху. XLIV 69 Афина Онка дает умные советы; XLVI1 292 спящая
Ариадна напоминает безоружную Афину; 417 Тезей нарушает клятву
Афины перед Ариадной; 26 Зевс возносит на небо Эригону и Икария
8 знак любви к Палладе и Вакху.
В заключение необходимо сказать, что это огромное количество
кстов об Афине в поэме Нонна является для нас в настоящее время
значительной мере только сырым материалом и еще ожидает для
314
А. ф. Лосев
Таким образом, Овидий в сочинениях с любовной тематикой поль-
зуется именем Минервы без всякого намека на какой-нибудь религи-
озный или мифологический смысл.
Несколько другая картина в «Метаморфозах» и «Фастах». В «Ме-
таморфозах» мы находим четыре обширных рассказа, посвященных
Минерве: II 552—564 о Минерве и Эрихтонии; 748—785 о наказании
Аглавры Минервой; VI 1 —145 о Минерве и Арахне (см. выше), ка-
ковому рассказу предшествует V 250—270 беседа и Муз у источник;.
Пегаса. Ряд небольших текстов посвящен рассказам о помощи Минорны
героям: III 100—105 Кадм по приказанию Паллады сеет зубы дракона.
V 45—47 Паллада прикрывает Персея эгидой, XII 360 сл. Паллада
внушает Тезею уклониться от дерева, которое мечет кентавр; сюда
же можно присоединить VIII 250—253, где Минерва спасает племян
ника Дедала, сброшенного этим последним с Акрополя. Также имеется
краткий рассказ IV 798—804 о поведении Минервы в момент насилия
Посейдона над Медузой.
Перечислим и мелкие упоминания II 709, 834; V 128; VII 399,
724; VIII 547 об Афинах как городе Афины Паллады, XV 709 мыс
Минервы. VIII 264 «воительница» оруженосная Минерва XIV 475; IV
33, 38 — о тканье Минервы; V 300: VI 1 Минерва слушает Муз. VI
141 изобретение флейты Палладой. Об отношении к оливе — VIII 275,
665; XIII 652 ворона — спутница Минервы II, 588; IV 754 ей приносят
в жертву теленка, V 375 о расхождении Минервы и Венеры, XIII 336
упоминание о Палладиуме XIII 381 во время спора с Аяксом указывает
на роковое изображение Минервы.
В «Фастах» имеются два больших отрывка, посвященные Минерве:
III 809—850 подробный рассказ о праздновании, посвященном Ми-
нерве, Квинквартий, где, между прочим, — подробно о разных общих
функциях Минервы (см. выше); VI 647—710, где подробно о Малых
Квинквартиях в связи с изобретением флейты Минервой; III 675—695
рассказ о притязаниях Марса к Минерве и об обмане его услужливой
Анной Перенной. В этом же произведении — ряд мелких упоминаний:
V 231 о рождении без матери, III 176 наука — дело Минервы; III
5 о войнах Минервы, VI 421 «оруженосная Минерва»; VI 424 Рим
владеет Палладой и 728 о поклонении ей на Авентинском холме:
III 81 Палладу почитают Кекропиды; III 7 об отбрасывании копья
по примеру Минервы для научных занятий; VI 652 «русая
Минерва».
В противоположность более ранним сочинениям Овидия то, что
мы находим в «Метаморфозах» и «Фастах», представляет собой в
отношении мифологии нечто весьма содержательное и притом обла-
дающее своеобразным художественным методом изложения. Это на-
столько важная и значительная тема, что она нуждается в специально*4
и притом обширном исследовании. Не входя в это последнее, мь1
можем здесь отметить только два обстоятельства. Во-первых, это и3'
Афина Паллада
315
дожение мифов у Овидия обладает всеми чертами эллинистической
поэзии, включая формалистическое отношение к мифологии и почти
полное неверие в ее сущность, т. е. в реальное существование богов.
ро-вторых же, приводимый здесь художественный метод обладает
всеми чертами изящного и тонкого художественного реализма, любовью
к скульптурному изображению вещей и психологизму.
В своих последних двух сборниках Овидий опять возвращается
к внешнему использованию мифологии в смысле поучительного или
просто выразительного примера. Trist., 1, 2, 6—10 одни боги помогают,
а другие вредят, наподобие того как, например, Минерва помогала
Одиссею против Посейдона. Этим же умонастроением, по-видимому,
вызвана и мысль I 10, 1—2, 11—12 об охране корабля поэта Минервой
и I 10, 43 о жертве Минерве в виде овечки. Такой же аналогией
вызвано и воспоминание III 9, 7 сл. о помощи Минервы аргонавтам,
тоже ехавшим в Понт. III 14, 13 сл. по примеру Минервы стихи у
ссыльного поэта сочиняются без помощи матери. II 293 сл. девушкам
нельзя ходить не только в цирк, но и в храм, потому что при виде
разных богов им могут вспоминаться разные приключения богов и,
например, при виде Минервы может встать вопрос о причине по-
явления Эрихтония. Ill 1, 29 сл., вспоминая Рим, поэт приводит для
примера разные достопримечательности города и в том числе храм
Весты, где хранится изображение Паллады. IV 10, 13 сл., вспоминая
свое рождение, он указывает и на праздник Паллады Квинквар-
тии.
Epist. ex. Р. I 4, 39 сл., рисуя свою судьбу, Овидий для большей
выразительности противопоставляет ее судьбе рожденного Агенором,
которому помогали Юнона и Минерва. III 8, 9 сл. с искусством
Паллады не знакомы женщины города Том. Той же мифологической
аналогией вызвана и мысль в Ibys 264 сл. о судне Паллады 377 о
бистонийской Минерве и 615 о Минерве в Авлиде.
к) Материалы классической лирики, свидетельствующие о Ми-
нерве, ничтожны. Катулл вспоминает о Минерве с эпитетом «патрона»
в своем посвящении стихов Корнелию Непоту I 9; она — покровитель
Эрехтея и его рода (64, 228—232) и возбуждает воинов вместе с
Марсом и Немезидой (там же, 393—395). У Тибулла читаем о клятве
волосами Минервы (I 4, 26) и о связи с тканьем (II 1, 65). У Про-
перция читаем о Тиресии, увидевшем Палладу без Горгоны (V 9,
Ы сл.), о ее глазах (III 24, 12) и лице (III 28, 18), о ее жертвенном
огне, залитом слезами (V 4, 45), о защите Кассандры (V 1, 118 сл.);
возлюбленная сравнивается с Палладой и ее походкой (II 2, 4 сл.).
Несколько текстов с упоминанием об искусстве: Цинтия владеет
всеми искусствами Минервы (I 2, 30); о работе Минервы, т. е.
ткаиье, у Пенелопы (II 9, 5 сл.); возлюбленная своими искусствами
^Ужит Палладе (IV 18, 7); ткань Минервы (V 5, 23).
316
А. Ф. Лосев
Если подвести ИТОГ материалу о Минерве в классической римском
литературе, то необходимо прийти к таким выводам: здесь мы находим
полное вырождение мифологии Афины Паллады, упоминание ее имени
в контексте чисто бытовых, любовных, а иной раз и просто пошлых
рассуждений. Эти классические писатели превратили древнюю Афину
Палладу в ничтожную побрякушку, так что даже атеист Лукреций
говорил о Венере и Великой Матери гораздо более содержательно
гораздо более значительно и, в конце концов, гораздо более красиво
Даже серьезный и важный Вергилий реже пользуется мифами об
Афине, чем это можно было бы ожидать от автора «Энеиды». У Лук
реция, стоящего на границе между латинской архаикой и классикой,
о самой Минерве тоже мало говорится: один раз (IV 11, 6, 1) он
сравнивает с Минервой сероглазую женщину; а в другой раз (IV
749—755) рассуждает о том, что вороны избегают храма Паллады в
Афинах не из ненависти к нему, но из-за присутствия там вредных
паров.
Теперь укажем несколько текстов из послеклассической римском
литературы.
л) Из эпических писателей Лукан дал весьма красочное изобра-
жение помощи Паллады Персею в его борьбе с Медузой (IX 663—686).
У него же о любви Паллады к реке Тритону, где она родилась (IX
349—353). Несколько раз о Горгоне на груди у Паллады (VII 149; IX
657). Остальные тексты связаны у Лукана с разными моментами
военной жизни: Цезарь сравнивается с Беллоной, Палладой и Марсом
(VII 558—571), юные воины идут в бой с ветвями оливы (III 306»,
обращение к Палладе в моменты войны (III 206). Троянскую Минерв}
могут видеть только ее жрицы (I 598).
У Силия Италика изображается ее рождение на Тритоне (II 322 сл.,
IX 297), ее участие в суде Париса (VII 437 сл.), ее помощь аргонавтам
(XI 471 сл.) и Ганнибалу (IX, 438—485), ее жалоба Юпитеру на
Марса (IX 526), убиение Аякса Оилея (XIV 479 сл.), ее вид (VII 450),
эгида и шлем (IX 441—469) и, наконец, Палладиум (IX 531) и его
история (XIII 35—81).
У Стация Achill., II 22—24; 138, 151, 337 сл., Theb., I 535; II
236, 243, 252, 597, 684—690, 704, 715—735; V 100, 152; VI 576; VII
330; VIII 28 сл., 704 сл., 759—767 (сильное по своему натурализму
изображение преступления Тидея, которого Паллада хотела сделать
бессмертным), IX 87, 837; X 895; XII 164, 293, 464, 531, 538, 562,
583, 586, 607; Silv., I 4, 20; 6, 1; 1, 37; II 2, 117; 7, 28; III 1, 109;
133, 138; IV 1, 22; 5, 23; V 2, 128; 3, 88; 91.
У Валерия Флакка — I 73, 87, 93, 530, 642; II 49, 53; III 489.
IV 238, 555; V 183, 293, 345, 504, 626, 649, 652; VI 173, 740:
442; VIII 203, 292, 462.
У Марциала — одна эпиграмма (IX 23) посвящена скульптор)
Кару, сделавшему изображение Домициана и награжденному золотым
Афина Паллада 317
венком Минервы, в следующей 24-й эпиграмме говорится, что тому
же скульптору Минерва помогла в работе. IV 1, 5 о празднике
Квинквартий; IV 53, 1—2 о храме Минервы; IX 35, 9 об оливе
Паллады.
Ювенал вспоминает Минерву в III 139, изображение которой Це-
цилий Метелл вынес во время пожара храма; 219 — Минерва в связи
с науками; X 116 о почитании Минервы на Квинквартиях; XIII 82 о
клятве дротиком Минервы.
У Петрония (29) на росписи в доме Тримальхиона его самого
ведет в Рим Минерва; взывание к Минерве о погибели одного из
героев (58); Град Тритоний (5, 9), Диона и Паллада помогают Цезарю
(124, 268).
У Апулея — одна из участниц пантомимы, посвященной суду Париса,
наряжена Минервой с полным вооружением этой богини и со всеми ее
атрибутами, когда она дает свои обещания Парису и когда она, опеча-
ленная, уходит после суда Париса (Met., X, 30, 31, 34). Другое место о
Кекропической Минерве мы уже знаем (XI, 5, см. выше).
Сенека называет Минерву «дикой» (Octav. 546) «воеводственной»
с эгидой (Hercul., 901 сл.), научившей построить корабль «Арго»
(Med., 3, 365 сл.). Ее почитают в Актее (Phaedr., 1149); она сестра
Геракла (Hercul. Oet., 1314); крепость (Phaedr., 260) и алтари Пал-
лады (Hercul. Oet., 592), Палладины хоры (366); о Палладе в связи
с тканьем (563) Phaedr. (103). У Сенеки имеются еще два текста
об Афине Палладе, которые выделяются на сером фоне римского
изображения Паллады. Мы поэтому приведем их целиком. В Agam.,
368—381 читаем:
И ты, громовержца великого дочь
Паллада, копьем
Ударявшая башни дарданцев не раз!
Прославляют тебя
Всех возрастов женщины — смешанных хор
Из старцев и дев.
Пред богиней грядущего двери во храм
Разверзают жрецы,
К тебе, увенчавшей венцами главы,
Приходит толпа.
Дряхлолетние, слабые старые тебе
За свершенье молитв
Воздают благодарность, дрожащей рукой
Возливая вино.
Другое место в той же трагедии (528—538):
.. .вооружись
Гневливого Юпитера перуном,
Паллада то, чего не совершить
318
А. Ф. Лосев
Копьем, эгидой, головой,
Огнем отца свершает, и с небес
Грохочут бури новые. Один
Противится Аякс непобедимый;
Натягивает парус он, но пламя
Его пронзает. Новою Паллада
В него метает молнией, потрясая
Могучею десницей, подражая
Державному отцу, Перун пронзил
Аякса и корабль, унес с собою
И корабля остатки, и Аякса.
13. Из прозаической литературы.
а) у Геродота масса упоминаний об Афине в связи с ее храмами
в тех или иных местностях Греции. Приводить эти тексты не стоит.
Более ценными текстами являются те, которые содержат хтонические
мотивы. Геродот отождествляет Афину с египетской Нейт, Великой
Коровой, и несколько раз упоминает о храме и празднествах этой
богини в Саисе (II 28, 59, 83, 169, 170, 175). Афина — дочь Посейдона
и Тритониды (VI 180, см. выше). Она состязается с Посейдоном из-за
Аттики (VIII 55, 77, ср. I 60; ср. выше). У галикарнасских жриц
Афины перед несчастьем вырастает борода (I 175, VIII 104, см. выше).
Одежда Афины взята из Ливии (IV 189). Рассказы ведет Геродот и
о поведении Афины во время греко-персидских войн (см. выше).
У трезвого Фукидида — ничего нет, кроме отдельных упоминаний
о клятвах, в связи с Афиной (V 23), о ее храмах и статуях (II 15,
IV 116, V 10, I 128, 134).
Набожный Ксенофонт, если когда вспоминает об Афине Палладе,
то главным образом в рассказах о жертвоприношениях и храмах.
Anab., III 2, 12 перед Марафонским сражением афиняне дают обет
принести Афине в жертву столько коз, сколько они убьют врагов.
Lac., XIII 2 лакедемоняне после возвращения приносят ей жертву.
Hell., I 1, 4 ей приносят жертвы в Илионе. I 6, 1 сгорел ее древний
храм в Аттике. Ill 1, 21 Деркиллид строит ей храм на Акрополе х
скепсийцев. Ill 1, 21 о ее храме в Гергито, а также III 2, 19 в городах
Левкофрисе и III 4, 18 в Эфесе. Ages., II 13 из-за почитания Афины
Агесилай щадит врагов, укрывшихся около ее храма. Hell., I 3, 4; V
5, 27 о знамени Афины. Наконец, любопытный и неожиданный текст
находим в Conv., IV 17 о шествиях в честь Афины: «носить масличные
ветви в честь Афины выбирают красивых стариков, руководясь тем,
что всякому возрасту сопутствует красота».
б) О ранних философах, а также о Платоне и Аристотеле неко-
торые материалы приводились выше.
Кроме вышеприведенных текстов Платона о толковании имени из
«Кратила» и о связях с Гефестом и Прометеем в «Протагоре», упомянем
теперь ради полноты еще следующие тексты. В R. Р., II 379 е, кри-
Афина Паллада
319
тикуя Гомера за принижение богов, Платон не соглашается, чтобы
Зевс и Афина были причиной нарушения клятвенного договора Пан-
даром, метнувшим стрелу в греческий лагерь вопреки договору. Alcib.,
ц, 150 d Сократ рекомендует очистить душу так же, как Афина в
Лл. V 127 прогнала мрак из очей Диомеда. Оба эти текста, конечно,
[сворят о философской религии, почти совершенно чуждой Гомеру.
Еще больше того выступает отвлеченно-философское понятие вместо
конкретного представления в том суждении Платона об Аттике, которое
1^ы находим в Critias 109 с: «Между тем как другие боги получили
по жребию другие места и устрояли их, Гефест и Афина, имея общую
природу (так как были дети того же отца и увлекались одинаковым
призванием к философии и искусству), оба по жребию, получили себе
в удел одну и ту же — здешнюю страну, как землю, по природе
дружественную и благоприятную добродетели и мудрости, и, водворив
туземцами ее людей добрых, вложили им в ум учреждение граждан-
ского правления». Этот текст важен подчеркиванием общности Афины
и Гефеста, указанием древности для Аттики почитания Гефеста и
выдвижением социальных функций обоих божеств.
Далее, хотя Платон вместе с Геродотом отождествляет Афину с
египетской Нейт (Tim., 21 е), тем не менее он довольно часто под-
черкивает близкие эллинам художественно-ремесленные функции
Афины. Politic., 274 с в первобытные времена искусства пришли к
людям от Гефеста и его «сотрудницы». Legg., XI 920 d «класс ремес-
ленников посвящен Гефесту и Афине». Conv., 197 b Афина — изобра-
зительница тканья. Legg., VII 796 с «у нас [в Афинах ] Дева-Владычица,
возрадовавшись хороводной забаве, не сочла должным ликовать с
пустыми руками, но, украсившись полным вооружением, в нем ис-
полнила свою пляску».
Critias ПО b Афина с древних времен изображалась в полном
вооружении, что нужно считать доказательством воинских обязанно-
стей одинаково — мужчин и женщин. Legg., 745 b храм для нее на
Акрополе, ср. 840 d, Critias 112 b, Euthyd., 302 d. Афина Фратрия
Hipp. Maior., 209 b о статуе Афины.
в) у Аристотеля, несмотря на всю далекость этого философа от
мифологии, намечается интерес именно к хтонической стороне Афины
Паллады. Арнобий (Adv. nat., Ill 31) пишет: «Аристотель, как об этом
упоминает Граний, муж преуспевающий умом и опытный в науках,
Утверждает при помощи заслуживающих доверие аргументов, что
Минерва есть Луна и защищает это с научным весом». (Этот фрагмент
Отсутствует у Розе и в индексе Боница). У схолиаста к Пиндару (01.,
VII 66) читаем: «Аристотель [это имя колеблется, м. б. «Аристок»
«Аристарх»] помещает рождение Афины на Крите» (см. выше).
<’Тот фрагмент тоже отсутствует у Розе и Боница. По frg. 594 (из
схолий к Аристиду), Панафинеи праздновались в связи с «Гигантом
Астером, убитым Афиной». Климент Алекс утверждает, что, по Ари-
320
А Ф Лосев
стотелю, Аполлон родился от Афины и Гефеста (у Розе и Бонина
опять-таки отсутствует; см. выше). Оесоп. 1347 а 4 Гиппий Афински.,
приказал приносить на каждого покойника жрецу Афины хлебниц
дары.
Остальные тексты более обыкновенные и менее интересные. О(
носительно связи Афины с науками и искусствами, кроме приведение,,(
выше текста приведем еще Полит., VIII 6, 8* «-Рассказывают, ч
Афина, изобретя флейту, отбросила ее в сторону. Недурное объяснен^
придумано было этому, а именно: будто богиня поступила гак в гн( п
на то, что при игре на флейте физиономия принимает бсзобрашг (|
вид. Настоящая же причина, конечно, заключается в том, что обучен,,
игре на флейте не имеет никакого отношения к развитию интеллек
туалъных качеств, Афина же в нашем представлении служит олицег
ворением науки и искусства».
Об отношении Афины к законодательству гласит frg. 505 о том,
что Залевк Локрийский получил свои законы от Афины. О предпоч
тении Афиной Одиссея читаем в Rhet., I, 7, 1363 а 17; о ее храме
на Акрополе, Оесоп., II, 2, 1347 а 15, о ее статус и священном фонте
там же — frg. 402, о ее статуе Фидия — De mund., 6. 399 b 34. Di
auscul mirab., 155, 846 a 18; о ее изображении на одежде Алкименл —
там же, 96, 838 а 15, 25.
Наконец, у Аристотеля имеется ряд указаний на местных Афин —
Ахейскую, Гиленскую и Спасительницу в Стагире.
Тексты из стоиков и неоплатоников приводились выше. Из эл-
линистических авторов, представляющих собой огромную и трудную
для обзора литературу, необходимо было бы использовать в первую
очередь Плутарха, которым мы в нашем исследовании вообще поть-
зуемся весьма широко. Однако от полной сводки суждений Плутарха
об Афине приходится пока отказаться ввиду большой громоздкость
всего этого материала. Плутарх излагает много разных мифов, отно-
сящихся к Афине, подвергает их своему стоически-платоническому
истолкованию, указывает многочисленные места ее культа и расска-
зывает разные исторические случаи, связанные с этой богиней. Теперь
коснемся некоторых важных материалов из эллинизма, обладающих
некоторого рода цельным характером в противоположность приводив-
шимся у нас отдельным фрагментарным суждением
г) Приведем сначала один малоизвестный памятник, а именно
эпиграфический, относящийся к 99 г. до н. э., из г. Линда на о. Родосе
Этот памятник опубликован Блинкенбергом в датском издании
«Oversigt over det kgl. danske videnskabernes selskabs forhandllngcr
1912, n° 5—6 Kobenhavn, 1912—1913, c. 318 сл. В этом памя1-«и^
содержится, между прочим, описание трех явлений Афины линдиина.м
которое имеет некоторый интерес для историка мифологии. Приводе”*
эти места в переводе С. А. Жебелева:
Афина Паллада
321
«Когда персидский царь Дарий отправил огромные силы для
порабощения Эллады, его флот подошел сперва к этому острову
[Родосу ]. Когда местные жители пришли в ужас от нападения персов
и укрылись во все укрепления [какие были], причем большинство
их собралось в Линд, варвары, подстерегая их, принялись их осаждать
[и вели осаду до тех пор], пока линдийцы, мучимые недостатком
вОды, стали думать о том, чтобы передать город врагам, В это время
богиня [Афина] явилась во сне одному из правителей [Линда],
побуждала его крепиться, так как она попросит у своего отца [Зевса]
дать линдийцам то, в чем они терпят нужду, т. е. воду. Правитель,
увидев этот сон, объявил гражданам повеление Афины. Они же,
рассчитав, что запаса воды хватает у них всего на пять дней, просили
у варваров перемирия только на этот срок, говоря, что они послали
Афину к ее отцу за помощью и что, если помощь эта не придет к
определенному сроку, они сдадут персам свой город. Адмирал Дария,
Датис, услышав это, сначала усмехнулся; когда же на следующий
день над акрополем [Линдийским ] спустился большой сумрак и затем
совершенно неожиданно прощел большой дождь, когда осаждаемые
получили воду в изобилии, персидское же войско стало терпеть в
ней недостаток, варвар [Датис], убоявшись явления богини, снял с
себя украшения и послал их в храм в качестве посвящения, именно:
плащ, ожерелье и запястье, сверх того тиару и акинаку, также
армамаксу. Все это раньше было цело, но при жреце Гелиоса Евкле,
сыне Астианактида, когда приключился пожар в храме [в середине
IV в. до н. э. ], сгорело с большей частью других посвящений. Сам
же Датис, ввиду вышеизложенных обстоятельств, заключил дружбу
с осажденными и при этом заметил, что этих людей боги охраняют.
Об этом рассказывает Евдем в истории Линда, Эргий в 4-й книге
своей истории, Полезел в 4-й книге своей истории, Иероним во 2-й
книге истории потомков Гелиоса, Мирон в 3-й книге похвального
слова в честь Родоса, Тимокрит в 1-й книге своей хроники, Гиерон
в 1-й книге сочинения о Родосе. Ксенагор же в 4-й книге своей
хроники говорит, что явление богини было, но что Датисом [против
Родоса] был послан Мардоний. О явлении богини говорит также и
Аристион в... книге своей хроники».
«При жреце Гелиоса Пифанне, сыне Архиполия, некто в Линде,
запершись ночью [в храме], повесился на северных подпорках статуи,
приставленной к стене [на горизонтальных подпорках между стеной
и задней стороной статуи Афины]. Когда линдийцы решили послать
в Дельфы вопросить о происшедшем, что нужно сделать, богиня,
ввившись жрецу во сне, повелела хранить спокойствие, разобрать
пасть крыши [храма ] над статуей и оставить ее в таком виде в течение
^Рех дней, пока [оскверненное место] не будет очищено [дождями]
Ча. затем привести крышу в прежний вид и, совершив очищение
Рама, принести кому полагается жертвы, по заветам отцов, Зевсу
18 Зак 3903
322
А. Ф Лосев
[надпись здесь испорчена]. [Как об этом говорит] Евдем в истории
Линда, Тимокрит в 3-й книге хроники, Ксенагор в [... книге] хроники,
Ономаст во 2-й книге хроники, Аристоним в хронологическом избор-
нике».
«Во время осады города [Родоса] Димитрием [Полиоркетом] Кал-
ликл, бывший ранее жрецом Афины Линдийской и проживавший в
Линде, сообщил, что богиня, явившись ему во сне, повелела объявить
одному из пританов Анаксиполию — написать царю Птолемею и по-
будить его оказать помощь городу, так как она, богиня, будет пред-
водительствовать и дарует победу и могущество; если же Калликл не
объявит этого притану, или притаи не напишет Птолемею, они рас-
каятся в этом. Калликл, увидев сон в первый раз, не предпринял
никаких шагов; когда же он стал часто повторяться — именно богиня
постоянно являлась Калликлу ночью и давала то же повеление — он.
явившись в город [Родос], рассказал об этом членам совета и объявил
Анаксиполию...» далее надпись не сохранилась.
Первый из приведенных отрывков имеет в виду нашествие персов
на Грецию в 490 г. Возможно, что флот Дария проходил и через
Родос. А что чудесные явления Афины мыслились во время греко-
персидских войн, это мы уже знаем из Геродота (см. выше). Тут
важно не это, а то, что еще в I в. до н. э., т. е. в самый разгар
эллинистического свободомыслия, вера в чудесные явления Афины все
еще имела место и что в это время все еще находились авторы,
которые доказывали это ссылками на разных историков. Правда, ука-
зываемые в этом памятнике историки почти совсем нам неизвестны.
Важно, однако, то, что мифология, и даже в своем непосредственном
старинном реализме, никогда не умирала в Греции и что она продол-
жала существовать в известных кругах, несмотря на полное превра-
щение ее в аллегорию или в литературный формалистический прием
у представителей других слоев общества.
Что миф относительно явления Афины мог создаться и по поводе
определенного бытового факта, упомянутого во втором отрывке, в
этом тоже нет ничего удивительного, раз вообще непосредственная
вера в богов не умирала. Такой же миф, естественно, мог создаться
и в связи с осадой Родоса Димитрием Полиоркетом в 305—304 г. до
н. э. К сожалению, конец этого рассказа в данном памятнике не
сохранился. Но конечно, на основании первых двух отрывков необ-
ходимо предполагать то же изображение непосредственного вмеша-
тельства и помощи Афины в деле защиты города от врагов. Поскольку
в период эллинизма мы имеем дело главным образом с отсутствием
древнего мифологического реализма, этот памятник I в. до н. э. из
Линда не может не звучать для нас оригинально, и мимо него нельзя
пройти без внимания.
д) Речь Элия Аристида к Афине, помещаемая в собрании его
речей под номером II, написана с риторическим подъемом и, как
Афина Паллада
323
говорит сам автор, «смешана из молитвы и гимна» (9, 5), причем под
«гимном» здесь надо понимать именно мифическую часть.
Автор начинает с того, что объявляет: «все самое прекрасное
происходит в связи с Афиной и от Афины». Причиной этого является
высокое происхождение богини, а именно происхождение из того, что
в Зевсе является самым прекрасным, т. е. из его головы. Зевс —
единственный и Афина — единственная. И появляется она как совер-
шенная по силе и красоте, преисполненная света и лучей от самого
Зевса (9). Символом ее мощи является эгида, полученная от самого
Зевса, причем оружие это настолько сильное, что ей уступают даже
перуны Зевса, как о том гласит приводимое здесь место Ил., XXI,
401 сл. Точно так же автор приводит Пиндара (frg. 146), по которому
Афина восседает справа от Зевса и передает его повеления прочим
богам. Но она не есть просто вестник его воли. Она — повелитель над
всеми вестниками Зевса. А, произойдя из головы Зевса и на вершине
Олимпа, она властвует и над всеми кремлями городов и над всеми
головами людей (10).
Мощь Афины видна и на ее участии в борьбе с Гигантами и
Титанами; и если она их так мощно побеждает, то это потому, что
они порождение мрачной земли, а она — порождение чистого эфира.
Афина охватывает «все времена и места», и без нее человек не может
ничего совершать как на войне, так и в мирное время. Она убеждает
людей жить общежитием, и «города — ее дары» (11—12).
Она, далее, является «единым вождем и всякой мудрости», если
понимать под мудростью все ремесла и искусства, как связанные с
горячей обработкой, так и без нее. Военное вооружение есть создание
Афины. Эрихтоний по ее указанию впервые запряг лошадь, и Белле-
рск}юнт взнуздал коня; а Триптолем распространял земледелие по
повелению Деметры при помощи колесницы, преподанной от Афины.
Конница и мореплавание — тоже ее дело, как и земледелие, как и
запрягание вола в плуг (12). Она всегда и везде — победа, но победа
справедливая. Это она взяла верх на суде над Орестом и тем спасла
его. Она ведет Лето в ее блужданиях по суше и морю и приводит в
надлежащее место, и она увенчивает новорожденного Аполлона и
Делает новорожденную Артемиду покровительницей родов. Артемида
и сама — первая после нее дева (13).
Она покровитель охоты. Вместе с Асклепием она — податель здо-
ровья. Вместе с Посейдоном она — вождь в конном и морском деле.
изобрела узду и первая построила корабль. Общие с
_ нее образованность и торговые дела. Она участвует в
состязаниях. Авлодия, лиродия и кифародия — ее изобретение, причем
первую она дает одной из Муз, другую — Гермесу и третью — Апол-
лону. Указываются также пункты сходства Афины с Гефестом, Аресом,
Диоскурами и др. (14). Она — помощница героев, Одиссея, Беллеро-
первая
Гермесом v
324
А. Ф. Лосев
фонта, Персея и, особенно, Геракла. Если Аполлону и Артемиде она
помогла появиться на свет, то Гераклу она помогла стать богом (15).
Другими словами, нет никакого дела среди богов и людей, которое
не совершила бы Афина. Она — не только эпоним всякой победы, но
и ее омоним. Она — Рабочая и Промыслительница; она — внутреннее
очищение, отвратитель от зла и «эфор совершеннейших очищений».
Но равным образом она и защитник на правой войне, и гонитель
врагов от жилищ и городов. Это значит, что она враг всякого бесчин-
ства, неустройства, неразумности и дерзости. От нее — разумность,
мудрость, мужество, единомыслие, удача в действиях и прекрасный
образ действия. И вообще можно сказать, что без нее невозможно и
самое собрание богов. «Деяния Зевса являются общими деяниями Зевса
и Афины» (16). Заключается речь кратким молением и славословием
(17).
Небольшая речь Элия Аристида об Афине дает довольно полный
обзор главнейших функций Афины, написана с большой ученостью и
риторическим пафосом, цитирует много античных авторов и вообще
является выразительным памятником «второй софистики». Как и эта
последняя, она построена на иллюзиях возрождения греческой классики
и рисует образ Афины в чрезвычайно возвышенных, благородных
тонах, мало имеющих общего с живой мифологической стариной, но
зато вполне отвечающих культурным вкусам античного декаданса
Приводимые здесь факты не отличаются никакой оригинальностью,
не говоря уже о полном отсутствии какого-нибудь собственного ми-
фологического творчества у автора этой речи. Но как памятник ан-
тичного декаданса эта речь заслуживает полного внимания и глубокого
изучения.
е) У Ватиканских мифографов кроме отдельных рассказов, пол-
ностью используемых нами, имеется одна большая глава (III 10),
целиком посвященная Афине (кроме пунктов 4 и 5, посвященных
почему-то Гефесту). В противоположность главам, посвященным дру-
гим богам, эта глава отличается скудостью сведений и слишком боль-
шим аллегоризмом, хотя и не лишена некоторых оригинальных мо-
тивов.
Сначала (III 10, 1) дается общее резюме значения Афины как
богини мудрости и перечисляются ее главнейшие имена с разными
фантастическими толкованиями (Паллада, Тритония, Минерва, Афи
на), так, например, имя «Афина» толкуется как происходящее от
греческого слова со значением «бессмертная». Далее (2), на основе
этого общего значения Афины развивается символика ее рождения из
головы Зевса, а также и ее покровительство крепостям и кремлям,
как находящимся на возвышенных местах. Далее (3), почему-то рас-
сказывается миф о чувствах Гефеста к Афине с некоторыми интерес-
ными деталями, о которых мы говорили выше. Судя по тому, что
этот миф рассказан здесь в первую очередь, надо заключать, что
Афина Паллада
325
данный памятник придает ему особенное значение. Это видно также
из приводимого здесь аллегоризма; Афина сопротивляется любви Ге-
феста подобно тому, как мудрость сопротивляется чувственной ярости,
родившийся от Гефеста Эрихтоний фигурирует и здесь, причем даются
разные этимологии его имени. В дальнейшем (6) читаем о гневе
Афины в отношении греков, не почтивших ее после падения Трои, а
также о ее споре с Посейдоном из-за Аттики. Далее (7—8) о состязании
Аполлона с Марсием в связи с тем, что флейта Афины попала к
Марсию. Рассказ тоже полон аллегоризма. Наконец (9—10), памятник
останавливается на эпизоде Афины с Прометеем (см. выше), содер-
жащем некоторые новые мотивы.
Таким образом, мифология Афины представлена в этом памятнике
довольно скудно, хотя вообще у ватиканских мифографов немало
разных интересных вариантов и деталей. Так, Афина рождается здесь
то из «бороды» Зевса (I 176, ср. II 37 см. выше), то из его «мозга»
(I 204, р. 64, 24); рассказывают (II 206, 8), что отдельные части
тела человека происходят от разных богов. Этот памятник, между
прочим, производит глаза от Афины (тут же — о голове от Зевса,
о руках от Геры, о груди от Посейдона, о сердце от Ареса, о почках
и половых органах от Венеры, о ногах от Меркурия). Вместо Арте-
миды, помогающей Ифигении во время жертвоприношения последней,
здесь фигурирует Афина (I 20). Афина объявлена здесь «theorica»
(II 206, 8). Наконец, имеется неплохое резюме всей Афины (II 39).
14. ИТОГ. Изучение мифологии Афины Паллады, этой наиболее
центральной фигуры фессалийской и олимпийской идеологии, как
показывают приведенные выше материалы, свидетельствует о наличии
здесь всех ступеней социального развития, которые вначале мы сфор-
мулировали в общем виде. Социально-историческая точка зрения в
отношении Афины приводит даже к особенно важным результатам в
противоположность традиционной характеристике этой богини, где
обычно фиксируется только ее законченная и неподвижная классиче-
ская, можно даже сказать, узкоклассическая стадия.
а) Человеческая история начинается с собирательства и охоты, а
мифология этого периода в основном — фетишизм; фетишами же яв-
ляются как предметы неорганической природы, так и растения, жи-
вотные и сам человек со своей личностью и со своим обществом. Вся
эта фетишистская мифология совершенно достоверно устанавливается
в отношении Афины в виде позднейших рудиментов, которые при
иеисторическом изучении оказываются досадным, непонятным и про-
Тиворечивым балластом классического образа Афины. Фетишизм Афи-
8Ы» как показывает наше исследование, дан и космически, и в виде
^Дельных предметов и явлений в космосе. Афина в этом смысле
охватывает и небо с его эфиром и светилами, и воздух с его громом,
326
А. Ф. Лосев
молнией, тучами и ветрами, и землю, и горы, и море, и подземный
мир, восходя, таким образом, к древнему размытому мышлению, когда
отдельные части космоса и именовались и переживались как друг от
друга неотчлененные. Но кроме космоса в целом Афина некогда была
и четырехугольной колонной, т. е. просто неодушевленным фетишем.
Она была и змеей, и совой, и ласточкой, и ястребом, и цаплей, и
морским орлом, и лошадью, и козой. Она также была и оливковым
деревом, кипарисом и ивой.
Все эти природные элементы Афины являются в то же время и
социальными элементами, поскольку природу человек никогда не пред-
ставляет себе в виде отвлеченного и неподвижного абсолюта, но всегда
понимает ее в увязке с особенностями данной ступени своего соци-
ального развития. А так как охотничий период возникновения родового
общества является матриархатом, матриархат же в мифологии создает
перевес неупорядоченных хтонических и порождающих стихий, то
соответственную ступень мифологии мы находим и для Афины, так
что вся природная значимость этой богини оказывается пронизанной
стихийно-хтоническими и чудовищно-порождающими потенциями.
Именно Афина тут не просто земля или небо, она — чудовище, род-
ственное Циклопам, Гигантам и Горгонам. Она здесь та темная и
клокочущая бездна ужасов, в виде которой представлялись первобыт-
ному человеку природа и общество вследствие его беспомощности и
полной зависимости от непонятных ему огромных и бесчисленных
стихийных сил. Если она тут не только одна из ипостасей всесозида-
ющей материи-матери, но и жестокая губительница всего живого,
даже людоед, то это только вполне естественно и удивляться тут
нечему.
б) Охотничье хозяйство сменяется производящим, а вместе с тем
и матриархат сменяется патриархатом, правда, не на ранней, а только
на средней ступени этого хозяйства. Происходит это в результате
такого большого роста производительных сил первобытного общества,
когда появляется необходимость от простого собирательства и охоты
переходить к сознательному и планомерному производству необходи-
мого для жизни продукта.
Вместе с тем растет человеческое мышление, растет членение
первоначальной слитности человеческого сознания, дифференцируются
отдельные логические категории. Афина перестает быть космическим
целым или, вернее, это космическое целое она начинает представлять
все более и более специфически. Растет ее собственный спецификум,
которому начинают подчиняться все прочие ее универсально и част-
но-космические функции, превращаясь теперь в затвердевшие атри-
буты или неподвижные рудименты старого. Афина здесь — и притом
гораздо больше, чем другие мифологические образы, — теряет свое
старинное стихийное безличие и гораздо интенсивнее прочих богов
выявляет свою планомерную и прекрасно завершенную мифологиче-
Афина Паллада
327
Скую сущность и личность. Здесь мы встречаемся со знаменитым
всеэллинским и всеантичным мифом о рождении Афины из головы
Зевса, что является самым выразительным и самым ярким свидетель-
ством победившего патриархата и примата упорядоченных организу-
ющих и оформляющих функций, с которыми Афина отныне остается
на всю античность. Отныне она — порождение ума и воли Зевса, т. е.
сама есть волевой разум и как бы олицетворение доблести. По тем
же причинам и тоже только с этого времени она вечная дева. Вместе
с тем ее прежние стихийно-природные, т. е. фетишистски-космические
функции отходят на задний план, блекнут и стираются, превращаются
во внешние и неподвижные атрибуты (сова, змея, эгида, звериный
блеск глаз и пр.), так что только путем кропотливого исследования
можно сейчас разгадывать их былой хтонический и субстанциальный
смысл.
в) На почве этого развития мифологии Афины вырастают, начиная
с периода патриархата, и прочие ее теперь уже специфические фун-
кции, которые обладают, главным образом, идейно-организующим
характером и тем вскрывают подлинную специфику мифологии. Афина
отныне неизменный покровитель героизма и героев, богиня планомер-
ной войны, покровитель городов и государств, учитель искусств, наук
и ремесел и, в конце концов, в порядке высшего обобщения, также
и мудрости вообще. Социально-исторический анализ обнаруживает во
всех этих функциях черты, связанные с соответствующим античным
социальным развитием; в период развала общинно-родовой формации
и в начальный период греческой цивилизации, а этот период как раз
дан в поэмах Гомера, Афина отражает на себе колебания строгой
мифологии и проникновения в нее критических элементов; в период
восходящих демократических Афин она используется с классовых по-
зиций и аристократическими и демократическими элементами обще-
ства. Общеизвестна ее прогрессивная роль у Эсхила как примиритель-
ницы победившего патриархата с матриархатом при помощи государ-
ственного принципа, хотя в то же время она и защитница
консервативного ареопага. В одном же фрагменте Софокла она —
вождь и учитель широкого ремесленного люда.
И наконец, в период эллинизма, в связи с полным падением
мифологии, она превращается в метафору, в аллегорию, в условный
символ или в философскую категорию. В этот период античного
Декаданса, т. е. в период эллинизма, мы находим многочисленные
примеры понимания этой богини и в аллегорическом (например, на-
турфилософском) и в философско-диалектическом (например, у нео-
платоников) смысле. У Лукиана Афина вместе со всем Олимпом при-
ходит к самоотрицанию и самоуничтожению, становясь предметом
насмешки, пародии и сатиры и тем свидетельствуя об окончательной
табели всей античной мифологии.
328
А. Ф. Лосев
Такова социальная история знаменитой греческой Афины Паллады,
которую мы устанавливаем здесь, конечно, только предварительно,
но с сознательным и принципиальным заострением, против традици-
онной неподвижной, вне времени и вне всякого пространства данной
и ни с каким социальным развитием не связанной, «классической»
схемы.
ТЕРМИН «СИМВОЛ»
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Историко-семасиологический этюд
Термин «символ», который вызывает такое множество сложных и
противоречивых толкований в теории и философии художественного
слова,1 сохранил удивительным образом на протяжении тысячелетий
ясность и прозрачность своего первоначального, исходного значения.
Греч, symballo — глагол, указывающий на совпадение, соединение,
слияние, встречу двух начал в чем-то одном, и symbolon как результат
этой встречи и этого соединения, как указание на них, как знак этого
единства, при всей очевидности и простоте своей семантики очень
далеки от того символа, который лишен этой всем доступной наивности
и связан в представлении каждого с чем-то загадочным, таинственным
и даже мистическим.
Тем не менее признаки этой загадочности, толкуемой только по-
священными, уже намечены, хотя и неясно, в мире греческой
классики.
Позднеантичные лексикографы, учитывающие опыт и традиции
поколений, дают достаточный материал, который указывает в первую
О постоянном интересе к символу в мировой культуре свидетельствует ряд
фактов. Начиная с 1968 г. выходит ежегодно под руководством М. Люркера
«Библиография по символике, иконографии и мифологии» (Bibliographic zur
Symbolik, Ikonographie und Mythologie, herausgeg. v. M. Lurker. Baden-Baden,
1968) , представляющая собой международное реферативное издание. Вся предше-
ствующая библиография собрана в издании: Lurker М. Bibliographic zur
Symbolkunde. Bd. I—III. Baden-Baden, 1964—1968. Результаты исследований
символов в различных областях мировой культуры представлены изданием:
«Syebolon». Jahrbuch fur Symbolforschung. Bd. I—VII. Basel, 1960—1971 (издание
продолжается), а также: Лосев А. Ф. Проблемы символа и реалистическое
искусство. М., 1976.
330
А. А. Тахо-Годи
очередь именно на чисто реалистическое, даже бытовое, оперирование
словом символ, постепенно усложняя его значение.
Гесихий Александрийский сообщает: «Символ: знак, совместное
пиршество, договор, то, что давалось входящим в суд».1 Здесь же
Гесихий приводит со ссылкой на Эсхила (Prom. 487) symbolos (м. р. <
«примета», а также symbolaion (ср. р.) «договор», «сделка», «документ»
и symbole (ж. р.) «смешение» (maixis) — равнозначные слову symbolon,
заодно с глаголом symbolesai «случиться, случайно встретиться»
(syntychein). Гесихий в самом «символе» и в родственных ему словах
подчеркивает именно совместность и объединенность двух начал на-
равне со свидетельством или знаком этого единения.1 2
Вполне естественно, что объединение здесь может быть самое различ-
ное, от дружеской пирушки и договора до личности человека с его долж-
ностью, материальным свидетельством чего является определенный знак,
или тессера, которые выдавали заседающим в афинском суде.
«Большой Этимологик» производит слово символ от глаголов, ука-
зывающих на совпадение и случайную встречу (ес toy symballein cai
ex hypanteseos prospiptein). Символы стоят в этом словаре в одном
ряду со «знаками» (semeia), «чудесами» (terata), «предсказаниями» и
«гаданиями по птицам». Но символы и здесь втянуты в область об-
щественной и государственной жизни как договоры, которые устанав-
ливаются гражданами и городами для того, чтобы осуществлять спра-
ведливость (со ссылкой на восьмую Филиппику Демосфена), или
судейские тессеры.
Суда добавляет среди беспорядочного и хаотического перечисления
разнообразных значений символа, совпадающих часто буквально с
«Большим Этимологиком», также «размер», «меру» (metra) и «метку»
(syggraphen) на лице как знак жестокости господина. В «мере» и
«размере» реально необходимое количество совпадает с заранее условно
установленным измерением. Метка удостоверяет жестокость хозяина.
В обоих примерах, как будто совсем различных, выделен именно
момент совпадения.
В ряду этих традиционных определений совершенно особняком
стоит дефиниция из «Гудианова Этимологика», свидетельствующая о
позднеантичном и даже христианском опыте. «Символ имеет свое
название вследствие употребления чего-то чувственно воспринимае-
мого (aistheton) вместо умопостигаемого (noetoy), как, например, хлеб
и вино». Здесь, несомненно, имеется в виду древняя христианская
1 Фотий, со ссылкой на Менандра, отождествляет «символы» (symbolaia) с
«договорами» (synallagmata).
2 Гитон считает исходным для символа его понимание как дощечек гостепри-
имства, откуда развивается так называемое юридическое значение символа как
знака, удостоверяющего идентичность (пропуск, герб, знаки на монетах), догово-
ры и т. д. См. Lexikon deralten Welt. Ziirich, 1965 ( Gi gon O., v. Symbol, S. 2954).
Термин «символ» в древнегреческой литературе 331
символика преосуществления даров. Хлеб и вино — символы плоти и
крови Христовой. Но здесь же и типичная неоплатоническая терми-
нология с ее противопоставлением «чувственно воспринимаемого
(aistheton) и «умопостигаемого», или «мыслимого» (поёюп).* 1
В «Гудиановом Этимологике», таким образом, совершенно опре-
деленно развивается и углубляется знаковое понимание символа. Од-
нако здесь фиксируется знак не сам по себе в его полной безотноси-
тельности и автономности, а знак чего-то иного, указание на что-то
иное, физически не видимое и не слышимое, но залегающее в каких-то
глубинах, которые еще надо вскрыть и выявить в обыденной матери-
альности этого знака. Поздний характер данного определения станет
более ясным, если принять во внимание чрезвычайную наивность
понимания символа в греческой архаике и классике.2
Так, даже при внешнем обзоре текстов выясняется, во-первых, их
немногочисленность, если даже не прямо единичность, и, во-вторых,
повсеместное наличие исходного первичного значения.
Обе гомеровские поэмы начисто лишены слова символ.2 Оно встре-
чается лишь однажды в гимне к Гермесу, когда хитроумный сын Майи
1 В. В. Бычков отмечает у Псевдо-Дионисия тонкое различие символов
вообще (symbola) и чувственных символов (aistheta symbola). Однако и те н
другие приближают человека «неизреченно и непостижимо к неизрекаемому и
непознаваемому», чтобы он «посредством чувственных (предметов) восходил к
духовному и через символические священные изображения — к простому (совер-
шенству) небесной иерархии, не имеющему никакого чувственного образа».
В системе автора «Ареопагитик» «сообщение (photodosia) передается не с по-
мощью формально-логических конструкций, а только посредством емких симво-
лических образов (еп typOticois symbolois)»,—пишет В. В. Бычков (Быч-
ков В. В. Образ как категория византийской культуры. — В кн.: Византийский
временник, 34. М., 1975, с. 160). См. также: Бычков В. В. Византийская
эстетика. М., 1977.
1 В известном словаре философских понятий Эйслера (Е i s 1 е г R. Worterbuch
der Philosophischen Begriffe. Bd. III. Berlin, 1930, v. Symbol) история символа в
античности вообще отсутствует. Есть лишь краткое указание на пифагорейские
символы. О значении слова символ, да и то односторонне и ограниченно, см.:
М й гi W. Symbolon. Wort- und Sachgeschichtliche Studie. Bern, 1931; Baatz W.
Zur Wort- und Bedeutungsgeschichte von Symbol. — Jahrbuch fur Psychologic und
Psychotherapie, 1955. Значение термина «символ» в античности до сих пор не
разработано.
Мифологическая символика вообще в культуре н истории древней Месопо-
тамии и Греции рассматривается Г. Керком (К i г k G. С. Myth. Its meaning und
functions in ancient and other cultures. Cambridge, 1971) с использованием
исследования теорий К. Леви-Стросса, К. Юнга и К. Керени. К архетипам и
Самвелам Юнга (мудрый старец, мать-земля, божественный младенец, бог,
сияние, дух и душа, число четыре, крест, само и др.) Керк подходит критически,
стараясь, однако, понять этот общий процесс символизации и ту пользу, которую
м°жет принести идея Юнга об «основных» мифических символах или концепция
«статичных» символов с «динамическими возможностями» (р. 275—280).
332
А. А. Тахо-Годи
случайно находит в пещере черепаху, разыскивая коров Аполлона.
«Знаменье (symbolon) очень полезное мне (moi meg’ onesimon), и его
не отвергну» (III 30), — восклицает Гермес, сообразив, что из панциря
черепахи удобно сделать кифару. Здесь «символ», переведенный Ве-
ресаевым как «знамение», не выражает с достаточной ясностью кон-
текст. Черепаха не является для Гермеса знамением чего-то. Он
попросту рад попавшейся находке, этой случайной встрече, своему
неожиданному «символу». Да и сам он недаром получает от Аполлона
название symbolos (м. р.) «посредник», т. е. тот, кто осуществляет
встречу между богами и людьми (Hom. hymn. Ill 527), тот, кто близок
в равной мере двум мирам, земному и божественному. Нелишне
вспомнить, что Гермес является также посредником между живыми
и мертвыми, так что принцип соединения, встречи уже заложен в
нем самом. Этот момент взаимной встречи в символе, исконный для
глагола symballo, постоянен во всех случаях употребления этого глагола
у Гомера, будь то встреча людей и богов в бою (Ил., III 70), неожи-
данная встреча с врагом (XX 335) или другом (XIV 39) или встреча
двух рек, сливающихся в один поток (IV 453).
Термин «символ» начисто отсутствует не только в героических
поэмах Гомера,1 но также и в дидактическом и теогоническом эпосе
Гесиода,2 указывая на полное безразличие архаической поэзии к этому
слову, даже в его самом элементарном значении.
Поэты-лирики, как ямбографы и элегики, так и весь мелос клас-
сического времени, не уступают в этом отношении поэтам-эпикам.
В элегиях Феогнида лишь однажды упоминаются «постыдные» (aischra>
символы для «дурных» (cacois) дел (1150) с явным выделением соот-
1 Хотя слово символ отсутствует в древнегреческом эпосе, но символическое
толкование мифов Гомера в античности было повсеместным (Buffi'cre F. Les
mythes d’Hombre et la pensbe grecque. Paris, 1956). Также символически были
истолкованы гомеровские имена: (Rank О. Etymologisierung еп verwante
Verschijnselen bij Homerus. Assen, 1952).
2 Несмотря на отсутствие слова символ у Гесиода, почти все его мифологиче-
ские образы «Теогонии» являются символическими обобщениями. Есть работы,
посвященные Хаосу, Ночи, Эфиру в их дальнейшем философско-художественном
развитии: Lossev A. Chaos antyezny.— «Meander», 1957, № 9, S. 283—293;
Ewolucja pojfci nocy u starozytnoscy na tie przemian spolecznohistoryeznych. —
«Meander», 1969, № 3, S. 103—115 (ср.: Античная ночь и социально-историческое
сознание древних. — «Acta conventus» XI «Eirene». Warszawa, 1971, S. 355—366).
Символике античной Ночи посвящена специальная статья К. Рамну
(Ram по их С. Histoire d’un symbole. Histoire antique de la nuit, p. 220). Автор
доказывает, что Ночь — это символ тяжелых испытаний при переходе к послед-
ним ритуальным посвящениям. Вообще символике «ночного» и «дневного» отве-
ден ряд глав в книгах французской исследовательницы (Ramnoux С. Etudes
prbsocratiques. Paris, 1970, р. 191—297; La Nuit et les Enfants de la Nuit dans la
tradition grecque. Paris, 1958).
Термин «символ* в древнегреческой литературе
JJJ
ветсгвия самого дурного дела и его внешнего проявления, которое
выражено через особый признак, какую-то примету. Здесь слабый
намек на символ как осязаемый физический знак чего-то нематери-
ального, относящегося к этической сфере.
Когда Пиндар говорит, что никто из живущих на земле не получил
еще от богов достоверного символа о будущем и ум людей слеп к
предстоящему (01. XII 7), он имеет в виду проявление божественной
воли в таинственных знамениях, так и не раскрытых слабым челове-
ческим разумением. Эта неспособность смертных прочитать в осяза-
емых символах имматериальную мысль божества приводит к разрыву
настоящего и будущего, подтверждает традиционную ограниченность
человеческого знания, установленную искони.
Непознаваемость и многозначность символа впервые намечается
здесь у одного из самых загадочных поэтов античности.
Итак, термин «символ» не понадобился ни Архилоху, ни Сафо,
ни Алкею, ни Симониду Кеосскому, ни Вакхилиду и только однажды
и случайно был обронен Пиндаром.
Греческие трагики, можно сказать, тоже вполне равнодушны к
символу.
Эсхил говорит о «символе огня» (Agam. 8), оберегаемом стражей.
Сигнальный костер, возвестивший о победе над троянцами, является
символом и свидетельством (tecmar, 315) этой победы. Хор поет об
ожидании «добрых символов» (terpna ... xymbola, 144). Всюду здесь
сразу бросающаяся в глаза чисто физическая знаковая внешняя сторона
символа. Для нее не требуется никакого толкования, в отличие от
символа (symbolos м. р., Prom. 487) «дорожной приметы», которая
как раз обязательно нуждается в разгадывании тайного смысла.
Совершенно равнозначен Эсхилу Софокл с его символом горя, т. е.
муками Филоктета (Philoctet. 403, ср. 884 symboiaia в том же смысле),
или символом как свидетельством воли божества, которое не было
доступно Эдипу (О. R. 221).
У Еврипида символ — намек, понятный для посвященного в дело
(Orest. ИЗО), знамение Феба (Rhes. 573), очевидное (saphes) свиде-
тельство (220), знак дружбы или прощения (Med. 613), приметы,
известные только близким (Ion. 1386, Hel. 291). Электра убеждает
свое сердце символами, доказывающими признание ею брата (Е1. 5П).
Несколькими стихами выше (572) слово character «характер», а ниже
(575) — tecmerion «свидетельство» подчеркивают в совокупности с сим-
волами совпадение неповторимого характерного признака брата (шрам
над бровью) с личностью Ореста. Объединение трех дополняющих
ДРуг друга понятий (character, symbolon, tecmerion) создает впечат-
ление непререкаемой идентичности знака и означаемого.
Аристофан упоминает иронически о символе — судейском черепке,
тессере (Pint. 278; Eccl. 296) или свидетельстве (Av. 1214), которое
Здесь же иначе называется печатью (sphraggida, 1213) на разрешение
334
А. А. Тахо-Годи
того или иного действия. Аристофановский xymbolon «птица», «до-
рожная примета» (Av. 721), «договор» (I, 278. Kock), «примета» (Av.
721) или «маленькая монетка» (фрг. I 44).1
Мы видим, что всей классической поэзии, можно сказать, совсем
чуждо употребление слова символ.
Однако не лучше обстоит дело с классической прозой. Фукидид
совершенно не знает символа. Символ как опознавательную табличке
лишь однажды находим у Геродота (VI 86). В роли доказательства у
него выступает тоже лишь однажды равнозначный символу symbolaion
(VI 86).
Ксенофонт ничуть не оригинален в употреблении символа в ка-
честве приметы для гадания (Мет. 11,3) или знака, удостоверяющего
личность (Inst. Суг. VI 1, 46 об Абрадате, узнавшем печать своей
жены Панфии), что можно вполне сравнить с гомеровскими «знаками»
(semata), известными только супругам, Одиссею и Пенелопе (Od
XXIV 109, ср. также у Еврипида Helen. 298, где semata соседствует
с xymbol’, 291).
Ораторская проза IV в. до н. э. изредка употребляет слово символ
как указание на тессеры для голосования (Demosth. XVIII 210), до-
говоры между городами и гражданами (VII 11, 12, 13, XXI 173;
Antiphont. V 78) или свидетельство (Demosth. XXIII 83; XV 4; Epist
II 4).
Лишь однажды Исократ называет ораторское искусство «символом
нашего воспитания» (Panegyr. 49). Другие ораторы вообще не упот-
ребляют этого слова даже в чисто бытовом значении, причем символ
(symbolaion) в смысле торгового договора и соглашения повсеместно
заменяет у них символ (symbolon) в том же значении.
Философская проза досократиков также редко обращается к сим-
волу, однако в нем все более отчетливо выделяются значения, менее
всего известные классике.
Если у Анаксагора (В 19 D) радуга — простой знак (symbolon)
дурной погоды, то, по Демокриту, люди, создавая речь, «в общении
друг с другом стали устанавливать [словесные] символы, относительно
каждой из вещей» (В 5, 1). Явно, что слово как символ вещи не
может оставаться только на ступени простейшего знака. Оно глубоко
и всесторонне выражает характерные свойства вещи, ее сущность, не
передаваемую элементарным знаком. В свернутом, кратчайшем виде
слово передает всю бесконечность вещественного мира во всех его
взаимосвязях.
Старинное значение символа — знака гостеприимства Эмпедокл
возводит на совсем иную, качественно новую ступень. Мужское и
женское начала, по Эмпедоклу, заключают в себе как бы половинки
1 Из всей древнеаттической комедии можно указать еще три текста со словом
символ в бытовом значении (Архипп 18 Kock и Гермипп 114, 61).
Термин «символ» в древнегреческой литературе 335
символа, ребенок же — это некое целое, которое исходит от стремя-
щихся к единению половинок (В 63).1 Значит, символ, разделенный
на равные части, должен обязательно соединиться в нечто третье, и
это третье не механически составленное целое, а совсем новая неви-
данная целостность, в которой можно угадывать бесконечность скрытых
качеств и свойств.
Для философов-пифагорейцев характерно «символическое»
(symbolicos) и «божественным образом» (mysticoi tropoi) изложенное
учение (Pyth. 58 С. 2). Слушатели Пифагора именовались или «ма-
тематиками», подробно разрабатывающими вопросы, или «акусмати-
ками», воспринявшими «символический» метод Пифагора с изложением
главных оснований его учения (Hipp. 18, 2).2 Символы его и акусмы
как два пути истолкования тайны всегда составляли два пути пифа-
горейского исследования (Pyth. С.). Анаксимандр даже написал «Изъ-
яснение пифагорейских символов» (Pythagor. 6), содержащих десятки
запретов и предписаний в чисто бытовом обиходе у последователей
Пифагора (например, «не шагать через весы», «огонь ножом не раз-
гребать», «не вкушать целого хлеба» и т. д. и т. д.), но имеющих
тайный смысл, как и в учении орфиков (Orph. В 23). Известно, что
члены пифагорейского сообщества опознавали друг друга по тайному
символу (Pythagor. 73), доступному лишь посвященным.
Таким образом, досократики выдвигают на первый план таинст-
венный смысл символа (пифагорейцы), его обобщенность, данную в
свернутом виде при обозначении предмета (Демокрит), понимание его
как некоего единораздельного единства (Эмпедокл). Все эти три мо-
мента, высказанные интуитивно и как бы случайно, укрепятся и
станут неотъемлемыми при выработке понятия символа в эпоху поздней
античности.
Философская классика в лице Платона почти не дает нам ничего
оригинального по сравнению с классической поэзией и прозой. Символ
для Платона равносилен знаку («монета — знак обмена», R. Р. II
371 Ь). Скрываясь от происков сиракузского тирана, Платон услав-
ливается с друзьями ставить в начале письма особый знак, указы-
вающий на то, что это письмо подлинное (Epist. XIII 360 а) или
что это письмо пишется с серьезными намерениями (ХШ 363).
В знаменитой речи комедиографа Аристофана за пиршественным
столом — забавный рассказ о людях-половинках, рассеченных надвое,
когда «каждый ищет всегда соответствующую половину» (anthropoy
symbolon, Conv. 191 d), — мы явно чувствуем реминисценции из
Эмпедокла, мир которого наполнен такими вот рассеченными суще-
1 У Эмпедокла смешение противоположных первооснов также в В 22, 26, ср..
Платон Legg. 889 с.
Пифагорейская доктрина и ее символы обследованы в известной книге:
Hdatte A. Etudes surla literature Pythagoncienne. Pans, 1915.
336
А. А. Тахо-Годи
ствами и отдельными членами человеческого тела (В 20, 57, 58),
стремящимися к единению (В 59, 61, 62). Правда, Платон устами
Аристофана рисует целую художественную картину, вплоть до мель-
чайших деталей. Аполлон рассекает людей соразмерно и изящно, как
будто яйцо разделяется пополам тонким волоском. Здесь и странствия
этих половинок, и тоска их друг по другу. Однако в своей основе
это вариант Эмпедокловой модели — поиски единораздельной цело-
стности, которая только и может стать истинным бытием для символов,
жаждущих полноты слияния.
Аристотелевский символ представляет собой соединение уже целого
ряда тенденций, в которых, как всегда, проявляется ученая эрудиция
философа. Здесь понимание символа как судейской тессеры (фрг. 420
Rose), договоров и соглашений между народами в традиционном духе
классической поэзии и прозы (Polit. Ill 9, 1280 а 37, 39; фрг. 378
1541 а 10, 9; фрг. 380, 1541 b 3).
Здесь же — символ как свидетельство и признак, по которому
узнается дотоле неизвестное (Rhet. Ill 16, 1417 b 2; III 15, 1416 a 36),
или обычная примета (Meteor. II 4, 360), или знак внутреннего
состояния, когда голос, например, выражает страдания души (De
interpret. 1, 16. а 4; 14, 24 b 2). Иной раз Аристотель прямо упоминает
пифагорейские символы-предписания (фрг. 192, 1512 а 40) или цити-
рует Эмпедокла о символе как целостности двух половинок (De gener.
animal. I 18, 722 b 11).
Самое исконное значение символа как соединения и связи исполь-
зуется Аристотелем в его учении о взаимном переходе первичных
элементов (stoicheia) воды, земли, воздуха и огня один в другой. Чем
больше «связей» (symbola) имеют между собой элементы (stoicheia),
тем быстрее происходит у них взаимопереход (metabasis; De gener. et
corr. II 4, 331 a 24, 34. 5, 332 a 32). Используя учение Эмпедокла о
целом и частях в рецепции Платона, Аристотель вводит его уже не
в естественно-философский или художественно-философский контекст,
как это было у его предшественников, а делает обобщения научно-
естественного, этического и социального характера. Все противопо-
ложное (enantia) стремится друг к другу как половинки (symbola)
(Eth. End. VII 5, 1239 b 31). Теплое и холодное, сухое и влажное,
дружба и неприязнь как бы дополняют друг друга, ибо противопо-
ложное «полезно» противоположному, в то время как подобное «не-
полезно» подобному.1 Вот почему «господин нуждается в рабе, а раб
1 В греческой традиции существовало и другое учение о стремлении подобно-
го к подобному, еще начиная с Гомера (Od. XVII 219). См. свидетельство
Аристотеля о натурфилософах (31 А 20 а), а также тексты Левкиппа (67 А 1).
Демокрита (68 А 99 а — «подобное стремится к подобному»), Филолая (44 А 29)
Не чужд этой идее Платон (Conv. 195 b, Lys. 214 b, Phaedr. 240 с, Prot. 337 с d),
псевдо-Ксенофонт (Ath. Polit. Ill 10 сл.) и сам Аристотель (Rhet. I 11, 1371 b).
Термин «символ» в древнегреческой литературе 337
в господине, а жена нуждается в муже». Принцип дополнительности,
LaK и в стремлениях первичных частиц (stoicheia) к взаимопереходу,
'проводится Аристотелем повсеместно. И всюду здесь символы то как
гами связующие звенья, то как влекомые силой этих связей проти-
воположные частицы.
। В «Политике» Аристотель, используя старинную Эмпедоклову мо-
дель, применяет ее к социальным процессам, происходящим в госу-
дарстве (IV 9, 1294 а 35). Оказывается, надо разграничить олигархию
й демократию, а потом поступать, как люди, связанные узами гос-
теприимства, со знаками (hosper symbolon lambanontas syntheteon),
по которым они узнают друг друга, т. е., разломив эти знаки на две
части и «взяв от каждой из них по половине, сложить их вместе».
Таким образом, прежде чем создать единое общество, необходимо
разграничить олигархию и демократию, а затем, взяв от каждой из
них по половине, соединить в новую целостность, лишенную крайно-
стей обеих и обладающую совершенно новым качеством. Внешне Ари-
стотель здесь как будто бы очень далеко ушел от Эмпедокла с его
наивной теорией порождения- потомства. Но, по сути дела, идея еди-
нораздельной целостности символа остается здесь нетронутой.
Также почти нетронутой остается у Аристотеля и мысль Демокрита
об имени (опоша) как символе (symbolon). Здесь — старинная теория
о наименовании не по природе, а по договору или установлению
(synthece), когда вместо подробного описания вещи вполне достаточно
символа, который свидетельствует о вещи так же выразительно, как
лишенный всяких букв камешек для голосования, выразительный и
понятный сам по себе (De interpr. 2, 16 а 28). Для Аристотеля каждое
из имен есть «символ» (De sens, et sensibil. 1, 437), и «мы пользуемся
именами-символами вместо вещей» (tois onomasin anti ton pragmaton
chrometha symbolois; Soph, elench. 1, 161 a 8).1
Принципиально нового в понимании символа в сравнении с обще-
греческой традицией мы у Аристотеля не находим, но он как бы
подытоживает всю греческую классику, отбирает и укрепляет значения
символа, выработанные ею, придает им отпечаток непреложного, на-
учно подтвержденного свидетельства. Это тем более важно, что, на-
пример, слово символ не встречается ни в одном из эпикурейских
Фрагментов, ни в дошедших фрагментах древних перипатетиков. Древ-
няя Стоя также совершенно не знает этого слова, если не считать
одного упоминания у Хрисиппа (SVF II фрг. 909 Агп. в смысле знака,
СР- также II фрг. 186 наречие symbolicos). Аристотель, собственно
Говоря, является последним классическим философом, оперирующим
- О понимании символа в логике Аристотеля см.: SziIasi W. Macht und
UHnnJacht des Geistes. Berlin, 1946, S. 287, 291 u. f.
338
А. А. Тахо-Годи
термином, который наберет силу только в философских системах
поздней античности.1
Все тексты классической античности со словом символ поражают
одной главной особенностью: они всегда утверждают символ как та-
ковой, не связывая его ни с каким объектом, символом которого он
мог бы явиться. Всюду мы встречаем символ сам по себе, в его чисто
предметной образности. В классических тестах символ есть нечто, но
никогда не есть символ чего-то.1 2 Грамматически это выражено тем,
что слово символ не имеет при себе дополнения. Оно само себя вполне
удовлетворяет и не нуждается ни в какой соотносимости с чем-то
посторонним, совсем иным. Те моменты, которые должны совпасть в
символе, чтобы породить нечто совершенно иное, новое и вместе с
тем целостное в своем единстве с исходными моментами, здесь не-
посредственно тождественны друг другу или замещают один другой,
не порождая никакого принципиально нового представления. Символ
в классической греческой литературе ни на что не указывает, а если
иной раз, крайне редко, все-таки указывает, то на самое очевидное,
видимое, прямо находящееся перед глазами. Символ в таком случае
ничем не отличается от знака и даже отождествляется с эмблемой.
Если Эсхил (Agam. 8) говорит о костре, что это «символ огня» или
«света», то мы находим здесь даже чистую метонимию, потому что
свет как один из признаков огня вполне заменяет его самого. Когда
Софокл пишет о видимых ужасных страданиях Филоктета как о
символе горя (Philoct. 403) или несчастья (884), то здесь символ
указывает на нечто настолько очевидное, что играет роль обычного
знака или свидетельства. Когда Еврипид в «Ионе» говорит о символах
матери, т. е. вещах, оставленных матерью при подброшенном младенце
(1386), то здесь символ становится самой обычной эмблемой. Также
эмблематичный символ, т. е. печать Панфии, по которой муж узнает
свою жену (Xen. Inst. Cyr. VI 1, 46), или повсеместное упоминание
символа как опознавательных табличек, наименование монеты сим-
волом обмена (Plat. R. Р. II 371 Ь), радуги как символа дурной погоды
(Anaxag. В 19). «Символы в голосе» указывают у Аристотеля на
1 Символической геометрии космоса у античных философов Платона, Ари-
стотеля и Плотина, а также у Николая Кузанского, Кеплера и Ньютона
посвящает специальную главу своей книги Г. Блюменберг (Blumenberg Н.
Paradigmen zu einer Metaphorologie. Bonn, 1960, S. 125—142), подчеркивая жиз-
ненный характер символики вообще. «Разрушение символа (геоцентрической
системы. — А. Т.-Г.) влечет за собой волю к уничтожению реального базиса», —
писал Г. Блюменберг (с. 124).
2 Ср. подобное рассуждение Ф. Фонессена, который подчеркивает, что в
античности мыслится символ «из чего-то, т. е. соединение, синтез каких-то двух
начал, а не символ чего-то» (Vonessen F. Der Symbolbegriff in Gnechischcn
Denken. — In: Bibliographic zur Symbolik. Ikonographie und Mythologie. Baden-
Baden, 1970, S. 8).
Термин «символ» в древнегреческой литературе
339
кгушевные страдания человека (De interpr. 1, 16 а 4; 14, 24 b 2), т. е.
Слышимые знаки соотносятся непосредственно с тем, что они означают.
I Несколько исключений, которые мы выше привели на указующую
роль символа, только подтверждают наш вывод, что и в этом случае
символ ни на что противоположное ему или вообще иное не указывает.
Даже являясь символом чего-то, он вполне соответствует этому чему-то
И, более того, часто прямо тождествен с ним.1
Среди всей классической традиции подлинное значение символа,
основанного именно на совмещении противоположных начал, мы на-
ходим только в пифагорейских и орфических текстах и в нескольких
текстах из Эсхила (Prom. 487 symbolos, Agam. 144), Еврипида (Rhes.
573), Демокрита (В 5, 1), Эмпедокла (В 63), Платона (Conv. 191 d),
Аристотеля (De sens, et sensib. 1, 437; Soph, elench. 1, 161 a 8).
Такое редкостное исключение лишь подчеркивает полное отсутст-
вие в литературе классической Греции стремления выразить, закрепить
и оформить в слове явление символизации, которое существовало еще
неосознанно, но чрезвычайно широко, будучи вовлеченным в стихию
мифотворчества со всеми его. излюбленными для античной классики
художественными функциями.
Минуя раннюю эллинистическую поэзию (Аполлоний Родосский,
Феокрит, Ликофрон, эпиграмматисты, Менандр и вся новоаттическая
комедия), где только у Каллимаха трижды встречается символ в
значении «знак», «свидетельство» (ПО, 13; фрг. 384, 36 — символ
борьбы, фрг. 59, 7 — символ победы), обратим внимание на поздний
эллинизм, и прежде всего на Плутарха.
Тексты Плутарха со словом символ в большей части своей как
будто вполне традиционны и ничем не отличаются от всей предше-
ствующей традиции. Символ есть не что иное, как сигнал к битве
(maches... symbolon), который в виде пурпурного хитона (phoinicoys
chiton) вывешивается перед палаткой военачальника или на носу
корабля (Pomp. LXVII1; Brut. LX; Anton. XXXIX; Lysandr. XI). Он —
условный знак к убийству, который подает Антоний, уронив чашу с
вином и ударяя мечом Сертория (Sertor. XXVI). Это опознавательные
знаки родства, которые Тесей по велению матери достает из-под
камня, так называемые отцовские символы (ta patroia symbola. Thes.
VI); знаки царского достоинства (Marcell. VII; Compar. Cimon. et
Lucull. Ill); свидетельство гостеприимства Пирра (Pyrrh. XX) или
свидетельство дружбы Клеарха (Artaxerx. XVIII), любви и свободы у
«Символ в широком смысле слова, — полагает Ф. Бюффьер, — есть знак,
*°кЧ)ый напоминает зрению или разуму о различного вида реальности». Связь
между моментами символа или основана «на естественном соотношении вещей,
Устанавливается искусственно», причем «этот символизм всегда достаточно
субъективен и меняется в зависимости от точки зрения» (Buffi'ere F. Les
®ythes d’Homere et la pensee grecque, p. 51).
340
А. А. Тахо-Годи
Пелопида (Pelopid. XX), супружеской любви (Coniug. praec. 10), деяний
поэтов и воинов (De gloria athen. 6; здесь примечательно объединяются
вместе symbola u parasema «символы» и «признаки»).
Знаковость символа здесь выступает на первый план и иной раз
граничит с обычной эмблематикой. Пурпур хитона и пурпур крови —
вполне очевидный знак для сражения, «отцовские символы» Тесея
имеют несомненные признаки принадлежности его роду; привычные
знаки царского достоинства или перстень близкого человека сразу
напоминают о том, кому они принадлежат. Они указывают зримо,
непосредственно; за этими вещественными знаками-символами стоит
тоже вполне видимый и знакомый предмет, который одним своим
видом говорит сам за себя. Он не нуждается в толковании. И даже
чаша вина, опрокинутая Антонием, вполне удобный и быстро пони-
маемый знак для убийства Сертория. Как не понять погубленную
жизнь и пролитую чашу вина. Здесь нет почти никакой разницы с
эсхиловским символом огня, который охраняет страж в «Агамемноне».
Это есть не что иное, как сигнал, оповестивший о победе. Вместо
символа огня, т. е. знака огня, вполне можно сказать просто «огонь»,
«огненный знак», «огненный символ». За этим чисто материальным
чувственным огнем не скрывается ничего бесконечного, что еще нуж-
дается в дополнительном толковании. Каждый знает, что костры,
огненные знаки, зажженные в урочный час, оповещают о победе.
Здесь есть момент определенной обусловленности, договоренности,
заранее принятой. В зависимости от характера события огненный знак
может быть радостью победы, но он может быть и горечью поражения.
В качестве аналогии можно было бы привести дымные костры на
сторожевых вышках и тревожный колокольный набат Древней Руси,
также заранее обусловленные и принятые в число опознавательных
знаков, не нуждающихся в особом истолковании их очевидной эмб-
лематики, которая проявляется даже в самом их зримом или слуховом
образе. Ни знак, ни тем более эмблема не требуют усилий для
запоминания и вызывают совершенно точные ассоциации, соответст-
вующие необходимым, заранее принятым условиям.
Но вот когда Плутарх толкует черепаху, которую попирает ногами
Афродита, изваянная Фидием, как символ охраны дома (oicourias) и
молчания (slopes), присущего женщине (Coniug. praec. 32), или ля-
гушек, изображенных в коринфском святилище как символ и признак
(parasemon) влажных паров, питающих солнце (De Pyth. or. 12), то
здесь уже писатель дает простор своей фантазии. Но и необходимо
отличить эту вольную интерпретацию Плутарха (недаром он говорил
только предположительно) от всем известной и принятой, когда петух
толкуется у него символом рассвета, лягушки — символом весны (De
Pyth. or. 12), а сельдерей (selinon) —трава печали и траура — сим-
волом дурного предзнаменования (Quest, conv. V 3, 2). Здесь та
общепринятая знаковость и даже эмблематичность, которая по своей
Термин «символ» в древнегреческой литературе
341
Традиционности близка к дорожным приметам эсхиловского «Проме-
тея» и к символике птицегадания (Numa VII), составляющим издавна
установленную систему знаков. Зато гений Сократа, подающий свой
голос с помощью символов (Nic. XIII, De gen. Socr. 22), или воля
богов, выраженная не грубо, будто понукающими вожжами (henias),
но особой наукой (logoi) через символы, о которых толпа (hoi polloi)
обычно не имеет понятия (apeiros echoysin; De gen. Socr. 24), уже
заставляет задуматься о сложности этих загадочных, вполне личных
иди эсотерических символов. Примечательно, что Плутарх, соединяв-
ший должность жреца Дельфийского храма и римского прокуратора,
рационально объясняет таинственность божественных символов (De
gen. Socr. 10). Он полагает, что знак, поданный голосом (cledon), или
какой-либо символ сам по себе слишком слеп и легковесен, чтобы
направить к действию тяжелый ум человека (embrithe dianoian). Од-
нако при колебании двух решений знак (symbolon), вовремя поданный,
устраняет затруднение, поддерживая одно из мнений. В результате
равновесие альтернативы нарушено и воля человека устремляется
вперед, делая определенный вывод. Значит, мантический символ об-
ладает в данном случае значением, дополняющим самостоятельный
выбор человека. О священных символах (mystica symbola) таинств
Диониса (Consol, ad uxor. 10), о символических предписаниях Пифа-
гора (Quest, conv. VIII 7, 1) Плутарх говорит как о чем-то очевидном,
полагая также, что достойны похвалы те, кто вместо излишних слов
изъясняется «символически».
Отличие глубоко толкуемого символа от внешних «признаков»
хорошо выражено Плутархом в его замечании, что льстец прикрывается
«символами» (symbolois) друга (Quomodo adul. ab amic. internosc. 17).
Собственно говоря, здесь уже заранее имеются в виду какие-то ви-
димые, всем известные признаки, по которым узнается друг, и за
этими «символами» у Плутарха не скрывается ничего, что еще ожидало
бы размышления и догадки. Вот именно эта «видимость» и отличает
символ от знака.
Из текстов Плутарха видно, как устойчиво и традиционно сохра-
няется в символе самое древнее, исконное значение соединения, встре-
чи двух начал. Но это соединение настолько бросается в глаза, на-
столько устойчивое, повторяющееся, ставшее привычным, что один
предмет вполне может заменять другой, становиться его знаком, по
которому всегда можно увидеть, на что он указывает. Оба начала
соединяются, заменяют одно другое, но здесь еще пока не дано того
третьего, той особой целостности, которая нуждается в толковании и
Догадках, так как в ней уже рождается особая предметность, не
?идимая и сразу заметная, а требующая размышления и анализа,
‘врвичная знаковая сторона символа постоянно дает себя знать. И не-
чего удивляться, если даже у неопифагорейцев в их замысловатой
символике (Diog. De regn. 75, 14; Thesleff, Tripart 172, 1; fr. inc. 186,
342
А. А. Тахо-Годи
6; Hier. log. lat. 168, 11) мы находим совершенно равноценное упот-
ребление символа и знака как одного понятия. Феаг в своем сочинении
«О добродетели» так прямо и утверждает (191, 7 Thesleff), что therms
(«Фемида») у небесных богов, dica («Дика») у земных богов и nomos
(«Закон») у людей есть знаки (sameia) и символы (symbola) справед-
ливейшей и наивысшей добродетели (aretan).
Значит, в сознании наследников Пифагора, создателя целой сис-
темы эсотерической символики, все еще сохраняется понимание ее
знаковой стороны. Этому, правда, немало способствовала строгая тра-
диционность пифагорейских символов, в которой постепенно тайная
их сторона оказывалась достоянием немногих, а внешние ее признаки,
ее, так сказать, знаковая система была доступна всем, даже непосвя-
щенным, и воспринималась уже чисто внешне, без всякого проник-
новения в глубины ее истинного символического смысла. Поэтому
признак (parasemon), знак (sema, sameia), символ (symbolon,
symbolaion, symbolos) в самом широком, деловом, литературном и
философском обиходе употреблялись часто в равной степени, иной
раз заменяли друг друга, соседствовали и объединялись в одно, пока,
наконец, поздняя античность не поняла в символе его первичную
элементарную модель двух встречающихся начал как рождение того
единства, которое уже ничего общего не имеет с тем, что его породило,
совершенно лишено всякого намека на примитивную знаковость и
поэтому требует огромного мыслительного усилия для понимания всей
бесконечной глубины символа. Но поздняя античность имела своих
предшественников в лице Демокрита, Эмпедокла, Платона и Аристо-
теля с их утверждением символа как специфической единораздельной
целостности.
Безыскусственность символа, его вполне естественный повсемест-
ный характер были глубоко поняты Эпиктетом, выразившим, видимо,
тот общестоический взгляд на символ, который остался нам недоступен
из-за фрагментарности наследия древней Стой. Вполне в согласии с
учением стоиков о природе-художнице, мастерице, ваятельнице Эпи-
ктет видит ее в преизбытке сотворенных ею символов. Каждый символ
«прекрасен» (calon), «благолепен» (eyprepes) и «значителен» (semnon,
Dissert. I 16, 13), но его еще надо увидеть (1 16, 12). Эти чисто
жизненные символы ничуть не хуже символов, созданных божеством
(ta symbola toy theoy), под которыми стоики понимают природу. Их-то
и надлежит бережно сохранять (sodzein), так как они обладают той
целостностью, которая утеряна разделенностью жизни (I 16, 14).
В символе совмещаются явление и его сущность.1 Именно поэтому
философы познают мир не иначе, как в символах (en de tois symbolois)
1 А. Диттман отмечает, что в символе схватывается «способ соединения
явления и того, что за ним смысловым образом находится и ускользает без этого
единения» (Di 11 ma n n L. Stil, Symbol, Structur. Mtmchen, 1976, S. 84).
Термин «символ» в древнегреческой литературе
343
Ц судить о внутренней, глубокой сущности предмета надо по внешнему
ее проявлению. Но для этого требуется определенная прозорливость.
Человек, который ничего не видит в простейших жизненных актах —
ходьбе, еде, сне, питье («по ним меня суди, если можешь», — говорит
Эпиктет) и не замечает «прекрасной меди Гефеста» в предмете изва-
яЯИя, — такой человек глуп, слеп и глух (IV 8, 20). Символы, которые
исходят от природы (para tes physeos), должны быть восприняты
воображением (phantasian III 12, 15). Душа человека и ее «господст-
вующее», «ведущее» начало (hegemonias) обладают символами, коре-
нящимися в природе (III 22, 99).
Таким образом, оказывается, что и душа, и воображение человека,
и его повседневная деятельность основаны на символах, но уже особого
рода, а именно на соответствии явлений природы с их сущностью.
Только степень глубины и раздробленности (ta gene ta dieiremena)
отделяет эти жизненные символы от высших, божественных, прекрас-
ных в своей целостности (I 16, 14). Принцип же их формирования
один и тот же. Так, великое созидающее божество, природа, творя
целый мир символов, проецирует их в сферу созерцательной и дея-
тельной человеческой жизни. Задача любителя истины — вскрыть глу-
бину замыслов природы за обманчивой простотой элементарных по-
ступков человека, а это значит мыслить символически.
Именно представление о мире как средоточии символов заставило
философов-неоплатоников с необычайной последовательностью и упор-
ством толковать бесконечное многообразие космической и человеческой
жизни в плане чисто символическом. Правда, неоплатонизм как по-
следняя великая философская школа античности впитал в себя эле-
менты стоического платонизма и платонически понятого аристотелиз-
ма, совместив это с интересом к древним натурфилософским матери-
альным стихиям.
В плоском и трезвом мире, лишенном сущностной реальности
мифа, неоплатоники искали новые ценности, пытаясь то реставриро-
вать этот ушедший в прошлое миф, то заново его понять, увлекаясь
экзегетикой и интерпретаторством. А это, в свою очередь, вело к
созданию символических конструкций, так как рационально и кате-
гориально понятый древний миф превращался, естественно, в лучшем
случае в символ, в худшем же — в аллегорию. Правда, на первых
порах, привлекая мифологическую архаику к своим теоретическим
построениям и разыскивая в связи с этим в ней некий таинственный,
скрытый смысл, неоплатоники даже и не употребляли самого слова
символ, так как для них было вполне достаточно возродить миф как
предмет бесконечных умственных толкований. Этот новый творимый
ИМи миф есть как бы внутренняя сторона древнего мифа во всей его
*Уткой реальности. Новое слово здесь излишне, так как старое их
J4e вполне удовлетворяет, а попытки возродить и понять древнюю
УДрость кажутся пока еще вполне реальными.
344
А. А. Тахо-Годи
Более того, знаковая сторона символа, столь обильно представлен-
ная традицией, чужда неоплатоникам именно благодаря своей слишком
непосредственной, неприкрытой указуемости на объект, лишенный
загадки и тайны.
Отсюда то удивительное явление, что, ни разу не упомянув символ,
основоположник неоплатонизма Плотин непрестанно использует древ-
ние мифы именно в их символическом обличье.
Скудно представленный в греческой классике, почти в ней отсут-
ствующий субстанциальный символ, собственно говоря, даже излишний
в эпоху, когда все еще дышит и живет мифом или его отблесками
должен проявиться только на склоне античности как редуцированный
эквивалент мифа, лишенный всякой грубой наглядности, всякого на-
рочитого указания, доступного и понятного каждому, а значит, ли-
шенного своей давнишней непосредственной и дорефлективной знако-
вой стороны.
Но для Плотина слово символ еще слишком поверхностно-элемен-
тарно по сравнению с мифом. Поэтому в огромном наследии Плотина
символ не только не закреплен терминологически и никак не сфор-
мулирован, но и не встречается ни разу, за исключением ссылки на
пифагорейцев, обозначавших имя Аполлона символически (symbo-
licos), как отрицание множественности (V 5, 6, 27). Однако для своих
самых отвлеченных теоретических рассуждений Плотин то и дело
привлекает символически понятые мифы, хорошо известные всем по-
колениям: древние из Гомера и Гесиода, поздние, созданные Платоном
или сохранившиеся в эллинистическо-римской литературе. Плотин в
рассуждениях о трех ипостасях использует гесиодовский миф об Уране,
которого оскопил Кронос, и о Зевсе, низвергнувшем своего отца ради
создания нового поколения богов (V 1, 4; V 5, 3; V 8, 13 Hen. —
Schwyz.). Мировая душа есть не что иное, как Афродита (V 8, 13),
роль которой проявляется в мифе об Эросе и Психее (VI 9, 9). Деметра,
она же Гестия, толкуется в качестве Души и Ума, заключенных в
телесной земле (IV 4, 27, 30). Размышляя о Душе, потерявшей чистоту,
Плотин видит намек на нее в мифе о судьбе возлюбленного Эос
Титона, для которого главное зло не смерть, а бесконечная жизнь (1
7, 3). Соотношение силы и ума Плотин видит в мифе об Эпиметее
и Пандоре, Прометее и Геракле (IV 3, 14). Эпиметей не дает Пандоре
никакого ощутимого дара, так как лучший дар — это ум, а он его
начисто лишен. Геракл освобождает Прометея, так как в нем вопло-
щена сила. Сам же Прометей прикован благодаря той, которую он
сам создал, т. е. благодаря Пандоре. Платоновский миф о рождении
Эроса от Пении и Пороса толкуется как действие Афродиты, заста-
вившей логос (Порос) оплодотворить Душу (Пению). Афродита
есть порождение высшей мировой души, соединенной с Кроносом 11
Ураном (III 5, 2). Миф о Гиласе, похищенном нимфами, есть не что
иное, как падение души, которая охвачена телесной красотой (I
Термин «символ» в древнегреческой литературе
345
g) Вообще тело препятствует памяти, так как оно текуче и изменчиво.
Поэтому оно — причина забвения. Отсюда понятен смысл реки забве-
ния Леты. Забывая тело, мы пробуждаем воспоминания (IV 3, 26).
Увлечение Одиссея Киркой и Калипсо — это чувственное наслаждение
красотой, которая не может принести удовлетворения. Одиссей стре-
мился вырваться из чар Калипсо и Кирки как человек, который хочет
подняться к умопостигаемой красоте (I 6, 8 «О красоте»). Знаменитый
миф о Геракле, тень которого Гомер помещает в Аиде, а его самого —
среди небожителей, объясняется у Плотина тем, что благодаря своей
«калокагатии» герой достоин быть причастным богам, но так как он
человек действия (practices), а не интеллекта, необходимого для об-
щения с бессмертием, то часть Геракла находится вверху, на Олимпе,
а часть внизу, в царстве мертвых (I 1, 12, ср. IV 3, 27, 32). Миф о
Миносе — собеседнике Зевса и создателе лучших законов в память о
своих беседах с божеством — толкуется Плотином как приближение
мудреца к высшему Благу, которое находится вне человека, но не-
видимо связано с ним и способствует передаче плодов своего созерцания
другим людям (V 9, 7).
Плотин, таким образом, оперирует мифом всегда иносказательно,
но не в духе примитивной аллегории (кстати, термин «аллегория»
целиком отсутствует у Плотина), а в духе очень сложной и развет-
вленной символики, так как все мифы, перечисленные выше, можно
понимать в разных направлениях, с любой углубленностью и беско-
нечностью. В рассуждениях Плотина обе встречающиеся половинки
мысли, его собственной и мифологической, столь различны и чужды
друг другу, что ни одна не может быть знаком другой, ни одна не
указывает непреложно на другую.
Здесь все обусловлено только творческой фантазией философа, а
так как она неисчерпаема, то и символическое прочтение мифа бес-
конечно по своим возможностям.
Ученик Плотина Порфирий, по словам своего учителя, поэт, фи-
лософ и гиерофант (Porphyr. Vit. Plot. 15), был глубоко убежден в
действенности древних пифагорейских символов (Vita Pyth. 41—42
Nauck) и полагал, что именно «через сны и символы» (di’oneiraton
cat symbolon) благие демоны вещают божественную волю человеку.
Это именно Порфирий создал знаменитый символический комментарий
«О пещере нимф», толкуя в нем гомеровское описание загадочной
пещеры на Итаке (Od. 103—112)? Он детально анализирует «симво-
Символическая разработка неоплатониками ряда гомеровских мифов пред-
7«влена у ф, Бюффьера (Buffiere F. Les mythes d’Homere et la pensee
p. 541—558); священный брак Зевса и Геры, битва богов, золотая цепь
пиршества богов, божественный смех и слезы. Перевод Порфирия и статью
м А. А. Тахо-Годи см. далее в нашем издании с. 557—591.
346
А. А. Тахо-Годи
лическое устройство» (symbolices cathidryseos) пещер (De antro
nymph. 4), а ее саму как символ материи (symbolon... tes hyles, 5),
символ свойств, присущих материальному космосу (symbolon ton
prosonton toi cosmoi dia ten hylen), символ космоса и его потенции
(symbolon cosmoy... cai ton egcosmion dynameon, 9). Самобытность
пещер (aytophyes) давала повод понимать символически все то, что
в них находилось (6), и их самих (9), делая гроты «образом» и
«символом» космоса (21), символом чувственной, а не интеллигибель-
ной материи (7, 10). Символами нимф-гидриад и Диониса являются
каменные чаши в пещере (13). Водяные же нимфы — символы душ,
нисходящих в мир, и влаги (13, 14). Чаши — символы источников
(17), а мед, собираемый в них пчелами, — символ охранительной силы
(15, 16), а иной раз символ смерти (18). Соты и пчелы, в свою
очередь, — символы водяных душ в мире становления (19). Символом
непрерывного становления являются также бобы (19). Вход и выход
в пещеру также символичны (27), так как символом противополож-
ности становится все двухвратное (29, 31). Маслина Афины возле
пещеры — символ божественной мудрости (32).
Трактат Порфирия не просто «интересный пример интерпретации
поэтической мифологии», как об этом упоминал Ф. Уиттекер.1 Вспом-
ним, что перед нами не только умозрительный философ, но и логик,
автор «Введения в категории Аристотеля», да еще наследник орфико-
пифагорейской традиции с ее строго продуманными акусмами и сим-
волами.1 2 Поэтому комментарий Порфирия, состоящий из 36 глав,
представляет собой тщательно продуманную символическую картину
космоса и судьбы душ в нем. Все эти причудливые образы Гомера
получают здесь свое символическое толкование вне всякой гомеровской
специфики, а только в плане истории души, ее нисхождения в мате-
риальный мир, т. е. приобщения к смерти, а затем очищения души
с дальнейшим ее восхождением в небесный мир вечности.3
Философ отказывается воспринимать пещеру нимф узкопозитивно,
ограниченно-прямолинейно, как некоего рода бытовой объективный
факт, или факт природы, т. е. в таком виде, как обычно пишется
история (historia).4 Ибо сама по себе история, т. е. внешнее изложение
1 Wit taker Th. The neoplatonists. 4ed. Hildesheim, 1961, p. 109.
2 О «перипатетической выучке» Порфирия см.: Лосев А. Ф. История
греческой литературы, т. III. М., 1960, с. 386.
3 Об интерпретации Гомера у неоплатоников см.: Friedl A. J. Die Homer
Interpretation des Neuplatonikers Proklos. Wurzburg, 1936. Ф. Верли, известный
историк античной философии, посвятил истории иносказательных толковании
Гомера свою диссертацию еще в 20-х гт. нашего века: W е h г 1 i F. Zur Geschichte
der allegorischen Deutung Homers in Altertum. Basel—Leipzig, 1928.
4 О понятии «история» в античности см.: Тахо-Годи А. А. Ионийское и
аттическое понимание термина «история» и родственных с ним. Эллинисти чес не-
понимание термина «история» и родственных с ним. (далее в нашем издании-
c. 443—458, 459—483).
Термин «символ» в древнегреческой литературе 347
событий, по мнению Порфирия, без их внутреннего осмысления и
наполнения не может дать никакой пищи уму и работе мысли.1 Однако
для автора трактата очевидна также «невероятность» произвольного
измышления пещеры поэтом (cata poieticen exoysian plasson antron
apithanos en, 2). Этот рассказ, полный неясностей, не может быть
«вымыслом» (plasma), «созданным для обольщения душ» (eis psycha-
gogian pepoiemenon, 4). Порфирий правильно замечает, отказываясь
идти по пути только факта (historia) или только вымысла (plasma),
нто «перед нами будут стоять одни и те же вопросы» (oyden hetton
menei ta dzetemata), ибо «древние не основывали святилищ без тайных
символов (symbolon mysticon),1 2 и Гомер не делал бы таких сообщений
без всяких оснований» (4). Лишь выход рассказа о пещере за пределы
обыденного факта и чисто поэтического вымысла дает возможность
вскрыть «древнюю мудрость» (palaias sophias) итакийской святыни и
ее символику.
«Говорить загадками» (ainittesthai) и «говорить иносказательно»
(allegorein) ,3 «тайными (мифологическими) символами» (symbolon
mysticon = mythicon) — значит, по Порфирию, выразить «древнюю
мудрость». Причем миф может иметь самую разнообразную структуру
символов (polla cai diaphora symbola). Полнота, разнообразие и слож-
ность символической картины углубляют миф, выявляют его скрытый
смысл, его тайную сущность.
Порфирий, правда, привлекает для толкования Гомера систему
образов, известную всей античности на протяжении тысячелетия. Но
эта система образов, тесно связанная с древней магией фетишистско-
анимистическим характером архаической мифологии и ее реликтов в
жизни классической Греции, приобрела у Порфирия тоже чисто сим-
волическое звучание.
Учитель Порфирия Плотин уже превратил миф в чистейшее ино-
сказание. Однако он не осмелился назвать его символом. И мы ни
разу не встречаем у Плотина этот термин. Порфирий же вполне
сознательно расчленил в мифе объективный факт действительности и
воображение, объединил их в неразложимое единство и назвал эту
неразложимую единицу символом.4
1 Для Порфирия поэтому важно не слово, а значение его, знаковость
(semainomenon) (Theiler W. Forschungen zinn Neuplatonismus. Berlin, 1966,
2 Данное место читается различно. По-гречески здесь стоит или mysticon
'’мистических», «тайных» символов), или mythicon («мифических»). Порфирий,
скорее всего, имеет в виду миф, выраженный символически.
В работе Э. Хирсмен (Henman А. В. Studies in Greek allegorical
“’’erpretation. Chicago, 1906) аллегорическое и символическое толкования почти
е Различаются.
-^Порфирию принадлежала также не дошедшая до нас работа «О статуях
(Peri agalmatOn), резюме которой сохранилось у Евсевия (Praeparatio
348
А. А. Тахо-Годи
После Порфирия символ вполне прочно и повсеместно входит в
обычную неоплатоническую терминологию. А поскольку неоплатоники
питали большой интерес к древнепифагорейской символике чисел, то
неудивительно, что Ямвлих, представитель сирийского неоплатонизма,
известный своими мистическо-теургическими сочинениями, не раз упо-
минает о пифагорейской символике в «Протрептике» (Protr. 6, 5—8;
104, 27; 106, 8 Pistelli) * 1 и других сочинениях. Он говорит о том, что
пифагорейцы имели свой путь познания (tropos): «математический,,
(mathematicos) и посредством символов (dia symbolon), так как вообще
обучали «символически» (symbolicos; De comm. math, scient. 61, 1—2
Festa). Все сочинение — «Theologumena arithmeticae» (авторство самого
Ямвлиха здесь сомнительно) — посвящено пифагорейски осмысленно-
му толкованию символики чисел. Ямвлих рассуждает о символичности
диады и вообще двоичности (In Nicom. arithm. introd. 30, 19 Pistelli);
о «безмолвных ноуменальных символах» (ton nooymenon... symbolon
aphthegeton; De mysteriis 96, 19 Parthey); о «неизреченных символах,
исходящих от богов» (184, 11, 12).
Неоплатонические комментаторы Платона Олимпиодор, Дамаский,
Иоанн Филопон и Симпликий, комментатор Аристотеля, толкуют уже
не только мифы, а преимущественно тексты великих философов древ-
ности, обязательно обращаясь к понятию символа даже при упоминании
самых незначительных фактов. Так, Олимпиодор вспоминает, что
Платон в «Государстве» говорит о собаке как «символе разумной
жизни» (tes logices dzoes; In Plat. Gorg. Comm. 64, 1—2 Westerink).
Символически следует понимать тысячелетнее странствие души в «Фед-
ре» Платона (In Plat. Phaed. 233, 1 Norvin). Вид тростника, нартекс
(растение титанов), в котором Прометей перенес искру огня из хижины
Гефеста, есть символ «материальной демиургии» (tes enyloy demio-
yrgias) и посредничества. Недаром Сократ тех, кто живет титанически
на манер орфиков, называл «нартеконосцами» (122, 13). Египтяне,
согласно Олимпиодору, издавна пользовались символами (In Plat. Gorg.
137, 3), а пифагорейское учение все символично (symbolicos, 208, 17),
как и вообще все доступное лишь знающим. Ведь символу «не дозво-
лено» (оу gar ёп themis) говорить ясно. Он возвещает не иначе, как
«таинственным образом» (mysticos; In Plat. Phaed. 88, 20). Геракли-
evangelica III 7 сл.), и фрагменты, которые собраны в изд.: Bidez J. La vie de
Porphyre. Paris, 1913. Порфирий толкует здесь в символическом духе материал
статуй, атрибуты, функцию божеств и их имена и взаимоотношения. Однако это
ранняя работа Порфирия еще до его ученичества у Плотина. Судя по фрагментам,
она была написана в духе стоического пантеизма.
1 А. Делатт указывает на различие трактовки пифагорейских символов }
Ямвлиха и Порфирия. Первый старается сохранить буквальный смысл пифаго-
рейских символов, второй — очистить их от суеверий и дать особое толкование
(Delatte A. Etudes sur la litterature pythagoricienne. Paris, 1915, p. 305).
Термин «символ» в древнегреческой литературе
349
^овский тезис о влаге — смерти для души — и другие загадочные
суждения философа Олимпиодор понимает тоже как символы (In Plat.
QOrg. 155, 26). По орфическому учению о степенях добродетелей душа
«действует» (energei), имея в себе «символы всех добродетелей» (pason
t6n areton) — созерцательных (theoreticon), очистительных (cathar-
ticon), гражданских (politicon) и нравственных (ethicon; in Plat. Phaed.
j 17). Олимпиодор подробно разъясняет, какие существуют образцы
(paradeigma) и символы для всех частей души. Оказывается, что
Уран — образец созерцательной стороны души; Кронос — очиститель-
ной; Зевс, будучи демиургом (3, 25), — символ гражданской, а Дио-
нис — символ нравственной стороны (3, 27). Даже движение теат-
рального хора слева направо, справа налево, к середине, назад и т. д.
есть, оказывается, подражание движению неба (emimoynto gar tais
oyranias cineseis) и вполне символично (symbolica; In Plat. Gorg. 42,
6 сл.)- Орфей называл Эрота «безглазым», ибо глаз — символ «из-за
быстроты действий» (to oxy tes energeias). Безглазый — значит не
мыслящий, неразумный (me nooynta; In Plat. Phaed. 75, 16 = Orph.
frg. 68 Abel). О человеческой’жизни символически (symbolicos) гово-
рится, что она имеет своим отцом божество (In Plat. Gorg. 258, 9).
В Аттике, по словам Олимпиодора, существует много символов для
указания на тех, кто покинул жизнь. Покойнику закрывают глаза,
чтобы препятствовать выходу энергии вовне: его кладут на землю,
обмывают и т. д. (In Plat. Phaed. 243, 13). Закрывание рта —тоже
символ удерживания энергии (204, 19). Олимпиодор отмечает, что
настоящий философ, принося очистительные жертвы, должен совер-
шать их, не воспринимая лишь «оболочку» священнодействия (hos
peribolemasin), а переживая его как символ (99, 5). Символ, по Олим-
пиодору, не имеет ничего общего с внешней знаковой стороной. Сим-
волично — значит глубоко, существенно, реально, переживаемо, ис-
тинно. Даже сам процесс называния именами символичен (symbolicos;
In Plat. Gorg. 244, 8).
Имя — не внешний знак или указание, выделяющее какое-то свой-
ство вещи. Имя — символ. И не только по Олимпиодору, но, как мы
знаем, по давней классической традиции Аристотеля и Демокрита.
Как видим, Олимпиодор понимает символически факты жизни и
смерти человека с их внешней и внутренней сторон, опираясь на
Учения пифагорейцев и орфиков, которые фиксировали свою догматику
в строгой символической системе.
г -По мнению Иоанна Филопона, Платон «символичнейше» (symbo-
ncoteron) говорит о разного рода телах и кубических фигурах (schema;
** aetern. mund. 532, 7; 533, 21). Он придает земле кубическую
<*)0Рму из-за ее устойчивости и неподвижности (534, 15) и «символи-
’’еским образом» (ton symbolicon tropon) излагает учение о причине
Ряжения неба (488, 22).
350
А. А. Тахо-Годи
У Дамаския своеобразие чисел заключается в «несчетных»
(anarithmon) и «неразложимых» (adioriston) символах (Dubit. et sol.
§ 117 Ruelle). Покой и движение, тождество и различие, одно и
другое — характерные свойства демиургического разума, или третьего
интеллигибельного диакосмоса (§ 301).
В связи с этим Дамаский ставит вопрос, не являлись ли у Парменида
начало, середина, конец, нахождение в самом себе, в другом, сопри-
косновение и несоприкосновение с другими некими видами бытия или
же все это «символы божественных диакосмосов» (§ 278). Дамаский
приходит к выводу, что во внешнем мире символы, будучи «совершенно
прозрачными», не отличаются от богов и являются самими же богами.
Однако, эманируя от богов интеллигибельного мира в сущее, они
становятся уже только «символами богов» (symbola ton theon) или
«неизреченными символами неизреченных богов» (symbola arreta
arreton theon). Дамаский, можно сказать, впервые в античности фор-
мулирует необходимость и причину употребления символов. Он пишет:
«Если хотят дать имя чему-то, что по своей сущности не имеет имени,
или выразить то, что совершенно невыразимо (arreton), или обозначить
(semainein) то, что лишено знака (to asemanton), ничто не мешает
применить к высшему и невыразимому Принципу самые благородные
наименования (onomaton) и идеи (noematon), вроде священнейших
символов (symbola hagiotata), и назвать его Единым» (§ 49).
Таким образом, оказывается, что символы «прозрачны», «священ-
ны», «неизреченны», а так как они эманируют из самого интеллиги-
бельного божества, то только через них это высшее, тоже неизреченное,
и может получить свое имя высшего принципа интеллигибельного
Единого. Итак, Дамаский начисто отделяет символы от текучего бытия
и материального сущего, приобщая их к миру идей, обозначить которые
не в силах обычное человеческое слово. Этим самым Дамаский ут-
верждает тот теургический и мистический характер символа, который
изначально был придан ему пифагорейским учением. Но если от
пифагорейцев до нас дошла в очень фрагментарном виде символика,
превратившаяся в систему практических навыков и поучений, необ-
ходимых для посвященных в таинства, то Дамаский в спекулятивно
отвлеченном виде, свойственном неоплатоникам, и с присущей им
страстью к точным выводам и формулировкам, вне всякого сомнения,
отождествляет символ и божественный принцип, а значит, признает
возможность для бесконечного толкования и познания символа, не
изреченного в человеческих пределах.
Знаменитый комментатор Аристотеля Симпликий не отстает от
Дамаския, полагая, что древние скрывали мудрость посредством сим-
волов «как нечто неизреченнейшее» (hos... ta aporretotera; In Anstot.
categ. comm. 7, 5). В этом же духе он толкует и «неясность» (asapheian)
великого философа как нарочитое употребление им символов, требу-
ющих напряжения, догадки, сметливости, которые заостряют ум >’
Термин «символ» в древнегреческой литературе
351
помогают искусно проникнуть в эту заведомо созданную темноту (7,
6-7).
Беспредельное (apeiron) немыслимо для восприятия человека —
вот почему Аристотель все многообразие мира умело «возвел»
(anegagen) к десяти логическим категориям и собрал «все сущности
в одну высшую сущность» (eis mian synelon ten anotato oysian). Эти
десять родов (deca gene) как раз и являются символом высшей сущ-
ности, которая, в свою очередь, есть их субстанция (hypostaseos) или
«опора при мышлении» (epinoias hyphestotes 11, 6—11).
В стиле самого Аристотеля и его учения об именах-символах (De
interpr. 2, 16 а 28; De sens, et sensib. 1, 437 a 15; Soph, elench. 1,
161 a 8) 1 Симпликий формулирует имя (onoma) как «мощный символ»
(symbolon hyparchon dynaton), всегда совпадающий с именуемой сущ-
ностью, собственно говоря, являющийся им самим (to ayto einai, 22,
19-22).
Имя символично в том случае, если оно тождественно сущности
называемого. Если же имя не отражает сущности предмета, тогда оно
лишается своей специфики, перестает быть символом и препятствует
процессу познания.
Итак, предпосылкой познания явления объективного мира есть нали-
чие имен-символов, истинно отражающих сущность предмета. Познание
же безграничной множественности этого мира совершается через десять
установленных «родов», в свою очередь символизирующих бесконечность
высшей сущности. Так, Симпликий связывает символизацию с гносеоло-
гаей, ибо символизация создает упорядоченную систему, наложенную на
бесконечность мировых отношений и переводящую всю ее смутную не-
ясность на язык точных логических категорий.2
Все приведенные нами суждения поздних неоплатоников, собст-
венно говоря, не очень самостоятельны. Они представляют собой ре-
минисценции из обширных сочинений Прокла, главного выразителя,
завершителя и систематизатора всего неоплатонизма.
Прокл создал подробнейший, безупречный в логическом и симво-
лическо-художественном плане философский комментарий к сочине-
нию Платона, в том числе к «Тимею» и «Государству», которые стали
позже образцом для его последователей и эпигонов. Именно поэтому
нам хочется завершить данную работу исследованием употребления
термина «символ» в двух крупнейших сочинениях Прокла.3
Имена сравниваются Проклом с неизреченными символами, посредством
*®торых в статуях богов выявляется истинная божественность. Имена — это
°бРазы вещей, которые воспроизводят с наибольшей точностью природу предме-
Тов (In Crat. 19,12,5 sq. Pasquali).
и Ср.: Лосев А. Ф. Диалектика символа и его познавательное значение. —
^«есгия ОЛЯ, 1972, т. XXXI, с. 228—238.
_ В «Первоосновах теологии» (Elementa theologica) Прокла слово символ
0ТсУТСтвует.
352
А. А. Тахо-Годи
Если Платон еще даже ни разу не воспользовался словом символ
для своих явно символических толкований мифа, а Порфирий впервые
назвал его, дав образец развернутой символической картины («О пе-
щере нимф»), то Прокл возвел символ на терминологическую высоту
и не только увидел классическую философию в лице Платона симво-
лически, но и установил необходимость пользования символами и дал
настоящую дефиницию символа как завершающий итог всех исканий
античности в этой области.
Прокл толкует символически буквально каждую строку платонов-
ских сочинений. Комментарий к «Тимею» изобилует при этом фактами
из платоновского повествования, понятыми в духе символов. Коммен-
тарий же к «Государству» посвящен, главным образом, собственным
размышлениям Прокла о сущности символа с выводами относительно
природы и определения этой важнейшей категории познания бытия.
В «Тимее» Прокл традиционно вспоминает о пифагорейцах, вы-
ражавших вещи числовым образом «с помощью символов и в тайной
форме» (ta symbolicos ta pragmata cai mysticos; I 7, 29 Diehl). Пифа-
горейцы предваряли свою доктрину, обращаясь к «подобиям» (homoion)
и «образам» (eiconon), прибавляя «тайные указания» «с помощью
символов» (dia ton symbolon).1 Сообразно этому платоновское предание
об Атлантиде привлекает внимание своим символическим характером
(symbolicos), так как древние любили реальные факты (ta pragmata)
представлять «через символы» (dia ton symbolon, 30, 7.13.14). Так, и
Солон в рассказах жрецов увидел символ «божественной реальности»
(symbola theion ontos pragmaton, 100, 7). Рассказ жреца Солону—
символ истинной жизни души (109, 1). Здесь в символах выражается
фактическая сторона истины (130, 2). Так, «символичен» миф о девах
Гелиадах и судьбе души (114, 7), символичны война Афин с атлантами
в качестве космических оппозиций (tes cosmices enantioseos, 130, 11;
205, И), все повествование о стране атлантов (200, 3) и даже пролив
между Геракловыми столбами, означающий символично разделение
внутрикосмических реальностей (180, 11), Нил символизирует жизнь,
протекающую в космосе (916, 27).
Миф о хромом Гефесте-художнике — «символ творческой актив-
ности в отношении чувственного мира» (peri to aistheton, 42, 27), а
сам Гефест придает делам «божественные символы» (symbola ton theion
epititheis, 144, 17). Молния, уничтожившая Фаэтона, — символ деми-
урга, который все пронизывает, сохраняя свою целостность и ничему
не приобщаясь (112, 10). Платон подробно излагает символы разных
1 О пифагорейских символах ср.: Procl. in Alcib. comm. I 25 Creuzer. Там же °
«символическом кивке» (symbolice cataneysis, I 283).
Статуи богов заключают в себе также определенные символы, являющие*-9
как бы отблеском (enoptra), отражением божественной демиургии и поряди
(Procl. in Parm. IV 847 Cousin • § 63, p. 321 Chaignet).
Термин «символ» в древнегреческой литературе J5J
классов у богов (ton diaphoron en theois taxeon, 161, 8). Встречается
У него числовая символика: 10 и 90 — символы космоса. Оба эти числа
обращаются к монаде, которая постепенно переходит в диаду и триаду.
Здесь идет передача предания от 90-летнего Солона к 10-летнему
Критию, т. е. от одного к одному; затем от старшего Крития — к
двум — Критию младшему и Аминандру; далее — к трем (87, 20—88,
1). Сократ делает из уменьшения числа «символ более высокого со-
вершенства» (symbolon teleiotetos hyperteras, 23, 32). так же как у
пифагорейцев, когда уменьшение числа придает ему ботылую силу.
Главный принцип немножествен. Он — монада. Отсюда Тимей, глава
беседы, — монада, а Сократ — вершина триады. «Поседение» — символ
интеллектуальной жизни в ее полноте, лишенной частичного <104, 14),
становящегося знания юности. «Символична» природа женщин, означая
род жизни, склонный к порождению (III 393, 28). «Душа мира»
продуцирована демиургом и наполнена «божественными и демиурги-
ческими символами» (symbolon theion cai demioyrgicon, 1 4, 32). Сим-
волом жизни души в подлинном мире является число девять тысяч,
а в мире поэтическом — десять тысяч (148, 15).
Посвященные придают некие символы статуям, приобщая их к
высшим силам (51, 25). Созерцание сущностных реальностей (eceina
theomenos) в образах «с помощью неких символов» (dia tinon symbolon)
дает возможность увидеть причины, восходящие к самым истокам
(94, 28). Платон через «символы и загадки» (dia symbolon cai
ainigmaton) показывает противоположности во всем и подчинение ни-
зшего высшему (132, 21). «То, что одновременно пребывает в себе
самом и повелевает низшим, — символ более высокой жизни»
(ameinonos symbolon, 146, 19). Платон символически говорит о рож-
дении смерти в связи с числом девять (147, 21). Одновременное
нахождение на вершине и внутри — символ всеобщей демиургии, под-
космической и вместе с тем явленной всем (198, 30). Слова под землей
(cata ges) символизируют нечто твердое и прочное, а под морем (cata
thalattes) — нечто текучее и неустроенное (189, 15).
Обращение Сократа к Тимею — не символ превосходства, а при-
глашение познакомиться с его мыслями (27, 18). Заключительные
слова «в главных моментах» (en cephalaiois) символизируют первые
сущности универсума, как бы его «голову» (cephale), установленную
Сократом в ожидании целостной картины космоса у Тимея (55, 5).
«Приготовление» к беседе — символ причины, создающей нечто новое
(125, 1). «Не говорить сразу», а постепенно — символ медленного
Достижения совершенства (193, 25).
Таким образом, здесь у Прокла анализ «Тимея» объединяется с
символическим прочтением платоновского текста. Однако в коммен-
тарии к «Государству» Платона Прокл стремится обосновать само
наличие символов и их необходимость.
19 Зак 39оз
354
А. А. Тахо-Годи
Значение «священных таинств» и «таинственных символов» неос-
поримо (I 78, 22 Kroll), ибо «через священные символы» (tois hierois
symbolois) утверждается божественное (II 108, 23) и «через подобие
символов» (di ’homoiotetos ton symbolon) достигается это божественное
(ta theia, I 84, 6).1 О богах нельзя рассуждать в представлениях
человеческой жизни. К ним нельзя прилагать «страсти» материального
неразумия, ибо не подходят эти признаки (symbola) к сущностям (tai.s
hyparxesi) богов (73, 7—12). Зато божественное (ta theia) таинственным
путем (mysticos) научает через образы, рожденные нимфами, как это
присуще, например, Платону (73, 16—18).
С помощью мифологических символов божественные потенции вы-
являют себя (esemenan, 85, 25), и божественный дух (ten theian
epipnoian) передается человеку беспрепятственно именно через символы
(48, 8), а слезы богов и людей таинственно (mysticos) свидетельствуют о
символе провидения (pronoias), исходящего от высших сил (125, 5).
В представлениях (phantasiais) мифотворцев (mythoplastas) иной
смысл раскрывается не через обычные образы (eicones) или приметы
(paradeigmata), а через символы (86, 18). Этой проблеме Прокл даже
посвятил специальный труд, не дошедший до нас, — «О мифических
символах» (II 109, 2). От этих «мифических символов» (apo ton
mythicon symbolon) исходят силы, посредством которых постигается
неизреченная божественная истина. Сами боги, внимая этим символам,
радуются (chairoysin). И потому подражать божественному через яв-
ленность символа в мире даже необходимо (1 83, 9.19.30), тем более
что «божественный свет» (theion phos) выявляет «силу богов» (ton
theon dynamis) в «ясных символах», и «неизреченные знаки» (ta arreta
synthemata) их «отпечатываются» (apotypoytai) то в одном, то в другом
«образе» (morphen) мифа (39, 15).1 2
Этот последний текст Прокла особенно важен, так как здесь философ
диалектически понимает всю загадочность и таинственность символов,
скрытых в мифе, как нечто просветленное божественным светом.
Впоследствии Дамаский, согласуясь с этим суждением Прокла,
будет тоже говорить о «священных знаках» (synthemata) и символах,
«совершенно прозрачных» во внешнем мире и не отличимых от самих
богов (Damasc. § 213).
1 Ср. о «символах хтонических демонов», которые во время совершения
таинств появляются вместо самого божества и приводят в смущение участников
таинств (Procl. in Alcib. Comm. I 39 Creuz.).
2 «Символ» и «условленный знак» (synthema) являются у Прокла указанием
на божественное и побуждают к восхождению к высшему началу. «Выразимые»
(sagbaren) и «невыразимые» (unsagbaren) знаки (Zeichen) в космосе побуждают
мысль человека к продумыванию и достижению этой космической упорядоченно-
сти (Beierwaltes W. Proklos. Grundzuge seiner Metaphysik. Frankfurt an Main.
1965, S. 328).
Термин «символ» в древнегреческой литературе -Ш
«Неизреченность» и «прозрачность», «таинственность» и «свет» ока-
зываются у неоплатоников в равной мере присущими символам. Однако
эта светоносность, характерная для божественных символических по-
тенций, обращена к человеку своей загадочной и смутной невырази-
мостью. Заслуга истинного философа заключается как раз в том, по
словам Симпликия (7, 6—7), чтобы заострить свой ум, пробираясь
сквозь эту «неясность» (asapheian) слова, и понять ее «более искусным
образом» (gymnosticoteran), пользуясь «сметливостью своего ума» (eis
agchinoian).1
Взаимосвязь символа и мифа, всемерно прокламируемая неопла-
тониками, должна иметь сущностный характер, ни в коей мере не
ограничиваясь поэтическим воображением и вымыслом, которым часто
грешат создатели эпических поэм и трагики. Известно, что Платон
изгоняет из своего идеального государства поэзию и с критическим
недоверием относится к мифам Гомера и Гесиода на том основании,
что большинство поэтов только подражатели, да еще находящиеся на
третьем месте от истины. Значит, божественная истина, толкуемая в
мифах посредством символов, не должна быть результатом подража-
тельного вида поэзии. Прокл посвящает этой проблеме специальную
главу «О том, что такое Сократ в десятой книге „Государства" вы-
брасывает из поэтического искусства Гомера» (196—199).2 Он старается
дать такое определение символа, которое, с одной стороны, было бы
связано с мифотворчеством, а с другой — не имело бы отношения к
тому мимесису, который основан на поэтической фантазии (oyde pases
mimeseos... alia tes phantastices, 198, 4).
Прокл полагает, что искусство Гомера изъясняет божественные
дела при помощи символов и поэтому оно не может быть подража-
тельным. Он приходит к заключению, что «символы не есть подражание
того, символами чего они являются» (198, 15). Ведь противоположное
никогда не бывает изображением противоположного, безобразное —
прекрасного и противоестественное — естественного (198, 15—18), как
именно обстоит дело в обычной подражательной поэзии, когда безоб-
разное может быть представлено однозначно через него же самого, а
красота — через нечто прекрасное. Однако «символическое созерцание»
(symbolice theoria) выказывает «природу вещей» (physin, 19) как раз
1 Несмотря на пристрастие к «неизреченным» символам, сочинения Прокла
отличаются отточенностью мысли и формулировки. А. Фестюжьер, рассматривая
«Философское созерцание и теургическое искусство» Прокла (последнее, кстати,
наряду с магией осуждалось Платоном — Legg. X 909 b, XI 933 ab, — официаль-
аым преемником которого был Прокл), приходит к выводу, что перед нами
человек чистого «логоса», «великий диалектик» и «рационалист» (F е s t u -
81 ere A. J. Etude de philosophie grecque. Paris, 1971, p. 585).
«. . О платоновской критике Гомера и защитниках его творчества см.:
in-L1 ns,ock О. Die platonische Homerkritik und ihre Nachwirkung. — Philologus,
927. LXXXII, p. 121—153.
356
А. А. Тахо-Годи
с помощью противоположностей. Поэтому если поэт, который вдох-
новлен истиной, обнаруживает ее в сущем «посредством признаков»
(synthematon, 20) или «выявляет» (ecphainei, 22) «строй вещей» (taxin
ton pragma ton, 22), то он не «подражатель» (oyte mimetes estin, 23)
и не может быть порицаем. Если обычный поэт — подражатель, всего
лишь третий от истины, то не таков «божественный» поэт, вдохнов-
ленный музами, «первый поэт», «созерцатель истины» (198, 28—
199, 2). Вдохновение такого поэта, т. е. Гомера, равнозначное фило-
софскому созерцанию самого Платона, есть «первейшее благо в поэзии»
(199, 10 сл.), подражание же — худшее ее качество.
Следовательно, мифотворчество истинного поэта не имеет ничего
общего с подражанием, и символы этой высокой поэзии, призванные
вызвать божественную сущность, никак не могут быть причислены к
вымышленным образам чисто подражательной поэзии.
Подражание, можно сказать, комментируя Прокла, всегда точно
и буквально. Оно ничего не видит за пределами изображаемого пред-
мета. Достоинством подражания является непременная адекватность
замысла художника его образцу. Классический грек всегда гордился
тем, насколько он приближается к точному изображению натуры.
Всем известны хрестоматийные примеры с птицами, прилетавшими
клевать нарисованный виноград, с бронзовой телкой Мирона или ло-
шадью Апеллеса, вызывавших восторг своей поразительной естествен-
ностью. Подражание природе всегда считалось в классической антич-
ности основой человеческого опыта, всех ремесел и искусств.
Однако уже Платон отнесся с настороженностью к подражатель-
ности как единственному принципу искусства и, осудив мимесис за
его ограниченность, исключил подражательную поэзию из идеального
государства как не могущую выразить глубину идей, призванных
воспитать новое общество.1
Аристотель тоже не мог остановиться на подражании в искусстве
как только лишь на констатации наличного факта. Его учение о том,
что подлинное искусство изображает не то, что есть, а то, что еще
только собирается стать и появиться, указывает на рождение совсем
новой эстетической идеи. Искусство не говорит ни да, ни нет, оно
всегда в возможности, оно обращено к будущему, и в художественном
образе скрыто бесконечное разнообразие.1 2
1 Критике теории подражания у Платона посвящен специальный раздел У
А. Ф. Лосева. История античной эстетики. Высокая классика. М., 1974, с. 32—56.
О противопоставлении античному мимесису как подражанию природе «неподра-
жаемого подражания» (amimeton mimgma) у псевдо-Дионисия см.: Бычков В. В.
Образ как категория византийской эстетики. — В кн.: Византийский временник,
34. М„ 1973, с. 161.
2 Эстетика относительности у Аристотеля впервые разработана в кн.: Ло-
сев А. Ф. История античной эстетики. Поздняя классика (ИАЭ IV), М., 1975.
Термин «символ» в древнегреческой литературе
357
Неоплатоники, и особенно Прокл, еще более углубили критику
подражательного искусства.
Прокл, следуя за Платоном и Аристотелем, стал прямо порицать
достоинства поэтического вымысла, посредством кото-
образы, наиболее адекватные их модели. Мастерство
Смысла, которым трагики «обольщали слушателей», оказывается на
третьем месте от истины и потому граничит с «фантастическим», т. е.
произвольно вымышленным видом поэзии, не давая правильного зна-
ния людям. Неоплатоники, и особенно Прокл, опираются не на понятие
образа как результат подражания, а на понятие символа, который
строится на принципиально иной основе.1 Если образ должен стать,
благодаря ухищрению вымысла, буквальным подобием своего образца,
то символ, обладая «истиной сущего» и будучи в своей основе тож-
дествен этой истине, являет ее людям часто через противоположное.
«Символическое созерцание и посредством противоположностей пока-
зывает природу вещей», — пишет Прокл (198, 18 сл.). «Символическая
традиционные
-лго создаются
поэзия», следовательно, не плоская и однозначная, как поэзия под-
ражательная. В символе истина раскрывается постепенно, ее прихо-
дится углубленно разгадывать, доискиваться смысла в совмещении
противоположных начал.2 За темнотой символа скрывается его по-
длинная прозрачность и ясность.
Символ тем и хорош, по мнению неоплатоников, что он заставляет
человека пробиваться сквозь непонятное к простоте истины. Прокл
закрепляет за символом особый род выдающейся поэзии, примером
которой может служить Гомер. Однако Гомер сам играет у Прокла
роль символа священного и возвышенного искусства. Истинная, не-
подражательная поэзия всегда символична, по мнению Прокла, а
значит, многозначна и глубока.
1 В. Байервальтес (Beierwaltes W. Proklos. Grundzuge seiner Metaphysik)
отмечает разницу между символом и изображением (eicOn) у Прокла. «Мифоло-
гическо-мифический» символ скрывает смысл того, на что он указывает, гораздо
более, чем приоткрывает. Поэтому символ нуждается в толковании мифологов и
нисгагогов. «Изображение», напротив, понимается как «аналогия», как путь к
«прасбразу», к «чувственному образу», идее, которая сама из себя «невыразима»,
и° схватывается через образ и в слове (S. 171). В. В. Бычков замечает, что у
ювантийцев в системе эстетических категорий на первое место выдвигаются
“ОДятия «образ» и «символ», а не «прекрасное», «гармония» и «мера» классиче-
ской античности, причем начало этому процессу положили неоплатоники (Образ
категория византийской эстетики, с. 152).
г. Наше мнение не совпадает с точкой зрения Ф. Фонессена (Vonessen F.
ва" 1~УтЬ°Н5е8г’Н ю Griechischen Denken. — Bibliographic zur Symbolik, Ikono-
^Phieund Mythologie, 1970, 3, S. 5—10) , что в античности символ всегда означал
синтез, а в новое время — всегда антитезис двух объединенных моментов.
^^произведений неоплатоников (Ф. Фонессен их не принимает во внимание)
что именно здесь зародилась основа современного антитетичного понима-
символа.
358
А. А. Тахо-Годи
На основании суждений Прокла можно сказать, что символ дае.
возможность для бесконечных толкований его в разные эпохи и paj
ными поколениями.1
Собственно говоря, Прокл в «символической» поэзии утверждай,
не искусство формы, восхищающей своим внешним уподобление^
природе, а искусство идеи, которое, в представлении неоплатоников
есть эманация божественных потенций, явленная в обличии словесных
таинственных символов.
При исследовании всех материалов, касающихся употребления сло-
ва символ в греческой литературе, нас поражает один чрезвычайно
важный факт. И в период греческой архаики, классики и даже в
эпоху эллинизма вплоть до III в. н. э., т. е. до формирования нео-
платонизма, слово символ употребляют крайне редко, случайно, оби-
ходно, но отнюдь не терминологически и понятийно.
Из всего множества литературных текстов, поэтических и проза-
ических, а также специально-философских, можно, как мы видели
выше, указать лишь на несколько из Демокрита, Эмпедокла, Платона
и Аристотеля, подтверждающих, как медленно и несистематично рож-
далось то значение символа, которое расцветает лишь на склоне
античности, чтобы затем перейти в новоевропейские теории.
Вся греческая традиция до III в. н. э. буквально не нуждается в
символе и не представляет себе его ценности для искусства, языка
или философии. То исконное, простейшее, прозрачное значение сим-
вола как результата соединения и слияния двух начал понимается в
течение целых столетий совершенно буквально. Одна «половинка»
символа так близка к другой, что может на нее указывать и ее
заменять. Поэтому «символ огня» у Эсхила вполне может быть понят
как «огненный символ», т. е. попросту знак огня, сам огонь. Вот это
указывание, эта знаковость, наиболее доступная, конкретная, дохо-
дящая почти до зримой эмблематики, подменяет собой тот символ,
который наша современная наука резко отграничивает от знака/
Символ, знак и эмблема сливаются в классической Греции в нечто 1 2
1 Schlesinger М. Geschichte des Symbols. Berlin, 1912 (Hildesheim, 1967).
Опираясь на книгу М. Шлезингера, Л. Диттман останавливается на понимании
символического у Канта, Ф. Крейцера, Гёте, Гегеля, Гердера (ср. 84—87),
подробно анализируя понятие символа у Ф. Фишера и Э. Кассирера, имевшее
огромное значение для искусствоведческих теорий А. Варбурга и Э. Панофского
(Dittmann A. Stil, Symbol, Structur, S. 88—108).
2 Анализ отношения символа к некоторым другим соседним категория»1
(знак, метафора, аллегория, эмблема, образ, тип, идея) произведен А. Ф. Лосе-
вым в статьях: «Проблема символа в связи с близкими к нему литературоведче-
скими категориями» (Известия ОЛЯ, 1970, т. XXIX, № 5, с. 377—390) и «Симе0-1
и художественное творчество» (Известия ОЛЯ, 1971, т. XXX, № 1, с. 3—14). См-
также: Лосев А. ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976-
с. 135—185.
Термин «символ» в древнегреческой литературе
359
неразличимое, что вполне гармонирует с общим чувственно-матери-
альным характером мировоззрения древних греков. Намек на пред-
ставление о символе как единораздельном целостном, качественно
новом и не имеющем ничего общего с механическим соединением
„уХ отдельных моментов мы находим только в суждениях Демокрита
об именах-символах, Эмпедокла — о новом порождении из двух про-
тивоположных начал и пифагорейцев, символ которых благодаря своей
загадочной природе открывает возможность для многозначности.1
Платон и Аристотель разовьют и углубят эти идеи, чтобы потом
передать их неоплатонической философии, в то время как вся эл-
линская античность будет пребывать в пределах наивного неразличения
символа и знака, употребляя их в наиболее бытовом и обиходном
смысле.
Наше заключение может показаться несколько парадоксальным,
если учесть огромное влияние идей и образов греческой классики на
всю новоевропейскую культуру.
Если уже сама классическая античность понимала мифы, лежащие
в основе поэм Гомера и греческой трагедии, не буквально и однозначно,
а как великие обобщения великого прошлого и настоящего, то вся
Европа, начиная с эпохи Возрождения, питалась и жила идеями,
скрытыми в классическом наследии. Каждое поколение по-своему оце-
нивало, толковало и переживало идеи и образы той греческой лите-
ратуры, которая не могла обойтись без мифа, жила им, и если уже
не верила в него буквально, то все равно без зависимости от его
функциональной роли не могла существовать.
Греческая классика начисто была лишена формализма и бытовизма.
Она была вся пропитана глубочайшими идеями, воспринятыми и вы-
раженными ею в виде художественно разработанных мифологем, и
опиралась на миф как на первообраз, обобщение и средоточие всех
отдельных и разрозненных явлений космической и человеческой жизни.
Вот эта именно опора на миф, зависимость от него, пронизанность
им делала греческую классику символической по самой своей субстан-
ции, которая не требовала никакого терминологического оформления
и была ему абсолютно чужда.
Миф, понятый не буквально как жизненная реальность отдаленной
архаики, а в его художественно-общественной значимости, уже есть
символически преобразованный миф.
Греческая классика по природе своей художественно-мифологична,
а следовательно, и символична. Вот почему она является предметом
ческонечных толкований философов и поэтов, доискивающихся до
g_ Дефиниция символа с учетом единораздельной структуры и возможности
''^конечных толкований подробно разработана А. Ф. Лосевым в статье «Логика
(Контекст, 1972. М., 1973, с. 182—217). См. так же; Лосев А. Ф.
Р'млема символа и реалистическое искусство, с. 36—69.
360
А. А. Тахо-Годи
последней истины, скрытой в глубине значимого, осмысленного мифа
а значит, наделенного всеми атрибутами символической конструкции
Греческое классическое искусство предается рефлексии, погружая^
в миф, и, следовательно, говорим мы теперь, оно уже символично.
Эта неосознанная стихийная символизация явлений мировой жизни
в художественных образах трагедии не могла иметь иного названия
кроме мифа. Миф содержхд в себе все понятия сразу. В нем в свернуто»,
виде уже были все кагеюрии бытия, которые потом расчленятся
законах рационально-ло.”ического мышления Если существует миф.
логическое быгис. оно, мохв, с полным правом утверждать, включая
в себя понятие символического бытия Следовательно, классически,
литература, так любящая термин «миф», вплоть до Аристотеля вполне
закономерно не пользуется словом символ, а если и вспоминает его,
то только в элементарном смысле, никак не объединяя его с мифом
Слово символ в это время слишком незначительно и обиходно, чтобы
классическая литература могла его соотнести с мифом или дать ему
соответствующую замену.
Только в конце античности, когда гибло язычество и уже была
потеряна вера в буквальный и дорефлективный миф, только тогда
наступила эпоха символического толкования мифа.
Незамысловатые и часто даже грубые в своей архаической простоте
мифологические сюжеты оказались предметом настойчивых разыска-
ний в них иного, скрытого смысла, выраженного лишь намеком, не-
ясным знаком или в загадочном образе. Внешняя понятность и про-
зрачность мифологического бытия казались нарочитым прикрытием
таинственных откровений.
Реальность древнего мифа подменялась в философских размыш-
лениях неоплатоников конструктивно-смысловым «символом», т. е
той новой целостностью, которая появилась из объединения непосред-
ственно данной картины мифа и налагаемых на нее умозрительных
философских построений. Неоплатоники, обильно использовавшие в
своих теоретических построениях специфически понятую ими древнюю
мифологию, с полным правом стали широко использовать термин
«символ», столь необходимый им для оправдания самых смелых
интерпретаций древнейших, и в первую очередь гомеровских, ми-
фов.
Отсюда становится понятным реставраторский и в общественно-
политическом смысле консервативный характер мифологической сим-
волизации неоплатоников, хотя сама конструктивно-логическая сто-
рона этой символизации, безусловно, обладала очень тонким и пере-
довым характером.
Установленное античными неоплатониками понимание термине
«символ» стало в новой Европе традиционным, приобретя односторонне
оттенок мистической таинственности, который был воспринят, напри-
мер, поэзией символистов конца XIX—начала XX в. и который долгое
Термин ‘'символ» в древнегреческой литературе
361
время препятствовал современной научно беспристрастной разработке
этого предмета.1
Мистическая интерпретация символических методов становилась
возможной по преимуществу в результате полного забвения весьма
глубокой конструктивно-логической стороны позднеантичного симво-
лизма. * У
В последние годы появился ряд капитальных работ о понятии «-символ»,
Рассматривающих его как одну из универсальных эстетических и жизненных
категорий в мировоззрении писателей и философов разных эпох. См., например, о
символе у немецких романтиков XVIII в. <S«rensen В. A. Symbol und
Symbolismus. Cobenhagen, 1963); о символе как аналоге онтологической симвсли-
У Гёте и романтиков (Jurgensen М. Symbol als Idee. — In; Studien zu
9°ethes Aesthetik. Bern—Munchen, 1968; Starr D. Uber den Begriff der Symbols
der deutschen Klassik und Romantik unter besonderes Berucksichtigung von
г- Schlegel. Reutlingen, 1964); о понятии «символ» в литературе конца XIX—XX в.,
^имущественно у символистов (Jocic V. Simbohzam. Cetinje, 1967, Doherty J.
Mensch und Symbol. — In; Heidegger und die Auseinandcrsctzung mH dem
neukantianischen Symbolbegriff. Bonn, 1972). Из старых работ укажем известную
КНИгУ: V о 1 k е 11 J. Der Symbolbegriff in der neuston Asthetik. Jena, 1876.
О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ .ЛИЧНОСТИ
НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНА SOMA
Наша работа, посвященная изучению понятия личности в древне-
греческой литературе, закрепленному в языке соответствующим тер-
мином soma, пытается выяснить и подчеркнуть те моменты, без ко-
торых немыслима неповторимость общественно-исторической, куль
турной и философско-языковой специфики древнего грека. Изучать
индивидуальные, присущие только определенной эпохе черты, нам
кажется особенно необходимым, т. к. проблемы органической взаимо-
связи античности и современности иной раз подменяются откровенной
модернизацией античности. Современный человек, пораженный уди-
вительной стойкостью и жизнеспособностью идей и образов античного
мира, пытается найти в них истоки своего собственного мироощущения
и своих эмоций. Он проводит непосредственные параллели и сравнения.
Он проецирует себя в глубинах античности, понимает себя как все
ту же самую неизменную человеческую личность, которая мыслят,
чувствует и живет по неизмененным, извечно присущим ей законам.
Теперь уже никого не удивляет обилие античных тем в современной
литературе, и особенно в драматургии, где перед нами в обличье
древних героев живет, страдает человек XX в. Однако здесь не место
решать кардинальные проблемы соотношения великих культур. Наша
задача более скромная и узкая, хотя весь материал, привлекаемый
нами, помогает до некоторой степени преодолеть ту спиритуализацию
античного мышления, ту его духовную утонченность, изысканность и
загадочность, которая невольно сопутствует нам при рассуждениях о
логосе-слове Гераклита, идеях Платона, богах-демиургах стоиков. Мы
часто забываем, что платоновская «идея», или «эйдос», есть нс что
иное, как «вид», «видимое»,1 логос же Гераклита представлялся фи-
лософам как разумный огонь, причина устроения мира.1 2 И огонь этот,
по Эмпедоклу, обладает мышлением и разумом.3 А стоические боги -
1 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.,
с. 135—281.
2 22 В 64 Diels9.
3 31 В 110 D9.
О древнегреческом понимании личности 363
сам эфир,1 т. е. тончайшая огненная материя.2 В гомеровских богах
течет кровь — ихор, правда, бесцветная, т. к. сами они «не едят хлеба
я не пьют вина»?
Только учитывая физические и телесные интуиции древних греков,
можно говорить о сложившемся у них традиционном понимании лич-
ности, несмотря на казалось бы тысячелетнюю историческую перс-
пективу развития общества от родовых отношений через классический
полис и вплоть до эллинизма.
Здесь, естественно, встает вопрос, а было ли древнегреческое по-
нимание личности закреплено терминологически и какова смысловая
наполненность этого термина, отразившего какую-то специфическую
для греческого мышления основу человека именно как личности, а
не биологической особи.
Мы в настоящей работе не занимаемся всей терминологией, свя-
занной с античным пониманием личности. Например, мы совершенно
не касаемся таких чисто физических и материальных лексем, как
prosopon «лицо», «маска» и atomos «неделимый», не говоря уже о лат.
res «вещь», persona «лицо», ' «маска», individuum «неделимое», хотя
эти последние употреблялись в значении личности и вошли с этим
значением в систему категорий, характерных для новой Европы.
Гомеровское prosopon обычно встречается во множественном числе,
даже если оно относится к одному человеку, например, II. VII 212;
XVIII 414; Od. XIX 361 (то же у Гесиода, Орр. 594), т. е. оно содержит
в себе некое обобщение, мыслится в определенной целостности. Це-
лостность и, мы бы сказали, обобщенная отвлеченность данного чисто
физического смысла слова выражена также в том, что наряду с лицом
отдельного человека prosopon означало «маску», театральную личину.
Эта маска имела назначение скрывать частные, отвлекающие зрителя
признаки актера как человека и создавать тем самым несколькими
резкими выпуклыми чертами тип трагического или комического героя
как явление обобщенное. Эта же маска в ритуальных шествиях скры-
вает лицо отдельного человека, делая его таким образом соучастником
тайного, мистического действа. Поэтому у Демосфена (XIX 287) мы
находим решительное осуждение некоего Эпикрата, который нагло
осмеливался в процессии на празднике Диониса «разгуливать без
маски» (en tais pompais aney toy prosopoy comadzei). О комической
маске актера (to geloion prosopon) читаем у Аристотеля в «Поэтике»
<1449 а 36 b 4).
«Лицо» означает также особую разновидность человеческого ха-
рактера; «государственного», точнее, «прагматического» человека, на-
пример, Одиссея (Полибий, XII 27, 10), или вообще героя литератур-
1 Зенон, SVF I frg. 154 Am.
, SVF II frg. 580 Am.
Hom. II. V, 340, cp. 316.
364
А. А. Тахо-Годи
ного произведения (Филодем. Поэтика, XXXII 1, 26; XXXV 27) со
специфической для него речью и действием.
Однако prosopon «лицо» так и не дошло до полноценного обозна-
чения личности (см. только поздние тексты, например, евангельские
«От Луки» XX, 21: «невзирая на лицо», т. е. на человека, или послание
«К галатам» II 6), уступив место своему латинскому эквиваленту
persona.
Также не нашло развития и личностного оформления слово atomos
«неделимый», «не разрезанный на части». Это слово стало термином
демокрито-эпикуровской философии, означая мельчайшую неделимую
частицу физической материи. Однако характерно, что у Левкиппа и
Демокрита эти «атомы» есть «тела» — somata (67 А 14 D5*), не похожие
друг на друга, удивительно устойчивые и целостные по своей сущности.
Они «не могут подвергаться изменениям» чувственного порядка
(68 А 49) и даже иначе именуются «неделимыми идеями» (68 А 57),
настолько они лишены внутренних качеств и внешних воздействий.
Это в полном смысле слова геометрические тела, которые в то же
самое время абсолютно материальны. Однако «неделимое тело» древ-
негреческих атомистов или «неделимое» в логике Аристотеля (Analit.
Prior. 96 b И; Metaph. 1058 а 18; Categ. 1 b 6, 3 а 38) пока еще не
смогло выразить собой категорию личности, но уже создало для нее
некоторые необходимые предпосылки, утвердив принципы единично-
сти, целостности, неразрушимости, неповторимости, т. е. специфику,
так укрепившуюся в сознании новой Европы вместе с латинским
словом individuum — эквивалентом греческого atomon.
Таким образом, нам приходится остановиться только на одном
термине, наиболее четко выразившем физическое и целостное пони-
мание личности. В глазах современного человека это слово — soma,
т. е. «тело», никак не ассоциируется с новоевропейским представлением
о неповторимой, каждый раз особенной и непохожей на других лич-
ности в полноте ее духовной, умственной и физической жизни. Это
кажущееся несообразие, внешняя непритязательность и даже как будто
некоторая примитивность слова soma скрывает в себе интереснейшие
языковые и мировоззренческие моменты. Обратимся сначала к эти-
мологическим данным. Э. Буазак и И. Б. Гофманн вычленяют в гр.
soma (и.-е.* Ц1б-тп, *tejjo-, *tejja) значение «набухания», «разраста-
ния», «величины». Однако и-е* tpo связано с др.инд. tauti, taviti «иметь
силу», «быть сильным», что дает в греч. *saFos, saos, soos, sos,
«здоровый», «целый», «крепкий», «сильный». Сюда же примыкают
soidzo «спасаю», «сохраняю здоровье», т. е. «целостность», soter «спа-
ситель», «дающий здоровье», т. е. «целостность», soteria «спасение»,
«здоровье», «целостность», «невредимость», sostra «дар богам за исце-
ление», saostrein «делать дар богам за исцеление», somatoo «делаю
сильным», прилагательное sophron (*saophron), в обычном переводе
«мудрый», «разумный», есть не что иное, как «обладающий здоровым,
О древнегреческом понимании личности
363
невредимым, целостным умом». То же относится и к существительному
sophrosyne. Корень *tjjomn и др.инд. taviti в латинском языке также
имеют значение целостности (см. Вальде—Гофманн). Отсюда такие
слова, как tomentum «подстилка», как нечто целое или набитое, на-
пример, подушка, матрац, тюфяк, totus «целый», оск. touto «государ-
ство», т. е. целостная общность.
Таким образом, греч. soma есть нечто объемное, крепкое, сильное,
здоровое, невредимое, целостное и целое.
Небезынтересно отметить, что производные слова somatoeides «те-
ловидный», somatoo, somatopoieo, somatooyrgeo «делать крепким, те-
лесным» — все указывают на «целовидность», на создание единого,
целостного организма, например, народа у Полибия (II 45, 6), души
человека у Платона (Phaed. 83 d, 86 а), материального космоса у
Прокла (In Tim II ef.). В глаголе somatopoieo, например, подчерки-
вается еще и укрепление, усиление (а оно, несомненно, при единстве
и целостности всех частей организма), как у Полибия «укреплять»,
«усиливать» политическую партию (XXV 13, 5), врага (frg. 79), подвиги
(frg. 78).
В отличие от родового, биологического понимания человека
(anthropos), противопоставленного животному (dzoion), в отличие от
противопоставлений по полу (аггёп, arsen «мужское»; thelys «женское»,
апёг «мужчина»; gy^ «женщина»), возрасту (pais, paidion «ребенок»,
«дитя», nepios «младенец», brephos «новорожденный»), половозрастным
категориям (ho pais «мальчик», Ьё pais «девочка», coros. meiracion
«подросток», «юноша»; согё, parthenos «девушка») и сложной диффе-
ренциации родственных, брачных, семейных отношений, гр. soma
«крепкое, здоровое, целостное тело» есть некое предельное обобщение
всякого живого существа, абстрагированное от конкретных единично-
стей, отрешенное от конкретной качественности и вместе с тем мыс-
лимое всегда только физически и материально.
В данной работе нас не интересует soma в своем буквальном
физическом, телесном смысле, характерном для любого живого суще-
ства. Нам важно установить сферу применения этого слова только к
человеческой личности, границы этого личностного понимания, его
специфическую локализацию, его антропологический смысл, посте-
пенно утвердившиеся в греческой литературе, истории, философии.
Если идти от истоков, т. е. начинать с гомеровского эпоса и поэм
Гесиода, то можно констатировать здесь полное отсутствие понимания
личности человека как тела. Мы можем найти у древних эпиков любое
конкретное упоминание человека из приведенной только что выше
Пэуппы слов в полноте его биологических, физиологических, возраст-
иых и семейных связей. Однако здесь нет ни одного случая обобщен-
но-физического понимания «тела» как человеческой личности. Более
того, soma, «тело», судя по немногочисленным примерам из Гомера,
6040 и означает «тело», как только тело мертвое, т. е. материю,
366
А. А. Тахо-Годи
лишенную всякого личностного смысла, поистине бездушную, пре-
дельно косную материю.
В этом отношении интересны стихи «Илиады»(1 3—5), где «сам» че
ловек (aytos) понимается чисто физически и есть не что иное как мертвое
тело, труп. Именно поэтому погибший брошен на съедение псам и птицам,
и душа его (psyche), т. е. то, что осмысливает человека и дает ему жизнь,
уходит в Аид. Живой человек, правда, может иной раз именоваться dema-,
т. е. тоже «тело», но тело, в котором подчеркивается строительный прин-
цип, его конструирование (ср. demo «строю», domes «дом»). Физическая
и материально-телесная сторона живого существа у Гомера не осмыслена
как личность, ибо она смыкается со всей мировой материей и едина со
всем физическим миром и природой. Как бы ни был героичен, благороден
и прекрасен гомеровский человек, но это член родовой общины, правда,
уже пытающийся выйти из-под ее опеки. Родовая же община еще тесней-
шими узами соединена с миром природы, где царит вечный круговорот
материи и где все мыслится вечным — и смерть, и возрождение. Вспомним
знаменитое место «Илиады» (VI 145—149), где Главк сравнивает судьбу
человеческих поколений с листьями на деревьях. Поколения людей уми-
рают и рассеиваются, подобно листьям, но так же, как весной, одеваются
зеленью леса, вновь рождаются новые поколения. И в этом бессмертии
человеческого рода, а не в смертной судьбе отдельного человека великое
утешение для гомеровского героя. Вечная повторяемость природных яв-
лений — образец для устойчивости родового общества, в котором человек
мыслится частицей великой природы, но не индивидуальной, неповтори-
мой и целостной, пусть даже только физической, личностью. Человек
раздроблен на мельчайшие единичности, которые составляют целое толь-
ко в системе единого космоса. Вот почему душа или дыхание, а также
умственные и эмоциональные свойства всегда локализуются у гомеров-
ского человека в каком-нибудь отдельном физическом органе,1 но никак
не понимаются одновременно телесно и целостно. Так, диафрагма (phren)
есть преимущественно средоточие умственной деятельности человека,
сердце (cardia, сёг, etor) — средоточие эмоций, грудь (stethos) заключает
в себе жизненный аффективный интеллектуальный и волевой принципы
(thymos), — кровь (haima) — носитель души (psyche Ил. XIV 518, XVI
505), печень (hepar) — средоточие жизни (Ил. XI579, XIII412, XVII349,
XX 469), и Гекуба жалеет, что она не впилась в печень Ахилла, не съела
ее, чтобы погубить врага и спасти Гектора (XXIV 212 сл.). У Гомера мы
наблюдаем как бы рассредоточенье единого человека, еще его несобран-
ность воедино, его воплощенность в отдельных физических частностях,
так как единым целым является в эту раннюю эпоху только род, да и он
мыслится частью природы.
1
Зелинский Ф. Гомеровская психология. Пг., 1922.
О древнегреческом понимании личности 367
В послегомеровской Греции с большой последовательностью и ис-
торической необходимостью начинает складываться представление о
личности. Правда, личность эта, как мы уже знаем, мыслилась чрез-
вычайно специфично и даже не сразу была оформлена в языке тер-
минологически, причем термин этот — soma — основан на чисто фи-
зическом, материальном значении. Здесь перед нами раскрывается
одна из главных тенденций древнегреческого мышления: строить жизнь
человека по модели природы, бытие которой ограничено вечным кру-
говоротом материи, замкнуто в себе, а потому и внеисторично. Даже
в более поздние времена, когда у пифагорейцев, орфиков или Платона
особенно утвердилось учение о самостоятельной ценности души чело-
века и ее вечности, сама душа все-таки представлялась телесной и
участвовала в мировом круговороте, воплощаясь в тела, переживая с
каждым новым телом несколько жизней и возвращаясь каждый раз
снова на землю, пройдя путь испытаний и очищений.1
Культ души в древней Греции, с такой глубиной исследованный
еще в прошлом веке Э. Роде,2 никак не может, на наш взгляд, быть
доказательством расцвета античного спиритуализма. В этом культе,
неразрывно связанном с мистериями Диониса, столько стихийного
оргиазма, кровавых жестокостей и чисто физического сопричастия
человека богу, что даже восхождение души к божеству переживается
слишком телесно и материально. Да и само архаическое божество
совсем не является высшим воплощением идеального абсолюта, а
только лишь высшим пределом человеческого состояния, неотьедини-
мым от космического и природного бытия. Именно поэтому каждый
новый этап в развитии греческого общества со все большим нарастанием
самоутверждения человеческой личности никак не мог обойтись без
ее физического и телесного осмысления. Таким образом, греч. soma
как одно из языковых оформлений подобного осмысления все более
укрепляется в литературе. Однако оно не исключает иных форм
физического понимания личности, но выраженных не только терми-
нологически, а в религиозных, философских, общественных и непос-
редственно жизненных теориях, которые тоже являются предметом
специального изучения.
Собственно говоря, только начиная с греческой классической тра-
гедии ощущается твердый и неуклонный интерес к человеческой лич-
ности, пусть даже только в ее физическом восприятии.3
2 Платон. R.P.X617d—621b, Phaedr., 248с—249d.
3 Rhode Е. Psyche, 10 Aufl. Tubingen, 1925.
. Классическая лирика не зиает слова s&ma как эквивалента человека.
23°^*° указать только несколько примеров у Пиндара (Pyth. VIII 81 сл., Nem. IX
~“>01. IX 34) и Вакхилида (XVII 63). Все тексты со словом sOma у используемых
“ани авторов и с необходимым значением приводятся здесь в исчерпывающем
368
А А. Тахо-Годи
Наиболее скудно представлен в этом отношении Эсхил. Здесь мы
находим лишь 4 текста: Sept. 895 — сопоставляется гибель домов и
смерть «тел», т. е. людей. Prom. 859 упоминает «убийство тел», т. е
убийства, совершенные девушками, дочерьми Пеласга. Бог войны Арес
(Agam. 437) назван торговцем «тел», т. е. человеческих жизней, людей,
воинов. Примечательно именуется мертвый Агамемнон (Cho. 724)
«царственным флотоводительным телом». Царь-полководец, предводи-
тель ахейского флота, владыка Микен в конечном счете есть только
тело, только физическая целостность. Здесь в отличие от Гомера
человек мыслится целостным и в жизни и в смерти.
У Софокла герой трагедии мыслит сам себя иной раз только телом,
родственным (Е1. 1333 О. С. 1105), дорогим (Е1. 1233), старым
(О. R. 961), которое отождествляется с его внутренним «я» и неотде-
лимо от интеллекта и эмоций человека. Козни Креонта против Эдипа
(О. R. 643) есть злоумышление против его «тела», хотя Эдип, уличая
Креонта, конечно, имеет в виду не только чисто физическое насилие
над собой, но насилие над своим «я», над личностью царя и человека.
Если Йемена принесла Эдипу тайно от кадмейцев вещанье о его теле
(О. С. 355), то здесь, конечно, имеется в виду сам человек с его
судьбой и жизнью, с его будущим. Эдип (О. С. 265 сл.) четко разделяет
свое имя (опоша), свои поступки (erga) и свое тело (soma). Видимо,
имя героя здесь имеет характер чего-то внешнего. Поэтому имя Эдипа
страшно только своим звучанием, и его не должны пугаться люди.
Но «тело», т. е. эдипово «я», имеет определенно онтологический ха-
рактер, и от него зависят поступки, которые приносят несчастье и
которых-то как раз и надо бояться человеку. Тяжелые внутренние
душевные страдания перенесло тело Электры (Е1. 1181), а боги ввер-
гают в беды слабые и безрассудные тела <А1. 758), в то время как
деньги делают мудрым и благовидным тело «невидное» и «с дурным
именем» (фрг. 85, 9—10), т. е. превращают ничтожного человека в
значительного. Единственный раз у Софокла народ, находящийся в
повиновении, именуется ta polla somata (Ant. 657 сл.). Здесь, видимо,
подчеркивается некое социальное единство народа как живого цело-
стного организма, хотя и зависимого от воли властителей. Таким
образом, у Софокла soma мыслится не просто как физическое тело,
но как телесно понятая личность в плане родственных, моральных и
едва намечаемых общественных отношений.
Гораздо более дифференцированный и обильный материал дают
нам трагедии Еврипида, где можно выделить несколько оттенков, с
которыми употребляется слово soma.
Тело здесь (ср. Софокла) противопоставляется имени как нечто
внутреннее и составляющее сущность человека в отличие от внешнего
и как бы случайно связанного с этой сущностью. В «Елене» твердо
противопоставляется внешняя оформленность человека с помощью
имени его внутренней субстанции. Поэтому все дурное и позорное
О древнегреческом понимании личности
369
связанное с именем, никак не отражается на самом деле, т. е. на
личности человека (Не1. 67, 588, 1100; Ion. 1277, Iphig. Таиг. 504).
Тело — это личность человека или бога в образе человека вообще,
независимо от возраста, пола, родственных связей и любых, дружеских
иди враждебных отношений. Поэтому у Еврипида стражи стерегут
тело Диониса (Bacch. 497) и тело Эрихтония (Ion. 22), а сатиры —
тело Одиссея (Cycl. 690). Можно спасать заболевшее тело, т. е. друга
(Е1. 428), заботиться о теле, т. е. о друге (Iphig. Таиг. 311), оплакивать
тело, т. е. самого Ореста (Е1. 1325), «спасать тело», т. е. себя (Her.
F. 203), «отражать тела врагов» (Orest. 762), «отвратить смерть от
тела» (Her. F. 193), «идти войной на тело человека» (825, примеча-
тельно, что soma читает здесь Меррей, а Наук осторожно предлагает
doma «дом»), воевать из-за тела, т. е. из-за Елены (Iphig. Aul. 1417),
рождать удачу для тела, т. е. для человека (фрг. 791, 3).
Иолай называет себя «небезызвестным телом» (soma acerycton.
Heracl. 89), что, видимо, многих приводило в недоумение. А. Наук потому
избирает чтение опота — «имя», не осмеливаясь, как Меррей, оставить
рукописное — soma «тело». «Тела, белые от старости» — старики (Her.
F. 909), «тело, не милое тебе» — человек немилый (Suppl. 1070). Наслед-
ственные черты родителей — «часть тела» (фрг. 403, 3). Сюда же относим
Bacch. 364, 607; Ion. 519; El. 523; Andr. 315; Iphig. Aul. 1217, 1221, 1351;
Iphig. Taur. 821, Med. 233, 1108, 1162; Suppl. 794; фрг. 154, 799,, 1013.
Тело — это сама жизнь, чисто физическая, жизненная субстанция
человека, а вовсе не его внешняя оболочка, так что гибнет тело или
спасено —умирает и живет человек (Ion. 1228; Нес. 301; Не1. 970;
Heracl. 601; Iphig. Aul. 1350, 1395, 1397, 1553; Iphig. Taur. 757, 765;
Med. 1111; Orest. 653, фрг. 773, 6), тело может быть средоточием
моральных качеств человека и его эмоций. Елена стыдится показать
аргоссцам свое тело, т. е. свой позор (Orest. 98), Ахилл, невольно
втянутый в преступную игру, считает тело свое нечистым (Iphig.
Aul. 940). Медея сокрушается, что Зевс не пометил знаком (character)
тело Язона, т. е. не заклеймил его преступную сущность (Med. 519).
Тезей считает, что мудрый не смешает тела справедливые, т. е.
праведные, с телами несправедливыми, т. е. неправедными (Suppl.
223) , тело Электры не может вынести оскорбления от врагов (Е1. 698).
Иной раз тело является носителем общественных религиозных функ-
ций. Так, в «Умоляющих» один из семерых полководцев — Гиппоме-
ДОН — хотел «доставить городу полезное тело» (887), т. е. хотел быть
сильным, крепким, мощным вождем. Во фрг. 527 читаем: «Вряд ли
1,1 предпочтешь благородство и добродетель деньгам, хотя и от бедных
’Ил (peneton somaton, т. е. родителей-бедняков) может родиться хо-
Р°ший ребенок». Креуса, давняя супруга Аполлона, считает себя «свя-
щенным телом», отданным богу (Ion. 1285), чувствует себя внутренне
^причастной божеству, а Мегара вспоминает, как некогда она жила
*® счастливом теле» (Her. F. 66), т. е. попросту была счастлива.
J70
А. А. 'Гахо-Годи
Итак, у Еврипида гораздо более выпукло, чем у Софокла, выступает
сюжетная и личностная функция термина soma. Она распространяется
не только на психологию, мораль и общественность, но и вообще на
все сферы жизни. У Еврипида отчетливое физическое понимание
человеческой личности заметно нарастает.
Комедии Аристофана начисто лишены интересующих нас текстов,
за исключением Av. 241, где сопоставляются тело, т. е. сам человек,
и его дом, и Thesm. 895, где тело можно задеть руганью. Зато здесь
впервые появляется «тело» для наименования раба (Plut. 6).
Если перейти к классической прозе, то у близкого к Еврипиде
софиста Горгия тело и жизнь человека, т. е. сам человек, отож-
дествляются (В 11 а, 35 D9). Горгий сопоставляет также «дела» и
«тела», т. е. деятельность людей и их личность (В 11, 9; В 11, 18;
Неприятеля и врага Горгий понимает как «враждебное тело» (polemia
somata, В 11, 16).
По Геродоту, имена у персов подобны «их телам» (I 139, ср.
позицию историка, противоположную Софоклу и Еврипиду). Приам
рискует своим телом (spheteroisi somasi II 120, 2), т. е. своей жизнью.
«Нет ни одного самоудовлетворенного тела человека» (anthropoy soma
hen oyden aytarces esti), — пишет Геродот (I 32, 8), т. e. ни одной
человеческой личности.
Интересный материал дает нам «История» Фукидида, в которой
личность свободного грека, гражданина, стоящего на защите родного
полиса, солдата или государственного деятеля, воспринимается как
«тело». Здесь мы находим все градации в понимании этой личности.
Она может быть выражением физической силы (VIII 65, 3 и тогда
soma синонимично rhome) или «самостоятельного», «самоудовлет-
воренного» (aytarces) организма (II 51, 3). Она может быть средо-
точием жизни, за которую опасаются (VI 9, 2), которую подвергают
опасности (III 14, 1), спасают (I 136, 4), отдают (II 43, 2), губят
(III 58, 2), которой рискуют (VIII 45, 5) и наслаждаются (II 43. 2)
наряду с тратой денег. «Тела» — солдаты и деньги необходимы для
войны (I 85, 1; II 64, 3; VI 31, 4. 5; VI 12, 1), хотя сила войска
в людях, а не деньгах (I 121, 3), и автург, свободный земледелец,
живущий трудами своих рук, охотнее жертвует собой, своей жизнью,
т. е. телом, чем деньгами (I 141, 5), относясь к своему телу как
к чужому, чисто физическому объекту, но ревностно оберегая свои
мысли (gnome) как самую дорогую собственность (oiceiotate)
(I 70, 6).
Тело у Фукидида — это не просто человек в его внешнем обличье
(VII 44, 2; III 74, 1), но гражданин, который спасает близкое ем)
дело (II 42, 4), и потому на войне надо больше жалеть человека"
тело, а не дома и поля, которые приобретают люди (I 143, 5). Мы
читаем, что тираны (1 17, 1) заботятся о безопасности своей личное?11
(soma), что Алкмеону было достаточно земли для его тела (II 102, 6>-
О древнегреческом понимании личности
371
чТо жители не отчуждали город от пришедших к ним «тел» (III 65, 2),
что Алкивиад возмущал граждан беззакониями своего тела в личной
#изни (VI 15, 3). Хороший гражданин (agathos polites) заботится о
себе, своем теле и своем достоянии (oysia VI 9, 2), сохраняя личную
неприкосновенность (VIII 91, 3), и, занимаясь в городе разного рода
деятельностью, становится «самодовлеющим телом» (aytarces soma II
51, 3), мы бы сказали, самостоятельной, независимой личностью.1
Совершенно очевидно у Фукидида личность понимается как тело
не в плане родственном или психологическом, а именно как свободный
человек, солдат и гражданин, в полноте развития своих способностей.
У Ксенофонта находим противопоставление человеческой лично-
сти и ее жизни материальным вещам, имуществу, деньгам. «Сохранить
тело и оружие» (Anab. V 5, 13), «содержать стражей для имущества
и тела» (лично для самого Кира Cyr. VII 5, 84), захватить в городе
«имущество (chremata) и тела» (somata пленных людей VII 5, 73),
деньги, города и тела их самих, передать Киру (Anab. I 9, 12).
Говорится об охране тела Кира, т. е. его жизни, его самого (Cyr. VII
5, 59, 65). В Беотии и Афинах можно набрать «красивые и хорошие
тела», т. е. жителей, людей (Mem. III 5, 2). Воин именуется телом
(Anab. IV 6, 10), а «свободные тела», отпущенные Лисандром, — это
пленные из свободных граждан (Hist. Hell. II 1, 19). Таким образом,
у Ксенофонта мы не находим момента гражданственности, постепенно
выявляющегося у Фукидида, но зато его «личность» — soma расцени-
вается наравне с имуществом, деньгами, оружием, т. е. является тоже
материальным фактором, например, в ведении войны, хотя и опреде-
ленно ему противопоставляется. Впервые у Ксенофонта soma имеет
оттенок несвободной личности, пленного, т. е. человек, который будучи
по природе свободен, в силу обстоятельств, теряет эту свободу. Вспом-
ним при этом указанный нами выше текст из Аристофана, понимавшего
soma уже просто как раба. Обе эти тенденции, как показывает ис-
следование, в дальнейшем будут тоже развиваться.
Платон пишет об устроении тюрем ради «охранения личной без-
опасности большинства», т. е. собственно говоря «тел народа» (tois
pollois ton somaton, Legg. X 908 а). Однако у Платона мы находим,
главным образом, учение о душе, которая сама «теловидная» имеет
«вид тела» (somatoeides, Phaed. 83 d) и поэтому приходит в Аид
«наполненная телом». Вся глава 30 «Федона» (81 b—е, 83 с—е>
посвящена этой «теловидной» душе. В «Горгии» знаменитый миф о
сУДе над мертвыми понимает души, пришедшие в Аид, как «облеченные
в прекрасные тела», причем у самих судей «душа облечена глазами,
'—-------
Такой превосходный знаток греческого языка, как С. Жебелев, перерабаты-
текст Фукидида в переводе Ф. Мищенко, останавливается здесь на «самодов-
клцем состоянии», видимо, считая нецелесообразным учитывать специфику
'•лова s&ma или не придавая ей никакого значения.
372
А. А. Тахо-Годи
ушами и целым телом». Оказывается, что судьи судят как бы еще
живую, воплощенную в тело душу, а ее следует судить нагую, ли-
шенную тела, самое по себе (Gorg. 523 cd). Даже в Аиде (524 Ьс)
«тело сохраняет свою природу... все видимое» (величину, размер,
толщину, язвы, раны, вмятины и т. п.). Судья Радамант, осматривая
душу каждого умершего, видит, что она «избита, покрыта язвами
несоразмерна» (524 de—525 а). Таким образом, происходит отожде-
ствление живого и мертвого тела, когда душа человека даже в смерти
сохраняет физические качества и свою «теловидность», что чрезвы-
чайно характерно для идеалиста — грека Платона, все еще не достиг-
шего достаточной спиритуализации и отвлеченности.
Платон в своем телесном понимании души, вообще говоря, близок
к досократовскому натурфилософскому представлению. У пифагорей-
цев, например (58 В 1 а), тело является как бы принципом оформления
души, которая, «будучи подобна телу», бродит по земле. В свою
очередь, тело, по свидетельству атомиста Левкиппа (67 А 35), есть
не что иное, как «кусок души» (psyches apospasma), т. е. душа, видимо,
мыслится здесь также материально. Мы не можем входить в обсуждение
всех оттенков древнейшей соотнесенности души и тела, но эта соот-
несенность, во всяком случае, является исходным пунктом всей ан-
тичной философии. У Платона эта соотнесенность, во-первых, доходит
до полного и уже сознательного отождествления, а во-вторых, пере-
носится в чисто духовную область, так что понятие «телесной» души
только у Платона впервые получает свой окончательный личностный
характер, включая мораль и личную ответственность человека в за-
гробном мире.
Если коснуться современников Платона, то в мировосприятии
Аристотеля тело — это понятие чисто физическое, биологическое,
зоологическое, одинаковое в мире людей или животных, но никак
не личностное. Определение человеческого счастья в школе кирена-
иков, приводимое Аристотелем (eydaimonia), как «изобилия, имуще-
ства (ctematon) и тел» (somaton), т. е. рабов (Arist. Rhet. I 5, 1360
b, 14 сл.), указывает лишний раз на то, что IV в. до н. э. с его
подступами к эллинизму и с его нарастанием крупного рабовладения
должен нам предоставить богатый материал по физическому, телес-
ному пониманию человека в системе общества, государства, законо-
дательства, а не только в кругу семейных, родственных и частных
отношений.
Интересные сведения дают нам в этом плане речи Демосфена,
оратора, политика и государственного человека, который не пред-
ставляет себе личность вне гражданских обязанностей или вне системы
законодательства, вне исполнения общественного долга. У Демосфена
мы находим всего лишь несколько мест, где упоминается тело, т. е-
человек только со стороны физического здоровья (II 21; XXI 69.
165, 223; XXIV 160; XXIII 3; XLIII 65; XLIX 13; XLV 81). Все
О древнегреческом понимании личности
373
остальные тексты, независимо от того, раб это или свободный, говорят
У Демосфена о теле. Тело гражданина можно оскорблять (XXI 7,
11, 18, 25, 75, 106), причем у законов много средств, с помощью
которых оскорбляется тело, т. е. личность (XX 179), особенно, когда
наносится оскорбление и самой личности — телу и ее общественным
обязанностям, например, хорегии (XXI 126). Тело можно отправить
в тюрьму (XXII 53), убить (XXIV 10 — убито три тысячи тел сво-
бодных), взять в плен (XX 77 — взято три тысячи пленных), обес-
честить, совершив беззаконие (XLI 12). Но вместе с тем тело под-
вергается опасности (XVI 12), особенно ради государства (L 59).
Гражданин оказывает своим телом расположение родине (XXI 145),
служит ей телом и имуществом (oysia X 28). Тела исполняют
государственные обязанности (XXI 166), вступают в должность три-
эрархов (XIV 20), с них взимают налоги (XXII 54), если они
платежеспособны (XIV 16), тела собираются в симмории, чтобы
снарядить флот (XIV 17, 18), наполняют собой корабли (IX 40). За
эллинов надо сражаться, используя все средства: тела, т. е. людей,
воинов, деньги, города, землю (Epist. IV 9); на войне всегда идут в
ход тела, т. е. солдаты, деньги, корабли (XII 2); необходимы для
борьбы «тела», т. е. люди, деньги, союзники (LX 18). Афиняне
тратили людей и средства (chremata) ради всей Греции (XVIII 66),
будучи владыками тел (т. е. людей) и городов (XVIII 100), в то
время как никто из греков не помогал борьбе афинян ни телами
(людьми), ни деньгами (XVIII 20); и родные тела (т. е. погибшие)
при Херонее (LX 24) не предпочли свое смертное тело, самих себя,
свою жизнь, бессмертной славе (LX 27). Демосфен говорит презри-
тельно об Андротионе, как о продажном теле (hetairecotos), которому
законы запрещают войти в храм (XXII 73). Он иронически именует
Фениппа «полезным и почтенным» по его телу (XLII 20) и его
имуществу (oysiai XLII 25), так как тот разорял скромных граждан,
зарабатывавших трудами своего тела (XLII 20). Тело, т. е. человек,
может давать лживые показания (XLIV 22), а продажная женщина
иначе и не именуется Демосфеном, как только «тело». За нее платят
тридцать мин (LIX 29), она работает своим телом (ergadzetai 20),
заботясь ежедневно о наших телах (о нас самих, 122), торгует телом
<22, 108), продает его. (49), и тело ее еще в детстве становится
объектом продажи и купли (19). Впрочем, здесь возможно и более
элементарное толкование soma как буквально физического тела про-
дажной женщины.
Раб или рабыня перед лицом суда есть только тело (XLVII 6—9,
12, 15, 47). И хотя свободный гражданин тоже есть одно из тел,
составляющих общество, но перед законом он обладает одним пре-
имуществом по сравнению с рабом. Раб отвечает за нарушения закона
телом, т. е. его могут пытать, подвергать физическому наказанию
Истязанию. Свободный отвечает за совершенные им преступления
374
А. А. Тахо-Годи
своим имуществом, но не жизнью, не достоинством гражданина, пусть
даже этот свободный член общества и мыслится телесно. Поэтому так
осуждается Демосфеном Андротион, который свободных граждан на
казывал как рабов и вел себя как тиран и деспот. Эта идея чрезвычайно
твердо проводится Демосфеном не раз и почти в одних и тех же
выражениях, ставших некоей формулой, указующей место двух ан
типодов в греческом классическом полисе эпохи его крушения —
свободного и раба (XXII 55, XXIV 167, VIII 51, X 27). Небезынтересно
что хотя оба эти субъекта находятся на полюсах античного обществ,-
и свободный обладает тем моральным качеством, которого нет у раба
т. е. стыдом, и тело его не может вынести позора (VIII 51, X 27;
все-таки оба они мыслятся физическими телами, т. е. объектами, с
которыми государство обращается опредмеченно и бездушно. Посколь-
ку раб всегда сам принадлежит какому-нибудь свободному, он в основе-
своей только принадлежность, имущество. Значит, он испытывав
двойное давление от государственной власти. Если гражданин не дол-
жен страдать своим физическим телом, так как это тело все-гаки
свободно и никому не принадлежит, кроме как надличностному об-
ществу, то раб по закону переносит именно физические унижения
Он может как личная принадлежность гражданина испытать на себе
более ощутимо и телесное наказание, которому подвергается его гос-
подин, утративший часть состояния или уплативший штраф, и ш
подвергшийся конфискации имущества. С другой стороны, за свою
собственную провинность он также рискует самим собой, т. е. своим
телом. Таким образом, признавая свободного и раба телом в систем,
государственных и правовых отношений, Демосфен все-таки отчетливо
различает тело мыслящее, думающее, настроенное патриотически,
сражающееся за родину, полное воинской и гражданской доблести, и
тело бездушное, которое можно продать и пытать, так как все равно
оно не испытывает стыда.
Не забудем, что в это же самое время Аристотель учил о человеке
как о «dzoion politicon» и резко разграничил в государстве место
свободного гражданина и раба по природе, которого не может преоб-
разить даже самое тщательное воспитание. У Аристотеля (Politic. VIII
2, 1) все занятия делятся на «приличные для свободнорожденного, и
на такие, которые свойственны несвободным», причем занятия в «лич-
ных интересах», в интересах друзей или «добродетели» достойны сво-
бодного, а занятия в интересах чужих свойственны наемнику или
рабу (XIII 2, 2).
Современник Демосфена, но вместе с тем близкий к Платой)
оратор Исократ употребляет слово soma, главным образом, вне со-
циально-гражданского контекста. Это сам физически понимаемый че-
ловек или божество (Не1. 28, 51, 42, 17, 58; Lach. 17; Adv. Nic. 36-
De antidos. 115), который может страдать своим телом (Panegyr. По-
терпеть позор (Panath. 40), наказания (Lach. 1), мучение (Lach. 15>
О древнегреческом понимании личности
375
бить во власти сильного (Philipp. 103, Ей. 63), искать для тела
убежище, безопасность, защиту (Ей. 52, 30; Adv. Nic. 21), кормить
gix) (Archid. 78), бороться с другими телами (De antidos. 302), воевать
телами (Panegyr. 156), подвергаться опасности (Panegyr. 75), забо-
титься о них (Plat. 58), следить своими телами (т. е. самим, Plat.
15) подчиняться закону (Lach. 2, 21). Тело адекватно жизни (Archid.
46; Epist. VII 5; Zeug. 45; Trapedz. 34, 46; Call. 16; Euth. 14; Panath.
12, 47)- Оно смертно, как всякая физическая сущность (Archid. 109,
Panegyr. 84, Philipp. 134).
Однако у Исократа наблюдается некоторого рода дуализм тела и
мысли (Nicocl. 51, De antidos. 185, Philipp. 163, Eu. 74, 71), тела
и души — физического и духовного, интеллектуального. Тело смертно,
а душа бессмертна (Adv. Nic. 37), поэтому победить можно тело, а
душа непобедима (Archid. 9). Страдать можно телом, но не душой
(Adv. Nic. 46). Можно судить душу и тело (De antidos. 250), так
как человеческая природа состоит из души и тела (De antidos. 180,
181; Archid. 105; Eu. 37, Demon. 6, 126; Panegyr. 1, 92), причем
разумная часть человека связана с душой, а практически — полезная
с телом (De antidos. 182), хотя добродетели (Ей. 23), как и здоровье,
(Panath. 7) бывают у тела и души. Тело укрепляется трудами, а
душа опасностями (Demon. 40), но тело и душу можно испортить
(Рах. 109), так как тело изнашивается богатством, а душа становится
низкой и ничтожной из-за монархического образа правления (Panegyr.
151).
Создается впечатление, что Исократа, как и Платона, не удов-
летворяет чисто физическая целостность человека именно благодаря
его неустойчивой, смертной природе. Отсюда попытка Исократа вы-
делить из телесной материи интеллект и душу. Как мы видели выше,
у Платона сама бессмертная душа мыслится пока физической и те-
лесной. У Исократа же тело все еще никак не может окончательно
отделиться от души, вследствие чего у него и тело и душа одновременно
претерпевают специфичные для каждого из них состояния.
Если подвести итог всей классической литературе, то можно ска-
зать, что греческая классическая литература в равной мере (если
говорить о термине soma) понимает свободного гражданина и раба в
их личностной целостности как живое тело. Однако уже в IV в. до
И. э. мы видим как человек все больше и больше становится физической
частицей государственного организма, причем бездушность рабского
тела явно усиливается (Демосфен), а личность только тогда получает
истинную целостность, когда тело объединяется с душой (Исократ),
т* е. происходит, с другой стороны, расщепление личности на материю
и Душу, правда, тоже пока еще несущую на себе следы смертной
*Изни, всех ее тягот и страданий.
37b
А. А. Тахо-Годи
Далее, переходя к эллинизму, можно наблюдать, как все с большим
упорством физическое тело мыслится привилегией человека, который,
попав в плен, станет рабом, военной бездушной добычей.
Полибий пишет о том, как во время голода воины съели «рабский
тела» (ta doylica ton somaton I 85, 1), как были захвачены в плен
корабли и тела (I 61, 8), скот и двадцать тысяч тел (I 29, 7), добыча
и много тел (I 19, 15), деньги, утварь и тела (III 17, 10), огромное
количество тел (IV 38, 4). Жители Пелопоннеса, т. е. тела, становятся
как и их имущество, добычей лакедемонян (II 62, 4; II 62, 12). Элея
густо населена и обильна рабами и другим достоянием (somaton cai
catasceyes IV 73, 6).
Филипп захватил в плен многих греков (somaton XXIV 1, н,
много разного рода имущества (aposceyes), более пяти тысяч рабов
(somaton) и множество скота (tetrapodas IV 75, 7), он же приобрел
много пленных (somaton) и денег (chrematon XV 22, 1). Римляне
присвоили себе по договору людей (somata) и движимость (epipla XI
5, 5) Карфагеняне по договору (XV 18, 1) сохранили в своем владении
города (poleis), землю (choran), скот (ctene), рабов (somata) и прочее
достояние (hyparxin).
Вообще когда Полибию надо сказать «раб», он прямо именует его
«телом» (XII 16, 5). Даже если Полибий говорит о «родственных
телах», т. е. родственниках или о «свободных телах» (eleythera somata)
наравне с рабскими (ta doylica), то это происходит только потом?,
что эти свободнорожденные уже захвачены в плен и сами могут стать
рабами (II 6, 6) или им грозит плен, как и рабам (II 62, 10; XXII
19, 9), хотя они могут по милости победителя искать где угодно
спасения (XVI 30, 7)5
Иногда Полибий называл свободных погибших, т. е. потерявших
свою жизненную сущность, — «телами» (I 37, 2), а те, кто заботится
о себе самом, заботится в первую очередь о своем «теле» (I 74. 8;
III 60, 4), хотя забота о теле не исключает такой же заботы о душе
(III 60, 7; III 87, 3), т. к. сама душа эта мыслится Полибием тоже
материально. Душа всегда составляет единое целое с телом (XXV
9, 2; XXXVII 2, 3), укрепляется физически вместе с телом (1 81, 5:
VI 5, 7; XV 16, 4), ослабевает вместе с ним (X 19, 5; XV 16, 3;
XX 4, 7; 10, 9; XXV 9, 2; XXXV 1, 4), портится с ним заодно
1 Упомянем здесь, что Диодор Сицилийский также пишет обычно о захва-
ченных в плен «многих телах» (XV 95, 1), и эти «пленные тела» всегда
оказываются в изобилии (XVII 46, 4; XX 80, 2). Даже описывая картин?
осажденных афинским флотом Сиракуз, Диодор не без умысла говорит, что всюД)
на стенах «было полно тел», которые смотрели на врага (XIII 14, 5). А ведь вес тп1
были, судя по дальнейшему изложению, женщины, девушки и старики, безымян-
ные участники наступающей драмы, потенциальные пленные, ценная добыч-;
наравне со всеми богатствами Сиракуз.
О древнегреческом понимании личности 377
(XVIII 41, 4). Человек — тело (XVI, 12; 7; XIII 2, 2), обладает
физическими качествами (somaticas), которые подразумевают качества
душевные (X 41, 7). Именно поэтому само тело как личность —
одушевленное тело, живое (XII 12, 3), оно — сама жизнь (XL 12, 6).
Оно равносильно одушевленному человеку, противостоящему неоду-
шевленным предметам (empsychoys andras ton apsychos catasce-
vasmaton, X 21, 4). Человек — это отдельный целостный организм,
сопоставимый с целостностью войска или государства (XI 25, 6k
Телесная организация человека сказывается и на истории общества,
которая, по мнению Полибия, когда-то совершалась в разных местах
и городах, имея свои цели и свой конец, а начиная с Ш в. до н. э..
т. е. с расцвета эллинистических государств, «становится одним це-
лым, события Италии и Ливии переплетаются с азиатскими и эл-
линскими и все сводятся к одному концу» (I 3, 4). Не забудем, что
Полибий, утверждая здесь целостность истории, именует ее
«somatoeide», т. е. «теловидной», а значит, и «целовидной».
Плутарх, один из крупных деятелей так называемого греческого
Возрождения, или второй софистики, которая пыталась вернуться к
духовным истокам классического эллинства, употребляя слово soma,
как бы синтезирует в нем, не выделяя особенно одного какого-нибудь
оттенка, все те моменты, которые были иной раз выразительно пред-
ставлены у обследованных выше писателей.
В первую очередь soma у Плутарха — это человек близкий, род-
ственный (Cat. 55 Sint.), кровный, единоплеменник (De sera num. 5
Bernard.), человек, почитаемый и боготворимый (ton hagnotaton...
somaton, Quest, conv. V 5), самый дорогой (жена, сын, сестра,
philtaton... somaton Dion. 31 Sint.), связанный супружескими узами
(Coniug. praec. 34), бывший друг и человек, некогда близкий по
общему делу (Pomp. 16 — Брут; Brut. 17 — Цезарь).
Тело — это свободный человек, но попавший в кабалу своего род-
ного города и ставший вещью, которую можно заложить (De vitando
aere alieno, 4, Solon. 13). Далее телом именуются люди, которых
продают наравне с имуществом (CamilL 8), которые являются рабочей
силой (Cat. 59, Camill. 31), зависимыми (Cat. 60), солдатами (Othon.
Ю, Aem. Paul. 8), пленными (Anton. 7, Dem. 50, 52, Marcell. 8,
Cleomen 24, Pomp. 27, Apopht. reg. et imperat. Cat. Sen. 27, Apophteg.
*ac. Ages. 13), жертвой вражеской ненависти (Dion. 3, 37). Должностные
лица в государстве — тела (Pomp. 24), как и цари, чьи богатства
погибли с их «телами» (Con. ad. Apoll. 16). Таким же «одним телом
и одной силой» (hen soma cai mian dynamin) может быть целая
страна — Пелопоннес (Philop. 8) или армия, с которой Цезарь обра-
щался «как с живым телом» (hos soma, Pomp. 51).
Сам человек в наиболее обобщенном физическом виде — тоже
Щ*0- Таковы Агесилай (Apophteg. lacon. Ages. 18), Отон (Othon. 10),
378
А А. Тахо-Годи
Дион и Брут (Dion, et Brut, compar. I), Арат (Arat. 42), Сулщ
«доставивший свое тело на форум» (Syll. 34).
Таким образом, Плутарх синтезирует все стороны понимания н ,и
как человеческой личности, до него проявившейся в разных жанрам
в разные периоды литературы и философии Греции, не останавливая
своего внимания ни на одном их огтенке, не выделяя его и не заостря .
Может быть, в этой восприимчивости и неприличности Плутарха ।
давно сложившимся терминам и понятиям сказывается его пристрас.ж
к устоявшимся формам жизни и мышления, которые столь характерна
для эклектизма позднего автора с его опорой на авторитет прошлою
мирно уживающегося в творчестве и жизни Плутарха с окружав.
его драматической историей Римской империи.
Подводя итог нашему исследованию термина soma, можно намети и
несколько этапов в его развитии, проявивших себя довольно четко j,
определенно.
Термин soma в специфическом значении «личность» употребляек я
крайне избирательно и редко, указывая на целостность, единство
нетронутость и предельную телесную обобщенность человека, от ко-
торой неотделима вся его интеллектуальная и духовная деятельность
тоже в достаточной мере представляемая древним греком в виде фи
зически данной субстанции. В термине soma, несмотря на огромную
развитость античного человека и сложность его общественных и час г
ных функций, выражается основная тенденция, столь целеустремлен
ная, проявившаяся в античной Греции — материально-предметное по
нимание не только богов, космоса и природы, но также всей совокуп-
ности технической, интеллектуальной, эмоциональной и моральной
жизни человеческой личности.
Термин soma, и это очень примечательно, никогда не употребляется
у Гомера для обозначения человека как личности, ибо гомеровский
человек все еще мыслится частью природы и космоса, не противопо-
ставляя себя этому внешнему объективному миру как автономную
самодовлеющую и независимую от него единичность.
Впервые soma как личность выступает у греческих трагиков
Свободный человек осознает здесь себя как физическое тело главным
образом в системе родственных, семейных отношений, как носитель
определенных моральных качеств — дурных или хороших, определяя
собой зачастую сущность человека, его «я» и потому противое гоя
случайности имени, полученного в удел человеком. Однако у трагиков
телом именуется человек в самом обобщенном виде, отрываясь о1
семьи и рода, являясь некоей жизненной субстанцией, но вместе <
тем выполняя и некоторые общественно-гражданские и религиозны1
функции. Поэтому народ у Софокла как предельное обобщение от-
дельных частных лиц именуется телом, т. е. представляет собой
целостный, единый организм. Трагики, таким образом, связаны еШе
прочными нитями с поэтической гомеровской традицией, не пред
О древнегреческом понимании личности
379
сбавляющей себе человека вне родовых связей, хотя у трагиков эти
родовые связи постоянно нарушаются и человек soma становится
объектом страдания и претерпевания, жертвой неразрешимых конф-
ликтов.
Зато греческая классическая проза вырывает человека из сферы
^гой заманчивой гармонии, такой ненадежной и неверной. Для Ксе-
нофонта и Фукидида личность — soma — это свободный гражданин
полиса, земледелец, труженик, солдат, воин, государственный человек,
который жертвует собой, т. е. своим телом для родины, города и
который гордится своей личной неприкосновенностью и достоинством,
становясь самостоятельной, независимой личностью.
Для классической философии характерна иная сторона в представ-
лении личности. Платон видит в ней не что иное, как телесную душу
или душевное тело за пределами всякого дуализма, не являясь каким-то
исключением в греческой философии, а даже смыкаясь с досократи-
ками-материалистами, для которых как, например, для атомиста Лев-
киппа, тело — это просто-напросто «кусок души» и вообще является
принципом оформления души. Платоновское представление о единстве
духовно-телесного человека в дальнейшем нашло свое продолжение и
развитие у оратора Исократа, современника и друга Платона, хотя
Исократ не обладает характерным для Платона оптимистически-це-
лостным взглядом на человека, тысячелетиями совершенствующегося
в круговороте душ. Личность у Исократа разделена на душу и тело,
и это последнее несет на себе все тяготы и страдания грубой жизни,
которая в свою очередь тоже воздействует на душу, но, в отличие от
грубого физического тела, душа разумна и бессмертна, а истинная
целостность личности достижима только при одухотворении тела, т. е.
с преодолением дуализма.
Однако все больше и определеннее личность оценивается с позиций
общественных и гражданских как часть мощного государственного
организма, но никак не организма космического или родового.
Поэтому с таким пафосом говорит Демосфен о человеке-гражда-
нине, но не как о примитивно-физическом теле. Человек в полисе,
свободный он или раб, именуется у Демосфена телом. Да он и не
может именоваться иначе, так как само государство — тоже живое
тело, целостно объединяющее свои части, свободных и рабов. Демос-
Фен признает свободного и раба телом в сложной системе государ-
ственных и правовых отношений. Но если свободный у него есть
тело мыслящее, исполненное доблести и любви к родине, гордое
своей независимостью и свободой, то раб в представлении Демосфе-
на — бездушное тело, подвергающееся любым унижениям и позору,
ибо оно не чувствует и не осознает этого унижения. После Демосфена
Представление о свободном гражданине как теле сходит на нет,
Уступая место человеку, воспринимаемому только в грубой физической
°°олочке, лишенной всякой духовности, т. е. рабу. Отсюда такое
380
А. А. Тахо-Годи
обилие текстов историка Полибия, у которого именуется телом всякий
человек, рожденный рабом, ставший рабом или находящийся под
угрозой плена и рабства. Поэтому у Полибия физические качества
тела (somaticas) определяют качества душевные, и тело, несмотря
на свою грубость, все-таки присуще одушевленному человеку, про-
тивостоя миру неодушевленных вещей. Полибий упорно проводит
идею телесной целостности человека и телесной целостности госу-
дарства, не малого полиса, а вырастающей Римской империи и даже
вообще «теловвдности» всего исторического процесса.
И характерно, что Плутарх, крупнейший деятель греческого Воз-
рождения, объединяет целый ряд типов понимания личности как
тела. Здесь soma выражает человека не только в кругу его родственных
и дружеских связей, но и в его деятельности гражданина, полководца,
политика, человека — свободного, но попавшего в зависимость, пе-
реживающего плен, рабство и вообще насилие. Однако наиболее слабо
представлен у Плутарха один из моментов: soma не связывается у
него с рабским состоянием, искони присущим человеку, что было
так понятно Демосфену и Аристотелю. Плутарх, для которого свя-
щенны были традиции и предания древнего полиса, все-таки по
своему жизненному и мировоззренческому складу был чужд идеологии
оправданного и естественного рабства. Ведь неслучайно некоторые
исследователи указывают на близость писателя к христианству.1 Но
даже если брать под сомнение этот аспект, то все равно следует
признать, что стоический платонизм Плутарха, его внутренняя тер-
пимость и благожелательность вряд ли давали простор для воскре-
шения, пусть хотя бы и в художественных целях, стародавнего
разделения общества и раздробления единого человеческого рода на
свободных по природе и рабов по природе. Наоборот, в самый разгар
создания эллинистических монархий уже Полибий провозгласил це-
лостность государственного организма, в котором все были потенци-
альными «телами», зависимыми от прихоти случая в бескрайних
просторах ойкумены. Универсальные идеи Римской империи, предо-
ставившей в конце концов своим завоеванным народам права граж-
данства, идеи стоического платонизма и христианства способствовали
признанию единым телом всего человеческого рода, где «нет ни
эллина, ни иудея», где нет ни господина, ни раба, ни бедного, ни
богатого и где все объединены в личном духе, а не в безликом
космосе и бесформенной природе. Однако чтобы выразить эту ду-
ховную целостность человечества, его духовное единство при небы-
валом внутреннем развитии и неповторимости каждого составляющего
эту целостность человека, было недостаточно слишком физического
1 См. Елпидинский Я. Религиозно-нравственное мировоззрение Плу-
тарха Херонейского. СПб., 1893.
О древнегреческом понимании личности
381
отягощенного материей термина soma. Новая эпоха с ее новыми
пд-гиоми и новым мировоззрением требовала иных словесных офор-
млений, которые могли бы вместить всю глубину значения рожда-
ющейся на склоне древнего мира еще невиданной личности.1
__ Не выходя в своем исследовании за пределы термина soma, мы считаем, что
ФеВДсгреческое понимание личности во всей ее полноте может быть выяснено
при комплексном изучении философского, исторического, религиозного,
*И* *Икествеиного, эстетического и других аспектов античной культуры. Попытки
Целостное представление о человеке Греции и Рима до сих пор крайне
г^иченны. См. например: Schaerer R. L’Homme antique et la structure du
interieur d’Homere a Socrate. Paris, 1958; Rieks R. Homo, Humanus,
Jak2?nrtas <zur Humanitat in der lateinischen Literatur des ersten nachchristlischen
anrnunderts). Munchen, 1967.
СУДЬБА КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
(об одной идее А. Ф. Лосева)
В статье «А. Ф. Лосев как историк античной культуры», вышедшем
несколько лет тому назад, мы, характеризуя единство творческою
пути исследователя, пришли к выводу, что А. Ф. Лосев «с самою
начала своей деятельности увидел античность как некий целостным
космос, как единый организм, в котором все части необходимы
обязательны и не могут быть произвольно исключены без ущерба
функционирования этого организма».1 Так, не может быть без ущерба
для анализа этого общекосмического бытия античного человека ус-
транен вопрос о судьбе, силе, направляющей и организующей мировую
жизнь. И действительно, А. Ф. Лосев возвращается к проблеме судь-
бы многократно и в самых различных своих трудах. В том, что
представление о судьбе является предметом изучения истории рели-
гии, — нет ничего удивительного. Судьба также естественно входтп
в картину мифологического развития общинно-родового сознания Вш.
деятельности судьбы не мыслится эпическая и драматическая поэзия
древних. Но вряд ли кто-то из исследователей античной культуры
кроме А. Ф. Лосева, столь уверенно и смело заговорил о судьбе как
эстетической категории.
В известной книге о Гомере, в той части, где рассматриваемся
художественная действительность, героям, богам и судьбе отведено у
него не более и не менее как сто страниц.2 Там же достаточно четко
сформулирована роль судьбы как именно эстетической идеи, что отнюдь
не мешает ее чисто жизненным практическим функциям.
Дальнейшая история судьбы рассмотрена А. Ф. Лосевым уже в ere
многотомном исследовании античной эстетики, от досократиков и кон-
чая Плотином.
Почему же античная судьба оказывается у А. Ф. Лосева, кро'к’
всего прочего, еще и эстетической категорией, не теряя своей онто'
1 Сб. Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 272.
z Л ос ев А. Ф. Гомер. М., 1960, с. 237—341.
Судьба как эстетическая категория 383
логической сущности, и почему эта эстетизация судьбы характерна
именно для античного мира?
Ответ на поставленный вопрос вполне логически вытекает из ло-
севской концепции античного космоса как высшей идеальной дейст-
вительности, основанной на пластически-чувственных телесно осяза-
емых интуициях.1 Но эта его пластичность и живописность есть, говоря
^ррями Тютчева, только блистающий «златотканый» покров, который
накинут на «безымянную бездну», «на мир таинственный», на тот
«древний и родимый хаос», что «шевелится» где-то в глубинах бытия,
скрытый там «всевышней волею богов».
Античный человек, в частности гомеровский, опираясь на примат
чувственного восприятия, довольствуется именно этой внешней сто-
роной действительности. Этот мир, где боги являются предельным
обобщением бесконечно изменчивой стихийной жизни космоса, досту-
пен человеку благодаря антропоморфности, телесности самих же богов.
Но боги демонстрируют людям только внешнюю сторону своего бытия
(Гомер недаром говорит: «тяжко явление бога, представшего в собст-
венном виде» Ил., XX 131 Вересаев), так как их собственные истоки
обусловлены чем-то, что кроется за пределами скульптурной картины
мира. И это «что-то» именуется судьбой, которая «не подлежит ис-
следованию, не имеет никакого имени и превышает человеческие
потребности и человеческие способности»,2 тем более, что древний
космологизм по самому своему существу не склонен к исследованию
законов природы, обесценивает их. Остается судьба, которая, будучи
абсолютной силой (абсолютный буквально «отрешенный», ни от чего
не зависящий, отстоящий особняком от всего), придает жизни космоса
определенный рисунок, задает ей особый ритм, тем или иным способом
вылепливает ее, создает скульптурную картину мира, а значит, кар-
тину выразительную, осуществляя вовне скрытую в себе тайну, свои
замыслы и волю, т. е., собственно говоря, судьба действует здесь
эстетически и является эстетической идеей, организующей действи-
тельность разных типов.
«Учение о судьбе, — пишет А. Ф. Лосев, — есть первая в истории
материалистическая философия, потому что возводить к судьбе — это
И значит обосновывать всю непонятную стихию действительности на
ней же самой»;3 но философия эта создается в древности пока еще в
пределах мифологического мышления.
А если это так, то и судьба как эстетическая категория тоже имеет
0010 историю, как имела она ее в развитии родового общества, в
^Меровском эпосе, анализируя который А. Ф. Лосев устанавливает
j Л ос е в А. Ф. История античной эстетики. I—VI М., 1963—1980.
з Л ос е в А. Ф. История античной эстетики. Т. I. М., 1963, с. 536.
Лосев А. Ф. Гомер, с. 333.
384
А. А. Тахо-Годи
особые ступени в понимании судьбы. А именно, в архаических пластах
эпоса судьба мыслится выше богов, затем она оказывается тождест-
венной олимпийским богам и, наконец, в позднеэпическом сознании
даже зависит от богов.1 Добавим интереснейший факт из «Теогонии»
Гесиода, где Мойры — богини судьбы оказываются у истоков теогони
ческого процесса, будучи порождены Ночью (217). Но тот же Гесиод,
переходя к восхвалению Зевса, победившего титанов, вновь возвр.т.
вдается к мойрам, которые отныне занимают у него почетное меевд
в качестве дочерей Зевса и Фемиды — Справедливости (904—906)
т. е. становятся светлыми олимпийскими божествами.
Судьба не только не противоречит эпохе гомеровского героизма
но способствует ему. «Античная судьба — это сама объективная дей-
ствительность, — читаем мы у А. Ф. Лосева, — законы которой неиз-
вестны; но осуществление этих законов не только не мешает героизму
сильной личности, а, наоборот, впервые делает его возможным»?
Незнание судьбы придает свободу поступкам героя, помогает ему
действовать самостоятельно, независимо и даже заставляет его идти
против судьбы, противоречить ей (см. ряд упоминаний у Гомера о
действии героев «судьбе вопреки» — hyper moiran (Ил., XX 336); hyper
aisan (Ил., VI 487, XVI 750); hyper moron (Од., I 34 сл., V 436).
Так, судьба в качестве эстетической идеи организует весь герои-
ческий мир, создавая в конце концов стилистически устойчивую це-
лостную его картину. И она же вместе с тем заставляет героя каждый
раз заново и вполне драматически переживать «свою участь», находить,
так сказать, «свою судьбу».
Судьба, которая не подвластна разуму и чувству древнего человека,
не имеет ни определенного собственного имени;1 2 3 * ни определенного
образа, хотя сама придает окончательный рисунок жизни каждому
человеку, творит его по каким-то своим умным замыслам. И если
весь эпос и все искусство античности наполнены бесчисленными изо-
бражениями антропоморфных богов, то разве не символично, что мы
не знаем лика судьбы и что в известной скульптурной группе трех
Мойр, по иронии все той же судьбы, сохранились лишь складки их
длинных одеяний и ни одного лица.
Подходя к судьбе как к эстетической идее, мы находим ее упо-
рядочивающее действие в представлениях досократиков о соразмерно-
сти космической жизни. Даже Солнце, как полагает Гераклит, не
может преступить положенной ему меры (metra), так как его настигнут
Эринии, блюстительницы правды (22 В 94 D9). Но упомянутые здесь
Эринии реализуют волю Правды — Дики, а она есть одна из ипостасей
1 Лосев А. Ф., с. 333—341.
2 Л ос ев А. Ф. История античной эстетики. Т. I, с. 539.
3 Cf. Asch. Prom. 511—519, где говорится о «трехликих Мойрах» и «Эриниях’
в окружении целого комплекса терминологии судьбы.
Судьба как эстетическая категория
3S5
уДЬбы. Эринии, наблюдающие за правильными космическими движе-
01ями, прекрасными в своей неизменной повторяемости, у Эсхила
стоят рядом с «трехликими (trimorphoi) мойрами» (Prom., 515 сл.).
g гераклитовский огонь «мерами (metra) вспыхивающий и мерами
угасающий» (В 30) также свидетельствует о вечности стройного кос-
моса, не созданного никем из богов, не измышленного людьми, но,
судя по всему, той силой, что выше людей и богов.
Эмпедокловы Вражда и Любовь, благодаря притягиванию и отталки-
ванию которых держится космическое равновесие, есть не что иное, как
Необходимость — Ананка, или судьба — геймармена <А 45); мировые
стихии же «господствуют в роковом чередовании» (В 26), т. е. буквально
«по мере, установленной айсой», силой, дающей всему равную участь.
Парменид в поэме «О природе» прославляет «неумолимую Дику»,
хранящую ключи от ворот, через которые пролегают пути Дня и Ночи
(28 В 1, П —14), ведущие к познанию истины. И эта Дика вместе с
Необходимостью — Ананкой владеет также ключами (cleidoychon) Все-
ленной. Она — причина движения и возникновения всего, являясь в
виде срединного огненного венца, окруженного в космосе другими
смешанными из света и тьмы, венцами разной плотности (А 37). Эта
Дика и Ананка одновременно, в стройной гармонии держащая косми-
ческий порядок, именуется Парменидом — кормчей (cybernetin). Не-
лишне добавить, что все у того же Эсхила Ананка — Необходимость
сама управляется трехликими Мойрами и Эриниями, являющимися
уже для нее кормчими (oiacostrophos, Prom. 515 сл.).
Для Парменида и Демокрита «все (panta) существует согласно
необходимости. Судьба же (heimarmenen), правда (dicen), провидение
(pronoian) и творец мира (cosmopoion) тождественны» (28 А 32).
Поэтому нет ничего удивительного, что, по словам А. Ф. Лосева, в
движение Демокритовых атомов судьба вносит свой «узорчатый гео-
метризм», направляя «космическую хореографию» мельчайших частиц,
устрояя их «вечный танец». Эта диалектика свободы и необходимости
приводила атомистическую эстетику к хореографическому пониманию
всех движений в мире. Но тогда «диалектика хаоса и космоса пре-
вращала эту мировую хореографию в математически точное проявление
и оформление мирового хаоса во всем космосе».1
Характерным образом у Платона и Аристотеля судьба как эсте-
тическая категория и как религиозно-мифологическая сила не управ-
ляет миром. Ни Платон со своими прекрасными интеллигибельными
идеями, ни Аристотель со своим Перводвигателем не нуждались в
сУдьбе как иррациональной, смутной, но мощной мироустрояющей
силе. Занебесные вечные идеи и Ум-Перводвигатель были надежной
опорой разумного и прочного иерархийно сконструированного бытия.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. I, с. 455.
20 Зак 3903
386
А. А. Тахо-Годи
В платоновском «Тимее» умный и благой демиург создает по своему
подобию такой же прекрасный космос. Но когда речь заходит о фор',
мировании демиургом конкретной вещественной действительности, То
и ему поневоле приходится обратиться к так называемому «третьему
виду», к тому, что мы называем материей, что вечно «растекается
влагой и пламенеет огнем и принимает формы земли и воздуха, и
претерпевает всю череду подобных состояний, являя многообразный
лик» (52 d). И вот здесь-то не хватает силы демиургического ума.
Поневоле он вынужден прибегнуть к «силе необходимости» (а это и
есть Ананка). Таким образом, демиургическая идея по необходимости
сочетается с материей, хотя и берет над ней верх, «убедив ее обратить
к наилучшему большую часть того, что рождалось». Вот почему в
итоге видимый осязаемый мир построен у Платона путем «победы
разумного убеждения над необходимостью» (48 а). Однако, как ни
оговаривает Платон эту победу разумной идеи, но все-таки без Не-
обходимости — Ананки окончательное устроение тела Вселенной так
и не обошлось. Отметим, что Платон не вспоминает в этом творческом
художественном акте демиурга ни судьбу, изрекающую слово, ни
судьбу, определяющую участь. Нет, здесь всего-навсего необходимость,
вполне естественно объясняемая и оправдываемая Платоном. Ананка —
Необходимость появится у Платона еще в импозантной картине X кн.
«Государства», где она в виде космической пряхи вращает мировое
веретено и где в этом стройном движении универсума участвуют три
ее дочери — Мойры, а также Сирены, создающие своим пением строй-
ную музыку небесных сфер (X, 617 Ь—d). Там же, в «Государстве»,
Лахезис, дочь Ананки, бросает жребии душам умерших, чтобы они
вновь родились, исполнив предназначенный им круговорот (617 de).
Принципиально не нуждаясь в опоре на судьбу, Платон охотно
допускает ее в свои мифологические построения, которые, как мы
указывали в одной из своих статей,1 не нуждаются в логических
доказательствах и основаны на вымысле, обладающем, однако, вполне
реальной и действенной силой. Рассказ о творении мира демиургом
Платон как раз именует мифом (Tim., 69), мифом же является из-
вестный рассказ Эра о загробном странствии, где он созерцает Ананку
и ее дочерей — Мойр (см. выше). Ипостаси судьбы, именуемые «за-
коном Кроноса» (Gorg., 523 а), «установлением» (thesmos) Адрастии»
(Phaedr. 248 с — 249 d), Дикой (там же, 249 Ь), — тоже упоминаются
в контексте платоновских мифов, причем, судя по орфическим фраг-
ментам, именно Адрастию — Неизбежность Платон понимает как «де-
миурга и законораспорядительницу» (Orph., frg. 105 ab Kern cf., frg-
152).
1 Тахо-Годи А. А. Миф у Платона как действительное и воображаемое.
См. далее в нашем издании, с. 536—556.
Судьба как эстетическая категория 387
Таким образом достаточно редкая у Платона деятельность судьбы
отнесена им в область мифа и имеет характер вполне благодетельный,
будучи одним из необходимых условий творения мифа и восстанов-
ления справедливости в мировом круговороте душ.
Аристотелевская же случайность (tyche) совсем не мифологична,
вроде судьбы, но является свойством вечно движущейся материи как
принципа живой реальности и оправдывает своим действием любые
проявления этой последней, создавая каждый раз особый ее рисунок,
прекрасный или уродливый, благо и зло, трагедию и комедию жизни.
Эллинистическая философия в лице стоиков и эпикурейцев стол-
кнулась с огромными потрясениями действительности, с полной ее
нестабильностью и пришла к попытке внести упорядоченность в эту
жизненную пестроту чисто субъективным путем. Возвращаясь к ма-
териальным стихиям досократиков и к непреложной телесности ре-
ального мира, стоики вместе с тем пытаются осмыслить хаос жизнен-
ного потока, в который так же, как и в гераклитову воду, нельзя
войти дважды. Судьба, решительно отодвинутая ноологической пози-
цией Платона и Аристотеля, вновь занимает ведущее место в стоиче-
ской Вселенной, где ожидаются катартические пожары и где «семенные
логосы» небесного огня создают материальный мир. Но в эту хаоти-
ческую текучесть жизни стоики погружаются умственным образом,
ищут в ней ту смысловую предметность, которая так блестяще была
выражена в их учении о лектон.1 Таким грандиозным обобщением
космической смысловой предметности и является для них изреченное
слово, выразивший себя вовне логос (logos prophoricos). Логос, понятый
как художественный, творческий первоогонь (руг technicon), осмысляет
мировой хаос и создает упорядоченное бытие. А поскольку эта смыс-
ловая предметность, как видно из исследования А. Ф. Лосева, ирре-
левантна, то и огненный логос, ни от чего не зависящий, иррелевантен,
абсолютен, отрешен и действует по своим законам.
Стоический философ стремится понять эти тайные законы вселен-
ского логоса, испытывая к нему своеобразный amor fati и достигает
блаженной атараксии. Эта высшая воля, максимально выраженная в
объективном бытии, находит полное соответствие во внутреннем субъ-
ективном состоянии философа и приводит его к эстетическому на-
слаждению, когда все в мире оказывается целесообразно понятым,
включая любые несчастья и катастрофы. Здесь, по словам А. Ф. Ло-
сева> и рождается стоическая любовь к року — «самая настоящая
Гетическая категория».2
Стоическая судьба — Огненное Слово узаконивает стихийность кос-
моса и превращает его роковую данность во всеобщую целесообраз-
2 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. V, М., 1979, с. 86—137.
Там же, с. 175.
388
А. А. Тахо-Годи
ность.1 Но эта целесообразность катастрофически пылающего мира,
восторженно осознанная человеком, и есть подлинная красота, по-
длинный миропорядок, которому не только не страшен мрачно пыла-
ющий огонь, но даже и желателен как очистительная сила.
А. Ф. Лосев выразительно пишет также о красоте «в абсолютной
случайности бытия», о красоте «бесцельной случайности», столь милон
сердцу эпикурейцев, когда так хочется «спокойно и сладко» безмолв-
ствовать среди «анархии стихий» и «радости хаоса»? И здесь своя
эстетика случайности, а значит, и призрачности страхов, изгоняемых
философией или наукой, тем самым атомизмом, который освобождает
человека от загробных воздаяний судьбы и гарантирует ему полное
настоящее растворение в круговороте природы.
Но и этого мало, чтобы исчерпать роль судьбы как эстетической
идеи. А. Ф. Лосев, завершая VI том «Истории античной эстетики»,
посвященной Плотину, обращает внимание на образ Неизбежности,
Адрастии, который совсем не случайно появляется у основателя нео-
платонизма. По Плотину, «устройство космоса является в сущностном
смысле слова Адрастией, а также еще справедливостью и дивной
мудростью» (III 2, 13, 16—17). Заметим, что здесь, как и у древних,
Адрастия — Неизбежность соседствует со Справедливостью — Дикой,
но она же занимает место рядом с Мудростью — Софией. И нелишне
напомнить, что у Эсхила хор говорит Прометею о том, что «мудрые
поклоняются Адрастии» (Prom. 936), а в интерпретации Гесихия Алек-
сандрийского эта Адрастия тождественна с Немесидой — Возмездием.
Значит, плотиновский космос живет по законам Адрастии — Немесиды,
справедливым и мудрым. Отсюда понятно и полное спокойствие Пло-
тина, и его пассивизм и оправдание эстетической картины мира, где
все неизбежно, и красота и безобразие. Адрастия — сверхчеловеческий
закон всеобщей мудрости, справедливости и красоты, проявляет себя
в космическом оборотничестве, меняя маски, лики, ведя театральную
игру на мировых подмостках 1 2 3 4 и обеспечивая успокоительный круго-
ворот души. Общая красота мира, извечная симметрия и гармония
целого (to pan) поглощает случайные уродства и несовершенства жиз-
ни, уравновешивает и нейтрализует любую драму, чем считая все
происходящее логически и эстетически обоснованным. «Эстетика Ад-
растии, — пишет А. Ф. Лосев, — сводится к тождеству необходимости
и свободы, бытия и чуда, а также мировой жизни (со всеми ее
уродствами) и всеобщей справедливости»? В результате рождается,
как заключает А. Ф. Лосев, «та удивительная картина эстетики Ад-
1Л о с е в А. Ф. История античной эстетики, с. 178.
2 Там же, с. 307.
3 Тахо-Годи А. А. Жизнь как сценическая игра в представлении дре®'
них греков. См. далее в нашем издании, с. 434—441.
4 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. VI. М., 1980, с. 727.
Судьба как эстетическая категория 389
пястии, которая уже не видит ни в чем никакой направленности и
„«какого стремления к той или иной цели».1 Отсюда же, по мнению
* ф. Лосева, проистекает аисторизм Плотина, в философской системе
которого даже высшее начало не имеет ни собственного имени, ни
собственной истории, но безлично, как природа, и называется неким
количественным или числовым термином — Единое, будучи теорети-
чески мыслимым и холодно переживаемым пределом всего существу-
ющего».2 Но, как нам хорошо известно, предел всего сущего в античной
архаике именовался судьбой. Значит, и Единое Плотина оказывается
тождественным безликой и безыменной судьбе, а утонченная неопла-
тоническая философия смыкается с древней диалектикой мифа.
На закате античности платоновская Ананка устала вращать вере-
тено Необходимости, а Сиренам, сидящим на небесных сферах, оста-
ется только петь, по словам Прокла, «интеллектуальные гимны»
(hymnoi noeroi).3
Таким образом, по мысли А. Ф. Лосева, античная судьба не есть
только предмет слепой веры и не есть результат только философской
теории, не есть только произвольно-капризная фантастическая выдум-
ка поэтов и драматургов, не есть только констатация неопределенных
случайностей жизни и не есть только стихия жизни, вызывающая
ужас и трепет. Нет, для античного человека судьба, кроме всего этого
и отнюдь не в последнюю очередь, есть еще прекрасная и самодов-
леюще-успокоительная картина жизни, т. е. эстетически выразитель-
ный рисунок бытия космического, внутрикосмического и, прежде всего,
человеческого.
Без этой эстетики судьбы античное понимание судьбы, как это
устанавливает А. Ф. Лосев, не было бы ни целостным античным, ни
античным вообще.
2 Л ос е в А. ф. История античной эстетики, с. 732.
з Там же, с. 733.
ргос1. in Plat, theol. VI 23 Portus.
ПРИРОДА И СЛУЧАЙ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ НОВОАТТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ
В своих предыдущих статьях о Менандре 1 мы пытались наметить
круг представлений, которыми оперирует этот комедиограф. Круг этот
ограничен массой вещей и разнообразных лиц, каждая со своим ха-
рактером (tropos), каждое со своей tyche и с определенными сложив-
шимися представлениями о мире. Однако весь этот довольно прозаи-
ческий комплекс, как бы он ни был по-эллинистически пестр, при-
хотлив и изменчив, должен иметь свою основу, нечто, его
объединяющее. У него должна быть какая-то своя почва, питающая
его, свой жизненный принцип, направляющий и оправдывающий су-
ществование всего.
Ни архаический, ни классический грек никогда не мыслил себе
общества вне такого жизненного принципа. Это были или гомеровские
боги, или натурфилософские стихии, или Нус-Разум Анаксагора, или
платоновские идеи. Но у Менандра, истинного человека эпохи элли-
низма, мы будем напрасно искать абсолютизации мифологических
богов, стихий или идей. Жизнь его комических героев настолько
позитивна, практична и мелка, что она вряд ли нуждается в столь
мощных космических двигателях, как боги, судьба или отвлеченные
идеи. Комические герои Менандра — люди слишком земные для таких
высоких абсолютных обобщений. С другой стороны, однако, трудно
себе представить, чтобы у какого-нибудь древнегреческого писателя,
хотя бы даже эпохи эллинизма и хотя бы даже у Менандра, все’
понимание жизни сводилось бы только к беспринципному и хаотиче-
1 Менандр. Ненавистник. Перевод новооткрытой комедии с предисловием
и примечаниями А. А. Тахо-Годи. Сб. «Писатель и жизнь», 2. Изд-во МГУ, 1963.
с. 170—198; ее ж е. О некоторых особенностях языка и жанра комедии Менандр
«Дискол» («Ненавистник»). — Вопросы классической филологии, выл. 1. Изд-ве’
МГУ, 1965, с. 42—74; е е ж е. Синтаксис сложного предложения в комеди"
Менандра «Дискол» в связи с общими проблемами синтаксиса. Там же, с. 75—96'
Tacho-Godi A. Die Alltagslexik in Menanders Dyskolos. «Menanders Dysko,os
als Zeugnis seiner Epoche». Berlin, 1965, S. 85—102.
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 391
«ому бытовизму, к какому-то сплошному водевилю, в котором нет
повно никаких идей и принципов, а есть только внешне бытовая
"зггуация, продиктованная беспомощным чувством нагромождения не-
известно каких случайностей.
В поисках этого обобщающего принципа мы натолкнулись у Ме-
нандра на две модели, которые, несомненно, определяют собой сю-
жетную линию быта, но не так легко поддаются анализу, особенно
2сди иметь в виду фрагментарное состояние дошедших до нас мате-
риалов Менандра. Это, во-первых, то, что Менандр называет physis
И что обычно переводится «природа»; а во-вторых, это tyche, что
обычно переводится «случай». Термин tyche фигурирует очень часто
в традиционных изложениях и исследованиях из области эллинисти-
ческой литературы, где он действительно играет колоссальную роль.
Однако ближайшее вхождение в этот предмет обнаруживает недоста-
точность традиционных представлений об этом предмете и свидетель-
ствует о том, что из этого не всегда делаются те выводы, которые
необходимы в данном случае для изучения поэтического языка эпохи
эллинизма. Кроме того, необходимо заметить, что исследование этого
словоупотребления у Менандра ни в каком случае не может оставаться
в изолированном виде. Для того чтобы указанные два слова получили
надлежащее освещение, необходимо исследовать еще много других
аналогичных слов и выражений у Менандра, которые, несомненно,
могут и должны вынести то или иное дополнение, может быть, даже
и существенное, к тому анализу, который производится в отношении
двух указанных нами слов. В связи с рамками настоящей статьи от
приведения этого богатого лексического материала Менандра нам в
настоящий момент приходится отказаться.
Сделаем несколько предварительных замечаний, без которых, как
нам кажется, исследование этого предмета неизбежно становится чисто
эмпирическим и непоследовательным.
Для того чтобы предмет и метод нашего исследования обладали
окончательной ясностью, необходимо отграничиться от некоторых пу-
тей исследования, которые уже много раз применялись в науке и дали
значительные результаты, хотя во многих отношениях все еще остаются
недостаточными.
Прежде всего наше исследование слов природа и случай у Менандра
не будет исследованием понятия природы или понятия случая. Понятие
есть логическое построение, точно определяемое рядом признаков,
которые для него существенны. В этом смысле исследование понятия
природы относится либо к истории философии, либо к истории есте-
ственных наук, но не относится к истории литературы и языка и тем
самым не относится к истории поэтического языка. Художественная
литература и язык могут, конечно, пользоваться какими угодно ло-
*"Чески обработанными понятиями. Однако в настоящее время ни у
не может быть сомнения в том, что художественный образ не
J92
А. А. Тахо-Годи
есть логически обработанное понятие, а поэтический язык не есть
система логических аксиом, теорем и доказательств. Итак, мы не
занимаемся историей понятия.
Далее, мы не будем заниматься также и историей терминов
«природа» и «случай». В точном и вполне определенном смысле слова
термин есть словесное выражение опять-таки научного понятия. В тех
случаях, когда термин целиком и с полной точностью отражает собой
научное понятие, история термина ничем не отличается от истории
понятия, так как опять-таки не относится к области изучения языка
и литературы и не относится к изучению поэтического языка. В те^
случаях, когда термин не покрывает всего понятия, когда он отражай,
его только частично и когда имеются еще другие термины, отражу
ющие данное научное понятие с каких-нибудь других сторон, так
что изучаемое цельное научное понятие выражается только целой
совокупностью терминов, то, очевидно, и при таких условиях история
слова отнюдь не есть история термина. Ведь слово выражает собой
не только понятие или какой-нибудь отдельный его момент и уж
тем более не только научное понятие, но также и разного рода
представления, обладающие тем или иным познавательным или ком-
муникативным характером, равно как и разного рода образы, то
более, то менее случайные, то более, то менее насыщенные эмоциями
и вообще всякого рода переживаниями или разнообразным обще-
ственным звучанием и потому несущие в себе ту или иную стили-
стическую или экспрессивную функцию. Ни научное понятие, ни
научный термин никакими чертами такого рода не обладают. На-
оборот, и понятие и термин становятся научными тогда, и только
тогда, когда они превращаются в чисто логические конструкции,
лишенные всяких намеков на случайные чувственные представления,
на эмоции, на экспрессию. Все это относится не к логическим
понятиям и терминам, но к художественному слову в поэтической
образности, к стилистическому функционированию общеязыковых
приемов.
Гораздо ближе к нашему исследованию стоит то исследование,
которое занимается словом как лексической единицей. Лексика состоит
из отдельных слов, которые можно называть, в отличие от понятия
и терминов, лексемой. Лексема уже не связана обязательно с понятием
или термином. Она может быть связана вообще с каким угодно смыс-
ловым и переживательным содержанием. Для нее характерна та обо-
лочка слова, которая возникает в результате функционирования слова
в системе речи. Другими словами, лексема есть любое слово, выра-
женное при помощи фонетического, морфологического, словообразо-
вательного и словосочетательного, включая также и синтаксическое,
оформления.
Понятие лексемы, как и учение о лексико-семантической стороне
слова, достаточно глубоко разработано в отечественной науке, и на"
Природа и случай как стилистические принципы новоаттическои комедии 393
дет здесь нужды подробно входить в анализ этого предмета? Это,
скажем вообще, лексико-грамматическое оформление слова для исто-
оии поэтического языка, конечно, несравненно важнее, чем его сторона
понятийная или терминологическая. Однако и здесь мы не хотели
специально заниматься лексикой или грамматикой. То и другое будет
для нас играть роль лишь постольку, поскольку это будет приближать
нас к анализу значения слова, к семантическому анализу. Лексика и
грамматика не могут обходиться без семантики. Но в лексико-грам-
щатическом исследовании слова семантика играет, очевидно, только
служебную роль и обладает только подсобным значением. Если гово-
рится, что в выражении echomai tinos в значении «держусь за что»,
глагол требует родительного падежа, то без семантики нам здесь,
конечно, не обойтись. Тем не менее здесь важна не она сама, а важна
определенного рода грамматическая конструкция, которая при помощи
семантики только иллюстрируется и никаких специальных и систе-
матических вопросов семантики здесь не ставится. Поэтому наше
исследование хочет быть семантическим, но не в подчиненном смысле,
а так, чтобы семантика и была подлинным и единственным предметом
исследования. Однако и здесь нужны существенные уточнения.
Семасиология занимается анализом значения слова. Но, во-первых,
значение это понимается здесь очень широко и включает в себя
решительно все те варианты, которые мы находим в слове в связи с
его положением и в отдельных контекстах речи и в системе речи
данного языка вообще.
Уже и лексическое значение слова нельзя точно установить вне
его связей со всей системой языка. В. В. Виноградов пишет: «Под
лексическим значением слова обычно разумеют его предметно-веще-
ственное содержание, оформленное по законам грамматики данного
языка и являющееся элементом общей семантической системы этого
1 Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии. — Известия ОЛЯ АН
СССР, 1940, № 3; Смирницкий А. И. К вопросу о слове. — Труды Ин-та
языкознания АН СССР, т. IV. М., Изд-во АН СССР, 1954; его же. Значение
слова. — Вопросы языкознания, 1955, № 2: его же. Лексическое и грамматиче-
ское в слове. Сб. Вопросы грамматического строя. М., Изд-во АН СССР, 1955;
Виноградов В. В. Из истории лексикологии. —Доклады и сообщения Ин-та
языкознания, 1956, № 10; Ахманова О. С., Виноградов В. В., Ива-
нов В. В. О некоторых вопросах и задачах лексикологии. — Вопросы языкозна-
ния, 1956, № 3; Ахманова О. С. Очерки по обшей и русской лексикологии.
М., Учпедгиз, 1957; У ф и м ц с в а А. А, Опыт изучения лексики как системы (на
материале английского яз.). М., Изд-во АН СССР, 1962 (здесь см. большую
онблиографию); А п р е с я н Ю. Д. О понятиях и методах структурной лексиколо-
гии. Сб. «Проблемы структурной лингвистики». М., Изд-во АН СССР, 1962; его
* е. Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной
®®п>истики. Сб. «Проблемы структурной лингвистики». М., Изд-во АН СССР,
394
А. А. Тахо-Годи
языка».1 Однако семантическая сторона слова делается еще богаче
если мы ее будем рассматривать в чистом виде в соотношении с<
всеми другими сторонами языка. У того же В. В. Виноградова читаем
«Значение слова определяется не только соответствием его тому по
нятию, которое выражается с помощью этого слова (например, дв(1
жение, развитие, язык, общество, закон и т. п.); оно зависит m
свойств той части речи, той грамматической категории, к которой
принадлежит слово, от общественно осознанных и отстоявшихся кон
текстов его употребления, от конкретных лексических связей с другими
словами, обусловленных присущими данному языку законами сочета
ния словесных значений, от семантического соотношения слова с си-
нонимами и вообще с близкими по значениям и оттенкам словами,
от экспрессивной и стилистической окраски слова».1 2 Таким образом,
семасиология, не будучи ни лексикологией, ни грамматикой, ни сти
листикой, ни поэтикой, тем не менее конструирует значение слова
как определенную систему всех отдельных вариантов этого значения,
возникающих в языке и в связи с лексикологией, и в связи с грам-
матикой, и в связи с прочими особенностями языка как системы.
Теперь, однако, возникает другой вопрос. Если семантическая
сторона слова так богата и разнообразна, то не является ли пропое
перечисление семантических вариантов чем-то хаотическим и бесси-
стемным, и не требуется ли здесь введение такого принципа, которым
помог бы разобраться в этой массе отдельных семантических вариант ов
и понять их как нечто целое и упорядоченное? Несомненно, этот
принцип должен быть найден, и без него семасиология вообще потеря ла
бы всякое научное значение. Все отдельные семантические варианты
слова должны представлять собой нечто целое, но целое не вообще,
целое не в абстрактном смысле, но такое целое, которое бы ясным
образом проявлялось в отдельных своих элементах, а эти элементы
выступали бы как в своей отчетливой взаимной зависимости, так и
в своем отчетливом взаимоотношении с целым. Но такое раздельное
целое именуется обыкновенно структурой. Следовательно, семасиоло-
гическое исследование оперирует не с отдельными и разрозненными
семантическими вариантами и не с каким-нибудь одним семантическим
целым, но именно с единораздельностью структуры. Поэтому, пере-
числяя отдельные значения таких слов, как природа или случай у
Менандра, мы не можем ограничиваться только одним формальным
перечислением этих вариантов, которые всегда более или менее (лу-
чайны, а зачастую в своей массе спутанны и бессистемны. Мы должны
среди этой массы отдельных семантических вариантов, почерпну it1'
1 Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слов
Вопросы языкознания, 1953, № 5, с. 10.
2 Там же, с. 6.
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 395
йз самых разнообразных контекстов, определить тот основной принцип
значения слова, который определяет собой все отдельные семантиче-
ские варианты, тот семантический инвариант, который, оставаясь тож-
дественным во всех своих отдельных вариантах, каждый раз получает
специфическую окраску и детализацию.
Собственно говоря, нам необходимо установить тот структурно-се-
мантический принцип, который не является абстрактным понятием,
так как иначе все наши семантические варианты были бы просто
логическими разновидностями этого общего родового понятия. Наш
структУРн0-семантический принцип не объединяет в себе отдельные
варианты, как родовое понятие все свои виды. Он есть именно смыс-
ловой образец, который содержит в себе в свернутом виде все свои
возможные смысловые производные. Семантический инвариант слова,
или его образец, не есть механическая совокупность отдельных вари-
антов, но именно их модель, которая никак не определяет их фор-
мально-логически, а именно творит их из себя во всем многообразии
жизненных ситуаций, перед которыми меркнет формальная логика с
ее обычным подведением частного под общее.
Если природа или случай у Менандра — это абстрактные и общие
понятия, то, теоретически говоря, все, что относится к природе, и
все, что относится к случаю, логически связано с природой и случаем.
Но эта простая логическая связь дает очень мало для оценки конк-
ретных событий жизни, не заставляет рассматривать их в новом свете
в сравнении с их внешне сюжетным содержанием, и потому природа
и конкретные явления природы или случай и конкретные проявления
случая остаются как бы разорванными, без всякого взаимного осве-
щения одного через другое. Совсем иное дело — структурно-семанти-
ческое понимание этих слов. Тогда конкретное явление природы и
конкретно-жизненное проявление случая трактуются как то, что ре-
ально создает собой всякую жизненную конкретность. И эта конкрет-
ность впервые только тогда и получает свое подлинное значение, когда
соотносится со своими устойчивыми моделями, или образами. При
этом чисто логическое выведение человеческой жизни из природы или
случая каждый раз требует специального указания того или другого
художественного текста на эту природу и на этот случай, поскольку
логика требует точного умозаключения и его ясной словесной форму-
лировки. Если же нами установлена в драматических ситуациях поз-
дней комедии модель жизненных явлений, то, поскольку сама эта
модель установлена как раз на основе анализа отдельных семантиче-
ских вариантов общего модельного инварианта, а этот анализ отдель-
ных вариантов в свою очередь основан на анализе словесного выра-
*ения конкретных явлений жизни, то установленная нами общая
Модель всех семантических вариантов уже не требует каждый раз
специального логического анализа и каждый раз специальной словесной
’Рнксации. Следовательно, все конкретные явления человеческой жизни
596
А. А. Тахо-Годи
навсегда оказываются пронизанными природой и случаем, так чц,
пронизанность эта уже не логическая, но непосредственно данная и
самоочевидная.
Мы исследовали у Менандра все тексты со словами physis и tyche
и, хотя материалы, нами использованные, чрезвычайно мозаичны
фрагментарны и разрозненны, они рисуют довольно любопытную кар-
тину лексико-семантического своеобразия рассматриваемых слов.
Природа (фрг. 6206) «дает то, что она имеет в качестве единст-
венного» (tayt echei топа). Природа одна владеет только ей присущим^
свойствами, которыми она одаряет всех. Нет ничего иного, кроме
только полученного от нее, т. е. она — источник жизни и существо-
вания (Sent. 312). У природы (Sent. 746) свои законы (nomoi), которые
«изучить нельзя» (oyk esti manthanein). Именно поэтому Менандр
заставляет Софрону из «Третейского суда» цитировать Еврипида (Auga.
frg. 920 Nauck — Snell),2 который также противопоставляет законы
человеческие законам природы. «Ей нет дела до законов» (Epitr. 765),
она сама по себе. Но не следует думать, что эти природные законы
хаотичны и бессмысленны. Ведь природа воплощается в человеке, и
ее «умная» деятельность берет в человеке верх над чувствами, так
что «в природе человека нет ничего большего, чем размышление.)
(logismos) (фрг. 213). Именно благодаря своей мудрости природа и
главенствует над всеми науками (didagmaton) (Sent. 298), а «истина
(aletheia), действующая как природа (hos physis), есть нечто сильное»
(Sent. 378). Из последней сентенции можно сделать вывод, что главную
истину изрекает природа, и только та истина обладает силой, которая
согласуется с природой.
Все эти тексты характеризуют природу, мы бы сказали, несколько
формальными чертами. Говорится о том, что она есть некая надче-
ловеческая сила, обладающая какими-то своими собственными зако-
нами, от которых зависит, в частности, все разумное, что имеется в
человеке и определяется природой. С точки зрения греческой классики,
тут бы ожидалось, что Менандр заговорит о каком-то божестве или
божествах, о каких-то демонах или хотя бы о какой-нибудь вечной
идеальной действительности, которая является абсолютным воплоще-
нием всякого добра и красоты. Но чрезвычайно характерно, что как
раз ничего подобного Менандр не соединяет со своим представлением
о природе. До сих пор на основании приведенных текстов можно
сказать только то одно, что это есть какая-то огромная и безличная 1 2
1 Нумерация текстов идет по следующим изданиям: Menander. Reliquiae,
ed. A. Koerte, v. I—II. Lipsiae, 1957—1959; Menandri sententiae, ed. S. Jacket
Lipsiae, 1964; Menandri Dyskolos rec. H. LJoyd-Jones. Oxonii, 1960.
2 Фрагменты греческих трагиков мы приводим по изд.: Tragicorum graecorun1
fragmenta, rec. A. Nauck. Supplemental! contin. nova fragmenta Euripidi et adespota
add. B. Snell. Hildesheim, 1964.
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии J97
человеческая сила, которой все подчинено и притом каким-то неви-
димым образом, и даже подчинено все разумное. Уже тут намечается
весьма оригинальное представление об абсолюте, которое пока ровно
ничего не вскрывает в этом абсолюте по его существу, а только
указывает в основном на его всемогущество.
Однако продолжим наше изучение текстов Менандра о природе,
разыскивая характеристики ее и не столь формальные, а характери-
стики ее по существу, по содержанию, по основным качествам.
Здесь мы сталкиваемся с такими текстами. Природа выступает у
Менандра в виде некоей сущности жизни, ее онтологической основы
(Epitr. 167, фрг. 386), которую изменить нелегко (оу hraidion), даже
если она дурная (Sent. 801). Природа все в себя вмещает — и добро
и зло (Sent. 287). Однако если «вблизи блага рядом произрастает зло»,
то даже из зла (ес toy сасоу) природа выносит благо (agathon). Здесь
(фрг. 3374) сказывается здоровая хорошая основа самих глубин при-
роды.
Вот первое качественное определение природы у Менандра. Ока-
зывается, что она есть та же самая смесь добра и зла, которая
наблюдается и в человеческой жизни. Человеческая жизнь возможна
только потому, что она не только зло. Иначе она бы просто уничтожила
сама себя. Древний грек, воспитанный на постоянном чувстве жизне-
утверждения, здесь, у Менандра, погружается в эти положительные
глубины природы. Но тут же чувствуется и его неуверенность в этих
проблемах, промелькивает какой-то скептицизм. Менандру, несомнен-
но, хочется верить в благие истоки природы, которые и на самом деле
часто берут верх. Однако в этих утверждениях Менандра о его абсолюте
как раз не чувствуется ничего абсолютного, а всегда мелькает какая-то
существенная относительность. Характерно и то, что полных надежд
на эту природу не может быть у Менандра благодаря его постоянной
ссылке на неодолимость законов природы.
Очень образно говорит Менандр об устойчивости природы, неиз-
менности ее и следовании своим законам, своему пути, с которого ее
невозможно свернуть. «Никогда не пытаюсь, — пишет он, — выпря-
мить изогнутую ветку. Она клонится туда, куда ее гнет (насильно
клонит) природа» (Comp. I, 214 = 111 46). Более того, все вообще, что
существует от природы (physei) по природе своей (pephycos) не ме-
няется (оу methistatai) (Sent. 763). Трудно судить, каковы законы
природы, как по ним развивается сущее; но, видимо, есть здесь
какое-то замечательное единство противоположностей, какое-то един-
ство стихии и закона, чувства и разума. Недаром Менандр, подчеркивая
этот естественный синтез «земляной (geinos physos) природы», срав-
пивает ее с полевым цветком (os anthos agroy) (Sent. Append. 84).
Итак, природа у Менандра полна и добра и зла, но она в то же
самое время всемогуща, самодержавна, неодолима и вполне естест-
®еНна; мы бы сказали, интерпретируя мысль Менандра, она вполне
398
А. А. Тахо-Годи
невинна и, пожалуй, даже прекрасна. Ведь она же не более как
полевой цветок. Попробуйте объединить в одном образе добро, зло
самодержавность, естественность, невинность и красоту — и вы пол
учите менандровскую природу. Однако и эта характеристика звучи,
для нас достаточно формально. Будем искать еще другие особенности
этой природы, чтобы она стала еще более конкретной и понятной
Мы уже знаем, что для Менандра, как художника не существуют
только абстрактные понятия и представления. Свою «природу» он
мыслит основой человеческого бытия. Здесь тоже в традиционны?,
исследованиях не делается всех выводов, которые бросаются в глаза
при изучении и обширных текстов Менандра, и особенно его фра1
ментов. Ведь человек у Менандра есть порождение его природы. Сле
довательно, особенности этого человека есть результат особенностей
самой природы. Здесь только отличие: у человека эти особенности
даны в малых масштабах, а в природе они даны в абсолютно великих
масштабах. Но что такое человек у Менандра? Его характеристика
общеизвестна, и она вошла во все наши учебники. Это маленький
человек, гонимый случайностями жизни среди такого же небольшого
мирка своей семьи и друзей. Что жизнь такого человека шаткая
(episphale) по своей природе, нам тоже хорошо известно (Epitr. 167).
Но даже такой маленький и «до крайности слабый» (asthenestatos) по
природе человек все-таки может совершить великие дела и даже
сокрушает много благого (cala) вместе со своим падением (фрг. 740j 4)
Этот менандровский человек не так уже ясен даже самому себе. Люди
не знают (oyk isasin) природу человека. На площади, в обществе он
еще может выглядеть счастливым, но природа его, т. е. его сущность,
раскрывается только дома, особенно в общении с женой, которая вечно
с ним сражается (фрг. 2513). Казалось бы, человек может раскрыть
себя именно в общественной жизни как гражданин. Но ведь мы имеем
дело с Менандром, а не с Аристофаном стародавнего полиса. А для
Менандра гражданин именно не polites, a idiotes, т. е. частный человек.
В известном «Сравнении Менандра и Филистиона» Менандру при-
писываются слова о том, что если раб раболепствует перед законом
и своим хозяином, то свободный все равно оказывается рабом (Comp.
II 118 сл.): он отягощен законами, страхом (видимо, жизненной не-
устойчивостью), браком и даже наслаждениями (Comp. I 98 сл.)
Человек Менандра настолько слаб, что все ему невмоготу. Он бы
жаждал ограничиться своей внутренней жизнью. Для него и внутреннее
беспокойство, и людские мнения, и соперничество, не говоря уже о
законах (опять-таки человеческих), — все это не что иное, как некие
несостоятельные (саса) «приложения», «привески»(epitheta) к природе
Иными словами, природа человека хороша сама по себе, без отяго-
щающих ее недобрых обстоятельств (фрг. 62013). Оторванность от
общественной жизни делает менандровского человека по природе до-
верчивым даже в неблагоприятных обстоятельствах (eypiston atychon
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 399
.. physei), что и приводит его к недалеким рассуждениям, приносящим
несчастье (фрг. 322). Менандр подчеркивает, что эти рассуждения
«собственные» (idioi), и потому они принимают во внимание только
близкое (plesion), т. е. нет никакого сомнения в их несостоятельности.
Такому маленькому человеку по природе свойственны печаль (1ирё) —
4®еличайшее зло из всех зол» (фрг. 626) и «скорбь» (algema) (фрг.
625). Менандровскому человеку помогает близость к такому же, как
он, «родному» (oiceion) по природе, которого ничто не может сделать
чужим (фрг. 611).
Природа человека как его сущность чрезвычайно устойчива.
В «Третейном суде» (Epitr. 146) Сириек, нашедший подброшенного
ребенка, с большим знанием дела и несколько философично рассуждает
о том, что даже воспитанный среди трудового люда (ergatais) мальчик
благородного происхождения будет свободным, «устремившись в свою
собственную природу (eis de ten hautoy physis)». Здесь physis пони-
мается как некая исконно социальная сущность, свойственная свобод-
ному и рабу от рождения. Никакие обстоятельства, никакое воспитание
не в силах ее побороть.1
Природа человека понимается Менандром не только как некая твер-
дая основа, биологическая и социальная, но даже и как благо, присущее
людям независимо от их национальности. «Кто бы ни был по природе
расположен к добру, будь он хоть эфиоп... — тот благороден». Здесь же
в качестве благороднейшего человека упомянут скиф Анахарсис, образец
даже для греков (фрг. 612n_13). Итак, все имеют одну природу, она
каждому «родина» (patris) (Sent. 295, Eur. frg. 1113).
Чаще всего у Менандра physis человека понимается в этическом
плане, хотя о природе как биологической основе он не забывает
(Pericir. 16 —о «брате по природе», т. е. единокровном). Этическая
основа человека, конечно, может быть разная: и хорошая (Pericir. 44,
фрг. 290), и дурная (фрг. 513 о бесчинствах пьяного), и даже бес-
чувственная (cophon) (фрг. 53 любовь моралиста или педанта), не-
благодарная (Sent. 42 фрг. 478). О женщинах и говорить нечего. Его
женщина «по природе злая и мучительница» (фрг. 589), природа ее
«неверна» (фрг. 585), «ненадежна» (Sent. 860), «целиком расточитель-
на» (Sent. 153). К счастью, «природа не дает женщине властвовать»
(Sent. 157).
Спросим себя теперь: какие же выводы необходимо сделать для
понимания природы у Менандра из такой характеристики человека
как существа слабого, ничтожного, то как будто очень сильного, а то
по преимуществу и беспомощного, вечно страдающего, неуверенного
в себе, непостоянного ни в своих радостях, ни в своих печалях, как
1 Заметим, однако, что как раз для Менандра воспитатель — нечто большее,
чем биологический отец (Sent. 647).
400
А. А. Тахо-Годи
существа случайного и в высшей степени относительного? Самый
естественный вывод, который мы должны сделать из предложенных
выше текстов для ответа на этот вопрос, заключается в следующем
Эта абсолютная, всесильная, всемогущая природа по своему качест-
венному содержанию, мы бы сказали, по своему духовному содержа-
нию, тоже мыслится у Менандра как нечто непостоянное, полное
всяких неожиданностей, ненадежное, всегда относительное, наряду со
своим неимоверным богатством всегда мелкое, неустойчивое, хилое,
как то начало, от которого неизвестно чего ждать, да и оно само тоже
ничего не знает ни о себе, ни о своих порождениях. Если называть
такую природу абсолютом, то с античной точки зрения это — чрез-
вычайно измельчавший абсолют, а в сравнении с архаикой и классикой
можно сказать даже выродившийся абсолют. Это нисколько не мешает
ему быть абсолютом и определять собой все живое и неживое. Но вот
этот абсолют в своем конкретном проявлении — мелкий и ничтожный
менандровский человек, то сильный, то слабый, но всегда неуверенный
и скептичный. Употребляя обывательские выражения, можно сказать,
что природа у Менандра — это всегда «постольку, поскольку», «более
или менее», «либо так, либо эдак». Как абсолют природа Менандра
устойчива и закономерна. Но по своему духовному содержанию этот
абсолют мелок и ничтожен, неустойчив и полон бесконечных случай-
ностей. Не нужно смущаться тем, что природа у Менандра одновре-
менно и устойчива и неустойчива, и закономерна и случайна. Да,
она есть сплошная неустойчивость и текучесть, но эта ее неустойчи-
вость и текучесть совершенно постоянны и непреклонны. Природа у
Менандра есть совокупность всего случайного и незакономерного. Но
эта ее случайность и незакономерность — абсолютны и потому стали
уже чем-то совершенно неслучайным и чем-то вполне закономерным
Для античного читателя и слушателя, рассуждая формально, здесь
совершенно не было ничего нового. Гераклит уже давно приучил
античное общество к тому, чтобы вечную текучесть и изменчивость
считать абсолютом. Поэтому и нам удивляться здесь нечего. Только
вот духовное содержание этой абсолютной текучести у Менандра
совсем другое, чем у Гераклита. Его мы сейчас и пытались форму-
лировать.
Может быть, некоторую сложность вносит в этот вопрос то, что
Менандр говорит о человеческом характере. Рассмотрим тексты.
Менандр неоднократно противопоставляет природу человека его
характеру. «Природа, — думает он, — как нечто устойчивое, твердое,
некая человеческая общность — первична». Характер человека (tropes)
вечно изменчив и неустойчив (заметим, что сам корень этого слова
trepo «поворачиваю» — указывает на непостоянство). Характер этот —
вторичен. Он как будто бы есть нечто производное от природы. Если
природа человека прекрасна да еще и характер его достоин (chrestos’,
то всякий встречающий такого человека «вдвойне берется в плен»
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 401
(фрг. 570). Хорошие качества, таким образом, удваиваются в человеке.
«Седые волосы, — говорит Менандр, — ничего не значат, не они со-
здают заботы». Характер на основе природы делает человека стариком
/фрг. 553), т. е. объективная сущность человека независима от по-
сторонних воздействий. Характер человека, таким образом, есть по-
рождение природы.
Но вот мы наталкиваемся на тексты несколько другого рода. Ме-
нандр думает, что по необходимости поведение человека, его характер
могут стать дурным (poneroys), «не будучи по природе таковыми»
(фрг. 631). Видимо, «природа» у Менандра противопоставляется здесь
«характеру», как твердая основа бытия неверному частному явлению.
Иначе никак нельзя понять его слова о том, что «одна природа у
всех, а характер устрояет свое собственное (свою индивидуальную
особенность)» (oiceion, фрг. 475). Что же тогда то человеческое
(humanum), о котором так красноречиво сказал Теренций (Heaut. 77),
перефразируя «никто мне не чужд, если он хорош» Менандра
(фрг. 475). Видимо, это человеческое разнообразие, многосторонняя
индивидуальность. Именно это индивидуальное создается характером
человека, а потому может страдать любыми недостатками вследствие
несовершенства человеческого характера, подверженного случайностям
жизни.
Получается явное противоречие. С одной стороны, природа все
собой определяет, включая также и все человеческие характеры. А с
другой стороны, характер человека как будто бы может оказаться и
независимым от природы. Будучи, например, хорошим по своей при-
роде, он может стать дурным по своей воле. Спрашивается: каким же
текстам Менандра нужно верить? Или, может быть, здесь какой-то
принципиальный дуализм, когда природа действует сама по себе, а
человек действует тоже сам по себе? Однако большинство приведенных
выше текстов из Менандра, несомненно, свидетельствуют против вся-
кого дуализма, а гласят, скорее, о весьма последовательном монизме.
Как же Менандр мог говорить о всемогуществе своей природы, если
в человеческой жизни всемогущим оказывается человеческий характер?
Это, конечно, весьма маловероятно, даже если исходить из предло-
женных выше текстов. Однако полное разрешение этого вопроса,
может быть, не вполне четкое на основании текстов с «природой»,
получает свой окончательный и вполне четкий вид, если мы учтем
еще и тексты, содержащие указания Менандра на Тюхэ, случай.
Случай (tyche) — великая движущая сила для человека эпохи
эллинизма, символ текучести, неустойчивости, дисгармонии чего-то
Неясного, иррационального, мощного именно благодаря своей безликой
безразличности ко всякому порядку, установленному судьбой, вопло-
щенной в природе. И как бы Менандр ни думал о том, что «бессилен
Факт (soma, букв, «тело» — примечательно и типично для грека)
Научая (tyches)» и что не может создавать дела согласно природе,
402
А. А. Тахо-Годи
человек, объявивший «свой собственный характер (tropon) случаем»,
т. е. человек неустойчивый, он поневоле признает вполне логично
эллинистического индивидуалиста: «.. .Всякий раз, как природа создает
нечто значительное, случай губит его» (фрг. 296). Менандру остается
по этому поводу только горько воскликнуть: «Как несправедливо!»
(hos adicon). Стройная и действующая по своим законам природа
устойчивая и незыблемая разлетается вдребезги под напором иррацио-
нальной, стихийной силы.
Таким образом, уже сама логика нашего исследования приводит
нас к анализу текстов Менандра, содержащих указания на tyche
«случай».
Однако прежде чем перейти к менандровской Тюхэ, необходимо
сделать некоторые выводы о его понимании «природы».
Можно ли сказать, что понимание «природы» у Менандра имело
свой исторический контекст и что Менандр находился в связи с
какой-либо установившейся традицией или с воззрениями, только еще
формировавшимися в его время?
Нам кажется, что в литературе V—IV вв. до н. э., а именно в
драме Еврипида и в комедии, намечаются некоторые тенденции нового
понимания природы, которое потом столь интенсивно проявится у
Менандра. Эти тенденции отражают, видимо, определенные сдвиги и
в философии данного времени, тяготевшей к человеку, к анализу
понятий и категорий, его интеллектуальной деятельности, к выявлению
отношений чувственной сферы и сферы ума.
Пусть эти тенденции едва намечены, но они существовали, и
Менандр с его природой — основой сущего, биологической и моральной,
наделенной качествами близкого к самостоятельно объективному су-
ществованию абсолюта, не был одинок.
Мы исследовали драмы Еврипида,1 комиков по изданию Кока,1 2
дорийскую комедию, мимы и флиаки по изданию Кайбеля3 и
Suppiementum Comicum И. Демьянчука.4
Действительно, природа Еврипида уже тесно связана с человеком
и его деятельностью. Она является его основой, моральной и биоло-
гической (Не1. 1003, Нес. 597—598, фрг. 2054, 165), иной раз прямо
отождествляясь с характером человека (фрг. 1875—6), с устойчивыми
врожденными способностями («природа прочна [надежна ], а не день-
ги», Е1. 941), присущими ему благими качествами (Hipp. 377 сл.), а
иной раз и дурными («б physis, en anthropois hos meg’ ei сасоп»,
Orest. 126). Однако у Еврипида даже и это представление начинает
1 Euripidis tragoediae, ed. A. Nauck, v. I—III. Lipsiae, 1912—1921. О фрагмен'
тах см. выше сноску.
2 Comicorum atticorum fragmenta, ed. Th. Kock, v. I—III. Lipsiae, 1880—1888-
3 Comicorum graecorum fragmenta, ed. G. Kaibel, v. 1. Berolini, 1899.
4 Suppiementum comicum, col. disp. J. Demianczuk. Krakow, 1912.
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 403
колебаться. Природа постепенно наделяется у него атрибутами неза-
висимого от человека и властного существа. Природа противопостав-
ляется установлениям и науке (didacton). Именно она заставляет
Ипполита выбрать to sophronein (Hipp. 79—80). У нее свои законы,
и человеческие законы ее не интересуют (фрг. 920 см. выше). Природа
имеет свой нестареющий (ageron) порядок (cosmos), и она бессмертна
(фрг. 910). Она может воздействовать на человека (biazetai фрг. 840)
и наряду с законом (а не противостоя ему) дарует человеку справед-
ливое (Ion. 643). «Природа — нечто величайшее» (megiston фрг. 810).
Один текст понимает природу то ли в смысле досократовской, то ли
в смысле поздней natura creatrix,1 которая все из себя творит, и
поэтому только ей может отдать в жертву свою дочь Эрехтей (фрг.
36О38-39Е Оказывается, что из всех 68 текстов Еврипида^ с лексемой
physis только семь имеют какой-то намек на переход классического
представления к эллинистическому.
Мы исследовали также тексты с лексемой physis у Аристофана.3
Выясняется, что из всех 40 текстов только 3 могут толковаться как
переходные, остальные 37 типичны в своем классическом представле-
нии природы. Здесь природа человека как некая телесная стать (Lys.
545), как качество или свойство природных процессов, растений, птиц,
общества (Nub. 277, Thesm. И, Pax. 1164, фрг. 5, Av. 37, 117, 691,
Thesm. 11), как основа и характерные свойства человека (Nub. 1075,
352, 515, 503, 960, Av. 685, Vesp. 1071, Thesm. 531, Ran. 541, 840,
1115, Plut. 271) и общества (Pax. 607). Человек может быть по природе
мудр (Nub. 537, 877, Ran. 700), красноречив (Nub. 486), несчастен
(Ran. 1183), чадолюбив (Thesm. 752), народолюбив (Nub. 1187), льстив
(Lys. 1037), жалок (Plut. 118), враждебен (Av. 1371). Он может иметь
природу варвара (Thesm. 1129) или так называемого кобала, плуто-
ватого демона (Plut. 279), а Трибалл по своей природе —обезьяна
(Av. 1570). Как видим, здесь всюду типичное классическое понимание
природы.
Но вот Дионис, восхищаясь хитростью Еврипида, восклицает:
«О мудрейшая природа!» (Ran. 1451). Текст этот можно толковать
Двояко. Или здесь Дионис поражен мудростью Еврипида, которого он
Даже именует Паламедом, или Диониса приводит в восторг мудрость
природы, создавшая столь ловкого человека, и тогда природа выступает
в роли объективно существующей творящей силы.
Кривда (logos adicos) говорит: «Со мной водясь, пользуйся приро-
дой» (emoi d’homilon, chrotetei physei — Nub. 1078). И здесь возможно
Поздняя natura creatrix, например стоиков, отличается от стихийно-матери-
“Льнрн досократовской своим личностным характером.
Allen J. Italic G. A concordance to Euripides. Cambridge — London,
Todd 0. J. Index Aristophaneus. Hildesheim, 1962.
404
А. А. Тахо-Годи
двоякое толкование. Или человек, живущий по законам неправды
должен следовать всем побуждениям, даже дурным, своей собственной
природы («скачи, смейся, ничто не считай постыдным» — scirta, ge]a
nomidze meden aischron), или же человек должен жить столь же
непосредственно, как сама объективная природа, в которой действи-
тельно нет ничего постыдного, а все естественно.
И наконец, третий текст (Thesm. 167): трагический поэт Агафон
считает, что творчество Ивика, Алкея, Анакреонта, Фриниха напо-
минает по своей изысканности наружность этих поэтов. В заключение
он говорит: «Необходимо создавать подобное природе» (homoia gar
poiein anagce tei physei). Что мыслит здесь герой Аристофана? То ли
необходимо творить подобное своей природе (тогда артикль tei будет
иметь характер притяжательного местоимения), то ли необходимо
творить, вообще следуя природе. Поскольку в данном пассаже прово-
дится мысль, что красивый (calos) поэт красиво (calos) творит, значит,
по Агафону, всякий поэт должен быть прекрасным по наружности и
творить сообразно этой наружности. Но все поэты не могут быть
прекрасными. Мнесилох дает примеры уродливых (cacos) поэтов, пи-
шущих уродливо (cacos), зло. И Агафон замечает: «Все это — необ-
ходимость» (hapas anagce 171). Таким образом, можно сделать вывод
о том, что каждый поэт создает произведения сообразно своей собст-
венной природе (внутренней и внешней), красивой или дурной. Но
может быть, каждый поэт должен следовать разнообразию объективно
существующей природы, вмещающей в себя все благое и все дурное.
Столь же двойственно понимание природы во фрг. 91 Эвполида,
когда Аристид на вопрос Никия, как он стал справедливым, отвечает:
«Природа — величайшее. А затем я с готовностью содействовал при-
роде». Здесь возможно понимание природы как заложенной в человеке
благой основы, которой содействует сам человек. Но вместе с тем
можно этот текст толковать иначе: человек со всей готовностью следует
величайшей благой природе как некоему абсолютному идеалу и этим
самым формирует свой справедливый характер.
Во всяком случае материалы Еврипида и Аристофана с новыми
тенденциями в понимании природы чрезвычайно скудны.
Более отчетливо эти новые тенденции заметны у Эпихарма —
философичного комедиографа, у которого, по преданию (Diog. L. Ill 9)
даже Платон заимствовал некоторые идеи. Примечателен фрг. 1726 ?
Эпихарма: «Природа знает то мудрое, что она в качестве единственной
имеет. Она воспитывается сама через себя» (to de sophon ha physis
tod’ oiden hes echei mona. Pepaideytai gar aytaytas hypo). Здесь поражает
близость первой части этого фрагмента с фрг. 6206 Менандра, )
которого природа дает то, что она тоже имеет в качестве единственной.
Значит, уже у Эпихарма эта неповторимость природы, ее мудрость и
сознание своей мудрости, только ей присущей, выражены достаточно
четко. Но интересно, что она и воспитывается сама через себя, сам3
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 405
себе воспитатель, т. е. природе присуща самоудовлетворенность. Она
е нуждается в постоянных воздействиях, она действует как демиург
й личностный абсолют. По фрг. 284 эта природа к тому же и благая
pathos), а по фрг. 279 «наилучшее — обладать природой, а затем
же [вторично] учиться», — coni. Kaibel, т. е. главное — непосредст-
венная сопричастность человека к природе, овладение природным зна-
нием, а научное знание — вторично. Лексема physis встречается всего
лишь 15 раз у авторов средней комедии (Антифан, Алексид, Евбул,
фимокл, Эпикрат, Аксионик, Анаксандрид). Из них только у Алексида
и Тимокла можно наметить некоторые слабые неклассические тенден-
ции. Алексид (фрг. 1 35т _я) в довольно традиционном стиле перечисляя
различных авторов (Орфей, Гесиод, трагедия, Херил, Гомер, Эпихарм),
устами Лина, учителя Геракла, говорит, что, избирая того или иного
поэта, «ты обнаружишь таким образом природу, на что больше всего
она направлена [устремляется ]». Здесь природа почти равнозначна
характеру человека, но вместе с тем она не мыслится, как у досок-
ратиков, пассивным качеством изменчивой материальной стихии, а
началом активным, которое на что-то может быть направлено. Этот
текст можно толковать иначе: читая разных поэтов, можно выявить
их различную природу, т. е. их неповторимое качество, на что именно
оно устремлено. И в таком случае активное начало здесь вполне
налично. У Тимокла (фрг. 28) бедность заставляет многих совершать
недостойные дела вопреки природе. Или здесь полное отождествление
природы с характером человека, с его врожденными способностями,
или человек в связи с обстоятельствами поступает вопреки благой и
справедливой природе, по образцу которой он должен жить как ее
вполне естественное создание.
Однако повторяем, тенденции, намеченные в этих текстах, чрез-
вычайно зыбкие и сомнительные.
У авторов новой комедии (Филемон, Кробил, Дамоксен, Посидипп,
Дифил, Батон, Анаксипп) тексты с лексемой physis тоже скудные (их
всего 18). Здесь можно найти представление о природе как об исконном
качестве, вложенном Прометеем каждому роду животных (Philem.
фрг. 89), причем этой природе соответствуют свои законы, в то время
как у людей эти законы выдуманы и порабощают человека (фрг. 93).
У того же Филемона природа, т. е. основа человека — нечто дурное
и «не нуждается ни в каком законе» (фрг. 2, 3). Природа здесь
получает какие-то черты независимого и никому не подвластного
существа. Иной раз даже эта природа как бы существует независимо
с1, самого человека, так как люди делают великое зло «сами по себе,
Или оно таково по природе» (Philem. фрг. 90). Значит, природное зло
и зло, содеянное человеком, не одно и то же. У Кробила (фрг. 3)
®сякий сам себя лишает разума, «который наша природа имеет в
качестве величайшего блага». Природа — разумна и таковым она де-
человека. Более того, она «прародитель (archegonon) всякого
406
А. А. Тахо-Годи
искусства» (Damoxen. фрг. 27„g) — еще шаг, и она будет (см. ниже)
сама художницей и ваятелем. Природа все значительное приносит бсч
труда, «болтая» (1а)бп), «ничего не делая безобразным» (aschemom
(Philem. фрг. 5). Эти последние тексты добавляют интересные черть;
к постепенно создающемуся представлению о природе как независимом
и умном личностном начале. Однако, как мы знаем, в комедии .Ме-
нандра этот абсолют направлен в мир малых и ничтожных дел, он
недалек и мелочен. Поэтому так выразителен и внешне парадоксален
у Филемона образ природы, которая всем правит — и смертью, и
рождением, и неудачей, и чиханьем, и вздохами (фрг. 107).
Теперь мы можем спросить себя, если ли что-нибудь специфически
эллинистическое в употреблении слова physis у Менандра, или он
продолжает досократовскую натурфилософскую или классическую тра-
дицию. Хотя Менандр не философ, и мы в данной работе не занимаемся
историей философского термина и понятия «природа», но, насколько
можно судить, Менандр не был чужд имевшим широкое хождение
натурфилософским представлениям о природе как некоей материальной
субстанции, основе, начале всего сущего. Натурфилософы понимали
природу как сумму свойств и качеств материальных стихий и, бол-е
того, как объективно существующую космогоническую мощную силе,
все из себя творящую, в том числе и человека, мало чем отличающеюся
от самой природы. Однако Менандр не мог остановиться только на
этом старинном понимании природы, для него слишком одностороннем
Менандру был важен человек и его природа, т. е. не темная и сти-
хийная сила безликой природы, а сила, наделенная человеческими
качествами и свойствами,1 некий антропоморфный абсолют в духе
классического платоновского демиурга («Тимей»), но уже обретший
чисто эллинистическую специфику личности и индивидуума, столь
характерных для субъективизма и психологизма современной Менандру
эпохи. Вряд ли Менандра можно рассматривать и в аристотелевском
контексте. Ведь даже Аристотель (Met. V 4. 1014 b 16 а), установившим
пять значений термина physis (только в первом из них он говорит о
природе как «возникновении», «рождении»), не дошел в своих опре-
делениях до обобщенной личности творящей субстанции. Таковой
всеобщей движущей силой является у него перводвигатель (Met. IV
8 1012 b 30), а не природа.1 2 Эпикур также, «устранив божество в
1 См. о «природе» у досократиков, а также у Пиндара и трагиков («характер»
личности, ее свойства и ее основа): Lovejoy А. О. The meaning of physis in the
greek physiologers. — Philosophical Review, 1909, vol. XVIII. «Природе» у рижских
писателей и философов посвящена интересная книга: Р е 11 i с е г A. Natura. Etude
sfemantique et historique du mot latin. Paris, 1966.
2 См. Боровский Я. О термине natura у Лукреция. «Вопросы грамматиче-
ского строя и словарного состава языка», № 2. —Ученые записки ЛГУ, 1952.
№ 161, серия филологических наук, вып. 18, с. 230—231.
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 407
качестве творческой активной силы, не находит места для творческого
момента в своем объяснении природы, в котором за принцип, опре-
деляющий мировой процесс, принята случайность».1 Кто же из фило-
софов вышел за пределы чисто натурфилософского и классического
понимания physis и увидел в ней великий личностный творящий
принцип, абсолют, движущее начало?
Нам кажется, что таковыми были стоики, оказавшие огромное
влияние не только на ученых и философов, но и на широкие круги
эллинистического общества и как никто другой способствовавшие со-
зданию представления о живом космосе, уже не натурфилософском,
а общественном, и человеке как гражданине этого космоса
(cosmopolites). Стоики впервые в отчетливой форме заговорили о
природе-художнице (artifex), созидательнице. Интересно в этом отно-
шении свидетельство Цицерона (SVF I фрг. 172 Агп.): «Вся природа
художественна... она получает название у того же Зенона не только
художественной, но прямо — художницы, попечительницы и промыс-
лительницы всяких полезных благ... Природа всего мира имеет все
произвольные движения, усилия и влечения...» Природа — это нечто
«демиургическое» (SVF II фрг. 599), «творческий огонь» (SVF I 171,
II фрг. 217, 1134), «горячая самодвижущаяся пневма» (II фрг. 1133),
«сила, устрояющая живое» (II фрг. 1133). Природе-художнице посвя-
щены во II т. Арнима фрг. 1132—1140, где собраны свидетельства
Диогена Лаэрция. Галена, Александра Афродисийского, Климента
Александрийского. Стоики прямо именуют природу «богом» (I фрг. 158,
II фрг. 945). Она для них не что иное, как «бог и божественный
разум» (II фрг. 1024), «сама судьба и промысл» (I фрг. 176). Вспомним,
что Цицерон (De nat. deor. II), ссылаясь на философов, которые
понимают природу как силу, причастную разуму и порядку, идущую
по определенному пути к определенной цели, имел в виду стоиков.
«Всеобщая природа и всеобщий логос природы есть судьба, промыс-
лительница и Зевс» (II фрг. 936), т. е. природа у стоиков впервые в
античности достигает высоты самопроизводящего абсолюта, демиурга
и творца.
То, что стоики не были исключением, а природа в эллинистическую
эпоху ко времени Менандра из понятия философского и отвлеченного
прочно переходит в сферу божественных сил, властно управляющих
человеком, говорит нам также орфический гимн X Abel. Это гимн в
честь природы. Он относится к группе гимнов III—XII, где прослав-
"®°тся все природные явления, поднятые на божественную ступень
Уран, Эфир, Протогон (ptotogonon), Звезды, Солнце, Селена,
эн. Геракл, Кронос).2 Сборник этих гимнов на основании капиталь-
110 исследования Н. И. Новосадского с полным правом относит к
г Боровский Я. О термине natura у Лукреция, с. 233.
См. Н ов оса дек и й Н. И. Орфические гимны. Варшава, 1900, с. 46.
408
А. А. Тахо-Годи
«иератической поэзии александрийского периода со строго выдсржан-
ными формами гекзаметра и следами живой эллинской речи».1 Более
того, Н. И. Новосадский находит воздействие на орфические гимны
не только древнейшего пифагорейства и Гераклита, но гораздо чащс
и глубже — стоической философии,1 2 придающей гимнам пантеистиче-
ский характер. Богиня Physis отождествляется с природой, со всей
Вселенной. Она разлита по всему миру и пронизывает его, соединяя
в себе физические и антропоморфические черты. Прочтем этот гимн.
«О, Природа, всеобщая мать, богиня, многоискусная мать, небесная
старшая, демон многонаселенный, владычица, всеукрощающая, неук-
ротимая, кормчая, всевластная, вечно почитаемая, высочайший демон,
нетленная, перворожденная, древняя, славная, ночная, многоопытна^
несущая свет, ужасная, след бесшумный оставляющая под пятой своих
ног, чистая, устроительница богов, конечная и бесконечная, общая
всем и одна ничему не причастная, сама себе отец, безотчая, невоз-
деланная, в цветах и венках, многосмешавший в себе демон, води-
тельница, повелительница, несущая жизнь, дева всепитающая, само-
удовлетворенная [независимая], Дика, многоименное убеждение Ха
рит, владычица эфирная, земная и морская, горькая злым, сладкая
веряшим, всемудрая, вседарующая, носительница, всецарица, питаю-
щая рост, плодоносная и разрешительница созреваний, всем ты отец
мать и воспитательница и кормилица, быстро рождающая, блаженная,
многосемянная побудительница плодов, мастер всего, ваятельница,
многонаселенная, властный демон, вечная, несущая движенье, много-
опытная, знающая, вращающая вечно текучим напором быстрый вихрь
всетекучая, круглая, живущая в других различных образах, благо-
тронная, почтенная, одна доставляющая ячмень, скиптродержавная
в вышине шумящая, мощная, бесстрашная, всеукротительница, пред-
назначенная судьба, дышашая огнем, вечная жизнь и бессмертный
промысл. Во всем ты еси. Ты одна все у строя ешь. Богиня, молю тебя,
со счастливой юностью низведи всем мир, здоровье и произрастание»'
Этот гимн ставит природу в ряд великих божеств, хотя она ми-
фологически не воспринималась греками и не была предметом рели-
гиозного почитания. Здесь же перед нами «властный демон» (potnia
daimon) и «владычица» (anassan), «всеукротительница», «неукроти-
мая», «высочайший демон», «устроительница богов» (cosmeteira theonc
«всевластная» и «владычица эфирная, земная и морская», «скиптро-
державная». «повелительница», «всецарица». Создается впечатлений'
что в пантеон традиционных олимпийских богов вошло и твердо заняло
место новое грозное божество, какая-то новая мировая первооснов3
1 Новосадский Н. Н. Орфические гимны, с. 241.
2 Там же, с. 80—98.
3 Orpbica, гсс. Е. Abei. Lipsiae, 1885.
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 409
Qpa «мастер (pantotechnes) всего» и «ваятельница» (plasteira), «все-
мУДРая»> К0Т0Рая «ОДНЗ все устрояет». Наряду с этими вполне боже-
ственно-универсальными чертами природа в данном гимне наделена
еде атрибутами, свойственными понятию натурфилософской материи.
Ола «нетленная», «древняя», «перворожденная», «конечная п беско-
нечная», «круглая», «вечная», «несущая движение», «всетекучая», «жи-
вущая в других различных образах», «вечная жизнь». Природа сама
порождает из себя без посторонней помощи все живое Поэтому она
^плодоносная», «несущая жизнь», «всеобщая магь», «сама себе оищ»,
«безотчая», «всем отец, мать, воспитательница и кормилица*. Очень
характерен ее эпитет «самоудовлетворенная» (aytarci.ta) ’ Именно по-
зтому она «всемудрая», «мастер» и «ваятельница», г. е в ней как бы
объединяются элементы иератические, мифологическо-антропоморф-
ные и философские. Если же принять во внимание, что она еще
именуется «судьбой», «бессмертием», «промыслом», а в конце гимна
ияхолятся слова: «Во всем ты еси», то вырисовывается весьма интерес-
ная картина всемогущего, всемудрого, вседарующего, всспорождаю-
щего, самоудовлетворенного творца и начала причины самой же себя.
Нам представляется, что такое обожествление философского по-
нятия чрезвычайно характерно для эпохи эллинизма, когда уже меркла
старая мифология и ее антропоморфные образы становились зачастую
моделями, по которым создавались новые структуры, не менее мощные,
чем прежние олимпийцы, и властно влиявшие на ход жизни эллини-
стического человека.
Действительно, если вернуться к Менандру, то оказывается, что
у него природа — источник жизни (Sent. 312), сущность жизни cEpitr.
167, фрг. 386), одна, дающая только ей свойственное (фрг. 620),
главенствующая над всеми науками (Sent. 298), разумная (фрг. 21 Зр,
развивающаяся по своим законам, непознавательным для людей (Sent
746), имеющая свою истину (Sent. 378). В природе и благо и зло
(Sent. 287), но благо предпочтительнее (фрг. 3374). она хороша сама
по себе (фрг. 62013), идет своими путями (Comp. I 214 = III 46),
неизменяема (Sent. 763, 801) и устойчива (Epitr. 146). Она одна для
всех людей, независимо от национальности человека (фрг. 6Г1и_п)
н каждому человеку «родина» (Sent. 295). Природа «земляная» и
Развивается, как полевой цветок (Sent. Append. 84). Устойчивая, не-
изменная, непознаваемая и стихийная в своей мудрост и — вот какова
природа у Менандра. И эта ее характеристика очень близка к образу
Physis, нарисованному в орфическом гимне, или к стоической physis.
иДнако как писатель и человек, не любящий крайностей, Менандр и
__ Этот термин хорошо известен Менандру и связан с учением о самоуцовлет-
»2~**Н0Сти мудреца. См. нашу работу «О некоторых особенное! ах. указанную
св°СКе 1 на с. 390.
410
А. А. Тахо-Годи
природу свою все-таки не доводит до высот стоико-орфического <-бк)
жества», «художницы», «ваятельницы» и «мирового логоса», хотя целый
ряд ее черт явно складывается у Менандра в очень импозантный и
значительный образ. Природа у Менандра вырастает до размера аб
солюта и противопоставлена ничтожеству маленького и несчастно! .;
человека, целиком зависимого от природы и целиком ею подавленной;
И это чрезвычайно характерно для эпохи эллинизма с ее гигантскими
просторами и затерянностью человека в этом новом непонятном !(
неустроенном мире. Если мы вспомним, что орфики имели огромное
влияние именно на массы людей, обездоленных и социально hcvli .
роенных, искавших в орфических содружествах спасения и защи-,ь
от натиска жизненного зла,1 то станет вполне понятной и тенденция
Менандра дать своему маленькому человеку тоже устойчивую основе
внушающую ему веру в ее безграничную поддержку. Однако орфики
и стоики аскезой, строгой жизнью и установленным ритуалом доби-
вались у богини природы совершенства духовного и тем самым хотя
бы внутренне не зависели от социальных основ обществ. Герои же
Менандра аппелируют к природе для устроения своей чисто житейской
относительной независимости и бытового благополучия с его незамыс-
ловатыми идеалами. Отсюда — измельчение великого абсолюта, на-
правленного на столь низменные для него цели.
Обычно под термином «абсолют» понимают нечто торжественное
выходящее за пределы бытовой жизни, ни от чего не зависящее, как
причина самого же себя и всего другого. Формально это совершенно
правильно, так как иначе и незачем говорить о каких бы то ни было
абсолютах. Но весь вопрос в том, каким содержанием обладает про-
поведуемый в тот или иной момент времени абсолют и в чем его
духовная сущность. Природа Менандра есть такой абсолют, который
по своему духовному содержанию как раз не выходит за пределы
человеческого быта и определяет собой не что иное, как самую обык-
новенную жизнь мелкого и обыденного человека. Такой абсолют явно
несет на себе черты духовного вырождения. Этот капризный, мелкий
и весьма ограниченный абсолют, формально он близок к стоически-
орфической природе, а по своему внутреннему содержанию он мелок,
порождает только мелочный быт и такого же мелочного, запутавшегося
и недалекого человека. Но и этого достаточно, чтобы комедии Менандра
не считать только бытовой комедией.
Таким образом, природа у Менандра и в стоико-орфическои тра-
диции строится по одной модели и имеет одну структуру, но напол-
ненность этой структуры совершенно разная. Духовное содержаниг
менандровской структуры природы обесценено и доведено до ничто-
1 См. Томсон Дж. Исследования по истории древнегреческого обществ3
т. II. Первые философы. И., ИЛ, 1959, с. 223—228.
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 411
зкества. Выясняется, что только структурное сопоставление природы
Менандра и стоиков совершенно недостаточно. Законченность выводов
йожет быть очевидной только после анализа содержания каждой из
данных структур, иначе можно впасть в смехатизм и констатацию
лишь формального, конструктивного сходства.
Рассмотрев лексему «природа», можно перейти к следующей лек-
семе «случай».
Стало уже почти общим местом, обращаясь к эпохе эллинизма,
непременно упомянуть о роли Тюхэ, богини Случая в жизни человека
поздней античности. Вопрос этот уже давно и хорошо обследован в
науке.1 Собственно говоря, ни архаика, ни классика не знают Тюхэ
как богиню. Ее образ дорастает только до персонификации и не более.
Гомеровский Олимп вполне обходится без нее. Может быть, в какой-то
мере коррелятом случая является у Гомера daimon, тоже в целом
ряде мест имеющий неопределенно общее значение какой-то безымян-
ной силы, внезапно налетающей на человека и губящей его. Любо-
пытно, что гомеровский daimon в таком значении чаще всего встре-
чается в прямой речи героев, т. е. с их точки зрения, и еще не познан
и не назван своим именем, а с точки зрения самого автора он фик-
сируется как некое известное и определенное божество, т. е. у Гомера
как бы противопоставляется сознание поэта и сознание героя? Впервые
упоминается имя Тюхэ, Океаниды и спутницы Коры в гомеровском
гимне Деметре (V 429), но это имя ничего не имеет общего с будущей
богиней Тюхэ. Робко выступает она наряду с Мойрой, как все дарующая
людям у Архилоха (фрг. 8 Diehl2). У Алкмана она — сестра Евномии
1 AH'egre F. Etude sur la deesse greque Tyche. Paris, 1889; Meuss H.
Tyche bei den attischen Tragikem. «Hirschberger Gymnasial-Programm», 1899;
Meuss H. Die Vorstellung von Gottheit und Schicksal bei den attischen Rednem.
«Jahrbuch fur klassische Philologie», 1889. Bd. 139, S. 445—476; R osiger F. Die
Bedeutung der Tyche bei den spateren griechischen Historikem besonders bei
Demetrios von Phaleron. «Konstantzer Gymnasial Programm», 1880; Bouche-
Leclerq A. Tyche ou la Fortune «Revue de 1’Histoire des religions», 1891, v. 23,
p. 273—-307; Gerhard Ed. Uber Agathodamon und Bona Dea. «AbhandJungen
der kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin», 1847, S. 461; Nagels-
Chr- Nachhomerische Theologie der griechischen Volksglauben. Numberg,
г~7>8. 153; WelckerF.G. Griechische Gotterlehre. Bd. II. Gottingen, 1857,
R ь ’ Schmidt L. Die Ethik der alten Griechen. Bd. I. Berlin, 1882, S. 538;
Kohde E. Der griechische Roman und seine Vorlaufer, 4 Aufl. Berlin, 1960,
c j7^~~282; Lehrs K. Populare Aufsatze aus den Altertum, 2 Aufl. Leipzig, 1875,
Г?/'®; Joos P. B. Tyche, physis, techne. «Studien zur fruhgriechischer Lebens-
oef^htung». Winterthur, 1955.
_ Jorgensen 0. Das Auftreten der Gotter in der Biichem IX—XII der
й°У«ее. Hermes, 1904. Bd XXXIX, S. 357—382; Francois G. Le Polytheisme et
Учп °* au s’n8ulier des mots theos, daimon. Paris, 1957; Лосев А. Ф. Гомер. M.,
е^з, 1960, c. 276—278, 283 сл. 2-е изд. M., 1996 (серия ЖЗЛ). (Прим, ред.)
412
А. А Тахо-Годи
и Пейто, дочь некоего Проматея (фрг. 44 D). Пиндар (01. XII Schr.j
знает Тюхэ-спасительницу, дочь Зевса-Элефтерия, т. е. «Освободите
ля». К ней как к покровительнице города Гимеры, «благомощнои,,
(eyrysthene) обращается Пиндар, т. е. она получает у него черты
богини — покровительницы полиса. Она же и направляет судьбу
Пиндара в качестве одной из Мойр, по свидетельству Павсания (\J;
26, 8 ср. Pind. fr. 41). Как видно, уже достаточно рано Тюхэ и Моира
ставятся рядом. Неизвестный хорический поэт (adesp. 4. D) прибли,
зительно V в. до н. э. посвящает Тюхэ замечательные гимны на
дорийском диалекте. Вот этот фрагмент:
«Тюха — начало и конец для смертных. Ты воссела на троне
мудрости и воздала честь человеческим подвигам. От тебя исходят
благо и зло, и милость сияет вокруг твоих золотых крыльев, и
наивысшее блаженство процветает, когда оно сопричастно твоему ко-
ромыслу. Ты узрела в горестях выход из трудностей. Ты, наивысшая
дарительница из богов, принесла свет, сияющий во мраке».
Что касается великих трагиков V в. до н. э., то у Эсхила и Софокла
заметно стремление к персонификации Тюхэ, причем существует сви-
детельство ритора Менандра о гимне в ее честь у Софокла (фрг. 740).
Вполне понятна огромная роль, которая приписывается Еврипидом
Случаю, явившемуся у него результатом деятельности какого-то де-
мона (фрг. 554), или Аластора (Hipp. 818—820). Еврипид совершенно
отчетливо ставит ее в один ряд с богами (Е1. 890 Iphig. Taur. 476—478;
Phoen. 1202, Iphig. Aul. 1404). Более того, она стоит у него опять-таки
в одном ряду с Мойрой, и Агамемнон даже взывает к Мойре и к
Тюхэ, называя ее «моим демоном» (Iphig. Aul. 1136). Здесь, видимо,
она мыслится каким-то личным божеством отдельного человека. Однако
дорастая у Еврипида до божественной иерархии, она вместе с тем
оказывается вершительницей незначительных дел. Для нас в связи с
изучением семантической сущности Тюхэ у Менандра примечателен
еврипидовский фрг. 974, где прямо сказано: «божество связано с чрез-
мерно великим, а малое оставляет на волю Случая» (Tyche). Сочетание
мощной силы Тюхэ и одновременно ее сопричастность миру малых
дел чрезвычайно характерны для такого предшественника новой эл-
линистической драмы, каким был Еврипид. Поэтому нас не должно
удивлять, что у поздних трагиков она, с одной стороны, обладает
неограниченной властью (Chaer. фрг. 19), даже надзирает над делами
богов и людей, одаряя последних по заслугам (adesp. 505), но, с
другой стороны, в ней нет непреложности постоянства и величия
древней Мойры, или мудрости богов, наоборот, она даже противопо-
ставляется благоразумию (eyboylia. Chaer. фрг. 2), являясь воплоше'
нием капризной изменчивости (adesp. 179: «неравномерны коромысля
непостоянной Тюхэ») и ненадежности (Mosch, фрг. 95 и сл.).
Вполне понятно, что для ораторов IV в. до н. э. и особенно Д-1Я
таких, как Эсхин, Демосфен, Динарх, живших в эпоху крушения
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 413
старых полисов и бурной деятельности македонских завоевателей,
Случай был мощным божеством. Эсхин именует Тюхэ и царя Филиппа
«владыками» (II 118). У Демосфена она прямо «владычица» (VIII 69).
Однако, как и следует ожидать, устойчивости и твердости в этом
владычестве нет- Вполне закономерно поэтому Динарх сопоставляет
поворот Случая и то, что выпало по жребию (III, 16). Сюда необходимо
присоединить также еще мнение Демосфена (XVIII 207) о «неразум-
ности» случая (agnomosyne).
В противоположность утверждениям поэтов и ораторов о силе и
могуществе непознаваемого, неразумного Случая картина полного де-
терминизма рисуется в «Физике» Аристотеля. Видимо, для философов,
современников Аристотеля, рационалистическое объяснение всех при-
родных и общественных феноменов явилось какой-то попыткой внести
элемент упорядоченности в эллинистический хаос. Поэтому Аристотель
выражает в первую очередь мнение тех, для которых «ничто не
делается случайно, но для всего, возникновение чего мы приписываем
самопроизвольности или случаю, имеется некая определенная причина»
(Phys. II 4). Даже те, кто,’ по Аристотелю, все-таки вынуждены
признать силу случая, хотя и мыслят его чем-то божественно-гармо-
ничным, но основывают его на причине, «только неясной для чело-
веческого разумения» (там же). Аристотель, видимо, пытается объ-
единить последовательную эллинистическую традицию и ее абсолю-
тизацию неразумного случая с элементами разумности и порядка.
По-видимому, он просто хочет сделать логический упрек защитникам
неразумия, полагая, что о всеобщем неразумии можно говорить только
тогда, когда имеется идея и всеобщего разума. Отсюда и мнение
Аристотеля о том, что «случай есть нечто второстепенное, чем и разум
и природа» (II 6). Тем самым Аристотель до некоторой степени объ-
единяет случай и разумность. Аэций (Plac. I 29, 3 Diels), комментируя
Аристотеля, так и полагает, что случай у него восходит к чему-то
разумному, происходя по выбору от какой-то начальной сущности,
видимо, недоступной для человеческого разумения. О том, что были
попытки внести некое разумное начало в деятельность случая, возводя
его вместе с тем на высшую иерархическую ступень, видно из ком-
ментария Симпликия к вышеуказанным главам «Физики» Аристотеля.
Здесь Симпликий (SVF II 965 Arnim) пишет о том, что у стоиков
случай и причина — одно и то же, только случай — это «причина
неясная для человеческого разумения как нечто божественное и де-
моническое и потому превосходящее человеческое знание». Это мнение
можно сравнить с определением псевдо-Платона: «Тюхэ —движение
°т неясного к неясному и причина самопроизвольного демонического
лаяния» (Definit. 411 b), что указывает на связь стоиков и Аристотеля
*"*46 какой-то ранней платонической традицией. О случае как при-
(pfe’ неясной для человеческого разумения, читаем у того же Аэция
‘чс- I 29, 7 = SVF II 966 Arnim) с добавлением того, что у стоиков
414
А. А. Тахо-Годи
одно происходит по необходимости (anagcen), другое по воле судье,
(heimarmenen), третье по добровольному выбору (proairesis), одни г
случаю (tychen), иное самопроизвольно (aytomaton) (ср. Arist. Pl,
4—б о разнице между самопроизвольным и случайным). То же са^е
находим во фрг. 967—971. Однако этой диалектически философе, ,,
линии (разумное и неразумное, ясное и неясное) противостояла
родная традиция, отразившая страх и неуверенность человека в перш,
формирования эллинистических монархий. По Феофрасту, «Тюхэ —
непредвиденна (ascopos) и грозно уничтожает прежде приобретение
трудом и ниспровергает кажущееся благополучие, не обладая ника1, „
определенной надлежащей мерой» (Pint. cons, ad Apoll. 104 d Beni -
фрг. 73 Wimmer). Плутарх приводит здесь разные исторические при
меры на силу случая (Филипп Македонский, Ферамен), добавляя,
«случай по своей природе завидует счастливым обстоятельствам» (р|щ
cons, ad Apoll. 105 b). Здесь у Плутарха может быть какой-то отзюк
из книги ученика Феофраста Деметрия Фалерейского «О случае». Он,,
была написана в связи с событиями, потрясавшими современность
примерно около 317 г. до н. э. Полибий свидетельствует (Fr. Gr. Hist
II В 228, 39 Jacoby), что Деметрий, желая ясно показать людям ь
сочинении «О Тюхэ» изменчивость случая и вспоминая время Алек
сандра, разрушившего державу персов, обращает внимание на «тяжесн
случая», на его «вероломность» (asynthetos) на его «новосодеяннос
вопреки нашему разумению», на его «мощь», явленную против ожи
дания (en tais paradoxois). Нам кажется вполне закономерным возвести
высказывание Плутарха о зависти случая именно к Деметрию, при
давшему Тюхэ такие божественные атрибуты. Вполне также естест
венно, что Плутарх, цитируя Феофраста, в 6 главе своего «Утешения
к Аполлонию», тут же непосредственно иллюстрирует эти мысли с
потом делает вывод в духе Деметрия, ученика Феофраста. О том, что
какая-то неясная борьба шла между рационализмом, с одной стороны
и народной традицией в понимании Тюхэ, с другой, говорит интересное
высказывание Эпикура. В своем третьем письме он ясно отграничивает
как и стоики, события, которые происходят в силу необходимости, по
случаю, и те, которые зависят от самого человека. Оказывается, -т
случай «непостоянен» (astaton), и «мудрец не признает его богом, как
думают люди толпы, — потому что богом ничто не делается беспоря-
дочно, — ни причиной всего, хотя и шаткой, потому что он не думает
что случай дает людям добро или зло для счастливой жизни, но что
он доставляет начала великих благ или зол» (Epicurea, Ad Menoei.
133—134, р. 65. Usener, перевод С. И. Соболевского). Таким образом
Эпикур, пренебрегая средней линией, прямо говорит о «людях толпы’'
обожествляющих неразумный и непостоянный Случай. Для него, как
для истинного мудреца, это неприемлемо. Истинный мудрец, по оЮ
мнению, предпочитает быть несчастным, сохраняя разум, чем о1’11'
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 415
цастливым, лишаясь разума. Для Эпикура вера в случай несовместима
с мудростью и разумом.
Насколько можно судить по литературным памятникам послеме-
вандровского времени, народная вера в неодолимость божественной
в абсолютно неразумной Тюхэ возобладала над попытками ее ра-
зумного объяснения. Размах Римской державы способствовал форми-
рованию взглядов Полибия на Тюхэ. В его изложении Ганнибал
даает, насколько изменчиво счастье и что Тюхэ обращается с враж-
дующими народами как с неразумными детьми (Polyb. XV 6, 8).
Правда, у Полибия Тюхэ иной раз понимается как некая устойчивая
сила, судьба, непреклонно ведущая Рим к великой цели. В его
лексике даже встречаются слова, которые характерны для театрального
зрелиша. Судьба, или случай, — сила, выводящая на подмостки жизни
то одного, то другого героя. Полибий упоминает судьбу, что поставила
на сцену и третью драму (XXIII 10, 12 tyche drama), и «эписодии
судьбы» (ta epeisodia tes tyches II 35, 5) совершенно так же, как во
П в. н. э. Лукиан будет говорить о человеческой жизни в виде
<шествия» (рошрё), которым распоряжается один хорег (choregos) —
Тюхэ. Она надевает на участников шествия богатые и бедные одежды
в зависимости от своей воли (Menipp. s. Necyom. 16). Тюхэ «играет
людьми» «на сцене в драме с множеством действующих лиц» (еп
scenei cai polyprosopoi dramati, Nigrin 20). Хорошо известно, как
будет прославлена в греческом романе сила Случая, перед которой
не устоит человеческий разум (Chant. II 8, 3). Плутарх будет писать
сочинения о Тюхэ, а Дион Хрисостом посвятит ей несколько речей
(63—65). И как бы создавая равновесие с древнейшей народной
традицией, выраженной в вышеприведенном нами мелическом хоровом
фрагменте, безвестный египтянин сложит гимн «К Тюхэ», полный
почтительного удивления и преклонения. Текст этого гимна испорчен,
но, учитывая все конъектуры, его можно прочитать так: «Многорукая,
пестровидная (крылатая), соприсущая смертным, всемогущая Тюхэ.
Как можно было бы явить твою силу и твою природу? Высокосветлое,
досточтимое для очей твоих ты низводишь на землю, облаченная в
(темную) тучу, а дурное и низкое ты часто на крыльях возносишь
ввысь, о демон великий. Как назовем тебя — то ли черной Клото,
т° ли кратковечной Ананкой, то ли быстрой Иридой, вестницей
богов? Ты владеешь истоком всего и священным пределом» (XXI
Diehl) (перевод наш.—А. Т.-Г.)
В каких же отношениях находится Менандр с этой эллинистической
традицией, как он себе представляет деятельность Тюхэ?
Г. ф. Церетели посвятил анализу представлений Тюхэ у Менандра
Рекрасные страницы своей книги.1 Однако он не располагал еще
7^еРеТеЛИ Г’ Ф' ^овые комедии Менандра. Юрьев, 1914, с. 242—
416
А. А Тахо-Годи
всеми текстами Менандра, которые имеем мы сейчас, и, кроме того,
рисуя бытовизм «Третейского суда» (II 7), он так и остался на степени
констатации этого бытовизма как сущности комедий Менандра. Нам
кажется, что в данной статье следует пополнить выводы Г. Ф. Церетели
и пойти дальше одной констатации менандровского бытовизма.
Что же такое Тюхэ у Менандра и какие структурные черты можно
в ней выделить? Это некая мощная сила, не зависимая от воли
человека, которая стихийно налетает на человека и вершит добро и
зло, иной раз заманивая человека, а чаще всего заставляя его терпеливо
переносить все ее удары.
Что самое главное в этой силе? Это, несомненно, ее полная а
личность, непонятная человеку. Менандр прямо говорит о том, что
Тюхэ не «пользуется законами» (оу chretai nomois), она делает «самое
нелогичное» (asyllogiston) (фрг. 295). Именно благодаря полной не-
лепости и стихийности Тюхэ — общая для всего рода человеческого
(coine) (Sent. 10). По своей алогичности Тюхэ противопоставляется
«благому совету» (eyboylia) (Sent. 739), так как что бы она ни делала,
«она не делает разумно» (oyden cata logon) (Append. I 35 = фрг. 464)
He раз говорится о ее «безрассудстве» (anoia) (фрг. 632 = Sent. 657),
хотя человек должен обладать своеобразной мудростью, следуя за
случаем (Sent. 272), а, может быть, человек, будучи сам безрассудным,
несправедливо обвиняет в безрассудстве случай (фрг. 486) и потому
то, за чем он с трудом следует, именует случаем (Sent. 202). Уследить
за случаем сложно, так как он изменчив и текуч. То и дело говорится
у Менандра о «переменах» (metabolai) случая (Dysc. 769, Sent. 255,
фрг. 348), о «повороте» (metatrope) (Comp. I 257), о «пестроте» и
«введении в обман» (Cith. фрг. 8 = Sent. 874 Sent. Pap. XVIII, col 2,
26), о ненадежности (apista) (Pericir. 372), о резких переходах от
бедности к богатству и наоборот (Dysc. 272—277, Comp. I 202, Il
37—38, Sent. 862, 470, 577, Comp. I 292—293 = 11 51—52). Подъемы
и падения «непостоянного» (astatoy) случая сравниваются с коромыс-
лами (plastigges) (Sent. 82), сам он — с быстрым «потоком» (reyma)
(Georg, фрг. 1,5). Человек, подавленный изменчивостью и преврат-
ностями случая, должен поневоле быть пассивным, полагаясь только
на волю случая, не обременяя себя трудом (Sent. 769—770) и терпеливо
перенося все, что он ни посылает (Sent. 813, 392, Sent. Pap. XVIII
Зю- Dysc. 340, фрг. 650), сражаться же с ним невозможно (фр. 637)
С точки зрения человека случай — слепой и зрячий — в зависимости
от того, что он дает человеку — благо или зло (Coneaz. 13). Хотя
часто отождествляют Тюхэ с римской Фортуной, т. е. со счастливым
случаем, но эллинистическая Тюхэ — это и счастливый и несчастный
случай (Comp. II 12—22, фрг. 630, фр. 463, Sam. 183, Pericir. 380,
фрг. 424, Sent. 146), он часто сопутствует дурным людям (Sent. 663),
его все порицают (Sent. 611), он даже завистлив (Sent. 280, Seit. 855)
так что сам человек не может завидовать, все получая от сллча»
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии
417
(Dysc. 801). Даже неудача именуется atychema, т. е. «отсутствие
случая». Случай, несмотря на зло, которое он может причинить, как-то
освобождает «благородных от дурных» (Char. Gnom. I 32) и даже у
несправедливого случая «справедливый характер» (dicaios tropos) (фрг.
629), и Тюхэ «исправляла» (orthosen) дурных (Sent. 652), будучи
союзницей (symmachei) «разумным» (еу phronoysi) (Sent. 637) и «хо-
рошим», «полезным» людям (фрг. 300), зачастую являясь именно
счастливым случаем (Pericir 30, 354, Ci th 40). Любопытно, что случай,
несмотря на свою изменчивость, непостоянство, алогичность притя-
гивает к себе людей. Может быть, Тюхэ влечет их к себе именно
этими столь непонятными и необъяснимыми для человека качествами,
являясь в виде заманчивом и разукрашенном (фрг. 788) и покоряя
их своей силой; причем люди считают иной раз, что достаточно
незначительного усилия (micron), и Тюхэ воздаст сторицей (mega)
(Sent. 186). Уверенность человека в силе случая заставляет его думать
о том, что даже «малая» (micra) Тюхэ «все поворачивает» в жизни
(Sent. 708). Именно она «направляет» деятельность человека (techne),
а не наоборот (Sent. 740). Она — главная (cyria) вершительница и
распределительница (Florent. 19—20) всего. Без ее желания (тё
theloyses) никто не побеждает (Comp. I 89—94). Поэтому, естественно,
«капля судьбы» (tyches stalagmon) «предпочтительнее» «бочки разума»
(phrenon pithon) (Sent. 333). Разум (phren) в данном месте противо-
поставляется Тюхэ и, насколько можно судить, случай и разум (noys)
каждый имеет свою сферу действия. Тюхэ порабощает тело человека,
а «свободный ум» (noys eleytheros) господствует над характером (фрг.
7227_8). Заметим, что характер (tropos) тоже одна из главных направ-
ляющих человека сил наряду с physis и tyche. Вспомним, что tropos
(см. выше) губит даже то, что создает природа. Характер конкурирует
с Тюхэ в распределении даров. Одним изобилие дается случаем, а
другим — характером (фрг. 623).
Тюхэ мыслится Менандром в каких-то иерархических отношениях
с божеством, не совсем ясных. Сражаться с божеством и случаем
страшно (deinon) (Sent. 341). Надо почитать божество, а затем
(deyteron) случай (tyche) (Sent. 325). У Менандра говорится именно
о божестве, а не о богах, т. е. здесь мыслится некая обобщенная
божественная сила. Исключительно интересен фрг. 417. Здесь Тюхэ
занимает высшее иерархическое место по сравнению с разумом. Ви-
димо, разум (noys) мыслится высшим в сфере человеческих отношений
(anthropinos), а Тюхэ перешла уже в сферу высшую, божественную.
Может быть, она дыхание (pneyma) божества или разум (noys) бо-
жества. Но, во всяком случае, она вышла из сферы понятных и
Доступных для человеческого разума отношений. Тюхэ — всем управ-
ляет, все направляет и спасает, т. е. ей приписываются типичные
божественные атрибуты. Именно поэтому предвиденье (pronoia) —
*смертный дым и болтовня» (he thnete cai phlenaros). Ведь божест -
21 Зак 3903
418
А. А. Тахо-Годи
венный разум, божественная пневма — непознаваемы, и решения их
неведомы. Но вместе с тем случай не просто вершит трансцендентно
человеческим обществом. Случай имманентен человеку: «Все, что мы
думаем, говорим, делаем — все случай» (фрг. 417). Будучи божест-
венной силой, он как бы изнутри направляет человеческую жизнь
он и есть она сама, но данная как некий абсолют.
Однако, несмотря на всесилие случая, человек не надеялся бы на
него и не ждал бы его, «если бы все люди всегда помогали друг другу»
(фрг. 467). Следовательно, Тюхэ — продукт одиночества человека
типичное порождение общества, основанного на индивидуализме. Там^
где слабы узы общения между людьми, там возникает необходимость
в случае. Значит, объективная действительность сама собой рождает
случай и при отсутствии необходимых условий он может исчезнуть,
так как в нем не будет никакой надобности. Жизнь, таким образом,
сама собою изживает случай, рожденный ею при определенных усло-
виях. Оказывается, что случай это именно то, чего «мы совсем не
знаем» (hen holos oyk oidamen. Comp. I 31—32), т. e. то, что нами
пока еще не познано.
Следует обратить внимание на то, что пестрая и зачастую проти-
воречивая характеристика случая у Менандра не является каким-то
исключением для эллинистической комедии. Более того, при анализе
фрагментов непосредственных предшественников Менандра и его со-
временников бросается в глаза поразительная устойчивость этой пес-
трой картины, в которой тем не менее можно наметить некоторую
закономерность, правда, учитывая всю сложность фрагментарности
средней и новой комедии.
Оказывается, что из 17 фрагментов средней комедии, 23 — новой
и 3 анонимных с лексемой tyche, нами обследованных, 36 фрагментов
трактуют случай в типично менандровском духе, а иной раз даже и
более остро, более капризно и антиномично.
Нет ничего удивительного, что эллинистическая комедия мыслит
случай как нечто текучее, изменчивое и недолговечное. Тюхэ меняет
все человеческое (в подлиннике выразительно стоит ta somata, т. е.
тела, телесное, а может быть, и «личности» (Anaxand. II 42 Kock).
Одних она предназначает к великим делам, других — к малым (Alexid.
II 116ц_13), причем одного осчастливила одна Тюхэ, а другого — иная
(Philem. II 191), и сегодняшний бедняк завтра становится счастливым
(Philem. II 213). Случай — мимолетен (ephemeros Diphil. II 45), и
ему нельзя доверять (me pisteyein, Alexid. II 288).
Для Аполлодора Каристийского Тюхэ всегда «невежественна» и
человек ей «рабски служит» (III 526) • Более того, она попросту «дикая»
(agroicos III 54 14) и тяжелая (chalepon pragma, III 17). Особенно
подчеркивается, что у нее не может быть (оус esth’) разума (phrenas,
Alexid. II 287), но зато она в изобилии изливает на человека по три
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 419
а сразу (tri’ epantlei саса, Diphil. II 107), хотя одинокого человека
«питает» (trephei) даже и злая (сасё) Тюхэ (Philem. II 197).
Один из главных моментов в трактовке случая у современников
Менандра — взаимоотношения Тюхэ и человека, мы бы сказали, про-
блема свободы воли. Не следует удивляться, если мы иной раз встре-
тимся здесь с противоречивыми мнениями. В конечном итоге они
гармонически сочетаются в единстве противоположностей, специфич-
ном для эллинистического человека с его обостренным интеллектом
л чувствами.
Случай и жизнь зачастую ставятся на одну плоскость (Antiph. II
8012)- Случай — это свойство самой жизни. Он появился вместе и
тотчас (eythys) с нами (meta ton somaton hemon), родствен (syggenes)
нашему телу (somati) и специфичен для каждого человека, так что
обменяться судьбой невозможно (Philem. II 10). Здесь Тюхэ искони,
от рождения присуща человеку, и этот последний содействует ей, так
как «не должно надеяться только на Тюхэ», а совместные действия
усиливают ее проявление (II 53). Отсюда и призыв к человеку все
согласовать (harmodsoy) с наличным (paroysan) в данный момент
случаем (II 186, 187). Тюхэ — результат деятельности людей (dia toys
prattontas aytoys gignetai), т. e. свободной воли человека (II 150),
«дела смертных» (ta thneton pragmath’) — это и есть она сама (Nicostr.
II 19«), поэтому характер (tropos) человека зависит от случая и всегда
бывает разный, даже у друзей (Antiph. II 2322 4). Умный человек
соразмеряет свои действия с Тюхэ (Alexid. II 150) «благородно»
(gnesios, Antiph. Il 281), «правильно» (orthos Alexid. II 252) и «хорошо»
(calos, Adesp. HI 228 —2346), перенося проявления случая. Здесь,
очевидно, имеются в виду гармоничные и прочные связи между случаем
и человеком, его носителем и его вместилищем.
Тюхэ, случай, судьба, как бы ни называли мы это загадочное
явление, — имманентно человеку и вполне выражает его свободную
волю, не противореча ей, а являясь прямым следствием умного, бла-
городного и хорошего поведения человека. Однако тут же мы находим
на первый взгляд совершенно противоположные высказывания. Ока-
зывается, что Тюхэ (разночтение — physis «природа») нарушает иной
раз «порядок» (taxis), а характер, т. е. мы бы сказали, человек, его
Удерживает (Antiph. II 257). Вместо того чтобы действовать заодно с
Тюхэ, человек «замедляет (tribon) ее» (Amphid. II 205_6), хотя «никто
не побеждает против воли Тюхэ» (Adesp, 1267). В свою очередь пре-
вратности случая губят много различного, а творческая деятельность
человека (techne) спасает его (Hipparch. Ill 2). Одно добывают люди
при помощи случая, а другое — «сами через себя» (di’ heaytoys, Philem.
1 99). Случай может принести человеку зло, в котором сам человек
никак не повинен, ибо не он его совершает (Apollod. Ill 15). Тюхэ
Не только находится вне человека, но она даже стремится поработить
420
А. А. Тахо-Годи
его (to soma), хотя по природе (physei) никто не родится рабом
(Philem. II 95).
Чрезвычайно характерно, что, во-первых, Тюхэ здесь противопо-
ставляется природе, а во-вторых, порабощает здесь только тело, как
бы оставляя свободу действия для духа, более тонкого, изощренного
и самостоятельного по сравнению с грубой плотью (загса). Таким
образом, Тюхэ выступает в данном контексте как чужеродная природе
человека сила, враждебная ему, но захватившая лишь телесного че-
ловека и не посягающая на высшую духовную сферу индивидуума.
Что же такое, в конце концов, эта загадочная сила, которая одновре-
менно и текуча, и непостоянна, и невежественна, и поработившая чело-
века, и враждебная ему, и вместе с тем соразмерная с его жизнью, даже
реальный продукт этой жизни? Выясняется, что «все побеждает и пово-
рачивает Тюхэ», она «исходный пункт для горя и радостей» (Philem. II
ПО, 111). «Все течет и совпадает с Тюхэ», она для всего «вместилище
советов» (boyleyterion), да к тому же «самопроизвольное» (taytomaton) и
«меткое» (eystochon Adesp. Ill 200—201). Мы бы сказали, что Тюхэ —
это та область бытия, откуда все истекает и к чему все сводится. Это
одновременно и текучая стихия, и лоно мудрых советов. Тюхэ именуется
чем-то божественным (ta theia, Philem. II 165). Она надзирает
(episcopoys’) за делами смертных и богов и «распределяет» (nemoys’)
каждому «заслуженную долю» (axian merida, Adesp. Ill 1326). Просто-
напросто она и есть «божество» (theos, Timocl. 3 Syppl. Dem.). Казалось
бы, дальше уже нет никакого пути. Тюхэ из капризного и мимолетного
случая превращается мало-помалу в мощную силу, то ли имманентную
человеку, то ли трансцендентную ему и даже стоящую над богами, обла-
дающую всеми божественными атрибутами власти и распорядительницу
земных и небесных дел.
Но такое блистательное завершение иерархического восхождения
Тюхэ неожиданно рушится, противореча и Менандру и его современ-
никам. Мы читаем у Филемона: «Никакая Тюхэ не является для нас
божеством. Нечто самопроизвольное, то, что происходит случайно для
каждого, именуется Тюхэ» (II 137). Итак, Тюхэ — не божество, а
«самопроизвольное» (taytomaton), «случайное» (hos etych’) действие.
По-видимому, в этих заключительных фрагментах можно найти не
только неразрешимую антиномию, но диалектическое единство про-
тивоположностей, то самое, которое мы обнаружили во фрг. 417 Ме-
нандра. Там ведь тоже Тюхэ стоит над разумом человека, она там —
дыхание (pneyma) божества или его разум (noys). Она тоже всем
управляет, все направляет и спасает. Но вместе с тем Менандр пишет:
«Все, что мы думаем, говорим, делаем, — все случай». Нам кажется,
что ни Менандр, ни Филемон, ни аноним, ни Тимокл не противоречат
друг другу и самим себе, утверждая одновременно всемогущество,
божественность, самопроизвольность, неразумность и случайность Тю-
хэ. Все дело в том, как воспринимать божество. Оно ведь тоже^
Природа и случай как стилистические принципы новоаттическои комедии 421
есмотря на свою абсолютную власть и мудрость, в глазах античного
!LeKa часто действует неразумно, алогично, капризно, противореча
законам человеческого разума. Поэтому то, чего «мы совсем не знаем»
(см. выше), называют случаем, но это же самое можно назвать и
божеством, так как оно непознаваемо для смертных. У божества и
Тюхэ много общего, если рассматривать их в двух планах, с точки
зрения человеческой ограниченности и высшего знания. Здесь — не-
разумная разумность, алогичная логика, случайная закономерность,
^постоянное постоянство и слепое видение переплетены настолько
тесно, что порождают единый синтез, отдельные компоненты которого
нельзя противопоставить друг другу или позитивно и трезво разделить.
Этот синтез можно охватить только сразу, во всем высшем единстве
его тезиса и антитезиса. Это, видимо, хорошо понимали философы —
предшественники и современники Менандра: Аристотель, который ви-
дел в самопроизвольности или случае определенную причину; стоики,
у которых случай — это причина, неясная для человеческого разуме-
ния, а потому нечто божественное, демоническое, превосходящее по-
нимание человека; псевдо-Платон, который объединял самопроизволь-
ность случая и его демоническую силу. Как ни сильна была в эпоху
эллинизма народная традиция, рисовавшая вероломность, непостоян-
ство, неразумность и сокрушительность случая, но и Менандр, и
поздние комедиографы смотрели гораздо глубже и гораздо филосо-
фичнее своих современников и потомков — историков, ораторов и
поэтов, подавленных эффектными сценами эллинистических катастроф
и создавших несколько ходульный, красочный и даже зловещий образ
богини Тюхэ. Окидывая взором картину эллинистической литературы,
близкой по времени к Менандру и другим поздним комикам, мы
невольно останавливаем свое внимание на одном замечательном па-
мятнике, который ни по содержанию, ни по стилю не имеет никакого
отношения к поздней комедии, но который поддерживает обрисованную
нами народную традицию Тюхэ, доводя эту традицию до религиоз-
но-мистического пиетета. Это орфический гимн LXXII в честь Тюхэ,
представляющий собой для нас большой интерес как антитеза приве-
денным у нас выше материалам из поздних комиков.
У орфиков Тюхэ наделена древними хтоническими чертами Ар-
темиды— Гекаты (ср. гимн 1 «Гекате»), блуждающей при могилах и
Рожденной от крови Эвбулея, идентичного в орфической космогонии
то ли с Фанетом, то ли с Плутоном, то ли с Зевсом — Эвбулеем,
хтоническим божеством. Во всяком случае Тюхэ у орфиков связана
с кругом подземных божеств смерти, вместе с тем дарующих произ-
растание плодов и богатства (Деметра, Персефона, Плутон). Вот как
представлена Тюхэ в LXXII орфическом гимне (прозаический перевод
кащ)»
явись сюда, я тебя призываю, благую владычицу для
олитв, мягкую, встречающуюся на пути со счастливым богатством.
422
А А Тахо-Годи
Артемида — водительница, великоименная, рожденная от крови Эь
булея, обладающая ликом неодолимым, ты при могилах, многоблуж
дающая, воспетая среди людей; в тебе — жизнь смертных всепестра^
ты создаешь им счастливое изобилие богатств, ты создаешь им злм
бедность, движимая гневным сердцем. Но, богиня, молю тебя явиться
благосклонная в жизни, громоздя на богатство богатства [наполни
богатством и счастьем ]».
Правда, здесь Тюхэ, как и у Менандра, «многоблуждающаю,
«неодолимая», «всепестрая», «дающая счастливое изобилие» и «злую
бедность». Однако, как мы сказали выше, она по преимуществу вы
ступает в гимне в виде мрачного и страшного божества, в то время
как у Менандра ей оставлен мир малых человеческих дел, о чем так
хорошо сказал еще Еврипид (фрг. 974): «божество связано с чрезмерно
великим, а малое оставляет на волю случая».
Если теперь сосредоточиться на эллинистической комедии, то не-
обходимо сказать, что и Менандр, и его окружение, создавая бытовую
комедию, так сказать, «мещанскую драму», если позволено употребить
неантичный термин, очень своеобразно вплели природу и случаи в
ткань драматического действия и придали им определенную целенап-
равленность, без которой physis и tyche потеряли бы всю свою коме
дийную специфику и ничем бы не отличались от философских понятии
или поэтических образов. Вот тут-то и предстанут у нас природа и
случай не в виде философских категорий и художественных образов,
но как порождающие модели конкретной человеческой жизни, а сле-
довательно, и как принципы развертывания действия эллинистическом
комедии.
Тут-то и становится ясным, почему вовсе и не обязательно посто-
янное употребление этих лексем в эллинистической комедии и почему
она даже и совсем могла бы без них обойтись. Уже самый характер
действия в новой комедии, характеры действующих лиц в ней и общий
антураж сами по себе требуют от литературоведа формулировки ос-
новных регулирующих принципов. Но историк античной литературы,
к счастью, избавлен от необходимости придумывать от себя какие-
нибудь особые термины или формулы для обозначения этих регули-
рующих принципов или, как мы выражаемся, порождающих моделей
Такими порождающими моделями являются природа и случай, о ко-
торых сами комедиографы могут говорить, а могут и не говорить,
т. е., повторяем еще раз, это у них не философские понятия и не
художественный образ.
Прежде чем закончить этим наши наблюдения над природой и
случаем у Менандра, пожалуй, необходимо будет сказать о соотно-
шении этих двух, как мы теперь уже убедились, весьма близких др'Г
к другу концепций.
Природа и случай в эллинистической комедии имеют ряд обш»4
черт, которые на первый взгляд придают им даже какой-то адекватный
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 423
характер. И действительно, природа у Менандра — одна, все дающая
человеку. Она — источник жизни, источник добра и зла, обладающая
своей собственной разумностью, выше всех наук, своими законами,
ре познаваемыми для человека. Она идет своими путями, ее нельзя
изменить, она свободна в своих действиях. Людям трудно понять
природу. Однако и случай тоже непонятен человеку. Он не пользуется
никакими законами, направляет деятельность человека, распределяет
блага, дарует добро и зло, обладая своей собственной мудростью.
Очевидно, в природе и случае общими являются именно черты,
характерные для них как для жизненных принципов, стоящих вне
понимания человеческого разума, на ступени, недосягаемой для ог-
раниченного ума. Эти направляющие и устрояющие принципы возво-
дятся в ранг трансцендентных абсолютов, обладающих своими почти
божественными атрибутами. Для маленького человека поздней комедии
природа и случай — проявление одной и той же чуждой и высокой,
далекой от суеты жизни силы, мощной именно благодаря своей не-
понятности и какой-то ей одной ведомой телеологии.
Но эти два жизненных принципа своей неодолимостью и таинст-
венной закономерностью все-таки по сути дела глубоко различны. Это
различие сказывается, как нетрудно заметить, уже в самой этимологии
каждого слова. Если греческий язык создал слово physis и слово tyche,
значит каждое из них имеет свое содержание, свою семантическую
специфику, выраженную наиболее броско и кратко в корне слова.
Корень phy-, указывающий на процесс порождения и на нечто врож-
денное, и tych-, указывающий на случайность, сразу дают четкую
направленность каждой из лексем. Таким образом, оказывается, что
общее в природе и случае — это внешнее проявление их деятельности,
а внутренняя наполненность должна обладать своими особыми каче-
ствами. Далее, различие наших двух принципов обусловлено, конечно,
и сферой их употребления в истории античной культуры. Природа
возникает в качестве философского термина и получает доминирующее
положение у досократиков, которые сознательно противопоставили
древней мифологии взаимодействие материальных стихий и выдвинули
на первый план как антитезу мифу разум и законы природы, возведя
ее же самое, в конце концов, тоже в божественное достоинство. Тюхэ
искони была принадлежностью мифологическо-поэтических конструк-
ций и не употреблялась в качестве философского термина. Случай-
ность, иррациональность и стихийность имели у философов, в отличие
от разумной природы, другой эквивалент. Они нашли свое яркое
выражение в категории материи — как бы ее ни именовали — apeiron
♦беспредельное», «безграничное» или me on «не-сущее» — у Анакси-
мандра и Платона, hyle «материя» у Платона, Аристотеля и стоиков,
genesis «становление», «рождение» у Платона и Аристотеля. Философам
J-их абстрактно-понятийным мышлением была чужда красочная ми-
фология богини Тюхэ, которая, собственно говоря, тоже была поэти-
424
А. А Тахо-Годи
ческим воплощением текучести и вечной изменчивости мировой ма-
терии.
Таким образом, природа так и осталась привилегией философских
построений, хотя в итоге она была наделена атрибутами верховного
абсолюта и даже вошла, судя по возвышенно-мистическим философ-
мам орфиков, в пантеон богов
Как мы сейчас увидим анализируя субстанциальное различи
природы и случая, все. по свойственно темной и неразумной матери;,
в поэтическом осмыслении отождествляется с Тюхэ, а все, что по,
властно юминанте целенаправленного разума, найдет свое воплощенщ
в природе.
Во-первых, природе у Менандра и его окружения характерна проч
ность, неизменяемость, в то время как Тюхэ является живым вопло-
щением случайности, непостоянства, изменчивости.
Во-вторых, природа обладает мудростью и разумом, доступных,
только ей, но никак не простому смертному. Тюхэ — это прямо ка-
кой-то апофеоз неразумности, невежества, дикости в представлении
обычного человека. Если и мыслится какой-то особый разум у случая,
то он все равно недоступен человеку и воспринимается только с точки
зрения полной алогичности.
В-третьих, близко связаны с мудростью природы ее закономерная
рациональность, а с неразумностью случая — его иррациональная сти-
хия. Природа, на кого бы она ни действовала, в ком бы она ни была
воплощена, всегда рационально обусловливает жизнь человека. От се
разумной направленности зависит очень многое, но здесь-то с ней и
вступает в конкуренцию случай, который губит все значительное,
созданное природой. Оказывается, что устойчивая, закономерная, ра-
зумная природа рушится под напором иррациональной, темной и
неразумной силы.
В-четвертых, нельзя не оттенить гармоническую сторону природы,
совмещающую в себе добро и зло, благое и дурное, но, видимо, в
какой-то очевидной пропорциональности. Для случая характерно все
дисгармоничное. Недаром, как мы видели выше, капля случая лучше
бочки разума, а иной раз, облагодетельствовав человека, случай из-
ливает на него сразу три зла. Можно также, не прибегая ни к каким
усилиям, получить от случая любые блага. Здесь, как видно, нет
никакой соразмерности между желанием человека и волей случая.
В-пятых, природа мыслится неким космическим принципом. Мы
не должны забывать при этом, что для античного человека космос
менее всего означал мир как Вселенную. Наиболее обычное и тради-
ционное его словоупотребление связано для грека с представлением
порядка, упорядоченного строя жизни любого диапазона от бытовой
повседневности до звучания небесных сфер. Так вот природа в элли-
нистической комедии космична в области довольно мелкого и незна
чительного бытия столь же мелкого и незначительного человеки
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической ко чедии 425
В свою очередь Тюхэ вносит в жизнь этого заурядного и скромного
существа полный хаос, переворачивая все привычные представления
й устоявшиеся прописные истины. Надо сказать, чго такая непредви-
денная хаотичность далеко небезынтересна, ибо на скучную и кор-
ректную жизнь падает отблеск какой-то иной, интересной, не явленной
человеку высшей сферы. Эта хаотичность даже рождает в бедном
герое робкие надежды на близкие перемены к лучшему или вселяет
страх за свое существование, что связано тоже с напряжением всех
сил героя и зачастую пробуждает его к активности, заставляет изо-
бретать и соображать, что совсем уж не так немаловажно.
В-шестых, следует подчеркнуть, что природа у комиков — это
все-таки принцип внутреннего оформления человеческой жизни. Прав-
да, мы знаем, что у Менандра природа мыслится и как объективно
существующая и даже личностная сила (ведь ее свойства типичны
для личности). Но, несмотря ни на что. она имманентна человеку,
как бы изнутри направляет его деятельность, заставляет жить «по
природе», чувствовать «по природе», мыслить «по природе», быть «по
природе» дурным или хорошим, добрым или злым. Именно поэтому
природа составляет как бы моральную сушность человека. В свою
очередь Тюхэ, хоть она иногда и мыслится рожденной вместе с че-
ловеком и поработившей его тело (sarca, sonia), в<х-таки устраивает
его жизнь со стороны внешнего, мы бы сказали, личного или обще-
ственного благополучия или неблагополучия. Человеку везет или не
везет в его предприятиях, в его поступках. Он то беден, то богат, он
то все теряет, а то многое находит, он может поступить опрометчиво
или очень мудро. От каждого его шага, т. е. о г случая, зависит
внешнее оформление его жизни, которое иной раз гармонирует с
внутренним «природным» моральным его обликом. Умный «по природе»
мудро переносит удары и благодеяния случая. Мудрый «по природе»
может помочь случаю, а иной раз даже и замедлить его действие.
Так принципы внутреннего и внешнего оформления человеческой
жизни, несмотря на все свое глубокое различие, в каждом отдельном
человеке как бы соседствуют в особой гармонии. Но чаше, может
быть, эти принципы внешнего и внутреннего оформления противоречат
ДРУГ другу, рождают конфликт между положением человека в обществе
и его достоинствами. Отсюда и появляются в комедии благородные
бедняки и богатые самодуры, добродетельные бесприданницы и рас-
точительные наследницы, великодушные гетеры и бессердечные отцы
семейства. Внешний и внутренний принцип едины в своей гармонии
и Дисгармонии так же, как и сама жизнь.
В-седьмых, напрасно бы мы искали в эллинистическои комедии
законченный и ощутимый образ природы. Природа с комиков — это
как бы отвлеченная модель, некая сила, наделенная атрибутами аб-
солютной власти и ума. Мы бы сказали, что природа как объект
аналитических раздумий философов, сознательно выдвинувших эту
426
А. А. Тахо-Годи
категорию и четко противопоставивших ее мифологическому мьпшю
нию, так и сохранила навсегда даже в художественном творчестве
свой несколько бесплотный характер, свою абстрактную немифологи
ческую конструктивность.
В свою очередь Тюхэ, издавна попавшая в поэтически-мифологи
ческую орбиту, с течением времени приобретала все более красочный
пестрый, капризный характер своевольного божества, страшного и
грозного, мстительного и завистливого. У Менандра, погруженного в
заурядную жизнь своих героев, на которых он смотрит с легкой
скептической усмешкой и даже недостатки которых рисует с добро-
душием, свойственным истинному филантропу, Тюхэ имеет тенденцию
выступать как подлинная богиня. Однако Менандр снижает свою Тюх j
до жизненных пустяков, делает ее завистливой в мелочах и капризной
в проявлениях своей воли. Все это придает особую прелесть менанд
ровской Тюхэ, прелесть, на которую Менандр был великим мастером.
Те диалектические противоречия, тот философский синтез в образе
Тюхэ, на который мы указали выше, ничуть не чужды ее вмешатель-
ству в неурядицы быта. Наоборот, Тюхэ эллинистической комедии
становится еще более красочной и своеобразной, как бы оттеняя
несколько отвлеченные конструкции умной и скучноватой природы,
без которой, однако, комедия Менандра лишилась бы своей назида-
тельности и своего морального пафоса, так хорошо впоследствии ус-
военного Теренцием и доведенного им до излишнего совершенства.
Природа со всеми своими атрибутами: неизменностью, разумно
стью, рационализмом, гармонией и упорядоченностью, а также Тюхэ -
вечно изменчивая, иррациональная, алогичная, дисгармоничная и ха-
отичная представляет собой в комедиях Менандра некую идеальную
модель, на основе которой конструируется тот или иной художествен-
ный образ. Так же как живой человек не может быть идеальным, гак
и комический герой воплощает в своей конкретной природе только
отдельные черты совершенной модели. Природа как абсолют разделяет
свои дары скупо и неравномерно, поэтому в каждом персонаже комедии
выражены какие-то определенные устойчивые элементы единого це-
лого. Нам кажется, что именно на этот момент следует обратить
особое внимание, так как маски, характерные для всей античной
драмы, на наш взгляд, как раз и выражают общую сущность все в
себе заключающей природы через ее единичные проявления. Ведь
понятие о physis и учение о природе, частью которой был и человек,
впервые нашли распространение у натурфилософов, а затем у софистов
с их особым отношением к природе человека, т. е. как раз в то врем;’,
когда зародилась и расцвела античная драма. Мы хорошо знаем, что
ни трагический, ни комический герой, надев однажды данную ему
автором маску, не снимает ее, в чем и заключается устойчивее:ь
природной субстанции. Новая комедия эллинизма все еще находится
во власти этой традиции, которая переживет античность на многие
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 427
века. Когда мы говорим об отсутствии развития характера в античном
театре, видя в этом некую специфическую ущербность, мы забываем
о природе, которая от рождения формировала человека античности и
делала его «по природе» добрым, злым, умным, рассудительным, сла-
бым, недалеким и т. д. и т. д. Поэтому, если мы хотим говорить о
реальном применении модели природы к конкретному комическому
персонажу, то мы должны констатировать, что это реальное приме-
нение довольно ограниченно. Каждый персонаж внутренне как бы
произносит всегда только монолог, выражает только один момент
природного многообразия и многокрасочности. Но если бы драматурги
остановились только на этом моменте, то перед нами была бы схема,
а не действующее лицо. Вот здесь-то на помощь драматургу приходит
случай, с которым обязательно столкнется природа человека и который,
в свою очередь, будет воздействовать на нее, и еще неизвестно, кто
выйдет победителем из такого столкновения. В борьбе природы и
случая, т. е. устойчивой субстанции человека и текучей жизненной
иррациональности, выковывается уже нечто новое, рождается tropos
человека, т. е. ем характер. Как проявит себя в реальных жизненных
случайностях человеческая природа, слабый отблеск идеального абсо-
люта, в таком направлении и формируется характер героя эллини-
стической комедии.
Мы не должны забывать о том, что Менандр ограничивает рамки
деятельности своих героев, не выводя их за пределы замкнутого се-
мейного мирка, в котором любая мелочь приобретает черты исклю-
чительной важности. Поэтому мощные трансцендентные силы, такие,
как природа и случай, управляющие у Менандра человеческими жиз-
нями, в свою очередь снижаются, мельчают, ограничиваются и по-
рождают характеры не очень далекие, зачастую слабые и наивные,
но вместе с тем достойные и скромные, иной раз не лишенные плу-
товства и мелких хитростей, но стойко выносящие все превратности
нелегких и достаточно запутанных коллизий.
Природа и случай безраздельно царят в каждой комедии Менандра.
Харисий и Памфила в «Третейском суде» по природе своей хорошие,
но запутавшиеся люди. Харисий случайно совершил насилие над Пам-
филой, не узнав ее в своей будущей жене. В руках у Памфилы
остается перстень, случайно потерянный Харисием. Ребенка, рожден-
ного Памфилой, этот плод случайной встречи, подбрасывают, но его
случайно находит пастух Дав, а Смикрину, отцу Памфилы, случайно
приходится стать третейским судьей между Давом и Сириском, не
поделившими найденного младенца и его вещи. Раб Харисия Онисим
случайно узнает в руках Сириска среди вещиц подкидыша перстень
своего хозяина. Арфистка Габротонон случайно встречает Памфилу и
Узнает в ней жертву насилия. Харисий и Памфила, таким образом,
°оретают счастье благодаря сцеплению случайностей, то дурных, а то
и хороших.
428
А. А. Тахо-Годи
А как же среди всего этого нагромождения случайностей действvei
природа? Нам кажется, что именно природа побеждает здесь случаи
Не будь природа Харисия в основе своей доброй и правдивой, врял
ли она устояла бы перед тяжелыми обвинениями случая. Конечно
Харисий в порыве негодования оставляет жену и пытается забытье.,
с арфисткой, но его любящая природа не примиряется с собственным
недостойным поведением. Как только появляется возможность испра-
вить проступок, он готов признать Габротонон и ее мнимого сына, ц
то же время терзаясь своей совестливой природой перед оскорбленной
им женой. Благородная по природе Габротонон готова помочь несча-
стной Памфиле. Мы ведь знаем, что у Менандра человек, благородныи
по природе, останется таковым, даже если будет воспитан среди рабов
и даже если будет эфиопом или скифом. Так, хорошая, добрая
устойчивая, разумная природа берет верх над хаосом дурных случай-
ностей и вместе с тем помогает счастливому случаю (как и положено
умной природе) пусть даже и не совсем прямыми и достойными
путями.
В комедии «Дискол», столь нашумевшей в 60-е годы нашего века,
тоже все построено на взаимодействии природы и случая. Здесь ареной
действия является небольшая деревушка в Аттике и семья небогатого
землевладельца Кнемона. Природа и случай проявляют себя опять-таки
в сфере замкнутого мирка скромных, живущих трудом своих рук
людей, среди которых появляется беспечный и богатый молодой го-
рожанин, влюбившийся в дочь Кнемона. Приехав на охоту в горы.
Сострат случайно увидел девушку в гроте нимф и без памяти в нее
влюбился. Здесь случай материализуется в живописном образе Пана,
покровителя местных крестьян и их благодетеля. Кнемон — ипохон-
дрик, обиженный трудной жизнью и ненавидящий людей, случайно
падает в колодец, пытаясь достать оттуда ведро, случайно упущенное
его служанкой. Этот несчастный случай дает возможность влюбленном}
Сострату и пасынку старика Горгию проявить свое благородство и
полное бескорыстие, спасая невзлюбившего их Кнемона, и тем самым
оборачивается счастливым случаем, способствуя дальнейшему счаст-
ливому исходу — свадьбе двух молодых людей.
В этой комедии чрезвычайно интересно взаимодействуют случай
и природа. То, что на первый взгляд является действием случая, на
самом деле проистекает из природы героя. Кнемон на первый взгляд
случайно упал в колодец, и его случайно спасают. Однако Кнемон
полез за упавшим ведром, а оно оборвалось из-за гнилой веревки, а
веревка гнилая, так как хозяин скуп и скареден и готов удавиться
из-за малейшей мелочи. Его природа такова, что для него гнилая
веревка, навоз во дворе, сковородки и котелки заслоняют реальную
жизнь, и за ними он не видит подлинных человеческих отношений-
Так, он проглядел, какой прекрасный и благородный по природ^
человек его пасынок Горгий жил незаметно рядом с ним. Занятый
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 429
повседневными ссорами и обереганием своей собственности и незави-
симости, Кнемон обязательно должен был упасть в колодец, т. к. этот
случай вполне логично проистекал из его природы. Горгий и Сострат,
спасшие Кнемона, тоже в данном случае проявили свою благородную,
Иезлобивую природу и тем самым заставили Кнемона изменить своей
природе и впервые, хоть на миг, поверить в человеческое бескорыстие.
Однако устойчивая сущность природы героя комедии все-таки дает
себя знать до последнего момента, когда он упорно не желает пировать
вместе со всеми, и его насильно выволакивают на пирушку веселые
и озорные рабы.
А как логично проявляется природа Горгия, сталкиваясь с жиз-
ненными случайностями. Этот благородный бедняк мудро относится
к воле случая, даже поучая богатого и несколько легковерного Сострата.
Его уроки не прошли даром. И вот уже Сострат преподает своему
отцу истины мудрого отношения к случаю, к бедности и богатству.
В комедиях «Отрезанная коса», «Самиянка», «Герой» подброшен-
ные дети, жертвы несчастного случая, в конце концов обретают
счастье благодаря счастливому случаю. Но в каждой из этих комедий
благородная природа молодых людей, впавших в бедность и чуть ли
не в рабскую зависимость, как бы подталкивает случайности к
благополучному исходу.
Как можно судить по реконструкции недавно найденных фрагмен-
тов комедии «Сикионец», брат и сестра Мосхион и Филумена случайно
обретают друг друга, и комедия кончается двумя свадьбами.1 По
фрагментам комедии «Misoymenos» (она же «Фрасонид») тоже можно
судить о случайной встрече брата и сестры и о случайном узнавании
по перстню отцом своей дочери.
Создается впечатление, что комедии Менандра — это борьба стихии
случайностей и стойкости человеческой природы, из которой эта по-
следняя всегда выходит победителем, не поддаваясь несчастному слу-
чаю и умело используя счастливый. Менандровский человек мудр
своей маленькой житейской мудростью, но мудрость эта соразмерна
его скромной природе, вполне готовой конкурировать с «потоком»
(геута) случая так, чтобы сохранить «коромысла» (plastigges) Тюхэ
в относительном равновесии и довольствоваться хоть «каплей» случая,
не претендуя на «бочку» разума.
Итак, какие же выводы можем мы делать, учитывая взаимодействие
природы и случая в комедиях Менандра и его современников? Как
изображается в комедиях действительность, что лежит в ее основе и
каково отношение человека, а также и самого автора к этой дейст-
вительности?
1 Kumaniecki К. Bemerkungen zu den neuentdeckten Fragmenten des
l^cyOnios» von Menandros. Athenaeum, 1965, fasc. I—II. Menandri Sicyonius, rec.
Gallavotti. Romae, 1965.
430
А А. Тахо-Годи
Оказывается, что жизнь комического героя пестра, текуча, непо
стоянна и хаотична, так что в ней с трудом улавливаются какие-нибуд)
закономерности и разумное начало. Она есть непрерывная мистифи
кация случая, которую человек вынужден разоблачать и преодолевдТь
В основе жизни лежит и зло и добро. Однако то и другое — непре-
менные свойства природы, а потому в жизни все естественно — ка>
падение человека, так и его торжество. А так как случай вносит
поток жизни принцип относительности, то именно поэтому нет ничей,
целиком и бесповоротно безнадежного. Ведь все, что вытекает из оснор
жизни, более или менее прочно. Поэтому, если человек хорош и такое
он «по природе», то, возможно, что это будет для него гарантией
прочности существования. Но если человек плох, а зло ведь тоже
вытекает из основ жизненного естества, то и тогда человек може,
чувствовать себя прочно, хотя и не всегда и не так, как хотелось бы
Кажется, что человек совершенно бессилен перед такой действитель
ностью и лишен всяких абсолютных опор. Но природа и случай с и'
наивной стихийностью, когда все соседствует друг с другом и все
относительно морально, побуждают человека бороться со злом и на-
деяться на победу добра, хотя зла очень много, и оно так же естест
венно, как и все благое. Поэтому Менандр никогда не осуждает тех,
кто ошибся, так как ошибки их естественны. Вот почему у Менандра
нет окончательно изверившихся или окончательно дурных людей Он
знает, что на людей трудно возлагать большие надежды, но отчаиваться
в них не стоит. Отсюда и снисходительная филантропия Менандра,
пронизанная каким-то скепсисом, ибо сомневаться до конца не при-
стало тому, чья жизнь находится в руках природы и случая. Отсюда
и общегреческое жизнеутверждение, какая-то оптимистическая тек
денция и постоянная надежда на выход из трудного положения, так
как шаткая жизнь общества, подверженного силе случая, уравнове-
шивается твердым и незыблемым абсолютом природы.
Подводя итог нашей работе, можно сказать, что человеческая
жизнь в комедиях Менандра строится по двум моделям природы и
случая. Таким образом, драматургия Менандра никак не может оп-
ределяться только как бытовая комедия со свойственным эллинизм}
индивидуально-психологическим заострением. Комедии Менандра не
могут оставаться только в рамках бытовой комедии, так как жизнь
ее героев обусловлена высшими силами — природой и случаем. Можно
сказать, что мы здесь встречаемся с драмой сверхличных сил, нс
познанных человеком, и потому особенно мощных и неотвратимых
Однако герой этой драмы не задавлей этими фатальными силами Он
достаточно крепок и цепок, чтобы свободно конкурировать и бороться
с богиней Тюхэ, используя в качестве союзника природу, а иной раз
вступая в конфликт и с ней самой. Нас не должно смущать, что эта
борьба происходит на фоне чисто житейских и ничуть не героичных
ситуаций. Случай и природа, направляя и обусловливая ничтожней
Природа и случай как стилистические принципы новоатпшческои комедии 431
а обывательскую жизнь, сами становятся мелкими и обывательскими.
Великие жизненные принципы и абсолюты вырождаются, ибо прошли
уфологические времена героев и царей, высоких подвигов и жертв,
борьбы с богами и судьбой. Реальная жизнь слишком прозаична и
позитивна, но тем не менее она не сводится к бесцельному и бес-
плодному бытовизму. Она имеет свои цели и в ней сталкиваются
лживые страсти, так как эта жизнь в конечном итоге управляется
па длинными силами.
Исходя из анализа по крайней мере двух главных основополага-
ющих принципов жизни менандровского человека, можно утверждать,
что здесь перед нами не просто комизм, а, наоборот, очень серьезная
драма сверхличных сил, не просто бытовизм, но та причудливая
сложность стиля, которую приблизительно можно назвать фаталисти-
чески-позитивистским символизмом, так как природа и случай — это
своеобразные символические трансформации древней судьбы, проеци-
рованные в сферу жизни маленького позитивного человека.
Нам хотелось бы особенно подчеркнуть эти выдвинутые нами три
стороны художественного мировоззрения новой комедии. Само собой
разумеется, что когда историки литературы называют эллинистическую
комедию бытовой, противополагая эту комедию той древней, которая
была по преимуществу идеологической, они имеют для этого все
основания; и мы вовсе не хотим оспаривать такую характеристику.
Но все дело заключается в том, что литературно-стилистические ха-
рактеристики, будь то в теории, будь то в истории, допускают самую
различную степень точности и выразительности. Наши теоретико-ли-
тературные и историко-литературные категории вовсе не обладают
такой отчетливостью и такой тонкостью, которая целиком могла бы
соответствовать тому или иному литературному явлению. Здесь воз-
можна самая разнообразная степень приближения научной мысли к
художественной действительности. Поэтому, характеризуя новоатти-
ческую комедию как бытовую, мы, конечно, очень многое говорим
такой характеристикой, и спорить против этой последней будет трудно.
Однако, оставаясь на почве такой характеристики, можно и нужно
стараться углублять наше понимание новоаттической комедии; можно
И нужно ставить вопросы о стилистической и вообще художественной
сущности такого бытовизма. А так как всякое художественное твор-
чество всегда несет с собой и очень острую познавательную направ-
ленность, то, значит, можно и нужно ставить вопросы о мировоз-
зренческом характере этого новоаттического бытовизма. Кроме того,
Только бы мы ни говорили о разложении, вырождении и распаде
классического стиля в эпоху эллинизма, мы никогда не должны за-
бывать, что все же здесь мы находимся в пределах античной литературы
к что все же мы как-никак продолжаем иметь дело с древними греками,
это ко многому нас обязывает. Сказать о бытовизме в новоаттической
ыедии и на этом поставить точку будет весьма недостаточно, хотя,
432
А. А. Тахо-Годи
вообще говоря, это правильно. И недостаточно это будет потому, Что
настоящая бытовая комедия наполняет собой всю новую и новейшую
литературу, но неужели нет никакой разницы между древнегреческой
и новоевропейской бытовой комедией? Нам казалось бы, что такая
разница есть и что она весьма велика.
Древнегреческая комедия у новоаттиков, став бытовой, не перестала
быть греческой. А это значит, что принципы общегреческого художе-
ственного творчества вовсе здесь не исчезли, а только глубоко моди-
фицировались соответственно потребностям времени. Старые боги и
древняя судьба уже мало импонировали обществу в эпоху восходящего
эллинизма. Но и в эти времена грек не мог расстаться с надчелове-
ческими и надприродными абсолютами, а только стал их понимать
применительно к мелкому и бытовому человеку. Утеряв способность
веры в абсолютную мифологию, но в то же самое время продолжая
чувствовать свою зависимость от надчеловеческих сил, эллинистиче-
ский грек, естественно, стал постепенно превращаться в фаталиста,
каким он вовсе не был в период Гомера или Эсхила. С другой стороны,
становясь человеком мелким и бытовым, он уже утерял потребность
осуществлять в своей жизни героизм Ахилла и Гектора, Агамемнона
и Клитемнестры или Эдипа и Антигоны. Он стал, как мы выражаемся,
человеком позитивного склада, поскольку его жизнь оказалась огра-
ниченной только рамками быта. Поэтому говорить о фаталистическом
позитивизме, как нам кажется, совершенно необходимо, если мы
всерьез захотим проводить различие между древнегреческой и ново-
европейской бытовой комедией. А так как этот фаталистический по-
зитивизм чувствуется нами в позднегреческой комедии на каждом
шагу, то мы никак не можем изображаемый здесь быт так и оставить
в художественном отношении как просто быт и больше ничего. Мы
выше показали, что в позднегреческой комедии каждый малейший
сдвиг действия совершенно случаен, но что в целом эта бесконечная
цепь случайностей вдруг почему-то образует собой вполне определен-
ную закономерность. Игнорировать эту случайную закономерность или
закономерную случайность в каждой точке развития действия коме-
дии — это значит, по-нашему, совершенно не понимать художествен-
ной и стилистической сущности тогдашнего бытовизма. Но если это
так, если природа и случай отражаются в каждом моменте сюжета
комедии, то не будет ли совершенно естественным шагом со стороны
историка литературы именовать такую комическую действительность
просто-напросто своеобразным символизмом. Без этого символизма
каждый герой новой комедии и каждый момент развития действия в
ней был бы лишен своей обобщающей силы или это обобщение приняло
бы совсем другой характер, уже не древнегреческий и уже не ново-
аттический. Вот почему в поисках порождающей модели художест-
венного творчества этой комедии, т. е. в поисках принципа констру-
ирования художественной действительности этой комедии, мы и на-
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии 433
1ллкнулись на ту диалектику природы и случая, которую иначе и
Трудно формулировать, если не употребить выдвигаемого нами прин-
ципа фаталистически-позитивистского символизма. Этим путем мы
надеемся как бы нащупать если не самый основной, то, по крайней
ggpe, один из основных стилистических принципов позднегреческой
комедии, а также и провести необходимое для историка литературы
оазличие между стилями новоаттической и новоевропейской бытовой
комедии. И притом мы ни в какой мере не считаем, что выдвигаемый
нами принцип есть единственный и окончательный. Тут чувствуется
еде много других стилистических принципов, формулировать которые
Яе так легко.
Таким образом, структурно-семантический анализ природы и слу-
чая в эллинистической комедии дает возможность сделать некоторые
выводы о художественном мировоззрении Менандра. Наши выводы
могут стать еще более всеобъемлющими, если в таком же плане
исследовать другие лексические единицы стилистической ткани текстов
Менандра и современной ему комедии.
ЖИЗНЬ КАК СЦЕНИЧЕСКАЯ ИГРА
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ
Представление о жизни как игре издавна и постоянно было свой-
ственно греческой мысли. На протяжении целого тысячелетия (VI в.
до н. э.—V в. н. э.) возникают неизменно удивительные образы, в
которых самая обычная преходящая человеческая жизнь и бытие
надчеловеческое, космическое, вечное понимаются не иначе как игра,
беспечная и неразумная, увлекательная и замысловатая. Можно за-
бавляться шашками, мячом, куклами, пением и плясками, драмати-
ческой постановкой, весело смеяться над игрой человеческих страстей
и жизней, испытывая удовольствие от свободы ничем не сдерживаемых
возможностей.
Уже читателей Гомера поражал веселый «неугасимый» (asbestos)
хохот олимпийцев над страданиями людей и собственными божест-
венными раздорами. Именно на этот неудержимый смех пирующих
богов (Ил., I 599—611) обратил внимание неоплатоник Прокл (V в.
н. э.), который, комментируя «Государство» Платона (In R. Р., I
126—128 Kroll), толкует божественное устроение мира как «детскую
игру богов», как «щедрую энергию, направленную на все, и причину
порядка того, что находится в мире». Если демиургическая деятельность
богов неистощима, то и смех их «неугасим». Смех богов нескончаем,
«так как слезы их относятся к промыслу о вещах смертных и под-
верженных року, являясь то существующими, то несуществующими
знаниями, смех же относится к универсальным и вечно тождественно
движущимся полнотам (pleromata) универсальной энергии». Отсюда
слезы — удел человека, а смех неотделим от божественной сущности,
вернее, является ее квинтэссенцией.1
1 О толковании гомеровских мифологем см.: Buffiere F. Les mythes
d’H от е re et la pensee grecque. Paris, 1956; F ri e d 1 A. S. Die Homerinterpretation
des Proklos. Wurzburg, 1936. Подробный анализ не только смеха, но и юмора богов
у Гомера с приведением большой литературы и переводом интерпретации смеха
богов у Прокла, см.: Лосев А. Ф. Гомер. М., 1960, с. 311—331.
Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков 435
I Гераклиту (VI в. до н. э.) принадлежит загадочный фрагмент:
[(Вечность [aion ] есть играющее дитя [paidzon], которое расставляет
щашки [pesseyon]: царство [над миром] принадлежит ребенку»
(В 52 D9). В этом образе неизменно юной и детски беззаботной веч-
ности можно выделить несколько характерных моментов. Здесь царит
неразумие, управляющее всем миром (ср. у того же Гераклита «Война
есть отец всего, царь всего» — В 53; «Война всеобща, правда, есть
раздор и ... все возникает через борьбу и по необходимости» — В 80).
Однако это неразумие мыслится игрой в шашки, т. е. оно вполне
разумно и творчески целесообразно. Но вместе с тем эта игра мировых
снл есть не что иное, как естественное состояние универсума. «Злой
мировой хаос, сам себя порождающий и сам себя поглощающий, есть
в сущности только милые и невинные забавы ребенка, не имеющего
представления о том, что такое хаос, зло и смерть».1
Платон (V—IV вв. до н. э.) видит в людях «чудесные куклы богов,
сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью»
(Legg-, I 644 d). В конечном счете людьми управляют боги, дергая
за прилаженные к куклам нити или шнурки (пеуга). Из них только
одна нить золотая, руководимая разумом, а все остальные — грубые,
железные, влекомые человеческими страстями. «Миф о том, что мы
куклы, — заключает Платон, — способствовал бы сохранению добро-
детели» (I 645 b). Добродетель, по мнению философа, несомненно
укрепится, если признать человека «игрушкой бога» и видеть в жизни
каждого мужчины и каждой женщины «прекраснейшую игру» (VII
803 с), источник которой есть само божество, всегда разумное, знающее
и совершенное. Вся человеческая жизнь в идеальном государстве пре-
вращается у Платона, таким образом, в пляску, сопровождаемую
песнопениями, когда «все целиком государство должно беспрестанно
петь для самого себя очаровывающие песни» (II 665 с). «Надо жить
играя», — утверждает Платон. «Что же это за игра?» — спрашивает
он. И сам же отвечает: «Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы
уметь снискать к себе милость богов, а врагов отразить и победить в
битвах» (VII 803 с).2
В «Политике» Платон среди искусств, которые выступают в каче-
стве основных и вспомогательных причин в жизни самого государства
(287 Ь), называет «пятый род», включая в него искусство украшения,
живопись, музыку и то, что, пользуясь ими, создает «подражания,
Направленные исключительно к нашему удовольствию» (288 с). Весь
370 род он охватывает единым именем «игра» (paignion), так как все
вышеуказанное «делается не всерьез, но ради забавы» (288 с); но
Лосев А. Ф. История античной эстетики. (Ранняя классика). М., 1963,
о05.
ъ_ Ср.: Leisegang Н. Die Marionette als weltanschauliches Symbol.—
gegnung. Zeitschrift fur Kultur und Geistesleben, 1950, № 5, S. 106—110.
436
А А. Тахо-Годи
забава эта, оказывается, помогает «искусству царя» править государ-
ствам. Так объединяется у Платона игра и жизнь идеального общества
со всем его законодательством, религией, обычаями и его наилучщИм
управлением.
Стоик Эпиктет (I в. н. э.) в свою очередь рисует выразительный
и даже дерзкий образ Сократа, играющего в мяч (Dissert., II 5, 18—20
Schenkl.). Он подчеркивает умение Сократа, его знание игры (eidei
sphairidzein) и вместе с тем иронически-шутливый характер (paidzeinj
этой забавы на суде, где Сократ, словно мячом, играет своей жизнью
соблазном бегства из тюрьмы, опасностью несвободы, угрозой принятия
яда, женой и детьми, которых он оставит в сиротстве. В этой игре
как будто беспечной и озорной, есть своя закономерность. «Он играл
гармонично, размеренно» (eyrythmos),— говорит Эпиктет (II 5, 21),
Сократ, таким образом, придавая игре какой-то внутренний ритм,
известный ему одному, опасно жонглирует мячом, направляемым нё
без веления судьбы и готовым в нужную минуту увлечь в своем
падении самого мудрого из всех людей.
Гераклитовская вечность играла, как дитя, не сознавая всего ужаса,
таящегося в ней. Сократ же со смехом и шутками беспечен вполне
сознательно, так как его игра закончится смертью, а значит, и бытием,
не подвластным злой человеческой силе.
У неоплатоника Плотина (III в. н. э.) Вселенная сурова к человеку
и проницательна. Она непрестанно создает людей, «прекрасные и
милые видом живые игрушки» (III 2, 15, 31—33 H.-Schw.). Слезы и
заботы их, пусть даже самые глубокие, есть, с точки зрения вечности,
только пустая забава (paignion). «Люди, — пишет Плотин, — прини-
мают свои игрушки за нечто важное, так как им неведомо то, что
действительно важно, и потому, что сами они игрушки» (III 2, 15,
54—56).
Даже из этих немногих примеров, ограниченных размерами нашей
статьи, можно сделать вывод об одной неистребимой тенденции, свой-
ственной греческой мысли и обусловленной тем, что во все эпохи
физическая и материальная, телесная сторона живого существа не
была осмыслена греками как личность. Человек смыкался со всей
мировой материей и был един со всем физическим миром и природой,
не выходя из круговорота материи, где все мыслилось вечным — и
смерть и рождение. Жизнь человека управляется божеством, которое
само играет без ясно выраженной цели. Это божество еще тоже
неотделимо от мирового хаоса и вечно изменчивых стихий земли,
огня, воздуха и воды. Оно еще чересчур физично, внеличностно и
потому преисполнено избытка сил и безмерной энергии, изливающейся
в мир. Отсюда — опасная безрассудность детски-наивной игры грозного
хаоса и нестареющей вечности.
Беззаботная игра божественных сил никогда, однако, у греков не
противоречила осмыслению мира и человека как направляемых вполне
I
Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков
437
целесообразной и разумной волей, открытой вовне лишь мудрецам,
пророкам и поэтам.1
Эта воля могла пониматься в разные периоды времени различно,
греки именовали ее Судьбой-Мойрой, Ананкой-Необходимостью. Она
была Логосом Гераклита (А 8. 16. 20; В 1. 2. 72 D.), Нусом-Умом
Анаксагора (В 12.13 D.), «беспредпосылочным началом» (arche
anypothetos) Платона (R. Р., VI 509 а, 510 Ь), Перводвигателем (proton
cinoyn) Аристотеля (Met., IV 8, 1012 b, 30), «творческим огнем» (руг
technicon) стоиков (SVF, I 171; II 217, 1134 Arnim.), Мировой Душой
у неоплатоника Плотина (III 1, 8, 9; V 1, 2), Адрастией-Неизбежно-
стью, Дикой-Правосудием и Софией-Премудростью (III 2, 13, 16—17),
демоном (III 4, 3. 5).
Стихийность и разумность никогда не исключали друг друга у
древних, а взаимно дополняли и поясняли самую свою суть. Вот
почему мудрые законы судьбы, богов и демонических сил постоянно
вмешивались в мир видимых явлений, в человеческую жизнь, осмысляя
и направляя ее. Анапка-Необходимость главенствует у Платона над
космосом, вращая мировое веретено (R. Р., X 617 Ь). Ее дочери, или
ее ипостаси, богини судьбы, три Мойры, воспевая прошлое, настоящее
и будущее, помогают ей вращать веретено. Они присоединяют свои
голоса к пению сирен, сидящих на каждой из восьми небесных сфер
веретена и своим пением создающих гармонию Вселенной (617 с).
Однако в этой провиденциальности судьбы не был предусмотрен эле-
мент случайности.
Он укрепился и стал развиваться в эпоху эллинизма вместе с
новой богиней Тюхэ-Случаем, бывшей некогда только персонифика-
цией случайности. Примечательно, что еще в VII в. до н. э. у Архилоха
(фрг. 8 Diehl.2) Тюхэ выступала вместе с Мойрой как благодетельница
людей. Она же, по свидетельству Павсания, прямо становится у Пин-
дара (V в. до н. э.) одной из Мойр (VII 26, 8; ср. Пиндар, фрг. 41).
В гимне неизвестного поэта V в. до н. э. Тюхэ — «начало и конец
для смертных» (Adesp. 4 Diehl.). Хотя трагики противопоставляют
Тюхэ благоразумию (Chaer., фрг. 2), но ораторы IV в. до н. э.,
признавая ее «неразумность» (Демосфен, XVIII 207), вместе с тем
почитали ее «владычицей» (VIII 69), а Менандр (фрг. 417 Koerte)
поместил Тюхэ выше разума человеческих отношений. Она — дыхание
(pneyma) божества или разум (noys) самого божества. Таким образом,
Тюхэ, будучи дыханием высшего разума и абсолютно нелогичной в
ограниченном человеческом представлении, по-своему вполне логиче-
Платон учил о вдохновенной одержимости поэтов (mania), в безумии
оознающих мир (Ion., 533 d—536 d). Демокрит говорил: «Никто не может быть
поэтом, не впадая в безумие» (68 В 17 D = фрг. 569 Маковельский = фрг.
Лурье). Существенная оговорка Платона, что это неистовство истинно, если
‘Уделяется нам как божий дар» (Phaedr., 244 b).
438
А. А. Тахо-Годи
ски управляет жизнью и ее процессами. Именно Тюхэ, столь харак
терная для эллинизма, с его крушением старых устойчивых полисо>
и бурной деятельностью македонских и римских завоевателей, совм(
щает в себе беззаботность игры мировых стихий с продуманность?
скрытого от людей замысла закономерной и неизменной в своих
шениях судьбы. Отсюда — вся человеческая жизнь представляется \лч
не просто беспринципной игрой, но игрой сценической, управляемо!
мудрым хорегом, умело распределяющим роли, жестко следящим ;
их исполнением и не допускающим для актера никаких вольное ге
вне текста.
Замечательную картину именно такой человеческой трагедии ди
вописует Платон в «Законах» (VII 817). Здесь граждане идеальною
государства состязаются с профессиональными поэтами в театральной
постановке. Они «сами творцы трагедии, наипрекраснейшей скол>
возможно и наилучшей». «Прекрасная» и «наилучшая» жизнь являегю
в их государстве не чем иным, как «наиболее истинной трагедиен
(einai tragoidian ten alethestaten), и весь государственный строи в
«Законах» представляет собой ее «подражание» (mimesis). Граждан?
города и поэты — творцы. У них один и тот же предмет творчеств;
Они, можно сказать, соперники по искусству в «наипрекраснеише^
действе».
Но человеческая трагедия, разыгрываемая в наилучшем из госу-
дарств, несоизмерима с трагедией, созданной искусством. Эта последняя
изгоняется из гражданского обихода, что Платон находит впо,тне ес
тественным, ибо трагедия жизни выше трагедии вымысла.
Хрисипп — один из основателей Древней Стой (IV—III вв. до н. э )
также сравнивает государство (urbs) и мир (mundus), где уважается
право каждого человека, с театром. Ведь театр представляет собой
общность (commune), «в которой место принадлежит каждому, кто
его займет» (SVF, III 371 Arnim).
Оратору Демократу (IV в. до н. э.) приписывают изречение о
космосе-сцене и жизни как пароде, т. е. проходе к ней. Человек
приходит на сцену жизни, видит нечто и покидает ее.1
Хороший актер оказывается для философов иной раз образцом,
по которому люди могут строить свою жизнь. Киник Телет (III в. до
н. э.) полагает, что хороший человек в начале, середине и конце
жизни поступает «как хороший актер, хорошо играющий в прологе,
и в середине, и в решительном повороте действия» (catastrophe 16, 4
Hense).
Историк Полибий (III—II вв. до н. э.), грек, прославивший моШь
римской державы, объединял богиню Тюхэ и сценическую игру. Сл)'
1 Дильс предположительно включал это изречение в собрание фрагмент0’
Демокрита (68 В 115). С. Я. Лурье исключает этот фрагмент из своего издан11*
Демокрита.
Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков
439
— сила, которая выводит на подмостки жизни то одного, то другого
героя. В связи с этим Полибий упоминает Тюхэ, что поставила на
сцене третью драму о македонских политических событиях (XXIII
10, 12)- Он пишет об «эписодиях случая» (ta epeisodia tes tyches. —
И 35, 5), употребляя традиционную театральную лексику.
Лукиан (II в. н. э.) рассматривает человеческую жизнь как теат-
ральное шествие (рошрё), где распоряжается один хорег, Случай,
прилаживая участникам шествия маски (schemata) и сбрасывая их по
своему желанию. Поэтому один в жизни носит маску (prosopeion)
царя, ДРУгой — раба, один — прекрасен, другой — смешон. От воли
Тюхэ зависят богатые и нищенские одеяния актера (hypocritas) этой
уманенной драмы (drama, Menipp. s. Necyom. 16). У того же Лукиана
Тюхэ «играет людьми» «на сцене в драме с множеством лиц»
(polyprosopoi dramati). Случай при этом играет или забавляется
(paidzein) делами людей (Nigrin., 20).
Плутарх, блестяще выразивший собой расцвет греческого Возрож-
дения (I—II вв. н э.), в жизнеописании Деметрия Полиоркета объе-
диняет Случай и историю, которые «как бы переносят действие с
комической сцены на трагическую» (ес cornices scenes... eis tragicen. —
гл. 28.) Биографию Деметрия он резюмирует так: «Македонская драма
сыграна, пора ставить на сцену римскую» (гл. 53). Тонко и психоло-
гически убедительно рисует Плутарх биографию Демосфена, его вещий
сон перед смертью. Демосфен, борец против македонской партии и
ненавистник предателя Архия, некогда трагического актера, а теперь
явившегося с отрядом для захвата Демосфена, даже во сне соперничает
со своим противником. Плутарх пишет: «Снилось ему, будто они с
Архием состязаются в трагической игре [antagonidzesthai... tragoidian
hypocrinomenos ], и, хотя он играет прекрасно и весь театр [theatron]
на его стороне, из-за бедности постановки [choregia ] победа достается
противнику» (гл. 29). Умирая, Демосфен упрекает Архия в «неубе-
дительной игре» и просит оставить себя без погребения, чтобы завер-
шить злодеяние Архия ролью в духе софокловского Креонта.
Жизнь не раз соперничает у Плутарха с драмой так, что иногда
бывает трудно разобрать, где кончается естественный ход событий и
где начинается сценическое искусство. Пример такой нерасторжимости
жизни и сцены находим в жизнеописании Красса.
Плутарх безжалостно изображает посмертную участь римского пол-
ководца. Театральная декламация из «Вакханок» Еврипида в присут-
^вии армянского царя Артабаза превращается в восторженную одер-
имость, когда к ногам актера неожиданно явившийся гонец бросает
'У’Шву убитого Красса. Ясон из Тралл «впадает в состояние вакхиче-
Ог° исступления» (гл. 33), потрясая, как Агава, растерзавшая сына,
головой и выкрикивая стихи Еврипида. Армянские властители,
^Д^орженные поклонники театра, вознаграждают актера талантом
Pehpa, а Плутарх бесстрастно заключает: «Таков, говорят, был конец
440
А. А. Тахо-Годи
[exodion], которым, словно трагедия [hosper tragoidian], завершился
поход Красса».
Хороший актер — недурной образец для подражания мудрецу. Сто-
ик Эпиктет сравнивает Сократа, предпочтившего бегству смерть от
яда, с «хорошим актером» (agathos hypocrites), который готов лучше
прекратить игру, чем играть вопреки удобным для него обстоятельствам
(Dissert., IV 1, 165 Schenkl.; ср.: Цицерон о выборе актерами ролей,
«наиболее подходящих к их индивидуальности». — De off., I 31, 110)
Гелиодор (IV в. н. э.), автор романа «Эфиопика», скажет впоследствии
устами своего героя Феагена о божестве Тюхэ, которое «подшутило»
над людьми, «выведя нас словно на сцену и сделав из нашей жизни
представление» (V 6).
Александрийский эпиграмматист Паллад, враг христианства, четко
выразит сценическое представление о жизни в следующем двустишии.
«Наша жизнь — сцена [scene ] и забава [paigoion ]. Или учись играть
[paidzeinj, отложив заботу, или неси страдания» (Anth. Pal., X 72
Beckby).
А один из ранних учителей церкви (III в.), Климент Александ-
рийский, не хуже классического язычника тоже вспомнит смиренного
христианина, который исполняет предназначенную ему роль в «драме
жизни» (Strom., VII 11, 65 Dind.).
Но может быть, самая внушительная картина человеческой жизни
как сценической игры, поставленной великим хорегом — высшим ра-
зумом (ho logos), или Единым (te hen), нарисована Плотином в его
трактате «О промысле» (III 2). Разум управляет миром человеческих
дел, где все уже им заранее детерминировано, вполне целесообразно
В хорошем государстве, например, никогда не бывает равенства граж-
дан, как и положено для драмы, где все действующие лица, естественно,
не могут быть героями (III 2, 11, 12—16). Смерть не страшна человек),
так как она только иная форма существования, подобная актеру,
сбрасывающему свое одеяние (schema) и надевающему новую маем
(prosopon. — 15, 21—29). Человек есть не что иное, как живая игрушка
(paignion), рожденная во Вселенной (15, 31—33). Поэтому смерти и
катастрофы людей подобны театральному зрелищу на сцене (epi ton
theatron tais scenais. — 15, 43—50).
Человеку не дозволено упрекать и бесчестить божество так же,
как сценическому персонажу (hypocriten) немыслимо бранить создав-
шего его автора (toy poietoy toy dramatos. — 16, 7—10).
Жизнь человека — действие (energeia), и не простое, а замысленное
художественно (technice). Она напоминает движение танцовщика (ho
orchestes). Искусство (techne) танца руководит его движениями, жизнь
движет созданным ею существом (16, 23—27).
«Разум Вселенной, — продолжает Плотин — строго и неукоснИ'
тельно соблюдает единство и связь вещей, как полагается для драм3"
тического сюжета (ho toy dramatos logos), где благодаря вводим**'*
Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков 441
автором связям гармонично объединены (eis mian harmonian) все стол-
кновения и сложности» (ta memachemena. — 16, 34—41).
Отсюда добро и зло противостоят друг другу как два полухория
в драме (17, 8—10)? Хороший и злой человек находятся на своих
местах, как положено в драме, где автор каждому предназначает свою
роль (toys prosecontas logoys). Добро и зло распределены соответственно
природе и разуму (17, 16—23).
Каждая душа (psyche) в мире получает свою роль тля игры (psyche
men hypocrinetai) от поэта (poietoy), т. е создателя Вселенной, как
в драме, где автор раздает маски (prosopeia) и костюмы (estheta)
чтобы актер выявил в задуманной роли свои кач-с^ва и недостатки.
Как драматург награждает актера или лишает его возможности играть,
так и душа, «войдя в поэму [poiema], Вселенной», или вознаграждается,
иди наказывается. Однако не следует забывать, что актеры жизненной
драмы играют на сцене, несоизмеримой с обычной театральной, и им
дается несоизмеримая свобода действия «поэтом Вселенной» (toy poietoy
pantos. — 17, 27—56).
«Строгая распорядительность космического драматурга, — говорит
Плотин, — создает из Вселенной прекрасно налаженный инструмент,
лиру или флейту Пана, где каждая душа на своем месте и отличается
своим музыкальным тоном (17, 59—89). Во Вселенной все обосновано
и продумано так же, как в театре, где актер никогда не может выйти
за пределы авторского текста (18, 7—15). Мировое зло и добро поэтому
на сцене Вселенной являются частями универсального разума (toi
panti logoy), как роли в театральном представлении являются непре-
менными частями драмы» (18, 18—26).
Картина, изображенная Плотином, поражает продуманностью и
жесткой регламентацией жизни вселенной, зависящей от демиургиче-
ского и драматического талантов высшего разума. Это и позволило
систематизатору Плотина и его последователю Проклу в комментарии
на платоновского «Тимея», подводя итог деятельности вселенской души
(tes holes psyches), сравнить ее с трагическим поэтом (tragoidias poietes
drama poiesas), который создает драму и отвечает за произносимый
текст и за игру актеров. Вселенская душа «в качестве единственной
причины» (ten mian aitian), а ею в театральном представлении является
Драматург, объединяет все части целостного космоса (ta de mere tois
“Olois), создавая ни с чем не сравнимое единство мира (In Tim., II
305, 7-25 Diehl.).
Итак, среди различных представлений древних греков о жизни
космической и человеческой можно определенно выделить одно, воз-
в°Дя его к модели игры с несколькими ее модификациями. Во-первых,
1 г
учар_,^'р’ У Менандра (III в. до н. э.) об участии человека в активной жизни и
певцов в хоре в противоположность тем случаям, когда человек только
^'“’мает место в жизни, наподобие молчащего хоревта (фрг. 153 Koerte).
442
А. А. Тахо-Годи
это стихийная, неразумная игра вселенских сил, изливающая преиа
биток своей энергии на человеческую жизнь, входящую в общий
природный круговорот мировой материи. Во-вторых, жизнь универсума
и человека есть не что иное, как сценическая игра, строжайше про
думанная и целесообразно осуществленная высшим разумом. Обе эти
тенденции не исключают одна другую, а сосуществуют вместе, кор.
регируют друг друга, часто нерасторжимы и даже тождественны.
Доказательством их слиянности является роль Случая-Тюхэ, апофеоз0
алогичной стихии и вместе с тем божественного, неведомого людям
замысла, который блистательно разыгрывает театральные представле
ния (правда, только в плане человеческой жизни, личной и обще-
ственной), не смея конкурировать с трагедией, поставленной на бес-
крайних просторах сценической площадки Вселенной космическим
демиургом? 1 2 * * * * * В
1 Характерному единству стихийности и разумности, проявившемуся в
римской классике у Вергилия, посвящена наша статья. См.: Takho-Gods А.
Valeur stylistique des themes chthoniens dans 1’Eneide de Virgile. — Vergili^u.
Recherches sur Virgile, publ. p. H. Bardon, R. Verdier. Leiden, 1971, p. 358—374.
2 Заметим, что античное представление о жизни как театральной игре далеко
не умерло вместе с античностью. В другом свете и на других основаниях м*1
находим его, например, у Шекспира (см.: Пинский Л. Е. Шекспир. М., 197L
с. 48—100), а также у других писателей (ср.: В u z a s L. Der Vergleich des Lebens
mit dem Theater in der deutschen Barockliteratur. Pecs, 1941; Gras si. E !-)3S
Drama als Sinnbild des menschlichen Existenz. — Paideuma, 5, 1950—1954. S. 1"
11). В России это представление выражено в «Послании к слугам» Фонвизина'
В словах Петрушки «весь свет» рисуется «ребятской игрушкой», а люди кахУ1*-’
движущимися «куклами». («Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут, // ДР.^
морщатся, грустят, тоскуют, плачут»).
ИОНИЙСКОЕ И АТТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ТЕРМИНА «ИСТОРИЯ»1 И РОДСТВЕННЫХ С НИМ
Термин и понятие. Так как предлагаемая работа занимается не
понятием истории в том виде, как оно существовало в древней Греции,
по именно только термином, обозначавшим там историческую на-
уку, то необходимо яснейшим образом представить себе отличие тер-
мина от понятия. Понятие того или иного предмета может быть
выражено и одним термином и многими терминами, когда каждый из
них соответствует той или иной стороне или оттенку понятия. Так,
для выражения понятия истории греки пользовались не только тер-
мином «история», но и такими терминами, как syggrammata «сочине-
ние», «произведение», hypomnema «записанное для памяти»,
hypomnemata «мемуары, летопись», pragmateia «труд», «сочинение»,
syntaxis «связь», «построение», anacrisis «изыскание», diegesis «изло-
жение», «рассказ» и др. Понятие и вообще может не выражаться
никаким термином. Так, многие философы и естествоиспытатели фак-
тически являлись диалектиками, но сами не употребляли термина
«диалектика»; однако мы считаем их произведения диалектическими,
потому что независимо от авторской терминологии мы сами теперь
устанавливаем у них наличие диалектического метода. Фукидид, на-
пример, тоже не употребляет термина «история», но на основании
изучения его труда мы теперь сами считаем этот труд историей, а
Фукидида — историком.
С другой стороны, термин, созданный для выражения какого-нибудь
предмета, часто соответствует не только одному этому предмету, но
может соответствовать и другим предметам, иной раз имеющим весьма
мало общего с первым предметом. Так, греческий термин «история»
'Это мы увидим ниже) относился в древней Греции не только к
историческим исследованиям, но и к мифам, к поэтическим сюжетам
В настоящей работе все греческие слова передаются в латинской транскрип-
Греческий термин «historia» передается русским словом «история» (в
*“®М‘псах). Соответственно все греческие слова, родственные этому, мы называем
исторической» терминологией.
444
А. А. Тахо-Годи
и вообще к самым разнообразным актам человеческого мышления и
познания. Термин «естественная история», которым Плиний Старшин
назвал свой знаменитый труд, имел хождение не только в древносш
но дожил и до настоящего времени. Однако ни к какой истории 011
не относился, а обозначает «природоведение» или «естествознание„
Поэтому термин «история» и понятие истории отнюдь не означали
одно и то же в древней Греции. Они лишь отчасти соприкасались ()
перекрещивались, а в других отношениях и вообще мало соответст-
вовали друг другу. Само собой ясно, что понятием истории или по-
нятиями, относящимися к истории, должны заниматься те, кто может
фактически разобраться в тех проблемах и методах, которые наличны
у древних историков. Для этого нужно быть самому историком Греции
или философом греческой истории и греческой культуры. Что же
касается термина «история», то его исследование должно производиться
не только самими историками, сколько филологами, которые и должны
установить разнообразное значение этого термина в древнегреческом
языке независимо от того, насколько эти значения соответствуют или
не соответствуют историческим методам и вообще древнегреческим
историческим исследованиям. Очевидно также и то, что окончательный
диапазон значения нашего термина может быть установлен только в
результате совместных усилий историков и филологов. И что касается
настоящего исследования, то оно имеет в виду рассмотреть именно
термин «история» и потому является филологическим, т. е. пока еще
не окончательным.
Предыдущие исследования. Изучаемая здесь нами терминология
уже не раз подвергалась исследованию, как историческому, так и
филологическому, и многое в этой области уже достаточно выяснено
и сформулировано.
Прежде всего нужно считать окончательно выясненной лингвисти-
ческую сторону термина «история». Этимология этого слова уже давно
установлена и не может подвергаться никакому сомнению. Приведены
в ясность соответствующие материалы из целого ряда древнегреческих
писателей. Из области поэзии часто приводятся материалы (немного-
численные) из Гомера и Гесиода, а также из драматургов, у которых
эта терминология встречается довольно часто. Из прозаиков обследо-
ваны историки (Геродот и Фукидид), философы (досократики, Платон,
Аристотель) и ораторы (Эсхил и Демосфен). Правда, текстов с данной
терминологией у прозаиков чрезвычайно мало. Не раз пробовали
делать кое-какие заключения также и по существу предмета, сопо-
ставляя термин «история» с фактически наличными у греческих пи-
сателей историческими проблемами и методами их разрешения. Тем
не менее изучаемая нами терминология до настоящего времени далеко
еще не нашла для себя полного исследования и все еще нуждается в
новых научных изысканиях.
Ионическое и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним 445
___-—
Прежде всего, еще далеко не у всех греческих писателей эта
терминология приведена в полную ясность. Философские тексты с
исторической» терминологией обычно приводятся не все и не систе-
матически. Можно сказать, что более или менее детальному изучению
подвергся только классический период греческой литературы. Да и
период классики, по крайней мере в одном существенном пункте, не
представлен с надлежащей ясностью. Именно не существует сводки
текстов так называемых логографов. А тем не менее у них — свое
собственное понимание термина «история», которое хотя и попадается
в различных других контекстах, но представлено более ярко. Что же
касается эллинизма, то он почти целиком отсутствует в тех исследо-
ваниях, которые посвящены термину «история». Нет сводок даже по
таким крупнейшим писателям, как Полибий, Диодор Сицилийский,
Плутарх или Лукиан. В очень туманном виде до сих пор находятся
материалы из Дионисия Галикарнасского, Страбона, Диона Кассия и
других более мелких историков, у которых может и не быть больших
материалов на нашу тему, но у которых они могут и быть. Точно
сказать об этом может только исчерпывающее филологическое иссле-
дование, которое в настоящее время целиком отсутствует. Во всяком
случае, та генеалогическая литература у эллинистических историков,
которая является прямым продолжением деятельности логографов,
тоже пользуется своим оригинальным пониманием термина «история»,
которое еще никто не сформулировал отчетливо.
Однако если не приведены в известность материалы из всех гре-
ческих писателей, то тем более не установлена история развития
нашей терминологии. В этой области не существует такого исследо-
вания, охватившего бы все то тысячелетие, в течение которого раз-
вивалась древнегреческая литература. И до создания такого исследо-
вания невозможно сказать, была ли здесь какая-нибудь существенная
эволюция или ее не было. Исследование Б. Снелля,1 например, ка-
сается только классических текстов и ничего не дает нам для элли-
низма. Исследование Ф. Муллера,2 наоборот, касается также и неко-
торых эллинистических текстов. Но текстов этих у Ф. Муллера очень
“ало, и об истории развития нашей терминологии мы и у данного
ачора не получаем ясной картины. Третий исследователь нашей тер-
минологии К. Койк 3 охватывает весьма значительные периоды раз-
вития изучаемой нами терминологии, обследуя не только римские
материалы, но и материалы, далеко выходящие за пределы античного
мира. Однако греческим материалам этот исследователь посвящает
р, Snell В. Die Ausdrucke fur den Begriff des Wissens in der vorplatonischen
“•“Sophie. Berlin, 1924.
з Muller F. De historiae vocabulo atque notione. «Mnemosyne», 1926. Bd. 54.
Ajuji Keuck K. Historia Geschichte des Wortes und seiner Bedeutungen in der
UKe und in den romanischen Sprachen. Emsdetten, 1934.
446
А А Тахо-Годи
всего только неполные три страницы, что уже само по себе не позво ,
этому автору дать более или менее подробное исследование предке, ,
Итак, эволюция древнегреческого термина «история», можно t,,
зать, не только не исследована в научной литературе, но, собсп,, „
говоря, и вопроса о ней даже еще не ставилось.
Наконец, совершенно недостаточно обстоит дело и с оценкой <
мантической специфики термина «история». Б Снелль (Указ. ,
с. 70) делает весьма ответственные выводы об отсутствии подлинно,
чувства историзма у древних греков. И в некоторой мере это являсц
вполне справедливым. Но целиком последовать за Б. Снеллем
никак не можем, потому что приводимые им тексты относятся тол,.ч,
к кратковременному периоду классики, и длинный ряд последующи
столетий античного мира остается в данной работе без всякого ц<
следования и даже упоминания.1 Однако даже и классические теки,,,
нельзя считать вполне разъясненными в отношении их специфик,.
Как мы увидим ниже, из Платона, например, приводится текст, Aci
рактеризующий собой досократовское употребление термина «история.
Но те немногочисленные тексты из Платона, которые рисуют ото
шение самого Платона к этой терминологии, обычно не приводя к я >.
не разъясняются. Они как раз весьма характерны для определенной,
этапа функционирования наших терминов. Ничего специфически apt,
стотелевского не указывается и там, где приводятся тексты из Ари
стотеля. Но Аристотель, как мы увидим ниже, — тоже определенная
ступень понимания терминов, связанных со словом «история».
Таким образом, изучение современной научной литературы, oi
носящейся к нашей терминологии, безусловно требует ее дальнейшее
исследования, так как некоторые ее моменты не только остаются де
сих пор без исследования, но даже без приведения в известнойь
С этой точки зрения и этимология термина «история», как она ни
ясна сама по себе и как она ни общеизвестна, требует специальной,
анализа, который показал бы, в каком отношении к ней находятся
целые века фактического употребления данного термина и что ценной,
дает для этого его общепринятая этимология.
В данной небольшой работе мы сможем коснуться, конечно, то ,ьм
некоторых сторон филологического изучения термина «история», по
скольку окончательное исследование этого термина в настоящее врем1.
1 У. Виламовиц в своем решительном отрицании чувства истории у дреьаи'
рассуждает еще более категорически: «Греки не создали настоящей историч^кои
науки. Их мышление было направлено на то, чтобы из наблюдения по о ига
путем абстракции правила и приписывать им абсолютно обязательную ценвол ’
законов природы» (U. v. Wilamowit z - M 611 endorf f. Gnechische ljtcr.itur
S. 4). Б. Снелль присоединяет к этому еще и другое сочинение Виламовица -
Greek historical Writing (Oxford, 1908). Категорическое воззрение Виламовииз
правильное для одних случаев, требует существенных дополнений для других
Ионическое и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним 447
совершенно невозможно. При этом мы будем касаться существительных
bietoria. historema, histor, прилагательных historicos, глагола historeo
й наречия historicos.
Лингвистическая сторона. Этимология анализируемого слова ус-
тановлена давно и очень прочно. Еще Г. Курциус 1 производил это
слово от индоевропейского корня vid, значение которого выступает в
дзт. video и русск. видеть. Как видно из греческих слов oida «знаю»
дди eidenai «знать», образованных от того же корня, слова с этим
корнем обозначают не просто зрительное восприятие, но и познава-
тельные процессы, что нетрудно заметить также и в русск. ведать
лди нем. wissen, относящихся уже окончательно к сфере мышления.
Эту же самую этимологию анализируемого слова признают и все
главнейшие этимологические словари: A. Vanicek (1877), W. Prellwitz
(19052), Boisacq (1950'*), I. В. Hofmann (1950), H. Frisk (1960), ср.
латинский этимологический словарь A. Walde — J. В. Hofmann (19383).
Из новейших исследователей об этой этимологии пишут Э. Кречмер,2
Э. Френкель,3 Ф. Муллер (Указ, соч., с. 236), Б. Снелль (Указ, соч.,
с. 63, 69). Суффикс -tor указывает на действующего субъекта, являясь
вместе с суффиксами -ter и -tes показателем для nomina agentis.
Следовательно, термин указывает не просто на зрительное знание, но
на такое зрительное знание, которое активно действует, активно про-
являет себя, исследует, изображает, свидетельствует. Благодаря нали-
чию этого суффикса -tor получает свое объяснение и звук -s как
результат диссимиляции двух зубных согласных, а именно — вместо
hidt получилось hist. А так как в термине имеется еще и суффикс
-ia, то это указывает на результат действия или изображения, на ту
картину, которая возникла в результате зрительного восприятия, или,
может быть, на абстрактное понятие (там и здесь имеется в виду
цельность мыслительно-чувственного опыта). Spiritus asper в начале
слова объясняют по-разному. Но та дигамма (F), которая мыслится
в данном корне, в общегреческом языке очень легко могла переходить
и в spiritus asper и в spiritus lenis и совсем уничтожаться. Для этого
требовалось самое незначительное изменение первоначальной артику-
ляции (ср. hesperos с лат. vesper, Hestia с лат. Vesta и др.). Слова
historia, как и historeo, histor, являются ионийскими и, возможно, не
содержат spiritus asper. В аттическом диалекте они уже определенно
“«лучили spiritus asper и в таком виде закрепились в дальнейшей
истории греческого языка.
8 j^Gurtius G. Grundziige der griechischen Etymologic. Leipzig, 1873. Bd. 4,
rj . Kretschmer E. Beitrage zur Wortgeographie der altgnechischen Dialekte.
G1otta, 1929, S. 93.
(-h и?raukel F. Geschichte der griechischen Nomina agentis auf -ter, -tor, -tes
'• »d-1. Strassburg, 1910, S. 218.
448
А. А. Тахо-Годи
ИОНИЙСКАЯ СТУПЕНЬ
Вступительное замечание. Первый период употребления изучае-
мых нами терминов отличается наглядным, интуитивным характером
в котором преобладают непосредственно опытные, а иной раз даже
просто зрительные элементы, хотя черты активно мыслительного зре-
ния, выпытывания и узнавания здесь присутствуют. Вообще говоря
этот период можно было бы назвать ионийским, если не разделять
так резко ионийский и аттический периоды. То, что есть в одном к.5
этих периодов, имеется также и в другом, так что речь может идти
только о том или другом семантическом преобладании, но никак не
об изоляции или какой-нибудь исключительности.
Древний эпос. У Гомера (II. XVIII 501) третейский судья (istor)
разбирает тяжбу двух граждан из-за пени после убийства, а на со-
стязаниях в честь Патрокла (II. XXIII 486) Аякс и Идоменей хотят
выбрать третейским судьей (istor) в их споре Агамемнона. Геракл (Od.
XXI 26) является свидетелем или соучастником (epiistor) «многих
насилий». Музы (Hom. hymn. XXXII 2) трактуются как понимающие
или творческие деятели (histores) в пении. Ясно, что гомеровское
употребление изучаемого термина указывает на острую мыслительную
направленность зрительного восприятия, вследствие чего тот, кто ви-
дит, не просто видит, но еще и судит об увиденном и даже является
свидетелем или авторитетом в той области, которую он воспринимает
своим зрением. Это так и должно быть в связи с приведенной выше
этимологией обсуждаемых терминов.1
У Гесиода (Орр. 792) двадцатые числа рождают искусного мужа
(istora phota). Вакхилид (VIII 44) также понимает термин histores как
«искусные».
Классическая трагедия. У трагиков также преобладает донаучное
значение наших терминов. Historeo означает либо «спрашиваю», «до-
пытываюсь» (Aesch. Prom. 632, 963; Soph. Oed. Col. 36, Oed. R. 1165,
1144, El. 316, 1101, Tr. 382, 418; Eur. I. T. 94, 623, Andr. 1047, Ion.
387, 1547, Hel. 416, 1371), либо «ищу» (Eur. Or. 380, Tro. 261, Phoen.
621, Ion. 284), либо «рассказываю, как очевидец, об увиденном» (Soph.
Oed. R. 1150, 1156, Tr. 397, 404, 415; Eur. Heraclid. 666, Andr. 1124,
Ion. 513), либо «знаю» с подчеркнутым трагическим значением (Aesch.
F.nm 455, Pers. 454, Sept. 506; Soph. Oed. R. 1484, El. 850). И вообще
употребление этого глагола у трагиков можно определить только исходя
из той или другой трагической обстановки, когда все вопросы узнавания
и получение знания связаны с большим напряжением жизненного
1 Некоторые интересные лингвистические соображения относительно гоме
ровского употребления слова istor можно найти у: Leumann М. Homensc
Worter. Basel, 1950, S. 277 u. ft.
Ионическое и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним 449
оЯыта и с интенсивной деятельностью человеческих восприятий, осо-
бенно зрительных. Таков, например, текст из Эсхила (Again. 876),
!де говорится о том, что Менелай «видит (historei) луч солнца», т. е.
является живым. В другом месте (Cho. 678) Орест увидел дорогу, по
которой ему нужно идти в Аргос. Легко заметить, что употребление
термина histor или historeo у трагиков более интенсивное и более
напряженное, чем в эпосе.1 Б. Снелль (Указ, соч., с. 62) совершенно
правильно проводит различие между histoseo и обыкновенным erotao,
потому что последнее обозначает только простое спрашивание, в то
время как первое указывает на спрашивание или осведомление на
основании того, что другой человек сам видел или испытывал.
Однако уже в Ионии коренится более позднее и более научное (в
античном смысле слова) значение изучаемых терминов.
Философия. Если брать философов, то уже Фалес (Theophr. ft.
40 Wimmer) первый создал для эллинов «исследования природы» (ten
peri physeos historian). Совершенно напрасно Дильс не помещает этого
текста в своем собрании фрагментов досократиков. Гераклит (В 35
Маков.) тоже учит, что «очень много должны знать (historas) мужи-
философы». Очевидно, значение термина здесь по преимуществу на-
турфилософское, хотя, конечно, и не исключающее чисто жизненного
значения. Когда тот же философ критикует Пифагора и других за
многознание, он (В 129) говорит, что Пифагор упражнялся или много
занимался в области historia. Еврипид (fr. 910) называет счастливым
того, кто овладел наукой исследования (historias mathesin). Наш термин
имеет здесь меньше всего значение «история», так как в дальнейшем
фрагмент именно противопоставляет изучение неба изучению людей
и их нравов. Следовательно, термин historia имеет здесь определенно
космологический смысл. Это видно также из сопоставления указанных
двух областей знания у Анаксагора (А 30), влияние которого на
Еврипида уже давно установлено.2 Яснее всего космологический смысл
термина historia выражен у Платона (Phaed. 96 А Карп.), где мы
читаем о древних философах: «Я удивительно как жаден был до той
мудрости, которую называют историей природы: мне представлялось
делом блистательным знать причину всякой вещи, отчего каждая
Рождается, отчего погибает и отчего существует». Гиппократ в трактате
*0 древней медицине» (20) тоже понимает под «историей» «знание
того, что такое человек, по какой причине он появляется и прочее в
Эти термины у трагиков исследовал W. Aly в своей работе «De Aeschyli copia
*wboimn capita selecta» (Berlin, 1906). Эти материалы изучал также Б. Снелль
'указ. соч., с. 62, прим. 1). Но ни тот, ни другой исследователь не учитывают
СемД£)тической остроты терминов, связанных с трагической ситуацией.
> . N estl е W. Untersuchungen liber den philosophischen Quellen des Euripides.
^Pzig, 1902, S. 576 u. ff.
22 3aK 3903
450
А А Тахо-Годи
точном виде»? Вероятно, космологическое значение имел термин «ис-
тория», входивший в название трактатов Акусилая и Демокрита?
Изучаемые нами термины относились не только к космологии, но
судя по Аристотелю, также и к биологии (ср. его трактат «История
животных»).
Ранние историки. Что же касается «истории» в современном смысле
то едва ли можно сомневаться в том, что уже у Гекатея Милетского
здесь фигурировал термин «История» (ср. Diod. I 46, 8 о его «Египетских
историях»). Филолога может смутить, что термин «история» стоит iVT
во множественном числе, откуда можно сделать вывод, что под исто-
риями понимаются здесь какие-нибудь рассказы, легенды, новеллы, а
не специально исторические исследования. По этому поводу, однако,
необходимо заметить, что писавший на три века позже Полибий тоже
весьма свободно употребляет этот термин во множественном числе
как раз относительно исторических событий (например, I 4, 6; III 31,
11; VIII 4, 2); термин «история» в единственном числе, как показывает
сочинение Элиана (II в. н. э.) «Пестрая история», относился не только
к истории в узком смысле слова.
Вообще говоря, нельзя сомневаться в том, что термин «история»
именно в историческом смысле выступает и у логографов и у Геродота.
Уже беглый просмотр материалов, относящихся к логографам и
собранных в издании исторических фрагментов у Ф. Якоби, обнару-
живает, что термин «история» и связанные с ним однокоренные тер-
мины употребляются и в мифологическом, космологическом, и в гео-
графическом, и в общеисторическом смысле.
Суда (I А1, 4—10, Jacob?) прямо считает Гекатея Милетского
вместе с Акусилаем, Ферекидом, Геллаником первыми историками.
По Страбону (там же, I, 13), Гекатей тоже «составил историю» (ср.
3, 12). О термине «история» в отношении того, что писали логографы,
упоминают весьма многие тексты, как, например, 4, 29; 6, 1. Деметрий
(8, 3) тоже говорит об «истории» Гекатея, хотя тут же упоминает и
о том, что тот «повествует в мифах»; говорится, далее, о его «историях»
(8, 13.19.25). В своей «истории» Гекатей касался как мифологии (на-
пример, 10, 30; 15, 23), так и географии (3, 12; 12, 1; 26, 19; 30,
10; 39, 31; 43, 19).
Акусилай Аргосский, по Суде (47, 17), — тоже «историк» и писал
о «генеалогиях» (имеются в виду полумифические, полуисторичсские
генеалогии тогдашних известнейших родов, ср. 56, 20); а по Климент}
1 Другие тексты из гиппократовского сборника приводит Б. Снелль (У к. со4
61, прим. 7).
7 У Акусилая (1 А 49, 9 Jacob?) говорится о какой-то «первой истории», и
которой приводится «мифологическое» суждение об Ахелое как о «старейшей*
реке. Что же касается Демокрита (А 33), то у него имеется сочинение по
названием «Об истории», содержание которого, собственно говоря, неизвестно.
Ионическое и аттическое понимание термина «история» и родственных i ним 451
Александрийскому <.48, 5), он — историограф, но, судя по приведен-
\LMV выше тексту, его история рассматривала также и мифологические
темы. Когда говорили о Хаосе как о первопринципе и о происхождении
него прочих потенции, то «истории» Акусилая рассматривались в
контексте Гесиода (50, 18—24; ср. 53, 6; 54, 6). Акусилаи рассказывал
«историю» первых людей и парей, Форонея и Инаха (54, 7), писал
0 троянских мифах (57, 7), о Неоптолеме (57, 15), Итаке (57, 32).
ферекид Сирский— тоже «историк» (58, 24), или «составитель
историй» (59, 2), писал о теокрасии (смешении богов) и теогонии
(происхождении богов, 58, 18), об Ифигении, о праздниках Диониса
(58, 25), об аттических генеалогиях (58, 29; 59, 4). Следовательно,
уже самые общие сведения о Ферекиде гласят, что под «историей» он
понимал и мифологию и генеалогические разыскания, т. е. настоящим
образом вовсе не различал мифологических сказаний и исторических
преданий. Это видно из следующего.
ферекид писал (59, 23) в своих «Историях» о Пелее и Фетиде, о
(59, 29) происхождении Аякса, сына Оилея, о <60, 9) Корониде, об
(61, 7) Акрисии и Данае, о (63, 16, 29; 64, 8) браке Зевса и Алемены,
о (64, 13) детях Геракла от Мегары, о (64, 22) безумии Геракла и
его очищении, о (66, 14) Геракле и яблоках Гесперид, о (66, 18)
встрече Геракла и Гелиоса, о (67, 16) Кадме и посеве зубов дракона.
Мы не будем приводить здесь всей генеалогической тематики, которой
занимался Ферекид, а укажем только страницы и строки по изданию
Ф. Якоби, относящиеся к этому логографу: 70, 38; 71, 15.22; 72, 2;
73, 20.25.28 ; 74, 6.19.34; 75, 20; 76, 28; 77, 8.15; 78, 7.30; 79, 4; 80,
10.29; 81, 13.25; 83, 5.24; 84, 21; 86, 15.31; 87, 4; 88, 15; 89, 8; 90,
18; 91, 4.22.30.36; 92, 12.21.34; 93, 3; 94, 4.14; 95, 6.31; 98, 20.34;
101, 7.25; 102, 2. 26; 103, 33.
Просмотр всех этих текстов Ферекида с терминами «история»,
historeo с полной очевидностью убеждает нас, что термин «история»
очень долго и очень упорно употреблялся в значении мифологически-
генеалогическом с полным отождествлением мифологического сказания
и чисто исторического предания.
Гелланик Лесбосский, по Суде (104, 7—14),—тоже «историк»,
выступавший наравне с Гекатеем и Геродотом. У Евсевия (104, 22)
он «историограф». Что предметом его занятий была «история», гласят
многие источники: 104, 16; 104, 26; 105, 9.11—20.27.29, 106, 18
(здесь —прямо о смешении мифов с историей), 33 (а здесь прямо
отождествление с Гомером), 36. Тематика «истории» Гелланика мало
чем отличается от Ферекида. Тут тоже и старинные мифы, и генеалогии
«Вдающихся родов, и правления разных царей, и основание колонии,
все это дается в едином конкретном наивном и вполне наглядном
Так что мифология и история никак не различаются между
ко И’ Разве только преобладает систематизаторский и описательно-
ююкционерский интерес над старинной, стихийно возникавшей и
452
А. А. Тахо-Годи
хаотической мифологией: 107, 25; 113, 5; 114, 20; 115, 1.14; 12ц
17.18.21; 125, 4.12; 129, 24; 131, 25; 132, 30; 133, 4; 134, 17; 135’
18; 136, 1.13.18; 138, 33.37; 139, 17.22; 140, 19; 141, 30; 143, 10; 14d’
21.28.34; 146, 6.10; 149, 22; 150, 3.21.24; 152, 17.
Было еще много и других представителей древней генеалогии
относительно которых применялись наши «исторические» термин^
«Историками» считались Дамаст Сигейский (152, 23) и Анаксимандр
Милетский (159, 23.28; 161, 32). «Историю» писали Андрон Галикар-
насский (163, 13), Филистид Малосский со своим окружением (I65
23), Асклепиад Трагильский (169, 27; 171, 20.30; 173, 33; 174, 14.29.3j’
175, 26) и др. (168, 15). Написание «истории» трактовалось и в
глагольной форме — относительно Дамаста Сигейского (155, 12), Гип-
пия Элидского (158, 3), Андрона Галикарнасского (162, 10; 164, 33)
Асклепиада Трагильского (167, 8; 168, 23; 170, 33, а также у тех,
кто разрабатывал с ним одинаковые темы, — 170, 6). Андрон Гали-
карнасский разрабатывал исключительно мифологические сказания в
виде «истории». И при этом совершенно никого не смущало то обсто-
ятельство, что мифология и история объединялись здесь в одно целое,
ни самих этих древних генеалогов (поскольку они свои мифологические
генеалогии называли «историями»), ни последующих авторов, которые
на них ссылались или их упоминали.
Употребление термина у Геродота — тоже вполне ионийское, хотя
тут же заметны и ростки последующего понимания. Подавляющее
большинство текстов Геродота свидетельствует об этом термине как
о синониме расспрашивания, причем расспрашивания пытливого и
даже в серьезной обстановке. Говорится о расспросе (existoresantes),
греков относительно ксерксова войска (VII 195). Крез старался узнать
(ephrontidze historeon) могущественнейших из эллинов, и в поисках
он открыл (historeon heurisce) значение того или иного племени. Очень
много текстов у Геродота, в которых изучаемые нами термины вы-
ступают со значением всякого рода бытовых вопросов, расспросов и
узнаваний, когда быт выступает в каком-нибудь беспокойном и тре-
вожном виде. Родители расспрашивают Кира, как он спасся (1 122).
Несколько раз в этом смысле термин выступает в истории Периандра
(III 50.51). Тревожная обстановка мыслится также и в других текстах
(I 61, III 77). Далее, в своих исторических и географических рассуж-
дениях Геродот также употребляет термины historeo или «история»
(II 19.34.113.118.119; IV 192). Везде в этих текстах имеется в вид?
весьма пытливое и беспокойное разузнавание либо узнавание a-118
целей исторического повествования на основании увиденного кем-то.
Увиденное очевидцем несколько раз противопоставляется услышанно-
му из рассказов (II 29.99), хотя то и другое используется Геродотов
для исторического повествования.
К этому необходимо прибавить, что наивно-повествовательны11
стиль Геродота и примат фактически увиденного или услышанног0
Ионическое и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним 453
критикой и научным исследованием у Геродота уже давно уста-
новлен.1
Однако в двух местах у Геродота содержатся намеки уже на
ручную историю, основанную на методическом исследовании причин
событий. У Геродота это выражение пока слабое; но, несомненно, это
узке намек на будущее значение термина. В предисловии к своему
произведению Геродот определяет его как histories apodexis. Под этим
apodexis, конечно, нельзя понимать аристотелевский apodexis («дока-
зательство»). Однако все-таки этот термин, звучащий по-ионийски
как apodexis, уже нужно понимать примерно как «обоснованное из-
ложение, фактически и логически оправданное повествование», а мо-
хет быть, и просто изложение результатов исследования. Это видно
g3 того, что тут же он говорит о необходимости исследования причины
(aitie) греко-персидской войны. Другой важный в этом отношении
текст (VII 96) гласит о histories logos. Контекст данного места совер-
шенно ясно раскрывает значение этого logos. Геродот хочет сказать,
что для целей его изложения вовсе не обязательно перечислять имена
финикийских вождей. Видимо, logos здесь есть «план», «ход», «цель»
или назначение его исследования. Поэтому, несмотря на разбросанный
и часто случайный характер изложения, Геродоту в известной мере
представлялось необходимым соблюдать в своем повестовании опре-
деленного рода метод. Что это за метод и что это за цель, он еще
сам хорошо не знает. Но фактически о методике повествования он
уже догадывается. Наконец, и самый термин historic в обоих приве-
денных текстах относится уже не к каким-нибудь обывательским или
бытовым явлениям, но указывает на жизнь народов и племен, на их
мир и согласие, на их войны.
Общий характер ионийской ступени. Если подвести итог ионий-
скому пониманию изучаемых терминов, то в них, несомненно, пре-
обладает семантика либо зрительного, либо общежизненного опыта, в
котором большую роль играет испытующая мыслительная деятельность
человеческого сознания, когда зрение и мышление объединяются в
Одно нераздельное целое. При этом результатом такой мыслительно-
зрительной деятельности отнюдь не всегда является какое-нибудь на-
учное построение. Можно даже сказать, что последнее попадается
здесь довольно редко. Это всего лишь несколько текстов из пифаго-
РСйцев, Гераклита, Геродота и Еврипида. Все остальные тексты от-
носятся к общежизненной сфере. Термину «история», вообще говоря,
лаже не очень везло. Его не употребляют для названия своих исто-
рических трудов такие писатели, как Фукидид и Ксенофонт. Нужно
О наивном и некритическом подходе Геродота к своим задачам как
ц?°Рика убедительно рассуждает С. Я. Лурье (см. Лурье С. Я. Геродот. М„
АН СССР, 1947, с. 142—161, ср. ДоватурА. Повествовательный и
кучный стиль Геродота. Изд-во ЛГУ, 1957).
454
A. A. Тахо-Годи
считать прямо замечательным фактом то обстоятельство, что ни у
Фукидида, ни у Ксенофонта наши термины не встречаются ни одного
раза. Это, несомненно, указывает на строгое отношение этих историк.о{!
к своей работе, которую они не хотели снижать употреблением тахощ
ненаучного, с их точки зрения, термина, как «история». Удивительна
также отсутствие этого термина у Аристофана.
По-видимому, этот термин очень рано стал обозначать вообще
всякого рода произвольные вымыслы, рассказы или новеллы, все пре-
тендующие на соответствие какой-нибудь реальности или историческим
фактам. Демокритовсц Навсифан (В 2), желая определить силу убеж-
дения, говорил, что он зависит не от «истории», но от знания (eidcsis)
фактов (pragmata). В данном тексте Навсифана «история» означает
не что иное, как «вымысел», «фантазия», «сказка», далекая от фактов,
«некритическое рассуждение», может быть даже просто «миф».
В этих итогах ионийской ступени изучаемой нами терминологии
особое место занимают логографы, или представители прозаической
литературы древней генеалогии. Может быть, это наиболее характерная
для ионийской ступени семантика наших терминов. Как сказано выше,
наиболее характерной чертой этих генеалогий является полное нераз-
личение мифологического повествования и исторического исследова-
ния. Конечно, древняя мифология тоже не признавала никакой не-
мифологической истории, поскольку все историческое трактовалось в
ней тоже при помощи мифов. Однако VI—IV вв. до н. э. ознамено-
вались совершенно новой трактовкой мифологии, когда она либо совсем
переставала быть наивной верой и превращалась в художественную
форму и в аллегорию, либо ее историчность понималась гораздо ближе
к тогдашней жизни, к повествованиям об основании колонии и о
происхождении правящей верхушки общества, да и не только правя-
щей. Если ионийская ступень в нашей терминологии характеризуется
как неразрывная связь мышления и чувственных ощущений или мыш-
ления и непосредственного опыта человеческой жизни, то генеалоги-
ческая литература этого периода как раз и пыталась исходить из этой
природной и вполне естественной связи, даже неразличимости, двух
областей, а именно той мифологии, которая теперь все больше и
больше становилась предметом отвлеченной мысли, и той конкретной
жизненной среды, которая развивалась в условиях восходящего рабо-
владельческого общества. Это понимание термина «история» стало как
бы оправданием общегреческого понимания термина с использованием
как всех интуитивных, так и всех рациональных способностей чело-
века, но с преобладанием интуиции и с постоянной опорой на непо-
средственное восприятие. В этом смысле уже космология и биология,
т. е. вся философия, обозначалась в те времена при помощи термина
«история». Но если иметь в виду обилие текстов, то из приведенных
выше материалов явствует, что этот термин особенно часто употреб-
лялся в отношении исторических исследований в узком смысле слова
Ионическое и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним 455
реродот тоже едва ли ушел от этого слишком далеко. Назвать эту
^леалогическую литературу в узком смысле слова, т. е. социально-
политической историей, никак нельзя, поскольку вся она состоит из
мифологических сказаний и легенд. Однако видеть в ней только одну
мифологию тоже невозможно, поскольку здесь не может быть и речи
о какой-нибудь стихийно возникающей мифологии или о безотчетной
вере в нее. Здесь перед нами систематическое коллекционирование
лифов, попытки объединять их в единое целое и устранять стихийно
возникавшие в старину противоречия, а также тот новый метод мыш-
ления, который уже не просто фиксировал мифологию в ее непосред-
ственном виде, но пытался применить ее к реальной истории племен,
народов, государств, реально происходившей тогда колонизации со
всеми теми изменениями в общенародной греческой жизни, которые
происходили в связи с этой колонизацией. Рационально интуитивное
понимание «истории» здесь налицо, как налицо и резкое преобладание
в ней интуиции.
АТТИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ
На аттической почве, как указано выше, наши термины довольно
часто представлены у драматургов. Но аттическое понимание изуча-
емых терминов здесь все же иное. Тут имеется в виду скорее точный
результат и обобщенная картина, возникающие вследствие мыслитель-
но-зрительной деятельности человека.
Платон. У Платона (Crat. 406 b) Артемида трактуется как «све-
дущая (histor) в добродетели», а Гефест (407 с) как «знаток света».
Слово «история» (437 Ь) означает то, что «удерживает течение» (histesi
ton rhoyn), т. е. ту новую форму, которую приобретает беспорядочная
текучесть, становясь упорядоченным целым. В связи с этим такое
«мнение» (а мнение, по Платону, связано с беспорядочной чувственной
текучестью), которое соединяется с наукой, делает подражание «ис-
торическим» (historicen, Soph. 267 е). Гадание по полету птиц, согласно
мнимой этимологии Платона, возникло как результат присоединения
к мнению того, что он называет «умом и историей» (Phaedr. 244 с).
Из всех этих текстов с полной ясностью вытекает мыслительно орга-
низующее значение той деятельности человека, которую Платон обо-
значает нашими терминами. Это — то, что делает окружающие нас
предметы добродетелью, светом, умом или тем, что превращает бес-
порядочную текучесть в организованную и структурно-ясную целост-
ность.
Аристотель. В этом же направлении движется и Аристотель. Прав-
в «Поэтике» он все еще стоит как будто бы на старой ионийской
_ Чке зрения, когда противопоставляет историю и поэзию как изо-
Ражение единичного и изображение общего. Поэтому здесь и по-
456
А. А. Тахо-Годи
лучается, что поэзия «серьезнее и философичнее истории» (Arist. Poet
IX). В главе XXIII того же трактата Аристотель снова противопостав-
ляет историю поэзии, считая, что первая занимается тем или другим
отдельным моментом времени и изображает случайное объединен^
разных обстоятельств в этом моменте, поэзия же относится к единств,
действия, в котором объединяется несколько моментов и в котором
мы имеем дело с целым, т. е. с началом, серединой и концом действие
Этим, однако, едва ли исчерпывается, по Аристотелю, познание еди
ничного и, следовательно, термин «история».1
Прежде всего, намечая план своей натурфилософии, Аристою и
(De coelo III, № 1, 298b 2) считает, что «история», относящаяся t
природе, большей частью касается изучения физических тел. Следо-
вательно, «история» не только не содержит в себе ничего одиозного,
но входит как главная часть в натурфилософию. В области биологии
Аристотель (Hist. anim. I 6, 491а 12) также считает необходимым
создать некий единый метод (methodos) для изучения существа. Кри-
тикуя тех, кто всех рыб считает самками, Аристотель (De gen. anirn.
Ill 8, 757b 35) говорит, что они рассуждают «неисторично» (historicos).
Под «историей» здесь, очевидно, понимается точное и соответствующее
сущности предмета его описание. Еще больше придает значения тер-
мину «история» Аристотель, когда рассуждает о душе. Он пишет (Г5е
an. I 1, 402а 1 Поп.): «Признавая знание хорошим и почтенным
[делом], [можно ставить] одну [отрасль знания] выше других либо
по [степени ] отчетливости [знания), либо потому, что [предмет данной
науки] более ценен и возбуждает большее восхищение, — по обеим
этим причинам было бы правильно исследованию о душе отвести одно
из первых [мест]». Таким образом, исследование [historia] души при-
водит нас к знанию и более отчетливому и более ценному. Здесь не
место говорить о том, что такое душа по Аристотелю. Учение о ней
необходимо для натурфилософии и для познания живых существ; она
и «начало движения» и причина всякого органического и живого тела;
и т. д. и т. п. Следовательно, здесь везде на первом месте знание,
которое Аристотель именует «историей». Наконец, «историей» поль-
зуется и всякий, кто хотел бы установить признаки или свойства
явлений (Anal. pr. I 30, 46а 24).
1 Противопоставление поэзии и истории у Аристотеля является сложным и
трудным для разрешения вопросом. На эту тему были высказаны еще в 40-х годах
прошлого века весьма проблематичные взгляды Фаленом (Vahlen
Hermeneutische Bemerkungen zu Aristotelis Poetik. Berlin, 1898), Пиппиди
(Pip pi di D. Melanges Marouzeau. Paris, 1948) и совсем недавно Вейлем
(Weil R. Aristote et 1’histoire. Essai sur la «Politique*. Pans, 1960, p. 163—178>-
Вопрос этот пока не может быть решен окончательно. Интересные соображения
из этой области можно найти в рецензии А. И. Доватура на книгу Вейля (Вестник
древней истории, 1965, № 1, с. 183).
Ионическое и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним 457
В итоге необходимо сказать, что если ионийское понимание «ис-
тории» относится по преимуществу к внешне интуитивным и эмпи-
оцчески-жизненным сторонам действительности, то аттическое пони-
мание этого термина, кульминирующее у Платона и Аристотеля,
относится также и к внутренней стороне предметов, к их сущности.
Это есть мыслительно-зрительное описание того, что проявило свою
сущность вовне и, таким образом, является одновременно и внутренней
и внешней стороной предметов. Описание это и у Аристотеля продол-
жает быть статичным, пластическим и лишенным отчетливых элемен-
тов становления, изменения или развития. Кроме того, будучи эмпи-
рическим описанием внутренне-внешних сторон предмета, «история»,
по Аристотелю, еще не есть наука в подлинном и высшем значении
этого слова, поскольку такая наука (episteme) всегда имеет дело не
с единичным, но с общим. И все же, как видим, в трактовке Аристотеля
«история» занимает твердое и определенное место, и этому термину
соответствует своя собственная, тоже вполне определенная область
знания. Этому термину соответствует у Аристотеля также и область
того, что мы теперь называем историческим исследованием. Но спе-
циально этих исторических вопросов Аристотель не ставит, и термин
«история» в смысле исторического исследования попадается у него
бегло и без всяких разъяснений (например, Rhet. I 4, 1359b 22; 1360а;
III 9, 1409а 28). Очевидно, и в области исторических исследований и
в узком смысле слова его термин «история» продолжает иметь все то
же внутренне-внешнее, но вместе с тем и статически-описательное
значение.1
Ораторы. Наконец, аттическая проза содержит еще один момент
понимания истории, который хотя и не переходит в область истори-
ческой науки в нашем смысле слова, но все же является более жиз-
ненным и более практическим, чем рассмотренное у нас выше чисто
теоретическое понимание термина у Платона и Аристотеля. Дело в
том, что термин этот, правда, весьма редко попадается у ораторов,
где его никак нельзя свести только к теоретическому выявлению
внутреннего во внешнем. Когда Демосфен (De согоп. 144) хочет сделать
некоторое сообщение своим слушателям, чтобы они лучше разобрались
в деле, он говорит: «Знать вам это будет полезно для понимания (pros
historian) общего положения». Ясно, что «история» не имеет здесь
теоретического смысла, но соответствует некоторого рода сложной
*изненной ситуации. Эсхин (С. Tim. 141) тоже говорит: «Вы прики-
дываетесь людьми благовоспитанными и превосходящими своею осве-
домленностью (historiai) простой народ». Здесь также не имеется в
О термине «история» у Аристотеля пишет Р. Louis в статье «Le mot historia
/Jez Anstote» (Revue de Philologie, 1955, t. XXIX, I, p. 39—44). Статья эта, однако,
дает тексты в разбросанном виде и лишена проблемности, специфичной для
Аристотеля.
458
А. А. Тахо-Годи
виду теоретическое значение литературы, о которой шла речь в пре
дыдущем изложении, но — известные приемы людей, желающих пре-
взойти других какими-нибудь своими знаниями в сложной жиз-
ненной ситуации. Исократ (Panath. 246) также говорит об истории ц
контексте рассуждения о философии и воспитании? Подобного роДс
тексты свидетельствуют о завершительном развитии аттического по-
нимания термина «история». А именно «история» понимается здесь
как практически-жизненное поведение или даже как воспитание, ко-
нечно, основанное на осуществлении внутреннего во внешнем, но на
осуществлении уже не теоретическом, а практически-жизненном. Мы
полагаем, что это нужно считать завершительным моментом аттиче-
ского понимания истории.
1 Бр. Снелль (Указ, соч., с. 69, прим. 4) указывает еще два текста такого
характера, хотя у него и нет аттической концепции истории и тем более нет
понимания истории у ораторов как завершительного момента развития этого
термина в Аттике.
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА
«ИСТОРИЯ» И РОДСТВЕННЫХ С НИМ
РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ
(III—I вв. до н. э.)
В связи с небывалым расширением географических горизонтов, в
связи с развитием больших военно-монархических организаций и с
ростом крупного рабовладения и землевладения создается почва и для
нового понимания и нового употребления термина «история» и род-
ственных с ним. Остановимся прежде всего на Полибии.
Полибий. Прежде всего, Полибий чрезвычайно чувствителен к
проблеме целого и части, где он остается вполне в русле классического
мышления, т. е. в русле философии Платона и Аристотеля. Однако
эта проблема целого и части получает у него новое разрешение, так
как она переносится теперь в область исторического процесса, в область
того, что было чуждо классике и в общем было чуждо также и Платону
с Аристотелем. Это было той новостью, которой стала отличаться наша
терминология именно в эпоху эллинизма. А если прибавить к этому,
что историзм понимался здесь военно-политически и содержал в себе
свою собственную, вполне имманентную причинность, то отличие
эллинизма от классики в понимании нашей терминологии становится
особенно ярким и выразительным.
О том, что история не занимается единичными факторами или
занимается ими в качестве предварительных материалов, вполне от-
четливо говорит сам Полибий (III 1, 3—5 Мищ.): «Совокупность всего,
0 чем мы вознамерились писать, составляет единый предмет и единое
зрелище, именно, каким образом, когда и почему все известные части
земли подпали под власть римлян. Так как это событие имеет известное
начало, приурочено к определенному времени и завершение его при-
знано всеми, то мы находим полезным поименовать вкратце и пред-
варительно отметить важнейшие части этого события, лежащие между
началом его и окончанием». И далее (III 1,7): «Ибо предварительное
ознакомление с целым много помогает уразумению частей, с другой
стороны, знакомство с частностями много содействует пониманию
460
А. А. Тахо-Годи
целого». «Нельзя обнять или постигнуть духовным взором (synt-
heasasthai tei psychei) великолепнейшее зрелище (theama) прошлого
т. е. устроение целого мира, из сочинений историков отдельных со-
бытий» (IX 21, 14).
В дальнейшем Полибий точно рисует план своего исследования
начиная с первого его момента, переходя через его кульминацию й
кончая его завершением, точно так, как Аристотель говорит о начале
середине и конце всякого поэтического произведения (Arist. Poet. Vli
XXIII): «Вообще люди, надеющиеся приобрести из отдельных историй
понятие о целом, похожи, по моему мнению, на тех, которые при
виде разрозненных членов живого некогда и прекрасного тела вооб-
разили бы себе, что созерцают с надлежащею ясностью жизненную
силу и красоту живого существа. Если бы вдруг сложить эти члены
воедино и, восстановивши целое существо с присущею ему при жизни
формою и прелестью, показать снова тем же самым людям, то, я
думаю, все они скоро убедились бы, что раньше были слишком далеки
от истины и находились как бы во власти сновидения. Правда, по
какой-нибудь части можно получить представление о целом, но не-
возможно точно познать целое и постигнуть его. Отсюда необходимо
заключить, что история по частям дает лишь очень мало для точного
уразумения целого, достигнуть этого можно не иначе, как посредством
сцепления и сопоставления всех частей, то сходных между собой, то
различных, только тогда и возможно узреть целое, а вместе с тем
воспользоваться уроками истории и насладиться ею» (I 4, 7—11).
И вообще Полибий находит возможным понимать отдельные события
и периоды истории только в свете всеобщей истории или, по крайней
мере, в свете более или менее обширных ее областей (IV 28, 4; VIII
4, 11; ср. I 4, 2; V 33, 1), сравнивая излагаемые им события с
аналогичными, но совершенно другими фактами прошлой истории (1,
2, 1—7.
Это заставляет его строить свою историю, как он сам говорит,
«методически» (methodicos), т. е. при помощи установления опреде-
ленных правил или принципов построения того целого, чем является
для него история (IX 2, 5): «...благодаря достигнутым в наше время
успехам в точных знаниях и искусствах, человек любознательный
имеет возможность как бы подчинять все, что от времени до времени
случается, определенным правилам». Здесь же говорится у Полибия
и о всеобщем и постоянном изменении государственных 4хэрм и со-
бытий, которое легко может привести историка к составлению забавных
рассказов, но которое приводит его, Полибия, к методическому уста-
новлению принципов исторического процесса (ср. об исторической
изменчивости также IX 23—26; XVI 28, 5—6). Полибий прямо говорит
о связи «всеобщих событий» (I 4, 2 tei ton catholoy pragmaton), а все
свои 40 книг считает как бы сотканными на одной основе (cata miton>
т. е. имеется в виду тканье; III 32, 2).
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним
461
О всеобщем характере истории Полибий говорит во многих местах
фоего сочинения, которые мы приводить здесь не будем. Мелкие
додробности его не интересуют (I 57, 3).
Далее Полибий подчеркивает специально государственный характер
своего изложения и резко отличает его от всех других способов из-
ложения истории (XII 25е, I; 1 2, 8; XXXVII 9, 1). Слова pragmateia,
nragmaticos, если и можно иной раз понимать у него более широко
лак «опыт», «опытный», «знакомый с фактами», «фактический» (на-
пример, в XII 27, 10 Одиссей назван «прагматическим» мужем), то
разъяснение (IX 1, 4—2, 7) не оставляет никакого сомнения в пони-
мании Полибием «прагматической» истории именно как истории го-
сударственной и политической, хотя к историкам он (Полибий) при-
числяет писавших ранее о мифах, генеалогиях, основаниях колоний
и родстве племен, но историей он называет также и «повесть о судьбах
народов, городов и их правителей»; сам он занимается исключительно
«государственными событиями» или «судьбами государств». Впрочем,
нужно иметь в виду, что термин «прагматический», несомненно, ука-
зывает у Полибия также и на последовательность событий и на их
причинную связь.
Когда он делает отступление от основной линии своего историче-
ского повествования, он как бы извиняется и говорит, что отступил
именно от pragmatic? hypothesis, т. е. от последовательно и причинно
обусловленного повествования. Причиненное объяснение событий и
для Полибия является основным предметом истории. Если мы будем
излагать только отдельные -события вне их причинной последователь-
ности, не зная, что, почему и для чего происходит, то от истории
останется разве только одна забава, лишенная всякой пользы (III 31,
11—13; ср. III 7—8; XXII 8, 6). «По нашему мнению, необходимейшие
части истории те, в которых излагаются последствия событий, сопут-
ствующие им обстоятельства и особенно причины (aitias) их» (III
32, 6). Историку необходимо знать все, что предшествует данному
событию, и все, что следует за ним (III 31, 11; 32, 9). В этом смысле
Полибий называет историю «аподейктической», т. е. «доказательной»,
«Достоверной» или «логически необходимой» (II 37, 3; III 1, 3; IV
40, 1). Этот термин вполне аристотелевский, но по-аристотелевски
звучит также и общее заявление о научности его истории: «В наше
вРемя достигнуты такие успехи во всех знаниях (panta ta theoremata),
что большая часть знаний образует, так сказать, настоящие науки
<tas epistemas)» (X 47, 12). Примечателен в этом отношении также
и термин Полибия anacrisis «исследование», «изыскание», «критическое
®зложение», которым он характеризует отличие своей истории от
8екРитического и случайного описания фактов (XII 4с, 3). Такой
Критический анализ фактов Полибий называет «главнейшей»
"Wotaton) частью истории (XII 4с, 4); эту часть истории он называет
а*Же и «самой ценной» (megiston) (XII 27, 6).
462
А. А. Тахо-Годи
При этом является замечательным обстоятельством то, что Полиби i
предполагает только имманентную причинность событий. Излагаема,
им политическая история не определяется никакими факторами н.
снизу, ни сверху, а возникает только из рассмотрения самих ,<
событий всеобщей истории. Правда, Полибий говорит о необходимо, :
исследования географических условий для исторического процесса i [ i
36, 2; 57—59). Однако он очень недоволен теми историками, когорь
занимаются больше описаниями природы, чем государственными лид|
ми и правителями (X 21, 3; 26, 9). Точно так же о недопустимой,
для историка объяснения событий путем вмешательства богов ил;
какими-нибудь чудесами Полибий говорит не раз (XVI 12, 5 ц
XXXVII 4, 1). Правда, в этих же местах своего произведения он
допускает ссылки на чудеса и на божества в тех случаях, когди
что-нибудь остается неизвестным или неподдающимся для объяснения,
а также в тех случаях, когда представляется необходимым поддержав
в народе веру в божество (XVI 12, 9). Но, как он говорит, во в^..
этом нужно соблюдать меру, и историк не должен переходить з;<
пределы дозволенного (XVI 12, 10—И). Тем более для историка
недопустимы никакие личные симпатии или антипатии, хотя бы и
вызванные патриотическими причинами (1 14, 5—7; XII 11, 8; XV)
14, 6—10; 20, 2; 28, 5—7; XXXVIII 6, 5—9). Недопустимы также и
всякого рода риторические украшения, ведущие к тому или ином\
искажению исторических событий (VII 7, 1—6; X 27, 8; XII 25 h—25 1
XVI 17, 9—10; 20, 3—4; XXVI, 2; XXIX 12, 4—10; XXXVI I)
Военно-политическая история, этот главный предмет исследования j
Полибия, должна изображаться в ее чистейшем виде, решительно без
всяких примесей, откуда бы они не происходили. Только в этом смысле
история и может быть полезной и поучительной (II 35, 2—5; 56
10—12; 61; VII 12, 2; XI 8, 2; XII 25 f, 2; 25 g, 2—3).
К числу основных значений термина «история» у Полибия относится
также еще и следующее. Именно было бы недопустимой модерниза-
цией, если бы мы в этом изучении критических методов истории по
Полибию оставили без внимания тот интуитивный и даже зрительный
элемент, без которого совершенно немыслим древнегреческий термин
«история». Прежде всего, сравнивая зрение и слух, Полибий о мает
безусловное предпочтение именно первому, приводя знаменитые слова
Гераклита (В 101 а) о том, что «глаза — более точные свидетели, чем
уши» (XII 27, 2). Свои исторические изыскания Полибий называет
«зрелищем» (theama) истории» (III 1, 4; IX 21, 14). На этом основание
Полибий постоянно требует, чтобы историк по возможности сам ' ча
ствовал в изображаемых им событиях и чтобы пользовался рассказам”
других только в крайних случаях, так что даже будет лучше, если
история будет писаться самими государственными деятелями
25 h—25 i; 27, 7; 28, 3—5; 28 а, 4—10). Историк Тимей, с точки
зрения Полибия, плох именно потому, что изображал то, чего сам Н‘
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним
463
видел: «...он напоминает живописцев, пишущих свои картины с на-
битых чучел. И у них иной раз верно передаются внешние очертания,
go изображениям не достает жизненности, они не производят впечат-
ления действительных живых существ, что в живописи главное» (XII
25h, 2—3).
Вот почему Гомер представляется Полибию правдивым отобрази-
телем жизни (XXXIV 2, 1—3, 10), хотя Полибий прекрасно понимает
отличие правдоподобного вымысла от реальной истории (на примере
трагиков, преследующих цели вызывания ужаса, удивления и восхи-
щения в данный момент, II 56, 10—12).
Если мы теперь попробуем подвести итог всему огромному мате-
риалу из Полибия, относящемуся к термину «история», то мы должны
сказать следующее. История, по Полибию, есть критический, т. е.
причинно-объясняющий, и притом обязательно только имманентный,
анализ военно-политической жизни, когда она берется в ее постоянной
изменчивости и становлении, в ее последовательности и логической
необходимости и, наконец, в ее непосредственно-опытной и, лучше
всего, если в зрительной, картинной и жизненно-ощущаемой данности.
Такое употребление термина «история» у Полибия отличается всеми
достоинствами и недостатками древнегреческой зрительной философии.
Оно свидетельствует о жизненном восприятии истории, о восприятии
вполне пластическом и живописном. Но также и об отсутствии анализа
того, откуда происходит эта пластика; и оно лишено широких исто-
рических горизонтов. «Всеобщность» истории ограничена здесь собы-
тиями, непосредственно предшествующими возвышению Рима, и имеет
своей единственной целью объяснить военно-политическое происхож-
дение великодержавной Римской республики. Об этом много общеиз-
вестных текстов у Полибия, которые здесь не приводятся. Поэтому
история в представлении Полибия все-таки остается в основном чем-то
статуарным, внутренне малоподвижным и в идейном, духовном смысле
бесперспективным и непрогрессивным. Несомненный историзм, так
резко отличающий Полибия от классических методов мышления, все
же не разрушает основной античной интуиции, отождествляющей
Целое с частями, а части с целым, интуиции, которая в основе своей
пластична, статуарна и неподвижна и, совмещаясь у Полибия с ис-
торизмом, существенно ограничивает и лишает его возможности быть
НИ от чего не зависимым и совершенно свободным.
Других вопросов историографии Полибия мы здесь не касаемся,
поскольку они не входят в план настоящей работы.
История и мифология. Рассмотрение материалов Полибия по воп-
Рпсу об интересующей нас терминологии обнаруживает весьма глубо-
КУ10 и весьма интенсивную тенденцию эллинизма устанавливать им-
манентную причинность исторического процесса, минуя всякие мифо-
логические моменты или отстраняя их на задний план. Огромное
значение мифологии, однако, этим далеко не исчерпывалось и в течение
464
А А Тахо-Годи
всей античности. Если мы будем просматривать мифологические ма-
териалы у эллинистических историков, то мы без труда можем уста-
новить несколько разных типов рассмотрения мифов в связи с реальной
историей в узком смысле слова.
Прежде всего, в эпоху раннего эллинизма отнюдь не сразу пре-
кращает свое существование старый подход логографов к мифологии
в смысле полного или частичного отождествления ее с реально-исто-
рическим процессом. У Дионисия Киклографа, который известен по
традиции тоже как «историк» (I А, 178, 5.8 Jacob2), мы находим
большое сочинение мифологически-географически-исторического ха-
рактера под названием «Цикл» (178, 10), а его «Описание вселенной»
«Местные истории» и «Воспитательная история» тоже относились оди-
наково и к мифологии и к истории (178, 6.7; ср. на той же с. 27 и
179, 1; 1; 180, 38). По-видимому, в том же направлении работали
историки Писандр (181, 26), Горгос (182, 20), Зенодот («Исторические
воспоминания» 183, 23 и изложение мифов о Геракле 183, 18.19),
Антиох (в его «Мифических повествованиях в связи с государством»
213, 19, а также в «Историях» с изложением мифов об аттических
героях 213, 28).
Далее, мифология, противопоставленная реальному историческому
процессу и выделенная в особую область, не замедлила появиться в
виде отдельных сборников и руководств, в которых уже не ставилось
никаких исторических вопросов, а мифология рассматривалась как
старинные и чисто народные, а большей частью даже курьезные рас-
сказы о чудесном. Этого не могло быть раньше, когда мифология была
предметом наивной и непосредственной веры. Такие сборники мифов
в известной мере составлялись уже и представителями первой (выше-
указанной) группой историков. Из эллинистических историков, судя
по источникам, составителями сборников мифов, безусловно, были:
Сатир (184, 25 сл.), Сострат (186, 30 «Свод мифической истории»),
Александр из Минда (189, 17 «История с изложением как старинных
чудесных сказаний, так и современности»), Конон (излагавший разные
отдельные мифы — 192, 16; 194, 26; 204, 31; 206, 32), Силен Хиосский
(212, 1.7 «Мифические истории»), Акесторид (212, 24, одинаково
называвший свой предмет и историей и мифологией). Таким образом,
когда изложение мифов приобретало самостоятельное значение и пре-
вращалось в целые мифологические сборники, мифология и в этом
случае продолжала называться «историей».
Далее, и те писатели, которых Ф. Якоби называет авторами ми-
фологических монографий, романов и сниженной литературы, тоже
именуют мифологию «историей». Если наша терминология в глагольной
форме, возможно, не очень показательна для Геродора Гераклейского
(215, 25; 216, 26; 217, 20; 218, 4.22.25; 219, 7.21.28; 220, 4; 222, 22),
то отдельные его мифологические повествования во всяком случае не
раз прямо именуются «историями» (217, 35; 227, 32). Дионисия МИ'
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним 465
детского, по прозвищу Скитобрахиона, «Суда» не только считает
^историком», но приписывает ему одинаково и исторические и мифо-
логические сочинения (228, 27); о составлении им «историй» говорит
-акже Атеней (228, 29). Что же касается его многочисленных фраг-
j^eHTOB, дошедших до нас, то и в виде глагола и в виде существительных
изучаемый нами термин встречается многократно; и у самого Атенея,
и У ДРУ™13^ Цитируемых им авторов: 231, 6.28; 234, 32; 238, 20; 239,
13.14; 246, 25; 247, 6.7; 249, 25.34; 250, 11.13.34; 251, 24; 256, 3;
257, 7. Приводить материалы из прочих историков, относимых Ф. Яко-
би к этому разделу, совершенно не стоит, поскольку семантическая
картина нашей терминологии здесь одна и та же. Ограничимся только
перечислением имен: Кавкал Хиосский, Онас (между прочим, расска-
зывавший «истиннейшую историю» в I книге рассказов об амазонках —
263, 21), Демарат, Метродор Хиосский, Палефат, Гегесианакт, Феодор
Троянский, Диктис Кносский, Дарес Фригийский, Элевсин, Антипатр
Аканфский, Никий Малосский, Теллид, Феодор Самофракийский.
У всех у них «мифология» и «история» либо отождествляются, либо
«мифология» отличается по своему существу от «истории», но и в
этом случае она продолжает именоваться «историей».
Наконец, в эпоху раннего эллинизма мифология не только отде-
лялась от истории как специальная область человеческой фантазии,
но даже подвергалась историческому объяснению, в котором особенно
преуспел известный Эвгемер в III в. до н. э. Он утверждал, что все
боги и демоны в традиционной мифологии являются не чем иным,
как реально-историческими героями, т. е. царями, законодателями,
полководцами, изобретателями, прославившимися в своем потомстве
и потому провозглашенными в качестве божеств или демонических
существ. Для нашего терминологического исследования это обстоя-
тельство важно только в том отношении, что Эвгемер даже свою
развенчанную мифологию все еще продолжал по традиции именовать
«историей» и даже «священной историей». Возможно, впрочем, что в
устах Эвгемера это последнее выражение носило только условный или
даже иронический характер. Его главный труд назывался не «Свя-
щенная история», но «Священная запись». Это слово anagraphe можно
переводить и «писание», и «надпись». Но Диодор Сицилийский у
Евсевия прямо называет его труд «Истории» (302, 16), а в глагольной
Форме этот термин в отношении Эвгемера употребляет Атеней
<302, 11). к «историкам» Эвгемера причисляет Диодор (302, 27.28),
с точки зрения которого «записи» вроде эвгемеровой тоже являются
«историческими» (304, 11; 305, 6). Что же касается римских авторов,
J0 название знаменитой книги Эвгемера неизменно передавалось как
Sacra historia, объясненные им мифические легенды назывались «ис-
Т°₽иями», а сам он трактовался как «историк» (300, 14.18; 301, 22;
23.36; 311, 8.13.22.26; 312, 27).
466
А. А. Тахо-Годи
Общий вывод из приведенных нами эллинистических текстов по
вопросу о взаимоотношении мифологии и истории может быть только
такой: и старинная наивная мифология, не входившая ни в какие
вопросы исторического исследования, и та мифология, которая выли-
валась в реальную человеческую историю и трактовалась как тожде-
ственная с нею, и мифология как область человеческой фантазии
зафиксированная в специальных сборниках и руководствах, и, наконец
мифология, эвгемеристически сводившаяся к рассказам о реальных
героях самой обыкновенной человеческой истории, — все это в изве-
стные периоды, а особенно в период эллинизма, неизменно носило
название «история», а соответствующие герои назывались «историче-
скими» и их излагатели и интерпретаторы — «историками».
Диодор Сицилийский. На два столетия позже Полибия выступил
один из крупнейших греческих историков, именно Диодор Сицилий-
ский, который во многом примыкает к Полибию, хотя и многим
отличается от него. Судя по его собственному заявлению (I 1, 3),
история есть непрерывное (synechos) развитие всего человечества,
происходящее наподобие движения небесных сил, так что каждый
исторический период (aion) появляется по аналогии с небесными яв-
лениями (eis coinen analogian). Поэтому историки как бы содействуют
самому «божественному промыслу» и освещают то, что дается самой
судьбой. В этом же тексте интересно заявление Диодора о том, что
все человечество является как бы одним полисом (та же мысль I 3, 2),
который обладает общим внутренним сродством (syggeneia) составля-
ющих его элементов и является некоторого рода общей и нерушимой
связью (syntaxis), а историк преследует в своей работе некоторого
рода «единый закон» (hena logon) или смысл, порядок, рассмотрение,
систему и общее хранилище (chrematisterion) (совокупность, достояние,
капитал) «свершенных деяний». История настолько превосходит прочие
знания, насколько целое превосходит части, насколько непрерывное
превосходит всякую раздельность и насколько точно измеренное время
превосходит отдельные, неизвестно когда возникающие моменты (I
3, 8). Таким образом, тщательно проводимый еще у Полибия историзм,
согласно общеантичным методам мысли, отождествляется у Диодора
с пластикой вечно подвижного космоса. Здесь сохранена платоно-ари-
стотелевская диалектика целого и его частей, но приводится она на
материалах вечного становления (или, точнее говоря, круговращения)
космического и человеческого.
Отсюда вытекают и другие мысли Диодора, связанные с термином
«история».
Он говорит (I 1, 4), что возникающее из истории знание (mathesin)
является самым обширным знанием, так как оно охватывает реши*
тельно все существующее (ср. I 2, 8). Следовательно, термин «история»
относится у него отнюдь не только к человеческой истории. Но зато
когда она относится и только к одной человеческой истории, она все
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним
467
Le далека от простого описания фактов и является огромной моральной
Аидой как для поддержания людей высоких, так и для воспитания
людей низких. Если даже вымышленные мифы об Аиде содействуют
благочестию и справедливости, то тем более история является «про-
гюком истины» и как бы «столицей всей философии» (I 2, 2). Она
спасает от забвения великие деяния прошлого и увековечивает всех
исторических героев. А судя по тому, что в качестве исторического
героя приводится здесь Геракл, Диодор также и мифологию относил
к области истории (I 2, 4). Да и само название труда Диодора
«Историческая библиотека» свидетельствует о том же самом, поскольку
все это сочинение насыщено мифологией, и особенно первые пять
книг. Хотя мифологических богов он объясняет эвгемеристически, тем
не менее мифология обозначается здесь тоже термином «история».
Многочисленные мифологические фигуры попадаются в V книге, а в
VI книге излагается троянская мифология. Эвгемер со своей знаменитой
трактовкой мифологии тоже причисляется Диодором к историкам (VI
2, 3 и 11). Космология, очевидно, тоже входит в круг тех знаний,
которые обозначены термином «история». Диодор говорит о «событиях
всего космоса» (I 3, 6). Наконец, своему историческому повествованию
Диодор предпосылает целую космологию (I 7, 1—8, 10): вначале
общий состав космоса имел единый и нераздельный образ (idean), в
котором небо и земля были хаотически смешаны; в дальнейшем более
легкий огонь поднимается кверху, а более тяжелая земля опускается
книзу; благодаря периодическому нагреванию и охлаждению земли
появляются на ней горы и моря, животные и, наконец, человек;
вначале человек ведет образ жизни животных, а потом переходит к
цивилизации. Очевиднейшая натурфилософская тенденция Диодора
подчеркивается здесь ссылкой на Еврипида (fr. 184 N2), у которого
тоже встречаются мысли о происхождении всех животных и человека
из первоначальной хаотической смеси, а также на Анаксагора, у
которого имеется в виду, вероятно, рассуждение в А 42, В 2.
В итоге необходимо сказать, что «история» у Диодора имеет уни-
версальное значение, начиная от космологии и мифологии, переходя
через человеческую историю, в узком смысле слова, и кончая проис-
хождением всех живых существ. Пластическая диалектика целого и
частей неизменно проводится здесь в области всеобщего становления
и развития. Вероятно, именно так нужно понимать замечание Диодора
0 своих исторических исследованиях, что он в них «стремился к
симметрии» (I, 8, 10).
Остается еще много других проблем исторического миропонимания
в исторической методологии Диодора. Однако они не входят в план
иастоящей работы. Мы коснулись только некоторых наиболее суще-
ственных сторон раннеэллинистического понимания изучаемой нами
еРминологии. Необходимо было выдвинуть черты универсализма, веч-
1X5 изменения, статических и пластических методов мышления, ос-
468
А. А. Тахо-Годи
вобождения от мифологии, а также черты имманентно-исторической
причинности. Ко всему этому надо прибавить также эвгемеристические
черты, отразившиеся у Диодора в изучаемой нами терминологии.
ПОЗДНЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ
(I—V вв. н. э.)
Эта ступень отличается усложненной разработкой как стилисти-
ческой, так и идейной стороны того, что тогда именовалось историей.
Асклепиад Мирлианский. Уже грамматик I в. до н. э. Асклепиад
Мирлианский (Вифиния) давал разработанную схематику «истории»,
правда, не очень отличая ее от мифологии.
Секст Эмпирик (Adv. math. I 252 сл.) пишет об этом грамматике:
«Историческую же часть он разделяет на три отдела. Именно, по его
мнению, из истории одни являются так или иначе истинными, другие —
ложными, третьи — „как бы“ истинными. При этом истинной историей
является та, которая относится к фактически совершающемуся; лож-
ной — та, которая относится к вымыслам и мифам; „как бы истин-
ной" — та, которая является комедией и мимами. Существует, в свою
очередь, три вида истинной истории. Одна выставляет личности богов,
героев и людей; другая — местности, моменты времени; третья — по-
ступки. В ложной же истории (т. е. в мифической) содержится, по
его словам, только один вид — генеалогический».
Из этого сообщения Секста Эмпирика видно, что еще в I в. до
н. э. всю мифологию с ее повествованием о богах и героях и всякую
поэтическую фантазию относили к области истории наряду с реально
происходившими историческими событиями. А из дальнейшего изло-
жения Секста Эмпирика видно, что Асклепиад Мирлианский относил
к истории также и толкование языковых явлений.1
Мы видим, что Асклепиад Мирлианский весьма внимательно следит
за классификацией тех вопросов, которые обозначаются термином
«история». Формулируя первый раздел как то, что относится к фак-
тически реальным событиям, он находит здесь учение о богах, героях
и людях. Второй раздел «истории» — область фантастических вымыс-
лов, но сюда он относит только генеалогии. Наконец, третий раздел —
это художественное творчество. Уже тут создается та схематика, ко-
1 Ф. Муллер (De historiae vocabulo atque notione. «Mnemosyne», 1926. Bd. 54,
S. 251), давая указанную выше цитату из Секста Эмпирика, не приводит того
текста, на который мы сейчас указываем, а также и вообще игнорирует г0
обстоятельство, что «история» рассматривается у Асклепиада как часть граммати-
ки. Тем не менее приведенные взгляды Асклепиада прекрасно рисуют тег
статизм, который свойствен как древнему пониманию термина «история», так и
вообще разработке исторических материалов в древности.
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним 469
•jopafl свидетельствует о внимательной разработке как идейной, так и
Нормальной стороны «истории», и здесь заложена основа для поздне-
здлинистического понимания термина «история».
Плутарх. Поскольку в план настоящего исследования не входит
анализ самой исторической проблематики у древних писателей, а
только употребление у них термина «история», мы здесь не можем
касаться обширных материалов из Плутарха, которые можно было бы
привлечь для характеристики фиксируемой у него сущности истори-
ческого процесса. Что же касается самого термина «история» и род-
ственных с ним, то здесь мы располагаем большим материалом, сви-
детельствующим как об общегреческой семантике этой терминологии,
так и о ее позднеэллинистической специфике. Последняя бросается в
глаза многочисленными сопоставлениями и противопоставлениями тер-
мина «история» с терминами, соседними по значению. У Плутарха
чувствуется весьма дифференцированный подход к нашей терминоло-
гии, хотя по обычаю многих античных писателей эта дифференциация
отнюдь не всегда отчетливо формулируется и выводится современным
исследователем только на основании научного анализа текста Плу-
тарха. Мы начнем с самого элементарного значения нашей термино-
логии, которое мы находили и у многих других греческих писателей,
и постепенно будем переходить к более сложной и более дифферен-
цированной семантике.
Прежде всего, изучаемая нами терминология относится у Плутарха
к области чувственного восприятия и, в частности, к области процессов
зрения и рассматривания. Говорится о рассматривании и распознавании
растений, приносимых в Делосское святилище (Conv. 14), о рас-
познавании лечения болезней (Quaest. Conv. V 7, 2), о конкретно
видимом рисунке земли для чувственного восприятия (Sollert. anim. 23).
Факт, устанавливаемый при помощи такой истории, сам тоже нередко
носит название «истории»; читаем о доказательствах невероятного и
противоречащего разуму факта (Quaest. Conv. V 2, 1), об отсутствии
веры в факты (там же, V 7, 1), рассказы о фактах (Ргаес. ger. rei
publ. 6). В дальнейшем этот отдельный «исторический» факт рассмат-
ривается как принцип для установления истины, как ее критерий,
как то, что ее делает достоверной: «история» придает достоверность
Рассуждениям (Quaest, conv. II 9, 1); «историей» подтверждается то,
что достойно удивления (там же IV, 2, 1); о допущении существования
вещей при помощи «истории», т. е. опыта (там же, V 7, 1). Следо-
вательно, «история» трактуется у Плутарха так же, как и вообще
чувственный опыт, дающий возможность устанавливать факты и раз-
ораться в них.
Далее, «история» употребляется у Плутарха и в значении рассказа
письменной фиксации; тирренская «история»(традиция) говорит о
Оверженности Одиссея сонливости (Quomodo adolesc. poet. aud.
Ot, 8), описание вида слонов или рассказ о виде слонов (De sollert.
470
А. А. Тахо-Годи
animal. 25); рассказать, кратко осведомить о наиболее достоверном
(De defect, orac. 24); ср. Quaest. conv. V 2, 1; у Харона Лампсакского
нет истории победы варваров над эретрийцами, но есть описание
другого факта (De Herodot. malign. 24); «историки» — чертежники
географических карт (Thes. I); написать ббльшую часть своей книги
(Dion. 11), где история понимается как фиксация факта в самом
широком смысле слова.
От чувственной и фактической достоверности через фиксацию и
записывание фактов Плутарх переходит к пониманию истории как
науки вообще: Аристипп изучал рассуждения и философию Сократа
(De curios. 2); проводить время в спорах о языке, метрике и истории,
т. е. научных теориях (Quomodo adul. ab amic. internosc. 17); философия
способствует знаниям «истории [фактической сущности ] причины каж-
дого предмета».
В дальнейшем, наконец, у Плутарха можно перейти к «истории»
в узком смысле слова, т. е. понимаемой в смысле повествования о
человеческих деяниях. Здесь масса текстов, из которых мы для примера
приведем только некоторые. Но необходимо будет подчеркнуть такие
высказывания Плутарха, в которых история противопоставляется со-
седним областям науки и знания. Говорится о переходе от стихотворной
истории к прозаической, как от колесницы к пешему хождению (De
Pyth. orac. 24). Необходимо подражать тому великому, что есть в
истории (Pericl. 1). Историческое повествование облагораживает душу
(Pericl. 12). Феофраст — знаток истории среди философов (Alcib. 10).
Плутарху принадлежит целый трактат «О злословии Геродота», где
философ упрекает великого историка в извращении событий, в связи
с чем и термин «история» получает не только узкочеловеческий смысл,
но и смысл одиозный (например, 3, 4, 5, 7). В «Жизнеописаниях»
Плутарха также масса текстов, содержащих термин «история» или
родственные с ним как обозначение обыкновенной истории человече-
ских деяний (Num. 21, Lyc. с. Num. compar. 4, Timol. 10, Mar. 45,
Lysandr. 25, Alexandr. 39, Anton. 59, Demetr. c. Anton, compar. 4, Fab.
Max. 1, 16, Reg. et impe. apopht. 29 и мн. др.).
Самым же важным является у Плутарха сопоставление «истори-
ческой» терминологии с разными областями человеческой жизни, твор-
чества и познания. К сожалению, Плутарх почти нигде не раскрывает
этого сопоставления в развернутом виде, а просто употребляет термин
«история» с каким-нибудь другим термином, близким к нему. Такое
употребление двух или трех близких терминов, несомненно, свиде*
тельствует об огромной терминологической дифференциации, которая
фактически была свойственна Плутарху, но которую он не раскрывал
ввиду отсутствия специального терминологического интереса. Приве-
дем главнейшие сопоставления, начиная с более элементарных (чу»'
ственное восприятие и опыт), проходя через разные вады рассказа »
речи и кончая сопоставлениями с наукой, искусством и философие11.
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним
471
«История», прежде всего, отличается от «слухов», т. е. устных
преданий (Sertor. 1), так что у стоиков физика нуждается как в
«истории» (исследовании), так и в опытных наблюдениях (empeirias,
Stoic, repugn. 29). Точно так же «история» не есть просто рассказ или
речь: «писатели занимаются „историей"», «поэт же рассказывает»
(legeii Cim. 4), хотя в других случаях historecasin и eirecasin у Плутарха
употребляются почти тождественно (Marcell. 30). Ср. о писателях как
0 «некоторого рода красноречивых вестниках деяний» (De glor.
Athen. 3). Отличается, далее, «история» и от умственного представ-
ления (ennoia) и от образов фантазии (phantasia): галлам и скифам
лучше было бы совсем не верить в богов, и тут же говорится, что
лучше было бы не иметь и их истории, т. е. рассказов о богах (De
superst. 13). «История» и рассказ (diegesis) сближаются между собой
и в положительном смысле, когда их предметом является нечто воз-
вышенное и чистое (Non. posse suav. viv. 10), равно как и «истории»
вместе с «притчами» (chreiai) у философов (Quomodo quis s. in virt.
sent, prefect. 7).
Далее, «история» стоит совершенно на одной плоскости с наукой
(mathesis). По крайней мере о человеке высокой жизни говорится,
что он одинаково занимается и тем и другим (De defec. orac. 21).
Сюда же относится и «рассуждение» (logoi, Quaest. conv. V Prooim.),
а также в смысле доставленного удовольствия. На одной плоскости
стоят «исторические» и «поэтические» умственные искания (dzetesis,
De tuend. sanit. praec. 20). «История» вместе с поэтическими произ-
ведениями (poiemata) может быть источником нравственного исцеления
(Quomodo quis s. in virt. sent, prefect. 8). Тем не менее «софистический»,
чисто «исторический» (т. е. как бы в некотором смысле беспредметный
или внешний) способ мышления противопоставляется внутреннему и
философскому (De rect. rat. aud. 18), но в области возвышенного стиля
«история», «философия» и изображение характеров были как бы едины
(De Pyth. orac 24).
Точно так же подлинная история сближается и с живописью.
Лучший из «историков» тот, который свой рассказ создает совершенно
так, как живописец свою картину (De glor. Athen. 3). «Историки» —
это актеры, так как они разделяют славу своих героев, хотя Ксенофонт,
например, сам является для себя «историей», т. е. сам является ис-
торическим героем (De glor. Athen. 1). Как пчелы собирают с цветов
мед, козы поедают почки деревьев, а кабаны объедают их кору, так
и читатель поэтического произведения услаждается его «историей»,
•красотой» и строением «речи». Это значит, что история здесь является
чем-то вроде прекрасного сюжета или идейно насыщенного рассказа
'xuomodo adolesc. poet. aud. deb. 11). В качестве резюме этического,
^тетического и философского значения термина «история» можно
а₽ивести следующие слова Плутарха (Alex. 1): «Мы пишем не историю,
Жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна
472
А А Тахо-Годи
добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный по
ступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека
чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными
армиями и осады городов. Подобно тому, как художники, мало обращ,)я
внимания на прочие части тела, добиваются сходства благодаря точ-
ному изображению лица и выражения глаз, в которых проявляет^
характер человека, так и нам пусть будет позволено углубиться в
изучение признаков, отражающих душу человека, и на основании
этого составлять каждое жизнеописание, предоставив другим воспевать
великие дела и битвы».
Таким образом, «история» занимается, по Плутарху, не отдельными
личностями и не их отдельными чертами, даже и не их моральной
жизнью, но рисует славные деяния больших человеческих масс, ис-
пользуя краски живописи, красноречие поэзии и глубокомыслие фи-
лософов, обладая к тому же возвышенным характером и воспитывая
людей на примерах прошлого.
Элиан. Насколько общегреческая семантическая пестрота анали-
зируемых терминов была сильна в век эллинского возрождения, пре-
красно показывает небольшой трактат Элиана, характерным образом
озаглавленный «Пестрая история». Уже прочитав хотя бы несколько
страниц из этого произведения, мы сразу же убеждаемся, что перед
нами здесь сборник небольших рассказов на самые разнообразные
темы. При этом вполне очевидно, что, хотя название этой книги
содержит термин «история» в единственном числе, на самом деле
«историями» автор называет именно каждый свой рассказ. Поэтому
слово «история» в заглавии произведения употреблено здесь в соби-
рательном смысле. Семантическая пестрота этого термина, действи-
тельно, очень большая. Здесь мы находим, например, рассказы из
области физической и общей географии (III 1.17; V 4, VI 7, VIII 11),
биологии или зоологии (I 1—15, II 40, X 3), психологии (III 10), об
истории, обычаях и законах (I 20.1, III 24.33—34.36.45, IV 1.22, V
10.13.14.20, VI 6.17. VIII 10), о мифологии (I 24, II 33, III 39-40,
IV 26, IX 16, XII 61), философии и философах (I 23, III 16.18. IV
13.(7, IX 10.23.26.28.29, X 16.21), искусстве, художниках и поэтах
(II 44, III 30—32, IV 3—4, VIII 8, IX 32), морали и моралистах (Ш
20.43, IV 7.14,16.24.28), медицине и гимнастике (IV 15.25), изобре-
тениях (III 37), а также разного рода анекдоты и побасенки (1 17 29
II 23.24.28, III 41, VII 6, X 19, XII 12.34.42. XIII 9.10.15.46, ХИ
18.20.21.25.40).
Во всех этих рассказах быль переплетается самым невероятным
образом с вымыслом. Тут рассказывается, например, об известны*
греческих философах, поэтах и государственных деятелях; и неиз8е'
стно, можно ли верить всем этим анекдотам или нельзя. С др)1*’1*
стороны, каждый рассказ у Элиана отличается остротой, содер*и^
какие-то необычайные сообщения и явно рассчитан на занимате1Ь
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним
475
лосгъ, на читательское развлечение, на анекдотизм в широким смысле
слова. Что мы должны понимать ту г под словом «история»? Это —
Просто развлекательный рассказ, конечно, не без оснований на исто-
оИческую реальность, неожиданный, остроумный, в котором острота
^ысли контрастирует с чрезвычайной краткостью повествования. За-
трагиваются самые разнообразные стороны жизни. Природа и история
выступают здесь в бесконечно разнообразном виде, не говоря уже о
занимательности. Поэтому не будет ошибкой сказать, что И в. дс н э.
возрождал не только строгость, реализм и сдержанность кластики, но
также и всю ее пестроту, которой она отличалась на своей донаучной
и пока еще чисто интуитивной и развпекательной (гчпени. Элиан
возрождает эту наивную любознательность старинных логографов и
Геродота и делает это с таким увлечением, которому несвойственны
даже элементы научности логографов и Геродота. «История» здесь,
попросту говоря, есть «анекдот» или нечто вроде этого. Диаметрально
противоположную сторону классики будет возрождать уже не Элиан
и даже не Плутарх, а Лукиан.
Лукиан тоже вполне отдает дань общегреческой пестроте в упот-
реблении термина «история». У него можем встретить и совершенно
неопределенное значение этого слова, когда Лукиан называет себя
«составителем историй и других сочинений» (Luc. s. asin. 55). Под
историей он нередко понимает как мифологические рассказы, так и
вообще всякого рода фантастические выдумки. «Историей» именует
он роман юноши с богиней Афродитой (Imag. 4, Amor. 15), а также
исчезновение воды в Гиераполе и деятельность Девкалиона (Syr. d.
12—13). Свое повествование о сирийской богине Лукиан тоже называет
историей (там же, 11). Имеется у Лукиана целый трактат под назва-
нием «Правдивая история», насыщенная самыми невероятными фан-
тастическими образами. Рассказы о самых обыкновенных событиях
тоже «история», как, например, рассказ о собственном сновидении
(Macrob. 1); таков же и рассказ о посвящении Анахарейса в мистерии
(Scyth. 8). В других случаях Лукиан ближе к более узкому пониманию
нашего термина, ближе к истории в собственном смысле этого слова,
например, когда он говорит об истории римских царей (Macrob. 8)
или называет труд Геродота «историями» (Herod. 2), которые, по его
сообщению, сам Геродот распевал на олимпийских состязаниях (там
же, 1). в этих случаях у Лукиана тоже отнюдь не всегда проводится
Разница между историей и мифологией: к истории, например, относятся
У него не только Александр, сын Филиппа, и Пирр, но также и
Агамемнон и Ахилл (Hipp. 1). Иной раз под историей понимаются
Разного рода полуисторические, полуанекдотические рассказы, как,
®апример, иллюстрация значения здоровья (Laps. 7). Наконец, и свои
/оственные художественные образы и наброски Лукиан также назы-
«историями». Такова «история» о лжепророке Александре (Alex. 1)
«О философах, живущих на жалованье» (Apol. 3). Однако вся
474
А. А. Тахо-Годи
эта пестрота значения слова «история» не идет ни в какое сравнен^
с тем подлинным и настоящим пониманием этого слова в одном
замечательном трактате, к которому мы сейчас и перейдем.
Несмотря на свое постоянное многословие и риторику, иной раз
переходящую в беспредметную болтовню, Лукиан четко проанализи-
ровал античный термин «история», именно в значении его как «щ
тория» в узком смысле слова, сохранившемся за ним, также и те ei-j
особенности, которые необходимо считать по преимуществу античны
ми. Ему принадлежит небольшой, но весьма содержательный трактат
под названием «Как следует писать историю». Здесь его вовсе не
интересуют разнообразные технические стороны составления истории,
например, ее язык, или ее план (6), но исключительно только сама
сущность дела. И здесь этот античный говорун очень обстоятелен и
последователен. Сначала он говорит о том, чего должны избегать
историки, а затем уже о том, что они должны преследовать в поло-
жительном смысле.
Историк, прежде всего, должен избегать похвал по адресу всяких
начальников и полководцев. История не имеет ничего общего с по-
хвальным словом (7.11—13, ср. 59). И вообще история не есть поэзия,
если иметь в виду все свойственные этой последней украшения, пре-
увеличения и стилистические заимствования со стороны (14—17). То
и другое имеет свои собственные и вполне специфические законы (8).
Поэтому историю нельзя делить на то, что полезно, и то, что при-
влекательно или изящно. История вовсе не нуждается в этом послед-
нем, хотя при соблюдении меры (metron) она вполне может быть и
привлекательной, и изящной, и даже содержать похвалы (9). Геракл
не нуждается в женском платье и в женских украшениях, не нуждается
он и в женской работе, как это мы знаем из мифов о его пребывании
у Омфалы (10). История не есть также и философия, так как она
основывается не на силлогизмах, но на реальных фактах (17). История,
далее, не есть ни мифология, ни фактологическое описание быта,
происшествий или картин природы, взятых самостоятельно, как са-
моцель или пусть даже и вполне исторических событий, но слишком
разрисованных, преувеличенных и рассчитанных на сильное впечат-
ление у читателей (18, 20—21) с использованием пестрого состава
старинных возвышенных или пошлых прозаических словесных выра-
жений (22). История также не преследует задач эффектного сочетания
противоестественных элементов, свойственных природе и обществу
(23) или основанных на неточном знании предмета (24), или на
собственном безвкусном воображении (25—26).
В противоположность всему этому историк должен изображать то
что является главным и существенным, и не задерживаться на мелки*
предметах. Изображая розу, мы должны изображать именно ее, а не
те шипы, которые ей свойственны (27—28). Далее историк своими
глазами, а не только по слухам, должен наблюдать все, что относится
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним
475
к данному событию, как, например, разнообразное оружие во время
изображаемого им боя (29, 37, 47). Размеры частей исторического
исследования должны соответствовать важности и масштабам изобра-
жаемых событий (30). Не нужно додумывать до конца те события,
которые еще не кончились, и не нужно помещать эти домыслы в свою
историю (31); не нужно также и гордиться знанием многочисленных
источников (32). Нужно уметь из двух противоположных суждений
выбирать какое-нибудь одно, отбрасывая другое и не путая его с
первым (32).
Два основных достоинства отличают настоящего историка — го-
сударственное чутье и умение излагать, причем первому нельзя на-
учиться, поскольку оно дается от природы, второе же можно развить
путем упражнений (34). Поэтому всякая теория истории имеет лишь
относительное значение. Она может воспитать историка, но не создать
его (35). Подлинный историк всегда свободен, никого и ничего не
боится и совершенно справедлив в своих оценках (38). «Единственное
дело историка — рассказывать все так, как оно было... общий интерес
будет ему ближе, и истину он поставит выше личной вражды и
любимого человека не пощадит. Это одно, как я сказал, является
сущностью (idion) истории» (39—41).
Дает Лукиан наставления и о внешней стороне исторического
сочинения. Суждения историка должны быть меткими, богатыми своей
мыслью; а его язык должен быть достойным образованного человека
(43). Не должно быть непонятных слов, но историк также должен
избегать и слов слишком обыденных и пошлых. Словесные украшения
возможны, но они не должны быть чересчур искусственными и надо-
едливыми (44). Поэзия в истории возможна, но она должна быть здесь
умеренной и сдержанной, не заслоняющей истину предмета (45).
Соразмерность и середина — главные особенности языка историка.
Ритм будет приятен, но не нужно все писать обязательно в ритмах,
как это делает поэзия (46). В историческом сочинении должен быть
четкий остов и мерная распределенность в нем украшений (48), что
приведет в дальнейшем к всестороннему изображению события вместо
подчеркивания только отдельных его сторон (49), а это возможно
только благодаря строго проводимой мере общих изображений (50).
Ум историка — это точное и совершенно неприкрашенное, ничем не
искаженное изображение событий, т. е. их вернейшее зеркало. Историк
6011 художник, но все его художество заключается только в обработке
материалов для точного воспроизведения действительности (51).
Предисловие в историческом сочинении должно согласоваться с
дальнейшим изложением, а не иметь самостоятельного значения, как
ато бывает у ораторов (52—54). Переход к изложению должен быть
равным и не резким», а само изложение «должно течь гладко и
Г°Вв°» всегда одинаково, без скачков вверх и вниз». «Пусть историк
е Расчленит и окружит, а затем лишь, закончив одно, переходит к
476
А. А. Тахо-Годи
дальнейшему». Везде тут одно должно вытекать из другого и не
оставаться в изолированном виде (55). Краткость (56), сдержанность
ясность и неотвлекаемость в сторону (57), соответствие речей тем'
кто их произносит (58), сдержанность толкования мифологии без
уклонения в ту или иную односторонность (60), абсолютная правди-
вость и свобода от славолюбия (61) и, наконец, расчет не на преходящие
интересы данного момента, но на истину для будущего и вечного
(62—63) — вот в чем заключаются основные черты подлинного исто-
рического исследования и вот какова задача подлинного историка.
В греческой литературе едва ли можно найти такой трактат, ко-
торый, подобно Лукиановскому очерку, так четко и красноречиво
рисовал бы задачи исторической науки и притом с употреблением
именно термина «история». Лукиан весьма удачно отграничивает ис-
торию от всяких других литературных жанров. Она — и не поэзия, и
не риторика, и не мифология, и не буквальное воспроизведение дей-
ствительности, но также и не полет свободной фантазии, не эффек-
тивное сочетание того, что в жизни так не сочетается; она и не
философия. Она есть изображение того, что фактически было в истории.
Правда, здесь сказывается ограниченность общей античной мысли,
поскольку эта последняя далеко не всегда в отчетливом виде доходила
до определения того, что такое факт, и особенно, что такое истори-
ческий факт. Лукиан неясно представляет себе, что само установление
самого простого исторического факта уже требует определенной тео-
ретической позиции, с точки зрения которой и устанавливается факт.
При одном подходе данное событие есть действительно факт, а при
другом подходе оно является фактом несущественным или даже вообще
не есть факт.
Однако не будем требовать от Лукиана того, что в отчетливой
форме не могла дать и вся античность. Тут важно желание опираться
на факты и желание быть объективным. А также не будем осуждать
Лукиана и за то, что содержанием истории является у него только
одна военно-политическая жизнь, или за то, что у него нет самого
принципа исторического развития. Ведь это является особенностью
античной историографии вообще, поскольку она выражена в самом
термине «история».
Историзм заменяется у Лукиана — и это тоже на античный ма-
нер — чисто классическим подходом как к изображаемой историче-
ской действительности, так и к тому, кто ее изображает. Изобража-
емая действительность, по Лукиану, должна предстать в виде сораз-
мерного целого, в котором никакая мелочь не затемняет целого и
других частей, в котором все одно другому соответствует и в котором
рассказано нисколько не больше того, что было в действительности,
но и не меньше. Все тут должно звучать плавно, последовательно,
мерно, закругленно. Все тут должно быть существенно, но эта су-
щественность должна быть выражена красиво, изящно, без отступ'
Эллинистическое понимание термина «история» и роН твснньи с ним 477
~
дений в сторону, так что в этом смысле историк есть самый настоящий
художник.
Сущность исторического явления и само это явление должны пред-
стать у историка в виде нерушимой гармонии, свободные от всяких
симпатий и антипатий, от всякого развлекательства при чтении, от
похвальбы знанием источников, от пресмыкательства перед сильными
людьми. Трудно сказать, где тут у Лукиана история, где художест-
венное произведение, где философия и где вернейшее отражение дей-
ствительности. В анализе историографических методов все это совме-
стилось у Лукиана в одно единое и нерушимое целое. И все это
невозможно назвать иначе как пластикой исторического процесса,
однако не такой бессознательной и как бы инстинктивной, что можно
найти у многих греческих писателей, но пластикой вполне осознанной,
методологически разработанной и отчетливейшим образом противопо-
ставленной всяким другим методам мысли, словесного творчества и
художественного обобщения.
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ
Рассмотрение древнегреческой терминологии, связанное с древне-
греческим словом «история», до сих пор проводилось нами в истори-
ческом плане. Сейчас необходимо дать себе отчет также и в систе-
матическом развитии соответствующей семантики. До нас оно тоже
подвергалось рассмотрению, хотя и недостаточно. Главнейшее значение
наших терминов можно найти уже в больших словарях. Так, например,
Папе уже отмечает и значение «исследование», и значение «наука»,
и «рассказ на основании пережитого опыта», то же и в словаре Пассова.
Терминологические наблюдения имеются также и в работе Муллера
(ук. соч.) и в работе Р. Scheller, De hellenistica histonae conscribendae
arte. Lips. 1911. Diss., хотя обе эти работы заняты больше исследова-
нием античного понятия «история», чем исследованием терминов. Более
подробно мы коснемся двух авторов.
К. Койк. В своей диссертации,1 посвященной термину «история»,
этот автор дает систематический обзор интересующей нас семантики
(ст. 6—8). Приводя некоторые тексты для примера и не перечисляя
их целиком, К. Койк правильно исходит из основного значения гре-
ческого термина «история» как связанного с представлением о зри-
тельном восприятии, достигающем значения «свидетельство». В дог-
матической форме эту исходную семантику он фиксирует чаще всего
У Эсхила, реже у Софокла и еще реже у Еврипида.
А «ь Keiick К. Historia. Geschichte des Wortes und seiner Bedeutungen in der
An“keund in den romanischen Sprachen. Emsdetten, 1934.
478
А. А. Тахо-Годи
На этом основном значении слова «история», по К. Койку, , .
стают три таких значения: 1) знание, которым кго-нибудь обл,:
на основании собственного переживания событий- 2) знание, ксп •
кто-нибудь выработал при помощи собственного исследования,
степенное исследование предмета, которым заканчивается наука,
учное исследование, анализ чего бы то ни было, т е. сама на--•
сам анализ. Отсюда вытекает употребление нашей терминологи,
отдельных научных областях: 1) научное исследование государства ,
деятельности, историческое знание, историография; 2) фи л осот
философское знание; 3) естествознание, т. е. описание вещей г
ношение в природе. Дальнейшее развитие терминологии приводит
к представлению о письменной фиксации исторических событи ’ ,
соответственно к тому или иному научно-критическому исследов.-ц • <
исторической области. Однако таким научно-критическим понимаь1
термина «история» греки отнюдь не ограничились. Этим термин; <
них часто обозначался вообще всякий рассказ, независимо от ,
соответствия той или другой исторической реальности и его пр.,>
подобия.
Возражать против такого рода краткого семантического о0р„,
конечно, не приходится. Указанные К. Койком значения Tepi
«история» вполне наличны в греческом языке и были известны задь ।
до К. Койка. Он сам ссылается на Б. Снелля,1 Шеллера и Мулл.-
Можно сетовать только по поводу того, что К. Койк миновал м<н;
промежуточных значений термина «история» и вообще отказался ; -и
от исторического исследования нашей терминологии, так и о.
систематизации.
А. Тойнби. Известный английский историк А. Тойнби в и.
хрестоматии по греческим историкам 1 2 не занимается специально । ь
ческой исторической терминологией, но в числе прочего предла; к
ряд категорий, которые, по его мнению, характерны для гречей. -
исторической мысли (с. 99—168), а также касается вопросов, отш- '
щихся к искусству историка, т. е. к технике и критическим метод,
исторических исследований (с. 169—197). В качестве основных мн
горий исторического мышления у греков А. Тойнби выставляе;
менчивость или превратность исторических явлений (например,
некие жизни людей с листвой у Гомера — II. VI 146—149), смерив >
(у Геродота, VII 44—46), изменчивость (в связи с македонским ик> >
в изображении Полибия — XXIX 21 и в связи с римским игом )1
57), круговорот времени (у него же — VI 52, 10—54, 4), исполнен’^
древних предсказаний в связи с гибелью Карфагена (у того же !1,1
либия —XXXVIII 22) и Рима (у Прокопия — V 22). Далее Тош0
1 Snell В. Die Ausdriicke fur den Begriff des Wissens in der vorplatom-» ’
Philosophic. Berlin, 1924.
2 Toynbee A. Greek historical thought. N. Y., 1952.
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним
479
говорит об уравнивающей всех смерти у Плутарха (Pomp. 77—80), о
чедовеческой гордости, которая сталкивается с завистью богов и не-
преложной судьбой (например, о мудрости Солона у Геродота — I
j2—34 или о Поликрате — у него же III 39—43, 122—125), о послед-
ствиях справедливых и преступных деяний по Эсхилу в «Агамемноне»
(750—781), о непреложности и неожиданности божественных решений
по Геродоту (VII 10); об уничтожении афинского флота при Эгоспо-
тамосе (по Ксенофонту Hell. II 2); о римской богобоязненности (у
Полибия — VI 56); о непонятности божества для человека (у Проко-
дия — V 3, 5—8); о развитии, куда относятся и такие более частичные
категории, как: вырождение (например, учение о пяти веках у Геси-
ода), прогресс (в знаменитом стасиме из «Антигоны» Софокла), колесо
существования (Plat. Politic. 269 с—274 d), циклы цивилизации (Plat.
Tim. — 21 b — 23 с), непрерывность (Polib. Ill 31 сл.), универсальность
(там же, V 31, 6—33), единство (там же, VIII 21) истории; закон и
причинность (например, детерминизм у Геродота passim) или всемо-
гущество закона (у Геродота — III 38), или причинность в связи с
сущностью истории (у Полибия — XI 19), предзнаменования (у Ге-
родота, VI 98); историческая обстановка в связи с характером героев
(у него же— IX 122), в связи с политикой у Гиппократа в трактате
о влиянии атмосферы, воды и обстановки (гл. 16) и в связи с расой
(там же, гл. 24). Далее речь идет об исторических законах в связи с
опустошением Аттики у Платона (Crit. Ill а—d); о ближайших и
отдаленных причинах у Полибия (XXII 8); о философском утешении,
по Марку Аврелию (II 17), о Египте как колыбели цивилизации
(Геродот — II 48—58), о социальном эффекте греко-персидской войны
у Диодора Сицилийского (XII 1—2), о чуме в Афинах у Фукидида
(II 47—53); о египетском происхождении волхвов у Геродота (II
104 сл.), о кастах (II 164—168), о происхождении греческого алфавита
(V 58—59), о предательстве Алкмеонидами Афин (VI 121—124) и о
предательстве аргивянами Эллады (VII 148—152), о спасении Эллады
афинянами (VII 139), о влиянии на историю морского флота у псев-
до-Ксенофонта (Athen. Polit. 2, 2—8 и 11—16).
Все эти категории исторического мышления греков сами по себе
очень важны и приводимые к ним у А. Тойнби греческие тексты
®есьма интересны. Их, конечно, необходимо иметь в виду всякому
филологу, который занимается исторической терминологией греков.
Однако на вопрос о том, существенны ли эти категории для истори-
ческого мышления греков и даны ли они здесь достаточно полно,
Должен ответить историк, а не филолог. Филолог же должен иметь
удобного рода тексты, не связанные прямым образом с исторической
Рминологией, только в виде более или менее отдаленного фона для
~оих исследований. Субъективизм и возможная произвольность в
floope категорий и текстов у А. Тойнби подлежат также критике
вСгориков.
480
А. А. Тахо-Годи
Общие замечания о семантическом развитии терминов. Филоло-
гическое исследование термина должно исходить прежде всего из его
этимологии. Это не значит, что этимологическая семантика данного
термина должна повсюду оставаться неизменной. Очень часто конк-
ретное значение термина уходит так далеко от корня слова, лежащего
в основе термина, что становится совершенно неузнаваемым. Если мы
возьмем такой термин, как «метафизика», то обычное философское
значение этого термина не имеет ничего общего с тем первоначальным
представлением, которое легло в основу этого термина (т. е. сочинение
Аристотеля, помещенное в собрании его трудов после «Физики»), Тем
не менее некоторого рода семантический оттенок корня соответству-
ющего слова так или иначе все же чувствуется во всех самых отда-
ленных значениях данного термина. Даже и в приведенном примере
с термином «метафизика» во всех значениях этого термина все же
остается оттенок чего-то нефизического. Относительно греческого язы-
ка нужно сказать, что его философские термины очень часто пред-
ставляют собой не что иное, как обновление потускневшего значения
именно корня соответствующего слова.
То же самое можно сказать и о термине «история». Этот термин,
рассматриваемый именно как термин, в некоторых случаях ушел так
далеко от своего корневого значения, что уже трудно бывает заметить
и тот зрительный момент, который составляет первую часть этого
термина, и тот момент действующего субъекта, который мы установили
во второй части этого слова. И все же до самых последних дней
античности и зрительность, и познавательность, выражаемые этимо-
логией этого слова, дают себя знать и накладывают свой специфический
отпечаток даже в самом отвлеченном значении этого термина. Поэтому
будет целесообразным все же не забывать этимологию этого слова и
включить ее, пусть в сильно модифицированном виде, в системати-
ческую семантику термина.
С самого начала должно быть ясно, что чистая зрительность и ее
соединение с мыслительно-познавательным моментом, конечно, есть
достояние более ранних периодов культурного развития Греции, по-
скольку чем больше растет культура и цивилизация, тем меньше
сознание и мышление опирается на зрительные и непосредственно-
познаваемые факты и тем больше стремится к абстрактному, рассу-
дочному, разумному и вообще научному восприятию действительности
и такому же употреблению слов. Поэтому нисколько не удивительно,
что бблыпая часть значений термина «история» отличается именно
приматом познавательное™ над простой зрительностью или над со-
единением простой зрительное™ с непосредственно-познавательными
актами.
Мы считаем прежде всего целесообразным выделять в изучаемой
нами терминологаи примат зрительного момента над мыслительно-по-
знавательным; далее, мы выделяем привхождение познавательное0
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним
481
момента и известное равновесие между моментами зрительным и
мыслительно-познавательным; и, наконец, мы должны констатировать
большое количество таких значений термина, в которых господствует
рримат мыслительно-познавательного момента над зрительным.
Примат зрительного момента. Что касается примата зрительного
аад мыслительно-познавательным, то, несмотря на свою архаичность
(вероятно, чем дальше в глубь истории, тем он был сильнее), в
изученных нами текстах он все же попадается в достаточно ярком
виде. Когда объявляется, что Менелай видит (historei) луч солнца
вместо того, чтобы сказать «Менелай жив» (Aesch. Agam. 876), то
примат зрительного над мыслительно-познавательным моментом сам
собой бросается в глаза. То же самое нужно сказать и о тексте, где
говорится, что Орест увидел (existoresan) дорогу. То же — и о рас-
сматривании (historese) растений (Pint. Conv. 14) в зрительном смысле.
Навсифан (В 2) понимает историю как вымысел, не обоснованный
фактами.
Равновесие зрительного и мыслительно-познавательного момента.
Это равновесие тоже наблюдается достаточно часто. Когда Аристотель
употребляет термин historicos в отношении рассматривания рыб (Arist.
De gen. anim. Ill 8, 757b 35), то он имеет в виду как раз соответствие
внешнего вида рыб их зоологической сущности. Когда рассказывается
о каких-нибудь реально виденных событиях, то такой рассказ нередко
называется historia (Soph. Oed. R. 1150, 1156, Trach. 397, 404, 415;
Eur. Heraclid. 666, Andr. 1124, Ion 513; Herod. II 118, 119). «Историей»
называется также у Геродота пытливое разузнавание на основании
кем-то увиденного (Herod. II 19, 3; 113, 1); увиденное очевидцем
часто в противовес услышанному из расспросов (II 29), свидетельство
на основании увиденного и услышанного (Herod 1), которое в равной
мере используется Геродотом в своем повествовании. Везде здесь мы
встречаемся с рассказом, основанным на чувственном восприятии и
соответствующем повествуемому. Следовательно, здесь — равновесие
чувственного и мыслительно-познавательного момента. Однако это
равновесие относится по преимуществу к теоретической области, т. е.
к области мышления и познавания.
Но «история» как равновесие в практическом смысле слова тоже
заслуживает быть отмеченной в нашей семантической системе. Здесь
тоже много разных оттенков. Istor или histor может означать «искус-
Ный» (Hes. Opp. 792), причем здесь имеется в виду просто умный
человек. У Гомера (II. XVIII 501, XXIII 486) слово istor нужно по-
Нимать как «арбитр», т. е. как «человек», который вполне объективно
® как бы равновесно учитывает интересы двух спорящих сторон.
Момент равновесия между тем, что видит этот человек, и как он
сУДит об увиденном, чувствуется здесь весьма отчетливо.
^Ще более жизненное равновесие, выражаемое нашими терминами,
чувствуется там, где Исократ (Panath. 246) рекомендует сочинять
23 Зак 3903
482
А. А. Тахо-Годи
речи с целью воспитывать граждан, причем в эти речи, по его мнению
должна входить и «история». Эта «история» объединяется здесь и с
другими, весьма разнообразными, элементами речи.
Наконец, равновесие зрительного и мыслительно-познавательного
элемента необходимо находить и в таких значениях нашей термино-
логии, где имеется в виду художественное творчество, поскольку всякое
художество всегда отмечается равновесием и гармонией своих элемен-
тов. Вот почему в гомеровских гимнах (Homer. Hymn. ХХХП 2) музы
называются histores в пении. Сюда же относится и очень частое в
античности отождествление истории с мифологией. Оно характерно и
для ранних логографов и для логографов эллинистического периода.
Примат мыслительно-познавательного момента. Эмпирическое ис-
следование показывает, что зрительный момент вообще никогда не
выпадал из греческого понимания изучаемой нами терминологии. По-
этому даже тогда, когда мыслительно-познавательный момент доходил
до степени научного метода, как это было в эллинизме, зрительный
момент все же оставался, хотя иной раз и на втором месте. Уже у
трагиков и Геродота «история» означает вопрошание или допрос, ис-
кание, узнавание, нахождение. У Гераклита (В 129) «история» пони-
мается даже как многознайство. Очень показателен в этом отношении
Полибий, который требует от «истории» и определенного метода (IX,
2, 5), и определенного теоретического исследования (XII 4 С, 3), и
критического анализа фактов (XII 4 С, 4), и доказательного выяснения,
причем всех фактов (III 32, 6), и логической необходимости истори-
ческих конструкций (II 37, 3; III 1, 3; IV 40, 1). И тем не менее
«история» всегда для него есть некое «зрелище» (III 1, 4; IX 21, 14);
и для него глаза — всегда лучшие свидетели, чем уши (XII 27, 2).
Такой же примат мыслительно-познавательного момента над зритель-
ным мы находим и у Диодора Сицилийского, но характерным образом
«история» и мифология также и у него почти не различаются: «Ис-
тория» отождествляется с наукой также и у Плутарха, хотя ни у кого,
как у него, термин «история» получает самое обыкновенное зрительное
и обывательское значение. То же находим и у Лукиана.
Предметное значение. Это предметное значение уже часто попа-
далось нам в предыдущих семантических разделениях. Однако весьма
любопытно отметить тот труднопредставляемый для нас факт, что
греческий термин «история» в предметном смысле обозначает: 1) Ре"
шительно все факты, которые существуют как реально возможные и
как выдуманные; 2) всякие возможные вопросы, допросы, суждения,
решения; 3) свидетельства, рассказы, анекдоты, басни и мифы; 4) нау'
ку, и притом самую разнообразную, — биологию, психологию, меди'
цину, военно-политическую историю, научную теорию; также нередк0
«история» сближается и с искусством (поэзией, живописью, театром)
или с книгой. Такое универсальное значение термина «история» не
может не обращать на себя нашего внимания и, конечно, требуй
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с >шм 483
соответствующего объяснения, которое само собой вытекает из пред-
ложенного у нас выше анализа. Именно греки так глубоко сближали
зрение и мышление, что готовы были соответствующий термин с
обозначением того или другого употреблять решительно во всех об-
ластях жизни и творчества, науки и искусства. Некоторый перевес
издавна оставался, однако, за исторической наукой, для которой термин
«история» применялся более охотно и часто. И все же, как мы уже
установили, до последних дней античности, когда термин «история»
уже более или менее закрепился за историческим исследованием в
нашем смысле слова, бесконечно разнообразная семантика термина
«история» давала себя чувствовать на каждом шагу. Поэтому тот, кто
захотел бы определить античное понятие истории в нашем смысле
слова, тот меньше всего получил бы от изучения текстов с термином
historia. Однако окончательное решение этого вопроса при настоящем
состоянии филологической науки не может быть получено в полном
виде. Это возможно только с привлечением решительно всех греческих
авторов, употребляющих термин historia, и после исчерпывающего
изучения того, что греки понимали под историей, независимо от этого
термина и при помощи уже совсем иной терминологии.
Наконец, многого нужно ожидать также и от изучения латинского
термина historia, которое до сих пор в исчерпывающем виде еще не
предпринималось.
КЛАССИЧЕСКОЕ И ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КРАСОТЕ
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ИСКУССТВЕ
Вступительные замечания. Изучая классическое представление
красоты, мы решили остановиться на творчестве известного афинского
писателя, философа и политика Ксенофонта, автора записок о Сократе
(«Меморабилии»), первого авантюрно-исторического романа («Анаба-
сис»), первой романизированной биографии («Киропедия») и многих
философско-политических трактатов.
Мы выбрали Ксенофонта не потому, что он был выдающийся
писатель этого периода, но потому, что его произведения отличаются
простотой, непосредственностью изображения и отсутствием сложных
теоретических построений. Кроме того, и в самой-то классике он стоит
где-то посередине. Ему чужды строгие контуры старой натурфилософии
и космологии, в которых он очень мало разбирается. С другой стороны,
будучи учеником Сократа, он еще далек от философской систематики
и почти ничего не имеет общего с Платоном — прямым учеником
Сократа — и Аристотелем, тоже находившимся под влиянием сокра-
товской философии.
Искусство послеклассической Греции, т. е. эллинистическое, вы-
ражающее потребности углубленного в себе субъекта, создает те или
иные изысканные формы и воплощает в них окружающую жизнь.
Отсюда возникает бесконечное количество типов изображения, начиная
от безыдейного бытовизма и весьма изощренного психологизма, вплоть
до откровенного мистицизма.
Однако многочисленные произведения писателей периода эллиниз-
ма, поражающие сложностью и разнообразием своих построений и
стилей, далеко не всегда принципиально отличаются от простых по
стилю произведений классических писателей. Так, было множество
писателей, архаизирующих и воспроизводящих по-своему древнии
1
Сб. «Эстетика и наука». М., Наука. 1966.
Классическое и эллинистическое представление о красоте...
485
1щассический стиль аттической прозы и поэзии. Кроме того, писатели
паннего эллинизма еще не выработали своей специфики, а писатели
дозднего эллинизма удивляют перезрелостью своих художественных
Приемов, тоже не характерных для всего эллинизма. Поэтому, изучая
цувство красоты, выраженное в искусстве этой эпохи, мы решили
остановиться на художественном творчестве нескольких писателей
д__1П вв. н. э., носивших имя Филостратов (прадед, дед и внук),
которые как раз дали в этом отношении весьма яркие образцы («Кар-
тины») без примитивизма наивных субъективистических настроений,
но зато и без сложностей и без всякой схоластики писателей позднего
эллинизма, у которых брали верх чрезвычайно большая осознанность,
теоретичность и отсутствие непосредственности.
Чувственно наглядная или созерцательная целесообразность и
красота. Ксенофонт, продолжая развивать одну из многочисленных
линий эстетики Сократа, движется по пути, если применить античные
термины, отождествления красоты и пользы. Он отдает должное обеим
этим сферам. Прекрасным он считает все то, что вещественно и
жизненно целесообразно и что в то же время имеет самостоятельную
созерцательную ценность. Ксенофонт — большой любитель созерцания
целесообразности во всех ее жизненных проявлениях. Как типичней-
ший представитель эпохи, высоко ценившей силу человеческого ума,
он строит все на принципе целесообразности, доводя этот принцип до
самых жизненно-утилитарных выводов. Мысли Ксенофонта в этом
отношении особенно интересно сравнить с предыдущей натурфилософ-
ской ступенью античной эстетики, когда тоже утверждалась целесо-
образность, но главным образом в природе и космосе.
Ксенофонт обычно изображает предметы, созданные разумом и
волей человека, т. е. такие, в которых особенно проявляется принцип
целесообразности. Любимые эстетические объекты Ксенофонта — вой-
ско и конница, народные празднества, шествия, игры, охота и пр.
Здесь Ксенофонт развивает именно эстетическую сторону целесооб-
разности. Принципиально она содержалась уже у Сократа. Но у Со-
крата эта наглядность, созерцаемость была едва намечена, и потому
эстетический принцип грозил раствориться в телеологии. Ксенофонт
же подчеркивает как раз прекрасную сторону целесообразной дейст-
вительности и тем самым уже делает шаг к эстетике Платона (на-
помним, что платоновская идея есть нечто «видимое»). Сочетание
прекрасной видимости и целесообразной действительности проявляется
У Ксенофонта в его учении о калокагатии, т. е. единстве телесной и
Ровной красоты.1 В рассуждениях о калокагатии («Экономик») не-
трудно установить некоторое соответствие с ними тех эстетических
Лосев А. Ф. Античная калокагатия и ее типы. — Вопросы эстетики, 1960,
486
А. А. Тахо-Годи
принципов, о которых пойдет речь. Только тогда, когда Ксенофонт в
связи со специфическими свойствами художественной области проводил
свои эстетические принципы, эти последние слишком близко подходили
к деловому, предпринимательскому духу классической Греции. В со-
чинениях, не связанных непосредственно с экономикой, эстетика Ксе-
нофонта тоже не принимает столь утилитарный характер. Но и здесь
у него на первом плане мы видим рационально целесообразное уст-
роение жизни, в котором, правда, уже выражается стремление писателя
отдаться эстетическому удовольствию и созерцанию, насколько это
было допустимо для грека классической эпохи.
Ксенофонт очень внимателен ко всякого рода явлениям природы
и не только природы дикой, прекрасной в своей неприкосновенности,
но особенно преображенной деятельностью человека.
Ксенофонта интересуют прежде всего неодушевленные предметы —
вещи с их эстетической стороны. Он любуется «множеством всяких
прекрасных вещей»: «золотыми кубками, кружками, чашами, разными
драгоценностями», включая даже «огромное количество дариков» («Ки-
ропедия», V, 2, 7).1 Он любит описывать красивые панцири, шлемы,
лошадиные налобники и нагрудники, броню верховых людей. Ему
нравится, когда войско блестит медью и пурпуром, он любит вызо-
лоченные шлемы, широкие браслеты, пурпуровые, доходящие до пят
хитоны со складками, гребни гиацинтового цвета на шлеме («Анаби-
сис», VI, 4, 1—9) и т. д. и т. д.
В такой же, если не в большей мере Ксенофонта интересует живая
природа. Он не упускает случая сказать несколько слов о местности,
где происходит описываемое им действие. Рассказывая о встрече Кира
с Сиеннесием в Киликии, он пишет: «Отсюда [с горы] он спустился
в обширную и прекрасную долину, обильно орошаемую и поросшую
деревьями различных пород и виноградом. Равнина приносит также
много кунжута, гречихи, пшена, пшеницы и ячменя. Со всех сторон
она окружена тянущимися от моря и до моря крутыми и высокими
горами» (там же, I, 2, 22).1 2 Ксенофонта привлекают пейзаж, звери
и их действия: дикие ослы бегают не так, как страусы, не так, как
драхвы, и т. д.
Как известно, Ксенофонт в 80-х годах был приговорен демокра-
тическими Афинами к ссылке за свои постоянные симпатии к Спарте
Спартанцы дали ему богатое имение около Скиллунта, в Элидскои
долине, где он жил до начала войны между Спартой и Элидой. Тут
он с любовью занимался сельским хозяйством и писал свои много-
1 Xenophontis Institution Суп. Rec. A. Hug. Lips., 1900; Соч. Ксенофонт3,
ч. III. Киропедия. СПб., 1897. В тексте приводятся ссылки на название произвел3
ния; римской цифрой обозначена книга, арабскими — глава и параграф.
2 Xenophontis Anabasis. Ed. W. Gemoll. Lips., 1905; Ксеноф01)Т
Анабасис. M., 1951.
Классическое и эллинистическое представление о красоте... 487
---
численные сочинения. Он поставил в своем имении небольшой храм
Артемиде. И вот как он сам изображает эту местность и этот
храм:
«Получилось замечательное совпадение, так как через этот участок
Протекает река Селинунт и в Эфесе около храма Артемиды протекает
река того же названия; и в обеих реках есть рыба и раковины. Но
да участке у Скиллунта, кроме того, можно охотиться на всевозмож-
ных, пригодных для охоты зверей». Ксенофонт подробно рассказывает,
как он на «предназначенные для богини деньги» построил храм и
выделял аккуратно десятую часть урожая богине, причем участники
празднества получали вино, хлеб, плоды и долю мяса от жертвенных
животных и убитых на охоте. Хороший, рачительный хозяин, Ксено-
фонт не забывает упомянуть, что на священном участке есть «луг и
лесистые горы, где находят себе корм свиньи, козы и коровы» и где
пасутся кони гостей, приехавших на праздник. Вокруг же храма —
фруктовые сады, «плоды которых, когда они зрелые, съедобны». Сам
храм, несмотря на малый размер, Ксенофонт построил совершенно
похожим на великий эфесский храм, заявляя с гордостью, что сде-
ланная из кипарисового дерева статуя богини похожа на золотую
статую Артемиды в Эфесе. Самое же примечательное то, что хозяин
поместья и храма водрузил стелу со следующей надписью: «Священный
участок Артемиды. Владетель, собирающий с него доходы, обязан
ежегодно приносить в жертву богине десятую их часть, из остальных
же средств содержать храм. Если он этого не исполнит, ему воздаст
богиня» (там же, V 3, 8—13).
Во всем этом описании чувствуется вкус опытного и делового
человека, не чуждого новой богатой и роскошной городской культуры,
но предпочитающего, однако, благоденствовать на лоне природы и
наслаждаться красотой разумно организованного хозяйства, в котором
не последнее место занимает скромный храм Артемиды, окруженный
прекрасными выгонами, пастбищами и садами. Ксенофонт выступает
одновременно и в роли художника, эстетически настроенного, и в
роли искусного хозяина. Для него одно неотделимо от другого.
Ксенофонт любит все живое, проворное, гибкое, отлично выпол-
ияющее свою роль и свое предназначение. Он любуется зверями на
охоте и самую охоту считает божественным занятием, видя в ней
соединение силы и красоты, рациональной целесообразности и красн-
ого зрелища.
Вот, например, как он любуется собаками: «Прежде всего [охот-
ввчья собака] должна быть большой, затем она должна иметь неболь-
®УЮ голову с тупым носом... Глаза чтобы были навыкате, черные,
""естящие; лоб широкий с глубокими разводами; уши небольшие,
с обратной стороны голые; шея длинная, гибкая, подвижная;
Д’УДь Широкая». Делая вывод из всех этих красот охотничьих собак,
енофонт подчеркивает: «Такая собака, крепкая на вид (ta eide),
488
А. А. Тахо-Годи
легкая, соразмерная в частях (symmetroi), быстрая, имеет веселыи
взгляд и красивый рот» «Кинегетик», IV 1—2),1 т. е. такая собака не
только крепка и ловка физически, но она соразмерна, как произведение
искусства, да еще имеет веселый нрав и красивую пасть, т. е. внешние
достоинства собаки соответствуют ее нраву, А как эта собака ведет
себя на охоте! «Гоньба, — пишет Ксенофонт, — должна быть скорой,
без остановок, с сильным лаем и визгом, когда [собака] бросается
повсюду вместе с зайцем». Но и этого мало страстному охотнику и
знатоку прекрасного. «Собаки должны бежать по следу скоро и красиво
(lampros) с частыми прыжками и с настоящим охотничьим лаем, ни
не должны бросать след и возвращаться к охотнику... Кроме внешнего
вида (eidoys) и такого поведения, они должны обладать выносливостью,
тонким обонянием, подвижностью и хорошей шерстью» (там же, IV
3—6). И здесь, как мы видим, красота собаки не только в ее внешнем
виде, но и в ее выдержке и закалке. Ксенофонт — ценитель идеальной
собаки — ни во что не ставит собак «кривоногих, голубоглазых, щу-
рящихся», а главное «бесформенных» (amorphoi). К тому же они «то-
щи, слабы, плешивы, с высокими голенями, несоразмерны в частях
(asymmetroi), ленивы (apsycha), у них плохое чутье и слабые ноги».
Такая собака «безобразна на вид», тяжела в беге, в то время как
должна бежать скоро и красиво (там же, III 2—3).
Воздавая должное красоте охотничьих собак, Ксенофонт не менее
восторженно изображает и их жертву. Взгляните на зайца: «Голова
легкая, маленькая, вытянутая вперед; уши высокие; шея тонкая,
подвижная, не упругая, достаточной длины; плечевые лопатки прямые,
не сросшиеся, и на них легкие, тесно соединенные голени; грудь не
мясистая; бока легкие, симметричные (symmetroys)». По мнению Ксе-
нофонта, это животное «столь привлекательно для созерцания
(theama), что нет человека, который бы не забыл всего, что он любит,
при виде его, когда оно выслеживается, находится, преследуется и
ловится» (там же, V 30—33).
Если бы мы захотели подыскать в греческой литературе описание
классического чувства красоты, то едва ли можно было бы придумать
что-нибудь более выразительное, чем эти приведенные тексты.
Чувство естественной гибкости и силы, нежности и выносливости
весьма ярко выражено в описаниях. Кроме того, здесь именно можно
проследить новую ступень эстетического осмысления бытия, потому
что внимание фиксируется не просто на ритме и симметрии, но прежде
всего на жизни — целесообразной и сознательной человеческой дея-
1 Xenophontis Scripta minora, р. I, Ed. Th. Thalheim. Lips., 1910. p. II; HP5’’
Ed. Ruhl. 1912. Русский перевод: Ксенофонт. Сочинения. Т. V. Ревель, 189у
По этому же изданию (с поправками) цитируется «Кинегетик», «О верховой
езде», «Гиппарх» и «Агесилай».
Классическое и эллинистическое представление о красоте...
489
тедьности, а также на той внутренней пульсации живого организма,
которая внешне выражается в пластичности форм и грации движений.
Мы не будем приводить и анализировать другие места из трактата
об охоте («Кинегетик»). Но более специальное исследование позволило
gji увидеть еще массу деталей в эффектном и красивом выражении
чувства природы у Ксенофонта, природной целесообразности, а глав-
ное, вкус к соединению силы и нежности, который как раз и делает
этого писателя образцом классической эстетики вообще. Охота на
оленей, кабанов и т. д., советы по обучению собак, украшения для
собак и прочее, что относится к охоте, вместе с рассуждением о ее
воспитательном значении, физическом и моральном, — все это пред-
ставлено в творчестве Ксенофонта с жизненной простотой, изяществом
и образцовым чувством классического стиля. «Товарищи, — говорит
Кир, — каким вздором занимались мы, когда охотились за зверями в
парке! Мне кажется, это все равно, что охотиться за связанными
животными. Именно они — на небольшом расстоянии, худые и шелу-
дивые, причем одно — кривое, другое — искалеченное. Но насколько
же красивыми, насколько огромными, насколько жирными оказыва-
ются звери на играх и на лугах! Вот эти олени, наподобие пернатых,
взлетали с ликованием к небу, а эти кабаны неслись прямо так, как
говорится о храбрых людях. Правда, при их огромном росте в них
нельзя не попасть. Да они и после смерти кажутся мне более пре-
красными, чем те, загороженные, при жизни» («Киропедия», I, 4, 11).
В этих словах красноречиво зафиксировано подлинное чувство живой
красоты, наполняющей собою жизнь, как бы бьющей через край.
Любит Ксенофонт также гибких, сильных и красивых лошадей.
Будучи сам опытным кавалеристом, он оставил два трактата о лошадях,
и они наполнены все тем же ровным, деловым и в то же время
каким-то мягко эстетическим отношением к изображаемому предмету.
Ксенофонт стремится показать силу, выносливость, здоровье и полез-
ность лошади, но и в то же время он старается показать ее красоту,
статность, живую выразительность. Для него все это и неотделимо
Одно от другого.
Он советует, например, как и каких лошадей надо покупать. Он
не скупится на самые подробные наставления. Вот бежит жеребенок.
Надо смотреть, гибки ли у него колени. Если да, то можно надеяться,
нто из него выйдет лошадь с гибкими коленями, а это в лошади очень
Ценится. Шея у лошади должна иметь строение не как у кабана, но
как у петуха: она должна тянуться вверх до темени и в изгибе быть
Узкой. Тогда шея лошади будет перед всадником, а глаза ее будут
пРямо смотреть под ноги. Такая лошадь, даже если она и горячая,
Указывает меньше упрямства. Упрямы больше те лошади, которые
ае сгибают, но растягивают шею. Надо смотреть обе челюсти, тверды
°«и или мягки. Глаза должны быть выпуклые. Такие смотрят живее,
Чем впалые. Ноздри лучше, когда они широко раскрыты. Высокий лоб
490
А. А. Тахо-Годи
с челкой и маленькие уши делают голову красивее. Двойной хребе-i
мягче для сидения и приятнее на вид и т. д. Ни одна черта из
внешнего вида лошади не оставлена у Ксенофонта без внимания
Всему найдено свое место, и все взято с наиболее выгодной и эсте-
тической стороны. Особые правила — для выезженного коня. Особые
правила о здоровье и содержании лошади. Подробнейшим образом
разбирается, как всего лучше чистить лошадь, взнуздывать ее, пону-
кать, садиться. Мы узнаем, как должна учиться лошадь прыгать
перепрыгивать, спрыгивать, отпрыгивать, как нужно обращаться с
горячими и ленивыми лошадьми.
Везде, однако, на первом плане — эстетика живого тела. Даже
когда лошадь готовится для военных походов, Ксенофонт считает, что
она и в данном случае должна выражать «максимум великолепия и
видности». Поэтому он советует не тянуть без пользы за повода, ни
шпорить, не бить плетью, но дать лошади возможность в максимальной
степени проявить свою природу. Вместо того чтобы стеснять лошади
морду и нервировать ее шпорами (это могло бы относиться только к
лошадям, ведущими себя «безобразно» и «некрасиво»), надо приучать
лошадь идти со слабой уздой, держать шею вверх и изгибать голову.
Лошади это приятно, и она от этого торжествует. «Поэтому, — пишет
автор, — когда она воспитывается в том направлении, в каком она
сам проявляет себя, если она примет красивый вид, то тогда будет
испытывать удовольствие от езды и окажется величественной, грозной
и красивой (megaloprepe, cai gorgon cai periblepton)». («О верховой
езде», X 1—3). Для всего этого нужно соблюдение особых правил —
они тут излагаются Ксенофонтом, не говоря уже об особом подборе
мундштуков, колец, удил и пр.
Если у лошади гибкие ноги, короткие и сильные бедра, то путем
особого подхода к ней из нее всегда можно сделать видную, парадную,
блестящую лошадь. Надо только не обращаться с ней грубо; необхо-
димо, чтобы лошадь испытывала и ожидала поощрения. «Когда лошадь
делает что-либо по принуждению, то... это и не усваивается ею и не
является красивым. Это все равно, как если бы кто-нибудь стал стегать
или шпорить танцора. Под таким воздействием и лошадь и человек
гораздо больше совершают некрасивого, чем создают прекрасного.
Наоборот, все прекраснейшее и наиболее блистательное должно вы-
казываться по данному знаку без всякого принуждения». Один вид
такой лошади, да еще поднявшейся на дыбы, является «настолько
прекрасным, необыкновенным и восхитительным, что приводит в во-
сторг старых и молодых» (там же, XI 6—9). Организатор конницы
должен заботиться не только о собственной лошади и собственной
«блистательности». Надо, чтобы и вся конница оказалась «достойной
созерцания» (axiotheaton). Понятия «блеска» (lampron) и красования
(eyschemon) тоже интересуют Ксенофонта (там же, XI 10—13). ВсаД'
ники должны прежде всего выдерживать порядок (taxis), красивейший
Классическое и эллинистическое представление о красоте...
491
образом совершать религиозные шествия (callistas... theois pompas),
возможно, красивее ездить и (callista... hippasontai) действовать
(callista... diaprattesthai) («Гиппарх», И, 1).
Ксенофонта можно назвать певцом всякого рода празднеств, ше-
ствий, парадов, церемоний и пр. О лошадях для шествий он говорит
с особенным чувством и многочисленными деталями. Он описывает
порядок наиболее красивых шествий, понимая под этим, конечно, не
внешнюю красивость, а соответствие народным идеалам, религиозным
и национальным представлениям, а также телесной и жизненной
целесообразности. Во время афинских шествий всадники двигаются
сначала вокруг рынка и находящихся в нем храмов, объезжая все
святилища и статуи, начиная с площади Гермов. Потом хорошо пустить
нх по филам рысью до Элевсина. Копья нужно держать между ло-
шадиными ушами, «если имеется в виду сделать их грозными и ясно
видными и одновременно вызвать впечатление многочисленности».
Далее следует возвращаться назад к храмам уже шагом: «Это хорошо,
прекрасно и будет приятно для зрителей» (там же, III 2—5). Следуют
указания и относительно красивейших разъездов (там же, III 6—8)
и расположения конницы на ипподроме и в Академии. В последнем
случае говорится о «красивых» наездах, о езде верхом «скоро и прямо»,
чтобы совет «созерцал безопасность и красоту» (to asphales cai to calon
theasetai) (там же, III 9—14).
Мы не будем излагать всех советов Ксенофонта о поведении кон-
ницы на войне, которые поражают своей детальностью, разнообразием
и предусмотрительностью. Достаточно привести здесь только одно
место, которое показывает, что и здесь Ксенофонта нигде не оставлял
образ художника, своеобразно выражающего свою идею: «Никто не
мог бы ваять так, как он хочет, если бы он не ваял из материалов,
так приготовленных, чтобы повиноваться мысли художника
(cheirotechnoy gnomei). Также ничего нельзя будет сделать и с людьми,
если они, с помощью божией, будут подготовлены так, чтобы отно-
ситься к начальнику с любовью и будут идти за ним, более полагаясь
на него, чем на самого себя» (там же, VI 1). Ксенофонт всегда
ориентируется на зрителя и на «видение» (theama). Его телеология
всегда видима, зрима, рассчитана на очень сильное и в то же время
очень мягкое восприятие. Лошади надлежит быть грозной и приятной;
всаДник должен внушать зрителю чувство своей безопасности и вос-
хищать красивой посадкой; собака вынослива, но она гибкая, ловкая
и пружинистая и т. д. и т. д. Эстетическая позиция Ксенофонта,
^едовательно, вполне ясна и последовательна. Если досократовская
Эстетика базировалась на фиксации ритма и симметрии живого тела,
10 эстетика Ксенофонта исходит из жизни этого тела вообще. Мы не
Раз встречали уже его упоминания о симметрии. Его «добродетель»,
УДУчи «телом», тоже, конечно, обладает этими досократовскими чер-
*а*> «Если правило и ватерпас, — говорит он («Агесилай», X 2), —
492
А. А. Тахо-Годи
считаются прекрасным изобретением для правильных работ, то, по
моему мнению, и добродетель Агесилая является прекрасным образцом
для того, кто желает преуспеть в качестве истинного мужа». Эта
andragathia (слово, несомненно, образованное по аналогии с caloca-
gathia) означает «качество истинного, хорошего мужа» и не может не
иметь и чисто внешнего, «досократовского» устроения. В творчестве
Ксенофонта ощущается прежде всего примат «жизни», «души» над
простым ритмом и симметрией. Ксенофонт все время говорит в этом
смысле о «душе» даже собак, зайцев, лошадей.
Упорядочены и определены эстетические понятия в высказываниях
о коннице и о военном деле, в очень любимых им торжественных
выездах, парадах, жертвоприношениях, играх, призах и наградах.
Чтобы вникнуть в эстетику Ксенофонта (а вместе с тем и вообще
в античную эстетику), стоит остановиться на описании Ксенофонтом
того, как Кир выезжал первый раз из дворца.
Прежде всего Кир раздает начальникам и союзникам «красивей-
шие» лидийские костюмы — «пурпурные, темно-коричневые». Его со-
ветник хочет сделать все, чтобы выезд был для друзей «насколько
можно великолепнее», а для врагов — «насколько можно грознее».
Начальники военных колесниц облачаются в хитоны, а начальники
конницы — в особые одежды из войлока, закрывавшие все тело до
глаз. Еще до рассвета того дня, когда был назначен выезд, все было
готово. Перед дворцом стояли 4000 копьеносцев по четыре человека
и по 2000 с обеих сторон дверей, через которые должен был выходить
Кир. Персы стояли с правой стороны, союзники — с левой. Также и
колесницы. Когда раскрылись дворцовые двери, справа повели краси-
вейших быков по четыре в ряд для жертвоприношения Зевсу и другим
богам, затем лошадей — Солнцу. Появилась колесница, посвященная
Зевсу, запряженная белыми лошадьми с золотым дышлом, украшенная
цветами; далее — колесница, посвященная Солнцу, тоже с белыми
лошадьми и тоже с цветами; далее — колесница с пурпуровыми по-
крывалами, за которой несли на жаровне огонь. Наконец, показался
и сам Кир на колеснице, в прямой тиаре (загнутую носили все, кроме
царя), в пурпуровом хитоне с белыми полосами (кроме царя этот
хитон тоже никто не носил), багряных шароварах и пурпуровой ман-
тии, а на тиаре была повязка. Кир казался ростом значительно больше
своего возницы. При его появлении все пали ниц («Киропедия», VIII
3, 9-16).
Может быть, любитель исторических стилей найдет в этих изо-
бражениях народных празднеств у Ксенофонта нечто негреческое,
восточное. На это нужно сказать, что вообще очень трудно определить
ту грань, где исконная греческая влюбленность в шествия, игры и
празднества переходит в восточную. Ведь Ксенофонт пишет во второ11
четверти IV в., в эпоху, когда уже Греция подходила к эпохе эллИ'
нистических монархий и когда неодолимо надвигалась новая жизнь,
Классическое и эллинистическое представление о красоте... 493
в которой было негреческого столько же, сколько и греческого. Ксе-
вофонт в своем творчестве оставался все еще достаточно спокоен и
объективен; его творчество можно без всяких опасений отнести к
уреческой классике, оно проникнуто той «неаффектированной прият-
ностью» (inaffectata iucunditas), о которой говорил Квинтилиан и ко-
торая резко отличает его от эллинизма. Это еще пока вполне клас-
сическое чувство красоты в природе и обществе.
Стоит указать еще на одну черту эстетики Ксенофонта. (Впрочем,
связь этой черты с общим характером эстетики Ксенофонта тоже не
очевидна.) Ксенофонт считает высокий рост человека одним из при-
знаков красоты. Он опасается, как бы солдаты не забыли о возвращении
домой, находясь в обществе «высоких и красивых» мидянок и персиянок
(«Анабасис»). Упоминается не только об уме царя Кира, о его силе,
ласковости, а еще о его «красоте и росте» («Киропедия», V 1, 5).
Панфия отличается «как ростом, так и красивой наружностью и
осанкой» (там же, V 2, 7). Говрий выводит свою дочь «замечательной
красоты и роста» (там же, VIII 1, 40). Вероятнее всего, этот большой
рост у греков указывает на дородство, на свободное развитие организма,
на силу и здоровье тела.
«Анабасис» — историческая повесть, где дан четкий образ полко-
водца, организатора, тонкого знатока военного дела и солдатской
психологии, гуманного, но ловкого вождя, всегда предпочитающего
действовать словом и убеждением, но не палкой и насилием (вспомним
речи в «Анабасисе», за подчеркнутой простотой которых нетрудно
разглядеть большие и дальновидные военные идеи); портрет военной
калокагатии рисуется в «Анабасисе» с классической ясностью и опре-
деленностью.
С этой точки зрения термин agathos «хороший», «добрый», «бла-
гой») у Ксенофонта, как приходится убеждаться на основании анализа
его языка и стиля, часто имеет совсем не моральный смысл, а именно
тот, в котором больше всего проявляется красота человека.
Хейрисоф в момент очень тяжелого положения греческого войска
после измены Тиссаферна говорит солдатам, что греки не должны
падать духом, а должны выйти из этого положения «agathoys». Это
значит, что меньше всего нужно быть добрыми или хорошими, а
скорее доблестными. Хейрисоф предлагает стараться «прекрасно»
(calos) победить или, по крайней мере, «прекрасно умереть» («Ана-
басис», Ш 2, 3). Это значит, конечно, не просто прекрасно, а именно
так, как подобает человеку, исполненному калокагатии. Когда речь
идет о том, чтобы представить Критобула хорошим человеком, его
сравнивают с рулевым, полководцем, судьей и другими («Мемораби-
ЛИи*> И 6, 38),1 т. е. с людьми, у которых внутренне «хорошее»
Xenophontis Commentarii. Ed. Gilbert. Lips., 1928.
494
А. А. Тахо-Годи
совмещается с их внешним «искусством»; это слово «хороший», не-
сомненно, указывает тоже на калокагатию. Говоря о планомерном
обучении искусству управлять домом, государством («Пир», IV 6),
Ксенофонт приводит слова из «Илиады» о хорошем царе и могучем
копейщике. Термин «хороший» тут тоже близок к калокагатии. Далее
мы уже встречали текст («Пир», VIII 43) 1 с интересным термином
andragathia (доблесть внутренняя и внешняя), составляющим прямую
параллель с calocagathia (там же, VIII 38).
В «Экономике» (IV 15) речь идет об отличившихся (toys polemoi
agatoys) на войне, которые награждаются раньше земледельцев, а
затем о поощрении хороших правителей. Для хорошей обработки
земли надо вызывать у рабочих энергию и готовность к повиновению
(там же, V 15). Надо поощрять храбрых воинов, когда они идут на
войну и «если они делают то, что надо». Земля служит превосходным
средством отличить дурного человека от хорошего (agathos) благодаря
тому, что все дары ее легко понять и изучить (там же, XX 14).
Термин «agathos» можно встретить в других местах: «Экономике» (Щ
11, 14, 15) и «Агесилае» (I 1), где слова (teleos апёг agathos) «со-
вершенно хороший человек» имеют очевиднейший смысл калока-
гатии.
С этим связано чисто классическое понимание у Ксенофонта «до-
бродетели» (arete), в котором эстетических моментов гораздо больше,
чем этических. Что такое эта «добродетель?» Она воспитывается как
раз такой деятельностью, как охота, которая приносит человеку здо-
ровье, улучшает его зрение и слух, учит военному делу. Охотник
привыкает преодолевать большие препятствия и не терять присутствия
духа («Кинегетик», XII 1—8). Охота не отвлекает его от благородных
занятий, как это происходит при других удовольствиях, развивает в
людях справедливость, из них вырабатываются «хорошие воины и
хорошие полководцы, потому что прекрасны те люди, трудами которых
изгоняются из души и из тела безобразное и хамское и растет тяга
к добродетели. А такие люди не будут смотреть хладнокровно на
обиды, наносимые их городу и стране» (там же, XII 9). «Охота учит
планомерному труду и рождает прекрасные знания», а отсюда — ве-
ликая добродетель (там же, XII 18). Люди делают много дурного,
потому что они сами не видят добродетели, т. е. не видят самого тела
(soma) этой добродетели. «Если бы они знали, — продолжает он, —
что добродетель смотрит на них, то они бросились бы к тем трудам
и воспитательным мерам, которыми она с трудом достигается, и ста-
рались бы овладеть ею» (там же, XII 19—22).
1 Русский перевод по изд.: Ксенофонт Афинский. Сократически6
сочинения. М.; Л., 1935. По этому же изданию цитируются «Экономик» я
«Меморабилии».
Классическое и эллинистическое представление о красоте..
495
Ксенофонт употребил тут одно замечательное выражение — «тело
добродетели». Лучше нельзя и выразить классическое отношение к
красоте. Красота — это тело добродетели, т. е. осуществленная, фи-
зически воплощенная добродетель.
Идея жизненного порядка. Эстетика Ксенофонта есть зрительно
данная целесообразность, которую он называет порядком (taxis). «На
свете нет ничего столь полезного, столь прекрасного, как порядок»
(«Экономик», VIII 3), — пишет Ксенофонт. Значит, порядок как раз
сеть объективная целесообразность, которая воспринимается и видится
как прекрасное. Далее он продолжает: «Возьмем, например, хор. Он
состоит из людей: каждый может делать что попало, что создает
только сумятицу, на которую и смотреть неприятно; а когда те же
самые люди действуют и поют в определенном порядке, то стоит на
них посмотреть и послушать. Точно так же и войско, если в нем
порядка нет, это — полная неразбериха, для врагов легкая победа,
для друзей — пренеприятное зрелище, вообще что-то никуда не годное:
тут вместе осел, гоплит, носильщик, легковооруженный всадник, те-
лега... Напротив, войско в порядке представляет прекрасное зрелище
для друзей и очень тяжелое — для врагов. Какому другу не будет
приятно смотреть, как масса гоплитов идет в порядке? Кто не придет
в восторг оттого, что кавалерия идет стройными колоннами?» (там
же, VIII 3—9).
Порядок, по Ксенофонту, есть не только нечто полезное и пре-
красное, он не только приятен, не только радостное зрелище, он —
предмет восторга. Порядок Ксенофонт главным образом усматривает
в человеческой жизни, в жизненных вещах, социально. Исхомах —
герой «Экономика» — рассказывает Сократу о том «превосходном, в
высшей степени образцовом порядке», который он видел однажды при
осмотре большого финикийского корабля. Масса корабельных снастей,
множество приспособлений для защиты от врагов, многочисленное
оружие, утварь, товары «лежат так, что одно другому не мешает», а
помощник кормчего «даже, не глядя, может сказать, где что лежит
и сколько чего», проверяя на всякий случай все запасы, чтобы во
время бури можно было легко воспользоваться каждой необходимой
вещью, когда уже не останется времени для раздумья (там же, VIII
И-16).
Ксенофонт поистине славит порядок. «А как красиво, — восклицает
Исхомах, — когда башмаки стоят в ряд, какие бы они ни были; какой
красивый вид представляют плащи, рассортированные, какие бы они
®и были; красивый вид у постельных покрывал; красивый вид у медной
посуды; красивый вид у столовых скатертей; наконец, красиво то (это
вешнее всего покажется человеку несерьезному, а любящему поост-
рить), что и горшки, расставленные в должном порядке, представляют,
По-Моему, что-то стройное. Все предметы уже, может быть, оттого
Ка*Утся красивее, что они поставлены в порядке». По словам Исхомаха,
496
А. А. Тахо-Годи
и очень метким, «каждый сорт имеет вид хора вещей, да и пространство
в середине между ними кажется красивым, потому что каждый предмет
лежит вне его: подобным образом круговой хор не только сам пред-
ставляет красивое зрелище, но и пространство внутри его кажется
красивым и чистым» (там же, VIII 19—20).
К этому красноречивому гимну нам нечего прибавить. Целесооб-
разность этого эстетического идеала, особенно зрительное чувство
красоты, ее практическая полезность говорит сама за себя. Досокра-
товский космический разум и гармония заменены чисто человеческим
порядком жизни. Поучительно также сравнить этот порядок с порядком
в досократовской эстетике, где на первый план выступают не чело-
веческие, но космические и вообще материально-вещественные кате-
гории, и где этот «порядок» или «строй» есть природное строение
вещей, а не человечески устанавливаемый и сознательно проводимый
принцип.
Платоновские черты в эстетике Ксенофонта. В сочинениях
Ксенофонта мы отличаем три ряда мыслей, не противоречащих друг
Другу, но обладающих разными стилями.
Первый ряд — это то, что мы называем сократовской эстетикой,
второй — ксенофонтовской, в узком смысле, и третий — эстетикой
платоновской. Эти ряды легко расположить в их логической последо-
вательности и потому нет ничего удивительного в том, что они при-
надлежат одному и тому же автору. Последовательность же эта оп-
ределяется локализацией созерцательного момента на фоне общей
целесообразности. Если сократовская эстетика предполагает интерес
к чисто моральным проблемам, то у Ксенофонта она уже органически
вошла в телеологию. Наконец, в платоновской эстетике созерцатель-
ность выдвинута на первое место, так что объективно телеологический
момент часто остается совсем в тени.
Но платоновская эстетика известна своей «духовностью». И Сократ
в интерпретации Ксенофонта развивает целую теорию преимущества
духовной любви над чувственной и, следовательно, духовной красоты
над чувственной. Удивительного и неожиданного тут для нас ничего
не должно быть. Раз в эту эпоху появился опыт «души», «личности»,
«субъекта», т. е. раз вообще пробудился интерес к человеку, а не
только к космосу, наличие принципов духовной и чувственной красоты
вполне закономерно. В связи с этим эволюционирует и сам субъект,
личность в ее эстетических переживаниях.
Сократ главным образом только еще посмеивается и шутит по
поводу красоты и ее действия на человека. Ксенофонт уже всерьез
любуется ею, но замечательное спокойствие, кристальная ясность,
простота и трезвость его эстетического взгляда не дали возможности
его любованию стать неистовым, стать манией, страстью. Но к этому
пришел именно Платон. И вот черты этого платоновского эсгетиче'
ского мироощущения можно найти и у Ксенофонта. Не зная как
Классическое и эллинистическое представление о красоте...
497
сдеДУет хронологии ни Ксенофонтовых, ни платоновых сочинений, мы
яе цожем сказать, кто тут на кого влиял и кто из них предшествовал
другому. Да это, в конце концов, в данном случае и не важно. Важна
последовательность в развитии эстетической мысли. А с этой точки
зрения совершенно несомненно, что соответствующие материалы Ксе-
нофонта есть только преддверие платоновских «Федра» и «Пира», даже
если бы они появились и позже последних.
Разница в стиле этих трех типов эстетики у Ксенофонта очень
разительная. В то время как Сократ, по Ксенофонту, все время рас-
суждает и «иронизирует», сам Ксенофонт деловито и трезво строит
жизнь и спокойно любуется творимой им красотой жизни; Платон же
пылает, страстно томится, ликует, а иногда и тоскует, говоря о красоте.
Ясно, что это совсем другой стиль эстетики, как бы близко и непос-
редственно он ни был связан с предыдущим и хронологически и по
существу. Разумеется, реальному Платону были присущи не только
этот экстаз и этот восторг. У Платона можно найти и строгость
логической системы и четкую диалектику. С этой стороны у Ксено-
фонта, можно сказать, нет ровно ничего платоновского. Но указанное
восторженное эстетическое чувство красоты было и у Платона и у
Ксенофонта и не отметить его было бы невозможно.
Текстом, иллюстрацией и вместе с тем некоторым переходом от
«ксенофонтовской» линии к «платоновской» может служить «Киропе-
дия». Здесь речь идет о пленной красавице Панфии, смотреть за
которой Кир поручил своему другу детства Араспу. По этому поводу
между Киром и Араспом («Киропедия», V, 9—16), пораженными кра-
сотой Панфии, происходит разговор. Кир не только сравнивает ее
красоту с пылающим огнем, но и считает гораздо опаснее огня, потому
что «огонь жжет только того, кто до него прикасается, но красивые
простирают свое действие и на того, кто смотрит на них издали, и
притом так, что он сгорает от любви». Однако Арасп уверен, что
любовь не может помешать сильному человеку выполнить свой долг,
ибо только «жалкие людишки не в состоянии справиться ни с какой
страстью», «высокие характеры, хоть и желают золота, хороших ло-
шадей, красивых женщин, но настолько могут сдерживать себя, что
ничего этого не коснутся, вопреки справедливости» (там же).
В этом диалоге для нас немало интересных и совершенно новых
черт. Во-первых, красота очень внутренне объединяется здесь с со-
зерцательным моментом; ее сила измеряется именно силой и длитель-
ностью созерцания. Во-вторых, эта созерцательно данная красота на-
столько получает самостоятельное значение, что даже как бы отде-
ляется от вещей и от личности и начинает жить самостоятельной
Жизнью. В то время как ксенофонтовские красивые и «полезные» вещи
Сворили сами за себя и относительно их значения не возникло никаких
сомнений, в «Киропедии» эта красота поставлена в очень сложные
вощения к воспринимающему ее субъекту. Она то воздействует на
498
А. А. Тахо-Годи
его волю, то не воздействует. Красота оказывается делом человеческого
каприза, вкуса; она связывается только с субъектом, становится одним
из видов его самоутверждения. Это, конечно, не лишает ее объектив-
ности; но ясно, что в этой платоновской тенденции человеческий
субъект стал гораздо более капризным, требовательным, аффектиро-
ванным. Ему совсем не свойствен тот стиль ясности, простоты, трез-
вости, примата «порядка» и объективной целесообразности, которым
так славится Ксенофонт.
Наконец, в-третьих, и само это эстетическое сознание весьма
противоречиво: красота дает и невыразимые наслаждения, радости-
она же причина неимоверных страданий и невыразимой тоски.
С подобными идеями мы еще не встречались у античных мысли-
телей. И сейчас мы не должны терять исторической нити, приведшей
нас от сократовского образа мыслей через ксенофонтовский к плато-
новскому. Это, как мы сказали, есть эволюция «созерцательности и
целесообразности». Красота стала здесь приниматься сначала в виде
объективной целесообразности, а потом уже как чувство неистового
восторга и экстаза.
Теперь укажем еще тексты из сочинений Ксенофонта, обладающие
намеченным нами характером платонизма.
Прежде всего объективная красота, по Ксенофонту и Платону,
внутренне соответствуя любви, может иметь разные степени духов-
ности. Это и понятно в эпоху, когда «душу» стали понимать в качестве
самостоятельного начала и ставить в те или другие отношения к телу.
Более чувственную любовь и соответствующую ей красоту мы
видим, когда красавец Критобул, влюбленный в красоту другого,
рассказывает о свойствах и преимуществах красоты и любви: «...Если
я действительно красив, и вы при виде меня испытываете то же, что
и при виде человека, кажущегося мне красивым, то, клянусь всеми
богами, я не взял бы царской власти за красоту» («Пир», IV 10—28).
Критобул готов быть рабом, лишь бы повелевал тот, чьей красотой
он воодушевлен. По его мнению, красивый человек, ничего не делая,
всего может достигнуть. Он «и дню и солнцу в высшей степени
благодарен за то, что они показывают Клиния» (там же, IV 11—14).
В «Пире», очевидно, развиты мотивы «Киропедии» на ту же тему.
Но далее следует и нечто новое. Критобул уверен в том, что красота
вдохновляет влюбленных, делает их «более щедрыми на деньги, более
трудолюбивыми и славолюбивыми в опасностях и уж, конечно, более
стыдливыми и воздержанными». Критобул не сомневается, что его
красота «принесет какую-нибудь пользу людям». «И красота свойст-
венна каждому возрасту, даже старцам сопутствует красота» (там *е-
IV 15-18).
Красота и любовь рассматриваются не сами по себе, но и в своей
полезности для людей, хотя это уже не чисто утилитарная красота
какой-либо вещи. Это — польза самой красоты, объективно существ)'
Классическое и эллинистическое представление о красоте... 499
одей в мире. Такая ступень эстетического сознания, конечно, более
юздняя, чем чувство абсолютно вещественной красоты.
Такой любви к красоте свойственны наслаждение и тоска. Критобул
всегда носит в душе прекрасный образ, и обладай он талантом скульп-
^ра или живописца, то по этому образу сделал бы подобие ничуть
це хуже самого предмета поклонения.
Однако лишь «вид его самого может радовать, а вид образа не
доставляет наслаждения, а вселяет тоску» (там же, IV 21—22), —
печально заключает Критобул.
Это так и называется здесь «исступлением от любви» (там же, IV
23). Влюбленный, «словно, как люди, смотрящие на горгон, глядит
на него [на предмет своей любви ] окаменелым взором и как каменный
не отходит от него ни на шаг» (там же, IV 24).
В обычной иронической форме говорится о воздержании от поцелуев
(там же, IV 26—28). Сократ считает, что поцелуй для красавца так
же вреден, как и укус тарантула («Меморабилии», I 3, 8—15).
Рассуждение о преимуществах духовной любви и красоты («Пир»,
VIII) содержит в себе учение о целесообразности, порождаемой самим
созерцанием. До сих пор мы встречались или с целесообразностью
объективной, т. е. известным распорядком вещей, осуществляющих
ту или иную цель, или целесообразностью объективной и созерца-
тельной, таким распорядком вещей и таким устройством каждой вещи,
когда их подчиненность тем или другим целям каждый раз специально
выражена и ощущается человеком. Теперь оказывается, что самая эта
созерцательность тоже обладает собственной объективной целесооб-
разностью, что созерцание красоты предметов в жизни есть не что
иное, как созерцание красоты. Нетрудно заметить, что это дальнейшая
эволюция все того же и единственного принципа телеологии. Созер-
цательный момент, как бы он ни был там силен, все же находится в
неразрывном единстве с самым целесообразным бытием. В созерца-
тельности изображения собак, зайцев и лошадей заключалась объек-
тивность. Но ведь целесообразность может быть в самом созерцании,
как таковом, причем об объективной целесообразности самого-то пред-
мета здесь может и совсем не ставиться никакого вопроса.
Основной тезис «Пира» — о превосходстве любви духовной («Пир»,
VIII 9—10). «Одна ли Афродита или две — небесная (Урания) или
асенародная (Пандемос) — не знаю: ведь и Зевс, по общему признанию,
°Дин и тот же имеет много прозваний; но что отдельно для той и
ДРУГОЙ воздвигнуты алтари и храмы и приносятся жертвы: для все-
народной — менее чистые, для небесной — более чистые — это знаю.
Можно предположить, что и любовь к телу насылает всенародная, а
к Душе, к дружбе, к благородным подвигам — небесная» (там же).
Исходя из этого тезиса, изображаемый Ксенофонтом Сократ по-
лагает, что «любовь к душе гораздо выше любви к телу» (там же,
13), и доказывает это учением о пользе «душевной» любви.
500
А. А. Тахо-Годи
Именно в общении людей самое главное — дружба, а дружить
можно только с душой человека, а не с телом. Далее, тело меняется
исчезает и даже гибнет, а душа не подвержена этому. Общение с
телом вызывает пресыщение, а «любовь к душе по своей чистоте не
так скоро насыщается», хотя от этого она не становится менее приятной
Душа любящего «цветет изящной внешностью (thalloysa morphei te
eleytheriai), нравом скромным и благородным», а это лучшее условие
для общений (там же, VIII 10—16). «А если люди взаимно любят
друг друга, разве не станут они смотреть один на другого с удоволь-
ствием, разговаривать с благожелательностью, оказывать доверие друг
другу, заботиться друг о друге, вместе радоваться при счастливых
обстоятельствах, вместе горевать, если постигнет какая неудача, ра-
достно проводить время, когда они находятся вместе здоровые, а если
который заболеет, находиться при нем еще более неотлучно, в отсут-
ствие заботятся друг о друге еще более, чем когда оба присутствуют?
Все это разве не приятно? Благодаря таким поступкам они любят эту
дружбу и доживают до старости с нею» (там же, VIII 18).
«Человек, обращающий внимание только на наружность, — говорит
Сократ, — мне кажется, похож на арендатора земельного участка: он
заботится не о том, чтобы повысить его ценность, а о том, чтобы
самому собрать с него как можно больший урожай. А кто жаждет
дружбы, скорее похож на собственника имения: он отовсюду приносит
что может и возвышает ценность своего предмета» (там же, VIII 25).
Оба они, и любящий и любимый, должны становиться от любви
добродетельными; вместо бесстыдства и неумеренности они внушают
друг другу умеренность и стыд (там же, VIII 26—27).
Словом, красота и любовь должны быть полезны сами по себе,
если они постоянны. Польза в жизни — вот и условие любви и ее
результат. «.. .Если хочешь ему [предмету твоей любви ] нравиться, —
продолжает Сократ, — надо смотреть, какого рода знания дали Фе-
мистоклу возможность освободить Элладу; смотреть, какого рода све-
дения доставили Периклу славу лучшего советника отечества; надо
исследовать также, какие философские размышления помогли Солону
дать такие превосходные законы нашему городу; надо доискаться,
наконец, какие упражнения способствуют спартанцам иметь репута-
цию лучших военачальников» (там же, VIII 37—39). Граждане сами
увидят, что человек в любви стремится к добродетели; и эта добродетель
будет приобретать «все больший блеск славы» (там же, VIII 43).
В этом красноречивом доказательстве преимущества любви духов-
ной проводится очень ясная идея: красота и соответствующая ей любовь
имеют значение в жизни сами по себе. Любимый прекрасен. И в
жизни имеет огромное значение не только то, что любимый сам п°
себе здоров, силен, умен и т. д., но именно его красота сама по себе’
Она — тоже начало дружбы, людского единения и общечеловеческой
добродетели. Она целесообразна сама по себе, даже если бы человек
Классическое и эллинистическое представление о красоте...
501
L такой красотой и не был бы здоров и силен и обладал бы несовер-
шенным умом (например, дети или старики). Перенос телеологического
Принципа в недра самой красоты, в недра самого ее переживания и
созерцания очевиден.
Что принесла нам созерцательно данная целесообразность, когда
Ксенофонт рисовал нам, как живых, своих лошадей, собак, зайцев и
самих людей? Она дала нам возможность видеть внутреннюю жизнь
зкивых существ так. будто она была вещественной, телесной, зрительно
ощутимой жизнью. По существу же, тут мы начали входить в сферу
некоего эстетического самодовления, потому что видели воочию жизнь
учяотных. Однако на более высокой ступени мы начинаем ощущать
не просто внутреннюю жизнь живых существ, но их внутреннюю
уичнь в ее созерцательной данности, т. е. зримый умственным взором
ее внутренний смысл.
Вначале предмет нашего эстетического переживания находился в
теснейшей связи с самой жизнью, с самим бытием, находился, стало
быть, в процессе -'тановления. Затем первенство принадлежит самому
созерцанию, а созерцание, даже когда оно имеет своим предметом
становящееся бытие, превращает созерцаемое в нечто устойчивое,
пришедшее к завершению, ставшее.
Следовательно, примат созерцания практически пришел к утвер-
ждению устойчивого, пришедшего к завершению смысла созерцаемого
предмета. И потому содержанием этой предметности является уже не
жизнь в биологическом смысле (самих животных или же людей) и
не тот или иной результат человеческой деятельности и порядка, но
разумный человек как таковой, человек в полноте своего личного,
разумного и разумно выявленного существования.
И, таким образом, если у Сократа целесообразность была нечто
одно, а космос, создаваемый по ее принципам, нечто другое, и если
У Ксенофонта она совпала с этим космосом в одно нераздельное бытие,
то на анализируемой сейчас ступени сама целесообразность есть и в
предмете содержания, и в созерцающем субъекте. И здесь уже не
просто созерцание целесообразного космоса. Мы здесь сталкиваемся с
платоновскими идеями, которые тоже выражают космос и в них на-
ружно и мысленно, зрительно даны и его внутренняя жизнь, т. е.
«Душа», и его внутренний смысл, т. е. «ум». Однако здесь мы уже
переходим к принципам платоновской философии.
Можно привести одно место, которое, при всей своей краткости,
очень ярко свидетельствует о наступлении новой эстетической ступени
и о том, как она незримо зарождается в недрах человеческого сознания.
Изображается прекрасный юноша Автолик и впечатление, оказываемое
на присутствующих:
«Всякий, кто обратил бы внимание на то, что происходило, сейчас
* пришел бы к убеждению, что красота по самой природе своей есть
Что Царственное, особенно если у кого она соединена со стыдливостью
502
А. А. Тахо-Годи
и скромностью, как в данном случае у Автолика. Во-первых, как
светящийся предмет, показавшийся ночью, притягивает к себе взоры
всех, так и тут красота Автолика привлекла к нему общее внимание-
затем все смотревшие испытывали в душе какое-нибудь чувство: одни
становились молчаливее, а другие выражали чувство даже какими-
нибудь жестами. На всех, одержимых каким-нибудь богом, интересно
смотреть; но у одержимых другими богами вид становится грозным
голос — страшным, движения — бурными; а у людей, вдохновляемых
целомудренным Эротом, взгляд бывает ласковее, голос — мягче, же-
сты — более достойными свободного человека. Таков был и Каллий
тогда под влиянием Эрота, и людям, посвященным в таинства этого
бога, интересно было смотреть на него. Итак, гости обедали молча
как будто это повелело им какое-то высшее существо» («Пир», I 8—11).
Тут — высшая точка классического античного чувства красоты, та
вершина его, когда оно переходит на новую качественную ступень, и
Ксенофонт в своих рассуждениях уже достиг этой ступени. Но чувства
его, при всей их силе отчетливости, еще лишены логической ясности.
Эту ясность вносит Платон.
Выяснив на примере Ксенофонта наиболее специфичные для клас-
сической Греции эстетические принципы, перейдем к эпохе эллинизма
и посмотрим, как сказались 600 лет, отделяющие Ксенофонта от
Филостратов, на их восприятии прекрасного.
Как известно, большое развитие личности в эпоху эллинизма
чрезвычайно усложняло и обостряло интересы человека, его воспри-
имчивость к окружающему миру. Для эллинистического художника
скульптура классики, как бы она ни была любима, не могла уже
выразить все. Не случайно наряду с усложненно психологическим
скульптурным портретом в эпоху эллинизма развивается декоративная
живопись, основанная на великолепной перспективе, полная света и
ярких красок. Человека эпохи эллинизма привлекает уже не только
сюжетность художественного произведения, но те выразительные сред-
ства, которыми передаются древние мифологические сюжеты. Миф
предстает то в мраморе, то в живописи — сиянии и блеске красок, а
порой в незаметных переходах от света к тени, отражающих прихот-
ливую игру воображения художника. И это воображение, эта фантазия
уже не имеют ничего общего с классической античностью, с ее ува-
жением к объективной истине мифа и бытия.
В творчестве Филостратов всего заметнее любование красками и
стремление предаться свободному полету фантазии. Именно на данных
вопросах мы и остановимся, исследуя описание картин, сделанное
этими тонкими знатоками эллинистического искусства.
Филостраты, их чувство света и цвета в живописи. С именем
Филостратов связано несколько дошедших до нас крупных произве-
дений. Главнейшими из них являются «Жизнь Аполлона Тианского»’
принадлежащая Филострату-прадеду, и «Образы», или «Картины»
Классическое и эллинистическое представление о красоте...
503
(gicones), из которых две книги принадлежат Филострату Старшему-
деду и одна — Филострату Младшему-внуку. Известны, таким обра-
зом, несколько Филостратов II—III вв., обладающих приблизительно
одним и тем же стилем, что не раз уже отмечалось в науке.
Для нас особый интерес представляют «Образы». Эти «Образы»
есть не что иное, как картины, т. е. тут мы находим собрание описаний
ддМЯТНИКОВ живописи.
филостраты как будто бы ходят по музею, останавливаются перед
каждой картиной и дают ее описание. Эти описания полны риторики,
всяких искусных приемов и даже нарочитой вычурности изложения.
Уже давно было высказано мнение, что Филостраты не имели перед
собой никаких картин, а все, что ими написано по этому поводу, есть
чистая фантазия. Однако вряд ли с этим можно целиком согласиться.
Для обычных риторических упражнений эти описания слишком об-
стоятельны, и невозможно себе представить, чтобы все они были от
начала до конца сочинены. Тем не менее риторический характер этих
«Картин» слишком бросается в глаза, чтобы не считать его самой
основной особенностью эстетики Филостратов. Риторика — это то, что
в данном случае выражает внешнее. Что же касается их принципиально
эстетической позиции, то ее можно охарактеризовать как очень вос-
торженное отношение к произведению живописи, без формального и
вообще рационального анализа; позиция Филостратов очень близка к
принципам эстетического восприятия Лукиана.1
Очень показательно для эпохи Филостратов и интересно само по
себе уже то, что пишет Филострат Старший вообще о живописи во
введении к своим «Картинам» (речь пойдет о двух книгах его «Кар-
тин»).
«Тот, кто не с любовью занимается живописью, — пишет он, —
тот грешит и против истины и против мудрости, свойственной поэтам,
потому что и там и здесь — одинаковое стремление к изображениям
и деяниям героев; и он не оценивает также симметрии, при помощи
которой искусство и касается разума (logoy). Как для того, кто хочет
мудрствовать об изобретениях богов при помощи изображения земных
предметов, которые Оры рисуют в виде лугов, а также при помощи
небесных явлений, так и для того, кто исследует происхождение
искусства, подражание хотя и оказывается старейшим и наиболее
Родственным природе изобретением, но выдумали его мудрые люди,
назвавши одно его свойство живописью, другое пластикой. Существует
много видов пластики, а именно — скульптура в меди, резьба из белого
или паросского камня, слоновой кости и, клянусь Зевсом, — резная
пластика. Живопись, однако, возникает благодаря краскам, но создает
__ __ Тахо-Годи А. А. Некоторые вопросы эстетики Лукиана. — Из истории
Эстетической мысли древности и Средневековья. Изд-во АН СССР. М., 1961.
504
А. А. Тахо-Годи
не только изображение, а еще и большее, хотя и только с помощь^,
этого одного средства, т. е. возникает из многих [приемов ] новое
искусство, которое наносит тень и заставляет узнавать взоры то без-
умца, то страдающего или радующегося, знает блеск глаз, каков оц
есть [в действительности], что иной ваятель делает весьма неискусно
рисовальное искусство знает взоры и сверкающие, и грозные, знает
и белокурую шевелюру, и огненную, и солнечную, и цвет одежды и
оружия, спальни и дома, и рощи, и горы, и источники, и эфир, в
котором все это находится».1
В классической Греции никогда в такой мере не превозносилась
живопись. Даже у Лукиана, как мы знаем, искусство слова, риторика
оказывается выше всего. Учение о первостепенности искусства глаза
и руки могло появиться только как очень зрелый продукт эллинисти-
ческой эпохи. И это тесным образом связано с основными предпосыл-
ками эллинистически-римского мироощущения вообще. Важно и то,
что Филострат понимает живопись исключительно как искусство
света, цвета и их оттенков. Светом и цветом живопись достигает
точно того же самого, что и поэзия, если не больше, и даже тех
результатов, которые обычно именуются истиной и мудростью.
Живопись как акт мудрости — вот к чему пришло эллинистиче-
ско-римское искусствоведение. Такая эстетическая позиция уже далеко
выходила за пределы не только искусствоведческой дисциплины как
таковой, но, собственно говоря, даже за пределы эллинистического
мироощущения вообще, по крайней мере, в бессознательной и слепой,
чисто интуитивной форме.
Итак, живопись есть акт мудрости. Чего же достигает эта мудрость?
В картине «Эроты» изображаются существа, вьющиеся около яб-
лонь. «На конце ветвей яблоки, золотые, огненно-желтые, солнечные,
привлекают к себе целый рой эротов, желающих их вкусить. Колчаны
[божков] вышиты шелком, они золотые, так же, как и стрелы, вло-
женные в них. Многие божки без колчанов. Эроты легко разлетаются,
развесив по яблоням колчаны, а пестрые плащи лежат на траве.
У эротов пышная шевелюра. Крылья у них темно-синие, пурпурные,
а у некоторых золотистые; крылья ударяют о самый воздух, производя
гармоничные звуки. А что за корзинки, в которые они кладут яблоки^
Они украшены сердоликами, смарагдами и настоящими жемчугами.
Это сочетание должно напоминать о Гефесте» (I 6).
А вот картина, изображающая рождение Афины из головы Зевса
Она выходит в полном вооружении: доспехи сделаны из материала,
1 Philostrati maioris imagines. Ed. Benndorf-Schenkl. Lips., 1893. Philostraf
minoris imagines et Callistrati descriptiones. Ed. Schenkl-Reisch. Lips., 1902. 'Этс1'
перевод и последующие, где необходимо было соблюдать особую точность ®
передаче терминов, принадлежит нам. Ссылки даны в тексте: римской цифр01
обозначена книга, арабской — глава.
Классическое и эллинистическое представление о красоте...
505
к0Торый, пожалуй, никто и не встретит, потому что он отливает всеми
цветами радуги. А вот море. Оно отражает краски Амимоны: белую,
золотую; вода пронизана сиянием и даже смешана с ним. Волны
^еркают лазурью, а Посейдон делает их пурпурными. Менойкей,
один из фиванских героев, изображен не бледным, не «изнеженным»;
еЮ тело наподобие цвета меда. Человеческие тела кентаврид срослись
с корпусами белых и рыжих лошадей. Белые кентавриды — с черными
кобылицами. Кожа их блестит, как у хорошо откормленных коней...
«Самые противоположные цвета объединяются тут в прекрасное со-
четание» (II 3).
В картине «Родогуна» изображается «черная лошадь с белыми
ногами и грудью. Она дышит и ноздри ее белы, на лбу у нее пятно
в виде правильного круга» (II 5). Амазонка украшена «каменьями,
ожерельем и всякими изящными украшениями». Ее глаза — смесь
черноты и блеска, любви и веселого задора. Ее уста нежны и наполнены
любовной зрелостью, губы — цветущие и вот-вот заговорят по-грече-
ски... «Огонь не желтый, не обычного вида, но златовидный и солн-
цевидный» (I 1). Лошади, с которыми охотятся на диких свиней,
«нисколько не похожи одна на другую — белые, рыжие, черные, пур-
пурные, с серебряными уздечками в крапинах и с золотыми бляхами».
Юноша сидит на белой черноголовой лошади с белым кругом на лбу;
у лошади золотые бляхи и блестящая уздечка. Одежда же у наезд-
ника — плащ цвета морского пурпура, который несколько угрюм в
тени и блестит на солнце (I 28).
Эта замечательная чуткость к цветам и свету, небывалая во всей
античности, нигде, однако, не объединяется у Филострата ни с какими
эстетическим восприятиями. Филострат ограничивается простым опи-
них цветовую сторону; и мы совсем не
эстетически-теоретическую цель он пре-
санием картин, выдвигая в
знаем, какую сознательную
следует этими описаниями.
Необходимо отметить и еще некоторые черты, особенно выдвига-
емые Филостратом в описываемых им картинах. К числу таких же
ярких, но чисто описательных относятся частные термины — «неж-
ность», «нежное», «мягкость», «нега». Детеныши, вылезающие из
Нила, — «нежные и улыбающиеся» (I 5). Мальчик Ахилл — «нежный,
№ уже гордый и легкий в беге», с «приятной и подвижной шевелюрой»,
’Ик будто бы ее треплет «играющий Зефир», а сам он «издает нежный
смех» (П 2). Космос — демон празднеств и ликований — «молод» и
*8ежен»; и его «венок из роз нужно хвалить, но не из-за вида, потому
подражать желтыми и темно-синими красками образам цветов
^большой труд, но хвалить необходимо мягкость венка и нежность»
у 2). Мы встречаемся с такими выражениями, как «нежное одеяние»
У Пелопса (I 30). «Белую, как слоновая кость, Афродиту в нежных
ртовых рощах воспевают нежные девы» (II 1). «После игры на
* еите спит нежный (habros) сатир на нежных цветах, а Зефир тихо
506
А. А. Тахо-Годи
колышет его волосы» (I 20). Речной бог Мелес валяется в шафране
и лотосе, наслаждаясь гиацинтом и «имея вид нежный (eidos habron)
мальчишеский, но не наивный» (II 8).
Филострат любит яркие контрасты. Их мы уже встречаем выше
например, в образе амазонки Родогуны. Сюда можно было бы прибавить
(II 5) еще изображение ее мягких волос, умеряющих ее дикость и их
полный беспорядок, подчеркивающий ее вакхичность. Кентавры-жен-
щины похожи то на наяд, то на амазонок; их лошадиный круп
превращает женскую «нежность» в мужскую силу (II 3). Жрицы в
«Додоне» имеют вид «угрюмый» и «священный» (II 33). Сатиры при-
ятны, когда пляшут, скоморошничают, улыбаются, но они — «твер-
дые», с чересчур длинными ушами, дикие, жесткие и шершавые
демоны (I 22). «Страшным» изображен Аякс в сравнении с корректными
Агамемноном и Менелаем (II 7) и т. д.
Чувство жизненной насыщенности красоты в творчестве Филост-
рата Старшего. Его произведения принадлежат к числу совершенно не
исследованных и о них нужно писать специальную работу. Однако уже
приведенных наблюдений достаточно для того, чтобы судить о своеобра-
зии этого писателя и о необычности его рассуждений. Действительно,
произведения Филострата, кажется, единственный во всей античной ли-
тературе памятник яркого опыта и вкуса к живым, выпуклым изображе-
ниям. Собственно говоря, то, о чем писал Филострат Старший, трудно
назвать эстетикой, если последнюю понимать только в научно-система-
тическом виде. Тут нет, конечно, в строгом смысле и искусствоведческой
точки зрения. Филострат не оперирует никакими специальными и науч-
ными категориями, он лишь умеет передавать непосредственное впечат-
ление от картины. В этом смысле «Картины» Филострата есть нечто не-
превзойденное и в античной литературе уникальное.
Существенным содержанием описаний Филострата является острое
чувство духовно жизненной насыщенности художественной формы, фи-
лострат особенно любит всматриваться в глубину искусства. Его интере-
сует главным образом полнота художественной формы, ради чего он
забывает и внешнюю сторону самой формы. Его постоянный предмет
восхищения и любви — это нежность шеи, пышность тела, легкость по-
ходки и движений, переполненные любовью глаза, щеки, губы, рот, грудь
и все тело. Надо прочитать описание идущей на смерть, но спокойной,
прекрасной, преисполненной негой и любовью Панфеи (II, 9) или рассказ
о картине, изображающей аффективную, сильную, дикую, но в то *е
время женственную и нежную амазонку Родогуну (II, 5), и сразу станет
понятно, что для Филострата слишком скучны и бессодержательны хУ'
дожественные формы в их отвлеченной структурности и что для него
важнее «милое», «прелестное», «ласкающе женское», «сладкое», «веселя-
щее», «любовно возбужденное» в искусстве.
Классическое и эллинистическое представление о красоте... 507
Если александрийцы пристрастились к сухой форме искусства, не
лнтересуясь его властной духовно трепетной насыщенностью, то Фи-
дострат упивается этой последней, презирая описательные и схема-
тические подходы и толкования.
Приведем в заключение еще несколько примеров из текстов Фи-
дострата Старшего.1 Картина, прозаически названная «Болото» (I 9),
изображает «чудесный водоем» с «самой красивой водой» из горного
источника. Посередине бассейна «растут амаранты с нежными коло-
сками», в окружении эротов, восседающих на лебедях, «птицах свя-
щенных с уздой золотою». Вокруг берега стоят «более музыкальные
из лебедей и в такт подпевают воинственный марш», сопровождающий
состязание эротов на водной глади бассейна. Юный ветер Зефир обучил
этой песне лебедей. «Нарисован он нежным и ласковым — и поэтому
ты угадаешь его дуновенье; и крылья у лебедей распущены, чтобы,
ветер ловя, могли они ими бить по воздуху».
А вот картина «Рыбаки» (I 13). «На голубой поверхности моря»
снуют рыбы. «Черными кажутся те, которые плывут вёрхом; менее
темными те, которые идут эа ними; те же, что движутся следом за
этими, совсем незаметны для взора; сначала их можно видеть, как
тень, а потом они с цветом воды совершенно сливаются: и взор,
обращенный сверху на воду, теряет способность что-либо в ней раз-
личать». Тут же и толпа рыбаков. Все они загорелые. «Их кожа, как
светлая бронза». Один из них закрепляет весла, другой гребет, «сильно
вздулись у него мускулы рук». «Третий покрикивает на соседа, под-
бодряя его, а четвертый бьет того, кто не хочет грести». Богатый улов
радует рыбаков, и они не знают, что делать с таким количеством
рыбы. Тогда они приоткрывают сеть и часть рыбы ускользает в море.
Филострат сентенциозно замечает: «Так богатый улов делает их щед-
рыми». Здесь, как мы видим, настоящая бытовая сцена с очень жиз-
ненными подробностями.
Картина «Семела» (I 14) посвящена появлению Зевса с громом и
молниями у фиванской царевны. «Из глаз [молнии ] исходит ослепляю-
щий блеск». «Огненная туча» разражается над домом Кадма; Семела
гибнет. Но из этого огня рождается Дионис, в то время как Семелу,
вознесенную на небо, принимают музы, славя песнями. «И меркнет перед
ним весь этот огонь, так как сияет он сам, как звезда, что кидает свой
«ркий свет». На заднем плане картины сквозь огонь неясно виднеется
гРот, приготовленный для Диониса. «Вокруг этого грота цветут виноград-
ные лозы; свисают грозди плюща и уже созревшие виноградные кисти, а
Деревья для тирсов поднимаются из земли, которая их охотно дает в таком
вцде, будто иные из них в огне».
. Филострат (Старший и Младший). Картины. Перевод С. П. Кондратье-
*• 1936.
508
А. А. Тахо-Годи
Картина «Мидас» (I 22) изображает фригииского царя, которого
автор картины характеризует такими терминами, как «пышный», «из-
неженный», «ухаживающий за своей прической». В его «полусонных
глазах» выражено «чувство удовольствия, которое переходит в том-
ность».
А вот картина «Охотники» (I 28). Знатный юноша, почти мальчик
едет на белой лошади. Голова у нее черная, на лбу вырисовывается, «как
полная луна, белый круг». Убор коня золотой, а уздечка его, «как лидии-
ский шафран», «хорошо гармонирует с золотом», так же, как и «огненно-
красные камни рубинов». На мальчике накидка цвета «финикийского
пурпура», который «на первый взгляд кажется фиолетовым»; она будто
бы «обрызгана солнечным светом или цветами радуги». Мальчик улыба-
ется, глаза у него «блестят от веселья»; «свободно вьются его волосы».
Щеки его румяны, форма носа «изящна». Но главное то, что на картине
выражены «его внутренние качества и его ум», — заключает Филострат.
Филострат Младший. Остается сказать несколько слов относительно
Филострата Младшего, который тоже написал сочинение под названием
«Картины» в подражание и дополнение к «Картинам» своего деда.
В предисловии Филострат пишет: «Прекрасно и важно дело ху-
дожника; кто хочет стать действительно крупным художником в своем
искусстве, должен уметь внимательно наблюдать природные свойства
людей, быть способным подметить черты их характера даже тогда,
когда они молчат, заметить, какое выражение появляется на их лицах,
как смена душевных чувств отражается в глазах, что выражается тем
или другим очертанием бровей — одним словом все, что должно от-
носиться к духовной жизни людей». Только овладев этой способностью,
художник сможет передать душевное состояние человека и создать
образ, который хочет отобразить в каждом отдельном случае.
Художник должен «подойти к вещам несуществующим так, как
будто бы они существуют в действительности, дать себя ими увлечь
так, чтобы считать их действительно как бы живыми, в этом ведь
нет никакого вреда, а разве этого недостаточно, чтобы охватить вос-
хищением душу, не вызывая против себя никаких нареканий?»
Здесь мы сталкиваемся с хорошо знакомыми нам идеями. Во-пер-
вых, автор говорит о наблюдательности и верности природе. Во-вторых,
он выдвигает требование выявления внутренней жизни духа через
адекватные внешние выражения. Обе черты глубочайше связаны с
основами позднеэллинистического мировоззрения. К этому, в-третьих,
присоединяется общеантичный принцип строгой упорядоченности и
соразмерности, о чем читаем в том же предисловии следующее:
«Мне кажется, что древние ученые много уже писали о симметрии
в живописи, установив своего рода законы пропорциональности от-
дельных частей тела; ведь невозможно, чтобы кто-либо мог хорош0
выразить душевное движение, если оно не будет гармонировать °
внешними проявлениями, установленными самой природой. Ведь не-
Классическое и эллинистическое представление о красоте 509
естественное и лишенное соразмерности тело не может передать нам
какого движения, так как природа творит все в строгом порядке».
Наконец, в-четвертых, Филострат Младший с большой четкостью
0 прямотой формулирует задачу живописи, которая становится все
более свойственной для духа его времени. Он пишет: «.. .это искусство
П^еет в известном смысле родство с искусством поэзии»; «...общей
-ля обеих [для живописи и поэзии] является способность невидимое
делать видимым; ведь поэты выводят на сцену перед нами воочию и
богов и все то, в чем есть важность, достоинство и чарование; также
л живопись передает нам в рисунке то, что поэты выражают в словах».
Здесь выставлен общий принцип искусства, который назревает и
детализируется в течение всего эллинизма.
Что же касается самих описаний Филострата Младшего, то им
свойственна общая филостратовская манера. Здесь и девушки (1)
«Красоты удивительной», проявляя «цветущую женскую прелесть»,
они «нежно» смотрят «огромными» глазами, щеки их «цветут румян-
цем» (D- Здесь и деревья слушают Орфея (7). «Сосна с кипарисом,
ол*>хя и все остальные деревья, соединив свои ветви, как руки, стоят
вокруг Орфея». Сам Орфей сидит здесь. У него пробивается «мягкий
юный пушок бороды», на голове у него «высокая златотканая тиара»;
его взгляд одновременно «мягкий, решительный и воодушевленный».
«Брови его указывают на высокий смысл его пения. Одежда его
отливает различными цветами, изменяясь при всяком его движении».
Кони, изображаемые Филостратом Младшим (10), «мечут огонь из
своих темно-синих, как море, глаз», шеи у них «лазоревые». Они несутся
в стремительной скачке. «Ноздри у них раздуваются», «шея высоко под-
нята», взгляд их «горящий», дыханье «бурное», тела исхлестаны «до кро-
ви», а пыль и пот, покрывшие их, не дают даже рассмотреть масть этих
скакунов (10). Вспомним, что Ксенофонт, описывая лучших лошадей,
подчеркивал в них приспособленность к потребностям человека или давал
советы для ухода за лошадьми. У Филострата мы находим как бы мгно-
венную зарисовку отдельных моментов бега бурно скачущей лошади и
чувственно зримое восприятие этого бега.
^Подражание» и «Фантазия». Теперь перейдем к учению одного
из Филостратов о двух фундаментальных понятиях эстетики, встре-
чающихся в «Жизни Аполлония Тианского».1
Прежде всего речь идет о знаменитой проблеме подражания: ис-
кусство состоит из подражания реальной действительности, а также
Из различного рода комбинирования явлений этой действительности
‘В 22, 6.12). Но в искусстве мы находим и такие вещи, которых
иикто не видел в действительности: кентавров, колесницу солнца и
Flavii Philostrati opera. Ed. C. L. Kayser. Ijps., 1870. Ссылки в последующем
'ЯССГе Даются по данному изданию. (Перевод наш. — Авт.).
510
А А Тахо-Годи
т. д. Это заставляет нас различать два рода подражания. Уже когда
мы рассматриваем однокрасочный рисунок и мысленно добавляем недо-
стающие там краски, мы пользуемся подражанием отнюдь не просто
как воспроизведением. Чтобы оценить образ Аякса, мы должны иметь
какое-то представление о его образе, так как иначе не может быть
ровно никакой оценки. Значит, есть какое-то особое подражание в
уме, в духе.
Впрочем, небезынтересно обратить на этот текст особое внимание
(II 20.22).
Аполлоний прибыл со своим ассирийским спутником Дамисом в
индийскую столицу Таксилу. Они рассматривают в храме Александра
изображения времен битвы Александра с тогдашним индийским ко-
раблем Пором; между ними происходит беседа, которую приводим
здесь полностью.
«Дамис, — спросил Аполлоний, — представляет ли собою что-ни-
будь живопись?» — «Да, — ответил тот, — если только и истина [пред-
ставляет собой что-нибудь ]». — «Но что же делает это искусство?» —
«Оно смешивает краски, какие только существуют: синюю с зелено-
ватой, белую с черной, зеленую с желтой». — «Однако, — сказал Апол-
лоний, — ради чего оно так смешивает? Ведь не ради же одного цвета,
как это делают нарумянивающиеся женщины». — «Ради подража-
ния, — ответил Дамис, — т. е. ради изображения собаки, лошади,
человека, корабля и всего, на что взирает солнце. Даже и самое
солнце изображается иногда на четверке лошадей, как это принято
[на Востоке J; другой раз — солнце освещает небо, когда [это искусство ]
рисует эфир и жилище богов». — «Так, значит, живопись есть подра-
жание, Дамис?» — «Что же еще другое?» — ответил тот... Аполлоний
на это сказал: «Ну а то, что видно на небе, когда облака располагаются
так, что формой напоминают кентавров и химер, а также, клянусь
Зевсом, волков и лошадей, — не является ли это, по-твоему, произ-
ведением подражательного искусства?» — «Похоже», — отвечал тот
«Так, значит, Дамис, бог это — живописец, покинувший свою кры-
латую колесницу, на которой он разъезжает для управления божескими
и человеческими делами, и восседает, забавляясь живописью, подобно
детям, на песке?» Дамис покраснел от этого рассуждения, дошедшего,
как казалось, до такого абсурда. Но Аполлоний не выразил к нему
пренебрежения, так как вообще он не любил резко возражать. Он
сказал: «Но может быть, Дамис, ты хочешь сказать, что эти [изобра-
жения] ничего не значат и носятся по небу, как попало, по крайней
мере, с точки зрения бога, а что только мы, обладая этим под-
ражательным [свойством], упорядочиваем их воображением (апдг-
rythmidzein te auta cai poiein). — «Лучше, Аполлоний, будем считать
что это действительно так, — отвечал Дамис, — это и убедительнее 11
гораздо лучше». — «Так, значит, Дамис, подражательное искусство
двояко? С одной стороны, оно, видимо, подражает при помощи ру101
Классическое и эллинистическое представление о красоте
511
Л ума (это и есть живопись), с другой стороны, оно отображает только
.мОм»- — «Нет, — сказал Дамис, — двойственным его считать нельзя,
до из искусств более совершенна именно живопись, так как она
способна уподоблять и умом и рукой; другое же искусство — только
ромеит этого; так как подражать в уме может даже тот, кто не
jpjiaerca живописцем...» — «Стало быть, — ответил Аполлоний, — мы
yja соглашаемся, что подражательное искусство возникает у людей
0Г природы, рисование же — из искусства. Также можно было бы
сказать и о скульптуре. Сама же живопись, как тебе кажется, не
возникает только в результате сочетания красок (ведь для прежних
художников было достаточно и одной краски, и только в своем даль-
нейшем развитии живопись воспользовалась четырьмя красками и еще
большим их числом), но в живописи можно пользоваться, приводя
только линии без всякой краски. Поэтому правильно называть живо-
писью и то, что воспроизводит тень и свет. Ведь и с помощью последних
можно уловить сходство, изобразить фигуру, выразить ум, характер,
скромность, дерзость; пусть картина без красок и не отражает оттенков
тела, цвета шевелюры или бороды — все окрашено в одни тона, и
рыжий человек не отличается от белокурого; но если мы нарисуем
какого-нибудь индуса при помощи „белой линии1*, то при всех условиях
он должен оказаться черным: курносый нос, курчавые волосы, раздутые
щеки и какое-то удивление в глазах заставляют представлять его
черным, и представить образ индуса могут и не искушенные в живо-
писи. Поэтому, я бы сказал, что и зрители произведений графического
искусства нуждаются в подражательной [способности], так как
никто не оценил бы нарисованную лошадь или быка, если бы не
представлял себе животное, которого надо изобразить, и никто не по-
ражался бы Аяксу Тимомаха, нарисованному в состоянии безумия,
если бы не вызвал у себя в памяти образ действительного Аякса,
перебившего в Трое воловьи стада и сидящего после этого в изне-
можении, обдумывая собственное самоубийство. Вот эти барельефы
Пора мы, Дамис, и не считаем только произведениями из меди, так
иак в них ясно подражание рисунку, но вместе с тем [не считаем}
их только нарисованными произведениями, поскольку они сделаны из
меди. Нечто подобное этому встречается у Гомера в описаниях Ахил-
лова щита Гефеста. На них так ярко изображены убийцы и убиваемые,
ясно ощущаешь окровавленную землю, хотя она изображена на
меди».
Произведения, о которых идет речь в этом диалоге, очевидно,
Ммьппленные. Цвета и живость сюжета, о чем идет разговор вначале,
сильно напоминают то, что написано о «Картинах». Филострат раз-
^~*яет далее «подвиги» (erga) Александра и Пора с их «характером»
^hos) и «нравом». Уже это одно способно вызвать у нас в памяти
Вестное аристотелевское противопоставление этих же самых понятий.
512
А. А. Тахо-Годи
Мысль о влиянии Аристотеля на Филострата укрепляется также
указаниями на Полигнота (с Эфранором) и Зевксиса (Arist. Poet., 6
1450а, 21 сл.), а также учением о врожденности подражания. Важнее
однако, другое. У Филострата специфичным образом разделены сфера
созидания и духовного упорядочения и бесформенные, случайные об-
лака на небе, как нечто иррациональное. Филострат подчеркивает
подражание именно умом (xyniesi cai mimeitai toi noi eicadzen toi noi)
Человек родится co способностью к созерцанию, самое умение рисовать
приобретается только в результате выучки и искусства.
Что же касается самого содержания подражания, о котором говорит
Аполлоний, то и здесь, по-видимому, скрывается некая аристотелевская
тенденция. Прежде всего сам термин «рисовать белой линией» едва
ли значит буквально рисовать белой краской. Из контекста слов
Аполлония мы должны заключить, что здесь имеется в виду именно
рисование «по белому фону» без наложения красок, черчение или
графика. Но у Аристотеля мы тоже читаем (Arist. Poet., 6, 1450b, 2):1
«Если кто размажет самые лучшие краски в беспорядке, тот не может
доставить даже такого удовольствия, как набросавший рисунок мелом».
После сравнения этого текста с вышеприведенным отрывком из сочи-
нений Филострата, leycographein, кажется, нельзя переводить ни «пи-
сать мелом», ни «писать белыми линиями», но «писать без красок»,
«писать по белому». Другими словами, графический набросок и рас-
крашенный образ относятся между собой так, как миф и действитель-
ные характеры в трагедии.
И Аристотель, и Аполлоний, и Филострат считают, что самое главное
в искусстве — подражание, а в подражании самое главное — бескрасоч-
ный рисунок. Что же касается красок, то, хотя эстетическое значение их
не отрицается, они есть нечто уже вторичное и необязательное. У Ари-
стотеля читаем: «А если раньше не случалось его [образец ] видеть, то
изображение доставит удовольствие не сходством (оу dia mimema), а
отделкой, красками или чем-нибудь другим в таком роде» (Poet., 4,1448b,
18). Аристотелевское высказывание о том, что в подражании происходит
«заключение» от образа к первообразу (syllogidzesthai), вполне анало-
гично филостратовскому: «Если бы не представил себе в душе»
(me enthymetheis) (Philostr., II 22). «Удивление» и «похвала», по Фило-
страту, следуют за «подражанием», а не за техникой в искусстве. Наконец,
и по Филострату, предметом подражания является вероятное, например,
неистовый Аяск, который преподносится как «некий образ» (ti eidolon),
как «нечто вероятное» (hos eicos).
Однако нельзя приравнивать безоговорочно филостратовскую кон-
цепцию подражания к аристотелевской. Несомненно только, что J
Филострата замечается эллинистический субъективизм, который ведет
свое начало уже от Аристотеля. Однако в творчестве Филострата
1 Аристотель.Поэтика. Л., 1927.
Классическое и эллинистическое представление о красоте...
513
Юраздо больше чувствуется эллинизм: и у него, вероятно, были ка-
fge-ro еще другие источники для понимания подражания, кроме ари-
стотелевской «Поэтики». Эти источники неизвестны. Не нужно также
особенно преувеличивать моменты созерцания в творчестве Филост-
оата, рационализма и чисто технической учености античной эстетики.
” Яснее источники, используемые Филостратом в освещении другого
допроса, — о фантазии (VI 19). Аполлоний, беседуя со старейшим
эфиопским гимнософистом в Египте Теспесионом об египетском и
доческом способах представления богов, спросил его: «Почему вы
передаете здешним людям изображения (eide) богов столь абсурдные
и смешные за исключением очень немногих?» — «Да, действительно,
хроме немногого, что изображается мудро и богоподобно, ваши святыни
подходят скорее для неразумных и несоображающих животных, чем
для богов». Рассердившись на это, Теспесион отвечал: «А как у вас,
по-твоему, ставятся статуи богов?» — «Так, — отвечал Аполлоний, —
чтобы создать богов наиболее красиво и благопристойно». — «Ты име-
ешь в виду, — возразил Теспесион, — например, Зевса Олимпийского
иди статуи Афины и Книдской, и Афинской, и вообще все, что вот
таким образом прекрасно и полно процветания?» — «Не только это,
но и вообще в скульптуре и других произведениях я утверждаю, что
они держатся надлежащего [стиля], вы же больше насмехаетесь над
божественным, чем его почитаете». Теспесион ответил: «Так что же,
фвдии и Праксители восходили на небо и восприняли изображения
богов, чтобы создавать свое искусство, или же было что-то другое,
что вдохновило их на ваяние?» — «Да, — сказал Аполлоний, — было
нечто другое и притом преисполненное мудрости». — «Что же это за
другое?» — спросил тот. «Пожалуй, ты имеешь в виду что-нибудь
заменяющее подражания?» — «Фантазия (phantasia), — ответил Апол-
лоний. — Это она создала, художник более мудрый, чем подражание.
Ведь подражание может создать то, что оно увидело, фантазия же —
то, чего она и не видела. Она может основываться на существующем
[Birmelin: «по аналогии с существующим»], потому что раздражение,
резкое впечатление часто мешает подражанию, но оно нисколько не
мешает фантазии...»
«...Кто задумал образ (eidos) Зевса, тому необходимо некоторым
образом видеть его самого, а также небо, звезды, времена года, как
остался сделать Фидий; а тому, кто намеревается соорудить Афину,
вадо вообразить военные лагеря, мудрость и искусства, и то, как она
В|°пла из [головы] самого Зевса. Если ты принесешь в храм изобра-
*евия ястреба, совы, волка или собаки вместо Гермеса, Афины и
2°°ллона, то этим зверям и птицам можно будет позавидовать, боги
*е от этих изображений скорее только потеряют в своей славе. Тес-
есион ответил: «Похоже, ты судишь о наших обычаях без всякой
®Р°верки. Ведь мудро же (если нечто подобное относится к египтянам)
Допускать дерзости в отношении изображений (eide) богов, а со-
24 За* 3903
514
А. А. Тахо-Годи
здавать их символически (xymbolica), подразумевая в них нечто
В этом случае они и могут оказаться более возвышенными». Аполлоний
же, засмеявшись, сказал: «О люди, много же вы почерпнули египетской
и эфиопской мудрости, если собака, цапля и козел возвышеннее и
благовиднее вас самих. Вот что я слышу от мудрого Теспесиона! Ну
что же в этом возвышенного или устрашающего? Вполне естественно
что клятвопреступники, святотатцы и эта толпа блюдолизов скорее
презирают такие святыни, чем их боятся».
Прочитав эти беглые замечания Филострата, можно подумать что вот
наконец, и у античных авторов найдено учение о фантазии, которого так
не хватает даже в системах Платона, Аристотеля и Плотина.
Однако совершенно нет оснований вкладывать в этот термин фи.
лострата новоевропейское, романтическое представление о фантазии.
Не прав Е. Панофский,1 видящий в этом термине основу соответст-
вующих европейских представлений.
Дело в том, что творчество Филострата меньше всего относится к
классической Греции; оно — зрелый плод эллинистическо-римской
культуры. Такая эстетическая интуиция, как у Филострата, уже не
могла обойтись строгими и чеканными формами Ксенофонта, Платона
и Аристотеля.
Классическая теория подражания, какое бы участие субъекта оно
не допускало, объективна. Главное тут — верность существу подлин-
ника. Важно отразить и зафиксировать в искусстве реальность, живое
изображать живым, а мертвое — мертвым. Филострата же интересует
не точное воспроизведение жизни, но такое, которое оголяет самые
основы жизни, подчеркивает зрелость, пышность, плодовитость, эро-
тический момент. А так как жизнь далеко не всегда такова, то ху-
дожник невольно впадает в субъективизм, и это всегда случается,
когда его вкусы соответствуют не объективному миру, а своему соб-
ственному изощренному чувству жизни. Такой художник не доволь-
ствуется простым воспроизведением жизни.
И все-таки фантазия Филосграта не идет дальше античного «под-
ражания». Ведь и в подражании есть своя субъективная сторона. Но
в то время, как здесь эта сторона не развита и занимает подчиненное
положение, в фантазии она играет первую роль соответственно тре-
бованиям эллинистическо-римского мира, когда очевиден был выход
за пределы античного мировоззрения.
Творчество Ксенофонта и Филосграта — две совершенно разные
культурные ступени античного мира с их специфическим мировоз-
зрением, связаны с присущим только данным эпохам отношением *
красоте и искусству, своеобразным стилем эстетического отношения
к действительности.
1Panofsky Е. Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der аИегеГ1
Kunsttheorien. Lpz., 1924, S. 76.
МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА «ИЛИАДЫ» ГОМЕРА
Изучение поэтики Гомера в ее историческом развитии представляет
для исследователя трудную и сложную проблему. В истории изучения
поэтического языка древнейшего периода известен вполне установлен-
ный и непреложный факт — поэтический образ рождается в недрах
мифа, на основе той эволюции, которую этот миф проделал.1 Нам
хорошо известно, что сам древний грек на заре своего культурного
бытия, мысливший мифологично, также и преодолевал это мифомыш-
ление, пройдя долгий и непростой путь развития. Отсюда — тесная
связь между архаическим мифомышлением и поэтическим осмысле-
нием мира в эпосе Гомера.2
Исследуя материалы гомеровской «Илиады», мы будем исходить
в данной работе из традиционных ступеней мифологического (и вме-
сте с тем в первоначальный период религиозного) мышления человека
общинно-родового строя, а именно фетишизма и анимизма с их
рудиментами и ферментами, с их взаимопроникновением, их комп-
лексной, множественной семантикой и реликтовыми образовани-
ями.
Для фетишизма, как известно, характерно почитание и обожест-
вление вполне реальной вещи в ее конкретной и целостной данности,
с точки зрения которой воспринимался древним греком вообще весь
“ир. Божество, демон здесь неразрывно связаны с самой природой
веЩи, с ее сущностью, не отделяются от нее, рождаются и даже гибнут
вместе с ней. Анимистическое мышление уже отделяет демона от
В последнее время действенность слова вообще и поэтического в частности
^основе магическо-религиозной силы доказывает М. Детьенн (Detienne М.
1X5 niaftres de verite dans la Grece archaique. Paris, 1967, c. 52—55).
Внутреннее единство поэтического языка Гомера и архаического образа
"-чоления, создающих гомеровский стиль, которому невозможно подражать,
й®5’ывает Мюглер (Mugler Ch. Les origines de la science grecque chez
n°mere. Paris, 1963, p. 218).
516
А. А. Тахо-Годи
предмета его материального воплощения, населяя тем самым природу
бессмертными духами и божествами.
То, что так просто и естественно резюмируется здесь в виде
результата многих научных изысканий, только в общих чертах и
крайне суммарно отражает всю сложность мысли древнего грека, под.
нимавшегося от восприятия нерасчлененной конкретной материи к
рефлектированию над ней, к ее осмысленности и абстрагированию.
В тексте «Илиады», древнейшего памятника греческой поэзии
можно с полным основанием проследить именно эти элементы чисто
мифологического мышления, на почве которого постепенно появляются
робкие всходы поэтической образности.
Чисто мифическими являются у Гомера представления о дуще
человека (psyche).1 Представление о душе человека и духе, носителе
его жизненной силы, указывает на чисто фетишистское восприятие
данных понятий. Если фетишизм предполагает неразрывное единство
и тождество вещи и ее духа, ее демона, то и сама душа и сам дух
в «Илиаде» являются, таким образом, фетишами.1 2 Душа (psyche) —
это, с одной стороны, духовная сущность, нечто мыслимое в каждом
человеке, а с другой стороны — это тело, это какой-то организм.3
Душу и дух можно вынуть, бросить, она сама уходит в Аид, улетает
из мертвого тела, является к своим друзьям и исчезает в виде облачка
дыма, она мыслит и разговаривает. Такое фетишистское тождество
жизни человека и материального духа, осязаемой души, встречается
1 Б. Снелль (Snell В. Die Entdeckung des Geistes. Hamburg, 1955) дает
анализ гомеровских терминов — psyche, thymes, noos (с. 25—35), указывая, что
большая расчлененность «душевной» терминологии свидетельствует у Гомера об
отсутствии единого понятия души — так же, как этого понятия нет и для тела
(soma — только поздняя интерпретация mele или gyia). Г. Реддов (RedlowG.
Theoria. Berlin, 1966) полагает, что у архаического грека отсутствовал так
называемый теоретический взгляд, охватывающий мир и его явления в целостно-
сти и единстве многообразия (с. 32).
2 В. Нестле (Nestle W. Griechische Geistesgeschichte. Stuttgart, 1956, 2
Aufl.) в отличие от традиции современной науки категорически отрицает фети-
шизм у Гомера вместе с другими чертами архаической дикости и понимает
гомеровское мировоззрение как религию света и потусторонней жизни (с. 18—28).
Этому одностороннему взгляду В. Нестле соответствует совершенно противопо-
ложное, но тоже одностороннее суждение М. Римшнейдер о гомеровском человеке
как «самом мрачном пессимисте» и стиле Гомера, с его лексикой страдания<
мучения, горести (Riemschneider М. Homer. Entwicklung und Stil. Leipzig
1952. S. 163—166).
Г. Френкель (Frankel H. Dichtung und Philosophic des ГгйЬел
Griechentums. Munchen, 1962) подчеркивает особое представление Гомера о дуп>е'
воплощенной в отдельных органах человека, который, по Френкелю, не является
только «суммой тела и души», но чем-то целым (с. 85 сл.), почему действие ”
страдание каждой отдельной части организма заставляет действовать и страдат*
всего человека (с. 87 сл.).
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 517
«Илиаде» не раз. Интересно, что «сам» (aytos) человек выступает
исключительно в качестве тела, которое уже внешне отделено от
лущи, слитой с ним внутренне. Тела убитых, «они сами» (aytoi)
становятся добычей псов, а души их, т. е. их жизни, брошены в Аид
(II., I 3). Таким образом, здесь у Гомера мы видим двойственный
подход к восприятию человека. Человек мыслится как материальное
— это он сам. Здесь нет никакого различия между телом и его
духом — это чистый фетишизм. Дух человека нечто чужое, внешнее
по своей сущности, он независим от человека, и он является таким
материальным телом — что также указывает на чистый фетишизм.
Однако наличие этого духа, пусть даже телесного, говорит нам о том,
ито здесь мы имеем дело уже с переходом к так называемой аними-
стической ступени мышления, отделяющей тело и его дух, его демона.
Но этот переход здесь едва намечен. Он еще слишком внешний, так
пак в сущности внутренне тело и дух связаны воедино. Со смертью
души и духа умирает и человек.1 Однако душа может и должна
покинуть тело человека, т. е. тело и дух связаны, таким образом, в
жизни и смерти; а разделяются они этой же самой смертью.
Приведем тексты, которые указывают как раз на такое мифоло-
гяческое, материально-вещественное, фетишистское восприятие души.
Души брошены в Аид (I 3); душа оставляет человека (V 696; XVI
543); душу отдают Аиду (V 654; XI 445; XVI 625); душа развязывается,
разрешается, т. е. гибнет (V 296; VIII 123, 315; ср. XXII 325); души
уходят в Аид (VII 330), душа желает сражаться (IX 322); с душой,
т. е. с жизнью, ничто не сравнится (IX 401); Ахилл говорит (IX
408 сл.): «Душа человека вновь не явится, ее не уловишь, не возьмешь,
когда она пройдет через ограду зубов», т. е. жизнь здесь представляется
в виде живого самостоятельно существующего организма. Душу, т. е.
жизнь, заставляют уйти из тела (XI 334); души гибнут (XIII 763,
XXIV 168); душа спешит из раны Гиперенора (XIV 518). Душа улетает,
н враг вытаскивает ее из тела вместе с острием копья (XVI 469; 505;
XXIV 754). Душа Патрокла (XVI 856), «улетев из его членов, ушла
в Аид, оплакивая свой жребий» (ср. XXII 362). Ахилл и Гектор спорят
не за кожу воловью, а за душу, т. е. за жизнь Гектора (XXII 161).
Душу отнимает враг (XXII 257). Душой, т. е. жизнью человека,
заклинают (XXII 388). Душу человек выдыхает (XXII 467).
В XXII п. «Илиады» во сне к Ахиллу является душа Патрокла,
a® psyche (XXIII 65), и умоляет Ахилла совершить необходимый
п°гРебальный ритуал. Оказывается, что только тогда душа находит
Успокоение, когда труп человека, т. е. сам человек, подвергается
сжиганию (76)); пока сжигания не произошло, т. е. пока душа и тело
д. 1. Френкель (указ, соч., с. 84) замечает, что у Гомера слово psyche означает
ЧППУ Умершего человека, так же как збта — только мерное тело.
518
А. А. Тахо-Годи
совершенно не отделились, души мертвецов (psychai), их образы
(eidola) 1 гонят душу Патрокла от ворот Аида (72). Сжечь труп __
значит позволить душе перейти воды Стикса (73). Душа несчастного
Патрокла жаждет успокоения и с горестными восклицаниями исчезает
как дым (100), хотя ее призывает Ахилл (221).
Сама смерть представляется Гомеру в виде бога Аида, который
правит четверкой коней. Именно так, на колеснице, похитил он Пер-
сефону. Аид, славный своими лошадьми, принимает души мертвых
(V 654; XI 445; XVI 625). Смерть — это непреклонный Аид (IX 158)
Перед каждым человеком стоят Мойра и смерть (XXIV 132), а Судьба
Зевса решает участь человека (Dios aise — IX 608).1 2 Смерть настолько
грозна, что наиболее страшной клятвой у богов считается клятва
мертвой водой Стикса с одновременным прикосновением к земле и
морю. Сон (XIV 271—274), например, требует от Геры клятвы Стиксом.
Божеством является у Гомера сама преисподняя, поэтому грек может
мыслить Аид одновременно и в образе бога, погоняющего четверкой
коней, и в виде подземного царства, куда идут души убитых. Войти
в Аид — значит непосредственно соединиться с божеством, поглотиться
этим божеством.
Далее, весь окружающий мир и все его стихии воспринимаются
в «Илиаде» как живые существа, как духи, божества огня и воды,
земли и неба.3
В XXI песне «Илиады» представлена битва Ахилла с божеством
реки Скамандром, причем на протяжении стихов 342—382 происходит
единоборство огня и воды — Гефеста и Скамандра. Гера посылает на
помощь Ахиллу Гефеста, бога огня, хромого на обе ноги; «Так пове-
лела, — и сын устремил пожирающий пламень» (342). Вполне воз-
можно, что Гефест посылает свое пламя, а сам не выходит в бой.
Однако здесь же говорится (355), что рыбы «и туда и сюда заныряли,
1 Соотношение psyche и eidolon, а также анализ категории «двойника»
(наир., colossos) дан у Ж. Вернана (V е г n a n t J.-P. Mythe et pensOe chez les grecs.
Paris, 1966, p. 255—262); О. Гитон (Gigon O. Grundprobleme der antiken
Philosophic. Bern, 1959, S. 231) полагает, что понятие eidolon перешло к атоми-
стам именно от Гомера.
2 Дж. С. Кёрк (Kirk G. S. The songs of Homer. Cambridge, 1962, p. 116)
считает слово aisa — микенским, заменившимся послемикенским moira. Е. ДодДс
(Dodds Е. R. The greeks and the irrational. Berkeley, 1959, p. 8) считает слово
aisa синонимом Мойры и относит оба слова к аркадо-кипрскому диалекту,
ссылаясь (р. 21) на Деметру-erinys и глагол erinyein в Аркадии (Paus., VIII 25,4).
а также на аркадо-кипрские надписи со словом aisa.
3 Мифологическое представление об одушевленности мира, по мнению
Дж. Ллойда (Lloy d G. Е. Polarity and analogy. Cambridge, 1966, p. 193), npe®oe'
ствует трем типам греческих космологических теорий — концепции космического
порядка в духе общественного устройства, концепции мира как живого организм
и пониманию мира как продукта разумных, направляющих сил его.
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 519
пламенном духе (pnoie) томимые многоумного Амфигиея». Ниже
ццтаем: «Река, изнуренная знойной силой Гефеста» (biephi — 367).
Палее слова Геры к сыну: «Полно, Гефест, укротися» (379). Все эти
примеры указывают на тождество Гефеста с его духом и силой. Но
в словах: «Бог угасил пожирающий пламень» (381) Гефест как божество
уже отделен от своего огня и может укрощать его. Подобное же
отделение духа огня от самого огня мы находим в XXIII 33, где
упоминается «огонь Гефеста». Также почти утеряно мифическое по-
нимание Гефеста в II 426, где жарили внутренности жертв (splagehna)
<яад Гефестом». В этом случае гомеровский Гефест, утеряв свою ми-
фичность, не приобрел еще чисто поэтического значения, остановив-
шись на границе между тем и другим.1
Мифическое восприятие мира заставляет Гомера называть Сон
братом смерти (XIV 231), т. е. психофизиологическое состояние че-
ловека облекается в плоть и кровь и неразрывно с ними. Сон — это
одновременно и состояние, в котором находится человек, и некий
демон. Пояс Афродиты является олицетворенной любовью (XIV 214—
218). Любовь, таким образом, фетишистски воспринимается в виде
вещи — пояса, в котором заключены вздохи, льстивые речи и желания.
Оборотничество — черта, свойственная мифическому мышлению,
подтверждается у Гомера также рядом примеров. Тот же Сон обора-
чивается птицей Халкидой (XIV 291), т. е. он меняет свое демони-
ческое тело. Афина, надев на голову шапку Аида (V 845), становится
невидимой (традиционная этимология слова: a-privativum, корень Fid —
«видеть», т. е. сам Аид невидим).2
Животные в «Илиаде» наделяются даром речи. Кони предсказывают
смерть Ахиллу (XIX 404), горько оплакивают судьбу героя и трогают
сердце Зевса (XVII 427), т. е. кони обладают демонической силой
предвидения. Чтобы закончить губительную брань, Гера приказывает
солнцу сойти в Океан (XVIII 239). Солнце в данном случае является
Одновременно светилом и божеством, а Гера приказывает этому не-
бесному телу как разумному существу. Зевс представляется в виде
неба, посылающего дождь. Но он же является и самим дождем. В XII
25 прямо говорится: «Зевс дождит (hyei)».3 Мы встречаемся здесь,
таким образом, с отождествлением стихийного явления природы и
божества, с одухотворением стихии.
Ср. замечание Г. Небела (N е b el G. Homer. Stuttgart, 1959, S. 158—164) об
Гомера как «основной бытийной категории».
А Карнуа (Carnоу A. Dictionnaire etimologique de la mythologie grecoro-
®«ne. Louvain, 1957) считает эту интерпретацию устаревшей и предлагает
rjjy’oniyio: Hades от aianes (*saiFanes) — «ужасный», «горестный»; ср. лат.
готск. sair «горе» (> герм, versehren).
Конечно, «дождит Зевс-отец с неба ненастного» (Алкей, фрг. 90 D) — образ
чисто поэтический.
520
А. А. Тахо-Годи
Если грек некогда представлял себе Гефеста огнем, то он мог в
дальнейшем назвать огонь Гефестом чисто метонимически, что должно
было способствовать созданию поэтического образа. Если человек верил
в оборотничество, то впоследствии он мог увидеть Аполлона и Афину
как ястребов, переходя в область сравнения, что имело бы совсем
иной смысл, чем древний миф о Сне, который обернулся птицей
Халкидой и спрятался на высокой сосне.1
Резюмируя чисто мифологическую ступень «Илиады» Гомера, мы
можем еще раз констатировать в мифе буквальное и абсолютное
отождествление природы и всего существующего с человеческой жиз-
нью общинно-родовой эпохи, которая сама основывается на единстве
биологических и социальных процессов.
Однако это мифологическое мышление тоже имело свою историю
так как на почве фетишизма и анимизма постепенно зарождалась
образность мифолого-поэтическая — переходное звено к чисто поэти-
ческому мышлению и к чисто поэтической образности.
Здесь можно наметить четыре группы мифолого-поэтических об-
разов, каждая из которых в какой-то мере отражает по необходимости
один из моментов утери мифологическим мышлением своего абсолю-
тистского характера.1 2
Первая группа, наиболее обширная, достаточно четко определяется
основными особенностями фетишистского мышления. К этой первой,
наиболее древней группе относятся те мифологические образы, в ко-
торых, как это существенно для мифа, еще нет расчленения вещи
предмета и его демонического духа. Но с другой стороны, здесь есть
и некоторое отличие от чистого мифа именно в том, что эта нерас-
члененность и синтетичность переносится из сферы демонического в
сферу человеческую, с ее психофизиологическими процессами, эф-
фектами и эмоциями, умственной и социальной деятельностью, т. е.
демоническая сущность уже меркнет и является только формой, в
которую влито новое, гораздо более позитивное содержание.
Во второй группе образов вещь (или предмет) пока еще отожде-
ствляется с его демоническим духом, но не субстанциально, а только
внешне. Естественно, что это отождествление, если оно есть, совер-
шенно не обязательно и не исключительно, т. е. оно находится на
1 Дж. Ллойд справедливо отмечает древнюю мифологическую реальность
того, что именуется метафорой. Для архаического грека не было разницы межДУ
пряжей старухи и пряжей судьбы. Здесь имелся в виду буквальный смысл (указ-
соч., с. 192 сл.). В метафоре и сравнении образно и конкретно проявляются
скрытые и неясные связи между отдельными вещами, понятые человеком на
основании своего опыта (с. 182 сл., 209 сл.).
2 Наше разделение на четыре группы отнюдь не противоречит как и*
органическому единству у Гомера, так и вообще единству гомеровского стиля-
лишенного всякой диспаратности (ср.: Kirk G. S.. Указ, соч., с. 316—334).
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 521
дуги к поэтической метонимии и создает явно выраженную стилисти-
ческую окраску.
В третьей группе это отождествление вещи и ее демонического духа
почти совсем уничтожено. Об отождествлении в данном случае на-
поминают лишь отдельные точки соприкосновения, отдельные рудимен-
тарные черты. На древнюю фетишистскую нерасчлененность указывает
пакой-нибудь один момент. Сам же образ уже воспринимается явно в
переносном смысле и употребляется ради поэтических целей.
В четвертой группе вещь и ее демонический дух целиком отделены
друг от друга. Здесь уже нет фетиша, ни вообще какого-либо суб-
станциального единства тела и духа или их нерасчлененности. На
данной ступени предмет и его демоническая сущность отделены друг
пт друга и внутренне и внешне. Единственная связь, которая суще-
ствует здесь между вещью и ее демоном, это память о божественном,
демоническом происхождении вещи, память о некогда божественной
сущности всего мира. Человек мыслит каждую вещь и себя самого
как отблеск чего-то очень высокого. Поэтому, называя каждую вещь
божественной, человек понимает это божественное как самое прекрас-
ное, самое лучшее и самое высокое, т. е. понимает эту божественность
уже в чисто переносном поэтическом смысле, а не в смысле подлинного
субстанциального единства этой вещи и ее демона, ее божества.1
Начнем с первой группы. Ее мы определяем как группу мифоло-
гическую, которая, с одной стороны, еще находится во власти древ-
нейших представлений о нерасчлененности духа и вещи, т. е. у Го-
мера — психической деятельности человека и органа, возбуждающего
этот процесс.2 С другой стороны, эта зависимость у того же Гомера
превращается в чисто внешнюю форму для выражения обычных пе-
реживаний и чувств человека. Эта форма получает тоже метоними-
ческий характер. В том случае, когда Гомер называет диафрагму умом,
он, на наш взгляд, одновременно соединяет мифологическое восприятие
с метонимическим, так как умственная деятельность является, по
Гомеру, продуктом диафрагмы, отождествляется с диафрагмой и даже
заменяет ее.
Все аффективные, умственные, волевые акты, все биологические
физиологические функции находят у Гомера свое отражение в этой
первой мифологической группе. Если человек у Гомера гневается, то
это означает, что гневается его диафрагма (phren). Диафрагма —
Носительница умственной и аффективной деятельности человека (I
В нашей классификации групп мы исходим из истории мифологического
®*Шлениа, сформулированной А. Ф. Лосевым (Л ос ев А. Ф. Античная мифоло-
* в ее историческом развитии. М., 1957, с. 7—85), однако применяем эту теорию
Ст^1овлению поэтического образа.
р О нерасчлененности тела человека и его психики см.: Зелинский Ф.
Перовская психология. Пг., 1922.
522
А. А. Тахо-Годи
103). Человек радуется диафрагмой (I 474), боится (I 555), печалится
и горюет (I 362; 243). Память человека (I 297) и его ум (I 55) —
не что иное, как диафрагма. Когда Гефест по творческим замыслам
создает на Олимпе дома для богов, то эти творческие замыслы то*е
называются диафрагмой (prapis — I 608).
Итак, phren и prapis это: мысль (III, 108); мысли (XIII 115)- л
608; XVIII 482); творческие замыслы (XX 12; VII 120; 360; IX I84.
XII 324); разум (XIII 55; XIV 92, 95); ум (XIII 432); знание (Vlij
366, 446); размышление (169, 559); хитрость (IX 313); решение (Jy
434); память (IX 611; XVI 83); радость (XI 683).
Большинство эмоциональных переживаний человека падает на долю
особой жизненной биологической силы, которая именуется thymos
cradie, сёг, etor 1 или, как обычно переводят, «дух», «сердце». Thymos
радуется (1256), гневается (II 223), желает (II 276), страшится (VI 167)
трусит (V 643). Ему может нравиться нечто (I 136); он — вместилище
мужества (II 518, 706, 53, 541, 631). Гефест, падая на Лемнос, едва
удержал дыхание (thymos I 593), т. е. едва спас свою жизнь. Гибнет дух —
гибнет и человек (I 205). Ахилл перерезает горло овце, лишенной жизни
(III 294). Дух оставляет героя (IV 470), улетает (XVI 469; XXIII 880),
живет в человеке (313), похищен (VI 17; X 495), вынут из человека (155,
848; IV 531; V 317, 346, 673, 691, 852). Человек выдыхает жизненную
силу (525; XIII 654), оживает вместе с ней (V 698), собирает свои жиз-
ненныесилы (XV 240). Дух погружается в Аид (VII131), гибнет (VIII90,
270, 358; X 452; XI 342, 433). Дух берут (X 506; XI 381), заставляют уйти
из тела (XI 334).1 2
Далее, thymos это: печаль (III 98); желание (139; VII 231, 74,
152); страх (VII 216); разум (349); радость (189); мысли (VIII 430);
гнев (IX 109); представление (459); любовные чувства (486); мужество
(595; VII 228; XII 307); надежда (XIII 8); трусость (XIV 132). Etor
означает: страх (III 31; XV 166); безумие (VIII 413); печаль (VIII
437; V 364); желание (V 670); жестокость (IX 572); безжалостность
(IX 497); гнев (XIV 367); мужество (V 529; XVI 209, 264). Сёг
означает: трусость (XII 100; XIII 224); печаль (428, 431; XI 400; XII
45); гнев (IX 555; XIII 206); стон (X 16); разум (XIV 208). Cradie —
это: гнев (IX 646); волнение (X 94); мужество (XII 247); сила (XIV
152); желание (X 220, 319); печаль (XV 208; XVI 52) 3
1 Поолегомеровскому пониманию души, эмоций и интеллекта посвящена
статья В. Н. Ярхо (J arch о V. N. Zum Menschenbild der Nachhomenschen
Dichtung. — «Philologus», v. 112, 1968, p. 147—172).
2 Ср. подобные же тексты: XII 250, 386, 150; XIII 671; XIV 439; XV 480; X*1
410, 468, 540, 606, 655, 743, 828, 861; XVII 17, 236, 616, 678; XVIII 92; XX 290,
403, 406, 412, 436, 459, 472; XXI 112,179, 296; XXII 68; XXIV 638.
3 М. Трой (Т г eu М. Von Homer zur Lyric. Munchen, 1955) видит в слове
(«косматое сердце» — XVI 554) веру в магическую силу волос.
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 523
Для распространенности этой первой мифологической группы до-
статочно привести несколько цифр. Так, thymos в мифологическом
смысле встречается в «Илиаде» 355 раз, phren — 178, etor — 44, сёг —
42, cradle — ЗЗ.1 К этой же группе относится и целый ряд примеров,
основанных на смешении двух смежных сфер — психической и физи-
ологической.
у Гомера зачастую физиологический акт видения объединяется
с психическим процессом мышления: видеть, по Гомеру, значит
мыслить, а мыслить — значит видеть.2 В этом совмещении двух аб-
солютно разных плоскостей есть нечто метафорическое, какой-то
фермент метафоры или метонимии. Однако тут еще очень далеко
до их поэтической выработанности и законченности. Видение и мыш-
ление настолько отождествлены или, вернее, настолько еще нераз-
личимы, что эту нерасчлененносгь можно было бы назвать прямым
Л настоящим фетишизмом, если бы только здесь уже не исчезла
демоническая сущность физического явления и не была заменена
самым обыкновенным актом человеческой психики. Перед нами и
миф и метонимия одновременно.
Приведем ряд мест, в которых говорится о мышлении вместо
видения: эго — III 21, 30, 374, 396; IV 200; V 95, 312, 475, 590, 669,
711; VI 470, VII 17; VIII 10, 91, 132; IX 223; X 550; XI 248, 284,
343, 521, 575, 581, 599; XII 335, 393; XV 395, 422, 453, 649; XVII
116, 483, 486, 682; XX 419; XXI 49, 550, 563; XXII 136, 463; XXIII
415; XXIV 294, 312, 337 и др.
Сюда же можно отнести объединение процессов дыхания и знания,
мудрости. Человек как бы вдыхает в себя ум, знание, мудрость. Очень
часто боги вкладывают, вбрасывают, вдыхают в героя силу, мудрость,
необходимое решение. Так, разумные герои всегда «одушевленные»,
в них боги вдохнули (рпеб) разум (III 203; IX 58, 689; XIII 254, 266;
XXIII 440, 570, 586; XXIV 377 и др.).
К этой группе примыкает также мифологическое представление о
человеке как о некоторой силе, которая действует внутри него и
является, в сущности говоря, не чем иным, как самим же человеком.
Сила эта вкладывается в человека богами и направляет все его дей-
ствия. Она фактически и есть активно действующая личность.
В перечне кораблей (II 658) говорится, что среди вождей присут-
ствовал сын Геракла Тлеполем, которого родила Астиохея вместе с
1 Наши подсчеты текстов и их дифференциация даны совсем в ином аспекте,
Че*< Ф. Зелинского (указ, соч.).
О зрительном восприятии глагола «мыслить» см.: Лосев А. Ф. Эстетиче-
терминология ранней греческой литературы. — Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ле-
т. 83. М., 1954, с. 130—132. Особую чувствительность древнего грека к
'•"’тельным и слуховым восприятиям отмечает Ш. Мюглер (Mugler Ch. Указ.
воч-.с. 217 сл.).
524
А. А. Тахо-Годи
«силой Геракла» (biei Heracleeiei).1 Этот Тлеполем, убив своего дядю
Ликимния, бежал, спасаясь от сыновей и потомков «Геракловой силы»
(666). Тлеполем, встречая Сарпедона, похваляется своим отцом, «силой
Геракла» (V 638). Нестор рассказывает о жителях Пилоса, которЫх
осаждала «сила Геракла» (XI 690). Гибнет Перифет, сын вестника
ходившего с приказанием от царя Эврисфея к «силе Геракла» (Ху
640). Смерти не могла избежать «сила Геракла» (XVIII 117), хотя
она была и мила Крониду. Гера ждала момента, когда Алкмена родит
Зевсу «силу Геракла» (XIX 98). Таким образом, мы видим, что все
функции, которые должен был исполнять Геракл, возложены на его
силу (Ыё). В остальных текстах «Илиады» «сила» играет такую же
роль.
На совет троянских старейшин позвали «силу Приама» (III 105).
Диомед рассказывает о подвиге своего отца Тидея, пришедшего во
вражеский стан к «силе Этеокла» (IV 386). Воины стоят вокруг «силы
Диомеда» (V 781). К Мериону обращается и говорит «сила Идоменея»
(sthenos — XIII 248). В этой же песне (XIII 758, 770, 781) говорится
о «силе владыки Гелена», которого ищет Гектор. Пала, сраженная
копьем Аякса, «сила Гектора» (menos — XIV 418). Гектор находится
под угрозой «силы Пелида» (XV 614). По родословной героя Эвдора
его земной отец — «великая сила (menos) Эхекла Акторида» взяла в
жены Полимелу (XVI 189). Силу свою — menos — человек даже может
нести в руках (XVI 602). От смерти не спаслась и «сила Гиперенора»
(XVII 24). Гектор гордится тем, что одолел «силу Патрокла» (XVII
187). Гектор одет в доспехи, снятые с «силы Патрокла» (XXII 323).
Гефест изображает на щите Ахилла «силу» (sthenos) охотника Ориона,
ставшего созвездием (XVIII 486), и силу Океана, который омывает
землю (sthenos — XVIII 607; ср. XXI 195)? Над троянцами будет
властвовать «сила Энея» (XX 307). Скамандр изнурен «силой Гефеста»,
т. е. огнем (XXI 367). Ахилл предлагает метать диск, который некогда
метала «сила (sthenos) Гетиона» (XXIII 827). На призыв Ахилла встает
«сила (menos) Леонтея» (837). «Сила Тевкра» вызывается участвовать
в стрельбе из лука (859).
Все эти примеры, а мы их привели исчерпывающе, указывают на
то, что сила человека (Ыё, sthenos, menos) не была только физической
силой, а являлась в полном смысле слова самим человеком. Однако
здесь чисто мифическое понимание этой силы уже утеряно и упот-
ребляется лишь для целей эпических как напоминание о чем-то да*
леком, былом, древнем. Не случайно большинство данных текстов 1 2
1 М. Трой справедливо считает сочетание существительного bie с прилага-
тельным Heradeeie более древним, чем существительное bie с родительный
падежом HeraclSos (указ, соч., с. 34).
2 Антропоморфизм «силы» у Гомера и разные значения bie, menos и sthen05
отмечает Ш. Мюглер (Mugler Ch. Указ, соч., с. 37—44).
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 525
-уносится к Гераклу, память о котором живет в «Илиаде». Возможно,
,jjo многие примеры на «силу» героя создавались по типу эпической
аналогии.1
Если в первой группе мифологических образов едва намечался
оазрыв между материальным конкретным телом и его демоническим
«ухом, то вторая группа оперирует такими мифологическими образами,
у которых этот разрыв уже вполне определенно заметен. Остановимся
аа нескольких примерах, которые, однако, повторяются в «Илиаде»
многократно.
Выше мы уже говорили о том, что в чисто мифическом восприятии
божество огня Гефест и сам огонь были тождественны, едины. Однако
до второй группе необходимо отнести мифологический образ в «Илиаде»
(греки поджаривают мясо над Гефестом — II 426). Поэт «Илиады»,
который знал Гефеста в виде мудрого бога, обитающего на Олимпе
и на Лемносе, хромого на обе ноги, искусного мастера, вряд ли мог
допустить мысль, что то пламя, на котором жарят мясо, есть само
божество. Отождествление огня и Гефеста здесь внешнее, дано по
смежности, поскольку огонь есть сила Гефеста и его дыхание (XXI
367, 355). Значит, субстанциального единства и тождества между
огнем и духом, его божеством, которое было характерно для чистого
фетишизма, здесь нет. Есть только тождество внешнее или, во всяком
случае, не обязательное. Если говорить более точно, то нужно сказать,
что в подобного рода выражениях у Гомера мы продолжаем иметь все
то же фетишистское тождество демона вещи с самой вещью, однако
с той существенной новостью, что это тождество уже не является
теперь ни единственным, ни обязательным. Сам Гефест может воп-
лощаться в огне и может не воплощаться в нем, а воплощаться в
чем-нибудь другом и даже совсем не воплощаться. Это многообразие
возможных типов отождествления демона вещи с самой вещью еще
больше, чем в первой группе, разрушает абсолютность непосредствен-
ного фетишизма и вплотную придвигает миф к самой настоящей
метонимии. Напрасно спорить о том, является ли это мифом или
метонимией, внося в живую историю мифологии и поэзии чисто
Рассудочное разделение. Здесь перед нами то, что сразу, одновременно
и совершенно нераздельно является и мифом, и поэтическим оборотом,
и фетишем, и метонимией. Еще один шаг — и недалеко до обыкно-
венной метонимии.
Выражение «Антиноева сила святая» в «Одиссее» (XVIII 34) применяется к
*~^ма низкопробному персонажу и является не только аналогией древним
Готическим оборотам, но может быть прямой пародией на них, соответствуя
гомеровского эпоса, включающего в себя мотивы юмора, бурлеска и
Л0*®0» (Лосев А. Ф. Указ, соч., с. 70). Как иронию понимает его выражение
шЛий соч., с- 34) со ссылкой на В. Нестле (Nestle W. — Hermes, 77,
* 65, примеч. 4).
526
А. А. Тахо-Годи
Обратимся к Аресу. Количество текстов, в которых Арес внешце
отождествляется с войной, множество. Битва называется обычно Аресом
(II 385, 401, 440). Сюда же относим II 767; IV 352; V 289; 861; уц
147, 330; VIII 516, 531; IX 532; XI 734, 836; XIV 149; XVI 245, 512-
XVII 490, 721; XVIII 134, 209, 213, 304; XIX 31, 142, 189, 237, 275’
318; XXI 112; XXII 72; XXIV 260, 415, 498.
Воинственный человек также именуется «любимцем Ареса», или «лю-
бимцем войны» (areiphilos, areios). Это одно из постоянных наименований
Менелая и других героев: III 21, 52, 69, 90, 136, 206, 232, 253, 307, 430
432,451,457,339; IV 13, 98, 114, 115, 150, 195; V 561; VI 73; VIII298; 1х
550; XI 463, 487, 501, 800; XII 102; XIII 499; XV 315, 540; XVI 42, 166
179, 193, 303, 311, 557; XVII 1, 11, 79, 138, 336, 346, 352; XVIII 200; XX
167, 317; XXI 376. Военные доспехи также Аресовы (VI 340; X 407; XIV
381), а стена, у которой происходит бой, называется Аресовой стеной (IV
407; XV 736).
Воины названы слугами Ареса, т. е. верными спутниками битвы
(II 110; VI 67; VII 382; VIII 79; X 228; XV 733; XIX 47, 78). Смерть
на войне отождествляется с Аресом (XIII 444). Рана, полученная на
войне, называется Аресом (XIII 569), так же как и убийство (XIV
485; XVI 613; XVII 529; XVIII 100). Военный пыл, охватывающий
героя, именуется Аресом (XVII 210). Военная участь является не чем
иным, как Аресом (XVIII 309).
Смерть — Аид, божество, славное конями и обитающее в крепоз-
данном доме: I 3; III 322; V 646; VI 284; VII 131; XI 55, 263, 445;
XIII 415; XIV 457; XV 251; XX 294, 336; XXI 48; XXII 52, 213, 389,
425; XXIII 19, 76, 137, 179, 244; XXIV 246. Смертная участь отож-
дествляется с Керой и Мойрой; II 352; III 6, 101, 454; V 22, 83; VII,
254; VIII 70; XI 360, 443, 585; XII 113, 326, 402; XIII 283; XIV 462;
XV 287; XVIII 115; XXII 365; XXIV 82.
Понятие мольбы отождествляется демонами мольбы — Litai (IX
502—514). Представление о молве связано с демоном молвы — Оссой
(II 93). Безумие есть демоническое существо (IX 239) Лисса; Эос,
богиня зари — не что иное, как заря или день (I 477; II 48; VIII 1.
565; IX 662, 707; XI 1; XXIII 109, 227; XXIV 695, 788). Вражда,
распря неотделимы от богини вражды Эриды (XI 3—12). Страх и ужас
воплощены в спутниках Ареса, насылающих страх — в Деймосе и
Фобосе (XI 37).1
1 И. Грубер (Gruber J. Uber einige abstrakte Begriffe des friihen
Griechischen. Meisenheim am Gian, 1963), указывает на полную нераздельность
демонического и абстрактного в раннегреческом мышлении в словах типа deirn05'
phobos, eris, lyssa, ossa, замечая, что этимология таких слов, как ate, eris и cyd^
до сих пор не выяснена (с. 87 сл.), так же, как остается неясной вообще сущность
демона Фобоса (с. 16). В частности, Е. Доддс (Dodds Е. Указ, соч., с. 5) нахоД01'
что ate выражает у Гомера «состояние ума», аллегорически выраженное.
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 527
П»'
Интересно у Гомера отождествление судьбы с весами. Гектор бежал
к Трое, так как «он знал священные весы Зевса» (XVI 658), т. е.
веление Зевса, судьбу, которую тот предназначил героям. Жатва, т. е.
смерть, становится скудной, когда «наклоняются весы Зевса» (XIX
223), задумавшего прекратить братоубийственную войну. Зевс, не
решаясь, в чью пользу склониться, обращается к велению судьбы —
он бросает на золотые весы жребий троянских героев и данайцев и
взвешивает их (VIII 69—74). Зевс поступает так же, решая судьбу
Гектора и Ахилла (XXII 209—213). Таким образом, все эти примеры
показывают, что субстанциального единства и тождества между бо-
хеством и предметом его воплощения уже нет — судьба не мыслится
вак весы, день не воспринимается как прекрасная богиня Эос, которая
покидает ложе Титона, облачившись в шафранный наряд. Однако
между судьбой и весами, днем и богиней Эос, войной и Аресом
существует внешнее отождествление, аналогия уже до некоторой сте-
пени поэтическая, а это означает, что мы находим элементы мифо-
лого-поэтического образа.
В третьей группе мифологических образов «Илиады» мы встреча-
емся с процессом еще большего отделения божества и его материального
тела, которое некогда было самим этим божеством. Здесь связь между
божеством и его телом, в которое оно воплощалось, уже почти разо-
рвана и осуществляется лишь при помощи отдельных рудиментарных
признаков, которые напоминают нам о его былой демонической сущ-
ности.
Гера, супруга Зевса, самая могущественная из богинь, изобража-
ется, как известно, прекрасной женщиной, но женщиной хитрой,
ревнивой и способной на любые козни. В «Илиаде» (XIV), обольщая
Зевса, она уподобляется своими чарами самой Афродите. Однако одним
из наиболее частых, можно сказать традиционных, мифологических
эпитетов, характеризующих ее, является наименованием этой пре-
красной богини «волоокой, т. е. имеющей воловьи глаза» (boopis).1
Мимо этого постоянного определения Геры трудно пройти. Если
богиня имеет глаза вола, то сущность ее, несомненно, была связана
с какими-то древними мифическими представлениями о материальных
оплощениях этой богини, о ее ипостасях.2
В гомеровской Гере от ее зооморфного облика ничего не осталось,
кроме воловьих глаз. Этот единственный рудимент только и соединяет
антропоморфное божество с его древним телесным воплощением. От
зооморфизма Геры остался лишь один признак, который, как мы
2 У Нонна (Dionys, XLVII, 711) Гера tayrOpis.
О превращении Геры в корову см.: Ovid. Met., V, 330. Белые коровы влекли
/°®озку жрицы Геры Аргосской (Palaeph., 51). В Микенах и Тиринфе множество
РФРакотовых изображений Геры-коровы (Gruppe О. Griechische Mythologie.
M“nchen, 1906, B.I,S. 183,12).
528
А. А. Тахо-Годи
увидим, уже воспринимается Гомером переносно и даже относится
иногда по традиции эпической аналогии к обыкновенным смертным
женщинам. Так, «волоокой» называются смертные женщины: Фило-
медуза, супруга Ареифоя (VII 10) и Климена (III 144). Приведем
следующие тексты «Илиады» с мифологическим определением «воло
коокая»: I 551, 568; III 144; IV 50; VII 10; VIII 471; XIV 159, 222
263; XV 34, 49; XVI 439; XVIII 40, 239, 360, 357; XX 309. Афина у
Гомера постоянно именуется «совоокой» (glaycopis).1 Стало уже вполне
традиционным трактовать Афину в ее далеком зооморфическом про-
шлом как сову. В гомеровской же «Илиаде» совиные глаза Афины
были тем рудиментом, который все еще связывал антропоморфную
богиню с ее древней животной ипостасью.1 2
Приведем следующие тексты «Илиады» с мифологическим опре-
делением «совоокая»: I 206; II 166, 172, 279, 446; IV 439; V 29, 133
405, 420, 719, 793, 825, 853; VI 88; VII 17, 33, 43; VIII 30, 357, 373*
406, 420; IX 390; X 482, 553; XI 729; XVII 567; XVIII 227; XX 69-’
XXII 177, 214, 238, 446; XXIII 769; XXIV 26.
Мать Ахилла, Фетида, — морская богиня. Она дочь морского старца
(может быть, Нерея) и обитает в глубинах моря, откуда легкой
туманной дымкой поднимается к Олимпу. Фетиде сопутствует обычно
мифологический эпитет «среброногая» (argyropedza). Можно, конечно,
считать (как, например, Г. Эбелинг), что Фетида названа среброногой
из-за белизны своих ног. Однако Гера, славящаяся белизной своего
тела, почему-то называется «белорукой», вернее «белолокотной»
(leycolenos). Дело, видимо, здесь не только в эпитете, подчеркивающем
белизну.3 Фетида — морское божество, а морские божества некогда
тоже имели териоморфный облик, который постепенно исчезал, со-
храняя лишь некоторые рудиментарные признаки. У гомеровской Фе-
тиды серебряные ноги явно напоминают о ее серебристом, чешуйчатом
теле, о ее, может быть, рыбьем хвосте, хотя в поэме Гомера эта
прекрасная морская богиня чувствует себя на земле так же уверенно,
как и среди морских волн. Тексты с данным мифологическим эпитетом
у Гомера следующие: I 556; IX 410; XVI 222, 574; XVIII 127, 146,
381, 369; XIX 28; XXIV 89, 120.
Богиня Ирида-Радуга, вестница Зевса (может быть, женский кор-
релят Гермеса), всегда именуется «вихреногой» (aellopos, podenemos).
Она сродни ветру, если сам Зевс являлся некогда мрачным и бурным
1 Эпитеты Афины и Геры возводятся к микенским териоморфным изображе-
ниям богов (К i г к G. S. Указ, соч., с. 116).
2 Leumann М. Homerische Worter. Basel, 1950, S. 148 ff. Закономерен
также вопрос о том, почему именно данный рудимент сохранился у антропоморф-
ной богини (Трой М. Указ, соч., с. 69 и сл.).
3 Вряд ли вообще этот эпитет (argyropedza) можно считать выражение
только цвета (Т р о й М. Указ.соч., с. 221).
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 529
вебом, с грозой, молнией и громом. Ветер, который носится по всему
фету и близок не только к небу, но и к земле и морю, — живое
воплощение Ириды. У Гомера же от вихря и бури Ириды осталась
лишь ее стремительность, ее ноги быстрые, как ветер.1 Ноги-вихри —
вот единственный рудимент, который связывает это божество с его
стихийным прошлым. Тексты с этим мифологическим эпитетом сле-
дующие: II 786; V 353, 386; VIII 409; XI 195; XV 200, 168; XVIII
Йб, 183, 196; XXIV 77, 95, 159.
К этому же типу можно отнести эпитет «розоперстая»
(rhododactylos), неотъемлемый от Зари. Заря — Эос представлена у
Гомера в самых различных аспектах. Эос — богиня, которая, спускаясь
с Олимпа, несет людям свет. Она равно покидает ложе своего воз-
любленного Титона, чтобы явиться людям в блеске нового дня. Однако
чаще всего богиня Эос — просто Заря. Когда Гомер говорит, что на-
ступила двенадцатая заря (VI 175), он имеет в виду двенадцатый
день, и здесь это обыкновенная поэтическая метонимия, в которой
уже нет никакого воспоминания об антропоморфном божестве. Про-
межуточное место занимают упоминания об Эос, связанные с ее
определением «розоперстая». Поэт, упоминая о рано взошедшей ро-
зоперстой Эос, вряд ли думает о богине. Однако лучи этой зари,
может быть, и напоминают ему пальцы богини, ее персты цвета
лепестков розы. Розовые пальцы являются в данном случае единст-
венным связующим звеном между зарей и антропоморфным божеством
Зари (см. следующие тексты: I 477; VI 175; IX 707; XXIII 109; XXIV
788).
Сюде же относятся все случаи, когда Гомер, говоря о какой-нибудь
местности, называет ее матерью овец или зверей (meter melon, theron).
Среди владений Протесилая была Итона, мать овец (II 696). Зевс
является к своему алтарю у подножия Гаргара, матери зверей (VIII
47). Фтия, родина Ахилла, тоже «мать овец» (IX 479). Плодородная
Фракия называется так же (XI 222). Ида именуется матерью зверей
(XIV 283; XV 151). Эти тексты (исключая Фтию и Фракию) относятся
ж горам. Здесь мы сталкиваемся, несомненно, с очень древним веро-
ванием, ведущим свое происхождение с Крита и связанным с образом
«ликой Матери. Матери зверей, Великой Охотницы, Горной Матери,
п°3дней ипостасью которой была Артемида-Охотница, Владычица зве-
Ре®* На Крите местопребыванием Владычицы зверей была гора Ида,
*?е находились святилища богини и общины жриц — служительниц
°Ога. Сама Ида некогда отождествилась с Матерью зверей, так как
ее густые леса были надежным приютом для всякого зверья, охраня-
w Ь. Спелль (указ, соч.) отмечает связь архаических эпитетов и сравнение с
(«^Мюрнческим образом (с. 260—265), причем эта образность вырастает из
Ч**и,ческого мышления, основанного на огромной силе воображения (с. 296 сл.).
530
А. А. Тахо-Годи
емого богиней. Впоследствии единственным звеном, которое связывало
гору и богиню, была функция кормления и охраны животных, пасу-
щихся на плодородных склонах Иды, т. е. только материнская фун.
кция. Каждая гора Греции и Малой Азии имела такую же свою
Владычицу зверей, а плодородные местности, как Фтия и Фракия, д0
аналогии также получили в свое время это наименование. В «Илиаде»
Мать овец или зверей свидетельствует не столько о божестве, сколько
о тучных пастбищах, на которых пасется скот.
Таким образом, воловьи глаза Геры и совиные глаза Афины
вихри-ноги Ириды и серебряные ноги Фетиды, материнские функции
кормления горных пастбищ — все это напоминает нам о связи, 0
единстве, существовавшем некогда между божеством и материей, в
которой оно воплощалось. Связь эта у Гомера держится буквально на
волоске, утеряв свою былую мифическую реальность.
Наконец, у Гомера можно найти чисто переносное понимание
образа, основанного только на памяти о том, что вся живая и мертвая
природа ведет свое происхождение от мира богов и демонов.1 Мифи-
чески мыслящий грек видел в себе подлинное создание богов. Он был
потомком того или иного божества в мире, где все священно и где
все носит отпечаток прикосновения высшей силы. Но чисто мифическое
представление о субстанциальной связи бога и человека постепенно
исчезало, приобретая некий поэтический оттенок переносного значе-
ния. Мы читаем, как Арес безумствует, узнав о смерти своего сына
Аскалафа. Однако не менее десятка героев гомеровской поэмы тоже
называются сыновьями Ареса в память всеобщего происхождения во-
инов-героев от Ареса.
Ряд примеров говорит нам о таких героях, потомках Ареса, которые
в сущности буквально таковыми совсем не являются. Но воин обязан
быть потомком Ареса, собственно говоря, «ветвью» Ареса. Панфой —
потомок Ареса (odzos Areos), «ветвь» Ареса (III 147). Таковы же:
Пилей (II 842); Подарк (II 704); Элефенор (II 540); Леонтей (II 745;
XII 188; XXIII 841); Ликимний (II 663); Гикетаон (XX 238); Алкимон
(XXIV 474).
Когда-то многие боги и многие герои были также подлинными
сыновьями Зевса. Однако у Гомера мы встречаемся с мифологическим
эпитетом — «Зевсов» (dios) по отношению к людям и вещам, не ве-
дущим свою родословную от Зевса. «Зевсов» здесь самый лучший,
самый высокий, самый храбрый, т. е. употребляется в переносном
смысле. Почти каждый герой у Гомера «равен богу», «подобен богу».
одном
nnd Wcf'
1 О трех типах природы у Гомера — «деятельно-вещественной», «сверхче^
веческо-управляющей» и «симвслически-значимой», объединенных в
мосе, пишет В. Шадевальдт (Schadewaldt W. Von Homers Welt —
Stuttgart, 1944, S. 144—154), подчеркивая в природе ее внутреннюю динами4
ность, драматичность и онтологизм.
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера
S3J
-дохож на бога». Все эти «равен», «подобен», «похож» указывают
-дько на поэтический перенос. Герой не может быть подлинным
божеством или сыном бога. Он лишь подобен ему, похож на него.
Постепенно весь мир начинает осмысляться божественным не в прямом
с>дасле, а в переносном. Божественность становится как бы символом
jcero лучшего, всего могучего, всего самого прекрасного и героиче-
ского.1
«Божественным» (dios), т. е. буквально «Зевсовым», или вопло-
тирптим в себе лучшие качества является Одиссей (I 147; II 244; III
205 314; V 669; VII 168; VIII 97; IX 169, 192, 223, 676; X 248, 460;
Ji 449, 767; XIX 48, 141, 310; XXIII 729, 759, 765, 778). Таков же
до аналогии совсем не героичный Парис (III 329, 352; VII 355; VIII
g2). Ахилл и Патрокл «рождены Зевсом» (diogenes — I 337, 489; XI
«23; XVI 49, 707; XXI 17); «Зевсов» Ахилл (I 7; V 788; VI 414, 423;
IX 199, 209, 667; XI 599; XVI 5; XVII 402; XVIII 305; XIX 364, 384;
XX 160, 177, 386, 388, 413, 445; XXI 39, 49, 67, 161, 250, 265; XXII
102, 172, 205, 326, 330, 376; XXIII 193, 333, 389, 534; XXIV 151,
513, 596, 668); «Рожден Зевсом» Одиссей (II 173; IV 358; IX 308,
624; X 144; 340; XXIII 723); «Рожден Зевсом» Аякс (IV 489; IX 644;
XI 465); Агамемнон (IX 106); «Зевсов» Ойней (VI 216); «Зевсов»
Гектор (V 471; VI 515; VII 75, 42, 169, 192; IX 356, 651; XI 197,
327; XII 83; XIII 129, 688; XV 15, 239, 583, 652; XVII 719; XVIII
ЮЗ; XX 240, 440; XXII 226, 393, 455, 395; XXIII 24; XXV 22, 50,
175, 390, 593 , 657 , 660); «Зевсовы»: Аретаон (VI 31); Агамемнон (IV
223; VII 312; XVIII 257); Эревфалион (IV 319); Гипсенор (V 76);
Диомед (V 837, 846; X 502, 508).
«Зевсовы» воины (V 451, 663, 692; X 429; XI 455, 504; XVIII 241;
XX 354); «Зевсов» Ареифой (VII 138); Аластор (VIII 333); Ликомед
(IX 84); Тидей (X 285); Нестор (X 54; XI 510); «Зевсов» Агенор (IX
59; XIII 490; XXI 545, 579); Патрокл (XI 608); Фоот (XII 343); Приам
(XIII 460; XXIV 618); «Зевсов» Махаон (XIV 3); Эпейгей (XVI 571);
Сарпедон (XVI 638, 678); Эпей (XXIII 689, 838, 839); Агатон (XXIV
249) и др.
Герои, «вскормленные Зевсом» (diotrephes), встречаются в следу-
ющих текстах: I 176; II 98, 196, 445, 660, 847; IV 280, 338; V 463,
4<И; VII 109; IX 229, 607; X 43; XI 648, 653, 819; XII 355; XIII 427;
«V 27; XVII 12, 238, 652, 685; XXI 75, 223; XXIII 581, 594; XXIV
j. С. Уитмен (Whitman С. Н. Homer and the heroic tradition. Cambridge,
1958, p. 126 sq.) полагает, что весь гомеровский мир можно воспринимать
^*метафору» и «символ героической жизни». Естественность и правдоподобие
*ера — свидетельство совершенного искусства, где метафора не может упот-
!2'т*гься нарочито, так как она непосредственно вырастает из субстанции
^ического языка.
532
А А. Тахо-Годи
553, 803. Божественными, «Зевсовыми» являются реки Скамандр (Хц
21) и Кефис (II 522), лошади Ламп (VIII 185) и Арейон (XXIII 346)
Женщины-героини и многие вещи женского рода именуются у
Гомера «Зевсовыми», т. е. «божественными» (dia). Однако данные
примеры во много раз меньше аналогичного употребления dios. Так
на 181 текст с dios в «Илиаде» приходится 39 текстов с dia. Кроме
того, dios не употребляется никогда в отношении богов, хотя именно
они и являются «Зевсовыми» (еще одно указание на переносное зна-
чение dios при именах героев). Dia же употребляется с именами
героинь и с именами богинь.
Так, в «Илиаде» мы находим «Зевсому» Афродиту (II 820; III 389
413; V 370); «Зевсовы» женщины: Феано (V 70); Антея (VI 160);
Фронтида (XVII 40). Кроме того, употребляется сочетание dia theaori
(«богиня богинь»), т. е. самая прекрасная из богинь, а также dia
gynaicon (т. е. самая прекрасная из женщин). Первыми являются:
Афина (VI 305; XVIII 205); Гера (XIV 184); Фетида (XIX 6; XXIV
93); Диона (V 381); Харита (XVIII 388); вторыми — Алкеста (II 714);
Елена (III 171, 228, 423). Один раз выступает под именем dia thea
(«Зевсовой», «божественной богини») Афина (X 290).1
Постепенно наряду с древним мифологическим осмыслением всего
мира как «Зевсова» широко распространяется переносное значение
эпитета «божественный», и у Гомера мы встречаем dia, приложимое
к заре (IX 240, 662; XI 723; XVIII 255; XXIV 417); морю (I 141; II
152; XIV 76; XV 161, 177, 223; XXI 219); земле (XIV 347; XXIV
532); эфиру (XVI 365); разным странам — Элиде (II 615, XI 686, 698)
и Арисбе (II 836; XXI 43). Многочисленны тексты с мифологическим
определением «равный богу», «боговидный», «похожий на бога». «Бо-
горавный» (antitheos) находим в следующих местах: I 254; III 186; IV
88, 377; V 168, 629, 663, 692, 705; VI 199; VIII 275; X 112; XI 140,
322; XII 307, 408; XIII 791; XIV 322; XVI 321, 421, 649, 865; XX
232, 407; XXI 91, 595; XXIII 360, 837, XXIV 257. Человек называется
«равным богу» (isotheos). Таковыми являются: Эвриал (II 565; XXIII
677); Менелай (IV 212; XXIII 569); Эревфалион (VII 136); Патрокл
(XI 644); Аякс (XI 472); Мерион (XVI 632); из троянцев «равны
богам»: Приам (III 310); Сок (XI 428); Меланипп (XV 559). Человек
может быть «равен богу» (atalantos) некоторыми своими качествами.
Так, Одиссей «равен Зевсу» разумом (II 169, 407; X 137); Гектор
равен Зевсу умом (VII 47; XI 200); Приам равен богу благодаря своему
умению говорить мудро (VII 366); Мегес равен Аресу воинственностью
(II 627; XV 303). Равны богу Патрокл (XVII 477) и Пейрифой (XIV
318); Пилемен равен Аресу (V 576), как и Гектор (VIII 215; XVH
1 О семантике dios («Зевсов»), а также о dia как женском корреляте Зе®03
интересны соображения в диссертации Дж. Гопкинс (Hopkins G. S. Indoeuf0"
pean deiwos and related words. Jale UP, 1932).
w
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 533
72)» Мерной (XIII 295, 328, 528), Патрокл (XVI 784), Автомедон
/<VII 536), Эней и Идоменей (XIII 500); Мерной равен Эниалию,
' е. тому же Аресу (II 651; VII 166; VIII 264; XVII 259). Агамемнон
Т'аЧями и головой подобен Зевсу, видом похож на Ареса, грудью —
^Посейдона (II 477-479).
Человека почитают «как бога» (theon hos), например, Ахилла (IX
155 297, 302, 603; XI 58). Человек может быть «равным демону»
{dai’moni isos): Патрокл (XVI 705, 786); Ахилл (XX 447, 493; XXI 18,
227); Диомед (V 438, 459, 884).1
Мифологический эпитет «боговидный» (theoeides) встречается в
следующих текстах: III 16, 27, 30, 37, 58, 450; VI 290, 332, 517; XI
fll; ХП 94; XIII 774; XVII 494, 534; XIX 327; XXIV 217; 299, 372,
386, 405, 463, 552, 634, 634, 659, 763. «Боговидным» (theoeicelos)
дважды назван Ахилл (I 131; XIX 155).
Каждая вещь у Гомера также божественна, точнее «амбросийна»
(ambrosie), т. е. буквально: «бессмертна», а может быть, иной раз
подобна пище, что вкушают боги. Амбросийны мазь для натирания
(XIV 170; XXIII 187); платье (XIV 178); одежда Артемиды (XXI 507);
обувь Гермеса (XXIV 341). Волосы амбросийны (XIV 177); волосы
Зевса (I 529). Амбросийны пища коней Ареса и Посейдона (V 369;
ХШ 35), а также трава на лугу (V 777). Сон, который нисходит к
людям, амбросиен (II 19). Ночь, которой все готовы покориться,
сладка, как амбросия (II 57; XVIII 268; XXIV 363; X 41, 142). Впрочем,
эти последние тексты, отнесенные к богам, допускают также чисто
мифическое толкование. «Бессмертны» (ambrotos) не только боги, но
и обычные предметы: одежда (XVI 670, 680); оружие Ахилла, сделанное
Гефестом (XVII 194, 202).
Вообще же всякий предмет у Гомера «священен» (hieros), т. е.
сопричастен божеству. Люди, города, земля, горы, море, предметы
обихода и еда — все это божество и священно. В этом случае наблю-
дается полный разрыв между божеством и его телесным материальным
воплощением, но еще весь мир и каждый камень в нем несут на себе
отблеск божественного 2 происхождения. Рыбак ловит в море «священ-
ную» рыбу (XVI 407); «священные» стражи стана ахейцев (XXIV 681);
День «священен» (VIII 66; XI 84); сумерки «священны» (XI 194, 209;
XVII 455). Гумно, на котором веют хлеб, «священно» (V 499); ячневая
^У*а также «священна» (XI 631). «Священны» острова —Эвбея (II
$45); Эхинады (II 625); «священен» поток Алфея (XI 726). «Священны»
m * Е. Баттерворс (Butterworth Е. A. S. Some traces of the Pre-Olympian
*«1 in greek literature and mythologie. Berlin, 1960, p. 128) справедливо видит в
j^P®JCkhx сравнениях с богами указание на особые древние отношения челове-
Б. Снелль (Snell В. Dichtung und Gesellschaft. Hamburg, 1965, S. 30)
4осл^ет’ 410 гомеровское общество не есть результат «общественного договора»,
ковано богами и освящено идущими от них традициями.
534
А. А. Тахо-Годи
стены Фив (IV 378); «священные» Фивы (I 366); Зелия (IV 103); Топ
(IV 46, 164; V 648; VI 96, 277, 448; VII 20, 82, 413, 429; VIII 551
XI 196; XIII 657; XV 169; XVI 100; XVII 193; XX 216; XXI 128 515
XXIII 270; XXIV 27, 143, 383).
Обследованная нами последняя группа мифологических определе-
ний, если рассматривать ее исторически, относится к нашей четвертой
группе, которая целиком завершила разрыв между демоном и вещью
еще только намечавшийся в первых трех группах мифологических
образов. «Зевсов», «Зевсова», «потомок Ареса», «рожденный богами» __
вот-вот перейдут к обычным эпическим традиционным формулам
Человек уже знает, что он не Зевсов и вовсе не божествен, что он
не сын Ареса или что лошадь — обычная лошадь, а совсем не проис-
ходит от Зевса. Но он намеренно, в память о прошлом, говорит горд0
о себе — «Зевсов», подразумевая под этим «самый лучший», самый
прекрасный из всех героев, самый первый из всех. Здесь мы находим
вполне сознательный поэтический перенос. Но если в данном случае
объединяются в одно целое предметы, взятые из абсолютно различных
плоскостей, значит, здесь мы начинаем иметь дело с созданием ме-
тафоры.1
Можно сказать еще и так. Всякая религия различает два рода
общения с божеством. Одно общение — по самой природе, по бытию,
по субстанции, по прямому и буквальному происхождению того или
иного существа или вещи от демона или божества. Более того, чаще
говорится о прямом рождении от самого демона или божества, по-
скольку рождающий и рождаемое состоят из одной и той же материи
и в период вынашивания плода рождающий составляет с рождаемым
даже просто одну вещь, одно единое и нераздельное существо. Но
существует и другое общение с демоническим миром, когда между
вещью или живым существом, с одной стороны, и демоном или бо-
жеством — с другой, залегает различие именно по природе, по суб-
станции, по происхождению. Человек здесь вовсе не рожден демоном
или богом, но происходит из той материи, которая абсолютно проти-
воположна демону и божеству. Общение в таких условиях тоже может
быть очень глубоким, доходящим до самой последней глубины того,
что общается с демоном. Тут говорят об общении в смысле уподобления,
в смысле наития благодати, в смысле психологического или жизненного
дела, но никак не об отождествлении в смысле самой субстанции или
1 Г. Блюменберг (Blumenberg Н. Paradigmen zu einer Metaphorologie-
Bonn, 1960, S. 84 ff.) в своей интереснейшей работе, указывая на генетическое
различие мифа и метафоры, пишет: «Миф несет в себе утверждение свое1’
древнего и лишенного обоснованности происхождения, гарантию своей божествен
ности и вдохновенности свыше, в то время как метафора должна выступа
непременно в качестве вымысла, и потому она доказывает собою то обстоятель^
во, что она создает очевидную возможность своего собственного понимания».
Мифологическое происхождение поэтического языка «Илиады» Гомера 535
сммсле самого происхождения. То, что мы называем четвертой
Щуплой мифологической образности, указывает на тот период исто-
2«ческого развития греков, когда человек почувствовал себя уже на-
^дько самостоятельным, что его субстанциальное тождество с демо-
ялцеским миром стало заметно клониться к упадку и заменяться
юоаздо более внешним с ним общением, чем в периоды первобытной
||аГии. Уже в гомеровское время, к концу общинно-родовой эпохи,
человеческий индивидуум настолько героичен, самостоятелен и крепок,
чЯ) его субстанциальное тождество с божественно-демоническим миром
заметно отходит на задний план и заменяется некоей символической
связью, которая знаменует собой у Гомера медленный переход от
деления мифического к общению чисто поэтическому.
МИФ У ПЛАТОНА КАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
И ВООБРАЖАЕМОЕ
В данной статье мы не исследуем понятия мифа у Платона в
широком смысле слова или функциональную роль мифа в классической
греческой литературе и философии, достаточно изученных в ряде
капитальных трудов. Нас интересуют не художественные конструкции
Платона, в которых используются традиционные или вымышленные
им образы, часто заимствованные из мифологической области и вместе
с тем не именующиеся мифами в платоновских диалогах.1
Статья посвящена слову «миф», которое в лексической системе
Платона имеет терминологический смысл, обозначая одну из сущест-
венных категорий человеческого и космического бытия, и тем самым
нуждается в специальном исследовании.
Платон, как это хорошо известно, негодует на изображение и
толкование мифов у Гомера или Гесиода, он критикует и осуждает
их неблагочестивое мифотворчество (см. его «Государство») именно
потому, что сам он вкладывает в слово «миф» весьма большой смысл
и приписывает ему слишком значительное воздействие на отдельного
человека и общество в целом.
Изучая все тексты Платона со словом «миф», приходится отметить
их многообразие и пестроту.1 2 * Тексты эти то совершенно нейтральны,
то, наоборот, чрезвычайно напряжены смысловым образом и свиде-
1 См., например: Forster Е. Die platonischen Mythen. Rastatt, 1873.
Reinhardt К. PlatonsMythen. Bonn, 1927; Willi W. VersucheinerGrundlegw’S
der platonischen Mythopoiie. Berlin, 1925; Friedlander P. Platon. Eidos. Paide^,
Dialogos. Berlin, 1928 (IX Mythos., S. 199—241); Hirsch W. Platons Weg zufl
Mythos. Berlin—New-York, 1971.
2 Понятийному и вместе с тем терминологическому анализу мифа у Плат°н
посвящен параграф в книге А. Ф. Лосева «История античной эстетики. Софист*1
Сократ. Платон» (М., 1969, с. 557—567). Однако тексты там приведены выборо4”
и рассмотрены с учетом общего направления исследования.
Миф у Платона как действительное и воображаемое 537
-едьствуют иной раз о противоречивых и даже на первый взгляд
исключающих друг друга представлениях, сохраняя, однако, в глубине
сроей поразительное единство и свидетельствуя об удивительной це-
^стремленности мысли Платона.
«Миф» у Платона означает «слово» с самыми различными смыс-
ловыми оттенками, «речь» или «мнение» (Phaedr. 237 а, 276 е; R. Р.
ц 380 с; Legg. VII 790 с; Epin. 980 а). Он может пониматься как
чудесный рассказ о мире богов и героев (Аид — R. Р. I 330, Ганимед —
Legg- I &36, Киклопы — Legg. Ill 680 d; Химера, Сцилла, Кербер —
r. Р. IX 588; Кадм из Сидона — Legg. II 663 с; Гиг — владелец
волшебного перстня — R. Р. II 359 d) или как полулегендарное пре-
дание о прошлом племен и народов 1 (первобытная жизнь людей —
politic. 272 d, Epin 975 а; повествования египетских жрецов Солону —
Tim. 22 а; история дорийцев — Legg. Ill 682 а, 683, троянцев — Epist.
ХП 359 d, амазонок — савроматид — Legg. VII 804 е), поверья, которые
живы еще и поныне (Дика как мстительница за кровь родичей —
Legg- IX 872 d); месть убитого своему убийце — IX 865 d; миф о
священном безумии поэта — IV 719 b—с). «Миф», таким образом,
несет в себе элемент развлечения, поучительности и пользы, поэтому
он также отождествляется с баснями Эзопа (Alcib. I 122 a; Phaedr.
60 с) и, по Платону, получает большое распространение «в городе
одновременно с досугом, когда обнаружилось, что некоторые распо-
лагают готовыми средствами к жизни» (Crit. 110 а).
Развлекательность и поучительность мифа особенно сказываются в
присущем ему вымысле (Soph. 242 с; Theaet. 156 с; R. Р. VII 522 a; Tim.
26 е), и вымысел этот отнюдь не нейтрален. Наоборот, он может принести
и пользу и вред в зависимости от его направленности. Убеждать же с
помощью воображения (dia mythologias), вообще говоря, удобнее и легче,
чем с помощью поучения (dia didaches, Politic, 304 с).
Именно вымысел роднит поэта и мифолога (R. Р. 392 а), миф и
поэтическое произведение (R. Р. 11 379 а), поэзия же и мифология
(mythologia), связанные с трагедией и комедией, «целиком складыва-
ются из подражания» (mimeseos R. Р. III 394 Ь). Если выдумка
естественна для мифа, то поэтов (poieton) и мифологов (mythologon)
объединяет стремление сказать лишнее (Legg. XII 941 b), причем это
Стремление иной раз переходит в прямую ложь.
Однако при всей фантастичности мифа приходится учитывать в
®ем пользу вымысла и даже очевидной лжи, ее «уподобление истине»,
к Kirk G. S. Myth, its meaning and functions in ancient and other cultures,
“y^eley, 1971. Автор полагает, что определить «миф» вообще очень трудно, так
означает нечто невысказанное в самом широком смысле слова. Отсюда и
^"Фология» понимается Платоном как «изложение рассказов» (р. 8).
538
А. А. Тахо-Годи
раз уж «мы не знаем, как это все было на самом деле в древности^
(R. Р. II 382 d).
Платон ничуть не смущается этой «словесной лжи» мифа и резко
отличает ее от «подлинной лжи». Ведь первая есть как бы «воспро-
изведение душевного состояния, последующее его отображение», а
вторая — «укоренившееся в душе невежество, свойственное человеку
введенному в заблуждение». Поэтому действительная, «в чистом виде»
ложь ненавистна и богам и людям, а «словесная ложь» бывает даже
полезной (R. Р. II 382 с).
Вспомним вместе с тем, что представление об относительности
правды и лжи, об их утилитарном характере было широко распрост-
ранено в Греции. Еще Геродот писал: «Где ложь неизбежна, там смело
нужно лгать. Ведь лжем ли мы или говорим правду — добиваемся
одной цели— (выгоды). Одни, правда, лгут, желая убедить ложью и
затем извлечь для себя выгоду так же, как другие говорят правду,
чтобы этим также приобрести корысть и заслужить больше доверия.
Таким образом, мы стремимся (в обоих случаях) к одной цели, только
разными путями. Если бы мы не искали выгоды, то, конечно, правдивый
так же легко стал бы лжецом, как и лжец — правдивым» (III 72,
Страт.). У Софокла читаем: «Нехорошо лгать, но когда правда ведет
к страшной гибели, то извинительно и нехорошее» (фр. 326 N. — Sn.).
Аристотель утверждает: «Говоря безотносительно, ложь дурна и за-
служивает порицания, истина же прекрасна и похвальна», но «насто-
ящему лжецу самая ложь нравится», а другим людям она нужна ради
выгоды (Ethic. Nic. IV 13, 1127 а 28—1127 b 17).
Поучение с помощью мифа особенно важно, так как, несмотря на
вымысел и даже на «словесную ложь» (pseydos, R. Р. II 377 а; 382 d),
миф содержит всегда нечто истинное (alethes), нечто правдоподобное
(Tim. 29 d, 68 d). Облик мифа (mythoy men schema), не лишенного
лжи, ничуть не мешает его внутренней правде (to d’alethes esti, Tim.
22 с) и его идее (idean) правдоподобия (Tim. 59 с).1
Миф по сути своей «некое священное слово, точно бы возвещенное
оракулом» (cechresmoidestho), а значит, он имеет силу доказательства
(Legg. IV 712 а, VI 771 с, XII 944 а), предписания (VI 773 е, VII
812 а), закона (pro to nomoy mythoi XI 927 d). Если и могут быть
некоторые сомнения в истинности мифов (myhologema) о Борее и
похищенной им афинской царевне Орифии (Phaedr. 229 с), то №
«погрешающих» (hamartanoysi) против мифов необходимо обязатель'
ное наказание, как это было с поэтом Стесихором (Phaedr. 243 а)
Любители же упрекать богов и брать под сомнение их благость
1 Прав Г. Перле (Peris Н. Plato, seine Auffassung von Kosmos. Bern, 19^'
S. 225), когда относит миф к области невероятного и вместе с тем правдоподо^
го, причем правдивость мифа зависит от правдивости его цели, поэтому в л№
мифах, рассказываемых детям, всегда содержится правда (R. Р. II377 а).
Миф у Платона как действительное и воображаемое
539
крайне нуждаются в «зачаровывающих» (epoidon) мифах, так
ак неверие в мифы (mythois) равносильно неверию в богов (Legg.
X 887 d).
Здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на роль
вымысла и воображения, без которых немыслимы ни мифотворчество,
gg поэзия. Воображение и вымысел составляют основу поэзии и роднят
gg с мифом, причем степень их интенсивности доходит у Платона
да<е до обмана и вполне сознательной лжи в практике поэта и
^ифотворца.
С другой же стороны, этот вымысел основан на истине, воспри-
лимаемой как непреложный закон и священное слово, неверие в
которое равносильно богохульству.1
В своих подобного рода размышлениях о мифе Платон почти не
имеет подлинных предшественников, кроме Гесиода, философствую-
щего поэта, систематизатора и творца мифов.
Гесиод представляет «миф» как слово, направленное на нечто
даное, значительное. С таким словом Кронос обращается к Гее
(Theog. 169), а Сторукий Бриарей — к Зевсу, обещая ему поддержку
в борьбе с титанами. Слово у Гесиода может вредить (Орр. 194),
наставлять (206) — дидактика «мифа», с которым ястреб обратился к
соловью, держа его в своих когтях, — развлекать, услаждая человека
(фр. 163), выявляя истину в спорах и тяжбах (фр. 271), и быть
носителем какого-то древнего благочестия (Орр. 263, с разночтением
dicas-mythoys, «правда-миф») и самой истины (10 — etetyma myth-
Ssaimen).
Гесиод терпеливо и настойчиво призывает в «Трудах и днях»
слушаться «голоса правды» (Орр. 213). Не сама правда, а подобие
правды в образе Пандоры (Орр. 70, Theog. 572), наделенной «лживой
душой» (79), создает «прекрасное зло вместо блага» (Theog. 585) и
«приманку искусную» для смертных (590). Но ведь Пандора созна-
тельно послана богами в мир для соблазнов и испытаний смертных.
Гесиод как поборник правды (ср. также Hom. nymn. I 176 о вере,
основанной на правде) совсем не исключает воображения, вымысла и
Иже лжи из поэтического творчества. Наоборот, вдохновленный му-
Ими2 певец познает то, что «в мыслях у Зевса» (Орр. 654—662), и
Иимает «мифу» муз (Theog. 24), которые владеют великим даром
ИЩумки или той самой «лжи», что может быть ими выдана за «чистую
Чивду» (вспомним Пандору, сотворенную богами, как «подобие прав-
В- Тайлер (Т h е i 1 е г W. Untersuchungen zur antiken Literatur. Berlin, 1970,
В сочувственно относится к оценке мифа как «самой истины», данной
” в его знаменитой книге (Otto W. Die Gotter Griechenlands. Berlin, 1929).
^^Служение музам и отсюда вдохновение как «телесное воплощение божест-
(ty?В- * 10 Дыхания» характерно, по мнению В. Верли, вообще для архаики
chrli F.HauptrichtungendesgriechischenDenkens.Zurich, 1964, S.34).
540
А. А. Тахо-Годи
ды», и ее лживую душу). Однако при желании дочери Зевса могут и
«правду рассказывать» (Theog. 27 сл.), распевая «прелестными» голо-
сами о законах, «которые всем управляют» (66), и прославляя «добрые
нравы богов»(67); 1 эти же музы мастерицы говорить ложь и правду
т. е. соединять в «божественных песнях» воображение и реальность’
«радуют разум» Зевса, «излагая подробно, что было, что есть и что
будет» (38). Они обучили Гесиода умению воспевать прошедшее и
будущее (32), что почти не отличает беотийского поэта-крестьянина
от ахейского жреца Калхаса, которому в «Илиаде» как раз приписы-
вался дар именно такого прозрения в прошлое и будущее при толко-
вании настоящего (Ил. I 70).
При исследовании, однако, греческой классической поэзии нас
поражает одиночество Платона в вопросе о силе воображения «слово-
мифа» и о благочестивом, истинном характере выдумки.
У лириков в «мифе»-«слове» подчеркивается его повествователь-
ность вообще (Mimn. 12 Al; Saph. 29; Anacr. 25; Pind. Pyth. IV 298),
а затем уже речь, определенно направленная, как решение (Phocyl.
3, 2), просьба (Bacch. XV, 39 XXVI 14), разумное убеждение (Theogn.
437, поучение (Theogn. 756, 1235 сл.), слово, квалифицированное как
хорошее (Theogn. 493), соответствующее справедливому делу (Tyrt.
3 а 7), умильное (Semonid. 7, 18; Bacch. XI 90), невразумительное
(Theogn. 481), льстивое (Pind Nem. VIII 33), вздорное (Sim. 49).
Трагики Эсхил и Софокл также не выходят за пределы этого
наиболее традиционного понимания «мифа», который есть не что иное,
как поэтическое словоупотребление, равноценное прозаическому слову,
«логосу», и глаголу «говорить» (legein).
Даже в тех случаях, когда вполне признается вымышленный характер
«мифа»-«слова», он воспринимается (например, Еврипидом) как выдумка
отрицательная, нечто недостоверное, не внушающий доверия обман,
ложь (Med. 72, Ion. 265; Hipp. 1288) или предание, сказка, которой верят
дети и легковерные люди (Heracl. F. 77, Ion. 994,1 phig. Aul. 72,799; Med.
654; ср. Аристофан — Lys. 781, 806; Plut. 177; Vesp. 1179). Характерно
здесь противопоставление мифа Аристофаном басням Эзопа (Vesp. 566),
в то время как у Платона миф благодаря своей поучительности отожде-
ствляется с басней (например, Phaedr. 60 с).
Знаменитый миф о том, как Зевс в гневе на Атрея заставил солнце
изменить свой путь, воспринимается Еврипидом как «страшные сказки»
(Е1. 743), которым нет веры (pistin smicran par emoig’ echei 737) и
которые создаются людьми в угоду божеству. Здесь позиция Еврипида
резко отличается от трактовки данного мифа в «Политике» Платона
1 О своеобразии вступления к «Теогонии» Гесиода, где объединяются глуби1!
переживаний и традиционность, говорит П. Фридлендер (Friedlander
Studien zur antiken Literatur und Kunst. Berlin, S. 68—80).
Миф у Платона как действительное и воображаемое
541
ЩГ
(J68 Ь) со всей глубиной его поучительности и общечеловеческого
значения.
Лишь дважды критически настроенный к мифу вообще Еврипид
серьезно рассуждает о нем — в космогоническом рассказе мудрой Ме-
ддияппы (фр. 484) и в песне хора, восхищенного «тончайшими ми-
или, что почти то же, мыслями, мудростью (Med. 1082 в
дереводе Анненского «люблю я тонкие сети наук»).
Платон, таким образом, понимая глубоко положительно стихию
домела в мифе, проявляет свою исключительную индивидуальность
ср^тш традиционных и повсеместных высказываний своих предшест-
венников и современников, смыкаясь лишь с архаическим поэтом-фи-
лософом Гесиодом.
Оба они объединяют воображение и реальность; и вымысел пони-
мается ими как нечто истинное, правильное, согласное с правдой, а
божественная священная ложь, обернувшаяся для людей «подобием
правды», призвана не просто обмануть, но испытать, призвать человека,
закалить его и проверить.
В духе этого гесиодовского контекста становится понятным, что
для Платона все, о чем повествуют мифологи и поэты (mythologon ё
poiSton legetai), относится к прошлому, настоящему и будущему
(R. Р. 392 d). Платон, философ и поэт, наделенный удивительной
силой воображения, оперирует им в сферах совсем не поэтических и
даже очень далеких от того священного безумия поэта, которое он
постоянно прокламирует.
В этом смысле Платон резко отличается от своих предшественников
философов досократиков, которые, упиваясь первыми успехами науч-
ной мысли 1 и возвеличивая природные материальные стихии, пони-
мают «миф» в первую очередь не только как слово вообще (Crit. В6,
10), а именно как «слово» ученое, речь, путь исследования (Парменид
В2 8 D9; Эмпедокл В 17, 15), поучительное слово (Эмпедокл В 62,
3), ученое повествование (там же, В 24, 2), науку (там же, В 17,
14), историческое предание (там же, 73 В 5). При этом, по Эмпедоклу,
Ж. П. Верная (Vernant J. Р. Les engines de la pensfee grecque. Paris, 1962)
1х*>рит об «интеллектуальной революции» в Ионии, когда «логос неожиданно
0°°бодился от мифа» (с. 97 и сл.), указывая на сложность взаимоотношения мифа
"Рационального знания, что приводит иной раз к противоположным точкам
^саиа- Таковы точки зрения Дж. Бернета — о невозможности искать истоки
/®®йской науки в мифе и Ф. Корнфорда — о близости первых философов к
*"Ф°лоп1ческим конструкциям, а не научным теориям (с. 98). Сложность
7®моотношений мифа и логоса в греческой доплатоновской философии тракту-
в книге Ф. X. Кессиди «От мифа к логосу (становление греческой филосо-
М., 1972.
См.: у Эмпедокла (В 4) о том, что музы приоткрывают скрытую истину и у
^ж®лия (Georg. II475 и сл.), где поэт просит муз раскрыть ему тайны природы.
542
А. А. Тахо-Годи
в «мифе» заключается истина (aletheie para mythois), которую трудНо
усвоить (В 114, 1), но которая вместе с тем обладает силой божест-
венной речи (theoy para mython acoysas В 23 11. Ср. Мусей 2 В ц
о слове как изречении оракула), а по Ксенофану (I 14 Diehl) воспевать
божества можно только в «благоговейных мифах» (eyphemois mythois)
и «чистых словах» (catharoisi logois).
Платоновская рефлексия, наоборот, вся пронизана великой силой
вымысла, и лишь одно его соприкосновение с размышлениями о сущности
бытия, свойствах материи, законах космических и общественных транс-
формирует их в миф, но миф, обладающий огромной силой воздействия
на реальное бытие, и, что особенно важно, творящей реальность будущего
Воображение, являющееся сутью мифа, имеет для Платона вполне
положительный характер, никак не противореча истине. Однако и на
этом пути философ почти не имеет союзников, кроме Гесиода.
Следует отметить, что Диоген Аполлонийский резко противопо-
ставляет мифическое (mythicos) и истинное (alethos), понимая миф
как примитивную, недостойную выдумку о богах (А 8). Демокрит же,
будучи прямым антагонистом Платона, возможно, вполне сознательно
спорит с ним, утверждая миф как негативную философскую конст-
рукцию, которую «вылепливают» (mythoplasteontes) некоторые люди,
«не зная, что смертная природа человека подлежит разрушению»
(В 297 = 466 Лурье). Здесь чувствуется явный упрек в адрес Платона,
который каждый раз, заговаривая о будущей судьбе человеческой
души, творит о ней истинный миф, не требующий никаких логических
доказательств (например, Phaed. 110 b, или история загробного стран-
ствования Эра R. Р. X 621 Ь).
Платон вместе с тем именует мифом чисто философские теории
о разных типах бытия и его генезисе, не считая нужным устанавливать
правильность того или иного утверждения (Soph. 242 с). Движение
как первоначало является для него мифом, не поэтической, но фи-
лософской выдумкой, которая, мы бы сказали, находится на уровне
гипотезы (Theaet. 156 с). Таким же мифом именует Платон тезис
философов-сенсуалистов (в том числе и софистов) о тождестве знания
и ощущения (Theaet. 164 d). Под категорию мифа подпадают у него
чисто философские построения (Theaet. 164 е; Gorg. 493 d), связанные
с учением о душе в духе пифагорейца Филолая или Эмпедокла (Gorg
493 а). Рассуждения Горгия о судьбе души в загробном мире облечены
в форму мифа (Gorg. 527 а), таящего мудрые мысли. Мифом именуете8
рассказ о творении мира демиургом, совместившим в себе патетику
поэта и строжайшую размеренность математически-музыкальных вы-
кладок ученого (Tim. 69 b).1 «Мифическим гимном Эроту» именуюте8
1 «Платон в „Тимее", — пишет М. Стоукс, — выдвигая на централь1^
место творение мира, оставляет путь атомистов с их бесчисленными мира5*
Мифу Платона как действительное и воображаемое
543
цдатона две речи Сократа о любви с их парадоксальной логической
У-ументацией (Phaedr. 265 с).
а™ Миф У Платона не только синонимичен теоретическому философ-
гкоМУ рассуждению, но он призван практически творить будущее,
Сражая собой совершенный образец идеального государства (Legg,
yl 751 е, 752 а). Этот образец есть попытка Платона воплотить
десятую идею блага в реальность, примирить воображение и дейст-
дягедьность в мифе о наилучшей форме правления.
Какой бы общественный строй и какие бы предписания ни про-
дозглашал многомудрый законодатель, для Платона они непременно
делятся мифом о будущем. Законодатель должен быть абсолютно
последователен, рассудителен, логичен, он не имеет никакого права
„„ противоречия, которыми живет охваченный безумием поэт, вдох-
новленный самими богами на мифотворчество (Legg. IV 719 с). Ос-
нователи государства сами не творят мифы, «им достаточно знать,
уагими должны быть основные черты поэтического творчества» (R.
р. II 379 а). Они, таким образом, проникают в суть поэзии и мифа,
а потому свободно оперируют ими, выносят им свой приговор, отвер-
дугг или привлекают их в своей государственной практике,1 не теряя
трезвости ума и строго следуя формальным предписаниям. Здесь-то и
открывается возможность, отослав за пределы города вольного в мыслях
и подражании поэта, удовольствоваться «более суровым, хотя и менее
приятным» поэтом и творцом мифов (mythologoi), который «излагал
бы согласно образцам, установленным для воспитания воинов»
(R. Р. III 398 ab).
Платон, рисуя подробную картину образования и воспитания стра-
жей в государстве будущего, придает особое значение мифам (mythoys),
где ложь (pseydos) и истина (alethe) сплетены воедино и которые
именно поэтому обладают огромной силой воздействия на детскую
душу (R. Р. II 377 а). Примечательно, что из двух видов (eidos)
повествований (logon) — истинного и ложного — Платон предполагает
Умение высказываться сперва в ложном виде, а затем уже в истинном
(там же).
Если ложь есть воображение, доведенное до степени вымысла, то
повятно, почему Платон так настаивает на усвоении мифов буквально
с Младенческих лет. Эта «мифологическая» ложь полезна, так как она
Уподобляется истине (II 382 d) в гесиодовском духе. Отбор мифов
]?5**мИ И восстанавливает единый Ум — Нус как демиурга, преодолевающего
О*бовью вражду с ее разъединенностью почти по Эмпедоклу» (Stokes М. С.
УПеf°d many in presocratic philosophy. Cambridge, 1971, p. 255).
Б. Снелль (Snell B. Die Entdeckung des Geistes. Hamburg, 1955) пишет,
идеальном государстве Платона, где управляют философы, «высшее
ц^г^изирование объединяется с высшей практикой» и «теория пронизана
ИКтИческими интересами» (с. 407—408).
544
А. А. Тахо-Годи.
необходим, чтобы дети не слушали мифы, «выдуманные кем попало»
так же как необходимо наблюдать за «творцами мифов» и выдвигать
«признанные мифы», отбрасывая подавляющее их большинство
377 b—с), наносящее прямой вред (II 378 с).
Мифы должны быть «направлены к добродетели» (II 378 е). Онц
призваны «выражать как можно более одинаковые взгляды», «оча.
ровывать» юные души и убеждать их «в чем угодно» (Legg. II 663
е—664 Ь). Рассказывая мифы (mythologem), можно «предписать» То
что полезно для города (R. Р. II 392 Ь). Даже самый древний миф
(например, о рождении людей матерью-землей) поможет гражданам
заботиться о государстве (III 414 d—415 с). А знаменитый миф 0
том, «что мы куклы, способствовал бы сохранению добродетели»
(Legg. I 645 b), так как возвеличивал бы волю богов, в чьих руках
находятся нити человеческой жизни и судьбы. Те, кто не в силах
петь в государственных хороводах, становятся у Платона «сказителями
мифов» (mythologoys), возвещая нравственные правила, основанные
на божественном «откровении» (II 664 d). Платон, мечтая об иде-
альном правителе, обращается в «Политике» к «тяжелейшему пласту
мифа» (277 Ь), к «большому мифу» и путем тончайших дистинкций
добирается «до самой сути искомого» (Politic. 268 с). Миф о пре-
ступлении Атрея, изменившего путь солнца (268 е), слушается со-
беседниками Сократа как малыми детьми, с захватывающим инте-
ресом. Платон как бы извлекает из небытия, будит «спящий миф»
(ton mython egeiramen) о блаженных временах Кроноса (272 d),
круговороте космической жизни (273 е) и первых обитателях эпохи
создания мира (274 е).
Миф о прошлом у Платона, таким образом, становится моделью,
по которой конструируется тип лучшего правителя. Однако чаще всего
платоновский миф проецируется в будущее, оформляясь в строжайше
регламентированную общность людей, обычаев и законов. Он знаме-
нует здесь то страстно желаемое, что грезится Платону, что занимает
воображение философа и поэта. В конце концов этот буйный вымысел
не довольствуется сферой философской и социальной практики. Он
претендует на точное знание о судьбах души в вечной жизни
(Phaed. 61), и это знание смыкается с истиной, не требующей дока-
зательств. Оно аксиоматично и граничит с верой.1
Весь знаменитый рассказ в конце X книги «Государства» о загроб'
ных странствиях Эра и суде над мертвыми именуется не чем иным,
как мифом, который обладает такой великой силой, что «спасает»
человека, поверившего в него, моральным совершенствованием, таК
1 Эсхатологические мифы Платона не нуждаются в доказательствах, так
являются предметом его веры, замечает Дж. Ллойд (Lloyd G. Е. R. Polarity
analogy. Cambridge, 1966, р. 400).
Мифу Платона как действительное и воображаемое
545
тот сможет перейти через Лету, «души своей не осквернив»
л р. X 621 Ь). Более того, мифом, объединившим в себе дерзкое
выражение Платона и уверенность в его истинности, является ве-
ликолепное описание «истинной», не нашей земли, что сияет в эфире
пазноцветным мячом (sphaira), сшитым из двенадцати кусков кожи,
е. знаменует собой совершенную геометрическую форму (Phaed.
1'10 Ь). Вся дальнейшая картина этой нездешней земли с ее живопис-
ЛЫМИ рощами, храмами и ручьями, с ее россыпями драгоценных
камней, ясностью и прозрачностью красок и цветов рождается как
дотинная, наверняка известная Платону, отчетливо зримая воображе-
нием философа реальность.
Миф как средоточие знания и вымысла обладает безграничными
возможностями, в которых Платон видит даже нечто магическое,
колдовское.1 Недаром миф может заворожить человека (epaidein),
убеждая его «в чем угодно» (Legg. II 663 е—664 Ь); сомневающихся
к богах тоже «заговаривают» мифами (epoidon).
Здесь будет уместно привести редчайшее для доплатоновской
традиции мнение Пиндара о мудрости — Софии, которая чарует или
обманывает (cleptei), обольщая «мифами» (Nem. VII 23). Знамена-
тельно, что эти «мифы», украшенные пестрыми вымыслами (pseydesi
poicilois), очаровывают (exapatonti) смертных больше, чем истинное
слово2 (alathe logon, 01 1.29, ср. у Сафо 125 В = 188 Page-L. вооб-
ражение любви, воплощенное в Эроте, mythoplocon — «плетущем ми-
фы»).
Мудрости благочестиво настроенного Пиндара соответствует такое
же редкостное признание Эсхила о «чарующей», «колдовской», «ча-
родейской» силе слова (thelcterios mythos, Suppl. 447) и особенно тех
слов, которые оправдывают, по мнению Аполлона, Ореста на собрании
мудрого Ареопага (thelcterioys mythoys, Eum. 82).
Приведенные выше факты приближают нас к мысли, что сила
воображения, достигающего магического воздействия и даже священ-
ного безумия, характерна не только для поэта, но и для философа-
мифотворца.
В этом отношении интересно мнение Доддса о том, что теория
поэтического безумия не прослеживается раньше V в. до н. э., хотя,
СУДЯ по Платону, она должна быть гораздо древнее, так как Платон
называет представление об одержимости поэта «древним мифом» (Legg.
Дж. Керк полагает, что Платон и философы его типа «прибегали к мифу в
’2Втические моменты, когда чистый разум казался неспособным продвинуться
ffibme» (Kirk G. S. Myth, its meaning and functions in ancient and other cultures,
"'’’fley, 1971, p. 259).
.. Пиндар вообще мыслит самого себя пророком, правозвестником истины
150 Sn.), получившим этот дар от муз (фрг. 52 f = Paean VI 6 Sn.).
25 Зак 3903
546
А. А. Тахо-Годи
719 с) ? Во всяком случае, еще Демокрит утверждал экстатичность поэта
(В 17, 18 о лучших стихах, создаваемых энтузиазмом и священным вдох-
новением) , хотя эта концепция обычно приписывается Платону.
Платон, сам обладая мастерством аналитика, явно чувствует не-
достаточность мифа, когда философу приходится прибегать к настоя-
тельным доказательствам и убеждениям. Не раз вполне очевидно он
резко противопоставляет воображение и вымысел мифа размышлени-
ями и рассуждениями того словесного высказывания, которое по-гре-
чески именуется «логосом».2
Сократ говорит в последний день своей жизни, что «поэт, если
только он хочет быть настоящим поэтом, должен творить мифы, а не
рассуждать» (poiein mythoys all’oy logoys). Себя самого Сократ считает
«немифологичным» (Оу ё mythologicos, Phaed. 61 b) или, как обычно
переводят, не владеющим «даром воображения», поэтому его служение
Музам ограничилось сочинением гимна Аполлону и стихотворным
переложением басен Эзопа. Миф для Платона слишком пластичен,
живописен, расплывчат. В нем есть нечто недосказанное, т. е., говоря
языком риторики и логики, он обладает качеством энтимемы. Именно
эти черты резко отличают миф от логоса.
В «Филебе» Сократ считает незавершенное, как бы не дающееся
в руки рассуждение (logos) сродни «недосказанному мифу» (Phileb.
14 а). В «Федоне», ожидая близкую смерть, Сократ лишен времени
для подробного и длинного разговора (logos) о судьбе души и устроении
Земли. Он, однако, считает возможным набросать (legein) «вид» или
«идею» (idean) Земли и главные ее «области» (topoys). Здесь Сократ
не занимается простым «пересказом» (diegesasthai), который не требует
от него никакого искусства (techne). Но вместе с тем, не имея времени
для «истинного» доказательства бессмертия души (Phaed. 108 е), фи- 1 2
1 Dodds Е. R. The greeks and the irrational. Berkeley, 1959, p. 81—82. Cp.
утверждение P. Хэрриот о том, что Платон «целиком новое» представление о
поэтическом безумии облекает в знакомые по традиции образы (Harriott R-
Poetry and criticism before Plato. London, 1969, p. 83). О разных типах энтузиазма
не только в поэзии, но в политике и философии пишет Г. Фласхар (F1 a s h а г Н.
Der Dialog Jon als Zeugnis platonisches Philosophic. Berlin, 1958).
2 Общественная роль логоса, его связь с деятельностью полиса, когда homo
sapiens равнозначен homo politicus и логос разумно воздействует на человека, не
занимаясь природой, выразительно отмечена Ж. П. Вернином (Ver па nt J.-£-
Les origines de la pensee greque. Paris, 1962, p. 127, 129). Cp. Vernant J--P-
Mythe et pensee chez les grecs, etudes de psychologic historique. Paris, 19o°'
p. 314 — о логосе и его связи с полисом. Ср. также мнение о древнем мифическом
мышлении как некоем «озарении», пережившем в VII—VI вв., т. е. в эпоху
становления полисов, процесс секуляризации с выдвижением на первое мес1^
разумного ведения спора, а значит, и диалога, необходимого в общественно11
жизни (D е t i е n n е М. Les maftres de verite dans la Grece archaique. Paris, 1“ ’
p. 100—103).
Миф у Платона как действительное и воображаемое
547
лософ решительно утверждает (cindyneysai) его в «мифе» (mythos) о
^небесной земле и ее чудесах (ПО Ь).
Эту свою решимость не доказывать истину, а утверждать ее Сократ
считает «достойной» (axion) и прекрасной (calos), так как с ее помощью
дЮДИ «словно бы зачаровывают самих себя» (hosper epaidein heaytoi)
Л не страшатся смерти. Вот почему он живописно и подробно распи-
сывает (тёсупб) удивительный мир (mython) об истинной земле и
потустороннем мире в недрах нашей жалкой и убогой земли (Phaed.
Ц4 d). Оказывается, что истина, не нуждающаяся в доказательствах,
да еше великолепно разрисованная воображением, есть в данном случае
миф.
Мифическая истина совсем не обязана быть правдивой. Для этого
она чересчур «вылеплена», как бы изваяна мастером (plasthenta
mython, Tim. 26 е), в то время как логос известен своей правдивостью,
утверждает себя именно как правдивое повествование (alethinon logon)
о древнем государстве афинян (Tim. 26 е).
Миф по самой сути своей не годится для доказательств, хотя может
играть роль великих «образцов» (mala paradeigmata 277 b) и даже
быть «образцом образца» (paradeigmatos paradeigma 277 d), как это
случилось с «тяжелейшим пластом мифа» (thaymaston ogcon ... toy
mythoy), поднятым собеседниками в «Политике».
Образ идеального царя не получил там своего завершения; он пока
основывался только на примере (paradeigma) древнего мифа о круго-
вороте человеческого и космического бытия. Изобилие мифологиче-
ского материала придало повествованию элейского гостя столь кра-
сочный характер, что миф о наилучшем государственном муже ока-
зался как бы размашисто и спешно вылепленным или вытесанным
ваятелем (andriantopoloi), а то и предстал как «черновой набросок»
(perigraphen) произведения живописи (graphes), лишенный «красок и
смешения оттенков» (277 b—с). Прийти к полной четкости и закон-
ченности представления о политике и так называемом царском ис-
кусстве плетения позволили лишь внимательное доказательство
(apodexis 277 а—Ь), рассуждение и необходимый для него способ
выражения мысли (lexis 277 с). Неудивительно, что когда Платону
требуется привести тщательно подобранную аргументацию для дока-
зательства выдвинутого тезиса, а не вдохновенно расточать живописные
подробности, герои его диалогов упорно и систематично именуют свои
самые смелые и невероятные построения логосом.1 Логосом являются
Дж. Е. Ллойд (Lloyd G. Е. R. Polarity and analogy. Cambridge, 1966)
подчеркивает у Платона различие между образом (eicOn) и мифом, с одной
^°Р°ны, и необразным изложением (logos) и доказательством (apodeixis) — с
отмечая, что в размышлениях о космосе надо пользоваться только мифом,
^г1Чем метафоричность языка Платона никогда не является «пустой фигурой
^(р.ггб^т).
548
А. А. Тахо-Годи
в «Федре» обе речи Сократа о любви (237 а—257 с), хотя он и призвц,
на помощь Муз, как свойственно поэтам1 и мифологам (237 Ь), и
уснастил свою речь поэтическими выражениями, доступными только
вдохновенному взору картинами о небесном ристании крылатых ко-
лесниц (247 а—е) или круговороте душ (248 а—249 с). Речи Сократа
которые он сам назвал палинодией Эроту или «покаянной песнью»’
тем не менее остались в пределах логоса (257 с) благодаря своей
доказательности и аналитическому методу изложения.
Такими же блестяще аргументированными речами являются вы-
ступления собеседников в «Пире», где даже неслыханная по силе
воображения выдумка Аристофана о человеческих половинках все-таки
есть логос, умственно и целенаправленно сконструированный, а не
миф (189 с—193 d). Таков и знаменитый плод категориально-умо-
зрительных дедукций жрицы Диотимы об Эроте, сыне Пороса и Пении.
Явно просвечивающая здесь, бросающаяся в глаза аллегория и даль-
нейшая цепь доказательств иерархийности красоты делают рассказ
Диотимы логосом (201 d).2
Столь же непреложным, издавна достоверным, доказанным логосом
служит для Платона история древних афинян и Атлантиды (Tim,
21 b—25 d). В диалоге, специально посвященном описанию острова
атлантов, исторически правдивая, с точки зрения присутствующих,
повесть Крития именуется логосом (108 d). Отметая всякое сомнение
в абсолютной доказанности существования Атлантиды, здесь особенно
подчеркивается, что «рассуждения» (logoys) о небесных и божественных
предметах одобряются при «малейшей их вероятности» наряду с при-
дирчивой проверкой того, что рассказывается о «смертном и челове-
ческом» (107 d).
Платон, однако, несмотря, казалось бы, на признание различия
мифа и логоса, никак не может остановиться на их принципиальном
разграничении и противопоставлении. Наоборот, иной раз миф со всей
неуемностью вымысла дополняется подробными рассуждениями и раз-
мышлениями, как это происходит в «Государстве», где история по-
лулегендарного Гига и его волшебного кольца, т. е. настоящее предание,
1 Ср. «Кратил» 428 с о Музе, которая находится в душе Сократа. Ср. также
мысль о мифолого-религиозном понимании «Музы» Платоном, которое соответст-
вует современной нам эстетической категории прекрасного в искусстве
(М u е 11 е г G. Е. Plato the founder of philosophy as dialectic. N. Y., 1965, p. 140) и о
даре Муз создавать через творчество (poiesis) «переход от небытия к бытию*
(р. Ч41)- Жя
П. Фридлендер, намечая разные ступени в понимании Платоном миф^'
относит рассказ Диотомы об Эросе в «Пире» к мифу на его второй, сократовской’
ступени. Здесь Платон, по мнению исследователей, создает образ мифологическо-
го Эроса по типу Сократа, стремящегося к мудрости и влюбленного в мудр0^’
т. е. Сократ как бы сам становится мифом (Friedlander Р. Platon Eidos
Paideia. Dialogos. Berlin, 1928, S. 203—219).
Миф у Платона как действительное и воображаемое
549
(II 359 d—360 Ь), сопровождается разного рода замечаниями,
включаясь в цепь чисто теоретического рассуждения, и потому в
включение именуется уже логосом (361 Ь). Рассказ о людях-куклах
в руках богов (Legg. I 644 с—645 Ь) в своем чистом беспримесном
ллде именуется мифом (645 Ь), но, как только кончилось его изложение
0 уступила в силу связь с общим ходом мысли, с анализом главной
темы, он тут же получает название «размышления» (logismos) или
«рассуждения» (diatribe 645 с).
Бывает и так, что противопоставление мифа и «разумного осно-
вания» (logon, Protag. 324 d) — только внешнее, а по сути дела то и
другое используется для доказательства одного тезиса. В этом смысле
мифологический вымысел и строгое доказательство (logon) выступают
в необходимом единстве (Prot. 328 с).1 В песнях (odais), мифах
(mythois) и рассуждениях (logois) даже следует «выражать как можно
fonee одинаковые взгляды» (Legg. II 664 b), имея в виду, что пре-
красные «рассуждения» (logoi) и «мифологические рассказы» (mytho-
logiai) (Hipp. Mai, 298 а) воздействуют одинаково прекрасно.
философу, в чьем лице объединяются поэт и мифолог, собственно
говоря, все равно, как показать и разъяснить его замысел — с помощью
ли «мифов», которые рассказывали молодым старики, или с помощью
рассуждения (logoi).2 Именно в таком положении находится Протагор
(Protag. 320 с), которому приятнее рассказать миф о создании людей
и животных богами, о роли Прометея и причастности человека к
божественному уделу.
Сократ тоже предлагает Калликлу «прекрасное повествование»
(mala caloy logoy) о загробной участи человека (Gorg. 523 а—527 а)
и отнюдь не отрицает того, что его собеседнику оно покажется мифом
(mython 523 а), хотя для самого Сократа его рассказ обладает осно-
вательностью рассуждения (logon) и излагается поэтому в духе «ис-
тинного» события (alethe, 523 а). Вымысел мифа и истинность дока-
зательного повествования настолько переплетаются в его изложении,
что он предваряет свой рассказ указанием на «логос» (logon lexai,
Дж. Боас (Boas G. Rationalism in greek philosophy. Baltimore, 1961)
оп*счает, что Платон прибегает к мифу, например, в «Меионе», чтобы объяснить
теорию воспоминания, однако сам миф «не есть объяснение» (р. 156).
Однако Платон часто предпочитает мифы, так как «они воплощают в
Ковхретной форме философские цели, слишком трудные для толкования с
?“«ХЦью ученого языка» (Boas G. Rationalism in greek philosophy, p. 355). Для
‘катена в мифе воплощается нечто вечное, поэтичное, когда он хочет выявить
/^к’статки людей, «он обращается к истории, когда же он хочет указать путь к
^чтению, он обращается к вечности» (р. 164), т. е., собственно говоря, к мифу,
у“г»®апример, он это делает в «Тимее», рисуя творение мира, упорядочение,
Двоение его. Поскольку улучшение связано с рациональным отношением к
значит, по Боасу, в вечности, идее и божестве есть тоже нечто рациональ-
,т- е. миф и логос объединяются естественно (р. 184).
550
А. А. Тахо-Годи
522 e), а заключает его одновременно и как «убедительный» ли.
как «миф», вроде тех, что «плетут старухи» (527 а).1 Собсп ,
говоря, Сократу безразлично, как назвать свой рассказ, ибо по
здесь убедительное доказательство облечено в форму мифа и в
с этим становится непреложной истиной, не нуждающейся в „ .
аргументации.
Миф и логос доходят, наконец, у Платона до такого сбли„
что взаимно заменяют друг друга.1 2 В «Федре» египетское предл . .
боге Тевте, изобретателе письма, есть не что иное, как логос (1о„ ,
так как древние знали истину и умели говорить о ней (letl
alethes... isasi 277 с). Сказание о Додонском дубе и другие леи П)
памятные Сократу, воспринимаются тоже как логос (Phaedr. 275 с - а,
будучи вплетенными в общую систему аргументации. Мусичсо
искусства включают в себя на равных правах «логос» и «миф» Д? р
III 398 Ь), представляющие собой разные типы подражания, рассуж-
дающего и образно-творческого. Платон настолько объединяет их „ме-
сте, что идеальный «государственный строй» у него «мифологически
конструируется» (mythologoymen) при помощи рассуждения, т. е
госа (logoi, R. Р. V 1 501 е), а сами рассуждения, или «логосы», могу г
быть «мифовидными», «мифообразными» (R. Р. VII 522 а), т. е. близ
кими к вымыслу или, наоборот, близкими к истине (alethinc'ecoi
R. Р. VII 522 а).
В мусическое воспитание Платон включает словесность в логиче-
ском смысле (logos), подразделяемую на два вида (eidos). Из них
один рассматривается как нечто истинное (alethes), а другой -
ложное (pseydos, R. Р. II 377 а).3 Этот последний вид имеет преиму-
щество для воспитания стражей в юные годы, так как он есть не что
иное, как миф, а мифы, полные вымысла, доходящего до лжи, необ-
ходимо рассказывать детям с младенческих лет, так как «есть в них
и истина» (377 а). Оказывается, таким образом, что «миф» есть
1 Совершенно прав X. Ф. Китто (Kitto Н. D. F. Poiesis, structure ало
thought. Berkeley, 1966), который считает, что миф отнюдь не ниже логичен ого
построения, хотя и находится у Платона в сфере того, «во что он вери.
доказать не может». Это «не внезапный переход в неразумное», но естественно;
следствие исчерпания всех возможностей логики (р. 187—188, о «Горгии»).
2 Ср. мысль о том, что «трагическое ограничение разума неизбежно ве?;т ь
религиозному углублению, а религиозный миф необходимо содержится вю'гр«
диалектического размышления» (Mueller G.E. Plato the founder of philosophy
dialectic, p. 172, 174).
3 О «двусмысленности» греческого слова «логос» и о заключенных в
значениях истинности и ложности см. в кн.: Kneale W., Kneale М 'j1’
development of logic, Oxford, 1971, p. 18; ср. также: Marten R. Der Log**-
Dialektik. Berlin, 1965 (о диалектическом отношении философа и софиста
логосе — с. 104—116 и о софистическом логосе — с. 167—179). Логос
«утверждает», чем «определяет», пишет Д. Росс (Ross D. Plato’s theory of
Oxford, 1966, p. 27—28,163).
Миф у Платона как действительное и воображаемое
551
„«обходимая частица вымысла и воображения в логически продуманном
кормлении аспекта мусического воспитания.
’’у Платона, следовательно, можно найти некое противопоставление
^лфа и логоса, их сближение, дополнительные функции того и другого
в даже полную их взаимозамещаемость.1 С одной стороны, неустой-
цдвость и даже текучесть, а с другой — принципиальное различие
лдфа и логоса заставляют нас каждый раз чрезвычайно внимательно
относиться к окружающему эти слова контексту и системе изложения
дайной части диалога, к выяснению цели и задачи беседы или речи
действующих лиц. Совершенно не обязательно, чтобы миф был необ-
ходим в самых поэтических «беллетризованных» диалогах, уступая
иесто логосу при изложении сухой материи, вроде законодательных
предписаний и общественно-политических рассуждений.
На самом деле картина оказывается совершенно противоположной
этому предположению. Именно «Федон», «Федр», «Пир», «Горгий»,
«Протагор», «Критий» менее всего дают непосредственного материала
ддя выяснения семантики мифа у Платона. Но зато они же, выдвигая
па первый план логос, косвенно характеризуют миф, проясняя его
скрытые и не всегда очевидные возможности. Все основные тексты со
словом «миф» сосредоточены как раз в диалогах, посвященных темам
и рассуждениям сугубо трезвым, позитивным в «Политике», «Госу-
дарстве», «Законах», и этот факт не может не вызвать пристального
внимания.
Самая фантастическая, с точки зрения читателя, самая как будто
«мифологическая» разработка темы, попав однажды в систему строгих
доказательств сложнейшей аргументации и отвлеченного теоретизи-
рования, немедленно включается в общую ткань повествования, ста-
новится одной из разновидностей требуемого доказательства и по
необходимости принимает сторону рассуждения.
Это рассуждение, включаясь в аргументацию и обладая силой
закономерно и целенаправленно продуманного доказательства, несмот-
ря на свои самые смелые мифологические образы, есть не что иное,
так логос,2 блестяще развернутый в самых художественных диалогах
О связях мифологии и философии см.: Чанышев А. Н. Эгейская
В*Чфилософия. М., 1970, с. 175—214; о связях мифа и логоса см.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики, т. 1, М., 1963, с. 565.
Логос служит, таким образом, необходимым «инструментом», чтобы до-
С1Игнуть Разума — Нуса. Он «понятийно» разлагается «для того, чтобы потом
**гать предпосылки для непосредственной цельности видения предмета» в Нусе
G. Nus in Platonischen Dialogen. Gottingen, 1967, S. 164—165). Логос —
"Jctbo, через которое совершается знание, хотя у эмпириков роль логоса часто
5®°лняет «доха», «мнение» (S р г u t е J. Der Begriff der Doxa in der platonischen
J~°sophie. Gottingen, 1962, S. 116—119), так как «доха» есть не что иное, как
У®’* **3 познания, присущая изменчивому, движущемуся миру (Detienne М.
niaftres de Verite das la Grece archaique. Paris, 1967, p. 115), на что указывает
552
А. А. Тахо-Годи
Платона.* 1 Когда Диотиме в «Пире» надо доказать иерархийность пре
красного и специфику любви, то какие бы Сократ ни вспоминал
красочные мифы, слышанные им от этой жрицы, все они включаются
в систему логического доказательства и не могут в данном контексте
оставаться на положении мифа, хотя рассказ о рождении Эроса сам
по себе, вне конкретного платоновского текста. — несомненный миф
Платон очень чутко реагирует на подобную трансформацию и
безошибочно называет беседу Сократа и Диотимы — «логосом». Зато
описание истинности зансбесной земли в «Федоне», не требующ,
никакой логической аргументации и поражающее своей категорично-
стью и аксиоматичностью. есть не чго иное, как подлинный миф, тиг.
же как и загробные странствия Эра в «Государстве». Но если многи
привычные всем сюжеты Платона, основанные на поэтической выдум
ке, считать мифами, то уж во всяком случае, таким общим, внешним
и формальным подходом нельзя ограничиваться. Мы обязаны знать,
чтб сам философ непосредственно или устами своих героев называет
«мифом» и чтб он относит к «логосу». Учитывая постоянную функцию
действующих лиц диалогов называть совершенно точно свою беседу,
рассказ, пояснение, развернутое сравнение, уподобление, пример «ми-
фом» или «логосом», мы преодолеем обманчивое представление о том,
что диалоги на политические темы должны a priori в изобилии содер-
жать «логос».
Конкретный анализ «Государства», «Законов» и «Политики» дока-
зывает обратное. Здесь, где читателя поражают десятки и сотни пред-
писаний, указов, приказов, разъяснений на темы гражданской жизни,
уголовного законодательства, государственной регламентации, бук-
вально все пронизано ссылками на миф, который только иной раз
соседствует с логосом, смыкается, сближается с ним и даже превращает
логически сконструированную мысль в миф.
Что заставляет Платона уснащать эти, собственно говоря, полити-
ческие трактаты указаниями на миф? Такого рода парадокс получает
вполне понятное объяснение, если мы учтем утопические сюжеты этих
диалогов. В каждом из них творится идеал — правителя, законодателя,
корень dek-, означающий приспособление к тому, что есть норма (Redard G.
Du grec decomai «je re§oi» au Sanscrit atka «manteau». Sens de la racine dec —
Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift. A. Debrunner. Bern, 1954, S. 351—
362; H u s H. Docere et les mots de la famille de docere. Etude de semantique latine.
Paris, 1945).
1 В. Нестле прекрасно говорит о «величественной попытке» Платона соеди-
нить в своей философии «рациональное с иррациональным, чувственное сс
сверхчувственным, преходящее с непреходящим, временное с вечным, земное с
небесным, человеческое с божественным, что, однако, приводит Платона к
конфликту с «высшими ценностями греческой культуры» (Nestle W. Grichische
Geistesgeschichte von Homer bis Lukian in ihrer Entfaltung vom mythischen zW
rationalen Denken dargestellt. Stuttgart, 1956, S. 283—284).
Миф у Платона как действительное и вооЬражаемое
553
К этому идеалу стремится Платон, он его жаждет включить
в жизнь, но пока лишь теоретически.1 Платону, с его горячей убеж-
денностью, совсем не требуется что-то доказывать и кого-то убеждать.
Он давно убедил сам себя и теперь делает самые смелые утверждения,
требует полного доверия, настоящей веры, т. е. мысленно творит миф.
Поэтому эти три важнейших сочинения Платона есть сами по себе
подлинные мифологические конструкции. Это — абсолютная достовер-
ность, подлинная вера, которая из сферы гипотетической переходит
в сферу достоверного знания.
Платон, углубляясь во все, казалось бы, гипотетические и совер-
шенно невообразимые построения, верит в них, независимо от всякой
аргументации, которая для него излишня, как она излишня для свя-
щенного мифа. Утопия, к которой стремится Платон и которую он
жаждет одеть в телесную материю жизни, уже живет в его мифе,
ставшем для него реальной действительностью, не потеряв при этом
богатства и разнообразия самого смелого воображения.2
Миф у Платона, можно сказать, заряжен стремлением его обяза-
тельного воплощения в будущем. И здесь сказывается специфика
платоновского понимания мифа, его коренное отличие от самого тра-
виального и распространенного утверждения, что миф — это только
предание, легенда, нечто вроде сказки, он — в прошлом?
Еще гесиодовские музы знали не только что было и что есть, но
знали будущее. Этим даром знания будущего наделен и Платон. Он
творит миф не о прошлом. Наоборот, в тех случаях, когда надо
сослаться на авторитет прошлого, он приводит мифологические при-
меры (например, историю Атлантиды), включая их в цепь своих
доказательств, и тем самым превращает их в логос. Свою исконность
миф сохраняет именно в будущем, относится ли оно к судьбе отдельного
человека или государства. Платон, собственно говоря, мыслит миф
именно в будущем, в желаемом.
Здесь необходимо сравнить Платона с Парменидом (В 4 Diels =
Маковельский 2), которому принадлежат замечательные строки о том,
Как остроумно замечает Ф. Верли, политическая утопия Платона воплоща-
ет «символ преодоления всякой недостаточности», а само идеальное государство
является некоей «экспериментальной фикцией», т. е., собственно говоря, мифоло-
гическим вымыслом (W е h г I i F. Hauptnchtungen des griechischen Denkens.
Zurich, 1964, S. 145, 150).
1 Ср.: у Рейнгардга (Reinhardt К. Platons Mythen. Bonn, 1927): «Чему
Учит логос, то делает откровением миф» (р. 112).
К. Рамну (Ramnoux С. L’amour du lomtain. — In. Etudes presocratiques.
Paris, 1970, p. 163) отмечает, что греческая народная традиция вообще не любила
предаваться мечтам, сознавая возможности человека, но Пиндар и Парменид
вышли за пределы этой архаической мудрости «здравого смысла», необходимой
Для государственного деятеля (р. 169k
554
А. А. Тахо-Годи
что у человека «отсутствующее прочно находится в уме», и еще: «Кто
надеется, подобно верующему, видит умом умопостигаемое и будущее»
Парменид здесь предвосхищает платоновское ощущение будущего и
далекого как истинного и настоящего. Это — можно сказать, диалек
тика «далекого и близкого», как ее именует К. Рамну (ta apeonta, ta
pareonta), «знание будущего и его корней в настоящем»,1 ощущение
поэта сделать, по мнению Т. Бруниуса, «отсутствующее настоящим»?
Здесь нам только остается указать на то, что платоновское понимание
слова «миф» ассоциируется с древнейшей семантикой этого слова. Все
этимологи единодушно объединяют греческое mythos с индоевропейским
корнем meudh-, maudh-, miidh («заботиться о чем-то», «иметь в виду
что-то», и «страстно желать»).1 * 3 Этот корень просматривается современ-
ными этимологами (Буазак, И. Гоффман, Фасмер, Покорный) в готском
maudjan («напоминаю», «вспоминаю»), литовском maiisti, maudzi'u
(«страстно желаю», «тоскую») и, что особенно примечательно, в старо- и
среднеирландском smuainim («думаю») или новоирландском smuainidh
(«он думает») и славянском * mud-slio («мыслю»).
П. Шантрен, сравнивая греческие epos («слово») и mythos («слово»)
приходит к выводу, что «эпос» указывает на внешнюю сторону, как
бы на звуковую оформленность слова 4 (ср. индоевропейский корень
vekp — «говорить», vokps — «слово»; древнеиндийский vdkas — «речь»,
«слово», Vcikti — «он говорит», авестийский vak — «говорить», vaxs —
«голос»; латинский vox — голос, voco — «зову»), в то время как «миф»
выражает «содержание слова», а в ионийско-аттическом диалекте про-
тивопоставляется активному «делу» (ergon).
Действительно, наше исследование гомеровских поэм с этой точки
зрения показало большую смысловую наполненность «мифа» как слова
в его коммуникативной функции и, главным образом, определенную
волевую направленность слова, воплотившего в себе некий интенцио-
нальный акт человека.5
1Ramnoux С. L’amour deu lointain. Etudes presocratiques. Paris, 1970,
p. 171.
Brunius T. Inspiration and katharsis. Uppsala, 1966. Ср. также его ссылки
на трактат «О возвышенном» (XVI), где обосновывается наглядность «представле-
ния» (phantasia) или зрительных образов (eidOlopoiias).
3 Pokorny J. Indogermanisches-etymologisches Worterbuch. Bd. 1. Bern-
Miinchen, 1959.
4 Cm.: Chantraine P. Dictionnaire Ctymologique de la langue grecque.
Histoire des mots, t. II. Paris, 1970.
5 В. В. Каракулаков в статье «Первые греческие философы о роли языка в
познании» (Уч. зап. Душанбинского гос. пед. ин-та им. Шевченко, 1963, т. 40.
Сер. филолог., вып. 16) пишет о «мифе-слове»; «В мифологической картине мира
основное внимание уделяется не языку в целом, а имени, которое мыслится
органически связанным с именуемым им предметом, вещью, явлением, составной
его частью, а следовательно, выражающим его сущность; знание человека, таким
образом, равнозначно познанию соответствующего предмета» (с. 73).
Миф у Платона как действительное и воображаемое
555
«Миф» означает у Гомера предписание (Ил. XVI 199, I 221; Од.
I 361), совет (Ил. I 273; Од. 305), приказ (Ил. VIII 524; Од. XVII
399), назначение (Ил. II 16), намерение (Ил. I 545), цель (Ил. III
87; Од. II 412), сообщение (Ил. VIII 337), обещание (Ил. V 715),
просьбу (Од. XV 627), умысел (Од. IV 676), угрозу (Ил. I 388), упрек
(Ил. XIX 85), защиту (Од. XXI 71), похвальбу (Ил. XIX 107).
«Миф» означает у Гомера «мысль» (Ил. VIII 309), содержание
речи (Од. VIII 302), историю (Од. XI 368). В «мифе» настолько
превалирует сторона мыслительная, что он естественно противопо-
ставляется «делу» (ergon Ил. XIX 242; Од. I 358).
На первый взгляд обычное словоупотребление оказывается у Гомера
лишенным какой-либо нейтральности, а, наоборот, искони несет в
себе продуманную целенаправленность и активное стремление воздей-
ствовать на собеседника именно мыслью, а не делом.1
Эта содержательность «мифа», его целостная мыслительная сущ-
ность в соединении со страстным желанием и тоской по чему-то
неведомому, решительно отделяют его от греч. logos, корень которого
* leg указывает на «избирание», «выделение», «собирание», «счет», на
речь и слово как нечто расчлененное (отсюда лат. lego — «читаю»,
«собираю», греч. lego — «говорю», лат. elegans — «избранный», «изящ-
ный», «изъятый»), которые всегда предполагают первичную выделен-
носгь и дифференциацию элементов, чтобы затем перейти в некую
собранность всех способностей человека,2 когда на деле осуществляется
их активный характер (ср. герм. * lekja — «врач», русск. «лекарь»,
где корень лек- указывает на «заговаривание», «заговор», «речь»,
избранные слова, с помощью которых происходит врачевание, или
лат. lex — «закон» как совокупность дифференцированных, расчленен-
ных частных правил).
Примечательно, что современные Платону философы-стоики (име-
ется в виду Древняя Стоя), известные усиленной разработкой логики
и грамматики, совершенно не употребляют слово «миф», которое ре-
шительно изгнано ими и вытеснено окончательно «логосом» (см. SVF
Arnim), дорастающим у стоиков до размеров универсального рока,
т. е. изреченного слова судьбы, и абсолютного, умного божества.
Не менее интересно подчеркнуть здесь также тот факт, что столь
любимый в поздней классике «логос» неупотребителен у Гомера, где
он встречается на протяжении «Илиады», «Одиссеи» и всех гимнов
1 Ср. рассуждение Ж. Вернана (Vernant J. Р. Les origines de la penste
grecque. Paris, 1962) о воплощении силы слова у греков в божестве Пейто
(peitho — «убеждение», с. 40), а также об общественном характере слова (с. 41).
Ср, рассуждение В. Хирша (Н i г s с h W. Platons Weg zum Mythos. Berlin —
New-York., 1971) о совмещении в логосе разъединенных «одного» и «другого» в
некоей целостности и о мифе как «целом», выделенном из единства всего
настоящего (с. 387).
556
А. А. Тахо-Годи
всего лишь трижды (Ил. XV 393; Од. I 56; Hom. hymn. Ill 317)
знаменуя тем самым свойственную архаике неделимую целостность
словесно-мысленного акта. Платоновский «миф» объединяет в себе
мысль, воспоминание и стремление к осуществлению желаемого, тоску
по нем. Поэтому он весь в будущем, он весь пропитан воображением
вымыслом, но ему противопоказаны аналитизм, расчлененность и
избирательность, присущие разумному, рассуждающему логосу.
Миф, в котором слиты воедино мысль и воображение, который
устремлен в будущее и ощущается некоей достоверной реальностью,
конструируется Платоном, можно сказать, по типу его вечных идей.
Он — образец (paradeigma) и даже «образец образца» (paradeigmatos
paradeigma) для разных типов действительности. И эта действитель-
ность устремлена и нацелена в будущее вопреки всем стародавним
традициям, которые всегда идеализировали и мифологизировали про-
шлое. Платон, философ и поэт, уверенно возводит здание своей иде-
альной мечты, своего мифа об абсолютном благе, добре и красоте, в
чем бы они ни воплощались — в науке, обществе, морали или зако-
нодательстве, оставаясь, однако, утопией, осуществленной теоретиче-
ски, чисто умозрительно.
ХУДОЖЕСТВЕННО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ТРАКТАТА ПОРФИРИЯ «О ПЕЩЕРЕ НИМФ»
Всякий, кто читал «Одиссею» Гомера, помнит, как прибыл на
родную Итаку герой поэмы после многолетних скитаний. Феакийцы-
корабельщики высадили сонного Одиссея в гавани Форкия, надежно
защищенной от морских бурь, неподалеку от длиннолистой оливы и
святилища нимф. Именно здесь, в этом гроте, пробудившийся Одиссей
с помощью Афины спрятал дары феакийцев.
Возле оливы — пещера прелестная, полная мрака,
В ней — святилище нимф; наядами их называют.
Много находится в этой пещере амфор и кратеров
Каменных. Пчелы туда запасы свои собирают.
Много и каменных длинных станков, на которых наяды
Ткут одеянья прекрасные цвета морского пурпура.
Вечно журчит там вода ключевая, в пещере два входа.
Людям один только вход, обращенный на север, доступен.
Вход, обращенный на юг, — для бессмертных богов. И дорогой
Этой люди не ходят, она для богов лишь открыта.
Одиссея, XIII 102—112, пер. В. В. Вересаева
Казалось бы, ничего удивительного. Итака — скалистый остров.
Пещера — святилище нимф — явление обычное. Вот почему В. Берар
в своем известном издании «Одиссеи» 1 комментировал это место, не
придавая ему иного значения, кроме реально географического. И по-
ныне на западном обрывистом берегу Итаки есть пещера, а около нее
обильный источник, который снабжает водой весь город. Выход из
пещеры заложен огромным камнем и обнаружить его нелегко. Место
1 L’Odyssee. Poesie Homenque, t. II. Texte etabli et traduit par V. Berard. Paris,
₽• 141—142. Так же незаинтересованно и позитивно, с указанием на сталактиты и
сталагмиты пещер и глухо ссылаясь на Порфирия, останавливается на этих
cpttax В. Стенфорд в своем, одном из лучших, издании «Одиссеи» (The Odyssey
°* Homer, ed. by W. B. Stanford, vol. II, 2 ed. London, 1962, p. 202).
558
А. А. Тахо-Годи
вполне укромное и потайное. Недаром именно там Одиссей cnpai^
свои сокровища. Однако Гомер не был бы «энциклопедией античност и >
если бы эта мирная картина пещеры нимф не вызывала у его читате
никаких ассоциаций, кроме непосредственно данных восприятий. П;
эмы Гомера всегда были благодарным материалом для углубленно
символического проникновения античной философии в образы, создал
ные искусством. Полторы тысячи лет художественная ткань гомеров
ской поэзии интерпретировалась и толковалась философами самщ
различных школ и направлений и комментаторами-схолиастами, алек
сандрийцами и византийцами.1 Обычные и на первый взгляд ничем
не примечательные стихи читались философами и мифологами алле-
горически, символически, иносказательно. Среди таких читателей Го
мера были натурфилософы, досократики, пифагорейцы, софисты, сто
ики, киники, неоплатоники. Попытки проанализировать некоторые
этапы в иносказательном понимании Гомера делались не раз. Книги
Энн Хирсмен,1 2 А. Фридля,3 * Ф. Верли/ посвященные отдельным фи
лософам и школам (Плутарх, Прокл, Древняя Стоя и ее предшест-
венники), дали возможность появиться также большому систематиче-
скому труду. Исчерпывающие материалы о философском прочтении
Гомера собрал Ф. Бюффер в своей диссертации.5 В его аналитическом
индексе, приложенном к книге, 170 гомеровских собственных имен,
подвергшихся тому или иному толкованию; а о количестве интерпре-
тированных мотивов можно судить хотя бы по тому, что этот индекс
занимает у автора 30 страниц. Однако среди безбрежного моря тел
кований отдельных гомеровских стихов, мифов, образов и загадочных
намеков особое место занимает то описание пещеры итакийских нимф,
которое было приведено нами выше. Оказывается, что эта на первым
взгляд столь безобидная и идиллическая картина таит в себе неизъ-
яснимые символы и некий второй план, ничего общего не имеющим
с наивными толкованиями древних эвгемеристов или современных
спелеологов, для которых амфоры и кратеры не что иное, как начальная
стадия формообразования сталагмитов, каменные станки — соединение
сталагмитов и сталактитов, а пурпурная ткань — известковый покров
цвета охры железистого происхождения.6
1 Перечень комментаторов Гомера см.: Sengebusch М. Homenca dis
sertatio prior. In.: Homeri Ilias, ed W. Dindorf. Upsiae, 1855.
2 Hersman A. B. Studies in Greek allegorical interpretation. Chicago, 1906_
3 Friedl A. J. Die Homer-Interpretation des Neuplatonikers Proclos. Wurz-
burg. 1936 (Diss.).
Wehrli F. Zur Geschichte der allegorischen Deutung Homers in Anterturn
Basel, 1928 (Diss.).
5 Buffi ere F. Les mythes d’Hemere et la pensee grecque. Paris, 1956.
6 Buffi ere F. Op. cit., p. 432.
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» 559
Картина, нарисованная в XIII песне «Одиссеи», была предметом
-азмышлений Нумения из Апамеи и его друга Крония (вторая половина
Ц в. н. э.), близким к пифагорейцам, предшественникам строго сис-
тематического неоплатонизма Плотина.1 Так как третья ипостась бытия
у Нумения есть не что иное, как космос, рожденный вторым Умом,
демиургом (Frg. 217 L),2 то в этом космосе происходит круговорот и
перевоплощение душ, что соответствует Плотину, когда «все души
охватываются общей, уже Мировой Душой (Enn. IV 3, 4), как бы
они ни были различны между собою (3, 6) и какие бы различные
тела они собою ни определяли» (2, 1; 3, 8)? Этот круговорот, по
Нумению, как свидетельствует Макробий, начинается с Млечного
Пути нисхождением души по небесным сферам на землю (Т 47),
причем с постепенным воплощением в материю душа все больше
приобщается к злу (Т 40). Только освободившись от уз тела, душа
объединяется со своими «началами» — archai (Т 34) и начинает свой
путь восхождением к небу (Т 42). Это перевоплощение душ восходит
к древним пифагорейцам (гл. 14, 8 Diels),4 но, по Нумению, душа в
конце концов освобождается от этого круговорота (Т 45). Учение о
мировой душе характерно также для поздних пифагорейцев, например,
для Тимея (De univ. nat. 16—21 =208—209 Thesl).5 Освобождение
бессмертной души от тела и метампсихоза остается и в это время
важнейшей частью позднепифагорейской доктрины (peri psyches
athanasias 184. 15; epi tai tas psychas epanorthosei... 224. 1—2,
metendyomenan tan psychan... 225. 1—10), ведущей, по мнению ано-
нима у Диодора Сицилийского, к самому Пифагору («...сам Пифагор
учил о метампсихозе... тому, что души живых существ после смерти
переходят в другую жизнь...» — 231. 14—16; 238. 16).
Становится понятным, почему Нумений толковал гомеровскую
пещеру нимф в космическом плане, где нимфы-наяды есть не что
1 Е. Доддс считает, что Нумений скорее неопифагореец, чем представитель
среднего платонизма. См.: Dodds Е. R. Numenius and Ammonius. Entretiens sur
I’antiquite classique, t. V. Les sources de Plotin. Vandoeuvres—Geneve, 1957, p. 11.
Фрагменты Нумения приводятся по изд.: Leemans Е. A. Studie over den
Wijsgeer Numenius van Apamea met Uitgave der Fragmenten. Bruxelles, 1937.
Зваком Frg. обозначаются фрагменты, T — античные свидетельства о Нумении.
Лосев А. Ф. Статьи по истории античной философии для IV—V томов
Философской энциклопедии. М., 1965, с. 66.
Мы цитируем досократиков по изд.: Die Fragmente der Vorsokratiker,
Snechisch und deutsch v. H. Diehls, 9. Aufl. Bd. I—III. Berlin, 1959—1960; русский
“сревод — по изд.: Маковельский А. Досократики, ч. I—III. Казань, 1914—
*"19; его же. Софисты, ч. I—II. Баку, 1940, 1941; его же. Древнегреческие
®10&®сты. Баку, 1946.
Тексты поздних пифагорейцев приводятся по изд.: The Pythagorean Texts of
n16 Hellenistic period, coll, and ed. by H. Thesleff. Abo, 1965. Цифра до точки
означает страницу данного издания, после точки — строку.
560
А. А. Тахо-Годи
иное, «как души, соединенные с влагой и движимые божественным
духом».1 Рассуждения Нумения и его школы (De antro nymph. 34)
стали известны главе так называемого римского неоплатонизма Пло-
тину, а затем ученику этого последнего Порфирию Тирскому (232—
304 гг. н. э.). Порфирий и был тем, кто создал интереснейшую фи-
лософскую экзегезу поэтической картины из XIII песни «Одиссеи»?
Эта экзегеза так и называется «О пещере нимф», являясь одной из
первых неоплатонических конструкций космоса. На все учение Пор-
фирия, философа, логика, математика, астронома, падает отблеск
орфико-пифагорейских идей, как это вообще было со всеми неопла-
тониками.1 2 3 Отсюда, возможно, и его интерес к миру тайн, к чистому
философскому умозрению (ср. трактаты «Восхождение души», «Ис-
ходные пункты для восхождения к умопостигаемому», «Об исходе
души»). Несомненно, орфико-пифагорейскими традициями обусловле-
на та символика, которой буквально дышат все сочинения Порфирия.
Вспомним, что для пифагорейцев вообще имели огромное значение
акусмы, т. е. те непосредственные наставления из области религии,
быта и морали, которые ученик слышал от учителя. Но еще большее
значение имели для пифагорейцев «символы», т. е. осмысленные и
истолкованные с позиций глубоко мистических те же самые акусмы
(58 С В). Интересующий нас философский трактат «О пещере нимф»
Порфирия есть не что иное, как один развернутый и до предела
насыщенный символический комментарий Гомера, но так как Порфи-
рий был не только умозрительным философом, а еще логиком (ср.
общеизвестный трактат «Введение в категории Аристотеля»),4 то его
символическая картина строго продумана, а каждый ее образ стро-
жайше дифференцирован и вычленен. Астрономико-математические
занятия Порфирия (ср. «Введение в сочинение Птолемея о действии
звезд») придали его трактату тоже своеобразную «космическую» ок-
раску. Однако не надо забывать, что Порфирий был также ритором
и грамматиком. Гомер — предмет его увлечений в молодости. Именно
к этой поре относятся «Гомеровские вопросы» с комментариями к
«Илиаде» и «Одиссее», еще совсем лишенные неоплатонических черт.5
1 Порфирий. О пещере нимф (Porphyr. De antro nympharum, Ю-
Porphyrii philosophi pktonici opuscula selecta, rec. A. Nauck. Lipsiae, 1886).
2 T. Уиттекер назвал трактат Порфирия «интересным примером интерпрета-
ции поэтической мифологии» (Whittaker Th. The neoplatonists, 4 ed.
Hildesheim, 1961, p. 109).
3 Порфирий был автором не только «Жизни Плотина», своего учителя, но и
«Жизни Пифагора» (Vita Pythagorae. In: Porphyrii opuscula selects, rec. A. Nauck.
Berlin, 1886).
4 О «перепатической выучке» Порфирия см.: Лосев А. Ф. История грече-
ской литературы, т. III. М., 1960, с. 386.
5 Porphyrii Questionum homericarum ad Uiadem pertinentium reliquas, coll-
H. Schrader. Lipsiae, 1880—1882, To же самое «ad Odysseam» (Lipsiae, 1890).
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» 561
фоль интересное сочетание в одном человеке различных пристра-
0У0Й — ученых, мистериальных и художественных — замечательно
бдоо выражено учителем Порфирия Плотином. Автор трактата «О пе-
дере нимф» сам рассказывает, что когда он прочитал на празднестве
в честь Платона поэму о священном браке (имеется в виду брак Зевса
Геры на Иде) и истолковал ее в духе возвышенно-мистическом,
jfjo-то назвал его безумным, а Плотин сказал Порфирию так, чтобы
jje окружающие слышали: «Ты показал себя сразу поэтом, философом
g гиерофантом».1
Нам кажется наиболее интересным выяснить, как в трактате Пор-
фирия проявились слитые воедино три стороны духовно-умозрительных
устремлений его автора — философская, поэтическая, эротическая,
(делав выводы об определенном типе античного философско-художе-
ственного мышления.
Рассмотрим теперь знаменитое рассуждение Порфирия «О пещере
нимф».2
Это сочинение состоит из 36 небольших глав, каждая из которых
является ответом на загадки XIII песни «Одиссеи». После краткого
изложения стихов Гомера (1—4) Порфирий переходит к освещению
символического смысла этого рассказа (symbolices cathidryseos). Главы
5—9 толкуют пещеру в недрах земли как космос и средоточие мировых
потенций. Нимфы-наяды святилища — души, нисходящие в мир ста-
новления и соединенные с влагой — источниками вод, ибо «для души
становление во влаге представлялось не смертью, а наслаждением»
(10—12). Каменные чаши и амфоры — символы нимф-гидриад (т. е.
Водяных). Пурпурные ткани, которые ткут на каменных станках
нимфы, — «сотканная из крови плоть», облекающая кости (камень) и
приобщившая душу к телесной смертной материи (13—14). В амфорах
роятся пчелы и откладывают там мед, ибо пчелы — это благостные
души, рождающиеся в мир, а мед — символ очищения и жертвы богам
смерти, так как души, идя в мир, облекаются плотью, т. е. умирают
и расстаются с бессмертием, наслаждаясь жизнью (15—19). Два выхода
в пещеру для людей и богов обращены к Борею — северу, и Ноту —
миу. Север — нисхождение душ, приобщенных к человеческой жизни,
в мир. Юг — восхождение в небесный мир душ, сбросивших бренную
оболочку и ставших бессмертными богами (20—31). Далее (32—33)
Рассуждение о маслине — символе Афины Паллады, мудрости, управ-
ляющей миром. И наконец (34—35), призыв совлечь с себя все одежды,
Надеть рубище, отдать пещере все богатство, отвратиться от злых
1 Рог ph у г. Vita Plotini 15 (Plotini opera, ed. P. Henry, H. F. Schwyzer, t. I.
Oxonii, 1964). Л. Робен считает Порфирия скорее филологом и ученым профессо-
ром, чем философом, что вряд ли имеет свои основания (Robin L. La pensee
^ec^ue et les origines de 1’esprit scientifique. Paris, 1963, p. 449).
Перевод трактата см. ниже, с. 577—591.
562
А. А. Тахо-Годи
помыслов и поступков и, пройдя весь путь рождения в мир, уйти от
материальной субстанции в божественную беспредельность. Вся эта
глубокомысленная рефлексия замыкается внушительной кодой (36) Q
древней мудрости (ten palaian sophian) и мудром Гомере, который
спрятал в «мифических вымыслах» реальность «божественных образов»
ибо только с помощью этой реальности, перенесенной в воображение
поэт достигает своей цели. ’
Трактат Порфирия совершенно напрасно издавался в эпоху Воз-
рождения совместно с его «Гомеровскими вопросами» (1518, 1528
1541, 1543, 1551 гг.). «Пещера нимф» не имеет никакого отношения
к «Гомеровским вопросам», где молодой Порфирий вообще даже не
останавливается на стихах, прославленных им, умудренным наукой
своего учителя Плотина уже в зрелом возрасте. Интерес к трактату
Порфирия можно объяснить византийской традицией, ярко выразившей
себя в комментировании гомеровских поэм ученым схолиастом Евс-
тафием, епископом фессалоникским (Солунским). Евстафию (XII в.),
как и другим ученым византийцам, импонировала неоплатоническая
мудрость с ее систематизаторством, формальной разработкой и отвле-
ченным умозрением. Поэтому Евстафий подробнейшим образом изла-
гает Порфирия (1734, 40—1735, 60), соглашаясь со всеми его толко-
ваниями и подтверждая их.1
Однако мы не можем ограничиться только формальным установ-
лением этой символической картины, нарисованной Порфирием.
Нам предстоит выяснить отношение Порфирия к реалиям коммен-
тируемых им стихов Гомера и принципы их философско-художест-
венного, символического мышления. Другими словами, нас интересует
наличное здесь соотношение определенного рода философствования и
определенного рода поэтического творчества.
Сам Порфирий никак не мог остановиться только на фактическом
познании наличия на Итаке пещеры-святилища, ее внутреннего уб-
ранства и оливы, посвященной Афине Палладе. Если бы он шел по
пути наивного эвгемеризма, толкуя мифы как исторические события,
то он приложил бы все усилия, чтобы доказать исторический факт
знаменитой пещеры, собрав для этого как можно больше доказательств
бытового характера из прошлого Итаки. Однако Порфирий подчерки-
вает, что его рассуждения строятся не на основании «действительных
фактов» (historian, 2) 1 2 и описание пещеры «не включает в себя
фактического описания какой-либо местности» (oyd’historias topices
1 Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Odysseaffl ad
fidem exempli romani editi, t. II. Lipsiae, 1826.
2 О понятии «история» в античности см. выше, с. 443—482: Тахо-Го-
ди А. А. Ионийское и аттическое понимание термина «история» и родственных с
ним. Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним.
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» 563
ж"
.griegesin echein, 4). Короче говоря, философ отказывается восприни-
мать пещеру нимф узкопозитивно, ограниченно прямолинейно как
некоего рода бытовой объективный факт или факт природы, т. е. в
таком виде, как обычно пишется «история» (historia). Ибо сама по
себе «история», т. е. внешнее изложение событий, по мнению Пор-
фирия, без их внутреннего осмысления и наполнения не может дать
никакой пищи уму и работе мысли.1 Пещера нимф на Итаке, наличие
которой ревниво доказывали некоторые писатели (например, Артеми-
дор Эфесский), совершенно не интересует Порфирия как непрелож-
ность, которая, собственно говоря, была бы важна для пейзажа или
топографии Итаки, но никак не для философского размышления.
Казалось бы, Порфирий, отбросив веру в грубый факт, должен обра-
титься к поэтическому вымыслу, и пещера нимф может рассматри-
ваться как продукт художественного воображения писателя. Однако
для автора трактата очевидна также «невероятность произвольного
измышления ее (т. е. пещеры) поэтом» (cata poieticen exoysian plasson
antron apithanos en, 2). Этот рассказ, полный неясностей, не может
быть «вымыслом» (plasma), .«созданным для обольщения душ» (eis
psychagogian pepoiemenon, 4). Те же писатели, которые видели в
стихах «Одиссеи» «измышления» (plasmata) поэта, поступали, по край-
ней мере, «легкомысленно» (rhaithymoteron, 4). Правильно замечает
Порфирий, отказываясь идти по пути только факта (historia) или
только вымысла (plasma), что «перед нами будут стоять одни и те же
вопросы» (oyden hetton menei ta dzetemata), ибо «древние не основы-
вали святилищ без тайных символов (symbolon mysticon) 2 и Гомер
не делал бы таких сообщений без всяких оснований» (4). Только
выход рассказа о пещере за пределы обыденного факта и чисто по-
этического вымысла дает возможность вскрыть «древнюю мудрость»
(palaias sophias) итакийской святыни и ее символику.
Для Порфирия огромное значение имело мифологическое осмыс-
ление мира, так как миф всегда был для греков воплощением высшей
реальности, начиная с гомеровского времени и кончая последними
веками античности. Миф в поэмах Гомера есть не что иное, как
непосредственная и пока еще почти наивная вера в объективно су-
ществующих реальных богов, и иного мышления древний человек не
может и допустить. У Порфирия же миф — это символическая кон-
струкция мира и метод его философского познания. Мудрец, как и
знаменитый оракул дельфийского Аполлона, не говорит просто, а 1 2
1 Для Порфирия поэтому важно не слово, а значение его, знаковость
Isemainomenon). См. Т h е i 1 е г W. Forschungen zum Neuplatonismus. Berlin, 1966,
2 *
Данное место читается различно. По-гречески здесь стоит или mysticon
«Мистических», «тайных» символов, или mythicon «мифически». Порфирий скорее
®сего имеет в виду миф, выраженный символически.
564
А. А. Тахо-Годи
изрекает загадки и сам же их толкует. «Говорить загадками»
(ainittesthai) и «говорить иносказательно» (allegorein) «тайными (= Ми_
фологическими) символами» (symbolon mysticon “ mythicon) — значит
по Порфирию, выразить «древнюю мудрость». Миф может иметь самую
разнообразную структуру символов (polla cai diaphora symbola, 15)
Полнота, разнообразие и сложность символической картины уг-
лубляют миф, выявляют его скрытый смысл, его тайную сущность
Для античных мыслителей вообще, и в частности для Порфирия
высшая мифическая реальность никогда не бывает буквальной, Hq
всегда символической, иносказательной. А так как история нисхож-
дения души в мир, с ее постепенным материальным воплощением ц
затем восхождением ее к небесным сферам и бессмертию, являлась
для многих философов высшей реальностью, т. е. мифом, то в самых
как будто бы обычных и непритязательных вещах они искали симво-
лические конструкции, которые удовлетворяли бы творимой ими ми-
фологии.1
Вот почему для Порфирия гомеровские стихи полны тайного сим-
волического смысла, посредством которого раскрывается миф о кру-
говороте душ.
Таким образом, искусство Гомера, по мнению Порфирия, не только
занимательно и прекрасно своими «вымыслами». Искусство Гомера
полно древней мудрости и до бесконечности глубоко символично. Этим
и объясняется интерес к Гомеру со стороны всех греческих философов,
особенно в последние века античности.
Посмотрим, какими же символическими построениями пользуется
Порфирий, какова природа его символов, и можно ли их считать
продуктом общегреческого мышления. Совершенно естественно, что
раз уж Порфирий решил истолковать странствия рожденной в мир
души гомеровскими стихами, то и символическая материя его толко-
ваний не выходит за рамки этих стихов. Символами являются маслина
в пещере, нимфы-наяды, ткущие пурпурные одежды на каменных
станках, и пчелы, откладывающие мед в каменных чашах и амфорах,
источники воды и два входа в пещеру: северный — для смертных,
южный — для бессмертных.
Мы не можем найти здесь ни сложнейших мистических построений
Ямвлиха, ученика Порфирия, с его 360 богами и десятками рядов
поднебесных, «водительных», «природных», «охраняющих» богов. Нет
здесь и абстрактно-умственной систематики Прокла с его числовыми
триадами и гебдомадами («семерками») богов-умов, столь характерных
1 Об огромном философском (а не только религиозном) интересе в греко-
римском мире начиная с I в. н. э. к судьбе души и о возникновении систем
построения ее бытия см.: Brehier Е. L’Idee du neant et le probleme de l’ongine
radicale dans le neoplatonisme grec. Etudes de philosophic antique. Pans, 195^,
p. 248—283.
ЛИР
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» 565
идя реставраторских тенденций позднего периода неоплатонизма. Сим-
рддические модели Порфирия предельно просты и доступны. Более
они не являются привилегией одного Порфирия. Может быть,
раз Порфирий обратился к стихам Гомера именно потому, что
рЯ увидел в них знакомую каждому греку картину: пещера нимф с
яСгочником вод, роящиеся в ней пчелы и непременная для греческого
пейзажа маслина.1 Все дело в том, как истолковал эту непритязатель-
ную картину философ Порфирий, какой скрытый смысл он в ней
нашел. Нельзя сказать, что Порфирий, экзегет-толкователь, не обра-
тился к мудрости, бытовавшей в народе с незапамятных времен.
Наоборот, он делает множество ссылок на древние обычаи, греческие
И восточные, цитирует писателей прошлого.
Мы можем, в свою очередь, привести ряд материалов, которые
доказывают, что символические конструкции Порфирия были широко
распространены в толще греческой мифологии, религии, философии.
Порфирий же как хороший логик и ритор сумел их сконцентрировать
воедино, вычленить, охарактеризовать, разъяснить. Может быть, имен-
go потому, что трактат ученого философа связан своими корнями с
общегреческой мудростью, он сохранился в неприкосновенности, хотя
от других толкователей Гомера зачастую дошли только фрагменты,
намеки, изложения или упоминания.
Начнем анализ философского символического осмысления Порфи-
рием поэтических образов Гомера с маслины, которая росла у пещеры
нимф. Для Порфирия маслина — «символ божественной мудрости»,
так как «дерево это посвящено Афине. Афина же есть мудрость», мир
же «появился не случайно и не наудачу, а является осуществлением
мудрого замысла божества и умной природы» (32), «мир управляется
вечной и вечноцветущей мудростью интеллектуальной природы» (33).
Порфирий настоятельно подчеркивает, что мир и все, что есть в мире,
появилось «не само собой и не по слепой случайности» (32) .2 В этой
мысли философа нашло отражение тысячелетнее поклонение греков
Афине, — богине мудрости и ее дереву — маслине. Известно по схо-
лиям к речи Демосфена «Против Андротиона» (597, 8),3 что древнее
изображение Афины Паллады, упавшее будто бы с неба, было из
1 Большое количество подобного фактического материала, но без какого-либо
философского или символико-поэтического истолкования можно найти у
Е. Кагарова (Культ фетишей, растений и животных в древней Греции. СПб.,
с. 19—21, 134—140, 305—306). О магической силе, заключенной в органиче-
и неорганической природе, см.: R о h г J. Der okkulte Kraftbegriff im Altertum.
^Pzig, 1923, S. 77—95.
e Античное представление о «случайности» рассмотрено выше, с. 390—433,
т^^тье А. А. Тахо-Годи. «Природа и случай как стилистические принципы
чов°^ттической комедии».
Oratores Attici, acced. scholia C. Muller — J. Hunziker, vol. 11. Paris, 1858.
566
А. А. Тахо-Годи
масличного дерева, а на о. Родосе, в Линде, была целая священ.
роща, посвященная богине (Anthol. graecaXV 11 Beckby).1 Неизвестно,,
автор восторженно говорит здесь о славе «древнего Линда», где на ч
дится «цветущий дом» Афины (thaleros oicos), о «священной маслищ
«возросшей по всей земле» (cath’aian pampan aexesai ten hieren el.‘<
Знаменитый спор Посейдона и Афины, подарившей оливу жир ,
Аттики, в разных вариациях рассказывается историками и мифои
фами, например, Аполлодором (III 14, 2 Wagner),
Далее, рассказывает Геродот, когда во время греко-персищ >,
войны оливковое дерево было истреблено огнем вместе с храмом
после пожара «от ствола оливы выросла ветка почти в локоть длиной»
(VIII 55). По мифографу Гигину (fab. 164 Rose), «Минерва впервые
посадила на землю Аттики маслину (primum in еа terra oleam ьеч;>
которая, говорят, стоит и до сих пор». Нам важен не столько щ,
факт, что олива — дерево Афины, богини мудрости — это обшей _в(.
стно, как то, что существовала Афина-Мория (от слова Моири
«участь», «судьба») и оливковые деревья назывались Moriai elaiai,
т. е. «деревья судьбы». Схолиаст к «Облакам» Аристофана '1005)
сообщает: «Священные оливы Афины на Акрополе назывались щ
ревьями судьбы», и когда сын Посейдона, соперника Афины в Ал>,’<.с,
пытался срубить эти деревья, топор случайно убил его самой Ил
другой здесь же приводимой версии, «священная олива божещи!
мория, произрастала в гимнасии».’ Плиний тоже называет это гч.ревс
«роковой оливой» (Nat. hist. XVI 199, oleaster fatalis), а Нонн в-по-
минает «благоуханную маслину» (XV 112 Ludwich), используя древ-
нюю культовую формулу обращения к Афине — «Благоуханию олив-
кового дерева» (Eyodin Athene). Хорошо известно, что Судьба, Мойра,
исключала действие случайности, внося в развитие мира элементы
недоступной людям телеологии, необходимости и закономерности
Таким образом, Афина — причастная судьбе и ее олива — причастная
судьбе были символом мудрого замысла божества, которое все упо-
рядочивает и целеустремляет.
Вблизи маслины находится на Итаке пещера, толкуемая Порфи-
рием как космос и средоточие скрытых, невидимых космических сил.
причем пещера эта посвящена нимфам-наядам, и в ней вечно течет
источник воды. О том, что понимание пещеры в виде космоса не было
чуждо грекам, говорят некоторые тексты.
Например, еще пифагореец Филолай (В 15 D), утверждая, чТ°
«все заключено богом, как бы в темнице», доказывал «существование
единого и высшего, чем материя», а неоплатоник Прокл, обобп1аЯ
опыт греков, писал: «Древние называли пещерой космос» (In Па1 1 2
1 Anthologia graeca, griechisch-deutsch, ed. H. Beckby. Bd. IV. Munchen, 1^68
2 Scholia graeca in Aristophanem, ed. F. Diibner. Paris, 1877.
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» 567
ijjm. I 333, 27—28 = I 101 f).1 История греческой религии и мифологии
0К*е постоянно связывала нимф с гротами и пещерами. Известно,
Л0 сообщению Страбона, что на Парнасе был грот, посвященный
^орикийским нимфам, «наиболее известное и самое красивое» место
(IX 3, 1). Об этом же сообщают Павсаний (X 6, 3) и Софокл (Antig.
(229). Нимфы и пещеры в народном веровании были неотделимы друг
друга (Hom. hymn. IV 262).
А в какой прекрасной пещере обитает возлюбленная Одиссея,
домфа Калипсо, можно заключить из следующей картины, которая,
конечно, немыслима без источников воды. Их у нимфы целых четыре.
Густо разросшийся лес окружал отовсюду пещеру,
Тополем черным темнея, ольхой, кипарисом душистым.
Между зеленых ветвей длиннокрылые птицы гнездились.
Возле пещеры самой виноградные многие лозы
Пышно росли, и на ветках тяжелые гроздья висели.
Светлую вод;' четыре источника рядом струили,
Близко один от другого туда и сюда разбегаясь.
Всюду на мягких лужайках цвели сельдерей и фиалки.
Одиссея, V 63—72, пер. В. В. Вересаева
Связь нимф с подземными гротами и скалистыми пещерами, с
недрами земли была традиционной и понятной каждому греку. В «Пти-
цах» Аристофана хор поет о «горных нимфах» и о «глубоких пещерах»
(1097 сл.). На одной из надписей (о. Наксос) говорится о нимфах
глубин или углублений (nympheon mychieon). Большой Этимологик
называет нимф «глубинными» (nymphai glyphiai, 235, 16).2
Среди орфических гимнов есть один (LI Abel), посвященный ним-
фам, еде рисуется живописный образ обитательниц гор и лесов. Ним-
фы — дочери Океана, населяющие «влажно-дорожные ущелья земли»,
«потаенно живущие». Они «земные» (chtoniai), радующиеся гротам
(antrochareis) и пещерам (spelygxi cecharmenai). Вместе с Паном нимфы
«пляшут на горах», бродят по ним и «бросают камни».
Однако нимфы, обитающие в гомеровской пещере, — водяные, на-
ЗДы. Следует отметить, что наяды, или наиды (naides), мыслились в
греческой мифологической практике существами божественными, в
ОДном ряду с хтоническими демонами. Софист Продик Кеосский
(84 В 5), например, указывал на то, что источники и вообще все,
. Prodi Diadochi in Platonem Timeum commentana, ed. E. Diehl, I—III Lipsiae,
£B-1906. О земле и народных верованиях древних, однако без символических
1?™Цений см.: Dietrich A. Mutter Erde. Ein Versuch uber Volksreligion.
Berlin, 1905.
Etymologicon magnum. Lipsiae, 1816.
56&
А. А. Тахо-Годи
что полезно для нашей жизни, древние признали богами вследствие
получаемой от них пользы. Страбон (X 3, 7.10.15) упоминает Их
вместе с такими загадочными существами большей частью стихийно,
оргиастического характера, как сатиры, паны, силены, куреты, м:>ри.
банты, кабиры, мималлоны, тельхины, фии, лены, татары, вакхи
вакханки. Совершенно очевидно, что здесь подчеркивается связь нимф!
наяд с иррациональными силами земли. Хотя известно, что нимфы
были и лесные, и горные, и полевые, и луговые, и болотные, но
некоторые свидетельства прямо говорят, что слово нимфа и есть сима
вода, т. е. здесь намечаются какие-то древнейшие первоначальные
связи нимф именно с водой. Византийский лексикон Суда (v. nymphe) 1
например, поясняет: «Нимфа — источник» (nymphe — pege) и говорит
об источниках нимф (nymphon namaton). В орфических фрагментах
(фрг. 353 Kern) «нимфы ручьевые»; упоминаются «светлая вода нимф,,
(фрг. 219), вода как атрибут нимф (фрг. 297 а 2). Эпитеты нимф и
культовые обращения к ним, так называемые эпиклезы, прямо ука-
зывают на исконную связь нимф с первичной материальной стихией
воды. У Гомера нимфы «ключевые» (crenaiai, Od. XVII 240). Эсхил
тоже именует их «горнорожденными», «ключевыми» (Creniades, фр<.
168, N. — Sn.). Эврипид в «Киклопе» именует их «наядами» (naides
430), так же как впоследствии Мариан Схоластик (naiades, Anthol.
graeca, IX 668, Beckby). В орфическом гимне (LI) они «росистые»
(drosoeimones 6), «ручьевые» (pegaiai, 6) «ключевые» (croynitides 10).
По свидетельству Квинта Смирнского, была «прекраснокудрая нимфа
Пегасида», т. е. «Источник» (pegasis III 301). Нимфы-наяды не только
охраняли источники вод, но они были носительницами благодетельных
для человека функций. В известном Орфическом гимне (LI) они были
«целительницы» (paionides, 15), «изливая целебный ключ» (там же,
18); у Гесихия Александрийкого 1 2 — «врачи» (iatroi), «врачующие» у
Павсания (ionides), причем те, «кто купается в источниках этих нимф,
получают исцеление от всяких болезней и недугов» (VI 22, 7).
Однако история мифологии знает нимф-«вакханок» (Soph. Ап tig.
ИЗО), «безумных» (manicoi, Orph. hymn. LI, 15), а также насылающих
безумие. Выражение «одержимый нимфой» (nympholeptos) указывает
на скрытые, помрачающие ум человека силы (Plat. Phaedr. 238 d,
Hesyb, v. nympholeptos). Эти силы выводят человека за предел»
разумных границ, приобщая его к высшей мудрости, открывая ем?
неведомое. Вот почему были нимфы-предсказательницы будущего в
пещере на Кифероне, как повествует Павсаний (IX 3, 9). Вот почему,
по его же словам, на месте знаменитого святилища Дельфийской
1 Suidae lexicon graece et latine, rec. G. Bemhrady, II. Halis et Brunsicg131-'
J 853.
2 Hesychii Alexandria lexicon cur M. Schmidt. Jenae, 1867.
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф* 569
дракула был когда-то оракул Геи-земли, а затем Дафны, «одной из
{Орных нимф» (X 5, 5).
Нимфы не только исцеляли человека и давали ему высшую муд-
дость, но они приобщали его к миру подземных глубин, к царству
фёрти, умирающей телесной материи. Нимфа-наяда Мента или Мин-
т3) т. е. попросту мята, играла важную роль в любви и смерти людей.
Минта была возлюбленной бога смерти Аида и носила имя Ко-
китиды (Кокт — одна из рек в царстве мертвых). «Вблищ Пилоса, —
сообщает Страбон, — находилась гора, носившая имя нимфы Минты,
которая, по преданию, „сделалась наложницей Аида и была растоптана
Корой, а затем превращена в садовую мяту, которую некоторые на-
зывают душистой мятой"» (VIII 3, И, ср. намек на это превращение
у Овидия в «Метаморфозах» X 729). Оппиан (Hal. Ill 485—498) тоже
рассказывает целую историю о соперничестве нимфы Кокитиды и
Персефоны, которую взял в законные жены Аид, о гибели нимфы,
растоптанной Деметрой, и о превращении Кокитиды в Минту, т. е.
мяту.
Таким образом, Порфирий не поступает произвольно, придавая
нимфам-наядам глубокое символическое значение. Для него это души,
пришедшие в мир, соприкоснувшиеся с глубинами космических сил,
обретшие в материи смертность, присущую всему телесному. Этот
красочный образ у философа совпадает внутренне со старинной гре-
ческой народной традицией, понимавшей водных нимф как вечное
становление, рождение, приобщение к мудрости и безумию, к жизни
н смерти. Этот образ является достоянием не только Порфирия, но и
всего общегреческого мифологического и поэтического мышления.
Источник, о котором говорится у Гомера, тоже находит свое место
не только в комментарии Порфирия, но и в мифологическо-культовой
традиции греков. Вода наделялась всегда хтоническими, связанными
с недрами земли силами. Она имела катартические и мантическо-
профетические функции.1 Воды реки Теркины у святилища Трофония
служили, например, для очистительных омовений, в то время как
теплые омовения паломникам запрещались (Paus. IX 29, 5). Народную
традицию выразил философ Эмпедокл (В 143), когда советовал очи-
щаться «из пяти источников, почерпнув (воды) в несокрушимую медь».
Некоторые из источников были известны своими пророческими фун-
кциями. Поэтому недаром Прокл в комментариях на платоновского
«Тимея» (III 140, 24—26 = 282 d) перечислял хтонических, т. е. свя-
занных с землей, богов, называя в их числе Диониса и Аполлона,
«Который часто заставляет бить из земли мантические (пророческие. —
Т.-г.) воды (hydata mantica) и создает оракулы (stomia), предве-
1 Этим очистительным и пророческим функциям воды специально посвяще-
. Интереснейшая работа: N i п k М. Die Bedeutung des Wassers irr, Kult und Lebcn
Alien. Leipzig, 1921, S. 1—47, 48—100.
570
А. А. Тахо-Годи
щающие будущее». В святилище Аполлона Кларосского, где вопрошу,.,
о будущем, тоже был «мантический» источник. Ямвлих подробНо
описывает (De myst. Ill 11 Parthey) этот оракул вблизи Колофона
где пророчество давалось с помощью воды (di’hydatos chrematidzein/
Источник был проведен в дом. Из него пил прорицатель, перед тем
как начать пророчество в установленное время, ночью. Сила «манщ.
ческой воды» (manticon hydor) была всем очевидна. У Лукиана ь
«Зевсе трагическом» (30 Yacob.) находим упоминание о пророческом
Кастальском ключе Аполлона. Вообще вода, а особенно, конечно
источники, бьющие из земных глубин (именно такое мыслится в
пещере нимф), воспринималась, с одной стороны, как символ бессмер
тия и памяти, а с другой — как символ смерти и забвения. В схолиях
к платоновскому «Государству» (X 611с) 1 упоминается «бессмертный
источник» (athanatos pcge), вода бессмертия или живая вода народных
верований, испив которую Главк, сын Сизифа, стал бессмертным. О
«памяти» или «воспоминании», присущим потокам, что «бегут» «без-
молвные» и «спокойные», читаем у Плутарха (An recte dictum sit. 7
Bernard.). Вместе с тем была и вода забвения, та, что кристаллизовалась
в образе реки Леты. Лета «забвение» противостоит в орфических
гимнах Мнеме — «памяти» (LXXVII 9). По учению орфиков, в доме
Аида по левую руку есть источник вблизи белого кипариса и к этой
воде нельзя приближаться. Зато другой течет «холодной водой» из
ключа Мнемозины. Жаждущая душа должна выпить из этого «боже-
ственного источника» и тем самым приобщиться к героям. Видимо,
первый источник и есть та самая Лета, вода забвения, о которой мы
уже упоминали (1 В 17 D). Во всяком случае, орфические надписи
на золотых табличках II в. до н. э. настоятельно советуют жаждущему
пить «из вечного источника с правой стороны» (1 В 17 aD). Здесь же,
как сообщает Атеней (IX 78, 410 a Kaib.), мертвым приносили в
жертву воду (hydor aponimma), чтобы избежать забвения. Иной раз
забвение и память соединялись в одном диалектическом синтезе жизни
и смерти, столь характерном для греческой мифологии, как было,
например, в святилище Трофония в Лейбадее, где соседствовали «вода
Леты» и «вода Мнемозины». Павсаний (IX 39, 8) подробно описывает
обряд посещения оракула Трофония. Ночью перед спуском в пещеру
происходит омовение в реке Теркине. Затем паломника ведут к ис-
точникам воды. «Здесь он должен напиться из одного воды Леты
(забвения), чтобы он забыл обо всех бывших у него до тех пор заботах
и волнениях, а из другого он таким же образом опять пьет воДУ
Мнемозины (памяти), в силу чего он помнит все, что видел, спускаясь
в пещеру».
Вообще вода у древних греков мыслилась носительницей глубинны4
потенций. Вспомним, что для натурфилософов она часто была основной
1
Platonis dialogi, rec. С. Hermann, vol. VI. Lipsiae, 1921.
Художественно-си чволическии смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» 571
pm”
^термальной стихией. Фалес прямо «считал воду началом и истон-
ском всего» (А 11). Для него «вода же есть начало влажной природы
И всеобщее связующее начало» (А 13). У Ксенофана «земля и вода
gcrb все, что рождается и растет.^ (В 29> Эмпедокл даже создает
новый мифологический образ «Нестиды-воды», в том же духе, как
«Зевсом он называл огонь, Герой — землю, Аидонеем — воздух» (В 1).
дюди, утверждает Ксенофан (В 33), произошли из земли и воды, и
по Эмпедоклу (А 72), они происходят из огня и влаги. Но самое
интересное, что душа человека, судьба которой так занимает Порфи-
рия, У древних материалистов, например у Ксенофана, состоит из
роды и Земли (А 50). По Гераклиту, «из земли возникает вода, из
воды же душа» (В 36). Более того, пифагореец Гиппон чрезвычайно
характерно «душу называет то мозгом, то водой», полагая, что душа
возникает из влаги (А 3).
Таким образом, темная пещера с обитающими в ней нимфами-ная-
дами и с неиссякаемым источником воды понимается Порфирием в ис-
конно греческом духе как символ мира, в котором пребывают души,
тяготеющие к телесному воплощению и потому связанные с влагой.1
Концепция Порфирия о рождении души в мире, что является для нее
утерей бессмертия в плане вечности, подтверждается всеми генетически-
ми связями пещеры-космоса и источника воды с нимфами-наядами.
Нимфы у Гомера ткут на каменных станках пурпурную ткань,
что, по разъяснению Порфирия, символизирует воплощение души в
тело, т. е. приобщение ее к смертному миру. Сколько поэзии в образе
гомеровских нимф-наяд за ткацкими станками! Нимфа Калипсо в
серебристом прозрачном одеянии с золотым поясом (Od. V 230—232)
обходит, как заправская ткачиха, свой станок с золотым челноком
(61 сл.). Ведь даже великие богини не гнушаются этим мастерством.
По Диодору (V 3), Кора-Персефона с Артемидой и Афиной ткали для
Зевса пеплос. Афина выткала прекрасное платье для Геры (II. XIV
178 сл.). Оры и Хариты ткут весной одеяние Афродите, окрасив его
Цветами крокусов, гиацинтов, фиалок, роз, нарциссов и лилий (Athen.
XV 30, 682 е). В орфических гимнах упоминаются «росистые покровы
пеплосов» (XLIII 6). Нимфы ткут пурпурную ткань. Но есть свиде-
тельство, что пурпур был символом смерти и вместе с тем спасения
°т нее. Мертвую Присциллу, по словам Стация, «бесценный супруг ...
нежно одел в сидонский пурпур...» (Silv. V 1, 225 Marast.). Пурпур —
багряницу — надевали на себя торжественно клянущиеся Персефоной
и Деметрой, богинями более всего причастными к земле и смерти. Об
этом читаем у Плутарха в жизнеописании Диона (LVI). Пурпуром
Покрывали голову исцеленному от тяжелой болезни (Aristoph. Plut.
1 Душа, отвергающая рождение, лишена влаги. Ср. у Гераклита: «Сухая
а^Ша — мудрейшая и наилучшая» (В 118).
572
А. А. Тахо-Годи
731). И здесь Порфирий толкует гомеровский пурпур не произвольно
а в духе старинной греческой системы мифологических образов. ’
Однако вспомним, что станки у нимф были каменные. Конечно
можно сделать вполне логическое умозаключение о том, что раз у*
пещера каменистая, то и все, что в ней есть, тоже каменное. Впрочем
не будем идти по пути только позитивного установления фактов. Ведь
камень в греческих древнейших культах был не чем иным, как фе.
тишем, наделенным магической силой. «Простой камень» (argos hthos)
в Феспиях был богом Эротом, говорит Павсаний (IX 27, 1). В храме
Харит в Орхомене почитались камни, упавшие с неба (там же, 1х
38, 1). В ахейском городе Фарах, по словам того же Павсания, было
около 30 четырехугольных камней, почитаемых как боги (VII 22, 4).
Камень был носителем магической силы, и на каменном станке можно
было ткань нити, сплетение которых символизировало жизнь — смерть.
Даже там, где Порфирий толкует каменные станки как кости, одева-
емые телесной материей, он не переходит за рамки типично греческие.
Здесь можно вспомнить Эмпедокла с его «костями земли» (В 96) или
Фалеса с его камнем-магнитом, что «имеет душу» (А 22).
Замечателен в этом отношении Демокрит, у которого «души сами
являются причиной порождения камней», и поэтому философ считает,
что в «камне есть душа, подобно тому как она есть в любом другом
семени долженствующей родиться вещи», и, «порождая камень, она
приводит в движение внутренний жар самой материи таким способом,
каким мастер движет молот» для того, чтобы сделать топор и пилу
(А 164“Маков. 250). В этих словах — самая суть греческого стихий-
но-материалистического и поэтического мышления: душа не есть аб-
стракция, она порождает материю камня, как мастер, орудующий
молотом над топором или пилой, т. е. сама материальна, телесна.
У Порфирия душа тоже одевается материей, входя в жизнь, и камен-
ные станки — это ее костная основа, а пурпурные одеяния — телесный
покров. Здесь перед нами V в. до н. э. и III в. н. э., и тем не менее
метод создания философско-мифологического и эстетическо-художест-
венного образа в данном случае идентичен.
В дополнение ко всему сказанному не забудем Нонна, поэта V в.
н. э., любителя старины, ее мифов и реалий. Описывая один из гротов
в Сицилии, он прямо говорит, что там был «каменный станок, о
котором заботились соседние нимфы» (VI 133).
Далее, перейдем к пчелам — душам 1 и меду,1 2 который они от-
кладывают в каменные амфоры.
1 Cook A. The bee in Greek mythology. Journal of Hellenic Studies, 1895,
№ XV, p. 1—24.
2 Укажем старую, но интересную по фактам работу: Robert-Tornow
De apium mellisque apud veteres significatione et symbolica et mythologica. Berlu1'
1893.
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» 573
. Порфирий в главе 18-й своего трактата ссылается на древних,
которые понимали души умерших в виде пчел.1 Вообще душа как
Окрыленное и воздушное — образ, издавна типичный для греческой
мифологии. У Платона (Phaedr. 246 а—247 а—с) бессмертные боги и
дугпи на крылатых колесницах мчатся по небесной сфере, и отягченная
грехами душа падает на землю, обломав крылья (248 cd). У Гомера
душа «вылетает» из раны умершего (II. XIV 518 сл., XVI 856), у него
*еДУши умерших «слетаются» на кровь (Od. XI 36—43), они «порхают»
(XI 221 сл.), «летят» с писком, как летучие мыши, направляясь в
АИД (XXIV 5—9). Нет ничего удивительного, что та же крылатая
душа мыслится пчелой, тем более, что пчела и мед воспринимались
к Греции с очень большой смысловой нагрузкой. Жужжащий рой пчел
Ае только связан с душами умерших у Софокла (фрг. 795 N. — Sn.),
go пчелы немедленно являются там, где умирает человек, о чем
рассказывает Гигин (fab. 136 о пчелах в винном погребе вокруг трупа
Главка). Персефона — богиня смерти — носила имя Пчелиной — Ме-
дандии, или Пчеловидной — Мелитоды у Феокрита (XV 94 Gaw).
В схолии к этой XV идиллии Феокрита так и поясняется: «Мелитодой
называют антифрастично (cat’antiphrasin) Персефону и Кору, почему
и жрицы ее и Деметры именуются пчелами».2 В «Александре» Ли-
кофрона Афина «Пчелиная», «Жужжащая» (bombilia, 786), которая
почиталась под этим именем в Беотии. Жрицы и жрецы Артемиды
Эфесской, богини с ярко выраженными хтоническими функциями и
загробным миром (как ипостась Гекаты), носили название царей пчел
(essenes— Paus. VIII 13, 1). Жрицы Деметры — тоже пчелы
(melissai —Callim. Hymn. Apoll. 110 Pfeiff.). В Дельфах у Аполлона
жрецы — тоже «пчелы», что находим у Пиндара (Pyth. IV, 60 Sn.).
Однако пчела не только была связана с миром смерти, но и с миром
жизни. «Медом пчел вскормила Диониса нимфа Макрида», — говорит
Аполлоний Родосский (IV 1136—1139 Frank.). Эта нимфа «кроткого
ДЩерь Аристея, что пчелиного роя изделье свету явил, а также и жир
многотрудной оливы» (IV 1134 сл. Церетели). Пчелы вскормили своим
медом младенца Зевса, и нянька его Амалфея была дочь Мелиссея,
т- е. Пчелиного (Hyg. 182). Один из куретов, или корибантов, среди
кружения Критского Зевса носил имя Пчелиного — Мелиссея (Nonn.
XIII 145, XXVIII 306, XXX 305, XXXII 271). Мед, на целительные
Функции которого ссылается Порфирий, приводя примеры из греческой
и восточной культовой практики, действительно тоже, как и пчелы,
1 Правда, Порфирий ограничивает свое понимание пчелы-души. Пчелы у
—души, которые хотят жить на земле праведно, чтобы вернуться к
уСсмертным богам. Это ограничение Порфирия отрицает как продукт аллегори-
/^ого толкования (трудолюбивая пчела — праведная душа) В. Клингер (Живот-
античном и современном суеверии. Киев, 1911, с. 140).
Scholia in Theocritum vetera, rec. C. Wendl. Lipsiae, 1914.
574
А А Тахо-Г<х)и
обладал некоей магической силой. Во время засухи Аристеи и
V 273) приносил Зевсу жертву из медового напитка — кикеона
пчелы». По словам Павсания (IX 40, 2), пчелы указали беотш, (
во время засухи пещеру Трофония, у которого они искали иене i.
от бедствия. Афиняне приносили душам погибших при девкалиопоп,
потопе пшеницу с медом, бросая жертву в расселину земли на < .<
щенном участке Геи (Paus. I 18, 7). Мед явно был связан с хы,
ческими силами. Поэтому в подземных святилищах приносили в жер. в
ячменные лепешки на меду (Paus. IX, 39, 11. Luc. Dial mort. Ill '>
и вскармливали священных змей этими медовыми лепешками (Нио ,
VIII 41). Мед даровал бессмертие, поэтому Гея и Оры пома', ,
Аристею губы медовым нектаром (Pind. Pyth. IX 62). Демокрит т j
же, как и Порфирий, признает целебные свойства меда. Есть свс.к ни
о том, что Демокрит решил в преклонном возрасте лишить себя жи <н
и не принимал пищи. Однако когда близкие стали просить его н<
умирать в праздничные дни, он «приказал поставить перед собой to у,
с медом и таким образом продлил себе жизнь на нужное число дней
пользуясь только запахом меда; когда по истечении тех празднишн,
дней мед был унесен, он скончался». Демокрит всегда любил .мед и
на вопрос, как жить, не хворая, ответил: «Если будешь opoiu.m
внутренность медом, а наружность маслом» (68 А 29 = Маков 31)
Демокрит даже советовал сохранять трупы в меде (68 А 161 = Mikob
259)?
Таким образом, пчелы — души и мед в каменных чашах в тяти
Порфирием из общегреческого мифологического и ритуального ipie
нала.
И наконец, двери, обращенные к Борею и Ноту, ветрам, он ры
вающим путь к смерти и бессмертию. Нонн, использовавший (рев
нейшие мифологические мотивы, знает, что каждый из четырех ветров
имеет свои двери, за которыми следят прислужницы Гармонии (КН
282 сл.), носящие символические имена Восход и Заход, Полне н, и
Север. Сам же ветер может даровать жизнь, но вместе с тем он
приносит человеку мгновенную смерть. Недаром лучшие кобылищ1 '
Гомера рождают от Борея быстроногих, как вихрь, жеребят (II ' 4
223). Но ветер в образе гарпий унес дочерей Пандарея, а боги истреон w
их родителей (Hom. Od. XX 66). Также и Борей унес Орифию * т,1а>
Phaedr. 229 с). Ветрам приносили жертвы в Тиях (Herodot. VII ! (8*
в Мегалополе (Paus. VIII 36, 6) и Фуриях (Ael. XII 61) — Ьоиею
Заметим, что в названии городов «Тии» и «Фурии» чувствусп* 11'
связь с ветром. Греч, thyo «бушую», thoynos, thoyros «неистов
«буйный». Вообще же воздушные потоки (аёг) характерны для
1 О целебных свойствах меда и применении его в народной медицин
RoscherW. Н. Nektar und Ambrosia. Leipzig, 1883, S. 51—60.
иг,(
1
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» 575
сферы и символизируют область смертных, в то время как высший и
иИЗреженный эфир (aither) есть стихия бессмертных. В связи с этим
jJjjrepeceH один текст, приводимый мифографом Корнутом (5 Lang):
<дцд — самый плотный (pachymerestatos) и самый близкий (pros-
ggiotatos) к земле воздух (аёг) ...куда, оказывается, уходят наши
дущи после смерти». У орфиков душа тоже «уносится ветрами»
ц В И D), а для пифагорейцев — «сущностями (logoys) души явля-
ргся ветры», причем душа, как и ее сущности, «невидима» (aoraton),
до как «сам эфир (aither) невидим» (58 В 1 а). Заметим здесь только,
цто душа, по мнению древних, состоит из эфира, разреженной тон-
чайшей материи, из которой состоят также тела богов, ибо душа, не
сошедшая в мир бытия, бессмертна. Поэтому прав Корнут, когда
мыслит плотный воздух (аёг) областью смерти, противопоставляя его
аерхнему воздуху — эфиру. С дыханием ветра душа входит в жизнь,
я с дыханием ветра она ее покидает.
Комментарий философа Порфирия, таким образом, прекрасно ил-
люстрирован древними мифологическими и художественными тради-
циями, образами, типичными для архаического греческого мышления.
Особенно важно именно то, что философия поздней античности
(Ш в. н. э.) использует древнейшие символы ранней греческой куль-
туры. Такая реставрация старины — явление чрезвычайно примеча-
тельное для эпохи упадка классического греко-римского мира. Ученые
и писатели, философы и поэты, объединяя все силы в борьбе с растущим
христианством, пытаются возродить на склоне античности ту языче-
скую старину, которая безвозвратно ушла и уже никогда не вернется.1 * * * У
Однако если не могли вернуться к жизни давно исчезнувшие истори-
ческие реалии, то система образов, составляющих некогда основу
поэтического мифомышления греков, никогда не умирала в греческой
традиции.2
Определенный тип мысли, складываясь веками, прошел испытание
временем, составляя специфику общегреческой поэтической и фило-
софской образности.3
1 Внушительная картина реставраторских тенденций поздней античности
уетея в кн.: Wilamowitz-Moellendorff U. v. Der Glaube der Hellenen,
* Aufl., Bd. II. Basel, 1955, S. 421—524. Известное сочинение Порфирия «Против
Чйстиан», сожженное в 448 г. н. э., характеризует, в частности, эти тенденции.
Правда, в эпоху поздней античности были попытки сакрализации мифа для
Укрепления его позиций в борьбе с христианством, в то время как для александ-
Мцев был характерен «отрыв мифологического сюжета от уз религии, т. е.
мифа из былой, некогда окружающей его сакрально-культовой оболочки»
}£олстой И. И. Миф в александрийской поэзии. Сб. Статьи о фольклоре. Л.,
196^с. 174.
У м О преодолении антитезы классики и поздней античности в философии см.:
г ,3mer Н. J. Der Ursprung der Geislmetaphysik. Amsterdam, 1964 (особенно
''**“19,403—447).
576
А. А. Тахо-Годи
В связи с этим нелишне будет отметить тот факт, что система
этих символов теснейшим образом связана с древнегреческим стихий-
ным материализмом, со стремлением осмыслить мир идеальный и
материальный, зримый и незримый, смертный и бессмертный, ощу-
тимо, конкретно, осязательно, телесно.1 Грек не может принципиально
создать абстрактную символику. У него обязательно фигурируют все
материальные и физические стихии — земля, вода, воздух. Здесь обя-
зательны источники, деревья, камни, ветры, пчелы и мед как мащ
риальные субстанции; обязательны и нимфы-души, усердно ткущие
одеяние жизни, которое, по исконной греческой диалектике, руд^
одновременно и их смертным покровом. Великим устроителем и мудрци
мыслью является Афина с ее оливой — кормилицей каждого грека
но никак не абстрактная идея. И космос здесь есть не что иное, как
сама земля со всеми ее недрами, земля, дающая жизнь, но и дарующая
смерть.
Таким образом, даже в пределах одного философского трактата
вся эта система высших категорий бытия, воплощенных в поэтические
образы, поражает нас той эстетической зримостью и материальной
насыщенностью, которая сразу придает комментарию Порфирия черты
явления типично греческого, менее всего загадочного и эсотерического
1 Т. Уиттекер (.Указ, соч . , 204) считает, например, что от ФалеСТ де
Прокла идет общая линия развития, получившая два разветвления. Одно^
натурфилософы: Сократ, Платон Аристотель; другое — «развитой натурал”55*
стоиков и эпикурейцев» с их «последователями» — неоплатониками.
ПОРФИРИЙ
О ПЕЩЕРЕ НИМФ 1
Перевод А. А. Тахо-Годи
1. Что подразумевается Гомером под пещерой на Итаке, которую
он описывает в следующих стихах?
Где заливу конец, длиннолистая есть там олива.
Возле оливы — пещера прелестная, полная мрака,
В ней — святилище нимф; наядами их называют.
Много находится в этой пещере амфор и кратеров
Каменных. Пчелы туда запасы свои собирают.
Много и каменных длинных станков, на которых наяды
Ткут одеянья прекрасные цвета морского пурпура.
Вечно журчит там вода ключевая. В пещере два входа.
Людям один только вход, обращенный на север, доступен.
Вход, обращенный на юг, — для бессмертных богов. И дорогой
Этой люди не ходят, она для богов лишь открыта.2
2. Что это описание сделано не на основании памяти о действи-
тельно переданных фактах, свидетельствуют сообщения об Итаке у
Других авторов, потому что никто из них не упоминает о такой пещере
на острове, как это утверждает Кроний. Но также невероятна и
поэтическая выдумка этого изображения, а именно, что поэт, создавая,
<ак придется, полученное им случайно, надеялся убедить нас, будто
на итакийской земле некто замыслил пути для людей и для богов, и
что если не человек, то уж сама природа, очевидно, указала место
спуска для всех людей и опять-таки другой путь для всех богов.
Перевод не переводившегося ранее на русский язык трактата сделан по изд.:
•Jrphyrii philosophi platonici opuscula selecta, rec. A. Nauck. Lipsiae, 1886
(Hildesheim, 1963). Текст в квадратных скобках добавлен для уточнения смысла
ПсРеводчиком.
Гомер. Одиссея, XIII102—112, перевод В. В. Вересаева.
26 Зак 3903
578
Порфирий (перевод А. А. Тахо-Годи)
Действительно, весь космос наполнен богами и людьми. Однако
итакийская пещера вряд ли может убедить нас, что в ней есть место
спуска для богов и людей.
3. Поэтому после подобного рода предварительных замечаний
согласно утверждению Крония, не только людям мудрым, но и неуче-
ным ясно, что Гомер в данном случае говорит иносказательно и
загадками. Он заставляет нас потрудиться над вопросами: что нужно
разуметь под вратами для людей и под вратами для богов; что пред,
ставляет собой эта двухвратность пещеры, называемой святилищем
нимф, в одно и то же время и приятной и мрачной — несмотря на
то, что мрак никогда не бывает приятен, а скорее страшен; почему
эта пещера называется не просто святилищем нимф, а прибавляется
для точности «нимф, именуемых наядами»; что понимается под чашами
н амфорами, хотя нет упоминания о жидкости, в них наливаемой, а
говорится лишь о пчелах, гнездящихся в них, как в ульях? Ведь в
пещере находились большие ткацкие станки для нимф, но почему-то
сделанные не из дерева или какого-либо другого подходящего мате-
риала, а из камня, как и чаши и амфоры. Впрочем, это еще не так
темно. Но то, что на каменных станках нимфы ткали пурпурную
ткань, это странно было бы не только видеть, но и слышать. Кто
поверит, что богини ткут пурпурную ткань на каменных станках в
темной пещере, особенно если он услышит, что эту божественную
ткань можно видеть, как пурпурную? Да и то, что пещера имеет два
отверстия — одно, предназначенное для людей, спускающихся вниз,
а другое — для богов, и что отверстие, через которое проходят люди,
обращено к северу, а то, через которое проходят боги, — к югу, также
вызывает немалое недоумение. Действительно, почему людям отведена
северная сторона, а богам — южная, а не взяты для этого восток и
запад, а тогда как во всех почти храмах статуи богов и входы обращены
к востоку, входящие же смотрят на запад, ибо, лишь стоя лицом к
статуям, они могут молиться и совершать богослужение?
4. Рассматриваемый рассказ, будучи полон такого рода неясностей,
не является, однако, вымыслом, созданным для обольщения душ, хотя
не заключает в себе и фактического описания какой-либо местности.
Он дан иносказательно поэтом, соединившим в том же сокровенном
духе пещеру с соседним масличным деревом. Древние считали важным
делом умение исследовать и объяснить все это. Следуя за ними, и
мы сами попытаемся раскрыть этот вопрос. В самом деле, весьма
необдуманно выступали те писатели, которые, описывая это место,
видели в пещере и во всем, что о ней сообщается, только измышления
поэта.
Другие же составители описаний земли изображают это место
весьма точно и обстоятельно. Особенно же Артемидор Эфесский ®
пятой книге своего разделенного на одиннадцать книг труда пи!Ие‘
так: «В двенадцати стадиях к востоку от Панормской гавани остро®3
О пещгре нимф
579
находится остров Итака, 85 стадий, узкий и высокий, с
рванью, носящей имя Форкинской. В этой гавани на высоком берегу
^ходится священная пещера нимф. Туда, как рассказывается, был
Одиссей высажен феаками». Это не было, следовательно, лишь гоме-
ровским вымыслом. Передал ли Гомер то, как имел, или прибавил
ррм кое-что, будем ли мы считаться лишь с тем, что идет от основателей
святилища, или с тем, что прибавил поэт, — ив том, и в другом
случае перед нами будут стоять одни и те же вопросы. Ведь и древние
ре основывали святилищ без тайных символов,1 и Гомер не делал бы
таких сообщений без всяких оснований. Если же можно утверждать,
что рассказ о пещере не есть только измышление Гомера, так как
пещеру посвящали богам еще до Гомера, то ясно, что святилище это
преисполнено древней мудрости. И поэтому оно достойно исследования
и необходимого рассмотрения своего символического устройства.
5. Пещеры и гроты древние, как подобало, посвящали космосу,
беря его и в целом, и в частях. Символом же материи, из которой
образован космос, они делали землю, почему некоторые думали, что
если земля есть материя космоса, то сам космос, происшедший из
нее, следует представлять в образе пещеры. Пещеры большей частью
бывают естественными и одной природы с землей, состоя из скал
какого-нибудь одного вида. Внутренняя часть их вогнутая, а извне
они простираются в беспредельность земли [и сливаются с ней ]. Космос
также самороден и одной природы с материей, которую сближали
образно со скалами и камнем, имея в виду ее косность и способность
принимать придаваемые ей формы, а также и то, что по бесформен-
ности своей она может быть понимаема как нечто беспредельное.
Текучесть и лишенность собственного образа, который ей придает
форму и делает видимой, обилие воды и сырость пещеры, мрак и
тумановидность в ней, как выражался поэт, принимались обычно как
символ свойств, присущих материальному космосу.
6. Однако космос темный и тумановидный в силу своей матери-
альности оказывается прекрасным и привлекательным благодаря слож-
ным сплетениям и упорядоченному расположению образов, почему и
называется космосом. Вполне справедливо называть и пещеру привле-
кательной для входящих в нее и встречающих в ней разного рода
образы. Тем же, кто мысленно проникает в ее бездонную глубину,
она уже представляется мрачной. Находящееся в наружной части и
88 поверхности — приятно; но то, что внутри и в глубине ее — есть
темнота. Недаром и персы при посвящениях в мистерии, сообщая
Мисту о нисхождении душ и об обратном их восхождении, называли
^есто, в котором это происходит, гротом. По словам Евбула, Зороастр
впервые посвятил творцу и отцу всего, Митре, естественный грот в
1 В рукописи М. читаем: «мифических символов».
580
Порфирий (перевод А. А. Тахо-Годи)
горах вблизи Перейди, цветущий и богатый источниками, так как
грот был для него образом космоса, созданного Митрой. А находившееся
внутри грота и расположенное там в определенном порядке имело
значение символов космических стихий и стран света. После Зороастра
и все другие имели обыкновение совершать мистерии в гротах и
пещерах, как в естественных, так и в искусственных. Действительно
божествам Олимпийским посвящались храмы, святилища и алтари
богам же земным и героям — очаги, подземным — ямы и эдикулы ‘
так пещеры и гроты посвящались космосу, а также нимфам, ввиду
протекающих внутри пещер и из них вытекающих водных потоков
почему, как мы покажем, во главе нимф стояли наяды.
7. Но пещера была не только символом смертного, чувственного
космоса, как только что было сказано. В ней усматривали также и
символ всех невидимых потенций из-за того, что пещера темна и
сущность ее потенций недоступна для зрения. Так, Кронос укрывает
своих детей в пещере, устроенной в самом Океане. И Деметра же
кормит Кору в пещере нимф. И многое другое того же рода можно
было бы найти, знакомясь с сочинениями о богах.
8. Что пещеры посвящались нимфам, и главным образом наядам,
живущим у источников и получившим свое имя от водных потоков,
об этом ясно говорит гимн Аполлона.
«Для тебя вывели они источники умных вод, в пещерах пребыва-
ющие, вскормленные духом земли, по божественному слову Музы.
Прорываясь сквозь землю по всем путям, они изливают беспечальные
струи сладостных для смертных потоков».1 2 3
Исходя из этого, думается мне, называли космос пещерой и гротом
пифагорейцы, а впоследствии и Платон. У Эмпедокла душеводитель-
ные силы говорят: «Мы пришли в эту скрытую пещеру»?
У Платона в VII книге «Государства» говорится:4 «Люди находятся
как бы в подземной пещере, в обиталище, подобном гроту, вход в
который к свету открыт во всю ширину пещеры». Затем, когда собе-
седник замечает: «Странный ты даешь образ»,5 Платон прибавляет:
«Это сравнение, о друг Главкон, следует применить ко всему ранее
сказанному, ибо то обиталище, которое мы видим глазами, должно
быть уподоблено темнице, а свет огня — силе солнца».6
9. После этого становится ясным, почему теологи считают пещеру
символом космоса и космических потенций, а также и то, что, говоря
об интеллигибельной сущности, они исходили уже не из тех самых,
1 Эдикул — небольшое святилище.
2 Poetae lyrici graec, ed. Bergk, III. Lipsiae, 1852, p. 684.
3 31 В 120 Diels.
4 R.P. VII514 a.
5 VII515 a.
6 VII517 ab.
О пещере нимф
581
д из различных других соображений, поскольку пещера служит сим-
волом чувственного космоса ввиду ее темноты, скалистости и влаж-
ности. Она — космос ввиду материальности ее состава, текущего, при-
нимающего формы под влиянием внешних воздействий; а символом
интеллигибельного она является, поскольку выражает недоступ-
ность бытия чувственным восприятиям, его устойчивость и прочность,
Н также потому, что отдельные потенции, особенно те, которые связаны
с материей, — невидимы. Упомянутые авторы создали эти символы,
Принимая во внимание самобытность пещер, их темноту, тенистость
Н свойства камня, но ни в коем случае не общую форму пещеры, как
некоторые думали, потому что не всякая пещера шаровидна или
двухвратна, как у Гомера.
10. Двойственный характер пещеры брался для выражения не
интеллигибельной, а чувственной сущности. И данная пещера, имея
э себе неиссякаемые источники влаги, является символом не интел-
лигибельной, а чувственной сущности. Это не было святилище орестиад
[горных ] или акрейских [вершинных ] нимф или каких-либо еще
ртых. Оно было святилищем наяд, получивших свое имя от потоков
[naio или пао «теку»]. Нимфами-наядами мы называем собственно
потенции, присущие воде, но, кроме того, и все души, вообще исхо-
дящие в [мир ] становления. Предполагалось, что души эти соединяются
С влагой, движимые божественным духом, как, по словам Нумения,
сказал и пророк: «Дух Божий носился над водами».1 Египтяне вслед-
ствие этого помещали свои божества (daimonas) не на чем-либо твер-
дом, а на кораблях — в том числе и солнце, и также и парящие над
влагой души, нисходящие для становления. Это же приводило Герак-
лита к учению, что для души становление во влаге представлялось
не смертью, а наслаждением.2 Они испытывают наслаждение, ниспадая
в мир становления. В другом месте он говорит: «Мы живем их смертью,
а они живут нашей смертью».3 Соответственно этому поэт [Гомер]
называет находящихся в становлении «влажными», «имеющими влаж-
ные души»/ им приятны кровь и влажное семя, как и душам расте-
ний — питающая их вода.
11. Некоторые утверждают, что существа, живущие в воздухе или
небе, питаются парами, идущими от источников и рек, и другими
испарениями. Стоики же думают, что солнце питается испарениями
моря, луна — испарениями рек и источников, звезды же испарениями,
поднимающимися от земли; солнце — будто есть некоторое интеллек-
туальное воспламенение, полученное из моря, луна — из речных вод,
3 Библия. Книга Бытия, I 2.
22 В 77 Diels.
Там же.
См. схолии к «Одиссее» (VI 201), где слово живой, греч. dieros толкуется
*3* * «влажный», т. е. равноценно diygros «влажный».
582 Порфирий (перевод А А. Тахо-Годи)
звезды — из испарений земли. Души, связанные с телами, и дущи
бестелесные, но увлекающие за собой тела, и особенно те, которые
предстоит быть связанными с кровью и влажными телами, по необ-
ходимости тяготеют к влаге и к воплощению через влагу. По этои
же причине и души умерших вызываются возлияниями крови или
желчи, а души, любящие тело, втягивая в себя влажное дыхание
сгущают его в туман. Ведь влага, сгущаясь в воздухе, образует туман
Когда дыхание в них сгущается благодаря обилию влаги, они становятся
видимыми. К их числу принадлежат и явления призраков, которые
встречаясь с кем-либо, оскверняют дух своими образами. Чистые же
души отвергают становление. Сам Гераклит говорит: «Душа сухая —.
самая мудрая».1 Вследствие этого дух (pneyma) увлажняется, делается
более мокрым, стремясь здесь к [плотскому] соединению, так как
душа влечется к влажному дыханию из-за склонности к становлению.
12. Следовательно, нимфы-наяды — это души, идущие в мир ста-
новления. Поэтому у вступающих в брак как соединяющихся для
рождения есть обычай призывать нимф и совершать омовение из
источников и неиссякаемых родников. Душам, уже вошедшим в при-
роду, и гениям рода (daimosin) этот мир представляется чем-то свя-
щенным и привлекательным, хотя по своей природе он темен и туманен.
Поэтому их считали воздушными и берущими свою субстанцию из
воздуха. Вследствие этого и святилищем, для них обычным на земле,
являлась пещера, приятная и в то же время темная, — в уподобление
космосу, в котором, как в огромном святилище, пребывают души. Для
нимф, покровительниц вод, вполне подходящим местом оказывается
поэтому пещера с ее неиссякаемыми водами.
13. Итак, пещера, о которой идет речь, пусть будет посвящена
душам и нимфам как носительницам отдельных потенций. Поскольку
им подвластны источники и ручьи, то они называются нимфами
источников и наядами. В чем же заключается для нас те различающиеся
между собой символы, которые относятся: одни — к душам, другие —
к заключенным в воде потенциям, и что позволяет нам считать пещеру,
посвященной и тем и другим вместе?
Пусть же будут символами нимф-гидриад каменные чаши и ам-
форы. Чаши и амфоры — это также и символы Диониса. Сделанные
из глины, т. е. из обожженной земли, они милы даруемой этим богам
виноградной лозе, плод которой зреет под солнечным огнем.
14. Каменные чаши и амфоры больше всего подобают нимфам,
так как им подвластны воды, бегущие из камня.
Но какой символ подходил бы для душ, нисходящих в мир ста-
новления и создания тел? Поэт не побоялся сказать, что нимфы ткут
на каменных станках пурпурную ткань, дивную видом, потому что
тело образуется на костях и вокруг костей, а они в живом организме
1 22 В 118 Diels.
О пещере нимф
583
$ есть камни или подобны камням. Поэтому и станки сделаны не из
какого-либо другого материала, а из камня. Пурпурные же ткани
Прямо означают сотканную из крови плоть, так как кровью и соком
уивотных окрашивается в пурпур шерсть, и благодаря крови и из
крови образуется плоть. Тело же есть хитон души, ее облекающий, —
вегпь дивная, будем ли мы иметь в виду его состав или прикованность
души к телу. Так, по Орфею,1 и Кора, ведению которой подлежит
исе рождающееся из семени, изображается работающей за ткацким
станком. Небо древние также называли пеплосом, служащим как бы
облачением небесных богов.
15. Но почему амфоры полны не водой, а сотами? Ибо в них,
сказано, гнездятся пчелы. Само слово tithaibossein означает «класть
ришу». Пища и питье для пчел есть мед. Теологи пользуются медом
для многих различных символов — ввиду множества заключенных в
нем возможностей, так как мед обладает и очистительной и охрани-
тельной силой. Он многое сохраняет невредимым, им очищают заста-
релые раны, он к тому же сладок на вкус, добывается пчелами из
цветов, пчелы же, оказывается, происходят от быков.
Когда посвящаемым в леонтийские таинства вместо воды для омо-
вения на руки льют мед, то этим предписывается им иметь руки
чистыми от всего неприятного, вредоносного и нечистого, этим зна-
менуется также, что, подавая мисту, такое омовение при употреблении
очистительного огня, отказываются от воды, как от того, что противно
огню. Медом очищают также язык от всего греховного.
16. Когда Персу,2 хранителю плодов, подают мед, в этот символ
вкладывают указание на охранительную силу меда. Под нектаром и
амброзией, о которых поэт говорил, что их вливают в ноздри умершему
для того, чтобы предупредить тление, некоторые считали правильным
разуметь мед, так как мед есть пища богов. Поэтому нектар и назы-
вается у него в одном месте «красным»,3 ибо таков цвет меда. Но
нужно ли под нектаром разуметь мед, мы впоследствии рассмотрим
подробнее.
С помощью меда Зевсу удалось, по словам Орфея, осилить Корноса,
когда этот последний, опившись медом и с помраченным сознанием,
как от вина, уснул. То же случилось, по Платону, и с Поросом,
опьяневшим от нектара,4 который, однако, не был вином. По Орфею,5
Ночь, внушая Зевсу хитрость, с которой был связан мед, говорит:
*Когда же увидишь его под ветвистым дубом, от дел жужжащих пчел
опьяневшего, свяжи его». Так и случилось с Кроносом. Связанный,
2 Orphicorum fragmenta, coll. О. Kern. Berlin, 1922, frg. 192.
Богу Митре.
Hom. 11. XIX 38.
Conv. 203 b.
Orph. frg. 154.
584
Порфирий. (перевод А. А. Тахо-Годи)
он подвергся оскоплению, как и Уран. Теолог объясняет иносказа-
тельно, что божественные существа через наслаждение сковываются
и низводятся медом в мир становления и что, обессиленные наслаж-
дением, они теряют семя. Урана, пожелавшего брачного соединения
и для того сошедшего к Гее, оскопляет Кронос. Это наслаждение
брачным союзом объединяется для них со сладостью меда, с помощью
которого хитростью был оскоплен и Кронос. Ведь [в качестве планеты ]
Кронос движется в противоположном направлении в сравнении с Ура-
ном-Небом [т. е. с миром неподвижных звезд ]. А потенции спускаются
вниз как с неба [неподвижных звезд], так и с планет. Но небесные
потенции присвоил себе Кронос, а потенции Кроноса впоследствии
присвоил себе Зевс.
17. Итак, мед употребляется и для очищения и как средство против
тления, естественного в природе, вызывает наслаждение, связанное с
нисхождением в мир становления, является подходящим символом
водяных нимф, потому что и воде свойственна сила предупреждать
тление, быть очистительным средством и содействовать становлению,
поскольку влага вообще играет роль в становлении. Поэтому-то в
чашах и амфорах гнездятся пчелы: чаши же — символы источников,
как и в культе Митры, чаша употребляется вместо источника, а
амфоры — те сосуды, которыми мы черпаем из источников воду.
18. Источники же и потоки посвящены нимфам водяным и ним-
фам-душам, которых древние называли пчелами — даровательницами
наслаждений. Поэтому и Софокл правильно говорил: «жужжит рой
мертвых и взлетает кверху».1 Жриц Деметры, как божества хтониче-
ского, древние называли пчелами, а Кору — пчелиной. Точно так же
и Луну как покровительницу становления называли пчелой. А в иных
случаях она также называется быком, поскольку в своем наивысшем
положении она находится в созвездии Тельца. Отсюда быкородными
назывались и пчелы и души, идущие в мир становления. Поэтому
божество, которое тайно слывет как становление, называют похити-
телем быков. Мед делали иногда и символом смерти, почему возлияния
медом были жертвой подземным богам, а желчь — символом жизни.
Этим как бы намекалось на то, что наслаждение погашает жизнь
души, а горечь — возрождает, ввиду чего и богам приносили в жертву
желчь. Или этим намекалось на то, что смерть — разрешительница
скорбей, а жизнь полна страданий и горечи.
19. Впрочем, не все вообще души, идущие в мир становления,
назывались пчелами, но лишь те, которые намеревались жить по
справедливости и снова вознестись, творя угодное богам. Это живое
существо [пчела] любит возвращаться, отличается наибольшей пра-
ведностью и трезвенностью, почему возлияния медом назывались трез-
1 Tragicoruin graecorum fragmenta, ed. Nauck-Snell. Hildesheim, 1964, frg. 795-
О пещере нимф
585
ценными. Пчелы не садятся на бобы, считающиеся символом прямого
ц непрерывного становления, так как бобы — чуть ли не единственный
0ид растений с совершенно полым стеблем, которому не препятствуют
перегородки между коленцами. Итак, соты и пчелы — наиболее под-
ходящие символы, общие водяным нимфам и душам, которые, как
невесты, идут в мир становления.
20. В древнейшие времена, когда еще не были придуманы храмы,
богам посвящались пещеры и гроты: на Крите — пещера куретов Зевсу,
в АркаДии — Селене и Пану Ликийскому, на острове Наксосе — Диони-
су. Всюду же, где почитали Митру, этому богу служили в пещерах. От-
носительно пещеры на Итаке Гомер не ограничивается сообщением, что
она была двухвратная, но указывает, что одним отверстием она была
обращена к северу, другим же — более божественным — на юг и что для
спуска вниз служило северное отверстие, а относительно южного умал-
чивает, разрешалось ли через него входить, ограничиваясь словами: «ни-
кто из людей и не входит через него. Этот путь бессмертных».1
21. Теперь мы должны выяснить намерение поэта: передает ли он
в рассказе о пещере то, что считает фактом, или здесь нечто загадочное
или поэтический вымысел. Нумений и друг его Кроний, имея в виду,
что пещера есть образ и символ космоса, говорят, что небо имеет два
предела — один не южнее зимнего тропика, другой — не севернее
летнего. Летний же тропик находится около созвездия Рака, зимний —
около созвездия Козерог. Так как созвездие Рака к нам ближе всего,
то соответственнее всего отводить его Луне как наиболее близкой нам.
Южный полюс для нас уже невидим, и поэтому созвездие Козерога
больше всего соответствует самой удаленной и выше всех стоящей
планете [Кроносу, т. е. Сатурну].
22. В промежутке между Раком и Козерогом знаки зодиака рас-
положены в следующем порядке. Сначала Лев, жилище Гелиоса [Сол-
нце], потом Дева — жилище Гермеса [Меркурия]. Затем идут: Весы —
жилище Афродиты [Венеры ], Скорпион — жилище Ареса [Марса ],
Стрелец—жилище Зевса [Юпитера], Козерог—жилище Кроноса
[Сатурна ]. В обратную сторону от Козерога идут Водолей — жилище
Кроноса, Рыбы — жилище Зевса, Овен — жилище Ареса, Телец —
жилище Афродиты, Близнецы — жилище Гермеса и, наконец, жилище
Луны — Рак. По представлениям теологов двое врат находились: од-
ни — у созвездия Рака, другие — у созвездия Козерога. Платон на-
зывал их двумя устьями. У созвездия Рака находится тот вход, которым
спускаются души, а у знака Козерога — тот, через который они под-
нимаются. Но вход у созвездия Рака — северный и ведет вниз, а тот,
нто у созвездия Козерога, — южный и поднимается вверх. Северный
вход — для душ, нисходящих в мир становления.
1
Hom. II. XIII111 сл.
586
Порфирий (перевод А. А. Тахо-Годи)
23. И правильно, что ворота, обращенные к северу, представлены
для схождения вниз людей. Но южные врата предоставлены не богам
а тем, кто восходит к богам, почему поэт назвал их дорогой не богов
а бессмертных, свойство, общее для душ, или для тех, которые сами
по себе, т. е. по своей сущности, бессмертны. О двух этих воротах 1
упоминает и Парменид в книге «О природе», упоминают их римляне
и египтяне.
Римляне празднуют Кронии [Сатурналии], когда солнце входит в
созвездие Козерога, и во время празднеств надевают на рабов знаки
свободных, и все друг с другом общаются. Основатели этого обряда
имели в виду показать, что те, кто ныне благодаря рождению являются
рабами, в праздник Кроний [Сатурналий] освобождаются, оживают,
и через место, являющееся жилищем Кроноса, небесными вратами
возвращаются в мир становления. Путь нисхождения для них начи-
нается от знака Козерога. Поэтому дверь они называют ianua, и январь
как бы называется месяцем врат, когда солнце от знака Козерога
поднимается к востоку, поворачивая в северную часть [неба].
24. Началом египетского года, наоборот, служит не знак Водолея,
как у римлян, а знак Рака. Вблизи созвездия Рака находится Сотис,
который греки называют созвездием Пса. Начало нового месяца у
них — восход Сотиса, который является началом становления в кос-
мосе. И не на востоке и западе они помещали входы и не в области
равноденствия, т. е. не в созвездии Овна и Весов, но на юге и севере
(у самых южных ворот — на юге и самых северных — на севере).
Поэтому и пещера посвящена водяным нимфам и душам, а эти
места подходящи для становления душ и их ухода [в мир бытия].
Митре же отводили как наиболее подходящее для него местопре-
бывание вблизи области равноденствия. Поэтому он носит меч Овна,
зодиакального знака Ареса. Едет же он на быке Афродиты, так как,
будучи быком-демиургом, является владыкой становления. Он поме-
щается около равноденственного круга, имея с правой стороны север,
а с левой — юг. Причем к нему примыкают с юга южное полушарие,
теплое, а с севера — северное, с холодным ветром.
25. Точно так же души, нисходящие в мир становления и возвра-
щающиеся из него, не без основания связывали с ветрами. Ведь, с
одной стороны, души, как некоторые утверждают, влекут за собой
дуновение (рпеуша), с другой же — сами имеют его природу. Северный
ветер более соответствует движению душ в мир становления, потому
что северный ветер «берет в плен своим дуновением тяжко дышашую
душу» 1 2 того, кому предстоит перейти к смерти. Южный ветер, на-
оборот, несет с собой освобождение. Более холодное дыхание северного
1 У Парменида упоминаются ворота Дня и Ночи (28 В I D).
2 Hom.Il.V698.
О пещере нимф
587
ретра замораживает и держит души в холоде земного становления,
ролее теплый южный ветер направляет души к теплу божественности.
До необходимости души, зачатые в нашем более холодном обиталище,
приобщаются к северному ветру. Те же, которые освобождаются от
здешней [юдоли], — к южному. В этом и причина того, что северный
эетер, поднявшись, с самого начала дует с большой силой. Южный
зие усиливается лишь к концу. Первый устремляется прямо на живущих
дод северным небом. Второй же — издалека. Поток воздуха, идущий
издалека, движется дольше и, лишь накопившись, проявляется во всей
полноте.
26. Далее, поскольку от северных врат души идут в мир станов-
ления, то северный ветер считается ветром любовным. Ибо Борей,
Образ принявши коня черногривого, их [кобылиц]
покрывал он,
И, забрюхатев, двенадцать они жеребят народили.1
Он похитил Орифию, и она родила Зета и Калаиса. Знающие, что
юг принадлежит богам, задергивают в храмах завесу с наступлением
полдня, сохраняя указание Гомера, что когда божество [солнце] скло-
няется к югу, людям нельзя входить в святилище, но путь открыт
лишь для бессмертных.
27. Во время полуденного отдыха божества у дверей ставят знаки
юга и полдня. И вообще в дверях ни в какое время не полагается
болтать, потому что дверь священна. Поэтому пифагорейцы и египет-
ские мудрецы не позволяют разговаривать при проходе через двери
или ворота, выражая молчанием свое благоговение перед божеством,
в котором начало всего. И Гомер знал о священности дверей, как
показывает рассказ об Ойнее, перед молением потрясающем дверь:
«Потрясая крепко сколоченные створки [дверей], умоляя сына».2 Он
знает также и небесные врата, которые были доверены Орам и которые,
начинаясь в местах туманных, запирались и отпирались тучами: «Иль
отодвинуть плотную тучу или закрыть».3 Поэтому врата ревут, подобно
грому, раскатывающемуся по тучам: «Сами собой замычали небесные
врата, вверенные Орам».4
28. В другом месте Гомер говорит еще о солнечных вратах, имея
в виду знаки Козерога и Рака.5 Пока солнце проходит от севера к
югу и обратно к северу, Козерог и Рак находятся около Млечного
Пути, занимая его крайние пределы. По Пифагору,6 души представ-
* Нош. XX 224.
. Ibid., II. IX 583.
\ Ibid., V 751.
4 Ibid., 749.
6 Hom. Od. XXIV 12.
Ср. там же.
588
Порфирий (перевод А. А. Тахо-Годи)
ляют собой толпу снов, которые сходятся на Млечном Пути, названном
так, потому что души питаются молоком, когда ниспадают в мир
становления. Поэтому те, кто вызывает души, делают им возлияния
из меда, смешанного с молоком, так как в рождение вступают благодаря
чувственному наслаждению и так как вместе с зачатием душ появ-
ляется и молоко. В южных краях рождаются тела небольшие по
размеру, потому что жар обыкновенно весьма сильно иссушает и тем
уменьшает размеры и делает дела худыми. В северных же краях
наоборот, тела бывают крупными. Примером могут служить кельты
фракийцы и скифы; их страны богаты водой и обильными пастбищами
так что и само название севера — Борея — происходит от слова bora
что значит «питание». И ветер, дующий из богатой питанием страны
как бы сам будучи питающим, называется Бореем.
29. Соответственно этому роду смертному и подверженному ста-
новлению более близок север, роду же более близкому к божеству —
юг, как самим богам — восток, а демонам — запад. Так как природа
основана на противоположностях, то символом их становится все
двухвратное, где бы оно ни встречалось. Всякое движение может быть
либо интеллигибельным, либо чувственным. Чувственное происходит
через мир неподвижных [звезд] или через мир подвижных [планет],
и опять-таки чувственное идет или по пути бессмертному или по пути
смертному. И одно средоточие есть под землей, а другое над землей.
Одно восточное, другое — западное, одно — левое, другое — правое,
ночь и день — и отсюда гармония мира, как в натянутом луке, дей-
ствующая через противоположное.1 Платон говорит о двух устьях,
через одно из них, по его словам, восходят к небу, через другое —
спускаются к земле. Теологи вратами душ считали солнце и луну,
полагая, что солнцем они поднимаются вверх, а луной сходят вниз.
И по Гомеру существуют два глиняных сосуда: «Полны даров, —
счастливых один, а другой несчастливых».1 2
30. Причем у Платона в «Горгии» сосуд истолковывается как
души.3 Иная бывает благодетельна, иная — зла. Одна — разумна, дру-
гая — неразумна. Сосудами называют души как носительниц различ-
ных способностей и деяний. У Гесиода говорится также о двух сосудах,
из которых один закрыт, другой же открываем наслаждением, и со-
держимое его расплескивается во все стороны, в нем же остается одна
только надежда.4 Те, у кого дурная душа, подверженная рассеянию
в материи и уклоняющаяся от порядка, питают себя обычно лишь
благими надеждами.
1 Ср. Heraclit, В 51 D.
2 Hom. II. XXIV 528.
3 Gorg. 493 d.
4 Hes. Орр. 94.
О пещере нимф
589
31. Так как всюду в природе встречается знак двухвратности, то,
^ественно, что и пещера, о которой мы говорим, имеет не один, а
диа входа, совершенно таким же образом различающиеся по своей
-дди. Причем один из них приличествует божествам и благим суще-
ствам, а другой — смертным душам и более низким. В том смысле и
Цлатон говорил о чашах.1 Но вместо амфор пользовался символом
сосудов, а вместо двух ворот — берет два устья. Ферекид Сирский
также упоминает углубления, ямы, пещеры, двери и врата, и всем
этим намекает на становление душ и их уход [в мир бытия ].2 Но мы
не будем удлинять нашего рассуждения перечислением всего, что по
этому поводу говорили древние философы и теологи, считая, что
общий смысл нашего рассказа уже всеми воспринят.
32. Остается еще изложить, что означал символ зарослей маслины.
По-видимому, это дерево означает нечто весьма особенное, так как
речь идет не только о том, что вблизи растет маслина, а о том, что
она находилась у самой вершины залива.
Где заливу конец [вершина], длиннолистая есть
там олива.
Возле оливы пещера...3
Не случайно, как кто-нибудь мог бы подумать, дала здесь свой
отпрыск маслина. Она включается в загадочный образ пещеры. Так
как и космос появился не случайно и не наудачу, а является осуще-
ствлением мудрого замысла бога и интеллектуальной природы, то у
пещеры, символа космоса, выросла рядом маслина как символ боже-
ственной мудрости. Это — дерево Афины, Афина же есть мудрость.
Так как Афина родилась из головы бога, то теолог [Гомер] нашел
подобающим поместить священное дерево у вершины залива, указывая
этим, что целое появилось не само собой и не по слепой случайности,
а как исполнение замысла интеллектуальной природы и мудрости,
которая хотя и отделена от него, но расположена вблизи же на самой
вершине всего залива.
33. Будучи вечноцветущей, маслина обладает некоторыми свойст-
вами, наиболее удобными для обозначения путей души в космосе,
которому посвящена пещера. Летом белой стороной листья обращаются
вверх, зимой же более светлые части поворачиваются в обратную
сторону. Когда в молитвах и мольбах протягиваются цветущие мас-
личные ветви, надеются, что мрак опасностей будет превращен в свет.
Маслина, по природе своей вечноцветущая, приносит плоды, вознаг-
раждающие за труд. Поэтому она и посвящена Афине. Победителям
в состязании вручается венок из листьев маслины. Масличные ветви
J Ср. Тип. 41 d.
. 7В 6 D.
Hom. Od. XIII102.
590
Порфирий ( перевод А. А. Тахо-Годи)
служат прибегающим к мольбе. Так и космос управляется вечной и
вечноцветущей мудростью интеллектуальной природы, от которой да.
ется победная награда атлетам жизни и исцеление от многих тягостей
И тот, кто привлекает к себе нуждающихся и просителей, является
демиургом, держащим в целостности мир.
34. В пещеру, по Гомеру, должны быть сносимы все богатства
чужбины. Здесь должны быть совлечены все одежды и надлежит быть
облеченным в одежды молящихся, бичуя свое тело, отбросив излишнее
и отвратившись от чувственных [ощущений], совещаться с Афиной
сидя с ней у корня маслины, отсекая все страстные и злые помысли
души. Не без основания, мне кажется, Нумений и его последователи
видели в герое гомеровской «Одиссеи» образ того, кто проходит по
порядку весь путь становления и восстанавливает себя в беспредельном,
вне моря и вне бурь: «доколе в край не прибудешь к мужам, которые
моря не знают, пищи своей никогда не солят».1 Морская же гладь,
море и бури, по Платону, означают материальную субстанцию.
35. По тем же причинам, думаю, поэт назвал и залив именем
Форкина.
... залив один превосходный
Старца морского Форкина.1 2
Именно от этого Форкина в начале «Одиссеи» произошла дочь
Тооса, мать киклопа, которого лишил глаза Одиссей, чтобы и в
пределах родины Одиссея сохранилась какая-то память о его поступ-
ках.3 Поэтому ему подобает сидеть в качестве просителя бога под
оливой и под масличной ветвью умолять домашнее божество. Ведь
совсем не просто освободиться от этой чувственной жизни, ослепив
ее и стараясь быстро ее уничтожить. Человека, осмелившегося на это,
преследует гнев морских и материальных богов. Их же надо вначале
умилостивить жертвами, трудами и терпением нищенства, то борясь
со страстями, то завораживая и обманывая их и всячески изменяясь
сообразно с ними, чтобы, сбросив рубище, низвергнуть страсти, не
избавляясь, однако, попросту от страданий. Но надо, чтобы [Одиссей ]
стал совершенно вне моря [непричастен морю], до того не сведущим
в морских и материальных делах, что принял бы весло за лопату для
веянья зерна из-за полной неопытности в орудиях и трудах, необхо-
димых для моря.
36. Не следует думать, что подобные толкования насильственны
и убедительность их есть результат измышлений. Надо признать.
1 Hom.Od.XI 122 сл.
2 Ibid., XIII 96.
3 Форкин — дед киклопа Полифема. Гавань и залив его имени на Итак-'
напоминают о дерзком поступке Одиссея.
О пещере нимф
591
насколько древняя мудрость и гомеровская разумна и не отказывать
в точности [понимания] всякого достоинства [добродетели] чело-
нека, так как Гомер в мифологическом вымысле загадочно намекал
на изображение божественнейших вещей. Гомер не достиг бы цели в
Слипании всего своего замысла, если бы не исходил от некоторых
истинных представлений, перенеся их в вымысел.
Но соображения об этом отложим до другого сочинения. Здесь
нее — конец толкованию предмета нашего изыскания — пещере.
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ смысл
ХТОНИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ
В «АРГОНАВТИКЕ» АПОЛЛОНИЯ РОДОССКОГО
«Аргонавтика» Аполлония Родосского поражает обилием хтониче-
ских элементов, доходящих здесь до небывалой концентрации,1 чуждой
по своей нарочитости не только древнейшим гомеровским поэмам, но
даже позднейшей «Энеиде» Вергилия с ее напряженной, экстатической,
сумрачной героикой.
Конечно, нет ничего удивительного в мифологической основе ге-
роического эпоса, как никого не удивляет интерес к древнейшим ее
пластам в поздней греческой литературе. Однако вся эта мифологи-
ческая архаика переплетается у Аполлония Родосского с сюжетной
тканью поэмы чрезвычайно разнородно, многопланово, противоречиво,
соответствуя той жанрово-стилистической неустойчивости, которая так
характерна для произведений раннего эллинизма.1 2
В нашу задачу в связи с этим входит выяснение именно стили-
стической функции хтонических элементов, что в дальнейшем поможет
также более точному определению специфики и всего эпоса Аполлония
Родосского.
1 В. Нестле (Nestle W. Griechische Geistes Geschichte, 2 Aufl. Stuttgart,
1958), наоборот, полагает, что Gotterapparat используется Аполлонием по сравне-
нию с Гомером «sehr sparsam». П. Хендель (Handel Р. Beobachtungen zur
epischen Technik des Apollonios Rhodios. Miinchen, 1954, S. 36) отмечает, наобо-
рот, такое скопление учено-мифологического материала, что оно отягощает до
крайности даже грамматическую связь в предложении.
2 Об эволюции мифа в эпоху эллинизма см.: Толстой И. И. Миф в
александрийской поэзии. Сб. «Статья о фольклоре». М.; Л., 1966, с. 168— 1^
(впервые напечатано в 1948 г.). Аполлоний-эпик изучен в диссертации:
Blumberg К. Untersuchungen zur epischen Technik des Apollonios von Rhodas-
Leipzig, 1930.
Стилистический смысл хтонической мифологии в •Аргонавтике»
593
I Сама тема «Аргонавтики» с ее дальними странствиями, подвигами
р загадочной Колхиде и многотрудным возвращением на родину за-
являет автора произвести отбор героев, спутников Язона.1 Каталог
s начале поэмы включает в себя, во-первых, минийцев (I 228—233),
т. е. героев из племени древних орхоменских автохтонов, а во-вторых,
сообщение о том, что многие из них знамениты (и это особенно
дддчеркивается) даже не сами по себе, а своими отцами и дедами,
предками явно хтонического происхождения. Не говоря уже о самом
Язоне, потомке Эола (Миний — тоже сын Эола, III 1093 сл.) на «Арго»
доходятся Орфей, сын музы Каллиопы и фракийца Эагра (I 23—25),
дяпиф Полифем Элатид (собственно «сын ели», 40—44, I 1241, 1248,
1321, 1347), Флиант, сын Диониса (I 115—117), Навплий —потомок
Посейдона (I 133, 136—138), Линкей и Ид — сыновья Афарея, некогда
сражавшиеся с Диоскурами (I, 151—153), Авгий, сын Гелиоса (I
172 сл.), Евфем из Тенара, сын Посейдона и Европы, дочери великана
Тития (I 179—184), Эргин и Анкей, сыновья Посейдона (I 185—189),
сын Ойнея Мелеагр (I 190 сл.), жизнь которого была заключена в
тлеющей головешке (Ovid. Met. Ill 447—524), Зет и Калаид — сыновья
северного ветра Борея и Орифии (I 211—213, 1299), Палемоний —
сын Гефеста (I 201—206). Герои «Аргонавтики» — часто дети божеств
рек, полей и гор. Сикон — сын наяды Ойнеи (I 624—625), Амик —
сын нимфы Мелии и Посейдона Генетлия «Родового» (II, 1—4), Дип-
сак — сын луговой нимфы (II 625—655). Апсирт —сын Астеродеи,
кавказской нимфы (III 241 сл.), Кафавр —сын дочери Тритона (IV
1490—1496), Идия, жена Ээта — дочь Океана и Тефии (III 243).
Детьми Гелиоса являются не только Ээт — царь Колхиды (II 1204) и
его сестра Кирка (III 310 сл.), но и аргонавт Авгий (см. выше).
Амазонки — дочери Ареса и Гармонии (II 985—992). Этот один пе-
речень ряда персонажей поэмы указывает не только на их хтонические
корни, но и на попытку соединить древних богов при помощи ученой
генеалогии с их героическим потомством.
Хтонические боги выступают в поэме только в качестве далеких
предков, век которых давно и безвозвратно прошел, но дети и внуки
Их еще сохраняют рудименты былой демонической мощи, объединяя
ее зачастую с новым типом разумной силы, разрушающей грубый,
исполненный магии и фетишизма хтонизм своих праотцев.
Так, Орфей, сын музы Каллиопы, унаследовал от нее магическую
силу искусства (I 25—31). Дети Борея мчатся по воздуху, сохранив
На ногах с золотыми пятками черные крылья (I 219—223; IV 1464).
КвФем, сын Посейдона, не ведая морских глубин, бегает вихрем по
р В работе над текстом Аполлония Родосского мы воспользовались книгой
д'15?Ре,?келя (Frankel Н. Einleitung zur kritischen Ausgabe der Argonautica des
A’’°n°nias. Gottingen, 1964).
594
А. А. Тахо-Годи
водной глади (I 182—184). Линкей видит сквозь воду (I 153; jy
1466 сл.), а глаза потомков солнца наделены особым, но уже не
опаляющим блеском Гелиоса (IV 729—731). Душа Эфалида, сына
Гермеса, живет то в царстве смерти, то среди живых (I 644—648) 1
будучи отражением и подобием двойного бытия самого Гермеса, во-
дителя душ в Аиде и путников на дорогах Земли. Периклемен, внук
Посейдона, обладает особой силой, которая заставляет сбываться всему
чего бы он ни пожелал (I 155—160). Палемоний, сын Гефеста, ничего
не унаследовал от отца, кроме хромоты (I 201—206). В похвальбе
Ида своим копьем, что помогает ему вместо Зевса (I 465—468)
слышатся отголоски древней безудержной стихии, насыщенной небы-
валыми магическими силами.
Эти силы разлиты по всему героическому миру, являясь то в виде
богов, чудовищ и демонов, то воплощаясь в как будто бы совершенно
безобидные предметы, растения, животных, воду и землю.
Участие в драматических событиях поэмы принимают в основном
олимпийские боги.1 2 Однако некоторые из них, сохранившие иной раз
хтонические рудименты, соседствуют с чисто хтоническими божест-
вами, воздействуя на героический мир своими благодетельными или
губительными потенциями.
Хирон, сын Кроноса и нимфы Филиры, дает благой совет Язону
(I 33 сл.). Он вместе с нимфами и своей супругой, держащей на руках
младенца Ахилла, провожает корабль «Арго» (I 549—558); и вся эта
сцена с участием обитателей лесных чащ приобретает характер тро-
гательной жанровой картинки. Афина Итонская3 (ср. у Гомера —
Итона — «мать овец» — «Илиада», II 696) строит с Арго корабль (I
551), Артемида покровительствует морю и земле Иолка (I 570), Афина
Тритонида дарит Язону плащ своей работы (I 768); Гера Пеласгическая
гневается на Пелия, не принесшего ей жертвы (I 14). Эпитеты богов
(Итонская, Иолкская, Тритонида, Пеласгическая) наряду с наимено-
ванием Аполлона и Артемиды по матери Лето — Летоидами (II 181,
213, 256, 674, 698; III 874; IV 346), а также упоминание губительных
функций Артемиды (III 773), или «мощной» (briares) Афины, мчащейся
на туче (II 537—510), говорят о древнейших догероических чертах
олимпийских богов. Особенную роль играет в плаванье аргонавтов
1 В мифе об Эфалиде сказывается преодоление силы смерти, т. е. забвения
(lethe), так как он сохраняет память даже в Аиде, а переходя к миру живых,
помнит о стране мертвых (Ver па nt J. Р. Mythe et pensee chez les grecs. Pans,
1966. p. 59—60).
2 Gotterapparat «Аргонавтики» рассматривается у Л. Клейна (Klein L.
Gottertechmk in den Argonautika des Apollonios Rhodios. Philologus, 1931, 8°’
S. 18—51; 215—257).
3 В Schol. Ap. Rhod. I 551 подчеркивается, что здесь имеется в виду яе
почитание Афины Итонской в Беотии, а в Фессалии.
н Стилистический смысл хтонической мифологии в «Аргонавтике» 595
0ргиня Диндимена, она же Рея и Великая мать богов Кибела.1 Ей
дается замечательная характеристика укротительницы ветров и бурь,
0Г нее зависят земля, море и снежный Олимп, а Зевс, Кронид и все
боги чтут «наводящую ужас богиню», отступая перед нею (I 1097—
Ц12). На пути аргонавтов встречается Аполлон Заревой, идущий из
Дцкии к гипербореям, вселяя одним своим видом ужас в сердце героев,
сотрясая землю и моря (II 674—688). Здесь же именем Аполлона
Заревого аргонавты называют остров, давая поэту возможность про-
явить свою ученость и создать этиологическую историю. Гефест с
раннего утра трудится в пещере плавучего острова (III 41), дополняя
древний образ хтонического кузнеца, работающего не покладая рук,
в заботливого супруга, обожающего свою легкомысленную повели-
тельницу.
В изящно-пластических тонах предстают стихийные нереиды, вле-
кущие корабль на своих белоснежных плечах (IV 926—965). Участ-
никами мирной жанровой картины являются нимфы, дочери реки
Эгея, среди цветов и веселья устраивающие свадьбу Язона и Медеи
(IV 1143—1155), или милые ливийские героини (свидетели рождения
Афины из головы Зевса), советницы и утешительницы Язона (IV
1308—1331, 1347—1362). Здесь же нимфы Геспериды, которые еще
недавно сладостно пели, а теперь, после убийства Гераклом дракона,
стонут, заломив белые руки, и, убоясь аргонавтов, рассыпаются в
прах. Из жалости к мольбе Орфея, заставившего прорасти траву,
побеги и деревья — вяз, иву и тополь, Геспериды вновь появляются
перед героями в своем божественном виде (IV 1400—1431). На острове
Гелиоса пасут своих златорогих коров в чащах, покрытых росой,
дочери Солнца — Фаэтуса («Сияющая») с серебряным посохом и Лам-
петия («Светящая») с медным посохом (IV 967—976). Луна Титанида
злорадствует, глядя на Медею, бегущую на свидание к Язону, радуясь,
что не она одна, богиня, страдает от любви (IV 54—65).
Тритон, обитатель водных глубин, по молитве Язона (который
именует его Форком и Нереем), является в божественном виде, с
рыбьим хвостом, продвигая корабль аргонавтов к морю (IV 1602—1619).
Страшная богиня Геката встречается не раз (III 467, 738, 842, 985),
вызванная заклинаниями Язона (III 1212—1223) среди факельных
огней, лая подземных псов, воплей болотных и речных нимф, обвитая
змеями в дубовых листьях.
Здесь перед нами, таким образом, проходят или чисто хтонические
о°ги, или боги олимпийские с их хтоническими рудиментами. Но и
’е и другие вплетены в героический мир, хотя их былая грозная мощь
Веитрализуется в поэме жанрово-сказочным, интимно-проникновен-
ь. 1 Van Krevelen D. A. Der Kybelekult in den Argonautika des Apollonios von
Kh°dos, 1,1078—1153 (Rheimsches Museum, 1954, 97, S. 75—82).
596
А. А. Тахо-Годи
ним и пластически-живописным аспектами. Эти боги — защитники
прорицатели, помощники, охранители, утешители героев. Они явля-
ются в облике добрых, ласковых, милостивых существ, хотя зачастую
и губительных, ужасных, наводящих священный страх. Они активно
продвигают и направляют драматическое повествование, являясь не-
пременными участниками человеческих судеб.
В реальной жизни, полной драматических событий, путникам встре-
чаются удивительные чудовища: шестирукие «землерожденные» на
«Медвежьей горе» (I 941—946), Гарпии (II 197—193; 234 сл., 251—253,
262—290, 288 сл.), обитающие на Крите в Диктейской пещере (Ц
298—300, 430), аресовы птицы (II 1029—1045). Золотое руно в Колхиде
охраняется змеем (II 405—407, 1269; IV 123—161), сыном Геи, ро-
дившимся на Кавказе, где под водой Сербониды лежит еще Тифон
(II 1207—1215). Язон укрощает медных быков, выдыхающих пламя
на ниве Ареса, где из зубов дракона появляются воины (III 409—419,
495—500), так называемые землеродные (III 499, 1048, 1054). На
острове Эя Кирка выступает в сопровождении удивительных зверей,
которых сотворила из ила сама первозданная, влажная земля, объе-
динив в них разные тела и члены (IV 672—631).1 На пути аргонавтов
встречаются Сцилла и Харибда (IV 791 сл., 924 сл.), причем упоми-
нается, что Сциллу породила морскому богу Форку сама Геката (IV
827—831). Здесь блуждающие скалы Планкты (IV 926—965), дракон
Ладон (IV 1396—1405), чудовищный змей, убивший Мопса, и ливий-
ские змеи (IV 1505—1536).
Особое место отводится в поэме Эриниям, или Эринии, которая
ослепила Финея (II 220), косо посмотрела на убийство Апсирта (IV
475 сл.), настигает нарушителя клятвы (IV 1044), приводит путников
к цели (III 777). Эриниям приносит в жертву лепешки искупления
Кирка (IV 714—716).1 2 * * Эринии Медеи могут изгнать Язона с его родины
(IV 382-386).
Однако целый ряд страшных картин на пути героев приводится
поэтому в целях географической экзотики (IV 791 сл., 824—831,
924 сл., 926—965) или эти ужасы трансформируются в жанровые
сцены с тонкими реальными подробностями (IV 1396—1405 — убитый
дракон с дрожащим кончиком хвоста и гнездящиеся в его ранах мухи;
испуганные Геспериды заламывают в горе белые руки; грубый Геракл
и учтивые аргонавты), или в целый комплекс, состоящий из мифО'
1 И. И. Толстой (Заколдованные звери Кирки в поэме Аполлония Родосского,
с. 24—28) указывает на связь трактовки образа диковинных зверей Кирки с
александрийским искусством (черно-фигурная чаша Бостонского музея) и с
философией Эмпедокла (В6,1 Diels).
2 В сцене очищения Киркой Медеи и Язона А. Лески (Le s к у A. GeschicNc
der Griechischen Literatur, 2. Aufl. Bern, 1963) видит эффектную психологическу10
сцену (S. 785).
Стилистический смысл химической мифологии в «Аргонавтике» 597
дргического воспоминания, этиологического рассказа и метаморфозы
1505—1536 — происхождение ливийских змей).
Герои «Аргонавтики» живут в мире, насыщенном магическими
Судами, воплощенными в различных предметах, камнях, растениях,
земле и воде.
Так, Ид Афареев похваляется своим копьем, что помогает ему
злесто Зевса (I 465—468), т. е. копье это воспринимается чисто
фетишистски.* 1 Оно не только божественно, но даже само является
богом. В корабле «Арго» вложено бревно из Додонского дуба, и это
бревно прорицает, сохраняя в себе магическую и пророческую силу
Зевса Додонского (I 526—527; IV 582—593).2 Якорный камень
аргонавтов будет водружен в храм Афины Язонийской (I 956—960)
аак священная реликвия и воплощение силы богини. Два треножника
Аполлона, взятые Язоном для Дельфийского храма, будут даровать
победу над врагами той стране, где они хранятся (например, в стране
Гилла, IV 527—536). Серп, которым был оскоплен Уран, а может
быть, и серп Деметры, погребенный в землю, дает неиссякаемое
плодородие стране феаков (IV 986—989). Эрот получает в подарок
замечательную игрушку Зевса-младенца на Крите, создание Адрастеи
(III 132—142). Язон по совету Медеи бросает в толпу землеродных
диск Ареса, заставляя их этим материальным воплощением битвы
вступить в смертельную схватку между собой (III 1366 сл.). Одна
из каменных стел на могиле убитых Гераклом Бореадов беспокойно
движется от ветра (I 1307 сл.). Золотое руно на дубе (II 404, 1270;
IV 124—126, 176—181, 184—188), пояс амазонки Ипполиты (II
777—779; II 968), черный камень в храме Ареса, над которым молятся
амазонки (II 1177 сл.), скипетр Гермеса в руках Язона (III 197),
заколдованное оружие Язона (III 1246—1255), панцирь царя Ээта—
подарок флегрейца Миманта (III 1240—1245), колесница и кони
Гелиоса у того же Ээта (IV 219—224) — все наделены божественной
силой.
Иной раз древняя фетишистская магия преображается здесь в
магию произведения искусства, созданного богами, которое не только
устрашает, но и зачаровывает своей красотой. Аполлоний Родосский
с упоением описывает багряный плащ Язона, сотканный Афиной
(I 721—767), где киклопы куют перуны Зевсу (I 730—734), Зет и
Амфион складывают из огромных камней стены (I 735—741), а мла-
Тексты о рудиментах фетишизма в античной литературе с их историко-со-
1®альным толкованием подобраны в книге А. Ф. Лосева (Античная мифология в
историческом развитии. М., 1958, стр. 34—46, 51 сл.). Ж.-П. Верная (Op. dt.,
35) рассматривает копье как символ дерзости, hybris (антитеза скипетра —
^м^хла справедливости, Dice).
_. О предсказаниях см.: Н е п s е 1 L. Weissagungen in der Hellinistischen Poesie.
^ccen, 1908.
598
А А. Тахо-Годи
денец Аполлон убивает великана Тития (I 759—762). Пеплос Гипси-
пилы, источающий аромат, был некогда соткан Харитами для Диониса
(IV 423—434).
Преображенность фетишизма выражена в наших примерах еще и
тем, что он зачастую преподносится то ли в виде воспоминания древних
историй (пояс Ипполиты), то ли в виде историй будущих (стела
Бореадов, треножники Аполлона, камень аргонавтов), то выступает
как образец географической экзотики с этиологическим оттенком («с.
тров «Серпа»), или превращается в жанровую сценку, когда сходИт
на нет древняя магия и мистический атрибут критского Зевса стано-
вится детской забавной игрушкой, искусно сделанной, разукрашенной
и доставляющей удовольствие малышу Эроту.
Среди фетишей-растений находим кумиры из сухой оливы — Апол-
лону (I 405) и Диндимене (I 1117—1122) или обрубок корабельной
маслины, водруженный на кургане Идмона (II 841—843) на месте,
где, по аполлонову прорицанию, будет заложен город (II 848 сл.).
Дуб-Гигант, на котором висит золотое руно (II 1271—1273; IV 124,
162) в роще Ареса (II 403 сл.; 1271, 166), и поле Ареса, засеянное
зубами дракона (II 1271; III 409, 411, 754, 1269), — средоточие де-
монической силы, которую должен побороть и которой должен овладеть
Язон. Цветок, выросший из крови Прометея (III 844—868), придает
небывалую мощь волшебному зелью Медеи, и титан отзывается стоном,
когда Медея срезает корень этого цветка (III 865 сл.). Замечательна
нимфа гамадриада, обитательница дуба (II 476—480). Однако фети-
шизм здесь несколько ослаблен тем, что история нимф отнесена к
прошлому, есть только воспоминания Финея.
Интересным отзвуком магии воды является упоминание реки Пар-
фения, в которой омывается Артемида (II 936). Это вызывает в памяти
омовение Геры, возвращающей себе девство с помощью воды (Paus
II 38, 3).
Однако и здесь река Парфений нужна Аполлонию только как
пример его географических познаний.
Эта же ученость поэта вырисовывается в мифологическом воспо-
минании о нимфе Анхиале и порождающей силе земли (I 1129—1131,
ср. Hom. hymn. II; рождение Тифона от прикосновения Геры к земле.
154—174).
Древнее оборотничество, которое знаменует собой вечный переход
божественных потенций в разные состояния, как правило, сведено
Аполлонием до уровня метаморфозы с этиологическим оттенком
(I 1067—1069 — слезы нимф — ручей Клита; IV 603—606 — слезы
Гелиад — янтарь) или осмыслено только как мифологическое воспо-
минание и географическая ученая этимология (II 1236 — Кронос-'
конь и происхождение острова Филириды; IV 1551—1562 — бог Тритон
в образе юноши дарит ком земли, который превращается затем в
остров Каллисту, IV 1755—1758). Интересен процесс слияния фактов
Стилистический смысл хтонической мифологии в «Аргонавтике» 599
^ротничества с бытовыми элементами (III 72 сл.: Язон переносит
tffpea реку Геру в виде бедной старушки), интересна трогательно
цзтдная картина двойного превращения Гесперид (IV 1398 сл., 1406—
1410, 1422—1449) и сказочно-чудесная ситуация подвига; зубы дра-
кона— воины (III 498, 1354—1356).
Чудеса вообще окружают героев похода на каждом шагу (I 1084;
ц! 917 сл., Мопс толкует птичий язык; II 915—921 — явление мертвого
Сфенела на кургане; I 257—259 — баран Фрикса изрек будущее че-
ловеческим голосом; III 221—231 — четыре источника во дворце Ээта,
Ладные быки, плуг Гефеста; IV 582—593 — кусок Додонского дуба
прорицает человеческим голосом; IV 1588—1592, 1602—1619 — явле-
ние бога Тритона). Однако часто чудеса являются не чем иным, как
географическими достопримечательностями с хтоническим оттенком: 1
лыс Черный (III 349), земля амазонок (II 374), путь к Аиду (II
353—356), мыс Ахеронт (II 728—751), удивительные земли в прори-
цании Финея (II 311—407), Эридан, берущий начало у врат ночи (IV
630 сл.) или ученым комментарием (диковинные страны на обратном
пути аргонавтов существовали до появления звезд на небе (IV 261—
293). Чудо может быт низведено до уровня позитивной этиологии
(происхождение «Язонова источника» связано с чудесами, творимыми
Пиядименой: она мгновенно вырастила аргонавтам плоды |и травы,
усмирила ветры, укротила диких зверей и создала на вершине горы
источник — I 1141—1152) или нейтрализуется мелкими реалистиче-
скими деталями бытовой сцены (Кирка, увидев зловещий сон, моет
голову в морской воде — IV 664—673).
Героям «Аргонавтики» приносят жертвы и воздвигают алтари и
кумиры (II 688—695, Аполлону Заревому; I 1117—1139 — Диндимене;
II 483—486 — нимфе Тиниадской; II 925—929 — умершему Сфеналу;
IV 246—260 — Гекате; IV 1217—1219 Мойрам, нимфам и Аполлону
Номию; IV 704—719, Эриниям), строят храмы (IV 251—253 — Гекате
У р. Галис, II 385 сл. — Аресу), совершают возлияния (II 1271—
1275 — Язон — Гее, местным богам и душам героев) и молитвы (IV
1597—1600 — Язон молится Тритону, III 467 сл. — Медея — Гекате,
Ш 1211 сл. — Язон — Гекате — Бримо), призывая в свидетели клятвы
®ОДы Стикса (II 291 сл.), Урана и Гею (III 699—701, 711—717),
Гекату (Щ 985), блеск Гелиоса и ночную Персеиду (IV 1021 сл.),
“ОДземных богов и безымянную судьбу («daimones hypenerthen»,
*dys6nymos сёг» II 257—261), иной раз даже боясь упомянуть о
ДРевних мистериях (I 915—921 — на острове Электры) или совершая
Тарную жертву, о которой никто не имеет понятия (IV 246—250
М^дея — Гекате). Главная героиня поэмы Медея сведуща в колдовстве.
^^Экзотическая география Аполлония обследована в кн.: Delage Е. La
“osraphie dans les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes. Bordeaux—Pans, 1930.
600
А А. Тахо-Годи
Она совершает колдовство по воле Гекаты (III 477—480, 528—533)
делает зелье из цветка, выросшего на крови Прометея (III 73g’
802—811, 844—868), задумывает усыпить змея (IV 87 сл.) и дейст-
вительно усыпляет его (IV 146—166) с помощью Сна (Hypnon) и
ночной владычицы (anassan nyctipolon) недр, хтонии (chthonien)
окропив его зельем. Чтобы склонить брата на встречу с Язоном
Медея окропляет воздух зельем, сила которого может привести с гор
даже дикого зверя (IV 422—444). Она же своей колдовской песней
(aoidais) очаровывает демонических Кер, трижды вознося молитвы
и впиваясь в глаза медного гиганта Талоса своим взором, чтобы
влить в них яд и погубить его. Укрощенный волшебством Медеи
Талое гибнет, наступив на камень и истекая кровью — ихором (IV
1665—1680). Медея дает Язону советы, как употребить зелье и
совершить жертвы Гекате (III 1026—1049). Язон по ее совету вызывает
страшную Гекату (III 1195—1223), мажет зельем свое оружие (Щ
1246—1251) и сам натирается им (III 1256—1258).
Однако колдовство, совершаемое в самом непосредственном виде
с точно разработанным ритуалом, получает совсем иной, смягченный,
преображенный характер, переходя в сферу искусства с его чарами и
неодолимой силой. Орфей тоже обладает даром колдовства, но оно
перенесено в область высокого творческого вдохновения, оно благо-
датно, полезно и прекрасно. Орфей зачаровывает своим пением скалы
и деревья (I 26—34), укрощает буйных героев и поучает их (I 494—
515); весла сами опускаются и поднимаются под песнь Орфея (I 540),
а дельфины, слушая его песнь во славу Артемиды, выпрыгивают,
резвясь, из воды (1569—579). Он же заглушает своей игрой губительное
пение сирен (IV 903—911).
Наконец, в еще более отраженном виде представлено это колдовство
искусства не в драматическом повествовании поэмы, а в качестве
орнаментальной детали — на плаще Язона выткана постройка Фив
Зетом и Амфионом, который увлекает своей игрой на форминге камни,
и они сами складываются в стены (I 740 сл.).
Совсем в особом плане предстают в поэме комплексы мифов о
глубоком хтоническом прошлом, сюжетно не связанные с развитием
действия. Эти мифы проводятся в целях орнаментальных, расцвечивая
сюжет, насыщая его ароматом прошлого, вызывают воспоминания,
сложные ассоциации былого величия ушедших богов, от который
осталось одно лишь имя или туманный намек в названии земли,
острова, мыса вершины или древний малопонятный обряд, предание,
превратившееся в забавную сказку или поучительную историю, а
иной раз и в песнь, сохранившую загадочно тайный, даже эсотерИ'
ческий смысл.
Здесь вспоминается похищение Орифии Бореем (I 211—218); пре'
дание, которое «славят певцы» (cleioysi aoidoi) о Лапифе Кенее, живом.
Стилистический смысл хтонической мифологии в «Аргонавтике
601
^покоренном, погрузившемся в землю в сражении с кентаврами (I 9—
б4>.г
Орфей, усмиряя буйного Ида, поет в назидание знаменитую кос-
^гоническую историю о прежних владыках Олимпа Евриноме и Офи-
ове, уступивших место Рее и Кроносу (I 496—511).2 Жертвоприно-
шение Диндимене — Рее — Кибеле вызывает рассказ о ее «соприча-
стниках» Титии и Киллене, из числа идейских дактилей, рожденных
нимфой Анхиалой от прикосновения к земле (I 1126—1131). Остров
Электры, дочери Атланта, в памяти спутников вызывает образ богов,
обитающих на нем (daimones), и таинства (orgia), о которых «не
дозволено (оу themis) нам петь» (ammin aeidein — I 915—918). Путь
под Кавказскими скалами у Понта напоминает о Прометее, страда-
ющем где-то рядом (II 1248—1259).
Плуг Гефеста подарен богом Ээту в благодарность за помощь,
которую оказал некогда Гелиос Гефесту на Флегрейском поле в битве
олимпийцев с гигантами (III 232—234).
финей рассказывает в поучение аргонавтам чудесную быль об отце
некоего Паребия, срубившем дуб — жилище нимфы гамадриады
(II 475—489), о гневе богини, который теперь искупает сын свято-
татца,3 Орфей после жертвоприношения Аполлону Заревому начинает
«звонкую песнь» («ligeies aoides») об убийстве Фебом змея Дельфина,
попутно выясняя происхождение имени «Спаситель» от восклицания
корикийских нимф «Ией» (II 703—719). Беглое упоминание о пассатах,
дующих сорок дней по приказу Зевса, разрастается в обширный «сказ»
(pephatai tis), в котором «поется» (cai ta men hos hydeontai) об Аристее,
сыне нимфы Кирены и Аполлона, ученике Хирона, врачевателе, па-
стухе и помощнике людей, установившем жертвы Зевсу Икмею, по-
кровителю ветров (II 500—527).
Остров Филирида связан с игривым романом Кроноса и Филиры,
родившей Хирона после того, как Рея застигла любовников на ложе,
и Кронос спасся от ее гнева, превратившись в коня (II 1231—1241).
У реки Каллихор невольно вспоминаются «рассказы» (enepoysi) об
установлении оргий (orgiasai) и хороводов (stesaichoroys) богом Дио-
нисом (I 904—910). Ассирийская земля дает повод поэту рассказать
забавную историю о проделках Синопы, дочери реки Асопа, которой
Зевс пообещал вечное девство и которая, пользуясь этим, обманула
Миф о Лапифе Кенее Ж.-П. Верная (Op. at., р. 35) относит к героике
°Р°изового века. Ср. Schol. Ар. Rhod. I 57 о почитании Кенеем своего копья и о
tnopj
его с Аполлоном.
р О героях космогонического мифа Орфея см. статью А. А. Тахо-Годи
^Чяпюма и Офион» в нашем издании, с. 610—612.
Schol. Ар. Rhod. II 477 сообщается еще один рассказ о подобной нимфе,
УПОмянутой у Харона Лампсакского.
602
А. А. Тахо-Годи
не только самого Зевса, но также Аполлона и бога реки Галис пт
946-954). 1
Игрушка, обещанная Кипридой Эроту, принадлежала в давние
времена младенцу — Зевсу на Крите, и ее смастерила сама нянька
Зевса, богиня судьбы Адрастея (III 132—143). В рассказе АфродиТы
эта древняя хтоническая быль об Идейском Зевсе включена в забавную
жанровую сценку, происходящую между шаловливым Эротом и треМя
олимпийскими богинями. Язон, рассказывая Медее о своей родине
упоминает Япета, Прометея, Девкалиона, Эола и Миния — основателя
Орхомен, сравнивая свою встречу с Медеей со встречей Тезея и
Ариадны (III 1085—1090). Зубы дракона, посеянные на поле Ареса
связаны с преданием о его убийце Кадме и даре Афины Тритониды
Фиванскому герою и Колхидскому царю (III 1177—1187).
Река Эридан еще дымится от пламени сгоревшего на своей колес-
нице Фаэтона, и это событие немедленно обрастает деталями, типич-
ными для знаменитой метаморфозы о девах Гелиадах и их слезах-
янтарях, которые вызывают новые ассоциации, о слезах Аполлона по
погибшему сыну Асклепию (IV 597—626). Появившиеся перед арго-
навтами нимфы пустыни вызывают попутное замечание об их при-
сутствии некогда у вод Тритона при рождении Афины из головы Зевса
(IV 1308-1311).
Гера, желая задобрить Фетиду, пускается в воспоминания о ее
браке, предсказанном самой Фемидой, и здесь же изрекает свое «не-
преложное слово» (nemertea mython), можно сказать, творит новый
миф о будущем Ахилла, который в Елисейских полях станет супругом
Медеи (IV 793—618).1 Фетиду же, исполнившую поручение Геры,
охватывает тоска (achos) по оставленному Пелею, напоминающая
историю ее ссоры с мужем после того, как богиня хотела закалить
сына в огне (IV 867—881).1 2 Это горестное воспоминание Фетиды
приобретает уже, как и участие Гефеста во Флегрейской битве, ска-
зочные черты. Остров Серпа (Керкира), т. е. Дрепана (более древнее
название остров Макрида, по имени дочери Аристея), который насе-
ляют феаки, вызывает к жизни древнее предание об оскоплении Урана,
от крови которого ведут свой род жители острова.3 Здесь же приводится
другая версия об этиологии острова: Деметра из любви к нимфе
Макриде, нашедшей здесь приют, обучила жатве серпом титанов,
обитателей этой земли еще до феаков (IV 988—992). Остров Нимфея
1 Schol. Ар. Rhod. IV 814 сообщает, что о браке Медеи и Ахилла в Елисейских
полях первый упомянул Ивик, а затем Симонид.
2 Ж.-П. Верная находит в мифе о закаливании Ахилла огнем антитети43'
скую структуру: огонь — бессмертие, земля (на которую положила Фети?3
ребенка) с ее хтоническими силами — приобщение к смерти (Op. cit, р. 133).
3 Schol. Ар. Rhod. IV 922 указывает, что, по другим сведениям, из кр°®
Урана родились Гиганты, ср. Hes. Theog., 185.
Стилистический смысл хтонической мифологии в «Аргонавтике
603
- пути аргонавтов нужен поэту, чтобы упомянуть об Атлантиде
калипсо (IV 576). Остров сирен дает повод рассказать генеалогию
«тих дочерей реки Ахелоя и музы Терпсихоры (IV 893—921). Брак
Одона и Медеи у феаков совершается в пещере, где, как выясняется,
<цла некогда дочь Аристея Макрида, кормилица Диониса, удаленная
«евнивой Герой на остров (IV 1131—1142).
™ Происхождение ливийских змей, от укуса одной из которых почил
прорицатель Мопс, связано с мифом о Персее, убившем Горгону и
Пролетевшем с окровавленной головой Медузы над Ливией (IV 1513—
1517)- Драматическое событие в безводной ливийской пустыне, ки-
стей змеями, заставляет поэта создать этиологический миф. Ис-
точник, из которого пьют жаждущие аргонавты, появился от удара
Геракла в скалу. Эту тоже явно этиологическую историю рассказывает
Гесперида Эгла, с ужасом сообщая Язону и его товарищам о некоем
«бесстыднейшем» (ho cyntatos) чужеземце — Геракле, убившем только
вчера дракона Ладона (IV 1432—1449). Таким образом, даже герои-
ческое предприятие Геракла, достигшего сада Гесперид, в повество-
вании поэмы тоже занимает место, пусть недавнего,
воспоминания, да еще и вызванного появлением нового
безводном краю.
Поток Иллирик, где поселились колхи, оказывается по соседству
с могилой Кадма и Гармонии (IV 516 сл.), а Гиллейская земля названа
по имени Гилла, сына нимфы Мелиты и Геракла, встретившего ее
некогда у царя феаков Навзитоя и нимфы Макриды, причем попутно
мы узнаем всю биографию Гилла, от его рождения до смерти (IV
535—551). Остров Керкира приводит на ум историю о любви Посейдона
и дочери реки Асопа (IV 568—571).
Итак, наряду с реальным, вполне драматическим участием богов,
демонов и всех магических потенций бытия в подвигах аргонавтов
перед нами раскрывается совершенно иной, внесюжетный божествен-
ный мир, живущий уже только в предании и воспоминании, мир, с
которым не может расстаться героическое настоящее, все время об-
ращаясь к нему, находя в нем поучительные примеры, объяснения
неведомых явлений, утешаясь им как интересной сказкой, восхищаясь
им в песнях или просто расцвечивая свою многотрудную жизнь кра-
сотой былого.1
Исследование всего хтонического материала «Аргонавтики» Апол-
иония Родосского раскрывает перед нами интереснейшую картину
^Ухплановой структуры поэмы.2
но все-таки
источника в
, О мастерстве Аполлония-рассказчика см.: StoeBl F. Apollonios Rhodios.
^pretationen zur Erzahlungskunst und Quellenverwertung. Bern, 1941.
композиции поэмы см.: Wyss R. Die Komposition von Apollonios
2"®°Hautica. Zurich, 1931. Композиция поэмы в связи с искусством эллинизма
”ссМотрена с точки зрения методов структурного анализа в кн.: Hurst А.
604
А. А. Тахо-Годи
Это, во-первых, тема дальних странствий, подвигов и труДН0(1
любви двух героев в мире, которым управляют боги, с ярко выражен-
ными хтоническими чертами, в мире, насыщенном демоническими и
магическими силами. Человек вынужден ежедневно соприкасаться с
этой таинственной сферой, прибегая к помощи религиозно-мифологи-
ческой практики, обрядов, молитв и жертв, которые оказывают вполне
реальное воздействие на высшие силы. Они закономерно втягивают
эти силы в героическую действительность, которая, в свою очередь
приобщаясь к суровому и дикому хтонизму, сама принимает его черту
и даже теряет свой благородный героический характер. Весь этот
сюжетно оправданный план мифологии «Аргонавтики» можно с полным
правом назвать планом драматически-динамического хтонизма.
Однако, во-вторых, в поэме существует и занимает очень значи-
тельное место план мифологического воспоминания, хтонического про-
шлого, уже давно пережитого, как будто бы безвозвратно ушедшего
но все еще не потерявшего своей притягательной силы, древней суровой
красоты, без которой реальное и героическое настоящее все еще не
может обойтись, в котором оно черпает примеры, образцы, поучения,
утешение, развлечение, нравственную помощь и эстетическое вдох-
новение. Этот обширный и насыщенный удивительными историями
внесюжетный план можно назвать планом орнаментально-статического
хтонизма.* 1
Однако нельзя сказать, что драматическое повествование и орна-
ментальносгь «Аргонавтики» резко отделены и противопоставлены друг
другу. Иной раз они очень тесно переплетаются, внедряясь один в
другого и создавая комплексный поэтический образ, где можно найти
множество оттенков и тональностей, часто даже стилистически почти
неразъединимых и необъяснимых.
Реально драматическая героика Аполлония, несмотря на насыщен-
ность поэмы мифологическим материалом, по своей субстанции, прав-
да, уже отделена от подлинного хтонизма. Она вся как будто светит
Apollonios de Rhodes, Maniere et coherence. Contribution a Г etude de I’esthetique
Alexandrine. Geneve, 1967. Подробные схемы и таблицы указывают на тонкую
организацию поэмы, на своеобразную функциональную «архитектуру языка»,
создающую внутреннее единство «композиции» и придающую равновесие «нал®'
ной» и «ученой» манере автора.
1 Авторы известного труда по истории греческой литературы (Schmidt"
Stahlin О. Geschichte der Griechischen Literatur, 6. Aufl., II Teil, I Halfte
Munchen, 1920), которые вообще считают эпос Аполлония неудавшимся, видя1,8
учено-мифологических отступлениях поэта только препятствие, чуждое поэзи®
(145). Но прав Г. Саутер, говоря о ясном и деловом Гомере, пластичном Пиндар
и живописном Аполлонии (Souter G. Nature in Greek poetry. London, I’-’,
p. 240); он отмечает также у Аполлония вообще преобладание картины
действием (р. 239). В. Нестле, в свою очередь, видит в Аполлонии черты не та®’
ученого поэта, но и романтика (Op. cit., S. 439).
Стилистический смысл хтонической мифологии в «Аргонавтике-
605
отраженным светом, она смягчает древнюю магию, сохраняя только
виде отдельных рудиментов свои глубинные с ней связи. Поэтому,
^ирая героев, Аполлоний обязательно указывает их генеалогические
*орни в стихийном прошлом доолимпийских богов. Поэтому здесь
фигурируют крылатые Бореады, бегущий по волнам Эвфем, сын По-
сеЙдона, живущая в мире смерти вечной жизнью душа Гермесова сына
Эфалида или Палемоний, сын Гефеста, ничего не унаследовавший от
него, кроме хромоты. Да и сами олимпийские боги сохраняют свою
древнюю догероическую сущность только в имени (Гера Пеласгическая,
Афина Итонская, Артемида Иолкская, Зевс Евксинский, Аполлон и
Артемида — Летоиды, Аполлон Заревой). В этих богах подчеркиваются
функции, издавна связывающие их хтоническую основу с героями,
которых они любят и наказывают или которым они помогают, уделяя
дм частицу своей магической силы (Хирон, Геката, Эринии, Луна
Титанида, Гелиос, Тритон, Ливийские нимфы, нереиды, Геспериды).
В преображенном и ослабленном виде предстают такие силы этого
демонического мира, немыслимого в эллинистической поэме Аполлония
в чистом виде, со всей их былой наивной достоверностью. Чудеса
здесь превращаются в географическую экзотику и этиологический
миф,1 рассказанный попутно, к слову, ассоциативно, так что чудо
само по себе часто даже нейтрализуется и сводится к поэтическому
рассказу.
Если чудеса и живут реально, то только на почве самой экзоти-
ческой страны Колхиды, где ими полон дворец Ээта, где чудо и
чудовищность почти неразличимы, соседствуя рядом, и где героическая
природа человека может в полной мере потягаться с чудовищами и
сотворить чудо.
Древнее оборотничество теряет свой хтонический ужас и предстает
в поэме как изящная и красочная метаморфоза (ср., например, историю
Фаэтона или дев Гесперид с их двойным превращением). Фетишистская
магия вещи, растения, земли и воды тоже иной раз становится вос-
поминанием, вызванным случайным замечанием или намеком (напри-
мер, история пояса Ипполиты, нимфы Анхиалы и дактилей, реки
Парфения, нимфы-гемадриады), а то и просто трансформируясь в
прекрасное произведение искусства, обладающее силой божественной
красоты (плащ Язона, пеплос Гипсипилы, оружие Язона, колесница
Ээта). Колдовские силы также зачастую преображаются в волшебство
искусства пения, игры на форминге, укрощающей море и диких зверей,
оживляющей деревья, просветляющей и поучающей человека (вся
деятельность Орфея, вдохновенного богами певца и наставника героев).
Огромное количество редких хтонических мифов, связанных с
Са><Ь1ми отдаленными землями и вызванных к жизни острым глазом
Этиологические детали в поэме, по мнению П. Хенделя (Op. cit., S. 49),
1*1ебуют себе столько же места, сколько и полное значения действие.
606
А. А. Тахо-Годи
поэта для поучения, наставления, примера, аналогии и ставших дл1(
героев предметом увлекательного рассказа, проводится систематически
и продуманно. Оно свидетельствует, однако, не о пережитом и орга-
ническом соприкосновении с чудесами хтонических былей, а только
о незаурядной учености и осведомленности поэта,1 о его превосходной
исторической памяти, о его восприимчивости к глубинам ушедших
веков и об удивительном даре создания особого мира, рожденного
воспоминанием, а значит, вечного для потомков. Недаром этот вы-
званный из небытия хтонический мир населяют боги и демоны д0-
олимпийские, титаны и дети титанов, еще живущие между собой в
мире, но вечность которых уже подтачивается преходящим временем
Здесь Офион и Евринома — владыки Олимпа; Кронос, Рея и фц-
лира, мать Хирона; Япет и Прометей; Электра и Калипсо — дети
Атланта; Адрастея и куреты у Зевса — младенца на Крите; Макрида —
кормилица Диониса; Деметра — наставница в жатве титанов; муза
Терпсихора, мать губительных сирен; дактили, рожденные нимфой
Анхиалой от прикосновения к земле; нимфы-гамадриады, обитатель-
ницы дубов; девы Гелиады у дымящегося Эридана и т. д. и т. д.
Здесь обитатели пещер, чащ и пустынь в тех землях, где реки
берут начало у врат Ночи (IV 630), в краях, которые существуют с
незапамятных времен, еще до появления звезд на небе (IV 259—261),
где боги рождаются от прикосновения к земле (I 1129—1131), а сами
люди ведут свой род от крови Урана (IV 992).
Это вечно живущее в памяти людей хтоническое прошлое 1 2 вос-
певается в песнях, сказывается в слове (I 59—64, 496—511; II 475—489,
703—719, 500—527, 904—910) и даже будущее, еще не свершившееся,
тоже наделяется чертами древней магии: фетишистская сила якорей
корабля «Арго» (I 956—960), треножником Язона (I 527—536), над-
гробной стелы Бореадов (I 1304—1308), обещанный Герой брак Медеи
и Ахилла в Елисейских полях (IV 811—816).
Мифологические воспоминания глубокой древности, хотя и имеют
орнаментально-статический характер и как будто только освещают
неясным светом полную драматической динамики героику настоящего,
но они же приобщают ее к блаженству времени предков, когда люди
были еще до своей субстанции истинными детьми богов.
Этот мощный поэтический пласт «Аргонавтики» создает в стиле
поэмы особое чувство единения прошлого и настоящего.3 Древнейший
1 А. Лески (Op. cit., S. 785) замечает, что связь между учеными познаниями
Аполлония и древними мифологическими элементами имеет не только многооб-
разный, но и подчас гротескный характер.
Соединение рассказа и предания в поэме Аполлония отмечено в книге-
Korte A. Die Hellenistische Dichtung, 2. Aufl. Stuttgart, 1960, S. 188.
3 Б. Снелль (Snell B. Die Entdeckung des Geistes. 3. Aufl. Hamburg, 1955,
S. 205) отмечает, что в этиологических преданиях наблюдается особенно непе-
Стилистический смысл хтонической мифологии в •Аргонавтике» 607
монизм, претворяясь в ученость поэта, трансформируется в изящную
^Гру ума и воображения, нейтрализуется тонким юмором, трогатель-
щдми чувствами, жанровыми сценами, превращается в малую и без-
обидную сказку. Вот почему этот орнаментально-статический хтонизм
jaK устойчив в поэтическом мире александрийского поэта, для которого
оВ есть уже не что иное, как особая стилистическая и эстетическая
категория.1 Вместе с тем динамически-активный, полный драматизма
хтонизм, отступает в отдаленные уголки земли, в экзотические страны
и ему самое место в загадочной Колхиде, где в дубраве Ареса дракон
хсе еще охраняет золотое руно, где дворец Ээта изобилует чудесами
и где колдовские силы находят свое живое воплощение в царевне
Медее, внучке Солнца.
Сложные взаимоотношения Медеи и Язона тоже свидетельствуют
о попытке действенного, а не воображаемого единения хтонизма и
героизма, о реальном воплощении хтонизма в поэме, о драматическом,
а не только орнаментальном его переживании.
Исследуя хтонический пласт «Аргонавтики» в аспекте взаимоот-
ношений Язона и Медеи, можно сказать, что перед нами уже не
героическая поэма высокого духа, а поэма распада героической души,
попавшей в чуждый мир древнего демонизма, изгнанного из светлого
мира олимпийских богов Эллады.2 Весь пафос драматического плана
поэмы заключается в том, что героизм Язона нуждается в демонизме
Медеи для свершения подвига. Но Язон отталкивается от Медеи,
пытается уйти от нее, как от чего-то чуждого по существу, как силы,
которая обесценивает своими чарами благородный героический подвиг
и низводит его до низких, недостойных дел (вспомним убийство Ап-
сирта). Отсюда разлад с самого начала, отсюда любовь, внушенная
Эротом Медее, а не Язону, отсюда удаленность героев друг от друга,
связанных кровавыми преступлениями гораздо больше, чем любовью
(вспомним проклятья Медеи и ее обращение к Эриниям).
Разрушительные силы хтонической субстанции губительно сказы-
ваются на личности Язона. И хотя Медея остается только необходимой
ДО времени и только терпимой в героическом мире, но нелюбимой,
она сделала свое дело. Поэма насыщена чувством разлада, тревоги,
недоверия, внутреннего ухода героев друг от друга все дальше и
ЧРСДСтвенная, прямая связь между мифом и действительностью. Он пишет: «Ein
’Jytt’isches Ereignis kann im pragmatischen Sinn „Ursache" fur Gegenwartiges sein,
Й Ubrigen steht das, was einst geschah, selbststandig-unverkniipft neben der
Ue8№wart, grofier und strahiender, aber gleich autonom» (S. 208).
В. Нестле также оценивает введение богов в повествование «Аргонавтики»
*^sthetisches Kunstmittel» (Op. cit., S. 439).
Роман Медеи и Язона Г. Саутер (Op. cit., р. 238) рассматривает как пролог к
Еврипида. В связи с этим вряд ли взаимоотношения Медеи и Язона можно
чвГать> по В. Нестле, «сентиментальной любовной историей» (Op. cit., S. 439).
60S
А. А. Тахо-Годи
дальше, постепенно назревающим разобщением. Героизм и хтонизц
соединившись по воле богов для свершения подвига, взаимно чужды’
по самому своему существу должны разойтись и вступить в тот дра^
матический конфликт, который зловеще озаряет весь комплекс мифов
о Медее и Язоне.
Раздвоенность единой стилистической структуры поэмы связана с
наличием в ней взаимоисключающих сил 1 — хтонизма и героизма
Сам же хтонический пласт тоже имеет двухчленную структуру
внесюжетную орнаментальность и сюжетный драматизм, правда, уЖе
осложненный бытовыми реалиями и воспринимаемый иной раз как
любопытная сказка.
Такое расслоение поэмы, зависящее от восприятия Аполлонием
Родосским мифологической архаики, лишает поэму единства стиля
которое ведет за собой и нарушение единства традиционного эпического
жанра, где органически слиты воедино боги и люди, божественное и
человеческое.
У Аполлония уже нет органического единства между мифом хто-
нического демонизма и героическим подвигом.1 2 Ему чужды колдовские
иррациональные силы. Он смотрит на них предосудительно, с точки
зрения высшей морали, как и полагается хорошему классическому
поэту. Но ему любопытна вся эта удивительная экзотика далеких
земель, как это свойственно умудренному эллинистическому писателю.
«Аргонавтика» Аполлония Родосского, таким образом, уже не имеет
ничего общего с гомеровским эпосом,3 построенным на субстанциаль-
ном и реально-жизненном мифологическом осмыслении мира, соот-
ветствующем древнему героизму, не вступающем с ним в противоречие
и укрепляющем эпическое сознание человека.
Поэтому неудача Аполлония, вменяемая ему современниками, в
создании эпической поэмы в духе Гомера, совершенно закономерна,
понятна и естественна.4
1 О недостаточных возможностях Аполлония объединить в одно новое целое
гетерогенные элементы пишет А. Лески (Op. cit., S. 788).
Г. Френкель (Op. cit., S. ИЗО) отмечает вообще раздвоение и распадение
стиля Аполлония Родосского, связанное с произвольной искусственностью и
эпической стилизацией языка, благодаря которому уже с самого начала текст
этого эпоса был понятен полностью только самому автору.
3 П. Хендель (Op. cit., S. 49) считает, например, что несоразмерность
этиологии и эпического повествования «чисто эллинистическая», причем нагро-
мождение учено-мифологических подробностей Аполлония отличается от гоме-
ровских, у которого они «существенны» (S. 38), и оправдано «малой структур011*
позднего эпоса (S. 47).
4 Прав Г. Саутер (Op. cit., р. 237), который считает несчастьем Аполлони*’
что его как эпика сравнивали обычно с Гомером, в то время как он смело рвет
традицией.
Стилистический смысл хтонической мифологии в •Аргонавтике» 609
~------
Вместе с тем Аполлоний еще недостаточно эллинистичен 1 и очень
далек от упоения утонченности дикой хтонической стихии и погру-
жения в нее. У него вполне ощутимы связи с традициями классической
греческой литературы,2 для которой высота подвига и вера в разумность
богов всегда оценивались эстетически и этически выше стихийно-де-
монических сил, губительных для человека с его идейно-героическим
самосознанием. Более того, вся греческая трагедия есть осуждение
мира темного хтонизма, воплощенного в безудержных аффектах, раз-
рушающих цельность человеческой личности.
Вот почему поэму Аполлония Родосского можно рассматривать в
стилистическом плане как некое промежуточное явление, связанное
еще с наследием классическим и в достаточной мере не оформившееся
в произведение образцовой эллинистической поэзии.
К. Циглер (Ziegler К. Das Hellenistische Epos., 2. Aufl. Leipzig, 1966)
**бще не касается Аполлония Родосского, рассматривая эллинистическую поэ-
«ио преимущественно как продукт деятельности Каллимаха и его школы.
В. Кранц (Kranz W. Geschichte der Griechischen Literatur, 4. Aufl. Leipzig,
1* *58, S. 437) пишет, что классическое искусство было образцом для Аполлония и
*ег will gerade nicht modem sein wie die Alexandriner» (S. 437). Однако, как
°гчечеио здесь же (S. 438), наиболее индивидуальные черты поэмы связаны с
эллинистической литературой. Некоторые исследователи находят, что Аполло-
8аи, например, в своем чувстве природы, неожиданно изящном и романтически
Тсдлом (например, I 744 слл., III 1019 слл., IV 125 сл.), зависит от эолийских
"’Риков (Schmidt W.,Stahlin O.Op.cit.,S. 144).
27 Зак 3903
ЕВРИНОМА И ОФИОН
В «Аргонавтике» Аполлония Родосского Орфей, усмиряя Идаса
сына Афареева, хулителя Зевса и Аполлона, поет (может быть, в
назидание) о древнейших владыках Олимпа, низвергнутых Кроносом,
в свою очередь уступившим власть Зевсу (1, 496—511). Певец, с
именем которого был связан целый ряд так называемых орфических
космогоний, очаровывает спутников Язона удивительной историей Оке-
аниды Евриномы и ее супруга Офиона.
Обычно хорошо всем известная победа Зевса над титанами и
Кроносом предполагает, в свою очередь, непосредственный переход
власти к этому последнему от свергнутого им отца Урана. Однако,
судя по мотиву, использованному Аполлонием Родосским, в истории
возникновения космоса есть еще одна довольно смутная история.
Главную роль в ней играют Евринома и Офион, о важном значении
которых в становлении Олимпийского пантеона обычно умалчивают
и древние космогонии, и мифографы.
Оказывается, по Аполлонию, некогда земля (успа), небо (ovpav%) и
море (ОаХаосга), смешанные вместе, отделились друг от друга в «гибель-
ной распре».1 В эфире же заняли свое место звезды, луна и солнце. Ввысь
вознеслись горы, зашумели реки, появились вместе с ними нимфы и
«ползучие гады» (ёрлета). Именно в это время на снежном Олимпе царили
«прежде всего» (Jtp&xov) Океанида Евринома и Офион. Таким образом,
древняя пара Урана и Геи лишена здесь даже самых примитивных черт
мифологической реальности и сведена к тройственному союзу безликих
мировых стихий (земля, небо, море) наряду с солнцем, луной и звездами,
входящих в структуру расчлененного и организованного космоса.
Ни Евринома, ни Офион как властители Олимпа не упоминаются
в «Теогонии» Гесиода, где Гея — Земля, породившая из себя небо "
Урана и от него многочисленное потомство, сама же подстрекает
Кроноса лишить власти отца. Однако, судя по схолиям к «Облакам»
Аристофана (Schol. Nub. 247), существовала иная традиция в чере-
довании властителей Олимпа. Евриному и Офиона сменили Кронос 0
Рея, место которых занял Зевс.
1 Распря, вражда — vEika;, у Эмпедокла обычно помогает оформиться рожа-
ющейся вещи в мире преходящего и текучего бытия (31 В 29.35.37. Diels 9).
Евринома и Офион
611
Евринома у Гесиода (Theog., 358), Аполлодора (I 2, 2) и Гигина
(Fab. Praef. 6 Rose) — дочь Океана и Тефии (наряду с Метидой), т. е.
сестра Кроноса и внучка Урана, «Титанида», как ее называет Каллимах
(frg- \ Schn. = 6 Pfeiff.). Для Гомера в «Илиаде» она — Океанида.
Вместе с Фетидой Евринома спасает сброшенного с Олимпа Герой
Гефеста. И он, сидя в глубокой подводной пещере девять лет, изго-
ядвливает своим спасительницам прекрасные украшения (XVIII 397—
405). Евринома выступает вместе с Фетидой также как защитница
бога Диониса от преследований царя Ликурга (Schol. А II. VI 131).
Она рождает Зевсу, победившему Кроноса, трех Харит (Cornut 15 —
матерью Харит является не только Евринома, но и Евридома или
Евримедуза *) — Аглаю — «Сияющую», Евфросину — «Благомудрую»,
фалию — «Цветущую», сама будучи «прелестна видом» (Hesiod. Theog.
907—909 noXuipatov euxx; ёхогхто, f. Apollod. I 3, 1). Благодетельная
сущность Евриномы подтверждается этимологией ее имени (Etym.
Magn. 396 Sylb. «широко и много раздающая», мы бы сказали «щед-
рая»), причем в одном из чтений орфического гимна (LX 2 Abel.) она
именуется «Благозаконной».
Однако эта прекрасная и добрая богиня, обитавшая на снежном
Олимпе «владычица прежнего времени» (Lycophr., 1197), оказывается,
по Аполлонию, низвергнутой своим братом Кроносом в «волны Океана»
(1, 506). По Ликофрону «искусная в борьбе Рея» (1196) сбрасывает
ее даже в Тартар (1197), т. е. туда, где потом найдет свой конец сам
Кронос и другие титаны.
Евринома, супругом которой был загадочный Офион (может быть,
даже ипостась гиганта Офиона, само имя которого указывает на «змеи-
ность» — бфц; — «змея», — ведь гиганты вместо ног имели змеиные хво-
сты) , изображена в гигантомахии на Пергамском алтаре.2 Тем более она
должна была разделить участь доолимпийских властителей. Поэтому с
такой усмешкой звучат слова Зевса, издевающегося над Тифоном, кото-
рому не вернуть в пределы эфира ни Астрея, ни Кроноса, ни супружескую
лару — Евриному с Офином (Nonn. Dionys., II571—574).
Евринома превращается в малоизвестное обитающее на дне Океана
божество, которое в память о былом могуществе проявляет себя за-
щитником слабых и обиженных богов.
Перед нами интересная трансформация мифологического образа в
орфической обработке. Она восходит к очень древним временам и
Здесь явная символика в именах матерей, причем Хариты — дочери Еври-
BOla* толкуются как помощницы и раздавательницы великих жребиев людям.
По мнению А. Ф. Лосева (Олимпийская мифология в ее социально-истори-
ческом развитии, УЗ МШИ им. Ленина, т. 72, М. 1953, с. 36) Евринома является
*®®ским аналогом подземного демона смерти Евринома, пожирающего (на
^Всстной картине Полиглота) мясо умерших и имеющего темно-синий или
чсРвьгй цвет кожи, как у мух, которые садятся на мясо (Paus. X 28, 7—8).
612
А. А. Тахо-Годи
способствует укреплению антиолимпийской антизевсовой традиции
Орфики видят золотой век в прошлом (ср. Гесиод) и наделяют древ2
нейших обитателей Олимпа, еще не знавших принуждения силОи
закона (а он установлен Зевсом Aesch. Prom., 150, 170), всеми бла-
годетельными чертами. Принимая во внимание демократичность ор-
фических содружеств 1 и стремление их найти свой идеал вне мира
насилия твердого рабовладельческого полиса, можно сделать вывод 0
своеобразной ретроспективной утопии одной из орфических космого-
ний, упомянутой Аполлонием Родосским, а также о сознательной
аберрации у орфиков космогонического процесса.
Историческое осмысление мифологического прогресса обычно пред-
полагает переход от неупорядоченных и хтонических чудовищ (титаны,
гиганты, сторукие, Тифон — все эти «чудовища прежнего времени», как
говорит Эсхил в «Прикованном Прометее», 151) к антропоморфным,
гармоничным и прекрасным образам олимпийцев. Но в орфическом вос-
приятии эти дикие стихийные божества, вытесненные Зевсом и ставшие
«невидимыми» (аштоГ у Эсхила, там же) оказываются давними влады-
ками Олимпа. Они отличаются благодетельными функциями и сохраняют
их даже в период своего падения, в эпоху своей полной безвестности.
Вместе с тем здесь несомненно чувствуется попытка какого-то
соприкосновения этого ушедшего прошлого с Зевсом, от которого
Евринома породила символ вечной прелести и милости — Харит.
В этом смысле причудливую смесь хтонических и позднеолимпий-
ских элементов мы находим в рассказе Павсания (VIII 41, 5—6), где
говорится о храме Евриномы в Аркадской Фигалии: «Каждый год в
один и тот же день они [жители города] открывают двери храма
Евриномы. Все же остальное время у них установлено, чтобы этот
храм не стоял открытым. В одно и то же время приносятся ей жертвы
как от имени государства, так и от частных лиц... ее деревянная
статуя вся опутана золотыми цепями... сверху до самых бедер она
представляет из себя женщину, а нижняя часть, как у рыбы» (перевод
С. Кондратьева). Павсаний добавляет: «Народ убежден, что Еврино-
ма — это эпитет Артемиды», но сам здесь же опровергает это мнение,
так как для дочери Океана «рыбий хвост может служить хорошей
эмблемой», и Артемиду вряд ли могли так изображать. В этом позднем
свидетельстве перед нами интереснейший образ великой богини про-
шлого с рыбьим хвостом, которой вместе с тем приносит жертвы
государство (т. е. порядок и закон, установленные Зевсом). Однако
храм Евриномы открывается только однажды в год, и сама она опутана
золотыми цепями. Вся эта картина — любопытный символ примирения
доолимпийских и олимпийских владык.
1 Дж. Томсон. Исследования по истории древнегреческого общества, т. П
Первые философы. М. 1959, с. 223—228.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В КОММЕНТАРИЯХ ПРОКЛА
К ПЛАТОНОВСКОМУ «ТИМЕЮ»
Прокл, завершитель и систематизатор четырехвековой истории
неоплатонизма, известный главным образом своими комментариями к
сочинениям Платона («Государство», «Парменид», «Алкивиад I», «Кра-
тил», «Тимей»), вызывает постоянные споры о характере своих ис-
следований и манере изложения. Издавна укоренившееся представле-
ние о сухом логицизме Прокла, неоплатоника афинской школы, близ-
кого к своим александрийским собратьям именно страстью к
комментаторству в ущерб оригинальности собственных идей, прихо-
дится, однако, постепенно пересматривать. Это и неудивительно, так
как именно в наше время неоплатонизм как целостное явление 1 начал
изучаться в своих специфических модификациях, что привело, в свою
очередь, к рассмотрению и Плотина и Прокла в аспектах ранее не
исследованных. Мы имеем в виду современный интерес к художест-
венному стилю и поэтическому языку, к эстетическим категориям и
выразительным формам.
Наследие Прокла в этом плане, можно сказать, изучено мини-
мально — ввиду его грандиозных размеров и давней традиции видеть
в Прокле строгого и скрупулезного философа-эрудита, мастера отвле-
ченной мысли.
Наше обращение к комментариям Прокла на платоновского «Ти-
мея» продиктовано именно забвением того факта, что последний ве-
ликий неоплатоник был буквально одержим страстью к непрестанному
художественному творчеству.
Мы обращаемся в данной работе именно к комментариям Прокла
На «Тимея», так как сам текст Платона, интерпретируемый Проклом,
т 1 Единство всего неоплатонизма, несмотря на отдельные школы, по мнению
*• Уиттекера, зависело от основополагающей деятельности Плотина как «настав-
вИка и мыслителя» (Whittaker Th. The neo-platonists. Hildesheim, 1961,
P-27).
614
А. А. Тахо-Годи
дает благодарный материал для размышлений и философских и по-
этических. А тема творения мира во всей его иерархичности великим
Демиургом — Отцом, воплощением высшего блага и красоты, открц,
вала для Прокла возможности поисков этой красоты в самой структуре
предмета демиургического созидания, в присущих ему свойствах и
эманациях. Красота космоса как живого в себе; красота творящего
Ума, мастера, взирающего на созданный им по идеальному образцу
мир; красота мировой души, космических богов, небесных сфер, внут.
рикосмических тел и душ, а также специфика «темной» материи —.
вот краткий перечень той предметности, которая приводит Прокла в
его комментариях на пути эстетических исканий.
Платоновский «Тимей», который есть «учение о художественном
произведении, или космосе»,1 дает нам «диалектико-космологическое
понимание прекрасного», и оно «при всех своих неясностях и недо-
говоренностях все же является наиболее систематическим».1 2 И если,
по мнению А. Ф. Лосева, в наиболее возвышенных местах «Тимея»,
где идет речь о создании космоса как живого целого, стиль Платона
напоминает «стиль гимна»,3 то комментарий Прокла на «Тимея» весь,
можно сказать, дышит этим гимническим настроением.
По словам А. Ф. Лосева, своими космологическими категориями
в «Тимее» Платон выражает ту мысль, что прекрасное «видимо и
слышимо, внешне или телесно», что оно «оживлено своей внутренней
жизнью» и что «оно содержит в себе тот или иной смысл». «Абсолютная
взаимопронизанность тела, души и ума и является, по Платону,
красотой».4
Именно это прекрасное единство ума, души и тела стремится
развить Прокл в своих комментариях на «Тимея».
И хотя у Прокла нет, как у Плотина, специальных трактатов, на
основании которых строится чисто эстетическая теория, но в коммен-
тарии на «Тимея», посвященном структуре космоса, мы находим ка-
тегории Единого, Блага, прекрасного, любви, материи, меры, порядка,
формы, завершенности, целого и т. д. и т. д. Здесь можно ощутить
эстетические тенденции, казалось бы, очень далекого от эстетического
освоения мира философа.
Для самого Прокла «Тимей» Платона обладал невыразимой цен-
ностью. Биограф Прокла, Марин, свидетельствует, что тот считал
«Тимея» наряду со священными оракулами единственной из всех
древних книг, достойной внимания современного ему человечества.
1 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930, с. 563.
2 Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М-
1965. с. 152.
3 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. Т. В-
М., 1969, с. 620.
4 Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий, с. 133.
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому »Тимею» 615
Прокл, по Марину, написал свои «Комментарии» на «Тимея» совсем
^□додым человеком, 28 лет (гл. 13), хотя позднее и дорабатывал их.
Здесь еще много юного восхищения перед таинством создания мира,
до этот восторг опирается вместе с тем на зрелость философской и
логической мысли ученого. Недаром Прокл, по словам Марина (гл. 38),
дредпочитал этот свой труд всем другим написанным им произведе-
ниям.
Комментарий на «Тимея» обладает очень большой целостностью,
хотя дошел до нас в неполном виде. В отличие от обычной схоласти-
ческой традиции поздних неоплатонических комментаторов Прокл
юворит о цели исследования (scopos, prothesis), его плане (oiconomia),
литературной форме (eidos, character), моменте и поводе изложения
(cairos, hypothesis), персонажах (prosopa). Прокл, таким образом,
комментируя «Тимея», не подчиняется никакой схоластической тра-
диции. Можно с уверенностью сказать, что в этих комментариях
преследуется не только логическая ясность и детальность, но и художе-
ственная целостность и законченность, свойственная произведению
искусства.1
Небезынтересно отметить также, что Прокл подчеркивает свою
образно-символическую интерпретацию Платона (I 26, 8—10). Сим-
волика Прокла не имеет, однако, ничего общего с внешним аллего-
ризмом,1 2 которым так увлекались поздние философы. Глубочайшая
символика Прокла отнюдь не мешает логике и ясности мысли при
конструировании основного триадического принципа в архитектонике
мира. Здесь, в этой неукоснительно соблюдаемой триадичности, тоже
можно ощутить эстетические тенденции, страсть к воссозданию космоса
как художественного в своей совершенной законченности произведе-
ния, а отнюдь не «чисто формальную манеру» и аллегоризм.3
Прокл в комментариях на «Тимея» размышляет в первую очередь
о прекрасном в себе, или о красоте в себе.4 Это прекрасное у нео-
платоников прекрасно не по причастности к чему-либо прекрасному,
обрекавшей бы его быть то прекрасным, то лишенным красоты, а
прекрасно вечно, не смешиваясь ни с чем и пребывая в полноте своей
простоты и независимости. Это так называемое ayto calon или aei
calon, тождественное Уму, ибо только Ум нематериален, а значит, ни
1 Ср. рассуждения Э. Брейе об «удивительном порядке, ясности, прозрач-
вости* в способе подачи материала Проклом (Brehier Е. Histoire de la
Philosophic. 12 P„ 1962, p. 483).
2 В uffie re F. Les mythes d’Homere et la pensee grecque. P., 1956, p. 64.
4 Chevalier J. Histoirede lapensee. I. Lapenseeantique. P., 1955, p. 756.
Роль красоты у неоплатоников, с помощью которой создается единство бы-
ТИя> роль «волшебства красоты» (Zauber des Schonheit), а не грубой силы, особенно
,*>Дчеркивают некоторые исследователи (См.: Volkman-Schluck К.-Н. Plotin
** Interpet der Ontologie Platos. Frankf. a. M., 1966, S. 180).
616
А. А. Тахо-Годи
к чему не причастен. Он — чистая мысль, которая вечно пребывает
в процессе мышления как некий идеальный образец (paradeign^
поёгоп) для всего творимого и красоты, находящейся в материи (t0
enylon calon). Ум — это мыслящий субъект, сам себя созерцающий и
мыслящий себя в качестве объекта мысли (noetos). Этот чистый, Не
причастный материи Ум, в котором самотождественны и субъект и
объект мысли, есть не что иное, как мир идей, или красоты, того
что можно назвать «первопрекрасным» (protos calon).
Прокл (I 238, 18—29) комментирует в «Тимее» Платона то самое
место, где проводится различие между «вечным, не имеющим возник-
новения бытием», и «вечно возникающим, но никогда не сущим» (Тип
27 d).
Платон, приступая к главной части изложения философии Все-
ленной Тимеем, делает еще только первый шаг, дифференцируя веч-
ность и становление, вечно сущее и постоянно возникающее. Мысль
его пока еще не занята в этот первый момент красотой вечной сущ-
ности. Однако Прокл сразу же фиксирует эту вечность как «прекрасное
в себе», как «вечно прекрасное» и «первопрекрасное», выдвигая на
первый план красоту «умной» сущности, а значит, ее непричастность
материи, несмешанность чистой, идеальной мысли. Там, где Платон
встает на путь логического расчленения предмета, чтобы затем перейти
к характеристике вечной сущности, Проклу важно с самого начала
представить вечное бытие идеально прекрасным, а значит, обладающим
целым рядом необходимых признаков.1 Недаром он вспоминает (I 421,
22 Diehl.) слова Платона в «Пире» (201 Ь) о том, что «не прекрасное
не изначально» (protos calon), а только по причастности к красоте
(metechon calloys) называется «лишенным красоты» (endees calloys).
Точно так же у Платона подражание неполному никоим образом
не может быть прекрасным («Тимей» 30 с), ибо, как рассуждает Прокл
(I 421, 21—24), это неполное, «несовершенное живое» (ateles dzoion).
Оно не имеет ничего общего с «изначально живым» (protos dzoion),
а живо только благодаря причастности (cata metoysian) этому изна-
чальному живому Уму или благодаря его эманации (cata proodon).
Прокл вполне согласен с Платоном, когда тот характеризует твор-
ческий акт демиурга как созерцание неизменно сущего первообраза
и отсюда по необходимости создание им прекрасного произведения
(28 ab). Утверждение Платона, однако, кажется Проклу, по-видимому,
несколько абстрактным, ибо, внимательно разъясняя тезис Платона
(I 265, 14—26), он прибегает к сопоставлению творчества демиурга с
творчеством Фидия. Фидий, по словам Прокла, изваял Зевса не с
живой натуры, а по модели гомеровского отца богов и людей. Одна*0
1BeierwaItes W. Plotin uber Ewigkeit und Zeit. Frankf. a. M., 1^’
S. 197 ft.
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому «Тимею» 617
бы скульптор сумел подняться в своем воображении до образа
Мыслящего божества» (noeron... theon), он несомненно сделал бы
рое произведение еще более прекрасным (I 265, 18—22).1 Этот вполне
наглядный пример великолепно поясняет все дальнейшие суждения
Црокла о «прекрасном» и «непрекрасном» (шё calon), зависящих от
соОтношений «образца», «модели» (paradeigma) и «подобия», или «ко-
лли» (eicon). Близость копии к архетипу (archetypon) зависит от
иастерсгва художника (apo de toy poioyntos). Поэтому у Платона эти
дна понятия постоянно связаны. Высший художник — демиург
(dgmioyrgos), исходя из вечной модели, создает нечто прекрасное, в
fo время как обращение к становящейся модели (а это, по Платону,
для демиурга немыслимо) привело бы к тому, что и «выговорить-то
запретно» (29 а). Практически димиург не может взирать на стано-
вящееся, но, говоря теоретически, обращение его к вечно возникаю-
щему должно создать произведение «не прекрасное» (28 Ь). Прокл
особенно подчеркивает именно эту «непрекрасность», но отнюдь не
«безобразие» или плохое (aischron, I 266, 14—16), ибо демиург прин-
ципиально не может' создавать безобразные вещи, даже взирая на
становящееся. Демиург творит «как ему положено» (cata logon, 20) и
по «модели, свойственной художнику» (pros technicon logon, 17), так
что безобразным его создание никак нельзя считать, хотя оно вместе
с тем и не обладает абсолютной красотой и не является «просто
прекрасным» (haplos calon, 19). Это замечание Прокла чрезвычайно
важно, так как оно указывает на иерархийность прекрасного в плане
его постепенной градации, без резкого перехода от красоты к безоб-
разию. Само прекрасное имеет ряд ступеней, и отсутствие полноты
прекрасного еще не говорит о его переходе в категорию безобразного.2
Комментируя обращенные к Сократу почтительные слова Тимея о
том, что этот последний «как подобает» (ргероп) вчера исполнил долг
гостеприимства (17 b, 1—4), Прокл видит здесь очень глубокий смысл.
«Приличное», «пристойное», «подобающим образом», «как подоба-
ет» сделанное конструируется Проклом по образу (eicona) «причины,
которая освещает (catalampoyses aitias) целое (holon) красотой, исхо-
дящей от демиурга». Сократ «как подобает» «угощал» (exenise) Тимея
беседами, вдохновленными его собственной философией. Здесь перед
нами на первый взгляд нечто вроде метафорического сравнения: «при-
личная» философская беседа — «пиршество». Но для Прокла это хо-
роший повод понять пиршество умной сократовской беседы как отблеск * •*
Еще Плотин полагал, что произведения пластического искусства прекрасны
не благодаря их близости к вещам, которым они подражают, а потому, что они
®°сходят прямо к самому источнику их красоты в идее (Enn. V 8,1).
. Следует отметить, что в русском переводе (Платон. Соч. в 3-х т. Т. 3, ч.
•*4,. 1971, «Тимей» 28 Ь) это «непрекрасное» прямо названо «дурным», что не
°00тветствует ни тексту Платона, ни комментарию Прокла.
618
А. А. Тахо-Годи.
красоты, исходящей от первопричины и озаряющей универсум. Об-
щение мудреца с его собеседниками вызывает у Прокла образ высшей
свойственной первопричине красоты, эстетически заостряя, казалось
бы, самую обычную в диалоге Платона вступительную фразу. Вывод
же из комментария этой фразы значителен, так как Прокл объединяет
здесь первопричину универсальной триады и свойственную ей красоту
Обладание красотой придает первоначалу (to proton) совершенно особое
качество. А так как для Прокла первоначало тождественно Уму, То
именно он оказывается по сущности своей прекрасным и, следова-
тельно, божеством (I 361, 4—7). Но Ум божествен также и потому
что первоначало есть Благо. Значит, Ум одновременно прекрасен, благ
и божествен. А так как Ум демиургичен, пребывая в демиурге или
до него самого, то вполне понятно, почему Прокл, разъясняя слова
Платона о благом демиурге, никогда не испытывающем зависти (29 е),
не может остановиться только на этической сущности благой перво-
причине (to agathon), а мыслит ее в равной степени, и даже в первую
очередь, прекрасной. У Платона демиург благ и потому он не может
не освещать мир своей изначальной красотой. Высшая причина, по-
рождающая красоту, таким образом, приобщает у Прокла к этой
красоте мир (1 268, 25; 270, 21; 272, 1—6). Ум, душа и тело мира
прекрасны, и демиург, постоянно взирая на прекрасное, самотожде-
ственное себе бытие, творит прекрасные произведения.
Вот почему прав Платон, у которого красота созданного демиургом
зависит от красоты образа, или модели, по которой устрояется мир
(28 а Ь). Изначальность блага-в-себе и ума-в-себе, изначальность
прекрасного (protos calon) в себе (ayto calon) неизменно тождественны
и составляют вечное нерасторжимое единство (1 363, 14—19), дающее
у Платона возможность существования демиурга (29 е), а значит, и
творимого им мира.
Демиургический Ум, благой и прекрасный, сам себя мыслящий и
в своей мысли порождающий мир, есть, по терминологии Прокла, не
что иное, как вечная жизнь, или «живое-в-себе» (aytodzoion), никуда |
не стремящаяся самоудовлетворенная вечность.
Платоновский демиург желает, чтобы «все было хорошо (agatha)
и чтобы ничто, по возможности, не было дурно» (phlayron, 30 а).
Демиургический Ум Прокла по своей природе не в состоянии сделать
что-то иное, чем «прекрасное» (ti calon). Он изгоняет «безобразное»
(aischron), утверждая красоту, будучи связан с самим воплощением
справедливости, ибо перед ликом демиургического Ума вечно предстоит
сама Фемида (aei parestin, I 398, 1—3).
Платоновский демиург обращается к богам с речью, где он именует
себя «отцом вещей», подразумевая свою вечность и неразрушимую
целостность, а значит, неразрушимость того, что «прекрасно слажено»
(41 а). Прокл, комментируя знаменитое обращение демиурга к богам,
называет эту речь «вдохновенной» (enthoysiasticos), «пронизанной све-
1
W Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому «Тимею» 619
уом умных замыслов» (dialampon tais noerais epibolais), «чистой»
(catharos), «значительной» (semnos), «совершенной» (teleioymenos),
^величественной» (hadros), «поражающей силой» (cataplecticos) и «пол-
ной прелести» (chariton anamestos), «красоты» (calloys), «четкой»
(syntomos) и «тщательно отделанной» (apecribomenos, III 199, 30—
200, 3). Прокл вникает в своеобразие стиля Платона, рисующего
величие идей (megethoys en te tais ennoiais) и образов (schemasi) этого
собрания богов, мощь замысла (plasmati) и языка (onomasi), «чистоту»
(catharoteta) и «прозрачность» (eycrineian), выявляющие истину
(aletheias) и красоту (calloys), соединенные с величием (megethoys),
свойственным «замыслу» (idean, 200, 10—17) Платона. Замысел этот —
творение Универсума и его совершенное подобие «всецело живому»
(panteles dzoion). Здесь, по Проклу, вырисовывается мощная фигура
Демиурга — предсуществующего всему и всеобщего творца. Все ком-
поненты этой сцены «величественны» и «божественны» (megalon onton
cai theion), а участники ее «пронизаны сиянием красоты» (callei
dialamponton, 200, 20—26).
Гомер, наделенный божественным вдохновением (entoysiadzon), по
словам Прокла, может сравниться с Платоном, рисуя в «Илиаде»
собрание богов и речь к ним Зевса (Ил. XX 4—31). Зевс у Гомера,
как истинный демиург, не вступает в битву, но находится над всеми
богами, управляет ими и предписывает им свои решения то лично,
то с помощью Фемиды, которая, по словам Прокла, «вмещает в себя
все божественные предписания, создавая благодаря им основу для
универсального провидения» (201, 28—30). Краткая, строгая, властная
и логически расчлененная речь платоновского демиурга вызывает у
Прокла подлинный эстетический восторг.1 Этот как будто бы мыслящий
сложнейше расчлененными категориями комментатор становится ис-
тинным поэтом и одновременно художественным критиком, дающим
тонкий эстетический анализ замысла и стиля Платона, а значит, и
самого демиургического Ума, который Прокл наделяет в своем вооб-
ражении небывалыми и даже не раскрытыми у Платона чертами.
Прокл представляет себе этот Ум как совершенное (teleion) Целое
(holon), превосходящее в своем всесовершенстве (panteloys holotes)
совершенство части. Поэтому красота «прекраснейшего» целого не
имеет ничего общего с красотой того отдельного, что красиво только
по своей причастности к Целому (I 423, 3—7). Слова Платона о том,
что «подражание неполному не может быть прекрасным» (30 е),
вызывает у Прокла целые страницы рассуждений о красоте и совер-
шенстве целого и Благого (I 423, 29—424, 29; 424, 16—24), так как
П. Басти отмечает «пылкость» Прокла, «темперамент», «заинтересован-
ность», любовь к «искусству метафизических построений», «живые качества»
® a s t i d Р. Proclus et le crCpuscule de la pens6e grecque. P., 1969, p. 3,4,498).
620
А. А. Тахо-Годи
«для всех существ нет ничего лучшего или прекрасного, чем подобие
благому» (424, 28 сл.).
По словам Платона, целое, наделенное Умом, всегда прекраснее це-
лого, лишенного Ума. Поэтому Ум должен обязательно найти свое вопло-
щение в душе, а душа втеле, то есть во Вселенной, которая, таким образом
станет прекраснейшим и наилучшим творением (30 Ь). Телесный космос
«прекраснейший из возникших вещей» (29 а), но «тело неба (soma) роди-
лось видимым (horaton), а душа — невидимой (aoraton)». «Рожденная
совершеннейшим (aristoy) из всего мыслимого и вечно пребывающего, она
сама совершеннее (ariste) всего рожденного» (36 е—37 а).
Прокл, комментируя Платона, полагает, что совершенство мировой
души (ariste) проистекает от ее близости к демиургу, в то время как
тело космоса есть более удаленное от демиурга «прекраснейшее»
(calliston), но не «совершеннейшее» (оус ariston). Здесь Прокл делает
различие между предметом «прекраснейшим» и «совершеннейшим»,
объединяя первое с красотой, а второе с Благом и полагая, что красота,
или прекрасное, ниже Блага (II 293, 29—294, 1). Вспомним, что для
Прокла Благое обязательно прекрасно, но не всякое прекрасное ока-
зывается благим (см. выше). Здесь Прокл, несмотря на всю, казалось
бы, отвлеченность своих рассуждений, мыслит в духе старой греческой
традиции, сформулированной еще поэтессой Сафо: «Кто прекрасен
(calos) — одно лишь нам радует зрение, кто же хорош (cagathos) —
сам собой и прекрасным покажется» (фр. 58 Diehl.). Таким образом,
Ум, или Благое, воплощенное в мировой Душе, делает и ее как
ближайшее свое порождение одновременно прекрасной и совершенной
в этическом плане, тело же мира — более отдаленная эманация Ума, —
представляющее некую физическую реальность, лишено этого совер-
шенства, хотя и сияет видимой красотой.
Единение Ума и Красоты при создании космоса воплощается у
Прокла в образе Афины и Афродиты. Платон говорит об Афине как
прародительнице Аттики, мудро устроившей «прекрасные» законы и
породившей мужей «разумнейших» на земле (24 с d). Платоновская
Афина, «любящая брани (philopolemos) и мудрость (philosophos)»,
заботливо пекущаяся о земных делах афинян, помещается Проклом
среди космических божеств (apolytois), объединяясь с «интеллектуаль-
ным и демиургическим светом» (noeroi cai demioyrgicoi, I 166, 31—32),
сама будучи «чистой» (cathara) и «несмешанной» (amiges) «мудростью»
(sophia, I 167, 7). Она — «носительница света» (phosphoros) и «спа-
сительница» (soteira), «внедряющая» (enidryoysa) частичный ум
(mericon поуп) во всеобщую мудрость Зевса (holicais noesesi), и «ра-
ботница» (ergane), предстоящая при демиургической деятельности отца
(I 168, 28—169, 1). Отсюда Афина — «созидательница прекрасных
дел» (calliergos), так как она своей «интеллектуальной красотой» под-
держивает все то, что творит ее отец (I 169, 4—5). Афина как «вершина
и единение» (henosin) демиургической мудрости может сравниться
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому «Тимею» 621
Только с платоновским Эросом, возводящим мир к высшей интелли-
гибельной мудрости («Пир» 203 слл.) и способствующим бесконечной
цепи демиургических порождений (I 169, 15—21). Восторженная хва-
лебная речь Прокла, обращенная к Афине, возможна именно потому,
цхо платоновскую олимпийскую богиню, у неоплатоников тождест-
венную с Афиной III, охранительницей людей, Прокл возводит не
только в ранг Афины II, из числа «водительных» богов, направляющей
цировую жизнь в ее частных моментах, но и понимает ее как Афину I,
воплотившую в себе интеллектуальную красоту самого ума. Так ти-
пичная аттическая Афина, любящая войну и мудрость, превращается
у Прокла в силу, умно и прекрасно направляющую демиурга.1
Само тело космоса, по Платону, родилось стройным благодаря
Пропорции и неразрушимым благодаря возникшей в ней дружбе (philia,
32 с).
Однако не следует думать, что эта платоновская «дружба», столь
близкая «дружбе» или «любви» Эмпедокла, тоже сплотившей связи
уира (В 61, 62 D), останется столь же отвлеченной у Прокла. Прокл,
о-первых, обращается не к Эмпедоклу, а к халдейским оракулам
и орфической традиции, именуя эту дружбу «надкосмической при-
чиной» (hypercosmion aitian, II 54, 19—20), а во-вторых, он отож-
дествляет ее с Афродитой, рожденной Демиургом. Именно эта Аф-
родита «освещает» (epilampei) красотой, порядком, гармонией и «со-
вместным единением» (coinonian) внутрикосмический мир (II 54,
21-23).
Проклу, очевидно, недостаточна еще безликая в своих механиче-
ских функциях платоновская «дружба». Его Афродита одновременно
иадкосмична и сияет красотой. Демиург через нее животворит мир в
качестве прекрасного тела. Внутренние же скрепы мира, все единение
универсума воплощается в Эросе, спутнике Афродиты. Он деятельно
связует космическое тело, в то время как Афродита источает на него
сияние красоты и гармонии (II 54, 24—29) Л
Прокл стремится подчеркнуть «совершенство (teleiotes) и «само-
удовлетворенность» (aytarces) небесных богов, так как они повернуты
к прекрасному (pros to calon) и благому (to agathon). Именно это
Совершенство, выраженное в прекрасном и благом, приобщает небесных
1 Марин, биограф Прокла, с полным доверием свидетельствует об особом
покровительстве Проклу богини Афины, воплощения чистой мудрости (гл. VI, IX,
XXX). А. Фестюжьер полагает, что искреннее благочестие Прокла по отношению
х Афине объединилось с ее «интеллектуальным созерцанием», свойственным
Философу (см.: F е s t u g i e r e A. J. Etudes de philosophic grecque. P., 1971, p. 583).
"Нтимное отношение Прокла к Афине свидетельствует, видимо, о «тоске по
’етству», т. е. по простоте старой, народной, почти погибшей веры (Ibid., р. 584).
Любовь (eros) возвращает эманацию (proodos) всего, в чем светит истина
laletheia) познания (gnosis), в природу прекрасного (epistrophe). См.: Thei-
*Сг W. Forschungen zum Neuplatonismus. В. 1.1966, S. 320.
622
А. А. Тахо-Годи
богов к ряду «ведущих» (hegemonicoi), тех, которые не признают
частичности и раздробленности, а предназначены к целостному
неделимому благу (II 42, 22—29).
Важная мысль Прокла о божественном совершенстве как единстве
самотождественных красоты и блага, вызвана общеизвестным замеча-
нием Платона, много раз повторяемым в «Государстве», — о стражах
которые не должны владеть никаким имуществом, и особенно ни
золотом и ни серебром (18 Ь). Таким образом, отказ стражей от
частичного и очень сомнительного блага материальной собственности
приводит Прокла к рассуждению о преимуществе целостности красоты
и блага у совершенных небесных богов.
Рассмотрев эстетические тенденции комментария Прокла на пла-
тоновского «Тимея» при характеристике демиурга и мировой души,
перейдем к тому, как трактуется Проклом красота космоса в целом.
Прокл не раз подтверждает мысль Платона о красоте космоса,
созданного добрым демиургом, взиравшим при создании мира на
вечный образец (29 а). Вечный образец, а отнюдь не становящееся
бытие только и может быть, по Проклу, причиной творения пре-
красного космоса (I 328, 16—28; 329, 14—26; 334, 3—18). Прокл
особо выделяет платоновский мотив о «прекраснейшем» космосе и
демиурге как «наилучшей из причин» (I 330, 22—232, 30), хотя сам
же Платон вначале говорит только о «прекрасном» космосе и «добром»
демиурге.
Высшая красота (to callistion, I 331, 6) космоса «напряженно стре-
мится» к подобию со своим образцом благодаря заложенной в нем
красоте (dia tes heaytoy callones... anateineitai, I 331, 6 сл.).
Космос прекрасен, вмещая в себя «гармоничный хоровод душ»
(enannonios choreia, I 332, 27), «причастность Уму» (noy metoysia),
«изобилие (choregia) божественной жизни», «неизреченную божест-
венность» (theotes arretos) и «множественность целостных единично-
стей» (henados arithmos). Весь космос поистине «пресыщен красотой»
(calloys diacores, I 332, 27—29).
Обратим внимание на следующее: комментируя красоту платонов-
ского космоса, Прокл наполняет ее особенным эстетическим смыслом,
применяя здесь целый ряд терминов, характерных для сценической
деятельности художника, мастера.
Круговорот душ в космосе есть не что иное, как «хоровод». Сам
космос весь построен на гармонии и счете (arithmos). То, что Прокл
именует «преизбытком» или «изобилием» божественной жизни, есть,
буквально говоря, хорегия, старое афинское понятие о подготовке
хора для театральной постановки, осуществленной щедрыми средст-
вами кого-нибудь из почтенных граждан, позднее расширяется Д°
изобилия средств и издержек вообще. Однако, зная пристрастие
философов-неоплатоников к театральной терминологии при описании
1 Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому «Тимею» 623
демиургического творения космоса,1 мы можем вполне сопоставить
у Прокла «хороводы» с «хорегией».
Демиург щедро творит космос, насыщая его преизбытком красоты
»и осуществляя этим великолепную сценическую постановку. Он создает
лир, «играя» (I 334, 2), утверждает Прокл, цитируя Гераклита (фрг.
52 D). Эту «игру» (paidian, I 334, 9) Прокл вспоминает еще раз,
юворя о переходе демиургической энергии в чувственный мир космоса.
Творческая игра демиурга должна быть прекрасной, так как сам
он является причиной, «производящей красоту» (callopoios, I 334, 15),
которая приводит космос из состояния беспорядка, а буквально «не-
попадания в музыкальный лад» (plemmeloys, I 334, 19) к упорядо-
ченному строю (taxin).2
Примечательно, что свое собственное рассуждение о космической
демиургии в плане художественного творчества Прокл тоже именует
подражанием (mimeitai I 334, 18) или миметическим актом, который
необходим для всякого художника, желающего добиться сходства в
изображении действительности.
Именно блаюдаря своей упорядоченности (taxis) космос соучаст-
вует в общественной красоте (I 409, 31—410, 8 = 30 Ь). Совершенство
платоновского космоса (30 с) как раз в его целостной упорядоченности,
когда отдельные части в нем составляют, по мнению Прокла, нера-
сторжимое единство, наподобие красоты глаза или подбородка, пре-
красных благодаря их единению со всем человеческим лицом (I 422,
2—18). Космос потому и прекрасен, что красота отдельных его частей
усиливается и укрепляется только при учете всеобщего совершенства.
Прокл особенно выдвигает на первый план еще более, чем Платон,
единство и упорядоченность мира как именно системы, ссылаясь на
то, что множество людей образуют, согласно Идее Человека, «чело-
веческую самость» (ho ayto anthropos, I 439, 22—25). Множественность
форм в своей бесконечности приводит к целому, включающему в себя
все и представляющему уже единство универсума (to pan). Непосред-
ственной же причиной космического порядка Прокл считает демиур-
гаческий Ум Всего, имманентный космосу (ho noys ho egcosmios
demioyrgos toy pantos, I 305, 16—20) и, собственно говоря, тождест-
венный миру идей, являющийся посредником между созданным кос-
мосом и надкосмическим Умом.
Все части целостного космоса (to de mere tois holois) объединяются
в неразрывное единство также деятельностью Вселенской Души (tes
Ср.: Тахо-Годи А. А. Жизнь как сценическая игра в представлении
Древних греков. См. настоящее издание, с. 434—442.
Дж. Рист считает, что по сравнению с Плотином метафизический язык
Прокла более сущностный, даже как будто физичен и зачастую связан с
теургической практикой (См.: Rist J. М. Plotinus: the road to reality. Cambridge,
1967, p. 188—191).
624
А. А. Тахо-Годи
holes psyches). Ее Прокл сравнивает с трагическим поэтом (tragoidias
poietes drama poiesas), который создает драму и следит за игрой
актера, будучи «единственной причиной» (ten mian aitian) разыгры-
ваемой космической драмы во всей ее строжайшей упорядоченности
(II 305, 7—25).
Поясняя слово Платона о космосе, который не нуждается ни в
глазах, ни в слухе, ибо вне его не осталось ничего, что можно видеть
и слышать (33 с), Прокл тем не менее подчеркивает совмещение
интеллигибельной и чувственной силы в космосе. Это ведь живой
организм, и он сам созерцает себя, будучи одновременно глазом и
объектом видения. Он слышит сам себя, будучи одновременно органом
слуха и объектом слышания. Космос — это один огромный живой глаз,
познающий собственную красоту. И он же — одно огромное ухо, слу-
шающее гармонию (harmonian), которая проникает через все вещи.
Космос не нуждается в отдельных физических, телесных глазах и
ушах, так как он видит красоту самого себя всем своим целостным
существом. Поэтому он и «безглазый» (anommaton), как древний
орфический Эрос (II 85, 16—32).
Можно сказать, что в своем философско-логическом анализе со-
отношения демиургической красоты и красоты творимого космоса
Прокл достигает подлинного поэтического вдохновения и эстетического
напряжения мысли, совершенно по-новому осмысляя строгое и доста-
точно скупое течение платоновского изложения (29 е). Универсум,
который так «весь прекрасно разукрашен» (pan еу diacosmethen),
«блистая красотой» (callei diaprepon, I 368, 8), есть «видимый строй»
(emphanes taxis) демиургии и ясно свидетельствует о божественном
«творчестве» (poiesin, I 368, 9—11). «Никто, — пишет Прокл, — даже
гностики (см. Плотин II 9, 5), не осмеливается утверждать, что
универсум не „очень прекрасен" (оу callistos)».
Древние орфики, пишет Прокл, объединяя Афродиту и Гефеста,
говорили символически о том, что бог-кузнец «выковывает» (chalceyein)
«все» (pan), т. е. универсум. Поэтому те же орфики считают детьми
Гефеста и Аглаи («Сияния») Евклею («Благославную»), Евтелею
(«Благоцветущую»), Евфему («Благогласную») и Филофросину («Лю-
бящую разумность»). Именно они, по орфическому учению, придают
всему, что имеет вид тела (somatoeides), «завершенность и сияние
красотой» (toi callei diaprepon apoteloysi, I 333, 3—6).
Более того, эта немыслимая красота универсума воздействовала
даже на тех, кто метал саркастические замечания по поводу плато-
новского демиурга (опять-таки гностики). И они настолько были по-
ражены этим величием красоты мира, что единодушно пришли к
выводу о космосе, который соблазняет или обольщает (deleadzesthai)
души преизбытком совершенной красоты (callones, I 333, 7—9).
Платоновский «пестро разукрашенный» космос (pepoicilmenon, 40 а)
у Прокла таков именно потому, что он есть «отпечаток» «мыслительной
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому *Тимею» 625
Хстроты» (noeran poicilian apotypocamenos) мира. Космос окружен
Дк бы венком из единообразных цветов (anthe henoeide), подража-
5цих «красоте небесных образцов» (oyranion paradeigmaton to callos,
S' 118, 25—27) и создающих целостность всего универсума.
। Платон придал своей Вселенной сферическую форму, которая у
JpKOB всегда считалась воплощением высшей, совершенной красоты.1
I Еще Ксенофан мыслил божество в шарообразном виде (А I), а
Демокрит считал, что «бог есть ум в шарообразном огне» (А 74).
Земля у Анаксимандра тоже была шарообразна (А 1), как и
Пифагорейский космос (В 1 а). Атомист Левкипп полагал, что частицы,
^одее плотные по своему составу, образуют «некоторое шарообразное
дурдинение» (А 1), или систему.
Платоновский космос, как известно, живой организм, к тому же
самодовлеющий (aytarces 32 d—34 а), близкий по своей структуре и
замыслу пифагорейскому космосу, одушевленному (empsychon), ум-
ному (noeton), сферическому (sphairoeides, 58, Bia).
Представление о самодовлеющем живом организме было настолько
распространено. что Демокрит именовал самодовлеющей природу
(68 В 176).
Вселенная Прокла — тоже живое, самодовлеющее и сферическое
тело, подобное своему интеллигибельному демиургическому образцу
и совершенное, как сама его порождающая модель (II 69, 9—15).
Сферичность и в других комментариях Прокла не раз занимает
одно из важнейших мест при его размышлениях о совершенстве. Так,
интеллигибельное бытие у Прокла представляет собою шар (In Рапп.
1184, 33), середина которого есть «очаг» (hestia) и «держание» (synoche)
целого (1163, 6, 7). Процесс мышления в бытии — сферическое дви-
жение (In Рапп. 1161, 14; ...ten noesin toy ontos cinesin... sphairicen).
Шар отличается от других фигур «простотой», «подобием самому себе»
«совершенством» (In Eucl. 91, 9 сл.). У Прокла (In Tim. II 78,
5—12) подобие себе указывает на целостность бытия, завершенность
и благость интеллигибельности.
В. Байервальтес отмечает, что в «Комментариях на Тимея» Прокл
Дает философское, физическое и математическое основание для ша-
ровидной формы космоса, которая является результатом подражания
сферической форме самого интеллигибельного начала (II 72, 7—73,
26; 77, 16—18)/
А. Ф. Лосев отмечает, что в «Тимее» Платона «космос должен быть
^•ершенным и прекрасным и ни от чего не зависеть; он должен быть всюду
®°4°&<ым самому себе, т. е. везде возвращаться к самому себе; и потому он есть
®а₽* (Л осев А. Ф. История античной эстетики, т. 2. М., 1969, с. 618).
irw Beierwaltes W. Proklos. Grundsuge seiner Metaphysik. Frankf. a. M.,
S. 187.
626
А. А. Тахо-Годи.
Сферичность ума и космоса имеет явно эстетический характер
Бытие, законченное в себе, равновеликое себе, равномерно удаленное
от центра во всех своих точках, вращающееся в самом же себе, есть
не что иное, как совершенный ум, воплощенный в совершенном теле
Весь этот сферический универсум пронизан единым в своей на-
пряженности порядком (anateinomenes doacosmeseos), стремящимся к
одной цели — к красоте, так как от интеллигибельных сущностей (аро
ton noeton) в явственно (emphane) созданный мир (demioyrgian) Ис.
ходит единообразная красота (henomenon callos, I 149, 2). Рассуждая
о платоновской прекраснейшей Вселенной, где слиты воедино ум, дуща
и тело (30), Прокл утверждает красоту космического тела, причастного
интеллигибельной красоте именно через ум. Ведь Ум, как первоначало
буквально наполнен (pleroymenon) своей причастностью к красоте
(I 401, 8—10). Благость демиурга — причина красоты, а значит, со-
зданный умным строителем универсум тоже и прекрасен и умен (I
401, 21—32).
Вселенная, по Платону, как живое космическое тело состоит из
семи сфер, представляя собою сферическую гебдомаду, целостный и
пропорционально построенный семичлен (36 Ь), находящийся в вечном
единообразном вращении (36 d).
Прокл особенно выделяет красоту этого семичлена, заключенную
в удивительной его пропорциональности (II 270, 24).
Семь кругов гебдомады не только пронизаны истиной (aletheiai),
красотой (callei) и пропорцией (symmetriai), но они поддерживают
«связь», «скрепы», «союз» (syndesmos) всей космической целостности,
объединяя высшие и низшие реальности мировой иерархии (II 269,
7—13).
Внутреннее разделение Платоном гебдомады на три и четыре сферы,
неравномерно вращающиеся в противоположных направлениях (36 d),
у Прокла вполне символично. Триада у него есть не что иное, как
соответствие (ana logon) истине, красоте и пропорции.
Четыре члена тетрады представляют собой соответствие высшему
постоянству, движению, тождеству и инаковости. Таким образом, сфе-
рическая тетрада наиболее стабильна (stasimotaton) и наилучшим об-
разом подвижна (eycinetotaton), наилучше всего воплощает смещение,
или тождественность (eycraestaton), и, наконец, высшую разделенность
(diaireticotaton), или инаковость (II 267, 19—24).
Рожденный демиургом, космос становится во времени (37 е—38 а).
Поэтому, как он ни прекрасен, все-таки он не обладает субстанци-
альным единством красоты (callone) и блага (agathetes), искони при-
сущим только вечному самотождественному и неподвижному бытию
(III 44, 24—26).
Время возникает, по мысли демиурга, вместе с небом.
Как видимое выражение времени создается семь небесных т^'
получивших движение тоже от демиурга. Однако, став «живыми те'
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому «Тимею» 627
деми» и «уразумев полученное ими», они в дальнейшем вращаются
Хмостоятельно (38 е). Прокл, комментируя это место, отмечает факт
X «самодвижности» (aytocinetoi, III 71, 22), благодаря которому не-
ясные тела, ставшие космическими богами, не только получили от
дсмиургической монады красоту и благо (to calon cai to agathon), но
доставляют их самим себе (heaytoi heaytois parechoysin), участвуя в
распределении внутрикосмических благ (III 71, 14—23).
Эти семь небесных тел, или светил, суть космические боги — луна,
допще, Афродита (Венера), Гермес (Меркурий), Арес (Марс), Зевс
(Юпитер), Кронос (Сатурн). В центре семи сфер находится Земля,
«старейшее и почтеннейшее из божеств, рожденных внутри неба»
(40 с). Прокл, останавливаясь на платоновской характеристике Земли
аак «кормилицы» (trophon), «блюстительницы» (phylaca, собственно
«страж») и устроительницы (demioyrgon) дня и ночи, признает в ней
«истинную землю», ту самую «занебесную землю», которую воспел
Платон в «Федоне» (110 а слл.). Проклу остается только подтвердить
возвышенность и красоту этой истинной земли, сияющей, как мяч,
сшитый из 12 кусков разноцветной кожи (Phaed. НО Ь), совсем как
то небо в «Тимее» Платона, «нарисованное» (diadzographon) демиургом
в форме додекаэдра, т. е. двенадцатигранника (III 141, 18—24), тела,
которое более всего приближается к совершенному шару.
Комментируя Платона, дающего божественные имена планетам
(38 с), Прокл особенно выделяет из семи планет Солнце, Афродиту
и Гермеса. Солнце приоткрывает истину в образе света, Афродита —
причина всего прекрасного, что есть копия иной, высшей интеллиги-
бельной красоты. Гермес устанавливает соотношение в пропорциях и
числе (III 66, 18—21).
Итак, истина, красота и число — это три монады «в преддверии
Блага» (en prothyrois toy agathoy, III 69, 12—14).
Обратим внимание на то, что устройство Вселенной представлено
Платоном в чисто конструктивном виде (33 а—34 е). Платона инте-
ресует в первую очередь «пристойная» (ргероп) форма космоса, его
Очертания «наиболее совершенные» (panton teleiotaton), «подобны себе»
(homoiotaton... heaytoi); ровная (leion) поверхность сферы; тело «ис-
кусно устроенное» (dzon ес technes gegonon), «повсюду равномерное»
(homalon pantachei), «одинаково распространенное во все стороны от
Центра» (ес mesoy ison), «целостное» (holon), «составленное из совер-
шенных тел» (ес teleon somaton), вращающееся «единообразно» в одном
и том же месте, в самом себе (en toi aytoi cai en heaytoi periagagon).
Платоновский демиург — строитель, он мастерским образом фор-
мирует душу мира. Он делит и смешивает необходимые сущности,
^Действует на них силой, растекает состав смеси, в строгой после-
4°вательности принуждает части души к данному движению, прила-
живает внутри души все телесное, пропорционально распределяет
®Рироду самой души, причастной «гармонии» (35 а—37 а).
628
А. А. Тахо-Годи
Для Прокла вся кипучая демиургическая деятельность направлена
к одной цели — к красоте Ума, выражающей истинное благо. И если
Платону достаточно было однажды сказать о «прекраснейшем» созда-
нии демиурга (30 Ь), Прокл не устает повторять и варьировать эту
мысль, настойчиво утверждая именно эстетический аспект демиургии
высшего Ума и красоту, пронизывающую результат его творческой
энергии.
Вселенная Платона наполнена душами и телами. Прокл не упускает
случая и здесь отметить красоту созданного мира. Толкуя слова Сократа
о Критии, который сведущ во многих вопросах (20 Ь), Прокл принимает
во внимание тиранические наклонности Крития и ссылается на миф
о выборе иными душами земного жребия тирана («Государство» X 619
b слл.). Эти души, привыкшие к общению с богами, стремятся и на
земле к утверждению власти именно так, как те, кто, вспоминая об
интеллигибельной красоте, «приветствует с радостью красоту видимую»
(I 71, 4 сл.).
Упоминание Платоном о «прекраснейшем и благороднейшем» роде
афинян (23 Ь), о прекрасных деяниях и установлениях в древних
Афинах, победивших атлантов (23 с), наводит Прокла на мысль об
устройстве демократического государства как единого целого по по-
добию одного образца, воплощенной красоты (to calon). Именно це-
лостная красота единого мира (hen cosmon), воплощающая в себе
«сумму многих миров» (роПбп cosmon synecticon), может служить
моделью для республиканского единения отдельных индивидуумов (I
128, 28—129, 8).
Слова Сократа о призывании богов при начале нового дела (27 с)
толкуются Проклом как постепенное созерцание (theoria) божествен-
ного мира с помощью очищенного Ума (noyn catharon) и души,
преимущества которых заключаются не во внешних человеческих
(anthropinois) благах, а во внутренних «сокровищах красоты и блага»
(to calon cai to agathon... apothemenoi, I 215, 3—7).
Круговращение душ во Вселенной, «посеянных» младшими деми-
ургами, поначалу неравномерное и беспорядочное, соответствует, по
словам Прокла, заблуждениям и превратностям. «Отелесенные» души
не понимают единства «божественности блага (theion toy agathoy) и
добродетели красоты (areten toy caloy)», разделяя их и, наоборот,
отождествляя удовольствие и благо, хотя именно они-то различны.
Если душа, попавшая в бренное тело, теряет свою чистоту и совер-
шенство, то задуманные демиургом небесные тела великолепны в своей
красоте.
Упоминание Сократом изображенных на рисунке живых благороД'
ных, но неподвижных зверей (19 Ьс) дает Проклу повод толковать
их как небесные тела, «сияющие красотой» (I 60, 14). Неподвижность
этих живых зверей есть неподвижность небесных тел, «исполненных
прекрасного порядка и умственной активности» (I 60, 18 сл.).
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому «Тимею» 629
> Светила платоновского «Тимея» есть не что иное, как боги,
^ржпому виду которых даровано по два вида движения (40 Ь).
Деподвижность небесных светил указывает на то, что их упорядо-
ченность «должна быть прекрасна» и «стремится к благому». Их
^подвижность. по Проклу, не есть отсутствие жизни, но «сила,
мощно удерживающая в своих руках множественность движений»
(П1 124, 10-13).
Мысль Платона об «идее божественного рода», образованной из
огня (40 а), вызывает у Прокла восторженные слова об огне как
«самой сияющей» (lamprotaton) и «прекрасной» (calliston) стихии. Этот
«созидающий» (systaticon) огонь светил «божествен» (theion) и не
имеет ничего общего с тем, что «погружен в материю» (enylotaton) и
уличается «плотностью» (pachytaton), «мрачностью» (scoteinoy) и со-
единен с «безобразием» (aischroteti) и «мраком» (scotos) материи (hyle).
Божественный небесный огонь со своим сиянием и красотой — знак
(tecmeria) истины, так как блеск и сияние света есть образ (eicon)
божественной благости (agathotetos), явивший в красоте (toi callei)
свидетельство (endeigma) правильности соотношений (symmetrias), на-
ходящихся в уме (noetes, III 114, 16—24).
Картина, нарисованная Проклом, отличается чисто живописными
приемами. Перед нами два мира, внешний — умный и бренный —
материальный. И тот и другой объяты огненной стихией, так как
огонь и там и здесь живородное начало. Но в идеальном мире это
тончайший сверхсияющий (hyperlampon) свет (phos), «пронизывающая
насквозь лучистость» (diaygasma), «прекраснейший» (calliston), «про-
свечивающий великолепием» (diaprepon) образ высшего ума.
Дольний мир тоже живет огнем. Но здесь это «оматериаленная»
(enylotaton) огненная стихия, тяжелая, плотная (pachytaton), неотли-
чимая от «мрака» (scotos), безобразной, собственно говоря, лишенной
образа, бесформенной материи (aischos — aischrotes). Там — невесомая
световая прозрачность истины (aletheias), здесь — пылание черного,
детого, «в высшей степени земляного» (geinotatoy) огня (III 114, 29).
Вся эта грозная, внушительная картина — скорее свидетельство по-
этического вдохновения Прокла, чем его комментаторско-философские
Размышления.
Следуя за платоновским творением космоса, Прокл рассуждает о
красоте всех созданных демиургом вещей, которые, по Платону, все
«стали как можно более подобны ему самому» (29 е). Он подчеркивает
ее только их подобие демиургу, но именно каждую вещь «как при-
еастную красоте» (metechei calloys) и «порядку» (taxeos) в той «мере»,
“какой она способна (cathoson dechestha pephyce, I 366, 5—9). Когда
Платон, наконец, произносит слово о том, что демиург производит
’ЗДько «препрекраснейшее» (30 а), Прокл поэтически сравнивает кра-
СотУ (callone) «лучшего» отца с рожденным им «самым прекрасным»
Ребенком (I 397, 16—22).
630
А. А. Тахо-Годи
Демиург платоновского «Тимея», обращаясь к созданному им К0(>
мосу и богам, называет себя «отцом вещей», которые по его воЛе
пребудут неразрушимыми (41 а).
Для Прокла важна не только «воля» демиурга, утверждающая
неразрушимость «прекрасно слаженного» (41 Ь), но, главное, «связь»
существ, задуманных как «вечные» (aidia), с «красотой» (calloys)
«божественным единством» (henoseos theias) и «демиургической гарь
монией» (harmonias demioyrgices, III 213, 18—21). С другой стороны
существа, задуманные демиургом «смертными» (thneta), разрушимы
благодаря своей связи с «безобразием» (aischroi) и «негармоничностью
материи» (toi anarmosthoi tes hyles). Вечное приведено в гармонию
самим демиургом. Смертное не в состоянии получить всей полноты
гармонии, коренясь в мире грубой материи (III 213, 22—26).
«Гармония, — размышляет Прокл, — „причина", порождающая
муз (aitia Moyson), и „сила" (dynamis), сообщающая внутрикосмиче-
ским вещам „состояние гармонии" (toy hermosthai). Высшая гармония
универсума, исходящая от отца богов, не может быть разрушена, так
как вечное благо не способно ко злу, а разрушение и дисгармония —
акт злой воли, которой по природе своей чужд демиург, и потому
созданный им космос пребудет вечным, гармоничным и неразрушимым»
(III 214, 3—20).
Обратим внимание на то, что силу (dynamis), приводящую мир в
состояние гармонии, Прокл именует «хорегом» (III 214, 3), то есть
мыслит ее опять-таки в терминах сценического искусства. Демиурги-
ческая воля — искусный хорег, постановщик космического действа,
обучающий порядку и гармонии театральный хор.
Платоновский главный демиург отдает приказ созданным им богам,
вторичным демиургам, «изваять смертные тела» (somataplattein thneta,
42). Прокл замечает при этом, что сотворенный космос был «прекрас-
нейшим» (calliston) и «превосходным» (ariston), а значит, вторичная
демиургия тоже должна быть причастна «красоте» (caloi) и «благу»
(agathoi, III, 313, 4—13).
Одна из важнейших задач любой демиургии — укрепить тела внут-
ренними связями, чтобы они вошли в единое космическое целое.
Платон пишет о том, что задачу «прекраснейшей связи» выполняет
пропорция (31 с). Тело Вселенной, состоящее вначале из огня и земли,
сопрягается через нечто третье, т. е. через объединяющую их «связь»
(desmon), триаду, которая в дальнейшем, сливаясь с водой и воздухом,
переходит уже в тетраду, оформляется в пропорционально построенное
тело. Соотношение членов этого тела указывает на его конструирование
по правилам геометрической пропорции.
Проклу, однако, важно не просто наличие этой геометрической
пропорции, а то, что ее связи доставляют телу «красоту» (calloys)
«гармоническую общность и единение» (enarmonion coinonian cai teIJ
henosin, II 18, 16 сл.). Сама связь, по Проклу, есть «образ» (eicona)
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому «Тимею» 631
божественного единства», а красота мира явлена именно в своей
^унифицирующей и связующей сущности» (henopoion... synteticen
Jysian, II 13, 22-24).
{ Платон в «Тимее» рассуждает о двух видах движения, приданных
демиургом небесным телам, благодаря чему они становятся совершен-
ными, неподвижно покоящимися звездами (40 Ь).
, Прокл, комментируя это место, особо отмечает «^материальность»
утих божественных тел, отсутствие в них материи (aylos), свойственной
чувственным телам (aisthetois, II 122, 11). Прокл противопоставляет
нематериальный мир тому, который погружен в чувственную материю.
Эта последняя, по характеристике Прокла, «не имеет твердого осно-
вания» (anedraston), т. е. она текуча, изменчива, непостоянна. Почему
Н смертные тела есть не что иное, как «мрак» (scotos), в котором
душа пытается «зажечь свет» при своем воплощении (III 325, 7 сл.).
Прокл вполне согласен с орфическим учением о материи как «бездне»
(chasma, буквально «зев», «пасть»), «безграничной», «бездонной» (oyte
pythmen, собственно «не имеющей корней»), «непостоянной» (astaton),
«неопределенной» (aoriston). Главное же, что материя — это «непре-
рывный мрак» (adzeches scotos) и «отсутствие света» (alampes, I 385,
29—286, 6).1
Именно отсутствие в чувственной материи неизменной, вечной
сущности и света придает ей то «неподобное подобие» (anomoios
homoiotai, 385, 29) образцу, которое Прокл примечательно называет
«незаконнорожденной красотой» (nothon callos), так как истинная
красота присуща только вечным сущностям.
Материя земного, грубого мира полна, собственно говоря, иска-
женной до неузнаваемости красотой, которая в своей последней степени
есть не что иное, как воплощение «безобразия» (aischos de oysian
ayten, III 122, 19 сл.).2
Для Прокла совершенно очевидно, таким образом, бесформенное
безобразие чувственной материи, лишенной гармонических связей и
представляющей собою искаженный лик высшей красоты.3
1 Э. Грасси (см.: Gras si Е. Die Theorie des Schdnen in der Antike. Kdln,
1962, S. 168) подчеркивает в неоформленной материи неоплатоников принцип
скрытности и потаенности (Verborgene), а в форме — принцип открытости и
Сраженное™ (Offenbarens). Ср., например, отождествление этого последнего с
Часотой (Plot. 1, 6,3).
Материя безобразна, так как вообще лишена всякого качества (poiotes).
®°лее того, она даже «нетелесна»(азбтакв), так как не имеет формы (см.:
“cr^jeet W. Antike Asthetik. Munch., 1961, S. 75.
_ Э. Брейе особенно подчеркивает, что Прокл не видит в самой материи зла.
— в отсутствии меры (asymmetria, In Tim., 115 е), в неупорядоченности
“Зтерии (см.: В г ё h i е г Е. Histoire de la philosophic. T. 2. P. 1961, 487).
632
А. А. Тахо-Годи
Телесная и текучая материя Прокла охвачена мрачным, лишенным
света пламенем, обрекающим на смерть все рожденное. В ней трудНо
узнать платоновскую Кормилицу и Восприемницу, которая хоть и
«пламенеет огнем» и «растекается влагой», но отнюдь не безобразна
а имеет только «многообразный лик» (52 d) и стихии ее лишены
«разума и меры» (53 Ь). Однако в конечном итоге они могут быть
приведены божеством к «наивысшей возможной для них красоте и к
наивысшему совершенству из совсем иного состояния» (53 Ь).
Платон осторожно говорит о «совсем ином состоянии» и отсутствии
в формообразующих элементах разума и меры. Однако всем известно
как, в конце концов, космическая демиургия охватывает весь мир й
приобщает его к «возможной» для всех его частей и ступеней красоте.
Прокл в своем понимании чувственной матери идет гораздо дальше
Платона, углубляя и доводя до крайностей отсутствие в ней формы
и гармонических связей. Этот экстремизм приводит Прокла к выводу
об искажении красоты и абсолютизации безобразия «оматериаленной»
(enylon) действительности.1
Итак, мы проследили поиски Проклом эстетического начала в
сложном и слаженном организме универсума.
Эти поиски вполне закономерны и даже традиционны для греческой
мысли, которая еще со времен Гомера неизменно восхищалась красотой
космоса, ставшего предметом исследования в своей телесной расчле-
ненности и завершенности у натурфилософов или в стоицизме с их
художественным огнем и природой-художницей.
Платон и Аристотель внесли в этот мир вечной материи идеи
высшего Блага и высшего Ума, дав возможность в дальнейшем уже
неоплатоникам почувствовать дыхание единой, целеустремленно про-
питывающей весь космос умной красоты.
Строка за строкой, интерпретируя Платона, Прокл за суровой
простотой, строгостью изложения и недосказанностью «Тимея», где
еще все живет как бы трепетом перед проникновением в замыслы
демиурга, видит свой собственный универсум.
Прекрасный и умный, живой, пульсирующий внутренними силами
космос, идеально сконструированный Проклом, не может не стать
предметом эстетического восторга. Здесь совершенство ума, деятельно
бьющих через край, изливающихся из него эманаций. Здесь совер-
шенство мировой души и небесных тел. Но здесь же совершенная в
мрачном ужасе бесформенная материя.
1 По мнению Ф. Бюффьера, в материи Прокла не остается и следа боже^'
венного образца, но она сама не является злом, а только «принципом
беспорядка», и не для физических тел, условием существования которых о*1
является, а для Ума и души, «ослабевающих и загрязняющихся от соприкосно^’'
ния с ней» (В u f f i е г е F. Les mythes d’Homere et la pensee grecque, p. 544).
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому «Тимею» 633
[, Все, чего бы ни коснулся Прокл в платоновском «Тимее», приоб-
ретает черты особой выразительности, выявляющей скрытую внутрен-
gjoK) силу плана мироздания у Платона.
Прокл тонко чувствует любые эстетически заостренные формы, в
цем бы они ни проявлялись, в высших сферах или низших пластах
мирового порядка. Он — поэт и философ — вполне может соперничать
в своем бескорыстном любовании красотой с Цицероном, прославившим
за пятьсот лет до Прокла в трактате «О природе богов» великолепие
лечного и разумно устроенного небесного и земного мира.
Нам кажется, что изучение эстетических тенденций у такого поз-
днего философа, как Прокл, дает возможность на закате античности
лновь почувствовать живое языческое общение человека и космоса,
населенного прекрасными и близкими людям богами.
Непосредственность, искренность и энтузиастичность Прокла в
отношении божественной демиургии удачно объясняется А. Фестюжь-
ером как стремление человека конца античности лицом к лицу встре-
титься с настоящим, живым божеством, пытаясь осуществить так и
не удавшуюся мечту гомеровского времени.1 Но, как известно, по
словам Гомера, «тяжко явление бога, представшего в собственном
виде» (Ил. XX 131).
Страстью увидеть воочию древних богов, воплощающих древние
творения космоса, может быть, объясняется интерес Прокла к риту-
альной практике и его упрямая приверженность изгнанному язычеству.
Если Плотин, по свидетельству Порфирия (Vita Plotini 23), следуя
по пути философского созерцания, проложенному Платоном в «Пире»,
четырежды достиг общности с Единым, то Прокл был охвачен живым,
непосредственным созерцанием Афины или Гекаты (Vita Procli 28), в
материальной явленности которых воплотились все поэтические мечты
философа.2
Прав П. Басти, который говорит о Прокле как «настоящем поэте»,
«большом поэте» 3 и о срединном положении Прокла между двумя
мирами, античным и средневековым, что окрашивает его фигуру в
«Драматические тона».4 Прокл, по словам Басти, — это переход от
«света античности к сумраку средневековья, помогая этому последнему
сохранить остатки былого тепла».5
Мы знаем, что в Византии был известен именно тот неоплатонизм,
который формулировал в V в. н. э. Прокл.6 Даже эстетические теории
jFestugiere A. J. Etudes de philosophie grecque, p. 596.
3 Cm.: Rist J. M. Plotinus: the road to reality, p. 192—193.
. В a s t i d P. Proclus et le crepuscule de la pensee grecque, p. 497.
s Ibid., p. 4.
6 Ibid., p. 498.
Mathew G. Byzantine Aesthetics. L., 1965, p. 20.
634
А. А. Тахо-Годи
Плотина, по словам Дж. Мэтью, воспринимались в Византии как
отзвук, сохраненный Проклом.1 Византия по давней традиции изучала
философию неоплатоников, и в том числе непременно Прокла?
История неоплатонизма не исчерпывается Плотином. И если Прокл
дает нам как бы сумму всей греческой мысли от ее истоков и до ее
заката, то это не значит, что он только ученый систематизатор и
компилятор. Живое чувство прекрасного, которое так ощутимо в его
комментарии к «Тимею», указывает на то, что здесь мы находим не
просто разъяснение мыслей Платона, но и их развитие, выраженное
наиболее оригинальным мыслителем после Платона и последним из
великих философов Греции. 1 2
1 Bastid Р. Proclus et lecrepusculede la penseegrecque, p. 116.
2 Ср. рассказ Анны Комнин (Alexiad. V 9) о том, как Иоанн Итал (XI в ’
обучал юношество философии Прокла, Платона, Порфирия и Ямвлиха, а боХе
всего «Органону» Аристотеля.
ГИМНОГРАФИЯ ПРОКЛА
И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА
Стиль сочинений Прокла, главы афинской неоплатонической шко-
лы и завершителя всей истории античного неоплатонизма, вызывает
самые противоречивые суждения в современной науке.
Сложную картину стилистической манеры Прокла рисует
А.Ф. Лосев, подчеркивая в стиле Прокла «четкий философский язык,
местами доходящий до изложения в виде геометрических теорем и
доказательств», «пафос и экстаз рассудочности», «безудержную схо-
ластику», «страстную влюбленность в логические деления».1 Вместе с
тем Т. Уиттекер утверждает, что «хотя Прокл обычно взывает только
к мысли, в минуты энтузиазма он сам становится, как это было у
Платона, носителем некоторого рода поэзии. Поэзия, вдохновленная
божеством (entheos poiesis), для него — вершина».2
А. Фестюжьер с полным основанием подчеркивает у Прокла «яс-
ность и точность» изложения, свойственную настоящему «профессору
философии», «рационалисту», но вместе с тем и «последнему великому
диалектику античности». Рационализм Прокла, требующий «умного
созерцания», уживается, по мнению Фестюжьера, с непосредственным
«интимным» отношением философа к божеству.3
Учитывая всю эту сложность и многообразие философской мысли
Прокла, нам представляется целесообразным, исследуя художествен-
ную и эстетическую стороны «Комментариев» Прокла на платоновского
«Тимея»,4 не упустить из виду поэтическое творчество одного из
последних неоплатоников.
Лосев А. Ф. История античной эстетики, т. 3. М., 1974, с. 435, 437.
3 Whittaker Jh. Theneoplatonists.Hildesheim, 1961,p. 157.
Contemplation philosophique et art thfeurgique chez Proclus. — In: F e s t u -
Д’еге A. Etudes de philosophic grecque. Paris, 1971, p. 585.
n См.: Тахо-Годи А. А. Эстетические тенденции в «Комментариях»
к платоновскому «Тимею». — В кн.: Эстетика и жизнь, № 5. М., 1977,
636
А. А. Тахо-Годи
Как известно, результатом горячего языческого благочестия Прокла
в эпоху повсеместного расцвета христианства явились сочиненные им
гимны. До нашего времени дошло полностью семь гимнов Прокла 1
небольших, изящных произведений, где тонкость философской мысли
органично переплетается с патетикой провидца, проникающего в глу-
бины космического и божественного бытия. В гимнической поэзии
Прокла «ученая», изысканная манера, характерная вообще для его
эпохи, неразрывна с «искренним» и «личным» чувством философа.1 2
Правда, У. Виламовиц скептически относился к поэтическому дару
Прокла, полагая, что «особенно широкой поэзии или хотя бы рито-
рического искусства нельзя ожидать от болтливого (geschwatzigen)
философа, равно как нельзя ожидать от его стихов развития его
философских учений».3 Вот почему, считает Виламовиц, гимны Прокла
обращали на себя мало внимания.
Отказывая Проклу в поэтическом даре и во внутренней связи с
его философским учением, Виламовиц, однако, особенно подчеркивает
в гимнографии философа ее личностное начало, «выражение подлин-
ного настроения»,4 но условное, как и та теология, которую он испо-
ведует. Тем не менее, судя по рассуждениям Виламовица, эта услов-
ность была оправдана традицией самого гимнического жанра, склады-
вавшегося в философских школах в чисто практических целях, когда
совместные трапезы и празднества нуждались в культовой поэзии, как
1 Гимн к Дионису (VIII) представлен одной строкой, цитируемой Олимпио-
дором (Vit. Plat. Biogr. gr., p. 384, 50 Wester.). Проклу также приписывались
гимны чужеземным богам: газейскому Марну, аскалонскому Асклепию Леонтуху,
арабскому Фиандриту, Исиде, почитаемой в Филах, так как Прокл полагал, что
философ должен был священнослужителем не одного города, но целого мира
(Marin. Vita Procl. 19). По свидетельству И. Лида (De mens. р. 23, 9 Wuensch),
существовало собрание гимнов Прокла (.. .ес ton hymnarion labein).
Гимн «К богу» (eis theon), который приписывают обычно Григорию Назианзи-
ну и который, по мнению А. Яна (Eclogae е Proclo de philosophia Chaldaica, ed. ei
commentatus est A. Jahnius. Hal. Sax. 1891, p. 62 sqq.), принадлежал Проклу (ср.
Ros an L. J. The philosophy of Proclus. New York, 1949, p. 53), этому последнему
не принадлежит, слишком резко отличаясь от гимнов Прокла по своему стилю,
композиции и образности (Procli Hymni, ed. Е. Vogt. Wiesbaden, 1957, p.,34).
2 Proclus et la religion traditionelle. — In: Festugibre A. Etudes de
philosophic grecque, p. 579,581,
3 Wilamowitz-Moellendorff U. v. Die Hymnen des Proklos und
Synesios. — In: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften.
1907, S. 272 = Kleine Schriften, II. Berlin, 1971, S. 163. Однако современная
исследовательница гимнов Прокла А.-М. Нани полагает, что, несмотря на
скромное место, которое занимают эти гимны, они не только не лишены поэзии,
но в этой последней гармонично слиты философская мысль и лирическое чувст®0
(Nani А.-М. Gil inni di Proclo. — Aevum, 1952. T. 5, p. 398).
4 Wilaniowitz-Moellendorff U. v. Op. cit., S. 276 = 168.
р Гимнография Прокла и ее художественная специфика 637
jfO можно увидеть, например, в известном гимне к Зевсу стоика
цдеанфа.
Виламовиц признается, что было бы просто прекрасно, если бы
до приблизились к той молитвенного рода поэзии, которую складывали
g слушали ученики Аркесилая и Карнеада. В этом смысле он особенно
ценит гимн VII Прокла, обращенный к Афине, где она предстает как
носительница отечественной веры во всем великолепии ее собственного
изображения и храма, где она обитает,
Несмотря на свое недоверие к поэтическому таланту Прокла,
у. Виламовиц все-таки отмечает в гимне к Афине близость к стилю
орфических гимнов, особенно в плане эпитезы, а также и мотивы
юмеровского гимнического биографизма.1 Но самое главное — это то
личностное начало гимнов Прокла, которое не раз подчеркивает Ви-
дамовиц. Именно оно, как нам кажется, имеет определенное отношение
g искреннему чувству, пронизывающему поэзию Прокла, и свидетель-
ствует отнюдь не о «болтливом» философе, а о человеке, горячо и
непосредственно переживающем свое общение с миром высоких идей,
НРгя сам поэт и зависит, по словам его придирчивого критика, «от
унаследованных форм и имен».2
Такого рода личное обращение ученого и его учеников находит
Виламовиц не только в гимне к Афине. Гимн VI, к Гекате, тоже,
видимо, связан с важным моментом открытия школы.3 «Очень лич-
ностен» 4 гимн V, в котором Прокл обращается к Афродите Ликийской,
богине своих родных мест. Даже в гимне I к Гелиосу, как считает
У. Виламовиц, вырисовывается личность Прокла, профессора и главы
школы, которой угрожает разрушение отеческой веры.5 О личностном
начале в гимне III к музам У. Виламовиц даже и не сомневается,
усматривая здесь явный страх перед «родом нечестивых людей», т. е.
христиан, которые готовы отвратить поэта-философа от священной
тропы древнего благочестия.6
Таким образом, даже только одна констатация искренности чувств
к личностного начала в гимнах Прокла снимает в критике Виламовица
недоверие к поэтическим опытам философа.
В свою очередь некоторые из немногих исследователей, которые
в последние десятилетия обратились к гимнам Прокла, выступают
* Wilamowitz-Moellendorff U. v. Op. cit., S. 274 = 164.
’ Ibid., S. 277 = 168.
В гимне Геката именуется «преддверницей».
s Wilamowitz-Moellendorff U. v. Op. cit., S. 274= 166.
’ Ibid.,S. 276=167.
Э. Гофман, в свою очередь, не считает возможным по гимнам Прокла
‘’Ьедставить себе «песнопения» платоновской Академии в связи с тем, что в
выражен скорее личный характер внутренней жизни Прокла
4°f fmann Е. Platonismus und Mystik im Altertum. Heidelberg, 1935, S. 145).
638
А. А. Тахо-Годи
прямыми критиками и Виламовица, и точки зрения конца XIX в
сильно преувеличивавшей влияние Нонна и его школы на Прокла i
Так, Э. Фохт, заново издавший гимны Прокла1 2 в сопровождение
большого критического аппарата, схолий и индексов, совершенно спра.
ведливо полагает, что никак нельзя преувеличивать и переоценивать
влияние школы Нонна на гимнографию Прокла или их «взаимное
влияние», поскольку «намерения неоплатонического философа, ко^.
ментатора Платона, Прокла и эпигона эпиков, Нонна, очень отлича-
ются друг от друга».3
Э. Фохт подходит к сравнению Нонна и Прокла, исходя не из
формальных признаков стиля, каковые могут сближать, между прочим
Прокла также и с предшествующей гимнической традицией вообще
но из существенных задач и целей, на которые были направлены
условная изощренность автора эпической поэмы о Дионисе и живая
потребность философа поэтически прочувствовать мир высочайших
идей, само бытие которых уже находилось под угрозой в последние
дни античности.
Прав Э. Фохт, когда пишет, что гимны Прокла нельзя измерять
техникой Нонна. В связи с этим нелишне внести некоторые уточнения.
Именно на поэтическую технику ссылался в свое время М. Шнай-
дер,4 когда исходил из метрики (гекзаметр) и фразеологии гимнов
Прокла (сложные эпитеты по моделям Нонна, но употребляемые только
Проклом). М. Шнайдер в свою очередь опирался на авторитет А. Люд-
виха,5 издавшего впоследствии гимны Прокла. Однако, как справедливо
заметил в 1931 г. Р. Кейделл,6 А. Людвих уже не входил в своем
издании гимнов 1897 г. в достаточной степени глубоко в метрику и
язык Прокла, как он это делал раньше, а только констатировал его
знакомство с поэзией Нонна и ее использование. Более того, Р. Кейделл
ссылается на П. Фридлендера,7 отметившего, что скорее всего Нонн
развил и использовал тот эпический стиль, который мы находим также
и в гимнах Прокла. Что же касается буквальных совпадений, то они
1 Ср., например: Schneider М. Die Hymnen des Proklos in ihrem Verhalt ms
zu Nonnos. — Philologus, 1892,51, p. 593.
2 Prodi Hymni, ed. E. Vogt. — Klassisch-philologische Studien. Wiesbaden,
1957. Hf. 18.
3 Vogt E. Zu den Hymnen des Neuplatonikers Proklos. — Rheinisches Museum
fiir Philologie, 1957, N. F., Bd 100, Hf. 4, S. 361.
4 Ibid., S. 593.
5 Ludwich A. Beitragen zur Kritik des Nonnos. Regimontium, 1873,S. 92,138.
6 Key dell R. Die griechische Poesie der Keiserzeiten (bis 1929). —Im
Jahresbericht uber die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. Bd 230,
Abt. 1. Leipzig, 1931, S. 91.
7 Friedlander P. Die Chronologje des Nonnos von Panopolis. — Hernies,
1912,47, S. 43—59.
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
639
доорят о взаимодействии обоих поэтов со стороны поэтической тех-
5«и-
,f Действительно, П. Фридлендер прямо говорит об обоих поэтах,
до «непосредственная зависимость ни с какой стороны не доказана
так, как это преподносит Людвих, невозможна».1 Прокл пользовался
1ехяикой стиха гораздо более старой, чем техника Нонна. Если же
«честь, что Прокл изучал поэтическую технику молодым человеком
J Александрии, то он должен был хорошо знать новшества поэзии
jO-x гг. V в. (Прокл жил в 410—485 гг.), а Нонн тогда еще никак
ffi мог на него воздействовать,1 2 поскольку, на основании специального
доледования. П. Фридлендер ограничивает деятельность Нонна 440—
490 гг.
Как можно заметить, П. Фридлендер подошел к проблеме взаи-
Кротношения поэзии Прокла и Нонна отнюдь не с формальных по-
даий.3 Что же касается Э. Фохта, то для него, безусловно, формальная
дорона стиля Прокла не имеет самодовлеющего значения. Для него
Прокл — великий философ, «последняя выдающаяся в духовном от-
допении личность не только в Платоновской Академии, но и во всей
уходящей античности».4 Нет необходимости оправдывать Прокла-поэта
। скрывать его недостатки, на которые он еще раньше сам мог бы
указать. Но выявить автобиографизм гимнов Э. Фохт считает совер-
шенно обязательным. Именно здесь этот исследователь смыкается с
У. Виламовицем, только выражая свою мысль более ярко и драматично,
мы бы сказали, несколько в экзистенциалистском духе и даже упот-
ребляя характерную для этой философии терминологию.
Гимны Прокла, как устанавливает Э. Фохт, «являются захваты-
вающим самосвидетельством (ergreifende Selbstzeugnis) одинокого и
замученного человека, который болезненно сознавал отделение своей
души от божественного истока, ее запутанность (Verstrickung) в
земных делах, ее безродность (Heimatlosigkeit) и потерянность
(Verlorenheit) в мире,
дения».5 Вот почему
своей поэзии.
как и очевидность ее окончательного освобож-
«он не заботился о внешнем совершенстве»6
Op. cit. — In: Studien zur antiken Literatur und Kunst.
:, s.5D.
Ibid., S. 257 = 51—52.
См., например, противоположную позицию А. Людвиха, который на осно-
1 Friedlander Р.
Мр. 1969, S. 256 (=1912.
3 Г ______. .. .
^ии совпадения ряда слов в гимне Прокла (VII 31 сл.) и в эпиллии Мусея (56,
«9, 337) делает вывод, что эти строки «выдают влияние Мусея» и что Прокл
эпиллии Мусея» (LudwichA. Musaios und Proklos. — Neue Jahrbiicher fur
*Wogie und Padagogik, 1886, Bd 133—134, Hf. 4, S. 246—247).
Vogt E. Op. cit., S. 377.
* tod.
6 Ibid.
640
А. А. Тахо-Годи
Такой глубокий подход к гимнам Прокла дал Э. Фохту возможное?
кратко сформулировать мысль, нам особенно близкую. А имени*1
Э. Фохт полагает, что «зависимость (Zusammenhang) между философ?
ской и поэтической продукцией Прокла... теснее, чем между
гимнами и произведениями Нонна, а также его школой; и только ц3
знания философского места Прокла возможно понимание его стихов» >
Собственно говоря, лучшей критики Виламовица, осудившего «бодт.
ливого» философа, неспособного к поэзии, трудно себе представить
В нашей работе об эстетических тенденциях в комментариях Прокла
к платоновскому «Тимею» 1 2 уже была намечена художественно-эсте-
тическая трактовка Проклом чисто философской проблематики и сти-
хия ее высокой поэтической образности. Мысли Э. Фохта только под-
тверждают пути подобного рода исследования. И если У. Виламовиц
в 1907 г. считал, что нельзя ожидать от стихов «болтливого» философа
развития его философского учения, то в 1957 г. Э. Фохт выдвигает
тезис о том, что философские построения Прокла в комментариях к
«Государству» Платона дополняют его гимническую поэзию, а гимны
в свою очередь создают поэтический комментарий к философским
концепциям знаменитого неоплатоника. Правда, Э. Фохт, занятый
подготовкой нового издания гимнов Прокла, не ставил своей задачей
обследовать специфику художественно-эстетической общности гимно-
графии Прокла и его «Комментариев», тем более, что работа здесь
предстоит необъятная.
Для целей наших изысканий, где мы прослеживаем тенденцию
некоторых позднеантичных авторов вернуть утраченную целостность
поэзии и прозы, слова художественного и философского, исследование
общности комментариев Прокла к «Тимею» и его гимнографии пред-
ставляется не только вполне закономерным, но и объяснимым. Необ-
ходимо также учитывать, что «Тимей» — произведение молодого двад-
цатисемилетнего Прокла, у которого философская мысль поднимается
до уровня художественного вдохновения, а гимны философа, судя по
всему, результат деятельности умудренного и жизнью, и школой, и
учениками мыслителя и наставника, который воплощает в сжатой
поэтико-символической форме всю сложную диалектику неоплатони-
ческих философских мифологем о взаимоотношениях универсума и
человека.
Принимая во внимание настойчиво выдвигаемый, но достаточно
не разработанный исследователями личностный характер гимнографии
Прокла, нельзя не остановиться в первую очередь на выразительны51
свидетельствах тоже биографического плана, хотя определенным об'
разом заостренных и явно идеализированных, как это положено ДР*
1 Vogt Е., Op.cit., S. 362.
2 См.: настоящее издание, с. 613—634.
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
641
1рбого жизнеописания, а особенно для похвального слова, каким
Жгяется сочинение Марина, ученика и биографа Прокла.
. Прокл, который, по свидетельству своего биографа, тоже неопла-
-чрика, Марина, даже по ночам слагал гимны, записывая их утром
^Tita Procl. 24), с юности находился под влиянием Аполлона Мусагета
ft®. 6) и, несомненно, проявил свое обостренное чувство выразитель-
ного и в философских сочинениях. Любовь Прокла к сложнейшему,
в основе своей безупречному в логическом отношении «плетению»
ццсли, к тщательному филигранному «обтачиванию» сути и формы
диятоновского слова проявляется с особым мастерством в его свободных
художественно-эстетических парафразах на классическую сжатость и
дрлстоту платоновского «Тимея».1 И здесь, несомненно, сказывается
стремление философа к самостоятельному поэтическому творчеству.2
, Образ Прокла, не только философа, но и поэта, красочно рисуется
Карином в известном жизнеописании Прокла, где как раз особенно
наделяются черты художественно-эстетические, указывающие на
внешнее совершенство» Прокла, на его телесную красоту, на то,
«го «душа его цвела в теле, как некий жизненный свет, испуская
дивное сияние, с трудом изобразимое словами». Прокл, по словам
Карина, «был так красив, что образ его не давался никакому жи-
вописцу», причем ему была присуща «справедливость телесная», т. е.
отменное здоровье (Vita Procl. 3). Марин создает идеальный портрет
философа, образцового в своей калокагатии, который сроднился с
высшей истиной, справедливостью, мужеством, уверенностью, высотой
духа, добротой и обладал необычной восприимчивостью, редкой силой
памяти, чуждался неизящного и грубого. Отсюда особое почтение
Прокла к богине Афине, явившейся ему во сне и призвавшей его
заняться философией, а также к Аполлону Мусагету, способствовав-
шему ему быть «первым во всех науках» (6), чему помогло также
явление Телесфора Свершителя, самого Зевса в облике светоносного
юноши (7). Являлись философу и светоносные признаки Гекаты,
способствуя его мантическому дару. Его возлюбили Асклепий, Пан
Великая матерь богов. В молодые годы, еще до своего философского
призвания, Прокл усердно занимался у грамматика Ориона и особенно
Увлекался риторикой (8), без чего тогда немыслим был ни один поэт.
Восприимчивость Прокла, «ясность умозрения», «бессонные труды и
2 См.: настоящее издание, с. 613—634.
Что поэзия в разных ее формах не была чужда Проклу, доказывают
уписываемые ему эпиграммы. Одна — эпитафий для собственного надгробия
War in. Vita Procl. 36 = Anth. Graec. VII 341 Beckby). Другая, посвященная
Ф^ису (Orphica, p. 276. Abel. E. Vogt. Procli Hymni, p. 34), была издана
'• Д’Орвиллем в 1783 г. и впервые включена в греческую антологию Якобсом;
‘‘Optologia graeca, ed. Fr. Jacobs. Lipsiae, 1814, II 69 (Appendix epigrammatum apud
^Ptores veteres et in marmoribus servatorum).
28 Зак 3903
642
А А. Тахо-Годи
заботы» в изучении Платона привели к тому, что уже к 28 годаК)
он написал «блестящие и полные учености» комментарии к плато-
новскому «Тимею» (13). Афина и Аполлон, философия и поэзия
неизменно сопровождают Прокла. Неудивительно, что он обращается
к богам с песнопениями, славословит эллинских и чужеземных богов
(17, 19), умеряет боли и недуги гимнами богам, которые пели его
ученики, причем сам он, будучи тяжко больным, подсказывал поющим
слова гимнов и Орфеевых стихов (20). Как известно, он просыпался
среди ночи и слагал гимны, записывая их поутру (24). Страсть к
поэзии не покидала его всю жизнь, и в семидесятилетием возрасте
он «слагал песнопения», читал Орфеевы стихи, написал к ним под-
робный комментарий, толковал оракулов, в 40 лет дважды произнес
провидческие стихи о своей собственной судьбе (28) и даже сочинил
себе эпитафию (36). Больше всего из своих сочинений он ценил
комментарии к «Тимею» (33), труд своей молодости, где красота
мысли и философская глубина ее нераздельны. Идея нерасторжимости
разума и красоты также пронизывает жизнеописание Прокла, и не
случайно Марин, автор этой биографии, обращается здесь к «люби-
телям прекрасного» (36), заключая, что «разум и ум владычествовали
в душе Прокла», а вся его жизнь «была красива» (21).
Перед нами настоящий энкомий, подлинная похвала Проклу, со-
здающая, пусть даже и способом идеализации своего героя, вполне
реальное представление о единстве философии и поэзии, издавна
присущем древним мудрецам, о том единстве, которое мечтает воз-
родить философ конца античности.
Вдохновенная гимническая настроенность Прокла вполне соотно-
сится с интеллектуальной продуманностью его «Комментариев» на
«Тимея» и с теми задачами, которые ставил себе философ, приступая
к экзегезе знаменитого диалога Платона с его мифом о космической
демиургии.
Прокл, как это можно убедиться текстуально, преследовал в своих
«Комментариях» определенную цель (scopos, prothesis).
Он воплощал свой замысел с помощью некоего закона построения
или устроения того, что он именует oiconomia. Мысли должны обле-
каться также в особую, специфическую форму — eidos или character —
совершенно для них необходимую. Всегда следует иметь и повод для
создания произведения (cairos, hypothesis), а также лица, действую-
щего в нем (prosopa). Точно такую же логическую продуманность,
как и в «Комментариях к Тимею», мы обнаруживаем в «Гимнах»
Здесь цель философствующего поэта — восхождение к миру света »
ума, к источнику познания, но только через доступный поэту путь,
через обращение к некоему близкому и личностному для него началу,
что придает живые, конкретные черты гимнам, раскрывающиеся также
и в способе их построения.
Гимнография Прокла и ее художественная специфика 643
। Гимны Прокла, дошедшие полностью, посвящены Гелиосу (I),1
Ьрродите (II), музам (III), всем богам (IV), ликийской Афродите (V),
Дгяте и Янусу (VI), велемудрой Афине (VII). Здесь мысль философа
^йжется от общего представления о космосе и космической жизни в
Хдиосе — Аполлоне (I гимн) к вполне единичным, конкретным ее
проявлениям в других богах. Эйдос, или форма, избранная Проклом,
дрпросто дань гимнической традиции. Тяготы бытия, страсти «ома-
^Орьяленного» мира являются реальным поводом к созданию гимнов
с вполне жизненной картиной взаимоотношений философа и его вы-
друих покровителей. Действующие лица гимнов — сам Прокл и боги,
доорые вполне отвечают потребностям мифотворчества эпохи и лич-
щлм чувствам Прокла.
( Изучая гимнографию Прокла, мы не можем не учитывать харак-
терной для его теории триадичности деления, когда каждая категория
игрового бытия рассматривается философом как определенный элемент
«иады, пронизывающей сверху донизу всю иерархийносгь этого бытия.
даркдая триада состоит из трех элементов. Первый элемент — пребы-
цяие в себе (шопе), неделимое единство, общее начало. Второй эле-
мент— выступление из себя, эманация (proodos), переход во множе-
ственное, материальное начало. Третий элемент — возвращение в себя
(epistrophe), в единство из множественности, т. е. состояние едино-
раздельного эйдоса. Эта триадичность свойственна Единому, Уму и
Мировой Душе. Ею пронизан весь мифологический мир и «Коммен-
тариев» и гимнов.
Сопоставляя гимны Прокла с философской теорией его «Коммен-
тариев», можно сделать вывод, что мифологическая система гимнов
охватывает главным образом те божества Души, которые Прокл име-
нует «водительными», или «ведущими», «внутрикосмическими», «аб-
солютными» (они соответствуют ступени традиционных олимпийских
боров). Все они также разделяются на четыре триады, среди которых
автору гимнов ближе триады богов, хранящих поэта и возводящих
ЦО к источнику мудрости. Заметим, что весь этот мифологический
Ияр связан, главным образом, с богами Ума интеллектуального и
(опять-таки с выделением триады охранительных богов, куда входит
Афина I) с богами Души. Боги Ума интеллигибельного столь далеки,
аысоки и идеальны, что Прокл даже не именует их и они непосред-
Цвенно не участвуют в жизни философа, доступные только через
богов, перешедших в конкретную множественность, лично связанных
с человеком.
Гимны I и VII, по мнению В. Тайлера, имеют связь с халдейскими
З^кулами (Т h е i 1 е г W. Die chaldaischen Orakel und die Hymnen des Synesios. —
r^Theiler W. Forschungen zum Neuplatonismus. Berlin, 1966, S. 296 = Schriften
<*rKonigsberger gelehrten Gesellschaft, 1942,18, S. 37—39).
644
А. А. Тахо-Годи
Гимны обращены к богам, которые в теории Прокла возводЯт
отдельные части к мировому целому. Это, во-первых, Гелиос-Аполлон
(характерно, что имя Зевса здесь отсутствует), во-вторых, АфиНа
«велемудрая», направительница мировой жизни, вершина и единение
демиургической мудрости (в системе Прокла это Афина I, II, Hl)
в-третьих, Афродита — «жизнеродительное божество», «возводящее»
символ «рождения демиургии», та, что освещает красотой «внутри’
космический мир».
Наряду с подобной дифференцированностью и детализацией ми-
фологии Единого, Ума и Души для Прокла характерно стремление к
универсализму, к единению и целостности. Гимн, обращенный к Ге-
лиосу, указывает как раз на монотеистические тенденции в язычестве
особенно характерные в последние века античности. В первую очередь
здесь мыслится отождествление Аполлона с Солнцем, начавшееся еще
в классической античности, не ранее V в. до н. э., и укрепившееся
в эпоху эллинизма, что, несомненно, свидетельствовало о реставрации
древнейшего мифологического комплекса «множественной семантики»,
когда в одном божестве еще не были дифференцированы многие его
функции. Великолепный пример Солнца-Гелиоса как универсального
божества дает речь неоплатоника Юлиана «К царю Солнцу» (IV) или
глава (I 17) в «Сатурналиях» неоплатоника Макробия с их вырази-
тельным философско-мифологическим синкретизмом. Однако и у са-
мого Прокла в «Комментариях» на платоновского «Кратила» (гл. 174 —
176) образ Аполлона рисуется, по словам А. Ф. Лосева, «со стороны
пластически-упорядоченной и структурно-творческой его природы»,1
являясь «виновником единения и возводителем множества к единству»,1 2
т. е. он приближается по своим функциям к демиургу, как сын под-
ражает отцу, а значит, Гелиос Прокла в своей универсальности объ-
единяет первичную демиургическую мощь Зевса-отца и вторичную,
в ослабленном виде — как сына (In Crat. 99, 27—100, 7). Универса-
листские тенденции Прокла оправданы в гимне к музам (III), дочерям
Зевса, прославляемым как высшие носительницы ума, знания, чистоты,
светоносности, в общем гимне богам (IV), тоже славным мудростью
и светоносностью; гимн Гекате и Янусу (VI), указующим путь к свету
мудрости; Афине (VII) как высшей мудрости, символу упорядоченно-
сти, умной красоты и любви, охранительницы человека и общества.
Таким образом, гимны I, III, IV, VI, VII представляют некое
определенное единство, не нарушаемое включением сюда Гекаты и
Януса, ибо среди функций древней Гекаты, богини мрака, ночных
видений и чародейства, были и вполне благодетельные (покровитель-
ство охоте, пастушеству, общественной деятельности человека в суд34
1 Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 19^’
с. 351.
2 Там же, с. 352.
г
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
645
|ародном собрании, Hes. Theog. 421—452). Кроме того, в образе
аты издавна были заложены универсалистские тенденции как до-
и светоносных титанидов — Астерии и Перса (409—420), богини,
зкой Артемиде, Деметре и Персефоне, т. е. объединяющей мудрость
ни и смерти, мрака и света. Особенно характерен здесь для Прокла
гражданина Римской империи Янус двуликий и даже четырехли-
, смотрящий на все стороны света, который мыслился как божество
с начал и концов, внутренней и внешней государственной упоря-
енности, римский коррелят двуликих Гермеса и Аполлона, держа-
ь ключей 365 дней, т. е. всего солнечного года. Гимны к Афродите
я V) представляют собой воспевание двух типов богини — небесной
•мной, восхваление любви, красоты, света и очищения.
Итак, в гимнах вырисовывается мифологическая триада Прокла,
I энная на умной светоносной демиургии (Гелиос — Аполлон), ум-
:ветоносном знании (Афина), умной светоносной красоте (Афро-
— триада неизменных гимнических восхвалений Прокла.
ама тема просветления, восхождения к светоносному источнику
ения через свет теснейшим образом переплетается с диалектикой
и философа, идущего к чистому знанию. В. Байервальтес недаром
тил ряд страниц своей книги 1 той беседе с высшим разумом,
•ую он назвал «молитвой философа»,1 2 причем эта мольба именно
ющи в философствовании, в укреплении и очищении (catharsis)
и, которая должна достигнуть высшего озарения (ellampsis).3
езвычайно характерно, что В. Байервальтес находит молитвы,
>гичные гимнам Прокла, не только в «Комментариях» Прокла к
гилу» (103, 24 сл.) и к «Тимею» (I 168, 27 сл., ср. Plat, theol.
>, но и в «Эннеадах» Плотина, для которого «мысль есть свет»
to noein, VI 7, 41, 5) и «источник света» (photos archen, V 5,
), когда сам «акт философствования» ведет от света чувственно-
40го к источнику света умного.
ожно вполне сказать, исходя из мысли и терминологии В. Бай-
ътеса, что гимны Прокла есть не что иное, как самая настоящая
гва философа, но только философ этот — поэт, хорошо владеющий
техникой традиционной гимнографии.4
Отметим также, что В. Байервальтес находит эту важнейшую идею
Прокла, просветление через познание посредством диалектического
Иути мысли, и в гимнах, и в его систематических философских трудах.5
1 Beierwaltes W. Proclos. Grundziige seiner Metaphysik. Frankfurt an Main,
1965.
2 Ibid., S. 391—394.
3 Ibid., S. 287—294.
A.-M. Нани отмечает технику гимнов Прокла, простую, точную, не совсем
обычную благодаря особой содержательности его поэзии, философской и мистиче-
о*ой (Op. cit., р. 399).
5 См.: Тахо-Годи А. А. Указ.соч., с.291.
646
А. А. Тахо-Годи
А это, в свою очередь, поддерживает наш тезис о художественно-^
тетическом единстве гимнов Прокла и его «Комментариев» к «Тимею»
Посмотрим теперь, как художественно-эстетические тенденц^
комментариев Прокла на платоновского «Тимея» соотносятся с гим.
нографией философа, которая дополняет, углубляет и развивает образу
космологической картины комментариев, начиная от демиурга-отца
как воплощения высшего блага, переходя к красоте космоса, творящего
ума, мировой души, богов, небесных сфер, внутрикосмических тел и
души, чтобы завершить это нисхождение сверху вниз дольним миром
безвидной и вечнотекучей материи.
Гелиос-Аполлон соответствует в художественной конструкции гим-
нического мифа демиургу философской теории Прокла, пребыванию
в себе, отчему началу.
Демиург, или демиургический ум, сравнивается в «Комментариях»
Прокла с Фидием. Однако творческий акт демиурга — это не только
работа скульптора, изваявшего Зевса по типу гомеровского громовер-
жца, но труд высшего художника, а именно самого «мыслящего бо-
жества» (поегоп... theon), создающего прекрасный мир, созерцая веч-
ный, а не становящийся архетип (I 265, 14—26)? Демиургия — свое-
образное художественное творчество, миметический акт, без которого
немыслим творец (334, 18). Но этот «добрый» демиург, «наилучшая
из причин» (330, 22—332, 30), создает мир, «играя» (I 334, 2), обладая
силой, «производящей красоту» (334, 15) и упорядочивающей косми-
ческий строй (taxin, 334, 19). Демиургическую волю Прокл именует,
обращаясь к терминологии сценического искусства, «хорегом» (214, 3),
устроителем космического действа. Демиургический ум все освещает
своей красотой (361, 4—7), он — причина «первой красоты» — protiston
callos (434, 28—31), целостности космоса и его упорядоченности (305,
16—20), будучи сам всесовершенной целостностью (panteloys holotes,
423, 3—7). Величественна фигура демиурга, вдохновенно (enthoysi-
asticos) обратившегося к богам с речью, «пронизанной светом умных
замыслов», «поражающей силой», «полной прелести», «красоты»
(calloys), «четкой» (synthomos), «тщательно отделанной» (арёсп-
bomenos, III 199, 30—200, 3). Все дышит здесь «божественностью» и
все пронизано «сиянием красоты» (callei dialamponton, 200, 20—
26).
Образ демиурга, известный нам по «Комментариям» к «Тимею»,
разработан Проклом еще более выразительно в гимне «К Гелиосу»
как универсальному наивысшему божеству. Здесь подчеркивается
именно мощь Гелиоса — владыки (ana, I 2), царя (basiley, I), держа'
1 Ср. рассуждения Плотина (V 8, I 36—40) о Фидии, создавшем Зевса без
отношения к тому или иному чувственному предмету, но благодаря подражание
невидимому Зевсу и творческой самостоятельности.
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
647
-«дя ключа от источника жизни (2—3), восседающего в высоте над
зфиР°м <5), усмиряющего смятение стихий (13), распределяющего
—ет (phaoys lamia, 2), от мановения которого все зависит (50).1
Крайкому богу уступает даже хор непоколебимых Мойр, вращающих
£рретена (16, 48—49), а демоны, губящие людей, страшатся бича
дрбесного владыки (27). Он — родитель Диониса и Феба-Пэана, иг-
рающего на дивной кифаре (19, 20, 24), наполнившего космос «все-
долезной гармонией» (23). Гелиос изливает «ток гармонии» (harmonies
фута, 3—4) на «миры телесные» (hylaiois eni cosmois, 4). Он — «царь
у>шого огня» (pyros noeroy, 1), «увенчанный огнем» бог (pyristephes,
33), «златоповодный титан» (chrysenie, 1), обладатель «вечноцветущих
осией» (aeithaleas... pyrsoys, 8), податель «чистого света» (phaos
hagnon, 40) и «светодаровитого здоровья» (42), тот, что рассеивает
«ддоносный мрак» (41).
Мудрость и знание, присущие вечному божеству, особенно выде-
ляются в гимнах Прокла. Боги стоят у кормила (oiecas echontes)
Священной мудрости (sophies, IV 1). Они — вожди (hegemones) пре-
саетлой мудрости (13), податели чистого света от «пребожественных
книг» (1), пробуждающих ум (egersinoon, III 4). Поэт приходит в
Исступление, движимый «умными мифами мудрецов» (5), а матерью
(jnetera) книг является сама Афина (VII 23). Ум, знание, мудрость
воспеваются Проклом на все лады. Афина раскрывает врата (pyleonas)
«богошествующей мудрости» (7), она ее подательница (34), обладаю-
щая острым, «изогнутым» умом (agcylometen, 49, ср. гомеровский
эпитет). Это богиня, украсившая жизнь «многознающими» (polyeidesi)
Искусствами (19), вкладывающая в душу «умную демиургию»
(demioergeien поегёп, 20).
Однако для Прокла в комментариях на «Тимея» ум обязательно
соединяется с красотой в образах Афины и Афродиты, причем Прокл
рисует возвышенный облик мудрой богини, неразрывно объединенной
С интеллектуальным и демиургическим светом, наделенной (I 66,
31-32) характерными для нее эпитетами. Она — «чистая» (catharan)
Ц «несмешанная» (amiges), сама «мудрость», «носительница света»
(phosphoros), «спасительница» (soteira), «внедряющая (enidryoysa) ча-
стичный ум» (mericon поуп) в целостную мудрость Зевса (holicais
ooeresi), «работница» (ergane), предстоящая при демиургической де-
ятельности отца, созидательница «прекрасных дел» (calliergos), обла-
Мощь и всесилие гимнического божества передается часто через употребле-
е сложных эпитетов с poly- и рал-, а также через лексику, выражающую
*счность демиурга (aei, aidios), его воздействие на весь мир (pas, panta) и ему
°Чвому (monos) присущую силу. Такой стиль К. Кейсснер называет гиперболиче-
*им, посвящая ему главу в своей работе о греческих гимнах (Keyssner К.
~°ttesvorstellung und Lebensauffassung in griechischen Hymnus. Stuttgart, 1932,
S. 28-48).
648
А. А. Тахо-Годи
дательница «умной красоты», «вершина и единение» (henosis) дем и-
ургической мудрости (I 166, 30—32; 167, 7; 168, 28—169, 5).
Похвала Афине вполне соответствует тому воспеванию мощи Ума,
которое в дальнейшем пронизывает гимны Прокла и отвечает к тому
же самым интимным настроениям философа. Ведь, по свидетельству
Марина, Афина «как будто была причиной бытня» философа, когда
Прокл по воле судьбы родился в охраняемом ею городе. Богиня своим
промыслом направила его затем ко благу и, явившись ему во сне,
призвала к занятиям философией (6). Она же была путеводительницей
Прокла в Афины, после того как осчастливила его своей эпифанией
в Византии (9—10). Прокл, по словам Марина, «был люб» богине —
покровительнице мудрости, изъявившей свое желание навсегда пре-
бывать вместе с ним (30).
В гимнах Прокла образ Афины усложняется. Она не только по-
дательница мудрости, но богиня, «священный свет молниемечущая в
лицо» (phaos hagnon apastraptoysa prosopoi, VII 31), «медосоветная»
(40), преклоняющая свой «медовый слух» (meilichon oyas, 52) к че-
ловеку, душа которого совершенствуется от медовых сотов мусической
мудрости (III 10). Афина посылает «плывущему по жизни тихие
дуновения (galenioontas aetas)» (VII 47), дарует страннику счастливую
пристань (olbion hornion, 32), спасает от «черных скорбей» (melainaon
odynaon, 46) и, наконец, прославляется как «владычица» (potnia, 5),
обладающая «радостным духом» (5); подательница не только мудрости,
но и любви (erota, 34), исполненной мощи (menos, 34).
Внутрикосмический мир в комментариях к «Тимею» прекрасен,
так как Афродита «освещает» (epilampei) его красотой, порядком,
гармонией, «совместным единением» (coinonian), будучи сама «над-
космической причиной» (II 54, 19—23). Внутреннее единение мира,
связующие его узы, воплощаются в Эросе, неизменном спутнике Аф-
родиты. Если Афродита источает красоту и гармонию на космическое
тело, то Эрос укрепляет внутреннее единение и целостность мира (54,
24—29).
Афродита, воспетая Проклом в гимнах, богиня небесная и земная.
Она возносит душу от «безобразия» (aischeos) и «безумия земных
страстей» к «великой красоте» (es poly callos, V 14—15). Она исправляет
жизненный путь человека «справедливейшими стрелами» (II 20) и
укрощает «хладный порыв желаний» (21), преклоняя к человеку свое
«острослышащее ухо» (14). Она изливает «силы неукротимые»
(dynameis... adamastoys, 18), обладая «великим царственным источ-
ником» (pegen megalen basileion, 2). Ликийская Афродита, богиня
родных мест философа, «царица» (basileida, I), чье изваяние — символ
«умного брака и умных свадебных пиршеств огненного Гефеста и
небесной Афродиты» (V 5—6). Здесь образ Ликийской богини любви
и красоты исполнен особого благоговения и морального пафоса как
наставительницы человека, направляющей его на жизненных путях.
Гимнография Прокла и ее художественная специфика 649
оберегающей супружеские узы, очищающей от губительных страстей
и приближающей людей к божественной душе вечного космоса.
Красота, по Проклу, пронизывает весь космос. «Комментарии» к
«Тимею» буквально пестрят указаниями на то, что «красота в себе»
и «первопрекрасное» реализуются непрестанно в красоте универсума,
представленного как «разукрашенный», «блистающий красотой»,
«очень прекрасный» (I 368, 9—11). Прекраснейший космос наделен
высшей красотой (330, 22; 331, 6, to calliston), он даже «пресыщен
красотой» (calloys diacores, 332, 27—29), неизменно соучаствуя во
«всеобщей красоте» (409, 31—410, 7). И эта красота особенно выде-
ляется своей целостностью (II 305, 7—25), «единством» (hen cosmon,
I 128, 28—129, 8), вмещая в себя «гармонический хоровод душ»
(enermonis choreia, 332, 27), «изобилие (choregia) божественной жиз-
ни». Все части космоса объединяются в идеальный целостный организм
непрестанной деятельностью Вселенской Души (tes holes psyches),
которую философ сравнивает с трагическим поэтом (tragoidias poietes
drama poiesas), наблюдающим за правильной игрой актеров и явля-
ющимся единственной причиной разыгрываемой космической драмы
(II 305, 7—25). Характерная для Прокла сценическая терминология
неоплатоников уже была предметом специального нашего изучения.1
Развернутая картина человеческой жизни как сценической игры, по-
ставленной великим хорегом — высшим разумом, или Единым, была
дана еще Плотином в его трактате «О промысле» (III 2). Строгая
распорядительность космического поэта-демиурга обеспечивает каждой
душе в мире свою роль, свою маску и костюм. «Поэт Вселенной»
ставит трагедию на подмостках целого мира (III 2, 17, 27—58) и
проявляет свое мастерство в строгом объединении всех замыслов те-
атрального действа, так что, в конце концов, продуманность этой
космической игры напоминает прекрасно налаженный музыкальный
инструмент (17, 59—89).
Если в комментариях Прокла демиург создает мир «играя», а воля
его сравнивается с деятельностью «хорега», то и в гимнах Прокла
мусическая и драматическая терминология не отсутствует. Мойры,
вечно вращающие свои веретена, образуют хор (chores, I 15), планеты
ведут «неутомимые хороводы» (acamatoisi choreiais, 9), Феб, играя на
кифаре, убаюкивает пением человеческий род (15), музы обучают
души людей «держать стопу» (ichnos echein) над глубоким летейским
потоком (III 6). Более того, непрестанное воспевание божества (I 24,
26; III 1) связано с очищением душ при помощи особых таинств
(teleteisi, IV 4, VI 7), «неизреченных» (arretoisi, IV 4). С таинством,
чародейством и даже вакхическим исступлением связано воспевание
1 См.: Тахо-Годи А. А. Жизнь как сценическая игра в представлении
древних греков. См. настоящее издание, с. 434—442.
650
А. А. Тахо-Годи
божества, «благоглаголенье, околдовывающее ум» (eyepies phrenot-
helgeos, III И), мудрость, исходящая от муз (baccheysate, 5). Таким
образом, красота космоса и красота, изливающаяся богами на дущи
благих людей, мыслится Проклом как замысел единого демиургиче-
ского творчества, пронизавшего божественный и человеческий мир.
Красота, следовательно, охватывает у Прокла также мир внутри-
космических тел. Он выделяет в комментариях к «Тимею» красоту и
благо небесного семичлена, гебдомады (II 260, 7—13), а также ее
пропорции (267, 19—24). Небесные тела сияют красотой (I 60, 14)
«гармонической общностью единения» (II 18, 16), и геометрическая
пропорция придает телу особую красоту (calloys, там же).
Гармония, по мысли Прокла, — «причина», порождающая самих
муз (aitia moyson), и «сила», воздействующая на внутрикосмические
тела; причем эта сила (dynamis) как раз именуется здесь «хорегом»
(III 214, 3—20).
В комментариях к «Тимею» особенно выделяется сферическое тело
Вселенной как идеальная, совершенная форма. Эту мысль Платона о
высшей красоте космоса, который «должен быть всюду подобным самому
себе, т. е. везде возвращаться к самому себе, и потому он есть шар»,1 Прокл
развивает не только в своих рассуждениях по поводу «Тимея», но не раз
возвращается к проблеме сферичности и в поздних работах. В его ком-
ментариях к «Пармениду» (1184,33) серединой интеллигибельного бытия
является очаг, т. е. воплощение богини Гестии, а бытие мыслит само себя
тоже в процессе кругового движения (1161, 14). В «Комментариях» к
Евклиду отмечается совершенство сферического тела, его «простота и
подобие себе самому» (91,9 сл.). Поэтому нет ничего удивительного, что
и гимн Прокла к Гелиосу весь пронизан сферическими интуициями.
Если представить себе общее целое и отдельные частности этого
гимна, то эстетический характер законченного в себе бытия, пребы-
вающего в вечном вращении, станет вполне очевидным.
Гелиос — великий демиургический титан как податель света и
обладатель умного огня — является центром космоса. Прокл недаром
именует пребывание Гелиоса в главной точке сферы «срединным»
(messatien, I 5). Трон Гелиоса (hedren) находится над эфиром, а само
«демиургическое солнце владеет чрезмерно блистающим кругом»1 2
(eripheggea cyclon) в виде сердцевины, или сердца космоса (cosmoy
cradiaion, 6), что по сравнению с классикой (где в центре космоса —
Гестия) является новостью.
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М->
1969, с. 618.
2 Отметим, что впечатление слепящего солнечного света выражено здесь
усилительной препозитивной частицей eri-, придающей эпитету торжественно-
архаическую окраску.
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
651
Итак, солнечный круг занимает срединное место в сферическом
^осмосе, являясь его сердцевиной. Однако само Солнце находится в
непрестанном движении, так как бег солнечной колесницы вечно
возвращается на свои круги (palinnostoisi diphreiais, 11).
Идея вращающегося в себе «умного огня» (1, ср. аристотелевский
proton cinoyn) влечет за собой круговые движения планет вокруг
Солнца, причем эти планеты, как выразительно говорит Прокл, ведут
Йрроводы (choreiais, 9), и эти хороводы, т. е. шествие по кругу, тоже
К», имеют завершения, они «неутомимые», как и бег солнечной ко-
Исницы. Но сами планеты, в свою очередь, «опоясаны» (dzosamenoi, 8)
Жечноцветущими огнями» Солнца (aeithaleas seo pyrsoys, там же),
они вечно горят уделяемым им жаром Гелиоса.
Солнечный бог мыслится также в огненном венце, «огневенчанным»
(pyristephes, 33). Но и этого мало.
Кроме хороводов планет, в космосе водят также хороводы и Мойры,
богини судьбы, хотя перед солнечной мощью даже они «поворачивают
вспять» нить необходимости (metastrophosin, 16).
Если средоточием универсума является Солнце, то вся сферическая
картина широкого (еугеа, 23) космоса дополняется еще представлением
о некой противопоставленной друг другу целостности высоты и глубины
этого мира. В надэфирных высях находятся светлые чертоги Солнца,
откуда с высоты (hypsothen, 4) изливается «ток гармонии» (harmonies
thyma, 4) на «телесные миры» (hylaiois eni cosmois, 3).
Принимая во внимание, что «телесный» здесь есть не что иное,
как «материальный» (hyle — материя, вещество), то вполне очевидно,
что такой мир должен находиться столь же далеко в глубине от
средоточия космоса, сколь высоко находятся огненные эфирные выси.
Именно это противопоставление имеет в виду Прокл, когда «телесный»
находится у него в оппозиции к «огненному» и «эфирному» как
тончайшей нематериальной субстанции (Plat. Theol. IV 39).
В гимне I космическому солнечному уму, пребывающему в над-
эфирных высях, соответствует, таким образом, «пучина» (laitma, 30)
человеческой плотской жизни, «чистому (священному) свету» (phaos
hagnon, 40) противоположен «мрак, напоенный ядом» (achlyn...
iolocheyton. 41). Но если огненный солнечный круг светит над миром
(ср. «всевидящий круг Солнца» Aesch. Prom. 91, Гелиос «страшно
взирающий очами» Нош. Hymn. XXXI 9), то также взирает на мир
«быстрое око» Дики, что все видит (thoon omma, 38).
Человеку, погруженному в житейскую пучину, угрожают и хоровод
Мойр, и принадлежащие Мойрам веретена, нити которых вращаются
в зависимости от круговых движений звезд (asteroclineois, 49).
Итак, в гимне I Прокла дается внушительная картина всеобщего
Кругового движения универсума. В этом движении всегда есть возврат
к себе, что свидетельствует о вечности и нестарении космоса, а также
создает мировое равновесие, поддерживаемое срединным положением
652
А. А. Тахо-Годи
Солнца в середине космоса, изливающим из источника жизни ток
гармонии на все миры. Отсюда — надежда на спасение человека, ко-
торому угрожает и хоровод Мойр, и вращение их веретен, и быстрый
глаз Дики.
Целостность и завершенность космоса, представленная Проклом в
гимне I, вполне соответствует эстетическому характеру сферического
универсума в его комментариях к «Тимею», где все пронизано упо-
рядоченностью, стремлением к единообразной красоте (I 149, 2), со-
причастной уму и через него себя осуществляющей (401, 21—32).
Далее, в комментариях Прокла космос пронизан «божественным»
(theion) огнем, «самой сияющей» (lamprotaton) и «прекраснейшей»
(calliston), «созидающей» (systaticon) стихией, тончайшей «лучисто-
стью» (diaygasma, III, 114, 16—24).
Гимны Прокла представляют также собой беспримерное воспевание
светоносной демиургии, мысли и красоты. То, что в пределах фило-
софско-логического следования мысли высказано в комментариях о
созидающей роли огня и света, в поэтических гимнах приобретает
характер неустанной похвалы и восторженного песнопения.
Свет (phaos) и огонь (руг) вечной жизни и божественной мудрости
противопоставляются мраку, холоду земного прозябания, текучести
«безвидной» материи. Вспомним, что в комментариях Прокла материя
мыслится «бездной» (cbasma), «не имеющей корней» (oyte pythmen)
и границ, «неопределенной» (aoriston). Она — «непрерывный мрак» и
«отсутствие света» (alampes, I 385, 29—386, 6). Телесная материя
земного, грубого мира воплощает в себе «безобразие» (aischon de
oysian ayten, III 122, 19 сл.) и пламя, ее охватывающее, мрачное,
лишенное света. Огненная стихия земного мира «оматерьяленная»
(enylotaton) неотличима от мрака (scotos, 114, 29). Наоборот, «боже-
ственный», «прекраснейший», «сверхсияющий» (hyperlampon) свет —
небесный огонь, знак (tecmeria) истины, образ высшей, умной благости,
проявленной в красоте (114, 16—24).
В гимнах это исконное противопоставление двух миров еще более
развито и подчеркнуто. Земная, материальная жизнь есть не что иное,
как «мрачное ущелье» (scotion ceythmona, IV 3). Здесь — «мрак»,
изливающий яд (achlyn, I 41), «туман» (omichlen, IV 6), черные
страдания (melainaon odynaon, VII 46), иссиня-черная тьма, охваты-
вающая род людей (cyanees, VI 10), зло болезней и грехов (cacos, 5,
сасё, VII 37), безобразие (aischeos, V 14), смятение стихий (orymagdos,
I 13), леденящий холод волн человеческого рода (IV 19—11; 1 19—24),
желаний (II 21), возмездия за грехи (IV 12; VII 41)?
1 Здесь особенно ощущается то личностное начало, о котором говорил
У. Виламовиц. О своеобразной религиозной практике самого Прокла и о соедине-
нии гимнов с системой поведения поэта, когда знание и вера, учение и жизнь,
метафизика и мифология представляют нечто одно, пишет в своей книге
Э. Гофман (Op. cit, S. 145).
Гимнография Прокла и ее художественная специфика 653
Тьма и мрак соседствуют здесь с представлением о «пучине» (laitma,
I 30) и «бездне» жизни (benthos, III 3), о глубинах смерти и потоке
забвения (bathycheymona lethen, 6; IV 8).
Но над мрачным ущельем человеческого бытия боги зажигают
(hapsamenoi) восходящий ввысь огонь (руг, 2), будучи вождями пре-
светлой мудрости (13). В надэфирных высях мчится Солнце, титан в
колеснице с золотыми поводьями (I 1). Гелиос обитает в пресветлом
чертоге (31), он — обладатель умного огня (I, 7), раздающий свет (2),
великий бог, увенчанный огнем (31, 33), блистающий круг в сердце
мира (6), сам окружен планетами, опоясанными огнями (9). Афина
мечет чистый молнийный свет (VII 31), Гефест — огненный супруг
Афродиты (V 5—6), а музы — «светлоглаголевые» дочери Зевса
(aglaophonoys, III 2).
Этот божественный свет чист (catharos) и священен (hagnos, I 40;
III 7; IV 4, 6; VI 7; VII 31, 33). Он не имеет ничего общего с мрачным
огнем, которым пылает земная материя так же, как водная бездна
человеческой греховной жизни не имеет ничего общего с представле-
нием об источнике бытия, который находится во власти богов (pege,
I 2—3; II 2; VII 2), с представлениями о токе гармонии, который
изливает на мир Гелиос (I 3—4), или о том, как Пэан наполняет
гармонией космос (23), как живородящие брызги посылаются на землю
хороводами планет (9).1
Отметим еще один интересный художественно-философский образ
в гимнах Прокла, который, как можно судить, не имеет по своей
выразительности аналога в комментариях к «Тимею».
Это образ души, странствующей по миру и ищущей пути к вечной
жизни. О странствиях душ не раз говорится в комментариях к «Тимею»
(I 58, 17; II 97, 18; III 56, 23; 87, 21; 90, 25; 125, 1; 127, 11, 18;
132, 30; 259, 4; 278, 14; 280, 21; 296, 9; 297, 7; 302, 18) при толковании
пифагорейско-платонической традиции в связи с круговоротом, пере-
селением, рождением и умиранием душ. Однако в гимнах Прокла
возрождается то интимно-трогательное чувство потерянности человека
в земном мире, отягченности его души земными грехами, которое
было некогда великолепно выражено Платоном в «Федре» (245 с—
249 d) со всеми его космологическими выводами в «Федоне» (108 с—
114 е).
Души и род человеческий изображаются Проклом «блуждающими»
по земле (aloomenas, III 3; IV 10—11; VII 32 или polyplagetoio, III 8).
Они «ниспали» на берег рождений (9), «упавши» в волны холодного
человеческого рода (IV 10—11). Они «устали» на путях странствий
1 А.-М. Нани отмечает, что образы гимнов Прокла проникнуты прозрачно-
стью и светом, точны и конкретны, причем повторяющиеся философские мотивы,
сведенные в поэзию, не производят впечатления монотонности, а говорят об
Искренности и жаре вдохновения лирической души (Op. cit., р. 398—399).
654
А. А. Тахо-Годи.
(cecmeota, VI 11—12), попали в мрачное ущелье жизни (IV 3), отягчены
злыми болезнями (VI 5). Душа здесь то плывет по жизни с помощью
Афины, подающей тихие ветры (11—12; VII 47), то мечтает о счаст-
ливой пристани (hormon, VI 11—12, VII 32), ибо кормчими мудрости
являются боги (IV 1), которые, и это очень характерно для Прокла
именно с помощью света книжного знания рассеивают туман заблуж-
дений (6). Здесь же — душа в виде путника, стремящегося по тропе
несущей его ввысь (hypsiophoreton, 14), взыскующего сияющего «пути»
жизни (poreien, VI 4), который указуют боги (8). Боги «влекут» дущи
людей, пробуждая и очищая их таинствами (7), а «стрекалами»(centra)
страстей заставляют человека жаждать «озаренных огнем» небесных
чертогов (II 5—6). Богиня Афина открывает перед человеком «врата»
(pyleonas, VII 7), через которые пролегает божественная тропа муд-
рости. Итак, душа, как усталый путник, по крутой тропе поднимается
к воротам умного знания и, как блуждающий мореплаватель, достигает,
наконец, счастливой пристани вечной жизни.
Этот образ многострадального путника восходит к одному из своих
древних архетипов, а именно к гомеровскому Одиссею, не раз интер-
претированному философской традицией, идущей от софистов и ки-
ников, через стоицизм к неоплатонизму и нашедшей свое завершение
в неоплатонической идее странствующей по миру души.1
Знаменитая гомеровская экзегеза Порфирия, трактат «О пещере
нимф», завершается образом Одиссея-странника, который «освобож-
дается от чувственной жизни... то борясь со страстями, то завораживая
и обманывая их и всячески изменяясь сообразно с ними, чтобы, сбросив
рубище, низвергнуть страсти, не избавляясь попросту от страданий»
(Porph. De antro nymph. 35).1 2 Странствующая душа в гимнах Прокла
ищет спасения у Афины, открывающей перед ней врата мудрости.
Одиссей в трактате Порфирия тоже находит прибежище у Афины,
усевшись под ее священной маслиной вблизи пещеры нимф. И здесь
Одиссей «отсекает все страстные и злые помысли души» после стран-
ствий по миру, а «морская же гладь, море и бури, по Платону,
означают материальную субстанцию», как пишет Порфирий. Одиссей
тем самым «проходит по порядку весь путь становления и восстанав-
ливает себя в беспредельном вне моря и бурь» (34). Порфирий, как
мы знаем, оперирует в своем трактате символами. Что касается гимнов
Прокла, то и здесь перед нами не только художественный образ, но
еще и образ, символически заостренный. Комментарии Прокла к «Ти-
мею», в свою очередь, изобилуют символическими толкованиями пла-
тоновского текста. Рассказ египетского жреца Солону — символ ис-
1 Buffi ere F. Les mythes d’Homere et la pensee grecque. Paris, 1956, cf. P-
413—418.
2 Порфирий. О пещере нимф. Пер. А. А. Тахо-Годи. См. настоящее
издание, с. 577—591.
Гимнография Прокла и ее художественная специфика 655
тинной жизни души (I 109, 1). Миф о Гелиадах — символ судьбы душ
(114, 7); Нил — символ космической жизни (96, 27—28). Война Афин
С Атлантами — символ космических оппозиций (130, 11; 205, 11).
Миф о Гефесте — символ творческой активности в отношении чувст-
венного мира (42, 27). Молния, уничтожающая Фаэтона, — символ
демиурга (112, 10) и т. д. и т. д. Однако среди множества подобных
примеров мы не находим в комментариях Прокла столь целостную
философско-художественную картину, осмысленную как глубочайший
символ человеческой судьбы, которая поэтически живописуется в гим-
нах Прокла. Здесь в гимнах на этой символической картине горестной
судьбы человеческого рода и отдельного человека покоится отблеск
какой-то личной заинтересованности философа-поэта, интимности, не-
ясной тоски — тех чувств, что являют читателю особый жизненный
философский и теургический опыт самого Прокла. Здесь, среди этой
космической целостности с ее оправданной гармонией света и мрака
надэфирных высей и бездн земного бытия вполне ощутимо личностное
начало, особенно заметное в структуре всего ряда гимнов.
Это личностное начало еще в архаические времена было характерно
для непосредственной ритуальной коммуникации молящегося и его
божественного покровителя, что засвидетельствовано в многочислен-
ных молитвах гомеровских героев «Илиады» и «Одиссеи».1 Однако
впоследствии зов молящегося разрастается в похвалу призываемого
божества, от которого исходит удовлетворение просьбы в наибольшей
ее полноте. Личностное начало тогда меркнет, уступая место развер-
нутой в эпическом духе «биографии» божества, характерной уже не
для молитвы, а для гимна как художественно оформленного жанра.2
Таким образом, личная просьба молящего о даровании помощи ото-
двигается в гимне на второй план. Отсюда началом гимна становится
зачастую инвокация с приветственными возгласами, так называемыми
хайретизмами и взыванием, анаклезами, к многоименному высшему
существу, серединой — жизнеописание божества с восхвалением его
подвигов и чудес, им творимых, и, наконец, замыкает гимн личная
просьба молящего, обрамленная хайретизмами. Так, просьба в гимне
постепенно теряет смысл бывшего моления и принимает вид формаль-
ного заключения, лишь слабо напоминая о давней непосредственной
жизненной зависимости ритуальной мольбы и действенного ответа.
В гомеровских гимнах, например, хвалебная повествовательная
часть разрастается иной раз так обширно, что даже и для формальной
просьбы не остается совсем места. В гимне I на 178 стихов только в
См.: Рубцова Н. А. О предметности именования в молитвах «Илиады»
Гомера. — В кн.: Актуальные проблемы классической филологии, I. М., 1982.
См.: Рубцова Н. А. Форма обращения как конструирующий принцип
Ппшического жанра. — В кн.: Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
656
А. А. Тахо-Годи
двух-трех строках (165—167) идет речь о милости Аполлона и Арте-
миды, дабы они и в будущем не забывали своего прославителя.
В гимнах II, III, IV — просьб совсем нет, в гимне V («К Деметре»)
из 495 стихов только в одном, 494, заключается просьба о даровании
счастливой жизни. В гимне VI («К Афродите») из 21 стиха — два
(19—20) с просьбой о помощи в песенном состязании и даровании
(dos) победы.
В гимне VIII («К Аресу») из 17 стихов заключительные 3 — просьба
о даровании (dos) смелости, мира и избежания насильственных Кер.
У Афины (XI) поэт просит (dos) благоденствия и удачи (5); в
гимне XIII (Деметре) о сохранении города (3); в гимне XV (Гераклу)
о даровании (didoy) доблести и счастья (9), чему буквально соответ-
ствует просьба, обращенная к Гефесту (XX 8), хотя Геракл и Гефест
слишком отличаются по своей сущности. Посейдона просят о милости
к морякам (XVII 7), Зевса — тоже быть милостивым (XXIII 4), но
без уточнения просьбы, Гестию — посетить дом и даровать приятность
(charin) песне (XXIV 5), причем эта же просьба — в обращении к
музам и Аполлону (XXV 6), хотя для Гестии покровительство в
мусических искусствах не характерно, а для муз и Аполлона вполне
специфично. Просьба о даровании веселья (XXVI 12 — Дионису), при-
ятной и счастливой жизни (XXX 18 — Гее и XXXI 17 — Гелиосу)
тоже имеет вполне формальный характер.
Оказывается, таким образом, что личная просьба, т. е. то, с чего
когда-то начиналось ритуальное обращение к божеству, в гомеровских
гимнах занимает последнее место или вовсе отсутствует. Более того,
эта просьба о счастливой жизни достаточно безлика и стереотипна.
Такие концовки в гомеровских гимнах вполне закономерны, поскольку
эти гимны развивают жизненную линию жанра, доминирующую в
основной повествовательной части.
Что же касается гимнов Каллимаха, то в гимне I присутствует
просьба к Зевсу о ниспослании достатка и доблести (I 96) буквально
в тех же самых словах, которые были обращены к Гераклу и Гефесту
в гомеровских гимнах (areten te cai olbon). С помощью Аполлона хула
(Momos) и зависть (Phthonos),- видимо, аллегории поэтического со-
перничества, должны исчезнуть (II 113). Артемиду призывают быть
благосклонной к песне (III 268), Палладу — блюсти город и сохранить
удел (claron) данайцев (V 141—142), Деметру — тоже даровать городу
удачу (VI 134), а главное, согласие, плоды, скот, яблоки, колосья,
мир и милость (134—138). Все эти просьбы — скорее дань старой
традиционной форме молитвы и не имеют существенного значения в
гимнах Каллимаха, где нарративная часть является самоцелью и дол-
жна во всей полноте выразить «характер» божественного адресата.
Гимн «К Зевсу» (39 стихов) стоика Клеанфа тоже имеет заклю-
чительную просьбу, и она, занимая как будто всего несколько строк
(32—35), как раз теснейшим образом связана с основной идеей гимна —
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
657
похвалой справедливому разумному Зевсу, воплотившему в себе сто-
ический логос. Отсюда — и просьба даровать (dos) людям разум и
спасти их от неразумного. Причем здесь же мыслится ответная бла-
годарность человека, готового вечно славить силу божественного закона
И справедливости. Однако в этом чисто философском гимне индиви-
дуальная роль просьбы совершенно устранена. И хотя в гимне при-
сутствует обязательное «дай», «даруй» (dos), эта мольба направлена
не исключительно в свою пользу, а преимущественно вовне, на благо
погрязших в житейских тяжелых обстоятельствах людей (anthropoys),
имея в виду некий собирательно-обобщенный образ заблудшего жал-
кого человечества, к которому поэт-философ в конечном итоге при-
числяет и самого себя. Личностное начало растворяется здесь во все-
общем, исключая мотивы обращения, жизненно важного для отдельного
человека.
Казалось бы, близкое по своему умонастроению к гимнам Прокла
собрание «Орфических гимнов» продолжает традицию похвалы боже-
ству, непомерно развивая энкомиастическую часть в плане эпитезы,
создающей своеобразную биографию божества, которая была представ-
лена в гомеровских гимнах в нарративно-эпическом духе.
Повествовательная часть гомеровских гимнов, живописующая чудеса
и подвиги олимпийских богов, здесь сгущена до предела, так что именно
эпитеты божества символизируют и обобщают факты разных его деяний,
почему и вполне естественно смыкаются с инвокацией, характерной для
ритуальных молитв. Но тогда на личное обращение с просьбой остаются,
как и в гомеровских гимнах, только последние стихи, исключающие
всякое субъективное чувство сотоварищей по таинству.
И действительно, если по замыслу мистов необходимо склонить
божество для участия в посвященных ему таинствах, то концентрация
эпитетов в мистериальных песнопениях имеет свои основания. Все-
сторонне именуя мощное божество, эти эпитеты, необходимые для
молений, усиливают магическую действенность инвокаций. Собственно
говоря, каждый орфический гимн есть прямое обращение, имеющее
силу заклятия и направленное на одну цель — эпифанию высшего
существа; поэтому личная просьба сводится здесь до минимума или
вообще отсутствует. В целом ряде гимнов участники таинства также
просят божество внять призыву и быть благосклонным. Такие просьбы
обращены к матери богов (XXIII, XXVII), матери Антее (XII), Фемиде
(LXXIX), Плутону (XVIII), Океану (LXXXIII), Гере (XVI), Аполлону
(XXXIV), Афродите (LV), Дионису (XXX), Триетерику, т. е. трех-
летнему Вакху (LII), Евменидам (LXX), Силену (LIV), Гипте (XLIX),
Сабазию (XLVIII), Звездам (VII), Зефиру (LXXXI). В остальных гим-
нах просьба о помощи присутствует, но индивидуальность ее крайне
сомнительна, так как всюду имеется в виду некое сообщество участ-
ников таинства. И если в гимне Клеанфа «К Зевсу» заключительная
Иольба подразумевает собирательный образ заблудшего человечества,
29 Зак. 3903
658
А. А. Тахо-Годи
то здесь он соответствует тоже обобщенно-собирательному образу те-
ургов, стремящихся к чистой жизни. Не лишено интереса и то, что
несмотря на, казалось бы, сакральный характер орфических гимнов
прошения мистов развернуты не столько в плане духовности, сколько
бытовых ценностей. Здесь просьбы о даровании сразу целого комплекса
благ: цветущей жизни, здоровья, мира, закона (гимн XIX Зевсу-Ке-
равну); о даровании мира и здоровья Природой (X), Нереем (XXIII)
Артемидой (XXXVI); мира, цветущей жизни, доброй старости, пло-
дов — Персефоной (XXV); мира, богатства, силы, здоровья — Афиной
(XXXII); мира, здоровья, счастья — Посейдоном (XVII); здоровья, сла-
вы, почестей — Зевсом (XV); здоровья и богатства — Гестией
(LXXXIV) и Деметрой (XL). Боги призываются даровать чистую и
мирную жизнь (Уран IV, Гелиос VIII), а также мирную честную
кончину (Асклепий XVIII, Зевс Молнийный XX, Кронос XIII, Лето
XXXV, Гермес XXVIII, Гермес Хтонический LVII, Пан XI, Протей
XXV, Демон LXXIII). Они приносят мир (Арес LXXXVIII, LXV; Рея
XIV), ласковую помощь (Семела XLIV), спасение (Селена IX, Профи-
рея-Преддверница II), забвение зол (Мойры LIX), священный свет
(Заря LXXVIII), благое завершение забот (Миса XLII), изобильное
богатство (Тюхэ LXXII), достойную старость (Танат LXXXVII), спра-
ведливое равновесие жизни (Дикайосина-Справедливость XIII), бла-
городные мысли (Дика XII), разум (Немесида XI), радость (Дионис
Бассарей XLV), рвение к делу (Музы LXXVI), отвагу (Арес LXXXVIII),
славу (Эринии LXIX), память вообще (Мнемосина LXXVII) и памят-
ливое соблюдение законов (Ном-Закон LXIV), благие предвещания
(Онейр-Сновидение LXXXVI), сон (Гипнос-Сон LXXXV). Боги посы-
лают людям плодородие земли и изобилие плодов (Адонис LVI; Пер-
сефона XXV, XXIX; Гея XXVI; Вакх Амфиет LIII), целебные ключи
(Нимфы LI), ливни, дожди и росы (Нот LXXXII, Облака XXI), по-
путный ветер (Тефия XXII) и охрану на суше и море (Левкотея
LXXIV, Палемон LXXV). Боги избавляют посвященных в их таинства
от болезней (Гигиея LXVIII), скорбей (Мелиноя LXXI, Демон LXXIII),
злых помыслов (Эрот LVIII) и враждебных мыслей (Немесида LXI);
от скорбей и болезней (Артемида XXXVI), смерти и скверны (Рея
XIV), страхов ночных (Ночь III) и насылаемых Паном (Пан XI); от
труса земли и моря (Нерей XXIII), гнева предков (Титаны XXXVIII)
и страшный Кер (Арес LXXXVIII, Геракл XII).
Поскольку орфические гимны не ограничиваются эпической по-
хвалой божества, характерной для гомеровской гимнографии, но играют
роль магического заклятия, весь пафос гимна сосредоточен на при-
зывных экстатических славословиях, сила которых возрастает с каж-
дым очередным возглашением нового имени божественного адресата,
будучи стилистически выраженной целой системой эпитетов.
Таким образом, личностный, индивидуальный характер заключи-
тельной просьбы выходит за рамки ритуальных заклинаний и огра-
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
659
Г ничивается традиционным набором обычных житейских благ, иной
раз с общепринятой эстетической окраской.
' Гимны философа-поэта Прокла, если исходить из нашего анализа,
обращают на себя внимание именно специфически личностным нача-
лом, благодаря которому меняется и сама художественная структура
его гимнов, и их стилистическая окраска. Эти гимны, написанные в
духе сокровенных размышлений хотя и принадлежат к установившейся
жанровой форме, но заметно модифицируют ее, отступая и от широты
эпической нарративности гомеровских гимнов, и от замкнутости ми-
стериальных славословий в орфических гимнах. Перед нами непос-
редственно-жизненная коммуникация поэта и адресата гимна, имею-
щая своим прообразом, скорее всего, форму лирического диалога, не
укладывающегося в рамки общепринятой гимнической традиции.
Именно такой лирический диалог лежит в основе известного гимна
Сафо к Афродите (фрг. 1), где формально наличествуют основные
признаки жанра, но все они структурно сдвинуты. Инвокация с по-
хвалой сведена до минимума («пестротронная» — poicilothron, «бес-
смертная» — athanat’, «плетущая хитрости» — doloploce, 1—2). К ним
примыкает просьба («умоляю тебя» — lissomai se, «не ... сокрушай
мое сердце» — me... damna... thymon, «но приди сюда» — alia tyid’
elth’, 2—5) и эпифания Афродиты («ты пришла» — elthes, «на золотой
колеснице» — chrysion... arm, «улыбаясь» — meidiaisais’, «сказала» —
ёге, 5—24), которая, однако, есть только воспоминание поэтессы о
помощи, некогда оказанной богиней (ai pota caterota, 5). Перед нами
развернутое и непомерно разросшееся обращение молящего (2—24),
в рамки которого включена нарративная часть о чудесном явлении
Афродиты на колеснице, запряженной воробушками. Здесь же мило-
стивые слова богини как партнера диалогической речи, ожидающего,
в свою очередь, ответа (ёге otti d6yte pepontha cotti dёyte са1ёшпн
cotti moi malista thelo... tis s’... adicee ... «ты спросила, почему я
опять страдаю, почему опять зову, чего больше всего хочу... кто тебя
обидел...» 15—18). К обращению примыкает заключительная мольба,
которая соответствует начальной просьбе (lissomai se, 2 = elthe moi cai
nyn... lyson... tel6son... symmachos esso «приди и ныне... освободи ...
соверши ... будь союзницей», 25—28) и переводит диалог из плана
воспоминания в ситуацию текущей действительности, в ожидание
новой встречи с богиней.
Все эти сюжетно-композиционные сдвиги в гимнической оде к
Афродите оказываются результатом той субъективной, той личностной
заинтересованности, которая характерна для лирического мелоса Сафо
и которая вместе с тем возвращает гимн к его истокам — ритуальной
мольбе с безусловной верой в ее действенность и в немедленную
ответную реакцию божества. Личностная направленность такой не-
посредственно-жизненной коммуникации очевидна. Вот почему у Сафо
вполне равноправное место занимают оба партнера гимнической си-
660
А. А. Тахо-Годи
туации, и образ человека выступает не менее ярко, а может быть и
ярче, чем образ божества.
Учитывая особенности структуры рассмотренных нами гимнов в
соотношении с их содержательной стороной, можно сказать, что гимны
Прокла заметно отступают от предшествующей ему традиции, кор-
респондируя и с архаикой строгой сакральной мольбы, и с экспрес-
сивной субъективностью гимна Сафо. Философские гимны Прокла не
являются только прославлением божества, что требовалось в компо-
зиционном плане эпически развернутой божественной биографии с
великими подвигами и чудесами, как, например, в гомеровских гимнах.
Самую существенную черту гимнов Прокла составляет личная просьба
поэта.
В гимне I поэт просит Аполлона-Гелиоса очистить от всякого греха
или заблуждения (hamartados, 35), избавить от скверны или позора
(celidon, 37), спасти от карающих богинь (poinon, 37), погибели
(oyloon, 49), ниспослать душе чистый свет (phaos hagnon, 40), рассеять
мрак (achlyn, 41), подать здоровье (hygeien, 42), славу (eycleies, 43),
благочестие (eysebies, 44) и счастье (olbos, 44), заботу о дарах муз
(meloimen, 44). Здесь все просьбы поэта соответствуют катартическим,
очистительным функциям Аполлона-Солнца и не являются случай-
ными. Аполлон-Гелиос очищает от любой скверны, даруя тем самым
духовное и физическое здоровье, что и составляет счастье для поэта
как служителя муз.
В гимне VII Афина оказывается дарователем чистого света (phaos
hagnon, 31, 33), мудрости, любви и силы (sophien, erota, menos, 34),
крепкого здоровья (statheren... hygeien, 43). Среди таких обычных жи-
тейских даров, как спокойствие, дети, брак, слава, счастье, радость (47—
48), есть характерные для Афины и вполне необходимые для поэта: сила
противостояния врагам (cartos, 50), убедительность речи (peitho
stomylien, 49), гибкий ум (noon agcylometen, 49) и, что особенно важно,
первое место в собрании или совете народа (proedrien eni laois, 50).
Таким образом, в гимнах I и VII очистительные и укрепляющие
мудрость функции Гелиоса и Афины налицо и обращение Прокла к
обоим великим богам вполне целенаправленно и глубочайшим образом
интимно и осмысленно.
В гимне II «К Афродите» поэт просит направить его на правильный
путь жизни (biotoio poreien, 19), избавляя от холодной страсти недозво-
ленных желаний (oych hosion... pothon cryoessan ёгбеп, 21). В гимне V
«К Афродите Ликийской» Прокл вспоминает о том, что и он сам по крови
ликиец (lycion gar aph’haimatos eimi cai aytos, 13), т. e. родня богини.
А это дает ему возможность просить Афродиту вознести его душу от стыда
к великой красоте (ap’aischeos es poly callos, 15), избегая губительного
жала страсти (oloiion oistron eroes, 15).
Итак, скромные просьбы поэта в обоих гимнах связаны с обретением
красоты и уходом от губительных страстей, что вполне соответствует
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
661
дарам небесной Афродиты, которой, как это видно из текста гимна,
на родине поэта была воздвигнута статуя и которая заботилась о
крепком потомстве ликийских граждан.
В гимне III «К музам» и в гимне VI «К Гекате и Янусу» поэт
жаждет достичь «света» и просит богов спасти его от рода людей, не
боящихся богов (adeisitheon genos andron, III 12), который он также
именует «темным родом» (суапеёз... genethles, VI 10). Видимо, Прокл
имеет в виду непросвещенных, а значит, охваченных темными стра-
стями людей. Но не исключена возможность и того, что под этим
темным и не боящимся богов родом людей следует понимать христиан,
враждебных языческому философу.
Не является исключением и IV «Общий гимн к богам», где вообще
отсутствует традиционная композиция и где вступительная инвокация
сразу же смыкается с молитвенной просьбой поэта в духе необычно
личностного обращения. Здесь также поиски света и таинств, даруемых
богами светлой мудрости (sophies erilampeos, 13), но здесь же и страх
перед блужданием в волнах «холодного рода» (cryeres genethles, 10)
и перед «житейскими узами» (bioy desmoisi, 12).
Через все гимны Прокла, как видим, проходит страстная мольба,
свидетельствующая о его высоких духовных запросах. Поэт не осуж-
дает, правда, умеренность и законные радости брака с детьми, счастьем,
славой и благополучием, но, если говорить о житейском плане, то
ему предпочтительнее общественная функция подателя благих советов
в собрании народа.
Гимническая поэзия философа — это призыв о помощи, горячая
убежденность в действительности непосредственной беседы со своими
высокими покровителями. Вот почему такое важное место в гимнах
занимают его личные просьбы. Их главная концентрация в гимнах,
обрамляющих известный нам ряд — в I и VII — к Гелиосу и Афине
как универсальным неоплатоническим божествам, возводящим отдель-
ные части бытия к мировому целому. Просьбы эти в основном духовного
плана, в то время как и в гомеровских, и в орфических гимнах, и у
Каллимаха просьбы ограничиваются несколькими заключительными
стихами с почти одинаковым набором житейских общедоступных благ.
В этом смысле характерны следующие композиционные соотноше-
ния размеров каждого гимна и личных молений Прокла, которые
значительно меняют его традиционную гимническую структуру.
I гимн «К Гелиосу» соответствует VII «К Афине». Просьба поэта
занимает в I—18 стихов из 50, в VII — 21 стих из 52.
II гимн «К Афродите» соотносится с V «К Афродите Ликийской».
Во II гимне из 21 стиха мольба занимает 8, соответственно в V из
15 стихов — 4.
III гимн «К музам» соотносится с VI «К Гекате и Янусу»; в каждом
Просьба занимает соответственно 8 стихов из 17 и 9 из 15, причем в
662
А. А. Тахо-Годи
последнем 3 начальных и заключительных стиха — хайретизмы, так
что мольба заключена в середине гимна.
IV «Общий гимн богам» — сердцевина гимнического ряда, и здесь
все 15 стихов представляют собой просьбу поэта.
В центре рассматриваемых гимнов оказывается не столько боже-
ство, сколько человек, умоляющий своих высоких покровителей о
достижении тихой пристани жизни, света знания, очищения от страстей
и житейской суеты, об укреплении веры в древние мифы и мудрость
книг, о даровании силы для борьбы с врагами и для участия в делах
народа. Перед нами не объективно эпическое описание мифологии
божества, а субъективность личного чувства поэта и ученого, самого
Прокла, одинокого героя среди чуждой ему религии и обычаев, который
уповает на помощь древних богов, тоже, однако, чуждых новому
христианскому миру.
Итак, Прокл в своих гимнах рисует художественную структуру
универсума как вечного, нестареющего, равновесного, воплотившего
в себе красоту, сопричастную уму, осуществляющего в себе надежду
человека на приобщение к источнику жизни. Перед нами как будто
бы явная реставрация классического платоновского мифа о Вселенной,
построенной мудрым Демиургом на числе, гармонии и порядке. Но и
в философской теории Прокла (если судить по его комментариям к
«Тимею»), и в его поэзии ощущается незнакомое классике удивитель-
ное стремление конца античности к охвату целостности всей косми-
ческой жизни, сердцем которой является Солнце, и вместе с тем к
необычайно личностному ее пониманию.
Таким образом, эстетический аспект комментариев к «Тимею»,
произведения молодого Прокла, получает подтверждение и развитие
в его гимнографии, сочетая энтузиазм философско-отвлеченной мысли
и субъективно переживаемую поэзию.
Анализ главных космологических образов в комментариях к «Ти-
мею» и в гимнах Прокла, использование им важнейших эстетических
категорий (красота, прекрасное, гармония, мера, порядок, число),
употребление лексики игры и сцены, развитой символики (свет, огонь,
влага, путь, странничество и т. д.), аллегорезы, всей системы, демон-
стрирующей разную степень предметной выразительности, подтверж-
дают стремление Прокла к органическому введению художественных
элементов в философское размышление, отнюдь не заостряя противо-
поставление двух сторон его творчества — научного и поэтического.1
У неоплатоников вообще, и у Прокла в частности, наблюдается,
как известно, пристальный интерес к реставрации древней мифологии,
что в свою очередь требовало обращения к особой сфере художест-
1 Ср. анализ философских гимнов в кн.: Meunier М. Aristote, Cleanthe,
Proclus. Hymnes philosophiques. Paris, 1935.
Гимнография Прокла и ее художественная специфика
663
венной образности. Отсюда развитые поэтико-мифологические конст-
рукции Плотина, поэтико-символическая экзегеза Гомера у Порфирия,
гимнография Прокла и художественная заостренность его интерпре-
тации классических праобразов Платона.
Комментарии Прокла и его гимнография — еще одно свидетельство
поисков утраченной философско-художественной целостности, свойст-
венной Платону, того единства научной мысли и поэтического слова,
которое было характерно для основателя жанра философского диалога.
Примечательно, что именно эта целостность, навсегда утраченная
античной философской прозой, проявит себя в определенной мере,
правда, уже на новых социально-исторических и идеологических ос-
нованиях, в таких поздних памятниках своеобразной философской
гимнографии, какими являются, например, Ареопагитики.1
Э. Гофман полагает, что по силе гармонического единения философских и
жизненных принципов Прокл стоит рядом с Филоном, Плотином и автором
Ареопагитик, хотя представления Прокла об иерархийности бытия связаны не с
Церковью, как у псевдо-Дионисия, но только с космосом (Op. cit., S. 145).
К 60-летию М. Л. ГАСПАРОВА
Рядом поставив друзей, Гомера, Платона и Прокла,
Мною любимых, тебе сей перевод приношу.
А. Тахо-Годи
ПРОКЛ
Что Платон везде имел обыкновение
почитать Гомера
как вождя всякой истины
Комментарий на «Государство» Платона (кн. II, гл. I)
В «Законах» Платон называет Гомера божественным поэтом, по-
лагая, что к разным людям приложимы разные прозвания, а к
Гомеру — «божественный». «По-видимому, — говорит он, — Гомер —
божественный поэт». Беседуя об изменении государственного устрой-
ства и научая, как от отцовского надзора людские поселения дошли
до этого вида (III 676 а—681 е>, он везде предлагает свидетельство
Гомера и, наконец, распространил на все поэтическое искусство
величайшую вдохновенную похвалу: «Поэты — это божественное и
вдохновенно поющее племя; нередко под воздействием Харит и Муз
они касаются и истинных происшествий» (III 682 а, 3—5). В «Миносе»,
излагая суждение Гомера об этом герое, он прибавляет: «А в „Одис-
сее**, в „Жертвоприношении теням** [XI 569], Гомер изображает
Миноса, творящего суд, с золотым скипетром в руках» (319 d, 1—3),
и еще, что золотой скипетр означает воспитание, посредством которого
Минос правил Критом (320 d, 5—7). И не только в этом диалоге он
пользуется Гомером, как достоверным источником повествования о
Миносе, но и в «Законах» пишет: «Неужели ты утверждаешь согласно
Гомеру, что Минос каждые девять лет отправлялся для бесед к
своему отцу [ср. Од., XIX 179] и, сообразно его откровениям,
устанавливал законы для наших государств» (I 624 а, 7—103). И во-
Прокл. Комментарий, на «Государство» Платона
663
обще везде он пытается научить истине о героях, как она представлена
у Гомера. В «Горгии» после сильного и продолжительного спора по
поводу рассудительности (a«xppocnjvr|) и всех прочих добродетелей,
который Платон вел против Калликла, он, намереваясь изложить
миф, который, по его словам, и не миф, а истинное повествование
(Хбуоф, а также упомянуть судей в Аиде, исхождение от одного
отца трех демиургических монад богов и распределение мира, начи-
нает с указания Гомера свое сказание о богах (Oeopv&ia): «Гомер
сообщает, что Зевс, Посейдон и Плутон поделили власть» (523 а,
10 сл.). Немного спустя, сажая Миноса судьей душ в Аиде, он
добавляет учение об этом у Гомера как вдохновенное (526 с). Я до-
пускаю, что Платон у него заимствовал тему наказаний в Аиде, но
мы оставим это на другой раз. В «Апологии Сократа» относительно
посмертной судьбы Гомера и о встрече с ним Платон высказывается
так: «А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем,
Мусеем, Гесиодом, Гомером. Что меня касается, то я желаю умирать
много раз, если все это правда» (41 а, 6—8). Какая в самом деле
есть возможность не признавать мудрым того, кто был поистине
сведущ в божественных делах, к кому обращает взор сам Платон и
кого считает достойным зависти из-за его судьбы в Аиде? Ибо
возвращение (Tpqkauasmnaj) в одинаковое с Гомером состояние он
воспринимает как истинное блаженство, и это свидетельствует о том,
что Гомер обладал всей полнотой знания и всей полнотой добродетели.
И снова в «Пире» (припомним написанное там) Платон открыто
восхищается всему способу повествования Гомера и считает его же-
ланным для людей разумных: «[Да и каждый, пожалуй, предпочтет
иметь таких детей, а не обычных], если подумает о Гомере, Гесиоде
и других прекрасных поэтах, чье потомство достойно зависти, ибо
оно приносит им бессмертную славу и сохраняет память о них»
(209 d, 1—4). Платон достаточно далек от того, чтобы рассматривать
поэмы Гомера и других, которые соучаствуют с ним в боговдохно-
венном безумии (они, конечно, называются хорошими поэтами), как
стоящих на третьем месте от истины и дающих ложное представление
о познании бытия, поскольку он полагает, что они достойны подра-
жания, достопамятны и являются плодами неслучайной мысли.
В «Ионе» он восхваляет этого поэта и среди прочего советует лучше
всего вступить с ним в близкие отношения и вкусить его разумного
и опытного наставления: «Вместе с тем вам необходимо заниматься
многими отличными поэтами, и прежде всего — Гомером, самым
лучшим и божественнейшим из поэтов, и постигать его замысел, а
не только заучивать стихи» (530 b, 8—11).
Из этих и всех подобных мест мы можем сделать один вывод, что
Платон признал Гомера согласным с собою, вождем и учителем не
только трагиков (пусть он будет их вождем в той мере, в какой он —
подражатель), но философских догм, и притом величайших. Если в
666
А. А. Тахо-Годи
рассуждениях о богах, о тройном разделении демиургов, о мучениях
в Аиде, о сущности души Платон возводит к Гомеру происхождение
своего учения, называет его самым божественным из всех поэтов,
желанным для людей разумных, и признает, что после разлуки с
жизнью ставит выше всего пребывание вместе с ним, то разве не
ясно, что он одобряет всю жизнь Гомера, любит его поэзию и усвоил
его суждение о сущем? Поэтому, на основании написанного в «Госу-
дарстве», мы не дерзнем говорить, что Платон является обвинителем
писаний Гомера, доказывать, подобно софистам, что сочинение Гомера
плодит идолов, и вообще не предположим никакого разногласия между
этими двумя мужами. Гомер, воспламеняющийся вдохновением и при-
веденный в исступление музами, наставляет нас относительно боже-
ственных и человеческих дел. Платон связал это неопровержимыми
методами знания и установил яснее своими доказательствами для
многих из нас — нуждающихся в этой помощи для понимания сущего.
Перевод фрагмента из Прокла (Procli in Plat. R. P. Comm., I 155,
25—159, 6) сделан по изданию Procli Diadochi in Platonis Rem Publicam
Commentarii ed. G. Kroll, v. I. Lips., 1899. Цитаты из Платона сверены
по изд. Platonis opera, гес. I. Burnet, t. I—V. Oxonii, 1952—1954.
Русский перевод этих цитат приводится по изд.: Платон. Собрание
сочинений в четырех томах. Общая ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса,
А. А. Тахо-Годи. М., 1990—1994.
ГИМНОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭНКОМИАСТИЧЕСКИЕ
ТЕНДЕНЦИИ В АРЕОПАГИТСКОМ ТРАКТАТЕ
«О БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕНАХ»
Одним из интереснейших произведений на рубеже двух великих
эпох, античности и средневековья, является трактат «De divinis
nominibus» (вторая половина V—VI в. н. э.). Он относится к корпусу
так называемых ареопагитских сочинений. Литература, касающаяся
спорного вопроса об авторстве этого трактата, чрезвычайно обширна,
так что автор до сих пор фигурирует под вполне условным именем
псевдо-Дионисия Ареопагита. Оставляя в стороне проблемы атрибуции
и специально-философские, привлекающие многих исследователей
этих загадочных сочинений, мы хотим обратить внимание на их
стилистическую и языковую специфику, которая теснейшим образом
связана с некоторыми характерными для всей античности традициями
при описании совершенного предмета, будь то древнее божество или
платоновский демиургический устроитель космоса.
Как хорошо известно, позднеантичная литература всегда отлича-
лась реставраторскими тенденциями. Иные из них были вполне от-
кровенны и стали нормой, свидетельствующей об избирательном зна-
нии классики, определенных вкусах и пристрастиях. Другие, не столь
явные, скрывались в символических экзегезах и аллегориях. Трактат
неоплатоника Порфирия (III в. н. э.) «О пещере нимф» — прекрасное
свидетельство неистребимой до последних веков античности жажды
единения с прошлым.1 Эстетические тенденции неоплатоника Прокла
(V в. н. э.) в его комментарии к платоновскому «Тимею» 1 2 выражают
и по-своему обогащают интуиции, типичные для зрелой классики.
Сочинение, которому посвящена данная работа, формально не
относится ни к жанру энкомия, ни к жанру гимна. Это ученый
1Тахо-Годи А. А. Художественно-символический смысл трактата Порфи-
рия «О пещере нимф». См. настоящее издание, с. 557—576.
2Тахо-Годи А. А. Эстетические тенденции в «Комментариях» Прокла к
платоновскому «Тимею». См. настоящее издание, с. 613—634.
668
А. А. Тахо-Годи
трактат, поставивший во всей остроте и сложности весьма сущест-
венную и для античности и для последующих эпох проблему имени
и предмета наименования. Однако номинация любого предмета, вплоть
до самого возвышенного, всегда связана в античной традиции с
выявлением его онтологической сущности обязательно через множе-
ственность имен.
Античность с самых давних времен применяла этот принцип для
описания идеального предмета, божества или героя, мифологического
и исторического, закрепив этот принцип в специально выработанных
жанровых формах «похвалы», таких, как гимн и энкомий. Особенно
примечательны в этом ряду Орфические гимны (III в. до н. э.) и
гимны Прокла, представляющие собой собрание обращений к божест-
вам, так называемых эпиклез, лексическое множество которых харак-
теризует все семантическое богатство имени как наивысшего обобще-
ния. Но уже у Платона в «Тимее» мы находим попытку описать
абсолют через целый ряд наименований, для которых существенны
типичные соматические и демиургические тенденции. Хотя Платон
именует свой абсолют божеством и первообразом (29 а), но для него
он все-таки преимущественно устроитель, или составитель (synistas,
29 е, 30 с, 32 с), складывающий (synthesis, 33 d), связующий (syndesas,
43 е), прилаживающий (36 е, 41b). Он — чеканщик (32 е), строитель
(36 е), творец (poietes, 28 с, 38 с, 40 а), мастер-демиург (demioyrgos)
(28 а, 29 а, 40 с, 41 а—с, 42 е, 47 е, 68 е, 69 с). Более того, божество,
созидающее космос, есть не что иное, как отец (28 с, 37 с, 42 е),
благой (29 а, е, 30 а), разумный и рассуждающий (38 с), вечносущий
(34 а), родитель Вселенной (41 а).
Ареопагитский трактат, как мы увидим ниже, весь представляет
собой восхваление и прославление идеального абсолюта, высшего Блага.
Перед нами сочинение с явно энкомиастическими чертами, написанное
в гимническом духе и основанное на систематически проводимом
принципе номинации предмета воспевания. И здесь — твердая убеж-
денность в исконном для античного сознания единстве предмета на-
именования и его имени, указывающем на онтологическое, а не фор-
мальное понимание обозначаемого и обозначающего.
Вполне в духе платоновской традиции исследуется в данном со-
чинении вопрос о сущности высшего Блага и делается попытка дать
его полное описание, оперируя именами во всем их лексическом
многообразии и всей их терминологической точности.
Автор трактата исходит из вполне естественного и обоснованного
для античной традиции тезиса о том, что «бессмысленно» (alogon) и
«невежественно» (scaion) принимать во внимание внешние обороты
слова, так сказать, словесную оболочку (lexis), а не его «значение»
(dynamis). Характерным образом восприятие пустых, или, буквальное,
голых звуков (echoys psiloys) без внимания к тому, что означает
(semainei) данное выражение (lexis) синонимично здесь невежествен-
Гимнографическое и энкомиастические тенденции...
669
ности, а точнее, грубому и неумелому обращению (708 be Migne).1
Такой подход не дает возможности «прояснить» (diasaphenai) смысл
слова также и при помощи близких ему по значению оборотов
(homodynamon... lexeon). Заметим, что согласно античной традиции
звук и буква (stoicheion) употребляются автором трактата в полном
их тождестве. Процесс чисто внешнего восприятия слова заставляет
людей как бы «испытывать насилие (prospaschein) от бессмысленных
начертаний» (grammais anoetois), т. е. знаков, а также «слогов и
выражений, не дающих знания» (syllabais cai lexesin agnostois).
Внимание к одной лишь звуковой оболочке слова и к разным
видам его «начертаний» (graphai) ограничивают познание имени уров-
нем чувственного восприятия (dia tas aistheseis), в то время как для
проникновения в смысл слова обязательно участие так называемой
«разумной» (поегоп) части души (708 с). Смысл, или сущность, пред-
мета наименования, таким образом, раскрывается со всей полнотой
в единстве чувственного и разумного его постижения. Для полноты
познания необходимо также всесторонне описать предмет, и чем этот
последний сложнее, тем в большем количестве имен он нуждается.
Ни одно имя, однако, не может охватить «значимую силу» (dynamis)
предмета, которая проявляет себя в каждом из множества имен. Если
иметь в виду полное описание того предмета, который именуется
высшим Благом, то следует учесть, что разные наименования (Бог,
жизнь, свет, логос и т. д.), каждое по-своему выражают эти значимые
силы (dynameis). Отдельные имена суть не что иное, как «выступ-
ления» (proodoys) сущности, или ее истечения (589 d). Здесь автор
трактата оперирует чистейшим неоплатоническим термином «выступ-
ление», который по установившейся традиции обычно передают ла-
тинским словом «эманация».1 2 Сущность высшего Блага эманирует в
его именах. Однако она выражает всю полноту единораздельности
ипостасей этого Блага (649 Ь). И хотя ни одно имя как будто не
может выразить сразу и целиком значимую силу (dynamis) высшего
Блага, но эта сила внутренне присутствует в именах-эманациях во
всей своей полноте. Она не убывает и не дробится в бесконечном
множестве имен, не ослабевает и не истощается.3 Она есть отпечаток
(ecmageion, ectypoma) или печать (sphragis) самой субстанции (643 а).
Образ отпечатка в этом пассаже несомненно навеян платоновским
«Тимеем», где материя как материнское начало сама по себе лишенная
и чуждая какой-либо формы, лучше всего предназначена для воспри-
1 Тексты приводятся по изданию: Patrologiae cursus completus. Series graeca,
accurante J.-P. Migne, t. Ill S. Dionysius Areopagita, P., 1857.
2 О взаимосвязях ареопагитик с неоплатоническими идеями см.: М u 1 -
ler^H. F. Dionysios, Proclos, Plotinus. Munchen, 1918.
Об отличии неоплатонической и ареопагитской эманаций см. в книге:
Бычков В. В. Византийская эстетика. М., 1977, с. 38.
670
А. А. Тахо-Годи
ятия «отпечатков» (aphomoiomata) всех вечно сущих вещей и потому
именуется «восприемницей» (hypodoche, Tim., 51 а). По своей природе
(physei) материя принимает любые «оттиски» (ecmageion), находясь
в вечном движении и каждый раз будучи разной (50 с). Поэтому
вещи, рожденные материей, есть только «подражания» (mimemata)
вечносущему, «отпечатки» (typothenta) по его образцам, снятые «уди-
вительным и неизъяснимым способом» (50 ed). Материя лучше всего
приготовлена к восприятию «отпечатка» (ectypomatos), каким бы пе-
стрейшим разнообразием (poicilia) он не отличался (50 d). Вот почему
материю можно назвать тем, что приемлет отпечаток, что испытывает
на себе воздействие отпечатка (ectypoymenon 50 d). Она, эта материя,
по Платону, сродни «мягким» (malacon) поверхностям и обладает
необычайной «гладкостью» (leiotata), отличаясь полной бескачествен-
ностью наподобие той жидкости, в которой растворяются благовония
(50 е). Заметим, что все слова, указывающие у Платона на отпечаток,
оттиск, связаны или с глаголом «бить», «выбивать» — typto, ectypto
(отпечаток — нечто выбитое на гладкой, мягкой поверхности) или с
глаголом «месить», «вымесить» (masso, ecmasso, например «месить
тесто»). «Оттиск» можно всегда понимать как нечто получившее хорошо
вылепленную во время вымешивания форму.
Печать (sphragis) в прямом (Hipp. Min., 368 с) и переносном смысле
(Theaet., 192 а — печать чего-то, нечто отпечатанное в душе) допол-
няет тот круг платоновской лексики, которая наиболее близка автору
анализируемого нами трактата, в то время как излюбленные здесь
«выступления» (proodoys) у Платона ни разу не встречаются, составляя
привилегию неоплатонического словоупотребления.
Образ печати и отпечатков совершенно необходим для ареопагитик,
так как он лучше всего обозначает целостное, а не частичное прояв-
ление высшего Блага в его именах. Сущность Блага есть первообразная
печать, или, как ее называет автор, «архетипная печать», которой
сопричастны ее многочисленные оттиски (ectypomata... metechei tes
archetypoy sphragidos). В каждом отпечатке, в свою очередь, этот
архетип присутствует во всей полноте, нигде не выступая частично
(643 а). А если, говорит автор, «печать выражается не во всех от-
печатках (tois ecmageiois), то это не по причине самой печати, но
зависит от материи, участвующей в процессе» (644 Ь). Как и у Платона,
эта материя должна иметь поверхность гладкую (leia) и мягкую
(hapala, cf).
Если у Платона материя не усваивает никакой формы, но прини-
мает любые оттенки, находится в непрестанном движении и неуловима,
то в нашем трактате она наделяется еще целым рядом качеств. Ока-
зывается, что материя «гибкая» (буквально «хорошо воспринимающая
удары») (eytypota), гладкость ее не нарушается никакими царапинами
или трещинами (acharacta). Она не упруга (mete antitypa), не тверда
(sclera), но и не расплывчата (mete eydiachyta). Только такая материя
Гимнографическое и энкомиастические тенденции.. 671
готова выразить в полной адекватности печать — архетип в чистых,
ясных и прочных оттисках (644 Ь).
Платоновские отпечатки, снятые, по его словам, с вечносущего
образца «удивительным и неизъяснимым способом» (Tim., 50 с), здесь
находят вполне логичное, естественное объяснение, введенное, однако,
с помощью все той же характерной для Платона системы внешне
чувственных и вещественных образцов.
Идея полного соответствия изначальной сущности вещи и ее от-
печатка в именах, сколько бы их ни было, еще раз подтверждает
целостность скрытой в предмете наименования силы и несводимость
ее на менее значительные в своей дробности эманации. Множествен-
ность наименований, данная здесь в виде неоплатонических «выступ-
лений», сохраняет в отличие от неоплатонической традиции изначаль-
ную целостность (holotes) и единую в своей нераздельности силу,
отнюдь не убывающую и не умаляющуюся в бесчисленных именах
(652 d). Отсюда — единичное, отдельное, частное, реализованное во
множественности имен, необходимых для описания идеального пред-
мета или высшего Блага, создает целое или все (hole, 637 с).
Сохраняя в эманациях-именах свою значимую силу, это высшее
имя сущего (he de toy ontos) превосходит там не менее все сущест-
вующее, являясь предельным обобщением этого существующего.
Точно такой же процесс происходит и с другими субстанциальными
именами. Имя жизни (he de tes dzoes) выражается во всем живом,
но превосходит его своим обобщением. Все мыслящее (ta поега),
словесное (ta logical и все чувствующее (ta aisthetica) обобщается в
премудрости — Софии (816 Ь) и т. д. и т. д. Предельное обобщение,
или высшее Благо, в нашем трактате есть не что иное, как неопла-
тоническое Единое. А оно, как это и должно быть, не поддается ни
чувственному ощущению (aisthesis), ни воображению (phantasia), ни
осязанию (epaphe). Единое не поддается не только субъективному
мнению, или размышлению (doxa), но и рассуждению (dianoia), про-
цессу мышления (noesis) и вообще познанию (episteme). Иерархийно
это Единое выше «ума» (noys) и, конечно, выше «бытия» (oysia).
Поэтому все, что связано со сферой чистого Ума и словесного выра-
жения мысли или со сферой чувственных ощущений, обычно связанных
в неоплатонической традиции с ипостасью Души, — не может выразить
Единое как абсолют (53 а—с).
Именно поэтому высшее Благо, или Единое (hen) как наивысшее
обобщение никогда не может быть до конца понято, выражено, по-
именовано, названо. По сути дела, это высшее Благо остается невы-
сказанным или требует для своей дефиниции бесконечных номинаций.
И здесь мы наталкиваемся на характерные антиномии, которые дол-
жны быть преодолены диалектикой в чисто платоновском духе.1 Выс-
1 О системе антиномий как «сложной целостной знаковой системе» в ареопа-
гитских сочинениях см.: Бычков В.В. Византийская эстетика, с. 39—43.
672
А. А. Тахо-Годи
шему Благу свойственно «наименование» (onoma), но оно «сверхиме-
нуемо» (hyperonymon, 593 ab), ибо оно не только слово (logos), не
только значимая сила (dynamis), не только разум (noys), не только
жизнь (dzoe), не только бытие (oysia, 593 с).
С одной стороны, высшее Благо имеет имя (onoma), а с другой
стороны — оно «не именуется» (oyte onomadzetai) и «не сказуется
(oyte legetai, 872 а).
Имя высшего Блага — «носитель всякого имени» (ес pantos
onomatos), т. е. оно многоименуемо (596 а), но оно же одновременно
и «безымянно» (anonymon), хотя ему и подобает именоваться всем
тем, что существует (596 с). Таким образом, перед нами некое «сверх-
именуемое Благо» (hyperonymon agathotheta, 597 ab), которое, будучи
даже и не «именем (onoma), и не «словом» (logos), находясь в полной
«недоступности» (en abatois, 981 а), «превыше всякого имени, слова
и познания» (hyperonoma cai panta logon, cai gnosin, 981 b).
Однако столь удивительное противоречие в наименовании высшего
Блага и его познании, результатом которого может оказаться полное
молчание, полное примирение с тайной, ведущее, в конце концов, к
отказу и от наименования, и от познания этого Блага, разрешается
в данном трактате в чисто античном духе, проявившемся со всей
полнотой также и в неоплатонической теории и практике.1
Автор трактата, чтобы выразить неизреченность высшего абсолюта,
оставив рассуждения об интеллектуально-логическом его познании,
обращается не к чему иному, как к символам и их воплощению в
поэтическом слове. Чувственный, вполне материально-телесный сим-
вол может, например, выразить психические способности человека
(913а). Но такой же символ используется для выражения совсем
иного, высшего, несоизмеримого с человеком уровня, а именно боже-
ственного (592 с). Правда, «бесплотные» (asomatois) имена идеального
абсолюта несводимы на чувственно воспринимаемые символы (dia
symbolon aistheton, 913 b). Однако и они в таинственных (mystica)
образах «ваяют» или «вылепливают» (597 Ь) наше представление о
высшей сверхименуемой силе. Правда, иной раз символика, знаковость,
чистая образность настолько слиты воедино, что автор даже не упот-
ребляет самого слова «символ», ограничиваясь указанием на обозна-
чение (semaino) сущности идеального предмета в чувственном образе.
И тогда оказывается, что «сверхименуемое благо» вполне может быть
прославлено в «образах» (morphas, 597 ab), поскольку всякая специ-
альная и ученая терминология здесь бессильна. Символическая образ-
10 «парадоксе словесной „бессловесности “» и на редкость многоречивого
«молчания» см.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы-
М„ 1977, с. 139.
Гимнографическое и энкомиастические тенденции... 673
' кость вызывает интуиции, сразу и целостно охватывающие идеальный
’ Предмет в его разных ипостасях — эманациях.
Так, мы находим здесь символический образ луча, не подлежащего
йи познанию, ни изречению, ни созерцанию в своей сверхпознавае-
мости и сверхсущественности (592 d—593 а). Высшее Благо в трактате
большей частью связано со световыми интуициями, как это характерно
для него с платоновских времен. Оно — солнце, изливающее сияние
лучей на все мироздание в преизбытке светового потока (697 d).
Благое — «разумный свет» (phos noeton), изгоняющий всякое нера-
зумие и заблуждение и проясняющее мрак неведения (700 cd). Сверх-
объединяющая причинность в виде сияния проливает свой свет на
всякое бытие, питает, согревает, взращивает и обновляет его (824 de).1
Знаменитый гомеровский образ цепи, свисающей с неба (II. VIII
18—27), появляется на страницах ареопагитик опять-таки в сочетании
с многосветлыми, находящимися в выси лучами, к которым стремится
как к высшему Благу человек (680 с). Это же Благо притягивает нас
к себе, как скала притягивает закрепленный на ней корабль, хотя
людям и кажется, что они сами притягивают к себе скалу (680 cd).
Прекрасное озаряет своими лучами и призывает к себе (701 с).
Образ печати и ее оттисков относится к этому же чувственно-сим-
волическому ряду (см. выше).
Рассуждения о благе и зле, тоске по благу и созиданию, по образу
блага (ср. рассуждения Платона в «Тимее» о благом демиурге, непод-
властном зависти и устрояющем Вселенную по своему прекрасному
образцу, 29 е—30 а), приводят к символам лица и личины, характерные
одно — для блага, другое — для зла (732 b). Лицо здесь и есть по-
длинная ипостась (hypostasin), а личина — нечто внешне напомина-
ющее ипостась, но на самом деле ложное, находящееся рядом, при-
кидывающееся лицом (parypostasin).
Рассуждения о добре и зле приводят к символам льва и пса,
утерявших свое естественное предназначение и лишенных присущей
им от природы силы. Зло всегда есть лишение и недостаток необходимой
для данного предназначения благой сущности (728 Ь).
Божественная сущность символически представлена старцем и юно-
шей, вечностью и временем (937 Ь).
Автор трактата символически сравнивает своего противника в тео-
логических спорах с неопытным атлетом, недооценивающим силу сво-
его противника и сражающегося с тенями (sciamachoyntes, 893 с; ср.
Plat. Apol. sciamachein 18 d). Сам же автор, пускаясь в тщетный спор
с недостойным отвергателем истины, видит себя безумцем, раз-
рушающим песочные домики, построенные детьми (paidon ... oicodo-
1 Эстетика света и солнца в их символической заостренности у Платона
Рассмотрена А. Ф. Лосевым: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая
Классика. М„ 1974, с. 240—248.
674
А. А. Тахо-Годи
memata ... epi psammoy) или направляющим стрелу (catastochadzes-
thoi) в недостигаемую цель (893 b).
Символика трактата простирается на этимологические разыскания
ареопагитского автора, пытающегося углубить свои интерпретации и
сделать свое понимание контекста более аргументированным в глазах
читателя.
Так, солнечная символика высшего Блага подтверждается рассуж-
дением (700 Ь) о солнце (helios) как соединении и собранности того,
что было разрозненно (helios — aolles — «собранный вместе» от eilo —
«собираю» и а — copulativum).
Прекрасное называется «красотой» (callos), поскольку одаряет все
своими лучами и «зовет» (caloyn) к себе, собирает все к себе (701 с).
Большое место отведено толкованию двух наименований «любви» —
эроса и агапэ. В этом пассаже совершенно в платоновском духе при-
водятся рассуждения об экстатичности божественного эроса (712 а), о
том, что толпе (toi plethei) недоступна подлинная его целостность, из
которой обычно выделяют частное, чисто телесное понимание, только
по виду схожее с истинным. Толпа видит только «призрак» (eidolon)
подлинного эроса, «отпадение» (ecptosis) от него (709 с). Хотя теологи
и употребляют равнозначно эрос и любовь (agape), но автор трактата
видит в этом старом языческом эросе ту силу, которая способствовала
его высокому пониманию уже у Платона, а теперь переосмысляется
в духе христианского, экстатического благоговейного отдания человека
высшей силе, «одержимости» (catochei) его эросом, «сопричастности»
этой экстатической силе (tes ecstatices aytoy dynameos meteilephos),
причем взаимоотношение человека и божества (712 а) толкуется тоже
в чисто платоновской традиции (ср. «Пир», 205 d—212 а), как связь
любящего (erastes) и возлюбленного (eromenos).
Символически-поэтическое толкование имени свидетельствует о
трудностях его выражения в точных терминах и невольно приводит
к попытке эстетического познания самого предмета номинации при
явной недостаточности гносеологических подходов.
Целостное представление о предмете наименования и его много-
численных именах выражается в данном трактате необычным лекси-
ческим богатством, свидетельствуя о той или иной стороне деятельности
высшего Блага, принципах его бытия, его качественных дефинициях,
составляющих в конечном итоге нерасторжимую единораздельность.
Так, премудрость (sophia) высшего Блага есть начало, причина,
основание, совершенство, сохранение и предел «мудрости-в-себе» и
всякой мудрости (868 с). Поэтому Благо «воспевается» (hymneitai) как
мудрость (sophia), ум (noys), разум (logos), познание (gnosis). Высшая
жизнь (dzoe) тоже должна «воспеваться» (hymnetea) как разнообраз-
ная, созерцаемая всякой тварью, не теряющая недостатка, преизоби-
лующая (hyperpleres), живущая по себе (aytodzoios), превосходящая
всякую жизнь, животворная (dzoopoios), сверхжизненная (hyperdzoos),
Гимнографическое и энкомиастические тенденции .. 675
^выразимая (aphthegcton). Она воспевается (anymnesoi) самыми раз-
личными именами (857 Ь), чтобы в ник найти свое хотя бы самое
приближенное выражение.
Идеальному предмету свойственно мышление, разум, знание, ося-
зание, чувствование, мнение, воображение, именование. С другой же
стороны, он не постигается, не именуется, не сказуется. Он всеми
познается из всего и никем из чего-либо (см. выше). Он прославляется
и воспевается (hymneitai) по аналогии с тем, причиной чего является
(872 а), так как всех имен не хватит для его познания.
Божественный абсолют «воспевается» (hymneitai) в качестве вы-
сшей справедливости (dicaiosyne), воздающей всем существам меру
(eymetrian), красоту (callos), благоупорядоченность (eytaxian), устро-
ение (diacosmesin), всякое распределение (pasas dianomos) и распо-
ложение (taxeis, 893 d).
Абсолют тождествен сам себе в своей сверхсущности (tayton
hyperoysios), пребывая вечным (aidion) непревратным (atrepton) в самом
себе, безукоризненно в совершеннейших по своей красоте границах
(callistois perasi), неизменно (ametableton), нешатко (ametaptoton), не-
уклонно (arrepes), неизменяемо (analloioton), несмешанно (amiges), не-
вещественно (aylon), особенно просто (haploystaton), непринужденно
(aprosdeos), неприращенно (anayxes), неумаленно (ameioton), нерож-
денно (ageneton, 912 b).
Сила божества — тоже предмет «воспевания», так как оно нисходит
на весь мир, на всю природу, людей и животных, укрепляя дружбу,
сохраняя порядок (taxeis) и благоустроение (eythymosynas, 892 d),
сохраняет неизменность природы, расположение небесных светил, рас-
пределяет пути вращения времен (toy chronoy perielixeis), возможность
вечного существования (ton aiona dynasthai einai), делает силу огня
неугасимой, течение воды неиссякаемым; укрепляет землю, соблюдает
взаимную гармонию стихий (ton stoicheion harmonian, 892 d), скреп-
ляет связи души и тела, утверждает несокрушимое пребывание Все-
ленной (adialyton шопёп asphalidzetai) и вообще наполняет все своей
вседержительной крепостью (ten pancratoricen asphaleian, 893 а).
Автор трактата особенно подчеркивает силу соединения и объеди-
нения, заключенную в абсолюте, который обращает раздельное во
всеобщее единство совершенно в духе платоновского демиурга в «Ти-
мее» (см. выше). Эта сила смыкает все разрозненное наподобие замков
(cleithrois), все определяет, завершает, упрочивает и не дает рассы-
паться в бесконечность, неопределенность и беспорядок (949 а).
Автор трактата намерен «воспеть» (hymnesai) многоименное
(polyonymon) божественное существо (936 d), как вседержащее
(pantocratoricen), соединяющее, всеобъемлющее, укрепляющее, осно-
вывающее, несокрушимое, владычествующее, господствующее, всемо-
гущее (936 d—937 а).
676
А. А. Тахо-Годи
Высшее бытие наделено безукоризненной чистотой (catharotes), и
царство его (basileia) выражается в распределении предела (horoy)
устройства (cosmoy), закона (thesmoy) и порядка (taxeos). Оно обладает
всеми «красотами» (ton calon) и благами (agathon), будучи «всесозер-
цающим промышлением» (panta theomene pronoia) и наполняя все
«всесовершенным благом» (agathoteti pantelei, 969 be).
Даже если ограничиться только этими примерами, то вырисовы-
вается импозантная картина идеального существа, намного превосхо-
дящего платоновское высшее Благо по своим тончайшим дефинициям
множественности имен и бесконечности скрытых в них оттенков. Но
несмотря на позднеантичную усложненность, этот прославляемый аб-
солют сохраняет все свои классические потенции, связанные с муд-
ростью — Софией и ее проявлениями, с совершенной жизнью в самой
себе (вспомним платоновское ayto to dzoion и aytodzoion Прокла) и
с устроением жизни во Вселенной, реализуемой в чисто эстетических
категориях красоты, блага, порядка, предела, меры, простоты, чистоты
и неизменности, вечности и круговращения времен, той постоянной
гармонии всех частей космического тела, которая так всегда восхищала
классическую античность.
Все это бесконечное многообразие потенций и качеств единого
целого то и дело перечисляется с энтузиазмом и восхищением.
Автор трактата готов бесконечно воспевать все множество имен —
эманаций (817 а). Недаром текст так и пестрит всеми формами глагола
hymneo, который можно перевести как «воспевание в гимне», «про-
славление в гимне» (593 с, 597 ab, 652 d, 700 с, 857 Ь, 865 Ь, 868 с,
872 а, 889 с, 893 d, 896 d, 936 d, 948 d, 969 c).
Страсть к «воспеванию» достигает такой стихийной силы, что автор
трактата как будто совсем отказывается от разумного постижения своего
абсолюта и ссылается на «способ прославления» (tropos ... hymnesai) как
на вид «божественного безумия» (morian theoy), потому что только оно
может выразить истину, превосходящую всякий разум (865 с).1 Указан-
ное здесь божественное безумие, или, может быть, неразумие, или даже
глупость (rnoria) возвращает нас опять к исходной классической точке, к
Платону с его знаменитым божественным вдохновением, или манией,
которая тождественна безумному состоянию экстаза у поэтов и мудрецов
(Plat. Ion., 534 а).
Так, попытки описать идеальный предмет через бесконечные его
номинации в конце концов приводят к его безотчетному воспеванию
в гимне. Но это отнюдь не мешает дальнейшим поискам все новых
и новых имен, потому что предмет изучения бесконечен и создает
все новые и новые возможности для самого изощренного словотвор-
1О созерцании и экстазе см.: Volker W. Kontemplation und Ekstase bei
Pseudo-Dionysius Areopagit. Wiesbaden, 1958.
Гимнографическое и энкомиастические тенденции... 677
^ства, риторических ухищрений, нанизывания гимнических обраще-
>ний — эпиклез, скопления синонимических рядов, определений через
(утверждение и отрицание (катафатика и апофатика), углубления сим-
волики и диалектической игры понятиями.
Целостное понимание предмета наименования переносится автором
Трактата на весь мир, в котором, как в едином организме, все служит
целям конечной гармонии. Оказывается, что в упорядоченности уни-
версума свое место находит даже зло (сасоп). А так как природа
(physis) пронизана своими законами, «природными логосами» (physicoi
logoi), то «ничто не должно быть ей противно» (728 с). В природе
могут быть частные несоответствия, но «естественная же порча» не
характерна для природы, которая вообще не может быть дурной. Что
же тогда все-таки зло? Только «невозможность совершенствования
естественных свойств» природы (там же).
Если зло неестественно для природы вообще, то тем более оно не
может заключаться в природе тел (en somasi), хотя они могут быть
больными и уродливыми. Однако проявление этого зла — следствие
«лишения порядка» (steresis taxeos), утеря самого эйдоса (elleipsis
eidoys), сущности тела. И опять-таки трудно назвать злом лишение
порядка. Всякое нарушение установленного в теле соответствия частей
есть не что иное, как умаление, уменьшение прекрасного (hetton
calon). Утрата красоты (callos), эйдоса и порядка может привести к
гибели тела, поскольку здесь произойдет нарушение естественных
благих свойств природы, ведущее ко злу (728 d).
Целостность высшего Блага, проявленная в его эманациях — именах,
а значит, и в космосе, устраняет распространенное мнение, что зло при-
суще материи (hyle). Здесь автор трактата, уточняя своим утверждением
неоплатоническое отношение к материи, как бы возвращается к еще
досократовскому позитивному гилозоизму. «Материя, — читаем мы, —
„участвует в порядке" (cosmoy), красоте (calloys) и благовидности
(eidois)». Если же материя находится вне этих сущностей, значит, она
бескачественна и «безвидна»1 (aneideos), лишена эйдоса, а значит, она и
не существует, не в состоянии вообще себя проявить и, следовательно, не
может быть ни хорошей (agathon), ни дурной (сасоп). Если же материя
обладает своим эйдосом, т. е. существует, то она неизбежно происходит
из Блага, откуда все и хорошее и дурное. Следовательно, и материя не
может быть злом, так как она необходима для полноты космоса
(symplerosin toy pantos cosmoy, 729 а)?
1 О безобразности, бесформенности, а значит, бескачественности и «нетелес-
В°сти» (asOmatos) материи, ср. Р е г р е е t W. Antike Asthetik. Miichen, 1961. S. 75.
Cp. Procl. In Tim. 115-е, где говорится о зле как отсутствии меры в
Неупорядоченной материи (asymmetria). Э. Брейе полагает на этом основании,
410 Прокл не видит зла в самой материи (В г ё h i е г Е. Histoire de la philosophie,
’•i. P. 1961, p. 487.
678
А. А. Тахо-Годи
Собственно говоря, то, что мы называем злом, есть не что иное
как «ослабление и недостаток блага» (astheneia cai elleipsis toy agathoy
732 b). Зло «рождается не ради самого себя, а ради блага» <732 с)
т. е. само по себе «как таковое, не существует» (733 а), «как такового
его нигде нет» (733 с).
Универсум, покоясь на целостно понятом Благе, обладает в связи
с этим устойчивостью и нерушимостью свойств (913 Ь). Единая и
нерушимая связность всего мира благодаря этой изначальной гармонии
частей целого, наполняется «всесовершенным согласием и единомыс-
лием» (symphoniai pantelei cai homonoiai, 979 d). Так, универсум ока-
зывается прекрасным отпечатком высшего Блага во всей его много-
именности и вместе с тем во всем его глубочайшем единстве. Автор
трактата опять-таки возвращается к характерному взгляду Платона
на материю как на кормилицу и восприемницу эйдосов, стихии которой
могут быть приведены космической демиургией, по словам Платона,
«к наивысшей возможной для них красоте и к наивысшему совершен-
ству» (Tim., 53 b). Неоплатоники, и в том числе Прокл, современник
анализируемого нами сочинения, абсолютизируют безббразность ма-
терии, не находя в ней и следов высшего образца, считая ее если и
не самим злом, то принципом зла для ума и души.1
Принципы, из которых исходит автор трактата, дают возможность
сделать выводы, необходимые для изучения и описания не только
высшего Блага, но и любого предмета наименования. Требование
полноты номинации невольно приводит к поискам в сфере лексики,
синонимики, антонимов, эпитетов, интерпретаций, дополнительных
значений и уточнений, т. е. к тому, чем в изобилии пользуется сам
автор трактата.
Здесь ставится чрезвычайно актуальный вопрос об углубленном
понимании контекста, что в свою очередь связано с этимологическими
поисками (например, «солнце», «красота»), позволяющим переосмыс-
лить, например, старое слово в новом духе (например, предпочитается
«эрос», а не «агапэ»).
Невозможность исчерпывающе выразить предмет наименования в
точных терминах приводит к обогащению поэтического языка, и, в
частности, его символики, а также тропов, к попытке эстетического
познания предмета при явной недостаточности его научного описания.
Эта эстетизация предмета сказывается и в самом стиле изложения
данного трактата, в котором с особой выразительностью используется
лексика «похвалы», «воспевания», «прославления», столь характерная
для энкомиев. Способ исследования единого целого с помощью мно-
1 Р., 1956, р.544. Ср. Buffiere F. Les mythes L’Homere et la penseegrecque-
P., 1956, p. 544; Koch H. Proklos als Quelle des Preudo-Dionysius Areopagite in de5
Lehre vom Bosen. — Philologus. Bd. 54.1895.
Гимнографическое и энкомиастические тенденции...
679
^ественности имен, на наш взгляд, все еще продолжает традицию
орфических гимнов и гимнография вообще, правда, в новом обще-
ственном, интеллектуальном и духовном контексте.1
Подводя итог, можно сказать, что ряд мыслей об имени и предмете
наименования в этом ареопагитском трактате, оформленных научно-
догически, вне их символико-мифологической сущности, вполне имеют
основание быть полезными также для современного изучения стиля
н языка вообще.
Это позднеантичное произведение основано на твердом убеждении
В объективном существовании предмета наименования, или того, что
теперь принято называть денотатом.
Здесь утверждается тезис о бесконечно разнообразной интерпре-
тации предмета в языке, или, мы бы сказали, тезис о его чисто
жизненном функционировании в качестве уже так называемого де-
сигната.
Автор трактата характерным образом реализует принцип полного
описания предмета наименования через множество имен, обращаясь
тем самым к классической традиции античной гимнографии.
И наконец, нельзя не отметить, что этот своеобразный энкомий
высшему Благу сохраняет в полной мере характерные для всей ан-
тичности эстетические тенденции, проявившиеся в его риторическом
стиле отнюдь не формально.
С. С. Аверинцев со своей стороны находит в других ареопагитских сочине-
«точный аналог» манере Нонна, эпика V в. н. э. (Аверинцев С. С.
Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 138 сл.).
РОБЕРТ ГРЕЙВС — МИФОЛОГ-ПОЭТ
Книга Р. Грейвса «Мифы древней Греции» хорошо известна в
англоязычном мире как одна из попыток дать целостную картину
греческой мифологии в той форме, которая удовлетворит и ученого,
и так называемый широкий круг читателей. Собственно говоря, этой
цели бывают посвящены обычно наши научно-популярные серии.
Однако книга Р. Грейвса задумана и написана отнюдь не столь
популярно, и нашему читателю следует еще достаточно потрудиться,
чтобы войти в нее полностью и оценить. Более того, читателя ожидает
встреча с совершенно особым миром, созданным не только усилиями
исследователя, но и талантом одного из крупнейших английских
поэтов XX в.
Роберт Грейвс родился 24 июля 1895 г. в Англии, вблизи Лондона,
в городе небольшом, но известном, а именно в Уимблдоне. Он был
поздним ребенком. Его отец Альфред Грейвс почти в пятидесятилетием
возрасте женился вторым браком на сорокалетней немке Амалии фон
Ранке. В роду отца-ирландца (однако по материнской линии он шот-
ландец) были высокие духовные лица. Семья матери гордилась зна-
менитым историком Леопольдом фон Ранке (1795—1886) (Грейвс —
его правнук) — другом Бисмарка, автором собрания сочинений в 54-х
томах, где обосновываются идеи европоцентризма с выделением ве-
дущих народов и сильной нации, осуществляющей в своей истории
божественные замыслы. Отец, обладая поэтическим талантом, всей
душой отдавался литературной работе, но по долгу службы был инс-
пектором школ в одном из лондонских округов. Родители внимательно
воспитывали сына, которого окружала дружеская семейная обстановка,
причем эта дружба распространялась и на немецких родственников.
Туда, в Германию, в детстве приезжал гостить мальчик, которого
особенно привлекала красота замка его тетушки-баронессы в горах
Баварии.
Совсем юным, в 19-летнем возрасте, Р. Грейвс вступил доброволь-
цем в Королевский полк Уэльских стрелков и прошел все ужасы
первой мировой войны. На фронте во Франции молодой офицер был
Роберт Грейвс — мифолог-поэт
681
fнастолько тяжело ранен осколком разорвавшегося снаряда, что его
^матери послали известие и соболезнование в связи с его кончиной.
Это произошло, когда Грейвсу исполнился 21 год, и явилось хорошим
предзнаменованием долгой жизни. Однако ночные кошмары, вызван-
ные войной и ранением, мучили Грейвса в течение целых десяти лет.
Дальнейшая жизнь будущего поэта после полной демобилизации
в 1919 г. была посвящена литературным трудам и протекала удиви-
тельно плодотворно. В 1916 г. он опубликовал свои первые стихи и
с тех пор издавал десятки разнообразных книг (поэм, критических
эссе, исторических романов, повестей, сборников мифов, научных
изысканий), не раз получая международные и национальные премии.
В 1924 г. он получил бронзовую медаль на Олимпийских играх в
Париже, в 1935 — одну из самых известных в Британии премию
им. Н. Готорна (Hawthorne Prize) за исторический роман «Я, Клав-
дий» (1934) и в том же году — премию Эдинбургского университета
за романы «Я, Клавдий» и «Божественный Клавдий» как за лучшие
романы года. Он получал литературные премии во Франции, в Аме-
рике, Британии (1939, 1958, 1960, 1962, 1968) и, наконец, в Мексике
на Олимпийских играх 1968 г. Академическая жизнь его шла не менее
успешно. Если в 1926 г. он получил свою первую научную степень
бакалавра литературы в Сент-Джон-колледж в Оксфорде и в том же
году впервые начал лекции в Каирском университете, то в 1954 г.
он — известный писатель и поэт, лектор Тринити-колледж в Кемб-
ридже, с 1961 по 1965 г. — профессор поэзии в Оксфорде, выступа-
ющий одновременно с лекциями в США (Массачусетский техно-
логический институт) и в Англии (Кембридж). В 1970 г. Американская
академия искусств и наук удостоила его звания своего почетного
члена.
Семейная жизнь Р. Грейвса начиналась заново трижды. Первый
брак (1918—1929) с художницей и общественной деятельницей (фе-
министкой) Нэнси Николсон, от которой у него было четверо детей;
•торой (1929—1939) —с писательницей Лаурой Райдинг (Riding), за-
вершившийся уходом Лауры к их общему другу поэту Джексону; и
Наконец, в 1939 г. — третий — с Берил Ходж, покинувшей своего
Мужа — поэта Алана Ходжа. С 1929 г. Грейвс поселился вдали от
Англии, на о. Майорка (его современников Т. С. Элиота, Э. Паунда,
Д. Джойса, Д. Лоуренса жизнь в Англии тоже не вдохновляла), по-
кинуть который его заставили сначала война в Испании, а затем
•ТОрая мировая война. Но уже в 1945 г. он вместе с Берил и тремя
Детьми окончательно возвратился на Майорку (там появится потом и
Четвертый ребенок — сын).
Там, в Дее, на любимом острове, в уединении (изредка прерывая
О*®» чтобы прибыть на переговоры с издателями или для получения
Очередной премии), Р. Грейвс погружается в изучение древнейших
Уфологических пластов — не только кельтских, но и критских, до-
682
А. А. Тахо-Годи
ахейских и даже библейских. К более чем пятидесяти сборникам
стихов, изданных за всю жизнь Р. Грейвса, можно прибавить, начиная
с 40-х гг., новые книги историке-мифологического характера, расцве-
ченные фантазией поэта, в числе которых «Золотое руно» (1944)
«Белая богиня» (1948), принципиально важные для всей мифопоэти-
ческой концепции Грейвса «Мифы древней Греции» (т. I—II, 1955)
«Дочь Гомера» (1955), а также переводы Апулея (1950), Светония
(1957), отрывки из Лукана (1956) и Гомера («Илиада», 1959).
Весь этот многообразный литературный и научный труд Р. Грейвса
является как бы живым доказательством целостного единства талантов
унаследованных от кельтско-германских предков — вдохновенно по-
этического и столь же вдохновенно научного. Такой поэт, живи он в
эпоху эллинизма, а точнее, в тот блестящий период литературы и
искусства, что именуется александрийским (III—II вв. до н. э.), не-
сомненно, был бы причислен к так называемым ученым поэтам (не
забудем, что Грейвс писал стихи на французском, испанском и даже
латинском языках), у которых глубокая научная эрудиция заправских
мифологов, комментаторов, издателей текстов, филологов, каталоги-
заторов и систематизаторов исторических фактов и преданий органи-
чески сочеталась с риторической выучкой, отточенным мастерством и
поэтическим озарением.
Р. Грейвс всегда сознавал себя по преимуществу поэтом и говорил,
что прозу пишет для заработка, а подлинное его призвание — «зов к
служению» — стихи. И поэт он был большой, занимающий почетное
место в ряду выдающихся своих современников, таких, как Р. Киплинг,
У. Б. Йейтс, Т. С. Элиот, У. X. Оден, Дилан Томас. Однако с начала
40-х гг. (об этом упоминалось выше) некоторые мотивы его поэзии
настойчиво зазвучали в трудах совсем иного рода. Иначе говоря,
исторический мир Грейвса обрел фундамент, основанный на научно-
мифологических разысканиях. Поэзия и миф в творчестве Грейвса
оказывались теснейшим образом связанными, взаимно обогащая, до-
полняя, объясняя, поддерживая и оправдывая друг друга.
Сам Грейвс уже в позднее время писал в предисловии к своему
поэтическому сборнику: «Ведущая тема моей поэзии — невозможность
для мужчины и женщины сберечь в реальной жизни абсолютную
любовь, невозможность, перешагнуть через которую способна лишь
вера в чудо» (Collected Poems., London: Cassell, 1965, p. 11). В его
лирике смыслом жизни является возвышенная любовь, лишенная плот-
ских вожделений. Любовь — вечное стремление мужчины к любимо»
и вечное служение той, которая персонифицируется в Музу, Царицу,
Праматерь, жестокую и милостивую, требующую от поэта (а он »
есть тот, кто любит) аскетически-возвышенного служения и принесения
себя в жертву. Говорят, правда, что импульсом для этого верного
служения богине Музе явились реальные отношения Грейвса и Лауры
Райдинг и что основа его теории Белой богини обрела устойчивую
Роберт Грейвс — мифолог-поэт
6S3
форму уже к 1939 г. именно под влиянием взаимоотношений с этой
незаурядной женщиной.
Страшный опыт войны, пережитый молодым Грейвсом, трансфор-
мировался в его поэзии в систему символов стихии, ужаса, хаоса,
смерти, слепой судьбы, мучений, пытки, огня. Недаром первый сборник
его стихов 1916 г. так и назывался — «Over the Brazier» («Сквозь
пекло»).1 Его автор действительно прошел через испытание огнем,
через пылающий жар средневековых ордалий, суд которых только
один непререкаем.
Грейвс, как и герой его лирики, — служитель космического жен-
ского начала, богини Музы, которая издревле вдохновляет поэтов.
И как ни парадоксально, но светлый разум Аполлона (а его, возглав-
ляющего хоровод муз — Мусагета, всегда призывали поэты) оказыва-
ется, по Грейвсу, для поэзии бесплодной пустыней. Зато, по мнению
Грейвса, логический, разумный язык греческой классической филосо-
фии и вообще всей греческой классики выработан и расцвел под
покровительством именно Аполлона.
Поэзия — вдохновение, и она рождается по ту сторону разума,
хотя в дальнейшем, конечно, не удается избежать здравого голоса
критических оценок, данных самим же поэтом. Грейвс, несмотря на
его умаление рационалистического начала, несомненно, был философ-
ствующим поэтом, да к тому же распрощавшимся с формально испо-
ведуемым христианством еще в 16-летнем возрасте, сохранившим,
однако, особую привязанность к личности Христа. А что касается
собственной практики, то он делал иной раз до десятка набросков,
прежде чем стихи принимали окончательную форму. Но здесь уже
участвовал, по мнению Грейвса, опыт всей жизни, интеллектуальный
и эмоциональный, опыт чувства языка, знания исконных значений
слов, их переносных значений, их синонимики (Грейвс ежедневно по
4—5 раз заглядывал, изучая то или иное слово, в Оксфордский словарь
английского языка). Никакой внешней техники поэт не признавал —
только смысл и мастерство. Он оставался самим собой всегда, хотя за
время его долгой жизни сменилась не одна поэтическая школа.
Именно здесь, вопреки отрицанию Грейвсом аполлонийского начала
в поэзии, сказывается его пафос ученого.
Этот пафос и привел Грейвса к созданию книги «Белая богиня»
(1948). Эта книга, которую он остроумно назвал «исторической грам-
матикой поэтической мифологии», оказалась своеобразным исследова-
нием и размышлением о судьбах древних религий и мифологий, о
Целях и глубинных основах поэзии. Поводом к разработке концепции
Белой богини послужил анализ двух уэльских средневековых поэм, в
Которых Грейвс пытался подобрать ключ к тайнам магического языка
1 Букв, the brasier — «жаровня», «раскаленные угли».
684
А А. Тахо-Годи
преданий Средиземноморья и Северной Европы, связанного с архаи-
ческими ритуалами служителей луны-богини, или, что то же, Свя-
щенной царицы, Музы, космической Праматери. Занимаясь разгадкой
этого магического языка, Грейвс с энтузиазмом начал применять для
понимания кельтской, критской и доахейской, праэллинской мифоло-
гий эзотерический, известный друидам, так называемый древесный
алфавит, в котором 5 гласных и 13 согласных соответствовали на-
именованиям деревьев и кустарников, ассоциировавшихся с мифоло-
гическими именами. Этот алфавит после введения христианства якобы
служил для своеобразной тайнописи. Именно с его помощью излагалась
священная языческая история о рождении, жизни, смерти и воскре-
сении Бога молодого нарастающего Года, а также о его борьбе с Богом
старого, убывающего Года за любовь всемогущей Тройственной богини.
Причем этот соперник одновременно являлся кровным братом и, соб-
ственно говоря, ипостасью, или другим воплощением «я», Бога нара-
стающего Года.
Все эти построения, несомненно, явились одним из вариантов
распространения у древних народов мифологии вегетативного умира-
ющего и воскресающего божества (ср., например, мифы об Осирисе,
Адонисе, Аттисе). Концепция Грейвса объединяла творческое и жер-
твенное начала, создавая миф о поэте, любимом богиней Музой, но
отвергаемом ею и умирающем ритуальной жертвенной смертью.
Сведения об этом алфавите Грейвс обнаружил в книге ирландского
поэта XVII в. Р. О’Флайтерти. Хотя крупнейшие знатоки кельтских
мифов предупреждали его об опасности некритического увлечения
этой идеей, Грейвс придал своему открытию универсальный характер
и стал применять древний алфавит к кельтской, древнегреческой,
скандинавской, библейской и мусульманской мифологиям, расшифро-
вывая с его помощью многочисленные имена богов и героев. Ни на
какие критические ограничения и уступки Грейвс не шел, хотя к его
труду по любимой им «мифографической стенографии» ученый мир
отнесся скептически, не считая его плодом корректной науки. Однако
Грейвс, фанатично сконцентрировав свои интересы именно на луне,
Белой богине (она, собственно говоря, не белая, а бледная), и судьбе
Бога нарождающегося Года, создал настоящий мифологический архе-
тип, продемонстрировав тем самым близость к теории К. Юнга об
архетипах (всячески отрицая при этом свою близость к юнгианству)-
Отныне Белая богиня стала для Грейвса лейтмотивом всей его мифо-
логической концепции, затмевая все остальные побочные линии, вби-
рая в себя всю систему кельтских, италийских, греческих, ассиро-ва-
вилонских, шумерских, древнееврейских мифов и становясь поистине
грандиозным, универсальным, господствующим мономифом.
Самое лучшее представление о том, что принцип универсализма
был свойствен великим богам и богиням античности, можно получить,
прочитав уже не ученого английского поэта XX в., а «Метаморфозы»
Роберт Грейвс — мифолог-поэт
685
(«Золотой осел») Апулея, где великая богиня Изида произносит тор-
жественную речь, полную гимнических восхвалений собственной бо-
жественной силы, воплотившейся в многочисленные ипостаси этой
милостивой Матери богов, госпожи моря, земли и неба, звезды утренней
и вечерней, спасительницы и единственного прибежища обиженных,
i но и справедливого судии провинившихся.
। Нет ничего удивительного, что Грейвс, знаток древних религий и
мифологий, возводит в некую высшую триединую космическую цело-
1 стность Белую богиню (символизируя рождение любви и смерти) в
ее многочисленных ипостасях, у истоков которой стоит Мать-Ночь.
, Белая богиня — изменчивая обликом луна. Она бледна при рождении,
с красноватым оттенком при полноте любви и темная на ущербе,
знаменуя умирание. Она — Пасифая на Крите, Даная в Аргосе, Селена
| в Фивах. Она — Левкотея (букв, белая богиня) морская, богиня Де-
[ метра — мать земных плодов, шумерская Ма, Персефона — подземная
। дева. Она — тройственная богиня судьбы и Фемида — правосудие.
, Она — Евринома — мать всего, рожденная из Хаоса, богиня-мать Рея-
i Кибела и богиня-супруга Гера. Она — Афродита-любовь, во всех своих
' воплощениях прославляемая Изидой, Астартой, Иштар, Инанной. Она
же — дева-охотница Артемида. Она — луна-Селена, Геката, повели-
тельница мертвых.
Судя по книге Дж. Викери «Роберт Грейвс и Белая богиня»
(Vickery J. Robert Graves and the White Goddess, 1972), у Грейвса
возможны разные и достаточно спорные истоки его великой богини.
Но вполне очевидно, что в своей концепции о примате женского,
материнского начала Грейвс опирался на ряд трудов, ссылки на которые
мы находим иной раз у него самого. Это классический труд И. Ба-
хофена «Материнское право» (Bachofen J. Das Mutterrecht, 1861),
; где собран богатейший материал матриархальных пережитков в древней
Греции. Это ряд работ Р. Бриффо, историка культуры, автора многих
работ, связанных с историей матриархальных отношений, роли жен-
щины-матери (1927, 1931), взаимоотношением полов (1931, 1940).
Одним из источников Грейвса явилось также знаменитое исследование
действенной роли магии и религии древних и первобытных народов
У Дж. Д. Фрэзера в «Золотой ветви» (Frazer J. J. The Golden Bough,
3d ed. 1907—1915; русск. пер. M., 1980). Дж. Фрэзер придавал большое
значение магическим ритуалам, связанным с календарными мифами
вегетативных культов умирающего и возрождающегося бога, в которых
особое место занимал обряд периодического умерщвления царя-жреца,
Покровителя благосостояния общины и плодородия земли. В этом об-
ряде важная роль принадлежала его заместителю, который приносился
в качестве очистительной жертвы, так называемого фармака, или, по
терминологии Грейвса, «таниста». Важной для Грейвса оказалась работа
Джейн Харрисон, особенно ее «Введение в изучение греческой религии»
(Harrison J. Е. Prolegomena to the Study of greek Religion, 1903;
686
А. А. Тахо-Годи
1922), «Фемида» (Themis, 1912), «Древнее искусство и ритуал» (Ancient
Art and Ritual, 1913), где главная роль в мифе отводится ритуалу
(например, масок), причем слово на уровне мифа в несколько реду-
цированном виде является коррелятом обрядового действа. Капиталь-
ный трехтомный труд А. Б. Кука «Зевс» (Cook А. В. Zeus, 1914—
1940), хорошо известный Грейвсу, также давал ему богатый археоло-
гический материал для размышлений (особенно о том, что касается
критской мифологии, Великой матери и владычицы зверей). Ему были
знакомы и исследования философа и филолога Ф. М. Корнфорда о
происхождении аттической комедии (Cornford F. М. The Origin of
Attic Comedy, 1914), т. e. о ее ритуальных корнях, а также о проис-
хождении и зависимости философии от ритуальных традиций (From
Raligion to Philosophy, 1913). Все это вместе приводит к мысли, что
идеи английских ученых, представителей так называемой Кембридж-
ской школы, оказали в плане разработки культовых обрядов несом-
ненную поддержку Грейвсу. Матриархальная концепция Р. Грейвса
нашла свое подтверждение в трудах таких крупных ученых (и отнюдь
не поэтов), как Э. Нойман («Великая мать»: Neumann Е. The Great
Mother, 1955) и Е. Джеймс («Культ богини матери»: James Е. О.
The Cult of the Mother Goddess, 1959). Важна близость универсали-
стских структур Грейвса с книгами Дж. Кэмпбелла «Герой с тысячью
лиц» (Campbell J. The Hero with a Thousand Faces, 1948, 2nd ed.
1968), «Маски бога» (The Masks of God, vol. I—IV, 1959—1970).
Следует сказать, что Э. Нойман и Дж. Кэмпбелл испытали на себе
воздействие юнгианских идей, с которыми Грейвс не считал себя
связанным. Вместе с тем Дж. Кэмпбелл сам возводит мифологических
героев к всеохватывающему мономифу, а мифологии древних народов
Востока и Европы (древнегреческая, кельтская, германская) констру-
ировались у него по архетипам, символически понятым и психоана-
литически истолкованным.
И хотя Грейвс не связывал себя ни с юнгианством, ни с венской
психологической школой или с фрейдистским психоанализом, без про-
блем иррационального в мифе он не мог обойтись. Подлинный пиетет
он испытывал перед историком античной философии и филологом-
классиком Е. Р. Доддсом, автором известной книги «Греки и иррацио-
нальное» (Dodds Е. R. The Greeks and the Irrational, 1951).
He будем останавливаться здесь на книгах «Золотое руно» (1944)
и «Дочь Гомера» (1955), в которой Грейвс поддержал давнюю, еще
прошлого века, идею Сэмюэля Батлера о женщине — авторе «Одиссеи»,
каковой оказалась Навсикая, героиня «Одиссеи», дочь феакийских
царей. Перейдем к предлагаемой читателю книге «Мифы древней
Греции», которая вышла первым изданием в США в 1955 г. в двух
томах, затем не раз переиздавалась в Англии и переводилась на
различные языки. В популярных англо-американских мифологических
изданиях эта книга обязательно находит свое упоминание и рекомен-
Роберт Грейвс — мифолог-поэт
687
дации для чтения. Читателей привлекает сам облик автора — поэта
и мифолога, наделенного богатством вымысла, знатока фольклора,
археологии и этнографии (в англо-американской традиции эти послед-
ние науки часто объединяются под одним названием — антропология).
«Мифы древней Греции» на английском языке — двухтомное издание,
состоящее из 171 главы (обозначение сквозное) и предваряющееся
важным для понимания этого труда Введением. Структура глав имеет
свои особенности — каждая глава подразделяется на пункты, обозна-
ченные латинскими буквами. Здесь обычно излагается целостная кар-
тина реконструкции того или иного мифа (конечно, в той целостности,
как ее представляет Р. Грейвс). Изложение снабжено последующими
примечаниями — ссылками на античные источники, подтверждающие
тот или иной мифологический факт. Вслед за этим идет комментарий
Р. Грейвса к собственному изложению, тоже разделенный на пункты,
обозначенные арабскими цифрами. Именно здесь общая картина раз-
бивается на отдельные варианты, мотивы в зависимости от ссылок на
современных исследователей и самые разнородные античные тексты.
При подготовке настоящего издания мы произвели группировку
мифов по следующему тематическому принципу: мифы о рождении
мира (Р. Грейвс именует это «рождением мифа»), о поколениях че-
ловечества, судьбе, семье олимпийских богов, их окружении, их вза-
имоотношениях с миром чудовищ, так называемым тератоморфным.
Здесь же — переход к героям, среди которых Персей, Беллерофонт,
Дедал и история Тесея. Затем — мифы об Эдипе, семерых вождях
(гл. 105—107), родах Тантала и Атрея (гл. 108—117), жизнь и подвиги
Геракла с историей его потомков (гл. 118—146), поход аргонавтов
(гл. 148—157), Троянская война (гл. 158—168), возвращение героев
на родины — и в их числе Одиссея (гл. 169—171).
Автор дает разные типы космогонических мифов (например, рож-
дение мира по Гомеру, орфикам, Гесиоду, первым философам), обо-
значая их как пеласгические, олимпийские, философские. В своих
комментариях он обильно пользуется материалами сравнительной ми-
фологии (древнееврейской, египетской, вавилонской, хеттской, среди-
земноморской, догреческой — той, которая здесь опять-таки названа
у него пеласгической). В комментариях автора представлены архео-
логические, астрономо-астрологические, этнографические факты, что
вообще характерно для английских исследователей, а также христи-
анские параллели. Ссылки даны в основном на главнейших писателей
и мифографов античности, таких, как Гомер, Гесиод, Аполлодор,
Аполлоний Родосский, Платон, Плутарх, Павсаний, Антонин Либерал,
Квинт Смирнский, Филострат, орфики, гимническая поэзия, Вергилий,
Цицерон, Гигин. Цитируются трагики, историки, древние коммента-
торы (схоласты), в том числе Сервий, Прокл («Хрестоматия»), Стефан
Византийский, знаменитый византийский ученый и поэт Иоанн Цец.
Правда, вся поздняя, неоплатоническая, философия античности от-
688
А. А. Тахо-Годи
сутствует, хотя в ней сохраняются редчайшие свидетельства именно
об архаических мифах. При анализе мифов в полной мере проявляется
эрудиция автора, его стремление подкрепить каждый тезис соответ-
ствующей ссылкой на источники. Изложение позитивной картины
мифа, достаточно последовательное и ясное, лишено каких-либо от-
клонений, но зато представлено во всем многообразии взаимоотноше-
ний основной темы и ее периферийных мотивов. В связи с этим книга
Р. Грейвса производит впечатление не только внешней объемности,
но и внутренней, содержательной полноты.
Сразу бросается в глаза увлеченность автора книги идеей женского
божества в средиземноморской мифологии, что и следовало ожидать
от автора «Белой богини», а также тем историко-культурным пластом,
который он именует пеласгическим. Р. Грейвс в системе книги посто-
янно нарушает историко-социальное движение мифа, хотя сам посту-
лирует периоды матриархата (матрилинейного родства) и патриархата
(патрилинейной традиции). Поэтому мир олимпийских богов во главе
с Зевсом, на наш взгляд, неоправданно предшествует чудовищным
порождениям моря и земли, в которых начинают появляться антро-
поморфные черты (тератоморфизм и миксантропизм). Древнейшая
ипостась Диониса (Загрей) получает неожиданно позднюю фиксацию.
Эпонимы (основатели городов), оракулы, второстепенные боги и де-
монические существа разного типа — вредные и благодетельные (Эм-
пуса, Ламия, дактили, тельхины), герои, победители (Персей, Белле-
рофонт) архаических порождений матриарахта следуют за Иксионом,
Сисифом и Салмонеем, образами поздней мифологии, с ее вырожда-
ющимся героизмом. История Атридов — рода, проклятого богами за
свои преступления, — относящаяся к мифам о гибели героических
династий, изложена раньше подвигов Геракла, которые относятся к
расцвету мифологической героики середины II тысячелетия до н. э.
Автор правильно стремится вычленить древнейшее ритуальное зерно
мифа, но, с другой стороны, преувеличивает единую основу религи-
озного культа и мифомышления. Р. Грейвс — весь в поисках «истин-
ного мира». Вот почему ему особенно важен период материнской
общины с культом единого женского божества, и его критика юнги-
анских мифологем (например, у К. Кереньи) совершенно правомерна.
Он опирается на археологические открытия, на факты античной ис-
тории и литературы, на сравнительное изучение религии, мифологии,
этнографии, с иронией относясь к психоаналитическим тонкостям
сферы подсознательного.
В «Мифах древней Греции» последовательно проводится, как ска-
зано, концепция, выработанная в «Белой богине». Мы находим здесь
тот же мономиф о женском архаическом божестве, да еще с ярко
выраженной сексуальной окраской. Множество фактов сводится к ар-
хетипам Луны-богини, к триадическому пониманию ее сущности и
судьбе царя-жреца в связи с календарной мифологией нарастающего
Роберт Грейвс — мифолог-поэт
689
и убывающего Года и воскресающего божества. Образом этой кален-
дарной мифологии оказывается, по Грейвсу, чудовищная Химера, убий-
ство которой символизирует отказ эллинов от одного календаря (сын
Медузы Пегас с копытами, по форме напоминающими луну, был
конем, на котором герой Беллерофонт поднялся в небо, чтобы убить
Химеру) и замену его другим календарем.
Здесь несомненно и влияние старой, но очень распространенной
во второй половине XIX в. и даже в начале XX в. солярно-метеоро-
логической теории мифа (А. Кун, В. Шварц, М. Мюллер, в России —
Ф. Буслаев, А. Н. Афанасьев). Древний человек, по этой теории,
возводил в миф небесные явления, связанные с движением солнца и
луны, так что боги превращались в солярные, лунарные и астральные
символы, в обобщение метеорологических явлений (гроза, молния,
дождь, радуга, заря, бури и ветры). В конечном счете в духе соляр-
но-метеорологической символики толковались сложные эпические сю-
жеты, даже такие, как, например, события Троянской войны или
поход аргонавтов, строились этимологические исследования, не при-
нимавшие в расчет строгие закономерности чередования элементов,
конструирующих слово. Надо сказать, что Грейвс особенно увлекается
интерпретацией имен, никак не оправданной законами языка и от-
носящейся, собственно говоря, к ряду так называемых народных эти-
мологий (например: Персей — Птерсей, «разрушитель», или Дафна —
исконно Дафойне = «кровавая», и т. д.).
Так, гигант Алкионей — не что иное, как дух ветра сирокко,
ковчег — лунный серп, плавающий в небесах, Атлант — титан 2-го
дня недели, отделивший небесную твердь от земных вод. История
Кеикса и Гальционы — символ рождения нового царя-жреца во время
зимнего солнцестояния, после того как мать царя, Луна-богиня, пе-
реправит труп прежнего царя для погребения на остров. История Зевса
и Европы — похищение Солнцем-быком жрицы Луны, кувыркание на
спине быка во время игр в Кноссе — олицетворение движения планет.
Образы Гелиоса, Плеяд, Ориона, Гипериона — солярные и астральные
символы. Убийство Лая — это ритуальная смерть солнечного царя-
жреца, как и история Эномая или Агамемнона. История Эгисфа,
убившего Агамемнона, не что иное, как символ нарастающего нового
года. Мифы о Геракле имеют солярный характер, а Елена, Даная,
Гипсипила и Гипподамия — ипостаси Луны-богини.
Для автора характерны внеисторические и вневременные аналоги
(например, архангел Михаил и Прометей), отсутствие внутренней
историко-генетической связи в ряде мифов, таких, как миф о Загрее
(сыне Зевса и Персефоны, растерзанном титанами) и Дионисе, его
поздней ипостаси (сыне Зевса и Семелы), или в сюжете о гибели
жреца Лаокоона, задушенного змеями. Грейвс как бы не замечает
связи между Афиной, имевшей явно зооморфное змеиное происхож-
дение, которую орфики именовали «пестрой змеей», и морскими чу-
30 Зак 3903
690
А. А. Тахо-Годи
довищами, погубившими троянского жреца. А ведь в изложении Вер-
гилия («Энеида», песнь II) змеи, задушившие Лаокоона и его сыновей
исчезают в храме Афины.
Само определение мифа у Грейвса страдает неясностью. Миф, по
Грейвсу, рождается из ритуала, мимического представления на народ-
ных празднествах. Это своеобразная словесная стенографическая запись
древнего действа, запечатленная на храмовых росписях, рисунках,
вазах, кубках, печатях и т. д. Собственно говоря, миф у Грейвса
рождается на основе рисунка, а не рисунок создается как иллюстрация
мифа. Заметим к тому же, что сам ритуал не может не корениться
в реальной жизни рода. Он также результат освоения древним греком
окружающего мира с позиций члена родового социума на разных
исторически обусловленных ступенях его развития (материнская об-
щина, патриархат, движение от грубого фетишизма и зооморфизма к
чисто анимистическим и, наконец, антропоморфным представлениям
о божественной силе) или в глубинах той дородовой стихийно-жиз-
ненной основы, где не было еще различия между «я» и «не-я», между
человеком и животным и где все вырастали из единой природной
материи, непрестанно рождавшей и непременно поглощавшей свои же
собственные создания. Именно эта историко-социальная обусловлен-
ность и ритуала и мифа остается вне поля зрения Грейвса, увлеченного
своей теорией, по которой изменения в институте родовых вождей —
или, как их называет Грейвс, царей — были обусловлены переходом
к новой календарной системе, а часто и просто зависели от нее.
Вместе с тем, видимо, автор ощущает сам какую-то неудовлетво-
ренность в своих построениях и выдвигает тезис о мифе как сознательно
зашифрованной древней истории царей и героев, т. е. прибегает к
методу так называемых эвгемеристов, широко распространенному в
самой античности. Примеров этому множество (заговор богов против
Зевса толкуется как восстание доэллинских племен; киклопы — древ-
ние элладские кузнецы; гиганты и алоады — древние племена Маке-
донии, собиравшиеся захватить крепости эллинов; бегство богов в
Египет от Тифона указывает на бегство с островов Эгейского моря
жрецов и жриц, испуганных вулканическими извержениями; в мифе
о кентаврах — отзвук нарушения договора между эллинами и дикими
племенами; ранение Геры, которое Геракл нанес ей стрелой с трех-
гранным наконечником, — это аллегория нашествия трех дорийских
племен на Пелопоннес; оскопление Урана Кроносом — борьба греков
с доэллинским населением, похищение Европы — набег эллинов-кри-
тян на финикиян).
Такое удивительное соединение противоположных подходов при-
водит к тому, что, с одной стороны, Грейвс постоянно выдвигает
универсальный, внеисторический мономиф, а с другой — претендует
на историческое объяснение тех мифов, которые не всегда соответст-
вуют его ритуальной модели. Отсюда происходит смешение мифа и
Роберт Грейвс — мифолог-поэт
691
легенды, мифа и аллегории, разных исторических ступеней мифа; ряд
сюжетов (по нашему мнению, достаточно поздних) он вообще отгра-
ничивает от мифа (Нарцисс и Эхо, Кефал и Прокрида, Тесей и его
роль в Аттике, роль Эрифилы в судьбе семерых вождей и так назы-
ваемых эпигонов, роман Геракла и Омфалы, приключения Одиссея в
стране феаков). На том основании, однако, что и в этих сюжетах
все-таки можно найти элементы настоящего мифа, Грейвс считает
возможным включить их в мифологический корпус. Завершается «соб-
ственно миф» (и это совершенно правильно) в период установления
патриархальной общины. За пределами этой границы начинается фор-
мирование исторических легенд.
Нечеткость дефиниций и двойственный подход к мифу приводят
Грейвса к тому, что он дает себе право вполне механически объяснять
несоответствия в традиционных мифах с его собственной концепцией
как неправильное понимание, неправильное прочтение или расшиф-
ровку нарисованных изображений или просто нарочитую путаницу у
античных мифографов, называемую, по терминологии Грейвса, «ико-
нотропией» (тем или иным «поворотом» в понимании изображения,
образа, рисунка): Прометей — результат неправильного прочтения
санскритского слова; в Египте путали Ориона и Сета; Химера была
заменена Сфинксом; неверно прочтены сюжеты о Геракле, Тесее,
Кирене, Мидасе, Эдипе, Пелее и Фетиде и т. д.
Такой несколько упрощенный подход способствует выдвижению
бездоказательных аргументов, если они необходимы для концепции
автора (титаны изгнаны на Британские острова, где обитают гипер-
борейцы; кадмейцы пришли из Малой Азии после распада империи
Хеттов и принесли рассказ об оскоплении Урана; Форкий — не что
иное, как божество смерти, Аид; страны, которые посетил в своем
путешествии Одиссей, — различные метафоры смерти; ветры Эола —
духи мертвых, а лестригоны — норвежцы). Множество сюжетов объ-
ясняется через связь с Ливией или как пеласгическое прошлое, при-
обретающее гипертрофированные черты. В свою очередь свободное
обращение с текстами приводит не только к ложным этимологиям (их
еще можно частично принять как использование автором народной
традиции), но и к прямым фактическим ошибкам (Протей — брат
Эдофеи, в то время как он ее отец; в издании 1958 г. исправлено;
Афродита Эпитимбрия вместо Эпитимбия; Аякс в одном случае сын
Гесионы, хотя в действительности он сын Перибеи, в другом же
месте — правильно), к путанице разных мифологических наименова-
ний (Тартара и Аида, титанов и гигантов), латинских и греческих
имен (Грации вместо Хариты, Фурии вместо Эринии) или приблизи-
тельному цитированию с устаревшей нумерацией (например, цитиро-
вание Прокла и Порфирия или византийских лексикографов), а иной
раз к отсутствию подтверждающих текстов (музы Гесиода — дети Зем-
ли и Воздуха). Богатая фантазия поэта зачастую увлекает Грейвса в
692
А. А. Тахо-Годи
сторону от корректных обращений с фактами. Эти последние прино-
сятся в жертву любимым идеям автора, и он становится безоговорочно
последовательным в своих приемах и аргументах. Как не вспомнить
в связи с этим мрачную иронию выдающегося современного мифолога
Дж. Кёрка, который назвал Р. Грейвса «блестящим, но полностью
введенным в заблуждение» своей теорией.
А Грейвс действительно блестящий поэт и прозаик, который, кстати
сказать, хорошо сознает гипотетичность своей работы, да к тому же
выполненной одним человеком, а не группой ученых, и спокойно
принимает их «дружескую критику». Его дар рассказчика дает себя
знать на каждой странице. Собственно говоря, мифы, представленные
читателю, — это не просто изложения, как обычно бывает в подобном
жанре, не так называемый пересказ, а хорошая английская новелли-
стическая проза, сопровождаемая, однако, ссылками на античные тек-
сты (и это придает ей основательную достоверность) и комментариями
самого автора. Не забудем также, что ссылки по ходу действия в
отдельных главах на родственные мифы как бы координируют с первого
взгляда разрозненные сюжеты, внутренне их объединяют незримыми
нитями; это, в конце концов, как бы исподволь, неожиданно приводит
к реконструкции мифа, более крупного по масштабам, чем составля-
ющие его сюжеты. Особую полноту книге придает, как говорилось
выше, использование также сравнительной мифологии. И все это бо-
гатство фактов, свидетельствующих о необъятной эрудиции автора,
рассыпано по всему его произведению.
Однако ученость не скрывает, а, наоборот, оттеняет и как бы
высвечивает из тысячелетних глубин изящество и — не побоимся этого
слова — прелести рассказа. Пусть читатель вспомнит о воздушном и
невесомом танце на волнах богини Евриномы при рождении мира.
Пусть он остановится на забавном, бурлескном повествовании о любви
Афродиты и Ареса с грубым вмешательством законного супруга Гефеста
или на кратковременном романе Афродиты и Анхиса, к которому она,
родив сына, потеряла всякий интерес. Юмором окрашены рассказы об
Артемиде-охотнице, сцены Геры с Афродитой и Фетидой, Паном,
Аполлоном и Коронидой. А как сетует Гелиос о прежних хороших
временах, когда день был днем и никто не требовал, как при зачатии
Геракла, превратить его в ночь! А то вдруг автор с улыбкой замечает,
что у культурных народов не принято воевать зимой или что тени
умерших и боги консервативны в вопросах питания, поедая асфодель.
Рассказ о проделках малыша Гермеса весь искрится задорным юмором.
Странствия же Одиссея настолько увлекательны, что их в изложении
Гомера, оказывается, выслушивали целых двадцать четыре вечера
подряд (заметим, что в поэме Гомера Одиссей рассказывает о первых
трех годах странствий всего один вечер, растянувшийся на четыре
песни, IX—XII).
Роберт Грейвс — мифолог-поэт
693
Особый эффект вечности мифа, его присутствия в настоящем со-
здает излюбленный Грейвсом прием представлять читателю прошлое
как только что случившееся. Достаточно Грейвсу вставить выражение
«до сих пор» — и действительно поверишь, что если бы отец Мелеагра
не забыл о жертвах Артемиде, то герой «до сих пор бы жил». Также
где-то «до сих пор» остались следы прошлого; где-то что-то «до сих
пор» показывают как чудо; или «до сих пор» Паллантиды не вступают
в брак с Агниями; «до сих пор» устраиваются атлетические игры; «до
сих пор» галлы почитают Алесию как мать «всех городов»; «до сих
пор» соблюдается требование Зевса. Достаточно бывает поставить на-
речие времени «теперь» (дубина Геракла пустила корни и «теперь»
выглядит как дерево; и «теперь» приносят жертву Аяксу Оилиду),
«ныне» («ныне эта часть Галатии»), «недавно» («недавно» император
Нерон измерил Лернейское болото), «сейчас» (даже «сейчас вестал-
ки...», «сейчас это место называется Академией»), «в наше время»
(«в наше время любой грек...»), «с недавних времен» (Александр
Македонский «с недавних времен...») или как бы между прочим
заметить «ходят слухи» («ходят слухи», что кто-то из тельхинов еще
живет в Сикионе) — и факт прошлого вторгается в нашу жизнь.
Мифологические новеллы Грейвса — и это совершенно очевидно —
несут на себе отпечаток каких-то тяжелых воспоминаний, состояний и
ощущений. Грейвс отрицательно относился к фрейдистскому психоана-
лизу, но невольно кажется, что в его книге нашел место опыт человека,
прошедшего войну, потерявшего после этого на многие годы сон, погру-
женного в кошмары проклятой памяти, которая все вбирает в себя.
В книге Грейвса, что бы он ни излагал, кипят страсти, с порази-
тельными подробностями живописуются ужасы, текут потоки крови,
герои убивают всех вокруг, но они же убивают и самих себя, страдают,
мучаются, кричат от боли, тайно и беспощадно мстят, испытывая от
этого законное удовлетворение (см. исполненную мрачного пафоса
гибель Геракла). При сплошном, а не выборочном чтении читателя
охватывает мрачный ужас, и как бы чувствуешь свою погруженность
в бездны архаики, в какое-то густое кровавое месиво. Тогда-то и
становится понятным, что миф — это не аллегория, не метафора, не
сказка и (да простит нас Грейвс!), не только сведение ритуального
действа на словесно-изобразительную зашифрованную запись, которую
к тому же можно неверно истолковать или объяснить примитивно-эв-
гемеристически. Нет, миф — это жуткая реальность тысячелетних
бездн, миф — это живая жизнь, одна из форм осмысления мира там,
где господствуют непреложные и жестокие законы дородовой стихии
и родо-племенной общности. Миф имел свою историю, переходя от
грубых форм и образов к прекрасным очеловеченным богам и героям.
Но и в середине II тысячелетия до н. э., в эпоху расцвета героической
мифологии, этот стихийный, тератоморфный мир не выпускал из своих
Цепких объятий судьбы олимпийских богов и великих царских дина-
694
А. А. Тахо-Годи.
стий. Герои не только уничтожали чудовищ, но и гибли сами от их
проклятий, колдовских наговоров, отравленных зелий, коварных об-
манов. Прошлое не умирало, а входило в настоящее, каждый раз
побуждая к новому противоборству.
Вечная борьба мрачных стихийных сил и надежда на возрождение
и победу светлого начала — эта неизменная, заложенная в самой
природе диалектика смерти и жизни, вражды и любви — пронизывают
книгу прекрасного поэта и своеобразного мифотворца Роберта Грейвса.
И книга эта доставит истинное удовольствие и удовлетворение
любознательному читателю, погруженному в современность, которая
также создает из, казалось бы, трезвой и позитивной реальности свои
собственные чудеса и мифы.
А. Ф. Лосев
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ И АНТИЧНОСТЬ
Многих волнуют проблемы философии культуры, и особенно в
связи с античностью. Многие задают вопрос, что же такое культура
вообще и что такое античная культура. Культура, как я понимаю,
есть предельная общность всех основных слоев исторического процесса
(экономических, социально-политических, идеологических, практиче-
ски-технических, ремесленных, научных, художественных, мораль-
ных, религиозных, философских, национально-народных, бытовых).
Это есть отношение общего и частного или общего и единичного. Но
мы понимаем отношение общего и единичного всегда только диалек-
тически. Общее не оторвано от единичного, но является законом его
возникновения; и единичное не оторвано от общего, но всегда является
тем или иным его проявлением и осуществлением. Общее и единичное
есть нечто неделимое целое или, говоря точнее, единораздельная цель-
ность, в которой то и другое являются только отдельными противо-
положностями, но в то же самое время и слитными моментами. Мне
кажется, что термин «общность» гораздо больше соответствует пони-
манию культуры, чем такие термины, как «принцип», «идея», «образ»,
«прообраз», «первообраз», «символ», «прасимвол» или «ценность». Каж-
дый из этих терминов выражает какие-нибудь отдельные стороны
культуры, но все они плохи своей многозначностью и необходимостью
их тщательного анализа, в то время как диалектика общего и еди-
ничного в нашей литературе уже разработана достаточно подробно и
ясно.
Тут же встает вопрос, что такое тип культуры? И я отвечаю на
него так.
Тип культуры есть система взаимных отношений всех слоев ис-
торического процесса данного времени и места. Эта система а) образует
неделимую целостность б) в качестве определенной структуры, которая
в) наглядно и чувственно-предметно выражает ее материальную и
духовную специфику, являясь г) основным методом объяснения всех
696
А. Ф. Лосев
слоев исторического развития как в их д) теоретическом противопо-
ставлении, так и в их е) последовательно историческом развитии. Вот
почему тип античной культуры есть а) предельная обобщенность
б) природно-человеческой телесности в) в ее нераздельности с ее
специфически-жизненным назначением. При этом нельзя считать, что
античность только и занималась одним человеческим телом. Это в
старину были многие теории античности, которые сводили ее предмет
только на человеческое тело и потому считали скульптуру наиболее
совершенным выражением такого античного предмета. В этом была
своя правда, но далеко не вся правда.
Во-первых, я говорю не о человеческом теле, но о человеческой
телесности. А это значит, что кроме тела я имею в виду всего человека,
т. е. и с его психикой, и с его умственным складом, и с его личными
особенностями. Но только все это я мыслю для античности на основе
чувственно-материального тела.
Во-вторых, я говорю даже и не о человеческой телесности, но о
ее предельной обобщенности. А эта предельная обобщенность, очевид-
но, должна быть выражена чувственно-материально. Другими словами,
абсолютной действительностью для античного человека является не
чувственно-материальное тело человека, но чувственно-материальный
космос, т. е. это — самое обыкновенное звездное небо, которое в ан-
тичности не только видели физическими глазами, но, по мнению
древних, и слышали в его звучании («музыка сфер»), осязали его
физическое воздействие и вообще не отказывали ему ни в какой
другой чисто физической воспринимаемости.
В-третьих, я говорю даже и не просто о телесности или о ее
обобщенности. Я говорю, что в этой чувственно ощущаемой телесности
античный человек воспринимал также и осуществление ее предназ-
наченности. Но что значит, если мы видим вещь, в которой уже
осуществлено ее назначение? Это значит, что в данном случае вос-
принимаемая нами вещь уже никуда не стремится и не нуждается в
этом стремлении, т. е. что эта вещь а) полностью выразила свое
назначение и сама для себя абсолютна. Но из этого вытекает еще и
то, что эта вещь б) сама для себя является своим идеалом, а значит,
она, прежде всего, уже сама по себе прекрасна. Однако, поскольку
такая чувственно-материальная вещь все же остается вещью, пусть и
предельно обобщенной в виде космоса, она остается всегда самой собой
(несмотря на свои фактические бесчисленные изменения) и сохраняет
все свои практические функции.
Поэтому прекрасный предмет в античности — это не тот предмет,
который только созерцается мысленно, т. е. лишен всех своих физи-
ческих свойств, но такой предмет, который одновременно и прекрасен,
вызывая бескорыстное созерцание и любование, и совершенно утили-
тарен, будучи орудием, предназначенным для специального употреб-
ления. В античном смысле щит не только вполне удобен и целесооб-
Философия культуры и античность
697
разен для воина, но одновременно и прекрасен настолько, что им
можно любоваться. Для изображения, например, такого великолепного
щита Ахилла Гомер в «Илиаде» затрачивает целые сто тридцать
стихотворных строк.
Могут спросить, а куда же девать античных богов? Ведь в антич-
ности, казалось бы, вовсе не чувственно-материальный космос есть
предельное обобщение чувственных вещей, но то, что имеет еще более
общий характер и что выше самого космоса. Не мешают ли античные
боги и демоны взглядам на чувственно-материальный космос как на
последнее обобщение? Дело в том, что обычный взгляд на античных
богов как на что-то более высокое, чем чувственно-материальный
космос, обязан своим происхождением бессознательному (в иной раз
даже, может быть, и вполне сознательному) христианизированию ан-
тичности.
Ведь это только с христианской точки зрения Бог есть такая
абсолютная личность, которая выше и раньше всякого космоса, которая
по своей собственной воле и ради своих собственных целей создает
мир из ничего. Но христианство, как и другие типы монотеизма
(иудаизм или магометанство), основано на примате не чувственно-
материальной вещи, да еще в ее идеальной осуществленное™, а на
примате чистого духа, что целиком отсутствовало в античности и не
получило разработки даже у величайших представителей античной
философии. Самое большое обобщение, до которого доходили античные
философы, имело название Единого, так что это единство понималось
не личностно, но числовым образом, т. е. только арифметически.
Поэтому такого рода единое не имело также и своего собственного
имени, не имело своей собственной священной истории, предполагало
вечность материи и если на что претендовало, то только на оформление
этой вечной и хаотической материи.
Применять такого рода абсолютно-персоналистическую религию
для понимания античности я считаю вполне абсурдным предприятием.
Античные боги, самое большее, с нашей точки зрения, есть обобщения
вроде наших законов природы. Конечно, закон падения тела является
обобщением фактических падений тела. Но в Новой и новейшей
Европе никто не считает закон падения тела каким-то божеством.
Античность пока еще была неспособна формулировать такого рода
отвлеченные законы. Но общность существования и развития отдель-
ных сторон вещественно-материальной действительности она чувство-
вала весьма глубоко. И если вместо точных формул такого рода обоб-
щений появлялись в античности боги и демоны, то это было возможным
только потому, что в античности никогда до конца не изживались
элементы общинно-родовой формации. А эта последняя единственно
что близко понимала, это только родственные отношения. Труд, его
средства и орудия, его реализация и распределение его продуктов, все
это зависело только от родовой общины, т. е. от взаимоотношения
698
А. Ф. Лосев
ближайших родственников. При малейших попытках понимать природу
и весь мир все эти родственные отношения целиком переносились на
природу и мир. А это значит, что вся природа и весь мир понимались
мифологически, откуда и возникло представление о богах и демонах.
Таким образом, мифологические боги и демоны оказались прин-
ципами все того же единственно признаваемого чувственно-матери-
ального космоса. Это были с современной точки зрения античные
законы природы. Формально они действительно были чем-то более
общим, чем природа и космос. По существу же они были законами
и обоснованием все того же единственно признаваемого чувственно-
материального космоса, хотя это иной раз и не исключало тенденции
формулировать законы природы и в чисто физическом смысле слова.
Поэтому не надо удивляться, что античные боги и демоны отличались
не только всеми преимуществами человека, но и всеми его недостат-
ками, его страстями, его пороками и даже его преступлениями. У Го-
мера боги то и дело бранятся, а то и прямо дерутся между собой.
Так оно и должно быть, поскольку античная идеология, как я сказал,
есть только предельная обобщенность самого обыкновенного, природ-
ного, хотя, правда, и прекрасно организованного человеческого тела.
Встает вопрос, какая существует связь между идеологическим со-
держанием античной культуры и ее социально-исторической основой.
О том, какова связь между общинно-родовой формацией и мифоло-
гической идеологией, мною много написано и это мне ясно. Но ведь
античность не есть только общинно-родовая формация. Античность в
ней только зарождается, а фактически развивается в более чем ты-
сячелетней рабовладельческой формации. Какая же связь между ан-
тичной философией или античной культурой вообще и античным
рабовладением?
Наша историческая наука дала целый ряд прекрасных исследований
по истории античного рабовладения, которые имеют значение не только
для нас, но и для зарубежной науки. Однако в этих работах почти
не поднимается вопрос о соотношении рабовладения как базы и ра-
бовладельческих культурных надстроек. Здесь установлено только одно:
не может быть никакого буквального и непосредственного воздействия
античного способа производства на античные культурные области.
Этот вульгаризм, действительно, отброшен у нас раз и навсегда. Но
ведь если нет никакого буквального воздействия, то все-таки какая-то
и вполне определенная связь должна быть.
Но какая же, какая именно связь здесь должна быть? И в чем
именно заключается эта связь, если всякая культура необходимо дол-
жна быть единством всех своих отдельных культурных областей?
Здесь я рассуждаю так. Рабство принесло с собой строгую необ-
ходимость различать умственный и физический труд. Одни стали
работать, но не заниматься умственным творчеством; а другие стали
умственно творить, но уже не занимались физическим трудом, а такое
А. Ф. Лосев
699
раздвоение тут же вызвало и мыслительную необходимость различать
бездушную вещь и управляющего этой вещью человека. Раб в антич-
ности трактуется не просто как человек, но только как вещь, дейст-
вующая не по своей воле, но по воле посторонней, т. е. это не цельный
человек, но лишь его чувственно-материальный момент. При этом
напрасно думают, что рабовладелец есть полноценный человек. Ничего
подобного. Рабовладелец тоже не есть цельный человек, а только та
его сторона, которая делает для него возможным быть погонщиком
рабов, чтобы он целесообразно направлял деятельность раба. А это
значит, что рабовладелец, если его брать как деятеля рабовладельче-
ской формации, есть не человек, но лишь интеллект человека, и
притом достаточно абстрактный. Но рабовладелец и раб не могут
существовать друг без друга. Они представляют собой нечто целое.
Сначала это маленький древнегреческий полис, а в дальнейшем —
огромная Римская империя. Следовательно, живая, но бессмысленная
вещь, которой, по мнению древних, является раб, должна была объ-
единяться в нечто целое с организующим ее абстрактным интеллектом.
И вот пример. Возьмем хотя бы общеизвестного Гераклита. Космос
Гераклита состоит из первоогня, который путем уплотнения превра-
щается в любые материальные элементы. Но этот огонь и эти его
превращения получают свое осмысление только благодаря имманентно
свойственному им, но отнюдь не сводящемуся на них логосу, т. е.
смыслу и целесообразно направляющему интеллекту (хотя сам логос
в античности часто понимался гораздо шире). Этот логос тоже не есть
полноценная личность или полноценный разум. Но он все-таки есть
целесообразно организующая сила, без которой хаос не мог бы пре-
вратиться в космос. То же самое мы находим и вообще во всей
досократовской натурфилософии: у пифагорейцев беспорядочные ма-
териальные стихии и — числа; у элеатов беспорядочные материальные
стихии и — «единое», или «сущее», которое ничего общего с ними не
имеет, но их организует; у Диогена Аполлонийского тоже беспоря-
дочная воздушная стихия и — мышление.
И у Платона — так же и у Аристотеля — так же. Но только эти
мыслители действовали почти на столетие позже, чем досократики.
Поэтому и бессмысленная, чисто вещевистская сторона у них гораздо
сложнее и их логос гораздо сложнее. Но об этих двух мыслителях я
бы заговорил совсем с другой стороны. А именно, поскольку бессмыс-
ленная вещь и осмысляющий ее интеллект должны представлять нечто
единое, то очень интересен прогресс именно этого единства. А у Пла-
тона этот прогресс выразился в появлении диалектики как основного
философского метода, потому что только путем установления единства
противоположностей и можно было добиться ясности в той целостности,
которая возникает в результате столь острого противоречия.
Но, скажут мне, как же можно было объединить бессмысленную
вещь и осмысленный интеллект? А так, что из бессмысленно и хао-
700
А. Ф. Лосев
тически протекающей материи возникает целостный и уже упорядо-
ченный, уже не хаотический космос. И любопытнее всего, что этот
диалектически-синтетический космос тоже оказывался и чувственным,
т. е. видимым глазами, и вполне материальным, а не каким-нибудь
духовным. Античные философы на все лады воспевают и прославляют
этот чувственно-материальный космос (таков, например, «Тимей» Пла-
тона) как результат диалектического единства творящей, но бессмыс-
ленной материи, и осмысленного, но материально-пассивного интел-
лекта, не задумываясь (в противоположность современной науке), что
здесь диалектика, в конце концов, тех основных элементов, из которых
складывается античный способ производства.
И тогда получается, что между идеей и материей нет ничего
общего по содержанию, хотя они и совпадают в одном формальном
целом, оставаясь по существу своему совершенно различными момен-
тами этого целого.
Но можно выразиться точнее. Я обычно думаю, что между базисом
и надстройкой существует единство не по содержанию (по содержанию
надстройки весьма разнообразны и не похожи ни друг на друга, ни
все вместе на свою базу), но по методу формирования их структуры,
данной каждый раз в виде специфического предельного обобщения
исходной производственной интуиции. У Платона мир идей и мате-
риальный мир по своему содержанию не имеют ничего общего с
рабским способом производства. Но возьмите раба как материальную
и бессмысленную силу и доведите это до предельного обобщения; и
возьмите рабовладельца как организующую интеллектуальную силу,
тоже доводя его до предельного обобщения. И в поисках картины
единства того и другого, и притом с сохранением структурного соот-
ношения того и другого, вы и получите учение Платона и Аристотеля
об идеях и материи. При этом Аристотель идет гораздо дальше Платона.
Общее «место идей» и то, что он называет «идеей идей», он прямо
так и объявляет «умом-перводвигателем». У Демокрита не идея выше
материи, но материя выше идей. И тем не менее, будучи античным
мыслителем, он никак не мог отказаться от ума как перводвигателя.
Он называл свои атомы «идеями» (68 А 57 Diels 9) и даже «богами»,
поскольку боги, по Демокриту, возникают вместе с огнем (А 74) и
«бог есть ум в шарообразном огне» (А 74); а у Эпикура (frg. 356,
Usener; Cic. De fin., II 22) прямо говорится, что боги состоят из
атомов, но особенно тонких и огненных. Но имеется и общее атоми-
стическое суждение. По Левкиппу (67 В 2), «все свершается по не-
обходимости, необходимость же есть судьба»; а это, по Левкиппу, и
есть разъяснение всеобщих причин, т. е. ум.
Спросим себя, какое же именно отношение имеет судьба к рабо-
владельческой формации? Это, как мне кажется, отношение — про-
стейшее, так как рабовладельческий интеллект ограничивается мате-
риально-чувственными интуициями. Будучи ограничен как оформитель
Философия культуры и античность
701
бессмысленных вещей, он вовсе не может претендовать на права
абсолютного духа, который выше всякого разума и всякой судьбы. Он
существенно ограничен, и поэтому последние основы бытия считает
вышеразумными, считает судьбой. Судьба — типично рабовладельче-
ское понятие; и если она постулируется в каких-нибудь других, не
античных культурах, то там она имеет другой смысл и для нее должно
существовать там и другое объяснение (как, например, проблема судьбы
и свободы воли в христианстве).
Однако, если раб не есть человек целиком, но только его телесная
сторона, вещь, и рабовладелец тоже не есть весь человек, целиком,
но только тот человеческий интеллект, который необходим для уп-
равления рабами, то так же в результате диалектического синтеза
этих двух ограниченных категорий получается живой одушевленный
и разумный космос? Ведь такой космос, казалось бы, уже не обладает
никакими ограничениями и недостатками.
Этот вечный и живой космос, как последний диалектический синтез
в античности, полон разного рода недостатками, а) Этот космос про-
должает быть чувственно-материальным космосом, т. е. звездным не-
бом, видимым и слышимым. Но в других культурах появилось пред-
ставление о совсем другом космосе, который настолько огромен и
неохватен, что уходит далеко за пределы непосредственной видимости
и слышимости и вовсе не сводится на то, что мы физически воспри-
нимаем своими физическими глазами, б) Античный чувственно-мате-
риальный космос обязательно ограничен в пространстве, потому что
таковым является вообще всякое человеческое тело, обобщением ко-
торого и был космос. Когда же мы говорим о миропредставлении в
других культурах, то, например, в Новое и новейшее время мир
обязательно мыслится бесконечным; и нет никакой возможности ни
видеть, ни слышать, ни даже мыслить какие-нибудь его пространст-
венные границы, в) Космос Нового и новейшего времени объясняется
строжайшими законами математического естествознания, о котором
нет ни слуху ни духу в античном мировоззрении. Вместо законов
природы тут, самое большее, фигурируют боги и демоны, которые и
переживаются как подлинные законы природы, г) Античный чувст-
венно-материальный космос вечно движется. Но так как не существует
ничего такого, что было бы за пределами космоса, то ему совершенно
некуда двигаться за свои пределы. И остается двигаться, только пре-
бывая на одном и том же месте, д) а это значит, что такой космос
должен вечно вращаться; и так как он есть обязательно нечто целое,
то он обладает и единым центром, вокруг которого и совершается его
вечное круговращение. А если прибавить к этому, что такого рода
неподвижным центром считалась в античности чаще всего земля, то
вы сами должны понять, какой наивной и детской ограниченностью
в сравнении с новой и новейшей космологией отличается античный
космос. Но я бы сказал, что сейчас важна не эта, слишком уж
702
А. Ф. Лосев
очевидная истина. Важно скорее то, что этот чувственно-материальный
ограниченный космос есть только предельное обобщение исходного
представления о человеке как о телесно-ограниченной вещи и как об
интеллекте, который этой вещью управляет. А такая исходная инту-
иция — чисто рабовладельческая. Античный живой, одушевленный,
разумный, но ограниченный чувственно-материальный космос со своим
конечным протяжением вокруг единого центра — это и есть именно
рабовладельческий космос.
Меня спросят, конечно, не будет ли это слишком большим при-
нижением античного космоса и не будет ли это слишком унизительным
для древних так расценивать ту Вселенную, в которой они себя
ощущали? Не является ли унизительным для античной культуры такое
слишком уж ограниченное понимание вещей и интеллекта?
Не знаю, что же унизительного в том, что проповедуется чувст-
венно-материальный космос как предел всякого существования? Что
унизительного в том, что этот чувственно-материальный космос полон
движения и жизни, полон демонов и богов, полон переселений и
перевоплощений душ (хотя это и есть только частный случай общего
круговорота вещества в природе), пока они не достигнут полного
согласия с миром идей, столь живописно изображенным у Платона?
И что унизительного в том, что все античные мыслители, и идеалисты,
и материалисты, с глубоким сердечным волнением взирают на небесный
свод, находя в нем свою родину, и надеются после смерти распылиться
в этом, пусть бездушном и безличном, но все же трепетно-ожидаемом
мире идей или мире материальных атомов? Если считать все это
унизительным, то, значит, следует оценивать всю античность с хри-
стианской точки зрения, а это неправильно, потому что свои тысяче-
летия античность просуществовала с полным историческим правом; и
это право ничуть не меньше, чем права всех других культур, хотя
бы они и были более духовными и более полноценными в человеческом
отношении. Но это не значит, что античность есть идеал всех культур.
Она содержит в себе большую ограниченность. Но ведь и рабовладение
тоже не идеал, и с точки зрения человеческих идеалов тоже сущест-
венно ограничено. И как бы я по существу ни относился к античности
(а я ее очень люблю), но все-таки я, как историк философии, обязан
формулировать специфику античной культуры, какой бы духовной
ограниченностью эта специфика ни обладала. Другие культуры, ко-
торые многими расцениваются как более духовные, каждый раз тоже
обладают той или иной ограниченностью, которую мы обязаны точно
сформулировать. Да и где она, эта идеальная культура, которая ничем
не была бы ограничена и которая не имела бы никаких недостатков?
Если бы такая идеальная культура была, то это было бы концом всего
исторического процесса, поскольку все было бы уже достигнуто и было
бы некуда двигаться.
Философия культуры и античность
703
Теперь остается только один вопрос. Что же можно считать дей-
ствительно философией культуры?
По-моему, философия культуры есть постановка и решение про-
блемы о том, а) как соотносятся между собой отдельные слои исто-
рического процесса, б) как они все вместе относятся к их предельной
общности, т. е. к их исторически обусловленному и каждый раз спе-
цифически доминирующему первопринципу, в) как этот первопринцип
данной культуры относится к первопринципам других, хотя бы бли-
жайших культур, г) как необходимо характеризовать все слои исто-
рического процесса в свете этого первопринципа. Пожалуй, специально
нужно было бы сказать о четвертом из указанных пунктов, т. е. о
результатах исходного первопринципа античности.
Результат философии культуры в применении к античности за-
ключается в установлении четвертого из указанных мною только что
пунктов, а именно в указании того, каковы особенности античной
культуры и ее мировоззрения с точки зрения принятой нами исходной
целесообразно сформированной и человечески-материальной вещест-
венной индивидуальности.
1) Виртуальный эйдологизм. Целесообразно сформированная, че-
ловеческо-материальная, вещественная индивидуальность образует со-
бой в античности тело как таковое, в отличие от всяких других тел,
которое обладает своим собственным видом (эйдосом) и активной
способностью к разного рода обобщениям (или виртуальностью), хотя
взятое само по себе такое тело воспринимается только как оно само,
а не что-нибудь другое, и упорно лишено всяких обобщений. Поскольку
такая исходная чувственно-материальная и виртуально-эйдетическая
интуиция является в античной культуре первопринципом любой куль-
турной конструкции, она проявляется в античности решительно по-
всюду. Именно поэтому античность лишена чисто духовных обобщений.
Исходная античная интуиция бездушна, внеличностна, и в предметном
смысле только природна. Дух же мыслится в послеантичной культуре
как персонифицированный (личностный) носитель надприродных ис-
каний в области единственно возможного и необходимого, неповтори-
мого и тоже персонифицированного историзма. В античном же мире
с его ориентацией на космос, как и вообще в природе, все повторимо.
Душа, личность, даже каждый демон и бог не только возможны для
античности в условиях чувственно-материальной действительности, но
даже и необходимы. Однако для античности они вовсе не являются
результатом чисто духовной деятельности, а оказываются только прин-
ципами все той же чувственно-материальной действительности, по-
скольку даже боги являются здесь не больше как обожествлением сил
все той же чувственно-материальной природы. Поэтому в античности
не боги создают мир, но мир создает богов и людей, и даже не мир
вообще, но именно Земля, эта всеобщая мать, как это гласит реши-
704
А. Ф. Лосев
тельно вся античность и как это требуется исходной чувственно-ма-
териальной и виртуально-эйдетической интуицией.
2) Чувственно-материальный космологизм. Ясно, что это есть
только предельное обобщение идеально организованного человеческого
тела.
3) Диалектика. Она есть единственный способ объединить в одно
целое бездушную, но деятельную вещь и совершенно невещественный
интеллект, способный осмыслять и оформлять бездушные вещи (за-
метим, что самый совершенный интеллект еще не есть дух в целом,
но только один из его атрибутов). В результате такого диалектического
синтеза социальной жизни мы имеем древнейший рабовладельческий
полис или позднейшую рабовладельческую Римскую империю, а в
философии — вечное искание синтеза противоположностей, без кото-
рого античная культура вообще не была бы никакой цельностью.
4) Рассудочный восторг, или восторг рассудка. Крупнейшие фи-
лософы античности, Платон и Аристотель, дав максимально закон-
ченную картину диалектических синтезов, как раз отличаются неи-
моверной приверженностью к рассудочным изысканиям и прямо-таки
упоением бесконечными различениями тончайших рассудочных кате-
горий, погруженностью в бесконечные споры, дистинкции и дескрип-
ции. В этом смысле античные софисты являлись довольно характерным
образцом именно научной диалектики наряду с Платоном, Аристоте-
лем, стоиками, скептиками и неоплатониками. Страсть к спорам древ-
них греков в быту и их риторика и в искусстве и в мысли не только
не противоречат установленному нами первопринципу античной куль-
туры, но только являются его вполне естественным результатом, по-
скольку исходная вещественная ограниченность не давала полного
удовлетворения, а требовала вечного искательства все нового и нового,
хотя в идеале это новое всегда и мыслилось как достигнутое совер-
шенство, будучи вечной задачей для научно-художественного иска-
тельства.
5) Вечное возвращение. Античный человек вечно стремится. Но
выйти за пределы космоса он не может, поскольку никакого другого,
более высокого бытия он не мыслит. Космос вечно подвижен, но ему
некуда выйти за свои пределы. И потому он только вечно вращается
в себе. Человек тоже вечно стремится. Но ему некуда деться, кроме
космоса, и поэтому он, самое большее, может только перевоплощаться
в другие тела; но за пределы тела, своего или космического, ему
выйти некуда. Так вечное возвращение стало основной идеей всякого
античного мировоззрения.
6) Аисторизм. Отсюда вытекает и то, что в античности весьма
плохо прививалась мысль о вечном прогрессе, да и о прогрессе вообще.
Будучи занята созерцанием прекрасной человеческой телесности, ан-
тичная личность и не нуждалась в принципиальных переходах от
одного состояния мира к другому. Античность — аисторична. Тут,
Философия культуры и античность 705
однако, необходимо напомнить высказанную у нас выше мысль о том,
что тип культуры есть только принцип античного исторического раз-
вития, но не воплощается в нем буквально и неподвижно. Поэтому
античные греки вечно спорили, вечно ссорились, вечно дрались, вечно
воевали, так что вся их история достаточно драматична. Тем не менее
в последней глубине космос со всей той живой и неживой действи-
тельностью, которая в нем находилась, был только вечным вращением
в себе и вечно возвращался к тому же самому состоянию.
7) Героизм и судьба, или скульптура и фатализм. Человек в
основе своей есть только прекрасная телесность. Следовательно, он
должен все время стремиться к тому, чтобы восторжествовала пре-
красная телесность. С другой стороны, тело, не будучи разумом, как
и разум, ограниченный только задачами телесного оформления, ли-
шены знания всех собственных причин и всегда могут ошибаться в
постановке для себя тех или иных жизненных целей. Поэтому пре-
красная телесность не знает ни конечных причин своего происхожде-
ния, ни своих конечных целей. Для этого она слишком созерцательна,
слишком прекрасна, а главное, слишком телесна. В силу этого антич-
ный человек всегда героичен, действуя независимо от своей судьбы.
Совмещение героизма и фатализма тоже есть результат античного
типа культуры. Здесь тоже героизм и фатализм, с одной стороны,
есть противоречие, а с другой стороны, есть и разрешение этого
противоречия в героическом фатализме или в фаталистическом геро-
изме. Таковы все классические герои античной мифологии; и в таком
виде они вновь появляются в последние века античности, когда воз-
никала живейшая потребность в такой реставрации. Поэтому не удив-
ляйтесь, что вся последняя и наиболее синтетическая четырехвековая
школа неоплатонизма в основном только и занималась диалектикой
мифа.
АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА
(Краткая библиография)
Античная цивилизация. — Сб. Отв. ред. В. Д. Блаватский. М.
1973.
Античность как тип культуры. — Сб. Отв. редактор А. Ф. Лосев.
М., 1988.
Баумгартен Ф., Поланд Ф., Вагнер Р. Эллинская куль-
тура. СПб., 1907.
Баумгартен Ф., Поланд Ф., Вагнер Р. Эллинистически-
римская культура. СПб., 1915.
Блаватский В. Д. Архитектура античного мира. М., 1939.
Боннар А. Греческая цивилизация. Пер. О. В. Волкова. М.,
1958—1962. Т. 1—111.
Буассье Г. Римская религия от Августа до Антонинов. Пер. с
фр. М. Корсак, 2-е изд. М., 1915.
Быт и история в античности. — Сб. Отв. редактор Г. С. Кнабе.
Виппер Б. Р. Искусство древней Греции. М., 1972.
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. М., 1996.
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Пер. с фр. СПб.,
1897; 2-е издание. — СПб., 1993.
Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. Пер. с фр. М.,
1899; 2-е издание. — СПб., 1993.
Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII—
V вв. до н. э. Л., 1985.
Зелинский Ф. История античной культуры. М., 1915, т. I—П.
Зелинский Ф. Ф. Религия эллинизма. П., 1922.
Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства. (Из жизни идей.
Т. III). СПб., 1993.
Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога. — Новый
путь. 1904, № 1—3, 5, 8—9.
Иванов Вяч. Религия Диониса. — Вопросы жизни. 1905, № 6.
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. 2-е изд. —
СПб., 1994.
А. Ф. Лосев
707
+
Катаров Е. Г. Культ фетишей, растений и животных в Древней
Греции. СПб., 1913.
Каллистов Д. Н. Античный театр. М., 1970.
Колобова К. М., Озерецкая Е. Л. Как жили древние греки. Л.,
1959.
Колпинский Ю. Скульптура древней Эллады. М., 1963.
Кулаковский Ю. А. Смерть и бессмертие в представлениях
древних греков. Киев, 1899.
Культура древнего Рима. Под ред. Е. С. Голубцовой. М., 1985.
Т. I—II.
Латышев В. В. Очерк греческих древностей. В 2-х т.; новое
издание — СПб., 1997.
Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре. — Сту-
денческий меридиан. 1983, № 9—10; история античной эстетики.
Итоги тысячелетнего развития, т. VIII, кн. 1. М., 1992.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. VIII, кн. I. М., 1992
(главы о гностиках, герметизме, халдаизме, античность и христиан-
ство).
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. I—VIII, М., 1963—
1994.
Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном
изложении. М., 1989.
Новосадский Н. И. Елевсинские мистерии. СПб., 1887.
Новосадский Н. И. Культкавиров в Древней Греции. Варшава,
1891.
Очерки по истории мировой культуры. Учебное пособие. Под ред.
Т. Ф. Кузнецовой. М., 1997. (Античность и ее наследие. С. 28—49).
Полевой В. М. Искусство Греции. М., 1970.
Ревилль Ж. Религия в Риме при Северах. Пер. с фр. М., 1898.
Сергеенко М. Е. Простые люди древней Италии. М.; Л., 1964.
Соколов Г. Искусство древнего Рима. М., 1971.
Соколов Г. Дельфы. М., 1972.
Т а р н В. Эллинистическая цивилизация. Пер. С. А. Лясковского.
М., 1949.
Тахо-Годи А. А. А. Ф. Лосев как историк античной культу-
ры. — В сб.: Традиция в истории культуры. Под ред. В. А. Карпушина.
М„ 1978.
Чубова А. П., Конькова Г. И., Давыдова Л. И. Античные
мастера скульптуры и живописцы. Л., 1986.
Шанин Ю. В. Олимпийские игры и поэзия эллинов. Киев, 1980.
Краткая литература к «Греческой мифологии»
Научные труды
Альтман М. С. Греческая мифология. М.; Л., 1937.
Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987.
Катаров Е. Культ фетишей, растений и животных в древней
Греции. СПб., 1913.
Лосев А. Ф. Мифология. Философская энциклопедия. Т. III. М.,
1964.
Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977.
Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии.
М., 1957. 2-е изд. в кн.: А. Ф. Лосев. Мифология греков и римлян.
М., 1996.
Лосев А. Ф. Теогония и космогония. Там же.
Лосев А. Ф. Олимпийская мифология в ее социально-историче-
ском развитии. — Ученые записки МГПИ им. Ленина. Т. 72. М., 1953.
Лосев А. Ф. Гесиод и мифология. — Ученые записки МГПИ
им. Ленина. Т. 83. М., 1954.
Лосев А. Ф. Гомер. М., 1960. 2-е изд. с предисл. А. А. Тахо-
Годи — М., 1996 (серия ЖЗЛ).
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. Т. I,
М., 1994 (глава «Эстетика Гомера»).
Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.,
1976; 2-е изд. — М., 1995 (символ и миф, глава о Прометее в мировой
литературе).
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. В кн: А. Ф. Лосев. Миф. Число.
Сущность. М., 1994 (1-е изд. М., 1930).
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего
развития. Т. VIII, кн. 1. М., 1992, кн. 2. М., 1994 (греческая эстети-
ческая терминология за тысячу лет: Единое, Число, Ум, душа, материя,
тело, гармония, подражание, очищение, софия, природа, искусство,
человек, космос, хаос, судьба, миф, игра).
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976; 2-е изд. — М.,
1996.
А. Ф. Лосев 709
Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом. М., 1992.
Радциг С. И. Античная мифология. М.; Л., 1939.
Тахо-Годи А. А. Миф как стихия жизни, рождающая ее лик,
или в словах данная чудесная личностная история. — В кн.: А. Ф. Ло-
сев. Мифология греков и римлян. М., 1996.
Тахо-Годи А. А. Миф у Платона как действительное и вооб-
ражаемое. — В сб.: Платон и его эпоха. М., 1979.
Фрейденберг О. М. Миф и театр. М., 1988.
Изложения мифов
Грейвс Р. Мифы древней Греции. Пер. с англ. К. П. Лукьяненко.
Общая ред. и послесловие А. А. Тахо-Годи.
Зелинский Ф. Античный мир. 1—3. Пг., 1922—1923.
Кун Н. Легенды и мифы древней Греции. М., 1975 (переработка
книги «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях»,
ч. 1. М„ 1914, ч. 2. М., 1922).
Парандовский Ян. Мифология, 1971.
Тренчени-Вальдапфель И. Мифология. М., 1959.
Штоль Г. В. Мифы классической древности. I—II. М., 1899—1904.
Античные источники
Античные гимны (Гомеровские, Клеанф, Каллимах, орфические,
Прокл). Состав., вступ. статья, общая ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1988.
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Изд. подготовил
В. Г. Борухович. Л., 1972.
Аполлоний Родосский. Аргонавтика. Там же.
Басни Эзопа. Пер., ст. и коммент. М. Л. Гаспарова. М., 1968.
Гесиод. Работы и дни. Теогония. Пер. В. В. Вересаева. — Поли,
собр. соч. Т. X. М., 1929; Сб. Эллинские поэты. М., 1963.
Гигин. Мифы. Пер. с лат., статья, коммент. Д. Торшилова.
Общая ред. А. А. Тахо-Годи. СПб., 1997.
Гомер. Илиада, пер. Н. Гнедича. М.; Л., 1935 и послед, изд.
Гомер. Илиада, пер. В. В. Вересаева. М., 1949.
Гомер. Одиссея, пер. В. А. Жуковского. М.; Л., 1935 и послед,
изд.
Гомер. Одиссея, пер. В. В. Вересаева. М., 1953.
Гомер. Илиада. Одиссея. Пер. В. В. Вересаева. Сост., вступ.
Статья, коммент. А. А. Тахо-Годи. М., 1987.
Гомеровские гимны. Пер. В. В. Вересаева. — Поли. собр. соч. Т. X.
М., 1929; Сб. Эллинские поэты. М., 1963.
Гомеровы гимны. Пер. Е. Рабинович. М., 1993.
710
А. Ф. Лосев
Каллимах. Гимны. — Сб. Александрийская поэзия. Сост.
М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1972.
Овидий. Метаморфозы. Пер. С. Шервинского. Вступ. ст. С. Оше-
рова. М., 1977.
Павсаний. Описание Эллады. Пер. С. П. Кондратьева. Т. I—II.
М., 1938—1940; 2-е изд. (репринт) М., 1994; 3-е изд. Отв. ред
Э. Д. Фролов. СПб., 1996.
Страбон. География. Пер., ст. и коммент. Г. А. Стратановского.
М., 1964; 2-изд. (репринт) М., 1996.
Энциклопедии и словари
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов
М., 1995.
Купер Дж. Энциклопедия символов. Пер. с англ. М., 1995.
Любкер. Реальный словарь классической древности. М., 1884—
1887.
Мифологический словарь. Сост. М. Н. Ботвинник и др. М., 1961.
МиЗюлогический словарь. М., 1990—1991; 2-е изд. СПб., М., 1996.
Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1—2. М., 1980—1982; 2-с
изд. 1987—1988 (статья А. Ф. Лосева «Греческая мифология» с об-
ширной библиографией).
Buck С. D. A Dictionary of selected synonyms in the principal
indo-european languages. A contribution to the history of Ideas. Chicago.
London. 2 ed., 1965.
Car noy A. Dictionnaire 6tymologique de la mythologie gr6co-
romaine. Louvaine, 1957.
Chevalier J., Gheerbrant A. Dictionnaire des symboles. T. 1 —
4. Paris, 1973—1974.
Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike. I—V. Munchen, 1964—-
1975.
Grimal P. Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. Paris.
1958.
Hammond N., Scull ar d H. The Oxford classical Dictionary
Oxford, 1973.
Hunger H. Lexikon der griechischen und romischen Mythologie
Wien, 1959.
Jobes G. Dictionary of Mythology, Folklore and Symbols. 1—2.
New York, 1962.
Room’s classical Dictionary. London, 1983.
Roscher W. H. Ausfiihrliches Lexicon der griechischen und
romischen Mythologie. I—VII. Leipzig, 1884—1937. Nachdruck.
Hildesheim. 1965.
УКАЗАТЕЛЬ
сокращенных обозначений некоторых использованных
источников в главе «Афина Паллада»
из книги А. Ф. Лосева
А. Ф. Лосев писал свою книгу «Олимпийская мифология в ее
социально-историческом развитии» в трудные 40-е годы и пользовался
изданиями греческих и латинских текстов, общепринятыми в то время.
Ряд новых переводов античных авторов тогда еще не вышел в свет
(например, переводы «Илиады» и «Одиссеи» В. В. Вересаева или пе-
ревод Феокрита М. Е. Грабарь-Пассек). Иной раз А. Ф. Лосев не
считал возможным цитировать «Одиссею» в переводе Жуковского и в
связи с отсутствием перевода Вересаева ссылался на мало распрост-
раненный, но интересный перевод П. А Шуйского, вышедший в 1948 г.
в Свердловске. В некоторых случаях издатели из-за политических
цензурных соображений исключали из книг имена переводчиков, и
автор «Олимпийской мифологии» не имел права их упоминать (на-
пример, блестящий перевод Аристофана, выполненный Адрианом Пи-
отровским). Иногда скрывали имя переводчика, используя обычную
формулировку «перевод под редакцией» (например, вместо имени Вя-
чеслава Иванова на переводе «Орестеи» стоит «под редакцией
Ф. А. Петровского»). В этих случаях мы делали на странице соответ-
ствующие сноски. А. Ф. Лосев имел также обыкновение при цитиро-
вании текстов указывать имена переводчиков в сокращенном виде.
Некоторые редкие произведения поздних авторов он переводил сам
(например, Симмия Родосского).
Во избежание недоразумений укажем имена переводчиков, чьи
тексты использованы в книге.
Переводили: Аполлония Родосского — Г. Ф. Церетели, Аристофа-
на — А. И. Пиотровский, Гомера («Илиада») — Н. И. Гнедич, Гомера
(«Одиссея») — В. А. Жуковский, П. А. Шуйский, Гесиода и Гомеровские
гимны — В. В. Вересаев. Горация — Н. И. Шатерников, Еврипида —
И. Ф. Анненский и С. П. Шестаков, Павсания и Палатинскую антоло-
гию — С. П. Кондратьев, Эсхила и Алкея — Вячеслав Иванов, Феокри-
та — А. Сиротинин, Вергилия — В. Брюсов и С. М. Соловьев, Сенеку —
С. М. Соловьев, надпись из г. Линда на о. Родосе — С. Л. Жебелев.
Указатель сокращенных обозначений, как видим, до некоторой
степени отражает наличие и диапазон научной литературы (мифология,
классическая филология, философия), доступной А. Ф. Лосеву в годы
его работы над книгой. Годы же эти во всех отношениях были тяже-
лыми. Однако не только данный список, но весь корпус исследованных
текстов дает возможность судить о тщательной их изученности автором
«Олимпийской мифологии», вышедшей в скромных «Ученых записках»
на газетной бумаге, в два столбца убористого шрифта — первого труда
А. ф. Лосева после вынужденного двадцатитрехлетнего молчания.
712
Указатель сокращенных значений...
Ael. De nat. anim. Элиан «О природе животных». Aeliani opera,
ed. R. Hercher I—II. Lipsiae, 1864—1866.
Ael. Aristid. Элий Аристид. Aelii Aristidis opera omnia, rec.
G. Dindorf. I—III. Lips. 1829.
Aesch. Эсхил. Aeschyli tragoediae, ed. H. Weil. Lipsiae, 1926.
— Agam. — Eum. — Pers. — Sept. Anthol. Pal. — «Агамемнон» — «Евмениды» — «Персы» — «Семеро против Фив» Палатинская антология. Epigrammatum anthologia
Palatina. I—II. ed. Fr. Dubner. III. ed. E. Cougny. Parisiis, 1888—1890.
Apollod. Аполлодор. «Библиотека». Mythographi Graeci. I Apollodon
bibliotheca. Pediasimi libellus de duodecim Herculis laboribus, ed.
R. Wagner. Lipsiae, 1926.
Apollod. Epit. — «Сокращенное изложение».
Apul. Met. — Апулей. «Метаморфозы». Apulei opera I Metamor-
phoseon libri XL ed. R. Helm. Lipsiae. 1912.
Aristoph. Аристофан. Aristophanis comoediae, ed. Th. Bergk. 1—II.
Lipsiae, 1923. — Acharn. — Av. — Equ. — Lys. — Nub. — «Ахарняне» — «Птицы» — «Всадники» — «Лисистрата» — «Облака»
— Pax — Thesm. — «Мир» — «Женщины на празднике Фесмофорий»
Aristot. De auscul. mirab. Аристотель «О достопримечательных слу-
чаях». De mirabilibus auscultationibus, ed. 0. Apelt. Lipsiae, 1888.
De mund. — «0 мире». Aristoteles graece ex rec. I. Bekkeri ed. Academia Regia Borussica vol. I Berolini, 1831.
Oec. Polit. — «0 домоводстве». Vol. II. Berolini, 1831. — «Политика». Politica, post. F. Susemihl rec. 0. Immisch. Lipsiae, 1929.
Rhet. — «Риторика». Ars rhetorica. ed. Ad. Roemer. Lipsiae, 1923.
Frg. — Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, ed. V. Rose. Lipsiae, 1886.
Arnob. Adr. nat. Арнобий. «Против язычников». Arnobii Adversus
nationes, rec. A. Reifferscheid. Vindobonae, 1875.
August. De civ. D. Августин. О граде Божьем. Augustini De civitate
Dei libri XXII, rec. B. Dombart — A. Kalb. I—II Lipsiae, 1928—1929-
Callim. Hymn. Каллимах. Гимны. Callimachea, ed. 0. Schneider.
II—II. Lipsiae, 1870—1873.
Cic. nat. deor. Цицерон. О природе богов. Ciceronis Scripta quae
manserunt omnia. De nature deorum, ed. D. Plasberg. fax. 45. Lipsiae, 1933
Указатель сокращенных значений...
713
Diels. (D.) Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch
von Hermann Diels. BeroL 1922 (4 Anflage). Neunte Auflage
herausgegeben von W. Kranz. Bd. I—III. Berlin, 1959—1960.
Diod. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Diodori
bibliotheca historica, edd. Fr. Vogel — C. Th. Fischer. I—V. Lipsiae,
1888-1906.
Dion. Hal. Ant. Rom. Дионисий Галикарнасский. Римские древности.
Dionisii Halicarnasei quae extant, ed. C. Jacoby. I—IV. Lipsiae, 1885—1905.
EGF — фрагменты греческих эпических поэтов. Epicorum graecorum
fragmenta, ed. G. Kinkel. I. Lipsiae, 1877.
Etym. M. Большой этимологик. Etimologicon Magnum, ed.
Th. Gaisford, 1848.
Eur. Еврипид. Euripidis tragoediae, ed. A. Nauck. I—11. Lipsiae,
1912—1921.
— Нес. — Heraclid. — Hercul. — Hippol. — Iphig. Aul. — Iphig. Taur. — Rhes. — «Гекуба» — «Гераклиды» — «Геракл» — «Ипполит» — «Ифигения в Авлиде» — «Ифигения в Тавриде» — «Рес»
— Suppl. — «Умоляющие»
— Tro. — «Троянки»
F Gr. Hist. Die Fragmente der griechischer Historiker von F. Jacoby.
I Teil. Genealogie und Mythographie. Berlin, 1923.
FHG-HGF фрагменты греческих историков. Fragmenta historicorum
graecorum, ed. C. Muller. I—IV. Parisiis, 1848—1853.
Pherecyd. Ферекид. См. FHG, I.
Harpocrat. Гарпократ (Арпократ). «Словарь десяти ораторов».
Harpocrationis Lexicon, ed. G. Dindorf, 1853.
Hermiae in Phaedr. Гермий Александрийский. Комментарии на
«Федра» Платона. Hermiae Alexandrini in Platonis Phaedrum scholia,
ed. P. Couvreur. Paris, 1901.
Hesiod. Гесиод. Hesiodi carmina, ed. A. Rzach. Lipsiae, 1913.
— Opp. — «Труды и дни»
— Scut. — «Щит Геракла»
— Theog. — «Теогония»
— Frg. — Фрагменты
Horat. Гораций. Horatii carmina, ed. F. Vollamer. Lipsiae, 1931.
— Ar. poet. — «О поэтическом искусстве»
— Сапп. — "Стихотворения»
— Epod. — «Эподы»
Hig. Fab. Гигин. Мифы. Higini fabulae, ed. M. Schmidt. Lipsiae, 1872.
Hymn. Hom. «Гомеровские гимны». Himni Homerici, ed. A. Bau-
neister. Lipsiae, 1915.
714
Указатель сокращенных значений...
Hymn. Orph. Орфические гимны. Orphica, rec. Е. Abel. Lipsiae
1885.
Licophr. Ликофрон. Александр. Lycophronis Alexandra, rec. G. Kin-
kel. Lipsiae, 1898.
Macrob. Sat. Макробий. Сатурналии. Macrobic Saturnalia et com-
mentarii in somnium Scipiones, ed. F. Eyssenhardt. Lipsiae, 1893.
Myth. Vat. Ватиканские мифографы. Scriptores rerum mythicarum
Latini tres, ed. G. Bode. I—II Cellis, 1834.
Orph. frg. Фрагменты орфиков. Orphicorum fragmenta, coll. 0. Kern,
Berolini, 1922.
Ovid. Овидий. Ovidii Nasonis carmina, ed. R. Ehwald. Lipsiae, 1916.
— Amor. — Ars. amat. — Epist. ex Pont — «Любовные элегии». I — «Искусство любви». I — «Письма с Понта». Ed. R. Ehwald—Fr. Lewg. Ill 1.1922.
— Fast. — Heroid. — Ibis. — Met. — «Фасты». Ill 2. 1932. — «Героини». I 1916. — «Ибис». Ill 1922. — «Метаморфозы». Ed. R. Merkel—R. Ehwald. II 1931.
— Trist. —«Тристии». Ill 1. 1922.
Paus. Павсаний. Описание Эллады. Pausanii Graeciae descriptio,
ed. Fr. Spiro. I—III. Lipsiae, 1903.
Philon. De mund. opif. Филон. «О творении мира». Philonis De
opificio mundi, ed. L. Cohn, Berl. 1889.
Philostr. Филострат Афинский. Philostratorum et Callistrati opera,
rec. A. Westermann. I Parisiis, 1878.
— Imag. — «Картины»
Pind. Пиндар. Pindari carmina, ed. 0. Schroeder. Lipsiae, 1930.
— Istm. — Nem. - 01. — Pyth. — «Истмийские оды» — «Немейские оды» — «Олимпийские оды» — «Пифийские оды»
Plat. Платон. Platonis dialogi, ex recogn. C. F. Hermann W. Wohlrab.
I—VI Lipsiae, 1920-1935.
— Alcib. — Conv. — Critias — Euthid. — Hipp. Maior — Legg. — Politic. — Tim. — «Алкивиад» — «Пир» — «Критий» — «Евтидем» — «Гиппий больший» — «Законы» — «Политик» — «Тимей»
Plin. Nat. hist. Плиний. Естественная история. Plinii Historiae
naturalis libri XXXVII, I—II Parisiis, 1848—1850.
Указатель сокращенных значений...
715
Plut. Плутарх. Plutarchi vitae parallelae, ed. Cl. Lindskog—H. Zeegler.
Lipsiae. — Arat. — Lie. — Pericl. — Sull. — Themist. — Thes. — «Арат» III 1. 1915. — «Ликург» III 2. 1926. — «Перикл» I 2. 1914. — «Сулла» III 2. 1926. — «Фемистокл» 1 1. 1914. — «Тезей» I 1. 1914.
— De mus.— Плутарх. «О музыке». Plutarchi Moralia, ed.
G. N. Bernardakis. Lipsiae, Vi, 1895.
— Quest, conv. (Conv.) — «Застольные вопросы». IV, 1892.
Porphyr. De abst. Порфирий. «О воздержании». Porphyrii opuscula
selecta, ed. A. Nauck. Lipsiae, 1886.
Procl. in Alcibiad. Прокл. Комментарий на «Алкивиада» I Платона.
Procli in 1 Alcibiadem Commentarii, ed. Fr. Creuzer. Francofurtii, 1821 —
1825.
— in Crat. — Комментарий на «Кратила» Платона. Procli in Cratylum commentarii, ed. G. Pasquali, Lipsiae, 1908.
— in Рапп. — «Комментарий на „Парменида11 Плато- на». Procli philosophi Platonici opera inedita, emend. V. Cousin, Parisiis, 1864.
— in Plat, theol. — «Комментарий на богословие Платона». Procli in Platonis theologiam, ed. Aem. Portus. Hamburgi, 1618.
Procl. excerpt. Ep. Cycl. Прокл. Эксцерпты из эпического кикла.
См. Procl. Chrest. Прокл. Хрестоматия. Homeri opera, ed. Th. W. Allen.
V Oxonii, 1912.
Ps.-Erat. Catast. Псевдо-Эратосфен. Превращения в звезды.
Mythographi Graeci III 1. Pseudo-Eratosthenis catasterismi, ed. A. Olivieri.
Lipsiae, 1897.
Ps.-Iambl. Theol. Arithm. Псевдо-Ямвлих. Теологумены арифмети-
ки. (lamblichi) Theologumena arithmeticae, ed. V. De Falco. Lipsiae,
1922.
Sallust. De diiset mundo. Саллюстий. «О богах и мире». Sallustii
philosophi de diis et de mundo. — In: Fragmenta philosophorum
graecorum. Ill coll. Fr. G. A. Mullachius. Parisiis, 1881.
Schol. Apoll. Rhod. Схолии к Аполлонию Родосскому. Apollonii Rhodii
Argonautica emend. R. Merkel. II Scholia Vetera, ed. B. Keil. II Lipsiae, 1854.
Schol. Aristoph. Схолии к Аристофану. Scholia Graeca in
Aristophanem, ed. Fr. Diibner. Parisiis, 1843.
Schol. Demosth. Схолии к Демосфену. Oratores Attici, ed. C. Muller,
II Parisiis, 1846—1858.
Sen. Agam. Сенека. «Агамемнон». Senecae tragoediae, ed. R. Reiper —
G. Richter. Lipsiae, 1921.
716 Указатель сокращенных значений...
— Hercul. — «Геракл безумный»
— Hercul Oet. — «Геракл на Эте»
— Med. — Octav. — Phaedr. — «Медея» — «Октавия» — «Федра»
Serv. Verg. Вис. Сервий. «Комментарий к „Буколикам" Вергилия».
Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii Aeneidos libros commentarii
rec. G. Thilo—H. Hagen. III. 1. Lipsiae, 1927.
— Georg — «Комментарии к „Георгикам" Вергилия». Ill 2.
Lipsiae, 1927.
Sophocl. Софокл. Sophoclis tragoediae, ed. G. Dindorf—S. Mekler.
Lipsiae, 1914. — Ai. (Ajax) — Ant. — El. - 0. C. — 0. R. — Trach. — «Аякс» — «Антигона» — «Электра» — «Эдип в Колоне» — «Эдип-царь» — «Трахинянки»
Stat. Achill. Папиний Стаций. Statii Papinii opera. II 1. ed. A. Klotz,
Lipsiae, 1925. — Silv. — Theb. — «Сильвы». I, 1911. — «Фиваида». II, 2. 1908.
Stoic. Vet. fragm. Фрагменты древних стоиков. Stoicorum veterum
fragmenta, coll. Io. ab Arnim. I—IV. Lipsiae, 1921 —1924.
Suid. (Suda). Лексикон «Свида» (Суда). Suidae Lexicon, ed.
G. Bernhardi, I 1—2, II 1—2. Lipsiae, 1843—1853.
Tzetz Lyc. Цец. Схолии к Ликофрону. Tzetzes scholia in
Licophronem, ed. G. Muller. I—III. Lipsiae, 1811.
Verg. Aen. Вергилий. «Энеида». Vergilii Maronis Opera, ed. G. Janell.
Lipsiae, 1930.
— Вис. - Cir. — «Буколики» («Эклоги») — «Цирис». Poetae latini minores, ed. A. Baehrens. I—VI. Lipsiae, 1879—1886. V. II (переработ- ка— Lipsiae, 1910—1935).
Xenoph. Anab. Ксенофонт. Анабасис. Xenophontis expeditio Cyri
(Anabasis), ed. C. Hude. Lipsiae, 1933.
— Ages. — «Агесилай». Xenophontis scripta minora, I ed. Th. Thalheim. Lipsiae, 1910.
— Conv. — Hell. — «Пир» — «История Греции». Historia Graeca (Hellenica), rec. C. Hude. Lipsiae, 1930.
— Lac. — «Государство лакедемонян». Xenophontis scripta minora, II, ed. F. Ruhl. Lipsiae, 1912.
Содержание
Несколько необходимых замечаний ................................. 5
Греческая мифология.............................................. 9
А. Ф. Лосев. Афина Паллада..................................... 227
Термин «символ» в древнегреческой литературе .................. 329
О древнегреческом понимании личности на материале термина sOma 362
Судьба как эстетическая категория (об одной идее А. Ф. Лосева) . 382
Природа и случай как стилистические принципы новоаттической ко-
медии ............................................................. 390
Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков . . . 434
Ионийское и аттическое понимание термина «история» и родственных
с ним.............................................................. 443
Эллинистическое понимание термина «история» и родственных с ним 459
Классическое и эллинистическое представление о красоте в действи-
тельности и искусстве.............................................. 484
Мифологическое происхождение поэтических тропов «Илиады» Гомера 515
Миф у Платона как действительное и воображаемое ............... 536
Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере
нимф» ............................................................. 557
Порфирий «О пещере нимф», пер. А. А. Тахо-Годи................. 577
Стилистический смысл хтонической мифологии в «Аргонавтике» Апол-
лония Родосского................................................... 592
Евринома и Офион............................................... 610
Эстетические тенденции в комментариях Прокла к платоновскому
«Тимею»............................................................ 613
Гимнография Прокла и ее художественная специфика .............. 635
Прокл. Комментарий на «Государства» Платона ................... 664
Гимнографические и энкомиастические тенденции в позднеантичной
прозе.............................................................. 667
Роберт Грейвс — мифолог-поэт................................... 680
А. Ф. Лосев. Философия культуры и античность................... 695
Античная культура (краткая библиография)....................... 706
Литература (к мифологии) ...................................... 708
Указатель сокращенных обозначений некоторых использованных ис-
точников в главе «Афина Паллада» из книги А. Ф. Лосева 1