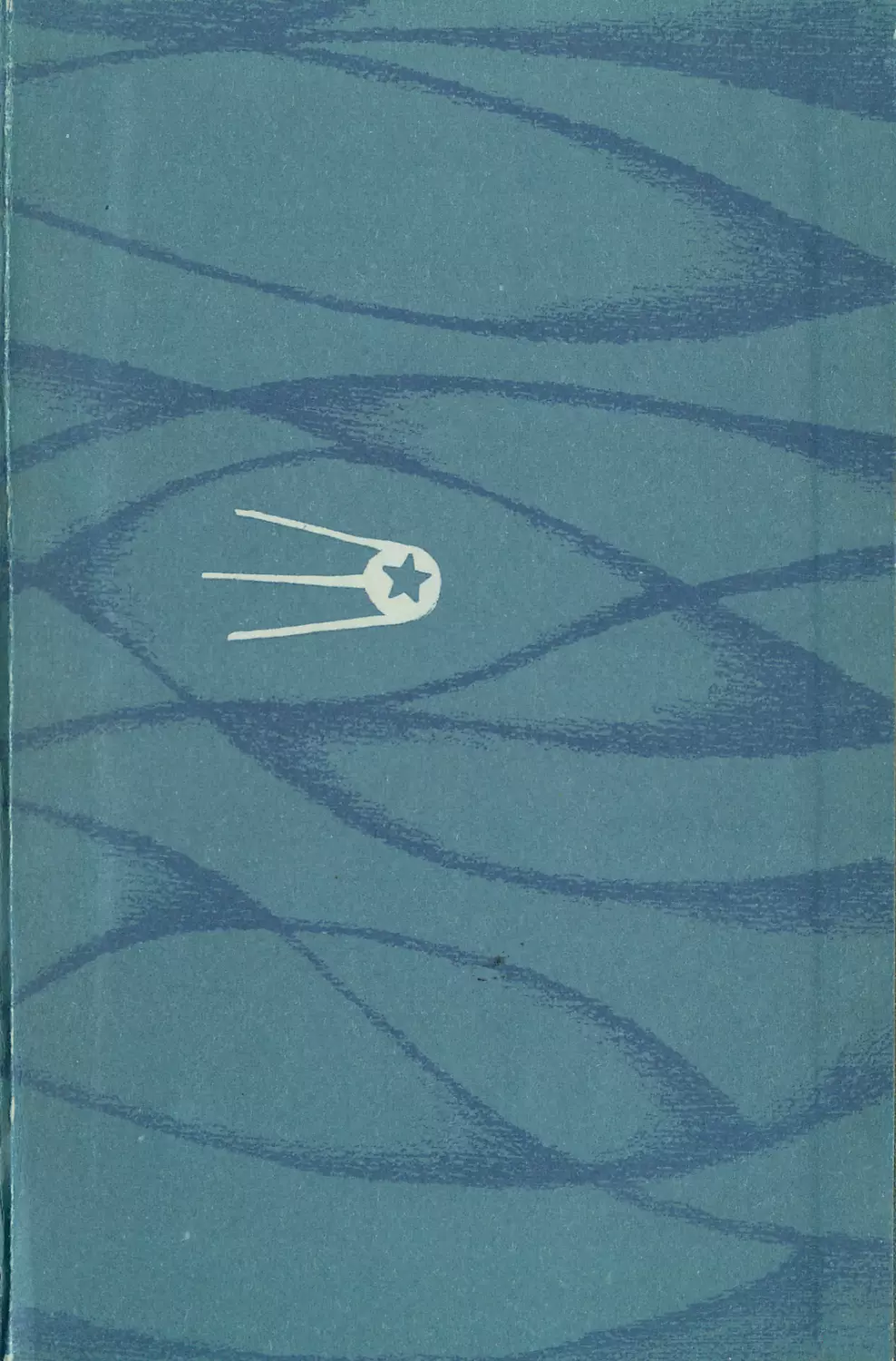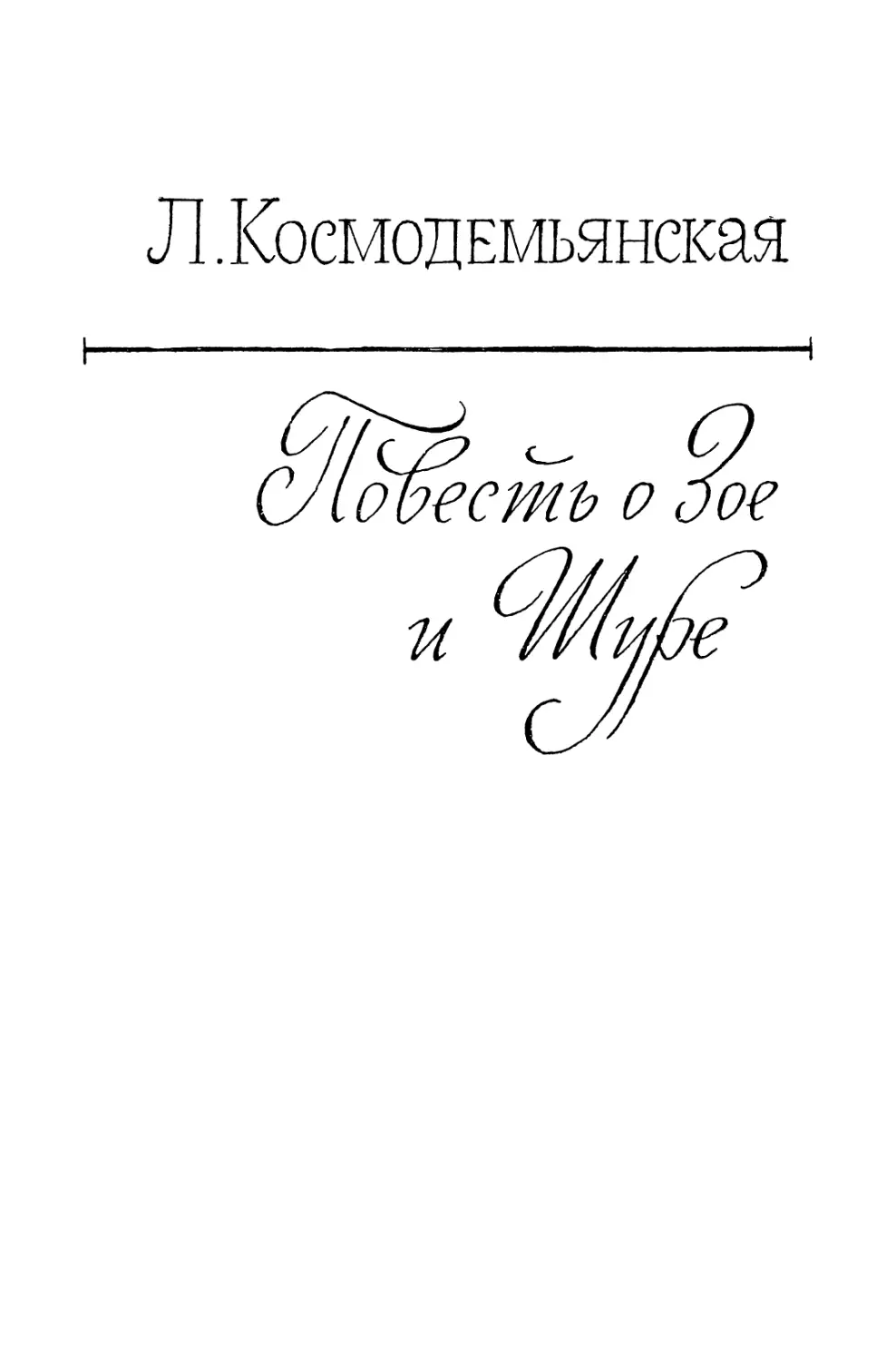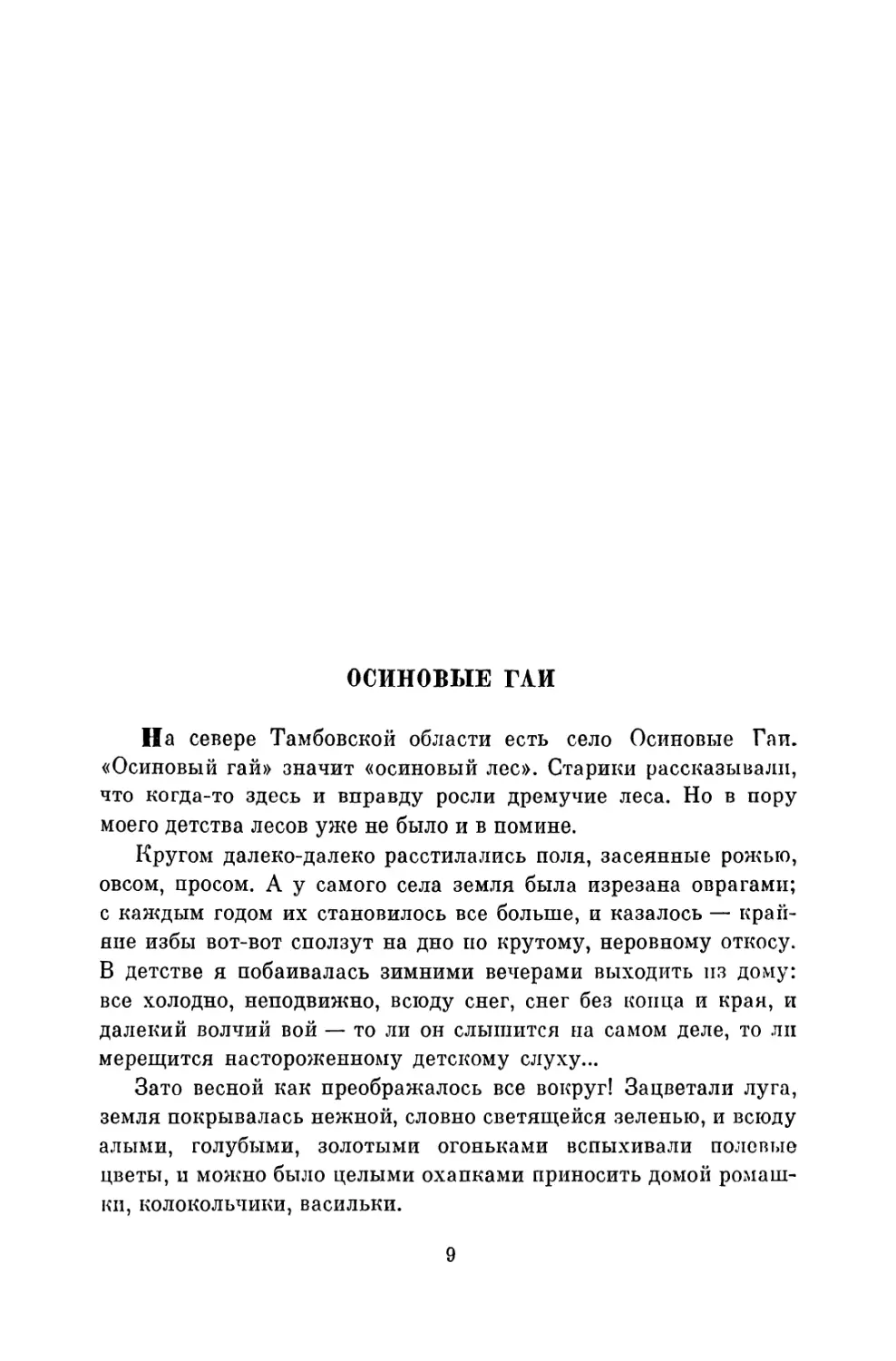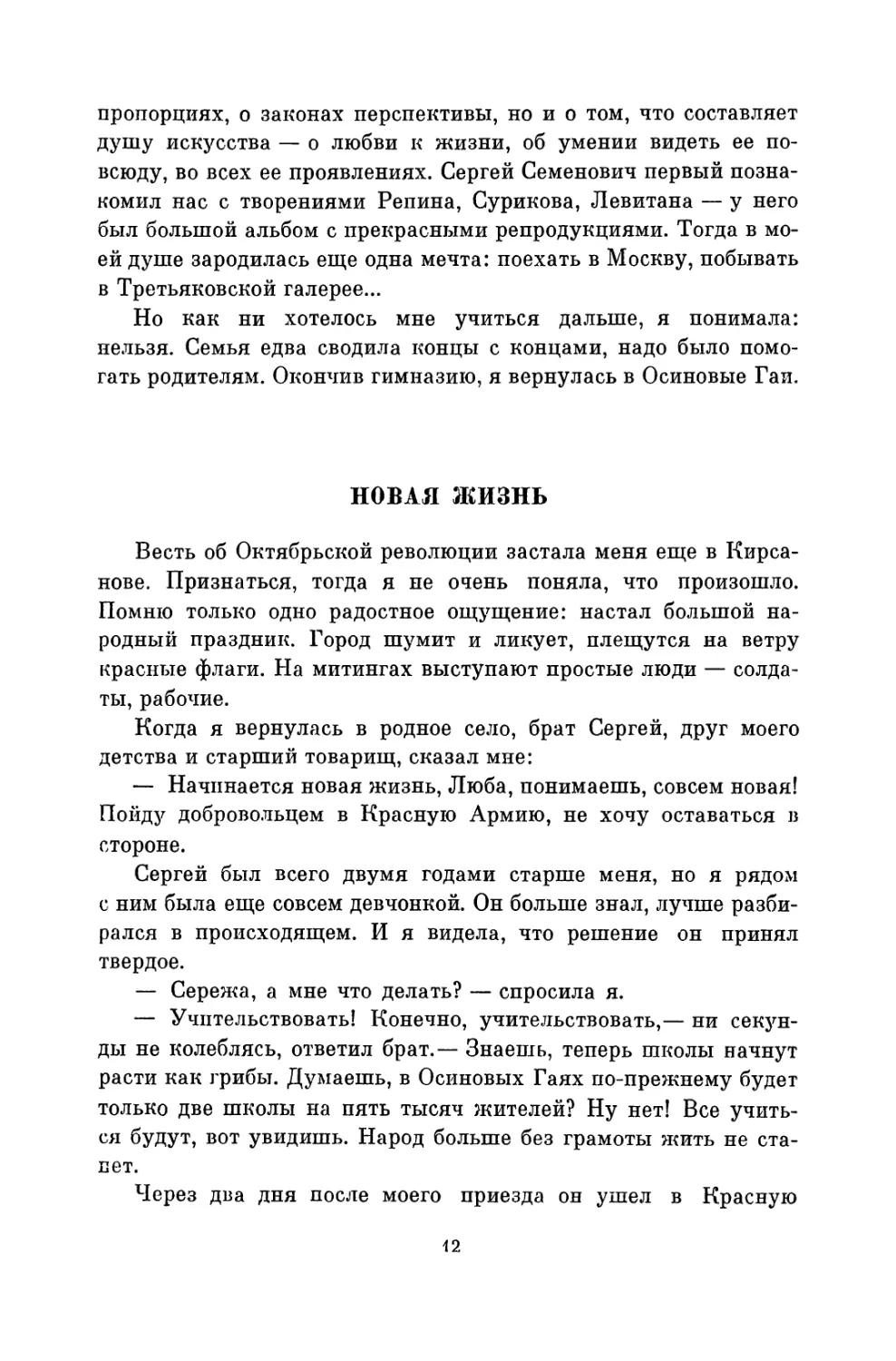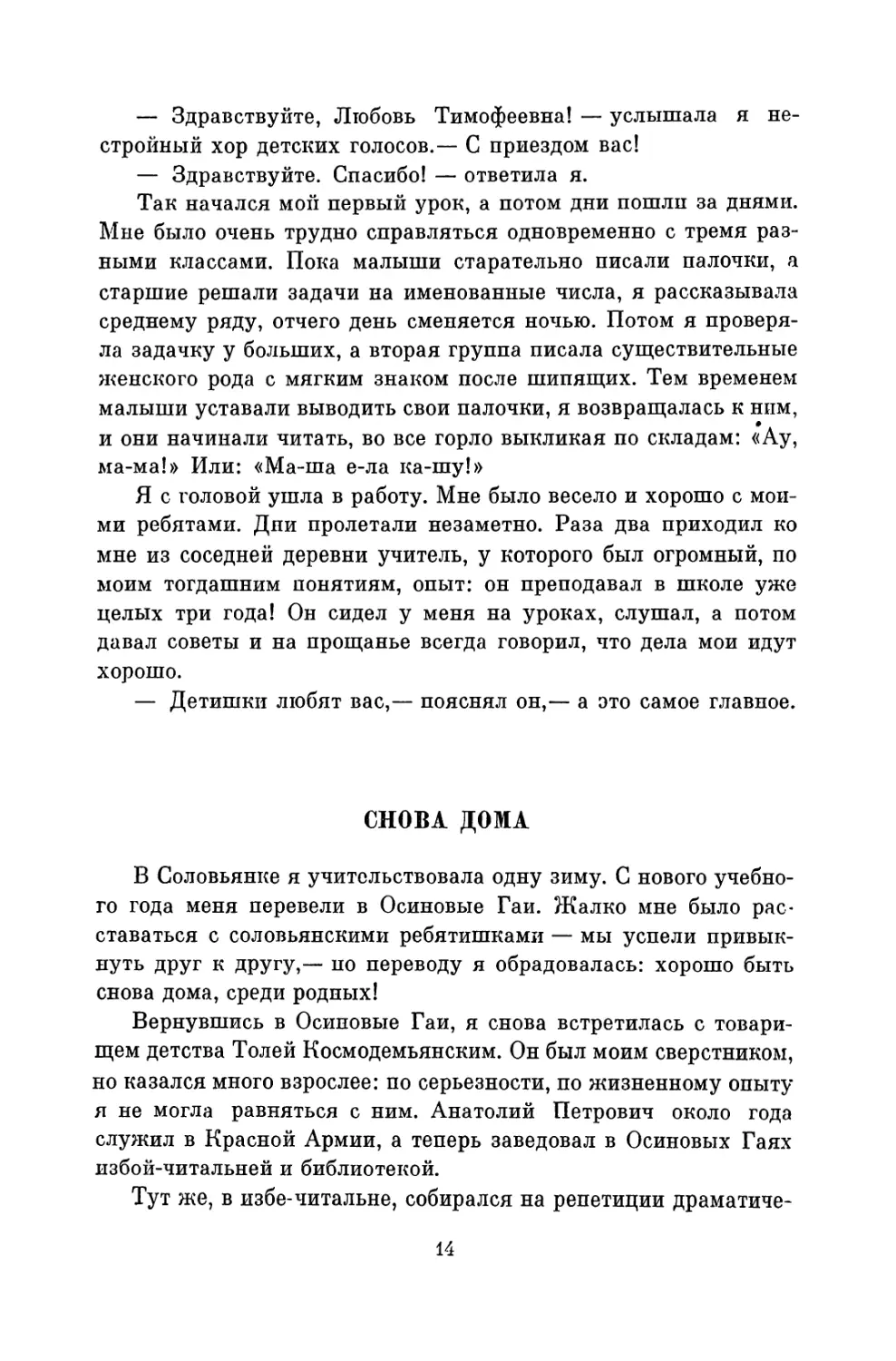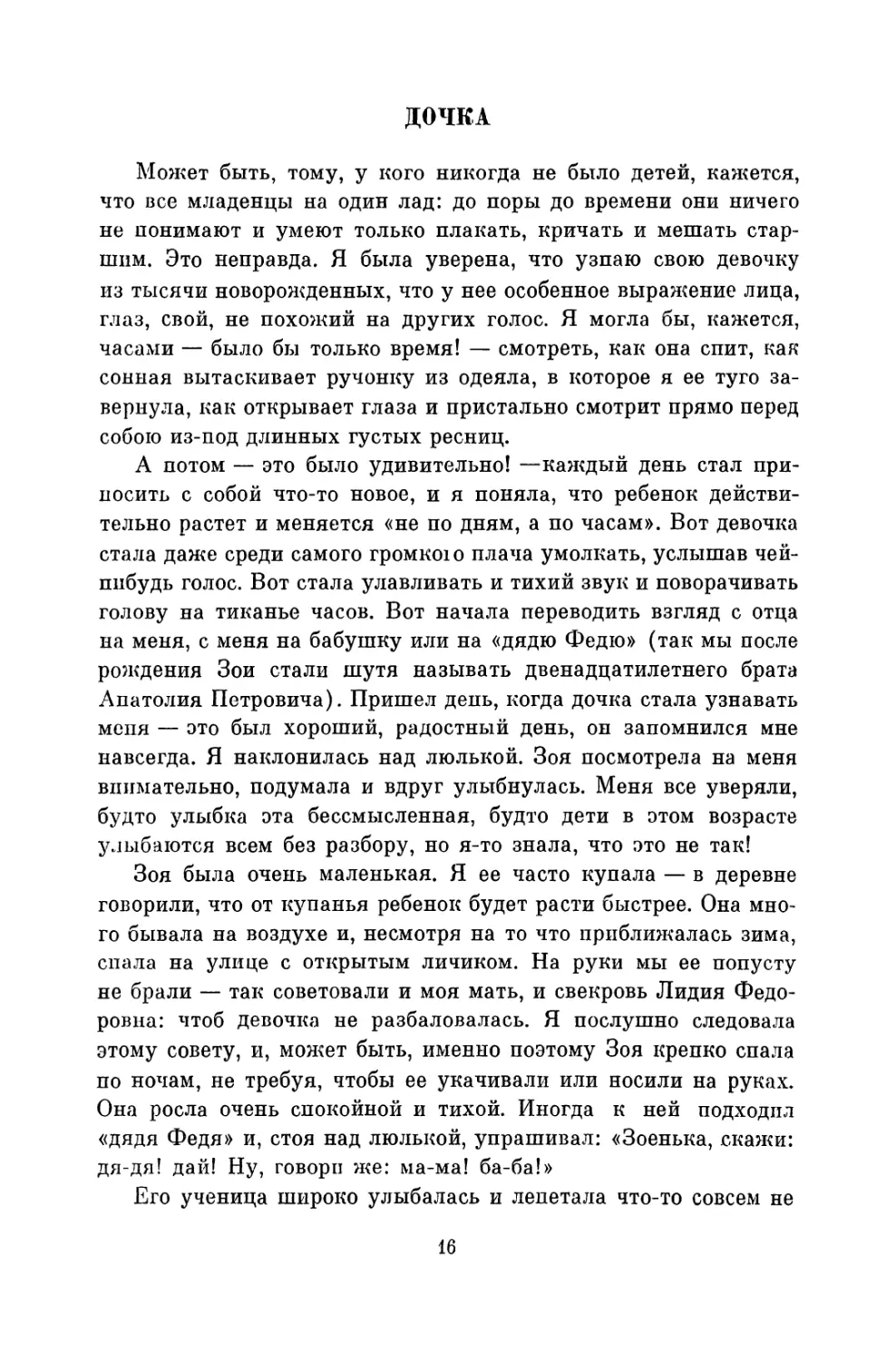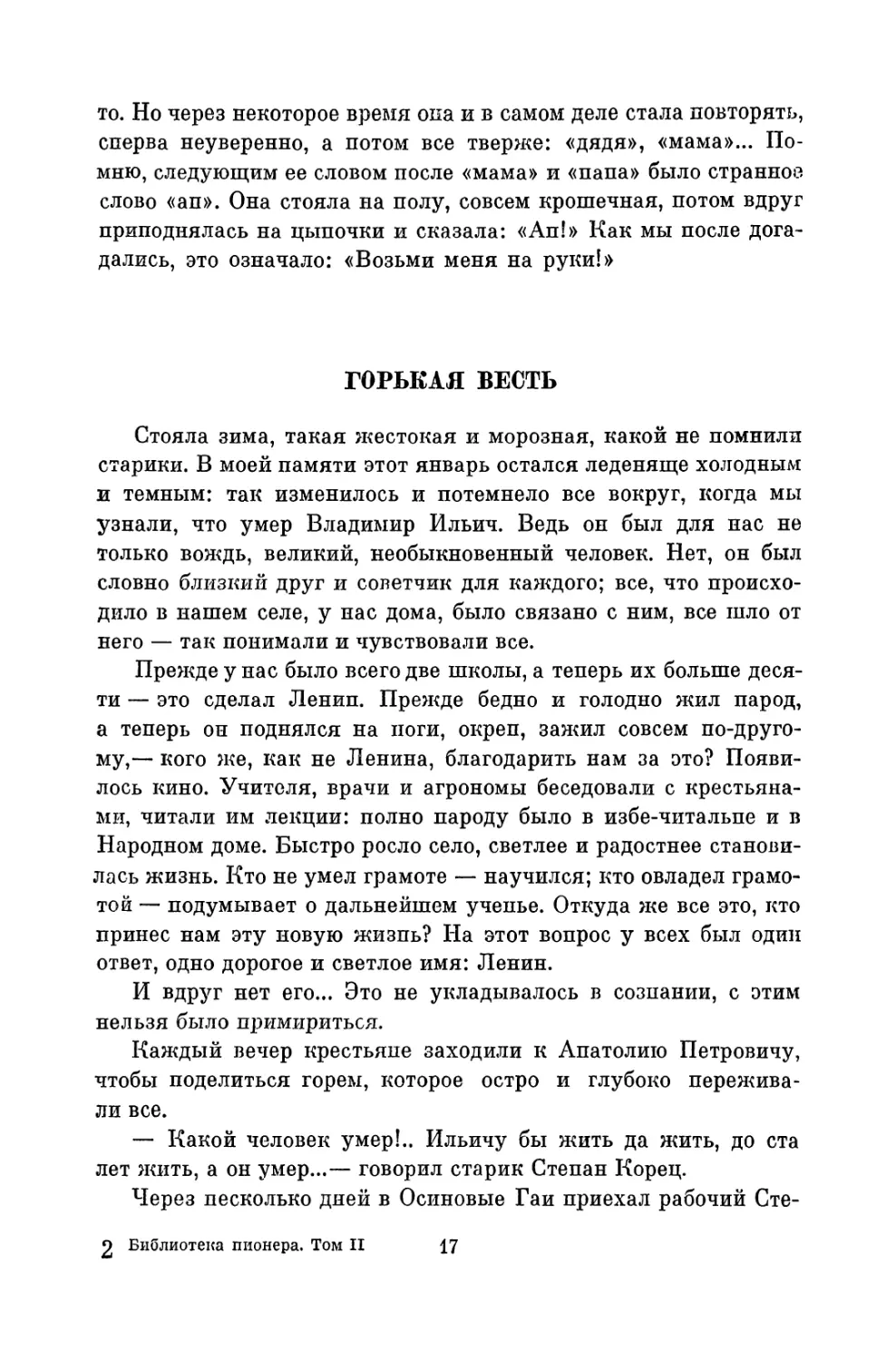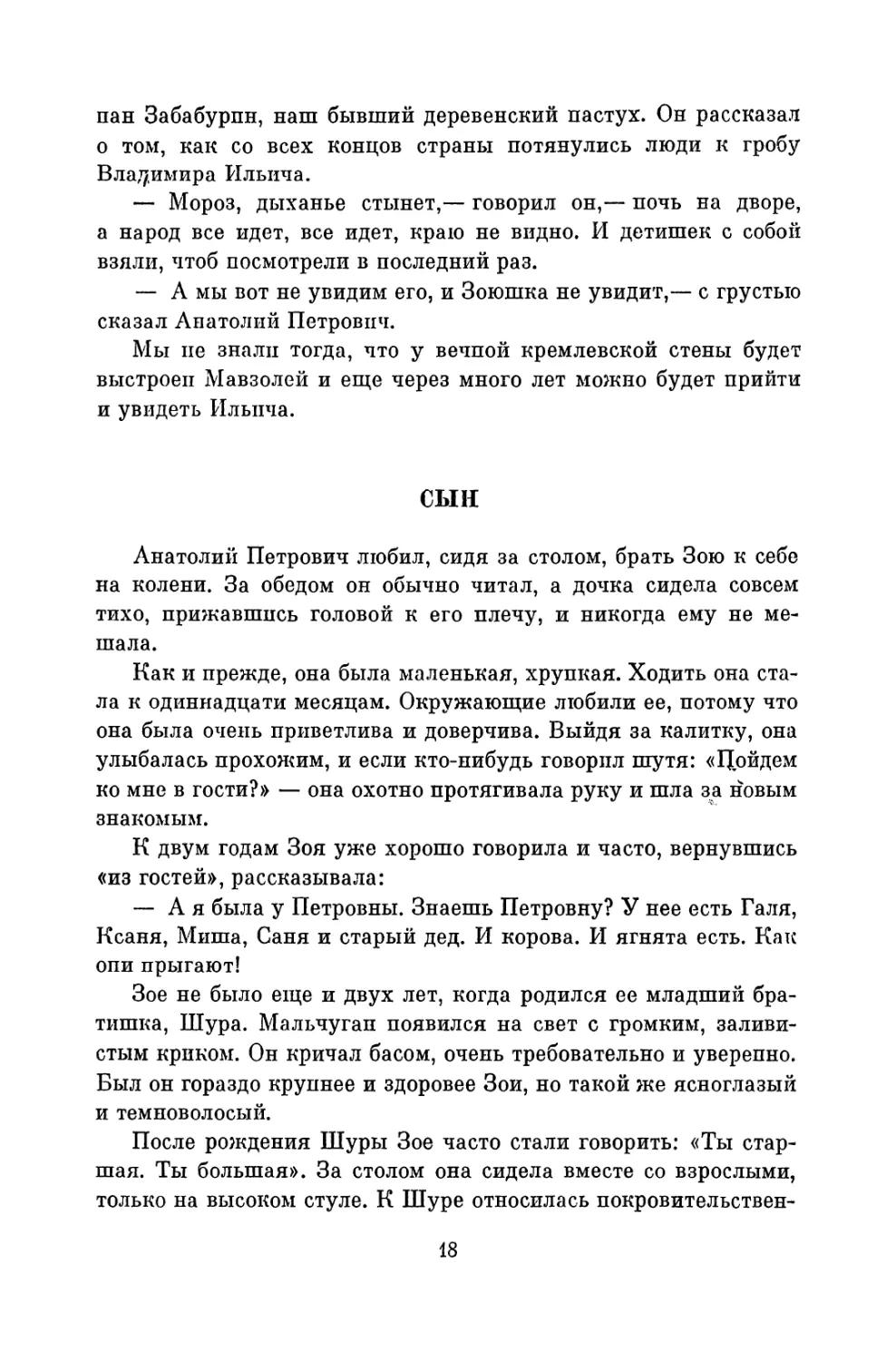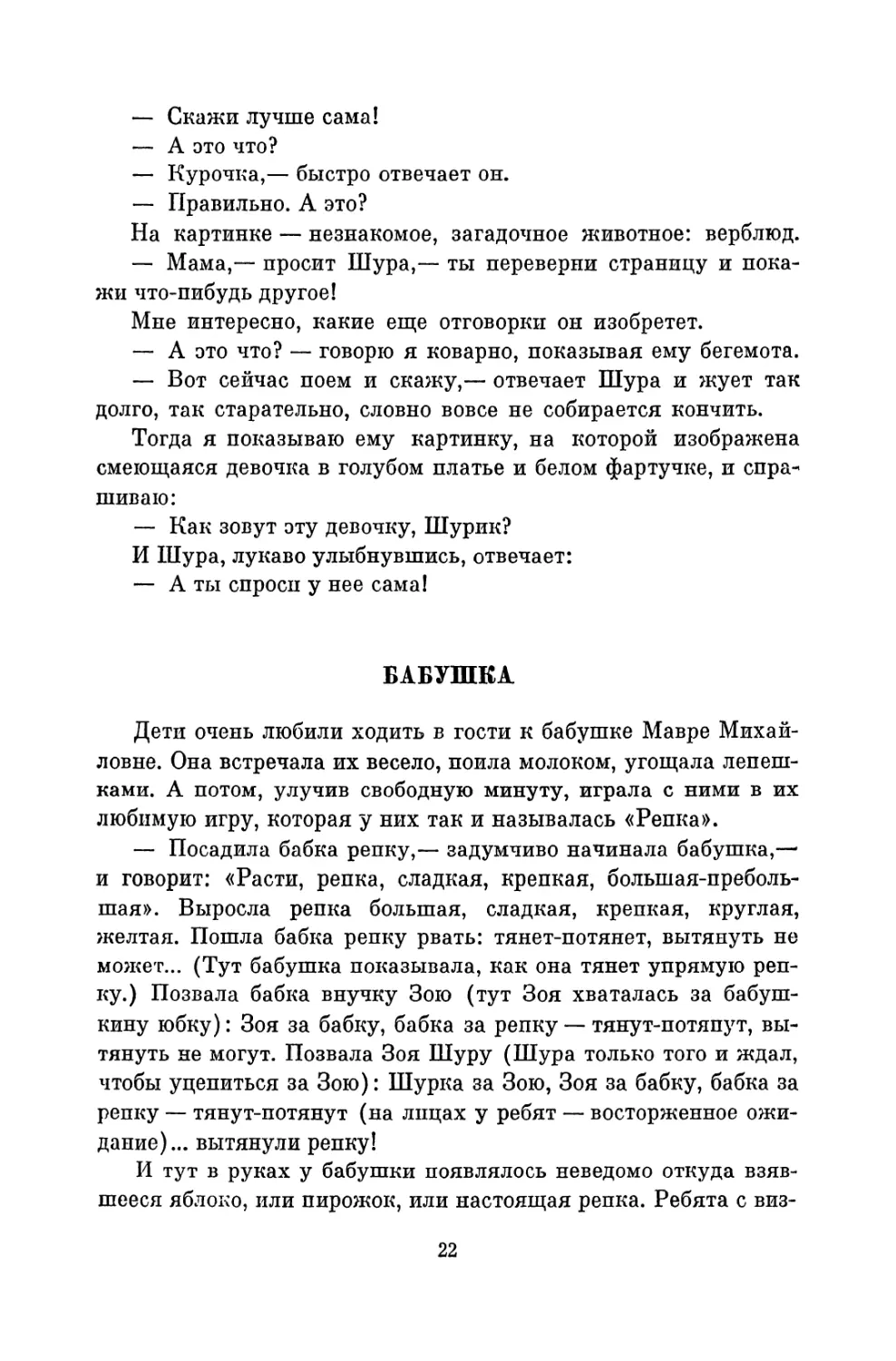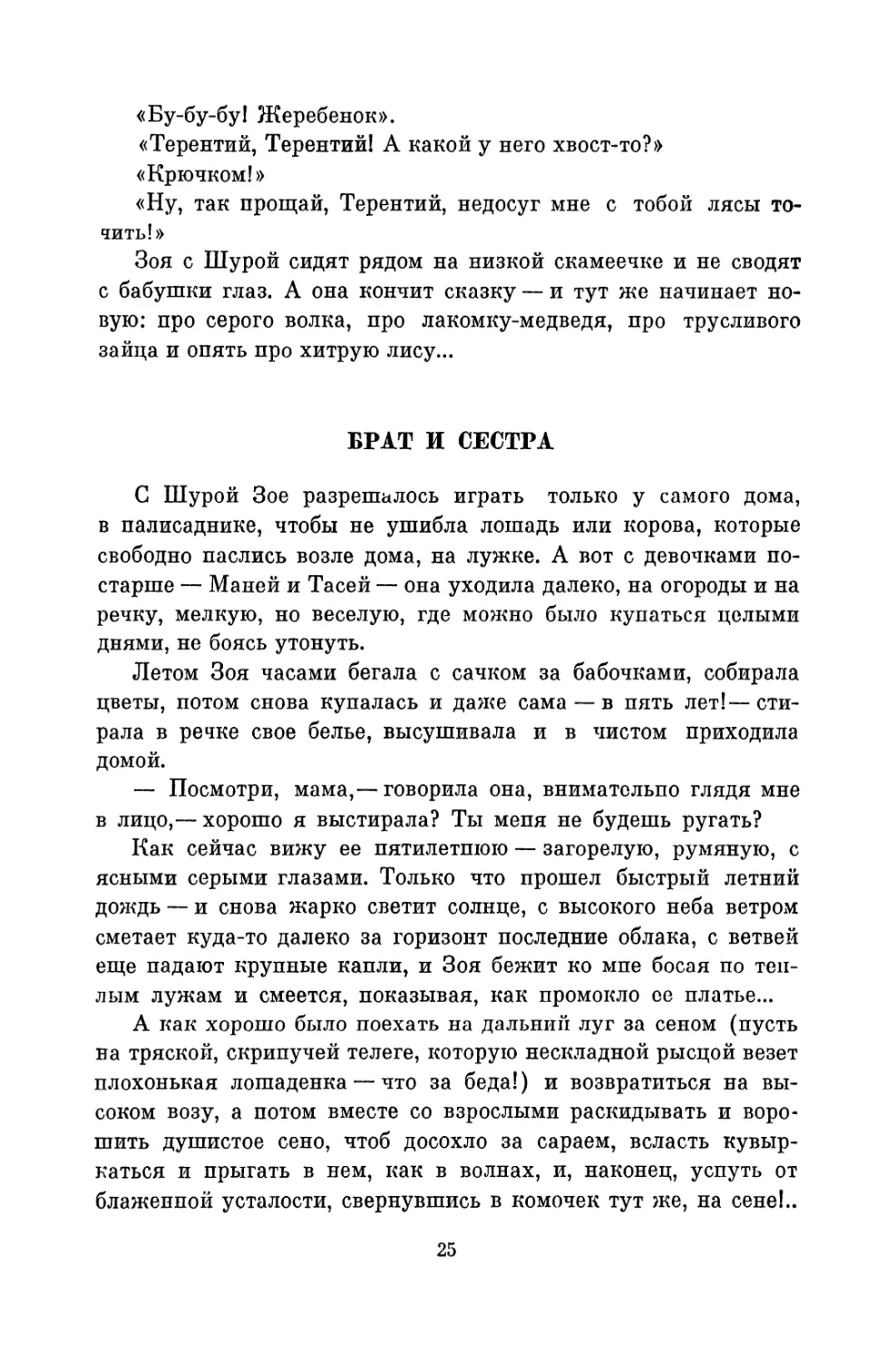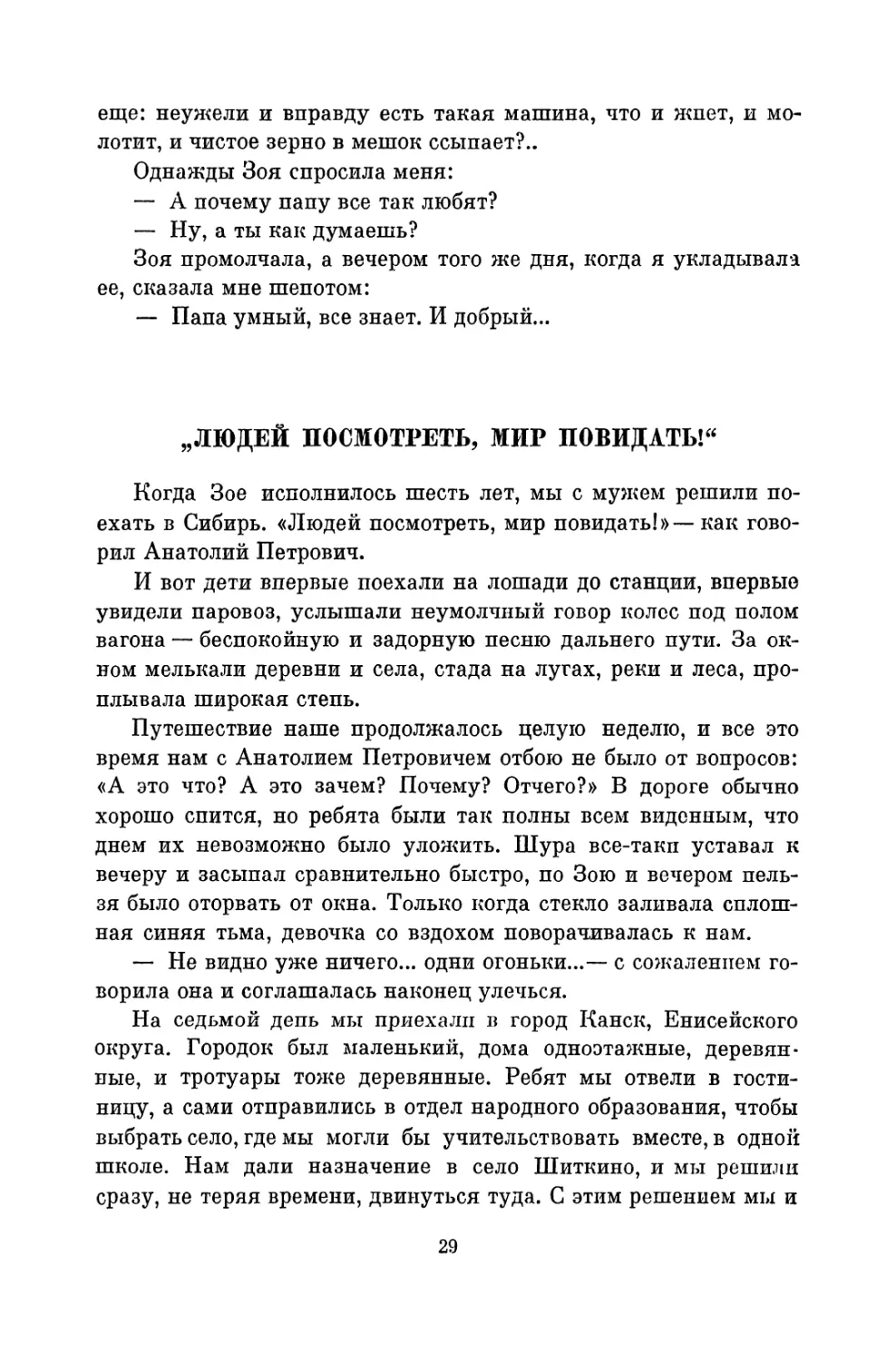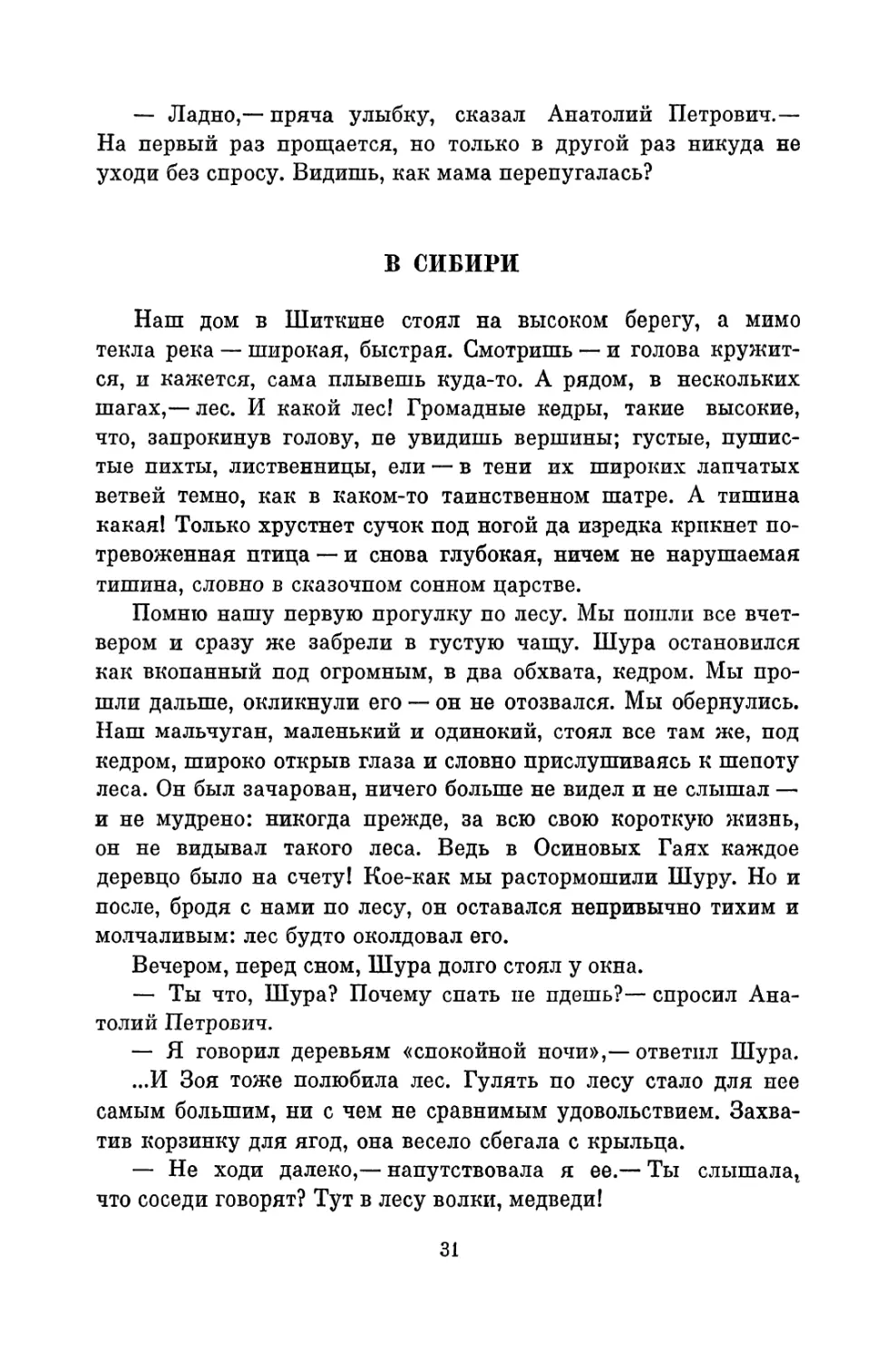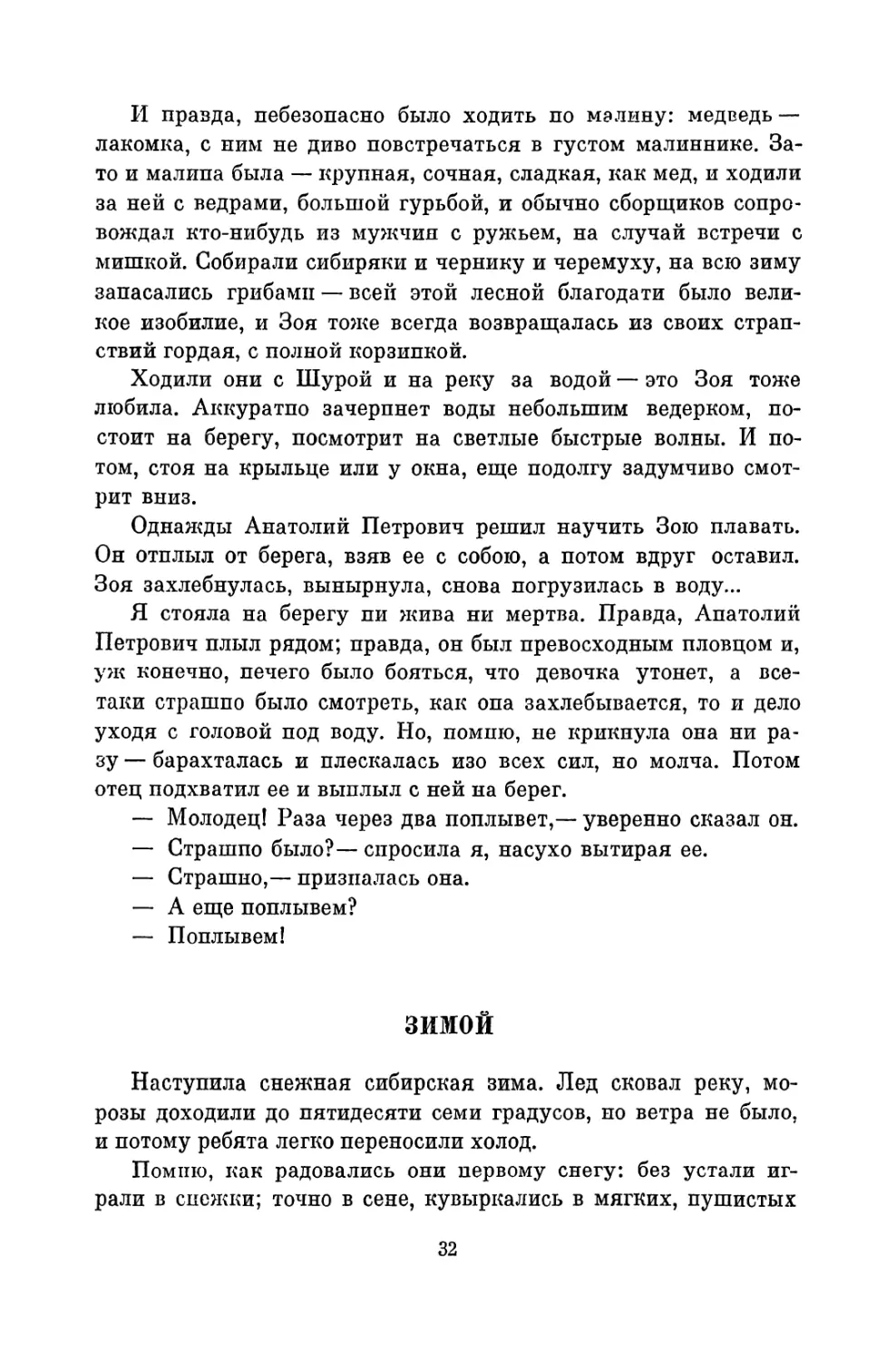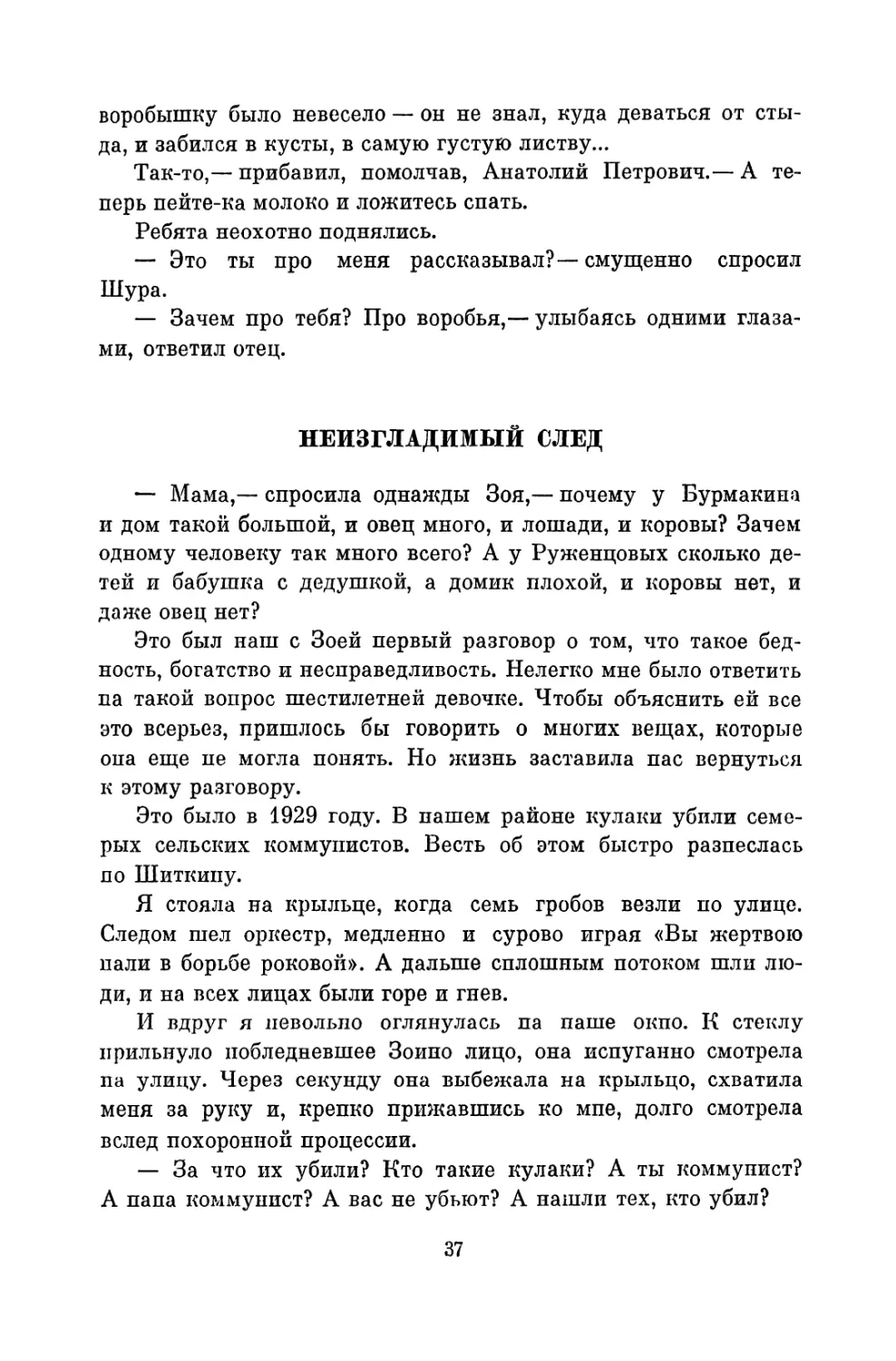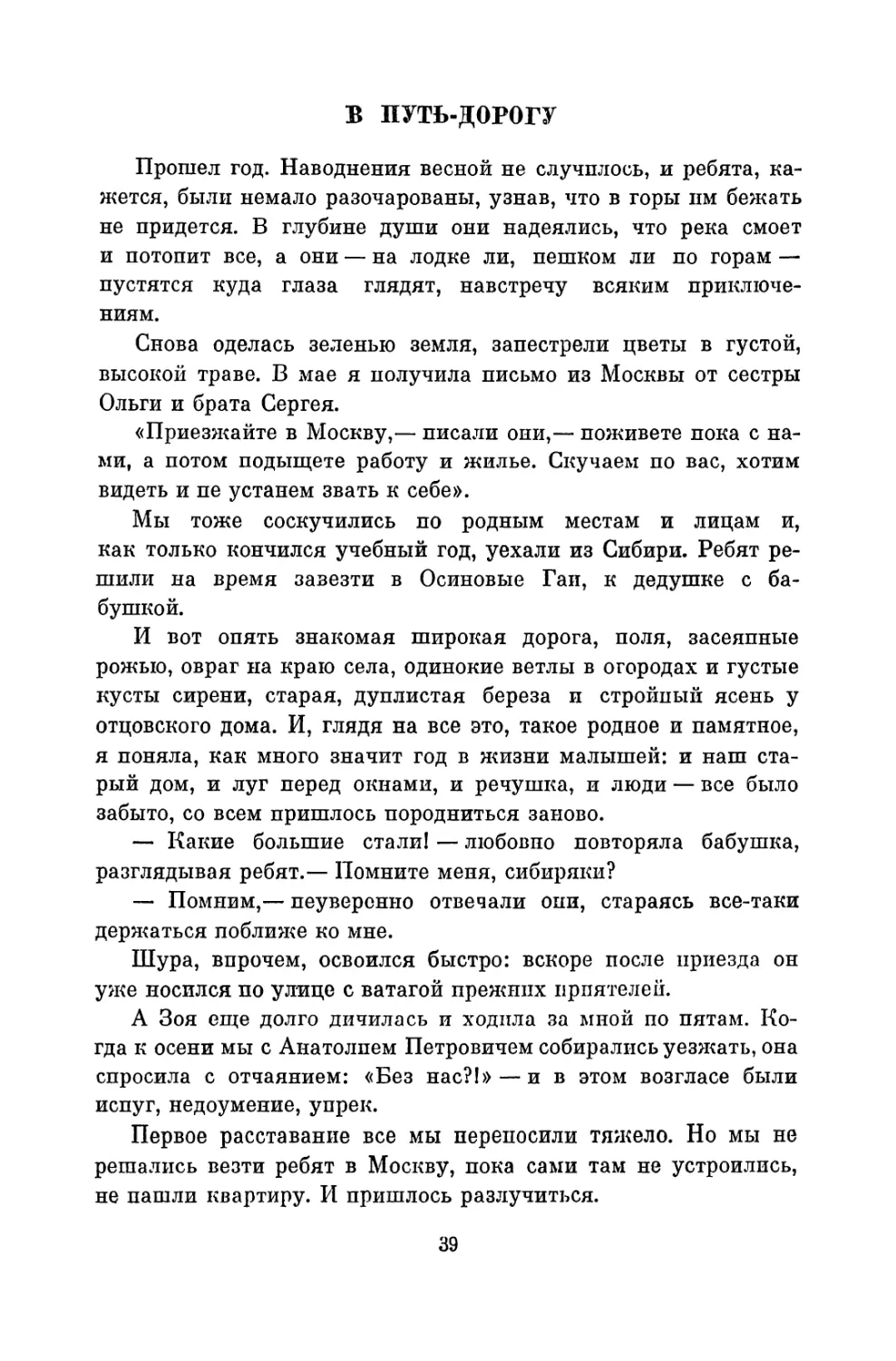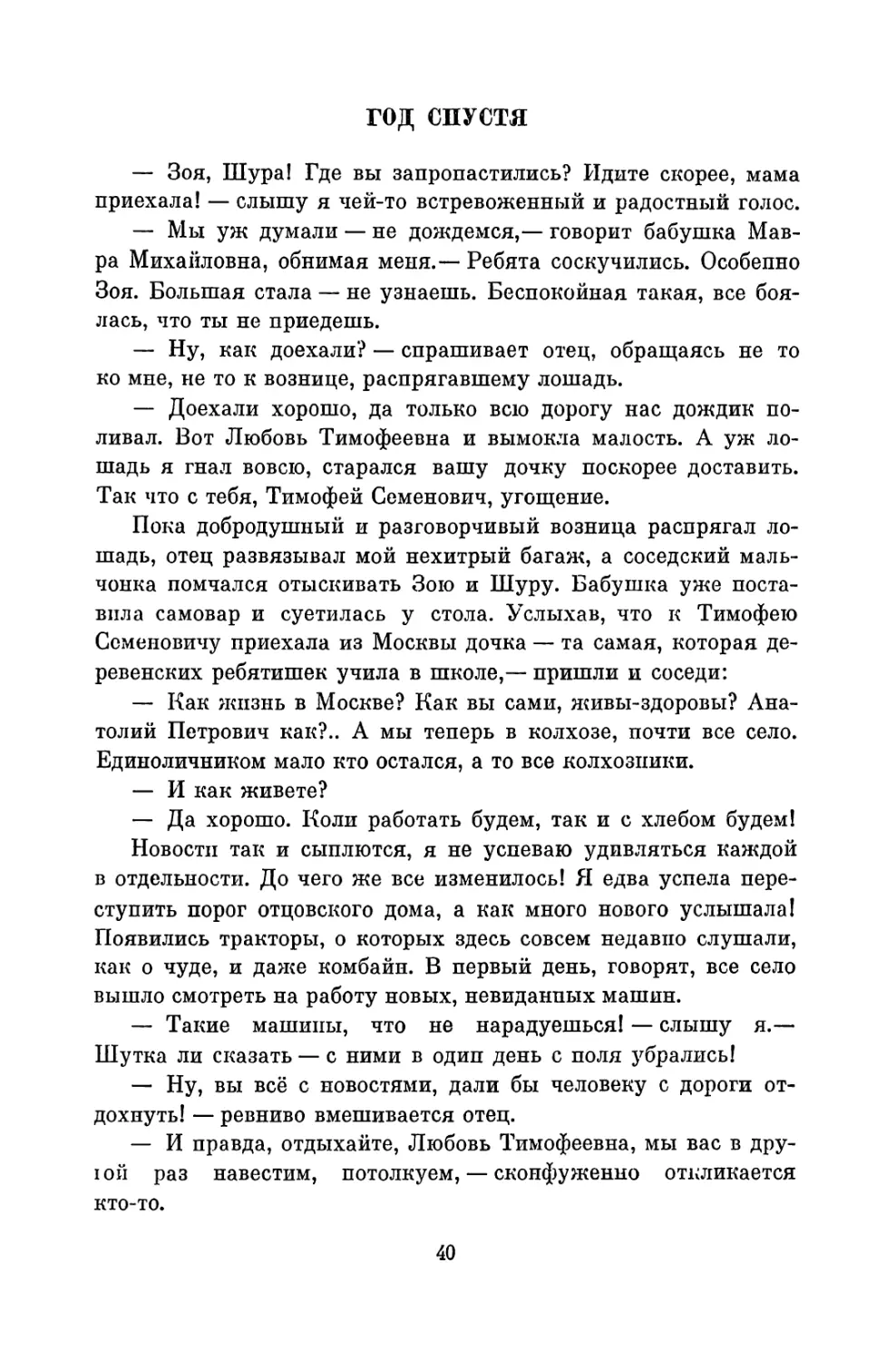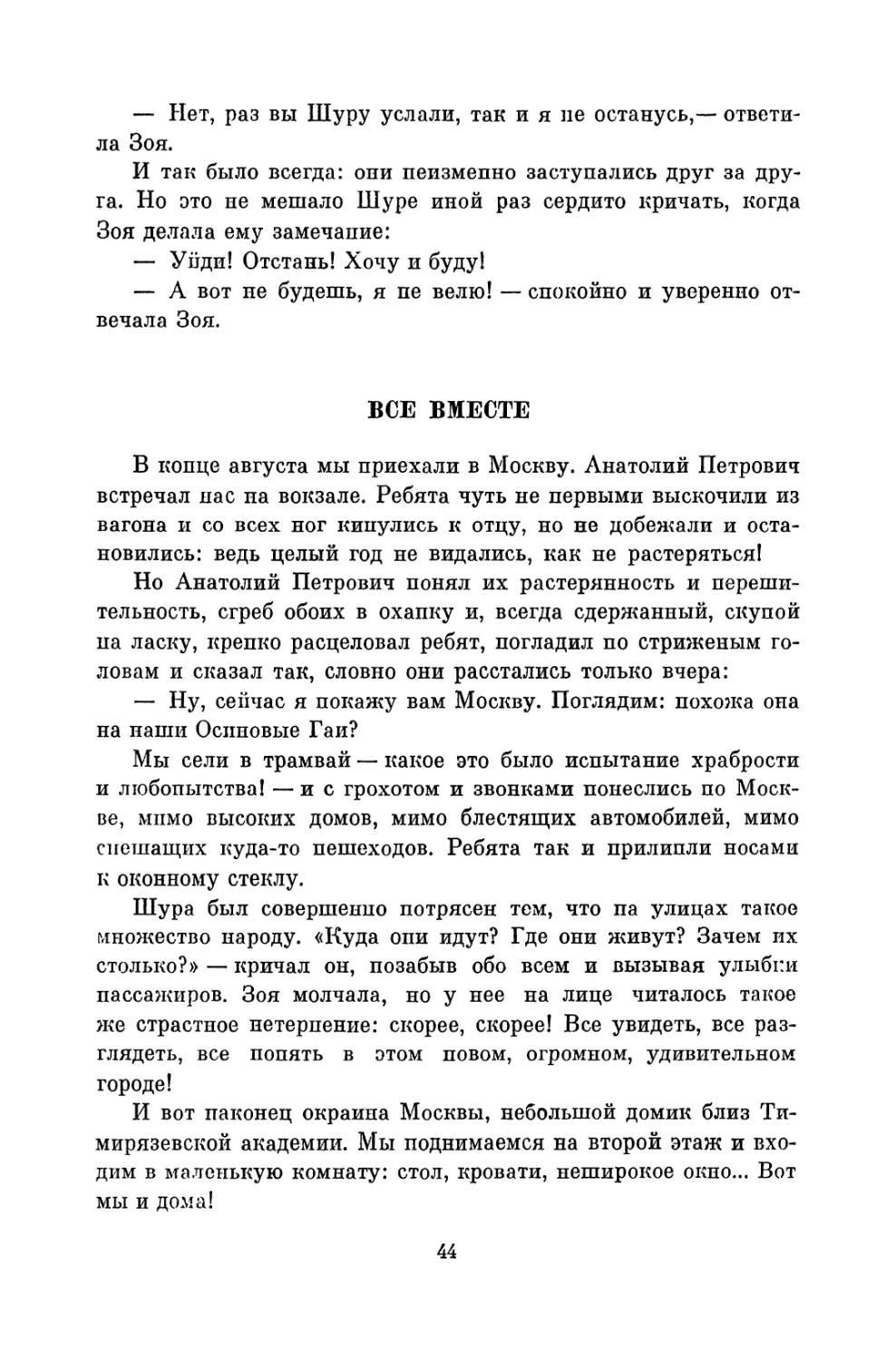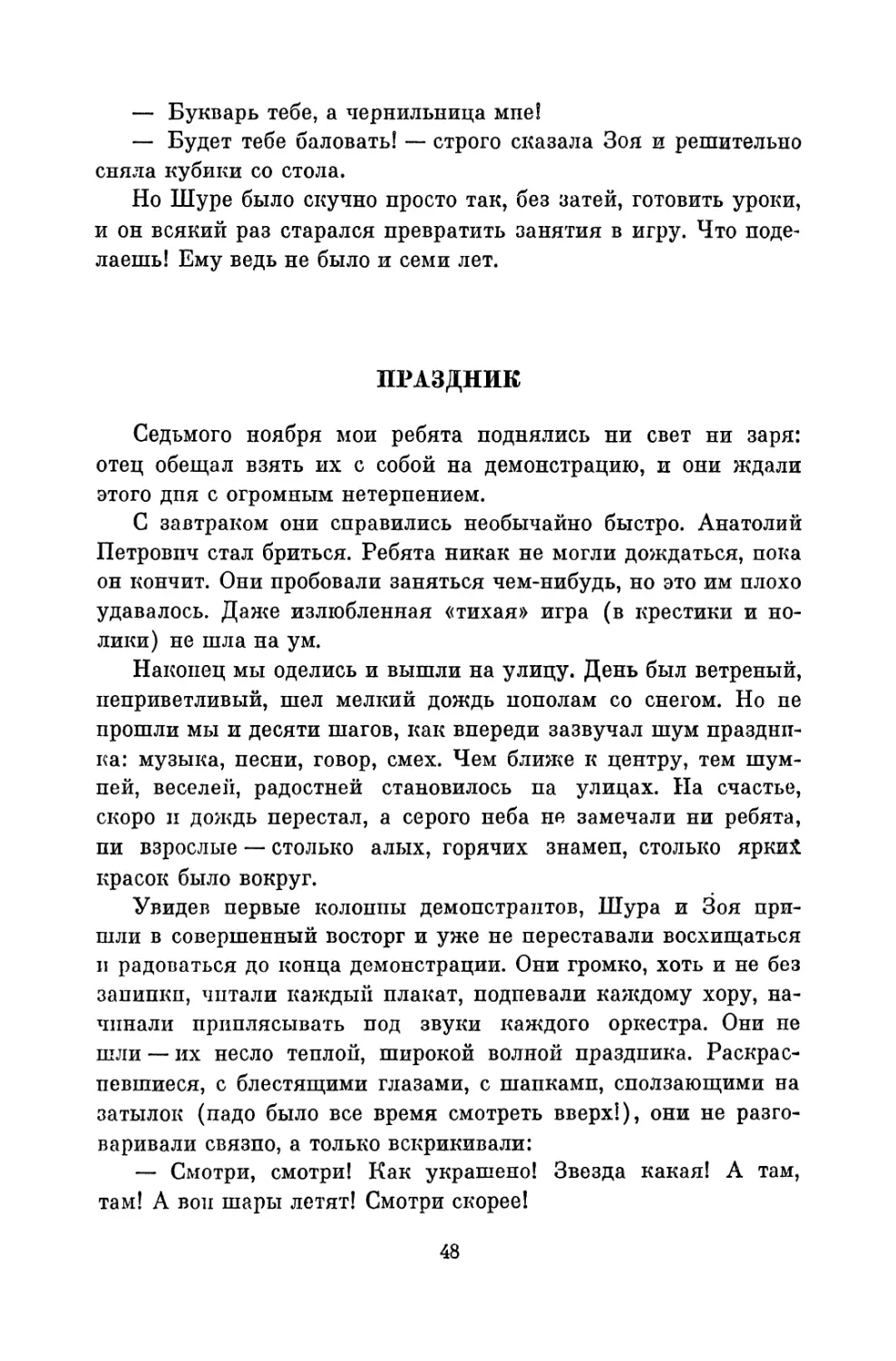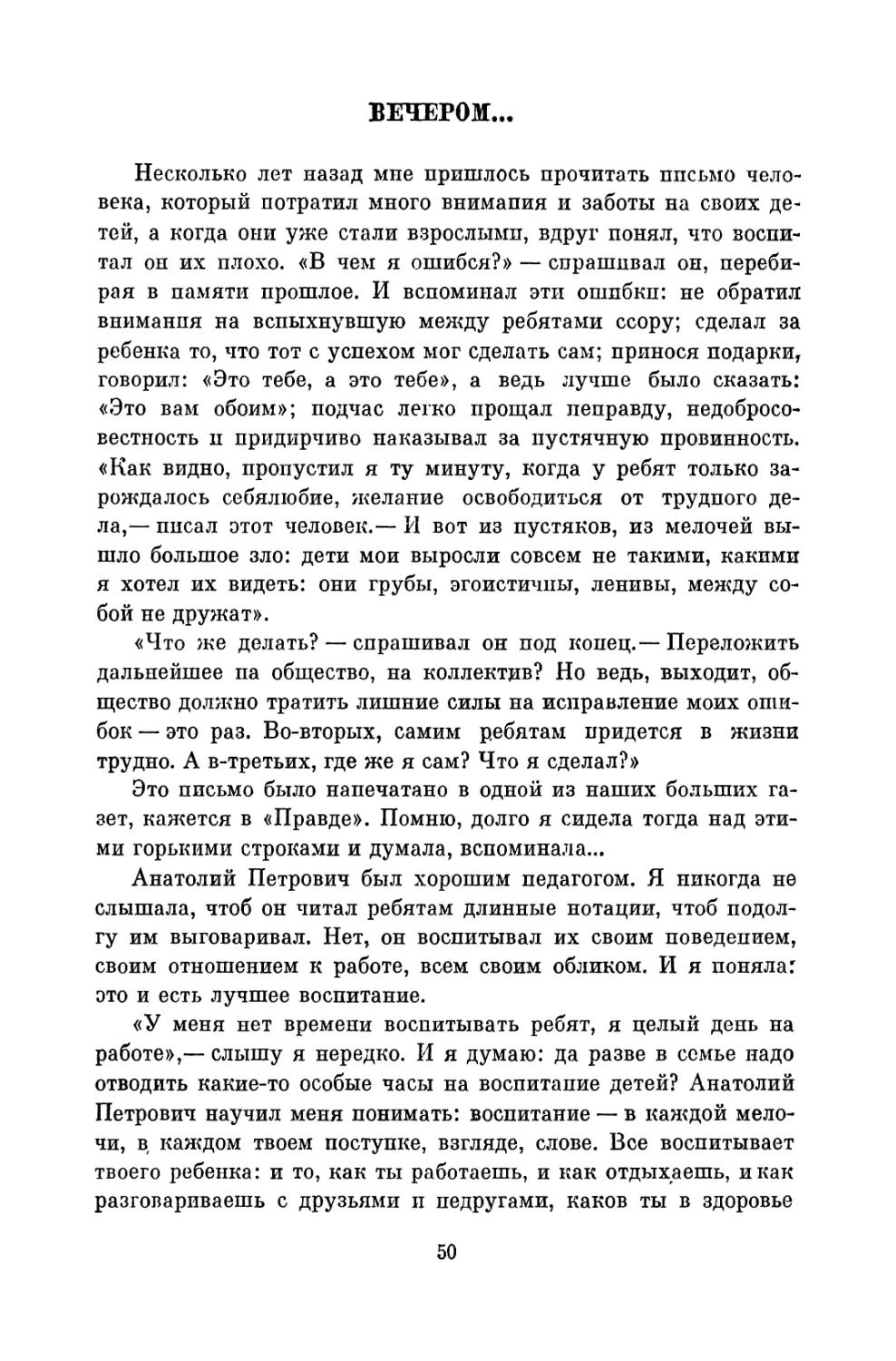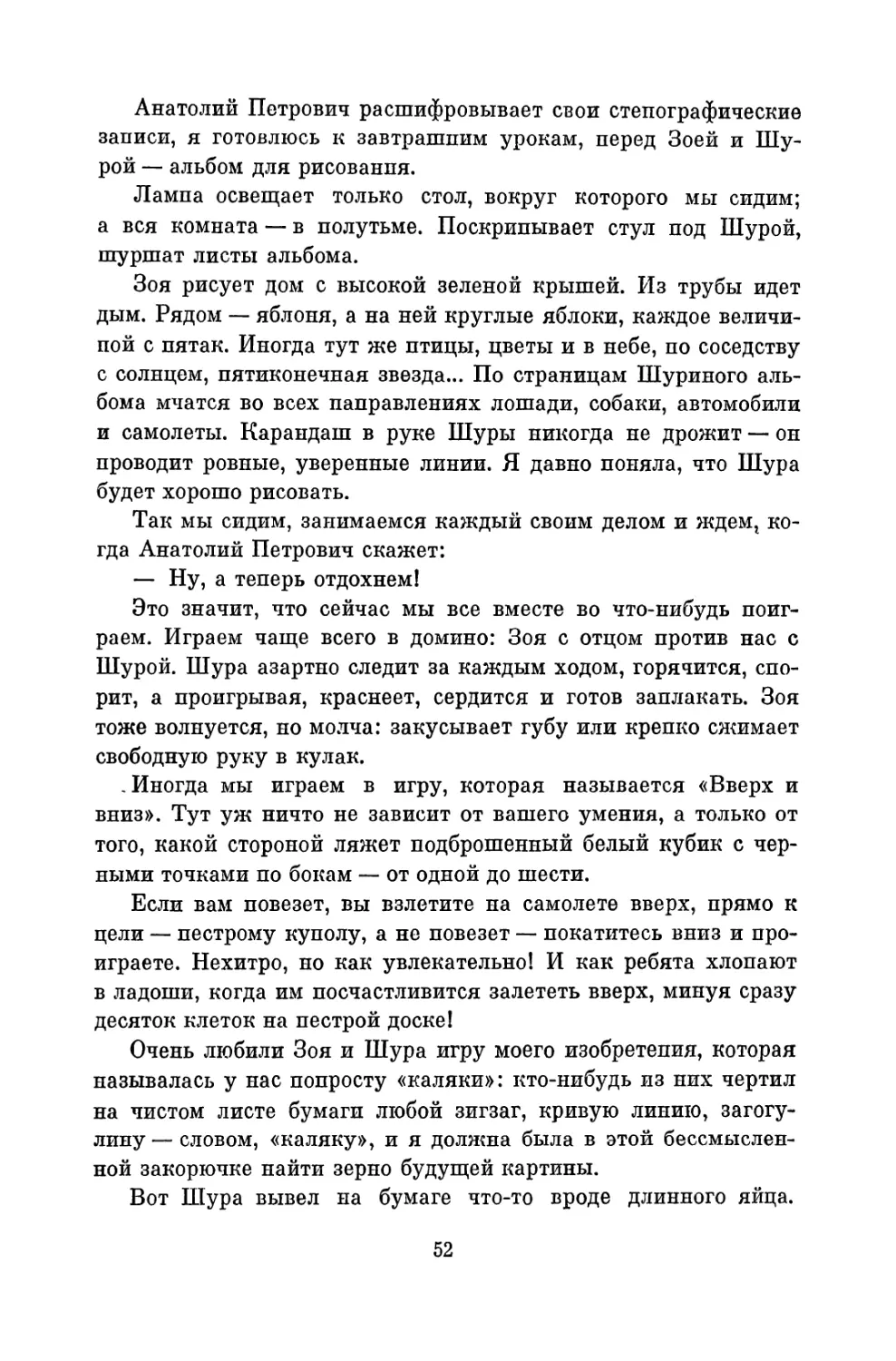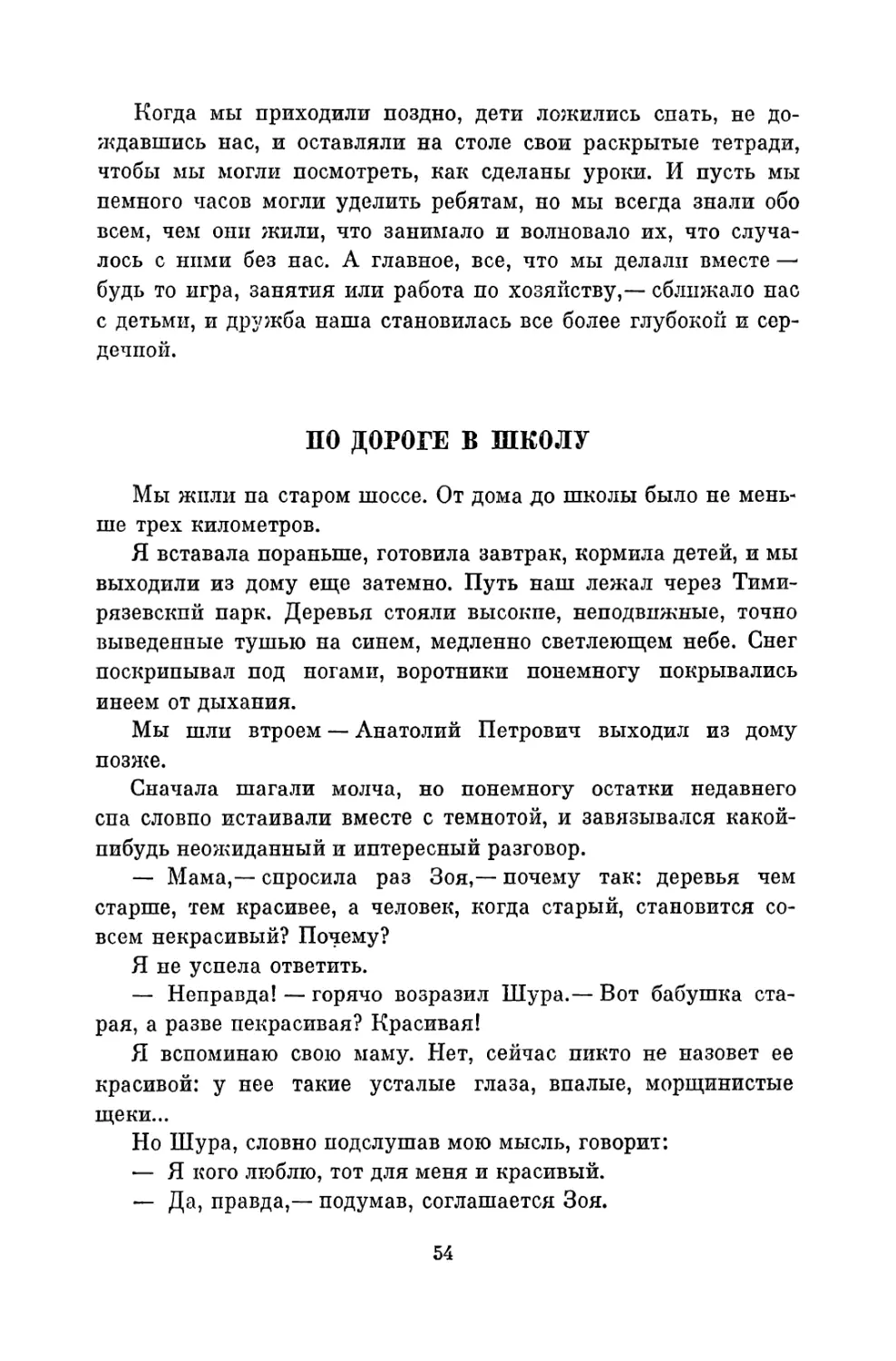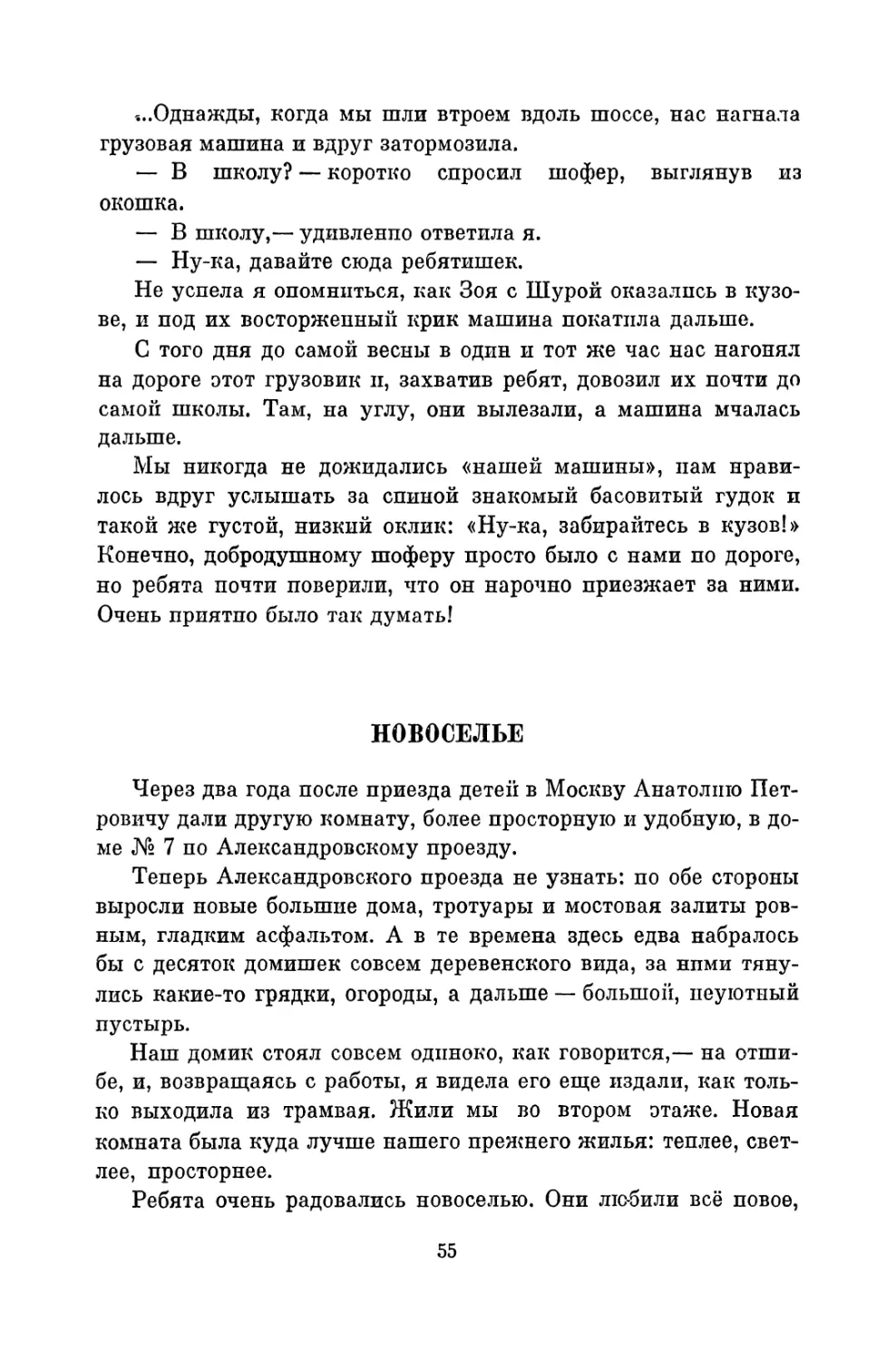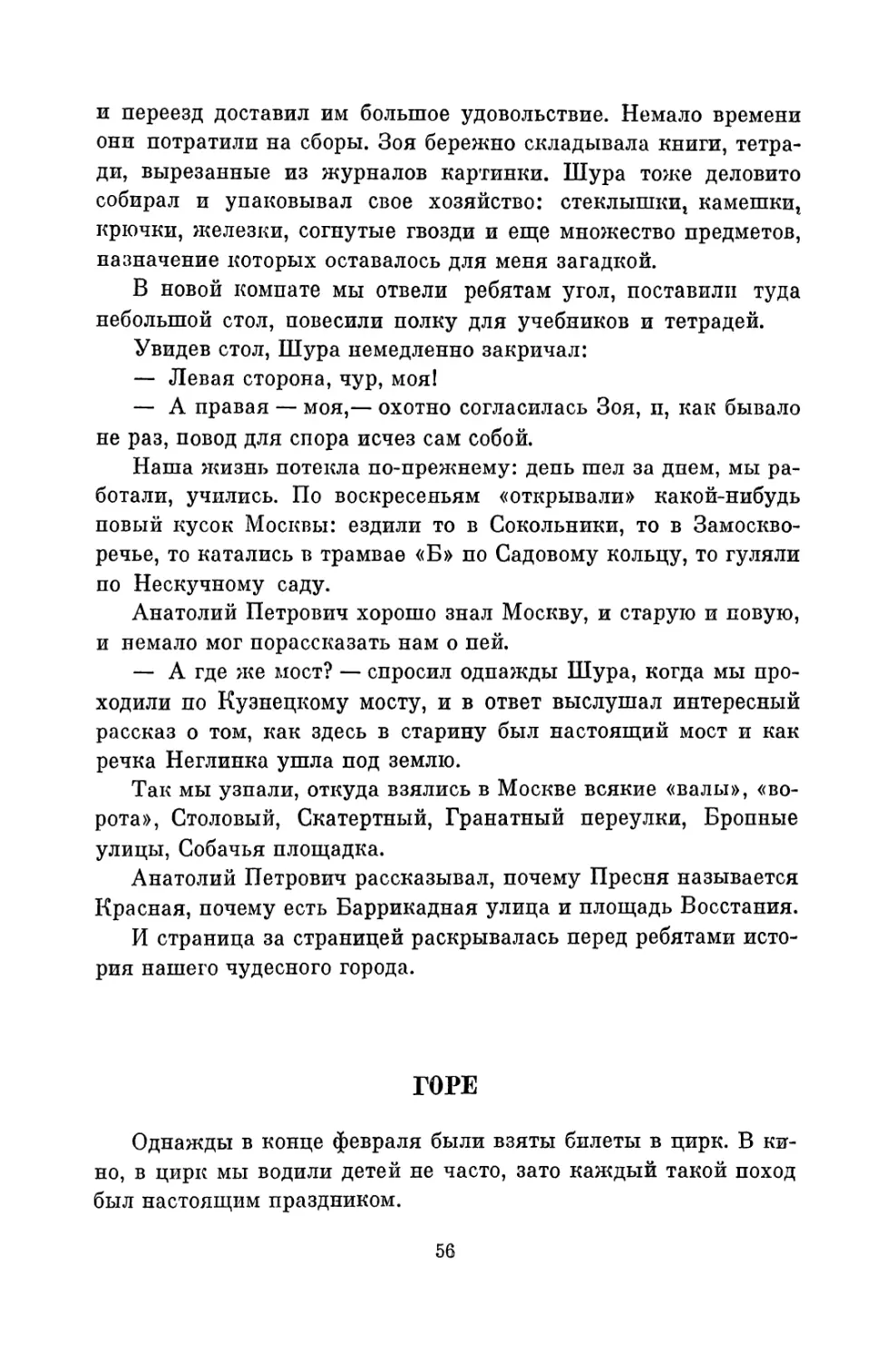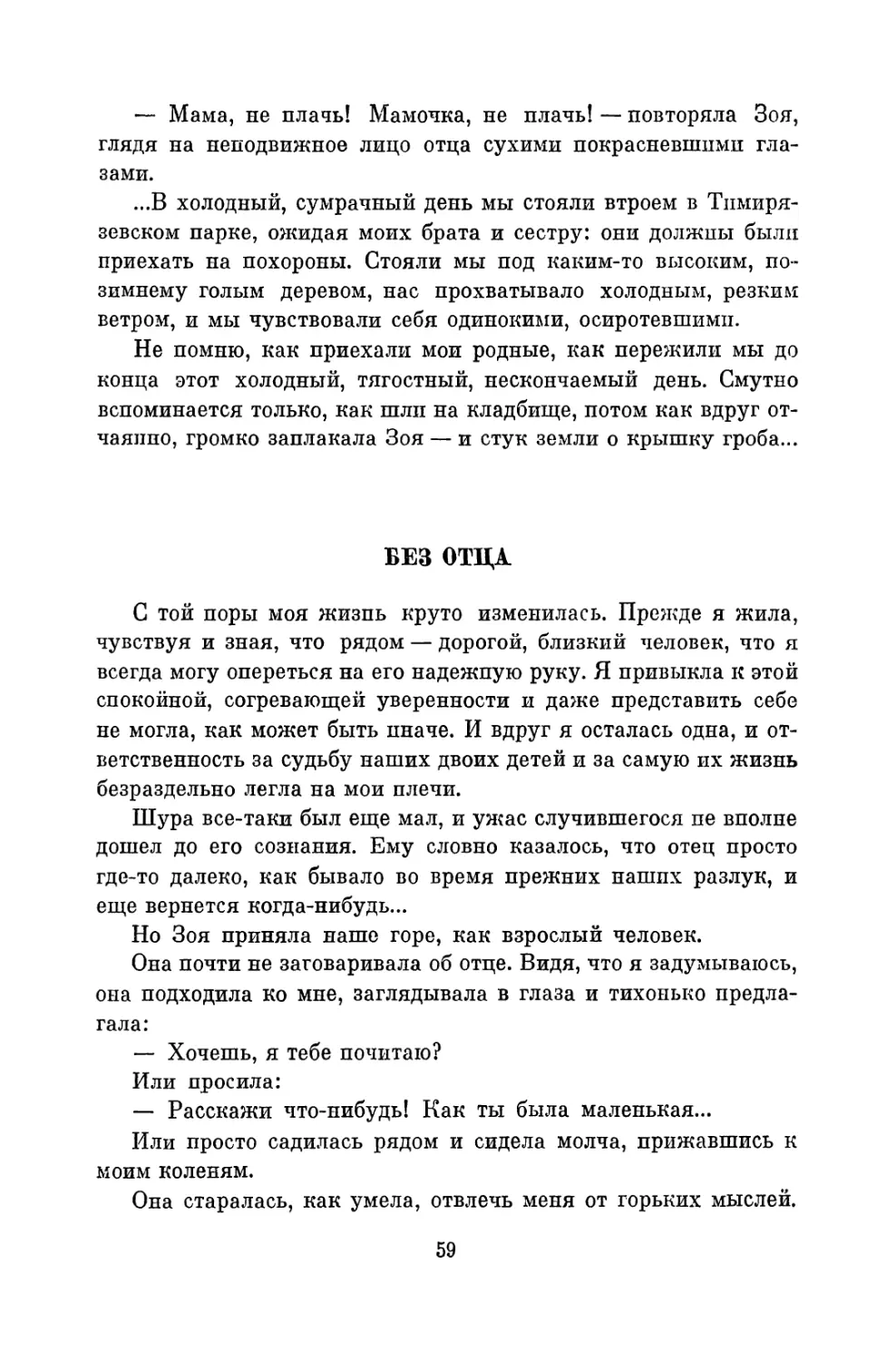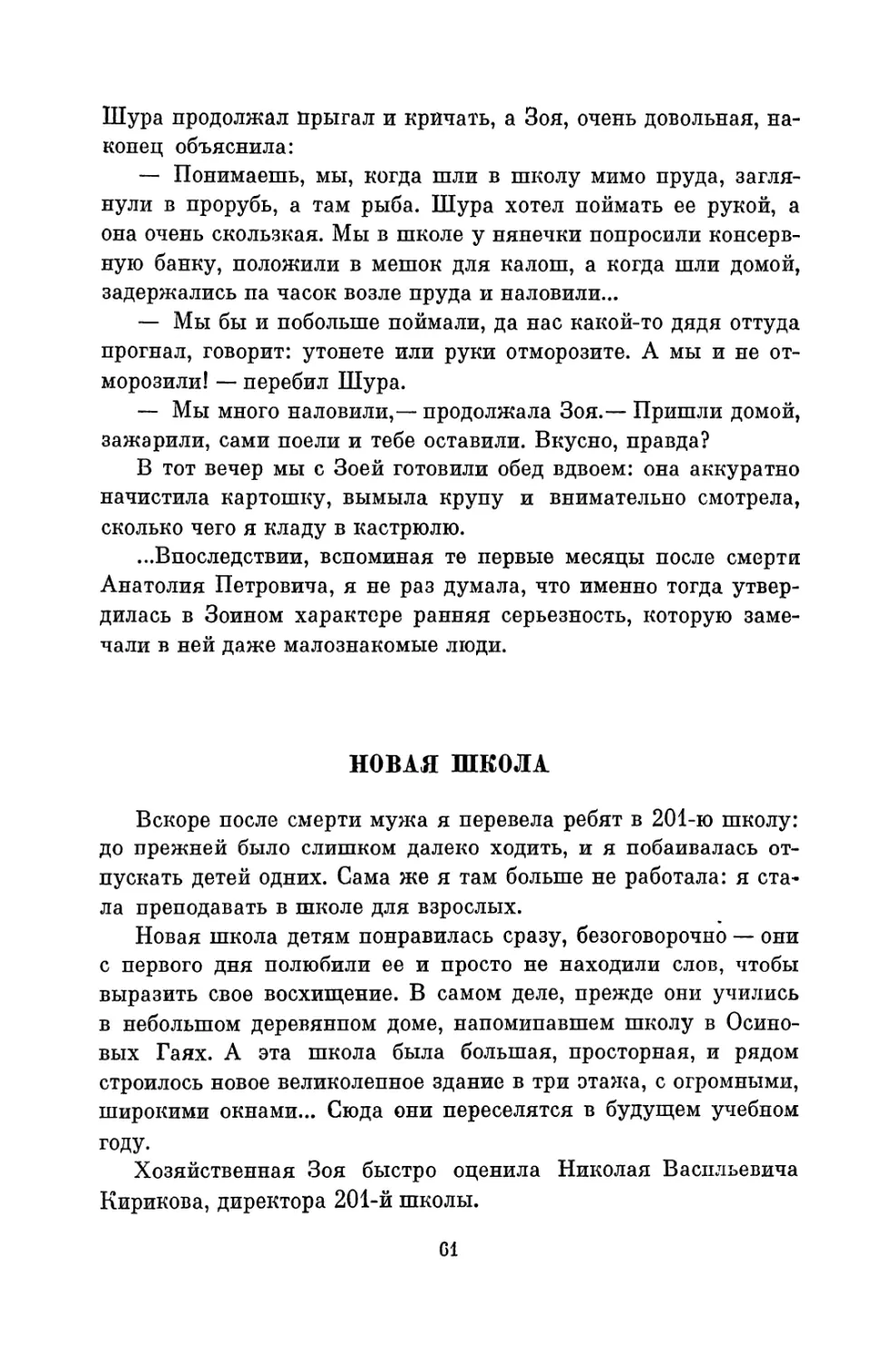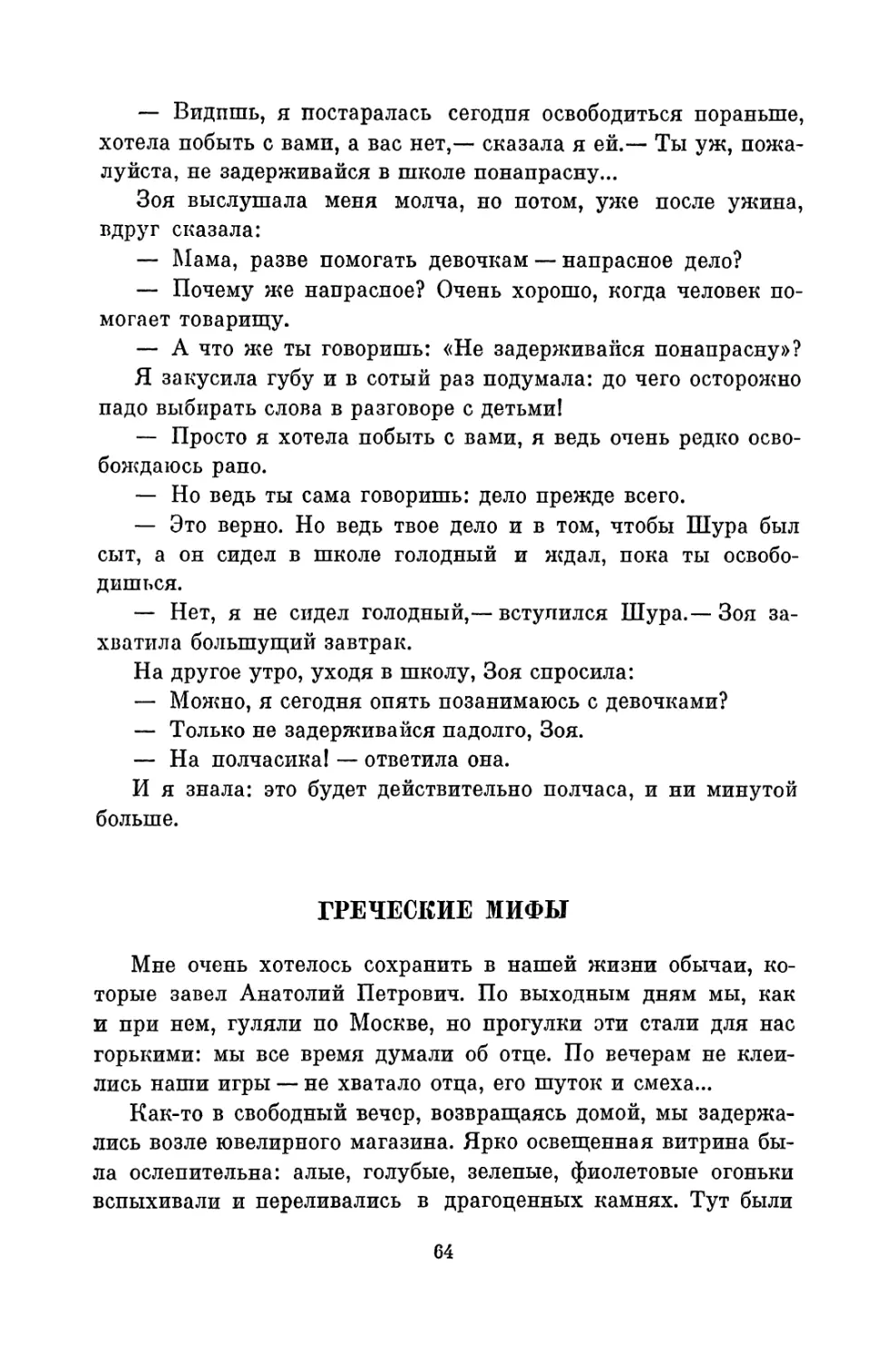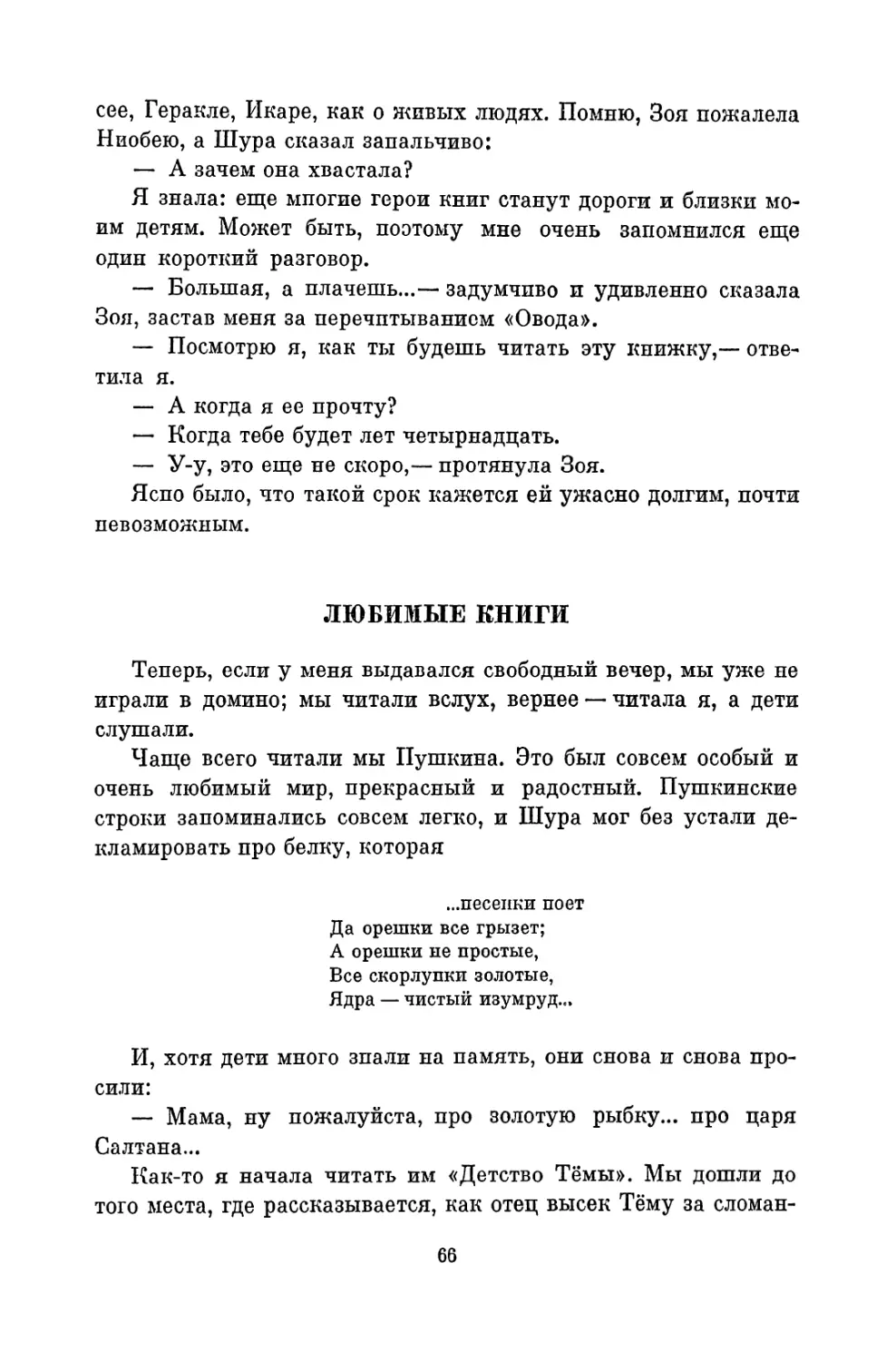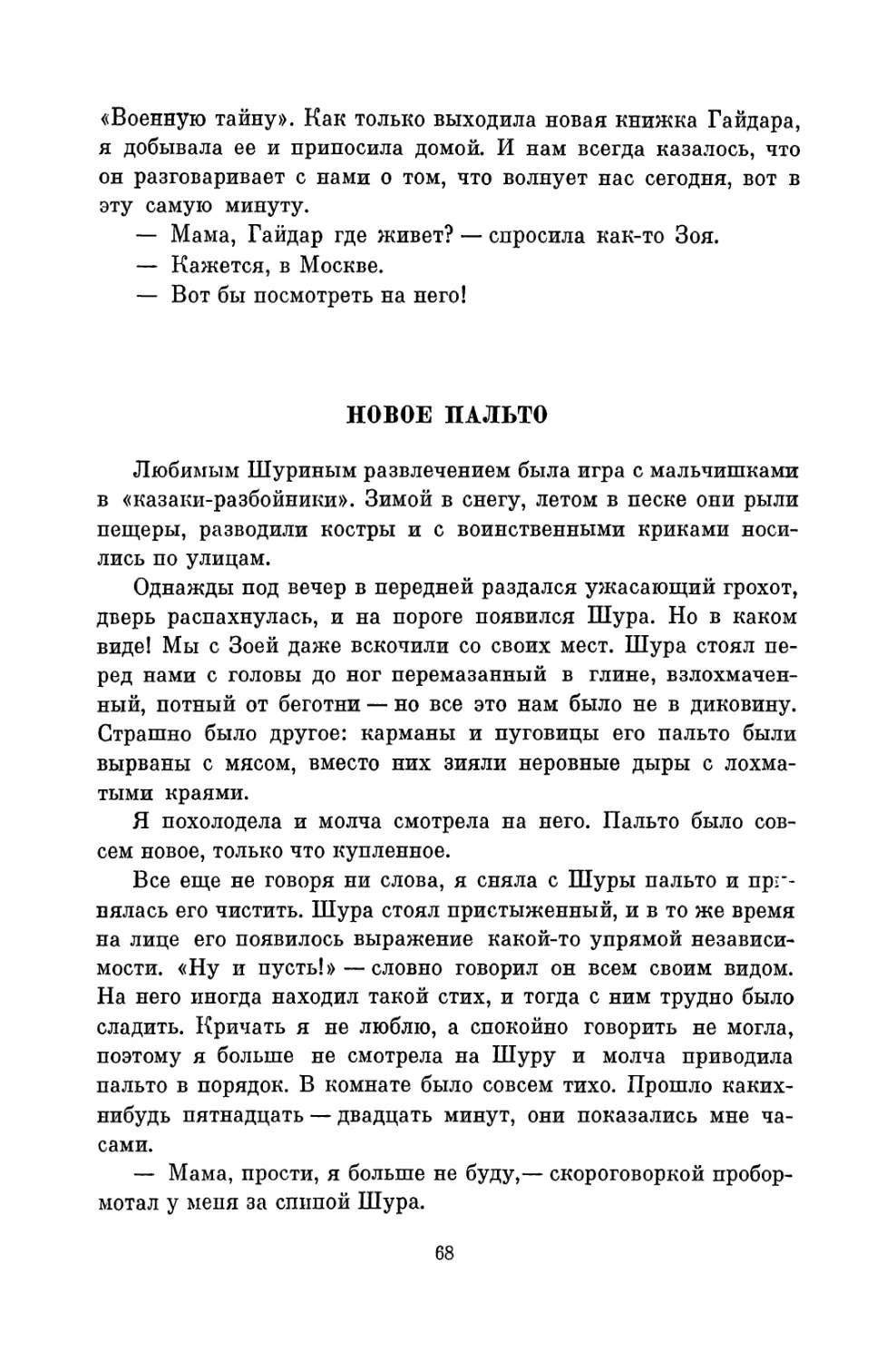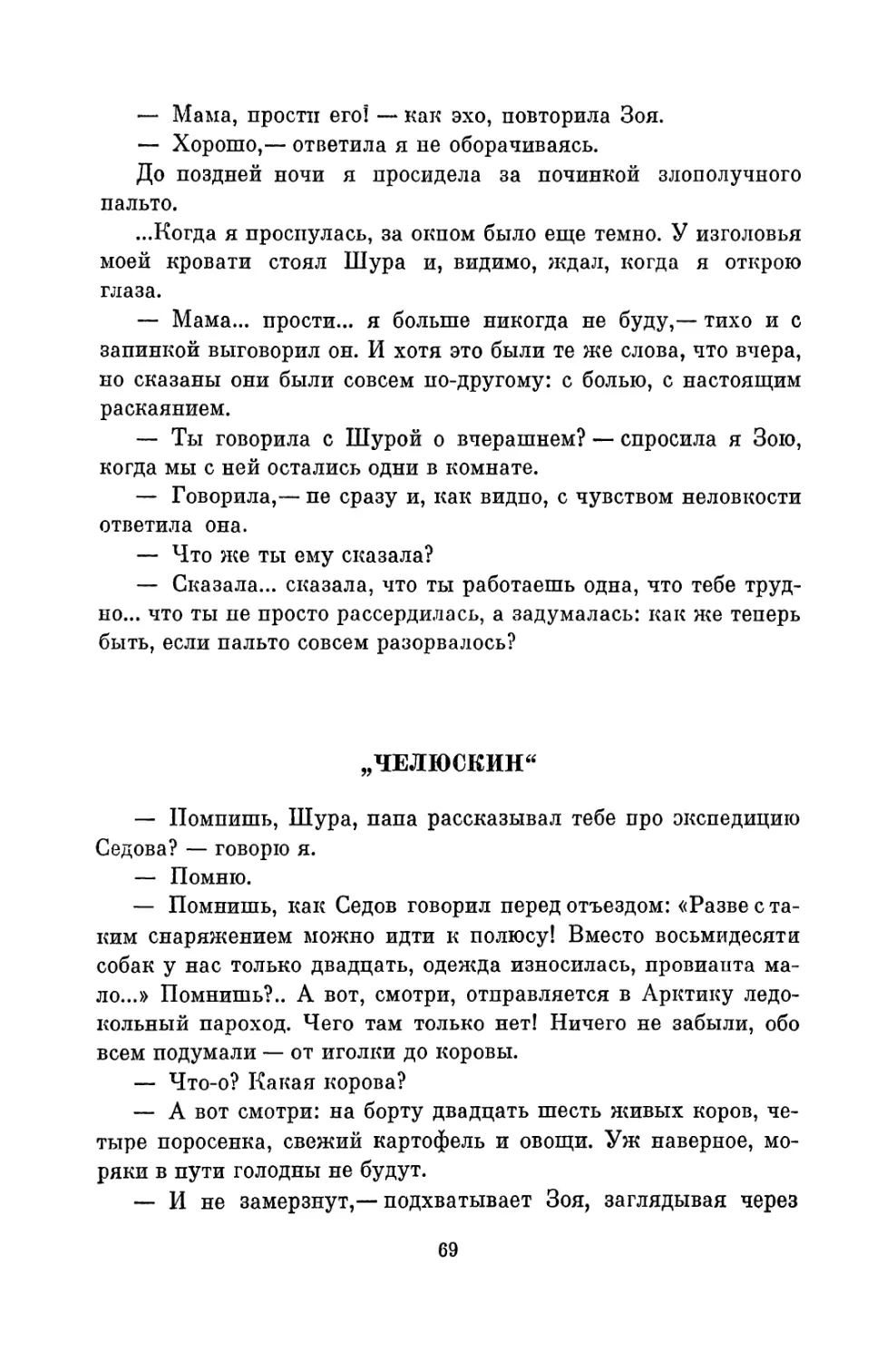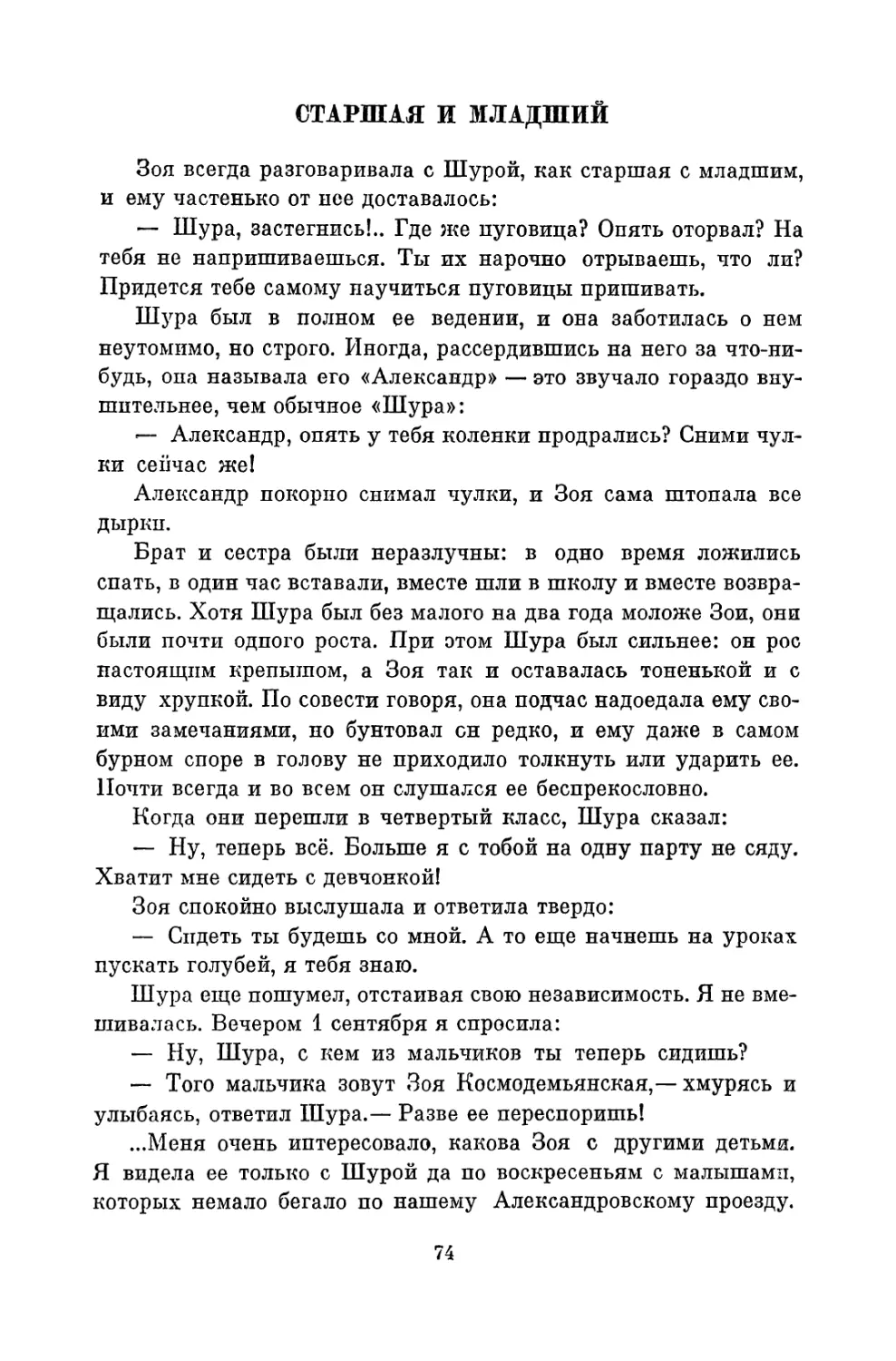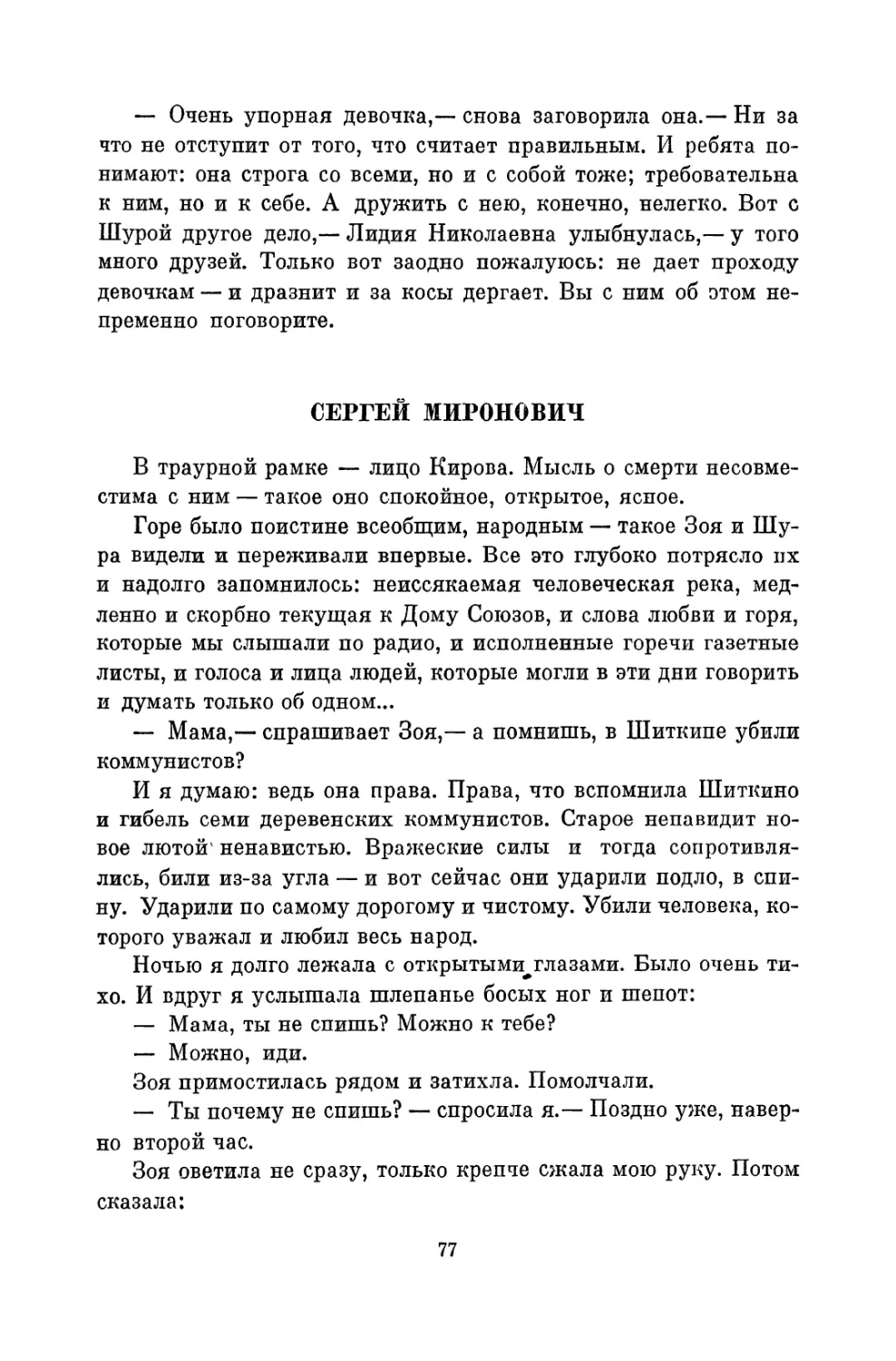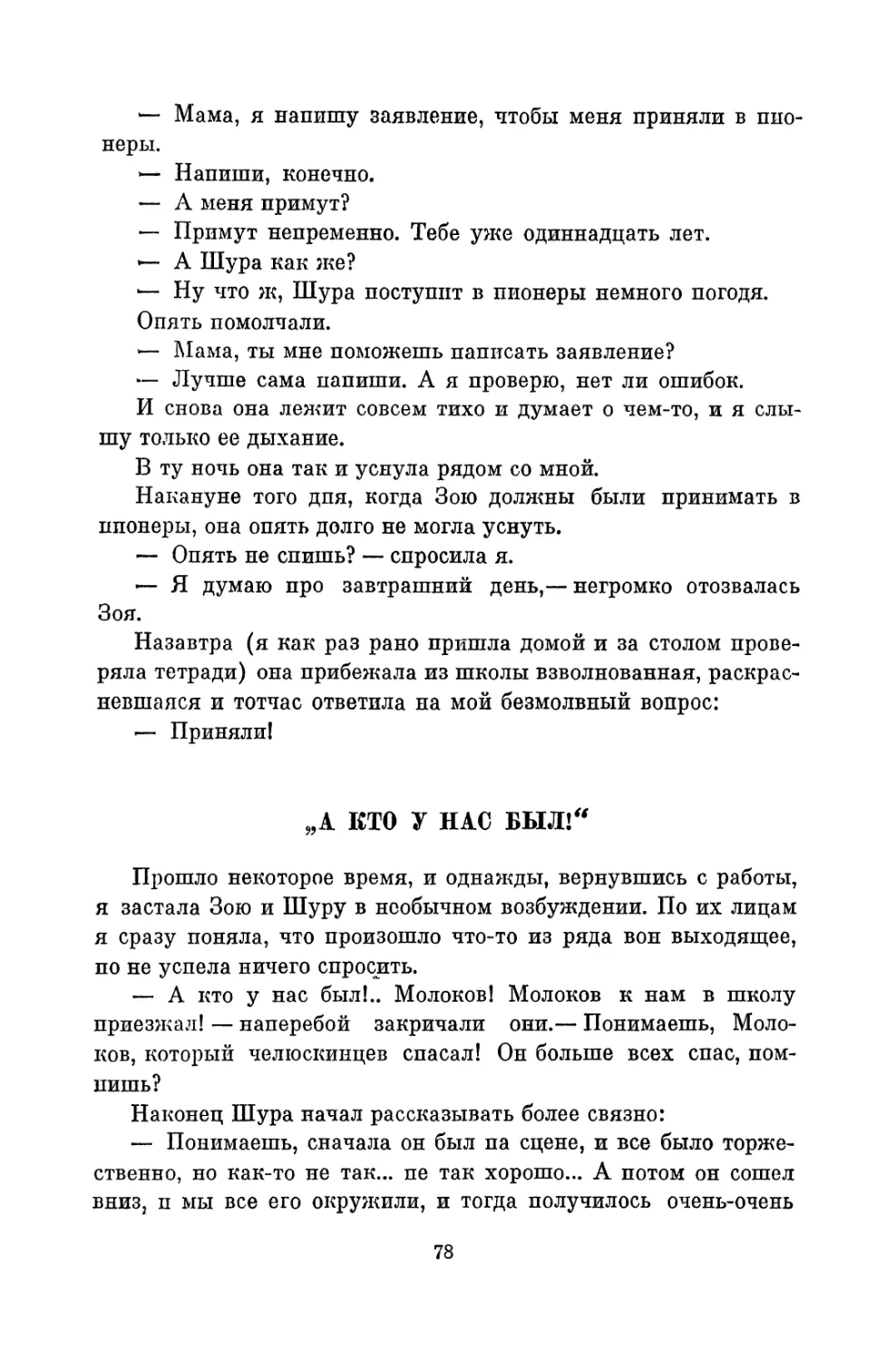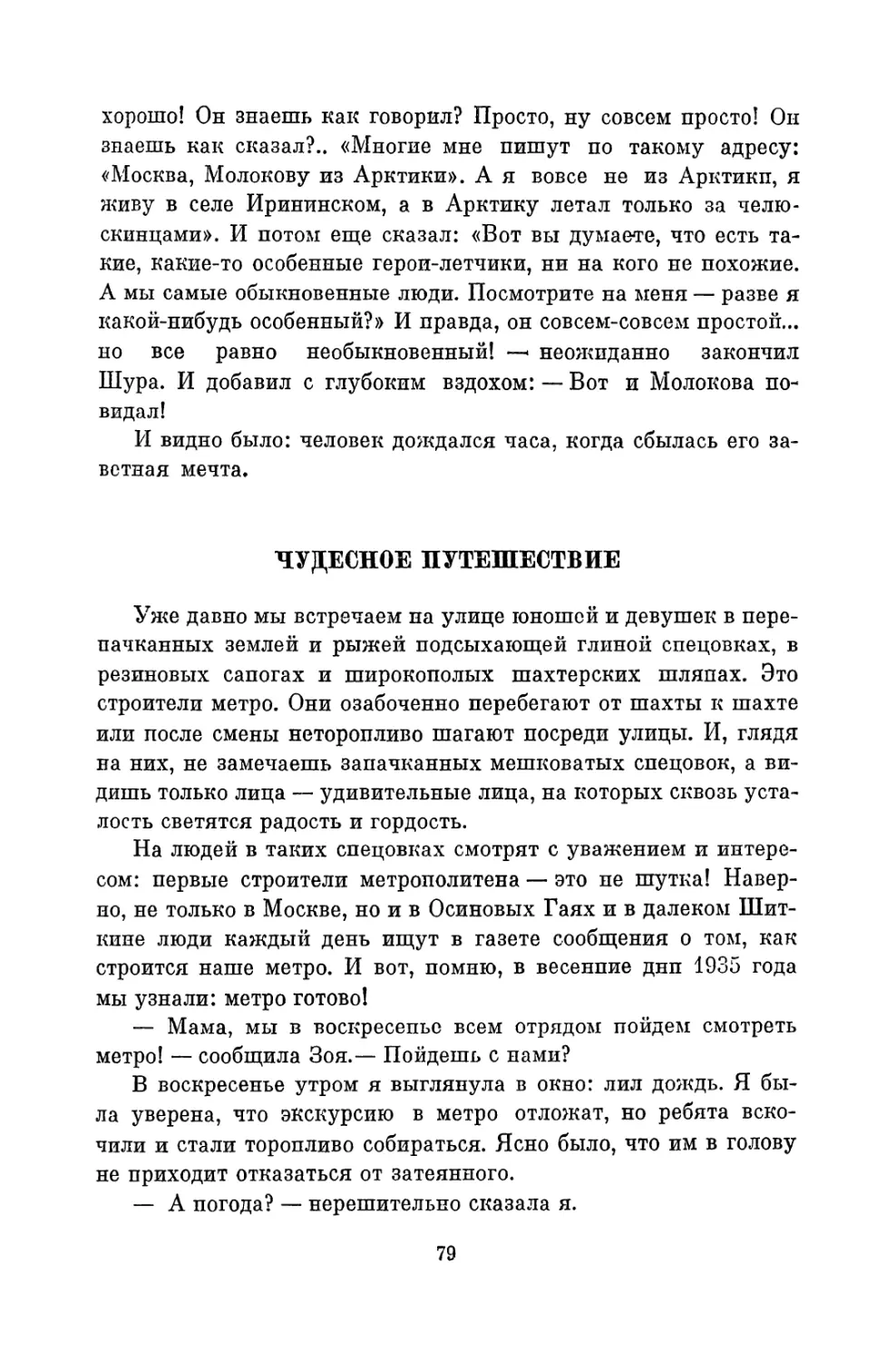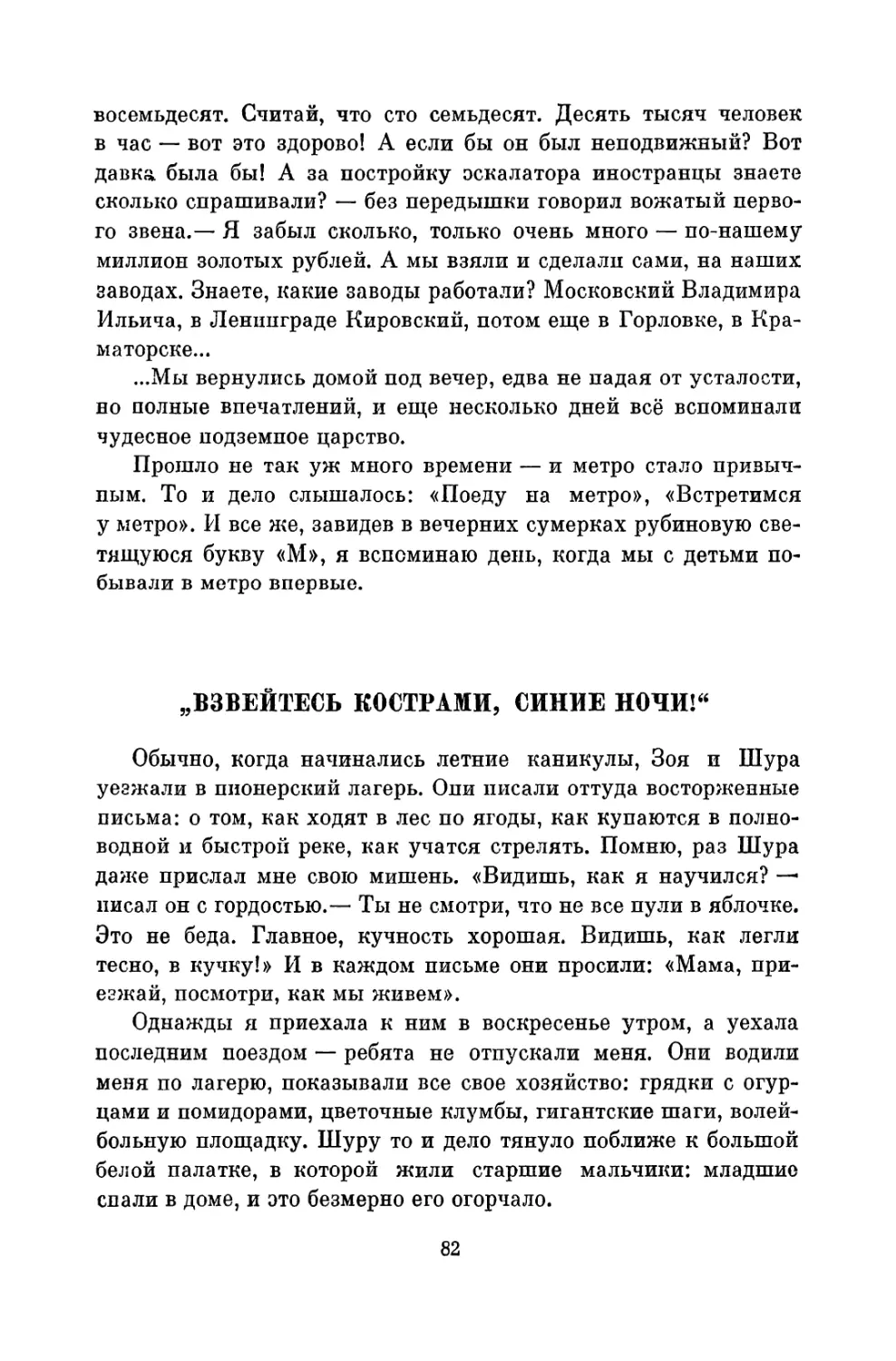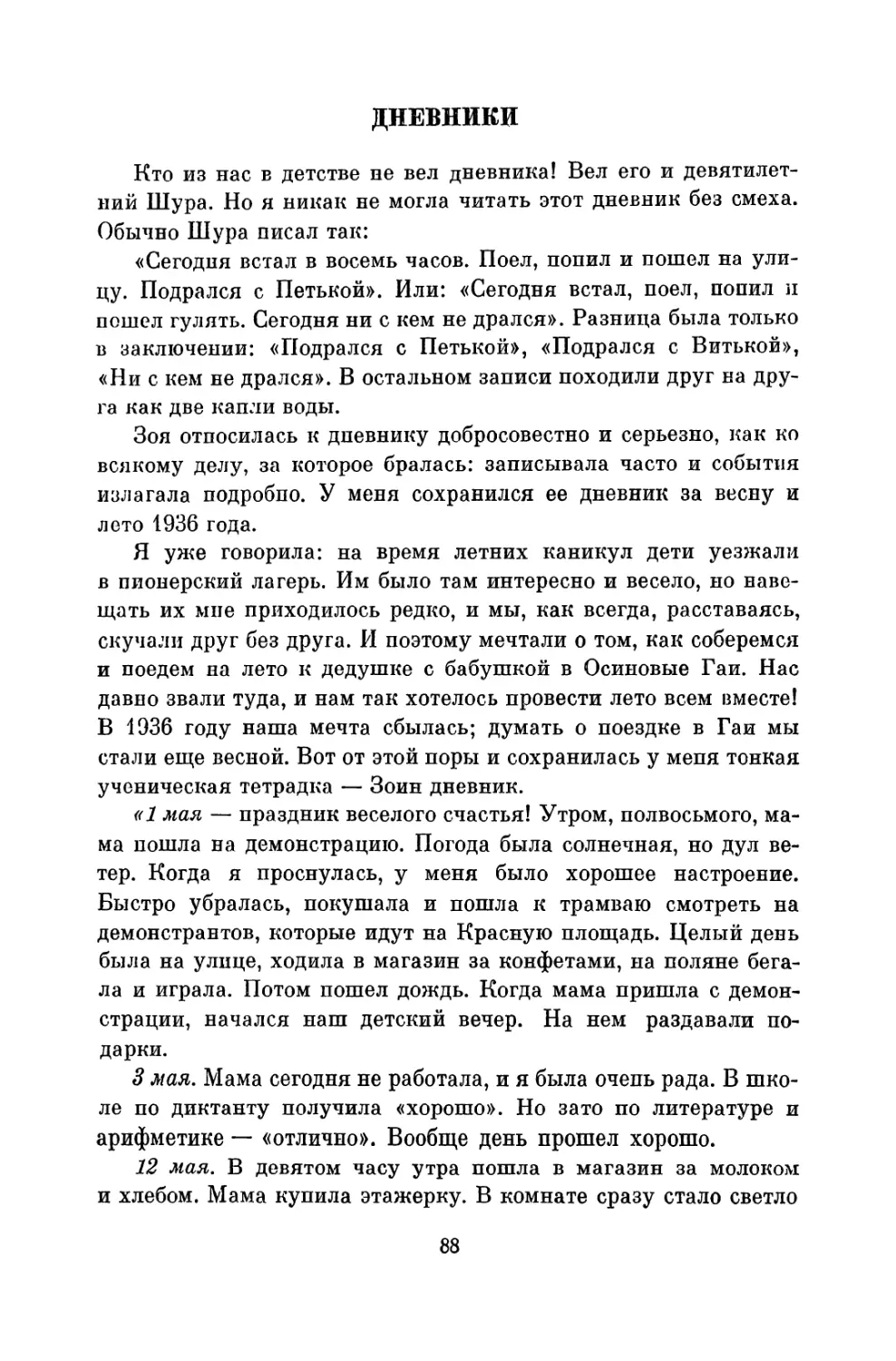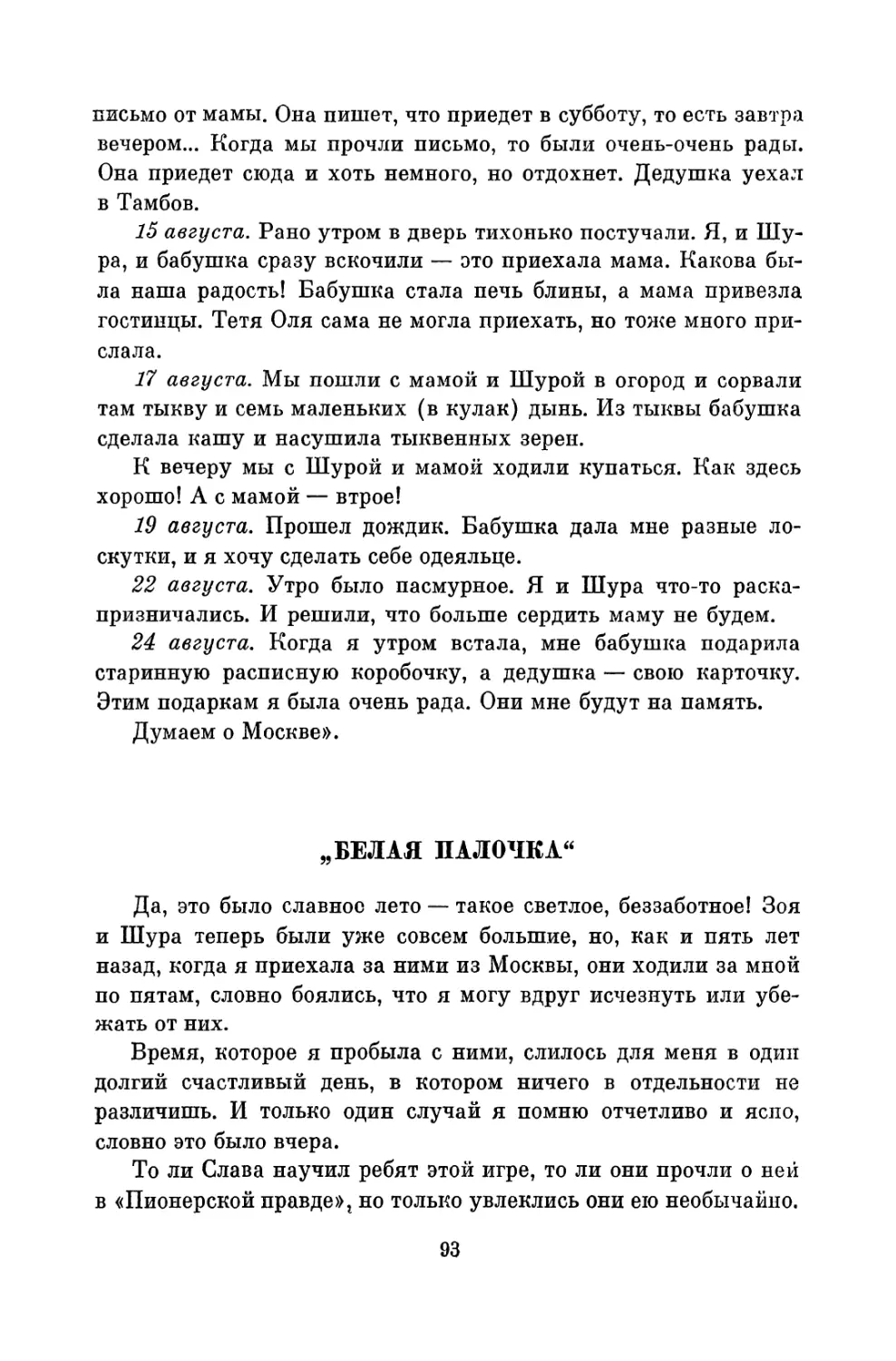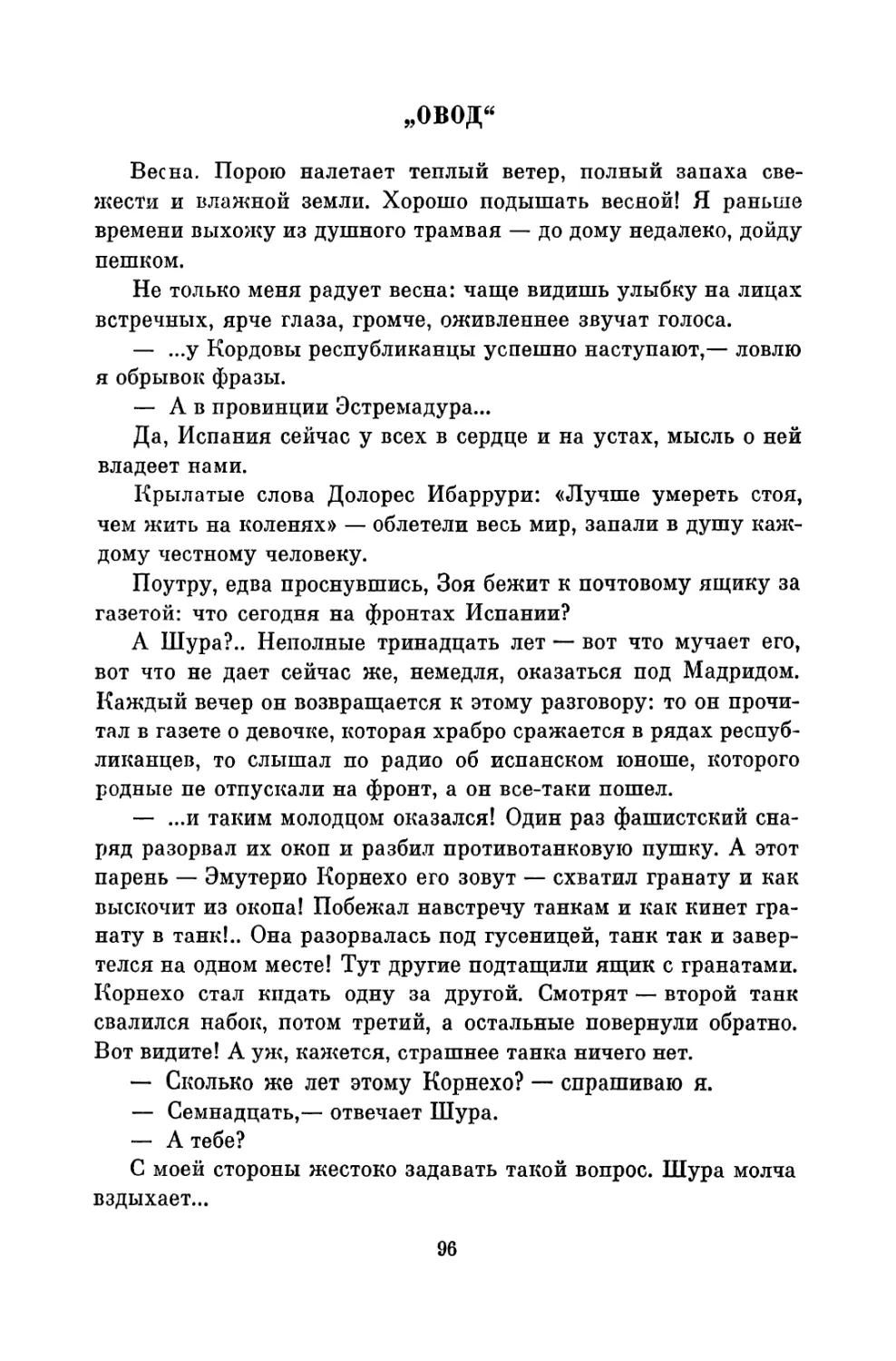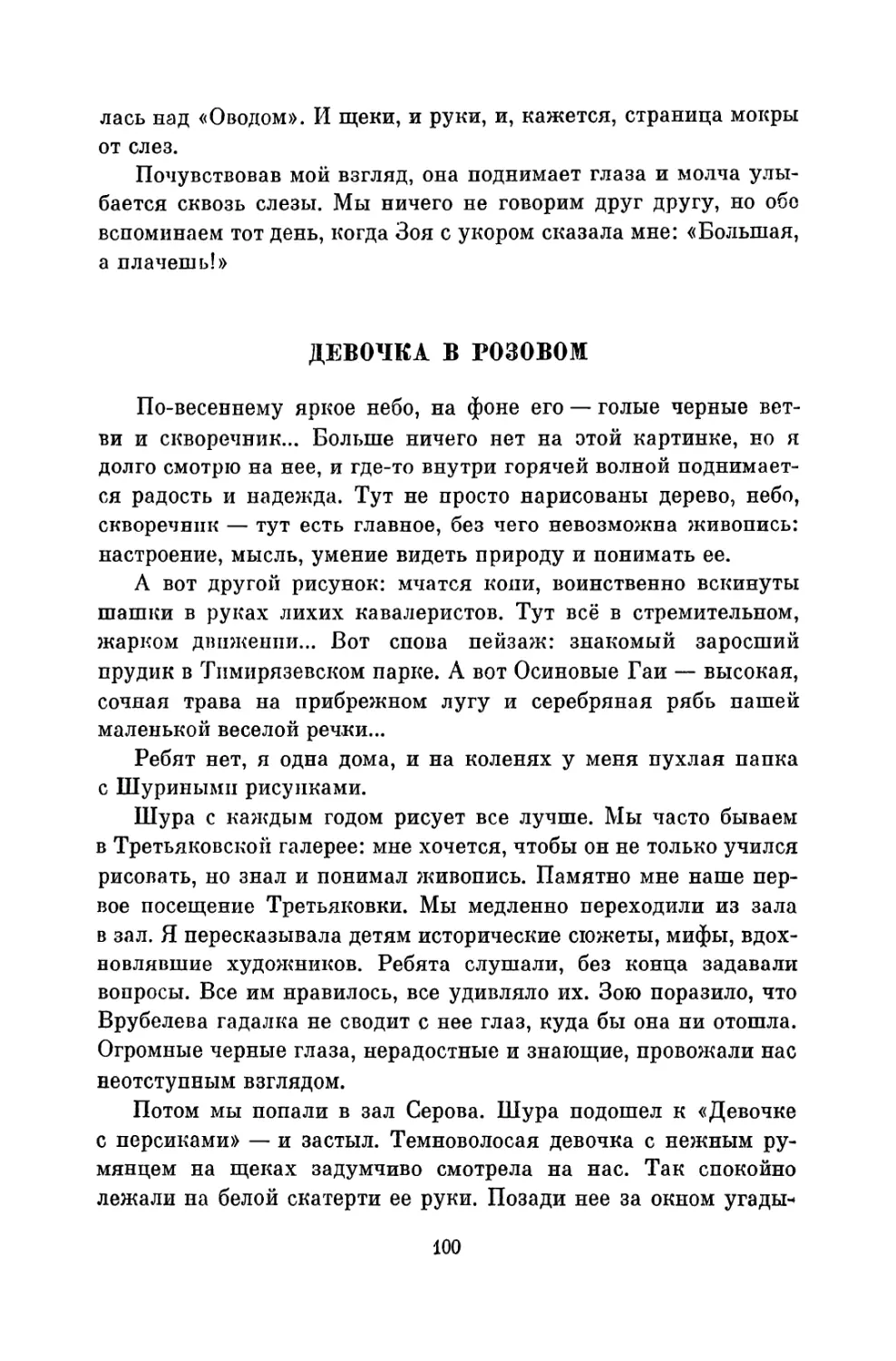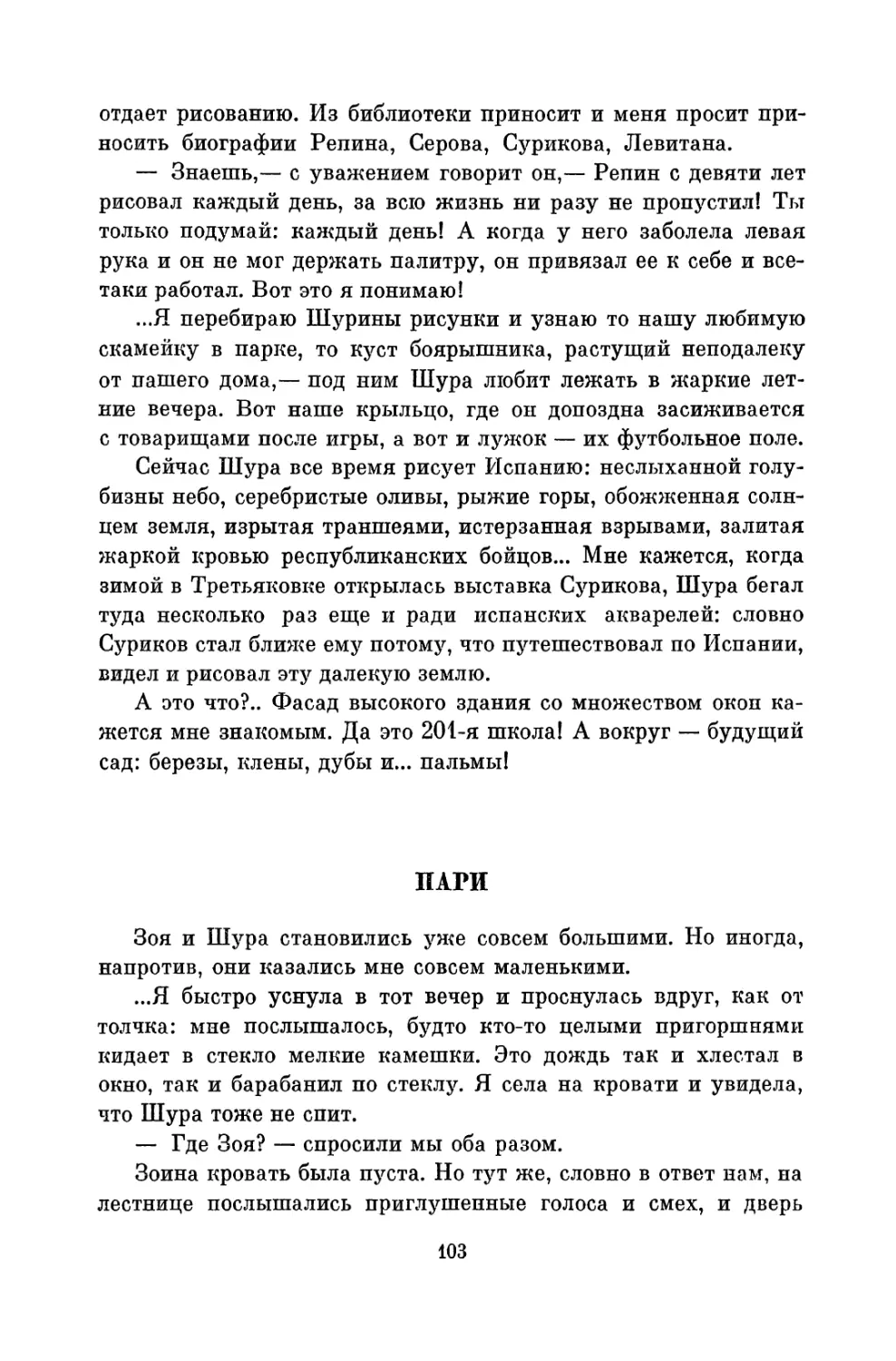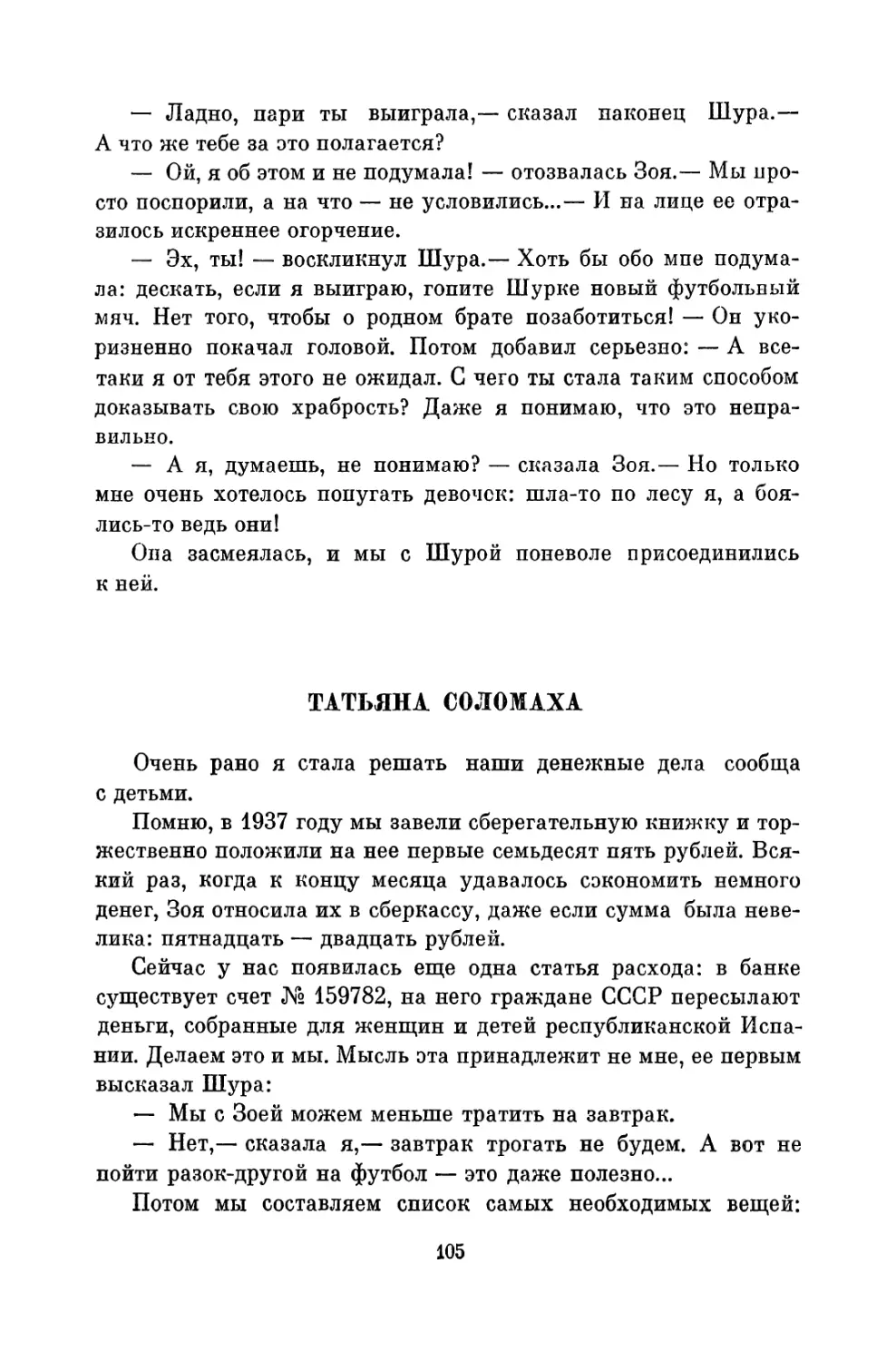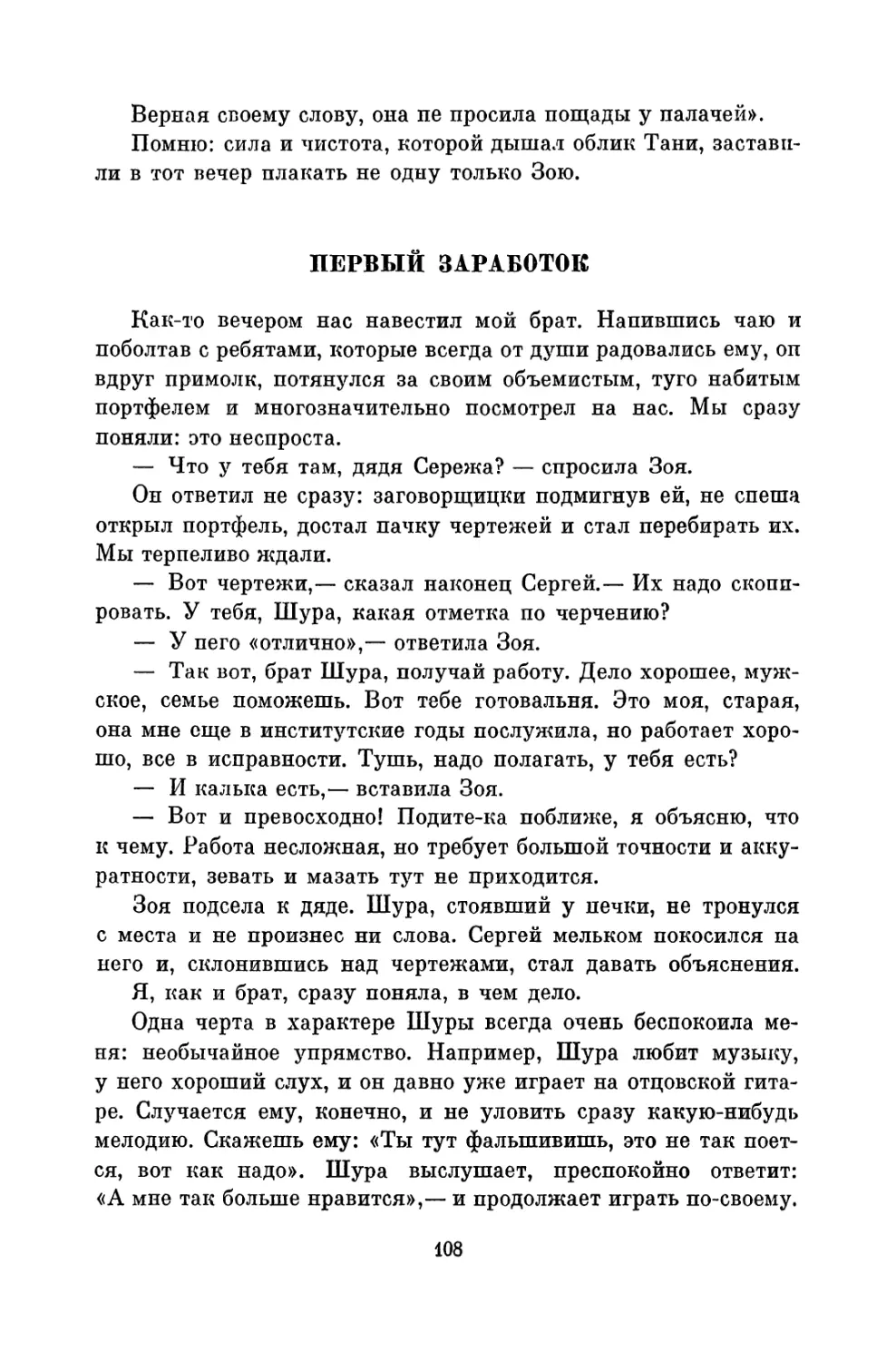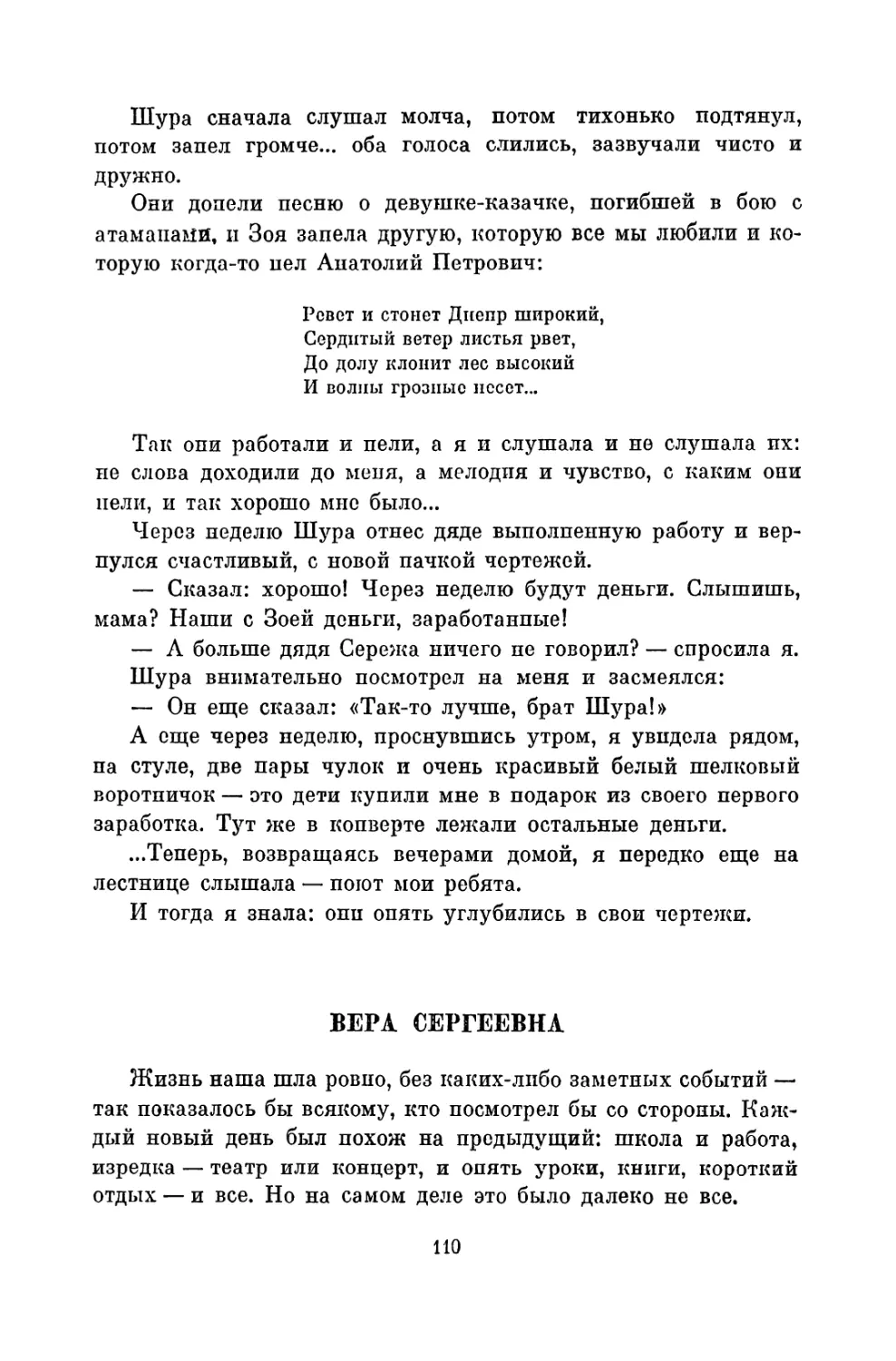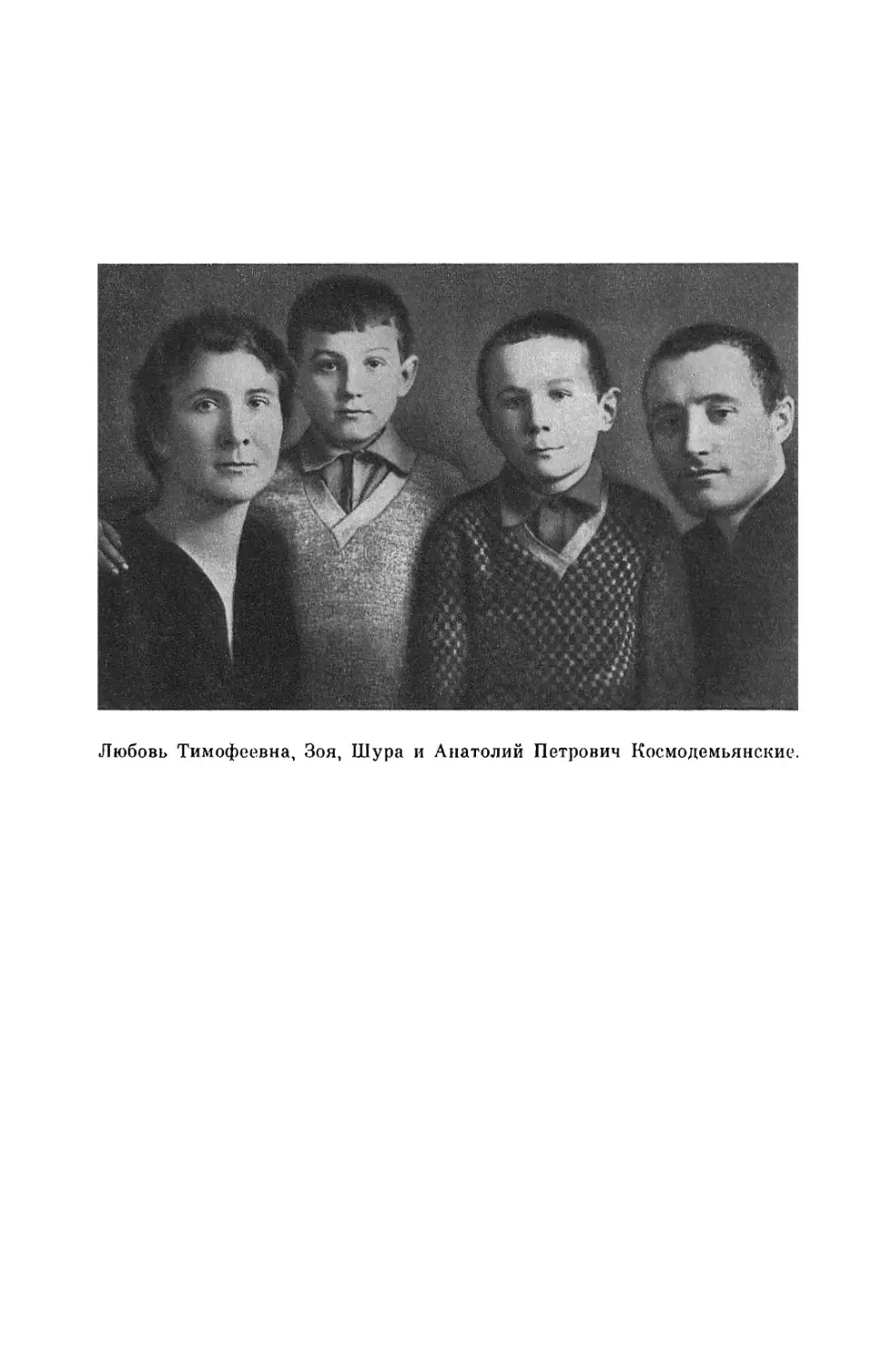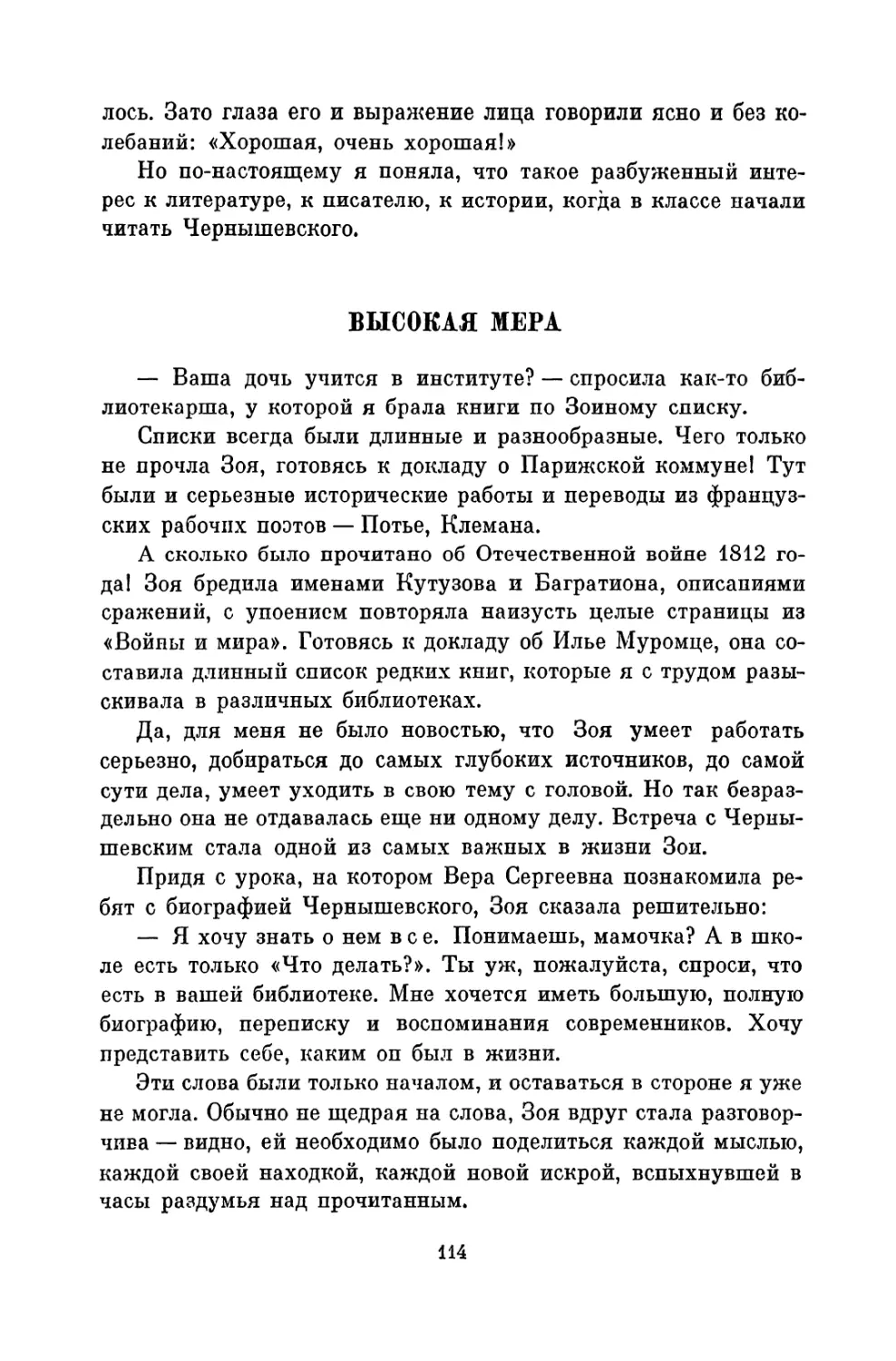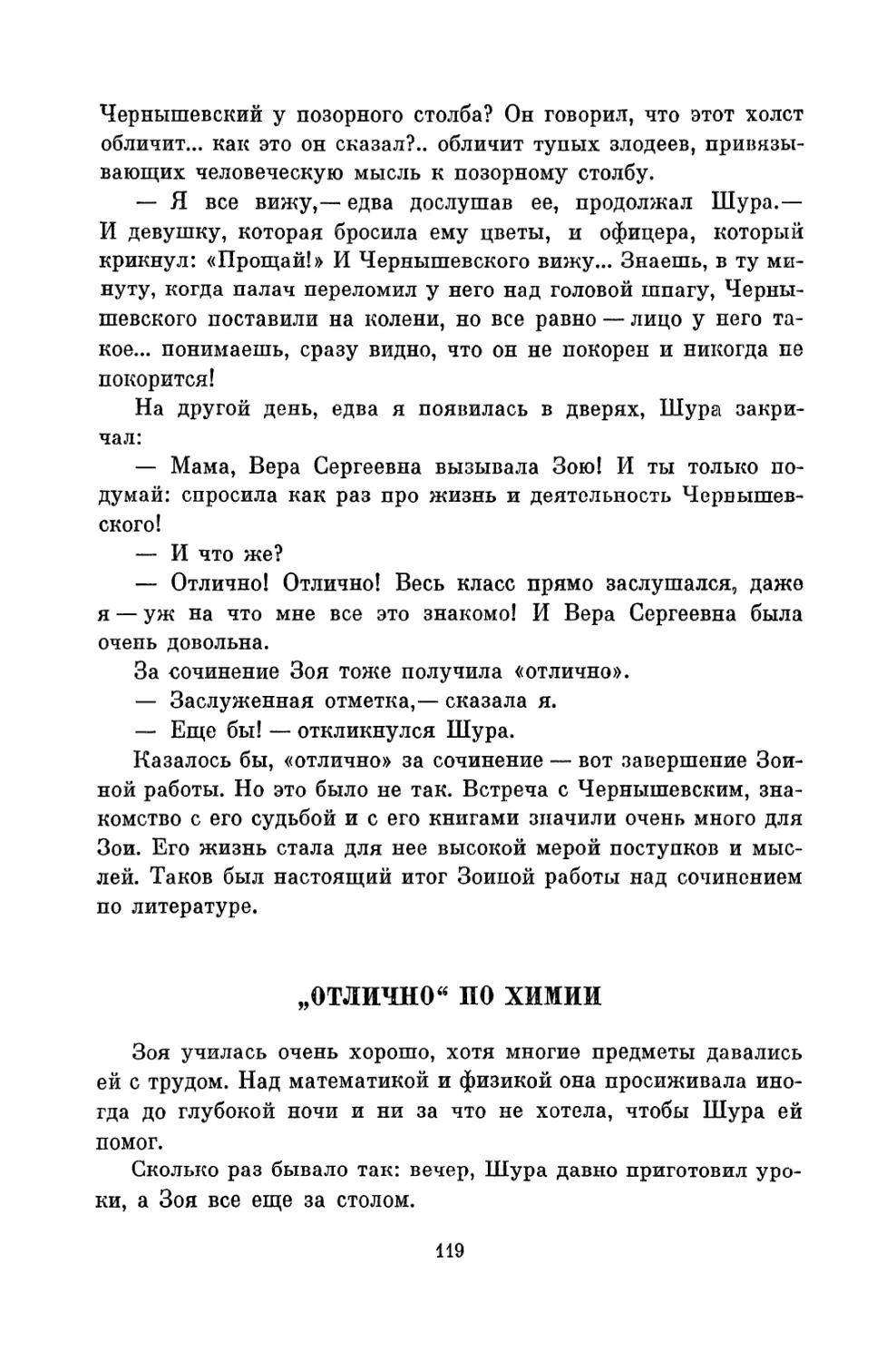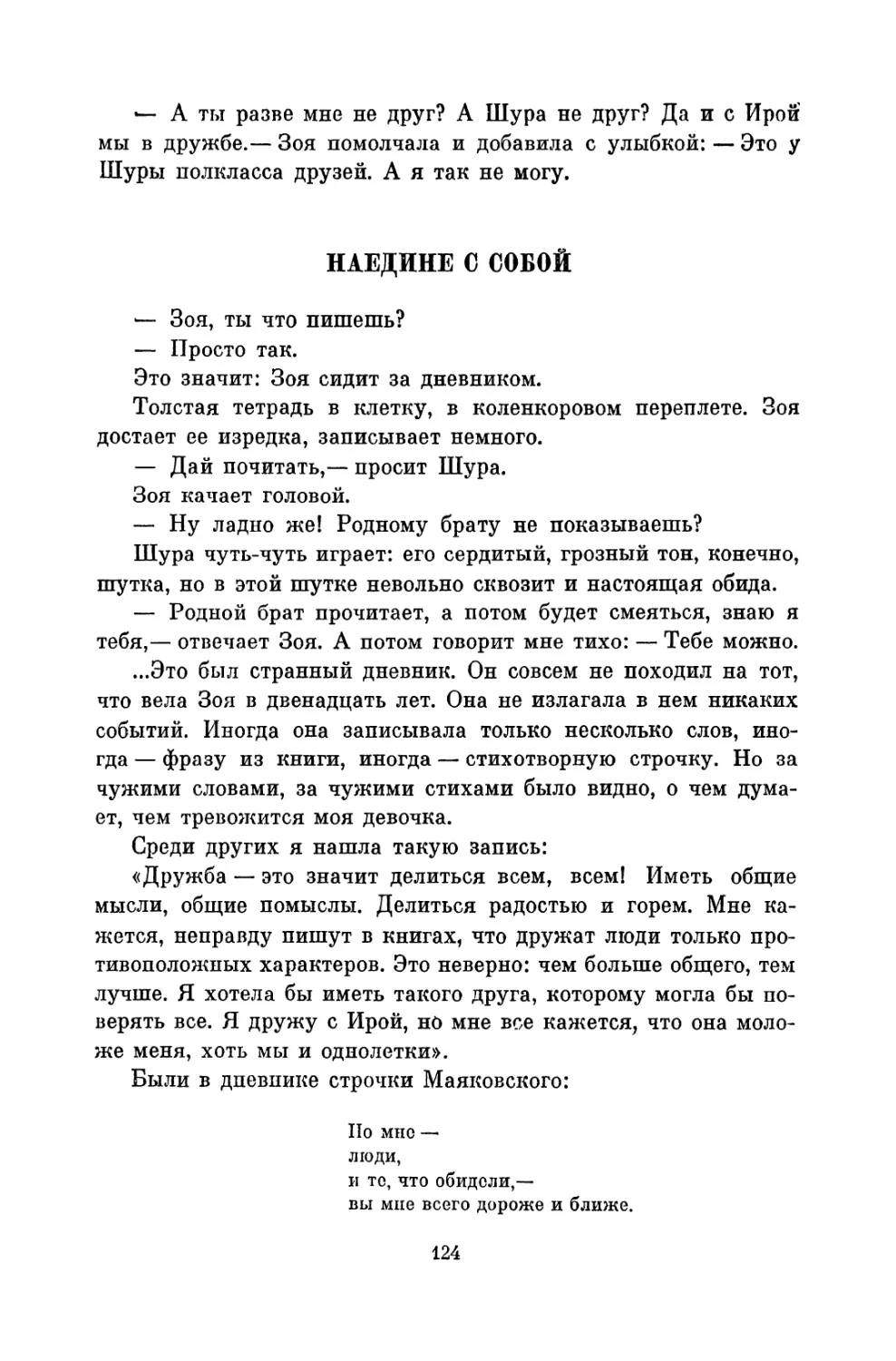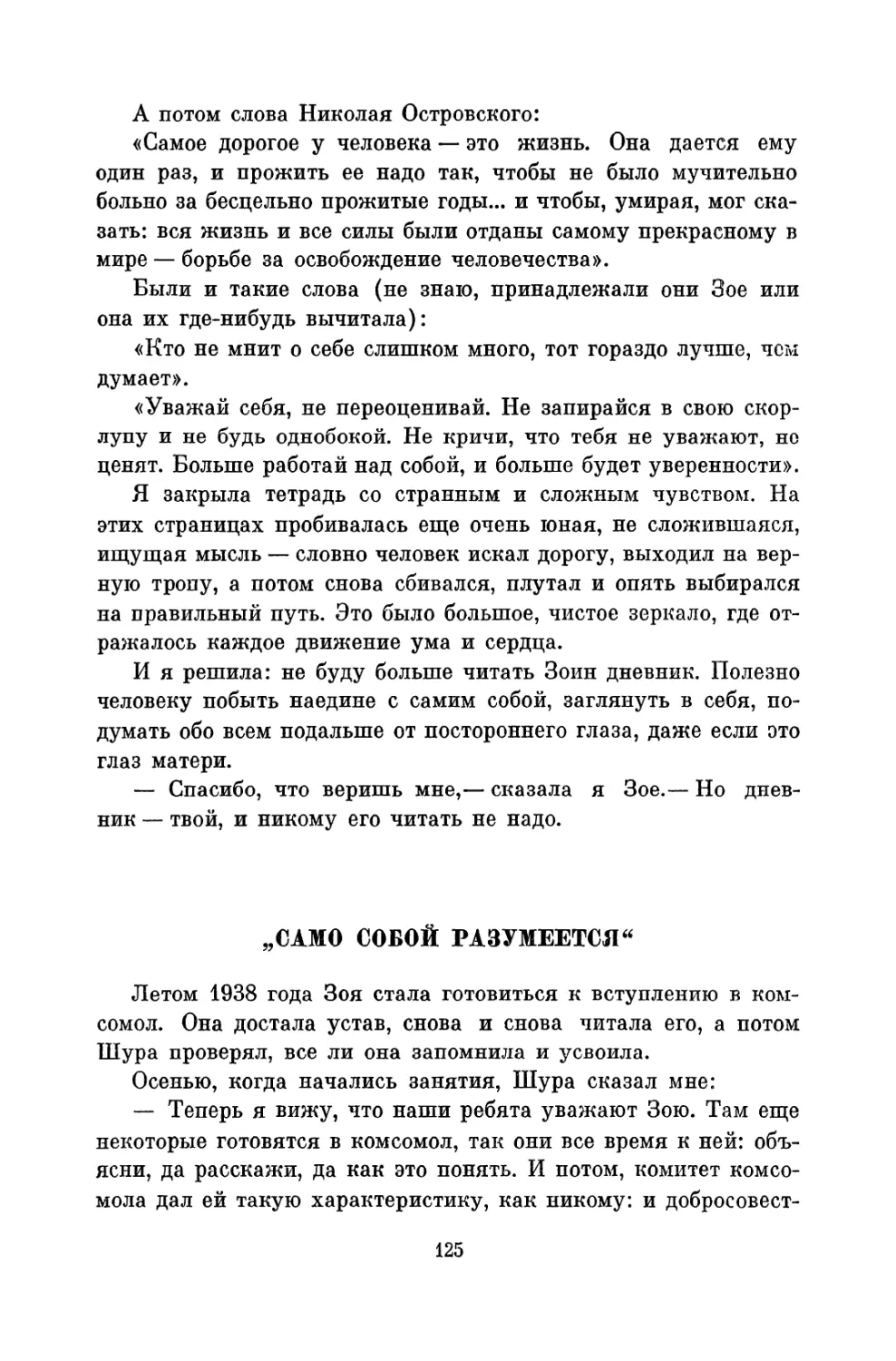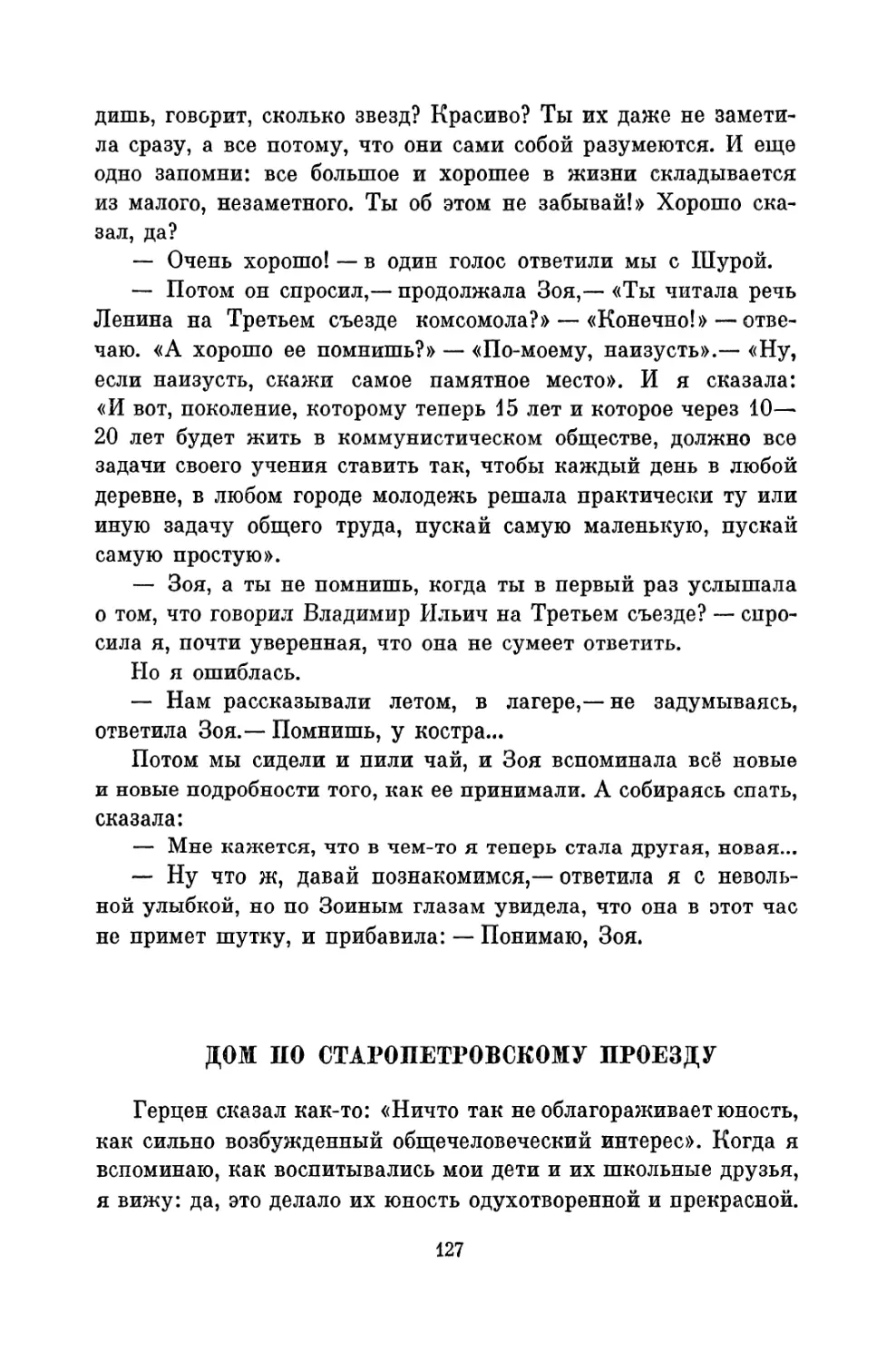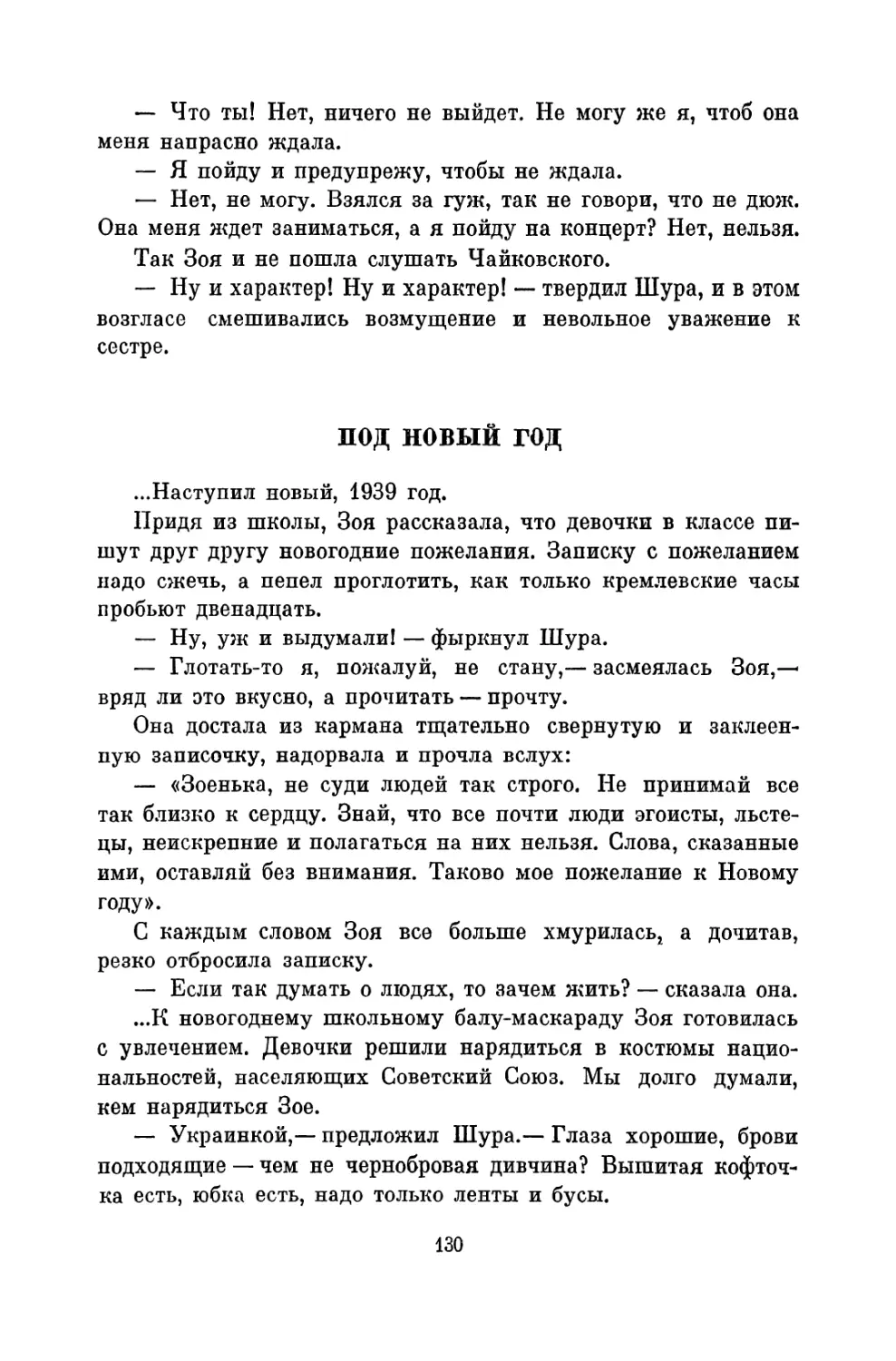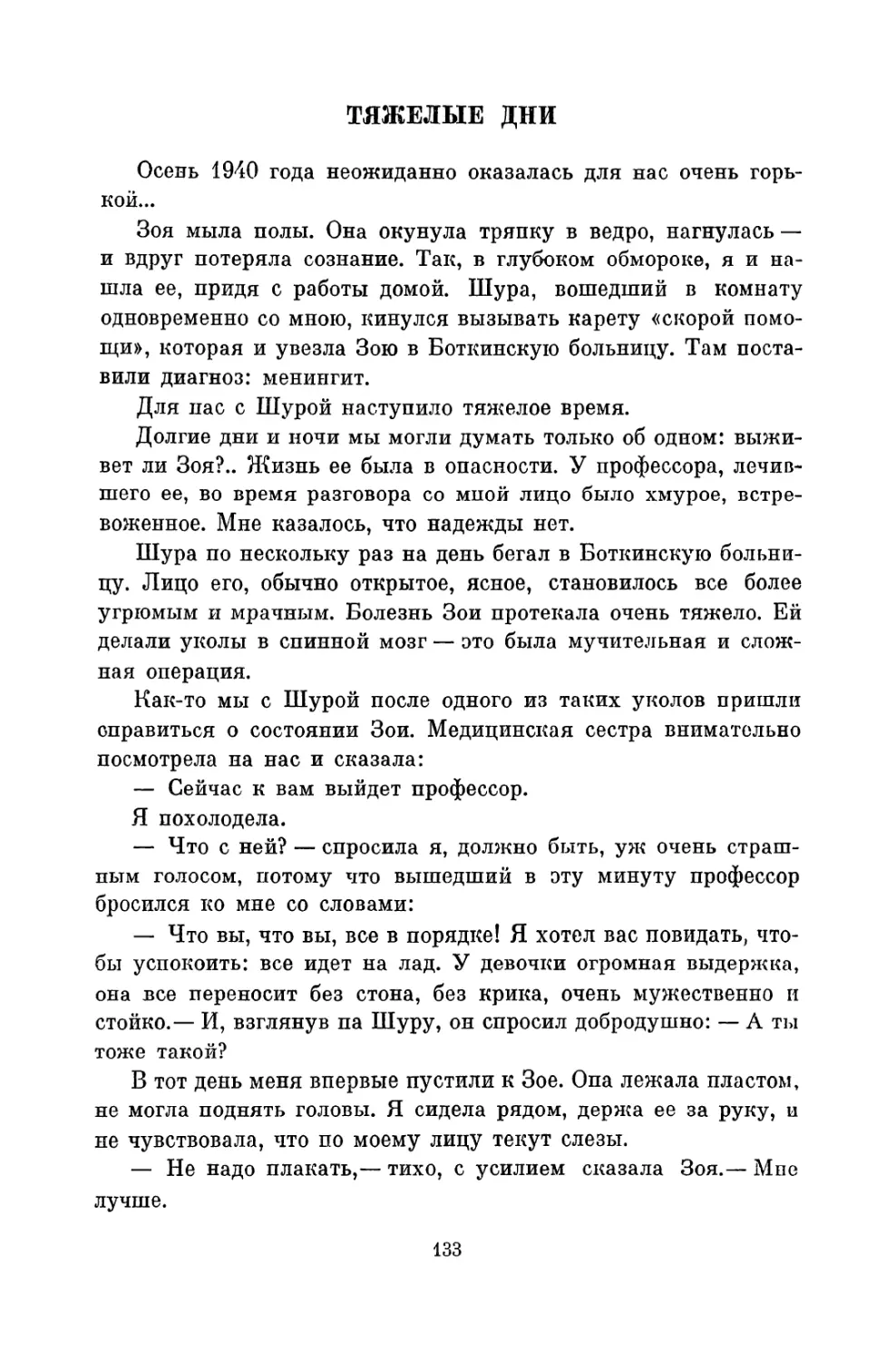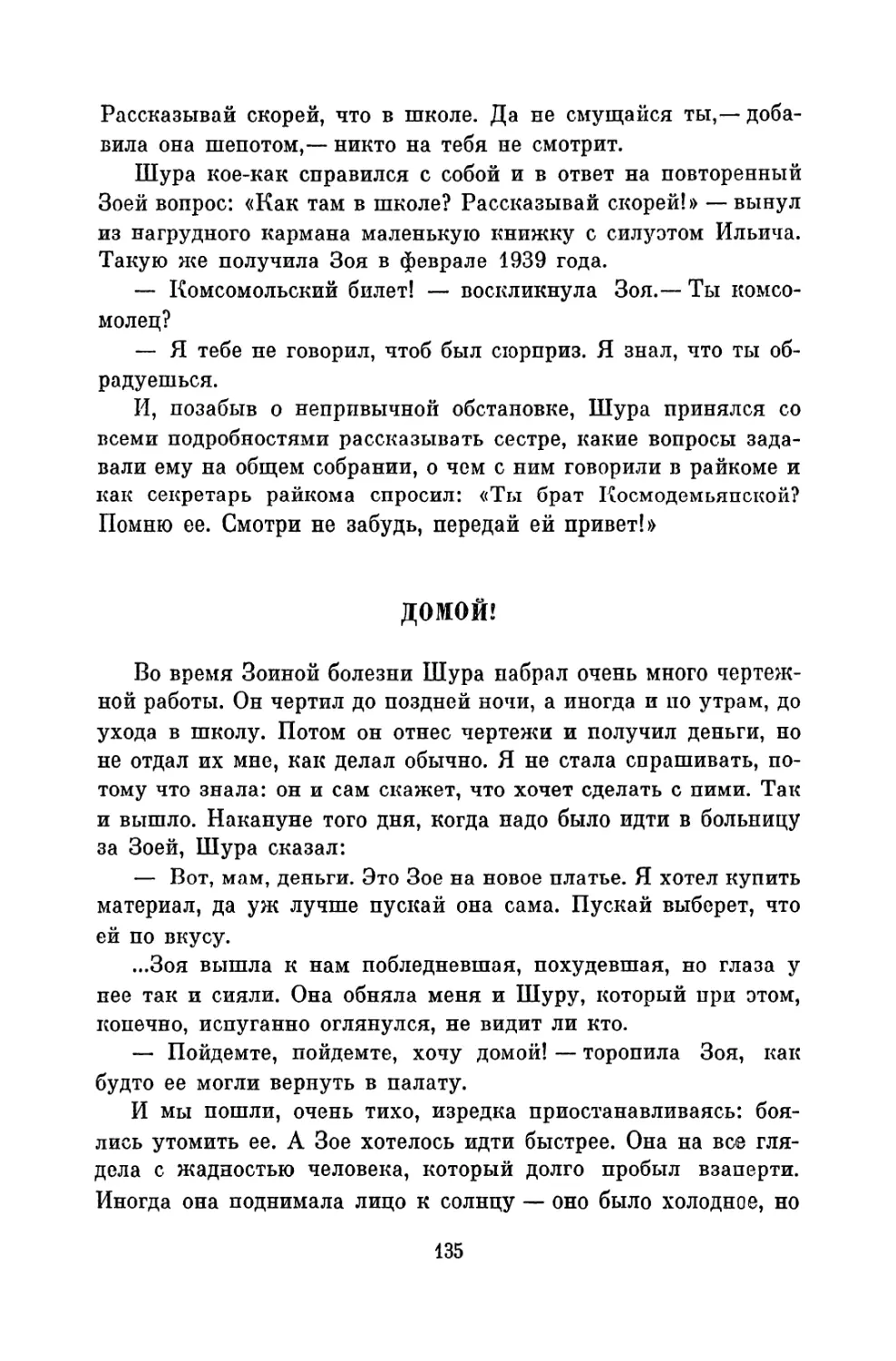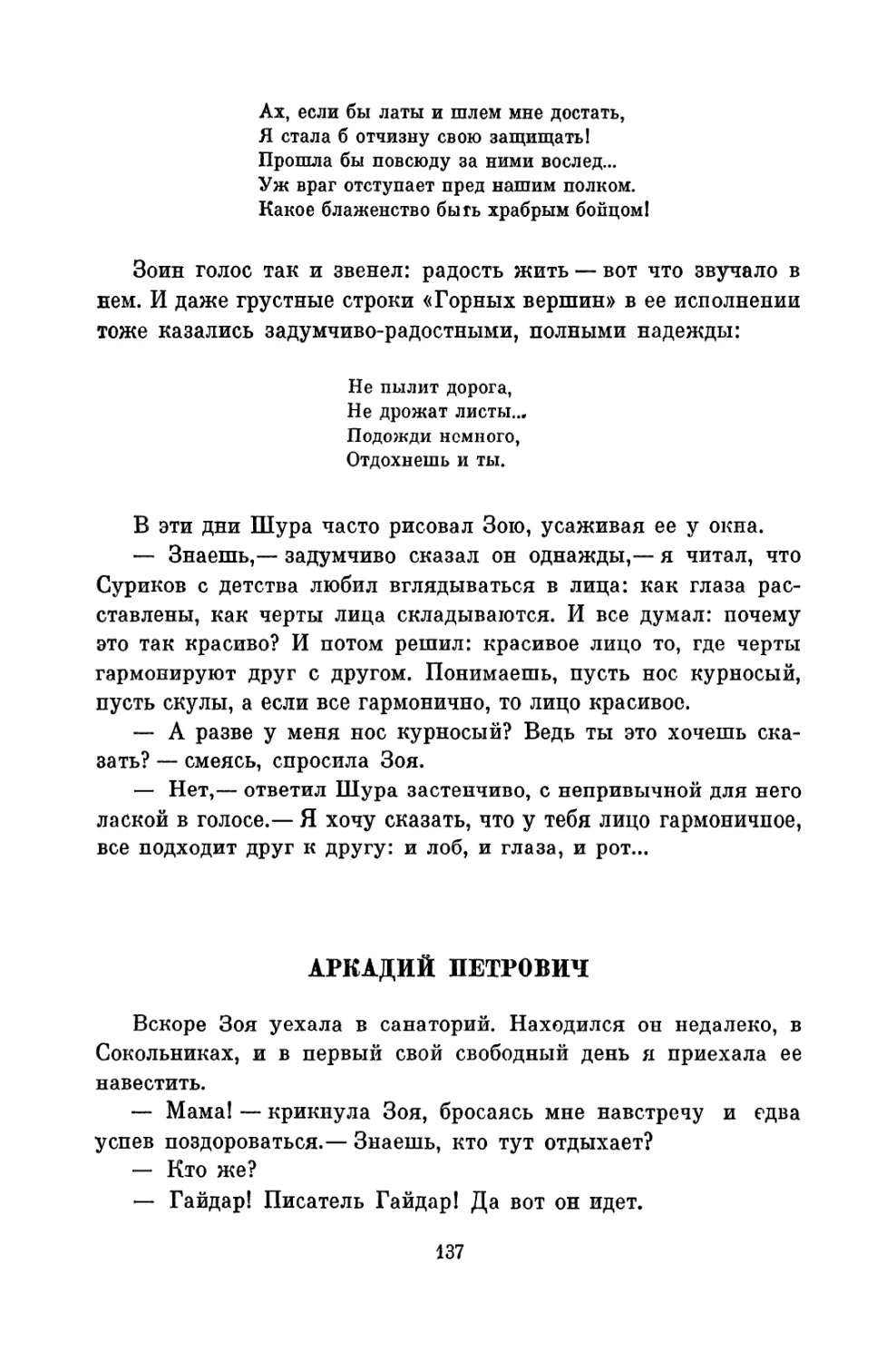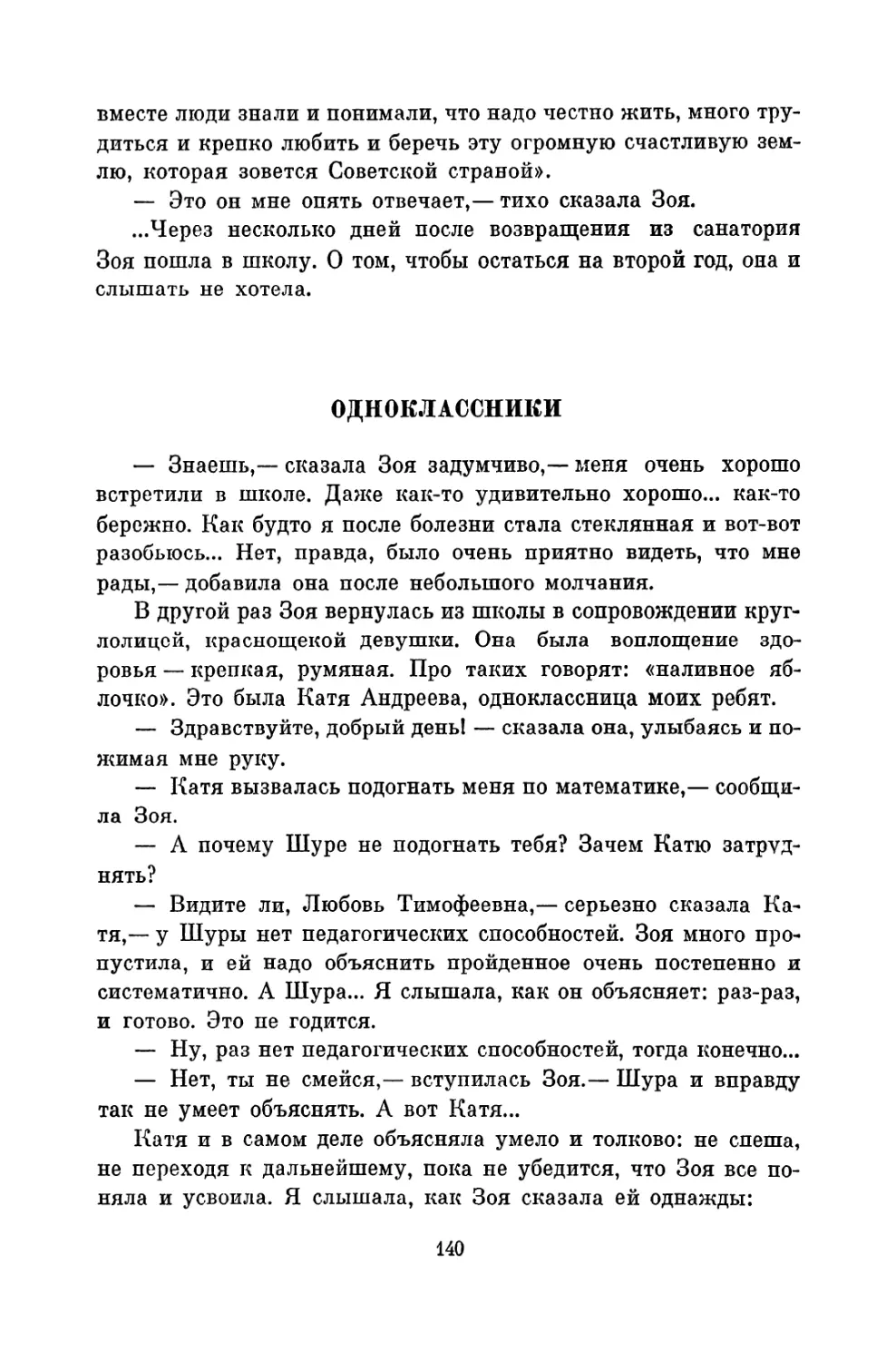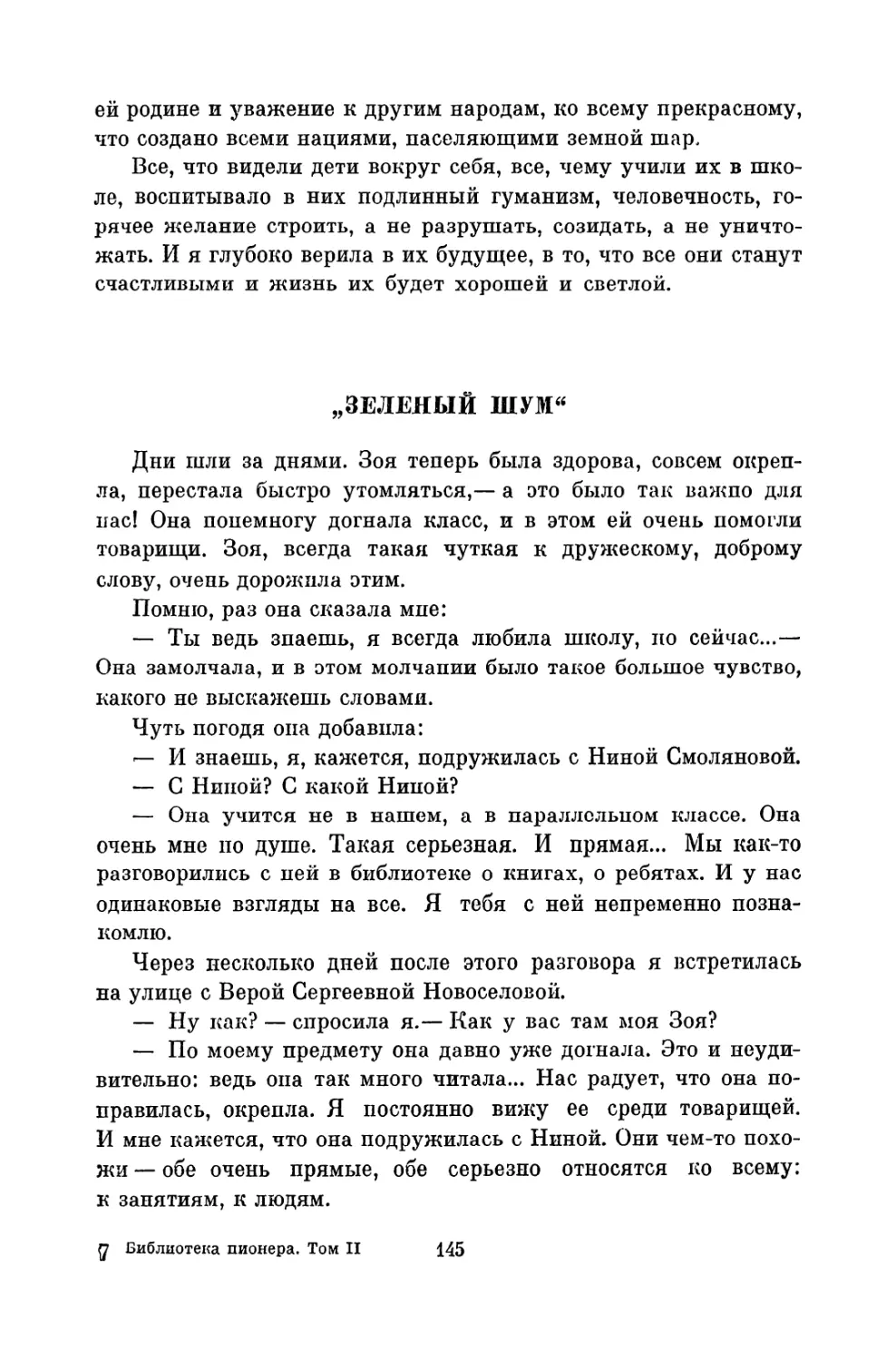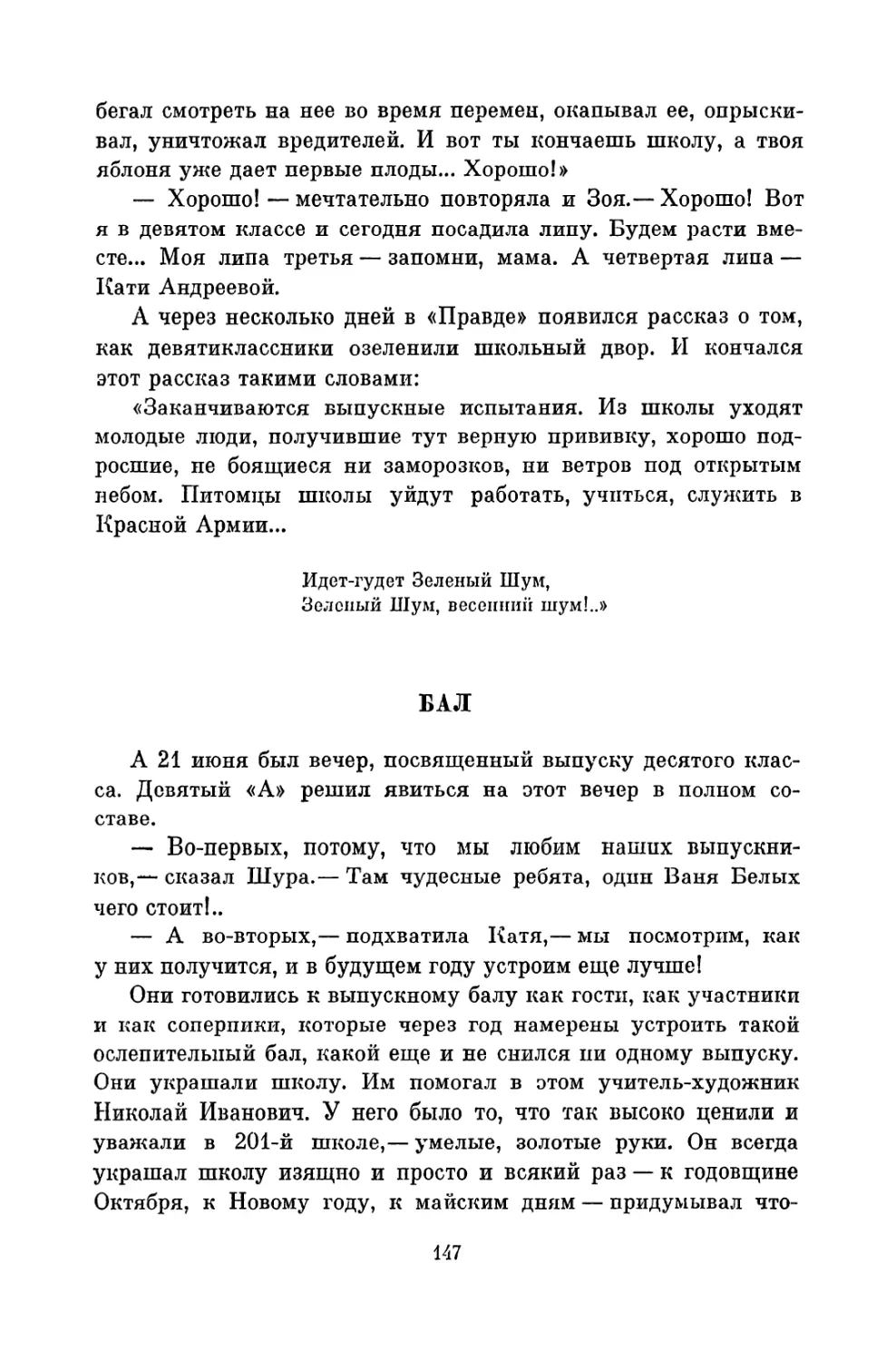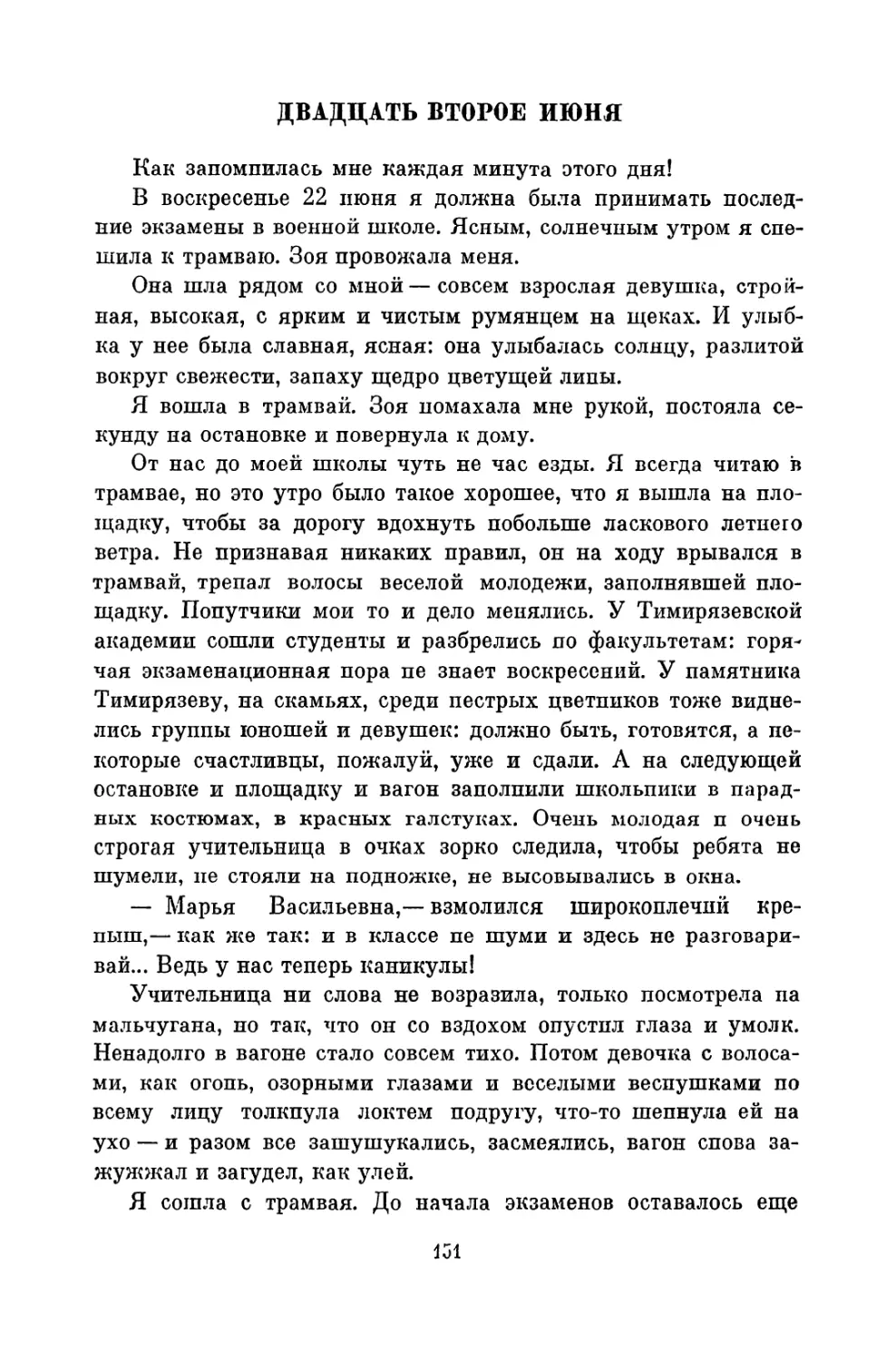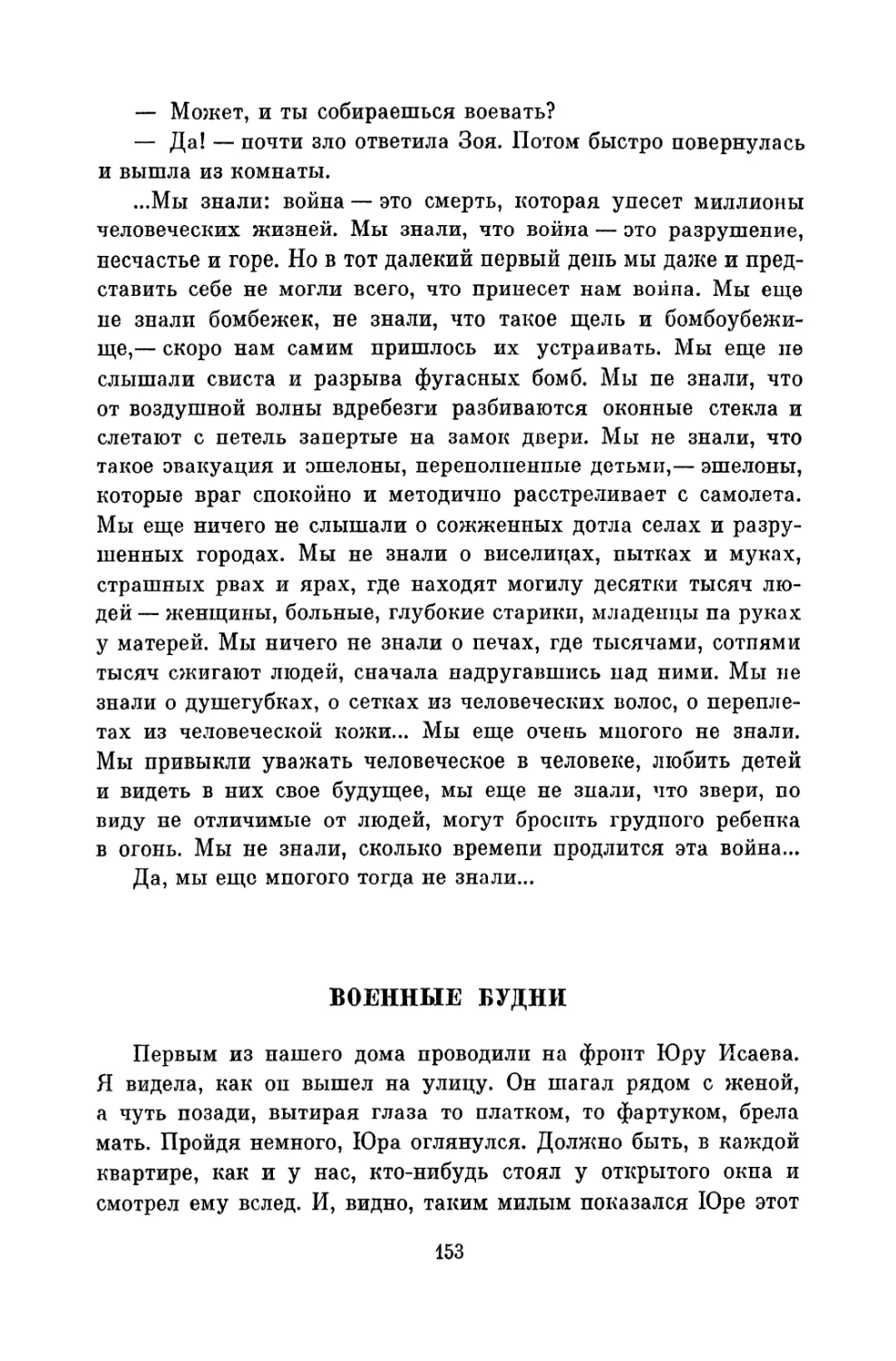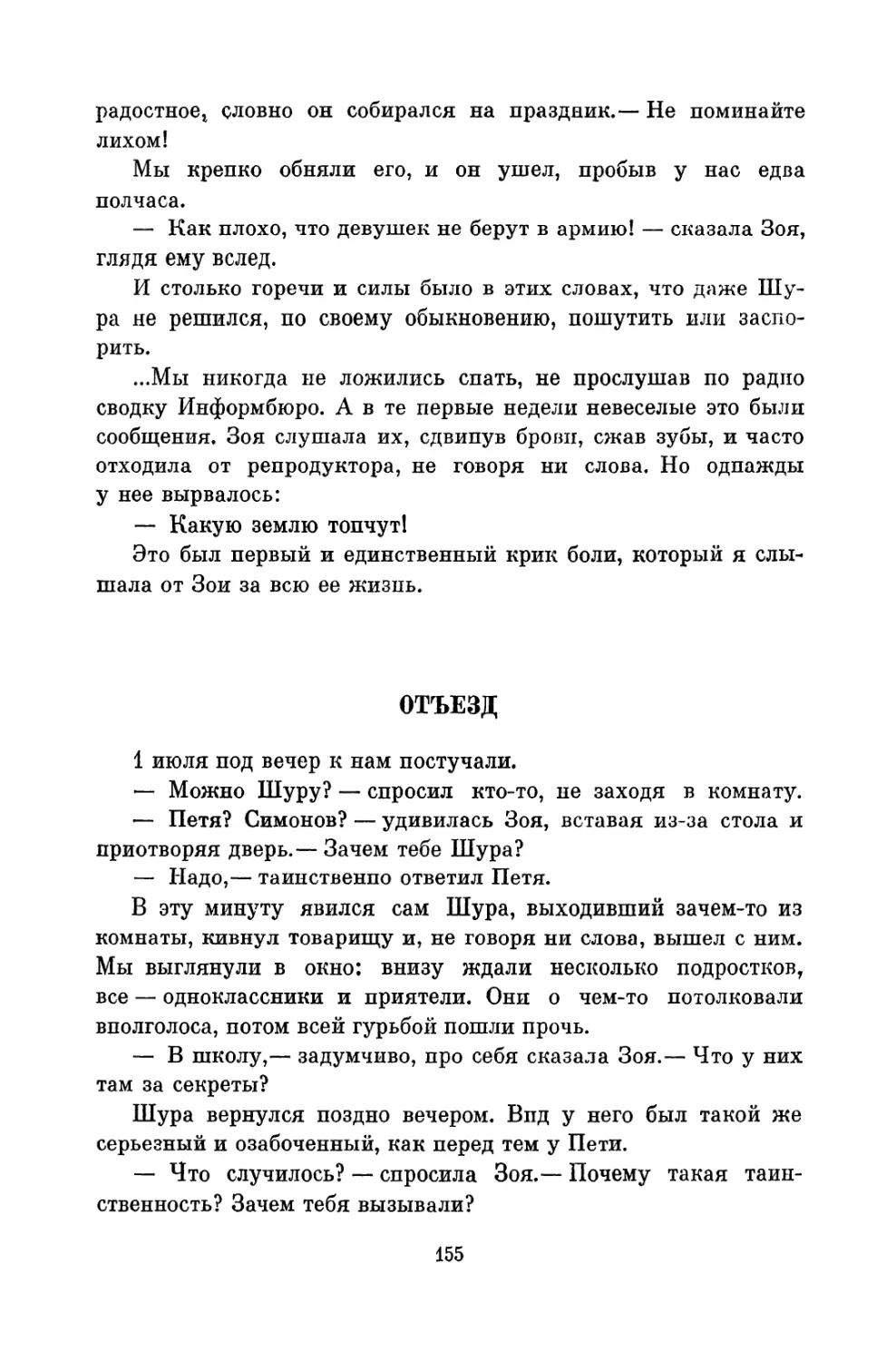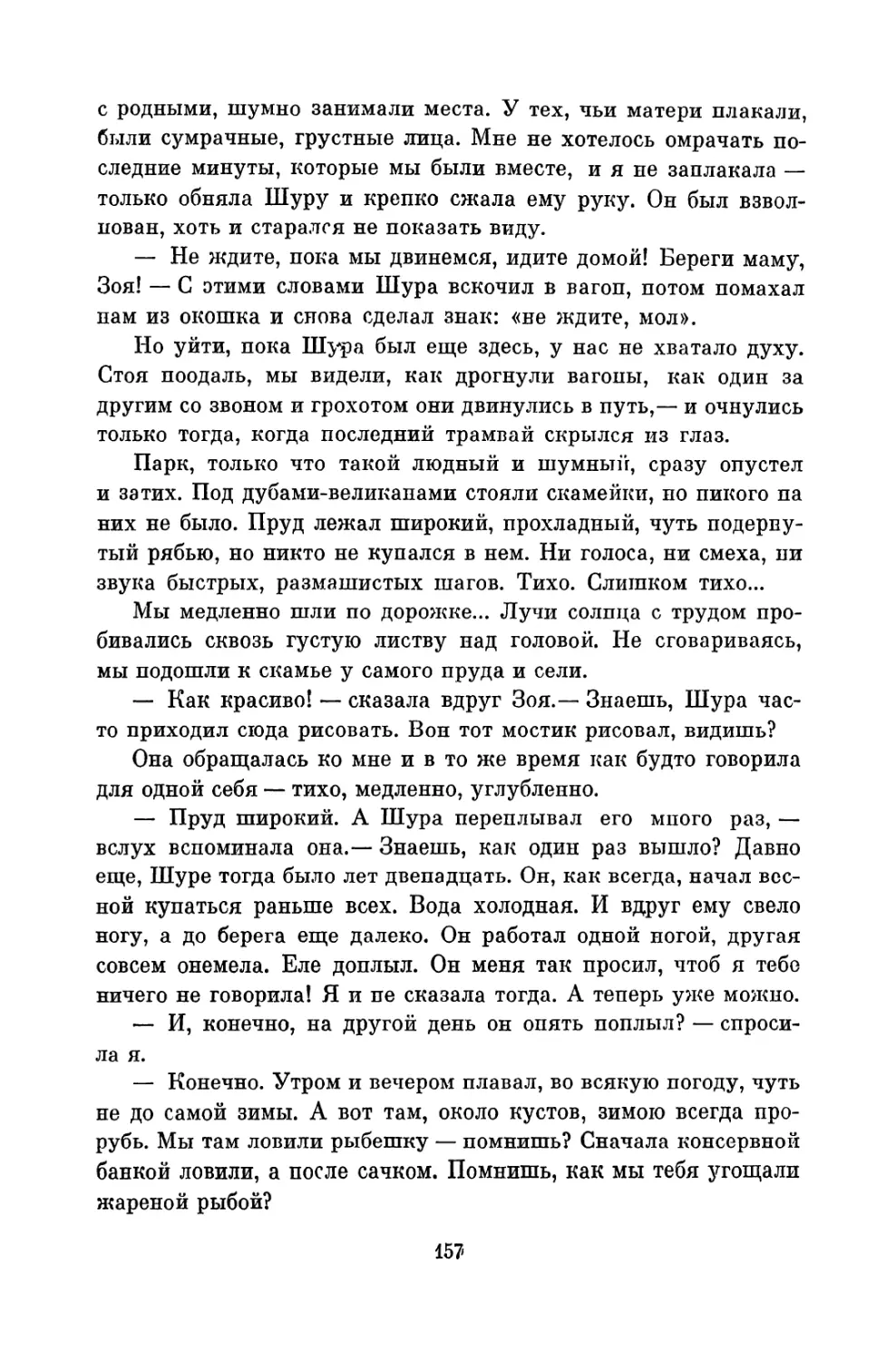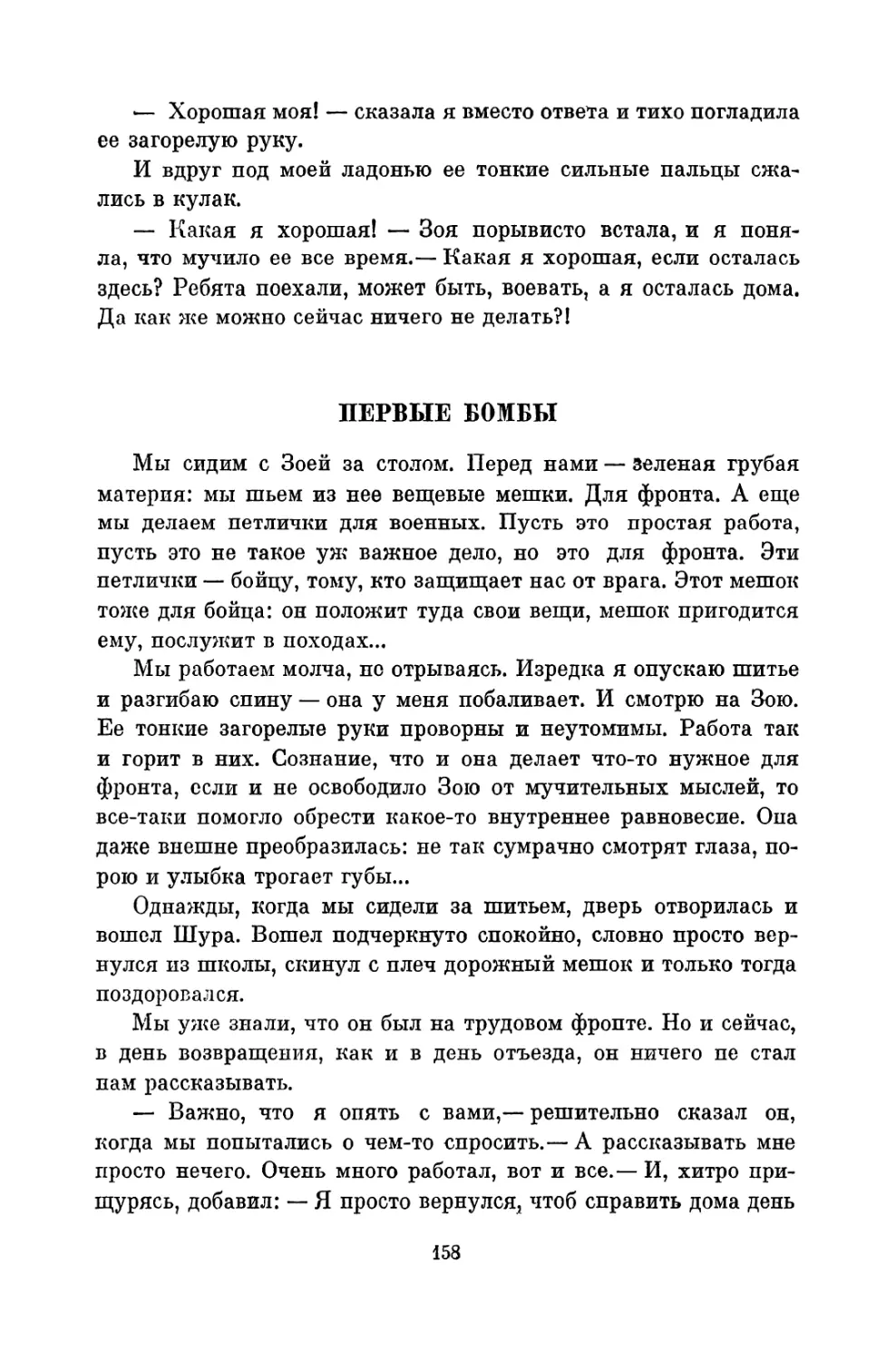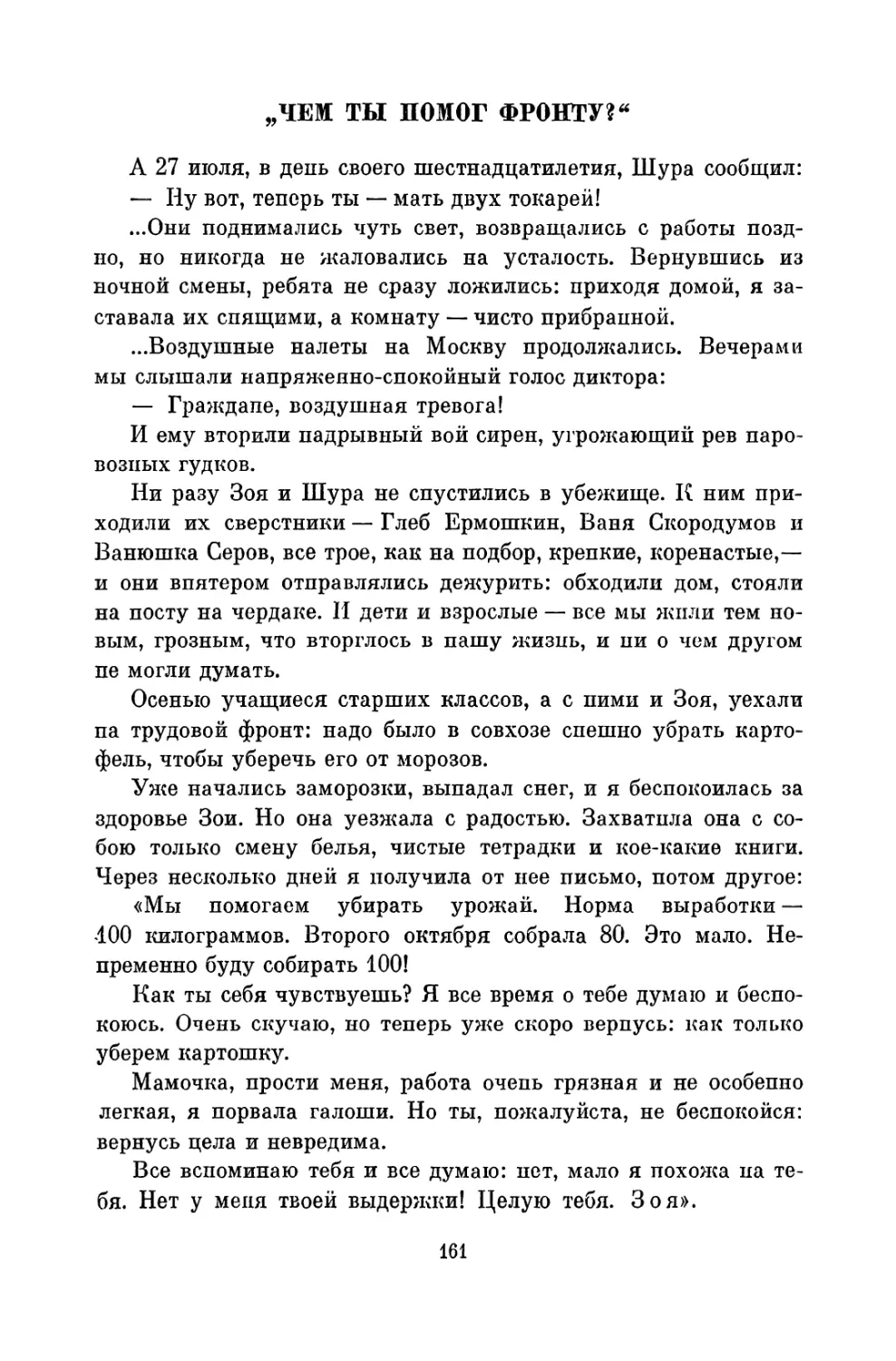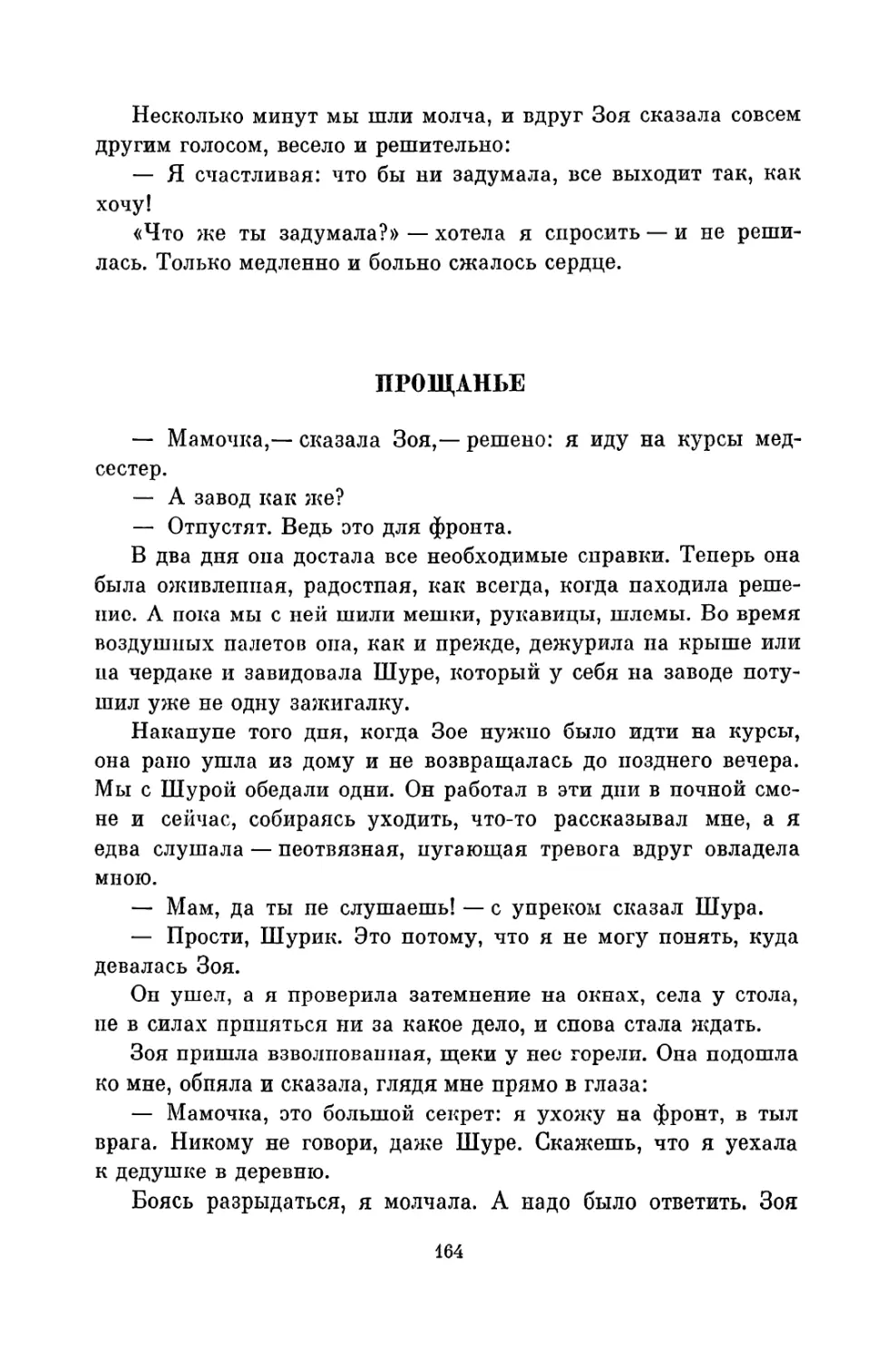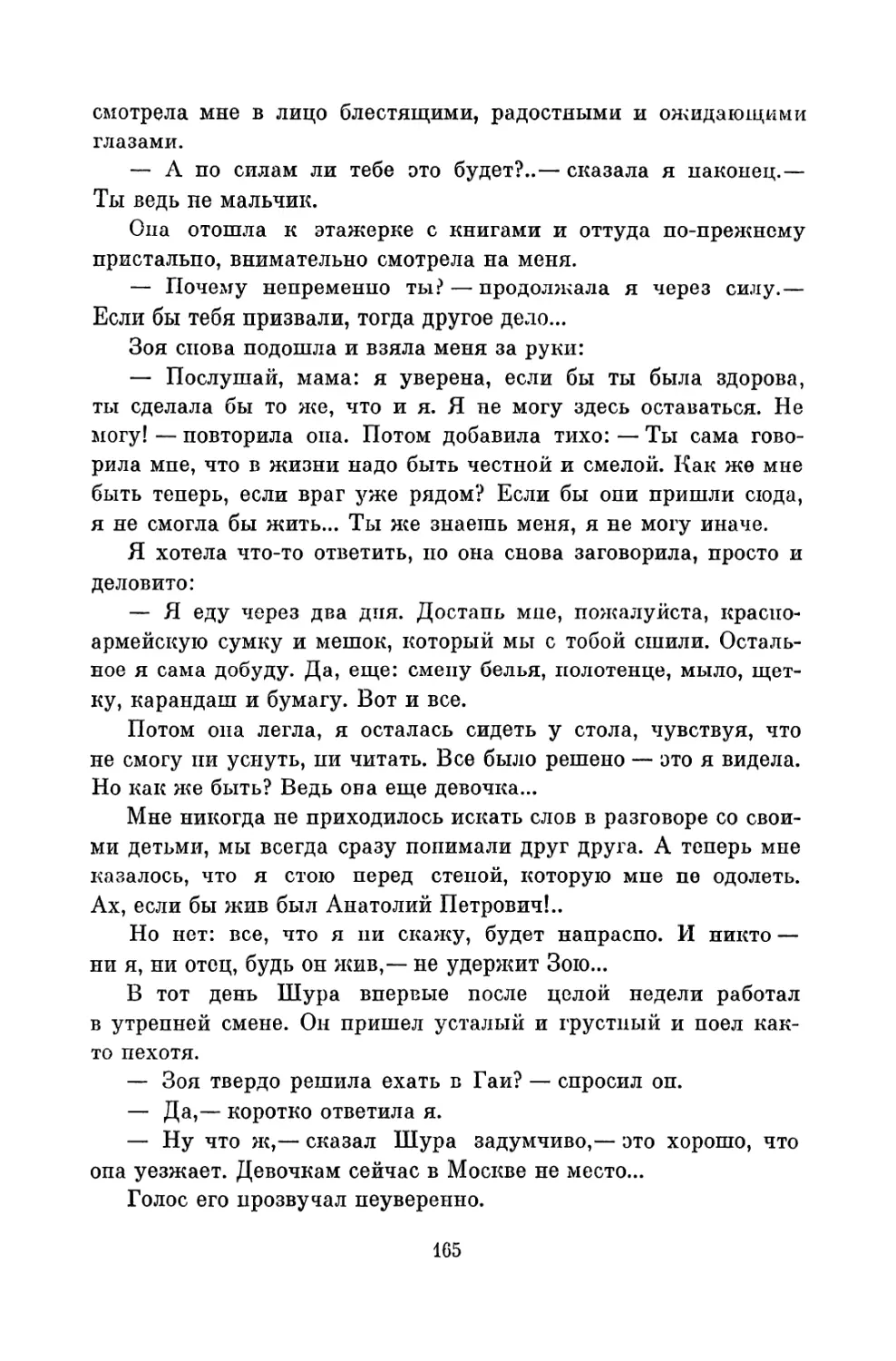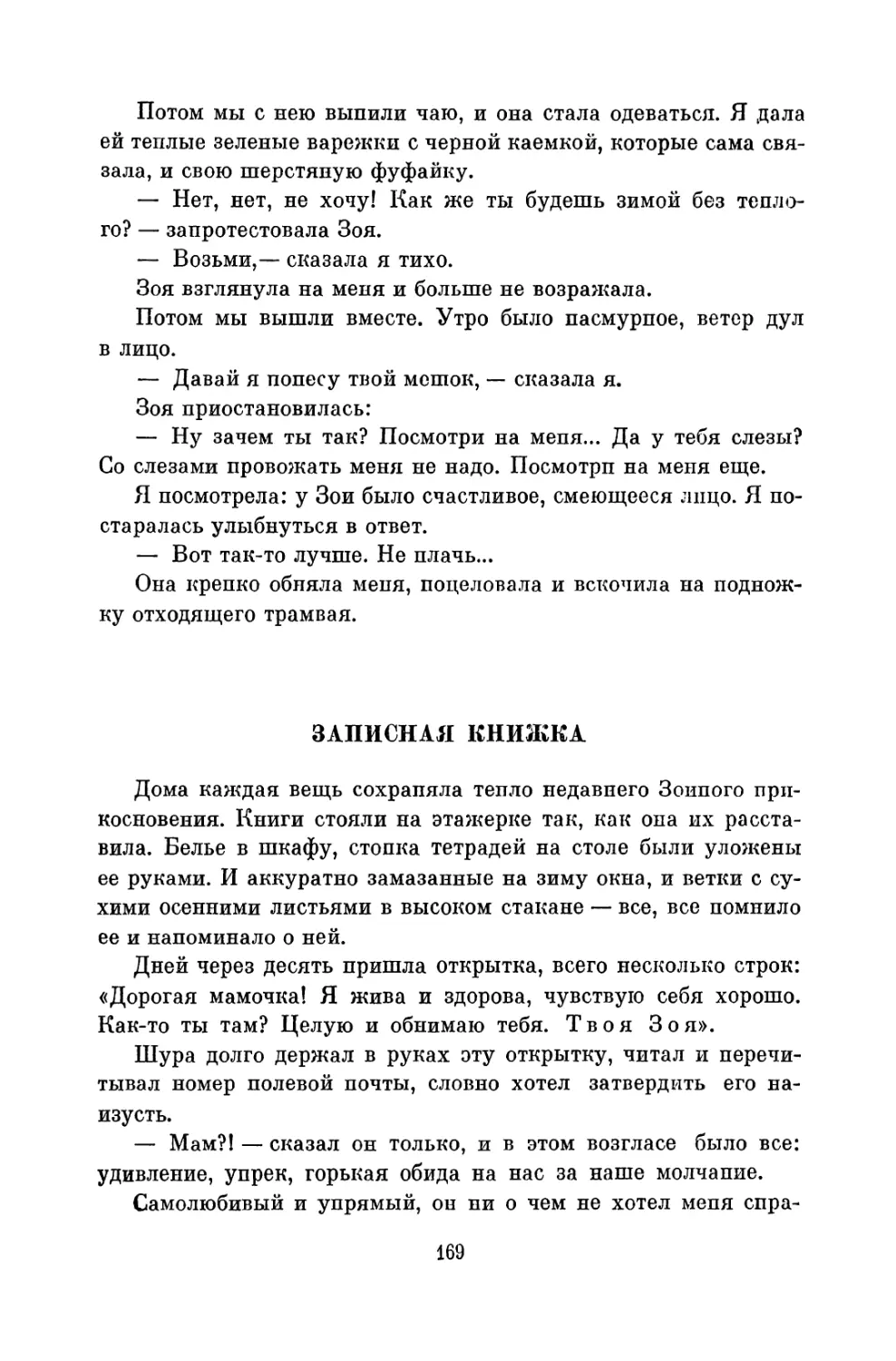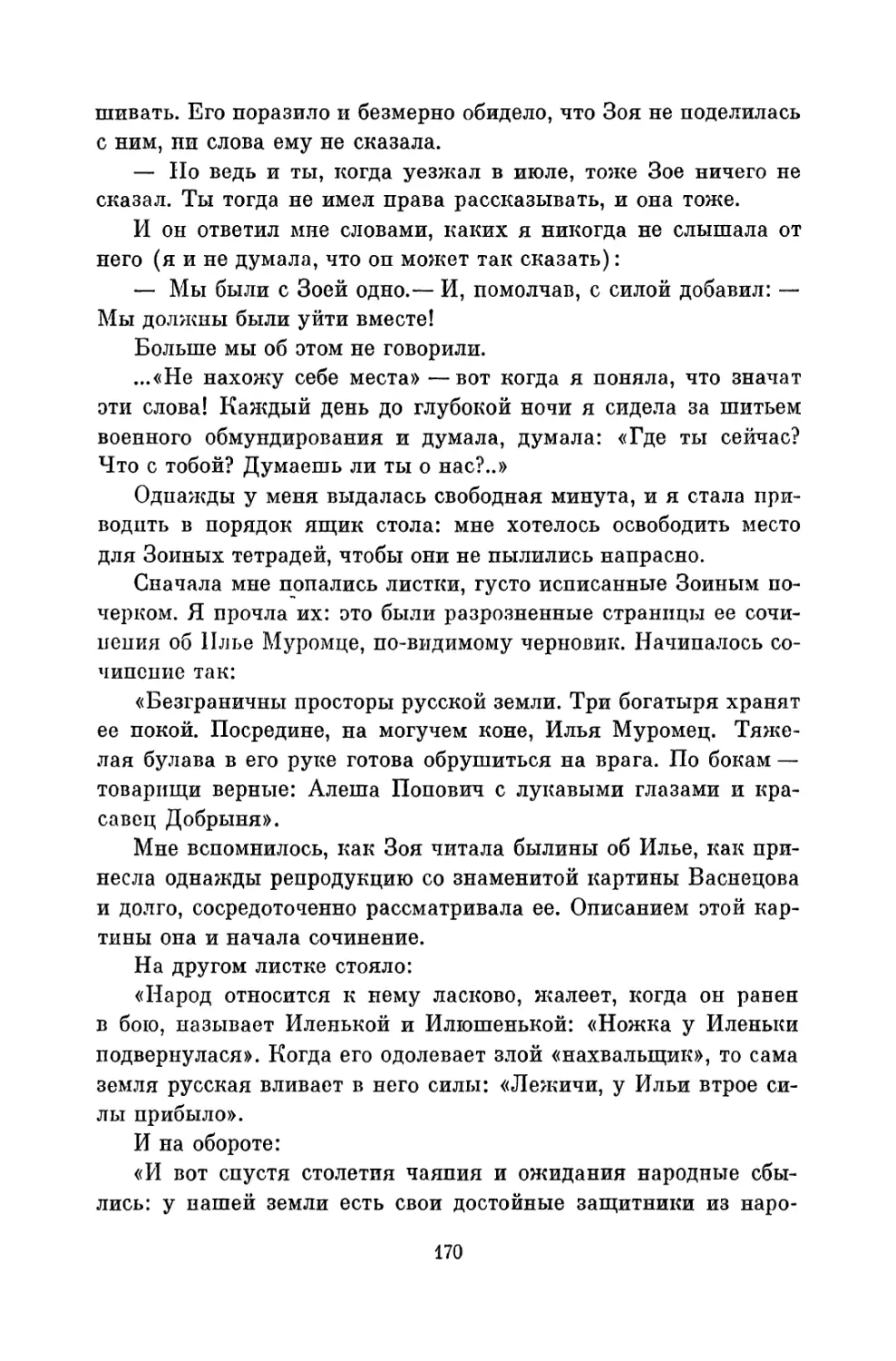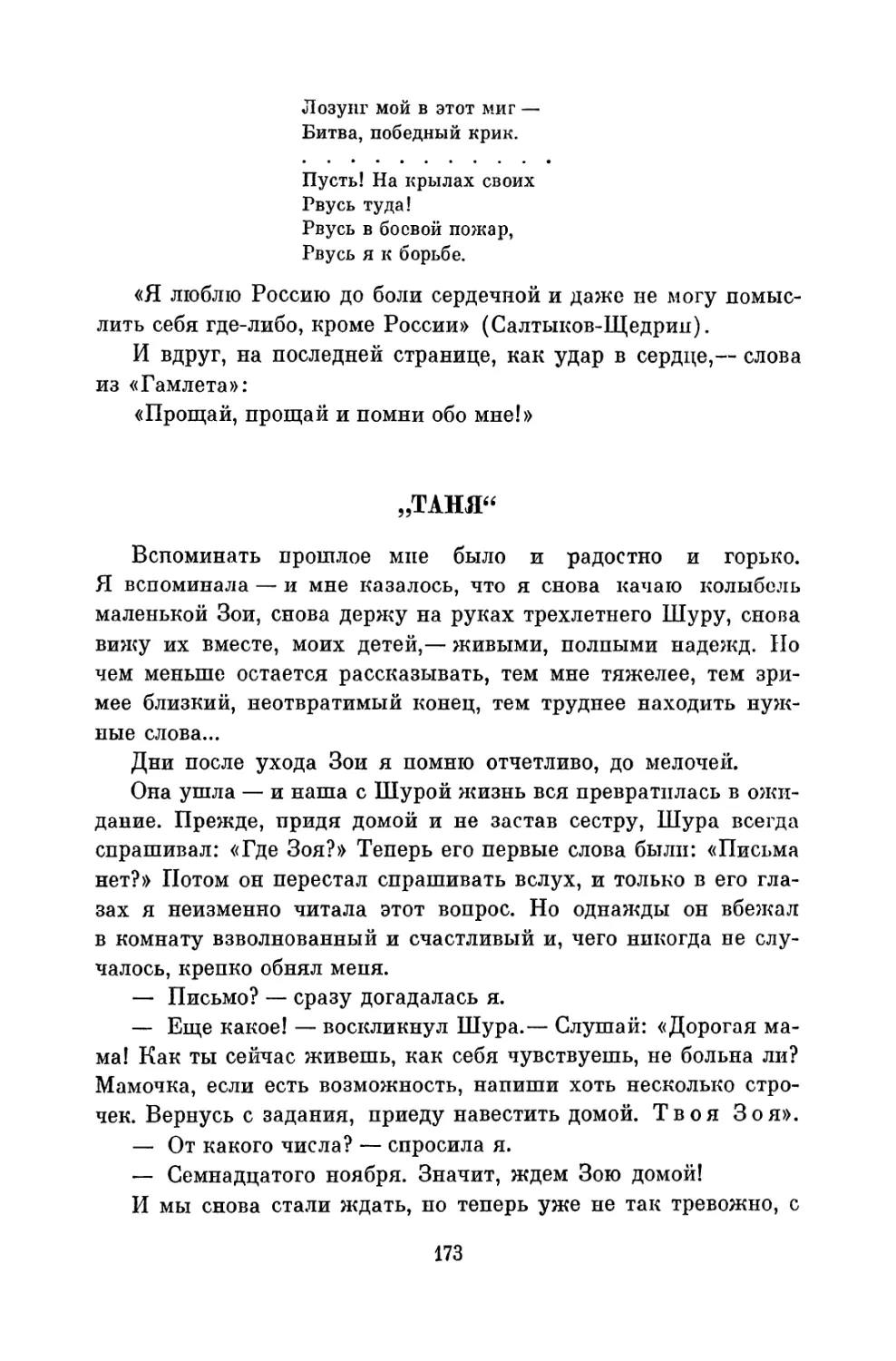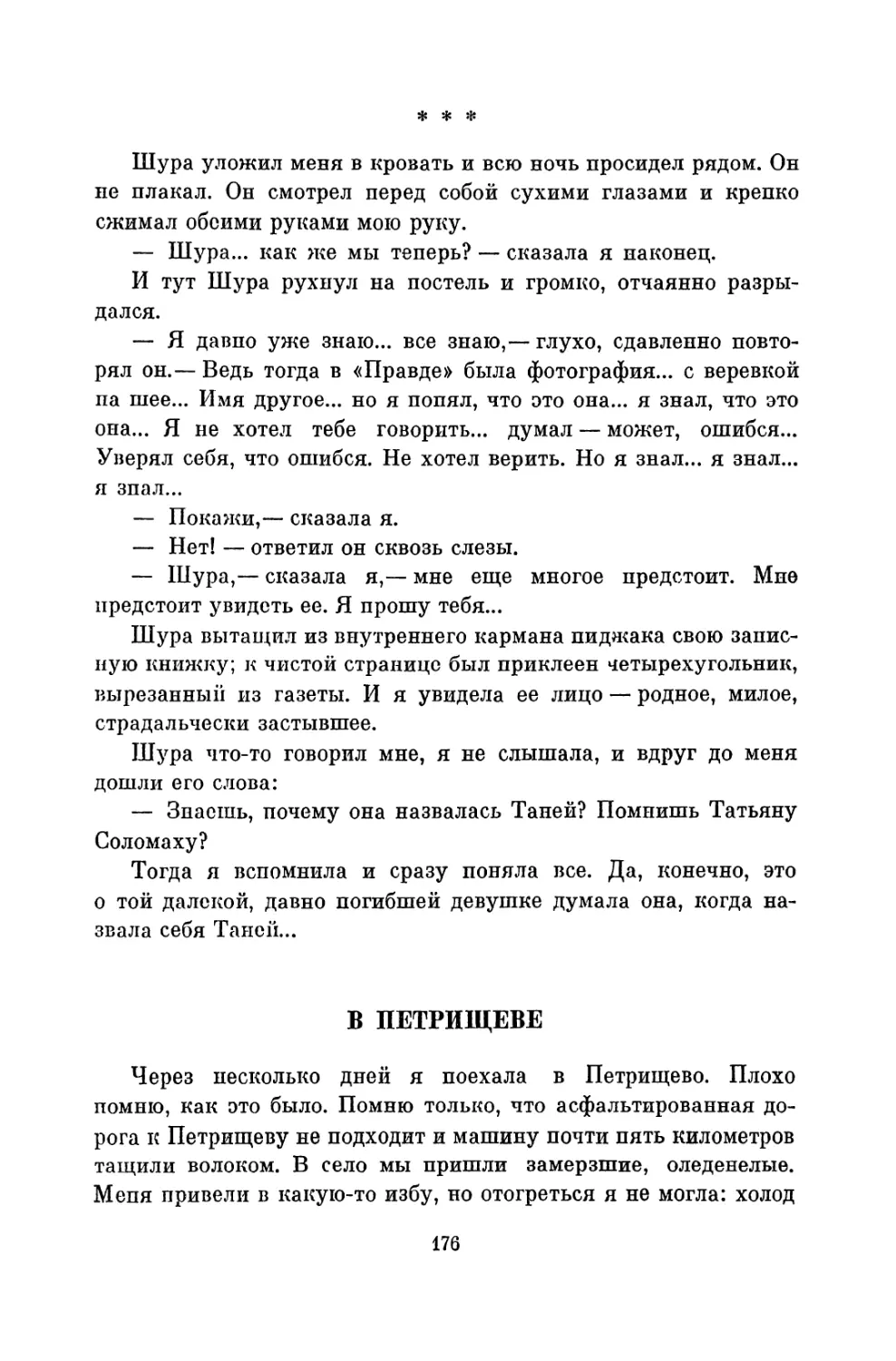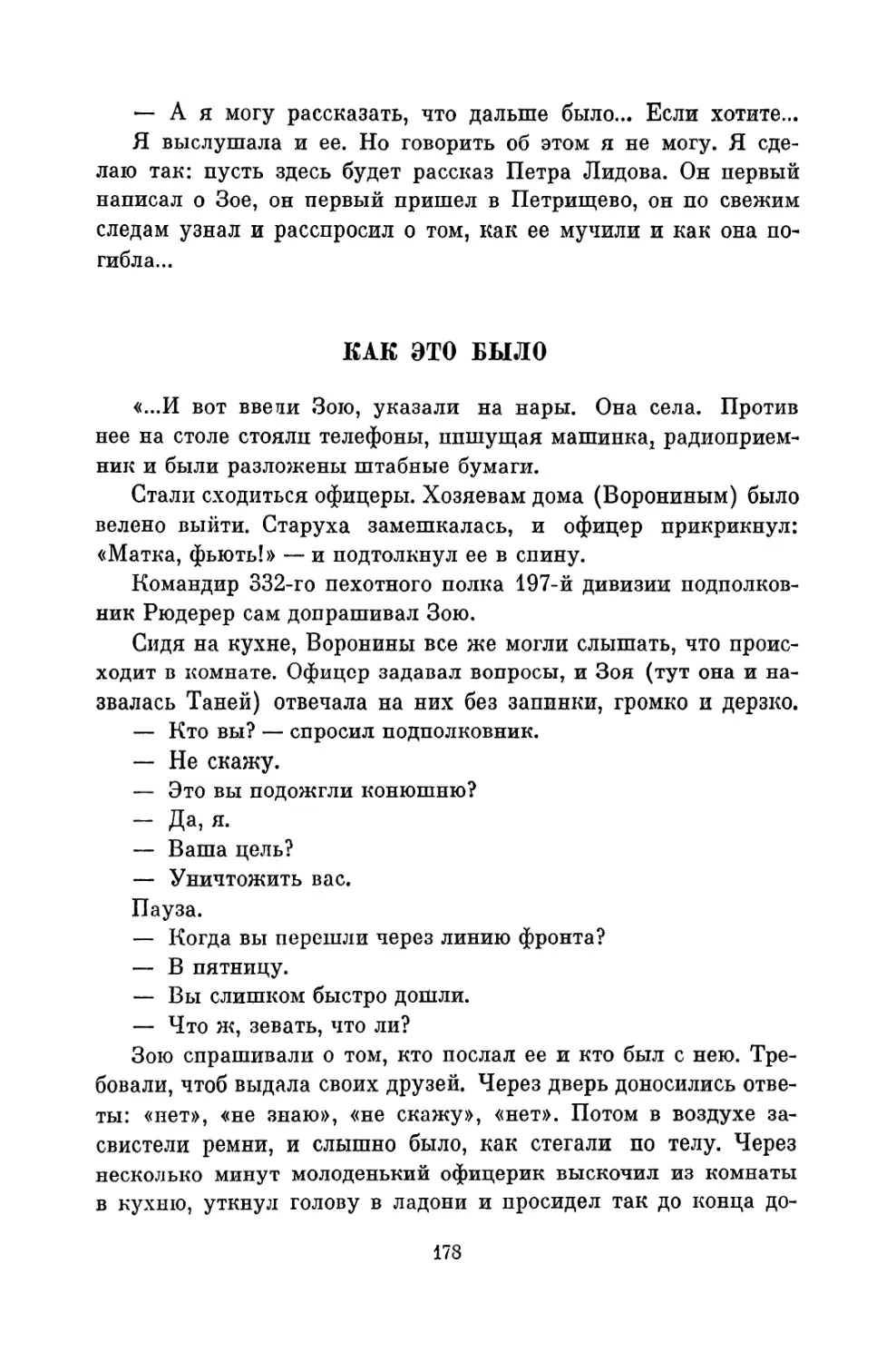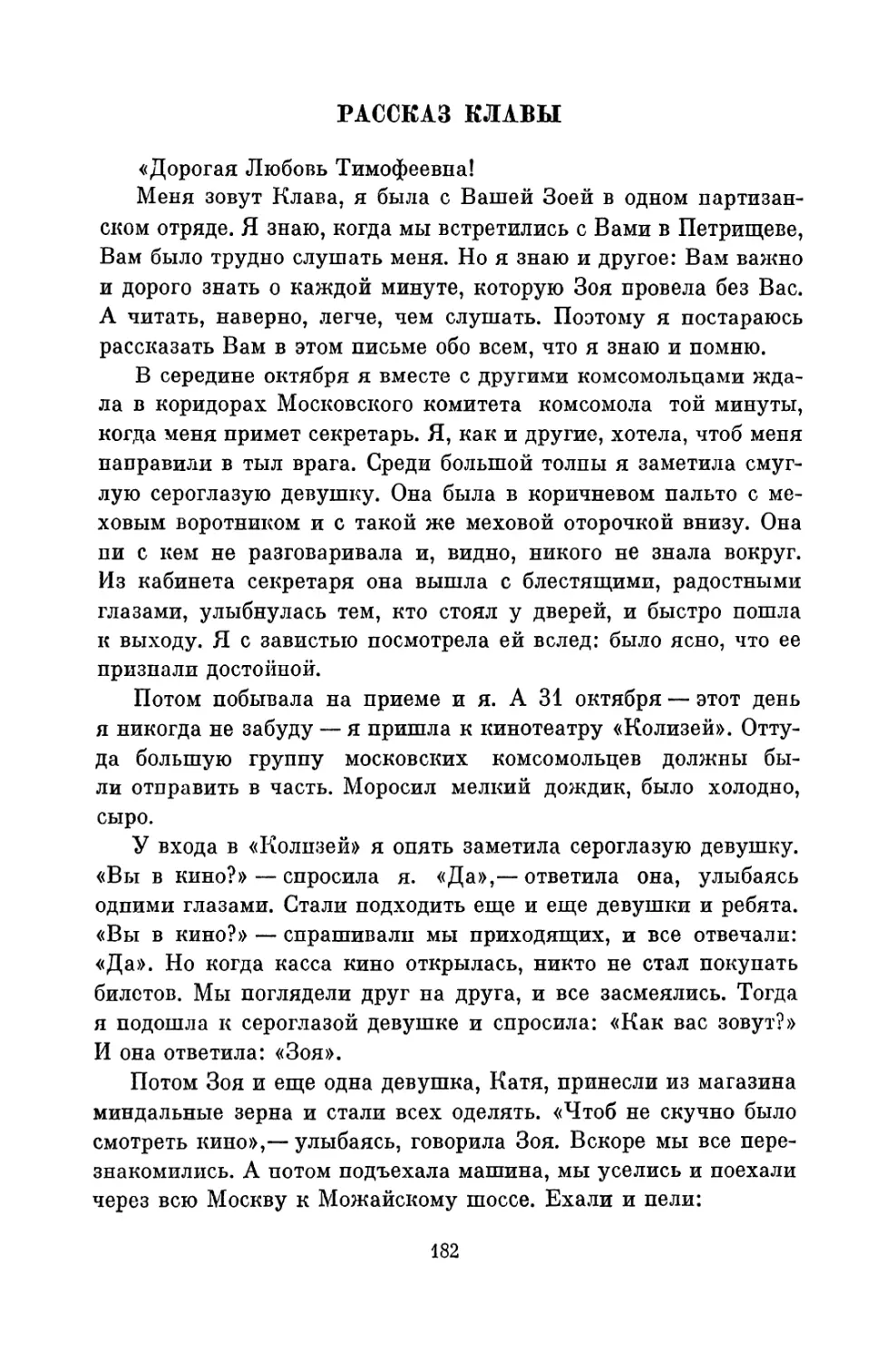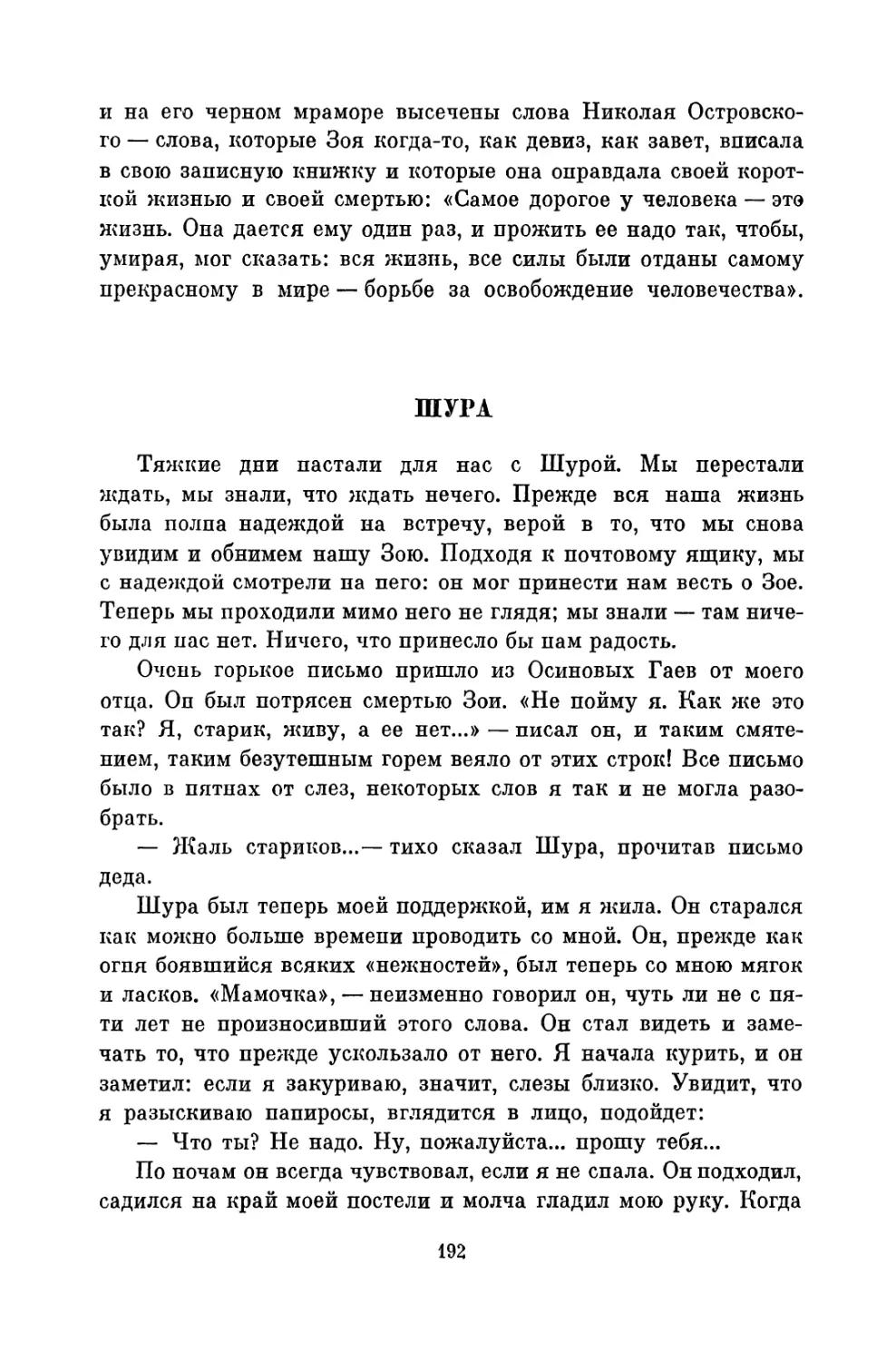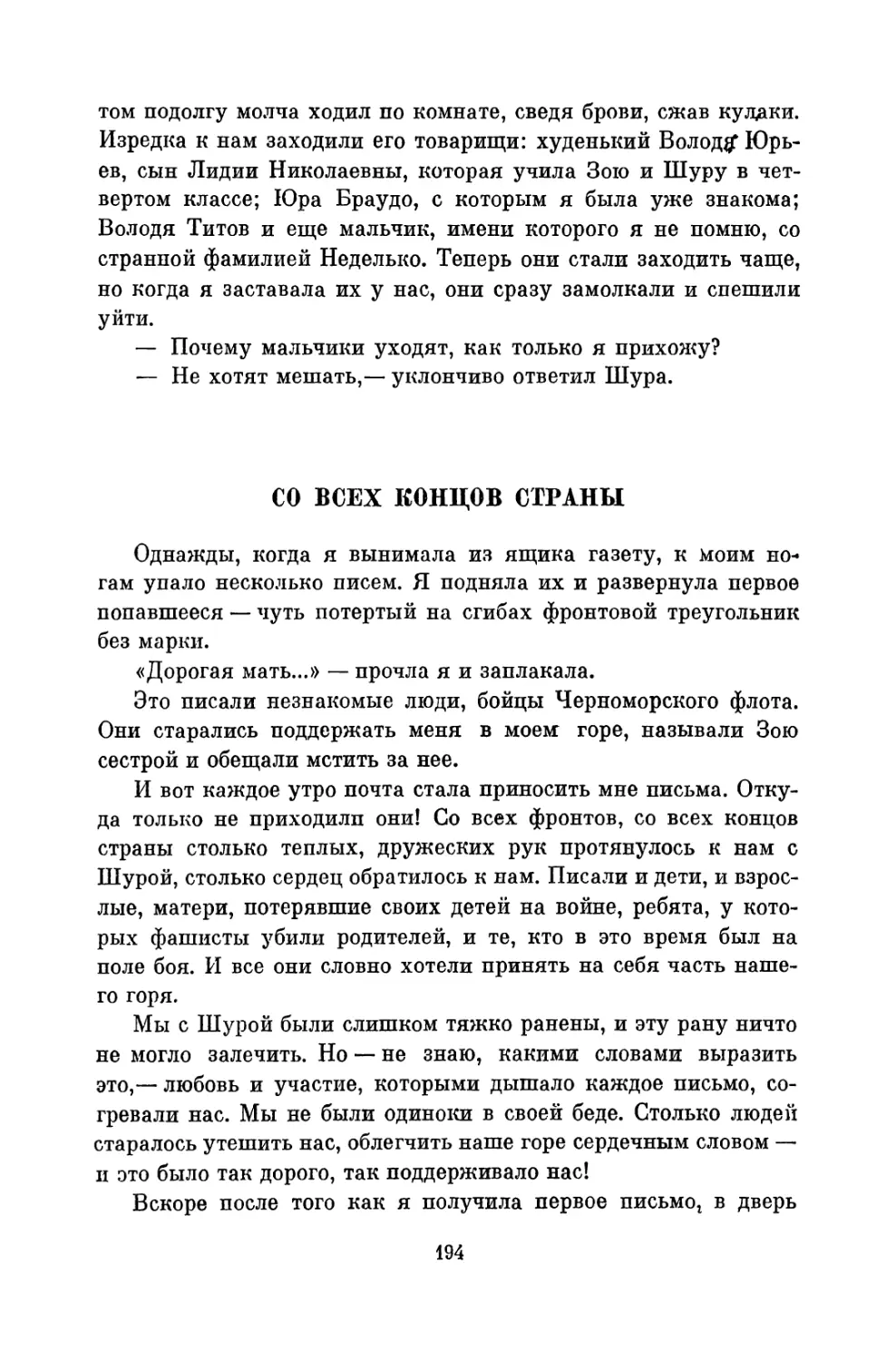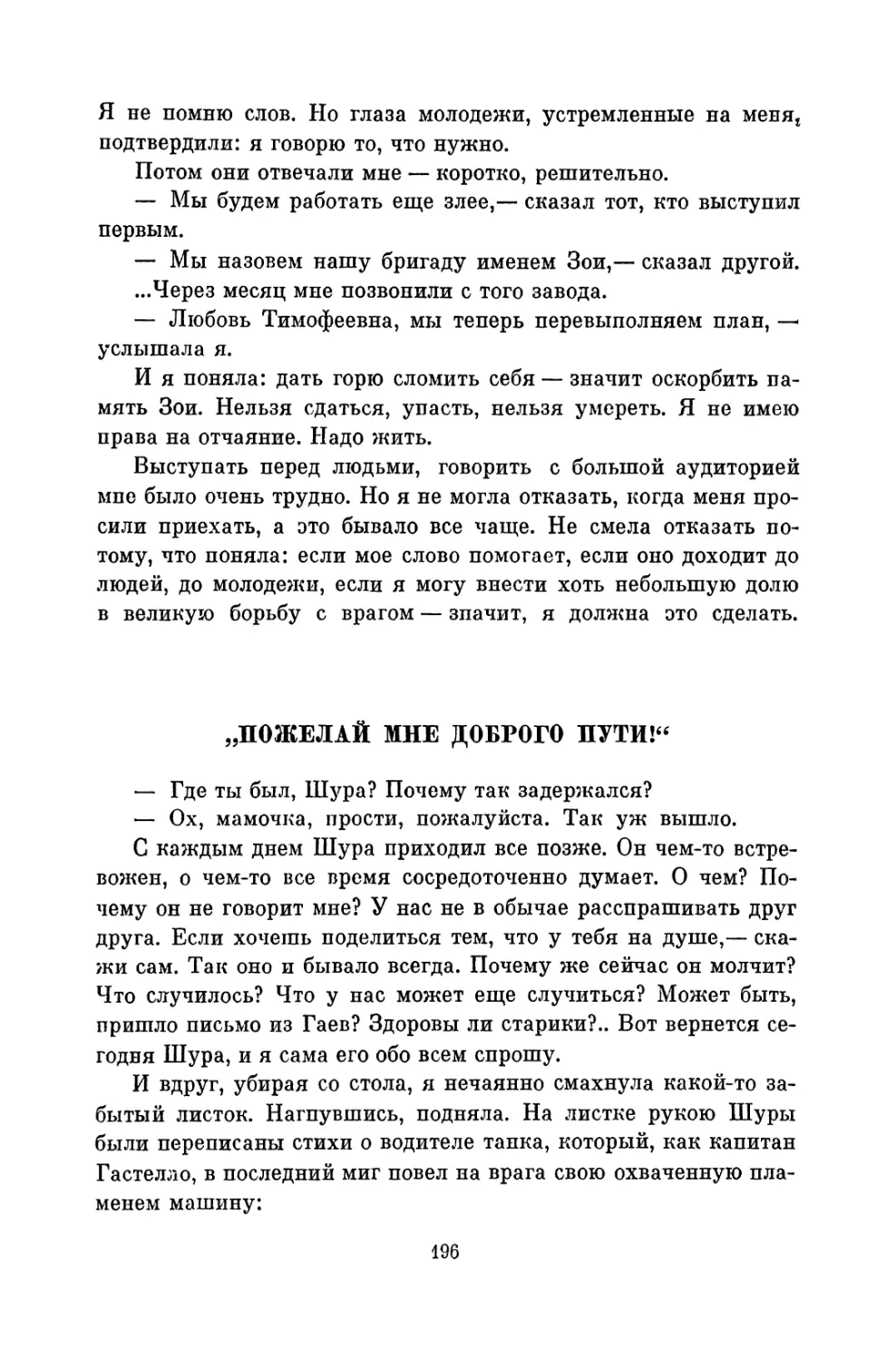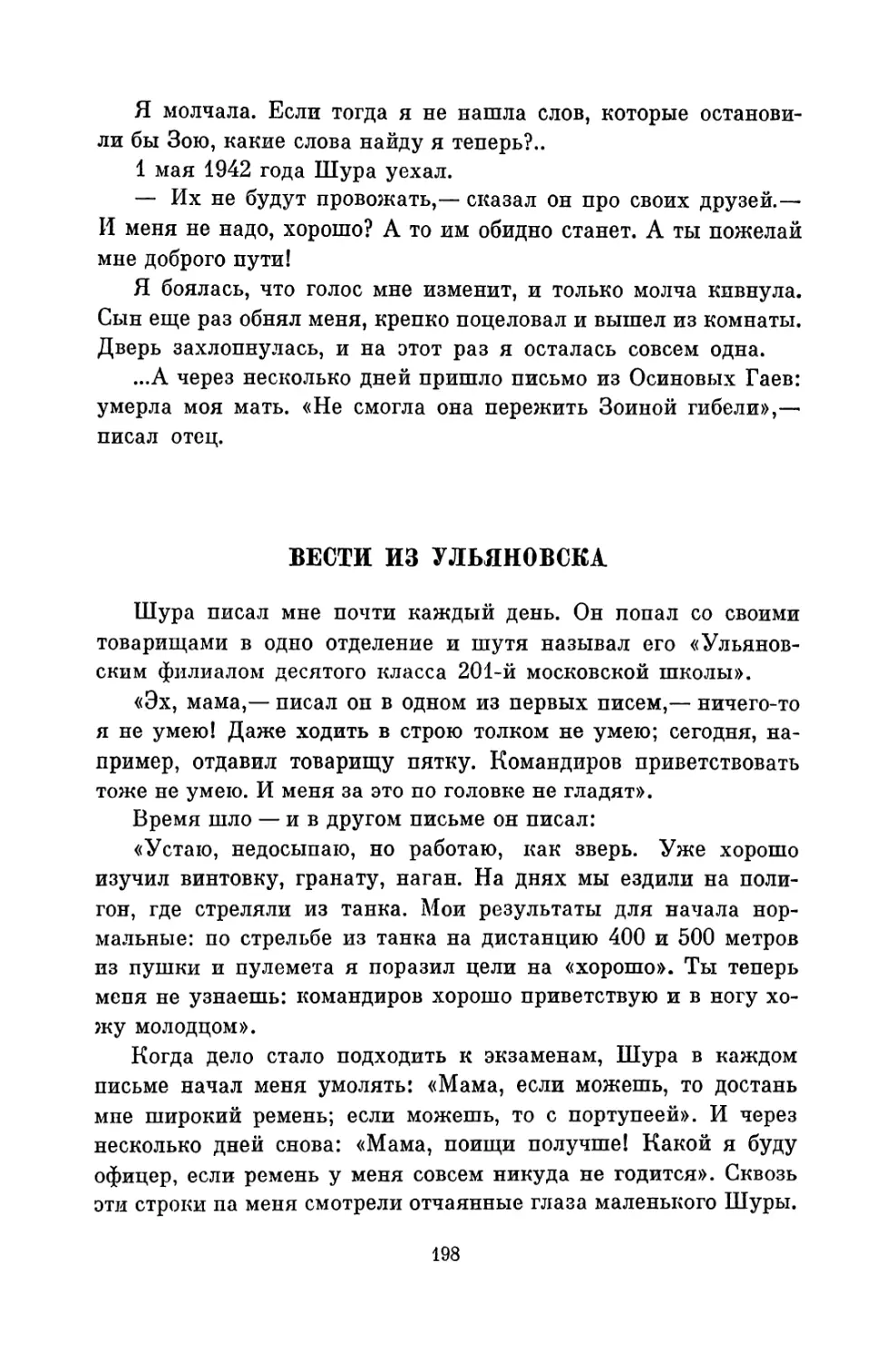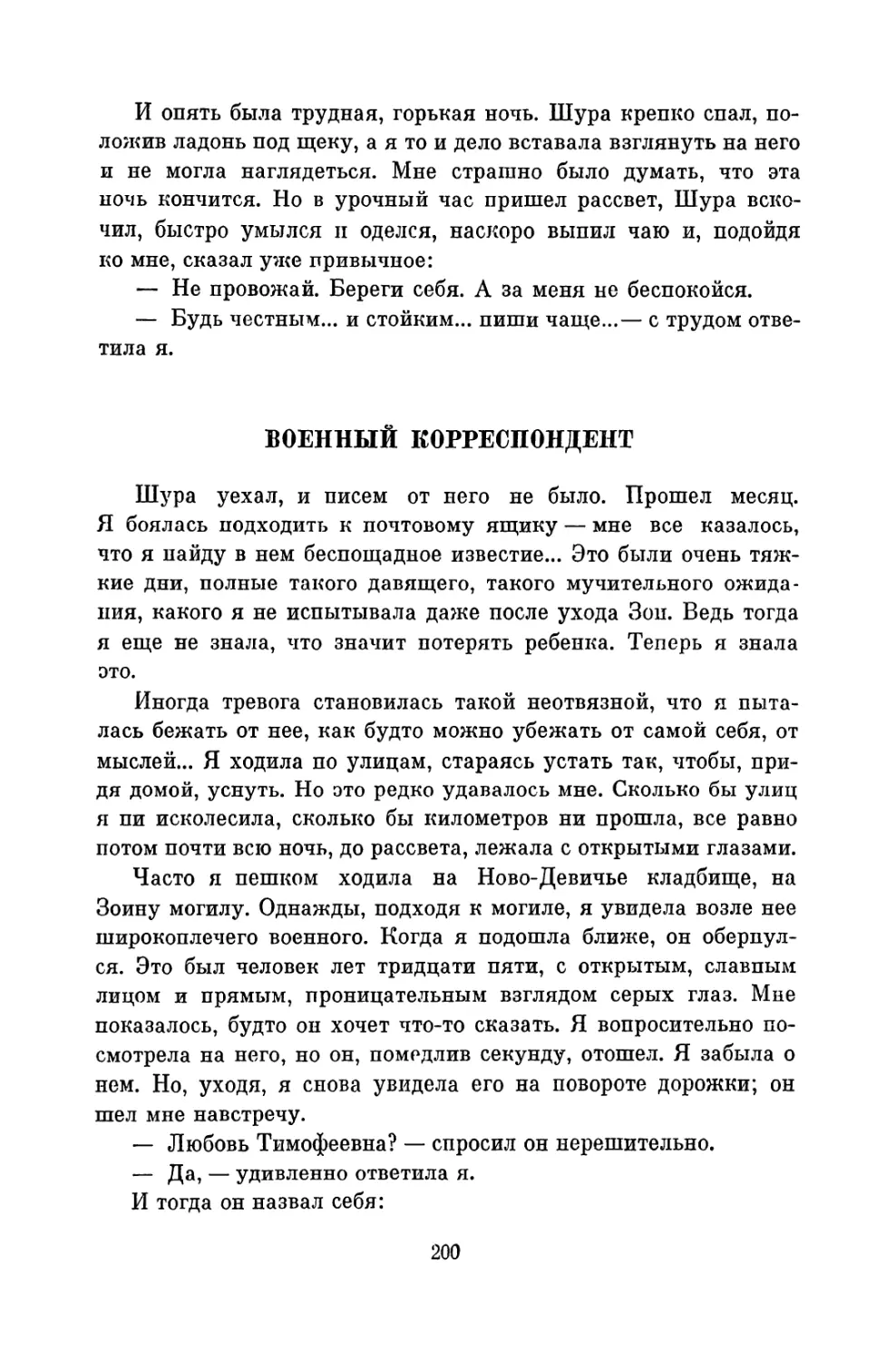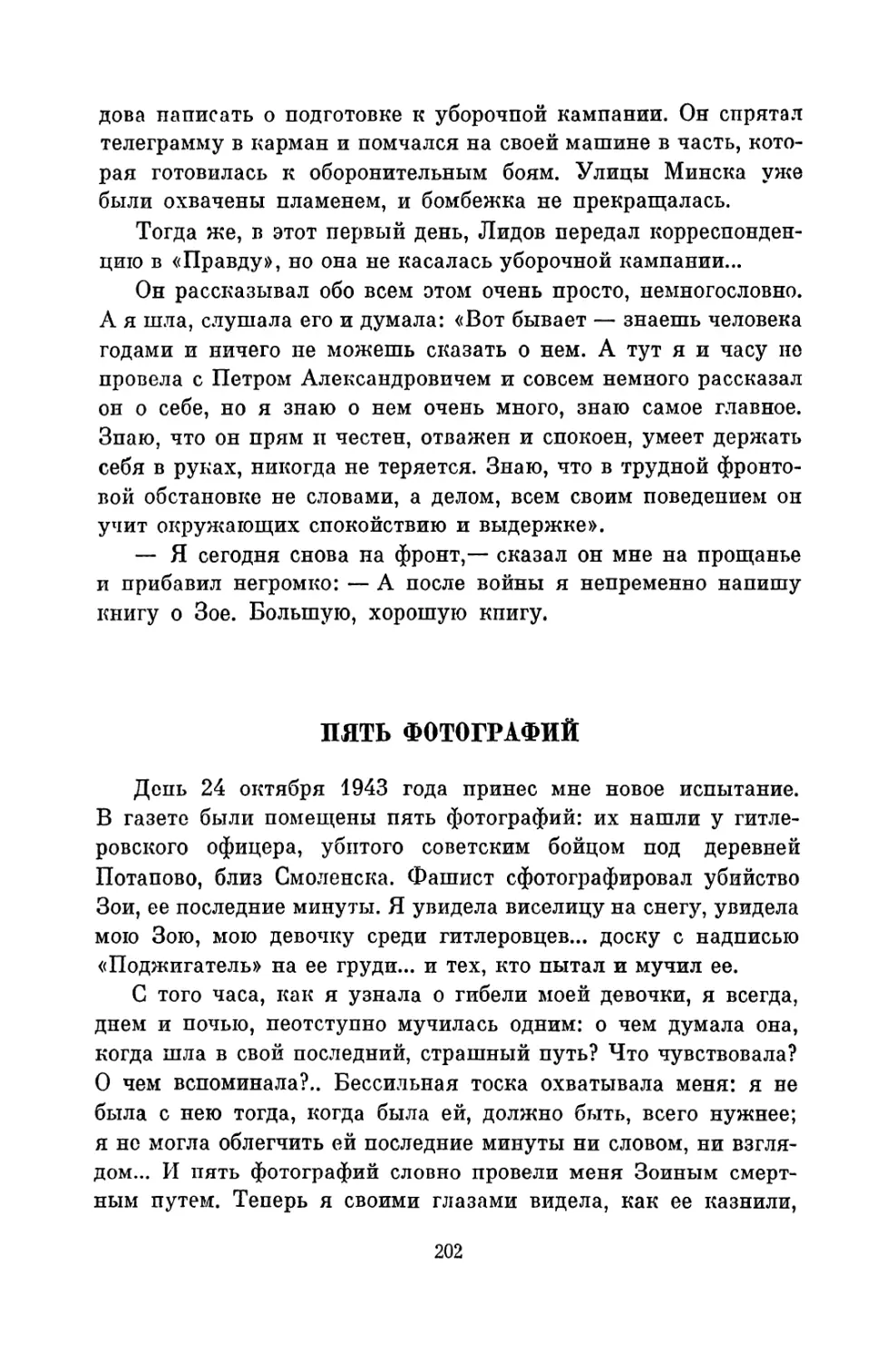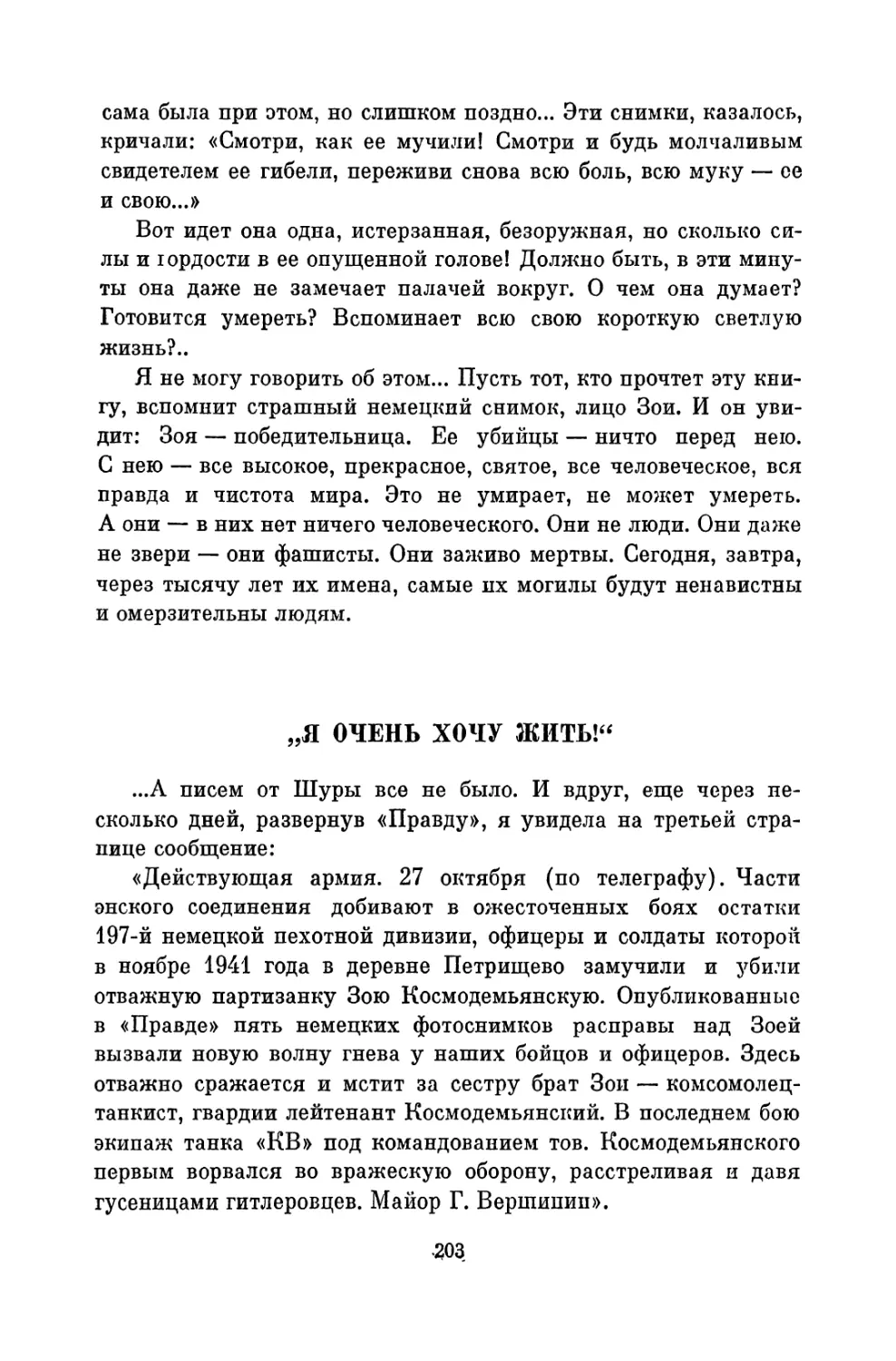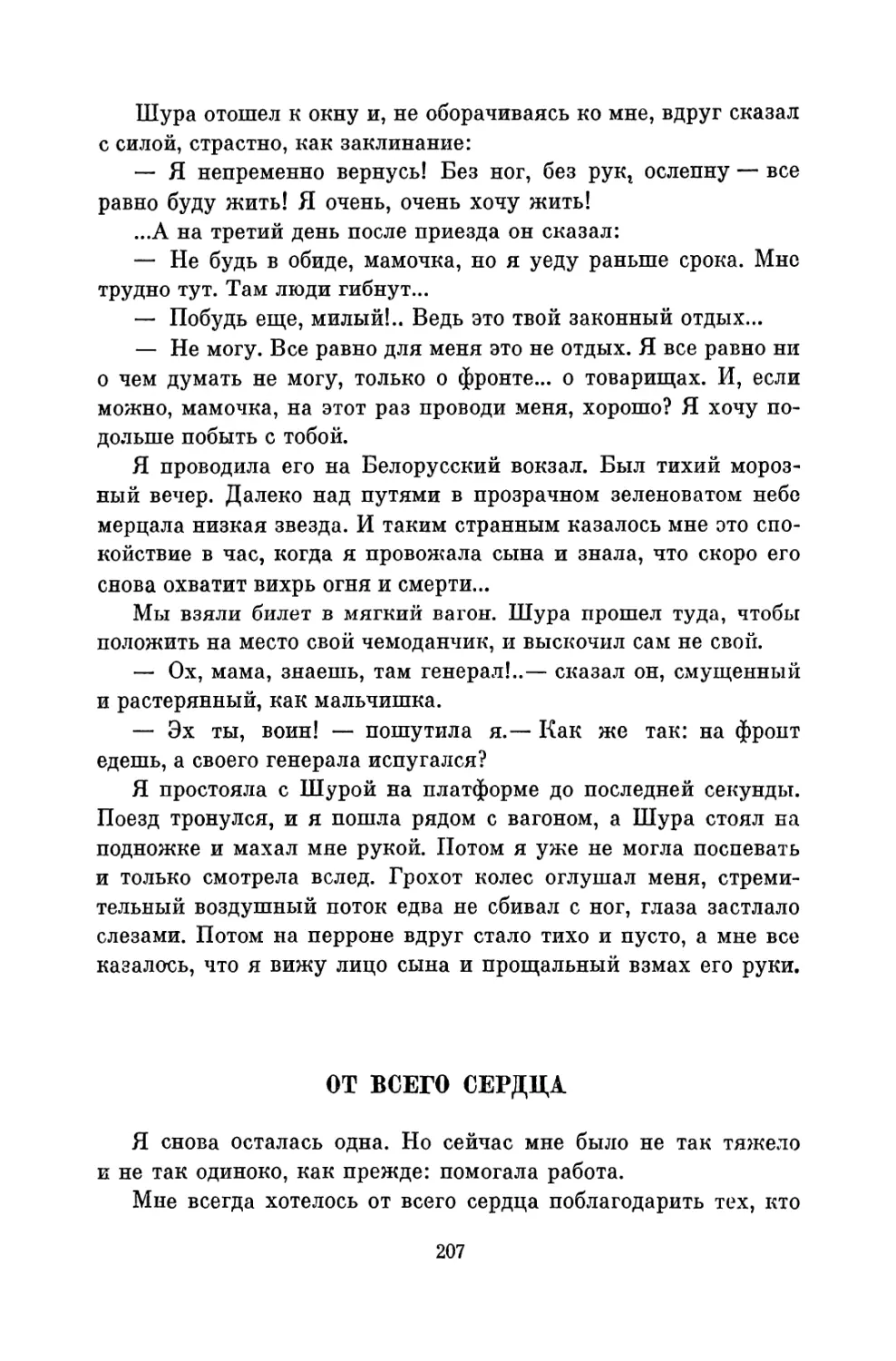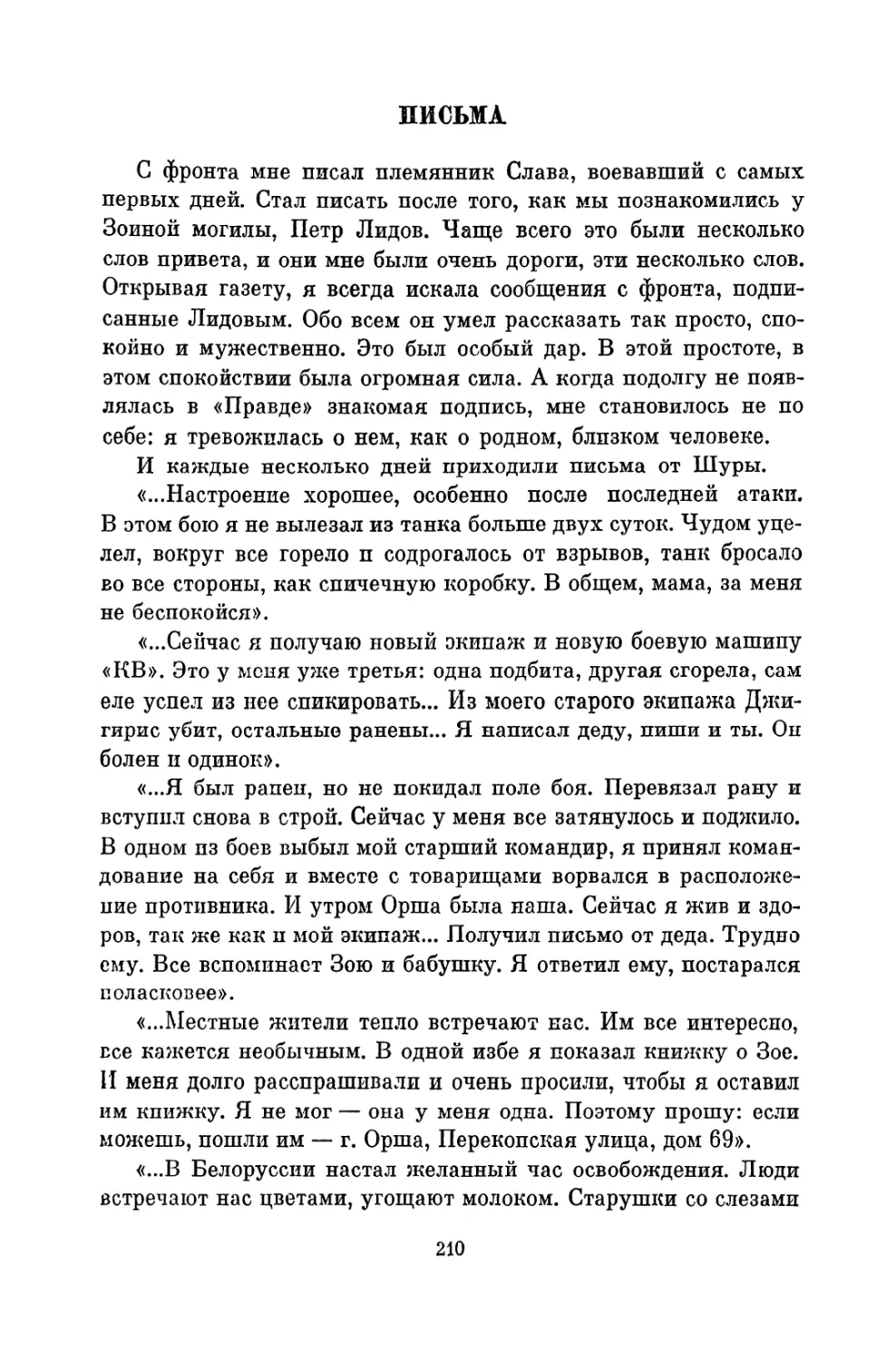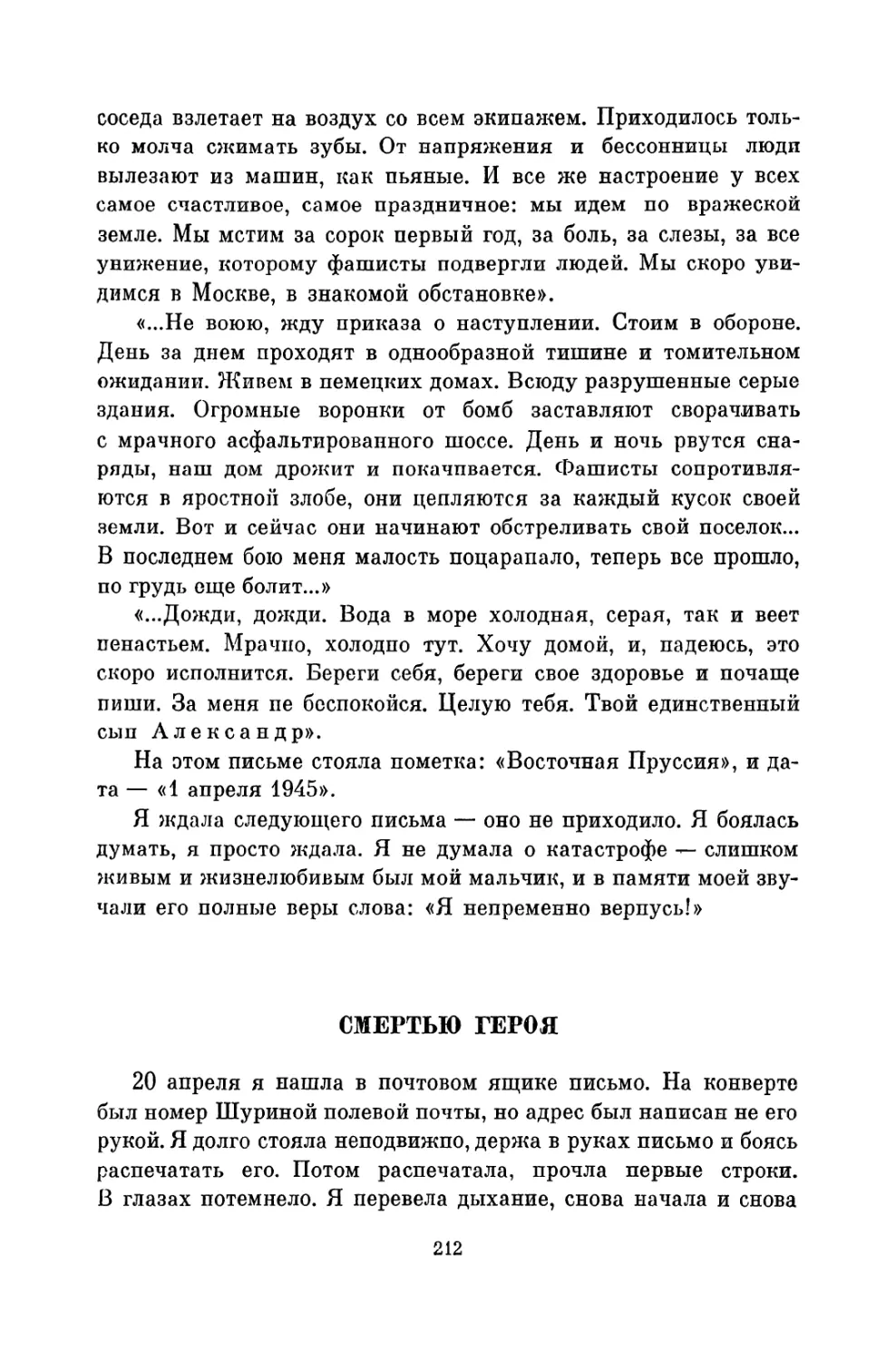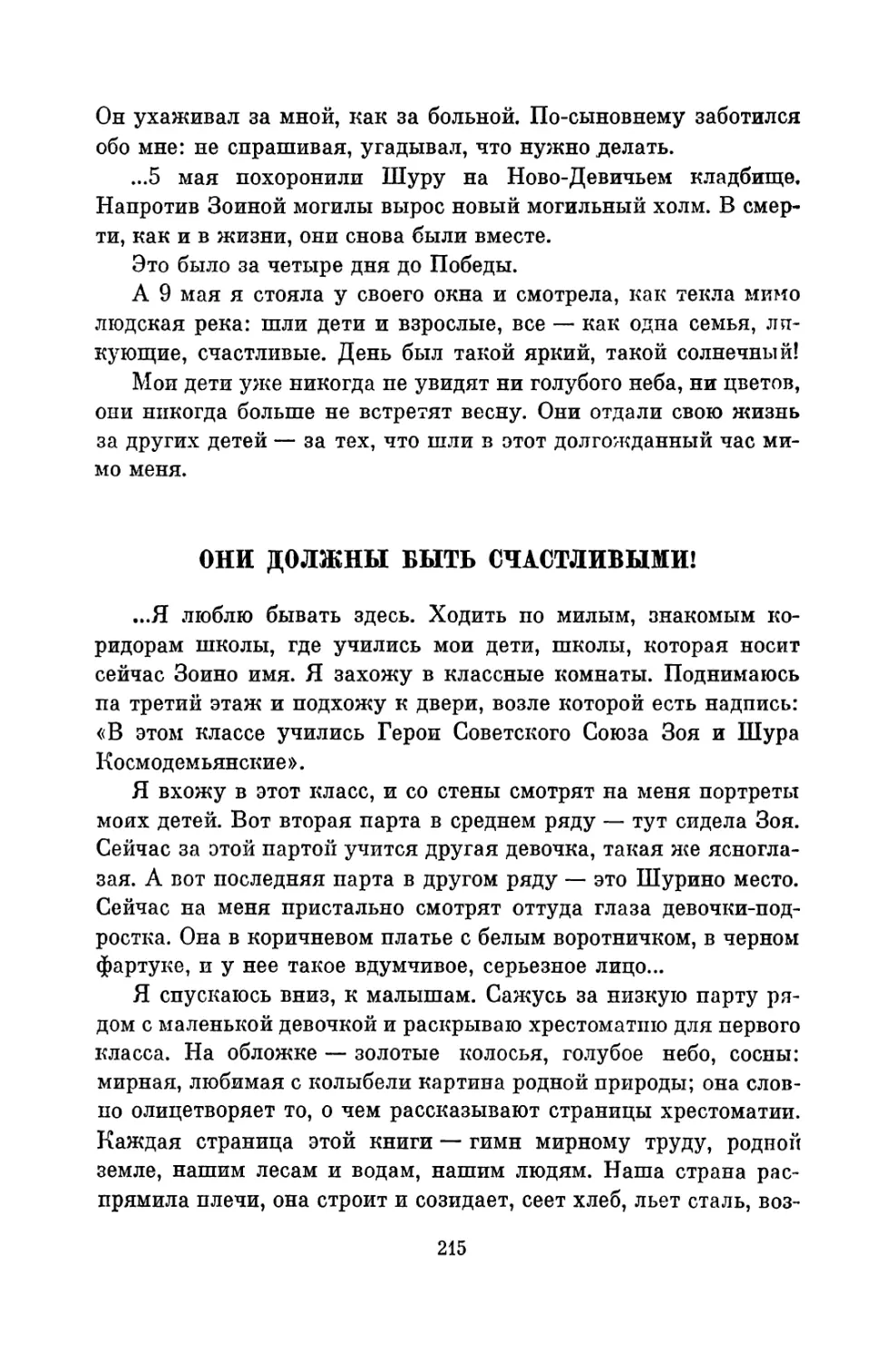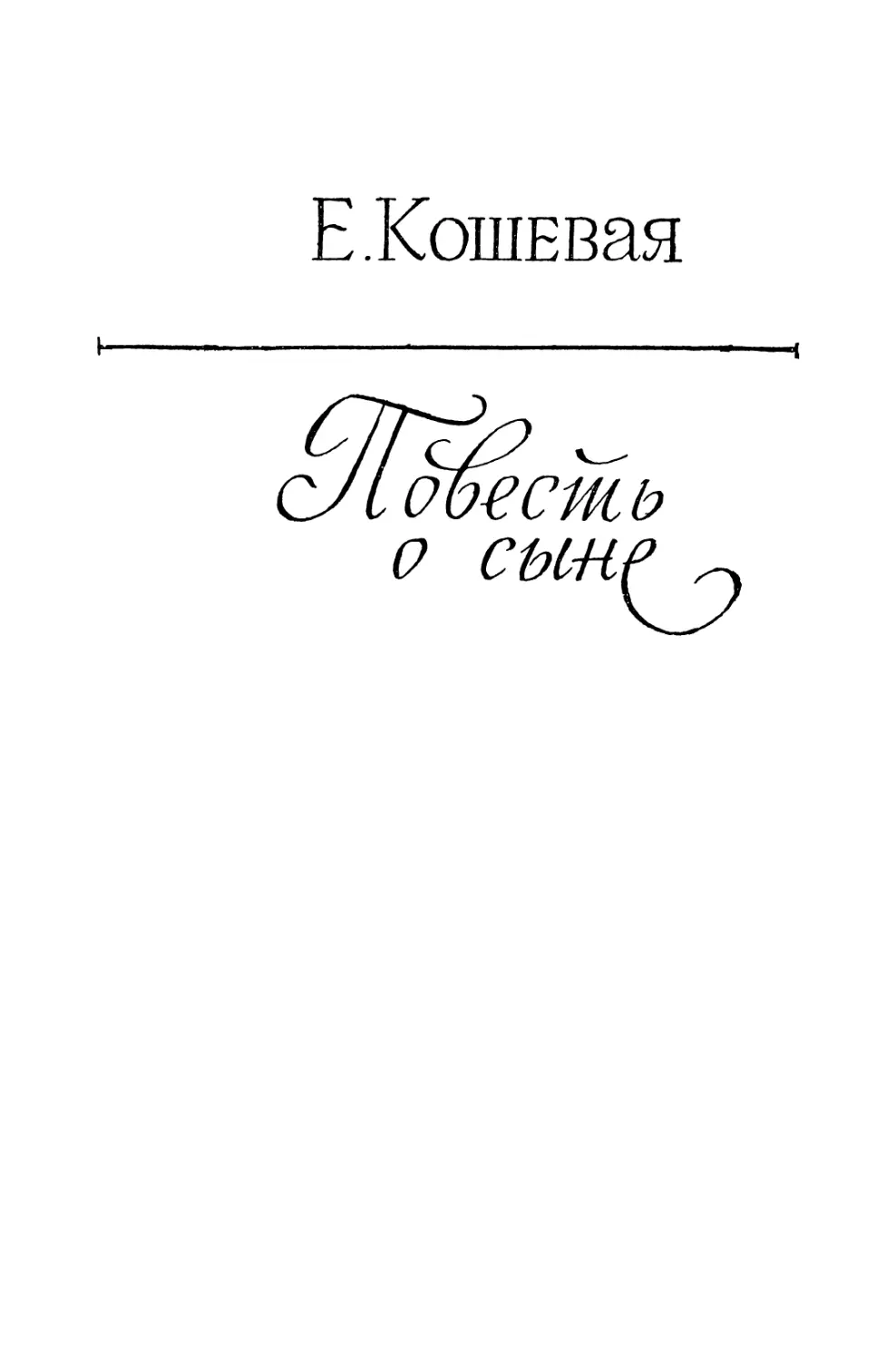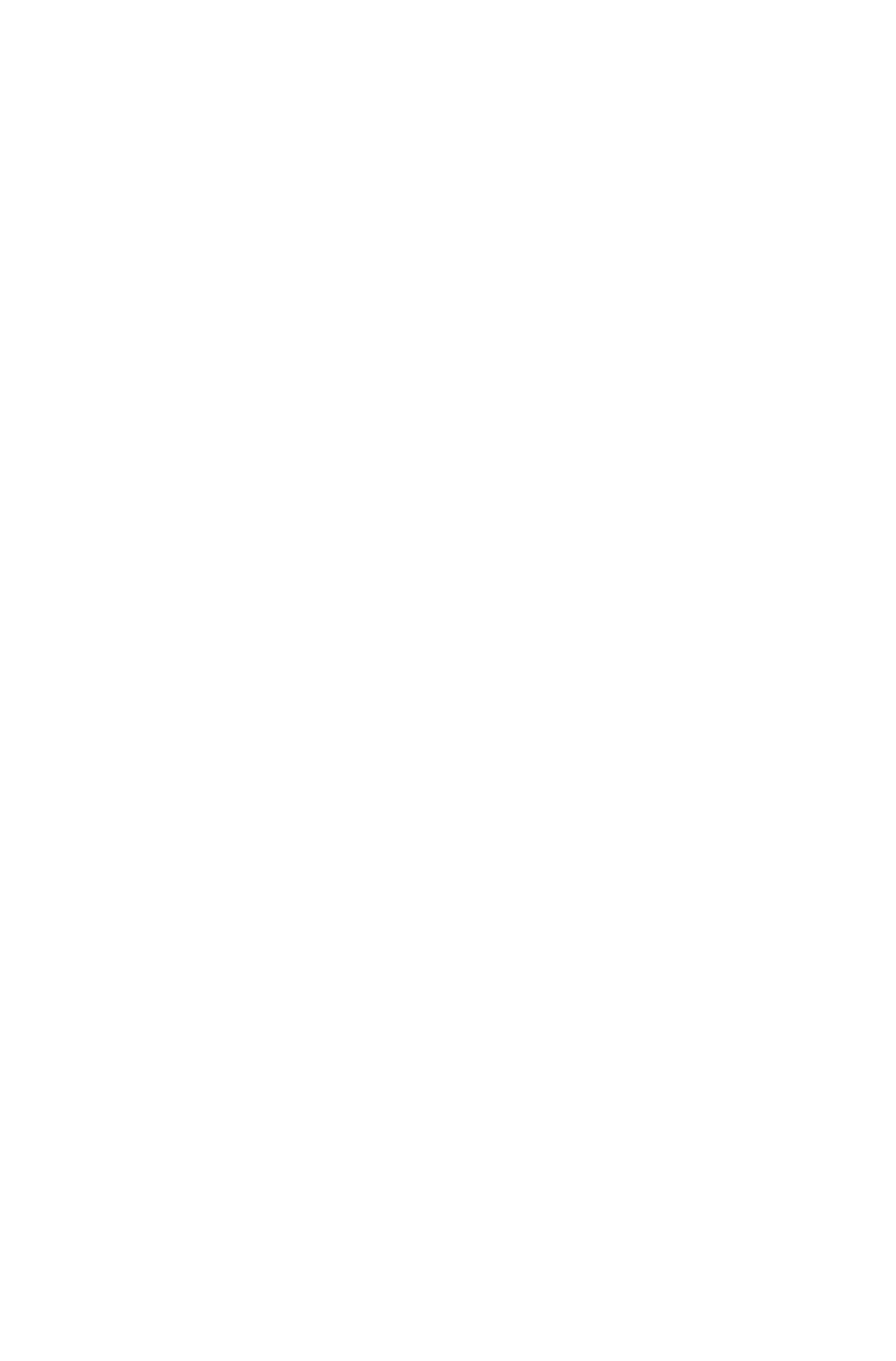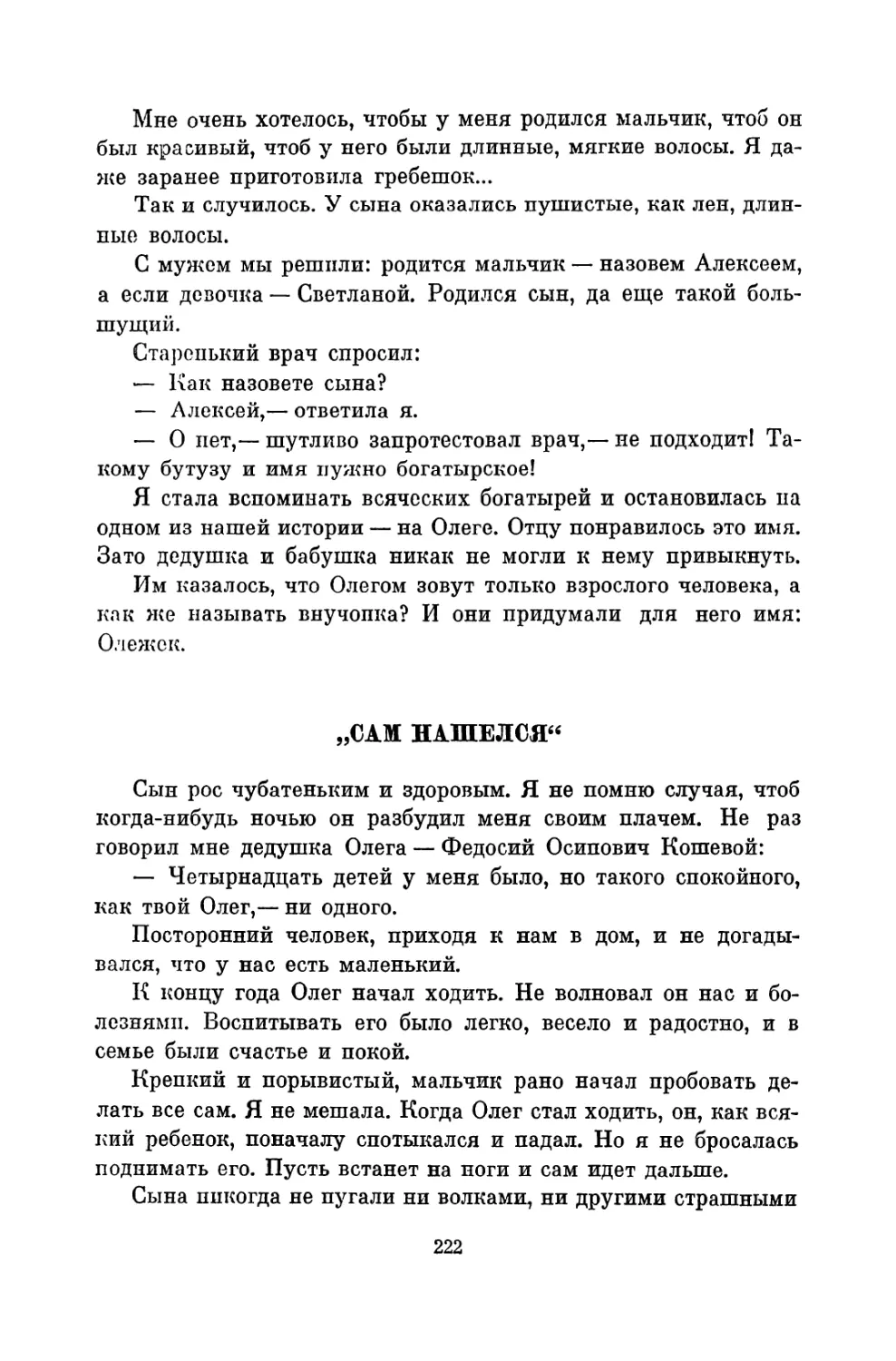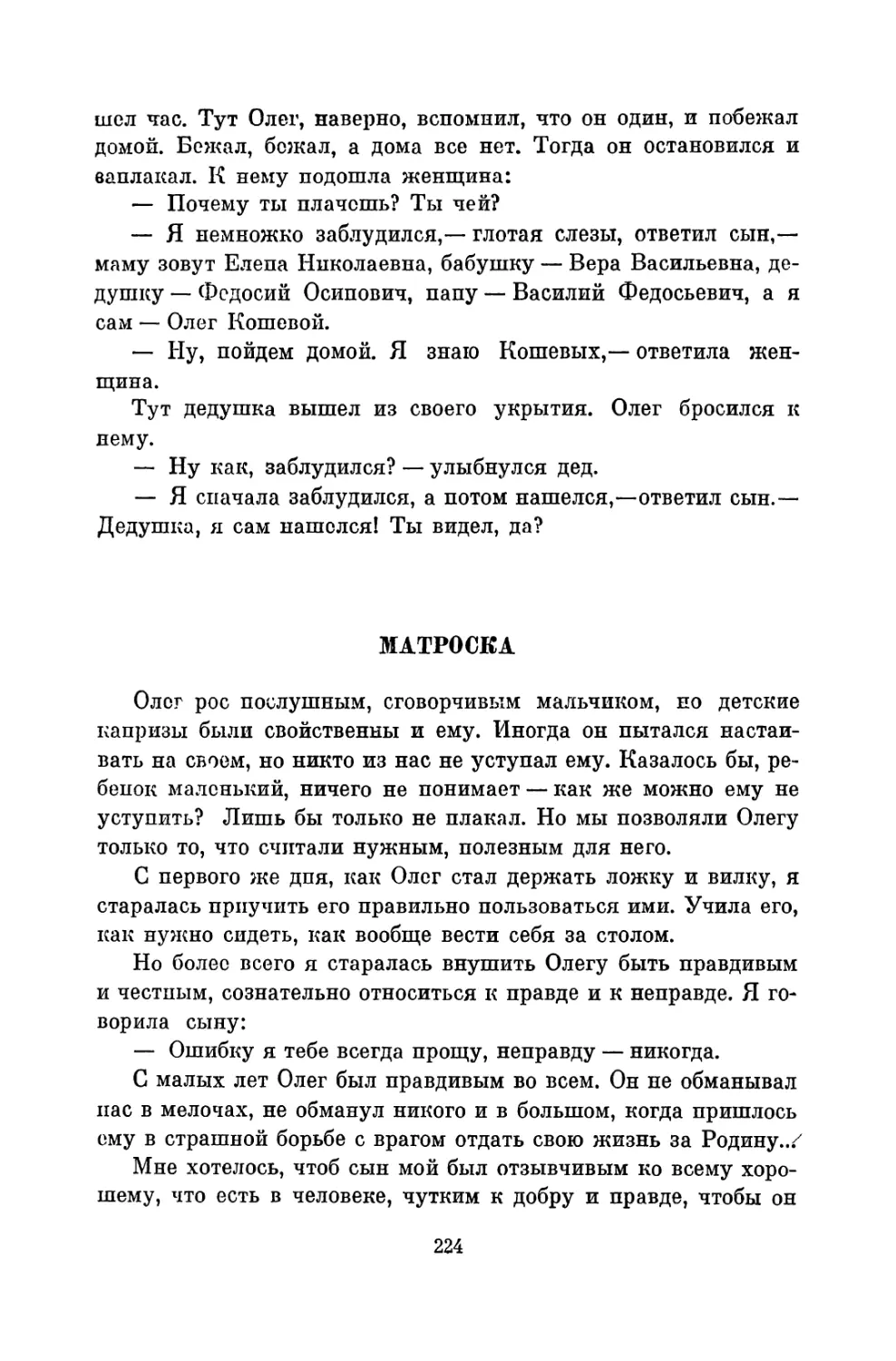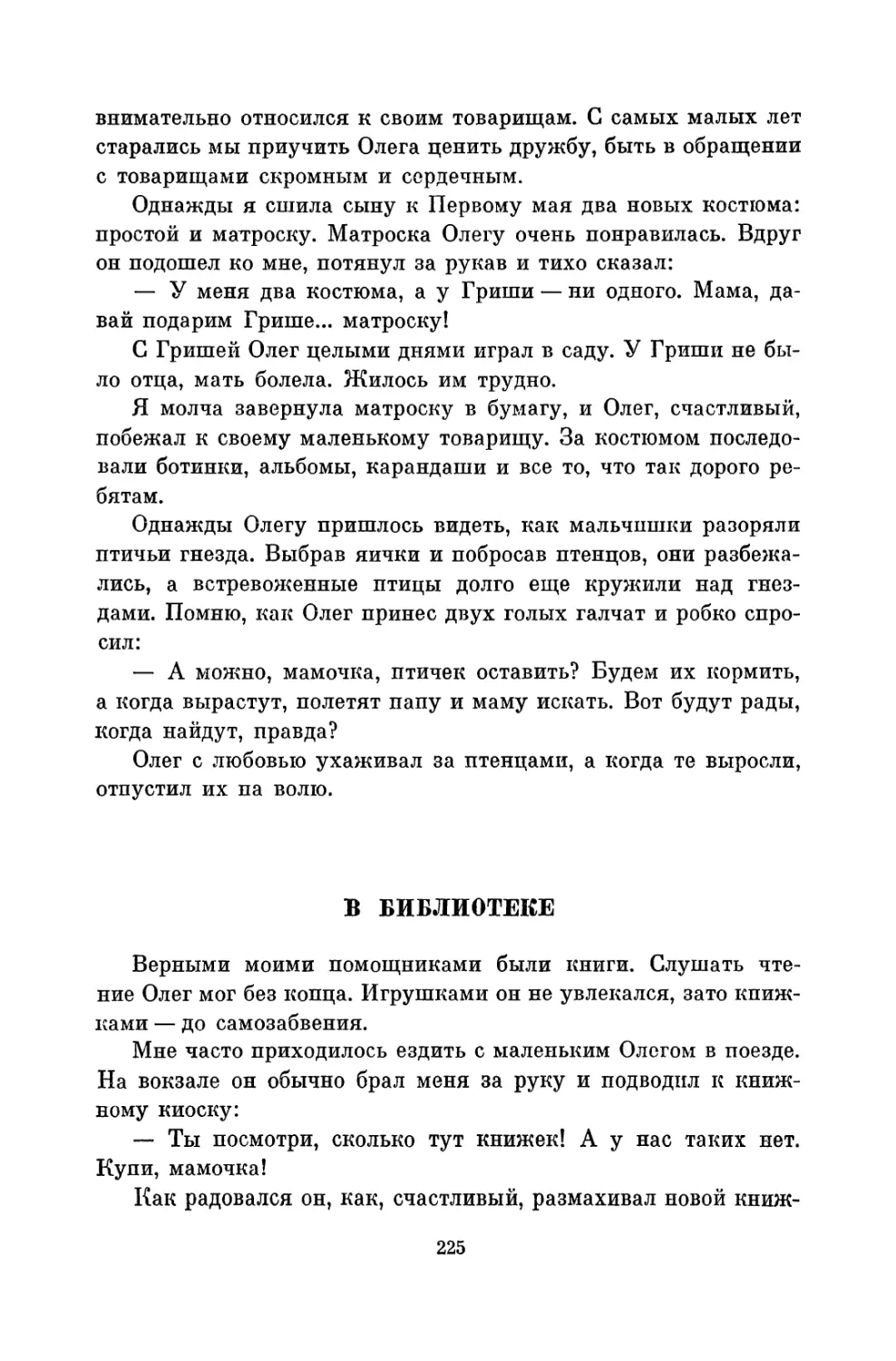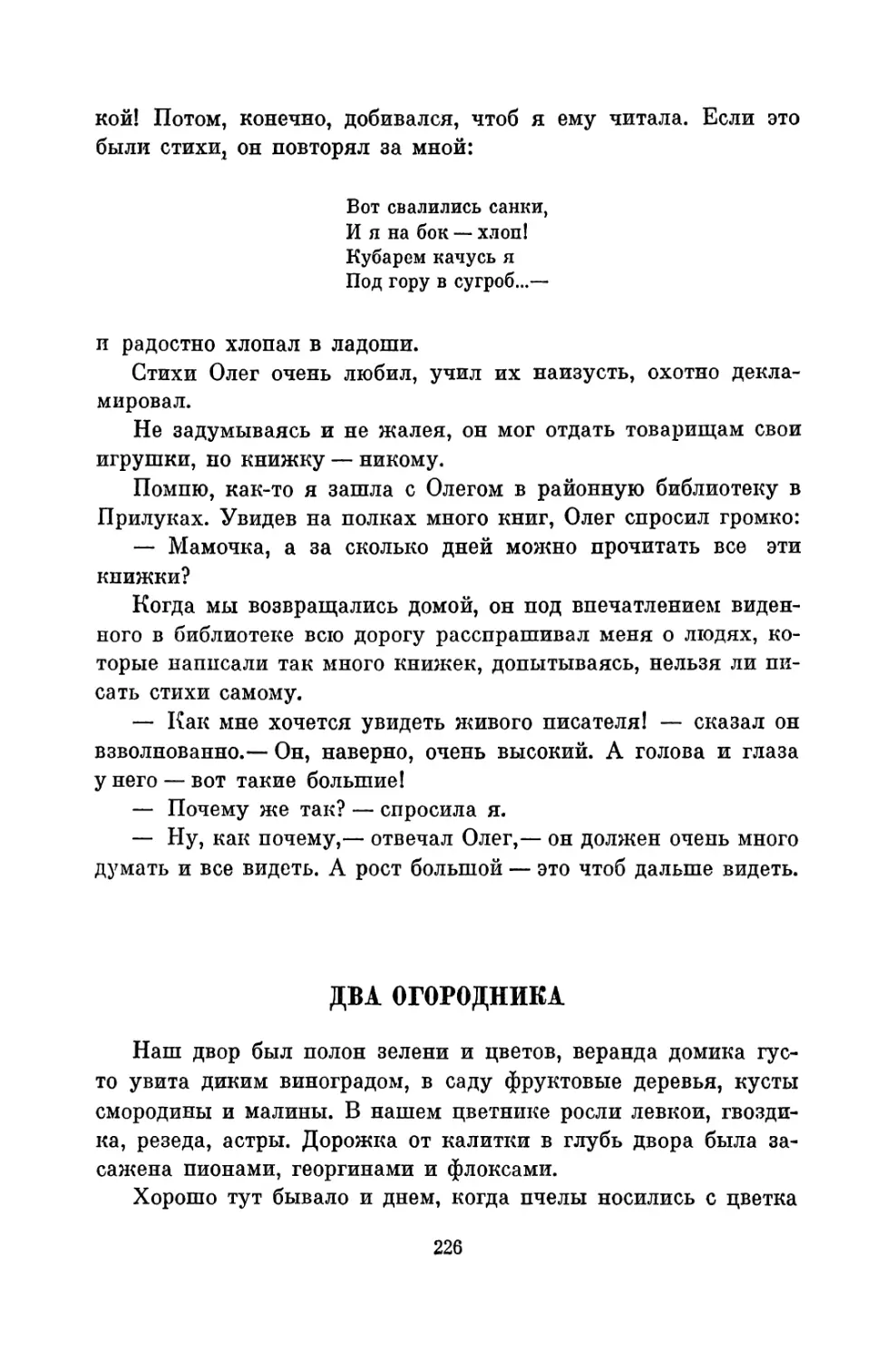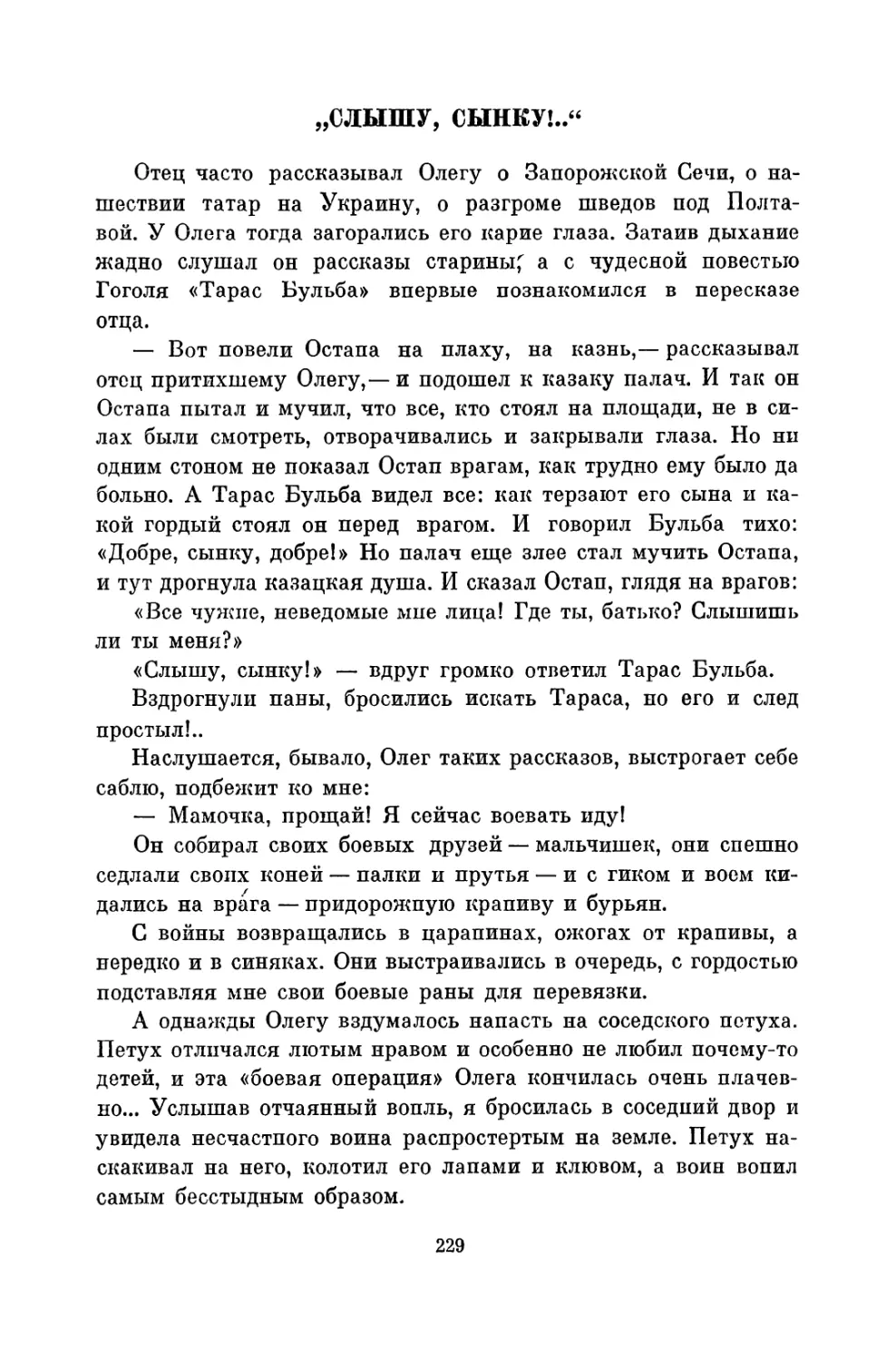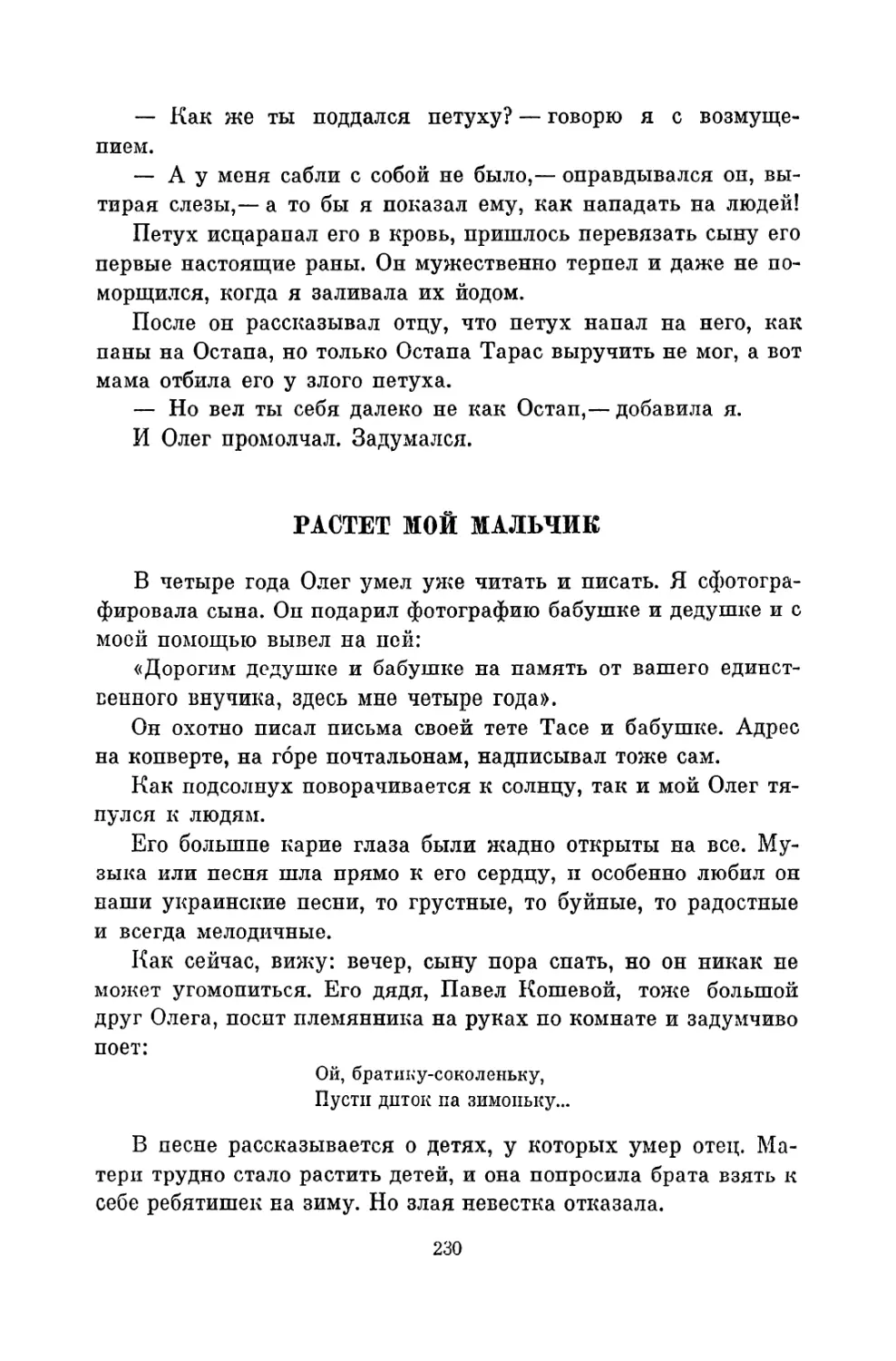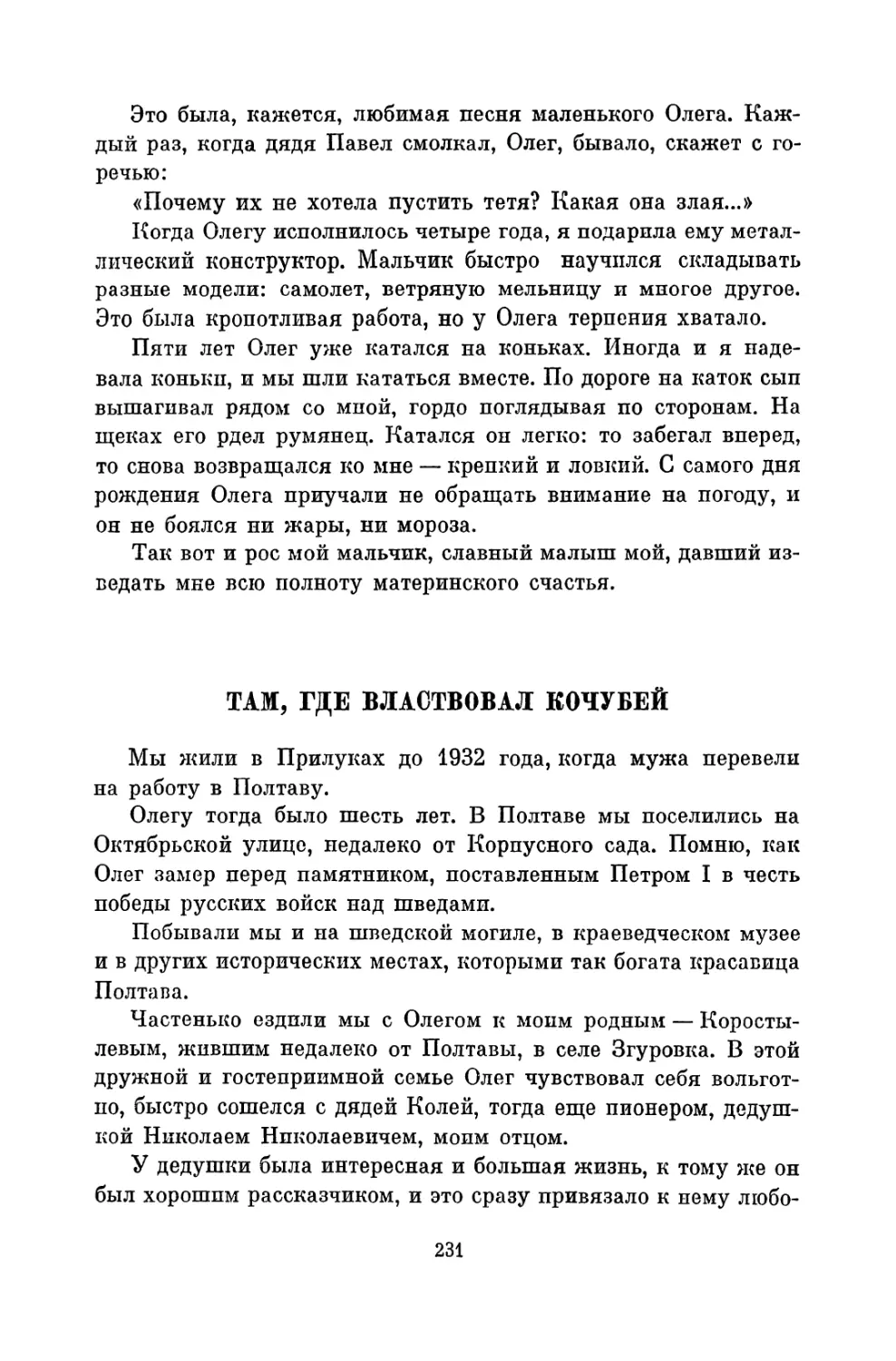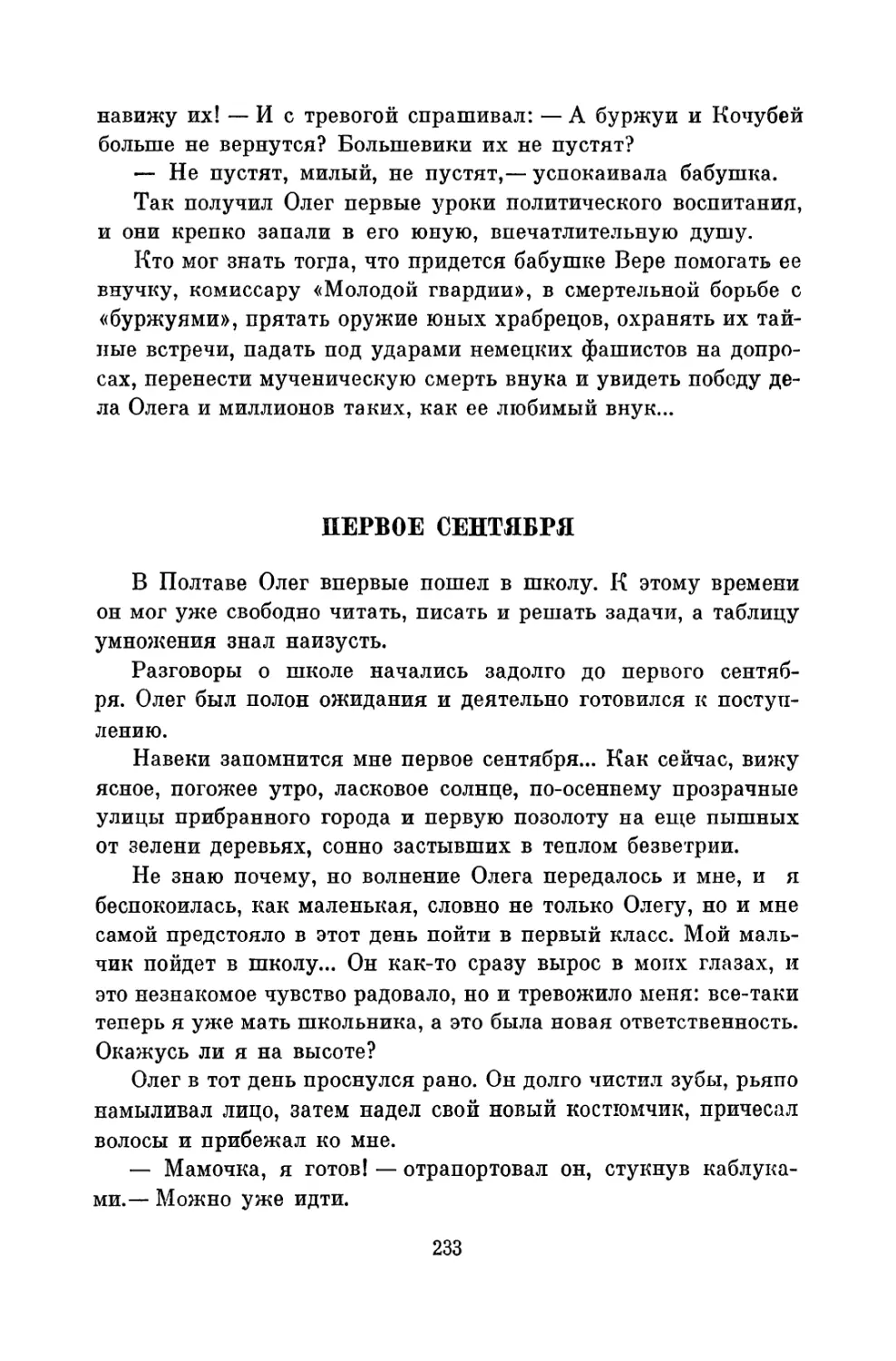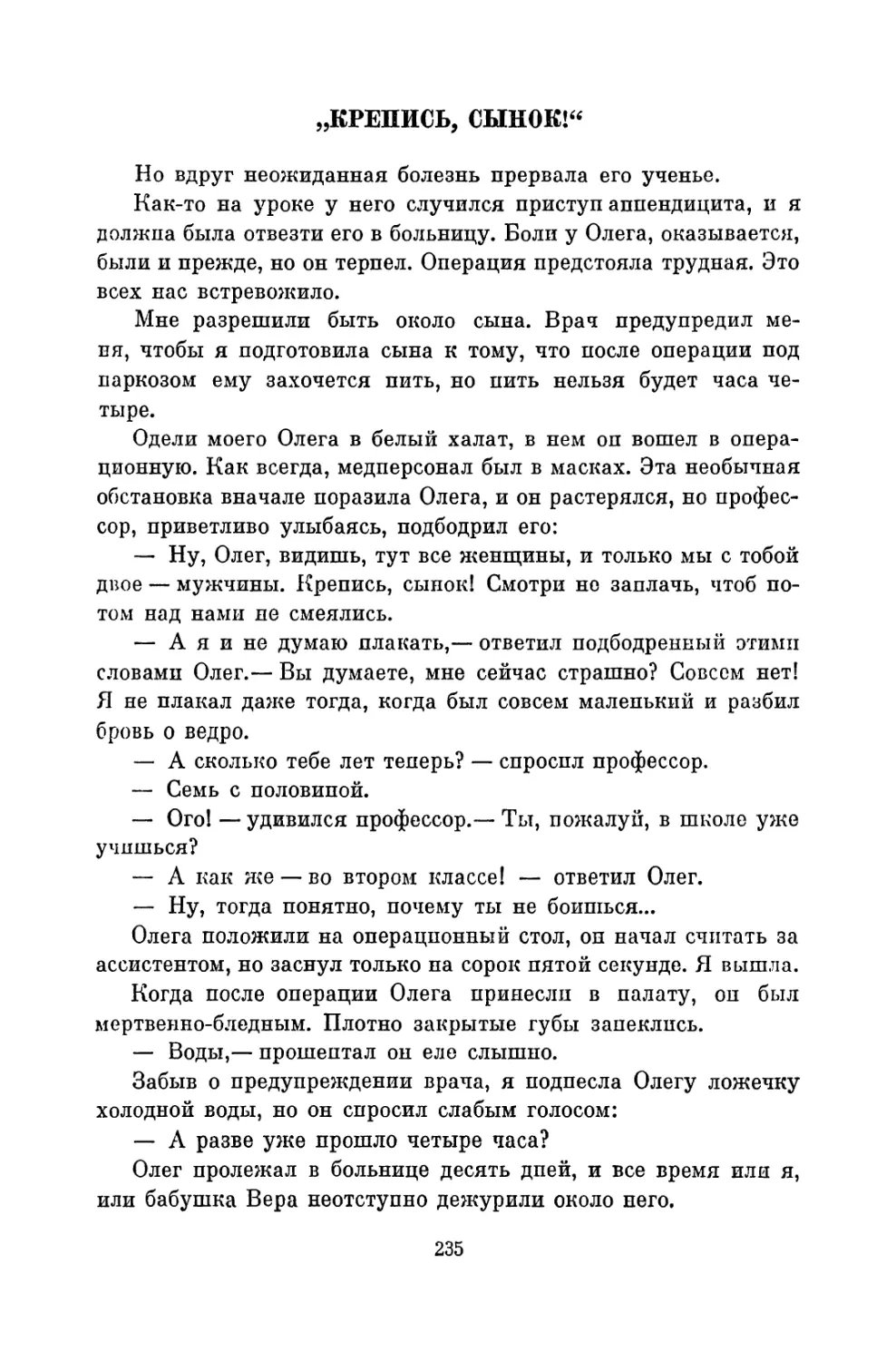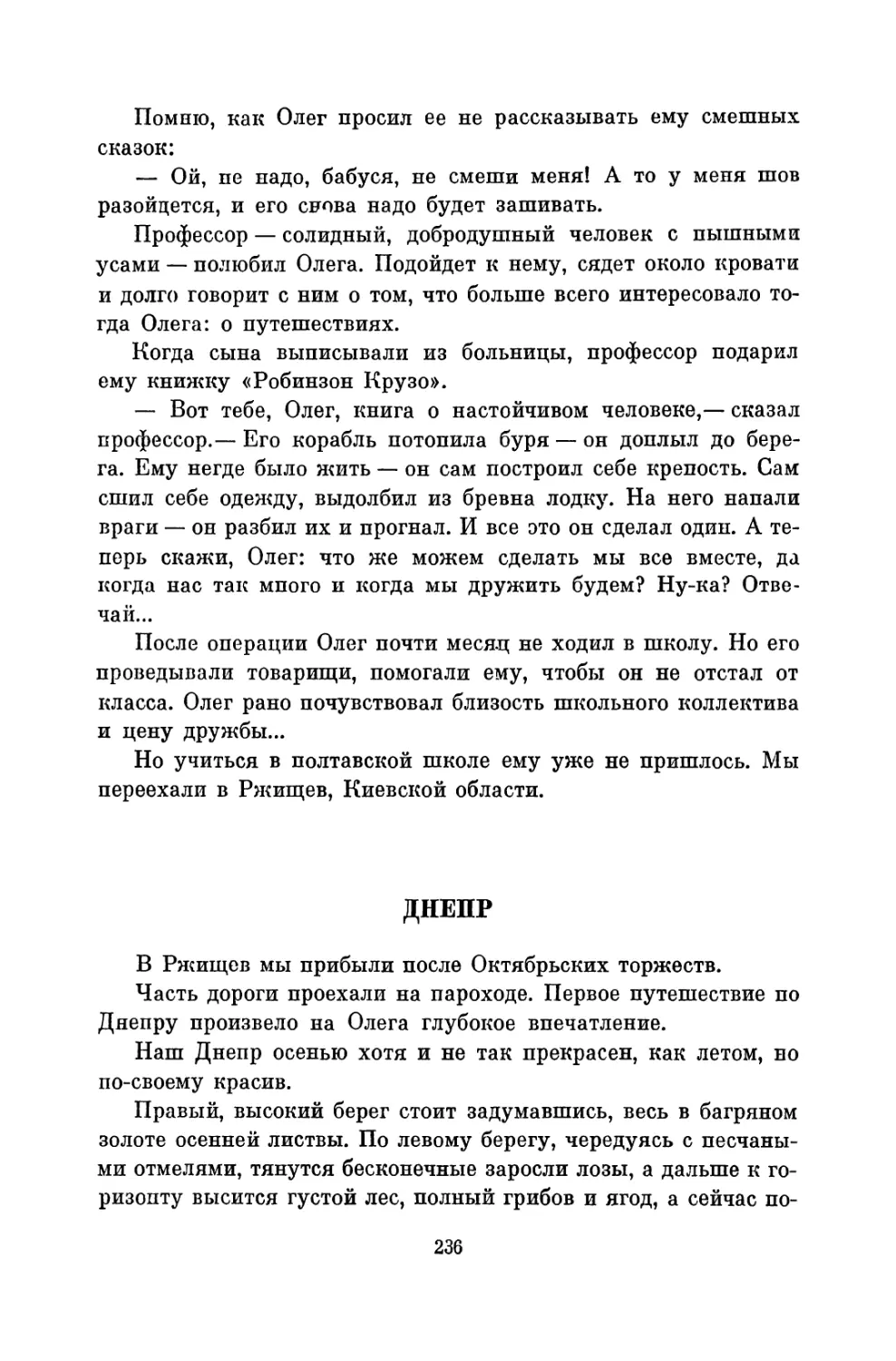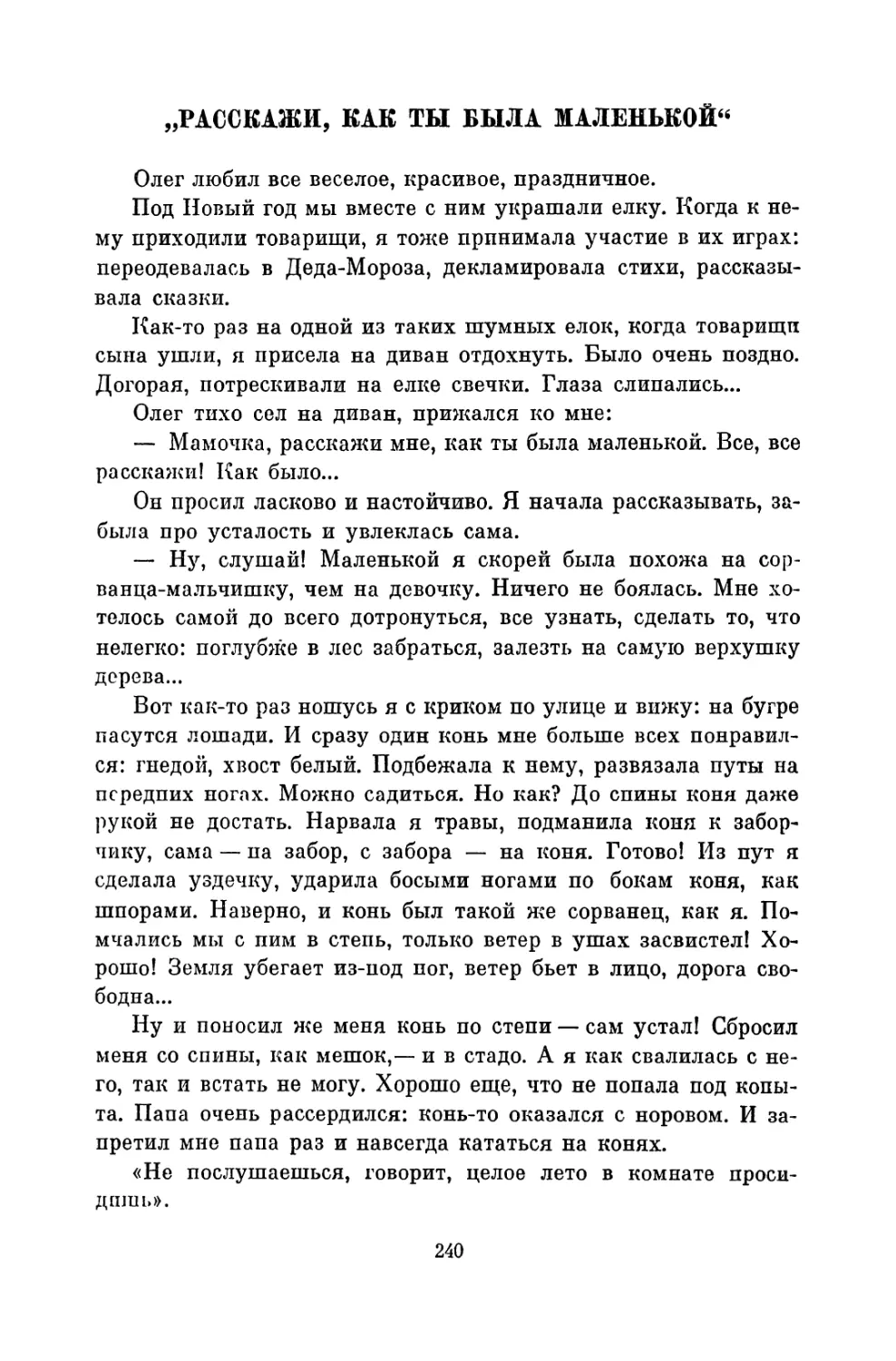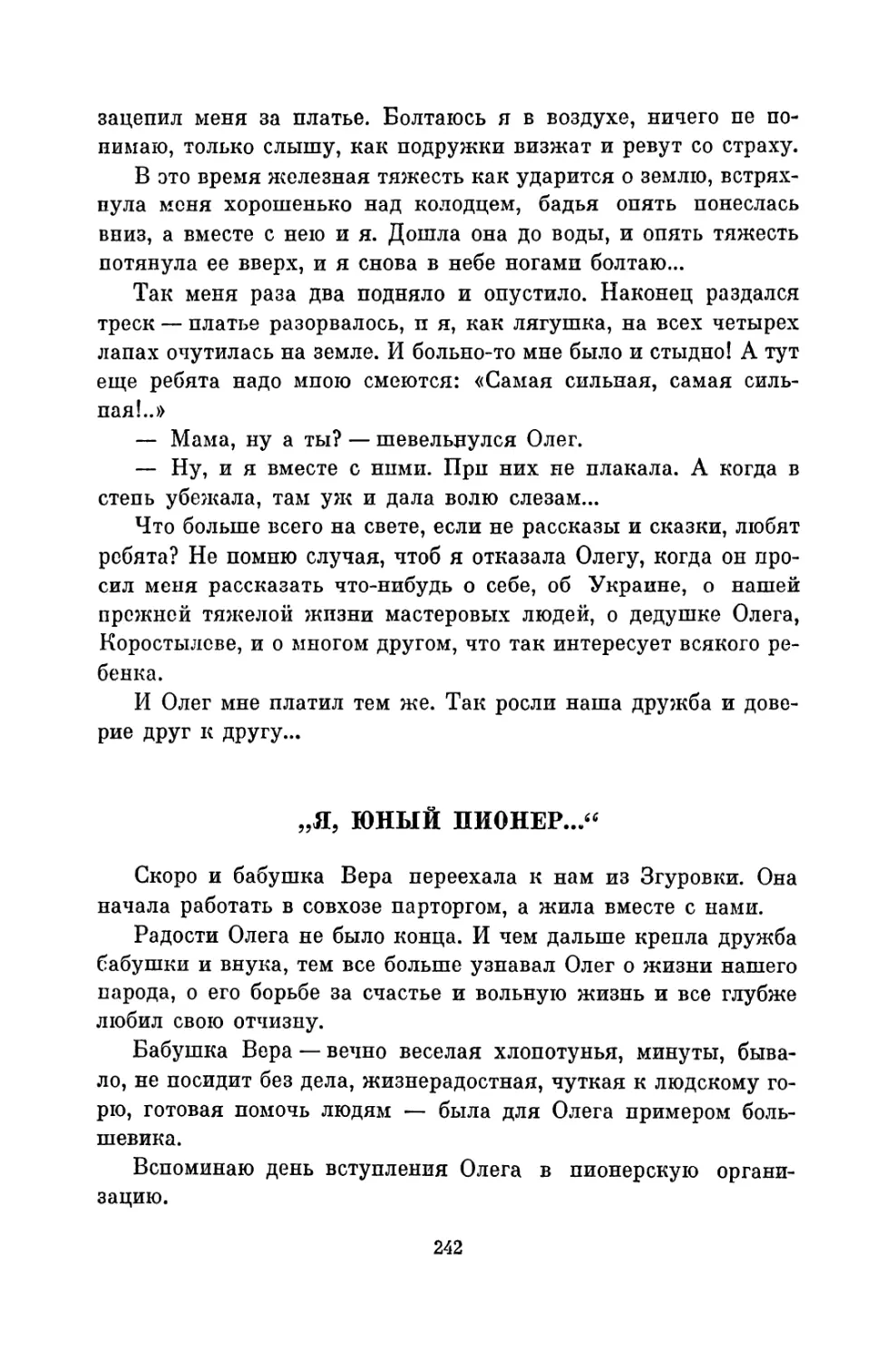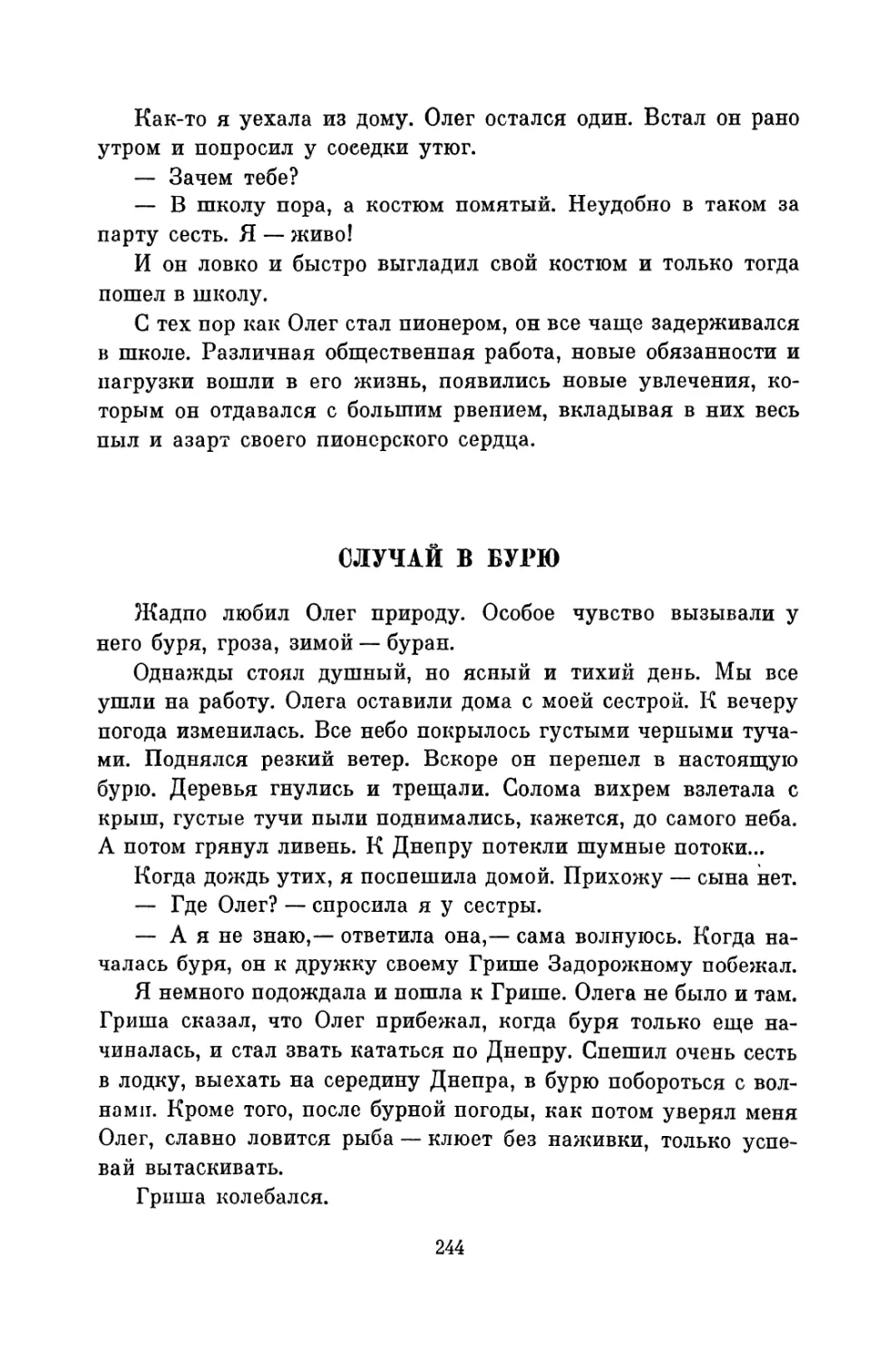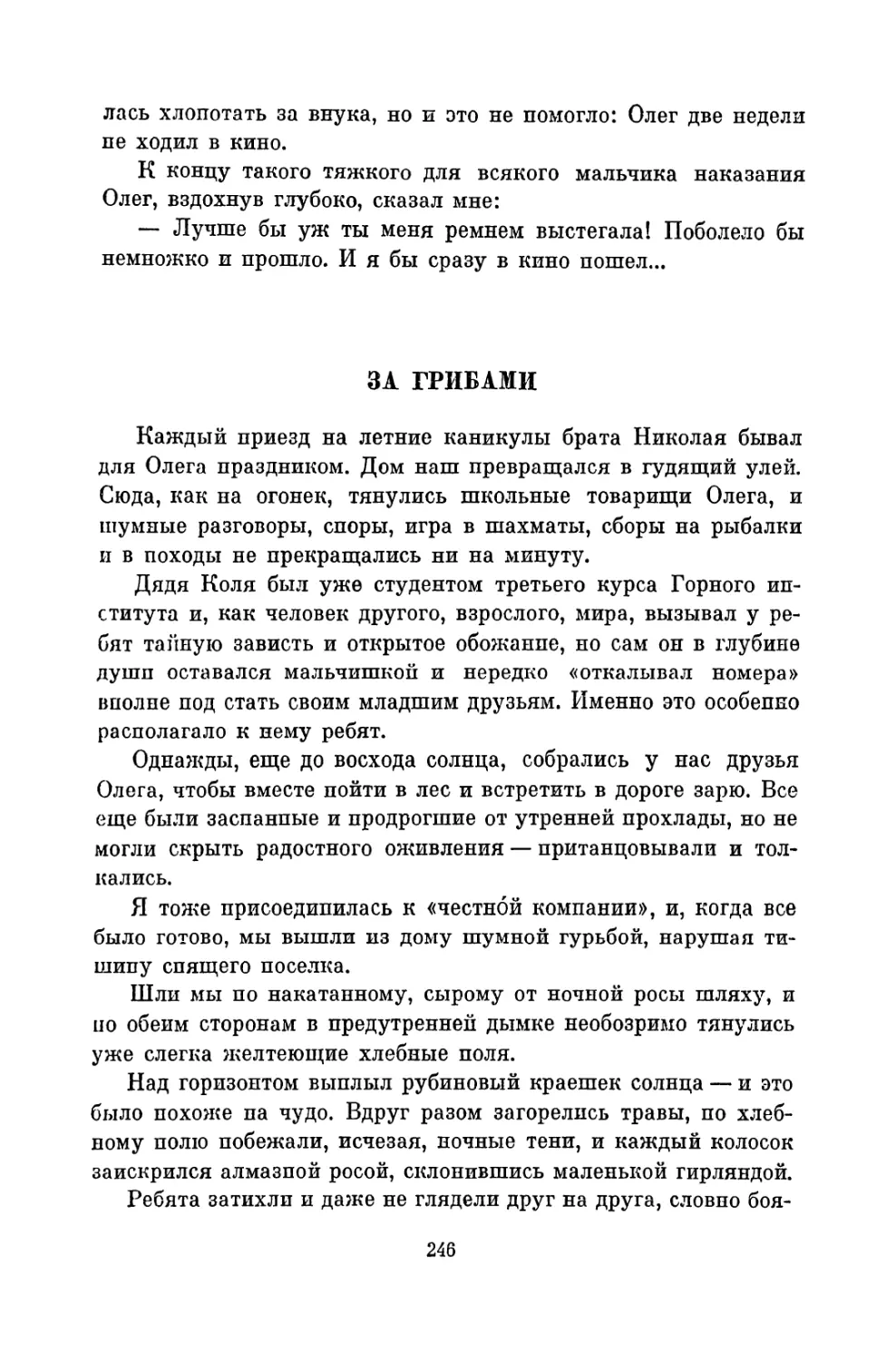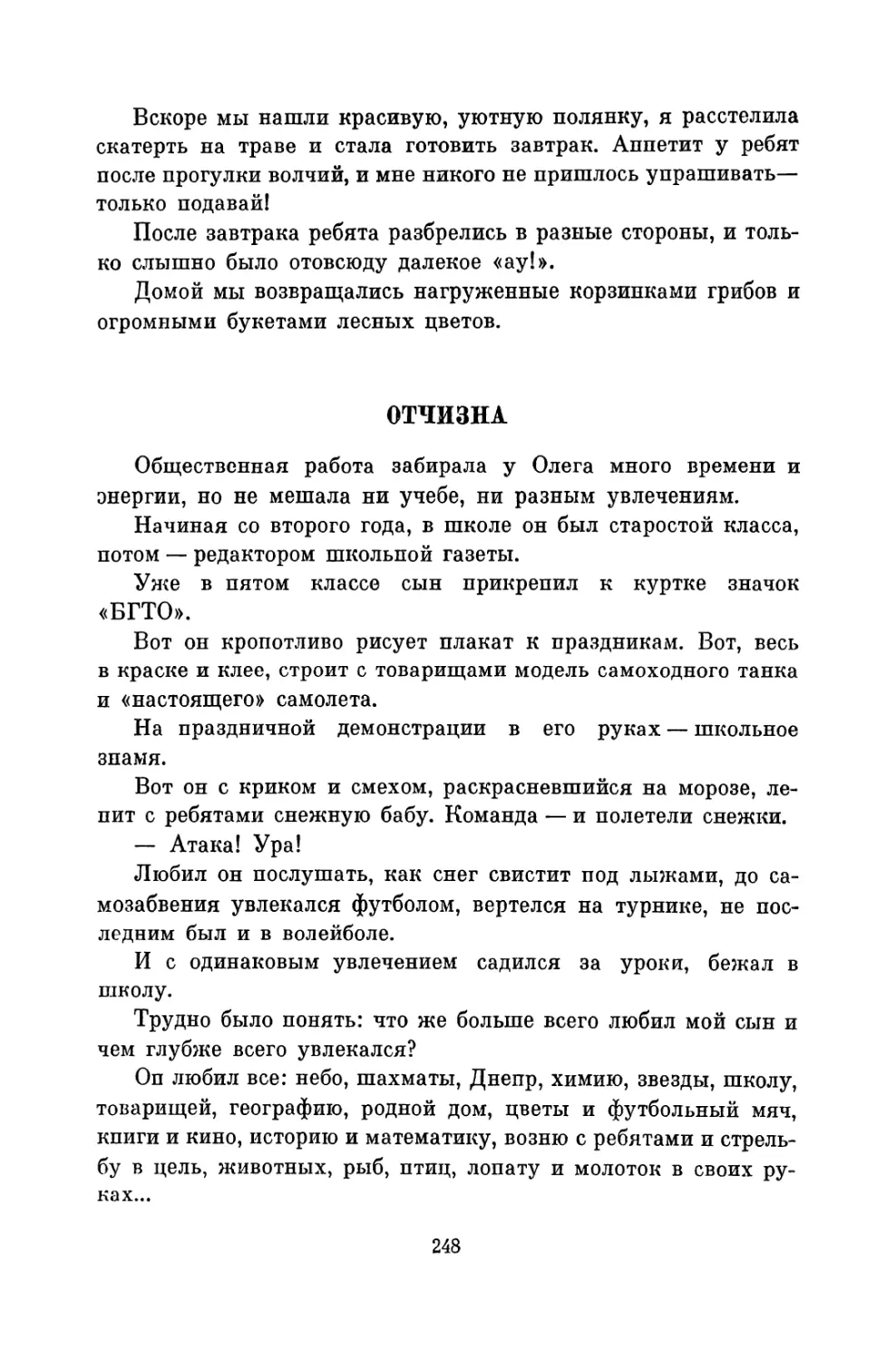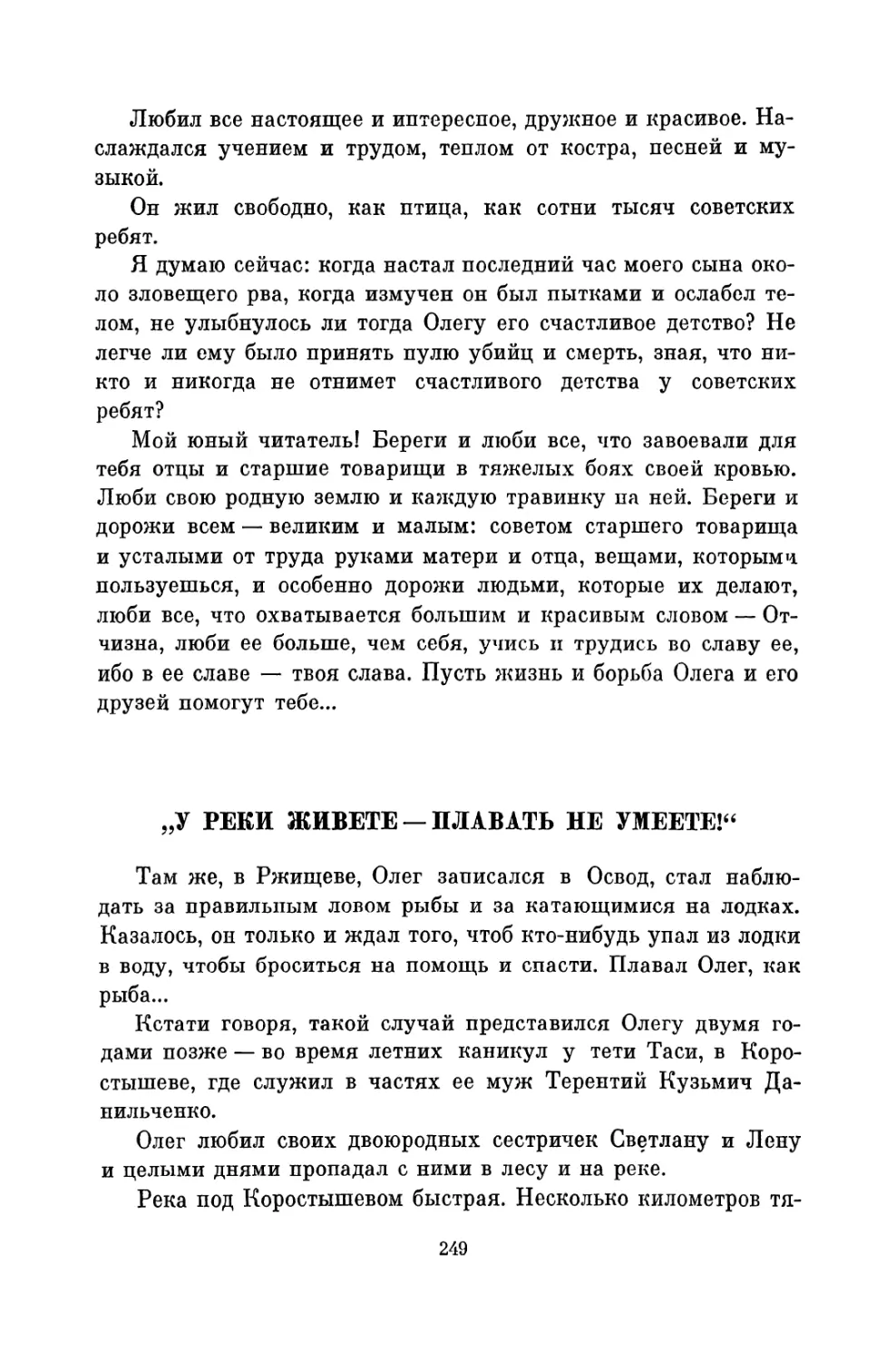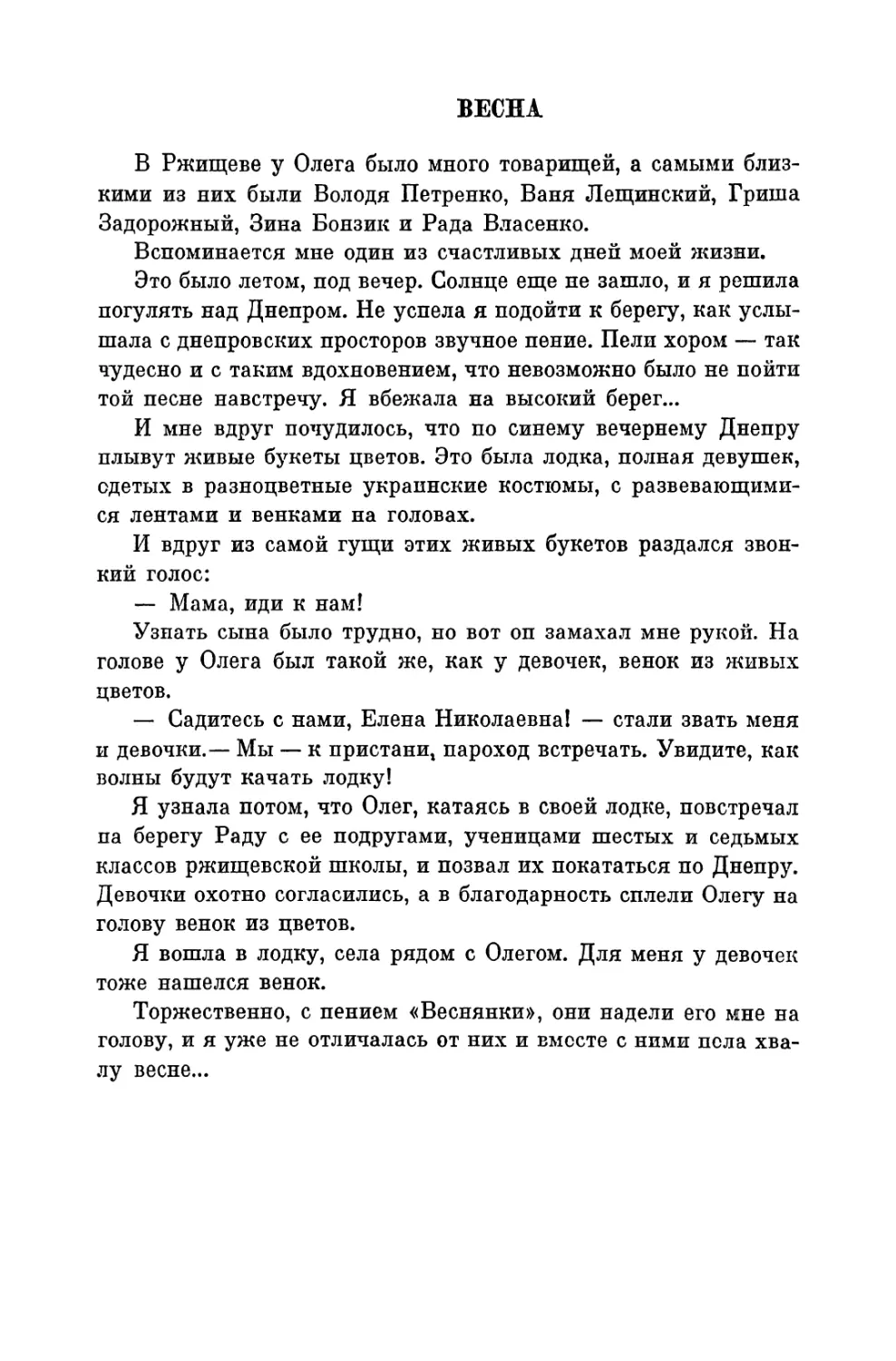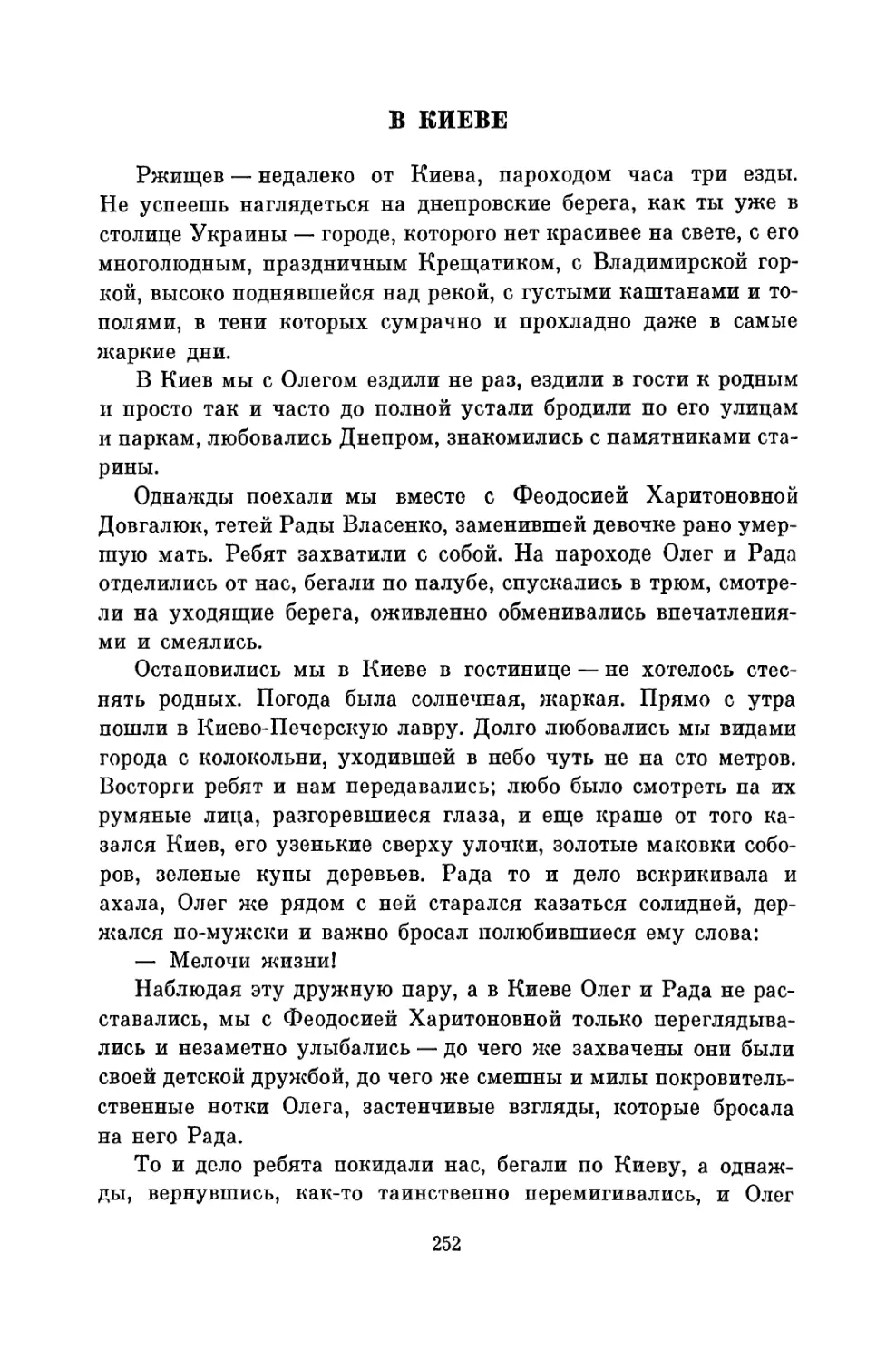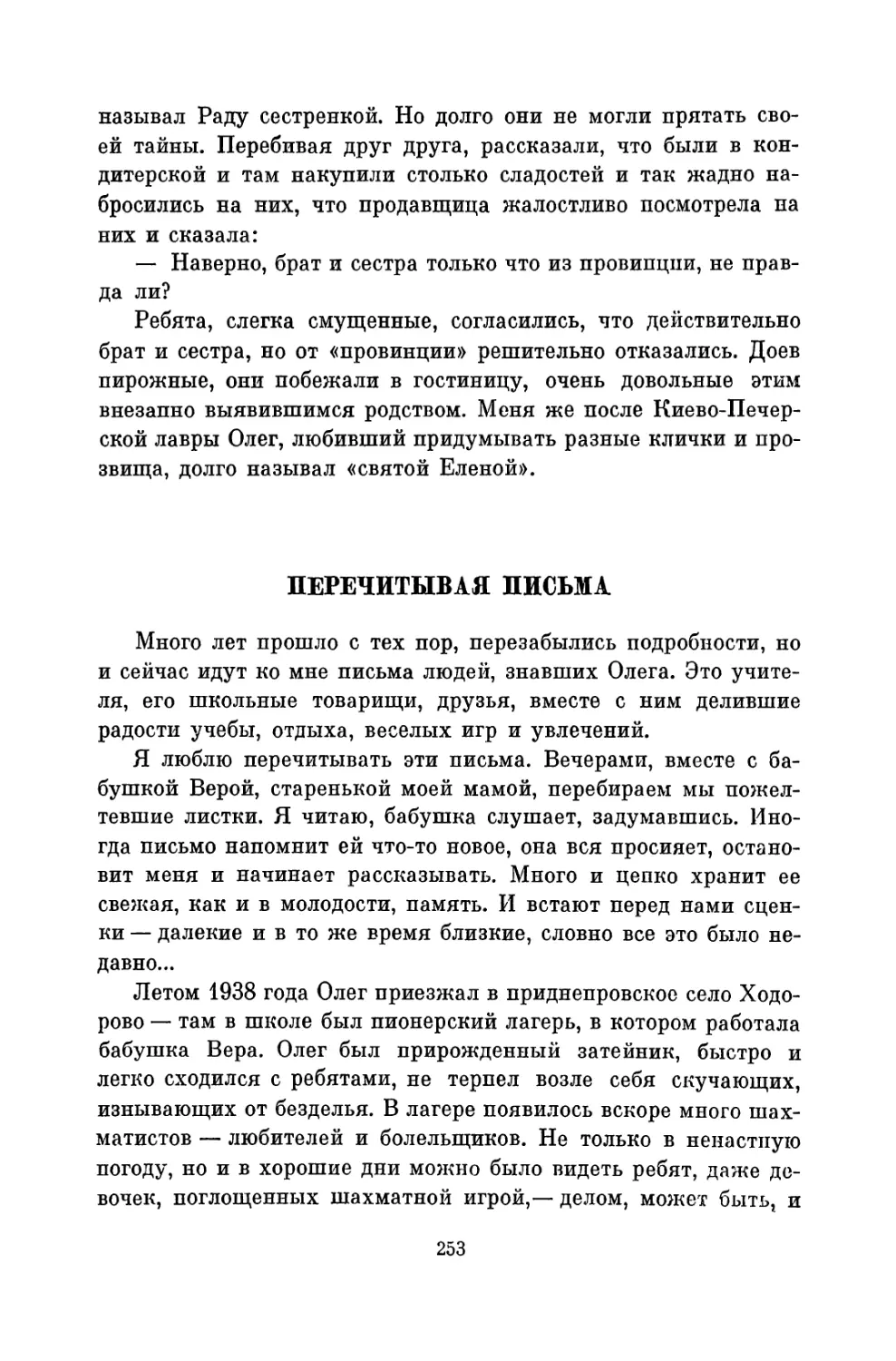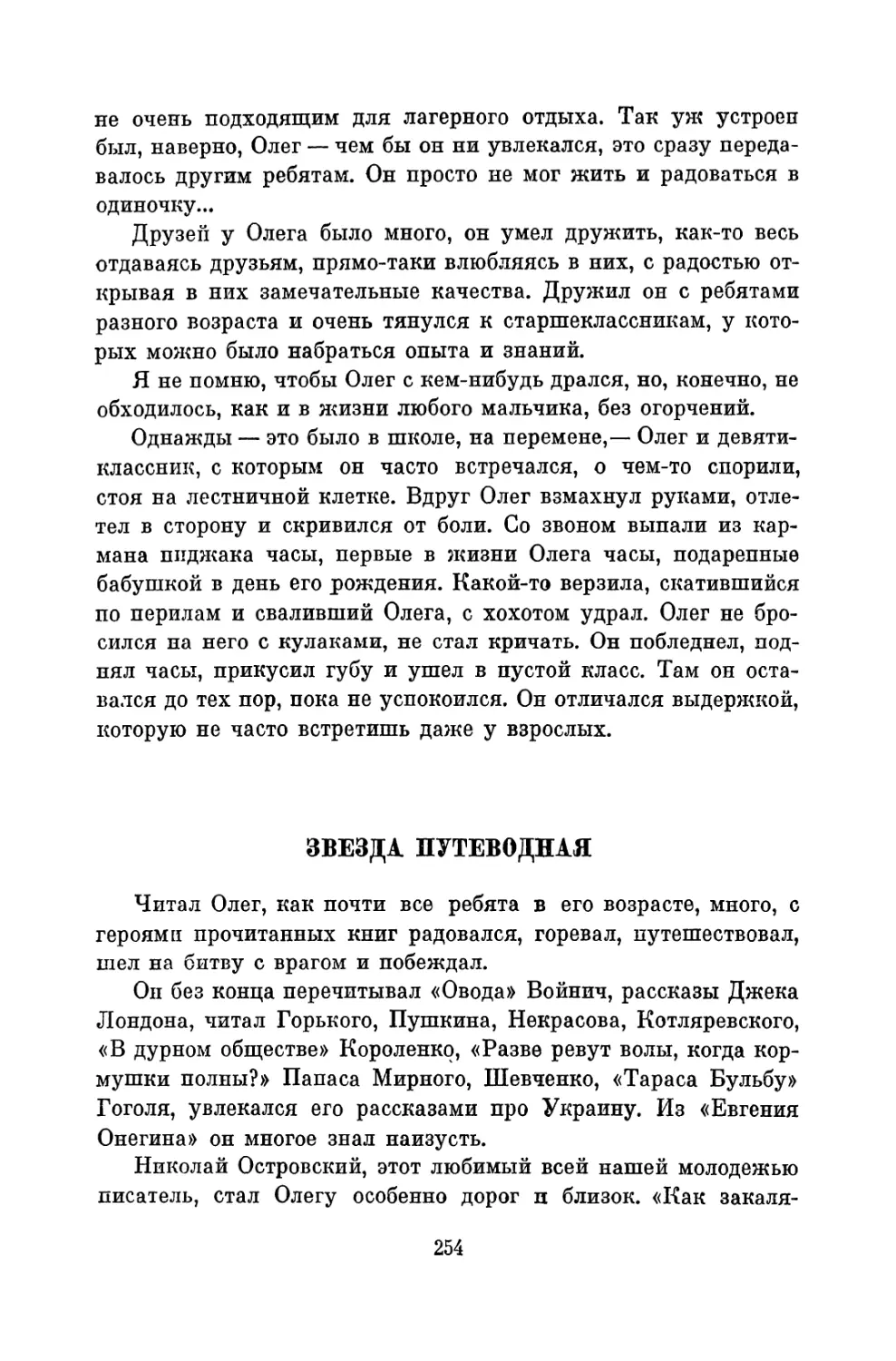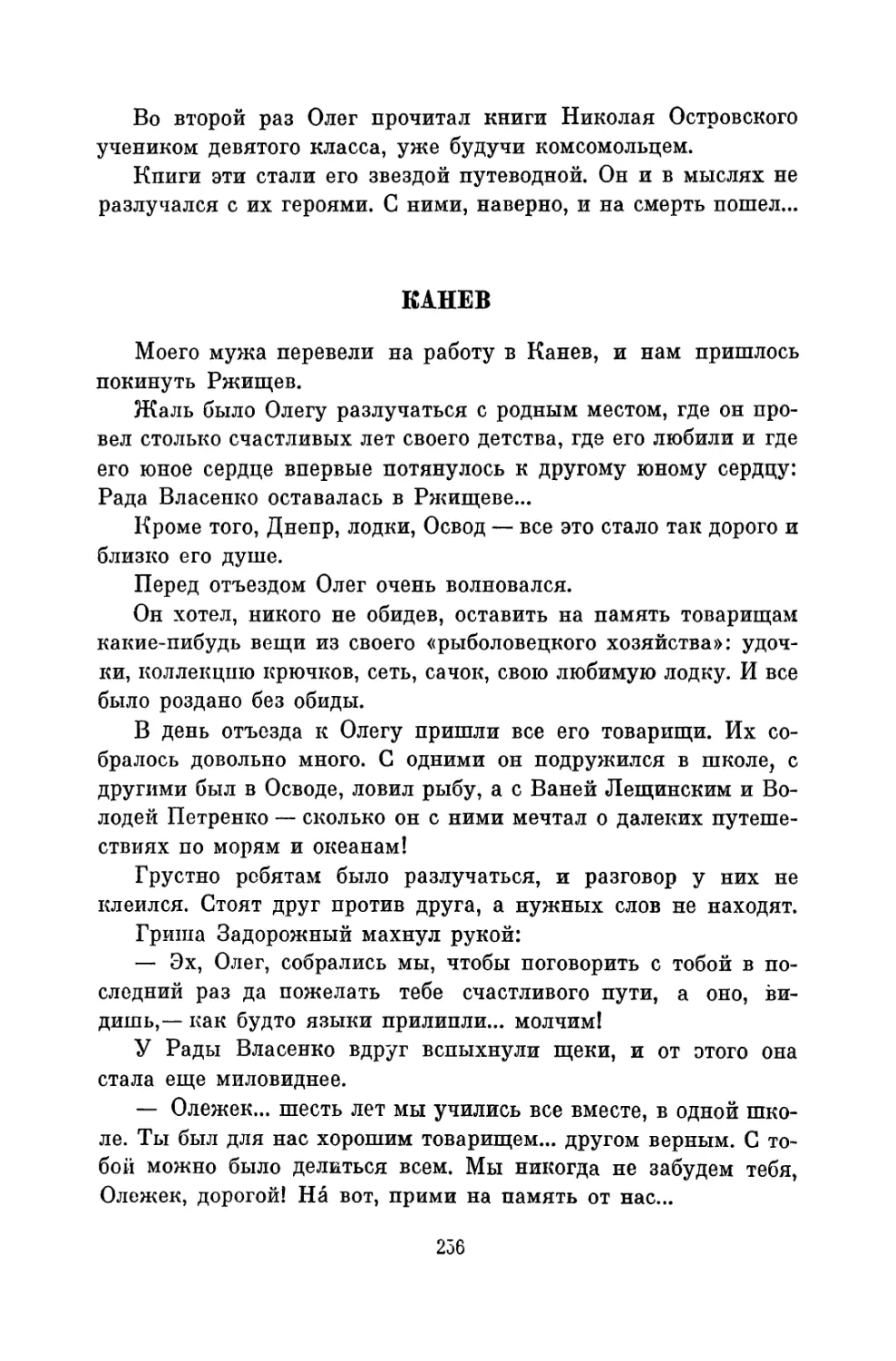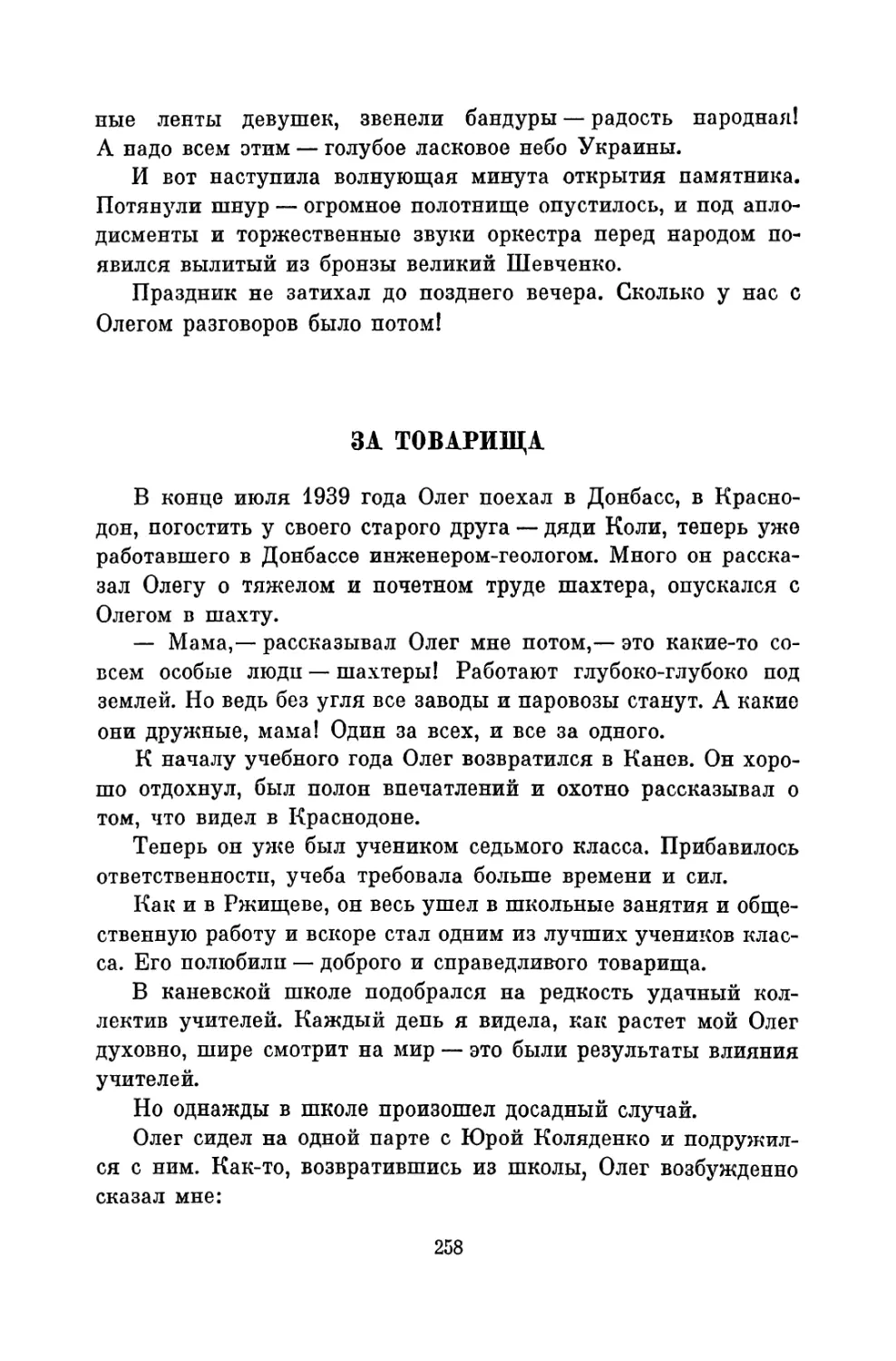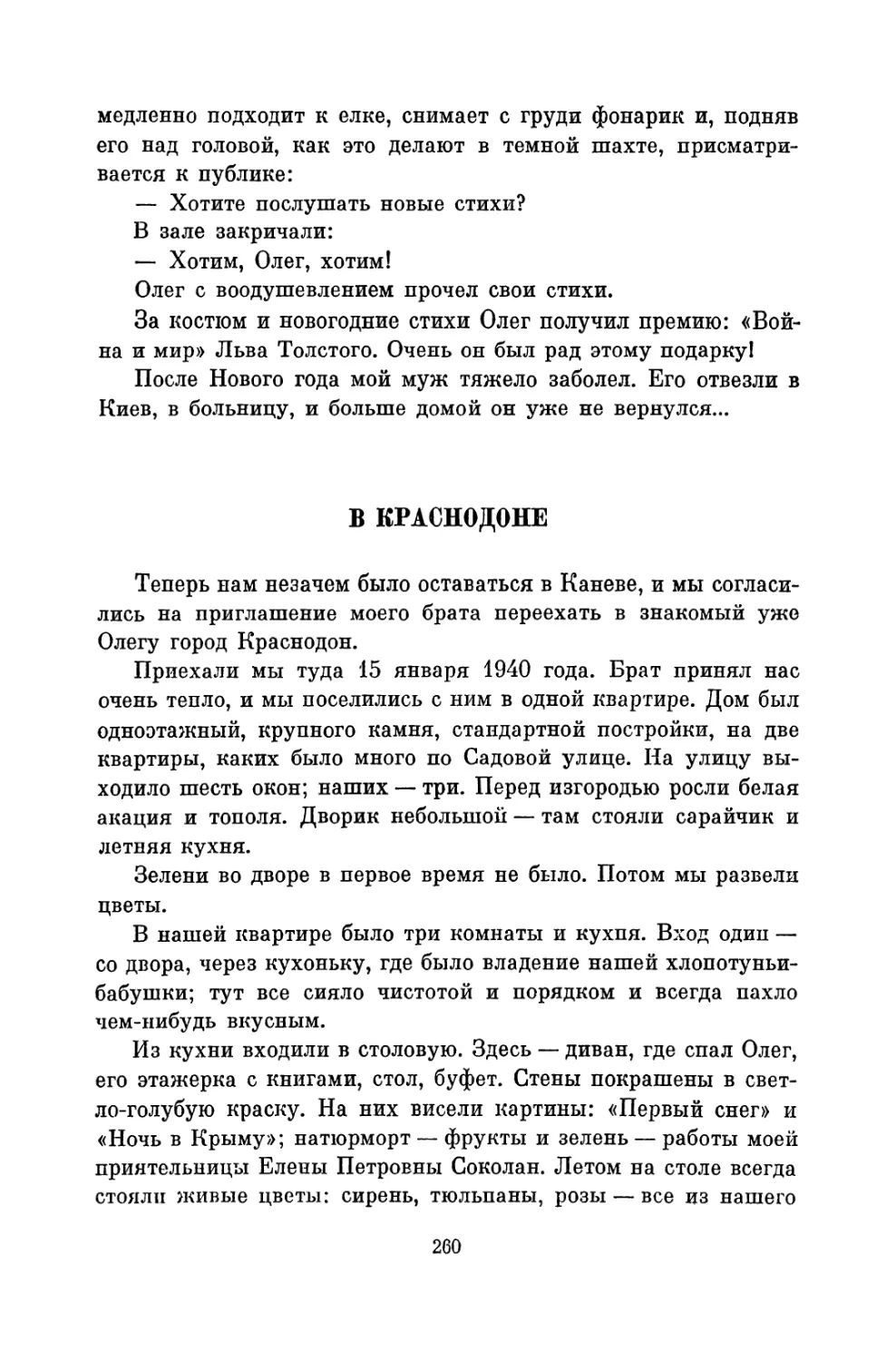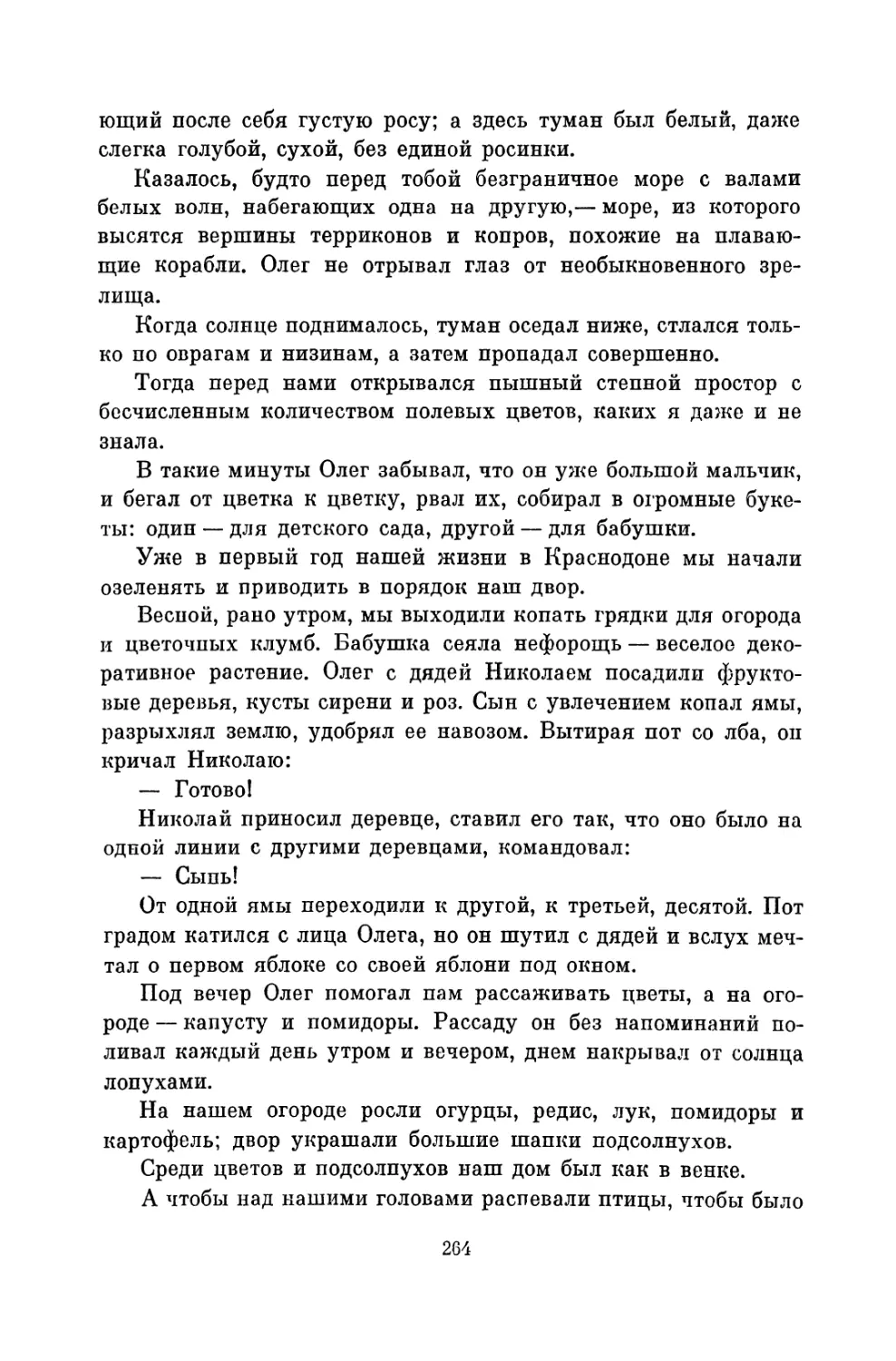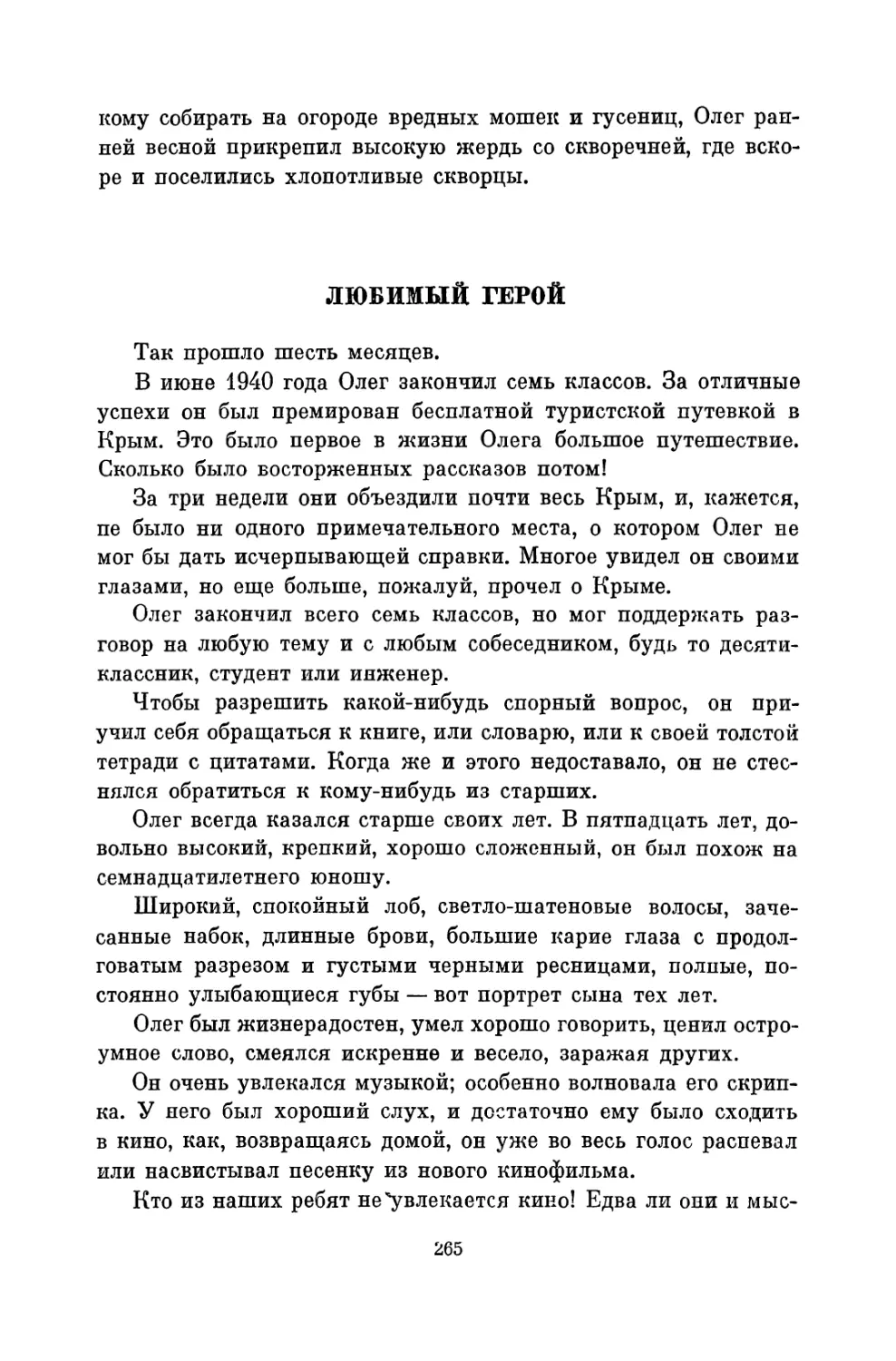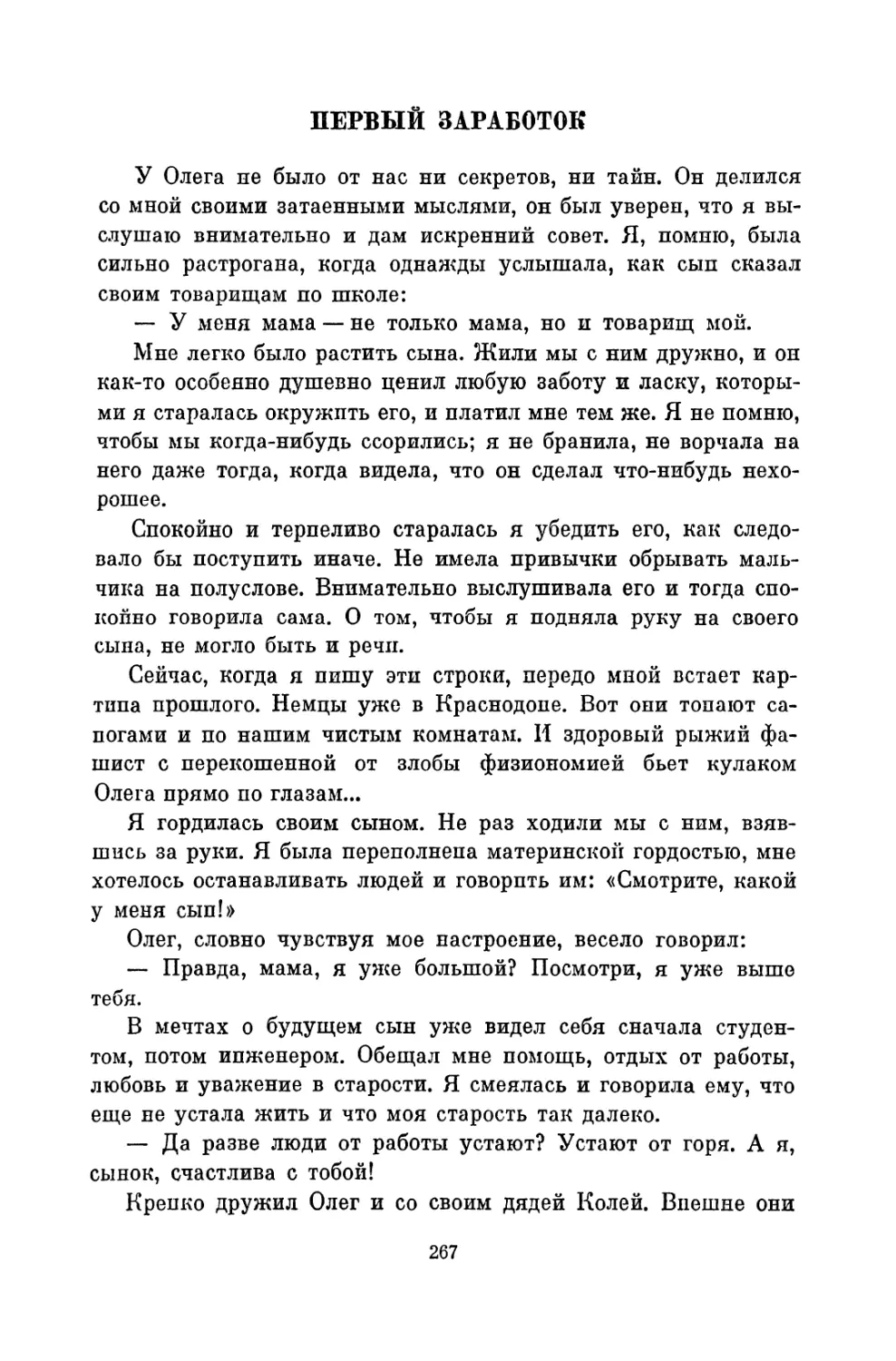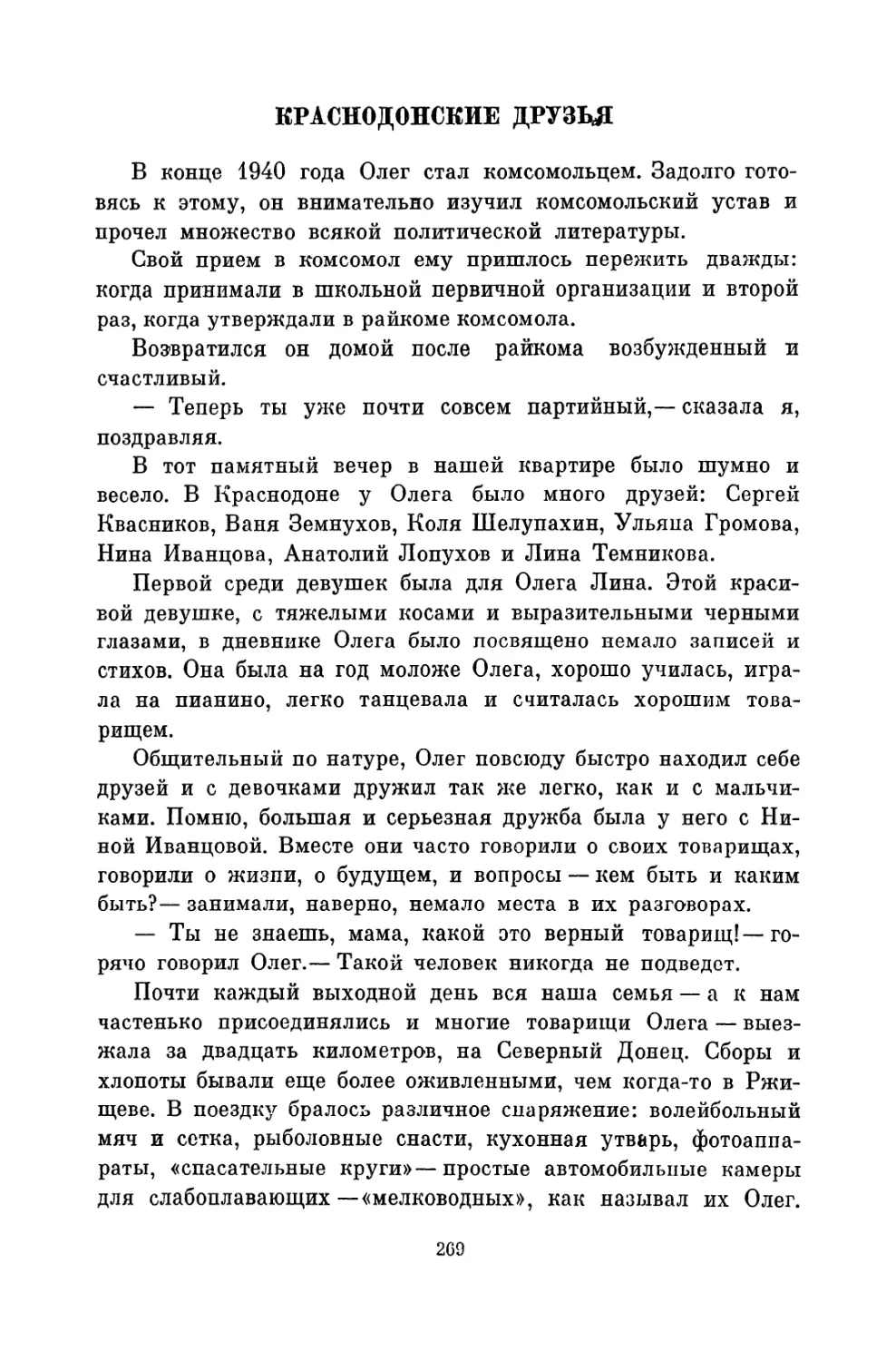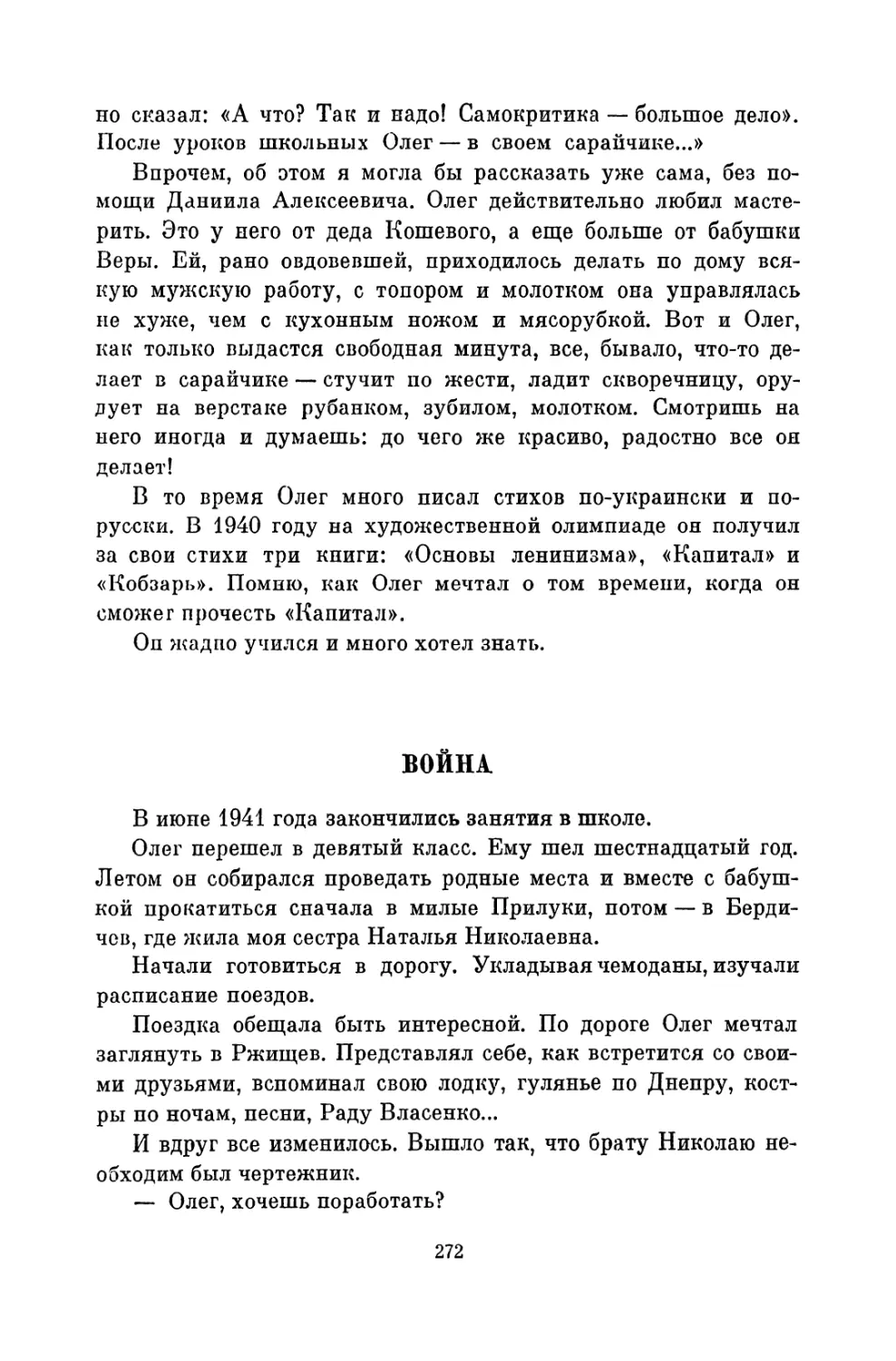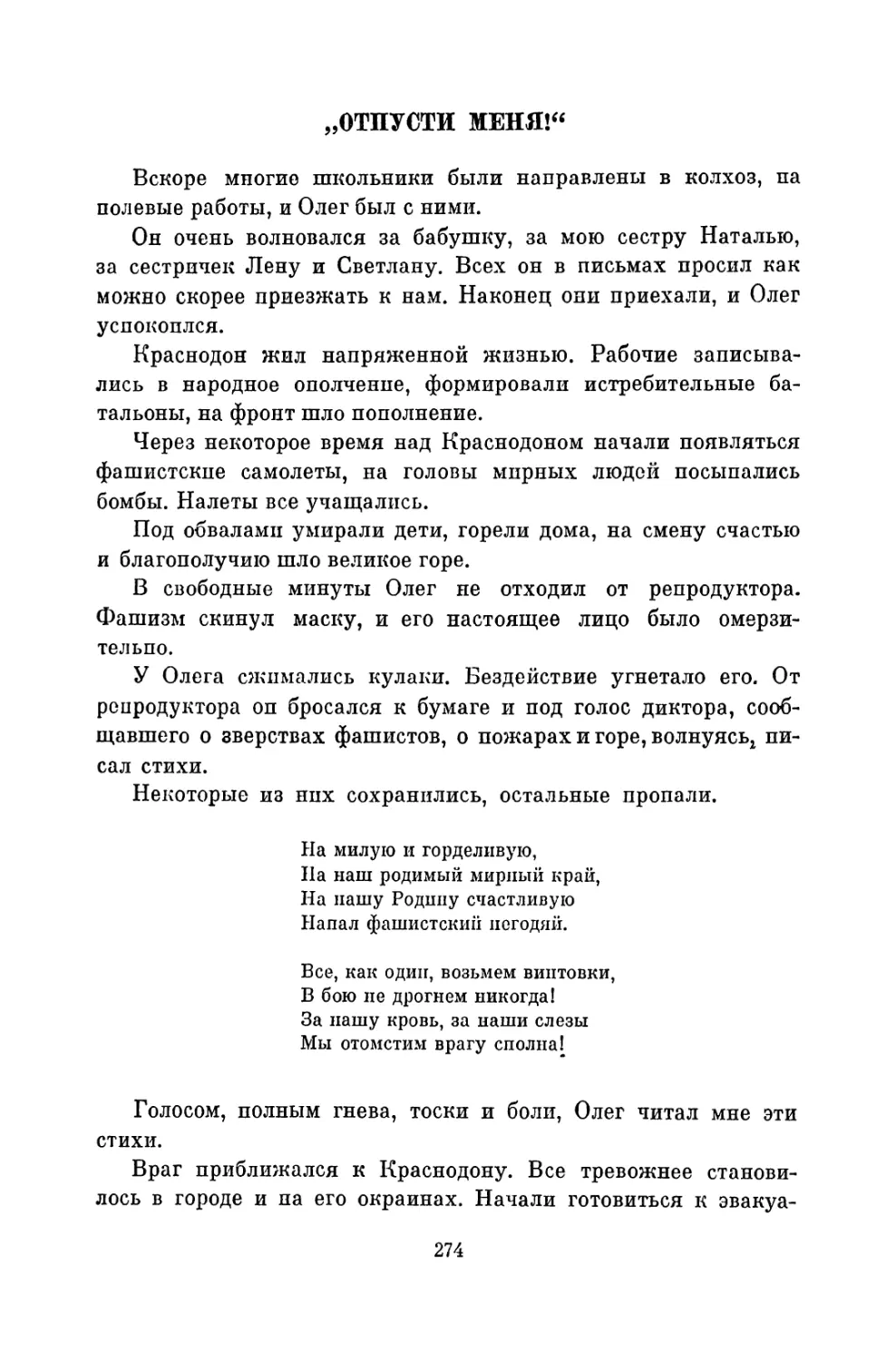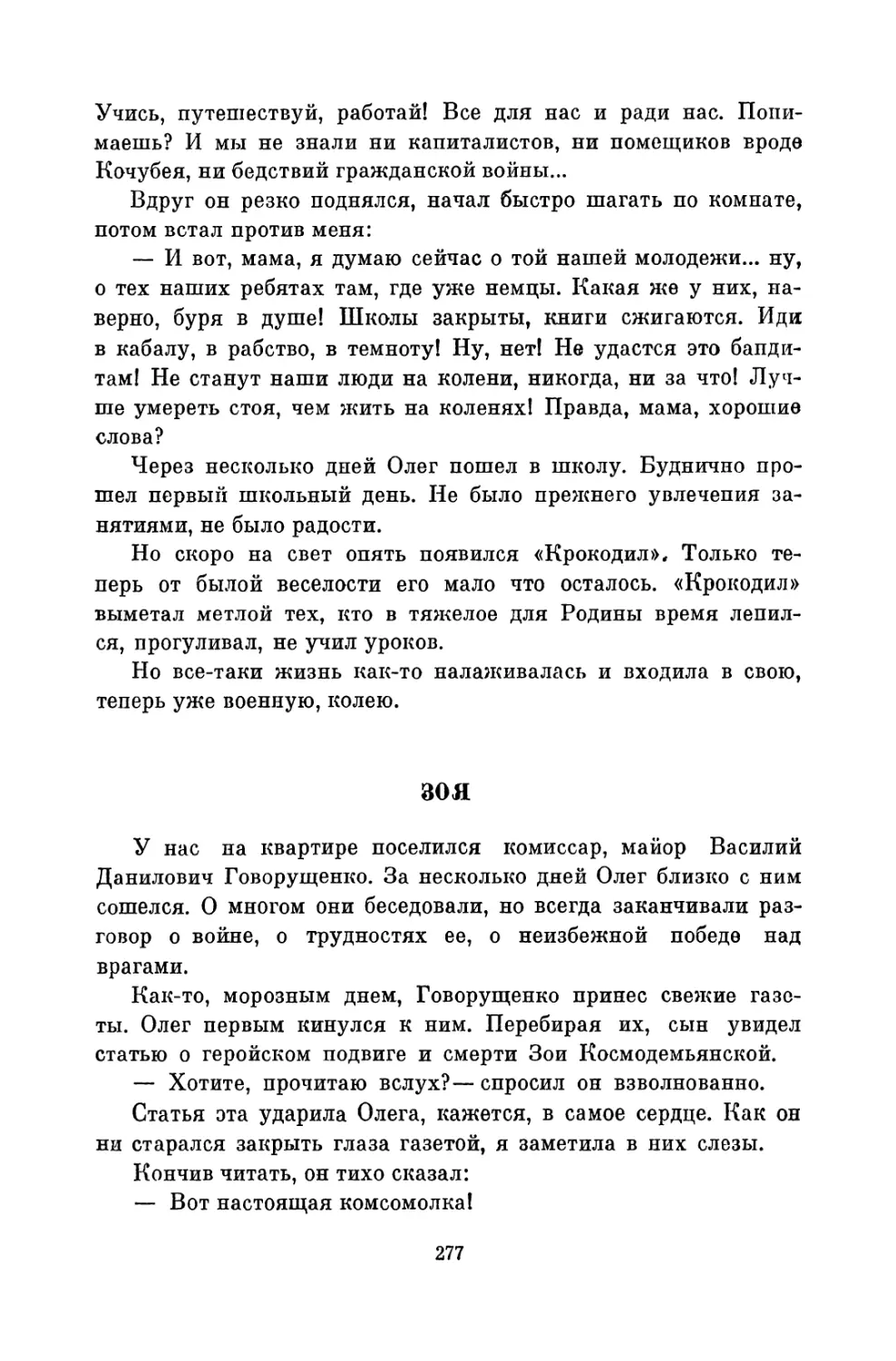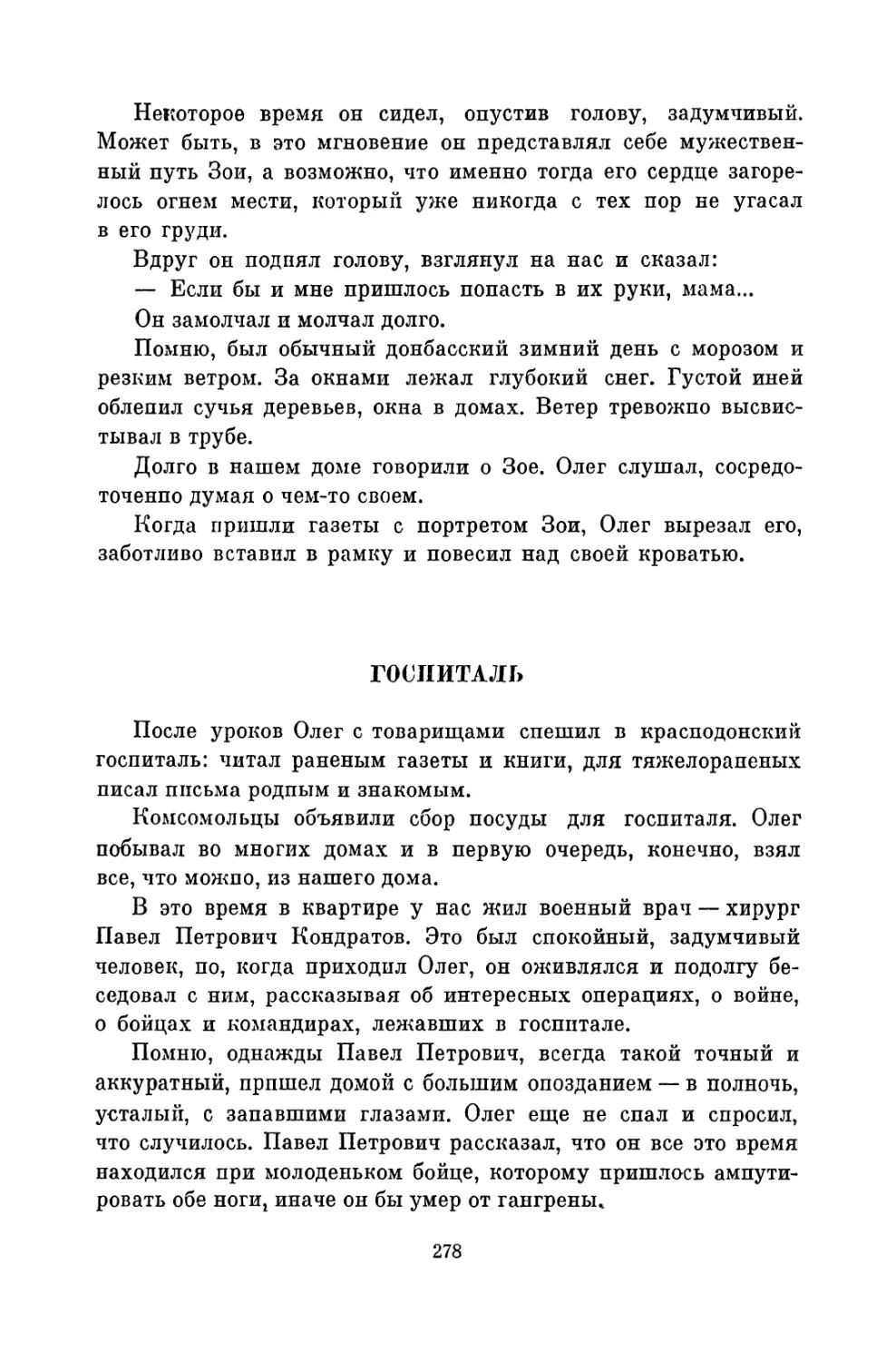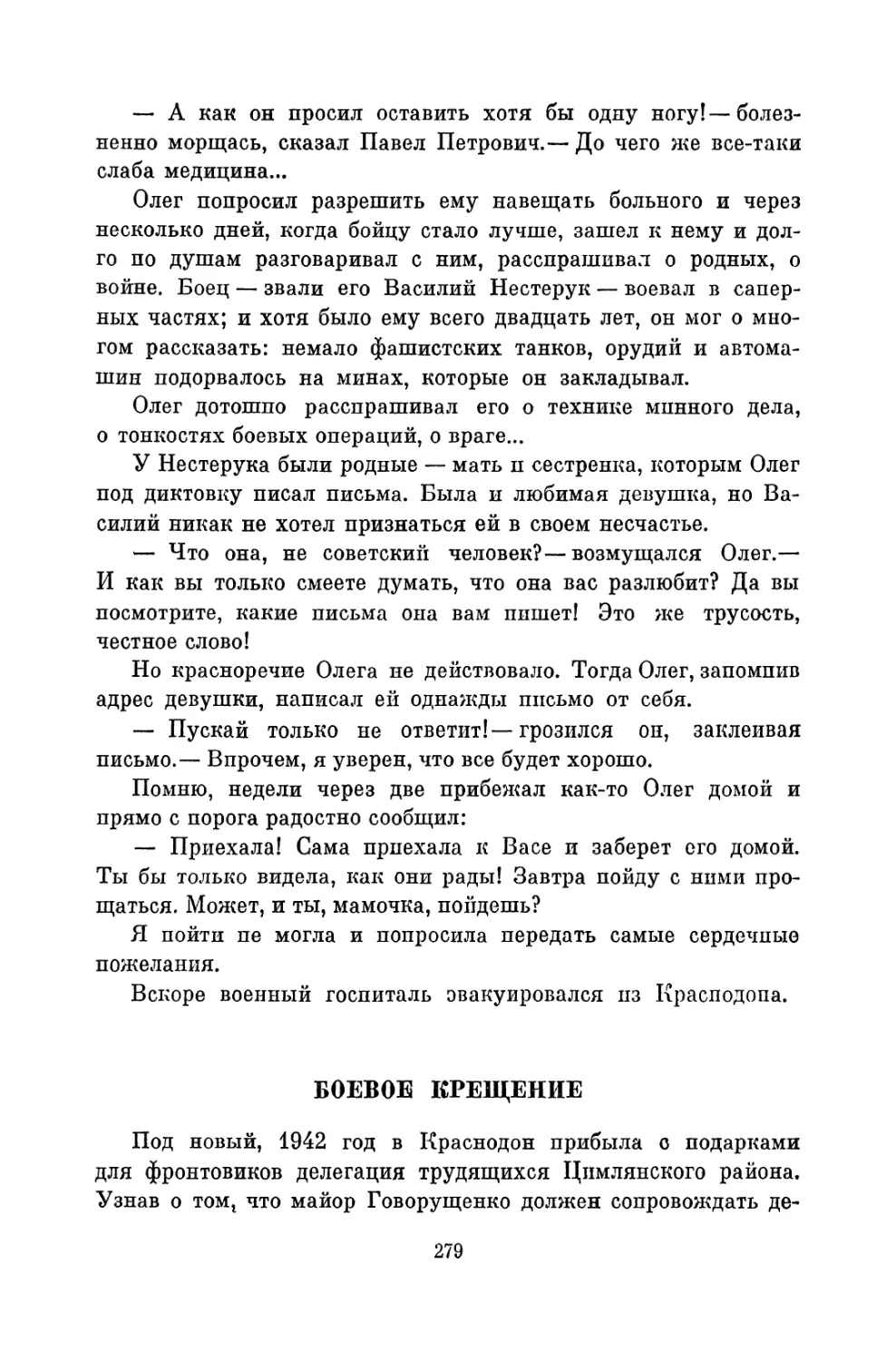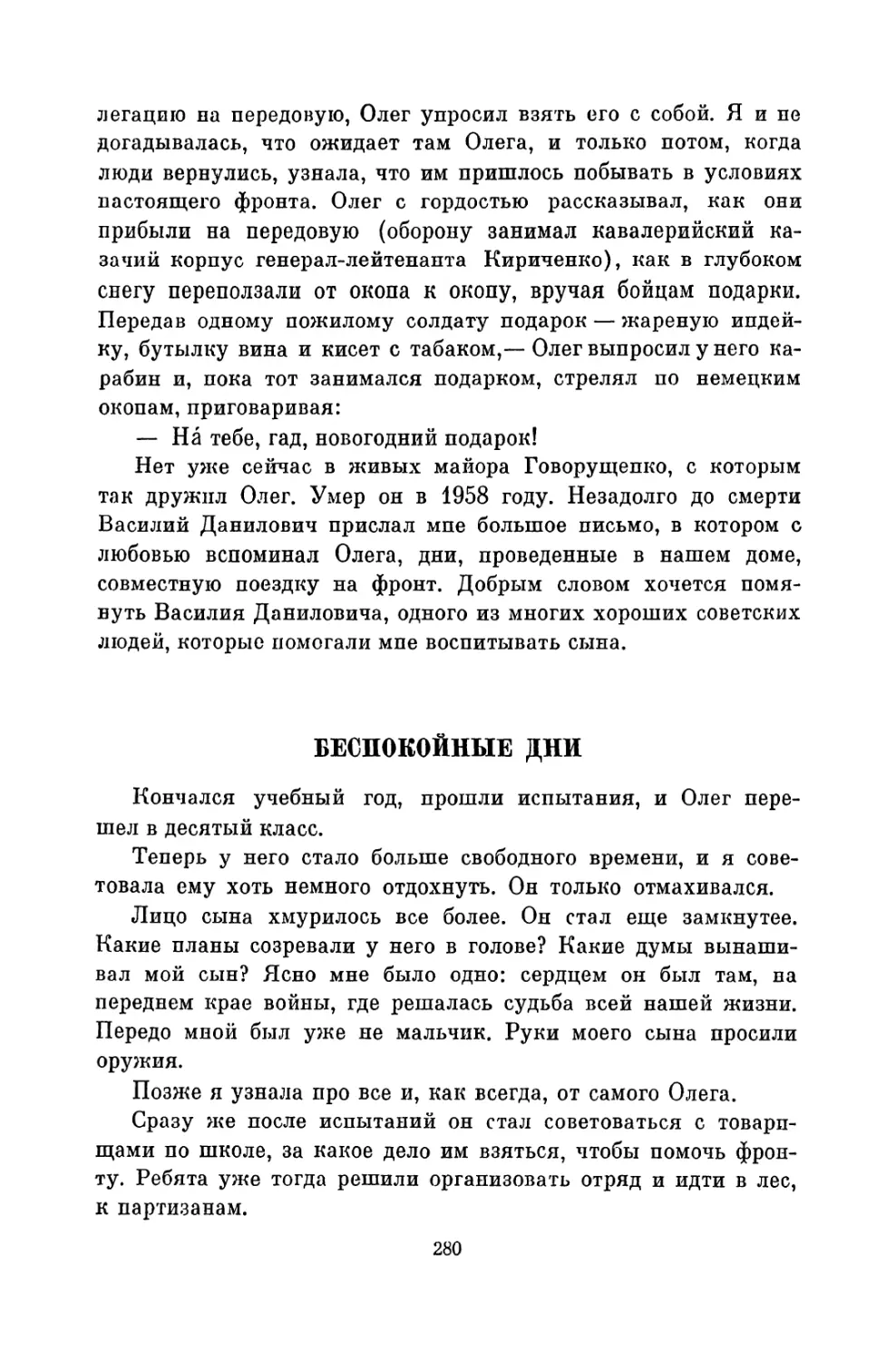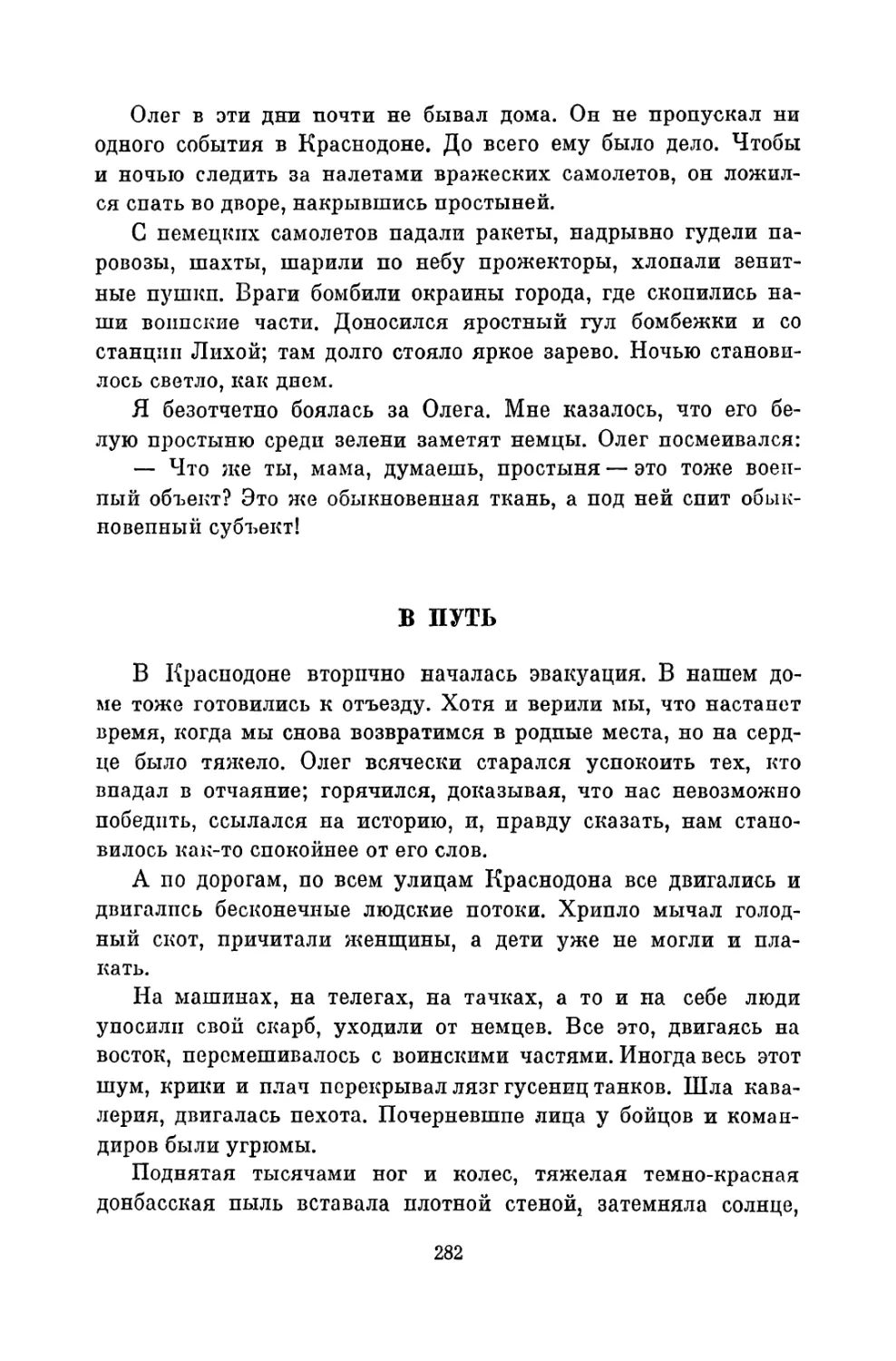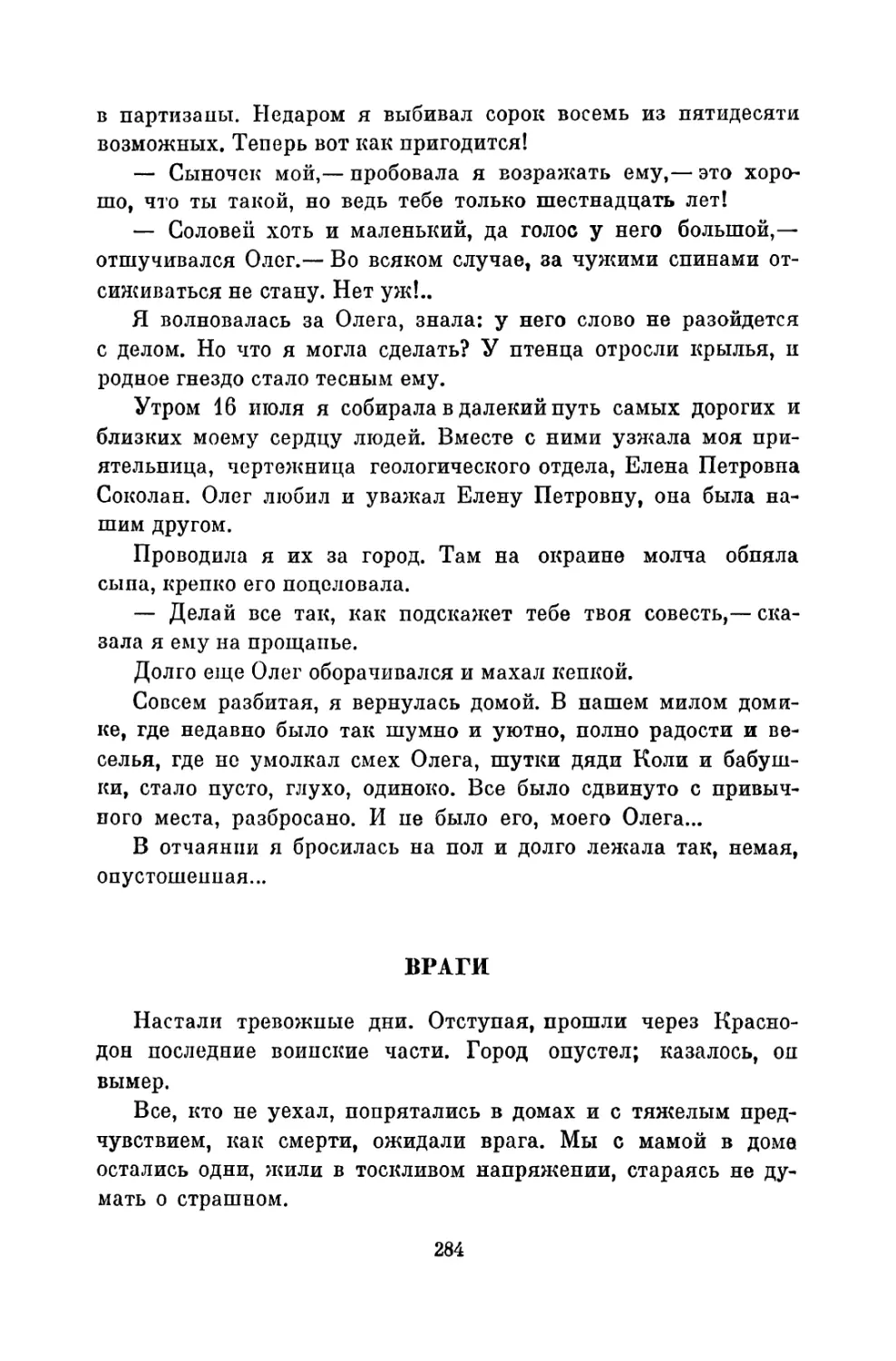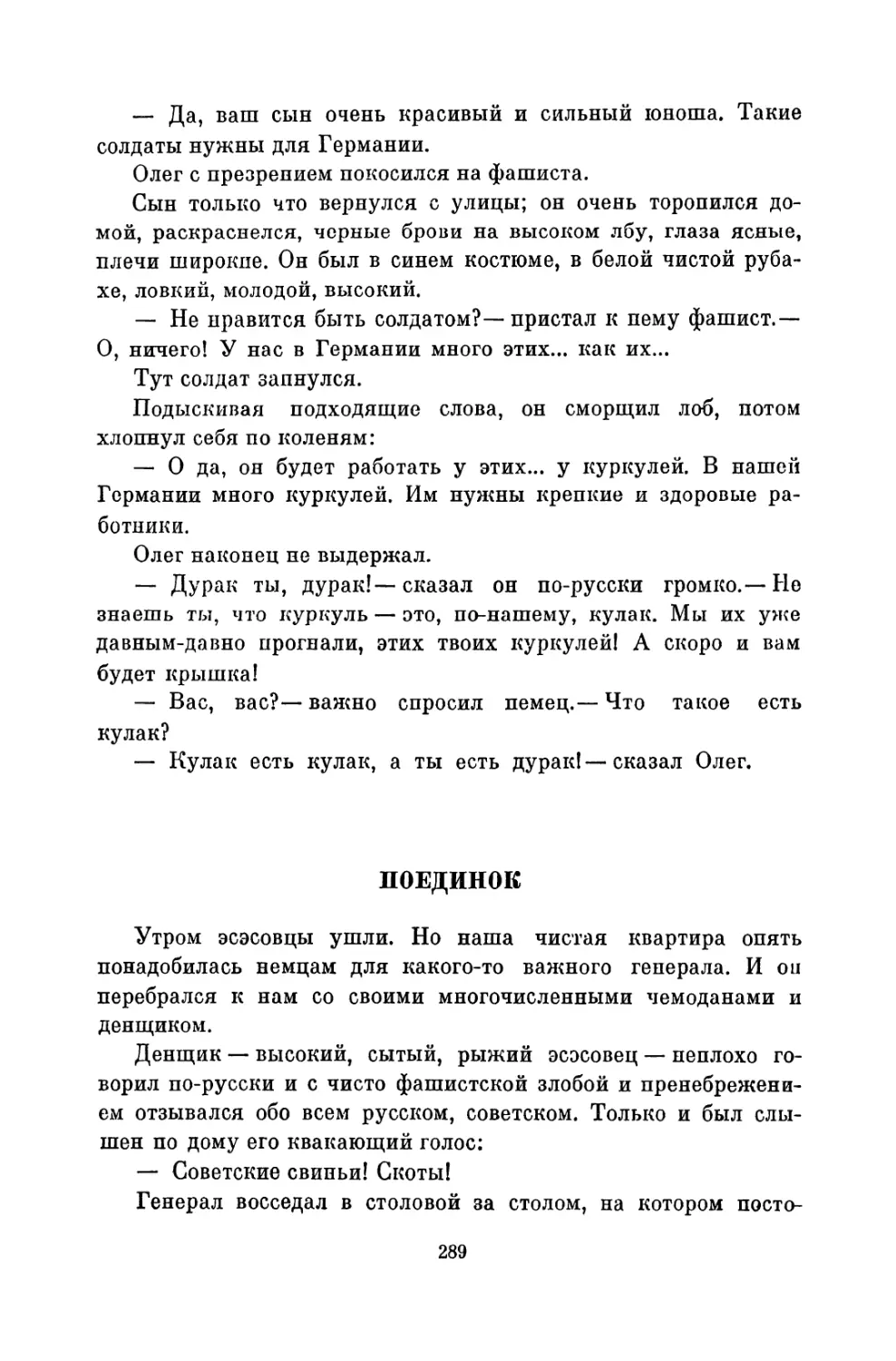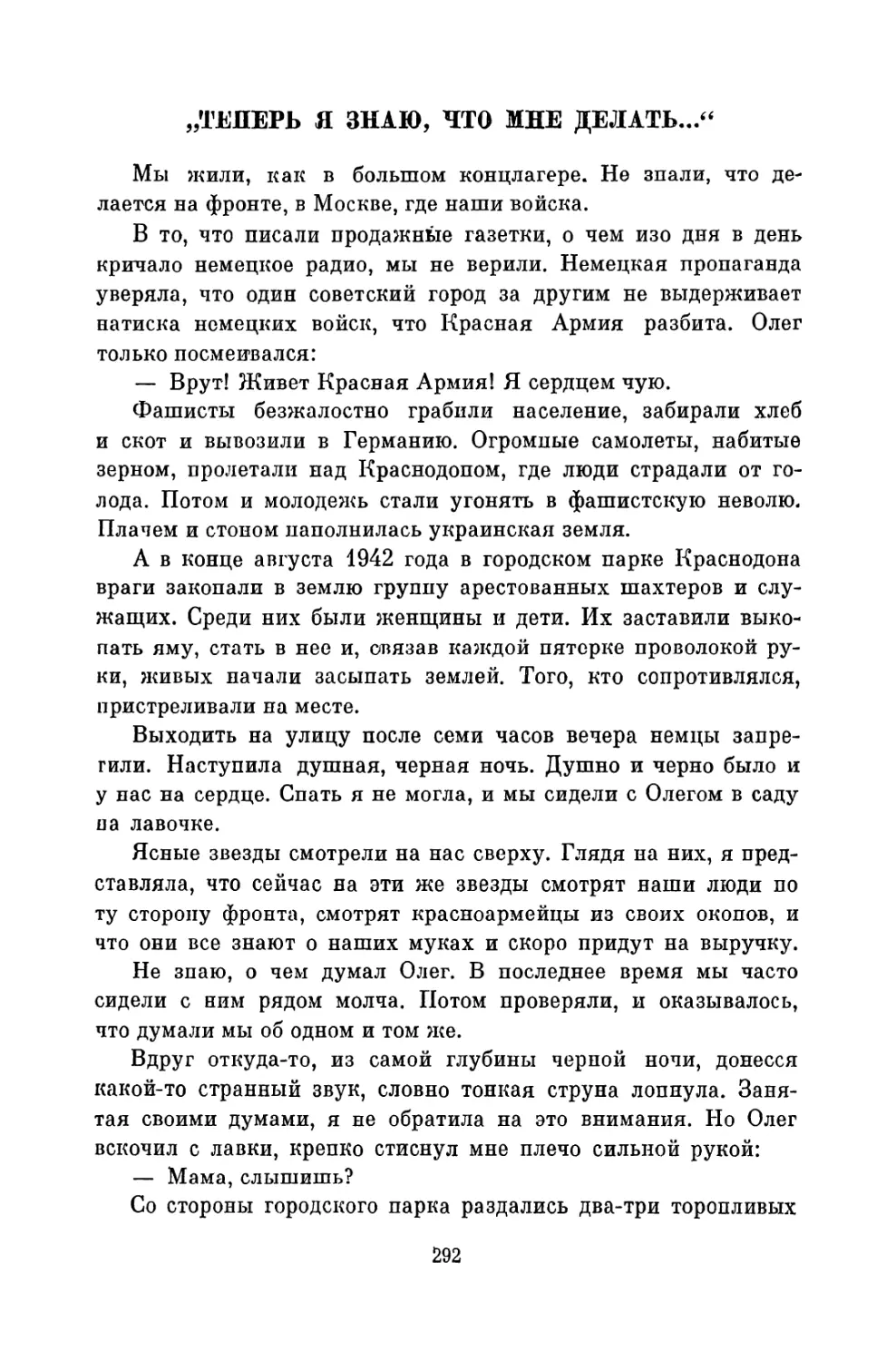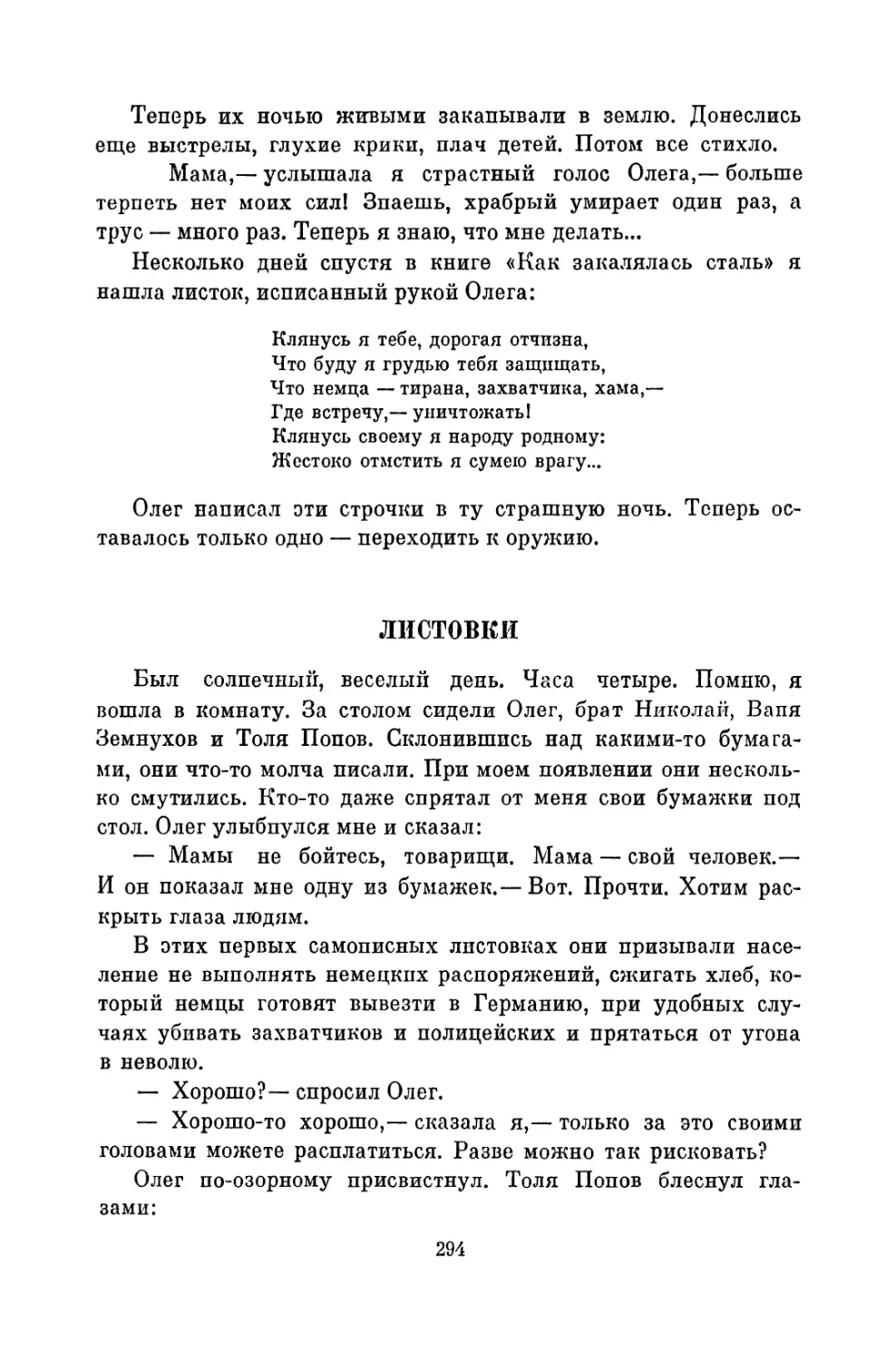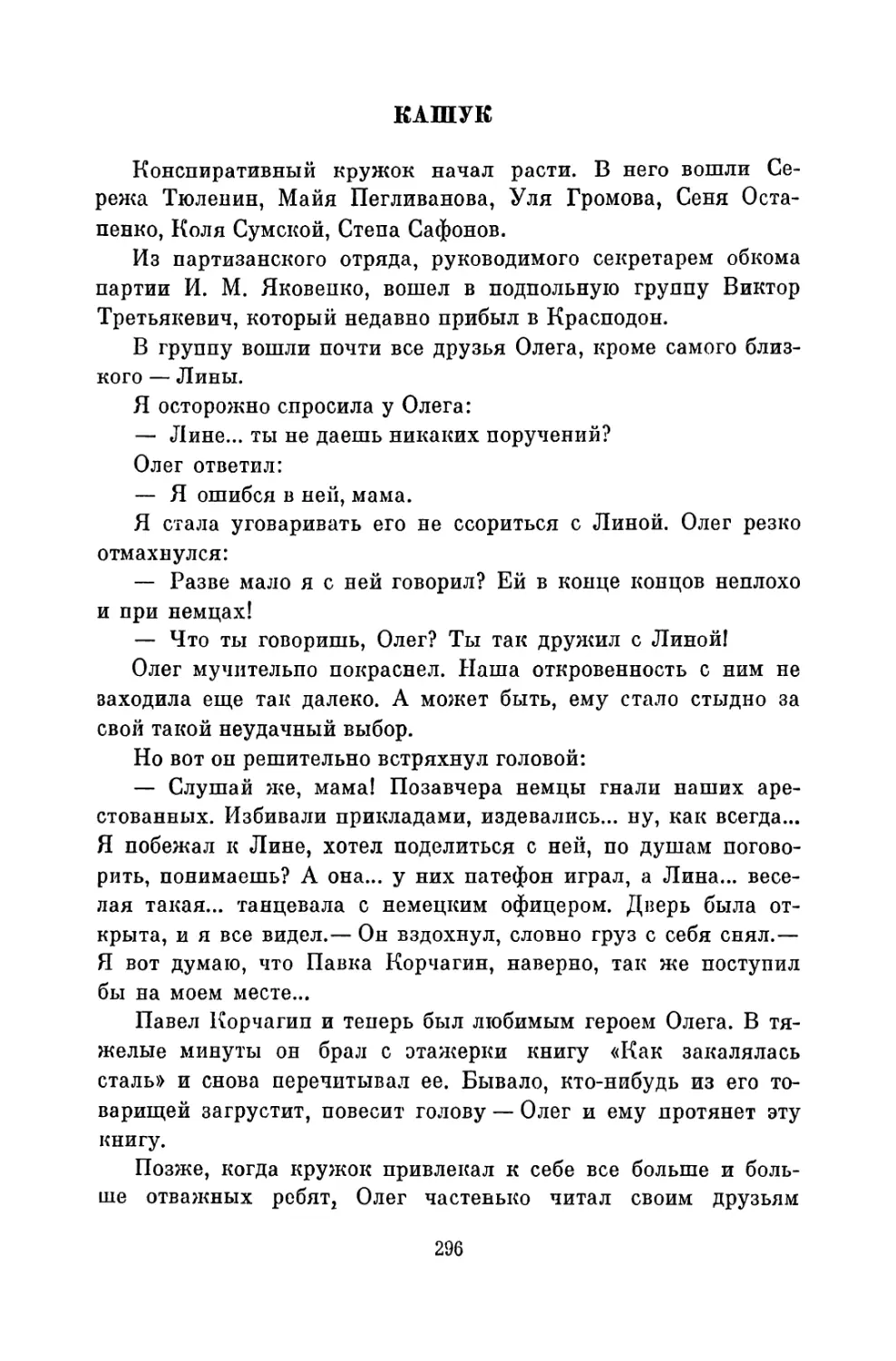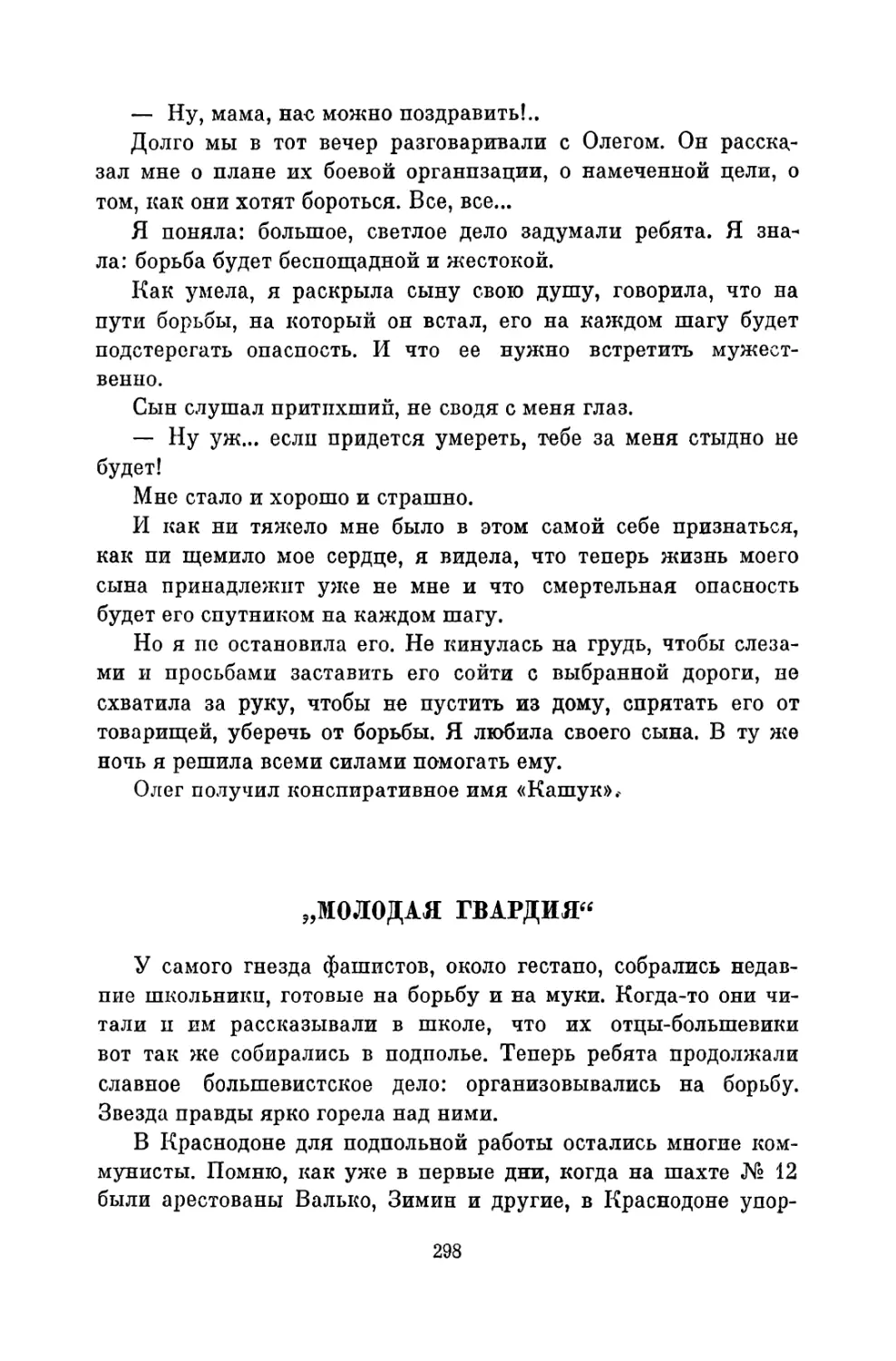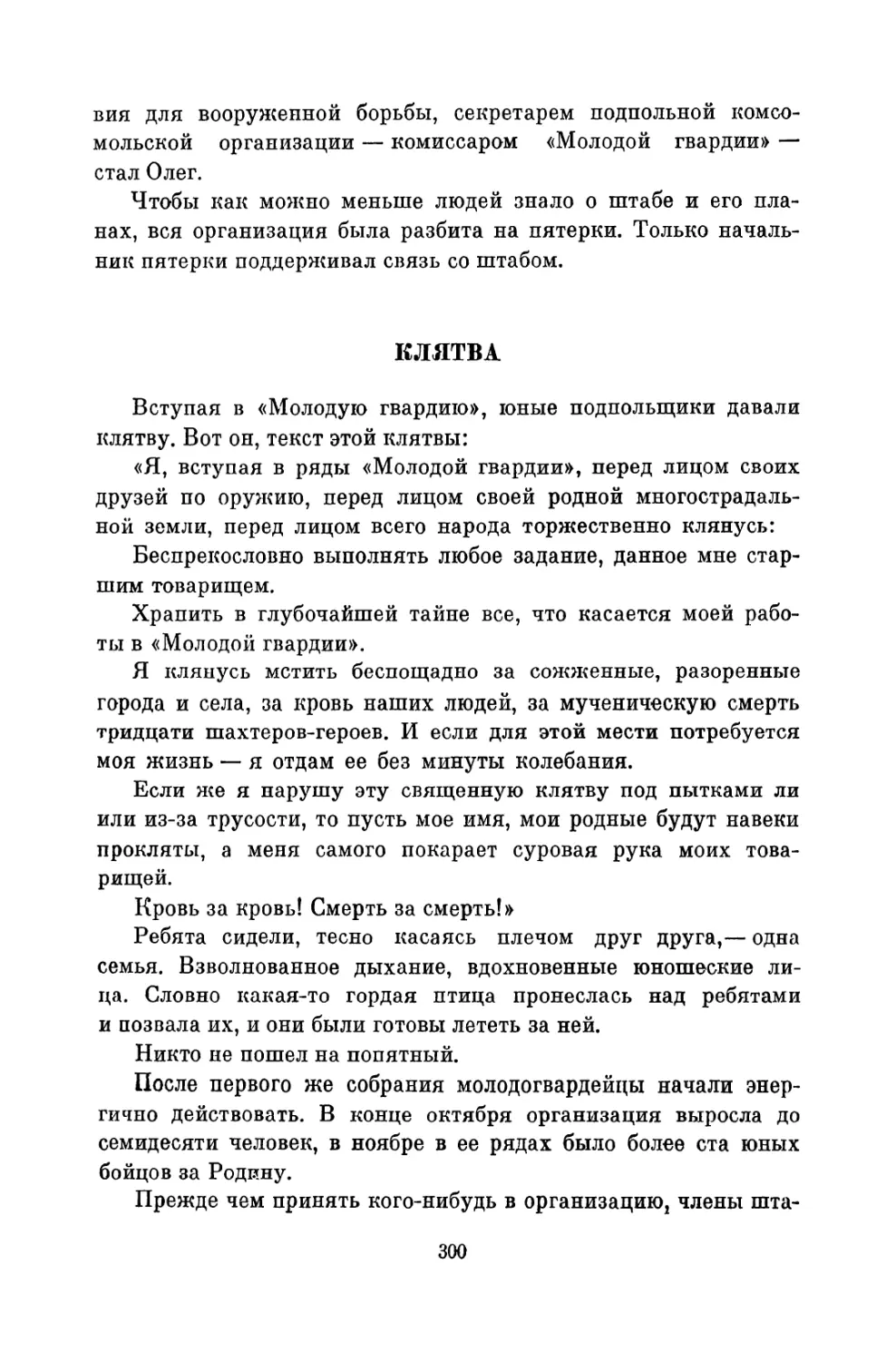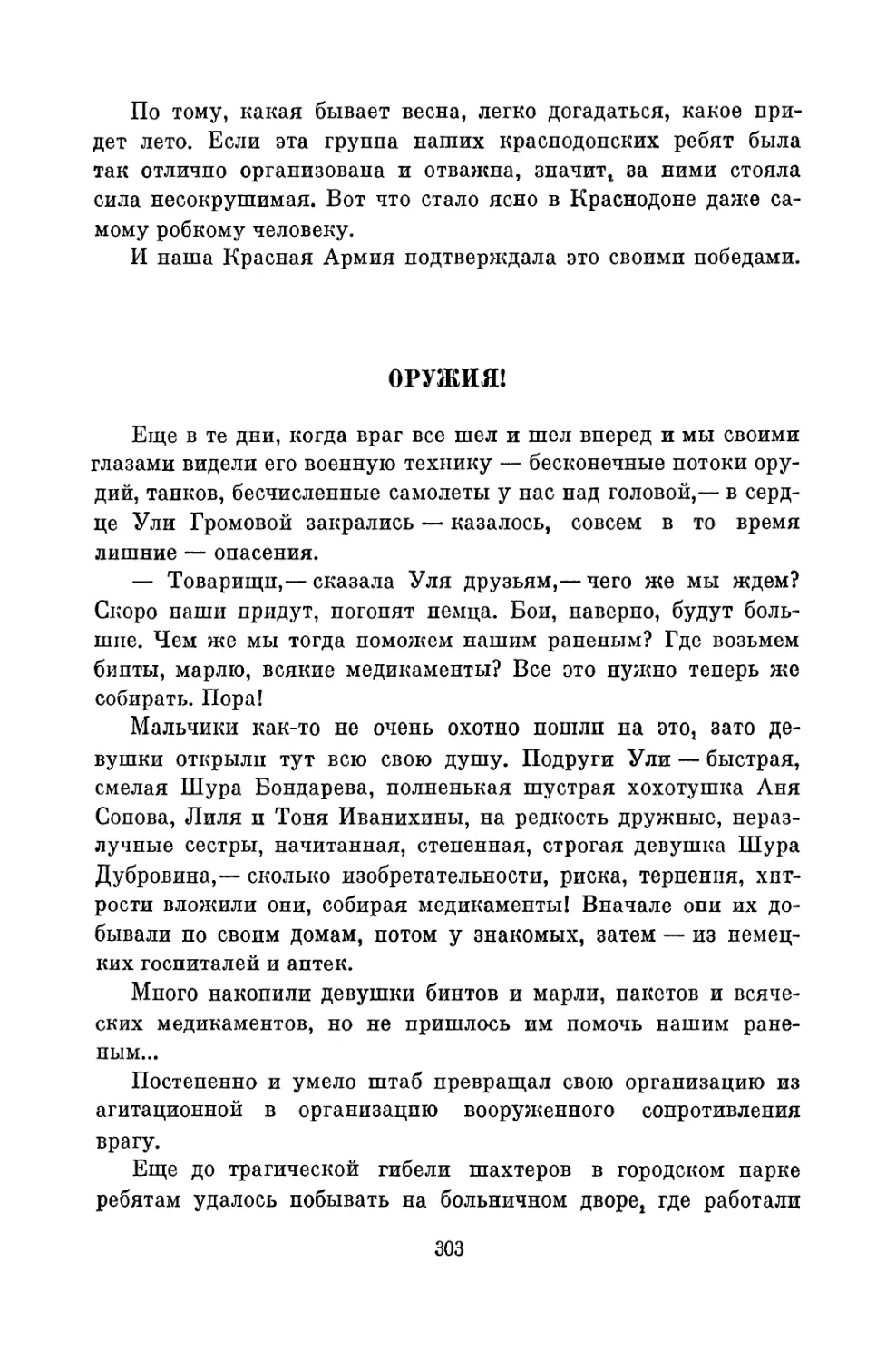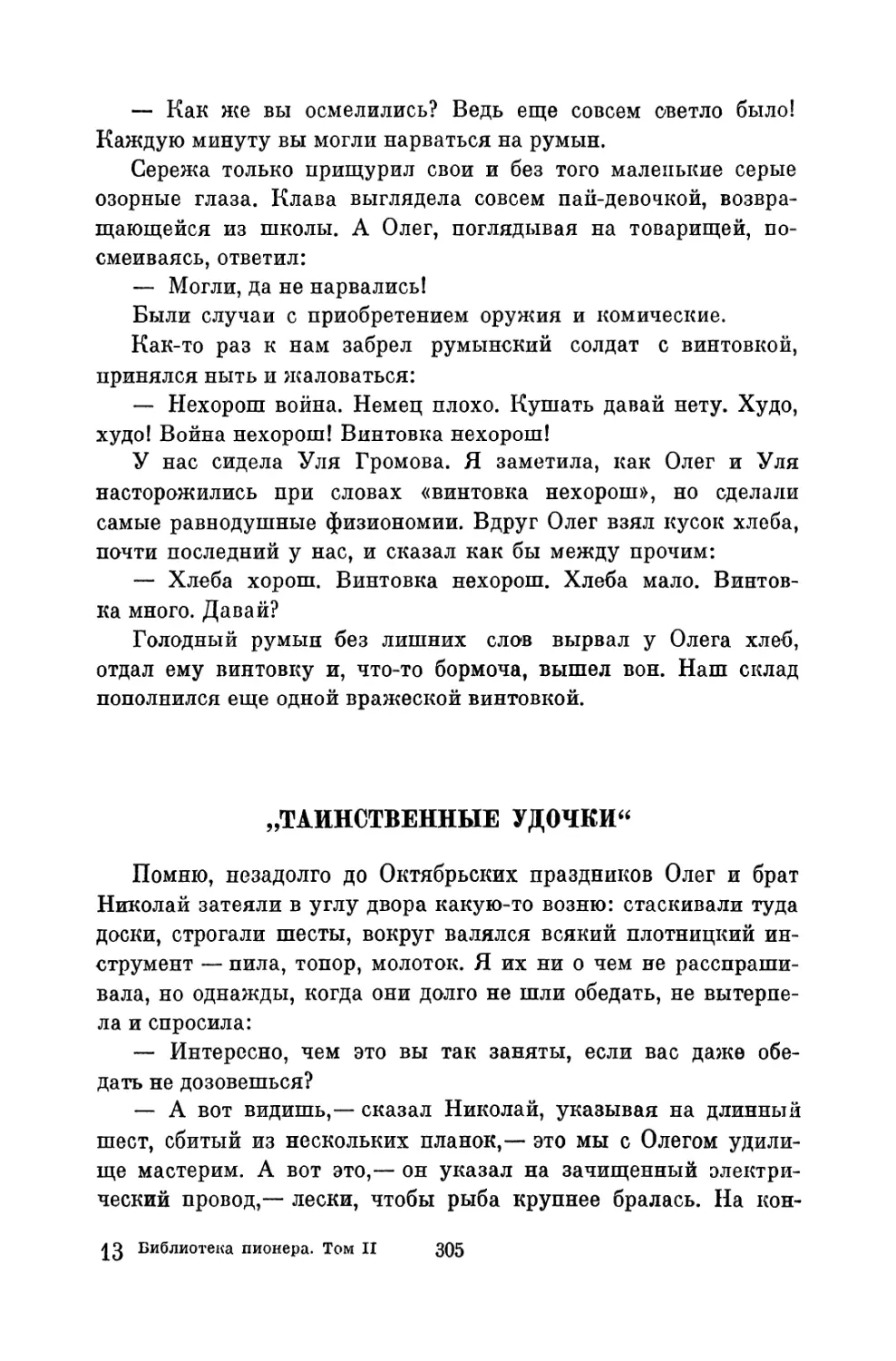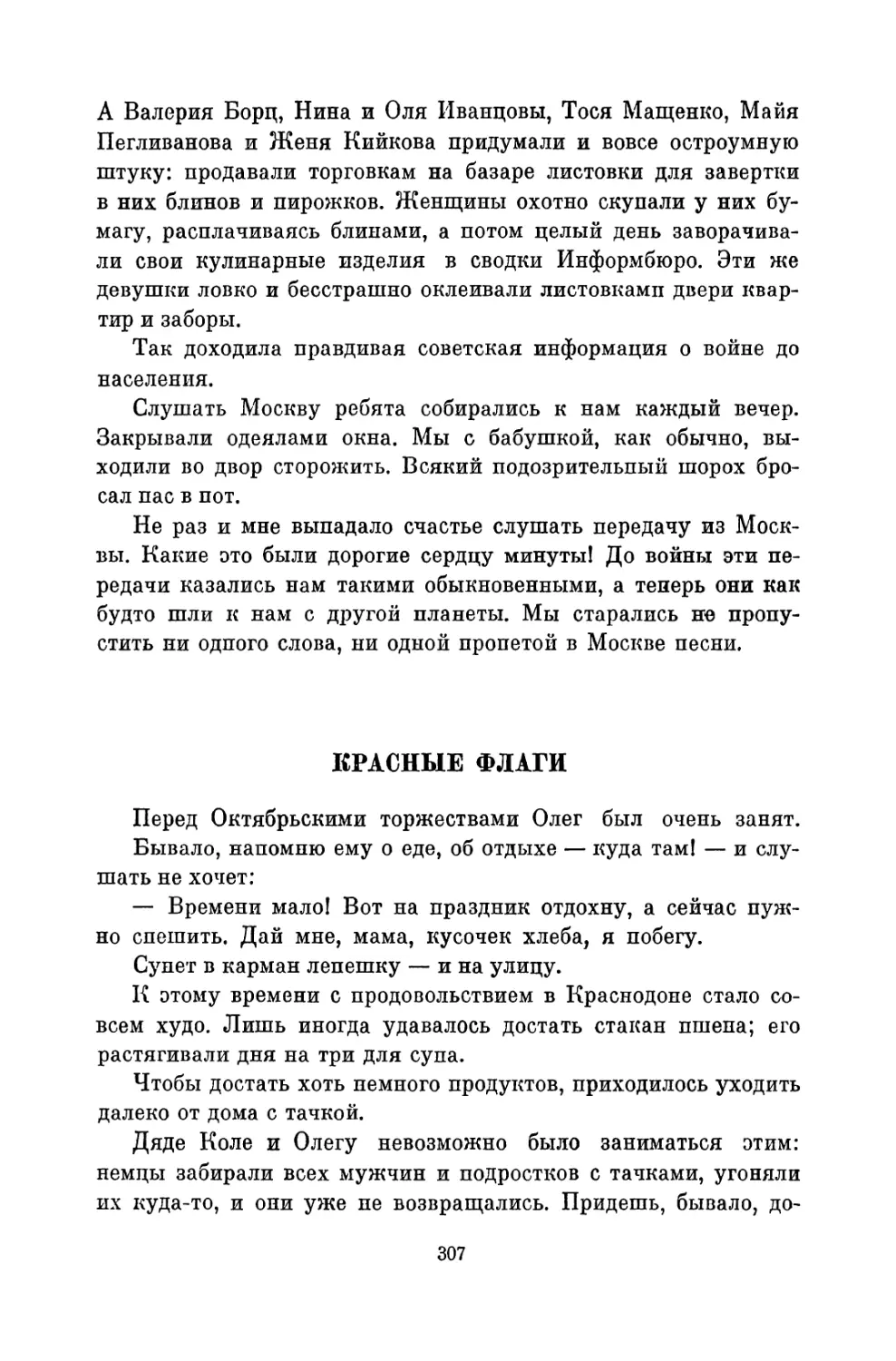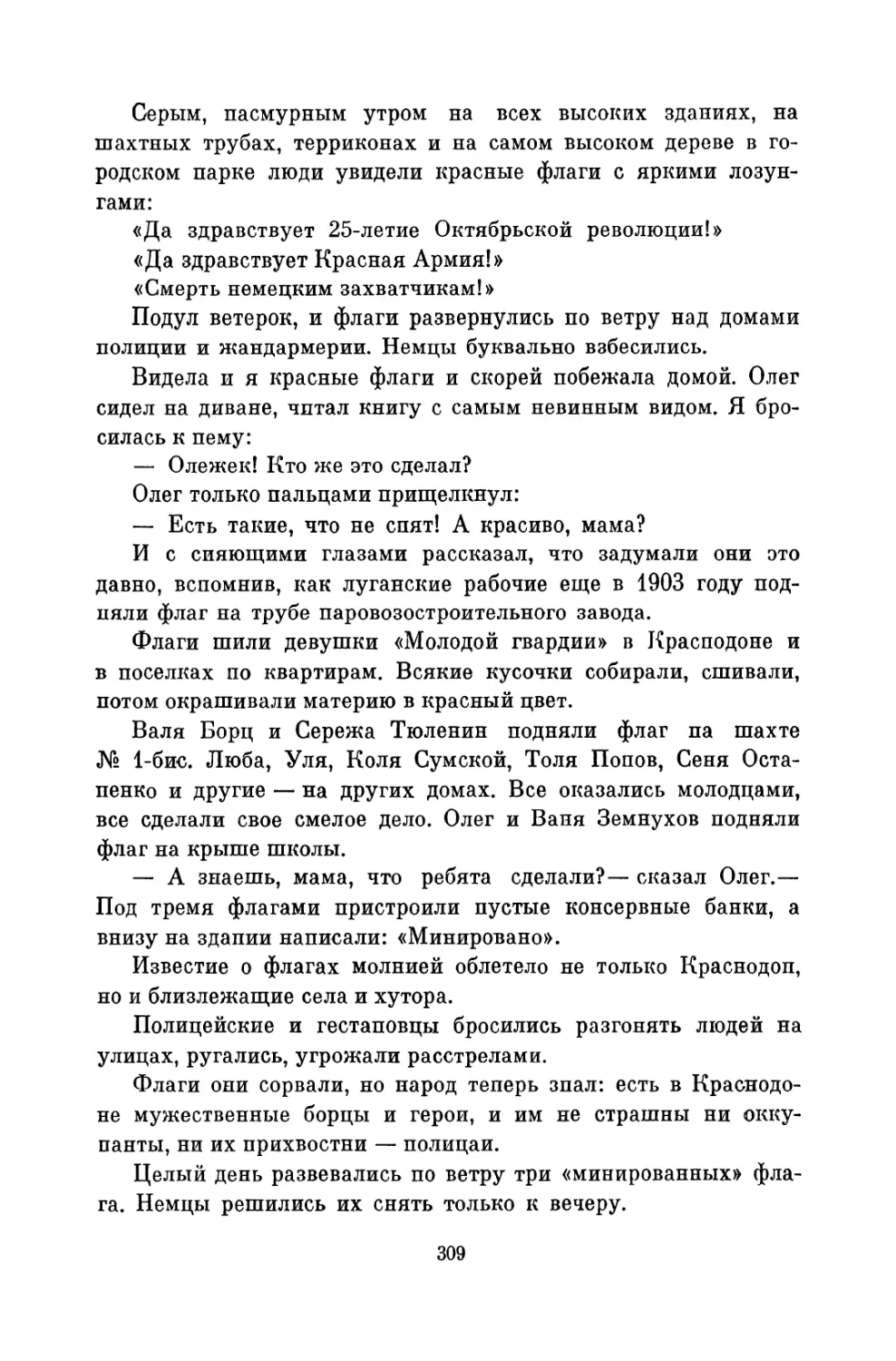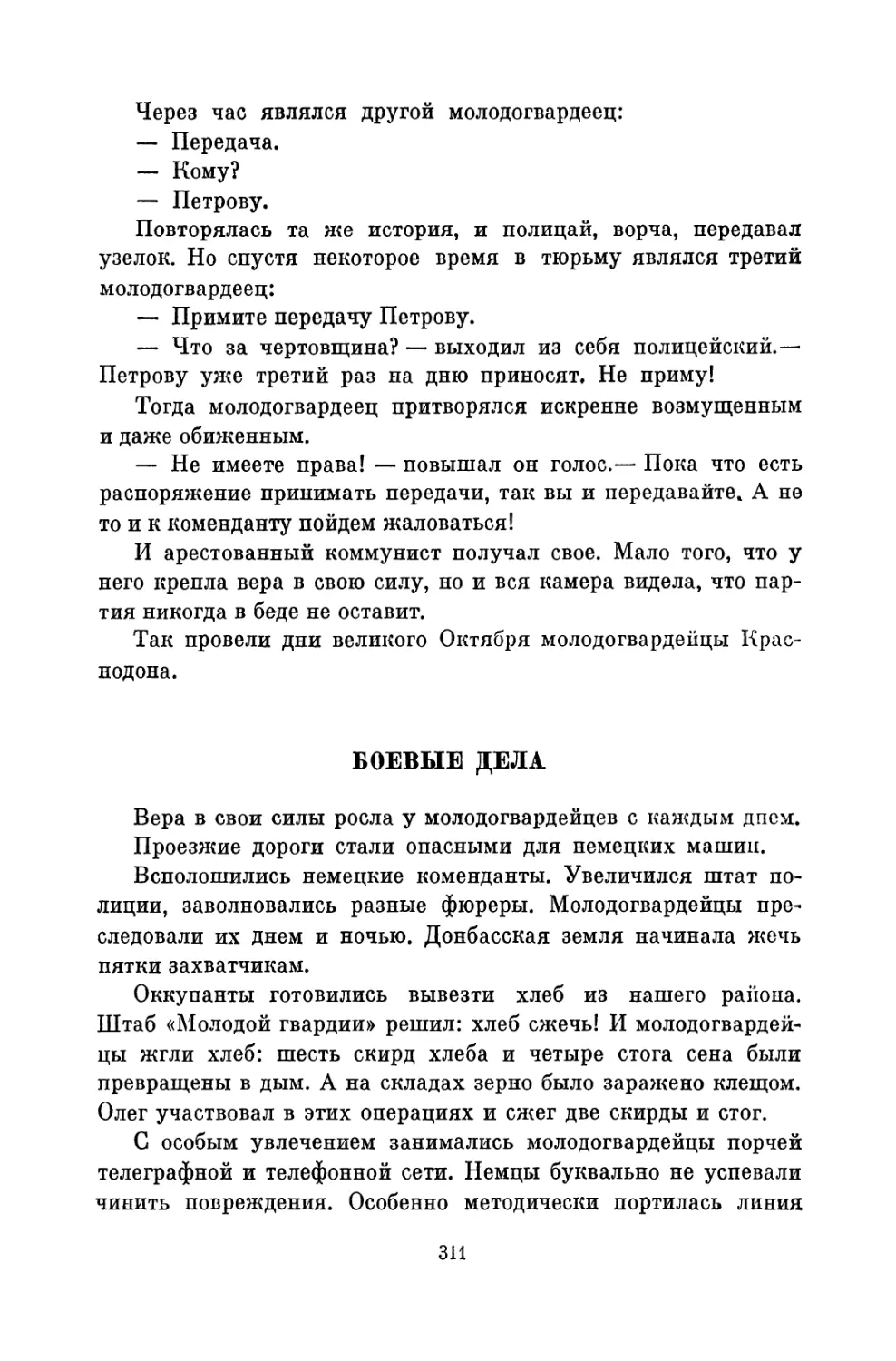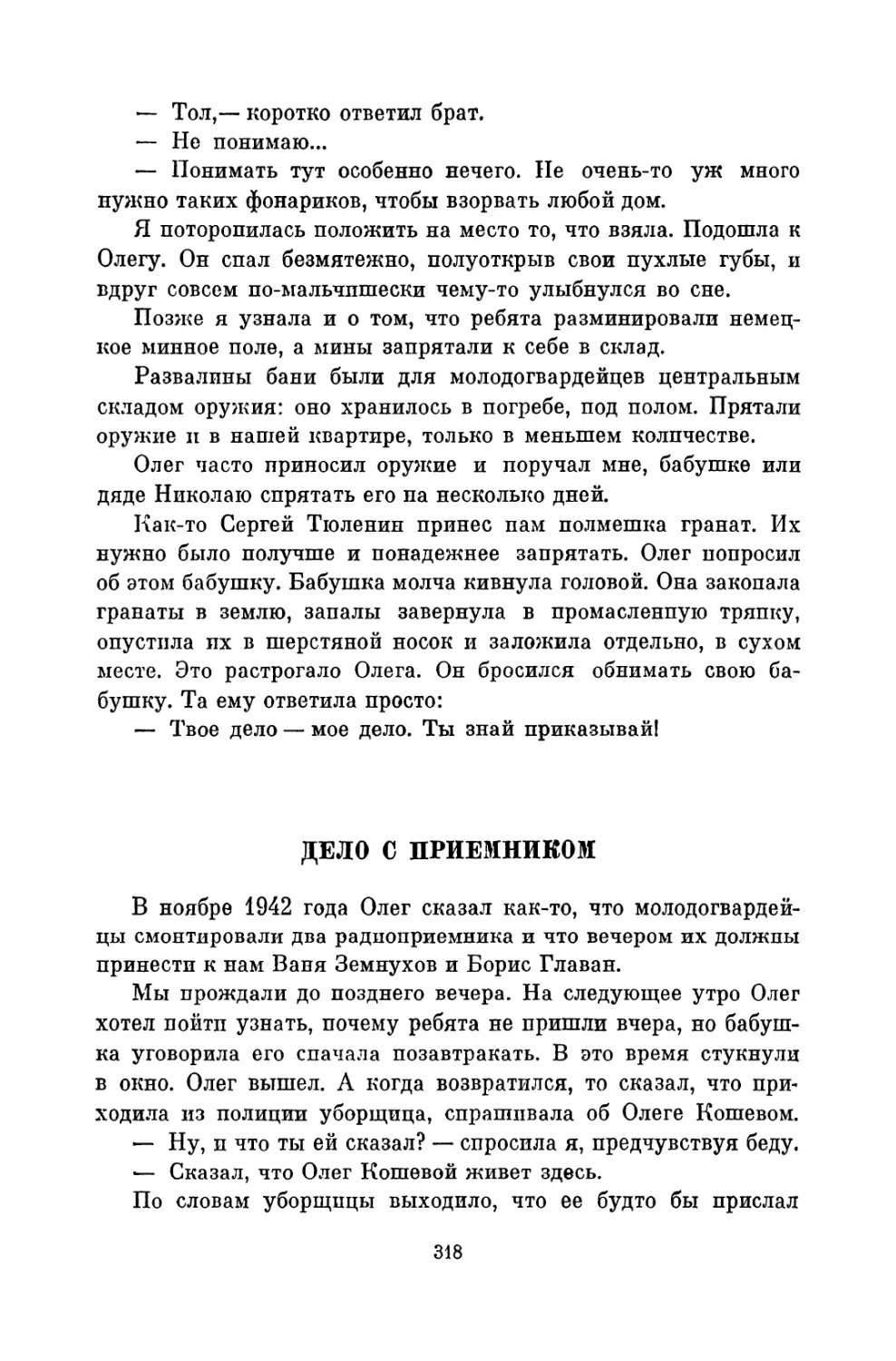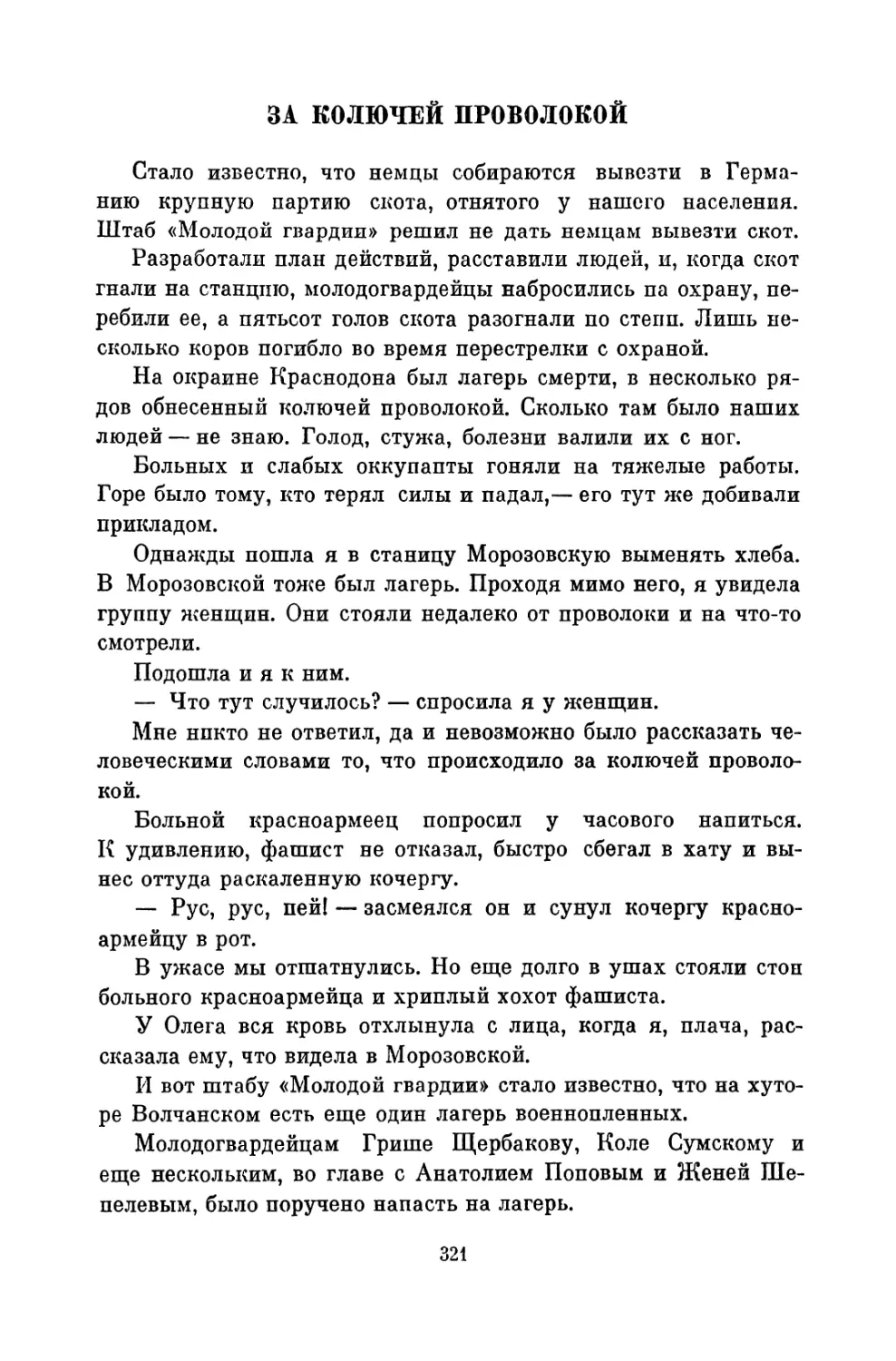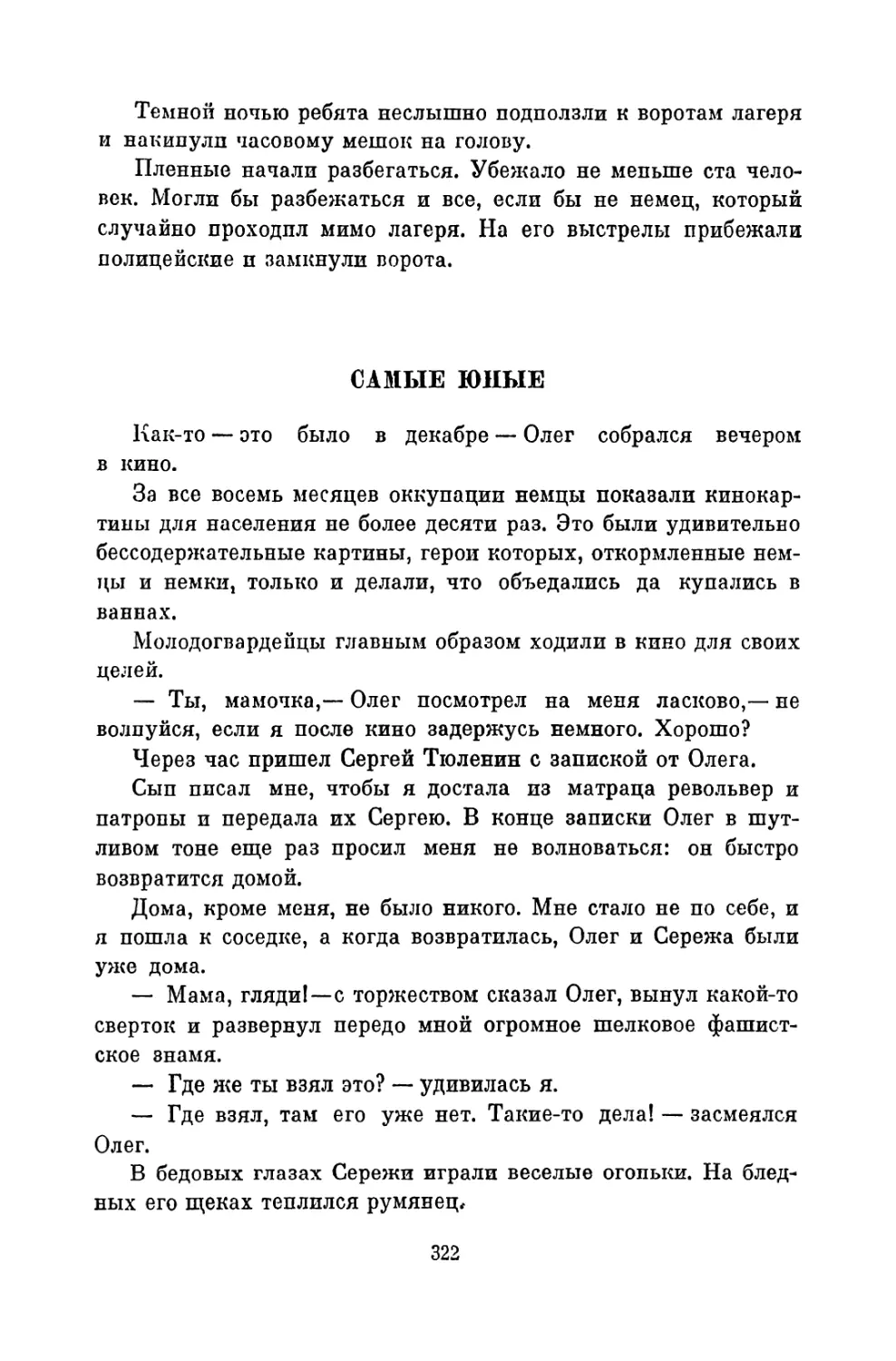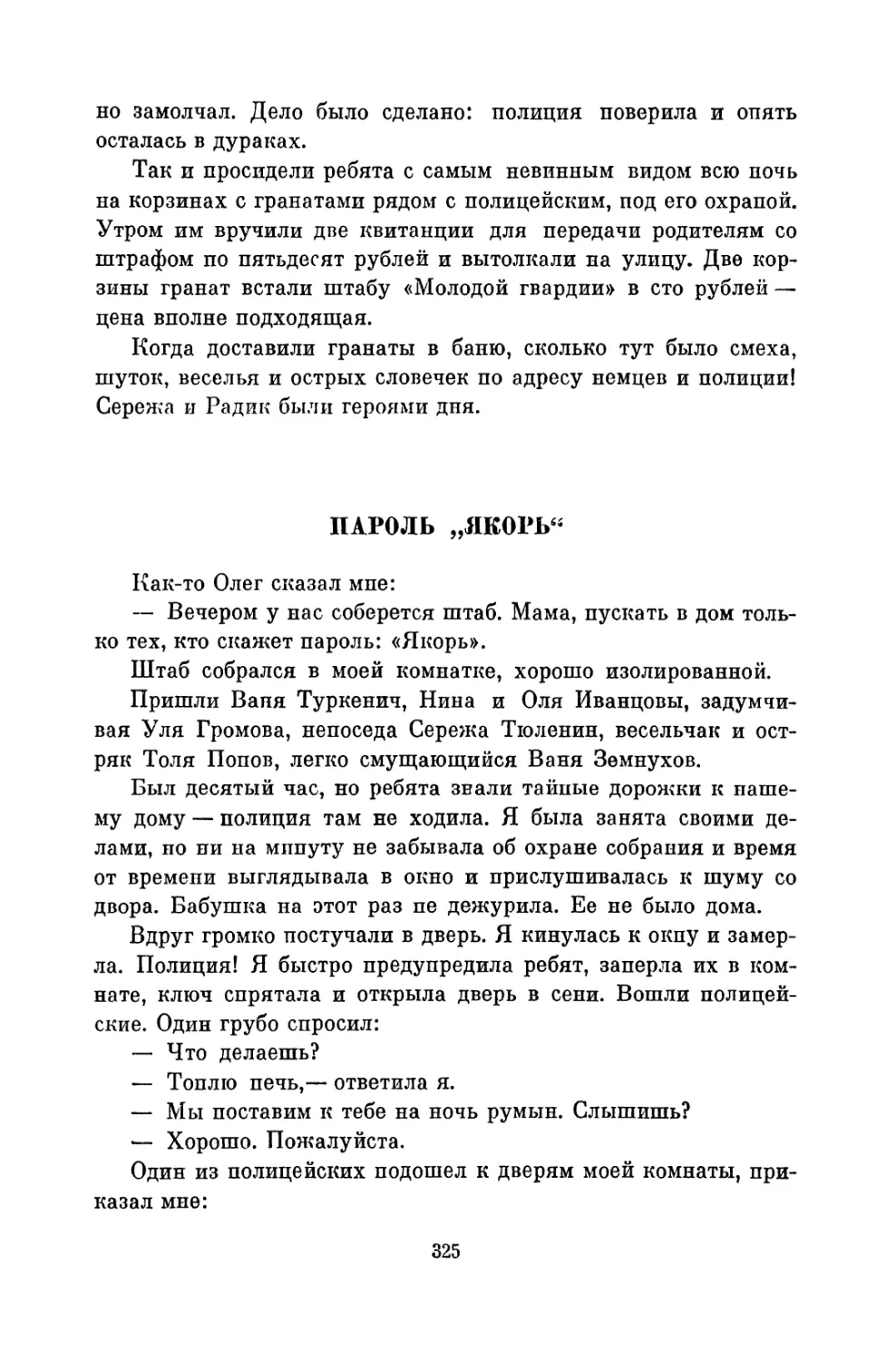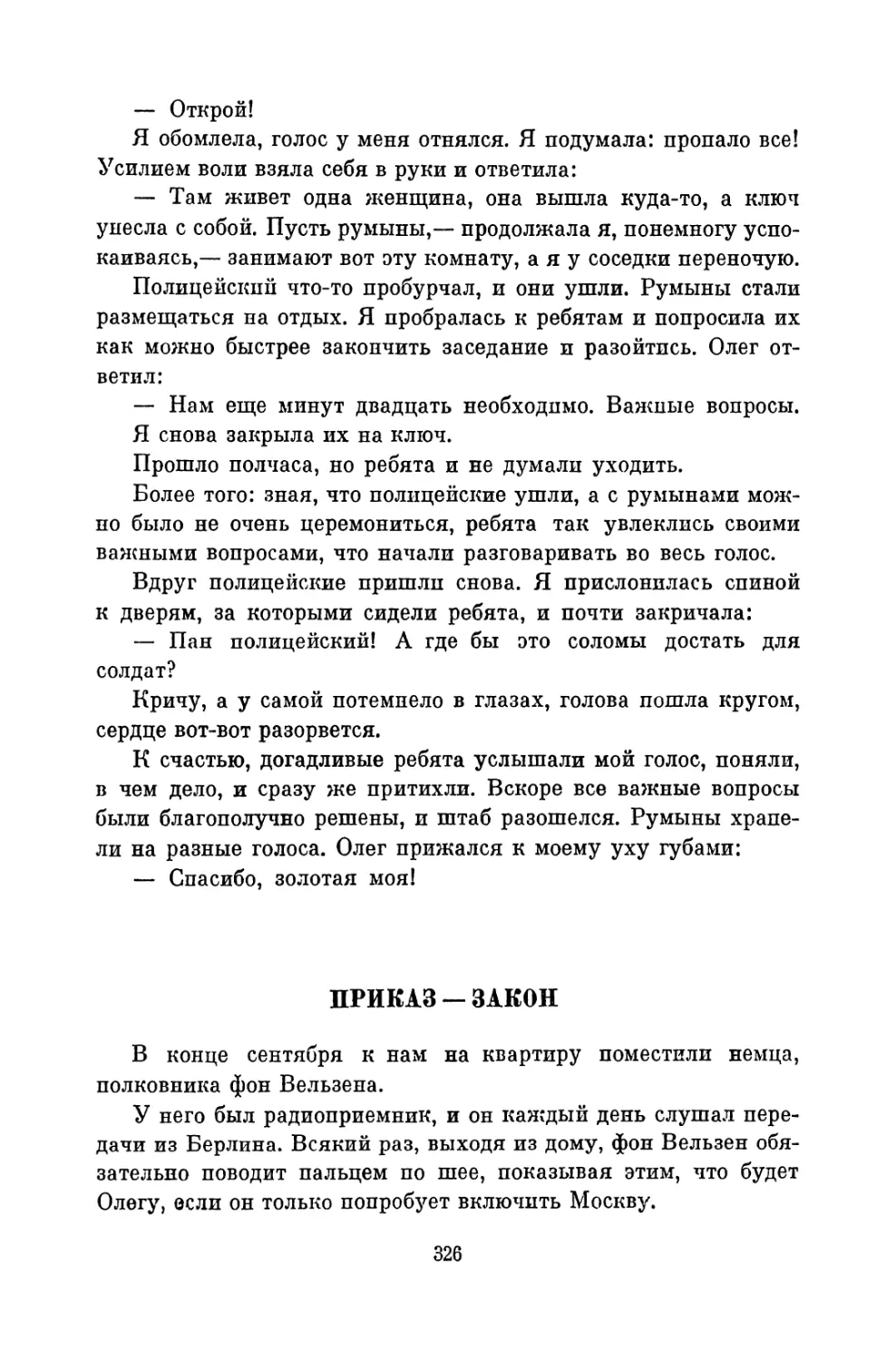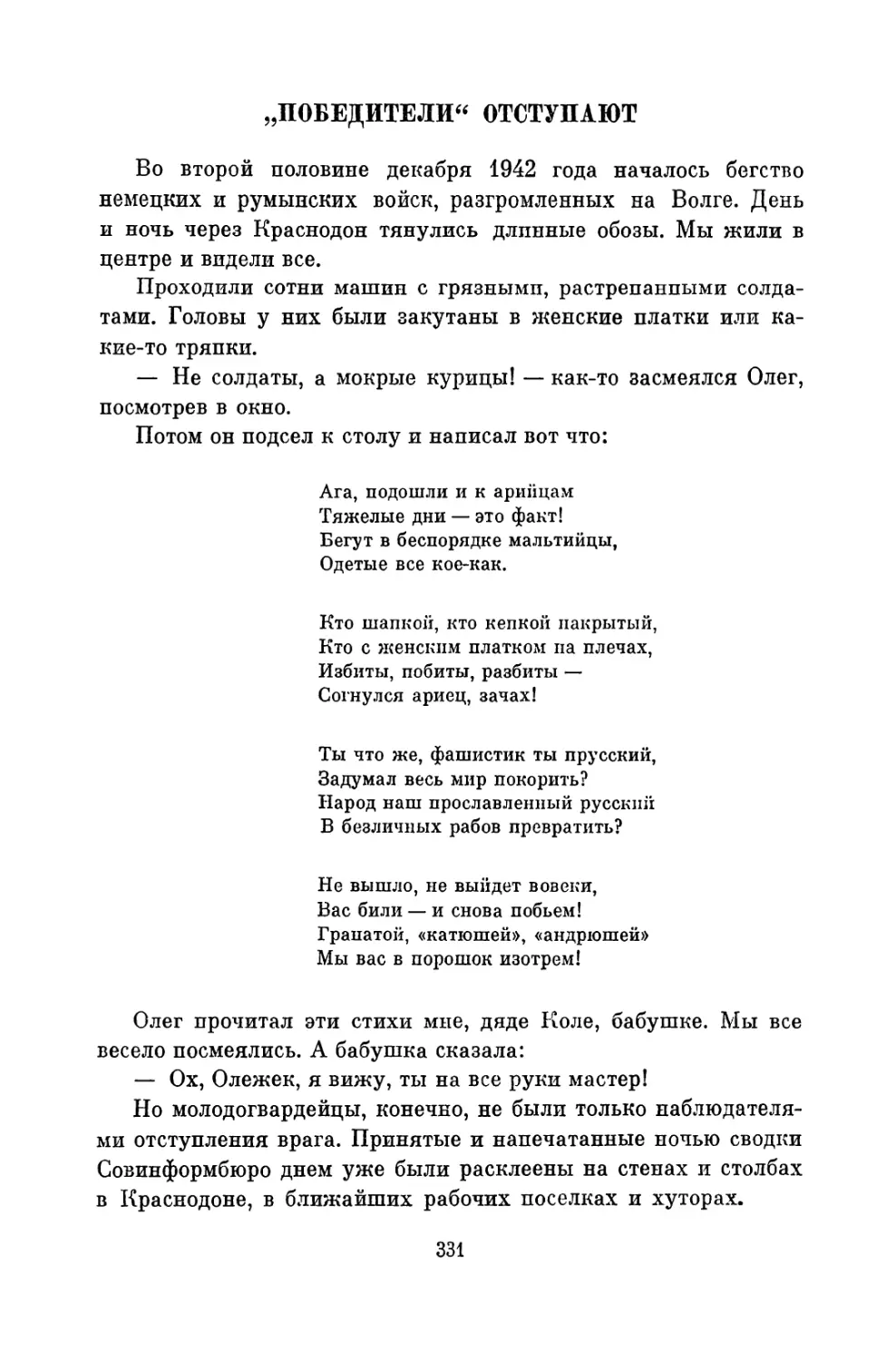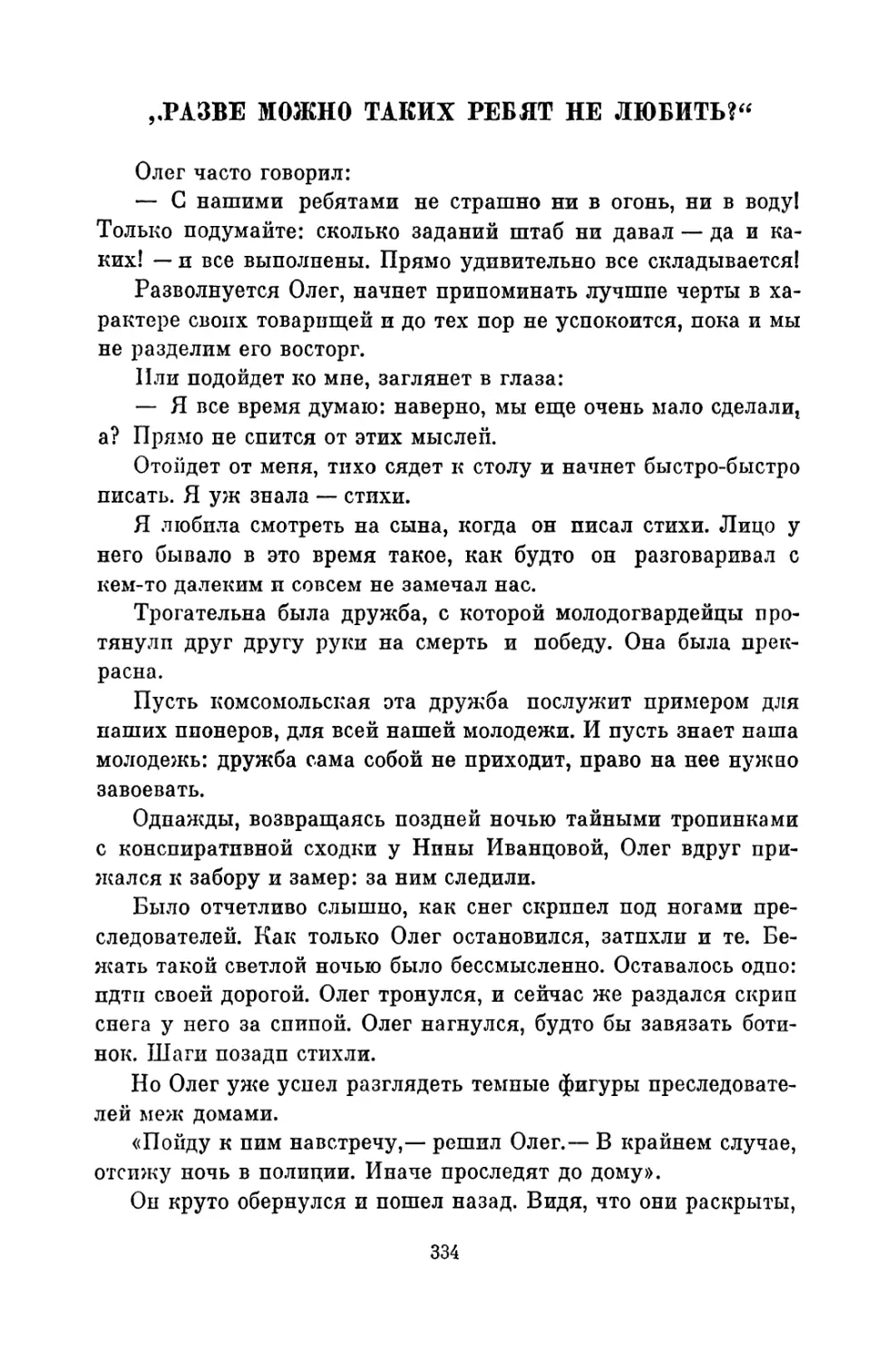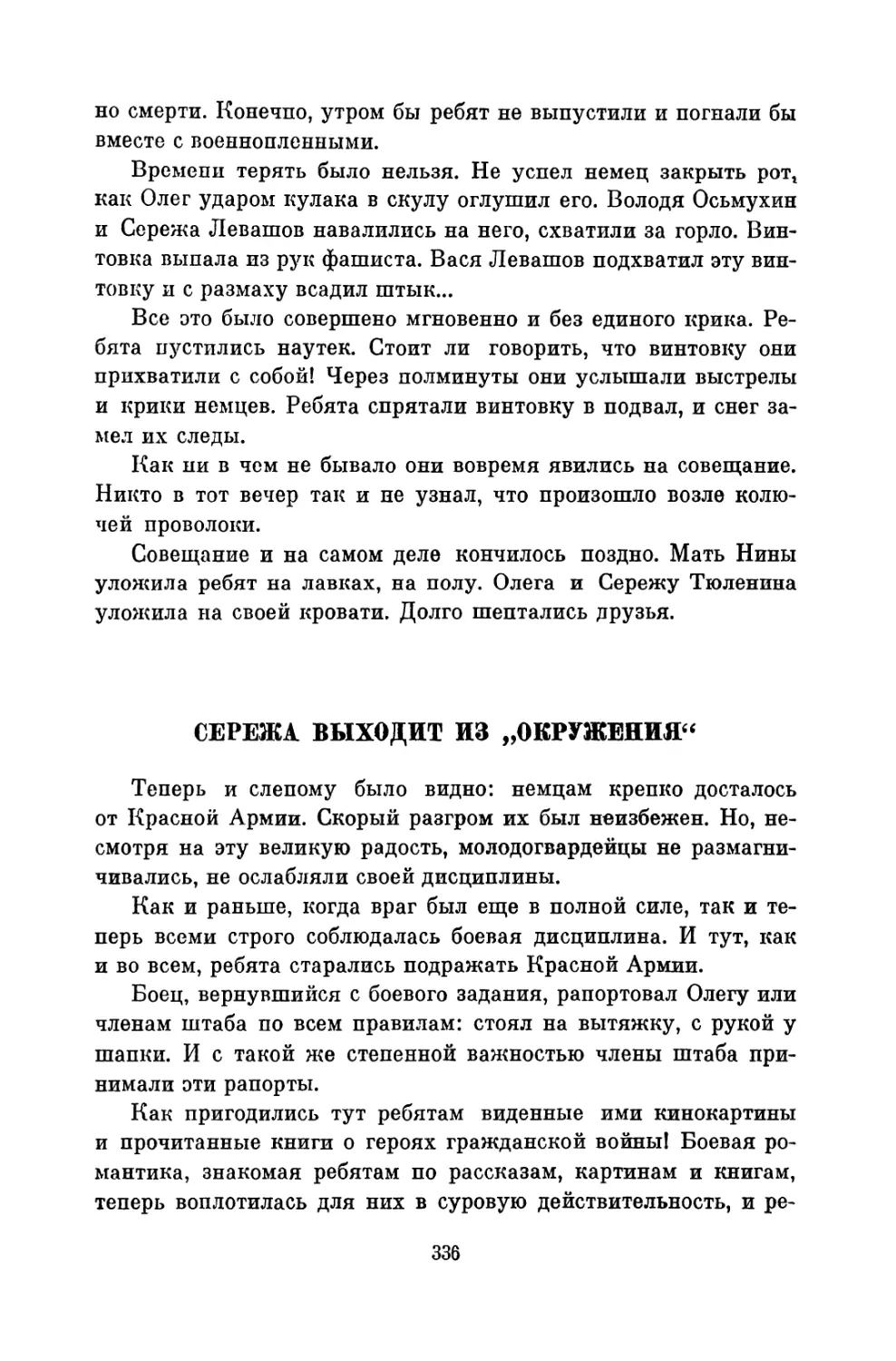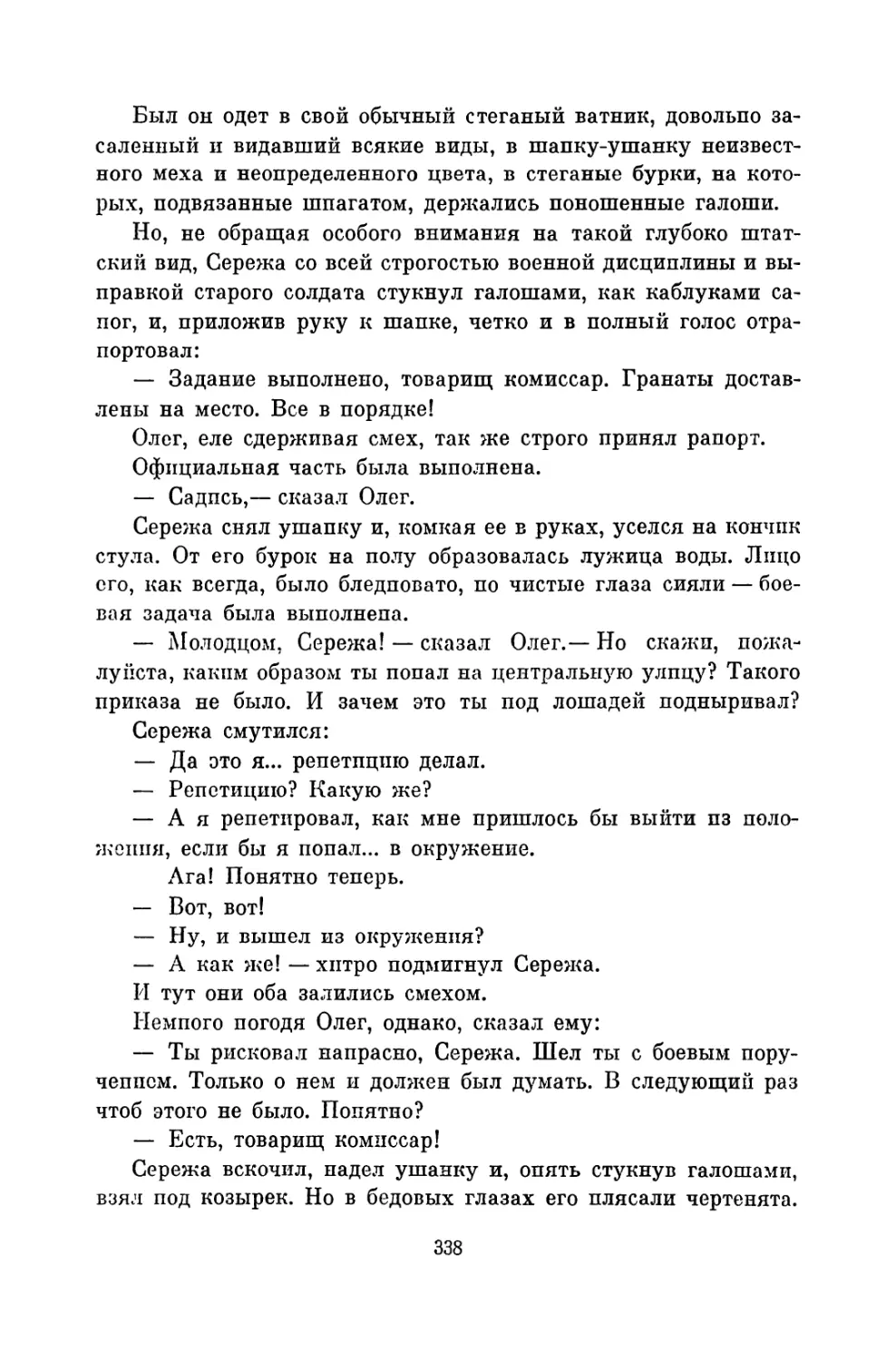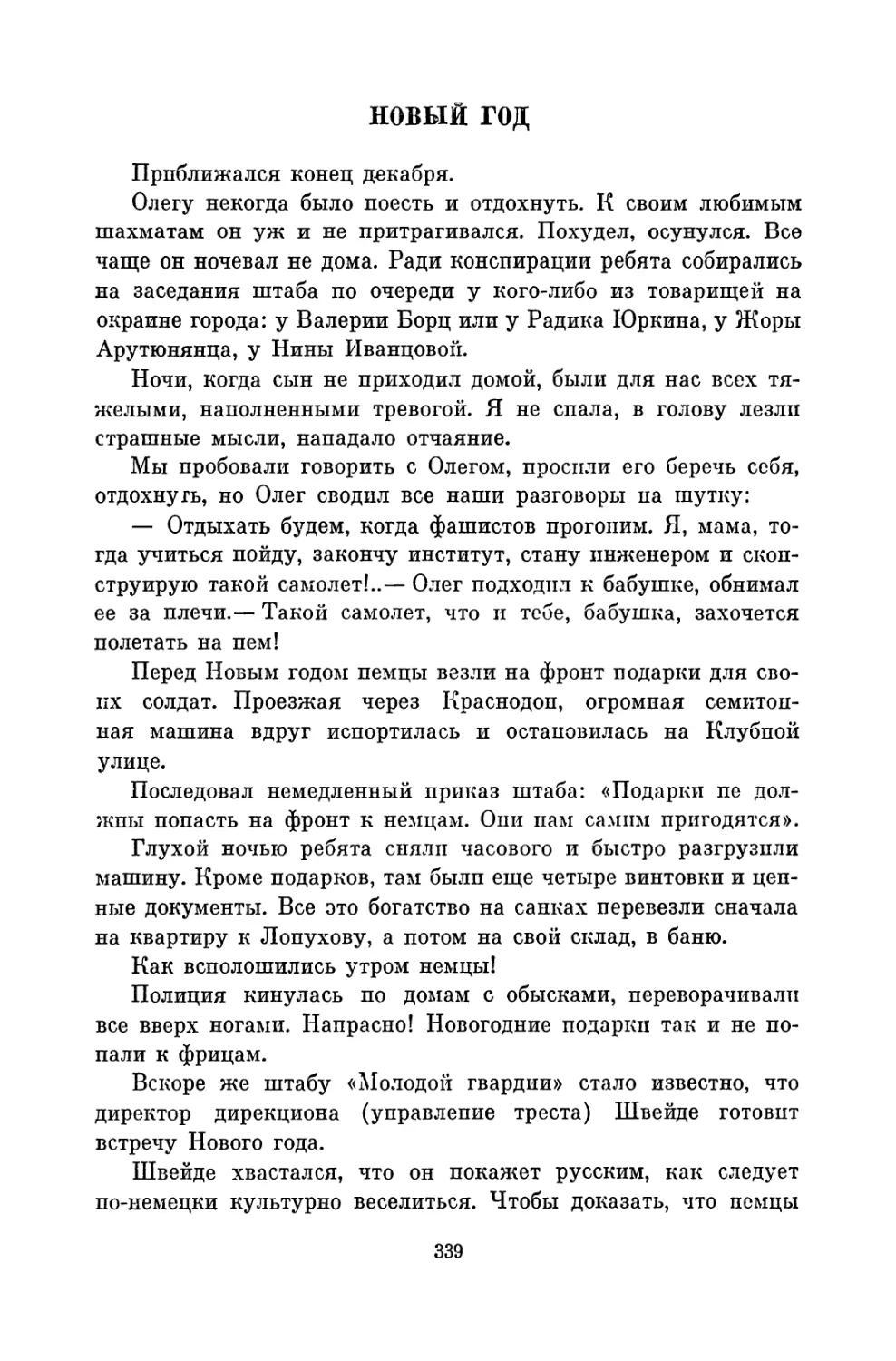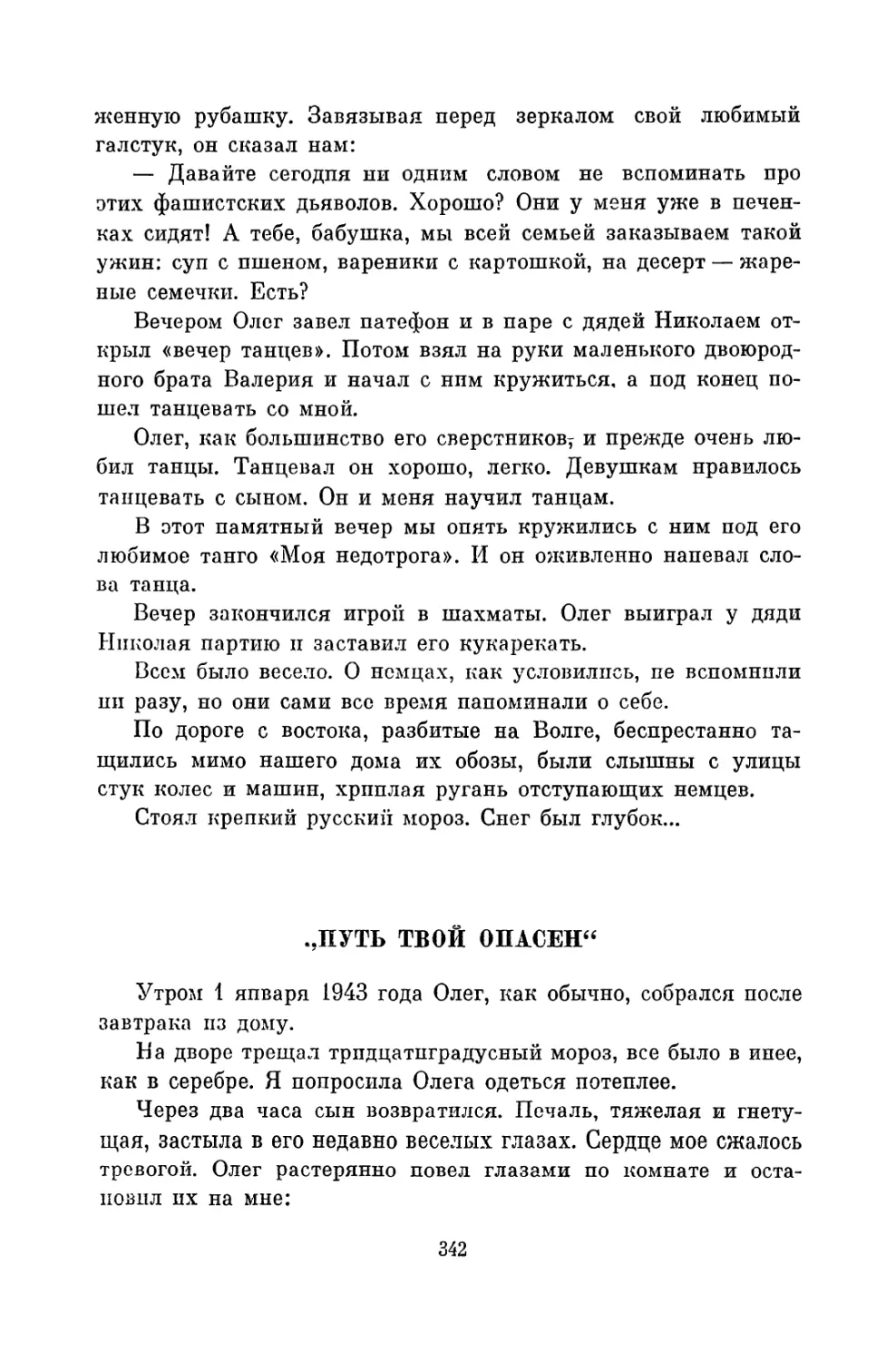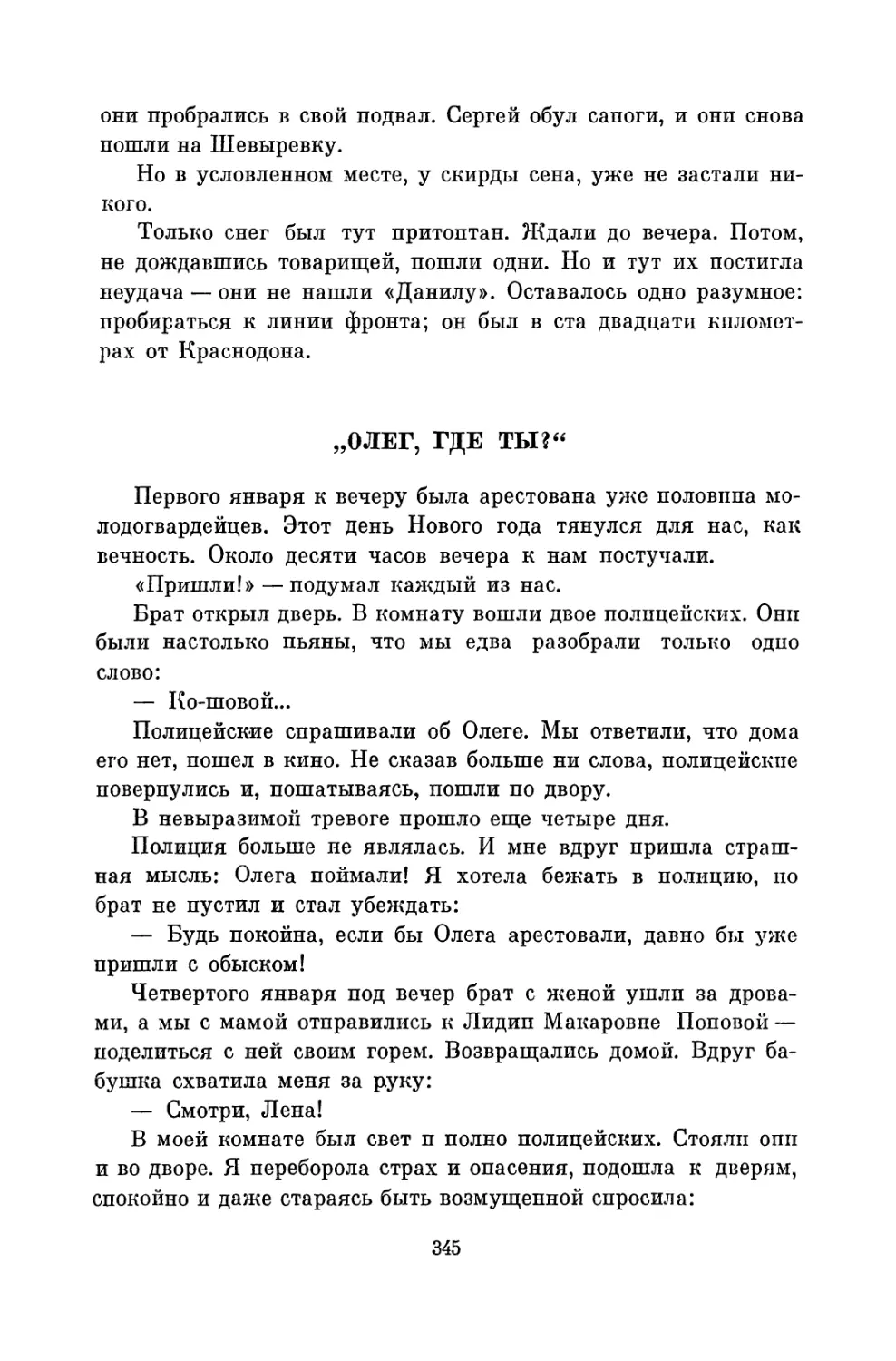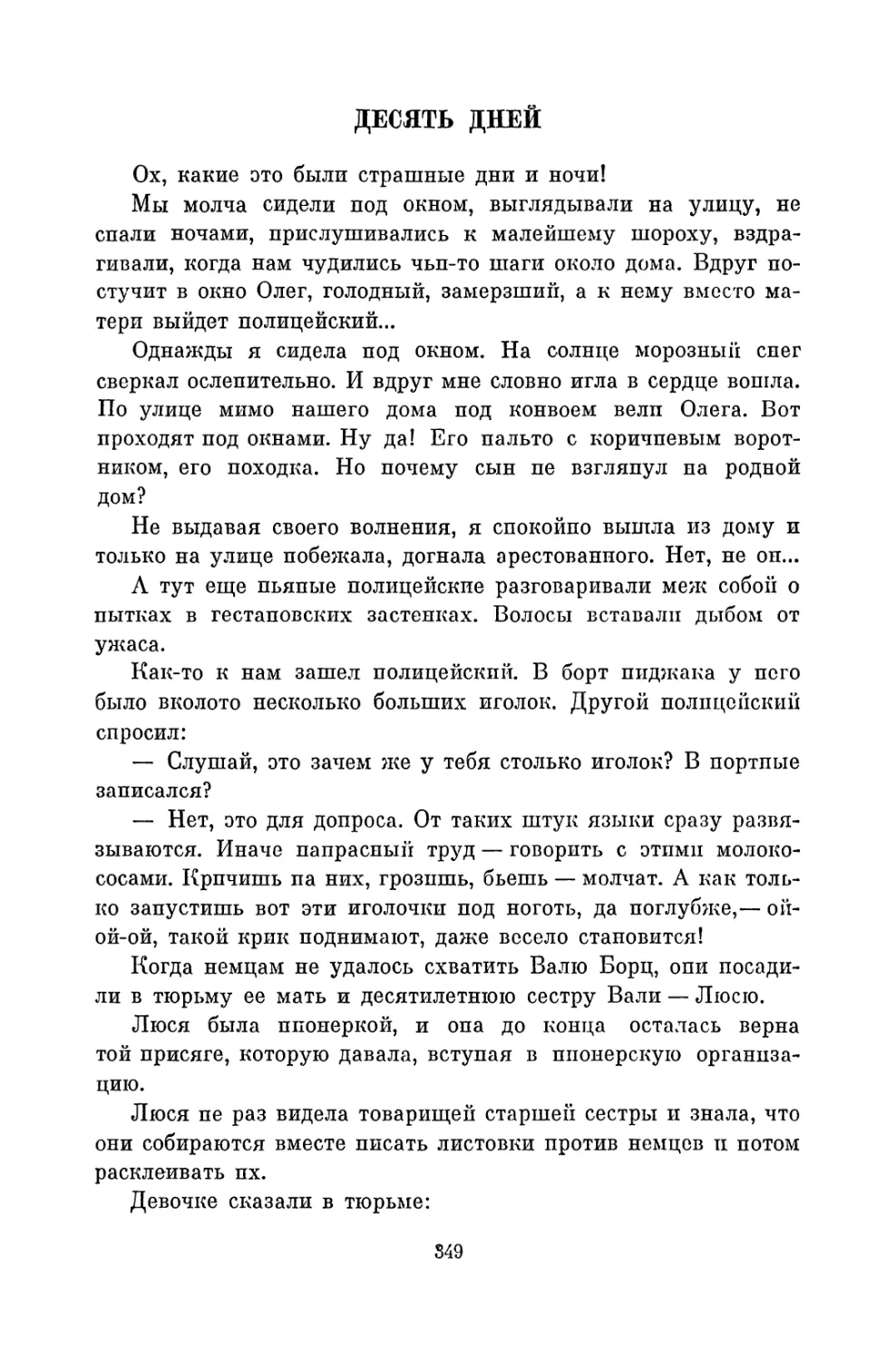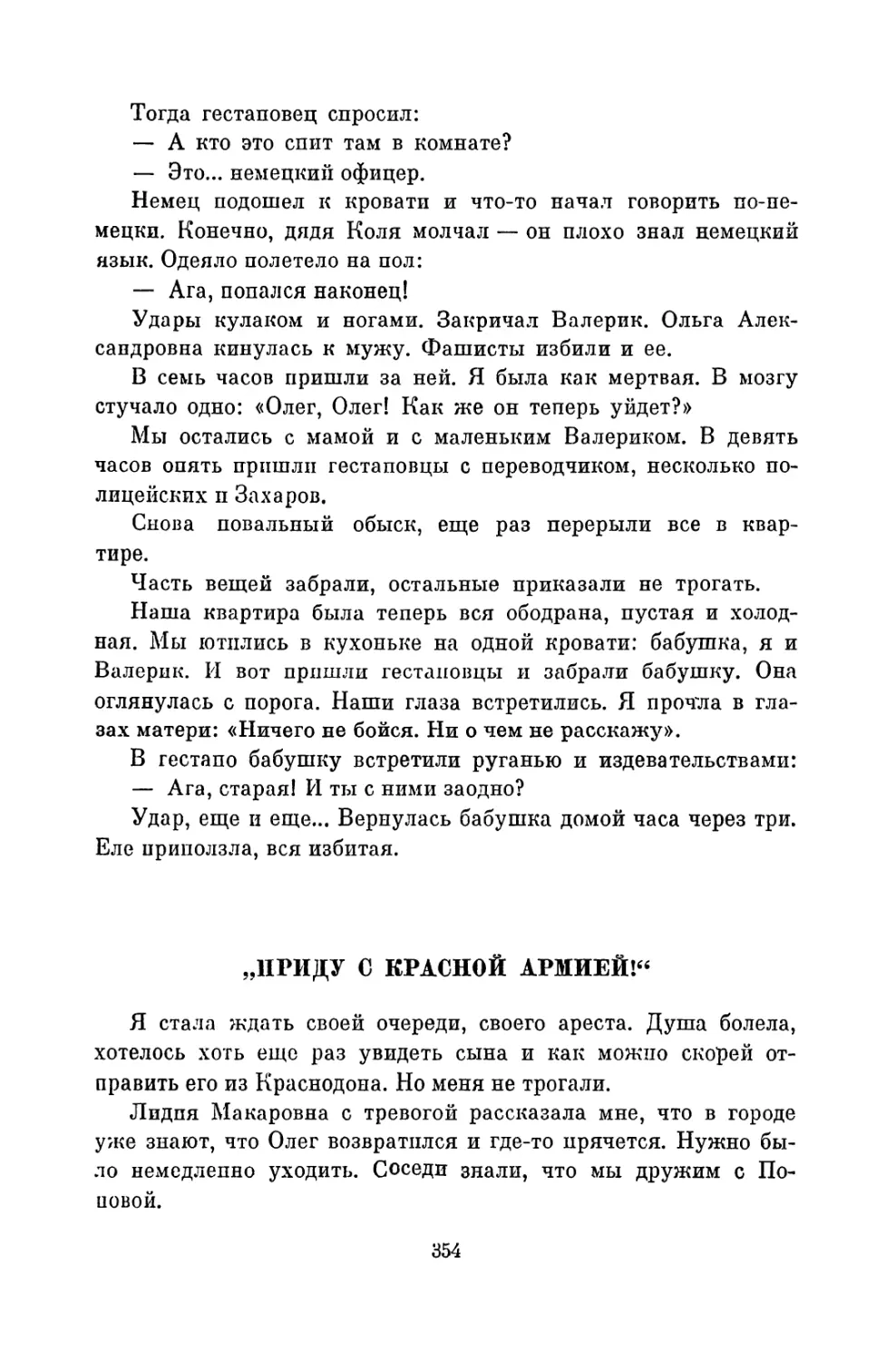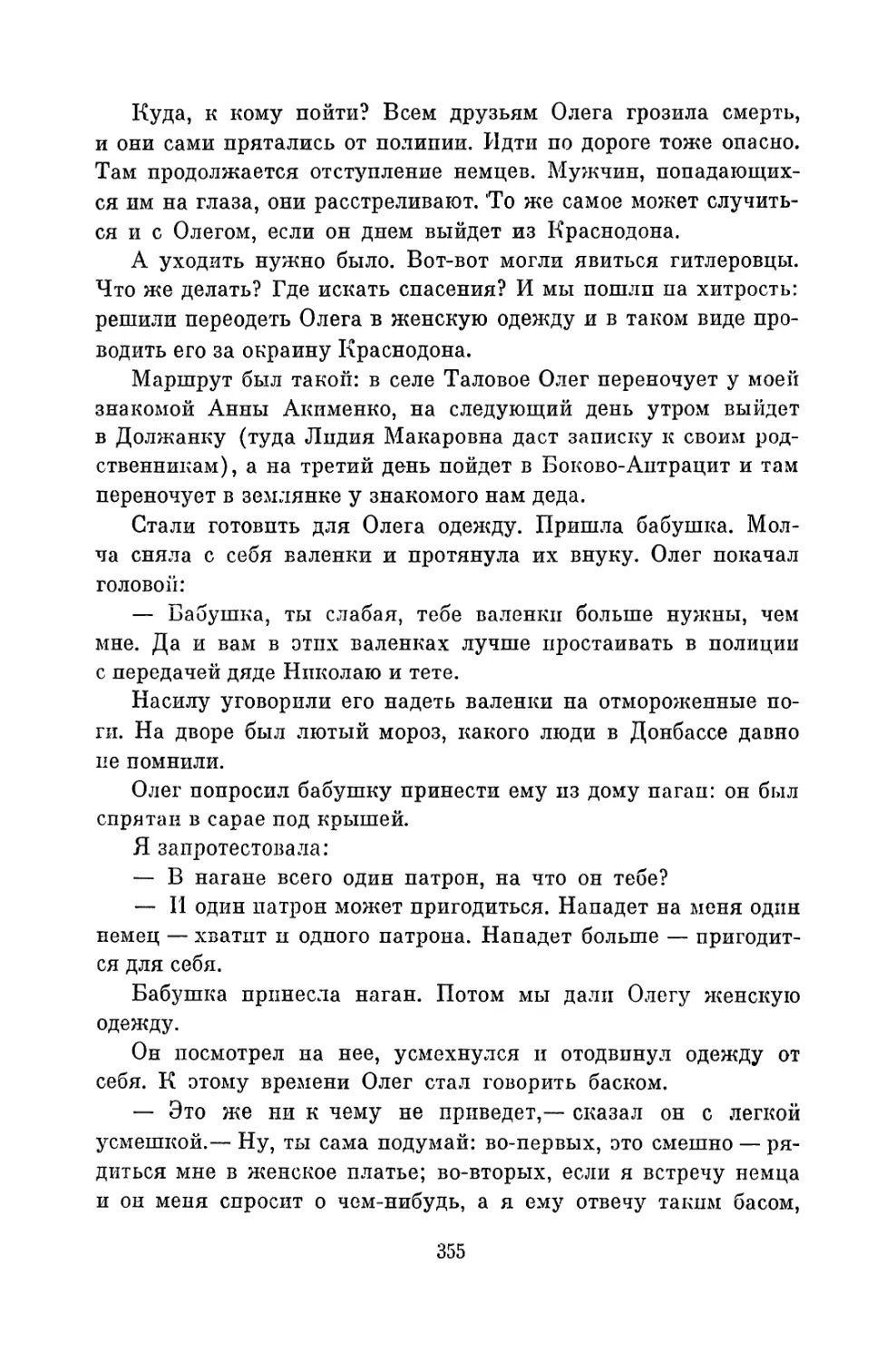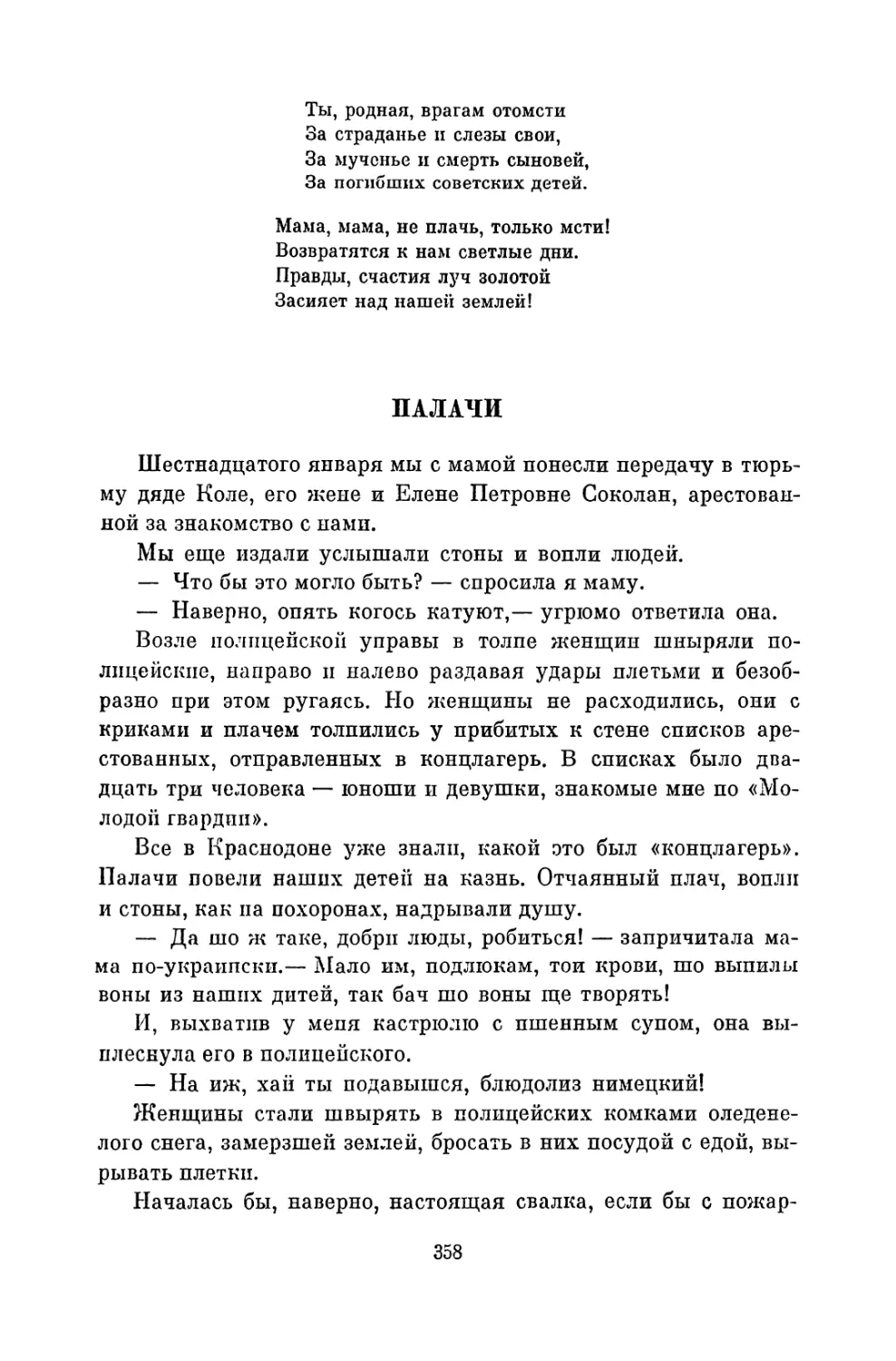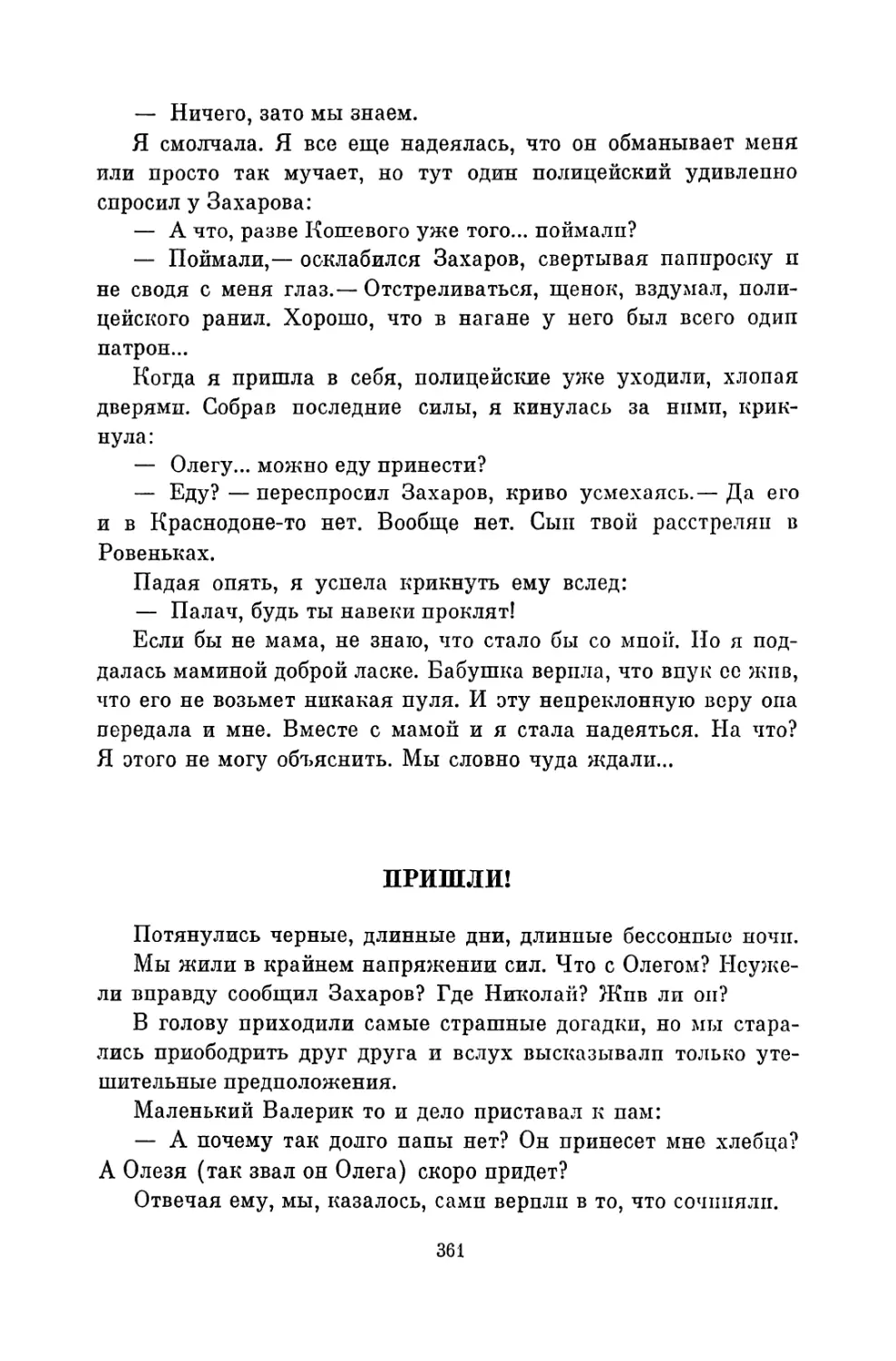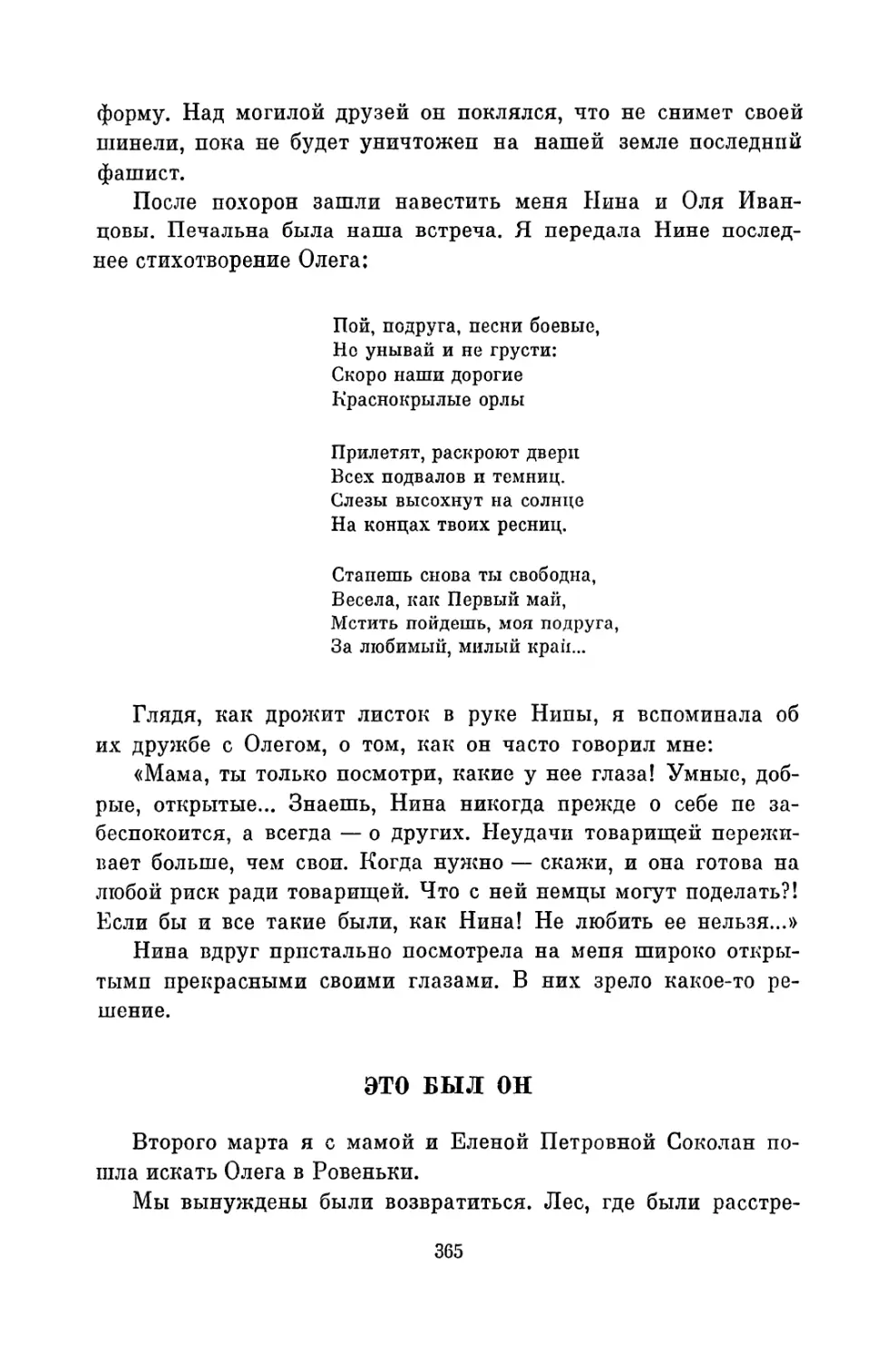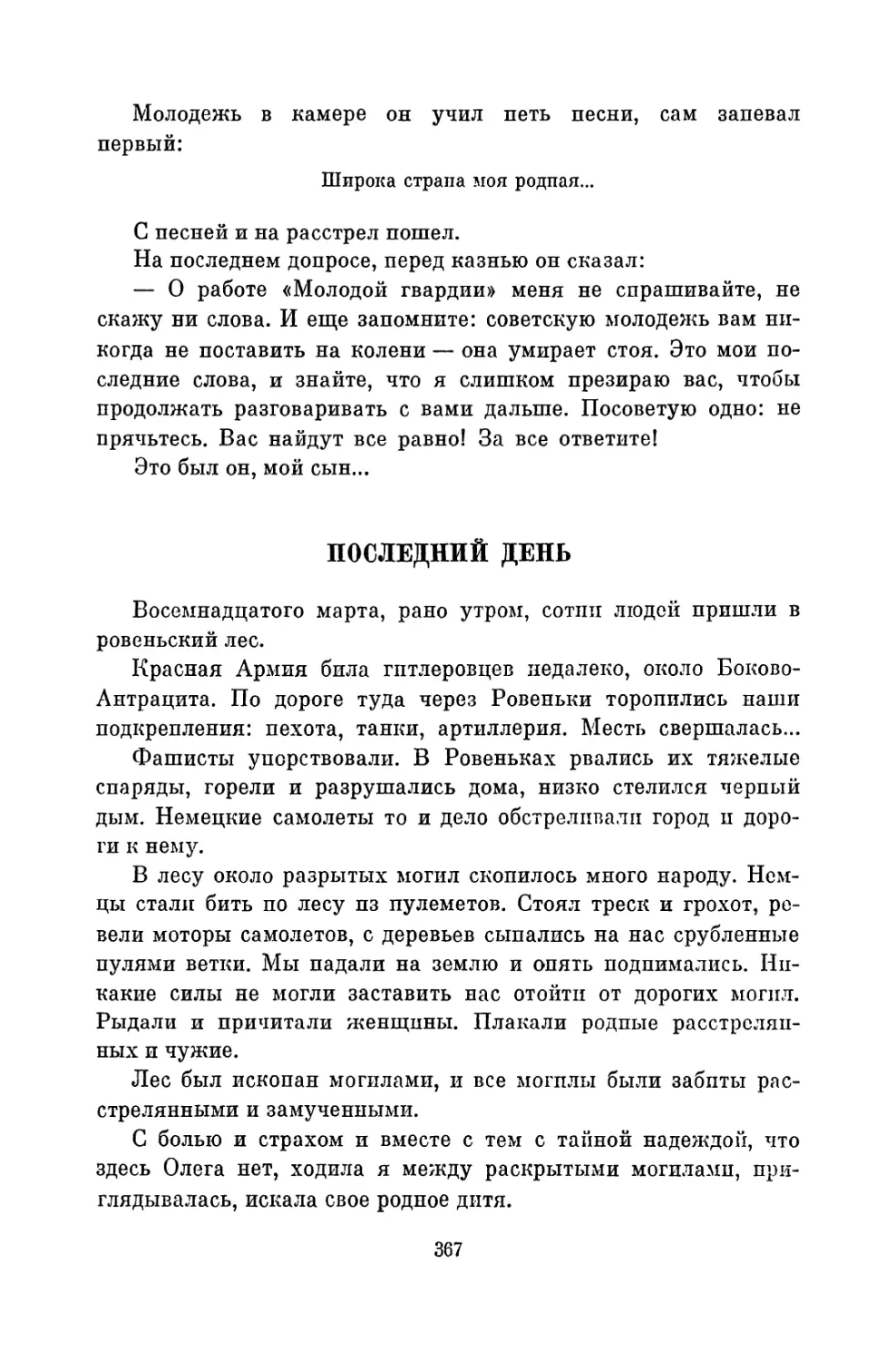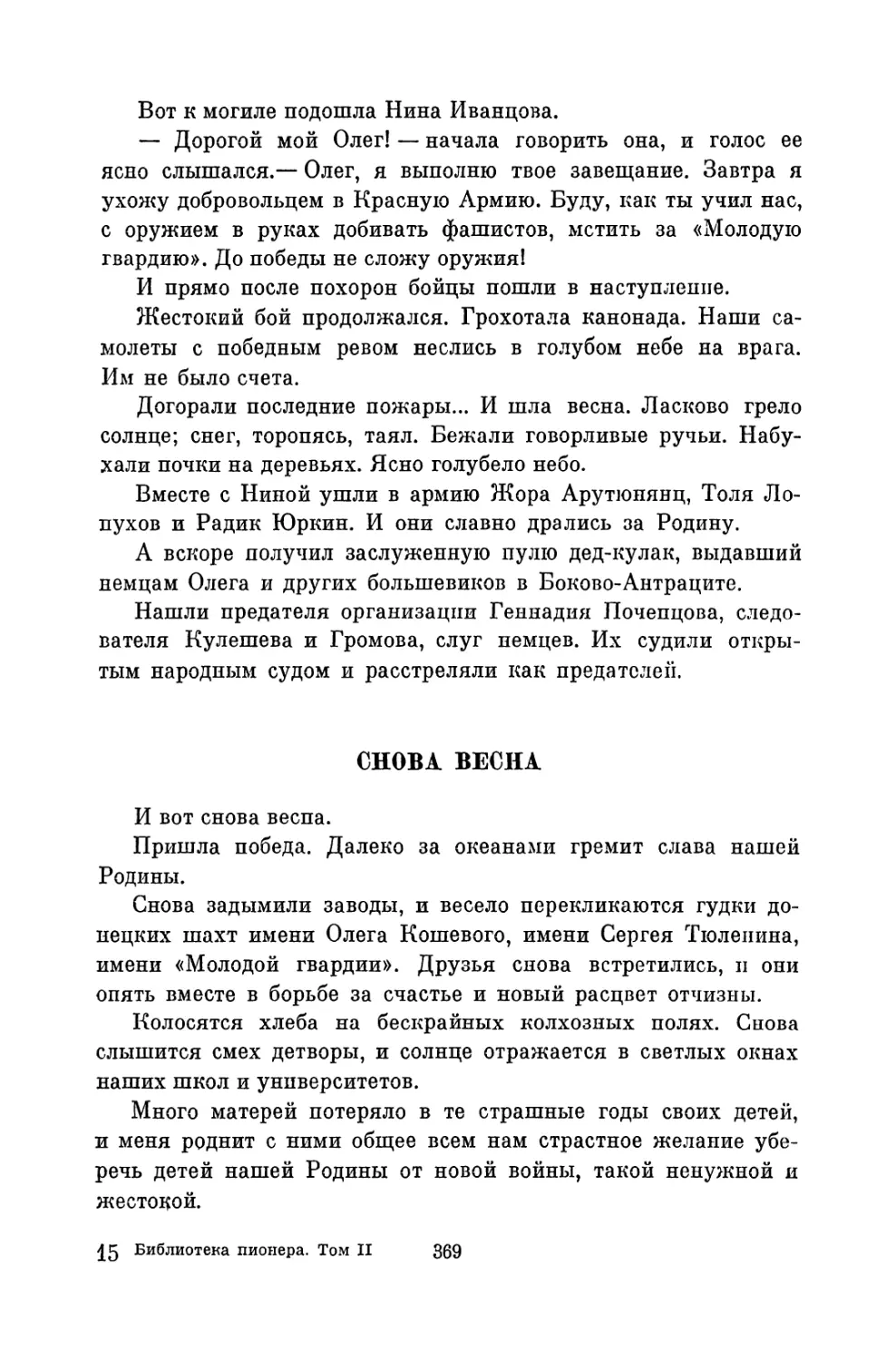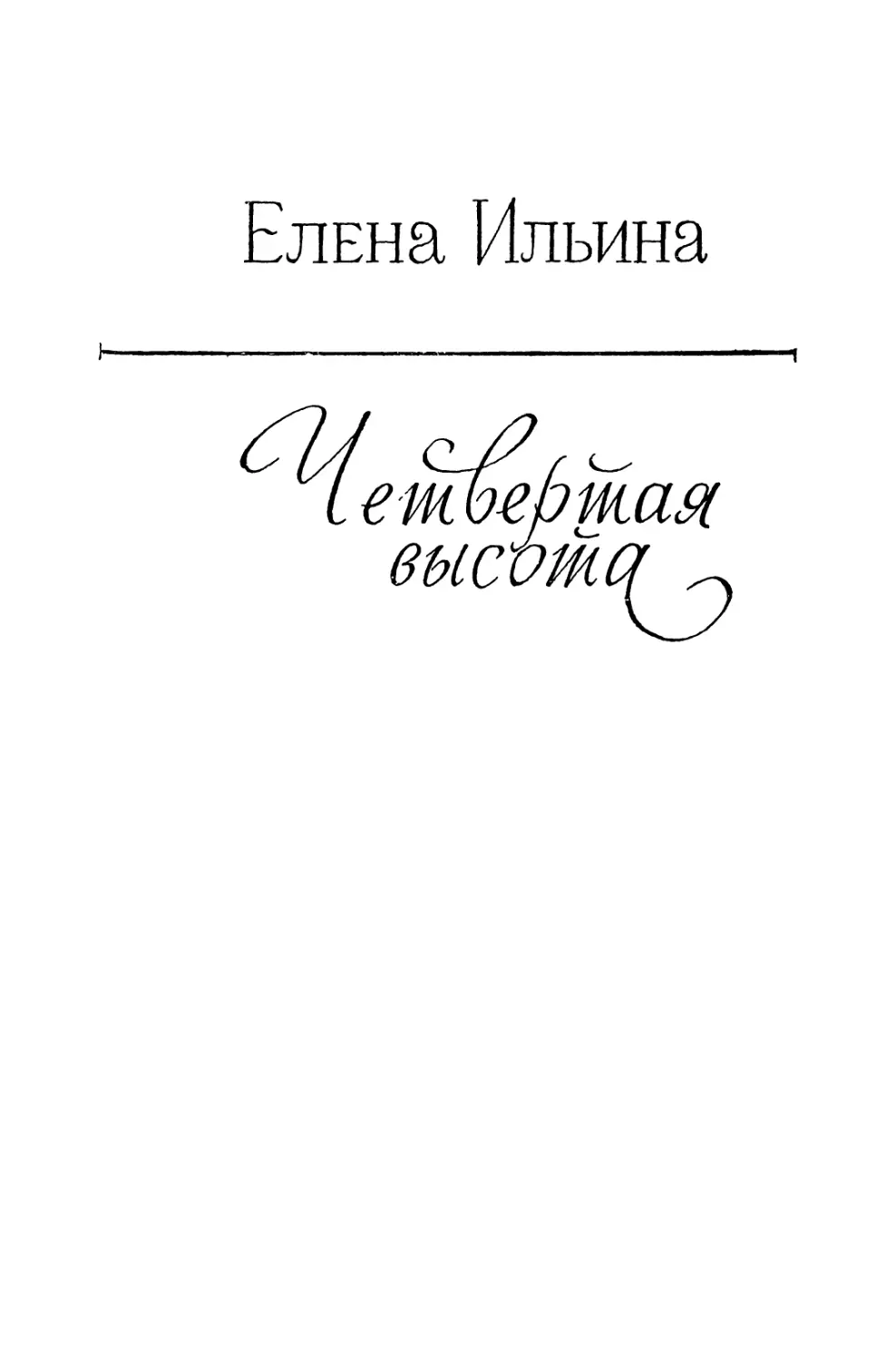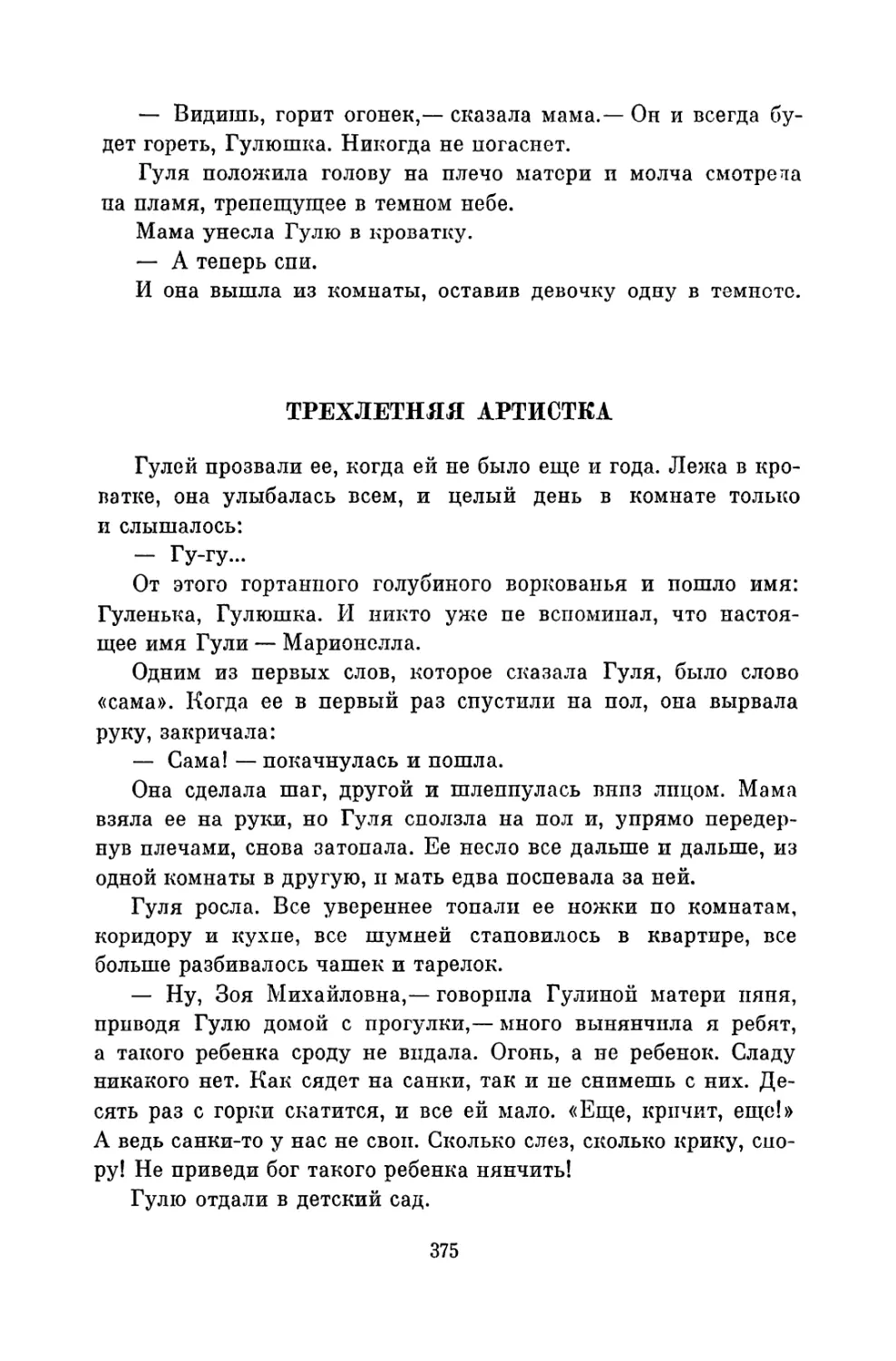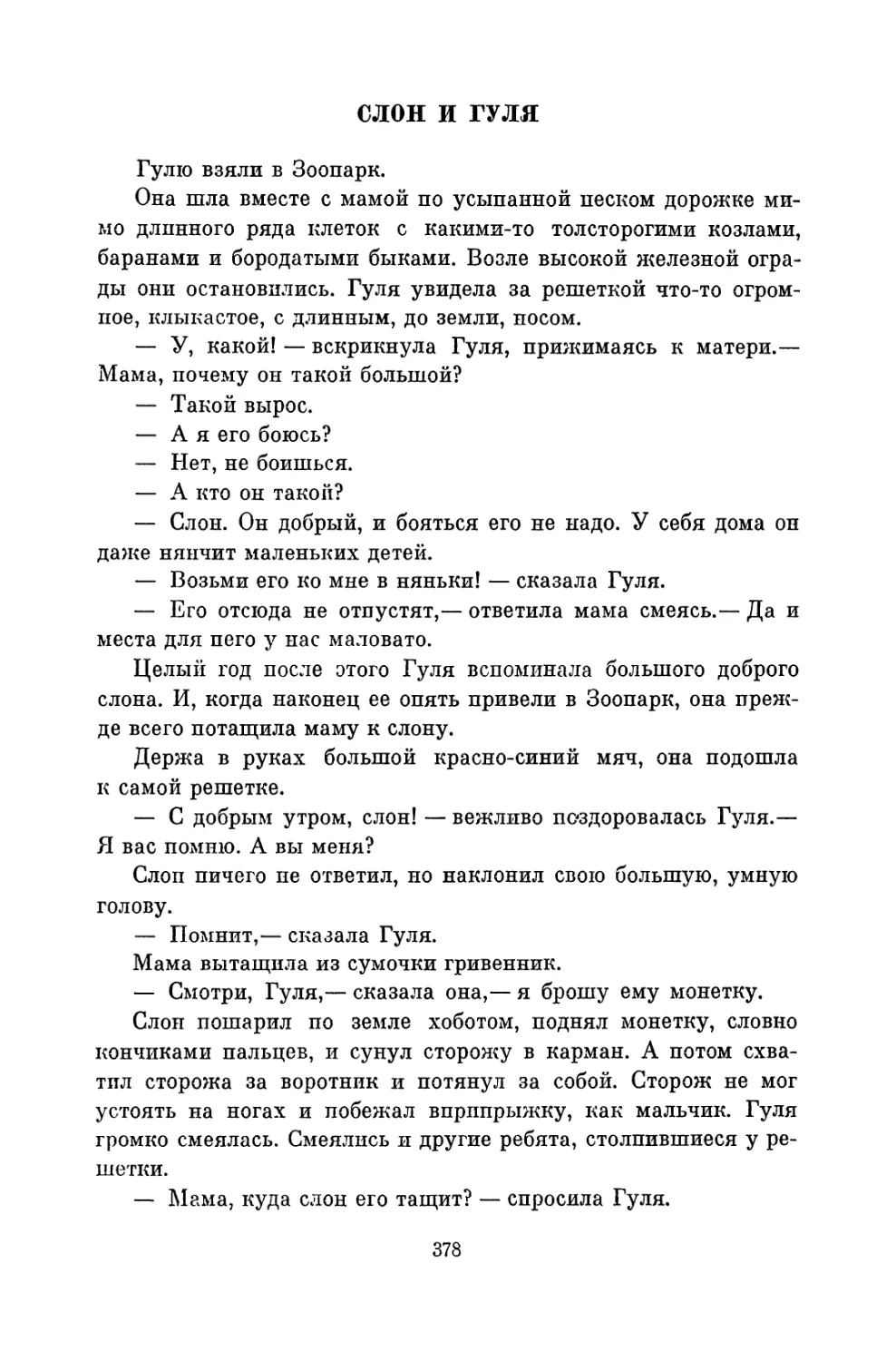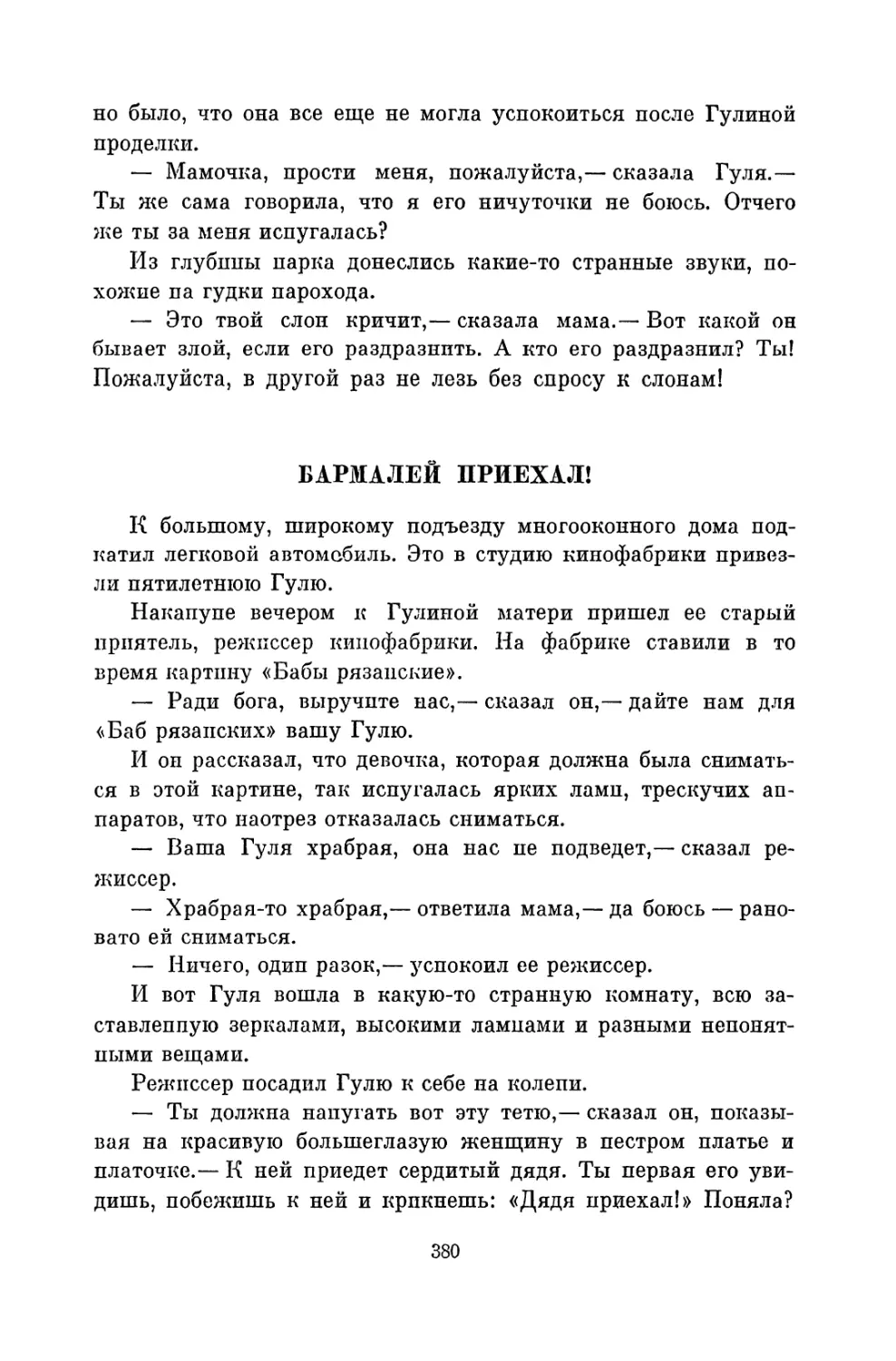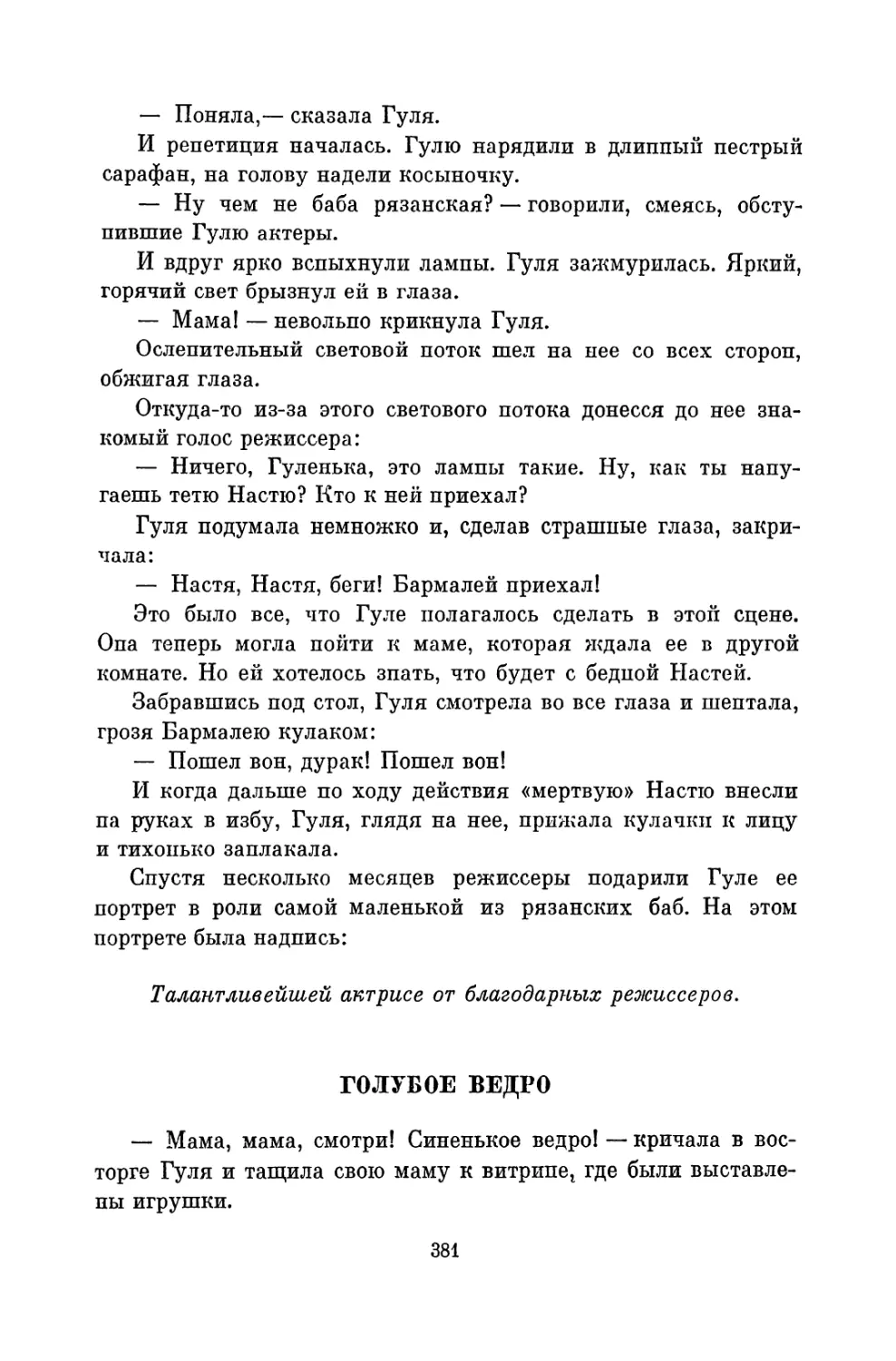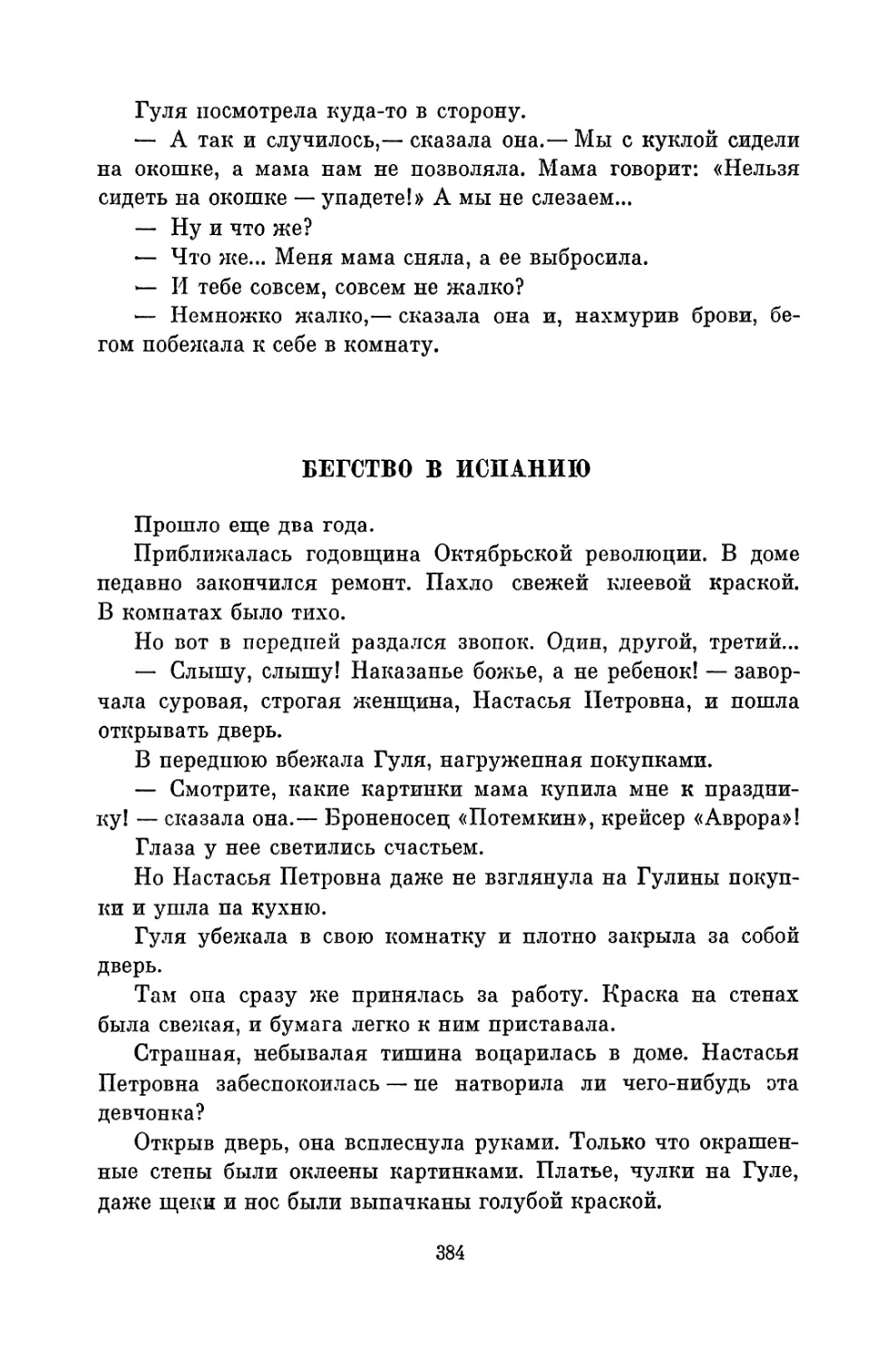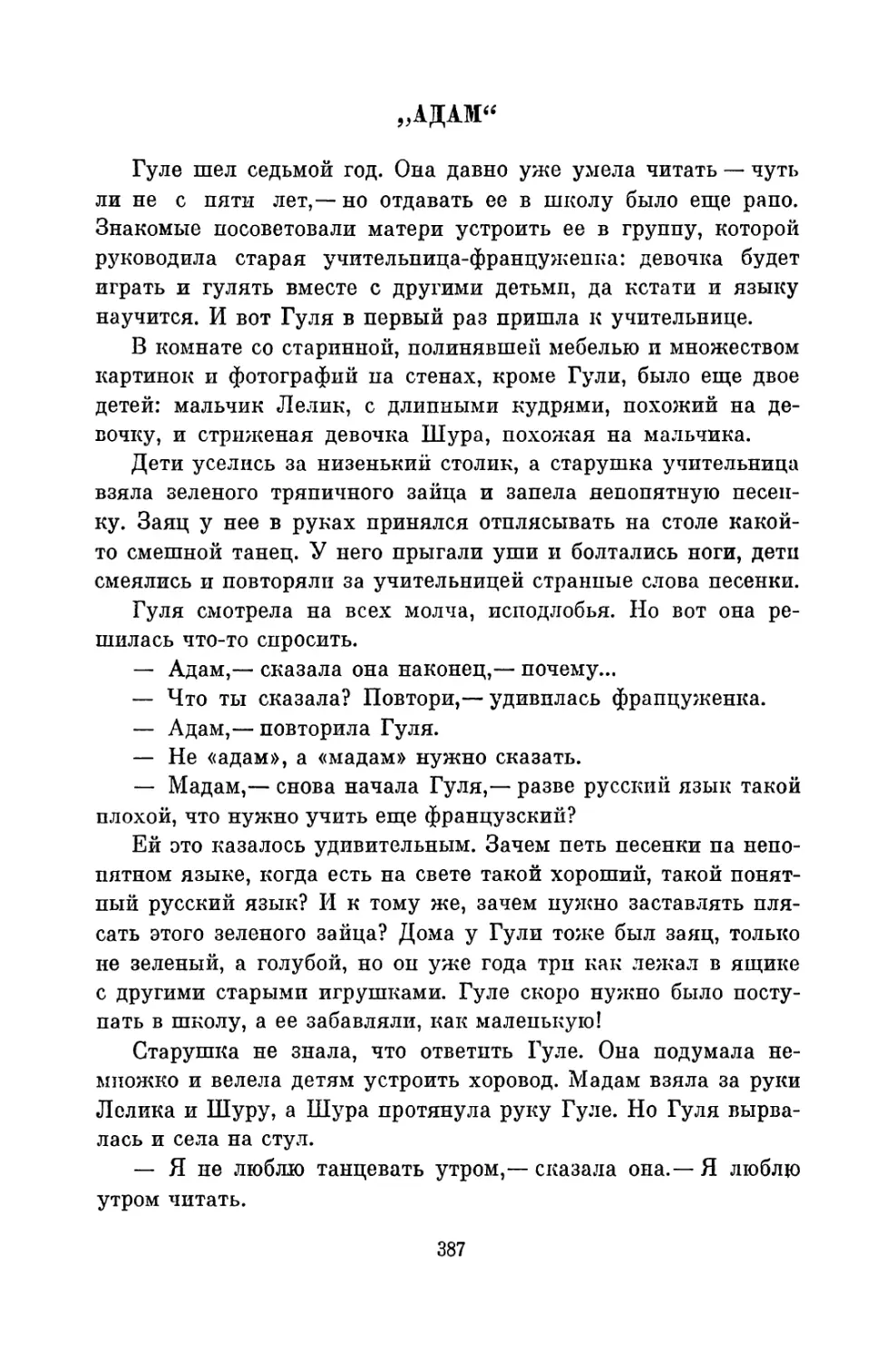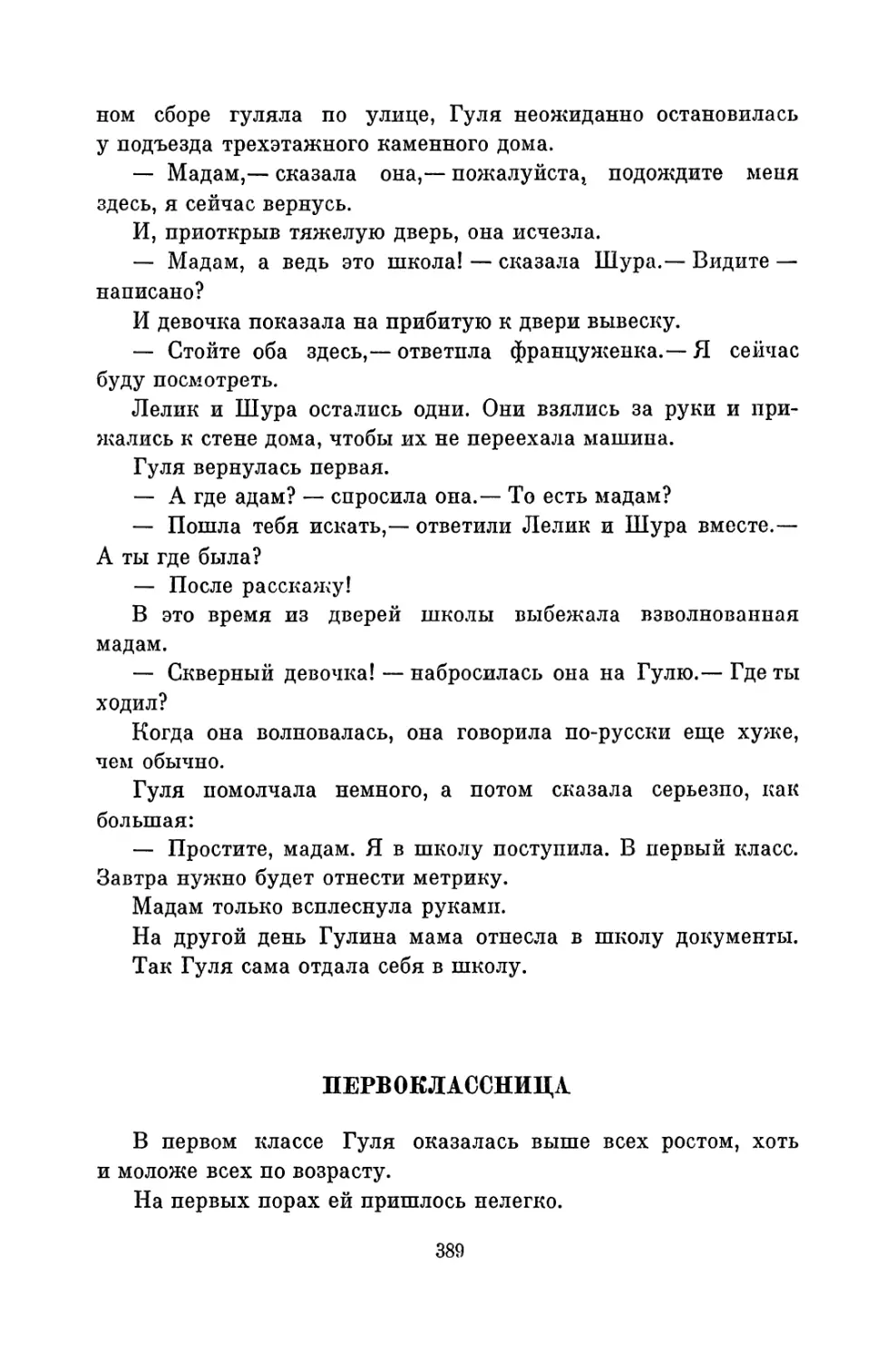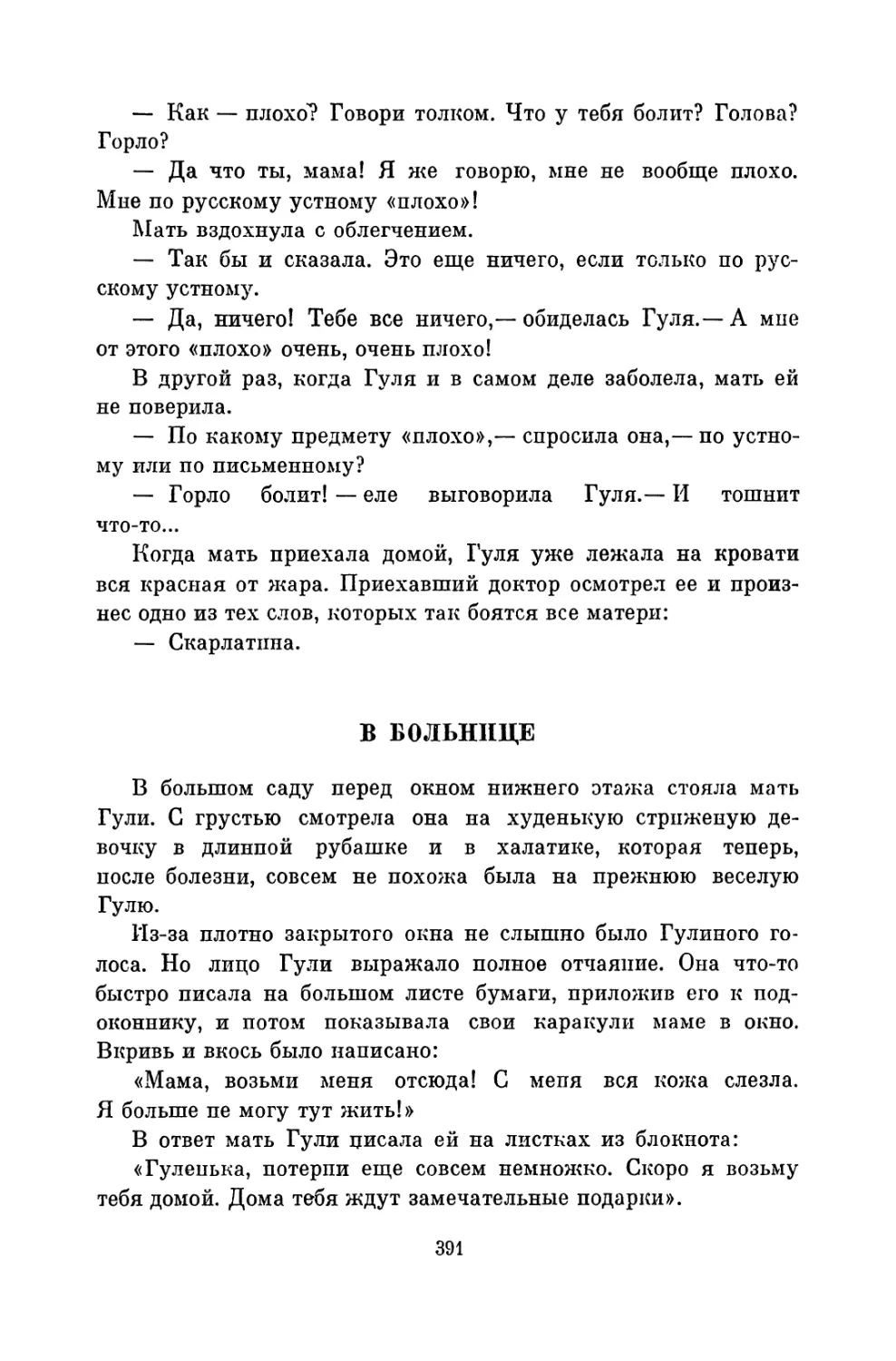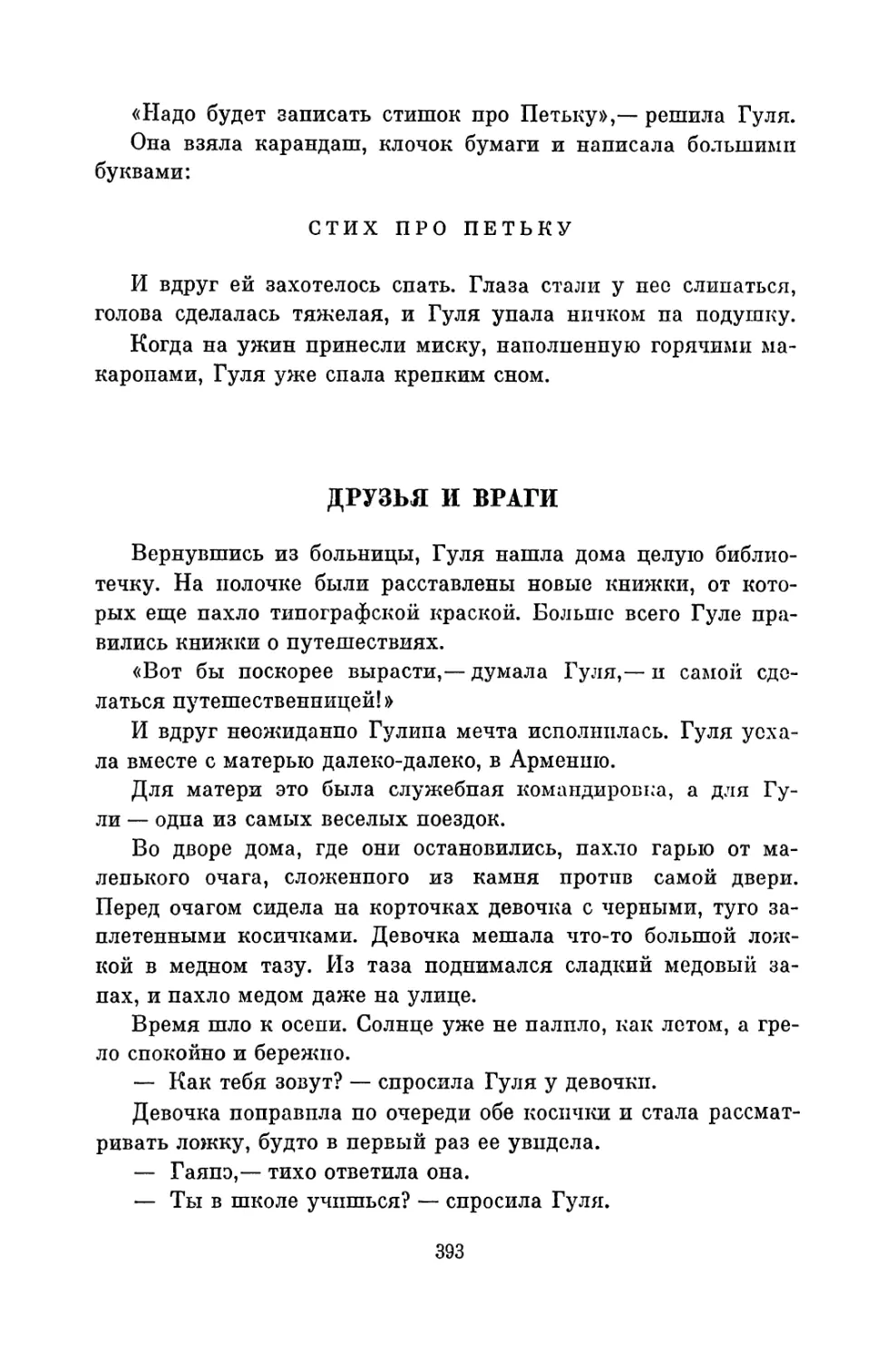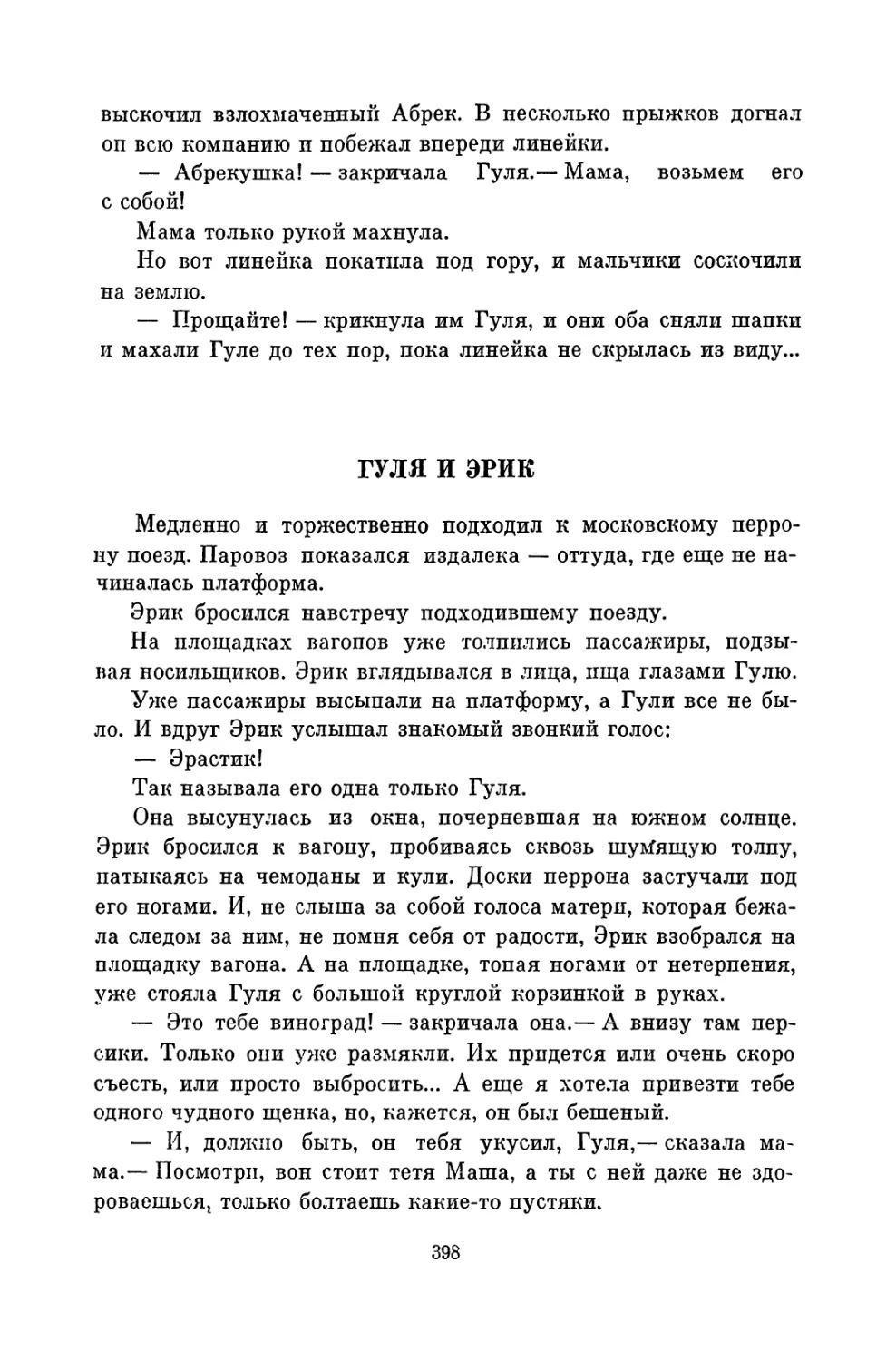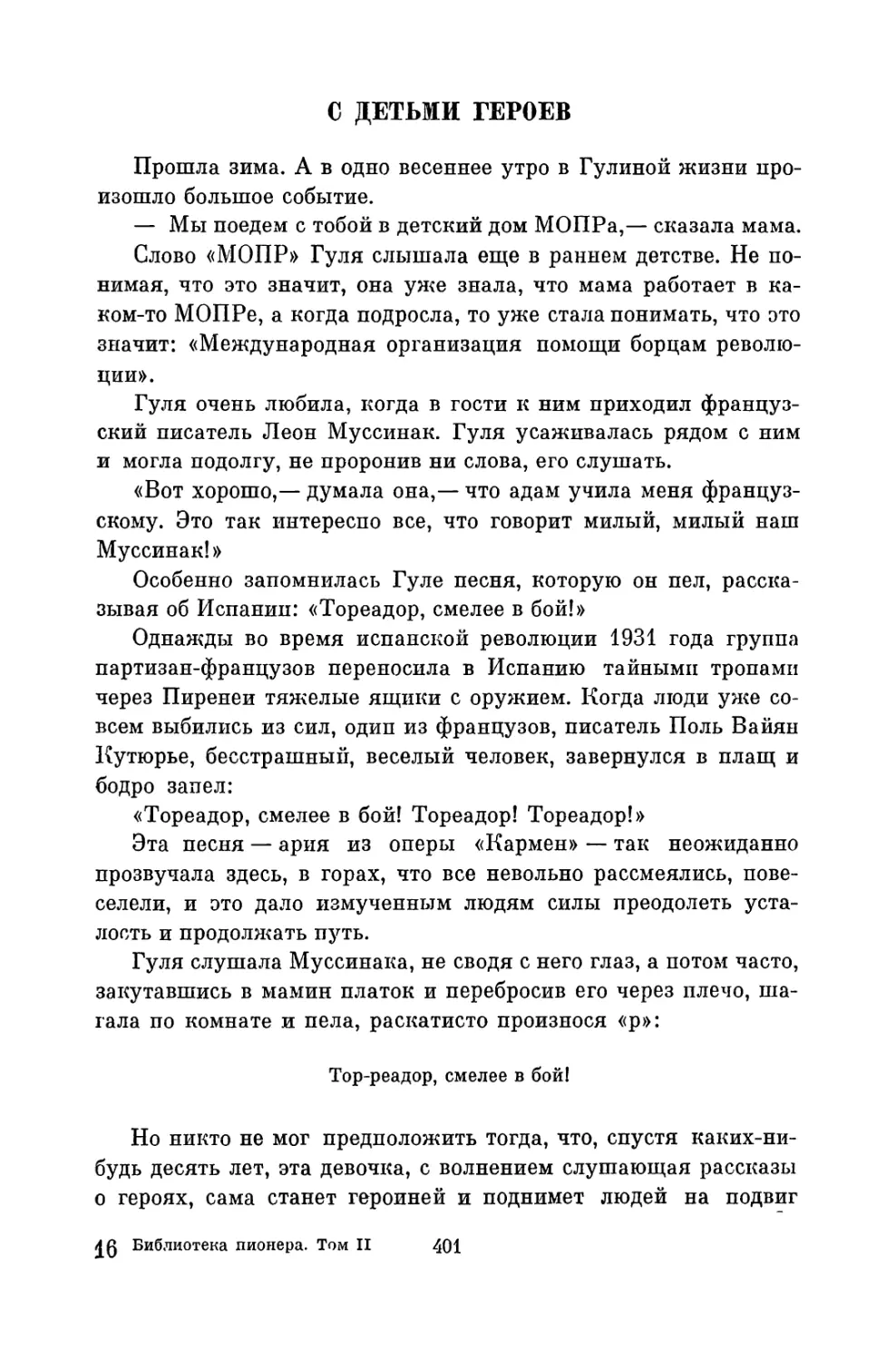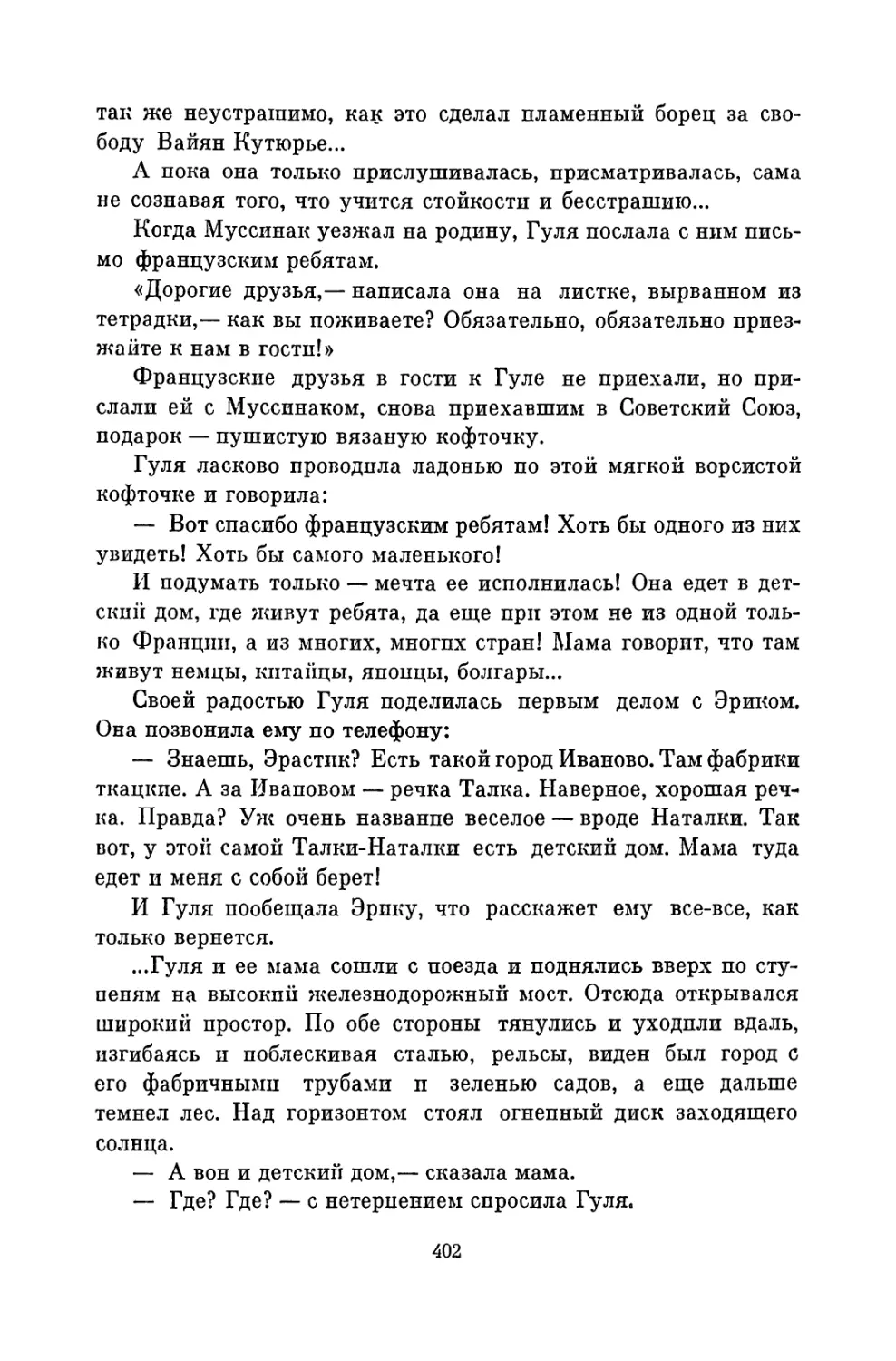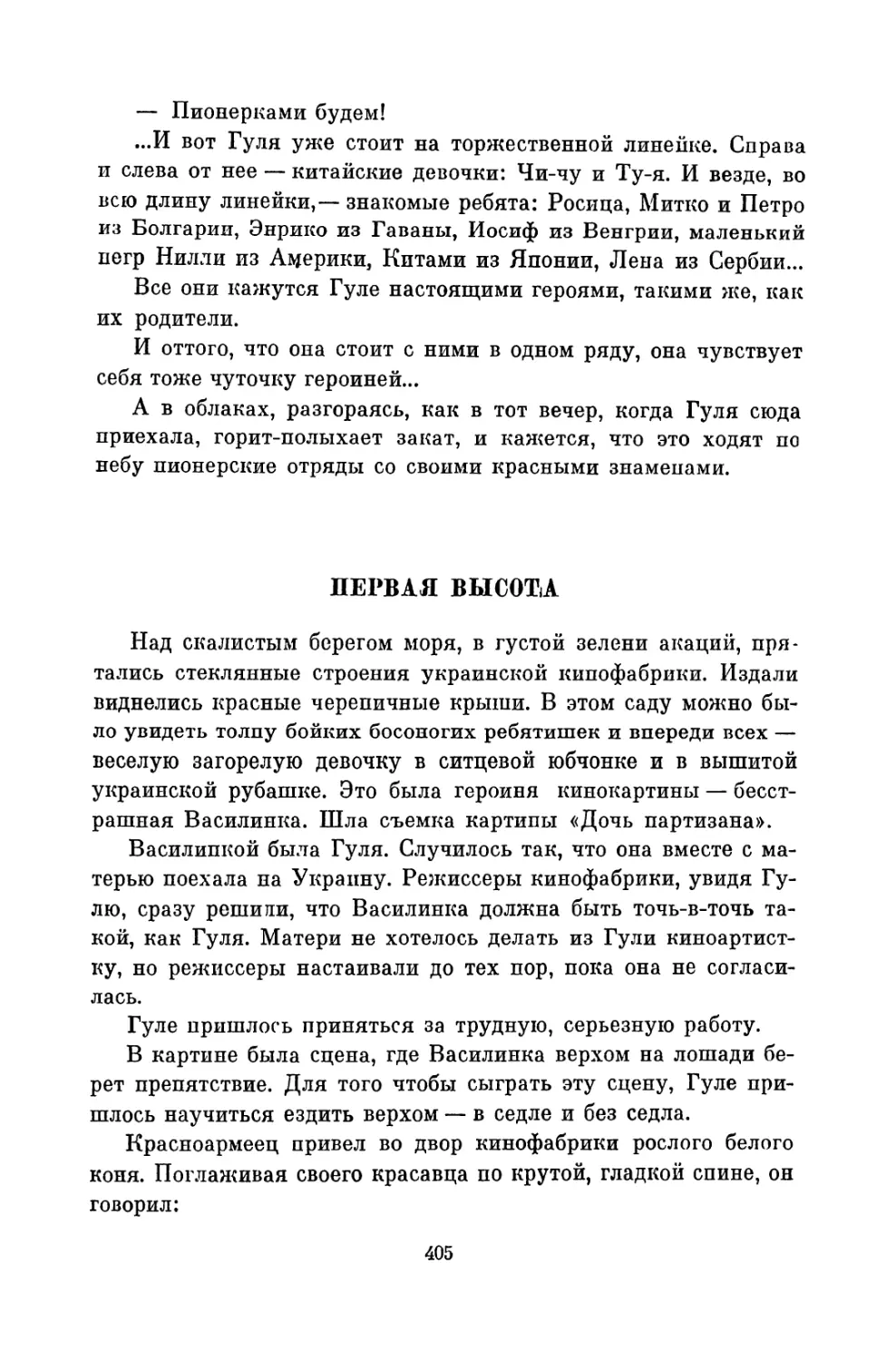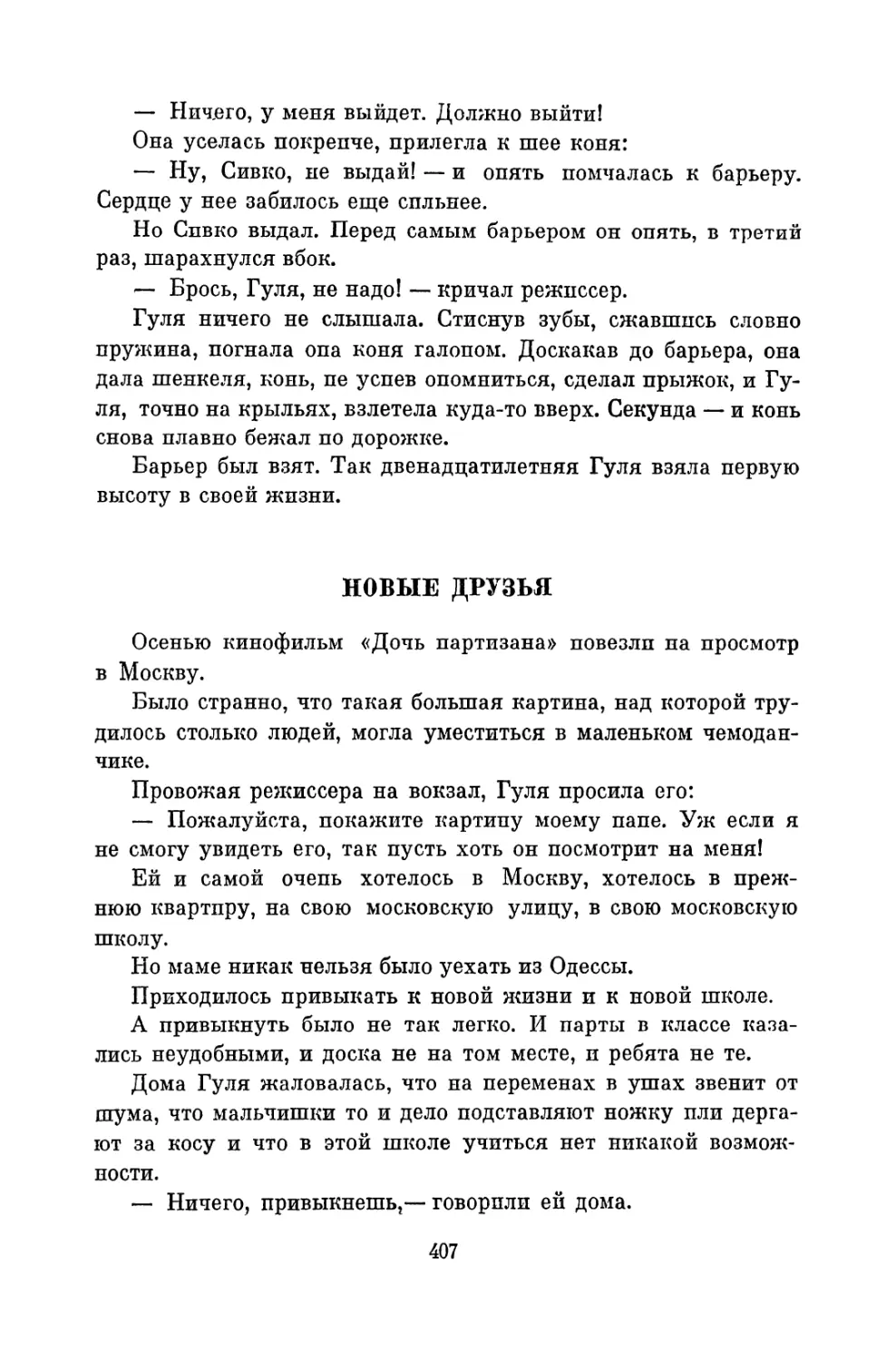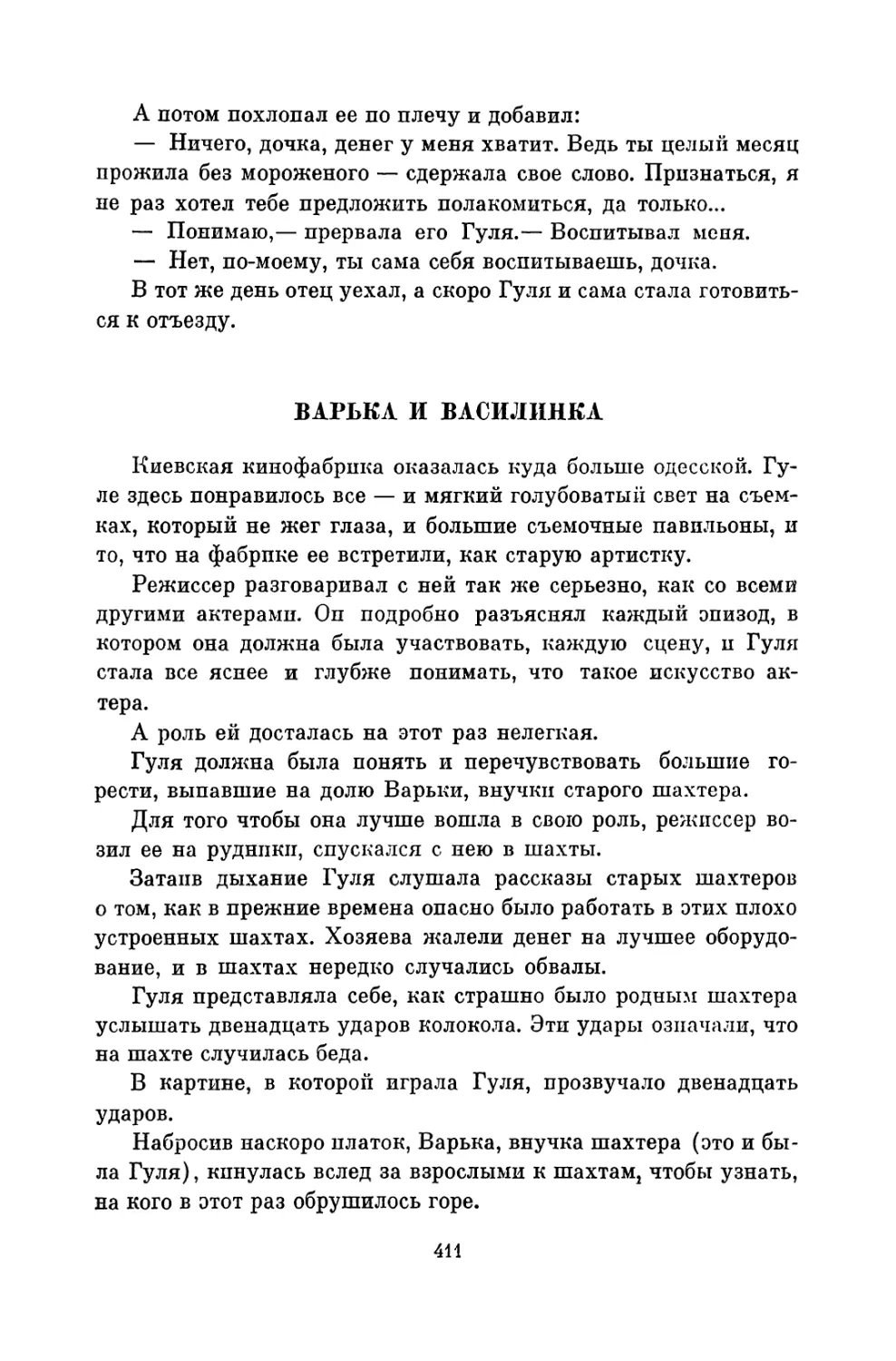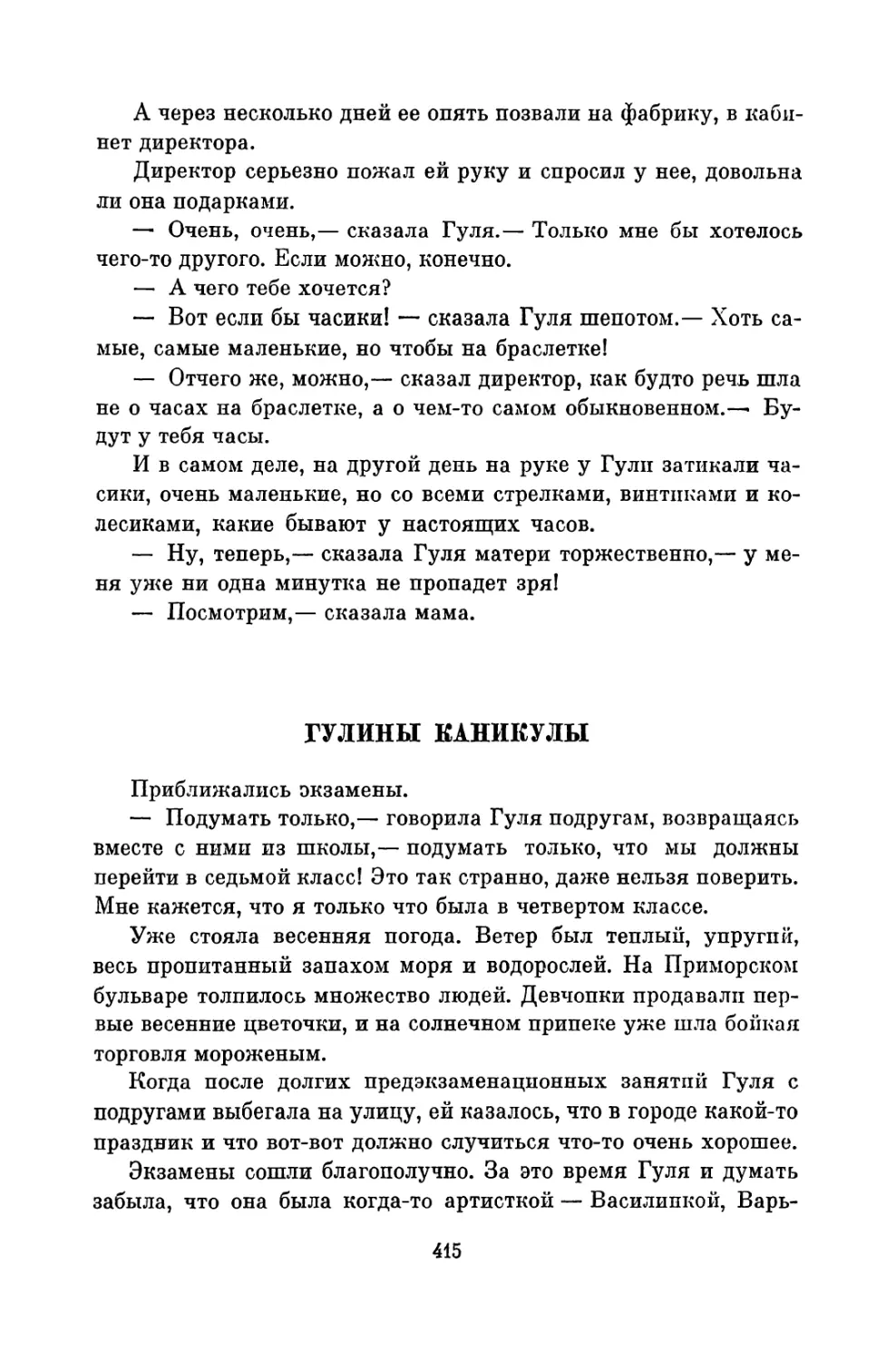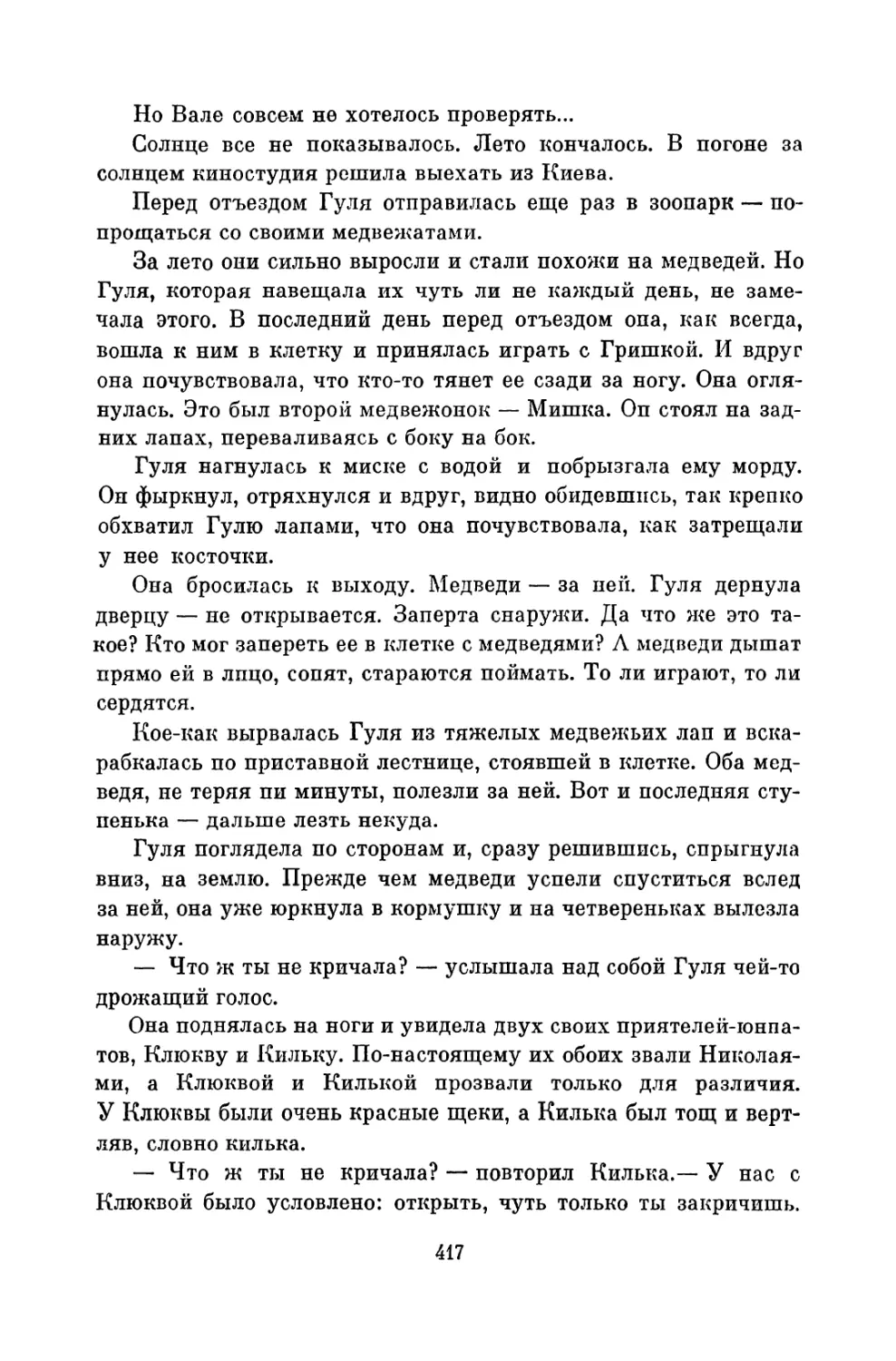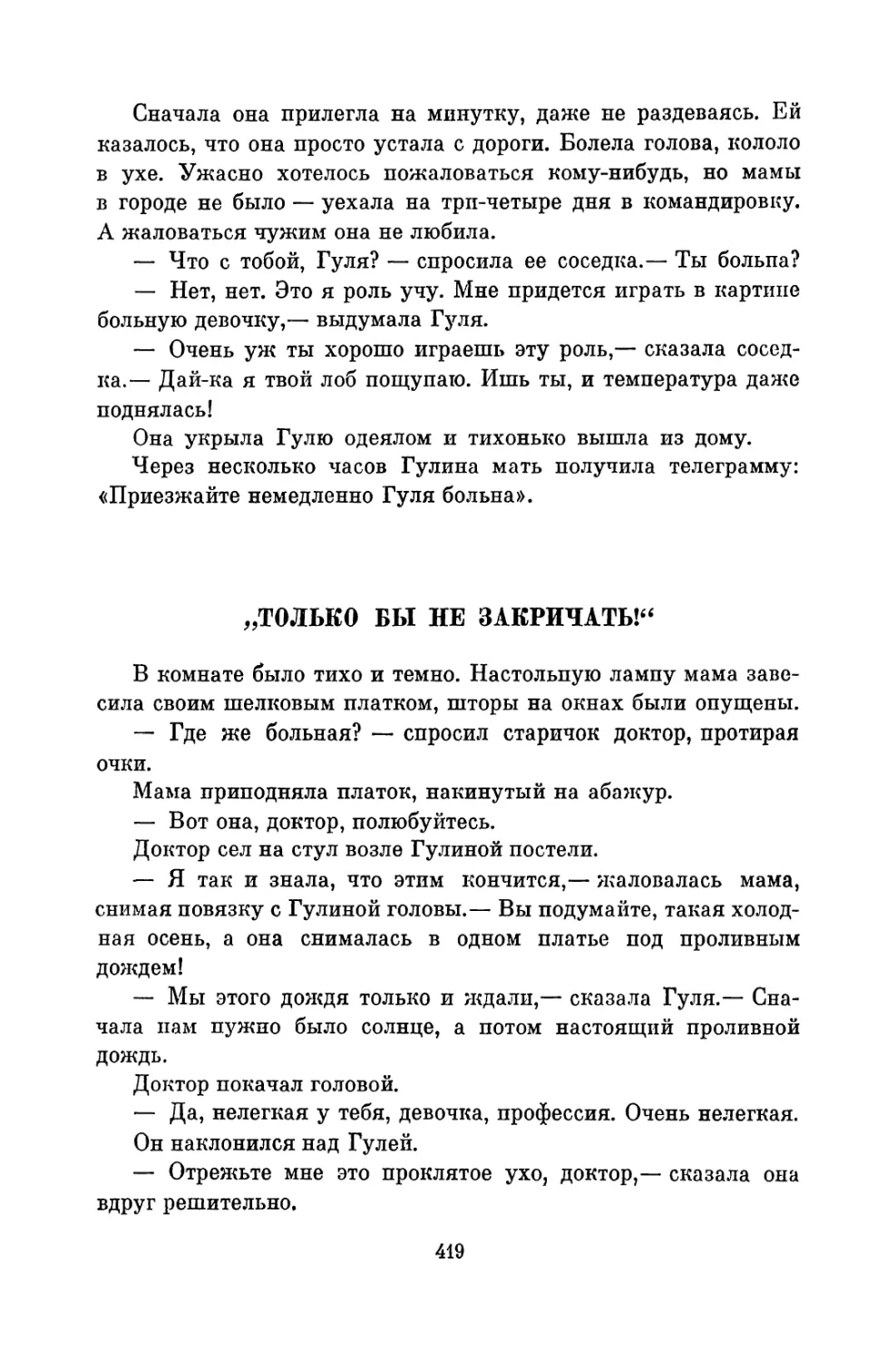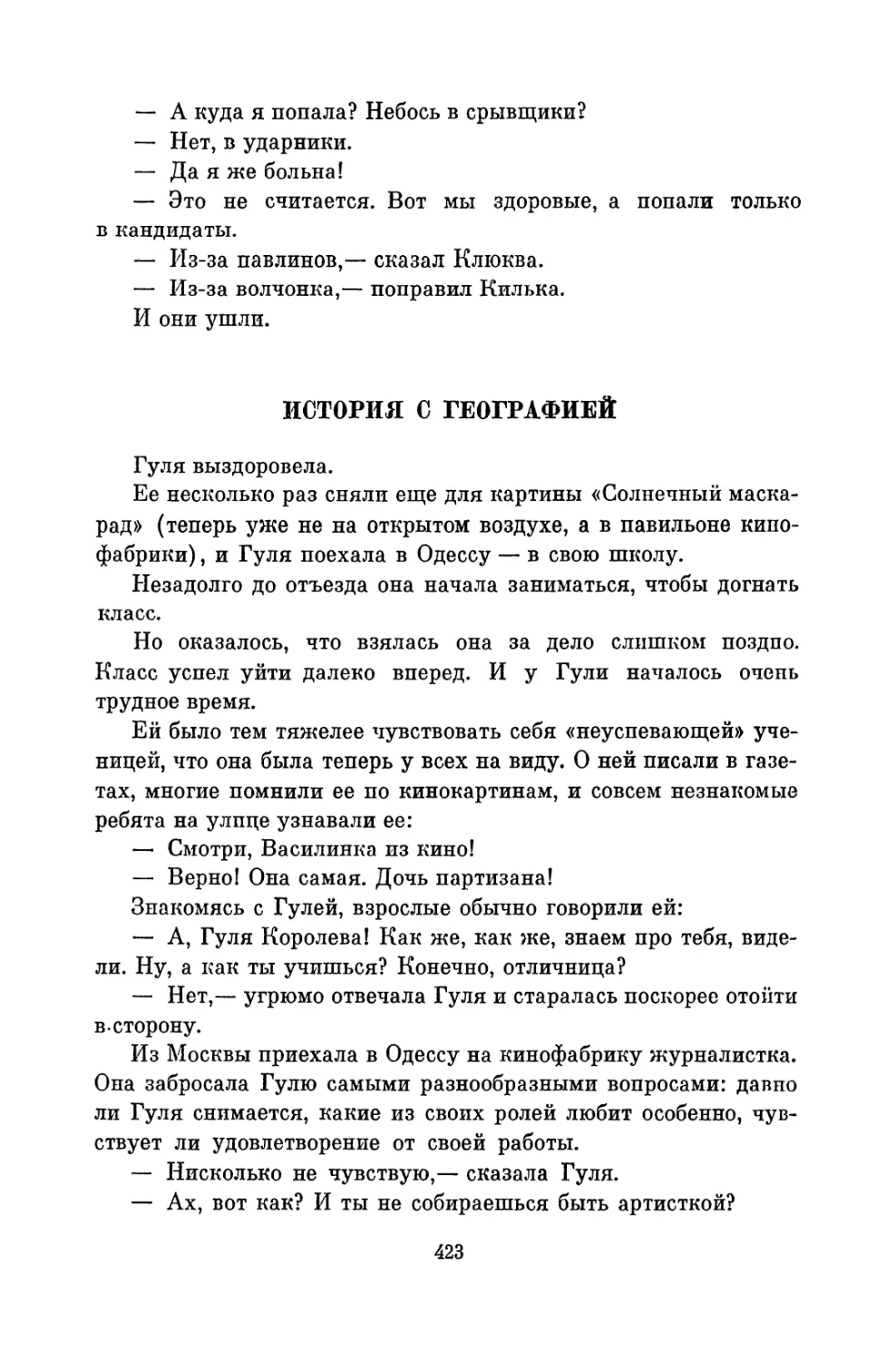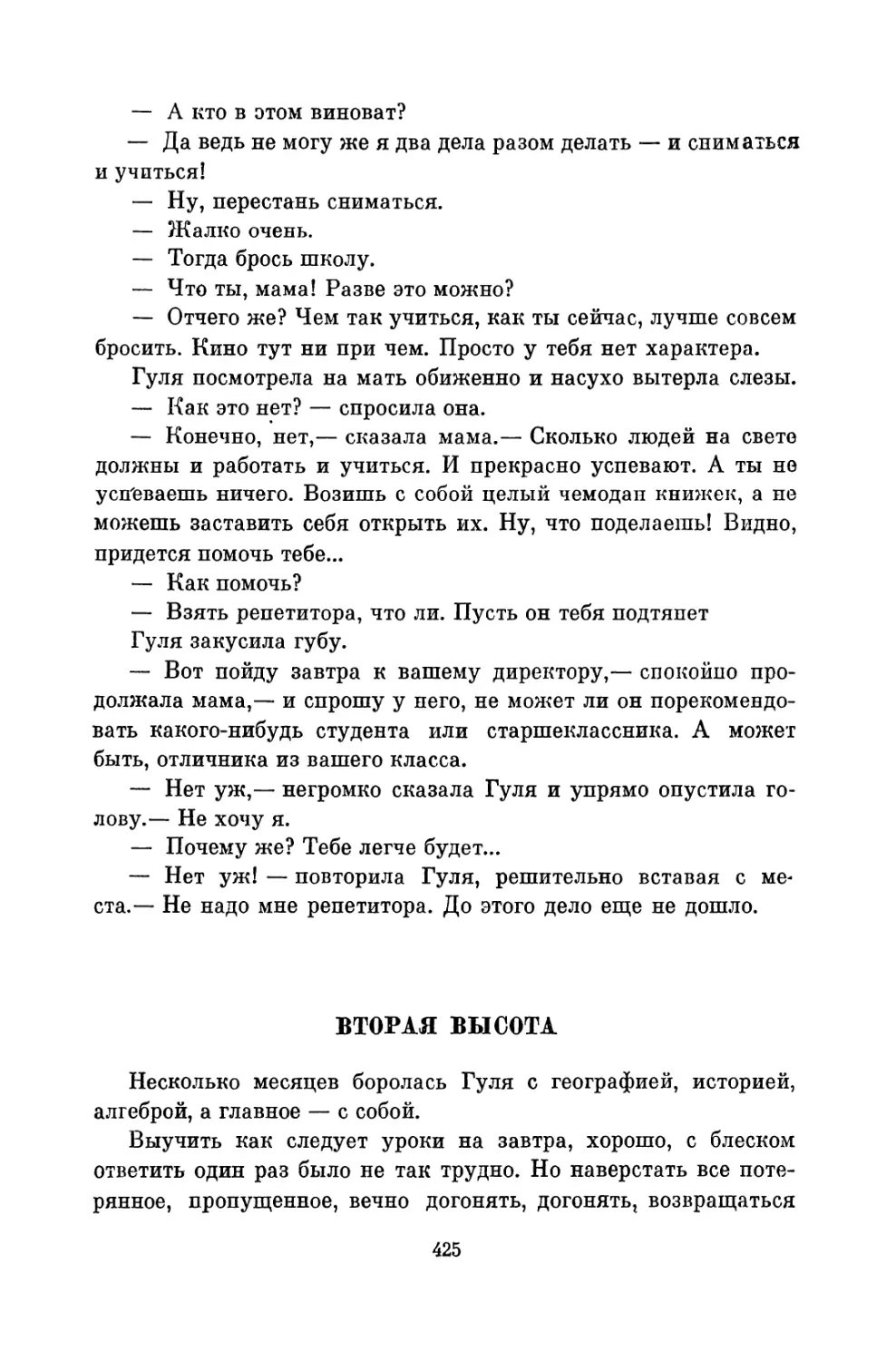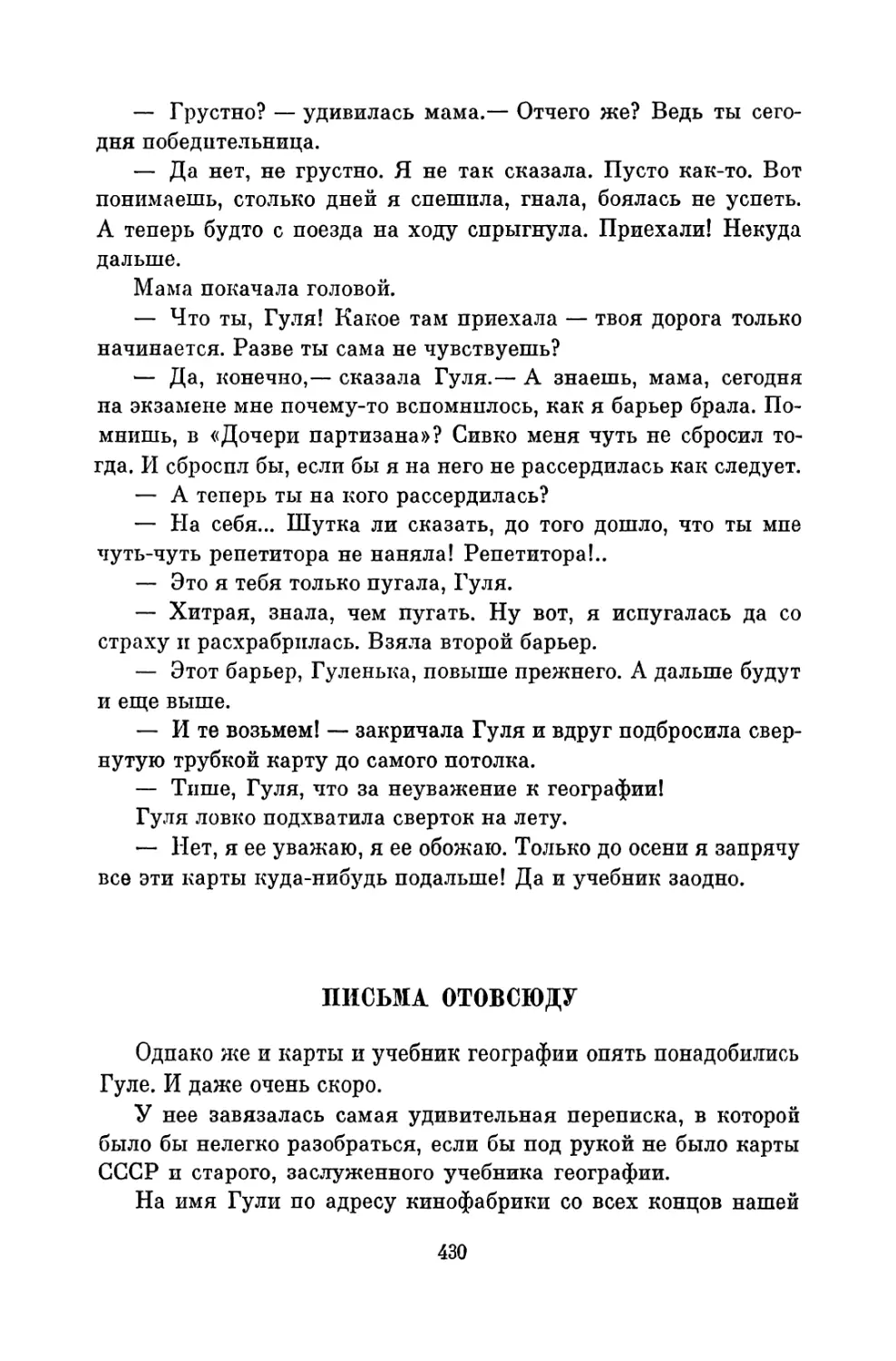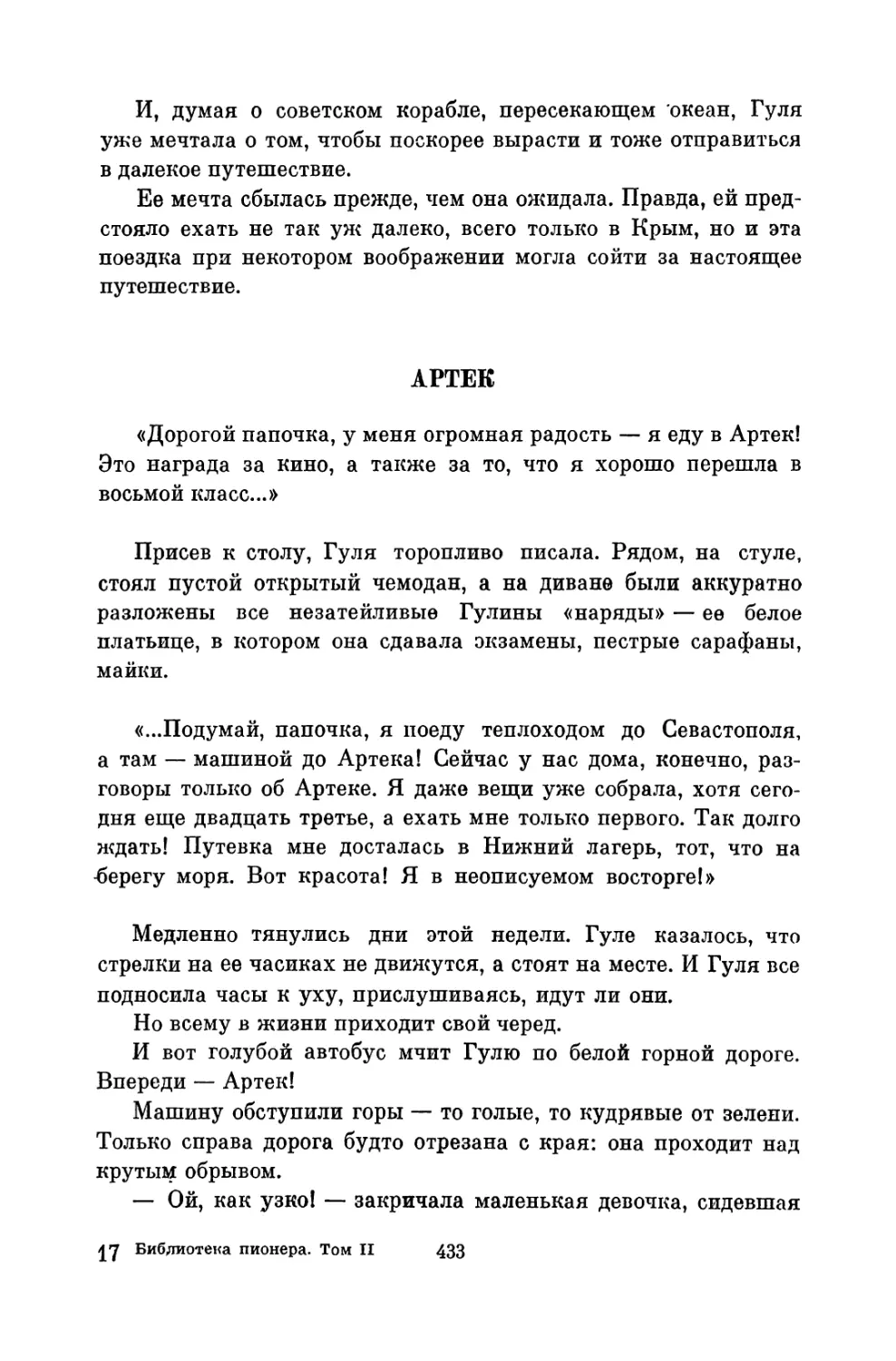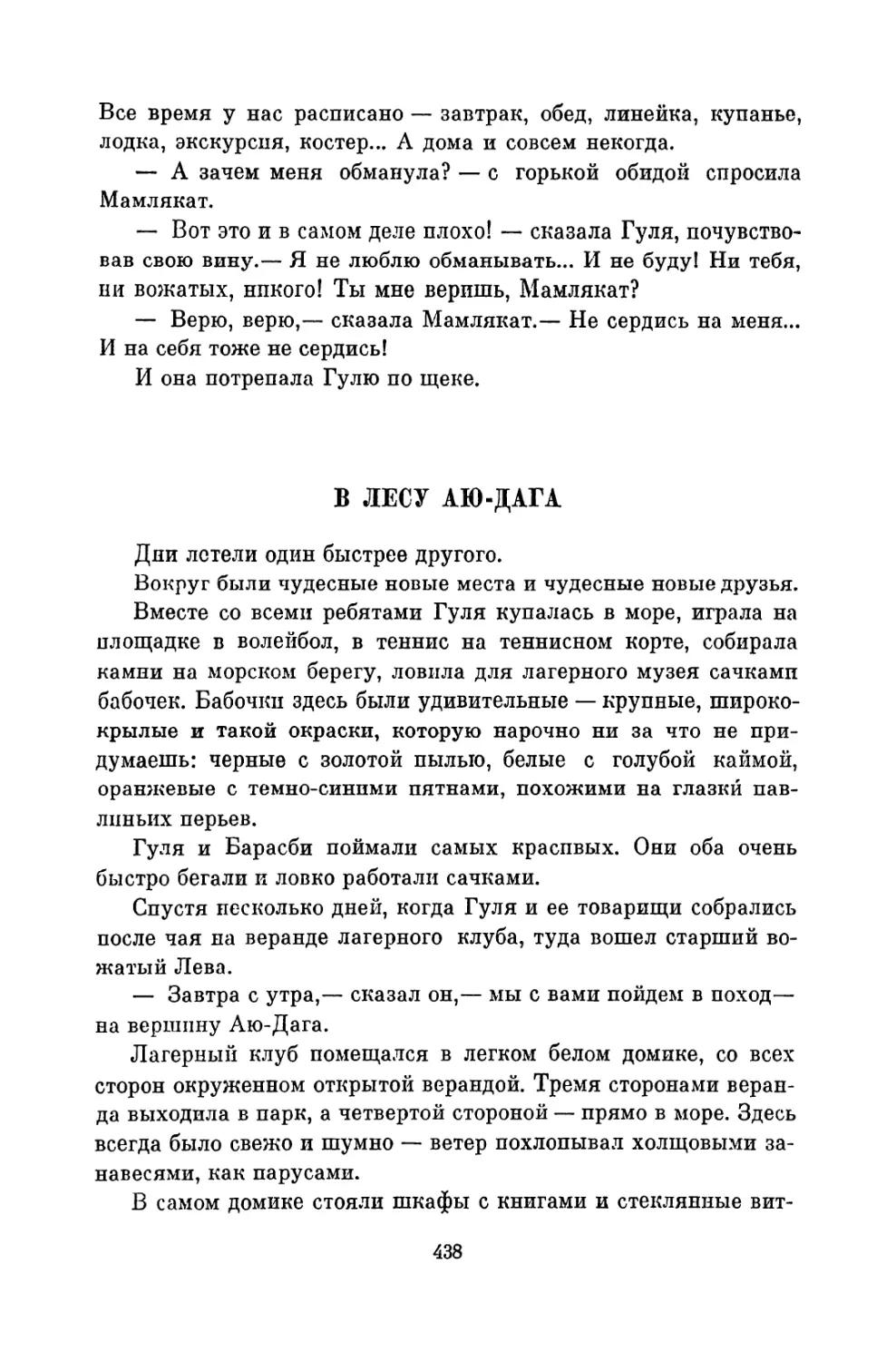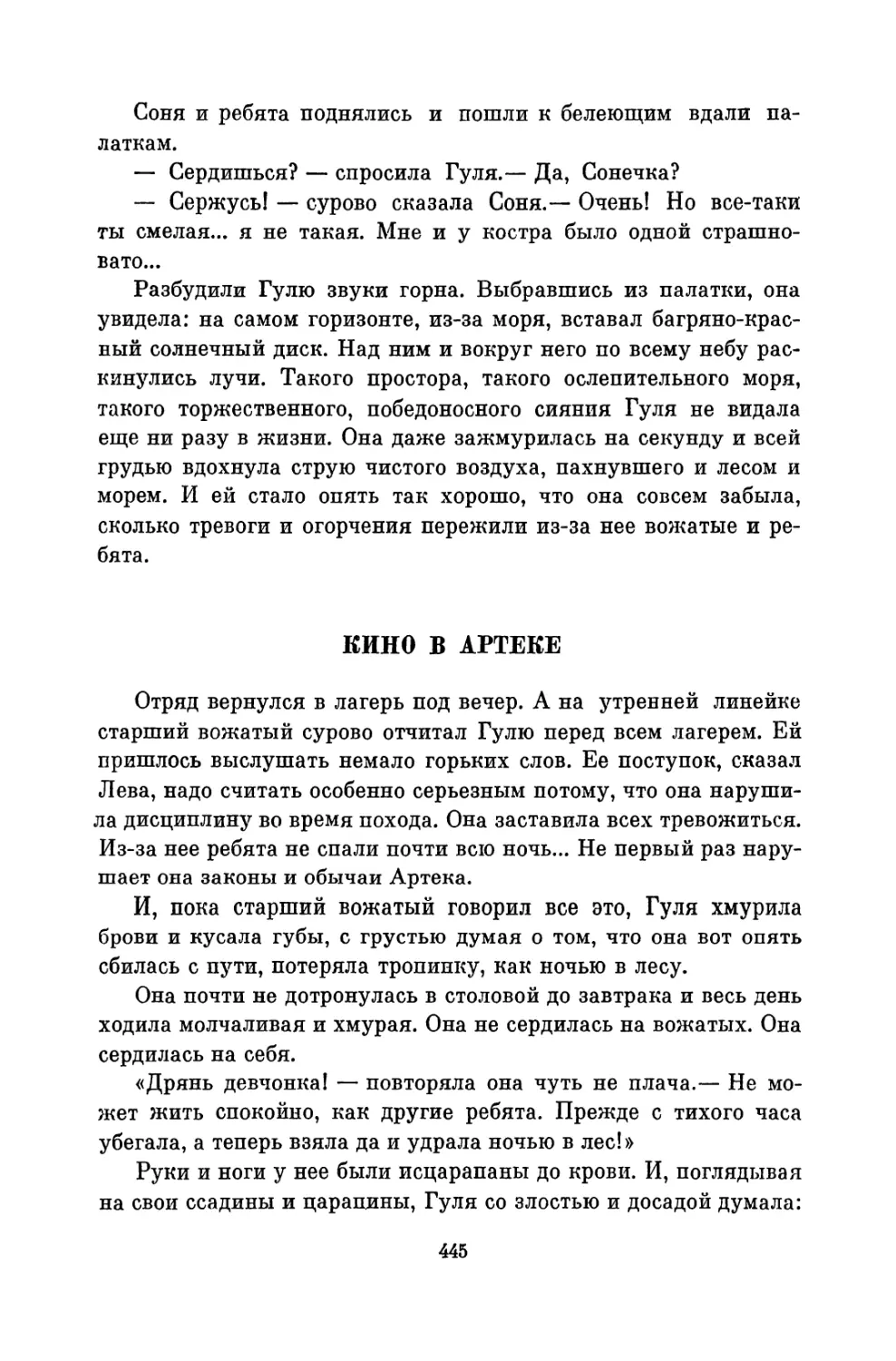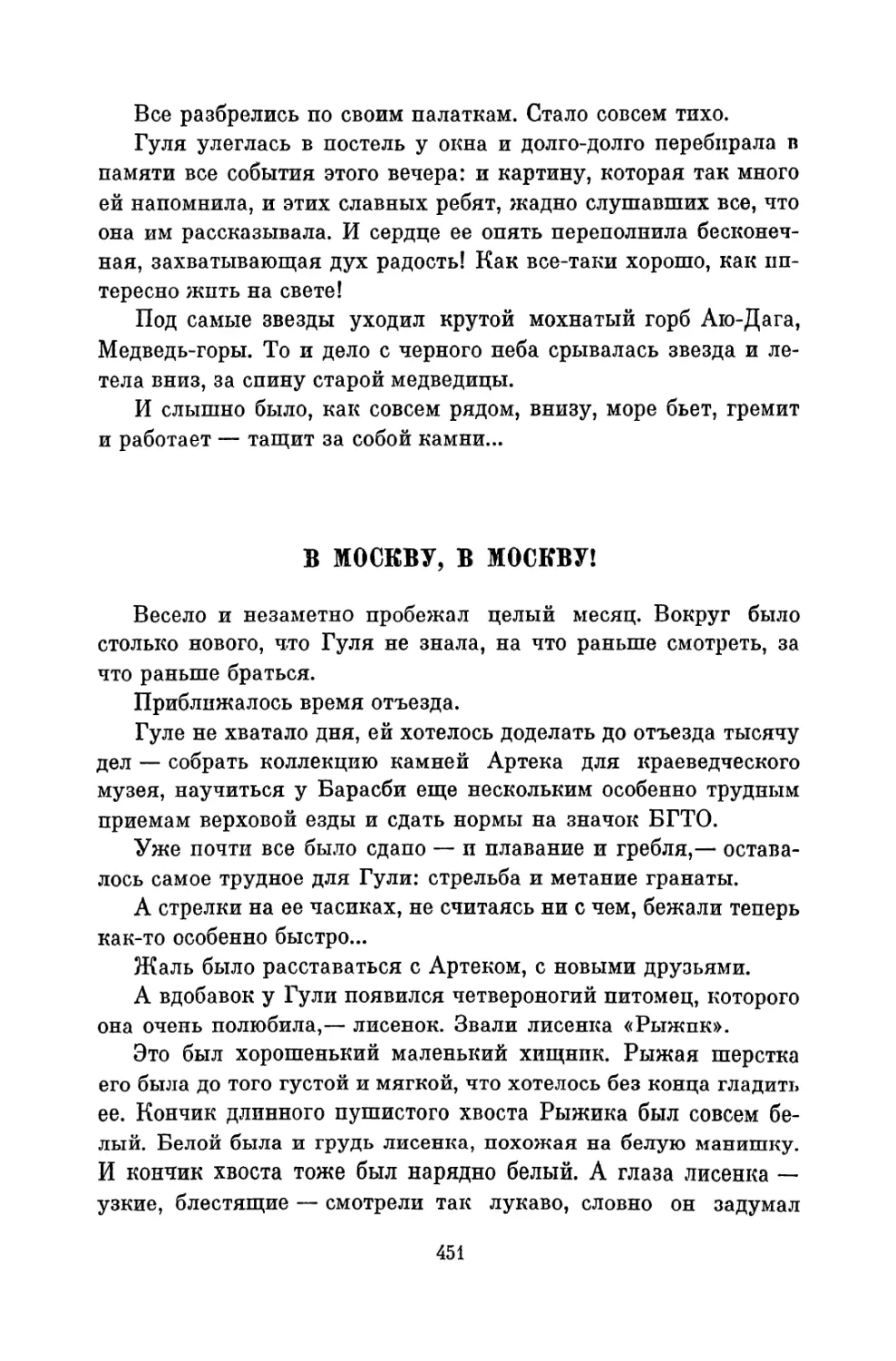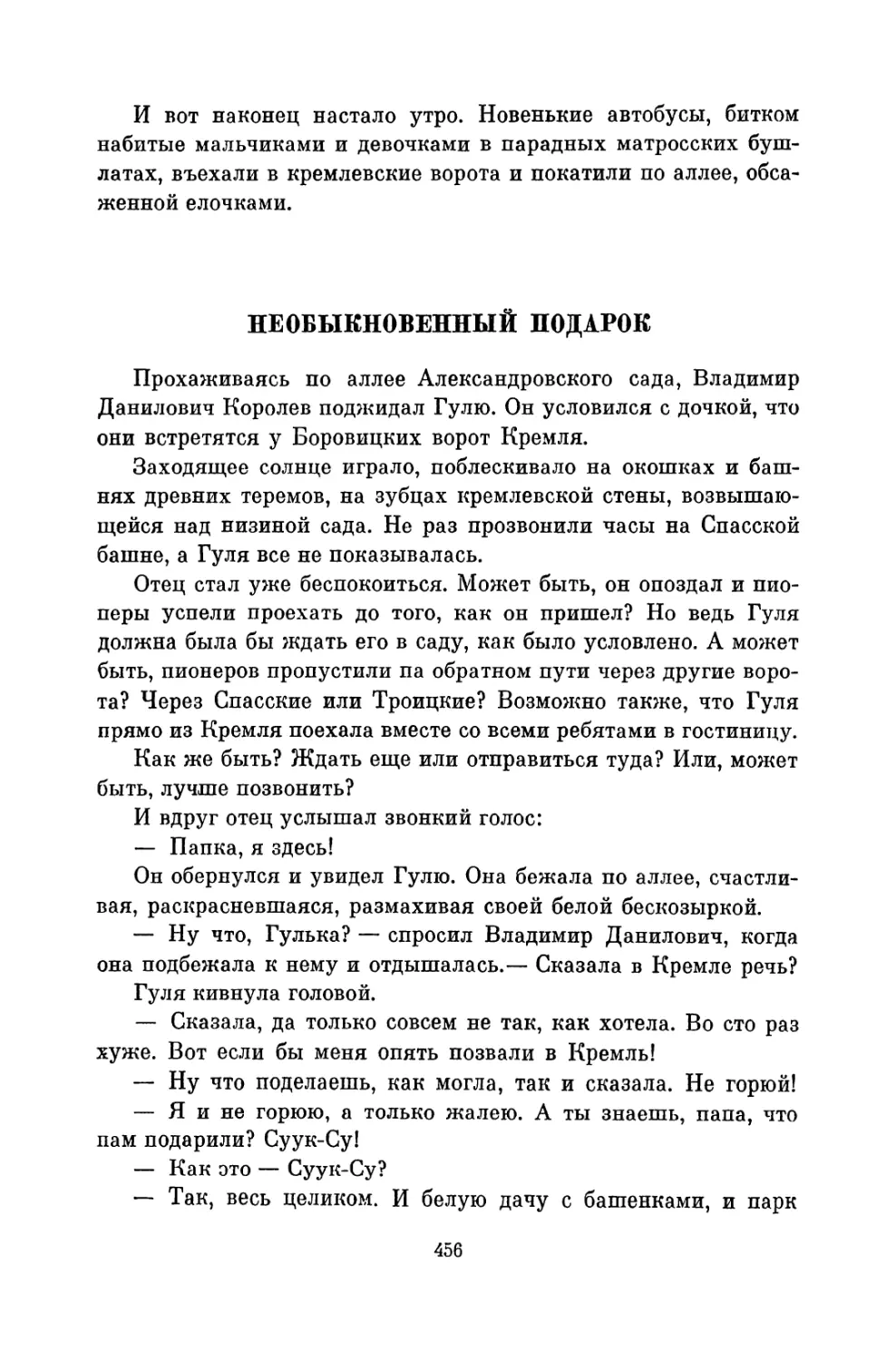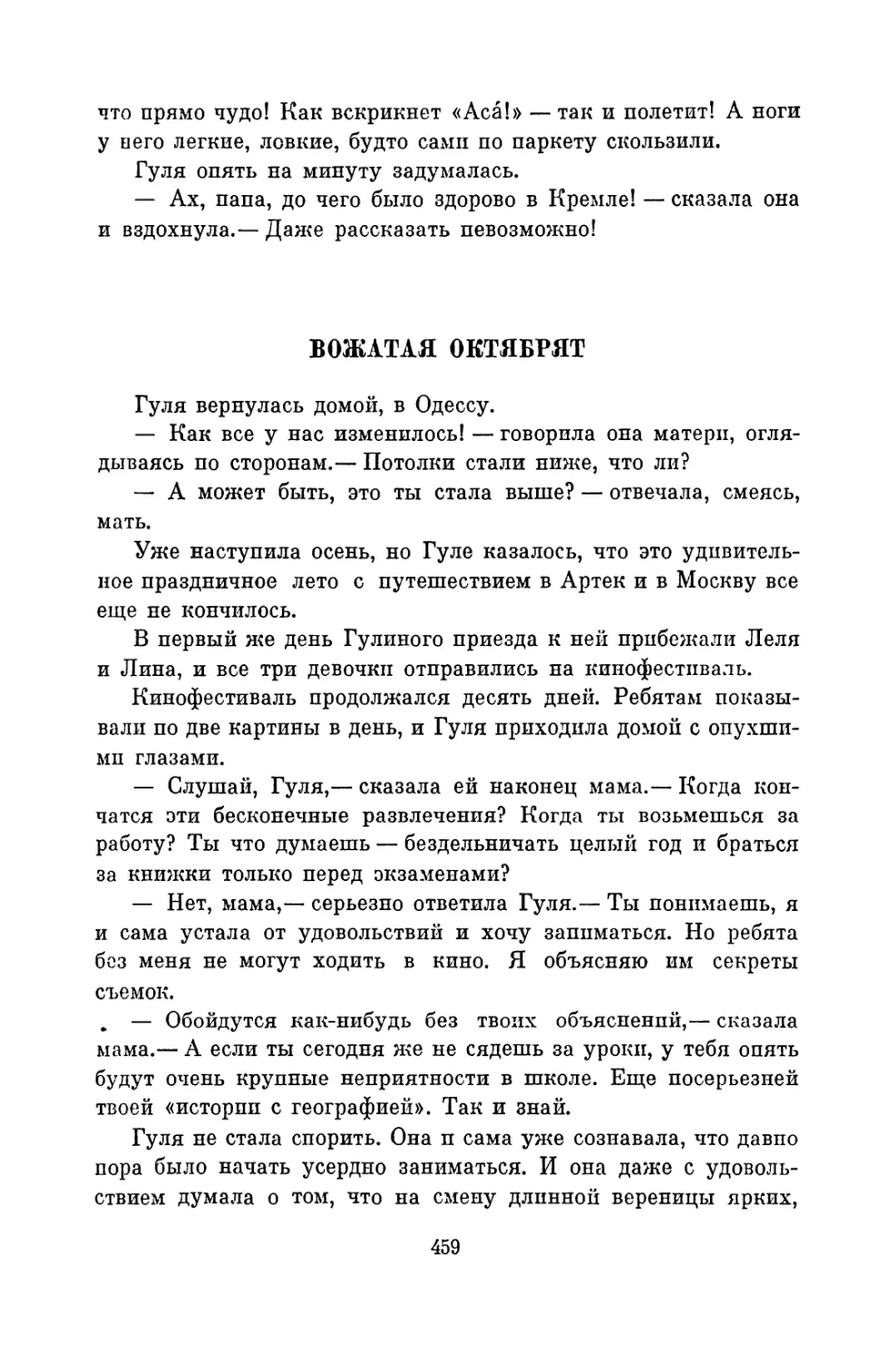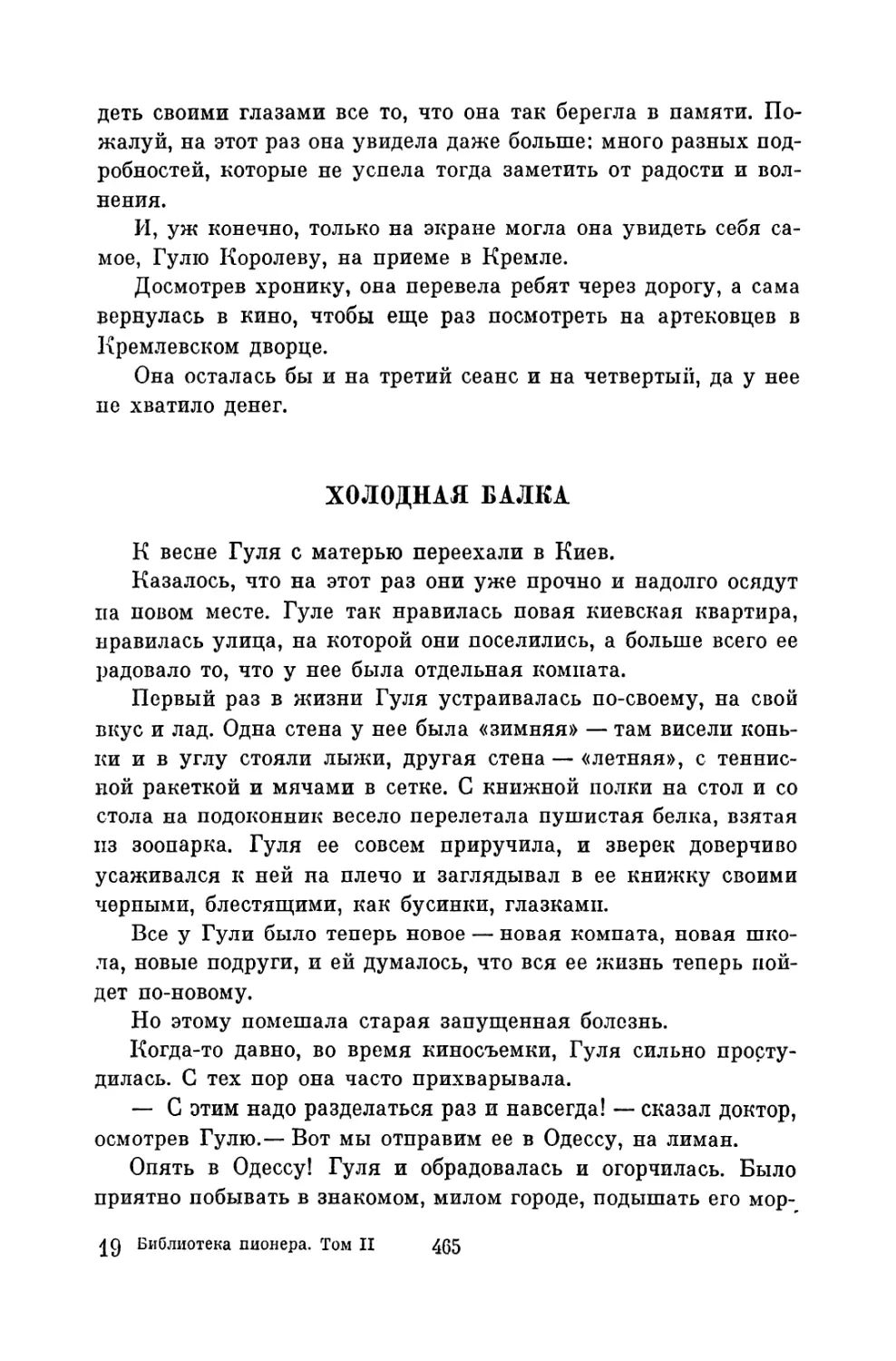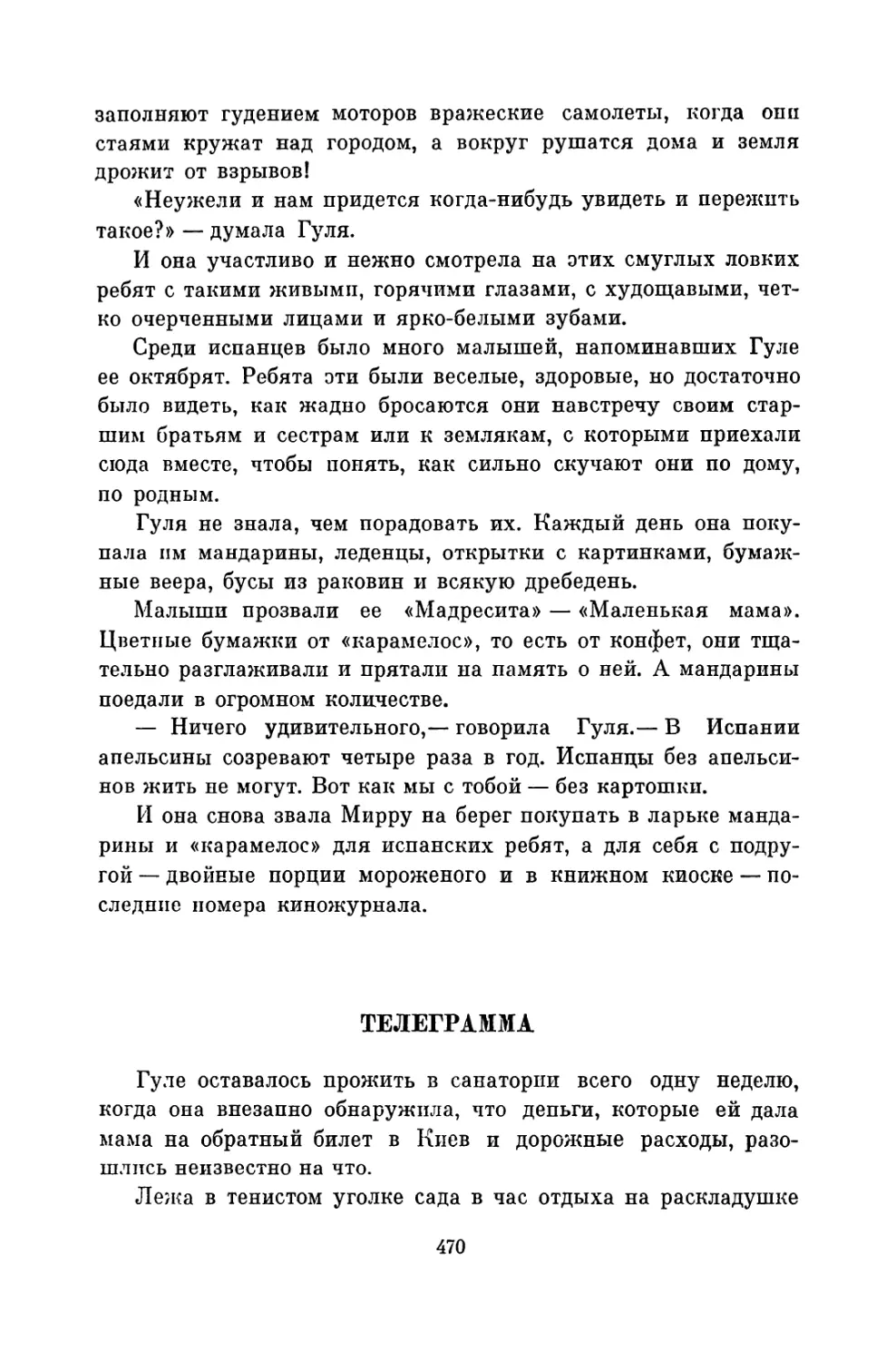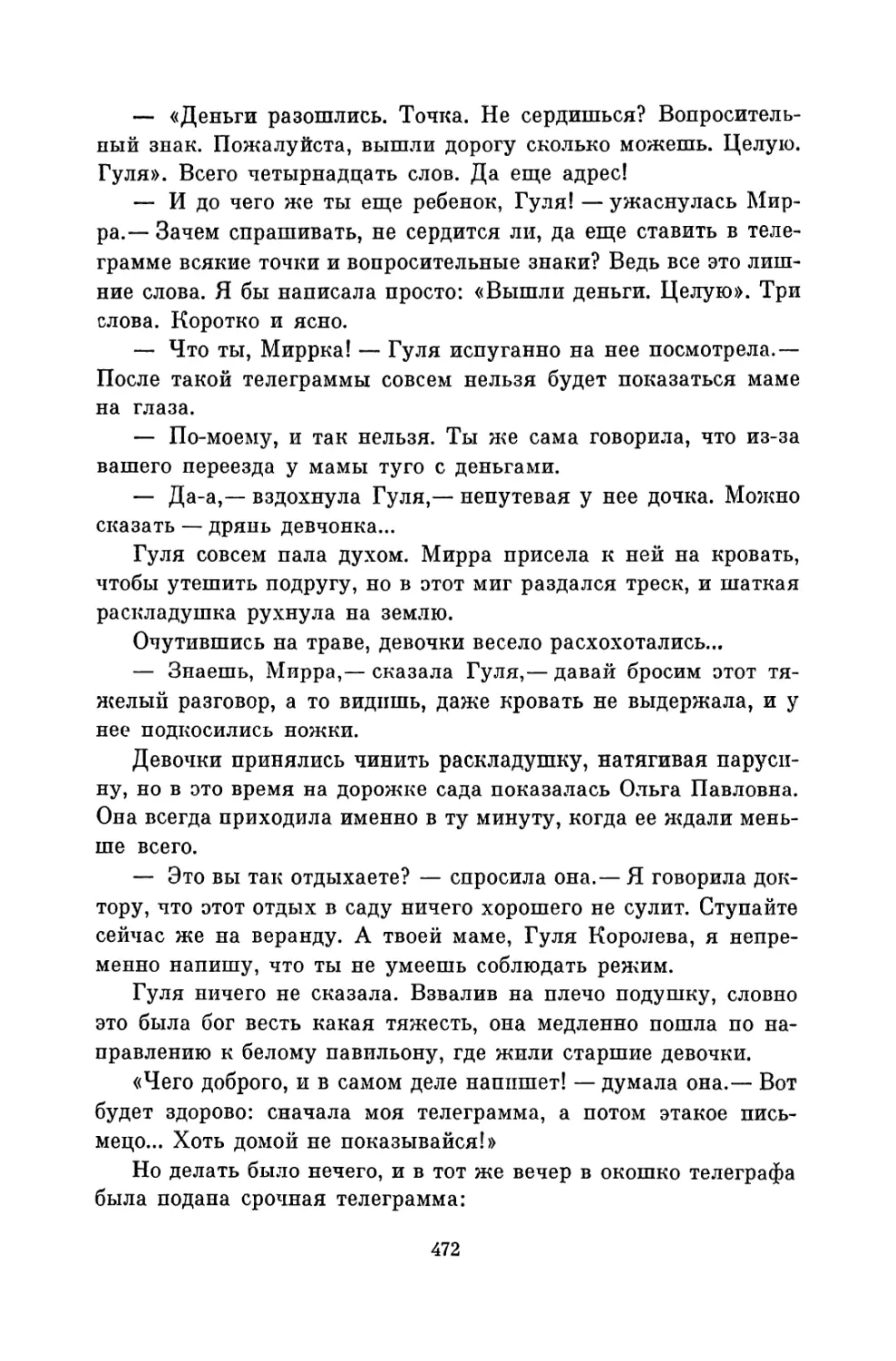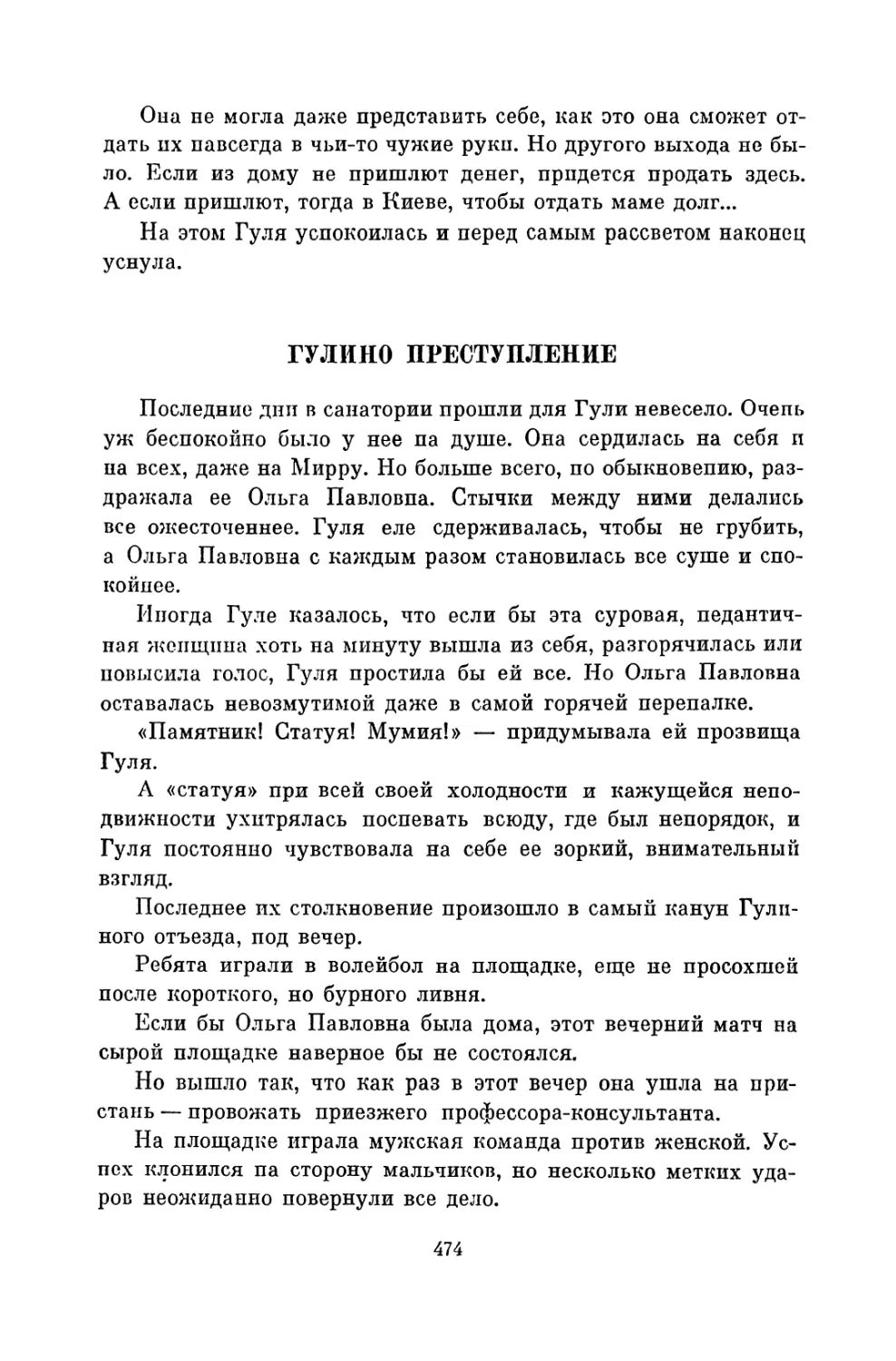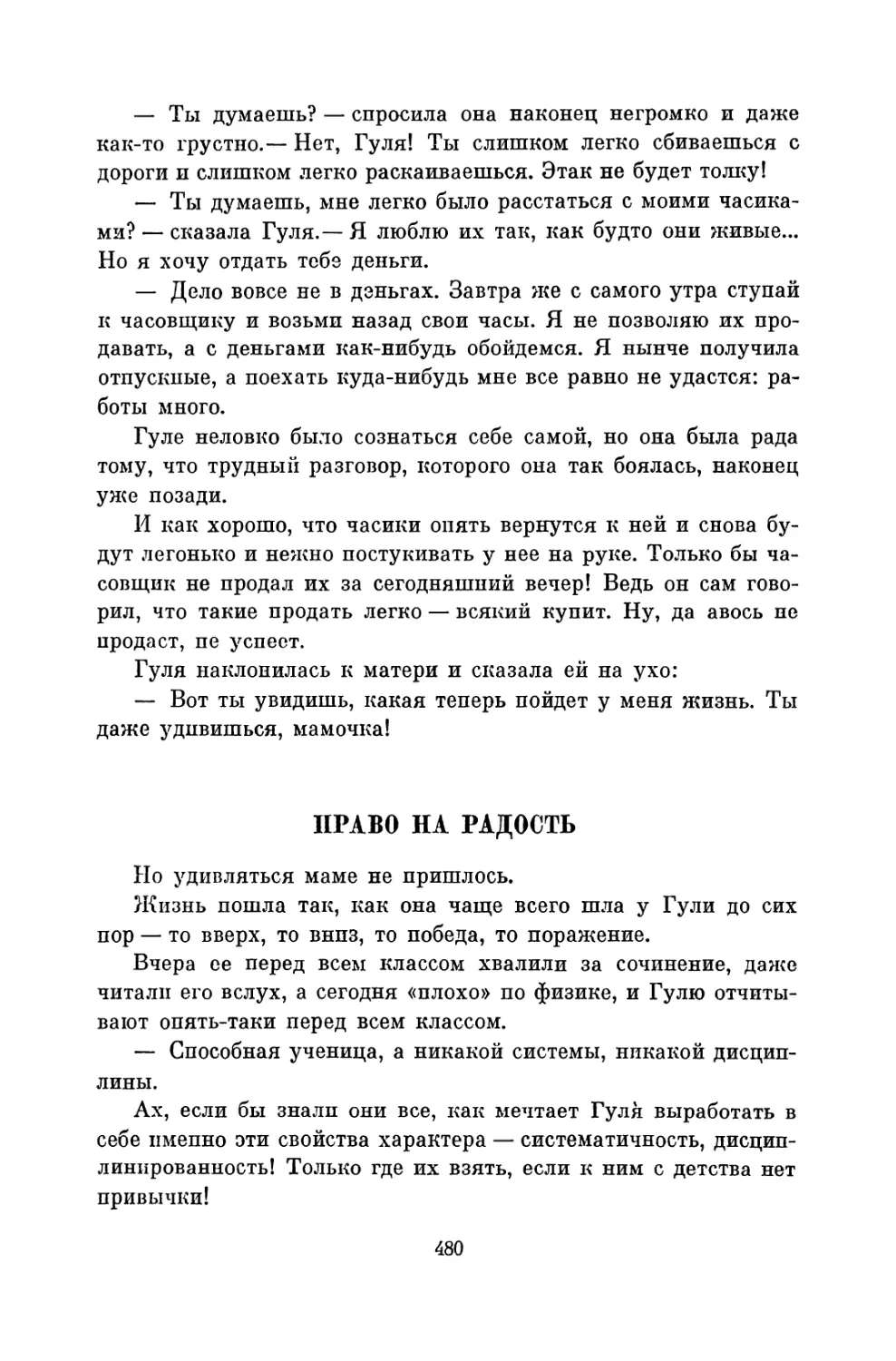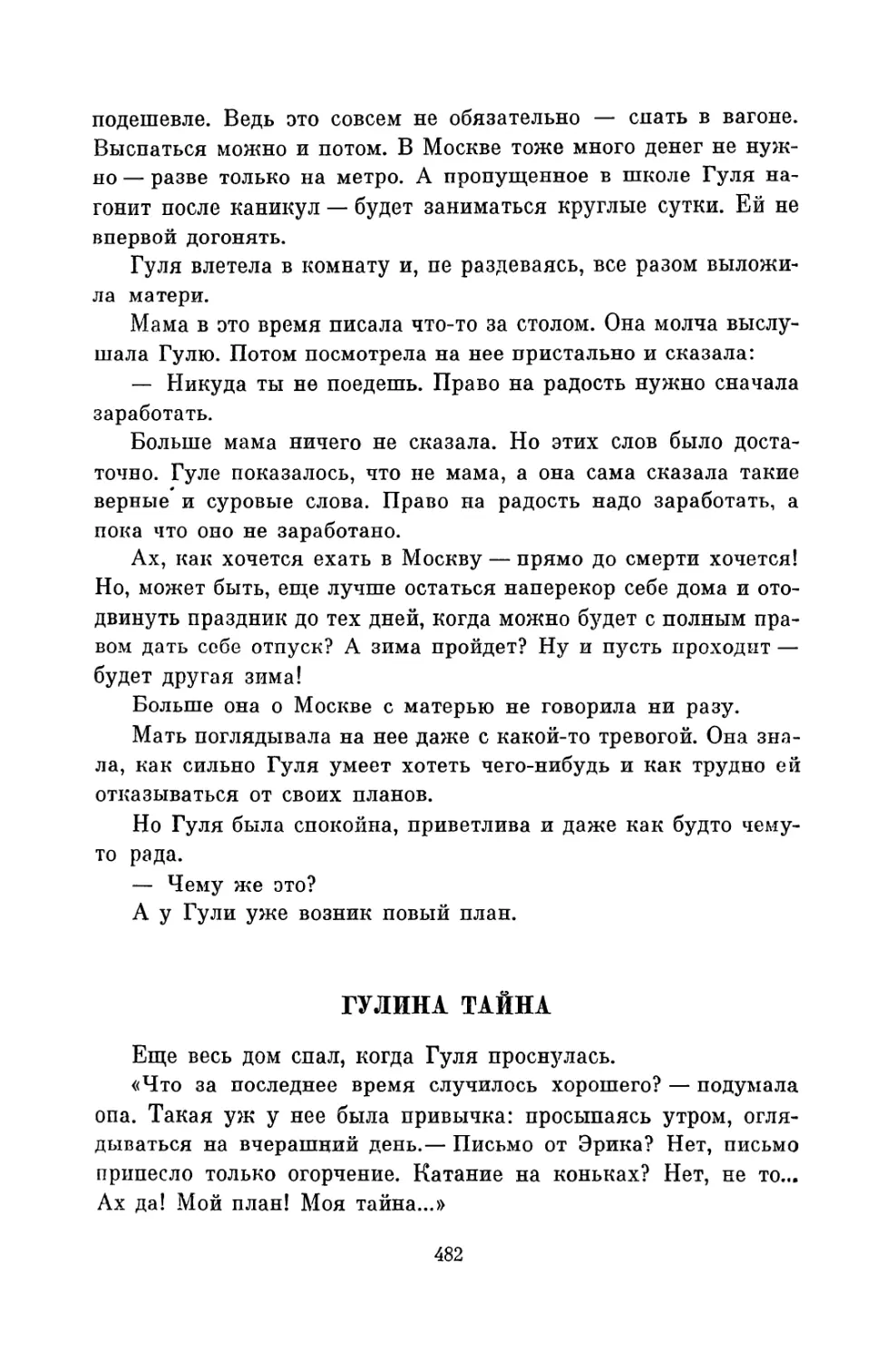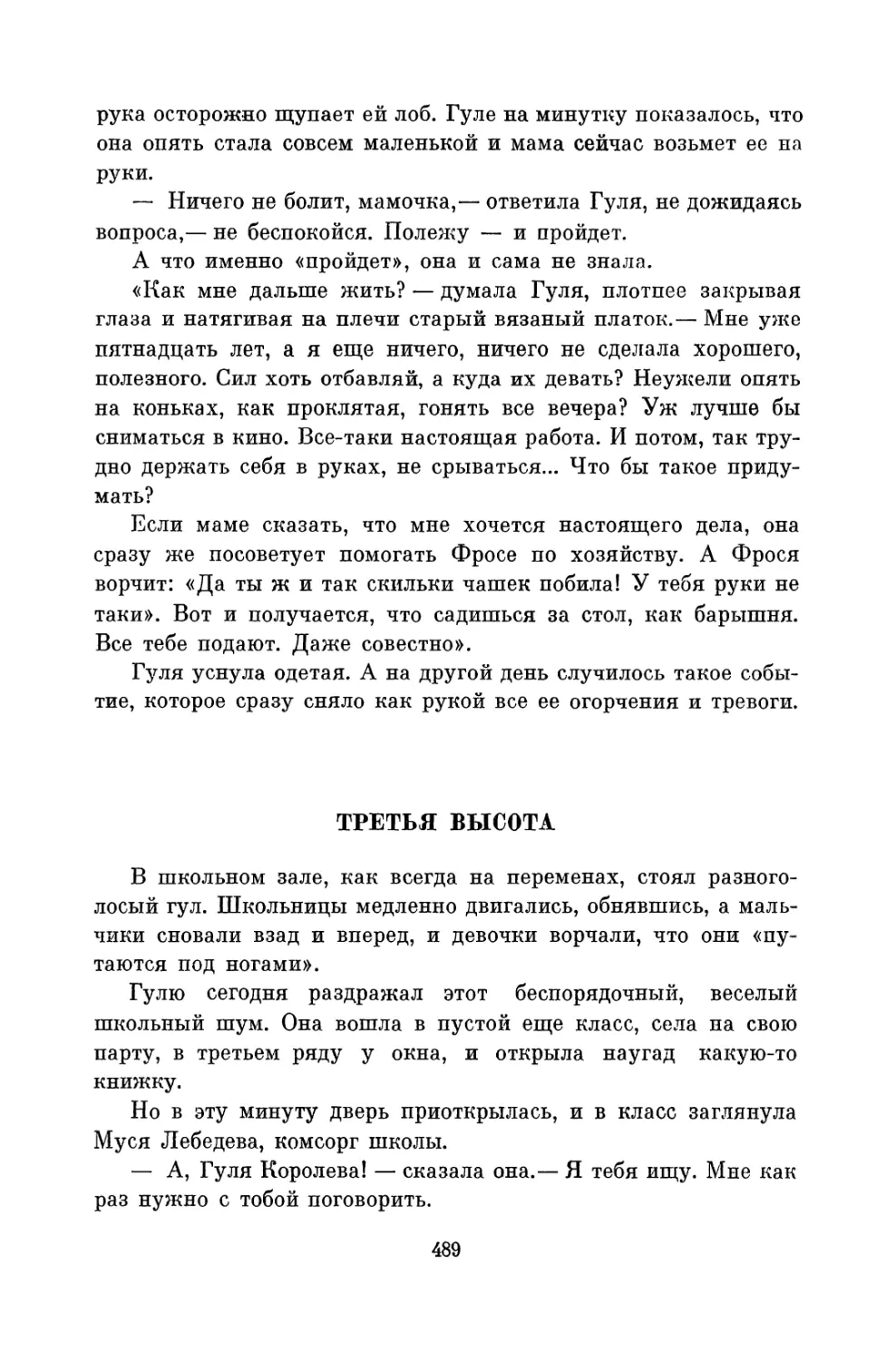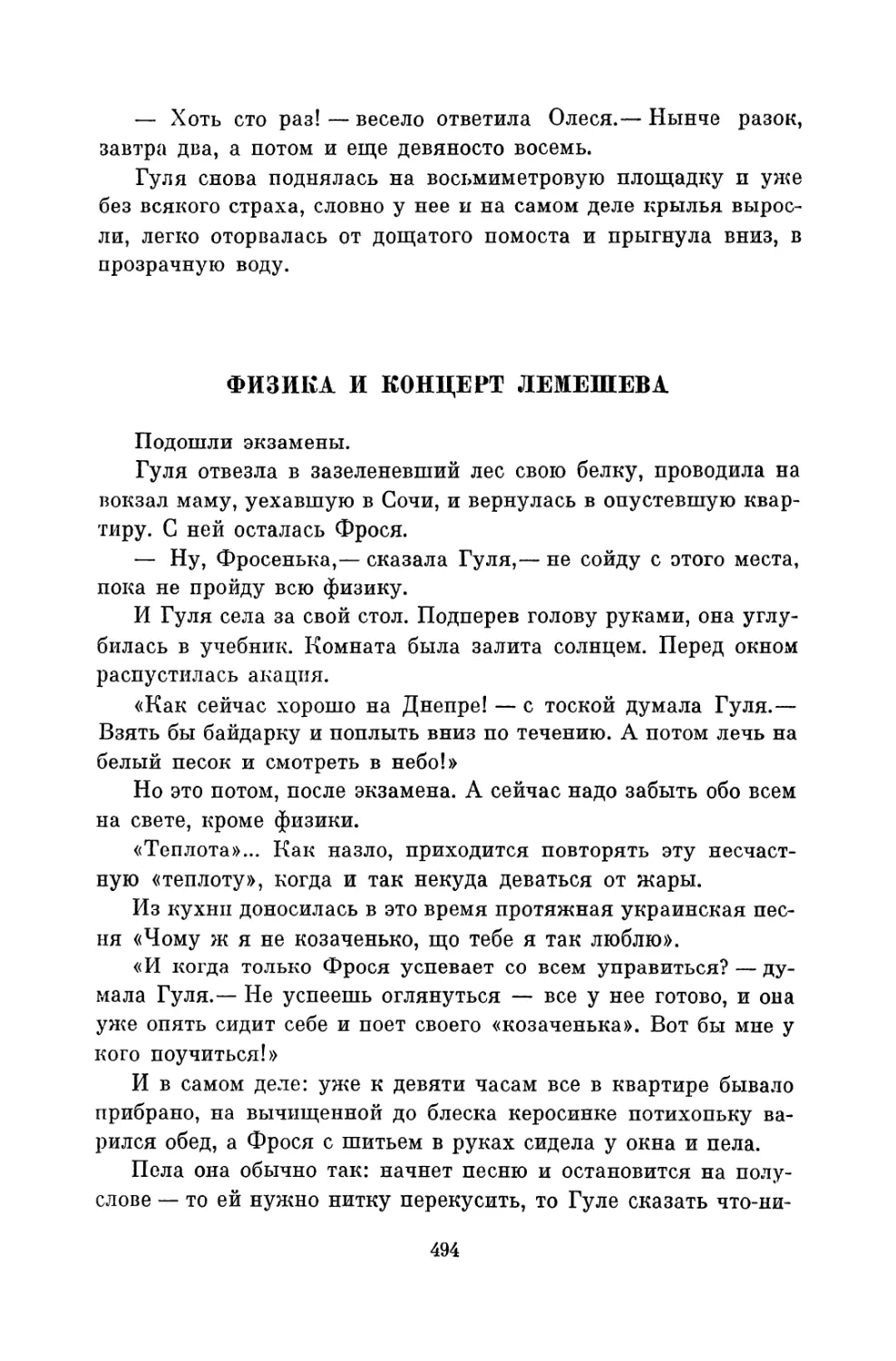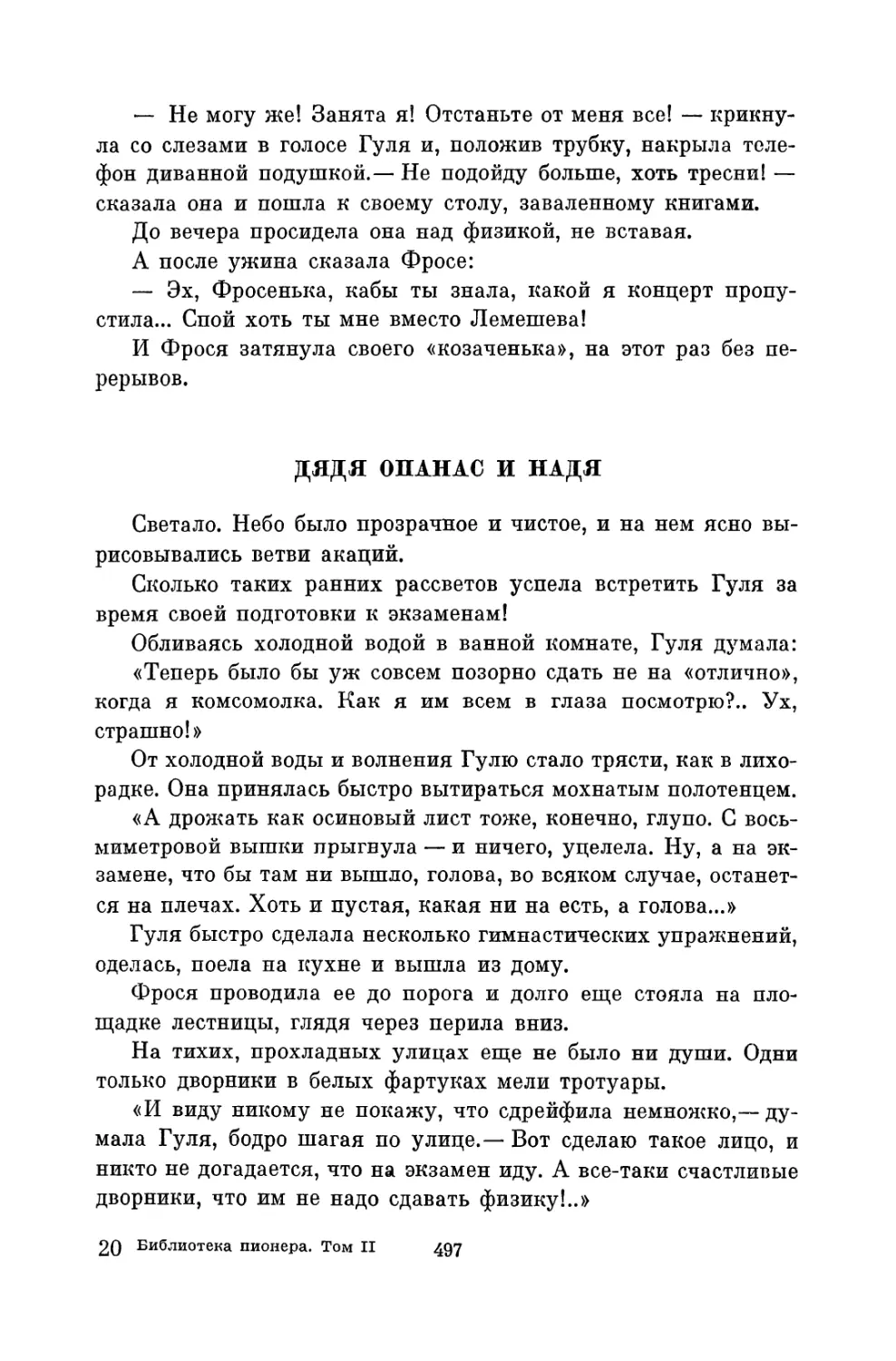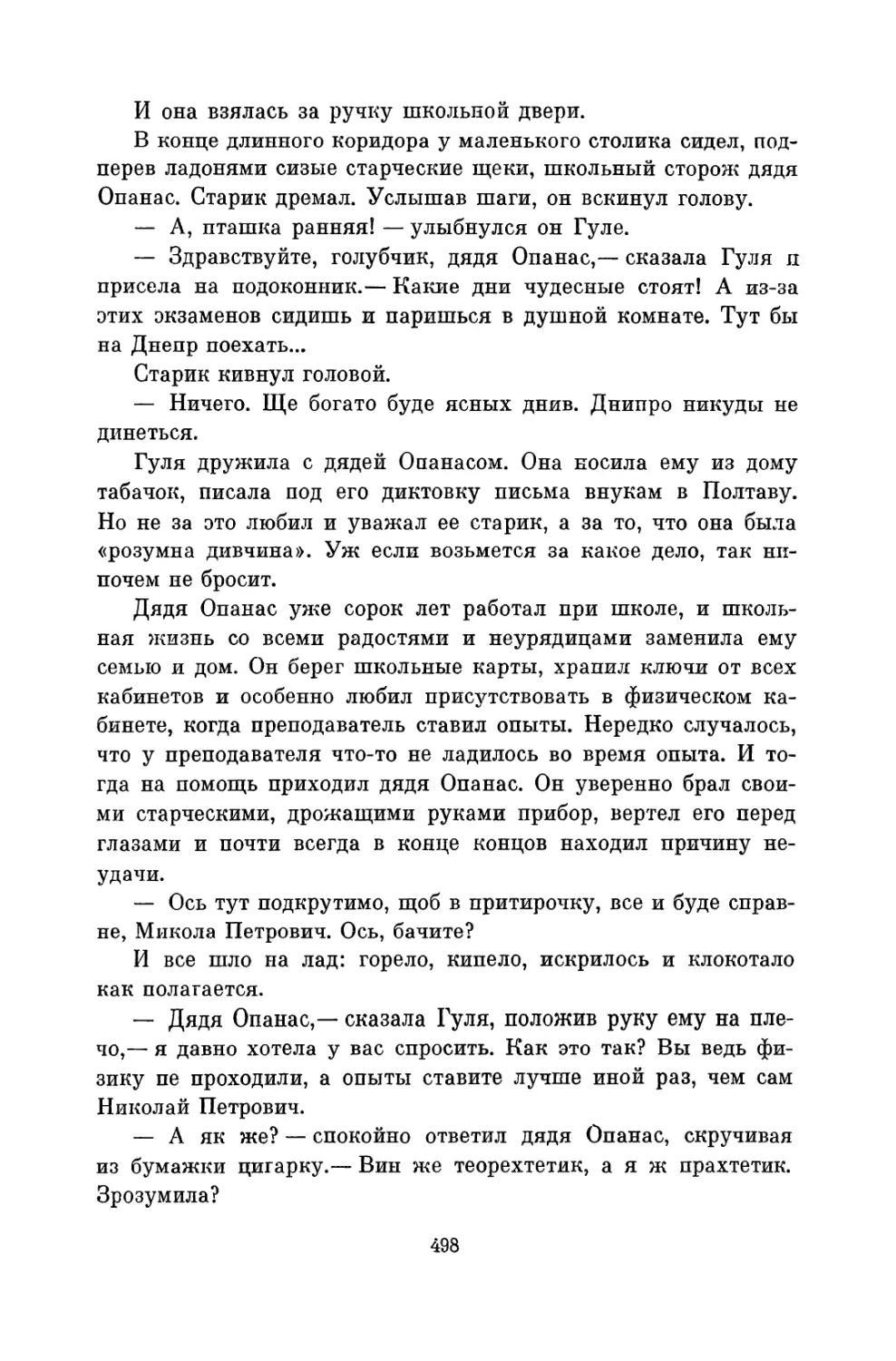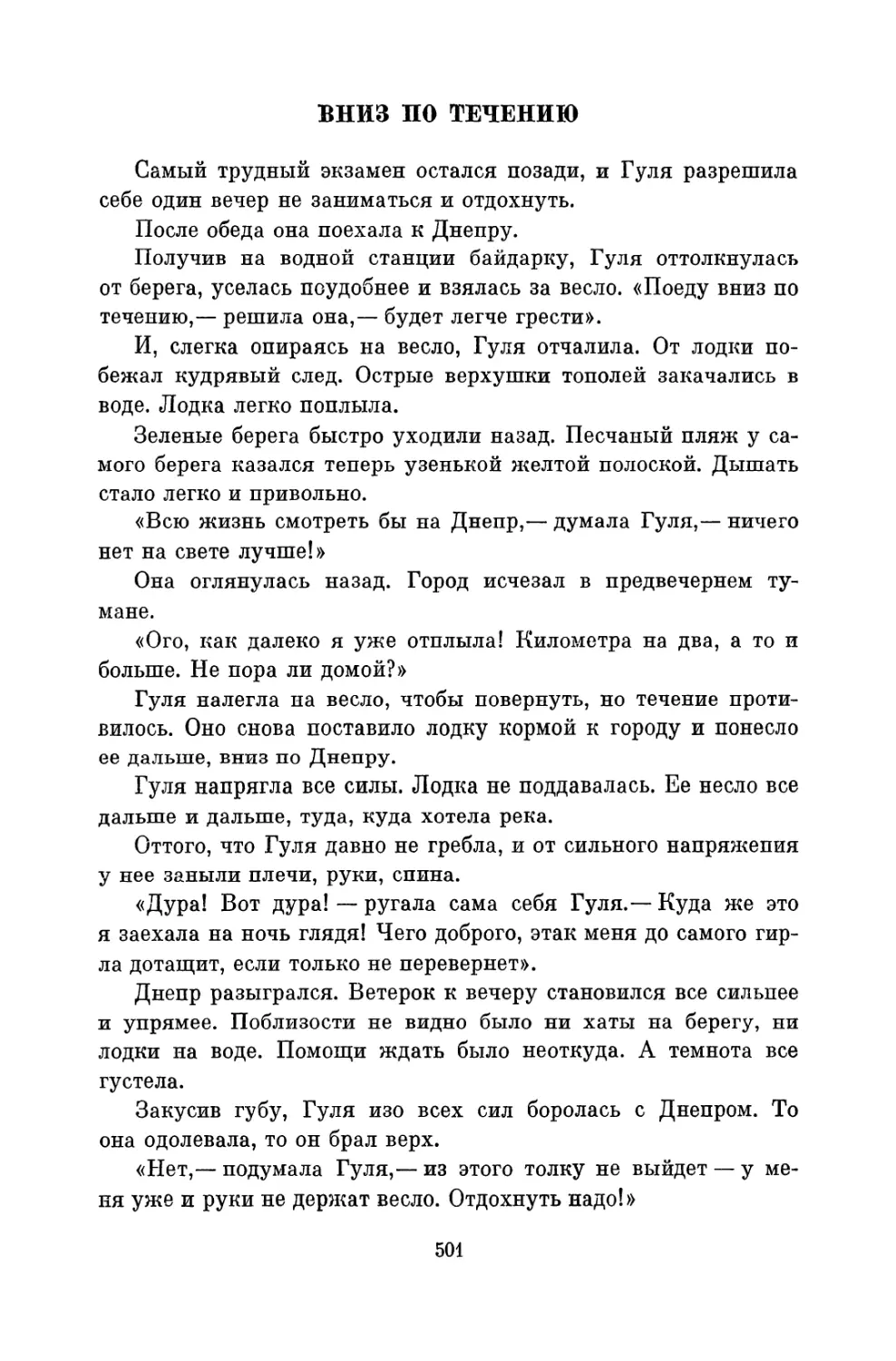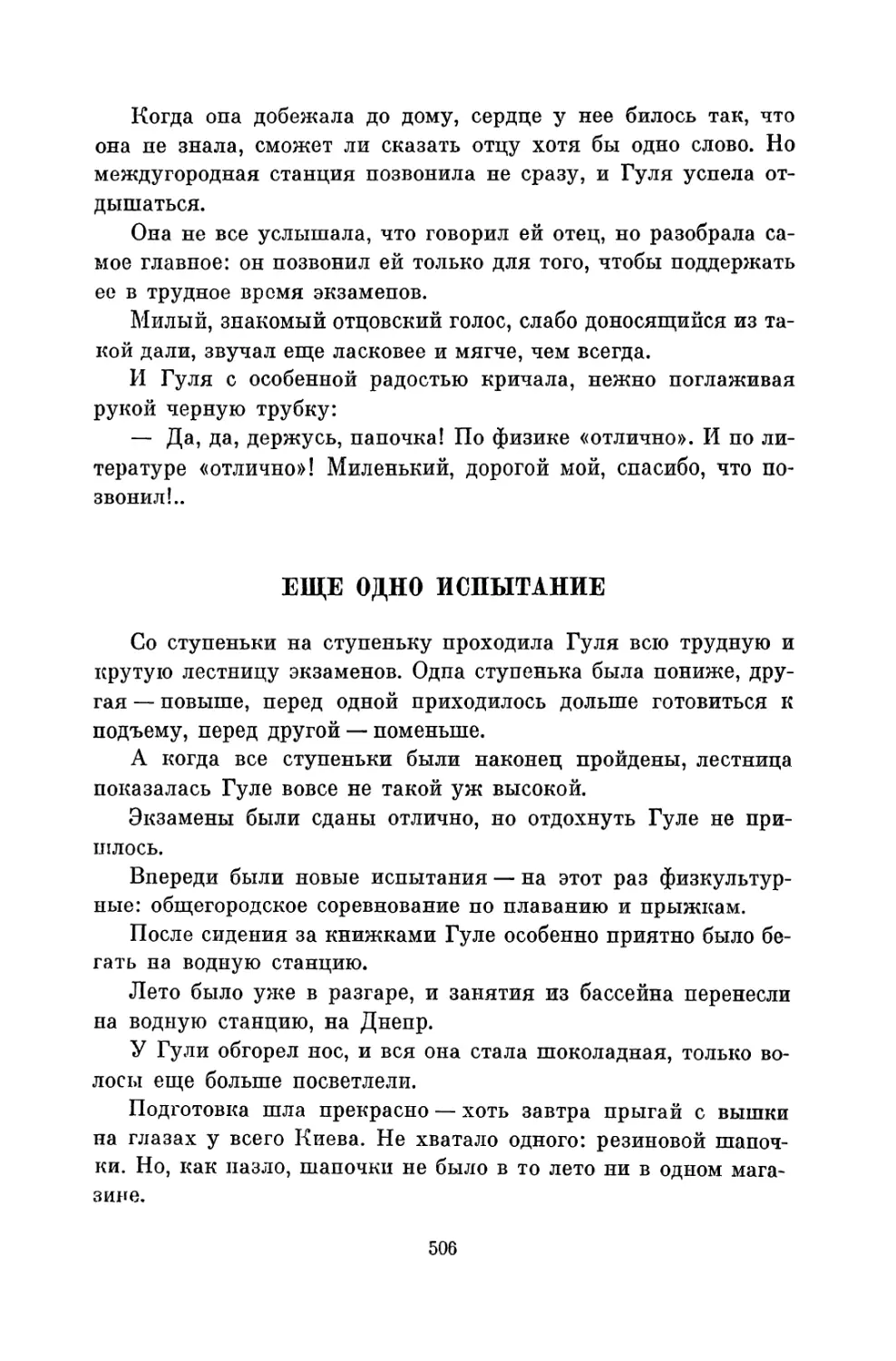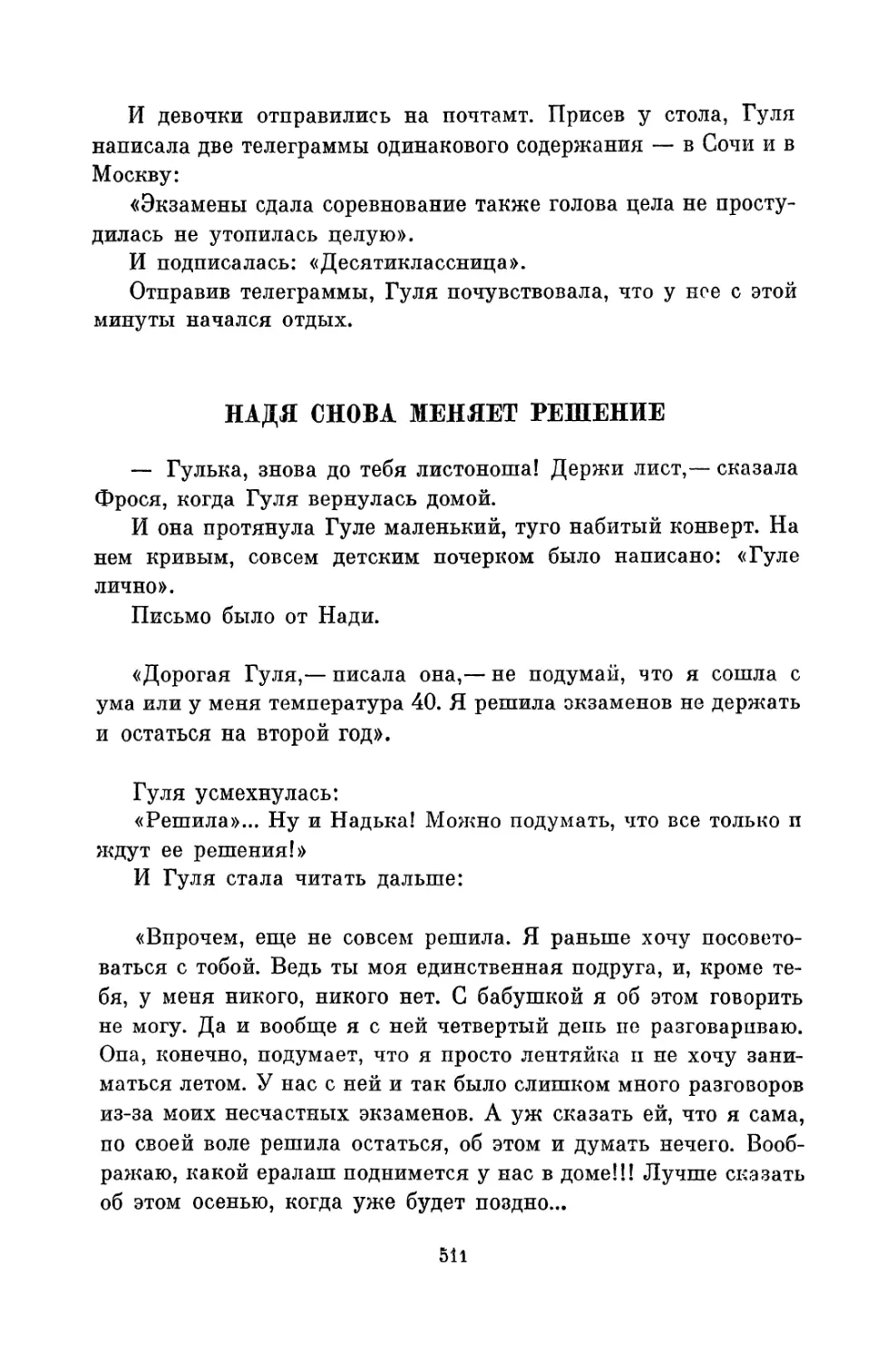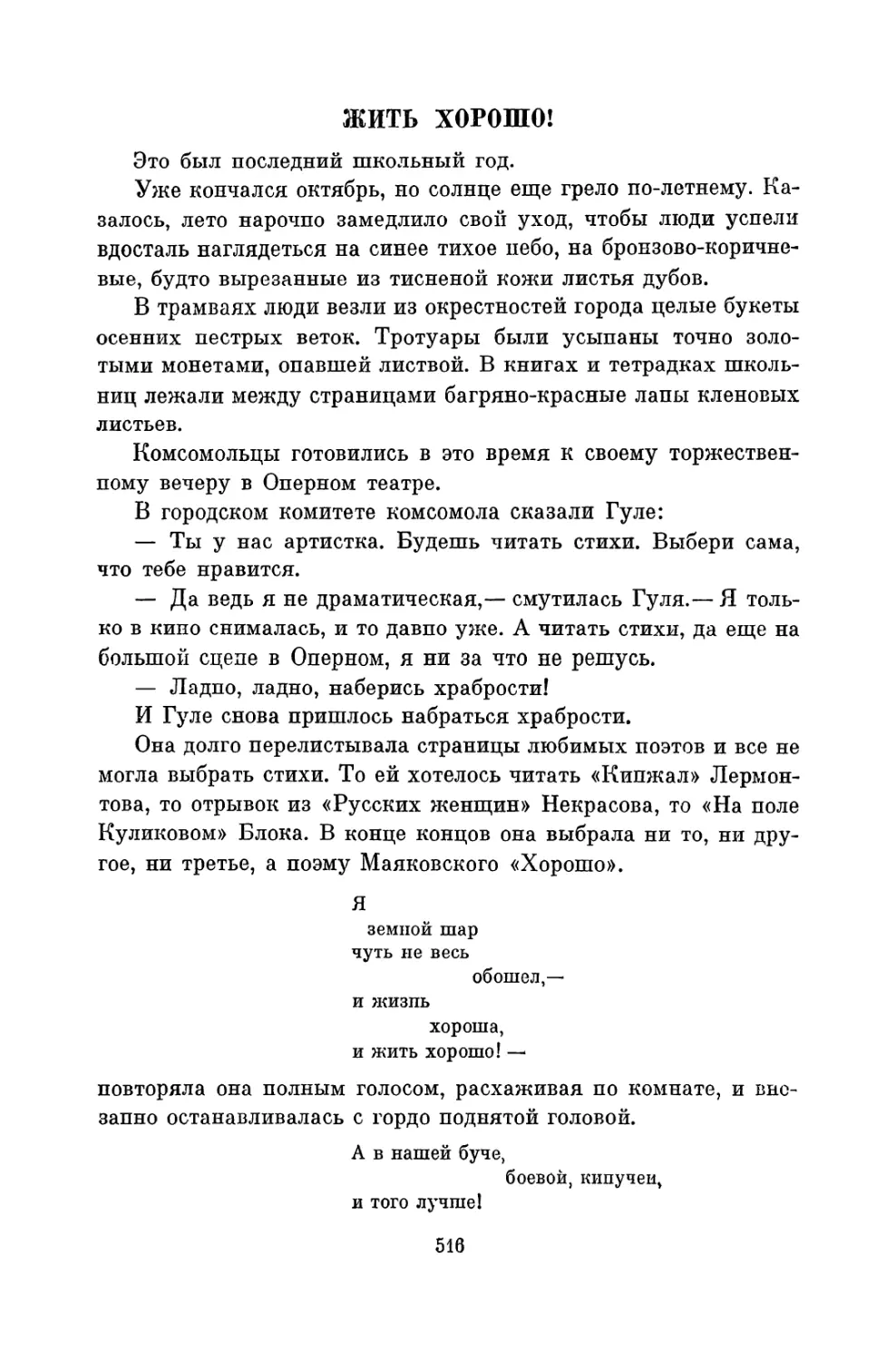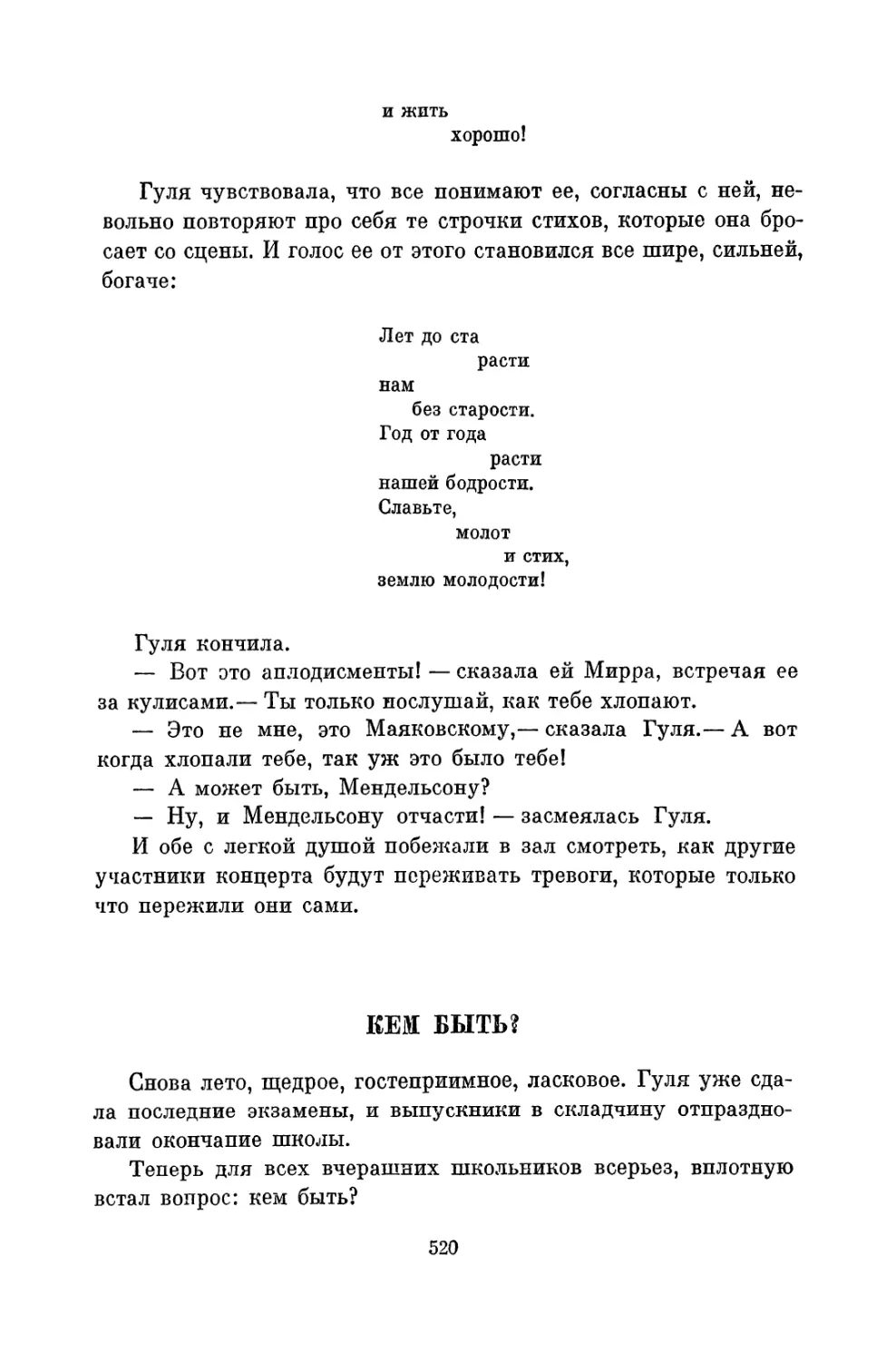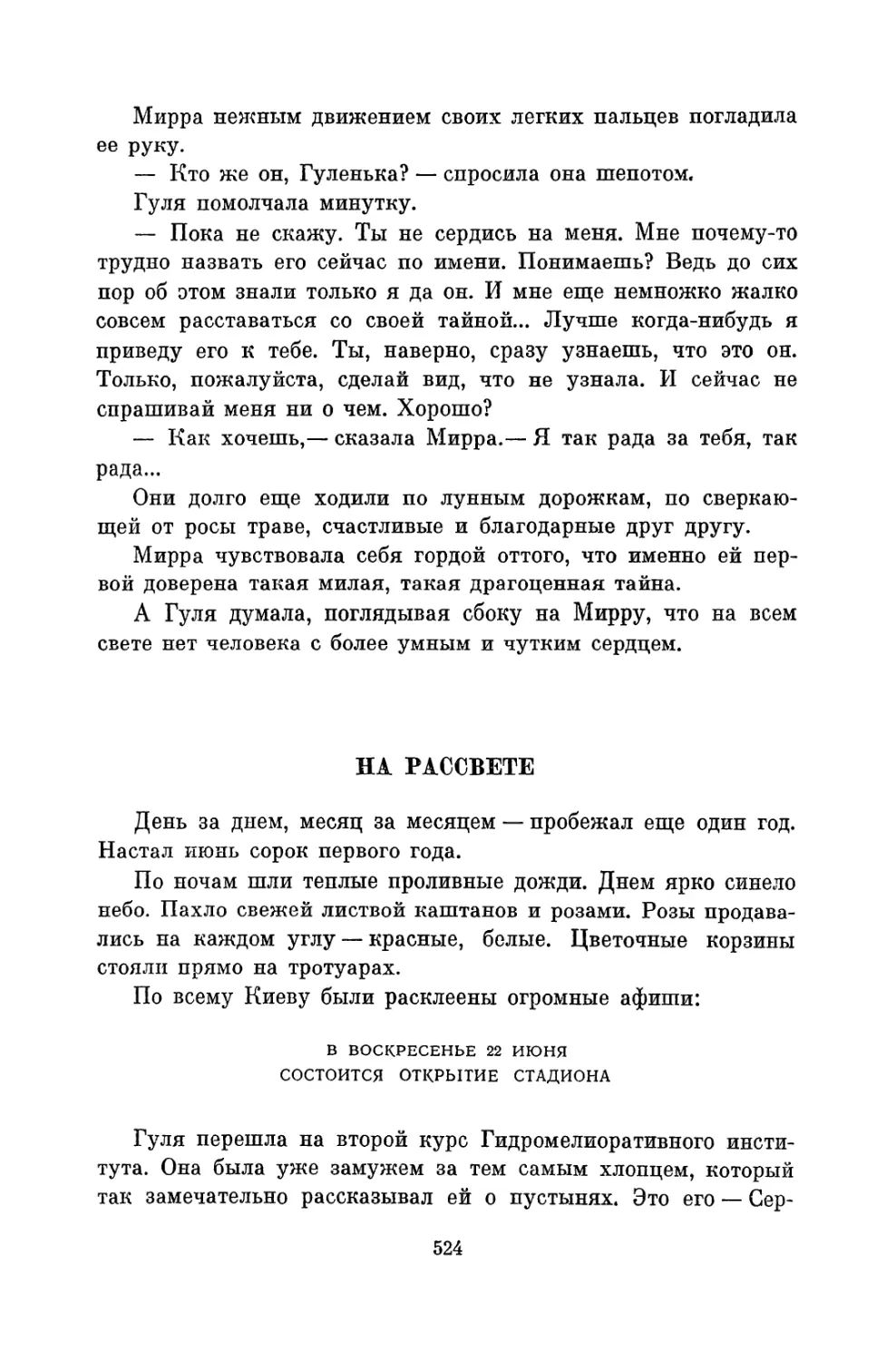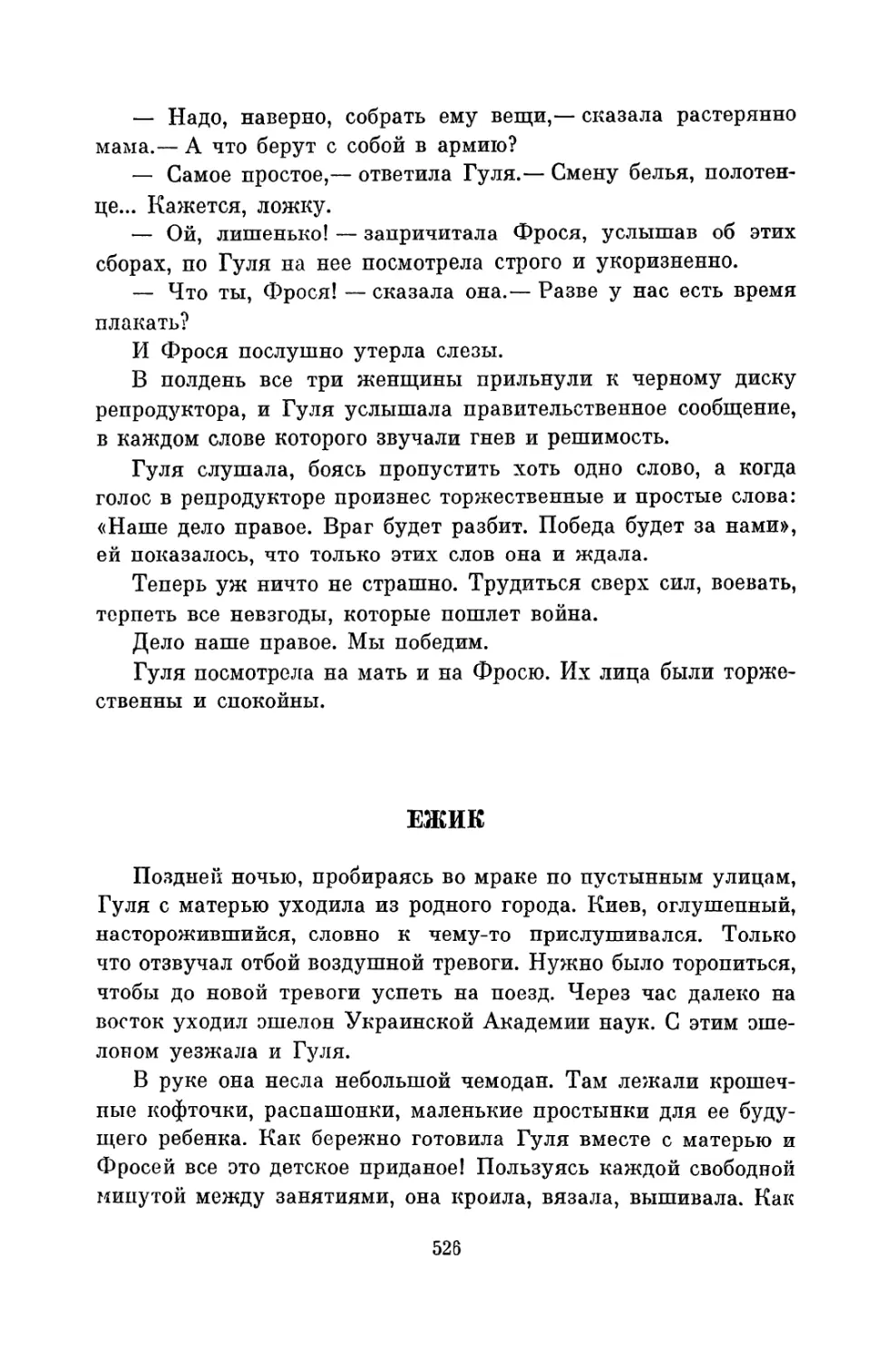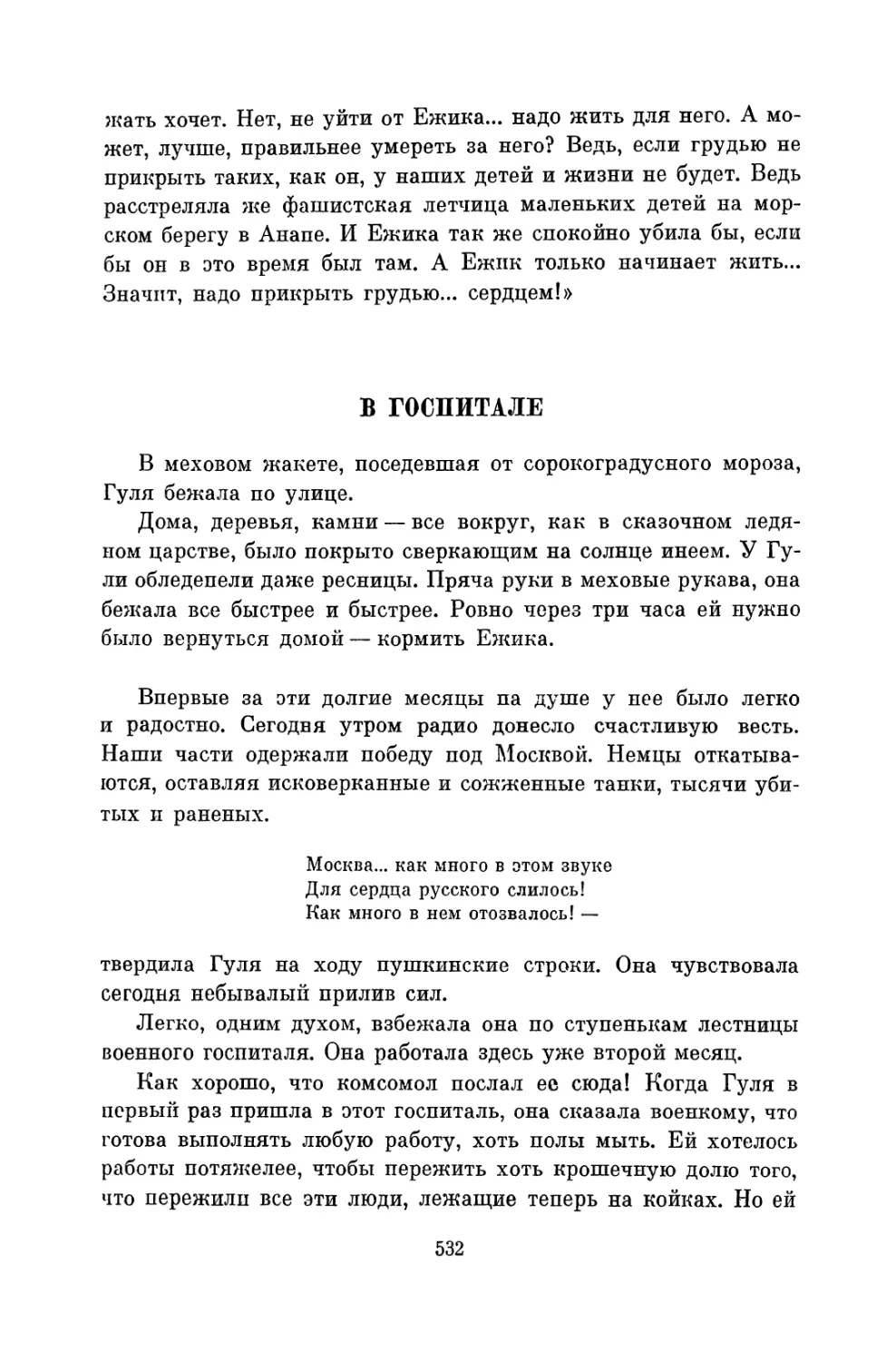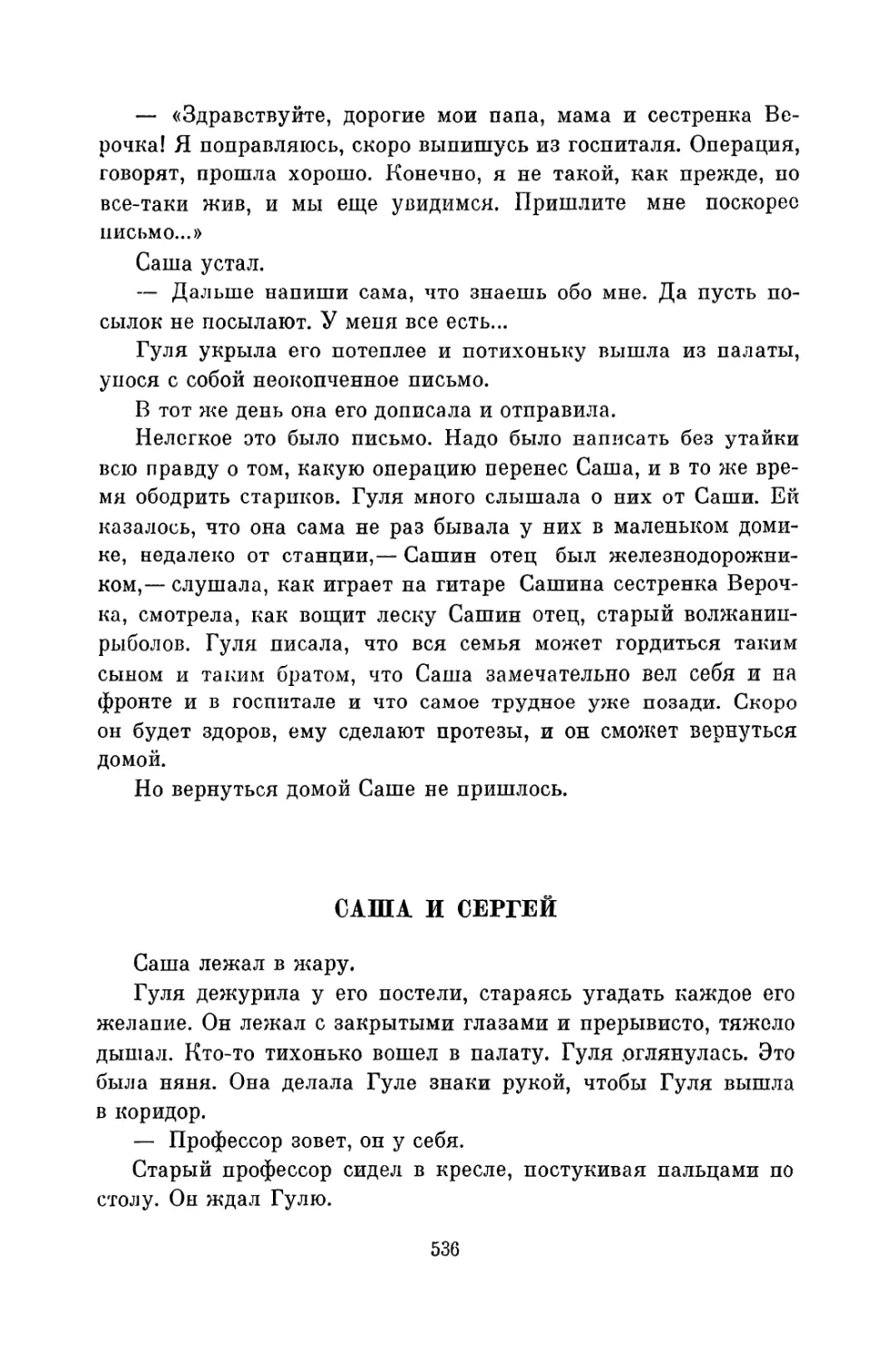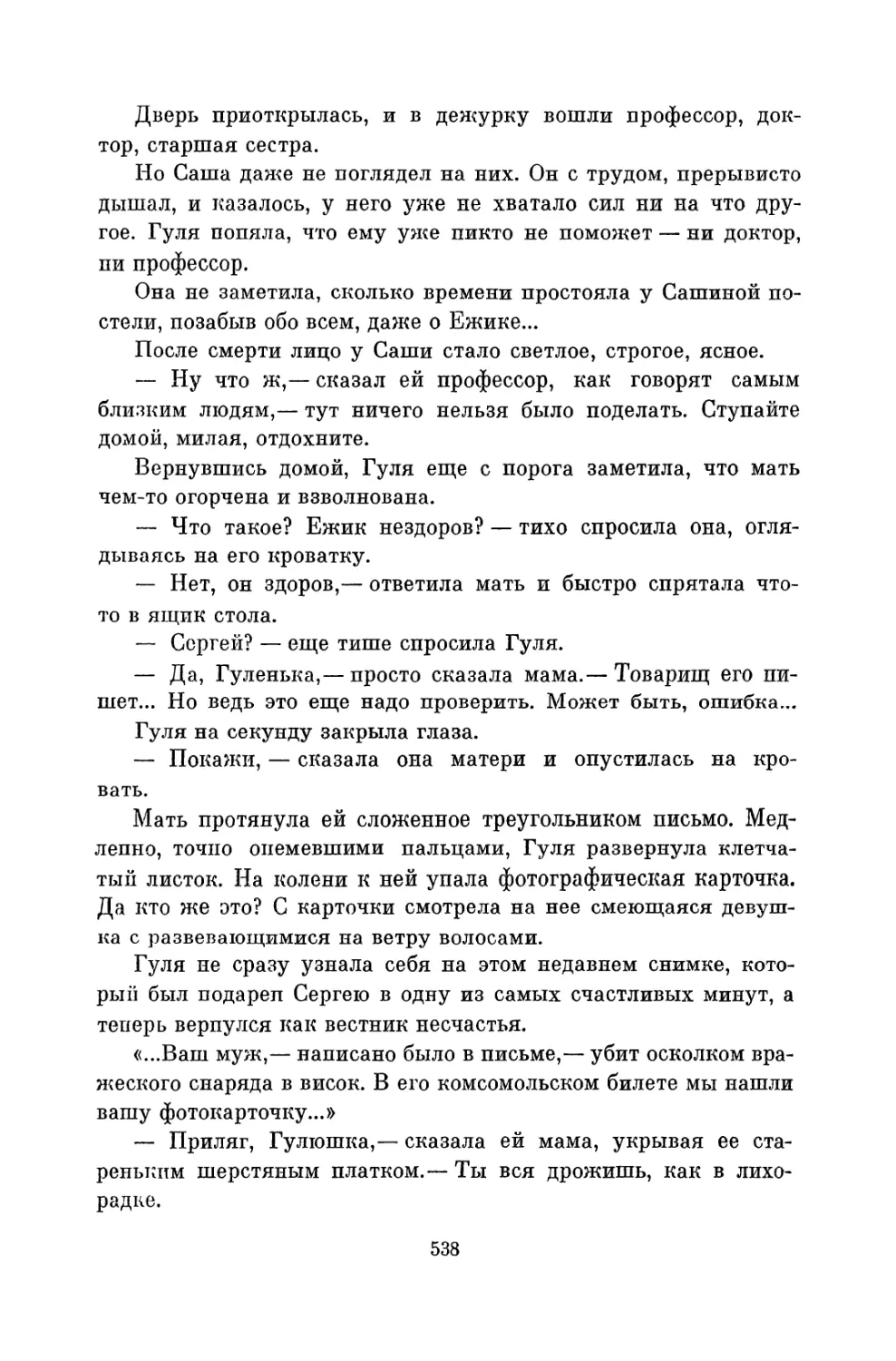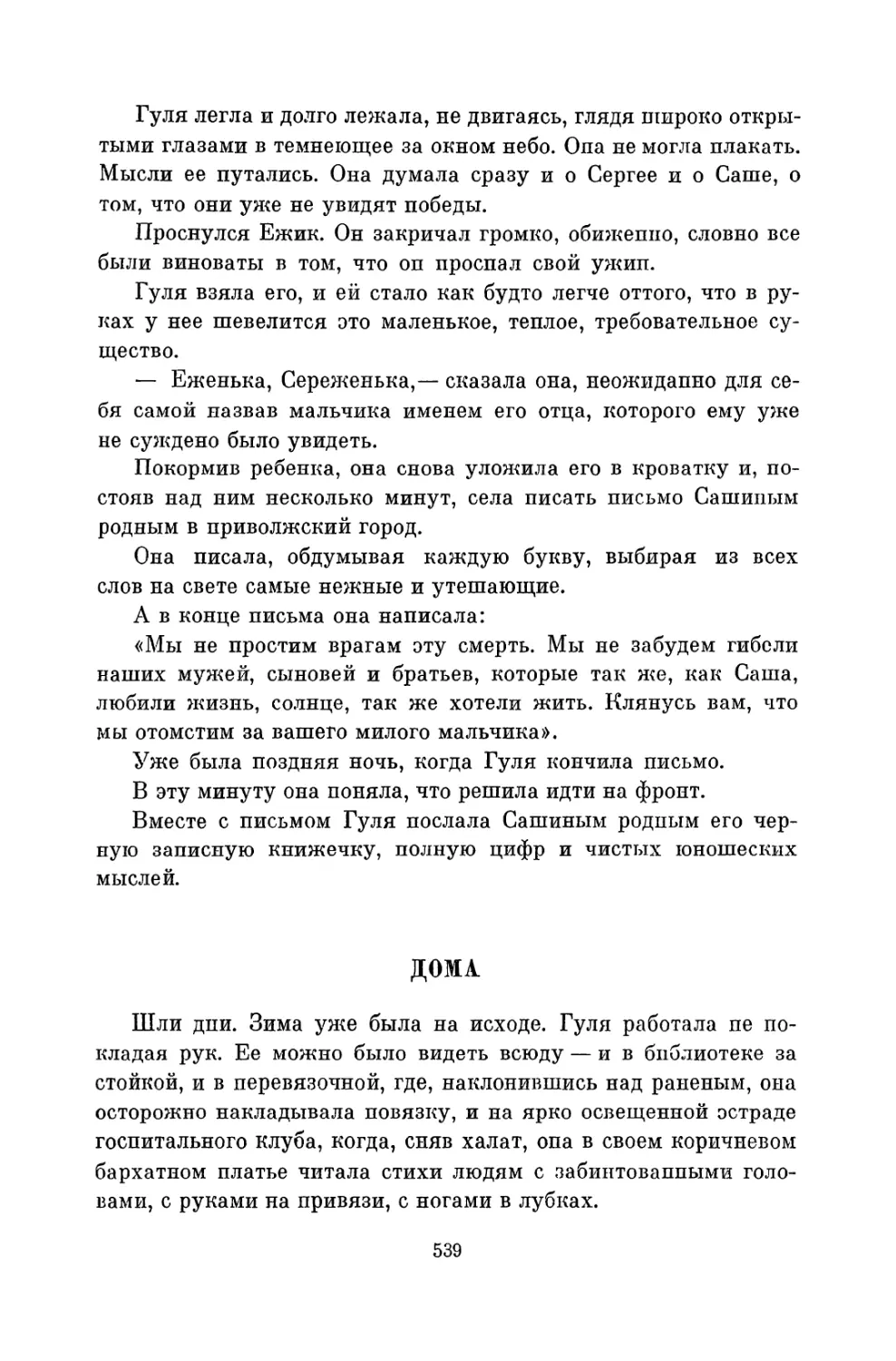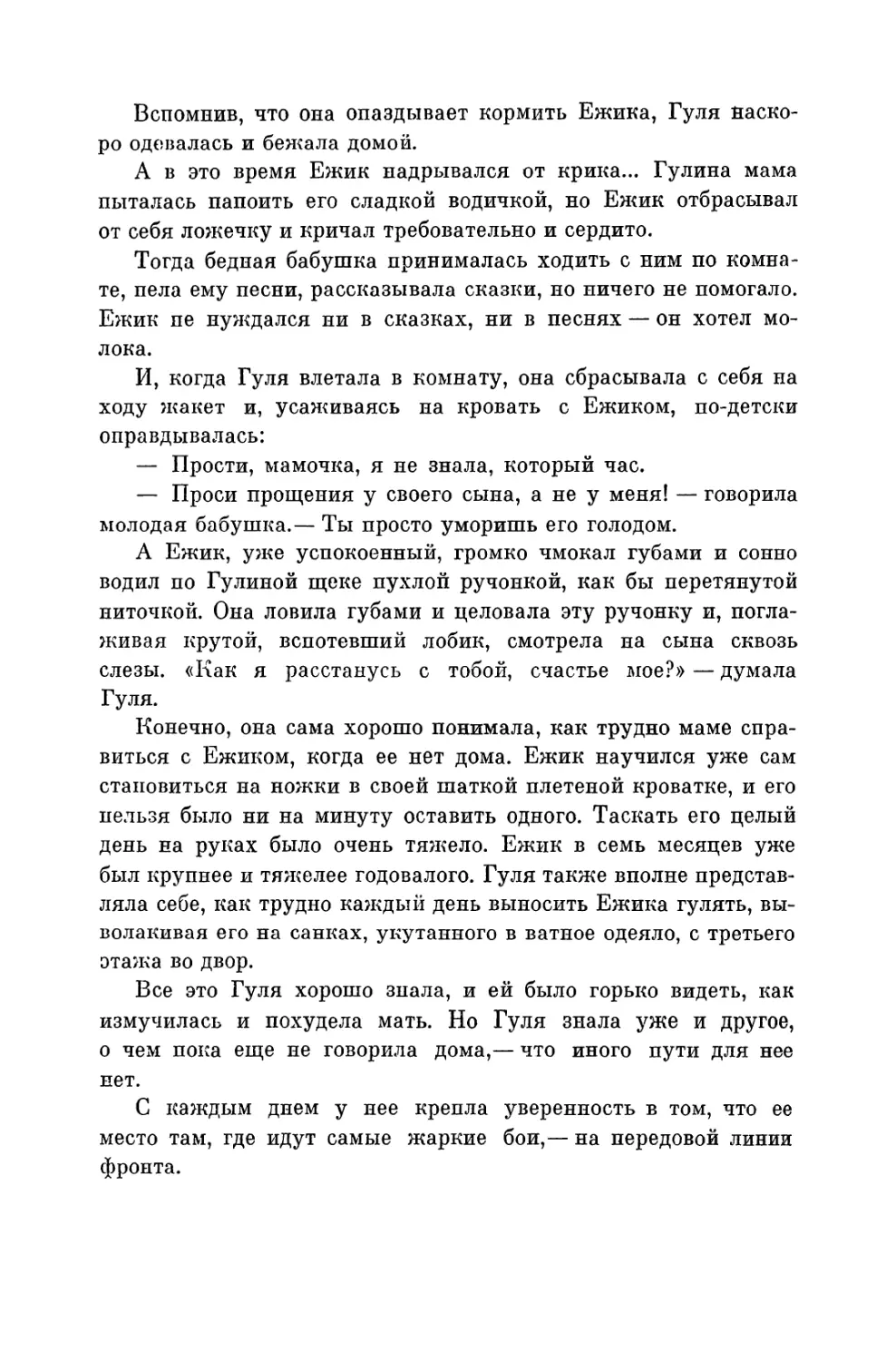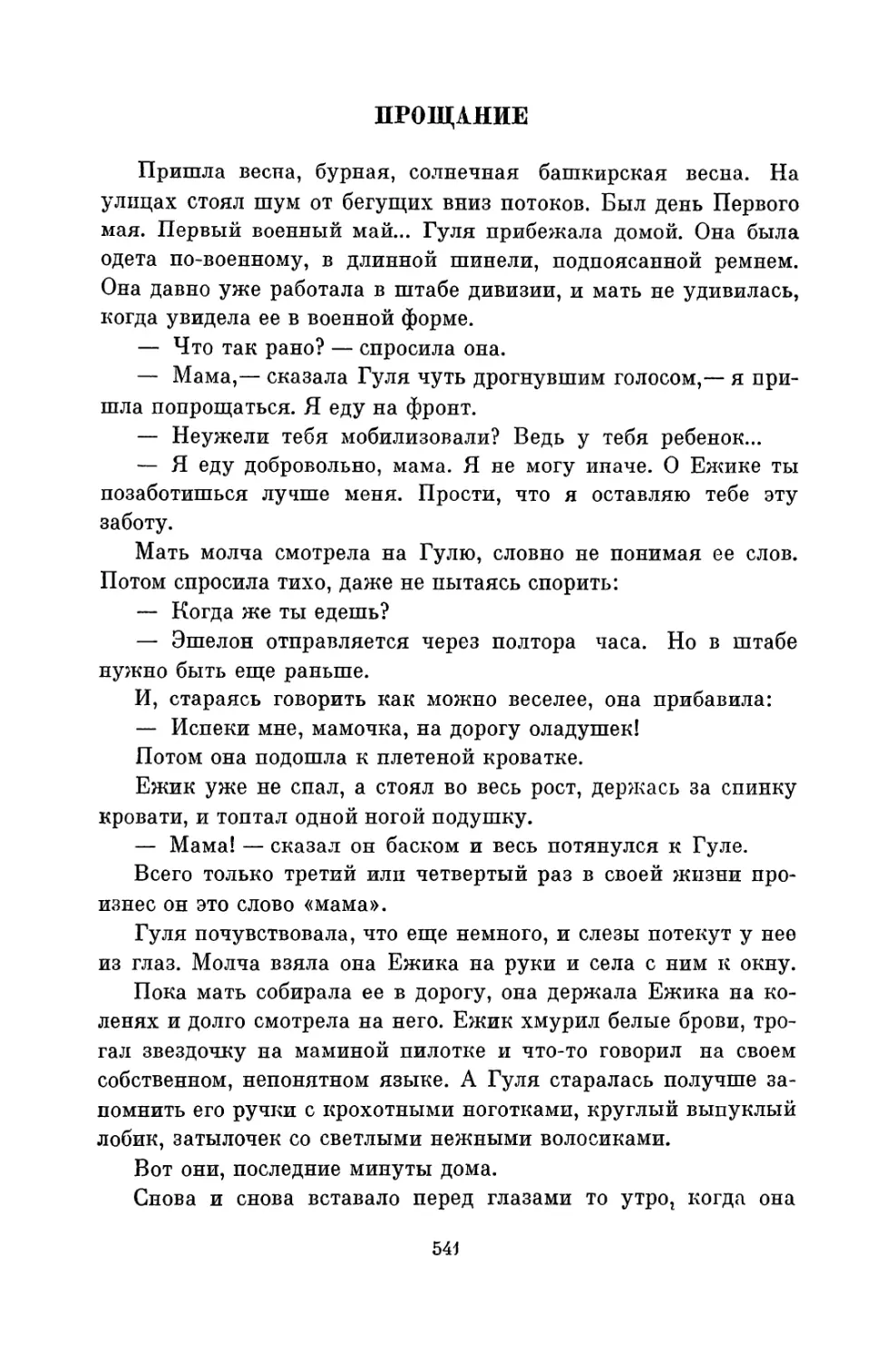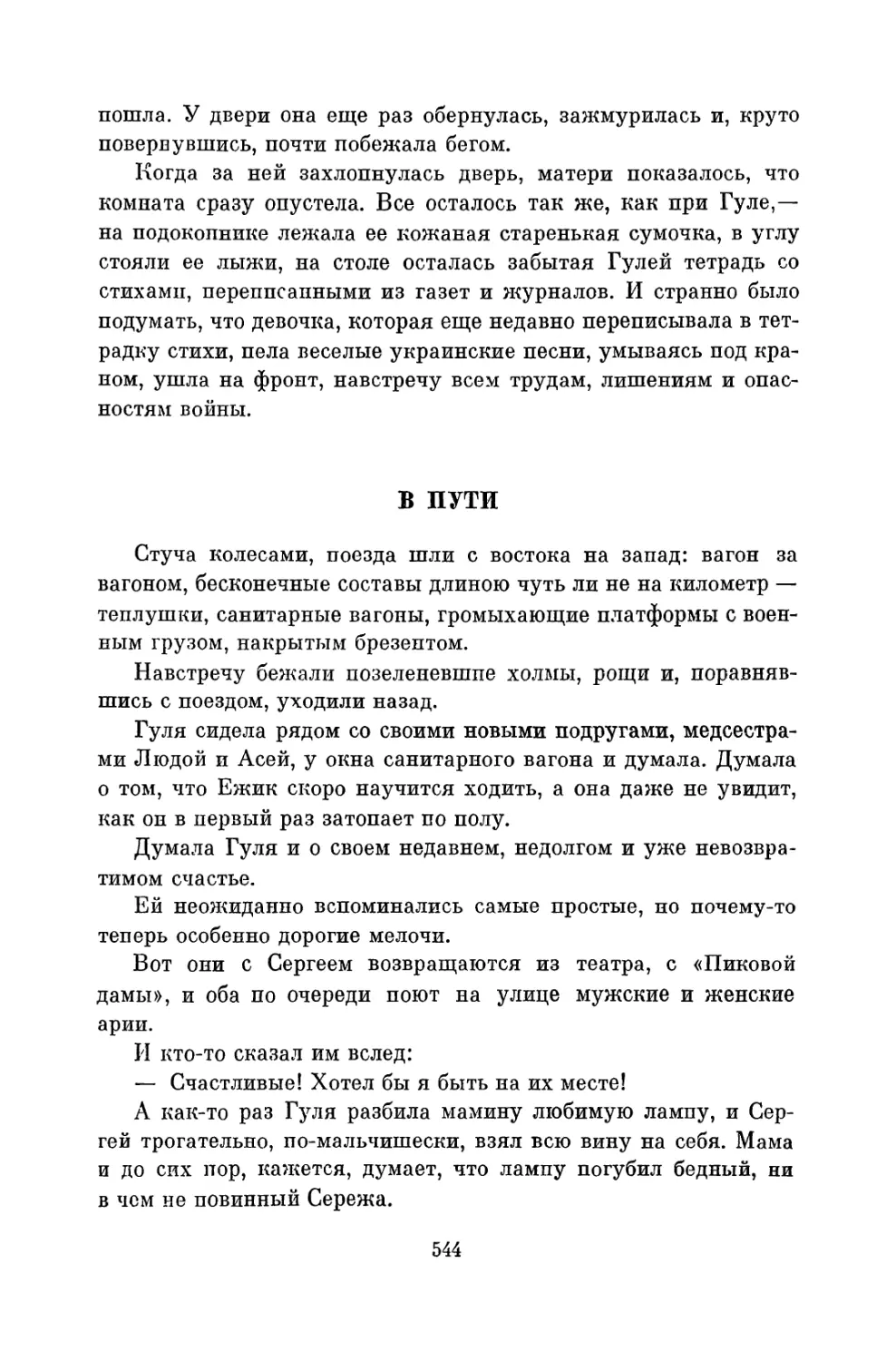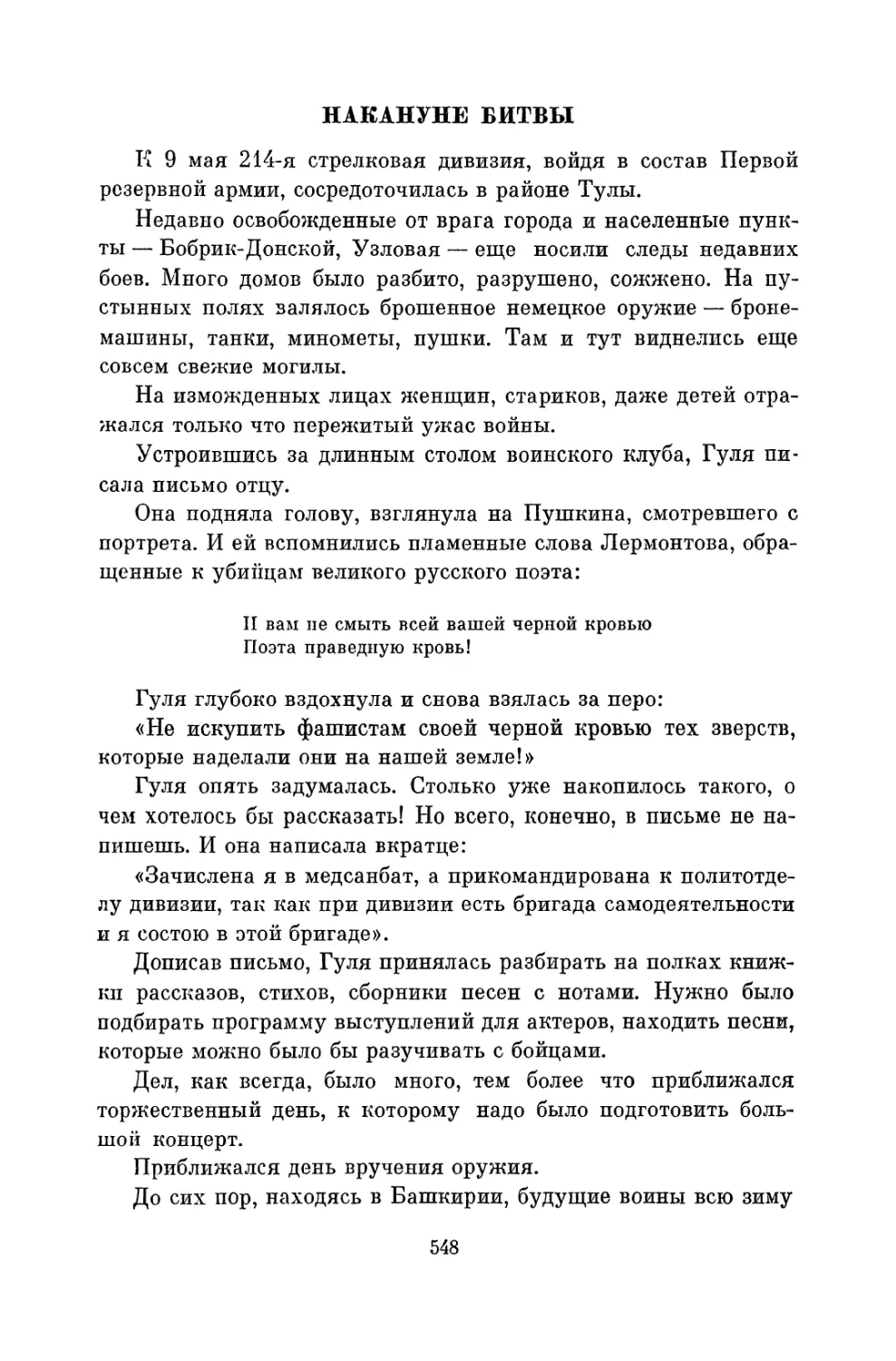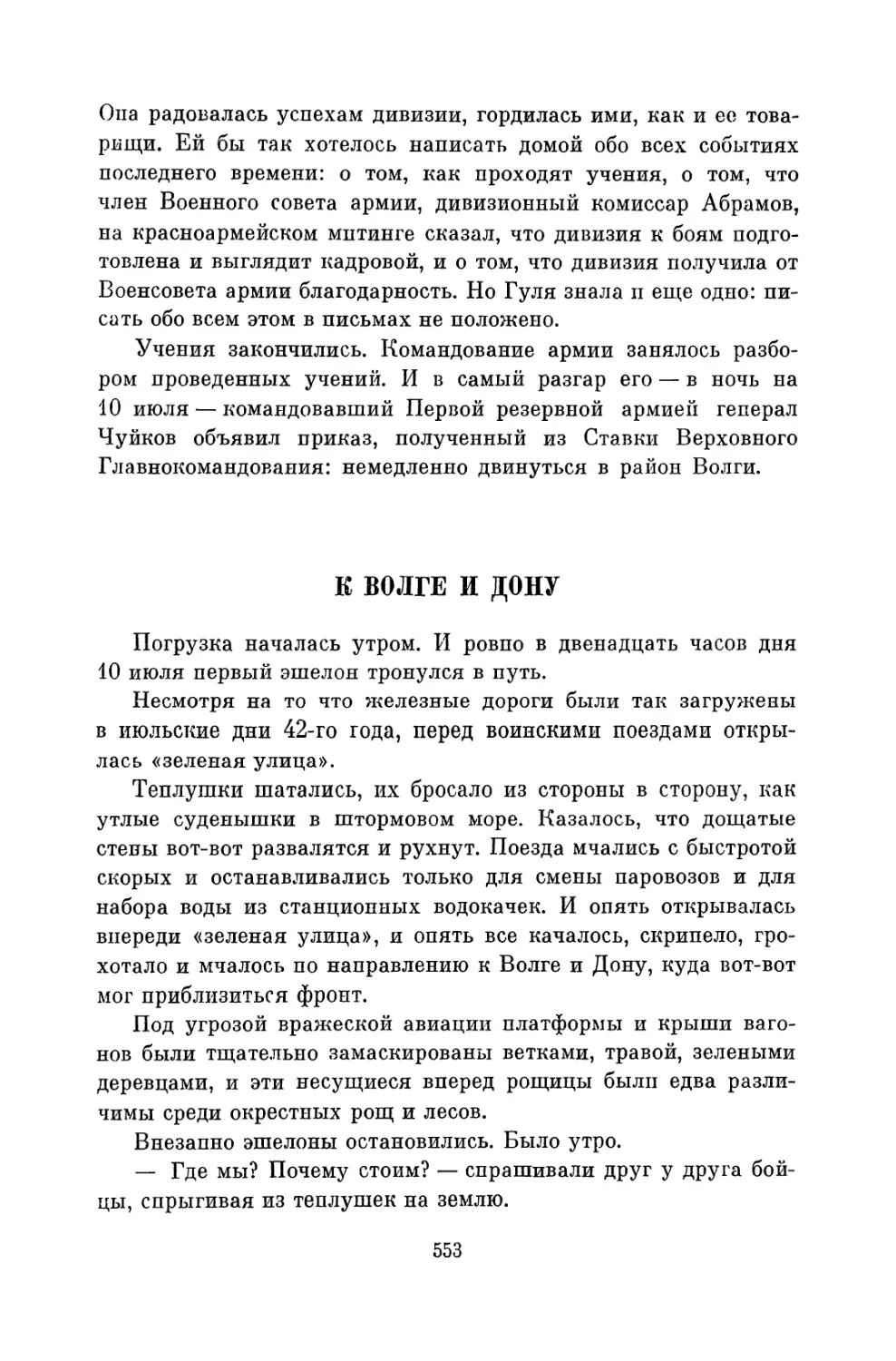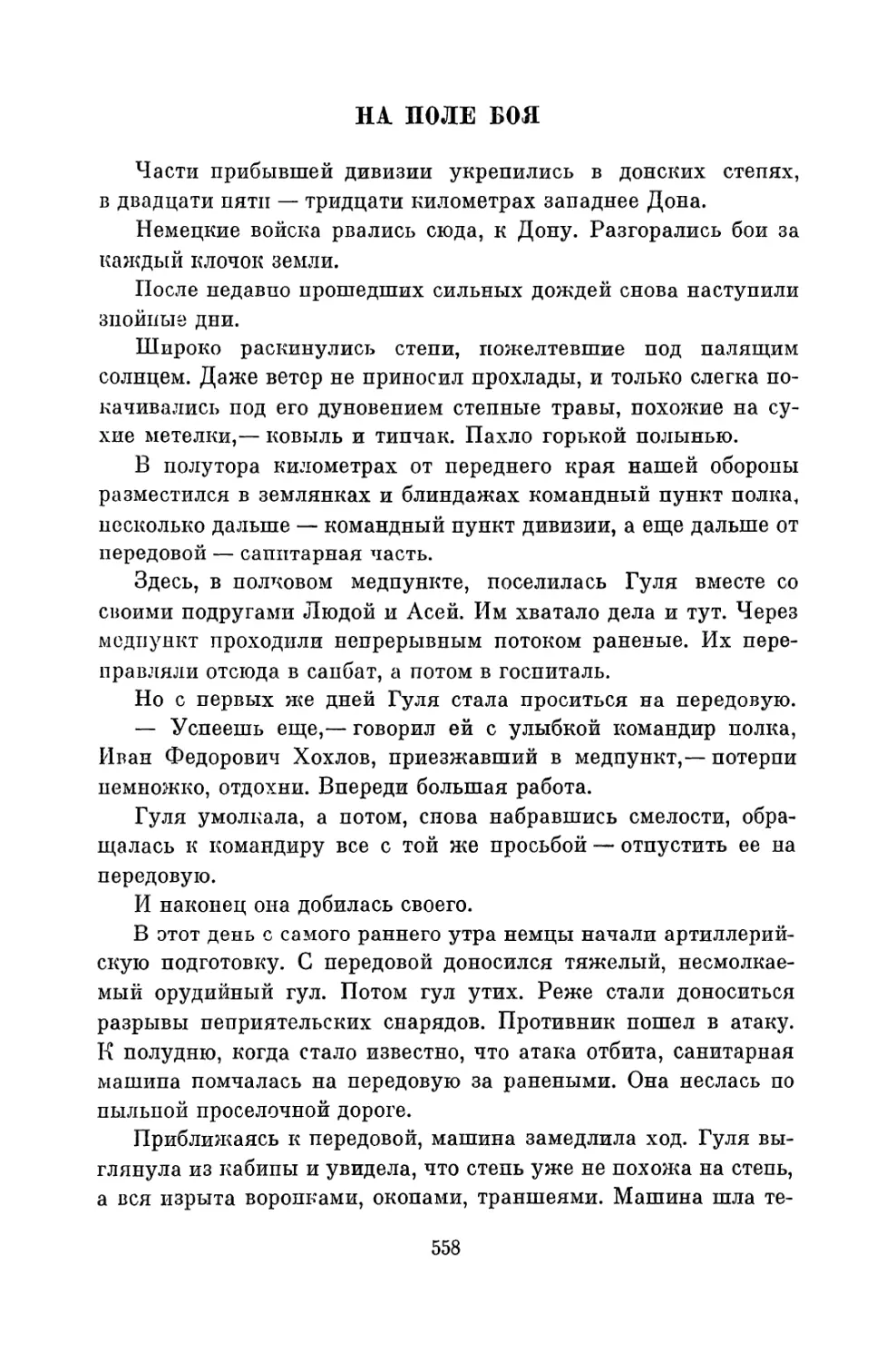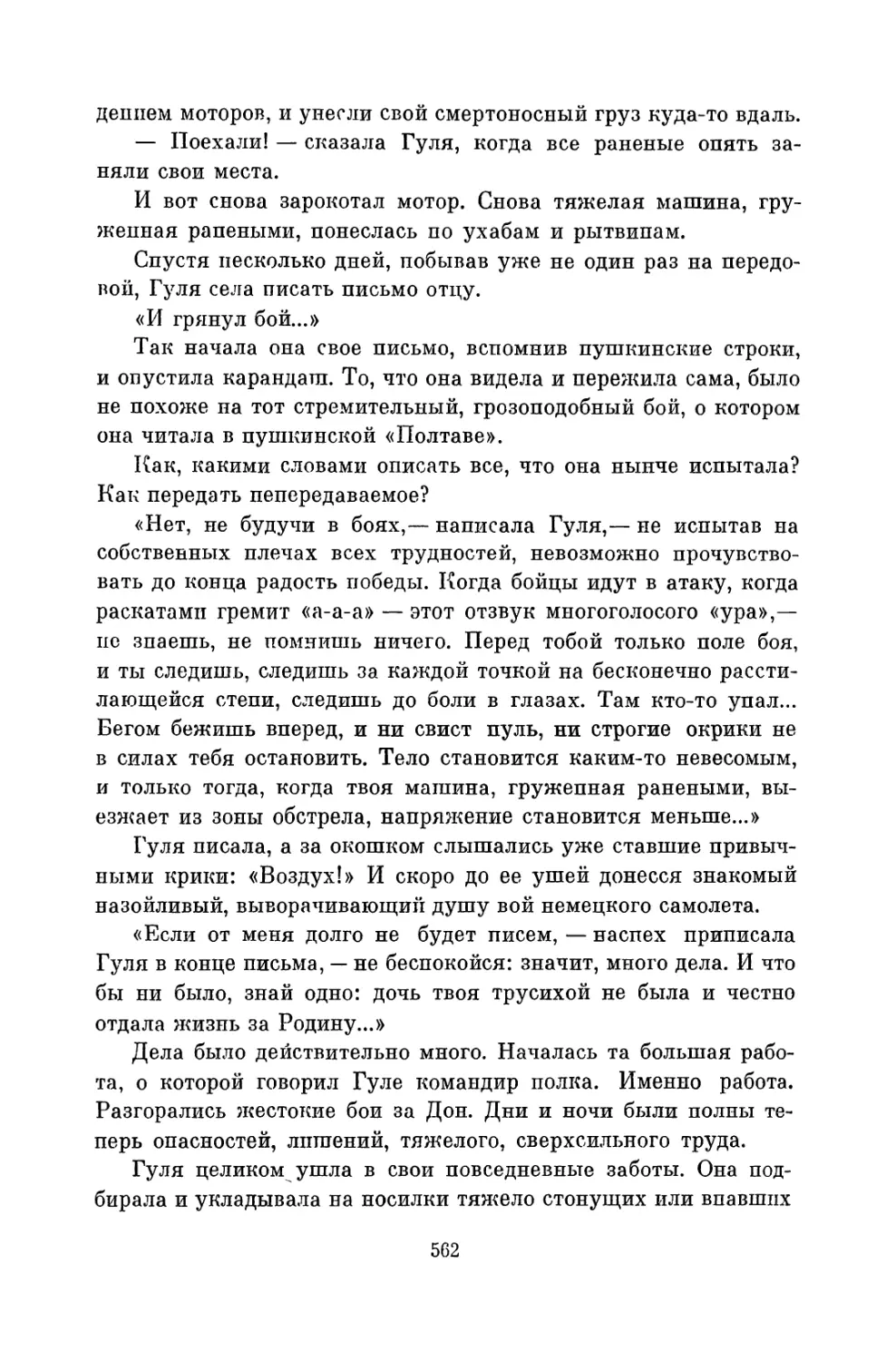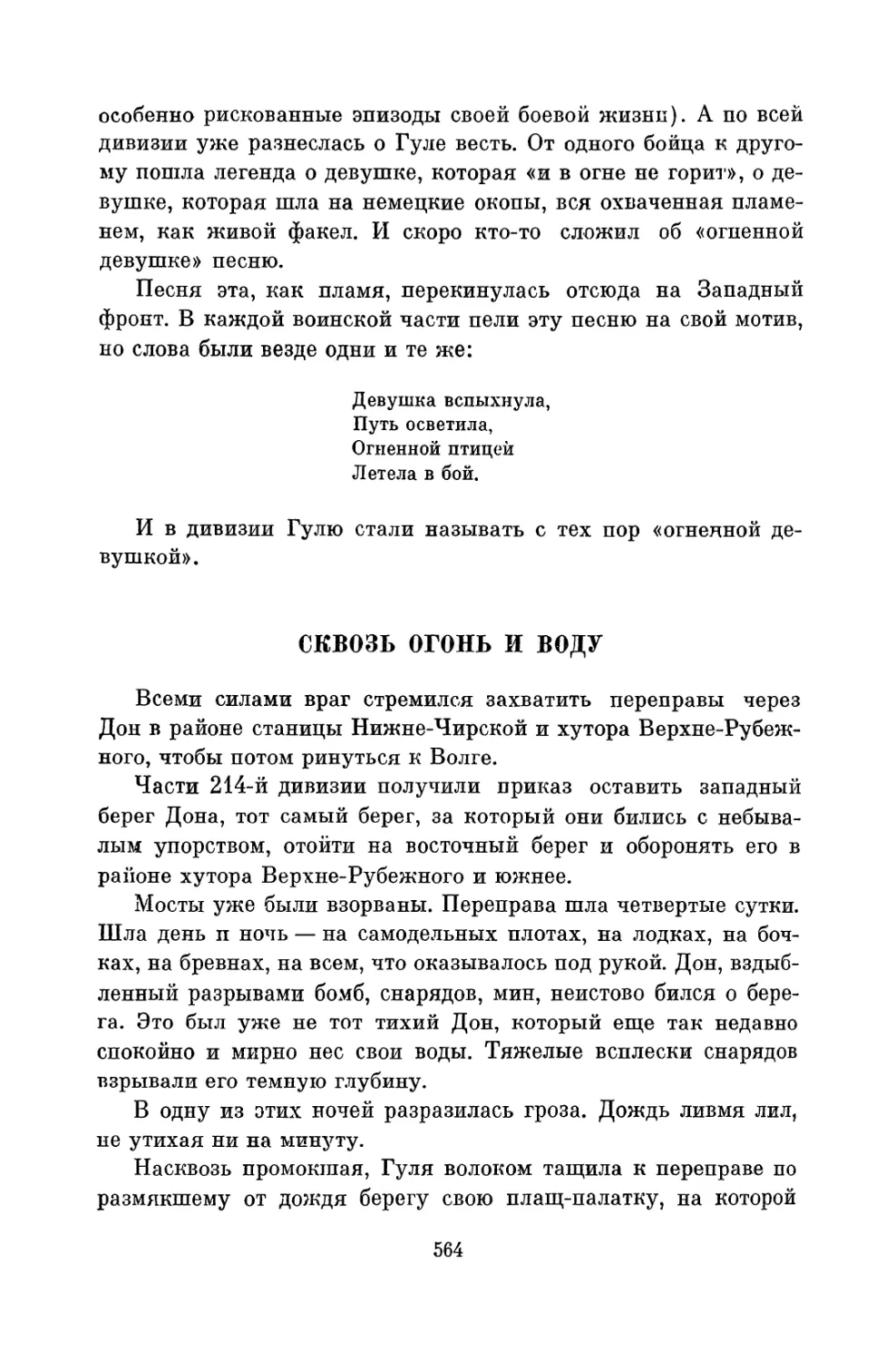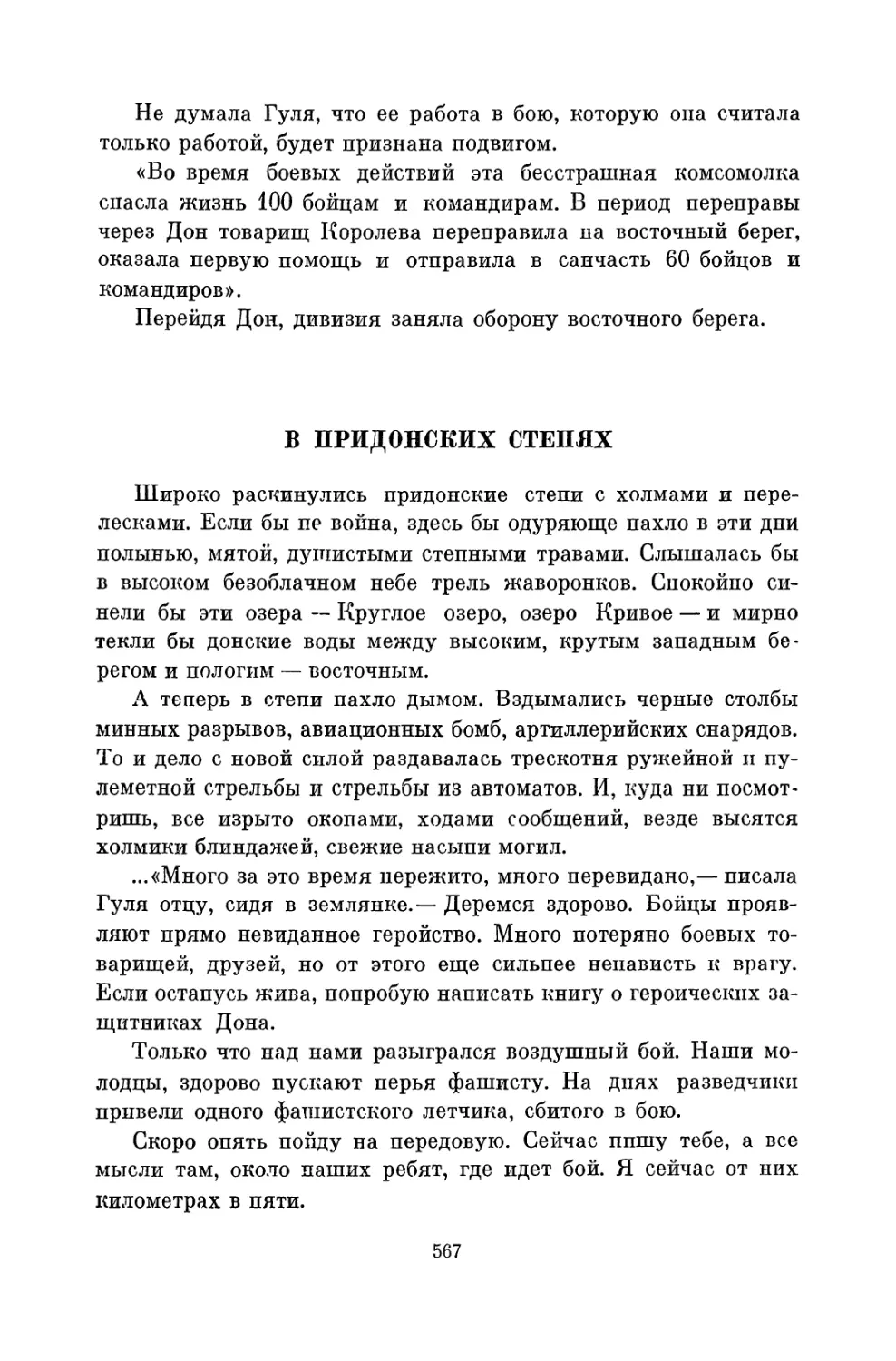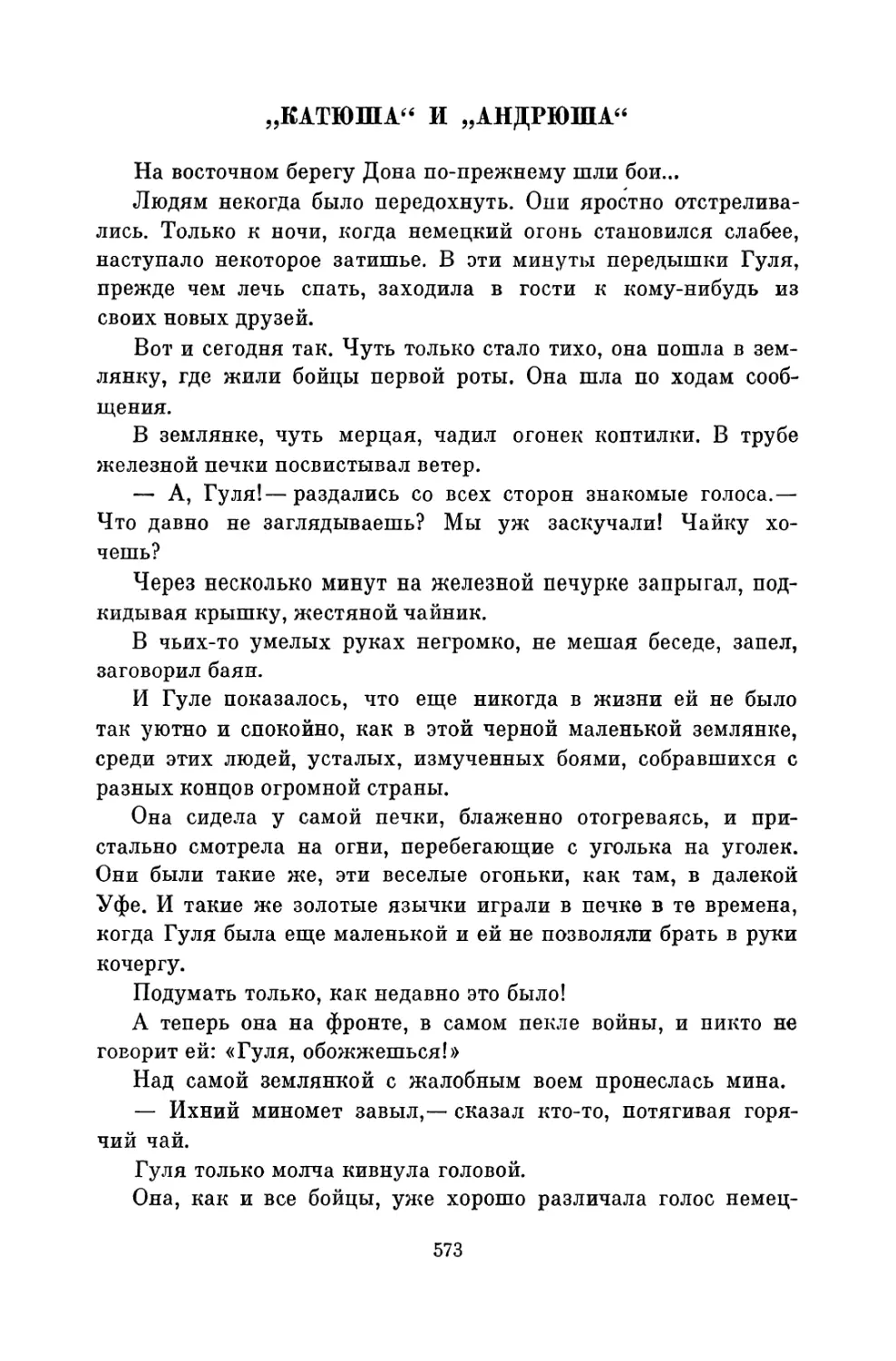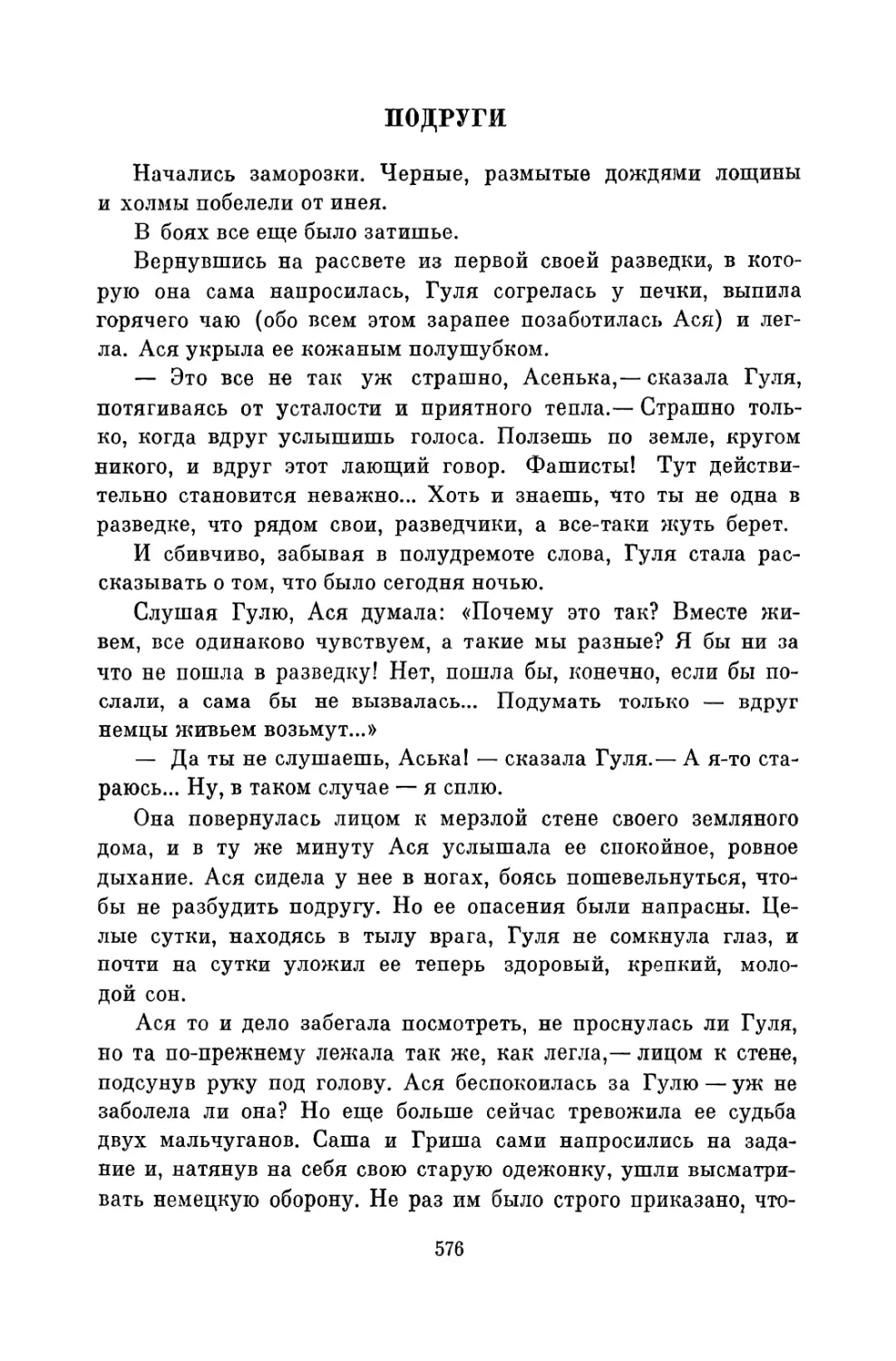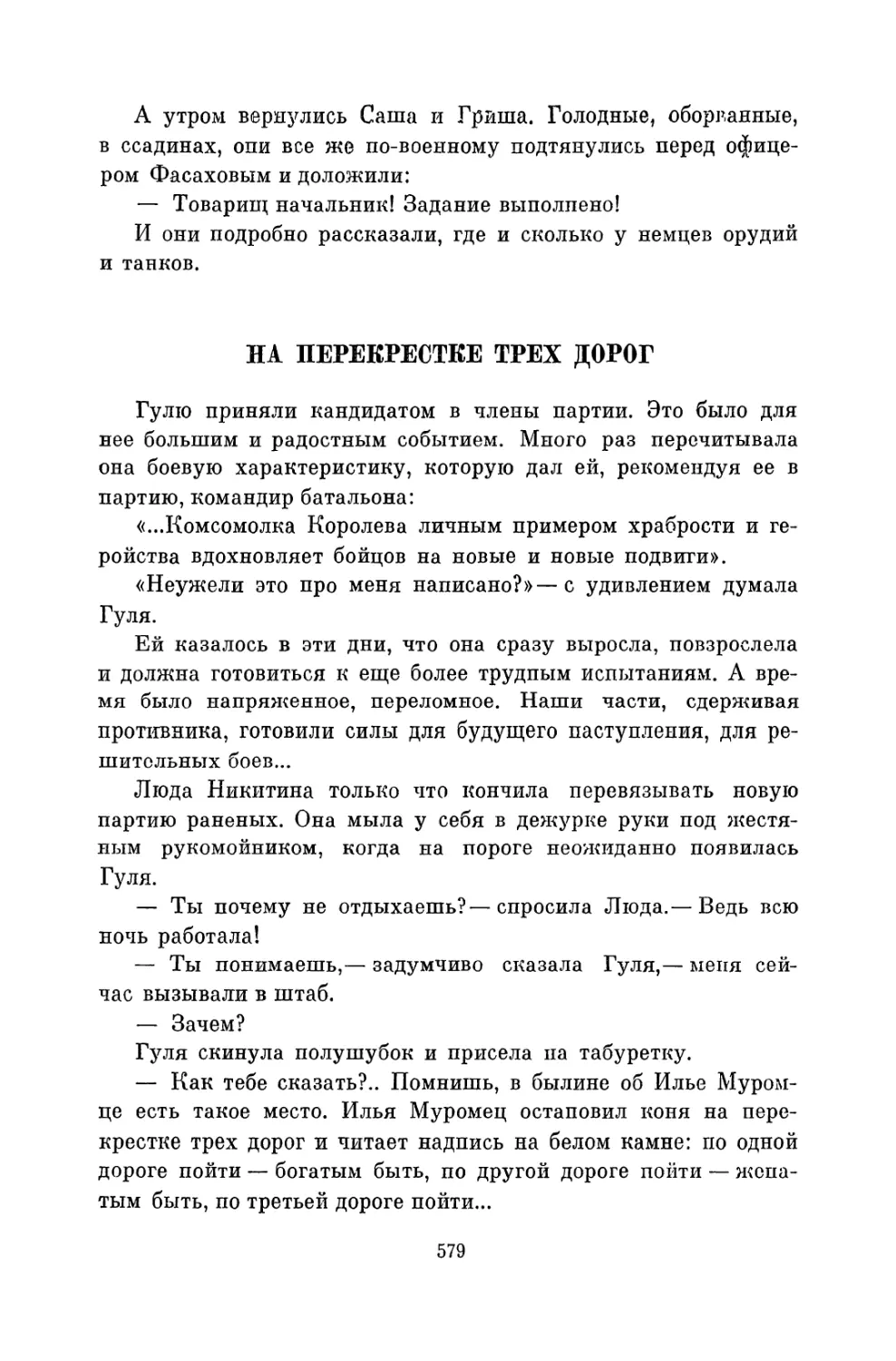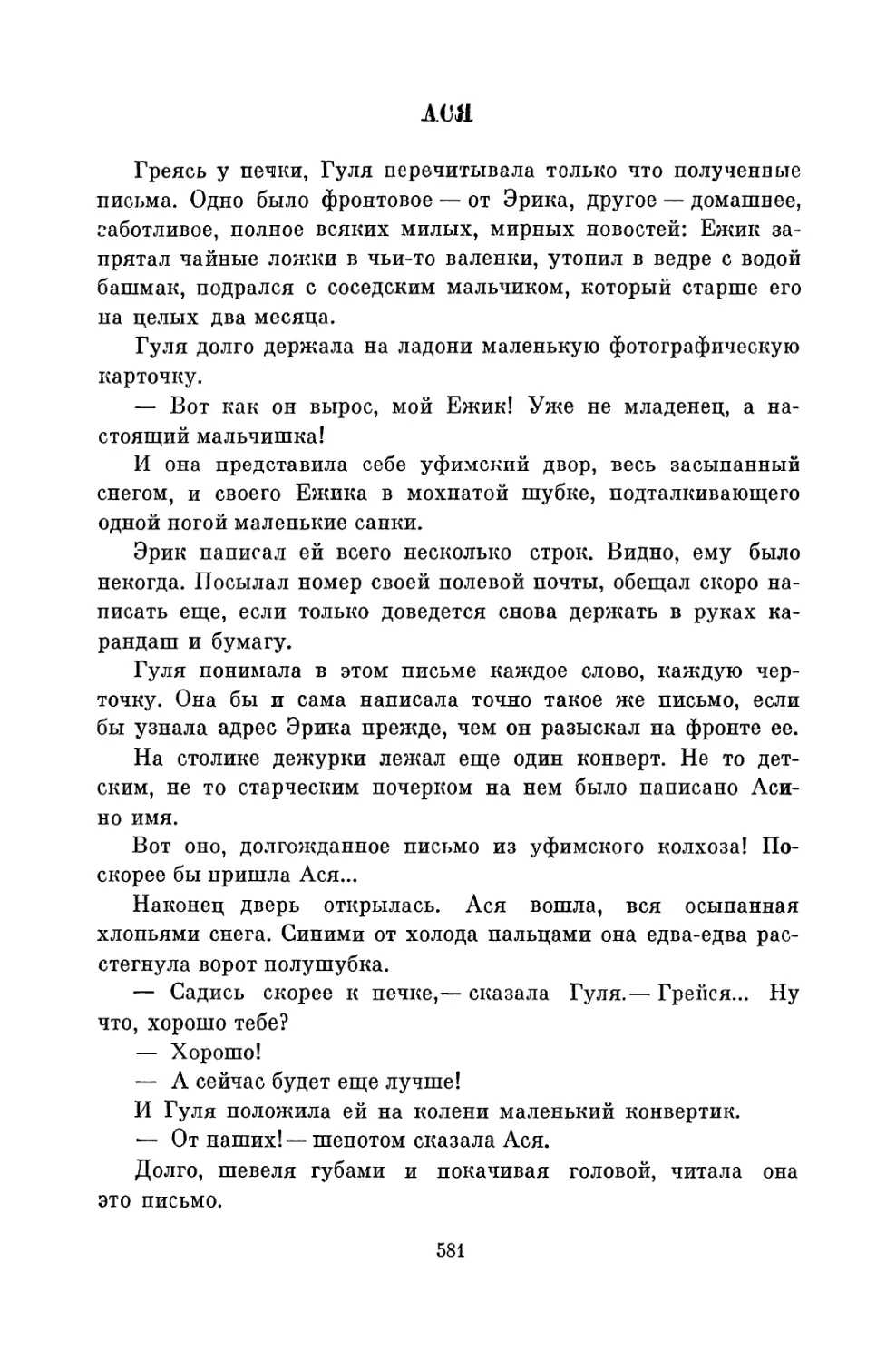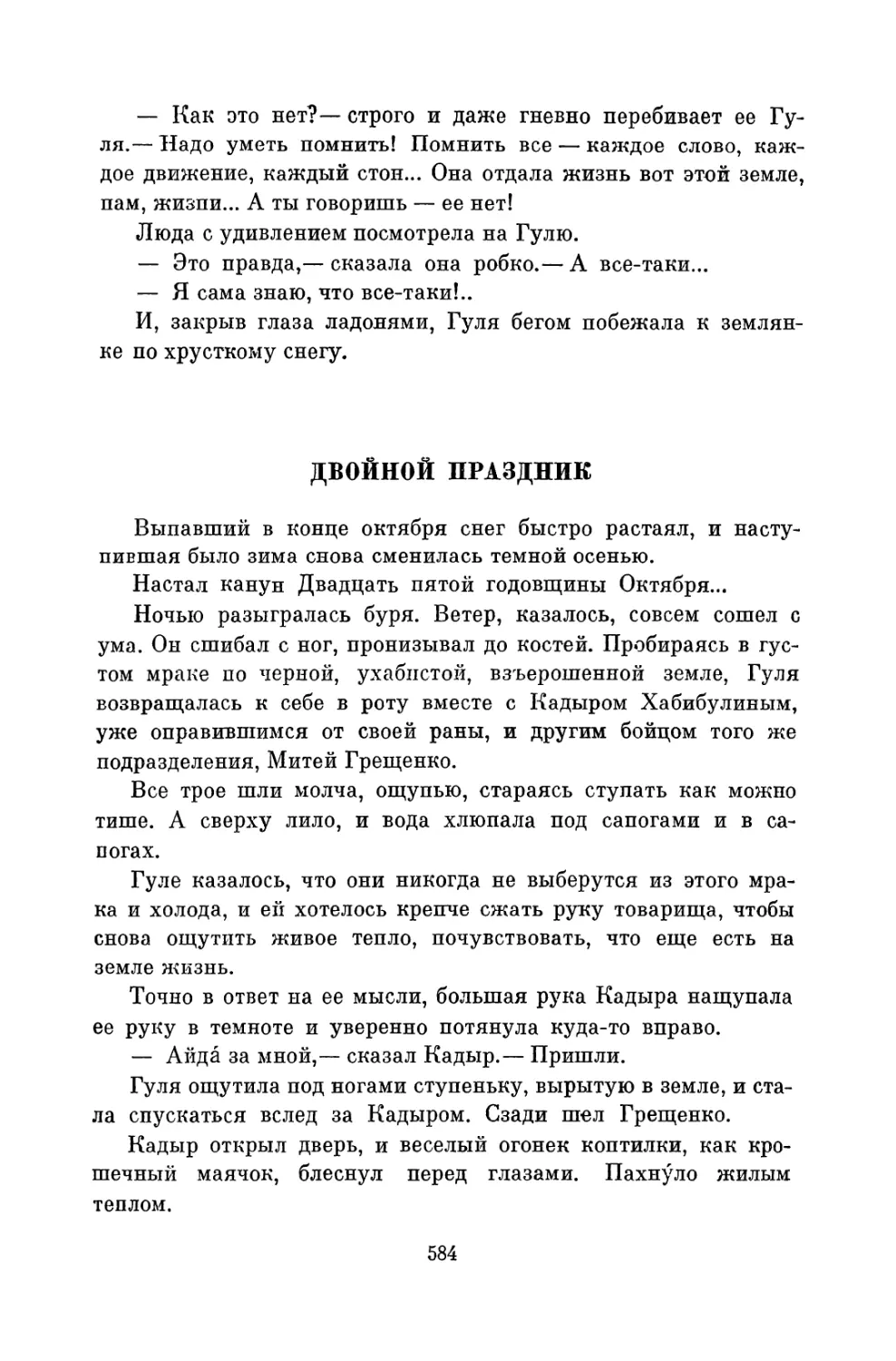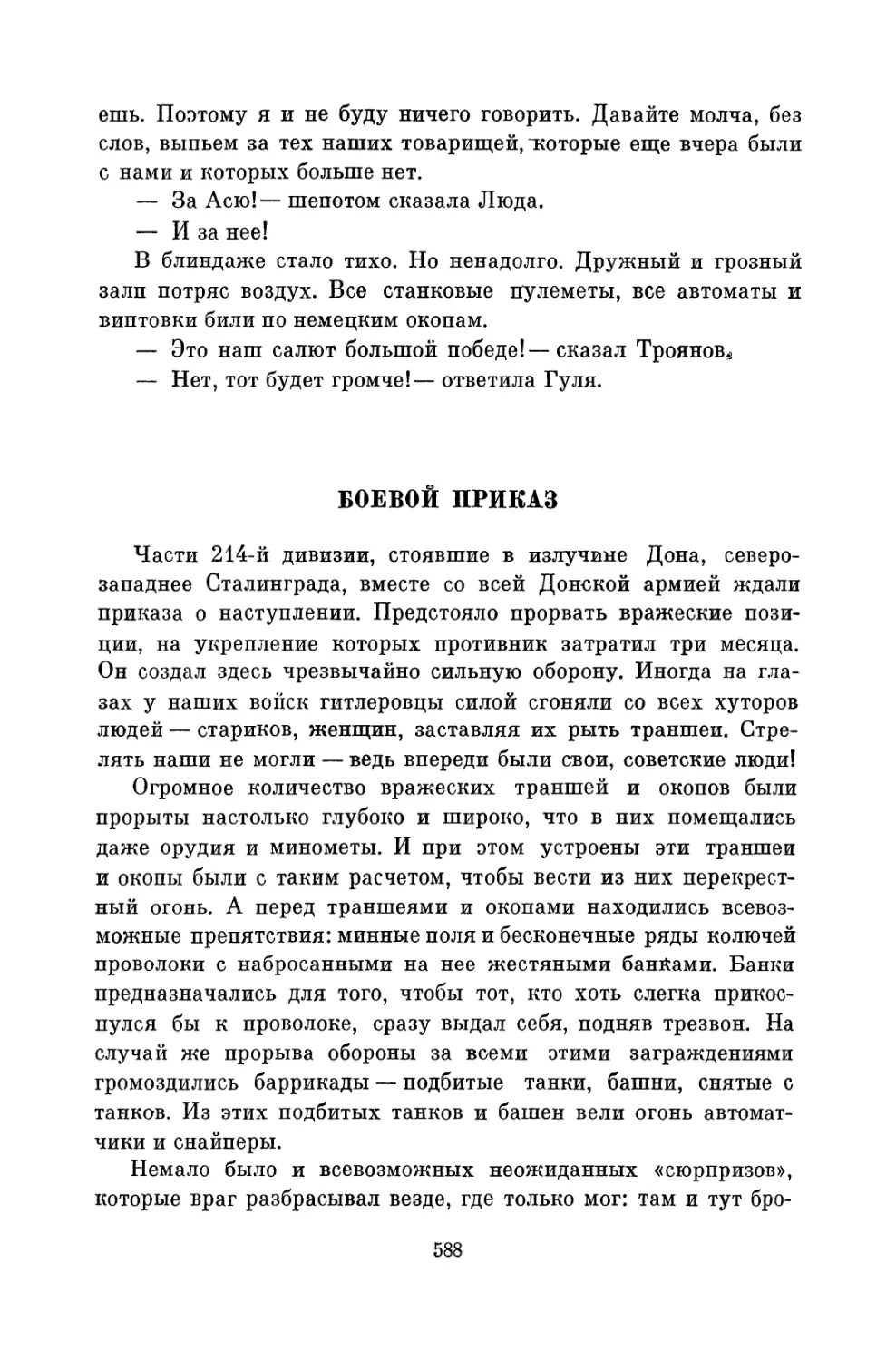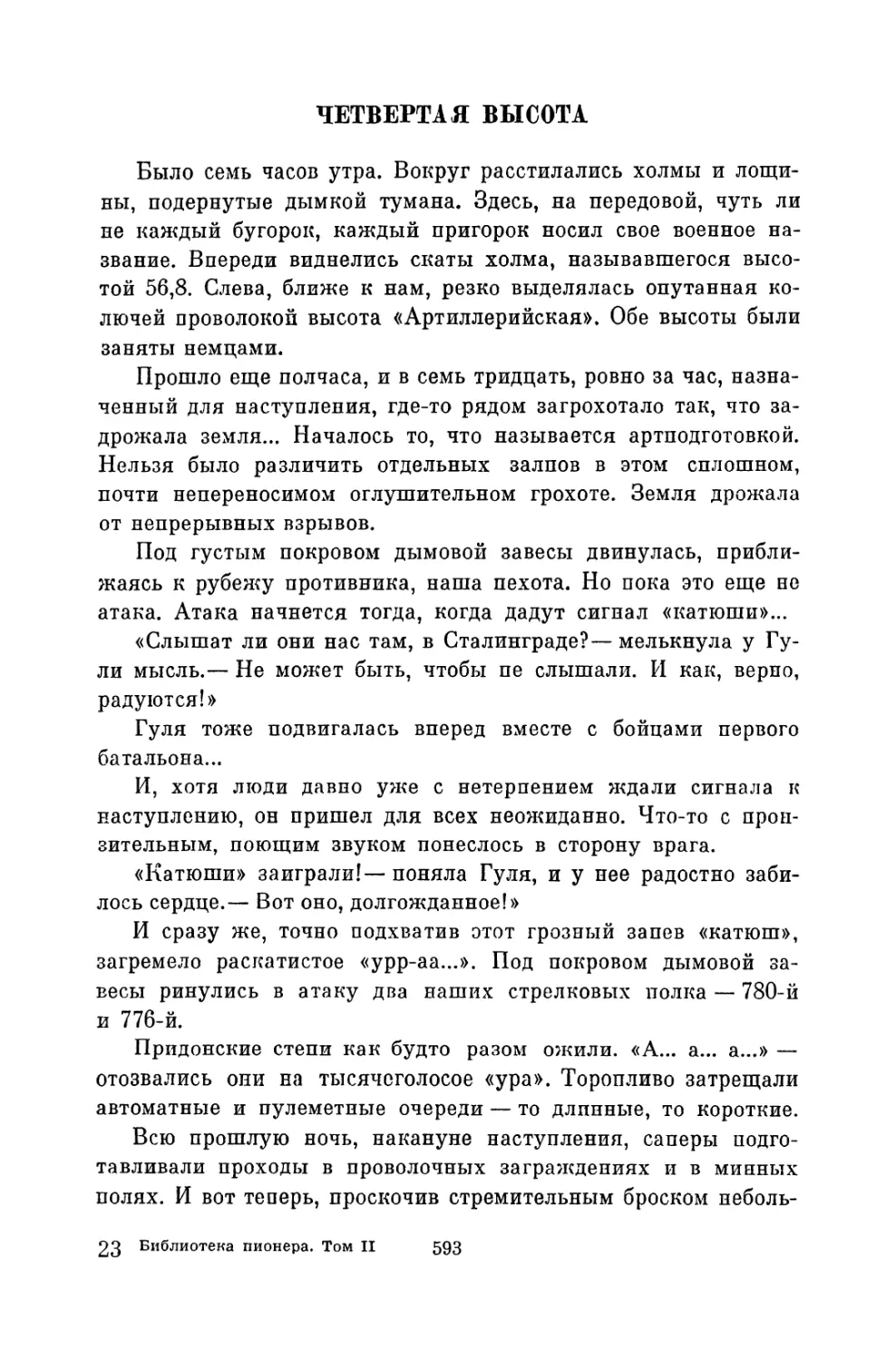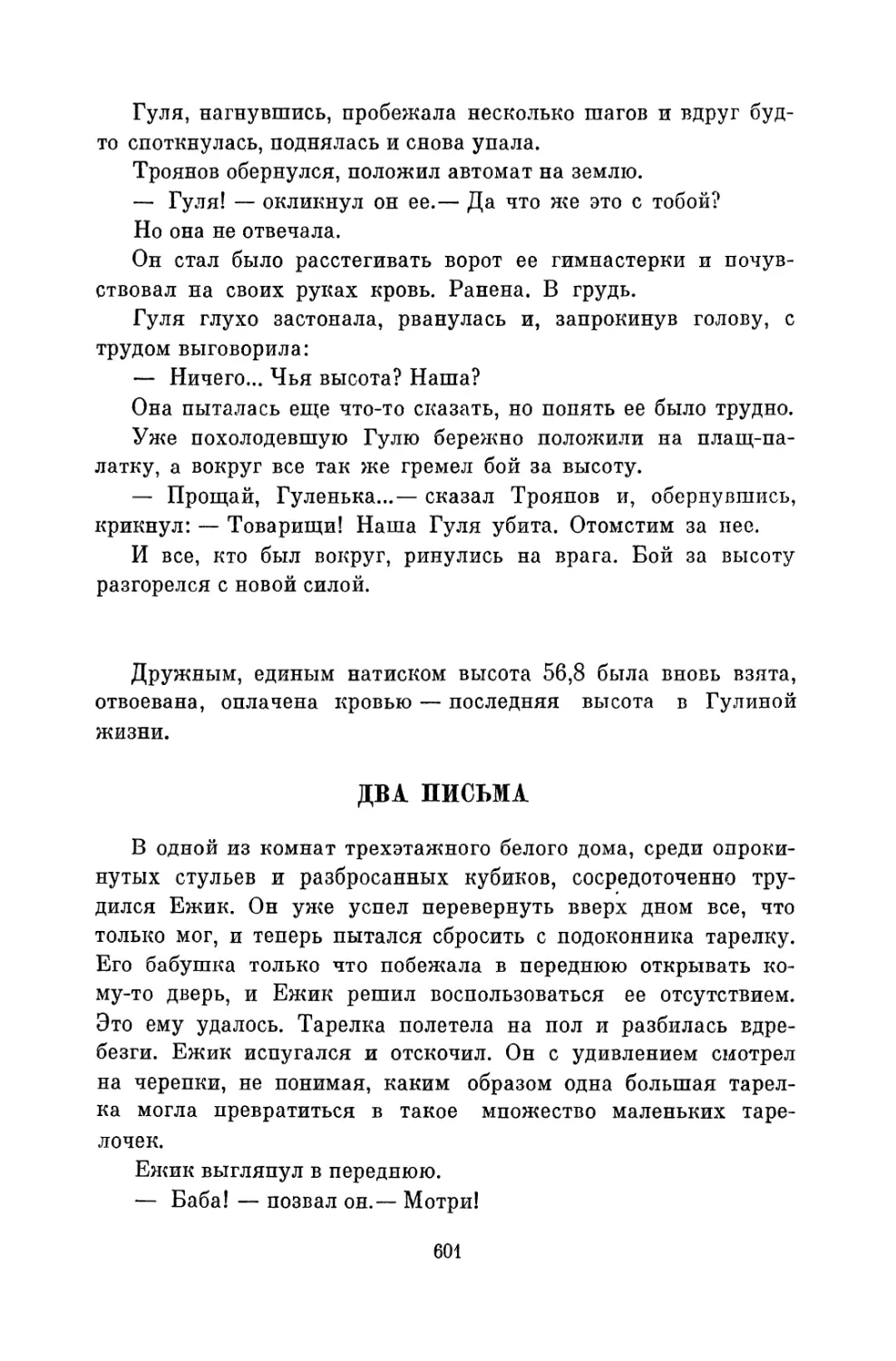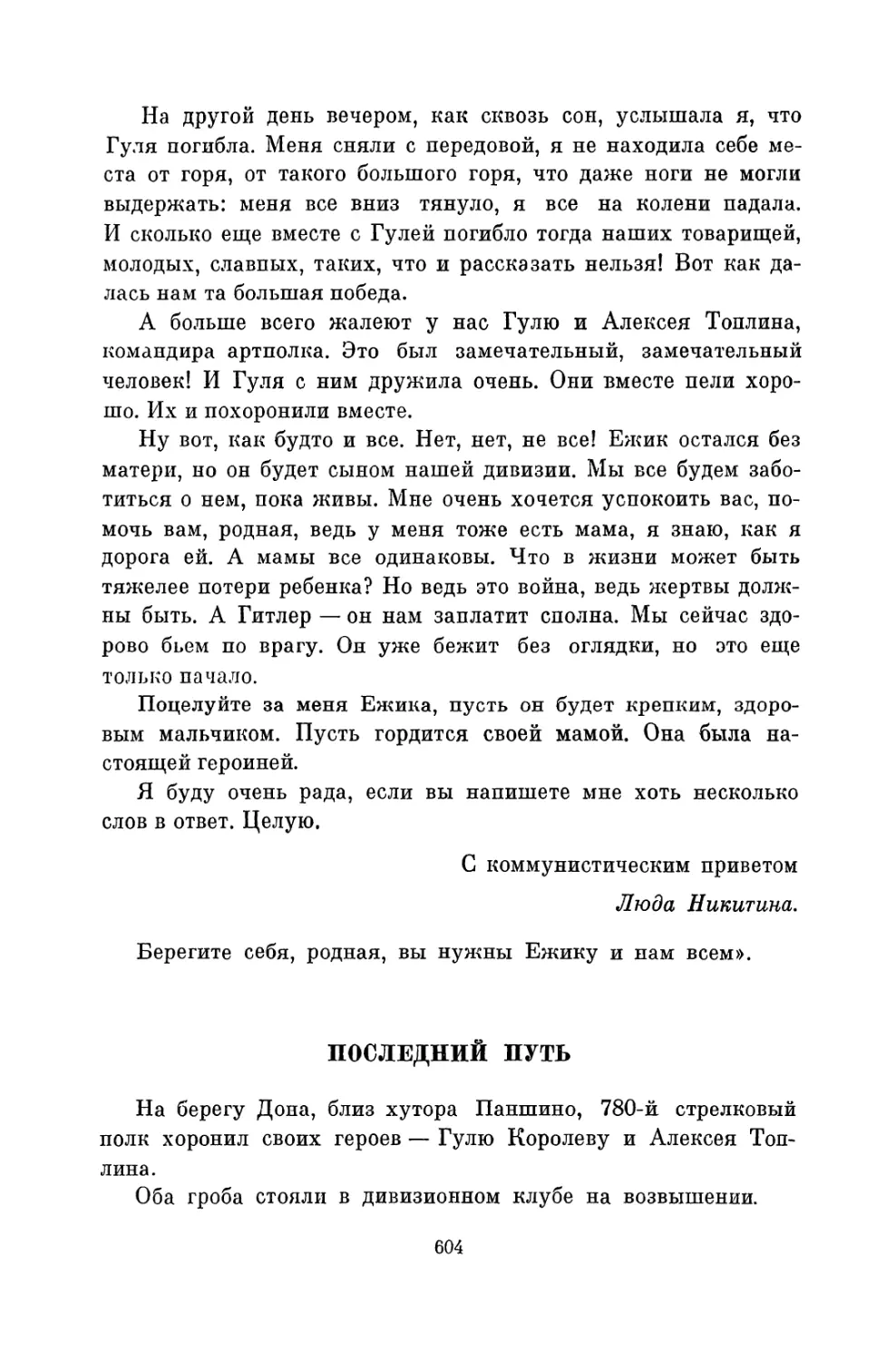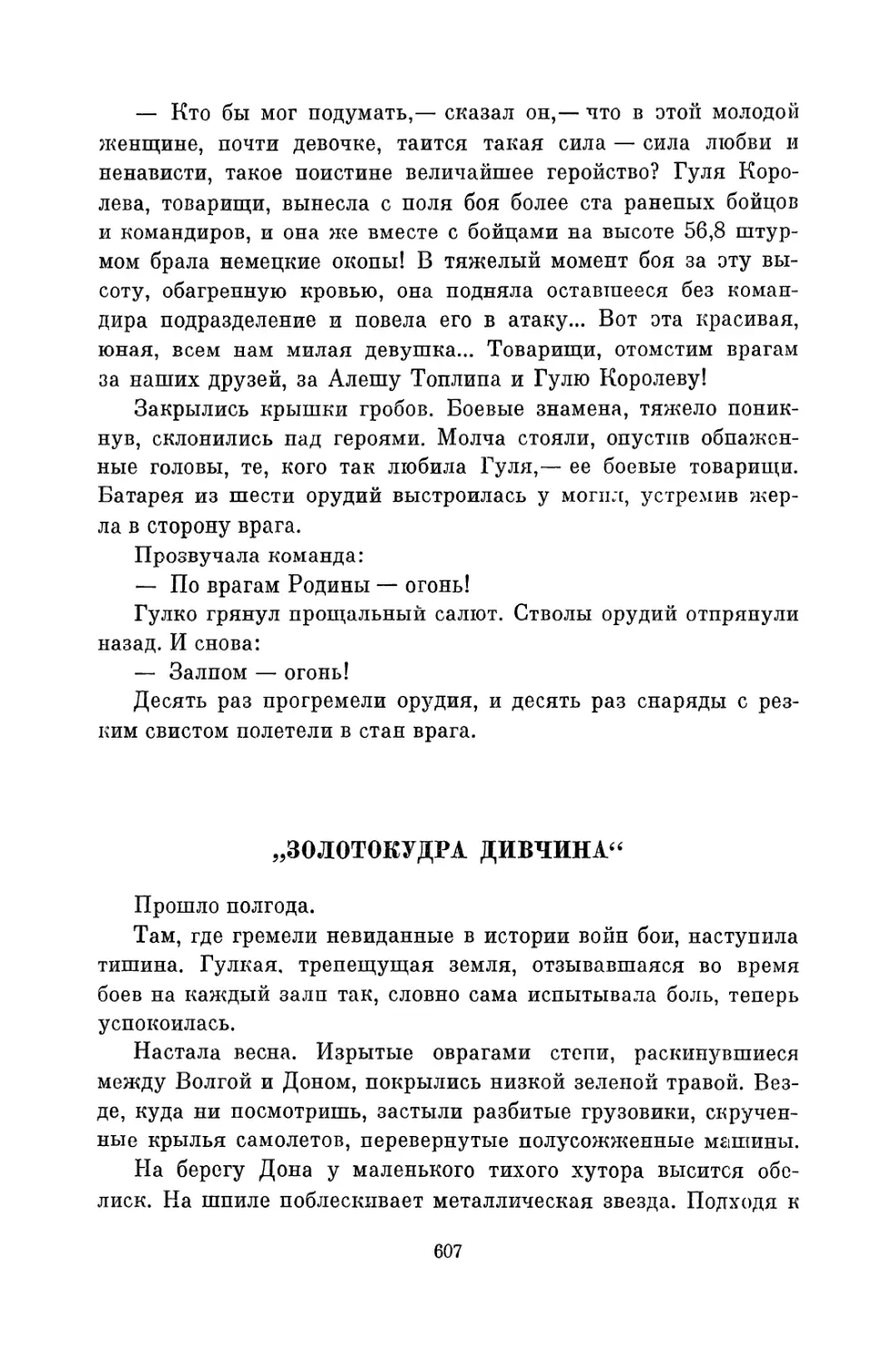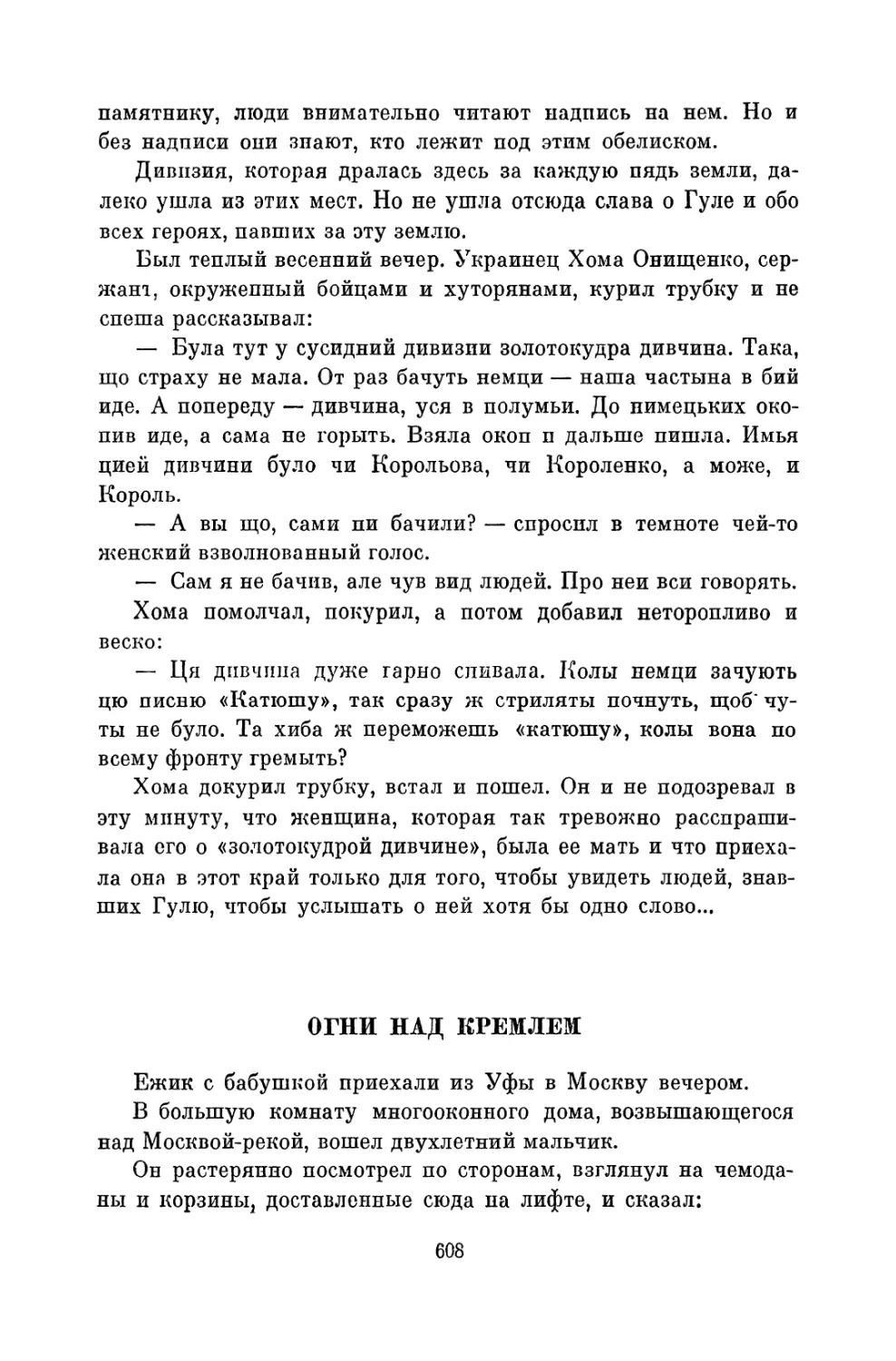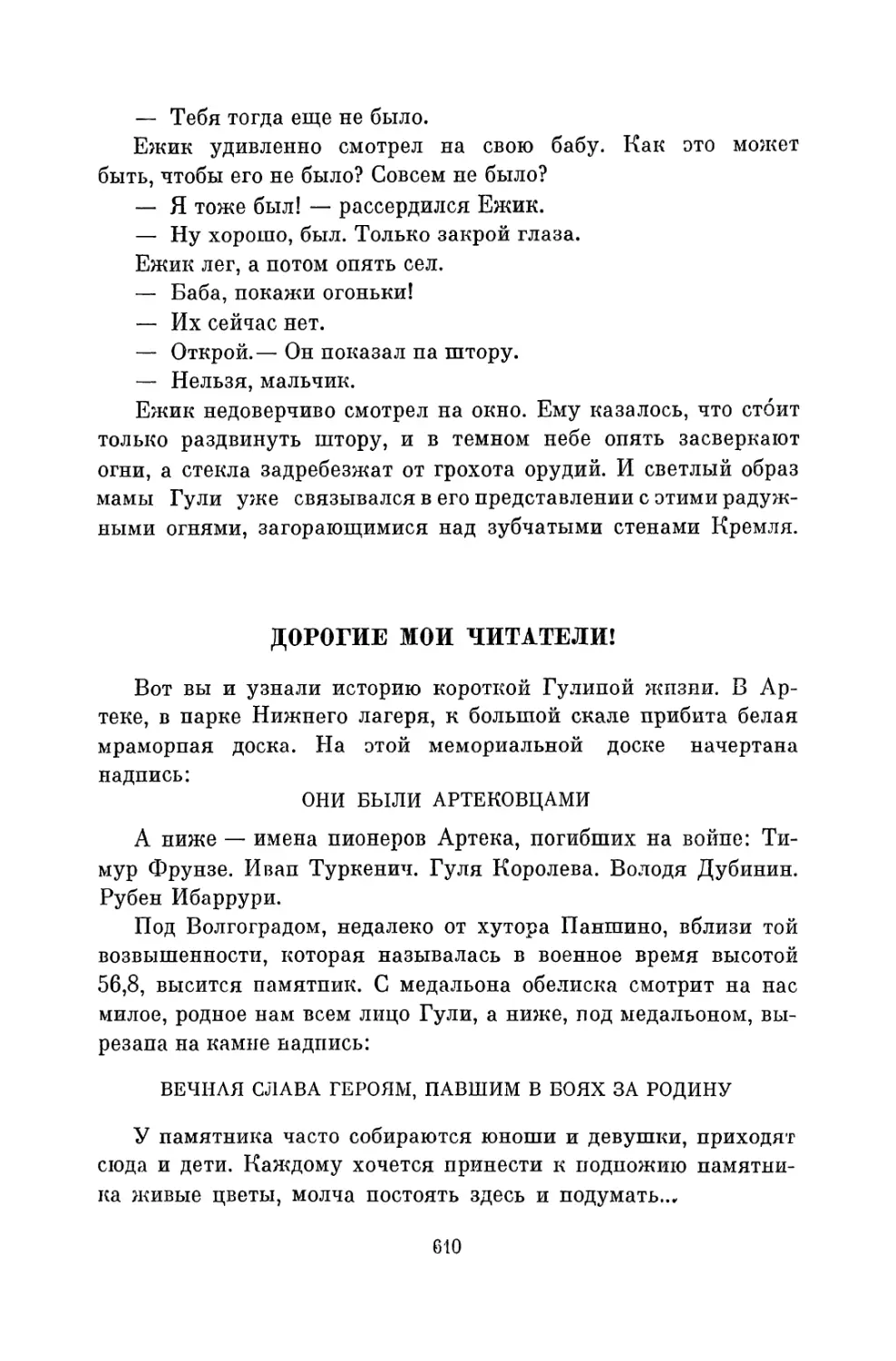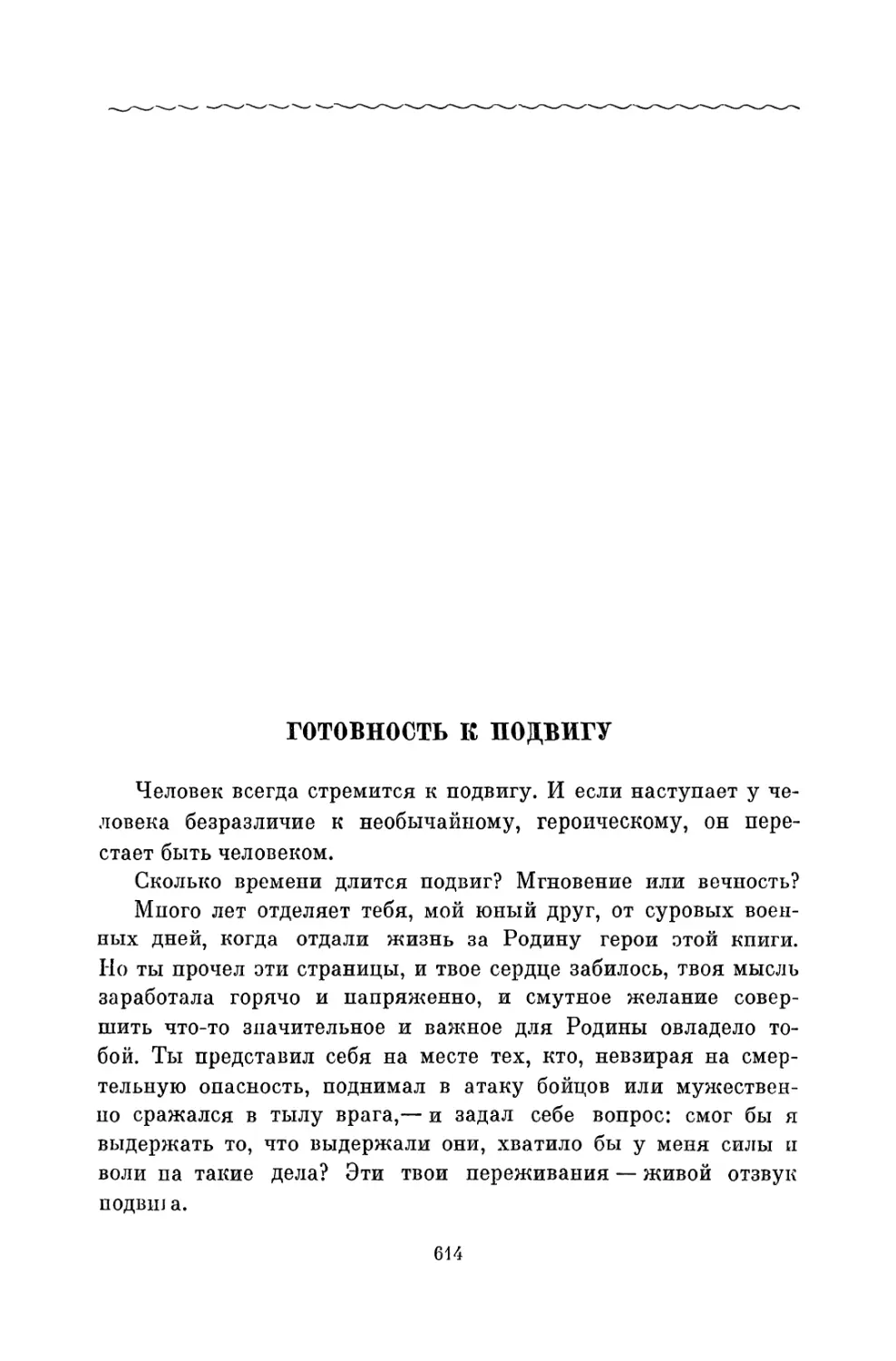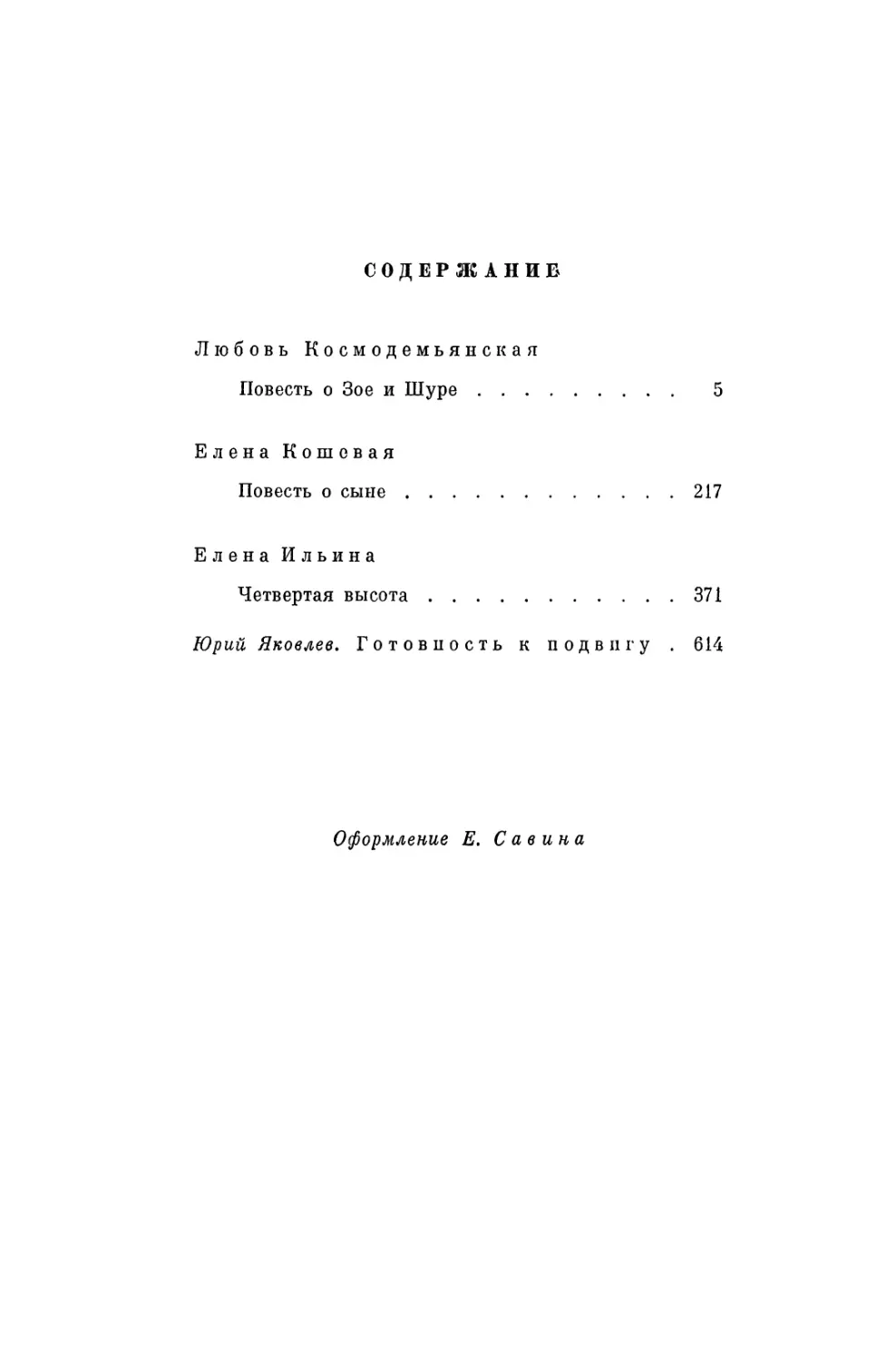Автор: Ильина Е. Космодемьянская Л. Кошевая Е.
Теги: рассказы повести художественная литература серия библиотека пионера
Год: 1972
Текст
И 3ДАТЕльcтВО "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" МОСКВА 1 9 7 2
ИЗБРАННЫЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Е.Кошевая
Елена Ильина
Л.Космодемьянская
Р 2 К 71
7-6-3
Л .Космодемьянская
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАПИСЬ Ф. ВИГДОРОВОЙ
ВСТУПЛЕНИЕ
Апрель 1949 года. Огромный зал Плейель в Париже. Конгресс защитников мира. Флаги всех наций украшают трибуну, и за каждым флагом — народы и страны, человеческие надежды и человеческие судьбы.
Алый флаг нашей страны. На нем — серп и молот, символ мирного труда, нерушимого союза между теми, кто работает, строит, созидает.
Мы, члены советской делегации, все время ощущаем, что пас окружает горячая любовь участников Конгресса. Нас встречают так сердечно, нас приветствуют так радостно! И каждый взгляд, каждое рукопожатие словно говорит: «Мы верим в вас. Мы надеемся на вас. Мы никогда не забудем того, что вы сделали...»
Как велик мир! Это с особенной, поражающей силой чувствуешь здесь, в просторном, высоком зале, глядя на белые, желтые, оливково-смуглые лица, лица всех цветов и оттенков — от молочно-белого до черного. Две тысячи человек со всех концов
7
земли собрались сюда, чтобы от имени народа сказать свое слово в защиту мира, в защиту демократии и счастья.
Я смотрю в зал. Тут много женщин. На их лицах страстное, неотступное внимание. Да и может ли быть иначе! Призыв к миру несется поистине со всех концов земли, и в нем — надежда всех жен и матерей.
Сколько услышала я здесь рассказов о людях, которые пожертвовали жизнью для того, чтобы победить фашизм, чтобы минувшая война закончилась победой света над тьмой, благородного над подлым, человеческого над бесчеловечным!
И я думаю: неужели кровь наших детей пролилась напрасно? Неужели мир, добытый ценою жизни наших детей, ценою наших слез — слез матерей, вдов и сирот,— будет вновь нарушен по воле злобных и гнусных сил?
На трибуну Конгресса поднимается наш делегат — Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Его встречают бурей аплодисментов. Для всех присутствующих Алексей Маресьев олицетворяет русский народ, его мужество и стойкость, его беззаветную отвагу и выдержку.
— Каждый человек должен спросить себя: «Что я делаю сегодня в защиту мира?»—несутся в зал слова Алексея Маресьева.— Нет сейчас более почетной, более благородной, более высокой цели, чем борьба за мир. Это обязанность каждого человека...
Я слушаю его и спрашиваю себя: что же я могу сделать сегодня для дела мира? И отвечаю себе: да, я тоже могу вложить свою долю в это великое дело. Я расскажу о своих детях. О детях, которые родились и росли для счастья, для радости, для мирного труда — и погибли в борьбе с фашизмом, защищая труд и счастье, свободу и независимость своего народа. Да, я расскажу о них...
ОСИНОВЫЕ ГАИ
На севере Тамбовской области есть село Осиновые Гаи. «Осиновый гай» значит «осиновый лес». Старики рассказывали, что когда-то здесь и вправду росли дремучие леса. Но в пору моего детства лесов уже не было и в помине.
Кругом далеко-далеко расстилались поля, засеянные рожью, овсом, просом. А у самого села земля была изрезана оврагами; с каждым годом их становилось все больше, и казалось — крайние избы вот-вот сползут на дно по крутому, неровному откосу. В детстве я побаивалась зимними вечерами выходить из дому: все холодно, неподвижно, всюду снег, снег без конца и края, и далекий волчий вой — то ли он слышится на самом деле, то ли мерещится настороженному детскому слуху...
Зато весной как преображалось все вокруг! Зацветали луга, земля покрывалась нежной, словно светящейся зеленью, и всюду алыми, голубыми, золотыми огоньками вспыхивали полевые цветы, и можно было целыми охапками приносить домой ромашки, колокольчики,васильки.
9
Село наше было большое—около пяти тысяч жителей. Почти из каждого двора кто-нибудь уходил на заработки в Тамбов, Пензу, а то и в Москву — клочок земли не мог прокормить бедняцкую крестьянскую семью.
Я росла в большой и дружной семье. Мой отец, Тимофей Семенович Чуриков, был волостной писарь, человек без образования, но грамотный и даже начитанный. Он любил книгу и в спорах всегда ссылался на прочитанное.
— А вот, помнится,— говорил он собеседнику,— пришлось мне прочитать одну книгу, так там насчет небесных светил объяснено совсем по-другому, чем вы рассуждаете...
Три зимы я ходила в земскую школу, а осенью 1910 года отец отвез меня в город Кирсанов, в женскую гимназию. Более сорока лет прошло с тех пор, но я помню все до мелочей, словно это было вчера.
Меня поразило двухэтажное здание гимназии — у нас в Осиновых Гаях не было таких больших домов. Крепко держась за руку отца, я вошла в вестибюль и остановилась в смущении. Все было неожиданно и незнакомо: просторный вход, каменный пол, широкая лестница с решетчатыми перилами. Здесь уже собрались девочки со своими родителями. Они-то и смутили меня больше всего, больше даже, чем непривычная, показавшаяся мне роскошной обстановка. Кирсанов был уездным купеческим городом, и среди этих девочек, пришедших, как pi я, держать экзамены, мало было крестьянских детей. Мне запомнилась одна, по виду настоящая купеческая дочка — пухлая, розовая, с ярко-голубой лентой в косе. Она презрительно оглядела меня, поджала губы и отвернулась. Я прижалась к отцу, а он погладил меня по голове, словно говоря: «Не робей, дочка, все будет хорошо».
Потом мы поднялись по лестнице, pi нас стали одну за другой вызывать в большую комнату, 1де за столом сидели три экзаменатора.
Помню, что я ответила на все вопросы, а под конец, забыв все свои страхи, громко прочла:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен Назло надменному соседу...
10
Внизу меня ждал отец. Я выбежала к нему, не помня себя от радости. Он сразу поднялся, пошел мне навстречу, и лицо у него было такое счастливое...
Так начались мои гимназические годы. Я сохранила о них теплое, благодарное воспоминание. Математику у нас ярко, интересно преподавал Аркадий Анисимович Белоусов, русский язык и литературу — его жена, Елизавета Афанасьевна.
В класс она всегда входила улыбаясь, и устоять перед улыбкой ее мы не могли — такая она была живая, молодая и приветливая. Елизавета Афанасьевна садилась за свой стол и, задумчиво глядя на нас, без всякого вступления начинала:
Роняет лес багряный свой убор...
Мы могли слушать ее без конца. Она хорошо рассказывала, увлекаясь и радуясь красоте того, о чем говорила.
Слушая Елизавету Афанасьевну, я поняла: учительский труд — большое искусство. Чтобы стать хорошим, настоящим учителем, надо иметь живую душу, ясный ум и, конечно, надо очень любить детей. Елизавета Афанасьевна любила нас. Она никогда не говорила об этом, но мы это знали без всяких слов — по тому, как она смотрела на нас, как иной раз сдержанно и ласково клала руку на плечо, как огорчалась, если кого-нибудь из нас постигала неудача. И нам все нравилось в ней: ее молодость, красивое вдумчивое лицо, ясный, добрый характер и любовь к своему труду. Много позже, уже став взрослой и воспитывая своих детей, я не раз вспоминала любимую учительницу и старалась представить себе, что сказала бы она мне, что посоветовала бы в трудную минуту.
И еще одним памятна мне кирсановская гимназия: учитель рисования нашел у меня способности к живописи. Рисовать я очень любила, но даже себе боялась признаться, что хотела бы стать художницей. Сергей Семенович Помазов однажды сказал мне:
— Вам надо учиться, непременно надо учиться: у вас большие способности.
Он, как и Елизавета Афанасьевна, очень любил свой предмет, и мы на его уроках узнавали не только о цвете, линиях,
И
пропорциях, о законах перспективы, но и о том, что составляет душу искусства — о любви к жизни, об умении видеть ее повсюду, во всех ее проявлениях. Сергей Семенович первый познакомил нас с творениями Репина, Сурикова, Левитана — у него был большой альбом с прекрасными репродукциями. Тогда в моей душе зародилась еще одна мечта: поехать в Москву, побывать в Третьяковской галерее...
Но как ни хотелось мне учиться дальше, я понимала: нельзя. Семья едва сводила концы с концами, надо было помогать родителям. Окончив гимназию, я вернулась в Осиновые Гаи.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Весть об Октябрьской революции застала меня еще в Кирсанове. Признаться, тогда я не очень поняла, что произошло. Помню только одно радостное ощущение: настал большой народный праздник. Город шумит и ликует, плещутся на ветру красные флаги. На митингах выступают простые люди — солдаты, рабочие.
Когда я вернулась в родное село, брат Сергей, друг моего детства и старший товарищ, сказал мне:
— Начинается новая жизнь, Люба, понимаешь, совсем новая! Пойду добровольцем в Красную Армию, не хочу оставаться в стороне.
Сергей был всего двумя годами старше меня, но я рядом с ним была еще совсем девчонкой. Он больше знал, лучше разбирался в происходящем. И я видела, что решение он принял твердое.
— Сережа, а мне что делать? — спросила я.
— Учительствовать! Конечно, учительствовать,— ни секунды не колеблясь, ответил брат.— Знаешь, теперь школы начнут расти как грибы. Думаешь, в Осиновых Гаях по-прежнему будет только две школы на пять тысяч жителей? Ну нет! Все учиться будут, вот увидишь. Народ больше без грамоты жить не станет.
Через два дня после моего приезда он ушел в Красную
12
Армию, а я, не откладывая дела в долгий ящик, пошла в отдел народного образования и тут же получила назначение: в деревню Соловьянку, учительницей начальных классов.
Соловьянка была в трех верстах от Осиновых Гаев: бедная, неприглядная деревенька, убогие избы, крытые соломой.
Немного утешила меня школа. Бывший барский дом стоял на краю деревни, утопая в зелени. Листва деревьев уже была тронута желтизной, но еще издали так весело и приветливо алели кисти рябины, вытянувшейся перед самыми окнами, что я невольно повеселела. Дом оказался довольно крепким и вместительным. Кухонька, прихожая и две комнаты: одна, побольше,— класс, другая — маленькая, с железными ставнями,—предназначалась мне. Я тут же разложила на столе привезенные с собой тетради, буквари и задачники, карандаши, ручки и перья, поставила бутыль с чернилами и пошла по деревне. Надо было переписать всех ребятишек школьного возраста — мальчиков и девочек.
Я заходила подряд во все избы. Встречали меня в первую минуту с недоумением, но потом разговаривали приветливо.
— Учительница, стало быть? Ну, учи, учи! — сказала мне высокая худая старуха с густыми и, показалось мне, сердито сдвинутыми бровями.— А только девчонок напрасно записываешь. Не к чему им учиться. Ткать да прясть, а там и замуж — для чего тут грамота?
Но я твердо стояла на своем.
— Теперь не прежнее время. Теперь совсем новая жизнь начинается,— сказала я словами брата Сергея.— Учиться всем надо.
...На другой день класс был битком набит — пришли все тридцать ребят, записанных мною накануне.
В крайнем ряду, у окон, сидели малыши — первоклассники, в среднем ряду — ученики второго класса, с другого края, у стены,— самые старшие, четырнадцатилетние, их было всего четверо. На первой парте, передо мной, сидели две девочки, обе светловолосые, веснушчатые и голубоглазые, в одинаковых цветастых платьях. Они были самые младшие, звали их Лида и Маруся Глебовы. Четыре старших мальчика у стены чинно встали, за ними поднялись и остальные.
13
— Здравствуйте, Любовь Тимофеевна! — услышала я нестройный хор детских голосов.— С приездом вас!
— Здравствуйте. Спасибо! — ответила я.
Так начался мой первый урок, а потом дни пошли за днями. Мне было очень трудно справляться одновременно с тремя разными классами. Пока малыши старательно писали палочки, а старшие решали задачи на именованные числа, я рассказывала среднему ряду, отчего день сменяется ночью. Потом я проверяла задачку у больших, а вторая группа писала существительные женского рода с мягким знаком после шипящих. Тем временем малыши уставали выводить свои палочки, я возвращалась к ним, и они начинали читать, во все горло выкликая по складам: «Ау, ма-ма!» Или: «Ма-ша е-ла ка-шу!»
Я с головой ушла в работу. Мне было весело и хорошо с моими ребятами. Дни пролетали незаметно. Раза два приходил ко мне из соседней деревни учитель, у которого был огромный, по моим тогдашним понятиям, опыт: он преподавал в школе уже целых три года! Он сидел у меня на уроках, слушал, а потом давал советы и на прощанье всегда говорил, что дела мои идут хорошо.
— Детишки любят вас,— пояснял он,— а это самое главное.
СНОВА ДОМА
В Соловьянке я учительствовала одну зиму. С нового учебного года меня перевели в Осиновые Гаи. Жалко мне было расставаться с соловьянскими ребятишками — мы успели привыкнуть друг к другу,— но переводу я обрадовалась: хорошо быть снова дома, среди родных!
Вернувшись в Осиновые Гаи, я снова встретилась с товарищем детства Толей Космодемьянским. Он был моим сверстником, но казался много взрослее: по серьезности, по жизненному опыту я не могла равняться с ним. Анатолий Петрович около года служил в Красной Армии, а теперь заведовал в Осиновых Гаях избой-читальней и библиотекой.
Тут же, в избе-читальне, собирался на репетиции драматиче-
14
ский кружок: молодежь Осиновых Гаев и окрестных деревень, школьники и учителя ставили «Бедность не порок». Я играла Любовь Гордеевну, Анатолий Петрович — Любима Торцова. Он был и нашим руководителем и режиссером. Объяснения он давал весело, интересно. Если кто-нибудь путал, перевирал слова Островского или начинал вдруг кричать не своим голосом, неестественно таращить глаза и размахивать руками, Анатолий Петрович так остроумно, хоть и беззлобно, передразнивал его, что у того сразу пропадала охота становиться на ходули. Смеялся он громко, весело, неудержимо — ни у кого больше я не слы^ шала такого искреннего, радостного смеха.
Вскоре мы с Анатолием Петровичем поженились, и я переселилась в дом Космодемьянских. Анатолий Петрович жил с матерью — Лидией Федоровной — и с младшим братом Федей. Другой брат — Алексей — служил в Красной Армии.
Жили мы с Анатолием Петровичем хорошо, дружно. Он был человек сдержанный, не щедрый на ласковые слова, но я в каждом его взгляде и поступке чувствовала постоянную заботу обо мне, и понимали мы друг друга с полуслова. Очень обрадовались мы, узнав, что у нас будет ребенок. «Непременно будет сын!» — решили мы и вместе придумывали мальчугану имя, гадали о его будущем.
— Ты только подумай,—вслух мечтал Анатолий Петрович,— как это интересно: впервые показать ребенку огонь, звезду, птицу, повести его в лес, на речку... а потом повезти к морю, в горы... понимаешь, впервые!
И вот родился он, наш малыш.
— С дочкой вас, Любовь Тимофеевна,— сказала ходившая за мной старушка.— А вот и сама она голос подает.
В комнате раздался звонкий плач. Я протянула руки, и мне показали крошечную девочку с белым личиком, темноволосую и синеглазую. В эту минуту мне показалось, что я вовсе никогда и не мечтала о сыне и всегда хотела и ждала именно ее, вот эту самую девочку.
— Назовем дочку Зоя,— сказал Анатолий Петрович.
И я согласилась.
Было это 13 сентября 1923 года.
ДОЧКА
Может быть, тому, у кого никогда не было детей, кажется, что все младенцы на один лад: до поры до времени они ничего не понимают и умеют только плакать, кричать и мешать старшим. Это неправда. Я была уверена, что узнаю свою девочку из тысячи новорожденных, что у нее особенное выражение лица, глаз, свой, не похожий на других голос. Я могла бы, кажется, часами — было бы только время! — смотреть, как она спит, как сонная вытаскивает ручонку из одеяла, в которое я ее туго завернула, как открывает глаза и пристально смотрит прямо перед собою из-под длинных густых ресниц.
А потом — это было удивительно! —каждый день стал приносить с собой что-то новое, и я поняла, что ребенок действительно растет и меняется «не по дням, а по часам». Вот девочка стала даже среди самого громкого плача умолкать, услышав чей- нибудь голос. Вот стала улавливать и тихий звук и поворачивать голову на тиканье часов. Вот начала переводить взгляд с отца на меня, с меня на бабушку или на «дядю Федю» (так мы после рождения Зои стали шутя называть двенадцатилетнего брата Анатолия Петровича). Пришел день, когда дочка стала узнавать меня — это был хороший, радостный день, он запомнился мне навсегда. Я наклонилась над люлькой. Зоя посмотрела на меня внимательно, подумала и вдруг улыбнулась. Меня все уверяли, будто улыбка эта бессмысленная, будто дети в этом возрасте улыбаются всем без разбору, но я-то знала, что это не так!
Зоя была очень маленькая. Я ее часто купала — в деревне говорили, что от купанья ребенок будет расти быстрее. Она много бывала на воздухе и, несмотря на то что приближалась зима, спала на улице с открытым личиком. На руки мы ее попусту не брали — так советовали и моя мать, и свекровь Лидия Федоровна: чтоб девочка не разбаловалась. Я послушно следовала этому совету, и, может быть, именно поэтому Зоя крепко спала по ночам, не требуя, чтобы ее укачивали или носили на руках. Она росла очень спокойной и тихой. Иногда к ней подходил «дядя Федя» и, стоя над люлькой, упрашивал: «Зоенька, скажи: дя-дя! дай! Ну, говори же: ма-ма! ба-ба!»
Его ученица широко улыбалась и лепетала что-то совсем не
16
то. Но через некоторое время она и в самом деле стала повторять, сперва, неуверенно, а потом все тверже: «дядя», «мама»... Помню, следующим ее словом после «мама» и «папа» было странное слово «ап». Она стояла на полу, совсем крошечная, потом вдруг приподнялась на цыпочки и сказала: «Ап!» Как мы после догадались, это означало: «Возьми меня на руки!»
ГОРЬКАЯ ВЕСТЬ
Стояла зима, такая жестокая и морозная, какой не помнили старики. В моей памяти этот январь остался леденяще холодным и темным: так изменилось и потемнело все вокруг, когда мы узнали, что умер Владимир Ильич. Ведь он был для нас не только вождь, великий, необыкновенный человек. Нет, он был словно близкий друг и советчик для каждого; все, что происходило в нашем селе, у нас дома, было связано с ним, все шло от него — так понимали и чувствовали все.
Прежде у нас было всего две школы, а теперь их больше десяти — это сделал Ленин. Прежде бедно и голодно жил народ, а теперь он поднялся на ноги, окреп, зажил совсем по-другому,— кого же, как не Ленина, благодарить нам за это? Появилось кино. Учителя, врачи и агрономы беседовали с крестьянами, читали им лекции: полно народу было в избе-читальне и в Народном доме. Быстро росло село, светлее и радостнее становилась жизнь. Кто не умел грамоте — научился; кто овладел грамотой — подумывает о дальнейшем ученье. Откуда же все это, кто принес нам эту новую жизнь? На этот вопрос у всех был один ответ, одно дорогое и светлое имя: Ленин.
И вдруг нет его... Это не укладывалось в сознании, с этим нельзя было примириться.
Каждый вечер крестьяне заходили к Анатолию Петровичу, чтобы поделиться горем, которое остро и глубоко переживали все.
— Какой человек умер!.. Ильичу бы жить да жить, до ста лет жить, а он умер...— говорил старик Степан Корец.
Через несколько дней в Осиновые Гаи приехал рабочий Сте-
2 Библиотека пионера. Том II
17
пан Забабурин, наш бывший деревенский пастух. Он рассказал о том, как со всех концов страны потянулись люди к гробу Владимира Ильича.
— Мороз, дыханье стынет,— говорил он,— ночь на дворе, а народ все идет, все идет, краю не видно. И детишек с собой взяли, чтоб посмотрели в последний раз.
— А мы вот не увидим его, и Зоюшка не увидит,— с грустью сказал Анатолий Петрович.
Мы ие знали тогда, что у вечной кремлевской стены будет выстроен Мавзолей и еще через много лет можно будет прийти и увидеть Ильича.
СЫН
Анатолий Петрович любил, сидя за столом, брать Зою к себе на колени. За обедом он обычно читал, а дочка сидела совсем тихо, прижавшись головой к его плечу, и никогда ему не мешала.
Как и прежде, она была маленькая, хрупкая. Ходить она стала к одиннадцати месяцам. Окружающие любили ее, потому что она была очень приветлива и доверчива. Выйдя за калитку, она улыбалась прохожим, и если кто-нибудь говорил шутя: «Дойдем ко мне в гости?» — она охотно протягивала руку и шла за новым знакомым.
К двум годам Зоя уже хорошо говорила и часто, вернувшись «из гостей», рассказывала:
— А я была у Петровны. Знаешь Петровну? У нее есть Галя, Ксаня, Миша, Саня и старый дед. И корова. И ягнята есть. Как они прыгают!
Зое не было еще и двух лет, когда родился ее младший братишка, Шура. Мальчуган появился на свет с громким, заливистым криком. Он кричал басом, очень требовательно и уверенно. Был он гораздо крупнее и здоровее Зои, но такой же ясноглазый и темноволосый.
После рождения Шуры Зое часто стали говорить: «Ты старшая. Ты большая». За столом она сидела вместе со взрослыми, только на высоком стуле. К Шуре относилась покровительствен¬
18
но: подавала ему соску, если он ронял ее; покачивала его колыбель, если он просыпался, а в комнате никого не было. И я теперь нередко просила ее помочь мне, сделать что-нибудь.
— Зоя, принеси пеленку,— говорила я.— Дай, пожалуйста, чашку.
Или:
— Ну-ка, Зоя, помоги мне убрать: убери книжку, поставь стул на место.
Она делала все очень охотно и потом всегда спрашивала:
— А еще что сделать?
Когда ей было года три, а Шуре шел второй год, она брала его за руку и, захватив бутылочку, отправлялась к бабушке за молоком.
Помню, раз я доила корову. Шура вертелся рядом. С другой стороны стояла Зоя с чашкой в руках, дожидаясь парного молока. Корову донимали мухи; потеряв терпение, она махнула хвостом и хлестнула меня. Зоя быстро отставила чашку, одной рукой схватила корову за хвост, а другой стала прутиком отгонять мух, приговаривая:
— Ты зачем бьешь маму? Ты маму не бей! — Потом посмотрела на меня и прибавила, не то спрашивая, не то утверждая: — Я помогаю тебе!
Забавно было видеть их вместе: хрупкую Зою и толстого увальня Шуру.
О Шуре на селе говорили: «У нашей учительницы мальчонка поперек себя шире: что на бок положи, что на ноги поставь — все одного роста».
И впрямь: Шура был толстый, крепко сбитый и в свои полтора года много сильнее Зои. Но это не мешало ей заботиться о нем, как о маленьком, а иногда и строго покрикивать па пего.
Зоя сразу стала говорить чисто, никогда не картавила. Шура же лет до трех не выговаривал «р». Зою это очень огорчало.
— Ну, Шура, скажи: ре-ше-то,— просила она.
— Лешето,— повторял Шура.
— Нет, не так! Повтори: «ре».
— Ле.
— Не «ле», а «ре»! Какой ты бестолковый мальчишка! Давай снова: режь.
19
— Лежь.
— Корова,
— Колова.
Раз, выйдя из терпения, Зоя вдруг стукнула брата ладонью по лбу. Но двухлетний ученик был куда сильнее четырехлетней учительницы: он возмущенно тряхнул головой и оттолкнул Зою.
— Отстань! — крикнул он сердито.— Чего делешься!
Зоя посмотрела на него удивленно, но не заплакала. А немного погодя я уже снова слышала:
— Ну, скажи: кровать.
И Шуркин голос покорно повторял:
— Кловать.
Не знаю, понимал ли Шура, что он младший в семье, но только с самых ранних пор он умел этим пользоваться. «Я маленький!» — то и дело жалобно говорил он в свою защиту. «Я маленький!» — требовательно кричал он, если ему не давали чего- нибудь, что он непременно хотел получить. «Я маленький!» — гордо заявлял он иногда без всякого повода, но с сознанием собственной правоты и силы. Он знал, что его любят, и хотел всех— и Зою, и меня, и отца, и бабушку — подчинить своей воле.
Стоило ему заплакать, как бабушка говорила:
— А кто обидел моего Шурочку? Поди ко мне скорей, дорогой! Вот я что дам своему маленькому внучку!
И Шура с веселой, плутоватой мордочкой забирался на колени к бабушке.
Если ему в чем-нибудь отказывали, он ложился на пол и начинал оглушительно реветь, бить ногами или жалобно стонать, исем своим видом ясно говоря: «Вот я, бедный маленький Шура, и никто меня не пожалеет, не приголубит!..»
Однажды, когда Шура начал кричать и плакать, требуя, чтобы ему дали киселя до обеда, мы с Анатолием Петровичем вышли из комнаты. Шура остался один. Сначала он продолжал громко плакать и выкрикивал время от времени: «Дай киселя! Хочу киселя!» Потом, видно, решил не тратить так много слов и кричал просто: «Дай! Хочу!» Плача, он не заметил, как хмы вышли, но, почуяв тишину, поднял голову, огляделся и перестал кричать: стоит ли стараться, если никто не слушает! Он подумал немного и стал что-то строить из щепочек. Потом мы вернулись.
20
Увидев пас, он снова попробовал покричать, по Анатолий Петрович строго сказал:
— Если будешь плакать, мы оставим тебя одного, а сами жить с тобой не будем. Понял?
Л Шура замолчал.
В другой раз он заплакал и из-под ладошки поглядывал одним глазом: сочувствуем мы его слезам или нет? Но мы не обращали на него никакого внимания: Анатолий Петрович читал книгу, я проверяла тетради. Тогда Шура потихоньку подобрался ко мне и влез на колени, как будто ничего не произошло. Я потрепала его по волосам и, спустив на пол, продолжала заниматься своим делом, и Шура больше мне не мешал. Эти два случая его вылечили: капризы и крики прекратились, как только мы перестали им потакать.
Зоя очень любила Шуру. Она часто с серьезным видом повторяла слова, сказанные кем-нибудь из взрослых: «Нечего ребенка баловать, пускай поплачет—беда невелика». Выходило это у нее очень забавно. Но, оставшись одна с братишкой, она была с ним неизменно ласкова.. Если он падал и начинал плакать, она подбегала, брала его за руку и старалась поднять нашего толстяка. Она вытирала ему слезы подолом своего платья и уговаривала:
— Не плачь, будь умным мальчиком. Вот так, молодец!.. Вот, держи кубики. Давай построим железную дорогу, хочешь?.. А вот журнал. Хочешь, покажу тебе картршки? Вот, посмотри...
Любопытно: если Зоя чего-нр1будь не знала, она сразу честно признавалась в этом.
Шура же был необычайно самолюбив, и слова «не знаю» просто не шли у него с языка. Чтоб не признаться, что он чего-нибудь не знает, он готов был на любые уловки.
Помню, купил Анатолий Петрович большую детскую книжку с хорошими, выразительными картршками: тут были нарисованы самые разные животные, предметы, люди. Мы с детьми любили перелистывать эту книгу, и я, показывая на какой-нибудь рисунок, спрашивала Шуру: «А это что?» Знакомые вещи он называл тотчас, охотно и с гордостью, но чего только не изобретал, чтобы увернуться от ответа, если не знал его!
— Что это? — спрашиваю я, показывая на паровоз.
Шура вздыхает, томится и вдруг говорит с хитрой улыбкой:
21
— Скажи лучше сама!
— А это что?
— Курочка,— быстро отвечает он.
— Правильно. А это?
На картинке — незнакомое, загадочное животное: верблюд.
— Мама,— просит Шура,— ты переверни страницу и покажи что-нибудь другое!
Мне интересно, какие еще отговорки он изобретет.
— А это что? — говорю я коварно, показывая ему бегемота,
— Вот сейчас поем и скажу,— отвечает Шура и жует так долго, так старательно, словно вовсе не собирается кончить.
Тогда я показываю ему картинку, на которой изображена смеющаяся девочка в голубом платье и белом фартучке, и спрашиваю:
— Как зовут эту девочку, Шурик?
И Шура, лукаво улыбнувшись, отвечает:
— А ты спроси у нее сама!
БАБУШКА
Дети очень любили ходить в гости к бабушке Мавре Михайловне. Она встречала их весело, поила молоком, угощала лепешками. А потом, улучив свободную минуту, играла с ними в их любимую игру, которая у них так и называлась «Репка».
— Посадила бабка репку,— задумчиво начинала бабушка,— и говорит: «Расти, репка, сладкая, крепкая, болыпая-преболь- шая». Выросла репка большая, сладкая, крепкая, круглая, желтая. Пошла бабка репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может... (Тут бабушка показывала, как она тянет упрямую репку.) Позвала бабка внучку Зою (тут Зоя хваталась за бабушкину юбку): Зоя за бабку, бабка за репку — тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Зоя Шуру (Шура только того и ждал, чтобы уцепиться за Зою): Шурка за Зою, Зоя за бабку, бабка за репку — тянут-потянут (на лицах у ребят — восторженное ожидание)... вытянули репку!
И тут в руках у бабушки появлялось неведомо откуда взявшееся яблоко, или пирожок, или настоящая репка. Ребята с виз¬
22
гом и смехом повисали на Мавре Михайловне, и она вручала им гостинец.
— Баба, потянем репку!—просил Шура, едва переступив бабушкин порог.
Когда года через два кто-то попытался рассказать ребятам эту сказку, начав ее обычными словами: «Посадил дед репку...»— оба они дружно запротестовали:
— Бабка посадила! Не дед, а бабка!
...Всю свою жизнь моя мать работала от зари до зари. На руках у нее было все хозяйство — дом, поле, шестеро ребят; всех надо было одеть, умыть, накормить, обшить, и мама гнула спину, не жалея себя. С нами, ребятами, а позднее с внуками, она всегда была неизменно ровна и ласкова. Она не говорила просто: «Уважайте старших»,— она всегда старалась, чтобы мысль ее стала понятна детям, дошла до ума и до сердца. «Вот мы в дому живем,— говорила она Зое и Шуре,— его старики построили. Вот печь нам Петрович какую хорошую сложил! Петрович — старый, умный, руки у него золотые. Как же старых-то не уважать?» Мать была очень добра. Бывало, еще в дни моего детства увидит странника — в ту пору много ходило бездомных людей,— непременно зазовет, напоит, накормит, даст какую-нибудь старую одежду.
Однажды отец полез в сундук, долго рылся в нем, а потом спросил:
— Мать, а где же моя голубая рубашка?
— Не сердись, отец,— смущенно ответила мама,— я ее Сте- панычу отдала. (Степаныч был старик бобыль, неухоженный и хворый, мать навещала его и помогала чем могла.)
Отец только рукой махнул.
Теперь, через долгиетдолгие годы, я часто вспоминаю, какая выносливая, терпеливая, сильная духом женщина была моя мать.
Раз случилось — увели у нас корову. Всякий знает, какое это горе для крестьянской семьи. Но мать ни словом не пожаловалась, не пролила ни слезинки. В другой год, помню, случился пожар, и у нас все сгорело дотла. Отца это совсем пришибло. Он сидел на поваленном дереве, безнадежно опустив руки, и с отчаянием глядел в землю.
23
— Наживем, отец, ничего!—сказала мама, подходя к нему. Подошла, постояла и добавила еще:— Не горюй смотри, справимся!
Мать моя была совсем неграмотная, до самой своей смерти не знала ни одной буквы, но грамоту очень ценила и уважала. Именно благодаря ее заботам мы, дети, стали грамотными людьми: она настояла, чтобы нас отдали в школу, а потом и в гимназию.
Семыо нашу нередко посещала нужда, и, помню, когда стало совсем худо, отец решил взять моего брата Сергея из четвертого класса гимназии. Мать и слышать об этом не хотела. Она готова была на все — ходила к начальству, унижалась, просила принять сына в гимназию на казенный счет,— лишь бы он продолжал учиться.
— Ты, мать, ни одной буквы не знаешь, а вот живешь же, обходишься,— хмуро говорил отец.
Мама не спорила, но упорно стояла на своем. «Верно говорят: ученье — свет, неученье — тьма»,— любила она повторять. Она по опыту знала, как темно живется тому, кто не учен.
— Пойдете в школу, смотрите учитесь хорошенько,— наставляла она Зою и Шуру.— Станете умнее, знать будете много — и вам хорошо, и другим около вас легче будет.
Бабушка была мастерица рассказывать сказки. Она знала их великое множество и умела рассказывать, ни на минуту не оставляя своего дела: вяжет, чистит картошку или месит тесто, а сама приговаривает спокойно, неторопливо, точно думая вслух:
— Бежит лиса по лесу, видит — на дереве сидит тетерев, и говорит:
«Терентий, Терентий! Я в городе была».
«Бу-бу-бу! Была так была».
«Терентий, Терентий! Я указ добыла!»
«Бу-бу-бу! Добыла так добыла».
«Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а все бы гулять по зеленым лугам».
«Бу-бу-бу! Гулять так гулять».
«Терентий, Терентий! А кто там едет?»
«Бу-бу-бу! Мужик».
«Терентий, Терентий! А за мужиком кто бежит?»
24
«Бу-бу-бу! Жеребенок».
«Терентий, Терентий! А какой у него хвост-то?»
«Крючком!»
«Ну, так прощай, Терентий, недосуг мне с тобой лясы точить!»
Зоя с Шурой сидят рядом на низкой скамеечке и не сводят с бабушки глаз. А она кончит сказку — и тут же начинает новую: про серого волка, про лакомку-медведя, про трусливого зайца и опять про хитрую лису...
ВРАТ И СЕСТРА
С Шурой Зое разрешалось играть только у самого дома, в палисаднике, чтобы не ушибла лошадь или корова, которые свободно паслись возле дома, на лужке. А вот с девочками постарше — Маней и Тасей — она уходила далеко, на огороды и на речку, мелкую, но веселую, где можно было купаться целыми днями, не боясь утонуть.
Летом Зоя часами бегала с сачком за бабочками, собирала цветы, потом снова купалась и даже сама — в пять лет!—стирала в речке свое белье, высушивала и в чистом приходила домой.
— Посмотри, мама,—говорила она, внимательно глядя мне в лицо,— хорошо я выстирала? Ты меня не будешь ругать?
Как сейчас вижу ее пятилетнюю — загорелую, румяную, с ясными серыми глазами. Только что прошел быстрый летний дождь — и снова жарко светит солнце, с высокого неба ветром сметает куда-то далеко за горизонт последние облака, с ветвей еще падают крупные капли, и Зоя бежит ко мне босая по теплым лужам и смеется, показывая, как промокло ее платье...
А как хорошо было поехать на дальний луг за сеном (пусть на тряской, скрипучей телеге, которую нескладной рысцой везет плохонькая лошаденка — что за беда!) и возвратиться на высоком возу, а потом вместе со взрослыми раскидывать и ворошить душистое сено, чтоб досохло за сараем, всласть кувыркаться и прыгать в нем, как в волнах, и, наконец, уснуть от блаженной усталости, свернувшись в комочек тут же, на сене!..
25
А как весело лазить по деревьям! Забраться повыше, так, чтобы страшновато было взглянуть вниз, чтобы сердце немножко сжималось, когда подается под рукой тонкая ветка... И потом потихоньку слезать, нащупывая босой ногой сучья и стараясь не изорвать платье.
А еще лучше забраться на крышу сарая или на колокольню — любимый наблюдательный пункт всех ребятишек. Все село перед тобой как на ладони, а там — поля, поля и в полях окрестные деревни... А за ними что? Далеко, далеко?..
Возвращаясь домой, Зоя подсаживалась ко мне и спрашивала:
— Мама, а за Осиновыми Гаями что?
— Село такое — «Спокойные хутора» называется.
— А потом?
— Соловьянка.
— А за Соловьянкой что?
— Павловка, Александровка, Прудки.
— А потом? А за Кирсановом что? А за Тамбовом Москва?— И вздыхала: — Вот бы туда поехать!
Когда отец был свободен, она взбиралась к нему на колени и забрасывала самыми разнообразными и подчас неожиданными вопросами. И, как самую увлекательную сказку, слушала его рассказы обо всем, что делается на белом свете: о высоких горах, синих морях и дремучих лесах, о далеких больших городах и о людях, которые там живут. В такие минуты Зоя вся превращалась в слух: рот ее приоткрывался, глаза блестели, мгновениями она, кажется, даже забывала дышать. И, случалось, утомленная новизной услышанного, она под конец так и засыпала на руках у отца.
Четырехлетний Шура — озорной, шумный, ему все нипочем.
— У Шуры карман шевелится!—слышу я изумленный Зоин голос.
И в самом деле шевелится! Что за чудеса?
— Что у тебя там?
Все очень просто: карман полон майских жуков — они трепыхаются, пытаются выползти, но Шура зажимает карман в кулак. Бедные жуки!
Чего только я не нахожу по вечерам в этих карманах! Ро¬
26
гатка, кусок стекла, крючки, камешки, жестянки, строго-настрого запрещенные, спички — всего не перечтешь. И постоянно у Шуры на лбу шишка, ноги ц руки в ссадинах и царапинах, коленки разбиты. Сидеть на одном месте для него самое тяжелое наказание. Он бегает, прыгает, скачет с самого раннего утра п до часа, когда я зову детей домой ужинать и спать. Не раз я видела, как после дождя он бегает по двору и бьет палкой по лужам. Брызги взлетают искристыми фонтанами выше его головы, он весь вымок, но, кажется, даже не замечает этого — все сильнее размахивает палкой и во все горло распевает песню собственного сочинения. Я не могу разобрать слов, слышится только какое-то воинственное и ликующее: «Трам-бабам! Барам- бам!» Но все понятно: надо же Шуре излить свой восторг перед всем, что его окружает, надо выразить, как радуют его и солнце, и деревья, и теплые глубокие лужи!
Зоя была постоянным товарищем Шуры во всех его играх, бегала и скакала так же шумно, весело и самозабвенно. Но она умела и подолгу молча сидеть и слушать, и глаза у нее при этом были внимательные, темные брови слегка сдвигались. Иногда я заставала ее на поваленной березе неподалеку от дома: она сидела, подперев лицо ладонями, и сосредоточенно смотрела прямо перед собой.
— Ты что так сидишь?— спрашивала я.
— Я задумалась,— отвечала Зоя.
Из тех далеких, слившихся друг с другом дней я вспоминаю один. Мы с Анатолием Петровичем собрались в гости к моим старикам и захватили с собой детей. Едва мы пришли, дедушка Тимофей Семенович сказал Зое:
— А ты что же, озорница, мне вчера неправду сказала?
— Какую неправду?
— Я тебя спросил, куда ты мои очки девала, а ты говоришь: «Не знаю». А потом я их под лавкой нашел — уж верно, ты их туда кинула, больше некому.
Зоя исподлобья посмотрела на деда и ничего не ответила. Но, когда нас немного спустя позвали к столу, она сказала:
— Я не сяду. Раз мне не верят, я есть не стану.
— Ну чего там, дело прошлое. Садись, садись!
— Нет, не сяду.
27
Так и пе села. И я видела, что дед почувствовал себя неловко перед пятилетним ребенком. На обратном пути я пожурила ее, но Зоя, глотая слезы, повторяла одно: «Не трогала я его очков. Я правду сказала, а он мне не верит».
Зоя очень дружила с отцом. Она любила бывать с ним даже тогда, когда он занимался своим делом и не мог разговаривать с нею. И она не просто ходила вслед за ним, а примечала.
— Смотри, папа все умеет делать,— говорила она Шуре.
И правда, Анатолий Петрович умел справиться с любым делом. Это признавали все. Старший сын в семье, рано потерявший отца, он сам пахал, сеял, убирал хлеб. При этом успевал много работать в избе-читальне и в библиотеке. Односельчане очень любили и уважали Анатолия Петровича, доверяли ему, советовались с ним по семейным и иным делам, а уж если надо было выбрать надежного человека в ревизионную комиссию — проверить работу кооперации или кредитного товарищества, неизменно говорили: «Анатолия Петровича! Его не проведешь, он во всем разберется».
Еще одно привлекало к нему людей: он был на редкость правдив и прямодушен. Если кто-нибудь приходил к нему за советом и он видел, что человек этот неправ, он не задумываясь говорил:
— Неправильно ты поступил, я на твою сторону не стану...
«Анатолий Петрович никогда душой не покривит»,— нередко слышала я от самых разных людей.
При этом он был очень скромен, никогда не кичился своими знаниями. К нему охотно шли за советом люди гораздо старше его, даже старики, уважаемые люди на селе.
В самом деле, его можно было спросить решительно обо всем, и он па все умел дать ответ. Он очень много читал и хорошо, попятно рассказывал о прочитанном. Зоя подолгу сиживала в избе-читальпе, слушая, как он читал крестьянам, газеты и рассказывал о событиях, которые тогда переживала наша страна, о гражданской войне, о Ленине. Всякий раз слушатели засыпали его градом вопросов:
— Анатолий Петрович, вот ты говорил про электричество, а теперь скажи про трактор — это, верно, еще почудней будет? Где же такой махине повернуться на наших полосках?.. А вот
28
еще: неужели и вправду есть такая машина, что и жнет, и молотит, и чистое зерно в мешок ссыпает?..
Однажды Зоя спросила меня:
— А почему папу все так любят?
— Ну, а ты как думаешь?
Зоя промолчала, а вечером того же дня, когда я укладывала ее, сказала мне шепотом:
— Папа умный, все знает. И добрый...
„ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ, МИР ПОВИДАТЬ!"
Когда Зое исполнилось шесть лет, мы с мужем решили поехать в Сибирь. «Людей посмотреть, мир повидать!» — как говорил Анатолий Петрович.
И вот дети впервые поехали на лошади до станции, впервые увидели паровоз, услышали неумолчный говор колес под полом вагона — беспокойную и задорную песню дальнего пути. За окном мелькали деревни и села, стада на лугах, реки и леса, проплывала широкая степь.
Путешествие наше продолжалось целую неделю, и все это время нам с Анатолием Петровичем отбою не было от вопросов: «А это что? А это зачем? Почему? Отчего?» В дороге обычно хорошо спится, но ребята были так полны всем виденным, что днем их невозможно было уложить. Шура все-таки уставал к вечеру и засыпал сравнительно быстро, но Зою и вечером нельзя было оторвать от окна. Только когда стекло заливала сплошная синяя тьма, девочка со вздохом поворачивалась к нам.
— Не видно уже ничего... одни огоньки...— с сожалением говорила она и соглашалась наконец улечься.
На седьмой день мы приехали в город Канск, Енисейского округа. Городок был маленький, дома одноэтажные, деревянные, и тротуары тоже деревянные. Ребят мы отвели в гостиницу, а сами отправились в отдел народного образования, чтобы выбрать село, где мы могли бы учительствовать вместе, в одной школе. Нам дали назначение в село Шиткино, и мы решили сразу, не теряя времени, двинуться туда. С этим решением мы и
29
вернулись в гостиницу — и видим: Шура на нолу мастерит что* то из кубиков, а Зои нет.
— Где Зоя, Шурик?
— А Зоя сказала: «Ты посиди тут, а я на базар пойду, серы куплю. Тут все серу жуют».
Я так и ахнула и кинулась на улицу. Городок маленький, до леса рукой подать — что, если девочка забрела туда?! Не помня себя, мы с Анатолием Петровичем обходили улицу за улицей, заглядывали во все дворы, расспрашивали всех встречных, побывали и на базаре... Зои нигде не было.
— Вот что,— сказал наконец Анатолий Петрович,— иди в гостиницу и жди меня там. Я уж боюсь, как бы и с Шуркой чего не случилось. А я пойду в милицию.
Я вернулась в гостиницу, взяла сынишку на руки и снова вышла на улицу — ждать в комнате не было сил.
Так мы с ним простояли с полчаса. И вдруг Шура закричал:
— Папа! Зоя!
Я кинулась к ним навстречу. Зоя вся раскраснелась и смотрела смущенно и чуть испуганно. В руке она держала какой-то темный комок.
— Вот,— сказала она таким тоном, как будто мы расстались всего минут пять назад.— Это сера. Только она невкусная.
Оказалось, она и в самом деле пошла на базар, купила серу, а дорогу назад, к гостинице, забыла и не знала, как спросить. Она пошла наугад, совсем не в ту сторону, и добрела чуть не до самого леса. Тут ее заметила какая-то чужая женщина («большая такая, в платке»), взяла за руку и отвела в милицию. Здесь и застал ее Анатолий Петрович. Зоя сидела за столом, как гостья, пила чай и спокойно, серьезно отвечала на вопросы: как ее зовут, откуда она приехала и с кем, как зовут папу, маму и братишку. Она сразу объяснила, что ей надо поскорее вернуться к брату, потому что он еще маленький.
— Как же ты оставила Шуру одного?— с упреком спросила я.— Ведь ты большая, ты старшая, мы на тебя надеялись...
Зоя стояла рядом с отцом и, слегка закинув голову, чтобы лучше видеть, переводила глаза с него на меня:
— Я думала, я сразу вернусь. Я думала, тут, как в Осиновых Гаях, я все сразу найду. Ты не сердись, я больше не буду.
30
— Ладно,—пряча улыбку, сказал Анатолий Петрович.— На первый раз прощается, но только в другой раз никуда не уходи без спросу. Видишь, как мама перепугалась?
В СИБИРИ
Наш дом в Шиткине стоял на высоком берегу, а мимо текла река — широкая, быстрая. Смотришь — и голова кружится, и кажется, сама плывешь куда-то. А рядом, в нескольких шагах,— лес. И какой лес! Громадные кедры, такие высокие, что, запрокинув голову, не увидишь вершины; густые, пушистые пихты, лиственницы, ели — в тени их широких лапчатых ветвей темно, как в каком-то таинственном шатре. А тишина какая! Только хрустнет сучок под ногой да изредка крикнет потревоженная птица —и снова глубокая, ничем не нарушаемая тишина, словно в сказочном сонном царстве.
Помню нашу первую прогулку по лесу. Мы пошли все вчетвером и сразу же забрели в густую чащу. Шура остановился как вкопанный под огромным, в два обхвата, кедром. Мы прошли дальше, окликнули его — он не отозвался. Мы обернулись. Наш мальчуган, маленький и одинокий, стоял все там же, под кедром, широко открыв глаза и словно прислушиваясь к шепоту леса. Он был зачарован, ничего больше не видел и не слышал — и не мудрено: никогда прежде, за всю свою короткую жизнь, он не видывал такого леса. Ведь в Осиновых Гаях каждое деревцо было на счету! Кое-как мы растормошили Шуру. Но и после, бродя с нами по лесу, он оставался непривычно тихим и молчаливым: лес будто околдовал его.
Вечером, перед сном, Шура долго стоял у окна.
— Ты что, Шура? Почему спать не идешь?— спросил Анатолий Петрович.
— Я говорил деревьям «спокойной ночи»,— ответил Шура.'
...И Зоя тоже полюбила лес. Гулять по лесу стало для нее
самым большим, ни с чем не сравнимым удовольствием. Захватив корзинку для ягод, она весело сбегала с крыльца.
— Не ходи далеко,— напутствовала я ее.— Ты слышалаг что соседи говорят? Тут в лесу волки, медведи!
31
И правда, небезопасно было ходить по малину: медведь — лакомка, с ним не диво повстречаться в густом малиннике. Зато и малина была — крупная, сочная, сладкая, как мед, и ходили за ней с ведрами, большой гурьбой, и обычно сборщиков сопровождал кто-нибудь из мужчин с ружьем, на случай встречи с мишкой. Собирали сибиряки и чернику и черемуху, на всю зиму запасались грибами — всей этой лесной благодати было великое изобилие, и Зоя тоже всегда возвращалась из своих странствий гордая, с полной корзинкой.
Ходили они с Шурой и на реку за водой — это Зоя тоже любила. Аккуратно зачерпнет воды небольшим ведерком, постоит на берегу, посмотрит на светлые быстрые волны. И потом, стоя на крыльце или у окна, еще подолгу задумчиво смотрит вниз.
Однажды Анатолий Петрович решил научить Зою плавать. Он отплыл от берега, взяв ее с собою, а потом вдруг оставил. Зоя захлебнулась, вынырнула, снова погрузилась в воду...
Я стояла на берегу ни жива ни мертва. Правда, Анатолий Петрович плыл рядом; правда, он был превосходным пловцом и, уж конечно, нечего было бояться, что девочка утонет, а все- таки страшно было смотреть, как она захлебывается, то и дело уходя с головой под воду. Но, помшо, не крикнула она ни разу — барахталась и плескалась изо всех сил, но молча. Потом отец подхватил ее и выплыл с ней на берег.
— Молодец! Раза через два поплывет,— уверенно сказал он.
— Страшно было?— спросила я, насухо вытирая ее.
— Страшно,— призналась она.
— А еще поплывем?
— Поплывем!
ЗИМОЙ
Наступила снежная сибирская зима. Лед сковал реку, морозы доходили до пятидесяти семи градусов, но ветра не было, и потому ребята легко переносили холод.
Помшо, как радовались они первому снегу: без устали играли в снежки; точно в сене, кувыркались в мягких, пушистых
32
сугробах, которые разом выросли вокруг дома; вылепили большую, выше Зои ростом, снежную бабу. Я с трудом дозвалась их к обеду — они пришли румяные, разгоряченные, усталые и с небывалым аппетитом накинулись на кашу с молоком и черный хлеб.
Мы купили ребятам теплые пимы, Анатолий Петрович смастерил отличные салазки, и каждый день Зоя с Шурой подолгу катались: то возили друг друга, то садились вдвоем — Зоя впереди, Шура сзади, ухватившись за сестру толстыми короткими руками в красных варежках, — и во весь дух летели с горы.
Целый день мы с мужем были заняты. По утрам, уходя из дому, я наставляла Зою:
— Не забудь: каша в печке, молоко в крынке. Следи, чтоб Шура вел себя хорошо. Пускай не садится за стол, а то упадет, расшибется, станет плакать. Будьте умными, играйте и не ссорьтесь.
И вечером, когда мы возвращались из школы, Зоя встречала нас словами:
— У нас все хорошо, мы были умными!
В комнате — полнейший беспорядок, зато лица у детей такие веселые и довольные, что не хватает духу бранить их. Из стульев сооружен двухэтажный дом, какие-то ящички и коробочки нагромождены друг на друга, все это завешено одеялом. В самых неподходящих местах попадаются самые неожиданные вещи: я едва не паступаю на зеркальце, перед которым всегда бреется Апатолий Петрович, а он через минуту спотыкается о перевернутый чугунок. Посреди комнаты — нехитрые ребячьи игрушки: оловянный солдатик, лошадка на колесах с наполовину оторванной гривой, однорукая кукла, какие-то бумажки, тряпочки, чурбачки, тут же чашки и тарелка.
— Сегодня мы ничего не разбили и не пролили,— докладывает Зоя.— Только Шура опять расцарапал Манюшке обе щеки, она немножко поплакала, а я угостила ее вареньем, и она замолчала. Мам, ты скажи Шуре — пусть больше не дерется, а то мы с ним играть не будем.
Шура, который и вправду растет забиякой, смотрит па меня виновато.
33
— Я не буду больше..i Это я ее нечаянно поцарапал,— го^ ворит он без особой уверенности.
Долгие вечера мы проводили все вместе, вокруг стола или возле печки, где жарко и весело трещал огонь. Хорошие это были вечера! Надо сказать, что и эти часы мы не могли целиком отдавать детям: у меня, а особенно у Анатолия Петровича, оставалось на вечер еще много дел. И слово «работа» рано стало понятным для наших ребят:
— Мама работает... Папа работает...
Это значит: полная тишина, которую нельзя нарушить ни вопросом, ни ссорой, ни стуком и беготней. Иногда дети забирались под стол и тихо играли там — их часами не было слышно. Как когда-то в Соловьянке, за окном завывала метель, свистела в ветвях густой сосны, росшей у самого дома, уныло и жалобно пело что-то в трубе... Но в Соловьянке я была одна, а тут рядом сидел Анатолий Петрович, сосредоточенно склонившись над книгой или проверяя ученические тетради, тихонько копошились и шептались Зоя и Шура, и нам было хорошо и тепло всем вместе.
Много лет спустя, уже став школьниками, мои ребята любили вспоминать эти вечера в далеком сибирском селе. Правда, Шура в пору нашей жизни в Шиткине был слишком мал — ему было всего четыре с половиной года,— и воспоминания его сливались во что-то смутное, хотя и приятное. Но в Зоиной памяти эти вечера запечатлелись отчетливо и ярко.
Покончив с делами или отложив их на время, когда дети уснут, я подсаживалась поближе к огню — тут-то и начинался «настоящий» вечер.
— Расскажи что-нибудь,— просили ребята.
— Что же рассказывать? Все сказки вы знаете наизусть.
— Все равно расскажи!
И начиналось: петушок — золотой гребешок, колобок, серый волк и Иван-царевич, сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Хаврошечка и Кузьма Скоробогатый — кто только не побывал у нас в гостях в эти долгие зимние вечера! Но самой любимой, самой желанной всегда была сказка о Василисе Прекрасной.
— В некотором царстве, в некотором государстве...—начи¬
34
нала я чуть щ не в сотый раз, а Зоя и Шура смотрели на меня так, словно слышали эту историю впервые.
Иногда и Анатолий Петрович отрывался от работы и вступал в разговор, и его рассказы дети слушали с особенным интересом. Чаще всего это бывало неожиданно. Иной раз ребята, кажется, вовсе забудут о нас, старших: сидят в уголке и тихонько толкуют о чем-то своем — и вдруг Анатолий Петрович прислушается, отодвинет книги, подойдет к печке, усядется на низкой скамеечке, Шуру возьмет на одно колено, Зою — на другое и скажет не спеша:
— А я вот что вспомнил на этот счет...
И сразу лица у ребят станут счастливые, любопытные и нетерпеливые: что-то расскажет отец?
Помню один такой случай. Ребята много слышали разговоров о том, что весной река разольется. В этих местах полая вода не шутит: смывает дома, уносит скотину, затопляет на несколько дней целые деревни. Нам, новичкам, немало рассказывали о грозных здешних наводнениях.
— Что мы тогда будем делать?— спросил как-то Шура Зою, наслушавшись таких рассказов.
— Уйдем из дому. Сядем в лодку и поплывем. Или убежим в горы.
Помолчали.
Вода придет, все затопит,— поеживаясь, словно от холода, сказала Зоя.— Шур, ты боишься?
— А ты?
«— Я нет.
— Ну и я нет.
Шура встал, неторопливо прошелся по комнате, подражая отцу, и уже совсем воинственно добавил:
— Пускай вода приходит! Я не боюсь. Я ничего не боюсь!
И тут Анатолий Петрович промолвил обычное: «А я вот что
вспомнил на этот счет...»—и рассказал такую историю.
— Сидели на кусте воробьи и спорили: кто из зверей самый страшный?
«Всех страшнее рыжий кот»,— сказал бесхвостый воробей. Прошлой осенью его кот чуть было не зацапал — еле успел воробей увернуться, а хвоста все-таки лишился.
35
«Мальчишки хуже,— сказал другой воробей,— гнезда разоряют, из рогаток стреляют...»
«От мальчишек улететь можно,— заспорил третий воробей,— а вот от коршуна никуда не спрячешься. Он всех страшнее!»
И тут совсем молоденький, желторотый воробышек, чирикнул (Анатолий Петрович заговорил тонким голосом):
«А я ничего не боюсь! И кот мне нипочем, и мальчишки, и коршун! Я сам их всех съем!»
И пока он так чирикал, над кустом пролетела какая-то большая птица и громко крикнула. Воробьи помертвели от страха: кто стремглав улетел, кто спрятался под листом, а храбрый воробышек крылышки опустил и не помня себя побежал по траве. Тут большая птица как щелкнет клювом, как кинется на воробышка, а он, бедный, из последних сил рванулся и нырнул в хомячью нору. А в норе, свернувшись, спал старый хомяк. Воробышек еще пуще испугался, но решил: «Не я съем, так меня съедят!»—и как подскочит да как клюнет хомяка в нос! «Что такое?— удивился хомяк и открыл один глаз (Анатолий Петрович прищурился, зевнул и продолжал басом).— А, это ты? Голодный, верно? На, поклюй зернышек».
Очень стыдно стало воробышку, и он пожаловался хомяку:
«Черный коршун хотел меня съесть!»
«Ишь разбойник! — сказал хомяк.— Ну-ка, пойдем потолкуем с ним».
И хомяк полез из норы, а воробышек запрыгал следом. Страшно было ему, и жалко себя, и досадно: зачем он храбрился? Вылез хомяк из норки, высунул за ним нос воробышек да так и обмер: прямо перед ним сидела большая черная птица и грозно на него смотрела. Воробышек глянул да тут же и упал со страху. А черная птица ка-ак каркнет, а все воробьи кругом как засмеются! Потому что был это вовсе не коршун, а старая тетка...
—■ Ворона! — в один голос закричали Зоя и Шура.
— Ворона, само собой,— продолжал Анатолий Петрович.— «Что, хвастунишка,— сказал хомяк воробышку,— надо бы тебя посечь за хвастовство! Ну да ладно, принеси мне побольше зерен да шубу зимнюю — что-то прохладно стало».
Надел хомяк щубу и стал песенки насвистывать. Только
36
воробышку было невесело — он не знал, куда деваться от стыда, и забился в кусты, в самую густую листву...
Так-то,— прибавил, помолчав, Анатолий Петрович.— А теперь пейте-ка молоко и ложитесь спать.
Ребята неохотно поднялись.
— Это ты про меня рассказывал?— смущенно спросил Шура.
— Зачем про тебя? Про воробья,—улыбаясь одними глазами, ответил отец.
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД
— Мама,— спросила однажды Зоя,— почему у Бурмакина и дом такой большой, и овец много, и лошади, и коровы? Зачем одному человеку так много всего? А у Руженцовых сколько детей и бабушка с дедушкой, а домик плохой, и коровы нет, и даже овец нет?
Это был наш с Зоей первый разговор о том, что такое бедность, богатство и несправедливость. Нелегко мне было ответить па такой вопрос шестилетней девочке. Чтобы объяснить ей все это всерьез, пришлось бы говорить о многих вещах, которые она еще не могла понять. Но жизнь заставила нас вернуться к этому разговору.
Это было в 1929 году. В пашем районе кулаки убили семерых сельских коммунистов. Весть об этом быстро разнеслась по Шиткину.
Я стояла на крыльце, когда семь гробов везли по улице. Следом шел оркестр, медленно и сурово играя «Вы жертвою пали в борьбе роковой». А дальше сплошным потоком шли люди, и на всех лицах были горе и гнев.
И вдруг я невольно оглянулась на паше окно. К стеклу прильнуло побледневшее Зоино лицо, она испуганно смотрела на улицу. Через секунду она выбежала на крыльцо, схватила меня за руку и, крепко прижавшись ко мне, долго смотрела вслед похоронной процессии.
— За что их убили? Кто такие кулаки? А ты коммунист? А папа коммунист? А вас не убьют? А нашли тех, кто убил?
37
Не только Зоя, но и маленький Шура не уставал задавать эти вопросы. Похороны семерых коммунистов оставили в нашей памяти неизгладимый след.
...И еще одно незабываемое воспоминание.
В сельском шиткинском клубе часто показывали кинофильмы, и время от времени я водила туда Зою с Шурой. Но и меня и ребят привлекали в клуб не картины.
Всякий раз, когда зал наполнялся народом, кто-нибудь непременно говорил вопросительно, нараспев, упирая на «о»:
— Споем?
И всегда сразу несколько голосов откликалось:
— Споем!
Пели удивительно: с воодушевлением, со страстью, и все больше старинные сибирские песни и песни времен гражданской войны. Далекие дни оживали в этих протяжных, широких и вольных напевах, грозные события, суровые и смелые люди вставали перед нами. Голоса были глубокие, сильные. Над большим, дружным хором разливался высокий молодой тенор или волной раскатывался могучий, низкий, поистине таежный бас, за сердце хватая такой неподдельной задушевностью, что иной раз слезы навертывались на глаза.
Зоя и Шура пели вместе со всеми. Особенно любили мы одну песню. Всех слов ее я теперь пе припомню, в памяти осталась мелодия да последние четыре строки:
Ночь прошла. Веял ласковый ветер.
День весенний и яркий настал.
И на солнечном теплом рассвете
Молодой партизан умирал.
Низкие мужские голоса протяжно, печально повторяли:
И на солнечном теплом рассвете
Молодой партизан умирал.
В ПУТЬ-ДОРОГУ
Прошел год. Наводнения весной не случилось, и ребята, кажется, были немало разочарованы, узнав, что в горы им бежать не придется. В глубине души они надеялись, что река смоет и потопит все, а они — на лодке ли, пешком ли по горам — пустятся куда глаза глядят, навстречу всяким приключениям.
Снова оделась зеленью земля, запестрели цветы в густой, высокой траве. В мае я получила письмо из Москвы от сестры Ольги и брата Сергея.
«Приезжайте в Москву,— писали они,— поживете пока с нами, а потом подыщете работу и жилье. Скучаем по вас, хотим видеть и не устанем звать к себе».
Мы тоже соскучились по родным местам и лицам и, как только кончился учебный год, уехали из Сибири. Ребят решили на время завезти в Осиновые Гаи, к дедушке с бабушкой.
И вот опять знакомая широкая дорога, поля, засеянные рожью, овраг на краю села, одинокие ветлы в огородах и густые кусты сирени, старая, дуплистая береза и стройный ясень у отцовского дома. И, глядя на все это, такое родное и памятное, я поняла, как много значит год в жизни малышей: и наш старый дом, и луг перед окнами, и речушка, и люди — все было забыто, со всем пришлось породниться заново.
— Какие большие стали! — любовно повторяла бабушка, разглядывая ребят.— Помните меня, сибиряки?
— Помним,— неуверенно отвечали они, стараясь все-таки держаться поближе ко мне.
Шура, впрочем, освоился быстро: вскоре после приезда он уже носился по улице с ватагой прежних приятелей.
А Зоя еще долго дичилась и ходила за мной по пятам. Когда к осени мы с Анатолием Петровичем собирались уезжать, она спросила с отчаянием: «Без нас?!»—и в этом возгласе были испуг, недоумение, упрек.
Первое расставание все мы переносили тяжело. Но мы не решались везти ребят в Москву, пока сами там не устроились, не нашли квартиру. И пришлось разлучиться.
39
ГОД СПУСТЯ
— Зоя, Шура! Где вы запропастились? Идите скорее, мама приехала! — слышу я чей-то встревоженный и радостный голос.
— Мы уж думали — не дождемся,— говорит бабушка Мавра Михайловна, обнимая меня.— Ребята соскучились. Особенно Зоя. Большая стала — не узнаешь. Беспокойная такая, все боялась, что ты не приедешь.
— Ну, как доехали? — спрашивает отец, обращаясь не то ко мне, не то к вознице, распрягавшему лошадь.
— Доехали хорошо, да только всю дорогу нас дождик поливал. Вот Любовь Тимофеевна и вымокла малость. А уж лошадь я гнал вовсю, старался вашу дочку поскорее доставить. Так что с тебя, Тимофей Семенович, угощение.
Пока добродушный и разговорчивый возница распрягал лошадь, отец развязывал мой нехитрый багаж, а соседский мальчонка помчался отыскивать Зою и Шуру. Бабушка уже поставила самовар и суетилась у стола. Услыхав, что к Тимофею Семеновичу приехала из Москвы дочка — та самая, которая деревенских ребятишек учила в школе,— пришли и соседи:
— Как жизнь в Москве? Как вы сами, живы-здоровы? Анатолий Петрович как?.. А мы теперь в колхозе, почти все село. Единоличником мало кто остался, а то все колхозники.
— И как живете?
— Да хорошо. Коли работать будем, так и с хлебом будем!
Новости так и сыплются, я не успеваю удивляться каждой
в отдельности. До чего же все изменилось! Я едва успела переступить порог отцовского дома, а как много нового услышала! Появились тракторы, о которых здесь совсем недавно слушали, как о чуде, и даже комбайн. В первый день, говорят, все село вышло смотреть на работу новых, невиданных машин.
— Такие машины, что не нарадуешься! — слышу я.— Шутка ли сказать — с ними в один день с поля убрались!
— Ну, вы всё с новостями, дали бы человеку с дороги отдохнуть! — ревниво вмешивается отец.
— И правда, отдыхайте, Любовь Тимофеевна, мы вас в другой раз навестим, потолкуем, — сконфуженно откликается кто-то.
40
Я, признаться, и в самом деле плохо слушаю новости, как они ни удивительны. Меня гложет нетерпение: где же мои ребята? Куда они запропастились?
Я выхожу в палисадник, где каждая ветка, каждый лист то и дело вздрагивает и роняет одинокие запоздалые капли после недавнего дождя. Стою, смотрю по сторонам, вспоминаю...
Старый наш дом в 1917 году сгорел, а этот, новый, считался самым красивым на селе. Он был обшит тесом, выкрашен темно-вишневой краской, окна и высокое крыльцо украшены резьбой. Он казался особенно высоким, наш дом, потому что стоял на пригорке, и у крыльца было целых десять ступенек. За последние годы палисадник разросся, и теперь чуть выцветшие стены едва проглядывали из-за кустов акации и сирени. По бокам еще выше, чем прежде, поднялись мои любимые тополя и березы. Сейчас они стояли нарядные, дочиста вымытые дождем. Выглянуло солнце — ив последних каплях, повисших на кончиках листьев, вспыхнули радужные огоньки. Эту сирень и акацию я сама поливала лет тринадцать пазад, когда была совсем девчонкой. Теперь их не узнать — кусты стоят сплошной стеной. И я уже взрослая, у меня двое детей...
Да где же они, наконец, мои ребята?
И тут я увидела их. По дороге неслась целая ватага ребятишек, впереди — Зоя, а позади всех едва поспевал Шура.
Зоя первая увидела меня.
— Мама! Мама приехала! — крикнула она и кинулась ко мне.
Мы крепко обнялись.
Потом я обернулась к Шуре. Он стоял чуть поодаль под деревцом и смотрел на меня во все глаза. Встретив мой взгляд, он вдруг обеими руками схватился за ствол молоденького ясеня и изо всех сил стал трясти его. На нас посыпались дождевые капли. Тут Шура совсем растерялся и, оставив деревцо, обхватил меня обеими руками и уткнулся лицом в мое платье.
Нас плотным кольцом обступили румяные, загорелые девочки и мальчики — черноволосые и с волосами, как леи, веснушчатые и без веснушек, с исцарапанными руками и ногами. Сразу видно было, что это боевой, неугомонный народ, любителн побегать, поплавать, полазить по деревьям. Все это были сосед¬
41
ские ребятишки — Шура Подымов, Саня и Володя Филатовы, толстушка Шура Кожаринова и ее братингаа Васёк, Ежик и Ванюшка Полянские. И все они застенчиво и с любопытством разглядывали меня.
— Я сегодня больше не играю! Потому что мама приехала! — торжественно объявила Зоя.
И детишки вереницей, как гуси, направились к калитке.
Взяв Зою и Шуру за руки, я пошла с ними в дом, к дедушке и бабушке, которые уже ждали нас за столом.
...Когда живешь постоянно со своими детьми, перемены, происходящие в них, не так заметны, не так поражают. Но теперь, после долгой разлуки, я не могла наглядеться на своих ребят и поминутно открывала в них что-нибудь новое.
Зоя очень выросла. Она стала совсем худенькая, большие серые глаза точно светились на смуглом лице. Шура тоже вытянулся и похудел, он был очень силен для своих шести лет: он без труда приносил воду из колодца, помогал бабушке, когда она стирала,— носил к речке таз с бельем.
— Он у нас богатырь,— сказала она мне, с гордостью поглядывая на внука.
В первые дни дети ходили за мною повсюду, не отпуская меня ни на минуту.
— Мы с тобой уедем, да? Ты нас больше пе оставишь? — спрашивали они меня по десяти раз на день, заглядывая в глаза..
— Да разве вам плохо тут?
Хорошо, только без тебя скучно. И без папы. Нет, уж ты нас больше не оставляй! Забери с собой, ладно? Заберешь?
Зимой Зоя и Шура болели скарлатиной. Около трех месяцев они совсем не встречались со сверстниками; единственным их обществом были дедушка с бабушкой. Неудивительно, что ребята переняли «взрослую» манеру рассуждать. Забавно было слышать, как солидно и вразумительно разговаривала Зоя.
— Маленьким курить не годится,— веско, с расстановкой, совсем как бабушка, сказала она как-то соседским мальчикам,-— долго ли до беды, еще пожар наделаете!
В другой раз я слышала, как она наставляла подругу:
42
— Параня, ты зачем говоришь по-рязански: «ня знаю», «ни- чаво»? Ты послушай, как другие говорят: «не знаю», «ничего».
Как-то Шура разбил чашку, но не сознался. Зоя посмотрела на него в упор и нахмурилась.
— Зачем говоришь неправду? Врать нельзя! — строго сказала она со всей убежденностью своих неполных восьми лет.
...Мы не расставались в то лето. Вместе ходили в поле, на речку, вместе помогали бабушке по хозяйству и даже спали рядом. И никак ле могли наговориться.
— Я пойду осенью в школу? — спрашивала Зоя.— В московскую? А меня не засмеют, что я читаю плохо? Скажут: вот, деревенская, как читает! Ты им скажешь, что я всю зиму болела? Ты не забудь, скажи!
— И я тоже в школу пойду,— повторял Шура.— Я один не хочу. Я с Зоей хочу.
Они еще больше подружились за этот год. И прежде они редко жаловались друг на друга, а теперь этого никогда не случалось: все свои споры и размолвки они решали между собой, без старших; повздорив, быстро сами мирились и всегда горой стояли друг за друга.
Бабушка рассказала мне такой случай.
Незадолго до моего приезда в Осиновых Гаях гостила жена брата Сергея со своими детьми, Ниной и Валерием. Дни стояли жаркие, ночи душные, и решено было, что Анна Владимировна вместе со своими ребятами будет ночевать на сеновале. Туда же отправились Зоя с Шурой. Легли. И вдруг Шуре, лежавшему с краю, вздумалось напугать гостей. Он укрылся с головой, уткнулся носом в сено... и в ночной тишине послышалось какое- то таинственное шипенье.
— Мам, слышишь, змея! — прошептала испуганная Нина.
— Какая е!це тебе змея, глупости!
Шура прыснул, подождал немного и спова зашипел. Сообразив, в чем дело, тетя Аня сказала строго:
— Шура, ты нам мешаешь спать! Уходи в комнату и там лежи и шипи, если тебе хочется.
Шура послушно отправился в дом. Вслед за ним поднялась Зоя.
— Зоенька, а ты куда? Ты оставайся.
43
— Нет, раз вы Шуру услали, так и я ие останусь,— ответила Зоя.
И так было всегда: они неизменно заступались друг за друга. Но это не мешало Шуре иной раз сердито кричать, когда Зоя делала ему замечание:
— Уйди! Отстань! Хочу и буду!
— А вот не будешь, я не велю! — спокойно и уверенно отвечала Зоя.
ВСЕ ВМЕСТЕ
В конце августа мы приехали в Москву. Анатолий Петрович встречал нас на вокзале. Ребята чуть не первыми выскочили из вагона и со всех ног кинулись к отцу, но не добежали и остановились: ведь целый год не видались, как не растеряться!
Но Анатолий Петрович понял их растерянность и нерешительность, сгреб обоих в охапку и, всегда сдержанный, скупой на ласку, крепко расцеловал ребят, погладил по стриженым головам и сказал так, словно они расстались только вчера:
— Ну, сейчас я покажу вам Москву. Поглядим: похожа она на наши Осиновые Гаи?
Мы сели в трамвай — какое это было испытание храбрости и любопытства! — и с грохотом и звонками понеслись по Москве, мимо высоких домов, мимо блестящих автомобилей, мимо спешащих куда-то пешеходов. Ребята так и прилипли носами к оконному стеклу.
Шура был совершенно потрясен тем, что па улицах такое множество народу. «Куда они идут? Где они живут? Зачем их столько?» — кричал он, позабыв обо всем и вызывая улыбки пассажиров. Зоя молчала, но у нее на лице читалось такое же страстное нетерпение: скорее, скорее! Все увидеть, все разглядеть, все попять в этом новом, огромном, удивительном городе!
И вот наконец окраина Москвы, небольшой домик близ Тимирязевской академии. Мы поднимаемся на второй этаж и входим в маленькую комнату: стол, кровати, неширокое окно... Вот мы и дома!
44
...Из всех памятных дней в жизни человека день, когда он впервые ведет своего ребенка в школу,— один из самых хороших. Наверно, все матери помнят его. Помню и я. Это первое сентября тридцать первого года было такое ясное, безоблачное, деревья Тимирязевки стояли все в золоте. Сухие листья шуршали под ногами, нашептывая что-то таинственное и ободряющее — должно быть, о том, что с этого часа начинается для моих ребят совсем новая жизнь.
Я вела детей за руки. Они шли торжественные, сосредоточенные и, пожалуй, немного испуганные. Зоя крепко сжимала свободной рукой сумку, в которой лежали букварь, тетради в клетку и в косую линейку, пенал с карандашами. Шуре очень хотелось самому нести эту замечательную сумку, но она досталась Зое — по старшинству. Через тринадцать дней Зое должно было исполниться восемь лет, а Шуре едва пошел седьмой год.
Что и говорить, Шура был еще мал — и, одиако, мы решили отдать его в школу. Он очень привык к сестре и даже представить себе не мог, как это Зоя пойдет в школу, а он останется дома. Да нам и не с кем было оставлять его: и я и Анатолий Петрович работали.
Первой школьной учительницей моих детей была я сама. Я вела в тот год подготовительный, «нулевой» класс, и заведующий школой определил Зою и Шуру ко мне.
И вот мы вошли в класс. Тридцать таких же малышей — девочек и мальчиков — поднялись нам навстречу. Я усадила Зою и Шуру на одну парту, неподалеку от доски, и начала урок...
Помню, в первые дни один мальчуган принялся скакать вокруг Зои на одной ножке, распевая: «Зойка, Зойка, упала в помойку!» Он выкрикивал этот стишок с настоящим упоением. Зоя слушала молча, с невозмутимым видом, а когда мальчуган умолк на мгновение, чтобы перевести дух, сказала спокойно:
— Я даже и не знала, что ты такой глупый.
Мальчуган недоуменно моргнул, повторил дразнилку еще раза два, но уже без прежнего воодушевления, а потом и совсем отошел от Зои.
Однажды, когда Зоя была дежурная, кто-то разбил в классе
45
стекло. Я совсем не собиралась наказывать виновника: мне думается, невозможно найти такого человека, который в жизни не разбил бы хоть одного стекла, без этого детства не бывает. Мой Шура, например, разбил столько стекол, что с лихвой хватило бы еще на двоих. Но мне хотелось, чтобы виновный сознался сам. Я медлила войти в класс и стояла в коридоре, обдумывая, как начать разговор с ребятами. И тут я услышала из- за двери Зоин голос:
— Кто разбил?
Я тихо заглянула в класс. Зоя стояла на стуле, вокруг толпились ребята.
— Кто разбил, говори!—требовательно повторила Зоя.— Все равно я по глазам узнаю,—добавила она с глубочайшим убеждением.
Наступило короткое молчание, и потом курносый, толстощекий Петя Рябов, один из первых озорников в нашем классе, сказал со вздохом:
— Это я разбил...
Как видно, он вполне поверил, что Зоя может узнавать по глазам самые сокровенные мысли. Она и впрямь говорила так, словно ни капли не сомневалась в этой своей способности, по объяснялось это очень просто. Бабушка Мавра Михайловна обычно говорила внучатам, когда им случалось напроказить: «Это кто натворил? Ну-ка, погляди мне в глаза, я по глазам все узнаю!» — и Зоя хорошо запомнила бабушкино чудесное средство узнавать правду.
...Вскоре Зою и Шуру пришлось перевести из моего класса в другой, и вот почему.
Зоя вела себя очень сдержанно и никак не проявляла своих родственных отношений. Иногда она даже говорила: «Любовь Тимофеевна»* подчеркивая, что в классе она такая же ученица, как и все, и я для нее, как для всех,— учительница. А вот Шура вел себя совсем иначе. Во время урока, дождавшись минуты полной тишины, он вдруг громко окликал меня: «Мама!» — и при этом лукаво поглядывал по сторонам.
Шурины выходки неизменно вызывали в классе суматоху: учительница, Любовь Тимофеевна, и вдруг — мама! Это очень веселило детей, но мешало работать. И через месяц пришлось
46
перевести моих ребят в параллельный класс, к другой учительнице.
Школа, школьные занятия завладели Зоей безраздельно.: Придя домой и поев, она тотчас садилась за уроки. Напоминать ей об этом никогда не приходилось. Учиться — это было теперь для нее самое важное, самое увлекательное, об этом были все ее мысли. Каждую букву, каждую цифру она выводила с чрезвычайной старательностью, тетради и книги брала в руки так бережно и осторожно, как будто они были живые. Учебники мы всегда покупали новые — Анатолий Петрович считал, что это очень важно.
— Плохо, когда ребенку в руки попадает грязная, неопрятная книга,— говорил он,— такую и беречь не захочется...
Когда ребята собирались сесть за уроки, Зоя спрашивала строго:
— Шура, а руки у тебя чистые?
Сначала он пробовал бунтовать:
— А тебе какое дело? Иу тебя! Отстань!
Но потом смирился и, прежде чем взяться за учебники, уже сам, без напоминаний, мыл руки. Надо признаться, предосторожность была не лишняя: набегавшись с ребятами, наш Шура обычно возвращался со двора перемазанный до ушей; иной раз просто понять нельзя было, как это он умудрился выпачкаться, словно по очереди вывалялся в песке, в угле, известке и толченом кирпиче...
Дети готовили уроки за обеденным столом. Зоя подолгу просиживала над книгой. У Шуры терпения хватало на полчаса кряду, не больше. Ему хотелось поскорее убежать опять па улицу, к ребятам. И он то и дело тяжело вздыхал, косясь на дверь.
Однажды он притащил ворох кубиков и спичечных коробков и старательно выложил их в ряд, перегородив стол пополам.
— Это твоя половина, а это моя,— объявил он Зое.— Ко мне не смей переходить!
— А букварь как же? А чернильница? — с недоумением спросила Зоя.
Шура не растерялся:
47
— Букварь тебе, а чернильница мпе!
— Будет тебе баловать! — строго сказала Зоя и решительно сняла кубики со стола.
Но Шуре было скучно просто так, без затей, готовить уроки, и он всякий раз старался превратить занятия в игру. Что поделаешь! Ему ведь не было и семи лет.
ПРАЗДНИК
Седьмого ноября мои ребята поднялись ни свет ни заря: отец обещал взять их с собой на демонстрацию, и они ждали этого дня с огромным нетерпением.
С завтраком они справились необычайно быстро. Анатолий Петрович стал бриться. Ребята никак не могли дождаться, пока он кончит. Они пробовали, заняться чем-нибудь, но это им плохо удавалось. Даже излюбленная «тихая» игра (в крестики и нолики) не шла на ум.
Наконец мы оделись и вышли на улицу. День был ветреный, неприветливый, шел мелкий дождь пополам со снегом. Но пе прошли мы и десяти шагов, как впереди зазвучал шум праздника: музыка, песни, говор, смех. Чем ближе к центру, тем шумней, веселей, радостней становилось на улицах. На счастье, скоро и дождь перестал, а серого неба не замечали ни ребята, ни взрослые — столько алых, горячих знамен, столько ярки* красок было вокруг.
Увидев первые колонны демонстрантов, Шура и Зоя пришли в совершенный восторг и уже не переставали восхищаться и радоваться до конца демонстрации. Они громко, хоть и не без занипкн, читали каждый плакат, подпевали каждому хору, начинали приплясывать под звуки каждого оркестра. Они не шли — их несло теплой, широкой волной праздника. Раскрасневшиеся, с блестящими глазами, с шапками, сползающими на затылок (надо было все время смотреть вверх!), они не разговаривали связно, а только вскрикивали:
— Смотри, смотри! Как украшено! Звезда какая! А там, там! А вой шары летят! Смотри скорее!
48
Когда мы подошли к Красной площади, ребята притихли, повернули головы направо и уже не сводили глаз с Мавзолея.
...Красная площадь! Сколько мыслей, сколько чувств было связано с этими словами! Как* мы мечтали в Осиновых Гаях о дне, когда увидим ее! Год назад, впервые приехав в Москву, я пришла па Красную площадь. Сколько я слышала о ней, сколько читала — и все же не представляла ее себе такой простой и такой величавой. Теперь, в торжественный час, она казалась мне совсем новой.
Я вижу зубцы и башни кремлевской стены, суровые и задумчивые ели у могил борцов революции, бессмертное имя — ЛЕНИН — на мраморных плитах.
Бескрайный людской поток течет и течет, жаркой волной омывая простые и строгие стены Мавзолея. И кажется мне, что вся вера, вся надежда и любовь человечества бесконечным прибоем хлынули сюда, к великому маяку, указывающему путь в грядущее.
Мощное «ура» прокатилось по площади. Шура уже пе шел, а почти плясал рядом со мной! Зоя тоже бежала вприпрыжку, крепко держась за руку отца.
Мы спустились к набережной. Из-за туч вдруг выглянуло солнце, в реке отразились кремлевские башни и купола, задрожали золотые блестки. У моста мы увидали продавца воздушных шаров. Анатолий Петрович подошел к нему и купил три красных и два зеленых — получилась красивая пестрая гроздь. Он вручил один шар Зое, другой — Шуре.
— Ас остальными что будем делать? — спросил он.
— Отпустим на волю! — воскликнула Зоя.
И Анатолий Петрович на ходу стал выпускать один шар за другим. Они взлетали вверх плавно, неторопливо.
— Постоим, постоим! — разом закричали Зоя и Шура.
Остановились и другие люди, взрослые и дети. И долго мы
стояли, закинув головы, и следили, как улетали в прояснившееся небо наши яркие, веселые шары, как они становились все меньше и меньше и наконец исчезли из глаз.
3
ВЕЧЕРОМ...
Несколько лет назад мне пришлось прочитать письмо человека, который потратил много внимания и заботы на своих детей, а когда они уже стали взрослыми, вдруг понял, что воспитал он их плохо. «В чем я ошибся?» — спрашивал он, перебирая в памяти прошлое. И вспоминал эти ошибки: не обратил внимания на вспыхнувшую между ребятами ссору; сделал за ребенка то, что тот с успехом мог сделать сам; принося подарки* говорил: «Это тебе, а это тебе», а ведь лучше было сказать: «Это вам обоим»; подчас легко прощал неправду, недобросовестность и придирчиво наказывал за пустячную провинность.: «Как видно, пропустил я ту минуту, когда у ребят только зарождалось себялюбие, желание освободиться от трудного дела,— писал этот человек.— И вот из пустяков, из мелочей вышло большое зло: дети мои выросли совсем не такими, какими я хотел их видеть: они грубы, эгоистичны, ленивы, между собой не дружат».
«Что же делать? — спрашивал он под конец.— Переложить дальнейшее на общество, на коллектдв? Но ведь, выходит, общество должно тратить лишние силы на исправление моих ошибок — это раз. Во-вторых, самим ребятам придется в жизни трудно. А в-третьих, где же я сам? Что я сделал?»
Это письмо было напечатано в одной из наших больших газет, кажется в «Правде». Помню, долго я сидела тогда над этими горькими строками и думала, вспоминала...
Анатолий Петрович был хорошим педагогом. Я никогда не слышала, чтоб он читал ребятам длинные нотации, чтоб подолгу им выговаривал. Нет, он воспитывал их своим поведением, своим отношением к работе, всем своим обликом. И я поняла: это и есть лучшее воспитание.
«У меня нет времени воспитывать ребят, я целый день на работе»,—слышу я нередко. И я думаю: да разве в семье надо отводить какие-то особые часы на воспитание детей? Анатолий Петрович научил меня понимать: воспитание — в каждой мелочи, в каждом твоем поступке, взгляде, слове. Все воспитывает твоего ребенка: и то, как ты работаешь, и как отдыхаешь, и как разговариваешь с друзьями и недругами, каков ты в здоровье
50
и в болезни, в горе и радости,— все замечает твой ребенок и во всем станет тебе подражать. А если ты забываешь о нем, о его зорких, наблюдательных глазах, постоянно ищущих в каждом твоем поступке совета и примера, если ребенок растет рядом с тобою, сыт, обут, одет, но одинок,— тогда ничто не поможет правильно воспитывать его: ни дорогие игрушки, ни совместные увеселительные прогулки, ни строгие и разумные наставления. Ты должен быть со своим ребенком постоянно, и он должен во всем чувствовать твою близость и никогда в ней не сомневаться.
Мы с Анатолием Петровичем были очень заняты и совсем мало времени могли проводить с детьми. Учительствуя в начальной школе, я одновременно сама училась в Педагогическом институте. Анатолий Петрович работал в Тимирязевской академии, учился на курсах стенографии и усиленно готовился к поступлению в заочный технический институт — это была его давнишняя мечта. Часто мы приходили домой так поздно, что заставали ребят уже спящими. Но тем радостнее были выходные дни и вечера, которые мы проводили вместе.
Как только мы появлялись в дверях, дети со всех ног кидались к нам и наперебой выкладывали все, что накопилось за день. Выходило не очень связно, зато шумно и с чувством:
— А у Акулины Борисовны щенок в чулан залез и суп пролил! — А я уже стихотворение выучила! — А Зойка ко мне приставала! — Да, а почему он задачку не решает? — Посмотрите, что мы вырезали. Правда, красиво? — А я щенка учил лапу подавать, он уже почти совсем выучился!..
Анатолий Петрович быстро разбирался, что к чему. Он выяснял, почему не решена задача, выслушивал выученное стихотворение, расспрашивал про щенка и, словно мимоходом, замечал:
— Грубо разговариваешь, брат Шура. Что это за выражение: «Зойка приставала»? Терпеть пе могу, когда так разговаривают!
Потом мы все вместе ужинаем, дети помогают мне убрать со стола — и наступает наконец долгожданная минута...
Казалось бы, чего тут было ждать? Все очень обыкновенно, буднично.
51
Анатолий Петрович расшифровывает свои стенографические записи, я готовлюсь к завтрашним урокам, перед Зоей и Шурой — альбом для рисования.
Лампа освещает только стол, вокруг которого мы сидим; а вся комната — в полутьме. Поскрипывает стул под Шурой, шуршат листы альбома.
Зоя рисует дом с высокой зеленой крышей. Из трубы идет дым. Рядом — яблоня, а на ней круглые яблоки, каждое величиной с пятак. Иногда тут же птицы, цветы и в небе, по соседству с солнцем, пятиконечная звезда... По страницам Шуриного альбома мчатся во всех направлениях лошади, собаки, автомобили и самолеты. Карандаш в руке Шуры никогда не дрожит — он проводит ровные, уверенные линии. Я давно поняла, что Шура будет хорошо рисовать.
Так мы сидим, занимаемся каждый своим делом и ждемг когда Анатолий Петрович скажет:
— Ну, а теперь отдохнем!
Это значит, что сейчас мы все вместе во что-нибудь поиграем. Играем чаще всего в домино: Зоя с отцом против нас с Шурой. Шура азартно следит за каждым ходом, горячится, спорит, а проигрывая, краснеет, сердится и готов заплакать. Зоя тоже волнуется, но молча: закусывает губу или крепко сжимает свободную руку в кулак.
.Иногда мы играем в игру, которая называется «Вверх и вниз». Тут уж ничто не зависит от вашего умения, а только от того, какой стороной ляжет подброшенный белый кубик с черными точками по бокам — от одной до шести.
Если вам повезет, вы взлетите на самолете вверх, прямо к цели — пестрому куполу, а не повезет — покатитесь вниз и проиграете. Нехитро, но как увлекательно! И как ребята хлопают в ладоши, когда им посчастливится залететь вверх, минуя сразу десяток клеток на пестрой доске!
Очень любили Зоя и Шура игру моего изобретения, которая называлась у нас попросту «каляки»: кто-нибудь из них чертил на чистом листе бумаги любой зигзаг, кривую линию, загогулину— словом, «каляку», и я должна была в этой бессмысленной закорючке найти зерно будущей картины.
Вот Шура вывел на бумаге что-то вроде длинного яйца.
52
Я смотрю, думаю полмииуты, потом пририсовываю плавники, хвост, чешую, глаз, и перед нами...
— Рыба! Рыба! — в восторге кричат дети.
А вот Зоя посадила на листе самую обыкновенную чернильную кляксу, и я делаю из нее красивый цветок: мохнатую лиловую хризантему.
Когда дети немного подросли, мы поменялись ролями: я чертила «каляку», а они придумывали, что из нее можно сделать. Шура был неистощимо изобретателен: из маленькой закорючки у него вырастал сказочный терем, из нескольких крапинок — лицо, из кривой линии — большое ветвистое дерево.
Но больше всего мы любили, когда Анатолий Петрович брал в руки гитару и начинал играть. Не знаю даже, хорошо ли он играл, по мы очень любили его слушать и совсем забывали о времени, когда он играл одну за другой русские песни.
Пусть такие вечера выдавались редко, но они освещали нам все остальные дни, о них с удовольствием вспоминали.
Замечание, упрек, сделанные детям в эти часы, оставляли в их душе глубокий след, а похвала и ласковое слово делали счастливыми.
— Что ж ты, Шура, сам сел на удобный стул, а маме поставил с поломанной спинкой! — сказал как-то Анатолий Петрович, и после этого я уже никогда не замечала, чтобы Шура выбрал себе вещь получше, поудобнее, оставив другим то, что похуже.
Однажды Анатолий Петрович пришел хмурый, поздоровался с детьми сдержанней обычного.
— За что ты сегодня поколотил Анюту Степанову? — спросил он Шуру.
— Девчонка... пискля...—угрюмо ответил Шура, не поднимая глаз.
— Чтоб больше я о таком не слышал! — раздельно и резко произнес Анатолий Петрович и, помолчав, прибавил чуть мягче: — Большой мальчишка, скоро восемь лет будет, а задираешь девочку! Не стыдно тебе?
Зато как сияли лица детей, когда отец хвалил Шуру за хороший рисунок, Зою — за аккуратную тетрадку, за чисто прибранную комнату!
53
Когда мы приходили поздно, дети ложились спать, не дождавшись нас, и оставляли на столе свои раскрытые тетради, чтобы мы могли посмотреть, как сделаны уроки. И пусть мы немного часов могли уделить ребятам, но мы всегда знали обо всем, чем они жили, что занимало и волновало их, что случалось с ними без нас. А главное, все, что мы делали вместе — будь то игра, занятия или работа по хозяйству,— сближало нас с детьми, и дружба наша становилась все более глубокой и сердечной.
ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ
Мы жили па старом шоссе. От дома до школы было не меньше трех километров.
Я вставала пораньше, готовила завтрак, кормила детей, и мы выходили из дому еще затемно. Путь наш лежал через Тимирязевский парк. Деревья стояли высокие, неподвижные, точно выведенные тушыо на синем, медленно светлеющем небе. Снег поскрипывал под ногами, воротники понемногу покрывались инеем от дыхания.
Мы шли втроем — Анатолий Петрович выходил из дому позже.
Сначала шагали молча, но понемногу остатки недавнего сна словно истаивали вместе с темнотой, и завязывался какой- нибудь неожиданный и интересный разговор.
— Мама,— спросила раз Зоя,— почему так: деревья чем старше, тем красивее, а человек, когда старый, становится совсем некрасивый? Почему?
Я не успела ответить.
— Неправда! — горячо возразил Шура.— Вот бабушка старая, а разве некрасивая? Красивая!
Я вспоминаю свою маму. Нет, сейчас никто не назовет ее красивой: у нее такие усталые глаза, впалые, морщинистые щеки...
Но Шура, словно подслушав мою мысль, говорит:
— Я кого люблю, тот для меня и красивый.
— Да, правда,— подумав, соглашается Зоя.
54
*..Однажды, когда мы шли втроем вдоль шоссе, нас нагнала грузовая машина и вдруг затормозила.
— В школу? — коротко спросил шофер, выглянув из окошка.
— В школу,— удивленно ответила я.
— Ну-ка, давайте сюда ребятишек.
Не успела я опомниться, как Зоя с Шурой оказались в кузове, и под их восторженный крик машина покатила дальше.
С того дня до самой весны в один и тот же час нас нагонял на дороге этот грузовик и, захватив ребят, довозил их почти до самой школы. Там, на углу, они вылезали, а машина мчалась дальше.
Мы никогда не дожидались «нашей машины», нам нравилось вдруг услышать за спиной знакомый басовитый гудок и такой же густой, низкий оклик: «Ну-ка, забирайтесь в кузов!» Конечно, добродушному шоферу просто было с нами по дороге, но ребята почти поверили, что он нарочно приезжает за ними. Очень приятно было так думать!
НОВОСЕЛЬЕ
Через два года после приезда детей в Москву Анатолию Петровичу дали другую комнату, более просторную и удобную, в доме № 7 по Александровскому проезду.
Теперь Александровского проезда не узнать: по обе стороны выросли новые большие дома, тротуары и мостовая залиты ровным, гладким асфальтом. А в те времена здесь едва набралось бы с десяток домишек совсем деревенского вида, за ними тянулись какие-то грядки, огороды, а дальше — большой, неуютный пустырь.
Наш домик стоял совсем одиноко, как говорится,— на отшибе, и, возвращаясь с работы, я видела его еще издали, как только выходила из трамвая. Жили мы во втором этаже. Новая комната была куда лучше нашего прежнего жилья: теплее, светлее, просторнее.
Ребята очень радовались новоселью. Они любили всё новое,
55
и переезд доставил им большое удовольствие. Немало времени они потратили на сборы. Зоя бережно складывала книги, тетради, вырезанные из журналов картинки. Шура тоже деловито собирал и упаковывал свое хозяйство: стеклышки, камешки, крючки, железки, согнутые гвозди и еще множество предметов, назначение которых оставалось для меня загадкой.
В новой комнате мы отвели ребятам угол, поставили туда небольшой стол, повесили полку для учебников и тетрадей.
Увидев стол, Шура немедленно закричал:
— Левая сторона, чур, моя!
— А правая — моя,— охотно согласилась Зоя, и, как бывало не раз, повод для спора исчез сам собой.
Наша жизнь потекла по-прежнему: день шел за днем, мы работали, учились. По воскресеньям «открывали» какой-нибудь новый кусок Москвы: ездили то в Сокольники, то в Замоскворечье, то катались в трамвае «Б» по Садовому кольцу, то гуляли по Нескучному саду.
Анатолий Петрович хорошо знал Москву, и старую и новую, и немало мог порассказать нам о ней.
— А где же мост? — спросил однажды Шура, когда мы проходили по Кузнецкому мосту, и в ответ выслушал интересный рассказ о том, как здесь в старину был настоящий мост и как речка Неглинка ушла под землю.
Так мы узнали, откуда взялись в Москве всякие «валы», «ворота», Столовый, Скатертный, Гранатный переулки, Бропные улицы, Собачья площадка.
Анатолий Петрович рассказывал, почему Пресня называется Красная, почему есть Баррикадная улица и площадь Восстания.
И страница за страницей раскрывалась перед ребятами история нашего чудесного города.
ГОРЕ
Однажды в конце февраля были взяты билеты в цирк. В кино, в цирк мы водили детей не часто, зато каждый такой поход был настоящим праздником.
56
Ребята ждали воскресного дня с нетерпением, которое ничем нельзя было укротить: они мечтали о том, как увидят дрессированную собаку, умеющую считать до десяти, как промчится по кругу тонконогий конь с крутой шеей, украшенный серебряными блестками, как ученый тюлень станет перебираться с бочки на бочку и ловить носом мяч, который кииет ему дрессировщик...
Всю неделю только и разговоров было что о цирке. Но в субботу, вернувшись из школы, я с удивлением увидела, что Анатолий Петрович уже дома и лежит на кровати.
— Ты почему так рано? И почему лежишь? — испуганно спросила я.
— Не беспокойся, пройдет. Просто неважно себя почувствовал...
Не могу сказать, чтобы меня это успокоило: я видела, что Анатолий Петрович очень бледен и как-то сразу осунулся, словно он был болен уже давно и серьезно. Зоя и Шура сидели подле и с тревогой смотрели на отца.
— Придется вам в цирк без меня пойти,— сказал он, заставляя себя улыбнуться.
— Мы без тебя не пойдем,— решительно ответила Зоя.
— Не пойдем! — отозвался Шура.
На другой день Анатолию Петровичу стало хуже. Появилась острая боль в боку, стало лихорадить. Всегда очень сдержанный, он не жаловался, не стонал, только крепко закусил губу. Надо было пойти за врачом, но я боялась оставить мужа одного. Постучала к соседям — никто не отозвался, должно быть, вышли погулять: ведь было воскресенье. Я вернулась растерянная, не зная, как быть.
— Я пойду за доктором,— сказала вдруг Зоя, и не успела я возразить, как она уже надела пальтишко и шапку.
— Нельзя... далеко...— с трудом проговорил Анатолий Петрович.
— Нет, пойду, я пойду... Я знаю, где он живет! Ну, пожалуйста! — И, не дожидаясь ответа, Зоя почти скатилась с лестницы.;
— Ну, пусть... девочка толковая... найдет...— прошептал Анатолий Петрович и отвернулся к стене, чтобы скрыть серое, от боли лицо.
57
Через час Зоя вернулась с врачом. Он осмотрел Анатолия Петровича и сказал коротко: «Заворот кишок. Немедленно в больницу. Нужна операция».
Он остался с больным, я побежала за машиной, и через полчаса Анатолия Петровича увезли. Когда его сносили вниз по лестнице, он застонал было и тотчас смолк, увидев расширенные от ужаса глаза детей.
...Операция прошла благополучно, но легче Анатолию Петровичу не стало. Всякий раз, как я входила в палату, меня больше всего пугало его безучастное лицо: слишком привыкла я к общительному, веселому характеру мужа, а теперь он лежал молчаливый и лишь изредка приподнимал слабую, исхудалую руку, клал ее на мою и все так же молча слабо пожимал мои пальцы.
5 марта я пришла, как обычно, навестить его.
— Подождите,— сказал мне в вестибюле знакомый санитар, как-то странно взглянув на меня.— Сейчас сестра выйдет. Или врач.
— Да я к больному Космодемьянскому,— напомнила я, думая, что он меня не узнал.— У меня постоянный пропуск.
— Сейчас, сейчас сестра выйдет, подождите,— повторил он.
Через минуту поспешно вошла сестра.
— Присядьте, пожалуйста,— сказала она, избегая моего взгляда.
PI тут я поняла.
— Он умер? — выговорила я невозможные, невероятные слова.
Сестра молча кивнула.
* * *
...Тяжело, горько терять родного человека и тогда, когда задолго до конца знаешь, что болезнь его смертельна и потеря неизбежна. Но такая внезапная, беспощадная смерть — ничего страшнее я не знаю... Неделю назад человек, никогда с детства не болевший, был полон сил, весел, жизнерадостен — и вот он в гробу, не похожий на себя, безответный, безучастный...
Дети не отходили от меня: Зоя держала за руку, Шура цеплялся за другую.
58
— Мама, не плачь! Мамочка, не плачь! — повторяла Зоя, глядя на неподвижное лицо отца сухими покрасневшими глазами.
...В холодный, сумрачный день мы стояли втроем в Тимирязевском парке, ожидая моих брата и сестру: они должны были приехать на похороны. Стояли мы под каким-то высоким, по- зимнему голым деревом, нас прохватывало холодным, резким ветром, и мы чувствовали себя одинокими, осиротевшими.
Не помню, как приехали мои родные, как пережили мы до конца этот холодный, тягостный, нескончаемый день. Смутно вспоминается только, как шли на кладбище, потом как вдруг отчаянно, громко заплакала Зоя — и стук земли о крышку гроба...
ВЕЗ ОТЦА
С той поры моя жизнь круто изменилась. Прежде я жила, чувствуя и зная, что рядом — дорогой, близкий человек, что я всегда могу опереться на его надежную руку. Я привыкла к этой спокойной, согревающей уверенности и даже представить себе не могла, как может быть иначе. И вдруг я осталась одна, и ответственность за судьбу наших двоих детей и за самую их жизнь безраздельно легла на мои плечи.
Шура все-таки был еще мал, и ужас случившегося не вполне дошел до его сознания. Ему словно казалось, что отец просто где-то далеко, как бывало во время прежних наших разлук, и еще вернется когда-нибудь...
Но Зоя приняла наше горе, как взрослый человек.
Она почти не заговаривала об отце. Видя, что я задумываюсь, она подходила ко мне, заглядывала в глаза и тихонько предлагала:
— Хочешь, я тебе почитаю?
Или просила:
— Расскажи что-нибудь! Как ты была маленькая...
Или просто садилась рядом и сидела молча, прижавшись к моим коленям.
Она старалась, как умела, отвлечь меня от горьких мыслей.
59
Но иногда по ночам я слышала, что она плачет. Я подходила, гладила ее по волосам, спрашивала тихо:
— Ты о папе?
И она неизменно отвечала:
— Нет, это я, наверно, во сне.
...Зое и прежде часто говорили: «Ты старшая, смотри за Шурой, помогай маме». Теперь эти слова наполнились новым смыслом: Зоя действительно стала моей помощницей и другом.
Я начала преподавать еще в одной школе и еще меньше, чем прежде, могла быть дома. С вечера я готовила обед. Зоя разогревала его, кормила Шуру, убирала комнату, а когда чуть подросла, стала и печь сама топить.
— Ох, спалит нам Зоя дом! — говорили иной раз соседи.— Ведь ребенок еще!
Но я знала: на Зою можно положиться спокойнее, чем на иного взрослого. Она все делала вовремя, никогда ни о чем не забывала, даже самую скучную и маловажную работу не выполняла кое-как. Я знала: Зоя не бросит непогашенную спичку, вовремя закроет выошку, сразу заметит выскочивший из печки уголек.
Однажды я вернулась домой очень поздно, с головной болыо и такая усталая, что не было сил приниматься за стряпню. «Обед завтра сготовлю,— подумала я.— Встану пораньше...»
Я уснула, едва опустив голову на подушку, и... проснулась на другой день не раньше, а позже обычного: через каких-нибудь полчаса надо было уже выходить из дому, чтобы не опоздать на работу.
— Вот ведь беда!—сказала я, совсем расстроенная.— Как же это я заспалась! Придется вам сегодня обедать всухомятку.
Вернувшись вечером, я спросила еще с порога:
— Ну что, совсем голодные?
— А вот и не голодные, а вот и сытые! — победоносно закричал Шура, прыгая передо мной.
— Садись скорее обедать, мама, у нас сегодня жареная рыба! — торжественно объявила Зоя.
— Рыба? Какая рыба?
На сковородке и в самом деле дымилась аппетитно поджаренная рыбка. Откуда она? Дети наслаждались моим изумлением.
Шура продолжал прыгал и кричать, а Зоя, очень довольная, наконец объяснила:
— Понимаешь, мы, когда шли в школу мимо пруда, заглянули в прорубь, а там рыба. Шура хотел поймать ее рукой, а она очень скользкая. Мы в школе у нянечки попросили консервную банку, положили в мешок для калош, а когда шли домой, задержались на часок возле пруда и наловили...
— Мы бы и побольше поймали, да нас какой-то дядя оттуда прогнал, говорит: утонете или руки отморозите. А мы и не отморозили! — перебил Шура.
— Мы много наловили,— продолжала Зоя.— Пришли домой, зажарили, сами поели и тебе оставили. Вкусно, правда?
В тот вечер мы с Зоей готовили обед вдвоем: она аккуратно начистила картошку, вымыла крупу и внимательно смотрела, сколько чего я кладу в кастрюлю.
...Впоследствии, вспоминая те первые месяцы после смерти Анатолия Петровича, я не раз думала, что именно тогда утвердилась в Зоином характере ранняя серьезность, которую замечали в ней даже малознакомые люди.
НОВАЯ ШКОЛА
Вскоре после смерти мужа я перевела ребят в 201-ю школу: до прежней было слишком далеко ходить, и я побаивалась отпускать детей одних. Сама же я там больше не работала: я стала преподавать в школе для взрослых.
Новая школа детям понравилась сразу, безоговорочно — они с первого дня полюбили ее и просто не находили слов, чтобы выразить свое восхищение. В самом деле, прежде они учились в небольшом деревянном доме, напоминавшем школу в Осиновых Гаях. А эта школа была большая, просторная, и рядом строилось новое великолепное здание в три этажа, с огромными, широкими окнами... Сюда они переселятся в будущем учебном году.
Хозяйственная Зоя быстро оценила Николая Васильевича Кирикова, директора 201-й школы.
61
— Ты бы видела, мама, какой у нас будет зал! — говорила она с увлечением.—А библиотека! Книг сколько! Я столько никогда не видала: полки по всем стенам, с полу до потолка, и ни одного свободного места... Яблоку упасть негде,— подумав, прибавила она (и я опять услышала бабушку — это было ее выражение).— Николай Васильевич нас водил на стройку, все показывал. Он говорит: у нас большой сад будет, сами посадим. Увидишь, мама, какая будет наша школа: лучше во всей Москве не найдешь!
Шура был захвачен всем, что делалось в новой школе, но больше всего ему нравились уроки физкультуры. Мальчуган без конца мог рассказывать о том, как он подтянулся на трапеции, как перепрыгнул через «козла», как научился попадать мячом в баскетбольную «корзинку».
Новая учительница, Лидия Николаевна Юрьева, сразу пришлась обоим по сердцу. Это я видела по тому, как охотно они шли каждый день в школу, какие оживленные и довольные возвращались, как старались слово в слово пересказать мне все, что говорила учительница,— все, до мелочей, было для них важно и полно значения.
— По-моему, ты оставляешь слишком большие поля,— сказала я однажды Зое, просматривая ее тетрадь.
— Нет, нет!—вспыхнув, торопливо ответила Зоя.— Лидия Николаевна велит такие, меньше нельзя!
Так было во всем: раз Лидия Николаевна сказала, значит, только так и должно быть. И я знала: это хорошо, это значит, что учительницу любят и уважают, именно потому старательно и охотно выполняют любую ее просьбу, любое приказание.
И Зоя и Шура всегда принимали близко к сердцу все, что происходило в классе.
— Сегодня Борька опоздал и говорит: «У меня мама заболела, я ходил в аптеку»!—с жаром рассказывал Шура.—Ну, раз мама больна, что тут делать. Лидия Николаевна и говорит ему: «Садись на свое место». А после уроков как раз приходит Борышна мать — она с ним хотела куда-то прямо из школы ехать,— и смотрим, она здоровая и совсем даже не больная. Лидия Николаевна покраснела, рассердилась и говорит Борьке: «Я больше всего не люблю, когда говорят неправду. У меня та¬
62
кое правило: если сам сознался, не соврал... не солгал, то есть,— поспешно поправляется Шура, чувствуя, что начинает слишком вольно передавать речь учительницы,— значит, полвины долой». А я спросил: «Почему, если сознался, полвины долой?» А Лидия Николаевна отвечает: «Если человек сам сказал, значит, он понял свою вину, и незачем его сильно наказывать. А если отпирается, говорит неправду — ну, значит, ничего он не понимает и в другой раз опять так сделает, и, значит, надо его наказать...»
Если класс плохо справлялся с контрольной работой, Зоя приходила домой с таким печальным лицом, что вечером я с тревогой спрашивала:
— У тебя «неудовлетворительно»?
— Нет,— грустно отвечала она,— у меня «хорошо», я все решила, а вот у Мани все неправильно сделано. И у Нины тоже. Лидия Николаевна сказала: «Мне очень жаль, но придется вам поставить неудовлетворительную отметку»...
Однажды я вернулась с работы раньше обычного. Детей дома не оказалось. Встревоженная, я пошла в школу, отыскала Лидию Николаевну и спросила, не знает ли она, где Зоя.
— По-моему, все уже разошлись,— ответила она.— А впрочем, давайте заглянем в класс.
Мы подошли к дверям класса и заглянули в стекло.
У доски стояли Зоя и еще три девочки: две — повыше Зои, с одинаковыми тоненькими косичками; третья — маленькая, толстая и кудрявая. Все были очень серьезны, а кудрявая даже рот приоткрыла.
— Что же ты делаешь? — негромко и внушительно говорила ей Зоя.— Когда складывают карандаши с карандашами, так и получаются карандаши. А ты складываешь метры с килограммами. Что же у тебя получается?
В это время слева, в глубине класса, мелькнуло что-то белое. Я покосилась в ту сторону: на последней парте сидел Шура и безмятежно пускал бумажных голубей.
Мы отошли от дверей. Я попросила Лидию Николаевну немного погодя послать Зою домой и больше не позволять ей подолгу задерживаться в школе после уроков. Вечером я и сама сказала Зое, чтобы она, когда кончаются занятия, сразу шла домой.
63
— Видишь, я постаралась сегодня освободиться пораньше, хотела побыть с вами, а вас нет,— сказала я ей.— Ты уж, пожалуйста, не задерживайся в школе понапрасну...
Зоя выслушала меня молча, но потом, уже после ужина, вдруг сказала:
— Мама, разве помогать девочкам — напрасное дело?
— Почему же напрасное? Очень хорошо, когда человек помогает товарищу.
— А что же ты говоришь: «Не задерживайся понапрасну»?
Я закусила губу и в сотый раз подумала: до чего осторожно
надо выбирать слова в разговоре с детьми!
— Просто я хотела побыть с вами, я ведь очень редко освобождаюсь рано.
— Но ведь ты сама говоришь: дело прежде всего.
— Это верно. Но ведь твое дело и в том, чтобы Шура был сыт, а он сидел в школе голодный и ждал, пока ты освободишься.
— Нет, я не сидел голодный,— вступился Шура.—Зоя захватила большущий завтрак.
На другое утро, уходя в школу, Зоя спросила:
— Можно, я сегодня опять позанимаюсь с девочками?
— Только не задерживайся надолго, Зоя.
— На полчасика! — ответила она.
И я знала: это будет действительно полчаса, и ни минутой больше.
ГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ
Мне очень хотелось сохранить в нашей жизни обычаи, которые завел Анатолий Петрович. По выходным дням мы, как и при нем, гуляли по Москве, но прогулки эти стали для нас горькими: мы все время думали об отце. По вечерам не клеились наши игры — не хватало отца, его шуток и смеха...
Как-то в свободный вечер, возвращаясь домой, мы задержались возле ювелирного магазина. Ярко освещенная витрина была ослепительна: алые, голубые, зеленые, фиолетовые огоньки вспыхивали и переливались в драгоценных камнях. Тут были
64
ожерелья, броши, какие-то блестящие безделушки. Перед самым стеклом на широкой бархатной подушке рядами лежали кольца, и в каждом тоже сверкал какой-нибудь камешек, и, казалось, от каждого камешка, словно из-под точильного колеса или от дуги трамвая, отлетают и брызжут в глаза колючие разноцветные искры. Незнакомая сверкающая игра камней привлекла ребят. И вдруг Зоя сказала:
— Мне папа обещал объяснить, почему в кольцах всегда камешки, да так и не объяснил...— Она так же внезапно умолкла и крепко сжала мою руку, словно прося прощения за то, что напомнила вслух об отце.
— Мам, а ты знаешь, почему в кольцах камешки? — вмешался Шура.
— Знаю.
Мы пошли дальше, и по дороге я рассказала ребятам историю Прометея. Ребята шли, заглядывая с двух сторон мне в лицо, ловя каждое слово и едва не наталкиваясь на прохожих. Древняя легенда о храбреце, который ради людей пошел на небывалый подвиг и на жестокую муку, сразу завладела их воображением.
— ...И вот однажды к Прометею пришел Геркулес, необыкновенно сильный и добрый человек, настоящий герой,— рассказывала я.— Он никого не боялся, даже самого Зевса. Своим мечом он разрубил цепи, которыми Прометей был прикован к скале, и освободил его. Но осталось в силе повеление Зевса, что Прометей никогда не расстанется со своей цепью: одно звено ее с осколком камня так и осталось на его руке. С тех пор в память о Прометее люди носят на пальце кольцо с камешком.
Через несколько дней я принесла ребятам из библиотеки греческие мифы и стала читать их вслух. И странное дело: несмотря на весь свой интерес к Прометею, они сначала слушали меня не очень охотно. Видимо, полубоги, чьи имена так трудно запоминались, казались им какими-то холодными, далекими, чужими. То ли дело старые приятели: мишка-лакомка, Лиса Патри- кеевна, простофиля-волк, польстившийся на рыбу и оставивший полхвоста в проруби, и другие старые знакомцы из русских народных сказок! Но постепенно герои мифов тоже проложили дорогу к ребячьим сердцам: Шура и Зоя стали говорить о Пер¬
65
сее, Геракле, Икаре, как о живых людях. Помню, Зоя пожалела Ниобею, а Шура сказал запальчиво:
— А зачем она хвастала?
Я знала: еще многие герои книг станут дороги и близки моим детям. Может быть, поэтому мне. очень запомнился еще. один короткий разговор.
— Большая, а плачешь...— задумчиво и удивленно сказала Зоя, застав меня за перечитыванием «Овода».
— Посмотрю я, как ты будешь читать эту книжку,— ответила я.
— А когда я ее прочту?
— Когда тебе будет лет четырнадцать.
— У-у, это еще не скоро,— протянула Зоя.
Ясно было, что такой срок кажется ей ужасно долгим, почти невозможным.
ЛЮБИМЫЕ КНИГИ
Теперь, если у меня выдавался свободный вечер, мы уже не играли в домино; мы читали вслух, вернее —- читала я, а дети слушали.
Чаще всего читали мы Пушкина. Это был совсем особый и очень любимый мир, прекрасный и радостный. Пушкинские строки запоминались совсем легко, и Шура мог без устали декламировать про белку, которая.
...песеики поет Да орешки все грызет;
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд...
И, хотя дети много знали на память, они снова и снова просили:
— Мама, ну пожалуйста, про золотую рыбку... про царя Салтана...
Как-то я начала читать им «Детство Тёмы». Мы дошли до того места, где рассказывается, как отец высек Тёму за сломан¬
66
ный цветок. Ребятам очень хотелось знать, что будет дальше, но было уже поздно, и я отослала их спать. Вышло так, что ни на неделе, ни в следующее воскресенье я не смогла дочитать им историю Тёмы: набралось много работы — непроверенных тетрадей, незаштопанных чулок. Под конец Зоя не вытерпела, взялась за книжку и дочитала ее сама.
С этого началось: она стала читать запоем все, что попадало под руку, будь то газета, сказка или учебник. Она словно проверяла свое умение читать, как большая: не просто заданную страницу из учебника, но целую книгу. Только если я говорила: «Это тебе рано читать, подрасти еще», она не настаивала и откладывала книгу в сторону.
Любимцем нашим стал Гайдар. Меня всегда удивляло его умение говорить в детской книге о самых главных, самых важных вещах. Он разговаривал с детьми всерьез, без скидки на возраст, как с равными. Он знал, что дети ко всему подходят с самой большой меркой: смелость любят беззаветную, дружбу — безоглядную, верность — без оговорок. Пламя высокой мысли освещало страницы его книг. Как и Маяковский, он каждой строкой поднимал своего читателя, звал не к маленькому, комнатному, своему собственному счастью, но к счастью большому, всенародному, которое строится в нашей стране,— звал и учил бороться за это счастье, строить его своими руками.
Сколько разговоров бывало у нас после каждой книжки Гайдара! Мы говорили и о том, какая справедливая наша революция, и о том, как не похожа царская гимназия на нашу школу, и о том, что такое храбрость и дисциплина. У Гайдара эти слова наполнялись удивительно близким, осязаемым смыслом. Помню, особенно потрясло Зою и Шуру то, как Борис Гориков невольно погубил своего старшего друга, Чубука, только потому, что в разведке забыл об осторожности и самовольно ушел купаться.
— Нет, ты только подумай: купаться ему захотелось, а Чубука схватили! — горячился Шура.
— И ведь Чубук подумал, что Борис его предал! Ты представь, как Борис потом мучился! Я даже не понимаю, как тогда жить, если знаешь, что из-за тебя товарища расстреляли!
Мы читали и перечитывали «Дальние страны», «Р.В.С.»2
67
«Военную тайну». Как только выходила новая книжка Гайдара, я добывала ее и приносила домой. И нам всегда казалось, что он разговаривает с нами о том, что волнует нас сегодня, вот в эту самую минуту.
— Мама, Гайдар где живет? — спросила как-то Зоя.
— Кажется, в Москве.
— Вот бы посмотреть на него!
НОВОЕ ПАЛЬТО
Любимым Шуриным развлечением была игра с мальчишками в «казаки-разбойники». Зимой в снегу, летом в песке они рыли пещеры, разводили костры и с воинственными криками носились по улицам.
Однажды под вечер в передней раздался ужасающий грохот, дверь распахнулась, и на пороге появился Шура. Но в каком виде! Мы с Зоей даже вскочили со своих мест. Шура стоял перед нами с головы до ног перемазанный в глине, взлохмаченный, потный от беготни — но все это нам было не в диковину. Страшно было другое: карманы и пуговицы его пальто были вырваны с мясом, вместо них зияли неровные дыры с лохматыми краями.
Я похолодела и молча смотрела на него. Пальто было совсем новое, только что купленное.
Все еще не говоря ни слова, я сняла с Шуры пальто и принялась его чистить. Шура стоял пристыженный, и в то же время на лице его появилось выражение какой-то упрямой независимости. «Ну и пусть!» — словно говорил он всем своим видом. На него иногда находил такой стих, и тогда с ним трудно было сладить. Кричать я не люблю, а спокойно говорить не могла, поэтому я больше не смотрела на Шуру и молча приводила пальто в порядок. В комнате было совсем тихо. Прошло каких- нибудь пятнадцать — двадцать минут, они показались мне часами.
— Мама, прости, я больше не буду,— скороговоркой пробормотал у меня за спиной Шура.
— Мама, прости его! —* как эхо, повторила Зоя.
— Хорошо,— ответила я пе оборачиваясь.
До поздней ночи я просидела за починкой злополучного пальто.
...Когда я проснулась, за окном было еще темно. У изголовья моей кровати стоял Шура и, видимо, ждал, когда я открою глаза.
— Мама... прости... я больше никогда не буду,— тихо и с запинкой выговорил он. И хотя это были те же слова, что вчера, но сказаны они были совсем но-другому: с болыо, с настоящим раскаянием.
— Ты говорила с Шурой о вчерашнем? — спросила я Зою, когда мы с ней остались одни в комнате.
— Говорила,— не сразу и, как видно, с чувством неловкости ответила она.
— Что же ты ему сказала?
— Сказала... сказала, что ты работаешь одна, что тебе трудно... что ты не просто рассердилась, а задумалась: как же теперь быть, если пальто совсем разорвалось?
„ЧЕЛЮСКИН"
— Помнишь, Шура, папа рассказывал тебе про экспедицию Седова? — говорю я.
— Помню.
— Помнишь, как Седов говорил перед отъездом: «Разве с таким снаряжением можно идти к полюсу! Вместо восьмидесяти собак у нас только двадцать, одежда износилась, провианта мало...» Помнишь?.. А вот, смотри, отправляется в Арктику ледокольный пароход. Чего там только нет! Ничего не забыли, обо всем подумали — от иголки до коровы.
— Что-о? Какая корова?
— А вот смотри: на борту двадцать шесть живых коров, четыре поросенка, свежий картофель и овощи. Уж наверное, моряки в пути голодны не будут.
— И не замерзнут,— подхватывает Зоя, заглядывая через
69
мое плечо в газету.— Смотри, сколько у них всего: и меховая одежда всякая, и спальные мешки — они тоже меховые, и уголь, и бензин, и керосин..,
— И лыжи! — немного невпопад добавляет Шура.— Нарты — это такие сани, да? И научные приборы всякие. Вот снарядились!.. Ух, ружья! Это они будут белых медведей стрелять и тюленей.
Я Еикак не могла подумать, что «Челюскин» скоро станет главной темой наших разговоров. Газетные сообщения о его походе были не так уж часты, а может, они не попадались мне на глаза — только известие, с которым однажды примчался Шура, оказалось для меня совершенно неожиданным.
— Мама,— еще с порога закричал встрепанный, разгоряченный Шура,— «Челюскин»-то! Пароход, помнишь? Ты еще мне рассказывала... Я сейчас сам слышал!..
— Да что? Что случилось?
— Раздавило его! Льдом раздавило!
— А люди?
— Всех выгрузили. Прямо па льдину. Только один за борт упал...
Я с трудом поверила. Но оказалось, что Шура ничего не спутал— об этом уже знала вся страна. 13 февраля («Вот, не зря говорят: тринадцатое — число несчастливое!» — горестно сказал Шура) льды Арктики раздавили пароход: их мощным напором разорвало левый борт, и через два часа «Челюскин» скрылся под водой.
За эти два часа люди выгрузили на лед двухмесячный запас продовольствия, палатки, спальные мешки, самолет и радиостанцию.
По звездам определили, где находятся, связались по радио с полярными станциями чукотского побережья и тотчас начали сооружать барак, кухню, сигнальную вышку...
Вскоре радио и газеты принесли и другую весть: создана комиссия по спасению челюскинцев. И в спасательных работах немедля приняла участие вся страна: спешно ремонтировались ледоколы, снаряжались в путь дирижабли, аэросани. На мысе Северном, в Уэлене и в бухте Провидения самолеты готовились вылететь на место катастрофы. Из Уэлена двинулись к лагерю
70
собачьи упряжки. Через океан вокруг света пошел «Красин». Два других парохода поднялись до таких параллелей, где еще не бывал в зимнее время ни один пароход, и доставили самолеты на мыс Олюторский.
Не думаю, чтобы в те дни нашелся в стране человек, который не волновался бы, не следил затаив дыхание за судьбой челюскинцев. Но Зоя и Шура были поглощены ею безраздельно.
Я могла бы не слушать радио, не читать газет — дети знали все до мельчайших подробностей и целыми часами горячо и тревожно говорили только об одном: что делают сейчас челюскинцы? Как себя чувствуют? О чем думают? Не боятся ли?
На льдине было сто четыре человека, в том числе двое детей. Вот кому неистово завидовал Шура!
— И почему им такое счастье? Ведь они ничего не понимают: одной и двух лет нет, а другая и вовсе в пеленках. Вот если бы мне!..
— Шура, одумайся! Какое же это счастье? У людей такая беда, а ты говоришь — «счастье»!
Шура в ответ только машет рукой. Он вырезает из газет каждую строчку, относящуюся к челюскинцам. Рисует он теперь только Север: льды и лагерь челюскинцев — такой, каким он ему представляется.
Мы знали, что застигпутые страшной, внезапной катастрофой челюскинцы не испугались и не растерялись. Это были мужественные, стойкие, настоящие советские люди. Ни у одного не опустились руки, все работали, продолжали вести на- учпые наблюдения, и недаром газета, которую они выпускали, живя во льдах, называлась «Не сдадимся!».
Они мастерили из железных бочек камельки, из консервных банок — сковородки и лампы, из остатков досок вырезали ложки, окна в их бараке были сделаны из бутылей —- на все хватало и изобретательности, и смётки, и терпения. А сколько тонн льда перетаскали они на спине, расчищая аэродром! Сегодня расчистят, а назавтра снова цовсюду вздыбятся ледяные хребты — и от упорной, тяжелой работы не останется следа. Но челюскинцы знали: страна не оставит их в беде, им непременно придут на помощь.
И вот в начале марта («Прямо к Женскому дню!»—вос¬
71
кликнула при этом известии Зоя) самолет Ляпидевского совершил посадку на льдине и перенес женщин и детей на твердую землю. «Вот молодец Ляпидевский!» — то и дело слышала я.>
Имя «Молоков» Зоя и Шура произносили с благоговением. В самом деле, дух захватывало при одной мысли о том, что делал этот удивительный летчик. Чтобы ускорить спасение челюскинцев, оп помещал людей в прикрепленную к крыльям люльку для грузовых парашютов. Он делал по нескольку рейсов в день. Он один вывез со льдины тридцать девять человек!
— Вот бы посмотреть на него! — вслух мечтал Шура.
Правительственная комиссия дополнительно отправила на
спасение челюскинцев самолеты с Камчатки и из Владивостока. Но тут же стало известно, что лед вокруг лагеря во многих местах треснул. Образовались полыньи, появились новые широкие трещины, лед перемещался, торосился. В ночь после того, как улетели женщины и дети, разломило деревянный барак, в котором они жили. Самолет Ляпидевского поспел вовремя!
Вскоре новая беда: ледяным валом снесло кухню, разрушило аэродром, на котором стоял самолет Слепнева. Опасность подступала вплотную и с каждым днем, с каждым мгновением становилась все более грозной. Весна брала свое. Шура встречал теплые дни просто с ненавистью: «Опять это солнце! Опять с крыш капает!» — возмущался он.
Но все меньше людей оставалось на льдине, и наконец 13 апреля она совсем опустела — никого не осталось, никого! Последние шесть челюскинцев были вывезены на материк.
— Ну что, несчастливое число тринадцать? Несчастливое, да?! — торжествующе кричала Зоя.
— Ух, я только сейчас и отдышался! — от души сказал Шура.
Я уверена: если бы это их самих вывезли со льдины, они не могли бы радоваться больше.
Кончились два месяца напряженного ожидания: ведь за жизнь каждого из тех, кто оставался на льдине, непрестанно тревожились все живущие в безопасности на твердой земле.
...Я много читала об арктических экспедициях. Анатолий Петрович интересовался Севером, и у него было немало книг об Арктике — романов и повестей. И я помнила из книг, прочитан¬
72
ных в детстве: если в повести рассказывалось о людях, затерявшихся во льдах, частыми их спутниками были озлобление, недоверие друг к другу, даже ненависть и звериное стремление прежде всего спасти свою жизнь, сохранить свое здоровье, хотя бы ценою жизни и здоровья недавних друзей.
Моим ребятам, как и всем советским детям, такое и в голову прийти не могло. Единственно возможным, единственно мыслимым было для них то, как жили долгих два месяца сто челюскинцев, затерянных во льдах: их мужество и стойкость, их товарищеская забота друг о друге. Да и могло ли быть иначе!
...В середине июня Москва встречала челюскинцев. Небо было пасмурное, но я не помню более яркого, более сияющего дня! Ребята с самого утра потащили меня на улицу Горького. Казалось, сюда сошлись все москвичи: на тротуарах негде было ступить. В небе кружили самолеты, отовсюду — со стен домов, из окон и огромных витрин — смотрели ставшие такими знакомыми и дорогими лица: портреты героев-челюскинцев и их спасителей — летчиков. Повсюду алые и голубые полотнища, горячие слова приветствий и цветы, цветы без конца.
И вдруг со стороны Белорусского вокзала показались машины. В первую секунду даже нельзя было догадаться, что это автомобили: приближались какие-то летящие сады, большие яркие цветники на колесах! Они пронеслись к Красной площади. Ворох цветов, огромные букеты, гирлянды роз — среди всего этого едва различаешь смеющееся, взволнованное лицо, приветственный взмах руки. А с тротуаров, из оков, с балконов и крыш люди бросают еще и еще цветы, и в воздухе, как большие бабочки, кружатся сброшенные с самолета листовки и сплошным шелестящим слоем покрывают мостовую.
— Мама... мама... мама...— как заклинание, твердил Шура.
Какой-то высокий загорелый человек подхватил его и посадил на свое крепкое, широкое плечо, и оттуда, сверху, Шура кричал, кажется, громче всех.
— Какой счастливый день! — задыхающимся голосом сказала Зоя, и, думаю, это были те самые слова, которые про себя или вслух произносили в эти минуты все.
СТАРШАЯ И МЛАДШИЙ
Зоя всегда разговаривала с Шурой, как старшая с младшим, и ему частенько от нее доставалось:
— Шура, застегнись!.. Где же пуговица? Опять оторвал? На тебя не напришиваешься. Ты их нарочно отрываешь, что ли? Придется тебе самому научиться пуговицы пришивать.
Шура был в полном ее ведении, и она заботилась о нем неутомимо, но строго. Иногда, рассердившись на него за что-нибудь, она называла его «Александр» — это звучало гораздо внушительнее, чем обычное «Шура»:
Александр, опять у тебя коленки продрались? Сними чулки сейчас же!
Александр покорно снимал чулки, и Зоя сама штопала все дырки.
Брат и сестра были неразлучны: в одно время ложились спать, в один час вставали, вместе шли в школу и вместе возвращались. Хотя Шура был без малого на два года моложе Зои, они были почти одного роста. При этом Шура был сильнее: он рос настоящим крепышом, а Зоя так и оставалась тоненькой и с виду хрупкой. По совести говоря, она подчас надоедала ему своими замечаниями, но бунтовал он редко, и ему даже в самом бурном споре в голову не приходило толкнуть или ударить ее. Почти всегда и во всем он слушался ее беспрекословно.
Когда они перешли в четвертый класс, Шура сказал:
— Ну, теперь всё. Больше я с тобой на одну парту не сяду. Хватит мне сидеть с девчонкой!
Зоя спокойно выслушала и ответила твердо:
— Сидеть ты будешь со мной. А то еще начнешь на уроках пускать голубей, я тебя знаю.
Шура еще пошумел, отстаивая свою независимость. Я не вмешивалась. Вечером 1 сентября я спросила:
— Ну, Шура, с кем из мальчиков ты теперь сидишь?
— Того мальчика зовут Зоя Космодемьянская,—хмурясь и улыбаясь, ответил Шура.— Разве ее переспоришь!
...Меня очень интересовало, какова Зоя с другими детьми. Я видела ее только с Шурой да по воскресеньям с малышами, которых немало бегало по нашему Александровскому проезду.
74
Малыши тоже, как Шура, любили ее и слушались. Когда она возвращалась из школы, они издали узнавали ее по быстрой походке, по красной шерстяной шапочке и бежали навстречу с криками, в которых можно было разобрать только: «Почитай! Поиграй! Расскажи!» Зоя передавала портфель с книгами Шуре и, веселая, оживленная, с проступившим от ходьбы и мороза румянцем на смуглых щеках, широко раскидывала руки, стараясь забрать в охапку побольше теснящихся к ней детишек.
Иногда, выстроив их по росту, она маршировала с ними и пела песню, которой выучилась в Осиновых Гаях: «Смело, товарищи, в ногу», или другие песни, которые пели в школе. Иногда играла с малышами в снежки, но снисходительно, осторожно, как старшая. Шура за игрой в снежки забывал все на свете: лепил, кидал, увертывался от встречных выстрелов, снова бросался в бой, не давая противникам ни секунды передышки.
— Шура,— кричала Зоя,— они же маленькие!.. Уходи отсюда! Ты не понимаешь, с ними нельзя так.
Потом она катала малышей на салазках и всегда следила, чтобы каждый был как следует застегнут и укутан, чтобы никому не задувало в уши и снег не набивался в валенки.
А летом, возвращаясь с работы, я раз увидела ее у пруда, окруженную гурьбой детишек. Она сидела, охватив руками колени, задумчиво глядела на воду и что-то негромко рассказывала. Я подошла ближе.
— ...Солнце высоко, колодец далёко, жар донимает, пот выступает,— услышала я.— Смотрят — стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка и говорит: «Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!» — «Не пей, братец, козленочком станешь»...
Я тихонько отошла, стараясь не хрустнуть веткой, не потревожить детей: они слушали так серьезно, на всех лицах было такое горестное сочувствие непослушному, незадачливому Иванушке, и Зоя так точно и выразительно повторяла печальные интонации бабушки Мавры Михайловны...
Но какова Зоя со сверстниками?
Одно время она ходила в школу с Леной, девочкой из соседнего дома. И вдруг я увидела, что они уходят и возвращаются порознь.
— Ты поссорилась с Леной?
75
— Нет, не поссорилась. Только я дружить с ней не хочу.
— Отчего же?
— Знаешь, она мне все говорит: «Неси мой портфель». Я иногда носила, а потом раз сказала: «Сама неси, у меня свой есть». Понимаешь, если бы она больная была или слабая, я бы понесла, мне нетрудно. А так зачем же?
— Зоя правильно говорит: Ленка—барыня,— скрепил Шура.
— Ну, а с Таней почему перестала дружить?
— Она очень много врет. Что ни скажет, потом все окажется неправда. Я ей теперь ни в чем не верю. А как же можно дружить, если не веришь? И потом, она несправедливая. Играем мы в лапту, а она жульничает. И когда считаемся, так подстраивает, чтоб не водить.
— А ты бы ей сказала, что так нехорошо делать.
— Да Зоя ей сколько раз говорила!—вмешивается Шура.— И все ребята говорили, и даже Лидия Николаевна, да разве ей втолкуешь!
Меня беспокоило, не слишком ли Зоя строга к другим, не сторонится ли она детей. Выбрав свободный час, я зашла к Лидии Николаевне.
— Зоя очень прямая, очень честная девочка,— задумчиво сказала, выслушав меня, Лидия Николаевна.—Она всегда напрямик говорит ребятам правду в глаза. Сначала я побаивалась, не восстановит ли она против себя товарищей. Но нет, этого не случилось. Она любит повторять: «Я за справедливость»,— и ребята видят, что она и в самом деле отстаивает то, что справедливо... Знаете,— с улыбкой добавила Лидия Николаевна,— на днях меня один мальчик во всеуслышание спросил: «Лидия Николаевна, вот вы говорите, у вас любимчиков нет, а разве вы Зою Космодемьянскую не любите?» Я, признаться, даже опешила немного, а потом спрашиваю его: «Тебе Зоя помогала решать задачи?» — «Помогала»,— отвечает. Обращаюсь к другому: «А тебе?» — «И мне помогала».— «А тебе? А тебе?» Оказалось, почти для всех Зоя сделала что-нибудь хорошее. Как же ее не любить? — спрашиваю. И они все согласились со мной... Нет, они ее любят... И, знаете, уважают, а это не про всякого скажешь в таком возрасте.
Лидия Николаевна еще помолчала.
76
— Очень упорная девочка,— снова заговорила она.— Ни за что не отступит от того, что считает правильным. И ребята понимают: она строга со всеми, но и с собой тоже; требовательна к ним, но и к себе. А дружить с нею, конечно, нелегко. Вот с Шурой другое дело,— Лидия Николаевна улыбнулась,— у того много друзей. Только вот заодно пожалуюсь: не дает проходу девочкам — и дразнит и за косы дергает. Вы с ним об этом непременно поговорите,
СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ
В траурной рамке — лицо Кирова. Мысль о смерти несовместима с ним — такое оно спокойное, открытое, ясное.
Горе было поистине всеобщим, народным — такое Зоя и Шура видели и переживали впервые. Все это глубоко потрясло их и надолго запомнилось: неиссякаемая человеческая река, медленно и скорбно текущая к Дому Союзов, и слова любви и горя, которые мы слышали по радио, и исполненные горечи газетные листы, и голоса и лица людей, которые могли в эти дни говорить и думать только об одном...
— Мама,— спрашивает Зоя,— а помнишь, в Шиткиие убили коммунистов?
И я думаю: ведь она права. Права, что вспомнила Шиткино и гибель семи деревенских коммунистов. Старое ненавидит новое лютой1 ненавистью. Вражеские силы и тогда сопротивлялись, били из-за угла — и вот сейчас они ударили подло, в спину. Ударили по самому дорогому и чистому. Убили человека, которого уважал и любил весь народ.
Ночыо я долго лежала с открытыми^ глазами. Было очень тихо. И вдруг я услышала шлепанье босых ног и шепот:
— Мама, ты не спишь? Можно к тебе?
— Можно, иди.
Зоя примостилась рядом и затихла. Помолчали.
— Ты почему не спишь? — спросила я.— Поздно уже, наверно второй час.
Зоя оветила не сразу, только крепче сжала мою руку. Потом сказала:
77
'■— Мама, я напишу заявление, чтобы меня приняли в пионеры.
— Напиши, конечно.
— А меня примут?
Примут непременно. Тебе уже одиннадцать лет.
А Шура как же?
— Ну что ж, Шура поступит в пионеры немного погодя.
Опять помолчали.
'— Мама, ты мне поможешь написать заявление?
Лучше сама иапиши. А я проверю, нет ли ошибок.
И снова она лежит совсем тихо и думает о чем-то, и я слышу только ее дыхание.
В ту ночь она так и уснула рядом со мной.
Накануне того дня, когда Зою должны были принимать в пионеры, она опять долго не могла уснуть.
— Опять не спишь? — спросила я.
— Я думаю про завтрашний день,— негромко отозвалась Зоя.
Назавтра (я как раз рано пришла домой и за столом проверяла тетради) она прибежала из школы взволнованная, раскрасневшаяся и тотчас ответила на мой безмолвный вопрос:
— Приняли!
„А КТО У НАС БЫЛ!**
Прошло некоторое время, и однажды, вернувшись с работы, я застала Зою и Шуру в необычном возбуждении. По их лицам я сразу поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее, но не успела ничего спросить.
— А кто у нас был!.. Молоков! Молоков к нам в школу приезжал! — наперебой закричали они.— Понимаешь, Молоков, который челюскинцев спасал! Он больше всех спас, помнишь?
Наконец Шура начал рассказывать более связно:
— Понимаешь, сначала он был на сцене, и все было торжественно, но как-то не так... не так хорошо... А потом он сошел вниз2 и мы все его окружили, и тогда получилось очень-очень
78
хорошо! Он знаешь как говорил? Просто, ну совсем просто! Он знаешь как сказал?., «Многие мне пишут по такому адресу: «Москва, Молокову из Арктики». А я вовсе не из Арктики, я живу в селе Ирининском, а в Арктику летал только за челюскинцами». И потом еще сказал: «Вот вы думаете, что есть такие, какие-то особенные герои-летчики, ни на кого не похожие. А мы самые обыкновенные люди. Посмотрите на меня — разве я какой-нибудь особенный?» И правда, он совсем-совсем простой... но все равно необыкновенный! — неожиданно закончил Шура. И добавил с глубоким вздохом: — Вот и Молокова повидал!
И видно было: человек дождался часа, когда сбылась его заветная мечта.
ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Уже давно мы встречаем на улице юношей и девушек в перепачканных землей и рыжей подсыхающей глиной спецовках, в резиновых сапогах и широкополых шахтерских шляпах. Это строители метро. Они озабоченно перебегают от шахты к шахте или после смены неторопливо шагают посреди улицы. И, глядя на них, не замечаешь запачканных мешковатых спецовок, а видишь только лица — удивительные лица, на которых сквозь усталость светятся радость и гордость.
На людей в таких спецовках смотрят с уважением и интересом: первые строители метрополитена — это пе шутка! Наверно, не только в Москве, но и в Осиновых Гаях и в далеком Шит- кине люди каждый день ищут в газете сообщения о том, как строится наше метро. И вот, помню, в весенние дни 1935 года мы узнали: метро готово!
— Мама, мы в воскресенье всем отрядом пойдем смотреть метро! — сообщила Зоя.— Пойдешь с нами?
В воскресенье утром я выглянула в окно: лил дождь. Я была уверена, что экскурсию в метро отложат, но ребята вскочили и стали торопливо собираться. Ясно было, что им в голову не приходит отказаться от затеянного.
— А погода? — нерешительно сказала я.
79
■*— Подумаешь, дождик! — беспечно отозвался Шура.— Польет, польет да и перестанет.
У трамвайной остановки уже собралось много ребят. Дождь, по-моему, даже веселил их: они кричали, шумели и весело приветствовали иао.
Потом мы все забрались в трамвай — в вагоне сразу стало шумно и тесно — и вскоре были уже у Охотного ряда.
Ступив па мраморный пол вестибюля, ребята тотчас притихли, словно по команде: тут уж некогда было даже разговаривать — так много надо было рассмотреть!
Мы чинно спустились по широким ступеням и невольно приостановились: дальше начинались настоящие чудеса! Еще секунда — и мы с Зоей и Шурой первыми ступаем на убегающую вниз рубчатую ленту. Шура шумно вздыхает. Нас неуловимо, плавно сносит куда-то. Рядом скользят черные, чуть пружинящие под рукой перила. А за ними, за гладким блестящим барьером бежит живая дорожка другого эскалатора, но уже не вниз, а вверх — навстречу нам. Так много людей, и все улыбаются. Кто-то машет нам рукой, кто-то окликает нас, но мы едва замечаем их: мы слишком поглощены своим путешествием.
И вот под ногами снова твердый пол. Как красиво кругом! Там, наверху, хлещет холодный дождь, а здесь...
Я как-то слышала об одной старой сказительнице: всю свою жизнь она прожила в родной деревне — и вот ее привезли в Москву, она увидела трамваи, автомобили, самолеты. Окружающие были уверены, что все это поразит ее. Но нет, она все приняла как должное. Ведь она давно свыклась со сказочным ковром-самолетом и сапогами-скороходами, и то, что она увидела, было для нее просто осуществлением сказки.
Нечто похожее случилось и с ребятами в метро. Восхищение, но вовсе не удивление было написано на их лицах, как если бы они воочию увидели знакомую и любимую сказку.
Мы вышли на платформу — и вдруг в конце ее, в полумраке туннеля, возник глухой, нарастающий гул, вспыхнули два огненных глаза... Еще секунда—и у платформы мягко останавливается поезд: длинные светлые вагоны с красной полосой по нижней кромке широких зеркальных окон. Сами собою открываются двери, мы входим, садимся и едем. Нет, не едем — мчимся!
Шура приникает к окну и считает огоньки, мгновенно проносящиеся мимо. Потом поворачивается ко мне.
— Ты не бойся,— говорит он,— в метро аварий не бывает.
Об этом даже написано в «Пионерской правде». Тут есть такие автостопы и светофоры — они называются «электрические сторожа»...
И я понимаю: этими словами он успокаивает не только меня, но немножко — самую малость! — и себя тоже.
Мы побывали в этот день на всех станциях. Всюду мы выходили, поднимались на эскалаторе наверх и потом снова спускались. Мы смотрели и не могли насмотреться: аккуратные плитки изразцов, точно пчелиные соты, на станции имени Дзержинского, огромный подземный дворец Комсомольской площади, серый, золотистый, коричневый мрамор — все было чудесно.
— Смотри, мама! Тут и правда красные ворота сделаны! — воскликнул Шура, указывая на ниши в стене станции «Красные ворота».
Нас с Зоей совершенно покорили наполненные светом колонны на станции «Дворец Советов»: вверху, сливаясь с потолком, они раскрывались, как какие-то удивительные, гигантские лилии. Никогда я не думала, что камень может казаться таким мягким и излучать столько света!
Вместе с нами был темноглазый круглолицый мальчик. («Вожатый первого звена»,— пояснила Зоя, заметив, как я прислушиваюсь к тому, что он рассказывает.) Сразу чувствовалось, что он из тех ребят, которые интересуются всем на свете, запоминают слово в слово все, о чем читают.
— Тут мрамор со всей страны,— сообщает он.— Вот это — крымский, а это — карельский. А на Кировской станции эскалатор в шестьдесят пять метров. Давайте сосчитаем, сколько времени мы спускаемся.
Они с Шурой тут же поднялись наверх и снова спустились.
— Давайте еще сосчитаем, сколько человек спускается зараз! — предложил Шура.
Минуту они стояли неподвижно, сосредоточенно наморщив лбы и беззвучно шевеля губами.
— У тебя сколько получилось? Сто пятьдесят? А у меня сто
Библиотека пионера. Том II 81
восемьдесят. Считай, что сто семьдесят. Десять тысяч человек в час — вот это здорово! А если бы он был неподвижный? Вот давка была бы! А за постройку эскалатора иностранцы знаете сколько спрашивали? — без передышки говорил вожатый первого звена.— Я забыл сколько, только очень много — по-нашему миллион золотых рублей. А мы взяли и сделали сами, на наших заводах. Знаете, какие заводы работали? Московский Владимира Ильича, в Ленинграде Кировский, потом еще в Горловке, в Краматорске...
...Мы вернулись домой под вечер, едва не падая от усталости, но полные впечатлений, и еще несколько дней всё вспоминали чудесное подземное царство.
Прошло не так уж много времени — и метро стало привычным. То и дело слышалось: «Поеду на метро», «Встретимся у метро». И все же, завидев в вечерних сумерках рубиновую светящуюся букву «М», я вспоминаю день, когда мы с детьми побывали в метро впервые.
„ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, СИНИЕ НОЧИ!"
Обычно, когда начинались летние каникулы, Зоя и Шура уезжали в пионерский лагерь. Они писали оттуда восторженные письма: о том, как ходят в лес по ягоды, как купаются в полноводной и быстрой реке, как учатся стрелять. Помню, раз Шура даже прислал мне свою мишень. «Видишь, как я научился? —. писал он с гордостью.— Ты не смотри, что не все пули в яблочке. Это не беда. Главное, кучность хорошая. Видишь, как легли тесно, в кучку!» И в каждом письме они просили: «Мама, приезжай, посмотри, как мы живем».
Однажды я приехала к ним в воскресенье утром, а уехала последним поездом — ребята не отпускали меня. Они водили меня по лагерю, показывали все свое хозяйство: грядки с огурцами и помидорами, цветочные клумбы, гигантские шаги, волейбольную площадку. Шуру то и дело тянуло поближе к большой белой палатке, в которой жили старшие мальчики: младшие спали в доме, и это безмерно его огорчало.
.82
— Никакого самолюбия у него нет! — неодобрительно сказала мне Зоя.— Куда Витя Орлов, туда и он...
Витя Орлов оказался председателем совета отряда. Это был рослый энергичный мальчик, на которого наш Шура смотрел почти с благоговением: Витя лучше всех играл в баскетбол, лучше всех стрелял, отлично плавал и обладал еще многими достоинствами... Не один Шура — десятка два малышей так и ходили за Витей по пятам. А у Вити для каждого находилось какое-нибудь важное поручение. «Сходи к дежурному, скажи, что можно горнить на обед»,— говорил он. Или: «Ну-ка, подмети дорожки. Смотри, как насорили!» Или: «Полей клумбы. Третье звено воды пожалело — погляди, цветам жарко». И малыш со Есех ног кидался исполнять поручение.
Шуре очень хотелось побыть со мной — мы так давно не видались: ведь родителям разрешалось приезжать только раз в месяц. Но в то же время ему не хотелось отставать от Вити — он явно был одним из первых Витиных адъютантов.
— Понимаешь,— с жаром рассказывал он,— Витя, когда стреляет, всегда только в яблочко попадает! Понимаешь, пуля в пулю! Это он меня стрелять научил. А плавает как! Ты бы видела: и брассом, и кролем, и сажёнками — ну, как ты только хочешь!
Ребята сводили меня на речку, и я с удовольствием увидела, что оба они стали хорошо плавать. Шура «выставлялся» передо мной как только мог: долго лежал на воде без движения, потом плыл, работая только одной рукой, потом — держа в руке «гранату». Для его десяти лет это было, по совести, совсем неплохо.
Потом были соревнования в беге, и Зоя пробежала расстояние в сто метров быстрее всех: она бежала легко, стремительно и как-то очень весело, словно это были не настоящие соревнования со строгим судьей и отчаянными болельщиками, а просто игра.
Минута наивысшего торжества настала для Шуры, когда стемнело.
— Шура! Космодемьянский! — раздался голос Вити Орлова.— Пора зажигать костер!
И я не успела оглянуться, как Шуру, только что сидевшего рядом, точно ветром сдуло.
83
Один из самых младших, Шура тем не менее был в лагере костровым. Разжигать костер его давно, еще в Гаях, научил отец, и он владел этим искусством в совершенстве: сучья находил самые сухие, укладывал их как-то особенно ловко, так что занимались они мгновенно и горели жарко и весело. Но небольшой костер, который Шура иногда разводил неподалеку от нашего дома, конечно, не мог сравниться с тем, который должен был вспыхнуть сейчас на большой лагерной площадке.
Шура весь ушел в работу. Тут уж он забыл и о моем приезде и обо всем на свете. Он таскал сучья, укладывал, готовил запас, чтоб был под рукой. И, когда совсем стемнело и ребята уселись вокруг, он, по знаку Вити, чиркнул спичкой. Тотчас послушно вспыхнули тонкие сухие ветки, по черному ломкому хворосту с неуловимой быстротой поползли огненные змейки — и вдруг, далеко отбрасывая обнимавшую нас темноту, вскинулось вверх ослепительно яркое пламя. Мне давно надо было уехать, почти никого из родителей уже не осталось в лагере, но Зоя крепко держала меня за руку, повторяя:
— Ну пожалуйста, останься! Подожди, посиди еще. Костер — это так хорошо! Вот сама увидишь. Ведь до станции близко, и дорога прямая. Мы тебя проводим всем звеном, нам Гриша позволит.
И я осталась. Я сидела вместе с детьми у костра и смотрела то на огонь, то на лица ребят, освещенные розовым отблеском смеющегося, неугомонного пламени.
— Ну, о чем сегодня поговорим? — сказал вожатый, которого все ребята называли просто Гришей.
И я сразу поняла: тут не готовят особой программы для костра, тут просто беседуют, разговаривают по душам, потому что когда же и поговорить, как не в этот тихий час, когда за плечами, чутко прислушиваясь, стоит прозрачная синь теплого летнего вечера, и нельзя отвести глаз от костра, и смотришь, смотришь, как наливаются расплавленным золотом угли и вновь тускнеют под пеплом, и летят, и гаснут несчетные искры...
— Я вот что думаю,— предложил Гриша,— давайте сегодня попросим Надиного отца рассказать нам...
Я не расслышала, о чем именно рассказать — последние слова Гриши заглушил хор голосов. «Да, да' Расскажите! Про¬
84
сим!» — неслось со всех сторон, и я поняла, что рассказчика ребята любят, его не раз слушали и готовы слушать еще и еще.
— Это отец Нади Васильевой,— быстро пояснила мне Зоя.— Он, мама, замечательный! Он в дивизии у Чапаева был. И Ленина слушал.
— Я уж столько вам рассказывал, надоело, наверно,— услышала я добродушный низкий голос.
— Нет, нет! Не надоело! Еще расскажите!
Надин отец придвинулся поближе к огню, и я увидела круглую бритую голову, загорелое широкое лицо и широкие, должно быть, очень сильные и добрые руки, и на гимнастерке — потускневший от времени орден Красного Знамени. Рыжеватые подстриженные усы не скрывали добродушной усмешки; глаза из- под густых выцветших бровей смотрели зорко и весело.
Он был из первых комсомольцев, Надин отец. Он слышал речь Ленина на Третьем съезде комсомола и, когда стал рассказывать об этом, вокруг стало так тихо, что был слышен малейший шорох, треск каждой ветки, рассыпавшейся в костре.
— Владимир Ильич нам не доклад читал. Он с нами разговаривал просто, как с друзьями. Он нас заставил подумать о том, что нам тогда и в голову не приходило. Как сейчас помню, спросил он: «Что сейчас самое главное?» И мы стали ждать ответа. Мы думали, он скажет: воевать! Разбить врага! Ведь двадцатый год был. Мы все были кто в шинелях, кто в бушлатах, с оружием в руках: одни — только что из боя, другие — завтра в бой! И вдруг он говорит: «Учиться! Самое главное — учиться!»
В голосе Надиного отца звучали и нежность и удивление, словно он снова переживал ту далекую минуту. Он рассказывал о том, как тогда взрослые, двадцатилетние люди сели за парту, взялись за букварь, чтобы выполнить наказ Ленина. Рассказывал
о том, как прост и скромен был Ильич, как дружески, тепло беседовал с делегатами, как умел разрешить простым и ясным словом самые недоуменные вопросы, осветить человеку самое заветное, зажечь, наполнить силой для самого трудного дела, раскрыть глаза на самое прекрасное — на грядущий день человечества, ради которого надо было и воевать, и учиться...
— Владимир Ильич говорил, что то поколение, которому сейчас пятнадцать лет, оно и увидит коммунистическое общество и
85
само будет строить это общество... И важно, чтобы каждый из вас постоянно, изо дня в день делал свое дело — пусть маленькое, пусть самое простое,— но чтобы это была часть общего великого дела...
...Не раз, глядя на своих ребят, я думала: как сложилась бы их жизнь прежде, в то глухое, темное время, когда росла я сама? С каким трудом давалось бы все, как тяжело было бы мне воспитывать детей! А теперь воспитываю их не одна я, мать: воспитывает все, что они видят и слышат вокруг. И кто знает, в какое пламя разгорится в будущем искра от этого лагерного костра? Какие чувства, какие стремления посеял сегодня вечером в сердцах ребят этот человек, знавший Чапаева, слушавший Ленина? Неторопливо он рассказывал обо всем, что припомнилось ему из далекого и славного прошлого, а потом вдруг сказал:
— А теперь давайте споем!
Ребята зашевелились, словно очнувшись, потом наперебой стали предлагать:
— «Юность»!
— Чапаевскую!
И вот полилась в темноту задумчивая мелодия песни, которую в те дни пели повсюду:
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала,
И непрерывно гром гремел...
Потом запели песню первых пионерских лет:
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы — пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионера — «Всегда будь готов!».
И еще и еще — песня за песней. Зоя тесно прижалась к моему плечу и изредка посматривала в лицо мне взглядом заговорщицы: «Не жалеешь, что осталась? Видишь, как хорошо!»
Незадолго до того, как ребятам надо было строиться на вечернюю линейку, Зоя потянула Шуру за руку:
— Пора! Идем...;
86
Зашептались и еще мальчики и девочки, сидевшие неподалеку, и тихо, по одному стали отходить от костра. Я тоже хотела подняться, но Зоя прошептала: «Нет, нет, ты сиди. Это только наше звено. Вот увидишь, что будет».
Немного погодя все ребята строем пошли на линейку. Я шла следом и вдруг услыхала:
— Вот молодцы! Кто это сделал? Как красиво!
Посреди линейки, у подножия мачты с флагом светилась большая пятиконечная звезда. Я не сразу поняла, как это сделано, но тут же услышала:
— Из светляков выложили. Видишь — зеленые огоньки!
Вожатые звеньев отдали рапорты: «День прошел спокойно!»
Флаг спустили, и горн протяжно запел: «Спа-а-ать, спа-ать по пала-аткам!»
Зоя и Шура подошли ко мне, лица у обоих сияли:
— Это наше звено придумало со звездой. Правда, красиво? Только знаешь, мамочка, Гриша говорит, чтобы мы тебя не провожали. Надин папа тоже идет на поезд, тебе с ним не страшно будет.
Я распрощалась с ними, и мы с Надиным отцом пошли на станцию. Огни ее видны были от самого лагеря, дорога и в самом деле прямая и короткая, и страшно мне действительно не было.
— Хороший народ! — сказал мой спутник.— Люблю с ними разговаривать, замечательно слушают...
Издали нас окликнул паровозный гудок, и мы ускорили шаги.
...Пламя лагерного костра потом освещало ребятам всю зиму. Нет-нет и снова вспомнится лагерь, беседа у огня, звезда из светляков. Эти воспоминания вспыхивали и в школьных тетрадках, в сочинениях на вольную тему.
«У костра хорошо думается,— писала Зоя в 1935 году в сочинении, которое называлось «Как я провела лето».— Хорошо у костра слушать рассказы, а потом петь песни. После костра еще больше понимаешь, как славно жить в лагере, и еще больше хочешь дружить с товарищами»,
ДНЕВНИКИ
Кто из нас в детстве не вел дневника! Вел его и девятилетний Шура. Но я никак не могла читать этот дневник без смеха. Обычно Шура писал так:
«Сегодня встал в восемь часов. Поел, попил и пошел на улицу. Подрался с Петькой». Или: «Сегодня встал, поел, попил и пошел гулять. Сегодня ни с кем не дрался». Разница была только в заключении: «Подрался с Петькой», «Подрался с Витькой», «Ни с кем не дрался». В остальном записи походили друг на друга как две капли воды.
Зоя относилась к дневнику добросовестно и серьезно, как ко всякому делу, за которое бралась: записывала часто и события излагала подробно. У меня сохранился ее дневник за весну и лето 1936 года.
Я уже говорила: на время летних каникул дети уезжали в пионерский лагерь. Им было там интересно и весело, но навещать их мне приходилось редко, и мы, как всегда, расставаясь, скучали друг без друга. И поэтому мечтали о том, как соберемся и поедем на лето к дедушке с бабушкой в Осиновые Гаи. Нас давно звали туда, и нам так хотелось провести лето всем вместе! В 1936 году наша мечта сбылась; думать о поездке в Гаи мы стали еще весной. Вот от этой поры и сохранилась у меня тонкая ученическая тетрадка — Зоин дневник.
«1 мая — праздник веселого счастья! Утром, полвосьмого, мама пошла на демонстрацию. Погода была солнечная, но дул ветер. Когда я проснулась, у меня было хорошее настроение. Быстро убралась, покушала и пошла к трамваю смотреть на демонстрантов, которые идут на Красную площадь. Целый день была на улице, ходила в магазин за конфетами, на поляне бегала и играла. Потом пошел дождь. Когда мама пришла с демонстрации, начался наш детский вечер. На нем раздавали подарки.
3 мая. Мама сегодня не работала, и я была очень рада. В школе по диктанту получила «хорошо». Но зато по литературе и арифметике — «отлично». Вообще день прошел хорошо.
12 мая. В девятом часу утра пошла в магазин за молоком и хлебом. Мама купила этажерку. В комнате сразу стало светло
88
и красиво. Этажерка сделана из прутиков, и она красивая. Она мне сразу понравилась.
Настроение у меня было странное, хотелось гулять по улице, бегать, шалить. Но вот к вечеру стали делить огород. Мне досталась земля под нашим окном. Я свой огород вспахала. И мечта моя: мама купит разных семян — цветочных и овощных, и тогда будет мой огород на славу!
24 мая. Завтра начнутся испытания. Было теплое, свежее утро. Мама сказала, что купить в магазине, и ушла на работу. Я встала, убрала всю комнату, но тут пришла мама: она быстро освободилась нынче. И мы пошли за молоком, потом за керосином. Мы любим ходить вместе за чем-нибудь. К полудню стало еще жарче. Нельзя было нигде сидеть — только в тени. Принесли мою «Пионерку», как я называю «Пионерскую правду».
Нет времени читать книги, но читать «Пионерку» я нахожу время. Сегодня в ней напечатано, что в Ростове открылся Дворец пионеров. Очень хороший. В самом лучшем здании. Там восемьдесят комнат — куда хочешь, туда и иди. Там есть игрушечная телефонная станция. А в другой комнате включишь рубильник — и два трамвая понесутся по кругу. Трамваи, конечно, игрушечные, но совсем как настоящие. И еще в «Пионерке» сказано, что скоро во дворце будет маленькое метро, как московское, но только маленькое. И тогда те ребята, которые никогда не были в Москве, все-таки смогут увидеть метро.
И, конечно, в «Пионерке» много про испытания. Написано: «Отвечайте спокойно, уверенно, четко!» Испытания! Испытания!.. Я только и думаю о них. Учу уроки и готовлюсь. Главное, не бояться учителя и ассистентов, которые будут присутствовать. И я сдам, непременно сдам испытания на «отлично» и не ниже «хорошо».
11 июня. Ой, сегодня нам скажут, кто как сдал испытания, выдадут табели и будут премировать...
Встала я в половине девятого и пошла на утренник. Все ребята чистенькие и нарядно одетые. И вот начался торжественный доклад нашего заведующего учебной частью. В зале тишина. На столе, покрытом красным полотнищем, лежат красивые книги. Их дадут отличникам. И вот вызывают меня: испытания я сдала по русскому и арифметике «отлично»* по естествознанию
89
и географии — «хорошо». У Шуры отметки тоже хорошие. Меня вызывают и дарят мне самую хорошую книгу — басни Крылова!
12 июня. В 10 часов 30 минут мы поехали в сад имени Зуева. Дождались автобуса и поехали. А приехав, пошли смотреть замечательный кинофильм «Родина зовет». Был у нас и спектакль. Потом мы гуляли по саду, катались с гор, ходили в библиотеку. Потом нас угостили пирожным, и мы поехали домой.
26 июня. С самого утра не хотелось ничего делать. Кое-как встала и принялась за дело. Мама работала за полночь и еще спала. Чтобы не мешать ей отдохнуть, мы с Шурой пошли гулять. Был ветер, но сильно грело солнышко. Вода в пруду была, как парное молоко, теплая, чистая и приятная. Искупавшись, мы вылезли на берег и стали сушиться на травке. После купанья нам захотелось чего-то кисленького, и мы пошли в сад. Там мы стали собирать маленькие кислушки-яблоки.
Вдруг часов в семь-восемь приехал Слава—наш двоюродный брат. Он на пять лет старше меня, но мы с ним дружим. Я показала ему басни И. Крылова, которые мне подарили в школе. И еще показывала ему папку с Шуриными рисунками. Он очень их хвалил.
Все дни я только и думаю о деревне. И наконец это сбылось.
2 июля. Весь вчерашний день прошел в приготовлениях, и мы даже не спали всю ночь. И вот в половине пятого утра мы (то есть я, Шура, Слава и мама) пошли к трамвайной остановке. Мне как-то было грустно, что с нами не едет мама, и в то же время весело, что я еду в деревню. Я ведь в ней не была пять лет!
На поезде мы ехали целые сутки. На станции сели на лошадь и поехали в Гаи (так называется наша деревня). Когда мы приехали, то Слава постучался в дверь, а дедушка сказал: «Входи уж!» Он думал, что это тракторист Васятка зашел в гости. У бабушки было колотье, но когда мы приехали, то она; была очень рада и боль перестала. Она нас кормила блинами и кислым и пресным молоком. После этого я ходила купаться, играла с девочками, а вечером в избе-читальне встретила свою давно знакомую и хорошую подругу Маню. День прошел хорошо: мы весело играли и дышали чистым воздухом. Легла спать в кухне на дедушкиной кровати.
90
7 июля. Я гуляю, бегаю, помогаю бабушке в работе. Мне приятно выполнять ее указания. Я хожу смотреть за курами на пшеницу, купаюсь три раза в день, хожу в библиотеку. Прочла много интересных книг: «Гулливер у лилипутов», «Ревизор» Гоголя, «Бежин луг» Тургенева и много других.
Бабушка нас очень вкусно кормит: яйцами, жареными цыплятами, блинами; на базаре мы покупаем огурцы, ягоды — смородину, вишню. Но бывают у нас и неприятности. Однажды (не помню какого числа) Шура потерял свою куртку. Ходили искать, да не нашли.
А иной раз пойду я на речку и опоздаю домой. И тогда бабушка сердится.
15 июля. Когда нет работы, то как-то скучно и тоскливо. Но здесь, в деревне, в особенности скучно без работы. И я решила еще больше помогать бабушке. Когда я встала, то мне в голову пришла мысль: мыть пол. Я с охотой вымыла его. Потом я сделала из красного шелка себе ленты. Вышли хорошие, не хуже моих голубеньких.
Весь день прошел хорошо, но вечером была сильная гроза с мелким дождем. То и дело на небе показывалась сверкающая полоса — молния. Гроза пугает животных: наша маленькая козочка отбилась от стада, и ее насилу нашла бабушка на чужом огороде. Сегодня писала письма в Москву: маме и своей подруге Ире.
23 июля. Сегодня смотрю — по пшенице (которая посажена ва выгоне) идет Нина (двоюродная сестра) с братом Леликом и мамой.
Они живут не очень далеко — в деревне Вельможке (36 километров от Гаев). Я и все мы были очень обрадованы их приездом.
26 июля. Когда приехала Нина, то я очень была рада. Мы вместе играли, беседовали, читали книги, веселились. Бабушка дала нам шашки и лото, и мы с увлечением играли. Но сегодпя я с Ниной не поладила. Но потом мы помирились, и я решила никогда больше с ней не ссориться.
30 июля. Мы спали в сенях. Когда бабушка подошла и разбудила нас с Шурой, мы сразу вспомнили, что будем прощаться с Ниной, Леликом, тетей Аней. Они уезжали в Вельможку.
91
Подъехала телега. Солнце медленно опускало свои ясные лучи на просыпавшуюся землю.
Мы попрощались, и они уехали. Мне очень жалко, что они уехали.
Днем помогала бабушке кое-какие дела делать: гладила белье, ходила за водой и другое.
31 июля. Полдень. Очень жарко. Про жару ходят даже такие слухи: как будто бы в воскресенье будет вода в речке кипеть.
Начинает спадать жара, вечереет. Я иду за козами. Их пять: Майка, Черноморка, Барон, Зорька, а одна без имени — просто коза.
Бабушка их доит. Я отношу молоко в погреб. Мы ложимся спать.
1 августа. Косички у меня совершенно маленькие. Но с тех пор как я сюда приехала, бабушка стала мне их крепко заплетать, и опи стали понемногу расти. Бабушка у меня очень добрая.
К вечеру нам пришло письмо от мамочки. Она пишет, что больна. И, может, приедет сюда. Мне ее очень жалко, что она болеет. Отпуск у нее с 15 августа, и тогда она приедет к нам!
2 августа. На этот раз бабушка меня оставила за хозяйку. Она истопила печку и ушла. Я и нахозяйничала. Бабушка сварила лапшу и велела накрошить в нее яйца. Я хотела поставить чугунок с лапшой на скамью. Чугунок поставила на рогач, он у меня перевернулся, и лапша моя полетела! Я скорей притерла пол и заварила новую лапшу. К вечеру мы с бабушкой ходили купаться. Ходили слухи, что сегодня будет жара и вода в речко будет кипеть. Но это неправда. День был очень жаркий, но вода в речке не кипела.
5 августа. Сегодня я помогала бабушке: мыла пол, окна, скамейки. Гладила и катала белье. Я очень беспокоюсь о маме.
11 августа. Дождей здесь очень мало. Как бы не сгорел урожай! У бабушки на огороде растут огурцы, тыквы, дыни, капуста, табак, помидоры и конопля. На выгоне — картофель, опять же тыква, помидоры. Своих подсолнечников нет. Бабушка не знала, что мы приедем, и не сажала. Очень жарко. Сильный, горячий ветер тащит пыль и хлещет в глаза.
13 августа. Мы было уже собрались чай пить, как пришло
.92
письмо от мамы. Она пишет, что приедет в субботу, то есть завтра вечером... Когда мы прочли письмо, то были очень-очень рады. Она приедет сюда и хоть немного, но отдохнет. Дедушка уехал в Тамбов.
15 августа. Рано утром в дверь тихонько постучали. Я, и Шура, и бабушка сразу вскочили — это приехала мама. Какова была наша радость! Бабушка стала печь блины, а мама привезла гостинцы. Тетя Оля сама не могла приехать, но тоже много прислала.
17 августа. Мы пошли с мамой и Шурой в огород и сорвали там тыкву и семь маленьких (в кулак) дынь. Из тыквы бабушка сделала кашу и насушила тыквенных зерен.
К вечеру мы с Шурой и мамой ходили купаться. Как здесь хорошо! А с мамой — втрое!
19 августа. Прошел дождик. Бабушка дала мне разные лоскутки, и я хочу сделать себе одеяльце.
22 августа. Утро было пасмурное. Я и Шура что-то раскапризничались. И решили, что больше сердить маму не будем.
24 августа. Когда я утром встала, мне бабушка подарила старинную расписную коробочку, а дедушка — свою карточку. Этим подаркам я была очень рада. Они мне будут на память.
Думаем о Москве».
„БЕЛАЯ ПАЛОЧКА"
Да, это было славное лето — такое светлое, беззаботное! Зоя и Шура теперь были уже совсем большие, но, как и пять лет назад, когда я приехала за ними из Москвы, они ходили за мной по пятам, словно боялись, что я могу вдруг исчезнуть или убежать от них.
Время, которое я пробыла с ними, слилось для меня в один долгий счастливый день, в котором ничего в отдельности не различишь. И только один случай я помню отчетливо и ясно, словно это было вчера.
То ли Слава научил ребят этой игре, то ли они прочли о ней в «Пионерской правде»* но только увлеклись они ею необычайно.
93
Называлась опа «белая палочка». Играть в эту игру надо было вечером, когда смеркалось настолько, что темные предметы сливались с землей и глаз различал только светлое или блестящее. Ребята -*• мои и соседские — разбивались на две команды и выбирали судью. Судья — он же и метальщик — кидал как можно дальше белую палочку, и все участники игры устремлялись на поиски ее. Кто найдет, сразу бежит отдавать судье. Но сделать это надо было хитро, незаметно, чтобы не увидел противник. Игрок передавал свою находку товарищу по команде, тот — другому, чтобы запутать след и не дать противнику догадаться, у кого палочка. Если удастся передать палочку судье незаметно, команда получает два очка. Если противник заметит нашедшего и осалит его, тогда у каждой команды по очку. Играли до тех пор, пока одна из команд не набирала десять очков.
Зоя и Шура страшно увлекались этой игрой и просто уши мне прожужжали, уверяя, что она необыкновенно интересная. А Слава добавлял: «И полезная. Приучает к дружбе. Чтоб не каждый за себя, а один за всех и все за одного».
Шура часто бывал судьей: у него была сильная рука, и он метал палочку далеко и ловко — так, что найти ее было нелегко. Однажды вызвалась метать палочку Зоя.
— Это не девчонское дело! — сказал кто-то из мальчиков.
— Не девчонское? А вот дай попробую!
Зоя схватила палочку, размахнулась, кинула... и палочка упала совсем близко. Зоя вспыхнула, закусила губу и пошла домой.
— Ты что же ушла? — спросил у нее Слава, когда они с Шурой вернулись после игры.
Зоя молчала.
— Обиделась? Зря. Раз не можешь метать, пускай другой будет судьей, кто метать умеет. А ты играй со всеми. Обижаться нечего. Самолюбие хорошо в меру, а если чересчур — плохо.
Зоя опять не ответила, но на следующий вечер присоединилась к играющим как ни в чем не бывало. Ребята ее любили, и никто не напомнил о вчерашнем.
Я уже и забыла об этом происшествии, но однажды Слава вошел в избу и поманил меня за собой. Мы обогнули дом2 прошли подальше, за палисадник.
94
— Посмотри-ка, тетя Люба,— шепнул Слава.
Поодаль спиной к нам стояла Зоя. Я не сразу поняла, что она делает: она замахнулась, кинула что-то, побежала поднимать. Подняла, вернулась на прежнее место и снова кинула. Тут я разглядела: это был небольшой деревянный брусок. Мы стояли за деревом, и Зоя не видела нас, а мы довольно долго молча смотрели, как неутомимо она кидает брусок, бежит, поднимает и снова размахивается. Сначала она делала взмах только рукой. Потом стала откидываться и подаваться вперед всем телом, словно сама летела вслед за бруском,— и забрасывала его все дальше и дальше.
Мы со Славой тихонько ушли, а вскоре вернулась домой и Зоя. Она раскраснелась, капельки пота блестели у нее на лбу. Зоя умылась и принялась за шитье: она мастерила тогда из лоскутков одеяло. Мы со Славой переглянулись, и он засмеялся. Зоя подняла глаза:
— Чего ты?
Но Слава не стал объяснять.
Еще два дня кряду я выходила из дому в один и тот же час и смотрела, как Зоя кидает то камень, то палку. А дней десять спустя, уже незадолго до отъезда, я услышала, как Зоя предлагает собравшимся около нашего крыльца ребятам:
— Давайте в «белую палочку»! Чур, я судья!
— Опять за свое? — удивился Шура.
Но Зоя без слов размахнулась, кинула — вокруг только ахнули: палка мелькнула в воздухе и упала где-то очень далеко.
— Вот зелье-девчонка! — сказал за ужином дедушка.— Ну что тебе далась эта палка? Ведь не ради дела, а ради спора?
Зоя хотела ответить, но бабушка опередила ее:
— Есть присловье: «Уж что ни будет, а поставлю на своем!» — и добавила с улыбкой: — А мне это по сердцу. Не стерпела душа, на простор пошла — правда, внучка?
Зоя уткнулась в тарелку, помолчала и вдруг, улыбнувшись, ответила тоже присловьем (недаром она была внучкой Мавры Михайловны!):
— Крут бережок, да рыбка хороша!
И все за столом засмеялись.
„ОВОД“
Весна. Порою налетает теплый ветер, полный запаха свежести и влажной земли. Хорошо подышать весной! Я раньше времени выхожу из душного трамвая — до дому недалеко, дойду пешком.
Не только меня радует весна: чаще видишь улыбку на лицах встречных, ярче глаза, громче, оживленнее звучат голоса.
— ...у Кордовы республиканцы успешно наступают,— ловлю я обрывок фразы.
— А в провинции Эстремадура...
Да, Испания сейчас у всех в сердце и на устах, мысль о ней владеет нами.
Крылатые слова Долорес Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» — облетели весь мир, запали в душу каждому честному человеку.
Поутру, едва проснувшись, Зоя бежит к почтовому ящику за газетой: что сегодня на фронтах Испании?
А Шура?.. Неполные тринадцать лет — вот что мучает его, вот что не дает сейчас же, немедля, оказаться под Мадридом. Каждый вечер он возвращается к этому разговору: то он прочитал в газете о девочке, которая храбро сражается в рядах республиканцев, то слышал по радио об испанском юноше, которого родные пе отпускали на фронт, а он все-таки пошел.
— ...и таким молодцом оказался! Один раз фашистский снаряд разорвал их окоп и разбил противотанковую пушку. А этот парень — Эмутерио Корнехо его зовут — схватил гранату и как выскочит из окопа! Побежал навстречу танкам и как кинет гранату в танк!.. Она разорвалась под гусеницей, танк так и завертелся на одном месте! Тут другие подтащили ящик с гранатами. Корнехо стал кидать одну за другой. Смотрят— второй танк свалился набок, потом третий, а остальные повернули обратно. Вот видите! А уж, кажется, страшнее танка ничего нет.
— Сколько же лет этому Корнехо? — спрашиваю я.
— Семнадцать,— отвечает Шура.
— А тебе?
С моей стороны жестоко задавать такой вопрос. Шура молча вздыхает...
96
— Мама! — выводит меня из раздумья звонкий голос совсем рядом.— Почему так поздно? Мы заждались!
— Разве поздно? Я обещала в семь.
— А теперь без десяти восемь. Я уж начала беспокоиться.
Зоя берет меня под руку и примеряется, чтобы попасть в ногу. Мы идем рядом. Она очень выросла за последние два года; скоро, очень скоро она будет одного роста со мной. Иногда мне даже странно, что у меня такая взрослая дочь. Юбка ей уже коротка, и вышитая блузка тоже становится мала; пора подумать о новом...
С 1931 года, с тех пор как я привезла ребят в Москву, мы почти не разлучались. Даже ненадолго уходя из дому, каждый из нас непременно говорил, куда идет и когда вернется. Пообещав прийти с работы не позже восьми, я стараюсь сдержать слово. Если меня что-нибудь задерживает, Зоя начинает беспокоиться, выходит мне навстречу к трамвайной остановке и ждет — вот как сегодня.
Если Шура, придя домой, не заставал сестру, то его первый вопрос был:
— А где Зоя? Куда ушла? Почему ее так долго нет?
— Где Шура? — спрашивала Зоя, едва переступив порог комнаты.
И я, когда случалось прийти домой раньше детей, чувствовала себя странно и неприютно, пока не раздавались на лестнице знакомые шаги. А весной иной раз становилась у открытого окна и ждала... Словно сейчас вижу: вот они идут, почти всегда вместе, о чем-то горячо разговаривая,— и сразу тепло становится у меня на сердце...
...Зоя мягко отнимает у меня портфель и сумку:
— Ты устала, давай я понесу.
Мы идем медленно, радуясь славному весеннему вечеру, и рассказываем друг другу обо всем, что случилось за день.
— Ты читала? Испанских ребятишек привезли в Артек,— говорит Зоя.— Фашисты чуть не потопили пароход, на котором они ехали. Вот бы посмотреть на этих ребят!.. Подумай, после бомбежки, после всего — оказаться вдруг в Артеке! А там хорошо сейчас? Не холодно?
г— Нет, в апреле на юге уже совсем тепло. Розы цветут. Да
97
посмотри на себя: ты и в Москве ухитрилась загореть, нос-то лупится.
— Так ведь мы уже начали сажать вокруг школы сад. Полдня на воздухе — вот и загорела. Знаешь, каждый должен посадить дерево. Я, пожалуй, посажу тополь — люблю, когда тополевый снег идет. И запах у тополя славный, правда? Свежий- свежий и немножко горький... Ну, вот мы и дома! Скорей умывайся, я сейчас подогрею обед.
Я умываюсь, но, и не глядя, знаю, что делает Зоя. Она зажигает керосинку, чтобы подогреть суп, бесшумно ходит в своих тапочках по комнате, быстро и ловко накрывая на стол. В комнате — чистота, недавно вымыт пол, пахнет свежестью. На окне, в высоком стакане, две веточки вербы, на которой словно уснули серебристые мохнатые шмели.
Чистота и уют в нашем доме — дело Зоиных рук.
На ней лежит все хозяйство: уборка, покупка продуктов. Зимой она еще и печь топит. У Шуры тоже есть кое-какие обязанности: он носит воду, колет дрова и ходит за керосином. Но «мелочами» он не занимается; как многие мальчики, он берется только за «мужские» дела и убежден, что полы подметать и по магазинам бегать ему не к лицу: «Это может каждая девчонка».
А вот и он!
Дверь не просто открывается — она с треском распахивается, и на пороге — Шура: румянец во всю щеку, руки по локоть в грязи, под глазом, увы, опять синяк.
— Была игра! — весело объясняет он.—Добрый вечер, мама! Уже умылась? Вот твой стул. Сейчас и я умоюсь.
Он долго плещется, фыркает и одновременно рассказывает
о футболе с таким увлечением, словно, кроме футбола, ничего на свете не существует.
— А перевод с немецкого когда будет? — спрашивала Зоя.
— Поем — переведу.
Я принимаюсь за свой поздний обед, дети ужинают. Сейчас все разговоры о том, каков будет школьный сад. Я слушаю и понимаю: ребята готовы посадить вокруг своей школы все деревья, какие им только известны.
— Почему ты говоришь* что пальма не будет расти? Вот я
93
в «Огоньке» видел фото: пальмы, а кругом снег. Значит, они отлично переносят холод.
— Что же ты сравниваешь крымскую зиму и нашу,—спокойно возражает Зоя. Потом поворачивается ко мне: — Мама, а ты мне что-нибудь почитать принесла?
Я молча достала из портфеля «Овод». Зоя краснеет от удовольствия.
— Вот спасибо! — говорит она и, не в силах удержаться, начинает бережно перелистывать книгу, но тут же откладывает в сторону.
Потом быстро убирает со стола, перемывает посуду и садится за уроки.
Рядом с нею, вздохнув и поворчав немного («Завтра с утра времени нет, что ли!»), усаживается Шура.
Зоя начинает с того, что ей дается труднее всего,— с математики. Шура открывает учебник немецкого языка, оставляя задачи напоследок: они ему даются легко.
Через полчаса Шура захлопывает учебник и с громом отодвигает стул:
— Кончил! А задачки — завтра утром.
Зоя даже не поворачивает головы. Она вся ушла в работу. Рядом лежит «Овод» — книга, которую она давно уже просила меня принести, но я знаю: пока Зоя не покончит с уроками, читать она не станет.
— Дай-ка я посмотрю твой перевод, Шура,— говорю я.— Так... Это разве дательный падеж? Взгляни-ка сюда.
Да... соврал.
— Ну вот... А тут йадо не «и», а «и». И вот еще: Garten ведь существительное, почему же с маленькой буквы? Три ошибки. Садись, пожалуйста, и перепиши все заново.
Шура со вздохом выглядывает из окошка: на крыльце сидят его приятели и ждут, не выйдет ли он. Время не такое позднее, еще можно бы разок сыграть... Но факты — вещь упрямая: три ошибки... с этим не поспоришь! И Шура со вздохом снова садится к столу.
...Ночью я просыпаюсь со смутным ощущением: в комнате что-то не так, как всегда. Так и есть: зажжена и прикрыта газетой настольная лампа; Зоя, подперев кулаками щеки, склони¬
99
лась над «Оводом». И щеки, и руки, и, кажется, страница мокры от слез.
Почувствовав мой взгляд, она поднимает глаза и молча улыбается сквозь слезы. Мы ничего не говорим друг другу, но обе вспоминаем тот день, когда Зоя с укором сказала мне: «Большая, а плачешь!»
ДЕВОЧКА В РОЗОВОМ
По-весеннему яркое небо, на фоне его — голые черные ветви и скворечник... Больше ничего нет на этой картинке, но я долго смотрю на нее, и где-то внутри горячей волной поднимается радость и надежда. Тут не просто нарисованы дерево, небо, скворечник — тут есть главное, без чего невозможна живопись: настроение, мысль, умение видеть природу и понимать ее.
А вот другой рисунок: мчатся кони, воинственно вскинуты шашки в руках лихих кавалеристов. Тут всё в стремительном, жарком движении... Вот снова пейзаж: знакомый заросший прудик в Тимирязевском парке. А вот Осиновые Гаи — высокая, сочная трава на прибрежном лугу и серебряная рябь нашей маленькой веселой речки...
Ребят нет, я одна дома, и на коленях у меня пухлая папка с Шуриными рисунками.
Шура с каждым годом рисует все лучше. Мы часто бываем в Третьяковской галерее: мне хочется, чтобы он не только учился рисовать, но знал и понимал живопись. Памятно мне наше первое посещение Третьяковки. Мы медленно переходили из зала в зал. Я пересказывала детям исторические сюжеты, мифы, вдохновлявшие художников. Ребята слушали, без конца задавали вопросы. Все им нравилось, все удивляло их. Зою поразило, что Врубелева гадалка не сводит с нее глаз, куда бы она ни отошла. Огромные черные глаза, нерадостные и знающие, провожали нас неотступным взглядом.
Потом мы попали в зал Серова. Шура подошел к «Девочке с персиками» — и застыл. Темноволосая девочка с нежным румянцем на щеках задумчиво смотрела на нас. Так спокойно лежали на белой скатерти ее руки. Позади нее за окном угадьь
100
вался огромный тенистый сад со столетними липами, с заросшими дорожками, уводящими бог весть в какую глушь... Мы долго молча стояли и смотрели. Наконец я легонько тронула Шуру за плечо.
— Пойдем,— тихо сказала я.
— Еще немножко,— так же тихо ответил он.
Иногда с ним так бывало: если что-нибудь глубоко и сильно поражало его, он словно весь замирал и не мог двинуться с места. Так было когда-то в Сибири, когда четырехлетний Шура впервые увидел настоящий лес. Так было и теперь. Я стояла рядом с сыном, смотрела на спокойную, задумчивую девочку в розовом и думала: что так поразило Шуру? Его рисунки всегда полны движения и шума — если можно сказать, что кисть и карандаш передают шум: скачут кони, мчатся поезда, стремительно проносятся в небе самолеты. И сам Шура — озорник, страстный футболист, любитель побегать и покричать. Что пленило его в девочке Серова, в этой картине, где стоит такая светлая и недвижимая тишина? Почему он застыл перед нею, такой присмиревший, каким я его давно не видела?..
В тот день мы больше ничего не стали смотреть. Мы пошли домой, и Шура всю дорогу расспрашивал: когда жил Серов? Рано ли он начал рисовать? Кто его учил? Репин? Тот, который написал «Запорожцев»?
Это было давно, Шуре едва исполнилось десять лет. С тех пор мы не раз бывали в Третьяковской галерее, видели и другие картины Серова, видели и Сурикова: угрюмого Меншикова в Березове, вдохновенного Суворова, боярышо Морозову, светлые, задушевные пейзажи Левитана — словом, все, что только там есть. Но именно после первого знакомства с серовской девочкой в рисунках Шуры появился пейзаж, и тогда же он в первый раз попытался нарисовать Зою.
— Посиди, пожалуйста,— непривычно мягко просил он сестру.— Я попробую тебя нарисовать.
Зоя сидела подолгу, терпеливо, почти не шевелясь. И даже в тех первых портретах, сделанных еще неумелой рукой, было сходство — правда, едва уловимое, неясное, а все-таки с листа смотрели несомненно Зоины глаза: пристальные, серьезные, вдумчивые...
101
И вот я перебираю Шурины рисунки. Кем же он станет, когда вырастет?
Шура, бесспорно, прекрасный математик, он унаследовал от отца любовь к технике, и у него ловкие и быстрые, действительно золотые руки: он все умеет, за что ни возьмется,— все у него спорится. Меня не удивляет, что ему хочется быть инженером. Он все свои карманные деньги тратит на журнал «Наука и техника» и не только прочитывает каждый номер, но постоянно мастерит что-нибудь по совету журнала.
Работает Шура всегда горячо, с душой. Как-то я зашла к ним в школу взглянуть на сад. Работа была в разгаре: вскапывали землю, сажали кусты и молодые деревца, воздух звенел от громких ребячьих голосов. Зоя, раскрасневшаяся, с растрепавшимися волосами, на секунду опустила лопату и издали помахала мне рукой. Шура в паре с мальчуганом постарше тащил носилки. Трудно было представить себе, как умещается на этих носилках такая груда земли!
— Осторожнее, Космодемьянский, надорвешься! — крикнула ему вслед высокая белокурая девушка, по виду несомненно спортсменка.
И я слышала, как Шура, замедлив шаг, весело ответил:
— Ну нет! Мне еще дед говорил: когда работаешь на совесть, не надорвешься. Работа сутулит, когда ее боишься, а если сил пе жалеть — еще сильнее станешь!
В тот день, за ужином, он сказал не то шутя, не то серьезно:
— Мам, а может, мне после школы в Тимирязевку пойти? Сады буду сажать, в земле копаться. Как ты думаешь?
Кроме того, Шуре хочется быть спортсменом-профессиона- лом. Зимой они с Зоей катаются на коньках, ходят на лыжах, летом купаются в Тимирязевском пруду.
Шура — богатырь: в тринадцать лет он выглядит пятнадцатилетним. Зимой он натирается снегом, купаться начинает весною раньше всех, а кончает поздней осенью, когда самых отважных купальщиков дрожь пробирает при взгляде на воду. А о футболе и говорить нечего: из-за футбола Шура готов забыть и о еде и об уроках.
И все же... все же, кажется, больше всего Шура хочет быть художником. В последнее время он каждую свободную минуту
102
отдает рисованию, Из библиотеки приносит и меня просит приносить биографии Репина, Серова, Сурикова, Левитана.
— Знаешь,— с уважением говорит он,— Репин с девяти лет рисовал каждый день, за всю жизнь ни разу не пропустил! Ты только подумай: каждый день! А когда у него заболела левая рука и он не мог держать палитру, он привязал ее к себе и все- таки работал. Вот это я понимаю!
...Я перебираю Шурины рисунки и узнаю то нашу любимую скамейку в парке, то куст боярышника, растущий неподалеку от нашего дома,— под ним Шура любит лежать в жаркие летние вечера. Вот наше крыльцо, где он допоздна засиживается с товарищами после игры, а вот и лужок — их футбольное поле.
Сейчас Шура все время рисует Испанию: неслыханной голубизны небо, серебристые оливы, рыжие горы, обожженная солнцем земля, изрытая траншеями, истерзанная взрывами, залитая жаркой кровью республиканских бойцов... Мне кажется, когда зимой в Третьяковке открылась выставка Сурикова, Шура бегал туда несколько раз еще и ради испанских акварелей: словно Суриков стал ближе ему потому, что путешествовал по Испании, видел и рисовал эту далекую землю.
А это что?.. Фасад высокого здания со множеством окоп кажется мне знакомым. Да это 201-я школа! А вокруг — будущий сад: березы, клены, дубы и... пальмы!
ПАРИ
Зоя и Шура становились уже совсем большими. Но иногда, напротив, они казались мне совсем маленькими.
...Я быстро уснула в тот вечер и проснулась вдруг, как от толчка: мне послышалось, будто кто-то целыми пригоршнями кидает в стекло мелкие камешки. Это дождь так и хлестал в окно, так и барабанил по стеклу. Я села на кровати и увидела, что Шура тоже не спит.
— Где Зоя? — спросили мы оба разом.
Зоина кровать была пуста. Но тут же, словно в ответ нам, на лестнице послышались приглушенные голоса и смех, и дверь
103
пашей комнаты тихо отворилась: на пороге стояли Зоя и Ира — ее сверстница, жившая в маленьком домике по соседству.
— Где вы были? Откуда вы?
Зоя молча сняла пальто, повесила его и принялась стаскивать разбухшие, насквозь мокрые туфли.
— Да где вы были? — взорвался Шура.
И тогда Ира, взволнованная до того, что, даже когда она смеялась, по щекам ее текли слезы, стала рассказывать.
Часов в десять вечера к ней в окно постучала Зоя. И когда Ира вышла, Зоя сообщила ей, что поспорила с девочками. Они уверяли, что Зоя в такой темный осенний вечер побоится пройти через весь Тимирязевский парк, а Зоя утверждала: «Не побоюсь». И они заключили пари: девочки поедут на трамвае до остановки «Тимирязевская академия», а Зоя пойдет туда пешком. «Я буду делать на деревьях заметки»,— сказала Зоя. «Мы тебе и так верим»,— ответили девочки. Но в последнюю минуту они сами испугались и стали уговаривать Зою отменить пари: очень холодно и темно было на улице, и уже начинался дождь.
— ...Но она только больше раззадорилась,— смеясь и плача, рассказывала Ира.— И пошла. А мы поехали на трамвае. Ждем, а ее нет и нет. А потом смотрим — она идет... и смеется...
Я с удивлением смотрела на Зою. Она все так же молча развешивала у печки мокрые чулки.
— Ну, знаешь, не ждала я от тебя этого,—сказала я.—Такая большая и такая...
— ...глупая? — улыбаясь, докончила Зоя.
— Да, уж извини, но, конечно, это не слишком умно!
— Если б еще это сделал я, тогда понятно,— вырвалось у Шуры.
— Так ведь она и обратно хотела пешком,— пожаловалась Ира.— Насилу мы ее уговорили, чтоб ехала с нами на трамвае.
— Да раздевайся же, Ира! — опомнилась я.—Грейся скорей, ты тоже совсем промокла!
— Нет, я домой... там мама тоже будет сердиться...— призналась Ира.
Оставшись одни, мы некоторое время молчали. Зоя весело улыбалась, но разговора не начинала, а спокойно сушилась и грелась у печки.
104
— Ладно, пари ты выиграла,— сказал наконец Шура.— А что же тебе за это полагается?
— Ой, я об этом и не подумала! — отозвалась Зоя.— Мы просто поспорили, а на что — не условились...— И на лице ее отразилось искреннее огорчение.
— Эх, ты! — воскликнул Шура.— Хоть бы обо мне подумала: дескать, если я выиграю, гоните Шурке новый футбольный мяч. Нет того, чтобы о родном брате позаботиться! — Он укоризненно покачал головой. Потом добавил серьезно: — А все- таки я от тебя этого не ожидал. С чего ты стала таким способом доказывать свою храбрость? Даже я понимаю, что это неправильно.
— А я, думаешь, не понимаю? — сказала Зоя.— Но только мне очень хотелось попугать девочек: шла-то по лесу я, а боя- лись-то ведь они!
Она засмеялась, и мы с Шурой поневоле присоединились к ней.
ТАТЬЯНА СОЛОМАХА
Очень рано я стала решать наши денежные дела сообща с детьми.
Помню, в 1937 году мы завели сберегательную книжку и торжественно положили на нее первые семьдесят пять рублей. Всякий раз, когда к концу месяца удавалось сэкономить немного денег, Зоя относила их в сберкассу, даже если сумма была невелика: пятнадцать — двадцать рублей.
Сейчас у нас появилась еще одна статья расхода: в банке существует счет № 159782, на него граждане СССР пересылают деньги, собранные для женщин и детей республиканской Испании. Делаем это и мы. Мысль эта принадлежит не мне, ее первым высказал Шура:
— Мы с Зоей можем меньше тратить на завтрак.
— Нет,— сказала я,— завтрак трогать не будем. А вот не пойти разок-другой на футбол — это даже полезно...
Потом мы составляем список самых необходимых вещей:
105
у Зои нет варежек, у Шуры совсем развалились башмаки, у меня порвались галоши. Кроме того, у Шуры кончились краски, а Зое нужны нитки для вышиванья. Тут случается и поспорить: ребята всегда настаивают на том, чтобы прежде всего покупалось то, что нужно мне.
Но самая любимая статья наших расходов книги.
Какое это удовольствие — прийти в книжный магазин, порыться в том, что лежит на прилавке, потом издали, привставая на цыпочки и наклоняя голову набок, чтоб было удобнее, читать названия на корешках книг, вплотную уставивших полки, потом долго листать, советоваться... и возвратиться домой с аккуратно перевязанным тяжелым пакетиком! День, когда наша этажерка (она стояла в углу, у изголовья Зоиной кровати) украшалась новой книжкой, был у нас праздничным, мы снова и снова заговаривали о своей покупке. Читали новую книгу по очереди, а иногда по воскресным вечерам и вслух.
Одной из таких сообща прочитанных книг был сборник очерков, назывался он «Женщина в гражданской войне». Помню, я сидела и штопала чулки, Шура рисовал, а Зоя раскрыла книгу, собираясь читать. Неожиданно Шура сказал:
— Знаешь, ты не читай подряд.
— А как же? — удивилась Зоя.
— Да так: ты открой наугад; какой откроется, с того и начнем.
Право, не знаю, почему это ему пришло в голову, но так и порешили. Первым открылся очерк «Татьяна Соломаха».
Помнится, там были отрывки из трех тетрадей: сначала
о сельской учительнице Татьяне Соломахе рассказывал ее брат, потом — ученик и, наконец,— младшая сестренка.
Брат рассказывал о детстве Тани, о том, как она росла, училась, как любила читать. Тут было место, дойдя до которого Зоя на секунду остановилась и взглянула на меня: строки о том, как Таня прочла вслух «Овод». Поздно ночью Таня дочитала книгу и сказала брату: «А ты думаешь, я не знаю, зачем живу?.. Мне кажется, что я по каплям отдала бы всю свою кровь, только чтоб людям жилось лучше».
Кончив гимназию, Таня стала учительствовать в кубанской станице. Перед революцией она вступила в подпольную болыне-
106
вистскую организацию, а во время гражданской войны — в красногвардейский отряд.
В ноябре 1918 года белые ворвались в село Козьминское, где в тифу лежала Таня. Больную девушку бросили в тюрьму и пытали, в надежде, что она выдаст товарищей.
Гриша Половинко писал о том, как он и другие ребята, которые учились у Тани в школе, побежали к тюрьме — им хотелось увидеть свою учительницу, чем-нибудь помочь ей. Они видели, как избитую, окровавленную Таню вывели во двор и поставили у стены. Мальчика поразило ее спокойное лицо: в нем не было ни страха, ни мольбы о пощаде, ни даже боли от только что перенесенных истязаний. Широко открытые глаза внимательно оглядывали собравшуюся толпу.
Вдруг она подняла руку и громко, отчетливо сказала:
— Вы можете сколько угодно избивать меня, вы можете убить меня, но Советы не умерли — Советы живы. Они вернутся.
Урядник ударил Таню шомполом и рассек плечо, пьяные казаки стали избивать ее ногами и прикладами. «Я тебя еще заставлю милости просить!» — кричал ей палач-урядник, и Таня, Еытирая струившуюся по лицу кровь, ответила: «А ты не жди: у вас просить я ничего не буду».
И Зоя читала дальше: о том, как снова и снова, день за днем пытали Таню. Белые мстили ей за то, что она не кричала, не просила пощады, а смело смотрела в лицо палачам...
Зоя положила книгу, отошла к окну и долго стояла не оборачиваясь. Она редко плакала и не любила, чтобы видели ее слезы.
Шура, давно уже отложивший свой альбом и краски, взял книгу и стал читать дальше. Рая Соломаха рассказывала о гибели сестры:
«Вот что я узнала о ее смерти.
На рассвете 7 ноября казаки ввалились в тюрьму.
Арестованных начали прикладами выгонять из камеры. Таня у двери обернулась назад, к тем, кто оставался.
— Прощайте, товарищи! — раздался ее звонкий, спокойный голос.— Пусть эта кровь на стенах не пропадет даром! Скоро придут Советы!
В раннее морозное утро белые за выгоном порубили восемнадцать товарищей. Последней была Таня...
107
Верная своему слову, она не просила пощады у палачей».
Помню: сила и чистота, которой дышал облик Тани, заставили в тот вечер плакать не одну только Зою.
ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
Как-то вечером нас навестил мой брат. Напившись чаю и поболтав с ребятами, которые всегда от души радовались ему, он вдруг примолк, потянулся за своим объемистым, туго набитым портфелем и многозначительно посмотрел на нас. Мы сразу поняли: это неспроста.
— Что у тебя там, дядя Сережа? — спросила Зоя.
Он ответил не сразу: заговорщицки подмигнув ей, не спеша открыл портфель, достал пачку чертежей и стал перебирать их. Мы терпеливо ждали.
— Вот чертежи,— сказал наконец Сергей.— Их надо скопировать. У тебя, Шура, какая отметка по черчению?
— У него «отлично»,— ответила Зоя.
— Так вот, брат Шура, получай работу. Дело хорошее, мужское, семье поможешь. Вот тебе готовальня. Это моя, старая, она мне еще в институтские годы послужила, но работает хорошо, все в исправности. Тушь, надо полагать, у тебя есть?
— И калька есть,— вставила Зоя.
— Вот и превосходно! Подите-ка поближе, я объясню, что к чему. Работа несложная, но требует большой точности и аккуратности, зевать и мазать тут не приходится.
Зоя подсела к дяде. Шура, стоявший у печки, не тронулся с места и не произнес ни слова. Сергей мельком покосился па него и, склонившись над чертежами, стал давать объяснения.
Я, как и брат, сразу поняла, в чем дело.
Одна черта в характере Шуры всегда очень беспокоила меня: необычайное упрямство. Например, Шура любит музыку, у него хороший слух, и он давно уже играет на отцовской гитаре. Случается ему, конечно, и не уловить сразу какую-нибудь мелодию. Скажешь ему: «Ты тут фальшивишь, это не так поется, вот как надо». Шура выслушает, преспокойно ответит: «А мне так больше нравится»,— и продолжает играть по-своему.
108
Он прекрасно знает, что я права, и в следующий раз возьмет верную ноту, но только не сейчас. У него порядок твердый: все решения, большие и малые, он принимает самостоятельно, никто не должен подсказывать ему. Он взрослый, он мужчина, он все знает и понимает сам!
Как видно, предложение дяди показалось Шуре покушением на его самостоятельность, на право распоряжаться собой, которое он так ревниво оберегал. И пока Сергей объяснял, что и как надо сделать, Шура издали внимательно слушал, но так и не произнес ни слова. А Сергей больше и не взглянул в его сторону.
Уже в дверях брат сказал, ни к кому в отдельности не обращаясь:
— Чертежи мне понадобятся ровно через педелю.
После его ухода Зоя раскрыла учебник физики. Я, как всегда, проверяла тетради. Шура взялся за книжку. Некоторое время в комнате было тихо. Но вот Зоя встала, потянулась, тряхнула головой (была у нее такая привычка — резким движением отбрасывать темную прядь, постоянно сползавшую на лоб и правую бровь). Я поняла, что с уроками покончено.
— Что же, пора за дело,— сказала она.— До ночи с половиной справлюсь,— и стала раскладывать чертежи на столе.
Шура оторвался от книги, покосился на сестру и сказал хмуро:
— Сиди, читай свои «университеты»... (Зоя в те дни читала автобиографическую трилогию Горького.) Я черчу лучше. И без тебя управлюсь.
Но Зоя не послушалась. Вдвоем они заняли чертежами весь стол, и мне пришлось передвинуться со своими тетрадками на самый край. Вскоре ребята уже углубились в работу. И вот, как часто бывало за шитьем, за стряпней или уборкой — за делом, требующим пе всего человека без остатка, а только верности глаза и руки,— Зоя негромко запела:
Расшумелся ковыль, голубая трава,
Голубая трава-бирюза.
Та далекая быль Не забыта, жива,
Хоть давно отгремела гроза!..
109
Шура сначала слушал молча, потом тихонько подтянул, потом запел громче... оба голоса слились, зазвучали чисто и дружно.
Они допели песню о девушке-казачке, погибшей в бою с атаманами, и Зоя запела другую, которую все мы любили и которую когда-то пел Анатолий Петрович:
Ревет и стонет Днепр широкий,
Сердитый ветер листья рвет,
До долу клонит лес высокий И волны грозные несет...
Так они работали и пели, а я и слушала и не слушала их: не слова доходили до меня, а мелодия и чувство, с каким они пели, и так хорошо мне было...
Через неделю Шура отнес дяде выполненную работу и вернулся счастливый, с новой пачкой чертежей.
— Сказал: хорошо! Через неделю будут деньги. Слышишь, мама? Наши с Зоей деньги, заработанные!
— А больше дядя Сережа ничего пе говорил? — спросила я.
Шура внимательно посмотрел на меня и засмеялся:
— Он еще сказал: «Так-то лучше, брат Шура!»
А еще через неделю, проснувшись утром, я увидела рядом, па стуле, две пары чулок и очень красивый белый шелковый воротничок — это дети купили мне в подарок из своего первого заработка. Тут же в конверте лежали остальные деньги.
...Теперь, возвращаясь вечерами домой, я нередко еще на лестнице слышала — поют мои ребята.
И тогда я знала: онп опять углубились в свои чертежи.
ВЕРА СЕРГЕЕВНА
Жизнь наша шла ровно, без каких-либо заметных событий — так показалось бы всякому, кто посмотрел бы со стороны. Каждый новый день был похож на предыдущий: школа и работа, изредка — театр или концерт, и опять уроки, книги, короткий отдых — и все. Но. на самом деле это было далеко не все,
110
В жизни юноши, подростка важен каждый час. Перед ним непрестанно открываются новые миры. Он начинает самостоятельно мыслить и ничего не принимает на веру, в готовом виде. Он все передумывает и решает заново: что хорошо, что плохо? Что высоко, благородно и что подло и низко? Что такое настоящая дружба, верность, справедливость? Какая у меня цель в жизни? Не напрасно ли я живу?.. Жизнь ежечасно, ежеминутно пробуждает у молодого существа всё новые вопросы, заставляет искать, думать; каждая мелочь воспринимается необычайно остро и глубоко.
Книга давно уже не просто отдых или развлечение. Нет, она — друг, советчик, руководитель. «То, что в книгах, то всегда правда»,— говорила Зоя, когда была маленькая. Теперь она подолгу думает над книгой, спорит с ней, ищет в книге ответа на то, что ее волнует.
После очерка о Тане Соломахе была прочитана та незабываемая повесть, что не проходит бесследно ни для одного подростка,— повесть о Павле Корчагине, о его светлой и прекрасной жизни. И она оставила глубокий след в сознании и сердце моих детей.
И каждая новая книга для них событие; обо всем, что в ней рассказано, дети говорят, как о подлинной жизни; о ее героях горячо спорят, их любят или осуждают.
Встреча с хорошей книгой — умной, сильной, честной — это так важно в юности! А встреча с новым человеком нередко определяет весь твой дальнейший путь, все твое будущее.
В жизни моих детей всегда много значила школа.
Они любили и уважали своих учителей и особенно тепло говорили о заведующем учебной частью Иване Алексеевиче Язеве.
— Он очень хороший человек и очень справедливый учитель,— не раз повторяла Зоя.— А садовод какой! Мы его Мичуриным зовем.
Шура всегда с удовольствием рассказывал об уроках математики, о том, как Николай Васильевич заставляет думать^ искать и всегда уличит того, кто отвечает наобум или просто механически заучивает правило.
— Ох, и не любит зубрил, попугаев всяких! Но уж если ви¬
111
дит, что человек понимает,— дело другое. Даже и поплывешь иной раз, а он только скажет: «Ничего, ты не торопись, подумай». И правда, от этого как-то сразу лучше соображаешь!
И Зоя и Шура необыкновенно ласково говорили всегда о своей классной руководительнице Екатерине Михайловне:
— Такая добрая, скромная! И всегда заступается за нас перед директором.
И верно, не раз я слышала, набедокурит, провинится кто-нибудь в классе, первый заступник — Екатерина Михайловна.
Она преподавала немецкий язык. Никогда не повышала голоса, но сидели у нее всегда очень тихо. Она была снисходительна, но никому из ребят в голову не приходило плохо приготовить ее урок. Она любила ребят, они отвечали ей тем же, и этого достаточно было, чтобы никогда не вставал вопрос ни о дисциплине на ее уроках, ни об успеваемости по ее предмету.
Но совсем новая полоса началась в жизни Зои и Шуры с того дня, когда у них в классе стала преподавать русский язык и литературу Вера Сергеевна Новоселова.
И Зоя и Шура очень сдержанно, даже осторожно проявляли свои чувства. По мере того как они подрастали, эта черта в характере обоих становилась все определеннее. Они, как огня, боялись всяких высоких слов. Оба были скупы на выражение любви, нежности и восторга, гнева и неприязни. О таких чувствах, о том, что переживают ребята, я узнавала скорее по их глазам, по молчанию, по тому, как Зоя ходит из угла в угол, когда она огорчена или взволнована.
Как-то — Зое было тогда лет двенадцать — на улице перед нашим домом один мальчишка мучил и дразнил собаку: кидал в нее камнями, тянул за хвост, потом подносил к самому ее носу огрызок колбасы и, едва она собиралась схватить лакомый кусок, тотчас отводил руку. Зоя увидела все это в окно и, как была, даже не накинув пальтишка (дело было поздней, холодной осенью), выбежала на улицу. У нее было такое лицо, что я побоялась: она сейчас накинется на мальчишку с криком, может быть даже с кулаками. Но она не закричала и даже не замахнулась на него.
— Перестань! Ты не человек, ты людишка,— выбежав на крыльцо, сказала Зоя.
112
Зоя и Шура Космодемьянские.
Зоя в 1937 году.
Первая страница из дневника Зои.
Дом, в котором жила Зоя с 1932 по 1941 г. (Александровский проезд Тимирязевского района).
Любовь Тимофеевна, Зоя, Шура и Анатолий Петрович Космодемьянские.
Первое письмо, присланное Зоей с трудового фронта.
Мишень Зои. 1941 г.
Комсомольский билет Зои Космодемьянской.
Портрет Шуры, нарисованный им самим.
Александр Космодемьянский — курсант Ульяновского танкового училища.
Последние минуты перед казнью.
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Зое Космодемьянской звания Героя Советского Союза.
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Александру Космодемьянскому звания Героя Советского Союза.
Любовь Тимофеевна Космодемьянская. 1970
«Зоя». Скульптура Е. Белашовой.
У могилы Зои на Ново-Девичьем кладбище.
Она сказала это негромко, но с таким безмерным презрением, что мальчишка поежился и как-то боком, неловко пошел прочь, не ответив ни слова...
— Он хороший человек,— говорила о ком-нибудь Зоя, и этого было достаточно — я знала: она очень уважает того, о ком так отзывается.
Но о Вере Сергеевне и Зоя и Шура говорили с нескрываемым восторгом.
— Если бы ты только знала, какая она! — повторяла Зоя.
— Ну, какая? Что тебе так по душе в ней?
— Я даже не могу объяснить... Нет, могу. Понимаешь, вот она входит в класс, начинает рассказывать — и мы все понимаем: она не просто ведет урок, потому что он у нее по расписанию. Нет, ей самой это важно и интересно — то, что она рассказывает. И видно — ей не нужно, чтобы мы просто заучили всё,—нет, она хочет, чтоб мы думали и понимали. Ребята говорят, что она отдает нам литературных героев «на растерзание». И правда, она говорит: «Он нравится вам? А почему? А как, по- вашему, он должен был поступить?» И мы даже не замечаем, как она умолкает, а говорит весь класс: то один вскочит, то другой... Мы спорим, сердимся, а потом, когда все выскажутся, она заговорит сама — так просто, негромко, как будто нас тут не тридцать человек, а трое. И все сразу станет ясно: кто прав, кто ошибся. И так хочется все прочитать, о чем она говорит! Когда ее послушаешь, потом совсем по-новому читаешь книгу — видишь то, чего прежде никогда не замечала... А потом — ведь это ей надо сказать спасибо за то, что мы теперь по-настоящему знаем Москву. Она на первом же уроке спросила нас: «В толстовском музее были? В Останкине были?» И так сердито: «Эх вы, москвичи!» А теперь —где мы только с ней не побывали, все музеи пересмотрели! И каждый раз она заставляет над чем- нибудь раздумывать.
— Нет, правда, она очень хорошая, очень! — поддерживал Шура.
Он все-таки стеснялся таких чувствительных слов и почему-то, чтобы скрыть смущение или чтобы тверже прозвучало, всегда хвалил учительницу басом, что ему еще плохо удава-
0 Библиотека пионера. Том II
113
лось. Зато глаза его и выражение лица говорили ясно и без колебаний: «Хорошая, очень хорошая!»
Но по-настоящему я поняла, что такое разбуженный интерес к литературе, к писателю, к истории, когда в классе начали читать Чернышевского.
ВЫСОКАЯ МЕРА
— Ваша дочь учится в институте? — спросила как-то библиотекарша, у которой я брала книги по Зоиному списку.
Списки всегда были длинные и разнообразные. Чего только не прочла Зоя, готовясь к докладу о Парижской коммуне! Тут были и серьезные исторические работы и переводы из французских рабочих поэтов — Потье, Клемана.
А сколько было прочитано об Отечественной войне 1812 года! Зоя бредила именами Кутузова и Багратиона, описаниями сражений, с упоением повторяла наизусть целые страницы из «Войны и мира». Готовясь к докладу об Илье Муромце, она составила длинный список редких книг, которые я с трудом разыскивала в различных библиотеках.
Да, для меня не было новостью, что Зоя умеет работать серьезно, добираться до самых глубоких источников, до самой сути дела, умеет уходить в свою тему с головой. Но так безраздельно она не отдавалась еще ни одному делу. Встреча с Чернышевским стала одной из самых важных в жизни Зои.
Придя с урока, на котором Вера Сергеевна познакомила ребят с биографией Чернышевского, Зоя сказала решительно:
— Я хочу знать о нем все. Понимаешь, мамочка? А в школе есть только «Что делать?». Ты уж, пожалуйста, спроси, что есть в вашей библиотеке. Мне хочется иметь большую, полную биографию, переписку и воспоминания современников. Хочу представить себе, каким он был в жизни.
Эти слова были только началом, и оставаться в стороне я уже не могла. Обычно не щедрая на слова, Зоя вдруг стала разговорчива — видно, ей необходимо было поделиться каждой мыслью, каждой своей находкой, каждой новой искрой, вспыхнувшей в часы раздумья над прочитанным.
114
— Смотри,— говорила она, показывая мне какую-то старую биографию Николая Гавриловича,— тут сказано, что в первые студенческие годы он ничем не интересовался, кроме занятий. А вот взгляни, какие латинские стихи он давал тогда переводить своему двоюродному брату: «Пусть восторжествует справедливость или погибнет мир!» Или вот еще: «Пусть исчезнет ложь или рушатся небеса!» Неужели же это случайно?.. А вот из письма к Пыпину: «Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого?» Мама, я больше не буду тебе мешать, но только ты послушай еще одно место. Это запись в дневнике: «Для торжества своих убеждений я нисколько не подоро- жу жизнью! — Для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока. Если бы только убежден был, что мои убеждения справедливы и восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден». Ну, ты подумай: разве после этого можно говорить, что оп интересовался только своими занятиями?
Раз начав читать «Что делать?», Зоя уже не могла оторваться — она была так поглощена книгой, что, кажется, впервые в жизни не подогрела обед к моему приходу. Она едва заметила, как я вошла: на секунду подняла на меня далекие, пеузнающие глаза и тотчас снова углубилась в чтение. Я не стала тревожить ее, разожгла керосинку, поставила суп и взялась за ведро, чтобы налить воды в умывальник. Тут только Зоя спохватилась, вскочила и отняла у меня ведро:
— Что ты, мама! Я сама!
Кончился ужин, Шура лег спать, позже легла и я, уснула, потом проснулась, полежала немного с открытыми глазами, снова уснула и снова проснулась уже глубокой ночыо,— а Зоя все читала. Тогда я поднялась, молча взяла у нее книгу, закрыла и положила на этажерку. Зоя посмотрела на меня виновато и умоляюще.
— Мне трудно спать при свете, а завтра надо рано вставать,— сказала я, понимая, что только это и прозвучит для нее убедительно.
Поутру Шура не удержался, чтоб не подразнить сестру:
115
— Знаешь, мама, она вчера как пришла из школы, так и утонула в книжке. Читает — и ничего не видит и не слышит. По-моему, она скоро начнет спать на гвоздях, как Рахметов!
Зоя промолчала, но вечером принесла из школы книжку, в которой были приведены слова Георгия Димитрова о Рахметове — о том, как герой русского писателя стал когда-то любимым образом для молодого болгарского рабочего, делавшего первые шаги в революционном движении. Димитров вспоминал, что тогда, в юности, он стремился стать таким же твердым, волевым, закаленным, как Рахметов, так же подчинить свою личную жизнь великому делу — борьбе за освобождение трудящихся.
Зоя взяла для сочинения тему «Жизнь Чернышевского». Она без конца читала, неутомимо разыскивала всё новые материалы и подчас добиралась до фактов, о которых я прежде не знала.
О гражданской казни Чернышевского Зоя рассказала коротко, скупо, но выразительно. Немногими словами она описала пасмурное, дождливое утро, эшафот и на нем — черный столб с цепями и черную доску с надписью белыми буквами: «Государственный преступник», которую надели на шею Чернышевскому.
Потом три месяца тяжкого, изнурительного пути, сотни, тысячи долгих, немеряных верст. И, наконец, Кадая — глушь, каторга, где царское правительство пыталось угасить «яркий светоч науки опальной».
Зоя нашла в какой-то книге рисунок тушью, вернее, набросок, сделанный одним из политических ссыльных: домик, в котором жил Николай Гаврилович. Шура — его тоже не могло не захватить Зоино увлечение — перерисовал этот набросок в ее тетрадь, причем сумел уловить и передать главное: уныние, сковавшее пустынный, холодный край. Жесткая черта горизонта, болото, песок, хилый, низкорослый лес, кресты над могильными холмами, и все словно придавлено нависшим, угрюмым небом, и придавлен страшной тяжестью маленький домик, за стенами которого не угадываешь ни тепла, ни уюта, ни радости...
Тянутся годы и годы в одиночестве — мучительная, безотрадная жизнь. И невероятными кажутся письма, которые пи¬
116
шет Николай Гаврилович жене и детям,—письма, полные тепла, света, нежности и любви; они месяцами идут сквозь ночь, сквозь снег.
Так проходят долгие семь лет. И вот Чернышевский накануне освобождения. Какое письмо пишет он своей жене, Ольге Сократовне!
«Милый мой друг. Радость моя, единственная любовь и мысль моя... пишу в день свадьбы нашей. Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя... 10-го августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по- прежнему... Скоро все начнет поправляться. С нынешней же осени...»
Каждое слово дышит уверенностью в скором свидапии, надеждой на встречу. А вместо этого — ссылка в Вилюйск и еще долгие, бесконечные тринадцать лет одиночества. Холодная, суровая зима тянется полгода, вокруг — болота, тундра. Это самая тяжелая пора заключения, даже не освещенная надеждой на освобождение. Ничего впереди. Одиночество, почь, снег...
И вот тогда к Чернышевскому приезжает полковпик Винников и передает ему предложение правительства: подать прошение о помиловании. В награду обещано освобождение, возвращение на родину.
«В чем же я должен просить помилования? — говорит в ответ Чернышевский.— Это вопрос... Мне кажется, я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды... От подачи прошения я положительно отказываюсь...»
И снова медленно тянется время. День за днем, год за годом уходит жизнь.
У него деятельный, могучий ум, который так жаждет работы и творчества, так умеет предвидеть! Рука, написавшая гневные и страстные прокламации, обращенные к русским крестьянам. Голос, который призывал Герцена, чтоб его «Колокол» не благовестил, а звал Русь к топору. Всю свою жизнь он посвятил
117
одному, стремился к одной цели: чтобы угнетенный народ обрел свободу. Он и невесте сказал когда-то: «Я не принадлея^у себе, я избрал такой путь, который грозит мне тюрьмой и крепостью». Я этот человек обречен на самую страшную для него муку — на бездействие. Он не может даже пожать руку умирающему другу, сказать ему прощальное слово.
Некрасов умирал. Весть об этом была для Чернышевского жестоким ударом. «Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет дышать,— пишет он Пыпину,— скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем...»
Три месяца шло это письмо и застало Некрасова еще живым. «Скажите Николаю Гавриловичу,— просил умирающий,— что я очень благодарю его. Я теперь утешен: его слова дороже мне, чем чьи-либо слова...»
После двадцати лет каторги и ссылки Чернышевский наконец возвращается на родину. Он весь — нетерпение, весь — порыв, он мчится не останавливаясь, не давая себе в этом длинном и тяжком пути ни часу отдыха. Наконец он в Астрахани. И тут снова жестокий удар: Чернышевский лишен возможности работать. Кто же, какой журнал станет печатать статьи «политического преступника»? И опять бездействие, опять вокруг безмолвие и пустота...
Незадолго до смерти Чернышевского с ним виделся Короленко. Николай Гаврилович не позволял жалеть себя, вспоминает Короленко: «Он всегда отлично владел собою и если страдал — а мог ли он не страдать очень жестоко! — то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью».
...Зоя прочла нам свое сочинение вслух. Мы оба — и я и Шура— сказали то, что думали: «Очень хорошо!»
— Знаешь,—добавил Шура, шагая по комнате,—я когда- нибудь непременно напишу большую картину. Она будет называться: «Гражданская казнь Чернышевского».
— А Герцен ведь так и писал,— быстро сказала Зоя. — Знаешь, он писал: неужели никто не нарисует такой картины —
118
Чернышевский у позорного столба? Он говорил, что этот холст обличит... как это он сказал?., обличит тупых злодеев, привязывающих человеческую мысль к позорному столбу.
— Я все вижу,— едва дослушав ее, продолжал Шура.— И девушку, которая бросила ему цветы, и офицера, который крикнул: «Прощай!» И Чернышевского вижу... Знаешь, в ту минуту, когда палач переломил у него над головой шпагу, Чернышевского поставили на колени, но все равно — лицо у него такое... понимаешь, сразу видно, что он не покорен и никогда не покорится!
На другой день, едва я появилась в дверях, Шура закричал:
— Мама, Вера Сергеевна вызывала Зою! И ты только подумай: спросила как раз про жизнь и деятельность Чернышевского!
— И что же?
— Отлично! Отлично! Весь класс прямо заслушался, даже я — уж на что мне все это знакомо! И Вера Сергеевна была очень довольна.
За сочинение Зоя тоже получила «отлично».
— Заслуженная отметка,— сказала я.
— Еще бы! — откликнулся Шура.
Казалось бы, «отлично» за сочинение — вот завершение Зоиной работы. Но это было не так. Встреча с Чернышевским, знакомство с его судьбой и с его книгами значили очень много для Зои. Его жизнь стала для нее высокой мерой поступков и мыслей. Таков был настоящий итог Зоиной работы над сочинением по литературе.
„ОТЛИЧНО* по химии
Зоя училась очень хорошо, хотя многие предметы давались ей с трудом. Над математикой и физикой она просиживала иногда до глубокой ночи и ни за что не хотела, чтобы Шура ей помог.
Сколько раз бывало так: вечер, Шура давно приготовил уроки, а Зоя все еще за столом.
119
— Ты что делаешь?
— Алгебру. Задача не выходит.
— Дай я тебе покажу.
— Нет, я сама додумаюсь.
Проходит полчаса, час.
— Я иду спать! — сердито говорит Шура.— Вот решение. Смотри, я кладу сюда.
Зоя даже не поворачивает головы. Шура, с досадой махнув рукой, укладывается спать. Зоя сидит долго. Если ее одолевает сон, она ополаскивает лицо холодной водой и снова садится к столу. Решение задачи лежит рядом, стоит только руку протянуть, но Зоя и не глядит в ту сторону.
На другой день она получает по математике «отлично», и это никого в классе не удивляет. Но мы-то с Шурой знаем, чего ей стоят эти «отлично».
...Шура, способный и все схватывающий быстро, часто готовил уроки небрежно и, случалось, приносил домой «посредственно». И каждая посредственная отметка брата огорчала Зою сильнее, чем его самого:
— Это работа твоя, понимаешь? Ты не имеешь права недобросовестно относиться к своей работе!
Шура только морщился и охал, слушая ее, потом не выдерживал:
— Что же, по-твоему, я не способен понять всю эту премудрость?
— Если способен — докажи! Перелистал книжку и бросил? Нет, .ты начал, так дойди до конца! Тогда скажешь: способен. Не люблю я, когда делают кое-как. Это просто отвратительно!
* * *
— Зоя, ты почему такая хмурая?
— Получила «отлично» по химии,—нехотя отвечает Зоя.
На моем лице такое изумление, что Шура не выдерживает
и громко хохочет.
— Тебя огорчает отличная отметка? — спрашиваю я, не веря своим ушам и глазам.
— Сейчас я тебе все объясню,— говорит Шура, потому что
420
Зоя упорно молчит.— Она, видишь ли, считает, что отметка незаслуженная, что она химию на «отлично» не знает.
В голосе Шуры неодобрение.
Зоя опускает подбородок в ладони и переводит невеселые, потемневшие глаза с Шуры на меня.
— Ну да, — говорит она. — Никакой радости мне это «отлично» не доставило. Я ходила-ходила, думала-думала, потом подошла к Вере Александровне и говорю: «Я ваш предмет на «отлично» не знаю». А она посмотрела на меня и отвечает: «Раз вы так говорите, значит, будете знать. Будем считать, что «отлично» я вам поставила авансом».
— И уж наверно подумала, что ты притворяешься! — сердито говорит Шура.
— Нет, она так не подумала! — Зоя резко выпрямляется, горячий румянец заливает ее щеки.
— Если Вера Александровна справедливый и умный человек и если она хоть немного знает своих учеников, она о Зое так не подумает,— вступаюсь я, видя, как задели и огорчили Зою Шурины слова.
...В тот же вечер, когда Зоя зачем-то ушла из дому, Шура опять заговорил о происшествии с отметкой по химии.
— Мам, я ведь не зря сегодня Зою ругал,— начал он с необычайной серьезностью. Он стоял спиной к окну, упираясь обеими руками в край подоконника, сдвинув брови; между бровями появилась косая сердитая морщинка.—Ты пойми, мам: Зоя иной раз поступает так, что никто не может этого понять. Вот с этой отметкой. Любой в классе был бы рад получить «отлично», и никто бы даже не подумал рассуждать, заслуженная отметка или не заслуженная. Химичка поставила — и все. Нет, Зоя какая-то уж через меру строгая! Или вот, смотри: на днях Борька Фоменков написал сочинение — хорошее, умное. Но он за собой знает: у него всегда много ошибок. Так он взял и приписал в конце: «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю». Все смеялись, а Зоя осуждала. Это, говорит, его работа, его дело, и тут не место шуткам... Мне что обидно,— горячо продолжал Шура,— ведь она же понимает шутки и посмеяться любит, а вот в школе об этом, по-моему, даже никто не догадывается. Стоит кому-нибудь набузить... ну, в общем, наозорничать,— по¬
121
правился он, заметив мой взгляд,— и даже не сильно, а совсем немножко — и Зоя уже сразу читает нотацию. Или тоже вчера — ты даже не знаешь, какой шум поднялся в классе! Был диктант. Одна девочка спрашивает у Зои, как пишется: «в течение» или «в течении». И Зоя ей не ответила, ты подумай только! В переменку весь класс разделился — половина на половину — чуть не в драку: одни кричат, что Зойка плохой товарищ, другие — что она принципиальная...
— А ты что кричал?
— Я-то ничего не кричал. Но только имей в виду: я бы на ее месте никогда не отказал товарищу.
С минуту мы оба молчали.
— Послушай, Шура,— заговорила я,— когда у Зои не выходит задача, а у тебя всё решено, Зоя просит тебя помочь ей?
— Нет, не просит.
— Помнишь, как она раз просидела до четырех часов утра, а все-таки сама решила ту запутанную задачу по алгебре?
— Помню.
— Я думаю, что человек, который так требовательно, так строго относится к самому себе, имеет право требовательно относиться и к другим. Я знаю, ребята считают так: подсказка — дело святое. У нас в гимназии это было законом. Но это старый, плохой закон. Я не уважаю тех, кто живет па подсказках и шпаргалках. И я уважаю Зою за то, что у нее есть мужество сказать об этом прямо.
— Ну да, некоторые ребята тоже так говорили, что, мол, Зоя прямой человек и говорит те, что думает. Вот Петька сказал так: «Если я не понимаю, она мне всегда все объясняет, никогда не отказывается, а во время контрольной подсказывать нечестно». Но все-таки...
— Что же «все-таки»?
— Все-таки это не по-товарищески!
— Знаешь, Шура, если бы Зоя отказывалась помочь, объяснить — вот это было бы не по-товарищески. А отказать в подсказке — по-моему, это и есть прямой и честный поступок.
Я видела, что мои слова не убедили Шуру. Он долго еще стоял у окна, не читая перелистывал книгу, и я понимала, что спор с самим собой продолжается.
122
$ * *
Кое-что в рассказе Шуры растревожило и меня.
Зоя — живая, веселая девушка. Она любит театр и, если смотрит какой-нибудь спектакль без нас, всегда так выразительно и горячо рассказывает о виденном и слышанном, что нам с Шурой кажется, будто мы сами видели пьесу. Сквозь ее постоянную серьезность йередко прорывается неудержимый юмор, унаследованный от отца, и тогда мы весь вечер смеемся, вспоминая разные забавные случаи. Иногда Зоя разговаривает своим обычным тоном и вдруг едва заметно изменит голос, выражение лица... Сама она при этом никогда не улыбнется, а мы с Шурой хохочем до слез, узнавая человека, о котором зашла речь.
Вот Зоя чуть согнулась, поджала губы и говорит степенно, с долгими паузами:
— А я, милые мои, вот что вам скажу, уж вы не обессудьте... Вы, молодые, не верите, а только уж если кошка перебежит дорогу — быть беде...
И перед нами, как живая, встает старушка — соседка по прежней квартире,
— Верно, верно: Акулина Борисовна! — кричит Шура.
Вот Зоя нахмурилась и произносит строго, отрывисто:
— Почему непорядок? Немедленно прекратить! Иначе буду принужден принять меры!
И мы со смехом узнаем школьного сторожа в Осиновых Гаях.
Чувство юмора редко покидает ее, и она умеет говорить смешные вещи, оставаясь серьезной.
Зоя любит гостей. Когда к нам заходит дядя Сережа, или моя сестра Ольга, или кто-нибудь из моих товарищей по работе, Зоя не знает, куда усадить, чем накормить. Она оживленно хлопочет, непременно угостит своей стряпней, всегда огорчается, если у гостя нет времени посидеть подольше. Она хорошо, легко чувствует себя среди взрослых.
Но вот в школе, среди сверстников, Зоя часто кажется замкнутой и необщительной. И это тревожит меня.
— Почему ты ни с кем не дружишь? — как-то спросила я.
123
— А ты разве мне не друг? А Шура не друг? Да и с Ирой мы в дружбе.— Зоя помолчала и добавила с улыбкой: — Это у Шуры полкласса друзей. А я так не могу.
НАЕДИНЕ С СОБОЙ
— Зоя, ты что пишешь?
— Просто так.
Это значит: Зоя сидит за дневником.
Толстая тетрадь в клетку, в коленкоровом переплете. Зоя достает ее изредка, записывает немного.
— Дай почитать,— просит Шура.
Зоя качает головой.
— Ну ладно же! Родному брату не показываешь?
Шура чуть-чуть играет: его сердитый, грозный тон, конечно, шутка, но в этой шутке невольно сквозит и настоящая обида.
— Родной брат прочитает, а потом будет смеяться, знаю я тебя,— отвечает Зоя. А потом говорит мне тихо: — Тебе можно.
...Это был странный дневник. Он совсем не походил на тот, что вела Зоя в двенадцать лет. Она не излагала в нем никаких событий. Иногда она записывала только несколько слов, иногда — фразу из книги, иногда — стихотворную строчку. Но за чужими словами, за чужими стихами было видно, о чем думает, чем тревожится моя девочка.
Среди других я нашла такую запись:
«Дружба — это значит делиться всем, всем! Иметь общие мысли, общие помыслы. Делиться радостью и горем. Мне кажется, неправду пишут в книгах, что дружат люди только противоположных характеров. Это неверно: чем больше общего, тем лучше. Я хотела бы иметь такого друга, которому могла бы поверять все. Я дружу с Ирой, но мне все кажется, что она моложе меня, хоть мы и однолетки».
Были в дневнике строчки Маяковского:
Но мне — люди,
и те, что обидели,—
вы мне всего дороже и ближе.
124
А потом слова Николая Островского:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».
Были и такие слова (не знаю, принадлежали они Зое или она их где-нибудь вычитала):
«Кто не мнит о себе слишком много, тот гораздо лучше, чем думает».
«Уважай себя, не переоценивай. Не запирайся в свою скорлупу и не будь однобокой. Не кричи, что тебя не уважают, не ценят. Больше работай над собой, и больше будет уверенности».
Я закрыла тетрадь со странным и сложным чувством. На этих страницах пробивалась еще очень юная, не сложившаяся, ищущая мысль — словно человек искал дорогу, выходил на верную тропу, а потом снова сбивался, плутал и опять выбирался на правильный путь. Это было большое, чистое зеркало, где отражалось каждое движение ума и сердца.
И я решила: не буду больше читать Зоин дневник. Полезно человеку побыть наедине с самим собой, заглянуть в себя, подумать обо всем подальше от постороннего глаза, даже если это глаз матери.
— Спасибо, что веришь мне,— сказала я Зое.— Но дневник — твой, и никому его читать не надо.
„САМО СОВОЙ РАЗУМЕЕТСЯ“
Летом 1938 года Зоя стала готовиться к вступлению в комсомол. Она достала устав, снова и снова читала его, а потом Шура проверял, все ли она запомнила и усвоила.
Осенью, когда начались занятия, Шура сказал мне:
— Теперь я вижу, что наши ребята уважают Зою. Там еще некоторые готовятся в комсомол, так они все время к ней: объясни, да расскажи, да как это понять. И потом, комитет комсомола дал ей такую характеристику, как никому: и добросовест¬
125
ная, и надежная, и достойная, и все, что тебе угодно. И на общем собрании было очень торжественно. Зоя вышла, рассказала биографию, потом ей задавали всякие вопросы, а потом стали обсуждать ее кандидатуру. И все, ну, просто в один голос говорили: честная, прямая, хороший товарищ, всю общественную работу выполняет, отстающим помогает...
Помню, Зоя писала автобиографию — вся она уместилась на одной страничке, и Зоя очень сокрушалась.
— Совсем не о чем писать,— повторяла она.— Ну, родилась, ну, поступила в школу, ну, учусь... А что сделала? Ничего!
...В тот день Шура волновался, по-моему, не меньше, чем сама Зоя. Не помню, когда еще я видела его таким. Он ждал Зою у райкома. Вступавших в тот вечер было много, а Зою вызвали одной из последних. «Едва дождался!» —рассказывал он после.
Я тоже не могла дождаться. То и дело смотрела в окно — не идут ли они, но за окном сгустилась ночная тьма, и в ней ничего нельзя было различить. Тогда я вышла на улицу и медленно пошла в ту сторону, откуда должны были прийти ребята. Не успела я сделать несколько шагов, как они налетели на меня, задыхающиеся, возбужденные.
— Приняли! Приняли! На все вопросы ответила! — кричали они наперебой.
Мы снова поднялись к себе, и Зоя, раскрасневшаяся, счастливая, стала рассказывать все, как было:
— Секретарь райкома такой молодой, веселый. Задавал много вопросов: что такое комсомол, потом про события в Испании, потом спросил, какие труды Маркса я знаю. Я сказала, что читала только «Манифест Коммунистической партии». А под конец он говорит: «А что самое важное в уставе, как по-твоему?» Я подумала и говорю: «Самое главное: комсомолец должен быть готов отдать Родине все свои силы, а если нужно — и жизнь». Ведь правда же это самое главное?.. Тогда он и говорит: «Ну, а хорошо учиться, выполнять комсомольские поручения?» Я удивилась и отвечаю: «Ну, это само собой разумеется». Тогда он отдернул занавеску, показал на небо и говорит: «Что там?» Я опять удивилась, отвечаю: «Ничего нет».— «А ви¬
126
дишь, говорит, сколько звезд? Красиво? Ты их даже не заметила сразу, а все потому, что они сами собой разумеются. И еще одно запомни: все большое и хорошее в жизни складывается из малого, незаметного. Ты об этом не забывай!» Хорошо сказал, да?
— Очень хорошо! — в один голос ответили мы с Шурой.
— Потом он спросил,— продолжала Зоя,— «Ты читала речь Ленина на Третьем съезде комсомола?» — «Конечно!» — отвечаю. «А хорошо ее помнишь?» — «По-моему, наизусть».— «Ну, если наизусть, скажи самое памятное место». И я сказала: «И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10^ 20 лет будет жить в коммунистическом обществе, должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую».
— Зоя, а ты не помнишь, когда ты в первый раз услышала
о том, что говорил Владимир Ильич на Третьем съезде? — спросила я, почти уверенная, что она не сумеет ответить.
Но я ошиблась.
— Нам рассказывали летом, в лагере,— не задумываясь, ответила Зоя.— Помнишь, у костра...
Потом мы сидели и пили чай, и Зоя вспоминала всё новые и новые подробности того, как ее принимали. А собираясь спать, сказала:
— Мне кажется, что в чем-то я теперь стала другая, новая...
— Ну что ж, давай познакомимся,— ответила я с невольной улыбкой, но по Зоиным глазам увидела, что она в этот час не примет шутку, и прибавила: — Понимаю, Зоя.
ДОМ ПО СТАРОПЕТРОВСКОМУ ПРОЕЗДУ
Герцен сказал как-то: «Ничто так не облагораживает юность, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес». Когда я вспоминаю, как воспитывались мои дети и их школьные друзья, я вижу: да, это делало их юность одухотворенной и прекрасной.
127
Все, что совершалось в стране и за ее пределами, касалось их непосредственно, было их личным делом.
Страна крепла, строилась, росла, а вместе с нею росли Зоя и Шура — не зрители, а деятельные участники всего, что творилось вокруг. И вновь выстроенный завод, и смелая мысль советского ученого, и успехи советских музыкантов на международном конкурсе — все это было частью и их жизни, было неотделимо и от их личной судьбы. Все это было важно, близко моим ребятам, на все они откликались всем сердцем, обсуждали в школе, дома, снова и снова возвращались к этому мыслью, на этом воспитывались.
Беседа с секретарем райкома комсомола не просто запомнилась Зое, она действительно врезалась ей в память, и каждое слово, сказанное им в тот день —день ее второго рождения,— стало для нее законом.
Зоя всегда, на удивленье точно и добросовестно, выполняла
свои обязанности. Но теперь в каждое порученное ей дело она вкладывала все силы и всю душу. Словно теперь она заново поняла: ее работа — часть той великой общей задачи, о которой говорил когда-то Владимир Ильич.
Очень скоро после ее вступления в комсомол Зою избрали групоргом. Она тотчас же составила список комсомольских поручений: «Каждый должен что-нибудь делать, иначе какие же мы комсомольцы?» Она расспросила, кто чем интересуется, кто какую работу хочет вести. «Тогда лучше будет работать»,— справедливо заметила она в разговоре со мною. Впрочем, она и прежде внимательно присматривалась к товарищам по классу и хорошо знала, кто на что способен и кто что может. Список поручений получился длинный и подробный: один отвечал за учебную работу, другой — за физкультурную, третий — за степную газету... Дело нашлось всем. Зоя и еще несколько комсомольцев должны были обучать неграмотных женщин в одном из домов по Старопетровскому проезду.
— Это трудно,— сказала я,— очень трудно. Да и далеко ходить, а бросить будет неловко. Ты подумала об этом?
— Ну что ты! —вспыхнула Зоя.— «Бросить»! Уж если мы взялись...
В первый же свободный вечер Зоя отправилась в Старопет¬
128
ровский проезд. Вернувшись, она рассказала, что ее ученица — пожилая женщина, которая совсем не умеет ни читать, ни писать и очень хочет научиться грамоте.
— Подумай, даже подписать свое имя как следует не умеет! — говорила Зоя.— У нее дел по горло — и хозяйство и дети, но учиться она станет, я уверена. Меня встретила приветливо, называла дочкой...
Зоя взяла у меня книгу по методике обучения грамоте и просидела над ней до поздней ночи. Дважды в неделю она стала ходить к своей ученице, и ничто — ни дождь, ни снег, ни усталость — не могло ей помешать.
— Если случится землетрясение, она все равно пойдет. Будет пожар — она все равно скажет, что не может подвести свою Лидию Ивановну,— говорил Шура.
И хоть в голосе его подчас звучали и досада и насмешка, однако он часто выходил встречать Зою после ее уроков, потому что осень стояла дождливая, ненастная, и мы беспокоились, как Зоя станет возвращаться в темноте, по грязи. Шуре это даже нравилось: пойти за сестрой, проводить ее. Пусть Зоя чувствует, что значит брат — защитник, опора, мужчина в семье!
Шура был теперь выше Зои, широкоплечий, сильный.
— Смотрите, какие мускулы! — любил он повторять.
И Зоя с радостной гордостью, с удивлением говорила:
— Правда, мама, потрогай, какие мускулы — как железо!
...Однажды я принесла билеты на концерт в Большой зал
Консерватории. Исполнялась Пятая симфония Чайковского. Зоя очень любила ее, не раз слышала и уверяла, что каждый раз слушает с новым наслаждением.
— Чем музыка знакомее, тем сильнее она действует. Я уж сколько раз в этом убеждалась,— сказала она однажды.
Зоя очень обрадовалась билетам, но вдруг как будто внутренне ахнула, поднесла к губам и слегка прикусила указательный палец, как делала всегда, когда спохватывалась, внезапно вспоминая о чем-то нечаянно забытом.
— Мама, а ведь это в четверг! — огорченно сказала она.— Я не могу пойти. Ведь я по четвергам у Лидии Ивановны.
— Что за чепуха!—возмутился Шура.— Ну, не придешь один раз, какая трагедия!
129
— Что ты! Нет, ничего не выйдет. Не могу же я, чтоб она меня напрасно ждала.
— Я пойду и предупрежу, чтобы не ждала.
— Нет, не могу. Взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Она меня ждет заниматься, а я пойду на концерт? Нет, нельзя.
Так Зоя и не пошла слушать Чайковского.
— Ну и характер! Ну и характер! — твердил Шура, и в этом возгласе смешивались возмущение и невольное уважение к сестре.
ПОД НОВЫЙ ГОД
...Наступил новый, 1939 год.
Придя из школы, Зоя рассказала, что девочки в классе пишут друг другу новогодние пожелания. Записку с пожеланием надо сжечь, а пепел проглотить, как только кремлевские часы пробьют двенадцать.
— Ну, уж и выдумали! — фыркнул Шура.
— Глотать-то я, пожалуй, не стану,— засмеялась Зоя,— вряд ли это вкусно, а прочитать — прочту.
Она достала из кармана тщательно свернутую и заклеенную записочку, надорвала и прочла вслух:
— «Зоенька, не суди людей так строго. Не принимай все так близко к сердцу. Знай, что все почти люди эгоисты, льстецы, неискренние и полагаться на них нельзя. Слова, сказанные ими, оставляй без внимания. Таково мое пожелание к Новому году».
С каждым словом Зоя все больше хмурилась а дочитав, резко отбросила записку.
— Если так думать о людях, то зачем жить? — сказала она.
...К новогоднему школьному балу-маскараду Зоя готовилась
с увлечением. Девочки решили нарядиться в костюмы национальностей, населяющих Советский Союз. Мы долго думали, кем нарядиться Зое.
— Украинкой,— предложил Шура.— Глаза хорошие, брови подходящие — чем не чернобровая дивчина? Вышитая кофточка есть, юбка есть, надо только ленты и бусы.
130
А позже, улучив минуту, когда мы с ним остались вдвоем, Шура сказал мне:
— Вот что, мам: надо Зое купить новые туфли. У всех девочек в классе туфли на каких-то там каблуках — не очень высоких, а все-таки...
— Это называется на венском каблуке,— подсказала я.
— Ну да. А у Зои какие-то мальчиковые.
— В этом месяце не удастся, Шурик.
— Тогда мне не нужно новой рубашки. Я в этой прохожу. И не надо шапки.
— Твоя шапка уже давно ни на что не похожа.
— Мама, но ведь я мальчишка, а Зоя девочка. Девушка даже. Для нее это важнее.
И верно, для нее это было важно.
Помню, раз, придя домой, я застала Зою перед зеркалом в моем платье. Услышав шаги, она быстро обернулась.
— Идет мне? — спросила она со смущенной улыбкой.
Она любила примерять мои платья и очень радовалась каждой пустяковой обновке. Никогда она не просила купить ей новое, всегда удовлетворялась тем, что я сама ей шила, но Шура был прав: ей это не могло быть безразлично.
Мы выкроили нужную сумму, и, горячо поспорив с нами, Зоя все же пошла и купила себе новые черные туфельки — свои первые туфли на том самом венском каблуке.
Новогодний наряд мы тоже «дотянули»: были и бусы и ленты. Шуре выстирали и выгладили рубашку, повязали новый галстук. И мои ребята пошли в школу нарядные и оживленные. Я долго стояла у окна и смотрела им вслед.
Вечер был удивительно светлый и тихий. За окном медленно, нехотя опускались пушистые хлопья. Я знала, что, пройдя сквозь эту снежную тишину, Зоя и Шура с головой окунутся в пестрое, шумное молодое веселье, и от всей души желала, чтобы весь новый год был для них таким же светлым, ярким, счастливым.
...Вернулись они только под утро: в школе был большой маскарад, музыка и «танцы до упаду», как сообщил Шура.
— И знаешь, мам, мы играли в почту, и какой-то чудак все
131
время писал Зое, что у нее красивые глаза. Правда, правда! Под конец даже стихами разразился! Вот послушай...
Шура встал в позу и, еле удерживаясь от смехаг продекламировал:
Ты такая ясноокая —
Даже сердце замирает.
Вся душа твоя глубокая Под ресницами сияет!
И мы все трое неудержимо расхохотались.
...К концу зимы выяснилось, что та самая девочка, которая в новогоднем пожелании написала Зое о людском эгоизме и неверности и о том, что на людей нельзя полагаться, перестала учить свою «подшефную» домохозяйку грамоте.
— Очень далеко ходить,— объяснила она групоргу — Зое.— И уроков так много задают, я не успеваю. Назначь кого-нибудь другого.
У Зои от гнева глаза были совсем черные, когда она мне рассказывала об этом.
— Я этого даже понять не могу! Нет, ты послушай: взяла и бросила! И даже не подумала, что этим она подводит всех, не одну себя. Какая же она комсомолка? Да вдруг она встретит эту женщину — как она ей в глаза посмотрит? И всем в классе?
Сама Зоя за всю зиму не пропустила занятий ни разу. В какой-то из четвергов у нее отчаянно разболелась голова, но она превозмогла себя и все-таки пошла.
Мы с Шурой немедленно и в подробностях узнавали о каждом успехе Зоиной ученицы:
— Лидия Ивановна уже помнит все буквы...
— Лидия Ивановна уже читает по складам...
— Лидия Ивановна уже бегло читает! — наконец с торжеством сообщила Зоя.— Помнишь, она даже подписаться не умела. А теперь у нее и почерк становится хороший.
В тот вечер, ложась спать, Зоя сказала:
— Знаешь, мама, всю неделю хожу и думаю: что такое хорошее случилось? И сразу вспоминаю: Лидия Ивановна читать умеет. Теперь я понимаю, почему ты стала учительницей. Это и вправду очень хорошо!
ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ
Осень 1940 года неожиданно оказалась для нас очень горькой...
Зоя мыла полы. Она окунула тряпку в ведро, нагнулась — и вдруг потеряла сознание. Так, в глубоком обмороке, я и нашла ее, придя с работы домой. Шура, вошедший в комнату одновременно со мною, кинулся вызывать карету «скорой помощи», которая и увезла Зою в Боткинскую больницу. Там поставили диагноз: менингит.
Для нас с Шурой наступило тяжелое время.
Долгие дни и ночи мы могли думать только об одном: выживет ли Зоя?.. Жизнь ее была в опасности. У профессора, лечившего ее, во время разговора со мной лицо было хмурое, встревоженное. Мне казалось, что надежды нет.
Шура по нескольку раз на день бегал в Боткинскую больницу. Лицо его, обычно открытое, ясное, становилось все более угрюмым и мрачным. Болезнь Зои протекала очень тяжело. Ей делали уколы в спинной мозг — это была мучительная и сложная операция.
Как-то мы с Шурой после одного из таких уколов пришли справиться о состоянии Зои. Медицинская сестра внимательно посмотрела на нас и сказала:
— Сейчас к вам выйдет профессор.
Я похолодела.
— Что с ней? — спросила я, должно быть, уж очень страшным голосом, потому что вышедший в эту минуту профессор бросился ко мне со словами:
— Что вы, что вы, все в порядке! Я хотел вас повидать, чтобы успокоить: все идет на лад. У девочки огромная выдержка, она все переносит без стона, без крика, очень мужественно и стойко.— И, взглянув на Шуру, он спросил добродушно: — А ты тоже такой?
В тот день меня впервые пустили к Зое. Она лежала пластом, не могла поднять головы. Я сидела рядом, держа ее за руку, и не чувствовала, что по моему лицу текут слезы.
— Не надо плакать,— тихо, с усилием сказала Зоя.— Мпе лучше.
133
И правда, болезнь пошла на убыль. Мы с Шурой сразу почувствовали огромное облегчение, как будто боль, цепко державшая нас в эти нескончаемо долгие недели, вдруг отпустила. И вместе с тем пришла огромная, ни с чем не сравнимая усталость. За время Зоиной болезни мы устали, как не уставали за все последние годы. Было так, словно страшная тяжесть, которая надолго придавила нас, вдруг исчезла и мы еще не в силах распрямиться, перевести дыхание.
Несколько дней спустя Зоя попросила:
— Принеси мне, пожалуйста, что-нибудь почитать.
Через некоторое время врач и в самом деле разрешил мне принести книги, и Зоя почувствовала себя совсем счастливой. Говорила она еще с трудом, быстро уставала, но все-таки читала. Я принесла ей тогда «Голубую чашку» и «Судьбу барабанщика» Гайдара.
— Какая чудесная, светлая повесть! — сказала она о «Голубой чашке».— Ничего там не происходит, ничего не случается, а оторваться нельзя!
Выздоровление шло медленно. Сначала Зое разрешили сидеть и только некоторое время спустя — ходить.
Она подружилась со всеми, кто был в ее палате. Пожилая женщина, лежавшая на соседней койке, сказала мне однажды:
— Жалко нам будет расставаться с вашей дочкой. Она такая ласковая, даже самых тяжелых больных умеет подбодрить.
А доктор, лечивший Зою, не раз шутил:
— Знаете что, Любовь Тимофеевна? Отдайте-ка мне Зою в дочки!
Сестры тоже были приветливы с Зоей, давали ей книги, а профессор сам приносил ей газеты, которые она, немного поправившись, читала вслух соседкам по палате.
А однажды к Зое пустили Шуру. Они давно не виделись. Зоя при виде брата приподнялась на кровати, и лицо ее залил горячий румянец. А с Шурой случилось то, что всегда с ним бывало, когда он попадал в общество незнакомых людей: он испуганно оглядывался на Зоиных соседок, покраснел до испарины на лбу, вытер лицо платком и наконец остановился посреди палаты, не зная, куда ступить дальше.
— Да иди же, иди сюда, садись вот тут,— торопила Зоя.—
134
Рассказывай скорей, что в школе. Да не смущайся ты,— добавила она шепотом,— никто на тебя не смотрит.
Шура кое-как справился с собой и в ответ на повторенный Зоей вопрос: «Как там в школе? Рассказывай скорей!» — вынул из нагрудного кармана маленькую книжку с силуэтом Ильича. Такую же получила Зоя в феврале 1939 года.
— Комсомольский билет! — воскликнула Зоя.— Ты комсомолец?
— Я тебе не говорил, чтоб был сюрприз. Я знал, что ты обрадуешься.
И, позабыв о непривычной обстановке, Шура принялся со всеми подробностями рассказывать сестре, какие вопросы задавали ему на общем собрании, о чем с ним говорили в райкоме и как секретарь райкома спросил: «Ты брат Космодемьянской? Помню ее. Смотри не забудь, передай ей привет!»
ДОМОЙ!
Во время Зоиной болезни Шура набрал очень много чертежной работы. Он чертил до поздней ночи, а иногда и по утрам, до ухода в школу. Потом он отнес чертежи и получил деньги, но не отдал их мне, как делал обычно. Я не стала спрашивать, потому что знала: он и сам скажет, что хочет сделать с ними. Так и вышло. Накануне того дня, когда надо было идти в больницу за Зоей, Шура сказал:
— Вот, мам, деньги. Это Зое на новое платье. Я хотел купить материал, да уж лучше пускай она сама. Пускай выберет, что ей по вкусу.
...Зоя вышла к нам побледневшая, похудевшая, но глаза у нее так и сияли. Она обняла меня и Шуру, который при этом, конечно, испуганно оглянулся, не видит ли кто.
— Пойдемте, пойдемте, хочу домой! — торопила Зоя, как будто ее могли вернуть в палату.
И мы пошли, очень тихо, изредка приостанавливаясь: боялись утомить ее. А Зое хотелось идти быстрее. Она на все глядела с жадностью человека, который долго пробыл взаперти. Иногда она поднимала лицо к солнцу — оно было холодное, но
135
яркое — и жмурилась и улыбалась. А снег так славно поскрипывал под ногами, деревья стояли мохнатые от инея, в воздухе словно дрожали веселые колючие искорки. Зоины щеки слегка порозовели.
Дома она медленно прошла по всей комнате и потрогала каждую вещь: погладила свою подушку, провела рукой по столу, по ребру шкафа, перелистала книги — словно заново знакомилась со всеми этими, такими привычными, вещами. И тут к ней подошел серьезный и немного смущенный Шура.
— Это тебе на новое платье,— сказал он, протягивая деньги.
— Большое спасибо,— серьезно ответила Зоя.
Она не спорила и не возражала, как обыкновенно делала, когда речь заходила о какой-нибудь обновке для нее. И на лице ее было большое, искреннее удовольствие.
— А теперь ложись, ты устала! — повелительно сказал Шура, и Зоя все так же послушно и с видимым удовольствием прилегла.
...Пока я хлопотала о путевке в санаторий, где Зоя могла бы окончательно поправиться, она в школу не ходила — сидела дома и понемножку занималась.
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась на второй год,— сказала я осторожно.— Тебе еще нельзя всерьез заниматься.
— Ни в коем случае! — упрямо тряхнув головой, ответила Зоя.— Я после санатория буду заниматься, как зверь (она мимолетно улыбнулась тому, что у нее сорвалось это Шурино словечко) , и летом буду заниматься. Непременно догоню. А то еще, чего доброго, Шура — моложе, а окончит школу раньше меня. Нет, ни за что!
...Зоя радовалась жизни, как радуется человек, ускользнувший от смертельной опасности.
Она все время пела: причесываясь перед зеркалом, подметая комнату, вышивая. Часто пела она бетховенскую «Песенку Клерхен», которую очень любила:
Гремят барабаны, и флейты звучат.
Мой милый ведет за собою отряд.
Копье поднимает, полком управляет.
Ах, грудь вся горит, и кровь так кипит!
136
Ах, если бы латы и шлем мне достать,
Я стала б отчизну свою защищать!
Прошла бы повсюду за ними вослед...
Уж враг отступает пред нашим полком.
Какое блаженство быть храбрым бойцом!
Зоин голос так и звенел: радость жить — вот что звучало в нем. И даже грустные строки «Горных вершин» в ее исполнении тоже казались задумчиво-радостными, полными надежды:
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
В эти дни Шура часто рисовал Зою, усаживая ее у окна.
— Знаешь,— задумчиво сказал он однажды,— я читал, что Суриков с детства любил вглядываться в лица: как глаза расставлены, как черты лица складываются. И все думал: почему это так красиво? И потом решил: красивое лицо то, где черты гармонируют друг с другом. Понимаешь, пусть нос курносый, пусть скулы, а если все гармонично, то лицо красивое.
— А разве у меня нос курносый? Ведь ты это хочешь сказать? — смеясь, спросила Зоя.
— Нет,— ответил Шура застенчиво, с непривычной для него лаской в голосе.— Я хочу сказать, что у тебя лицо гармоничное, все подходит друг к другу: и лоб, и глаза, и рот...
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Вскоре Зоя уехала в санаторий. Находился он недалеко, в Сокольниках, и в первый свой свободный день я приехала ее навестить.
— Мама! — крикнула Зоя, бросаясь мне навстречу и едва успев поздороваться.— Знаешь, кто тут отдыхает?
— Кто же?
— Гайдар! Писатель Гайдар! Да вот он идет.
437
Из парка шел высокий широкоплечий человек с открытым, милым лицом, в котором было что-то очень детское.
— Аркадий Петрович! — окликнула Зоя.— Это моя мама, познакомьтесь.
Я пожала крепкую большую руку, близко увидела веселые, смеющиеся глаза — и мне сразу показалось, что именно таким я всегда представляла себе автора «Голубой чашки» и «Тимура».
— Очень давно, когда мы с детьми читали ваши первые книги, Зоя все спрашивала: какой вы, где живете и нельзя ли вас увидеть? — сказала я.
— Я — самый обыкновенный, живу в Москве, отдыхаю в Сокольниках, и видеть меня можно весь день напролет! — смеясь, отрапортовал Гайдар.
Потом кто-то позвал его, и он, улыбнувшись нам, отошел.
— Знаешь, как мы познакомились? — сказала Зоя, ведя меня куда-то по едва протоптанной снежной дорожке.— Иду я по парку, смотрю — стоит такой большой, плечистый дядя и лепит снежную бабу. Я даже не сразу поняла, что это он. И не как- нибудь лепит, а так, знаешь, старательно, с увлечением, как маленький: отойдет, посмотрит, полюбуется... Я набралась храбрости, подошла поближе и говорю: «Я вас знаю, вы писатель Гайдар. Я все ваши книги знаю». А он отвечает: «Я, говорит, тоже вас знаю, и все ваши книги знаю: алгебру Киселева, физику Соколова и тригонометрию Рыбкина!»
Я посмеялась. Потом Зоя сказала:
— Пройдем еще немножко, я тебе покажу, что он построил: целую крепость.
И правда, это походило на крепость: в глубине парка стояли, выстроившись в ряд, семь снежных фигур. Первая была настоящий великан, остальные всё меньше и меньше ростом; самая маленькая снежная баба сидела в вылепленной из снега палатке, а перед ней на прилавке лежали сосновые шишки и птичьи перья.
— Это вражеская крепость,— смеясь, рассказывала Зоя,— и Аркадий Петрович обстреливает ее снежками, и все ему помогают.
— И ты?
138
— Ну и я, конечно! Тут не устоишь, такой шум подымается... Знаешь, мама,— несколько неожиданно закончила Зоя,— я всегда думала: человек, который пишет такие хорошие книги, непременно и сам очень хороший. А теперь я это знаю.
Аркадий Петрович и Зоя подружились: катались вместе на коньках, ходили на лыжах, вместе пели песни по вечерам и разговаривали о прочитанных книгах. Зоя читала ему свои любимые стихи, и он сказал мне при следующей встрече: «Она у вас великолепно читает Гёте».
— А мне он знаешь что сказал, послушав Гёте? — удивленно говорила потом Зоя.— Он сказал: «На землю спускайтесь, на землю!» Что это значит?
В другой раз, незадолго до отъезда из санатория, Зоя рассказала:
— Знаешь, мама, я вчера спросила: «Аркадий Петрович, что такое счастье? Только, пожалуйста, не отвечайте мне, как Чуку и Геку: счастье, мол, каждый понимает по-своему. Ведь есть же у людей одно, большое, общее счастье?» Он задумался, а потом сказал: «Есть, конечно, такое счастье. Ради него живут и умирают настоящие люди. Но такое счастье на всей земле наступит еще не скоро». Тогда я сказала: «Только бы наступило!» И он сказал: «Непременно!»
Через несколько дней я приехала за Зоей. Гайдар проводил нас до калитки. Пожав нам на прощанье руки, он с серьезным лицом протянул Зое книжку:
— Моя. На память.
На обложке дрались два мальчика: худенький —в голубом костюме и толстый — в сером. Это были Чук и Гек. Обрадованная и смущенная, Зоя поблагодарила, и мы с нею вышли за калитку. Гайдар помахал рукой и еще долго смотрел нам вслед. Оглянувшись в последний раз, мы увидели, как он неторопливо идет по дорожке к дому.
Вдруг Зоя остановилась:
— Мама, а может быть, он написал мне что-нибудь!
И, помедлив, словно не решаясь, она открыла книжку. На титульном листе были крупно, отчетливо написаны хорошо нам знакомые слова:
«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все
139
вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».
— Это он мне опять отвечает,— тихо сказала Зоя.
...Через несколько дней после возвращения из санатория Зоя пошла в школу. О том, чтобы остаться на второй год, она и слышать не хотела.
ОДНОКЛАССНИКИ
— Знаешь,— сказала Зоя задумчиво,— меня очень хорошо встретили в школе. Даже как-то удивительно хорошо... как-то бережно. Как будто я после болезни стала стеклянная и вот-вот разобьюсь... Нет, правда, было очень приятно видеть, что мне рады,— добавила она после небольшого молчания.
В другой раз Зоя вернулась из школы в сопровождении круглолицей, краснощекой девушки. Она была воплощение здоровья — крепкая, румяная. Про таких говорят: «наливное яблочко». Это была Катя Андреева, одноклассница моих ребят.
— Здравствуйте, добрый день! — сказала она, улыбаясь и пожимая мне руку.
— Катя вызвалась подогнать меня по математике,— сообщила Зоя.
— А почему Шуре не подогнать тебя? Зачем Катю затруднять?
— Видите ли, Любовь Тимофеевна,— серьезно сказала Катя,— у Шуры нет педагогических способностей. Зоя много пропустила, и ей надо объяснить пройденное очень постепенно и систематично. А Шура... Я слышала, как он объясняет: раз-раз, и готово. Это не годится.
— Ну, раз нет педагогических способностей, тогда конечно...
— Нет, ты не смейся,— вступилась Зоя.— Шура и вправду так не умеет объяснять. А вот Катя...
Катя и в самом деле объясняла умело и толково: не спеша, не переходя к дальнейшему, пока не убедится, что Зоя все поняла и усвоила. Я слышала, как Зоя сказала ей однажды:
140
— Ты столько времени на меня тратишь...
И Катя горячо возразила:
— Да что ты! Ведь пока я объясняю тебе, я так хорошо все сама усваиваю, что мне не приходится дома повторять. Вот одно на одно и выходит.
Зоя быстро утомлялась. Катя замечала и это. Она отодвигала книгу и говорила:
— Что-то я устала. Давай немножко поболтаем.
Иногда они выходили на улицу, гуляли, потом возвращались и опять садились заниматься.
— Может, ты собираешься стать учительницей? — пошутил как-то Шура.
— Собираюсь,— очень серьезно ответила Катя.
Не одна Катя навещала нас. Забегала Ира, приходили мальчики: скромный, застенчивый Ваня Носенков, страстный футболист и горячий спорщик Петя Симонов, энергичный, веселый Олег Балашов — очень красивый мальчик с хорошим, открытым лбом. Иногда заглядывал Юра Браудо — высокий, худощавый юноша с чуть ироническим выражением лица, ученик параллельного класса. И тогда наша комната наполнялась шумом и смехом, девочки отодвигали учебники, и начинался разговор сразу обо всем.
— А знаете, сейчас Анну Каренину играет не только Тарасова, но и Еланская,— сообщала Ира, и тотчас вспыхивал жаркий спор о том, какая артистка правильнее и глубже поняла Толстого.
Как-то Олег, мечтавший стать летчиком, пришел к нам прямо из кино, где он смотрел фильм о Чкалове. Он был полон виденным.
— Вот человек!—повторял он.— Не только необыкновенный летчик, но и человек удивительный. И юмор такой милый. Знаете, когда он в тридцать седьмом году перелетел через Северный полюс в Америку, там репортеры спросили его: «Вы богаты, господин Чкалов?» — «Да, отвечает, очень. У меня сто семьдесят миллионов». Американцы так и ахнули: «Сто семьдесят миллионов?! Рублей? Долларов?» А Чкалов в ответ так спокойно: «Сто семьдесят миллионов человек, которые работают на меня, так же как я работаю на них».
141
Ребята смеются.
В другой раз Ваня прочитал стихи, под названием «Генерал», посвященные памяти Матэ Залка, павшего в боях с фашистами на полях Испании. Я помню этот вечер: Ваня сидел за столом, задумчиво глядя перед собой, а остальные примостились кто на кровати2 кто на подоконнике и слушали:
В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки Над желтым походным огнем.
В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры .Тяжелой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой Родные венгерские липы Шумят над его головой...
Ваня читал очень просто, без пафоса, но все мы слышали, как в чеканных, сдержанных строчках со страстной силой бьется большое человеческое сердце. И Ванин взгляд стал непривычно твердым, напряженным, словно юноша скорбно и гордо всматривался во мрак этой далекой арагонской ночи.
...Давно уж он в Венгрии не был,
Но где бы он ни был, над ним Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним,
Венгерское красное знамя Его освещает в бою.
И где б он ни бился, он всюду За Венгрию бьется свою.
Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он Осколком немецкой гранаты В бою под Уэской сражен.
142
Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште До смерти еще побывать.
Пока еще в небо испанском Германские птицы видны,—
Не верьте: ни письма, ни слухи О смерти его неверны.
Он жив. Он сейчас под Уэской,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры Тяжелой листвой шелестят.
И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой Родные венгерские липы Шумят над его головой.
Ваня умолк. Никто не шевельнулся, не произнес ни слова.
На нас, как горячим ветром, дохнуло волненьем тех дней, когда все мы жили испанскими событиями, когда слова «Мадрид», «Гвадалахара», «Уэска», звучали как свои, родные, и от каждой вести с тех далеких фронтов быстрей билось сердце.
— Ох, хорошо как! — выдохнул Шура.
И сразу со всех сторон посыпались вопросы:
— Чьи стихи? Откуда?
— Они написаны еще в тридцать седьмом году, я их недавно нашел в журнале. Правда, хорошие?
— Дай переписать! — хором попросили ребята.
— Испания... С тех пор еще только одно так ударило — падение Парижа,— сказал Ваня.
— Да,— подхватила Зоя,—я очень хорошо помню этот день... летом... Принесли газету, а там — Париж взят. И так страшно, так позорно это было!..
— Я тоже помню этот день, — тихо сказал Ваня. — Просто нельзя было поверить, представить нельзя: фашисты шагают по Парижу. Париж под немецким сапогом. Париж коммунаров!
143
— Хотел бы я быть там! Я бы дрался за Париж, как наши в Испании,— до последней капли крови! — негромко сказал Петя Симонов, и никто не удивился его словам.
В ту зиму я близко познакомилась с одноклассниками Зои и Шуры и узнавала в них черты своих ребят. И думала: так оно и должно быть. Семья — не замкнутый сосуд. И школа — не замкнутый сосуд. Семья, школа и дети живут тем же, что волнует, тревожит и радует всю нашу страну, и все происходящее вокруг воспитывает наших ребят.
Ну вот, например: сколько тружеников — творцов прекрасных открытий — в прошлом остались безвестными! А теперь каждый, кто работает умно, ярко, талантливо, становится знатным человеком. И всякий, кто созидает, окружен уважением и любовыо парода. Вот девушка-текстильщица изобрела способ выпускать во много раз больше, чем прежде, красивой и прочной ткани — и ее пример воодушевил всех текстильщиц по всему Советскому Союзу. Вот трактористка — она работает так умно и толково, что вчера еще никому не известное имя ее стало любимо и уважаемо всеми. Вот новая книга для ребят — это «Тимур и его команда», повесть о чести, о дружбе, о нежности к другу, об уважении к человеку. Вот новый фильм — это «Зори Парижа»: о французском народе, о польском патррюте Домбровском, который боролся за свободу и счастье своей родины на баррикадах Парижа. И ребята жадно впитывают все хорошее, честное, смелое, доброе, чем полны эти книги, фильмы, чем полон каждый день нашей жизни.
И я видела: для моих детей и для их товарищей нет ничего дороже родкой страны, но им дорог и весь большой мир. Франция для них не родина Петэна и Лаваля, но страна Стендаля и Бальзака, страна коммунаров; англичане — потомки великого Шекспира; американцы — это те, у кого были Линкольн и Вашингтон, Марк Твен и Джек Лондон. И хотя они видели уже, что немцы навязали миру чудовищную, разрушительную войну, захватили Францию, топтали Чехословакию, Норвегию,— настоящая Германия была для них не та, что породила Гитлера и Геббельса, а страна, где творили Бетховен, Гёте, Гейне, где родился великий Маркс и боролся замечательный революционер Эрнст Тельман. В них воспитывали глубокую и горячую любовь к сво¬
144
ей родине и уважение к другим народам, ко всему прекрасному, что создано всеми нациями, населяющими земной шар.
Все, что видели дети вокруг себя, все, чему учили их в школе, воспитывало в них подлинный гуманизм, человечность, горячее желание строить, а не разрушать, созидать, а не уничтожать. И я глубоко верила в их будущее, в то, что все они станут счастливым?! и жизнь их будет хорошей и светлой.
„ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ"
Дни шли за днями. Зоя теперь была здорова, совсем окрепла, перестала быстро утомляться,— а это было так важно для нас! Она понемногу догнала класс, и в этом ей очень помогли товарищи. Зоя, всегда такая чуткая к дружескому, доброму слову, очень дорожила этим.
Помню, раз она сказала мне:
— Ты ведь знаешь, я всегда любила школу, но сейчас...— Она замолчала, и в этом молчании было такое большое чувство, какого не выскажешь словами.
Чуть погодя она добавила:
— И знаешь, я, кажется, подружилась с Ниной Смоляновой.
— С Ниной? С какой Ниной?
— Она учится не в нашем, а в параллельном классе. Она очень мне по душе. Такая серьезная. И прямая... Мы как-то разговорились с ней в библиотеке о книгах, о ребятах. И у нас одинаковые взгляды на все. Я тебя с ней непременно познакомлю.
Через несколько дней после этого разговора я встретилась на улице с Верой Сергеевной Новоселовой.
— Ну как? — спросила я.— Как у вас там моя Зоя?
— По моему предмету она давно уже догнала. Это и неудивительно: ведь она так много читала... Нас радует, что она понравилась, окрепла. Я постоянно вижу ее среди товарищей. И мне кажется, что она подружилась с Ниной. Они чем-то похожи — обе очень прямые, обе серьезно относятся ко всему: к занятиям, к людям.
д Библиотека пионера. Том II 145
Я проводила Веру Сергеевну до школы. Возвращаясь домой, я думала: «Как она знает ребят! Как умеет видеть все, что происходит с ними!..»
...Незаметно подошла весна — дружная, зеленая. Уж но помню, чем провинился тогда девятый «А», но только ребята всем классом пришли к своему директору с повинной головой и просили пе наказывать, а просто дать им самый трудный участок школьного двора, который решено озеленить.
Николай Васильевич согласился и действительно поблажки не дал: поручил им и впрямь самое тяжелое место — то, где недавно закончили пристройку к школе трехэтажпого корпуса. Все вокруг было завалено всяким строительным мусором.
В тот день Зоя и Шура вернулись домой поздно и наперебой стали рассказывать, как поработали.
Вооружившись лопатами и носилками, девятый «А» выравнивал и расчищал площадку, убирал щебень, рыл ямы для деревьев. Вместе со школьниками работал и Николай Васильевич — таскал камни, копал землю. И вдруг к ребятам подошел высокий худощавый человек.
«Здравствуйте»,— сказал он.
«Здравствуйте!» —хором ответили ему.
«Скажите, где тут у вас можно найти директора?»
«Это я»,—отозвался Кириков, оборачиваясь к незнакомцу и вытирая черные, покрытые землей руки...
— Понимаешь,— смеясь, рассказывала Зоя,— стоит грязный, с лопатой, как ни в чем не бывало, как будто директор для того и существует, чтоб сажать деревья со своими учениками!
Худощавый оказался корреспондентом «Правды». Это был Лев Кассиль. Он сначала удивился, услышав, что плечистый землекоп в косоворотке и есть директор 201-й школы, потом рассмеялся и больше уже не уходил с участка, хоть и пришел в школу по каким-то другим делам. Он осмотрел молодой фруктовый сад, посаженный руками учеников, густой малинник, розовые кусты. «Как хорошо!..—говорил он задумчиво.—Ты был, допустим, в средних классах, когда сам, своими руками, посадил яблоню в школьном саду. Она росла вместе с тобой* ты
146
бегал смотреть на нее во время перемен, окапывал ее, опрыскивал, уничтожал вредителей. И вот ты кончаешь школу, а твоя яблоня уже дает первые плоды... Хорошо!»
— Хорошо! — мечтательно повторяла и Зоя.— Хорошо! Вот я в девятом классе и сегодня посадила липу. Будем расти вместе... Моя липа третья — запомни, мама. А четвертая липа — Кати Андреевой.
А через несколько дней в «Правде» появился рассказ о том, как девятиклассники озеленили школьный двор. И кончался этот рассказ такими словами:
«Заканчиваются выпускные испытания. Из школы уходят молодые люди, получившие тут верную прививку, хорошо подросшие, не боящиеся ни заморозков, ни ветров под открытым небом. Питомцы школы уйдут работать, учиться, служить в Красной Армии...
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!..»
ВАЛ
А 21 июня был вечер, посвященный выпуску десятого класса. Девятый «А» решил явиться на этот вечер в полном составе.;
— Во-первых, потому, что мы любим наших выпускников,— сказал Шура.— Там чудесные ребята, один Ваня Белых чего стоит!..
— А во-вторых,— подхватила Катя,— мы посмотрим, как у них получится, и в будущем году устроим еще лучше!
Они готовились к выпускному балу как гости, как участники и как соперники, которые через год намерены устроить такой ослепительный бал, какой еще и не снился ни одному выпуску. Они украшали школу. Им помогал в этом учитель-художник Николай Иванович. У него было то, что так высоко ценили и уважали в 201-й школе,— умелые, золотые руки. Он всегда украшал школу изящно и просто и всякий раз — к годовщине Октября, к Новому году, к майским дням — придумывал что-
147
пибудь новое, необычное. И ребята с восторгом, с увлечением выполняли его указания.
— А сейчас он сам себя превзойдет! — уверял Шура.
...Вечер был теплый и светлый. Я вернулась домой поздно,
часам к десяти, и не застала ребят — они уже ушли на бал. Немного погодя я снова вышла на улицу, села на крыльцо и долго сидела спокойно и бездумно — просто отдыхала, наслаждаясь тишиной и свежим запахом листвы. Потом поднялась и не спеша пошла к школе. Мне захотелось хоть издали взглянуть на то, как «превзошел себя» Николай Иванович, как веселятся ребята... Да я и не отдавала себе отчета, зачем иду: гуляю — вот и все.
— Вы не знаете, где тут двести первая школа? — услышала я глуховатый женский голос.
— Кириковская? — отозвался кто-то густым добродушным басом, прежде чем я успела обернуться.— Да так прямо и идите, а вон у того дома — видите? — повернете, там она и есть. Слышите, музыка?
Да, и я слышала музыку и уже издали увидела школу, всю залитую светом. Окна были распахнуты настежь.
Я тихо вошла, огляделась и стала медленно подниматься по лестнице. Да, Николай Иванович сделал самое хорошее: он дал лету ворваться в школу. Всюду были цветы и зелень. В вазах, в кадках и горшках, на полу, на стенах и на окнах, в каждом углу и на каждом шагу — букеты роз и темные гирлянды еловых веток, охапки сирени и кружевные ветви березы, и еще цветы, цветы без конца...
Я пошла туда, откуда неслись музыка, смех и шум. Подошла к распахнутым дверям зала и остановилась, ослепленная: столько света, столько молодых лиц, улыбок, блестящих глаз... Я узнала Ваню — того самого, о котором не раз восторженно и уважительно рассказывал Шура: он был председатель учкома, прекрасный комсомолец, хороший ученик, сын штукатура и сам мастер по штукатурной части, тоже — золотые руки и светлая голова... Увидела я Володю Юрьева, сына Лидии Николаевны, которая учила Зою и Шуру в младших классах. Этот ясноглазый, высоколобый мальчик всегда удивлял меня каким-то очень серьезным выражением лица, но сейчас он осыпал пригоршня¬
148
ми конфетти пролетавшие мимо пары и весело, по-мальчишески, смеялся... Потом я отыскала глазами Шуру; он стоял у стены, белокурая девушка, смеясь, приглашала его на вальс, а он только застенчиво улыбался и могал головой...
А вот и Зоя. На ней красное с черными горошинками платье — то самое, что было куплено на деньги, подаренные Шурой. Платье ей очень шло. Шура, увидев его впервые, сказал с удовольствием: «Оно тебе очень, очень к лицу».
Зоя разговаривала о чем-то с высоким смуглым юношей, имени которого я не знала. Глаза ее светились улыбкой, лицо разгорелось...
Вальс кончился, пары рассыпались. Но тут же раздался веселый зов:
— В круг! В круг! Все становитесь в круг!
И снова замелькали перед глазами голубые, розовые, белые платья девушек, смеющиеся, раскрасневшиеся лица... Я тихонько отошла от дверей.
Выйдя из школы, я остановилась еще на секунду — такой взрыв веселого смеха долетел до меня. Потом я медленно пошла по улице, глубоко, всей грудыо вдыхая ночную прохладу. Мае вспомнился тот день, когда я впервые повела маленьких Зою и Шуру в школу. «Какие выросли... Вот бы отцу поглядеть!» — подумала я.
...Коротки летние ночи в Москве, и тишина их пепрочпая. Звонко простучат по асфальту запоздалые шаги, прошуршит неизвестно откуда взявшийся автомобиль, далеко разнесется над спящим городом хрустальный перезвон кремлевских курантов...
А в эту июньскую ночь тишины, пожалуй, и не было. То тут, то там неожиданно раздавались голоса, взрывы смеха, быстрые, легкие шаги, вдруг вспыхивала песня. Из окон удивленно выглядывали разбуженные в неурочный час люди, и тут же на их лицах появлялась улыбка. Никто не спрашивал, почему в эту ночь на улицах столько неугомонной молодежи, почему юноши и девушки, взявшись под руки, по десять — пятнадцать человек шагают прямо посреди мостовой, почему у них такие оживленные, радостные лица и им никак не сдержать ни песпи, ни смеха. Незачем спрашивать, все знали: это молодая Москва празднует школьный выпуск.
149
Наконец я вернулась домой и легла. Проснулась, когда в окне чуть забрезжил рассвет: эта ночь на 22 июня была такой короткой...
Шура стоял подле своей постели. Должно быть, это его приглушенные, осторожные шаги разбудили меня.
— А Зоя? — спросила я.
— Она пошла еще немножко погулять с Ирой.;
— Хороший был вечер, Шурик?
— Очень! Очень! Но мы ушли пораньше, оставили выпускников одних с учителями. Из вежливости, понимаешь? Чтоб не мешать им прощаться, и все такое.
Шура лег, и мы некоторое время молчали. Вдруг за открытым окном послышались тихие голоса.
— Зоя с Ирой...— прошептал Шура.
Девочки остановились под самым нашим окном, горячо о чем-то разговаривая.
— ...это когда ты самый счастливый человек на свете,— донеслись до пас слова Иры.
— Это так. Но я не понимаю, как можно любить человека, не уважая его,— сказала Зоя.
— Ну как ты можешь так говорить! — огорченно воскликнула Ира.— Ведь ты прочла столько книг!
— Потому и говорю, что знаю: если я не буду уважать человека, то не смогу его любить.
— Но в книгах о любви говорится иначе. В книгах любовь — это счастье... это совсем особенное чувство...;
— Да, конечно. Но ведь...
Голоса стали глуше.
— Пошла провожать Иру,— тихо сказал Шура. И озабочеп- по, как старший, добавил: — Ей будет трудно жить. Она ко всему относится как-то по-особенному.
— Ничего,— сказала я.— Она только растет. Все будет хорошо, Шурик.
И сейчас же на лестнице зазвучали осторожные шаги. Зоя едва слышно приотворила дверь.
— Вы спите? — шепотом спросила она.
Мы не отозвались. Неслышно ступая, Зоя подошла к окну и еще долго стояла* глядя на светлеющее небо..
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ИЮНЯ
Как запомпилась мне каждая минута этого дня!
В воскресенье 22 июня я должна была принимать последние экзамены в военной школе. Ясным, солнечным утром я спешила к трамваю. Зоя провожала меня.
Она шла рядом со мной — совсем взрослая девушка, стройная, высокая, с ярким и чистым румянцем на щеках. И улыбка у нее была славная, ясная: она улыбалась солнцу, разлитой вокруг свежести, запаху щедро цветущей липы.
Я вошла в трамвай. Зоя помахала мне рукой, постояла секунду на остановке и повернула к дому.
От нас до моей школы чуть не час езды. Я всегда читаю в трамвае, но это утро было такое хорошее, что я вышла на площадку, чтобы за дорогу вдохнуть побольше ласкового летнего ветра. Не признавая никаких правил, он на ходу врывался в трамвай, трепал волосы веселой молодежи, заполнявшей площадку. Попутчики мои то и дело менялись. У Тимирязевской академии сошли студенты и разбрелись по факультетам: горячая экзаменационная пора не знает воскресений. У памятника Тимирязеву, на скамьях, среди пестрых цветников тоже виднелись группы юношей и девушек: должно быть, готовятся, а некоторые счастливцы, пожалуй, уже и сдали. А на следующей остановке и площадку и вагон заполнили школьники в парадных костюмах, в красных галстуках. Очень молодая п очень строгая учительница в очках зорко следила, чтобы ребята не шумели, не стояли на подножке, не высовывались в окна.
— Марья Васильевна,-— взмолился широкоплечий крепыш,— как же так: и в классе не шуми и здесь не разговаривай... Ведь у нас теперь каникулы!
Учительница ни слова не возразила, только посмотрела па мальчугана, но так, что он со вздохом опустил глаза и умолк. Ненадолго в вагоне стало совсем тихо. Потом девочка с волосами, как огонь, озорными глазами и веселыми веснушками по всему лицу толкнула локтем подругу, что-то шепнула ей на ухо — и разом все зашушукались, засмеялись, вагон снова зажужжал и загудел, как улей.
Я сошла с трамвая. До начала экзаменов оставалось еще
151
полчаса, и я не торопясь шла по широкой улице, заглядывая в окна книжных магазинов. Надо сказать Шуре, чтобы приехал сюда, купил книги для десятого класса и географические карты. Пусть все будет готово заранее: ведь предстоит последний, самый серьезный школьный год... А вот художественная выставка, сюда мы на днях пойдем все вместе...
Я подошла к школе и поднялась на второй этаж. Всюду было как-то не по-экзаменационному пустынно и безлюдно. В учительской меня встретил директор.
— Сегодня экзаменов не будет, Любовь Тимофеевна,— сказал он.-— Учащиеся не явились, причина пока неизвестна.
Еще ничего не подозревая, я ощутила где-то глубоко внутри странный холодок. Наши учащиеся — военные, люди образцовой аккуратности. Какая же причина могла задержать их в день экзаменов? Что случилось?.. Этого пока никто не знал.
Когда я снова вышла на улицу, мне показалось, что стало душно, а на всех лицах появилось неспокойное, напряженное выражение. Куда девались утренняя свежесть, беззаботное, шумное веселье праздничной московской толпы? Все словно ждали чего-то, и ожидание это было томительно, точно перед грозой.
Трамваи проходили переполненные, почти всю обратную дорогу я прошла пешком. Ближе к дому наконец села в трамвай и поэтому не слышала радио. Но первое слово, которым встретили меня дома, было то, каким для всех нас разразилась предгрозовая духота этого памятного утра.
— Война! Мама, война! — Дети кинулись ко мне, едва я переступила порог, и заговорили разом: — Ты зпаешь, война! Германия на нас напала! Без объявления войны! Просто перешли границу и открыли огонь!
У Зои было гневное лицо, и говорила она горячо, не сдерживая возмущения. Шура старался казаться спокойным.
— Ну что ж, этого надо было ждать,— сказал он задумчиво.— Разве мы не понимали, что такое фашистская Германия?
Мы помолчали.
— Да, теперь вся жизнь пойдет по-другому,— сквозь зубы, негромко, словно про себя, сказала Зоя.
Шура стремительно повернулся к ней:
152
— Может, и ты собираешься воевать?
— Да! — почти зло ответила Зоя. Потом быстро повернулась и вышла из комнаты.
...Мы знали: война — это смерть, которая унесет миллионы человеческих жизней. Мы знали, что война — это разрушение, несчастье и горе. Но в тот далекий первый день мы даже и представить себе не могли всего, что принесет нам война. Мы еще не знали бомбежек, не знали, что такое щель и бомбоубежище,— скоро нам самим пришлось их устраивать. Мы еще ие слышали свиста и разрыва фугасных бомб. Мы не знали, что от воздушной волны вдребезги разбиваются оконные стекла и слетают с петель запертые на замок двери. Мы не знали, что такое эвакуация и эшелоны, переполненные детьми,— эшелоны, которые враг спокойно и методично расстреливает с самолета. Мы еще ничего не слышали о сожженных дотла селах и разрушенных городах. Мы не знали о виселицах, пытках и муках, страшных рвах и ярах, где находят могилу десятки тысяч людей — женщины, больные, глубокие старики, младенцы на руках у матерей. Мы ничего не знали о печах, где тысячами, сотнями тысяч сжигают людей, сначала надругавшись над ними. Мы не знали о душегубках, о сетках из человеческих волос, о переплетах из человеческой кожи... Мы еще очень многого не знали. Мы привыкли уважать человеческое в человеке, любить детей и видеть в них свое будущее, мы еще не знали, что звери, по виду не отличимые от людей, могут бросить грудного ребенка в огонь. Мы не знали, сколько времени продлится эта война...
Да, мы еще многого тогда не знали...
ВОЕННЫЕ БУДНИ
Первым из нашего дома проводили на фронт Юру Исаева. Я видела, как он вышел на улицу. Он шагал рядом с женой, а чуть позади, вытирая глаза то платком, то фартуком, брела мать. Пройдя немного, Юра оглянулся. Должно быть, в каждой квартире, как и у нас, кто-нибудь стоял у открытого окна и смотрел ему вслед. И, видно, таким милым показался Юре этот
153
двухэтажный домик среди разросшихся зеленых кустов и все люди в нем — такими родными и близкими...
Он увидел нас с Зоей в окне, улыбнулся и помахал фуражкой.
— Счастливо оставаться! — крикнул он.
— Счастливо возвратиться! — ответила Зоя.
Юра еще несколько раз оглядывался, словно хотел вернее запомнить все, что оставлял, каждую черточку в облике дома, как в лице родного человека, и эти открытые окна, и кусты вокруг-
Вскоре призвали Сергея Николина. Он уходил один: жена работала на заводе и не могла проводить его. Отойдя немного, Сергей, так же как и Юра, оглянулся на дом. Они были разные люди и внешне совсем не походили друг па друга, но глаза их в эту прощальную минуту показались мне совсем одинаковыми: оба словно обнимали взглядом все, что могли охватить, и столько любви и тревоги было в этом взгляде!
...Жизнь стала совсем иной, суровой и неспокойной. Изменился и облик нашей Москвы. Окна были перечеркнуты бумажными полосами: у одних решительно, крест-накрест, у других — каким-нибудь несмелым узором. Витрины магазинов забиты фанерой, заложены мешками с песком. Казалось, все дома смотрят исподлобья, хмуро и настороженно.
Во дворе нашего дома рыли щель. Люди несли из сараев доски, чтобы сделать в убежище настил. Один из жильцов громче всех доказывал, что ничего нельзя жалеть для общего дела, но почему-то забыл открыть свой сарай — вместо этого он вдруг иакипулся па игравших во дворе ребятишек (отец их был на фронте, мать — на работе) и с криком потребовал, чтобы они сейчас же, немедленно притащили доски. Зоя подошла к нему и спокойно, раздельно сказала:
— Вот что: сейчас вы откроете свой сарай и дадите доски, а пока мы будем работать, придет с работы мать этих детей и тоже сделает все, что надо. На малышей легко кричать!
...В первые же дни войны к нам забежал проститься мой племянник Слава. Он был в лётной форме, с крылышками на рукаве.
— Еду на фронт! — сообщил он. Лицо у него было такое
радостное* словно он собирался на праздник.— Не поминайте лихом!
Мы крепко обняли его, и он ушел, пробыв у нас едва полчаса.
— Как плохо, что девушек не берут в армию! — сказала Зоя, глядя ему вслед.
И столько горечи и силы было в этих словах, что даже Шура не решился, по своему обыкновению, пошутить или заспорить.
...Мы никогда не ложились спать, не прослушав по радио сводку Информбюро. А в те первые недели невеселые это были сообщения. Зоя слушала их, сдвинув брови, сжав зубы, и часто отходила от репродуктора, не говоря ни слова. Но однажды у нее вырвалось:
— Какую землю топчут!
Это был первый и единственный крик боли, который я слышала от Зои за всю ее жизнь.
ОТЪЕЗД
1 июля под вечер к нам постучали.
— Можно Шуру? — спросил кто-то, не заходя в комнату.
— Петя? Симонов? — удивилась Зоя, вставая из-за стола и приотворяя дверь.— Зачем тебе Шура?
— Надо,— таинственно ответил Петя.
В эту минуту явился сам Шура, выходивший зачем-то из комнаты, кивнул товарищу и, не говоря ни слова, вышел с ним. Мы выглянули в окно: внизу ждали несколько подростков,, все — одноклассники и приятели. Они о чем-то потолковали вполголоса, потом всей гурьбой пошли прочь.
— В школу,— задумчиво, про себя сказала Зоя.— Что у них там за секреты?
Шура вернулся поздно вечером. Вид у него был такой же серьезный и озабоченный, как перед тем у Пети.
— Что случилось? — спросила Зоя.— Почему такая таинственность? Зачем тебя вызывали?
155
— Не могу сказать,— решительно ответил Шура.
Зоя слегка пожала плечами, но промолчала.
На другое утро она чуть свет убежала в школу и возвратилась взволнованная.
— Мальчики уезжают,— сказала она мне.— Куда и зачем — не говорят. Девочек не берут. Если б ты знала, как я уговаривала их взять меня! Ведь стрелять я умею. И я сильная. Ничего не помогло! Сказали: берут одних мальчиков.
По лицу Зои, по глазам я видела, сколько горячности вложила она в эти тщетные уговоры.
Шура вернулся поздно и сказал спокойно, словно о чем-то совсем обычном:
— Мам, собери мне, пожалуйста, пару белья. И еды на дорогу. Только много не надо.
Знает ли он, куда их отправляют,— этого мы добиться не могли.
— Если я с первого шага начну болтать, какой же я буду военный? — сказал он твердо.
Зоя молча отвернулась.
Сборы были несложные. Зоя купила Шуре на дорогу сухарей, конфет, колбасы. Я приготовила белье и увязала все в один небольшой узелок. А во второй половине дня мы пошли провожать Шуру.
В Тимирязевском парке было уже много ребят из разных школ. Сначала они все перемешались, потом постепенно сгруппировались по школам. Матери и сестры стояли в стороне с узелками, чемоданчиками, заплечными мешками, которые они держали за лямки, точно сумку. Отъезжающие — почти все рослые, широкоплечие, но с мальчишескими веселыми лицами — делали вид, будто разлучаться с домом и с родными для них привычное дело. Кое-кто уже успел сбегать к пруду искупаться, другие ели мороженое, шутили, смеялись. Но невольно они все чаще поглядывали на часы. Те, от кого не отходили мать или сестра, немного смущались: едем на важное, серьезное дело — и вдруг с мамой, как маленькие! Я знала, что и Шура будет стесняться, поэтому мы с Зоей отошли в сторону и сели на скамейку в тени.
Часам к четырем на круг пришло много пустых трамвайных вагонов, и началась посадка. Ребята торопливо прощались
156
с родными, шумно занимали места. У тех, чьи матери плакали, были сумрачные, грустные лица. Мне не хотелось омрачать последние минуты, которые мы были вместе, и я не заплакала — только обняла Шуру и крепко сжала ему руку. Он был взволнован, хоть и старался не показать виду.
— Не ждите, пока мы двинемся, идите домой! Береги маму, Зоя! — С этими словами Шура вскочил в вагой, потом помахал нам из окошка и снова сделал знак: «не ждите, мол».
Но уйти, пока Шура был еще здесь, у нас не хватало духу. Стоя поодаль, мы видели, как дрогнули вагоны, как один за другим со звоном и грохотом они двинулись в путь,— и очнулись только тогда, когда последний трамвай скрылся из глаз.
Парк, только что такой людный и шумный, сразу опустел и затих. Под дубами-великанами стояли скамейки, но никого па них не было. Пруд лежал широкий, прохладный, чуть подернутый рябью, но никто не купался в нем. Ни голоса, ни смеха, ни звука быстрых, размашистых шагов. Тихо. Слишком тихо...
Мы медленно шли по дорожке... Лучи солнца с трудом пробивались сквозь густую листву над головой.. Не сговариваясь, мы подошли к скамье у самого пруда и сели.
— Как красиво! — сказала вдруг Зоя.— Знаешь, Шура часто приходил сюда рисовать. Вон тот мостик рисовал, видишь?
Она обращалась ко мне и в то же время как будто говорила для одной себя — тихо, медленно, углубленно.
— Пруд широкий. А Шура переплывал его много раз, — вслух вспоминала она.— Знаешь, как один раз вышло? Давно еще, Шуре тогда было лет двенадцать. Он, как всегда, начал весной купаться раньше всех. Вода холодная. И вдруг ему свело ногу, а до берега еще далеко. Он работал одной ногой, другая совсем онемела. Еле доплыл. Он меня так просил, чтоб я тебе ничего не говорила! Я и не сказала тогда. А теперь уже можно.
— И, конечно, на другой день он опять поплыл? — спросила я.
— Конечно. Утром и вечером плавал, во всякую погоду, чуть не до самой зимы. А вот там, около кустов, зимою всегда прорубь. Мы там ловили рыбешку — помнишь? Сначала консервной банкой ловили, а после сачком. Помнишь, как мы тебя угощали жареной рыбой?
— Хорошая моя!— сказала я вместо ответа и тихо погладила ее загорелую руку.
И вдруг под моей ладонью ее тонкие сильные пальцы сжались в кулак.
— Какая я хорошая! — Зоя порывисто встала, и я поняла, что мучило ее все время.— Какая я хорошая, если осталась здесь? Ребята поехали, может быть, воевать, а я осталась дома. Да как же можно сейчас ничего не делать?!
ПЕРВЫЕ БОМБЫ
Мы сидим с Зоей за столом. Перед нами — зеленая грубая материя: мы шьем из нее вещевые мешки. Для фронта. А еще мы делаем петлички для военных. Пусть это простая работа, пусть это не такое уж важное дело, но это для фронта. Эти петлички — бойцу, тому, кто защищает нас от врага. Этот мешок тоже для бойца: он положит туда свои вещи, мешок пригодится ему, послужит в походах...
Мы работаем молча, не отрываясь. Изредка я опускаю шитье и разгибаю спину — она у меня побаливает. И смотрю на Зою. Ее тонкие загорелые руки проворны и неутомимы. Работа так и горит в них. Сознание, что и она делает что-то нужное для фронта, если и не освободило Зою от мучительных мыслей, то все-таки помогло обрести какое-то внутреннее равновесие. Она даже внешне преобразилась: не так сумрачно смотрят глаза, порою и улыбка трогает губы...
Однажды, когда мы сидели за шитьем, дверь отворилась и вошел Шура. Вошел подчеркнуто спокойно, словно просто вернулся из школы, скинул с плеч дорожный мешок и только тогда поздоровался.
Мы уже знали, что он был на трудовом фронте. Но и сейчас, в день возвращения, как и в день отъезда, он ничего не стал нам рассказывать.
— Важно, что я опять с вами,— решительно сказал он, когда мы попытались о чем-то спросить.— А рассказывать мне просто нечего. Очень много работал, вот и все.— И, хитро при- щурясь, добавйл: — Я просто вернулся* чтоб справить дома день
158
своего рождения. Надеюсь, вы не забыли про двадцать седьмое июля? Как-никак шестнадцать исполнится.
А умывшись и сев за стол, он сказал Зое:
— Я знаю, что мы с тобой сделаем. Пойдем на «Борец» ученика ми-токарями. Ладно?
Зоя опустила шитье на колени и посмотрела на брата. Потом, снова принимаясь за работу, сказала:
— Ладно. Это будет настоящее дело.
Шура вернулся 22 июля, а вечером этого дня вражеские самолеты впервые прорвались к Москве. Впервые немецкие бомбы падали на столицу. Шура держался совсем спокойно, уверенно распоряжался, настоял на том, чтобы женщины и дети спустились в убежище. «Только своих женщин никак не ушлю»,— пожаловался он мимоходом, а сам все время бомбежки провел па улице. Зоя не отходила от него ни на шаг.
Спать нам в эту ночь не пришлось. А под утро по нашему двору разнеслась весть: бомба попала в школу.
— В нашу? В двести первую?! — в один голос крикнули Зоя и Шура.
Я не успела и слова сказать, как они оба сорвались с места и бросились к школе. Я едва поспевала за ними, но остаться дома просто не могла. Мы шли быстро, молча и, только увидев издали здание школы, вздохнули с облегчением: она стояла цела и невредима.
Невредима? Нет, это только так показалось. Подойдя ближе, мы увидели: бомба упала напротив школьного здания, и, видно, воздушной волной вышибло все окна — вокруг, куда ни глянь, стекло, стекло, стекло... Оно холодно поблескивало всюду» хрустело под ногами. Школа стояла ослепленная. Какой-то беспомощностью веяло от этого большого, всегда такого спокойного здания: точно большой и сильный человек вдруг ослеп.: Мы невольно приостановились, потом тихо поднялись па крыльцо. И вот я иду по тем коридорам, где была месяц назад, в вечер выпускного бала. Тогда тут звучала музыка, звепел смех, все было полно молодости и веселья. Теперь двери выворочепы, под ногами — стекло, штукатурка...
Нам встретилось еще несколько старшеклассников, и Шура побежал с ними куда-то — кажется* в подвал. Я машинально
159
шла за Зоей, и через минуту мы стояли на пороге библиотеки. Вдоль стен высились пустые полки: та же взрывная волна, как огромная злобная лапа, смахнула с них книги и как попало расшвыряла по полу, по столам. Книги валялись повсюду: глаз выхватывал из хаоса то светло-желтый корешок академического издания Пушкина, то синие переплеты Чехова. Я едва не наступила па помятый томик Тургенева, нагнулась, чтобы поднять его, и увидела рядом, под слоем известковой пыли, том Шиллера. А со страниц большой распахнувшейся книги на меня смотрело удивленное лицо Дон-Кихота.
На полу посреди этого хаоса сидела немолодая женщина и плакала.
— Мария Григорьевна, встаньте, не плачьте! — побелевшими губами сказала Зоя, наклоняясь к ней.
Я поняла, что это заведующая школьной библиотекой Мария Григорьевна: мне не раз говорила о ней Зоя, приходя домой с новой интересной книжкой. Эта женщина любила и знала книгу, она посвятила книге всю свою жизнь. А теперь она сидела па полу среди раскиданных, смятых, изорванных книг — тех книг, которые она привыкла брать в руки так бережно и любовно.
— Давайте соберем, давайте приведем все в порядок,—настойчиво повторяла Зоя, помогая Марии Григорьевне встать.
Я снова нагнулась и стала подбирать книги.
— Мама, смотри! — вдруг услышала я.
Я удивленно вскинула голову, и заплаканная Мария Григорьевна, осторожно ступая среди книг, тоже подошла к нам — так странно, словно торжествующе прозвучал голос Зои. Она протянула мне раскрытый томик Пушкина.
— Смотрите! — все с той же странной радостью, с торжеством в голосе повторила Зоя.
Быстрым движением она смахнула пыль со строк* и я прочла:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
„ЧЕМ ТЫ ПОМОГ ФРОНТУ?"
А 27 июля, в день своего шестнадцатилетия, Шура сообщил:
— Ну вот, теперь ты — мать двух токарей!
...Они поднимались чуть свет, возвращались с работы поздно, на никогда не жаловались на усталость. Вернувшись из ночной смены, ребята не сразу ложились: приходя домой, я заставала их спящими, а комнату — чисто прибранной.
...Воздушные налеты па Москву продолжались. Вечерами мы слышали напряженно-спокойный голос диктора:
— Граждане, воздушная тревога!
И ему вторили надрывный вой сирен, угрожающий рев паровозных гудков.
Ни разу Зоя и Шура не спустились в убежище. К ним приходили их сверстники — Глеб Ермошкин, Ваня Скородумов и Ванюшка Серов, все трое, как на подбор, крепкие, коренастые,— и они впятером отправлялись дежурить: обходили дом, стояли на посту на чердаке. И дети и взрослые — все мы жили тем новым, грозным, что вторглось в нашу жизнь, и ни о чем другом не могли думать.
Осенью учащиеся старших классов, а с ними и Зоя, уехали на трудовой фронт: надо было в совхозе спешно убрать картофель, чтобы уберечь его от морозов.
Уже начались заморозки, выпадал снег, и я беспокоилась за здоровье Зои. Но она уезжала с радостью. Захватила она с собою только смену белья, чистые тетрадки и кое-какие книги. Через несколько дней я получила от нее письмо, потом другое:
«Мы помогаем убирать урожай. Норма выработки — 100 килограммов. Второго октября собрала 80. Это мало. Непременно буду собирать 100!
Как ты себя чувствуешь? Я все время о тебе думаю и беспокоюсь. Очень скучаю, но теперь уже скоро вернусь: как только уберем картошку.
Мамочка, прости меня, работа очень грязная и не особенно легкая, я порвала галоши. Но ты, пожалуйста, не беспокойся: вернусь цела и невредима.
Все вспоминаю тебя и все думаю: нет, мало я похожа на тебя. Нет у меня твоей выдержки! Целую тебя. Зоя».
161
Я долго думала над этим письмом, над последними строчками. Что скрывается за ними? Почему Зоя вздумала упрекать себя в невыдержанности? Уж наверно, это неспроста.
Прочитав вечером письмо, Шура сказал уверенно:
— Все ясно: не поладила с ребятами. Знаешь, она часто говорила, что ей недостает выдержки, терпения к людям. Она говорила: «К человеку надо уметь подойти, нельзя сразу сердиться на него, а мне это не всегда удается».
В одной из своих открыток Зоя писала: «Дружу я с Ниной, о которой я тебе говорила». «Значит, права была Вера Сергеевна»,— подумалось мне.
Поздним октябрьским вечером я вернулась домой немного раньше обыкновенного, открыла дверь — и сердце у меня так и подпрыгнуло: за столом сидели Зоя и Шура. Наконец-то дети со мною, наконец мы опять все вместе!
Зоя вскочила, подбежала к дверям и обняла меня.
— Опять вместе,— сказал и Шура, словно услышав мои мысли.
Всей семьей мы сидели за столом, пили чай, и Зоя рассказывала о совхозе. Не дожидаясь моего вопроса о странных строчках из письма, она рассказала нам вот что:
— Работать было трудно. Дожди, грязь, галоши вязнут, ноги натирает. Смотрю — трое ребят работают быстрее меня: я долго копаюсь на одном месте, а они двигаются быстро. Тогда я решила проверить, в чем дело. Отделилась и стала работать на своем отрезке. Они обиделись, говорят: единоличница. А я отвечаю: «Может быть, и единоличница, а вы нечестно работаете...» Ты понимаешь, что получилось: они работали быстро потому, что собирали картошку поверху, лишь бы побыстрее, и много оставляли в земле. А ведь та, которая лежит поглубже, самая хорошая, крупная. А я рыла глубоко, чтоб действительно всю вырыть. Вот почему я им сказала про нечестную работу. Тогда они мне говорят: «Почему же ты сразу не сказала, почему отделилась?» Я отвечаю: «Хотела проверить себя». А ребята говорят: «Ты и нам должна была больше верить и сразу сказать...» И Нина сказала: «Ты поступила неправильно». В общем, много было споров, шума.— Зоя покачала головой и докончила тише: — Знаешь, мама, тогда я поняла, что хоть я и
162
права, а такта мне не хватает. Надо было сначала поговорить с ребятами, объяснить. Может быть, тогда и отделяться бы не пришлось.
Шура пристально смотрел на меня, и в его взгляде я прочла: «Ведь я тебе говорил!»
* * #
А Москва с каждым днем становилась все суровее, все настороженней. Дома притаились за маскировкой. По улицам проходили стройные ряды военных. Удивительны были их лица. Плотно сжатые губы, прямой и твердый взгляд из-под сведенных бровей... Сосредоточенное упорство, гневная воля — вот что было в этих лицах, в этих глазах.
Проносились по улицам санитарные машины, с грохотом и лязгом проходили танки.
Вечерами, в густой тьме, не нарушаемой ни огоньком окна, пи светом уличного фонаря, ни быстрым лучом автомобиля, надо было ходить почти ощупью, настороженно и вместе с тем торопливо, и такими же осторожными и торопливыми шагами проходили мимо люди, чьи лица нельзя было увидеть. А потом — тревоги, дежурства у подъезда, небо, разорванное вспышками, изрезанное лучами прожекторов, озаренное багровым отблеском далекого пожара...
Было нелегкое время. Враг стоял на подступах к Москве.
...Однажды мы с Зоей шли по улице, и со стены какого-то дома, с большого листа, на нас глянуло суровое, требовательное лицо воина.
Пристальные, спрашивающие глаза смотрели на нас в упор, как живые, и слова, напечатанные внизу, тоже зазвучали в ушах, точно произнесенные вслух живым, требовательным голосом: «Чем ты помог фронту?»
Зоя отвернулась.
— Не могу спокойно проходить мимо этого плаката,— сказала она с болью.
— Ведь ты же еще девочка и ты была на трудовом фронте — это тоже работа для страны, для армии.
— Мало,— упрямо ответила Зоя..
163
Несколько минут мы шли молча, и вдруг Зоя сказала совсем другим голосом, весело и решительно:
— Я счастливая: что бы ни задумала, все выходит так, как хочу!
«Что же ты задумала?» — хотела я спросить —и не решилась. Только медленно и больно сжалось сердце.
ПРОЩАНЬЕ
— Мамочка,— сказала Зоя,— решено: я иду на курсы медсестер.
— А завод как же?
— Отпустят. Ведь это для фронта.
В два дня она достала все необходимые справки. Теперь она была оживленная, радостная, как всегда, когда находила решение. А пока мы с ней шили мешки, рукавицы, шлемы. Во время воздушных налетов она, как и прежде, дежурила па крыше или на чердаке и завидовала Шуре, который у себя на заводе потушил уже не одну зажигалку.
Накануне того дня, когда Зое нужно было идти на курсы, она рано ушла из дому и не возвращалась до позднего вечера. Мы с Шурой обедали одни. Он работал в эти дни в ночной смене и сейчас, собираясь уходить, что-то рассказывал мне, а я едва слушала — неотвязная, пугающая тревога вдруг овладела мною.
— Мам, да ты не слушаешь! — с упреком сказал Шура.
— Прости, Шурик. Это потому, что я не могу понять, куда девалась Зоя.
Он ушел, а я проверила затемнение на окнах, села у стола, не в силах приняться ни за какое дело, и снова стала ждать.
Зоя пришла взволнованная, щеки у нее горели. Она подошла ко мне, обняла и сказала, глядя мне прямо в глаза:
— Мамочка, это большой секрет: я ухожу на фронт, в тыл врага. Никому не говори, даже Шуре. Скажешь, что я уехала к дедушке в деревню.
Боясь разрыдаться, я молчала. А надо было ответить. Зоя
164
смотрела мне в лицо блестящими, радостными и ожидающими глазами.
— А по силам ли тебе это будет?..— сказала я наконец.— Ты ведь пе мальчик.
Она отошла к этажерке с книгами и оттуда по-прежнему пристально, внимательно смотрела на меня.
— Почему непременно ты? — продолжала я через силу.— Если бы тебя призвали, тогда другое дело...
Зоя снова подошла и взяла меня за руки:
— Послушай, мама: я уверена, если бы ты была здорова, ты сделала бы то же, что и я. Я пе могу здесь оставаться. Не могу! — повторила она. Потом добавила тихо: — Ты сама говорила мне, что в жизни надо быть честной и смелой. Как же мне быть теперь, если враг уже рядом? Если бы они пришли сюда, я не смогла бы жить... Ты же знаешь меня, я не могу иначе.
Я хотела что-то ответить, но она снова заговорила, просто и деловито:
— Я еду через два дня. Достань мне, пожалуйста, красноармейскую сумку и мешок, который мы с тобой сшили. Остальное я сама добуду. Да, еще: смену белья, полотенце, мыло, щетку, карандаш и бумагу. Вот и все.
Потом она легла, я осталась сидеть у стола, чувствуя, что не смогу ни уснуть, ни читать. Все было решено — это я видела. Но как же быть? Ведь она еще девочка...
Мне никогда пе приходилось искать слов в разговоре со своими детьми, мы всегда сразу понимали друг друга. А теперь мне казалось, что я стою перед стеной, которую мне пе одолеть. Ах, если бы жив был Анатолий Петрович!..
Но нет: все, что я пи скажу, будет напрасно. И никто — ни я, ни отец, будь он жив,— не удержит Зою...
В тот день Шура впервые после целой педели работал в утренней смене. Он пришел усталый и грустный и поел как- то нехотя.
— Зоя твердо решила ехать в Гаи? — спросил он.
— Да,— коротко ответила я.
— Ну что ж,— сказал Шура задумчиво,— это хорошо, что она уезжает. Девочкам сейчас в Москве не место...
Голос его прозвучал неуверенно.
165
— Может быть, и ты поедешь? — добавил он, чуть помед-< лив.— Там тебе будет спокойнее.
Я молча покачала головой. Шура вздохнул, поднялся из-за стола и вдруг сказал:
— Знаешь, я лягу. Что-то я устал сегодня.
Я прикрыла лампу газетным листом. Шура некоторое время лежал молча, с открытыми глазами и, кажется, сосредоточенно думал о чем-то. Потом повернулся к стене и вскоре уснул.
* * *
Зоя вернулась поздно.
— Я так и знала, что ты не спишь,— сказала она тихо.; И добавила еще тише: — Я еду завтра,— и, словно желая ослабить силу удара, погладила мою руку.
Тут же, не откладывая, она еще раз проверила вещи, которые надо было взять с собой, и аккуратно уложила в дорожный мешок. Я молча помогала ей. Так буднично просты были эти сборы, когда стараешься сложить каждую вещь, чтоб она занимала поменьше места, и деловито засовываешь в свободный уголок кусок мыла или запасные шерстяные носки... А ведь это были наши последние, считанные минуты вместе. Надолго ли мы расстаемся? Какие опасности, какие тяготы, едва посильные порою и мужчине, солдату, ждут мою Зою?.. Я не могла заговорить, я знала, что не имею права заплакать, и только все стоял в горле горький комок.
— Ну вот,— сказала Зоя,— кажется, все.
Потом выдвинула свой ящик, достала дневник и тоже хотела положить в мешок.
— Не стоит,— с усилием выговорила я.
— Да, ты права.
И, прежде чем я успела остановить ее, Зоя шагнула к печке и бросила тетрадь в огонь. Потом присела тут же на низкую скамеечку и тихонько, по-детски попросила:
— Посиди со мной.
Я села рядом, и, как в былые годы, когда дети были маленькие, мы стали смотреть прямо в веселое, яркое пламя. Но тогда я рассказывала что-нибудь, а разрумянившиеся от тепла Зоя и
166
Шура слушали. Теперь я молчала. Я знала, что не смогу вымолвить ни слова.
Зоя обернулась, взглянула в сторону спящего Шуры, потом мягко взяла мои руки в свои и едва слышно заговорила:
— Я расскажу тебе, как все было... Только ты никому-нико- му, даже Шуре... Я подала заявление в райком комсомола, что хочу на фронт. Ты знаешь, сколько там таких заявлений? Тысячи. Прихожу за ответом, а мне говорят: «Иди в МК комсомола, к секретарю МК».
Я пошла. Открыла дверь. Он сразу внимательно-внимательно посмотрел мне в лицо. Потом мы разговаривали, и он то и дело смотрел на мои руки. Я сначала все вертела пуговицу, а потом положила руки на колени и уже не шевелпла ими, чтобы он не подумал, что я волнуюсь... Он сначала спросил биографию. Откуда? Кто родители? Куда выезжала? Какие районы знаю? Какой язык знаю? Я сказала: немецкий. Потом про ноги, сердце, нервы. Потом стал задавать вопросы по топографии. Спросил, что такое азимут, как ходить по азимуту, как ориентироваться по звездам. Я на все ответила. Потом: «Винтовку знаешь?» — «Знаю».— «В цель стреляла?! — «Да».— «Плаваешь?» — «Плаваю».— «А с вышки в воду прыгать пе боишься?» — «Не боюсь».— «А с парашютной вышки не боишься?» — «Не боюсь».— «А сила воли у тебя есть?» Я ответила: «Нервы крепкие. Терпеливая».— «Ну что ж, говорит, война идет, люди нужны. Что, если тебя на фропт послать?» — «Пошлите!» — «Только, говорит, это ведь не в кабинете сидеть и разговаривать... Кстати, ты где бываешь во время бомбежки?» — «Сижу на крыше. Тревоги не боюсь. И бомбежки не боюсь. И вообще ничего не боюсь». Тогда он говорит: «Ну хорошо, пойди в коридор и посиди. Я тут с другим товарищем побеседую, а потом поедем в Тушино делать пробные прыжки с самолета».
Я пошла в коридор. Хожу, думаю, как это я стану прыгать — не сплоховать бы. Потом опять вызывает: «Готова?» — «Готова». И тут он начал пугать... (Зоя крепче сжала мою руку.) Ну, что условия будут трудные... И мало ли что может случиться... Потом говорит: «Ну, иди, подумай. Придешь через два дня». Я поняла, что про прыжок с самолета он сказал просто так, для испытания.
167
Прихожу через два дня, а он и говорит: «Мы решили тебя пе брать». Я чуть не заплакала и вдруг стала кричать: «Как так не брать? Почему не брать?»
Тогда он улыбнулся и сказал: «Садись. Ты пойдешь в тыл».: Тут я поняла, что это тоже было испытание. Понимаешь, я уверена: если бы он заметил, что я невольно вздохнула с облегчением или еще что-нибудь такое, он бы ни за что не взял... Ну, вот и все. Значит, первый экзамен выдержала...
Зоя замолчала. Весело потрескивали дрова в печке, теплые отсветы дрожали на Зоином лице. Больше света в комнате не было. Долго еще мы сидели так и смотрели в огонь.
— Жаль, что дяди Сережи нет в Москве,— задумчиво сказала Зоя.— Он поддержал бы тебя в такое трудное время, хотя бы советом...
Потом Зоя закрыла печку, постелила себе и легла. Немного погодя легла и я, но уснуть не могла. Я думала о том, что Зоя не скоро еще будет снова спать дома, на своей кровати. Да спит ли она?.. Я тихонько подошла. Она тотчас шевельнулась.
— Ты почему пе спишь? — спросила она, и по голосу я услышала, что она улыбается.
— Я встала посмотреть на часы, чтобы не проспать,— ответила я.— Ты спи, спи.
Я снова легла, но сон не шел. Хотелось опять подойти к ней, спросить: может, она раздумала? Может, лучше эвакуироваться всем вместе, как нам уже не раз предлагали?.. Что-то душило меня, дыхания не хватало... Это последняя ночь. Последняя минута, когда я еще могу удержать ее. Потом будет поздно... И опять я встала. Посмотрела при смутном предутреннем свете на спящую Зою, па ее спокойное лицо, на плотно сжатые, упрямые губы — ив последний раз поняла: нет, не передумает.
Шура рано уходил на завод.
— До свиданья, Шура,— сказала Зоя, когда он стоял уже в пальто и шапке.
Он пожал ей руку.
— Обними деда,— сказал он.— И бабушку. Счастливого тебе пути!.. Знаешь, нам будет скучно без тебя. Но я рад: в Гаях тебе будет спокойнее.
Зоя улыбнулась и обняла брата.
168
Потом мы с нею выпили чаю, и она стала одеваться. Я дала ей теплые зеленые варежки с черной каемкой, которые сама связала, и свою шерстяную фуфайку.
— Нет, нет, не хочу! Как же ты будешь зимой без теплого? — запротестовала Зоя.
— Возьми,— сказала я тихо.
Зоя взглянула на меня и больше не возражала.
Потом мы вышли вместе. Утро было пасмурное, ветер дул в лицо.
— Давай я понесу твой мешок, — сказала я.
Зоя приостановилась:
— Ну зачем ты так? Посмотри на меня... Да у тебя слезы? Со слезами провожать меня не надо. Посмотри на меня еще.
Я посмотрела: у Зои было счастливое, смеющееся лицо. Я постаралась улыбнуться в ответ.
— Вот так-то лучше. Не плачь...
Она крепко обняла меня, поцеловала и вскочила на подножку отходящего трамвая.
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Дома каждая вещь сохраняла тепло недавнего Зоиного прикосновения. Книги стояли на этажерке так, как она их расставила. Белье в шкафу, стопка тетрадей на столе были уложены ее руками. И аккуратно замазанные на зиму окна, и ветки с сухими осенними листьями в высоком стакане — все, все помнило ее и напоминало о ней.
Дней через десять пришла открытка, всего несколько строк: «Дорогая мамочка! Я жива и здорова, чувствую себя хорошо. Как-то ты там? Целую и обнимаю тебя. Твоя Зоя».
Шура долго держал в руках эту открытку, читал и перечитывал номер полевой почты, словно хотел затвердить его наизусть.
— Мам?! — сказал он только, и в этом возгласе было все: удивление, упрек, горькая обида на нас за наше молчание.
Самолюбивый и упрямый, он ни о чем не хотел меня спра¬
169
шивать. Его поразило и безмерно обидело, что Зоя не поделилась с ним, пи слова ему не сказала.
— Но ведь и ты, когда уезжал в июле, тоже Зое ничего не сказал. Ты тогда не имел права рассказывать, и она тоже.
И он ответил мне словами, каких я никогда не слышала от него (я и не думала, что он может так сказать):
— Мы были с Зоей одно.— И, помолчав, с силой добавил: — Мы должны были уйти вместе!
Больше мы об этом не говорили.
...«Не нахожу себе места» —вот когда я поняла, что значат эти слова! Каждый день до глубокой ночи я сидела за шитьем военного обмундирования и думала, думала: «Где ты сейчас? Что с тобой? Думаешь ли ты о нас?..»
Однажды у меня выдалась свободная минута, и я стала приводить в порядок ящик стола: мне хотелось освободить место для Зоиных тетрадей, чтобы они не пылились напрасно.
Сначала мне попались листки, густо исписанные Зоиным почерком. Я прочла их: это были разрозненные страницы ее сочинения об Илье Муромце, по-видимому черновик. Начиналось сочинение так:
«Безграничны просторы русской земли. Три богатыря хранят ее покой. Посредине, на могучем коне, Илья Муромец. Тяжелая булава в его руке готова обрушиться на врага. По бокам — товарищи верные: Алеша Попович с лукавыми глазами и красавец Добрыня».
Мне вспомнилось, как Зоя читала былины об Илье, как принесла однажды репродукцию со знаменитой картины Васнецова и долго, сосредоточенно рассматривала ее. Описанием этой картины она и начала сочинение.
На другом листке стояло:
«Народ относится к нему ласково, жалеет, когда он ранен в бою, называет Иленькой и Илюшенькой: «Ножка у Иленьки подвернулася». Когда его одолевает злой «нахвалыцик», то сама земля русская вливает в него силы: «Лежичи, у Ильи втрое силы прибыло».
И на обороте:
«И вот спустя столетия чаяния и ожидания народные сбылись: у нашей земли есть свои достойные защитники из наро¬
170
да — Красная Армия. Недаром поется в песне: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Мы делаем былыо чудесную сказку, и поет народ о своих героях с такой же глубокой любовью, как пел он когда-то об Илье Муромце».
Я бережно вложила эти листки в одну из Зоиных тетрадей и увидела, что в этой тетради сочинение об Илье Муромце, уже исправленное, переписано начисто, а в конце его рукою Веры Сергеевны отчетливо выведено: «Отлично».
Потом я стала укладывать всю стопку в ящик и почувствовала, что в самом углу что-то мешает. Протянула руку, нащупала что-то твердое и вытащила маленькую записную книжку. Я открыла ее.
На первых страничках были записаны имена писателей и названия произведений, против многих стояли крестики: значит, прочтено. Тут были Жуковский, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Диккенс, Байрон, Мольер, Шекспир... Потом шли несколько листков, исписанных карандашом, — полустер- шиеся, почти неразборчивые строки. И вдруг — чернилами, бисерно мелким, но четким Зоиным почерком:
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (Чехов).
«Быть коммунистом — значит дерзать, думать, хотеть, сметь» (Маяковский).
На следующей страничке я увидела быструю запись карандашом: «В «Отелло» — борьба человека за высокие идеалы правды, моральной чистоты и духовной искренности. Тема «Отелло» — победа настоящего, большого человеческого чувства!»
И еще: «Гибель героя в шекспировских произведениях всегда сопровождается торжеством высокого морального начала».
Я листала маленькую, уже чуть потрепанную книжку, и мне казалось, что я слышу голос Зои, вижу ее пытливые, серьезные глаза и застенчивую улыбку.
Вот выдержка из «Анны Карениной» о Сереже: «Ему было девять лет, он был ребенок; но душу свою он знал, она была дорога ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу».
Я читала — и мне казалось, что это сказано о самой Зое. Все время, из-за каждой строчки, это она смотрела на меня.
171
«Маяковский — человек большого темперамента, открытый, прямой. Маяковский создал новую жизнь в поэзии. Он — поэт- гражданин, поэт-оратор».
«Сатин: «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!»
«...Что такое — правда? Человек — вот правда!»
«...Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека!.. Человек! Это — великолепно! Это звучит... гордо!.. Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!.. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело!.. Человек — выше! Человек — выше сытости!» (Горький, «На дне».)
Новые странички — новые записи:
«Мигуэль де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский». Дон-Кихот — воля, самопожертвование, ум».
«Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес, сотворенных человечеством на пути его к счастью и могуществу будущего» (М. Горький).
«Впервые прочел хорошую книгу — словно приобрел большого, задушевного друга. Прочел читанную — словно встретился вновь со старым другом. Кончаешь читать хорошую книгу — словно расстаешься с лучшим другом, и кто знает, встретишься ли с ним вновь» (китайская мудрость).
«Дорогу осилит идущий».
«В характере, в манерах, стиле, во всем самое прекрасное — это простота» (Лонгфелло).
И снова, как в тот день, когда я читала Зоин дневник, мне казалось, что я держу в руках живое сердце — сердце, которое страстно хочет любить и верить. Я все перелистывала книжку, подолгу задумываясь над каждой страничкой, и мне чудилось: Зоя рядом, мы снова вместе.
И вот последние листки. Дата: октябрь 1941.
«Секретарь Московского комитета — скромный, простой. Говорит кратко, но ясно. Его тел. К 0-27-00, доб. 1-14».
А потом — большие выписки из «Фауста» и целиком — хор, славящий Эвфориона:
172
Лозунг мой в этот миг — Битва, победный крик.
Пусть! На крылах своих Рвусь туда!
Рвусь в боевой пожар,
Рвусь я к борьбе.
«Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России» (Салтыков-Щедрин).
И вдруг, на последней странице, как удар в сердце,— слова из «Гамлета»:
«Прощай, прощай и помни обо мне!»
„ТАНЯ“
Вспоминать прошлое мне было и радостно и горько. Я вспоминала — и мне казалось, что я снова качаю колыбель маленькой Зои, снова держу на руках трехлетнего Шуру, снова вижу их вместе, моих детей,— живыми, полными надежд. Но чем меньше остается рассказывать, тем мне тяжелее, тем зримее близкий, неотвратимый конец, тем труднее находить нужные слова...
Дни после ухода Зои я помню отчетливо, до мелочей.
Она ушла — и наша с Шурой жизнь вся превратилась в ожидание. Прежде, придя домой и не застав сестру, Шура всегда спрашивал: «Где Зоя?» Теперь его первые слова были: «Письма нет?» Потом он перестал спрашивать вслух, и только в его глазах я неизменно читала этот вопрос. Но однажды он вбежал в комнату взволнованный и счастливый и, чего никогда не случалось, крепко обнял меня.
— Письмо? — сразу догадалась я.
— Еще какое! — воскликнул Шура.— Слушай: «Дорогая мама! Как ты сейчас живешь, как себя чувствуешь, не больна ли? Мамочка, если есть возможность, напиши хоть несколько строчек. Вернусь с задания, приеду навестить домой. Твоя Зоя».
— От какого числа? — спросила я.
— Семнадцатого ноября. Значит, ждем Зою домой!
И мы снова стали ждать, но теперь уже не так тревожно, с
173
радостной надеждой. Мы ждали постоянно, ежечасно, ждали днем п ночью, всегда готовые вскочить на стук открывшейся двери, ежеминутно готовые стать счастливыми.
Но прошел ноябрь* прошел декабрь, подходил к концу январь... Ии писем, ни других вестей больше не было.
Мы с Шурой оба работали. Все домашние заботы он взял на себя, и я видела: он старается во всем заменить Зою. Придя домой первым, он спешил подогреть к моему возвращению еду. Я слышала, как он поднимался ночью и укрывал меня потеплее, потому что с дровами стало трудно и мы экономили как могли.
Однажды — это было в конце января — я возвращалась домой поздно. Как часто бывает, когда очень устанешь, маши- пально слушала обрывки разговоров. В этот вечер на улице то и дело слышалось:
— Читали сегодня «Правду»?
— Читали статью Лидова?
И в трамвае молодая женщина с огромными глазами на исхудалом лице говорила своему спутнику:
— Какая потрясающая статья!.. Какая девушка!..
Я поняла, что в газете сегодня что-то необычное.
— Шурик,—сказала я дома,—ты читал сегодня «Правду»? Говорят, там очень интересная статья.
— Да,— сдержанно ответил Шура, не глядя на меня.
— О чем же?
— О молодой партизанке Тане. Ее повесили гитлеровцы.
В комнате было холодно, мы привыкли к этому. Но тут мне показалось, что и внутри у меня все похолодело и сжалось. «Тоже чья-то девочка, — подумалось мне.— И ее ждут дома, и о ней тревожатся...»
Позже я услышала радио. Сообщения о боях, вести с трудового фронта. И вдруг диктор сказал:
— Передаем статью Лидова «Таня», напечатанную в «Правде» сегодня, двадцать седьмого января.
Скорбный и гневный голос стал рассказывать о том, как в первых числах декабря в селе Петрищеве фашисты казнили пар- тизанку-комсомолку по имени Таня.
— Мама,— вдруг сказал Шура,— можно, я выключу? Мне завтра рано вставать.
174
Я удивилась: Шура всегда спал крепко, обычно ему не мешали ни громкий разговор, ни радио. Мне хотелось дослушать, но я выключила громкоговоритель, сказав только: «Ну что ж, спи...»
Назавтра я пошла в райком комсомола: может быть, там что-нибудь знают о Зое?
— Задание секретное, писем может не быть еще долго,— сказал мне секретарь райкома.
Прошло еще несколько томительных, нескончаемых дней и 7 февраля — это число я запомнила навсегда,— вернувшись домой, я нашла на столе записку: «Мамочка, тебя просили зайти в райком ВЛКСМ».
«Наконец-то! —подумала я.— Конечно, какое-нибудь известие от Зои, может быть, письмо!»
Я мчалась в райком, как на крыльях. Вечер был темный, ветреный, трамваи не шли, но я почти бежала, спотыкалась, скользила, падала и снова бежала, и ни одной сторонней горькой мысли не было у меня — я не ждала никаких плохих вестей, я только хотела узнать: когда я увижу Зою? Скоро ли она вернется?
— Вы разминулись. Идите обратно домой, к вам поехали из МК комсомола,— сказали мне в райкоме.
«Скорее, скорее узнать, когда приедет Зоя!» И я не пошла, а побежала домой.
Я распахнула дверь и остановилась на пороге. Из-за стола навстречу мне поднялись двое: заведующий Тимирязевским отделом народного образования и незнакомый молодой человек с серьезным, чуть напряженным лицом. Изо рта у него шел пар; в комнате было холодно, никто не снял пальто.
Шура стоял у окна. Я посмотрела на его лицо, глаза наши встретились, и вдруг я все поняла... Он рванулся ко мне, что-то опрокинув по дороге, а я не могла двинуться, ноги словно приросли к полу.
— Любовь Тимофеевна, вы читали в «Правде» о Тане? — услышала я.— Это ваша Зоя... На днях мы поедем в Петршцево.
Я опустилась на пододвинутый кем-то стул. У меня не было ни слез, ни дыхания. Хотелось только скорее остаться одной* и в мозгу стучало одно только слово: «Погибла... погибла...»
175
* * ф
Шура уложил меня в кровать и всю ночь просидел рядом. Он не плакал. Он смотрел перед собой сухими глазами и крепко сжимал обеими руками мою руку.
— Шура... как же мы теперь? — сказала я наконец.
И тут Шура рухнул на постель и громко, отчаянно разрыдался.
— Я давно уже знаю... все знаю,— глухо, сдавленно повторял он.— Ведь тогда в «Правде» была фотография... с веревкой па шее... Имя другое... но я понял, что это она... я знал, что это она... Я не хотел тебе говорить... думал — может, ошибся... Уверял себя, что ошибся. Не хотел верить. Но я знал... я знал... я знал...
— Покажи,— сказала я.
— Нет! — ответил он сквозь слезы.
— Шура,— сказала я,— мне еще многое предстоит. Мне. предстоит увидеть ее. Я прошу тебя...
Шура вытащил из внутреннего кармана пиджака свою записную книжку; к чистой странице был приклеен четырехугольник, вырезанный из газеты. И я увидела ее лицо — родное, милое, страдальчески застывшее.
Шура что-то говорил мне, я не слышала, и вдруг до меня дошли его слова:
— Знаешь, почему она назвалась Таней? Помнишь Татьяну Соломаху?
Тогда я вспомнила и сразу поняла все. Да, конечно, это о той далекой, давно погибшей девушке думала она, когда назвала себя Таней...
В ПЕТРИЩЕВЕ
Через несколько дней я поехала в Петрищево. Плохо помню, как это было. Помню только, что асфальтированная дорога к Петрищеву не подходит и машину почти пять километров тащили волоком. В село мы пришли замерзшие, оледенелые. Меня привели в какую-то избу, но отогреться я не могла: холод
176
был внутри. Потом мы пошли к Зоиной могиле. Девочку уже вырыли, и я увидела ее...
Она лежала, вытянув руки вдоль тела, запрокинув голову, с веревкой на шее. Лицо ее, совсем спокойное, было все избито, на щеке — темный след удара. Все тело исколото штыком, на груди — запекшаяся кровь.
Я стояла на коленях подле нее и смотрела... Отвела прядь волос с ее чистого лба — и опять поразило меня спокойствие этого истерзанного, избитого лица. Я не могла оторваться от нее, не могла отвести глаз.
И вдруг ко мне подошла девушка в красноармейской шинели. Она мягко, но настойчиво взяла меня за руку и подняла.
— Пойдемте в избу,— сказала она.
— Нет.
— Пойдемте. Я была с Зоей в одном партизанском отряде. Я вам расскажу...
Она привела меня в избу, села рядом со мной и стала рассказывать. С трудом, как сквозь туман, я слушала ее. Кое-что мне уя^е было знакомо по газетам. Она рассказывала, как группа комсомольцев-партизан перешла через линию фронта. Две недели они жили в лесах на земле, занятой гитлеровцами. Иочыо выполняли задания командира, днем спали где-нибудь на снегу, грелись у костра. Еды они взяли на пять дней, но растянули запас на две недели. Зоя делилась с товарищами последним куском, каждым глотком воды...
Эту девушку звали Клава. Она рассказывала и плакала.
...Потом пришла им пора возвращаться. Но Зоя все твердила, что сделано мало. Она попросила у командира разрешения проникнуть в Петрищево.
Она подожгла занятые фашистами избы и конюшню воинской части. Через день она подкралась к другой конюшне па краю села, там стояло больше двухсот лошадей. Достала из сумки бутылку с бензином, плеснула из нее и уже нагнулась, чтобы чиркнуть спичкой, — и тут ее сзади схватил часовой. Она оттолкнула его, выхватила револьвер, но выстрелить не успела. Гитлеровец выбил у нее из рук оружие и поднял тревогу...
Клава замолчала. Тогда хозяйка избы, глядя в огонь печи, вдруг, сказала:
g Библиотека пионера. Том II 177
— А я могу рассказать, что дальше было... Если хотите...
Я выслушала и ее. Но говорить об этом я не могу. Я сделаю так: пусть здесь будет рассказ Петра Лидова. Он первый написал о Зое, он первый пришел в Петрищево, он по свежим следам узнал и расспросил о том, как ее мучили и как она погибла...
КАК ЭТО БЫЛО
«...И вот ввели Зою, указали на нары. Она села. Против нее на столе стояли телефоны, пишущая машинка* радиоприемник и были разложены штабные бумаги.:
Стали сходиться офицеры. Хозяевам дома (Ворониным) было велено выйти. Старуха замешкалась, и офицер прикрикнул: «Матка, фьють!» — и подтолкнул ее в спину.
Командир 332-го пехотного полка 197-й дивизии подполковник Рюдерер сам допрашивал Зою.
Сидя на кухне, Воронины все же могли слышать, что происходит в комнате. Офицер задавал вопросы, и Зоя (тут она и назвалась Таней) отвечала на них без запинки, громко и дерзко.
— Кто вы? — спросил подполковник.
— Не скажу.
— Это вы подожгли конюшню?
— Да, я.
— Ваша цель?
— Уничтожить вас.
Пауза.
— Когда вы перешли через линию фронта?
— В пятницу.
— Вы слишком быстро дошли.
— Что ж, зевать, что ли?
Зою спрашивали о том, кто послал ее и кто был с нею. Требовали, чтоб выдала своих друзей. Через дверь доносились ответы: «нет», «не знаю», «не скажу», «нет». Потом в воздухе засвистели ремни, и слышно было, как стегали по телу. Через несколько минут молоденький офицерик выскочил из комнаты в кухню, уткнул голову в ладони и просидел так до конца до¬
178
проса, зажмурив глаза и заткпув уши. Не выдержали даже нервы фашиста... Четверо дюжих мужчин, сняв пояса, избивали девушку. Хозяева дома насчитали двести ударов, но Зоя не издала ни одного звука. А после опять отвечала: «нет», «не скажу»; только голос ее звучал глуше, чем прежде...
Унтер-офицер Карл Бауэрлейн (позже попавший в плен) присутствовал при пытках, которым подверг Зою Космодемьянскую подполковник Рюдерер. В своих показаниях он писал:
«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство... Она посинела от мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего».
Два часа провела Зоя в избе Ворониных. После допроса ее повели в избу Василия Кулика. Она шла под конвоем, по-прежнему раздетая, ступая по снегу босыми ногами.
Когда ее вводили в избу Кулика, на лбу у нее было большое иссиня-черное пятно и ссадины на ногах и руках. Она тяжело дышала, волосы ее растрепались, и черные пряди слиплись на высоком, покрытом каплями пота лбу. Руки девушки были связаны сзади веревкой, губы искусаны в кровь и вздулись. Наверно, кусала их, когда пытками хотели вырвать признание.
Она села на лавку. Немецкий часовой стоял у двери. Сидела спокойно и неподвижно, потом попросила пить. Василий Кулик подошел было к кадушке с водой, но часовой опередил его, схватил со стола лампу и поднес Зое ко рту. Он хотел этим сказать, что напоить надо керосином, а не водой.
Кулик стал просить за девушку. Часовой огрызнулся, но потом нехотя уступил и разрешил подать Зое напиться. Она жадно выпила две большие кружки.
Солдаты, жившие в избе, окружили девушку и громко потешались. Одни шпыняли кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-то провел по ее спине пилой.
Вдосталь натешившись, солдаты ушли спать. Тогда часовой вскинул винтовку наизготовку и велел Зое подняться и выйти из дома. Шел по улице сзади, почти вплотную приставив штык к ее спине. Потом крикнул: «Цурюк!» — и довел девушку в обратную сторону. Босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под теплый кров.
179
Этот часовой караулил Зою с десяти часов вечера до двух часов ночи и через каждый час выводил ее на улицу на пятнадцать — двадцать минут...
Наконец на пост встал новый часовой. Несчастной разрешили прилечь на лавку.
Улучив минуту, Прасковья Кулик заговорила с Зоей.
— Ты чья будешь? — спросила она.
— А вам зачем это?
— Сама-то откуда?
— Я из Москвы.
— Родители есть?
Девушка не ответила. Она пролежала до утра без движения, ничего не сказав более и даже не застонав, хотя ноги ее были отморожены и, видимо, сильно болели.
Поутру солдаты начали строить посреди деревни виселицу.
Прасковья снова заговорила с девушкой:
— Позавчера — это ты была?
— Я... Немцы сгорели?
— Нет.
— Жаль. А что сгорело?
— Кони ихние сгорели. Сказывают — оружие сгорело...
В десять часов утра пришли офицеры. Один из них снова спросил Зою:
— Скажите: кто вы?
Зоя не ответила...
Продолжения допроса хозяева дома не слышали: их вытолкнули из дому и впустили, когда допрос уже был окончен.
Принесли Зоины вещи: кофточку, брюки, чулки. Тут же был ее вещевой мешок, и в нем — спички и соль. Шапка, меховая куртка, пуховая вязаная фуфайка и сапоги исчезли. Их успели поделить между собой унтер-офицеры, а рукавицы достались рыжему повару с офицерской кухни.
Зою одели, и хозяева помогли ей натягивать чулки на почерневшие ноги. На грудь повесили отобранные у нее бутылки с бензином и доску с надписью: «Поджигатель». Так и вывели на площадь, где стояла виселица.
Место казни окружали десятеро конных с саблями наголо, больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным
180
жителям было приказано собраться и присутствовать при казни, но их пришло немного, а некоторые, придя и постояв, потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного зрелища.
Под спущенной с перекладины петлей были поставлены один на другой два ящика. Девушку приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «кодака». Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак подождать.
Зоя воспользовалась этим и, обращаясь к колхозникам и колхозницам, крикнула громким и чистым голосом:
— Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!
Стоявший рядом фашист замахнулся и хотел то ли ударить ее, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала:
— Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!
Фотограф снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать ее сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул фотографу:
— Абер дох шнеллер!1
Тогда Зоя повернулась в сторону коменданта и крикнула ему и немецким солдатам:
— Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен: все равно победа будет за нами!
Палач подтянул веревку, и петля сдавила Зоино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы:
— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь...
Палач уперся кованым башмаком в ящик, который заскрипел по скользкому, утоптанному снегу. Верхний ящик свалился вниз и гулко стукнулся оземь. Толпа отшатнулась. Раздался и замер чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса...»
1 Поскорее!
РАССКАЗ КЛАВЫ
«Дорогая Любовь Тимофеевна!
Меня зовут Клава, я была с Вашей Зоей в одном партизанском отряде. Я знаю, когда мы встретились с Вами в Петрищеве, Вам было трудно слушать меня. Но я знаю и другое: Вам важно и дорого знать о каждой минуте, которую Зоя провела без Вас. А читать, наверно, легче, чем слушать. Поэтому я постараюсь рассказать Вам в этом письме обо всем, что я знаю и помню.
В середине октября я вместе с другими комсомольцами ждала в коридорах Московского комитета комсомола той минуты, когда меня примет секретарь. Я, как и другие, хотела, чтоб меня направили в тыл врага. Среди большой толпы я заметила смуглую сероглазую девушку. Она была в коричневом пальто с меховым воротником и с такой же меховой оторочкой внизу. Она ни с кем не разговаривала и, видно, никого не знала вокруг. Из кабинета секретаря она вышла с блестящими, радостными глазами, улыбнулась тем, кто стоял у дверей, и быстро пошла к выходу. Я с завистью посмотрела ей вслед: было ясно, что ее признали достойной.
Потом побывала на приеме и я. А 31 октября — этот день я никогда не забуду — я пришла к кинотеатру «Колизей». Оттуда большую группу московских комсомольцев должны были отправить в часть. Моросил мелкий дождик, было холодно, сыро.
У входа в «Колизей» я опять заметила сероглазую девушку. «Вы в кино?» — спросила я. «Да»,— ответила она, улыбаясь одними глазами. Стали подходить еще и еще девушки и ребята. «Вы в кино?» — спрашивали мы приходящих, и все отвечали: «Да». Но когда касса кино открылась, никто не стал покупать билетов. Мы поглядели друг на друга, и все засмеялись. Тогда я подошла к сероглазой девушке и спросила: «Как вас зовут?» И она ответила: «Зоя».
Потом Зоя и еще одна девушка, Катя, принесли из магазина миндальные зерна и стали всех оделять. «Чтоб не скучно было смотреть кино»,— улыбаясь, говорила Зоя. Вскоре мы все перезнакомились. А потом подъехала машина, мы уселись и поехали через всю Москву к Можайскому шоссе. Ехали и пели:
182
Дан приказ: ему — па запад,
Ей — в другую сторону.
Уходили комсомольцы На гражданскую войну...
Мы миновали последние московские дома и выехали на Можайское шоссе. Там женщины и подростки строили укрепления. И, наверно, все мы подумали об одном: никому не взять нашу Москву; ведь вот все москвичи, и старый и малый, готовы укреплять и защищать ее!
Часам к шести вечера мы приехали в свою часть. Она была расположена за Кунцевом. Сразу же после ужина началось ученье. Мы изучали личное оружие — наган, маузер, парабеллум: разбирали, собирали, проверяли друг друга. Зоя очень быстро осваивалась с тем, что нам объясняли. «Вот бы сюда моего брата,— сказала она мне.— У него хорошие руки, он любой механизм мигом разберет и соберет, даже без всякого объяснения».
В комнате нас было десять девушек. Мы все едва знали друг друга по именам, но, когда надо было выбрать старосту, сразу несколько голосов сказали «Зою». И я поняла, что и другим, не только мне, она пришлась по сердцу.
На другое утро нас подняли в шесть часов. В семь уже должны были начаться занятия. Зоя подошла к моей кровати и сказала шутливо: «Скорей вставай, а то устрою холодный душ!» А другой девушке, которая немножко завозилась, она сказала: «Какой же ты солдат? Раз подъем, значит, сразу вскакивай!» Во время еды она тоже торопила нас, и кто-то ей сказал: «Да что ты все командуешь?» Я подумала: вот сейчас она скажет что- нибудь резкое. Но Зоя только в упор посмотрела на ту девушку и сказала: «Сами меня выбирали. А уж если выбрали — слушайтесь».
После я не раз слышала, как о Зое говорили: «Она никогда не ругается, но уж как посмотрит...»
Занимались мы не в классе, не за партой. Свое ученье мы проходили в лесу. Учились ходить к цели по компасу, ориентироваться на местности, упражнялись в стрельбе. Захватив с собой ящики с толом, учились подрывному делу — «рвали деревья», как говорил наш преподаватель. Занимались все дци напролет, почти без отдыха.
183
Потом пришел день, когда нас по одному стал вызывать к себе майор Спрогис и снова спрашивал: «Не боишься? Не струсишь? Еще есть возможность уйти, отказаться. Но это — последняя возможность, потом будет поздно». Зоя вошла к нему одной из первых и вышла почти мгновенно — значит, ответила сразу и решительно.
Потом нам выдали личное оружие и разделили на группы.
4 ноября мы выехали под Волоколамск, где должны были перейти линию фронта и углубиться в тыл врага: нам предстояло заминировать Волоколамское шоссе. К Волоколамску шли две группы — наша и Константина П. Уходили мы в разных направлениях. В группе Кости были две девушки — Шура и Женя. Прощаясь, они сказали: «Девушки, выполнять задание будем по-геройски, а если умирать, так тоже как герои». И Зоя ответила: «А как же иначе?»
Линию фронта мы перешли глубокой ночью, очень тихо, без единого выстрела. Потом меня с Зоей направили в разведку. Мы двинулись в путь с радостью, нам очень хотелось поскорее приняться за дело. Но едва мы прошли несколько шагов, как, откуда ни возьмись, мимо промчались два мотоцикла, и так близко, что можно было бы дотянуться до них рукой. Тут мы поняли, что об осторожности забывать нельзя.
И сразу же условились: живыми не попадаться. Потом поползли. Осенние листья отяжелели, шуршат, и каждый звук кажется таким громким. А все-таки Зоя ползла быстро и почти бесшумно и как-то очень легко, словно для этого не требовалось никаких усилий.
Так мы с ней проползли вдоль шоссе километра три. Потом вернулись на опушку, чтоб сказать нашим, что путь свободен. Ребята разошлись по двое и начали устанавливать мины — шоссейные мины всегда надо ставить вдвоем. А мы — четыре девушки — стояли в боевом охранении. Не успели ребята кончить, как мы услыхали вдалеке гул машин, сперва еле слышный, потом все громче, ближе. Мы предупредили ребят и все вместе, пригибаясь, побежали в лес. Едва перевели дыхание, как раздался взрыв. Сразу стало светло. И потом наступила такая тишина, как будто все вокруг вымерло. Даже лес перестал шуметь. А потом второй взрыв, третий, выстрелы, крики...
184
Мы ушли в глубь леса. Когда совсем рассвело, объявили привал. И поздравили друг друга с праздником, потому что было
7 Ноября.
В полдень мы с Зоей отправились на большак, по которому шли машины, и разбросали колючие рогатки — они прокалывали шины у автомобилей. И я заметила одно, в чем потом с каждым днем убеждалась все больше: с Зоей не страшно. Она все делала очень точно, спокойно, уверенно. Может быть, поэтому все наши любили ходить с нею в разведку.
Вечером того дня мы вернулись «домой», в часть. Рапортовали о выполнении задания, вымылись в бане. Помню, после этого мы с Зоей в первый раз заговорили о себе. Мы сидели на кровати. Зоя обхватила руками колени. Коротко стриженная, раскрасневшаяся после бани, она показалась мне совсем девочкой. И вдруг она спросила:
— Слушай, а ты кем была до прихода в часть?
— Учительницей.
— Тогда, значит, я должна называть тебя на «вы» и по имени-отчеству! — воскликнула Зоя.
А надо Вам сказать, что Зоя всем девушкам говорила «ты», а ребятам «вы». И они тоже все стали обращаться к ней на «вы». Но тут у нее это так забавно вышло, что я невольно засмеялась: сразу почувствовалось, что Зоя и в самом деле еще девочка, что ей едва восемнадцать лет и пришла она сюда прямо со школьной скамьи.
— Что это тебе пришло в голову — на «вы» и по имени- отчеству! — сказала я.— Я только на три года тебя старше.
Зоя задумалась, потом спрашивает:
— А ты комсомолка?
— Да.
— Ну, тогда буду говорить «ты». У тебя родители есть?
— Есть. И сестра.
— А у меня мамочка и брат. Мой отец умер, когда мне было десять лет. Мама сама нас вырастила. Вот когда вернемся с задания, всю группу повезу в Москву, к маме. Увидишь, какая она. И маме вы все очень понравитесь. Я к вам ко всем привыкла и до конца войны буду с вами.
В первый раз мы так откровенно поговорили.
185
На другой день мы получили новое задание. Состав группы совсем изменился, но девушки остались прежние: Зоя, Лида Булгина, Вера Волошина и я. Мы все очень подружились. Нашего нового командира звали Борис. Он был очень выдержанный, спокойный, немного резковатый, но никогда не ругался и другим не разрешал. Зоя любила повторять его слова: «Выругаешься — и сам умнее не станешь и другого умнее не сделаешь». Обвешанные бутылками с горючей жидкостью и гранатами, пошли мы в тыл врага. На этот раз прорвались с боем, но все остались целы. А на следующий день получили настоящее боевое крещение: нас взяли с трех сторон в перекрестный огонь.
— Братцы, ложись! — крикнула Вера.
Легли, вжались в землю. Когда огонь стих, отползли метров на восемьсот, и тогда оказалось, что троих наших товарищей не хватает.
— Разрешите, я вернусь, посмотрю, нет ли раненых,— сказала Зоя командиру.
— Кого возьмете с собой? — спросил Борис.
— Одна.
— Погодите, пускай сперва немцы успокоятся.
— Нет, тогда будет поздно.
— Хорошо, идите.
Зоя поползла. Ждем, ждем, а она не возвращается. Прошел час, другой, третий... Во мне росла страшная уверенность: Зоя погибла. Иначе нельзя понять, почему ее так долго нет. Но, когда забрезжил рассвет, она вернулась. Она была увешана оружием, руки в крови, лицо серое от усталости.
Трое товарищей погибли. Зоя подползла к каждому, у всех взяла оружие. Из кармана Веры взяла фотографическую карточку ее матери и маленькую книжку со стихами, у Коли — письма.
Первый костер мы разоя^гли в глубине леса, из сухого лапника — он не дымит. Костер был маленький: он весь уместился бы на тарелке. Разжечь большой мы боялись. Мы грели руки, разогревали консервы. Зима начиналась совсем бесснежная, воды негде было взять, и нас очень мучила жажда.
Мспя послали в предварительную разведку. Только я залег¬
186
ла в мелком ельнике, как подошли несколько гитлеровцев, остановились совсем рядом и стали разговаривать. Говорят, смеются. Прошло около часа. Ноги у меня совсем закоченели, губы пересохли. Еле я дождалась, пока они ушли, и ни с чем вернулась из своей неудачной разведки. Встретила меня Зоя. Она ни о чем не стала спрашивать, только повязала мне шею своим шарфом и усадила поближе к огню. Потом ушла куда-то, возвратилась с кружкой в руках и говорит:
— Я тут для тебя припасла сосулек, вот — растопилось немного воды. Пей.
— Я этого никогда не забуду,— сказала я.
— Пей, пей,— ответила Зоя.
Потом наш отряд опять двинулся в путь. Мы с Зоей как разведчики шли на сто метров впереди, за нами — остальные, гуськом, метра на полтора друг от друга. И вдруг Зоя остановилась и подняла руку, давая сигнал остановиться всей группе. Оказалось, на земле перед Зоей лежит убитый красноармеец. Мы осмотрели его. У него были прострелены ноги и висок. В кармане мы нашли заявление: «От лейтенанта противотанкового истребительного батальона Родионова. Прошу считать меня коммунистом». Зоя сложила этот листок и сунула во внутренний карман своего ватника. Лицо у нее было суровое, брови сдвинулись, и я в ту минуту подумала, что она больше похожа не на девочку, а на бойца, который будет мстить врагу без пощады.
Мы продвигались к Петрищеву, где сосредоточились большие силы противника. По пути мы резали связь. Ночью подошли к Петрищеву. Лес вокруг села густой. Мы отошли вглубь и развели настоящий огонь. Командир послал одного из ребят в охранение. Остальные сели вокруг костра. Луна взошла круглая, желтая. Уже несколько дней падал снег. Громадные густые ели стояли вокруг нас покрытые снегом.
Вот бы такую елку на Манежную площадь! — сказала
Лида.
— Только в том же самом наряде! — подхватила Зоя.
Потом Борис стал делить последний паек. Каждому досталось по полсухаря, по куску сахара и маленькому кусочку воблы. Ребята сразу всё проглотили, а мы откусывали понемножку,
187
стараясь растянуть удовольствие. Зоя посмотрела на своего соседа и говорит:
— Я наелась, не хочу больше. На, возьми,— и протянула ехму сухарь и сахар.
Он сперва отказался, а потом взял.
Помолчали. Лида Булгина сказала:
— Как жить хочется!
Не забыть, как прозвучали эти слова!
И тут Зоя стала читать на память Маяковского. Я никогда прежде не слышала, как она читает стихи. Это было необыкновенно: ночь, лес весь в снегу, костер горит, и Зоя говорит тихо, но звучно и с таким чувством, с таким выражением:
По небу
тучи бегают, дождями
сумрак сжат, под старою
телегою рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Я тоже люблю Маяковского и стихи эти знала хорошо, но тут как будто в первый раз их услышала.
Свела
промозглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
188
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода —*
он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Я оглянулась, смотрю — все сидят, не шелохнутся и глаз пе сводят с Зои. А у нее опять лицо порозовело, и голос все крепче, все звонче:
Я знаю —
город
будет,
я знаю —»
саду
цвесть,
когда
такие люди в стране
в советской
есть!
— Еще! — в один голос сказали мы, когда она кончила,
И Зоя стала читать подряд все, что знала наизусть Маяковского. А знала она много. Помню, с каким чувством прочитала она отрывок из поэмы «Во весь голос»:
...Я подыму,
как большевистский партбилет, все сто томов
моих
партийных книжек.
Так и запомнилась нам эта ночь: костер, Зоя, стихи Маяковского...
189
•— Вы, наверно, его очень любите? — спросил Борис.
— Очень! — ответила Зоя.— Поэтов много «хороших и разных», но Маяковский — один из самых моих любимых.
После того как была разведана местность, Борис стал распределять обязанности. Я слышала, как между ним и Зоей произошел короткий разговор:
— Вы останетесь дежурить,— сказал Борис.
— Я прошу послать меня на задание.
— На задание пойдут только ребята.
— Трудности надо делить пополам. Я прошу вас!
Это «прошу» у нее прозвучало как требование. И командир согласился. Я шла в разведку, Зоя — на задание, к Петрищеву. Перед тем как уйти, она сказала мне:
— Давай поменяемся наганами. Мой лучше. А я и своим и твоим владею одинаково.
Она взяла у меня простой наган и дала мне свой самовзвод. Он и сейчас у меня — № 12719, Тульского завода, выпуск 1935 года. Я с ним не расстанусь до самого конца войны.
С задания Зоя вернулась преображенная — иначе не скажешь. Она подожгла конюшню, дом и надеялась, что там погибли гитлеровцы.
— Совсем другое чувство, когда делаешь настоящее дело! — сказала она.
— Да разве ты до сих пор ничего не делала? В разведку ходишь, связь рвешь...
— Не то! — прервала меня Зоя.— Этого очень мало!
С разрешения командира она пошла в Петрищево еще раз. Мы ждали ее три дня. Но она не вернулась. Остальное Вы знаете.
Зоя говорила мне, что вы в своей семье жили очень дружно, почти не расставались. И я решила, что Вам дорого будет и то немногое, что я сумею Вам рассказать. И, хотя я знала Зою всего месяц, она стала для меня, как и для других членов нашего отряда, одним из самых светлых, самых чистых людей, каких мы только знали.
Когда Вы приезжали в Петрищево, я видела и Вашего сына ШУРУ* Он стоял рядом с Вами у Зоиной могилы. Зоя мне как-то сказала: «Мы с братом совсем не похожи* характеры у нас очень
190
разные». А я смотрела на Шуру и понимала, что характеры очень похожие. Как сейчас вижу — стоит он, смотрит на Зою* губу закусил и не плачет.
Слов утешения у меня нет. Да их и не может быть. Я понимаю, нет таких слов на свете, чтоб можно было утешить Вас в Вашем горе. Но я хочу Вам сказать: память о Зое никогда не умрет, не может умереть. Она живая среди нас. Она многих еще поднимет на борьбу, многим осветит путь своим подвигом. И наша любовь, любовь Ваших дочерей и сыновей, по всей нашей земле всегда с Вами, дорогая Любовь Тимофеевна.
Клава»,
* * *
Через несколько дней после моей поездки в Петрищево радио принесло известие о том, что Зое посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
...Ранним утром в начале марта я шла в Кремль получать Зоину грамоту. Теплый весенний ветер дул в лицо. Я думала
о том, что стало для нас с Шурой горько привычным, что вторило каждой нашей мысли и каждому шагу: «Зоя этого не увидит. Никогда. Она любила весну. А теперь Зои нет. И по Красной площади она больше не пройдет. Никогда».
Ждать мне пришлось недолго. Вскоре меня провели в большую, высокую комнату. Я не сразу огляделась, не сразу поняла, где нахожусь,— и вдруг увидела, что из-за стола поднялся человек,
«Калинин... Михаил Иванович...» — вдруг поняла я.
Да, это Михаил Иванович шел мне навстречу. Его лицо было так знакомо мне по портретам, не раз я видела его на трибуне Мавзолея. И всегда его добрые, чуть прищуренные глаза улыбались. А теперь они были строгие и печальные. Он совсем поседел, и лицо его показалось мне таким усталым... Обеими руками он пожал мою руку и тихо, удивительно ласково пожелал мне здоровья и сил. Потом протянул мне грамоту.
— На память о высоком подвиге вашей дочери,—услышала я.
...Месяц спустя тело Зои перевезли в Москву и похоронили на Ново-Девичьем кладбище. На могиле ее поставлен памятник,
191
и на его черном мраморе высечены слова Николая Островского — слова, которые Зоя когда-то, как девиз, как завет, вписала в свою записную книжку и которые она оправдала своей короткой жизнью и своей смертью: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».
ШУРА
Тяжкие дни настали для нас с Шурой. Мы перестали ждать, мы знали, что ждать нечего. Прежде вся наша жизнь была полна надеждой на встречу, верой в то, что мы снова увидим и обнимем нашу Зою. Подходя к почтовому ящику, мы с надеждой смотрели па пего: он мог принести нам весть о Зое. Теперь мы проходили мимо него не глядя; мы знали — там ничего для нас нет. Ничего, что принесло бы нам радость.
Очень горькое письмо пришло из Осиновых Гаев от моего отца. Он был потрясен смертью Зои. «Не пойму я. Как же это так? Я, старик, живу, а ее нет...» — писал он, и таким смятением, таким безутешным горем веяло от этих строк! Все письмо было в пятнах от слез, некоторых слов я так и не могла разобрать.
— Жаль стариков...— тихо сказал Шура, прочитав письмо деда.
Шура был теперь моей поддержкой, им я жила. Он старался как можно больше времени проводить со мной. Он, прежде как огня боявшийся всяких «нежностей», был теперь со мною мягок и ласков. «Мамочка», — неизменно говорил он, чуть ли не с пяти лет не. произносивший этого слова. Он стал видеть и замечать то, что прежде ускользало от него. Я начала курить, и он заметил: если я закуриваю, значит, слезы близко. Увидит, что я разыскиваю папиросы, вглядится в лицо, подойдет:
— Что ты? Не надо. Ну, пожалуйста... прошу тебя...
По ночам он всегда чувствовал, если я не спала. Он подходил, садился на край моей постели и молча гладил мою руку. Когда
192
он уходил, я чувствовала себя покинутой и беспомощной. Старшим в семье стал Шура.
После уроков (в школе возобновились занятия) он сразу приходил домой и, если не было воздушной тревоги, садился за книгу. Но, и читая, он не забывал обо мне. Иногда просто окликал тихонько:
— Мама!
— Да, Шурик...
И он снова углублялся в книгу. А время от времени говорил:
— Ты не спишь? Вот послушай... посмотри, как хорошо сказано,— и читал мне вслух особенно понравившиеся строки.
Один раз, читая письма Крамского, он сказал:
— Смотри, как это верно: «Драгоценнейшее качество художника — сердце». Хорошо, да? Я так понимаю: умей не только видеть — этого мало, надо понимать и чувствовать... Эх, мама! — вдруг воскликнул он.— А после войны как я буду учиться, если бы ты только знала!..
— Ты не спишь? — спросил он в другой раз.— Можно, я включу радио? Там, кажется, музыка.
Я кивнула. И вдруг звуки вальса из Пятой симфонии Чайковского заполнили комнату.
Все было в те дни испытанием для нас, и это оказалось тоже испытанием: Пятую симфонию больше всего любила Зоя. Мы молча слушали, боясь вздохнуть погромче, боясь, что это кончится, прервется тревогой, что не удастся дослушать...
А когда отзвучал финал, Шура сказал с глубоким убеждением:
— Вот увидишь, в День Победы непременно будут исполнять финал Пятой симфонии. Как по-твоему?
...Дни шли за днями. Врага отбросили от Москвы, но он сопротивлялся упорно и жестоко. Он захватил большую часть Украины, Белоруссию, сдавил в кольце блокады Ленинград, рвался к Волге. Он жег и истреблял все на своем пути. Он мучил, пытал, вешал, душил. Все прежние понятия о зверстве, о жестокости померкли перед тем, что пришлось нам узнать в эту войну. Газетный лист обжигал руки и сердце, радио приносило такие вести, что останавливалось дыхание.
Слушая сводки Совинформбюро, Шура скрипел зубами и по¬
193
том подолгу молча ходил по комнате, сведя брови, сжав кулдки. Изредка к нам заходили его товарищи: худенький Волод# Юрьев, сын Лидии Николаевны, которая учила Зою и Шуру в четвертом классе; Юра Браудо, с которым я была уже знакома; Володя Титов и еще мальчик, имени которого я не помню, со странной фамилией Неделько. Теперь они стали заходить чаще* но когда я заставала их у нас, они сразу замолкали и спешили уйти.
— Почему мальчики уходят, как только я прихожу?
— Не хотят мешать,— уклончиво ответил Шура.
СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ
Однажды, когда я вынимала из ящика газету, к моим ногам упало несколько писем. Я подняла их и развернула первое попавшееся — чуть потертый на сгибах фронтовой треугольник без марки.
«Дорогая мать...» — прочла я и заплакала.
Это писали незнакомые люди, бойцы Черноморского флота. Они старались поддержать меня в моем горе, называли Зою сестрой и обещали мстить за нее.
И вот каждое утро почта стала приносить мне письма. Откуда только не приходили они! Со всех фронтов, со всех концов страны столько теплых, дружеских рук протянулось к нам с Шурой, столько сердец обратилось к нам. Писали и дети, и взрослые, матери, потерявшие своих детей на войне, ребята, у которых фашисты убили родителей, и те, кто в это время был на поле боя. И все они словно хотели принять на себя часть нашего горя.
Мы с Шурой были слишком тяжко ранены, и эту рану ничто не могло залечить. Но — не знаю, какими словами выразить это,— любовь и участие, которыми дышало каждое письмо, согревали нас. Мы не были одиноки в своей беде. Столько людей старалось утешить нас, облегчить наше горе сердечным словом — и это было так дорого, так поддерживало нас!
Вскоре после того как я получила первое письмо* в дверь
194
нашей комнаты несмело постучали, и вошла незнакомая девушка. Она была высокая, худенькая; смуглое лицо, короткая стрижка и большие глаза — только не серые, а синие — напомнили мне Зою. Она стояла передо мною смущенная и неловко теребила в руках платок.
— Я с военного завода,— сказала она, запинаясь и робко поглядывая на меня из-под ресниц.— Я... наши комсомольцы, мы все очень просим вас: приходите к нам на комсомольское собрание... и выступите. Мы очень-очень просим вас, очень! Я понимаю, вам это трудно, но мы...
Я сказала, что выступать не могу, но на собрание приду.
На другой день к вечеру я пошла на завод. Он находился на окраине Москвы; многие строения вокруг были полуразрушены.
— Фугаска упала. Пожар был,— кратко пояснила провожатая, отвечая на мой безмолвный вопрос.
Когда мы вошли в красный уголок, собрание уже началось. Первое, что я увидела,— лицо Зои, смотревшее на меня со стены за столом президиума. Я тихо села в сторопе и стала слушать.
Говорил юноша, почти подросток. Он говорил о том, что план уже второй месяц не выполняется, говорил сердито, горячо. Потом выступил другой, постарше, и сказал, что опытных рук в цехе становится все меньше и меньше, вся надежда на ремесленников.
— А холод какой! Цех не лучше погреба! Руки к металлу примерзают! — раздался голос с места.
— Не стыдно тебе! — крикнула моя спутница, резко обернувшись в ту сторону.— Посовестись!
Неожиданно для себя я встала и попросила слова. Меня пригласили пройти на невысокую трибуну, и пока я шла, Зои- пы глаза с портрета смотрели мне прямо в глаза. Теперь портрет Зои был за мною, немного сбоку, как будто она стояла за моим плечом и смотрела па меня. Но я не говорила о ней.
— Ваши братья, ваши сестры на фронте каждый день, каждый час жертвуют жизнью,— сказала я.— Ленинград голодает... Каждый день от вражеских снарядов гибнут люди...
Нет, не стану пытаться передать то2 что я сказала тогда.
195
Я не помню слов. Но глаза молодежи, устремленные на меня, подтвердили: я говорю то, что нужно.
Потом они отвечали мне — коротко, решительно.
— Мы будем работать еще злее,— сказал тот, кто выступил первым.
— Мы назовем нашу бригаду именем Зои,— сказал другой,
...Через месяц мне позвонили с того завода.
— Любовь Тимофеевна, мы теперь перевыполняем план, — услышала я.
И я поняла: дать горю сломить себя — значит оскорбить память Зои. Нельзя сдаться, упасть, нельзя умереть. Я не имею права на отчаяние. Надо жить.
Выступать перед людьми, говорить с большой аудиторией мпе было очень трудно. Но я не могла отказать, когда меня просили приехать, а это бывало все чаще. Не смела отказать потому, что поняла: если мое слово помогает, если оно доходит до людей, до молодежи, если я могу внести хоть небольшую долю в великую борьбу с врагом — значит, я должна это сделать.
„ПОЖЕЛАЙ МНЕ ДОБРОГО ПУТИ!“
— Где ты был, Шура? Почему так задержался?
— Ох, мамочка, прости, пожалуйста. Так уж вышло.
С каждым днем Шура приходил все позже. Он чем-то встревожен, о чем-то все время сосредоточенно думает. О чем? Почему он не говорит мне? У нас не в обычае расспрашивать друг друга. Если хочешь поделиться тем, что у тебя на душе,— скажи сам. Так оно и бывало всегда. Почему же сейчас он молчит? Что случилось? Что у нас может еще случиться? Может быть, пришло письмо из Гаев? Здоровы ли старики?.. Вот вернется сегодня Шура, и я сама его обо всем спрошу.
И вдруг, убирая со стола, я нечаянно смахнула какой-то забытый листок. Нагнувшись, подняла. На листке рукою Шуры были переписаны стихи о водителе танка, который, как капитан Гастелло, в последний миг повел на врага свою охваченную пламенем машину:
196
Вот он по рытвинам крутым Идет неудержимо,
И вьются по ветру за ним Густые космы дыма.
Он возникает тут и там,
Как мститель, в самой гуще,
И настигает по пятам Идущих и бегущих.
Дымится в поле снежный прах На узком перекрестке,—
Трещат у танка на зубах Обозные повозки.
Он через рвы летит вперед,—
В глазах мелькают пятна,—
И землю ту, что он берет,
Он не отдаст обратно...
Ты различишь его в огне По свету славы вечной,
По насеченной на броне Звезде пятиконечной.
Я прочитала эти стихи и вдруг поняла то, о чем боялась думать все это время: Шура уйдет. Уйдет на фронт, и ничто, ничто его не остановит. Он еще ничего не сказал мне, ни словом не обмолвился, ему еще семнадцати не исполнилось, по я знала: так будет.
И я не ошиблась. Как-то вечером, вернувшись домой, я еще в коридоре услышала шумный разговор и, открыв дверь, увидела: сидят впятером — Шура, Володя Юрьев, Володя Титов, Не- делько и Юра Браудо; у каждого в зубах папироса, комната полна табачного дыма. До этой минуты я никогда не видела, чтобы Шура курил.
— Зачем это ты? — спросила я только.
— Нас сам генерал и то угощал,— быстро, словно решившись, ответил Шура.— Мы... знаешь, мы едем в Ульяновское танковое училище. Нас уже приняли.
Я молча опустилась на стул...
— Мамочка,— говорил Шура ночью, присев ко мне на кровать,— ты только пойми. Ну пожалуйста! Чужие люди пишут тебе: «Мы будем мстить за Зою». А я, родной брат, останусь дома? Да как же я посмотрю в глаза людям?
197
Я молчала. Если тогда я не нашла слов, которые остановили бы Зою, какие слова найду я теперь?..
1 мая 1942 года Шура уехал.
— Их не будут провожать,— сказал он про своих друзей.— И меня не надо, хорошо? А то им обидно станет. А ты пожелай мне доброго пути!
Я боялась, что голос мне изменит, и только молча кивнула. Сын еще раз обнял меня, крепко поцеловал и вышел из комнаты. Дверь захлопнулась, и на этот раз я осталась совсем одна.
...А через несколько дней пришло письмо из Осиновых Гаев: умерла моя мать. «Не смогла она пережить Зоиной гибели»,— писал отец.
ВЕСТИ ИЗ УЛЬЯНОВСКА
Шура писал мне почти каждый день. Он попал со своими товарищами в одно отделение и шутя называл его «Ульяновским филиалом десятого класса 201-й московской школы».
«Эх, мама,— писал он в одном из первых писем,— ничего-то я не умею! Даже ходить в строю толком не умею; сегодня, например, отдавил товарищу пятку. Командиров приветствовать тоже не умею. И меня за это по головке не гладят».
Время шло — ив другом письме он писал:
«Устаю, недосыпаю, но работаю, как зверь. Уже хорошо изучил винтовку, гранату, наган. На днях мы ездили на полигон, где стреляли из танка. Мои результаты для начала нормальные: по стрельбе из танка на дистанцию 400 и 500 метров из пушки и пулемета я поразил цели на «хорошо». Ты теперь меня не узнаешь: командиров хорошо приветствую и в ногу хожу молодцом».
Когда дело стало подходить к экзаменам, Шура в каждом письме начал меня умолять: «Мама, если можешь, то достань мне широкий ремень; если можешь, то с портупеей». И через несколько дней снова: «Мама, поищи получше! Какой я буду офицер, если ремень у меня совсем никуда не годится». Сквозь эти строки па меня смотрели отчаянные глаза маленького Шуры.
198
Точно так же, почти теми же словами, он просил в детстве, когда ему чего-нибудь очень хотелось.
Вот передо мною сто Шуриных писем, от самого первого до последнего,— и, перечитывая их, я вижу, как рос, как мужал мой мальчик.
Однажды я получила от него такое письмо:
«Мама, мои занятия в училище близятся к концу — 1 ноября начинаются экзамены. Я устаю, недосыпаю, по работаю много. Сказалось, что я нахожусь здесь почти вдвое меньше времени, чем другие. Отстал.
Экзамены эти будут самыми главными в моей жизни. Я напрягу все свои силы, все внимание, потому что страна должна получить хорошо подготовленного тапкиста-лейтенанта, именно лейтенанта, а не младшего лейтенанта и не старшего сержанта. Ты пойми — это не честолюбие, не тщеславие; просто я должен сделать все, что смогу; чтобы быть нужнее, полезнее. Я читаю о том, как фашисты жгут наши города и села, как они мучают детей и женщин, я вспоминаю о том, как замучили Зою, и хочу только одного: скорее иа фронт».
И другое письмо:
«Мама, слушай: госэкзамеиьт закончились. По технике — «отлично», по огневой подготовке — «отлично», по тактике и военной топографии — «отлично»...»
А в конце этого гордого, праздничного письма — приписка:
«Получил письмо от дедушки — оп болен и одинок».
...Однажды в теплый осенний вечер я сидела у окна и смотрела на улицу. Передо мною лежали письма, на которые надо было ответить, а я все не могла отвести взгляда от светлого, безоблачного неба. И вдруг на глаза мне легли широкие теплые ладони.
— Шурик!.. — только и могла я сказать.
— Ты не слыхала ни стука, ни того, как мне открыли, ничего! — смеясь, говорил он. — Я стою в дверях, смотрю на тебя, а ты все сидишь и сидишь! — И, снова закрыв мне глаза рукой (словно думал, что так мне легче будет выслушать это), сказал: — Я приехал проститься. Завтра уезжаю на фронт.
Он возмужал, стал еще шире в плечах, но синие глаза смотрели все так же по-мальчишески весело и открыто.
199
И опять была трудная, горькая ночь. Шура крепко спал, положив ладонь под щеку, а я то и дело вставала взглянуть на него и не могла наглядеться. Мне страшно было думать, что эта ночь кончится. Но в урочный час пришел рассвет, Шура вскочил, быстро умылся и оделся, наскоро выпил чаю и, подойдя ко мне, сказал уже привычное:
— Не провожай. Береги себя. А за меня не беспокойся.
— Будь честным... и стойким... пиши чаще...— с трудом ответила я.
ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Шура уехал, и писем от него не было. Прошел месяц. Я боялась подходить к почтовому ящику — мне все казалось, что я пайду в нем беспощадное известие... Это были очень тяжкие дни, полные такого давящего, такого мучительного ожидания, какого я не испытывала даже после ухода Зои. Ведь тогда я еще не знала, что значит потерять ребенка. Теперь я знала это.
Иногда тревога становилась такой неотвязной, что я пыталась бежать от нее, как будто можно убежать от самой себя, от мыслей... Я ходила по улицам, стараясь устать так, чтобы, придя домой, уснуть. Но это редко удавалось мне. Сколько бы улиц я пи исколесила, сколько бы километров ни прошла, все равно потом почти всю ночь, до рассвета, лежала с открытыми глазами.
Часто я пешком ходила на Ново-Девичье кладбище, на Зоину могилу. Однажды, подходя к могиле, я увидела возле нее широкоплечего военного. Когда я подошла ближе, он обернулся. Это был человек лет тридцати пяти, с открытым, славпым лицом и прямым, проницательным взглядом серых глаз. Мне показалось, будто он хочет что-то сказать. Я вопросительно посмотрела на него, но он, помедлив секунду, отошел. Я забыла о нем. Но, уходя, я снова увидела его на повороте дорожки; он шел мне навстречу.
— Любовь Тимофеевна? — спросил он нерешительно.
— Да, — удивленно ответила я.
И тогда он назвал себя:
200
— Лидов.
Я не забыла это имя: ведь им были подписаны те памятные строки в «Правде» — рассказ о том, как погибла партизанка Таня...
Я крепко пожала руку Лидову... Мы медленно пошли по дорожке к выходу.
— Я рада познакомиться с вами, — сказала я от всей души.— Мне давно хотелось повидать вас...
И мы стали разговаривать так, словно были знакомы долгие годы. Он рассказал мне о том, как он впервые услышал о Зое. Он ночевал в маленькой полуразрушенной избушке под Можайском. Когда почти все уснули, в избушку зашел погреться какой-то старик. Он прилег на полу рядом с Лидовым.
— Слышу я,— рассказывал Петр Александрович,— старику не спится. Охает, стонет, не по себе ему. «Куда идешь, отец? — спрашиваю.— Что ты все охаешь?»
И тут старик рассказал Лидову, что он слышал о девушке, которую повесили гитлеровцы в селе Петрищеве. Никаких подробностей он не знал. Он только повторял: «Ее вешали, а она речь говорила...»
Лидов тотчас пошел в Петрищево. И с этой ночи он десять дней кряду неутомимо разузнавал обо всем, что касалось гибели неизвестной девушки, назвавшей себя Таней. Он брал только факты, потому что был убежден: их голос прозвучит громче, чем все, что мог бы сказать журналист от себя.
— Почему вы ни разу не пришли ко мне? — спросила я.
— Боялся, что вам будет тяжело,— просто ответил он.
— Вы давно на фронте?
Тут он впервые улыбнулся — эта открытая улыбка удивительно красила его лицо.
— На фронте я с первого часа войны,— сказал оп.— Тогда в Москве о войне еще не знали! Двадцать второе июня застало меня в Минске, я был там корреспондентом «Правды»... Это было любопытно,— задумчиво прибавил он и с улыбкой вспомнил о том, как в подвале телеграфа, куда он забежал во время сильной бомбежки, ему передали телеграмму из Москвы, посланную накануне.
Это была совсем мирная телеграмма: редакция просила Ли-
201
дова написать о подготовке к уборочной кампании. Он спрятал телеграмму в карман и помчался на своей машине в часть, которая готовилась к оборонительным боям. Улицы Минска уже были охвачены пламенем, и бомбежка не прекращалась.
Тогда же, в этот первый день, Лидов передал корреспонденцию в «Правду», но она не касалась уборочной кампании...
Он рассказывал обо всем этом очень просто, немногословно. А я шла, слушала его и думала: «Вот бывает — знаешь человека годами и ничего не можешь сказать о нем. А тут я и часу не провела с Петром Александровичем и совсем немного рассказал он о себе, но я знаю о нем очень много, знаю самое главное. Знаю, что он прям и честен, отважен и спокоен, умеет держать себя в руках, никогда не теряется. Знаю, что в трудной фронтовой обстановке не словами, а делом, всем своим поведением он учит окружающих спокойствию и выдержке».
— Я сегодня снова на фронт,— сказал он мне на прощанье и прибавил негромко: — А после войны я непременно напишу книгу о Зое. Большую, хорошую книгу.
ПЯТЬ ФОТОГРАФИЙ
Депь 24 октября 1943 года принес мне новое испытание. В газете были помещены пять фотографий: их нашли у гитлеровского офицера, убитого советским бойцом под деревней Потапово, близ Смоленска. Фашист сфотографировал убийство Зои, ее последние минуты. Я увидела виселицу на снегу, увидела мою Зою, мою девочку среди гитлеровцев... доску с надписью «Поджигатель» на ее груди... и тех, кто пытал и мучил ее.
С того часа, как я узнала о гибели моей девочки, я всегда, днем и ночыо, неотступно мучилась одним: о чем думала она, когда шла в свой последний, страшный путь? Что чувствовала? О чем вспоминала?.. Бессильная тоска охватывала меня: я не была с нею тогда, когда была ей, должно быть, всего нужнее; я не могла облегчить ей последние минуты ни словом, ни взглядом... И пять фотографий словно провели меня Зоиным смертным путем. Теперь я своими глазами видела, как ее казнили,
202
сама была при этом, но слишком поздно... Эти снимки, казалось, кричали: «Смотри, как ее мучили! Смотри и будь молчаливым свидетелем ее гибели, переживи снова всю боль, всю муку — ее и свою...»
Вот идет она одна, истерзанная, безоружная, но сколько силы и гордости в ее опущенной голове! Должно быть, в эти минуты она даже не замечает палачей вокруг. О чем она думает? Готовится умереть? Вспоминает всю свою короткую светлую жизнь?..
Я не могу говорить об этом... Пусть тот, кто прочтет эту книгу, вспомнит страшный немецкий снимок, лицо Зои. И он увидит: Зоя — победительница. Ее убийцы — ничто перед нею. С нею — все высокое, прекрасное, святое, все человеческое, вся правда и чистота мира. Это не умирает, не может умереть. А они — в них нет ничего человеческого. Они не люди. Они даже не звери — они фашисты. Они заживо мертвы. Сегодня, завтра, через тысячу лет их имена, самые их могилы будут ненавистны и омерзительны людям.
„Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЖИТЬ!“
...А писем от Шуры все не было. И вдруг, еще через несколько дней, развернув «Правду», я увидела на третьей странице сообщение:
«Действующая армия. 27 октября (по телеграфу). Части энского соединения добивают в ожесточенных боях остатки 197-й немецкой пехотной дивизии, офицеры и солдаты которой в ноябре 1941 года в деревне Петрищево замучили и убили отважную партизанку Зою Космодемьянскую. Опубликованные в «Правде» пять немецких фотоснимков расправы над Зоей вызвали новую волну гнева у наших бойцов и офицеров. Здесь отважно сражается и мстит за сестру брат Зои — комсомолец- танкист, гвардии лейтенант Космодемьянский. В последнем бою экипаж танка «КВ» под командованием тов. Космодемьянского первым ворвался во вражескую оборону, расстреливая и давя гусеницами гитлеровцев. Майор Г. Вершипии».
т
Шура жив! И мстит за сестру.
И снова я стала получать письма, но уже не из мирного Ульяновска, а из самого пекла войны.
А 1 января 1944 года меня разбудил громкий звонок.
— Кто бы это? — вслух удивилась я, открыла дверь и окаменела от неожиданности: передо мной стоял Шура.
Он показался мне настоящим великаном — стройный, широкоплечий, в длинной, пахнущей морозом, шинели. Лицо его порозовело от ветра и быстрой ходьбы, на густых бровях и ресницах таяли снежинки, глаза весело блестели.
— Что так смотришь, не узнала? — спросил он смеясь.
— Смотрю — Илья Муромец пришел! — ответила я.
Это был самый нежданный и самый драгоценный новогодний подарок.
Шура тоже был бесконечно рад. Он не отходил от меня ни на шаг и, если хотел выйти на улицу—за папиросами или просто немного пройтись,— просил, как маленький:
— Пойдем со мной!
Он несколько раз в день заговаривал все об одном:
— Расскажи, как ты живешь.
— Да ведь я писала тебе...
— Что писала! Ты расскажи. Тебе по-прежнему пишут? Покажи письма... Давай я помогу тебе ответить...
Это было не лишнее: письма по-прежнему текли без счета, рекою.
Люди писали мне, писали в школу, где училась Зоя, в редакции газет, в райкомы комсомола.
«Когда я стою на посту, мне кажется, что Зоя — рядом со мной»,— писала мне с Волги девушка-воин, Зоина сверстница Октябрина Смирнова.
«Даю клятву: буду честно служить народу, буду такой же, как Зоя»,— писала девушка-москвичка, сверстница Зои, в Таганский райком ВЛКСМ, прося послать ее на фронт.
«Я буду воспитывать своих школьников так, чтобы они походили на Зою, на смелую, чудесную Вашу дочку»,—писала мне молодая учительница из Башкирии.
«Это горе — наше, это горе — народное»,— писали ученики новосибирской школы.
204
И еще и еще шли искренние, сердечные письма, клятвы, стихи из Сибири, Прибалтики, с Урала, из Тбилиси. Приходили письма из-за рубежа — из Индии, Австралии, Америки...
Шура перечитал их все. Потом снова взял в руки одно, пришедшее из Англии. Вот что было в этом письме:
«Дорогой товарищ Любовь Космодемьянская!
Мы с женой живем в маленькой квартире под Лондоном. Только что мы прочли о Вашей милой, храброй дочке. Ее предсмертные слова вызвали у нас слезы: сколько храбрости, сколько мужества в такой юной девушке! В начале будущего года мы ожидаем нашего первого ребенка, и, если это будет девочка, мы назовем ее именем Вашей дочери — дочери великого народа первого социалистического государства.
С безграничным восхищением мы слышим и читаем о вашей великой борьбе. Но мало восхищаться, мы хотим бороться рядом с вами — не слова, а дела, вот что сейчас нужно. Мы уверены, что недалек тот час, когда наконец мы увидим гибель гнусного фашизма, который мы ненавидим так же, как и Вы. Ваш народ войдет в историю как народ, чья отвага, мужество и стойкость сделали возможной победу над фашизмом. Английский народ хорошо понимает, что он в неоплатном долгу перед Россией, и у нас часто говорят: «Что стало бы с нами, если бы не русские!»
Кончаем письмо пожеланием: за победу и за нашу вечную дружбу — в войне и мире!
Да здравствует советский народ и его славная Красная Армия!
С братским приветом — Мэйбл и Дэвид Риз».
— Ты ответила им? — спросил Шура.— Это хорошо. По- моему, написано от сердца, правда? Видно, они понимают, что мы воюем не только за себя, но и за всех. Только бы они этого не забыли!
...Вечером пришел мой брат Сергей. Шура очень обрадовался ему. Они уселись за столом друг против друга и проговорили до поздней ночи. Я хозяйничала, то и дело выходила на кухню, и до меня долетали только обрывки разговора.
— ...Вот ты писал раз, что оторвался от колонны и врезался в тыл врага,— говорил Сергей.— Зачем? Это не храбрость, это молодечество. Надо быть смелым, но лихачом — зачем?
205
— Если думать о своей безопасности, тогда о храбрости надо забыть! — слышала я горячий ответ.
— А разве ты не отвечаешь за жизнь своих солдат? Ведь ты — командир...
— Скажи, только не обижайся,— услышала я немного погодя,— как ты с подчиненными? С молодыми это бывает: строят из себя больших начальников...
— Нет, я своим товарищ. Знал бы ты, какие они!..
И снова голос брата:
— А насчет храбрости... Знаешь, перечитай рассказ Толстого «Набег». Там хорошо про это сказано. Коротко и точно...
Шура рассказывал мало и скупо. Он стал сдержанней, чем прежде, и словно взвешивал каждое слово. В этот его приезд я почувствовала, что он очень изменился. Это трудно было определить словами. Быть может, я и ошибаюсь, но мне кажется: кто хоть раз побывал в бою, кто хоть раз прошел по этой узкой тропинке, где с одной стороны жизнь, а с другой — смерть, тот не любит многословно рассказывать о войне, об опасностях, которым он подвергался. Я понимала: Шура много видел и пережил, должно быть, поэтому он стал гораздо взрослее, собранней и суровей и вместе с тем — мягче, нежнее.
На другой день Шура пошел в госпиталь навестить раненого товарища. Когда он вернулся, у него было совсем другое лицо, я едва узнала вчерашнего веселого богатыря. Он побледнел, осунулся. Я тревожно всматривалась в это родное, такое еще юное лицо: в нем сразу как-то заметнее стали скулы, челюсти, сдвинулись брови с морщинкой между ними и плотно сжались губы.
— Что сделали фашисты с человеком! — сказал он с болыо.— Знаешь, это мой большой друг. У него была не простая жизнь. Ему года не было, когда он остался сиротой. Нелегко приходилось, а вырос человеком. Кончил военное училище, потом выдержал блокаду в Ленинграде, получил ограничение второй степени, но отказался от него и опять пошел на фронт. И вот совсем недавно все сразу: осколок в легкое, в область сердца, в руку, и ранение в живот, и контузия. Не говорил, не двигался, не слышал — подумай только!.. Коля Лопоха его зовут. Видела бы ты, как он мне обрадовался!..
206
Шура отошел к окну и, не оборачиваясь ко мне, вдруг сказал с силой, страстно, как заклинание:
— Я непременно вернусь! Без ног, без рукг ослепну — все равно буду жить! Я очень, очень хочу жить!
...А на третий день после приезда он сказал:
— Не будь в обиде, мамочка, но я уеду раньше срока. Мне трудно тут. Там люди гибнут...
— Побудь еще, милый!.. Ведь это твой законный отдых...
— Не могу. Все равно для меня это не отдых. Я все равно ни о чем думать не могу, только о фронте... о товарищах. И, если можно, мамочка, на этот раз проводи меня, хорошо? Я хочу подольше побыть с тобой.
Я проводила его на Белорусский вокзал. Был тихий морозный вечер. Далеко над путями в прозрачном зеленоватом небе мерцала низкая звезда. И таким странным,казалось мне это спокойствие в час, когда я провожала сына и знала, что скоро его снова охватит вихрь огня и смерти...
Мы взяли билет в мягкий вагон. Шура прошел туда, чтобы положить на место свой чемоданчик, и выскочил сам не свой.
— Ох, мама, знаешь, там генерал!..— сказал он, смущенный и растерянный, как мальчишка.
— Эх ты, воин! — пошутила я.— Как же так: на фропт едешь, а своего генерала испугался?
Я простояла с Шурой на платформе до последней секунды. Поезд тронулся, и я пошла рядом с вагоном, а Шура стоял на подножке и махал мне рукой. Потом я уже не могла поспевать и только смотрела вслед. Грохот колес оглушал меня, стремительный воздушный поток едва не сбивал с ног, глаза застлало слезами. Потом на перроне вдруг стало тихо и пусто, а мне все казалось, что я вижу лицо сына и прощальный взмах его руки.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Я снова осталась одна. Но сейчас мне было не так тяжело и не так одиноко, как прежде: помогала работа.
Мне всегда хотелось от всего сердца поблагодарить тех, кто
207
поддержал меня в те дни своими письмами, своим участием, теплом своей души. Всех тех, кто приходил ко мне, говорил настойчиво и твердо: «Непременно приезжайте к нам на.завод. Вы должны поговорить с нашими комсомольцами».
Я знаю: когда человеку очень плохо, его может спасти только одно — сознание, что он нужен людям, что жизнь его не бесполезна. Когда невыносимое несчастье обрушилось на меня, мне помогли поверить в то, что я нужна не только Шуре, но еще многим и многим людям. И когда он уехал, мне не дали, не позволили остаться одной — это было очень трудно для меня, но это меня спасло: я была нужна.
Кругом было много работы. Работа, которая требовала любящих рук и любящего сердца: война лишила сотни и тысячи детей крова, семьи. «Сирота» — это почти забытое у нас слово — сурово и требовательно напомнило о себе. И надо было сделать так, чтобы дети, у которых война отняла родителей, не чувствовали себя осиротевшими, одинокими. Надо было вернуть им тепло родительского очага, тепло и любовь семьи.
Я стала работать.
Как можно больше детских домов — хороших, по-настоящему уютных, всем обеспеченных! Как можно больше настоящих воспитателей, умных и любящих! Детям нужны обувь, одежда, питание. II, может быть, еще необходимее — любовь, тепло, сердечность. Детские дома возникали повсюду — во всех городах, при заводах, при колхозах. Всем хотелось сделать что-нибудь для детей тех, кто пал в бою.
И для меня было так важно, что и я могу принять участие в этой работе!
Мне пришлось много ездить тогда: я побывала в Тамбове, Рязани, Курске, Иванове, потом в Белоруссии и на Украине, на Алтае, в Томске, Новосибирске. Всюду непочатый край дела,, всюду осиротевшие дети — им надо было дать пристанище: в новой семье или в детском доме. И везде меня встречали глаза, полные доверия и тепла. И я непрестанно училась: училась мужеству и стойкости у своего народа.
Еще в конце 1944 года Общество Красного Креста командировало меня в Ленинград.
На постаментах, где прежде трепетали и рвались из рук брон¬
208
зовых юношей чудесные кони Клодта, теперь стояли ящики с цветами, чтобы не оскорбляла глаз непривычная пустота. Со стен еще предостерегали надписи: «Эта сторона опаснее при артиллерийском обстреле», но ленинградцы, окруженные заботой и помощью всей страны, давно уже ремонтировали дома, вставляли стекла, выравнивали и заливали асфальтом мостовые.
Со мною шла немолодая женщина, сварщица завода «Электросила». Она рассказывала: во время блокады они с мужем работали рядом, на соседних станках. Работали обессиленные, истощенные, преодолевая слабость одной только волей, упрямым желанием: не сдаваться. Однажды, обернувшись, чтобы взглянуть на мужа, она увидела его на полу бездыханным. Она подошла к нему, постояла и потом продолжала работать. Работала, а муж лежал рядом, у станка, от которого он не отошел до последнего дыхания. Остановить работу — значило уступить врагу, а она не хотела уступать.
Я слышала в Ленинграде об одном архитекторе: в самые тяжкие, самые трудные дни блокады он проектировал арку Победы. Мне рассказывали о матерях, чьи дети погибли, защищая Ленинград: они, эти матери, не щадя последних сил, старались спасти чужих детей от голодной смерти. Я слушала эти рассказы и снова и снова говорила себе: «Я не имею права отдаться горю. Эти люди пережили великое несчастье, их страдания и утраты безмерно тяжелы, как и моя утрата. Они живут и работают. Должна жить и работать и я».
И еще одно я знала: имя Зои стало любимо народом. С ее именем наши люди, ее и мои товарищи, шли в бой, работали на заводах и на полях, о ней услышал краснодонский мальчик Олег Кошевой и рассказал своим друзьям, и они повторили ее подвиг и стали с ней рядом, как родные братья и сестры, дети одной великой и любимой Родины.
Я чувствовала: жива и трепетна память о Зое. Не для меня одной она родная. Народ помнит ее живой, отважной, непреклонной. И это тоже помогало мне жить.
ПИСЬМА
С фронта мне писал племянник Слава, воевавший с самых первых дней. Стал писать после того, как мы познакомились у Зоиной могилы, Петр Лидов. Чаще всего это были несколько слов привета, и они мне были очень дороги, эти несколько слов. Открывая газету, я всегда искала сообщения с фронта, подписанные Лидовым. Обо всем он умел рассказать так просто, спокойно и мужественно. Это был особый дар. В этой простоте, в этом спокойствии была огромная сила. А когда подолгу не появлялась в «Правде» знакомая подпись, мне становилось не по себе: я тревожилась о нем, как о родном, близком человеке,
И каждые несколько дней приходили письма от Шуры.
«...Настроение хорошее, особенно после последней атаки. В этом бою я не вылезал из танка больше двух суток. Чудом уцелел, вокруг все горело и содрогалось от взрывов, танк бросало во все стороны, как спичечную коробку. В общем, мама, за меня не беспокойся».
«...Сейчас я получаю новый экипаж и новую боевую машипу «КВ». Это у меня уже третья: одна подбита, другая сгорела, сам еле успел из нее спикировать... Из моего старого экипажа Джи- гирис убит, остальные ранены... Я написал деду, пиши и ты. Он болен и одинок».
«...Я был ранен, но не покидал поле боя. Перевязал рану и вступил снова в строй. Сейчас у меня все затянулось и поджило. В одном из боев выбыл мой старший командир, я принял командование на себя и вместе с товарищами ворвался в расположение противника. И утром Орша была наша. Сейчас я жив и здоров, так же как и мой экипаж... Получил письмо от деда. Трудно ему. Все вспоминает Зою и бабушку. Я ответил ему, постарался поласковее».
«...Местные жители тепло встречают нас. Им все интересно, все кажется необычным. В одной избе я показал книжку о Зое. И меня долго расспрашивали и очень просили, чтобы я оставил им книжку. Я не мог — она у меня одна. Поэтому прошу: если можешь, пошли им — г. Орша, Перекопская улица, дом 69».
«...В Белоруссии настал желанный час освобождения. Люди встречают нас цветами, угощают молоком. Старушки со слезами
210
рассказывают о мучениях, которые им пришлось перенести. Но все это позади. И воздух кажется особенно чистым, а солнце особенно ярким. Мама, мама, скоро победа!»
«...Передай отдельно мой привет дяде Сереже, скажи, что я помню все, что он мне говорил. Пишет ли тебе дедушка? У меня от него давно нет писем».
«...Ты спрашиваешь, в каком я звании, какова моя должность. Отвечу тебе словами одного большого начальника, который сказал про меня так: «Не смотрите на его звание и должность: этот человек создан не для чинов, а для боевых действий».
«...Спасибо за поздравление, я действительно получил золотой орден — орден Отечественной войны 1-й степени. У меня на руках находится и приказ о моем награждении орденом Красного Знамени. Не думай про меня, будто я изменился. Характер у меня остался тот же. Но только стал я сильнее, тверже».
«...Мама, мама, Петр Лидов погиб! Мама, как это страшно, что он погиб так незадолго до победы! Накануне победы погибать — это так обидно. Он погиб на аэродроме под Полтавой: выбежал из укрытия, чтоб увидеть тех людей, которые отражают налет вражеской авиации. Он хотел написать о них — он все хотел видеть собственными глазами. Это был настоящий военный корреспондент и настоящий человек...»
«...Мы идем на запад, по земле врага. Вот уже полмесяца, как я непрерывно в боях, потому и не писал. Но письму твоему я так рад, так рад — это было письмо с родной земли, от родной матери. Сейчас, когда я пишу тебе, в Еоздухе сплошной гул, моя машина содрогается, земля так и пляшет от разрывов. Через несколько минут наши ребята пойдут в атаку, в глубь немецкой земли». (Это письмо написано карандашом, крупным, торопливым почерком: Шура тоже спешил в бой.)
«...Здравствуй, милая, дорогая моя мама! Прошло уже больше месяца, как я нахожусь в тяжелых наступательных боях. Знаешь, у меня не было времени не только писать, по даже читать полученные мною письма... Тут и ночные форсированные марши, и танковые бои, напряженные, бессонные ночи в тылу врага, огненные свистящие снаряды «фердинандов»... Случалось быть молчаливым свидетелем гибели товарищей, видеть, как танк
211
соседа взлетает на воздух со всем экипажем. Приходилось только молча сжимать зубы. От напряжения и бессонницы люди вылезают из машин, как пьяные. И все же настроение у всех самое счастливое, самое праздничное: мы идем по вражеской земле. Мы мстим за сорок первый год, за боль, за слезы, за все унижение, которому фашисты подвергли людей. Мы скоро увидимся в Москве, в знакомой обстановке».
«...Не воюю, жду приказа о наступлении. Стоим в обороне. День за днем проходят в однообразной тишине и томительном ожидании. Живем в немецких домах. Всюду разрушенные серые здания. Огромные воронки от бомб заставляют сворачивать с мрачного асфальтированного шоссе. День и ночь рвутся снаряды, наш дом дрожит и покачивается. Фашисты сопротивляются в яростной злобе, они цепляются за каждый кусок своей земли. Вот и сейчас они начинают обстреливать свой поселок... В последнем бою меня малость поцарапало, теперь все прошло, по грудь еще болит...»
«...Дожди, дожди. Вода в море холодная, серая, так и веет ненастьем. Мрачно, холодно тут. Хочу домой, и, надеюсь, это скоро исполнится. Beperpi себя, береги свое здоровье и почаще пиши. За меня не беспокойся. Целую тебя. Твой единственный сын Александр».
На этом письме стояла пометка: «Восточная Пруссия», и дата — «1 апреля 1945».
Я ждала следующего письма — оно не приходило. Я боялась думать, я просто ждала. Я не думала о катастрофе — слишком живым и жизнелюбивым был мой мальчик, и в памяти моей звучали его полные веры слова: «Я непременно вернусь!»
СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ
20 апреля я нашла в почтовом ящике письмо. На конверте был номер Шуриной полевой почты, но адрес был написан не его рукой. Я долго стояла неподвижно, держа в руках письмо и боясь распечатать его. Потом распечатала, прочла первые строки. В глазах потемнело. Я перевела дыхание, снова начала и снова
212
не могла читать дальше. Потом изо всех сил стиснула зубы и дочитала до конца.
«14 апреля 1945.
Дорогая Любовь Тимофеевна!
Тяжело Вам писать. Но я прошу: наберитесь мужества и стойкости. Ваш сын гвардии старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский погиб смертью героя в борьбе с не=- мецкими захватчиками. Он отдал свою молодую жизнь во имя свободы и независимости нашей Родины.
Скажу одно: Ваш сын — герой, и Вы можете гордиться им; Он честно защищал Родину, был достойным братом своей сестры.
Вы отдали Родине самое дорогое, что имели,— своих детей.
В боях за Кенигсберг самоходная установка Саши Космодемьянского 6 апреля первой форсировала водный канал в 30 метров и открыла огонь по противнику, уничтожив артиллерийскую батарею противника, взорвала склад с боеприпасами и истребила до 60 гитлеровских солдат и офицеров.
8 апреля он со своей установкой первым ворвался в укрепленный форт Кениген Луизен, где было # взято 350 пленных, 9 исправных танков, 200 автомашин и склад с горючим. В ходе боев Александр Космодемьянский вырос из командира установки в командира батареи. Несмотря на свою молодость, он успешно командовал батареей и образцово выполнял все боевые задания.
Он погиб вчера в боях за населенный пункт Фирбруденкруг, западнее Кенигсберга. Населенный пункт был уже в наших руках. В числе первых Ваш сын ворвался и в этот населенный пункт, истребил до 40 гитлеровцев и раздавил 4 противотанковых орудия. Разорвавшийся вражеский снаряд навсегда оборвал жизнь дорогого и для нас Александра Анатольевича Космодемьянского.
Война и смерть — неотделимы, но тем тяжелее переносить каждую смерть накануне нашей Победы.
Крепко жму руку. Будьте мужественной. Искренне уважающий и понимающий Вас
Гвардии подполковник Л е г е з а».
...30 апреля я вылетела в Вильнюс, оттуда добиралась до Кенигсберга на машине. Пусто, разрушено было все вокруг.
213
Камня на камне не осталось. И безлюдье — нигде ни души. Потом потянулись вереницы немцев: они шли, толкая перед собою тачку или тележку со скарбом, и не смели голову поднять, взглянуть в глаза...
А потом нахлынул поток наших людей — они возвращались на Родину: ехали на конях, на машинах, шли пешком, и у всех были такие веселые, такие счастливые лица! По всему было видно: Победа не за горами. Она близка. Она рядом.
Сколько раз Шура спрашивал: «Мама, как ты представляешь себе День Победы? Как ты думаешь, когда это будет? Ведь правда же —весной? Непременно весной! А если даже зимой, то все равно снег растает и расцветут цветы!»
И вот Победа приближалась. Это был уже канун Победы. Канун счастья. А я сидела у гроба своего мальчика. Он лежал, как живой: лицо было спокойное, ясное. Не думала я, что мы так свидимся. Это было больше, чем могло вынести обыкновенное человеческое сердце...
В какую-то минуту, подняв глаза от лица Шуры, я увидела другое молодое лицо. Я смотрела на него и не могла понять, где я видела его прежде: трудно было думать, вспоминать.
— Я — Титов, Володя,— тихо сказал юноша.
И мне сразу вспомнился апрельский вечер, когда, вернувшись домой, я застала Шуру и его товарищей за оживленным разговором. «Нас сам генерал угощал папиросами... Мы едем в Ульяновское училище...» — снова услышала я голос сына.
— А остальные? — с усилием спросила я.
И Володя сказал мне, что Юра Браудо и Володя Юрьев погибли. Погибли, как и Шура, не дождавшись Победы... Сколько молодых, сколько славных погибло, не дождавшись этого дня!..
...Я не могла бы связно и подробно рассказать об этих двух днях в Кенигсберге. Но помню, с какой любовыо, с каким уважением все говорили о Шуре.
— Отважный...— долетало до меня.— Скромный. А товарищ какой!.. Молод, а командир был настоящий... Никогда его не забуду!
А потом обратный путь.
Провожал меня наводчик Шуриного танка Саша Фесиков.
214
Он ухаживал за мной, как за больной. По-сыновнему заботился обо мне: не спрашивая, угадывал, что нужно делать.
...5 мая похоронили Шуру на Ново-Девичьем кладбище. Напротив Зоиной могилы вырос новый могильный холм. В смерти, как и в жизни, они снова были вместе.
Это было за четыре дня до Победы.
А 9 мая я стояла у своего окна и смотрела, как текла мимо людская река: шли дети и взрослые, все — как одна семья, ликующие, счастливые. День был такой яркий, такой солнечный!
Мои дети уже никогда пе увидят ни голубого неба, ни цветов, они никогда больше не встретят весну. Они отдали свою жизнь за других детей — за тех, что шли в этот долгожданный час мимо меня.
ОНИ ДОЛЖНЫ ВЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ!
...Я люблю бывать здесь. Ходить по милым, знакомым коридорам школы, где учились мои дети, школы, которая носит сейчас Зоино имя. Я захожу в классные комнаты. Поднимаюсь па третий этаж и подхожу к двери, возле которой есть надпись: «В этом классе учились Герои Советского Союза Зоя и Шура Космодемьянские ».
Я вхожу в этот класс, и со стены смотрят на меня портреты моих детей. Вот вторая парта в среднем ряду — тут сидела Зоя. Сейчас за этой партой учится другая девочка, такая же ясноглазая. А вот последняя парта в другом ряду — это Шурино место. Сейчас на меня пристально смотрят оттуда глаза девочки-подростка. Она в коричневом платье с белым воротничком, в черном фартуке, и у нее такое вдумчивое, серьезное лицо...
Я спускаюсь вниз, к малышам. Сажусь за низкую парту рядом с маленькой девочкой и раскрываю хрестоматию для первого класса. На обложке — золотые колосья, голубое небо, сосны: мирная, любимая с колыбели картина родной природы; она словно олицетворяет то, о чем рассказывают страницы хрестоматии. Каждая страница этой книги — гимн мирному труду, родной земле, нашим лесам и водам, нашим людям. Наша страна распрямила плечи, она строит и созидает, сеет хлеб, льет сталь, воз¬
215
рождает из пепла сожженные города и села. И она растит новых прекрасных людей.
Вот эту девочку, что сидит рядом со мной, и всех ее подруг, и всех детей по всей Советской стране учат самому светлому, самому разумному — любить свой народ, любить свою Родину. Их учат уважать труд и братство народов, уважать и ценить все прекрасное, что создано всеми народами земли.
Они должны быть счастливыми! Они будут счастливы!
Так много крови пролито, так много жизней отдано ради того, чтобы они были счастливы, чтобы новая война не искалечила их будущее...
Да, много погибло молодых, чистых и честных. Погибли Зоя и Шура. Сложил свою голову на поле боя ученик 201-й школы, славный летчик Олег Балашов. Погиб Ваня Носенков, читавший когда-то у нас стихи о Матэ Залка. Погиб горячий спорщик Петя Симонов, отдали свою жизнь Юра Браудо и Володя Юрьев. В первые месяцы войны был убит писатель Аркадий Петрович Гайдар. Совсем незадолго до Победы погиб Петр Лидов, военный корреспондент «Правды»... Столько родных, милых людей, столько горьких утрат!.. Но павшие в этой великой и жестокой битве проложили своим подвигом, своей отвагой, своей смертью путь к Победе и Счастью.
А те, что живы, работают, строят, творят.
Вот по школьному коридору идет мне навстречу молодая женщина с милым, приветливым лицом. Это Катя Андреева: она, как и собиралась, стала учительницей и преподает в своей школе, в той, где училась она вместе с Зоей и Шурой.
И другие одноклассники моих детей — теперь инженеры, врачи, учителя; они живут и работают, они продолжают то дело,, ради которого отдали свою жизнь их товарищи.
...Я иду по знакомому коридору. Дверь библиотеки открыта. Полки, полки по стенам, и книги, несметное множество книг.
— До войны у нас было двадцать тысяч томов, а теперь — сорок тысяч,— говорит мне Катя.
Я выхожу на улицу. Вокруг школы все зелено: вот они, деревья, посаженные руками детей. И мне кажется, я слышу голос Зои:
«Моя липа третья — запомни, мама».
Е .КошЕвая
ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕДАКЦИЯ П. ГАВРИЛОВА
Юным пионерам нашей Родины посвящается эта книга
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Цвела сирень. Белые гроздья заглядывали в открытое окно моей комнаты. Это было 8 июня 1926 года в Прилуках, на Черниговщине. В этот день у меня родился сын...
Прилуки — шумный и веселый украинский город. Он стоит на берегу извилистой и живописной речки Удай. На картах эта река не помечена, но моя память сохранила ее навсегда.
Не раз мы бродили с сыном по шелковым травам левад Удая, перебирались на другой берег, заглядывали в зеркальную воду, смотрели, как играли рыбы, собирали на лугах цветы, сплетали из них венки...
Как сейчас, помню день рождения моего сына. Солнечный свет весело переливался на листьях деревьев, тени мелькали на потолке и стенах комнаты. Громко щебетали птицы. Я не сводила глаз со своего первенца.
221
Мне очень хотелось, чтобы у меня родился мальчик, чтоб он был красивый, чтоб у него были длинные, мягкие волосы. Я даже заранее приготовила гребешок...
Так и случилось. У сына оказались пушистые, как лен, длинные волосы.
С мужем мы решили: родится мальчик — назовем Алексеем, а если девочка — Светланой. Родился сын, да еще такой большущий.
Старенький врач спросил:
—- Как назовете сына?
— Алексей,— ответила я.
— О нет,— шутливо запротестовал врач,— не подходит! Такому бутузу и имя нужно богатырское!
Я стала вспоминать всяческих богатырей и остановилась на одном из нашей истории — на Олеге. Отцу понравилось это имя. Зато дедушка и бабушка никак не могли к нему привыкнуть.
Им казалось, что Олегом зовут только взрослого человека, а как же называть внучонка? И они придумали для него имя: Олежек.
„САМ НАШЕЛСЯ"
Сын рос чубатеньким и здоровым. Я не помню случая, чтоб когда-нибудь ночью он разбудил меня своим плачем. Не раз говорил мне дедушка Олега — Федосий Осипович Кошевой:
— Четырнадцать детей у меня было, но такого спокойного, как твой Олег,— ни одного.
Посторонний человек, приходя к нам в дом, и не догадывался, что у нас есть маленький.
К концу года Олег начал ходить. Не волновал он нас и болезнями. Воспитывать его было легко, весело и радостно, и в семье были счастье и покой.
Крепкий и порывистый, мальчик рано начал пробовать делать все сам. Я не мешала. Когда Олег стал ходить, он, как всякий ребенок, поначалу спотыкался и падал. Но я не бросалась поднимать его. Пусть встанет на ноги и сам идет дальше.
Сына никогда не пугали ни волками, ни другими страшными
222
зверями, он не чувствовал беспричинного страха и охотно оставался один в квартире.
Бывало, я нарочно пошлю его в темную комнату за игрушкой. Он доверчиво и смело идет туда, шарит ручками по полу и обязательно найдет игрушку.
Часто и много гуляли мы с сыном летом в поле. Вот мостик через ручей. Я говорю:
— Иди, Олег!
Сама не спускаю глаз и иду сзади. Жидкий мостик покачивается над водой. А Олег, спокойно и не оглядываясь, шагает один.
Как-то, возвращаясь из лесу, шли мы с Олегом берегом реки. Олег нес корзиночку с ягодами и все посматривал под ноги — не найдется ли еще ягодка. Вот он что-то увидел, побежал, споткнулся и упал. Ягоды рассыпались, а корзинка откатилась в грязную лужицу. Я вымыла корзинку в реке, собрала в нее ягоды и вернула Олегу.
— Придешь домой, поставишь корзинку на солнышко,— сказала я.
Дома Олег долго бродил, растерянно ища, куда бы поставить корзинку. Потом подошел ко мне и расплакался:
— А как я на солнышко ее поставлю?
Мы, взрослые, привыкли и не замечаем, до чего же удивительна и неожиданна порой наша речь, а сыну это открывалось впервые. Я посмеялась и объяснила, как могла. Кажется, он понял, что можно посушить вещь на солнце, не пользуясь им как подставкой.
Когда Олегу не было еще и трех лет, он как-то спросил дедушку Федосия Осиповича:
— Почему мама не пускает меня одного в сад?
— Да ты еще маленький. Сад далеко. Вдруг заблудишься?
— Вот я и хочу заблудиться.
— А что делать станешь, если заблудишься?
— Дом наш искать,— ответил Олег.
— Ну, тогда иди, если уж ты такой храбрый.
Торопясь, Олег ушел, но за ним на расстоянии последовал дедушка.
В саду, в песке, играли ребятишки, Олег — к ним. Так про-
223
шел час. Тут Олег, наверно, вспомнил, что он один, и побежал домой. Бежал, бежал, а дома все нет. Тогда он остановился и ваплакал. К нему подошла женщина:
— Почему ты плачешь? Ты чей?
—■ Я немножко заблудился,— глотая слезы, ответил сын,— маму зовут Елена Николаевна, бабушку — Вера Васильевна, дедушку — Федосий Осипович, папу — Василий Федосьевич, а я сам — Олег Кошевой.
— Ну, пойдем домой. Я знаю Кошевых,— ответила женщина.
Тут дедушка вышел из своего укрытия. Олег бросился к нему.
— Ну как, заблудился? — улыбнулся дед.
— Я сначала заблудился, а потом нашелся,—ответил сын.— Дедушка, я сам нашелся! Ты видел, да?
МАТРОСКА
Олег рос послушным, сговорчивым мальчиком, но детские капризы были свойственны и ему. Иногда он пытался настаивать на своем, но никто из нас не уступал ему. Казалось бы, ребенок маленький, ничего не понимает — как же можно ему не уступить? Лишь бы только не плакал. Но мы позволяли Олегу только то, что считали нужным, полезным для него.
С первого же дня, как Олег стал держать ложку и вилку, я старалась приучить его правильно пользоваться ими. Учила его, как нужно сидеть, как вообще вести себя за столом.
Но более всего я старалась внушить Олегу быть правдивым и честным, сознательно относиться к правде и к неправде. Я говорила сыну:
— Ошибку я тебе всегда прощу, неправду — никогда.
С малых лет Олег был правдивым во всем. Он не обманывал нас в мелочах, не обманул никого и в большом, когда пришлось ему в страшной борьбе с врагом отдать свою жизнь за Родину../ Мне хотелось, чтоб сын мой был отзывчивым ко всему хорошему, что есть в человеке, чутким к добру и правде, чтобы он
224
внимательно относился к своим товарищам. С самых малых лет старались мы приучить Олега ценить дружбу, быть в обращении с товарищами скромным и сердечным.
Однажды я сшила сыну к Первому мая два новых костюма: простой и матроску. Матроска Олегу очень понравилась. Вдруг он подошел ко мне, потянул за рукав и тихо сказал:
— У меня два костюма, а у Гриши — ни одного. Мама, давай подарим Грише... матроску!
С Гришей Олег целыми днями играл в саду. У Гриши не было отца, мать болела. Жилось им трудно.
Я молча завернула матроску в бумагу, и Олег, счастливый, побежал к своему маленькому товарищу. За костюмом последовали ботинки, альбомы, карандаши и все то, что так дорого ребятам.
Однажды Олегу пришлось видеть, как мальчишки разоряли птичьи гнезда. Выбрав яички и побросав птенцов, они разбежались, а встревоженные птицы долго еще кружили над гнездами. Помню, как Олег принес двух голых галчат и робко спросил:
— А можно, мамочка, птичек оставить? Будем их кормить, а когда вырастут, полетят папу и маму искать. Вот будут рады, когда найдут, правда?
Олег с любовью ухаживал за птенцами, а когда те выросли, отпустил их на волю.
В БИБЛИОТЕКЕ
Верными моими помощниками были книги. Слушать чтение Олег мог без конца. Игрушками он не увлекался, зато книжками — до самозабвения.
Мне часто приходилось ездить с маленьким Олегом в поезде. На вокзале он обычно брал меня за руку и подводил к книжному киоску:
— Ты посмотри, сколько тут книжек! А у нас таких нет. Купи, мамочка!
Как радовался он, как, счастливый, размахивал новой книж¬
225
кой! Потом, конечно, добивался, чтоб я ему читала. Если это были стихиЛ он повторял за мной:
Вот свалились санки,
И я на бок — хлоп!
Кубарем качусь я Под гору в сугроб...—
и радостно хлопал в ладоши.
Стихи Олег очень любил, учил их наизусть, охотно декламировал.
Не задумываясь и не жалея, он мог отдать товарищам свои игрушки, но книжку — никому.
Помню, как-то я зашла с Олегом в районную библиотеку в Прилуках. Увидев на полках много книг, Олег спросил громко:
— Мамочка, а за сколько дней можно прочитать все эти книжки?
Когда мы возвращались домой, он под впечатлением виденного в библиотеке всю дорогу расспрашивал меня о людях, которые наппсали так много книжек, допытываясь, нельзя ли писать стихи самому.
— Как мне хочется увидеть живого писателя! — сказал он взволнованно.— Он, наверно, очень высокий. А голова и глаза у него — вот такие большие!
— Почему же так? — спросила я.
— Ну, как почему,— отвечал Олег,— он должен очень много думать и все видеть. А рост большой — это чтоб дальше видеть.
ДВА ОГОРОДНИКА
Наш двор был полон зелени и цветов, веранда домика густо увита диким виноградом, в саду фруктовые деревья, кусты смородины и малины. В нашем цветнике росли левкои, гвоздика, резеда, астры. Дорожка от калитки в глубь двора была засажена пионами, георгинами и флоксами.
Хорошо тут бывало и днем, когда пчелы носились с цветка
226
на цветок, и вечером, когда сад благоухал и становился еще красивей под вечерними лучами солнца.
Я всегда старалась вовлечь в работу и Олега, когда сама работала в саду. С деловитым видом, раскрасневшийся, он охотно подносил мне рассаду, семена, а при разбивке клумб важно держал шнурок.
За садом ухаживал дедушка Кошевой. Он хотя и не был суровым, но порядок люйил. Без его разрешения Олег ничего не брал с грядок или в саду.
Припоминаю случай, который всех нас очень рассмешил.
Вижу я как-то — залез Олег в кусты малины и, поднимаясь на цыпочках, срывает ягоды ртом, не дотрагиваясь до них руками. Но. пока ему, маленькому, удавалось схватить ртом одну ягоду, он несколько раз падал, теряя равновесие.
— Что это ты тут делаешь? — спросила я.
— Ягоды ем,— ответил мальчик.— Дедушка сказал: руками срывать нельзя. А про губы он ничего не сказал.
Дедушка Кошевой и Олег были неразлучные, задушев- пые друзья. Сойдутся вместе — водой их не разольешь: сказки, рассказы, вопросы без конца.
— Дедусь, а почему пшеничный колосок такой большой, а ржаной — меньше?
— Почему ласточки на провода садятся? Думают, длинные ветки, да?
— А почему у лягушки четыре ноги, а у курицы — две?
— Дедусь, расскажи: гром — это откуда?
Дедушка только в усы улыбается и рассказывает: рассказывает о цветах и хлебах, о том, как произрастают всяческие травы, о далеких землях и птицах. И заставил дедушка полюбить Олега нашу красавицу Украину, и весь свет, и все живое.
Только раз у закадычных друзей вышло что-то вроде ссоры. Был у Олега дружок Грида. Ему тогда было шесть лет — на два года больше, чем сыну.
Дело случилось осенью. Ребята копались в саду. Грида сказал:
— Олег, а давай всю клубнику из грядок повыдергаем?
— А зачем? — спросил Олежек.
— Просто так.
227
— Дедушка рассердится.
Грида внес некоторую поправку:
— Тогда давай просто из одних грядок во все другие пона- садим.
— А зачем?
— Вот чудак, небось тогда больше будет клубники! Знаешь, как расти начнет везде? Только собирай!
—■ Ну, тогда давай. Дедушке понравится.
Недолго раздумывая, Олег принес из сарая корзинку.
— Дедушка говорит: пересаживать клубнику надо умеючи. Ее надо вместе с землей выкапывать — чтоб земля с корней не обтрусилась.
И друзья с жаром принялись за работу.
Детскими лопатками и руками они выкапывали клубнику и складывали ее в корзинку. Скоро они перемазались с головы до йог, пот катил с них градом. Олег даже пальто снял, повесил его на сучок. Вот уж и весь костюм его в земле, на красных щеках — отпечатки грязных ладошек. Работа была в самом разгаре, когда дед увидел их за этим занятием.
— Это что же вы натворили? — удивился дед.— А говоришь, что дедушку любишь! — обратился он к Олегу.— Какая же это любовь? Дедушка трудился, трудился, а ты все разрушил! Была бы у нас ягода, а теперь ничего не будет! Эх!
Олег расплакался.
— Дедушка, дедушка, я тебя и сейчас люблю! — отчаянно убеждал он, больше всего боясь, что ему не поверят.— А это я хотел, чтоб больше ягод было. Чтоб на всех грядках. Только собирай...
Федосий Осипович никогда и голоса не повышал на Олега. Сдержался он и на этот раз, но строго разъяснил внуку его ошибку. Все кончилось миром. К тому же клубника не погибла. Она была высажена аккуратно, с землей на корнях.
На следующее лето грядки опять были полны душистых, сладких ягод. Но Олег уже не занимался без разрешения деда «самостоятельным огородничеством», пока не подрос. А дедушка еще долго говорил, посмеиваясь в свои чумацкие усы:
— Наш хлопец — вылитый батька мой Осип Кошевой! Такой же дотошный!
228
„СЛЫШУ, СЫНКУ!..“
Отец часто рассказывал Олегу о Запорожской Сечи, о нашествии татар на Украину, о разгроме шведов под Полтавой. У Олега тогда загорались его карие глаза. Затаив дыхание жадно слушал он рассказы старины' а с чудесной повестью Гоголя «Тарас Бульба» впервые познакомился в пересказе отца.
— Вот повели Остапа на плаху, на казнь,— рассказывал отец притихшему Олегу,— и подошел к казаку палач. И так он Остапа пытал и мучил, что все, кто стоял на площади, не в силах были смотреть, отворачивались и закрывали глаза. Но ни одним стоном не показал Остап врагам, как трудно ему было да больно. А Тарас Бульба видел все: как терзают его сына и какой гордый стоял он перед врагом. И говорил Бульба тихо: «Добре, сынку, добре!» Но палач еще злее стал мучить Остапа, и тут дрогнула казацкая душа. И сказал Остап, глядя на врагов:
«Все чужие, неведомые мне лица! Где ты, батько? Слышишь ли ты меня?»
«Слышу, сынку!» — вдруг громко ответил Тарас Бульба.
Вздрогнули паны, бросились искать Тараса, но его и след простыл!..
Наслушается, бывало, Олег таких рассказов, выстрогает себе саблю, подбежит ко мне:
— Мамочка, прощай! Я сейчас воевать иду!
Он собирал своих боевых друзей — мальчишек, они спешно седлали своих коней — палки и прутья — и с гиком и воем кидались на врага — придорожную крапиву и бурьян.
С войны возвращались в царапинах, ожогах от крапивы, а нередко и в синяках. Они выстраивались в очередь, с гордостью подставляя мне свои боевые раны для перевязки.
А однажды Олегу вздумалось напасть на соседского петуха. Петух отличался лютым нравом и особенно не любил почему-то детей, и эта «боевая операция» Олега кончилась очень плачевно... Услышав отчаянный вопль, я бросилась в соседний двор и увидела несчастного воина распростертым на земле. Петух наскакивал на него, колотил его лапами и клювом, а воин вопил самым бесстыдным образом.
229
— Как же ты поддался цетуху? — говорю я с возмущением.
— А у меня сабли с собой не было,— оправдывался он, вытирая слезы,— а то бы я показал ему, как нападать на людей!
Петух исцарапал его в кровь, пришлось перевязать сыну его первые настоящие раны. Он мужественно терпел и даже не поморщился, когда я заливала их йодом.
После он рассказывал отцу, что петух напал на него,, как паны на Остапа, но только Остапа Тарас выручить не мог, а вот мама отбила его у злого петуха.
— Но вел ты себя далеко не как Остап,— добавила я.
И Олег промолчал. Задумался.
РАСТЕТ МОЙ МАЛЬЧИК
В четыре года Олег умел уже читать и писать. Я сфотографировала сына. Он подарил фотографию бабушке и дедушке и с моей помощью вывел на ней:
«Дорогим дедушке и бабушке на память от вашего единственного внучика, здесь мне четыре года».
Он охотно писал письма своей тете Тасе и бабушке. Адрес на конверте, на горе почтальонам, надписывал тоже сам.
Как подсолнух поворачивается к солнцу, так и мой Олег тянулся к людям.
Его большие карие глаза были жадно открыты на все. Музыка или песня шла прямо к его сердцу, и особенно любил он наши украинские песни, то грустные, то буйные, то радостные и всегда мелодичные.
Как сейчас, вижу: вечер, сыну пора спать, но он никак не может угомониться. Его дядя, Павел Кошевой, тоже большой друг Олега, посит племянника на руках по комнате и задумчиво поет:
Ой, братику-соколеньку,
Пусти диток на зимоиьку...
В песне рассказывается о детях, у которых умер отец. Матери трудно стало растить детей, и она попросила брата взять к себе ребятишек Еа зиму. Но злая невестка отказала.
230
Это была, кажется, любимая песня маленького Олега. Каждый раз, когда дядя Павел смолкал, Олег, бывало, скажет с горечью:
«Почему их не хотела пустить тетя? Какая она злая...»
Когда Олегу исполнилось четыре года, я подарила ему металлический конструктор. Мальчик быстро научился складывать разные модели: самолет, ветряную мельницу и многое другое. Это была кропотливая работа, но у Олега терпения хватало.
Пяти лет Олег уже катался на коньках. Иногда и я надевала коньки, и мы шли кататься вместе. По дороге на каток сын вышагивал рядом со мной, гордо поглядывая по сторонам. На щеках его рдел румянец. Катался он легко: то забегал вперед, то снова возвращался ко мне — крепкий и ловкий. С самого дня рождения Олега приучали не обращать внимание на погоду, и он не боялся ни жары, ни мороза.
Так вот и рос мой мальчик, славный малыш мой, давший изведать мне всю полноту материнского счастья.
ТАМ, ГДЕ ВЛАСТВОВАЛ КОЧУБЕЙ
Мы жили в Прилуках до 1932 года, когда мужа перевели на работу в Полтаву.
Олегу тогда было шесть лет. В Полтаве мы поселились на Октябрьской улице, недалеко от Корпусного сада. Помню, как Олег замер перед памятником, поставленным Петром I в честь победы русских войск над шведами.
Побывали мы и на шведской могиле, в краеведческом музее и в других исторических местах, которыми так богата красавица Полтава.
Частенько ездили мы с Олегом к моим родным — Коросты- левым, жившим недалеко от Полтавы, в селе Згуровка. В этой дружной и гостеприимной семье Олег чувствовал себя вольготно, быстро сошелся с дядей Колей, тогда еще пионером, дедушкой Николаем Николаевичем, моим отцом.
У дедушки была интересная и большая жизнь, к тому же он был хорошим рассказчиком, и это сразу привязало к нему любо¬
231
знательного внука. А рассказать деду действительно было о чем: токарь по специальности, до революции он работал в мастерских князя Кочубея; призванный в армию в 1915 году, он был направлен как токарь в Петроград, на Путиловский завод, участвовал в Октябрьском перевороте, а при штурме Зимнего дворца был тяжело ранен. Красочные рассказы деда настолько захватывали Олега, что даже отражались на его играх и увлечениях.
Но особенную привязанность Олег питал к моей маме, Вере Васильевне, бабушке Вере, как он ее называл. Крепкая любовь и дружба бабушки и внука началась с первой их встречи и продолжалась до последних дней Олега.
Моя мама — член партии — была в глазах Олега необыкновенным человеком. Как и дедушка, умелый рассказчик, она знакомила его с тем, что испытала сама: с тяжелой жизныо крестьян до революции, рассказывала о своей батрацкой жизни, о том, как много ей приходилось работать на богатеев за гроши.
Маленький Олег прямо-таки не отходил от бабушки. Стоило ей прийти с работы,— он уж тут как тут.
Бабушка сама была родом из Згуровки, где находилось когда-то богатое поместье пана Кочубея, и часто водила внука по разным памятным ей местам. В памяти бабушки крепко хранились подробности прошлой жизни, и ее рассказы во время прогулок приводили мальчика в сильнейшее волнение. Парк с могучими деревьями, речка, богатая рыбой, и белый дворец над ней, сахарный завод и разные мастерские, дремучие леса вокруг и неоглядные пшеничные поля — все это принадлежало когда-то одному Кочубею, на которого трудились тысячи людей.
— Бабушка, а зачем одному человеку столько? — недоумевал Олег.— Разве ему жалко было с бедными поделиться?
— А вот он как с ними делился... — отвечала бабушка и показывала Олегу, где пороли и истязали когда-то людей за малейшую провинность, где батраки работали, не разгибаясь с утра до ночи, за кусок хлеба.
Особенно действовали на Олега рассказы бабушки о том, как. не давали бедным учиться, читать книги, держали их в темноте.
— У, поганые буржуи, жаднюги! — возмущался Олег.— Не-
232
навижу их! — И с тревогой спрашивал: — А буржуи и Кочубей больше не вернутся? Большевики йх не пустят?
— Не пустят, милый, не пустят,— успокаивала бабушка.
Так получил Олег первые уроки политического воспитания, и они крепко запали в его юную, впечатлительную душу.
Кто мог знать тогда, что придется бабушке Вере помогать ее внучку, комиссару «Молодой гвардии», в смертельной борьбе с «буржуями», прятать оружие юных храбрецов, охранять их тайные встречи, падать под ударами немецких фашистов на допросах, перенести мученическую смерть внука и увидеть победу дела Олега и миллионов таких, как ее любимый внук...
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
В Полтаве Олег впервые пошел в школу. К этому времени он мог уже свободно читать, писать и решать задачи, а таблицу умножения знал наизусть.
Разговоры о школе начались задолго до первого сентября. Олег был полон ожидания и деятельно готовился к поступлению.
Навеки запомнится мне первое сентября... Как сейчас, вижу ясное, погожее утро, ласковое солнце, по-осеннему прозрачные улицы прибранного города и первую позолоту на еще пышных от зелени деревьях, сонно застывших в теплом безветрии.
Не знаю почему, но волнение Олега передалось и мне, и я беспокоилась, как маленькая, словно не только Олегу, но и мне самой предстояло в этот день пойти в первый класс. Мой мальчик пойдет в школу... Он как-то сразу вырос в моих глазах, и это незнакомое чувство радовало, но и тревожило меня: все-таки теперь я уже мать школьника, а это была новая ответственность. Окажусь ли я на высоте?
Олег в тот день проснулся рано. Он долго чистил зубы, рьяно намыливал лицо, затем надел свой новый костюмчик, причесал волосы и прибежал ко мне.
— Мамочка, я готов! — отрапортовал он, стукнув каблуками.— Можно уже идти.
233
Он был неузнаваем: подтянутый и очень хорошенький, а воодушевление так и переполняло его. Я полюбовалась им, похвалила, но заставила сесть за стол и позавтракать — времени было еще много.
Возле школы было шумно и празднично, все дети были с цветами, и Олег прижимал букетик. Ребята начали заходить в классы. Зашел и мой сын, бросив на прощанье взгляд, полный гордости и какой-то смешной озабоченности: ведь он отныне ученик. «Не подведу тебя»,— казалось, говорил этот взгляд, и я как-то сразу успокоилась. Я верила, что мой мальчик не подведет меня.
И вот прозвенел звонок, первый в жизни Олега школьный звонок. Закрылись классные двери, в школе сразу установилась рабочая тишина, а я еще долго стояла у выхода, думая о том, какие радости и трудности ожидают сына в. новой для него жизни.
На третий день занятий, вернувшись из школы, Олег с гордостью сообщил мне, что его перевели во второй класс. Сразу попасть во второй класс! Этого я не ожидала — ведь сыну было всего только семь лет,— и я, признаться, серьезно обеспокоилась: справится ли он с такой нагрузкой?
— Справлюсь! — весело заверил Олег.— У нас знаешь какая учительница Ольга Васильевна! А потом, я ростом как все, у нас даже ниже меня есть. Я, мамочка, буду стараться, вот увидишь!
Олег не обманул меня. Он всегда добросовестно и внимательно готовил уроки, и мне не приходилось даже следить за ним. Тетради его были без помарок, учебники завернуты в чистую бумагу, на столе всегда порядок. Книги — стопочкой, карандаши и ручки — в стаканчике.
Олег был очень организован и на все находил время — и па учебу, и на помощь по дому, и на игры.
Первые отзывы о нем учительницы были самые хорошие: со взрослыми был вежлив, с ребятами дружен и отзывчив, в учебе успевал. В общем, школьником своим я была вполне довольна.
„КРЕПИСЬ, СЫНОК!"
Но вдруг неожиданная болезнь прервала его ученье.
Как-то на уроке у него случился приступ аппендицита, и я должна была отвезти его в больницу. Боли у Олега, оказывается, были и прежде, но он терпел. Операция предстояла трудная. Это всех нас встревожило.
Мне разрешили быть около сына. Врач предупредил меня, чтобы я подготовила сына к тому, что после операции под наркозом ему захочется пить, но пить нельзя будет часа четыре.
Одели моего Олега в белый халат, в нем он вошел в операционную. Как всегда, медперсонал был в масках. Эта необычная обстановка вначале поразила Олега, и он растерялся, но профессор, приветливо улыбаясь, подбодрил его:
— Ну, Олег, видишь, тут все женщины, и только мы с тобой двое — мужчины. Крепись, сынок! Смотри не заплачь, чтоб потом над нами пе смеялись.
— А я и не думаю плакать,— ответил подбодренный этими словами Олег.— Вы думаете, мне сейчас страшно? Совсем нет! Я не плакал даже тогда, когда был совсем маленький и разбил бровь о ведро.
— А сколько тебе лет теперь? — спросил профессор.
— Семь с половиной.
— Ого! — удивился профессор.—Ты, пожалуй, в школе уже учишься?
— А как же — во втором классе! — ответил Олег.
— Ну, тогда понятно, почему ты не боишься...
Олега положили на операционный стол, оп начал считать за ассистентом, но заснул только на сорок пятой секунде. Я вышла.
Когда после операции Олега принесли в палату, оп был мертвенно-бледным. Плотно закрытые губы запеклись.
— Воды,— прошептал он еле слышно.
Забыв о предупреждении врача, я поднесла Олегу ложечку холодной воды, но он спросил слабым голосом:
— А разве уже прошло четыре часа?
Олег пролежал в больнице десять дней, и все время или я, или бабушка Вера неотступно дежурили около него.
235
Помню, как Олег просил ее не рассказывать ему смешных сказок:
— Ой, не надо, бабуся, не смеши меня! А то у меня шов разойдется, и его снова надо будет зашивать.
Профессор — солидный, добродушный человек с пышными усами — полюбил Олега. Подойдет к нему, сядет около кровати и долго говорит с ним о том, что больше всего интересовало тогда Олега: о путешествиях.
Когда сына выписывали из больницы, профессор подарил ему книжку «Робинзон Крузо».
— Вот тебе, Олег, книга о настойчивом человеке,— сказал профессор.— Его корабль потопила буря — он доплыл до берега. Ему негде было жить — он сам построил себе крепость. Сам сшил себе одежду, выдолбил из бревна лодку. На него напали враги — он разбил их и прогнал. И все это он сделал один. А теперь скалой, Олег: что же можем сделать мы все вместе, да когда нас так много и когда мы дружить будем? Ну-ка? Отвечай...
После операции Олег почти месяц не ходил в школу. Но его проведывали товарищи, помогали ему, чтобы он не отстал от класса. Олег рано почувствовал близость школьного коллектива и цену дружбы...
Но учиться в полтавской школе ему уже не пришлось. Мы переехали в Ржищев, Киевской области.
ДНЕПР
В Ржищев мы прибыли после Октябрьских торжеств.
Часть дороги проехали на пароходе. Первое путешествие по Днепру произвело на Олега глубокое впечатление.
Наш Днепр осенью хотя и не так прекрасен, как летом, но по-своему красив.
Правый, высокий берег стоит задумавшись, весь в багряном золоте осенней листвы. По левому берегу, чередуясь с песчаными отмелями, тянутся бесконечные заросли лозы, а дальше к горизонту высится густой лес, полный грибов и ягод, а сейчас по-
236
осеннему притихший и тоже весь в золоте, как богатырь в доспехах.
Уж не носятся над Днепром, как летом, крикливые стаи серебристых чаек и множество других птиц.
Все полно тихой, торжественной красоты. Только ветер свободно гуляет по днепровской синей воде, кидая белую пену с гребня на гребень. Глухо шумит темная вода под колесами. Эхо далеко-далеко разносит протяжные гудки парохода...
Олега невозможно было увести с верхней палубы, с осеннего ветра, вниз, в тепло.
Он быстро и легко познакомился с матросами, с седоусым важным капитаном и не переставая сыпал вопросами: почему пароход не тонет, если он железный, да еще с таким грузом? Каким образом он устроен? Почему гудок гудит? Если пароход утонет, можно ли здесь жить на берегу, как Робинзон Крузо?
Читал матросам стихи, и те его охотно слушали, собравшись в кружок и покуривая.
Ночыо на каждой пристани Олег просыпался, просил мепя и бабушку сойти с ним на берег «посмотреть, что там такое делается», и, конечно, добивался своего. Так мы и не спали из-за него всю ночь...
После приезда в Ржищев Олег сразу же пошел в школу. Двухмесячный перерыв не отразился на его занятиях, и он быстро освоился с новой для него школой и новыми товарищами.
Как полюбил Олег Днепр! Уже девяти лет он мог переплывать его от берега до берега — расстояние в триста метров. Мальчик мечтал о лодке, чтобы самому грести и ловить рыбу.
— Будешь хорошо учиться,— пообещала я,— исполню твое желание.
Настало лето. Олег закончил учебный год с похвальной грамотой, и я выполнила обещание. Видимо, сын был уверен в себе, потому что к этому времени заготовил массу крючков, удилищ, всяких сеток и переметов.
Со счастливым, сияющим лицом сел он за весла в свою лодку. Началась дружба со старыми рыбаками — уроки рыбной ловли, сказки, разные истории по вечерам у костров.
Олег весь пропах дымом, запахом рыбы и осоки. Руки у него огрубели, были в ссадинах. Грудь стала шире.
Иногда ему удавалось подбить старого рыбака дедушку Герасименко и товарищей поехать на левый берег Днепра, провести ночь в лесу, у костра, а на рассвете начать ловить рыбу.
Получив разрешение на такое «далекое путешествие», Олег приходил в восторг, тормошил меня и бабушку:
— Мама, если бы ты знала, как мне хочется поймать огромного сома для твоего детского сада! Знаешь, как твои малыши обрадуются!
В Ржищеве я работала заведующей детским садом, и желание Олега поймать сома для ребят я поддержала. Олег был частым гостем в детском саду, ребята любили его, и он охотно отдавал себя в полное распоряжение «чижиков»: возился с ними, боролся, но и умел следить за ними, как опытная нянька.
И Олег сдержал слово: поймал сома и отнес его ребятам. Потом оп часто приносил в детский сад разных рыбешек и, ко всеобщей радости, пускал их в аквариум.
Обычно после путешествия на реку сын возвращался с богатым уловом рыбы, с рассказами дедушки Герасименко, где быль путалась с небылицей, па что такие мастера днепровские рыбаки.
— Знаешь, мама,— рассказывал Олег с горящими глазами,— дедушка говорит, что прежде в Днепре русалок было больше, чем рыбы. Правда это? А сома не так-то просто поймать, ты пе думай! Его, как только вытащишь из воды, надо сразу по голове глушить чем-нибудь, а не то — беда! Убить может... Дедушка раз поймал сома в десять пудов, прямо чудовище, да и не оглушил его сразу — сом как засопит, как ударит дедушку хвостом, чуть-чуть до смерти не убил! Тот сом, что я для твоего детского сада поймал,— он, правда, хоть килограмма на три был, а тоже как хлестнет меня хвостом по ноге, будто саблей! Ну, я удержался, конечно...
Нравился Олегу и Ржищев, похожий на огромнейший парк над Днепром, его аккуратные домики с покрашенными крышами и белыми рядами заборов. Улица, на которой мы поселились, называлась Соловьиной. Весной здесь поселялось такое множество соловьев, что вечерний воздух буквально звенел от их трелей.
238
Олегу к этому времени было десять лет. Он начал увлекаться стихами. Да и нельзя было не писать их среди такой чудесной природы. Вот одно из его стихотворений тех счастливых дней:
Я Ржищев крепко полюбил За то, что дивно он красив,
За то, что в нем впервые я Увидел красоту Днепра.
Его я полюбил разлив Весною многоводной И день и ночь на лодке б плыл В его простор свободный!
И рыбу я люблю ловить Со школьными друзьями,
На берегу уху варить С картошкой, с карасями..*
С этого года все свои впечатления о природе, Отдельные случаи и происшествия дома и на улице, фразы из любимых книг сын начал записывать в толстую тетрадь с черной клеенчатой обложкой. Туда же он записывал и свои стихи. Так сложился его дневник.
Начал его Олег рано. На первых порах все там было по-детски наивно; с годами записи в дневнике стали для него необходимостью, как беседа с верным другом и неизменным помощником.
С детства у Олега были свой столик и этажерка, полпая книг, разные папки, «секретные» тетради; все это он берег пуще глаза и никому не позволял нарушать порядок.
Таких записей и стихов накопилось у сына немало. Когда начались аресты молодогвардейцев, Олег был вынужден все это сжечь.
По его приказу долго бросали мы с бабушкой в печку тетрадки со стихами, папки, записи — все, что Олег собирал с такой любовью. Все это было бесконечно дорого и нам.
„РАССКАЖИ, КАК ТЫ БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ"
Олег любил все веселое, красивое, праздничное.
Под Новый год мы вместе с ним украшали елку. Когда к нему приходили товарищи, я тоже принимала участие в их играх: переодевалась в Деда-Мороза, декламировала стихи, рассказывала сказки.
Как-то раз на одной из таких шумных елок, когда товарищи сына ушли, я присела на диван отдохнуть. Было очень поздно. Догорая, потрескивали на елке свечки. Глаза слипались...
Олег тихо сел на диван, прижался ко мне:
— Мамочка, расскажи мне, как ты была маленькой. Все, все расскажи! Как было...
Он просил ласково и настойчиво. Я начала рассказывать, забыла про усталость и увлеклась сама.
— Ну, слушай! Маленькой я скорей была похожа на сор- ванца-мальчишку, чем на девочку. Ничего не боялась. Мне хотелось самой до всего дотронуться, все узнать, сделать то, что нелегко: поглубже в лес забраться, залезть на самую верхушку дерева...
Вот как-то раз ношусь я с криком по улице и вижу: на бугре пасутся лошади. И сразу один конь мне больше всех понравился: гнедой, хвост белый. Подбежала к нему, развязала путы на передних ногах. Можно садиться. Но как? До спины коня даже рукой не достать. Нарвала я травы, подманила коня к заборчику, сама — на забор, с забора — на коня. Готово! Из пут я сделала уздечку, ударила босыми ногами по бокам коня, как шпорами. Наверно, и конь был такой же сорванец, как я. Помчались мы с ним в степь, только ветер в ушах засвистел! Хорошо! Земля убегает из-под йог, ветер бьет в лицо, дорога свободна...
Ну и поносил же меня конь по степи — сам устал! Сбросил меня со спины, как мешок,— и в стадо. А я как свалилась с него, так и встать не могу. Хорошо еще, что не попала под копыта. Папа очень рассердился: конь-то оказался с норовом. И запретил мне папа раз и навсегда кататься на конях.
«Не послушаешься, говорит, целое лето в комнате просидишь».
240
На обороте этой фотографии рукой Олега написано: «На память дорогой голубке бабушке от ее внучка Олега. 26/V—39 года».
Дедушка Федосий Осипович и Олег были задушевные друзья.
Олежек со своим четвероногим приятелем.
Бабушка Вера Васильевна.
Олег Кошевой со своей матерью Е. Н. Кошевой.
Олег Кошевой — пионер. Ему десять лет.
Олежек и его товарищи.
Временный комсомольский билет, выданный члену подпольной
организации «Молодая гвардия».
Баня шахты, в которой перед казнью пытали молодогвардейцев.
Олег в августе 1942 года.
Герой Советского Союза Уля Громова.
Герой Советского Союза Ваня Земнухов.
Герой Советского Союза Люба Шевцова.
Герой Советского Союза Сережа Тюленин.
Памятник героям-молодогвардейцам в Краснодоне.
Я послушалась. Но только раз вижу — ходит по двору здоровенный такой кабан.
Подошла я тихонько к кабану. Почесала у него за ухом, а потом, когда он расчувствовался, я — прыг к нему на спину и вцепилась в щетину. Кабан сначала ничего не понял, а потом сам испугался, захрюкал, да как давай меня носить да мотать по двору, только в глазах у меня замелькало! Все было бы ничего, да вижу — несет меня кабан к крыльцу, а на крыльце папа сидит...
Потом я узнала, что кабан этот был очень злой: на людей бросался. Клыки у него были, как ножи...
Кабан, брызгая пеной изо рта, сделал какой-то особенный скачок, я почувствовала, что лечу по воздуху, и шлепнулась в грязь прямо перед папой...
Олег смеялся вместе со мной...
— Ну, мамочка, ну еще расскажи! Пожалуйста!
Отказать в таких случаях ему было невозможно. Мы уселись
поудобнее, обнялись покрепче, и я продолжала:
— А когда мне восемь лет было, я, Олежек, чуть было в колодец вниз головой не влетела...
Дело вот как было.
Играла я со своими подружками около глубокого колодца. Возле него скот поили. Воду доставали при помощи деревянного журавля. От верхушки журавля шла длинная, толстая палка, а на конце ее была деревянная кадушка ведра на четыре. На другом конце журавля — тяжесть, кусок железа. Вроде весов получалось. Кадушка наполнится водой, вес сравняется, и ее легко поднимать наверх — палку руками быстро так перебирают...
Вот я и говорю ребятам:
«А ну, кто сумеет полную кадушку поднять, тот и самый сильный!»
Не нашлось такого силача. Тогда я сама изо всех сил ухватила палку с кадушкой — и давай толкать в колодец. Но руки у меня скоро устали, зачерпнуть воды я не могла, выпустила палку из рук и не успела опомниться, как вдруг очутилась под небесами.
А получилось вот что. Кадушка понеслась вверх, журавль и
Библиотека пионера. Том II 241
зацепил меня за платье. Болтаюсь я в воздухе, ничего пе понимаю, только слышу, как подружки визжат и ревут со страху.
В это время железная тяжесть как ударится о землю, встряхнула меня хорошенько над колодцем, бадья опять понеслась вниз, а вместе с нею и я. Дошла она до воды, и опять тяжесть потянула ее вверх, и я снова в небе ногами болтаю...
Так меня раза два подняло и опустило. Наконец раздался треск — платье разорвалось, и я, как лягушка, на всех четырех лапах очутилась на земле. И больно-то мне было и стыдно! А тут еще ребята надо мною смеются: «Самая сильная, самая сильная!..»
— Мама, ну а ты? — шевельнулся Олег.
— Ну, и я вместе с ними. При них не плакала. А когда в степь убежала, там уж и дала волю слезам...
Что больше всего на свете, если не рассказы и сказки, любят ребята? Не помню случая, чтоб я отказала Олегу, когда он просил меня рассказать что-нибудь о себе, об Украине, о нашей прежней тяжелой жизни мастеровых людей, о дедушке Олега, Коростылеве, и о многом другом, что так интересует всякого ребенка.
И Олег мне платил тем же. Так росли наша дружба и доверие друг к другу...
„Я, ЮНЫЙ ПИОНЕР...“
Скоро и бабушка Вера переехала к нам из Згуровки. Она начала работать в совхозе парторгом, а жила вместе с нами.
Радости Олега не было конца. И чем дальше крепла дружба бабушки и внука, тем все больше узнавал Олег о жизни нашего парода, о его борьбе за счастье и вольную жизнь и все глубже любил свою отчизну.
Бабушка Вера —- вечно веселая хлопотунья, минуты, бывало, не посидит без дела, жизнерадостная, чуткая к людскому горю, готовая помочь людям — была для Олега примером большевика.
Вспоминаю день вступления Олега в пионерскую организацию.
242
Это было 7 сентября 1935 года. Олег проснулся на рассвете и начал быстро одеваться. Вскоре я услышала из смежной комнаты:
— «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей обещаю...»
Голос у Олега был взволнованный, но слова он выговаривал твердо.
Из школы он возвратился с сияющими глазами, в новеньком красном галстуке на шее. Бросился ко мне, расцеловал.
Потом сказал тоном взрослого:
— У нас теперь в доме два члена партии.
— Кто ж это?
— Бабушка и я,— ответил Олег.
Я рассмеялась. С моим объяснением, что пионер еще не член партии, что нужно сначала в комсомол вступить, а потом уже в партию, Олег хотя и согласился, но остался при своем мнении:
— Ну что ж? Пионер тоже немножечко партийный...
С этого времени Олег стал особенно подтянут и собран. Он как бы стал взрослее, и красный галстук на груди, всегда разглаженный и чистый, казалось, сдерживал его теперь от многих мальчишеских порывов.
Пионером он чувствовал себя всегда, не только в школе и на сборах.
Помню, пригласили Олега в детский сад, где я работала, на праздник Первого мая.
Начался утренник. В зале не оставалось ни одного свободного места. Олег так увлеченно смотрел на сцену, что, казалось, ничего не замечал вокруг. Но тут в зал вошла воспитательница младшей группы Ксения Прохоровна. Олег обеспокоенно огляделся и, не увидев в зале свободного места, быстро поднялся, подошел к Ксении Прохоровне и почти силком заставил ее сесть на его место.
Теперь Олег следил за своей внешностью с особым тщанием. Костюм у него всегда был как новый, без пятен, хорошо вычищен, выглажен его собственными руками.
Ложась спать, Олег аккуратно складывал свои вещи около себя на стуле. Его никогда нельзя было увидеть неподстриженным или непричесанным.
243
Как-то я уехала из дому. Олег остался один. Встал он рано утром и попросил у соеедки утюг.
— Зачем тебе?
— В школу пора, а костюм помятый. Неудобно в таком за парту сесть. Я — живо!
И он ловко и быстро выгладил свой костюм и только тогда пошел в школу.
С тех пор как Олег стал пионером, он все чаще задерживался в школе. Различная общественная работа, новые обязанности и нагрузки вошли в его жизнь, появились новые увлечения, которым он отдавался с большим рвением, вкладывая в них весь пыл и азарт своего пионерского сердца.
СЛУЧАЙ В БУРЮ
Жадно любил Олег природу. Особое чувство вызывали у него буря, гроза, зимой — буран.
Однажды стоял душный, но ясный и тихий день. Мы все ушли на работу. Олега оставили дома с моей сестрой. К вечеру погода изменилась. Все небо покрылось густыми черными тучами. Поднялся резкий ветер. Вскоре он перешел в настоящую бурю. Деревья гнулись и трещали. Солома вихрем взлетала с крыш, густые тучи пыли поднимались, кажется, до самого неба. А потом грянул ливень. К Днепру потекли шумные потоки...
Когда дождь утих, я поспешила домой. Прихожу — сына нет.
— Где Олег? — спросила я у сестры.
— А я не знаю,— ответила она,— сама волнуюсь. Когда началась буря, он к дружку своему Грише Задорожному побежал.
Я немного подождала и пошла к Грише. Олега не было и там. Гриша сказал, что Олег прибежал, когда буря только еще начиналась, и стал звать кататься по Днепру. Спешил очень сесть в лодку, выехать на середину Днепра, в бурю побороться с волнами. Кроме того, после бурной погоды, как потом уверял меня Олег, славно ловится рыба — клюет без наживки, только успевай вытаскивать.
Гриша колебался.
244
Тогда Олег махнул рукой, захватил свои крючки, переметы и помчался к реке.
Не помню, как я прибежала домой. Выслушав меня, бабушка тоже переполошилась, и мы вдвоем кинулись к Днепру.
Когда мы добрались до реки, уже совсем стемнело. Буря утихла, и только мутные ручьи после недавнего разлива шумно падали с высокого берега в Днепр. Я всматривалась в зловещую ночную темноту, прислушивалась, не послышится ли плеск весел.
— Олег! Оле-же-ек! — без конца кричала я.
Никто не отзывался. Мне казалось, что моего Олега уже нет на свете...
— Мама, что же делать?
Что могла ответить бабушка Вера? Мы бегали по берегу, снова и снова звали Олега. Ответа не было. И не могло быть...
Олег ждал нас дома.
Я тогда так рассердилась на него, что и говорить с ним не могла. Только и сказала:
— Две недели не пойдешь в кино!
Большие влажные глаза сына посмотрели на меня с тихим укором.
На другой день, когда я уже успокоилась, Олег покаялся мне во всем:
— Понимаешь, я ведь и Гришу звал на Днепр, да он не захотел. Что было делать? Пошел я один. Сел в лодку, а тут буря разыгралась. Ух, и бросало лодку с волны на волну! Будто я со всем Днепром боролся один на один. А когда начался дождь, я вытащил лодку на остров, опрокинул ее и уселся под ней. А потом... — Олег прижался ко мне, хитро играя глазами.— Ты ж, мамуня, не знаешь, как рыба ловится после бури!
Но как он ни ласкался ко мне, каким хорошим ни был он в то утро, я не изменила своего решения и еще раз серьезно повторила, что ему придется понести наказание.
Это очень смутило Олега. Он пошел к бабушке и повел с ней такой разговор:
— Бабуся, я хочу с тобой поговорить, как партиец с партийцем...
После этого «партийного разговора» бабушка, конечно, взя-
245
лась хлопотать за внука, но и это не помогло: Олег две недели пе ходил в кино.
К концу такого тяжкого для всякого мальчика наказания Олег, вздохнув глубоко, сказал мне:
— Лучше бы уж ты меня ремнем выстегала! Поболело бы немножко и прошло. И я бы сразу в кино пошел...
ЗА ГРИБАМИ
Каждый приезд на летние каникулы брата Николая бывал для Олега праздником. Дом наш превращался в гудящий улей. Сюда, как на огонек, тянулись школьные товарищи Олега, и шумные разговоры, споры, игра в шахматы, сборы на рыбалки и в походы не прекращались ни на минуту.
Дядя Коля был уже студентом третьего курса Горного института и, как человек другого, взрослого, мира, вызывал у ребят тайную зависть и открытое обожание, но сам он в глубине души оставался мальчишкой и нередко «откалывал номера» вполне под стать своим младшим друзьям. Именно это особенно располагало к нему ребят.
Однажды, еще до восхода солнца, собрались у нас друзья Олега, чтобы вместе пойти в лес и встретить в дороге зарю. Все еще были заспанные и продрогшие от утренней прохлады, но не могли скрыть радостного оживления — пританцовывали и толкались.
Я тоже присоединилась к «честной компании», и, когда все было готово, мы вышли из дому шумной гурьбой, нарушая тишину спящего поселка.
Шли мы по накатанному, сырому от ночной росы шляху, и по обеим сторонам в предутренней дымке необозримо тянулись уже слегка желтеющие хлебные поля.
Над горизонтом выплыл рубиновый краешек солнца — и это было похоже на чудо. Вдруг разом загорелись травы, по хлебному полю побежали, исчезая, ночные тени, и каждый колосок заискрился алмазной росой, склонившись маленькой гирляндой.
Ребята затихли и даже не глядели друг на друга, словно боя¬
246
лись потревожить торжественное рождение дня. И только спустя несколько минут, когда солнце уже заметно поднялось над горизонтом, стали взволнованно делиться впечатлениями. Но Олег держался в стороне и долго еще хранил молчание, задумчиво поглядывая в поле.
— Ты чего зажурился? — спросил Николай и положил руку ему на плечо.
И Олег вдруг светло блеснул глазами, пригладил волосы и как-то застенчиво начал декламировать:
Полем идешь — все цветы да цветы,
В небо глядишь — с голубой высоты Солнце смеется... Ликует природа!
Всюду приволье, покой и свобода;
...Дорого-любо, кормилица-нива,
Видеть, как ты колосишься красиво,
Как ты, янтарным зерном налита,
Гордо стоишь, высока и густа!
— Вот это сочинил! — изумленно воскликнул кто-то. И вдруг раздался веселый хохот.
— Смерть невеждам! — вскричал Николай, бросившись разыскивать человека, посмевшего не знать, что это были строки из поэмы Некрасова «Саша», но «невежда» улепетывал со всех ног к лесу.
— В погоню!
И ребята, загоготав, как застоявшиеся кони, шумно бросились наперегонки, а впереди, взбрыкивая ногами, мчался Николай. И долго еще продолжалась веселая суматоха и вспугнутые жаворонки взмывали над степью, серебристым звоном возвещая утреннюю побудку.
И вот мы в лесу. Сразу исчезли куда-то степные ветерки, нас окружила теплая и мягкая лесная тишина — таинственная и пронизывающая до звона в ушах. Мы стоим, слушая тишину, и кто-то тихо и задумчиво стал читать из Некрасова:
Мне лепетал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес!
Нигде не дышится вольней Родных лугов, родных полей.
247
Вскоре мы нашли красивую, уютную полянку, я расстелила скатерть на траве и стала готовить завтрак. Аппетит у ребят после прогулки волчий, и мне никого не пришлось упрашивать— только подавай!
После завтрака ребята разбрелись в разные стороны, и только слышно было отовсюду далекое «ау!».
Домой мы возвращались нагруженные корзинками грибов и огромными букетами лесных цветов.
ОТЧИЗНА
Общественная работа забирала у Олега много времени и энергии, но не мешала ни учебе, ни разным увлечениям.
Начиная со второго года, в школе он был старостой класса, потом — редактором школьной газеты.
Уже в пятом классе сын прикрепил к куртке значок «БГТО».
Вот он кропотливо рисует плакат к праздникам. Вот, весь в краске и клее, строит с товарищами модель самоходного танка и «настоящего» самолета.
На праздничной демонстрации в его руках — школьное зпамя.
Вот он с криком и смехом, раскрасневшийся на морозе, лепит с ребятами снежную бабу. Команда — и полетели снежки.
— Атака! Ура!
Любил он послушать, как снег свистит под лыжами, до самозабвения увлекался футболом, вертелся на турнике, не последним был и в волейболе.
И с одинаковым увлечением садился за уроки, бежал в школу.
Трудно было понять: что же больше всего любил мой сын и чем глубже всего увлекался?
Он любил все: небо, шахматы, Днепр, химию, звезды, школу, товарищей, географию, родной дом, цветы и футбольный мяч, книги и кино, историю и математику, возню с ребятами и стрельбу в цель, животных, рыб, птиц, лопату и молоток в своих руках...
248
Любил все настоящее и интересное, дружное и красивое. Наслаждался учением и трудом, теплом от костра, песней и музыкой.
Он жил свободно, как птица, как сотни тысяч советских ребят.
Я думаю сейчас: когда настал последний час моего сына около зловещего рва, когда измучен он был пытками и ослабел телом, не улыбнулось ли тогда Олегу его счастливое детство? Не легче ли ему было принять пулю убийц и смерть, зная, что никто и никогда не отнимет счастливого детства у советских ребят?
Мой юный читатель! Береги и люби все, что завоевали для тебя отцы и старшие товарищи в тяжелых боях своей кровью. Люби свою родную землю и каждую травинку на ней. Береги и дорожи всем — великим и малым: советом старшего товарища и усталыми от труда руками матери и отца, вещами, которыми пользуешься, и особенно дорожи людьми, которые их делают, люби все, что охватывается большим и красивым словом — Отчизна, люби ее больше, чем себя, учись и трудись во славу ее, ибо в ее славе — твоя слава. Пусть жизнь и борьба Олега и его друзей помогут тебе...
„У РЕКИ ЖИВЕТЕ —ПЛАВАТЬ НЕ УМЕЕТЕ!“
Там же, в Ржищеве, Олег записался в Освод, стал наблюдать за правильным ловом рыбы и за катающимися на лодках. Казалось, он только и ждал того, чтоб кто-нибудь упал из лодки в воду, чтобы броситься на помощь и спасти. Плавал Олег, как рыба...
Кстати говоря, такой случай представился Олегу двумя годами позже — во время летних каникул у тети Таси, в Коро- стышеве, где служил в частях ее муж Терентий Кузьмич Да- нильченко.
Олег любил своих двоюродных сестричек Светлану и Лену и целыми днями пропадал с ними в лесу и на реке.
Река под Коростышевом быстрая. Несколько километров тя-
249
пется она среди леса, красивая и живописная, как все наши лесные реки.
Как-то ранним утром Олег скомандовал сестренкам:
— Скорее на реку, в лодку! Прокачу, рыбу половим. Живей, живей!
Когда они выгребли на середину реки, Олег попросил Лену сесть на весла, чтобы самому приготовить удочки. Девочки расшалились. Переходя к веслам, Лена споткнулась, вцепилась руками в борт лодки... Секунда — и лодка опрокинулась.
Девочки плавать не умели. Лена ухватилась за лодку, Светлана захлебывалась, и ее уносило течением. Видя, что Лена держится сама, Олег крикнул ей:
— Молодец! Держись крепче!
И саженками поплыл к Светлане.
По всем осводовским правилам спасания утопающих, он подхватил сестренку в воде и поплыл с нею к берегу. Усадил ее на песок, нырнул — и за Леной. Тем же порядком доставил на берег и ее.
Потом, у костра, прыгая на одной ноге, вытряхивая воду из ушей, Олег сердито выговаривал сестренкам:
— У реки живете — плавать не умеете! Стыдно!
И в течение месяца он научил девочек плавать.
В Коростышеве Олег обучился верховой езде. Терентий Кузьмич Данильченко прекрасно владел оружием и отлично ездил верхом. В его твердых руках любая норовистая лошадь становилась послушной и покорно выполняла все, что требовал наездник. Данильченко подолгу и терпеливо обучал Олега трудному мастерству верховой езды.
Бывало, возьмут верховых лошадей и уедут в поле. Не один раз кубарем слетал Олег с мчавшейся лошади, не раз больно ушибался, но желание и упорство оказывались сильнее боли.
И Олег добился своего. Легко вскакивал на коня, ловко управлял в езде и вскоре приобрел выправку настоящего наездника, даже ходил с развальцем. Если бы его воля, он, кажется, не слезал бы с коня.
ВЕСНА
В Ржшцеве у Олега было много товарищей, а самыми близкими из них были Володя Петренко, Ваня Лещинский, Гриша Задорожный, Зина Бонзик и Рада Власенко.
Вспоминается мне один из счастливых дней моей жизни.
Это было летом, под вечер. Солнце еще не зашло, и я решила погулять над Днепром. Не успела я подойти к берегу, как услышала с днепровских просторов звучное пение. Пели хором — так чудесно и с таким вдохновением, что невозможно было не пойти той песне навстречу. Я вбежала на высокий берег...
И мне вдруг почудилось, что по синему вечернему Днепру плывут живые букеты цветов. Это была лодка, полная девушек, одетых в разноцветные украинские костюмы, с развевающимися лентами и венками на головах.
И вдруг из самой гущи этих живых букетов раздался звонкий голос:
— Мама, иди к нам!
Узнать сына было трудно, но вот он замахал мне рукой. На голове у Олега был такой же, как у девочек, венок из живых цветов.
— Садитесь с нами, Елена Николаевна! — стали звать меня и девочки.— Мы — к пристани, пароход встречать. Увидите, как волны будут качать лодку!
Я узнала потом, что Олег, катаясь в своей лодке, повстречал на берегу Раду с ее подругами, ученицами шестых и седьмых классов ржищевской школы, и позвал их покататься по Днепру. Девочки охотно согласились, а в благодарность сплели Олегу на голову венок из цветов.
Я вошла в лодку, села рядом с Олегом. Для меня у девочек тоже нашелся венок.
Торжественно, с пением «Веснянки», они надели его мне на голову, и я уже не отличалась от них и Еместе с ними пела хвалу весне...
В КИЕВЕ
Ржищев — недалеко от Киева, пароходом часа три езды. Не успеешь наглядеться на днепровские берега, как ты уже в столице Украины — городе, которого нет красивее на свете, с его многолюдным, праздничным Крещатиком, с Владимирской горкой, высоко поднявшейся над рекой, с густыми каштанами и тополями, в тени которых сумрачно и прохладно даже в самые жаркие дни.
В Киев мы с Олегом ездили не раз, ездили в гости к родным и просто так и часто до полной устали бродили по его улицам и паркам, любовались Днепром, знакомились с памятниками старины.
Однажды поехали мы вместе с Феодосией Харитоновной Довгалюк, тетей Рады Власенко, заменившей девочке рано умершую мать. Ребят захватили с собой. На пароходе Олег и Рада отделились от нас, бегали по палубе, спускались в трюм, смотрели на уходящие берега, оживленно обменивались впечатлениями и смеялись.
Остановились мы в Киеве в гостинице — не хотелось стеснять родных. Погода была солнечная, жаркая. Прямо с утра пошли в Киево-Печерскую лавру. Долго любовались мы видами города с колокольни, уходившей в небо чуть не на сто метров. Восторги ребят и нам передавались; любо было смотреть на их румяные лица, разгоревшиеся глаза, и еще краше от того казался Киев, его узенькие сверху улочки, золотые маковки соборов, зеленые купы деревьев. Рада то и дело вскрикивала и ахала, Олег же рядом с ней старался казаться солидней, держался по-мужски и важно бросал полюбившиеся ему слова:
— Мелочи жизни!
Наблюдая эту дружную пару, а в Киеве Олег и Рада не расставались, мы с Феодосией Харитоновной только переглядывались и незаметно улыбались — до чего же захвачены они были своей детской дружбой, до чего же смешны и милы покровительственные нотки Олега, застенчивые взгляды, которые бросала на него Рада.
То и дело ребята покидали нас, бегали по Киеву, а однажды, вернувшись, как-то таинственно перемигивались, и Олег
252
называл Раду сестренкой. Но долго они не могли прятать своей тайны. Перебивая друг друга, рассказали, что были в кондитерской и там накупили столько сладостей и так жадно набросились на них, что продавщица жалостливо посмотрела на них и сказала:
— Наверно, брат и сестра только что из провинции, не правда ли?
Ребята, слегка смущенные, согласились, что действительно брат и сестра, но от «провинции» решительно отказались. Доев пирожные, они побежали в гостиницу, очень довольные этим внезапно выявившимся родством. Меня же после Киево-Печерской лавры Олег, любивший придумывать разные клички и прозвища, долго называл «святой Еленой».
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПИСЬМА
Много лет прошло с тех пор, перезабылись подробности, но и сейчас идут ко мне письма людей, знавших Олега. Это учителя, его школьные товарищи, друзья, вместе с ним делившие радости учебы, отдыха, веселых игр и увлечений.
Я люблю перечитывать эти письма. Вечерами, вместе с бабушкой Верой, старенькой моей мамой, перебираем мы пожелтевшие листки. Я читаю, бабушка слушает, задумавшись. Иногда письмо напомнит ей что-то новое, она вся просияет, остановит меня и начинает рассказывать. Много и цепко хранит ее свежая, как и в молодости, память. И встают перед нами сценки — далекие и в то же время близкие, словно все это было недавно...
Летом 1938 года Олег приезжал в приднепровское село Ходо- рово — там в школе был пионерский лагерь, в котором работала бабушка Вера. Олег был прирожденный затейник, быстро и легко сходился с ребятами, не терпел возле себя скучающих, изнывающих от безделья. В лагере появилось вскоре много шахматистов — любителей и болельщиков. Не только в ненастную погоду, но и в хорошие дни можно было видеть ребят, даже девочек, поглощенных шахматной игрой,— делом, может быть, и
253
не очень подходящим для лагерного отдыха. Так уж устроен был, наверно, Олег — чем бы он ни увлекался, это сразу передавалось другим ребятам. Он просто не мог жить и радоваться в одиночку...
Друзей у Олега было много, он умел дружить, как-то весь отдаваясь друзьям, прямо-таки влюбляясь в них, с радостью открывая в них замечательные качества. Дружил он с ребятами разного возраста и очень тянулся к старшеклассникам, у которых можно было набраться опыта и знаний.
Я не помню, чтобы Олег с кем-нибудь дрался, но, конечно, не обходилось, как и в жизни любого мальчика, без огорчений.
Однажды — это было в школе, на перемене,— Олег и девятиклассник, с которым он часто встречался, о чем-то спорили, стоя на лестничной клетке. Вдруг Олег взмахнул руками, отлетел в сторону и скривился от боли. Со звоном выпали из кармана пиджака часы, первые в жизни Олега часы, подаренные бабушкой в день его рождения. Какой-то верзила, скатившийся по перилам и сваливший Олега, с хохотом удрал. Олег не бросился на него с кулаками, не стал кричать. Он побледнел, поднял часы, прикусил губу и ушел в пустой класс. Там он оставался до тех пор, пока не успокоился. Он отличался выдержкой, которую не часто встретишь даже у взрослых.
ЗВЕЗДА ПУТЕВОДНАЯ
Читал Олег, как почти все ребята в его возрасте, много, с героями прочитанных книг радовался, горевал, путешествовал, шел на битву с врагом и побеждал.
Он без конца перечитывал «Овода» Войнич, рассказы Джека Лондона, читал Горького, Пушкина, Некрасова, Котляревского, «В дурном обществе» Короленко, «Разве ревут волы, когда кормушки полны?» Панаса Мирного, Шевченко, «Тараса Бульбу» Гоголя, увлекался его рассказами про Украину. Из «Евгения Онегина» он многое знал наизусть.
Николай Островский, этот любимый всей нашей молодежью писатель, стал Олегу особенно дорог и близок. «Как закаля¬
254
лась сталь» и «Рожденные бурей» Олег прочитал на украинском языке, когда еще был учеником шестого класса.
Он принес книжку и сразу засел за нее. Все уже спали. Вдруг из комнаты сына долетел до меня громкий разговор.
«С кем это он? — подумала я.-— Что бы это могло быть? Ведь уже третий час ночи!»
Я пошла к сыну. Смотрю — лежит мой Олег на кровати, размахивает руками и повторяет с жаром:
— Вот так Павка, вот это молодец!
— Сын, с кем ты здесь говоришь? — спросила я потихоньку.— Скоро утро, а ты не спишь.
Олег поднял на меня утомленные глаза:
— Знаешь, я такую книжку читаю, такую интересную, никак не могу оторваться! Я сейчас засну. Завтра, когда я пойду в школу, почитай и ты эту книгу, но только вот до этого места, хорошо? А потом мы будем читать вслух. Только дай мне честное слово, что дальше без меня ты ни одной строчки не прочтешь!
И он показал на седьмую главу.
Я взяла книжку, пообещала исполнить его просьбу и ушла. У себя я только на минутку заглянула в книгу и уж не могла оторваться.
Когда Олег возвратился из школы, я в книге зашла далеко вперед. Но об этом ему не сказала, чтоб не огорчать. Остальное мы читали с ним вместе.
Закрыв книгу, Олег спросил:
— Скажи, а вот можно ли стать таким же выносливым, как Павка, таким терпеливым и закаленным, как сталь?
Я не знала, что ответить ему, собиралась с мыслями. Он продолжал:
— Ты знаешь, мама, я хотел бы во всем быть похожим на Павку. Делать то, что он делал, мне уже, наверно, не придется. Он с буржуями дрался и с интервентами. Мы о такой жизни можем только в книжках читать...
После Олег не раз возвращался к этой волновавшей его теме. И, когда в школе устроили диспут по книге «Как закалялась сталь», Олег был докладчиком.
255
Во второй раз Олег прочитал книги Николая Островского учеником девятого класса, уже будучи комсомольцем.
Книги эти стали его звездой путеводной. Он и в мыслях не разлучался с их героями. С ними, наверно, и на смерть пошел...
КАНЕВ
Моего мужа перевели на работу в Канев, и нам пришлось покинуть Ржищев.
Жаль было Олегу разлучаться с родным местом, где он провел столько счастливых лет своего детства, где его любили и где его юное сердце впервые потянулось к другому юному сердцу: Рада Власенко оставалась в Ржищеве...
Кроме того, Днепр, лодки, Освод — все это стало так дорого и близко его душе.
Перед отъездом Олег очень волновался.
Он хотел, никого не обидев, оставить на память товарищам какие-нибудь вещи из своего «рыболовецкого хозяйства»: удочки, коллекцию крючков, сеть, сачок, свою любимую лодку. И все было роздано без обиды.
В день отъезда к Олегу пришли все его товарищи. Их собралось довольно много. С одними он подружился в школе, с другими был в Осводе, ловил рыбу, а с Ваней Лещинским и Володей Петренко — сколько он с ними мечтал о далеких путешествиях по морям и океанам!
Грустно ребятам было разлучаться, и разговор у них не клеился. Стоят друг против друга, а нужных слов не находят.
Гриша Задорожный махнул рукой:
— Эх, Олег, собрались мы, чтобы поговорить с тобой в последний раз да пожелать тебе счастливого пути, а оно, видишь,— как будто языки прилипли... молчим!
У Рады Власенко вдруг вспыхнули щеки, и от этого она стала еще миловиднее.
— Олежек... шесть лет мы учились все вместе, в одной школе. Ты был для нас хорошим товарищем... другом верным. С тобой можно было делиться всем. Мы никогда не забудем тебя, Олежек, дорогой! На вот, прими на память от нас^..
256
И Рада протянула Олегу книгу Максима Горького.
Олег, взволнованный, бросился к Раде. Они обнялись.
— Ребята, вы же сами все такие... такие... Ну, да разве я могу вас позабыть? Спасибо за все... Давайте споем, а?
И сразу все повеселели, заговорили громко, перебивая друг друга. Шумной ватагой выбежали во двор, и началась песня за песней...
Наконец переехали мы в Канев. Канев — тихий городок над Днепром, расположенный среди глубоких балок. Здесь, на днепровских кручах, похоронен Тарас Шевченко. А сейчас здесь и могила Аркадия Гайдара.
Мы с Олегом были на празднике, когда народ со всех концов страны съехался к Днепру — на открытие памятника Тарасу Шевченко.
Олег в этот день проснулся ни свет ни заря. Быстро умылся, надел свой лучший костюм, торопливо позавтракал. Конечно, нас он не стал дожидаться и побежал на пристань, куда должен был прийти из Киева пароход с гостями и членами украинского правительства. Немного погодя и мы пошли туда с мужем.
Был чудесный солнечный день.
Могила Тараса Шевченко находится на высоком берегу Днепра. Отсюда на много километров видна наша родная река с ее золотыми песчаными берегами и тихими заводями. Так без конца и стояла бы здесь, подставив лицо ласковому ветру, любуясь синим Днепром, вспоминая слова Шевченко:
У всякого своя доля И свой путь широкий...
Вокруг могилы разросся фруктовый сад —весной здесь все как в снегу от цветения яблонь, груш, вишен, слив. Есть ли уголок на нашей Родине краше!
Гулянье состоялось на зеленой густой поляне, полной цветов, похожей на вышитый украинский ковер. И среди всей этой красоты, оживляя и усиливая ее, мелькали нарядные костюмы девушек, синие шаровары, вышитые рубахи и красные кушаки юношей. Смех, шутки, пляски! Шумя, развевались разноцвет¬
257
ные ленты девушек, звенели бандуры — радость народная! А надо всем этим — голубое ласковое небо Украины.
И вот наступила волнующая минута открытия памятника. Потянули шнур — огромное полотнище опустилось, и под аплодисменты и торжественные звуки оркестра перед народом появился вылитый из бронзы великий Шевченко.
Праздник не затихал до позднего вечера. Сколько у нас с Олегом разговоров было потом!
ЗА ТОВАРИЩА
В конце июля 1939 года Олег поехал в Донбасс, в Краснодон, погостить у своего старого друга — дяди Коли, теперь уже работавшего в Донбассе инженером-геологом. Много он рассказал Олегу о тяжелом и почетном труде шахтера, опускался с Олегом в шахту.
— Мама,— рассказывал Олег мне потом,— это какие-то совсем особые люди — шахтеры! Работают глубоко-глубоко под землей. Но ведь без угля все заводы и паровозы станут. А какие они дружные, мама! Один за всех, и все за одного.
К началу учебного года Олег возвратился в Канев. Он хорошо отдохнул, был полон впечатлений и охотно рассказывал о том, что видел в Краснодоне.
Теперь он уже был учеником седьмого класса. Прибавилось ответственности, учеба требовала больше времени и сил.
Как и в Ржищеве, он весь ушел в школьные занятия и общественную работу и вскоре стал одним из лучших учеников класса. Его полюбили — доброго и справедливого товарища.
В каневской школе подобрался на редкость удачный коллектив учителей. Каждый день я видела, как растет мой Олег духовно, шире смотрит на мир — это были результаты влияния учителей.
Но однажды в школе произошел досадный случай.
Олег сидел на одной парте с Юрой Коляденко и подружился с ним. Как-то, возвратившись из школы* Олег возбужденно сказал мне:
258
— Юра учится на «хорошо» и даже на «отлично», но учитель химии ставит ему «плохо»! А Юра знает химию не хуже меня.
Я была уверена, что ребята ошибаются. Но Олег настаивал на своем. Как-то он даже позвал Юру к нам, чтобы в моем присутствии проверить его знания. Олег не ошибся: Юра знал химию отлично.
Я посоветовала ребятам обратиться к классному руководителю, к директору школы и, наконец, к заведующему отделом народного образования.
К сожалению, в школе этому факту не придали особого значения. Тогда Олег написал в Киев.
Вскоре приехала комиссия областного отдела народного образования. Разумеется, дело уладилось. Олег торжествовал.
С той поры я заметила: какая-то суровая непримиримость к несправедливым поступкам товарищей и даже людей старше его родилась и стала крепнуть в мягком и добром сердце сына.
Школа встречала 1940 год.
Организаторы праздника поручили школьным поэтам написать новогодние стихи. Тот, кто напишет лучше всех, прочтет стихи на вечере.
Олег готовился к празднику с увлечением. Да и всем ученикам была дана полная возможность проявить свою изобретательность и творческую выдумку.
И вот весело засветились огни школы. Высокая, до потолка, елка заиграла всеми цветами радуги. Ее окружили сказочные фигуры Деда-Мороза, Снегурочки, днепровских русалок, ветра, луны, солнца...
Появились летчики, танкисты, кавалеристы с бряцающими шпорами. «Джигит кавказских гор» легко станцевал лезгинку. Зашумели лентами украинские девушки. Их приглашают танцевать парни в широких и синих, как Днепр, шароварах. Смех, радость!
И вдруг тишина...
С обушком в руках, с фонарем на груди вошел полнолицый шахтер. На голове у него — шахтерский черный шлем. Шахтер
259
медленно подходит к елке, снимает с груди фонарик и, подняв его над головой, как это делают в темной шахте, присматривается к публике:
— Хотите послушать новые стихи?
В зале закричали:
— Хотим, Олег, хотим!
Олег с воодушевлением прочел свои стихи.
За костюм и новогодние стихи Олег получил премию: «Война и мир» Льва Толстого. Очень он был рад этому подарку!
После Нового года мой муж тяжело заболел. Его отвезли в Киев, в больницу, и больше домой он уже не вернулся...
В КРАСНОДОНЕ
Теперь нам незачем было оставаться в Каневе, и мы согласились на приглашение моего брата переехать в знакомый ужо Олегу город Краснодон.
Приехали мы туда 15 января 1940 года. Брат принял нас очень тепло, и мы поселились с ним в одной квартире. Дом был одноэтажный, крупного камня, стандартной постройки, на две квартиры, каких было много по Садовой улице. На улицу выходило шесть окон; наших — три. Перед изгородью росли белая акация и тополя. Дворик небольшой — там стояли сарайчик и летняя кухня.
Зелени во дворе в первое время не было. Потом мы развели цветы.
В нашей квартире было три комнаты и кухня. Вход одип — со двора, через кухоньку, где было владение нашей хлопотуньи- бабушки; тут все сияло чистотой и порядком и всегда пахло чем-нибудь вкусным.
Из кухни входили в столовую. Здесь — диван, где спал Олег, его этажерка с книгами, стол, буфет. Стены покрашены в светло-голубую краску. На них висели картины: «Первый снег» и «Ночь в Крыму»; натюрморт — фрукты и зелень — работы моей приятельницы Елены Петровны Соколан. Летом на столе всегда стояли живые цветы: сирень, тюльпаны, розы — все из нашего
260
сада; на подоконниках — комнатные цветы: филодендрон с широкими красными листьями и фикусы.
Пол был устлан цветными украинскими дорожками. Комната была солнечная, веселая, из нее не хотелось уходить. На тумбочке стоял патефон, и он редко бывал без работы. Музыку у нас любили все, начиная с маленького Валерика, сына дяди Николая, и кончая бабушкой Верой.
Из столовой налево была комната дяди Николая, направо — моя и бабушкина, маленькая, но тоже веселая и уютная. Олег любил здесь готовить уроки, писать стихи. У входа висела плотная портьера, скрывающая дверь.
Потом в этой комнате молодогвардейцы будут собираться на свои особо конспиративные заседания. Под этой же комнатой находился подвал. Крышка подвала была сделана аккуратно, пол покрыт плотным ковром.
Зимой от сверкания снега под окнами в квартире становилось светло и празднично.
На Донбассе зима особая, постоянная даже в своих капризах. Сегодня мороз щедро размалюет носы и щеки шахтерским ребятишкам, в чистом воздухе ясно просматрргваются далекие копры и терриконы, легкий ленивый дымок над ними; назавтра наплывут с юга теплые волны воздуха, и вдруг, среди зимы, заморосит дождь, но снег и не подумает таять. На следующее утро взглянете в окно — опять на дворе трещит добрый русский мороз, снег под солнцем искрится, словно его приготовили для игрушек на елку.
Деревья стоят такие, какие и в сказках пе бывают: все в бриллиантах, жемчуге и алмазах. Мороз потрудился над каждой веткой, над каждым неопавшим листом. Акации стали краше, чем в пору своего цветения. Все щедро облито, разукрашено, запушено серебряным инеем, играет и переливается на солнышке колючими голубыми огнями. Иней не осыпается даже при ветре, словно деревья так и выросли снежными.
Зимой 1940 года мы редко бывали одни. Приходили шумной ватагой товарищи Олега, девушки, сослуживцы Николая, мои знакомые. Шум, споры, смех, песни и танцы без конца. Бабушка угощала гостей радушно, по-украински. Из всех нас не танцевала только она одна, но обязательно присутствовала тут же.
261
...До Октябрьской революции Донбасс был суровым, неприветливым краем. Шахтеры изнемогали от работы под землей по четырнадцати часов в сутки, трудясь без машин, с одним обушком, гибли под обвалами в шахтах. Сироты шахтеров вставали на место отцов или шли по миру.
Шахтеру негде было отдохнуть в свободные часы. Люди жили в полутемных, грязных землянках. О школе, клубе, театре, об электрическом освещении никто и не мечтал, зато грязных «питейных заведений» было достаточно. Свои последние деньги шахтер нес в кабак.
В Донбассе до революции никто не сажал деревьев; говорили, что в таком проклятом грунте ничего не может вырасти. Над голой степью высились только терриконы и копры. Нигде пи кустика, ни дерева.
В наше советское время в Донбассе на месте старых, сырых землянок с керосиновыми каганцами появились светлые, просторные дома; вместо грязных кабаков Поднялись Дома культуры, школы, клубы, театры, библиотеки, детские сады.
Я работала в детском саду шахты № 12, Олег учился в седьмом классе школы № 1 имени Горького.
Дом детского сада был обставлен мягкой мебелью.
У малышей было много игрушек, работала показательная кухня. На лето детей увозили на дачу, к реке. После двухмесячного отдыха малыши возвращались загорелые, здоровые.
Для молодых рабочих были выстроены просторные общежития. Каждая шахта имела свой клуб, кино, библиотеку, спортивные и танцевальные площадки. У шахтера широкая натура; он любит и умеет работать, но в отдыхе и в веселье тоже никому не уступит.
Олег мигом обегал все новые места.
На нас с ним вначале Донбасс произвел не очень отрадное впечатление. Его природа была куда беднее тех мест, где мы жили раньше. Мы привыкли к широкому Днепру, к зеленым садам и паркам. Краснодон показался нам совсем неинтересным. Олег скучал по родным местам. Перед глазами так и стояли живописный Ржищев с его Соловьиной улицей над Днепром, кручи Канева, могучая река...
262
А потом свыкся мой Олег, как он всегда быстро свыкался со всем новым. В Краснодоне нет Днепра, но за семь километров есть речка Каменка, есть молодой, на девять гектаров, парк, посаженный комсомольцами в 1932 году. Парк разросся и к 1940 году стал роскошным садом. Там фонтан распространял вокруг себя прохладу, там танцевальные площадки, стадион, летний театр, кинотеатр, библиотека, и в самом центре парка стояла школа имени Горького.
Школа была очень красива — просторная, светлая, уютпая, как вообще все школы в Донбассе. Деревья смотрели прямо в широкие окна. Солнце, пока не заходило, заливало белые классы. Окон было так много, что школа казалась стеклянной. Особенно красив был спортивный зал — полукруглый, почти весь из стекла, прекрасно оборудованный спортивными принадлежностями, инвентарем.
Мог ли думать Олег, сидя в классе, что именно эту красавицу школу придется готовить к взрыву, закладывать взрывчатку под любимый спортивный зал!
Понемногу мы начали привыкать к Донбассу и его природе.
Этот внешне суровый край имеет свою, только ему присущую красоту. Поверхность Донбасса неровная и волнообразная; тут несчетное количество оврагов и степных могил, а над ними — черные терриконы и башни копров.
Я работала в детском саду шахты, в пяти километрах от Краснодона. Дорога туда шла степью. Чтобы доставить мне удовольствие и увидеть восход солнца, Олег почти каждое утро ходил провожать меня на работу. Иногда с ним шел и дядя Николай.
Бывало, еще с вечера Олег уславливался со мной:
— Мама, разбудишь меня до восхода солнца?
— А что ж, разбужу.
На следующий день мы отправляемся в дорогу. Заспанный мальчик старался быть бодрым и не обращать внимания на утренний холод.
Когда всходило солнце, мы уже были за селением, в степи.
С первыми лучами солнца на землю падал густой белый туман. Этот донецкий туман никак не был похож на туман полтавских или киевских степей. Тот — серый и тяжелый, оставля¬
263
ющий после себя густую росу; а здесь туман был белый, даже слегка голубой, сухой, без единой росинки.
Казалось, будто перед тобой безграничное море с валами белых волн, набегающих одна на другую,— море, из которого высятся вершины терриконов и копров, похожие на плавающие корабли. Олег не отрывал глаз от необыкновенного зрелища.
Когда солнце поднималось, туман оседал ниже, стлался только по оврагам и низинам, а затем пропадал совершенно.
Тогда перед нами открывался пышный степной простор с бесчисленным количеством полевых цветов, каких я даже и не знала.
В такие минуты Олег забывал, что он уже большой мальчик, и бегал от цветка к цветку, рвал их, собирал в огромные букеты: один — для детского сада, другой — для бабушки.
Уже в первый год нашей жизни в Краснодоне мы начали озеленять и приводить в порядок наш двор.
Весной, рано утром, мы выходили копать грядки для огорода и цветочных клумб. Бабушка сеяла нефорощь — веселое декоративное растение. Олег с дядей Николаем посадили фруктовые деревья, кусты сирени и роз. Сын с увлечением копал ямы, разрыхлял землю, удобрял ее навозом. Вытирая пот со лба, он кричал Николаю:
— Готово!
Николай приносил деревце, ставил его так, что оно было на одной линии с другими деревцами, командовал:
— Сыпь!
От одной ямы переходили к другой, к третьей, десятой. Пот градом катился с лица Олега, но он шутил с дядей и вслух мечтал о первом яблоке со своей яблони под окном.
Под вечер Олег помогал нам рассаживать цветы, а на огороде — капусту и помидоры. Рассаду он без напоминаний поливал каждый день утром и вечером, днем накрывал от солнца лопухами.
На нашем огороде росли огурцы, редис, лук, помидоры и картофель; двор украшали большие шапки подсолнухов.
Среди цветов и подсолнухов наш дом был как в венке.
А чтобы над нашими головами распевали птицы, чтобы было
264
кому собирать на огороде вредных мошек и гусениц, Олег ранней весной прикрепил высокую жердь со скворечней, где вскоре и поселились хлопотливые скворцы.
ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ
Так прошло шесть месяцев.
В июне 1940 года Олег закончил семь классов. За отличные успехи он был премирован бесплатной туристской путевкой в Крым. Это было первое в жизни Олега большое путешествие. Сколько было восторженных рассказов потом!
За три недели они объездили почти весь Крым, и, кажется, не было ни одного примечательного места, о котором Олег не мог бы дать исчерпывающей справки. Многое увидел он своими глазами, но еще больше, пожалуй, прочел о Крыме.
Олег закончил всего семь классов, но мог поддержать разговор на любую тему и с любым собеседником, будь то десятиклассник, студент или инженер.
Чтобы разрешить какой-нибудь спорный вопрос, он приучил себя обращаться к книге, или словарю, или к своей толстой тетради с цитатами. Когда же и этого недоставало, он не стеснялся обратиться к кому-нибудь из старших.
Олег всегда казался старше своих лет. В пятнадцать лет, довольно высокий, крепкий, хорошо сложенный, он был похож на семнадцатилетнего юношу.
Широкий, спокойный лоб, светло-шатеновые волосы, зачесанные набок, длинные брови, большие карие глаза с продолговатым разрезом и густыми черными ресницами, полные, постоянно улыбающиеся губы — вот портрет сына тех лет.
Олег был жизнерадостен, умел хорошо говорить, ценил остроумное слово, смеялся искренне и весело, заражая других.
Он очень увлекался музыкой; особенно волновала его скрипка. У него был хороший слух, и достаточно ему было сходить в кино, как, возвращаясь домой, он уже во весь голос распевал или насвистывал песенку из нового кинофильма.
Кто из наших ребят не'увлекается кино! Едва ли они и мыс¬
265
лят свою жизнь без новых кинокартин. И у каждого в этих картинах, конечно, свой любимый герой.
Олег не пропускал ни одной кинокартины. Те, что ему нравились больше других, надолго сохранялись в его впечатлительной душе.
Чапаев! Лихо несется тачанка, Петька у пулемета. Жаркая схватка. Победа! Мужество бойцов, их песни, дружба, любовь к народу и к своему Василию Ивановичу Чапаеву. И его горячее честное сердце, бьющееся ответной любовью и безудержной отвагой. Мечты Чапая. Песня «Ты не вейся, черный ворон...». Ночь. Удар в спину. Петька встает грудью за своего командира и старшего товарища. Глубокий Урал. Круги на воде. И вот она — месть врагу...
Олег бредил Чапаевым, восторгался Петькой и Анкой, но ближе всех его сердцу и рассудку был комиссар Дмитрий Фурманов.
Часто — днем или в темноте, перед сном — разговаривали мы с Олегом о прямом, большевистском характере Фурманова, о его спокойствии и выдержке, презрении к панике и унынию. Я ощущала взволнованное дыхание сына, видела, как поблескивают в темноте его широко открытые глаза.
Позже, при немцах, когда нервы были накалены, а смерть сторожила из-за каждого угла, бывало, кто-нибудь из «Молодой гвардии» потеряет выдержку и начнет кричать, доказывая свою правоту,— Олег, исхудавший, весь напрягшийся, блеснет глазами и бросит с едва заметной усмешкой:
— Александр Македонский великий был полководец, но зачем же стулья ломать?
Случалось, и я не вынесу напряжения, разнервничаюсь, перестану на время мыслить ясно и спокойно — подойдет тогда сын, обнимет меня за плечи и прошепчет на ухо все ту же фразу об Александре Македонском, сказанную Фурмановым Чапаеву.
ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК
У Олега не было от нас ни секретов, ни тайн. Он делился со мной своими затаенными мыслями, он был уверен, что я выслушаю внимательно и дам искренний совет. Я, помню, была сильно растрогана, когда однажды услышала, как сын сказал своим товарищам по школе:
— У меня мама — не только мама, но и товарищ мой.
Мне легко было растить сына. Жили мы с ним дружно, и он
как-то особенно душевно ценил любую заботу и ласку, которыми я старалась окружить его, и платил мне тем же. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь ссорились; я не бранила, не ворчала на него даже тогда, когда видела, что он сделал что-нибудь нехорошее.
Спокойно и терпеливо старалась я убедить его, как следовало бы поступить иначе. Не имела привычки обрывать мальчика на полуслове. Внимательно выслушивала его и тогда спокойно говорила сама. О том, чтобы я подняла руку на своего сына, не могло быть и речи.
Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной встает картина прошлого. Немцы уже в Краснодоне. Вот они топают сапогами и по нашим чистым комнатам. И здоровый рыжий фашист с перекошенной от злобы физиономией бьет кулаком Олега прямо по глазам...
Я гордилась своим сыном. Не раз ходили мы с ним, взявшись за руки. Я была переполнена материнской гордостью, мне хотелось останавливать людей и говорить им: «Смотрите, какой у меня сын!»
Олег, словно чувствуя мое настроение, весело говорил:
— Правда, мама, я уже большой? Посмотри, я уже выше тебя.
В мечтах о будущем сын уже видел себя сначала студентом, потом инженером. Обещал мне помощь, отдых от работы, любовь и уважение в старости. Я смеялась и говорила ему, что еще не устала жить и что моя старость так далеко.
— Да разве люди от работы устают? Устают от горя. А я, сынок, счастлива с тобой!
Крепко дружил Олег и со своим дядей Колей. Внешне они
267
очень были похожи на братьев, и Олега, который был единственным у меня, это очень радовало.
Часто они вместе читали книги, говорили о прочитанном, без конца спорили, решали различные кроссворды, викторины, ребусы, увлекались фотографией.
Великое это слово: старший товарищ!
Не раз дядя Николай брал Олега с собой в шахту или ездил с ним в поле, на геологические работы. Рассказывал о строении Земли, о полезных ископаемых, о том, как образовался Донецкий угольный бассейн. Учил всему, что знал и умел делать сам.
Позднее знания, которые Олег приобрел, пригодились ему: в период между двумя эвакуациями Олег больше месяца работал помощником бурильщика,— об этом до сих пор помнят старые рабочие.
У дяди Коли было много работы над чертежами. Олег то и дело вертелся около чертежного стола — и вот циркуль и рейсфедер уже в его руках. Ходил сын и в трест к дяде Коле и там пе пропускал случая, чтоб не почертить самому на белом, блестящем, как снег, листе бумаги.
Однажды дядя сказал:
— Олег, а не хочешь ли ты узнать, что такое первый заработанный рубль? Есть платная работа. Только вот не знаю: справишься ли ты с учебой и с работой?
Олег так и вскинулся. Он знал, конечно, что после смерти мужа жить мне было трудновато.
— А я вперед уроки выучу, а потом сяду чертить. Справлюсь, дядя Коля!
Я ничего не знала об этом разговоре. Но вот недели через три врывается Олег, глаза горят, улыбка во все лицо. В руках — свертки:
— Вот, мама, тебе! Это мой первый заработок. Вот и деньги.
И он протянул мне флакон духов, корзинку с пирожными и деньги.
Дороги были для меня те подарки и деньги. Очень дороги...
КРАСНОДОНСКИЕ ДРУЗЬЯ
В конце 1940 года Олег стал комсомольцем. Задолго готовясь к этому, он внимательно изучил комсомольский устав и прочел множество всякой политической литературы.
Свой прием в комсомол ему пришлось пережить дважды: когда принимали в школьной первичной организации и второй раз, когда утверждали в райкоме комсомола.
Возвратился он домой после райкома возбужденный и счастливый.
— Теперь ты уже почти совсем партийный,— сказала я, поздравляя.
В тот памятный вечер в нашей квартире было шумно и весело. В Краснодоне у Олега было много друзей: Сергей Квасников, Ваня Земнухов, Коля Шелупахин, Ульяпа Громова, Нина Иванцова, Анатолий Лопухов и Лина Темникова.
Первой среди девушек была для Олега Лина. Этой красивой девушке, с тяжелыми косами и выразительными черными глазами, в дневнике Олега было посвящено немало записей и стихов. Она была на год моложе Олега, хорошо училась, играла на пианино, легко танцевала и считалась хорошим товарищем.
Общительный по натуре, Олег повсюду быстро находил себе друзей и с девочками дружил так же легко, как и с мальчиками. Помню, большая и серьезная дружба была у него с Ниной Иванцовой. Вместе они часто говорили о своих товарищах, говорили о жизни, о будущем, и вопросы — кем быть и каким быть?— занимали, наверно, немало места в их разговорах.
— Ты не знаешь, мама, какой это верный товарищ!—горячо говорил Олег.— Такой человек никогда не подведет.
Почти каждый выходной день вся наша семья — а к нам частенько присоединялись и многие товарищи Олега — выезжала за двадцать километров, на Северный Донец. Сборы и хлопоты бывали еще более оживленными, чем когда-то в Ржи- щеве. В поездку бралось различное снаряжение: волейбольный мяч и сетка, рыболовные снасти, кухонная утварь, фотоаппараты, «спасательные круги»—простые автомобильные камеры для слабоплавающих—«мелководных», как называл их Олег.
209
Сколько бывало шуму и песен, когда машина «с ветерком» мчалась донецкими степями, сколько веселой суеты и оживления, когда наконец мы подъезжали к реке! И не такой уж бедной казалась нам природа этого края, когда, отдохнувшие и бодрые, возвращались мы домой. Немало хорошего и волнующего было в донбасских степях, суровых лишь на первый взгляд.
Были у Олега друзья также и среди учителей.
Теплые отношения сложились у сына с учителями Петром Ивановичем Улизком, Саплиным и Марией Андреевной Борц.
С Улизком Олега сблизила игра в шахматы. Петр Иванович много лет держал в районе первенство по шахматам и в Олеге нашел достойного противника. У Петра Ивановича была одна обаятельная черта, которая очень привлекала к нему Олега,— искреннее стремление передать человеку свой опыт и знания. Проигранной Олегу партии в шахматы он, кажется, радовался больше, чем своему выигрышу, и с удовольствием разбирал потом причины своей неудачи.
Под Москвой, давно уже выйдя на пенсию, живет Даниил Алексеевич Саплип, старый учитель Олега. Это о нем, слывшем в школе учителем строгим и требовательным, Олег говорил когда-то: «Если нам удастся десятилетку закон¬
чить у Даниила Алексеевича, то поступление в институт обеспечено».
Передо мной большое письмо старого учителя.
«Бросалась в глаза какая-то стремительная собранность Олега,— вспоминает Даниил Алексеевич.— Вот он, тщательно одетый, вымытый, в начищенных ботинках, идет в школу, поторапливаясь, с непокрытой головой. Вошел, улыбающийся, быстро оглядел объявления по стенам и влился в ребячью толпу. Присмотришься к ребятам и видишь: один весь взлохмаченный и раскрасневшийся от беготни, другой что-то суетливо ищет в портфеле, третий ущипнет соседа и отвернется с невинным видом. Олег же весь — готовность к учебе, озабоченность, деликатность. Как хорошо при встречах он здоровался! Немного обязательно посторонится, глаза выкажут замечательную мягкость, а сам чуть-чуть приостановится... Помню, учительница физики как-то хорошо сказала про Олега: «Вот хлоп¬
270
чик, что за прелесть! На уроке весь — слух и внимание. Только объяснишь новое, рука Олега тянется: «А это можно понять так?»
Мы заметили у Олега маленькое заикание. Это случалось с ним, когда на уроке он сильно волновался. Чтобы успокоить его, бывало, вызовешь его к доске, дашь задание и словно забудешь о нем, а в это время спрашиваешь других учеников. Успокоится он, соберется с мыслями, а потом отвечает уже уверенно, четко, не заикаясь...
Олег очень старательно учился и преуспевал в учебе. Любил он преимущественно гуманитарные дисциплины: историю, географию, русскую литературу. Тогда я вел два литературных кружка: отдельно для восьмиклассников и отдельно для девятых и десятых классов. Занимались раз в неделю. Случалось, увидишь Олега в кружке старшеклассников и скажешь: «Олег, ваш кружок ведь будет в субботу», а он: «Позвольте побыть здесь и послушать». Что же, не прогонишь ведь.
Тогда кружковцы-восьмиклассники собирали русский фольклор, и у меня и теперь хранится текст записаиной Олегом сказки, рассказанной бабушкой Верой Васильевной. Много сказок собрали мы тогда для ученического альманаха «Юный литератор», проиллюстрированный рисунками моей дочери Азы, соклассницей Олега.
Оба они в девятом классе состояли в редколлегии школьной стенной газеты «Крокодил», выходившей еженедельно по понедельникам и являвшейся всякий раз большим событием в школьной жизни. Редактором газеты был Олег. Он умел организовывать вокруг себя самых живых корреспондентов. Газета изготовлялась у меня на квартире. За два-три дня до выпуска очередного номера он непременно придет к пам и справится, как идут дела. Корректировал газету я, а рисунки к ней делала моя дочь и другая ее соученица.
Однажды, замечаю, Олег и девочки, склонившись над газетой, что-то уж очень хохочут. А Олег прямо-таки заливается (оп чудесно смеялся, весь смеялся). Я подошел к ним, и они показали мне карикатуру, изображавшую Олега среди других опоздавших на урок. Олег был нарисован просунувшим лицо в дверь; очень похоже получилось. Нахохотавшись, Олег серьез¬
271
но сказал: «А что? Так и надо! Самокритика — большое дело». После уроков школьных Олег — в своем сарайчике...»
Впрочем, об этом я могла бы рассказать уже сама, без помощи Даниила Алексеевича. Олег действительно любил мастерить. Это у него от деда Кошевого, а еще больше от бабушки Веры. Ей, рано овдовевшей, приходилось делать по дому всякую мужскую работу, с топором и молотком она управлялась не хуже, чем с кухонным ножом и мясорубкой. Вот и Олег, как только выдастся свободная минута, все, бывало, что-то делает в сарайчике — стучит по жести, ладит скворечницу, орудует на верстаке рубанком, зубилом, молотком. Смотришь на него иногда и думаешь: до чего же красиво, радостно все он делает!
В то время Олег много писал стихов по-украински и по- русски. В 1940 году на художественной олимпиаде он получил за свои стихи три книги: «Основы ленинизма», «Капитал» и «Кобзарь». Помню, как Олег мечтал о том времени, когда он сможет прочесть «Капитал».
Оп жадно учился и много хотел знать.
ВОЙНА.
В июне 1941 года закончились занятия в школе.
Олег перешел в девятый класс. Ему шел шестнадцатый год. Летом он собирался проведать родные места и вместе с бабушкой прокатиться сначала в милые Прилуки, потом — в Берди- чев, где жила моя сестра Наталья Николаевна.
Начали готовиться в дорогу. Укладывая чемоданы, изучали расписание поездов.
Поездка обещала быть интересной. По дороге Олег мечтал заглянуть в Ржищев. Представлял себе, как встретится со своими друзьями, вспоминал свою лодку, гулянье по Днепру, костры по ночам, песни, Раду Власенко...
И вдруг все изменилось. Вышло так, что брату Николаю необходим был чертежник.
—■ Олег, хочешь поработать?
272
— Теперь?—удивился сын.—Дядя Коля, право же, не могу. В дорогу собираюсь.
Николай обнял своего племянника и заглянул ему в глаза:
— А может быть, ты меня выручишь, Олег? Работа, понимаешь, спешная. И всего — на неделю. Сам я никак не справлюсь. Поможешь?
Олег растерялся. Да не шутит ли дядя Николай? Оставаться, когда уже билеты куплены!
— А как же бабушка? Она же не захочет меня ждать.
— Ничего. Бабуся доедет и одна. Не маленькая.
Олег заколебался:
— Ох, дядя Коля, и задал ты мне задачу!
— А я и не принуждаю, Олег. Хочешь — поезжай. Буду искать себе другого чертежника. Может быть, и найду. Наверное найду.
И Олег не поехал. Условились, что бабушка поедет одна, а немного погодя приедет в Бердичев и Олег.
Двадцать второго июня было воскресенье. В этот день, как всегда в выходной, у Олега собрались товарищи.
Разговаривали, перебивая друг друга, завели патефон. Кто- то включил радио...
Я работала на грядках во дворе. Слышу, в комнате стало пеобычпо тихо. Чей-то смех резко оборвали:
— Замолчи!
Вдруг из комнаты выбежал бледный Олег:
— Мама, война! Немцы напали на нас!
Мне показалось, что сын дрожит всем телом, голос его срывался.
— Правда... правда ли это? Кто тебе сказал?
— Иди послушай радио!
В тишине слушали мы обращение правительства к пароду.
— Что же теперь будет?— тревожно спросила я у Олега.
Он подошел ко мне и крепко-крепко, как это делал маленьким, прильнул к моей мокрой от слез щеке.
„ОТПУСТИ МЕНЯ!“
Вскоре многие школьники были направлены в колхоз, па полевые работы, и Олег был с ними.
Он очень волновался за бабушку, за мою сестру Наталью, за сестричек Лену и Светлану. Всех он в письмах просил как можно скорее приезжать к нам. Наконец они приехали, и Олег успокоился.
Краснодон жил напряженной жизнью. Рабочие записывались в народное ополчение, формировали истребительные батальоны, на фронт шло пополнение.
Через некоторое время над Краснодоном начали появляться фашистские самолеты, на головы мирных людей посыпались бомбы. Налеты все учащались.
Под обвалами умирали дети, горели дома, на смену счастью и благополучию шло великое горе.
В свободные минуты Олег не отходил от репродуктора. Фашизм скинул маску, и его настоящее лицо было омерзительно.
У Олега сжимались кулаки. Бездействие угнетало его. От репродуктора оп бросался к бумаге и под голос диктора, сообщавшего о зверствах фашистов, о пожарах и горе, волнуясь2 писал стихи.
Некоторые из них сохранились, остальные пропали.
На милую и горделивую,
На наш родимый мирный край,
На нашу Родииу счастливую Напал фашистский негодяй.
Все, как один, возьмем винтовки,
В бою не дрогнем никогда!
За нашу кровь, за наши слезы Мы отомстим врагу сполна!
Голосом, полным гнева, тоски и боли, Олег читал мне эти стихи.
Враг приближался к Краснодону. Все тревожнее становилось в городе и на его окраинах. Начали готовиться к эвакуа¬
274
ции. Моя сестра Наталья с детьми выехала далеко на восток. С шахт увозили оборудование.
Пока трест «Краснодонуголь» вывозил свое имущество, рабочие и служащие выехали в Верхне-Курмоярскую станицу — строить оборонительные рубежи. Выехал туда и мой брат Николай. Немцы были уже у Ростова.
Дома у нас собирались к отъезду; с минуты на минуту ждали эшелона.
Олег был единственным мужчиной в нашем доме, и на его плечи легли все заботы, связанные с эвакуацией.
Проходили дни. Эшелонов для населения не хватало: они шли на запад с войсками, на восток — с ранеными. Иногда проносились через станцию эшелоны с оборудованием шахт й заводов. Олег ходил на станцию, расспрашивал, нервничал, видя немецкие эскадрильи, сбрасывающие бомбы на мирные дома. В конце концов бездействие измучило его. Когда-то еще будет эшелон, а он, здоровый парень, должен сидеть сложа руки!
Он начал просить меня отпустить его в Верхне-Курмоярскую станицу:
— Мамочка, пойми меня! Не могу же я в такие дни сидеть дома без дела. Там, вместе со всеми, я хоть какую-нибудь пользу принесу. Каждая минута дорога, а я ничего не делаю... отпусти меня, мама!
А я боялась за него. С каждым днем усиливалась бомбардировка нашего города и особенно — железных дорог. Я старалась уверить сына, что нужно подождать эшелон, ехать вместе, но он и слушать не хотел:
*— Я доеду, я не маленький. А там, вместе с дядей Николаем, буду работать на укреплениях. Пусти же, мама!
Я стала собирать сына в дорогу. Вместе с Олегом ехал и его товарищ Николай Шелупахин.
Мысль о том, что Олег едет не один, подбадривала меня. Но все же мы с бабушкой не могли удержаться, чтобы не заплакать.
Мы просили Олега беречься, слушать дядю Николая. Олег был очень нежен с нами, все время шутил, просил не беспокоиться о нем,
275
— А вы, как только будет эшелон, сразу же выезжайте,— наказал он нам перед разлукой.
Тяжело было расставаться... Засвистел паровоз, ребята вскочили на подножки вагона. Олег снял кепку и махал нам до тех пор, пока поезд не скрылся за станционными домами.
Мы с бабушкой остались стоять на перроне.
Неизбывная печаль легла мне на сердце. Увидим ли мы его когда-нибудь? А тут еще, как нарочно, в ту самую сторону, куда пошел поезд, полетели фашистские самолеты. Вскоре мы услышали глухие разрывы бомб. Враг бомбил станцию Лихую.
Я горько расплакалась...
Дня через два после отъезда Олега крупные подкрепления наших войск пришли в Краснодон. Был дан приказ приостановить эвакуацию. Немцев отогнали от Ростова. Опасность миновала.
Через некоторое время все рабочие и служащие были отозваны с оборонительных рубежей в Краснодон на ремонт шахт.
Возобновили свою работу и детские сады. Я стала ждать возвращения своих.
В середине ноября отозвали Николая. Каков же был мой испуг, когда я увидела брата на пороге дома одного!
— Где же Олег?
— Разве ты не знаешь своего Олега?—устало улыбнулся брат.— Остался в Верхне-Курмоярской, он и Шелупахин. Без них, видишь ли, укрепления не закончат.
Только в конце ноября возвратились наконец Олег и Коля Шелупахин, возбужденные, обветренные. Олег похудел, изменился, как будто бы сразу стал взрослым. Тревожные дни, какие переживала страна, резко отразились и на сыне.
Это был уже не тот Олег — веселый и жизнерадостный. Нет, передо мной стоял серьезный, немного грустный юноша, уже познавший горе. Я видела, как он не находил себе места. Подолгу задумывался, разговаривал сам с собой.
Помню, как-то поздно вечером долго сидел он в углу дивана, подперев рукой подбородок, глядя куда-то далеко-далеко.
— Ты только, мама, подумай: нас, молодежь, растили для большого дела. Все двери в науку для нас были открыты.
276
Учись, путешествуй, работай! Все для нас и ради нас. Понимаешь? И мы не знали ни капиталистов, ни помещиков вроде Кочубея, ни бедствий гражданской войны...
Вдруг он резко поднялся, начал быстро шагать по комнате, потом встал против меня:
— И вот, мама, я думаю сейчас о той нашей молодежи... ну, о тех наших ребятах там, где уже немцы. Какая же у них, наверно, буря в душе! Школы закрыты, книги сжигаются. Иди в кабалу, в рабство, в темноту! Ну, нет! Не удастся это бандитам! Не станут наши люди на колени, никогда, ни за что! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Правда, мама, хорошие слова?
Через несколько дней Олег пошел в школу. Буднично прошел первый школьный день. Не было прежнего увлечения занятиями, не было радости.
Но скоро на свет опять появился «Крокодил», Только теперь от былой веселости его мало что осталось. «Крокодил» выметал метлой тех, кто в тяя^елое для Родины время ленился, прогуливал, не учил уроков.
Но все-таки жизнь как-то налаживалась и входила в свою, теперь уже военную, колею.
ЗОЯ
У нас на квартире поселился комиссар, майор Василий Данилович Говорущенко. За несколько дней Олег близко с ним сошелся. О многом они беседовали, но всегда заканчивали разговор о войне, о трудностях ее, о неизбежной победе над врагами.
Как-то, морозным днем, Говорущенко принес свежие газеты. Олег первым кинулся к ним. Перебирая их, сын увидел статью о геройском подвиге и смерти Зои Космодемьянской.
— Хотите, прочитаю вслух?— спросил он взволнованно.
Статья эта ударила Олега, кажется, в самое сердце. Как он
ни старался закрыть глаза газетой, я заметила в них слезы.
Кончив читать, он тихо сказал:
— Вот настоящая комсомолка!
277
Некоторое время он сидел, опустив голову, задумчивый. Может быть, в это мгновение он представлял себе мужествен- ный путь Зои, а возможно, что именно тогда его сердце загорелось огнем мести, который уже никогда с тех пор не угасал в его груди.
Вдруг он поднял голову, взглянул на нас и сказал:
— Если бы и мне пришлось попасть в их руки, мама...
Он замолчал и молчал долго.
Помню, был обычный донбасский зимний день с морозом и резким ветром. За окнами лежал глубокий снег. Густой иней облепил сучья деревьев, окна в домах. Ветер тревожно высвистывал в трубе.
Долго в нашем доме говорили о Зое. Олег слушал, сосредоточенно думая о чем-то своем.
Когда пришли газеты с портретом Зои, Олег вырезал его, заботливо вставил в рамку и повесил над своей кроватью.
ГОСПИТАЛЬ
После уроков Олег с товарищами спешил в краснодонский госпиталь: читал раненым газеты и книги, для тяжелораненых писал письма родным и знакомым.
Комсомольцы объявили сбор посуды для госпиталя. Олег побывал во многих домах и в первую очередь, конечно, взял все, что можно, из нашего дома.
В это время в квартире у нас жил военный врач —хирург Павел Петрович Кондратов. Это был спокойный, задумчивый человек, но, когда приходил Олег, он оживлялся и подолгу беседовал с ним, рассказывая об интересных операциях, о войне, о бойцах и командирах, лел^авших в госпитале.
Помню, однажды Павел Петрович, всегда такой точный и аккуратный, пришел домой с большим опозданием — в полночь, усталый, с запавшими глазами. Олег еще не спал и спросил, что случилось. Павел Петрович рассказал, что он все это время находился при молоденьком бойце, которому пришлось ампутировать обе ноги, иначе он бы умер от гангрены*
278
— А как он просил оставить хотя бы одну ногу! — болезненно морщась, сказал Павел Петрович.— До чего же все-таки слаба медицина...
Олег попросил разрешить ему навещать больного и через несколько дней, когда бойцу стало лучше, зашел к нему и долго по душам разговаривал с ним, расспрашивал о родных, о войне. Боец — звали его Василий Нестерук — воевал в саперных частях; и хотя было ему всего двадцать лет, он мог о многом рассказать: немало фашистских танков, орудий и автомашин подорвалось на минах, которые он закладывал.
Олег дотошно расспрашивал его о технике минного дела, о тонкостях боевых операций, о враге...
У Нестерука были родные — мать и сестренка, которым Олег под диктовку писал письма. Была и любимая девушка, но Василий никак не хотел признаться ей в своем несчастье.
— Что она, не советский человек?—возмущался Олег.— И как вы только смеете думать, что она вас разлюбит? Да вы посмотрите, какие письма она вам пишет! Это же трусость, честное слово!
Но красноречие Олега не действовало. Тогда Олег, запомнив адрес девушки, написал ей однажды письмо от себя.
— Пускай только не ответит!—грозился он, заклеивая письмо.— Впрочем, я уверен, что все будет хорошо.
Помню, недели через две прибежал как-то Олег домой и прямо с порога радостно сообщил:
— Приехала! Сама приехала к Васе и заберет его домой. Ты бы только видела, как они рады! Завтра пойду с ними прощаться. Может, и ты, мамочка, пойдешь?
Я пойти не могла и попросила передать самые сердечпые пожелания.
Вскоре военный госпиталь эвакуировался из Красподопа.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Под новый, 1942 год в Краснодон прибыла о подарками для фронтовиков делегация трудящихся Цимлянского района. Узнав о том* что майор Говорущенко должен сопровождать де¬
279
легацию ва передовую, Олег упросил взять его с собой. Я и пе догадывалась, что ожидает там Олега, и только потом, когда люди вернулись, узнала, что им пришлось побывать в условиях настоящего фронта. Олег с гордостью рассказывал, как они прибыли на передовую (оборону занимал кавалерийский казачий корпус генерал-лейтенанта Кириченко), как в глубоком снегу переползали от окопа к окопу, вручая бойцам подарки. Передав одному пожилому солдату подарок — жареную индейку, бутылку вина и кисет с табаком,— Олег выпросил у него карабин и, пока тот занимался подарком, стрелял по немецким окопам, приговаривая:
— На тебе, гад, новогодний подарок!
Нет уже сейчас в живых майора Говорущенко, с которым так дружил Олег. Умер он в 1958 году. Незадолго до смерти Василий Данилович прислал мне большое письмо, в котором с любовью вспоминал Олега, дни, проведенные в нашем доме, совместную поездку на фронт. Добрым словом хочется помянуть Василия Даниловича, одного из многих хороших советских людей, которые помогали мне воспитывать сына.
БЕСПОКОЙНЫЕ ДНН
Кончался учебный год, прошли испытания, и Олег перешел в десятый класс.
Теперь у него стало больше свободного времени, и я советовала ему хоть немного отдохнуть. Он только отмахивался.
Лицо сына хмурилось все более. Он стал еще замкнутее. Какие планы созревали у него в голове? Какие думы вынашивал мой сын? Ясно мне было одно: сердцем он был там, на переднем крае войны, где решалась судьба всей нашей жизни. Передо мной был уже не мальчик. Руки моего сына просили оружия.
Позже я узнала про все и, как всегда, от самого Олега.
Сразу же после испытаний он стал советоваться с товарищами по школе, за какое дело им взяться, чтобы помочь фронту. Ребята уже тогда решили организовать отряд и идти в лес, к партизанам.
280
Не знаю, что бы получилось у ребят, если бы в это время Олег не познакомился с начальником политотдела одной саперной части, Вячеславом Ивановичем Грачевым, и не стал часто бывать у саперов. Грачев и отговорил их от этой затеи.
Вячеслав Иванович устроил Олега воспитанником в дорожно-восстановительный батальон. Некоторое время Олег работал там писарем. Это была, правда, не совсем боевая работа, но он ревностно исполнял ее, надеясь, что вместе с частью его возьмут на фронт. Грачев поддерживал в нем эту надежду и уверял меня, что будет беречь Олега, как родного сына. А когда закончится война, шутил он, Олег возвратится домой с победой, живым и здоровым.
Я вначале колебалась, потом дала согласие. Невозможно описать радость Олега! Он обнял меня и начал кружить по комнате, как маленькую девочку. Каким сильным он стал к тому времени!
— Вот уж спасибо тебе, мама! Я знал, что ты меня поймешь,— повторял он, целуя меня в обе щеки.
А вскоре начались сборы. Но Вячеслав Иванович должен был сначала один выехать куда-то по важному делу и только после возвращения забрать Олега с собой.
Грачев не возвратился ни на другой день, как мы условились, ни на третий, не возвратился и на десятый... А между тем саперы ушли.
Взволнованный Олег не спал по ночам. Мы тоже волновались — вещи Грачева остались в Краснодоне. Закралась мысль о несчастье.
Так оно и было. Грачев попал в окружение и уже не мог пробиться к своим.
Стояли палящие июльские дни. Фашистские орды двигались на восток, а с ними — смерть и разрушение. Пылали цветущие украинские села и города.
ь Красная Армия с боями отходила на новые рубежи.
Краснодонские шахтеры, рабочие и служащие организовывали истребительные батальоны, до позднего вечера проходили боевую подготовку. Помещались они в просторных рабочих общежитиях, около базарной площади.
281
Олег в эти дни почти не бывал дома. Он не пропускал ни одного события в Краснодоне. До всего ему было дело. Чтобы и ночыо следить за налетами вражеских самолетов, он ложился спать во дворе, накрывшись простыней.
С немецких самолетов падали ракеты, надрывно гудели паровозы, шахты, шарили по небу прожекторы, хлопали зенитные пушки. Враги бомбили окраины города, где скопились наши воинские части. Доносился яростный гул бомбежки и со станции Лихой; там долго стояло яркое зарево. Ночью становилось светло, как днем.
Я безотчетно боялась за Олега. Мне казалось, что его белую простыню среди зелени заметят немцы. Олег посмеивался:
— Что же ты, мама, думаешь, простыня — это тоже военный объект? Это же обыкновенная ткань, а под ней спит обыкновенный субъект!
В ПУТЬ
В Краснодоне вторично началась эвакуация. В нашем доме тоже готовились к отъезду. Хотя и верили мы, что настанет время, когда мы снова возвратимся в родные места, но на сердце было тяжело. Олег всячески старался успокоить тех, кто впадал в отчаяние; горячился, доказывая, что нас невозможно победить, ссылался на историю, и, правду сказать, нам становилось как-то спокойнее от его слов.
А по дорогам, по всем улицам Краснодона все двигались и двигались бесконечные людские потоки. Хрипло мычал голодный скот, причитали женщины, а дети уже не могли и плакать.
На машинах, на телегах, на тачках, а то и на себе люди уносили свой скарб, уходили от немцев. Все это, двигаясь на восток, перемешивалось с воинскими частями. Иногда весь этот шум, крики и плач перекрывал лязг гусениц танков. Шла кавалерия, двигалась пехота. Почерневшие лица у бойцов и командиров были угрюмы.
Поднятая тысячами ног и колес, тяжелая темно-красная донбасская пыль вставала плотной стеной^, затемняла солнце,
282
покрывала черным налетом лица людей, высушивала рот, слепила глаза, скрипела на зубах. Порой людей не было видно из-за нее.
Солнце жгло без жалости. Сердце разрывалось от боли при виде измученных ребятишек. Им было тяжелее всех. Наш домик стоял около дороги, и из окон все было видно. Видел это и Олег, и мука застыла в его глазах.
— Мама,— жестко твердил он,— мне надо уходить. Надо! Может случиться, что эшелонов не хватит на всех. Что тогда? Гитлеровцы нас, мужчин, в первую голову погонят строить для них укрепления, рыть окопы, подносить патроны и снаряды к их пушкам. А эти пушки будут стрелять по нашим, убивать их! Ты же знаешь, я никогда не пойду на это, и немцы убыот меня, а я еще ничего не успел сделать. Нет, надо уходить. Надо...
И вдруг — новое горе. Перед самым отъездом тяжело заболела бабушка. Она, правда, все еще хлопотала, работала за троих, но силы ее оставляли. Выяснилось, что у нее брюшной тиф. Это разбило все наши планы. Как я могла оставить больную мать? Я заявила, что никуда без нее не поеду.
Оставалось одно: немедленно выезжать брату с семьей и Олегом. Для них и для шести рабочих дали подводу. Договорились на подводу уложить все вещи, самим идти пешком. Как же не хотелось Олегу оставлять свою бабушку, да еще больную! Раз десять на дню он умолял меня:
— Береги бабусю!.. Бабушка,— бросался он к ней,— где твой партбилет? Хорошо ли ты его спрятала? Немцы придут — сейчас же с обыском!
Бабушка слабо улыбалась:
— За меня пе бойся. Я уже приготовила место для билета, да такое падежное... Не взять его врагу. Руки коротки у ката. Ты сам, Олежек, будь осторожен. Дядю Колю слушайся...
Так они утешали друг друга.
Перед отъездом Олег, конечно, забежал попрощаться с Линой. Он просил ее, если не удастся выехать, прятаться от немцев, быть стойкой, духом не падать и ждать возвращения своих.
А мне он сказал:
— Обо мне не беспокойся, мама. Будь уверена, я найду себе дело. Я думаюг что мне лучше всего пойти в армию или
283
в партизаны. Недаром я выбивал сорок восемь из пятидесяти возможных. Теперь вот как пригодится!
— Сыночек мой,— пробовала я возражать ему,— это хорошо, что ты такой, но ведь тебе только шестнадцать лет!
— Соловей хоть и маленький, да голос у него большой,— отшучивался Олег.— Во всяком случае, за чужими спинами отсиживаться не стану. Нет уж!..
Я волновалась за Олега, знала: у него слово не разойдется с делом. Но что я могла сделать? У птенца отросли крылья, и родное гнездо стало тесным ему.
Утром 16 июля я собирала в далекий путь самых дорогих и близких моему сердцу людей. Вместе с ними узжала моя приятельница, чертежница геологического отдела, Елена Петровна Соколан. Олег любил и уважал Елену Петровну, она была нашим другом.
Проводила я их за город. Там на окраине молча обняла сына, крепко его поцеловала.
— Делай все так, как подскажет тебе твоя совесть,— сказала я ему на прощанье.
Долго еще Олег оборачивался и махал кепкой.
Совсем разбитая, я вернулась домой. В нашем милом домике, где недавно было так шумно и уютно, полно радости и веселья, где не умолкал смех Олега, шутки дяди Коли и бабушки, стало пусто, глухо, одиноко. Все было сдвинуто с привычного места, разбросано. И не было его, моего Олега...
В отчаянии я бросилась на пол и долго лежала так, немая, опустошенная...
ВРАГИ
Настали тревожпые дни. Отступая, прошли через Краснодон последние воинские части. Город опустел; казалось, он вымер.
Все, кто не уехал, попрятались в домах и с тяжелым предчувствием, как смерти, ожидали врага. Мы с мамой в дома остались одни, жили в тоскливом напряжении, стараясь не думать о страшном.
284
Но это страшное пришло. Утром 20 июля 1942 года двумя далекими взрывами мы были разбужены от сна. Это на подступах к городу, как мы узнали потом, подорвались на минах два фашистских танка.
Вскоре я услышала нарастающий рокот, беспорядочную стрельбу, а затем в приоткрытые ставни окна увидела мчавшиеся по улице немецкие танки, стрелявшие на ходу куда попало. Следом за танками ворвались в город мотоциклисты, прочесывая из автоматов пустые улицы.
Фашисты врывались в дома и, хватая перепуганных женщин и детей, крича и понукая автоматами, выгоняли их па улицу. Двое верзил, переодетые во все русское, став во главе согнанной толпы, преподнесли своему офицеру, по русскому обычаю, хлеб-соль, а другие щелкали фотоаппаратами. Солдаты совали трясущимся от страха ребятишкам губные гармошки и вместе с ними фотографировались, улыбаясь в аппарат. Мотоциклисты глушили моторы и, угрожая пистолетами, сгоняли подростков, заставляя их тащить якобы заглохшие машины.
Было тяжело смотреть на этот отвратительный спектакль.
Они были похожи не на солдат, а на бандитов с большой дороги. Прежде всего эти «освободители» кинулись по квартирам и курятникам. Каждый из них что-то тянул: курицу, ка- кие-то мешки, всяческую одежку. Они не брезгали ничем.
К нам в квартиру заскочили два ефрейтора, бегло осмотрели ее и заявили, что здесь будет жить «большой офицер».
Увидев на дверях портьеру, один ефрейтор кинулся к ней, сорвал ее и, скомкав, сунул в мешок. Другой увидел на стуле мое шелковое платье, вытащил из кармана ножницы и тут же порезал платье на косынки. Потом они оба брясились к буфету, но мы предвидели грабеж и заранее попрятали все ценное.
К вечеру Краснодон был переполнен немцами. В этот же день у нас поселился важный офицер. Чемоданов и сундуков у него было столько, что их некуда было ставить. Ими забили кладовую, коридор; в квартире стало тесно от них. Среди вещей были даже самовар и половая щетка. Одним словом, нашему квартиранту более подходило название большого грабителя, чем большого офицера.
285
С этих пор мой дом стал мне чужим. Меня только радовало одно: что нет здесь сейчас ни Олега, ни брата и что им не пришлось жить под одной крышей с врагами.
В первые же дни немцы стали вводить новые порядки. Были созданы немецкая комендатура, жандармерия, городская управа, дирекцион и биржа. По городу расклеены приказы и объявления. В каждом таком объявлении что-то запрещалось и за что-то полагался расстрел. За появление на улице после восьмп часов — расстрел, за неявку на отметочный пункт — расстрел, за уклон от регистрации на бирже — расстрел.
Учету подлежало все — не только население, но и домашнее хозяйство, скот и даже птица, случайно уцелевшая после грабежей. Коммунисты, не успевшие эвакуироваться, комсомольцы и даже пионеры брались под особый контроль.
В короткий срок город изменил свой облик. Красавица школа имени Горького, в светлых, оборудованных классах которой еще недавно учились дети горняков, была превращена в дирекцион № 10 так называемого «Восточного акционерного общества». В помещении районных яслей расположилась городская управа, возглавляемая фашистским наемником, бывшим кулаком, теперешним бургомистром Стаценко. Замечательное по своей архитектуре здание клуба ИТР зачем-то начали перестраивать, и, когда наконец оно было перестроено, трудно было понять, церковь это или мечеть. Городская больница, с ее бесчисленными кабинетами и палатами, была превращена в наводившее ужас на всех жителей города фашистское учреждение — гестапо. Городской парк, излюбленное место отдыха детей и взрослых жцтелей Краснодона, был частично вырублен и превращен в оружейный арсенал.
Я только рада была, что с нами нет родных.
Но случилось такое, чего никто не мог ожидать: 25 июля, в четыре часа дня, возвратились шестеро рабочих, а с ними Олег и мой брат с семьей. Они доехали до Новочеркасска — дальше на восток все пути были уже отрезаны.
Невеселой вышла моя встреча с Олегом.
Он был хмурый, почерневший от горя. На лице его уже не появлялось улыбки, он ходил из угла в угол, угнетенный и молчаливый, не знал, к чему приложить руки. То, что делалось
286
вокруг, уже не поражало, а страшным гнетом давило душу сына.
— Мама... если бы ты знала, мама! — горячо шептал он мне.— Это же не люди, а какие-то чудовища, настоящие людоеды! Если бы ты знала, чего я только не навидался в дороге!
Далеко за полночь рассказывал Олег о страшном пути. Ураганный ливень, разразившийся над раскаленной пыльной степью, залил потоками воды дорогу, по которой бесконечной вереницей шли беженцы, утопая в оплывающей хляби и с трудом толкая застревающие повозки.
После мучительной холодной ночи, проведенной при скудных кострах, утром двинулись дальше.
У села Николаевки был первый налет. Отбомбившись по растянувшемуся шествию, «юнкерсы» развернулись и снова пошли вдоль дороги, расстреливая на бреющем полете группы и одиночек. Олег, прижимая маленького Валерку, спрятался в хлебах, которые в тот день многих спасли от смерти.
Похоронив убитых в братской могиле, выкопанной тут же, в степи, люди шли дальше. И еще дважды потом налетали фашистские стервятники, сея смерть и горе.
Но однажды люди не стали разбегаться, когда появились «юнкерсы»: навстречу летели краснозвездные ястребки, и завязалась горячая воздушная схватка. Люди словно ожили. Они кричали и плакали, восторженно подбрасывая в воздух шапки, когда фашистский стервятник, оставляя дымный хвост, стремительно падал вниз. Пятерка советских ястребков не отставала до тех пор, пока фашистская эскадрилья, беспорядочно сбросив бомбы и потеряв несколько самолетов, позорно не обратилась вспять. Люди приободрились и дальше пошли уже веселее.
Но у города Шахты их настигли первые немецкие танки. Шрапнель рвалась над головами, оставляя на дороге все новые и новые жертвы. Следом налетели мотоциклисты-автоматчики. Они метались, как бешеные собаки, обстреливая каждую рощицу, каждый кустик. Потом согнали всех в кучу, и началась «чистка». Хватали все, что представляло какую-то ценность и что можно было увезти.
— Сколько буду жить, столько я буду помнить это! До са¬
287
мой смерти!—мрачно сказал Олег, закусив губу, чтобы сдержать закипающие слезы. Он словно поклялся тогда.
Ночью, при тусклом свете каганца, он писал стихи.
Слышно было, как в соседней комнате храпел немецкий офицер на нашей постели, на нашей подушке.
Свет от каганца озарял Олега снизу, и я не сводила глаз с решительного лица сына.
Стихи получились вот какие:
...И я решил, что жить так невозможно.
Смотреть на муки, самому страдать?
Скорей, пора! Пока еще не поздно,
В тылу врага — врага уничтожать!
Я так решил, и это я исполню,
Всю жизнь отдам за Родину свою —
За наш народ, за нашу дорогую,
Любимую Советскую страну!
А к Волге непрерывным потоком шли немцы, румыны, итальянцы. Без конца двигались их обозы, артиллерия, танки, легковые машины со штабными офицерами.
Шли и ехали враги — веселые, сытые, самодовольные, рассчитывая на легкую победу.
Присутствие врага в нашем доме приводило сына в ярость. Я видела, как он напрягает все силы, чтобы не высказать гитлеровцам всей своей ненависти. «Большой офицер» вскоре уехал от нас, и теперь к нам на квартиру ставили солдат. Они ночевали одну-две ночи, не больше.
Однажды у нас остановились солдаты-эсэсовцы. Один из них, развалившись на диване после обеда, долго смотрел на Олега, потом спросил:
— Кто это?
Я ответила:
— Мой сын.
Немец, усмехаясь, сказал, что это здоровый и красивый юноша. Олег, понимавший по-немецки, нахмурился. Я молчала. Но немцу и не нужны были слушатели. Он продолжал самодовольно рассуждать вслух:
288
— Да, ваш сын очень красивый и сильный юноша. Такие солдаты нужны для Германии.
Олег с презрением покосился на фашиста.
Сын только что вернулся с улицы; он очень торопился домой, раскраснелся, черные брови на высоком лбу, глаза ясные, плечи широкие. Он был в синем костюме, в белой чистой рубахе, ловкий, молодой, высокий.
— Не нравится быть солдатом?—пристал к нему фашист.— О, ничего! У нас в Германии много этих... как их...
Тут солдат запнулся.
Подыскивая подходящие слова, он сморщил лоб, потом хлопнул себя по коленям:
— О да, он будет работать у этих... у куркулей. В нашей Германии много куркулей. Им нужны крепкие и здоровые работники.
Олег наконец не выдержал.
— Дурак ты, дурак!—сказал он по-русски громко.—Но знаешь ты, что куркуль — это, по-нашему, кулак. Мы их уже давным-давно прогнали, этих твоих куркулей! А скоро и вам будет крышка!
— Вас, вас?—важно спросил немец.— Что такое есть кулак?
— Кулак есть кулак, а ты есть дурак! — сказал Олег.
ПОЕДИНОК
Утром эсэсовцы ушли. Но наша чистая квартира опять понадобилась немцам для какого-то важного генерала. И он перебрался к нам со своими многочисленными чемоданами и денщиком.
Денщик — высокий, сытый, рыжий эсэсовец — неплохо говорил по-русски и с чисто фашистской злобой и пренебрежением отзывался обо всем русском, советском. Только и был слышен по дому его квакающий голос:
— Советские свиньи! Скоты!
Генерал восседал в столовой за столом, на котором посто-
289
япно стояли бутылки с шампанским, печенье, фрукты, всевозможные конфеты, шоколад. Для маленького Валерика, сына дяди Коли, было большим испытанием проходить мимо этого стола. Бабушка, видя, что денщик и на человека не похожг строго внушала Валерику даже и не оглядываться на стол.
Но мальчику было всего около трех лет, и он не видел не только сладкого и фруктов, но и хлеба не ел вдоволь. Трудно было Валерику перебороть искушение.
Как-то раз Валерику надоело сидеть в угловой комнате, куда нас загнали немцы, к тому же мальчику очень захотелось есть. Всем съестным у пас распоряжалась бабушка. Она была на кухне.
Валерик отворил дверь в столовую, и тут перед ним предстали на столе все богатства. Как потом мы выяснили, произошло следующее.
Валерик увидел на столе сладости и фрукты, но вспомнил, что бабушка строго запретила и глядеть на них. Однако пройти мимо и хотя бы не оглянуться на плитки шоколада было выше его сил. Валерик решил обмануть самого себя. Он повернулся и пошел спиной вперед. Но идти так, вслепую, было трудно, и Валерик затопал башмаками.
Генерала не было дома. Денщик сидел на диване. Он схватил винтовку и, толкая Валерика штыком в спину, закричал на весь дом:
— Русская свинья! Что ты здесь ходишь?
Мы услышали дикий крик Валерика. Бабушка подхватила его на руки. Он был весь в горячем поту, глазенки его блуждали, он дрожал и заикался.
На кухне бабушка шепотом утешала Валерика:
— Ну, не плачь, не дрожи, детка! Я тебе знаешь что скажу? Слушай-ка: скоро опять придут сюда дяди со звездами, так они вот сколько принесут тебе и конфет, и шоколаду, и яблок с грушами...
Я благодарила случай, что в это время Олега не было дома. Но столкновения предотвратить не удалось.
Однажды денщик начал в нашем присутствии громко ругать русских:
— Вы некультурные свиньи, дикий народ! Вас всех нужно
290
учить. Это взяла на себя наша культурная Германия. И мы добьемся своего!
Олег стоял бледный и страшный. Я дрожала всем телом. Я видела: сын, сдерживаясь изо всех сил, больно закусил губу.
Денщик продолжал глумиться:
Вы, русские, должны быть благодарны великой Германии!
Тут, забыв все предупреждения, Олег вспыхнул, как порох:
— Неправда! Не мы, а вы — самые некультурные и дикие люди. Разве культурные люди пошли бы жечь и убивать мирных жителей? Вы напали на нас! Вы, людоеды, убиваете беззащитных женщин и детей! Вы... вы...
Фашист, вначале опешивший от крика Олега, вдруг подскочил к сыну и что было силы ударил его кулаком в лицо.
— Ты комсомолец? Я убью тебя!—кричал он, вынимая оружие.
Олег в ярости схватил немца за борт мундира и с силой потряс его так, что в его бесцветных глазах мелькнули страх и беспомощность. Я кинулась к ним, загородив Олега.
— Сын еще молод, неразумен,— умоляла я.
Насилу-то успокоила я разъяренное животное. Олег выбежал из комнаты.
Я нашла его во дворе. Он сидел на лавочке, сжав голову руками и раскачиваясь, словно от боли. На его лице горел след от удара. По бледным щекам катились крупные слезы.
— Если бы не ты, мама, я разорвал бы ему горло,— сказал он чуть слышно.-- Я бы ему показал, проклятому!
Как могла, я старалась утешить сына. Прижала его к себе, приласкала, Целовала в лицо, в глаза:
— Пока их сила... Надо терпеть. Скоро возвратятся наши...
Олег резко поднял голову и посмотрел вокруг недобрым
взглядом:
— Терпеть меня, мама, не учи! Жить под одной крышей с фашистами я больше не могу! Пойду в партизаны, мстить буду за себя, за всех! А этому фашисту я еще покажу!
К счастью, на второй день генерал, а с ним и его денщик выехали от пас.
291
„ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ..."
Мы жили, как в большом концлагере. Не знали, что делается на фронте, в Москве, где наши войска.
В то, что писали продажные газетки, о чем изо дня в день кричало немецкое радио, мы не верили. Немецкая пропаганда уверяла, что один советский город за другим не выдерживает натиска немецких войск, что Красная Армия разбита. Олег только посмеивался:
— Врут! Живет Красная Армия! Я сердцем чую.
Фашисты безжалостно грабили население, забирали хлеб
и скот и вывозили в Германию. Огромные самолеты, набитые, зерном, пролетали над Краснодоном, где люди страдали от голода. Потом и молодежь стали угонять в фашистскую неволю. Плачем и стоном наполнилась украинская земля.
А в конце августа 1942 года в городском парке Краснодона враги закопали в землю группу арестованных шахтеров и служащих. Среди них были женщины и дети. Их заставили выкопать яму, стать в нее и, связав каждой пятерке проволокой руки, живых начали засыпать землей. Того, кто сопротивлялся, пристреливали па месте.
Выходить на улицу после семи часов вечера немцы запретили. Наступила душная, черная ночь. Душно и черно было и у нас на сердце. Спать я не могла, и мы сидели с Олегом в саду иа лавочке.
Ясные звезды смотрели на нас сверху. Глядя на них, я представляла, что сейчас на эти же звезды смотрят наши люди по ту сторону фронта, смотрят красноармейцы из своих окопов, и что они все знают о наших муках и скоро придут на выручку.
Не знаю, о чем думал Олег. В последнее время мы часто сидели с ним рядом молча. Потом проверяли, и оказывалось, что думали мы об одном и том же.
Вдруг откуда-то, из самой глубины черной ночи, донесся какой-то странный звук, словно тонкая струна лопнула. Занятая своими думами, я не обратила на это внимания. Но Олег вскочил с лавки, крепко стиснул мне плечо сильной рукой:
— Мама, слышишь?
Со стороны городского парка раздались два-три торопливых
292
выстрела, а за ними такой отчаянный и тоскливый детский крик, что сердце, казалось4 перестало биться. Ужао охватил меня. Я прижалась к сыну.
— Мама,— воскликнул он,— это их казнят!
Весь Краснодон знал об аресте коммуниста Валько, других большевиков и беспартийных рабочих-шахтеров и служащих* С первого же дня прихода немцев они наотрез отказались работать с ними и в лицо фашистам говорили о своей ненависти и презрении к ним.
Вместе с этими мужественными людьми арестовали женщин, забрали и детей. Мы видели, как их, голодных и измученных, фашисты под усиленным конвоем водили по улицам на работы.
Олегу дважды пришлось видеть их на работе. Проходя мимо железной дороги, проложенной от шахты к тресту, он наткнулся на знакомого товарища. Конвоира близко нэ было, они разговорились.
Знакомый Олега, оборванный, худой, как скелет, еле держась на ногах, перетаскивал шпалы.
— Олег,— слабым голосом сказал он,— мы все помираем с голоду. Ребятишек очень жалко...
И он начал рассказывать, как над ними издеваются в гестапо. В арестном помещении людей набито столько, что сесть негде, все стоят целыми ночами, спят стоя. В уборную не выпускают. Грязь, вонь, мухи. Иногда немцы бросают в камеры сырые кабачки, и арестованные делят их по семечкам.
— Бежим! — прошептал Олег.
Но товарищ покачал головой.
— Спасибо тебе, но, если я убегу, остальным хуже будет. Да и не дойду я, пожалуй. Сил совсем не осталось... Олег, вон в том огороде свекла растет. Если я ее сам сорву, меня изобьют до смерти, да и всем попадет...
Олега не нужно было просить дважды. Он пополз к огороду, вырвал из земли свеклу и отдал товарищу. Потом со всех ног побежал домой, забрал весь хлеб, что у нас был, и принес его арестованному.
— Олег,— сказал тот,— знай, скоро нас всех расстреляют...
Приближалась охрана. Надо было уходить...
293
Теперь их ночью живыми закапывали в землю. Донеслись еще выстрелы, глухие крики, плач детей. Потом все стихло.
Мама,— услышала я страстный голос Олега,— больше терпеть нет моих сил! Знаешь, храбрый умирает один раз, а ТРУС — много раз. Теперь я знаю, что мне делать...
Несколько дней спустя в книге «Как закалялась сталь» я нашла листок, исписанный рукой Олега:
Клянусь я тебе, дорогая отчизна,
Что буду я грудью тебя защищать,
Что немца — тирана, захватчика, хама,—
Где встречу,— уничтожать!
Клянусь своему я народу родному:
Жестоко отмстить я сумею врагу...
Олег написал эти строчки в ту страшную ночь. Теперь оставалось только одно — переходить к оружию.
ЛИСТОВКИ
Был солнечный, веселый день. Часа четыре. Помню, я вошла в комнату. За столом сидели Олег, брат Николай, Вапя Земнухов и Толя Попов. Склонившись над какими-то бумагами, они что-то молча писали. При моем появлении они несколько смутились. Кто-то даже спрятал от меня свои бумажки под стол. Олег улыбнулся мне и сказал:
— Мамы не бойтесь, товарищи. Мама — свой человек.— И он показал мне одну из бумажек.—Вот. Прочти. Хотим раскрыть глаза людям.
В этих первых самописных листовках они призывали население не выполнять немецких распоряжений, сжигать хлеб, который немцы готовят вывезти в Германию, при удобных случаях убивать захватчиков и полицейских и прятаться от угона в неволю.
— Хорошо?— спросил Олег.
— Хорошо-то хорошо,— сказала я,— только за это своими головами можете расплатиться. Разве можно так рисковать?
Олег по-озорному присвистнул.. Толя Попов блеснул глазами:
294
— Риск — благородное дело, Елена Николаевна,
Олег стал серьезнее, задумался.
— Конечно, риск — благородное дело, только рисковать надо умно. Когда сильно любишь что-нибудь, то всегда добьешься.— И опять заулыбался.— Помните кузнеца В акулу? Как он в ночь под рождество самого черта перехитрил? А почему? Оксану свою крепко любил. И не стало для Вакулы ни страхов, ни преград. А если Вакула черта обманул, неужели мы гитлеровцев и полицейских не одурачим? Быть того не может!
Что я могла ему ответить?
В тот же вечер первые листовки, эти первые ласточки, разлетелись по городу. Их приклеивали в городском парке на скамейках, приклеили и на двери кинотеатра, в темноте зала бросали в народ. При выходе, в тесноте, две листовки засунули даже в карманы полицейских,
С того вечера распространение листовок стало каждодневной работой молодых конспираторов. Ваня Земнухов предложил распространять листовки даже в церкви. Там обычно сидел старичок и продавал листки с текстами молитв. Старик был подслеповат, ребятам легко удалось взять листок с молитвой. По его формату изготовили листовки и незаметно подсунули старику целую стопу. Спрос на «молитвы», на радость старику, был в тот день очень велик. Но особенно радовались ребята — спасибо боженьке, который помог им в подпольных делах.
А в конце августа Олег достал у инженера Кистринова радиоприемник. Наконец-то мы услышали пашу Москву! Стало так радостно, как будто после жестокой зимы пришла весна и мы выставили в окнах рамы.
Ребята собирались, записывали радиопередачи, а потом размножали в десятках экземпляров и расклеивали по городу. Измученные неизвестностью, наши люди стали каждый день читать сообщения Информбюро. Большая земля протянула нам руку.
Зато для гестапо и полиции работы увеличилось. Немцы и полицаи бегали по городу, как собаки, сбившиеся со следа, и с руганыо срывали листовки на центральных улицах.
Сорвать листовки им, конечно, удавалось, но как вырвешь правду из сердец людей?
295
КАШУК
Конспиративный кружок начал расти. В него вошли Сережа Тюленин, Майя Пегливанова, Уля Громова, Сеня Остапенко, Коля Сумской, Степа Сафонов.
Из партизанского отряда, руководимого секретарем обкома партии И. М. Яковенко, вошел в подпольную группу Виктор Третьякевич, который недавно прибыл в Краснодон.
В группу вошли почти все друзья Олега, кроме самого близкого — Лины.
Я осторожно спросила у Олега:
— Лине... ты не даешь никаких поручений?
Олег ответил:
— Я ошибся в ней, мама.
Я стала уговаривать его не ссориться с Линой. Олег резко отмахнулся:
— Разве мало я с ней говорил? Ей в конце концов неплохо и при немцах!
— Что ты говоришь, Олег? Ты так дружил с Линой!
Олег мучительно покраснел. Наша откровенность с ним не
заходила еще так далеко. А может быть, ему стало стыдно за свой такой неудачный выбор.
Но вот он решительно встряхнул головой:
— Слушай же, мама! Позавчера немцы гнали наших арестованных. Избивали прикладами, издевались... ну, как всегда... Я побежал к Лине, хотел поделиться с ней, по душам поговорить, понимаешь? А она... у них патефон играл, а Лина... веселая такая... танцевала с немецким офицером. Дверь была открыта, и я все видел.— Он вздохнул, словно груз с себя снял.— Я вот думаю, что Павка Корчагин, наверно, так же поступил бы на моем месте...
Павел Корчагин и теперь был любимым героем Олега. В тяжелые минуты он брал с этажерки книгу «Как закалялась сталь» и снова перечитывал ее. Бывало, кто-нибудь из его товарищей загрустит, повесит голову — Олег и ему протянет эту книгу.
Позже, когда кружок привлекал к себе все больше и больше отважных ребят2 Олег частенько читал своим друзьям
296
любимые места из книги Островского. И особенно любил он перечитывать слова, которые помнил наизусть:
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества...»
Бывало, после этих слов призадумаются ребята, лица у всех станут светлее, глаза заблестят, а Олег скажет:
— Лучше смерть в бою, чем жизнь в неволе! Правда, ребята?
Как-то раз Олег возвратился домой очень взволнованный. Я старалась вызвать его на откровенность, но это мне не удалось. Его поведение удивило меня.
«Что случилось? — думала я.-— До сих пор Олег не таился от меня».
Видно, произошло что-то, глубоко поразившее сердце сына.
Я решила спокойно ждать. Он сам, как всегда, расскажет мне обо всем.
Я понимала, что мой Олег уже не тот веселый подросток, который еще недавно мечтал о романтических подвигах. Перед ним встала суровая необходимость борьбы с врагом, и он бесстрашно вступил в эту смертельную борьбу.
Теперь он приходил домой поздно ночью, стал молчаливым, избегал откровенных разговоров со мной. Одним словом, он вел себя как взрослый человек, у которого своя, мужская ответственность, свое горе и своя радость.
Я понимала, что затаенные мысли, полностью завладевшие его сердцем, высокой стеной отделили моего сына от меця.
А как мне хотелось опять заглянуть в его душу! Но мы привыкли уважать друг друга, и я не смела врываться в его мир, если он сам этого не хотел.
Но вот пришло время, и я снова стала его близким другом и советчиком.
Однажды, к ночи, сын пришел домой по-особенному возбужденный. Плотно закрыл за собой дверь* оглядел комнату. И я услышала его взволнованный голос:
297
— Ну, мама, нас можно поздравить!..
Долго мы в тот вечер разговаривали с Олегом. Он рассказал мне о плане их боевой организации, о намеченной цели, о том, как они хотят бороться. Все, все...
Я поняла: большое, светлое дело задумали ребята, Я знала: борьба будет беспощадной и жестокой.
Как умела, я раскрыла сыну свою душу, говорила, что на пути борьбы, на который он встал, его на каждом шагу будет подстерегать опасность. И что ее нужно встретить мужественно.
Сын слушал притихший, не сводя с меня глаз.
— Ну уж... если придется умереть, тебе за меня стыдно не будет!
Мне стало и хорошо и страшно.
И как ни тяжело мне было в этом самой себе признаться, как ни щемило мое сердце, я видела, что теперь жизнь моего сына принадлежит уже не мне и что смертельная опасность будет его спутником на каждом шагу.
Но я не остановила его. Не кинулась на грудь, чтобы слезами и просьбами заставить его сойти с выбранной дороги, не схватила за руку, чтобы не пустить из дому, спрятать его от товарищей, уберечь от борьбы. Я любила своего сына. В ту же ночь я решила всеми силами помогать ему.
Олег получил конспиративное имя «Кашук»«
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
У самого гнезда фашистов, около гестапо, собрались недавние школьники, готовые на борьбу и на муки. Когда-то они читали и им рассказывали в школе, что их отцы-большевики вот так же собирались в подполье. Теперь ребята продолжали славное большевистское дело: организовывались на борьбу. Звезда правды ярко горела над ними.
В Краснодоне для подпольной работы остались многие коммунисты. Помню, как уже в первые дни, когда на шахте № 12 были арестованы Валько, Зимин и другие, в Краснодоне упор¬
298
но ходили слухи, что в городе имеется подпольная организация. Позднее молодым подпольщикам удалось связаться с коммунистами, и в доме у нас не раз бывали Филипп Петрович Лютиков — руководитель подполья, Мария Георгиевна Дымченко, Яковлев. Часто приходила к нам Налина Георгиевна Соколова, хорошо известная в прошлом как активная общественница — много лет она была председателем совета жен горняков.
Многие коммунисты, оставленные в подполье, были схвачены и арестованы уже в первые дни немецкой оккупации. Так, мученической смертью погибли, живыми закопанные в городском парке, коммунисты Валько, Зимин и другие.
Смертельная борьба началась, и ребята активно включились в нее. Правда, она переплеталась у них с романтическим увлечением, но самое главное они видели ясно: ими двигала любовь к отчизне. Они предпочли борьбу неволе.
Да и не умирать, а бороться и жить собирались они. Они верили в победу. Они и представить себе не могли, что среди них окажется негодяй с черным сердцем, который продаст врагу свою совесть и выдаст организацию.
От Олега я продолжала узнавать о планах организации и незаметно для себя втягивалась в подпольную борьбу.
Ребята не остерегались того, что я знакома с их планами,— они охотно пользовались моей помощью и не раз доверяли мне охрану собраний, когда конспиративные заседания проходили в нашем доме.
Первое собрание молодых подпольщиков состоялось в конце сентября 194.2 года. Па нем был создан штаб молодежной организации, в который вошли Туркенич, Земнухов, Олег, Тре- тьякевич, Левашов, а позднее — Люба Шевцова и Ульяна Громова. По предложению Сережи Тюленина организация была названа «Молодой гвардией». Юные подпольщики не уронили славы своих предшественников, первых комсомольцев нашей страны, и делами оправдали свое крылатое славное название, овеянное романтикой еще с первых лет Советской власти и хорошо известное по знаменитой песне Безыменского.
Боевой деятельностью краснодонских комсомольцев руководил Ваня Туркенпч, фронтовик, уже имевший опыт участия в боях с фашистами, а несколько позднее, когда возникли усло¬
299
вия для вооруженной борьбы, секретарем подпольной комсомольской организации — комиссаром «Молодой гвардии» — стал Олег.
Чтобы как можно меньше людей знало о штабе и его планах, вся организация была разбита на пятерки. Только начальник пятерки поддерживал связь со штабом.
КЛЯТВА
Вступая в «Молодую гвардию», юные подпольщики давали клятву. Вот он, текст этой клятвы:
«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:
Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем.
Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии».
Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь — я отдам ее без минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками ли или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!»
Ребята сидели, тесно касаясь плечом друг друга,— одна семья. Взволнованное дыхание, вдохновенные юношеские лица. Словно какая-то гордая птица пронеслась над ребятами и позвала их, и они были готовы лететь за ней.
Никто не пошел на попятный.
После первого же собрания молодогвардейцы начали энергично действовать. В конце октября организация выросла до семидесяти человек, в ноябре в ее рядах было более ста юных бойцов за Родину.
Прежде чем принять кого-нибудь в организацию* члены шта¬
300
ба внимательно изучали новичка, пытливо беседовали с ним, подготавливая будущего молодогвардейца к суровой борьбе.
Вот как потом Нина Иванцова рассказывала об этом:
«Однажды Олег мне сказал: «Нина, мы будем партизанами. Ты представляешь, что такое партизан? Дело партизанское нелегкое, но очень интересное. Партизан убьет одного врага, другого, убьет сотого, а сто первый может убить его. Оп выполнит одно, другое, десятое задание, но это требует самоотверженности. Партизан никогда не дорожит своей личной жизпыо. Он никогда не ставит свою жизнь выше жизни Родины. А если требуется для выполнения долга перед Родиной, для сохранения многих жизней, он никогда не пожалеет своей жизни, никогда не продаст и не выдаст товарища. Таков наш партизан, Нина!»
Возглавляли пятерки самые смелые и решительные ребята. Для связи со штабом каждая пятерка имела связного.
Каждый, кто вступал в организацию, торжественно принимал присягу.
После Радик Юркип рассказывал:
«Олег Кошевой выстроил всех нас, будущих молодогвардейцев, и обратился к нам с коротким словом, вспомнил о боевых традициях Донбасса, о героических подвигах донбассовских полков, об обязанностях и чести комсомольцев. Слова его звучали негромко, но твердо и так воодушевляли, что каждый из нас готов был хоть сейчас идти в бой. «С молоком матери мы впитали в себя любовь к свободе, к счастью, и никогда немцам не поставить нас на колени! — говорил Кошевой.— Мы будем драться, как дрались наши отцы и деды, до последней капли крови, до последнего вздоха. Мы пойдем на муки и смерть, но с честью выполним свой долг перед Родиной». Потом он вызывал нас из строя по одному для принятия присяги. Когда Олег назвал мою фамилию, меня еще сильнее охватило волнение. Я ступил два шага вперед, повернулся лицом к товарищам и застыл на месте. Кошевой вполголоса, но очень четко начал читать текст присяги. Я за ним повторял. Закончив, Олег подошел ко мне, поздравил от имени штаба с принятием присяги и сказал: «Отныне твоя жизнь, Радик, принадлежит «Молодой гвардии» и ее делу».
301
«Молодая гвардия» росла и крепла. Все больше становилось у нее бойцов, и каждый требовал смелого дела. Недавние школьники после вступления в организацию как-то вдруг превращались в настоящих подпольщиков.
С самого начала борьбы — когда все было закрыто тучами и казалось, что врага не остановить,— и до последнего часа ребят не покидала горячая вера в победу, в возвращение на Донбасс Красной Армии,— и это объединяло ребят, таких различных и непохожих.
А главное, как мне теперь hgho, что сделало «Молодую гвардию» близкой тысячам людей,— это была сила их организации.
Было похоже, как будто в кромешную ночь, среди воя ветра и пурги, когда гибель казалась неизбежной, вдруг впереди ярко засветил ясный огонек маяка. Он указывал измученным людям единственно правильную дорогу.
Правда, это была всего небольшая группа обыкновенной краснодонской молодежи, совсем еще мальчики и девочки, но они были организованны и готовы к бою.
И каждый, кто или дрогнул перед врагом, или решил тихонько ждать прихода своих, подумал, наверно:
«Что же это получается? Люди взялись за оружие, а я-то что же сижу? Надо помогать!»
Отвага «Молодой гвардии» у многих в Краснодоне в те суровые дни пробудила гражданскую совесть.
И было очень хорошо, что в борьбу с захватчиками в одном ряду со взрослыми вступили и наши дети.
Когда-то, на заре своей борьбы за свободу, наш народ выдвигал только одиночек-героев. Теперь, при Советской власти, стоило только появиться опасности,— на борьбу вставали сотни и сотни тысяч героев. Славная наша партия, комсомол, пионерские отряды, наши школы, наше искусство и наш труд сделали свое великое дело. Вчера самый обыкновенный школьник — сегодня становился героем. Много было таких героев, и враг был бессилен перед этим массовым героизмом, потому что на место одного погибшего вставали десятки,
Подымется мститель суровый,
И будет он нас посильней...^
часто вспоминались эти вещие строки,
302
По тому, какая бывает весна, легко догадаться, какое придет лето. Если эта группа наших краснодонских ребят была так отлично организована и отважна, значит, за ними стояла сила несокрушимая. Вот что стало ясно в Краснодоне даже самому робкому человеку.
И наша Красная Армия подтверждала это своими победами.
ОРУЖИЯ!
Еще в те дни, когда враг все шел и шел вперед и мы своими глазами виделр1 его военную технику — бесконечные потоки орудий, танков, бесчисленные самолеты у нас над головой,— в сердце Ули Громовой закрались — казалось, совсем в то время лишние — опасения.
— Товарищи,— сказала Уля друзьям,— чего же мы ждем? Скоро наши придут, погонят немца. Бои, наверно, будут большие. Чем же мы тогда поможем нашим раненым? Где возьмем бинты, марлю, всякие медикаменты? Все это нужно теперь же собирать. Пора!
Мальчики как-то не очень охотно пошли на этог зато девушки открыли тут всю свою душу. Подруги Ули — быстрая, смелая Шура Бондарева, полненькая шустрая хохотушка Аня Сопова, Лиля и Тоня Иванихины, на редкость дружные, неразлучные сестры, начитанная, степенная, строгая девушка Шура Дубровина,— сколько изобретательности, риска, терпения, хитрости вложили они, собирая медикаменты! Вначале они их добывали по своим домам, потом у знакомых, затем — из немецких госпиталей и аптек.
Много накопили девушки бинтов и марли, пакетов и всяческих медикаментов, но не пришлось им помочь нашим раненым...
Постепенно и умело штаб превращал свою организацию из агитационной в организацию вооруженного сопротивления врагу.
Еще до трагической гибели шахтеров в городском парке ребятам удалось побывать на больничном дворе* где работали
303
заключенные, повидать Андрея Андреевича Валько и от него узнать, что у села Деревечка в одной из двух заброшенных шахт спрятано разное оружие.
Теперь настало время достать это оружие.
Прихватив противогазы — на тот случай, если в шахтах скопились ядовитые газы,— Олег и Ваня Земнухов однажды утром ушли на разведку. Быстро разыскали шахту и после недолгих поисков обнаружили в замаскированной нише тщательно смазанные и уложенные в ящики пистолеты, автоматы, гра- наты-лимопки, динамит, запалы и бикфордов шнур.
О результатах разведки было доложено на заседании штаба. У ребят был настоящий праздник, Юре Виценовскому, Васе Пирожку, Анатолию Попову, Ване Земнухову и Олегу было поручено перенести оружие на базу «Молодой гвардии», созданную в подвалах разрушенной городской бани.
На склад «Молодой гвардии» стали в избытке поступать винтовки и гранаты, добытые у врага, взрывчатка и патроны.
В октябре Сереже Тюленину, Клаве Ковалевой, Жене Шепелеву и Олегу удалось довольно рискованное дело с оружием.
К вечеру, в сумерках, прибыла в Краснодон новая часть румын.
Солдаты разместились по домам, загнали свои машины во дворы, а сами отправились в парк, где для них шла немецкая кинокартина.
Острые глаза ребят подметили, что позади одного дома, между улицами Клубной и Садовой, стоит несколько машин с оружием. Охраны близко не было. Сережа Тюленин вызвался проверить, так ли это. Вернулся он с сияющими глазами:
— Нету охраны! Кино смотрят. Вот дураки!
Напротив дворика стояло разбитое здание без окон и дверей.
План созрел быстро. Ребята вытащили из машин два больших ящика с гранатами, три винтовки и ползком переправили все это богатство в разбитый дом. Потом как ни в чем не бывало опи пошли в парк.
А через день оружие было благополучно перенесено в склад, под баню.
Я, испуганная, сказала ребятам:
304
— Как же вы осмелились? Ведь еще совсем светло было! Каждую минуту вы могли нарваться на румын.
Сережа только прищурил свои и без того маленькие серые озорные глаза. Клава выглядела совсем пай-девочкой, возвращающейся из школы. А Олег, поглядывая на товарищей, посмеиваясь, ответил:
— Могли, да не нарвались!
Были случаи с приобретением оружия и комические.
Как-то раз к нам забрел румынский солдат с винтовкой, принялся ныть и жаловаться:
— Нехорош война. Немец плохо. Кушать давай нету. Худо, худо! Война нехорош! Винтовка нехорош!
У нас сидела Уля Громова. Я заметила, как Олег и Уля насторожились при словах «винтовка нехорош», но сделали самые равнодушные физиономии. Вдруг Олег взял кусок хлеба, почти последний у нас, и сказал как бы между прочим:
— Хлеба хорош. Винтовка нехорош. Хлеба мало. Винтовка много. Давай?
Голодный румын без лишних слов вырвал у Олега хлеб, отдал ему винтовку и, что-то бормоча, вышел вон. Наш склад пополнился еще одной вражеской винтовкой.
„ТАИНСТВЕННЫЕ УДОЧКИ“
Помню, незадолго до Октябрьских праздников Олег и брат Николай затеяли в углу двора какую-то возню: стаскивали туда доски, строгали шесты, вокруг валялся всякий плотницкий инструмент — пила, топор, молоток. Я их ни о чем не расспрашивала, но однажды, когда они долго не шли обедать, не вытерпела и спросила:
— Интересно, чем это вы так заняты, если вас даже обедать не дозовешься?
— А вот видишь,— сказал Николай, указывая на длинный шест, сбитый из нескольких планок,— это мы с Олегом удилище мастерим. А вот это,— он указал на зачищенный электрический провод,— лески, чтобы рыба крупнее бралась. На кон-
Библиотека пионера. Том II 305
ский волос мало что возьмешь... Ты же сама жалуешься, что. ничего сейчас не достанешь, вот мы и решили тебя побаловать.
Признаться, в первую минуту я пов1ерила — так серьезно говорил Николай и такой подкупающей показалась его забота о пашем столе,— но, когда Олег фыркнул, я поняла, что меня разыгрывают. Все-таки толком так и не узнала тогда, что они мастерят.
— Нет, правда, мама, дядя Коля не шутит: будем действительно рыбу ловить, только не в воде, а еще кое-где...— И Олег неопределенно помахал рукой в воздухе.
Обедать я их так и не дозвалась. Пришли, когда уже все остыло, и, перемигиваясь, как заговорщики, стали аппетитно хлебать холодные щи.
Что это за удочки, мне стало ясно позднее. Однажды брат взял шест, перенес его в угол двора и стал им ловить что-то в воздухе. Я всмотрелась и наконец догадалась. Рядом с нашим домом проходила немецкая электролиния, и Николай забрасывал «леску» на провода, идущие от столба.
— Готово, Олег,—сказал Николай, входя в дом.— Можно начинать...
Они вдвоем ушли в комнату брата, а минуты через две-три я услышала спокойный голос... Мне показалось сперва, что в доме появился незнакомый мужчина и о чем-то говорит с Николаем и Олегом, по потом ясно стало, что это голос радиодиктора, передававший сводку Информбюро из Москвы. Стало как- то сразу тепло на душе, и на минуту показалось даже, что никаких немцев поблизости нет, что мы в кругу родных советских людей, на Большой земле.
Вот, оказывается, на каких «рыб» мастерили они удочки!
— Ну как, мамочка? — спросил сияющий Олег.— Ловко? Это все дядя Коля придумал. Научная мысль. Пока у нас нет своей электростанции, ток приходится брать взаймы у врагов. Но ничего, мы долги вернем с лихвой.
Благодаря этим «удочкам» еще живее пошло распространение листовок. Олег частенько надевал на рукав белую повязку полицейского и в запрещенные вечерние часы выходил на улицу расклеивать листовки. Вася Пирожок ухитрялся наклеивать на спины полицейским листовки даже среди бела дня.
306
А Валерия Борд, Нина и Оля Иванцовы, Тося Мащенко, Майя Пегливанова и Женя Кийкова придумали и вовсе остроумную штуку: продавали торговкам на базаре листовки для завертки в них блинов и пирожков. Женщины охотно скупали у них бумагу, расплачиваясь блинами, а потом целый день заворачивали свои кулинарные изделия в сводки Информбюро. Эти же девушки ловко и бесстрашно оклеивали листовками двери квартир и заборы.
Так доходила правдивая советская информация о войне до населения.
Слушать Москву ребята собирались к нам- каждый вечер. Закрывали одеялами окна. Мы с бабушкой, как обычно, выходили во двор сторожить. Всякий подозрительный шорох бросал нас в пот.
Не раз и мне выпадало счастье слушать передачу из Москвы. Какие это были дорогие сердцу минуты! До войны эти передачи казались нам такими обыкновенными, а теперь они как будто шли к нам с другой планеты. Мы старались не пропустить ни одного слова, ни одной пропетой в Москве песни.
КРАСНЫЕ ФЛАГИ
Перед Октябрьскими торжествами Олег был очень занят.
Бывало, напомню ему о еде, об отдыхе — куда там! — и слушать не хочет:
— Времени мало! Вот на праздник отдохну, а сейчас нужно спешить. Дай мне, мама, кусочек хлеба, я побегу.
Супет в карман лепешку — и на улицу.
К этому времени с продовольствием в Краснодоне стало совсем худо. Лишь иногда удавалось достать стакан пшена; его растягивали дня на три для супа.
Чтобы достать хоть немного продуктов, приходилось уходить далеко от дома с тачкой.
Дяде Коле и Олегу невозможно было заниматься этим: немцы забирали всех мужчин и подростков с тачками, угоняли их куда-то, и они уже не возвращались. Придешь, бывало, до¬
307
мой с четвертью пуда плохой муки, черная от степных ветров и солнца, совсем без сил, ноет каждая косточка...'
Все, что доставали, делили поровну. Порции были маленькие, прямо птичьи. Однажды я сварила жидкий пшенный суп. Олега не было дома, и я оставила ему его долю.
Сын пришел вместе с Сережей Тюлениным. По их глазам я сразу поняла, как они хотят есть. Олег отвел меня в соседнюю комнату:
— Мама, есть что покушать?
— Я оставила тебе суп и лепешку.
— Мамочка,— прошептал Олег,— знаешь что? Подели нам это с Сережей, а? Он два дня дома не был. Дело важное выполнял. Ничего за это время не ел.
И они по-братски поделили жалкую порцию. Я смотрела на пих и думала: «Какие вы еще дети!»
И вот пришли наконец Октябрьские праздники 1942 года. Молодогвардейцы, наперекор всему, решили встретить их по- советски. Шестого ноября ребята собрались у нас на квартире.
Вспомнились тут мне наши праздники на воле: веселье, смех, цветы, песпи, музыка; улыбающиеся лица людей, подарки ребятам; вечером — заздравные чаши в кругу близких, родных, за столами, полными всякого добра; шутки, танцы...
Но, пожалуй, именно в тот день, 6 ноября, когда ребята стихли у приемника, я с особой силой почувствовала, как же прекрасна была та наша жизнь! И никаких жертв не надо страшиться ради того, чтобы снова отвоевать наше счастье.
Ребята, сидя у приемника, думали, наверно, то же самое, только каждый по-своему.
Но вот они все пододвинулись друг к другу.
В приемнике послышался треск, и вдруг кто-то из ребят прошептал:
— Москва!..
Уже на следующий день с утра весь Краснодон знал, что передавали из Москвы. Люди, встречаясь, говорили друг другу:
— Слышали? Скоро и на нашей улице будет праздник.
И, как бы в подтверждение этих слов, в Краснодоне произошло то, о чем долго потом с гордостью и надеждой говорили в народе.
308.
Сбрым, пасмурным утром на всех высоких зданиях, на шахтных трубах, терриконах и на самом высоком дереве в городском парке люди увидели красные флаги с яркими лозунгами:
«Да здравствует 25-летие Октябрьской революции!»
«Да здравствует Красная Армия!»
«Смерть немецким захватчикам!»
Подул ветерок, и флаги развернулись по ветру над домами полиции и жандармерии. Немцы буквально взбесились.
Видела и я красные флаги и скорей побежала домой. Олег сидел на диване, читал книгу с самым невинным видом. Я бросилась к нему:
— Олежек! Кто же это сделал?
Олег только пальцами прищелкнул:
— Есть такие, что не спят! А красиво, мама?
И с сияющими глазами рассказал, что задумали они это давно, вспомнив, как луганские рабочие еще в 1903 году подняли флаг на трубе паровозостроительного завода.
Флаги шили девушки «Молодой гвардии» в Краснодоне и в поселках по квартирам. Всякие кусочки собирали, сшивали, потом окрашивали материю в красный цвет.
Валя Борц и Сережа Тюленин подняли флаг па шахте № 1-бис. Люба, Уля, Коля Сумской, Толя Попов, Сеня Остапенко и другие — на других домах. Все оказались молодцами, все сделали свое смелое дело. Олег и Ваня Земнухов подняли флаг на крыше школы.
— А знаешь, мама, что ребята сделали?— сказал Олег.— Под тремя флагами пристроили пустые консервные банки, а внизу на здании написали: «Минировано».
Известие о флагах молнией облетело не только Краснодон, но и близлежащие села и хутора.
Полицейские и гестаповцы бросились разгонять людей на улицах, ругались, угрожали расстрелами.
Флаги они сорвали, но народ теперь знал: есть в Краснодоне мужественные борцы и герои, и им не страшны ни оккупанты, ни их прихвостни — полицаи.
Целый день развевались по ветру три «минированных» флага. Немцы решились их снять только к вечеру.
309
В этот же день праздника, по заданию штаба, неугомонные ребята роздали подарки семьям фронтовиков.
Те из молодогвардейцев, которые не успели вступить в комсомол до войны, получили временные комсомольские удостоверения, действительные на все время Отечественной войны. В «Молодую гвардию» мог войти всякий, кто хотел бороться с врагами. Но принадлежность к комсомолу ребята считали превыше всего: комсомольский билет получал тот, кто смело и отважно, не щадя своей жизни, успешно выполнил два-три боевых поручения штаба.
Таким образом, в «Молодой гвардии» комсомольцами были все, и все строго по уставу вносили членские взносы. Деньги организации необходимы были всегда, но взять их было неоткуда, кроме как из членских взносов. Поэтому взносы принимались в любом размере — можно было внести пять рублей и пятьдесят.
На эти средства и были закуплены подарки семьям фронтовиков. Оставалось .раздать их. И вот в семью фронтовика неожиданно являлся неизвестный юноша или девушка. Они молча передавали штук десять картофелин, немного хлеба, деньги. Обрадованные люди спрашивали:
— Да откуда это?
Посланные говорили:
— Наши прислали.
И моментально исчезали.
Так никто и не узнал, что подарки семьям фронтовиков принесли бойцы «Молодой гвардии», рискуя жизнью и сами полуголодные.
Не забыла «Молодая гвардия» и своих старших товарищей — арестованных коммунистов. Немцы иногда разрешали передачи арестованным в тюрьмы. Правда, полицейские все хорошее отбирали себе, но все же кое-что доставалось и арестованным. Ребята моментально воспользовались этим.
В тюрьму являлся молодогвардеец с передачей.
— Кому?
— Петрову.
Полицейский осматривал узелок, отбирал, что ему нравилось, а то, что оставалось, нес в камеру.
310
Через час являлся другой молодогвардеец:
— Передача,
— Кому?
— Петрову.
Повторялась та же история, и полицай, ворча, передавал узелок. Но спустя некоторое время в тюрьму являлся третий молодогвардеец:
— Примите передачу Петрову.
— Что за чертовщина? — выходил из себя полицейский.— Петрову уже третий раз на дню приносят. Не приму!
Тогда молодогвардеец притворялся искренне возмущенным и даже обиженным.
— Не имеете права! — повышал он голос.— Пока что есть распоряжение принимать передачи, так вы и передавайте, А не то и к коменданту пойдем жаловаться!
И арестованный коммунист получал свое. Мало того, что у него крепла вера в свою силу, но и вся камера видела, что партия никогда в беде не оставит.
Так провели дни великого Октября молодогвардейцы Краснодона.
БОЕВЫЕ] ДЕЛА
Вера в свои силы росла у молодогвардейцев с каждым дпем.
Проезжие дороги стали опасными для немецких машин.
Всполошились немецкие коменданты. Увеличился штат полиции, заволновались разные фюреры. Молодогвардейцы преследовали их днем и ночью. Донбасская земля начинала жечь пятки захватчикам.
Оккупанты готовились вывезти хлеб из нашего района. Штаб «Молодой гвардии» решил: хлеб сжечь! И молодогвардейцы жгли хлеб: шесть скирд хлеба и четыре стога сена были превращены в дым. А на складах зерно было заражено клещом. Олег участвовал в этих операциях и сжег две скирды и стог.
С особым увлечением занимались молодогвардейцы порчей телеграфной и телефонной сети. Немцы буквально не успевали чинить повреждения. Особенно методически портилась линия
311
между Краснодоном и Ровеньками, где находились окружные полиция, жандармерия, гестапо и комендатура. Сеть портилась очень искусно и ловко: не просто обрывались провода, а переламывались в нескольких местах так, чтобы не нарушалась изоляционная оболочка кабеля. Немцы просто с ног сбивались, ища поврежденные места.
Помню, как ребята, перебивая друг друга, рассказывали, как на улице возле дирекциона немецкий комендант неистово распекал продажную шкуру Крутецкого, который не мог обеспечить ремонт поврежденной линии. Тот заискивающе улыбался, кланялся, обещал исправить, но кончилось все тем, что разъярившийся комендант надавал ему пинков и подзатыльников.
— Этому гаду еще не раз придется подставлять свою рожу хозяину,— сказал кто-то из ребят.— Уж мы об этом позаботимся.
По распоряжению немецкого командования в Краснодоне и Изварине были построены мельницы, которые должны были обслуживать немецкие войска. Немцы мололи зерно и местным жителям, забирая за это половину. Штаб «Молодой гвардии» решил мельницы вывести из строя и поручил эти боевые дела в Краснодоне — Нине Иванцовой, а в Изварине — Борису Гла- вану. На заседании были тщательно обсуждены подробности операции.
Через два дня Нина уже докладывала о выполнении задания. Захватив с собой мешок кукурузы, она прибыла на мельницу. Отвесив «немецкую» половину, она пошла оставшуюся кукурузу засыпать в жернова. Там обычно из немцев никого не было, поэтому она могла спокойно положить поверх зерна железный костыль и потихоньку «испариться». О последствиях она узнала позднее: один камень разлетелся в куски, другой был серьезно поврежден.
Борис Главан операцию осуществил с помощью членов своей пятерки — Васи Пирожка, Коли Жукова, Юры Виценовского, Жени Шепелева и Гени Лукашова. Сняв моториста, дремавшего в отдельном помещении, ребята повредили регулятор, отчего в мотор стало поступать больше горючего. После того как движок набрал бешеную скорость, они насыпали в цилиндры
312
песок и едва успели разбежаться, как раздался взрыв. Головка цилиндра разлетелась, а поршень, пробив крышу, ракетой вылетел в воду.
Готовясь к этой операции, ребята в течение двух дней следили за мельницей. Двух полицаев, моловших для себя награбленное зерно, Борис Главан хорошо знал. На них-то ребята и написали анонимное письмо в гестапо, приписав им диверсию на мельнице. Расправы с полицаями долго ждать не пришлось. Опи немедленно были арестованы, и таким образом население было избавлено от репрессий.
Редкой выдержкой отличалась Оля Иванцова. Она могла часами, даже целыми днями, стоять где-нибудь в укрытии и наблюдать за движением на дорогах.
Однажды она увидела румын, гнавших скот на бойню в хутор Шевыревку. Через полчаса об этом было уже известно штабу и немедленно принято решение: Оле и ее пятерке, когда начнется убой скота, сделать мясо непригодным к употреблению.
Собрав своих девушек — Лилю и Тоню Иванихиных, Женю Кийкову и Шуру Бондареву,— она обсудила с ними план операции. Зная, что румыны любят кукурузу, они решили прийти на бойню и предложить ее в обмен на мясные отходы. А Шура Бондарева раздобыла еще где-то литр самогона.
Пока трое из девушек торговались с румынами, Оля занялась присыпкой разделанных туш нафталином. Когда подвыпившие румыны (самогон тут же пошел в ход) пошли доставать для девушек потроха, девушки потихоньку ушли. Вскоре они видели, как из Краснодона мчалась в Шевыревку машина с немецкой жандармерией. Наверно, крепко досталось от немцев любителям кукурузы!
Каждая боевая операция тщательно обсуждалась потом па заседании штаба. Молодогвардейцам — участникам операций— торжественно выносилась благодарность.
— Нашей Оксане (это была подпольная кличка Оли Иванцовой) можно любое поручение дать, и она выполнит его не хуже каждого из нас,-^ говорил Олег.
Активную роль в боевой деятельности «Молодой гвардии» играл Ваня Туркенич — командир молодогвардейцев.
313
Как-то в конце сентября, узнав от ребят, что у шахты расстрелян человек и оставлен полузакопанным в земле, Турке- нич, Вася Пирожок, Борисов и Григорьев сходили в парк. В расстрелянном они опознали начальника радиоузла коммуниста Дмитрошковского.
— Это дело так оставлять нельзя! — сжимая кулаки, сказали ребята и тут же придумали, как отомстить.
Выследив маршрут, которым обычно патрулировали полицейские, с наступлением темноты ребята пришли в парк, дождались патрулей. Двое из ребят — Туркенич и Борисов — спрятались за кустарниками, а Пирожок и Григорьев, оставшись на аллее, стали громко разговаривать, чтобы привлечь внимание патрулей. Долго ждать не пришлось. На шум подошли полицейские, скомандовали: «Руки вверх!» — и предложили следовать вперед. Сопровождая арестованных, полицейские, конечно, уже не оглядывались по сторонам; вот почему Турке- ничу и Борисову удалось незаметно выждать в засаде, а потом бесшумно наброситься на них. Четверо сильных ребят быстро управились с полицейскими: заткнули им рты, скрутили руки, оттащили в глубь парка и там повесили на поясных ремнях и телеграфном проводе, прицепив записку: «Такая участь ждет каждого изменника Родины!»
Деятельность «Молодой гвардии» все больше и больше расширялась. Вскоре наладилась связь с молодежью ближайших к Краснодону поселков — Первомайки, Изварина, Шевыревки, Семейкина.
Слава организации дошла и до соседних районов области. Связь с районами молодогвардейцы налаживали с такой сообразительностью и так по-военному хитро заметали следы, что немцам никак не удавалось прекратить ее.
В первых числах октября была создана небольшая подпольная типография. Удалось раздобыть немного шрифта, а чего не хватало, вырезали на резине Володя Осьмухин, Анатолий Попов и Жора Арутюнянц. Потому и печать на временных удостоверениях и листовках получалась неровной.
Штаб умело руководил «Молодой гвардией» потому, что в большинстве своем ребята долго и с душой поработали в комсомольских школьных организациях. У них был опыт.
314
За шесть месяцев «Молодая гвардия» приняла в комсомол тридцать шесть юношей и девушек Краснодона. В любое время и в любом месте, как только представлялась малейшая возможность — дома, в парке, во всех затаенных уголках,— не прекращалась эта работа.
Вот как вспоминает член «Молодой гвардии» Валерия Борц о своем вступлении в комсомол:
«Однажды Олег вызвал к себе меня и Сергея Тюленина и сказал нам, что решением организации мы приняты в комсомол. Потом Олег выдал нам комсомольские билеты: Сергею — № 2, а мне — № 3, и мы внесли наши первые комсомольские взносы. Олег нас обнял и крепко расцеловал, а мы так волновались, что даже ничего не могли ему сказать. А потом поклялись, что будем настоящими комсомольцами... Я всю жизнь буду помнить то время, когда вместе со всеми молодогвардейцами боролась против фашистов. И никогда не забуду того дня, когда мой милый товарищ Олег вручил мне комсомольский билет № 3».
В радости и в беде помнили ребята проверенный рабочий закон: все — за одного, один — за всех.
Однажды Олег возвратился домой чем-то сильно взволнованный. Из разговора с ним я узнала о его горе.
«Молодая гвардия» послала Оксану с боевым заданием в Каменск, и там полиция задержала ее. Потом передали, что арестованную можно выкупить: полиция хочет за нее три тысячи рублей. Две с половиной имеются в кассе организации, пятьсот необходимо срочно собрать среди молодогвардейцев.
— Мама, прошу тебя, дай мне пятьдесят рублей,— попросил Олег.
Через несколько дней после этого разговора вхожу в комнату и вижу: Олег разговаривает с какой-то девушкой. Весело оп сказал мне:
— Мама, это та самая Оксана! Выручили!
Девушка смутилась.
— Оля, ты не волнуйся,— поспешил успокоить ее Олег.— Мама — тоже член нашей организации.
В тот же вечер штаб «Молодой гвардии» принял важное решение: послать молодогвардейцев работать на биржу труда, в
315
полицию, в гараж, в больницу — одним словом, к немцам. Штаб решил вбуравиться в немецкие организации. Это было задумано смело. Ребята были устроены на нужные места, и там они не ловили ворон.
Сергей Левашов нанялся работать в гараже и весьма старательно портил одну автомашину за другой. Уля Громова поступила на работу в немецкий госпиталь, и в скором времени с ее помощью двадцать пленных красноармейцев вышли на свободу. Юра Виценовский стал на шахте «мастером аварий». Ковалев и Вася Пирожок доставали из полиции чрезвычайно важные сведения.
Короче говоря, ребята подбирались к самому горлу врага.
Как-то утром бабушка вбежала с улицы, взволнованная и радостная:
— Биржа горит!
Олег вскочил с дивана и бросился к окну:
— А управа?
Бабушка спросила:
— Олежек, что ты говоришь? Разве и управа должна гореть?
— Да, бабушка, непременно и управа!
— Про управу мне ничего не известно...— растерянно сказала бабушка.
Олег быстро оделся:
— Мама, пожалуйста, не волнуйся! Дела...
Он вышел, но скоро возвратился.
— Вот это молодцы ребята! — говорил он, возбужденно шагая по комнате и потирая руки.— Чистая работа! Дотла его- рело..с
Пожар «биржи смерти» был очередной работой молодогвардейцев.
Они узнали, что биржа труда заготовила списки и документы на тысячи граждан Краснодона для отправки их в немецкую неволю. Немедленно штаб решил: биржу сжечь!
На рассвете 6 декабря Люба Шевцова, Сергей Тюленин и Виктор Лукьяпченко сумели пробраться в здание биржи. Они облили стены бензином, расставили по комнатам бутылки с горючим. Чиркнула спичка...
316
Сначала вспыхнули бумаги, потом запылали картотеки, и пошла полыхать вся «биржа смерти».
После неожиданного пожара немцы начали было снова готовить списки, но фронт уже приближался к Краснодону, и немцам стало не до списков.
Тысячи наших людей были спасены от фашистской каторги.
Все жарче разгоралась борьба.
К началу декабря ребята добыли за счет немцев 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, 10 пистолетов, 15 тысяч патронов, 65 килограммов взрывчатки и несколько сот метров бикфордова шнура.
На этом не остановились.
Штаб терпеливо разрабатывал дерзкий план захвата и уничтожения в Краснодоне всех немцев и предателей и с этой целью накапливал оружие.
Этот последний удар должен был быть нанесен при подходе Красной Армии к городу. План держали в особом секрете.
Диву даешься, с каким умением и военной мудростью был разработан недавними школьниками этот последний удар по врагу!
По сигналу штаба должны были взлететь на воздух дома, занятые немцами, и перед ними, как из-под земли, выросли бы неумолимые мстители. Все они уже знали свои места.
Как только оружие попадало ребятам в руки, оно сейчас же начинало действовать. Анатолий Попов и Виктор Петров на дороге Гундеровка — Герасимовка уничтожили гранатами машину с тремя офицерами. Потом нашли свой конец на дорогах еще две легковые и три грузовые машины с оккупантами.
Как-то запоздно мне потребовался карманный фонарик. Он всегда лежал в пальто Олега, в левом кармане. Олег, усталый, спал на диване. Он так хорошо спал, забыв во сне об опасности, о проклятых фашистах! Лицо его было такое спокойное, тихое, что у меня руки не поднялись разбудить сына.
Я подошла к вешалке, нащупала в кармане пальто Олега фонарик. Но вынула я оттуда что-то совсем другое. Какой-то кирпичик, размером с фонарик, довольно веский.
— Николай, что это такое? Я думала, это фонарик в кармане у Олега. Что это?
317
— Тол,— коротко ответил брат.
— Не понимаю...
— Понимать тут особенно нечего. Не очень-то уж много нужно таких фонариков, чтобы взорвать любой дом.
Я поторопилась положить на место то, что взяла. Подошла к Олегу. Он спал безмятежно, полуоткрыв свои пухлые губы, и вдруг совсем по-мальчишески чему-то улыбнулся во сне.
Позже я узнала и о том, что ребята разминировали немецкое минное поле, а мины запрятали к себе в склад.
Развалины бани были для молодогвардейцев центральным складом оружия: оно хранилось в погребе, под полом. Прятали оружие и в нашей квартире, только в меньшем количестве.
Олег часто приносил оружие и поручал мне, бабушке или дяде Николаю спрятать его па несколько дней.
Как-то Сергей Тюленин принес нам полмешка гранат. Их нужно было получше и понадежнее запрятать. Олег попросил об этом бабушку. Бабушка молча кивнула головой. Она закопала гранаты в землю, запалы завернула в промасленную тряпку, опустила их в шерстяной носок и заложила отдельно, в сухом месте. Это растрогало Олега. Он бросился обнимать свою бабушку. Та ему ответила просто:
— Твое дело — мое дело. Ты знай приказывай!
ДЕЛО С ПРИЕМНИКОМ
В ноябре 1942 года Олег сказал как-то, что молодогвардейцы смонтировали два радиоприемника и что вечером их должны принести к нам Ваня Земнухов и Борис Главан.
Мы прождали до позднего вечера. На следующее утро Олег хотел пойти узнать, почему ребята не пришли вчера, но бабушка уговорила его сначала позавтракать. В это время стукнули в окно. Олег вышел. А когда возвратился, то сказал, что приходила из полиции уборщица, спрашивала об Олеге Кошевом.
— Ну, и что ты ей сказал? — спросила я, предчувствуя беду.
— Сказал, что Олег Кошевой живет здесь.
По словам уборщицы выходило, что ее будто бы прислал
318
Олег Кошевой: его вчера вечером задержала полиция, и он просит прислать что-нибудь поесть.
Получалась странная история. Ошибка? Провокация? Вдруг Олег отодвинул тарелку с едой и встал:
— Мама, мне все ясно. Бориса, когда он вчера нес радиоприемник, задержала полиция. Желая оповестить нас об этом, он решил схитрить. Передать об аресте другим способом, чтобы не вызвать подозрения у полиции, видимо, ему невозможно.
И Олег заспешил из дому. Часа через два он возвратился, и мы узнали от него, что Ваня Земнухов и Боря Главан сидят в полиции. На всякий случай некоторым молодогвардейцам на несколько дней пришлось изменить место своего пребывания.
— Мама, придется и мне куда-нибудь спрятаться.
Все это меня страшно взволновало, хотя я и старалась не показать этого сыну.
Начали вместе думать, где бы пожить Олегу несколько дней. Олег сказал:
— Далеко мне уходить нельзя. Мое место — с ребятами.
Я пошла к моей знакомой, Лидии Макаровне Поповой. Конечно, я не открыла ей настоящую причину, а сказала, что полиция ищет сына, чтобы угнать его в Германию. Попова охотно приняла к себе Олега, и он пробыл у нее три дня.
Работа штаба продолжалась и на новой квартире. Нина Иванцова и Валерия Борц были связными у Олега и по нескольку раз в день забегали к нему. Не зная, в чем дело, Лидия Макаровна сказала мне, смеясь:
— Как девушки-то дружат с нашим Олегом, а! — И потом, уже без шуток, предупредила меня: — Пусть он сам-то не выходит по вечерам из дому.
Как-то Попова завела с Олегом откровенный разговор:
— Скажи, Олег, ты, может быть, слышал: скоро ли прогонят фашистов с нашей земли?
Олег ответил сразу:
— Лидия Макаровна, чтобы как можно скорее прогнать фашистов, надо нам всем помогать Красной Армии. Есть такое изречение: кто, если не ты? И когда, если не теперь?
— Помогать, Олег, надо, да нечем —нет оружия. Голыми-то руками не очень доймешь немца.
319
— Помогать можно и без оружия,— помолчав, ответил Олег и спросил в упор: — Скажите, а вот вы... смогли бы помочь партизанам?
— А что ж! С охотой. Но как?
— О, Лидия Макаровна, способов много, лишь бы была охота! Например, представьте себе такой случай. За партизаном гонятся немцы, они напали на его след, вот-вот поймают. А спрятаться партизану негде. И вдруг он вбегает в ваш дом. Признается, кто он. Просит спрятать его. Скажите, Лидия Макаровна... вы бы помогли ему?
— Обязательно!
— Зная, что фашисты вешают партизан?
— Да, Олег.
Много они говорили в тот вечер об оккупантах, о борьбе с ними, об успехах Красной Армии, о том, что немцам придется скоро бежать не только из Краснодона, но и со всей Советской земли.
На четвертый день полиция выпустила Ваню и Бориса. Им посчастливилось выкрутиться, и даже легко. Выручила ребят их сметка и выдержка.
Вышло это так. В тот вечер, когда они несли радиоприемник, их случайно встретил начальник полиции Соликовский. Узнав, что они несут, Соликовский повел ребят в полицию. На допросе Борис Главан представился наивным простачком и понес всякую небылицу:
— Аппарат этот? Да он у меня и при Советской власти был. Я его не отдал тогда, а взял да запрятал. Я же не знал, что при немецкой власти нельзя радио слушать. Нельзя? Запрещено?.. Ну что ж, пожалуйста, берите себе приемник. Вообще-то он мне надоел. Таскайся с ним! Неприятности всякие...
Бориса спросили о Ване Земнухове. Борис махнул на Ваню рукой и усмехнулся:
— Этот-то? Да я его случайно встретил на улице. Он какой-то чудной парень, в радиоаппаратуре вовсе ничего не понимает.
Борис отлично разыграл роль наивного простака. Полиция попалась на удочку. Приемник оставили, но ребят на всякий случай продержали три дня, а потом отпустили.
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Стало известно, что немцы собираются вывезти в Германию крупную партию скота, отнятого у нашего населения. Штаб «Молодой гвардии» решил не дать немцам вывезти скот.
Разработали план действий, расставили людей, и, когда скот гнали на станцию, молодогвардейцы набросились на охрану, перебили ее, а пятьсот голов скота разогнали по степи. Лишь несколько коров погибло во время перестрелки с охраной.
На окраине Краснодона был лагерь смерти, в несколько рядов обнесенный колючей проволокой. Сколько там было наших людей — не знаю. Голод, стужа, болезни валили их с ног.
Больных и слабых оккупанты гоняли на тяжелые работы. Горе было тому, кто терял силы и падал,— его тут же добивали прикладом.
Однажды пошла я в станицу Морозовскую выменять хлеба. В Морозовской тоже был лагерь. Проходя мимо него, я увидела группу женщин. Они стояли недалеко от проволоки и на что-то смотрели.
Подошла и я к ним.
— Что тут случилось? — спросила я у женщин.
Мне никто не ответил, да и невозможно было рассказать человеческими словами то, что происходило за колючей проволокой.
Больной красноармеец попросил у часового напиться. К удивлению, фашист не отказал, быстро сбегал в хату и вынес оттуда раскаленную кочергу.
— Рус, рус, пей! — засмеялся он и сунул кочергу красноармейцу в рот.
В ужасе мы отшатнулись. Но еще долго в ушах стояли стоп больного красноармейца и хриплый хохот фашиста.
У Олега вся кровь отхлынула с лица, когда я, плача, рассказала ему, что видела в Морозовской.
И вот штабу «Молодой гвардии» стало известно, что на хуторе Волчанском есть еще один лагерь военнопленных.
Молодогвардейцам Грише Щербакову, Коле Сумскому и еще нескольким, во главе с Анатолием Поповым и Женей Шепелевым, было поручено напасть на лагерь.
321
Темной ночью ребята неслышно подползли к воротам лагеря и накинули часовому мешок на голову.
Пленные начали разбегаться. Убежало не меньше ста человек. Могли бы разбежаться и все, если бы не немец, который случайно проходил мимо лагеря. На его выстрелы прибежали полицейские и замкнули ворота.
САМЫЕ ЮНЫЕ
Как-то — это было в декабре — Олег собрался вечером в кино.
За все восемь месяцев оккупации немцы показали кинокартины для населения не более десяти раз. Это были удивительно бессодержательные картины, герои которых, откормленные немцы и немки, только и делали, что объедались да купались в ваннах.
Молодогвардейцы главным образом ходили в кино для своих целей.
— Ты, мамочка,— Олег посмотрел на меня ласково,— не волнуйся, если я после кино задержусь немного. Хорошо?
Через час пришел Сергей Тюленин с запиской от Олега.
Сын писал мне, чтобы я достала из матраца револьвер и патроны и передала их Сергею. В конце записки Олег в шутливом тоне еще раз просил меня не волноваться: он быстро возвратится домой.
Дома, кроме меня, не было никого. Мне стало не по себе, и я пошла к соседке, а когда возвратилась, Олег и Сережа были уже дома.
— Мама, гляди!—с торжеством сказал Олег, вынул какой-то сверток и развернул передо мной огромное шелковое фашистское внамя.
— Где же ты взял это? — удивилась я.
— Где взял, там его уже нет. Такие-то дела! — засмеялся Олег.
В бедовых глазах Сережи играли веселые огоньки. На бледных его щеках теплился румянец*
322
Ребята рассказали мне, что знамя это принадлежало шефу жандармерии, а выкрали они его из кинотеатра, где знамя висело на почетном месте.
— Да как же вы это сделали? — всплеснула я руками, глядя на двух удальцов.
— А очень просто,— сказал Олег.— Сергей сначала посмотрел, как немцы в ваннах купаются, потом спрятался под лавку. Публика ушла. Сторож запер дверь. Сережа снял флаг и выбрался из помещения. Ты же сама знаешь: Сергей куда угодно заберется и уйдет, когда нужно...— И Олег обнял Сережу за плечи: — Ну и устроил ты скандал для шефа, Сергей! Лишиться знамени — все равно что потерпеть поражение на поле боя. Какие же они победители, если у них из-под носа знамя унесли! Шеф теперь лопнет от злости, особенно если увидит выколотые глаза на портрете у Гитлера!
Я ахнула:
— Сережа, и это ты сделал?
Сережа молча переминался с ноги на ногу и смущенно краснел.
Сережа Тюленин и Радик Юркин! Это были маленькие солдаты с большим сердцем, до конца преданные «Молодой гвардии», ее барабанщики.
Как только я вспоминаю о них, невольно приходит на память песня:
Средь нас был юный барабанщик.
В атаках он шел впереди С веселым другом барабаном,
С огнем большевистским в груди...
У Сережи и Радика было удивительное свойство, помогавшее им водить немцев за нос. Храбрость и мужество бойцов сочетались у них с совершенно мальчишеским внешним видом — им обоим было двадцать девять лет.
Оба небольшого роста (Радик совсем маленький), худенькие, охочие до всяких уличных зрелищ, они оба для немцев были самыми обыкновенными подростками и до конца не вызывали у врага никаких подозрений. Как раз именно этим-то Сережа и Радик не переставали хитро и храбро пользоваться.
323
Однажды штабу стало известно, что в поселке Изварино сосредоточились большие скопления румынских и итальянских войск. Это были проверенные «поставщики» оружия для «Молодой гвардии». Володя Жданов, Александр Шищенко и Анатолий Орлов были посланы в Изварино с приказанием добыть гранаты и патроны.
Как и ожидал штаб, ребята поручение выполнили, и в Изварино послали Сережу и Радика, с тем чтобы доставить гранаты в Краснодон, на базу.
Радик и Сережа уложили гранаты в корзинки, а сверху прикрыли их картошкой. До Краснодона они добрались благополучно.
Было одиннадцать часов ночи — время для хождения по улицам запрещенное. Ребята, конечно, знали об этом, но то ли они решили окончательно не обращать внимания на полицейских, то ли устали и шли напролом.
— Кто идет? — И перед ребятами вырос полицейский.— Вы что, фулиганье, так поздно ходите? Приказа не знаете по домам сидеть? Что тут у вас в кошелках?
Радик состроил самую невинную физиономию:
— Мы из Изварина идем, дяденька полицейский. К дедушке ходили. За картошкой. Вот и несем.
— Я покажу вам сейчас дедушку с картошкой!—ругался полицейский.— А ну, пошли за мной! Оштрафуют отцов рублей по пятьдесят, тогда будете знать!
Радик начал хныкать. Подталкивая ребят в спины, дюжий полицейский погнал их в полицию.
Там Сережу и Радика еще раз выругали, наградили подзатыльниками и как малолетних нарушителей немецкого порядка оставили в полиции до утра.
Ребята переглянулись, поставили свои корзины около стола ночного дежурного полицейского и уселись на них. Сережа подмигнул Радику, и началось второе отделение программы. Радик стал разыгрывать из себя совершенно напуганного мальчика. Он хныкал, потом пустился в рев:
— Дяденька, отпусти домой! Мамка выпорет. Она картошку ждет. Дяденька, отпусти!
Ему надавали затрещип и приказали молчать. Радик покор¬
324
но замолчал. Дело было сделано: полиция поверила и опять осталась в дураках.
Так и просидели ребята с самым невинным видом всю почь на корзинах с гранатами рядом с полицейским, под его охраной. Утром им вручили две квитанции для передачи родителям со штрафом по пятьдесят рублей и вытолкали на улицу. Две корзины гранат встали штабу «Молодой гвардии» в сто рублей — цена вполне подходящая.
Когда доставили гранаты в баню, сколько тут было смеха, шуток, веселья и острых словечек по адресу немцев и полиции! Сережа и Радик были героями дня.
ПАРОЛЬ „ЯКОРЬ"
Как-то Олег сказал мпе:
— Вечером у нас соберется штаб. Мама, пускать в дом только тех, кто скажет пароль: «Якорь».
Штаб собрался в моей комнатке, хорошо изолированной.
Цришли Вапя Туркенич, Нина и Оля Иванцовы, задумчивая Уля Громова, непоседа Сережа Тюленин, весельчак и остряк Толя Попов, легко смущающийся Ваня Земнухов.
Был десятый час, но ребята знали тайные дорожки к нашему дому —полиция там не ходила. Я была занята своими делами, но ни на минуту не забывала об охране собрания и время от времени выглядывала в окно и прислушивалась к шуму со двора. Бабушка на этот раз пе дежурила. Ее не было дома.
Вдруг громко постучали в дверь. Я кинулась к окну и замерла. Полиция! Я быстро предупредила ребят, заперла их в комнате, ключ спрятала и открыла дверь в сени. Вошли полицейские. Один грубо спросил:
— Что делаешь?
— Топлю печь,— ответила я.
— Мы поставим к тебе на ночь румын. Слышишь?
— Хорошо. Пожалуйста.
Один из полицейских подошел к дверям моей комнаты, приказал мне:
325
— Открой!
Я обомлела, голос у меня отнялся. Я подумала: пропало все! Усилием воли взяла себя в руки и ответила:
— Там живет одна женщина, она вышла куда-то, а ключ упесла с собой. Пусть румыны,— продолжала я, понемногу успокаиваясь,— занимают вот эту комнату, а я у соседки переночую.
Полицейский что-то пробурчал, и они ушли. Румыны стали размещаться на отдых. Я пробралась к ребятам и попросила их как можно быстрее закончить заседание и разойтись. Олег ответил:
— Нам еще минут двадцать необходимо. Важные вопросы.
Я снова закрыла их на ключ.
Прошло полчаса, но ребята и не думали уходить.
Более того: зная, что полицейские ушли, а с румынами можно было не очень церемониться, ребята так увлеклись своими важными вопросами, что начали разговаривать во весь голос.
Вдруг полицейские пришли снова. Я прислонилась спиной к дверям, за которыми сидели ребята, и почти закричала:
— Пан полицейский! А где бы это соломы достать для солдат?
Кричу, а у самой потемнело в глазах, голова пошла кругом, сердце вот-вот разорвется.
К счастью, догадливые ребята услышали мой голос, поняли, в чем дело, и сразу же притихли. Вскоре все важные вопросы были благополучно решены, и штаб разошелся. Румыны храпели на разные голоса. Олег прижался к моему уху губами:
— Спасибо, золотая моя!
ПРИКАЗ —ЗАКОН
В конце сентября к нам на квартиру поместили немца, полковника фон Вельзена.
У него был радиоприемник, и он каждый день слушал передачи из Берлина. Всякий раз, выходя из дому, фон Вельзен обязательно поводит пальцем по шее, показывая этим, что будет Олегу, если он только попробует включить Москву.
326
— Москва — капут! — таращил глаза фон Вельзен, еще раз показывая себе на шею и вверх на потолок.
— Гут, гут,—послушно отвечал Олег.
Но только фон Вельзен выходил со двора, Олег тут же включал аппарат, слушал Москву и записывал сводки Информбюро. Наш радиоприемник тем временем «отдыхал»: Олег выкопал для него яму под полом в летней кухне.
Партия направляла смелые шаги «Молодой гвардии».
Была налажена связь с подпольными организациями других районов, а среди них — с представителем партизанского отряда области «товарищем Антоном», с которым молодогвардейцы еще в декабре 1942 года наладили связь через Любу Шевцову.
«Товарищ Антон» даже собирался проведать краснодонцев, но своего обещания ему не удалось выполнить.
Как-то Люба Шевцова привезла от «товарища Антона» письмо, которое подняло на ноги всю организацию.
Чтобы общими усилиями еще крепче бить врага, «товарищ Антон» предлагал молодогвардейцам влиться в партизанский отряд. Для этого следовало поделить ребят на две группы.
Первой группе пробраться к месту встречи 17 декабря, остальным — несколько позже.
Действовать в Краснодоне становилось все труднее и опаснее. Гестапо и разветвленная сеть его агентуры начинали сковывать действия молодогвардейцев. Подпольная организация разрослась, она не могла держаться в узких рамках подполья и требовала активной и открытой борьбы с оружием в руках.
Вот почему предложение «товарища Антона» для молодогвардейцев было очень кстати. Молодежь рвалась в бой.
В первую группу вошли: Олег, Ваня Туркенич, Люба Шевцова, Сергей Тюленин и еще двадцать человек; Земнухов и Громова должны были вести остальных ребят.
Но прежде чем тронуться в опасный путь, штаб на радостях решил обеспечить углем и дровами семьи всех молодогвардейцев. По полтонне угля и понемногу дров из старых шахт, как рассудили ребята, должно было вполне хватить не меньше чем на месяц, а там — придет Красная Армия. По радио из Москвы они знали, что немецкий фронт трещит по всем направлениям.
327
Но получить уголь при немцах было не так-то легко. При отходе наши взорвали все крупные действующие шахты. Не успевшие эвакуироваться шахтеры всячески саботировали добычу; немцы так и не дотянулись до донбасского угля.
И вот Олег куда-то бегал, хлопотал, хитрил и выдумывал, пока не добился наряда на уголь.
Как живого, вижу я сейчас перед собой своего Олега. На щеках — румянец, глаза, как звезды, горят. Он везет тачку с углем и распевает на всю улицу:
Кто весел, тот смеется,
Кто хочет, тот добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет...
Возили уголь все вместе, помогая один другому по трое на тачку. С Олегом были Сергей Тюленин и Степа Сафонов.
С дровами дела обстояли еще хуже, но Олег, Жора Арутю- нянц, Толя Лопухов, Сережа Тюленин и Сеня Остапенко и тут не растерялись. Они знали об одной мелкой шахтенке в степи. Уголь из нее добывали вручную.
Ребята решили сразу убить двух зайцев: выбить деревянные крепления, поделить их на дрова, а кстати и завалить шахту, на тот случай, если немцы захотят ее восстановить. За работу взялись с жаром, и хоть все вымазались и устали, но свое сделали: обеспечили семьи молодогвардейцев дровами и шахтен- ку окончательно вывели из строя.
На следующее утро ребята должны были двинуться в путь.:
Но вышло не так, как думалось. С раннего утра мы начали готовить Олега в дорогу. На душе у меня было тоскливо, я думала только об одном: чтобы здоровым вернулся сын, чтобы снова нам с ним встретиться и вместе встретить победу.
Такие же мысли, наверно, были и у бабушки Веры. Она все время тяжело вздыхала. Расставаться с Олегом было нелегко, закипали слезы на глазах, но ни я, ни бабушка не показали ему своего волнения. Хотели проводить сына бодрыми пожеланиями, а не слезами.
Семнадцатого декабря, в одиннадцать часов дня, собрались все, кто должен был идти в дорогу; не было одной Любы Шевцовой. Она вдруг почему-то задержалась. Но время еще было.
328
Условились выйти из дому в двенадцать часов, и пе толпой, а по пяти человек.
Первая пятерка должна была выйти в двенадцать, вторая — в час и так далее.
Олег оделся тепло: под куртку дядя Николай дал ему свою шерстяную гимнастерку, а на руки теплые рукавицы. С шапкой вышел конфуз: ее не нашли. Шапка была смушковая, теплая. Искали везде, но безрезультатно.
Вдруг вспомнили: недавно к нам заходили погреться фашистские солдаты. Шапка висела на вешалке, потом ее никто пе видел. Дело было ясное. Однако другой шапки у Олега пе имелось. Выручила Нина Иванцова. Сбегала домой и принесла шапку брата.
Наступало время отправляться в путь. У ребят было бодрое настроение, они шутили, то и дело выглядывали на улицу — не идет ли Люба Шевцова. Она должна была прийти с минуты на минуту. Но вот стрелка на часах передвинулась вправо от двенадцати. Вначале на пять минут, потом на десять, на пятнадцать... Почему задержалась Люба? Может, с нею что-нибудь случилось?
Ребята притихли, шутки прекратились, настала гнетущая тишина.
Вася Пирожок — отчаянная голова, крепкий, широкоплечий, с серыми бесстрашными глазами — сидел на стуле с малюсепь- ким свертком под мышкой. Это был весь его багаж в дальнюю дорогу. Сидел он на этот раз какой-то печальный, притихший, глядя в одну точку. Олег хлопнул Васю по плечу:
— Ты что скучаешь? С дивчиной своей, что ли, проститься не успел?
Вася вспыхнул и покосился на меня:
— Что ты, что ты, Олег! Какая там у меня дивчина!
Я тихо вышла в другую комнату, но все же мне было слышно, как Вася сказал Олегу:
— Ну что ты, право, Олег? О таких делах при Елене Николаевне?! Само собой... простился. А ты со своей?
Молчание, и потом тихие слова Олега:
— Не с кем мне прощаться. Все вместе отправляемся. Есть у меня дорогой друг, но и он вместе со мной идет.
329
— Кто?
— Ника Иванцова.
С Ниной Олега связывала теперь крепкая и нежная дружба. Общая подпольная судьба, дни, полные тревог и радостей борьбы, как-то сблизили их еще больше.
Так прождали мы до четырех часов дня. А в четыре прибежала Люба, запыхавшаяся и взволнованная; она передала Олегу письмо от «товарища Антона». Командир отряда предлагал поход отложить и продолжать работу на месте.
«Второго или третьего января буду я у вас, и мы поговорим, я посоветую вам много интересного для вашей работы»,— писал «товарищ Антон» в своем письме.
Все чувства сразу отразились па лицах ребят. Но приказ партии — закон.
Связь между пятерками осуществлялась шифрованной перепиской. Один из шифров, которыми пользовались подпольщики, маскировался под невинные листки из ученических тетрадок по арифметике, где вместо букв писались цифры. Например, вместо буквы А — цифра 1, вместо Б — цифра 2, вместо В — цифра 3, и так далее. Такое, например, указание штаба, как «переход отменяется», в шифрованной записке выглядело бы так:
(16 - 6) + (17 + 6) — (22 + 15 — 5) = 1 (15 + 19) - (13—6 + 14) + (32 - 6 - 19) + (18 + 32) = 70
В числе связных, занимавшихся доставкой шифровок, была Нина Иванцова. Она прятала записки за подкладку шапки, скалывала в локонах волос. Как-то, передав шифровку Ване Зем- нухову и Олегу, она взяла ее обратно и захотела спрятать.
— Это зачем?— спросил Ваня.
— Надо сохранить.
— Никаких следов не оставлять, все уничтожать сразу по прочтении.
Сколько пришлось уничтожить документов, записок, тетрадей, дневников, протоколов заседаний! Конечно, тогда это было необходимо, но теперь с болью думаешь: сколько вместе с ними исчезло живых подробностей, которые, на беду, не всегда может сохранить слабая человеческая память!
330
„ПОБЕДИТЕЛИ" ОТСТУПАЮТ
Во второй половине декабря 1942 года началось бегство немецких и румынских войск, разгромленных на Волге. День и ночь через Краснодон тянулись длинные обозы. Мы жили в центре и видели все.
Проходили сотни машин с грязными, растрепанными солдатами. Головы у них были закутаны в женские платки или какие-то тряпки.
— Не солдаты, а мокрые курицы! — как-то засмеялся Олег, посмотрев в окно.
Потом он подсел к столу и написал вот что:
Ага, подошли и к арийцам Тяжелые дни — это факт!
Бегут в беспорядке мальтийцы,
Одетые все кое-как.
Кто шапкой, кто кепкой накрытый,
Кто с женским платком па плечах,
Избиты, побиты, разбиты —
Согнулся ариец, зачах!
Ты что же, фашистик ты прусский,
Задумал весь мир покорить?
Народ наш прославленный русский В безличных рабов превратить?
Не вышло, не выйдет вовеки,
Вас били — и снова побьем!
Граиатой, «катюшей», «андрюшей»
Мы вас в порошок изотрем!
Олег прочитал эти стихи мне, дяде Коле, бабушке. Мы все весело посмеялись. А бабушка сказала:
— Ох, Олежек, я вижу, ты на все руки мастер!
Но молодогвардейцы, конечно, не были только наблюдателями отступления врага. Принятые и напечатанные ночью сводки Совинформбюро днем уже были расклеены на стенах и столбах в Краснодоне, в ближайших рабочих поселках и хуторах.
331
Немцы кричали в своих газетах и по радио, что никакого отступления нет, что их войска после победных боев на Волге идут на отдых, а сводки Информбюро говорили об окружении и разгроме немцев, приводили цифры, факты. Кому было верить? Уж ясно — пе врагам. Вшивые, с тряпьем на голове, бегущие наперегонки, немецкие солдаты не были похожи на победителей.
Фашисты объявили по городу о большой денежной награде тому, кто поймает распространителей таинственных листовок.
Не помогло и это: как будто в насмешку, листовки появлялись все в большем количестве. Их жадно читали, содержание их передавали из уст в уста, они бодрили, поддерживали настроение у измученных людей, помогали организовывать отпор врагу.
Враги бесились. Гестапо и полиция никак не могли напасть па след ребят. Единственное, что было в их силах,— это жестоко расправляться с арестованными. Им-то фашисты и мстили за свое поражение па фронте: зверски мучили, убивали, грабили.
Выглядело это так: немцы на машинах подъезжали к какому-нибудь дому, выбирая тот, где можно было больше взять, врывались в комнаты и самих хозяев заставляли перетаскивать вещи в машины. Забирали все, оставались одни голые стены.
Некоторые женщины плакали, умоляя хоть что-нибудь оставить для ребятишек, другие покорно молчали. И тех и других фашисты избивали кулаками или нагайками. Не щадили ни стариков, пи детей.
Все паграбленное делили меж собой жандармские офицеры, потом укладывали в посылки и отправляли в Германию.
А в это время штаб борьбы и сопротивления не прекращал работу. Каждый день приходили ребята — отчитываться штабу о выполнении боевых заданий и получать новые.
Из поселка Краснодон пришли Коля Сумской и Саша Ши- щенко и с жаром рассказали, что 22 декабря они обезоружили и убили трех немецких солдат. Из Изварина и Герасимовки явились ребята просить оружия... Все нетерпеливее ждали ребята того дня, когда от тайной борьбы можно будет перейти к открытому вооруженному выступлению...
332
„РАЗВЕ МОЖНО ТАКИХ РЕБЯТ НЕ ЛЮБИТЬ?"
Олег часто говорил:
— С нашими ребятами не страшно ни в огонь, ни в воду! Только подумайте: сколько заданий штаб ни давал — да и каких! — и все выполнены. Прямо удивительно все складывается!
Разволнуется Олег, начнет припоминать лучшие черты в характере своих товарищей и до тех пор не успокоится, пока и мы не разделим его восторг.
Или подойдет ко мне, заглянет в глаза:
— Я все время думаю: наверно, мы еще очень мало сделали* а? Прямо не спится от этих мыслей.
Отойдет от меня, тихо сядет к столу и начнет быстро-быстро писать. Я уж знала — стихи.
Я любила смотреть на сына, когда он писал стихи. Лицо у него бывало в это время такое, как будто он разговаривал с кем-то далеким и совсем не замечал нас.
Трогательна была дружба, с которой молодогвардейцы протянули друг другу руки на смерть и победу. Она была прекрасна.
Пусть комсомольская эта дружба послужит примером для наших пионеров, для всей нашей молодежи. И пусть знает наша молодежь: дружба сама собой не приходит, право на нее нужно завоевать.
Однажды, возвращаясь поздней ночью тайными тропинками с конспиративной сходки у Нины Иванцовой, Олег вдруг прижался к забору и замер: за ним следили.
Было отчетливо слышно, как снег скрипел под ногами преследователей. Как только Олег остановился, затихли и те. Бежать такой.светлой ночыо было бессмысленно. Оставалось одно: идти своей дорогой. Олег тронулся, и сейчас же раздался скрип снега у него за спипой. Олег нагнулся, будто бы завязать ботинок. Шаги позади стихли.
Но Олег уже успел разглядеть темные фигуры преследователей меж домами.
«Пойду к ним навстречу,— решил Олег.— В крайнем случае, отсижу ночь в полиции. Иначе проследят до дому».
Он круто обернулся и пошел назад. Видя, что они раскрыты,
334
преследователи ждали, когда Олег подойдет. Руки у них были в карманах. И вдруг...
— Толя!
Это был Толя Попов, а с ним — Сеня Остапенко и Володя Осъмухин. Они молча стояли и неловко улыбались.
— Ребята, вы?! Вот не ожидал... Зачем идете за мной? — спросил удивленный Олег.
Толя ответил, не вынимая руки из кармана — там был наган:
— «Зачем, зачем»... Стало быть, так нужно, раз идем. Ну, мало ли что может случиться...
С гордостью рассказывал мне об этом Олег. Он сжал кулаки и тряхнул головой:
— Разве можно таких ребят не любить? Как же можно с ними не верить в победу? Мама, знай: я у них в долгу не останусь. За все отплачу!
Вскоре такой случай представился.
Как-то раз я пошла за водой к водонапорной колонке. Вижу, навстречу идет Олег с Васей Левашовым. Был морозец, медленно падал снежок. Щеки ребят раскраснелись, снежинки облепили их воротники, шапки. Они улыбались мне.
Я тогда подумала: какие они славные и красивые, наши дети!
Олег предупредил меня, что сегодня у Нины Иванцовой будет совещание — очень важные вопросы, закончат поздно. Все заночуют на квартире у Нины. Я подавила вздох. Опять ночь без сна, в тревоге. Улыбнулась им, и мы простились.
По дороге к Нине Олег и Вася зашли за Володей Осьмухи- ным и Сережей Левашовым. Дальше они пошли вместе.
Вечерело. Снег падал все гуще. Как раз в это время через Краснодон гитлеровцы гнали партию военнопленных. Место ночной стоянки в Краснодоне немцы быстро обнесли колючей проволокой, поставили часовых.
Ребята в темноте сначала натолкнулись на эту проволоку, а затем услышали окрик немецкого часового:
— Стой!
Коверкая русские слова, немец приказал ребятам войти под проволоку, подождать коменданта. Утром, мол, все выяснится: кто они такие и зачем бродят около лагеря. Это было равносиль¬
335
но смерти. Конечно, утром бы ребят не выпустили и погнали бы вместе с военнопленными.
Времени терять было нельзя. Не успел немец закрыть ротг как Олег ударом кулака в скулу оглушил его. Володя Осьмухин и Сережа Левашов навалились на него, схватили за горло. Винтовка выпала из рук фашиста. Вася Левашов подхватил эту винтовку и с размаху всадил штык...
Все это было совершено мгновенно и без единого крика. Ребята пустились наутек. Стоит ли говорить, что винтовку они прихватили с собой! Через полминуты они услышали выстрелы и крики немцев. Ребята спрятали винтовку в подвал, и снег замел их следы.
Как ни в чем не бывало они вовремя явились на совещание. Никто в тот вечер так и не узнал, что произошло возле колючей проволоки.
Совещание и на самом деле кончилось поздно. Мать Нины уложила ребят на лавках, на полу. Олега и Сережу Тюленина уложила на своей кровати. Долго шептались друзья.
СЕРЕЖА ВЫХОДИТ ИЗ „ОКРУЖЕНИЯ"
Теперь и слепому было видно: немцам крепко досталось от Красной Армии. Скорый разгром их был неизбежен. Но, несмотря на эту великую радость, молодогвардейцы не размагничивались, не ослабляли своей дисциплины.
Как и раньше, когда враг был еще в полной силе, так и теперь всеми строго соблюдалась боевая дисциплина. И тут, как и во всем, ребята старались подражать Красной Армии.
Боец, вернувшийся с боевого задания, рапортовал Олегу или членам штаба по всем правилам: стоял на вытяжку, с рукой у шапки. И с такой же степенной важностью члены штаба принимали эти рапорты.
Как пригодились тут ребятам виденные ими кинокартины и прочитанные книги о героях гражданской войны! Боевая романтика, знакомая ребятам по рассказам, картинам и книгам, теперь воплотилась для них в суровую действительность, и ре¬
336
бята сами, неожиданно для себя, стали героями. Как же им было не подражать лучшим людям нашей Родины!
Но однажды вся эта выверенная ребятами на практике дисциплина дала явную трещину, и причиной этого явился неугомонный Сережа Тюленин.
Вот как это произошло.
Выполнив приказ штаба перенести из Первомайки на склад оружия ручные гранаты, Сережа завернул их в мешок и явился к нам на квартиру.
— Четыре гранаты оставь у меня,— сказал Олег.— Скоро нужны будут. Остальные отнеси на склад. Да, смотри, осторожнее! Видишь, какое движение вражеских войск? Всыпала им Красная Армия! Теперь они, как собаки, злы. Смотри не подкачай!
— Есть! — по-военному ответил Сережа.— Я ж все тайные тропинки знаю.
И, нахлобучив свою шапчонку, он исчез с гранатами под мышкой.
Вскоре и Олег оделся и вышел на улицу. И вот, проходя по Садовой улице, по которой бесконечным потоком двигались отступающие румынские и итальянские части, повозки, конные и пешие, Олег вдруг остолбенел. Из-под самых копыт лошадей, со связкой гранат в мешке, который он держал под мышкой, вынырнул... Сережа Тюленин. Быстро поглядел по сторонам и опять, как в воду, нырнул в самую гущу неприятеля.
У Олега забилось сердце.
«Провалился Сережа,— подумал он,— за ним гонятся».
Но тут Олег снова увидел Сережу по ту сторону улицы. Он выскочил из-под ног лошадей, пробежал шагов пять и опять поднырнул под румынскую повозку.
«Конец,—подумал в тоске Олег,— сейчас его схватят!»
Но Сережа вдруг появился на обочине дороги; гранаты были с ним. Он лихо поправил свою шапчонку и... спокойно свернул в сторону, чтобы пойти тайной тропой. Олег вытер холодный пот со лба.
Часа через два сын был дома, а вскоре явился и Сережа, без гранат, запыхавшийся и, как всегда, почему-то очень смущающийся в нашем доме.
Библиотека пионера. Том II 337
Был он одет в свой обычный стеганый ватник, довольно засаленный и видавший всякие виды, в шапку-ушанку неизвестного меха и неопределенного цвета, в стеганые бурки, на которых, подвязанные шпагатом, держались поношенные галоши.
Но, не обращая особого внимания на такой глубоко штатский вид, Сережа со всей строгостью военной дисциплины и выправкой старого солдата стукнул галошами, как каблуками сапог, и, приложив руку к шапке, четко и в полный голос отрапортовал:
— Задание выполнено, товарищ комиссар. Гранаты доставлены на место. Все в порядке!
Олег, еле сдерживая смех, так же строго принял рапорт.
Официальная часть была выполнена.
— Садись,— сказал Олег.
Сережа снял ушанку и, комкая ее в руках, уселся на кончик стула. От его бурок на полу образовалась лужица воды. Лицо его, как всегда, было бледновато, но чистые глаза сияли — боевая задача была выполнепа.
— Молодцом, Сережа! — сказал Олег.— Но скажи, пожалуйста, каким образом ты попал на центральную улицу? Такого приказа не было. И зачем это ты под лошадей подныривал?
Сережа смутился:
— Да это я... репетицию делал.
— Репетицию? Какую же?
— А я репетировал, как мне пришлось бы выйти из положения, если бы я попал... в окружение.
Ага! Понятно теперь.
— Вот, вот!
— Ну, и вышел из окружения?
— А как же! — хитро подмигнул Сережа.
И тут они оба залились смехом.
Немного погодя Олег, однако, сказал ему:
— Ты рисковал напрасно, Сережа. Шел ты с боевым поручением. Только о нем и должен был думать. В следующий раз чтоб этого не было. Понятно?
— Есть, товарищ комиссар!
Сережа вскочил, надел ушанку и, опять стукнув галошами, взял под козырек. Но в бедовых глазах его плясали чертенята.
338
новый год
Приближался конец декабря.
Олегу некогда было поесть и отдохнуть. К своим любимым шахматам он уж и не притрагивался. Похудел, осунулся. Все чаще он ночевал не дома. Ради конспирации ребята собирались на заседания штаба по очереди у кого-либо из товарищей на окраине города: у Валерии Борц или у Радика Юркина, у Жоры Арутюнянца, у Нины Иванцовой.
Ночи, когда сын не приходил домой, были для нас всех тяжелыми, наполненными тревогой. Я не спала, в голову лезли страшные мысли, нападало отчаяние.
Мы пробовали говорить с Олегом, просили его беречь себя, отдохнуть, но Олег сводил все наши разговоры на шутку:
— Отдыхать будем, когда фашистов прогоним. Я, мама, тогда учиться пойду, закончу институт, стану инженером и сконструирую такой самолет!..— Олег подходил к бабушке, обнимал ее за плечи.— Такой самолет, что и тебе, бабушка, захочется полетать на нем!
Перед Новым годом немцы везли на фронт подарки для своих солдат. Проезжая через Краснодон, огромная семитонная машина вдруг испортилась и остановилась на Клубной улице.
Последовал немедленный приказ штаба: «Подарки пе должны попасть на фронт к немцам. Они нам самим пригодятся».
Глухой ночыо ребята сняли часового и быстро разгрузили машину. Кроме подарков, там были еще четыре винтовки и цепные документы. Все это богатство на санках перевезли сначала на квартиру к Лопухову, а потом на свой склад, в баню.
Как всполошились утром немцы!
Полиция кинулась по домам с обысками, переворачивали все вверх ногами. Напрасно! Новогодние подарки так и не попали к фрицам.
Вскоре же штабу «Молодой гвардии» стало известно, что директор дирекциона (управление треста) Швейде готовпт встречу Нового года.
Швейде хвастался, что он покажет русским, как следует по-немецки культурно веселиться. Чтобы доказать, что немцы
339
не скупые и любят шик, Швейде приказал гнать самогон, готовить закуски, печь пироги.
На бал должно было собраться все немецкое начальство, офицеры гестапо и жандармерии Краснодона и его районов. Были приглашены и те, кто предал Родину и пресмыкался перед врагами. Праздник должен был состояться в школе № 1 имени Горького.
Молодогвардейцы заволновались. Олег предложил взорвать ядовитое гнездо во время новогодних тостов. Вопрос был серьезный. Штаб собрался на совещание.
Вечером сошлись у нас в столовой. Был весь штаб и связные. Неверный свет каганца освещал взволнованные, похудевшие лица юных борцов. Как возмужали эти лица! Зашел разговор о школе имени Горького...
Олег настойчиво требовал взорвать школу. Сережа Тюленин вскочил со своего места и встал около стула Олега.
— Ребята!—продолжал Олег, подчеркивая каждое слово; лицо его было бледно, глаза казались еще больше из-за худобы лица и жестко блестели.— Ребята, подумайте сами: когда еще представится нам такой случай? А теперь мы сможем одним ударом уничтожить всех палачей, а вместе с подхалимами их соберется на бал не менее ста человек. Столы будут стоять в спортивном зале. Это же наша школа, ребята! Нам там все закоулки известны. Под лестницу заложим побольше взрывчатки — и к черту фрицев! Подумайте: одним ударом всех!
Я видела, как вспыхнули глаза Нины Иванцовой, обычно спокойной и выдержанной. Она всем сердцем была за предложение Олега. Начался горячий спор. За Олега были Тюленин, оп прямо-таки не стоял на месте, Туркенич, Попов, Валя Борц — опа просила послать на взрыв школы и ее.
Но большинство было против. Кто-то сказал:
— Это неразумно. Мы подведем под смерть все население Краснодона. Враги жестоко отомстят за взрыв.
И еще говорили об осторожности, о том, что лучше подождать. Олег протестовал. Это первое разногласие с товарищами угнетало его, но и заставило его говорить жарче, убеждать, доказывать. И он говорил, резко взмахивая рукой:
— Фашист не опасен только мертвый. Не мы ли сами гово¬
340
рили: кровь за кровь, смерть за смерть? Так чего же мы спорим? Смерть им — везде, всегда! Школа наша, ребята, имени Горького, так? А что он говорил? Если враг не сдается, его уничтожают! Фашисты, конечно, отомстят нам за взрыв, но все равно народу погибнет меньше, чем при жизни этих палачей. Взрыв необходим! Да поймите же это, товарищи! Если не теперь, когда же?
Не решив единогласно этого вопроса, штаб послал Олю Иванцову в партизанский отряд, к командиру «Даниле» за советом. Но дерзкое дело не нашло поддержки и у партизан. Командир «Данила» запретил взрывать дирекцион.
«Сейчас не такое время, чтобы этим заниматься,— писал он молодогвардейцам.— В конце концов, сделать это вы всегда успеете».
Этот ответ опечалил Олега.
— Напрасно, ребята, напрасно! — говорил он с какой-то тоской, но твердо.— Пожалеем потом, да поздно будет.
Но потом Олег долго шептался о чем-то с Сережей Тюлени- ным и Толей Поповым. Позднее я заметила, что шепчется с ними и Пирожок, слышала слова: «Дирекцион... лестница... билеты достанем... пройдем...»
И Вася Пирожок уверенно шевелил своими сильными плечами.
Ребята решили листовками досадить тем, кто соберется в Краснодоне на новогодний бал.
Был составлен такой текст листовки:
«Смерть вам, немецкие оккупанты, и вам, их лакеи и изменники! Заверяем вас, что вы в последний раз встречаете у нас Новый год! И не только у нас, но и на всем свете. Больше вам не придется поднимать тост за «освобождение России». Сначала вас самих освободят от жизни. Красная Армия скоро уж сотрет вас с лица земли».
Эти листовки до девяти часов вечера 31 декабря были расклеены по городу и на здании школы. Враги буквально осатанели.
После девяти часов Олег возвратился домой. И тут мы решили сами, своей семьей, проводить старый и встретить Новый год. Стали готовиться к празднику. Олег надел чистую, выгла¬
341
женную рубашку. Завязывая перед зеркалом свой любимый галстук, он сказал нам:
— Давайте сегодня ни одним словом не вспоминать про этих фашистских дьяволов. Хорошо? Они у меня уже в печенках сидят! А тебе, бабушка, мы всей семьей заказываем такой ужин: суп с пшеном, вареники с картошкой, на десерт — жареные семечки. Есть?
Вечером Олег завел патефон и в паре с дядей Николаем открыл «вечер танцев». Потом взял на руки маленького двоюродного брата Валерия и начал с ним кружиться, а под конец пошел танцевать со мной.
Олег, как большинство его сверстников^ и прежде очень любил танцы. Танцевал он хорошо, легко. Девушкам нравилось танцевать с сыном. Он и меня научил танцам.
В этот памятный вечер мы опять кружились с ним под его любимое танго «Моя недотрога». И он оживленно напевал слова танца.
Вечер закончился игрой в шахматы. Олег выиграл у дяди Николая партию и заставил его кукарекать.
Всем было весело. О немцах, как условились, не вспомнили ни разу, но они сами все время напоминали о себе.
По дороге с востока, разбитые на Волге, беспрестанно тащились мимо нашего дома их обозы, были слышны с улицы стук колес и машин, хриплая ругань отступающих немцев.
Стоял крепкий русский мороз. Снег был глубок...
„ПУТЬ ТВОЙ ОПАСЕН"
Утром 1 января 1943 года Олег, как обычно, собрался после завтрака из дому.
На дворе трещал тридцатиградусный мороз, все было в инее, как в серебре. Я попросила Олега одеться потеплее.
Через два часа сын возвратился. Печаль, тяжелая и гнетущая, застыла в его недавно веселых глазах. Сердце мое сжалось тревогой. Олег растерянно повел глазами по комнате и остановил их на мне:
342
— Беда, мама! Нашу организацию кто-то предал...
Вот оно! Снег вдруг показался мне черным. Чтобы не упасть, я прислонилась к двери:
— Предатель среди вас?!
Олег сжал кулаки. Морщина на его лбу резко обозначилась.
— Не знаю, мама, начались уже аресты. Ровенецкая полиция прибыла тоже. Сейчас повели Земнухова. Пока не поздно, надо спасать остальных. Мама, а Сережа-то Тюленин вот герой! — слабо улыбнулся Олег.— Он первый узнал об аресте и всех ребят обежал, всех предостерег...
Молодогвардейцам был дан приказ немедленно выходить группами по три-четыре человека в условленные места и оттуда пробираться на соединение с партизанским отрядом.
— Как только удастся соединиться с партизанами, сейчас же бросимся на выручку товарищам. Во что бы то ни стало освободим их из тюрьмы! А пока что, мама, в дорогу! С собой я беру пятерку: Тюленина, Борц, Нину и Олю Иванцовых. Да ты не бойся, не бойся, родная моя!
Что было делать? Плакать, биться головой об стену? Не до этого мне было. Скорей, скорей, пока не явилась полиция, проводить сына из дому! Только быстрее, быстрее! — подгоняло меня сердце.— Не теряй ни минуты!
Я начала собирать Олега в дорогу. Вот теплое белье, одежда. И тут увидела: Олег достает свой комсомольский билет:
— Я возьму его с собой.
— Не надо, сынок! Если тебя поймают, билет тебя погубит. Я спрячу билет так, что его никто, кроме нас с тобой, не достанет. Олег!
Он ответил мне:
— Мама, я всю жизнь слушался тебя и всегда был благодарен за твои советы. Сейчас, прошу тебя, послушай ты меня. Подумай сама, какой из меня будет комсомолец, если я оставлю свой билет дома? Неизвестно ведь, что ждет меня впереди. Мама, с этим покончено... Ну, бабушка,— по-детски улыбнулся Олег,— ты зашивала когда-то свой партбилет. Значит, опыт у тебя есть. Бабуся, зашей, будь добра, и мой, хорошо? Вот сюда, в пальто. Бланки комсомольских временных билетов я тоже возьму с собой. Это — обязательно!
343
У меня опустились руки. Я умоляюще посмотрела на бабушку. Она поняла.
— Олежек,— сказала бабушка,— я стара, и ты послушай меня. Путь твой опасен. Ничего не бери с собой. Кто тебе верил, что ты комсомолец,— будет верить всегда. Вернешься — возьмешь свой билет и бланки эти... Мы их тут так спрячем — сам Гитлер не найдет. Давай-ка все сюда...
— Нет! — отрубил Олег.— Нет и нет! И давайте об этом больше не говорить...
Дрожащими пальцами мама зашила билет в пальто Олега. Несколько бланков комсомольских удостоверений Олег зашил в пальто сам.
Настало время прощаться. Бабушка подошла к Олегу, положила ему руки на плечи:
— Олежек... если поймают тебя и полиция станет говорить, что твоя мать, или бабушка, или дядя Николай арестованы и что они, мол, признались во всем,— не верь, ни одному слову катов не верь!
И бабушка заплакала. Олег крепко обнял ее.
— Мама,— сказал он мне,— сожги все бумаги, дневники, тетради с протоколами заседаний... ну и... стихи. Пересмотри все книжки — может, в них остались какие-нибудь записки. Не хочу вас подводить... Бабушка, приемник отнеси и спрячь получше. Он еще пригодится нам. Да смотри осторожно все сделай! Попадешься с приемником в лапы к немцам — знаешь что будет?.. Ну, мама...
Сердце мое остановилось. Уходит сын, единственная надежда... Хотелось прижать его к груди и не пустить от себя. Все, все заглушила я в себе, обняла, поцеловала сына, почувствовала на губах его мягкие волосы.
— До свиданья, Олег! Да берегись же там...
Зато, когда мы остались одни, наплакалась и нарыдалась сколько хотела...
Со своей пятеркой Олег пошел на хутор Шевыревку, за семь километров от Краснодона. Переночевали у знакомых. Утром, перед тем как отправиться дальше, выяснилось, что у Сергея Тюленина обувь совершенно сваливается с ног. А мороз все крепчал. Сергей и Валерия возвратились назад. В Краснодоне
344
они пробрались в свой подвал. Сергей обул сапоги, и они снова пошли на Шевыревку.
Но в условленном месте, у скирды сена, уже не застали никого.
Только снег был тут притоптан. Ждали до вечера. Потом, не дождавшись товарищей, пошли одни. Но и тут их постигла неудача — они не нашли «Данилу». Оставалось одно разумное: пробираться к линии фронта; он был в ста двадцати километрах от Краснодона.
„ОЛЕГ, ГДЕ ТЫ?"
Первого января к вечеру была арестована уже половина молодогвардейцев. Этот день Нового года тянулся для нас, как вечность. Около десяти часов вечера к нам постучали.
«Пришли!» —подумал каждый из нас.
Брат открыл дверь. В комнату вошли двое полицейских. Они были настолько пьяны, что мы едва разобрали только одно слово:
— Ко-шовой...
Полицейские спрашивали об Олеге. Мы ответили, что дома его нет, пошел в кино. Не сказав больше ни слова, полицейские повернулись и, пошатываясь, пошли по двору.
В невыразимой тревоге прошло еще четыре дня.
Полиция больше не являлась. И мне вдруг пришла страшная мысль: Олега поймали! Я хотела бежать в полицию, но брат не пустил и стал убеждать:
— Будь покойна, если бы Олега арестовали, давно бы уже пришли с обыском!
Четвертого января под вечер брат с женой ушли за дровами, а мы с мамой отправились к Лидии Макаровне Поповой — поделиться с ней своим горем. Возвращались домой. Вдруг бабушка схватила меня за руку:
— Смотри, Лена!
В моей комнате был свет и полно полицейских. Стояли опи и .во дворе. Я переборола страх и опасения, подошла к дверям, спокойно и даже стараясь быть возмущенной спросила:
345
— Кто это тут в моей квартире хозяйничает? Что вам здесь пужно?
Из комнаты выскочил заместитель начальника полиции Захаров.
Это был изменник Родины, предатель, изувер и жестокий палач. Его отец был судим когда-то нами как крупный кулак. Сын пошел еще дальше отца. Он ненавидел Советскую власть, но, чуя ее силу, притворился, служил в наших учреждениях, а нож держал за пазухой. И только ждал случая, чтобы его выхватить. Как только пришли немцы, Захаров сейчас же побежал к ним служить, стал выдавать коммунистов, сам же и допрашивал их, мучил и убивал. Здоровый, сытый, белобрысый, со светлыми холодными глазами, верный слуга фашистов, предатель своего народа, оп был отвратителен.
— А ты кто такая? — грубо спросил у меня Захаров.
— Я хозяйка этого дома.
— Как твоя фамилия?
— Кошевая.
— A-а, Кошевая! Тогда скажи, где же твой сын Олег Кошевой? Куда ты его девала?
— Сын пошел в кино, и прошу вас, не кричите на меня.
Захаров заговорил со мной более спокойным тоном. Он даже
пригласил меня в комнату.
— Зайдите-ка, поговорим кое о чем важном.
В комнате все было перерыто, перевернуто вверх дном. Взломав двери, полицейские старательно пересмотрели все вещи. К счастью, ожидая к себе этих гостей, я сожгла уже все подозрительное. Захаров снова спросил об Олеге:
— Я хочу только поговорить с юношей. Если окажется, что он невиновен, нлп... если он во всем признается, сразу его отпустим. Поверьте мне!
Я спросила:
— А что случилось, что вы пришли за Олегом? Арестовать его хотите, что ли? Мой сын никогда ничего плохого не делал.
— Не делал? — начал терять выдержку Захаров.— Значит, вы плохая мать, если не знаете, что ваш сын вытворял здесь в продолжение шести месяцев! — И вдруг в упор спросил ме- пя: — Вы... Мошкова знаете?
346
— Нет, не знаю,— ответила я как можно спокойнее.
— Не знаете? Так он знает вашего сына и даже привел нас сюда. Хотите увидеть его? Мошков стоит на крыльце. Очень забывчивый парень! Никак не мог вспомнить, где живет его комиссар... пока не обломали ему руки. Тогда сразу вспомнил!
Все онемело во мне. Мошков — предатель? Нет, пет! Он был и до конца останется честным, стойким. В этом я была уверена. В то, что полицейские обломали ему руки, я, конечно, могла поверить, но чтобы Мошков предал Олега, своих... нет, никогда! И я вспомнила, как мы с бабушкой сами же предупреждали Олега о провокации.
— Ну ладно! Только знайте,— холодно блеснули свиные глазки Захарова,— если ваш сын будет вести себя так же, как его друзья, ему будет то же, что и им. Переломаем ему все кости. Вы поняли меня?
Захаров приказал полицейским разойтись по своим местам, а двум остаться ожидать, пока Олег возвратится из кино.
В душе я издевалась над этими головорезами: я была уверена, что мой Олег уже далеко отсюда. Видно, он успел уже спрятаться, а может быть, и перешел линию фронта.
Наступила тревожная, без сна, ночь. Утром полицейских сменили новые, а тех — снова другие. Трое суток просидели они в нашей квартире, ожидая возвращения Олега.
На четвертый день меня вызвали в полицию. Я попала к следователю Кулешеву, такому же выродку, как и Захаров. Он со злобой сказал мне:
— Ну, запрятала сынка? Так садись за него сама! А то какая ты мать, если не знаешь, где твой сын?
— Я говорю правду,— ответила я.— Не знаю, куда пошел мой сын.
Кулешев стукнул кулаком по столу, вскочил:
— Нужно и тебя повесить вместе с твоим сыном! Слушай же! Твой сын организовал банду, занимался диверсией, убивал представителей немецкой власти...
Помертвевшая, слушала я Кулешева. Оп знал все: и о работе Олега в «Молодой гвардии», и о немецких машинах с подарками, и о листовках, и об организации комсомола. Вдруг он поднес к моим глазам комсомольский билет:
347
— Чья это подпись, ну?!
Это была подпись Олега: Кашук.
— Не знаю. Почерк не моего сына, да и фамилия не та: Кашук. Мой сын — Кошевой.
Кулешев опять начал кричать на меня, стучал кулаком по столу, сыпал угрозами. Вошел начальник полиции Соликовский. Он зверем взглянул на меня, сквозь зубы прошипел:
— Глупой прикидываешься? Почерка не узнаешь? Может, теперь узнаешь?
И он изо всей силы ударил меня кулаком в лицо...
Когда я пришла в себя, мой платок был весь в крови. Меня вывели в коридор:
— Сиди здесь, жди своего сынка!
Коридор был закопченный, грязный, холодный и еле освещен. Я слышала стоны и крики избиваемых. Думала: «Кто это кричит? Не наши ли?»
Вдруг в комнате у следователей громко заиграл патефон. Чтоб не слышны были крики, немцы заглушали их веселой музыкой. Сердце мое превратилось в кусок угля...
Я видела, как провели Ваню Земпухова и Улю Громову, и чуть не закричала — настолько они были оба избиты. Как я пожалела, что сидела в углу и они не могли меня видеть!
В одной из женщин, избитой и обезображенной, с распухшим, почерневшим лицом, я едва узнала Соколову. Потом мне стало известно, что в те дни были арестованы коммунисты Лютиков, Бараков, Мария Дымченко и другие. Подполье, так хорошо налаженное, было разгромлено.
Потом провели других. Еще и еще. Люди уходили от следователя с черными от кровоподтеков и синяков лицами. Вводили других. И опять крики, стоны, глухие удары...
Выпустили меня только утром. Кулешев — от него пахло водкой — сказал мне:
— Даю тебе три дня, чтобы ты разыскала и привела сюда сына, Иначе — пуля. Иди!
Я еле дошла домой. А там уже сидели двое полицейских, поджидали сына.
Олег, где ты?
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
Ох, какие это были страшные дни и ночи!
Мы молча сидели под окном, выглядывали на улицу, не спали ночами, прислушивались к малейшему шороху, вздрагивали, когда нам чудились чьи-то шаги около дома. Вдруг постучит в окно Олег, голодный, замерзший, а к нему вместо матери выйдет полицейский...
Однажды я сидела под окном. На солнце морозный снег сверкал ослепительно. И вдруг мне словно игла в сердце вошла. По улице мимо нашего дома под конвоем вели Олега. Вот проходят под окнами. Ну да! Его пальто с коричневым воротником, его походка. Но почему сын не взглянул на родной дом?
Не выдавая своего волнения, я спокойно вышла из дому и только на улице побежала, догнала арестованного. Нет, не он...
А тут еще пьяные полицейские разговаривали меж собой о пытках в гестаповских застенках. Волосы вставали дыбом от ужаса.
Как-то к нам зашел полицейский. В борт пиджака у пего было вколото несколько больших иголок. Другой полицейский спросил:
— Слушай, это зачем же у тебя столько иголок? В портпые записался?
— Нет, это для допроса. От таких штук языки сразу развязываются. Иначе напрасный труд — говорить с этими молокососами. Кричишь на них, грозишь, бьешь — молчат. А как только запустишь вот эти иголочки под ноготь, да поглубже,— ой- ой-ой, такой крик поднимают, даже весело становится!
Когда немцам не удалось схватить Валю Борц, они посадили в тюрьму ее мать и десятилетнюю сестру Вали — Люсю.
Люся была пионеркой, и она до конца осталась верна той присяге, которую давала, вступая в пионерскую организацию.
Люся не раз видела товарищей старшей сестры и знала, что они собираются вместе писать листовки против немцев и потом расклеивать их.
Девочке сказали в тюрьме:
S49
— Ты знаешь, кто у вас из ребят бывал. Скажи — кто, назови фамилии. Ответишь правду — подарок получишь и сейчас же домой отпустим. Ну? Говори!
То, что произошло потом, я узнала из разговоров двух полицейских — Шурки Давыденко и Митьки Бауткина,— когда они сидели у нас в засаде поздно ночью.
Люся спокойно ответила, что к ее сестре никто не ходил и что никаких подарков ей не нужно.
— «Я, говорит, свою сестру люблю», и все тут,— рассказывал Бауткин.— Стоит и смотрит прямо в глаза Соликовскому. Как же, пионерка! Соликовский так и опешил. Да и все мы ожидали, что девчонка со страху все расскажет, расчет на нее особый был. Еще спрашивает, на испуг берет — молчит. Тогда Соликовский показывает ей на петлю, даже на шею ей накинул — молчит. Р-р-раз! — и к потолку. Держит за веревку Со- ликовский; теперь-то уж, мол, расскажет пионерка о своих. И ты знаешь: ни звука. Глядим — задыхается. Вынули из петли, йодой из ведра окатили: говори! Суток пять в тюрьме продержали, так ни с чем ее и выпустили...
Я хорошо знала Люсю. Это была обыкновенная девочка — пйоиерка с красным галстуком, каких сотни тысяч. Но, когда и ей пришлось постоять за дело народа, не дрогнуло маленькое мужественное сердце.
Как пи трудно мне было тогда, но, слушая рассказ палачей о стойкости маленькой Люси-пионерки, я чувствовала, как светлей становится на душе и как растут бодрость и надежда. Не сломить фашистам наших детей!
Так прошло десять дней. Я ждала. И все росла надежда.
Я уже совсем решила, что Олег со своими друзьями где-то далеко, и понемногу начинала успокаиваться за него. Но это был только временный отдых.
Беда не отходила от нас, она лишь выжидала своего часа.
Одиннадцатого января утром пришла полиция за' моим братом. Дядя Николай ждал непрошеных гостей и успел спрятаться в погреб под полом моей комнаты.
Посидев часа два над головой брата, полицейские ушли. Мы им сказали, что брат пошел к часовых дел мастеру и должен скоро возвратиться. Уходя, полицейские пригрозили:
350
— Пусть не прячется Коростылев, слышите? Не то хуже ему будет!
Брат под полом все слышал:
Вечером они снова пришли. Брат только что хотел выбраться из погреба, надеясь темной ночью уйти куда-нибудь из дому. Полицейские снова уселись над его головой:
— Подождем тут, пока Коростылев придет. Что-то долго оп часы чинит.
В это время зашла к нам Лидия Макаровна Попова. Увидев полицейских в комнате, она поняла, что это засада. Она попросила дать ей ведро. Когда я вышла в кухню, она шепнула мне:
— Олег пришел. Сидит у меня...
Как во сне, я начала одеваться. Полицейские увидели:
— Нельзя! Никому не выходить из дому!
Вырвалась я только, когда они, посидев еще часа два, ушли. И опять с угрозами:
— Ну вот что: возвратится Коростылев — пусть сейчас же идет в полицию, не то мы всех вас потянем за пего. Ясно?
У Поповой я увидела Олега на кухне. Он сидел босой, и Лидия Макаровна смазывала ему вазелином отмороженные пальцы; они были красные, распухшие, страшные. Я кинулась к нему:
— Сыночек мой, зачем ты снова сюда возвратился? Разве ты не знаешь, что здесь делается?
И я начала было рассказывать, что произошло в Краснодоне, но Олег устало сказал:
— Мама, я знаю все...
Пока он обувался, Лидия Макаровна рассказала:
— Слышу, вдруг кто-то стучит в дверь. «Заходите»,—говорю. И вот открывается дверь, вижу — входит какой-то человек, поздоровался и остановился у двери. «Что вам нужно?» — спрашиваю. А он: «Лидия Макаровна, не узнаете меня? Я партизан. Меня преследуют. Я в вашей власти теперь. Можете спрятать меня, а можете...» Я не дала ему договорить, кинулась целовать. Помогла ему раздеться, усадила поесть, а сама — к вам... Ну, беседуйте.
И Лидия Макаровна вышла.
351
Невесел был рассказ Олега. За эти десять дней много узнал он горя и страданий.
Со своей пятеркой он был почти у линии фронта, но пробраться к своим не удалось. Полиция и жандармерия следили за каждым штатским, при малейшем подозрении арестовывали и бросали в концлагеря. Там страшные муки и смерть ждали каждого. Здоровых мучили голодом и холодом, слабых бросали в ямы, обливали бензином и живыми сжигали.
Местные полицаи, старосты не давали ребятам войти ни в одно село, приходилось идти околицами, ночевать в шалашах и заброшенных сарайчиках, днем двигаться по талому от солнца снегу, в одежде и обуви, размокшей от сырости, а вечерами все дубенело на них от мороза.
За десять дней изнурительного и страшного путешествия ребята ни разу не видели хлеба, с трудом выменивали одежку, какая была, на пустую картофельную похлебку. Только раз им удалось по-настоящему обогреться. К вечеру как-то они добрели до здания бывшей сельской школы; здесь жило несколько семей, дома которых были разрушены вражеской бомбежкой. Ребят охотно впустили, они с наслаждением грелись у печки-«бур- жуйки».
Когда сушили обувь, сапоги Олега настолько рассохлись и потрескались, что в Краснодон ему пришлось возвращаться в галошах от бурок Нины Иванцовой.
Только теперь разглядела я, как был измучен Олег. Скулы обострились, в громадных глазах за густымй ресницами стояло страдание.
— Никак не могу простить себе, что уступил тогда и не взорвал дирекцион,— сказал он с горечью.— С такими, как немецкие фашисты, в борьбе нужно идти до конца. А как все у нас было подготовлено! Дело прошлое — скажу. Взрывчатку уже заложили под лестницу, провели шнур. Достали билет для Пирожка. Он должен был войти в школу и зажечь шнур. Сережа Тюленин, Владимир Жданов и я ждали при выходе с оружием наготове. Эх, упустить такой случай!
Я молча гладила его волосы, целовала жесткую кожу щек.
Немного погодя увидеться с Олегом прибежал дядя Николай.
352
Он бросился к Олегу, и они замерли, стиснув друг друга в объятиях. Но времени было мало. Начали обсуждать: как же вырваться из клещей врага?
Не хотелось Олегу покидать свой Краснодон, уходить от товарищей. Они мучились в застенках гестапо. Что же сделать? Как им скорей помочь? Олег строил планы: связаться с партизанами и прийти на помощь друзьям.
И опять вспомнил Олег новогоднюю свою неудачу:
— Да, не послушались тогда ребята! Легче было бы даже и умирать, если бы мы после такого взрыва попали в гестаповские руки.
Тут я рассказала сыну о Жене Мошкове, про слова полицейских, будто бы Женя выдал адрес Олега и даже привел их на квартиру к своему комиссару. Олег вскочил, на лицо его снова вернулась краска:
— Не верь провокаторам! Женя — герой! Он на допросе четвертого января плюнул жандарму в морду и погиб, не сказав ни слова.
Хотелось говорить и говорить с сыном без конца, но полиция была рядом и искала Олега.
Лидия Макаровна уверяла меня, что все будет хорошо и чтоб я не беспокоилась. Она уже приготовила Олегу место, где он может при случае спрятаться.
В конце концов решили идти через день утром; под видом мешочников взять санки и выйти из города. Мы попрощались с Олегом и пошли домой.
А в двенадцать часов ночи к нам ворвался немецкий офицер с полицейскими.
— Где Коростылев?
На этот раз брату уйти не удалось. В погреб он спрятаться не успел — немцы с улицы осветили мою комнату ярким фонарем. Но Николай и тут не хотел сдаваться. Он бросился на свою кровать и, перед тем как накрыться одеялом с головой, успел что-то шепнуть жене. Немец, угрожая револьвером, кричал:
— Где Коростылев?
Жена брата, Ольга Александровна, ответила:
— Нет его дома. Ушел. Куда — не знаю.
353
Тогда гестаповец спросил:
— А кто это спит там в . комнате?
— Это... немецкий офицер.
Немец подошел к кровати и что-то начал говорить по-немецки. Конечно, дядя Коля молчал — он плохо знал немецкий язык. Одеяло полетело на пол:
— Ага, попался наконец!
Удары кулаком и ногами. Закричал Валерик. Ольга Александровна кинулась к мужу. Фашисты избили и ее.
В семь часов пришли за ней. Я была как мертвая. В мозгу стучало одно: «Олег, Олег! Как же он теперь уйдет?»
Мы остались с мамой и с маленьким Валериком. В девять часов опять пришли гестаповцы с переводчиком, несколько полицейских и Захаров.
Снова повальный обыск, еще раз перерыли все в квартире.
Часть вещей забрали, остальные приказали не трогать.
Наша квартира была теперь вся ободрана, пустая и холодная. Мы ютились в кухоньке на одной кровати: бабушка, я и Валерик. И вот пришли гестаповцы и забрали бабушку. Она оглянулась с порога. Наши глаза встретились. Я прочла в глазах матери: «Ничего не бойся. Ни о чем не расскажу».
В гестапо бабушку встретили руганью и издевательствами:
— Ага, старая! И ты с ними заодно?
Удар, еще и еще... Вернулась бабушка домой часа через три. Еле приползла, вся избитая.
„ИРИДУ С КРАСНОЙ АРМИЕЙ!»
Я стала ждать своей очереди, своего ареста. Душа болела, хотелось хоть еще раз увидеть сына и как можно скорей отправить его из Краснодона. Но меня не трогали.
Лидия Макаровна с тревогой рассказала мне, что в городе уже знают, что Олег возвратился и где-то прячется. Нужно было немедленно уходить. Соседи знали, что мы дружим с По- иовой.
354
Куда, к кому пойти? Всем друзьям Олега грозила смерть, и они сами прятались от полиции. Идти по дороге тоже опасно. Там продолжается отступление немцев. Мужчин, попадающихся им на глаза, они расстреливают. То же самое может случиться и с Олегом, если он днем выйдет из Краснодона.
А уходить нужно было. Вот-вот могли явиться гитлеровцы. Что же делать? Где искать спасения? И мы пошли па хитрость: решили переодеть Олега в женскую одежду и в таком виде проводить его за окраину Краснодона.
Маршрут был такой: в селе Таловое Олег переночует у моей знакомой Анны Акименко, на следующий день утром выйдет в Должанку (туда Лидия Макаровна даст записку к своим родственникам), а на третий день пойдет в Боково-Антрацит и там переночует в землянке у знакомого нам деда.
Стали готовить для Олега одежду. Пришла бабушка. Молча сняла с себя валенки и протянула их внуку. Олег покачал головой:
— Бабушка, ты слабая, тебе валенки больше нужны, чем мне. Да и вам в этих валенках лучше простаивать в полиции с передачей дяде Николаю и тете.
Насилу уговорили его надеть валенки на отмороженные ноги. На дворе был лютый мороз, какого люди в Донбассе давно не помнили.
Олег попросил бабушку принести ему из дому наган: он был спрятан в сарае под крышей.
Я запротестовала:
— В нагане всего один патрон, на что он тебе?
— И один патрон может пригодиться. Нападет на меня один немец — хватит и одного патрона. Нападет больше — пригодится для себя.
Бабушка принесла наган. Потом мы дали Олегу женскую одежду.
Он посмотрел на нее, усмехнулся и отодвинул одежду от себя. К этому времени Олег стал говорить баском.
— Это же ни к чему не приведет,— сказал он с легкой усмешкой.— Ну, ты сама подумай: во-первых, это смешно — рядиться мне в женское платье; во-вторых, если я встречу немца и он меня спросит о чем-нибудь, а я ему отвечу таким басом,
355
тогда — провал наверняка. Да и не хочу я перед врагами рядиться...
Но выхода другого не было, и мы так настойчиво просили! Наконец Олег пожал плечами и уступил.
Переряженный, он нисколько не стал похож на женщину — высокий, широкоплечий, угловатый в движениях, с упрямым подбородком. Особенно выдавали его глаза: мужские, непокорные, властные. Мы махнули рукой на все. На счету была каждая секунда.
Перед уходом из квартиры Олег вынул из кармана три стихотворения и протянул их мне.
— Мама,— сказал он, грустно улыбаясь,— вот эти два тебе на память, а это передай Нине Иванцовой. Хорошо?
Никогда не забыть мне, как мой сын тогда взглянул на меня!
Нет, я не могу описать все то, что поднялось в моей душе...
Куда провожала я сына? Может, в последний путь провожаю? Какая судьба ждет его? Кто пригреет моего мальчика, кто залечит его отмороженные ноги? Найдется ли добрая душа, которая спрячет его от врага?
Почуяло ли мое сердце, что в последний раз я иду рядом с сыном, в последний раз слышу его голос, но я беспомощно заплакала:
— Олежек мой, болит мое сердце! Увидимся ли мы когда- нибудь с тобой?
— Увидимся, мама,— старался он утешить меня.— Ты только так и думай! Хорошо, мамочка?
Он обнял меня, поцеловал, посмотрел мне в глаза. Нахмурился, сдерживая волнение.
— Мамочка, дай мне слово, что ты будешь беречь себя, прятаться от полиции, пока наши придут. Хорошо? А если со мной что-нибудь случится, мамочка, родненькая, не плачь! Не плачь, мама! Чего плакать? Я не упаду перед врагом на колени. А если придется умереть, что ж... свой долг я выполнил. Как мог, так и боролся. А останусь жив — ну, держись тогда, фашист!
Мы дошли до села Таловое.
Солнце уже совсем зашло, когда мы, пользуясь вечерними
356
сумерками, сняли в коридоре у Анны Акименко с Олега женскую одежду. Анна приняла сына переночевать, и мы с Поповой немного успокоились. В последний раз прощались, еще раз просили друг друга беречься. Я прижала сына к груди. Больше я уже не могла глядеть в его милые глаза, но последние слова запомнились мне навсегда:
— Не печалься, мама! С нашими приду, с Красной Армией!
Дома, куда я возвратилась в семь часов вечера, я не застала никого.
В квартире было пусто и холодно, как на улице. Бабушку опять забрали в полицию, а маленького Валерия взяли к себе соседи. Я осталась одна.
Могильная тишина камнем легла мне на сердце* давила, не давала дышать.
Я вошла в комнату Олега.
Сорванные с дивана одеяла и простыни, раскиданные по полу вещи — все говорило о недавнем обыске. На столе лежали шахматная доска, запонки и любимый галстук Олега. На полу валялась книга «Капитальный ремонт» Леонида Соболева — последняя, какую прочитал в своей жизни мой сын, книга о море.
Машинально я подняла ее, открыла и ахнула. Как же немцы не заметили? На обратной стороне обложки Николаем была записана последняя полученная «Молодой гвардией» сводка Совинформбюро. Перечислялись отнятые у немцев наши города, называлось число пленных, убитых врагов...
Нет, драгоценную эту книгу я немцам не отдам! Только успела я спрятать «Капитальный ремонт», стук в окно.
«Все. Теперь за мной...»
Но это была она, моя мама. Ее снова избили в полиции. Выпустили, как приманку для Олега. Стало ясно, почему и меня не берут до сих пор. Ждут и следят.
Всю ночь проплакали мы с ней над стихами Олега, что дал он мне на прощанье. Вот они:
Ты, родная, вокруг посмотри:
Сколько немцы беды принесли!
Голод, смерть и могилы везде,
Где прошли по Советской земле.
357
Ты, родная, врагам отомсти За страданье и слезы свои,
За мученье и смерть сыновей,
За погибших советских детей.
Мама, мама, не плачь, только мсти! Возвратятся к нам светлые дни. Правды, счастия луч золотой Засияет над нашей землей!
ПАЛАЧИ
Шестнадцатого января мы с мамой понесли передачу в тюрьму дяде Коле, его жене и Елене Петровне Соколан, арестованной за знакомство с нами.
Мы еще издали услышали стоны и вопли людей.
— Что бы это могло быть? — спросила я маму.
— Наверно, опять когось катуют,— угрюмо ответила она.
Возле полицейской управы в толпе женщин шныряли полицейские, направо и налево раздавая удары плетьми и безобразно при этом ругаясь. Но женщины не расходились, они с криками и плачем толпились у прибитых к стене списков арестованных, отправленных в концлагерь. В списках было двадцать три человека — юноши и девушки, знакомые мне по «Молодой гвардии».
Все в Краснодоне уже знали, какой это был «концлагерь». Палачи повели наших детей на казнь. Отчаянный плач, вопли и стоны, как на похоронах, надрывали душу.
— Да шо ж таке, добри люды, робиться! — запричитала мама по-украипски.— Мало им, подлюкам, той крови, шо выпилы воны из наших дитей, так бач шо воны ще творять!
И, выхватив у меня кастрюлю с пшенным супом, она выплеснула его в полицейского.
— На иж, хай ты подавышся, блюдолиз нимецкий!
Женщины стали швырять в полицейских комками оледенелого снега, замерзшей землей, бросать в них посудой с едой, вырывать плетки.
Началась бы, наверно, настоящая свалка, если бы с пожар¬
358
ной каланчи вдруг не раздался сигнал воздушной тревоги. Толпа быстро рассеялась, а вскоре мы увидели, как стороной проплыла в небе группа советских самолетов, держа путь на запад, в немецкие тылы.
Я очень боялась за маму, которую могли приметить и потом прийти за ней, и долго еще не могла успокоиться.
— Щоб им билого свита весь вик не бачить! — ругалась мама.— Жаль тильки того супу, шо вылыла на гада,— внучек сы- дыть голодный. Як подывышся, аж сердце разрывается.
И с этого дня каждое утро полицейские вывешивали на стене списки молодогвардейцев, переведенных в «концлагерь». На самом деле их на машинах вывозили за Краснодон, к старой шахте, наспех расстреливали и сбрасывали в глубокий шурф, мертвых вместе с недобитыми...
Десять дней просидели в тюрьме жена брата и Елена Петровна Соколан. Не добившись ничего, полиция выпустила их.
Брату Николаю па четырнадцатый день удалось убежать вместе с комсомольцем Колотовичем. Вот как это произошло.
Красная Армия подходила все ближе. Уже отчетливо была слышна грозная канонада, все чаще налетали наши самолеты.
Немцы и полиция лихорадочно готовились к бегству. Во двор тюрьмы приходили полицейские и из других районов. Этим и воспользовался Николай. Ночью он отогнул проволоку па запоре, открыл дверь камеры. Перед этим он надел на рукав белый платок, похожий на полицейскую повязку. Потом они с Колотовичем вышли во двор и смешались там с полицейскими из других районов.
Потом побежали. По ним открыли стрельбу и бросились в погоню. Колотович упал. Казалось, все было потеряно. Но Николай все бежал и сумел далеко уйти. Забежав за чей-то двор, он увидел пожилого шахтера. Они поздоровались. Николай сказал:
— Вот... уходят немцы.
— Да, видать, что дело такое.
— Не разберешь, что лучше: остаться или с немцами уходить?
— Это уж как кому сподручнее.
359
— Мне не сподручно. Кстати, вон они и гонятся за мной...
Шахтер пытливо взглянул на дядю Колю, ничего не ответил, а лишь мигнул на погреб и прошел мимо. Николай бросился к погребу.
Немцы обыскали все, стреляли в погреб, но спуститься не захотели. Больше суток пришлось отсидеть брату в погребе. Жена шахтера,— как потом мы узнали, Степана Афанасьевича Чистолинова,— принесла ему кувшин воды и пышки из бурака. Но больше всего он был рад самосаду.
К вечеру следующего дня брат ушел.
Таким образом, наши хождения в тюрьму с передачами прекратились. Но немцы опять сами часто проведывали нас — все надеялись застать Олега или брата.
Двадцать пятого января они не пришли. Я забеспокоилась. То я страшилась, когда они приходили, теперь я ждала их. Приходят — значит, ищут. Не пришли — значит, нашли.
Я кинулась в полицию.
Дежурил молодой, неопытный полицейский. Он, видимо, был в курсе дела молодогвардейцев, но не знал подробностей и фамилий. И я, чувствуя, как у меня холодеют руки и ноги и все плывет перед глазами, решилась спросить:
— Кошевой и Коростылев... есть у вас?
Полицейский, позевывая, обошел все камеры, выкрикивая фамилии сына и брата. Никто не отозвался. Я ушла. Но тревога продолжала сушить мою душу. И я не обманулась.
Двадцать девятого января, к концу дня, к нашему дому подъехали сани, запряженные тройкой лошадей. В квартиру вошли жандармы и полицейские во главе с Захаровым, все пьяные. Захаров крикнул:
— А ну, давай одежду сына — все, что есть! Да живей у меня!
Я ответила:
— Дома не осталось одежды. Всю ее уже забрала полиция...'
Захаров презрительно прервал меня:
— Ну-ну! Это такая же правда, как то, что ты не знала, где твой сын.
— И не знала,— ответила я, чувствуя, как пол уходит из- под ног,— и сейчас не знаю.
360
— Ничего, зато мы знаем.
Я смолчала. Я все еще надеялась, что он обманывает меня или просто так мучает, но тут один полицейский удивленно спросил у Захарова:
— А что, разве Кошевого уже того... поймали?
— Поймали,— осклабился Захаров, свертывая папироску п не сводя с меня глаз.— Отстреливаться, щенок, вздумал, полицейского ранил. Хорошо, что в нагане у него был всего одип патрон...
Когда я пришла в себя, полицейские уже уходили, хлопая дверями. Собрав последние силы, я кинулась за ними, крикнула:
— Олегу... можно еду принести?
— Еду? — переспросил Захаров, криво усмехаясь.— Да его и в Краснодоне-то нет. Вообще нет. Сын твой расстрелян в Ровеньках.
Падая опять, я успела крикнуть ему вслед:
— Палач, будь ты навеки проклят!
Если бы не мама, не знаю, что стало бы со мной. Но я поддалась маминой доброй ласке. Бабушка верила, что внук ее жив, что его не возьмет никакая пуля. И эту непреклонную веру она передала и мне. Вместе с мамой и я стала надеяться. На что? Я этого не могу объяснить. Мы словно чуда ждали...
ПРИШЛИ!
Потянулись черные, длинные дни, длинные бессонные ночи.
Мы жили в крайнем напряжении сил. Что с Олегом? Неужели вправду сообщил Захаров? Где Николай? Жив ли он?
В голову приходили самые страшные догадки, но мы старались приободрить друг друга и вслух высказывали только утешительные предположения.
Маленький Валерик то и дело приставал к нам:
— А почему так долго папы нет? Он принесет мне хлебца? А Олезя (так звал он Олега) скоро придет?
Отвечая ему, мы, казалось, сами верили в то, что сочиняли.
361
Как-то рано утром зашла к нам знакомая Лышко, проживавшая в поселке шахты № 1-бис. Она передала записку от Николая, которая была датирована 25 января. Николай сообщал, что благополучно живет в погребе, беспокоился о судьбе Олега, передавал приветы родным. Он прятался там три дня, но. потом начались облавы, и он ушел. Куда — Лышко не знала.
И опять — тяжелые предчувствия, ожидания и надежды...
Немцы приказали нам два раза в день ходить в полицию отмечаться. С востока грозно доносился артиллерийский гул. Фронт был всего в двенадцати километрах от города.
Мы часто следили за нашими самолетами, радовались, когда они бомбили немецкие войска и склады,— мы не боялись этих бомб. Как мы ждали своих!
Первого февраля полиция из Краснодона эвакуировалась в Ровеиьки, забрала с собой и арестованных — последнюю партию обреченных на смерть. Среди них были Люба Шевцова, Семен Остапенко, Виталий Субботин и Дмитрий Огурцов.
Но часть полицейских оставалась еще в Краснодоне, и мы должны были ходить отмечаться. Третьего февраля вызвали в полицию бабушку и снова сильно избили ее.
С этого дня я начала прятаться от немцев.
Полиция приходила за мной. Мама сказала, что я пошла в село достать хлеба. Тогда пьяные полицейские начали издеваться над мамой и над маленьким Валериком. Один из них взял ножницы и, хохоча, колол ими трехлетнего Валерика.
— Мама, мама! — кричал Валерик, и холодным потом покрывалось его маленькое, высохшее от голода личико.
А фронт все приближался к Краснодону. Уже восемь километров было между нами и освобождением. Слышна была даже пулеметная стрельба. В Краснодоне с нетерпением ждали своих.
Дни шли, как длинные годы. Сил не было дальше терпеть...
Девятого февраля к нам в квартиру зашел незнакомый человек. Он коротко сказал, что пришел из Ровенек, и подал мне записку. Это была записка от Николая.
«Дорогая мама! — писал он.— Нахожусь в ровенецкой тюрьме. Выдал меня Крупеник в Боково-Антраците. Не знаю, вырвусь на этот раз или нет. Пригнали сюда много краснодонских
362
ребят. Часто нас гоняют на работу. Как хочется увидеть вас! Целую, Коля».
Последняя маленькая надежда была вырвана у нас подлым предателем. Находившаяся с нами тогда Елена Петровна Соколан предложила пойти в Ровеньки и понести Николаю письмо и передачу. За сборами в дорогу я как-то отвлеклась, но мама слегла. По ее худым восковым щекам то и дело скатывались слезы.
Двенадцатого и тринадцатого февраля гестапо провело облавы в квартирах, погребах и сараях. Искали мужчин. Удалось захватить около ста человек разного возраста; фашисты их согнали в полицию.
К вечеру 13 февраля все немецкие части начали в панике покидать Краснодон. Поднялась невероятная суета. А утром 14 февраля 1943 года в Краснодоне не было уже ни одного гитлеровца.
Ровно в одиннадцать часов в город ворвались наши танки. Увидев первый советский танк, мы бежали за ним, плача от радости, поднимая к танкистам руки, благословляя наших освободителей.
Не знаю, кто в этот день мог усидеть в комнате. Жители города вышли встречать Красную Армию. К вечеру Краснодон был заполнен нашими войсками. Мы пригласили к себе на квартиру двадцать красноармейцев. Взяли бы больше, если бы могла вместить квартира. Мы с мамой стирали им белье, варили обед, подавали на стол. Моя старенькая мама, забыв об усталости, сажала к столу красноармейцев и угощала и целовала их, как родных сыновей.
Когда первые танки въехали в полицейский двор, иикто не отозвался па зов танкистов. Камеры молчали. Трупы расстрелянных лежали во дворе. Их было полно и в камерах. Немцы не оставили в живых ни одного человека из тех, кого захватили накануне.
Семнадцатого февраля в Краснодоне был траурный день, полный плача и причитаний осиротевших матерей.
Из шахты № 5, из темного шурфа в шестьдесят пять метров глубины, бадьей поднимали тела замученных молодогвардейцев.
363
Около шурфа собрались все жители Краснодона. К каждому телу бросалась мать. Узнавать было трудно. Чтобы вырвать у молодогвардейцев признания, гестаповцы подвергали их нечеловеческим пыткам. Девушки и ребята лежали изуродованные, в синих подтеках, с черными от огня пятнами; у некоторых на груди ножом были вырезаны звезды. Снег около шурфа был красен от крови.
Напрасна была злоба палачей! Молодогвардейцы держались мужественно и пе изменили святому делу, за которое боролись и которому шесть месяцев назад присягали.
Взбешенный неудачей, начальник полиции Соликовский набросился на Толю Попова, едва стоявшего на ногах от избиений.
— Ничего от меня не узнаете,— сказал он.— Одно скажу: жаль только, что сделали мало...
Когда стало известно, что их повезут на казнь, Уля Громова азбукой Морзе передала во все камеры последний приказ штаба:
«Скоро повезут нас на казнь. Держаться перед смертью будете так, как жили,— мужественно. По дороге запоем любимую песню Ильича: «Замучен тяжелой неволей».
Десять дней вытаскивали трупы из шахт. Я, так же как все матери, бросалась к нашим мертвым детям — думала, может, найду и Олега среди них. Сына не было...
В Краснодон стали возвращаться молодогвардейцы, оставшиеся в живых. Из ста трех молодогвардейцев вернулись только Нина Иванцова, Ваня Туркенич, Оля Иванцова, Жора Ару- тюняпц, Радик Юркип, Анатолий Лопухов, Михаил Шищенко и Валерия Борц.
Вернулся и брат Николай — ему и многим другим арестованным удалось бежать из-под охраны во время бомбежки немецкого аэродрома, куда их гоняли на работу.
Первого марта состоялись похороны юных героев.
Их похоронили с воинскими почестями в городском парке, в братской могиле. Был дан салют. На траурном митинге среди других выступил Ваня Туркенич, одетый уже в военную
364
форму. Над могилой друзей он поклялся, что не снимет своей шинели, пока не будет уничтожен на нашей земле последний фашист.
После похорон зашли навестить меня Нина и Оля Иванцовы. Печальна была наша встреча. Я передала Нине последнее стихотворение Олега:
Пой, подруга, песни боевые,
Не унывай и не грусти:
Скоро наши дорогие Краснокрылые орлы
Прилетят, раскроют двери Всех подвалов и темниц.
Слезы высохнут на солнце На концах твоих ресниц.
Станешь снова ты свободна,
Весела, как Первый май,
Мстить пойдешь, моя подруга,
За любимый, милый край...
Глядя, как дрожит листок в руке Нины, я вспоминала об их дружбе с Олегом, о том, как он часто говорил мне:
«Мама, ты только посмотри, какие у нее глаза! Умные, добрые, открытые... Знаешь, Нина никогда прежде о себе пе забеспокоится, а всегда — о других. Неудачи товарищей переживает больше, чем свои. Когда нужно — скажи, и она готова на любой риск ради товарищей. Что с ней немцы могут поделать?! Если бы и все такие были, как Нина! Не любить ее нельзя...»
Нина вдруг пристально посмотрела на меня широко открытыми прекрасными своими глазами. В них зрело какое-то решение.
ЭТО БЫЛ ОН
Второго марта я с мамой и Еленой Петровной Соколан пошла искать Олега в Ровеньки.
Мы вынуждены были возвратиться. Лес, где были расстре¬
365
ляны наши люди, немцы заминировали. Приходилось ожидать, пока растает снег и лес разминируют.
Одиннадцатого марта 1943 года стало известно, что в Ро- веньках будут раскапывать могилы расстрелянных. Я быстро собралась в путь. Со мной пошли Нина и Оля Иванцовы.
В Ровеньках мы нашли людей, которые сидели в тюрьме вместе с Олегом. Им чудом удалось избежать смерти.
Они рассказали, что еще в конце января к ним в камеру бросили исхудалого, чисто одетого юношу. Его арестовали в Боково-Антраците. При обыске у него нашли зашитый в пальто комсомольский билет и несколько чистых бланков. Был у него наган, из которого, отстреливаясь, он ранил полицейского. Юношу звали Олегом, но фамилии его вспомнить не смогли.
Когда его спросили, как он попал в руки полиции, он сказал, что его выдал дед, бывший кулак. К нему замерзающий Олег зашел в Боково-Антраците...
На допросах у начальника полиции Орлова Олег держался мужественно.
Когда Орлов спросил Олега, что заставило его вступить в борьбу, он ответил:
— Любовь к отчизне и ненависть к вам, изменникам!
Полицейские зверски избили Олега. В камеру его бросили
уже без сознания.
В камере Олег не давал товарищам падать духом. Он говорил, что никогда не станет просить пощады у палачей; то же самое советовал и всем арестованным. Говорил:
— Товарищи! Жили мы честно и умрем честно!
Олег пытался совершить побег. Кто-то передал ему пилочку. За ночь с помощью товарищей он перепилил решетку на окне и бежал, но уйти далеко не смог — ослабевшего, его поймали гестаповцы и снова подвергли страшным пыткам.
Но и после мук в жандармерии Олег, весь избитый, изуродованный, не изменился и все настойчивее убеждал даже старших по возрасту товарищей:
— Не давайте радоваться палачам! Пусть они и не думают, что нам страшно расставаться с жизнью. Держитесь, товарищи! Наши все узнают. Нас не забудут...
366
Молодежь в камере он учил петь песни, сам запевал первый:
Широка страна моя родпая...
С песней и на расстрел пошел.
На последнем допросе, перед казнью он сказал:
— О работе «Молодой гвардии» меня не спрашивайте, не скажу ни слова. И еще запомните: советскую молодежь вам никогда не поставить на колени — она умирает стоя. Это мои последние слова, и знайте, что я слишком презираю вас, чтобы продолжать разговаривать с вами дальше. Посоветую одно: не прячьтесь. Вас найдут все равно! За все ответите!
Это был он, мой сын...
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Восемнадцатого марта, рано утром, сотни людей пришли в ровеньский лес.
Красная Армия била гитлеровцев недалеко, около Боково- Антрацита. По дороге туда через Ровеньки торопились наши подкрепления: пехота, танки, артиллерия. Месть свершалась...
Фашисты упорствовали. В Ровеньках рвались их тяжелые снаряды, горели и разрушались дома, низко стелился черный дым. Немецкие самолеты то и дело обстреливали город и дороги к нему.
В лесу около разрытых могил скопилось много народу. Немцы стали бить по лесу из пулеметов. Стоял треск и грохот, ревели моторы самолетов, с деревьев сыпались на нас срубленные пулями ветки. Мы падали на землю и опять поднимались. Никакие силы не могли заставить нас отойти от дорогих могил. Рыдали и причитали женщины. Плакали родные расстрелянных и чужие.
Лес был ископан могилами, и все могилы были забиты расстрелянными и замученными.
С болью и страхом и вместе с тем с тайной надеждой, что здесь Олега нет, ходила я между раскрытыми могилами, приглядывалась, искала свое родное дитя.
367
Вместе с Ниной и Олей мы узнали страшно изуродованных Любу Шевцову, Семена Остапенко, Виталия Субботина и Дмитрия Огурцова.
Олега мы не нашли...
Девятнадцатого марта мы снова пошли в лес.
Только откопали первый труп, я без крика бросилась к нему. Я узнала Олега. Узнали его Нина и Оля.
Мон сын, которому не было еще и семнадцати лет, лежал передо мной седой. Волосы на висках были белые-белые, как будто посыпанные мелом. Немцы выкололи Олегу левый глаз, пулей разбили затылок и выжгли железом на груди номер комсомольского билета.
Сын пролежал в могиле полтора месяца. Яма оказалась мелкая, тело почти не было засыпано землей. Зато снег засыпал, а мороз сковал и сберег тело сына. Даже через полтора месяца после смерти Олег был прекрасен. На его высокий лоб падали седые пряди волос, длинные черные ресницы оттеняли спокойную бледность его лица.
Мне помогали Нина и Оля и какие-то совсем посторонние люди. Мы перенесли сына в гроб и на салазках повезли в город, к госпиталю.
На дороге разрывались немецкие снаряды, и мы часто останавливались. А мимо гроба все шли и шли вперед наши подразделения.
Какой-то боец с автоматом спросил меня:
— Мать, кого везешь?
— Сына.
Боец приоткрыл крышку гроба.
— Какой же он молодой у тебя!— сказал он, и слезы покатились по его лицу.—Ну ничего, мать, мы отомстим. За все отомстим!
Мы похоронили Олега 20 марта 1943 года, часов в пять, в Ровепьках, на центральной площади. Рядом с Олегом доставили гроб Любы Шевцовой. Вместе с ними положили Виталия Субботина, Семена Остапенко и Диму Огурцова.
Провожала их Красная Армия, народ. Над глубокой братской могилой красноармейцы приспустили боевые знамена, оркестр играл похоронный марш, трижды был дан салют.
368
Вот к могиле подошла Нина Иванцова.
— Дорогой мой Олег! — начала говорить она, и голос ее ясно слышался.— Олег, я выполню твое завещание. Завтра я ухожу добровольцем в Красную Армию. Буду, как ты учил нас, с оружием в руках добивать фашистов, мстить за «Молодую гвардию». До победы не сложу оружия!
И прямо после похорон бойцы пошли в наступление.
Жестокий бой продолжался. Грохотала канонада. Наши самолеты с победным ревом неслись в голубом небе на врага. Им не было счета.
Догорали последние пожары... И шла весна. Ласково грело солнце; снег, торопясь, таял. Бежали говорливые ручьи. Набухали почки на деревьях. Ясно голубело небо.
Вместе с Ниной ушли в армию Жора Арутюнянц, Толя Лопухов и Радик Юркин. И они славно дрались за Родину.
А вскоре получил заслуженную пулю дед-кулак, выдавший немцам Олега и других большевиков в Боково-Антраците.
Нашли предателя организации Геннадия Почепцова, следователя Кулешева и Громова, слуг немцев. Их судили открытым народным судом и расстреляли как предателей.
СНОВА ВЕСНА
И вот снова весна.
Пришла победа. Далеко за океанами гремит слава нашей Родины.
Снова задымили заводы, и весело перекликаются гудки донецких шахт имени Олега Кошевого, имени Сергея Тюленина, имени «Молодой гвардии». Друзья снова встретились, и они опять вместе в борьбе за счастье и новый расцвет отчизны.
Колосятся хлеба на бескрайных колхозных полях. Снова слышится смех детворы, и солнце отражается в светлых окнах наших школ и университетов.
Много матерей потеряло в те страшные годы своих детей, и меня роднит с ними общее всем нам страстное желание уберечь детей нашей Родины от новой войны, такой ненужной и жестокой.
£5 Библиотека пионера. Том II 369
Все эти годы, что прошли со дня гибели сына, меня поддерживали мои многочисленные друзья в нашей стране и за ее пределами. Сколько писем идет ко мне до сих пор, сколько добрых слов сочувствия и дружбы!
Теплым словом благодарности хочется мне вспомнить нашу замечательную молодежь и молодежь зарубежных стран, коллективы предприятий и кораблей, учителей и учащихся, матерей и детей, всех тех, кто помнит и любит Олега и разделяет со мной мою скорбь.
Изменился сейчас Краснодон. В центре, возвышаясь над городом, стоит памятник героям-молодогвардейцам. А в саду нашего домика, перед окном Олега, пышно расцвела посаженная им когда-то яблоня. Она разрослась с тех пор. Ее видно теперь издалека...
Елина Ильина
Эту книгу я посвящаю светлой памяти
Самуила Яковлевича Маршака, моего брата, моего друга, моего учителя.
К МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ
История этой короткой жизни не выдумана. Девушку, о которой написана эта книга, я знала еще тогда, когда она была ребенком, знала ее тако/се школышцей-пионер- кой, комсомолкой. Мне приходилось встречать Гулю Королеву и в дни Отечественной войны. А то в ее жизни, чего мне не удалось увидеть самой, восполнили рассказы ее родителей, учителей, подруг, вожатых. О ее эюизни на фронте рассказали мне ее боевые товарищи.
Мне посчастливилось также читать ее письма, начиная с самых ранних — на линованых страницах школьной тетрадки — и кончая последними, написанными наскоро на листках блокнота в перерывах между боями.
Все это помогло мне узнать, как бы увидеть своими глазами всю Гулину яркую и напряженную жизнь, представить себе не только то, что она говорила и делала, но также и то, что она думала и чувствовала.
Я буду рада, если для тех, кто узнает Гулю Королеву по страницам этой книги, она станет — хотя бы отчасти — такой же близкой, какой она была для тех, кто узнал и полюбил ее в оюизни.
ЕЛЕНА ИЛЬИНА
373
ОГОНЕК
- Пе уходи,— сказала Гуля.— Мне темно.
Мама наклонилась над сеткой кровати:
— Темнота, Гуленька, совсем не страшна.
— Да ведь ничего же не видно!
— Это только сначала ничего не видно. А потом ты увидишь такие хорошие сны!
Мама укрыла дочку потеплее. Но Гуля снова подняла голову. Девочка смотрела на окно, которое едва светилось от уличных фонарей сквозь синюю штору.
— А тот огонек горит?
— Горит. Спи.
— Покажи мне его.
Мама взяла Гулю на руки, поднесла к окну.
Напротив, над стенами Кремля, реял флаг. Он был освещен снизу и трепетал, как пламя. Этот флаг маленькая Гуля и называла «огоньком».
374
— Видишь, горит огонек,— сказала мама.— Он и всегда будет гореть, Гулюшка. Никогда не погаснет.
Гуля положила голову на плечо матери и молча смотрела на пламя, трепещущее в темном небе.
Мама унесла Гулю в кроватку.
— А теперь спи.
И она вышла из комнаты, оставив девочку одну в темноте.
ТРЕХЛЕТНЯЯ АРТИСТКА
Гулей прозвали ее, когда ей не было еще и года. Лежа в кроватке, она улыбалась всем, и целый день в комнате только и слышалось:
— Гу-гу...
От этого гортанного голубиного воркованья и пошло имя: Гуленька, Гулюшка. И iipikto уже не вспоминал, что настоящее имя Гули — Марионелла.
Одним из первых слов, которое сказала Гуля, было слово «сама». Когда ее в первый раз спустили на пол, она вырвала руку, закричала:
— Сама! — покачнулась и пошла.
Она сделала шаг, другой и шлепнулась вниз лицом. Мама взяла ее на руки, но Гуля сползла на пол и, упрямо передернув плечами, снова затопала. Ее несло все дальше и дальше, из одной комнаты в другую, и мать едва поспевала за ней.
Гуля росла. Все увереннее топали ее ножки по комнатам, коридору и кухне, все шумней становилось в квартире, все больше разбивалось чашек и тарелок.
— Ну, Зоя Михайловна,— говорила Гулиной матери няня, приводя Гулю домой с прогулки,— много вынянчила я ребят, а такого ребенка сроду не видала. Огонь, а не ребенок. Сладу никакого нет. Как сядет на санки, так и не снимешь с них. Десять раз с горки скатится, и все ей мало. «Еще, кричит, еще!» А ведь санки-то у нас не свои. Сколько слез, сколько крику, спору! Не приведи бог такого ребенка нянчить!
Гулю отдали в детский сад.
375
В детском саду Гуля присмирела. Дома, бывало, она ни минуты не посидит спокойно, а здесь она целыми часами сидела тихо, молча и лепила что-нибудь из пластилина, для которого придумала более короткое название — лепин.
Ей нравилось также строить на полу из кубиков разные дома и башни. И плохо приходилось тем ребятам, которые осмеливались разрушить ее сооружение. Вся красная от обиды, она вскакивала и награждала своего сверстника такими тумаками, что он поднимал рев на весь детский сад.
Но все же ребята любили Гулю и скучали, если опа не приходила в детский сад.
— Она хоть и драчливая, а зато с ней играть здорово,— говорили мальчики.— Она придумывать умеет.
Гулина мать работала в то время на кинофабрике. И режиссеры, быйая у Королевых, говорили, глядя на Гулю:
— Вот бы нам Гульку в кино!
Им нравилась резкая веселость Гули, лукавый свет ее серых глаз, ее необыкновенная живость.
И однажды мама сказала Гуле:
— Ты сегодня в детский сад не пойдешь. Мы с тобой поедем смотреть рыбок и птиц.
В этот день все было не так, как всегда. К подъезду подкатил автомобиль. Гуля уселась рядом с мамой. Приехали они на какую-то площадь, где толпилось столько народу, что нельзя было ни проехать, ни пройти. Отовсюду слышался разноголосый петушиный крик, хлопотливое кудахтанье кур. Где-то важно гоготали гуси и, стараясь всех перекричать, что-то быстро лопотали индюки.
Пробиваясь сквозь толпу, мать взяла Гулю за руку.
На земле и на лотках стояли клетки с птицей и садки с живой рыбой. В воде медленно плавали большие сонные рыбы и проворно сновали вверх и вниз маленькие золотые рыбки с прозрачными, развевающимися, будто кружевными, хвостами.
— Ой, мама, что это? — вскрикнула Гуля.— Водяные птички!
Но в это время какой-то незнакомый широкоплечий человек в кожаной куртке подошел к Гуле и, кивнув ее маме, взял Гулю на руки.
376
— Я тебе сейчас что-то покажу,— сказал оп ей и куда-то ее понес.
Гуля оглянулась на маму. Она думала, что мама отнимет ее у «кожаного дяди», но мама только помахала ей рукой:
—■ Ничего, Гуленька, не бойся.
Гуля и не думала бояться. Только ей не нравилось сидеть на руках у чужого, незнакомого человека.
— Я сама пойду,— сказала Гуля,— пустите меня.
— Сейчас, сейчас,— ответил он, поднес ее к стеклянному ящику и спустил на землю.
Там, в зеленой густой траве, копошились какие-то длинные, толстые веревки. Это были ужи. Гуля недолго думая вцепилась в одного из них и потащила.
— Ну и храбрая же ты девочка! — услышала Гуля над собой голос «кожаного дяди».
Трехлетняя Гуля и не подозревала, что этот дядя был кинооператор и что ее только что сняли для новой кинокартины.
В те годы на Трубной площади каждое воскресенье торговали всякой живностью. Любители птиц, рыб, диковинных зверушек всегда могли выбрать здесь по своему вкусу и певучую канарейку, и щегла, и дрозда, и породистого охотничьего щенка, и черепаху, и даже заморского попугая.
Кинооператору привезли Гулю на Трубную площадь, потому что в этот день они снимали картину «Каштанка», по рассказу Чехова. В картине этой собака Каштанка попадает па Трубный торг и теряет своего хозяина в толпе взрослых и детей.
Спустя несколько дней Гуле Королевой прислали из кино- фабрики ее первый заработок — два рубля.
Один рубль был истрачен в тот же день. Дома случайно не было денег, и Гулин рубль как раз пригодился на лекарство для самой же Гули.
Другой рубль — большой, новенький, желтого цвета — хранится до сих пор у Гулиной матери. Он спрятан в коробочке рядом с льняной шелковистой прядкой Гулиных младенческих волос.
СЛОН И ГУЛЯ
Гулю взяли в Зоопарк.
Она шла вместе с мамой по усыпанной песком дорожке мимо длинного ряда клеток с какими-то толсторогими козлами, баранами и бородатыми быками. Возле высокой железной ограды они остановились. Гуля увидела за решеткой что-то огромное, клыкастое, с длинным, до земли, носом.
— У, какой! — вскрикнула Гуля, прижимаясь к матери.— Мама, почему он такой большой?
— Такой вырос.
— А я его боюсь?
— Нет, не боишься.
— А кто он такой?
— Слон. Он добрый, и бояться его не надо. У себя дома он даже нянчит маленьких детей.
— Возьми его ко мне в няньки! — сказала Гуля.
— Его отсюда не отпустят,— ответила мама смеясь.— Да и места для пего у нас маловато.
Целый год после этого Гуля вспоминала большого доброго слона. И, когда наконец ее опять привели в Зоопарк, она прежде всего потащила маму к слону.
Держа в руках большой красно-синий мяч, она подошла к самой решетке.
— С добрым утром, слон! — вежливо поздоровалась Гуля.— Я вас помню. А вы меня?
Слои ничего пе ответил, но наклонил свою большую, умную голову.
— Помнит,— сказала Гуля.
Мама вытащила из сумочки гривенник.
— Смотри, Гуля,— сказала она,— я брошу ему монетку.
Слон пошарил по земле хоботом, поднял монетку, словно
кончиками пальцев, и сунул сторожу в карман. А потом схватил сторожа за воротник и потянул за собой. Сторож не мог устоять на ногах и побежал вприпрыжку, как мальчик. Гуля громко смеялась. Смеялись и другие ребята, столпившиеся у решетки.
— Мама, куда слон его тащит? — спросила Гуля.
378
— Это он требует от сторожа чего-нибудь вкусного. Ступай, говорит, принеси. Даром я тебе свою монету отдал, что ли?
Сторож послушно ушел в соседнее помещение, где была кладовая слона, а слон зашагал не спеша, мягко, неслышно, будто он был в валенках.
— Мама, слон булку любит? Можно ему бросить?
Гуля бросила слону булку. Слон задрал кверху хобот, нижняя челюсть у него отвисла, и булка угодила прямо в пасть.
И тут Гуля увидела, что мяч выскользнул у нее из рук и покатился под решетку к слону.
— Мячик! — закричала Гуля.— Слон, отдай, пожалуйста, мяч!
Слон хлопнул ушами и, зажав мяч хоботом, словно в кулаке, посмотрел на Гулю искоса умным маленьким глазком.
— Ну вот,— сказала Гулина мама,— так я и знала. Говорила я тебе — оставь мячик дома!
Но в эту минуту слон выпустил мяч, и он покатился по земле, стукнулся о решетку и откатился назад, к самым его ногам.
— Погоди, Гуля,— сказала мама,— сторож сейчас вернется и достанет твой мячик.
Но Гули рядом с ней уже не было. Мать быстро огляделась по сторонам:
— Где же это она?
— Ребенок, ребенок в слоновнике! — закричали вокруг.
Мать взглянула па решетку. Там, но ту сторону решетки,
у самых ног слона стояла ее Гуля, казавшаяся от такого соседства еще меньше.
Слон пошевелился, и все охнули. Еще секунда, и широкая, тяжелая слоновья ступня опустится на этот цветной комочек и раздавит его.
— Сторож, сторож! — закричали люди.
Но слон осторожно переступил с ноги на йогу и попятился назад.
Гуля отвела рукой хобот и спокойно подняла с земли мячик.
— Чего вы все кричите? — сказала она, протискиваясь сквозь прутья решетки.— Мама говорит, что слоны даже нянчат маленьких детей!
Домой Гуля шла молча. Мама с ней не разговаривала, Вид¬
379
но было, что она все еще не могла успокоиться после Гулиной проделки.
— Мамочка, прости меня, пожалуйста,— сказала Гуля.— Ты же сама говорила, что я его ничуточки не боюсь. Отчего же ты за меня испугалась?
Из глубипы парка донеслись какие-то странные звуки, похожие па гудки парохода.
— Это твой слон кричит,— сказала мама.— Вот какой он бывает злой, если его раздразнить. А кто его раздразнил? Ты! Пожалуйста, в другой раз не лезь без спросу к слонам!
БАРМАЛЕЙ ПРИЕХАЛ!
К большому, широкому подъезду многооконного дома подкатил легковой автомобиль. Это в студию кинофабрики привезли пятилетшою Гулю.
Накануне вечером к Гулиной матери пришел ее старый приятель, режиссер кинофабрики. На фабрике ставили в то время картину «Бабы рязанские».
— Ради бога, выручите нас,— сказал он,— дайте нам для «Баб рязанских» вашу Гулю.
И он рассказал, что девочка, которая должна была сниматься в этой картине, так испугалась ярких ламп, трескучих аппаратов, что наотрез отказалась сниматься.
— Ваша Гуля храбрая, она нас не подведет,— сказал режиссер.
— Храбрая-то храбрая,— ответила мама,— да боюсь — рановато ей сниматься.
— Ничего, один разок,— успокоил ее режиссер.
И вот Гуля вошла в какую-то странную комнату, всю заставленную зеркалами, высокими лампами и разными непонятными вещами.
Режиссер посадил Гулю к себе на колепи.
— Ты должна напугать вот эту тетю,— сказал он, показывая на красивую большеглазую женщину в пестром платье и платочке.— К ней приедет сердитый дядя. Ты первая его увидишь, побежишь к ней и крикнешь: «Дядя приехал!» Поняла?
380
— Поняла,— сказала Гуля.
И репетиция началась. Гулю нарядили в длинный пестрый сарафан, на голову надели косыночку.
— Ну чем не баба рязанская? — говорили, смеясь, обступившие Гулю актеры.
И вдруг ярко вспыхнули лампы. Гуля зажмурилась. Яркий, горячий свет брызнул ей в глаза.
— Мама! — невольно крикнула Гуля.
Ослепительный световой поток шел на нее со всех сторон, обжигая глаза.
Откуда-то из-за этого светового потока донесся до нее знакомый голос режиссера:
— Ничего, Гуленька, это лампы такие. Ну, как ты напугаешь тетю Настю? Кто к ней приехал?
Гуля подумала немножко и, сделав страшные глаза, закричала:
— Настя, Настя, беги! Бармалей приехал!
Это было все, что Гуле полагалось сделать в этой сцене. Она теперь могла пойти к маме, которая ждала ее в другой комнате. Но ей хотелось знать, что будет с бедной Настей.
Забравшись под стол, Гуля смотрела во все глаза и шептала, грозя Бармалею кулаком:
— Пошел вон, дурак! Пошел вон!
И когда дальше по ходу действия «мертвую» Настю внесли па руках в избу, Гуля, глядя на нее, прижала кулачки к лицу и тихонько заплакала.
Спустя несколько месяцев режиссеры подарили Гуле ее портрет в роли самой маленькой из рязанских баб. На этом портрете была надпись:
Талантливейшей актрисе от благодарных режиссеров.
ГОЛУБОЕ ВЕДРО
— Мама, мама, смотри! Синенькое ведро! — кричала в восторге Гуля и тащила свою маму к витрине* где были выставлены игрушки.
381
За стеклом витрины было много всякого добра — куклы, медвежата, зайчики в полосатых штанах, грузовики, паровозы,— но Гуля смотрела только на ведра для песка. Они были выкрашены голубой эмалевой краской, и на каждом был нарисован букет цветов.
Давно уже Гуля мечтала о таком ведре. Ей так хотелось подержать его в руках, наполнить песком до самого края, поносить по дорожке сада! Много раз просила она маму купить ей такое ведро, и мама обещала, но только нельзя было понять, скоро она купит или не скоро. «Куплю, когда будут деньги», или: «Куплю, когда будешь хорошая девочка». А когда это будет?
И вдруг сегодня Гулина мечта неожиданно сбылась. Она получила ведро, а в придачу к нему еще и совок, тоже выкрашенный в голубой цвет.
Гуля шла рядом с матерью, весело размахивая ведром.
— Гуля, иди как следует,— сказала ей мама,— ты всех толкаешь.
Но Гуля, казалось, ничего не слышала. Ведро качалось у нее в руках, и она то и дело задевала им прохожих.
Мать рассердилась:
— Если ты сейчас же не перестанешь, я отберу у тебя ведро и отдам его другой девочке!
— Хорошей? — спросила Гуля.
— Да уж получше тебя,— ответила мама.
Гуля недоверчиво поглядела на мать и так махнула ведром, что стукнула им по голове чистильщика сапог, сидевшего на скамеечке.
Мама испугалась.
— Простите, товарищ! — крикнула она и выхватила у Гули из рук ведро. — Ты ударила дядю, дурная девчонка!
— Я нечаяпио,— сказала Гуля.
— Ничего, гражданочка! — весело улыбаясь, сказал черноглазый чистильщик.— До свадьбы заживет!
— А когда у вас свадьба? — спросила Гуля.
Но мать уже не слушала ни чистильщика, ни Гулю. Решительно, быстрыми шагами она направилась к милиционеру, стоявшему на перекрестке.
382
— Товарищ милиционер,— сказала она,— у вас есть дети?
— Есть,— ответил милиционер.
— Так вот отдайте им.
И она протянула милиционеру ведро. Ои так удивился, что ничего не успел сказать.
Мать быстро увела свою дочку, а милиционер так и остался стоять посреди мостовой с голубым ведерком в одпой руке и с милицейским жезлом — в другой.
Гуля шла молча, опустив голову. В саду она уселась на скамейку. Возле кучи свежего желтого песка играли дети. Четыре разных ведерка стояли на дорожке. Какая-то девочка лопаткой насыпала в них песок, а другие дети сейчас же высыпали его обратно. Было очень весело. Но Гуля даже не посмотрела в их сторону.
Мать молча наблюдала за ней. Она ждала, что девочка не выдержит и заплачет. Но Гуля не плакала.
Придя домой, она спокойно сказала отцу, читавшему па диване газету:
— Знаешь, папа, мы подарили милиционеру ведро.
— Ведро? — удивился отец.— Милиционеру?
Гуля усмехнулась:
— Игрушечное ведро — настоящему милиционеру.
А когда она вышла из комнаты, мать ее рассказала, как было дело.
— Я сама чуть не разревелась, когда в наказание отняла у нее игрушку. Ведь она так мечтала о ведре! А она и виду не показывает, что ей больно и обидно.
Спустя несколько дней Гуля снова заявила отцу, усаживаясь к нему на колени:
— Знаешь, мы выбросили за окно мою куклу Наташу.
— Кто это «мы»?
— Мы с мамой. И хорошо, что выбросили: плохая была кукла. Пафнутий Иванович гораздо лучше.
Пестрого курносого клоуна Пафнутия Ивановича Гулин отец принес ей однажды из театра, где оп работал.
Гуля хотела уже слезть на пол. Но отец остановил ее.
— Нет, ты скажи мне: как же это случилось, что кукла полетела за окно?
383
Гуля посмотрела куда-то в сторону.
—■ А так и случилось,— сказала она.— Мы с куклой сидели на окошке, а мама нам не позволяла. Мама говорит: «Нельзя сидеть на окошке — упадете!» А мы не слезаем...
— Ну и что же?
— Что же... Меня мама сняла, а ее выбросила,
— И тебе совсем, совсем не жалко?
— Немножко жалко,— сказала она и, нахмурив брови, бегом побежала к себе в комнату.
БЕГСТВО В ИСПАНИЮ
Прошло еще два года.
Приближалась годовщина Октябрьской революции. В доме недавно закончился ремонт. Пахло свежей клеевой краской. В комнатах было тихо.
Но вот в передней раздался звонок. Один, другой, третий...
— Слышу, слышу! Наказанье божье, а не ребенок! — заворчала суровая, строгая женщина, Настасья Петровна, и пошла открывать дверь.
В переднюю вбежала Гуля, нагруженная покупками.
— Смотрите, какие картинки мама купила мне к празднику! — сказала она.— Броненосец «Потемкин», крейсер «Аврора»!
Глаза у нее светились счастьем.
Но Настасья Петровна даже не взглянула на Гулины покупки и ушла па кухню.
Гуля убежала в свою комнатку и плотно закрыла за собой дверь.
Там она сразу же принялась за работу. Краска на стенах была свежая, и бумага легко к ним приставала.
Странная, небывалая тишина воцарилась в доме. Настасья Петровна забеспокоилась — не натворила ли чего-нибудь эта девчонка?
Открыв дверь, она всплеснула руками. Только что окрашенные стены были оклеены картинками. Платье, чулки на Гуле, даже щеки и нос были выпачканы голубой краской.
384
— Безобразие! — закричала Настасья Петровна.— Степы испортила!
— Как вы можете так говорить? — возмутилась Гуля.— Ведь это броненосец «Потемкин»! Крейсер «Аврора»! Как вы не понимаете!
Но Настасья Петровна, не слушая Гулю, принялась сдирать картинки со стен. Гуля вцепилась в ее платье. Она рыдала, кричала, топала ногами, но напрасно. Вскоре все было кончено. Настасья Петровна, ругаясь, ушла на рынок, а Гуля с плачем упала на кровать.
Слезы текли по ее щекам, вымазанным краской, оставляя за собой разноцветные дорожки.
«Что делать? — думала Гуля.— Мама весь день на работе, а с Настасьей Петровной жить вместе прямо невозможно! Хоть бы она в деревню уехала. Так пет, не уедет, нарочпо теперь не уедет. Вот возьму,— решила Гуля,— и сама убегу из дому. Ей назло».
Но куда уехать? На дачу? Там холодно. Окна заколочены досками. Ветер воет в:а чердаке. Нет, если ехать, то в какие-нибудь теплые страны. Например, в Испанию. Есть такая страна (в кино показывали). Ну конечно, в Испанию! Только надо спросить у кого-нибудь на улице, где она.
Гуля встала, вытерла полотенцем мокрое от слез лицо и начала собираться в дорогу. Первым делом она взяла с этажерки свои любимые книжки — «Детки в клетке» и «Лампу Аладдина». Потом подумала и достала из ящика маминого стола несколько серебряных гривенников и медяков. После этого открыла бельевой шкаф и вытащила из кучки аккуратно сложенного белья простыню.
«Это будет моя палатка,— решила Гуля.— Ведь мне придется ночевать прямо в поле или в лесу».
Она засунула простыню в чемоданчик. Сверху положила книжки и своего старого друга Пафпутия Ивановича. Всю мелочь, которую нашла в столе, положила в карман передничка.
«Пальто тоже надо взять,— подумала Гуля.— И зонтик. А то еще вдруг в Испании пойдет дождь».
Она вытащила из шкафа свой крошечный розовый зонтик, обшитый кружевами.
385
И, уверенная в том, что она обеспечила себя на все случаи жизни, Гуля оделась, взяла в руки чемоданчик, зонтик и отправилась в далекий путь. Во дворе она простилась со всеми знакомыми ей ребятами.
Когда Настасья Петровна вернулась домой, соседские дети спокойно заявили ей:
— А ваша Гуля уехала в Испанию.
Настасья Петровна бросилась на розыски Гули и часа через два нашла ее на вокзале — девочка сидела на скамейке, дожидаясь отхода дачного поезда. Кое-как приволокла она беглянку домой. Гуля упиралась и плакала.
Соседи позвонили матери на работу. Когда она вошла в комнату, Гуля, рыдая, бросилась ей навстречу.
— Я не могу больше так жить! — сказала она.
Мама села на диван и притянула дочку к себе.
— Ну, расскажи, что случилось. С Настасьей Петровной опять не поладила?
Слезы душили Гулю.
— Она ничего не понимает! — еле выговорила Гуля, заливаясь слезами.— Тебя и папы целый день дома нет, а она ничего не понимает. Я так красиво по стенам расклеила твои картинки, думала — она обрадуется, а она говорит: «Стены испортила», и все порвала, ножом соскоблила. Отдай меня в школу!
— Хорошо, Гуленька, мы что-нибудь придумаем. Только в другой раз не убегай без спросу в Испанию.
Мама уложила дочку на диван и укрыла ее. Гуля успокоилась и уснула.
А мама долго еще сидела возле нее, гладя ее голову. Среди ее мягких льняных кудрей чуть темнела на затылке прядь каштановых волос.
«Растет моя дочка,— думала мать,— вот и волосы начинают темнеть. Как-то у нее сложится жизнь?..»
,ДДАН“
Гуле шел седьмой год. Она давно уже умела читать — чуть ли не с пяти лет,— но отдавать ее в школу было еще рано. Знакомые посоветовали матери устроить ее в группу, которой руководила старая учительпица-францужеика: девочка будет играть и гулять вместе с другими детьми, да кстати и языку научится. И вот Гуля в первый раз пришла к учительнице.
В комнате со старинной, полинявшей мебелью и множеством картинок и фотографий на стенах, кроме Гули, было еще двое детей: мальчик Лелик, с длинными кудрями, похожий на девочку, и стриженая девочка Шура, похожая на мальчика.
Дети уселись за низенький столик, а старушка учительница взяла зеленого тряпичного зайца и запела непопятную песеп- ку. Заяц у нее в руках принялся отплясывать на столе какой- то смешной танец. У него прыгали уши и болтались ноги, дети смеялись и повторяли за учительницей странные слова песенки.
Гуля смотрела на всех молча, исподлобья. Но вот она решилась что-то спросить.
— Адам,— сказала она наконец,— почему...
— Что ты сказала? Повтори,—удивилась француженка.
— Адам,— повторила Гуля.
— Не «адам», а «мадам» нужно сказать.
— Мадам,— снова начала Гуля,— разве русский язык такой плохой, что нужно учить еще французский?
Ей это казалось удивительным. Зачем петь песенки па непонятном языке, когда есть на свете такой хороший, такой понятный русский язык? И к тому же, зачем пужно заставлять плясать этого зеленого зайца? Дома у Гули тоже был заяц, только не зеленый, а голубой, но он уже года три как лежал в ящике с другими старыми игрушками. Гуле скоро нужно было поступать в школу, а ее забавляли, как маленькую!
Старушка не знала, что ответить Гуле. Она подумала немножко и велела детям устроить хоровод. Мадам взяла за руки Лелика и Шуру, а Шура протянула руку Гуле. Но Гуля вырвалась и села на стул.
— Я не люблю танцевать утром,— сказала она.— Я люблю утром читать.
387
Француженка недовольно покачала головой:
— Ты непослушная девочка. Ну хорошо, мы будем читать.
Но оказалось, что в этой группе читают тоже не по-русски,
а по-французски. И не сказки читают, а только азбуку.
Мадам раздала детям картинки с нарисованными на них буквами: а, бе, се, де...
Дело было нехитрое. Гуля быстро запомнила все буквы. Не прошло и месяца, как она уже умела довольно бегло читать по-фраицузски.
На прогулках в саду она торопила свою «адам» домой:
— Пойдем почитаем еще немножко вашу французскую книжку.
А к концу зимы она научилась не только читать, но и писать. Когда она на уроках очень уж расходилась и шалила, мадам надевала пенсне и говорила:
— Спокойно! Сейчас мы будем писать диктант.
Но Гуля и этот урок превращала в веселую игру.
— Дитя лежит в колыбели,— мерным голосом диктовала мадам французские фразы.— Птичка сидит на дереве. Бабушка вяжет чулок. Дедушка курит трубку.
А Гуля выводила в тетрадке:
«Бабушка лежит в колыбели. Дитя курит трубку. Птичка вяжет чулок. Дедушка сидит на дереве».
И, стараясь не смеяться, с самым серьезным видом протягивала тетрадку своей «адам».
Француженка поправляла пенсне и принималась вслух читать Гулины каракули.
— Что такое? — говорила она, хмуря брови.—Птичка вяжет чулок? Дитя курит трубку? Ничего не понимаю!
Гуля покатывалась со смеху, а вместе с ней — Лелик и Шура.
Добрая старушка прощала Гуле эти проказы. Она считала, что, играя, переставляя по-своему французские слова, Гуля скорее их запомнит. Она только следила за тем, чтобы каждое слово было написано правильно, без ошибок.
Так весело и мирно шли эти занятия. И никто в группе не подозревал, какую новую проделку задумала Гуля.
Однажды, когда в теплый весенний день вся группа в пол¬
388
ном сборе гуляла по улице, Гуля неожиданно остановилась у подъезда трехэтажного каменного дома.
— Мадам,— сказала она,— пожалуйста* подождите меня здесь, я сейчас вернусь.
И, приоткрыв тяжелую дверь, она исчезла.
— Мадам, а ведь это школа! — сказала Шура.— Видите — написано?
И девочка показала на прибитую к двери вывеску.
— Стойте оба здесь,— ответила француженка.— Я сейчас буду посмотреть.
Лелик и Шура остались одни. Они взялись за руки и прижались к стене дома, чтобы их не переехала машина.
Гуля вернулась первая.
— А где адам? — спросила она.— То есть мадам?
— Пошла тебя искать,— ответили Лелик и Шура вместе.— А ты где была?
— После расскажу!
В это время из дверей школы выбежала взволнованная мадам.
— Скверный девочка! —набросилась она на Гулю.— Где ты ходил?
Когда она волновалась, она говорила по-русски еще хуже, чем обычно.
Гуля помолчала немного, а потом сказала серьезно, как большая:
— Простите, мадам. Я в школу поступила. В первый класс. Завтра нужно будет отнести метрику.
Мадам только всплеснула руками.
На другой день Гулина мама отнесла в школу документы.
Так Гуля сама отдала себя в школу.
ПЕРВОКЛАССНИЦА
В первом классе Гуля оказалась выше всех ростом, хоть и моложе всех по возрасту.
На первых порах ей пришлось нелегко.
389
Какому-то озорному мальчишке приглянулись ее_ кудрявые волосы. Он незаметно подкрадывался к ней сзади, всовывал палец в локон и дергал. Это было больно и обидно. Гуля рассказала об этом дома, но мать спокойно отнеслась к ее жалобам.
— Договаривайся с ним сама. Не можешь договориться, дай сдачи. А учительнице не жалуйся.
И Гуля не стала давать себя в обиду.
Ей очень нравилось в школе. В нарте у нее было целое хозяйство. В одном углу лежали новенькие книжки и тетрадки, в другом стоял лакированный пенал, а в пенале чего-чего только не было! И карандаши, и блестящие перышки, и резинки.
Однажды Гуля принесла с собой в класс маленькую шерстяную обезьянку и стала устраивать ей из книжек и пенала уютный домик. Она не заметила, как вошла в класс учительница.
Начался урок.
Учительница что-то долго читала вслух, по Гуля ничего не слышала.
— А теперь Гуля Королева прочтет нам этот рассказ,— вдруг сказала учительница.
— Какой рассказ? — спросила Гуля, вставая с места.
— Тот, который я только что вам прочла.
— Я ничего не слыхала,— проговорила Гуля и опустила голову.
— Стыдно, Королева,— сказала учительница.— Ты невнимательна, и я ставлю тебе «плохо».
Вскоре в одной из комнат кинофабрики, где работала мать Гули, раздался телефонный звонок.
— Позовите мою маму! Товарища Королеву! — послышался в трубке взволнованный голос.— Мама, это ты? Мама, мне плохо!
Мать чуть не выроиила из рук телефонную трубку.
— Гуленька, что с тобой? Сейчас же иди к школьному врачу! Я скоро приеду за тобой в школу.
— Я не в школе,— послышалось в ответ.— Я уже дома.
— Ну и хорошо, что дома. Скорей ложись в постель. Что у тебя болит?
— Мама, ты не понимаешь! — сказала Гуля.— Не мне плохо, а у меня «плохо»!
390
— Как — плохо? Говори толком. Что у тебя болит? Голова? Горло?
— Да что ты, мама! Я же говорю, мне не вообще плохо. Мне по русскому устному «плохо»!
Мать вздохнула с облегчением.
— Так бы и сказала. Это еще ничего, если только по русскому устному.
— Да, ничего! Тебе все ничего,— обиделась Гуля.— А мпе от этого «плохо» очень, очень плохо!
В другой раз, когда Гуля и в самом деле заболела, мать ей не поверила.
— По какому предмету «плохо»,— спросила она,— по устному или по письменному?
— Горло болит! — еле выговорила Гуля.— И тошнит что-то...
Когда мать приехала домой, Гуля уже лежала на кровати вся красная от жара. Приехавший доктор осмотрел ее и произнес одно из тех слов, которых так боятся все матери:
— Скарлатина.
В БОЛЬНИЦЕ
В большом саду перед окном нижнего этажа стояла мать Гули. С грустью смотрела она на худенькую стриженую девочку в длинной рубашке и в халатике, которая теперь, после болезни, совсем не похожа была на прежнюю веселую Гулю.
Из-за плотно закрытого окна не слышно было Гулиного голоса. Но лицо Гули выражало полное отчаяние. Она что-то быстро писала на большом листе бумаги, приложив его к подоконнику, и потом показывала свои каракули маме в окно. Вкривь и вкось было написано:
«Мама, возьми меня отсюда! С меня вся кожа слезла. Я больше пе могу тут жить!»
В ответ мать Гули цисала ей на листках из блокнота:
«Гуленька, потерпи еще совсем немножко. Скоро я возьму тебя домой. Дома тебя ждут замечательные подарки».
391
У Гули дрожали губы и подбородок, но она крепилась и не плакала, хотя ей было всего только восемь лет.
Когда мать ушла, Гуля отправилась с горя на кухню, чтобы узнать меню сегодняшнего ужина. Это было очень интересно — три раза в день бегать на кухню, а потом обходить все палаты своего отделения и говорить ребятам, лежащим в постели, что будет к завтраку, к обеду или к ужину.
— Макаронная запеканка и кисель! — торжественно провозгласила Гуля.
Но, к сожалению, оказалось, что какая-то долговязая бритая девчонка из соседней палаты уже успела раньше Гули сбегать на кухню, и новость эта ни на кого не произвела впечатления.
Гуля села на кровать и вздохнула. До ужина оставался еще целый час. Она принялась декламировать шепотом стихи своего любимого поэта Некрасова. И вдруг, незаметно для нее самой, в голове у нее стали складываться какие-то новые, нигде не подслушанные слова и строчки про ее маленького рыжего щенка Петьку, оставшегося дома:
Что ты, родименький,
Что ты, собачечка,
Что ты сидишь там в углу?
Скучно собачечке,
Скучно родименькой Тихо сидеть там в углу.
Иу, подойди, я тебя приласкаю,
Хлебушка нету в дому.
Вот засыпает мой рыженький, маленький В тихом своему уголку.
«Как это у меня получилось? — подумала Гуля.— Это уже не такие глупые стихи, как те, про Африку».
И она вспомнила первое свое стихотворение, которое она сочинила, когда ей было четыре года:
Птицы скоро улетают Стаями домой,
Африка для них душиста,
Африка им край родной.
392
«Надо будет записать стишок про Петьку»,—решила Гуля.
Она взяла карандаш, клочок бумаги и написала большими буквами:
СТИХ ПРО ПЕТЬКУ
И вдруг ей захотелось спать. Глаза стали у нее слипаться, голова сделалась тяжелая, и Гуля упала ничком па подушку.
Когда на ужин принесли миску, наполненную горячими макаронами, Гуля уже спала крепким сном.
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
Вернувшись из больницы, Гуля нашла дома целую библиотечку. На полочке были расставлены новые книжки, от которых еще пахло типографской краской. Больше всего Гуле правились книжки о путешествиях.
«Вот бы поскорее вырасти,— думала Гуля,— и самой сделаться путешественницей!»
И вдруг неожиданно Гулина мечта исполнилась. Гуля уехала вместе с матерью далеко-далеко, в Армению.
Для матери это была служебная командировка, а для Гули — одна из самых веселых поездок.
Во дворе дома, где они остановились, пахло гарыо от маленького очага, сложенного из камня против самой двери. Перед очагом сидела на корточках девочка с черными, туго заплетенными косичками. Девочка мешала что-то большой ложкой в медном тазу. Из таза поднимался сладкий медовый запах, и пахло медом даже на улице.
Время шло к осени. Солнце уже не палило, как летом, а грело спокойно и бережно.
— Как тебя зовут? — спросила Гуля у девочки.
Девочка поправила по очереди обе косички и стала рассматривать ложку, будто в первый раз ее увидела.
— Гаяиэ,— тихо ответила она.
— Ты в школе учишься? — спросила Гуля.
393
— Конечно, учусь,— нараспев сказала Гаянэ.
— А ты любишь свою школу?
— Конечно, люблю.
— А подруги у тебя есть?
— Конечно, есть.
— А со мной хочешь дружить?
— Конечно, хочу,— усмехнулась Гаянэ.
— А где твоя школа, близко?
— Не очень близко,— ответила Гаянэ,— немножко далеко.
Гуля села на ступеньку рядом с Гаянэ. Постепенно девочка
сделалась разговорчивей, и Гуля узнала от нее, что две снежные горы, поднимающиеся за облака, называются Арарат и что армяне еще их называют по старинке Сис и Масис — Малый Арарат и Большой. А Гуля рассказала Гаяиэ, что она с мамой проезжала на поезде через какие-то горы и что, когда они рано утром вышли на станцию Алагез, было очень холодно.
— Так всегда на горах бывает,— сказала Гаянэ.— Вон гора Алагез.— И она показала рукой на гору, возвышающуюся как раз напротив Арарата.— Мой старший брат Каро на самый верх лазил.
— А где он сейчас? — спросила Гуля.
— А вот,— кивнула Гаянэ на мальчика в меховой шапочке.
Мальчик сидел верхом на ограде, выложенной из камня,
и глядел куда-то вдаль из-под руки.
— Это оп смотрит, чтобы чужие мальчики наши груши и айву не таскали,— объяснила Гаянэ.
— Жалко, моего старшего брата Эрика здесь нет,— вздохнула Гуля.— Эрик бы им показал!
Гуля сказала это не задумываясь и сама удивилась своим словам. Эрик вовсе пе приходился ей братом, он был ее товарищем с самого раннего детства, но Гуля в эту минуту позавидовала Гаянэ, что у той есть брат, и придумала себе старшего брата.
Дружба Эрика и Гули началась еще с тех пор, когда обоим было всего по три года.
Впрочем, в те времена Гуля нередко обижала Эрика. Однажды она унесла домой его белого плюшевого слона и долго не хотела с ним расставаться. Она говорила:
394
— Слон мне сам сказал — он пе хочет жить у Эрика, он хочет жить у меня.
Эрик долго и терпеливо ждал, пока слону снова не захочется вернуться к своему настоящему хозяину.
Но чаще случалось, что Гуля отдавала Эрику свои игрушки. Она даже подарила ему своего любимого клоуна Пафнутия Ивановича.
Потом они с Эриком поступили в разные школы и стали видеться реже. Но все же они всегда жили в одном городе.
А теперь Эрик был за тысячи километров от Еревана — в Москве.
— А он большой, твой брат? — спросила Гаянэ.
— Большой,— сказала Гуля,— может быть, даже больше твоего Каро.
И Гуля посмотрела в ту сторону, где был мальчик в меховой шапочке.
Мальчик грозил кулаком кому-то стоявшему по ту сторону каменной ограды и что-то сердито кричал на своем языке. Вдруг из-за ограды полетели прямо в него комья глины.
Гуля сорвалась с места и подбежала к ограде. Она быстро вскарабкалась и закричала:
— Эй вы, мальчишки! Если вы сейчас же не перестанете, я позову моего старшего брата Эрика. У него есть настоящее охотничье ружье!
Неприятели с изумлением смотрели на незнакомую девчонку, совсем не похожую на тихих и робких девочек, которых они привыкли видеть на улицах своего города.
Один из них, самый смуглый и крепкий, смотрел на Гулю, открыв рот и не мигая.
— Постой, постой! — сказала Гуля.— Я до тебя доберусь!
Неизвестно, понял ли мальчик ее слова, но только ои круто
повернулся и убежал.
За ним бросились наутек и все остальные.
— Они теперь с другого конца прибегут,— сказал Каро,— я уж их знаю!
— А ты не зевай. Беги им навстречу! —приказала Гуля.— И, чуть что, кричи: «Эрик!»
Каро сполз с ограды и со всех ног бросился в противопо¬
395
ложный конец двора. Скоро оттуда донесся его отчаянный голос:
— Эрик! Сюда! Э-рик!
Гуля бросилась на помощь.
— Эрик идет! — закричала она на бегу.— Ружье заряжает!
Каро стоял на покатой крыше дома. Он радостно замахал
руками:
— Побежали!
— Ага! — закричала Гуля.— Испугались!
Каро сполз на землю.
— А у тебя правда есть брат Эрик? — спросил он.
Гуля кивнула головой:
— Двоюродный...
— А где он сейчас? Дома сидит?
— Дома... в Москве.
Черные брови Каро высоко поднялись. Но, сообразив что- то, он засмеялся:
— Хитрая! Брат в Москве, а она весь Ереван братом пугает.
— Хочешь со мной дружить? — спросила Гуля.
Каро переступил с ноги на йогу, усмехнулся:
— У меня сестра Гаянэ есть. В Ереване, а не в Москве. С ней дружить можно.
— Ас тобой нельзя?
Каро смутился:
— Почему нельзя? Все можно.
И с этого дня Гуля подружилась с Гаянэ и Каро. А неприятельская армия издали с завистью наблюдала, как брат и сестра отбирали для приезжей девчонки самые спелые, самые сочные груши.
Скоро и враги прониклись к этой приезжей уважением. Случилось это так.
Во дворе у них жил на привязи большой, сердитый пос Абрек. Далеко вокруг разносился его хриплый, свирепый лай.
Несколько раз останавливалась Гуля у ворот двора, где жил Абрек, и заглядывала в калитку, но Абрека не было видно.
Наконец, набравшись храбрости, Гуля вскарабкалась на выступ в каменной ограде и увидела большую серую овчарку.
Собака отчаянно крутила головой, стараясь освободиться от толстой веревки, заменявшей цепь.
— Сейчас я тебе помогу! — закричала Гуля, перемахнула через ограду и, спрыгнув вниз, побежала прямо к конуре.
— Куда?! — закричал ей вслед Каро, появившийся вдруг над оградой.— Разорвет! На куски разорвет!
— Ничего,— сказала Гуля,— не разорвет.
Абрек мрачно уставился на Гулю и, рванувшись вперед, залаял с таким остервенением, что сразу лишился голоса. Гуля остановилась.
— Абрек,— сказала она самым ласковым голосом,— не бойся, маленький, я тебя не обижу...
Абрек до того удивился, что так и осел на задние лапы.
А Гуля, подойдя к страшному псу, погладила его между ушей и принялась отвязывать веревку. Пес, казалось, сошел с ума от радости. Он запрыгал вокруг Гули, потом вскочил на задние лапы, а передние положил ей на плечи.
Отвязав Абрека, Гуля взяла его за ошейник, и сторожевой пес, которого боялись все окрестные жители, спокойно и кротко пошел рядом с девочкой, осторожно ступая у самых ее ног.
И с этого дня о Гуле по всей улице пошла слава, что она никого и ничего на свете не боится.
Но вот настал день Гулиного отъезда. У ворот стояла линейка. Каро вынес чемоданы.
Мать Каро, маленькая тихая женщина, протянула Гуле плетеную корзинку, наполненную виноградными гроздьями. Подошла Гаянэ. Она плакала.
Гуля обняла ее, поцеловала.
— Не плачь, Гаянэ. Приезжай к нам в Москву.
Поодаль стояли молча соседские мальчики, бывшие Гулины враги, а теперь друзья. Когда линейка тронулась, Гуля помахала им рукой.
И сейчас же вся ватага бросилась ей вслед, а двое самых, ловких прицепились к задку линейки. Возница крикнул им что-то на своем языке, мальчики засмеялись и еще крепче ухватились за край линейки.
Но это было еще не все. Волоча за собой веревку, на улицу
397
выскочил взлохмаченный Абрек. В несколько прыжков догнал оп всю компанию и побежал впереди линейки.
— Абрекушка! — закричала Гуля.— Мама, возьмем его с собой!
Мама только рукой махнула.
Но вот линейка покатила под гору, и мальчики соскочили на землю.
— Прощайте! — крикнула им Гуля, и они оба сняли шапки и махали Гуле до тех пор, пока линейка не скрылась из виду...
ГУЛЯ И ЭРИК
Медленно и торжественно подходил к московскому перрону поезд. Паровоз показался издалека — оттуда, где еще не начиналась платформа.
Эрик бросился навстречу подходившему поезду.
На площадках вагонов уже толпились пассажиры, подзывая носильщиков. Эрик вглядывался в лица, ища глазами Гулю.
Уже пассажиры высыпали на платформу, а Гули все не было. И вдруг Эрик услышал знакомый звонкий голос:
— Эрастик!
Так называла его одна только Гуля.
Она высунулась из окна, почерневшая на южном солнце. Эрик бросился к вагону, пробиваясь сквозь шумящую толпу, натыкаясь на чемоданы и кули. Доски перрона застучали под его ногами. И, не слыша за собой голоса матери, которая бежала следом за ним, не помня себя от радости, Эрик взобрался на площадку вагона. А на площадке, топая ногами от нетерпения, уже стояла Гуля с большой круглой корзинкой в руках.
— Это тебе виноград! — закричала она.— А внизу там персики. Только они уже размякли. Их придется или очень скоро съесть, или просто выбросить... А еще я хотела привезти тебе одного чудного щенка, но, кажется, он был бешеный.
— И, должно быть, он тебя укусил, Гуля,— сказала мама.— Посмотри, вон стоит тетя Маша, а ты с ней даже не здо~ роваешься* только болтаешь какие-то пустяки*
398
— Машенька! — закричала Гуля и, соскочив на перрон, повисла на шее у матери Эрика.
— А ваша квартира, дорогие мои, еще не готова,— сказала тетя Маша.— Маляр обманул нас и третий день не приходит. Вам придется заехать к нам.
— Ура! — закричала Гуля.— Молодчина маляр. Ура!
— Ура! — еще громче подхватил Эрик.
И скоро маленькая комната тети Маши наполнилась шумом, смехом и той особой суетой, которая всегда бывает в первые минуты встречи. На столе появилось армянское лакомство чух- чель с начинкой из винограда, тонкий хлебец лаваш и лепешки. Сладко запахло перезрелыми персиками. В стаканах засверкало красное ереванское вино.
А по единственному подоконнику маленькой комнаты уже бегали две белые крысы с розовыми глазками и длинными голыми хвостами. Это Гуля успела сбегать в свою школу и притащить крыс из живого уголка.
Крысы бесшумно сновали по подоконнику. Эрик и Гуля кормили их крошками хлеба, а старая няня, укладывая спать маленького Мику, братишку Эрика, поглядывала искоса на Гулю и ворчала:
— И так тесно, ребенку дышать нечем, а она этакую пе- чисть в дом притащила!
— Да что вы, нянечка, они чистеныше! — уверяла Гуля.— Смотрите, какие они хорошенькие!
Ее мама только рукой махнула.
— Не может Гулька жить без своего зверинца. Прямо беда с ней! В Ереване за ней ходили огромные лохматые псы. Их боялись все ребятишки, а она их любила так же нежно, как этих своих крыс.
Когда обе матери ушли из дому, Гуля шепнула Эрику — так, чтобы не слышала няня:
— Я тебе хочу что-то сказать по секрету.
— Пойдем в коридор,— предложил Эрик.
Ребята выбежали в темный коридор, ведущий в кухню.
— Я не знаю, что делать, Эрик,— начала Гуля,— морская свинка сидит в школе совершенно одна. Никто из ребят не подумал взять ее на лето!
399
— Возьмем ее к нам! — сказал Эрик.
— А няня? Она и так ворчит из-за крыс.
— Мы ее под кровать посадим! — придумал Эрик.
— Кого под кровать? — засмеялась Гуля.— Няню?
— Свинку.
— Свинку нельзя под кровать. Ей под кроватью будет плохо. Ей нужен воздух и свежая трава.
— А где взять траву? — спросил Эрик.— Я придумал! На берегу Москвы-реки травы сколько хочешь. Пойдем нарежем!
И, юркнув в кухню, Эрик через минуту уже выбежал оттуда с кухонным ножом в руке.
— А корзинку для травы? — напомнила Гуля.
— Можно взять ту, в которой ты привезла виноград,— сказал Эрик.
И, когда няня, уложив Мику, задремала сама, Эрик и Гуля выбежали из дому.
На берегах, не обшитых еще в те годы гранитом, желтела осенняя полуувядшая трава. Эрик и Гуля со всем усердием принялись за работу, и скоро корзинка была полна.
Когда обе матери вернулись домой, они еще из передней услышали сердитый голос старой няни:
— Да что ж это такое? Да где ж это видано? Хоть из дому беги...
— Что там случилось? — спросила Гулина мама и быстро отворила дверь.
В углу комнаты па траве сидела, тяжело дыша, рыженькая морская свинка. Эрик и Гуля стояли у окна, понурив головы. Крупные слезы текли по щекам Гули.
— Машенька,— сказала Гуля и посмотрела на мать Эрика с мольбой и отчаянием,— свинка умрет в школе от голода и тоски!
Но никакие уговоры не могли убедить взрослых в том, что свинку необходимо оставить дома.
С охапкой травы в одной руке и со свинкой — в другой Гуля вышла из дому. Она крепко прижимала свинку к сердцу и горько плакала.
Следом за ней шел Эрик и утешал Гулю как только мог...
400
С ДЕТЬМИ ГЕРОЕВ
Прошла зима. А в одно весеннее утро в Гулиной жизни произошло большое событие.
— Мы поедехМ с тобой в детский дом МОПРа,— сказала мама.
Слово «МОПР» Гуля слышала еще в раннем детстве. Не понимая, что это значит, она уже знала, что мама работает в каком-то МОПРе, а когда подросла, то уже стала понимать, что это значит: «Международная организация помощи борцам революции».
Гуля очень любила, когда в гости к ним приходил французский писатель Леон Муссинак. Гуля усаживалась рядом с ним и могла подолгу, не проронив ни слова, его слушать.
«Вот хорошо,— думала она,— что адам учила меня французскому. Это так интересно все, что говорит милый, милый наш Муссинак!»
Особенно запомнилась Гуле песня, которую он пел, рассказывая об Испании: «Тореадор, смелее в бой!»
Однажды во время испанской революции 1931 года группа партизан-французов переносила в Испанию тайными тропами через Пиренеи тяжелые ящики с оружием. Когда люди уже совсем выбились из сил, один из французов, писатель Поль Вайян Кутюрье, бесстрашный, веселый человек, завернулся в плащ и бодро запел:
«Тореадор, смелее в бой! Тореадор! Тореадор!»
Эта песня — ария из оперы «Кармен» — так неожиданно прозвучала здесь, в горах, что все невольно рассмеялись, повеселели, и это дало измученным людям силы преодолеть усталость и продолжать путь.
Гуля слушала Муссинака, не сводя с него глаз, а потом часто, закутавшись в мамин платок и перебросив его через плечо', шагала по комнате и пела, раскатисто произнося «р»:
Тор-реадор, смелее в бой!
Но никто не мог предположить тогда, что, спустя каких-нибудь десять лет, эта девочка, с волнением слушающая рассказы о героях, сама станет героиней и поднимет людей на подвиг
16 Библиотека пионера. Том II 401
так же неустрашимо, как это сделал пламенный борец за свободу Вайян Кутюрье...
А пока она только прислушивалась, присматривалась, сама не сознавая того, что учится стойкости и бесстрашию...
Когда Муссинак уезжал на родину, Гуля послала с ним письмо французским ребятам.
«Дорогие друзья,— написала она на листке, вырванном из тетрадки,— как вы поживаете? Обязательно, обязательно приезжайте к нам в гости!»
Французские друзья в гости к Гуле не приехали, но прислали ей с Муссинаком, снова приехавшим в Советский Союз, подарок — пушистую вязаную кофточку.
Гуля ласково проводила ладонью по этой мягкой ворсистой кофточке и говорила:
— Вот спасибо французским ребятам! Хоть бы одного из них увидеть! Хоть бы самого маленького!
И подумать только — мечта ее исполнилась! Она едет в детский дом, где живут ребята, да еще при этом не из одной только Франции, а из многих, многих стран! Мама говорит, что там живут немцы, китайцы, японцы, болгары...
Своей радостью Гуля поделилась первым делом с Эриком. Она позвонила ему по телефону:
— Знаешь, Эрастик? Есть такой город Иваново. Там фабрики ткацкие. А за Ивановом — речка Талка. Наверное, хорошая речка. Правда? Уж очень название веселое — вроде Наталки. Так вот, у этой самой Талки-Наталки есть детский дом. Мама туда едет и меня с собой берет!
И Гуля пообещала Эрику, что расскажет ему все-все, как только вернется.
...Гуля и ее мама сошли с поезда и поднялись вверх по ступеням на высокий железнодорожный мост. Отсюда открывался широкий простор. По обе стороны тянулись и уходили вдаль, изгибаясь и поблескивая сталью, рельсы, виден был город с его фабричными трубами и зеленью садов, а еще дальше темнел лес. Над горизонтом стоял огненный диск заходящего солнца.
— А вон и детский дом,— сказала мама.
— Где? Где? — с нетерпением спросила Гуля.
402
— А вон... У самой опушки леса.— И мама показала на белеющий вдалеке двухэтажный дом.— Ну, пойдем, Гулюшка.
Зоя Михайловна шла не спеша, а Гуля то убегала от нее вперед, то возвращалась назад, чтобы задать маме какой-нибудь вопрос.
— Мама, а как эти ребята разговаривают друг с другом? Китайские говорят по-французски или французские говорят по- китайски?.. Мама, а родители их дома остались?
Когда Гуля узнала, что у некоторых из детей родители убиты, а у других сидят в тюрьме, она замедлила шаг.
— Что же ты? — спросила Зоя Михайловна оглядываясь.— Устала?
— Нет,— отозвалась Гуля.— Ты пойди вперед... Я немножко подумаю, а потом тебя догоню.
Радость, которую она чувствовала весь день, вдруг померкла. Она думала о том, что сейчас увидит грустных, бледных, заплаканных ребят.
Мама взяла ее за руку, и они вошли в детдомовский сад.
Стекла окон так и сверкали, отражая багряный свет заходящего солнца. Перед большой верандой бил фонтан. Слышалось неумолкающее, задумчивое, чуть печальное журчание, как будто фонтан тихонько бормотал что-то такое, о чем знал только он один...
И опять Гуля подумала о детях этого дома, которым пришлось испытать то, что бывает только в страшных сказках.
Но тут откуда-то из-за веранды на песчаную дорожку выехал педальный автомобиль, и маленький краснощекий мальчуган, сидевший на нем, весело загудел и заболтал что-то на своем языке. Гуля посторонилась, чтобы дать ему дорогу, и в эту минуту целая ватага таких же разрумянившихся и веселых ребят выбежала из глубины сада. В руках у одного из них был волейбольный мяч.
При виде этой веселой, беззаботной ватаги Гуля сразу забыла о страшных сказках и уже не думала больше о том, что пережили не так давно эти ребята.
Когда сели ужинать, Гуля оказалась за одним столиком с болгарами — с двумя мальчиками и девочкой. Все трое очень понравились Гуле, особенно девочка. Звали ее Росица. У нее бы¬
403
ли длинные иссипя-черные вьющиеся волосы, зачесанные за уши, серо-зелепые, как будто прозрачные, глаза и ямочка на подбородке.
— Я не могла еще много научить русский,— сказала Роси- ца, словно извиняясь перед Гулей,— поэтому у меня есть много ошибки.
Но Гуле сразу все полюбилось в ее новой подруге, даже ее ошибки. И скоро Гуля узнала, что Росица жила в главном городе Болгарии, в Софии, что она «школьничка», «ученичка» четвертого класса.
— Я очень хочу,— говорила Росица,— иметь много прия- тельки в Советская Россия.
— Какое у тебя имя красивое,— сказала Гуля.— Росица. Совсем как роса. Росинка.
На ночь Гулю уложили в одной комнате с Росицей.
А утром мама сказала Гуле:
— Я уезжаю, Гулюшка.
— А я? — с тревогой спросила Гуля.— Мне еще не хочется уезжать.
— Меня просили оставить тебя погостить,— успокоила ее мама.— Но смотри, Гуленька, не озорничай. Было бы очень стыдно, если бы советская девочка вела себя хуже, чем другие дети.
— Хорошо, мама,— серьезно ответила Гуля.— Я понимаю.
В этот же день, проводив маму, Гуля играла с ребятами в
волейбол, каталась на карусели и на гигантских шагах в саду детского дома.
Спустя неделю она уже говорила понемножку на всех языках, а в чемоданчике ее еле-еле помещались подарки. Девочки дарили ей на память картинки, вышивки, ленточки, а мальчики — монеты и марки своих стран.
Приближался день отъезда. Гуля уже успела подружиться со многими ребятами и научиться петь их песни.
За несколько дней до того, как снова приехала мама, Гулю приняли в пионеры.
Накануне вечером, лежа в постели, она сказала Росице:
— Последние часы мы доживаем с тобой октябрятами. А завтра в это время...
— Что завтра? — спросила Росица, подняв голову.
404
— Пионерками будем!
...И вот Гуля уже стоит на торжественной линейке. Справа и слева от нее — китайские девочки: Чи-чу и Ту-я. И везде, во всю длину линейки,— знакомые ребята: Росица, Митко и Петро из Болгарии, Энрико из Гаваны, Иосиф из Венгрии, маленький негр Нилли из Америки, Китами из Японии, Лена из Сербии...
Все они кажутся Гуле настоящими героями, такими же, как их родители.
И оттого, что она стоит с ними в одном ряду, она чувствует себя тоже чуточку героиней...
А в облаках, разгораясь, как в тот вечер, когда Гуля сюда приехала, горит-полыхает закат, и кажется, что это ходят по небу пионерские отряды со своими красными знаменами.
ПЕРВАЯ высот
Над скалистым берегом моря, в густой зелени акаций, прятались стеклянные строения украинской кинофабрики. Издали виднелись красные черепичные крыши. В этом саду можно было увидеть толпу бойких босоногих ребятишек и впереди всех — веселую загорелую девочку в ситцевой юбчонке и в вышитой украинской рубашке. Это была героиня кинокартины — бесстрашная Василинка. Шла съемка картины «Дочь партизана».
Василиикой была Гуля. Случилось так, что она вместе с матерью поехала на Украину. Режиссеры кинофабрики, увидя Гулю, сразу решили, что Василинка должна быть точь-в-точь такой, как Гуля. Матери не хотелось делать из Гули киноартистку, но режиссеры настаивали до тех пор, пока она не согласилась.
Гуле пришлось приняться за трудную, серьезную работу.
В картине была сцена, где Василинка верхом на лошади берет препятствие. Для того чтобы сыграть эту сцену, Гуле пришлось научиться ездить верхом — в седле и без седла.
Красноармеец привел во двор кинофабрики рослого белого коня. Поглаживая своего красавца по крутой, гладкой спине, он говорил:
405
— Це добрый конь. Нема билыне такого доброго коня, як Сивко.
Но «добрый конь» оказался злым и упрямым, когда на него посадили Гулю. Оп рванулся с такой силой, что Гулю сразу откинуло назад и она чуть не полетела вниз головой. Ее вовремя подхватили.
— Вы идите рядом,— сказала Гуля режиссеру,— а я еще раз попробую.
Она уселась поудобнее и дернула поводья. Сивко не тронулся с места. Гуля сжала ногами бока лошади, по она не шелохнулась. Красноармеец потрепал коня по загривку и сказал:
— Чого ж ты, дурень? Ходы! Ходы швыдче!
Гуля снова дернула поводья. Сивко вдруг затанцевал, отпрянул назад, п Гуля упала ему на шею. Ее опять успели подхватить.
Опа покраснела.
— Что, испугалась? — спросили ее режиссер и оператор.
— Злякалась? — спросил красноармеец.
— Злякалась,— сказала Гуля.— Думала—убыось.
— Ну, может быть, хватит на сегодня?
— Нет, давайте еще,— ответила Гуля.
То сдерживая, то подгоняя Сивко поводьями, она заставила его наконец слушаться. Упрямый Сивко понял, что ему не переупрямить маленькую наездницу.
Учение повторилось и на другой день и на третий. А когда Гуля научилась ездить и шагом, и рысыо, и галопом, на дорожке парка поставили высокий барьер.
Смело и весело уселась Василинка в седло. Сивко сразу бросился вперед, но перед самым барьером шарахнулся куда-то в сторону. Гуля еле удержала его. Сивко брыкался, мотал головой, кусал удила. Гуля кое-как усидела в седле и снова направила коня вперед. Она неслась к барьеру, и ветер бил ей прямо в лицо. Сивко доскакал до цели и снова отпрянул в сторону. Он, казалось, во что бы то ни стало решил сбросить с себя эту легкую, но беспокойную ношу. У Гули закружилась голова. Она судорожно вцепилась в поводья.
— Прекратить репетицию! — закричал в рупор режиссер.
Но Гуля не захотела сдаваться.
406
— Ничего, у меня выйдет. Должно выйти!
Она уселась покрепче, прилегла к шее коня:
— Ну, Сивко, не выдай! — и опять помчалась к барьеру. Сердце у нее забилось еще сильнее.
Но Сивко выдал. Перед самым барьером он опять, в третий раз, шарахнулся вбок.
— Брось, Гуля, не надо! — кричал режпссер.
Гуля ничего не слышала. Стиснув зубы, сжавшись словно пружина, погнала она коня галопом. Доскакав до барьера, она дала шенкеля, конь, не успев опомниться, сделал прыжок, и Гуля, точно на крыльях, взлетела куда-то вверх. Секунда — и конь снова плавно бежал по дорожке.
Барьер был взят. Так двенадцатилетняя Гуля взяла первую высоту в своей жизни.
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
Осенью кинофильм «Дочь партизана» повезли па просмотр в Москву.
Было странно, что такая большая картина, над которой трудилось столько людей, могла уместиться в маленьком чемоданчике.
Провожая режиссера на вокзал, Гуля просила его:
— Пожалуйста, покажите картину моему папе. Уж если я не смогу увидеть его, так пусть хоть он посмотрит на меня!
Ей и самой очень хотелось в Москву, хотелось в прежнюю квартиру, на свою московскую улицу, в свою московскую школу.
Но маме никак нельзя было уехать из Одессы.
Приходилось привыкать к новой жизни и к новой школе.
А привыкнуть было не так легко. И парты в классе казались неудобными, и доска не на том месте, и ребята не те.
Дома Гуля жаловалась, что на переменах в ушах звенит от шума, что мальчишки то и дело подставляют ножку пли дергают за косу и что в этой школе учиться нет никакой возможности.
— Ничего, привыкнешь*— говорили ей дома.
407
— Никогда в жизни не привыкну! — сердилась Гуля.
Она не прощала новой школе прежде всего то, что школа эта находилась не в Москве, а в Одессе.
Однажды, еле досидев до конца уроков и захлопнув за собой тяжелую школьную дверь, Гуля сказала своим одноклассницам:
— И что это за школа! Пешком бы я отсюда в Москву ушла.
Это услышали мальчики.
— Да кто ж тебя держит? — закричал один.— Москвичка, подумаешь!
— Нам ты очень нужна! — прибавил другой.— Катись куда хочешь. Мы тебе и дорожку покажем, и на дорожку дадим...
И он уже хотел дать Гуле подзатыльник, но на помощь к ней подоспело несколько девочек.
— Не троньте ее! — закричали они хором.— Вам какое дело, про что мы разговариваем!
— А пусть не задается. Не королева ведь, а Королева!
— Ну что ж, что Королева. Она у нас артистка.
— Артистка! — презрительно сказал мальчик, и все захохотали.
— Да, да! — закричали девочки.— Артистка настоящая. «Дочь партизана».
— Ну? — спросил кто-то из мальчиков.
— Честное пионерское,— сказали девочки,— она там и верхом скачет, и лошадь из болота вытаскивает, и с кулаком воюет, не то что с вами!
— А все равно пусть не задается! — сказал черноглазый коренастый мальчик, с любопытством поглядывая на Гулю. И вдруг прибавил: — А где теперь твоя лошадь?
— Это не моя,— сказала Гуля.— Она красноармейская.
— На красноармейской надо уметь ездить,— сказал кто-то.
— Я сначала не умела,— ответила Гуля,— а потом выучилась немножко.
— Немножко! — закричала Гулина соседка по парте, Леля Спегирева.— Ты же барьеры брала!
— Да, приходилось...
Ни Гуля, ни другие школьники и школьницы — никто не заметил, как ссора сама собой угасла и перешла в деловой и даже дружеский разговор. Кончился он тем, что Гуля повела
408
всю компанию к себе домой, на улицу, обсаженную липами,— называлась эта улица Уютной — и угостила своих новых друзей всеми вкусными вещами, какие только нашла дома: сочными, румяными яблоками и хлебом с малиновым вареньем.
И скоро Гуле стало казаться, что в школе не так уж шумно, что девочки очень славные и что даже среди мальчишек есть совсем неплохие ребята.
Но лишь только начала она привыкать к этой школе, как ей снова пришлось уехать. На этот раз — в Киев, где готовилась съемка новой картины.
Незадолго до ее отъезда приехал в Одессу Владимир Данилович Королев.
— Папочка,— сказала Гуля, когда отец отдохнул с дороги и они вместе вышли на улицу,— у меня к тебе просьба. Очень большая. Обещай, что ты ее исполнишь.
Уже стоял конец июня. Южное солнце пекло так, что спасала от него только густая тень каштанов и акаций, выстроившихся вдоль тротуаров. Лишь изредка приносил прохладу ветерок с моря.
Отец с удивлением посмотрел на Гулю:
— Как же я могу обещать тебе то, чего не знаю?
Гуля подумала немножко и сказала:
— Я даю слово, что ни разу за весь месяц ничего у тебя больше не попрошу — ни мороженого, ни денег на карусель.
— Ну, так в чем же дело? — еще больше удивился отец.
— Знаешь, я соберу сегодня ребят нашего класса, и ты угостишь мороженым нас всех. И покатаешь всех на карусели. Хорошо?
— А сколько же у вас в классе ребят?
— Тридцать два человека. Но не пугайся — сейчас многие разъехались. Ну, все же человек двадцать наберется...
Владимир Данилович развел руками:
— Ты что, хочешь разорить меня сразу — за один день?
Гуля виновато улыбнулась:
— Нет, папочка. Это выйдет ровно столько порций мороженого, сколько я съела бы одна за целый месяц. И столько же раз покаталась бы на карусели. Я все это тоже подсчитала.
Отец усмехнулся:
409
*— Ну что ж, это неплохо, что ты и летом занимаешься математикой...
Но Гуля перебила его:
— Не смейся, папочка, я даю тебе слово, что больше ни одной копейки не попрошу у тебя за целый месяц. Но ты понимаешь— я скоро уезжаю и долго не увижу своих ребят!
Владимир Данилович вынул из бокового кармана пиджака бумажник и отсчитал пятьдесят рублей, а потом еще двадцать.
— Хватит! — прошептала Гуля.— И на мороженое и на карусель в Аркадии хватит.
— II даже на трамвай,— сказал отец.— Можешь звать всю компанию.
Не помня себя от радости, Гуля помчалась приглашать ребят. Она бегала из дома в дом. Кого застала во дворе, кого — на соседней улице, кого — у моря, за остальными разослала гонцов. И всем наказала строго-настрого: сбор в семь часов вечера. В Аркадии. Не опаздывать.
Вечером, еще задолго до семи часов, за круглыми столиками приморского парка торжественно расселись Гуля и ее гости. Они тихо и неторопливо, стараясь продлить удовольствие, работали ложечками, осторожно дотрагиваясь до холодных сладких шариков в запотевших стеклянных вазочках.
Парусиновые тенты над столиками вздувались от морского ветра, как паруса, обвевая разгоряченные лица ребят прохладой.
Больше всех радовалась в этот вечер Гуля. За ее столиком было особенно шумно и весело. А когда все уселись на деревянных коней и в расписные сани и карусель двинулась под хриплые, дребезжащие звуки органчика, Гуля почувствовала себя на вершине счастья.
Отец стоял возле карусели, и каждый раз, когда дочка горделиво проплывала мимо него на белом коне, он махал ей рукой, а Гуля улыбалась ему благодарно и ласково.
Через месяц, помогая отцу укладывать вещи в чемодан, Гуля спросила:
— Папа, а у тебя довольно денег на дорогу? Ведь ты столько потратил на меня и на моих ребят!
Отец вздохнул:
— Да, да, придется мне, видно, пешком в Москву идти.
410
А потом похлопал ее по плечу и добавил:
— Ничего, дочка, денег у меня хватит. Ведь ты целый месяц прожила без мороженого — сдержала свое слово. Признаться, я не раз хотел тебе предложить полакомиться, да только...
— Понимаю,— прервала его Гуля.— Воспитывал меня.
— Нет, по-моему, ты сама себя воспитываешь, дочка.
В тот же день отец уехал, а скоро Гуля и сама стала готовиться к отъезду.
ВАРЬКА И ВАСИЛИНКА
Киевская кинофабрика оказалась куда больше одесской. Гуле здесь понравилось все — и мягкий голубоватый свет на съемках, который не жег глаза, и большие съемочные павильоны, и то, что на фабрике ее встретили, как старую артистку.
Режиссер разговаривал с ней так же серьезно, как со всеми другими актерамп. Он подробно разъяснял каждый эпизод, в котором она должна была участвовать, каждую сцену, и Гуля стала все яснее и глубже понимать, что такое искусство актера.
А роль ей досталась на этот раз нелегкая.
Гуля должна была понять и перечувствовать большие горести, выпавшие на долю Варьки, внучки старого шахтера.
Для того чтобы она лучше вошла в свою роль, режиссер возил ее на рудники, спускался с нею в шахты.
Затаив дыхание Гуля слушала рассказы старых шахтеров о том, как в прежние времена опасно было работать в этих плохо устроенных шахтах. Хозяева жалели денег на лучшее оборудование, и в шахтах нередко случались обвалы.
Гуля представляла себе, как страшно было родным шахтера услышать двенадцать ударов колокола. Эти удары означали, что на шахте случилась беда.
В картине, в которой играла Гуля, прозвучало двенадцать ударов.
Набросив наскоро платок, Варька, внучка шахтера (это и была Гуля), кинулась вслед за взрослыми к шахтам* чтобы узнать, на кого в этот раз обрушилось горе.
411
На носилках под брезентом она угадала знакомые руки, плечи, голову.
И вот Варька стоит, наклонившись над дедом-шахтером, лежащим в гробу. Стоит в том самом платке, который наспех накинула на голову, выбегая из дому.
С ужасом вглядывается она в неподвижное лицо старика, и ей кажется, что она давным-давно знает этого сурового шахтера с проседью в темных еще усах и бороде, помнит, как он нянчил ее и называл внученькой, когда она была еще маленькой.
И, совсем позабыв, что она не Варька, а Гуля Королева, она плачет горькими слезами.
Но тишину внезапно прерывает голос режиссера:
— Сначала! Повторить всю сцену!
И опять Варька низко опускает голову. Перед ней человек в гробу. Глаза его закрыты, большие усталые руки сложены на груди.
Слезы сами собой набегают на глаза Гули и крупными каплями падают на эти сложенные руки.
Как только съемка окончилась и Гуля убежала домой, актер, который играл деда, закуривая папиросу, сказал:
— А знаете, мне казалось, что я и в самом деле помер. Лежу и чувствую, как мне на руку падают настоящие слезы. Признаюсь, у меня от страха волосы на голове шевелились!
Все засмеялись.
А другой актер, которому никак не давалась его роль, прибавил:
— Удивительное дело, но при этой девчонке как-то неловко играть неискренне, фальшиво. Ты заученную роль играешь, а она тут же рядом по-настоящему страдает, боится, плачет. Как же тут фальшивить?
И все согласились с ним, что при Гуле никак нельзя играть плохо.
— Эта девочка всех нас переиграет,— сказал режиссер.— Если картина пройдет, наша Варька прославится!
Это случилось прежде, чем новая картина появилась на экранах. Варьку опередила Василинка, дочь партизана.
Когда Гуля вернулась в Одессу, она увидела на огромных рекламах, развешанных по всему городу, белокурую девочку —
412
то верхом на лошади, то по колени в болоте, то возле белой березки.
Это была Василинка, дочь партизана. И это была Гуля Королева.
— Счастливая! — говорили в школе новые Гулины подруги.— Вот счастливая!
А Гуля только хмурилась и сердито качала головой.
— Не очень-то большое счастье,— говорила она.— Дома только и слышишь: «не зазнавайся» да «не зазнавайся». А где уж тут зазнаваться, когда я, того и гляди, на второй год останусь. Ни по одному предмету отметки нет. Да и не так уж хорошо я играла Василинку. Вот Варька — эта, кажется, у меня вышла получше.
Но если сама Гуля не очень довольна была Василинкой, то на фабрике все-таки оценили труды маленькой артистки.
Как-то Гулю вместе с мамой пригласили туда на вечер по случаю выпуска новой кинокартины.
— Ну вот,— сказала мама,— тебе отдельное приглашение прислали. Только, пожалуйста, не зазнавайся!
Гуля положила приглашение на стол.
— Опять «не зазнавайся»? Уж лучше я туда совсем не поеду.
— Как хочешь,— сказала мама.
Гуля запела какую-то песенку и стала заворачивать в чистую бумагу потрепанные переплеты своих учебников.
Когда мама уже была совсем готова, она спросила Гулю в последний раз:
— Что же, дома останешься?
— Угу,— сказала Гуля,— дома.
Мама засмеялась:
— Ладно уж, одевайся.
Гуля обрадовалась и стала наскоро натягивать через голову новое платье.
Но все-таки они опоздали.
Торжественное заседание уже наполовину прошло, когда Гуля с мамой тихонько вошли в зал и сели в задних рядах.
Гуля стала искать в толпе знакомые лица, как вдруг услышала:
413
— За отличную работу в фильме «Дочь партизана» Гуля Королева, исполнявшая роль Василинки, премируется...
Гуля дернула маму за рукав:
— Мама!
Мать обернулась.
— Только не зазнавайся! — сказала она и, смеясь, похлопала Гулю по плечу.
— ...премируется портретами великих русских писателей...
— Это сколько же портретов дадут? — прошептала Гуля и стала считать по пальцам: — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов... Мама, Жуковский великий?
— Тише,— сказала мама,— слушай дальше.
— ...портретами великих русских писателей, библиотекой, тремя настольными играми и аквариумом.
Все захлопали.
В перерыве Гуля спросила у мамы:
— Мама, а куда мы поставим аквариум? У нас ведь и так тесно.
— Если аквариум будет очень большой, попросим соседей поставить его у себя.
— Ну да, они уйдут на работу, а рыбки умрут с голоду. Как ты думаешь, мама, нельзя ли попросить какую-нибудь другую премию?
— Какую?
— Вот бы велосипед!
— Ну, тогда уж у тебя совсем не останется времени на уроки. Съемки кончились, катанье на велосипеде начнется. Теперь тебе время дорого — класс догонять надо.
— Ух, тогда бы я попросила одну штуку, которая совсем не отнимает времени! Да и места мало занимает.
— Это что же такое?
— А то, что показывает время. Часы! На браслетке. Ах, мамочка, как мне нужны часы на браслетке, ты и представить себе не можешь!
— Как же не могу, когда ты мне про это целый год говоришь! Ну ладно, будут деньги — обязательно куплю тебе часы.
— Ты тоже это целый год говоришь, а часов все нет и нет.
Гуля вздохнула.
444
А через несколько дней ее опять позвали на фабрику, в кабинет директора.
Директор серьезно пожал ей руку и спросил у нее, довольна ли она подарками.
— Очень, очень,— сказала Гуля.— Только мне бы хотелось чего-то другого. Если можно, конечно.
— А чего тебе хочется?
— Вот если бы часики! — сказала Гуля шепотом.— Хоть самые, самые маленькие, но чтобы на браслетке!
— Отчего же, можно,— сказал директор, как будто речь шла не о часах на браслетке, а о чем-то самом обыкновенном.— Будут у тебя часы.
И в самом деле, на другой день на руке у Гули затикали часики, очень маленькие, но со всеми стрелками, винтиками и колесиками, какие бывают у настоящих часов.
— Ну, теперь,— сказала Гуля матери торжественно,— у меня уже ни одна минутка не пропадет зря!
— Посмотрим,— сказала мама.
ГУЛИНЫ КАНИКУЛЫ
Приближались экзамены.
— Подумать только,— говорила Гуля подругам, возвращаясь вместе с ними из школы,— подумать только, что мы должны перейти в седьмой класс! Это так странно, даже нельзя поверить. Мне кажется, что я только что была в четвертом классе.
Уже стояла весенняя погода. Ветер был теплый, упругий, весь пропитанный запахом моря и водорослей. На Приморском бульваре толпилось множество людей. Девчонки продавали первые весенние цветочки, и на солнечном припеке уже шла бойкая торговля мороженым.
Когда после долгих предэкзаменационных занятий Гуля с подругами выбегала на улицу, ей казалось, что в городе какой-то праздник и что вот-вот должно случиться что-то очень хорошее.
Экзамены сошли благополучно. За это время Гуля и думать забыла, что она была когда-то артисткой — Василинкой, Варь¬
415
кой,— и знала только одно: что она школьница, которой непременно надо перейти из класса в класс.
И она перешла.
А вслед за этим ее опять вызвали в Киев, где в то время начиналась работа над новой картиной для детей, под названием «Солнечный маскарад».
Как на грех, погода для этой картины выдалась неподходящая. Солпце редко-редко показывалось из-за туч. Лето было дождливое, и постановщики, словно пилоты в ожидании летной погоды, то и дело с беспокойством поглядывали на небо и бранили «небесную канцелярию».
Зато радовались пасмурным дням ребята-актеры. В эти дни они были совершенно свободны, у них были каникулы, как у всех школьников.
На отдыхе Гуля придумала для себя новое занятие. Вместе со своей подругой Валей, которая тоже должна была сниматься в картине, она стала ездить в зоопарк.
Гуля всегда любила животных, но, кажется, никогда не тратила на них столько времени, как в это лето. Она стала юннаткой и даже взяла шефство над двумя маленькими медвея^атами — Гришкой и Мишкой.
Она сама кормила их творогом из жестяного корытца, смотрела, как они взбираются вверх по решетке или точат зубы, грызя по очереди палочку.
Медвежата скоро стали ее узнавать, протягивали ей сквозь решетку лапы и, когда она заходила к ним в клетку, терлись об ее ноги, словно котята.
— А ты бы лучше не ходила к ним,— говорила Валя.— Они хоть и маленькие, а все-таки медведи. Как тяпнут тебя за ногу, так всю кожу и сдерут!
— Ну вот еще, стану я медвежат бояться! — отвечала Гуля.— Я и к волку в клетку ходила. Знаешь, к тому, к старому, с лысиной на лбу.
— К волку?! — ахала и всплескивала руками подруга.
— Да что ты! — успокаивала ее Гуля.— Если волка покормить, его можно потом гладить и трепать, как домашнюю собаку, а он будет лежать на спине и от радости скалить зубы. Хоть сама проверь!
416
Но Вале совсем не хотелось проверять...
Солнце все не показывалось. Лето кончалось. В погоне за солнцем киностудия решила выехать из Киева.
Перед отъездом Гуля отправилась еще раз в зоопарк — попрощаться со своими медвежатами.
За лето они сильно выросли и стали похожи на медведей. Но Гуля, которая навещала их чуть ли не каждый день, не замечала этого. В последний день перед отъездом она, как всегда, вошла к ним в клетку и принялась играть с Гришкой. И вдруг она почувствовала, что кто-то тянет ее сзади за ногу. Она оглянулась. Это был второй медвежонок — Мишка. Оп стоял на задних лапах, переваливаясь с боку на бок.
Гуля нагнулась к миске с водой и побрызгала ему морду. Он фыркнул, отряхнулся и вдруг, видно обидевшись, так крепко обхватил Гулю лапами, что она почувствовала, как затрещали у нее косточки.
Она бросилась к выходу. Медведи — за ней. Гуля дернула дверцу — не открывается. Заперта снаружи. Да что же это такое? Кто мог запереть ее в клетке с медведями? А медведи дышат прямо ей в лицо, сопят, стараются поймать. То ли играют, то ли сердятся.
Кое-как вырвалась Гуля из тяжелых медвежьих лап и вскарабкалась по приставной лестнице, стоявшей в клетке. Оба медведя, не теряя ни минуты, полезли за ней. Вот и последняя ступенька — дальше лезть некуда.
Гуля поглядела по сторонам и, сразу решившись, спрыгнула вниз, на землю. Прежде чем медведи успели спуститься вслед за ней, она уже юркнула в кормушку и на четвереньках вылезла наружу.
— Что ж ты не кричала? — услышала над собой Гуля чей-то дрожащий голос.
Она поднялась на ноги и увидела двух своих приятелей-юнпа- тов, Клюкву и Кильку. По-настоящему их обоих звали Николаями, а Клюквой и Килькой прозвали только для различия. У Клюквы были очень красные щеки, а Килька был тощ и вертляв, словно килька.
— Что ж ты не кричала? — повторил Килька.—У нас с Клюквой было условлено: открыть, чуть только ты закричишь.
417
А ты будто воды в рот набрала —■ молчишь и молчишь. Мы и думали, что все в порядке.
— Это, значит, вы меня заперли?
— Мы.
— Да зачем же?
— Ну, для того, чтобы посмотреть...— сказал Килька.
— Чтобы испытать твою храбрость,— перебил его Клюква.— Валька нам говорила, будто ты никого не боишься, даже к старому волку в клетку ходишь. Вот мы и хотели проверить сами...
— Проверить хотели? — сказала Гуля, еле переводя дыхание после возни с медведями.— А вот я вас запру обоих в клетку с тиграми и проверю, какие вы будете!..
— Да ты не сердись, Гуля,— сказал виновато Клюква.— Если бы ты хоть пискнула, мы бы тебя сразу выпустили, а ты молчишь.
Гуля ничего не ответила и, махнув рукой, пошла к воротам зоопарка. На повороте она оглянулась. Килька и Клюква все еще стояли на месте и о чем-то горячо разговаривали, размахивая руками.
На другой день студия выехала из Киева.
Среди отрогов Карпат, на зеленых берегах Буга ребята провели конец лета.
Куда только не заведет, не забросит киноактеров судьба!
Гуля вместе с остальными ребятами жила в белой колхозной хате, распевала по вечерам украинские песни, купалась в быстрой горной речке. Это было славное время...
Книжки, которые Гуля привезла с собой, так и лежали на дне чемодана. Только иногда, во время съемки или на отдыхе, возвращаясь с далекой занятной прогулки, Гуля с тревогой вспоминала про свои школьные дела. «Им-то хорошо,— думала она, поглядывая на взрослых актеров,— снимайся сколько хочешь — тебя на второй год не оставят. А тут неизвестно, что и делать: то ли сниматься, то ли купаться, то ли географию повторять. Э, ладно! В городе буду учить реки и горы, а здесь есть свои — настоящие!»
Но и в городе заниматься школьными делами ей не пришлось. В первый же день после своего возвращения в Киев она слегла в постель.
418
Сначала она прилегла на минутку, даже не раздеваясь. Ей казалось, что она просто устала с дороги. Болела голова, кололо в ухе. Ужасно хотелось пожаловаться кому-нибудь, но мамы в городе не было — уехала на три-четыре дня в командировку. А жаловаться чужим она не любила.
— Что с тобой, Гуля? — спросила ее соседка.— Ты больна?
— Нет, нет. Это я роль учу. Мне придется играть в картине больную девочку,— выдумала Гуля.
— Очень уж ты хорошо играешь эту роль,— сказала соседка.— Дай-ка я твой лоб пощупаю. Ишь ты, и температура даже поднялась!
Она укрыла Гулю одеялом и тихонько вышла из дому.
Через несколько часов Гулина мать получила телеграмму: «Приезжайте немедленно Гуля больна».
„ТОЛЬКО БЫ НЕ ЗАКРИЧАТЬ!"
В комнате было тихо и темно. Настольную лампу мама завесила своим шелковым платком, шторы на окнах были опущены.
— Где же больная? — спросил старичок доктор, протирая очки.
Мама приподняла платок, накинутый на абажур.
— Вот она, доктор, полюбуйтесь.
Доктор сел на стул возле Гулиной постели.
— Я так и знала, что этим кончится,— жаловалась мама, снимая повязку с Гулиной головы.— Вы подумайте, такая холодная осень, а она снималась в одном платье под проливным дождем!
— Мы этого дождя только и ждали,— сказала Гуля.— Сначала нам нужно было солнце, а потом настоящий проливной Дождь.
Доктор покачал головой.
— Да, нелегкая у тебя, девочка, профессия. Очень нелегкая.
Он наклонился над Гулей.
— Отрежьте мне это проклятое ухо, доктор,— сказала она вдруг решительно,
419
— Это еще зачем? — удивился доктор,
— Чтобы нечему было болеть!
Доктор засмеялся:
— А если голова болит, так и голову отрезать прикажешь? Нет уж, милая, ухо я тебе оставлю, а проколоть его проколю. Легонько-легонько. Ты не бойся.
— А я и не боюсь,— ответила Гуля.
— Правда? — спросил доктор.— Посмотрим!
Утром он пришел с целым чемоданом инструментов.
— Так и в самом деле не боишься? — спросил он, поглядывая на Гулю из-под очков.— Может, вчера сгоряча прихвастнула? Температура-то у тебя была порядочная.
— И сегодня не боюсь,— сказала Гуля.— Только колите поскорее!
— Ишь ты какая торопливая! — сказал доктор и стал раскладывать на чистой салфетке какие-то блестящие ножички и длинные иголки.
Гуля искоса поглядывала на все эти серебряные штучки и думала: «Только бы не закричать! А то сказала, что не боюсь, а вдруг как заору во все горло! Вот будет стыдно...»
— Ну, моя душенька,— сказал доктор, подходя к постели с чем-то острым и блестящим в руке,— мама тебя немножечко подержит.
— Не надо,— сказала Гуля.— Когда держат, гораздо страшнее. Я лучше сама буду держать маму за руку.
И она крепко стиснула мамину руку своими горячими от жара пальцами.
— Ну, вот и все,— сказал доктор.
Гуля перевела дыхание и открыла глаза.
На руке у мамы отпечатались все Гулины пальцы — пять красных пятен.
— Тебе было больно? — спросила мама.
— А тебе?
Мама засмеялась.
А доктор посмотрел на Гулю как-то особенно серьезно и ласково.
— Уважаю, искренне уважаю! — сказал он и принялся укладывать в свой чемоданчик блестящие иголки и ножички.
420
Когда доктор наконец ушел, Гуля сказала маме:
— Я почему-то ужасно рада. И сама не понимаю почему. Нет, понимаю. Во-первых, потому, что мне легче. Во-вторых, потому, что операция уже прошла, а в-третьих, потому, что я не кричала. Ты знаешь, ведь мне было очень больно и страшно.
— Знаю, Гуленька,— сказала мама.— И знаю, что ты у меня молодец. А теперь постарайся уснуть — тебе после операции надо как следует отдохнуть.
— И стараться нечего,— ответила Гуля.— Мне еще никогда в жизни не хотелось спать так сильно, как сейчас. Да и ты от меня отдохнешь.
И она уснула глубоко, крепко.
Так началось выздоровление.
Гуля лежала в чистой, свежей постели, умытая, веселая, с книжкой в руках. Ей радостно было глядеть в окошко и следить, как час за часом облетают деревья во дворе. Радостно было читать новое и перечитывать старое — ей казалось, что еще никогда она не понимала все так хорошо и ясно, а стихи никогда не запоминала так быстро, как сейчас.
Знакомые ребята часто навещали ее и приносили то последние цветы, то первые яблоки и груши.
Как-то раз, когда Гуля, не читая, лежала с раскрытой книгой Лермонтова в руках и без конца повторяла все те же строчки;
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный...—
в передней раздался робкий звонок.
Дверь отворили, но долго никто не входил в комнату. Гуля слышала только чье-то покашливание и прерывистый, приглушенный шепот.
— Да что там такое? Мама, кто пришел?
— Мы с Килькой! Мы с Клюквой! — ответили из передней два голоса.
— Ну так что ж вы топчетесь? — закричала Гуля.— Входите скорей!
Они вошли и сели рядом на один стул.
— Ну, рассказывайте же! Да что вы молчите? Какие новости в зоопарке?
421
— Никаких,— сказал Килька.— Вот только новых змей привезли. Тропических.
— Субтропических,— поправил Клюква.— Из Абхазии.
— Сколько штук? — спросила Гуля.
— Пятьдесят четыре,— сказал Клюква.
— Пятьдесят шесть,— поправил Килька.
— Да ведь это же очень много!
— Порядочно,— согласился Клюква.
Гуля удивилась:
— А вы говорите, нет новостей! Ну, еще что?
— Старый волк умер.
— Да что вы! Как жалко!
— Зато трех новых волчат привезли. Мы взяли над ними шефство. Два тихонькие, а третий сразу удрал и загрыз двух павлинов.
Гуля даже подскочила.
— Как же так?
— Сторож недосмотрел. Его поймали и заперли.
— Кого? Сторожа?
— Волчонка!
— А вы-то что же смотрели?
— Мы смотрели в это время змей.
— Эх, вы! Не шефы, а вороны!
Килька и Клюква смущенно переглянулись. Потом Килька развернул газетный сверточек и вынул два павлиньих пера.
— Это тебе на память.
Гуля укоризненно посмотрела на ребят.
— Оставьте себе на память. Будете вороны в павлиньих перьях.
Мальчики засмеялись.
— Мы и так запомним. А ты бери. Красивые перышки!
И действительно, перья были великолепные. На одном было очко синее с золотом, на другом — зеленое.
Посидев еще немного молча, Килька и Клюква собрались уходить. В дверях они остановились.
— Да, чуть не забыл! — спохватился Килька.— У нас собрание было. Делили всех на три группы — на ударников, кандидатов в ударники и на срывщиков.
422
— А куда я попала? Небось в срывщики?
— Нет, в ударники.
— Да я же больна!
— Это не считается. Вот мы здоровые, а попали только в кандидаты.
— Из-за павлинов,— сказал Клюква.
— Из-за волчонка,— поправил Килька.
И они ушли.
ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Гуля выздоровела.
Ее несколько раз сняли еще для картины «Солнечный маскарад» (теперь уже не на открытом воздухе, а в павильоне кинофабрики) , и Гуля поехала в Одессу — в свою школу.
Незадолго до отъезда она начала заниматься, чтобы догнать класс.
Но оказалось, что взялась она за дело слишком поздно. Класс успел уйти далеко вперед. И у Гули началось очень трудное время.
Ей было тем тяжелее чувствовать себя «неуспевающей» ученицей, что она была теперь у всех на виду. О ней писали в газетах, многие помнили ее по кинокартинам, и совсем незнакомые ребята на улице узнавали ее:
— Смотри, Василинка из кино!
— Верно! Она самая. Дочь партизана!
Знакомясь с Гулей, взрослые обычно говорили ей:
— А, Гуля Королева! Как же, как же, знаем про тебя, видели. Ну, а как ты учишься? Конечно, отличница?
— Нет,— угрюмо отвечала Гуля и старалась поскорее отойти в. сторону.
Из Москвы приехала в Одессу на кинофабрику журналистка. Она забросала Гулю самыми разнообразными вопросами: давно ли Гуля снимается, какие из своих ролей любит особенно, чувствует ли удовлетворение от своей работы.
— Нисколько не чувствую,— сказала Гуля.
— Ах, вот как? И ты не собираешься быть артисткой?
423
— Не собираюсь.
— Интересно,— сказала журналистка и стала что-то записывать в своем блокноте.
Это совсем смутило Гулю, и она перестала отвечать на вопросы. Но журналистка не отступала.
— Что ж ты молчишь? Трудно сниматься в кино?
— Трудно,— ответила наконец Гуля.
— Почему же трудно?
— Нужно стоять неподвижно, а мухи кусают за ноги.
Журналистка всплеснула руками и засмеялась. Гуля и сама
не могла удержаться от улыбки.
— Ну, а как ты учишься? Конечно, отлично?
— Плохо,— сказала Гуля, и улыбка сразу сбежала у нее с губ.
— Неужели плохо? — удивилась журналистка и отодвинула блокнот.
Гуля ничего не ответила. Она не могла сказать, что учение стало для нее в последнее время больным местом.
Однажды Гуля вернулась домой из школы вся в слезах. Бросив сумку с размаху на диван, она уселась на подоконнике и забарабанила по стеклу пальцами.
— Ну вот,— сказала она,— теперь целая история!
— А что опять случилось? — спросила мама.— Какая история?
— С географией! — ответила Гуля.— Сегодня вызвали, а как я могу отвечать, если я ничего, ничего не знаю?!
— Отчего же ты ничего не знаешь?
— Да я же пол года пропустила!
И, закрыв лицо ладонями, она залилась слезами.
— Вот честное пионерское,— говорила она плача,— всю жизнь теперь буду заниматься только одной географией. Бог с ним, с кино, если от него такие неприятности!
Мать несколько минут смотрела на Гулю молча.
— Вот что, Гуля,— сказала она наконец,— давай поговорим с тобой серьезно. О чем ты плачешь?
— Если бы ты знала, как мне было стыдно сегодня на географии, ты бы не спрашивала!
424
— А кто в этом виноват?
— Да ведь не могу же я два дела разом делать — и сниматься и учиться!
— Ну, перестань сниматься.
— Жалко очень.
— Тогда брось школу.
— Что ты, мама! Разве это можно?
— Отчего же? Чем так учиться, как ты сейчас, лучше совсем бросить. Кино тут ни при чем. Просто у тебя нет характера.
Гуля посмотрела на мать обиженно и насухо вытерла слезы.
— Как это нет? — спросила она.
— Конечно, нет,— сказала мама.— Сколько людей на свете должны и работать и учиться. И прекрасно успевают. А ты не усп'еваешь ничего. Возишь с собой целый чемодан книжек, а не можешь заставить себя открыть их. Ну, что поделаешь! Видно, придется помочь тебе...
— Как помочь?
— Взять репетитора, что ли. Пусть он тебя подтянет.
Гуля закусила губу.
— Вот пойду завтра к вашему директору,— спокойно продолжала мама,— и спрошу у него, не может ли он порекомендовать какого-нибудь студента или старшеклассника. А может быть, отличника из вашего класса.
— Нет уж,— негромко сказала Гуля и упрямо опустила голову.— Не хочу я.
— Почему же? Тебе легче будет...
— Нет уж! — повторила Гуля, решительно вставая с места.— Не надо мне репетитора. До этого дело еще не дошло.
ВТОРАЯ ВЫСОТА
Несколько месяцев боролась Гуля с географией, историей, алгеброй, а главное — с собой.
Выучить как следует уроки на завтра, хорошо, с блеском ответить один раз было не так трудно. Но наверстать все потерянное, пропущенное, вечно догонять, догонять* возвращаться
425.
назад, учить то, что другие уже давно выучили,— для этого и в самом деле нужно было много выдержки и терпения.
Подошли экзамены.
Балконная дверь и окна открыты настежь, и в комнату доносится медовый запах лип и акаций. Совсем близко, за поворотом тихой улицы, гремит и движется море. Не так-то легко усидеть в такой чудесный день дома, особенно когда тебе всего тринадцать лет и на берегу тебя ждет лодка.
Но Гуля разложила на столе книги, на стене развесила географическую карту и вместе с подругами готовится к экзамену.
— Наша страна — самая большая из всех стран мира,— торжественно начинает она рассказывать первую главу учебника географии.
Гуля рассказывает, а подруги ее, которым она придумала смешные прозвища — Леля Пончик и Лина Блин,— тоже не теряют времени даром: Лина раскрашивает зеленым карандашом пальмы на набережной Батуми в учебнике географии, а Леля рисует на обложке алгебраического задачника портрет почтмейстера Шпекнна.
Гуля строго и пристально смотрит на Лелю и Лину.
— По рисованию экзамена не будет,— говорит она,— а на географии вы провалитесь. Вы даже не слушаете, что я рассказываю.
Леля и Лина откладывают в сторону карандаши.
— Ну что ты! Как это не слушаем! Рассказывай!
Гуля крупными шагами прошлась из угла в угол.
— Чтобы проехать в курьерском поезде нашу страну с западной границы во Владивосток, надо ехать двенадцать суток...
— Вот бы хорошо! — задумчиво говорит Лина.— Едешь, едешь — и никаких тебе географий...
— Ну, положим, без географии далеко не уедешь,— говорит Гуля и открывает новую страницу в учебнике.— Теперь — моря. Хочешь ты поплавать по морям, Пончик?
— Я и так буду плавать на экзамене. Рассказывай ты, а я запомню.
Гуля долго рассказывает про моря, а Леля и Лина, облокотившись на стол, слушают, как шумит за окном настоящее море.
— Выкупаться бы! — вздыхает Лина.
426
— Погоди,— говорит Гуля,— успеешь. Теперь — горы. Рассказывай ты.
— Я? — пугается Лина.— Я знаю только животный мир тундры.
— Сама ты тундра! Ну, не ленись, рассказывай.
— Ты начинай, а я потом...
Втроем, время от времени заглядывая в книжку, они одолевают горы.
— Жарко! — стонет Леля.-— Ну пойдем хоть разочек выкупаемся. Голова свежее станет!
— Нет,— неумолимо отвечает Гуля.— Заниматься так заниматься! Надо пройти всю географию.
— Всю! Зараз! А завтра?
— Завтра будем повторять.
— А когда же купаться?
Гуля ничего не ответила.
До пяти часов вечера она продержала Лелю и Лину в комнате. Когда она наконец захлопнула книгу, они даже не поверили своему счастью.
— Неужели кончили, Гуля?
— Кончили! Теперь — к морю! Вы что думаете, мне не хотелось купаться? Еще больше, чем вам.
И все три девочки наперегонки помчались по переулку в ту сторону, откуда доносился тяжелый, гулкий морской шум. Белая с красной полосой лодка отчалила от берега.
— Пусть она сама плывет,— сказала Гуля и, подняв весло, легла на корму.
Упругие зеленые волны мерно приподнимали и опускали лодку. Соленый ветер свежей ладонью прикасался к разгоряченным щекам девочек, трепал их волосы и воротники.
Гуля жадно глотала вкусный морской воздух.
— Ой, девочки,— сказала она,— как хорошо, как иптереспо жить на свете!
— Да, было бы хорошо,— вздохнула Лина,— если бы только экзаменов не было.
Гуля на минуту задумалась.
— А я люблю экзамены,— сказала она медленно.— Хоть и страшновато бывает, а хорошо.
427
— Гулька, ты врешь!
— Нет, честное слово, не вру. Знаете, девочки, у меня перед экзаменом такое чувство бывает, как перед прыжком в воду. И холодно и страшно, а прыгнешь — и сразу станет жарко и весело.
Леля пожала плечами:
— Ну, кому весело, а кому и не очень.
— А это от тебя зависит, чтобы было очень.
И вот наступил день экзамена. Утро выдалось какое-то особенное — синее, чистое, словно его выветрили морские ветры, омыли морские волны.
Гуля надела белое, только что выглаженное платье. Ей было приятно, что оно такое светлое, свежее — без единой морщинки, без единого пятнышка. Внимательно глядя в зеркало, она причесала волосы и пошла в школу.
Мать долго стояла у окошка и глядела ей вслед. Такая сосредоточенная и радостная уходила Гуля прежде только на съемку.
В классе было тихо и торжественно. На доске коричневыми, зелеными и голубыми пятнами пестрела огромная карта СССР.
Учительница географии Вера Андреевна, седая, спокойная, в незнакомом парадном платье, экзаменовала Гулину подругу Лелю. Ассистенты внимательно слушали еле внятное бормотание Лели. Указка в ее руке растерянно бродила по карте, словно но знала, на чем остановиться.
—■ Засыпалась! — с ужасом шептала у Гули над ухом ее соседка Лина.— И я тоже засыплюсь. Ой, до чего я боюсь! А ты?
Гуля подумала: «Боюсь?» И ответила:
— Нет, не боюсь!
И когда до нее донесся голос Веры Андреевны: «Королева!» — Гуля стремительно сорвалась с места. Кто-то из ребят даже засмеялся. Но она, не оглядываясь, бросилась к столу экзаменаторов с таким видом, словно это был не стол, а барьер, который ей нужно было во что бы то ни стало взять.
Ей показалось, что Вера Андреевна посмотрела на нее как-то сбоку, опасливо и недоверчиво, и Гуля сразу вспомнила тот несчастный и позорный день, когда она стояла, опустив голову, у этой же самой «немой» карты и не могла показать ни одной реки, ни одной горы. Странное дело: тогда она и в самом деле
428
была немая, эта большая географическая карта, и ровно ничего, ну как есть ничего не говорила Гуле, а теперь стоило только взглянуть на нее, и она каждой своей черточкой, каждой извилиной начинала напоминать и подсказывать.
— Возьми билет, Королева,— сказала Вера Андреевна.
Сердце у Гули екнуло и на мгновение остановилось. Она поглядела на одинаковые клетчатые листки бумаги.
«Который же из них мой? Ну, пусть этот — третий слева».
Она развернула билет и громко прочла:
— «Восточно-Сибирская часть СССР».
И сейчас же память послушно открыла перед ней ту самую страницу учебника, на которой было написано:
«Восточно-Сибирская горная страна расположена между рекой Енисеем и берегами Тихого океана».
И, сделав над собой усилие, чтобы не говорить по учебнику слово в слово, Гуля, не переводя духа, принялась рассказывать.
Длинная деревянная указка, следуя за ее рассказом, легко скользила по карте, то обрисовывая черные извилины рек, то обводя голубые окошки озер.
Вера Андреевна слушала ее сначала с тревогой, потом с удивлением, потом с какой-то особенной, задумчивой улыбкой. Когда Гуля на минуту опустила указку, Вера Андреевна посмотрела на своих ассистентов горделиво и вопросительно. Казалось, она хотела спросить их: «Видите, какова?»
— Очень хорошо! Очень хорошо! Отлично! — в один голос сказали ассистенты.
И Гуля, положив указку на стол, тихонько пошла на свое место. Щеки у нее горели, а губы сами собой продолжали шевелиться — должно быть, они все еще рассказывали что-то про Восточную Сибирь.
Домой она влетела, как буря.
— Мама! «Отлично»! — крикнула она еще с порога.
И вдруг, словно пораженная какой-то неожиданной мыслью, Гуля замолкла и села у стола, опустив голову на руку.
— О чем ты, Гуленька? — спросила мама.
— Не знаю, как тебе сказать,— ответила Гуля задумчиво.— Грустно немножко.
429
— Грустно? — удивилась мама.— Отчего же? Ведь ты сегодня победительница.
— Да нет, не грустно. Я не так сказала. Пусто как-то. Вот понимаешь, столько дней я спешила, гнала, боялась не успеть. А теперь будто с поезда на ходу спрыгнула. Приехали! Некуда дальше.
Мама покачала головой.
— Что ты, Гуля! Какое там приехала — твоя дорога только начинается. Разве ты сама не чувствуешь?
— Да, конечно,— сказала Гуля.— А знаешь, мама, сегодня на экзамене мне почему-то вспомнилось, как я барьер брала. Помнишь, в «Дочери партизана»? Сивко меня чуть не сбросил тогда. И сбросил бы, если бы я на него не рассердилась как следует.
— А теперь ты на кого рассердилась?
— На себя... Шутка ли сказать, до того дошло, что ты мне чуть-чуть репетитора не наняла! Репетитора!..
— Это я тебя только пугала, Гуля.
— Хитрая, знала, чем пугать. Ну вот, я испугалась да со страху и расхрабрилась. Взяла второй барьер.
— Этот барьер, Гуленька, повыше прежнего. А дальше будут и еще выше.
— И те возьмем! —■ закричала Гуля и вдруг подбросила свернутую трубкой карту до самого потолка.
— Тише, Гуля, что за неуважение к географии!
Гуля ловко подхватила сверток на лету.
— Нет, я ее уважаю, я ее обожаю. Только до осени я запрячу все эти карты куда-нибудь подальше! Да и учебник заодно.
ПИСЬМА ОТОВСЮДУ
Одпако же и карты и учебник географии опять понадобились Гуле. И даже очень скоро.
У нее завязалась самая удивительная переписка, в которой было бы нелегко разобраться, если бы под рукой не было карты СССР и старого, заслуженного учебника географии.
На имя Гули по адресу кинофабрики со всех концов нашей
430
страны стали приходить бесчисленные письма. Гуля подолгу рассматривала карту* отыскивая области и города, откуда эти письма приходили.
«Дорогая, уважаемая артистка Гуля! Картину, где вы играете, я смотрел с ужасным волнением. Да не я один, а все мои товарищи — красноармейцы Дальневосточной. Может, вы бы смогли приехать сюда к нам, посмотреть, как мы, дальневосточники, живем здесь, среди сопок? Скоро кончается мой срок, и я вернусь в свой колхоз Воронежской области. Если не успеете сюда приехать, то приезжайте обязательно тогда в наш колхоз. Увидите, какая у нас там стала замечательная жизнь. Я вам все покажу. Хозяйство у нас стало справное, вздымаем его очень высоко. А пока до свидания, дорогая, уважаемая артистка Гуля.
Остаюсь ваш неизменный друг».
Гуля смотрела на окраину нашей страны—Дальний Восток— и думала о том, как это странно и удивительно, что так далеко, так страшно далеко, кто-то знает о ней, ученице одесской школы.
Потом она отыскала на карте Воронежскую область и решила, что обязательно поедет когда-нибудь погостить в этот самый колхоз, в котором построена такая замечательная жизнь.
Но, распечатав второе письмо, третье, четвертое, Гуля растерялась. Ее звали в гости и в город Сумы, и в Полтаву, п в далекий Ташкент, и в Архангельск... Комсомолец из города Сумы писал Гуле, что она «очень аккуратно справилась со своей ролью» и что если она будет и дальше работать над собой, то, наверное, станет народной артисткой.
И каждый, кто писал Гуле, рассказывал что-нибудь о себе, о своей жизни.
Читать эти письма было необыкновенно интересно и увлекательно.
Но особенно озадачило ее письмо, полученное с Тихого океана от моряков-комсомольцев. Они писали Гуле, что во время плавания нашли у себя на корабле в красном уголке газету с Гулиным портретом. По тону письма видно было, что они, как и многие другие, принимали ее за взрослую актрису, играющую роль де-
431
вочкн. Они просили товарища Королеву, молодую, талантливую артистку, рассказать им подробно о жизни артистического мира, о своих творческих замыслах, о картинах, в которых она участвовала или собирается участвовать.
Прочитав это письмо, Гуля задумалась.
— Мама,— сказала она,— посоветуй, как мне на него ответить.
— А что?
— Да ведь они думают, что я взрослая. Да, да, взрослая! И хотят, чтобы я написала им про артистический мир и про творческие замыслы. А что я могу им про это написать?
— Ничего,— сказала мама.— Напиши им попросту, сколько тебе лет, в каком ты классе,— и никаких творческих замыслов., А если будешь притворяться старше и умнее себя, письмо выйдет глупое.
Гуля так и сделала. Она написала морякам подробное письмо о своей жизни, о школе, о последних экзаменах, о том, что давно уже не снимается в кино. Сбоку она приписала:
«Правда ли, что на военных кораблях всегда бывают любимцы моряков, какие-нибудь зверята? Нет ли у вас на корабле какого-нибудь медвежонка или лисенка? Я старая юннатка и очень люблю всяких животных, начиная от ежей и белых крыс и кончая слонами».
В ответ Гуля получила сразу несколько писем. Со всей серьезностью и уважением моряки писали «старой юной натуралистке» о жизни на корабле, о том, какие диковинные морские животные, похожие на цветы, водятся на дне Тихого океана, о том, какая удивительная жизнь идет на морском дне.
К сожалению, ни медвежат, ни лисиц, не говоря уже о слонах, на корабле не оказалось. Из всех представителей животного мира на корабле был только один, и то самый обыкновенный — кот Васька. Он был замечателен только тем, что дважды совершил кругосветное путешествие и поймал мышь на острове Куба.
— «Тихий океан»,— читала Гуля, стоя у карты, название, выведенное на огромном пространстве, которое было окрашено в бледно-голубой цвет.— «Остров Куба».
432
И, думая о советском корабле, пересекающем океан, Гуля уже мечтала о том, чтобы поскорее вырасти и тоже отправиться в далекое путешествие.
Ее мечта сбылась прежде, чем она ожидала. Правда, ей предстояло ехать не так уж далеко, всего только в Крым, но и эта поездка при некотором воображении могла сойти за настоящее путешествие.
АРТЕК
«Дорогой папочка, у меня огромная радость — я еду в Артек! Это награда за кино, а также за то, что я хорошо перешла в восьмой класс...»
Присев к столу, Гуля торопливо писала. Рядом, на стуле, стоял пустой открытый чемодан, а на диване были аккуратно разложены все незатейливые Гулины «наряды» — ее белое платьице, в котором она сдавала экзамены, пестрые сарафаны, майки.
«...Подумай, папочка, я поеду теплоходом до Севастополя, а там — машиной до Артека! Сейчас у нас дома, конечно, разговоры только об Артеке. Я даже вещи уже собрала, хотя сегодня еще двадцать третье, а ехать мне только первого. Так долго ждать! Путевка мне досталась в Нижний лагерь, тот, что на берегу моря. Вот красота! Я в неописуемом восторге!»
Медленно тянулись дни этой недели. Гуле казалось, что стрелки на ее часиках не движутся, а стоят на месте. И Гуля все подносила часы к уху, прислушиваясь, идут ли они.
Но всему в жизни приходит свой черед.
И вот голубой автобус мчит Гулю по белой горной дороге. Впереди — Артек!
Машину обступили горы — то голые, то кудрявые от зелени. Только справа дорога будто отрезана с края: она проходит над крутым обрывом.
— Ой, как узко! — закричала маленькая девочка, сидевшая
17 Библиотека пионера. Том II 433
рядом с Гулей, когда автобус стал пробираться между каменной стеной и пропастью.
— Не бойся,— сказала Гуля.— Держись за меня.
Дорога вилась и поднималась все выше. Серые, будто ватные клочья ползли по сторонам вниз.
— Дым! — удивился кто-то из ребят.— Откуда это дым валит?
— Да это не дым, это пар,— отозвался другой.
— И не дым и не пар,— сказал смуглый черноглазый пионер в вышитой тюбетейке.— Это облака.
— Ои, как высоко мы забрались! — заговорили ребята наперебой.— Выше облаков!
Машина обогнула уступ скалы и стала на тормозах спускаться вниз. Когда выехали за Байдарские ворота, внизу сразу открылась безбрежная синева.
— Море! — закричали ребята.
— Море, Черное море,— задумчиво проговорила девочка, которая сидела рядом с Гулей.
Она только сегодня утром впервые увидела море — там, в Севастополе, куда привез ее поезд из Москвы.
— А почему оно черное, когда оно синее?
— Оно в ясную погоду синее,— сказала Гуля,— а в штормы бывает как будто совсем черное.
Вот уже близко-близко к морю подошла дорога, и стало слышно, как шумно плещут и грохочут галькой волны, разбиваясь о берег и откатываясь назад.
— Приехали! — сказал шофер и вогнал машину в открытые ворота.
Запахло кипарисовой смолой и цветами.
...В тот же самый день Гуля вместе с несколькими ребятами побежала осматривать парк.
Со всех сторон съехались в Артек ребята. Тут были и сибиряки, и кавказцы, и белорусы, и узбеки. Певучая украинская речь мешалась с окающим говором волжан.
Парк был очень большой. Аллеи и тропинки шли вверх, в гору, спускались вниз, к берегу, разбегались в разные стороны. Внизу, в парке, росли остролистые пальмы, магнолии с плотными, точно кожаными, листьями, крупные розовые орхидеи. А вы¬
434
ше по склонам светились над колючей хвоей можжевельников желтовато-зеленые листья грабов.
Вдали высилась темная от зелени гора. Она была похожа на огромного бурого зверя, который улегся у моря и пьет воду.
— Аю-Даг — Медведь-гора,— сказал кто-то из ребят.— Какая большая!
— Не очень большая. У нас на Кавказе много выше горы есть,— сказал смуглый черноглазый пионер, тот самый, который объяснил, когда ехали, что это не дым, а облака. Но тогда, в дороге, на голове у него была вышитая тюбетейка, а сейчас белая панамка, как у всех ребят.
— А ты откуда? — спросила Гуля.
— Кабарду знаешь? — ответил ей вопросом черноглазый пионер.— Селенье Кенже знаешь? — И он посмотрел Гуле прямо в глаза.
— Нет, никогда не слыхала,— ответила Гуля.— Про Кабарду я слыхала, а про Кенже слышу в первый раз.
Потом, помолчав немного, она спросила:
— А тебя за что путевкой премировали?
Гуля уже знала, что эта смена особая — почти все ребята были премированы путевками за какую-нибудь заслугу перед страной. Среди приезжих ребят были пионеры, о которых знала вся страна.
— Коней вырастил,— весело ответил кабардинец, сверкнув очень белыми зубами.— Костика, Казбека и Заурбека.
— Для кого вырастил? — спросил кто-то из ребят.
— Как — для кого? Для красной кавалерии. Я и сам джигит.
— Так ты Барасби? — обрадовалась Гуля, вспомнив, что она читала о нем в «Пионерской правде».— Барасби Хамгоков!
Во все глаза смотрела она на этого стройного, худощавого, остроглазого пионера, которого никак не ожидала встретить.
— Я тоже лошадей люблю,— сказала она.т- И верхом ездить умею.
Барасби недоверчиво посмотрел на нее. Но скоро они разговорились, и Гуле стало казаться, что она уже давно знакома с этим юным джигитом из предгорного селения Кенже.
Спустя полчаса ребята уже знали, кто откуда и кого как зо¬
435
вут. Среди ребят оказались настоящие герои — один пионер спас от гибели самолет (развел костер, и летчик понял, что посадки нет), другой пристрелил двух волков, третий спас из огня пожара маленького ребенка...
— А ты тоже спасла кого-нибудь? — спросила Гуля низенькую черноглазую девочку.
— Нет, я хлопок собирала,— ответила девочка, с трудом выговаривая русские слова.— Таджикистан знаешь?
Гуля внимательно посмотрела на смуглое широковатое лицо.
— Мамлякат! — узнала она.— Нахангова! Ну конечно, знаю! Во всех газетах твою фотографию видела. Все, все о тебе знаю— как ты хлопок обеими руками собирала и как получила за свою работу орден Ленина. И как в Кремле была —тоже слышала.
С этого дня Гуля подружилась с Мамлякат и с Барасби.
Гуля учила Мамлякат русским песням и пляскам. А Барасби наконец поверил, что эта белокурая московская девочка умеет ездить верхом, и стал учить ее ездить по-джигитски.
«Эх, показала бы я теперь на киносъемке, как надо брать препятствия! — думала Гуля, вспоминая, сколько огорчений доставил ей ее первый барьер.— Показала бы высшую школу верховой езды!»
Из-за этой «высшей школы верховой езды» Гуле пришлось однажды схитрить. Она убежала потихоньку с тихого часа, и тихий час превратился у нее в самый живой из всех часов дня.
Но тут встретилась неожиданная помеха. Мамлякат заметила ее таинственную отлучку и решительно отказалась отдыхать, когда другие не отдыхают. Она тоже не была любительницей тихого часа.
Это смутило Гулю. Особенно когда последовали ее примеру еще две девочки и не захотели ложиться спать днем. Но не отказаться же из-за этого от великолепной прогулки верхом по горам!
И вот Гуля придумала выход из затруднительного положения. Вместе со всеми ребятами она послушно улеглась в постель. А когда ее соседки заснули, она тихонько встала, и на цыпочках прокралась к дверям, за которыми сияло ослепительное южное солице.
На беговой дорожке Верхнего парка ее поджидал Барасби
436
Хамгоков. Он сидел верхом на гнедой лошади и держал на поводу другую лошадку, чуть посветлее мастью.
Вся золотая на солнце, лошадка нетерпеливо переступала копытами и, вытянув шею, будто шептала что-то на ухо лошади Барасби.
Гуля вскочила в седло, с горделивой радостью сознавая, что теперь это уже не стоило ей никаких усилий.
Барасби, не сказав ни слова, тронул поводья, и они поскакали по беговой дорожке, а потом выехали за ограду парка на горную тропинку.
Легкий ветерок, вея прохладой, нес им навстречу пряный запах чабреца. Справа, за глубоким, темным обрывом, синел, блестя как сталь, залив Черного моря. Слева высились крутые скалы, поросшие мхом.
— Надо пораньше вернуться в лагерь,— сказала Гуля, сдерживая свою лошадку на узенькой тропинке.— Если заметят, что мы удрали с тихого часа, нам несдобровать.
И, прежде чем внизу раздались звуки фанфар, ребята успели примчаться домой. Поставив лошадей на место, они пробрались в свои домики, которые здесь, в Артеке, назывались «палатками». Гуля незаметно юркнула в постель.
Мамлякат лежала рядом с закрытыми глазами и ровно дышала.
«Вот хорошо! — подумала Гуля.— Никто ничего не заметил. Сошло!»
Но вдруг на лице спящей Мамлякат появилась лукавая улыбка.
— Какой я сон видела! — сказала она, потягиваясь.
— Какой? — спросила Гуля шепотом, чтобы пе будить соседей.
— Такой сон видела... как будто все ребята спят, а ты с Барасби верхом ездишь... Нехороший сон, нечестный.
— Откуда же ты это знаешь? А, Мамлякат?
— А так и знаю. Ты встала, и я встала. Ты в парк, и я в парк. А потом ты поехала, а я тебе рукой помахала и назад пошла.
— Мамлякат! Дорогая! Это я в последний раз. В самый последний. Я ведь сама знаю, что это нехорошо. Но ты понимаешь, мне так нужно научиться ездить верхом! Так нужно! А когда?
437
Все время у нас расписано — завтрак, обед, линейка, купанье, лодка, экскурсия, костер... А дома и совсем некогда.
— А зачем меня обманула? — с горькой обидой спросила Мамлякат.
— Вот это и в самом деле плохо! — сказала Гуля, почувствовав свою вину.— Я не люблю обманывать... И не буду! Ни тебя, ни вожатых, нпкого! Ты мне веришь, Мамлякат?
— Верю, верю,— сказала Мамлякат.— Не сердись на меня... И на себя тоже не сердись!
И она потрепала Гулю по щеке.
В ЛЕСУ АЮ-ДАГА
Дни летели один быстрее другого.
Вокруг были чудесные новые места и чудесные новые друзья.
Вместе со всеми ребятами Гуля купалась в море, играла на площадке в волейбол, в теннис на теннисном корте, собирала камни на морском берегу, ловила для лагерного музея сачками бабочек. Бабочки здесь были удивительные — крупные, ширококрылые и такой окраски, которую нарочно ни за что не придумаешь: черные с золотой пылью, белые с голубой каймой, оранжевые с темно-синими пятнами, похожими на глазкй павлиньих перьев.
Гуля и Барасби поймали самых красивых. Они оба очень быстро бегали и ловко работали сачками.
Спустя несколько дней, когда Гуля и ее товарищи собрались после чая па веранде лагерного клуба, туда вошел старший вожатый Лева.
— Завтра с утра,— сказал он,— мы с вами пойдем в поход— на вершину Аю-Дага.
Лагерный клуб помещался в легком белом домике, со всех сторон окруженном открытой верандой. Тремя сторонами веранда выходила в парк, а четвертой стороной — прямо в море. Здесь всегда было свежо и шумно — ветер похлопывал холщовыми занавесями, как парусами.
В самом домике стояли шкафы с книгами и стеклянные вит¬
438
рины с камнями, жуками, бабочками, ящерицами и водорослями. Но здесь ребята почти никогда не собирались. Настоящий клуб был на веранде. За белыми столиками у самых перил ребята играли в шахматы, читали, разрисовывали стенгазету. Если в море поднималась волна, столики то и дело приходилось вытирать полотенцем, а стенные газеты уносить на ту сторону веранды, которая выходила в парк.
Ребята разом вскочили на ноги и окружили Леву.
— Завтра в шесть часов утра,— продолжал он,— мы встаем*
И он объяснил ребятам, как нужно готовиться к походу.
А потом все врассыпную бросились к своим палаткам собирать рюкзаки и все, что нужно для путешествия.
Наутро четвертый отряд вместе с начальником похода Левой и отрядной вожатой Соней двинулся в путь.
К вечеру путники дошли до вершины Аю-Дага. Ребята натянули брезентовые палатки, развели костер, и дежурные принялись готовить ужин.
Ночь была безлунная, черная, тихая.
Костер понемногу разгорался, и огонь полз во все стороны. На секунду он прятался в черном дыму, а потом опять с треском выбивался наружу и взлетал вверх высокими пылающими фонтанами. Искры летали над поляной, точно красные мошки.
Было тихо. И вдруг где-то рядом робко заговорила маленькая сова-зорька. Жалобно, спросонья, она будто о чем-то спрашивала.
— Что это она говорит? — спросила Мамлякат.
— Она спрашивает: «Сплю? Сплю?» — сказала Гуля.— А ей никто не отвечает.
— Нет! — отозвался Барасби.— Она другое говорит.
— А что? — сразу обернулись к нему Мамлякат и Гуля.
— Она говорит: «Кукунау». Кошка говорит «нау», а эта птица — «кукунау».
— Нет, кошка говорит «мяу»,— заметил кто-то из ребят.
— А у нас кошки говорят «нау»,— сказал Барасби.
Снова все умолкли. Но зато громче затрещали, разгораясь, ветки, выше взметнулось пламя костра, озаряя лица ребят и белеющие поодаль палатки. Теперь по всей полянке стало светло от огня.
439
Но чем светлее становилось вокруг костра, тем гуще окутывал мрак высокую, плотную стену густого леса, подступившего к поляне.
Ребята с невольной тревогой оглядывались на этот черный- черный лес, и всем им хотелось еще плотнее подсесть друг к другу, поближе к огню.
— Наверное, страшно ночью там, в лесу,— еказала тихонько одна из девочек.
— Кому страшно, а кому и нет,— отозвался лихой мальчишеский голос.— А кто-нибудь пошел бы в лес один? — спросил тот же голос после минутного молчания.
Никто ему не ответил.
— Можно мне пойти? — вдруг спросила Гуля вскакивая.— Можно?
В глазах ее отразились отблески огня.
— Зачем? Храбрость показать? — спросил Лева.
— Нет, не потому,— сказала Гуля.— Просто хочется себя испытать.
— Нет, Гуля! — твердо сказал Лева.— Это невозможно. Ваша смена всего несколько дней как приехала, и вы совсем не знаете здешних мест. В этом лесу есть непроходимые заросли, колючие, злые травы и кустарники. Иглица, например.
— А еще есть держидерево,— добавила вожатая Соня, маленькая, тоненькая девушка, похожая на девочку.
— Да, да! — подхватил Лева.— У этого дерева ветки как лапы. А на лапах — пальцы, загнутые, точно когти. Но самый злой хищник — жгитрава, колючий молочай. Жгитрава и царапает, и режет, и жжет. Да еще выделяет ядовитый сок.
— А что будет, если дотронешься до жгитравы? Обожжешься?
— Еще как! Точно о крапиву. Только крапивный ожог через час проходит, а эти ожоги и в месяц не заживают.
Лева подбросил в огонь коротких сухих веток.
— Вот что, ребята,— продолжал он.— Завтра утром мы с вами заберемся в лес, и я покажу вам все эти травы и кустарники. А сейчас идите-ка спать... Столько прошли за день, пора и на отдых...
440
Все встали и разошлись по палаткам. У костра остались дежурить Лева и Соня.
Вокруг стало совсем тихо. Только в траве не умолкая звенели цикады.
— Вдвоем нам дежурить незачем,— сказал Лева.— Ложись- ка спать. А на рассвете меня сменишь.
— А не лучше ли так,— спросила Соня,—сначала ложись ты, а потом ты сменишь меня, и я буду спать до утра.
— Ну ладно,— согласился Лева.— Разбуди меня ровно через час.
И Лева ушел. Улегся он позади одной из палаток, накрывшись курткой.
Соня осталась у костра одна. Было совсем тихо. Только потрескивали в огне сухие ветки.
Соня посмотрела на свои часики. Стрелки как будто стояли на месте. Она приложила часы к уху. Нет, часы не остановились, идут. Но как медленно! А вокруг так черно и глухо!..
Вдруг она услышала за собой шорох. Вздрогнув, обернулась. Это была Гуля.
— Сонечка,— сказала она,— разреши мне пойти в лес! Только до опушки — и назад!
— С ребятами поспорила? На пари? — спросила Соня.
— Да нет, не потому. Хочется перебороть страх...
И в глазах ее, освещенных пламенем костра, Соня прочла твердую решимость.
«А может быть, нужно воспитывать у ребят смелость?» — подумала Соня.
— Вот Лева встанет, спросим у него,— сказала она.
— А когда он встанет?
— В половине двенадцатого...
— Еще не скоро! А я мигом сбегаю и вернусь. Ну что, можно?.. Я сразу же вернусь!
И, не дождавшись ответа, Гуля побежала по полянке. Ее белая блузка мелькнула в свете костра и скрылась во мраке...
Перебежав полянку до лесной опушки, она оглянулась. Пламя костра ей весело светило. Казалось, что костер машет ей красными рукавами и как будто говорит ей:
«Не бойся, я здесь!»
441
Она уже хотела было побежать обратно, как вдруг что-то с силой хлестнуло ее по лицу.
— Ой, что это? — вскрикнула она.— Кто это?!
Звук своего голоса показался ей каким-то чужим, странно незнакомым. Сердце у нее замерло. Она пошарила вокруг себя руками и нащупала ветку.
«Глупая я! Ветки испугалась!» — подумала она и стала шептать:
— Не боюсь! Не боюсь! Не боюсь!
Постояв минуту, она решила пойти дальше, пока глаза не привыкнут к темноте.
Она пошла по лесной тропинке, широко открытыми глазами вглядываясь в густую тьму.
Ей вспомнилось, как она в детстве боялась темной комнаты и как мама, бывало, уговаривала ее, маленькую: «Темнота, Гуленька, совсем не страшна...»
Да, тогда темнота и в самом деле была не страшна. Она спускалась над ее детской кроваткой, как теплый полог. А сейчас здесь, в этом черном лесу, темнота совсем-совсем другая. Она полна чего-то неизвестного, таинственного... Вокруг будто какие- то чудовища. Нужно зорко всматриваться во все вокруг. Ощупывать руками стволы и ветки, чтобы понять, что это не чудовища. Нужно чутко прислушиваться к звукам леса, чтобы не испугаться шорохов, скрипа, шелеста...
«Да, недаром говорят: «У страха глаза велики»,— подумала Гуля.
И ей вдруг стало понятно, откуда взялись всякие сказочные страшилища: Змеи Горынычи, бабы-яги...
«Ну, чудовищ нет. А что, если зверь какой-нибудь на меня пападет?»
На своем веку она видела уже и волков и медведей и даже гладила и кормила их с рук, но то было в зоопарке, а не в лесу. И не ночью, а днем. Нет, лучше не думать об этом!
«А тот огонек все еще горит?» — спросила она себя, как, бывало, спрашивала в детстве маму.
Гуля опять оглянулась, но костер уже не светил ей сквозь ветви деревьев.
«Неужели догорел? — подумала Гуля.— Нет, не может быть.
442
У костра сидит Соня. Потом придет Лева. Будут поддерживать огонь всю ночь. Куда же я забрела? И в какой стороне наши?»
Тут только Гуля поняла, что она давно уже идет не по тропинке. Она не думала, что так скоро окажется в самой чаще леса. Она ринулась назад, и вдруг что-то с силой вцепилось в подол ее юбки.
«Держидерево!»—вспомнила Гуля Левины слова.
Да, конечно, это оно. Распростерло ветки, как жадные лапы, словно так и норовит зацепить кого-нибудь. Гуля хотела было отцепить подол, но острые шипы уже вонзились ей в руку и в ногу.
Исцарапанная в кровь пленница изо всех сил старалась вырваться на волю...
А тем временем Соня разбудила Леву.
— Хорошо, хорошо, сейчас,— пробормотал он, думая, что она будит его для того только, чтобы он сменил ее.
На него смотрели испуганные глаза Сони.
— Что-нибудь случилось?
— Да, случилось,— проговорила она.— Гуля ушла!
— Ушла?! — И Лева сразу же вскочил на ноги.— Куда?
— В лес. Одна... Ох, я так беспокоюсь!
— Как же ты ее отпустила?!
— Я не отпускала... Просто не могла ее удержать,— ответила Соня, чуть не плача.
Лева вытащил из кармана электрический фонарик.
— В каком направлении она ушла?
— Туда! — показала Соня рукой вправо.
— Оставайся у костра. Я пойду на поиски,— сказал Лева.
И скоро он скрылся во мраке.
Соня подбросила в огонь хворосту. Еще чернее показался ей лес.
Она видела, как медленно ползло в темноте светлое пятнышко. Это был луч Левиного карманного фонарика. Должно быть, Лева держал его высоко над головой.
Временами блуждающий огонек скрывался за деревьями, потом опять появлялся где-то вдали, шарил по сторонам и плыл дальше.
Скоро вокруг ярко вспыхнувшего костра собрались ребята.
443
Кто-то из них, проснувшись, узнал об исчезновении Гули. Каким-то образом об этом узнал и весь отряд.
— Ребята, это не дело,— сказала Соня.— Давайте так: маленькие укладываются спать, большие остаются.
— Мы все большие! — недовольными голосами закричали маленькие.
В сущности говоря, они были ненамного моложе старших, и все-таки старшим они казались малышами.
— Ну ладно,— сказала Соня.— Давайте притащим сюда одеяла и бушлаты, а то вы простудитесь.
Никогда еще в Артеке костер не горел так жарко, как в эту ночь на вершине Аю-Дага.
— Очень уж долго ночь тянется,— говорили ребята, грея у огня руки.
Маленькие скоро уснули, свернувшись клубком под одеялами, а старшие все еще глядели в лес, не давая сомкнуться усталым векам. Страшно было подумать, что где-то там, в темноте, блуждает одна-одинешенька в лесу, дрожа от холода и страха, Гуля Королева, та самая девочка, которая играла вместе со всеми в волейбол, в теннис, ездила с Хамгоковым и так хорошо работала веслами, когда ребята выходили на лодках в море.
И вдруг Барасби захлопал в ладоши и закричал:
— Фонарик! Фонарик! Сюда идет! Наверное, это они!
— Где? Где? — встрепенулись ребята.
— Вон там!
Из темноты плыл, приближаясь, блуждающий огонек...
— Сонечка, прости меня! — закричала Гуля, бросившись к вожатой.
— Осторожней, сгоришь! — сердито крикнула Соня, отстраняя Гулю подальше от огня.
— Я знаю, что страшно виновата! — продолжала Гуля, опустившись перед Соней на колени.— Но я все-таки рада, что не струсила. То есть сначала струсила, а потом со страху расхрабрилась. Знаете,— и она поглядела на ребят, с любопытством смотревших на нее со всех сторон,— как я с держидеревом воевала?
— Ну ладно, ладно,— остановил ее Лева.— Это видно и так. Ребята, сейчас же спать! И ты, Соня, укладывайся.
444
Соня и ребята поднялись и пошли к белеющим вдали палаткам.
— Сердишься? — спросила Гуля.— Да, Сонечка?
— Сержусь! — сурово сказала Соня.— Очень! Но все-таки ты смелая... я не такая. Мне и у костра было одной страшновато...
Разбудили Гулю звуки горна. Выбравшись из палатки, она увидела: на самом горизонте, из-за моря, вставал багряно-красный солнечный диск. Над ним и вокруг него по всему небу раскинулись лучи. Такого простора, такого ослепительного моря, такого торжественного, победоносного сияния Гуля не видала еще ни разу в жизни. Она даже зажмурилась на секунду и всей грудью вдохнула струю чистого воздуха, пахнувшего и лесом и морем. И ей стало опять так хорошо, что она совсем забыла, сколько тревоги и огорчения пережили из-за нее вожатые и ребята.
КИНО В АРТЕКЕ
Отряд вернулся в лагерь под вечер. А на утренней линейке старший вожатый сурово отчитал Гулю перед всем лагерем. Ей пришлось выслушать немало горьких слов. Ее поступок, сказал Лева, надо считать особенно серьезным потому, что она нарушила дисциплину во время похода. Она заставила всех тревожиться. Из-за нее ребята не спали почти всю ночь... Не первый раз нарушает она законы и обычаи Артека.
И, пока старший вожатый говорил все это, Гуля хмурила брови и кусала губы, с грустью думая о том, что она вот опять сбилась с пути, потеряла тропинку, как ночью в лесу.
Она почти не дотронулась в столовой до завтрака и весь день ходила молчаливая и хмурая. Она не сердилась на вожатых. Она сердилась на себя.
«Дрянь девчонка! — повторяла она чуть не плача.— Не может жить спокойно, как другие ребята. Прежде с тихого часа убегала, а теперь взяла да и удрала ночью в лес!»
Руки и ноги у нее были исцарапаны до крови. И, поглядывая на свои ссадины и царапины, Гуля со злостью и досадой думала:
445
«Так мне и надо! Молодец держидерево! Видно, для того оно и растет, чтобы держать таких, как я!»
Она даже отказалась от верховой езды, когда Барасби предложил ей проехаться после вечернего чая. Он искоса поглядел на Гулю, не понимая, о чем она думает, сидя на скамейке и крепко обхватив руками колени.
А думала Гуля вот о чем:
«Ну как жить мне на свете дальше? Надо же научиться быть смелой, как моя Василинка в кино. А все получается не так! И вот теперь вожатые думают, что в Артеке никого нет хуже меня...»
Но вожатые так не думали. Они понимали: то, что случилось, для Гули даром не пройдет.
На другой день в Артек привезли новую кинокартину — «Дочь партизана». Вожатых это озадачило. Ведь главную роль в этой картине играла Гуля! Как же. быть? Она так провинилась, и после этого показывать ее на экране? Еще зазнается небось, еще больше от рук отобьется. Но ведь не отказываться же из-за этого от картины, которую специально привезли в Артек! Не лишать же удовольствия весь лагерь.
Узнав, что после ужина будет кино и что в картине участвует пионерка Артека Гуля Королева, ребята всполошились.
— Это какая же Королева? — спрашивал один.
— Та, что ночью одна в лес ходила,— отвечал другой.
— Та, что верхом ездит не хуже, чем Барасби. И плавает здорово,— говорил третий.
Вечером ребята стали ходить за Гулей по пятам.
— Расскажи, Королева, как ты снималась в кино,— просили они.
— Ладно, ладно, расскажу,— отмахивалась Гуля.— После сеанса. А то смотреть неинтересно будет.
И, хотя ребята уверяли ее, что им все равно будет очень интересно, Гуля уговорила их потерпеть.
Перед сеансом она долго думала, идти ли ей на картину или не идти. Нечего сказать, хороша дочь партизана, которой объявляют выговор на лагерной линейке! Ей теперь в глаза ребятам смотреть совестно.
И все же Гуля решила, несмотря ни на чтох пойти. Ведь тут
446
тоже нужна смелость! В сопровождении целой ватаги ребят пошла она по аллее парка к открытым дверям клуба.
— Не Королева, а королева,— сказала ей вслед, улыбаясь, одна из старших девочек.
Гуля обернулась к ней и, не смущаясь, ответила:
— Меня так и в школе иногда называют. В шутку.
Кинозал не мог вместить в этот вечер всех зрителей. Собрались не только ребята и вожатые, но и врачи, повара, няни. Пришлось притащить из столовой и кухни стулья, скамьи, табуреты и расставить их вдоль стен.
Вокруг Гули сразу же началась возня — каждому из ее отряда, особенно девочкам, хотелось сесть поближе к ней. Вожатые пошли между рядами, стараясь восстановить порядок и тишину.
Наконец в зале погас свет, и волнение улеглось. Все притихло. На экране вспыхнула надпись:
ДОЧЬ ПАРТИЗАНА Производство Одесской кинофабрики
Промелькнули имена режиссера, актеров, взрослых и детей (среди детей на первом месте—имя Гули Королевой), и на экране появилась крошечная толстенькая девочка. Она стояла на пухлых ножках и смотрела, как ее мама сажает деревце.
— Гуля, это ты? Ты? — зашептались вокруг ребята.— Тебя снимали, когда ты была маленькая?
— Тише! — остановила их Гуля.— Это пока не я. То есть это я, но другая девочка. Не могла же я вырасти во время съемки.
— А когда же будешь настоящая ты?
— Скоро. Вот увидите.
И на самом деле: крошечное деревце тут же, на глазах у зрителей, превратилось в молоденькую, нежную березку, а крошечная девочка тоже подросла, и теперь все узнали в ней Гулю.
— Гуля! Гуля Королева! — загудел зал.
Да, это была та же Гуля, что сидела в зале, только поменьше,— босоногая, озорная, в коротенькой юбчонке. Теперь ее звали Василинкой. Она носилась по деревне, бегала наперегонки с колхозными ребятами* скакала верхом на белом коне, отправляясь в ночное.
447
Но вот случилась беда: угрюмый бородатый человек тайком загнал колхозного коня Сивко в болото и спутал ему ноги. Василинка увидела это и бросилась на помощь коню. Увязая в болоте, задыхаясь, она распутывает ему ноги и вытаскивает из болота.
А потом маленькая героиня Василинка узнает и бесстрашно уличает врага, пытавшегося скрыться...
Жмурясь от ярко вспыхнувшего света, Гуля встала и вместе с толпой ребят направилась к выходу.
Было уже совсем темно. В темноте слышно было, как тяжело вздымается, будто поворачиваясь с боку на бок в своей постели, море.
— Ну, рассказывай! — заторопили Гулю со всех сторон, когда шествие двинулось по аллее.
— Что же рассказать? — спросила Гуля, глубоко вдыхая свежий солоноватый воздух.
— Ну, а что дальше было с Василинкой?
— Этого я не знаю...
— Ну, так рассказывай что хочешь! Ты так замечательно играла!
— Нет, совсем не так уж замечательно,— серьезно сказала Гуля.— Вот в другой картине, «Я люблю», по-моему, я играла гораздо лучше. Я там Варьку играла. Внучку шахтера.
И Гуля рассказала, что, для того чтобы получше узнать, как работают шахтеры, она вместе с режиссером спускалась в шахту, да еще в самый забой.
— Когда мы вылезли из шахты,— продолжала Гуля, медленно шагая с ребятами по аллее,— нам сказали, что эта шахта была раньше самая опасная во всем районе. Тут режиссер спросил одного старого рабочего, который спускал и поднимал груз на шахте: «Вы часто били двенадцать раз в колокол?» (А двенадцать раз били, когда везли покалеченного шахтера.) А рабочий и отвечает: «Бывало, в каждую смену бьем. И теперь случается, только редко».
— Ой, как страшно! — тихонько сказал кто-то из ребят.— Ну, а ты не боялась?
— Нет, не очень,— ответила Гуля.— Я же знала, что в этой шахте теперь уже не так опасно. Только было жутко, когда вдруг
448
там, внизу, погас свет. Вы только подумайте: тьма кромешная, а я одна. Режиссер куда-то ушел — поговорить с шахтерами. Стою и не знаю, что делать. Ну, думаю, пропала! Тихо-тихо кругом. Только слышно, вода где-то журчит. Вдруг вижу — огонек блеснул. Приблизился ко мне огонек, и я увидела, что это шахтер идет со своей лампой шахтерской, а рядом с ним режиссер. Тут нас с ним подняли наверх в клети, вроде площадки открытой, и до того мне показалось светло наверху, на земле, что даже глазам стало больно.
— А в шахте тебя тоже снимали для кино? — спросил в темноте чей-то мальчишеский голос.
— Нет, в шахте мы не снимались.
— А как вообще снимают? — спросила, выскочив вперед, какая-то маленькая девочка.— Так все подряд — всю картину сразу?
— Ну нет, конечно, не сразу,— сказала Гуля.— Это же очень трудно снимать. И сниматься тоже очень трудно. Знаете, как мы запарились с режиссером, пока один только эпизод с конем засняли? До этой картины я никогда верхом не ездила. А тут пришлось научиться ездить. Сначала — в седле, а потом и без седла. Василинка же без всякого седла ездила, она же крестьянская девочка, а не наездница. Да еще надо было научиться по-разному ездить — шагом, рысью, галопом, а вдобавок еще брать барьеры. Когда в первый раз взяла препятствие, я до того испугалась, что чуть было с лошади не кувыркнулась. А когда Сивко из болота вытаскивала, пиявки мне в ноги впились. Насилу их потом, после съемки, содрали.
Ребята слушали затаив дыхание. И вдруг самый маленький пионер спросил:
— А кто играл коня?
Гуля обернулась.
— Как это кто? — спросила она удивленно.— Конь.
— Так хорошо играл? — сказал мальчик с восторгом.
— Ну, с этим актером,— ответила Гуля,— тоже пришлось как следует поработать. Он долго не хотел меня слушаться.
И, подумав, она добавила:
— Но бывает, что и с нами, ребятами, режиссерам нелегко. Ведь с нами нельзя репетировать много раз подряд.
449
■— Почему? Почему нельзя? — сразу отозвалось несколько голосов.
— А потому, что если мы зарепетируем, то есть будем повторять одно и то же много раз, уже ничего хорошего у нас не получится,— объяснила Гуля серьезно.— Вот режиссеры и добиваются, чтобы ребята делали все сразу, как в игре. Ну, иногда ничего не выходит. Иногда ребята не слушаются или бузить начинают. Ну, тут прикрикнут на них, они и перестанут. Хороший режиссер умеет обращаться с нашим братом.
— А как он обращается с вашим братом? — серьезно спросил опять тот же самый маленький мальчик, которому понравилось, как играет конь.
Все вокруг рассмеялись. А потом опять раздались нетерпеливые голоса:
— Рассказывай дальше! А ты, Игорек, не перебивай! Рассказывай, Гуля!
— Ну и вот...— начала опять Гуля.— На чем же это я остановилась?
— На том, что хороший режиссер умеет обращаться с ребятами.
— Да, да! — сказала Гуля.— Хороший режиссер — это все равно что хороший учитель. На съемке он строгий, а после съемки добрый. Если поймешь, чего он хочет, то уже нетрудно сделать все как следует. Но самое главное в работе с нами — это терпение. Если у режиссера нет терпения, ничего не выйдет. Самое важное — понять, чего от тебя требуют. А вот когда режиссер расскажет весь эпизод, заинтересует тебя, тогда все пойдет как по маслу.
Гуля помолчала.
— Самое главное — это подход.
Слушая Гулю, ребята проникались к ней все большим и большим уважением: как она все понимает! Прямо как взрослая. И какие слова говорит: «эпизод», «подход», «кадр»... Такие слова знает, в кино снималась, а совсем не зазнается! И все только о трудностях рассказывает, а о том, что так замечательно играла,— ни слова...
Долго бы еще рассказывала Гуля о своей работе в кино, если бы не пришло время спать.
450
Все разбрелись по своим палаткам. Стало совсем тихо.
Гуля улеглась в постель у окна и долго-долго перебирала в памяти все события этого вечера: и картину, которая так много ей напомнила, и этих славных ребят, жадно слушавших все, что она им рассказывала. И сердце ее опять переполнила бесконечная, захватывающая дух радость! Как все-таки хорошо, как интересно жить на свете!
Под самые звезды уходил крутой мохнатый горб Аю-Дага, Медведь-горы. То и дело с черного неба срывалась звезда и летела вниз, за спину старой медведицы.
И слышно было, как совсем рядом, внизу, море бьет, гремит и работает — тащит за собой камни...
В МОСКВУ, В МОСКВУ!
Весело и незаметно пробежал целый месяц. Вокруг было столько нового, что Гуля не знала, на что раньше смотреть, за что раньше браться.
Приближалось время отъезда.
Гуле не хватало дня, ей хотелось доделать до отъезда тысячу дел — собрать коллекцию камней Артека для краеведческого музея, научиться у Барасби еще нескольким особенно трудным приемам верховой езды и сдать нормы на значок БГТО.
Уже почти все было сдано — и плавание и гребля,— оставалось самое трудное для Гули: стрельба и метание гранаты.
А стрелки на ее часиках, не считаясь ни с чем, бежали теперь как-то особенно быстро...
Жаль было расставаться с Артеком, с новыми друзьями.
А вдобавок у Гули появился четвероногий питомец, которого она очень полюбила,— лисенок. Звали лисенка «Рыжик».
Это был хорошенький маленький хищник. Рыжая шерстка его была до того густой и мягкой, что хотелось без конца гладить ее. Кончик длинного пушистого хвоста Рыжика был совсем белый. Белой была и грудь лисенка, похожая на белую манишку.
И кончик хвоста тоже был нарядно белый. А глаза лисенка — узкие, блестящие — смотрели так лукаво, словно он задумал
451
какую-то проделку, о которой никто-никто не должен был знать,— недаром он так хитро улыбался.
Когда Гуля принесла ему в первый раз на обед куриные косточки, Рыжик завизжал, залаял, затявкал от нетерпения. И не успела Гуля высыпать их перед Рыжиком, как он с остервенением кинулся на еду и принялся быстро-быстро закапывать косточки в землю.
— Думаешь, отниму? — спросила Гуля и засмеялась.— Ишь какой жадный! Ну погоди, я тебя от жадности отучу.
Она стала каждый день бегать к Рыжику, кормить его, не позволяя ему закапывать еду в землю. Рыжик визжал, тявкал, метался по клетке, но мало-помалу начал слушаться. Скоро он даже так привязался к своей воспитательнице, что жалобно тявкал и скулил, когда она уходила. Гуля гладила Рыжика по спине и по белой грудке и говорила ему:
— Не плачь, Рыжик, я ненадолго ухожу, а скоро нам придется с тобой навсегда распрощаться — я далеко уеду, к маме, домой!
Но вот когда артековцы стали уже готовиться к своему последнему, прощальному костру и к разъезду по домам, до них долетела необычайная весть: весь Нижний лагерь — все двести пионеров вместе со своими вожатыми — приглашается в Москву, в Кремль!
Это счастье выпало на долю всех москвичей, а также тех ребят, которые должны были проезжать через Москву. Гуле же предстояло возвращение в Одессу.
Узнав о телеграмме из Москвы, она не спала всю ночь. Ей так хотелось побывать в Кремле! Да к тому же она столько времени не была в Москве, так соскучилась по своему родному городу и по отцу! Но как поехать? Нужно спросить у родителей разрешения. А вдруг они ответят не сразу и ребята уедут без нее? Уже шестое сентября, а пятнадцатого все уезжают. Что делать? Послать телеграмму? Но в телеграмме всего не расскажешь, не объяснишь подробно, до чего хочется поехать, как это нужно и важно. Придется послать письма: отцу — в Москву, маме — в Одессу.
«Пошлю без марок,—решила Гуля.—Доплатное, может быть, скорее дойдет».
452
Она вскочила чуть свет и сама отнесла на почту два письма, полные мольбы.
После этого начались дни великих волнений. А что, если папа согласится, а мама не позволит? Или наоборот? Или они решаг сначала списаться друг с другом? А пока письма будут идти туда и сюда, ребята уедут в Москву!
Гуля бросалась навстречу каждому письмоносцу, бегала по десять раз на день в контору лагеря просматривать толстые пачки писем. И, когда ей уже казалось, что ответа не будет и не может быть, пришли две телеграммы: одна из Москвы, другая из Одессы.
«Жду целую»,— писал отец.
«Поезжай не задерживайся Москве целую»,— писала мать.
Гуля, размахивая обеими телеграммами, побежала в парк, чтобы рассказать всем о своем счастье.
А вечером на костровой площадке запылал прощальный костер.
Маленький баянист, пионер из Костромы, еле удерживая в руках тяжелый баян, серьезно и деловито перебирал лады своими тонкими пальцами. И вдруг он заиграл что-то плясовое, задорное. У ребят сами собой заходили ноги, задвигались плечи.
И тут два самых смелых мальчика сорвались с места и пустились вприсядку.
Гуля стояла в первом ряду и легонько притопывала ногой. Ей тоже очень хотелось плясать, но ни одна из девочек не решалась пока что выйти из рядов, а начинать первой было как-то неловко.
Но тут совершенно неожиданно кто-то подтолкнул ее сзади, и она, не успев удержаться, вылетела на самую середину круга.
Эх, была не была!
Она взмахнула платочком и понеслась по площадке, поворачиваясь то к одному, то к другому плясуну, скользя между ними, то наступая на них, то отступая. Ей казалось, что все пляшет вместе с ней — и голубые кипарисы, и Аю-Даг, и даже само небо...
Ребята плясали, пели песни, читали по очереди стихи... А когда совсем стемнело, в темно-синее вечернее небо одна за другой взлетели ракеты, рассыпаясь разноцветными огнями. Все небо
453
как будто ожило. При каждой вспышке в вышине вырисовывались очертания облаков, а внизу опять возникали пропавшие было в темноте деревья и кусты.
Гуля смотрела на это великолепное сияние огней и думала:
«За что нам столько счастья? Чем мы его заслужили? Такой месяц в Артеке, да еще теперь — поездка в Москву, в Кремль! Ах, милый наш Артек, милая, родная наша страна! Все сделаю для тебя, ничего для тебя не пожалею!»
А день спустя скорый поезд «Севастополь — Москва» уже мчался по степям и полям Украины. За окном вагона убегали назад тополя, с которых уже осыпались сухие, желтые листья.
«Скорее, скорее!» — торопила Гуля поезд, и ей хотелось, чтобы белые украинские хаты, крылья ветряных мельниц — все, что она так любила, на этот раз поскорее уступило место бревенчатым избам и милым красностволым соснам.
Снаружи на стенке одного из вагонов алело полотнище с надписью:
СПАСИБО ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЗА СОЛНЕЧНЫЙ АРТЕК!
В пионерских вагонах не смолкали песни. Где-то слышались звуки баяна. Это наигрывал что-то маленький пионер из Костромы.
Когда поезд, замедляя ход, подходил к какой-нибудь большой станции, на стене одного из вагонов появлялась пионерская газета. Сверху пестрыми буквами было выведено название:
АРТЕК - МОСКВА
У газеты быстро собиралась толпа. Люди просматривали веселые стихи и заметки и узнавали, что двести пионеров из Нижнего лагеря прибавили в весе целую тонну и выросли на целых четыре метра. А когда поезд снова трогался в путь, из толпы слышались возгласы: «Прощайте, артековцы!», «Счастливого пути!», «Привет Москве!» — а ребята, загорелые, веселые, высунувшись из окон вагонов, махали провожающим платками и своими белыми матросскими бескозырками с золотыми буквами «Артек» до тех пор, пока станция не оставалась далеко позади...
Настала последняя ночь. За окном взошла луна, и было странно, что она не отстает от поезда, хотя стоит на месте.
454
«Еще девять часов езды —и Москва»,—думает Гуля, лежа у окна. А с верхней полки ее трогает за плечо жесткая рука Барасби:
— Гуля, спишь? Москва скоро.
Никому из ребят не спится в эту ночь. Все в полудремоте слушают, как стучат колеса. То один, то другой отдернет занавеску и поглядит в окно. Там, в темноте, мелькают красные искры и по земле несутся светлые квадраты окон.
И вот наконец Москва. Доски перрона застучали под ногами пассажиров. Толпа на перроне расступилась.
— Пропустите пионеров!
В новеньких синих автобусах Артек поехал по Москве.
Гуля хорошо знала все эти улицы и замечала каждый новый дом, выросший без нее.
Автобусы остановились перед гостиницей.
Ребята заполнили веселой толпой вестибюль.
Гостиница! Как интересно жить в гостинице, где живут только взрослые, приехавшие в командировку!
Из окна своего номера Гуля увидела опять Кремль. Золотые стрелы на черных циферблатах башенных часов приближались к цифре «10».
Как еще долго ждать до завтра!
Гуля позвонила отцу на работу — в театр:
— Папочка, приходи скорее, а то мы до послезавтра не увидимся. Сегодня мы едем в Дом пионеров. А завтра мы в Кремле!
Потом позвонила Эрику:
— Эрастик! Правда, это здорово, что я приехала? Послезавтра приду к вам. Завтра мы в Кремле. Ты понимаешь, а? Сегодня едем в Дом пионеров. Ой, Эрик, как я боюсь! Мне поручили говорить приветствие! В Кремле!..
...Золотые стрелы Спасской башни показывают девять часов вечера. Гуля только что вернулась из Дома пионеров. Она смотрит в окно, на залитую светом широкую улицу.
Скорей бы прошла эта ночь!
Яркими рубинами светятся в темном осеннем небе кремлевские звезды. А вон и тот красный флаг, который она называла «огоньком», когда была еще совсем маленькая.
455
И вот наконец настало утро. Новенькие автобусы, битком набитые мальчиками и девочками в парадных матросских бушлатах, въехали в кремлевские ворота и покатили по аллее, обсаженной елочками.
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДАРОК
Прохаживаясь по аллее Александровского сада, Владимир Данилович Королев поджидал Гулю. Он условился с дочкой, что они встретятся у Боровицких ворот Кремля.
Заходящее солнце играло, поблескивало на окошках и башнях древних теремов, на зубцах кремлевской стены, возвышающейся над низиной сада. Не раз прозвонили часы на Спасской башне, а Гуля все не показывалась.
Отец стал уже беспокоиться. Может быть, он опоздал и пионеры успели проехать до того, как он пришел? Но ведь Гуля должна была бы ждать его в саду, как было условлено. А может быть, пионеров пропустили на обратном пути через другие ворота? Через Спасские или Троицкие? Возможно также, что Гуля прямо из Кремля поехала вместе со всеми ребятами в гостиницу.
Как же быть? Ждать еще или отправиться туда? Или, может быть, лучше позвонить?
И вдруг отец услышал звонкий голос:
— Папка, я здесь!
Он обернулся и увидел Гулю. Она бежала по аллее, счастливая, раскрасневшаяся, размахивая своей белой бескозыркой.
— Ну что, Гулька? — спросил Владимир Данилович, когда она подбежала к нему и отдышалась.— Сказала в Кремле речь?
Гуля кивнула головой.
— Сказала, да только совсем не так, как хотела. Во сто раз хуже. Вот если бы меня опять позвали в Кремль!
— Ну что поделаешь, как могла, так и сказала. Не горюй!
— Я и не горюю, а только жалею. А ты знаешь, папа, что нам подарили? Суук-Су!
— Как это — Суук-Су?
— Так, весь целиком. И белую дачу с башенками, и парк
456
со всеми деревьями и лодками! Для этого нас и позвали в Кремль.
— Ну и подарок! — сказал отец.— Как же это случилось?
— Сейчас все расскажу. Давай посидим на скамеечке. Мне так хочется тебе все поскорей рассказать! Прямо не терпится!
И, усевшись на скамейке, где никого не было, Гуля сказала:
— Ах, папа, если бы ты только знал, как было чудесно в Кремле! Как нас принимали!
И она стала рассказывать. Говорила она волнуясь, сбивчиво, но отец ясно представил себе, что происходило сегодня в зале Большого дворца.
На столах стоят вазы с грушами и виноградом, разложены плитки шоколада. Ребята притихли и смущенно поглядывают на высокие, тяжелые, белые с золотом двери.
И вот в зал входят руководители партии и правительства...
Гуля рассказывала, а отец и слушал ее, и думал о своем. Давно ли его маленькую Гулю водили за ручку в детский сад? И вот она уже на приеме в Кремлевском дворце. Да как хорошо, как торжественно рассказывает об этом: «В зал входят руководители партии и правительства...»
— Папа, да ты не слушаешь! — прервала Гуля мысли отца.
— Нет, слушаю, слушаю, продолжай!
И Гуля продолжала:
— «Артековцам привет!» —услышали мы. Тут мы поднесли всем цветы. А потом нас попросили что-нибудь рассказать. Ребята шепчутся, мигают мне: «Гуля, иди!» И наши вожатые, Лева и Соня, кивают мне. Ну, я вышла вперед и сказала приветствие. Только почему-то не своим, а каким-то чужим голосом. Говорю и сама себя не узнаю.
— Это от волнения,— сказал отец.— Что ж, и взрослые иногда волнуются, когда выступают. Ну, а дальше, дальше что было?
— Нас попросили рассказать, как мы провели в Артеке время, как отдыхали. «Кто из вас самый храбрый?» — спрашивают. Ребята сначала молчат, стесняются. А потом говорят: «Барасби самый храбрый, а из девочек — Гуля Королева. Она и верхом ездила, и одна в лес ночью ходила. Расскажи, Гуля!» Я шенчу ребятам: «Да ведь я только что выступала». Но тут, на мое сча¬
457
стье, Барасби уже согласился рассказывать. Переступил с ноги па ногу и говорит: «В Артеке мы очень хорошо отдыхали. Очень весело отдыхали в Артеке». Я сразу поняла: не знает он, о чем говорить. И ведь правда, трудно придумать сразу, с чего начать. Особенно во дворце. Верно, папа?
— Да, конечно. И что же еще сказал Барасби?
— Сказал еще что-то про школу... Ну, что всегда говорят в таких случаях: «Теперь мы с новыми силами возьмемся за учебу». И вдруг опять замолчал. Не знает, что говорить. Совсем смутился. А его спрашивают: «А все-таки, что же вы делали в Артеке? В море купались?» — «Купались»,— «На Аю-Даг ходили?» — «Ходили».— «На яликах и яхтах катались?» — «Катались».— «А когда же отдыхали?» — «Так это ж и есть отдых»,— сказал Барасби и засмеялся. И все тоже засмеялись. «Ах, вот опо что, говорят, это и есть отдых!» А потом нас попросили спеть что-нибудь. Мы спели нашу артековскую песенку, ту самую, что мы часто пели в Артеке. Знаешь? «Мы на солнце загорели и, как негры, почернели»... Спели мы первый куплет, ну и припев, конечно: «Наш Артек, наш Артек, не забыть тебя вовек», а нам и говорят: «Вы, кажется, не до конца спели. Там было что-то про Суук-Су». Ну мы осмелели и грянули: «У Артека на носу приютился Суук-Су». Только мы это пропели, нам и говорят: «Ну, видно, придется подарить Артеку Суук-Су, чтобы он не торчал у него на носу».— «Спасибо!» — закричали мы все. И тут кто-то из наших сказал: «У Артека на носу больше нету Суук-Су!» И все опять засмеялись.
Гуля замолчала. Ей представилась белая дача, спрятавшаяся в густой зелени парка. Еще так недавно только издали, с артековского берега или с моря, катаясь на парусных яхтах, поглядывали пионеры на эту узкую и длинную полоску земли, глубоко врезавшуюся в море. И вот теперь этот заманчивый мыс, этот тенистый парк, эта белая дача — все отдано им, артековцам! Навсегда!
— И на этом кончился прием? — прервал Гулины мысли отец.
— Нет, нет! — спохватилась Гуля.— Тут только и началось веселье. Знаешь, папа, как здорово танцует лезгинку Барасби? Барасби Хамгоков. Раскинул руки и так лихо понесся по залу,
4-58
что прямо чудо! Как вскрикнет «Аса!» — так и полетит! А ноги у него легкие, ловкие, будто сами по паркету скользили.
Гуля опять на минуту задумалась.
— Ах, папа, до чего было здорово в Кремле! — сказала она и вздохнула.— Даже рассказать невозможно!
ВОЖАТАЯ ОКТЯБРЯТ
Гуля вернулась домой, в Одессу.
— Как все у нас изменилось! — говорила она матери, оглядываясь по сторонам.— Потолки стали ниже, что ли?
— А может быть, это ты стала выше? — отвечала, смеясь, мать.
Уже наступила осень, но Гуле казалось, что это удивительное праздничное лето с путешествием в Артек и в Москву все еще не кончилось.
В первый же день Гулиного приезда к ней прибежали Леля и Лина, и все три девочки отправились на кинофестиваль.
Кинофестиваль продолжался десять дней. Ребятам показывали по две картины в день, и Гуля приходила домой с опухшими глазами.
— Слушай, Гуля,— сказала ей наконец мама.— Когда кончатся эти бесконечные развлечения? Когда ты возьмешься за работу? Ты что думаешь — бездельничать целый год и браться за книжки только перед экзаменами?
— Нет, мама,— серьезно ответила Гуля.— Ты понимаешь, я и сама устала от удовольствий и хочу заниматься. Но ребята без меня не могут ходить в кино. Я объясняю им секреты съемок.
„ — Обойдутся как-нибудь без твоих объяснений,— сказала
мама.— А если ты сегодня же не сядешь за уроки, у тебя опять будут очень крупные неприятности в школе. Еще посерьезней твоей «истории с географией». Так и знай.
Гуля не стала спорить. Она и сама уже сознавала, что давпо пора было начать усердно заниматься. И она даже с удовольствием думала о том, что на смену длинной вереницы ярких,
459
праздничных дней придут наконец спокойные, трудовые, размеренные будни.
Гуля взялась за работу. Снова на ее столе выросла гора учебников. На стене у стола появилось расписание занятий, похожее на расписание поездов. Здесь были точно указаны часы «прибытия» и «отбытия» —час отбытия со станции «Постель», прибытия на станцию «Письменный стол». Были точно перечислены названия школьных предметов и разделов, которые нужно было пройти, или, как она говорила, «проехать».
Гуля теперь сама отказывалась, когда ее звали в кино или в театр.
— Я должна мчаться на всех парах,— говорила она,— чтобы отработать свою поездку в Москву. Мне иногда кажется, что я превратилась в скорый поезд: вечно мчусь куда-то.
Она с головой ушла в школьные занятия и в пионерскую работу, отказывалась от всех посторонних дел. Она была теперь вожатой октябрят. Ее не на шутку заинтересовала трудная задача — воспитывать маленьких ребят, развивать в них характер, силу воли, смелость.
Гуля особенно много думала о том, как провести первый сбор, чтобы ребятам было интересно. И она решила придумать какую-нибудь страшную сказку.
«Малыши любят страшные сказки. Да к тому же это и будет первым испытанием их смелости. Надо только, чтобы сказка хорошо кончалась».
По дороге в школу Гуля на ходу сочиняла эту страшную сказку с хорошим концом.
Вечером в пионерской комнате собралось около двадцати ребят: первый класс «Б». Они уже были настоящими школьниками и сами, без провожатых, пришли на свой октябрятский сбор.
Входя в коридор, Гуля услышала взволнованные голоса.
— А вдруг она не придет? — сказала девочка с косичками, которую звали Лика.
Мальчики выглянули в коридор.
— Идет! — закричал брат Лики, Мика.— Чур-чура, я с ней рядом сяду!
— А я, чур, с другой стороны! — крикнула Лика.
460
— Тише, ребята! — сказала Гуля, закрывая за собой дверь.— Вы скоро пионерами будете, а шумите, как маленькие.
Дети сразу утихли.
— Ну, что вам рассказать? — спросила Гуля, когда все уселись вокруг нее.— Хотите страшную сказку?
— Хотим! — закричали октябрята.
— А не будете бояться?
— Не будем!
А если я погашу свет и буду рассказывать в темноте?
— Все равно не будем.
— Ну, посмотрим, смелые вы ребята или нет.
Гуля встала, повернула на стене выключатель. Стало так темно, что ей пришлось ощупью найти свой стул.
— Ну, слушайте...
Жили-были брат и сестра. Брата звали Иванушка, а сестру Аленушка. Вот раз Иванушка и говорит:
«Слышал я, что на свете какое-то лихо есть, а никакого лиха я не видал. Пойдем, Аленушка, поищем лихо».
Взяли они и пошли. Шли, шли и зашли в лес. Густой лес, темиый-претемный... Ничего кругом не видно...
— Как у нас тут,— сказал кто-то из октябрят.
— Тише!
Ребята затаили дыхание.
В комнате стало так тихо, что пионервожатая Люба, проходившая в это время по коридору, удивилась.
«Что за странный сбор?» — подумала она и слегка приоткрыла дверь в класс.
Сквозь узенькую щель доносился до нее негромкий, но внятный голос:
— ...Шли Аленушка с Иванушкой и увидели в лесу избушку. Вошли, а там никого нет. Пусто, темно. В трубе ветер воет: у-у-у... И вдруг слышат — топ-топ. Кто-то шагает в сенях и железной палкой стучит об пол. Вошла в избу старуха — худая, кривая, одноглазая. Юбка на ней черная, кофта черная, платок черный.
Посмотрела старуха на детей одним глазом и говорит:
«A-а, гости пришли? Вот и хорошо! У меня как раз на ужин нет ничего».
461
«А мы сыты»,— говорят Иванушка и Аленушка.
«А зато я голодная. Вот зажарю вас и съем...»
Кто-то рядом с Гулей тихонько охнул.
— Что, страшно? — спросила Гуля.
— Ничего, рассказывай,— сказал Мика.
И Гуля продолжала рассказывать свою страшную сказку:
— Взяла старуха в руки лопату и говорит Иванушке: «Садись, я тебя в печь посажу».
Заплакала Аленушка:
«Ой, лишенько!»
А Иванушка пабросил на Аленушку шубку мехом вверх и говорит ей тихонько:
«Прикинься, Аленушка, овечкой, бодайся и кричи: «Ме-е-е!» Аленушка так и сделала. Мечется по избе и кричит: «Ме-е-е! Ме-е!»
«Вот глупая овца!» — говорит старуха.
Схватила Аленушку и выбросила ее за дверь. Стоит Аленушка одна у закрытых дверей, в темном лесу и плачет: «Иванушка, братец мой! Иванушка!..»
Кто-то из ребят громко всхлипнул.
— Зажечь свет? — спросила Гуля.
— Не надо,— послышались в темноте голоса.
И Гуля продолжала:
— Плачет Аленушка, а Иванушка говорит старухе:
«Поучи меня, как сесть на лопату. А то я в печку не влезу». «Поучить недолго,— отвечает старуха.— Вот, смотри».
Села она сама на лопату, а Иванушка как сунет эту лопату
в печь! Старуха и крикнуть не успела. Закрыл Иванушка печь заслонкой — и прочь из избы.
А там Аленушка ждет. Сбросила она с себя овечью шубу и говорит:
«Прощай, лихо! Натерпелись мы от тебя лиха!»
И убежали они оба к себе домой. Прибежали и стали жить лучше прежнего...
Сказка кончилась.
В темной комнате было так тихо, что казалось — октябрята уснули. Гуля повернула выключатель, и яркий свет брызнул всем в глаза. Щурясь, ребята подняли головы.
462
И как раз в это время открылась дверь. Вошла Люба.
— Что тут происходит? — спросила она.
— Мы страшную сказку слушали,—хором ответили октябрята.— В темноте!
— Почему в темноте? — удивилась Люба.— Кажется* сегодня у нас в школе все время горел свет.
— Мы нарочно погасили,— сказала Гуля.
Люба удивленно на нее посмотрела. Гуля смутилась.
— А что, разве нельзя?
— У нас с тобой об этом будет особый разговор,— сказала Люба.— А вы, ребята, идите по домам, уже пора.
И когда комната опустела, Люба подумала и начала серьезно:
— Ты вообще неплохо рассказываешь сказки, в этом нужно отдать тебе справедливость. Я сама заслушалась, стоя у двери. Но объясни мне, пожалуйста, зачем ты пугаешь малышей?
— Я их не пугаю,— ответила Гуля.— Я воспитываю в них характер. Я хочу, чтобы они были смелыми и не боялись страшных сказок.
— А зачем тебе понадобилось гасить свет?
— Чтобы было еще страшнее. В театре ведь всегда бывает темно во время спектакля.
— Смешная ты, Гуля,—улыбнулась Люба.—В театре только в зрительном зале темно, а на сцене светло.
— Ну, а если на сцене ночь?
— Все равно есть какое-нибудь освещение. Иначе ведь никто ничего не увидит.
— Да ведь у меня и сцена и зрительный зал — все в одной комнате,— не унималась Гуля.
— У тебя вообще не театр, а октябрятский сбор. Это же маленькие дети! Ты их напугаешь так, что они ночью спать не будут... Прежде чем такие опыты устраивать, надо с кем-нибудь из старших посоветоваться. Воспитание характера — не такая простая штука.
Гуля обиженно нахмурилась и хотела уже что-то возразить, но тут неожиданно ей вспомнилось, как совсем еще недавно Килька и Клюква заперли ее в клетке с медвежатами, чтобы проверить ее храбрость...
463
— Ладно,— сказала она,— я буду осторожнее. Буду советоваться. Только не отнимайте у меня моих октябрят.
После этого разговора Гуля уже не отваживалась больше на рискованные воспитательные опыты.
Прежде чем затеять какую-нибудь новую игру или выбрать для октябрят книжку, она старалась припомнить, что сама любила больше всего, когда была такая, как они, что ее пугало в те времена, что было понятно и что нет.
Она стала по-настоящему готовиться к сборам. Перелистав книгу, соображала, не понадобится ли ей что-нибудь объяснить ребятам или досказать.
Гуля любила «досказывать», и ребятам нравилось, когда она начинала сама придумывать продолжение рассказа или сказки.
Она часто отправлялась со своими ребятами в далекие прогулки — на трамвае и пешком — и сколотила из них настоящую спортивную команду.
Ребята гордились своею вожатой и с нетерпением ждали каждого сбора.
Но недолго пришлось Гуле возиться с малышами. Маму опять перевели на работу в Киев, и вместе с ней должна была уехать Гуля. Перед самым отъездом на прощание она повела октябрят в кино. Там ее ожидала совсем непредвиденная встреча. После картины, в конце сеанса, показали последний номер кинохроники.
Перед глазами зрителей поплыли московские улицы, спортивное состязание на одном из столичных стадионов, канал Москва — Волга... И вдруг Гуля увидела такой памятный ей овальный зал в Кремлевском дворце, высокие двери с бронзовыми украшениями и толпу пионеров в артековской морской форме.
Чуть качнулись и подступили к самым ее глазам знакомые лица: Барасби Хамгоков, Мамлякат...
А вот и она сама — Гуля Королева. Не дочь партизана, не Василинка и не Варька, а школьница, пионерка — почти такая же, как сейчас, только чуточку поменьше ростом.
— Гуля! Гуля! Это ты! — закричади октябрята.
— Тише, что вы кричите! — сказала Гуля.
У нее билось сердце. Ей было радостно и странно опять уви-
464
Гуле три года.
Трехлетняя артистка. (Кадр из кинокартины «Каштанка».)
Ну чем не баба рязанская? (Кадр из кинокартины «Бабы рязанские».)
Гуля в роли Варьки. (Кадр из кинокартины «Я люблю».)
Василинка. (Кадр из кинокартины «Дочь партизана».)
Гуля — юннатка.
Гуле четырнадцать лет.
На теннисном корте Артека.
Гуля на сборе винограда в Артеке.
Гуля Королева перед уходом на фронт.
Комсомольский билет Гули Королевой.
Школа № 38 в Уфе. Здесь помещался штаб дивизии
Накануне наступления (снимок сделан для партийного билета).
Сержант Королева.
Здесь похоронена Гуля Королева.
Мемориальная доска в Артеке.
деть своими глазами все то, что она так берегла в памяти. Пожалуй, на этот раз она увидела даже больше: много разных подробностей, которые не успела тогда заметить от радости и волнения.
И, уж конечно, только на экране могла она увидеть себя самое, Гулю Королеву, на приеме в Кремле.
Досмотрев хронику, она перевела ребят через дорогу, а сама вернулась в кино, чтобы еще раз посмотреть на артековцев в Кремлевском дворце.
Она осталась бы и на третий сеанс и на четвертый, да у нее пе хватило денег.
ХОЛОДНАЯ ВАЛКА
К весне Гуля с матерью переехали в Киев.
Казалось, что на этот раз они уже прочно и надолго осядут па новом месте. Гуле так нравилась новая киевская квартира, нравилась улица, на которой они поселились, а больше всего ее радовало то, что у нее была отдельная комната.
Первый раз в жизни Гуля устраивалась по-своему, на свой вкус и лад. Одна стена у нее была «зимняя» — там висели коньки и в углу стояли лыжи, другая стена — «летняя», с теннисной ракеткой и мячами в сетке. С книжной полки на стол и со стола на подоконник весело перелетала пушистая белка, взятая из зоопарка. Гуля ее совсем приручила, и зверек доверчиво усаживался к ней па плечо и заглядывал в ее книжку своими черными, блестящими, как бусинки, глазками.
Все у Гули было теперь новое — новая комната, новая школа, новые подруги, и ей думалось, что вся ее жизнь теперь пойдет по-новому.
Но этому помешала старая запущенная болезнь.
Когда-то давно, во время киносъемки, Гуля сильно простудилась. С тех пор она часто прихварывала.
— С этим надо разделаться раз и навсегда! — сказал доктор, осмотрев Гулю.— Вот мы отправим ее в Одессу, на лиман.
Опять в Одессу! Гуля и обрадовалась и огорчилась. Было приятно побывать в знакомом, милом городе, подышать его мор-
J9 Библиотека пионера. Том II 4(J5
ским воздухом, снова встретить старых друзей. А жалко было отказываться от надежд на новую жизнь.
Но так или иначе, а с наступлением лета Гулю отправили на лиман. В Одессе ей пришлось пробыть всего часа полтора, и она даже не успела сбегать на старую квартиру и повидать прежних подруг.
Ей было даже немножко грустно оттого, что здесь, в этом знакомом городе, она чувствовала себя на этот раз случайной гостьей, проезжей пассажиркой.
Как назло, на вокзале и на привокзальных улицах она не заметила ни одного знакомого лица.
Гуля пошла на сборный пункт поглядеть, какие ребята едут вместе с ней в санаторий. Там было несколько мальчиков, гораздо моложе Гули, и одна девочка — должно быть, ее ровесница. У девочки были длинные темные косы и черные, чуть прищуренные глаза. Когда она хотела что-нибудь разглядеть, она вынимала из кармана очки в роговой оправе и на минутку подносила к глазам.
— Вы тоже на лиман? — спросила ее Гуля.
— Да, на лиман.
— Откуда?
— Из Киева.
— И я из Киева!
Гуле сразу стало веселее. Да и девочка, видно, обрадовалась, что встретила попутчицу, землячку и ровесницу.
Они уселись на своих чемоданах, вытащили свои дорожные припасы и, угощая друг друга последними бутербродами и яблоками, принялись болтать.
Выяснилось, что девочку зовут Мирра Гарбель и учится она в консерватории по классу рояля.
Гуле понравились эти слова: «по классу рояля», и она почувствовала к своей новой подруге какое-то невольное уважение.
Дальше обе девочки уже поехали вместе, не разлучаясь ни на минуту. Стояли рядом на самом носу катера и смотрели, как разбегаются по обе стороны две длинные пенные полосы, как из жаркого берегового тумана постепенно выходят смутные очертания приближающегося берега.
Мирра надела свои очки и уже не снимала их до самой при-
466
стани. Она в первый раз видела море, дельфинов и такое множество крикливых, жадных чаек.
Село, где был расположен детский санаторий, называлось Холодная Балка. Неизвестно, откуда взялось это название. Здесь не было ничего холодного — даже камни были тут пропитаны солнцем.
На пристани какие-то быстроногие смуглые мальчики в белых костюмах и белых панамах бросились навстречу приезжим ребятам. Один из них хотел было взять у Гули чемодан.
— Спасибо,— сказала Гуля.— А вы из санатория? Давно гут живете?
— Я испанский,— ответил мальчик улыбаясь.— Русски мало понимает.
— Мирра, ты слышишь? Это испапцы!
Но в это время высокий юноша, должно быть вожатый, что- то скомандовал своему отряду. Мальчик, слегка смутившись и пробормотав несколько слов по-испански, поставил на землю Гулин чемодан и побежал на свое место. Отряд двинулся за вожатым вдоль по берегу, а к приезжим подошла молоденькая девушка в голубом платье.
— Ну вот вы и приехали наконец,— сказала она.— Мы давно вас поджидаем. Идемте завтракать. Меня зовут Вера.
— А вы тоже здесь лечитесь? — спросила Мирра.
— Что вы! — сказала Вера.— Вы, должно быть, припяли меня за девочку? Я педагог, воспитательница младшей группы.
И она повела приезжих ребят в белый домик, спрятавшийся чуть ли не до крыши в гуще сиреневых кустов.
—- Скажите, пожалуйста, Верочка,— спросила Гуля по дороге,— неужели это в самом деле испанцы, из Испании?
— Да, испанцы, из Испании,— ответила Вера.— Чудесные ребята. Мы все их очень полюбили.
— Дети героев? — спросила Мирра.
— А некоторые из них и сами герои,— сказала Вера.— Они строили баррикады, рыли окопы. Кое-кто из самых старших даже воевал.
— Побежим к ним, Мирра! — сказала Гуля, хватая подругу за руку.— Потом позавтракаем!
467
— Нет уж,— остановила их Вера.— Первые дни вы посидите в карантине. Вот я сейчас передам вас вашей воспитательнице Ольге Павловне, и она вам все объяснит.
Ольга Павловна, пожилая строгая женщина в парчовой тюбетейке на черных с проседью волосах, суховато, без улыбки встретила девочек. Это случилось на пороге их спальни.
Обе девочки уже успели надеть купальные костюмы, а сверху — пестрые сарафаны и с полотенцами на плечах собрались бежать вниз на пляж.
— До осмотра врача — никаких купаний! — сказала Ольга Павловна.
— Мне врачи всегда разрешали купаться! — недовольно буркнула Гуля.— В Артеке в прошлом году я и нормы сдавала — плавание и греблю...
— Мало ли что было в Артеке в прошлом году.
С этой первой встречи у Гули с Ольгой Павловной началась война. Ольга Павловна была человек непреклонный. Карантин так карантин: сиди дома или у себя в палисаднике. Пускай весь санаторий веселится: ходит в кино, на прогулки, на купанье, а ты словно под арестом, и тебе не полагается никаких поблажек.
Тихий час так тихий час: лежи и не смей даже словом перекинуться с соседкой.
— Вы сюда приехали лечиться, и мы вас вылечим,— говорила Ольга Павловна,— хотите вы этого или не хотите.
Конечно, Гуле хотелось вылечиться, но, кроме того, ей каждый день хотелось еще чего-нибудь: кататься на лодке, плавать наперегонки, гулять вечером по берегу и любоваться лунной дорожкой в море, а во время тихого часа заучивать вместе с Миррой испанские слова.
Поэтому чуть ли не каждый день у нее бывали с Ольгой Павловной столкновения и стычки.
Гуля выходила из себя, а Ольга Павловна оставалась по- прежнему спокойной, деловитой и строгой, и это еще больше бесило Гулю.
— Сухарь,— говорила Гуля,—никаких человеческих чувств!
— Трудный ребенок,— говорила Ольга Павловна.— Одаренный, но трудный.
468
Больше всего жалела Гуля, что из-за сурового режима ей не удавалось проводить с испанскими ребятами столько времени, сколько ей хотелось.
Целая неделя ушла на карантин. Потом лечение, лечение, грязевые ванны, электризация и тихий час по полтора часа в день! А день тут короче, чем в любом лагере, потому что после вечерней росы нельзя выходить в сад.
И все же Гуля успела подружиться с испанскими детьми. Она ухитрялась разговаривать с ними, не зная их языка, жестами, улыбкой, немногими словами — французскими, русскими, испанскими, подхваченными тут же, на лету.
— Подумай,—говорила она Мирре,— какие у них в Испании занятные школы! За один год они проходят всю алгебру, всю геометрию, всю физику. А на другой год — все то же самое, но подробнее и серьезнее. А перемен между уроками у них нет. Учатся полдня без отдыха.
— Как же ты все это узнала? — спрашивала Мирра.
— Они мне рассказали.
— Да как рассказали?
— Ну, как... не знаю как. Только я все поняла. Я даже выучила вчера одну испанскую песенку. Чудная песенка — про какого-то Пене, который попал на птичий двор. Там прямо слышно, как гогочут гуси и кудахчут куры. По-испански это замечательно выходит! Ты непременно подбери к этой песенке музыку. А, Мирра, подберешь?
И Гуля опять убегала к испанцам. Со старшими она по-настоящему подружилась, особенно с девочкой Кончитой Хорабо и мальчиком, которого звали Хавьер Гонсалес. Эти двое ребят лучше других говорили по-русски, и Гуля не уставала расспрашивать их про войну, которую они видели и в которой даже сами участвовали.
— Здесь такое тихое небо,— сказала однажды Кончита, закидывая назад голову и вглядываясь в летнюю густую синеву.
— Тихое? Что ты хочешь сказать? — спросила Гуля, но, прежде чем Кончита успела ответить, она сама догадалась, о чем говорит маленькая испанка.
Как это должно быть страшно, когда такую мирную синеву
469
заполняют гудением моторов вражеские самолеты, когда опп стаями кружат над городом, а вокруг рушатся дома и земля дрожит от взрывов!
«Неужели и нам придется когда-нибудь увидеть и пережить такое?» — думала Гуля.
И она участливо и нежно смотрела на этих смуглых ловких ребят с такими живыми, горячими глазами, с худощавыми, четко очерченными лицами и ярко-белыми зубами.
Среди испанцев было много малышей, напоминавших Гуле ее октябрят. Ребята эти были веселые, здоровые, но достаточно было видеть, как жадно бросаются они навстречу своим старшим братьям и сестрам или к землякам, с которыми приехали сюда вместе, чтобы понять, как сильно скучают они по дому, по родным.
Гуля не знала, чем порадовать их. Каждый день она покупала им мандарины, леденцы, открытки с картинками, бумажные веера, бусы из раковин и всякую дребедень.
Малыши прозвали ее «Мадресита» — «Маленькая мама». Цветные бумажки от «карамелос», то есть от конфет, они тщательно разглаживали и прятали на память о ней. А мандарины поедали в огромном количестве.
— Ничего удивительного,— говорила Гуля.— В Испании апельсины созревают четыре раза в год. Испанцы без апельсинов жить не могут. Вот как мы с тобой — без картошки.
И она снова звала Мирру на берег покупать в ларьке мандарины и «карамелос» для испанских ребят, а для себя с подругой — двойные порции мороженого и в книжном киоске — последние номера киножурнала.
ТЕЛЕГРАММА
Гуле оставалось прожить в санатории всего одну неделю, когда она внезапно обнаружила, что деньги, которые ей дала мама на обратный билет в Киев и дорожные расходы, разошлись неизвестно на что.
Лежа в тенистом уголке сада в час отдыха на раскладушке
470
(врач разрешил ей и Мирре тихий час проводить в саду), Гуля шепотом подсчитывала свои расходы:
— Мороженое в Одессе — один рубль и здесь — двенадцать; подарки испанчатам — восемь коробочек из ракушек по четыре рубля — тридцать два, итого сорок пять. Конфеты и пирожные — тридцать шесть рублей; сорок пять и тридцать шесть — восемьдесят один. Мандарины... не помню сколько... А бусы, новый пояс с серебряной пряжкой, открытки, журналы, веера...
— Что ты там шепчешь? — спросила Мирра, поднимая с подушки голову.—Таблицу умножения решила повторить на старости лет?
— Какую там таблицу! — вздохнула Гуля.— У меня остался всего один рубль.
— А на дорогу ты отложила?
— Нет.
— И ты об этом так спокойно говоришь? — удивилась Мирра.
— А что же мне делать? Плакать?
— Не плакать, но как ты домой поедешь, я хотела бы знать.
— Это и я хотела бы знать,— сказала с усмешкой Гуля.— Поехать я никак не могу, при всем желании. Могу только пойти пешком. Авось язык до Киева доведет!
— А до Одессы как — вплавь?
— До Одессы вплавь...
Мирра смотрела на Гулю во все глаза.
И как только ты будешь жить на свете, Гулька? — спросила она.
— Не знаю как...— задумавшись, ответила Гуля.— Как-ни- будь. Ну ничего, я пошлю домой телеграмму.
— А на телеграмму где возьмешь?
— У тебя займу.
Мирра засмеялась.
— А мне на билет где возьмешь? У меня ведь тоже только последние, на дорогу.
— У кого-нибудь другого займу. А может быть, к тому времени из дому получу.
И Гуля стала вслух сочинять телеграмму, считая слова по пальцам:
471
— «Деньги разошлись. Точка. Не сердишься? Вопросительный знак. Пожалуйста, вышли дорогу сколько можешь. Целую. Гуля». Всего четырнадцать слов. Да еще адрес!
— И до чего же ты еще ребенок, Гуля! — ужаснулась Мирра.— Зачем спрашивать, не сердится ли, да еще ставить в телеграмме всякие точки и вопросительные знаки? Ведь все это лишние слова. Я бы написала просто: «Вышли деньги. Целую». Три слова. Коротко и ясно.
— Что ты, Миррка! — Гуля испуганно на нее посмотрела.— После такой телеграммы совсем нельзя будет показаться маме на глаза.
— По-моему, и так нельзя. Ты же сама говорила, что из-за вашего переезда у мамы туго с деньгами.
— Да-а,—вздохнула Гуля,—непутевая у нее дочка. Можно сказать — дрянь девчонка...
Гуля совсем пала духом. Мирра присела к ней на кровать, чтобы утешить подругу, но в этот миг раздался треск, и шаткая раскладушка рухнула на землю.
Очутившись на траве, девочки весело расхохотались...
— Знаешь, Мирра,— сказала Гуля,— давай бросим этот тяжелый разговор, а то видишь, даже кровать не выдержала, и у нее подкосились ножки.
Девочки принялись чинить раскладушку, натягивая парусину, но в это время на дорожке сада показалась Ольга Павловна. Она всегда приходила именно в ту минуту, когда ее ждали меньше всего.
— Это вы так отдыхаете? — спросила она.— Я говорила доктору, что этот отдых в саду ничего хорошего не сулит. Ступайте сейчас же на веранду. А твоей маме, Гуля Королева, я непременно напишу, что ты не умеешь соблюдать режим.
Гуля ничего не сказала. Взвалив на плечо подушку, словно это была бог весть какая тяжесть, она медленно пошла по направлению к белому павильону, где жили старшие девочки.
«Чего доброго, и в самом деле напишет! — думала она.— Вот будет здорово: сначала моя телеграмма, а потом этакое письмецо... Хоть домой не показывайся!»
Но делать было нечего, и в тот же вечер в окошко телеграфа была подана срочная телеграмма:
472
«Оказались непредвиденные экстренные расходы вышли пожалуйста на билет целую Гуля».
Возвращаясь в сумерках по берегу моря в санаторий, Гуля и Мирра обдумывали, какие расходы вообще можно считать «экстренными» и «непредвиденными». Текст был составлен по совету Мирры, и теперь Гуля ломала голову над тем, как она объяснит свою телеграмму дома.
— Утро вечера мудренее,— в конце концов сказала Гуля.— Да и до Киева еще далеко.
Но оказалось, что и до утра еще далеко.
Лежа в постели без сна, Гуля думала, как ей выйти из того запутанного положения, в которое она попала. Ей нужны были деньги не только на билет в Киев. Она вспомнила, что она задолжала всем, кому только можно: и Вере, и пионервожатому Алеше, и даже Мирре, у которой взяла деньги на телеграмму.
Она с мучительной ясностью вспомнила, как, провожая ее на вокзал, мама просила ее быть благоразумной, не потерять деньги по дороге и не покупать на станциях всякую ерунду.
А она так легкомысленно растратила все, что ей дала мама!
«Что теперь делать? Ах, что же теперь делать?»
Она стала высчитывать, сколько тратила в среднем каждый день. Но от этих подсчетов ей не стало легче. Она пришла в ужас. Вышло... по двадцать два рубля! И это при готовом питании! А мама, вспомнила Гуля, говорила ей при прощанье на вокзале, что даже ответственные работники получают во время командировки только двадцать рублей в сутки.
У Гули разболелась голова.
«Надо во что бы то ни стало найти какой-нибудь выход. Нельзя, чтобы из-за меня мама и папа мучились с деньгами. Но что делать? Продать что-нибудь? Что же можно продать? Голубой сарафан? Он уже не новый, выгорел на солнце».
И вдруг мелькнула мысль: часы!
Вот это действительно ценность! Гуля в темноте нащупала на столике у постели свои часики. Она поднесла их к уху. Колесики постукивали четко и деловито, словно билось маленькое сердце.
— Милые вы мои часики! — сказала Гуля, гладя полированную крышечку.
473
Она не могла даже представить себе, как это она сможет отдать их навсегда в чьи-то чужие руки. Но другого выхода не было. Если из дому не пришлют денег, придется продать здесь. А если пришлют, тогда в Киеве, чтобы отдать маме долг...
На этом Гуля успокоилась и перед самым рассветом наконец уснула.
ГУЛИНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Последние дни в санатории прошли для Гули невесело. Очень уж беспокойно было у нее на душе. Она сердилась на себя п на всех, даже на Мирру. Но больше всего, по обыкновению, раздражала ее Ольга Павловна. Стычки между ними делались все ожесточеннее. Гуля еле сдерживалась, чтобы не грубить, а Ольга Павловна с каждым разом становилась все суше и спокойнее.
Иногда Гуле казалось, что если бы эта суровая, педантичная женщина хоть на минуту вышла из себя, разгорячилась или повысила голос, Гуля простила бы ей все. Но Ольга Павловна оставалась невозмутимой даже в самой горячей перепалке.
«Памятник! Статуя! Мумия!» — придумывала ей прозвища Гуля.
А «статуя» при всей своей холодности и кажущейся неподвижности ухитрялась поспевать всюду, где был непорядок, и Гуля постоянно чувствовала на себе ее зоркий, внимательный взгляд.
Последнее их столкновение произошло в самый канун Гулиного отъезда, под вечер.
Ребята играли в волейбол на площадке, еще не просохшей после короткого, но бурного ливня.
Если бы Ольга Павловна была дома, этот вечерний матч на сырой площадке наверное бы не состоялся.
Но вышло так, что как раз в этот вечер она ушла на пристань — провожать приезжего профессора-консультанта.
На площадке играла мужская команда против женской. Успех клонился па сторону мальчиков, но несколько метких ударов неожиданно повернули все дело.
474
— Держись, девчата! Мы им покажем! — кричала Гуля, забыв все беды и неприятности последних дней.
Но как раз в эту самую минуту на горизонте появилась Ольга Павловна в клеенчатом дождевом плаще с острым капюшоном.
— Это что? — сказала она, застыв на месте.— Сейчас же в помещение!
— Ольга Павловна! Мы сейчас доиграем! Минуточку! — кричали девочки.
— У меня сегодня последний день, Ольга Павловна,— сказала Гуля, стараясь говорить как можно приветливее.
— Что же, ты хочешь заболеть именно в последний день? — спросила Ольга Павловна, как всегда отчеканивая каждое слово.— Сию же минуту ступай в павильон. После захода солнца тебе нельзя быть на воздухе, да еще после дождя!
— Но, Ольга Павловна, ведь завтра в дороге мне все равно придется выходить после захода солнца...
— Тем более надо поберечься сегодня.
Гуля с размаху бросила мяч об землю и, опустив голову, бегом побежала в свою спальню.
Там она яростно стала приготовлять себе постель на ночь.
— Ты что, уже спать собралась? — спросила Мирра.
— Да!
— А ужинать?
— Не буду! Мне надо беречься! Вот лягу в постель, намажусь с ног до головы йодом и положу на голову компресс.
— Да что с тобой, Гуля?!
Гуля ничего не отвечала и, глотая слезы, стала еще ожесточеннее теребить простыни.
— Осторожнее, Гуля, разорвешь!
Благоразумная Мирра нечаянно сказала Гуле под руку опасные слова.
— И разорву! — крикнула Гуля.
Надкусив простыню зубами, она дернула за углы в разные стороны.
Простыня с треском разорвалась.
— С ума сошла! — ахнула Мирра.
— Ничуточки! — сказала Гуля, с каким-то удивлением гля¬
475
дя на два длинных белых лоскута, в которые превратилась простыня.— Это ей наука. Отравила мне все лето!
Мирра, ни слова не говоря, вышла из комнаты.
А Гуле сразу же стало стыдно и тяжело. Она взяла иголку, нитки и принялась торопливо сшивать куски простыни, то и дело поглядывая на дверь.
Раза два ее окликали из коридора, звали ужинать, но она, прикрыв свою работу, отвечала, что у нее разболелась голова и есть ей не хочется.
Ей и в самом деле не хотелось есть.
«Скверно! Позорно! — думала она.— Мама права: у меня нет характера, нет выдержки, нет настоящей воли! Лечу, как под откос, и удержаться не могу. Хороша «дочь партизана», которая в советском санатории простыни рвет! И главное — из-за чего? Из-за волейбола! Нет, уж лучше не дошивать. Пускай все видят, что я натворила!»
Но все-таки она зашила простыню до конца и улеглась в постель, прежде чем в спальню вернулись Мирра и другие девочки.
Всю ночь чувствовала она под собой этот злополучный шов, напоминавший о ее преступлении.
«Ничего,— говорила она себе в полусне.— Хоть я и зашила, а завтра все равно пойду к Ольге Павловне и сознаюсь. Пусть делает со мной что хочет. Вот у нее-то настоящий характер, не то что у меня. Молодчина! Кремень! Ни разу даже не крикнула на меня, а ведь стоило кричать: дисциплину нарушала, все деньги растратила... Вспомнить совестно!»
На другое утро, едва только Гуля проснулась, ей принесли деньги от мамы. Но это ее даже не обрадовало. Она расплатилась со всеми, кому была должна, и собралась уже идти к Ольге Павловне для последнего покаянного разговора, но Ольга Павловна сама вошла к ней в спальню с письмом в руке.
— Вот, отдашь это письмо маме,— сказала она.
— Маме? — переспросила Гуля и каяться уже не стала.
Ольга Павловна внимательно осмотрела, хорошо ли упакован
Гулин багаж, посоветовала ей и Мирре застегнуть пальто на все пуговицы, потому что сегодня свежо, и ушла, пообещав проводить их на пристань.
476
Гуля все еще держала в руках письмо. Оно было не запечатано — очевидно, Ольга Павловна не потеряла еще к ней последнего доверия.
Спрятав письмо в карман, Гуля быстро обежала все павильоны. На душе у нее стало светлее — все так ласково прощались с ней, говорили ей такие хорошие слова, хвалили ее, благодарили за что-то.
«Значит, не такая уж я плохая»,—думала Гуля, вбегая в павильон, где жили маленькие испанцы.
Тут ее ждало столько крепких рукопожатий, поцелуев и даже слез, что у нее закружилась голова. На память ей дали целую кучу фотографий, камешков, ракушек, кто-то подарил ей бусы из косточек маслин, кто-то надел ей на руку костяной браслет...
Она бы, наверное, опоздала на катер, если бы ее не поторопила Мирра.
Когда они прибежали на пристань, из тучи выглянуло солнце, ярко позолотив поручни катера и всю остальную медяшку.
Гуля совсем повеселела — как будто все плохое в ее жизни прошло навсегда.
— Скорей, скорей! — кричали вокруг.— Опоздаете!
Девочки взбежали по трапу. Только с палубы катера они увидели Ольгу Павловну. Она стояла на пристани в стороне от всех, в своей неизменной, выгоревшей от солнца тюбетейке, и слегка махала рукой.
Гуле почему-то показалось, что ей грустно.
Сколько смен ребят проводила она с этой пристани — одинокая, озабоченная, усталая!
И, верно, никто даже не поблагодарил ее как следует...
«Только зачем она моей маме письмо написала? — с горечью подумала Гуля.— Маме будет больно, а меня «записками к родителям» не исправить...»
И, когда берег совсем исчез в тумане, Гуля с какой-то неожиданной для себя самой решимостью достала из открытого конверта листок.
«Надо знать, что она пишет обо мне,— подумала Гуля.— Должно быть, здорово ругает».
477
Но какой-то внутренний голос как будто остановил ее: «А разве можно читать чужие письма?»
Гуля сунула листок в конверт.
«Да, но ведь конверт не запечатан,— мысленно возразила она себе самой.— Наверное, Ольга Павловна это сделала нарочно, чтобы я прочла письмо».
И, вынув листок снова, она стала читать ровные, очень разборчивые строчки.
Это было совсем не такое письмо, какого она ожидала.
«...Ваша дочь — даровитая и хорошая девочка... — писала Ольга Павловна.—Все у нас ее очень полюбили—и воспитатели и дети. Но доктора находят (Вы, наверное, это уже сами знаете), что частые простуды несколько отразились на ее сердце. Ей нужен строгий режим, что трудно осуществить при живости ее характера. Я бы советовала Вам...» Дальше на двух страницах следовали длинной вереницей всякого рода советы, наставления, предостережения. И ни одной жалобы на дерзость и непокорность!
К письму была приложена бумажка с печатью:
«Характеристика находившейся на излечении от 20 июня по 20 августа ученицы киевской школы Гули Королевой.
Режим выполняла, вела себя отлично. Саннавыки привиты, опрятна. Очень любит коллектив и пользуется любовью товарищей».
Гуля, озадаченная, села на влажную от морской пены скамью.
«Ничего-то я не вижу вокруг, ничего не понимаю! — говорила она себе, глядя в ту сторону, где скрылась маленькая пристань.— Вот, если бы сейчас вернуться на тот берег, я бы знала, что сказать Ольге Павловне...»
Но катер отходил от того берега все дальше и дальше.
В поезде Гуля написала карандашом такое письмецо:
«Милая, дорогая Ольга Павловна! Спасибо Вам за все ваши заботы, и, пожалуйста, простите меня за то, что я была такой недисциплинированной девчонкой. Вы еще, наверное, не знаете всех моих преступлений. Если Вам покажут сшитую из двух кусков простыню, то знайте: это моя работа. Я и разорвала, я и сшила. Но я даю Вам слово, что больше со мной этого не слу¬
478
чится. Я всегда буду вспоминать, как Вы умеете держать себя в руках.
Еще раз прошу Вас простить меня. Большой, большой привет всем. Гуля».
Чем ближе подъезжала Гуля к дому, тем тревожнее было у нее на душе. Еще в вагоне ей пришла в голову мысль, что мама из-за нее отказалась от отпуска и что надо во что бы то ни стало вернуть ей растраченные деньги.
Поэтому она в первый же день по приезде снесла часовщику свои часики и попросила их продать.
— Такие часики продать нетрудно,— сказал часовщик.— Хорошие часики!
Гуля вздохнула и вышла на улицу.
За вечерним чаем мама спросила, что за «экстренные» расходы были у нее в санатории.
— Да всякие,— сказала Гуля.— Одним словом, личные.
Мама удивленно пожала плечами и стала расспрашивать
Гулю о санатории, о тамошних порядках.
— Вот в это время мы уже собирались спать,— сказала Гуля и, по старой привычке, посмотрела на руку.
— А где же твои часы, Гуля? — спросила мама.— Почему ты их не носишь?
— Замочек на браслете испортился.
— Покажи-ка. Может быть, сами поправим.
— Да нет! Часы тоже испортились, и я отдала их часовщику.
— Когда же они будут готовы?
Гуля нерешительно тряхнула головой.
— Мама, я отдала их не чинить, а продать.
— Этого еще не хватало! Зачем?
— Чтобы отдать тебе то, что я растратила в санатории. Ведь это, по совести говоря, были не «экстренные» расходы, а просто дурацкие — на мороженое, на конфеты, на поясок, на всякую ерунду. Только тех денег не жалко, что я на испанских ребят потратила. А все остальные можно было и не тратить. Пускай теперь продадут часы. Я сама за себя отвечаю!
Мама ничего не ответила, только искоса посмотрела на Гулю.
479
— Ты думаешь? — спросила она наконец негромко и даже как-то грустно.— Нет, Гуля! Ты слишком легко сбиваешься с дороги и слишком легко раскаиваешься. Этак не будет толку!
— Ты думаешь, мне легко было расстаться с моими часиками? — сказала Гуля. — Я люблю их так, как будто они живые... Но я хочу отдать тебе деньги.
— Дело вовсе не в деньгах. Завтра же с самого утра ступай к часовщику и возьми назад свои часы. Я не позволяю их продавать, а с деньгами как-нибудь обойдемся. Я нынче получила отпускные, а поехать куда-нибудь мне все равно не удастся: работы много.
Гуле неловко было сознаться себе самой, но она была рада тому, что трудный разговор, которого она так боялась, наконец уже позади.
И как хорошо, что часики опять вернутся к ней и снова будут легонько и нежно постукивать у нее на руке. Только бы часовщик не продал их за сегодняшний вечер! Ведь он сам говорил, что такие продать легко — всякий купит. Ну, да авось не продаст, пе успеет.
Гуля наклонилась к матери и сказала ей на ухо:
— Вот ты увидишь, какая теперь пойдет у меня жизнь. Ты даже удивишься, мамочка!
ПРАВО НА РАДОСТЬ
Но удивляться маме не пришлось.
Жизнь пошла так, как она чаще всего шла у Гули до сих пор — то вверх, то вниз, то победа, то поражение.
Вчера ее перед всем классом хвалили за сочинение, даже читали его вслух, а сегодня «плохо» по физике, и Гулю отчитывают опять-таки перед всем классом.
— Способная ученица, а никакой системы, никакой дисциплины.
Ах, если бы знали они все, как мечтает Гуля выработать в себе именно эти свойства характера — систематичность, дисциплинированность! Только где их взять, если к ним с детства нет привычки!
480
Это ведь не то что научиться делать самые трудные фигуры на коньках или взять рекорд в беге на короткую дистанцию. И потом — на свете слишком много интересного!
Вот уж Гуля исправила отметку по физике —два «отлично» цосле одного «плохо», штурмом взяла геометрию и вызубрила всю хронологию по русской истории.
И вдруг — новая радость, от которой трещат по швам кое-как налаженные «система и дисциплина».
Гуля возвращалась с катка румяная, веселая, с коньками под мышкой. Она с удовольствием думала о том, что ей осталось всего только раскрасить уже нарисованную географическую карту. А это очень приятное занятие! Гуля любила рисовать, и карты у нее выходили лучше, чем у всех в классе.
В глазах у нее еще сверкали огни, отраженные в ледяном зеркале катка. В ушах еще звучал веселый марш, прорезывавший морозный воздух.
Тихонько напевая, взбежала Гуля на лестницу и увидела за решеткой почтового ящика конверт.
— От кого бы это?
Гуля вытащила письмо и узнала почерк Эрика.
Тут же, на площадке лестницы, прочитала она письмо от строки до строки. Оно было короткое. Эрик звал Гулю в Москву на каникулы.
Он писал, что зима в Москве в этом году чудная, снежпая, что в Сокольниках будет замечательный лыжный кросс и «мировое» состязание на беговых коньках.
А в конце письма говорилось, что Гулин отец тоже ждет ее и обещал достать билеты во все театры.
В Москву!.. У Гули захватило дыхание при одной только мысли о поездке. Подумать только — побывать во всех театрах, во всех музеях, от Третьяковки до Зоологического и Этнографического! Побродить с Эриком по старым местам, которые они обошли и обегали в детстве. А вечером посидеть с папой за чаем, рассказать ему про все, что было без него, и поздно-поздно, часов в двенадцать, вдруг пойти гулять с ним под легким снежком по московским улицам и слушать играющий звон часов на Красной площади... Только где взять денег на дорогу? Можно потратить совсем мало, взять билет без плацкарты, чтобы было
481
подешевле. Ведь это совсем не обязательно — спать в вагоне. Выспаться можно и потом. В Москве тоже много денег не нужно — разве только на метро. А пропущенное в школе Гуля нагонит после каникул — будет заниматься круглые сутки. Ей не впервой догонять.
Гуля влетела в комнату и, не раздеваясь, все разом выложила матери.
Мама в это время писала что-то за столом. Она молча выслушала Гулю. Потом посмотрела на нее пристально и сказала:
— Никуда ты не поедешь. Право на радость нужно сначала заработать.
Больше мама ничего не сказала. Но этих слов было достаточно. Гуле показалось, что не мама, а она сама сказала такие верные и суровые слова. Право на радость надо заработать, а пока что оно не заработано.
Ах, как хочется ехать в Москву — прямо до смерти хочется! Но, может быть, еще лучше остаться наперекор себе дома и отодвинуть праздник до тех дней, когда можно будет с полным правом дать себе отпуск? А зима пройдет? Ну и пусть проходит — будет другая зима!
Больше она о Москве с матерью не говорила ни разу.
Мать поглядывала на нее даже с какой-то тревогой. Она знала, как сильно Гуля умеет хотеть чего-нибудь и как трудно ей отказываться от своих планов.
Но Гуля была спокойна, приветлива и даже как будто чему- то рада.
— Чему же это?
А у Гули уже возник новый план.
ГУЛИНА ТАЙНА
Еще весь дом спал, когда Гуля проснулась.
«Что за последнее время случилось хорошего? — подумала она. Такая уж у нее была привычка: просыпаясь утром, оглядываться на вчерашций день.— Письмо от Эрика? Нет, письмо принесло только огорчение. Катание на коньках? Нет, не то... Ах да! Мой план! Моя тайна...»
482
И Гуля начала быстро одеваться.
«С сегодняшнего дня все пойдет по-другому».
Она вскочила, открыла форточку. В комнату ворвался поток свежего воздуха.
Гуля тихонько запела:
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река...
Кудрявая, что ж ты не рада Веселому пеныо гудка?
Это была песенка из нового кинофильма.
Сделав зарядку, Гуля принялась стелить кровать. Покрывая подушку вышитой накидкой, она постаралась придать своей белой кроватке самый аккуратный и строгий вид.
Она и на столе своем прибрала так, что он стал неузнаваем.
Раньше книжки лежали на нем вперемешку с тетрадями, тут же валялись обломанные карандаши, чернильница стояла боком, угрожая залить чернилами библиотечные книги. Теперь же все стало на свои места: книги перешли на свою постоянную квартиру — на полку, а тетради аккуратной стопочкой скромно разместились в сторонке. Чернильница, накрытая металлической крышечкой, взобралась на верхнюю площадку своей мраморной лестницы. Наконец очередь дошла и до карандашей. Гуля их все отточила, и теперь из высокого деревянного бокала весело выглядывали их заостренные кончики. На самом почетном месте, на мраморной площадке, рядом с гордой чернильницей, приютились и Гулины часики.
Испуганная всей этой возней белка взобралась на самую верхнюю полку и, спрятавшись за толстый словарь, недоверчиво поглядывала вниз на непривычный порядок.
Гуля погрозила ей пальцем и уселась за чистый, спокойный, уютный стол.
В квартире царила та благодатная утренняя тишина, при которой так приятно думается, так просто и легко все запоминается.
Незаметно прошло утро. Впереди еще предстоял целый день, а Гуля уже успела решить с десяток задач по алгебре и прочесть все, что было пройдено по истории за целую неделю.
483
«Если так пойдет,— думала она по дороге в школу,— еще, чего доброго, выйду наконец в отличницы. Тогда уж наверно добьюсь своего».
Прошло несколько дней. Мать смотрела на Гулю и удивлялась. Что с ней такое? То еле-еле удавалось выпроводить ее вовремя в школу, а тут она вскакивает ни свет ни заря. Прежде, бывало, убежит и оставит постель неубранной, на столе творилось такое, что и подойти к нему нельзя, а теперь после ее ухода и убирать не нужно. Приходит из школы — занимается, да и по хозяйству успевает помочь домашней работнице Фросе.
«Старается заработать поездку в Москву»,— думала мама.
А Гуля о поездке совсем и забыла. У нее была теперь совсем другая забота.
Во Дворце пионеров она записалась в группу прыгунов в воду. «Займусь водным спортом,— думала Гуля,— как следует потренируюсь, тогда уж обязательно примут. Только надо лохмы своп подстричь».
Она сунула в портфель свой купальный костюм и по дороге во Дворец пионеров забежала в парикмахерскую.
— Подстригите меня «под мальчика»,—попросила она парикмахера, усаживаясь в кресло.
Парикмахер взял в руки гребенку и ножницы и сказал, качая головой:
— А жалеть не будете, гражданочка? Лучше бы к лету подстриглись...
— Ничего,— ответила Гуля,— к лету второй раз подстригусь.
И под острыми ножницами рассыпались по простыне, накинутой Гуле на плечи, светлые крупные пряди волос.
«Не так уж плохо,— подумала она, увидя в зеркале задорную мальчишечью голову,— только шее прохладно».
И Гуля помчалась во Дворец пионеров.
Она представляла себе, что, как только она войдет в зал бассейна, ее сразу же поведут на вышку.
Но оказалось, что до прыжков еще далеко. Прежде чем попасть в зал, где находился бассейн, новички обычно проходили несколько этапов: их осматривал врач, потом они принимали душ и делали гимнастику. Гуля узнала, что множество очень
484
сложных гимнастических упражнений, которые ей пришлось преодолеть, служат для развития мышц.
Свежая, бодрая, в купальном костюме с белой чайкой на груди, Гуля вошла наконец в залитый светом зал бассейна. За окнами падали хлопья снега, а здесь было лето — настоящее лето с мягким теплом и плеском воды.
— Начнем с высоты одного метра,— сказала черноволосая девушка в синем купальном костюме.
Это была Олеся, тренер женской группы.
Гуля поднялась вместе с ней на несколько ступенек по крутой металлической лестнице. Почти у самых ног тихо плескалась вода.
Первые прыжки дались Гуле легко и просто: ведь она не раз уже прыгала в воду со скал в Артеке.
— А теперь,— сказала Олеся, когда Гуля немного отдохнула,— будешь прыгать с трех метров.
И она повела Гулю еще на несколько ступенек выше. Гуля посмотрела с площадки вниз.
«Ничего, не так уж страшно»,— подумала она, вспоминая, что скалы на артековском берегу были ненамного ниже.
— Ну вот,— сказала Олеся.
И она объяснила Гуле, что первые прыжки, с которых начинается тренировка, называются не прыжки, а «спады» и что они служат подготовкой для прыжков в воду.
Олеся стала лицом к воде.
— Нужно вот так выпрямиться,— сказала она,— и, не сгибаясь, упасть вперед. Тогда ты обязательно войдешь головой в воду.
— Я так не смогу,—проговорила Гуля.—Это очень страшно — падать вниз головой.
— Научишься — и не будет страшно,— сказала Олеся.
И, не сгибаясь, словно ей это ничего не стоило, она легко, всем корпусом, наклонилась вперед и полетела... Миг — и она вошла головой в воду.
— Ой! — вскрикнула Гуля и даже зажмурилась.
Но Олеся уже выходила из воды как ни в чем не бывало.
Теперь прыгать нужно было Гуле. «Сверну шею, убьюсь!» —
подумала она, но сдержалась и ничего не сказала.
485
Выпрямившись, она замерла в ожидании команды.
— Прыгай! — крикнула Олеся.
У Гули задрожали колени. С шумом и плеском врезалась она в воду.
— Ничего, неплохо,— сказала Олеся, когда Гуля, отряхиваясь на ходу, поднималась наверх из бассейна.—Только не надо отталкиваться ногами, когда падаешь. Ну-ка давай еще разок.
И тренировка началась. Когда Гуля научилась входить в воду не сгибаясь и без толчков, Олеся сказала:
— А теперь будешь прыгать солдатиком.
— Как — солдатиком? — удивилась Гуля и подумала: «Вот хорошо! Это, наверно, как раз от меня и потребуется».
Олеся снова стала лицом к воде, приложила руки к бокам так, как если бы руки у нее были припаяны к туловищу, и прыгнула в воду ногами вни$.
Гуля опять на мгновение закрыла глаза. Но Олеся, живая и невредимая, уже выходила из воды.
Гуля молча подошла к краю площадки. Выпрямившись, она застыла, словно вылитая из металла, и, как только раздалась команда «прыгай», она оторвалась от площадки и полетела вниз...
— Добре,— сказала Олеся, встречая Гулю на ступеньке бассейна.— Научишься — будешь прыгать ластивкой.
— Ласточкой! — обрадовалась Гуля.— А скоро это будет?
— Что, не терпится? Всему свое время. И птицы тоже не разом научаются летать.
— А мне бы нужно разом,— сказала Гуля.
Но «разом» ничего не делается. Дни проходили один за другим в спортивных упражнениях и в подготовке к экзамену. И все это надо было делать незаметно, между прочим, чтобы никто не догадался о Гулиной тайне.
И вот наконец наступил долгожданный день. Выйдя из дому, Гуля сама почувствовала, что держится теперь как-то по-другому, чем прежде. За последний месяц она выпрямилась и цодтя- нулась.
На углу ее ждала Мирра Гарбель. Мирра была единственным человеком, которого Гуля посвятила в свою тайну.
— Ну почему им меня не принять? — рассуждала Гуля, ша¬
486
гая рядом с Миррой и по-мужски поддерживая ее под руку.— Как ты думаешь, Мирра, ведь примут? Здоровье — слава тебе господи. Мама говорит, что, когда мне исполнился всего один год, я уже получила премию за здоровье.
— А ты же потом болела,— напомнила Мирра.
— Ну когда это было! — сказала Гуля.— Было, да прошло. В санатории меня все-таки славно подлечили, спасибо Ольге Павловне. А выносливость у меня сама знаешь какая. Трусостью тоже как будто не отличаюсь. Да и с учебой теперь стало хорошо, почти отлично.
— Ну конечно, примут,— успокоила ее Мирра, но почему-то вздохнула.
Гуля пристально посмотрела на нее.
— Ты, видно, против?.. Не одобряешь?
— Я не хочу тебе мешать. Раз ты так решила, поступай. Но я бы на твоем месте пошла лучше в театральную школу. У тебя, наверно, талант...
— Вот еще! Какой там талант!
Гуля тряхнула головой и взялась за ручку большой, тяжелой двери. Мирра крикнула ей вдогонку:
— Ни пуха ни пера!
Поджидая Гулю, Мирра долго ходила по тротуару. Был яркий, солнечный день. Началась оттепель, и дворники лопатами сгребали с панелей потемневший, мокрый снег.
Мирре было чуточку грустно.
«Вот так люди на свете и расходятся,— думала она.— Теперь у Гульки начнется совсем другая жизнь. Пожалуй, и видеться не будем, не то что дружить. И почему ее так тянет к самому трудному?»
И Мирре вспомнились строчки из лермонтовского «Паруса»:
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой...
Прошло больше часу. У Мирры озябли ноги. Солнце перешло на другую сторону, и повеяло вечером.
Наконец тяжелая дверь опять открылась. Со ступенек, стуча каблуками и весело переговариваясь, сбежало несколько юношей. Они зашагали по улице, четко отбивая шаг.
487
«Вот этих наверно приняли,— подумала Мирра.—А девочек что-то не видно. Неужели одна Гуля поступает в военную школу?»
И вот наконец дубовая дверь снова скрипнула, и на пороге показалась Гуля.
— Ну что? — спросила Мирра одними губами.
Гуля махнула рукой.
— Нашли в глазах что-то,— сердито буркнула она.— Всю жизнь видела замечательно, даже в театр бинокля не брала, а тут заставили чуть ли не за целую версту какую-то бессмысленную чепуху читать — набор букв: «а»... «щ»... «ы»... Даже «ять» и «фита», кажется... Знала бы, что эти таблицы там вывешены, вызубрила бы их заранее наизусть... И все тут.
— А где бы ты их взяла? — засмеялась Мирра.
— Ну, где-нибудь раздобыла бы. У любого глазника — у Остроухова или у Финкелыптейна.
— Да ведь у каждого глазника может быть своя таблица,— сказала Мирра.— Я-то это хорошо знаю.
— А ты, кажется, радуешься, что меня не приняли? Вон, даже повеселела. Хороша подруга!
— Не сердись, Гуля,—сказала Мирра.—Я не то чтобы рада, но, по-моему, совсем не обязательно девочке учиться в военной школе. Ну подумай сама, почему тебе непременно нужна военная карьера?
— Да нет, совсем не в этом дело,— сказала Гуля.— Но ты понимаешь, мне иногда так трудно бывает жить. Я надеялась, что эта школа мне поможет... Приучит меня к настоящей дисциплине.
В это самое время мимо девочек быстро прошел военный в больших роговых очках.
— Видишь, видишь? — сказала Гуля так громко, что прохожий обернулся.— Военный — и в очках. Почему ему можно, а мне нельзя? Я говорила: «Если так, выпишите мне очки и примите в школу». А врач уперся — и ни за что.
Придя домой, Гуля легла в постель. Фрося звала ее обедать, но Гуля сказала только:
— Потом, Фросенька,— и повернулась лицом к стене.
К вечеру она уснула и сквозь сон чувствовала, как мамина
488
рука осторожно щупает ей лоб. Гуле на минутку показалось, что она опять стала совсем маленькой и мама сейчас возьмет ее на руки.
— Ничего не болит, мамочка,— ответила Гуля, не дожидаясь вопроса,— не беспокойся. Полежу — и пройдет.
А что именно «пройдет», она и сама не знала.
«Как мне дальше жить? — думала Гуля, плотнее закрывая глаза и натягивая на плечи старый вязаный платок.— Мне уже пятнадцать лет, а я еще ничего, ничего не сделала хорошего, полезного. Сил хоть отбавляй, а куда их девать? Неужели опять на коньках, как проклятая, гонять все вечера? Уж лучше бы сниматься в кино. Все-таки настоящая работа. И потом, так трудно держать себя в руках, не срываться... Что бы такое придумать?
Если маме сказать, что мне хочется настоящего дела, она сразу же посоветует помогать Фросе по хозяйству. А Фрося ворчит: «Да ты ж и так скильки чашек побила! У тебя руки не таки». Вот и получается, что садишься за стол, как барышня. Все тебе подают. Даже совестно».
Гуля уснула одетая. А на другой день случилось такое событие, которое сразу сняло как рукой все ее огорчения и тревоги.
ТРЕТЬЯ ВЫСОТА
В школьном зале, как всегда на переменах, стоял разноголосый гул. Школьницы медленно двигались, обнявшись, а мальчики сновали взад и вперед, и девочки ворчали, что они «путаются под ногами».
Гулю сегодня раздражал этот беспорядочный, веселый школьный шум. Она вошла в пустой еще класс, села на свою парту, в третьем ряду у окна, и открыла наугад какую-то книжку.
Но в эту минуту дверь приоткрылась, и в класс заглянула Муся Лебедева, комсорг школы.
— А, Гуля Королева! — сказала она.— Я тебя ищу. Мне как раз нужно с тобой поговорить.
— Со мной? — удивилась Гуля и подвинулась.
Муся села рядом.
— Дело вот в чем,— начала она как будто сухо и деловито,— мы заметили, что ты за последнее время сильно изменилась, Королева.
— Как это изменилась? — переспросила Гуля насторожившись.
«Неужели и здесь заметили?» — подумала она.
— Изменилась к лучшему,— объяснила Муся улыбаясь.— Видно, выросла, что ли. Стала по-настоящему работать над собой, сознательнее к себе относиться... Ну, в общем, мы считаем тебя вполне достойной быть в комсомоле.
Гуля растерялась и обрадовалась.
«Это как раз то, что мне нужно, именно то, что мне нужно!»— подумала она и порывисто вскочила с места.
— Ты начала так,— сказала она,— что я могла подумать, будто я сделала что-то ужасное. Мусенька, да ведь это для меня счастье! Ты даже не знаешь, как трудно мне бывает одной. Я постараюсь быть настоящей комсомолкой!
Муся с улыбкой смотрела на Гулю и думала: «Интересный характер — порывистый, горячий, деятельный. Надо, надо ей как следует помочь. Из нее выйдет толк».
В коридоре весело и звонко залился колокольчик.
— Ну вот, пока все,— сказала Муся, вставая.— Сначала сами все проведем, а затем тебя проверят в райкоме.
— Это что, экзамен? — спросила Гуля.
— Да, пожалуй, еще поважнее экзамена,— ответила Муся.
Она ушла. Класс мигом заполнился тем шумом, который
только что бушевал в коридоре.
«Ну что ж,— думала Гуля,— в военную школу не приняли, зато принимают в комсомол. Лишь бы выдержать этот экзамен!»
Спустя две недели Гуля возвращалась домой из райкома. Дул порывистый февральский ветер. Подняв воротники и кутаясь в вязаные шарфы, по тротуару сновали занесенные снегом люди. А Гуле казалось, что им всем так же хорошо и радостно, как и ей...
Влетев к себе домой, Гуля чуть не сбила Фросю с ног.
— Фросенька, где мама?
490
— Нема дома.
— Фросенька, поздравь меня,— сказала Гуля,— я комсомолка. Самая настоящая!
И она бросилась к телефону:
— Мамочка, у меня новость... Не беспокойся — хорошая! Райком утвердил! Да, да, утвердил! Нас всего пять человек приняли. Было совсем не официально, а как-то очень по-дружески. Меня спросили: могла ли бы я проявить силу воли, сделать что- нибудь особенное, ну, например, поехать куда-нибудь далеко, если пошлют. Или другое что-нибудь. В общем, проявить смелость. Я сказала, что постараюсь. А сейчас я иду в бассейн... Не могу сидеть одна дома... Хорошо, хорошо, не простужусь и не утоплюсь...
Гуля повесила трубку.
— Ой, Фросенька, как я рада, прямо-таки счастлива! Понимаешь, приняли в комсомол. Мне будут поручать всякие дела, очень ответственные. И, если я не справлюсь, будет ужасно стыдно.
Фрося слушала молча, кивая головой, а потом вытерла глаза кончиком фартука.
— Фросенька, ты чего это? — испугалась Гуля.
— Це я з радощив,— сказала Фрося.— Така молода, а вже в комсомоли.
Гуля засмеялась:
— На то же это и комсомол, чтобы молодых принимать. Знаешь, Фросенька, я сегодня буду прыгать ласточкой!
— Ой, та як же ж це? — испугалась Фрося.
— А так! — Гуля раскинула руки.— Не бойся, ничего со мной не будет!
И, расцеловав Фросю, она убежала.
«Какие все сегодня чудесные, милые,—думала Гуля, спускаясь с лестницы и прыгая через три ступеньки сразу.— Еще недавно был такой грустный вечер, а сегодня-то как хорошо! Хоть бы сегодня, по случаю такого дня, мне удалось прыгнуть ласточкой!»
В прошлый раз Олеся сказала Гуле, что у нее получается не «ластивка», а «горобчик» — воробышек. Шагая теперь по белой, пушистой от снега улице, Гуля старалась ясно представить себе
491
каждое движение, которое нужно было ей сделать, готовясь к прыжку.
Бело-голубой кафель бассейна сверкал, залитый электрическим светом. Гуля быстро разделась в кабинке и, как обычно, в купальном костюме поднялась на высоту трех метров.
— Сегодня будем прыгать с пяти метров! — крикнула ей снизу Олеся.
— С пяти? — спросила Гуля.— Иу хорошо.
И она поднялась по лестнице еще на два метра выше, чем раньше. Оказавшись на площадке, она машинально хотела было ухватиться за перила, но перил не было. И от этого Гуле показалось, что площадка по крайней мере вдвое выше, чем была на самом деле.
У Гули слегка задрожали ноги.
Но снизу уже послышалась команда:
— Прыгай!
И, сделав над собой усилие, Гуля стремительно разбежалась, подпрыгнула, распростерла руки, как крылья, и полетела вниз... Она летела, вся вытянувшись, словно ласточка. Мгновение — и она врезалась головой в воду. Целый фонтан брызг поднялся там, где до этого спокойно блестела водяная гладь.
— Добре, добре! — весело закричала Олеся.— Только ты не рассчитала высоты, и оттого получились брызги. Толчок сделала такой же, как с трех метров. Вот потренируешься, тогда и этот недостаток устраним.
Гуля снова поднялась на вышку и прыгнула так, как ее учила Олеся.
— Отлично, видминно,— сказала инструкторша.
— Теперь можно идти? — спросила Гуля.
— Можно. Иди наверх.
— Наверх? Зачем наверх?
— Прыгать!
— С трех метров,— спросила Гуля,— или еще раз с пяти?
— Нет. С восьми.
— С восьми?!
— А что, боязно?
— Боязно,—призналась Гуля.
492
Олеся улыбнулась:
— Научишься — будешь прыгать и с десяти.
— Никогда не научусь,— шепотом сказала Гуля и вздохнула.— Ну что же, попробую с восьми.
Она пошла вверх по лестнице. Вот площадка высотой в три метра, с которой Гуля еще так недавно училась прыгать, вот следующая — пятиметровая. Значит, еще выше.
«Ух, как высоко!—подумала Гуля.— Убьюсь!»
Сердце у нее замерло, когда она взглянула с восьмиметровой вышки вниз.
Ей казалось, что она стоит на крыше трехэтажного дома.
«Восемь метров,— соображала Гуля,— да еще глубина бассейна четыре, всего — двенадцать метров!»
Сквозь прозрачную толщу воды светилось дно бассейна.
«Нет, не могу,— подумала Гуля,— страшно...»
Но снизу уже послышалась команда Олеси:
— Прыгай!
— Олеся! — крикнула Гуля не своим, дрогнувшим голосом.— Я не могу!
Снизу раздалось еще повелительней:
— Прыгай!
Гуля стиснула зубы.
«Я сказала им в райкоме, что постараюсь совершить смелый поступок,— мелькнуло у нее в голове,— а теперь «не могу»... Нет, стыдно. Не боюсь!»
И, зажмурив глаза, она опять разбежалась по площадке, подпрыгнула и снова полетела, как птица, с распростертыми, будто крылья, руками.
Она летела всего несколько секунд, но эти секунды показались ей бесконечно длинными.
— Ой, как долго я летела! — сказала Гуля, высовываясь из воды и отфыркиваясь.
Олеся махала ей со ступеньки рукой.
— Если так у тебя пойдут дела,— сказала она,— то к Восьмому марта пойдешь на разрядные соревнования.
Гуля закинула голову и взглянула наверх — на восьмиметровую вышку.
— А можно мне прыгнуть еще разок? — спросила она.
493
— Хоть сто раз! — весело ответила Олеся.— Нынче разок, завтра два, а потом и еще девяносто восемь.
Гуля снова поднялась на восьмиметровую площадку и уже без всякого страха, словно у нее и на самом деле крылья выросли, легко оторвалась от дощатого помоста и прыгнула вниз, в прозрачную воду.
ФИЗИКА И КОНЦЕРТ ЛЕМЕШЕВА
Подошли экзамены.
Гуля отвезла в зазеленевший лес свою белку, проводила на вокзал маму, уехавшую в Сочи, и вернулась в опустевшую квартиру. С ней осталась Фрося.
— Ну, Фросенька,— сказала Гуля,— не сойду с этого места, пока не пройду всю физику.
И Гуля села за свой стол. Подперев голову руками, она углубилась в учебник. Комната была залита солнцем. Перед окном распустилась акация.
«Как сейчас хорошо на Днепре! — с тоской думала Гуля.— Взять бы байдарку и поплыть вниз по течению. А потом лечь на белый песок и смотреть в небо!»
Но это потом, после экзамена. А сейчас надо забыть обо всем на свете, кроме физики.
«Теплота»... Как назло, приходится повторять эту несчастную «теплоту», когда и так некуда деваться от жары.
Из кухни доносилась в это время протяжная украинская песня «Чому ж я не козаченько, що тебе я так люблю».
«И когда только Фрося успевает со всем управиться? — думала Гуля.— Не успеешь оглянуться — все у нее готово, и она уже опять сидит себе и поет своего «козаченька». Вот.бы мне у кого поучиться!»
И в самом деле: уже к девяти часам все в квартире бывало прибрано, на вычищенной до блеска керосинке потихоньку варился обед, а Фрося с шитьем в руках сидела у окна и пела.
Пела она обычно так: начнет песню и остановится на полуслове — то ей нужно нитку перекусить, то Гуле сказать что-ни¬
494
будь, то подкрутить керосинку. А потом продолжает как ни в чем не бывало с того самого места, на котором остановилась. Гулю сердили эти остановки, и нередко из-за них выходили у нее с Фросей маленькие стычки. Так и сегодня. Фрося затянула свою излюбленную песню:
Чо-ому ж я не козаченько, що тебе я так...
И остановилась. Гуля, прислушиваясь, ждала продолжения. Фрося молчала.
— Фросенька! — взмолилась Гуля.— Чего же ты замолчала?
— Гуленька,— донесся из кухни притворно сердитый голос Фроси,— без репликив!
И Фрося опять запела:
...що тебе я так...
Снова молчание.
— Фрося, спивай!
Но в эту самую минуту кто-то стукнул в дверь.
— Гулька! — крикнула Фрося.— Чуешь ты чи ни? Стукають в двери! А у мене керосинка гасне.
— Нехай стукають,— отозвалась из своей комнаты Гуля.— Мени учитись треба.
Они обе столкнулись у дверей и вдвоем отворили. В переднюю вошла Гулина одноклассница Надя, одна из самых нарядных и хорошеньких девочек в классе.
— Гулька,— сказала Надя, едва переводя дух,— бросай все! Лемешев в Киеве! Мировой концерт. Есть два билета!
— Ты что, в уме? — спросила Гуля.— А физика?
— Физика подождет. Неужели ты пожертвуешь Лемешевым ради несчастной физики?!
Гуля молчала.
— Я буду ночью учить «Теплоту»,— сказала Надя, вертясь перед зеркалом и поправляя локоны и складки платья.
Гуля смотрела на нее, улыбаясь и чуть-чуть прищурившись.
— Сказать тебе,— сцросила она,— какую эпиграмму сочинили на тебя в школе?
495
— На меня? Кто сочинил? Какую телеграмму?
— Не телеграмму, а эпиграмму. Вот слушай:
Надя-Надежда Надежду лелеет,
Что чуб и одежда Сердца одолеют.
— Ты сама сочинила эту диаграмму! — сказала Надя и слегка покраснела.
— Да ты не обижайся, Надежда!
Но Надя и не думала обижаться — над ней в классе часто подтрунивали, и она к этому давно привыкла.
— Знаешь, Гулька,— сказала она,— я поменялась с одной нашей девчонкой: я дала ей Лемешева с папиросой, а она мне Лемешева в шляпе.
— Иди ты к аллаху со своей папиросой и шляпой! Человек, можно сказать, наконец образумился...
— Это ты-то человек, который образумился? — засмеялась Надя.
— Я не шучу, Надька,— серьезно сказала Гуля.— Ты же знаешь, мне недолго сорваться, особенно если такой концерт. Приходится держать себя во как! Думаешь, мне приятно париться? Но ведь осталось еще добрых пятьдесят страниц. Видишь?
— Да ведь ты ж в году их учила.
— Мало ли что! И ты ведь учила, а, наверно, ничего не помнишь.
— Ни черта не помню! — сказала Надя, искоса поглядывая в зеркало.
— Что ж хорошего? Провалишься на экзамене,,
Надя только пожала плечами.
— Ты, Гулька, вечно чего-то невозможного требуешь и от себя и от других. Ну, насильно в рай не тянут. Сиди зубри!
И, чмокнув Гулю в щеку, Надя убежала.
Не успела закрыться за ней дверь, как раздался телефонный звонок.
Застенчивый мальчишеский голос звал Гулю на Днепр — кататься на лодке.
496
— Не могу же! Занята я! Отстаньте от меня все! — крикнула со слезами в голосе Гуля и, положив трубку, накрыла телефон диванной подушкой.— Не подойду больше, хоть тресни! — сказала она и пошла к своему столу, заваленному книгами.
До вечера просидела она над физикой, не вставая.
А после ужина сказала Фросе:
— Эх, Фросенька, кабы ты знала, какой я концерт пропустила... Спой хоть ты мне вместо Лемешева!
И Фрося затянула своего «козаченька», на этот раз без перерывов.
ДЯДЯ ОПАНАС И НАДЯ
Светало. Небо было прозрачное и чистое, и на нем ясно вырисовывались ветви акаций.
Сколько таких ранних рассветов успела встретить Гуля за время своей подготовки к экзаменам!
Обливаясь холодной водой в ванной комнате, Гуля думала:
«Теперь было бы уж совсем позорно сдать не на «отлично», когда я комсомолка. Как я им всем в глаза посмотрю?.. Ух, страшно!»
От холодной воды и волнения Гулю стало трясти, как в лихорадке. Она принялась быстро вытираться мохнатым полотенцем.
«А дрожать как осиновый лист тоже, конечно, глупо. С восьмиметровой вышки прыгнула — и ничего, уцелела. Ну, а на экзамене, что бы там ни вышло, голова, во всяком случае, останется на плечах. Хоть и пустая, какая ни на есть, а голова...»
Гуля быстро сделала несколько гимнастических упражнений, оделась, поела на кухне и вышла из дому.
Фрося проводила ее до порога и долго еще стояла на площадке лестницы, глядя через перила вниз.
На тихих, прохладных улицах еще не было ни души. Одни только дворники в белых фартуках мели тротуары.
«И виду никому не покажу, что сдрейфила немножко,— думала Гуля, бодро шагая по улице.— Вот сделаю такое лицо, и никто не догадается, что на экзамен иду. А все-таки счастливые дворники, что им не надо сдавать физику!..»
20 Библиотека пионера. Том II 497
И она взялась за ручку школьной двери.
В конце длинного коридора у маленького столика сидел, подперев ладонями сизые старческие щеки, школьный сторож дядя Опанас. Старик дремал. Услышав шаги, он вскинул голову.
— А, пташка ранняя! — улыбнулся он Гуле.
— Здравствуйте, голубчик, дядя Опанас,— сказала Гуля и присела на подоконник.— Какие дни чудесные стоят! А из-за этих экзаменов сидишь и паришься в душной комнате. Тут бы на Днепр поехать...
Старик кивнул головой.
— Ничего. Ще богато буде ясных днив. Днипро никуды не динеться.
Гуля дружила с дядей Опанасом. Она носила ему из дому табачок, писала под его диктовку письма внукам в Полтаву. Но не за это любил и уважал ее старик, а за то, что она была «розумна дивчина». Уж если возьмется за какое дело, так нипочем не бросит.
Дядя Опанас уже сорок лет работал при школе, и школьная жизнь со всеми радостями и неурядицами заменила ему семыо и дом. Он берег школьные карты, хранил ключи от всех кабинетов и особенно любил присутствовать в физическом кабинете, когда преподаватель ставил опыты. Нередко случалось, что у преподавателя что-то не ладилось во время опыта. И тогда на помощь приходил дядя Опанас. Он уверенно брал своими старческими, дрожащими руками прибор, вертел его перед глазами и почти всегда в конце концов находил причину неудачи.
— Ось тут подкрутимо, щоб в притирочку, все и буде справ- не, Микола Петрович. Ось, бачите?
И все шло на лад: горело, кипело, искрилось и клокотало как полагается.
— Дядя Опанас,— сказала Гуля, положив руку ему на плечо,— я давно хотела у вас спросить. Как это так? Вы ведь физику не проходили, а опыты ставите лучше иной раз, чем сам Николай Петрович.
— А як же? — спокойно ответил дядя Опанас, скручивая, из бумажки цигарку.— Вин же теорехтетик, а я ж прахтетик. Зрозумила?
498
— Эге,— сказала Гуля, пряча улыбку.— А скажите, дядя Опанас, Николай Петрович очень строго экзаменует? Я ему ни разу еще не сдавала.
— От побачишь,— загадочно сказал дядя Опанас и лукаво поглядел на Гулю.
Гуля тревожно вздохнула и соскочила с подоконника.
«Скорей бы уж!» —думала она, прохаживаясь по коридору.
Хлопнула входная дверь. Навстречу Гуле торопливо шла Надя. Она была по-прежнему нарядна, но волосы ее были причесаны кое-как и кружевной воротничок завернулся внутрь.
— Я погибла...— прошептала Надя, как умирающая.— Завалюсь, вот увидишь — завалюсь!
И она быстро принялась перелистывать растрепанный и разрисованный вдоль и поперек учебник физики.
— Понимаешь, не везет все время... приметы ужасные... Кошка перебежала дорогу... Ни одного горбатого не встретила... Как нарочно! Мое счастливое голубое платье в стирке! А тут еще бабушка!.. Я так просила ее окунуть палец в чернила, а она — ни за что!
— Бабушку? В чернила? А зачем это?
— Как — зачем?! Ты не знаешь? — удивилась Надя.— Это замечательная примета. Если кто-нибудь у тебя дома держит палец в чернилах, пока ты держишь экзамен, ты непременно выдержишь на «отлично». Ну, в крайнем случае на «хорошо».
Гуля расхохоталась, и от этого ей сразу стало легко и спокойно.
— Бедная твоя бабушка! — сказала она.— Ты бы еще попросила ее выкупаться в чернилах.
— Тебе все смех! Вот провалишься сама, так не будешь смеяться! — обиженно сказала Надя и отошла к другому окошку, у которого уже собралась целая компания школьников.
Едва только Надя подошла к ним, вся компания затараторила, загудела, зашевелилась.
Дядя Опанас хмуро, исподлобья взглянул на ребят. Потом взял в руки колокольчик. И, не говоря ни слова, так яростно встряхнул им, что все невольно вздрогнули и оглянулись.
— Гулька! — закричала Надя.— Будешь подсказывать? Умоляю!
499
Дядя Опанас бросил на Надю взгляд, полный презрения, и снова затрезвонил.
Ребята разбежались по классам. Из учительской вышли вереницей учителя — свои и незнакомые. Негромко переговариваясь, они прошли по опустевшему коридору. Двери классов одна за другой закрылись. Начались экзамены.
Стрелки круглых стенных часов в коридоре уже приближались к двенадцати. А в притихших классах все еще решалась судьба школьников: кто перейдет, кто останется. За стеклянными матовыми дверями царила та напряженная, торжественная тишина, которая всегда бывает в дни экзаменов.
По коридору ходил только дядя Опанас.
Но вот дверь из девятого класса «Б» неожиданно распахнулась, и в коридор высыпала толпа учеников и учениц. Взволнованные, еще не остывшие от тревожного возбуждения, они наперебой рассказывали дяде Опанасу и друг другу, кто на чем «выехал» или «срезался».
В пустом классе на последней парте сидели Надя и Гуля. Надя вытирала надушенным и мокрым от слез платочком глаза и нос. А Гуля говорила ей:
— Ну ладно, перестань. Вот возьмешься как следует и к осени все пересдашь. За лето много успеть можно.
— За лето? — всхлипнула Надя.— Это летом-то физикой заниматься?
И она зарыдала еще громче.
— Да я тебе помогу! — сказала Гуля.
— Поможешь! — вздохнула Надя.—Зачем тебе-то этой скукой заниматься, когда у тебя «отлично»!
В класс вошел дядя Опанас с тряпкой в руке. Он вытер доску, на которой еще оставались следы каких-то формул, открыл окна в классе, поставил на место учительский стул.
Потом он посмотрел на плачущую Надю и сказал не то сочувственно, не то укоризненно:
— От до чого хвизика дивчину довела!
ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ
Самый трудный экзамен остался позади, и Гуля разрешила себе один вечер не заниматься и отдохнуть.
После обеда она поехала к Днепру.
Получив на водной станции байдарку, Гуля оттолкнулась от берега, уселась поудобнее и взялась за весло. «Поеду вниз по течению,— решила она,— будет легче грести».
И, слегка опираясь на весло, Гуля отчалила. От лодки побежал кудрявый след. Острые верхушки тополей закачались в воде. Лодка легко поплыла.
Зеленые берега быстро уходили назад. Песчаный пляж у самого берега казался теперь узенькой желтой полоской. Дышать стало легко и привольно.
«Всю жизнь смотреть бы на Днепр,— думала Гуля,— ничего нет на свете лучше!»
Она оглянулась назад. Город исчезал в предвечернем тумане.
«Ого, как далеко я уже отплыла! Километра на два, а то и больше. Не пора ли домой?»
Гуля налегла на весло, чтобы повернуть, но течение противилось. Оно снова поставило лодку кормой к городу и понесло ее дальше, вниз по Днепру.
Гуля напрягла все силы. Лодка не поддавалась. Ее несло все дальше и дальше, туда, куда хотела река.
Оттого, что Гуля давно не гребла, и от сильного напряжения у нее заныли плечи, руки, спина.
«Дура! Вот дура! — ругала сама себя Гуля.— Куда же это я заехала на ночь глядя! Чего доброго, этак меня до самого гирла дотащит, если только не перевернет».
Днепр разыгрался. Ветерок к вечеру становился все сильнее и упрямее. Поблизости не видно было ни хаты на берегу, ни лодки на воде. Помощи ждать было неоткуда. А темнота все густела.
Закусив губу, Гуля изо всех сил боролась с Днепром. То она одолевала, то он брал верх.
«Нет,— подумала Гуля,— из этого толку не выйдет — у меня уже и руки не держат весло. Отдохнуть надо!»
501
И она, перестав бороться с рекой, положила весло. Днепру как будто этого только и надо было. Легонько покачивая, понес он лодку с Гулей, куда нес все, что попадало в его воды,— вниз и вниз.
«Ничего, ничего, далеко не унесешь! — говорила Гуля.— Вот отдохну немного, а тогда опять поборемся!»
И, вспомнив знакомую и любимую с детства песшо, она запела:
Будет буря — мы поспорим И помужествуем с ней!
От этих красивых и смелых слов, а может быть, и от звука своего голоса, такого молодого и звонкого, ей стало спокойнее.
Через несколько минут она почувствовала, что руки у нее отдохнули и плечи расправились. Она снова взялась за весло и неторопливо, ровно, как учили ее в Артеке, заработала попеременно обеими лопастями весла.
— Левая, греби, правая, табань! — командовала она себе.— Левая, греби!
И лодка наконец послушалась: она тяжело повернулась кормой к гирлу, носом к городу и, ныряя на каждой волне, стала медленно приближаться — метр за метрохм — к киевской пристани.
Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна! —
пела Гуля.
Когда она подъехала к водной станции, уже совсем стемнело. Принимая у нее байдарку, старик лодочник долго ее журил:
— Последняя пришла! Что же, мне тут ночевать из-за вас, что ли?
— Простите, дедушка,— ответила Гуля.— Я и сама не хотела далеко заплывать, да меня течением унесло.
Еле живая от усталости, добралась Гуля до дому. Кажется, никогда еще она не чувствовала себя такой разбитой. Фрося пожалела ее и принесла ей ужин в постель.
— Понимаешь, Фросенька,— говорила Гуля, уплетая за обе
502
щеки вареники с вишнями, из которых так и брызгал сок,— понимаешь, полезла я сегодня к черту на рога без всякой тренировки...
— Ай-ай-ай, без тренировки!..— сочувственно качала головой Фрося.
— В том-то и штука! Чуть не унесло меня, понимаешь. Но мне этот урок пригодится, увидишь сама. Вот кончу экзамены и буду каждый день грести, чтобы наловчиться. Весь Днепр пройду сверху вниз и снизу вверх.
— Ой, лишенько! — только вздохнула Фрося.
— Да, да, весь Днепр! Только теперь я буду умнее. Пока сил много, вверх по течению плыви, а когда устанешь, можно и вниз!..
На другое утро Гуля пошла к Наде, чтобы взять у нее задачник. Предстоял новый экзамен — геометрия. Нади не оказалось дома. Бабушка ее, худенькая, чистенькая (та самая, которая отказалась держать палец в чернилах), уговорила Гулю подождать Надиного прихода.
На обеденном столе лежало, раскинув рукава, голубое летнее платье (должно быть, то самое—«счастливое»). Бабушка разглаживала на нем оборочки.
— Не знаю, что мне с ней и делать,— говорила она, пробуя пальцем горячий утюг.— Совсем от рук отбилась моя Надюшка! Не постирает себе, не погладит. Вот нарядиться, погулять — это ее забота. Коза, да и только.
Духовой утюг с сердитым шипением задвигался взад и вперед по влажному голубому полотну.
— А вчера совсем меня расстроила,— продолжала бабушка.— «Я, говорит, геометрию сдавать не буду. И вообще больше ничего сдавать не буду».—«Как это так —не будешь?!» — говорю. «А я, говорит, на осень попрошу перенести. Осенью заодно с физикой сдам. Все равно, говорит, лето пропало!»
Бабушка налегла на утюг, и голубое полотно побледнело от прикосновения горячего металла. Утюг, разгораясь, свирепел все больше и больше, словно он, так же как и бабушка, был зол на Надю.
— Все экзамены на осень?—удивилась Гуля.— Да она же ни за что не сдаст!
503
— Я и то говорю, не сдаст,— вздохнула бабушка.— До слез меня вчера довела.— Старуха помахала в воздухе утюгом, чтобы немного охладить его.— В могилу меня эта вертушка загонит!
И, смахнув слезу, бабушка в последний раз провела утюгом по голубой ткани и положила сияющее чистотой платье на кружевное покрывало постели.
Из передней послышалось звяканье ключа.
— Вот и она, бессовестная,— сказала бабушка.— И жалко мне ее: все же сиротка, растет без матери, отец всегда в командировках, вот и делает что хочет...
Надя, кудрявая, легонькая, тонконогая и в самом деле похожая на козу, вбежала в комнату и, поцеловав на бегу бабушку, а потом и Гулю, сразу устремилась к кровати.
— Вот спасибо, бабусенька! Я достала как раз билет на концерт Орловой, и мне необходимо свежее платье. Ах, у меня не бабушка, а чистое золото!
И, подумав, прибавила:
— Конечно, когда не ворчит.
Бабушка только вздохнула и пошла на кухню.
— Ты что это придумала, Надька? — начала Гуля.— Школу бросать, что ли?
— Тебе бабушка уже успела нажаловаться? — спросила Надя.— Я и не думаю бросать школу. А только хочу отложить эти чертовские экзамены на осень. Все равно осенью надо сдавать физику, заодно сдам уж все предметы.
— Сядешь ты, Надька, на мель со своим «заодно». Давно ли ревела на физике?
— Почему сяду? Подумай сама...
И Надя принялась доказывать Гуле, почему ей нужно перенести экзамены на осень. Во-первых, она так устала за год, что ей ничего не лезет в голову, а за лето она отдохнет и наберется сил... Во-вторых, летом в дождливую погоду очень приятно заниматься. («Все равно, понимаешь, некуда идти!») В-третьих, учителя за лето тоже отдохнут и станут гораздо добрее.
— В-четвертых,— продолжала Надя,— мне в последнее время вообще не везет, определенно не везет! Лучше сейчас и не рисковать.
504
Гуля слушала ее, покачивая головой.
— Знаешь,— сказала она,— плыть вниз по течению очень легко, одно удовольствие. Лодка как будто сама идет. А попробуй — поверни обратно. Тебя захлестнет так, что не выберешься!
Надя с недоумением смотрела на Гулю.
— Не понимаю, к чему ты это говоришь!.. То лодка, а это экзамен. Совсем разные вещи!
— И вовсе не разные! — с жаром сказала Гуля.— Ты пойми — это ко всему подходит, решительно ко всему. Только дай себе волю, начни жить как легче, и тебя понесет так, что не выплывешь. Это надо помнить всю жизнь. Это самое, самое главное!
Гуля до того разошлась, что и не заметила, как в комнату вернулась бабушка. Держа в руке кофейник, она стояла на пороге и слушала Гулю.
— Что правда, то правда,— сказала она наконец.— Я седьмой десяток доживаю, а то же самое слово в слово скажу. Опасно вниз по течению плыть...
— Да ты же никогда и на лодке не каталась! — перебила ее Надя.
— Было время — каталась, и побольше тебя,— усмехнулась бабушка.
Из передней донесся телефонный звонок.
Надя опрометью бросилась из комнаты.
— Гуля, это тебя! — послышался ее разочарованный голос.
— Меня? — удивилась Гуля.
В телефонной трубке что-то отчаянно трещало и клокотало. Гуля сразу же догадалась, что это звонит Фрося. Фрося всегда кричала в трубку так, будто находилась за несколько тысяч километров от Киева.
— Фросенька,— сказала Гуля,— говори потише, я ничего не разберу...
Фрося стала говорить немножко спокойнее, и Гуля наконец услышала:
— Та бежи ж швыдче до дому, бо тебе батько выкликае з Москвы! Швыдче!
— Папа! — обрадовалась Гуля.— Бегу!
И она чуть не выронила телефонную трубку.
505
Когда она добежала до дому, сердце у нее билось так, что она не знала, сможет ли сказать отцу хотя бы одно слово. Но междугородная станция позвонила не сразу, и Гуля успела отдышаться.
Она не все услышала, что говорил ей отец, но разобрала самое главное: он позвонил ей только для того, чтобы поддержать ее в трудное время экзаменов.
Милый, знакомый отцовский голос, слабо доносящийся из такой дали, звучал еще ласковее и мягче, чем всегда.
И Гуля с особенной радостью кричала, нежно поглаживая рукой черную трубку:
— Да, да, держусь, папочка! По физике «отлично». И по литературе «отлично»! Миленький, дорогой мой, спасибо, что позвонил!..
ЕЩЕ ОДНО ИСПЫТАНИЕ
Со ступеньки на ступеньку проходила Гуля всю трудную и крутую лестницу экзаменов. Одна ступенька была пониже, другая — повыше, перед одной приходилось дольше готовиться к подъему, перед другой — поменьше.
А когда все ступеньки были наконец пройдены, лестница показалась Гуле вовсе не такой уж высокой.
Экзамены были сданы отлично, но отдохнуть Гуле не пришлось.
Впереди были новые испытания — на этот раз физкультурные: общегородское соревнование по плаванию и прыжкам.
После сидения за книжками Гуле особенно приятно было бегать на водную станцию.
Лето было уже в разгаре, и занятия из бассейна перенесли на водную станцию, на Днепр.
У Гули обгорел нос, и вся она стала шоколадная, только волосы еще больше посветлели.
Подготовка шла прекрасно — хоть завтра прыгай с вышки на глазах у всего Киева. Не хватало одного: резиновой шапочки. Но, как назло, шапочки не было в то лето ни в одном магазине.
506
— Знаешь что? — сказала ей как-то Мирра Гарбель, которая принимала самое близкое участие во всех Гулиных делах.— Выпишем шапочку из Ленинграда, прямо с «Треугольника».
— С ума сошла! — сказала Гуля.
— Да нет, ты же все-таки артистка. Может быть, они тебя знают.
— Много таких артисток! — сказала Гуля.
Но Мирра решительно взяла чернильницу, лист бумаги и села сочинять письмо.
Через несколько минут перед Гулей лежал черновик письма, написанного тонким, красивым Мирриным почерком:
«В комитет комсомола фабрики «Красный треугольник» Дорогие товарищи!
Простите, что обращаюсь к вам. Не знаю, помните ли вы меня. Я снималась во многих кинофильмах: «Дочь партизана» и пр. Сейчас мне предстоит участвовать в общегородских соревнованиях по плаванию и прыжкам. Я должна буду прыгать с десятиметровой вышки, а у меня нет резиновой шапочки. Не можете ли вы помочь мне...»
Гуля пробежала глазами черновик письма и взялась за перо.
— «Десятиметровой» не надо. Не все ли им равно, с какой вышки я буду прыгать... «И пр.» не надо. Не так уж много я снималась в кино...
— Да ты так все выбросишь! — сказала Мирра и закрыла рукой черновик.
— И надо бы все выбросить,— проворчала Гуля.— Совестно посылать. Только и дел у фабрики, чтобы заниматься такими пустяками, как моя шапочка.
— Да ведь шапочка тебе не для красоты нужна, а для общегородского состязания.
— Ладно уж, пошлем! — сказала Гуля.— Посмотрим, что из этого нахальства выйдет.
И, нахмурив брови, она переписала письмо.
Но вспоминать о нем ей было неловко и неприятно. Она по- прежнему бегала по магазинам в поисках шапочки.
507
И вдруг за два дня до соревнования, рано утром, Фрося испуганно разбудила ее:
— Листоноша до нас прийшов. Расписатись треба: тутоньки и тамочки!
Гуля спросонья схватила перо и расписалась «тутоньки» и «тамочки».
А потом развязала шнурок, которым был перевязан небольшой аккуратный пакет с ленинградским штемпелем и треугольником «Красного треугольника».
В пакете были две чудные резиновые шапочки — голубая с желтыми полосками и красная с белыми.
И это еще не все.
В той же посылочке оказались две пары резиновых туфель, легких, как перышко. Самое удивительное было то, что они пришлись Гуле как раз по ноге.
— И как это на фабрике угадали номер моей лапы? — удивлялась Гуля, примеряя тапочки.
Фрося даже прослезилась.
— Не наче — казка,— говорила она.
— Голубые я себе возьму,— сказала Гуля,— а красные туфельки и шапочку подарю Мирре. Она черненькая, ей красное пойдет.
Гуля завернула подарок в газету и только после этого обнаружила в обертке пакета письмецо.
«Дорогая Василинка! — писали ей комсомольцы «Красного треугольника».— Держи высоко наше комсомольское знамя, а мы пришлем тебе столько шапочек, сколько понадобится для всех состязаний.
С пламенным комсомольским приветом
комсомольцы «Красного треугольника».
Гуля перечитала это письмо десять раз подряд и побежала к Мирре.
Спускаясь по лестнице, она думала о Ленинграде, о незнакомых друзьях, которые прислали ей такое хорошее письмо, о том, что она непременно поедет в Ленинград, увидит его дворцы, парки, его гранитные набережные, его старые знаменитые заводы.
508
«Фрося верно сказала,—подумала Гуля,—как в сказке!..»
А Фрося, закрыв за Гулей дверь, вышла на балкон и, облокотившись о решетку, долго следила глазами за своей любимицей.
— Ой яка дивчина! Гарна дивчина!
И вот наступил день физкультурного праздника. Гуля в своем купальном костюме и в резиновой шапочке поднималась по шаткой лестнице десятиметровой вышки.
Внизу виден был как на ладони берег Днепра. Он был усеян яркими пятнами — это горели на солнце всеми цветами радуги платья, шляпы бесчисленных зрителей, заполнивших весь амфитеатр.
Духовой оркестр играл на берегу какой-то веселый марш. И чем выше поднималась Гуля, тем тревожнее и вместе с тем радостнее становилось у нее на душе.
Соревнования по прыжкам уже подходили к концу. Гуля должна была прыгать последней.
Еще не утихли аплодисменты, вызванные прыжком предпоследнего прыгуна, когда Гуля поднялась уже на самый верх и остановилась посередине дощатой платформы. Далеко внизу осталась восьмиметровая площадка.
Гуле вспомнилось, как страшно ей было прыгать с такой высоты в первый раз — в день, когда ее приняли в комсомол.
Постояв несколько секунд, Гуля уже приготовилась к разбегу, но в эту минуту где-то совсем рядом протяжно и гулко загудел теплоход. Вся вышка вздрогнула и закачалась, как верхушка высокого дерева на ветру. Гуля еле-еле удержалась на ногах. Вышка ходила ходуном. Но вот теплоход прошел дальше, и волнение на реке стало успокаиваться. Вышка снова водворилась на место.
Гуля посмотрела вниз. Она уже привыкла за дни тренировки к такой высоте, но тогда внизу зеленел берег и не было этих тысяч устремленных на нее глаз. Сердце у нее забилось так, что захватило дыхание. Ей предстоял сложный прыжок — полтора сальто вперед.
«Боюсь? — подумала Гуля.—Нет, не боюсь!»
Она оттолкнулась, уже в воздухе сжалась вся в комочек и, обхватив колени руками, полетела.
509
На лету, в воздухе, она сделала оборот, выпрямилась, как пружина, и совершенно беззвучно, без брызг вошла в воду.
Гуле казалось в эти мгновения, что она летит целую вечность.
И когда она снова вынырнула из воды и поплыла к трапу, ее оглушил плеск многих тысяч ладоней. Людей она не видела. Ей казалось, что рукоплещет весь берег, весь Днепр.
Она оглянулась в сторону судей и увидела несколько высоко поднятых щитов. На каждом щите горела ярко-красная цифра «9». Это была высшая оценка, которая давалась прыгунам на сегодняшнем соревновании.
Домой она возвращалась со стадиона поздно вечером. Она шла, как всегда, со своим верным другом — Миррой.
— Везет тебе, Гуля,— сказала Мирра, пожимая ей руку,— все на свете тебе удается.
— Нет, не то что везет,— подумав, ответила Гуля,— а просто я стараюсь всего добиваться. Каждый, по-моему, везет себя сам. И я тоже сама себя везу.
— Я очень верю в тебя,— серьезно сказала Мирра.
А наутро она прибежала к Гуле радостная и взволнованная.
— Гулька, твой портрет в «Советской Украине»!
И она протянула Гуле свежий номер газеты.
Гуля была снята во весь рост, в купальном костюме.
Под снимком была подпись:
Лучший прыгун водной станции «Вымпел»
Гуля Королева.
— Как тебе нравится этот «лучший прыгун»? — спросила Мирра.
Гуля посмотрела на снимок.
— Скажите пожалуйста! Сняли! Да еще во весь рост! Только я тут не в фокусе.
— А ты не привередничай! — сказала Мирра,— Очень даже в фокусе. Повесь портрет на стенку.
— Вот еще! Я его лучше папе отправлю. Я знаю, ему приятно будет. А пока пошлю родителям по телеграмме. Ведь все-таки их единственная дочь перешла в десятый класс и общегородские соревнования выдержала! Это не каждый день бывает.
510
И девочки отправились на почтамт. Присев у стола, Гуля написала две телеграммы одинакового содержания — в Сочи и в Москву:
«Экзамены сдала соревнование также голова цела не простудилась не утопилась целую».
И подписалась: «Десятиклассница».
Отправив телеграммы, Гуля почувствовала, что у нее с этой минуты начался отдых.
НАДЯ СНОВА МЕНЯЕТ РЕШЕНИЕ
— Гулька, знова до тебя листоноша! Держи лист,— сказала Фрося, когда Гуля вернулась домой.
И она протянула Гуле маленький, туго набитый конверт. На нем кривым, совсем детским почерком было написано: «Гуле лично».
Письмо было от Нади.
«Дорогая Гуля,— писала она,— не подумай, что я сошла с ума или у меня температура 40. Я решила экзаменов не держать и остаться на второй год».
Гуля усмехнулась:
«Решила»... Ну и Надька! Можно подумать, что все только и ждут ее решения!»
И Гуля стала читать дальше:
«Впрочем, еще не совсем решила. Я раньше хочу посоветоваться с тобой. Ведь ты моя единственная подруга, и, кроме тебя, у меня никого, никого нет. С бабушкой я об этом говорить не могу. Да и вообще я с ней четвертый день не разговариваю. Опа, конечно, подумает, что я просто лентяйка и не хочу заниматься летом. У нас с ней и так было слишком много разговоров из-за моих несчастных экзаменов. А уж сказать ей, что я сама, по своей воле решила остаться, об этом и думать нечего. Воображаю, какой ералаш поднимется у нас в доме!!! Лучше сказать об этом осенью, когда уже будет поздно...
511
Я здесь все время скучаю. На даче тут очень плохо. Местность ужасная. Не знаю, что дачники находят хорошего в здешнем лесу и в речке. Ничего в них особенного нет. Погода, правда, чудная, но жара невыносимая. Только по вечерам еще ничего, когда на небе звезды и кругом мертвая тишина. Знаешь, Гуля, от скуки я даже начала писать стихи — рифма у меня получается. Прочти и напиши свое мнение.
Посвящается Гуле К.
Я помню чудное мгновенье,
(эту строчку я взяла из Лермонтова, но дальше все свое)
С то'бой ходили мы гулять.
Вокруг звенело птичек пенье,
И звезды начали сиять.
И месяц в голубом просторе
Глядел, сияя, с высоты,
У наших ног шумело море...
Сидели молча я и ты.
Теперь сижу я одиноко
С раскрытой книгой у окна.
Мой милый друг теперь далеко,
А я одна, одна, одна...
Это правда, Гуля. Я здесь действительно совсем одна (если не считать, конечно, бабушки). Тоска ужасная. Знакомых ни души. Вокруг какие-то дачники с маленькими ребятишками. Даже новое платье надеть некуда. Папа приезжает только по выходным дням. А бабушка беспокоится только об одном: о питании. Как будто на свете нет никаких умственных интересов. Делать здесь, на даче, решительно нечего.
Если бы не кофточка, которую я тут начала себе вязать, я умерла бы со скуки. (Это будет совершенно заграничный джемпер! Треугольник красный, треугольник синий, а рукава красные, с синими обшлагами. Очень здорово получается! Когда мне надоедает вязать, я подсовываю джемпер бабке. Она немного ворчит, но вяжет.)
Знаешь, Гуля, я думаю, что остаться на второй год в девятом классе вообще имеет смысл, так как экзаменов мне все равно не
512
выдержать. Кроме того, мне будет легче учиться и останется время для чтения. Прочту всех классиков и что-нибудь научное. Напиши мне про свою жизнь. Счастливая, я слышала, ты с вышек прыгаешь, рекорды берешь,— не то что я, несчастная, должна киснуть на этой даче.
У нас тут очень много цветов. Они чудно пахнут по вечерам, если бы только не комары...
Жду ответа, как соловей лета... Целую тебя крепко.
Любящая тебя подруга Надя».
Прочитав письмо, Гуля расхохоталась.
«Ну и Надька!—подумала она.— «Остаться на второй год вообще имеет смысл». И пусть остается на здоровье. Надо Мирре показать письмо — вот уж будет смеху!»
Гуля позвонила Мирре по телефону:
— Приходи, пожалуйста. Срочное дело.
И не прошло получаса, как Мирра явилась.
Усадив ее на диван, Гуля дала ей Надино письмо.
Мирра поднесла листок к самым глазам. Сначала она читала молча, серьезно, слегка нахмурив брови, и вдруг повалилась на диван, захлебываясь от смеха.
— Знаешь что? — сказала она, вытирая слезы.— По-моему, умнее твоей Нади никого и на свете нет! Конечно, ей прямой смысл остаться на второй год в девятом, если не может перейти в десятый. Ну, что ты ей ответишь? Ведь она ждет ответа, как соловей лета.
— Так и отвечу: «Не томи свою душеньку — опущайся на дно! Если не можешь перейти, так оставайся».
— А про стихи что напишешь?
— Посоветую читать классиков и знать, у кого воруешь стихи. А то стащила строку у Пушкина, а говорит —у Лермонтова!..
Гуля увидела Надю только осенью, когда уже начались занятия. Они встретились в школьном коридоре на большой перемене. Надя благоразумно осталась на второй год, и учились они теперь в разных классах.
— Королева,— сухо сказала она Гуле,— мне надо с тобой поговорить... Наедине!
513
— Ну, давай пройдем к окошку,—предложила Гуля.— Вот и будет наедине.
Они сели на подоконник. Надя молчала.
— Ну? — спросила Гуля.
— Неужели ты сама не понимаешь?.. — сказала Надя.
— Пока что нет.
— В таком случае, нам больше не о чем говорить! — произнесла Надя раздельно и отвернулась в сторону.
— Да перестань ты, Надька, комедию разыгрывать! Хочешь что-нибудь сказать, так и говори.
Надя резко повернулась к Гуле.
— Без комедий? Ладно! Ты не умеешь быть настоящим другом. Я никогда, никогда не думала, что наша дружба может так окончиться. Скажите пожалуйста! Она — в десятом, а я — в девятом... Какие же у нас могут быть общие интересы?.. Ты целые перемены ходишь то с Холодовой, то с Аганян, то с Шуркой Жуковым, а на меня — нуль внимания... Как будто я умерла! Да и покойникам друзья на могилу цветы приносят...
У Нади на глаза навернулись слезы.
— Я всегда считала, что дружба — это дружба! Ты на Северном полюсе, а я на Южном, и все-таки мы дружим. А что нас с тобой разделяет? Одна стенка!
— Нет,— сказала Гуля серьезно и тихо.— Не одна стенка.
— Две, что ли?
— Больше. Понимаешь, Надежда, вот мы с тобой сидим на подоконнике целых десять минут, и говорить нам не о чем. Ни до чего не договорились... Холодова, Аганян, Северный полюс, Южный — что за пустяки! Просто мы с тобой уже не маленькие, чтобы вместе в песочек играть. А почти взрослым людям из пустого в порожнее переливать незачем. Нет, я умею дружить, это ты неправду сказала!..
— С этой твоей Мирркой черномазой, что ли?
— Да, с Миррой. Я ее и люблю и считаюсь с ней.
— Только потому, что она тебя обожает. «Гулька, ты талант!», «Гулька, ты гений!» А тебе того и надо. Не любишь правду слушать. А я уж такая: что думаю, то и говорю в глаза!.. Может быть, это грубо, что я тебе сейчас сказала...
— Не грубо, а глупо, если уж на то пошло! — сказала Гуля,
514
слезая с подоконника,— Больше я с тобой объясняться не желаю.
— Передай привет и поцелуй своей Гарбель-Фарбель! — крикнула Надя ей вслед.
Гуля посмотрела на нее через плечо и только улыбнулась.
— Вот ты так гений, Надежда,— сказала она.— Настоящий гений!
Через два дня Гуля получила по городской почте письмо.
«Гуля! — писала Надя.—За эти две ночи я очень много передумала. Нам необходимо еще раз поговорить наедине. Завтра на большой перемене я выйду на лестницу и буду ждать. Ты не знаешь, как я переживаю. Верная тебе и любящая тебя Надежда».
Внизу была приписка: «Только, пожалуйста, не показывай это письмо Мирре Г. Она тебя не пустит... И вообще не доверяй ей! Если бы ты все про нее знала...»
Письмо было глупое и неприятное, но Гуля все-таки решила выйти на лестницу. Как-то неловко было отказываться от разговора с бывшей подругой.
Чуть прозвенел звонок, она вышла на площадку лестницы и огляделась. Никого не было. Гуля спустилась ниже и увидела Надю, окруженную несколькими девочками из ее класса.
Надя сидела на ступеньке без туфель, в одних чулках и показывала девочкам свои новые туфли, лакированные, с какими- то особенными кисточками.
— Видите, видите! — с азартом говорила Надя.— Этот лак нипочем не треснет, хоть по воде ходи. И каблук стаканчиком!
Девочки рассматривали туфли, а Надя продолжала:
— Правда, прелесть? Это мне папа из командировки привез. Ну, давайте туфли. Меня наверху ждут.
Но никто не ждал ее наверху. Гуля давно уже вернулась в коридор, чтобы не мешать Наде показывать свои новые туфли и переживать свои старые огорчения.
ЖИТЬ ХОРОШО!
Это был последний школьный год.
Уже кончался октябрь, но солнце еще грело по-летнему. Казалось, лето нарочно замедлило свой уход, чтобы люди успели вдосталь наглядеться на синее тихое небо, на бронзово-коричневые, будто вырезанные из тисненой кожи листья дубов.
В трамваях люди везли из окрестностей города целые букеты осенних пестрых веток. Тротуары были усыпаны точно золотыми монетами, опавшей листвой. В книгах и тетрадках школьниц лежали между страницами багряно-красные лапы кленовых листьев.
Комсомольцы готовились в это время к своему торжественному вечеру в Оперном театре.
В городском комитете комсомола сказали Гуле:
— Ты у нас артистка. Будешь читать стихи. Выбери сама, что тебе нравится.
— Да ведь я не драматическая,— смутилась Гуля. — Я только в кино снималась, и то давно уже. А читать стихи, да еще на большой сцене в Оперном, я ни за что не решусь.
— Ладно, ладно, наберись храбрости!
И Гуле снова пришлось набраться храбрости.
Она долго перелистывала страницы любимых поэтов и все не могла выбрать стихи. То ей хотелось читать «Кинжал» Лермонтова, то отрывок из «Русских женщин» Некрасова, то «На поле Куликовом» Блока. В конце концов она выбрала ни то, ни другое, ни третье, а поэму Маяковского «Хорошо».
Я
земной шар чуть не весь
обошел,—
и жизнь
хороша, и жить хорошо! —
повторяла она полным голосом, расхаживая по комнате, и внезапно останавливалась с гордо поднятой головой.
А в нашей буче,
боевой, кипучей*
и того лучше!
510
Гуля поднимала руку, а из кухни выглядывало испуганное лицо Фроси.
— Ничего, ничего, Фросенька,— говорила Гуля,— это я стихи учу.
Фрося удовлетворенно кивала головой и скрывалась за дверью. Вечером Гуля бежала к Мирре узнать, как идут дела у нее,— Мирра тоже должна была выступать на концерте в Оперном театре.
— Ничего не получается! — с отчаянием говорила Мирра.— Руки не идут, просто не идут. Провалюсь я на этом концерте. И концерт провалю.
— Нет, за тебя я не боюсь,— говорила Гуля.-— А вот знаешь, кто провалится? Я!
— Нет, с тобой этого не бывает.
— Да ты сама подумай, Мирра! В последний раз я читала стихи со сцены, когда мне было двенадцать лет,— на пионерском слете. Тоже Маяковского — «Кем быть?». А с тех пор мне не случалось...
— Все равно не провалишься,— говорила Мирра.— Я тебя знаю!
Такой разговор повторялся чуть ли не каждый день до самого концерта. А когда Гуля с Миррой пришли в Оперный театр за полчаса до начала торжественного заседания и глянули из-за кулис в огромный пустой зал, на душе у них стало еще тревожнее.
— Ух! Как в холодную воду лезть! — прошептала Мирра.
— А мне жарко,— сказала Гуля.
— Ну так согрей мне руки. Они у меня совсем окоченели. И как это я играть буду!
Гуля принялась растирать холодные пальцы Мирры.
А между тем огромный зал постепенно наполнился людьми. Вразнобой заговорили скрипки, флейты и контрабас в оркестре. Распорядители оправили красную скатерть на столе. А потом вдруг все стихло. Занавес задрожал, раздвинулся, и началась торжественная часть вечера.
Гуля и Мирра стояли за кулисами. Слова со сцены доносились сюда как-то по-иному: хоть и ближе, а глуше. Аплодисменты поднимались снизу, как морской шум.
517
Уверенные, твердые голоса ораторов успокоили Гулю. Она крепко сжала Миррину руку и шепнула ей:
— Все будет хорошо. Увидишь!
Она уже волновалась теперь больше за Мирру, такую маленькую в этом огромном зале, чем за себя.
В перерыве Гуля мимоходом на минуту подбежала к зеркалу. Из глубины стекла на нее смотрела почти взрослая белокурая девушка в черном шелковом платье с белым кружевным воротничком. Лицо чуть широковатое, с круглым и твердым подбородком, с губами спокойными и нежными, с повелительными, пристально глядящими глазами.
«Нет, я и в самом деле не провалюсь!» —подумала она.
А на сцену уже выкатили рояль, подняли блестящую крышку, и в ней, будто в черном зеркале, заиграли огоньки люстры.
Мирра побледнела и посмотрела на Гулю, как утопающая.
— Мендельсон! — торжественно воскликнул на эстраде комсомолец Миша, словно вызывая сюда самого Мендельсона.— «Рондо каприччиозо»!
Вместо Мендельсона на эстраду робко вышла худенькая девочка, с черными косами, уложенными вокруг головы, в синем бархатном платье.
— Ученица Киевской консерватории Мирра Гарбель! — представил ее публике Миша и ушел за кулисы с таким видом, как будто самое важное дело уже сделано.
Мирра сидела перед роялем и смотрела на клавиши.
«Почему она не начинает? — подумала Гуля со страхом.— Неужели все забыла от волнения?»
Но в эту самую минуту Мирра качнулась на своем стуле, решительно подняла руки и опустила их на клавиши.
В зале раздались первые робкие и тихие звуки.
«Кажется, вначале и нужно так тихо»,— подумала Гуля, успокаиваясь, и сердито посмотрела на какого-то толстого человека в первых рядах, который так некстати закашлялся.
Мирра играла все увереннее. В каждом звуке чувствовалось, что она овладела собой, инструментом, слушателями.
Рядом с Гулей за кулисами стояли двое: мужчина с актерской внешностью и красивая немолодая женщина.
518
— Поздравляю вас,— сказал мужчина шепотом,— она настоящая, почти законченная артистка.
Гуля догадалась, что пышноволосая седеющая женщина — Миррин профессор.
«Ну-ка, ну-ка, что они еще скажут?»
Гуля придвинулась к ним поближе.
— Чудесное дарование,— шепотом говорила своему соседу женщина-профессор,— свежее, тонкое. И так умеет работать!..
Гуля с особенным умилением смотрела теперь на свою по- другу, которая так мало рассказывала ей о своих удачах и так высоко ценила каждую удачу Гули.
«Милая моя девочка! —думала она.— Как хорошо, как просто держится она на эстраде! Можно подумать, что она уже сто раз выступала здесь, в Оперном театре... А как волновалась! Настоящий талант всегда скромен».
Гуля не успела сказать все это Мирре. Чуть только отшумели аплодисменты и счастливо возбужденная Мирра показалась за кулисами, с эстрады прозвенел веселый голос Миши:
— Владимир Маяковский, «Хорошо», прочтет Гуля Королева.
— А если плохо прочтет? — шепнула ему на бегу Гуля и, не чуя под собой ног, выбежала на эстраду.
— Ишь ты! Еще острит! — сказал ей вслед Миша.
А на высокой, просторной сцене уже звучали те самые слова, которые каждый день слышала за последнюю неделю Фрося:
Я
земной шар
чуть не весь
обошел,—
и жизнь
хороша,
и жить
хорошо!
Слушатели как-то сразу поверили и Маяковскому и Гуле. Такими убедительными казались в устах этой сильной, стройной девушки простые, звонкие слова:
и жизнь
хороша,
519
и жить
хорошо!
Гуля чувствовала, что все понимают ее, согласны с ней, невольно повторяют про себя те строчки стихов, которые она бросает со сцены. И голос ее от этого становился все шире, сильней, богаче:
Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих, землю молодости!
Гуля кончила.
— Вот это аплодисменты! — сказала ей Мирра, встречая ее за кулисами.— Ты только послушай, как тебе хлопают.
— Это не мне, это Маяковскому,— сказала Гуля.— А вот когда хлопали тебе, так уж это было тебе!
— А может быть, Мендельсону?
— Ну, и Мендельсону отчасти! — засмеялась Гуля.
И обе с легкой душой побежали в зал смотреть, как другие участники концерта будут переживать тревоги, которые только что пережили они сами.
КЕМ БЫТЬ?
Снова лето, щедрое, гостеприимное, ласковое. Гуля уже сдала последние экзамены, и выпускники в складчину отпраздновали окончание школы.
Теперь для всех вчерашних школьников всерьез, вплотную встал вопрос: кем быть?
520
Гуля привыкла во всем советоваться с Миррой. И, ие дожидаясь возвращения ее с дачи, Гуля сама поехала к ней, чтобы подумать вместе и потолковать.
В сосновом лесу пахло нагретой за день смолистой хвоей. Гуля приехала с шестичасовым поездом. Уже низкое солнце широкими полосами ложилось на устланную иглами землю и красноватые стволы сосен.
Мирра увидела Гулю из окна кухни, где шли приготовления к ужину. С радостным криком: «Гулька приехала!» — она высунулась из окна, размахивая кухонным ножом.
— Ты, кажется, хочешь меня зарезать? — сказала Гуля смеясь.
Она вбежала в кухню и сразу приняла участие в стряпне.
— Дай мне передник, Миррка,— сказала она.
И, засучив рукава, надев передник, Гуля взялась за работу — начистила целую миску картошки, а потом принялась крошить на доске свеклу и морковку.
Миррина мать ласково поглядывала на Гулю, любуясь веселой домовитостью, с которой та хозяйничала у них на кухне.
— Твоя Гуля — прелесть,— сказала она дочери, когда Гуля, схватив ведро, побежала за водой.
— А что я тебе говорила? — с гордостью ответила Мирра.
— Куда же мы положим нашу гостью? — спросила мать Мирры, когда Гуля вернулась.
— Обо мне не беспокойтесь,— сказала она.—Я уже выбрала себе место: у вас тут есть замечательный чердачок.
—. Но там же не на чем спать.
— Мы с Миррой сена притащим. Встанем чуть свет — и купаться. Да, Миррочка? Что человеку еще нужно?
Мирра согласилась с Гулей, что больше человеку ничего ие нужно.
Ночью на чердаке, на охапках свея^его сена, от которого пахло полынью и мятой, девушки вели большой и серьезный разговор.
— Знаешь, что мне пришло в голову? — говорила Гуля.— Я хочу поступить в Гидромелиоративный институт. Копчу его — и куда-нибудь в пустыню: прокладывать каналы, бороться с песками...
521
В пустыню! Вот еще нашлась пустынница! Да ведь ты без людей жить ие можешь. Нет, это тебе совсем не подходит.
— Подходит! — упрямо сказала Гуля.— О пустынях неправильно думают, Мирра. Мне рассказывал хлопец один, который недавно вернулся из экспедиции, что там идет удивительная работа. Он очень уговаривает меня идти в этот институт.
— Ну и пусть уговаривает! Не слушай его. Пустыня — это такая мертвечина. И потом, ты так любишь воду, плаванье, греблю, а в пустыне только и воды, что в какой-нибудь походной бутылке или манерке!
— В том-то и дело, что пустыне надо дать воду,— перебила ее Гуля.— И тогда она вся зазеленеет, превратится в сад. И это может сделаться на твоих глазах, под твоими руками. Нет, я хочу в пустыню!
— А театр, кино? Я всегда думала, что ты поступишь в театральную школу. А тут вдруг — нате, какой-то гидро... мид- ро... даже выговорить невозможно.
— Я и сама сначала хотела идти в театральную школу. Но знаешь, если бы я была настоящая, прирожденная артистка, я бы и думать не могла ни о чем другом, кроме сцены. А у меня тысяча желаний. И больше всего мне хочется участвовать в каком-то трудном, серьезном деле, хочется бороться, встречаться с разными людьми, ездить и ходить по нашей стране.
— Ты, Гуля, ужасно любишь жизнь. Вот в чем дело!
— Да, правда, люблю. Мне бы, кажется, три жизни дали — и все бы мало было: четвертую подавай. А уж если всего одна в запасе, так неизвестно, с чего и начинать... И того хочу и другого — и всего по полной тарелке!
— Жадина,— сказала Мирра.
— Ага!
Гуля негромко засмеялась в темноте.
— Верно, Мйррочка, верно, голубушка, я жадная. Но ты не думай, я и щедрая. Мне много нужно — и ничего не жалко. Мне кажется, ради какого-нибудь большого дела я бы и жизнь отдала. И даже не призадумалась бы. Ты мне веришь? Я не хвастаюсь.
— Верю,— вполголоса сказала Мирра.— Я это в тебе и люб' лю. Только мне всегда за тебя как-то страшно.
522
— Ну, что там!
Гуля нашла в темноте руку Мирры с тонкими, хрупкими и в то же время сильными пальцами и погладила ее.
— Не бойся, Миррушка. Все будет чудно. У нас впереди замечательная жизнь. Недаром мы родились в такое время и в такой стране.
В маленькое чердачное окошко заглянула луна и точно снегом покрыла рыхлые и пушистые охапки сена.
Девушки невольно подняли головы.
— Как хорошо! — сказали они разом.
Обе засмеялись зтому совпадению мыслей и слов.
— Пойдем побродим,— сказала Гуля.
— А я только что хотела тебе это предложить!
Они ощупью разыскали в сене свои туфли и, надев их па босу ногу, осторожно спустились с чердака в сад.
Темное небо было битком набито звездами, а луна как будто сидела на верхушке черного тополя. Мирра долго смотрела вверх, приставив к глазам очки и закинув назад голову.
— Видишь,— сказала она,— это Кассиопея, такое созвездие... Если бы не музыка, я бы непременно стала астрономом. Но мне выбирать не приходится, у меня одна дорога.
— Это тоже счастье! — сказала Гуля.
Мирра кивнула головой.
Невольно притихшие, вслушиваясь в звон каких-то ночных насекомых, они пошли по дорожке, перерезанной лунными полосами и черными тенями деревьев.
— Мирра! — вдруг негромко сказала Гуля.— Ты слышишь меня?
Мирра вздрогнула и повернула к ней побледневшее от луны лицо.
— Что, Гуленька?
— Не знаю, как и сказать тебе...— начала Гуля нахмурившись.— Это очень, очень серьезно.
Она перевела дыхание и сломала ветку, которую держала в руках.
— Понимаешь, мне кажется, я люблю одного человека... Да нет, не кажется! Я так люблю его, что мне и страшно, и весело, и даже больно как-то... Я знаю, это уж не пройдет. Это навсегда.
523
Мирра нежным движением своих легких пальцев погладила ее руку.
— Кто же он, Гуленька? — спросила она шепотом.
Гуля помолчала минутку.
— Пока не скажу. Ты не сердись на меня. Мне почему-то трудно назвать его сейчас по имени. Понимаешь? Ведь до сих пор об этом знали только я да он. И мне еще немножко жалко совсем расставаться со своей тайной... Лучше когда-нибудь я приведу его к тебе. Ты, наверно, сразу узнаешь, что это он. Только, пожалуйста, сделай вид, что не узнала. И сейчас не спрашивай меня ни о чем. Хорошо?
— Как хочешь,— сказала Мирра.— Я так рада за тебя, так рада...
Они долго еще ходили по лунным дорожкам, по сверкающей от росы траве, счастливые и благодарные друг другу.
Мирра чувствовала себя гордой оттого, что именно ей первой доверена такая милая, такая драгоценная тайна.
А Гуля думала, поглядывая сбоку на Мирру, что на всем свете нет человека с более умным и чутким сердцем.
НА РАССВЕТЕ
День за днем, месяц за месяцем — пробежал еще один год. Настал июнь сорок первого года.
По ночам шли теплые проливные дожди. Днем ярко синело небо. Пахло свежей листвой каштанов и розами. Розы продавались на каждом углу — красные, белые. Цветочные корзины стояли прямо на тротуарах.
По всему Киеву были расклеены огромные афиши:
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА
Гуля перешла на второй курс Гидромелиоративного института. Она была уже замужем за тем самым хлопцем, который так замечательно рассказывал ей о пустынях. Это его — Сер¬
524
гея, Сереженьку, Серьгу — не хотела она назвать в ту памятную лунную ночь, когда они вдвоем с Миррой бродили по дорожкам сада.
Сергей был такой же заядлый спортсмен, как и она сама. Открытие нового стадиона было для них обоих событием и настоящим праздником.
Но, как назло, с вечера небо покрылось тучами. Выглянув в окно, Гуля сказала Сергею:
— Хоть бы за ночь прояснилась погода! А то весь праздник пропал!
Ночь была тихая, темная, влажная. Акация за окном стояла, не шелестя ни одной веткой. В комнате было душно. Проснувшись среди ночи, Гуля подумала: «Наверно, собирается гроза. Скорей бы уж! Дышать нечем».
И в самом деле, сквозь сон до нее донеслись какие-то гулкие, отдаленные удары, похожие на раскаты грома.
Рано утром Гулю разбудили мама и Сергей. Оба они были уже совсем одеты.
— Который час? — спросила Гуля.— Разве нам пора?
— Пора, Гулюшка,— сказала мама.— Пора. Одевайся скорее.
Гуля посмотрела на них обоих внимательно и по их озабоченным, необычно суровым лицам поняла: что-то случилось.
— Что случилось? — спросила она.
Торопливо, скупыми и беглыми словами ей рассказали все. Едва только стало рассветать, немецкие бомбардировщики сбросили на киевские пригороды свой страшный груз. Горит аэродром на Соломинке, горит пост Волынский.
— Значит, это была не гроза,— сказала Гуля.— Значит, это война!
И только тут, произнеся это слово, Гуля со всей ясностью поняла, что с прежней счастливой и мирной жизнью надолго покончено, что в страну ворвался жестокий враг и он уже здесь — над самым городом.
— Ну, я пошел,— сказал Сергей и взял свою кепку, будто собираясь в институт, на лекцию.
— В военкомат? — спросила Гуля.
Сергей кивнул головой и, поцеловав ее, вышел.
525
— Надо, наверно, собрать ему вещи,— сказала растерянно мама.— А что берут с собой в армию?
— Самое простое,— ответила Гуля.— Смену белья, полотенце... Кажется, ложку.
— Ой, лшпенько! — запричитала Фрося, услышав об этих сборах, но Гуля на нее посмотрела строго и укоризненно.
— Что ты, Фрося! — сказала она.— Разве у нас есть время плакать?
И Фрося послушно утерла слезы.
В полдень все три женщины прильнули к черному диску репродуктора, и Гуля услышала правительственное сообщение, в каждом слове которого звучали гнев и решимость.
Гуля слушала, боясь пропустить хоть одно слово, а когда голос в репродукторе произнес торжественные и простые слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», ей показалось, что только этих слов она и ждала.
Теперь уж ничто не страшно. Трудиться сверх сил, воевать, терпеть все невзгоды, которые пошлет война.
Дело наше правое. Мы победим.
Гуля посмотрела на мать и на Фросю. Их лица были торжественны и спокойны.
ЕЖИК
Поздней ночью, пробираясь во мраке по пустынным улицам, Гуля с матерью уходила из родного города. Киев, оглушенный, насторожившийся, словно к чему-то прислушивался. Только что отзвучал отбой воздушной тревоги. Нужно было торопиться, чтобы до новой тревоги успеть на поезд. Через час далеко на восток уходил эшелон Украинской Академии наук. С этим эшелоном уезжала и Гуля.
В руке она несла небольшой чемодан. Там лежали крошечные кофточки, распашонки, маленькие простынки для ее будущего ребенка. Как бережно готовила Гуля вместе с матерью и Фросей все это детское приданое! Пользуясь каждой свободной минутой между занятиями, она кроила, вязала, вышивала. Как
526
уверена была она, что у ее ребенка будет все, что так нужно в первые годы жизни,— светлая комната, удобная кроватка, ванночка, коляска. Но вышло совсем по-другому. Все его вещи уместились в одном легоньком чемодане.
Что будет с этим маленьким, еще не рожденным человеком? Гуля шла во мраке, не узнавая знакомых с детства улиц. Ей казалось, что притихшие дома с каким-то мрачным укором провожают ее.
Но разве уехала бы она отсюда далеко в тыл, если бы не ребенок? Она взяла бы в руки винтовку — стрелять она умеет — и вместе с Сергеем пошла бы на фронт.
А сейчас ее все равно не возьмут. И она во что бы то ни стало должна сохранить своего сына (она была почему-то уверена, что у нее непременно родится сын). Сохранить вопреки той смерти, которая надвигается, точно грозовая туча, на все живое.
Гулин ребенок впервые открыл глаза в далеком от фронта городе — в столице Башкирии, Уфе. Там он и провел свою первую зиму.
Холодный степной ветер .завывает в трубе. За окнами — окраинная улица, срывающаяся в овраг.
В одной из комнат трехэтажного белого дома сидит на кровати Гуля. Рядом на подушке лежит ее маленький сын. Она теребит его светлый хохолок, за который он, ее маленький Саша, получил прозвище «1Сжик». Ежик потягивается, высунув из-под одеяла пухлые ручки, и показывает матери два маленьких розовых кулачка. Гуля уже хорошо знает все его милые повадки: и это потягивание после сна, и гортанные звуки, похожие на воркование, и быстрые движения ножек, попеременно то одной, то другой.
— Мама, смотри! — смеялась Гуля.— Ежик как будто на велосипеде катается!
Ребенок казался Гуле таким родным и давнишним, словно он был у нее всю жизнь.
Любуясь этим беленьким, веселым мальчиком, она наклонялась к нему низко-низко и невольно своими волосами щекотала его, а он смеялся таким грудным заливчатым- смехом, показы¬
527
вая два зуба на нижней десне, и от радости колотил ее по голове ножонками, обутыми в первые свои вязаные башмачки.
Ежик был теперь для Гули самой большой радостью. Без него — когда он спал или гулял с бабушкой — ей было непереносимо тяжело...
В Уфе еще мало чувствовалась война. По вечерам в домах, как в мирное время, светились окна, горели на улицах фонари, и было странно, что все спокойно к этому относятся, что никто не требует, чтобы завесили окна и выключили свет на улицах. В сущности, уфимцы даже не знали, что такое затемнение. Война была отсюда так далеко! Однако все чаще и чаще проходили по улицам с песней ряды солдат. Это была новая военная песня, с припевом, полным суровой и грозной решимости:
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.
А радио и газеты приносили каждый день такие вести, от которых становилось темно в глазах. Когда из репродукторов раздавались тонкие, падающие, как звонкие капельки воды, звуки позывных, у Гули замирало сердце. Она чувствовала, что сейчас скажут: «После долгих кровопролитных боев наши войска оставили...»
— Мама,— сказала Гуля в один из таких тревожных и печальных дней,—подумай только: двадцатичетырехлетняя летчица-фашистка расстреляла на берегу моря в Анапе маленьких ребят! Тут даже имя ее напечатано: Хелене Рейч...
Гуля отбросила в сторону газету и прикрыла глаза рукой. Нет, об этом и читать трудно, а уж представить себе — просто невозможно!
И все-таки против ее воли перед ней сама собой вставала ясная до предела, до самых отчетливых подробностей, картина того, что произошло.
Белый, мягкий, золотистый песок морского пляжа. Теплые волны легко набегают на прибрежный песок и тихонько откатываются назад. Маленькие загорелые голыши, деловито нагнувшись, лепят что-то из влажного песка. По всему пляжу
528
видны их белые панамки. Самые храбрые из ребят подбегают к морю и с визгом бегут обратно, когда за ними с шумом гонится седая от пены волна.
Детей приводят сюда каждое утро из всех детских санаториев, какие только есть в Анапе.
И вдруг в ярко-синем небе показывается самолет. Он спускается все ниже, ниже и неожиданно на бреющем полете открывает огонь. Огонь по этим беззащитным голеньким крошкам!
Песок залит детской кровью. А самолет, сделав свое дело, спокойно взмывает, как ястреб, и скрывается за облаками.
Гуля старалась не думать больше о том, что произошло на солнечном морском берегу, и не могла не думать. Какова она — эта Хелене Рейч? Наверное, белокурая, с голубыми глазами, может быть, даже красивая...
Но как же стало известно ее имя? Значит, самолет удалось сбить? Хорошо бы, если бы это было так. Но ведь сколько еще таких же, как она, носится над советской землей, готовя смерть нашим детям!
А осенью, в один из темных, дождливых дней, радио из Москвы донесло страшные слова:
«После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили Киев».
Гуля пролежала в постели целый день.
С тех пор стоило ей только закрыть глаза, как она видела перед собой Киев, свое детство, свою юность.
Это все еще было так близко, что Гуле минутами казалось: если сильно захотеть, все может вернуться, как случалось в детстве, когда снился плохой сон. Бывало, подумаешь во сне: пусть все будет опять хорошо! Повернешься на другой бок, и вместе с тем повернется по-другому и сои.
Гуля старалась не думать о Киеве. И не могла не думать о нем. Сердце холодело у нее, когда хоть на минуту она представляла себе, что у них в квартире, в ее комнате, хозяйничают фашисты, что весной снова зацветет перед окном акация и будет цвести при фашистах, что все так же величаво и широко разольется Днепр и все так же будут отражаться в Днепре тополя у водной станции... У той самой водной станции, которую они с Сергеем так любили и называли «наш речной дом».
21 Библиотека пионера. Том II
529
И Гуле вспомнился солнечный и ветреный день на Днепре. Они вдвоем плыли на лодке, тренируясь перед летними соревнованиями. Вдали шел, вздымая тяжелые волны, большой белый теплоход.
Кивком головы Гуля показала в ту сторону, откуда бежала к ним волнистая рябь. Сергей понял ее без слов. Улыбаясь, он налег на весла, и лодка быстро побежала к высокому, как дом, борту теплохода. Крутая, упругая волна подняла их на своем хребте, и целый дождь мелких брызг обрушился на их головы и плечи.
Так, покачав их, словно на качелях, огромный теплоход ушел своей дорогой, а они с Сергеем опять повернули к водной станции, мокрые с головы до ног и счастливые, как дети.
В тот же вечер они вдвоем долго бродили по тихим окраинным улицам, залитым неподвижно-голубым светом луны, и Сергей читал Гуле стихи о любви.
— А теперь почитай о чем-нибудь другом,— попросила Гуля.
— О другом не могу,— сказал Сергей.
И она была рада, что он не может читать ни о чем другом.
Как недавно все это было! Как давно это было!
Гуля никак не могла примириться с мыслью о том, что эти благоухающие улицы, эта синяя гладь Днепра, милый город ее юности, ее счастливой любви,— все это отнято у нее, запретно для нее, недоступно.
Кровь стыла у нее при мысли, что все это теперь доступно врагам, что они могут теперь смотреть на Киев с высокой горы и видеть, как широко и вольно раскинулся он над рекой. Для них ли строились эти дворцы и парки, для них ли готовился милый новый стадион?
Но, может быть, от Киева остались только развалины? Цела ли школа?
И Гуле представилась холмистая улица, вся обсаженная вековыми каштанами. Как любила Гуля эту улицу — улицу Ленина! Особенно хорошо здесь бывало весной, когда каштаны цвели. И еще в первые весенние дни, после дождя, когда сверху вниз бурно неслись ручьи. Ребятишки пускали в этих ручьях кораблики, и плыли эти кораблики далеко вниз — до самого
530
Крещатика! А наверху, за аркой, каменные ступени вели к четырехэтажному белому зданию. Это и была школа, где училась Гуля...
Где-то сейчас бедный старый дядя Опанас? Может быть, замучили его фашистские палачи? Оп старик гордый, кланяться им не станет. А что стало с Фросенькой? Она не поехала с Гулей, не хотела уезжать далеко от стариков родителей, оставшихся в деревне. Кто знает, что с ней сделали немцы. Верно, угнали в Германию, в немецкое рабство, как множество других украинских женщин. А Мирра? Мысль о ней терзала Гулю день и ночь. Ведь Мирра еврейка, а гитлеровцы убивают всех евреев, даже таких маленьких детей, как Ежик. Что, если Мирра не успела уехать из Киева? «Где сейчас испанские ребята? — думала Гуля.— У них ведь свои счеты с фашистами. А где смелый, веселый Барасби? Где самый лучший друг детства Эрик? Конечно, все они на фронте, все воюют... Ах, милые мальчики, милые товарищи! Какая широкая жизнь открывалась перед вами, будто море, увиденное в Артеке с горы, без берегов, без края, поблескивающее на солнце».
И вот все оборвалось. Раненная, изрытая фугасами, истощенная тяжелой поступью танков, родная Украина вставала у Гули перед глазами, и с каждым днем все острее становилась тревога за Москву, за все самое дорогое на свете.
Гуле трудно было представить себе Москву темной, суровой, ощетинившейся. Ей казалось, что она все такая же, какой была до войны,— светлая, шумная, праздничная, бурлящая жизнью, что все так же сияют по ночам рубиновые звезды Кремля.
С тоской и трепетом прислушивалась Гуля к сводкам по радио. Все ближе и ближе подходит враг к Москве... Тяжкая ненависть, непримиримая обида растет у Гули в сердце... А какой- то внутренний голос говорит: «Не поддаваться унынию, не терять мужества! Мстить!»
«Смогу ли? — думает Гуля.— Хватит ли силы, упорства? И как уйти? Ведь вот она тут, вся моя жизнь!»
Гуля склонилась над Ежиком, а он жадно схватил ее за прядку волос и так потянул к себе, что Гуля от боли даже вскрикнула.
«Сильный какой! — подумала она.— Держит, словно удер¬
531
жать хочет. Нет, не уйти от Ежика... надо жить для него. А может, лучше, правильнее умереть за него? Ведь, если грудью не прикрыть таких, как он, у наших детей и жизни не будет. Ведь расстреляла же фашистская летчица маленьких детей на морском берегу в Анапе. И Ежика так же спокойно убила бы, если бы он в это время был там. А Ежик только начинает жить... Значит, надо прикрыть грудью... сердцем!»
В ГОСПИТАЛЕ
В меховом жакете, поседевшая от сорокоградусного мороза, Гуля бежала по улице.
Дома, деревья, камни — все вокруг, как в сказочном ледяном царстве, было покрыто сверкающим на солнце инеем. У Гули обледенели даже ресницы. Пряча руки в меховые рукава, она бежала все быстрее и быстрее. Ровно через три часа ей нужно было вернуться домой — кормить Ежика.
Впервые за эти долгие месяцы на душе у нее было легко и радостно. Сегодня утром радио донесло счастливую весть. Наши части одержали победу под Москвой. Немцы откатываются, оставляя исковерканные и сожженные танки, тысячи убитых и раненых.
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! —
твердила Гуля на ходу пушкинские строки. Она чувствовала сегодня небывалый прилив сил.
Легко, одним духом, взбежала она по ступенькам лестницы военного госпиталя. Она работала здесь уже второй месяц.
Как хорошо, что комсомол послал ее сюда! Когда Гуля в первый раз пришла в этот госпиталь, она сказала военкому, что готова выполнять любую работу, хоть полы мыть. Ей хотелось работы потяжелее, чтобы пережить хоть крошечную долю того, что пережили все эти люди, лежащие теперь на койках. Но ей
532
поручили пока что только читать раненым газеты и журналы да писать за них письма.
«Ну конечно,—думала, улыбаясь, Гуля,— больше я пи на что не способна, как только читать газеты и письма писать...»
Вчера вечером она читала вслух в палате статью Алексея Толстого «Родина».
«Ничего, мы сдюжим». Эти слова особенно понравились Гуле.
— «Наша родина,— читала громко Гуля,— ширилась и крепла, и ничто не могло пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет».
«Ничего, мы сдюжим».
Опустив газету на колени, Гуля оглянулась по сторонам. Со всех сторон на нее смотрели улыбающиеся, чуть прищуренные, с хитринкой глаза.
— Сдюжим! — сказал кто-то.
— Ясное дело, сдюжим! — откликнулись из другого угла.
Это говорили люди, столько выстрадавшие и на фронте, и в
этих белых стенах госпиталя.
Гуля молча смотрела на них и думала:
«Уж если они это говорят, значит, и в самом деле сдюжим!»
Это было вчера вечером — еще до известия о победе под Москвой.
Знают ли они уже, эти вчерашние ее слушатели, радостную весть?
В палате есть тяжелобольные — там не всегда включают радио.
В госпитале было тепло и уютно. Раненые бойцы, опираясь на костыли, встретили Гулю на площадке лестницы. Они уже давно ждали ее прихода. И, когда Гуля, вся в белом, свежая с мороза, вошла в палату, окруженная «ходячими» ранеными, люди, лежавшие на койках, приподнялись, чтобы лучше увидеть ее, лучше услышать ее бодрый веселый голос.
Не успев сесть, Гуля прочитала от слова до слова последнюю сводку, наскоро записанную карандашом.
Несколько мгновений в палате было совсем тихо. Потом все зашумели, заговорили. Гулю заставили прочитать сводку еще и еще раз.
533
И тут начался разговор — мужской, военный — о стратегическом положении и о том, чего можно ждать в ближайшие дни. Гуля послушала немного, а потом подошла к окну, где на крайней койке лежал самый молодой во всей палате офицер — младший лейтенант Саша Климов. Это был юноша лет двадцати, сероглазый, с большим выпуклым лбом. Увидев Гулю, он просиял, улыбнулся, и Гуля поняла, что он давно уже ждал минуты, когда она подойдет к его койке.
— Ну что, Саша? — спросила Гуля.— Дело идет на поправку?
Она старалась не смотреть на одеяло, под которым вырисовывались обрубки Сашиных ног. У него были ампутированы и ноги и пальцы рук.
— Да, кажется, выкарабкаюсь,— ответил Саша.— А тут еще такие новости... Без ног запляшешь.
— Да, Саша, полный разгром! — радостно сказала Гуля.— Всыпали, всыпали немцам!
— Началось! — негромко проговорил Саша.— Теперь уж, я думаю, так и пойдет! Главное тут — повернуть... Эх, дожить бы мне до конца, до самой победы!
— Доживем,— сказала Гуля.— Конечно, доживем!
Саша вздохнул.
— Я еще могу кое-что сделать в жизни. Ну, нет ног — зато есть голова. Вот я лежу тут, а в памяти все мелькают математические формулы. И странное дело — хорошо помню, будто страница перед глазами открыта.
И Саша рассказал Гуле, что у него сохранилась записная книжечка-дневничок, куда он, находясь в партизанском отряде, записывал решения задач и разные мысли — о жизни, о доблести, о настоящей дружбе.
— Она мне здорово помогала, эта книжечка,— сказал Саша.— И это прямо чудо, что книжечка сохранилась. Ведь подумать только, в каких переплетах она со.мной побывала! Со мной вот что сделали, а она цела осталась.
Саша помолчал.
— Вот она, книжечка, у меня под подушкой,— прибавил он.— Достань-ка, почитай.
— Можно? — обрадовалась Гуля.
534
Она осторожно приподняла уголок подушки и вытащила записную книжечку в черном клеенчатом переплете. Вся книжечка была густо исписана мельчайшими, словно бисер, строчками и цифрами.
— Какой удивительный почерк! — сказала Гуля.— Прямо ювелирная работа.
— Это я для того так мелко писал,— объяснил Саша,— чтобы больше уместилось. Бумаги ведь у нас лишней не было там, в лесах.
На первой страничке Гуля прочла стихи Пушкина:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы.
Саша смотрел на Гулю влажными, взволнованными глазами. Видно было, что чтение книжечки доставляет ему какую-то горькую радость.
— Читай дальше,— сказал он.
И Гуля прочла:
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Некрасов.
«Да,— подумала Гуля,— есть люди, недалеко искать...»
Она с нежностью посмотрела на Сашу и осторожно провела ладонью по его остриженной, как у мальчика, голове.
— А волосы уже подросли,— сказала она.— Скоро можно будет зачесывать на пробор, как на той карточке, что ты мне показывал.
— Ну, и без волос жить можно,— засмеялся Саша и опять вздохнул.— Поправиться бы скорей — и домой. Давай-ка, Гуля, напишем письмецо моим старикам.
— Напишем,— сказала Гуля и открыла свой портфельчик.
Через минуту на тумбочке возле Сашиной постели уже
стояла чернильница, и Гуля, положив перед собой листок бумаги, писала под Сашину диктовку. Саша, откинувшись на подушку и закрыв глаза, медленно говорил:
535
— «Здравствуйте, дорогие мои папа, мама и сестренка Верочка! Я поправляюсь, скоро выпишусь из госпиталя. Операция, говорят, прошла хорошо. Конечно, я не такой, как прежде, по все-таки жив, и мы еще увидимся. Пришлите мне поскорее письмо...»
Саша устал.
— Дальше напиши сама, что знаешь обо мне. Да пусть посылок не посылают. У меня все есть...
Гуля укрыла его потеплее и потихоньку вышла из палаты, унося с собой неоконченное письмо.
В тот же день она его дописала и отправила.
Нелегкое это было письмо. Надо было написать без утайки всю правду о том, какую операцию перенес Саша, и в то же время ободрить стариков. Гуля много слышала о них от Саши. Ей казалось, что она сама не раз бывала у них в маленьком домике, недалеко от станции,— Сашин отец был железнодорожником,— слушала, как играет на гитаре Сашина сестренка Верочка, смотрела, как вощит леску Сашин отец, старый волжанин- рыболов. Гуля писала, что вся семья может гордиться таким сыном и таким братом, что Саша замечательно вел себя и на фронте и в госпитале и что самое трудное уже позади. Скоро он будет здоров, ему сделают протезы, и он сможет вернуться домой.
Но вернуться домой Саше не пришлось.
САША И СЕРГЕЙ
Саша лежал в жару.
Гуля дежурила у его постели, стараясь угадать каждое его желание. Он лежал с закрытыми глазами и прерывисто, тяжело дышал. Кто-то тихонько вошел в палату. Гуля .оглянулась. Это была няня. Она делала Гуле знаки рукой, чтобы Гуля вышла в коридор.
— Профессор зовет, он у себя.
Старый профессор сидел в кресле, постукивая пальцами по столу. Он ждал Гулю.
536
— Вот что, дорогая...— сказал он медленно.
Гуля с тревогой и страхом посмотрела на него, боясь услышать то, что он ей скажет.
— Нужно вынести Сашу в крайнюю палату.
Так и есть! У Гули словно что-то оборвалось в сердце. Она поняла, что это значит — вынести больного. Обычно в крайнюю палату выносили умирающего, чтобы соседи его не видели смерти и не знали о ней.
— Нет,— сказала Гуля решительно.— Если его туда вынести, он догадается. Нельзя ли перенести его в дежурку?
— Хорошо,— сказал профессор. — Пускай в дежурку.
Еле сдерживая слезы, Гуля пошла в дежурную комнату сестер. Там не было никого. Гуля позвала няню. Вдвоем они принялись за работу: няня мыла пол, а Гуля переставляла мебель, чтобы удобнее было поместить больного, вешала на окнах чистые марлевые занавески.
Яркое солнце по-весеннему било прямо в окно. Сашу внесли. Он открыл глаза и сразу зажмурился. Гуля вынула из шкафа большую папку и поставила на тумбочку возле Сашиной кровати, чтобы защитить его глаза от яркого света.
У Саши не было уже сил говорить, но он бровями сделал знак Гуле, что не нужно загораживать его от солнца. Гуля убрала папку, и Саша слегка кивнул головой. Значит, она его поняла.
Наклонившись над Сашей, Гуля старалась угадать, что ему еще нужно.
Он чуть пошевелился.
— Жарко, — сказал он одними губами. — Сними с меня одеяло.
Гуля оставила на Саше только простыню. Он опять чуть- чуть кивнул головой:
— Так хорошо.
Гуля держала обрубочек Сашиной руки в своей, считая пульс.
— Доктора, сестру,— сказала она тихонько няне.
Саша вздрогнул и открыл глаза.
— Ничего, ничего, Сашенька,— успокоила его Гуля-— Лекарство пора принимать.
537
Дверь приоткрылась, и в дежурку вошли профессор, доктор, старшая сестра.
Но Саша даже не поглядел на них. Он с трудом, прерывисто дышал, и казалось, у него уже не хватало сил ни на что другое. Гуля поняла, что ему уже никто не поможет — ни доктор, пи профессор.
Она не заметила, сколько времени простояла у Сашиной постели, позабыв обо всем, даже о Ежике...
После смерти лицо у Саши стало светлое, строгое, ясное.
— Ну что ж,— сказал ей профессор, как говорят самым близким людям,— тут ничего нельзя было поделать. Ступайте домой, милая, отдохните.
Вернувшись домой, Гуля еще с порога заметила, что мать чем-то огорчена и взволнована.
— Что такое? Ежик нездоров? — тихо спросила она, оглядываясь на его кроватку.
— Нет, он здоров,— ответила мать и быстро спрятала что- то в ящик стола.
— Сергей? — еще тише спросила Гуля.
— Да, Гуленька,—просто сказала мама.— Товарищ его пишет... Но ведь это еще надо проверить. Может быть, ошибка...
Гуля на секунду закрыла глаза.
— Покажи, — сказала она матери и опустилась на кровать.
Мать протянула ей сложенное треугольником письмо. Мед- лепно, точно онемевшими пальцами, Гуля развернула клетчатый листок. На колени к ней упала фотографическая карточка. Да кто же это? С карточки смотрела на нее смеющаяся девушка с развевающимися на ветру волосами.
Гуля не сразу узнала себя на этом недавнем снимке, который был подарен Сергею в одну из самых счастливых минут, а теперь вернулся как вестник несчастья.
«...Ваш муж,— написано было в письме,— убит осколком вражеского снаряда в висок. В его комсомольском билете мы нашли вашу фотокарточку..;»
— Приляг, Гулюшка,— сказала ей мама, укрывая ее стареньким шерстяным платком.— Ты вся дрожишь, как в лихорадке.
538
Гуля легла и долго лежала, не двигаясь, глядя широко открытыми глазами в темнеющее за окном небо. Она не могла плакать. Мысли ее путались. Она думала сразу и о Сергее и о Саше, о том, что они уже не увидят победы.
Проснулся Ежик. Он закричал громко, обиженно, словно все были виноваты в том, что он проспал свой ужин.
Гуля взяла его, и ей стало как будто легче оттого, что в руках у нее шевелится это маленькое, теплое, требовательное существо.
— Еженька, Сереженька,— сказала она, неожиданно для себя самой назвав мальчика именем его отца, которого ему уже не суждено было увидеть.
Покормив ребенка, она снова уложила его в кроватку и, постояв над ним несколько минут, села писать письмо Сашиным родным в приволжский город.
Она писала, обдумывая каждую букву, выбирая из всех слов на свете самые нежные и утешающие.
А в конце письма она написала:
«Мы не простим врагам эту смерть. Мы не забудем гибели наших мужей, сыновей и братьев, которые так же, как Саша, любили жизнь, солнце, так же хотели жить. Клянусь вам, что мы отомстим за вашего милого мальчика».
Уже была поздняя ночь, когда Гуля кончила письмо.
В эту минуту она поняла, что решила идти на фронт.
Вместе с письмом Гуля послала Сашиным родным его черную записную книжечку, полную цифр и чистых юношеских мыслей.
ДОМА
Шли дни. Зима уже была на исходе. Гуля работала не покладая рук. Ее можно было видеть всюду — pi в библиотеке за стойкой, и в перевязочной, где, наклонившись над раненым, она осторожно накладывала повязку, и на ярко освещенной эстраде госпитального клуба, когда, сняв халат, она в своем коричневом бархатном платье читала стихи людям с забинтованными головами, с руками на привязи, с ногами в лубках.
539
Вспомнив, что она опаздывает кормить Ежика, Гуля наскоро одевалась и бежала домой.
А в это время Ежик надрывался от крика... Гулина мама пыталась напоить его сладкой водичкой, но Ежик отбрасывал от себя ложечку и кричал требовательно и сердито.
Тогда бедная бабушка принималась ходить с ним по комнате, пела ему песни, рассказывала сказки, но ничего не помогало. Ежик не нуждался ни в сказках, ни в песнях — он хотел молока.
И, когда Гуля влетала в комнату, она сбрасывала с себя на ходу жакет и, усаживаясь на кровать с Ежиком, по-детски оправдывалась:
— Прости, мамочка, я не знала, который час.
— Проси прощения у своего сына, а не у меня! — говорила молодая бабушка.— Ты просто уморишь его голодом.
А Ежик, уже успокоенный, громко чмокал губами и сонно водил по Гулиной щеке пухлой ручонкой, как бы перетянутой ниточкой. Она ловила губами и целовала эту ручонку и, поглаживая крутой, вспотевший лобик, смотрела на сына сквозь слезы. «Как я расстанусь с тобой, счастье мое?» — думала Гуля.
Конечно, она сама хорошо понимала, как трудно маме справиться с Ежиком, когда ее нет дома. Ежик научился уже сам становиться на ножки в своей шаткой плетеной кроватке, и его нельзя было ни на минуту оставить одного. Таскать его целый день на руках было очень тяжело. Ежик в семь месяцев уже был крупнее и тяжелее годовалого. Гуля также вполне представляла себе, как трудно каждый день выносить Ежика гулять, выволакивая его на санках, укутанного в ватное одеяло, с третьего этажа во двор.
Все это Гуля хорошо зпала, и ей было горько видеть, как измучилась и похудела мать. Но Гуля знала уже и другое, о чем пока еще не говорила дома,— что иного пути для нее нет.
С каждым днем у нее крепла уверенность в том, что ее место там, где идут самые жаркие бои,— на передовой линии фронта.
ПРОЩАНИЕ
Пришла весна, бурная, солнечная башкирская весна. На улицах стоял шум от бегущих вниз потоков. Был день Первого мая. Первый военный май... Гуля прибежала домой. Она была одета по-военному, в длинной шинели, подпоясанной ремнем.; Она давно уже работала в штабе дивизии, и мать не удивилась, когда увидела ее в военной форме.
— Что так рано? — спросила она.
— Мама,— сказала Гуля чуть дрогнувшим голосом,— я пришла попрощаться. Я еду на фронт.
— Неужели тебя мобилизовали? Ведь у тебя ребенок...
— Я еду добровольно, мама. Я не могу иначе. О Ежике ты позаботишься лучше меня. Прости, что я оставляю тебе эту заботу.
Мать молча смотрела на Гулю, словно не понимая ее слов. Потом спросила тихо, даже не пытаясь спорить:
— Когда же ты едешь?
— Эшелон отправляется через полтора часа. Но в штабе нужно быть еще раньше.
И, стараясь говорить как можно веселее, она прибавила:
— Испеки мне, мамочка, на дорогу оладушек!
Потом она подошла к плетеной кроватке.
Ежик уже не спал, а стоял во весь рост, держась за спинку кровати, и топтал одной ногой подушку.
— Мама! — сказал он баском и весь потянулся к Гуле.
Всего только третий или четвертый раз в своей жизни произнес он это слово «мама».
Гуля почувствовала, что еще немного, и слезы потекут у нее из глаз. Молча взяла она Ежика на руки и села с ним к окну.
Пока мать собирала ее в дорогу, она держала Ежика на коленях и долго смотрела на него. Ежик хмурил белые брови, трогал звездочку на маминой пилотке и что-то говорил на своем собственном, непонятном языке. А Гуля старалась получше запомнить его ручки с крохотными ноготками, круглый выпуклый лобик, затылочек со светлыми нежными волосиками.
Вот они, последние минуты дома.
Снова и снова вставало перед глазами то утрог когда она
541
подошла к дверям белокаменного двухэтажного здания. Там помещался штаб только что сформированной 214-й стрелковой дивизии.
Совсем еще недавно в этом самом доме была школа. В классах шли уроки, на переменах в широких коридорах стоял веселый разноголосый гул...
Неожиданно Гуля увидела того, кого поджидала: командира дивизии генерала Бирюкова. Он выходил из машины. Это был коренастый, плотный человек лет сорока. Гуля уже несколько раз видела его на концертах агитбригады. Ей запомнилось, с каким вниманием он слушал ее, когда она, выступая в воинских частях, читала стихи или пела и как долго он потом ей аплодировал.
— Товарищ генерал,— сказала Гуля, подойдя к нему у самых дверей штаба,— разрешите обратиться к вам с просьбой.
И, собравшись с духом, добавила:
— Я хотела бы записаться добровольцем на фронт.
Генерал пристально на нее посмотрел.
— На фронт? — спросил он с удивлением.— Зачем? Здесь, в тылу, тоже нужны люди.
— Я знаю,— сказала Гуля твердо,— но я так решила.
Генерал пытливо посмотрел на нее.
— Что же мы стоим у дверей? — сказал он.— Зайдемте в штаб и там поговорим.
Они оба поднялись по лестнице на второй этаж и пошли по школьному коридору. На дверях еще сохранились дощечки с надписыо:
5-й класс «А», «Б», «В»...
Генерал открыл дверь с надписью «Учительская».
Комната была уже почти пуста. Должно быть, ее только что освободили от школьной мебели и не успели обставить. Канцелярский стол, несколько стульев, телефон на столе — вот и все, что здесь было. Гуле представлялось, что она здесь увидит карты военных действий, но над столом висела только одна карта — Башкирии.
А с простенка между двумя широкими окнами смотрел на Гулю — как будто испытующе и пристально — Ленин...
542
Генерал пододвинул ей стул и спросил спокойно и участливо:
— Ну, зачем же вам, голубушка, обязательно на фронт?
— Я хочу отомстить,— сказала Гуля, стараясь говорить как можно тверже и короче.— За Киев, за погибшего мужа, за детей, которых расстреляли в Анапе, за все...
Генерал слушал ее с приветливым и дружелюбным вниманием. И Гуле на минуту представилось, какой он был в мирное время, еще совсем недавно. Неторопливый, очень спокойный, с тихим голосом, он, наверно, мог часами просиживать где-нибудь на берегу с удочкой...
«Такой простой, доступный человек — и командир дивизии,— мелькнуло у нее в голове.— И по всему видно — сердечный. Нет, не возьмет на фронт. Пожалеет...»
Командир молчал. Он колебался.
— Вы поймите,— сказал он наконец,— мы не можем брать людей со стороны. Не имеем права. Нам их дают военкоматы. По нарядам.
И, помолчав, он добавил:
— И ведь для службы в армии нужна специальность.
— У меня есть специальность! — подхватила Гуля.— Я медсестра. В госпитале работала... Товарищ генерал, я понимаю, что все это не так просто, понимаю, на что я иду. Но я не могу иначе! Поверьте мне — не могу!
И генерал поверил. Поверил, что это не легкомыслие юности, не минутный порыв, а продуманное и прочувствованное решение.
— Ну что с вами поделаешь! — чуть вздохнув, сказал он.— Идите в районный военкомат. Заявление подайте. Документы. А когда оформитесь, приходите ко мне еще раз...
...И вот все уже позади. Гулю зачислили в медико-санитарный батальон и к тому же приняли в агитбригаду политотдела дивизии как артистку. Она едет на фронт вместе с агитбригадой.
— Ну, дорогая,— сказала она, вставая,— мне пора. До нашей встречи в Киеве!
И, передав Ежика матери, обняв ее, она взяла в руки небольшой сверток, который мама наспех собрала ей в дорогу, и
543
пошла. У двери она еще раз обернулась, зажмурилась и, круто повернувшись, почти побежала бегом.
Когда за ней захлопнулась дверь, матери показалось, что комната сразу опустела. Все осталось так же, как при Гуле,— на подоконнике лежала ее кожаная старенькая сумочка, в углу стояли ее лыжи, на столе осталась забытая Гулей тетрадь со стихами, переписапными из газет и журналов. И странно было подумать, что девочка, которая еще недавно переписывала в тетрадку стихи, пела веселые украинские песни, умываясь под краном, ушла на фронт, навстречу всем трудам, лишениям и опасностям войны.
В ПУТИ
Стуча колесами, поезда шли с востока на запад: вагон за вагоном, бесконечные составы длиною чуть ли не на километр — теплушки, санитарные вагоны, громыхающие платформы с военным грузом, накрытым брезентом.
Навстречу бежали позеленевшие холмы, рощи и, поравнявшись с поездом, уходили назад.
Гуля сидела рядом со своими новыми подругами, медсестрами Людой и Асей, у окна санитарного вагона и думала. Думала о том, что Ежик скоро научится ходить, а она даже не увидит, как он в первый раз затопает по полу.
Думала Гуля и о своем недавнем, недолгом и уже невозвратимом счастье.
Ей неожиданно вспоминались самые простые, но почему-то теперь особенно дорогие мелочи.
Вот они с Сергеем возвращаются из театра, с «Пиковой дамы», и оба по очереди поют на улице мужские и женские арии.
И кто-то сказал им вслед:
— Счастливые! Хотел бы я быть на их месте!
А как-то раз Гуля разбила мамину любимую лампу, и Сергей трогательно, по-мальчишески, взял всю вину на себя. Мама и до сих пор, кажется, думает, что лампу погубил бедный, ни в чем не повинный Сережа.
544
Но почему-то больше всего трогали и мучили ее воспоминания об их поездке в Москву — к отцу. Это было уже незадолго до войны.
Гуля всегда любила дорогу. Но никогда ей не было в поезде так уютно, беспечно, легко. Кажется, никогда на станциях не продавали столько цветов, никогда соседи по вагону не были так приветливы. Никогда не было таких вечеров, как в поезде «Киев — Москва».
Тогда ее тревожило только одно: понравится ли Сергей отцу и отец — Сергею. Ей так хотелось, чтобы понравились...
В те времена все ее желания исполнялись. И это тоже исполнилось.
Они втроем, по-товарищески, дружно и неутомимо странствовали по Москве, по ее музеям, театрам и стадионам, и Гуля любовалась своими милыми спутниками, такими заботливыми и веселыми, но больше всего она гордилась Москвой, которую она показывала Сереже, как свой родной дом...
— О чем ты? — спросила ее похожая на школьницу тихая темноглазая девушка из Белоруссии, Ася.
Гуля не сразу ответила, занятая своими мыслями, и Ася робко потянула ее за рукав.
Гуля встряхнула волосами, словно хотела отогнать от себя грустные мысли.
— Ничего,— улыбнулась она.— Всякое приходит в голову, когда стучат колеса... Давай-ка, Асенька, споем что-нибудь!
Гуля знала — если она захандрит, так Ася и Люда загрустят вдвое. Нельзя выбивать перед самым фронтом оружие из рук товарищей.
— Ну, Ася, Люда! Начинаем.
И в вагоне, под перестук колес, раздалась знакомая с детства песня:
Запрягайте, хлопцы, коней!..
В купе вагона вошел политрук Оленик, а за ним молодой боец из Башкирии Кадыр Хабибулин.
Девушки встали, приветствуя их по-военному. Оленик улыбнулся, сел. Рядом сел и Кадыр.
— Ну, как жизнь, девушки?
545
— Все в порядке! — весело ответила Гуля.— Только хочется поскорее доехать до места.
— И мпе тоже,— подхватила Люда.
— Ну, поторопим машиниста,— сказал Оленик.— Так и скажем: наши девушки скорее в бой хотят.
— Хорошие девушки,— отозвался Кадыр Хабибулин.
— Знаешь что, Кадыр? — сказал Оленик.— Чтобы время поскорее шло, сьтграй-ка нам что-нибудь на своем курае. Далеко он у тебя?
— Зачем далеко? Со мной едет,— ответил Кадыр. Он лукаво улыбнулся и вышел из купе.
— Славно он играет,— сказал про него Оленик.— Вот сами послушайте. Он ведь был колхозником-пчеловодом, специальность тихая, мирная. Сиди себе на пасеке, слушай, как пчелы жужжат, да поигрывай им в лад на своем курае. А боец выйдет из него хороший — сразу видать. Я у ж знаю.
— Когда я была маленькая, я всегда говорила, что выйду замуж только за пчеловода,— неожиданно сказала Ася.
— Ну что ж, посватаем,— сказал Оленик.— Кадыр у нас, кажется, холостой.
— Просто она меду хочет,— засмеялась Гуля.— Сейчас я тебя угощу, Асенька. Мне мама целую банку дала с собой.
В эту минуту из тамбура послышался нежный, чуть хрипловатый звук тростниковой дудочки.
— Кадыр идет,— сказал Оленик.
Девушки притихли.
Гуля молча поставила на откидной столик у окна баночку с медом.
Хабибулин вошел в купе и сразу заметил мед.
— У меня тоже мед есть,— сказал он.— Еще лучше пахнет. Сейчас принесу.
Его удержали:
— Раньше поиграй.
Кадыр сел, поднес курай к губам, тщательно продул дырочки и заиграл. В вагоне снова раздались глуховатые, грустные звуки. Повеяло воздухом Башкирии, вольным простором ее степей, степным ветром. Хабибулин играл задумчиво, неторопливо. Гуле вспомнились холмы, подернутые фиолетовой дымкой, ши¬
546
рокая река Белая, которую башкиры называют Идэль, или ласково — Агидэлькай, и город, стоящий на берегу Ид эли,— город, где остались Ежик и мама.
Кадыр опустил дудочку.
— О чем эта песня? — спросил Оленик. — Со словами ее поют?
— Поют. Кто что хочет, то и поет. Каждый про свое.
— А ты про что играл? — спросила Гуля.
Кадыр задумался. Потом, нахмурив брови, стал объяснять.
— Я так играл,— сказал он медленно и чуть-чуть застенчиво.— Есть река Ашкадар. Знаешь? Там гора Торатау. На склоне горы тростник растет, курай. Вот как раз такой. Видишь? — Кадыр показал свою дудочку.— Срезал я тростник и курай себе сделал. Про это самое я играл: про реку Ашкадар, про гору Торатау, про курай, про то, как соловьи на нем поют, как ветер в курае свистит.
— Вот-вот, так я и думала,— сказала Гуля.— Ты очень понятно играешь!
У Кадыра блеснули зубы.
— А теперь что я играть буду? Слушай.
И он заиграл какую-то пронзительную, унылую и грозную песню.
— Это про войну,— сказала Гуля.
Кадыр кивнул головой.
— Верно,— сказал он.— Такую песню наши батыры пели, когда воевать ходили.
Гуля тихонько запела, стараясь повторить эту странную, незнакомую степную мелодию.
— Хорошо,— сказал Кадыр,— совсем башкирская девушка.
Кадыр и Оленик еще долго сидели в санитарном вагоне, ели
хлеб с медом и говорили о покинутых родных местах и о войне.
Гуля рассказала, как она уходила из Киева, Ася — про свой уход из Минска. Кадыр молча слушал, а потом сказал:
— Пока глаза землю видят, драться будем!
НАКАНУНЕ БИТВЫ
К 9 мая 214-я стрелковая дивизия, войдя в состав Первой резервной армии, сосредоточилась в районе Тулы.
Недавно освобожденные от врага города и населенные пунк- ты — Бобрик-Донской, Узловая — еще носили следы недавних боев. Много домов было разбито, разрушено, сожжено. На пустынных полях валялось брошенное немецкое оружие — бронемашины, танки, минометы, пушки. Там и тут виднелись еще совсем свежие могилы.
На изможденных лицах женщин, стариков, даже детей отражался только что пережитый ужас войны.
Устроившись за длинным столом воинского клуба, Гуля писала письмо отцу.
Она подняла голову, взглянула на Пушкина, смотревшего с портрета. И ей вспомнились пламенные слова Лермонтова, обращенные к убийцам великого русского поэта:
И вам не смыть всей вашей черной кровыо Поэта праведную кровь!
Гуля глубоко вздохнула и снова взялась за перо:
«Не искупить фашистам своей черной кровью тех зверств, которые наделали они на нашей земле!»
Гуля опять задумалась. Столько уже накопилось такого, о чем хотелось бы рассказать! Но всего, конечно, в письме не напишешь. И она написала вкратце:
«Зачислена я в медсанбат, а прикомандирована к политотделу дивизии, так как при дивизии есть бригада самодеятельности и я состою в этой бригаде».
Дописав письмо, Гуля принялась разбирать на полках книжки рассказов, стихов, сборники песен с нотами. Нужно было подбирать программу выступлений для актеров, находить песни, которые можно было бы разучивать с бойцами.
Дел, как всегда, было много, тем более что приближался торжественный день, к которому надо было подготовить большой концерт.
Приближался день вручения оружия.
До сих пор, находясь в Башкирии, будущие воины всю зиму
548
обучались на макетах: винтовки, пулеметы, минометы, орудия, радиостанция — все это было сделано из дерева или фанеры руками самих бойцов. Учились упорно, в морозы и пургу, по оружия еще у бойцов не было. И вот теперь дивизии предстояло получить оружие, сделанное руками рабочих и работниц тульских заводов.
Весь день шла разгрузка ящиков с оружием, а к вечеру тысячи людей — местных жителей — заполнили полукругом огромное поле.
И вот с высоких подмостков, построенных для концерта, Гуля смотрит, как проходит торжественный митинг.
Перед ней стоят два мальчугана. Одному десять лет, а другому — девять.
Еще совсем педавно, когда дивизия только что прибыла в город, начальник разведывательного отряда штаба Шафик Фаса- хов привел их в штаб и сказал:
— Сиротами остались. Что с ними делать будем?
Мальчики не стали дожидаться, пока в штабе решат, что
с ними делать. Они жалобно протянули:
— Дяденьки, возьмите нас к себе! Дя-день-ки!..
— А как вас звать?
— Меня — Гриша,— первым ответил тот, что был поменьше, с веснушками на носу.
— А меня — Саша,— ответил другой, постарше, без веснушек, безбровый, с облупленным от загара носом.— Я, дяденька, шустрый! Я куда хотите могу сбегать! Хоть в разведку.
— И я тоже! — подхватил младший.— Я тоже больно какой шустрый! Я хитрый! Фашисты нипочем не узнают, кто мы такие.
И оба опять начали просить:
— Дяденьки, возьмите нас!
«Дяденьки» — офицеры штаба — весело засмеялись.
— А вы что — братья?
— Нет, товарищи.
— Ну что ж, возьмем товарищей? — предложил один из офицеров.— Доложим нашу просьбу командованию.
— Давайте доложим,— сказал Фасахов, тот самый офицер, который привел мальчиков.
549
И вот Саша и Гриша, уже в полной военной форме, сшитой специально для них, в новеньких сапожках и в гимнастерочках, туго перепоясанных ремнями с медными пряжками, стоят и смотрят на парад.
...Зазвучали трубы военных оркестров. Начался парад войск, только что получивших оружие.
С волнением смотрела Гуля на эти совсем молодые, почти юные лица, на этих полных сил юношей, которым предстояло, может быть, отдать Родине самое дорогое — жизнь... И она понимала, что должен чувствовать сейчас каждый, кто получил сегодня оружие: защита Родины теперь в его руках. Рабочие руки свое дело сделали.
— Гуля, выступать скоро...— услышала она голос у себя за плечом.
— Я знаю, помню,— ответила она не оборачиваясь.
Ей трудно было оторвать глаза от нескончаемых рядов воинов, дружно шагающих в такт духовой музыке. «Кто из них вернется к своим?» — невольно думала она. И еще острее почувствовала, как важно словом, песней поднимать дух у бойцов.
Ей бы сейчас надо было убежать куда-нибудь, в тишине вспомнить, повторить все, что ей предстояло читать и петь с эстрады, но хотелось смотреть еще и еще...
Началось самое интересное: показ учений с боевой стрельбой. В наступление двинулась рота. Настоящего противника впереди ие было, но артиллерия, минометы, пулеметы, поддерживая наступление, заговорили по-настоящему. Бухнули орудия, завыли, засвистели снаряды, мины, разрываясь как раз там, где находились мишени, обозначавшие противника.
— Глянь, глянь! — с восторгом кричали, толкая друг друга, Саша и Гриша.— Ух ты, здорово! Видишь, Гуля?
— Вижу, вижу,— говорила она, ласково поглаживая коротко остриженные головы мальчиков.
Зрители хлопали, радуясь меткому попаданию не меньше, чем Саша и Гриша. Все вокруг ликовало и гудело, как на стадионе во время спортивного соревнования на мировое первенство.
Казалось, что зрители уже вволю насмотрелись всего и наслушались, но народ не расходился.
550
Гулю охватило волнение: пе провалить бы концерт — ведь она ведет программу!
Но опасения ее оказались напрасными.
Актеры старались вовсю. Лихо отплясывали на дощатом помосте армейские плясуны, особенно два молодых цыгана, стараясь изо всех сил переплясать друг друга, а Кадыр Хабибулин играл на своем курае так хорошо, как еще никогда. Под самый конец выступила и сама Гуля. Она прочла стихи, а потом спела веселую украинскую песню, полную лукавого задора:
И шумить, и гуде,
Дрибний дощик иде.
Ой, хто ж менэ, молодую,
Тай до дому доведе?
Все хлопали, улыбались, и, наверное, не один молодой парень рад был бы проводить «до дому» эту милую, красивую девушку. А Саша и Гриша радовались больше всех: они хлопали, прыгали и изо всех сил кричали: «Еще!»
...Начались напряженные дни боевой подготовки.
Окрестные поля превратились «в поля боя». Артиллерия, минометы, винтовки, автоматы, пулеметы, гранаты — все пускалось в ход в любое время дня и ночи. Стреляли боевыми снарядами, минами, патронами. Шли в наступление, забрасывая «врага» гранатами, бутылками с горючей жидкостью. В боевых порядках наступающих тоже рвались «мины» и «снаряды». И хотя они никого не убивали и не ранили, но взрывались, как настоящие, с оглушительным треском, поднимая комья земли и клубы дыма.
Никакие препятствия не могли преградить путь наступлению. Все преодолевалось по-боевому. Если встречалась на пути река, люди пускались вплавь, переходили вброд, да при этом с оружием и в обмундировании.
Все работало в полную меру сил и напряжения — штабы, связь, тылы... Это была настоящая школа боевой выучки.
Гуля трудилась без устали — таскала на руках «раненых», делала им перевязки, и все это так осторожно и тщательно, как будто и на самом деле могла причинить боль.
В немногие минуты отдыха ее как-то особенно манили к себе
551
лесные поляны с их запахами трав и цветов. От их крепкого настоя, казалось, можно было опьянеть. И представлялось чем- то невероятным, что этой горячей, душистой, родной земле могли угрожать смерть и запустение...
Часто по ночам, лежа в палатке и вдыхая лесной, чистый воздух, насыщенный запахами трав, листьев, земли, Гуля не спала и все думала, думала... Перед глазами вставали пытливые, благодарные глаза бойцов. Да, бойцы принимают концерты замечательно, но покоя не давала забота: где найти новые песни, новые стихи и рассказы, такие, чтобы поддерживать у людей бодрость духа?
Ведь что греха таить: нет-нет, а прокрадется в сердце грусть, и не так-то легко с ней справиться. Гуля это знала по себе. Иногда такая тоска возьмет по своим, особенно по Ежику, что, казалось, сил нет терпеть.
Подолгу не спалось в такие ночи. Тысячи мыслей, воспоминаний теснились в голове.
Вот перед ее глазами встает костер на вершине Аю-Дага, Медведь-горы. Непроглядная ночь, лес, где на каждом шагу ее подстерегает держидерево. Как будто вчера все это было.
И вот она опять в лесу. И опять ночью. Только это другой лес, другая ночь, другое время. Война... Неужели в стране идет война?! Сейчас так тихо в лесу. С вечера все куковала кукушка. Гуля спросила, сколько лет ей жить осталось, попробовала сосчитать, но кукушка замолчала. «Может быть, ничего не осталось? — кольнула мысль. — Нет, нет! — строго оборвала себя Гуля.— Это все глупости, бабьи сказки. Буду жить!»
И она сладостно потянулась. Несмотря ни на что, жить так хорошо! Все, все интересно! Интересно изучать оружие, ходить на стрельбище, ездить верхом, делать перевязки, беседовать с людьми, выступать, видеть, как светлеют усталые лица.
Опять, как и тогда, когда Гуля снималась в кино, ей достался белый конь. Совсем такой, как Сивко. И куда бы ни прискакала она, всюду встречают ее, как желанную гостью:
— Гуля наша приехала!
— Артистка наша!
— Сестричка!..
Многое узнала Гуля за эти два месяца, многому научилась.
552
Она радовалась успехам дивизии, гордилась ими, как и ее товарищи. Ей бы так хотелось написать домой обо всех событиях последнего времени: о том, как проходят учения, о том, что член Военного совета армии, дивизионный комиссар Абрамов, на красноармейском митинге сказал, что дивизия к боям подготовлена и выглядит кадровой, и о том, что дивизия получила от Военсовета армии благодарность. Но Гуля знала и еще одно: писать обо всем этом в письмах не положено.
Учения закончились. Командование армии занялось разбором проведенных учений. И в самый разгар его — в ночь на 10 июля — командовавший Первой резервной армией генерал Чуйков объявил приказ, полученный из Ставки Верховного Главнокомандования: немедленно двинуться в район Волги.
К ВОЛГЕ И ДОНУ
Погрузка началась утром. И ровно в двенадцать часов дня 10 июля первый эшелон тронулся в путь.
Несмотря на то что железные дороги были так загружены в июльские дни 42-го года, перед воинскими поездами открылась «зеленая улица».
Теплушки шатались, их бросало из стороны в сторону, как утлые суденышки в штормовом море. Казалось, что дощатые стены вот-вот развалятся и рухнут. Поезда мчались с быстротой скорых и останавливались только для смены паровозов и для набора воды из станционных водокачек. И опять открывалась виереди «зеленая улица», и опять все качалось, скрипело, грохотало и мчалось по направлению к Волге и Дону, куда вот-вот мог приблизиться фронт.
Под угрозой вражеской авиации платформы и крыши вагонов были тщательно замаскированы ветками, травой, зелеными деревцами, и эти несущиеся вперед рощицы были едва различимы среди окрестных рощ и лесов.
Внезапно эшелоны остановились. Было утро.
— Где мы? Почему стоим? — спрашивали друг у друга бойцы, спрыгивая из теплушек на землю.
553
Воздух был темный от дыма. Пахло гарью, горелым зерном, дымились шпалы.
— Что случилось? — спросила Гуля, соскакивая с подножки вагона политотдела.
Она увидела вдали горящие здания станции и элеватора.
Как муравьи сразу же деловито принимаются за работу, когда разорят муравейник, так точно и толпа рабочих уже возилась па железнодорожных путях, ремонтируя их: одни снимали изогнутые рельсы, другие — горящие шпалы, заменяя их новыми.
— Хотите знать, что случилось? — спросил знакомый голос.
Гуля обернулась и увидела командира дивизии генерала Бирюкова и стоящего рядом с ним комиссара Соболя.
— Бомбежка! — сказала Гуля и подумала: «Вот оно, началось!» — А какая это станция?
— Поворино,— ответил генерал. И, улыбнувшись, спросил: — Что, страшновато немножко?
— Да... нет,— чуть смущенно ответила Гуля. И, по обыкновению встряхнув головой, добавила весело: — Ну ничего! Уж если пошла на такое дело, надо привыкать!
— Это верно,— сказал комиссар, молодой худощавый человек с тонкими чертами лица.— А кстати, интересно бы знать, не жалеете, что пошли на такое дело? Ведь пока не поздно, можно еще вернуться домой.
Гуля даже испугалась:
— Нет, что вы, что вы!
Не прошло и получаса, как эшелон двинулся дальше. Медлить нельзя было — с минуты на минуту ожидался новый налет фашистской авиации.
Ночью поезд долго стоял где-то в степи.
Гуле не спалось от мыслей, от воспоминаний, от тревоги.
Она встала и вышла из вагона, чтобы подышать свежим ночным воздухом.
Было тихо. И только возле одного из вагонов слышался в темноте чей-то голос. Звучал мягкий украинский говор, и Гуля
554
невольно остановилась, точно ее окликнул кто-то из украинских друзей.
— Ты кохана моя, моя голубка,— говорил ласково и нежно молодой голос.— Мы ще з тобою багато чого нобачимо та по- чуемо. Ось як прикинчемо з фрицем, вернемось до дому та за- живемо з тобою, в лис пидемо...
«С кем это Костя говорит?» — подумала Гуля. Она по голосу узнала его.
Это был хлопец из-под Харькова, тихий и застенчивый. Гуля часто встречала его в штабе, где он был связистом.
«Наверное, это какая-нибудь замечательная дивчина, если Костя в такие времена решился высказать ей свои чувства. Не буду мешать им».
А Костя продолжал называть свою подругу самыми нежными словами, какие только можно придумать: и «серденько моё», и «любка моя», и «ясна голубка моя»...
Гулю разбирало любопытство.
«Ну кто же она такая? Хоть бы слово сказала в ответ! Ничем ее не проймешь. Немая она, что ли?»
Гуля не выдержала и подошла поближе.
Костя стоял совсем один. Вокруг не было ни души.
— С кем ты только что говорил, Костя? — спросила Гуля, с удивлением оглядываясь по сторонам.
Костя смущенно кашлянул и переступил с ноги на ногу.
— Це я з моею рушницею размовляю,— сказал он,— побалакать нема з ким...
Гуля засмеялась.
— А я думаю, почему это она все молчит?
— Це вона тильки зараз мовчить,— сказал Костя,— а як у бий пидемо, так вона так загуркотить, що у фашиста вси кишки повылазять.
Гуля поговорила еще с Костей, а потом вернулась к себе в вагон и, когда рассвело, записала в свою записную книжечку этот ночной разговор бойца с винтовкой.
На рассвете поезда снова замедлили ход и остановились. Это была какая-то небольшая станция.
— Станция Гумрак,— услышала Гуля чей-то голос за окном.— Отсюда рукой подать до Волги.
555
— Километров десять, не больше,— добавил другой голос.
Гуля с облегчением вздохпула: «Наконец-то! Почти прибыли
на место».
Но никто еще не знал, где и когда будет разгрузка.
Пока что люди даром времени не теряли: кто поил лошадей, кто умывался, нагнувшись над краном, кто наполнял водой фляжки и с жадностью пил, ловя пересохшим ртом свежую струю.
Саша и Гриша тоже прибежали к водопроводному крану и теперь брызгались и хохотали.
— Эй вы, разведчики! — донесся сердитый голос из вагона разведывательной роты, с которой мальчики ехали.— Бросьте баловаться!
Маленькие разведчики сразу же перестали брызгаться и принялись энергично вытираться полотенцами. Они уже понимали, что значит военная дисциплина.
Неожиданно прозвучала команда начальника эшелона:
— По вагонам!
Здесь, на этой станции, железнодорожный путь разветвлялся: один вел к Волге, а другой —к Калачу. Эшелоны двинулись в направлении Калача.
Воспользовавшись еще одной недолгой стоянкой, Гуля торопливо написала письмецо домой, отцу:
«Пишу с дороги. Настроение замечательное. Жарко все время адски, мечтаем о дожде. Но не беспокойся. Едем мимо знаменитого города, прославившегося своей обороной в гражданскую войну...»
Гуля ие назвала в своем письме названия города, зная, что в военное время не положено сообщать в письмах, где находится воинская часть.
Однако еще никто не подозревал в те дни, какую бессмертную славу в скором времени заслужит героическая оборона этого волжского города.
На пятые сутки пути, поздно вечером, дивизия прибыла в Калач — на станцию Донскую.
Уже несколько часов стояли в тишине и в темноте длинные составы эшелонов, и люди с нетерпением ждали команды для разгрузки.
556
— Странно, почему мы не разгружаемся? — говорила Гуля, прохаживаясь вместе со своими подругами Людой и Асей вдоль притихших вагонов.— Дальше ехать некуда. Тупик. Неужели назад поедем?
— Скорей бы уже хоть куда-нибудь приехать! — вздохнула Ася.— А вы знаете, девушки, я никогда не думала, просто не представляла себе, что железнодорожные пути могут заводить куда-то в тупик и так неожиданно кончаться.
— И я тоже,— сказала Люда.— Ну, пойдемте спать. Может, до утра простоим.
И на самом деле, до самого утра простояли на станции Донской воинские эшелоны в ожидании команды. А утром пришел приказ разгружаться.
Расположившись по берегу Дона, люди, истомленные зноем, дорогой, томительными часами ожидания, побежали купаться. Они плавали, брызгались, смеялись, как дети, и далеко вокруг разносились их звонкие, молодые голоса, А звонче всех кричали и больше всех радовались маленькие разведчики Сашок и Гри- шок, как их прозвали в полку.
Гуля ушла с подругами подальше, где никого не было. Доплыв до середины реки, она легла на спину и долго лежала так, глядя на небо и наслаждаясь прохладой, простором, речным воздухом, спокойными всплесками воды.
«Как будто и войны нет никакой,— думала Гуля.— Ах, если бы никогда, никогда больше не было войн! Проклятые фашисты!»
А на другой день пришло новое напоминание о том, что пожар войны все еще растёт и ширится. Дивизия получила новую боевую задачу: создать оборону на рубеже реки Солон — от хутора Верхне-Солоновского до хутора Пристеповского. И вскоре здесь, на дальних подступах к городу, завязались бои, которые переросли к осени в длительную, тяжелую, упорную, кровопролитную битву.
НА ПОЛЕ БОЯ
Части прибывшей дивизии укрепились в донских степях, в двадцати пяти — тридцати километрах западнее Дона.
Немецкие войска рвались сюда, к Дону. Разгорались бои за каждый клочок земли.
После недавно прошедших сильных дождей снова наступили знойные дни.
Широко раскинулись степи, пожелтевшие под палящим солнцем. Даже ветер не приносил прохлады, и только слегка покачивались под его дуновением степные травы, похожие на сухие метелки,— ковыль и типчак. Пахло горькой полынью.
В полутора километрах от переднего края нашей обороны разместился в землянках и блиндажах командный пункт полка, несколько дальше — командный пункт дивизии, а еще дальше от передовой — санитарная часть.
Здесь, в полковом медпункте, поселилась Гуля вместе со своими подругами Людой и Асей. Им хватало дела и тут. Через медпункт проходили непрерывным потоком раненые. Их переправляли отсюда в санбат, а потом в госпиталь.
Но с первых же дней Гуля стала проситься на передовую.
— Успеешь еще,— говорил ей с улыбкой командир полка, Иван Федорович Хохлов, приезжавший в медпункт,— потерпи немножко, отдохни. Впереди большая работа.
Гуля умолкала, а потом, снова набравшись смелости, обращалась к командиру все с той же просьбой — отпустить ее на передовую.
И наконец она добилась своего.
В этот день с самого раннего утра немцы начали артиллерийскую подготовку. С передовой доносился тяжелый, несмолкаемый орудийный гул. Потом гул утих. Реже стали доноситься разрывы неприятельских снарядов. Противник пошел в атаку. К полудню, когда стало известно, что атака отбита, санитарная машина помчалась на передовую за ранеными. Она неслась по пыльной проселочной дороге.
Приближаясь к передовой, машина замедлила ход. Гуля выглянула из кабины и увидела, что степь уже не похожа на степь, а вся изрыта воронками, окопами, траншеями. Машина шла те¬
558
перь осторожно, словно ощупью. Подпрыгивая на ухабах, она спустилась но склону пригорка вниз, в лощину, и остановилась.
Поправив санитарную сумку, Гуля спрыгнула на землю. Вслед за ней из кузова выскочили санитары.
Растерянно огляделась Гуля по сторонам. Она понимала, что машине дальше идти нельзя, не то попадет под обстрел, и понимала также, что ей самой нужно идти дальше в степь, туда, где могут быть раненые.
Пока санитары вытаскивали носилки, Гуля побежала вперед, вверх по пригорку, но не успела сделать и пяти шагов, как неподалеку, на вершине пригорка, ухнул и разорвался снаряд. Гулю оглушило так, что она, не помня себя, упала ничком на землю. Сердце у нее тяжело стукнуло и на мгновение замерло совсем.
Только через несколько секунд она опомнилась и заставила себя встать на ноги.
«Нельзя, нельзя поддаваться этой слабости...»
Втянув голову в плечи, Гуля бросилась вперед. И в тот же миг еще один снаряд с воем и скрежетом разорвался где-то сбоку, взметнув кверху черный фонтан земли и дыма.
Гуля прилегла опять. Она наметила глазами точку — бугорок, до которого решила добраться в следующую перебежку, и пристально, до боли в глазах, вглядывалась в него.
Но оторвать себя от земли было неимоверно трудно, почти невозможно.
Гуля изо всех сил старалась овладеть собой.
«Нет, не боюсь, не боюсь!» — твердила она точно заклинание и чувствовала, как мало-помалу воля ее опять становится командиром всех ее чувств и мыслей и как, повинуясь приказу командира, сердце начинает биться ровнее и спокойнее, нервы приходят в равновесие.
В эти минуты Гуля поняла: есть в человеке темная, слепая сила, которая может заставить его бежать с поля боя, но есть и что-то посильнее, чем эта слепая жадность к жизни, и это — разумная воля.
«В сущности, ведь боя-то уже нет, а рвутся только случайные снаряды»,— сказала она себе и, легко поднявшись, быстро
559
и уверенно побежала туда, где вернее всего можно было найти раненых,— к окопам.
В самом деле, на дне окопа оказался раненый. Гуля спустилась к нему. Он лежал без памяти, запрокинув голову, обмотанную грязным, намокшим от крови бинтом. Видно, пока руки еще слушались его, он сам кое-как сделал себе перевязку.
Гуля осторожно перебинтовала ему голову и, почти не ощущая тяжести* потащила этого большого, грузного человека по окопу.
Тут, к счастью, подоспели санитары. Гуля помогла уложить раненого на носилки и, ие успев передохнуть, повернула обратно. Ей нужно было сделать перевязку еще одному бойцу. Она заметила его, когда спускалась в лощинку — к машине.
Он лежал в глубокой воронке, вырытой снарядом. Гуля сползла к нему вниз. Уткнувшись лицом в землю, он глухо стонал*
Гуля попробовала его поднять.
— Голубчик мой,— сказала она, чувствуя, что это ей не под силу,— ну помоги мне, давай привстанем...
Она заглянула ему в лицо и охнула:
— Кадыр! Хабибулин!
Он обернулся, узнал Гулю и сделал попытку привстать, волоча по земле ногу. Тут только Гуля заметила, что вся его нога в крови и серая штанина от бедра до голенища стала черной от крови.
Острым ножом Гуля разрезала голенище сапога и сделала Кадыру перевязку.
Он грустно, даже как-то виновато смотрел на Гулю, словно хотел сказать ей: «Не так думал я воевать! Совсем не так!»
— Ничего, дорогой мой,— весело и ласково сказала ему Гуля,— еще повоюем. На, выпей!
Она отвинтила крышку фляги и приложила ее к его сухим, воспаленным губам. Ей самой нестерпимо хотелось пить, и она угадала поэтому желание Кадыра. Он жадно припал к фляжке и пил, захлебываясь, пил так, словно ничего в жизни ему больше не нужно было, кроме этих освежающих капель воды.
Наконец Кадыр оторвался от фляжки и с облегчением вздохнул. Фляжка была пуста. Гуля смочила губы языком.
«Ну ничего,— сказала она себе,— потерплю».
560
Кадыр улыбнулся: т- Хорошо!
Ему стало легче — и от воды, и от сияния этих серых глаз, и от ласкового голоса, и от легкого прикосновения пальцев, бинтовавших ему ногу. И, повеселев, Кадыр сам приподнялся. Гуля вытащила его наверх и передала с рук на руки санитарам.
И вот машина погружена. Только бы довезти теперь до санчасти всех этих людей, мимо которых так близко прошла смерть.
— Едем! — радостно сказала Гуля бойцу-шоферу и вскочила на подножку кабины.
Машина затряслась на месте, зашумела и тронулась.
Гуля не отрываясь смотрит в небо. Высоко в чистой, безоблачной синеве показалась черная точка. Вот она приближается, становится все больше и больше... Уже доносится с вышины далекое гудение. Гуля не столько слышит, сколько угадывает этот противный, надрывающий душу звук: ве-зу-у...
«Немцы!» — поняла Гуля.
И она кричит шоферу:
— Стой!
Машина остановилась. Гуля и санитары соскочили на землю и стали вытаскивать раненых, помогая им залечь в окопы, воронки, выбоины. Тяжелораненых решили не трогать. Лишнее движение могло быть для них не менее опасно, чем осколок немецкого снаряда. Гуля достала из машины припасенные ею заранее зеленые ветки. Она знала — в степи не везде найдешь кустарник, и позаботилась о своем зеленом запасе еще до выезда на передовую.
Опасливо поглядывая на небо, она принялась торопливо маскировать машину зеленью. А потом залезла в кузов к своим раненым.
-- Ну как там? — спрашивают люди, слыша нарастающее в небе гудение.
— Все в порядке,— отвечает Гуля.— Они нас не заметят. Мы здорово замаскировались.
И в самом деле, немецкие летчики не заметили санитарной машины, притаившейся под своим зеленым прикрытием у края дороги. Они прошли мимо, вспарывая воздух прерывистым гу-
22 Библиотека пионера. Том II 561
деыием моторов, и унесли свой смертоносный груз куда-то вдаль.
— Поехали! — сказала Гуля, когда все раненые опять заняли свои места.
И вот снова зарокотал мотор. Снова тяжелая машина, груженная ранеными, понеслась по ухабам и рытвинам.
Спустя несколько дней, побывав уже не один раз на передовой, Гуля села писать письмо отцу.
«И грянул бой...»
Так начала она свое письмо, вспомнив пушкинские строки, и опустила карандаш. То, что она видела и пережила сама, было не похоже на тот стремительный, грозоподобный бой, о котором она читала в пушкинской «Полтаве».
Как, какими словами описать все, что она нынче испытала? Как передать непередаваемое?
«Нет, не будучи в боях,— написала Гуля,— не испытав на собственных плечах всех трудностей, невозможно прочувствовать до конца радость победы. Когда бойцы идут в атаку, когда раскатами гремит «а-а-а» — этот отзвук многоголосого «ура»,— не знаешь, не помнишь ничего. Перед тобой только поле боя, и ты следишь, следишь за каждой точкой на бесконечно расстилающейся степи, следишь до боли в глазах. Там кто-то упал... Бегом бежишь вперед, и ни свист пуль, ни строгие окрики не в силах тебя остановить. Тело становится каким-то невесомым, и только тогда, когда твоя машина, груженная ранеными, выезжает из зоны обстрела, напряжение становится меньше...»
Гуля писала, а за окошком слышались уже ставшие привычными крики: «Воздух!» И скоро до ее ушей донесся знакомый назойливый, выворачивающий душу вой немецкого самолета.
«Если от меня долго не будет писем, — наспех приписала Гуля в конце письма,— не беспокойся: значит, много дела. И что бы ни было, знай одно: дочь твоя трусихой не была и честно отдала жизнь за Родину...»
Дела было действительно много. Началась та большая работа, о которой говорил Гуле командир полка. Именно работа. Разгорались жестокие бои за Дон. Дни и ночи были полны теперь опасностей, лишений, тяжелого, сверхсильного труда.
Гуля целиком ушла в cbopi повседневные заботы. Она подбирала и укладывала на носилки тяжело стонущих или впавших
562
в забытье людей, перевязывала, обмывала их, осторожно снимала с них одежду, превратившуюся в окровавленное тряпье. Запах крови и земли преследовал ее всюду. Размышлять, вспоминать, называть словами все, что она видела и чувствовала, ей было некогда. И. только в короткие минуты передышки, за письмом домой, она наспех приводила в порядок обрывки беглых мыслей.
«...Каждый день полон всевозможных происшествий. Бились мы за один хуторок,— писала Гуля.— Целый депь бились, несколько раз занимали и несколько раз отходили. Крепко там немец засел. Пошла я вытаскивать раненого — он лежал около самых немецких окопов. Немцы меня заметили, решили взять живой. Ползу, и они ползут, а позади меня огневую пулеметную завесу дали, чтобы наши на помощь мне не пришли. Что тут делать? Назад ползти поздно. Впереди — раненый. А немцы берут в кольцо. Взяла я в руку гранату, решила — подпущу немцев и гранатами закидаю. Уж если пропадать, так хоть побольше их перебью. Вдруг слышу за собой: «Впе-ред!..» Наши! Я вскочила — и с ними...
Оказывается, один боец все время следил за мной из окопа. Он увидел, что мое дело плохо, да как крикнет: «Хлопцы, Гуля наша погибает!» И — ко мне. Ребята — за ним. Так ударили, что от фашистов только перья полетели, хоть их было много больше, чем нас.
А того раненого, за которым я ползла, мне удалось вытащить. Он уж, бедняга, и не надеялся...
...А недавно я немножко обожгла ногу. Но уже все прошло, и ты, мамочка, не беспокойся. Обожглась я так. Во время боя я нечаянно наступила на бутылку с горючей жидкостью. Бутылка треснула у меня под ногами, и сразу же все на мне вспыхнуло. Обжигая руки, я кое-как стянула с себя горящие сапоги, гимнастерку и затоптала. И, когда ко мне подбежали саперы с лопатами, чтобы засыпать меня землей (ведь иначе затушить горящую жидкость трудно), я уже натягивала на себя одежду, а вот сапоги никак не могла надеть — скорежились, пропали совсем. Так и пошла дальше босиком, прихрамывая на обе ноги. И только после боя сделала себе перевязку. Вот и все».
Так описала Гуля в письме к матери одно из своих самых необычайных приключений («приключениями» Гуля называла
563
особенна рискованные эпизоды своей боевой жизни). А по всей дивизии уже разнеслась о Гуле весть. От одного бойца к другому пошла легенда о девушке, которая «и в огне не горит», о девушке, которая шла на немецкие окопы, вся охваченная пламенем, как живой факел. И скоро кто-то сложил об «огненной девушке» песню.
Песня эта, как пламя, перекинулась отсюда на Западный фронт. В каждой воинской части пели эту песню на свой мотив, но слова были везде одни и те же:
Девушка вспыхнула,
Путь осветила,
Огненной птицей Летела в бой.
И в дивизии Гулю стали называть с тех пор «огненной девушкой».
СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ
Всеми силами враг стремился захватить переправы через Дон в районе станицы Нижне-Чирской и хутора Верхне-Рубежного, чтобы потом ринуться к Волге.
Части 214-й дивизии получили приказ оставить западный берег Дона, тот самый берег, за который они бились с небывалым упорством, отойти на восточный берег и оборонять его в районе хутора Верхне-Рубежного и южнее.
Мосты уже были взорваны. Переправа шла четвертые сутки. Шла день и ночь — на самодельных плотах, на лодках, на бочках, на бревнах, на всем, что оказывалось под рукой. Дон, вздыбленный разрывами бомб, снарядов, мин, неистово бился о берега. Это был уже не тот тихий Дон, который еще так недавно спокойно и мирно нес свои воды. Тяжелые всплески снарядов взрывали его темную глубину.
В одну из этих ночей разразилась гроза. Дождь ливмя лил, не утихая ни на минуту.
Насквозь промокшая, Гуля волоком тащила к переправе по размякшему от дождя берегу свою плащ-палатку, на которой
564
лежал раненый боец. G трудом поворачивая голову, он что-то кричал Гуле. Но гомон переправы и шум ветра заглушали его голос. Чтобы расслышать его слова, Гуля нагнулась над раненым:
— Что тебе, голубчик?
— Рушницю шукаю, — сказал он, ощупывая возле себя плащ-палатку.— Рушницю не бачу. Гвинтивку.
И совсем неожиданно, хоть и не было времени вспоминать, Гуля вспомнила того бойца, который в тихую летнюю ыочь во время стоянки эшелона вел длинный и ласковый разговор со своей винтовкой. Тот тоже был украинец и так же дружил со своей «гвинтивкой»...
— Да вот же она, твоя гвинтивка, у тебя под боком!
Боец, лежавший на плащ-палатке, прихватил рукой винтовку, и от этого движения ему стало больно. Он застонал.
— Потерпи, голубчик! — крикнула Гуля, стараясь перекричать ветер.— Сейчас я тебя через Дон переправлю.
Раненый покачал головой. Видно было, что он сомневается в Гулиных силах. Да и в самом деле, трудно было поверить, что в такую непогодь эта девушка переплывет Дон, да еще с тяжелой ношей.
Раненый что-то пробормотал. Гуля расслышала только:
— Сама плыви!
— Что ты! — сказала Гуля.— Да разве я тебя оставлю?
— Коли тоби важко будет, кидай менэ! — сказал раненый.
— Ладно, ладно, молчи уж,— оборвала его Гуля.
Пронизывающий холод обжег сердце. По лицу ударила, как
хлыстом, волна.
Прихватив левой рукой раненого, Гуля поплыла, загребая воду правой рукой. Поплыла прямо в черную муть реки, то и дело выплевывая набирающуюся в рот воду.
От времени до времени небо над Доном ярко вспыхивало, раздавался грохот, и крутая волна подбрасывала Гулю вместе с ее полуживым спутником. Подбрасывала и швыряла куда-то вниз, в пропасть.
Казалось, еще минута — и черная холодная вода сомкнется над головой. «Не доплыву»,— думала Гуля.
565
И вдруг ей стало как будто легче плыть. Это раненый, очнувшись, почувствовал, что его спасительница изнемогает. Он собрал последние силы и, как-то приспособившись, стал грести здоровой рукой.
«Голубчик мой, помогает!» — с благодарностью подумала Гуля.
В предутренней дымке тумана противоположный берег был едва виден. Только белые вспышки ракет освещали на мгновение все сразу: и людей, переправляющихся по реке вплавь, на плотах или верхом на лошадях, и понтоны с орудиями.
Раненый опять совсем ослабел и стал от этого как будто тяжелее вдвое. Но Гуля уже чувствовала, что самое страшное позади.
«Должна доплыть, доплыву!» — говорила она себе.
Все ее мускулы работали настойчиво, упрямо, умело. Вот когда пригодилось ей спортивное мастерство! Вот зачем нужно было так долго тренироваться там, на водной станции солнечного Днепра! Все, чему Гуля училась в жизни, теперь пригодилось ей, словно все ее детство, вся юпость были только подготовкой к этим суровым боевым испытаниям.
И Гуля доплыла.
На берегу (этот берег, восточный, был пологий, плоский, ие то что крутой западный) она разомкнула окоченевшие у нее на шее руки бойца. Он сполз на землю и тяжело перевел дух.
— Ну, вот мы и добрались,— сказала Гуля и, достав из санитарной сумки фляжку, влила несколько капель водки в помертвевшие губы раненого.— Выпей, согрейся!
Она пристроила его на первую попавшуюся санитарную повозку, а сама, едва передохнув, вернулась опять к берегу...
Не одну жизнь спасла Гуля за эти четверо суток, не один раз переплыла она Дон, переправляя раненых с одного берега на другой под непрерывным обстрелом.
Но не думала Гуля в эти грозные дни и ночи, что со временем приказ по 214-й дивизии, подписанный командиром Бирюковым, о зачислении Марионеллы Королевой почетным красноармейцем 780-го стрелкового полка будет храниться в музее.
566
Не думала Гуля, что ее работа в бою, которую она считала только работой, будет признана подвигом.
«Во время боевых действий эта бесстрашная комсомолка спасла жизнь 100 бойцам и командирам. В период переправы через Дон товарищ Королева переправила на восточный берег, оказала первую помощь и отправила в санчасть 60 бойцов и командиров».
Перейдя Дон, дивизия заняла оборону восточного берега.
В ПРИДОНСКИХ СТЕПЯХ
Широко раскинулись придонские степи с холмами и перелесками. Если бы ие война, здесь бы одуряюще пахло в эти дни полынью, мятой, душистыми степными травами. Слышалась бы в высоком безоблачном небе трель жаворонков. Спокойно синели бы эти озера — Круглое озеро, озеро Кривое — и мирно текли бы донские воды между высоким, крутым западным берегом и пологим — восточным.
А теперь в степи пахло дымом. Вздымались черные столбы минных разрывов, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. То и дело с новой силой раздавалась трескотня ружейной и пулеметной стрельбы и стрельбы из автоматов. И, куда ни посмотришь, все изрыто окопами, ходами сообщений, везде высятся холмики блиндажей, свежие насыпи могил.
...«Много за это время пережито, много перевидано,— писала Гуля отцу, сидя в землянке.— Деремся здорово. Бойцы проявляют прямо невиданное геройство. Много потеряно боевых товарищей, друзей, но от этого еще сильнее ненависть к врагу. Если останусь жива, попробую написать книгу о героических защитниках Дона.
Только что над нами разыгрался воздушный бой. Наши молодцы, здорово пускают перья фашисту. На днях разведчики привели одного фашистского летчика, сбитого в бою.
Скоро опять пойду на передовую. Сейчас пишу тебе, а все мысли там, около наших ребят, где идет бой. Я сейчас от них километрах в пяти.
567
Знаешь, папа, ничего нет приятнее, чем собраться всем вместе после жаркого боя и в минуту передышки немного побол^ тать и пошутить. Если бы не головная боль, я бы еще утром ушла на передовую, но очень уж сильно голова болит. Есть у немцев миномет, он подражает нашей «катюше». Так вот, снарядом его меня и оглушило. Примерно метрах в 15 от меня ухнул, а может, и ближе. Но ты не беспокойся, все пройдет...»
Гуля писала и, держась за голову, покачивалась. Боль становилась все нестерпимей. Но говорить об этом кому-нибудь из товарищей не хотелось. Еще отправят, чего доброго, в медпункт.
В одну из тех недолгих передышек, о которых писала в своем письме Гуля, собрались в землянке после боя усталые, запыленные люди.
Один из них, с медным от загара лицом, с русыми, выгоревшими от солнца волосами, бывший шахтер, а теперь разведчик, Семен Фролович Школенко, раскуривая цигарку, неторопливо рассказывал, как он недавно ходил в разведку.
— Утром вызывает меня комбат и говорит: «Языка достать надо».— «Есть! — отвечаю.— Достану». Собрался, как полагается, автомат проверил, положил в сумку гранаты — простые и противотанковые — и пошел.
Школенко рассказывал, как он пробирался к немцам — где ползком, по-пластунски, где пригибаясь, стараясь держаться густого кустарника, а Гуля слушала и думала:
«Вот как надо в разведку ходить! Одной храбростью не обойдешься...»
И затаив дыхание она слушала рассказ о том, как незаметно подкрался к немцам наш разведчик, как убил противотанковой гранатой шестерых сидевших на земле, а седьмого, который стоял на посту, обезоружил и привел в штаб.
Не прошло и нескольких часов, а Школенко получил новое задание: на этот раз от полкового командира.
«Очень уж допекают нас немецкие минометы,— сказал он.— Надо узнать, где они стоят».— «Узнаю,— ответил Школенко и спросил: — Одному пойти или с кем-нибудь?» — «Как хотите»,— ответил командир. «Один пойду! — сказал Школенко.— Уже ходил, дорогу знаю».
Поел, покурил, перемотал портянки, проверил автомат и
568
пошел. Вернулся вечером, а с ним — семнадцать красноармейцев. Обросшие, окровавленные, босые, еле-еле на ногах держатся.
— Из плена вывел. Почти на том свете побывали,— сказал Школенко.— Уже могилы себе рыли.
И он рассказал о том, как ему удалось противотанковой гранатой уничтожить сразу семерых фашистов, а восьмого, который находился поодаль, захватить в плен. Рассказал он и о том, как двое автоматчиков, услышав взрыв его гранаты и команду: «Рота, за мной!» —пустились наутек, а из кустов выбежали пленные красноармейцы, которых вот-вот должны были расстрелять. Спустя несколько минут Школенко уже вел замученных, будто вышедших с того света людей в свою часть, а вместе с ними плелся, с ужасом поглядывая на русских, захваченный в плен немец. Люди, которым только что грозила верная смерть, тащили на себе трофейные минометы. Но после всего, что они испытали, они готовы были бы взвалить на себя и не такую тяжесть. А пленный немец еле-еле тащил на себе пулемет.
«Вот какие они, герои, бывают! — думала Гуля, слушая рассказ бывшего шахтера.— С виду такой простой — широкое, обветренное, обожженное солнцем лицо с капельками пота на лбу, выцветшая гимнастерка, пилотка пирожком... Самый обыкновенный красноармеец, а два подвига за один день! Разве такими представлялись они мне до войны?..»
Она долго не отрывала глаз от Школенко, будто видела его впервые. А ведь они часто встречались друг с другом. И еще так недавно, во время передышки, он рассказал ей всю свою историю. Отец его тоже шахтер, защищал в гражданскую войну Царицын, как теперь защищает этот город на Волге — на дальних подступах к нему —■ Семен Школенко. Отец погиб и похоронен недалеко от этих мест — в станице Нижне-Чирской.
Конечно, не все бойцы были такими, как Семен Школенко. Приходилось Гуле видеть и другое. Иной раз не хватало у людей выдержки и мужества.
Впоследствии, уже в сентябре, был такой случай. Во время боя, когда все бросились в атаку, Гуля увидела, что молоденький боец из нового пополнения остановился. Все бегут, а этот стоит как вкопанный. Не раздумывая, Гуля схватила его за шиворот, толкнула вперед и крикнула:
569
— Что, струсил?!
Боец как будто опомнился и побежал рядом с Гулей, держа в руках автомат.
Спустя несколько дней, выходя из санбата, Гуля встретила красноармейца, который показался ей знакомым.
— Я вас, кажется, где-то видела,— сказала Гуля.— Только не помню где.
— А я вас сразу узнал,—улыбнулся он немного смущенно.— Помните, все пошли в бой, а я с непривычки того... ну, попросту оробел малость. Тут вы схватили меня за загривок, дали хорошего пинка, ну, я и побежал вперед как миленький.
Гуля засмеялась.
— А теперь как? Уже не робеете?
— Стараюсь не робеть. Спасибо, сестричка.
...Дивизия стояла на месте недолго. Вскоре она получила новый приказ: перейти в резерв фронта и двигаться на северо- восток, в район Котлубани — в направлении к Волге.
К утру 18 августа, после ночных переходов, преодолев двести пятьдесят километров пути походным порядком, дивизия сосредоточилась в районе Котлубань — Самофаловка. Однако и здесь не пришлось людям хотя бы немного передохнуть. Уже к вечеру снова пришел приказ: немедленно двинуться из Котлубани в западном направлении. Это оказалось необходимым потому, что еще в ночь на 17-е немцы переправились с западного берега Дона на восточный в районе хутора Паншино. Сюда, к Паншино, и двинулась дивизия, с тем чтобы сбросить врага в Дон и уничтожить его переправу.
Подойдя сюда на рассвете 19 августа, дивизия с ходу развернулась и недалеко от Паншино вступила в бой с врагом.
Позднее, уже в октябре, Гуля писала отцу, вспоминая то, что произошло в августовские дни и ночи, памятные для нее и для бойцов:
«В один из солнечных дней прибыли мы в деревню Н. На рассвете забрались в большую конюшню — и повозки и люди. Легли, заснули. Сколько спали, не знаю. Проснулись от воя сирены и взрыва бомб. Стекла сыплются, штукатурка летит. Весь сарай ходуном ходит... Прошла волна налета. Выскочила я, собрала раненых, перевязала. Только перетащила — кого в
570
подвалы, кого в щели,— опять летят. И все группами. И вот как он начал нас прочесывать с пяти утра, мы и пошли в наступление. Я пошла с батальоном. Только вышли на наблюдательный пункт, видим — опять летят. А наш первый пункт — как раз на высотке, да еще плохо замаскирован. Залезли мы в щель. А самолеты развернулись — и давай чесать. Смотрим — один на нас пикируат. Да к тому же, проклятые, для морального воздействия сирены включают. Воют препротивно. Шмякнул фашист одну — пыль столбом. Засыпало нас так, что ни черта не видно. Слышим только — воют над нами да бомбы звенят при полете. Как бомба разорвется, смеемся: «Мимо!» Кончилось. Стало смеркаться. Пошли дальше. Пули визжат. Мины при разрыве жалобно воют: «Тю-у-у...» И получилось у нас ночью такое положение, что совсем связь прервалась. Приходят с правого фланга, говорят: «Группа автоматчиков прорвалась, к вам в тыл заходит». С левого фланга тоже неблагополучно. А связных всех разослали. Никого не осталось. Ну, я и вызвалась связь восстановить. «Дойду»,— говорю. Пошла. Над головой сетка из трассирующих пуль — красивое зрелище. Подобрала по дороге раненого с ружьем. Его тащу, да ружье тяжелое, да еще у меня на боку автомат. Но дотащила. Связь восстановила (нашла разрыв в проводе и соединила). А ночь темная, хоть глаза выколи. Местность незнакомая. Пришла обратно в батальон. Взяли пленного. Отвела и его. Много-много за эту ночь дел было, да всего не расскажешь...»
Но еще об одном рассказала в своем письме Гуля: как она перевязывала раненого ребенка. Об этом же написала она и в письме к матери:
«19 августа в одном населенном пункте авиабомба попала в мазанку, где сидела целая семья. Мать убило, осталось двое детей: одному год семь месяцев, а другому шесть месяцев. И меньшому осколком ранило спинку. Я подбирала, перевязывала раненых, как вдруг какая-то старушка приносит мне перевязывать этого мальчонку. Я его перевязываю, реву, слезы градом так и льются, а он на меня смотрит большими страдальческими глазами и даже не плачет, а только стонет...»
Должно быть, не один раз вспомнила Гуля своего Ежика, пока широкий белый бинт ложился ряд за рядом, плотно опоя¬
571
сывая грудку и спинку раненого ребенка, как белая безрука- вочка.
«Всего не расскажешь,— писала Гуля.— Если бы подробно начать все описывать, что произошло в те дни, то и нескольких дней не хватило бы».
Да, о многом могла бы еще рассказать Гуля, если бы у нее было время.
Рассказала бы она еще и о том, как после одного из налетов фашистской авиации образовалась посредине широкой улицы хутора Паншино (это и была «деревня Н», упомянутая в письме Гули) огромная воронка. Диаметром эта воронка была не меньше десяти метров, а глубиной метра в три. Находившиеся по обе стороны этой улицы хаты каким-то чудом уцелели. Из одной такой хаты вышла старушка. Услышав разговор военных, которые, стоя у края воронки, удивлялись тому, что ни одна из хат не повреждена, старушка сказала:
— Старик мой и то жив остался! А ведь у окошка сидел.
Гуля сначала тоже никак не могла понять, как это могли уцелеть хаты. А потом ей объяснили: бомба ушла глубоко в песчаный грунт. Часть осколков поглотил песок, а другая часть пошла вверх — под большим углом.
Бой шел непрерывно, не утихая. Два полка — командиров Шумеева и Хохлова — при поддержке артиллерийского огня общим натиском вышибли наконец гитлеровцев из хутора Паншино, ликвидировали переправу, сбросили врага в Дон и при помощи полка Горбачева очистили восточный берег. И все же противник намного превосходил нас силами и авиацией. Четыреста бомбардировщиков громили нашу дивизию. Одновременно с двух сторон — из района хутора Вертячего, находящегося южнее, но также на восточном берегу Дона, и с противоположного берега, западного,— нещадно били по нашим полкам артиллерия и минометы противника. И ночью после небывало упорных боев наши части вынуждены были остановиться в районе Паншино. Достичь главных переправ — тех, что находились южнее, в районе хутора Вертячего,— не удалось. Не хватило сил. Дивизии было приказано перейти к обороне. Не отступать ни на шаг. Стоять насмерть. И люди остановились.
„КАТЮША" И „АНДРЮША“
На восточном берегу Дона по-прежнему шли бои...
Людям некогда было передохнуть. Они яростно отстреливались. Только к ночи, когда немецкий огонь становился слабее, наступало некоторое затишье. В эти минуты передышки Гуля, прежде чем лечь спать, заходила в гости к кому-нибудь из своих новых друзей.
Вот и сегодня так. Чуть только стало тихо, она пошла в землянку, где жили бойцы первой роты. Она шла по ходам сообщения.
В землянке, чуть мерцая, чадил огонек коптилки. В трубе железной печки посвистывал ветер.
— А, Гуля!—раздались со всех сторон знакомые голоса.— Что давно не заглядываешь? Мы уж заскучали! Чайку хочешь?
Через несколько минут на железной печурке запрыгал, подкидывая крышку, жестяной чайник.
В чьих-то умелых руках негромко, не мешая беседе, запел, заговорил баян.
И Гуле показалось, что еще никогда в жизни ей не было так уютно и спокойно, как в этой черной маленькой землянке, среди этих людей, усталых, измученных боями, собравшихся с разных концов огромной страны.
Она сидела у самой печки, блаженно отогреваясь, и пристально смотрела на огни, перебегающие с уголька на уголек. Они были такие же, эти веселые огоньки, как там, в далекой Уфе. И такие же золотые язычки играли в печке в те времена, когда Гуля была еще маленькой и ей не позволяли брать в руки кочергу.
Подумать только, как недавно это было!
А теперь она на фронте, в самом пекле войны, и никто не говорит ей: «Гуля, обожжешься!»
Над самой землянкой с жалобным воем пронеслась мина.
— Ихний миномет завыл,— сказал кто-то, потягивая горячий чай.
Гуля только молча кивнула головой.
Она, как и все бойцы, уже хорошо различала голос немец-
573
кого миномета. В своих листовках немцы хвалились, что их миномет одолеет нашу «катюшу».
— Ничего, не одолеет,— сказал пожилой боец, которого все называли папашей.— Где ему с нашей сладить!
— Это точно,— согласился его сосед и, переломив о колено дощечку, подкинул обломки в огонь.— А вот я слыхал, у нас тут еще «андрюшу» поджидают. Этот наведет порядок.
— Какой такой «андрюша»?— спросила Гуля.
— «Катюшин» сынок. Вот лупит так лупит! Еще почище мамаши. На восемьдесят метров одной только воздушной волной работает, не считая убойной силы от осколков.
Все минуту помолчали, и этим воспользовался баян. Он заиграл громче, смелее, явно вызывая на песню.
Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,—
запела Гуля, а кто-то рядом подхватил тенорком:
И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза...
Спели одну песню, затянули другую. Пели все вместе и поодиночке.
— Так бы и пела с вами до утра,—сказала Гуля, поднимаясь с места,— да ничего не поделаешь, пора мне...
— Куда тебе?
— Асю сменить.
По-настоящему срок Асиного дежурства еще не истек, но Гуля жалела и берегла свою товарку по санбату — ту самую худенькую, похожую на школьницу девушку, которая приехала с ней и Людой в одном эшелоне на фронт.
Гуля была старше обеих своих подруг. Ей было уже почти двадцать лет, а им еще не исполнилось и восемнадцати. И Гуля невольно относилась к ним обеим немножко покровительственно, называла их «милые мои девочки» и, не задумываясь, брала на себя самую трудную и опасную работу.
А работы становилось все больше, жизнь делалась все труд-
574
нее. И уже какими-то сказочными, почти невероятными казались Гуле воспоминания о доме, о семье. Да и где этот «дом»? В Уфе, где мама и Ежик живут в случайной, чужой комнате, или в Киеве, занятом немцами, или в Москве, откуда отец посылает письма, полные забот и тревоги?..
«Нет уж, пожалуй, до конца войны дом мой здесь — в землянке,— думала Гуля, перебегая от одной землянки к другой.— И семья моя тут: Люда, Ася и все эти дорогие люди, с которыми вместе мы делим жизнь, такую близкую от смерти!»
Все больше привязывалась Гуля к своей новой большой семье.
«Ты спрашиваешь,— писала она матери,— как я встретила день рождения. У нас был очень жаркий бой, и в мою честь, как мне сказали, целый артполк и наша полевая артиллерия дали залп по врагу. А вечером, когда немного успокоились, мы в землянке поужинали, причем наш повар испек несколько пирогов и на одном из них выложил из теста надпись: «Будущему гвардейцу». В день рождения Ежика тоже дано было несколько залпов, а когда собрались ужинать, немцы начали контратаку, довольно яростную. Атака была отбита, кроме того, был занят один населенный пункт. А потом ко мне подошли бойцы и сказали, что эту победу они ознаменовали в честь рождения моего Ежа».
Письмо получилось большое, подробное, и все-таки обо многом еще написала бы Гуля, если бы в письмах с фронта можно было обо всем писать и называть имена людей.
Она написала бы еще и о том, что пироги повару заказал помощник полкового командира, который часто по-отечески журил ее, если она уж слишком себя не берегла, и по-отечески о ней заботился.
Если бы можно было, написала бы Гуля в своем письме также и о том, что «гвардейский пирог» принес в землянку один из маленьких разведчиков — Саша. Он так деловито и осторожно нес обеими руками доску с пирогом, как будто это был не пирог, а мина.
А рядом шел Гриша, и видно было, что он отчаянно завидует товарищу: ему тоже хотелось передать Гуле именинный подарок.
575
ПОДРУГИ
Начались заморозки. Черные, размытые дождями лощины и холмы побелели от инея.
В боях все еще было затишье.
Вернувшись на рассвете из первой своей разведки, в которую она сама напросилась, Гуля согрелась у печки, выпила горячего чаю (обо всем этом заранее позаботилась Ася) и легла. Ася укрыла ее кожаным полушубком.
— Это все не так уж страшно, Асенька,— сказала Гуля, потягиваясь от усталости и приятного тепла.— Страшно только, когда вдруг услышишь голоса. Ползешь по земле, кругом никого, и вдруг этот лающий говор. Фашисты! Тут действительно становится неважно... Хоть и знаешь, что ты не одна в разведке, что рядом свои, разведчики, а все-таки жуть берет.
И сбивчиво, забывая в полудремоте слова, Гуля стала рассказывать о том, что было, сегодня ночью.
Слушая Гулю, Ася думала: «Почему это так? Вхместе живем, все одинаково чувствуем, а такие мы разные? Я бы ни за что не пошла в разведку! Нет, пошла бы, конечно, если бы послали, а сама бы не вызвалась... Подумать только — вдруг немцы живьем возьмут...»
— Да ты не слушаешь, Аська! — сказала Гуля.— А я-то стараюсь... Ну, в таком случае — я сплю.
Она повернулась лицом к мерзлой стене своего земляного дома, и в ту же минуту Ася услышала ее спокойное, ровное дыхание. Ася сидела у нее в ногах, боясь пошевельнуться, чтобы не разбудить подругу. Но ее опасения были напрасны. Целые сутки, находясь в тылу врага, Гуля не сомкнула глаз, и почти на сутки уложил ее теперь здоровый, крепкий, молодой сон.
Ася то и дело забегала посмотреть, не проснулась ли Гуля, но та по-прежнему лежала так же, как легла,— лицом к стене, подсунув руку под голову. Ася беспокоилась за Гулю — уж не заболела ли она? Но еще больше сейчас тревожила ее судьба двух мальчуганов. Саша и Гриша сами напросились на задание и, натянув на себя свою старую одежонку, ушли высматривать немецкую оборону. Не раз им было строго приказано, что¬
576
бы они ничего не трогали, остерегались мин, но, кто знает, что могло с ними случиться...
А Гуля все спала и спала. Только на вторую ночь она открыла глаза.
— Ну и поспала же я! По крайней мере часа два!—проговорила Гуля потягиваясь.— Ася, ты здесь?
Ася склонилась над ней:
— Выспалась?
— Ой, как выспалась! На всю жизнь. Что сейчас — день или ночь?
— Ночь, Гуленька.
— Какая?
— Обыкновенная.
— Ничего не понимаю,— сказала Гуля.-^ Сегодня — еще сегодня или уже завтра?
— Почти завтра,— засмеялась Ася.— Ты спала весь день и почти всю ночь. Скоро утро.
— А почему ты не легла?
— За тебя беспокоилась...
Подруги уселись у печки. Гуля поняла, что Ася всю ночь ради нее поддерживала огонь и грела ужин в котелке.
— Знаешь, теперь кажется,— сказала Гуля, хлебая оловянной ложкой из котелка горячие щи,— что мне все это приснилось. Эта степь, хутор, немецкий часовой, которого мы сняли...
— Я бы лучше про это в книжке прочла,— проговорила Ася,— или, еще лучше, в кино посмотрела. А сама я боюсь, я не такая.
Гуля засмеялась:
— Девочка ты еще совсем, Ася. И зачем ты только на фронт приехала?
— Зачем?— спросила Ася и отвернулась.
— Ты обиделась?—сказала Гуля и опустила ложку.— Прости меня, Асенька. Честное слово, я не хотела тебя обидеть. Сердишься?
— Мне спать хочется,— ответила Ася, не глядя на Гулю.— Думаешь, если ты выспалась, так уя^е никому спать не надо?
Она принялась стелить себе в уголочке. Поворошила сено, сверху бросила с размаху шинель.
577
— Ложись на нарах,— сказала Гуля.
Ася ничего не ответила, легла и повернулась к Гуле спиной. Гуля подошла к Асе, села рядом, поцеловала ее в голову.
— Перестань, Асенька. На войне нельзя ссориться. Потом пожалеешь, да поздно будет.
Ася посмотрела на Гулю и вдруг залилась слезами:
— Ты сама знаешь, как я люблю тебя! Только пойми, что я не могу быть такой, как ты. Но я стараюсь, я все делаю.
— Все, все, Асенька,—сказала Гуля.— Ты отлично работаешь... Но знаешь, я все-таки поговорю в штабе, чтобы тебя отпустили домой.
— Не надо!—вскрикнула Ася.— Я не хочу! Я буду здесь до конца. С вами.
— Ася...— Гуля погладила ее темные гладкие волосы.— Ася, я же вижу, что ты очень, очень устала. А жизнь здесь такая трудная. Ты думаешь, нам с Людой не трудно? Еще как! Но только мы покрепче тебя...
— Я привыкну,— сказала Ася и укрыла ноги краем своей шинели.— Только ты никому не говори, чтобы меня отправили в тыл. Ты слышишь, я не хочу!
— Ну хорошо, хорошо!
Ася смотрела на Гулю, и в глазах подруги Гуля прочла тревогу.
— Что еще, Асенька?
— Ничего,— сказала Ася.
Ей хотелось сказать, что уже третий день, как нет мальчиков, но она побоялась огорчить Гулю. Да и усталость взяла свое.
Ася скоро уснула, а Гуля еще долго сидела, опершись на шаткий самодельный столик, и смотрела на эту худенькую черноголовую девочку, по-детски свернувшуюся клубком.
Гуля знала о ней совсем немного: что она из-под Минска, что брат ее на другом фронте и давно не пишет, отец давно умер, а мама с младшей сестренкой в каком-то колхозе под Уфой и тоже давно не пишут. Вот и все. А какой родной казалась ей эта девочка! Будто родились в одном городе, выросли вместе и в одну школу вместе ходили...
«Да, хорошая школа — война!»
578
А утром вернулись Саша и Гриша. Голодные, оборванные, в ссадинах, они все же по-военному подтянулись перед офицером Фасаховым и доложили:
— Товарищ начальник! Задание выполнено!
И они подробно рассказали, где и сколько у немцев орудий и танков.
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРЕХ ДОРОГ
Гулю приняли кандидатом в члены партии. Это было для нее большим и радостным событием. Много раз перечитывала она боевую характеристику, которую дал ей, рекомендуя ее в партию, командир батальона:
«...Комсомолка Королева личным примером храбрости и геройства вдохновляет бойцов на новые и новые подвиги».
«Неужели это про меня написано?»—с удивлением думала Гуля.
Ей казалось в эти дни, что она сразу выросла, повзрослела и должна готовиться к еще более трудным испытаншш. А время было напряженное, переломное. Наши части, сдерживая противника, готовили силы для будущего наступления, для решительных боев...
Люда Никитина только что кончила перевязывать новую партию раненых. Она мыла у себя в дежурке руки под жестяным рукомойником, когда на пороге неожиданно появилась Гуля.
— Ты почему не отдыхаешь?—спросила Люда.— Ведь всю ночь работала!
— Ты понимаешь,— задумчиво сказала Гуля,— меня сейчас вызывали в штаб.
— Зачем?
Гуля скинула полушубок и присела па табуретку.
— Как тебе сказать?.. Помнишь, в былине об Илье Муромце есть такое место. Илья Муромец остановил коня на перекрестке трех дорог и читает надпись на белом камне: по одной дороге пойти — богатым быть, по другой дороге пойти — женатым быть, по третьей дороге пойти...
579
Гуля не договорила.
«Убитым быть»,— припомнила Люда, но тоже не решилась почему-то выговорить эти слова.
— Ну, так вот,— сказала Гуля,— я тоже стою на перекрестке трех дорог. Мне предлагают на выбор: работать в политотделе дивизии секретарем или поехать учиться. В Москву.
— А третье что предлагают?—спросила Люда.— Какая третья дорога?
— Да больше и не предлагают. Но дело в том, что меня не устраивает ни то, ни другое. Разве я с моей энергией выдержу долго на секретарской работе? Посуди сама. А в Москву я не хочу. То есть я очень хочу, и сказать тебе не могу, как я была бы рада Москву снова увидеть, папу... Мне и учиться хочется. Столько времени книги в руках не держала. И вообще одно слово «Москва», сама знаешь, что для меня значит. Но я не могу отсюда уехать.
И Гуля, шагая по дежурке из угла в угол, стала с жаром втолковывать Люде, что она просто не в силах расстаться с людьми, с которыми прошла огонь и воду в самом буквальном смысле этого слова, и что она не может уехать в тыл именно тогда, когда их полк и вся дивизия готовятся к самым горячим боям.
Люда ничего не сказала, но невольно подумала:
«Значит, третья дорога...»
И сама испугалась этих слов.
«Ох, и зачем только она вспомнила своего Илью Муромца!»
Люда с досадой тряхнула головой и, чтобы заглушить непрошеную тревогу, сказала веселым голосом:
— Значит, так и решила остаться с нами? Ну ладно, будем считать, что ты уже вернулась из Москвы. Вечером, если будет тихо, отпразднуем твое возвращение. Откроем консервы. Позовем товарища Плотникова, Топлина, песни петь будем, ладно?
— Ладно,— сказала Гуля, и глаза у нее сделались веселые, почти озорные.— Знаешь, Людушка, самое трудное на свете — это выбирать. А уж если выбрала, дальше все легко.
АСЯ
Греясь у печки, Гуля перечитывала только что полученные письма. Одно было фронтовое — от Эрика, другое — домашнее, заботливое, полное всяких милых, мирных новостей: Ежик запрятал чайные ложки в чьи-то валенки, утопил в ведре с водой башмак, подрался с соседским мальчиком, который старше его на целых два месяца.
Гуля долго держала на ладони маленькую фотографическую карточку.
— Вот как он вырос, мой Ежик! Уже не младенец, а настоящий мальчишка!
И она представила себе уфимский двор, весь засыпанный снегом, и своего Ежика в мохнатой шубке, подталкивающего одной ногой маленькие санки.
Эрик написал ей всего несколько строк. Видно, ему было некогда. Посылал номер своей полевой почты, обещал скоро написать еще, если только доведется снова держать в руках карандаш и бумагу.
Гуля понимала в этом письме каждое слово, каждую черточку. Она бы и сама написала точно такое же письмо, если бы узнала адрес Эрика прежде, чем он разыскал на фронте ее.
На столике дежурки лежал еще один конверт. Не то детским, не то старческим почерком на нем было написано Асино имя.
Вот оно, долгожданное письмо из уфимского колхоза! Поскорее бы пришла Ася...
Наконец дверь открылась. Ася вошла, вся осыпанная хлопьями снега. Синими от холода пальцами она едва-едва расстегнула ворот полушубка.
— Садись скорее к печке,— сказала Гуля.—Грейся... Ну что, хорошо тебе?
— Хорошо!
— А сейчас будет еще лучше!
И Гуля положила ей на колени маленький конвертик.
— От наших! — шепотом сказала Ася.
Долго, шевеля губами и покачивая головой, читала она это письмо.
581
-- Ну что?— спросила Гуля.
— Пишут, что теперь у них все хорошо,— переводя дух, ответила Ася.— Устроились, живут ничего... Сестренку счетоводом взяли, мама шьет. И от брата открыточку получили — жив.
Ася прижала письмо к щеке и засмеялась:
— Ух, как я рада!
— Вот видишь, я тебе говорила...
— А мне, девушки, ничего сегодня не было?—спросила Люда, входя в дежурку и с одного взгляда заметив письма в руках у подруг.
— Тебе завтра будет,— ответила Гуля.— У меня такое предчувствие.
— Ну, смотри же, чтоб было письмо! А то мне на вас глядеть завидно. Вон вы какие сегодня веселые! Ну, хоть расскажите мне ваши новости, если уж у меня своих нет.
И все три девушки, усевшись у огня, принялись опять и опять перечитывать домашние письма.
Уже время клонилось к вечеру и казалось, что день так и пройдет спокойно, без боя, как вдруг неожиданно где-то затрещала пулеметная очередь, застрочили автоматы. Началась перестрелка. По боевой тревоге Гуля и Ася встали, оделись, перекинули через плечо свои санитарные сумки и вышли из землянки.
К ночи бой утих.
По степи, белой от инея, пробиралась, объезжая окопы и траншей, санитарная машина. Санитары вытащили из машины носилки. Люда в халате поверх шинели выбежала встречать раненых. Еще издали она услышала голос Гули:
— Осторожней, осторожней, не трясите!
Носилки, слегка покачиваясь, двинулись по направлению к крыльцу. Люда привычно наклонилась и заглянула в бледное лицо раненого.
— Ася!
Гуля молча кивнула ей головой.
— Думаешь, серьезно?
— Мгм...— не разжимая губ, ответила Гуля.
Больше они между собой не говорили. Нужно было делать
582
обычную работу — принимать, перевязывать раненых. А в это время хирург медсанбата делал Асе операцию. Медлить нельзя было — положение оказалось очень серьезным.
И вот операция кончена. Ася неподвижно лежит на койке. Гуля и Люда не отрываясь смотрят на ее похудевшее сразу лицо, на большие блестящие глаза.
— Девушки,— с трудом говорит Ася и облизывает сухие губы,— что они говорят? Я выживу?
— Ну конечно!—отвечает Гуля уверенно и спокойно.
Ася переводит на нее лихорадочный взгляд.
— Да, да, Асенька, самое страшное уже позади. Какой ты молодец у нас! Доктор говорит — ты героиня!
Ася чуть улыбается одними губами.
— Нет, я не героиня... Я только терпеливая...
— Это и есть настоящий героизм!
Гуля наклоняется к Асе, уловив какое-то легкое движение ее ресниц.
— Что, Асенька, что?
— Мне очень хочется жить, быть с вами! Я ведь все время была с вами!—тихо, почти беззвучно говорит Ася.— Но если я умру...
— Не надо так думать, милая,— прерывает ее Гуля.— Лежи тихонько, не шевелись.
— А где Люда?— спрашивает Ася.
Но Люды возле койки нет. Она не выдержала и выбежала за дверь — плакать.
— За лекарством пошла,—не теряясь, говорит Гуля.
— Пускай вернется скорее,— шепчет Ася.
Люда и в самом деле скоро возвращается, но Ася уже не видит ее.
Она говорит что-то невнятное, просит помешать угли в печке, называет имена каких-то незнакомых людей, зовет маму. Потом она совсем затихает. До рассвета Гуля и Люда по очереди дежурят у ее койки. А ранним утром, накрыв простыней умершую Асю, они тихонько выходят в морозную синеву.
Где-то тяжело ухают орудия. Начинается новый день войны.
— Вот и нет нашей Аськи...—говорит Люда и вытирает рукавицей мокрые щеки.
583
— Как это нет?— строго и даже гневно перебивает ее Гуля.— Надо уметь помнить! Помнить все — каждое слово, каждое движение, каждый стон... Она отдала жизнь вот этой земле, нам, жизни... А ты говоришь — ее нет!
Люда с удивлением посмотрела на Гулю.
— Это правда,— сказала она робко.— А все-таки...
— Я сама знаю, что все-таки!..
И, закрыв глаза ладонями, Гуля бегом побежала к землянке по хрусткому снегу.
ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
Выпавший в конце октября снег быстро растаял, и наступившая было зима снова сменилась темной осенью.
Настал канун Двадцать пятой годовщины Октября...
Ночью разыгралась буря. Ветер, казалось, совсем сошел с ума. Он сшибал с ног, пронизывал до костей. Пробираясь в густом мраке по черной, ухабистой, взъерошенной земле, Гуля возвращалась к себе в роту вместе с Кадыром Хабибулиным, уже оправившимся от своей раны, и другим бойцом того же подразделения, Митей Грещенко.
Все трое шли молча, ощупью, стараясь ступать как можно тише. А сверху лило, и вода хлюпала под сапогами и в сапогах.
Гуле казалось, что они никогда не выберутся из этого мрака и холода, и ей хотелось крепче сжать руку товарища, чтобы снова ощутить живое тепло, почувствовать, что еще есть на земле жизнь.
Точно в ответ на ее мысли, большая рука Кадыра нащупала ее руку в темноте и уверенно потянула куда-то вправо.
— Айда за мной,— сказал Кадыр.— Пришли.
Гуля ощутила под ногами ступеньку, вырытую в земле, и стала спускаться вслед за Кадыром. Сзади шел Грещенко.
Кадыр открыл дверь, и веселый огонек коптилки, как крошечный маячок, блеснул перед глазами. Пахнуло жилым теплом.
584
Все трое, нагнув головы, один за другим вошли в землянку. Там уже спали — кто на нарах, кто на полу на сене, накрывшись полушубками и шинелями. Не спал только один паренек. Он возился у печки.
— Ну, как?— спросил он, снимая с огня закипевший чай- пик.— Живы?
— Сам видишь,— ответил Кадыр.
— Удалось?
— Еще как!
Гуля выжала на себе юбку и, присев на край скамьи, стала стягивать с ног отяжелевшие от воды сапоги.
— Еще как удалось! — повторила она и негромко засмеялась.— Вот рассветет — полюбуетесь!
— Под самым носом у немца пристроили,— сказал Грещенко.— В аккурат перед самыми окопами.
— Ну, завтра обстреливать, подлец, начнет,— сказал паренек и налил всем по кружке чаю.— Грейтесь, ребята!.. И что это за девчата нынче пошли бесстрашные!—добавил он, выбирая из горсти сухарей один побелее и пододвигая его к Гуле.
Гуля долго сушилась у печки, обогревалась горячим чаем. Потом она укрылась шинелью и прикорнула в уголку. Но спать ей не хотелось. Чуть только рассвело, она пошла посмотреть на свою работу.
В нескольких метрах от немецких окопов на подбитом тапке развевался, хлопая от ветра, советский флаг. Широкое полотнище играло и переливалось мягкими складками. Оно как будто бросало вызов врагу, и немцы, видно, это почувствовали. Из окопа вылез сначала один немец, потом еще двое.
Этого только и нужно было нашим снайперам. Щелкнул выстрел, другой. Две серые фигуры остались лежать на мокрой земле. Третий немец припал к земле и, чуть заметно пятясь, уполз к своему окопу.
— Нынче нашим снайперам дела хватит!—сказал Грещенко, незаметно появившийся возле Гули.— А ты, Королева, иди- ка в землянку. Из штаба вызывают.
Гуля сбежала вниз по ступенькам. Еще за дверью она услышала длинный телефонный звонок.
— Третий раз тебя вызывают,— сказал связист.
585
Гуля схватила трубку.
— Сержант Королева?— услышала она знакомый голос одного из офицеров первого батальона, Троянова.— С двойным праздником поздравляю.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант... Только почему же с двойным?— спросила Гуля.
— А как же! С годовщиной Октября и с орденом!
— С каким орденом?
— Боевого Красного Знамени.
Телефонная трубка чуть не выпала у Гули из рук.
— Честное слово?
Троянов засмеялся:
— Честное пионерское!
— А кого еще из наших наградили? Всех?
— Ну вот еще, всех! Кого следовало, тех и наградили.
— Да разве меня следовало?
— Выходит, что так.
В трубке щелкнуло. Разговор был окончен. Гуля стояла у
телефона взволнованная, растерянная.
Дверь распахнулась. В землянку вошла Люда.
— Что с тобой?— спросила она с тревогой.— Случилось что- нибудь?
— Нет... То есть да! Я орден получила!
Люда бросилась ее обнимать.
— Я так и знала, так и знала! — твердила она.
— А вот мне и в голову не приходило,— задумчиво сказала Гуля.— Ужасно странно...
— Ничего странного,— рассердилась Люда.— Мало ты раненых на своих плечах перетаскала? Мало людей спасла? А сколько раз ходила в разведку? И ведь никто не посылал, по доброй воле...
— Нет, у меня сейчас воля злая,—сказала Гуля.—Только бы наступления дождаться!
Вечером Гулю и Люду позвали в блиндаж к Троянову. Кроме командиров, здесь были и бойцы, награжденные орденами.
На дощатом столе, на полочках было разложено всякое угощение: копченая колбаса, конфеты, пряники — все, что прислали к этому дню в ящичках и кульках из далекого тыла.
586
В больших жестяных банках я^елтел густой, тяжелый мед. Это Башкирия прислала подарок дивизии, сформированной на ее земле.
Эшелон, груженный подарками, прошел сквозь пламя фронта и принес взрослым людям радость — почти детскую. В блиндаже запахло чем-то домашним, уютным, вкусным.
— Праздником пахнет,— сказал кто-то.
Троянов разлил по стаканам и кружкам вино. Кадыр Хабибулин, который одновременно с Гулей был награжден ордепом, торжественно взял в руки свой стакан.
— Разрешите сказать, товарищ старший лейтенант,— обратился он к Троянову.
— Говори, Хабибулин, говори.
— Не знаю, как сказать...—начал Кадыр задумчиво.— Когда я вот такой был,— он показал рукой на аршин от земли,— я одно слово от отца слышал. А мой отец от своего отца это слово слышал. Будто джигиты наши со своим командиром до Парижа дошли (такой город есть), когда Наполеона гнали. Вот хочу я выпить, чтобы наша дивизия до Берлина дошла!
— Есть такой город! Дойдем до него!—сказал Троянов, и все дружно захлопали в ладоши.
С легкой руки Хабибулина все развеселились. Вина было немного, и поэтому чуть ли не каждый глоток вызывал новый тост. Пили за родных, разбросанных по далеким городам и селам, за товарищей на других фронтах, за города, в которых выросли или которые прошли с боем.
— Товарищи!—негромко сказал Алексей Топлин, командир артполка.
В блиндаже было шумно, но все услышали его и обернулись.
— Товарищи!—повторил Алексей Топлин.—Давайте выпьем за победу, которая уже не за горами, за то, чтобы эта война была самой последней на земле!
Разом сдвинулись, стукнувшись одна о другую, жестяные и алюминиевые кружки.
— Пейте до дна!—предложил кто-то.— Лучше Топлина все равно никому не сказать!
— Погодите,— сказала Гуля,— оставьте хоть по глотку. Это верно, что лучше нашего последнего тоста ничего не придума¬
587
ешь. Поэтому я и не буду ничего говорить. Давайте молча, без слов, выпьем за тех наших товарищей, ^которые еще вчера были с нами и которых больше нет.
— За Асю!— шепотом сказала Люда.
— И за нее!
В блиндаже стало тихо. Но ненадолго. Дружный и грозный залп потряс воздух. Все станковые пулеметы, все автоматы и винтовки били по немецким окопам.
— Это наш салют большой победе! — сказал Троянов^
— Нет, тот будет громче!— ответила Гуля.
БОЕВОЙ ПРИКАЗ
Части 214-й дивизии, стоявшие в излучине Дона, северо- западнее Сталинграда, вместе со всей Донской армией ждали приказа о наступлении. Предстояло прорвать вражеские позиции, на укрепление которых противник затратил три месяца. Он создал здесь чрезвычайно сильную оборону. Иногда на глазах у наших войск гитлеровцы силой сгоняли со всех хуторов людей — стариков, женщин, заставляя их рыть траншеи. Стрелять наши не могли — ведь впереди были сбои, советские люди!
Огромное количество вражеских траншей и окопов были прорыты настолько глубоко и широко, что в них помещались даже орудия и минометы. И при этом устроены эти траншеи и окопы были с таким расчетом, чтобы вести из них перекрестный огонь. А перед траншеями и окопами находились всевозможные препятствия: минные поля и бесконечные ряды колючей проволоки с набросанными на нее жестяными банками. Банки предназначались для того, чтобы тот, кто хоть слегка прикоснулся бы к проволоке, сразу выдал себя, подняв трезвон. На случай же прорыва обороны за всеми этими заграждениями громоздились баррикады — подбитые танки, башни, снятые с танков. Из этих подбитых танков и башен вели огонь автоматчики и снайперы.
Немало было и всевозможных неожиданных «сюрпризов», которые враг разбрасывал везде, где только мог: там и тут бро¬
588
шены. были, словно их кто-то потерял здесь, велосипеды, чемоданы, патефоны. Казалось, что вещи эти, такие обыкновенные и мирные с виду, сами напрашивались, чтобы их взять в руки. Но каждая таила в себе смерть, каждая была заминирована.
Все до единого селения, все высоты связаны были между собой ходами сообщения и составляли единую и, казалось, совершенно неприступную оборону. Ключом этой обороны была высота 56,8.
И все же нашим частям предстояло эту оборону прорвать ео что бы то ни стало.
В холодную ноябрьскую ночь — в ночь на 22 ноября — командиры и политработники первого батальона собрались в блиндаже. В эту ночь никто не прилег ни на минуту. Дымя трубкой, командир батальона Плотников рассказывал товарищам о том, что делается на Волге.
— Ух, и жарко там!—говорил он негромким, но внятным голосом человека, который привык командовать.— Земля не выдерживает, дыбом стоит. Волга горит — нефтехранилища взорваны. Все рушится — камни, бетон, железо. А люди, обыкновенные люди — такие, как мы с вами, из плоти и крови,— держатся! Уму непостижимо, а держатся.
Плотников постучал трубкой о кулак и, помолчав, продолжал:
— Вот, скажем, завод «Красный Октябрь» расположен у самой Волги, на берегу. Теперь это одни развалины. Но люди — бойцы и свои, заводские,—дерутся за каждый камень. Удерживают полоску земли в десяток метров. Кругом все горит, земля ходуном ходит, а люди стоят. Стоят насмерть. И уверены, что выстоят... Вот, товарищи,— помолчав, сказал он,— мы их подвести никак не можем. Права такого не имеем.
В блиндаже пахнуло струей свежего воздуха. Дверь приоткрылась, и на пороге появилась Гуля. Она только что отвезла на машине раненых и вернулась в часть, захватив с собой почту.
Нагнув голову, она вошла в блиндаж в своем маскировоч-
589
иом халате поверх кожаного полушубка. Сняв меховые рукавицы, Гуля открыла санитарную сумку.
— Ты чем это нас угощать хочешь?— спросил кто-то.
— От такого угощения никто не откажется!—сказала Гуля и, вытащив из сумки пачку писем, принялась раздавать их командирам.
— Да где же ты их раздобыла ночью?
— Военная тайна!—смеясь, ответила Гуля,—Одно могу сказать: не сама написала.
«Как хорошо, что мне удалось привезти им эти письма перед самым наступлением!»—думала она, глядя на посветлевшие лица людей.
Все придвинулись к огню и почти заслонили его. Каждый читал по-своему: один — нахмурив брови, другой — чуть улыбаясь и покачивая головой, третий — взволнованно перебирая странички, заглядывая в конец и опять возвращаясь к началу.
Как любила Гуля каждого из этих людей! Как много с ними она пережила, сколько раз вместе с ними бывала на волосок от смерти! Сейчас, во время чтения писем, они казались ей не взрослыми людьми, а мальчиками, которые с жадным вниманием рассматривают долгожданные подарки. А ведь почти все они гораздо старше ее. Вот Иван Антонович Плотников. Мужественный в бою, он так прост и сердечен с товарищами. Чем-то он даже напоминает ей отца, хотя ничуть не похож на него. Ах, милый отец! Что-то он делает сейчас в Москве? Он, по своему обыкновению, поздно ложится спать и, верно, сейчас еще не спит. Заглянуть бы к нему на Сивцев Вражек, взбежать по лестнице и неожиданно позвонить у дверей.
И Гуля с необыкновенной ясностью представила себе лицо отца, удивленное и взволнованное ее неожиданным появлением. Лицо тонкое, еще молодое, хоть и немного усталое. Он снял свои очки в широкой оправе и глядит на нее напряженно, чуть прищурясь...
А что делает сейчас мама? Милая, дорогая моя мамочка! Сидит, верно, за столом, освещенным маленькой лампой, в далекой уфимской комнате и пишет письмо своим тонким, убористым почерком, поглядывая время от времени в темный угол, где спит в своей кроватке Ежик.
590
И Гуля словно увидела вновь мамины седеющие волосы, ее теплые серые глаза, услышала ее грудной, всегда взволнованный голос.
Дверь снова хлопнула. В блиндаж вошел связной офицер из штаба полка. Все сразу обернулись к нему, наскоро складывая и пряча письма.
Командир батальона Плотников бережно распечатал доставленный пакет и с каким-то особенным вниманием прочел бумагу.
— Товарищи,— торжественно сказал он,— получен приказ: завтра в восемь тридцать...
— Наступление!—подхватило несколько голосов.
Плотников кивнул головой.
— Да, наступление, к которому мы так тщательно готовились.
«Началось!»—подумала Гуля и неожиданно для самой себя сказала:
— Извините, товарищ капитан! Очень прошу вас учесть мою просьбу. Позвольте мне участвовать в бою... Хоть рядовым бойцом, если нельзя дать мне подразделение!
Плотников пристально посмотрел на нее.
— Там видно будет,— сказал он и стал разъяснять командирам подразделений смысл приказа.
— Нам нужно взять,— негромко и веско говорил он,— один из главных опорных пунктов противника: высоту 56,8. Опираясь на эту высоту, мы должны будем обеспечить дальнейшее продвижение батальонов и выполнение задач полка...
Так говорил командир батальона. Все понимали, что этот приказ — только частичка той большой задачи, которая стояла перед нашими войсками, сосредоточенными между Доном и Волгой. А эта большая задача заключалась в том, чтобы окружить трехсоттысячную армию противника, замкнуть стальным кольцом вражеские силы, а затем их ликвидировать. От этого наступления зависело все — не только судьба Сталинграда, судьба Волги, к которой рвался враг, но и судьба всей нашей Родины.
И вот это великое, решающее наступление началось. Герои осажденного, разрушенного почти дотла Сталинграда уже ус¬
591
лышали гул нашей канонады со стороны станицы Клетской. И теперь приближалась минута, когда они должны были услышать гул наших орудий со стороны Паншина, откуда готовила свое наступление и штурм высоты 56,8 — 214-я дивизия.
Плотников развернул карту и принялся подробно объяснять офицерам, что предстоит делать каждому из них.
— Ну как, все ясно?— спросил он.
— Ясно!—раздались голоса.
— Тогда по местам, товарищи. Доведите приказ до каждого бойца.
Командиры поднялись и вышли один за другим.
Близился рассвет. В блиндаже стало просторно.
Гуля надела полушубок, проверила свой автомат и вышла вместе с Трояновым.
Но тут ее кто-то окликнул. Она оглянулась.
Это был Шура Филатов, шестнадцатилетний подросток. Он казался Гуле совсем мальчиком. У него были пухлые щеки, вихор на лбу, и смотрел он исподлобья, чуть-чуть обиженно и застенчиво, хотя обижаться ему было не на кого: на фронт он пошел добровольно, и в полку его все очень любили. Разве только одна была у него обида — его слишком берегли, а он рвался в бой.
— Я тоже хочу в наступление,— сказал он нахмурившись.
— Мало ли что ты хочешь,— отрезала Гуля.— Подожди* наступать будем не один день. Это только начало. На всех дел хватит.
И она быстро пошла вперед — догонять Троянова. На ходу ей вспомнилось, как совсем недавно Шура чуть было не погиб. Он тащил какие-то провода на крышу дивизионного клуба. В эту минуту фашистской бомбой словно отрезало половину дома. Шура без памяти скатился с крыши.
«А еще в наступление просится, неугомонный!»—подумала Гуля, габыв в эту минуту, что она сама была такой же неугомонной, как и Шура.
ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА
Было семь часов утра. Вокруг расстилались холмы и лощины, подернутые дымкой тумана. Здесь, на передовой, чуть ли не каждый бугорок, каждый пригорок носил свое военное название. Впереди виднелись скаты холма, называвшегося высотой 56,8. Слева, ближе к нам, резко выделялась опутанная колючей проволокой высота «Артиллерийская». Обе высоты были заняты немцами.
Прошло еще полчаса, и в семь тридцать, ровно за час, назначенный для наступления, где-то рядом загрохотало так, что задрожала земля... Началось то, что называется артподготовкой. Нельзя было различить отдельных залпов в этом сплошном, почти непереносимом оглушительном грохоте. Земля дрожала от непрерывных взрывов.
Под густым покровом дымовой завесы двинулась, приближаясь к рубея^у противника, наша пехота. Но пока это еще не атака. Атака начнется тогда, когда дадут сигнал «катюши»...
«Слышат ли они нас там, в Сталинграде?—мелькнула у Гули мысль.— Не может быть, чтобы не слышали. И как, верно, радуются!»
Гуля тоже подвигалась вперед вместе с бойцами первого батальона...
И, хотя люди давно уже с нетерпением ждали сигнала к наступлению, он пришел для всех неожиданно. Что-то с пронзительным, поющим звуком понеслось в сторону врага.
«Катюши» заиграли!—поняла Гуля, и у нее радостно забилось сердце.— Вот оно, долгожданное!»
И сразу же, точно подхватив этот грозный запев «катюш», загремело раскатистое «урр-аа...». Под покровом дымовой завесы ринулись в атаку два наших стрелковых полка — 780-й и 776-й.
Придонские степи как будто разом ожили. «А... а... а...» — отозвались они на тысячеголосое «ура». Торопливо затрещали автоматные и пулеметные очереди — то длинные, то короткие.
Всю прошлую ночь, накануне наступления, саперы подготавливали проходы в проволочных заграждениях и в минных полях. И вот теперь, проскочив стремительным броском неболь-
23 Библиотека пионера. Том II 593
шое расстояние, отделявшее нас от противника, воины наши ворвались в траншеи врага. Впереди, на отвоеванном только что участке земли, появился красный флажок — первый вестник победы. За ним заалел второй, за вторым — третий.
Но сопротивление врага нарастало с каждой минутой. Притихшие было во время артиллерийской канонады вражеские точки теперь разом ударили по наступающим.
Командир дивизии генерал Бирюков, а вместе с ним комиссар Соболь и несколько офицеров штаба смотрели со своего наблюдательного пункта — через амбразуры блиндажа — то в полевые бинокли, то в стереотрубу. Они видели и понимали всю напряженность положения: соседние полки, которые должны были выступить одновременно и прикрыть наши наступающие полки с флангов, почему-то отстали. Нелетная туманная погода помешала вылету нашей авиации. Танки еще не перешли в наступление...
А тем временем, глубоко вклинившись в оборону противника, наши части оказались под яростным, губительным огнем и с фронта и с флангов особенно.
Бой не утихал ни на одну минуту. Он шел за каждый окоп, за каждый метр траншеи и хода сообщения.
Забрасывая врага гранатами, бутылками с горючей смесью, наши бойцы врывались в траншеи, в окопы и в рукопашной схватке добивали врага. Но и отвоеванный клочок земли сразу же становился ареной боя. Выход из траншеи враг сразу же заваливал мешками с песком, мотками колючей проволоки, и траншея попадала под непрерывный обстрел.
Троянов, Гуля и еще несколько бойцов из первого батальона пробирались по ходу сообщения вперед — то ползком, то перебежками. Гуля вглядывалась в даль — туда, где темнела окутанная дымом высота. Дым постепенно рассеялся, и, когда последние клубы его растаяли и расплылись в белесом утреннем воздухе, Гуля увидела, как на левом фланге, на юго-восточных скатах высоты, заалел флаг.
— Товарищ старший лейтенант!—радостно закричала Гуля.— Высота наша!
Троянов, не отрывая бинокля от глаз? давно уже смотрел вдаль.
594
— Наша!—сказал он чуть охрипшим от волнения голосом.— Это первая рота добралась... Молодцы!
В эту самую минуту рядом с Трояновым вырос связной. Добравшись сюда по ходам сообщения, он передал приказ комбата Плотникова выдвинуться на высоту, на юго-восточные скаты, которые только что взяла первая рота,— выдвинуться и всеми силами удерживать этот фланг до прихода подкрепления.
— Я с вами,— умоляюще сказала Гуля,— там, верно, раненых много!
— Нет уж,— ответил Троянов,— оставайся здесь. Их сюда переправят.
— Товарищ старший лейтенант!..
Троянов пристально поглядел на Гулю и задумался. В этом ясном, прямом взгляде было сейчас столько решимости, страсти, почти вдохновения, что он невольно кивнул головой и сказал:
— Хорошо. Идем.
Через несколько минут небольшая группа двинулась по ходам сообщения к высоте. Тут был и Митя Грещенко, на этот раз он был вооружен ручным пулеметом, и Кадыр Хабибулин с автоматом.
До высоты, казалось, рукой подать. Но каждый шаг этого пути стоил целого километра. Гуля пробиралась следом за Трояновым.
Но вот где-то совсем близко от нее охнул и приник к земле боец. Гуля оглянулась. Ранен? Так и есть. И, перехватив поудобнее свою санитарную сумку, она выбралась из траншеи и поползла к раненому. Никогда еще не приходилось ей работать в такой трудной обстановке. Нельзя было поднять голову, встать на колени.
Лежа, опершись на локоть, Гуля кое-как забинтовала рану и огляделась: что ж теперь делать? Троянов со своей группой далеко продвинулся вперед. Они вдвоем остались среди взрытого снарядами поля — она и раненый боец. Не бросать же его тут одного!.. Высмотрев неподалеку оставленный противником окоп, Гуля потащила туда раненого. Доползти и догнать своих! Доползти и догнать! Но по дороге к окопу она заметила еще
595
одного бойца, скорчившегося на земле. Уложив первого раненого на дно окопа, она поползла ко второму. И снова та же трудная, неловкая работа, снова тот же долгий путь среди рвущихся снарядов и мин к заброшенному окопу.
Она добралась до высоты, опоясанной траншеями, тогда, когда защитники высоты уже укреплялись и занимали свои места.
— Накопец-то!—крикнул Троянов, завидев Гулю издали, и по голосу его она поняла, как рад он, что она жива, и как упрекал себя за то, что взял ее с собой.
Они не успели перекинуться и несколькими словайи. На узкой лощине, идущей от высоты Золотого Рога к высоте 56,8, вдруг с грохотом и лязгом гусениц появились вражеские танки. За ними шли немецкие автоматчики. На взрытой снарядами земле отчетливо выделялись их темные фигуры. По сравнению с горсточкой наших людей их было очень много — несколько сот человек.
«Контратака!»—поняла Гуля.
— По врагу—огонь!—закричал Троянов, взмахнув рукой.
И тотчас грянули залпы артиллерийских орудий, выстрелы
из автоматов, застучали пулеметы. Немцы отпрянули. Все затихло.
Но вот начался новый бой за высоту.
Гуля то перевязывала раненых, то бок о бок с бойцами била по врагу из автомата. А немцы все усиливали огонь и с каждой минутой все ближе подступали к позициям, которые мы только что успели занять.
Но что это значит? Оторвавшись на мгновение от автомата, Гуля увидела группу наших бойцов, отходивших по склону высоты.
«Неужели не выдержали? Отступают?»—подумала Гуля.
Она не успела разобраться в том, что происходит, и скорей почувствовала, чем осознала самое важное: немцы рядом и вот- вот займут отвоеванный с таким трудом участок. Она выбежала по ходу сообщения из траншеи, бросилась бойцам наперерез и закричала задорно, уверенно, даже повелительно, будто давно привыкла комапдовать:
— Товарищи, за мной!
596
Люди остановились.
— За мной, товарищи!—еще раз крикнула Гуля и побежала вперед, не чувствуя под ногами земли и еще не зная, следуют ли за ней те, кого она позвала с собой. И вдруг она услышала позади тяжелый топот ног. Рослый боец с винтовкой наперевес обогнал ее, за ним другой, третий... Вместе с ними она ворвалась в окоп, который уже успели занять немцы.
А тем временем Троянов и бойцы отбивали атаки врага. Запас патронов подходил к концу.
— Ничего, ничего,— ободряюще говорил Троянов,— подкинут, не оставят нас так!
Бойцы верили ему, но сам он с беспокойством оглядывался вокруг. Плохо дело. Этак долго не продержишься. Только и остается, что умереть с честью.
И вдруг в конце траншеи, вынырнув откуда-то из темноты, появилась Гуля, а с ней командир батальона капитан Плотников.
За ними шли бойцы с ящиками в руках.
— Трояныч!—весело крикнула Гуля, увидев Троянова.— Подкрепление прибыло! Патроны тащим! Тореадор!
И, вспомнив арию, которую пели на перевалах Пиренеев Муссинак и Вайян Кутюрье, она пропела:
— «Тореадор, смелее в бой!»
Все бросились к патронам. Никто не спрашивал сейчас, какой ценой достались людям эти драгоценные ящики.
Опять четко и весело заговорили пулеметы и автоматы, и немцы снова откатились.
Наступило затишье.
— Молодец, Трояныч!—сказала Гуля.—С такой горсточкой храбрецов не дал противнику занять высоту!
— Ну, а вы-то оба как нас выручили!—сказал Троянов.— Где раздобыли столько боеприпасов?
— Это пусть она расскажет,— ответил Плотников, кивнув на Гулю.
Гуля стала торопливо рассказывать о своей вылазке и вдруг, мучительно сморщившись и закусив губу, замолчала.
597
— Голубушка, что с тобой?—тревожно спросил Плотников.
И Троянов тоже насторожился...
— А не прогоните, если скажу?
— А куда от тебя денешься?—ответил с горькой усмешкой Плотников.
— Ногу мне поцарапало.
— Сильно?
— Да, порядком.
И тут же, в траншее, Гуля принялась с помощью Плотникова и Троянова бинтовать себе ногу.
Плотников сокрушенно покачал головой:
— Эх, и отправить тебя сейчас никуда нельзя — убьют по дороге...
— Да я и не уйду никуда,— сказала Гуля.— Ничего мне не сделается. Рана пустяковая.
И, продолжая делать себе перевязку, она не то тихонько пела, не то бормотала:
Мы теперь далеко-далеко,
Между нами поля и луга,
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага...
Тихо и задумчиво Плотников повторил:
— А до смерти четыре шага...
Потом вздохнул и сказал, нахмурившись:
— Ну, кому-кому, а тебе еще жить и жить. Да и нам с Троянычем помирать некогда.
Но в эту минуту что-то с огромной силой ударило и взорвалось где-то поблизости. Немцы начали новую атаку высоты 56,8.
Вокруг все грохотало — то раскатисто, то отрывисто и часто, и в этом хаосе гула и огня трудно было понять, что происходит.
И вдруг в траншее появился — неизвестно как и откуда — Шура Филатов. Согнувшись, он тащил на спине, как ранец, большой и тяжелый термос — литров на двадцать.
— Кушать подано,— сказал он, спуская со спины свою но¬
598
шу.— Наливайте побыстрей, а то мне надо на дивизионный пункт еду доставить.
— Какой же ты молодчина, Шурка!—говорила Гуля, наскоро хлебая оловянной ложкой из оловянной тарелки горячие щи.— Пропали бы мы без тебя.
А Плотников добавил, тоже быстро уплетая ложку за ложкой:
— Вот и ты участвуешь в атаке, Филатов. Подкрепление доставил.
Уже стемнело, а бой за высоту все еще продолжался. Связь батальона Плотникова с командиром полка Хохловым давно прервалась. Плотников послал к нему самого изворотливого и ловкого из своих бойцов — Хабибулина. Но, должно быть, до Хохлова добраться Кадыру так и не удалось. Долгожданного подкрепления все еще не было. А дотянуться, додержаться надо было во что бы то ни стало...
Всю ночь не утихал бой. Наступило утро.
Гуля стояла теперь недалеко от пулеметчика Грещенко. Пулемет его строчил не умолкая.
— Молодец, Митя!—кричала Гуля, подбадривая его.—Так их, дьяволов! Митя, смотри, наши танки пошли! Танки!
Грещенко, не отрываясь от пулемета, что-то закричал в ответ, но слов его нельзя было разобрать.
И вдруг его пулемет замолчал.
— Митя, что же ты?
Она положила автомат и подбежала к Грещенко. Он лежал, приникнув головой к своему пулемету. Из-под шапки по лбу струилась кровь. Гуля схватилась за свою санитарную сумку, но это было уже не нужно. Она бережно опустила отяжелевшую голову на землю, поцеловала убитого Митю в лоб и заняла место у его пулемета.
И вдруг Гуля увидела, как в нескольких шагах от нее, вскинув руки, упал навзничь Плотников. Превозмогая боль в ноге, Гуля подскочила к нему, нагнулась.
— Товарищ капитан! Ванечка!—крикнула она, забыв в эту минуту, что говорит с командиром батальона.— Голубчик! Сейчас перевяжу! Легче будет. Потерпи.
Плотников тяжело и громко дышал.
599
Гуля выхватила из сумки бинт и быстро сделала перевязку.
А немцы уже двигались снова. Подходили все ближе, ближе...
Оставив раненого на месте, Гуля бросилась опять к пулемету. Меткой очередью остановила она тех, что подбирались с ее стороны. Немцы залегли. Но вот пулеметный диск кончился. Она пошарила вокруг себя и поняла: стрелять нечем. Вся надежда на гранаты.
Гуля вырвала гранату из-за пояса. Крепко сжала ее в руке и приготовилась... А ну, подойдите, подойдите! И в этот миг она почувствовала, что левая рука у нее стала немая, тяжелая, словно не своя, и рукав наполнился чем-то горячим и липким. Закружилась голова...
«Только бы не упасть!»
Гуля стиснула зубы, еще крепче зажала ручку гранаты и, подпустив немцев поближе, метнула ее. Хорошо!.. Точно!..
Гуля вытащила вторую гранату, последнюю. Эту уже нельзя было бросать — ее нужно было оставить для себя, чтобы не сдаться врагу живой...
Ноябрьская вечерняя мгла со всех сторон обступила высоту. И, почти сливаясь с этой мглой, черные на сером, надвигались все ближе и ближе фигуры немцев...
И вдруг где-то совсем рядом в темноте раздались голоса. Как будто русский говор! Свои... Вспыхнула ракета, брошенная врагом, и осветила белым светом приближающийся полк красноармейцев. Это был еще один полк дивизии — 788-й.
«Подкрепление!» — поняла Гуля.
Да, это было подкрепление. Полк продвигался к высоте. Но он был еще далеко. А с высоты под натиском врага откатывалась рота первого батальона. Командира с ней не было. Осколком немецкого снаряда его убило наповал.
И опять какой-то стремительный порыв словно подхватил Гулю. Она забыла боль, усталость, страх — все на свете.
— Товарищи!—закричала она и словно издали услышала свой сильный и звонкий голос.— Я — первая на штурм! Кто за мной? В атаку, вперед! За Родину!
— Вперед! — подхватил один голос.
— За Родину!—гулко отозвались десятки голосов.
600
Гуля, нагнувшись, пробежала несколько шагов и вдруг будто споткнулась, поднялась и снова упала.
Троянов обернулся, положил автомат на землю.
— Гуля! — окликнул он ее.— Да что же это с тобой?
Но она не отвечала.
Он стал было расстегивать ворот ее гимнастерки и почувствовал на своих руках кровь. Ранена. В грудь.
Гуля глухо застонала, рванулась и, запрокинув голову, с трудом выговорила:
— Ничего... Чья высота? Наша?
Она пыталась еще что-то сказать, но попять ее было трудно.
Уже похолодевшую Гулю бережно положили на плащ-палатку, а вокруг все так же гремел бой за высоту.
— Прощай, Гуленька...— сказал Троянов и, обернувшись, крикнул: — Товарищи! Наша Гуля убита. Отомстим за нее.
И все, кто был вокруг, ринулись на врага. Бой за высоту разгорелся с новой силой.
Дружным, единым натиском высота 56,8 была вновь взята, отвоевана, оплачена кровью — последняя высота в Гулиной жизни.
ДВА ПИСЬМА
В одной из комнат трехэтажного белого дома, среди опрокинутых стульев и разбросанных кубиков, сосредоточенно трудился Ежик. Он уже успел перевернуть вверх дном все, что только мог, и теперь пытался сбросить с подоконника тарелку. Его бабушка только что побежала в переднюю открывать кому-то дверь, и Ежик решил воспользоваться ее отсутствием. Это ему удалось. Тарелка полетела на пол и разбилась вдребезги. Ежик испугался и отскочил. Он с удивлением смотрел на черепки, не понимая, каким образом одна большая тарелка могла превратиться в такое множество маленьких тарелочек.
Ежик выглянул в переднюю.
— Баба! — позвал он.— Мотри!
601
— Погоди, Ежик! — сказала его молодая бабушка, разглядывая письмо.
На конверте она увидела незнакомый почерк и штамп полевой почты.
— Ну, наконец-то!
Это, конечно, ответ на ее письмо.
Два месяца тому назад она, по секрету от Гули, написала командиру дивизии письмо с просьбой отпустить дочку в отпуск хоть на несколько дней.
«Неужели откажет? Не может быть...»
Она распечатала конверт.
«...Ваша дочь,— написано было в письме,— геройски вела себя в этих боях. Она молодец, бесстрашная, славная дочь нашей Родины. Ее можно было видеть и с ранеными на руках, ее можно было видеть и ведущей за собой бойцов в атаку, она и донесения успевала приносить. 23 ноября дочь ваша геройски погибла...»
Письмо, словно живое, дрожало в руках у матери, буквы двоились, мешались перед ее глазами. Она не понимала этих строк...
— Баба! — снова позвал Ежик и подобрал с полу конверт.
— Постой, Ежик,— проговорила она и, войдя в комнату, опустилась на кровать: она все еще не понимала смысла письма, пе верила ему, не могла поверить.
Притихший Ежик с удивлением смотрел на нее.
А на следующий день пришло еще одно фронтовое письмо — от Люды Никитиной.
«Здравствуйте, дорогая Гулина мама! Пишет вам девушка, которая дружила с вашей Гулей. Меня все время тянет написать вам, успокоить вас, хотя я и знаю, что потеря такой дочери, как Гуленька, это тяжелое, очень тяжелое горе. Ну ничего, дорогая, крепитесь. Ведь Гуленька не ушла от нас совсем, она всегда будет с нами. Родина не забудет своей героини. А вас, воспитавшую такую преданную Родине дочь, такого славного воина, назовут матерыо многие девушки, патриотки нашей страны...
602
Я очень много была вместе с Гулей, особенно последние три месяца. Я немного моложе ее, и она всегда так заботливо относилась ко мне, давала советы, радовалась, если мне что-нибудь удавалось, и звала меня: «Милая девочка». Мы с ней работали в санбате, вместе в разных переплетах бывали, из которых еле- еле выходили живыми, вместе пели и шутили. Во время боев мы, правда, бывали на разных участках, но зато потом, после наступления, встретимся — запыленные, усталые, поцелуемся крепко. И опять разговоров, смеху без конца.
Всегда она была веселая, и только раз видела я ее в слезах. Она очень скучала по своему Ежику, особенно после ваших писем. Часто вспоминала вас, отца, говорила о вас так тихо всегда, с какой-то грустью.
В последний раз мы виделись с ней за несколько дней до наступления. В этот день мне исполнилось восемнадцать лет, а главное — я получила правительственную награду, медаль. У нас даже были гости, и мы очень хорошо провели вечер. А когда все ушли, мы с ней остались вдвоем. Мы знали, что скоро будем наступать, значит — ждали всего... Какое-то тревожное настроение было. Уселись с ногами на кровать, прижались друг к другу и долго-долго сидели так. У нас был важный разговор. Говорили обо всем — и о жизни, и о любви, и о товарищах, и о родных. О чем только могут говорить две подруги, о том мы с ней и говорили. А под конец мы условились, куда написать и что сказать, если кого из нас убыот. И вот случилось так, что не Гуле, а мне пришлось писать такое письмо.
Помню, поздно ночью вышли мы с ней из землянки. Как хорошо было! Все кругом бело от инея, ночь морозная, звездная и почему-то в этот день совершенно тихая, даже не было слышно перестрелки, будто и войны не было. «Как все-таки хороша и удивительна жизнь!..— сказала мне Гуля.— Проклятые фашисты!» Это был, кажется, последний наш разговор. А потом началась подготовка, потом стали наступать. Нас, как всегда, послали на разные участки, и я больше ее не видела. Раз ночью она приходила ко мне, а меня не было. Оставила только привет на листочке бумаги из записной книжки. Листочек маленький, в клеточку, а с края — легкий след крови от рук, перевязывавших бойцов.
603
На другой день вечером, как сквозь сон, услышала я, что Гуля погибла. Меня сняли с передовой, я не находила себе места от горя, от такого большого горя, что даже ноги не могли выдержать: меня все вниз тянуло, я все на колени падала. И сколько еще вместе с Гулей погибло тогда наших товарищей, молодых, славных, таких, что и рассказать нельзя! Вот как далась нам та большая победа.
А больше всего жалеют у нас Гулю и Алексея Топлина, командира артполка. Это был замечательный, замечательный человек! И Гуля с ним дружила очень. Они вместе пели хорошо. Их и похоронили вместе.
Ну вот, как будто и все. Нет, нет, не все! Ежик остался без матери, но он будет сыном нашей дивизии. Мы все будем заботиться о нем, пока живы. Мне очень хочется успокоить вас, помочь вам, родная, ведь у меня тоже есть мама, я знаю, как я дорога ей. А мамы все одинаковы. Что в жизни может быть тяжелее потери ребенка? Но ведь это война, ведь жертвы должны быть. А Гитлер — он нам заплатит сполна. Мы сейчас здорово бьем по врагу. Он уже бежит без оглядки, но это еще только па чало.
Поцелуйте за меня Ежика, пусть он будет крепким, здоровым мальчиком. Пусть гордится своей мамой. Она была настоящей героиней.
Я буду очень рада, если вы напишете мне хоть несколько слов в ответ. Целую.
С коммунистическим приветом Люда Никитина.
Берегите себя, родная, вы нужны Ежику и нам всем».
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
На берегу Дона, близ хутора Паншино, 780-й стрелковый полк хоронил своих героев — Гулю Королеву и Алексея Топлина.
Оба гроба стояли в дивизионном клубе на возвышении.
604
В комнате было тесно. Бойцы и командиры пришли сюда прямо с передовой, чтобы проститься с любимыми своими товарищами.
Тут были и начальник политотдела дивизии Клочко, и командир полка Хохлов, и комиссар Соболь, и Троянов. Люда Никитина стояла у изголовья и все смотрела на неподвижные, спокойные лица Гули и Алексея. Осторожно поправила она прядь волос, прильнувшую к Гулиной щеке, отодвинула колючую веточку, спустившуюся на лоб Алексея.
Отвернувшись к окну, стоял Шура Филатов и время от времени вытирал кулаком глаза.
А в уголке тихо плакали мальчики — Саша и Гриша. Им было стыдно плакать — ведь они разведчики, но слезы сами текли по их щекам.
За свою короткую жизнь они уже видели немало убитых. Но увидеть среди толпы сгрудившихся живых людей неподвижную и безмолвную Гулю, которая вчера еще ходила, разговаривала, смеялась так же, как и все, было странно и страшно. Над мальчиками наклонился Троянов.
— Что, разведчики? Не сдавайтесь, держитесь. Что ж поделаешь! А Гулю помните, Это ваше счастье, что вам довелось знать ее.
Мальчики сразу подтянулись по-военному и поправили ремни и шапки.
— Товарищ старший лейтенант,— прошептал Гриша,— а что же это нигде не видно дяди Семена?
— Товарища Школенко,— поправил его Саша.
Троянов пожал плечами:
— Да мы и сами не знаем...
О судьбе героя-разведчика думали не одни только Саша и Гриша. Мысль о нем тревожила всех.
Много раз проверяли на командном пункте списки погибших и раненых. Но Семена Школенко в списках не было.
И никто не знал и не мог себе представить, что в это самое время Семен Школенко находится в фашистском «лагере смерти». Фашисты стащили его, тяжело раненного, с бруствера в окоп. Теперь его пытали и мучили, заставляя говорить. Но он молчал...
605
Внезапно под окном, нарушив тяжелую тишину, загремел полковой оркестр. Торжественные, скорбные звуки траурного марша ворвались и заполнили собой всю комнату. Люда закрыла глаза, а когда открыла их, она увидела, словно в тумане, как оба гроба снялись с возвышения и медленно поплыли на руках у товарищей к выходу.
Вот и две раскрытые могилы.
Отсюда хорошо виден западный берег Дона, через который Гуля переправляла раненых. Но сейчас берег, захваченный врагом, затянут синевато-серой пеленой тумана.
А южнее хутора Паншино, там, за высотой 56,8, где-то у хутора Вертячего, еще гремят бои. Небо полыхает заревом огня. В свежем ноябрьском воздухе гулко отдаются тяжелые удары орудий.
Руки друзей бережно опустили на землю два простых, некрашеных гроба.
Седой, суровый с виду человек, начальник артиллерии дивизии майор Прозоров, вышел вперед и медленно обвел всех
глазами.
— Товарищи! — сказал он.— Здесь перед нами лежит Алексей Евдокимович Топлин, или, как мы его звали попросту, Алеша. Смертью храбрых пал Алексей Топлин, командир артиллерийского полка. А было это так. Во время нашего наступления на высоту 56,8 выбыл из строя расчет станкового пулемета — того, что поддерживал своим огнем наступление одной из рот. Наступающая рота залегла, а майор Топлин подбежал к пулемету и открыл огонь по фашистам. Нажим врага ослабел. И тогда Топлин скомандовал: «Герои-богатыри! Не отдадим
врагу ни одного клочка земли нашей русской! Вперед, герои!» — и повел роту на врага. В эту минуту вражеская пуля сразила его наповал. Прощай, Алеша! У тебя была прямая, открытая, хорошая жизнь. И такая же смерть.
Он замолчал, а потом перевел глаза на другой гроб.
Все головы повернулись к Гуле Королевой.
Ветер чуть шевельнул прядку ее волос, и легкая тень пробежала по нежному лицу, чуть оживляя его суровую неподвижность.
Вперед вышел комиссар Соболь.
606
— Кто бы мог подумать,— сказал он,— что в этой молодой женщине, почти девочке, таится такая сила — сила любви и ненависти, такое поистине величайшее геройство? Гуля Королева, товарищи, вынесла с поля боя более ста раненых бойцов и командиров, и она же вместе с бойцами на высоте 56,8 штурмом брала немецкие окопы! В тяжелый момент боя за эту высоту, обагренную кровью, она подняла оставшееся без командира подразделение и повела его в атаку... Вот эта красивая, юная, всем нам милая девушка... Товарищи, отомстим врагам за наших друзей, за Алешу Топлипа и Гулю Королеву!
Закрылись крышки гробов. Боевые знамена, тяжело поникнув, склонились пад героями. Молча стояли, опустив обнаженные головы, те, кого так любила Гуля,— ее боевые товарищи. Батарея из шести орудий выстроилась у могил, устремив жерла в сторону врага.
Прозвучала команда:
— По врагам Родины — огонь!
Гулко грянул прощальный салют. Стволы орудий отпрянули назад. И снова:
— Залпом — огонь!
Десять раз прогремели орудия, и десять раз снаряды с резким свистом полетели в стан врага.
„ЗОЛОТОКУДРА ДИВЧИНА“
Прошло полгода.
Там, где гремели невиданные в истории войн бои, наступила тишина. Гулкая, трепещущая земля, отзывавшаяся во время боев на каждый залп так, словно сама испытывала боль, теперь успокоилась.
Настала весна. Изрытые оврагами степи, раскинувшиеся между Волгой и Доном, покрылись низкой зеленой травой. Везде, куда ни посмотришь, застыли разбитые грузовики, скрученные крылья самолетов, перевернутые полусожженные машины.
На берегу Дона у маленького тихого хутора высится обелиск. На шпиле поблескивает металлическая звезда. Подходя к
607
памятнику, люди внимательно читают надпись на нем. Но и без надписи они знают, кто лежит под этим обелиском.
Дивизия, которая дралась здесь за каждую пядь земли, далеко ушла из этих мест. Но не ушла отсюда слава о Гуле и обо всех героях, павших за эту землю.
Был теплый весенний вечер. Украинец Хома Онищенко, сержант, окруженный бойцами и хуторянами, курил трубку и не спеша рассказывал:
— Була тут у сусидний дивизии золотокудра дивчина. Така, що страху не мала. От раз бачуть немци — наша частына в бий иде. А попереду — дивчина, уся в полумьи. До нимецьких око- пив иде, а сама не горыть. Взяла окоп и дальше пишла. Имья цией дивчини було чи Корольова, чи Короленко, а може, и Король.
— А вы що, сами ни бачили? — спросил в темноте чей-то женский взволнованный голос.
— Сам я не бачив, але чув вид людей. Про ней вси говорить.
Хома помолчал, покурил, а потом добавил неторопливо и
веско:
— Ця дивчина дуже гарно спивала. Колы немци зачують цю писню «Катюшу», так сразу ж стриляты почнуть, щоб* чу- ты не було. Та хиба ж переможешь «катюшу», колы вона по всему фронту гремыть?
Хома докурил трубку, встал и пошел. Он и не подозревал в эту минуту, что женщина, которая так тревожно расспрашивала его о «золотокудрой дивчине», была ее мать и что приехала она в этот край только для того, чтобы увидеть людей, знавших Гулю, чтобы услышать о ней хотя бы одно слово...
ОГНИ НАД КРЕМЛЕМ
Ежик с бабушкой приехали из Уфы в Москву вечером.
В большую комнату многооконного дома, возвышающегося над Москвой-рекой, вошел двухлетний мальчик.
Он растерянно посмотрел по сторонам, взглянул на чемоданы и корзинь^ доставленные сюда на лифте, и сказал:
608
— Баба, пойдем лучше домой!
— Это и есть наш дом, Ежик. Сейчас я тебе постельку приготовлю и спать тебя уложу.
Ежик подошел к окну, дернул штору.
— Нельзя, маленький,— сказала лифтерша.
— Почему нельзя? — спросил Ежик.
— У нас в Москве затемнение!
— Ага,— сказал Ежик, будто понял.
В это время заговорило радио:
— Товарищи! Сегодня, в восемь часов вечера, будет передано по радио важное сообщение! Слушайте наши радиопередачи!
— Вот будто специально для вас! — сказала лифтерша.— Скоро мы вашему малышу салют покажем.
В комнате погасили свет, раздвинули штору. За окном грянул орудийный залп. Вслед за ним высоко в небо взвились, затрещав, гроздья красных, зеленых и желтых огней. И сразу стало видно все — заиграли цветными огнями стекла Кремлевского дворца, ярко осветились зубчатые стены, блеснули золотом стрелы башенных часов, засверкала внизу вода Москвы- реки. И снова ударили пушки.
— Бух! — сказал Ежик и засмеялся.
В расцвеченную огнями воду падали ракеты.
Ежик как зачарованный смотрел в окно, пока не погасли последние огни.
— А теперь, Ежик, спать.
Лежа в постели, он потребовал:
— Баба, еще бух!
— Завтра будет «бух». А теперь спи.
Ежик положил голову на подушку.
— Баба, расскажи.
— Что рассказать?
— Про маму Гулю,— сказал Ежик, вертясь и приминая головой подушку.
— Хорошо, Ежик. Слушай. В этом самом доме, в этой самой комнате жила мама Гуля. Она тогда еще была такая маленькая, как ты.
— А я? — спросил Ежик и сел.— Где я был?
609
— Тебя тогда еще не было.
Ежик удивленно смотрел на свою бабу. Как это может быть, чтобы его не было? Совсем не было?
— Я тоже был! — рассердился Ежик.
— Ну хорошо, был. Только закрой глаза.
Ежик лег, а потом опять сел.
— Баба, покажи огоньки!
— Их сейчас нет.
— Открой.— Он показал на штору.
— Нельзя, мальчик.
Ежик недоверчиво смотрел на окно. Ему казалось, что стоит только раздвинуть штору, и в темном небе опять засверкают огни, а стекла задребезжат от грохота орудий. И светлый образ мамы Гули уже связывался в его представлении с этими радужными огнями, загорающимися над зубчатыми стенами Кремля.
ДОРОГИЕ МОИ ЧИТАТЕЛИ!
Вот вы и узнали историю короткой Гулиной жизни. В Артеке, в парке Нижнего лагеря, к большой скале прибита белая мраморная доска. На этой мемориальной доске начертана надпись:
ОНИ БЫЛИ АРТЕКОВЦАМИ
А ниже — имена пионеров Артека, погибших на войне: Тимур Фрунзе. Иван Туркенич. Гуля Королева. Володя Дубинин. Рубен Ибаррури.
Под Волгоградом, недалеко от хутора Паншино, вблизи той возвышенности, которая называлась в военное время высотой
56,8, высится памятник. С медальона обелиска смотрит на нас милое, родное нам всем лицо Гули, а ниже, под медальоном, вырезана на камне надпись:
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ
У памятника часто собираются юноши и девушки, приходят сюда и дети. Каждому хочется принести к подножию памятника живые цветы, молча постоять здесь и подумать...
610
В хуторе Папшиио есть библиотека имени Гули Королевой. И каждый, кто переступает порог библиотеки и уносит с собой книгу, тоже поминает добрым словом Гулю Королеву, отдавшую свою молодую, прекрасную жизнь за то, чтобы жизнь продолжалась.
Меня часто спрашивают мои читатели о судьбе героев книги «Четвертая высота». Особенно часто спрашивают о Ежике, сыне Гули.
Одна маленькая читательница сама придумала его дальнейшую судьбу.
Она прислала мне рассказ собственного сочинения, под названием «Ежик». В этом рассказе он, уже взрослый человек, по профессии агроном, встречается в вагоне метро с боевой подругой своей мамы.
Другой маленький читатель решил сделать Ежика генералом.
И это было тогда, когда Ежику исполнилось всего только семь лет.
А сейчас оп уже, конечно, давно не Ежик. Саша живет в Киеве, как и его бабушка, Зоя Михайловна. Окончил Медицинский институт.
Товарищ Гулиного детства Эрик Бурин — кавалер многих орденов. Он прошел боевой путь от Волгограда до Праги.
Когда Гуля была на передовой в районе Волгограда, она писала отцу 9 ноября 1942 года: «Где-то сейчас Эрик?» И не знала она тогда, что товарищ ее детских лет находится на фронте совсем близко от нее. А когда наши части 6 ноября 1943 года освобождали Киев, с мыслью о Гуле, о том, чтобы отомстить за нее, одним из первых ворвался в этот город Гулиной юности и Эрик.
Нередко в гости к пионерам и школьникам, а также к воинам Советской Армии приезжает бывший командир 214-й стрелковой дивизии Герой Советского Союза генерал-лейтенант Николай Иванович Бирюков. Он рассказывает своим юным и взрослым слушателям о славном боевом пути дивизии, прошедшей от Волгограда до Берлина.
От него я узнала о дальнейшей судьбе замечательного разведчика Семена Школенко.
611
В конце 42-го года, спустя месяц после штурма высоты
56,8, был освобожден от немцев хутор Вертячий. И сразу же комиссар Соболь обнаружил за хутором котлован, обнесенный колючей проволокой.
Вокруг были вкопаны столбы с грозными надписями по-немецки:
«Проход воспрещен!», «Не приближаться!» На снегу лежали трупы замученных советских людей — военнопленных и мирных жителей. Это был один из фашистских «лагерей смерти».
Семена Школенко, тяжело раненного, нашли неподалеку, в доме старой одинокой крестьянки. Она каким-то чудом спасла его, перетащив из «лагеря смерти» к себе домой, и спрятала в подполе.
Первое, о чем сказал Соболю раненый,— это о том, что, перед тем как его схватили фашисты, он успел — в самую последнюю минуту — закопать свой партийный билет и орден Красного Знамени.
По просьбе раненого, комиссар повез его к месту недавних боев за высоту 56,8. Там, в промерзшей земле, Школенко нашел и свой партийный билет и орден.
После этого его отправили в госпиталь.
Излечившись от ран, Школенко снова вступил в строй и потом героически сражался в боях за Волгоград. А в бою под Белгородом Семен Школенко пал смертью храбрых.
Отдали свою жизнь за Родину и Люда Никитина и Шура Филатов.
А юных разведчиков Сашу и Гришу после разгрома немцев на Волге комиссар Соболь передал в детский дом.
Вспоминая подвиги воинов 214-й стрелковой дивизии, награжденной орденами Красного Знамени, Суворова, Богдана Хмельницкого и удостоенной почетного наименования Кременчугско-Александрийской, генерал Бирюков всякий раз говорит и о Гуле Королевой.
У Гули было много друзей в детстве и в юности. Но еще больше друзей у нее теперь. О ней пишут в письмах и дети и взрослые со всех концов нашей страны. Приходят письма также из зарубежных стран.
612
Иногда адрес на конвертах бывает очень коротким:
СССР. Маме Гули Королевой.
Или еще короче:
СССР. Родным Гули.
И письма доходят.
Девочка из Западной Германии, Урзула X., писала мне:
«...Все люди должны сделать так, чтобы никогда не было войны против Советского Союза. Теперь фашисты опять призывают взяться за оружие. Можно только спросить: неужели эти люди ничему не научились после такой жестокой войны? Ведь война принесет только бедствия и несчастья. Я не хочу войны! Я хочу мира!»
Такими простыми словами немецкая девочка выразила те чувства, которые заставили Гулю пойти на фронт. Гуля боролась и погибла во имя мира, во имя счастья на земле.
И мне хочется пожелать вам, дорогие ребята, мирной и счастливой яшзни, в которой вам придется брать новые высоты — высоты вдохновенного, творческого труда.
ГОТОВНОСТЬ К ПОДВИГУ
Человек всегда стремится к подвигу. И если наступает у человека безразличие к необычайному, героическому, он перестает быть человеком.
Сколько времени длится подвиг? Мгновение или вечность?
Много лет отделяет тебя, мой юный друг, от суровых военных дней, когда отдали жизнь за Родину герои этой книги. Но ты прочел эти страницы, и твое сердце забилось, твоя мысль заработала горячо и напряженно, и смутное желание совершить что-то значительное и важное для Родины овладело тобой. Ты представил себя на месте тех, кто, невзирая на смертельную опасность, поднимал в атаку бойцов или мужественно сражался в тылу врага,— и задал себе вопрос: смог бы я выдержать то, что выдержали они, хватило бы у меня силы и воли на такие дела? Эти твои переживания — живой отзвук подвига.
614
Помнишь, как был потрясен Олег Кошевой, узнав о героизме Зои.
«Некоторое время он сидел,— рассказывает его мать Елена Николаевна Кошевая в «Повести о сыне»,— опустив голову, задумчивый. Может быть, в это мгновение он представлял себе мужественный путь Зои, а возможно, что именно тогда его сердце загорелось огнем мести, который с тех пор уже никогда не угасал в его груди. Вдруг он поднял голову, взглянул на нас и сказал:
— Если бы мне пришлось попасть в их руки, мама...
Он замолчал и молчал долго».
И теперь я хочу задать вопрос: как боролся бы и как вел себя пред лицом врага Олег Кошевой, если бы на него не распространилась сила воздействия подвига Зои? Думаю, он поступил бы так же, но бороться, а позднее переносить пытки на фашистских допросах ему было бы куда труднее. Подвиг Зои отозвался в его сердце силой.
Значит, один подвиг облегчает другие? Нет, не облегчает — вдохновляет. Каждый подвиг помогает свершению множества новых. Человек не всегда знает, как велики его силы и возможности. Но, узнав о героическом поступке других людей, он становится уверенней в себе, обретает крылья.
Когда в «Повести о Зое и Шуре», написанпой матерью героев Любовью Тимофеевной Космодемьянской, перечитываешь последние слова, произнесенные Зоей перед казнью, представляешь их звучащими на морозном ветру, слышишь их сквозь время и расстояние и начинаешь яснее представлять себе природу подвига Зои Космодемьянской.
Бесстрашно девушка принимала смерть, чтобы люди жили:
«Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!»
Она принимала смерть, чтобы людям было не страшно умирать за Родину:
«Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!»
Она принимала смерть и этим наносила свой последний удар врагу:
615
«Нас двести миллионов, всех не перевешаете! Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен: все равно победа будет за нами!»
Она принимала смерть — и это был ее всенародный призыв к борьбе:
«Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь...»
Пройдет время, и, стоя перед врагами окровавленный, со связанными руками, Олег Кошевой скажет:
«О работе «Молодой гвардии» меня ие спрашивайте, не скажу ни слова. И еще запомните: советскую молодежь вам никогда не поставить на колени — она умирает стоя. Это мои последние слова, и знайте, что я слишком презираю вас, чтобы продолжать разговаривать с вами дальше. Посоветую одно: пе прячьтесь! Вас найдут все равно! За все ответите!»
Пройдет время, pi Гуля Королева, героиня повести Елены Ильиной «Четвертая высота», забыв боль, усталость, страх — все на свете, крикпет:
«Товарищи! Я — первая на штурм! Кто за мной? В атаку! Вперед! За Родину!»
Она пробежит всего лишь несколько шагов, и пуля пробьет ей грудь. И она упадет на землю. Но этих нескольких шагов окажется достаточно, чтобы поднять в атаку бойцов. Ее сердце остановилось, но начатый ею штурм продолжался, гремел, вырвал победу.
Человек всегда тянется к подвигу. И чем больше совершается героических поступков, тем больше становится людей, готовых на подвиг.
В моем путевом блокноте есть запись: «Могилка в ле¬
су. Наташа Новикова. 6 лет. Убита фашистами». Слух об этой маленькой могилке пе прошел по городам и весям. Вероятно, о ней знают только жители окрестных мест. Но моя память все чаще и чаще возвращается к этому холмику. И я вспоминаю стихи из моего фронтового блокнота:
Я встретил девочку в январский день морозный В селенье, где прошла военная гроза.
Смотрели как-то грустно и серьезно Заплаканные детские глаза.
616
Теперь мне почему-то кажется, что девочка, встретившаяся мне на дорогах войны, и есть Наташа Новикова. Убитая фашистами, она живет, существует в огромном временном пространстве. Живет ее подвиг.
Какой подвиг совершила Наташа Новикова, шестилетняя девочка, еще не покинувшая мир игр и сказок? Она не стреляла в фашистов, не взрывала казармы, не пускала под откос вражеские эшелоны. Но ее гибель от руки презренного врага уже сама по себе есть подвиг. На войне погибали не только солдаты, но каждый погибший становился солдатом. Она стала маленьким солдатом войны, Наташа Новикова.
Имя другой девочки — Тани Савичевой — знает весь мир. Она жила в моем родном городе, в Ленинграде, и в самые жестокие дни блокады вела дневник, каждая страничка которого до сих пор обжигает сердца людей. Дыша на окоченевшие пальцы, Таня писала:
«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г... Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г... Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г... Дядя Ваня умер 13 апр. 2 ч. ночи 1942 г... Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г... Мама 13 мая в 7.30 час. утра 1942 года... Савичевы умерли... Умерли все, осталась одна Таня».
Вот и весь дневник. Самый короткий pi самый тяжелый в мире дневник, который вела мужественная девочка, ленинградка Таня. Да, Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком партизан. Она просто жила в своем родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и ие вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жило еще много невоенных людей, которых враг не мог сломить ни голодом, ни холодом, ни огнем.
Наташа Новикова погибла от пули врага. Таня Савичева погибла от блокадного голода. Эти девочки были слишком малы, чтобы держать в руках оружие. Но они погибли как бойцы.
Я вспомнил о Наташе и Тане потому, что они по своему духу очень близки героям этой книги, они как бы стоят в одном строю с Гулей Королевой, Зоей Космодемьянской, Олегом Кошевым — в одном строю, только больнше на правом фланге, а маленькие, Наташа и Таня, на левом — по росту и по возрасту.
617
Некоторые думают, что героями становятся только необыкновенные люди, наделенные особенной силой духа и мужеством, люди, которые всю жизнь отличаются от других.
Я снова перелистываю страницы «Повести о сыне», возвращаюсь в детство Олега. Ищу, где начинает пробиваться маленький, едва заметный родничок, которому суждено стать могучим потоком силы, мужества, патриотизма. В детстве Олега много забавного. Вот он рвет малину губами, потому что дедушка запретил ему рвать ягоды руками. Вот Олег с плачем отступает под натиском... сердитого петуха... Вот фотография — Олег верхом на... собаке. И вдруг мое внимание останавливается на записях, сделанных рукой матери: «Он не обманывал нас в мелочах, не обманул никого и в большом, когда ему пришлось в страшной борьбе с врагом отдать свою жизнь за Родину... Друзей у Олега было много, он умел дружить, как-то весь отдаваясь друзьям... Он просто не мог жить и радоваться в одиночку... Суровая непримиримость к несправедливым поступкам товарищей и даже людей старше его... Он отличался выдержкой, которую не часто встретишь даже у взрослых...»
Эти черты Олега-пионера заставили меня задуматься. Я понял, что настоящий человек начинается именно в этом — в непримиримости ко лжи и несправедливости, в отношении к товарищам. Но, может быть, это было присуще только Олегу? И тогда я снова вернулся к страницам, посвященным детству Зои.
«Если Зоя что-нибудь не знала, она сразу честно признавалась в этом»,— вспоминает Любовь Тимофеевна. Когда мама спросила, почему Зоя раздружилась с подругой Таней, девочка ответила: «Она очень много врет. Я ей теперь пи в чем не верю. А как можно дружить, если не веришь? И потом она несправедливая...» Зоина учительница вспоминает: «Она очень упорная девочка... Ни за что не отступит от того, что считает правильным...» Ребята понимают: она строга со всеми, но и с собой тоже. «Если случится землетрясение, она все равно пойдет. Будет пожар, она все равно скажет, что не может подвести...»
Как много настоящего, сильного, значительного в этих коротких строках воспоминаний о Зое! И как много роднящего ее с Олегом. И хотя Зоя и Олег были по характеру совершенно раз¬
618
ными людьми, их объединяет проявление уже в раннем возрасте очень важных, человеческих черт. Задумайтесь над этим. Попробуйте по этим чертам выверить себя и своих товарищей. Потому что именно в отношениях к правде, к справедливости, к товарищам и начинается то, что делает человека значительным, а значит, способным на героический поступок.
Я вспоминаю, как во время одной из поездок по Ульяновской области очутился в детском доме, в котором некоторое время жил будущий легендарный герой войны Александр Матросов. Мне рассказывали о том, как он мечтал стать моряком и готовил себя к этой романтической, но трудной профессии. Он воспитывал в себе волю и храбрость. Забравшись на старую, склонившуюся над прудом иву, нырял в воду. А ночыо, чтобы доказать самому себе, что он не трус, отправлялся па кладбище. В характере Саши Матросова, столь непохожем на Олега и Зою, вместе с тем были общие с ними черты, о которых мы только что говорили. И это дает право сделать вывод, что и в твои пионерские годы, дорогой читатель, можно уже различить задатки, которые, развившись и окрепнув, сделают тебя способным совершить подвиг.
Александр Матросов мечтал стать моряком, Олег Кошевой собирался окончить институт и стать инженером, Зоя Космодемьянская готовилась стать учительницей, а из Гули Королевой наверняка получилась бы артистка кино. Но грянула война, и все они, эти разные молодые люди, очутились в одном строю — в строю защитников Родины.
Родина! Я часто думаю о том, с чего начинается любовь к Родине. И всегда прихожу к одному выводу: любовь к Родине начинается с любви к матери.
Как трогательно и глубоко любил Олег Кошевой свою мать! Он говорил:
«У меня мама — не только мама, но и товарищ мой».
Мечтая о будущем, Олег обязательно думал о том, какую жизнь он создаст для мамы, когда станет самостоятельным: отдых от работы, любовь и уважение в старости. Первые заработанные деньги он отдал маме и подарил ей флакон духов.
А позднее, уже будучи подпольщиком, Олег говорил товарищам по борьбе:
619
«Мамы не бойтесь, товарищи. Мама — свой человек».
Он доверял маме, как самому близкому человеку. И это безграничное доверие было проявлением его глубокой сыновьей любви.
«Если придется умереть, тебе за меня стыдно не будет!» — говорил он маме.
Вся его жизнь как бы проверяется любовью к матери. И эта любовь — большая, нежная, неугасимая — переносится на Родину.
Подвиг не может быть совершен просто так, он совершается только во имя большого чувства. Когда боец заслоняет собой друга от пули, он это делает во имя дружбы. Когда защищает с оружием в руках невесту, делает это во имя любви к ней. Встает на пути врага, чтобы не пустить его в родной дом, чтобы не дать надругаться над материнскими сединами. Не отступает ни на шаг, чтобы уберечь от врага еще один клочок родной земли. И все эти чувства сливаются в одно великое необоримое чувство, имя которому — любовь к Родине. Без Родины нет подвига. Американский солдат на вьетнамской земле не может совершить подвига — его гибель не принесет его родине ни славы, ни силы, ни доброго имени...
На остывших камнях Брестской крепости я не раз видел мальчишек с деревянными автоматами. Они крались вдоль стены, прятались под мрачными сводами старых казематов, по- пластунски подползали к зеленой воде Муховца. И я слышал, как один мальчишка шепнул на ухо другому:
— Воду не пить! Вода нужна раненым и пулеметам.
Раненым и пулеметам. Эти слова донеслись до ребят из
далеких дней обороны Бреста. И ребята не случайно выбрали подлинные слова, которые в самый критический момент произносили защитники крепости, слова, сохранившие огненное дыхание далеких дней.
Однажды я подошел к группе играющих мальчишек и спросил:
— В кого вы играете?
— В Григорьева!
Сегодняшние мальчишки играют в героя Бреста, как мы ко- гда-то играли в Чапаева.
620
Ребята играют в войну, потому что тяга к подвигу заложена в их сердцах.
Помню, как на исходе самой короткой ночи года в пионерском лагере Орленок прозвучал сигнал тревоги. Запела труба. Послышались слова команды, топот бегущих ног. На ходу натягивая рубахи, ребята спешили на плац. Строиться! Строиться! Первый отряд. Второй... Третий... И когда удивленные и взволнованные ребята застыли в строю, им сказали:
— В такой же предрассветный час 22 июня 1941 года началась война. В небе появились самолеты со свастикой. Загремели орудия. И, лязгая гусеницами, фашистские танки поползли по нашей родной земле.
Еще не взошло солнце. С моря тянуло прохладой. Было тихо. Только слышалось учащенное дыхание ребят. Глаза мальчишек и девчонок, стоявших в строю, были широко раскрыты, и в них как бы отразилось невнятное предчувствие надвигающегося грозного события. Словно они ждали вспышек орудий и появления танков, сотрясающих дома, как при землетрясении. Временами ребята посматривали на нас, взрослых, словно искали ответа на вопрос: правильно ли они представляют себе картину начала войны? Они сверяли свое воображение с нашей памятью. И на какое-то мгновение детям и взрослым эта глубокая устойчивая тишина июньского утра показалась тишиной перед боем... Игра словно отошла в сторону, уступив место глубокому чувству заботы о судьбе родной земли, своего народа, мысли и о своем месте в будущем.
Память войны глубоко коснулась сердец наших детей. Дети стали хранителями нашей солдатской памяти. И твое сердце, мой юный друг, не должно дать замереть подвигам Великой Отечественной войны, подвигам героев этой книги.
Эта книга — учебник подвига. Но не обычный учебник, где все правила четко определены и выделены, чтобы лучше запоминались. Каждый читатель по этой книге сам для себя откроет законы подвига, решит, как надо жить, чтобы быть готовым в нужную минуту в новых условиях и ио-новому, конечно, совершить то же, что и их далекие друзья Олег, Зоя, Шура, Гуля... Готовность к подвигу — самое глубокое проявление любви к Родине.
621
Одна девочка в своем сочинении написала:
«Мой ровесник! Сегодня на тебе нет остроконечного шлема- буденовки, не стреляют пушки, не шагают отряды матросов в черных бушлатах. Но бой идет. Бой нового со старым. Бой за идеалы коммунизма. В этом бою, который идет сегодня, никто не спросит, сколько тебе лет, потому что ты нужен в этом бою. Больше того, без тебя его могут проиграть!»
Будь готов к подвигу, мой юный друг!
Юрий Яковлев
СОДЕРЖАНИЕ
Любовь Космодемьянская
Повесть о Зое и Шуре 5
Елена Кошевая
Повесть о сыне 217
Елена Ильина
Четвертая высота 371
Юрий Яковлев. Готовность к подвигу . 614
Оформление Е. Савина
Для младшего и среднего возраста
БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРА Том 2
Космодемьянская Любовь Тимофеевна
ПОВЕСТЬ О ЗОЕ И ШУРЕ
Кошевая Елена Николаевна ПОВЕСТЬ О СЫНЕ
Ильина Елена Яковлевна ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА
Ответственные редакторы В. М. Писаревская Т. В. Жарова Л. Г. Тихомирова
Художественный редактор Н. И. Комарова
Технический редактор Е. М. Захарова
Корректоры Э. Л. Лофенфельд Т. Ф. Ю д и ч е в а
Сдано в набор 21/1 1972 г. Подписано к печати 7/IV 1972 г. Формат 60X90 1/16. Печ. л. 42. (Уч.-изд. л. 33,45 + 24 вкл.= = 35,4 ). Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. А01544. Цена 1 руб. 55 коп. на бум. № 1.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 3677.