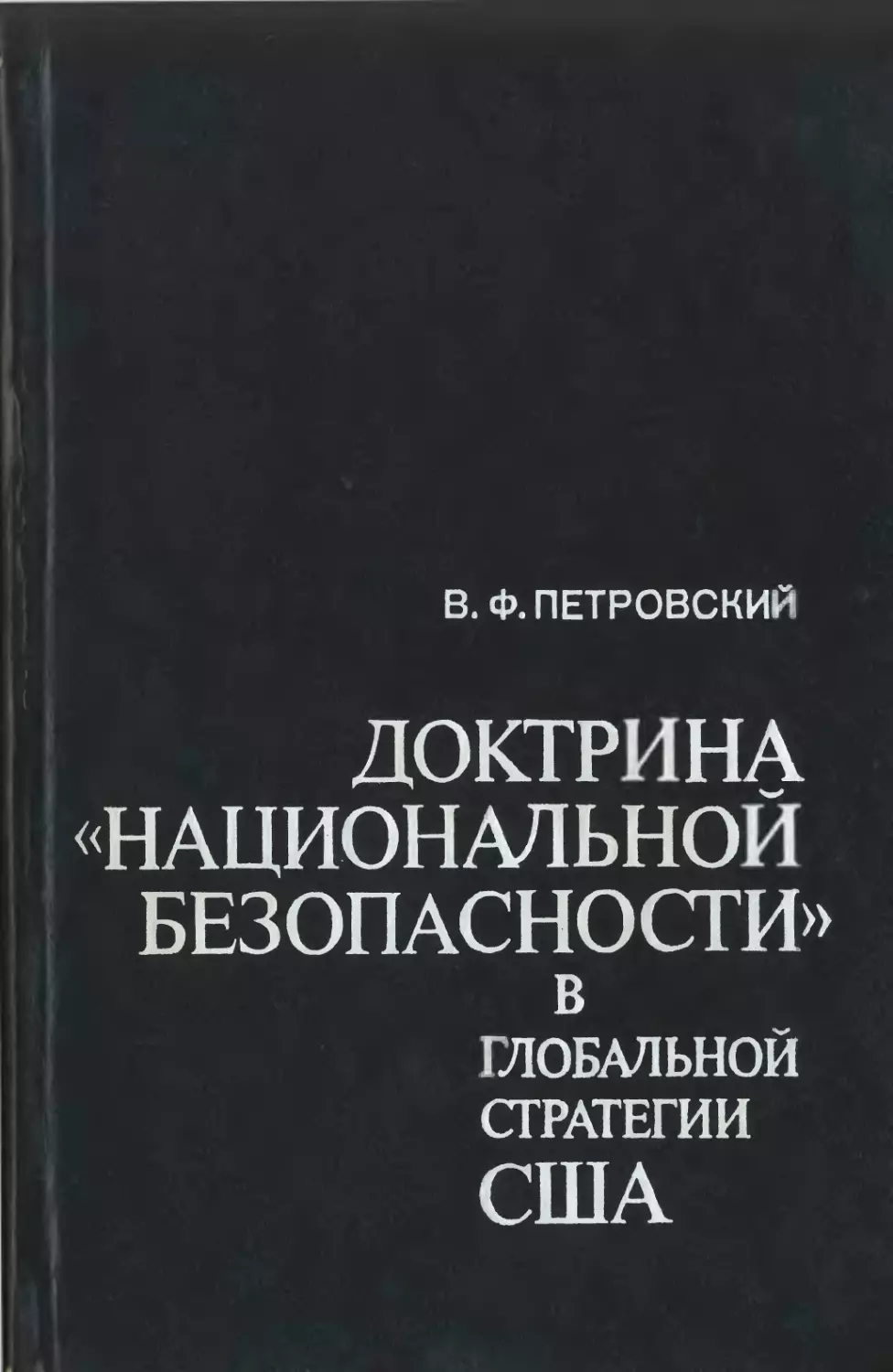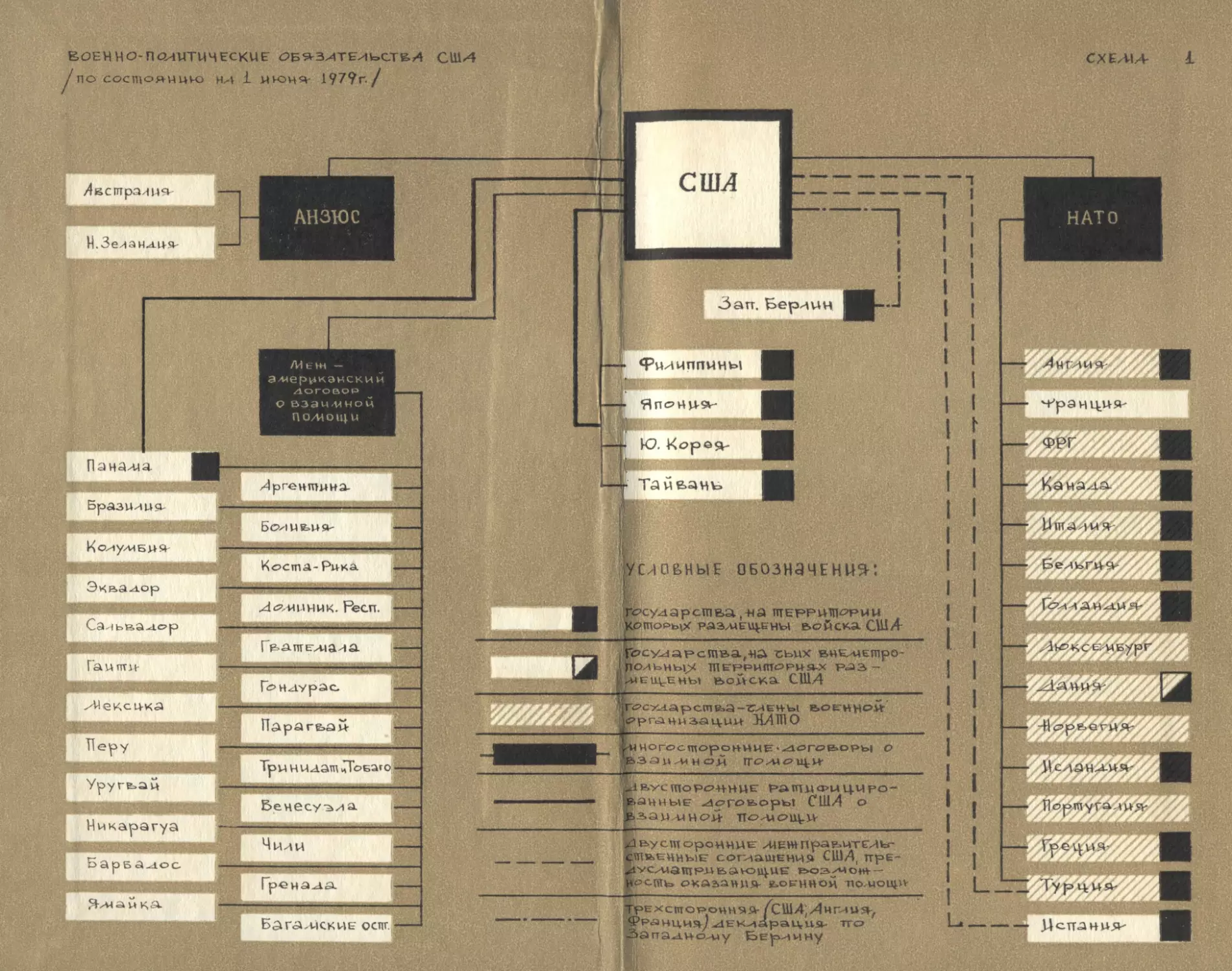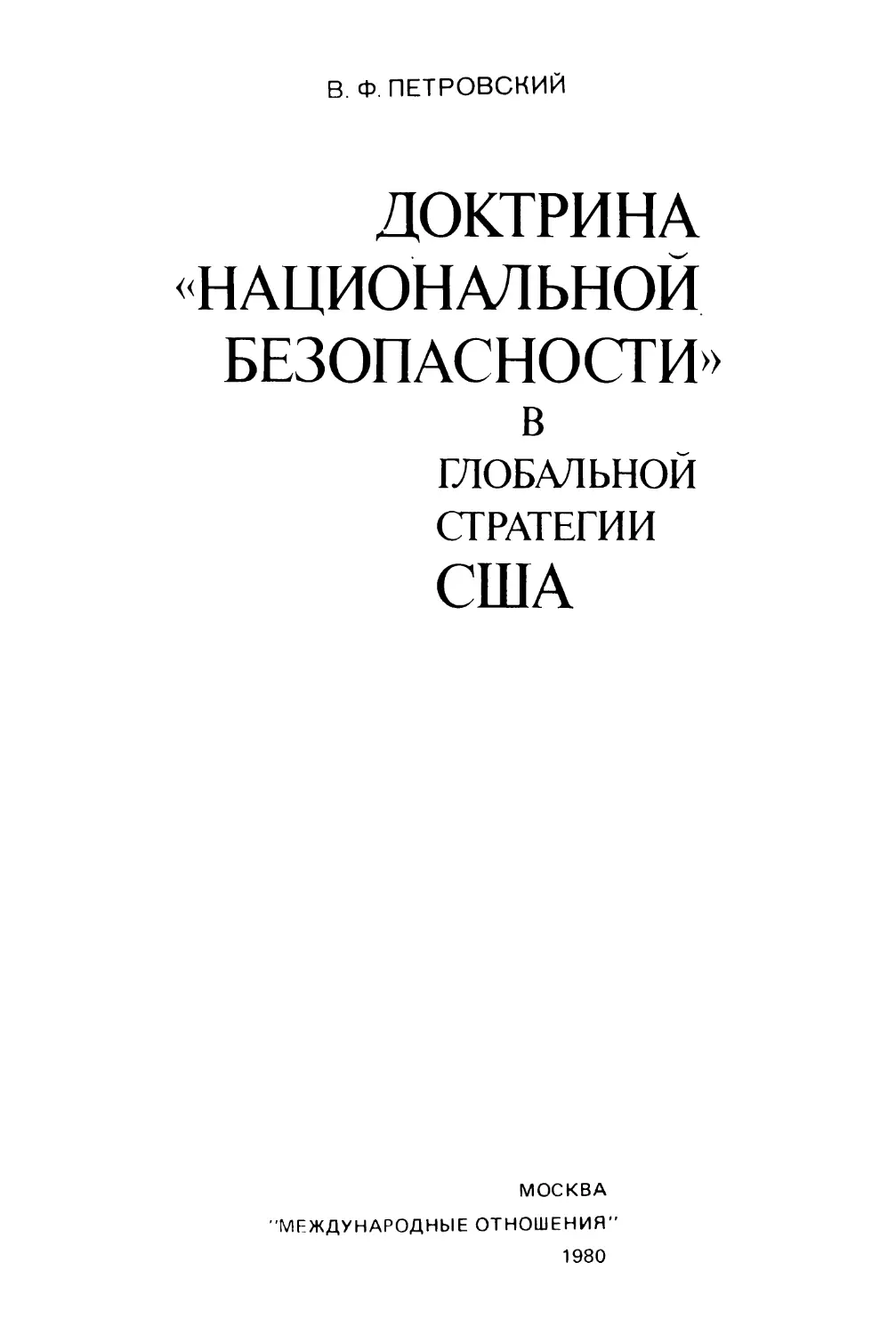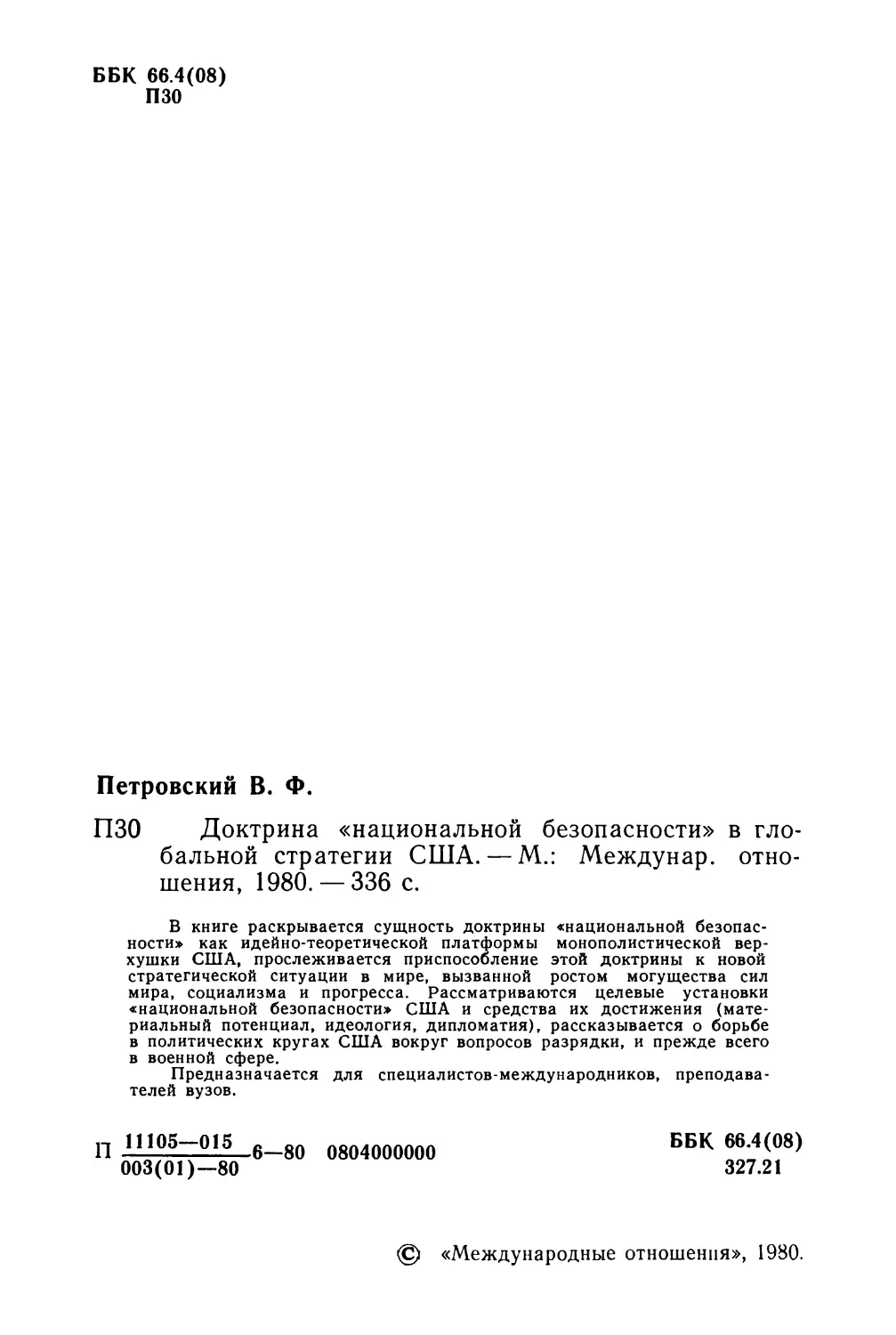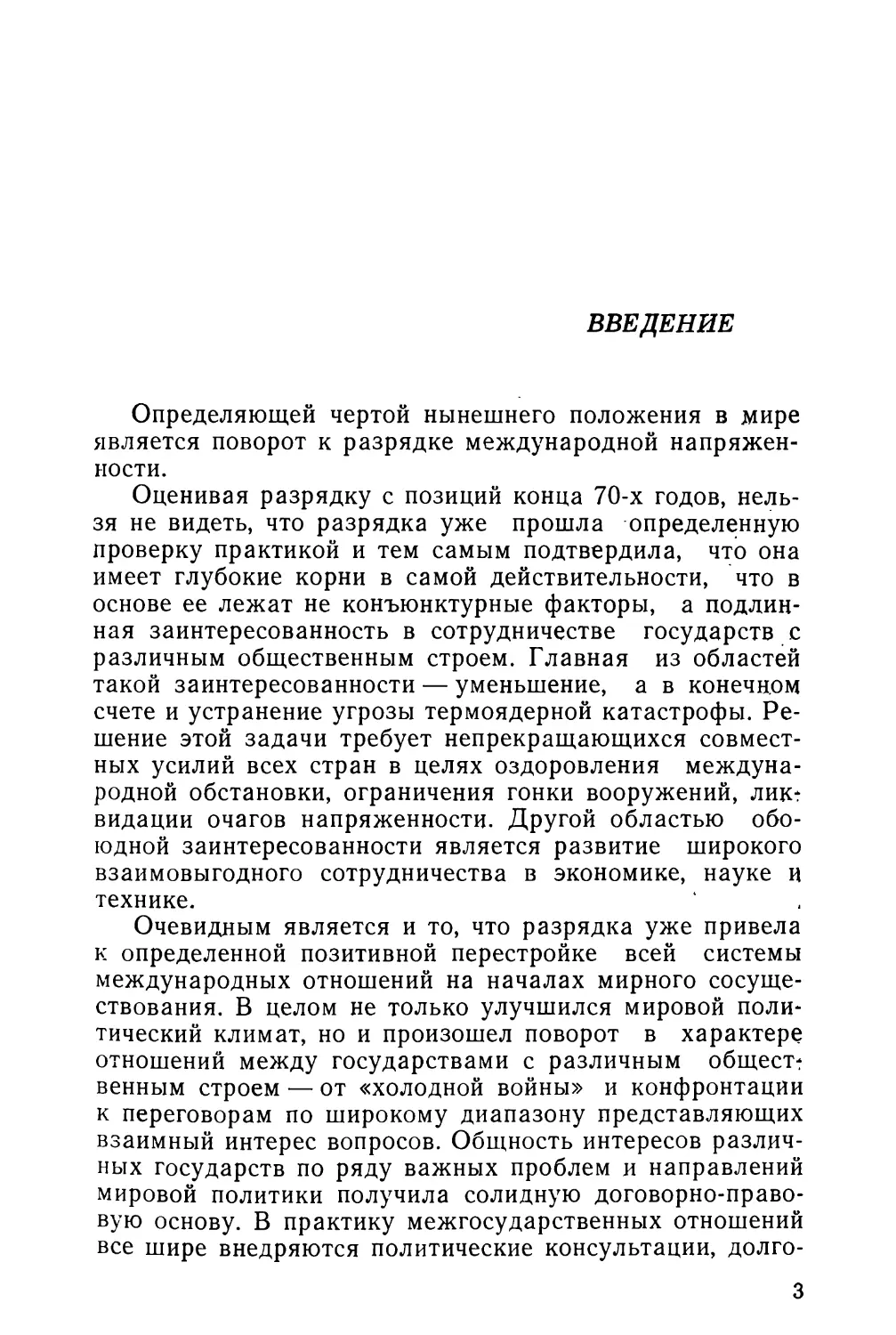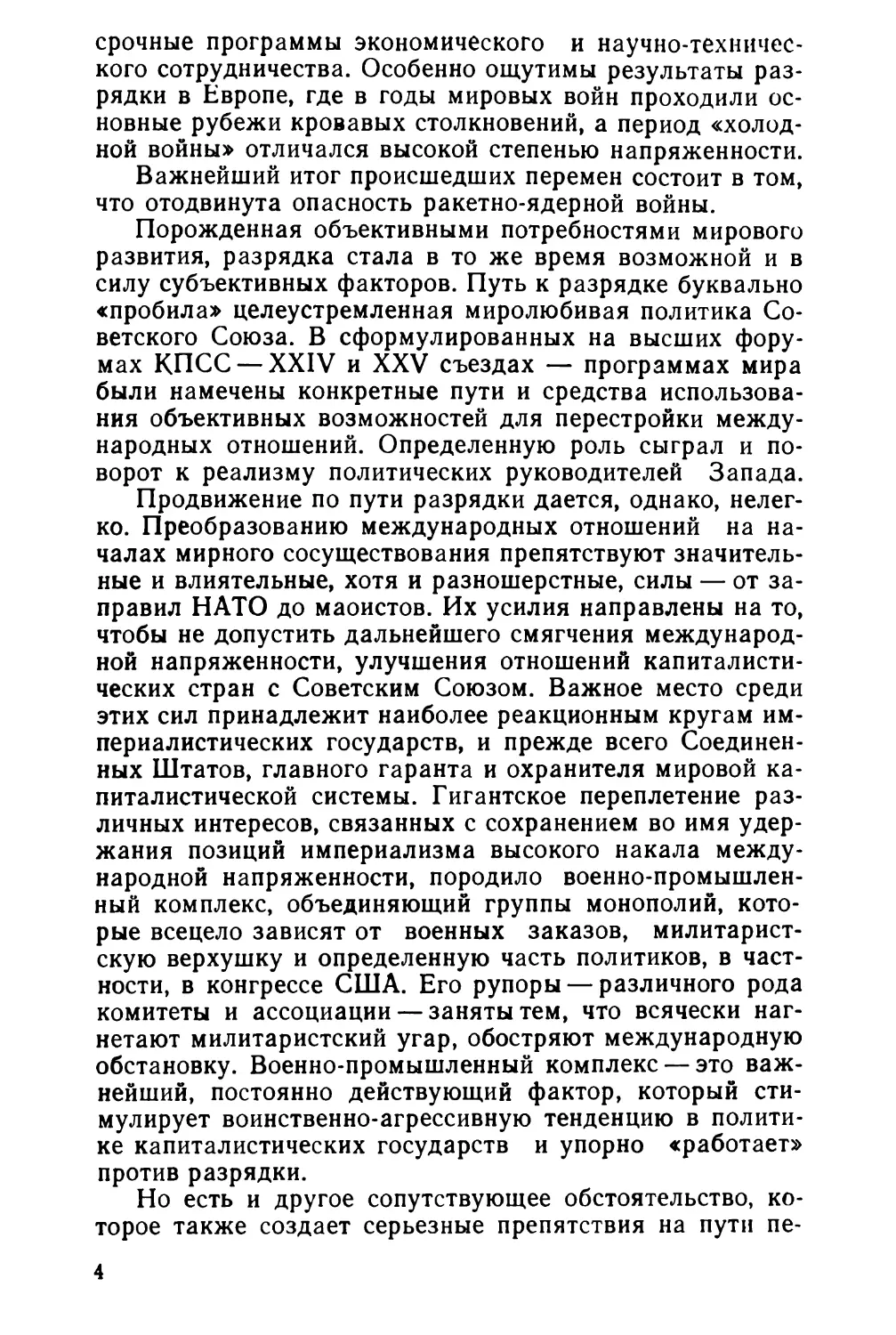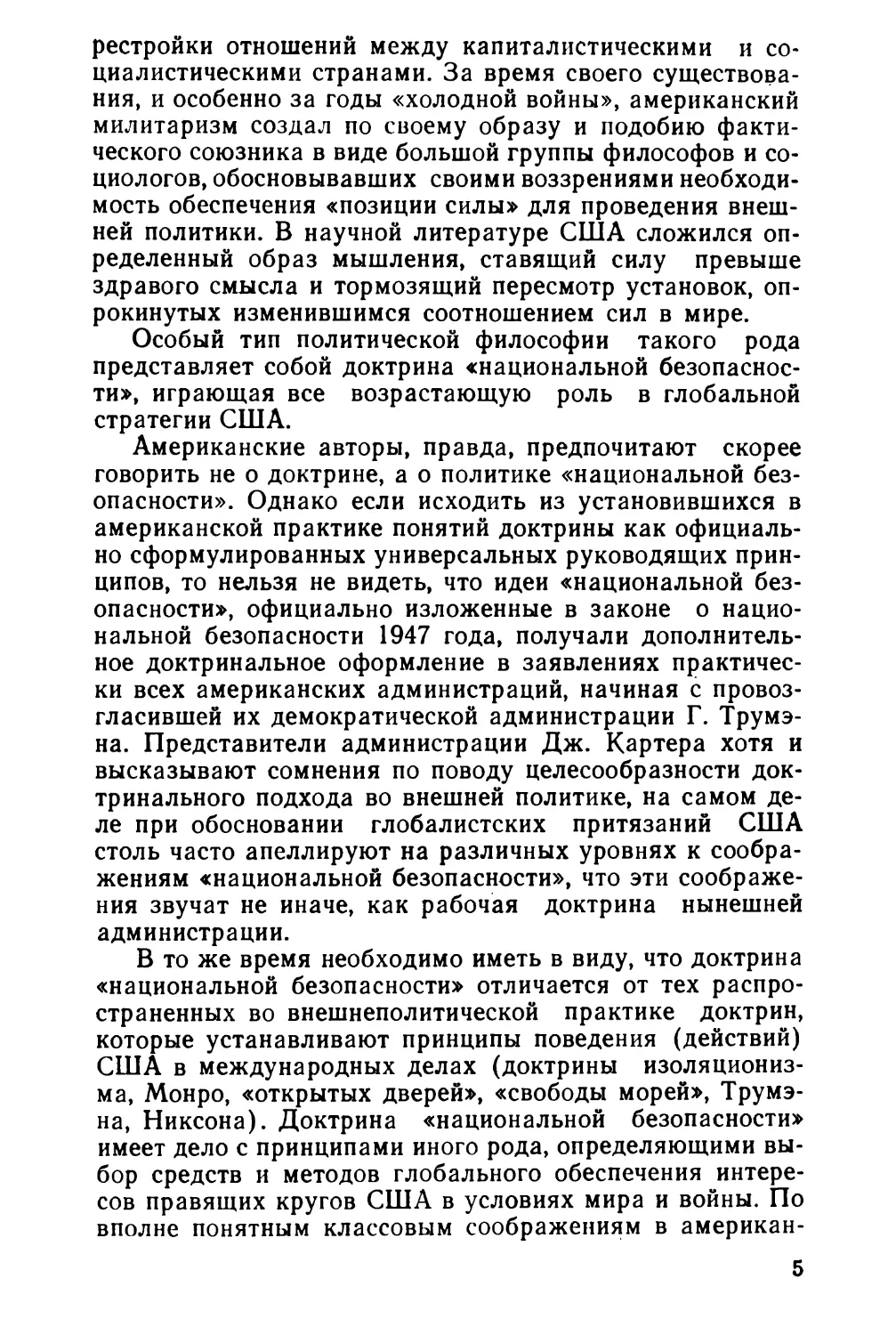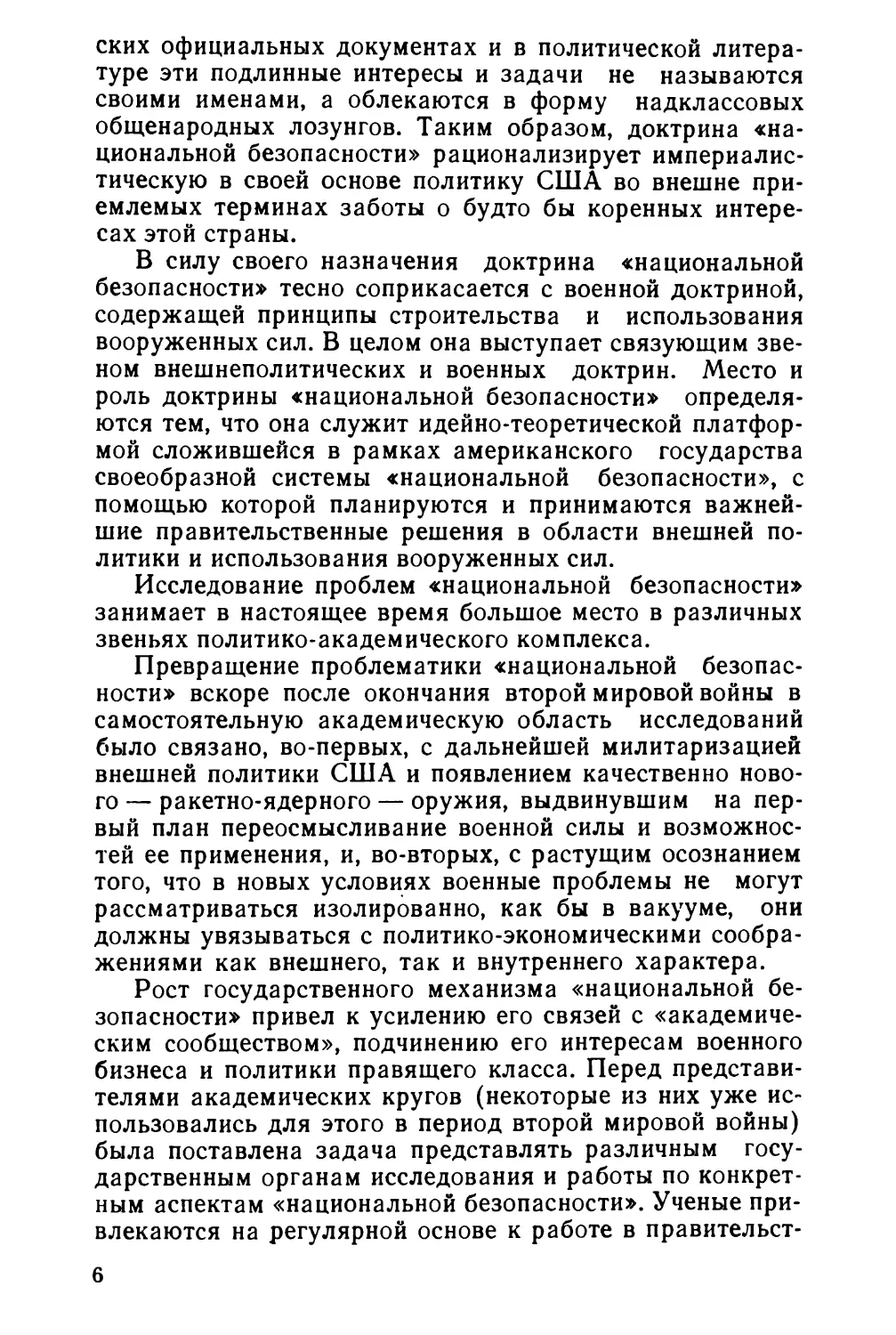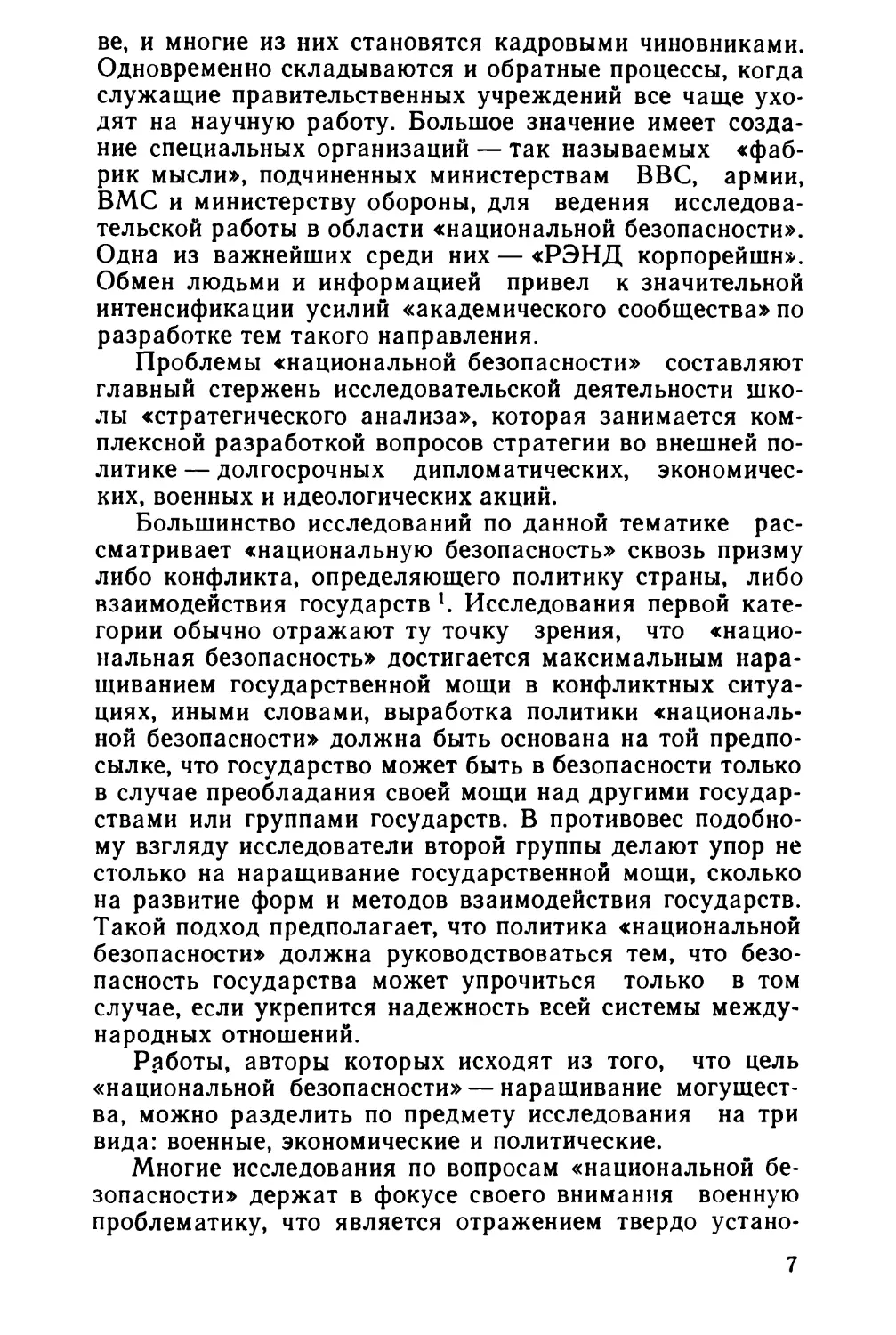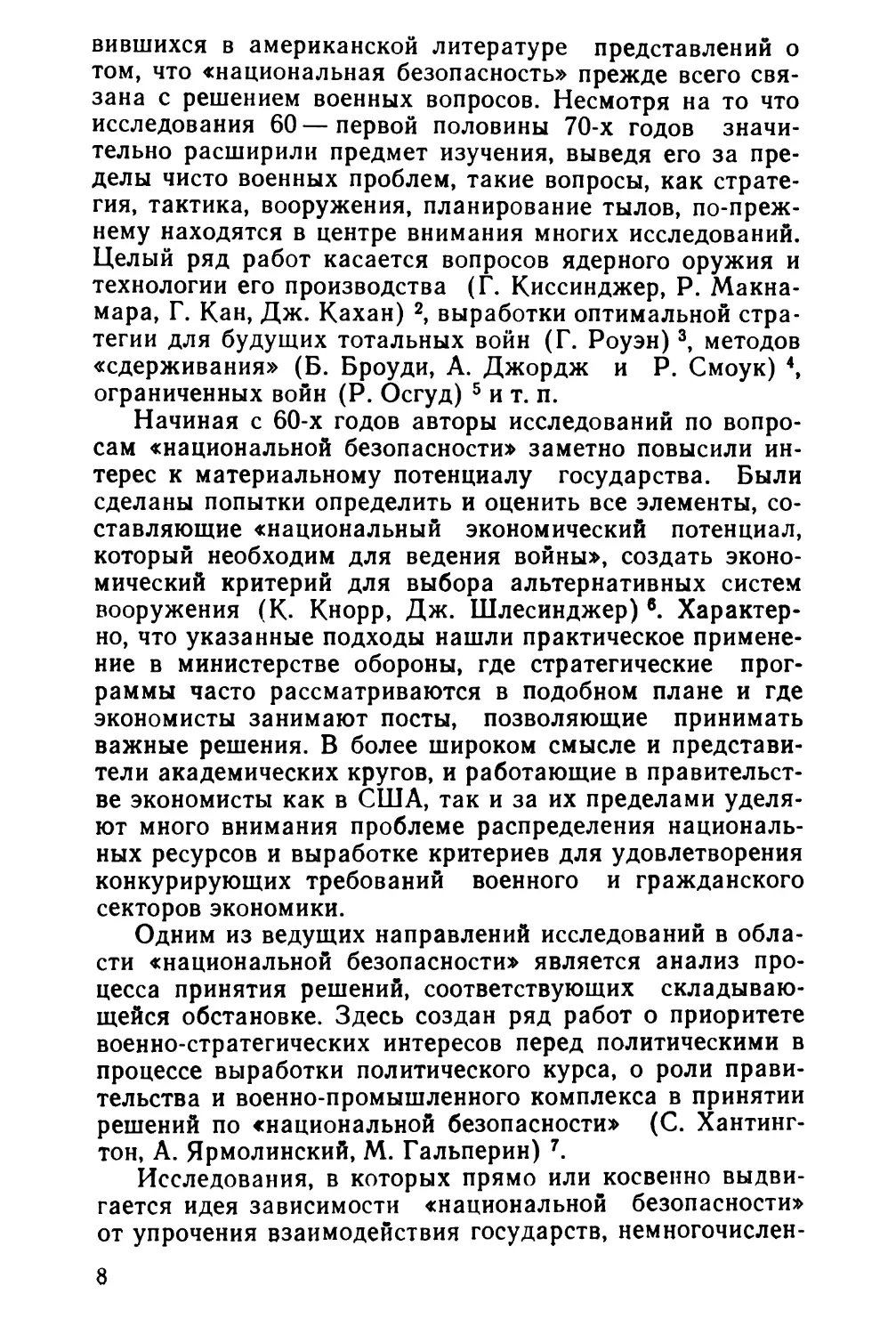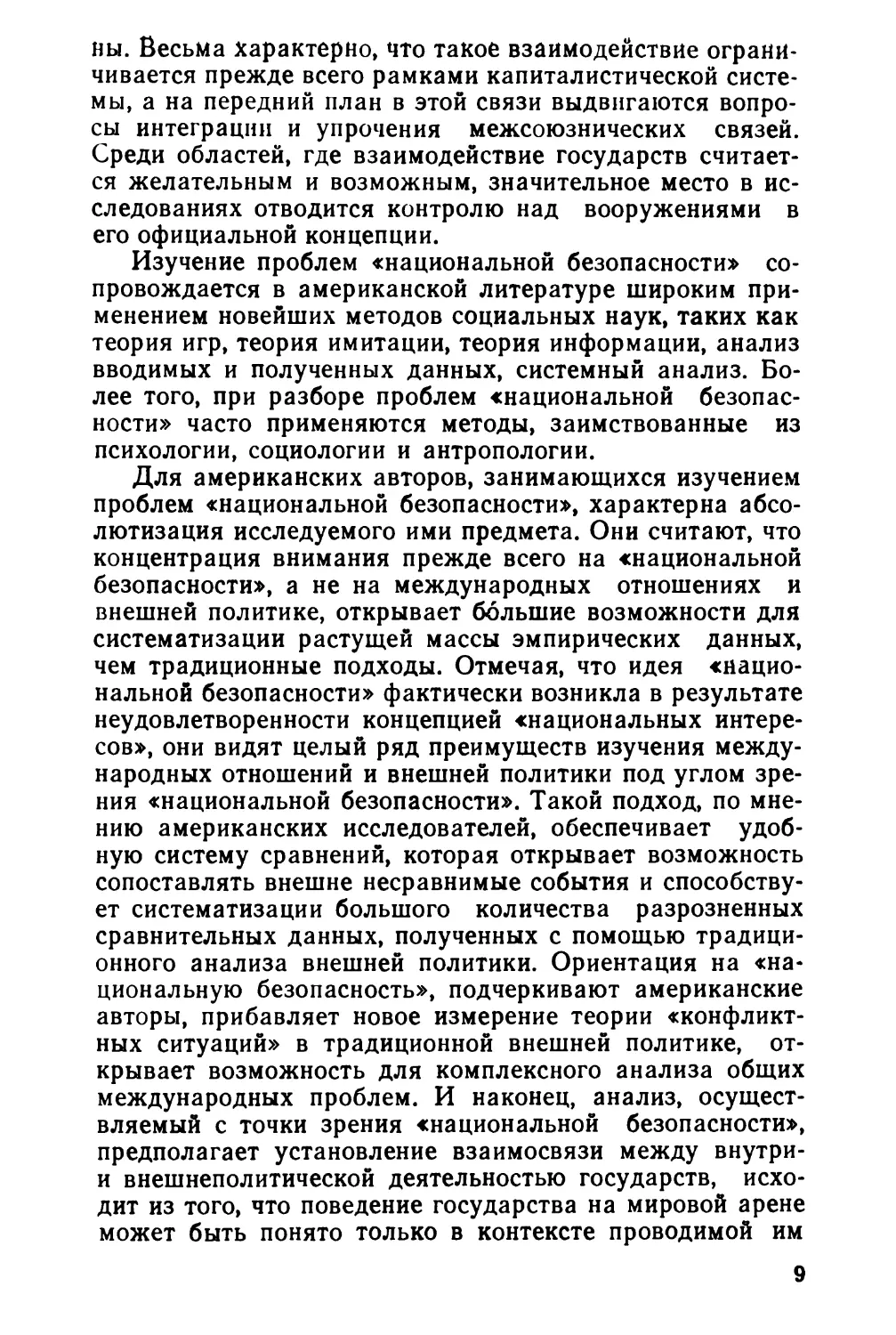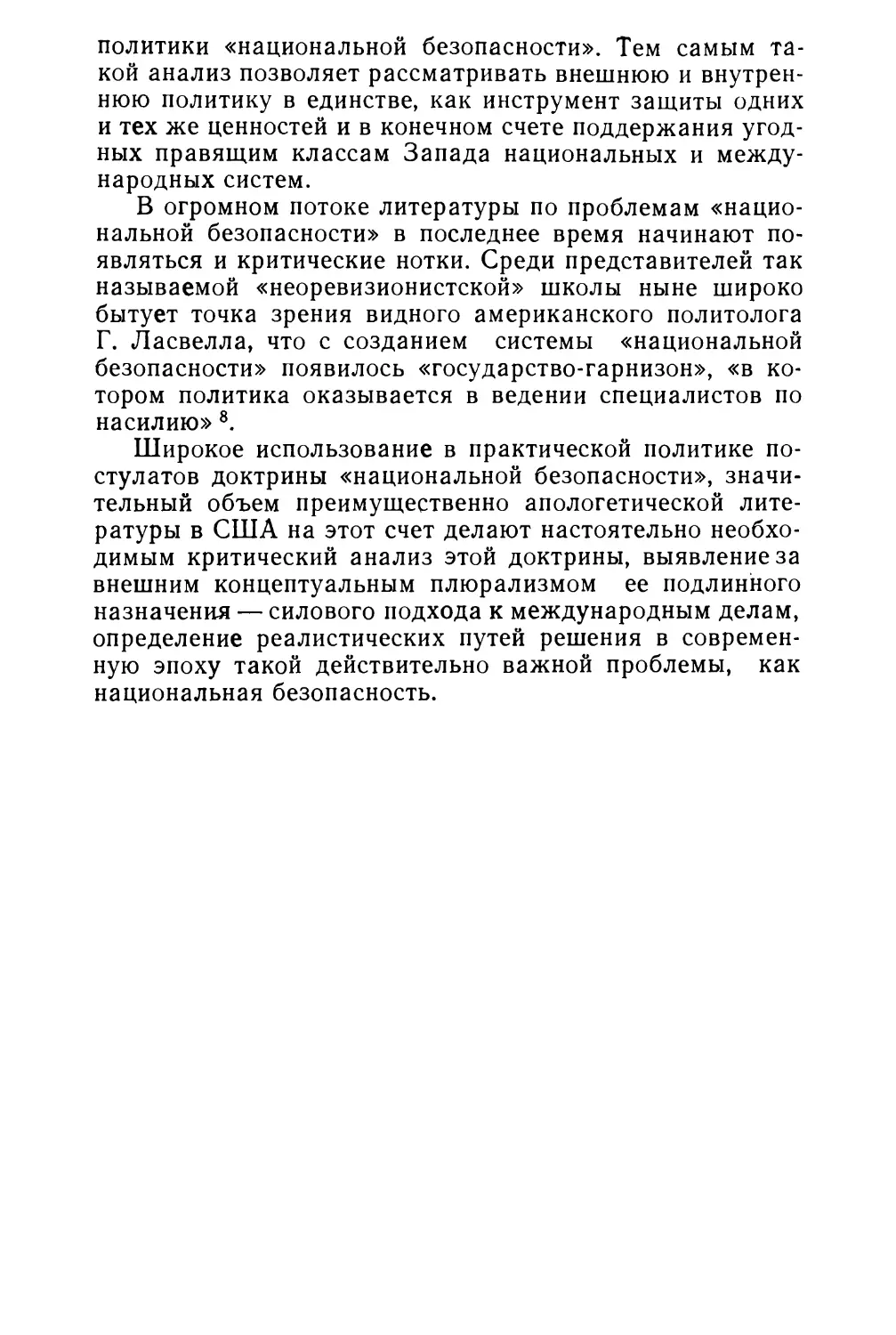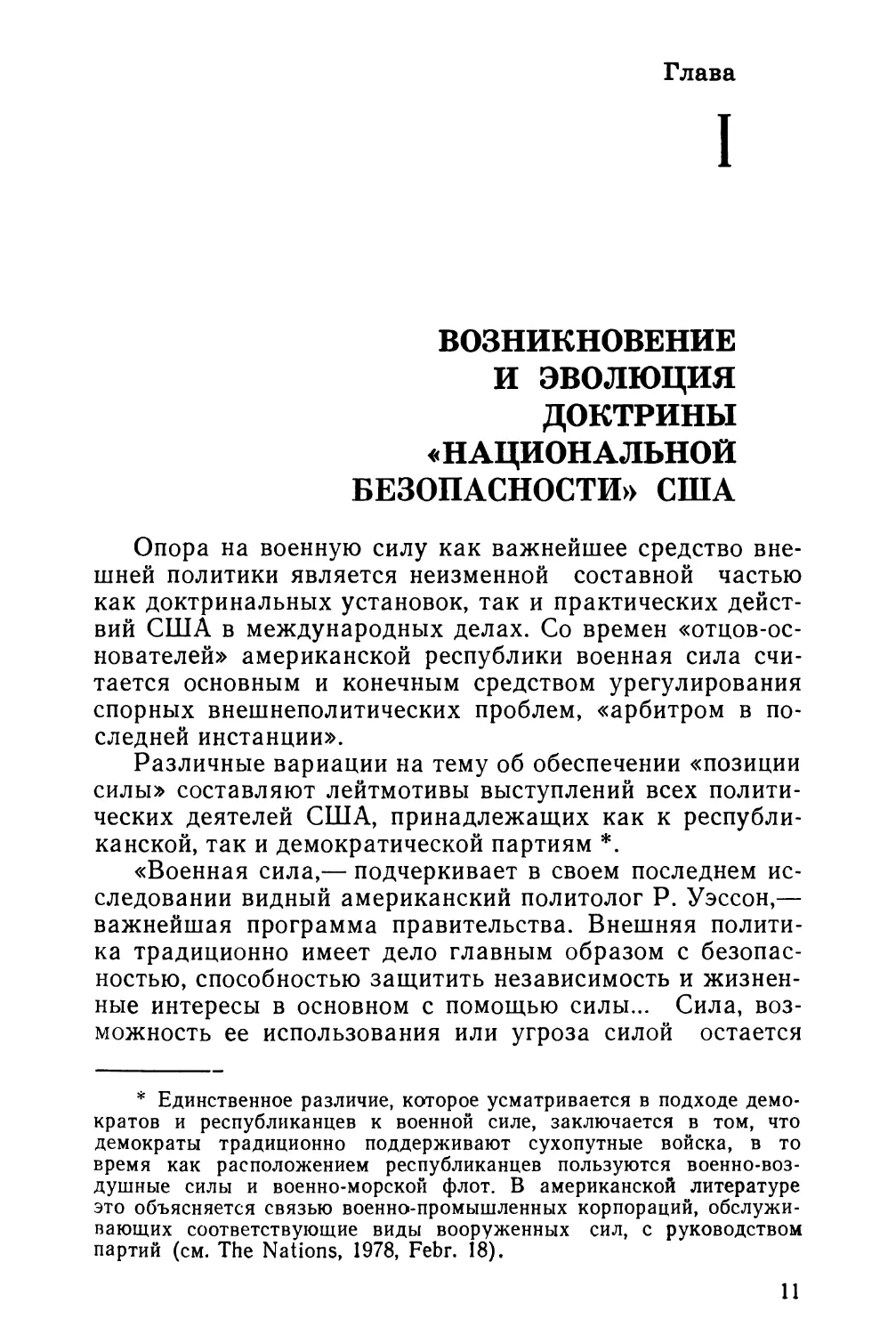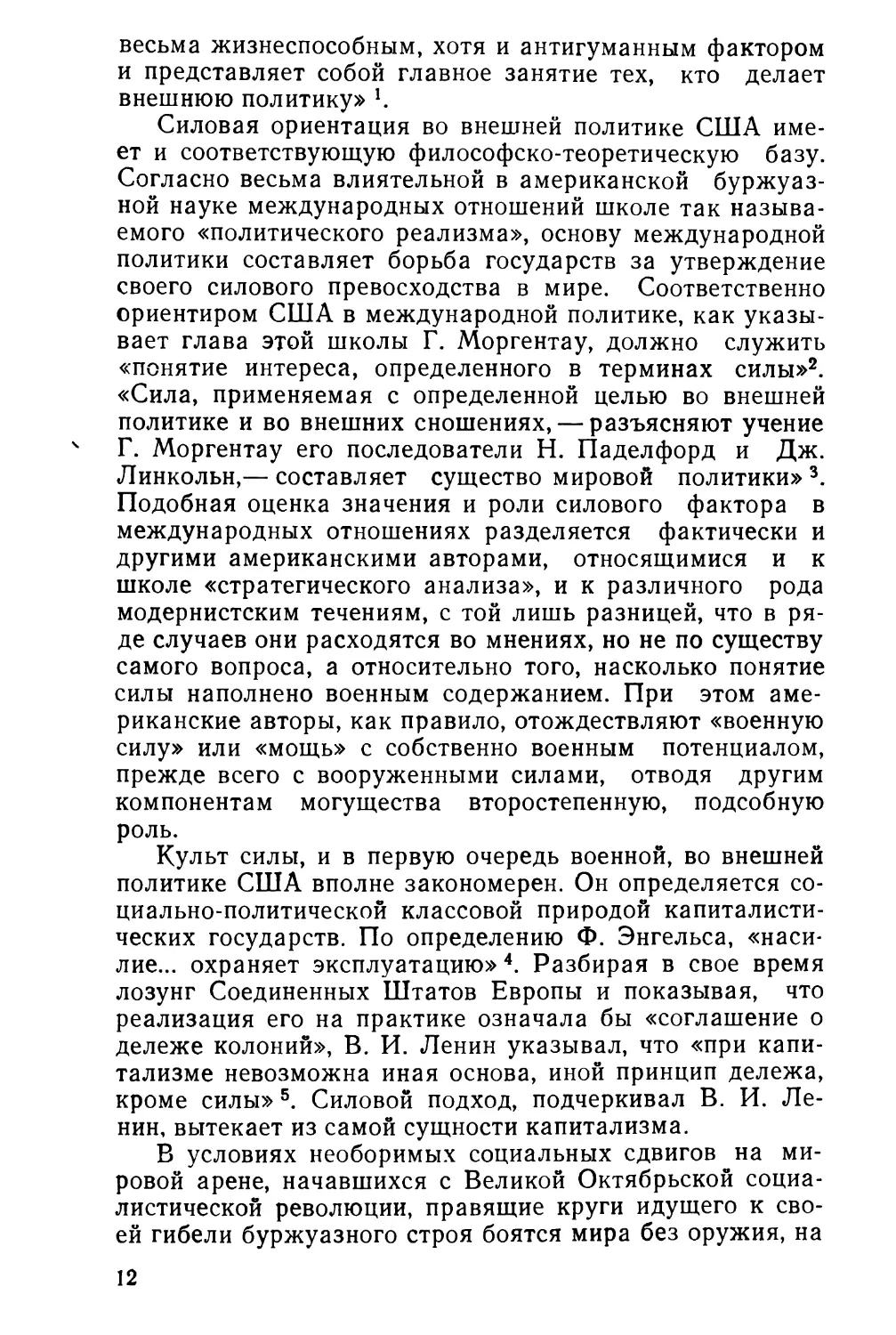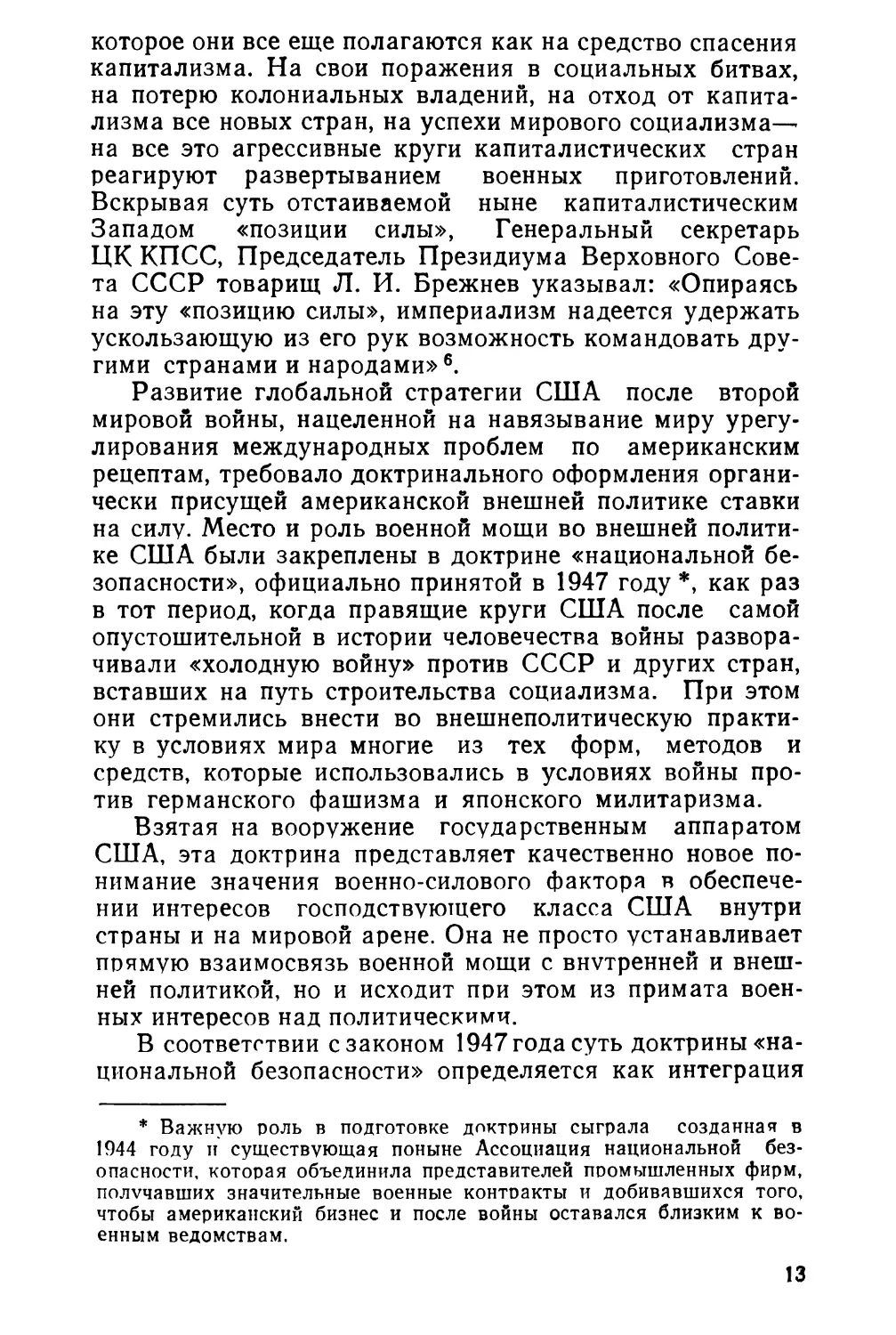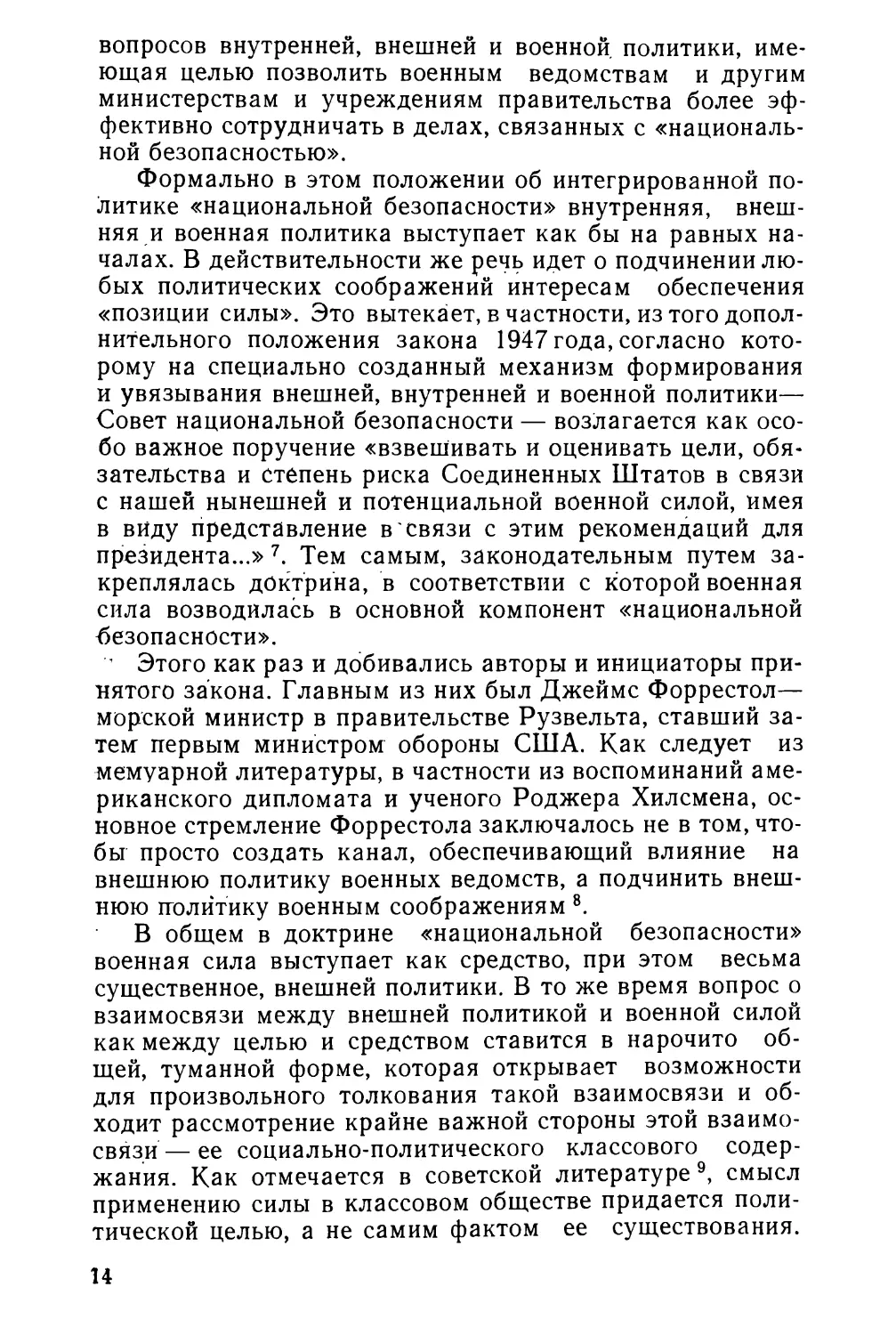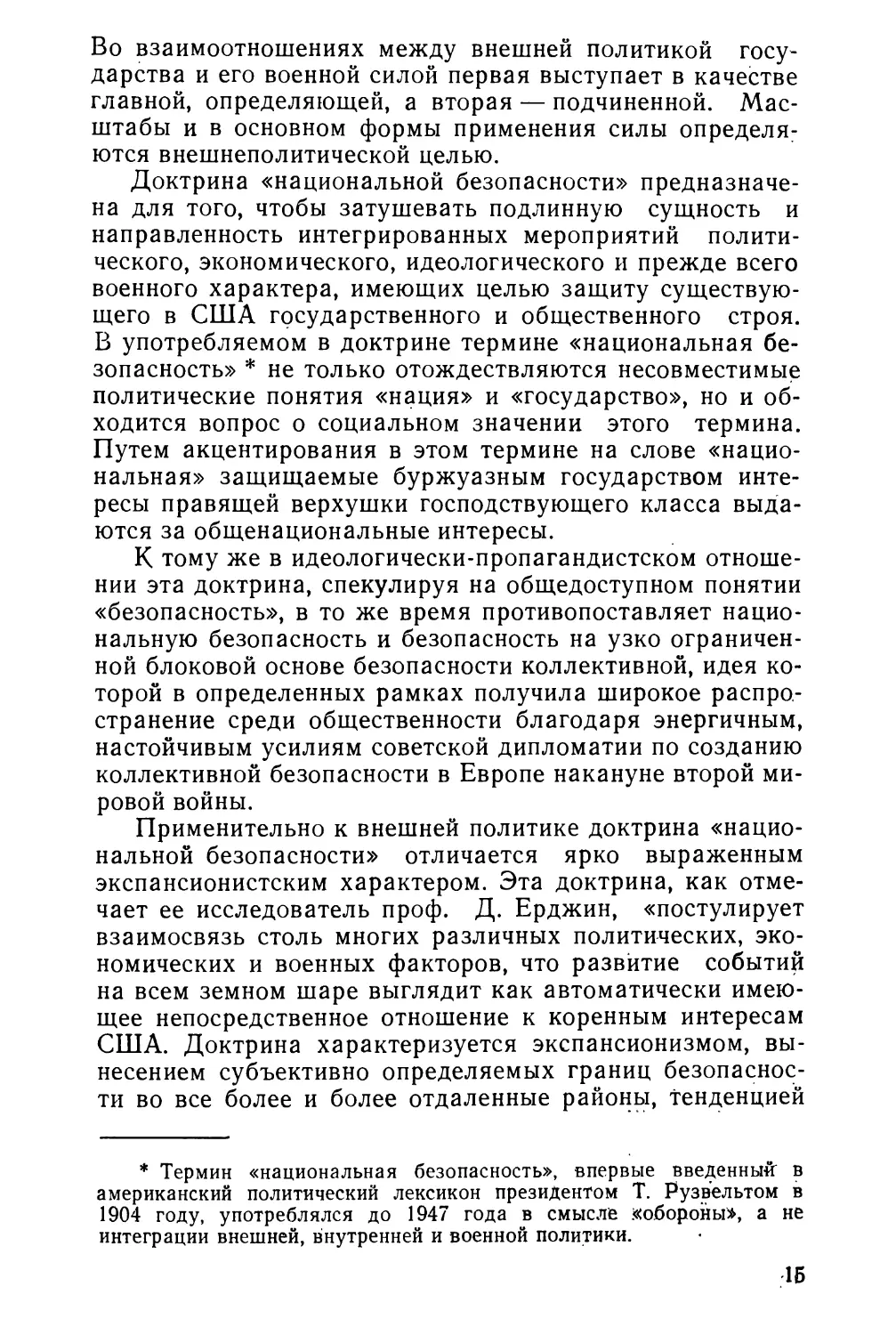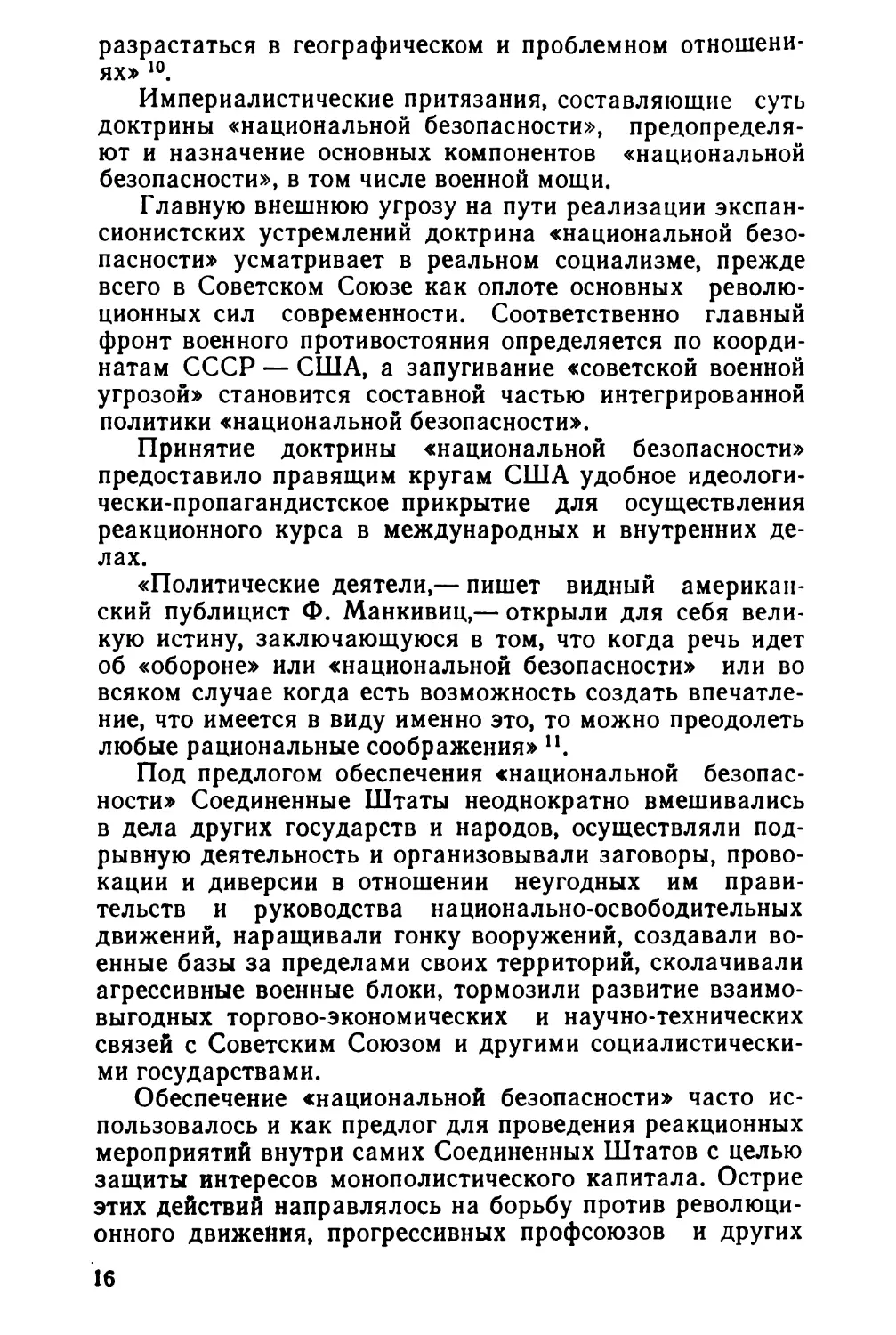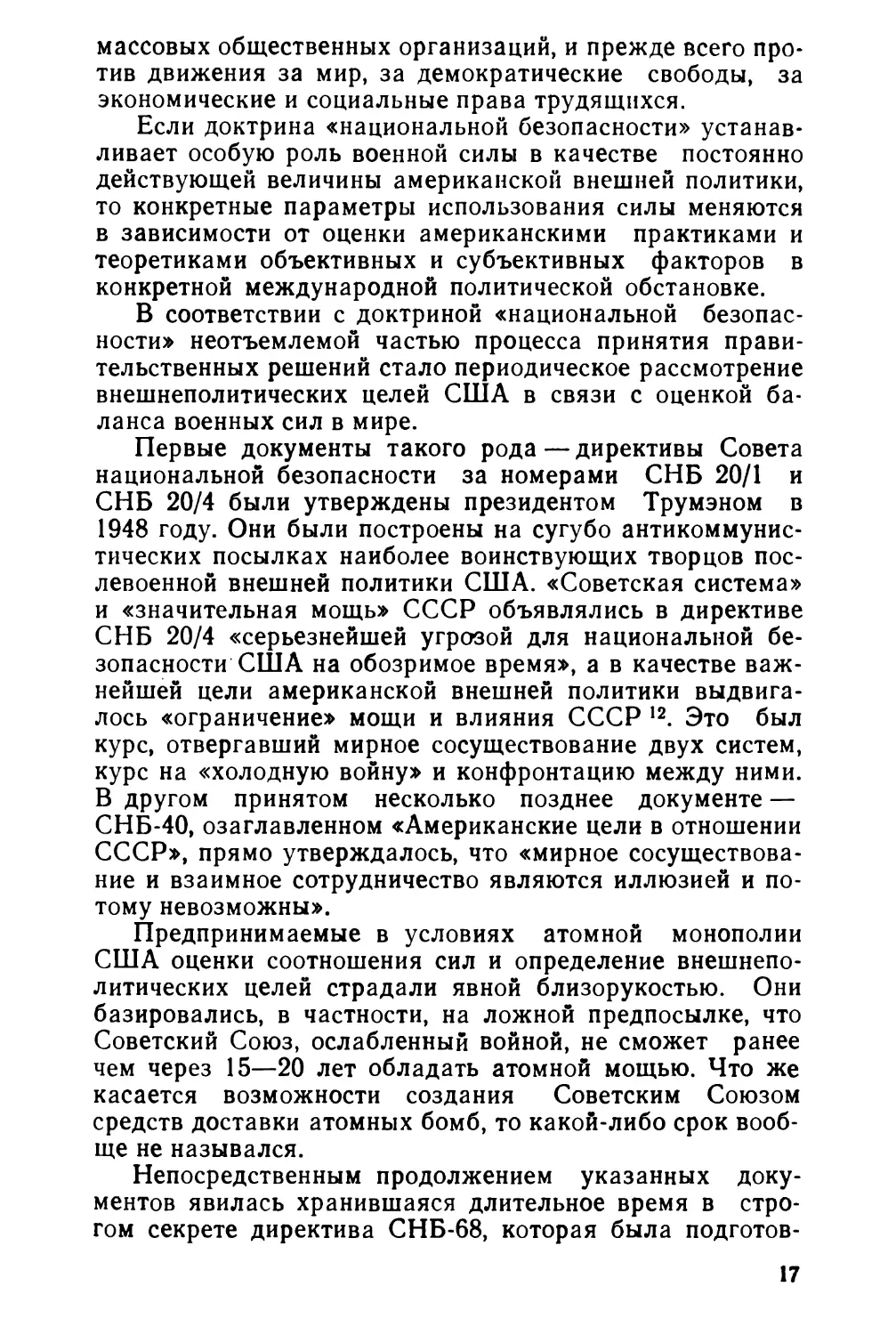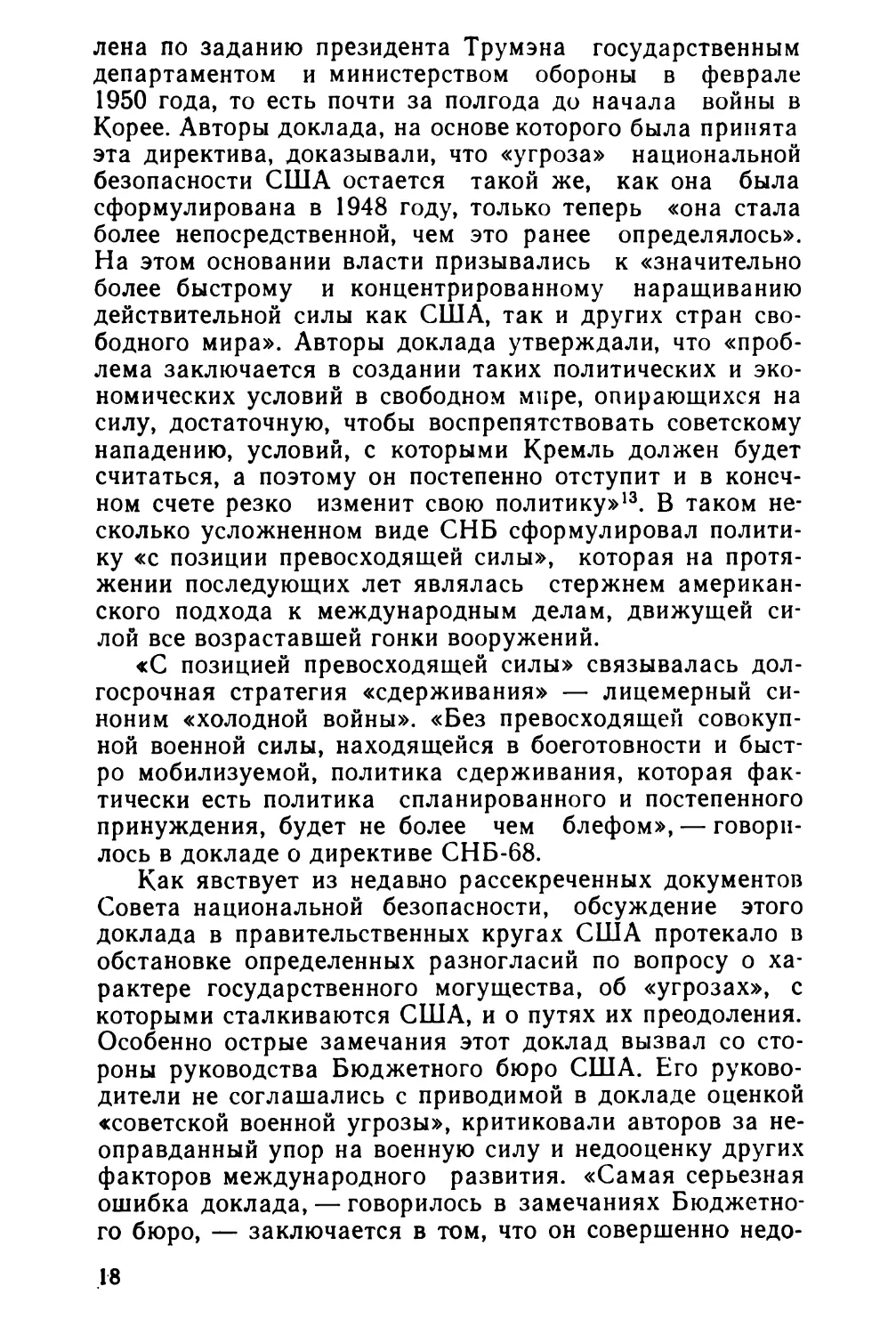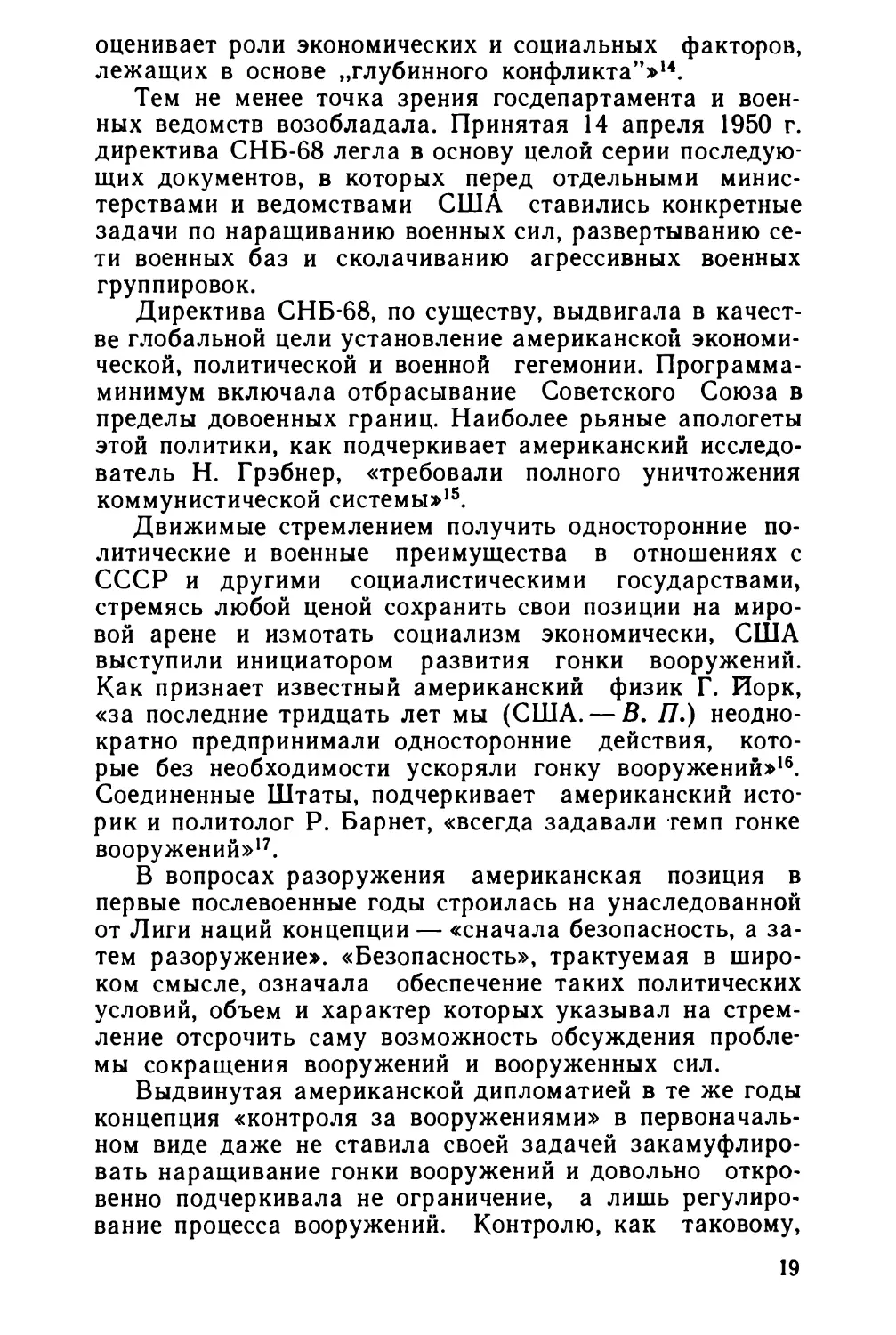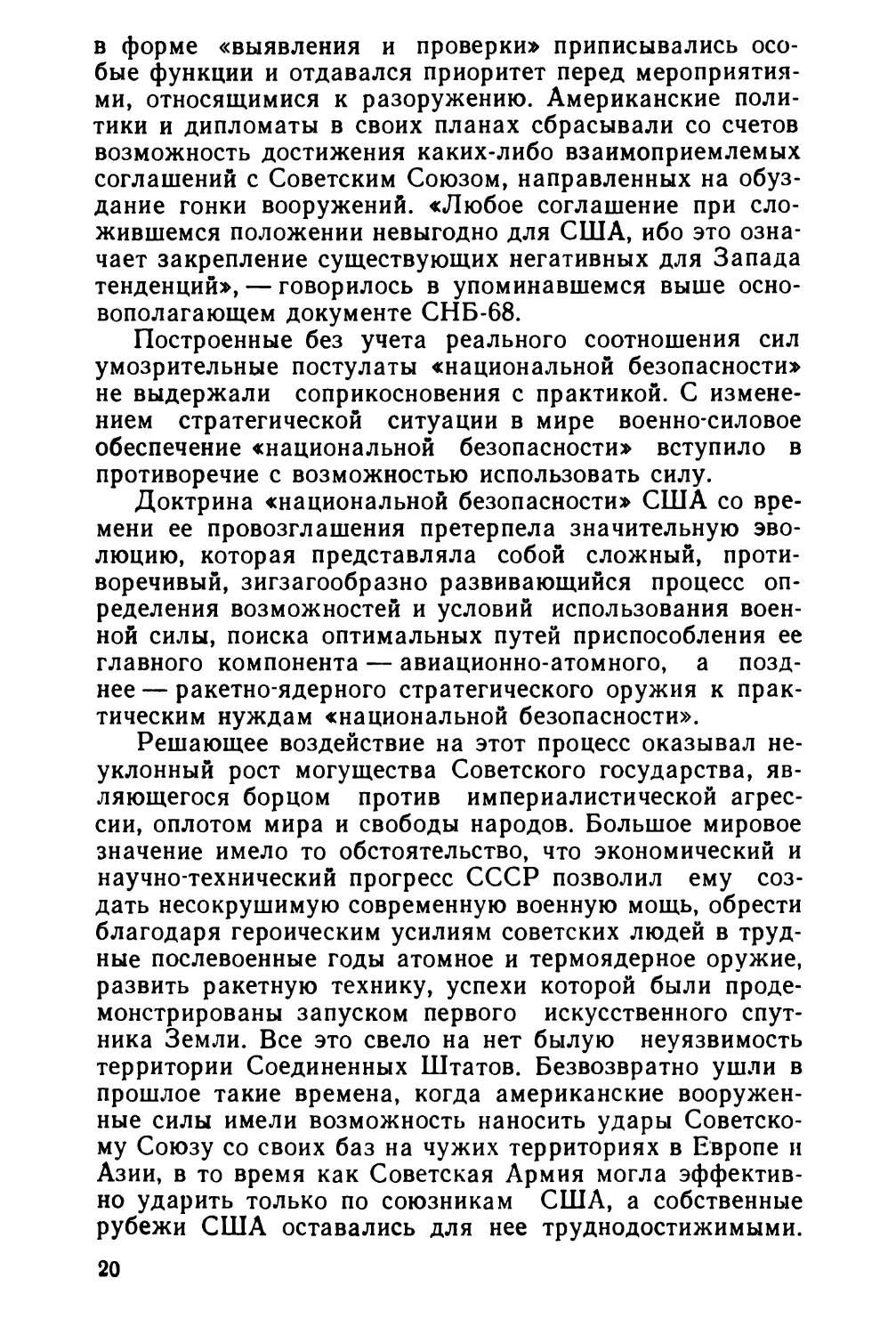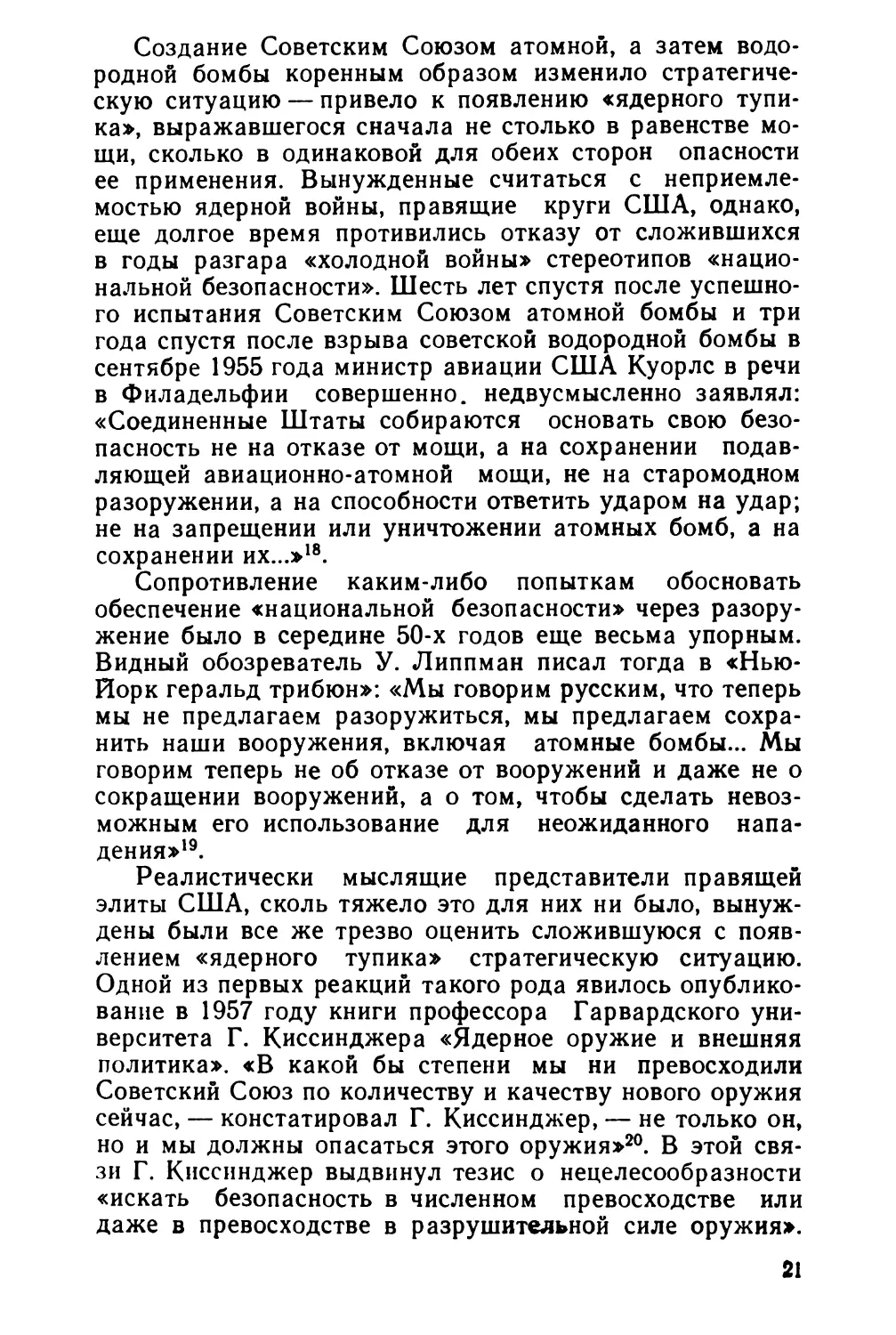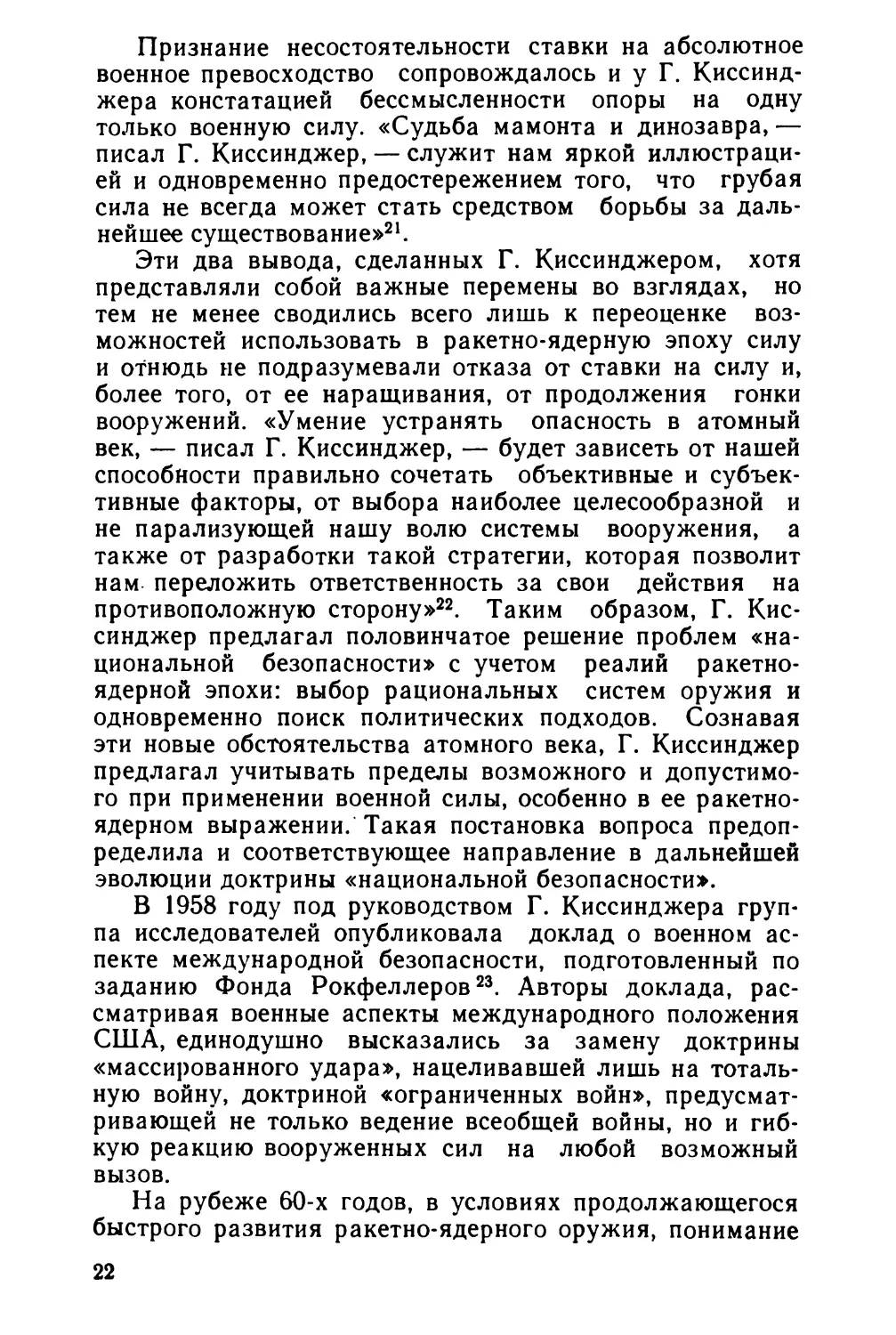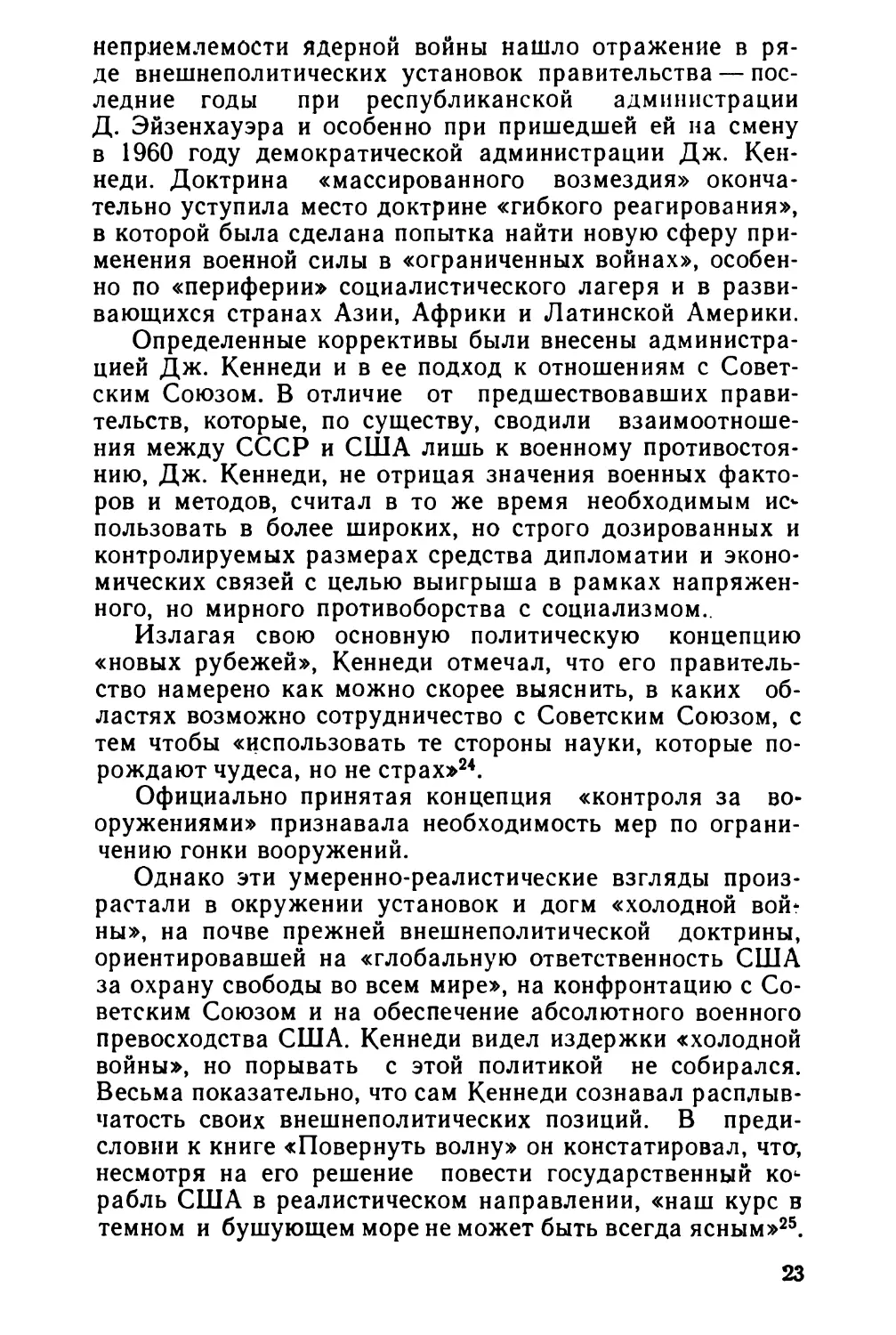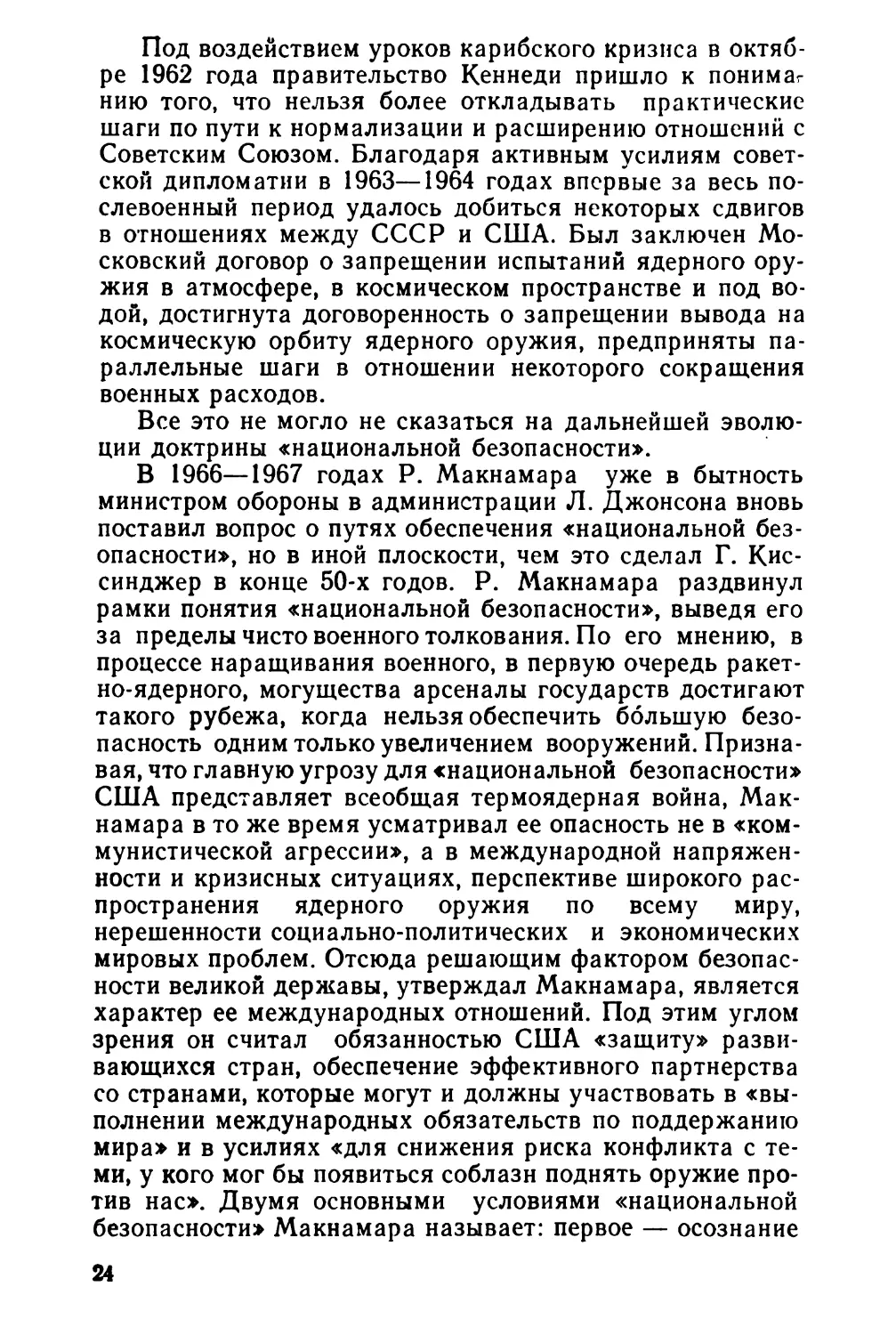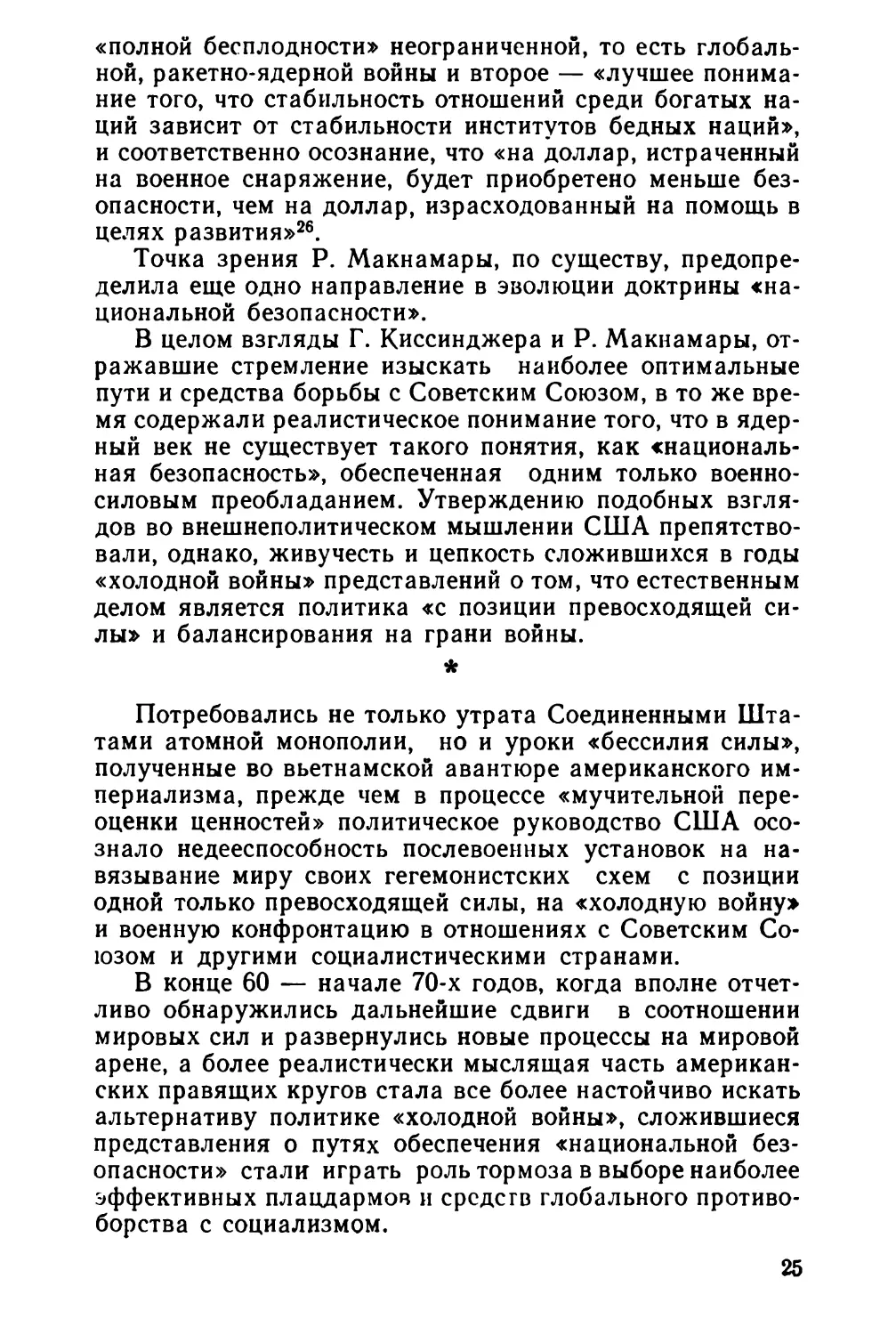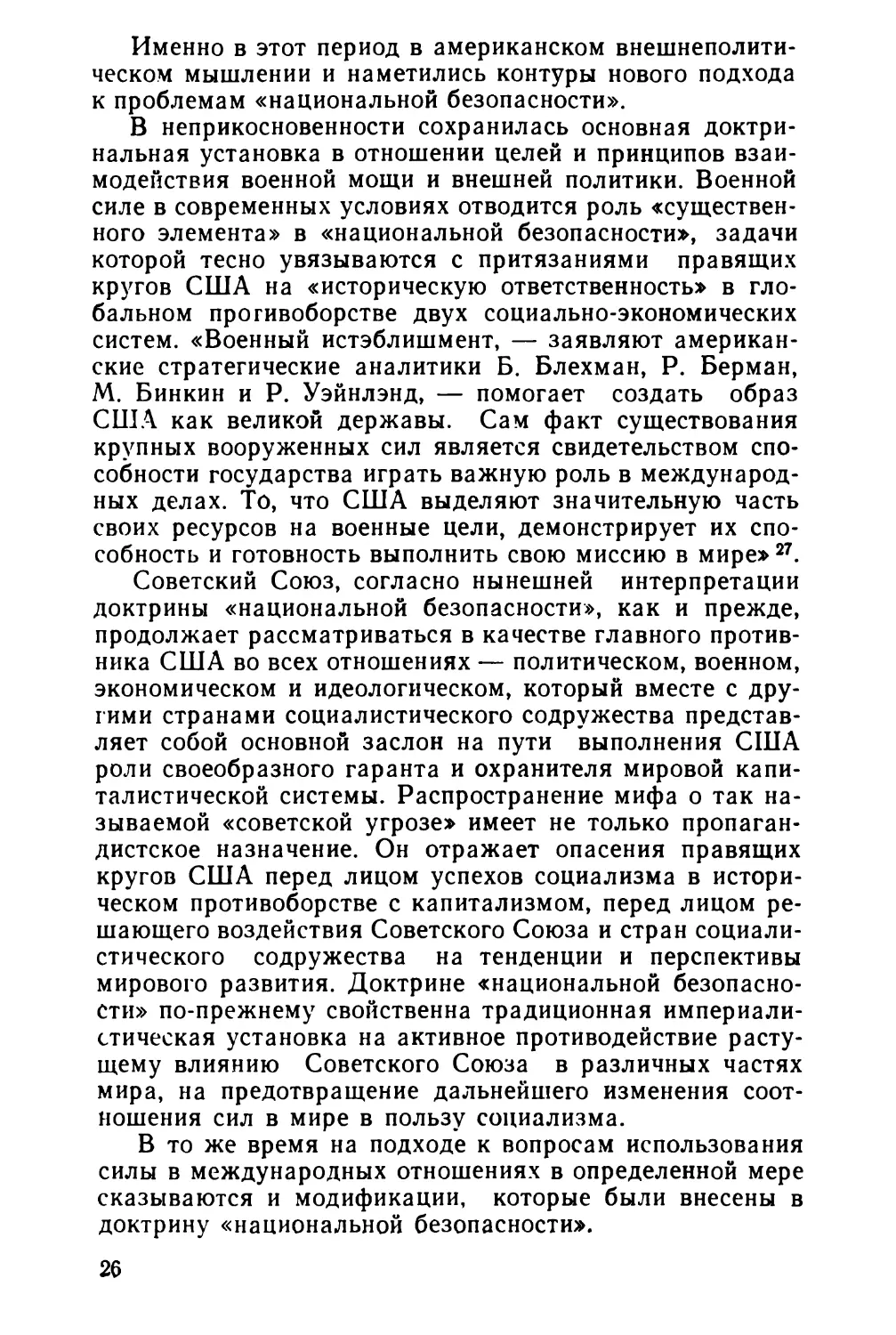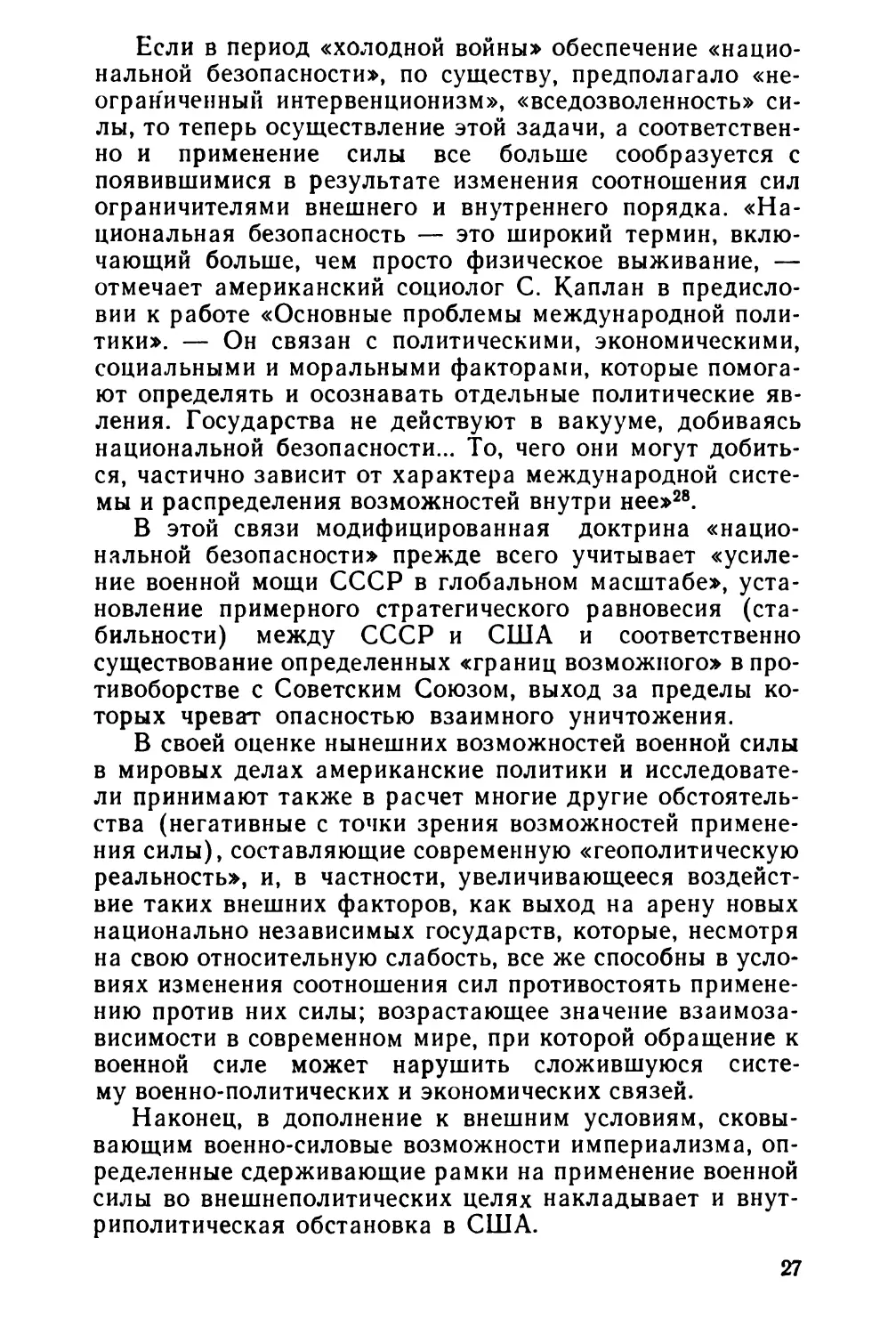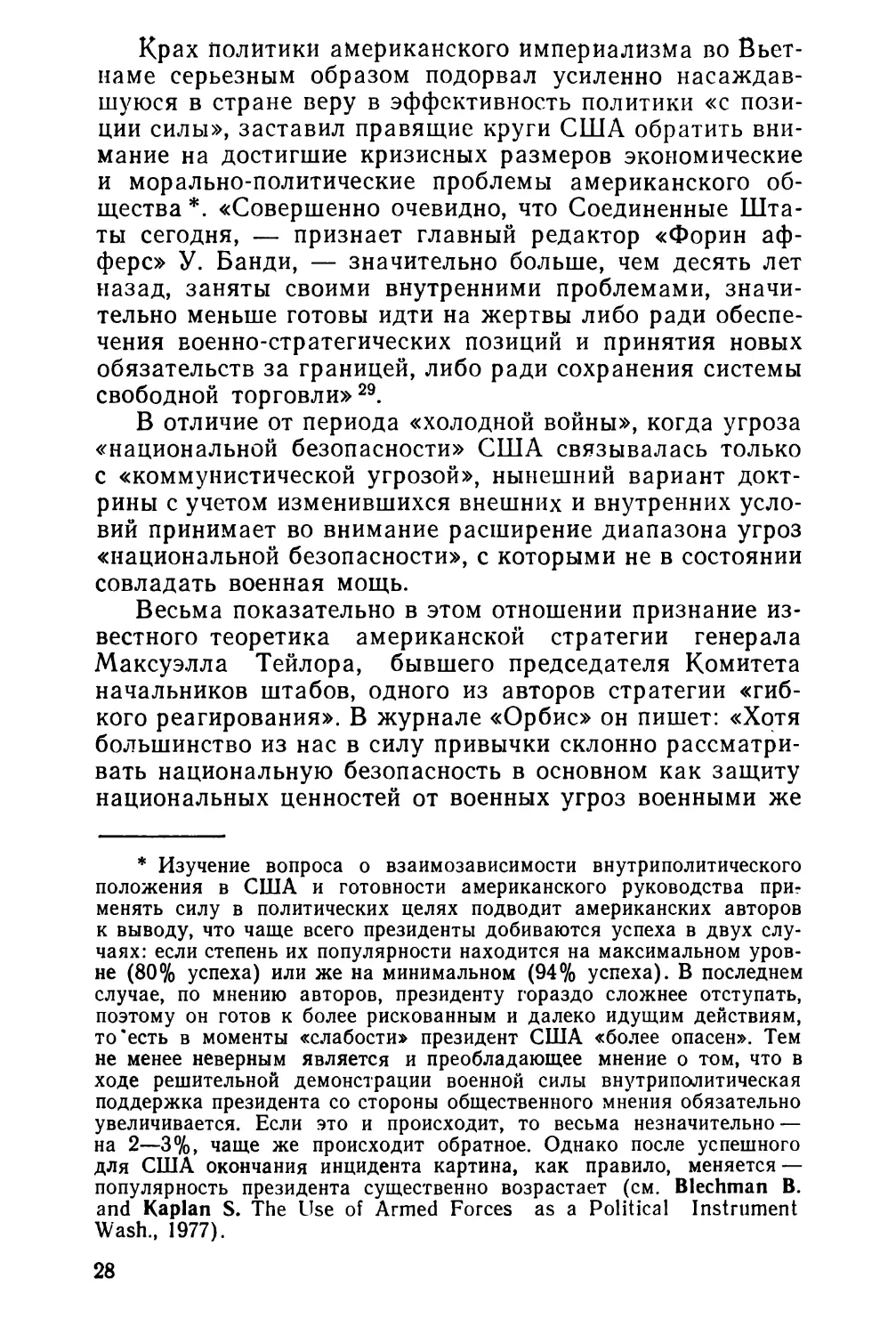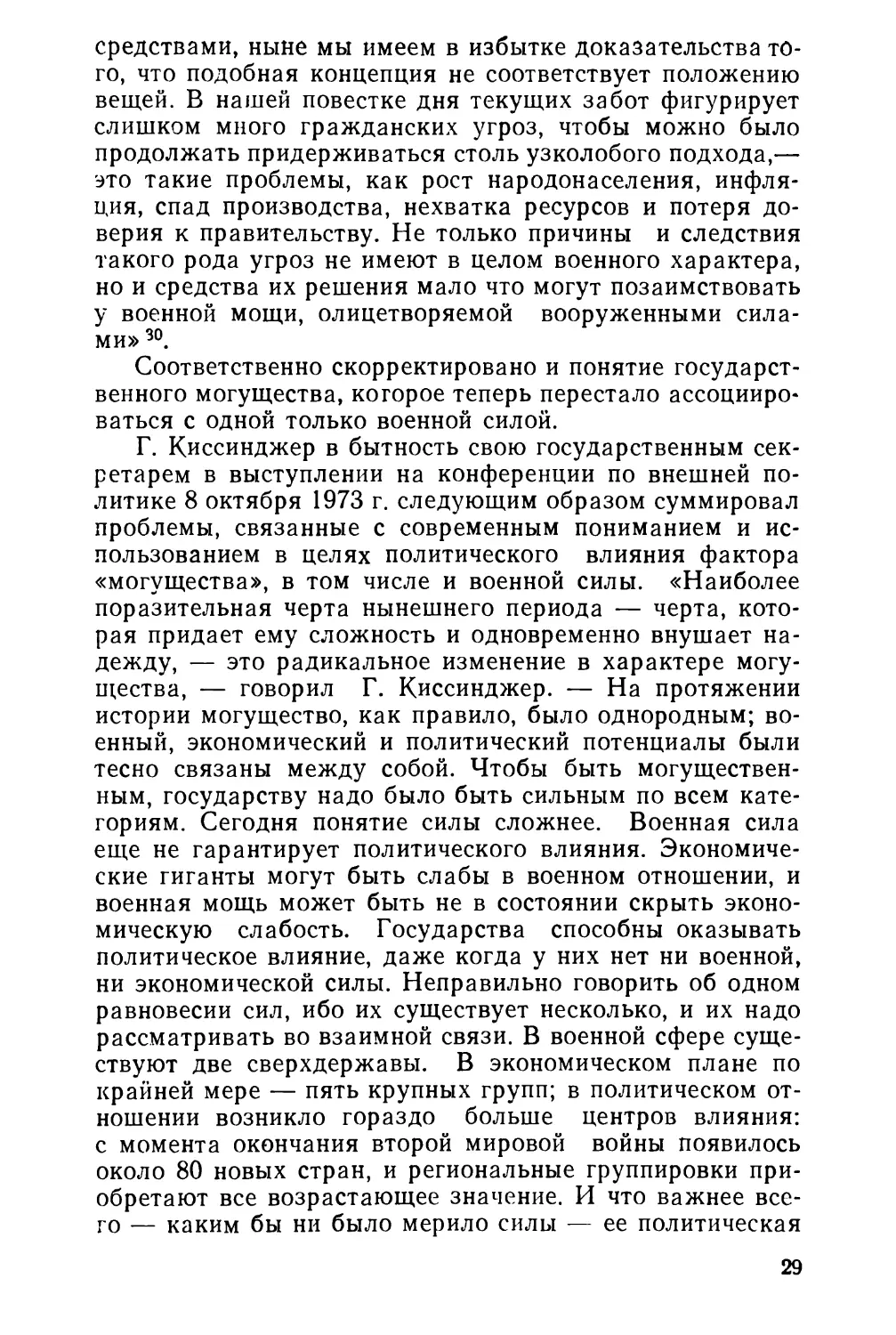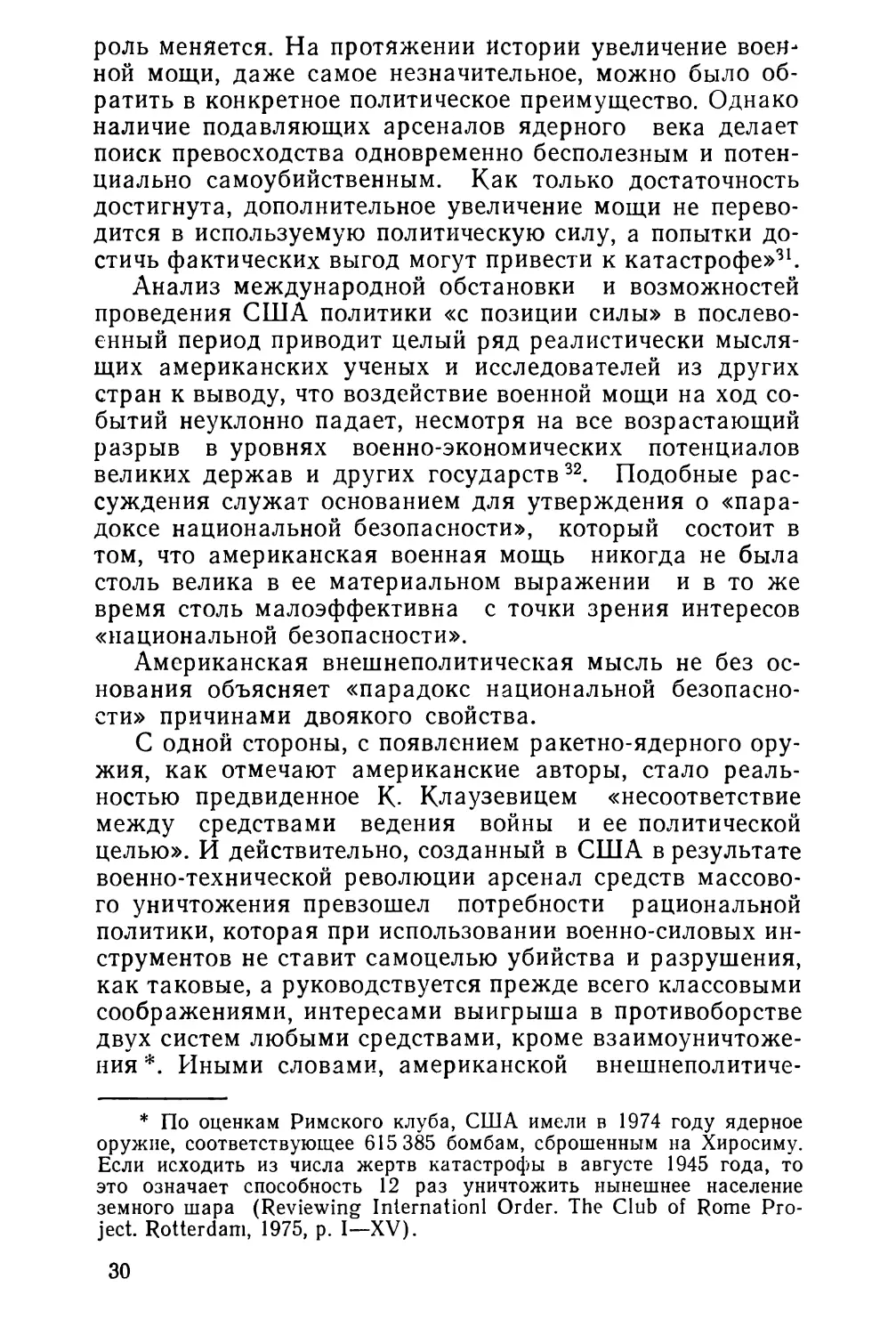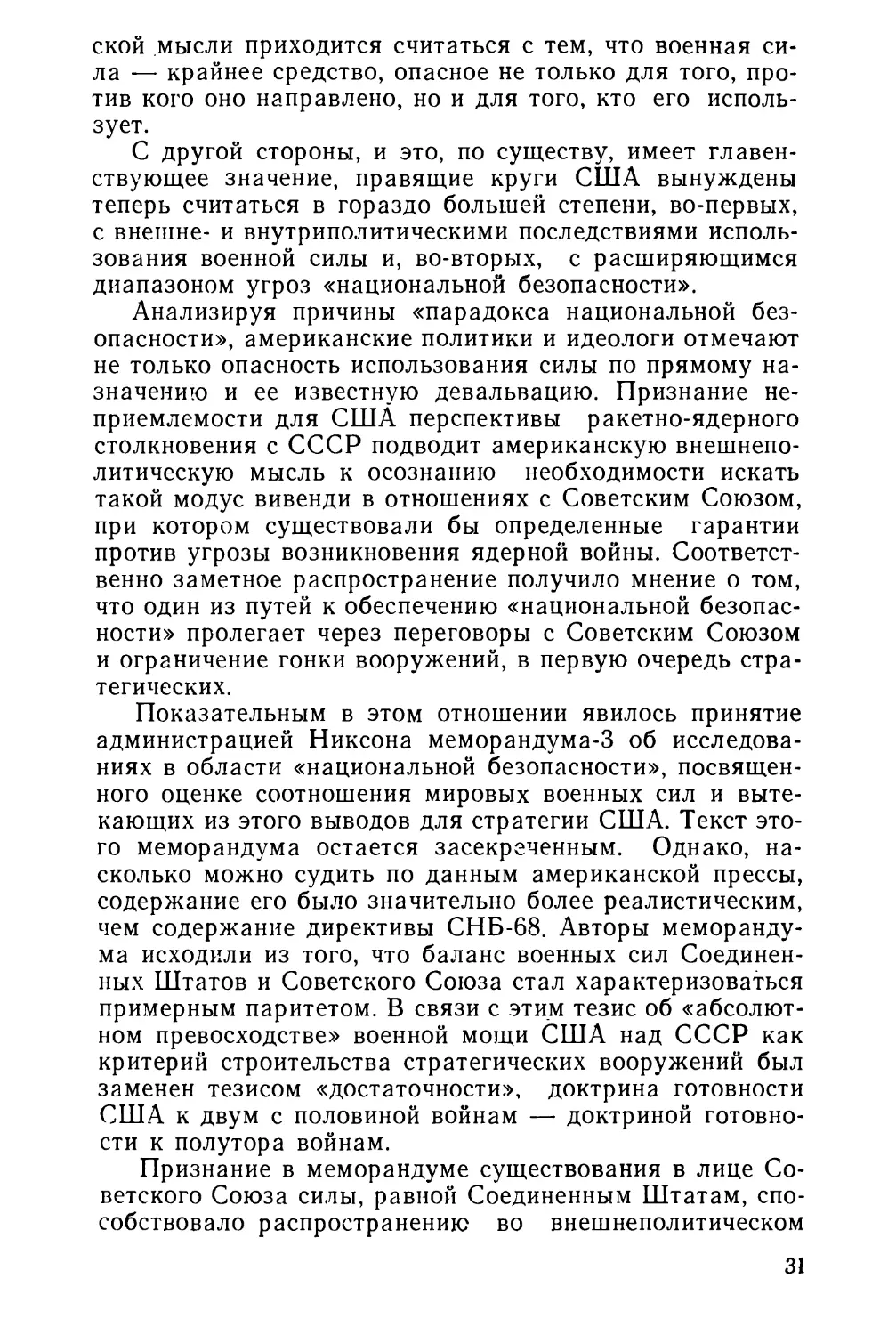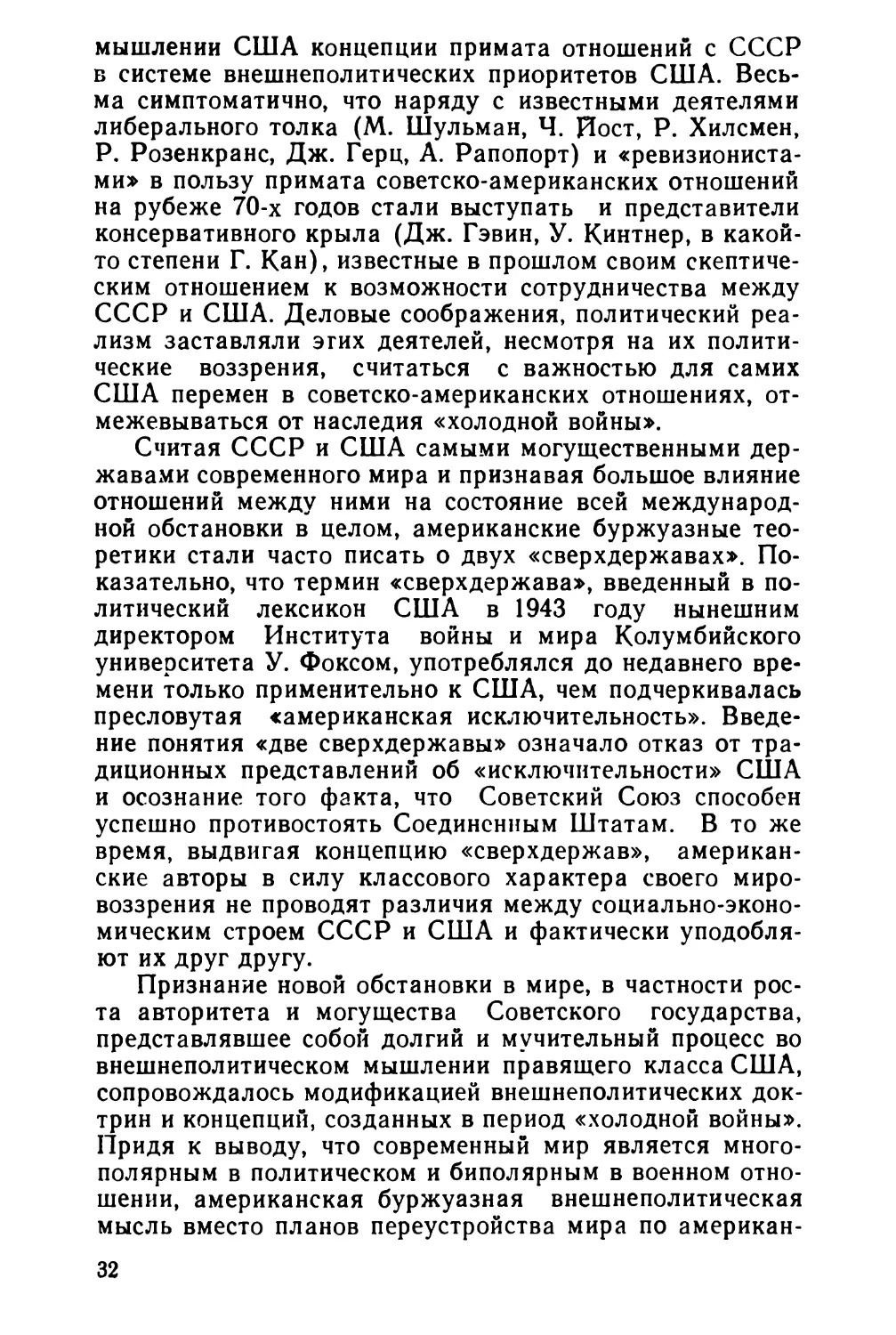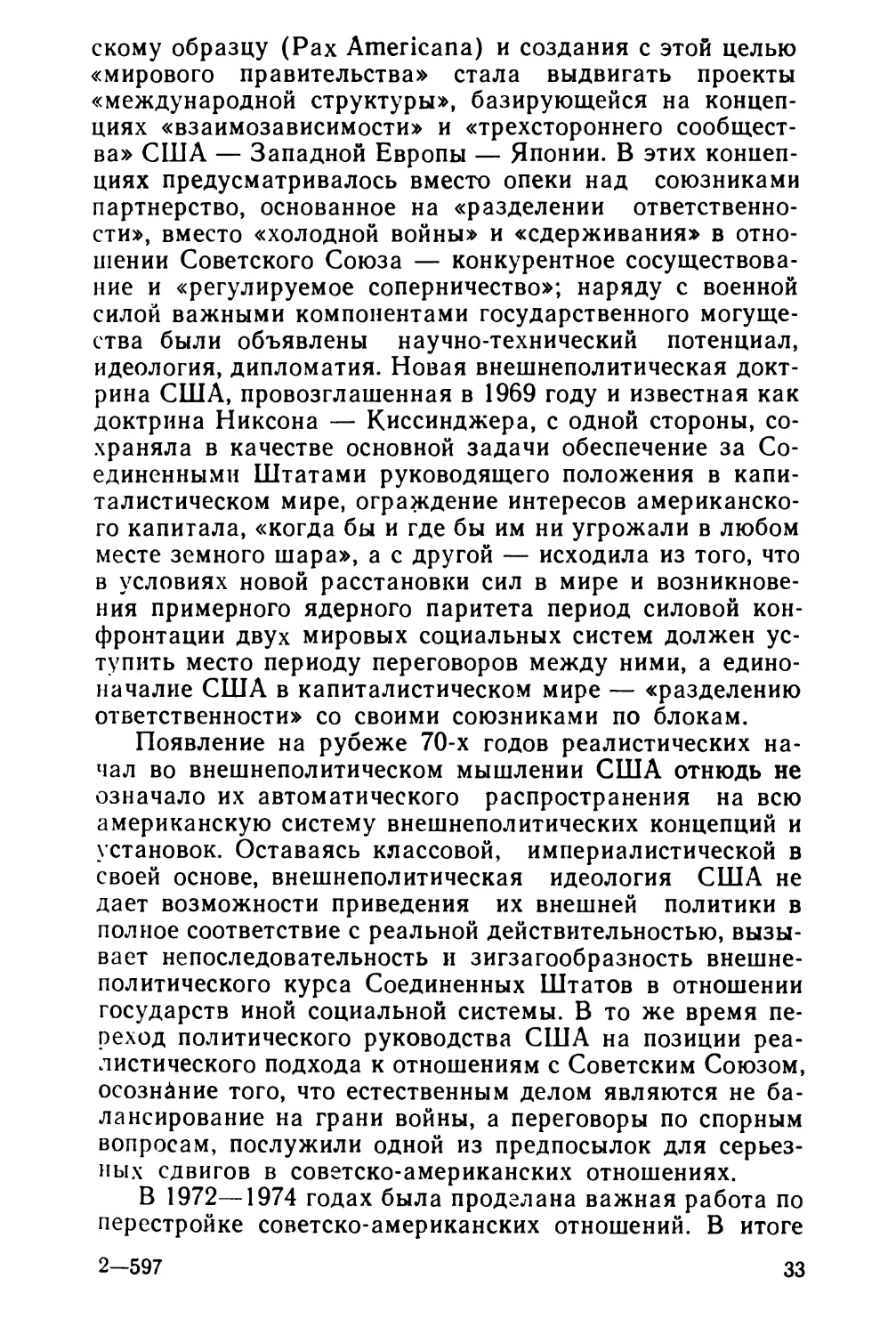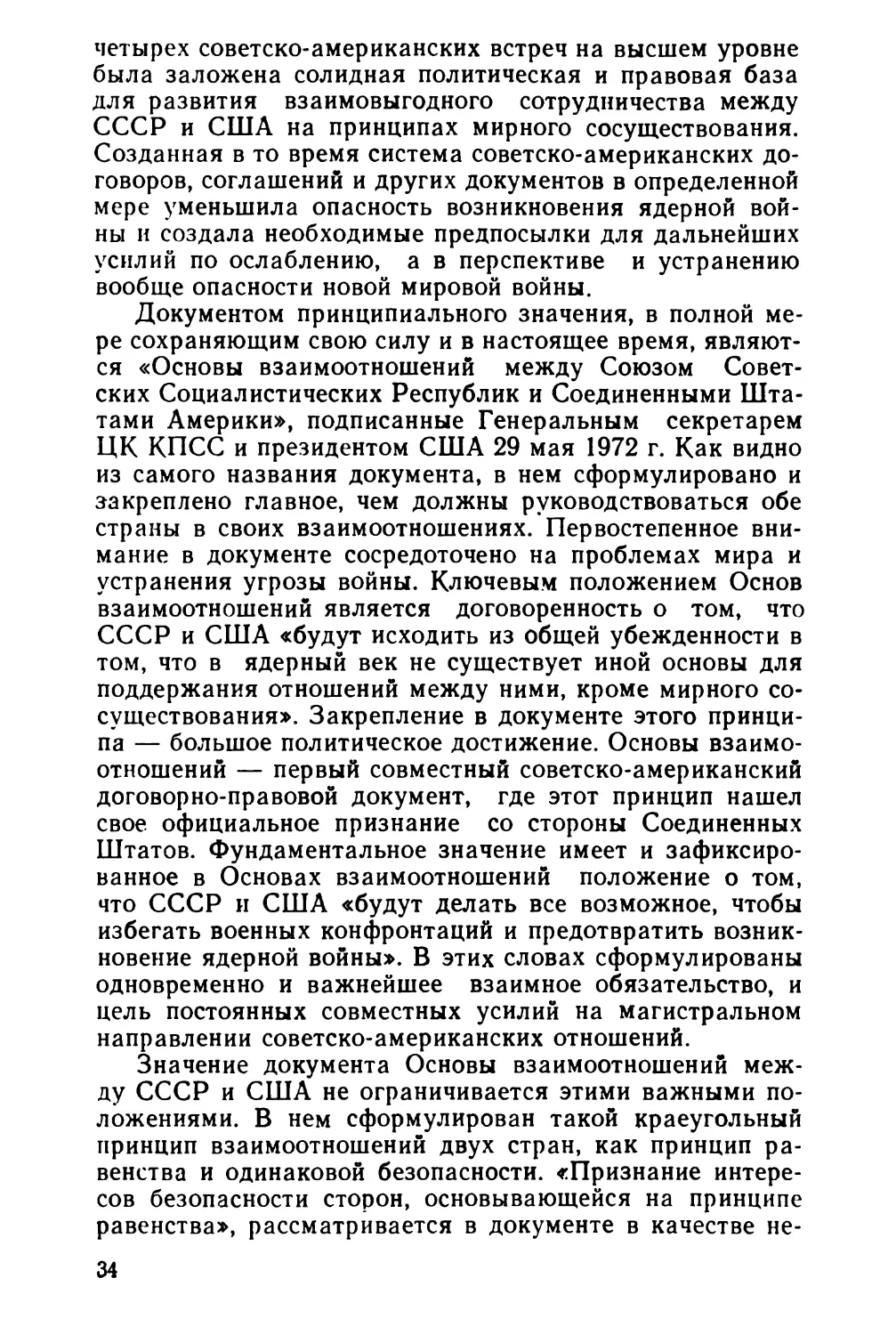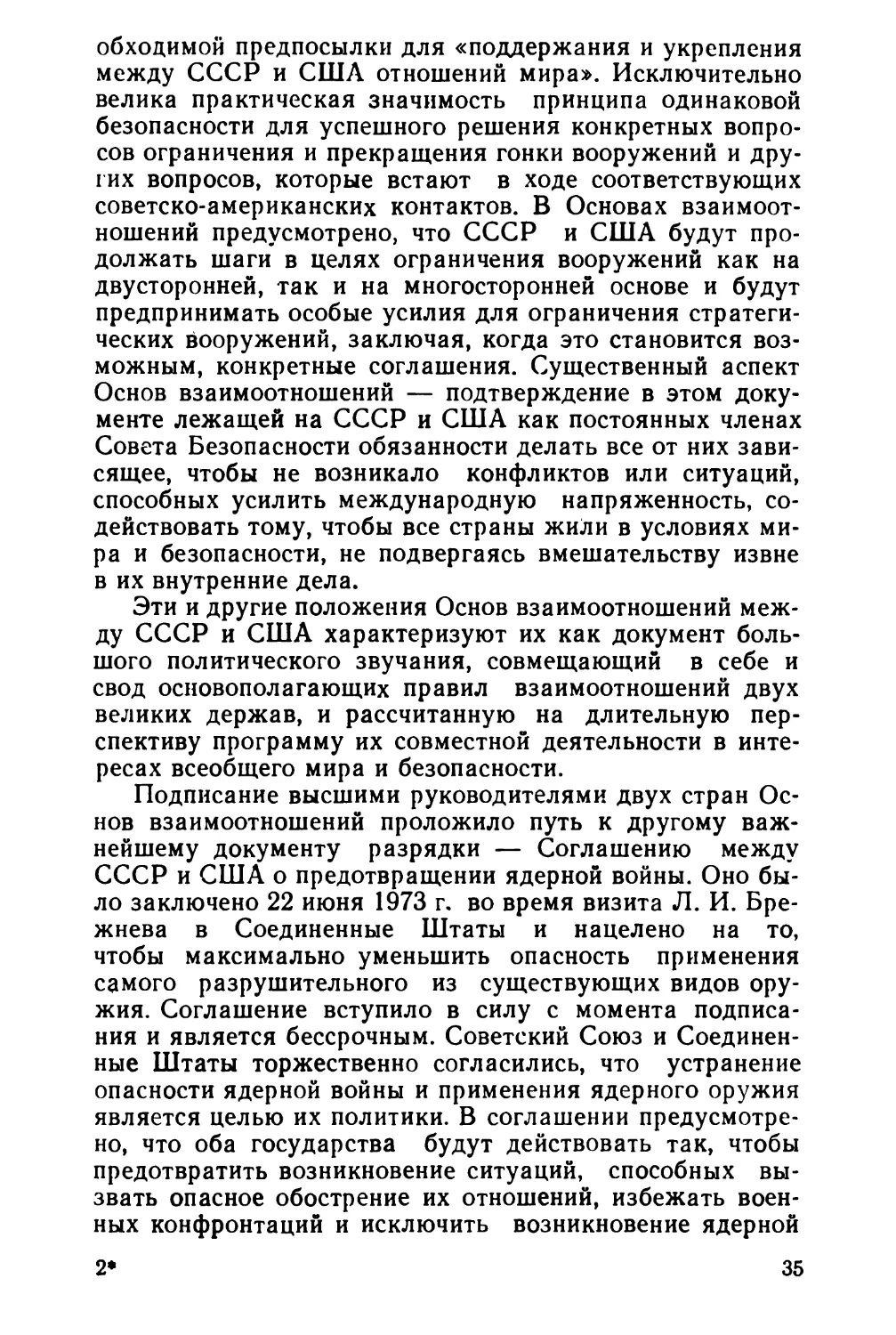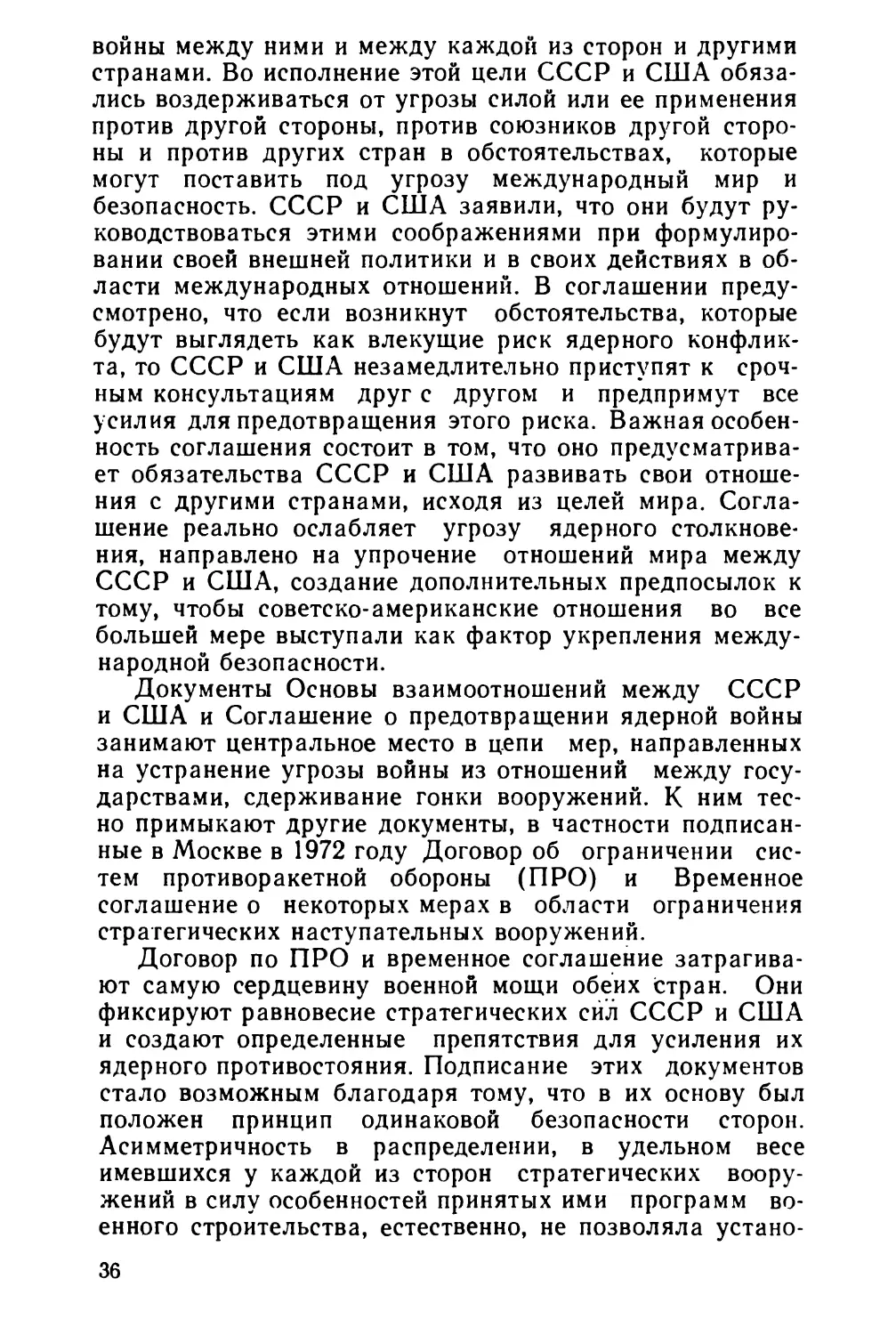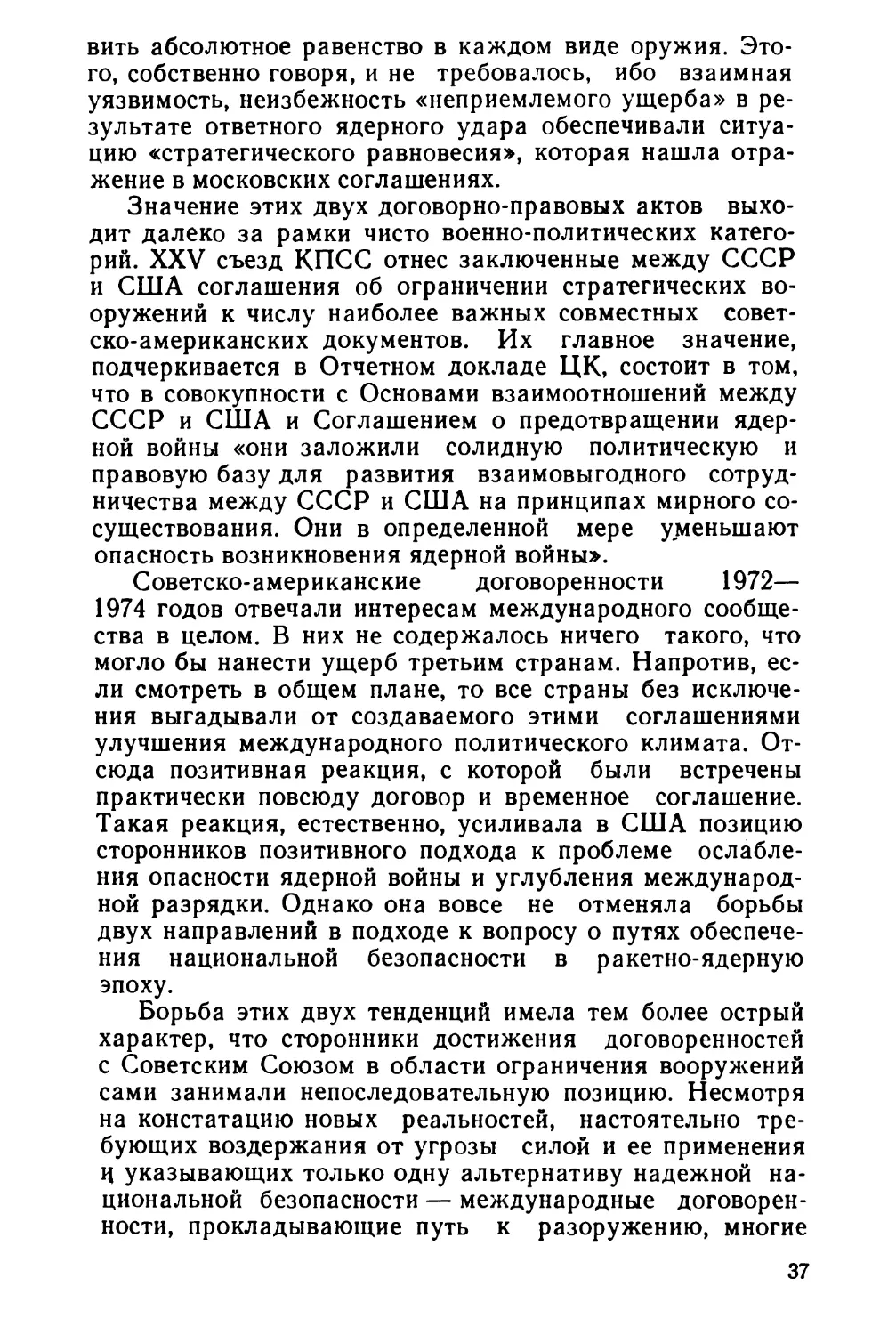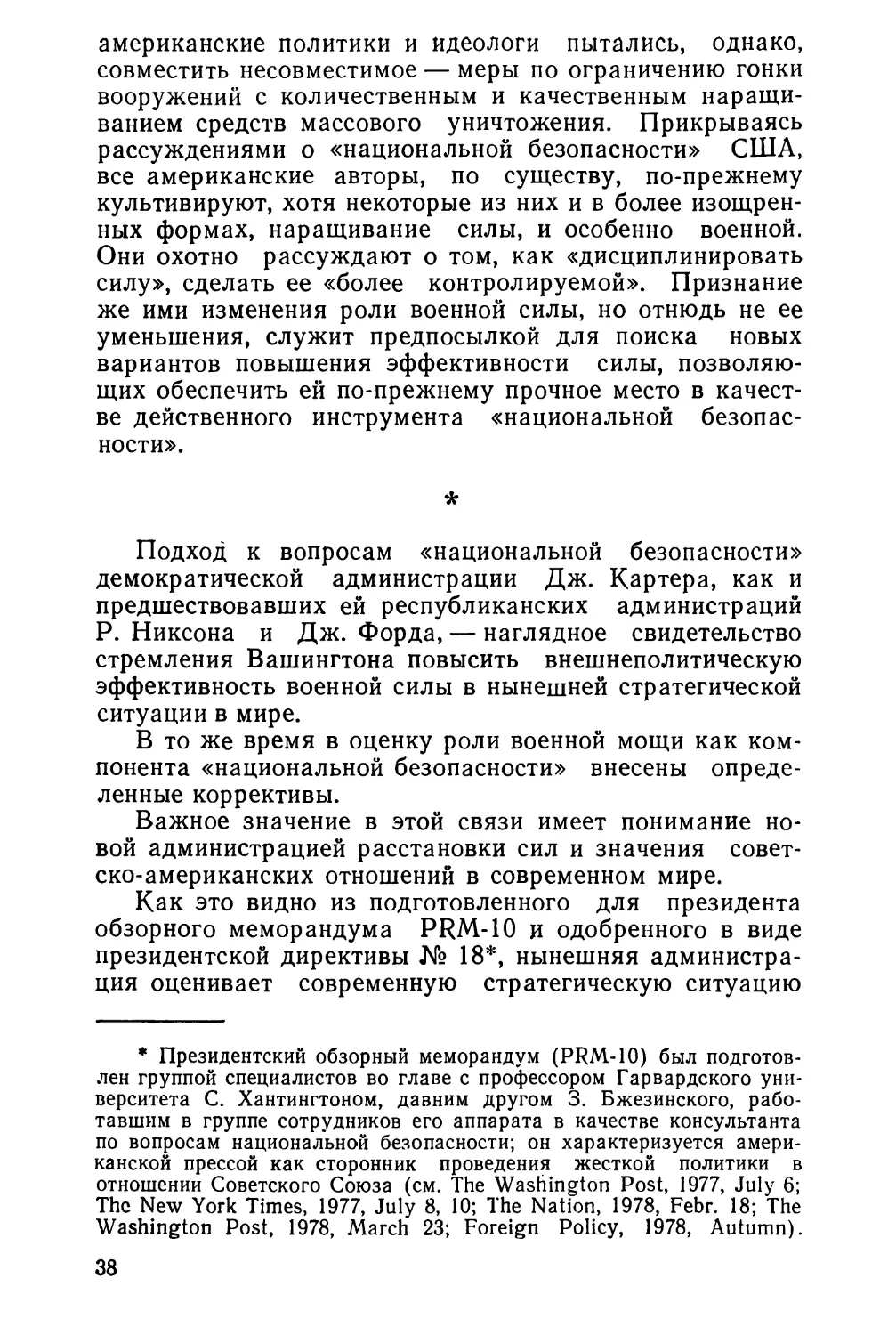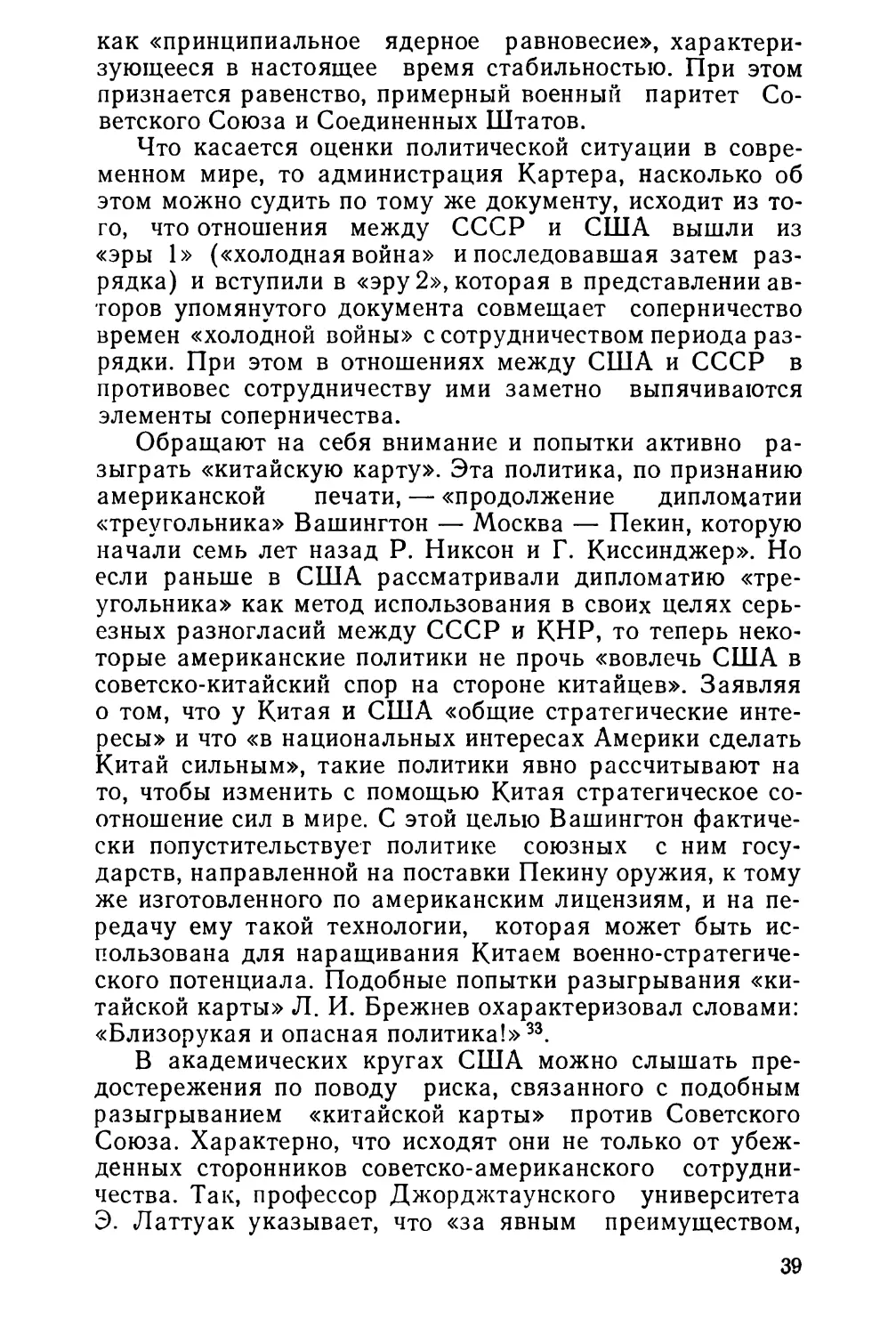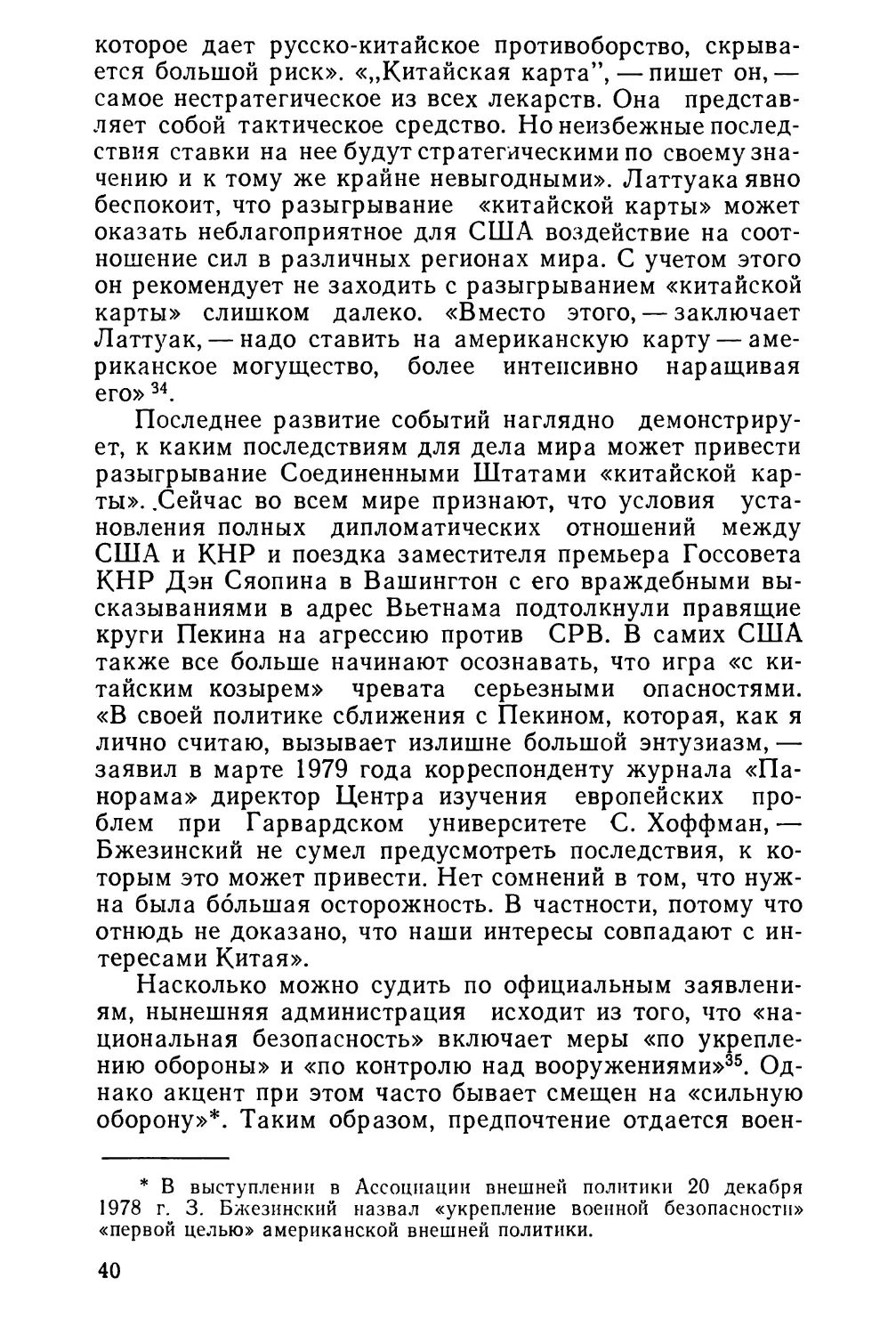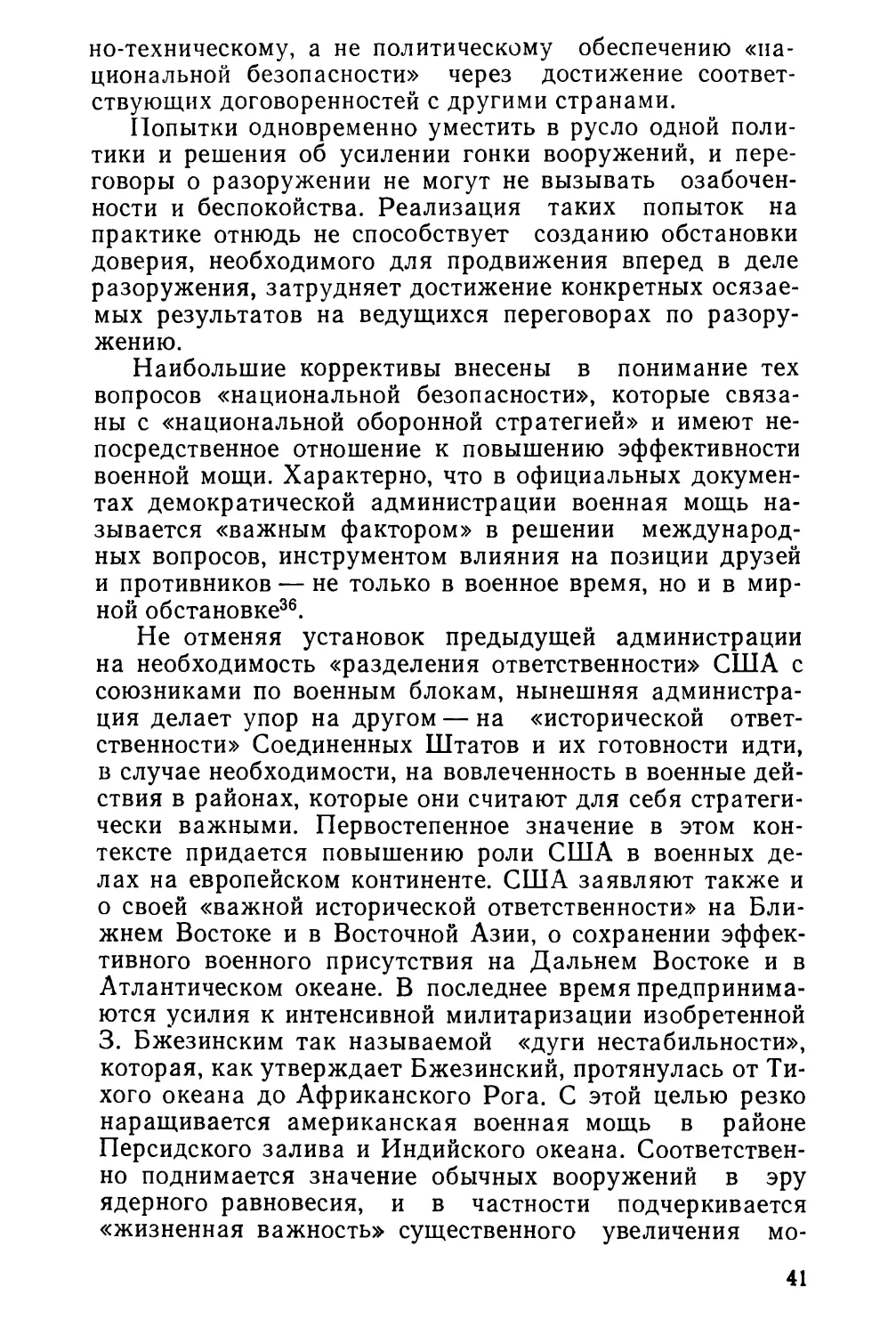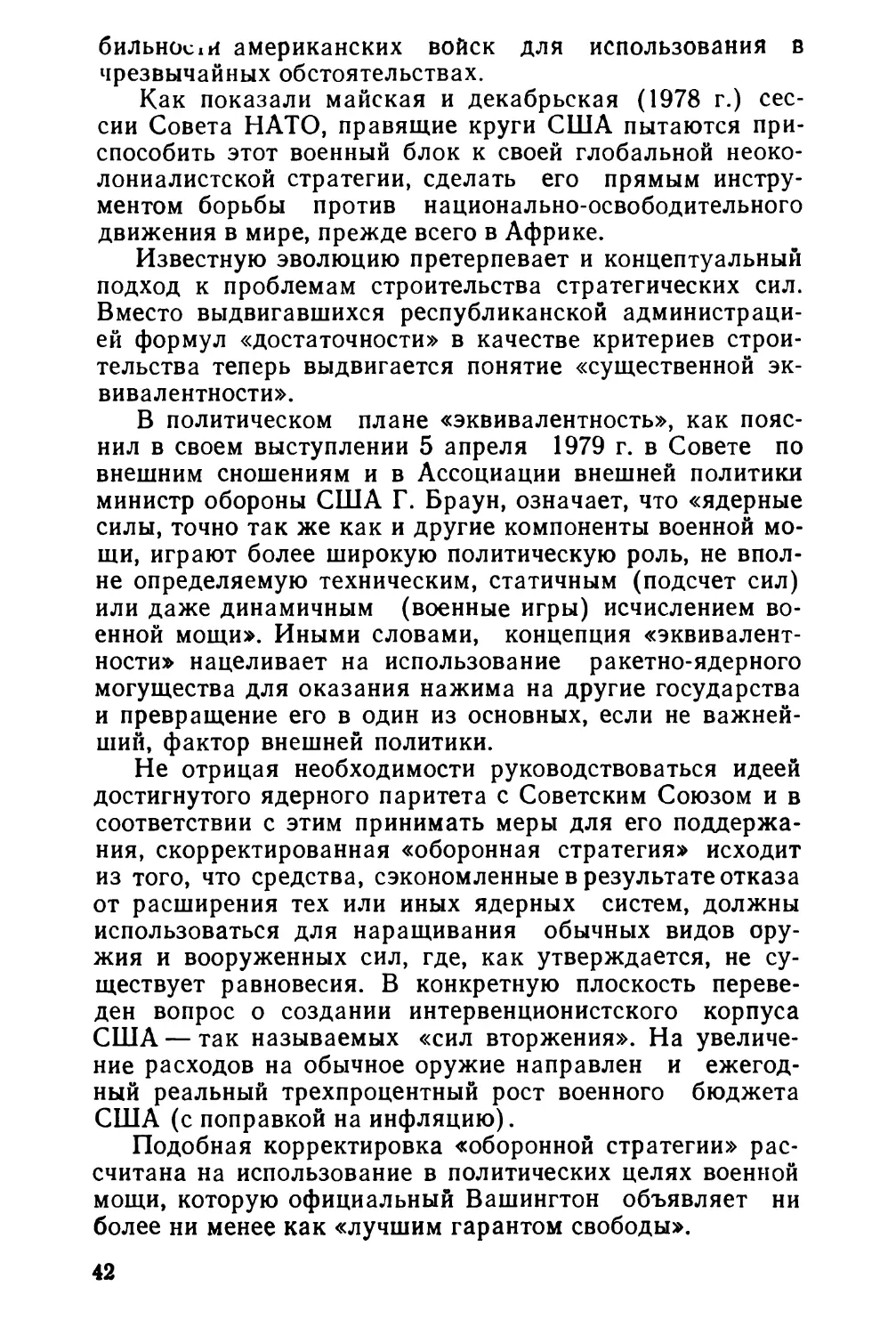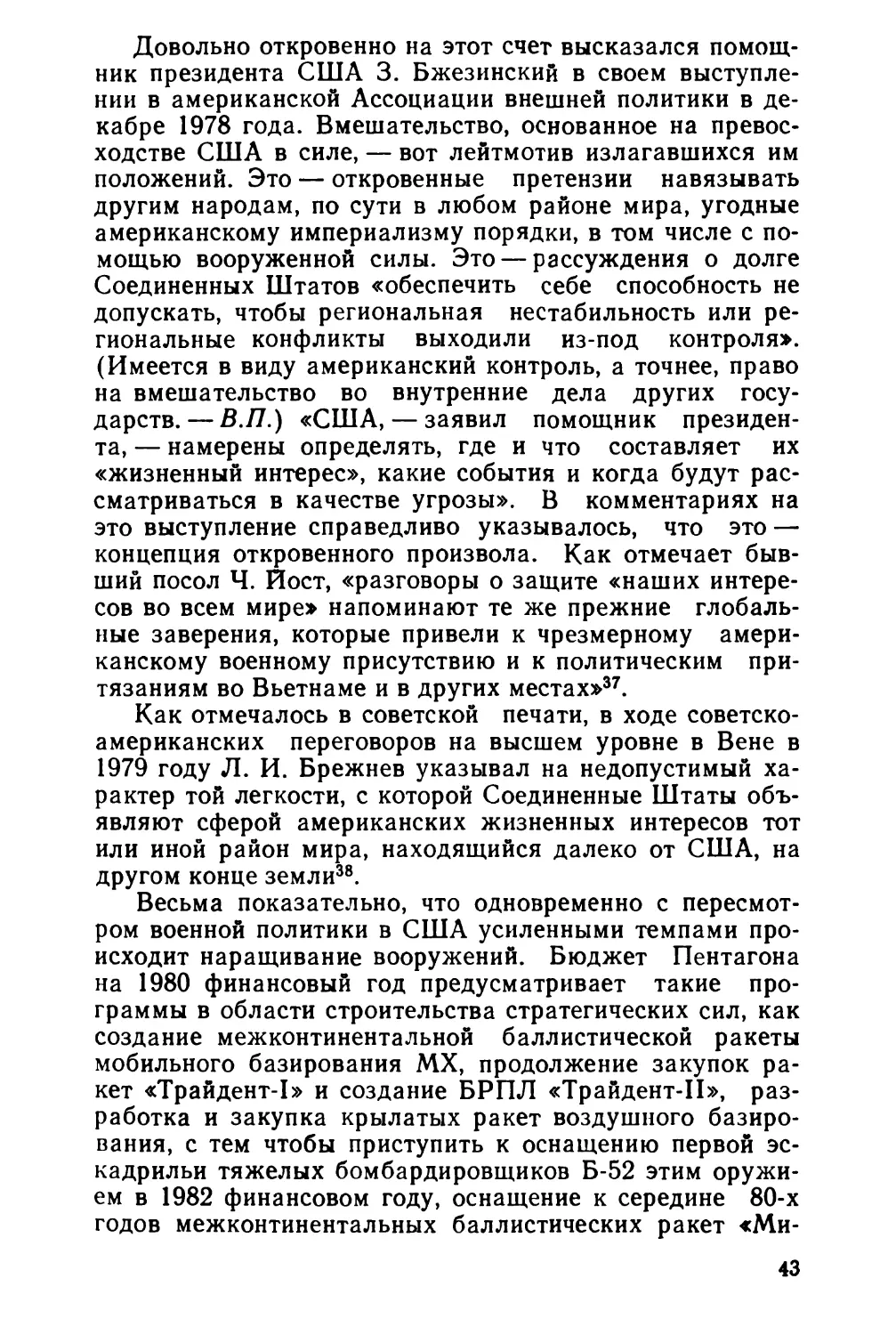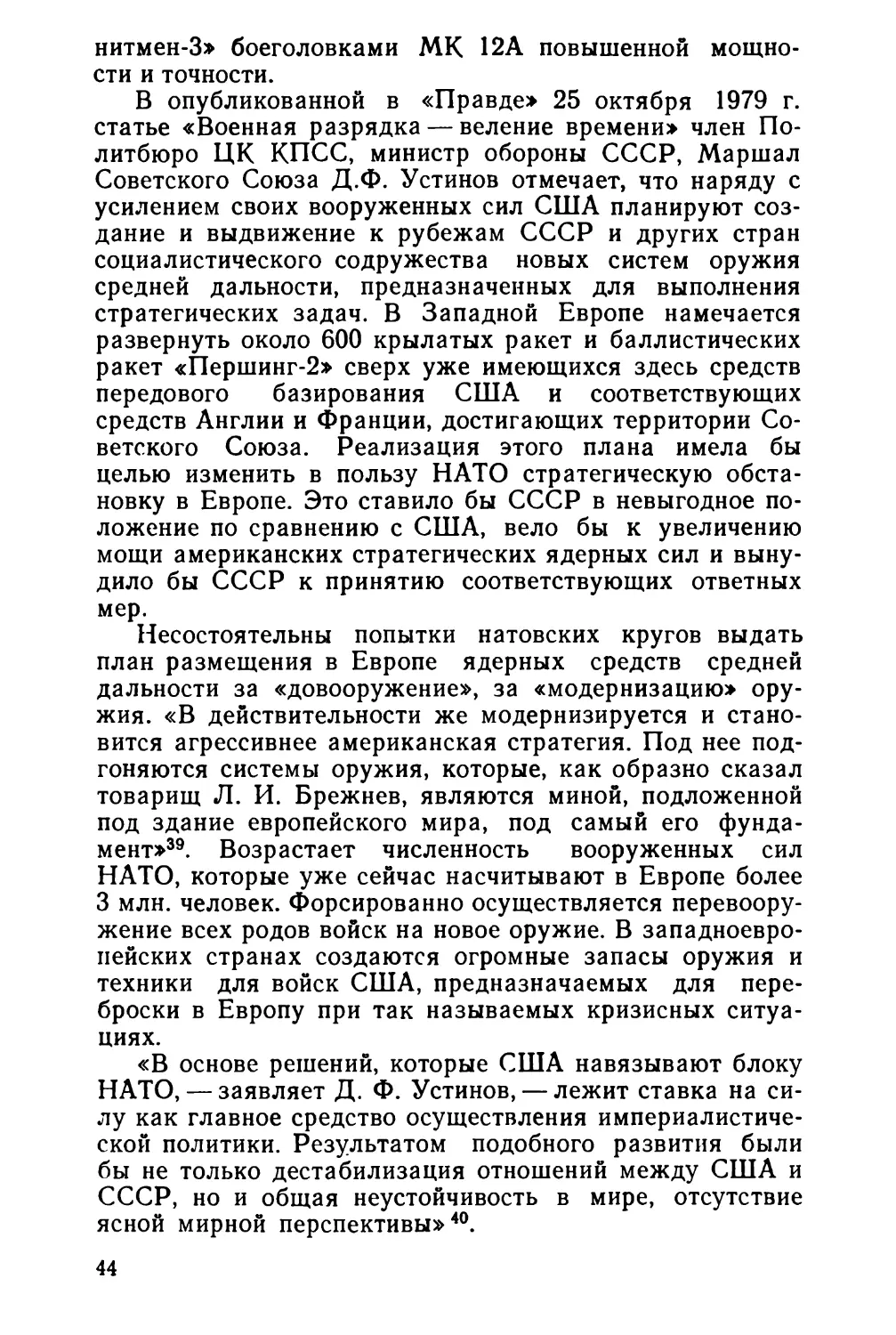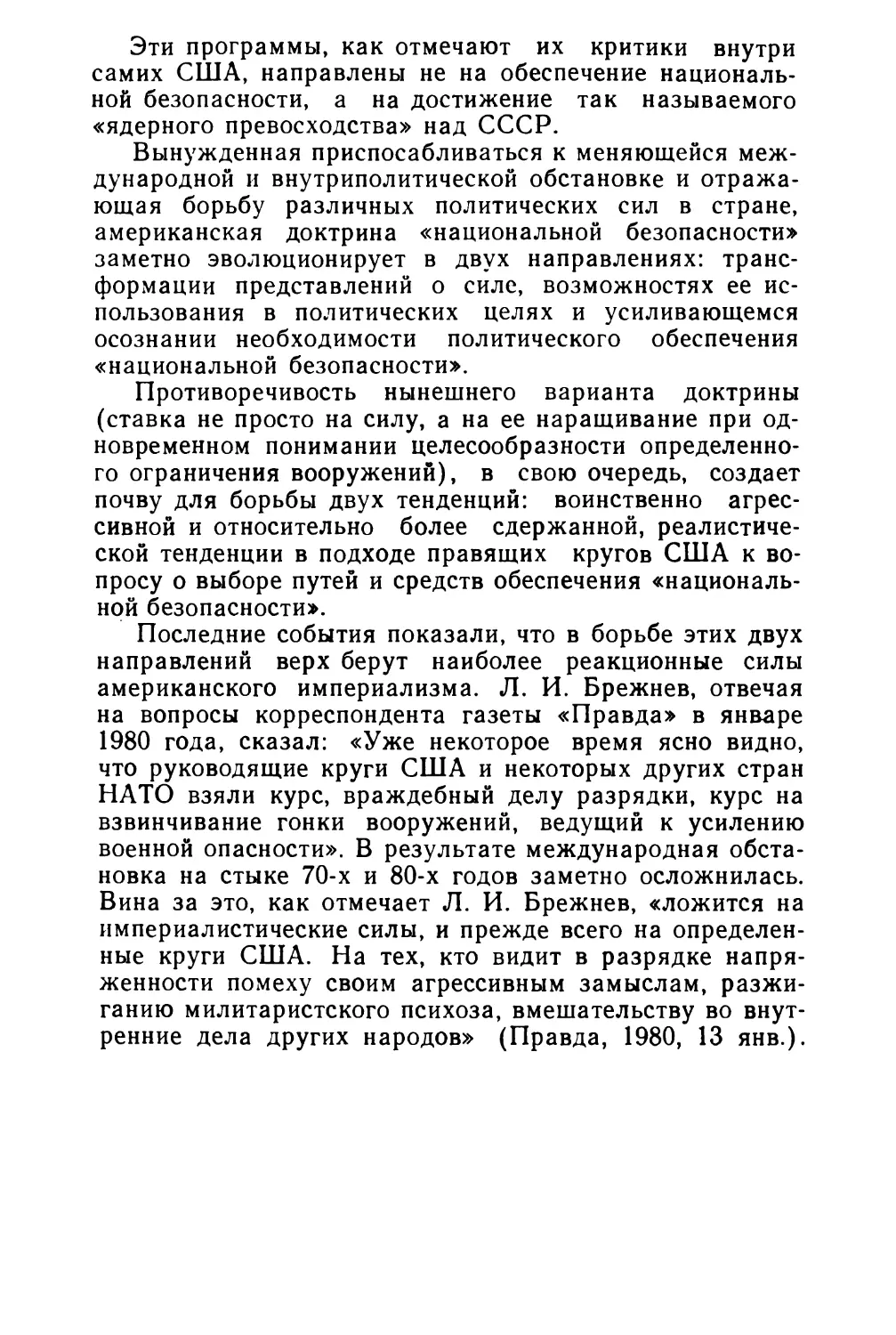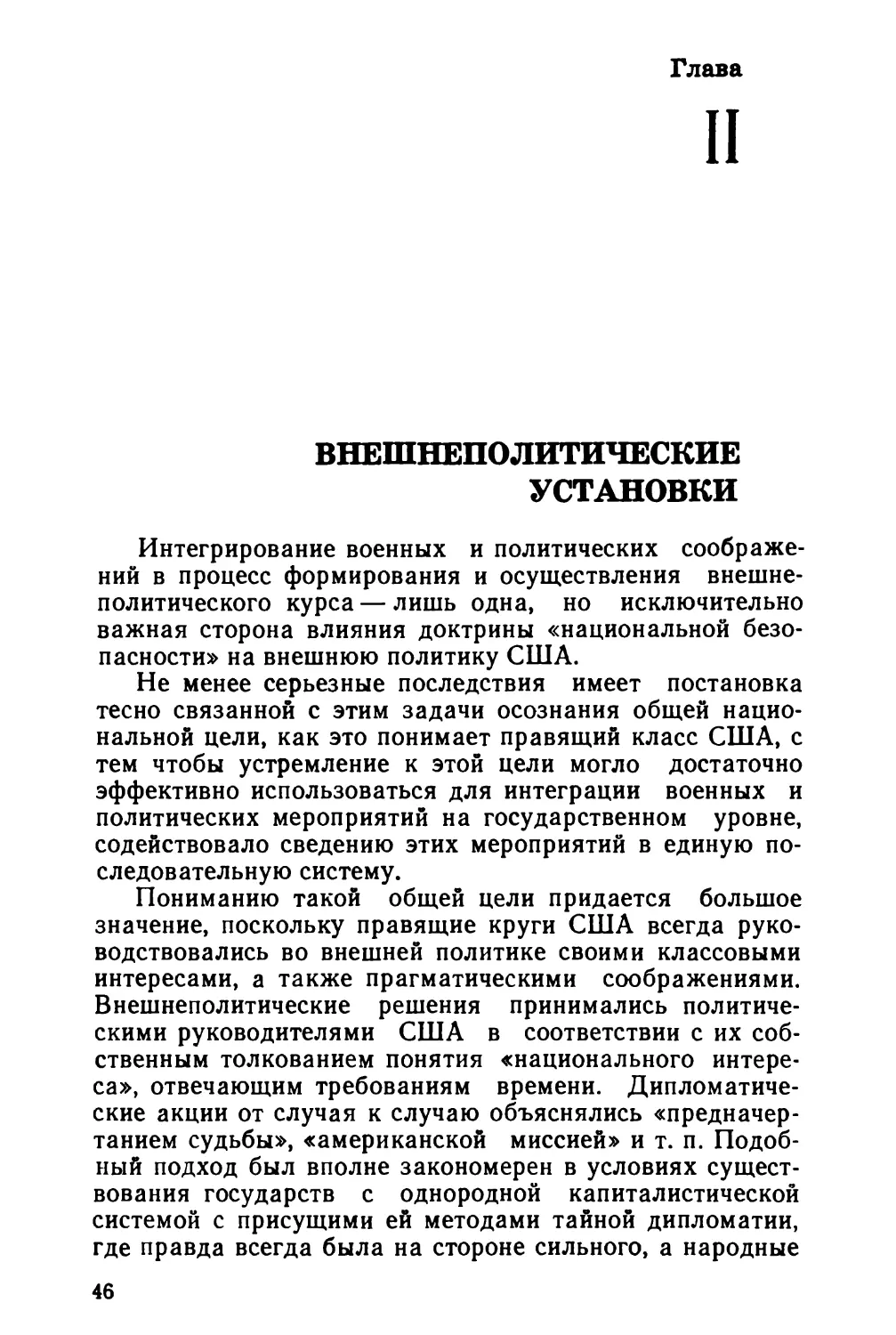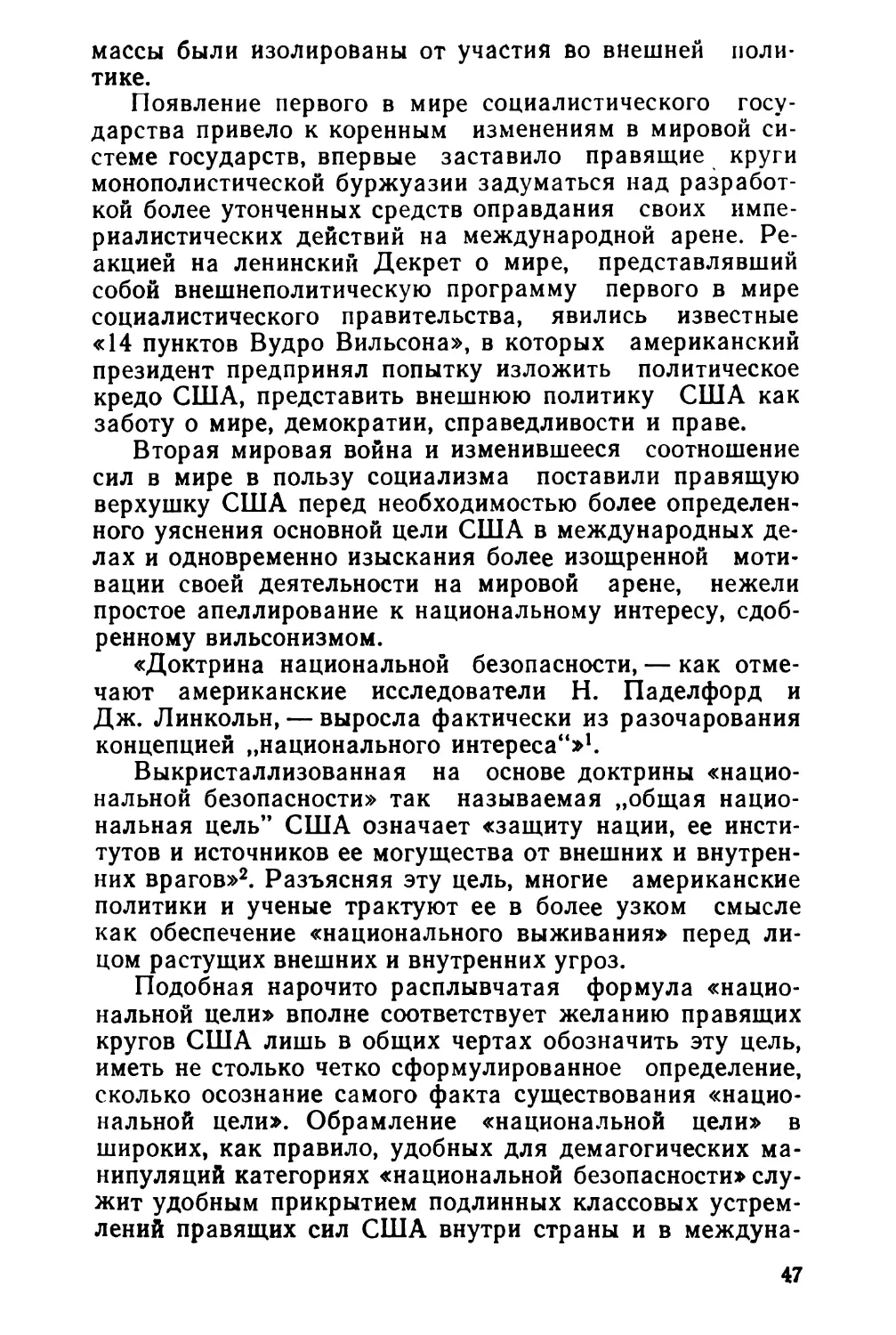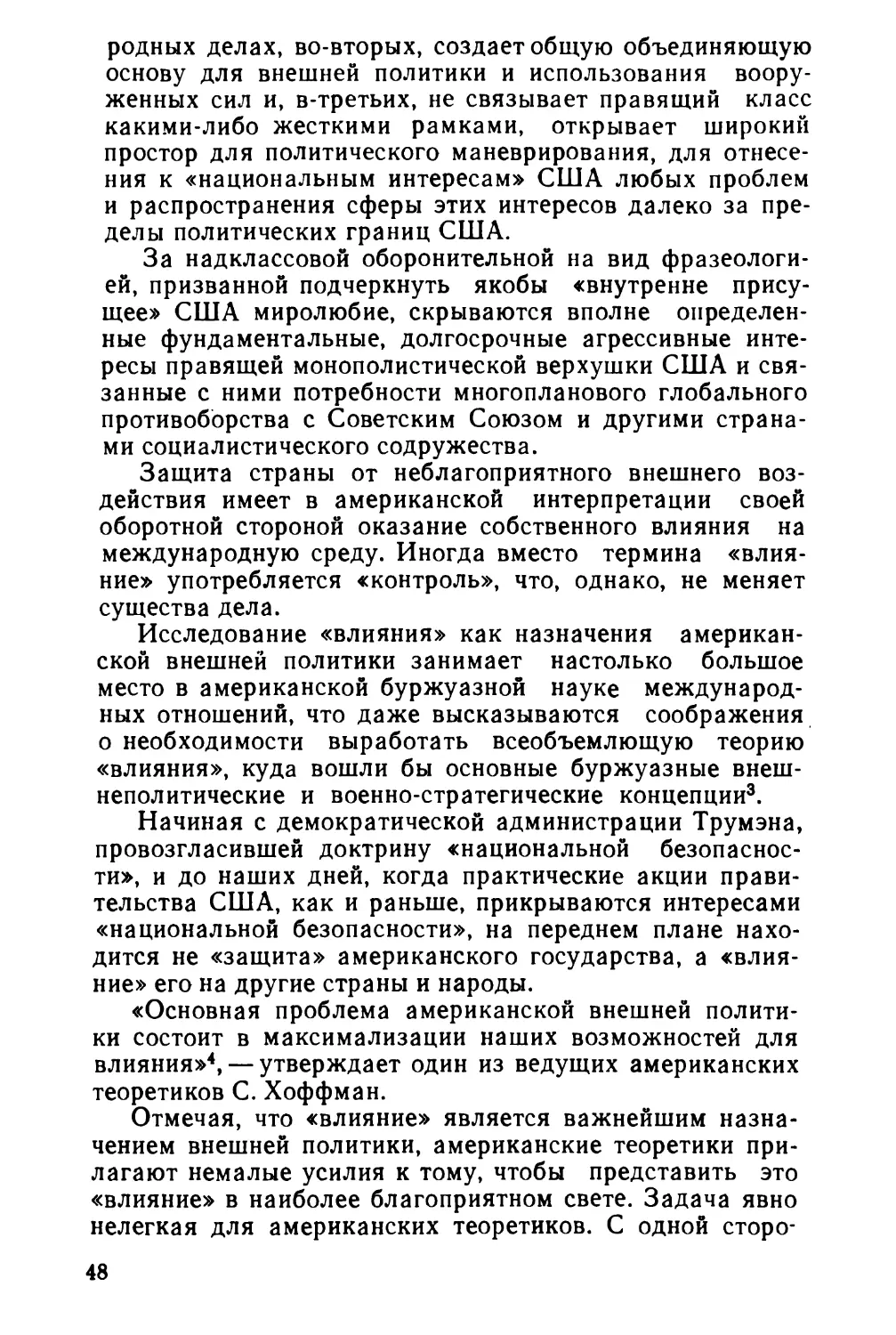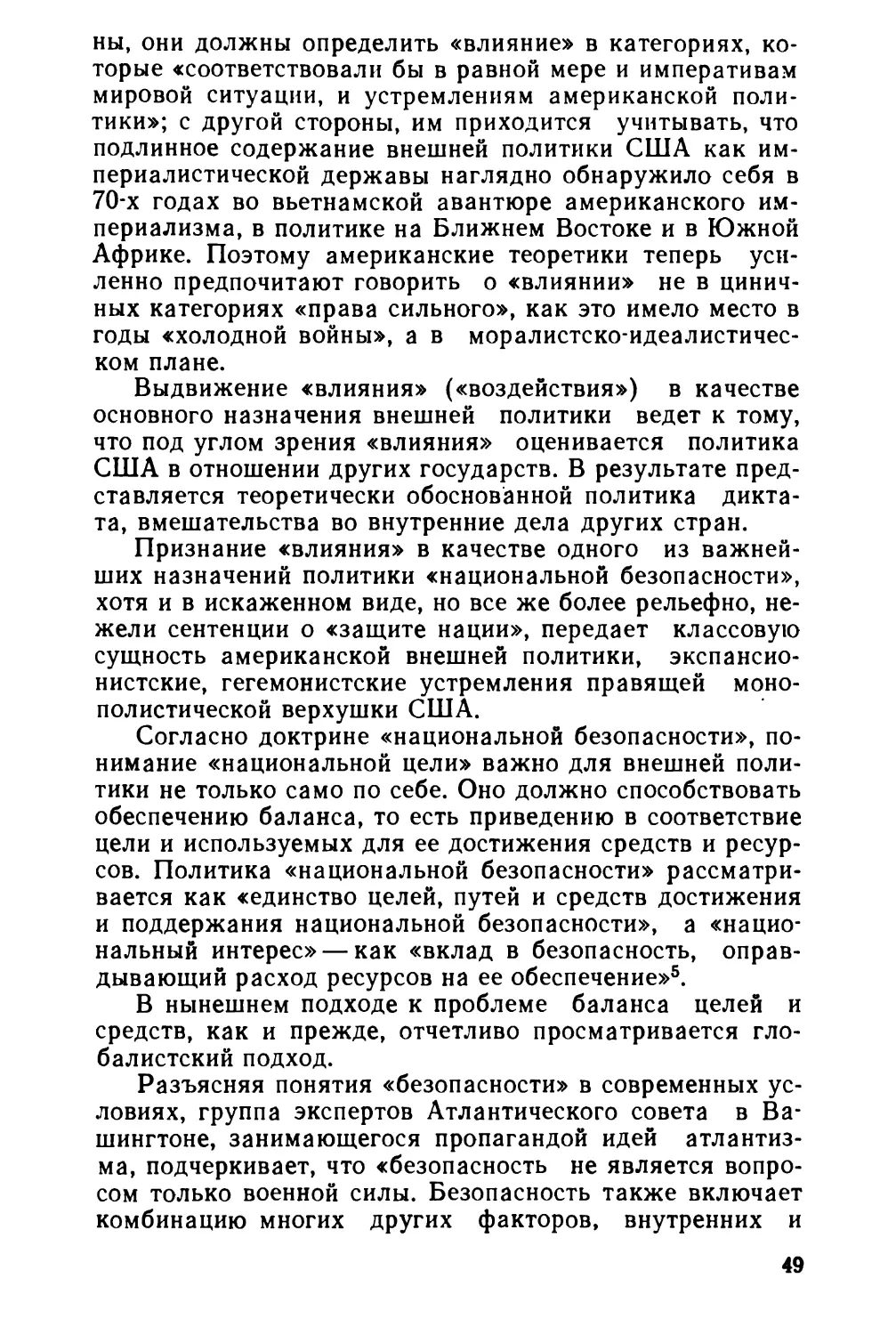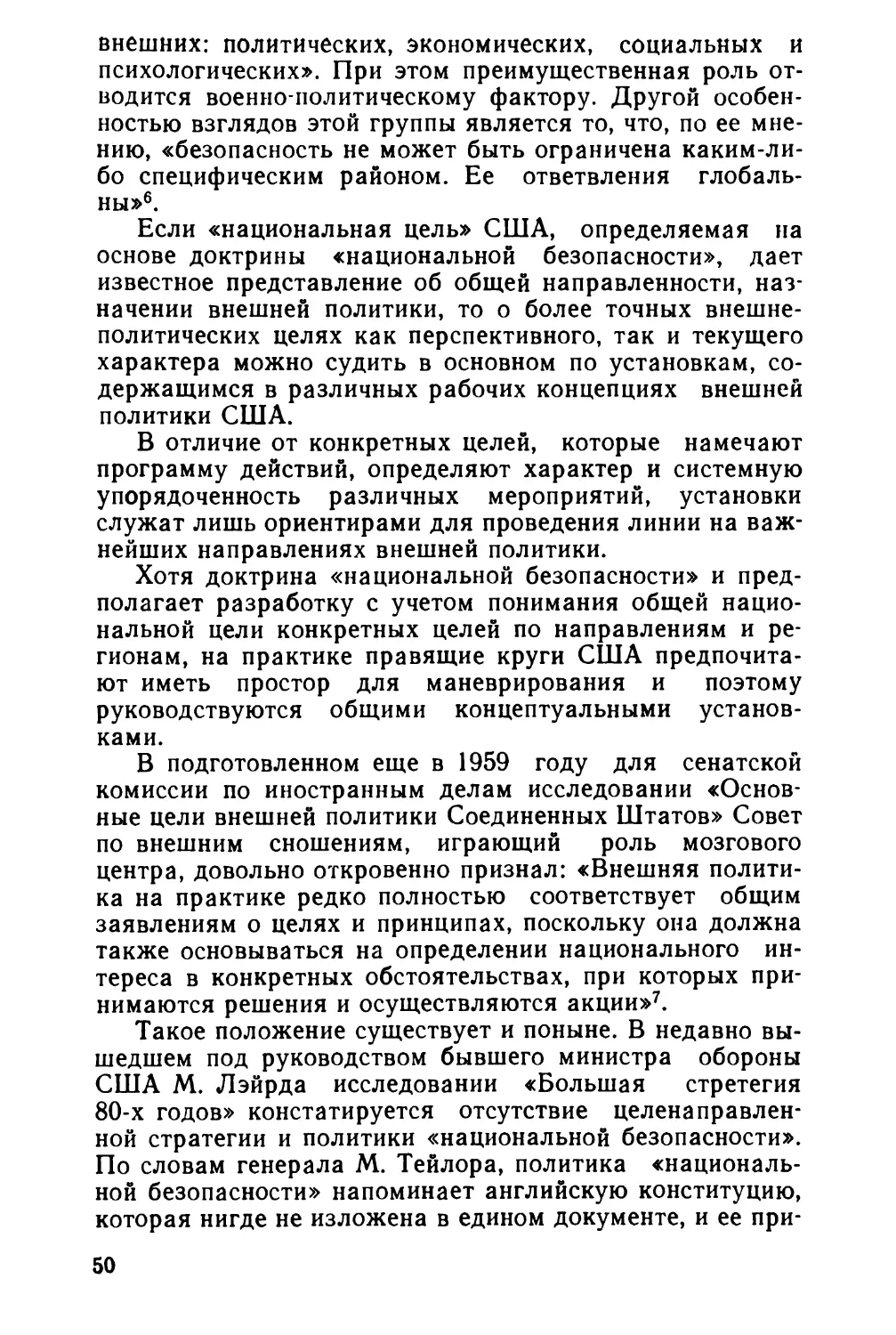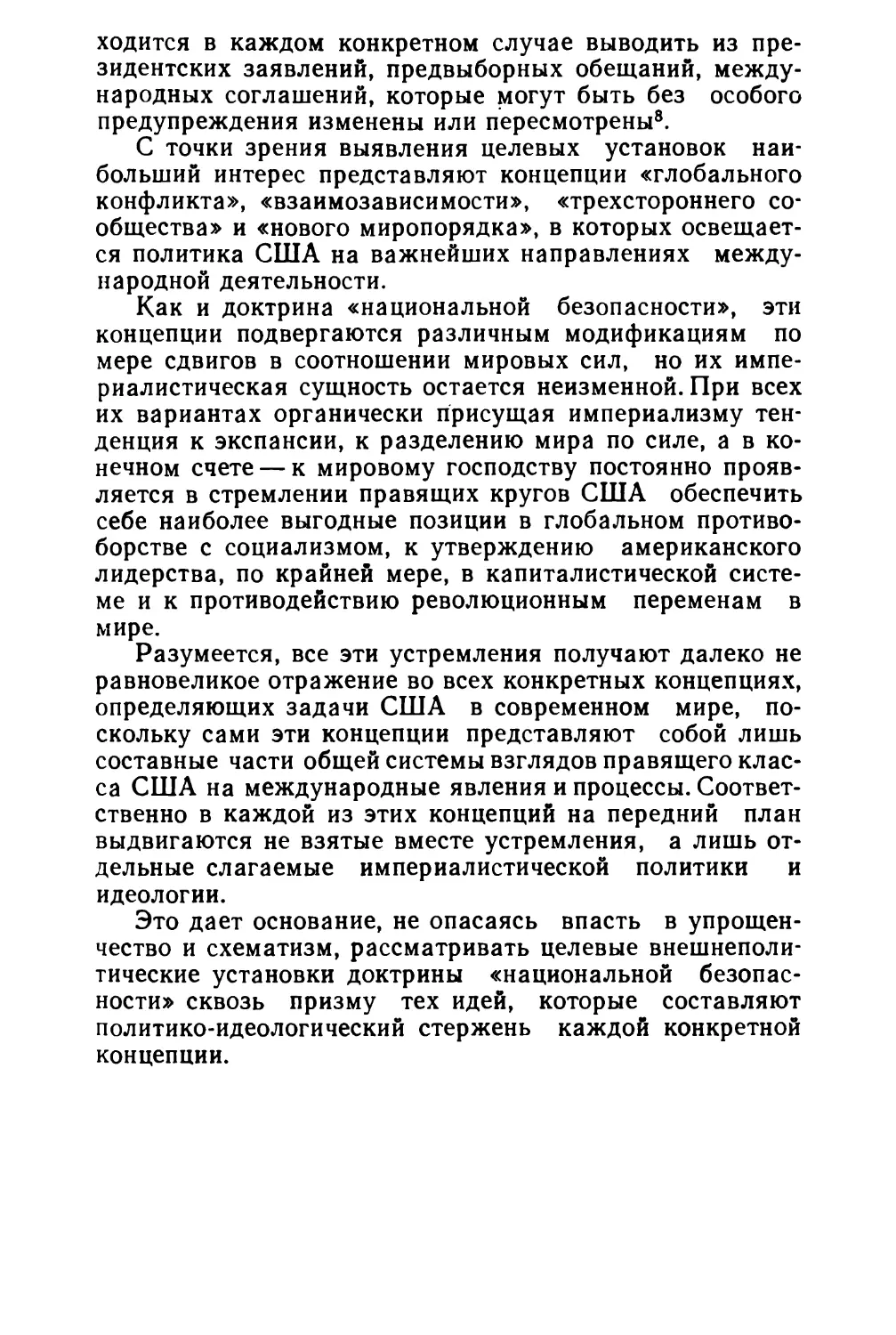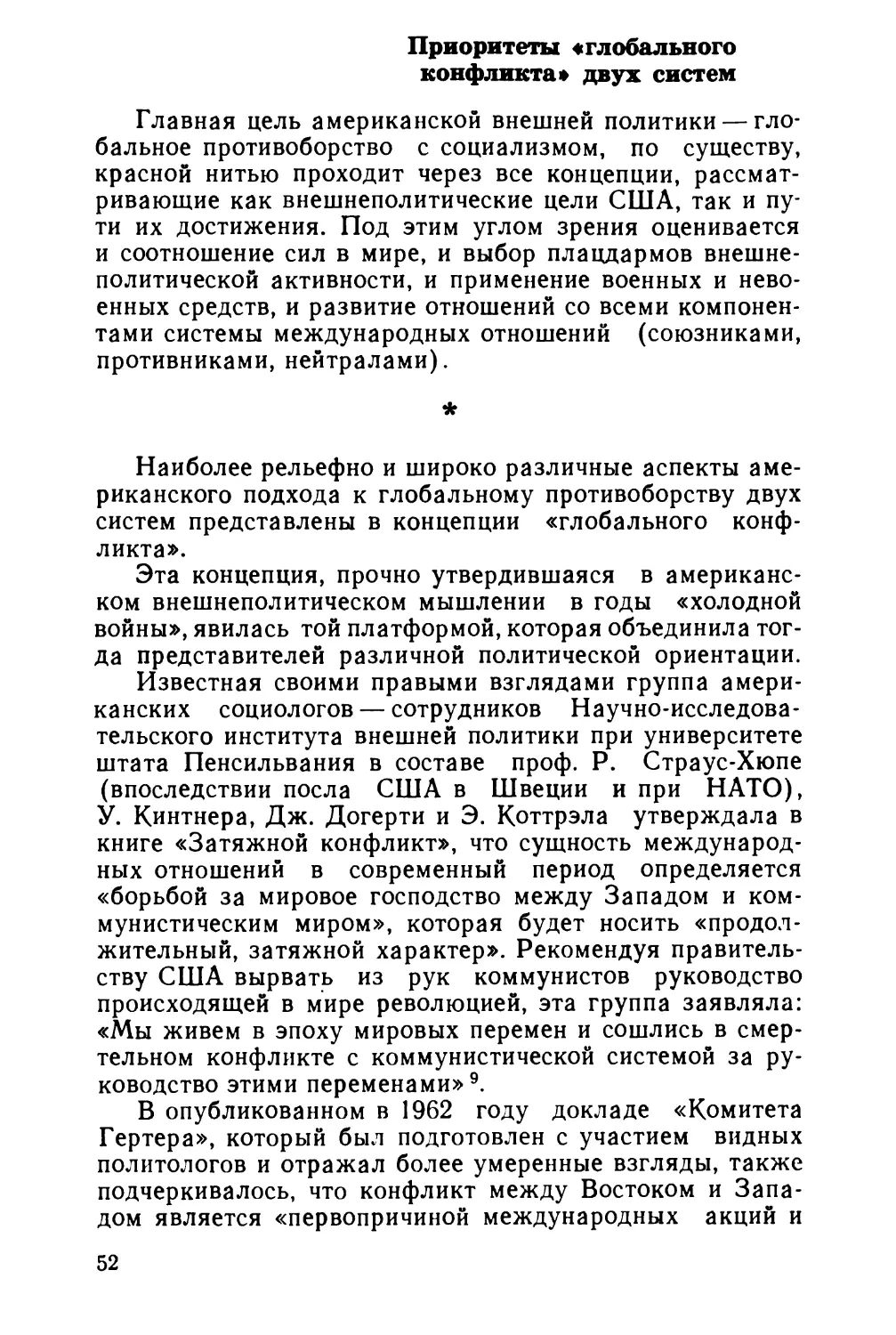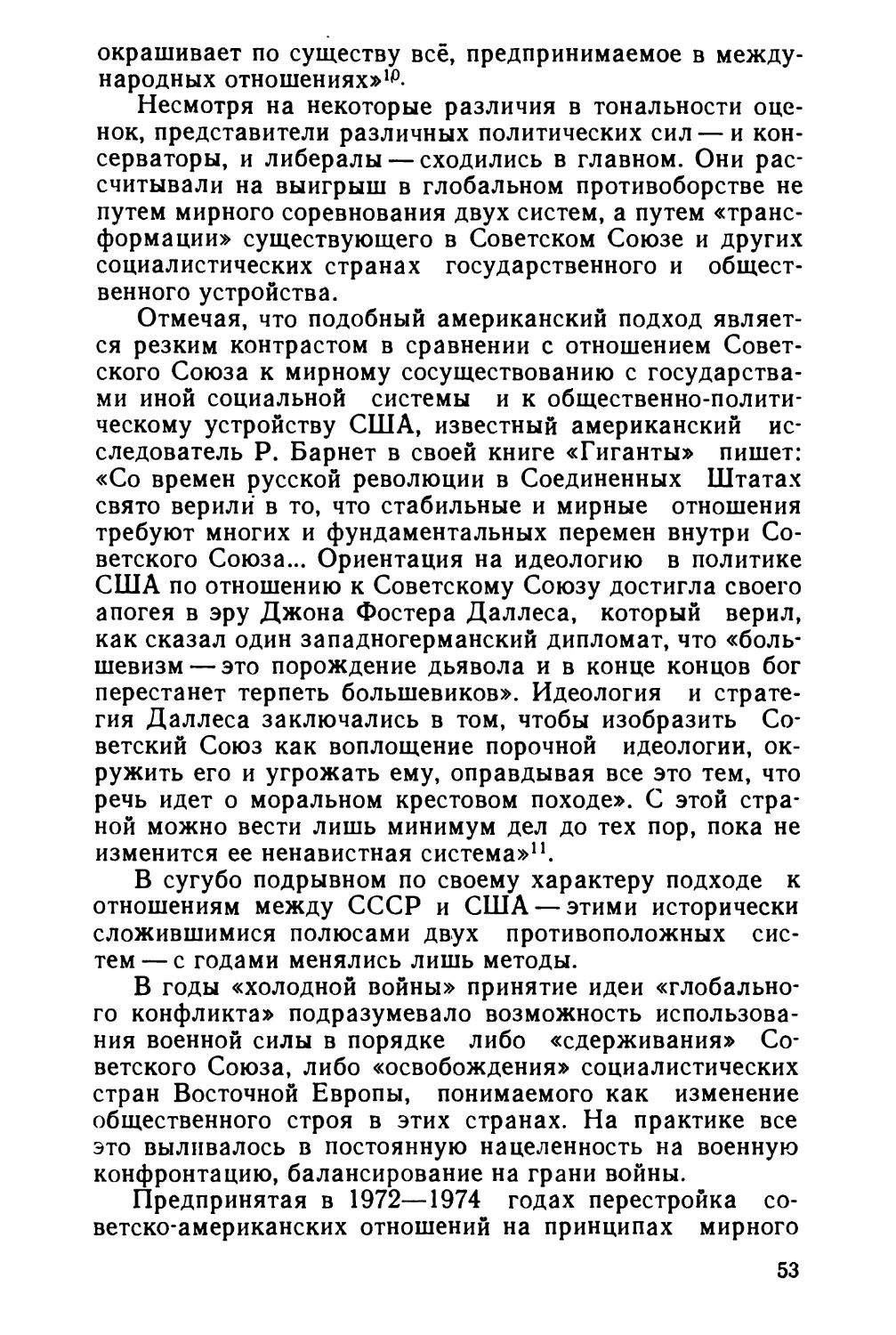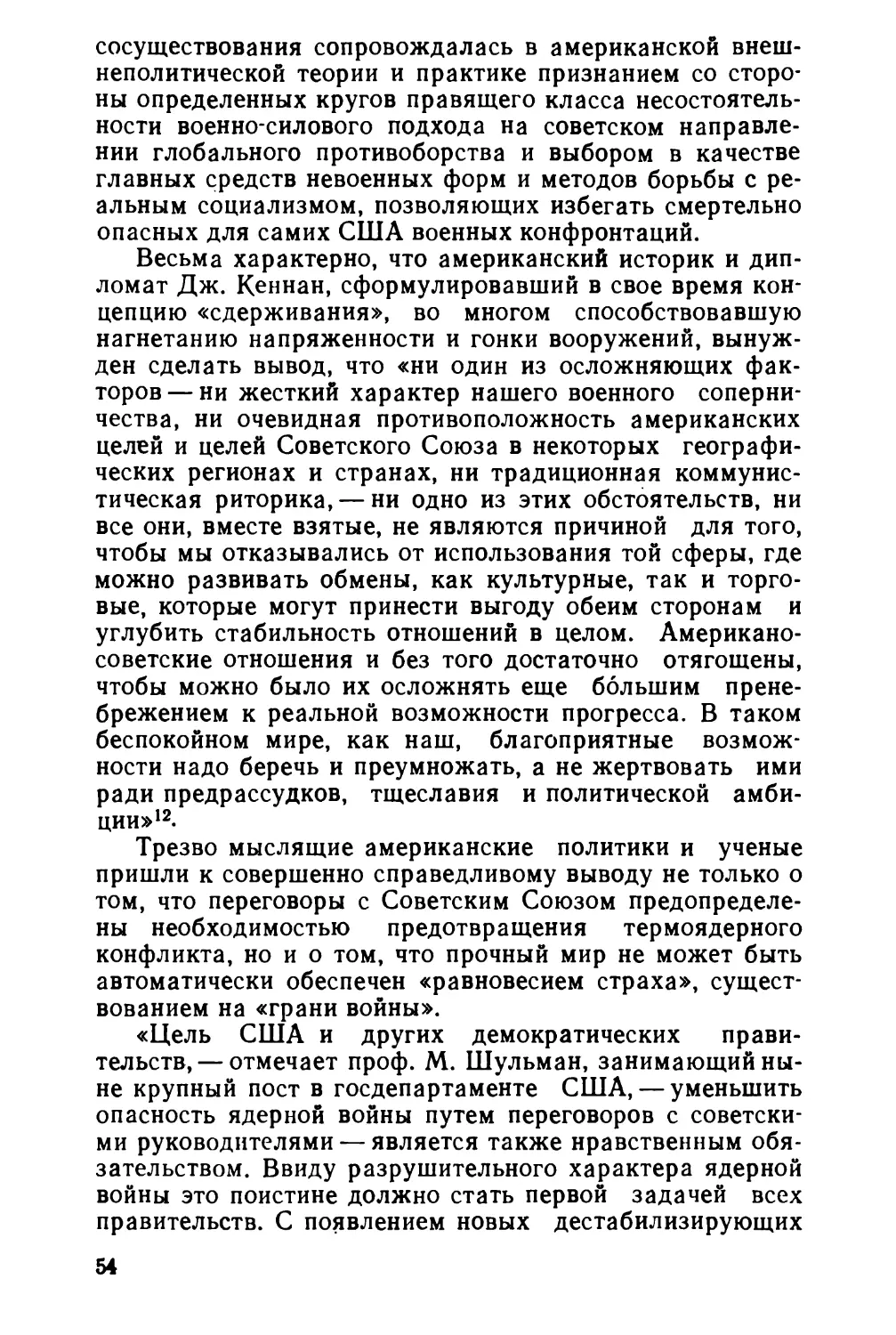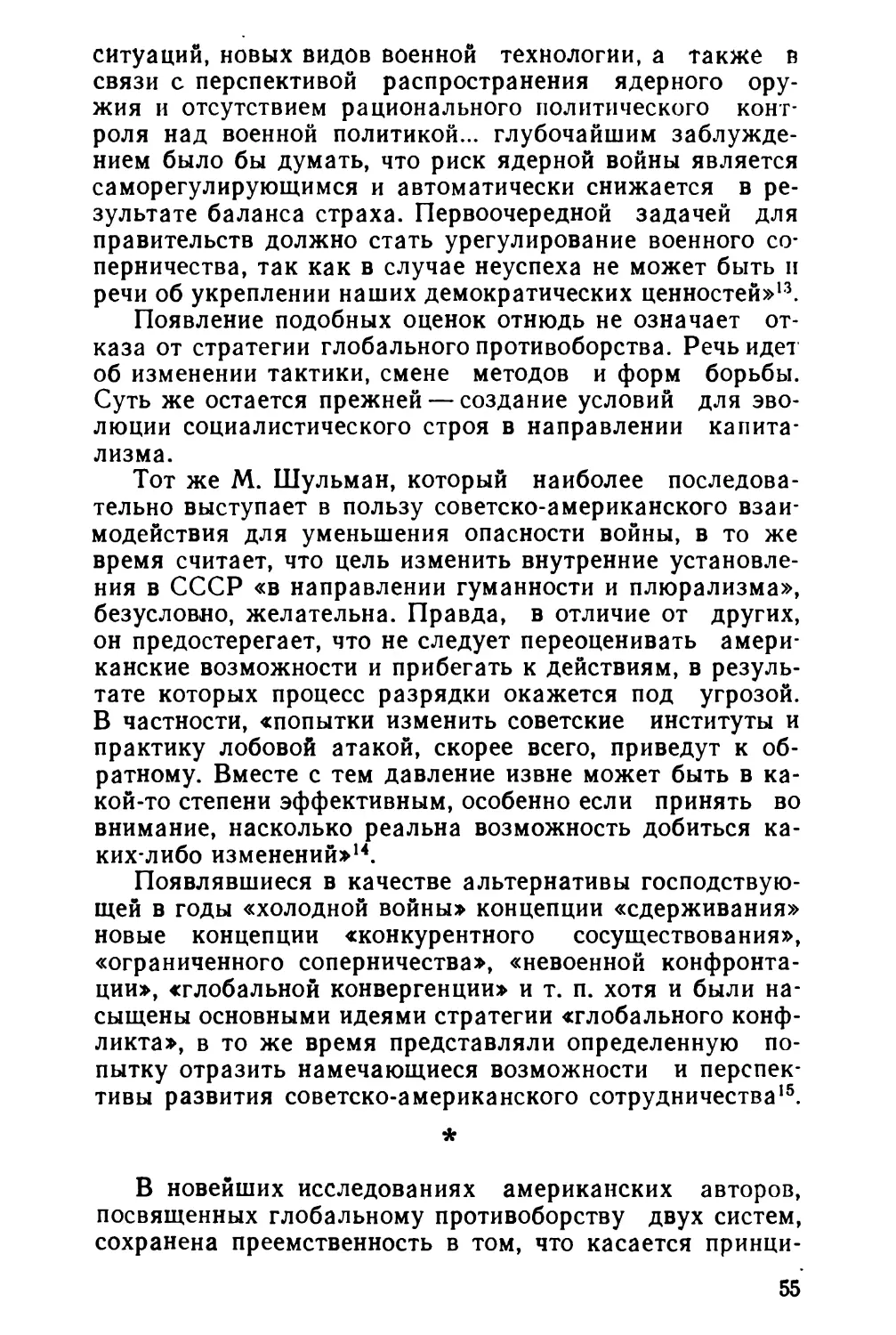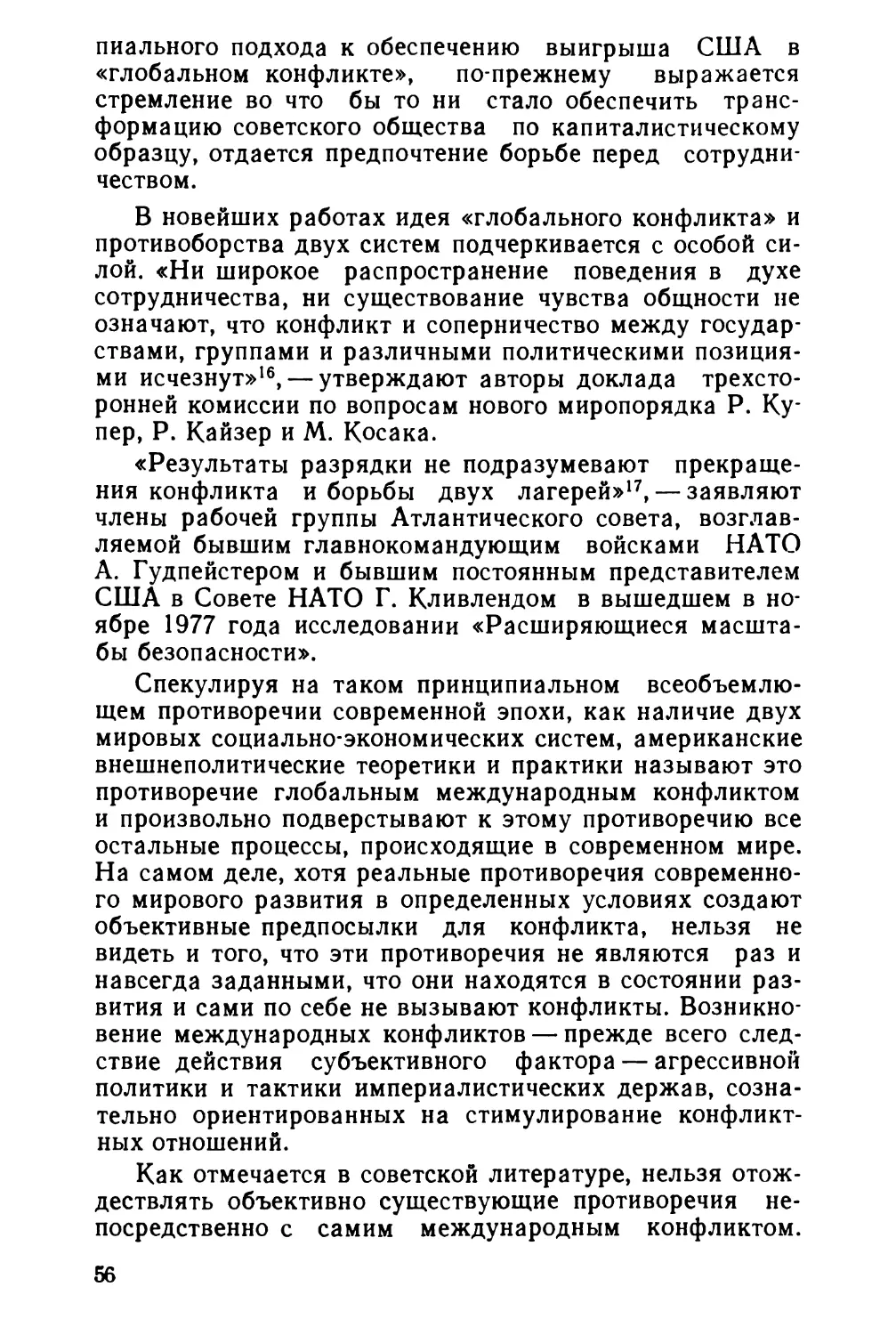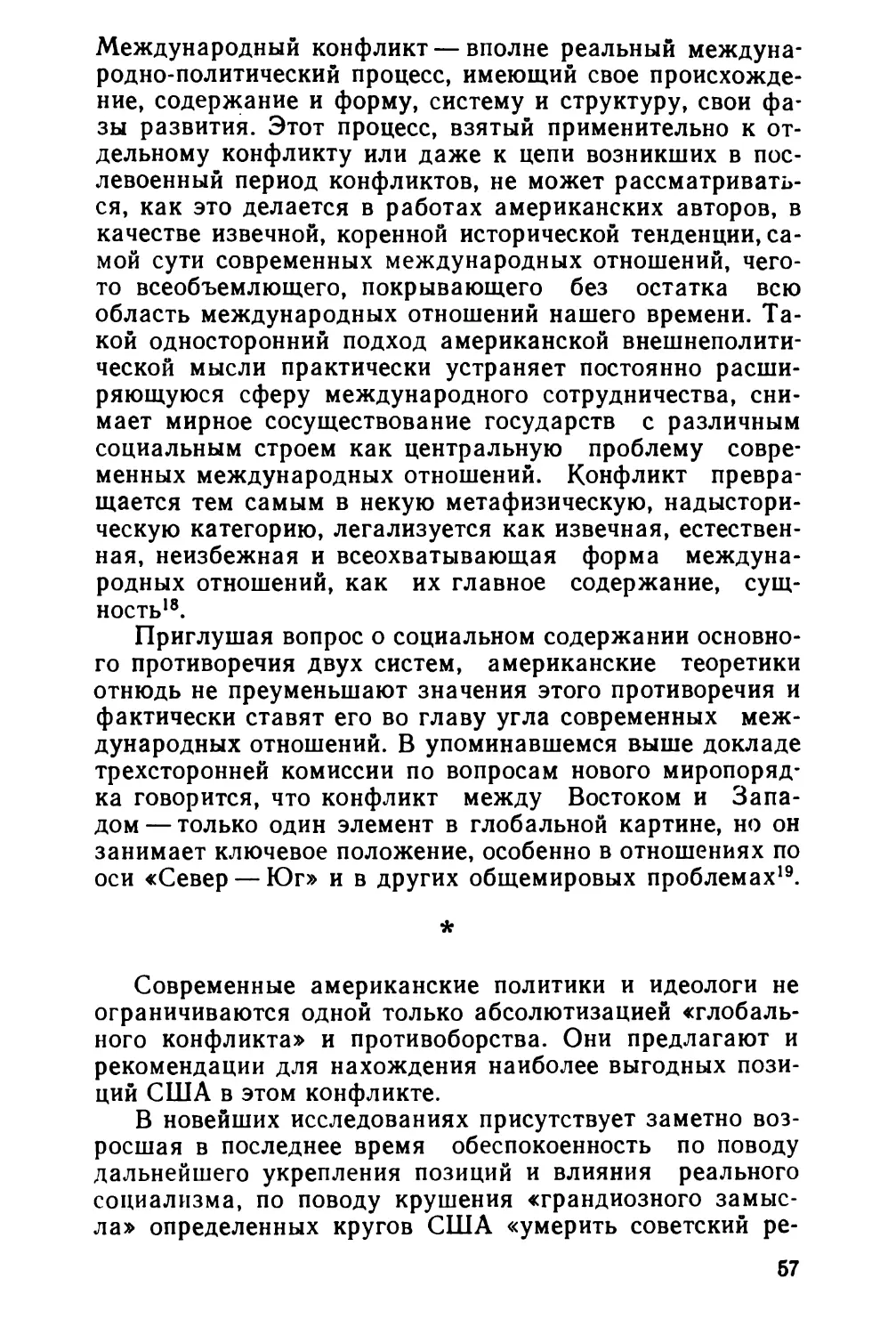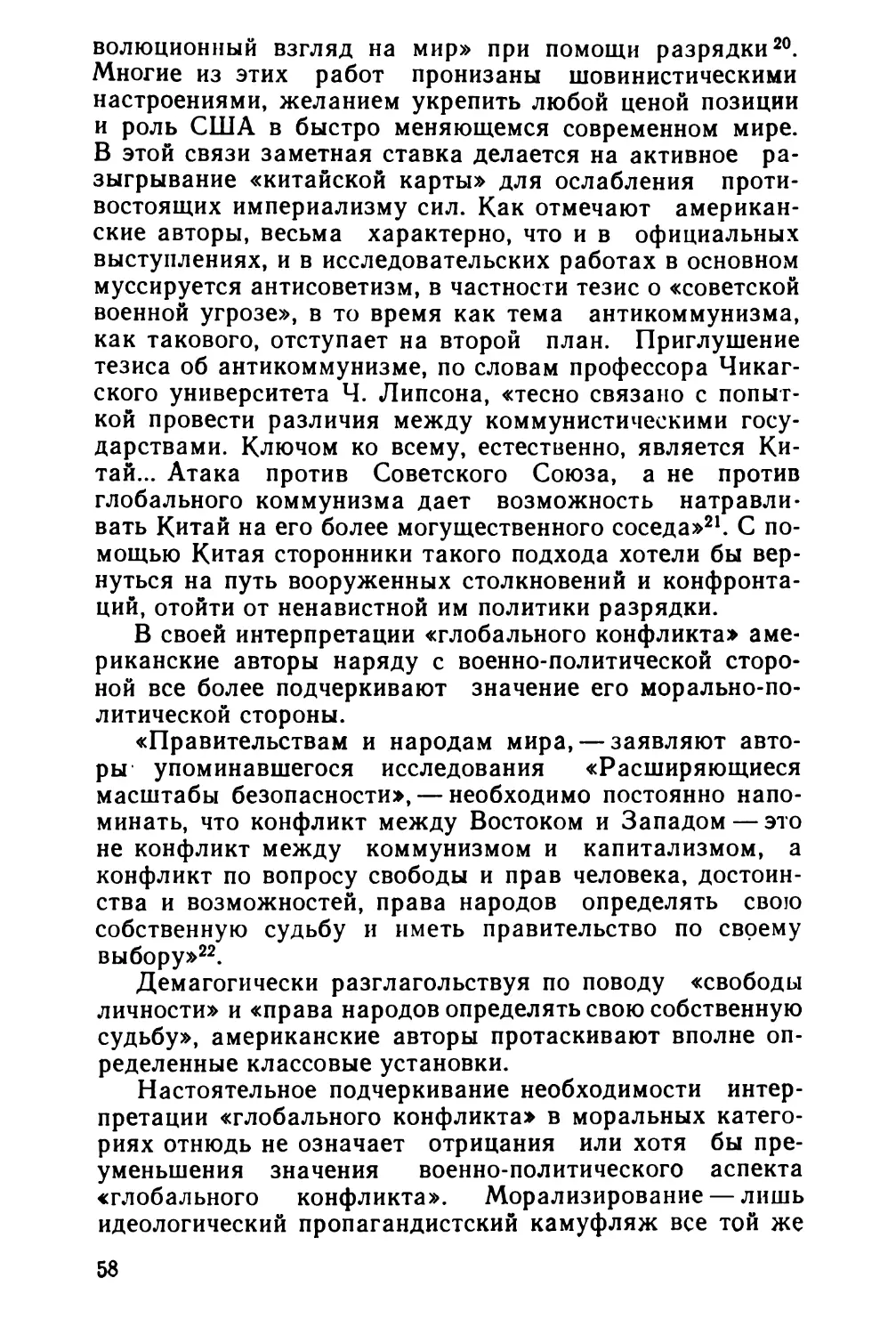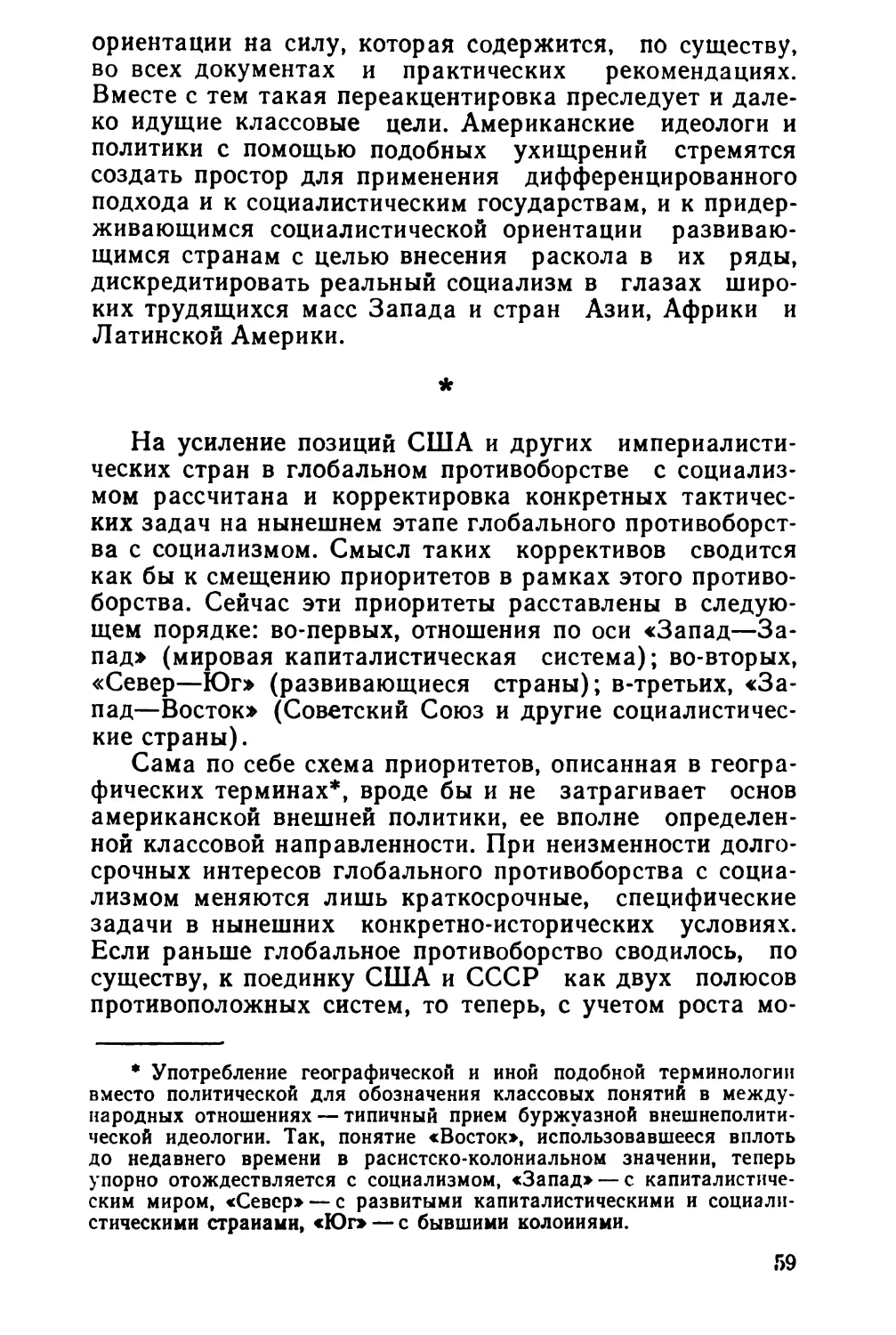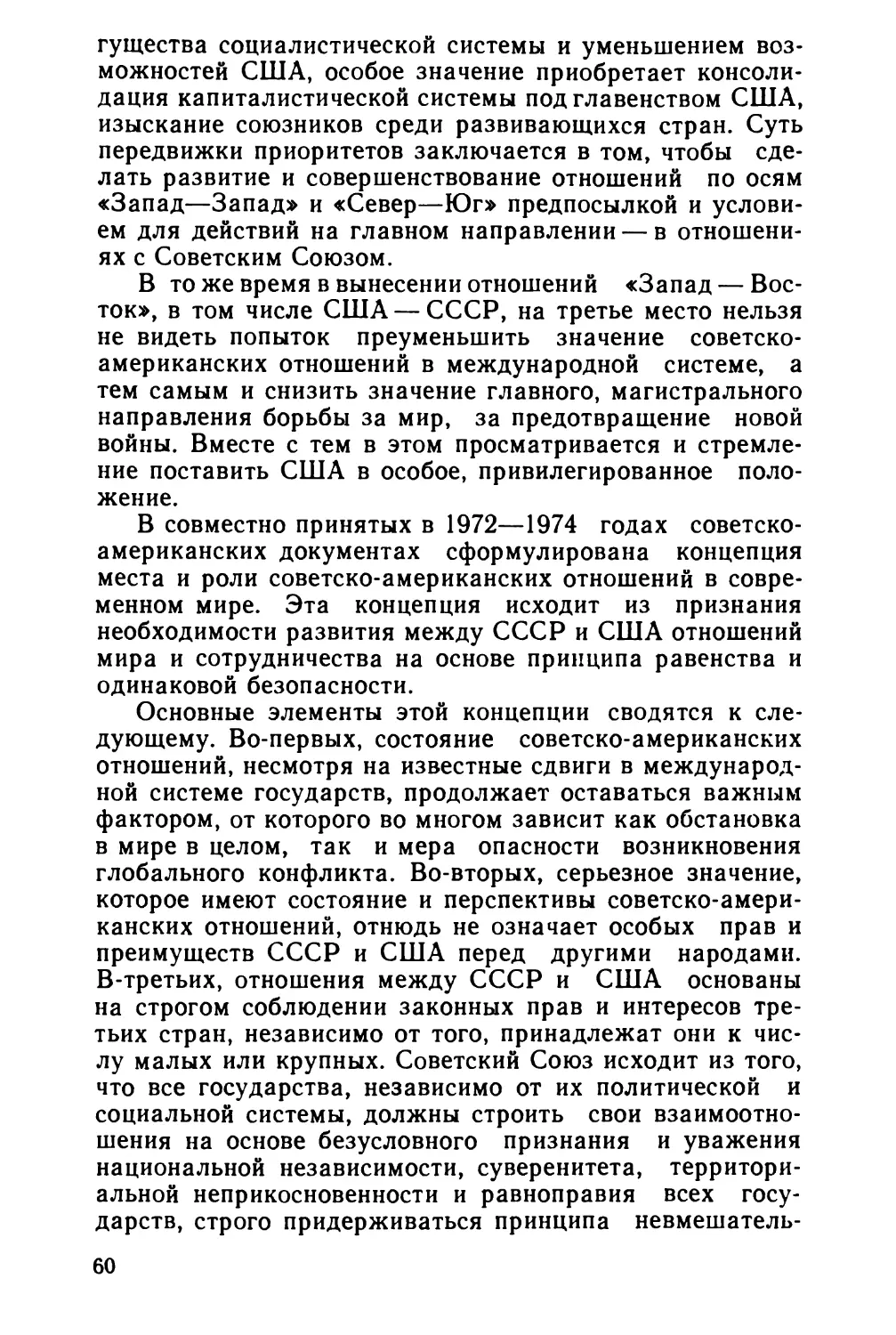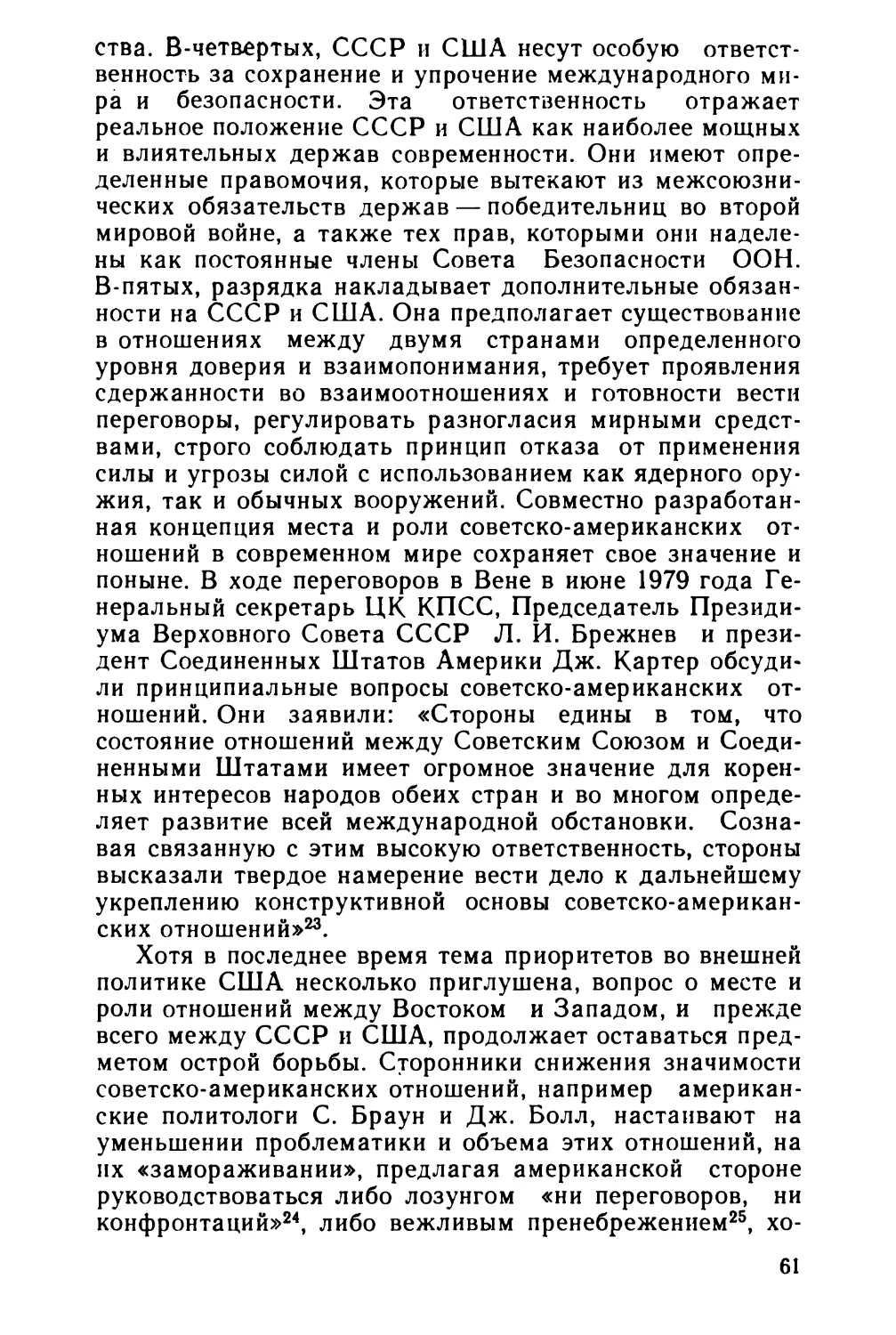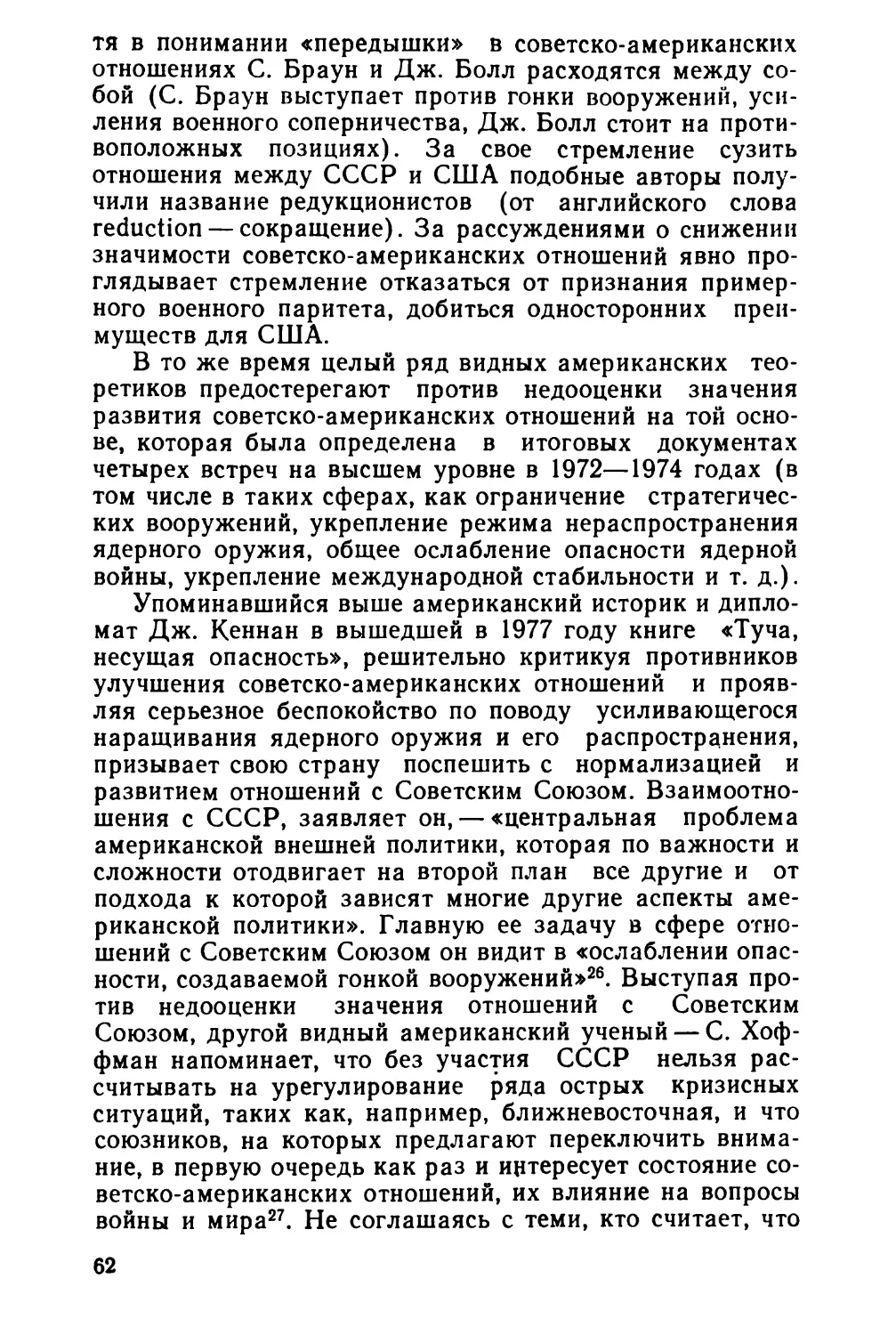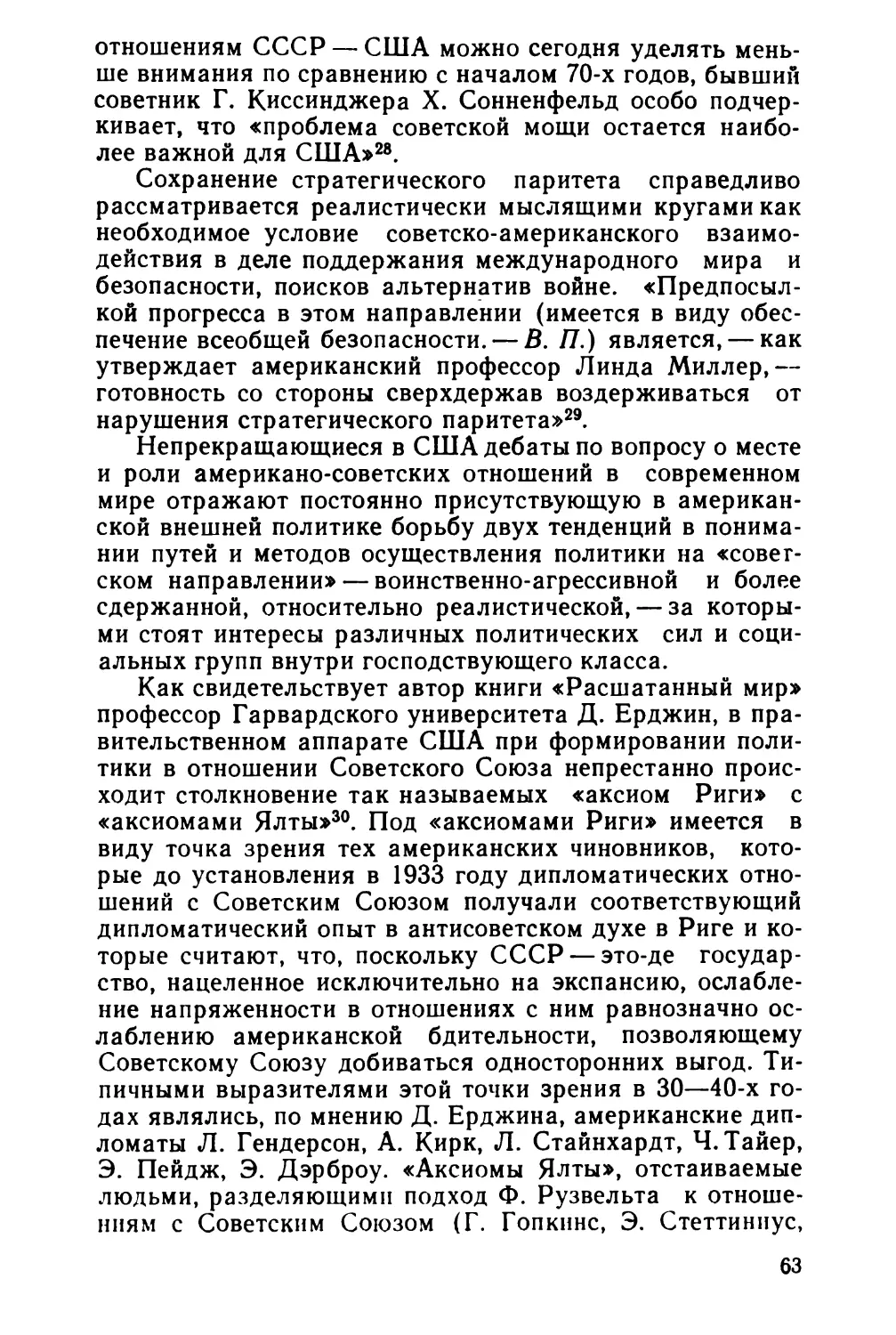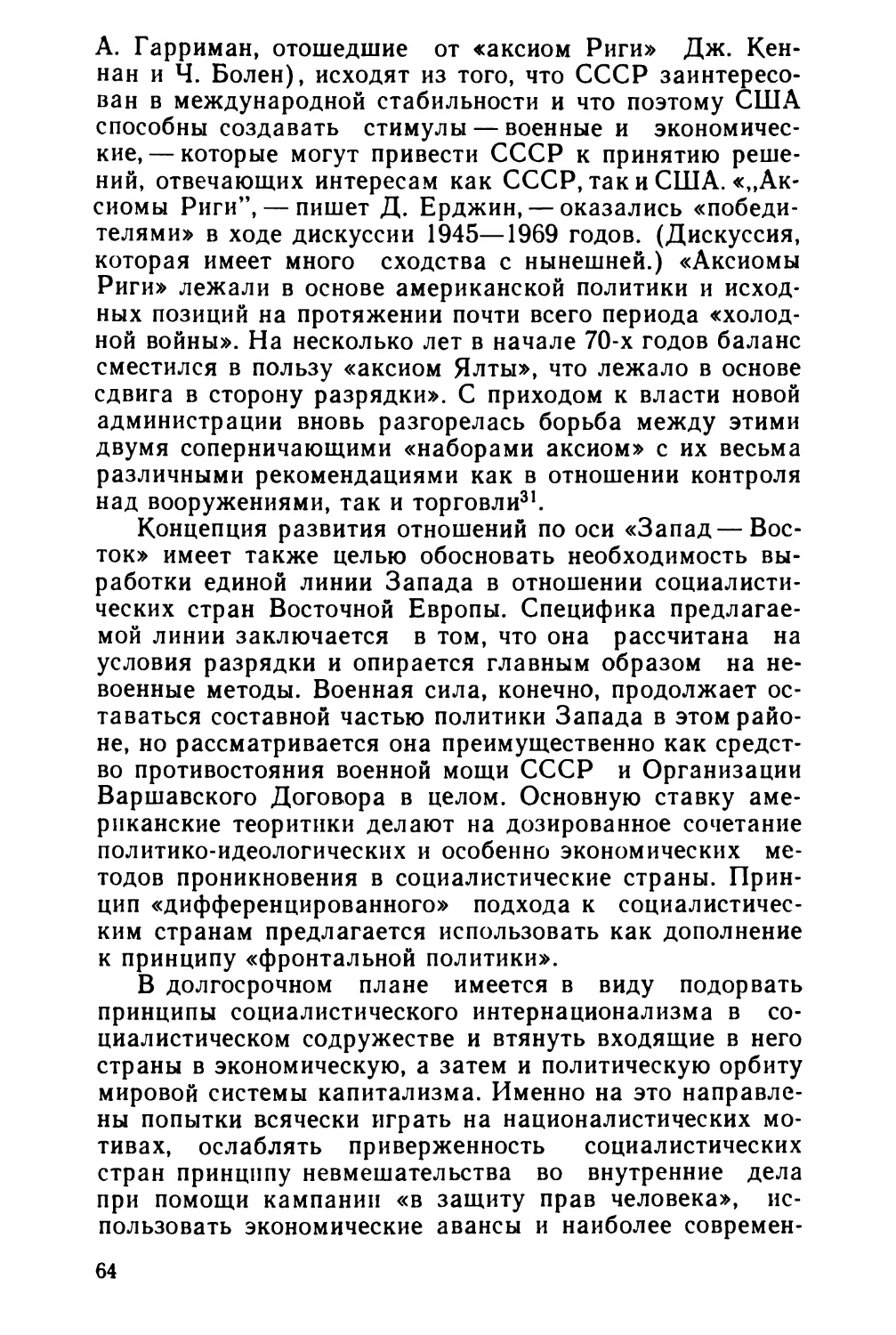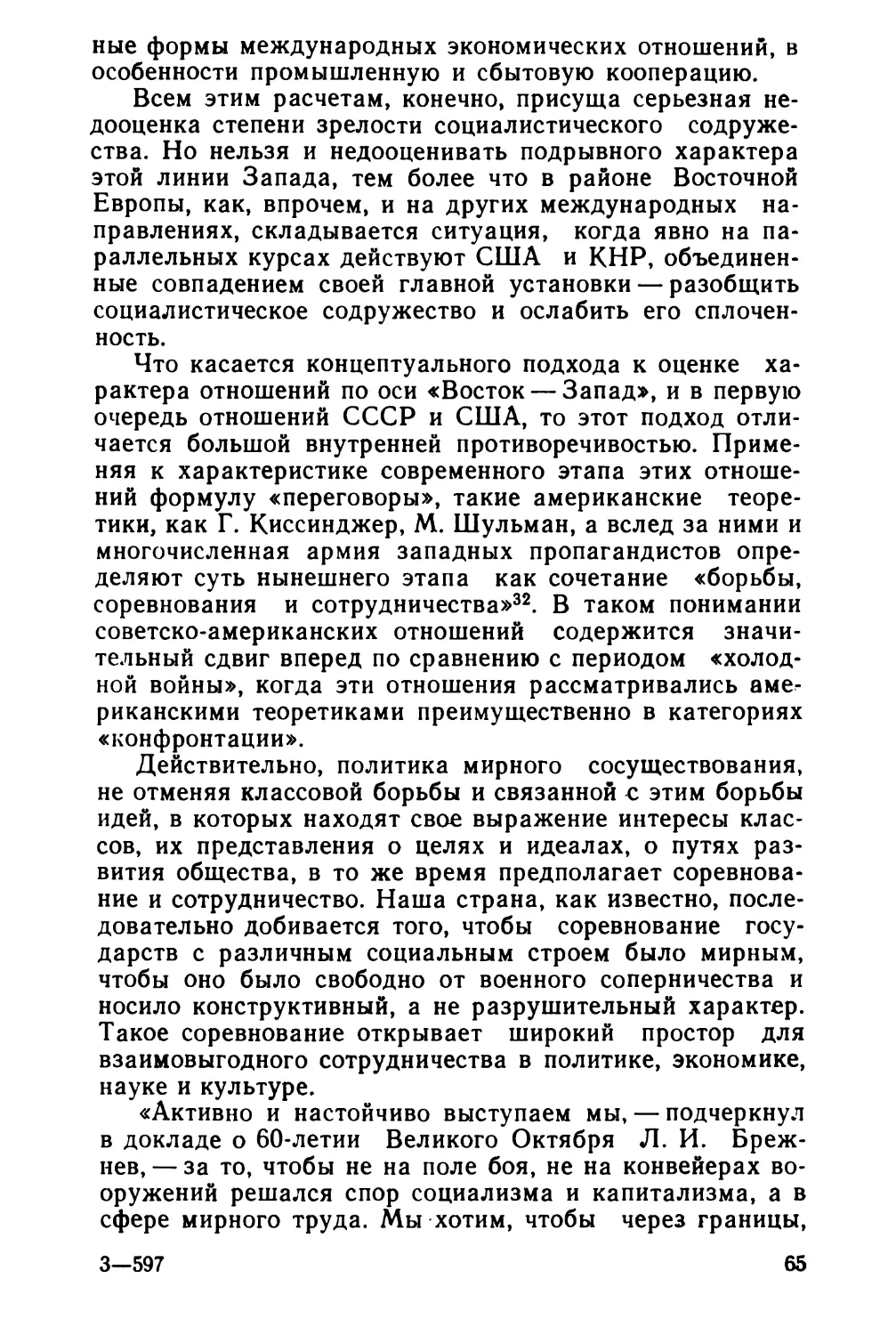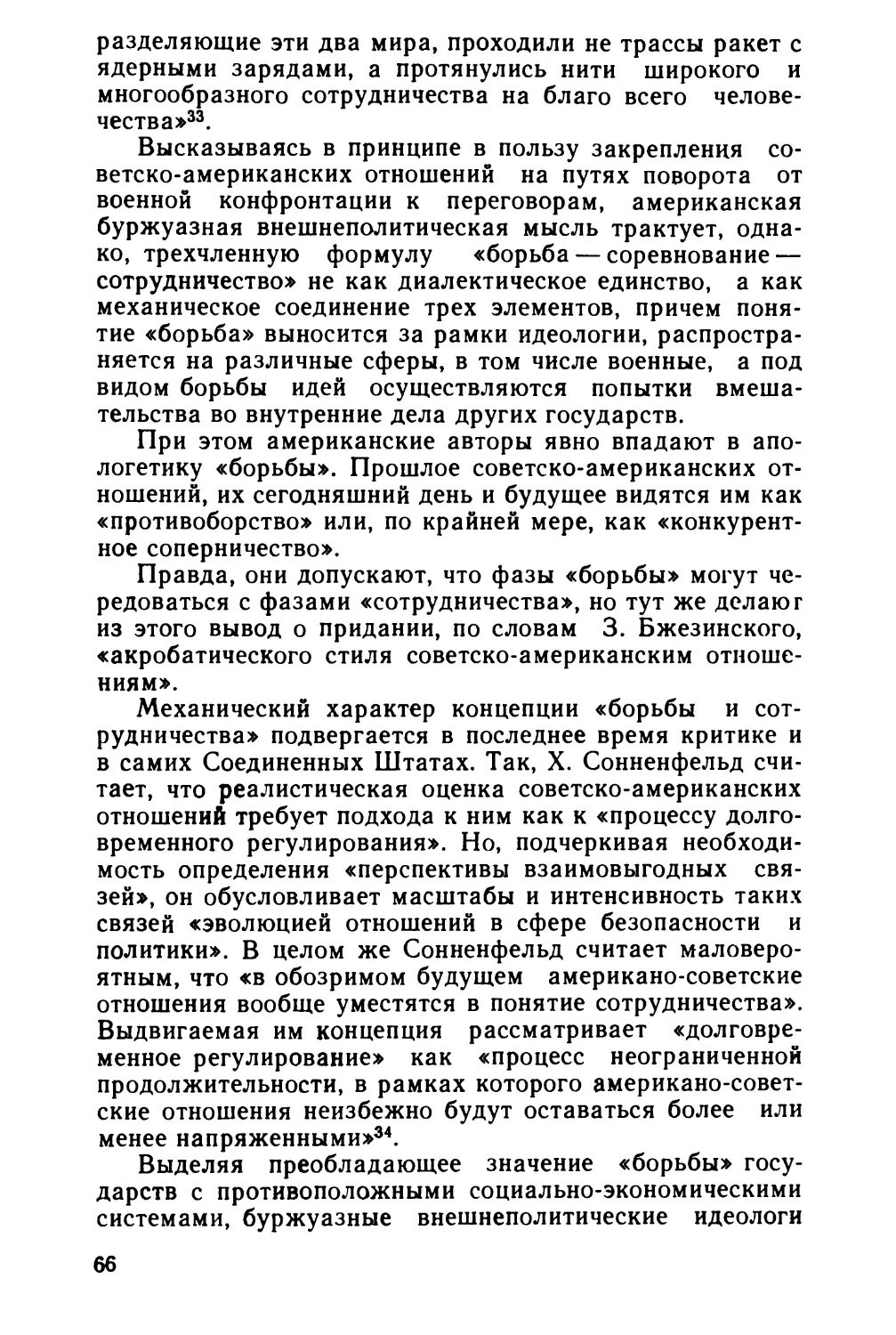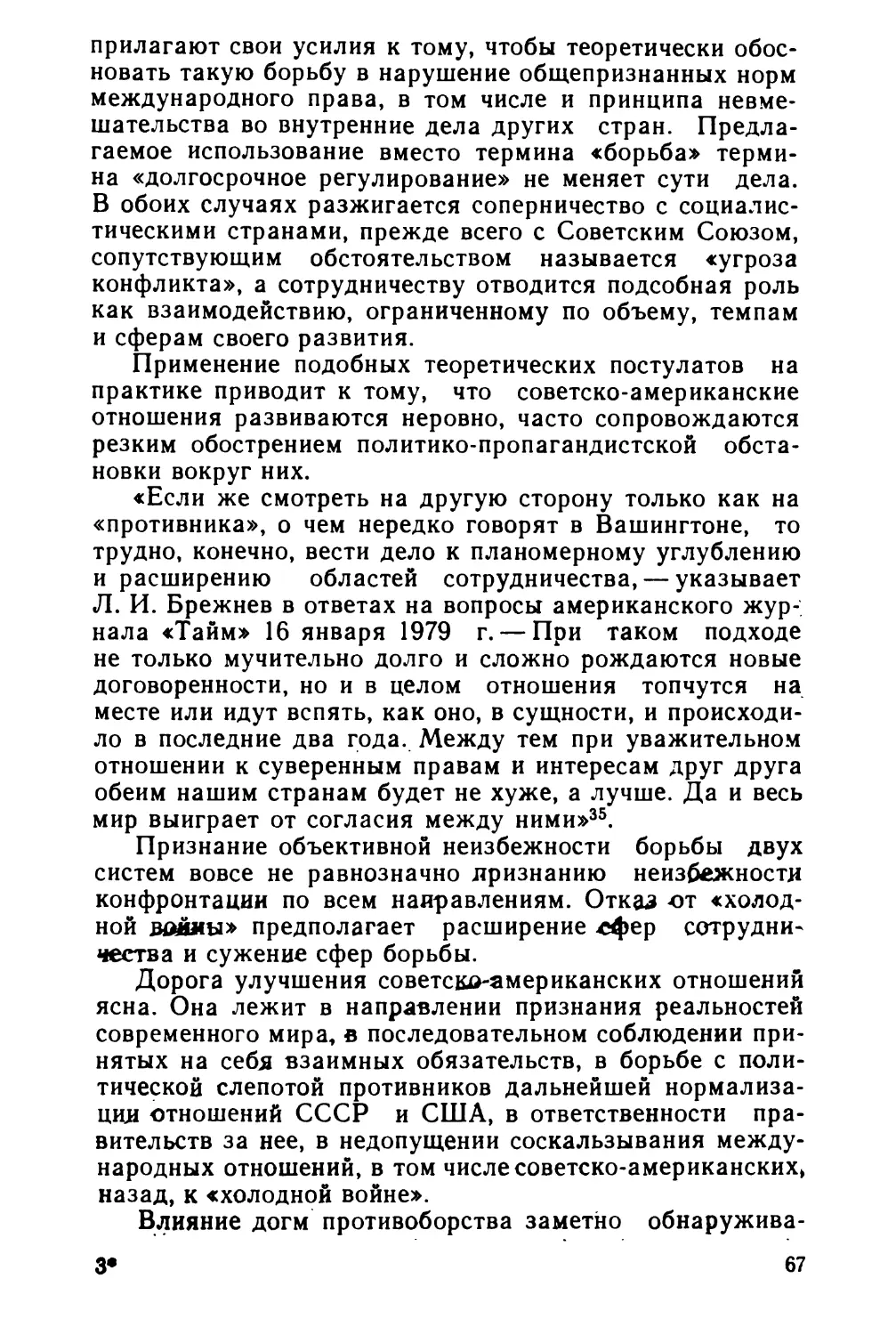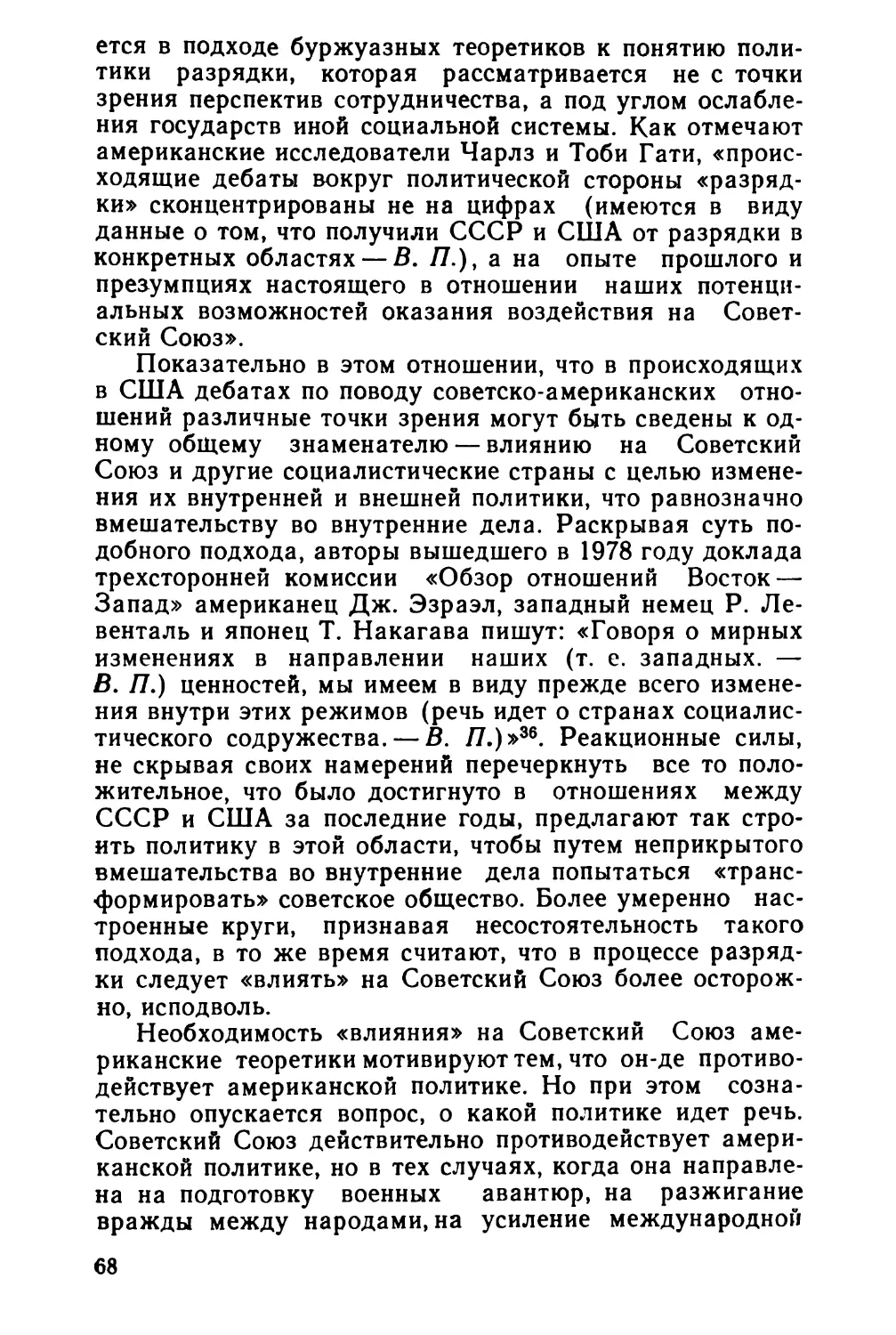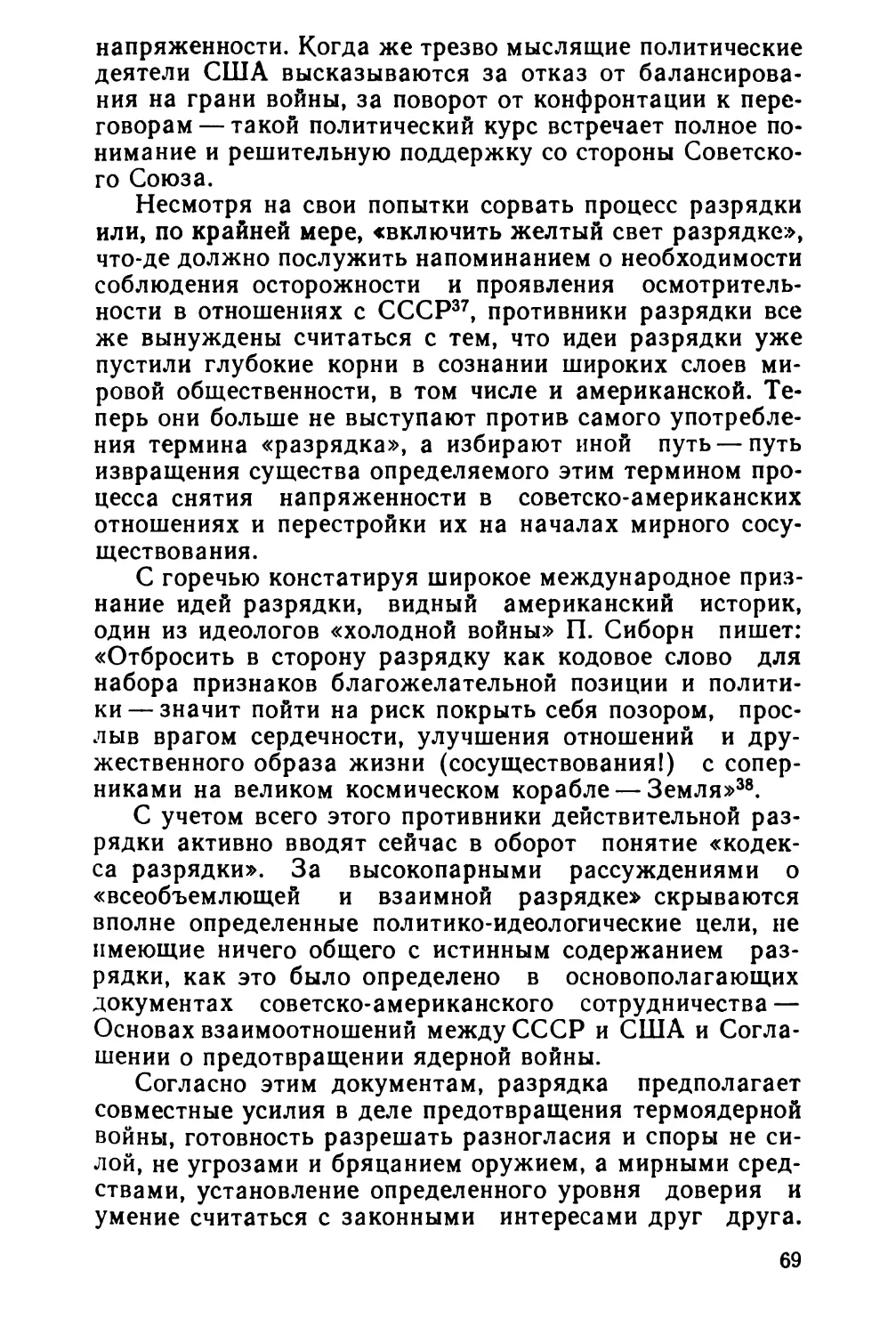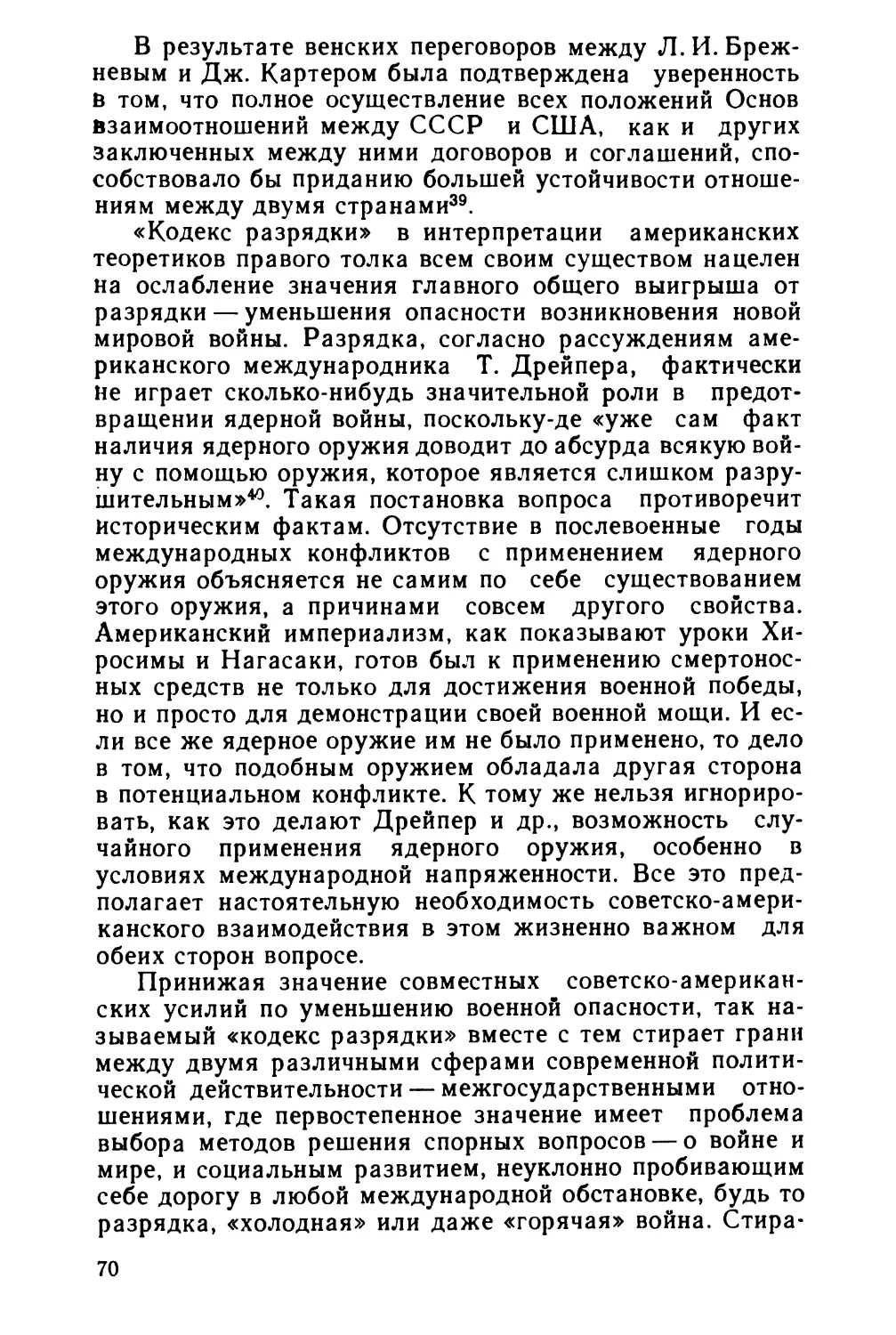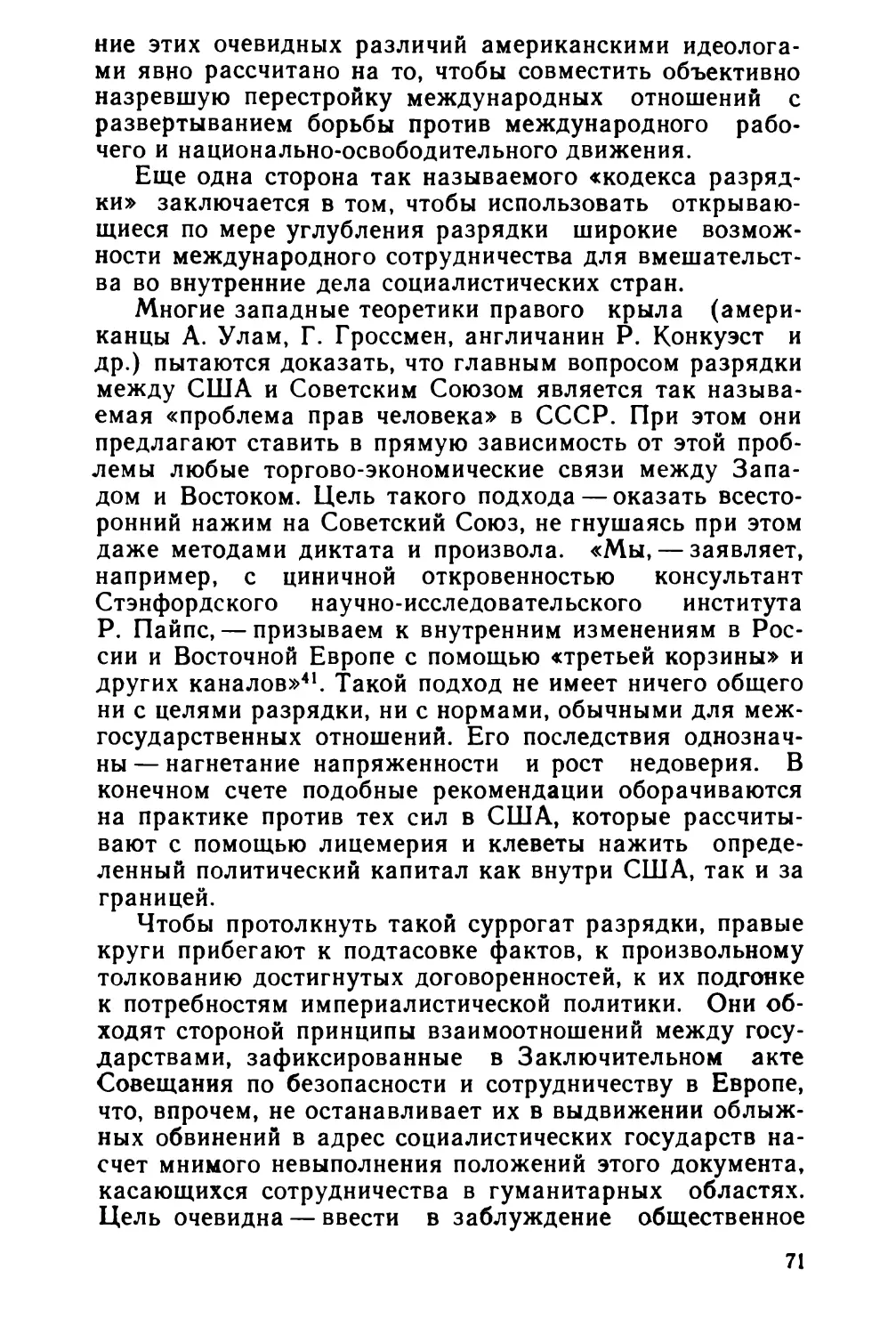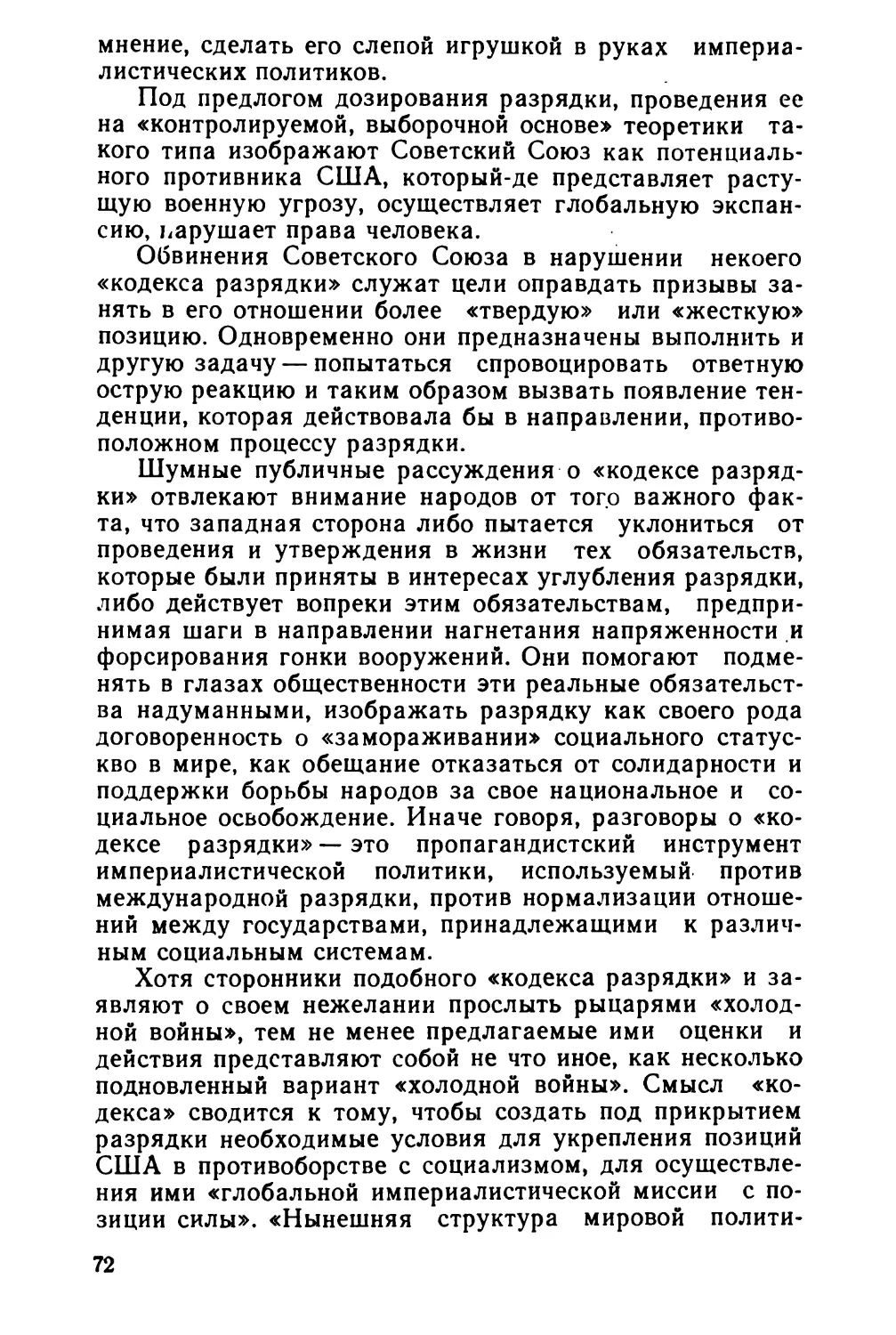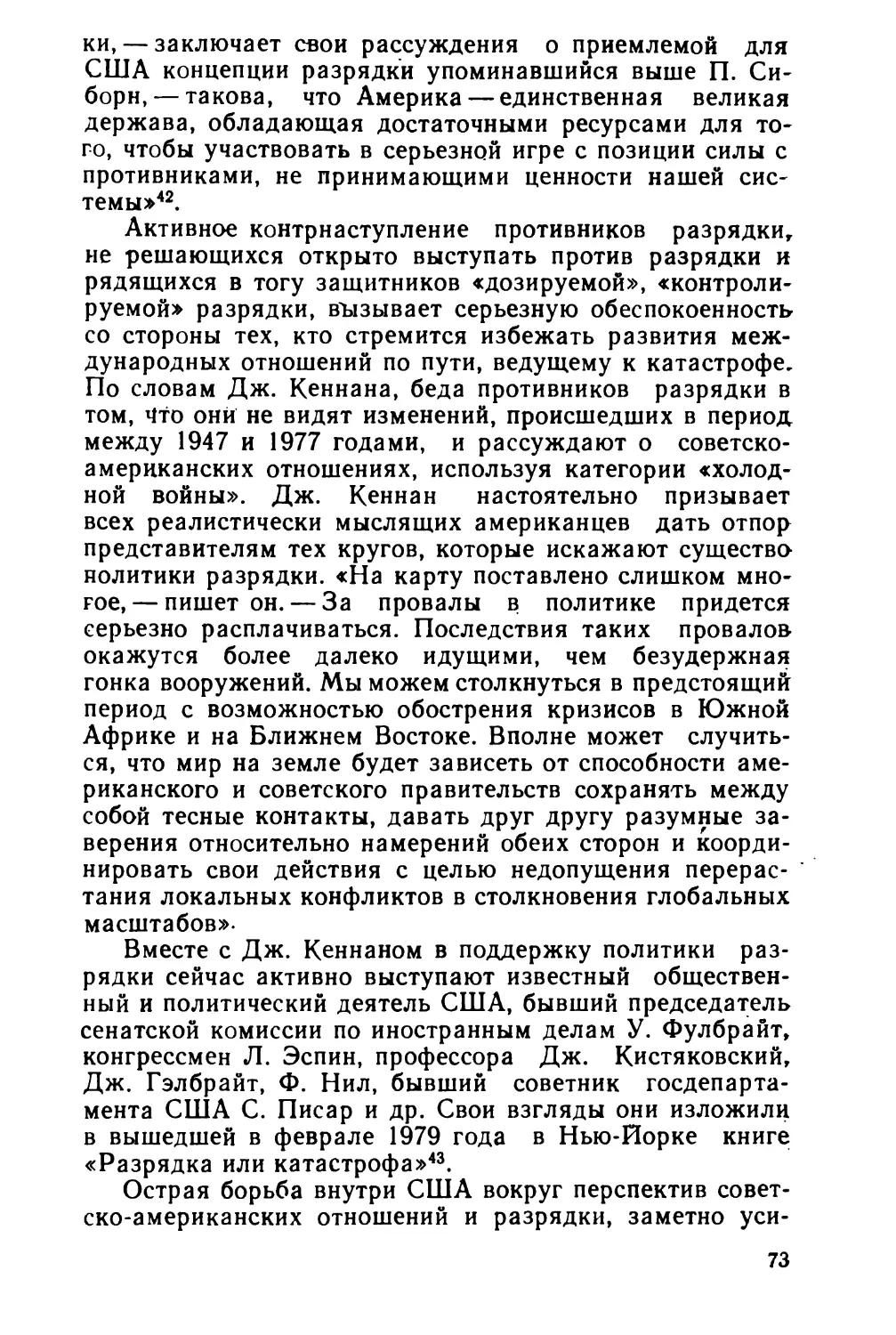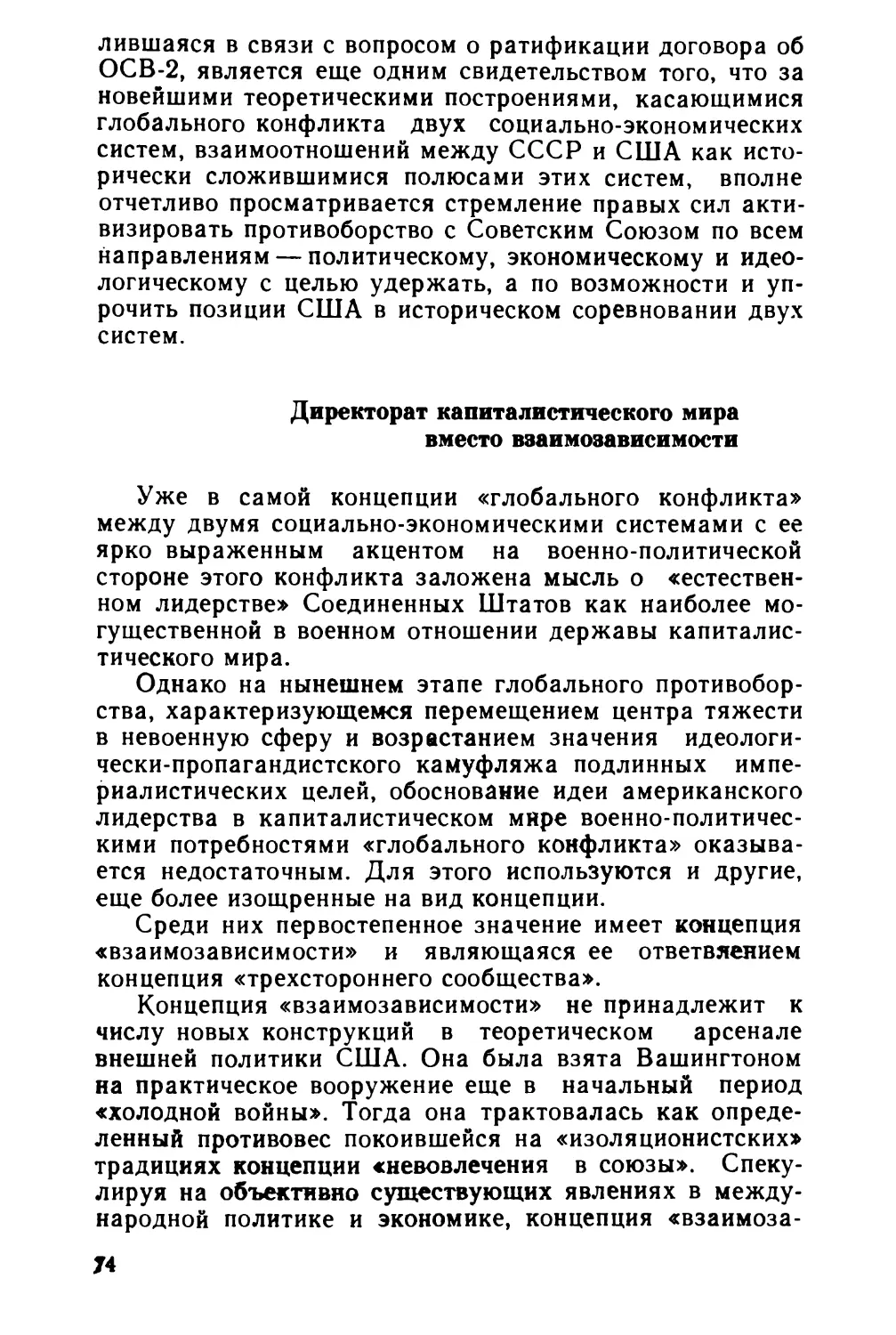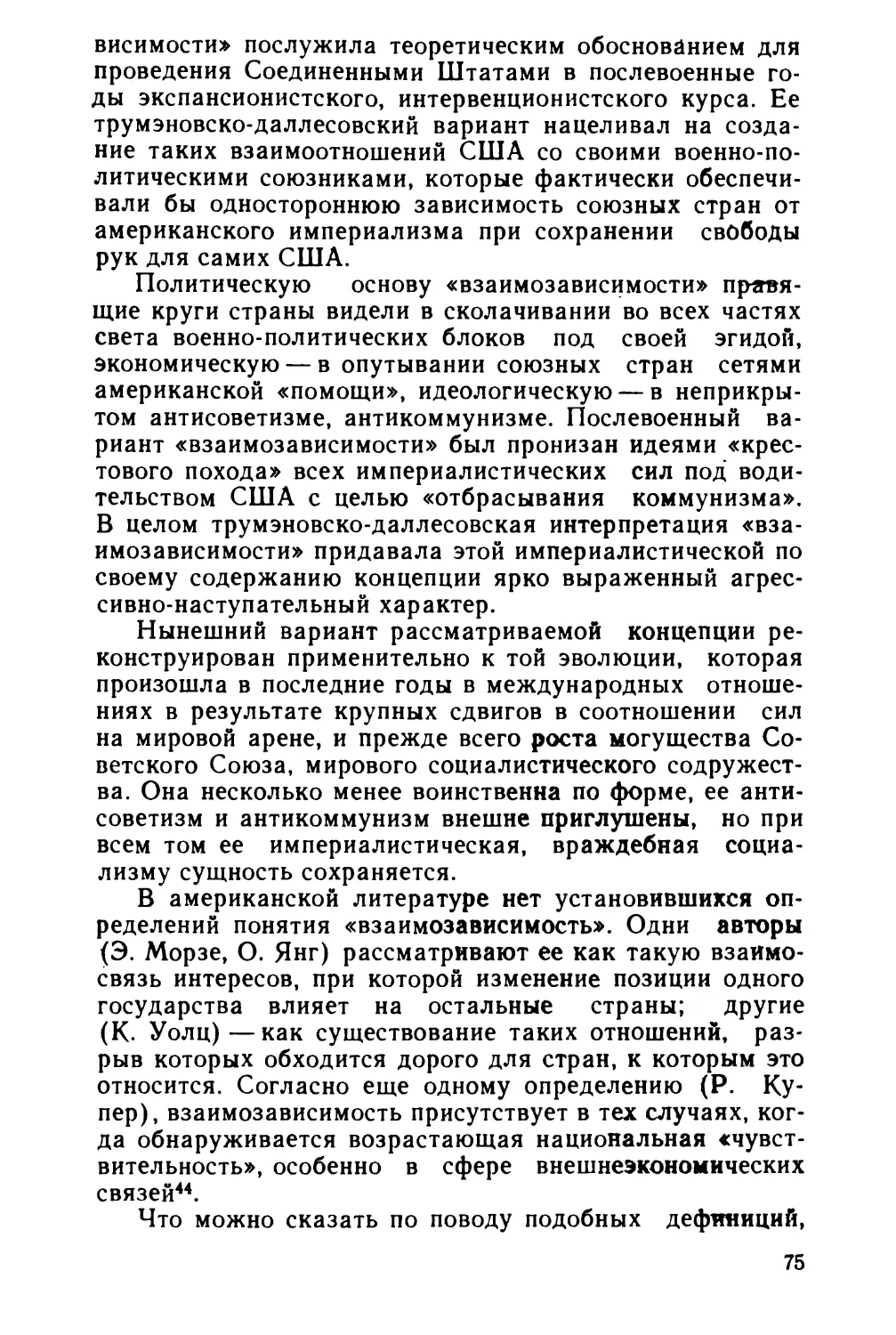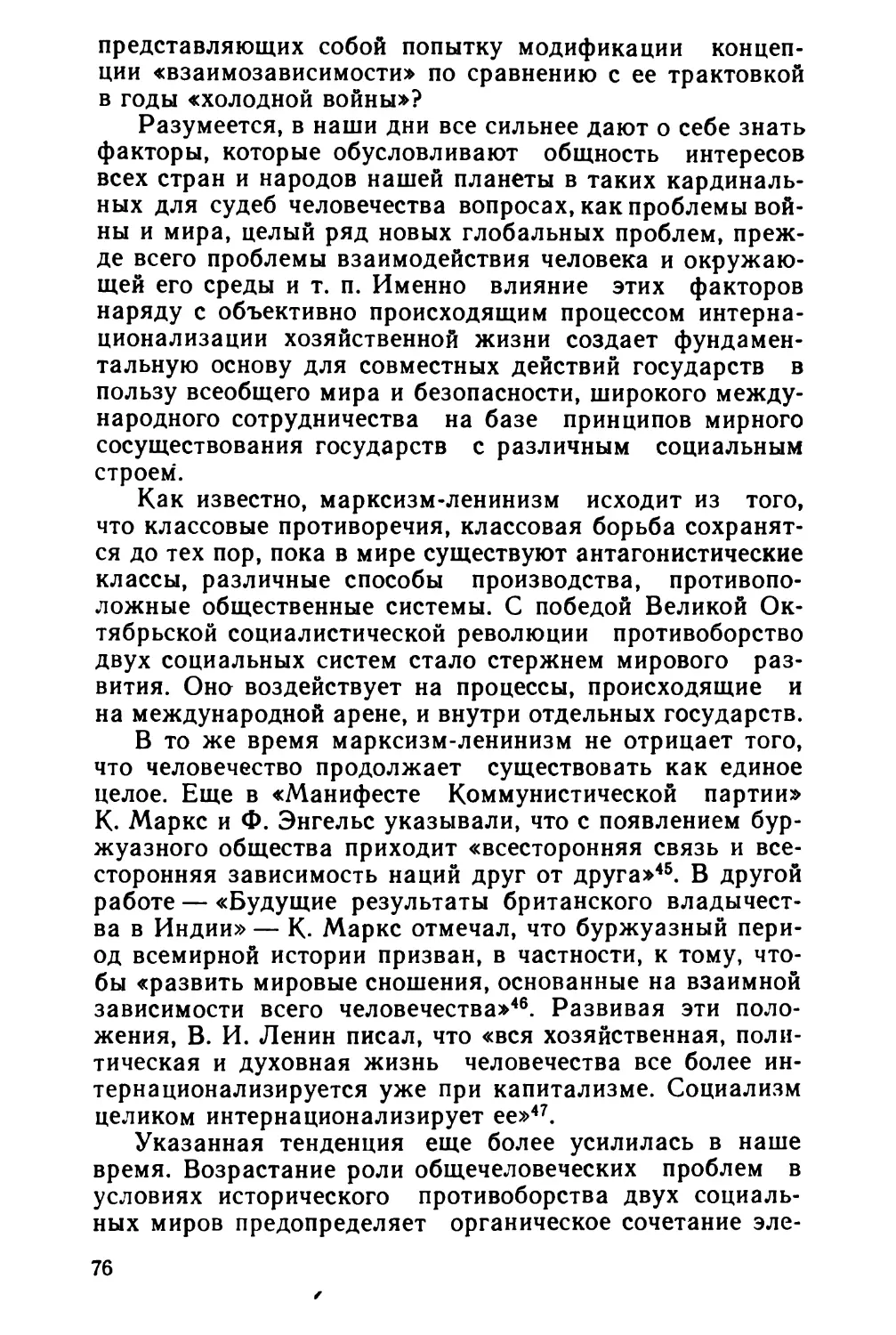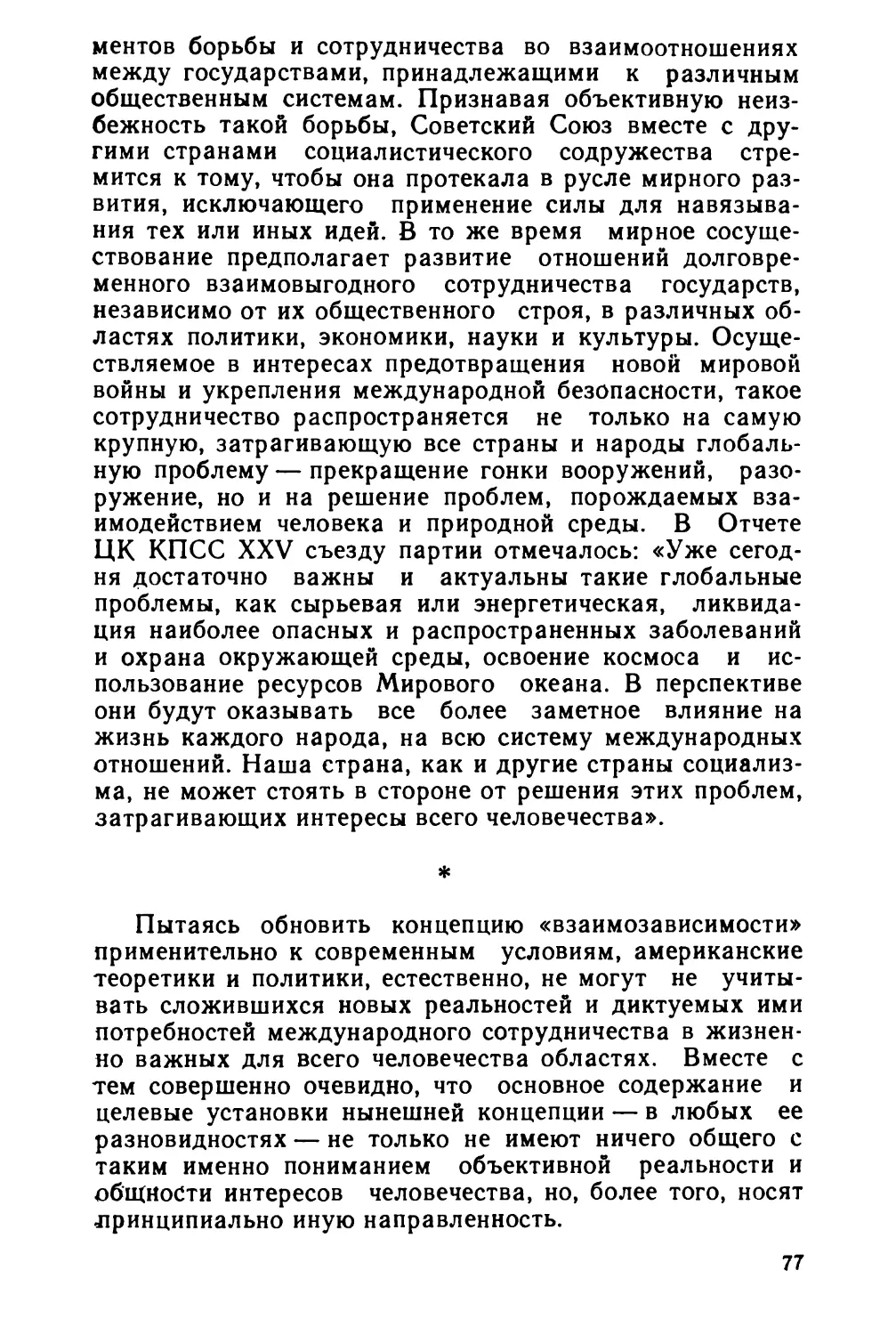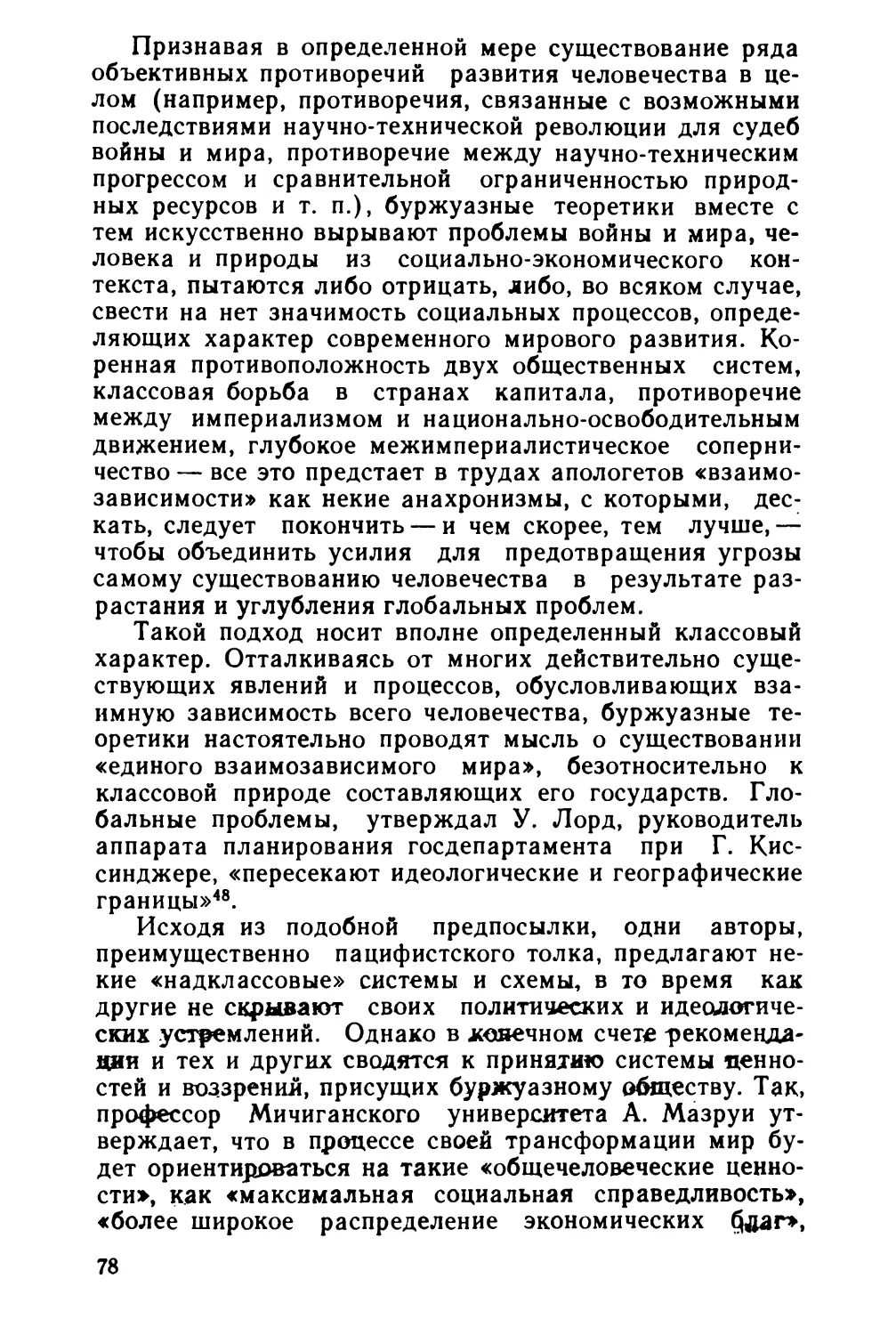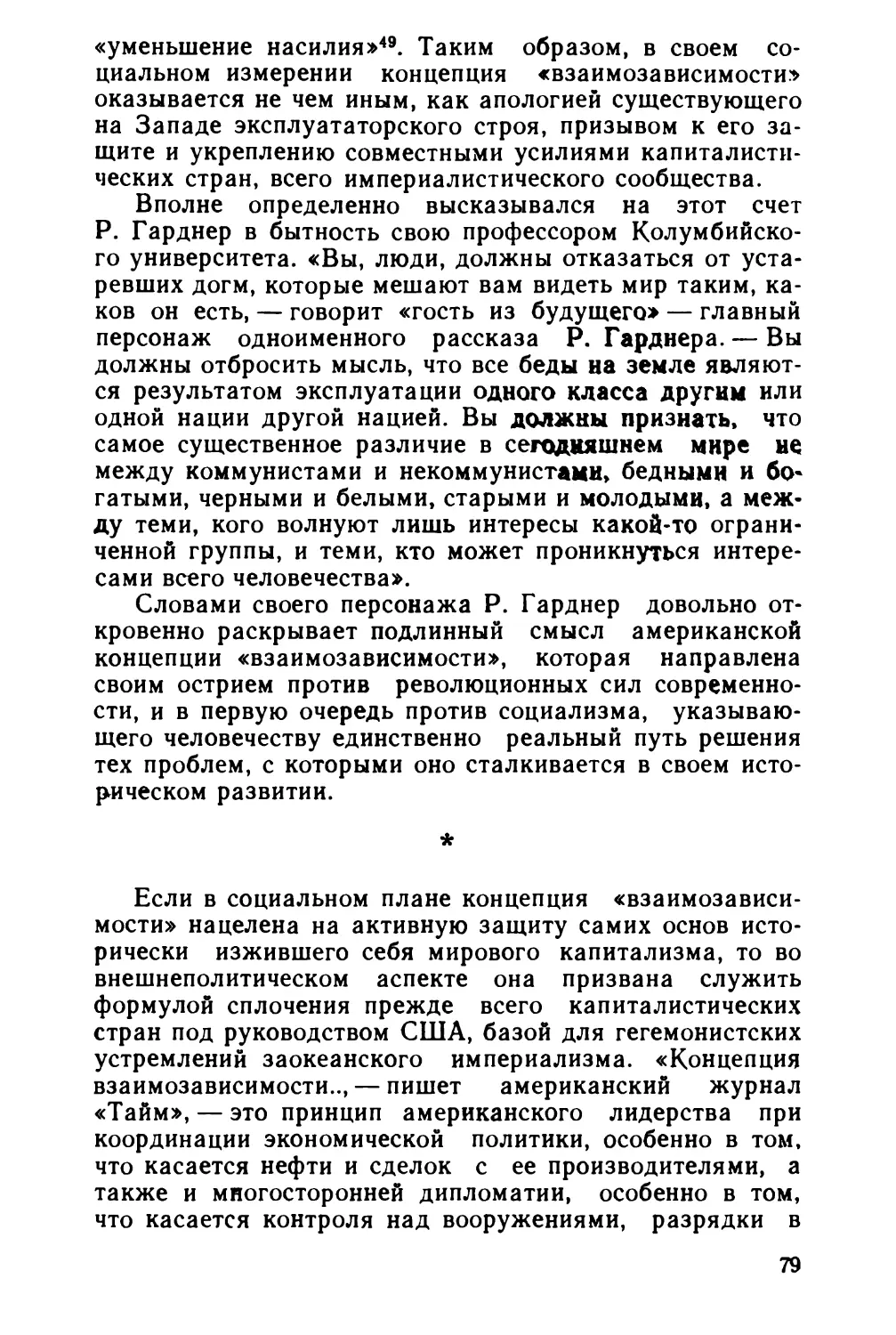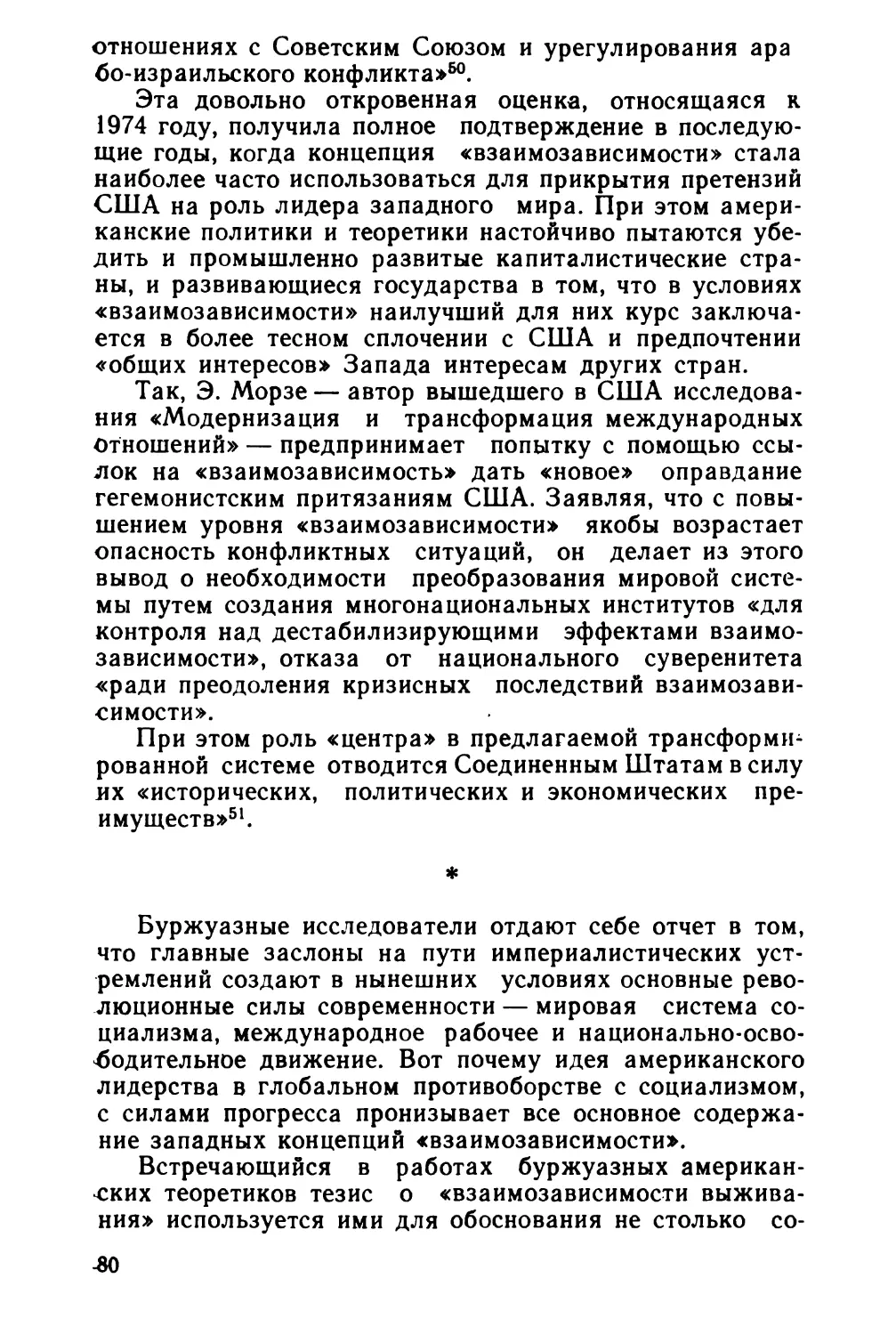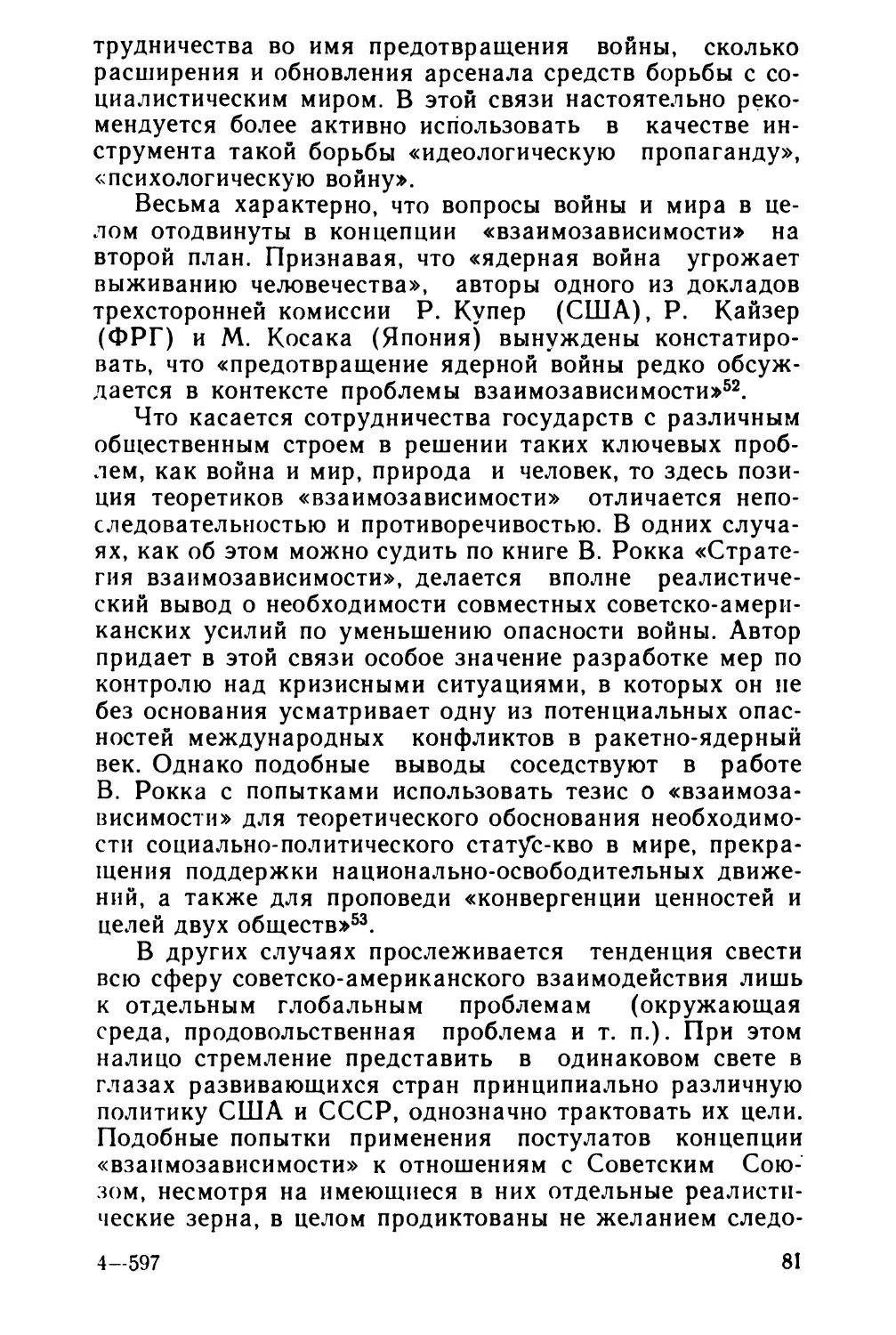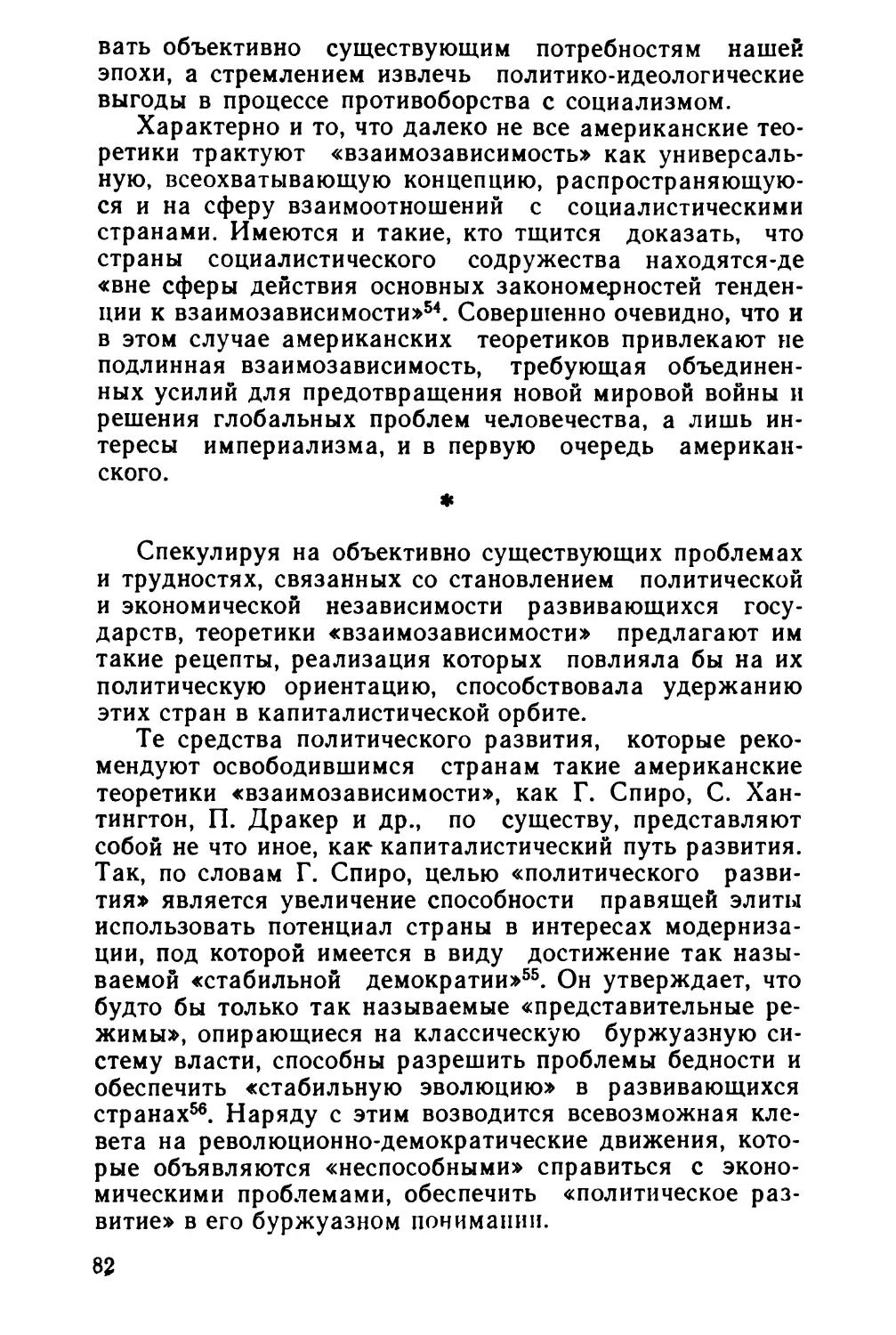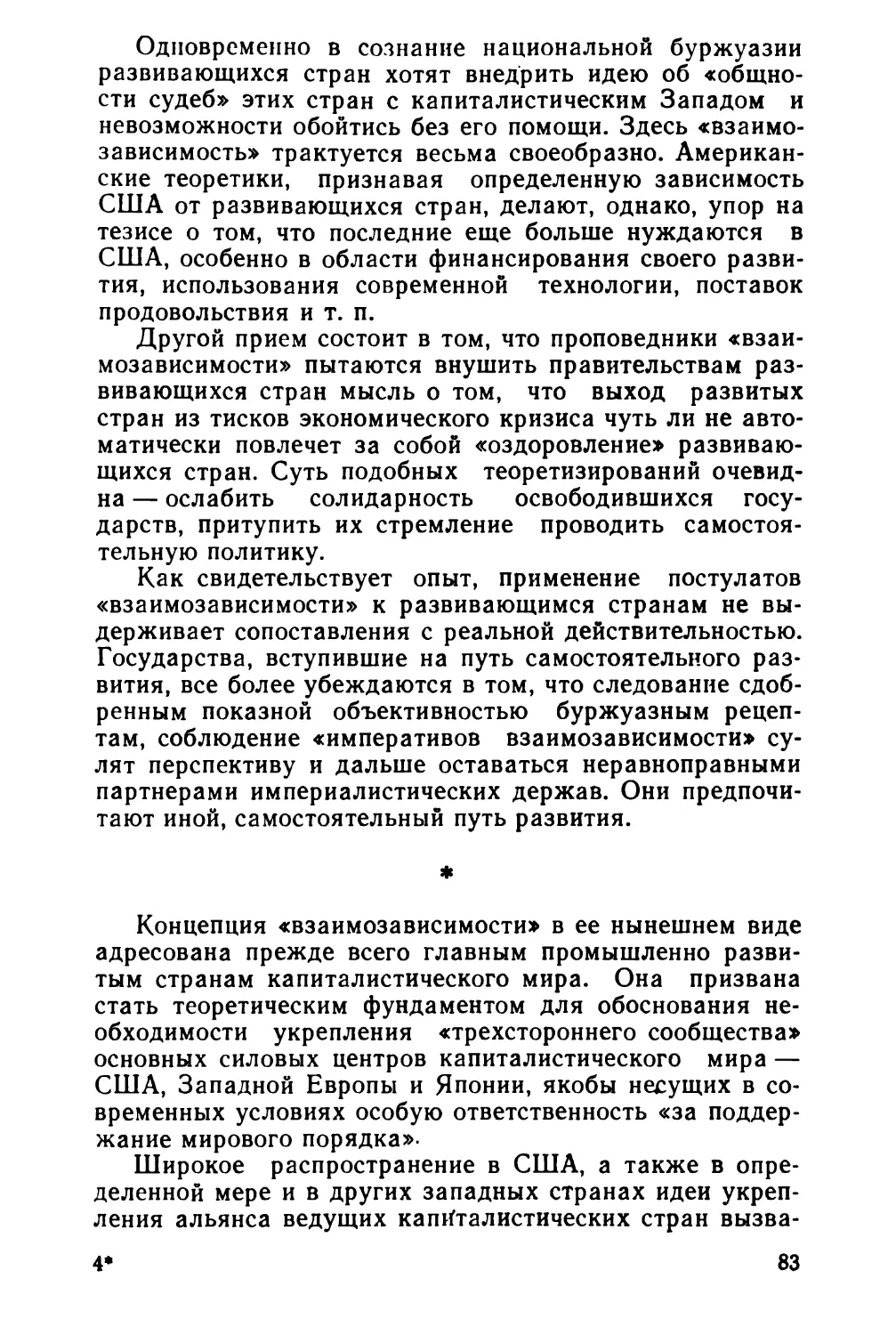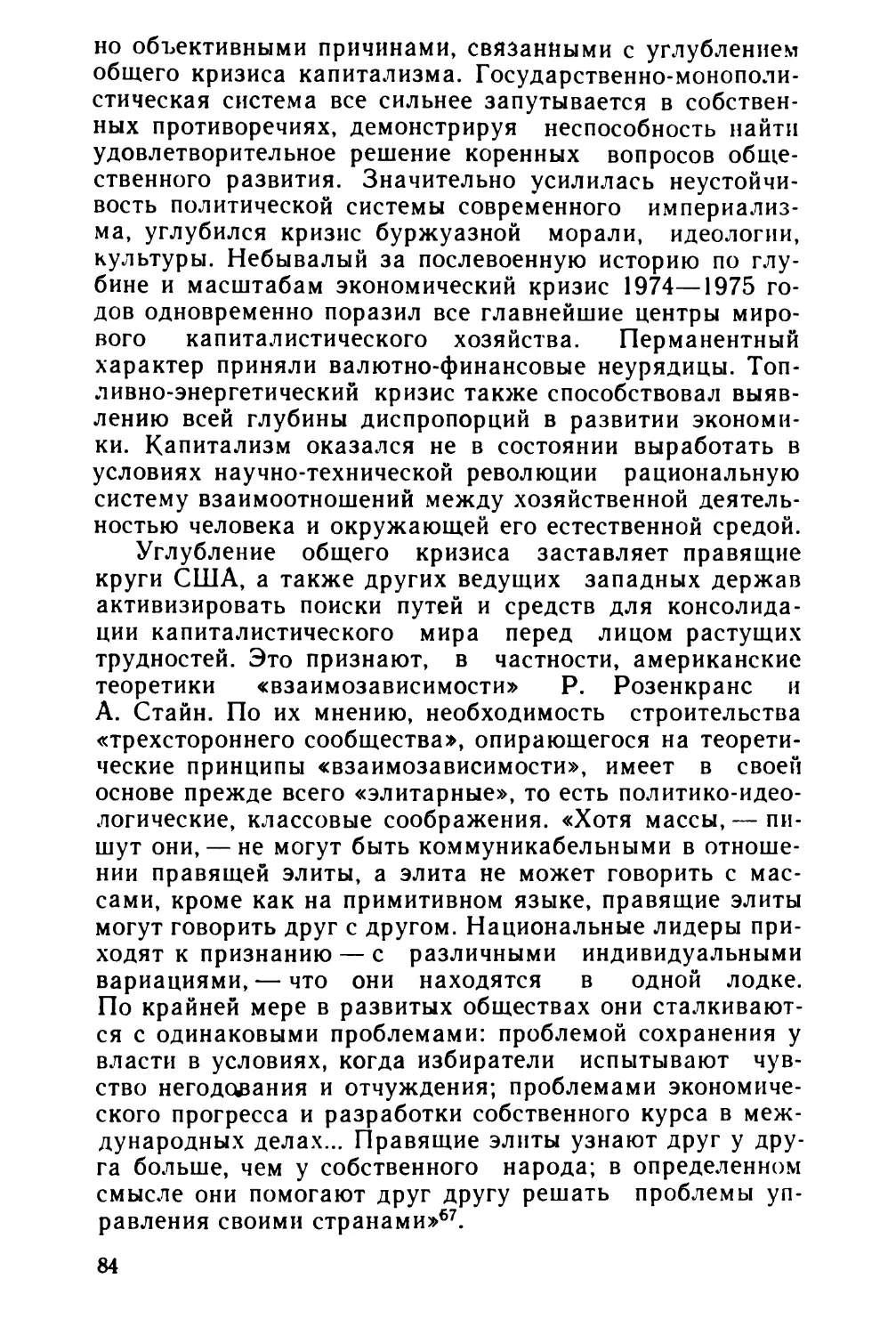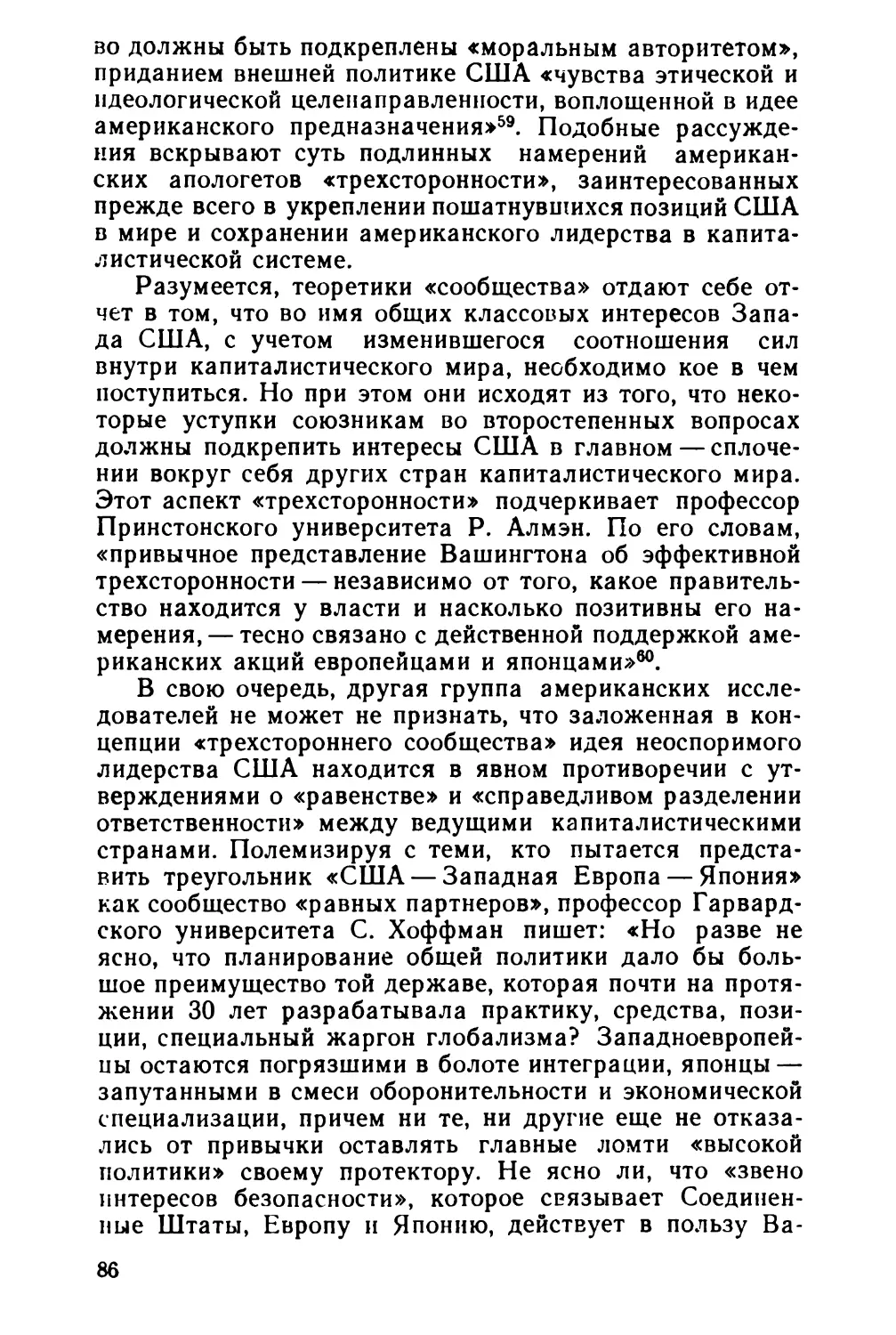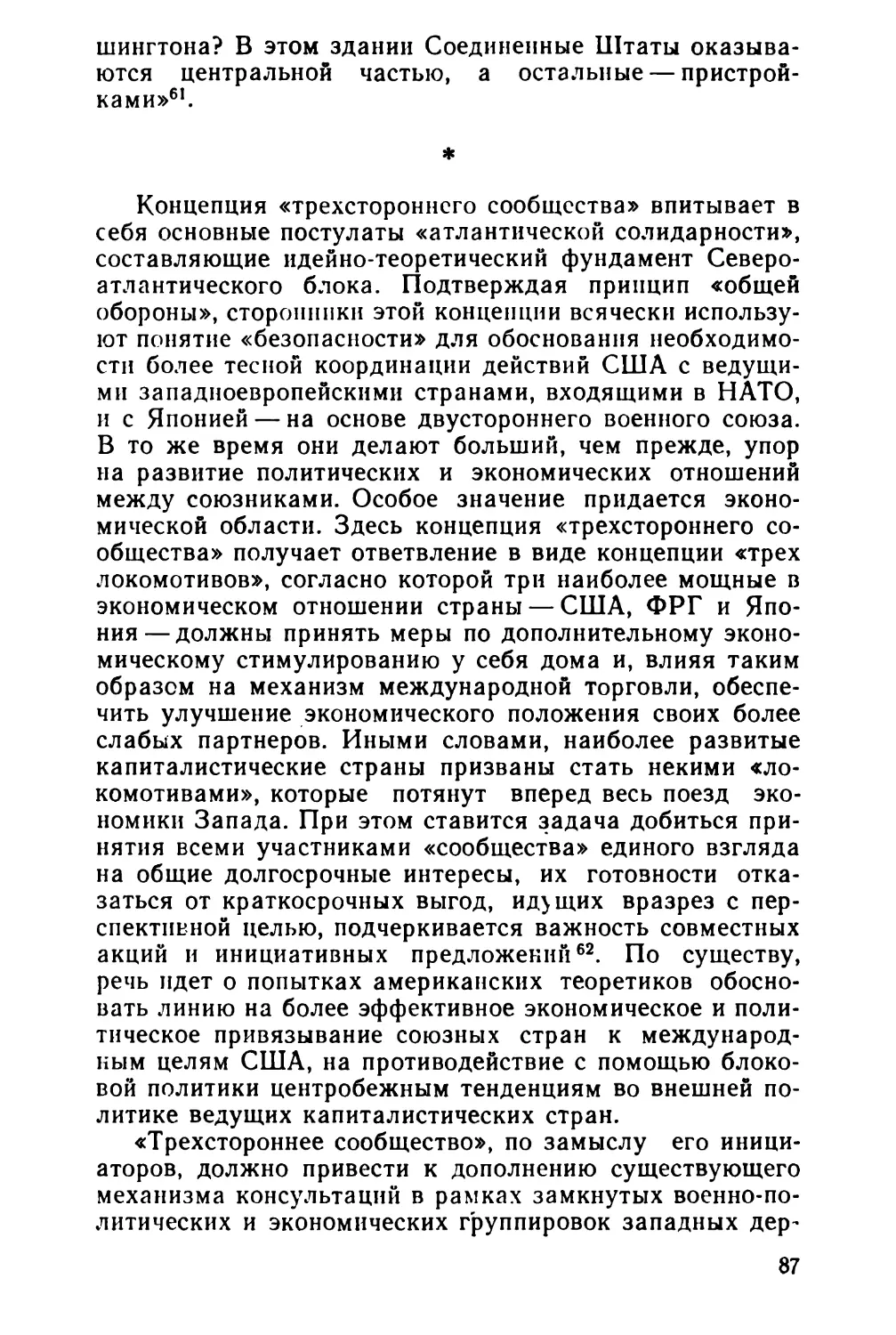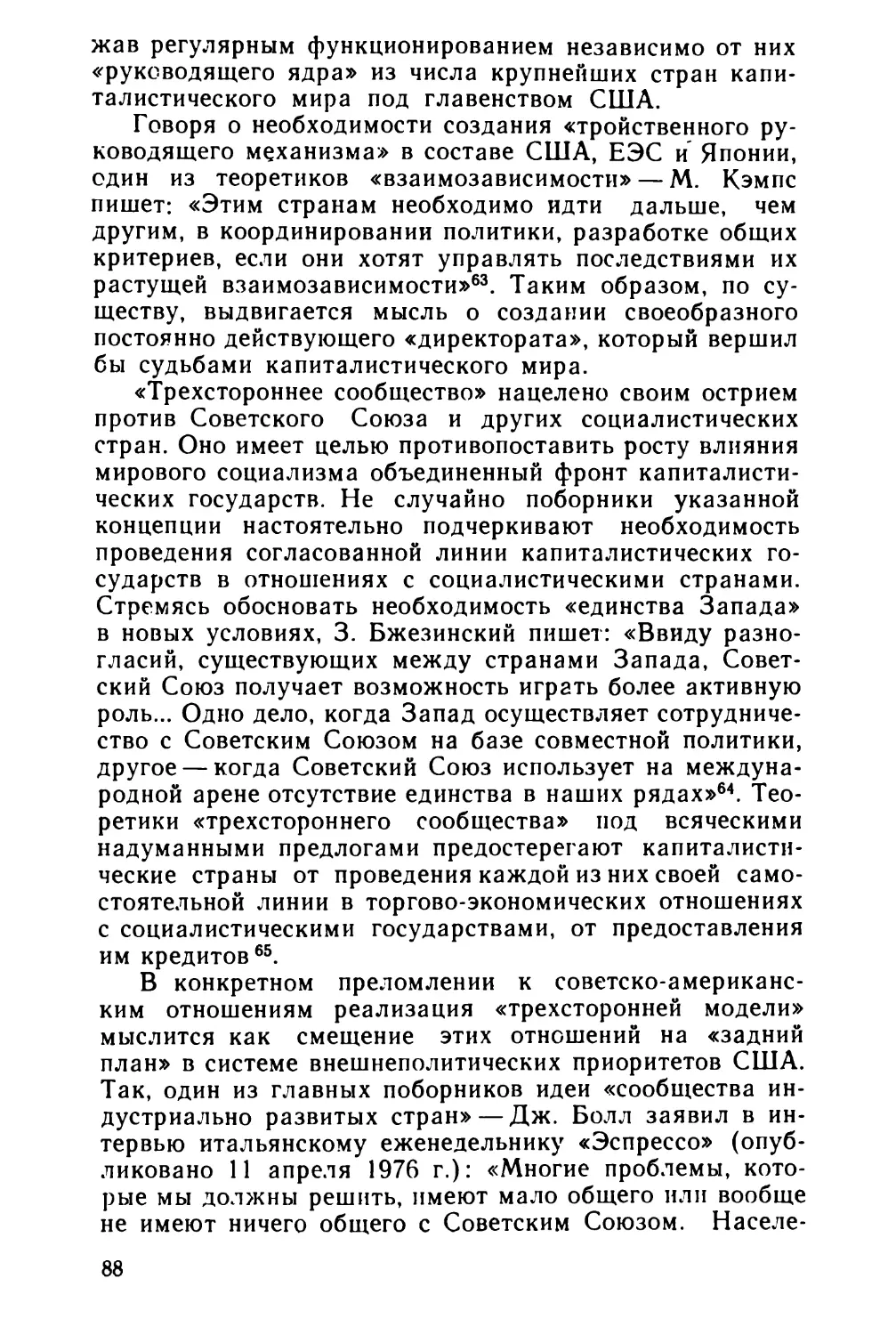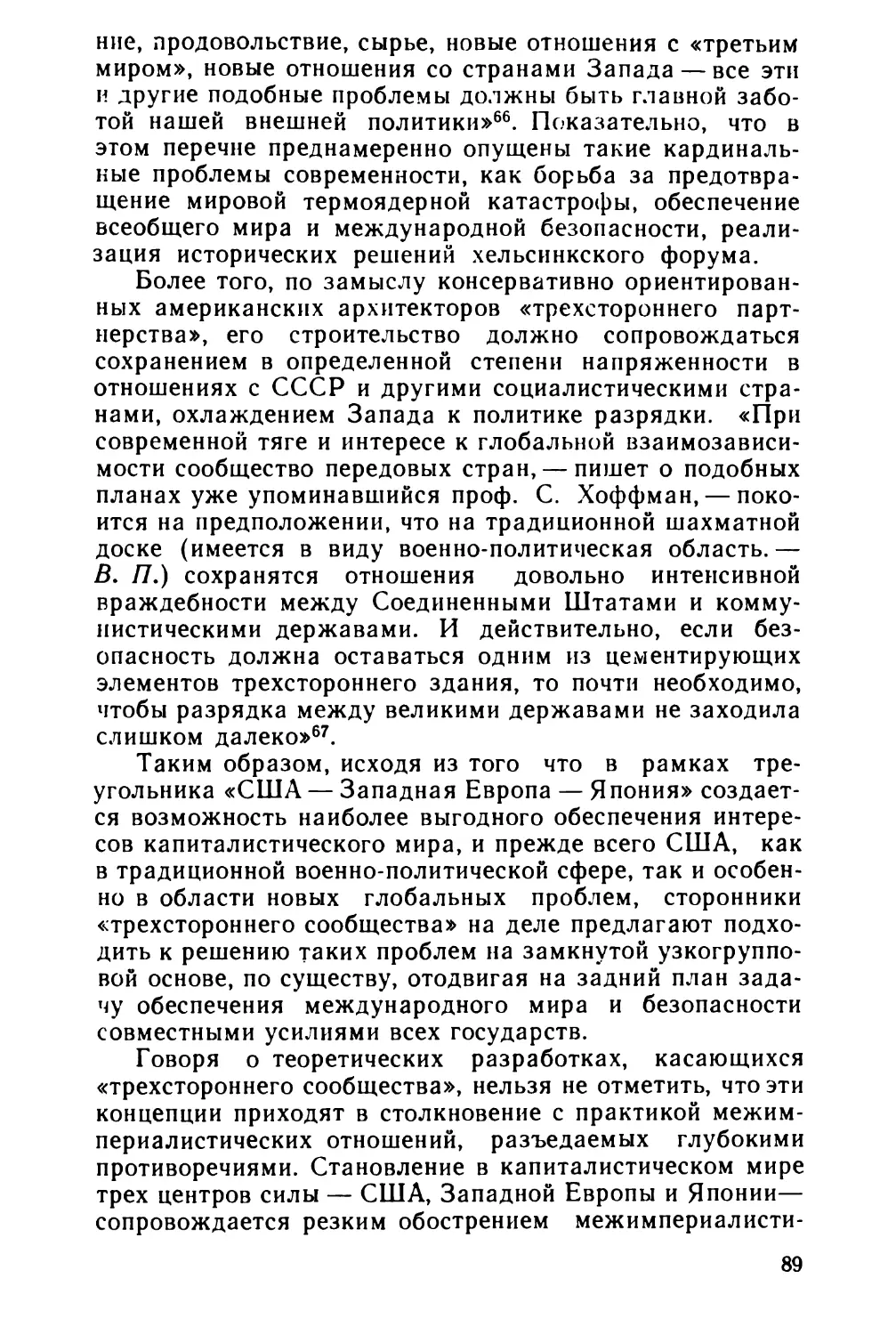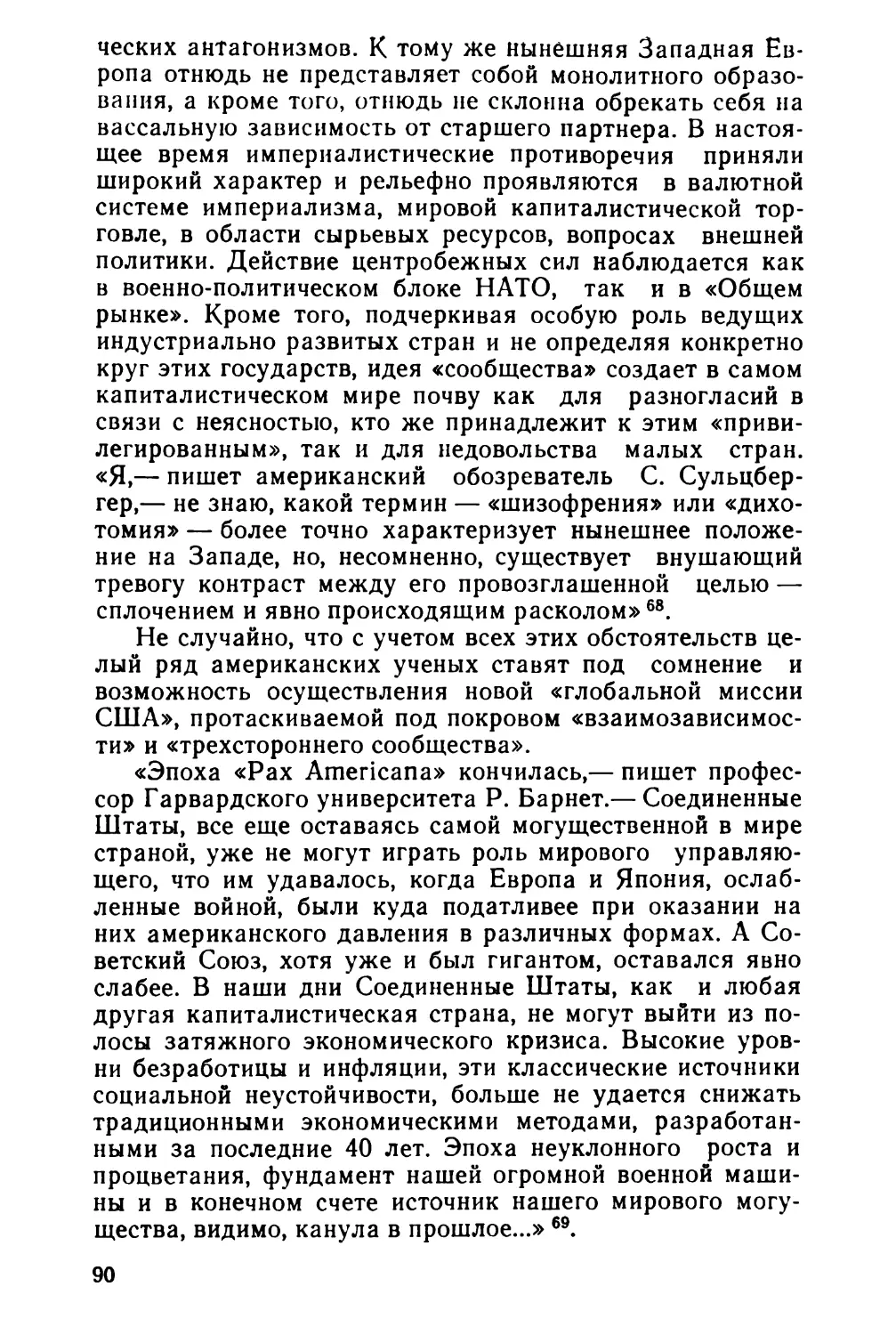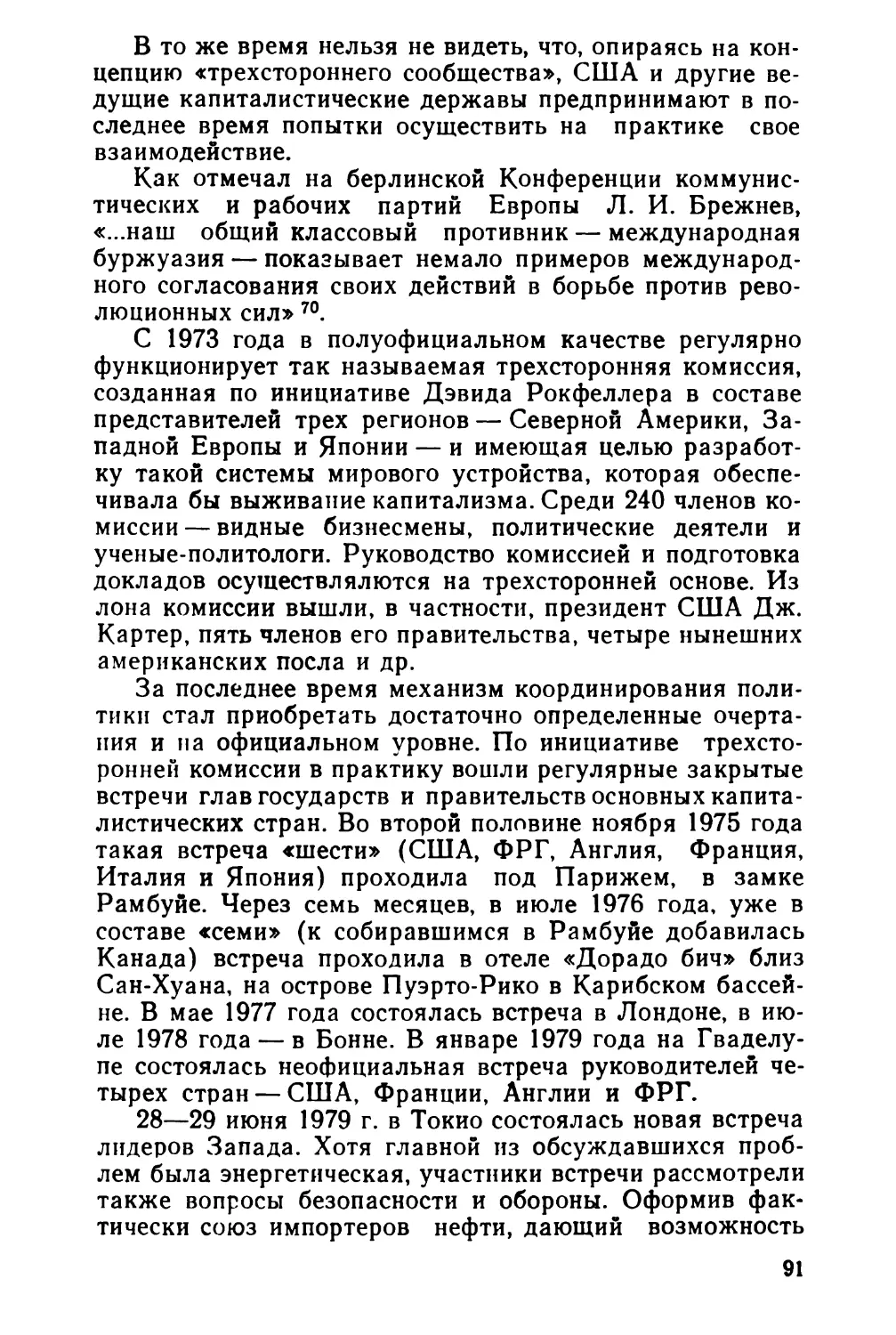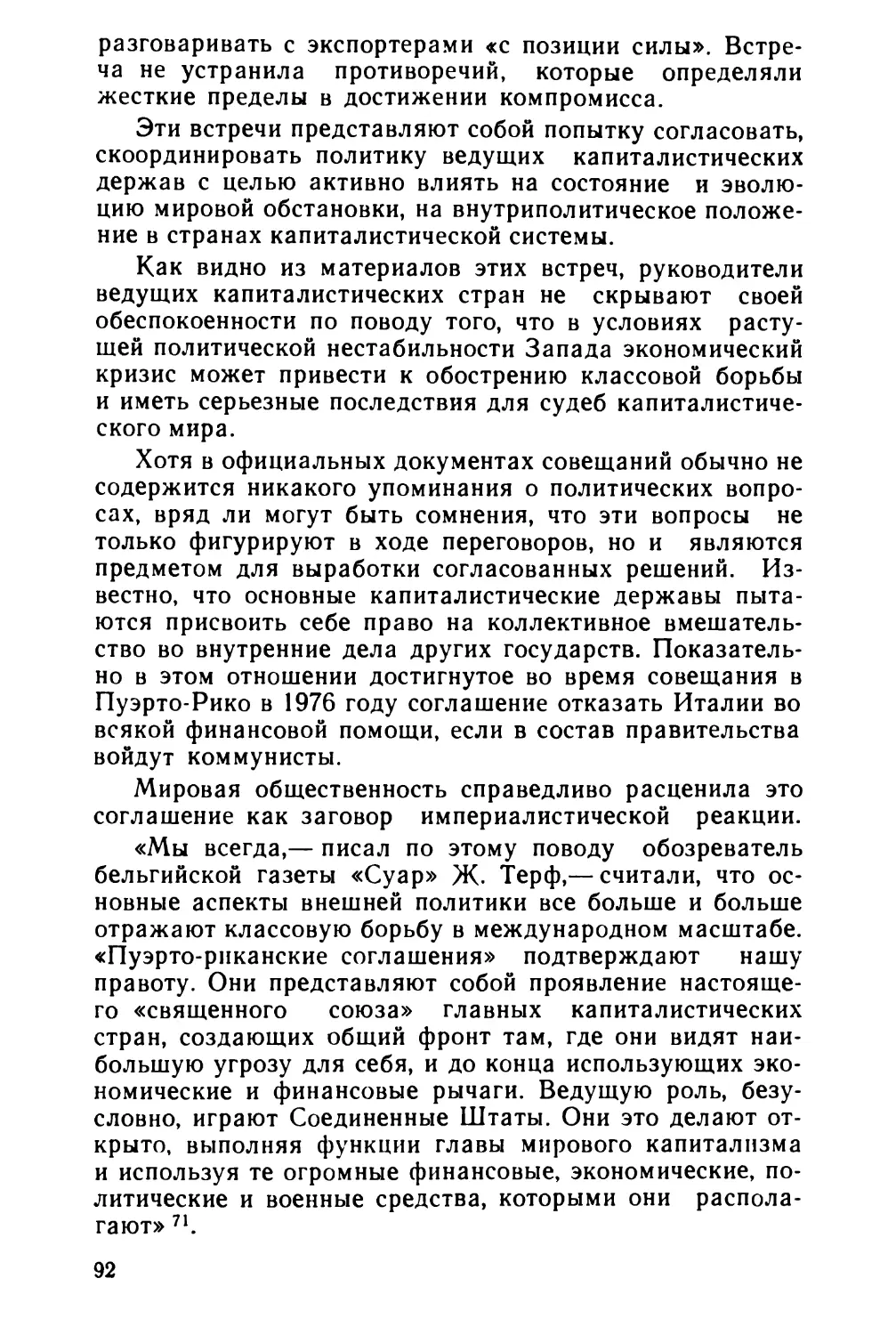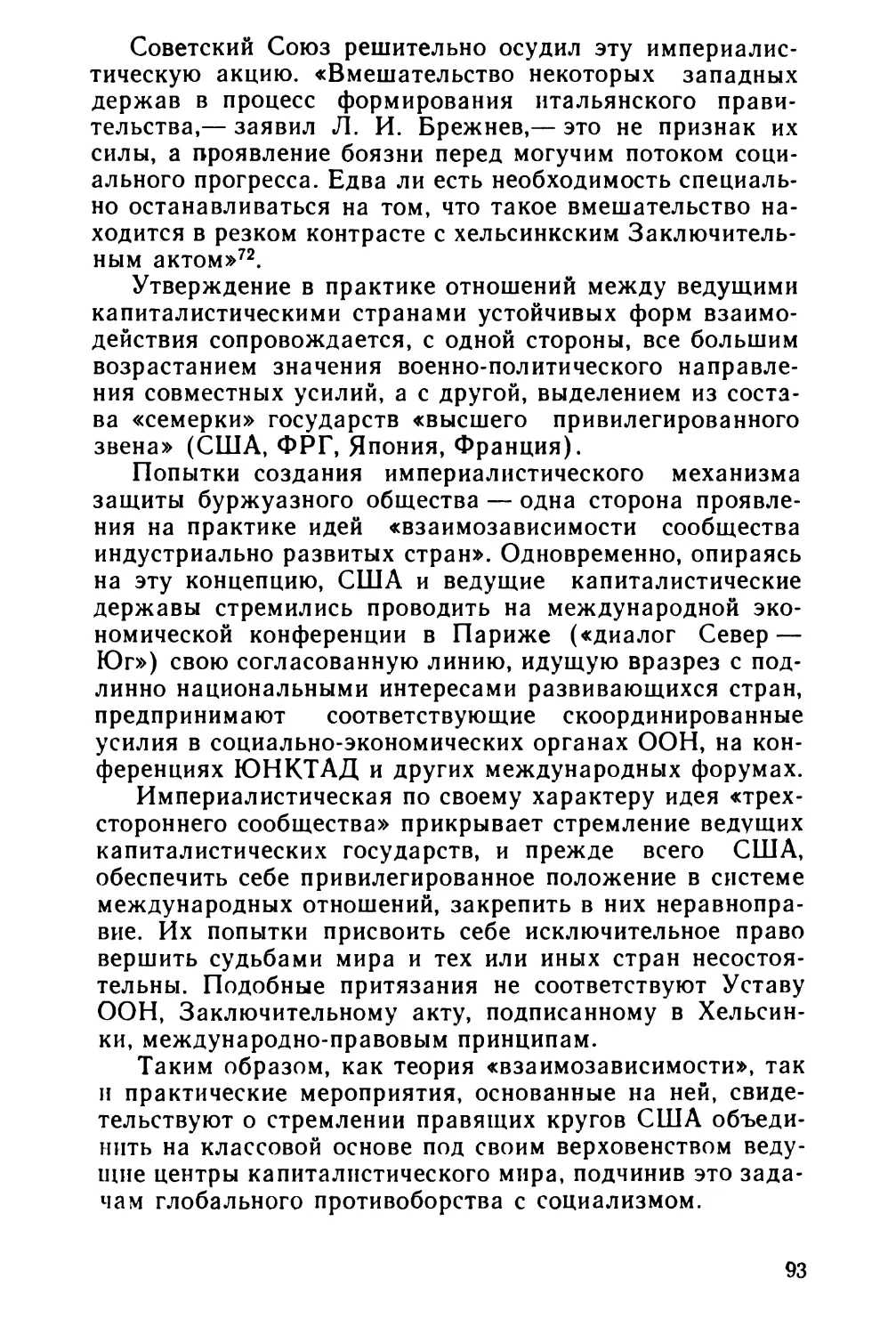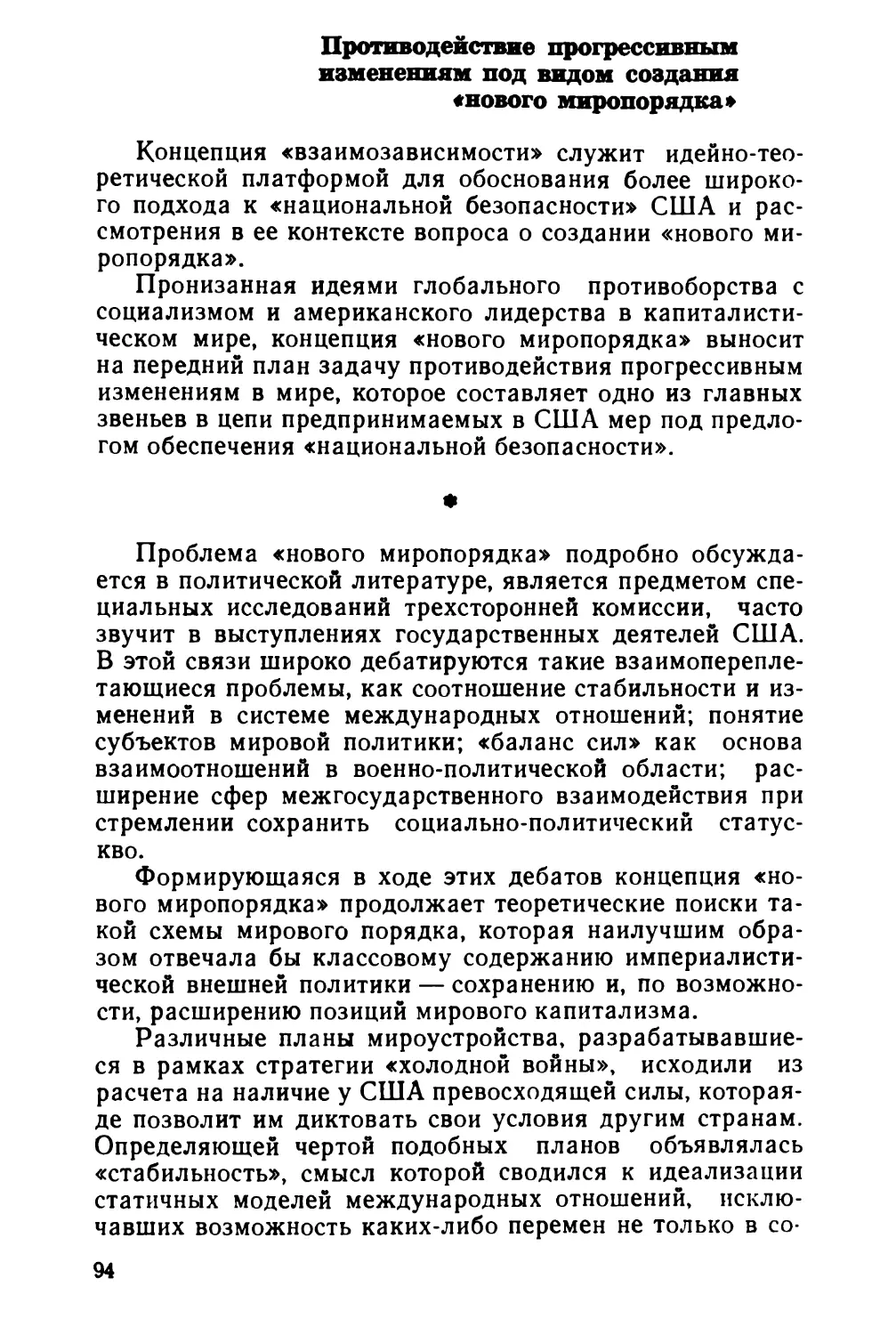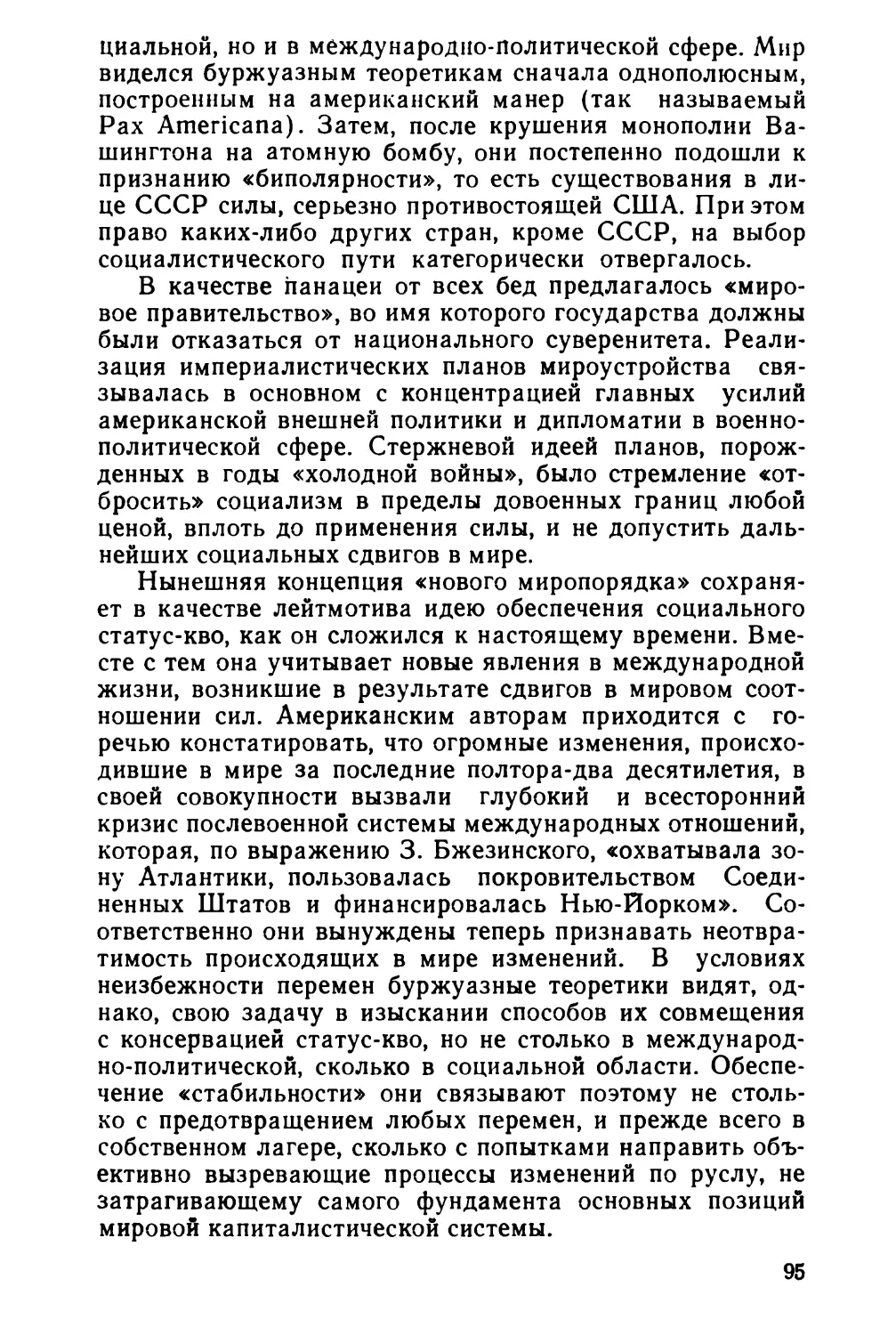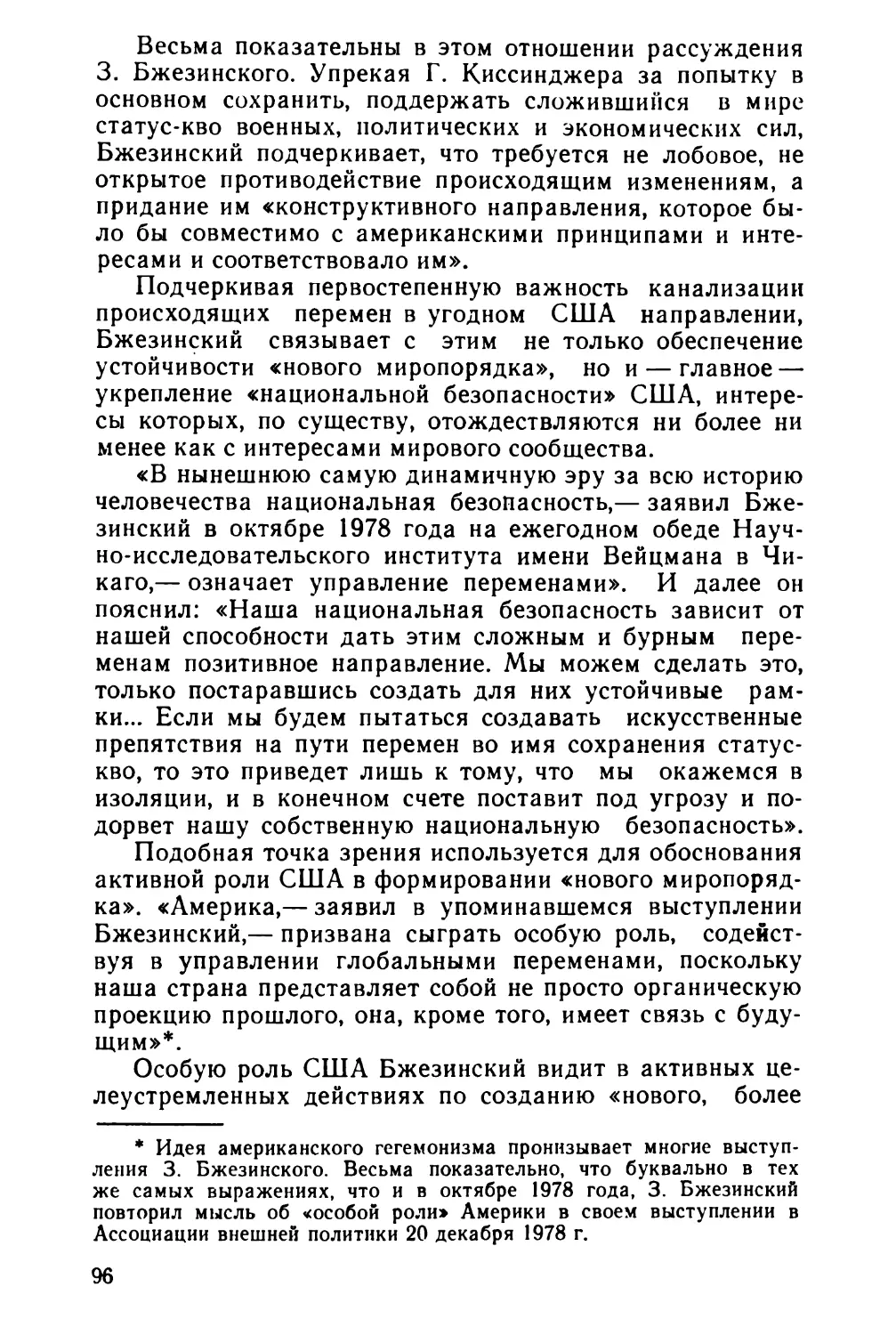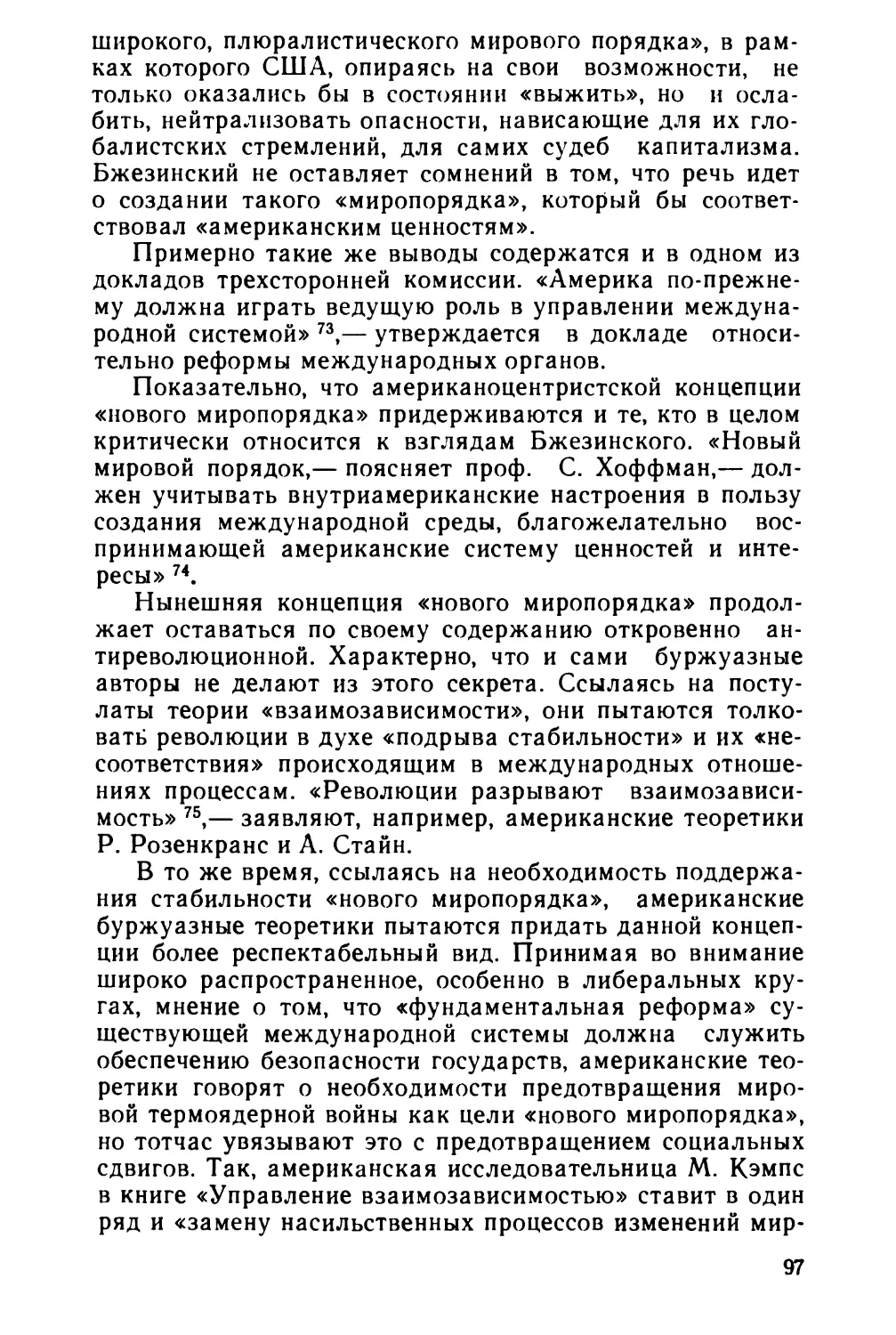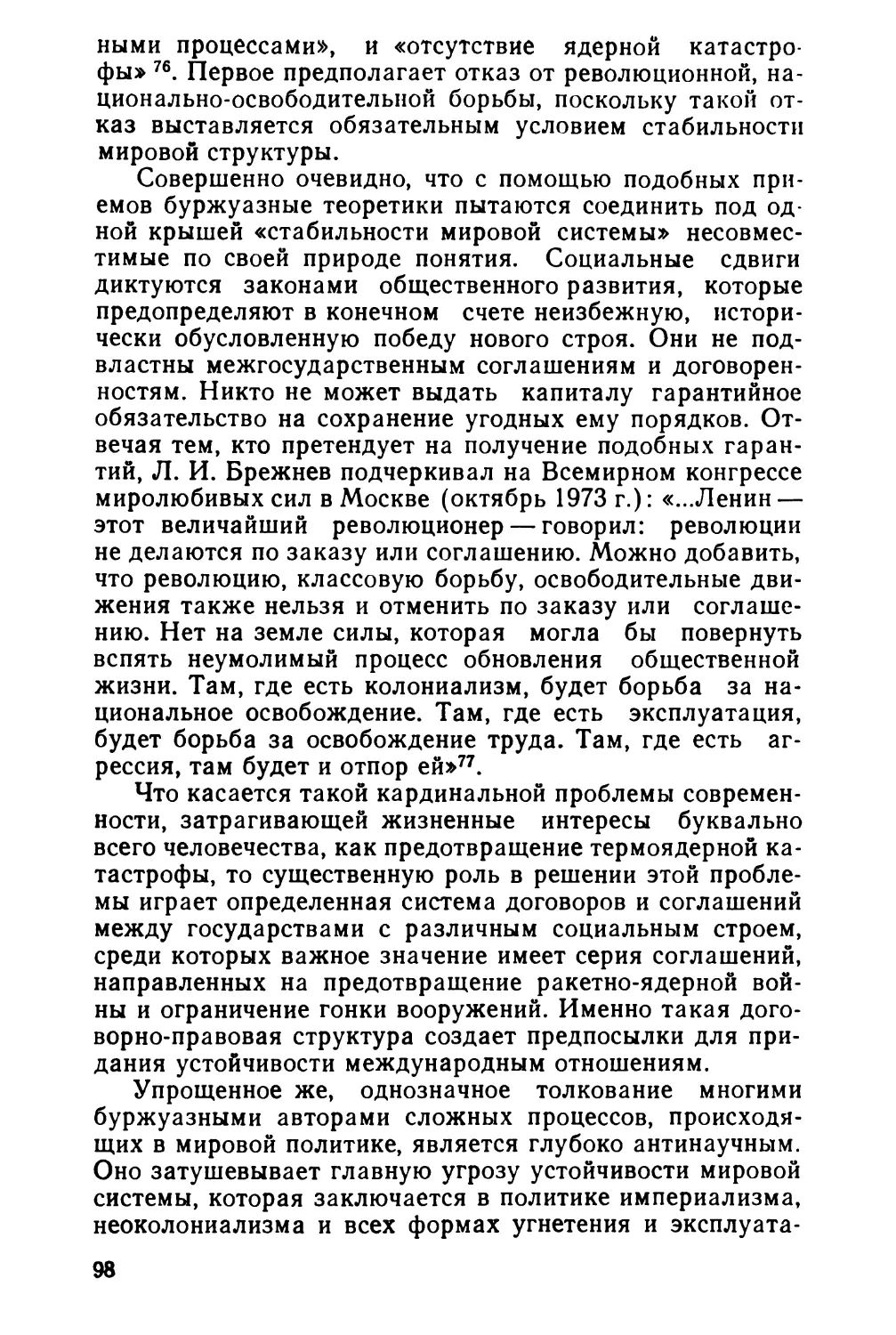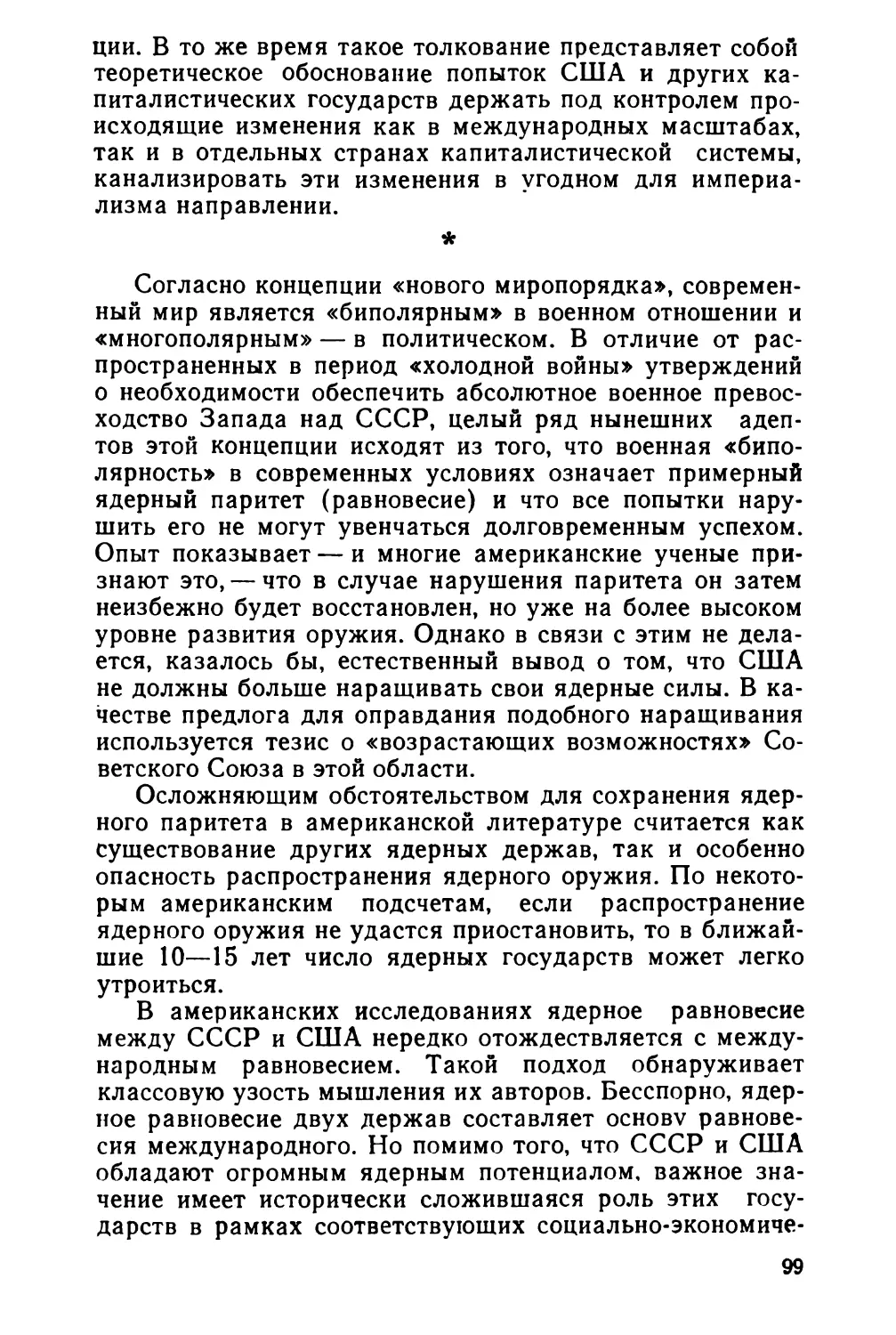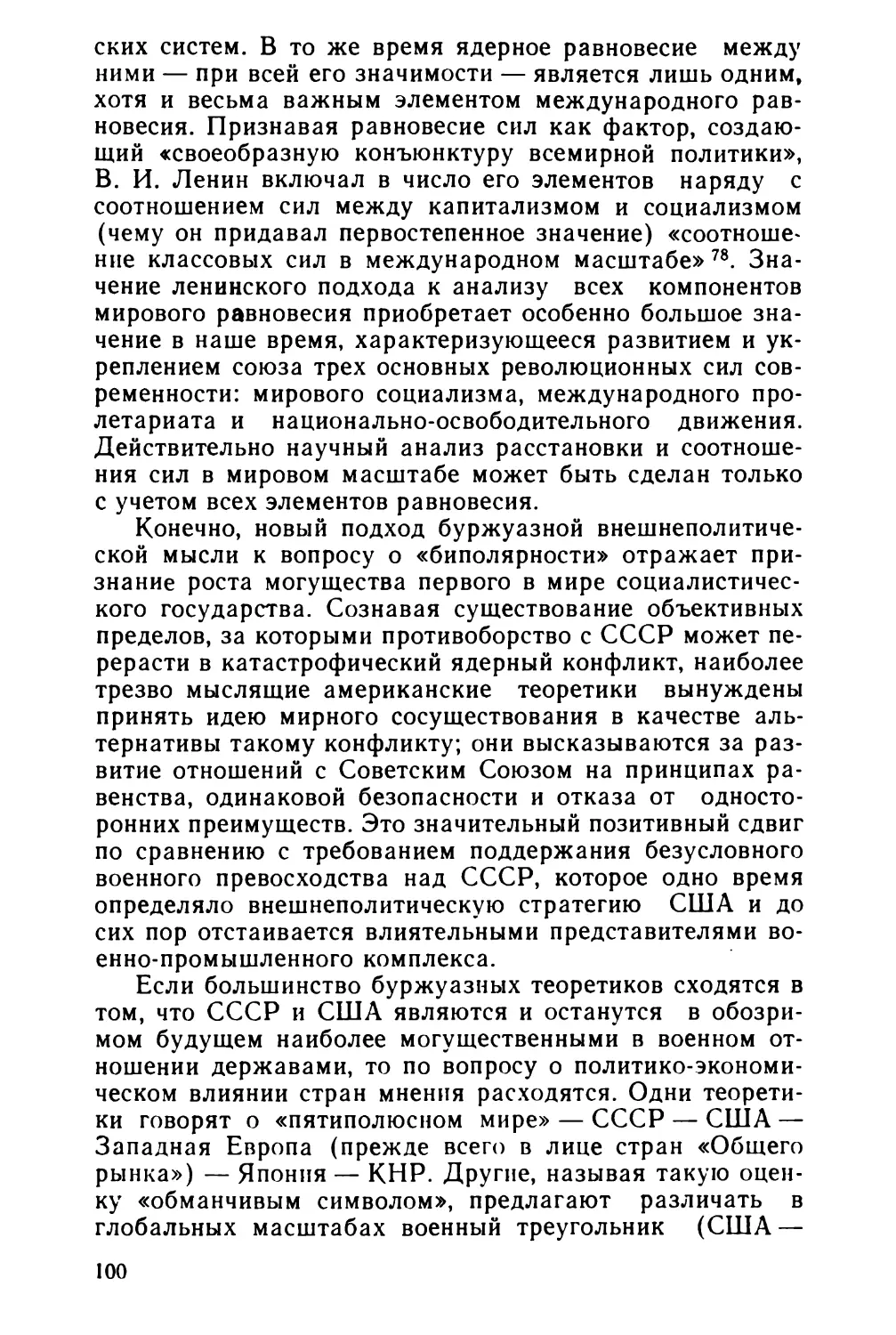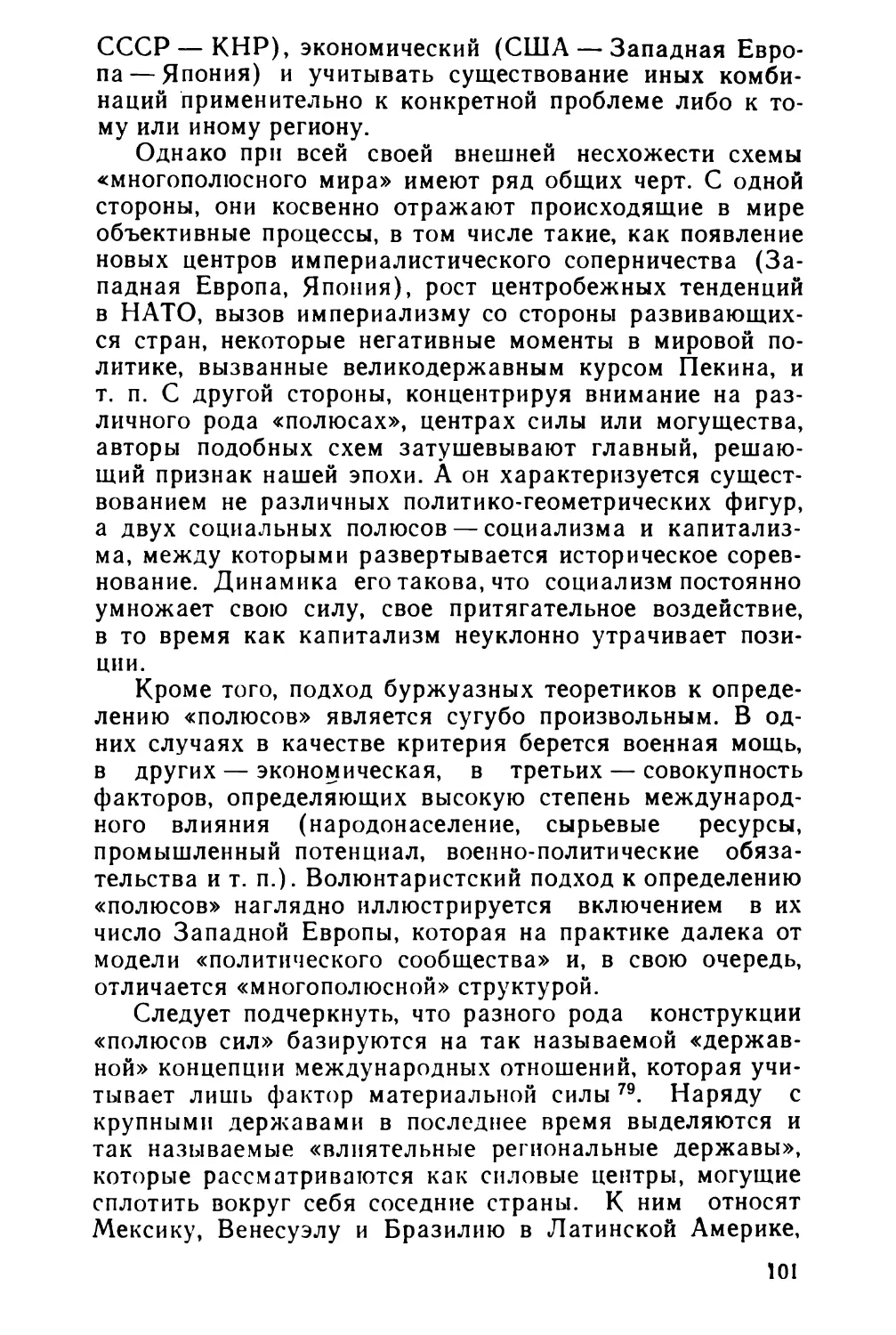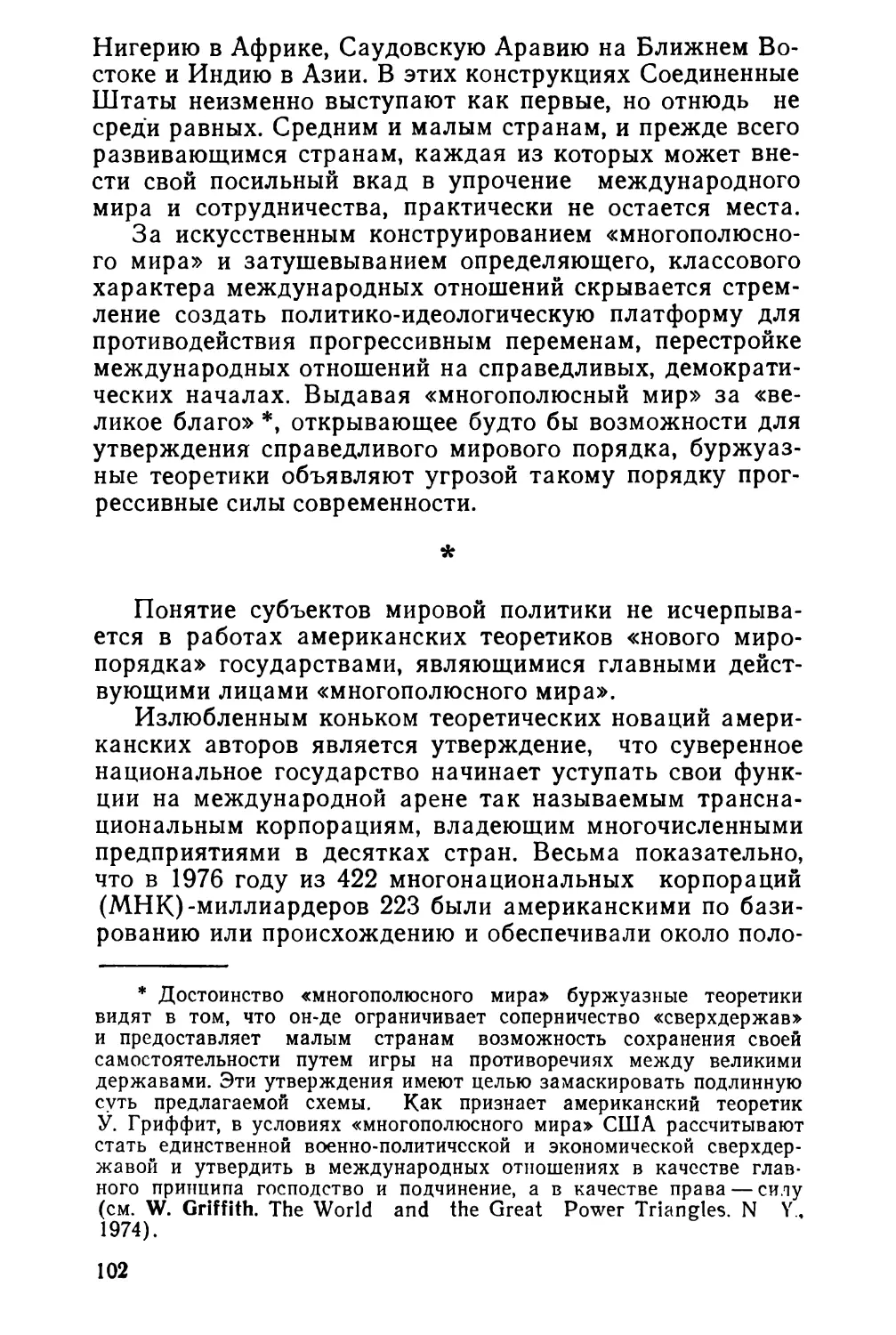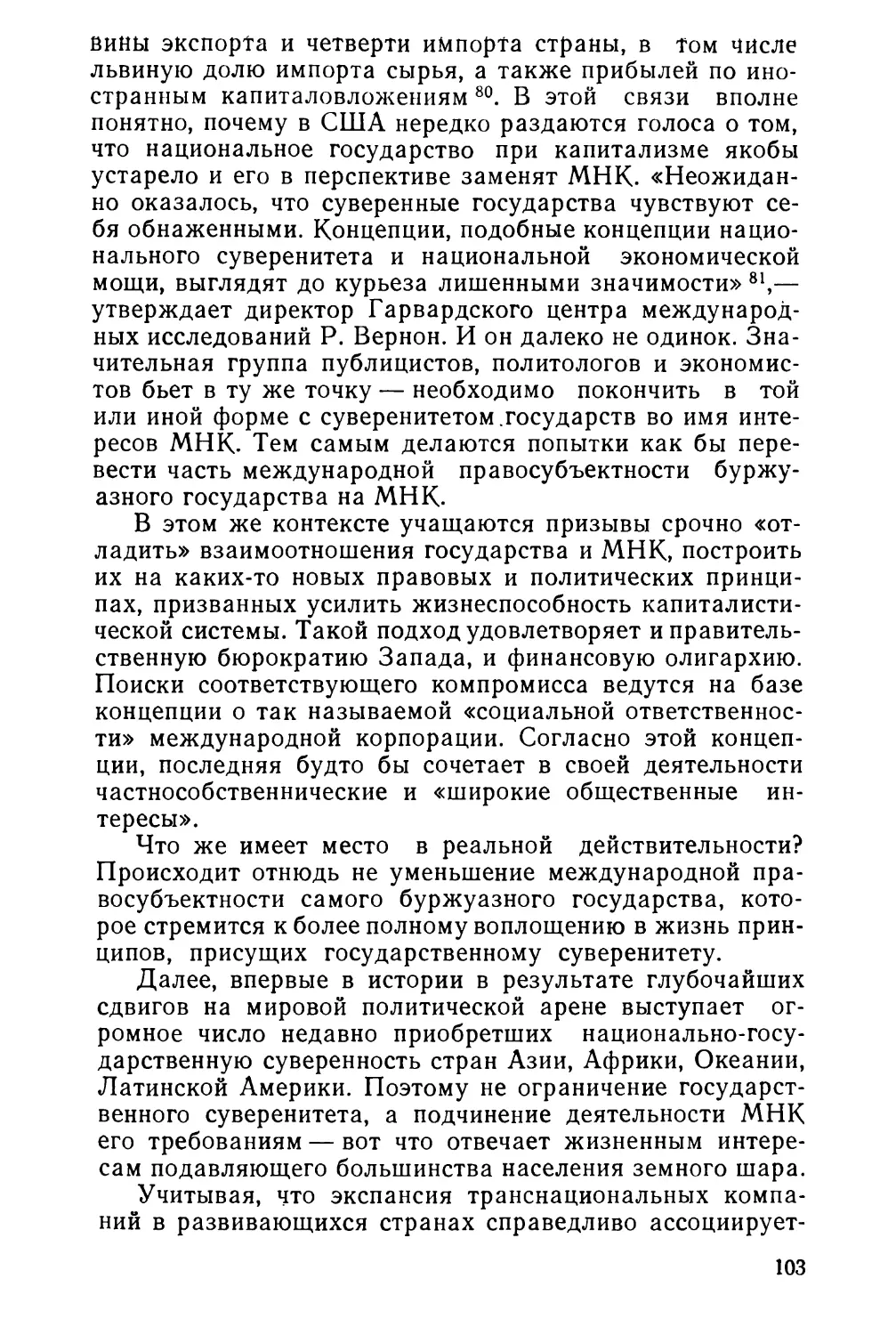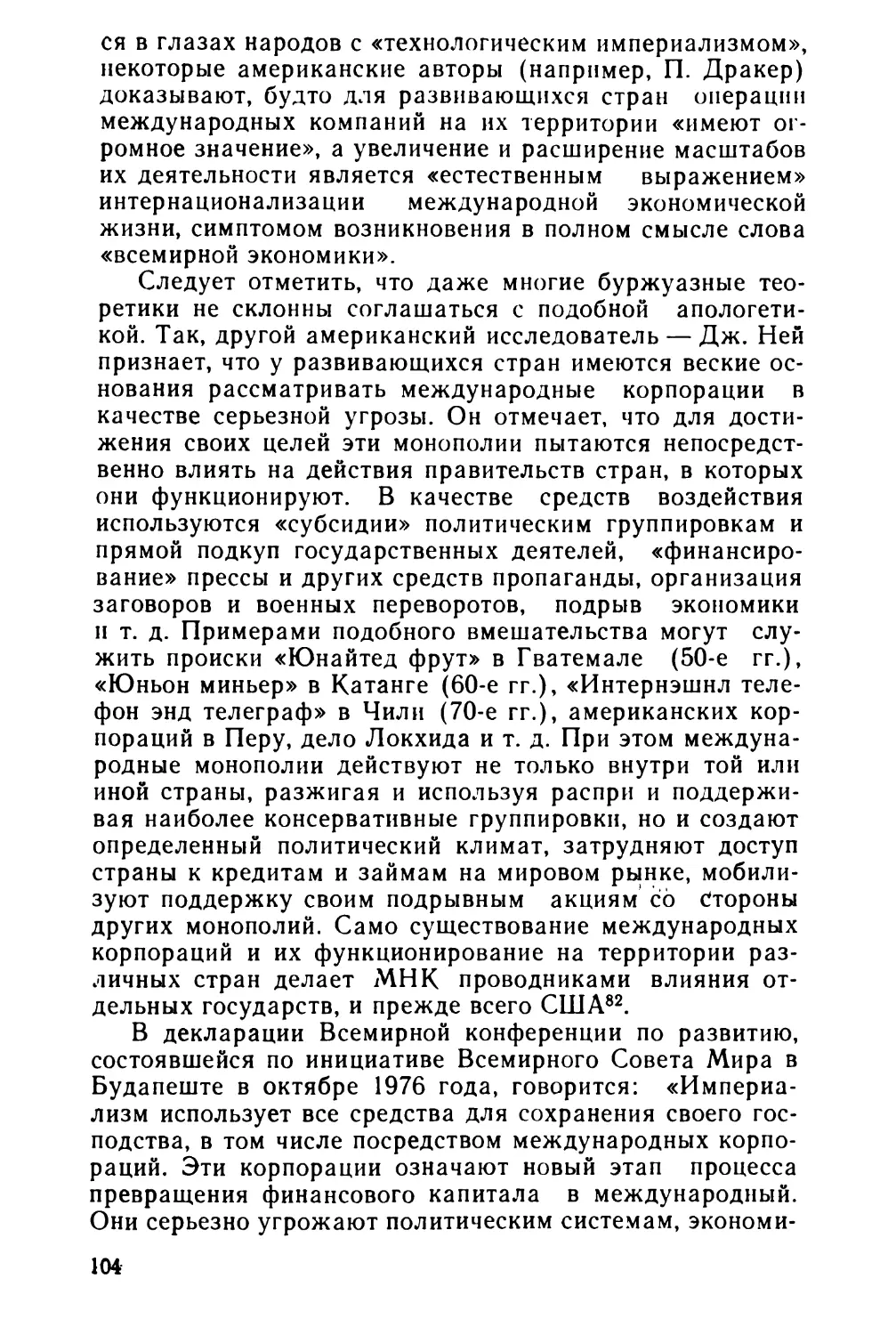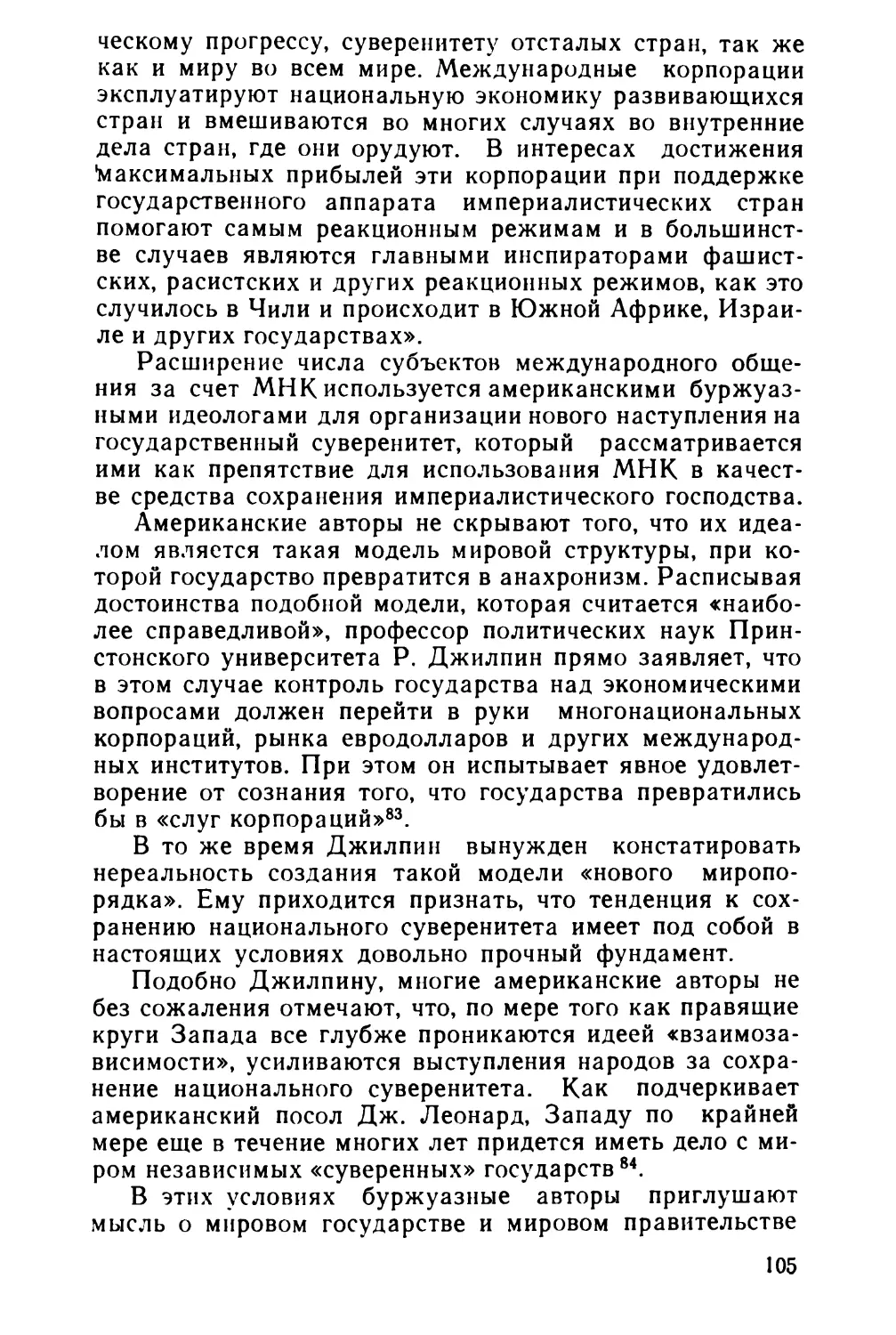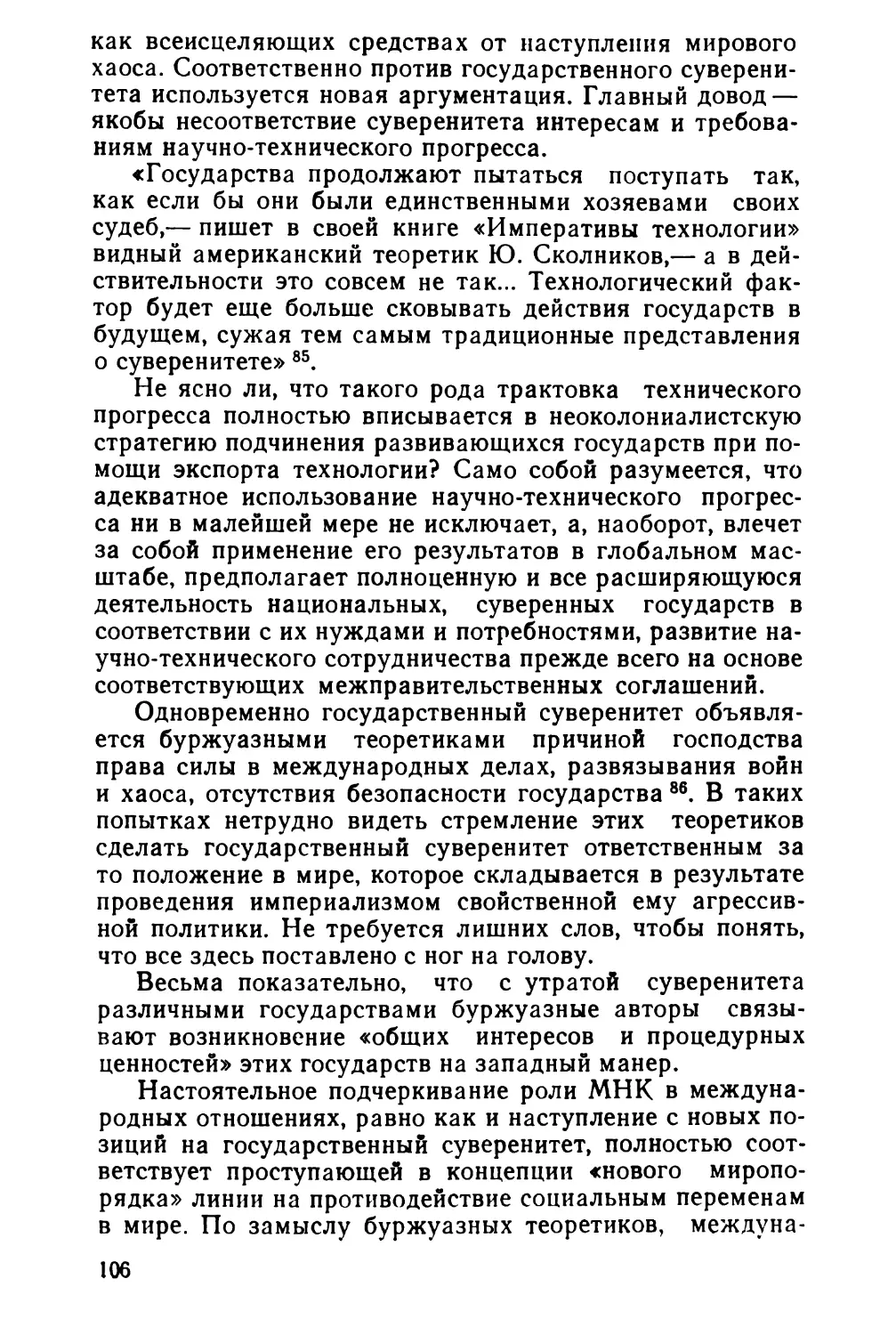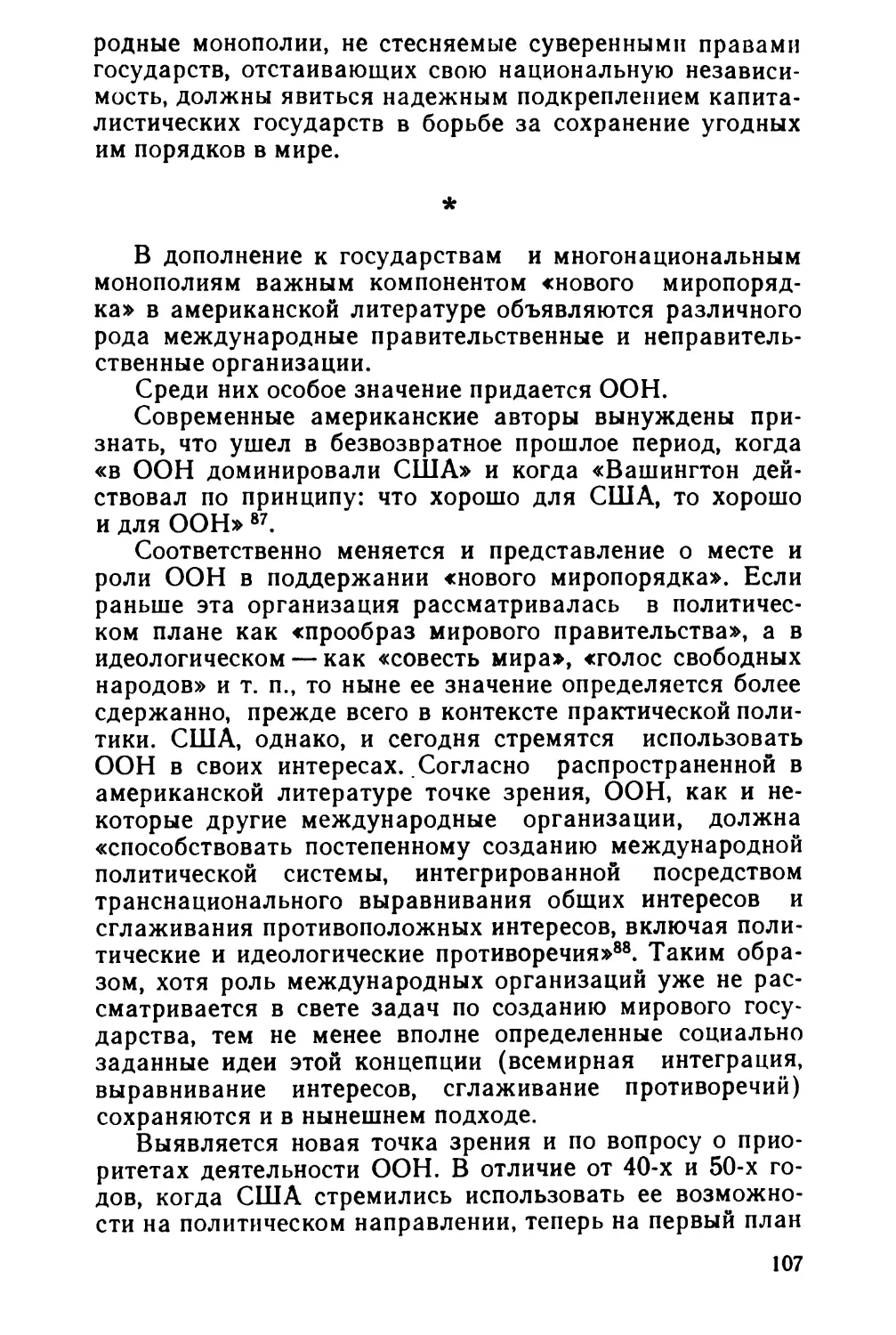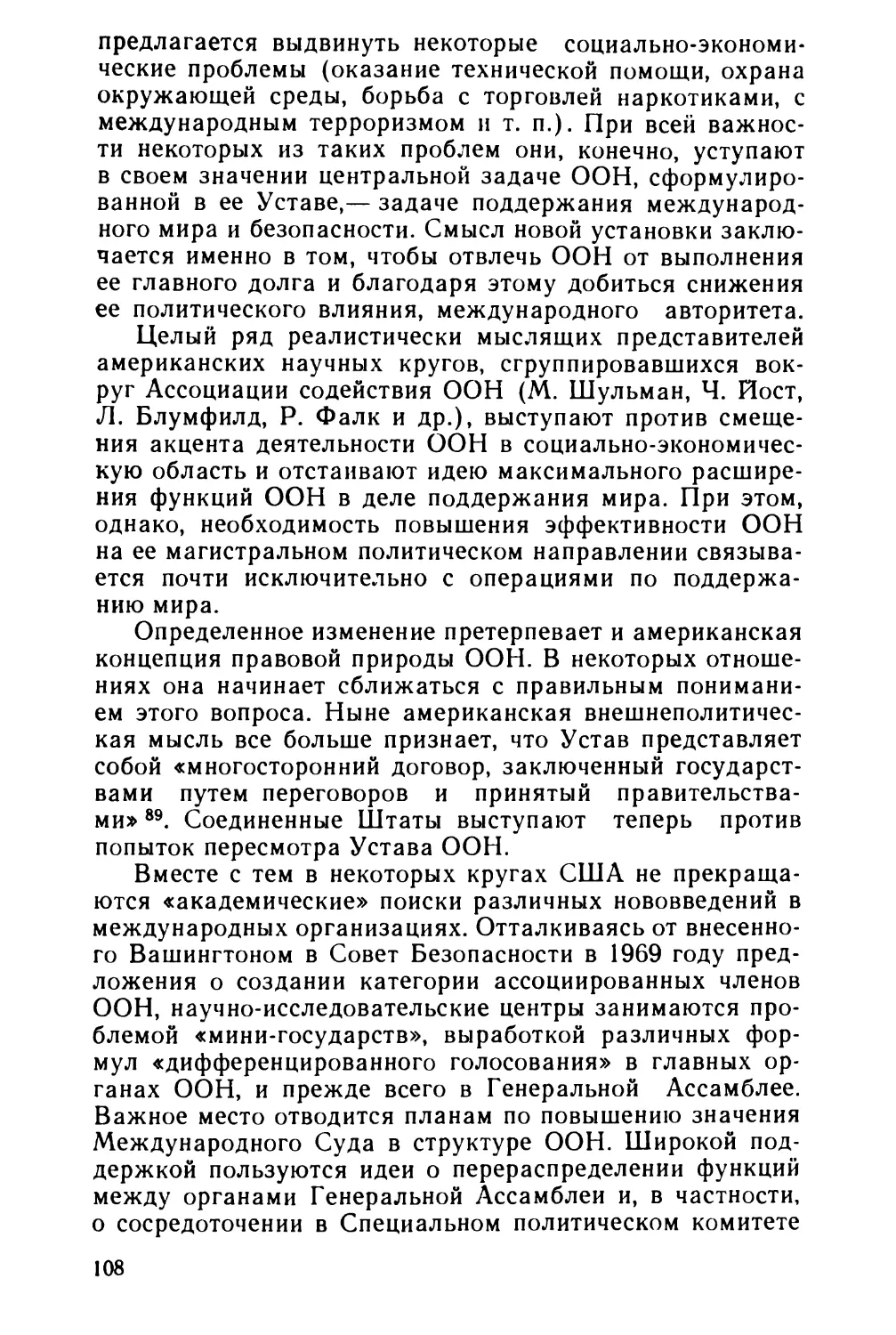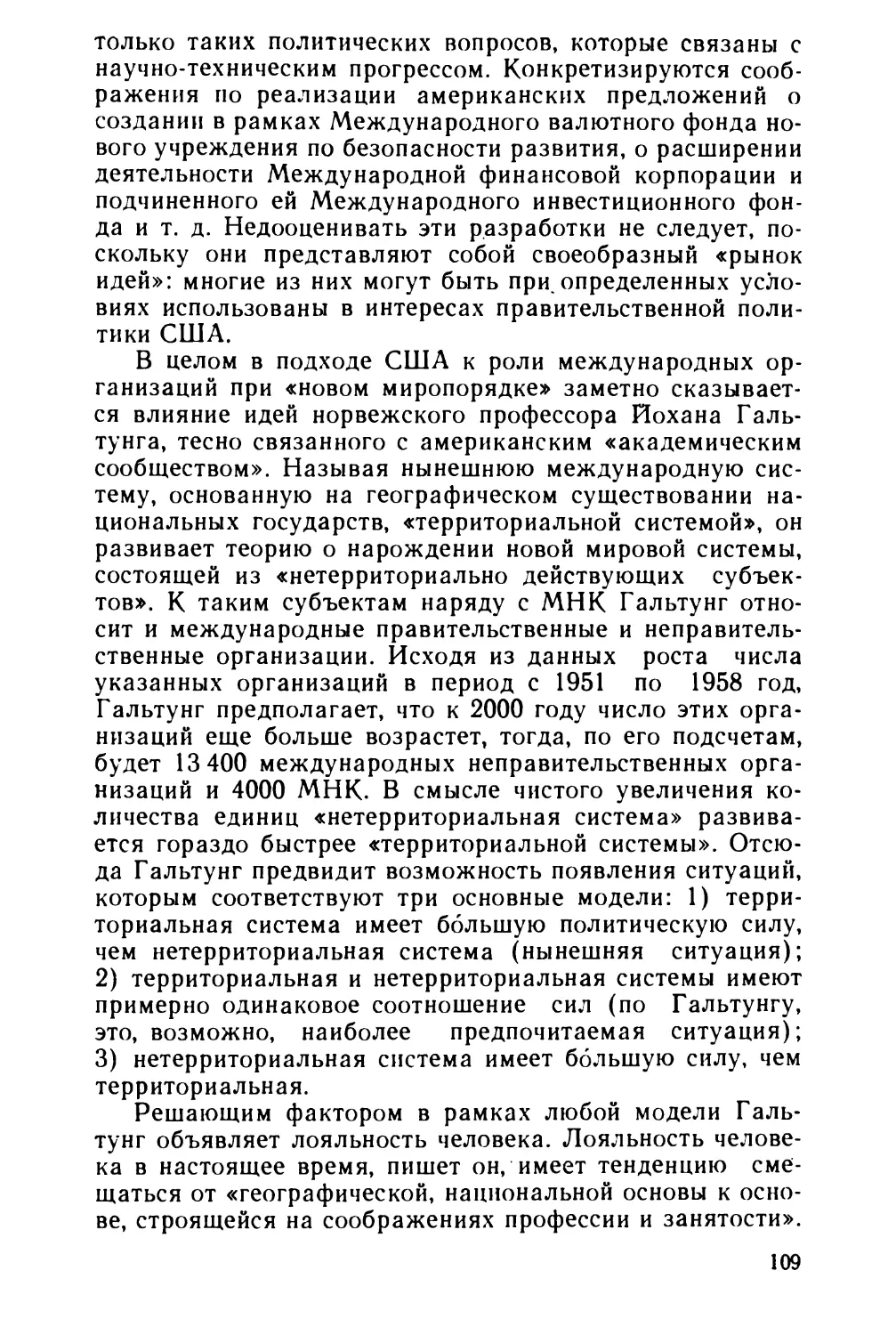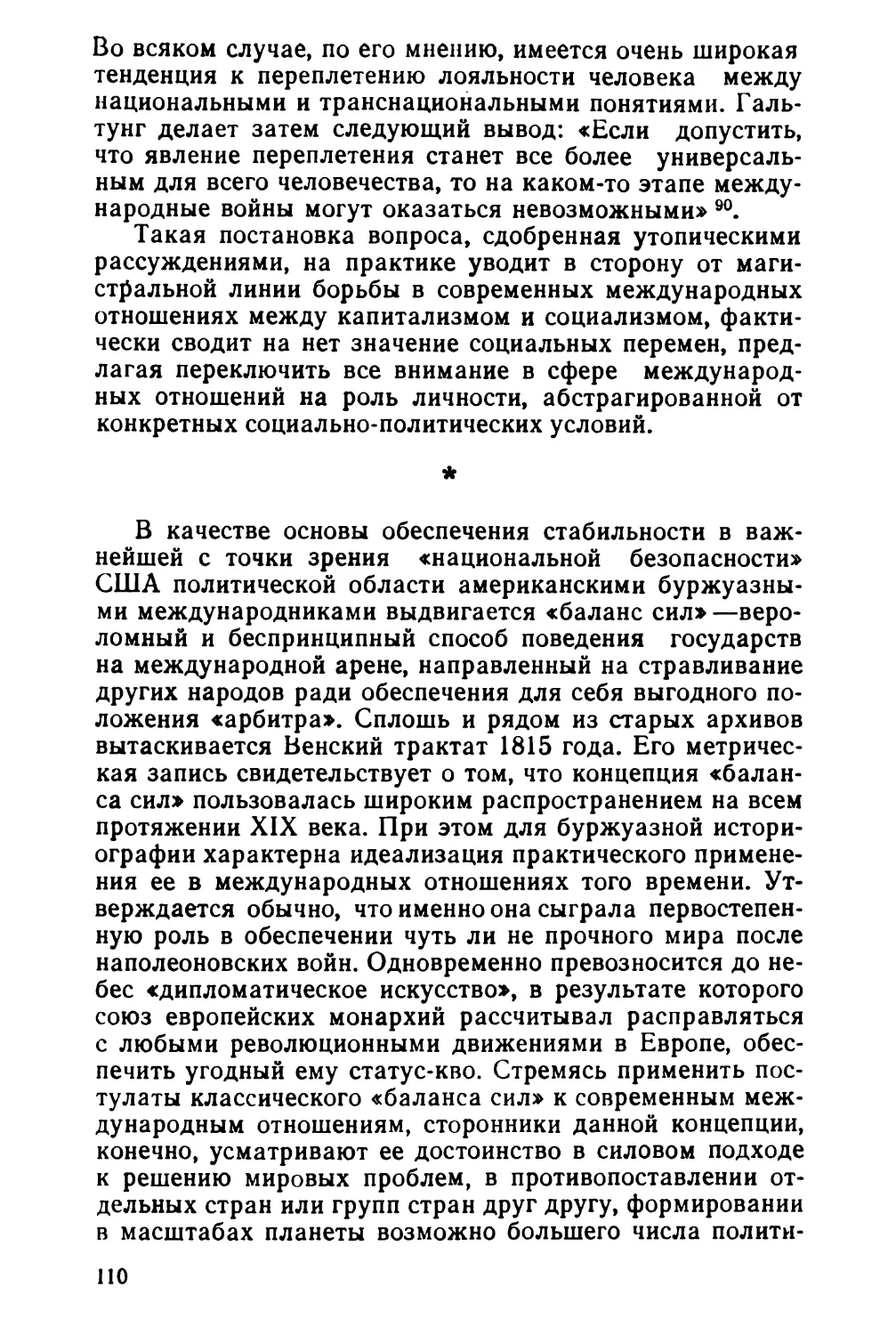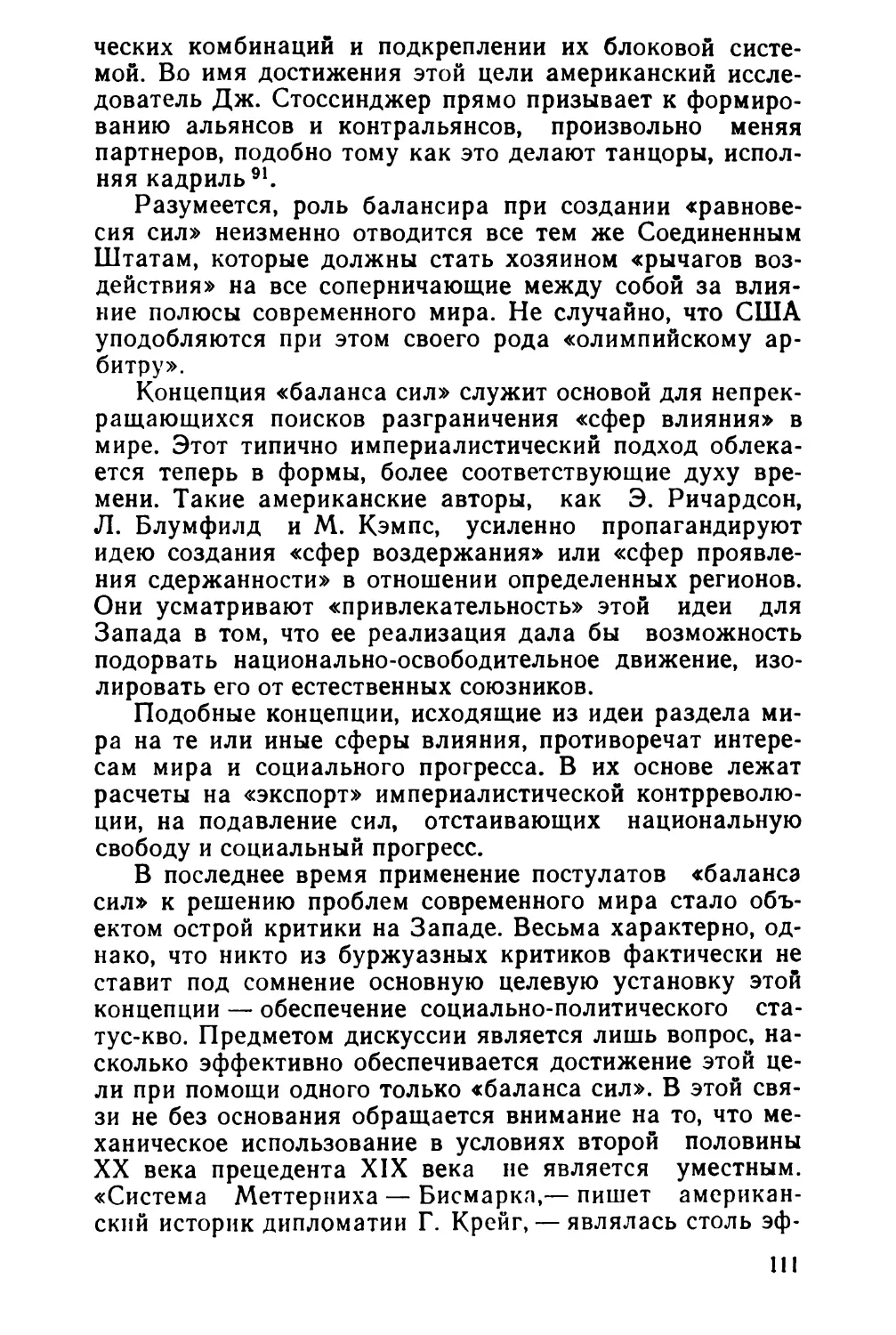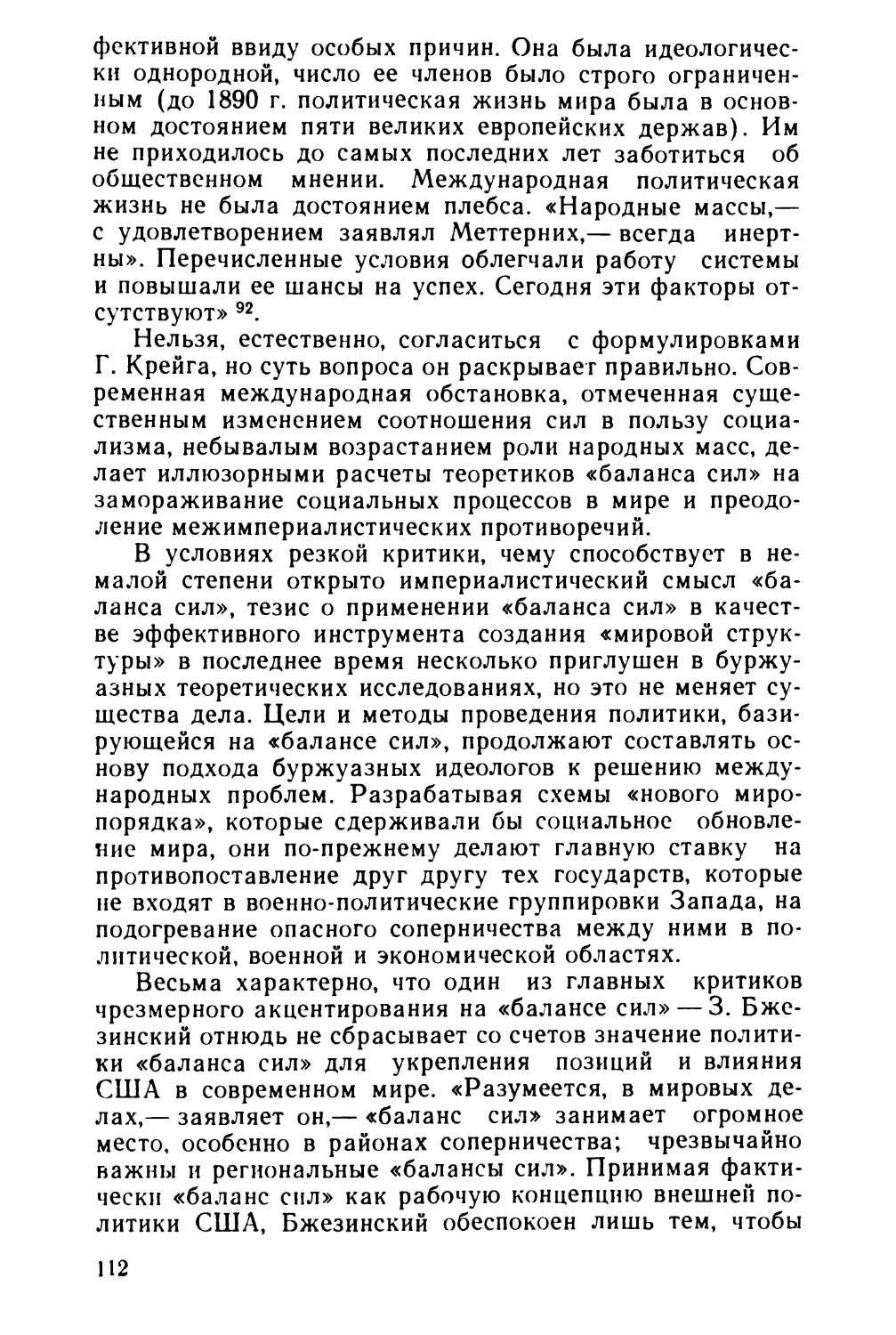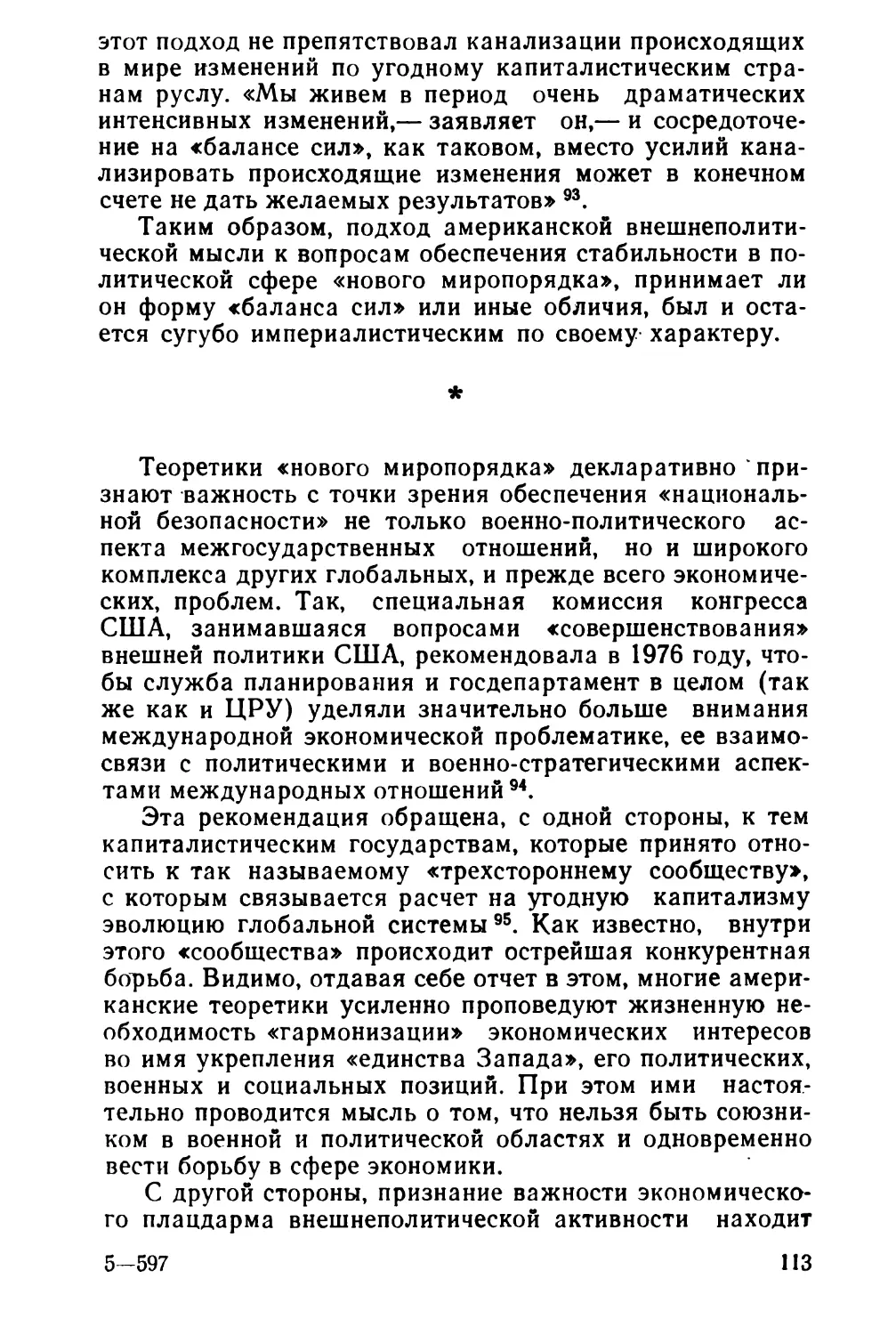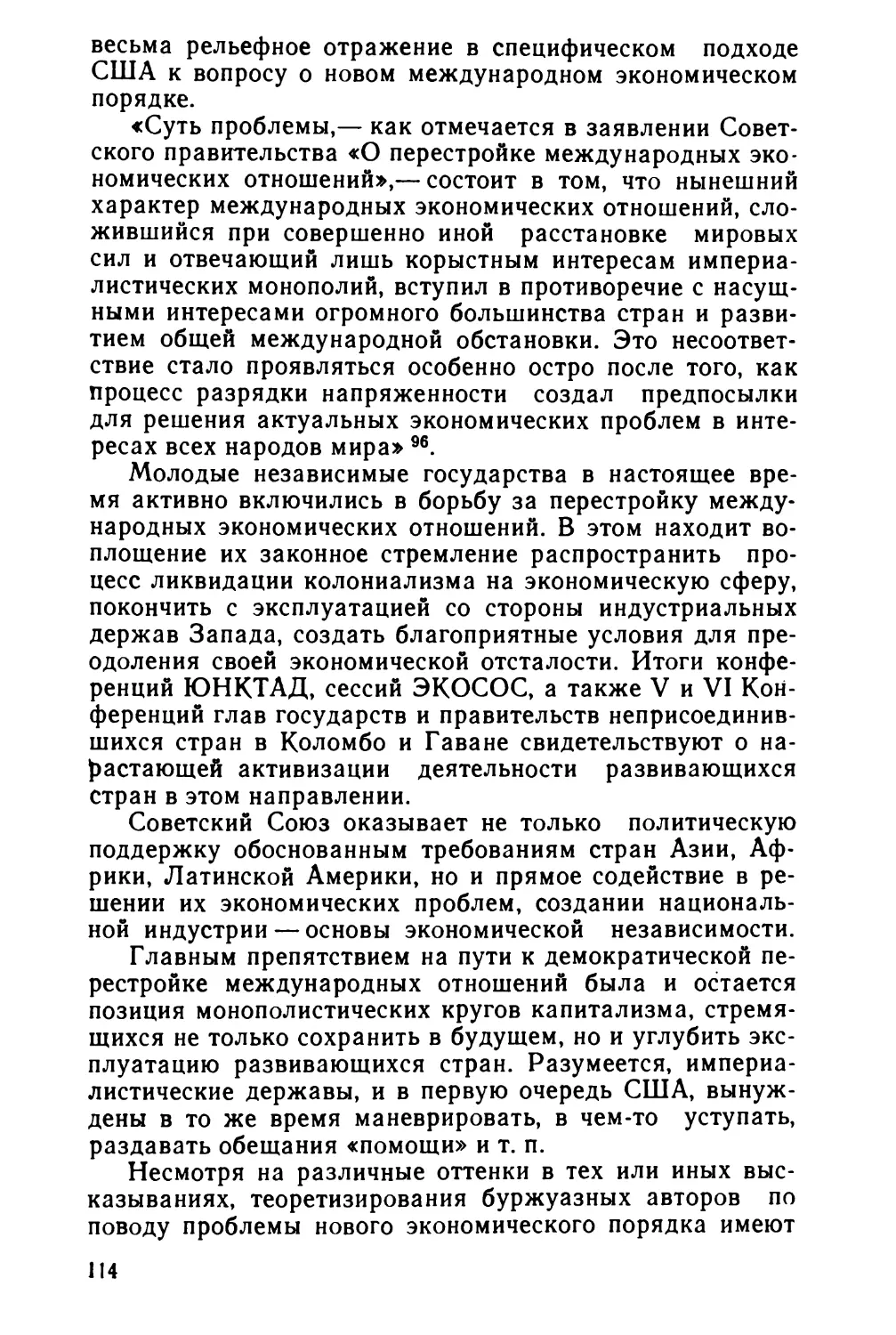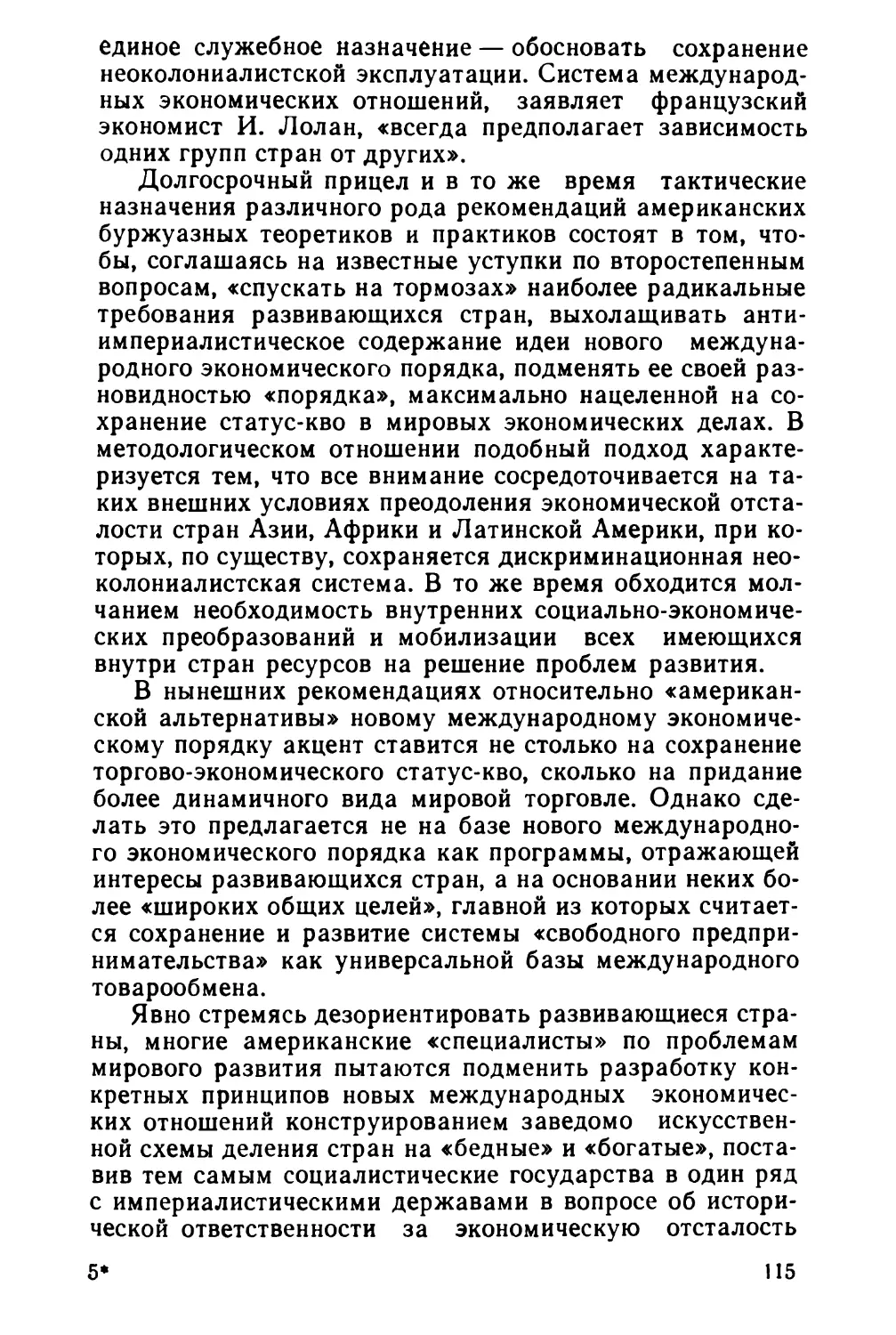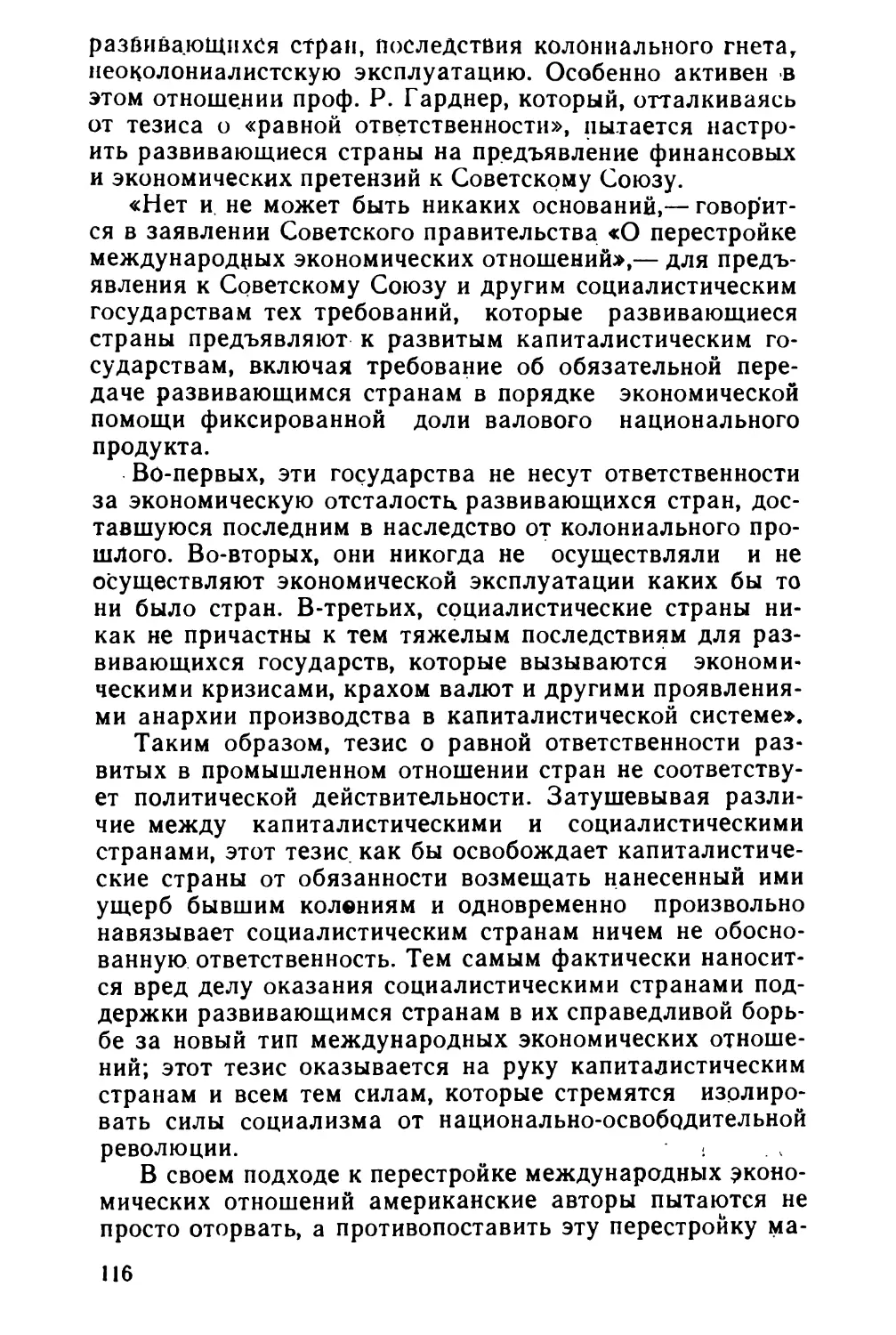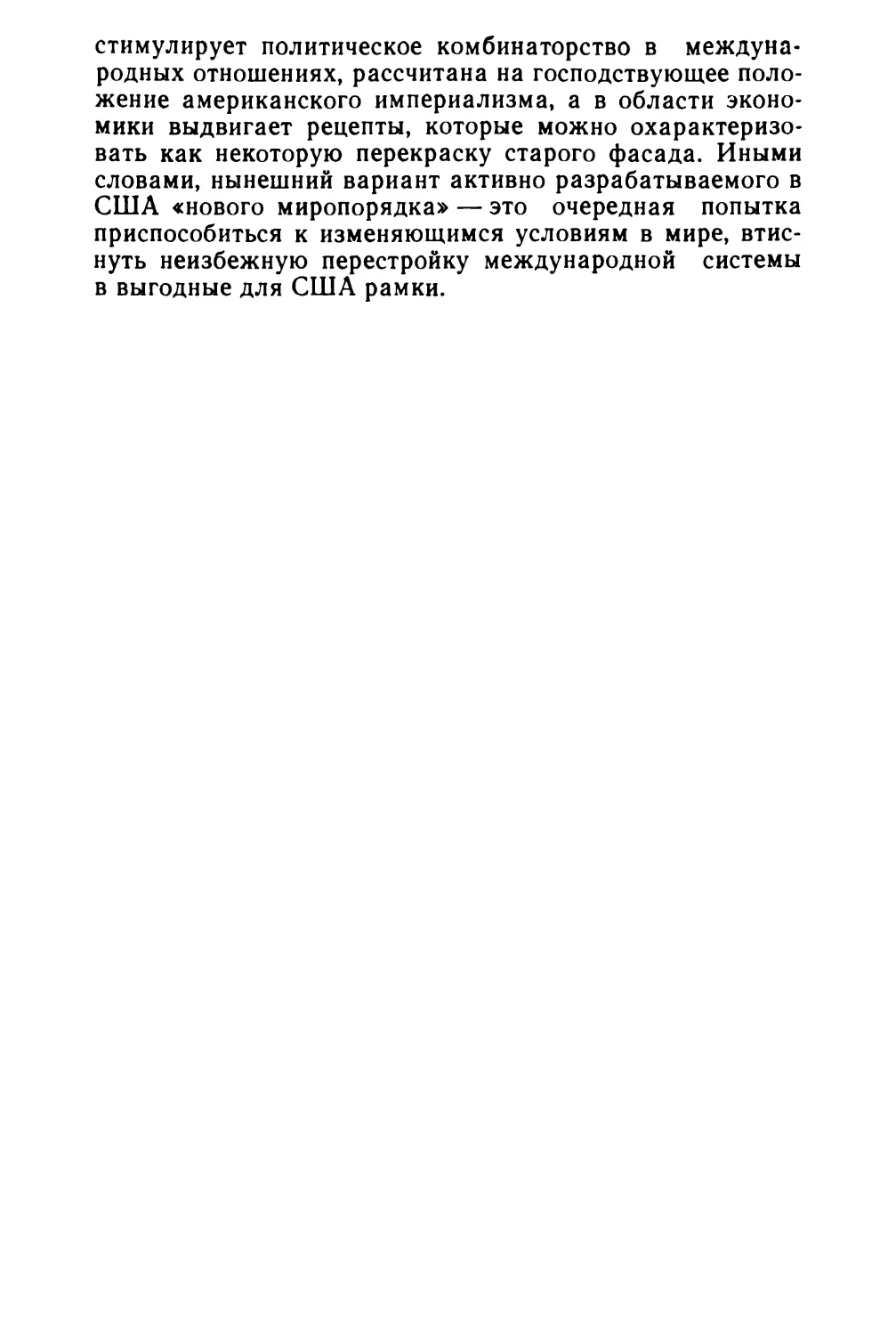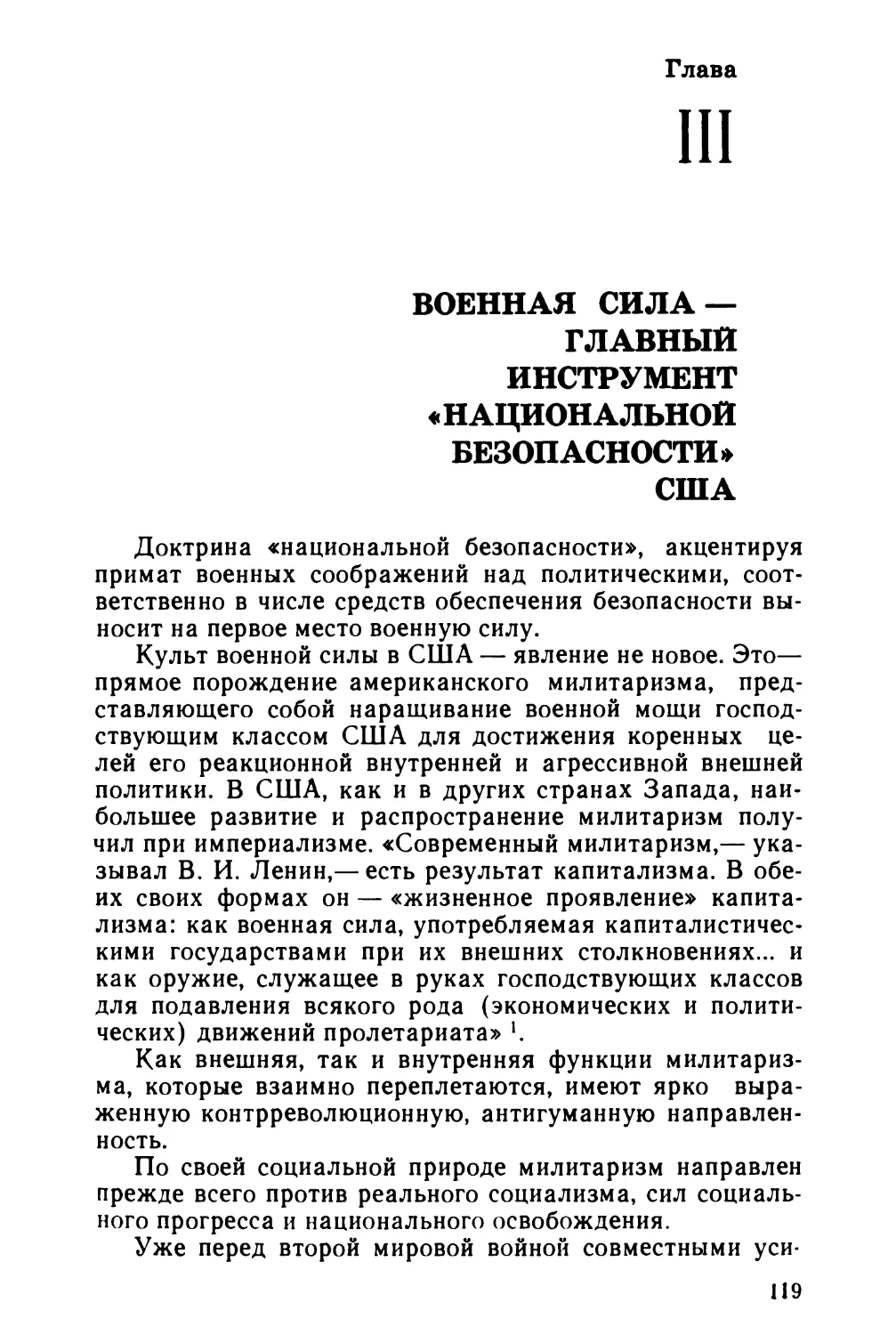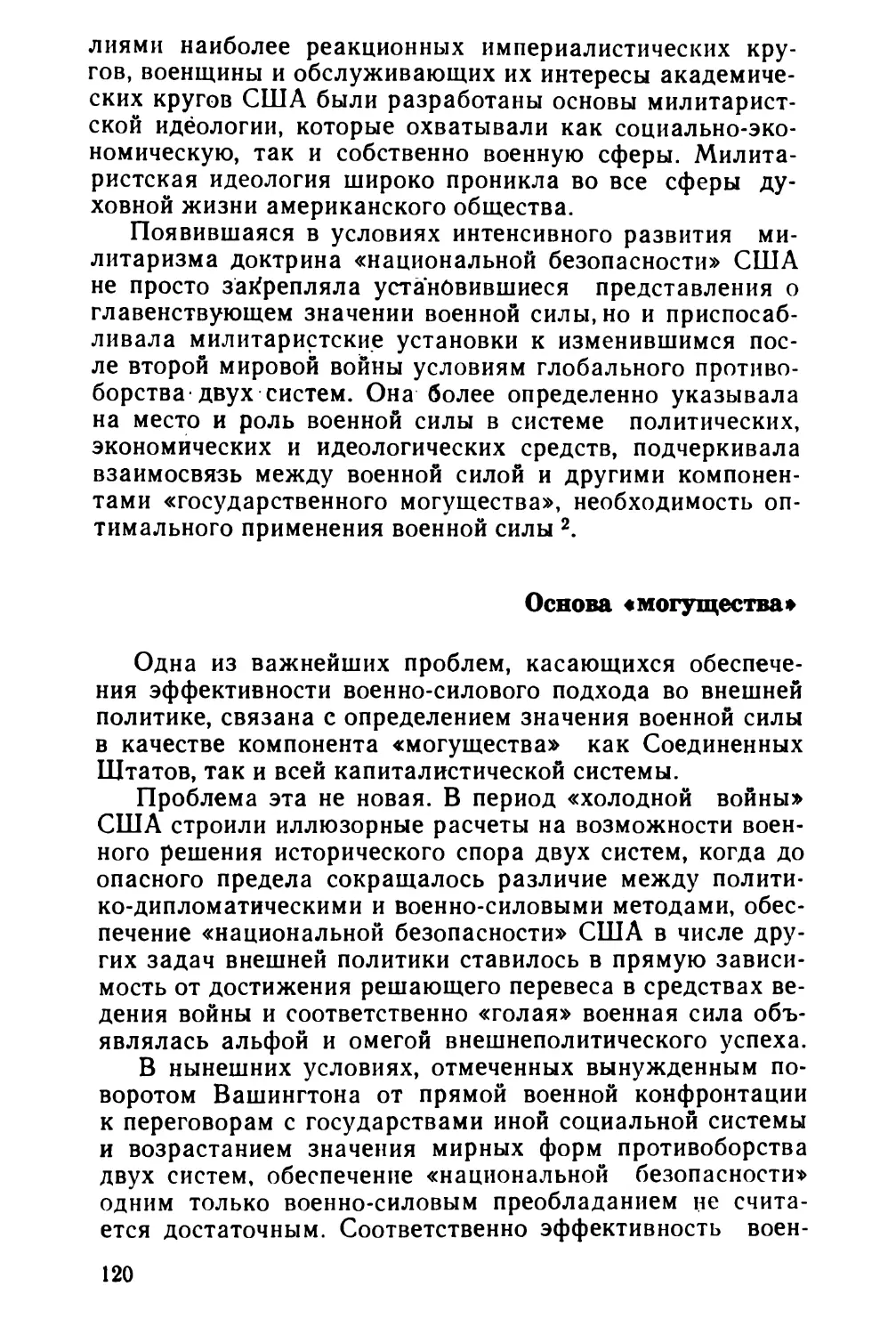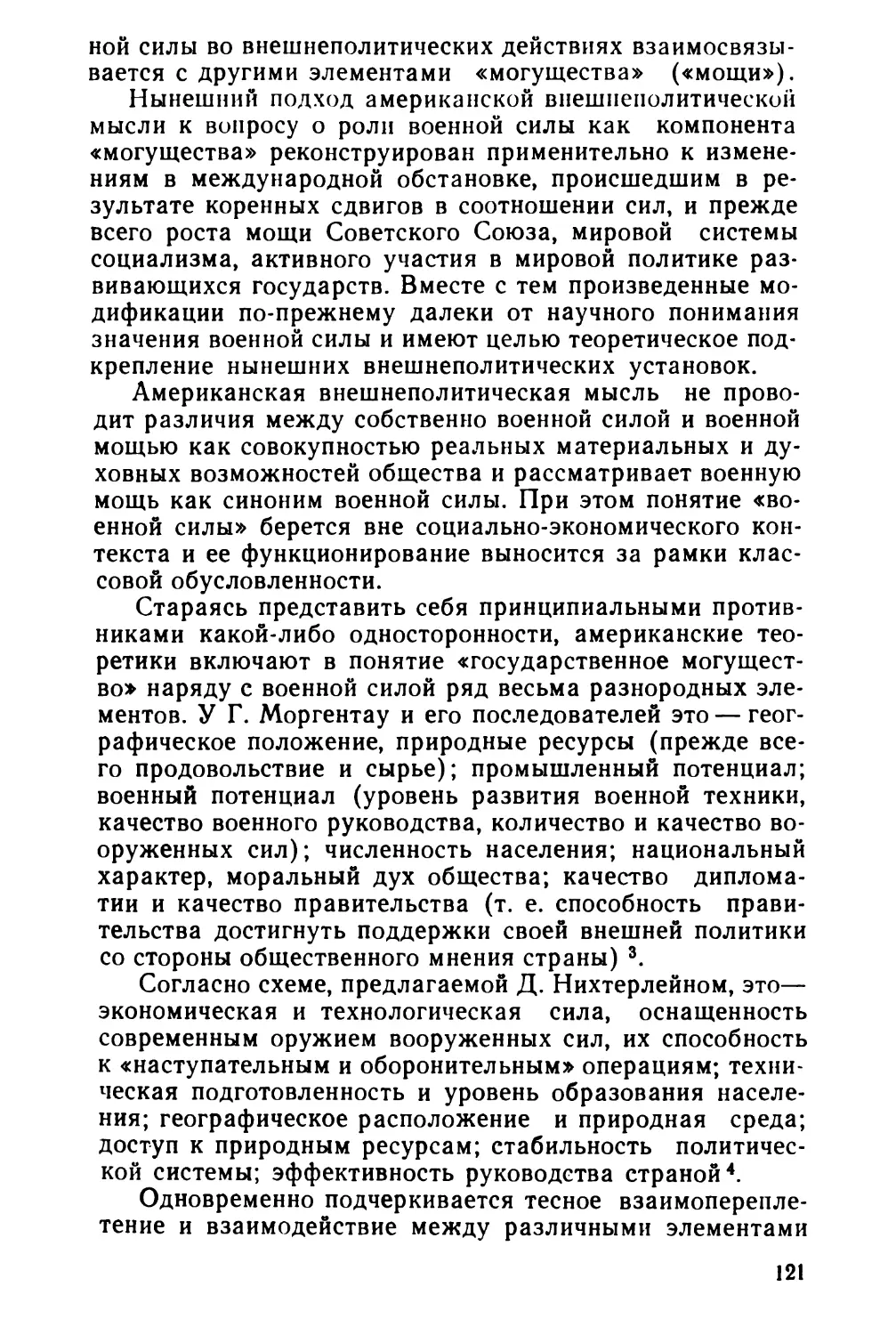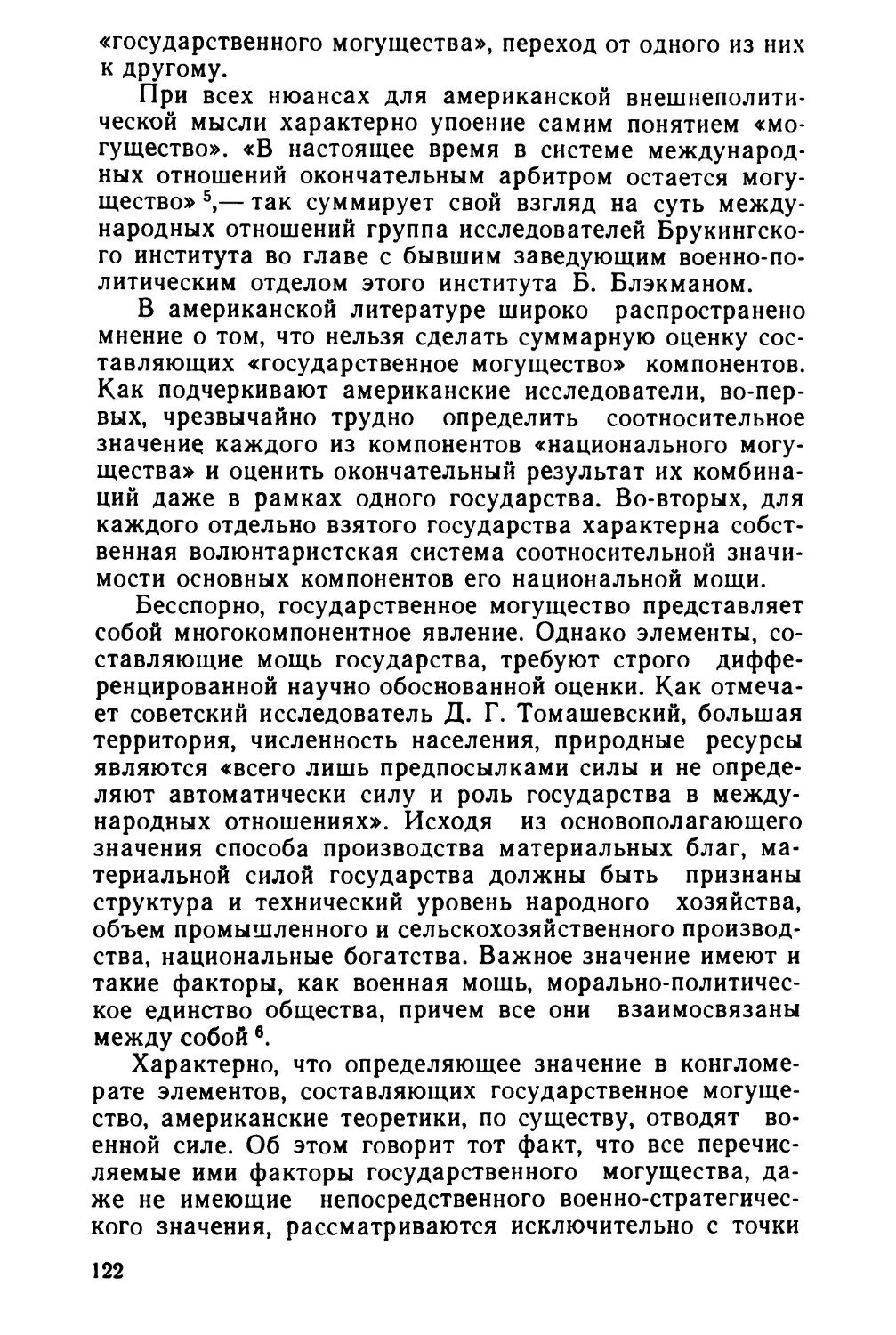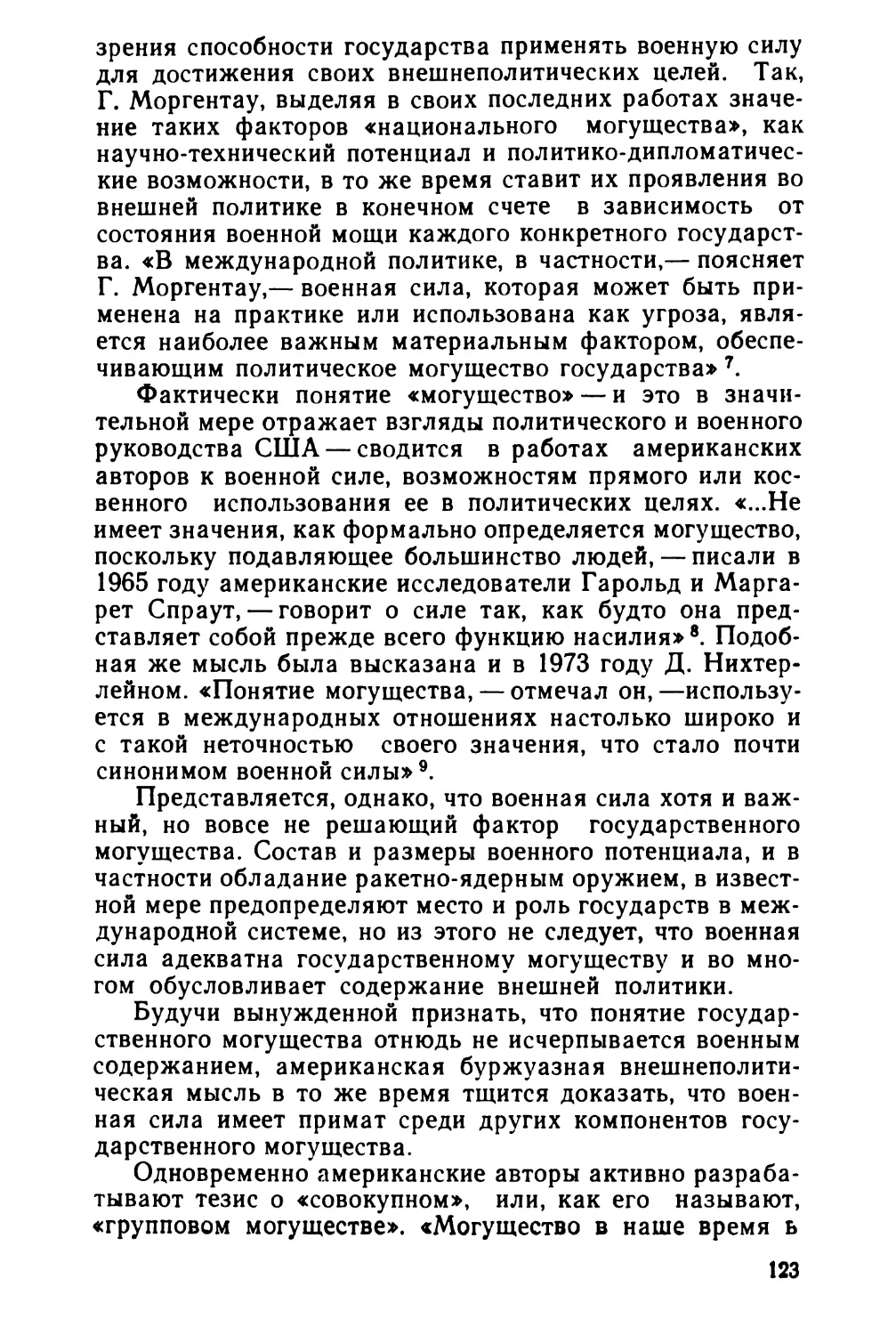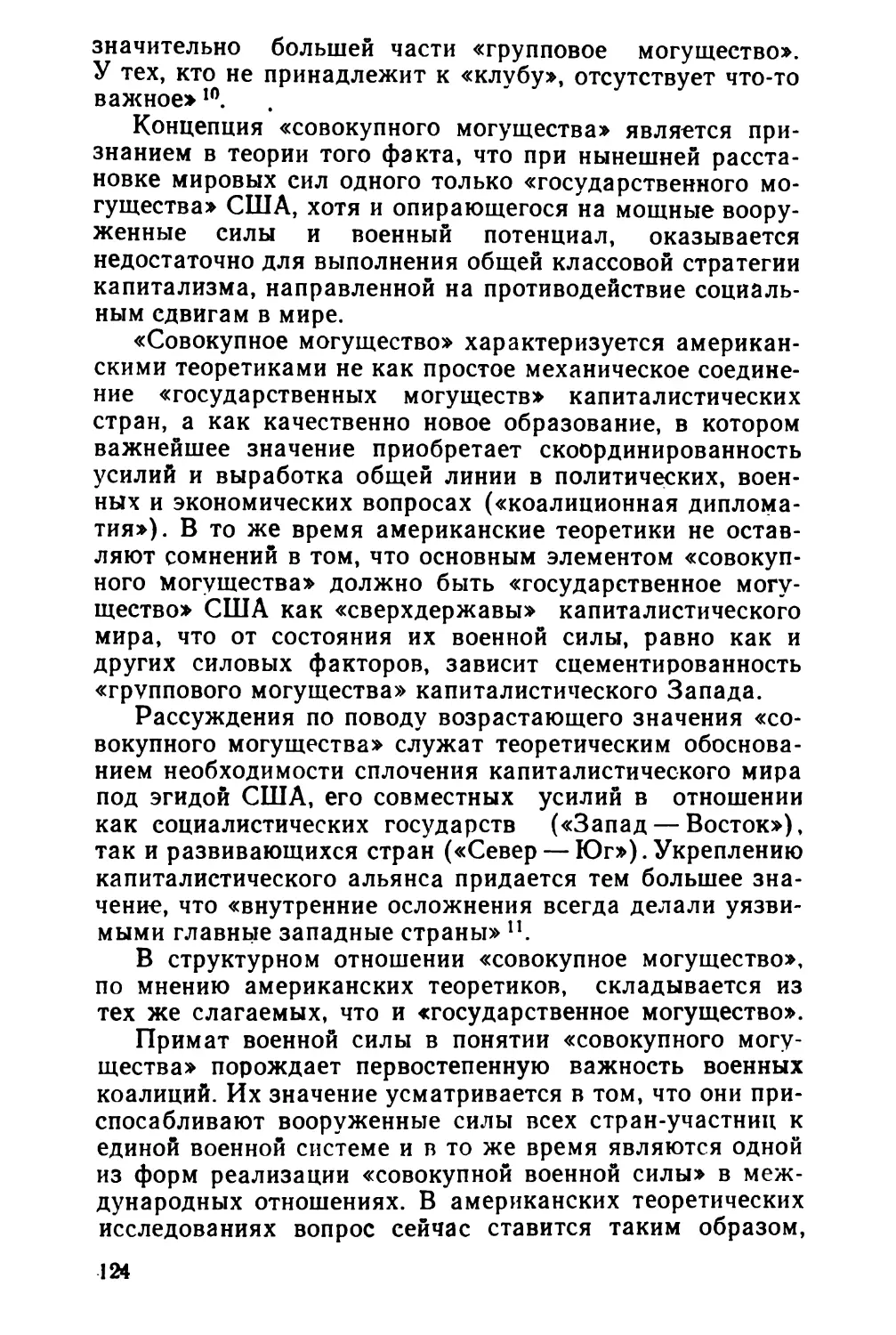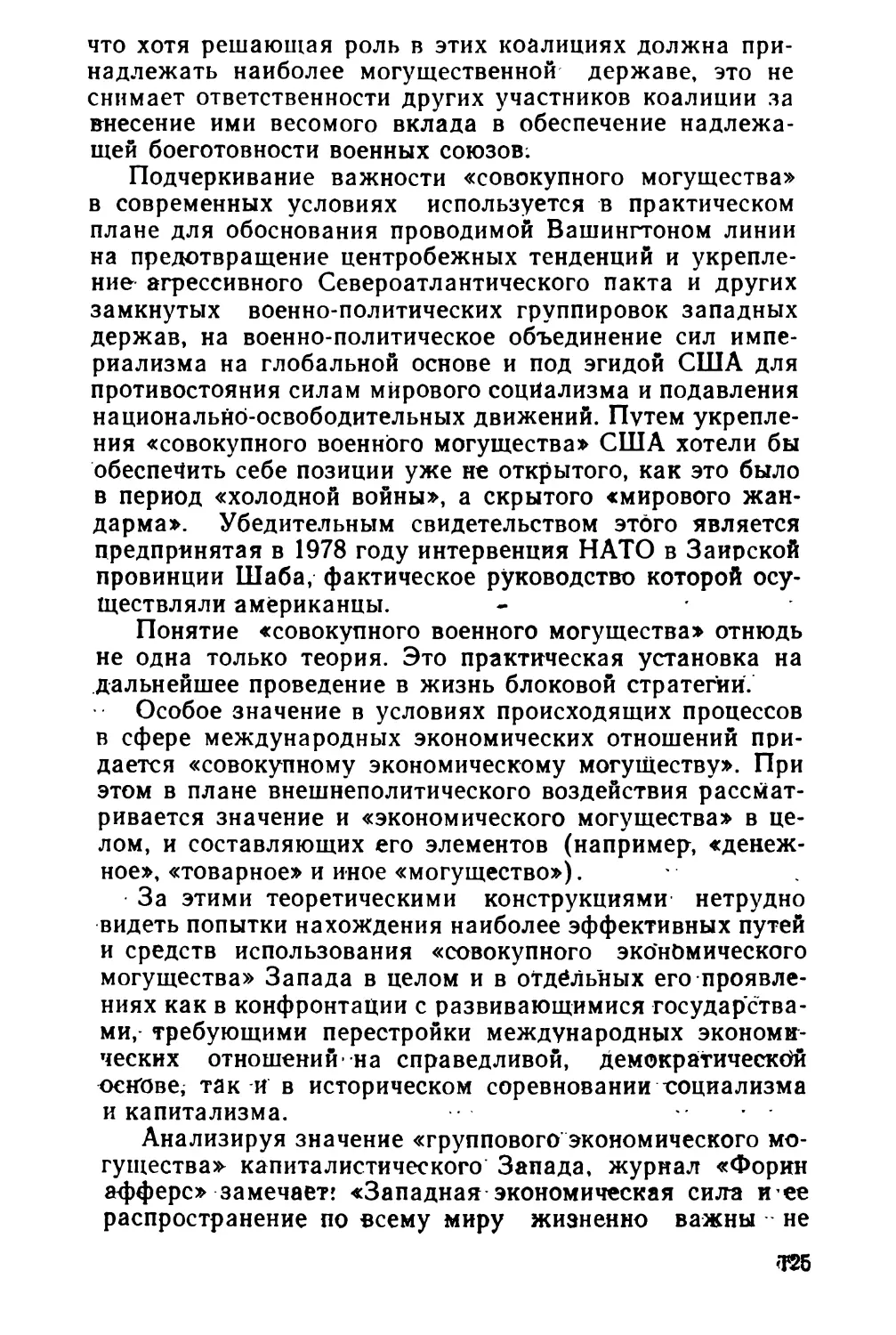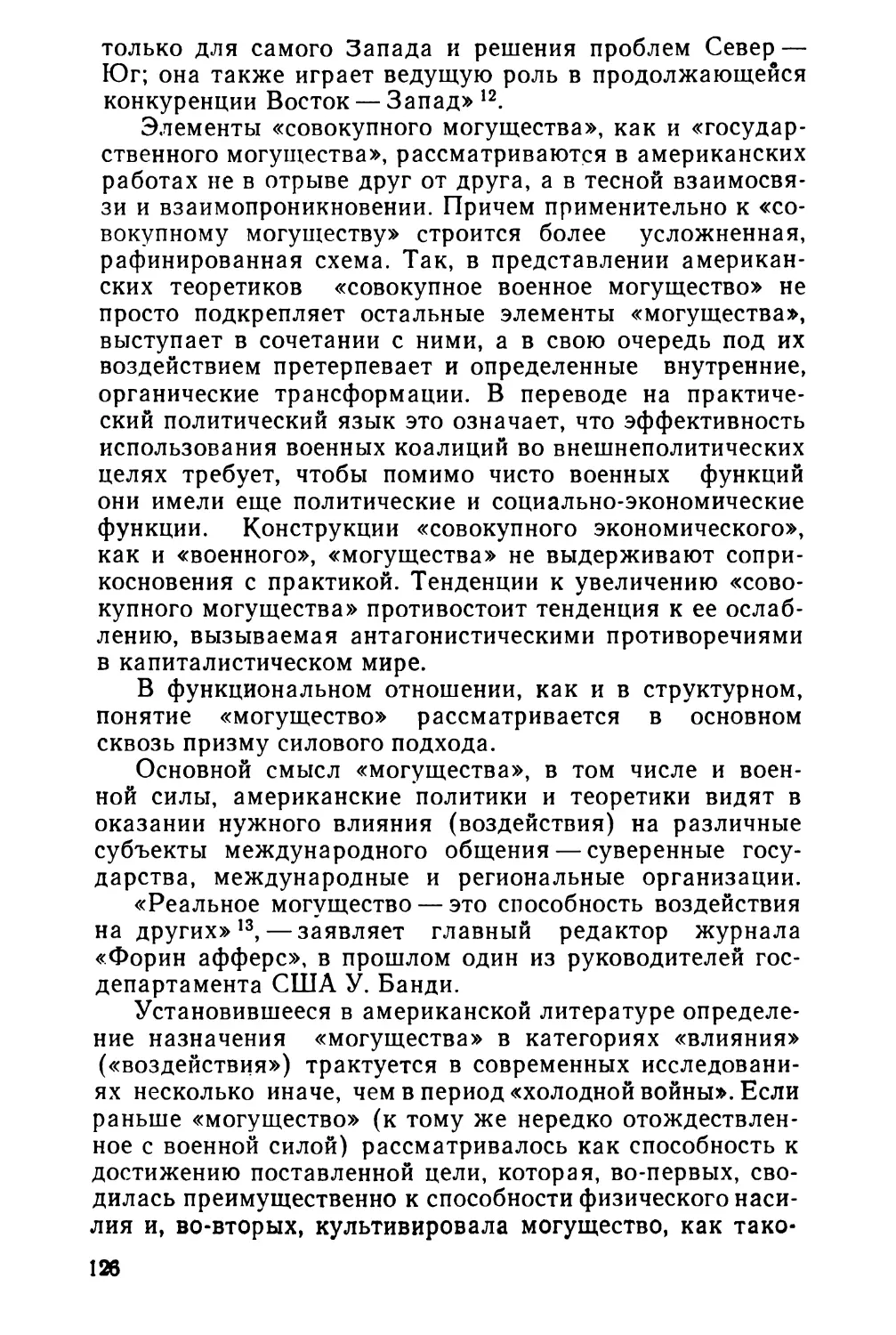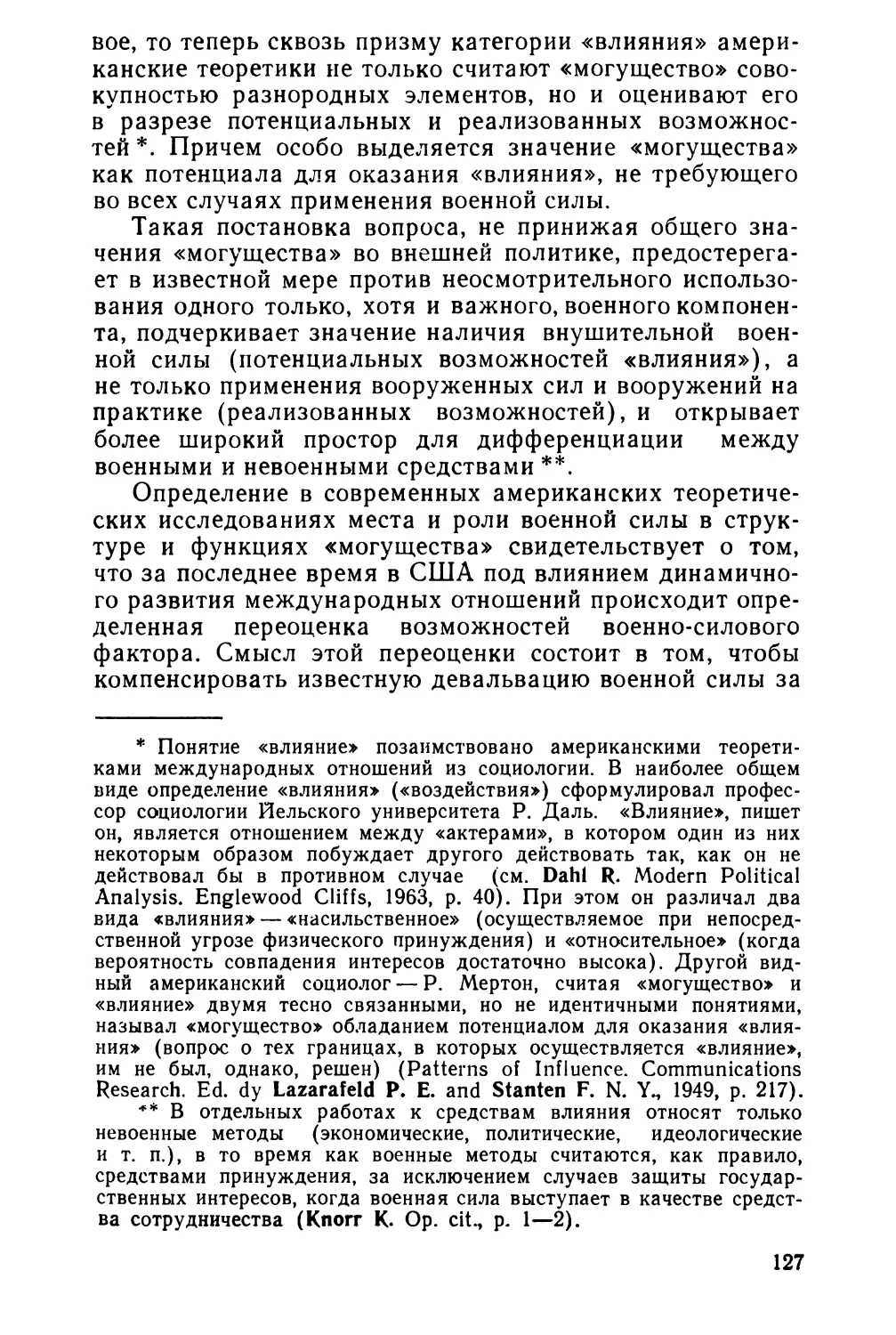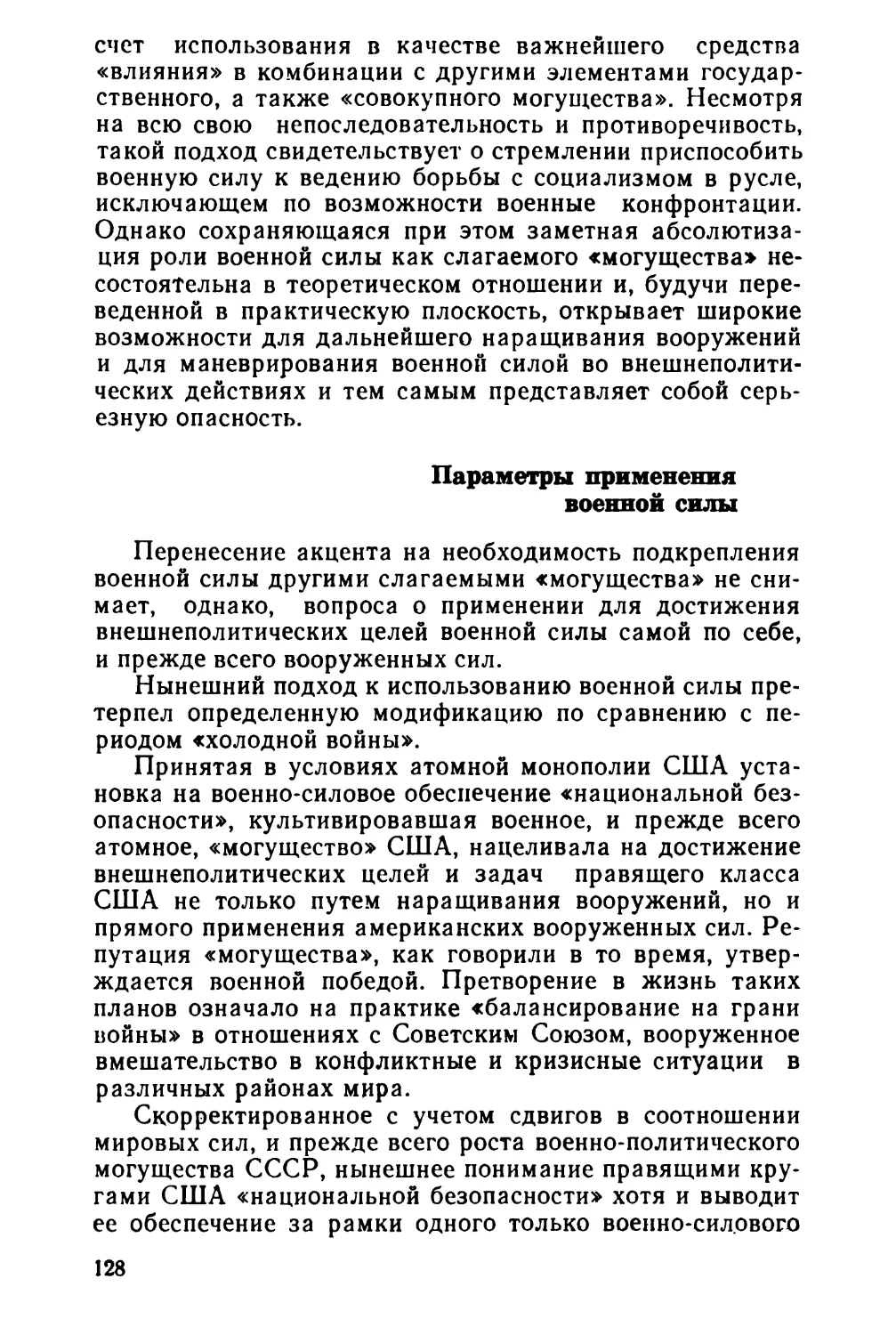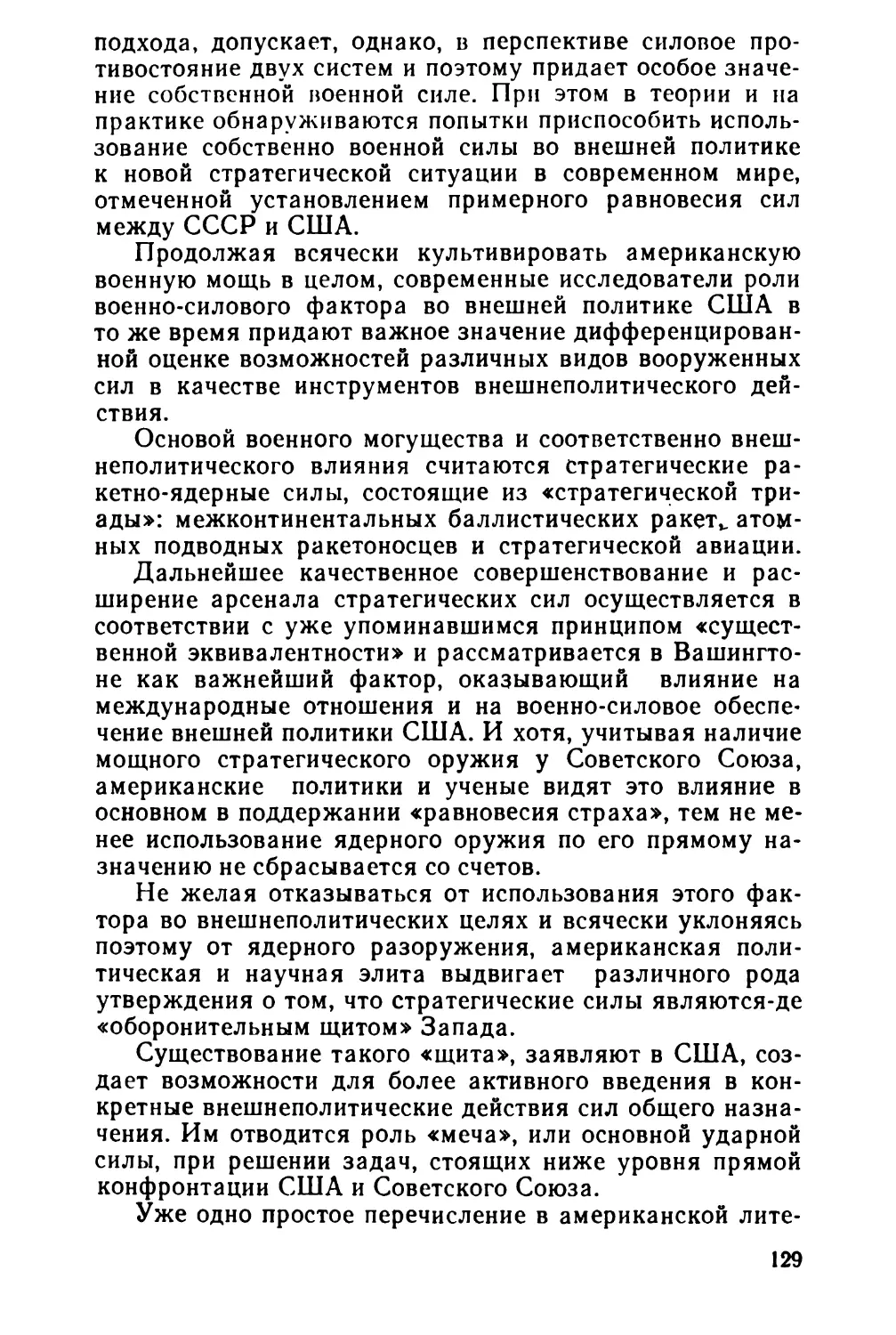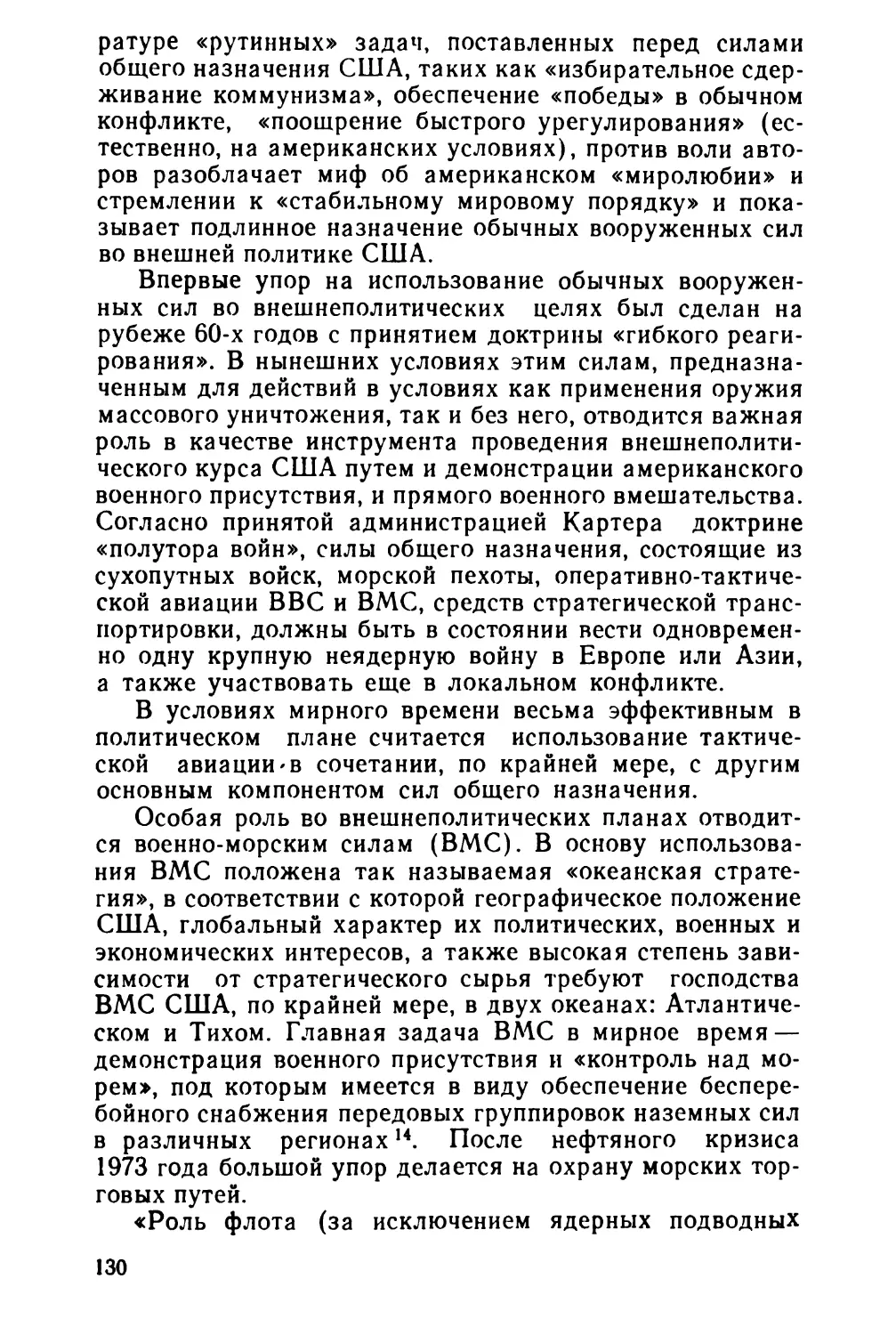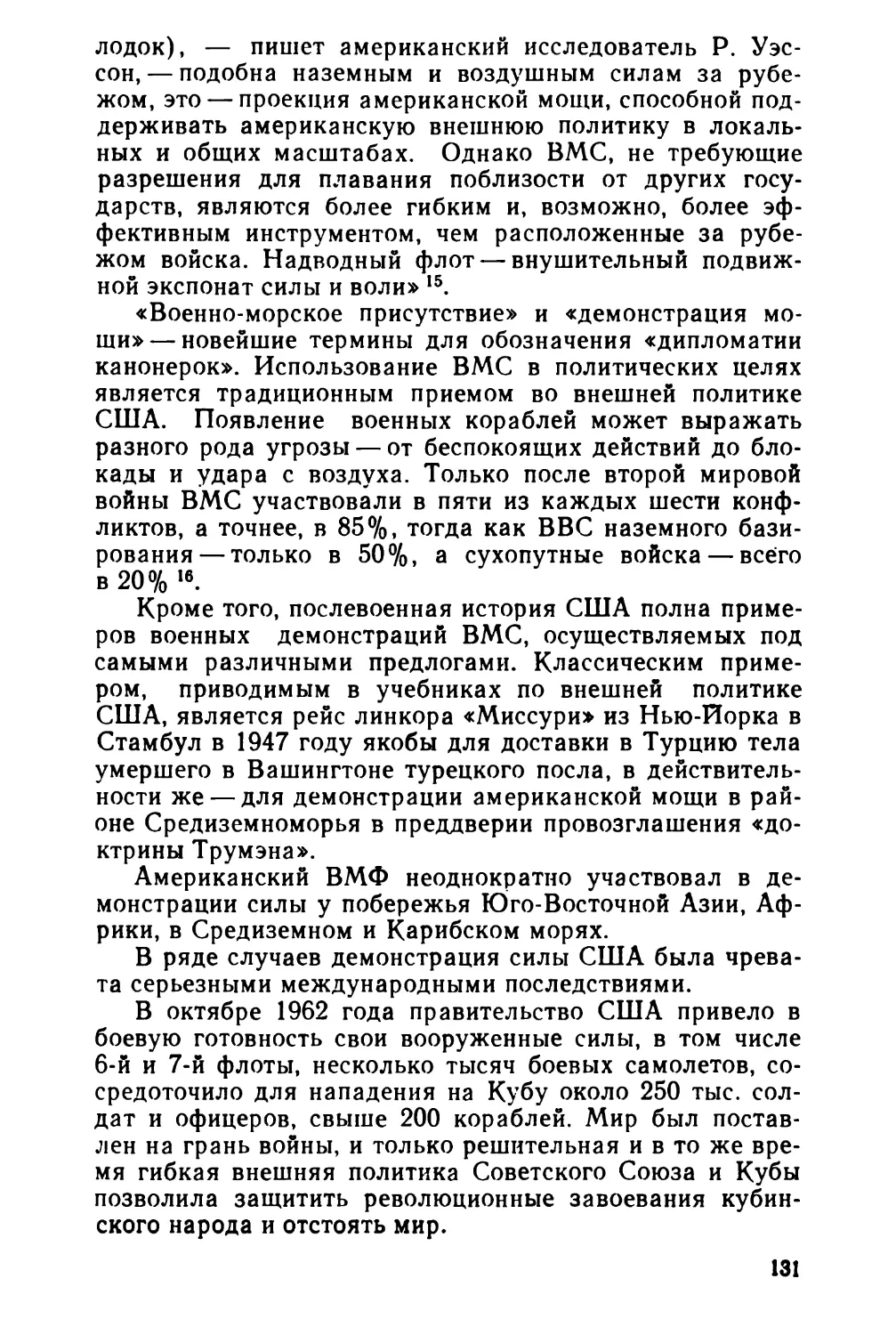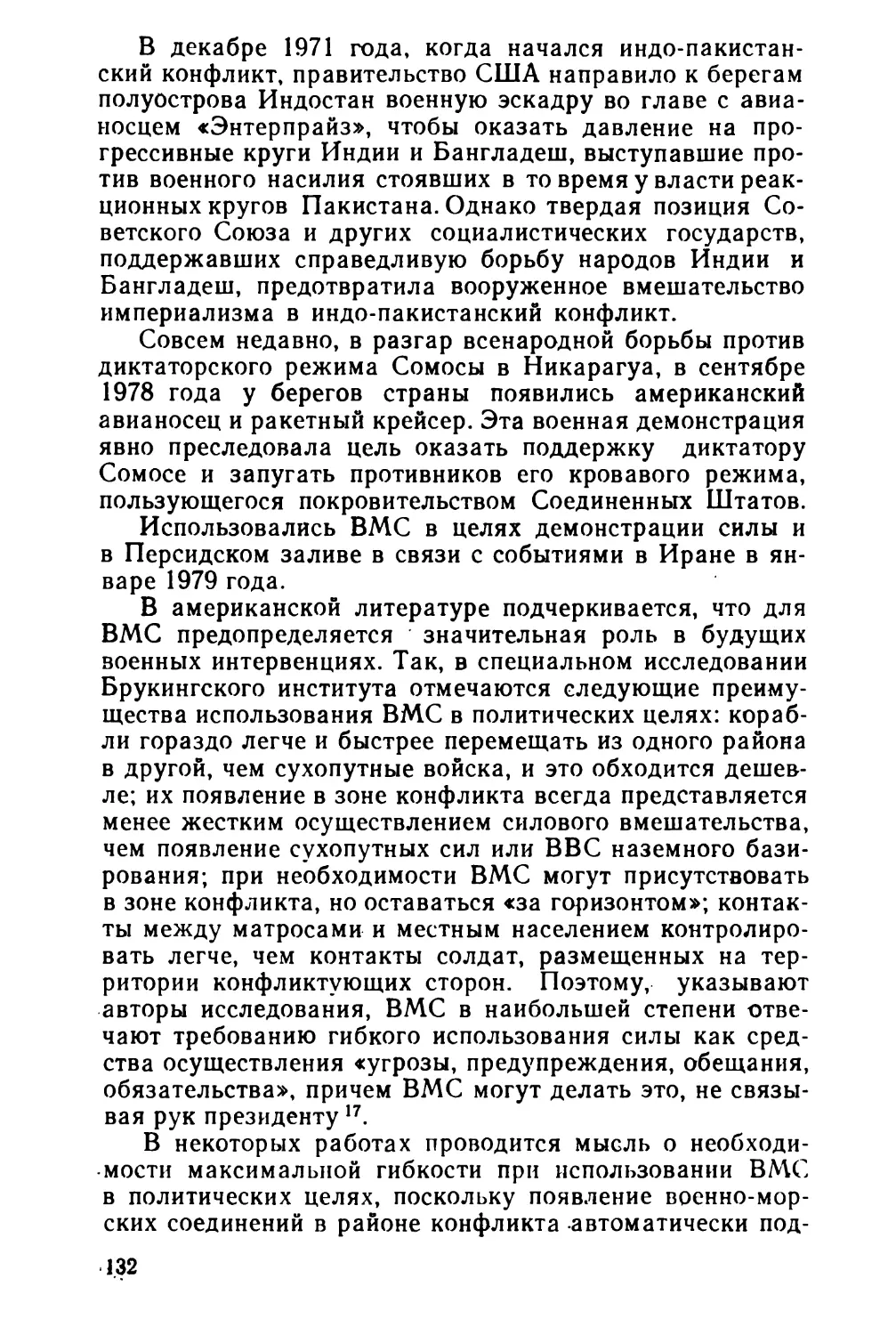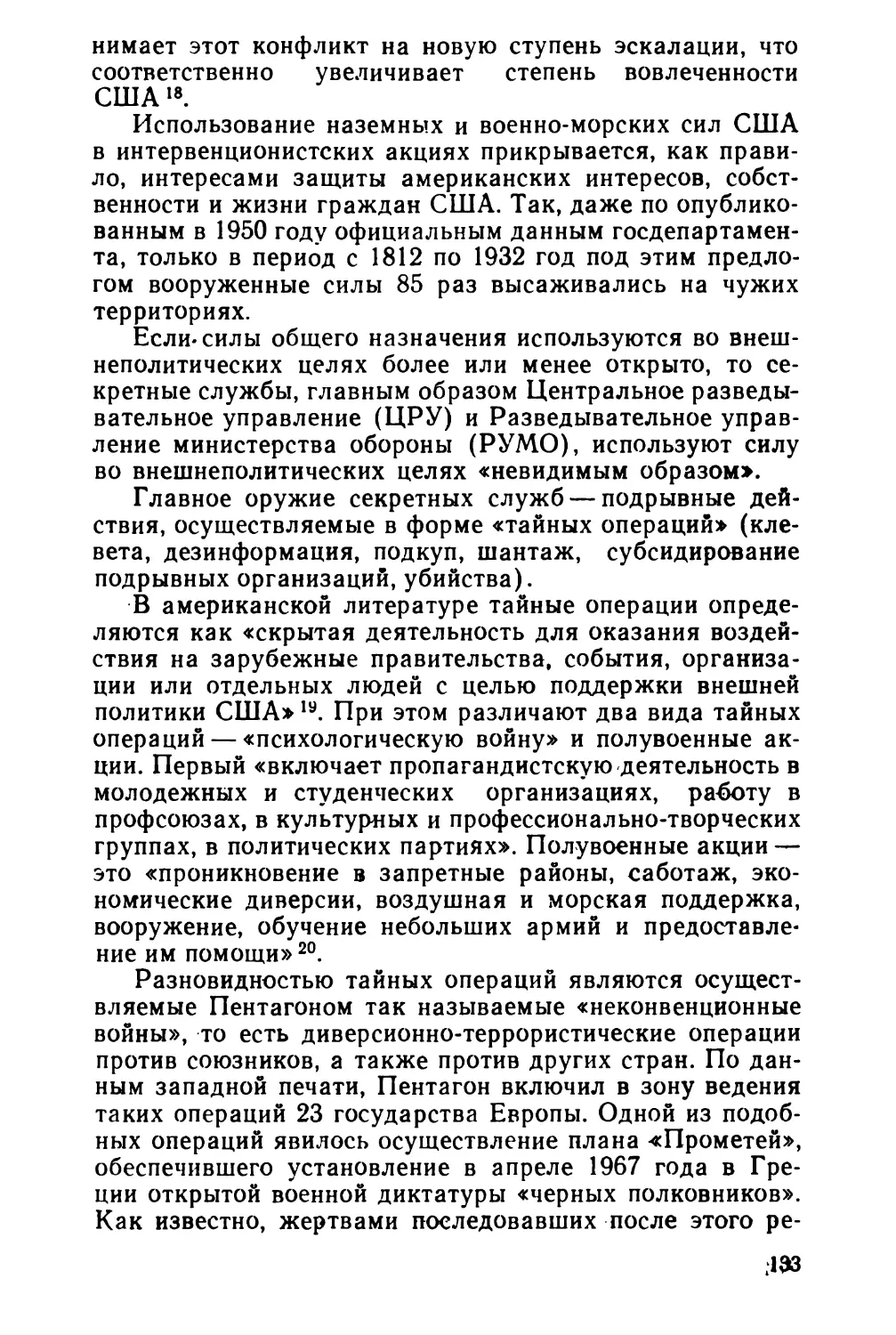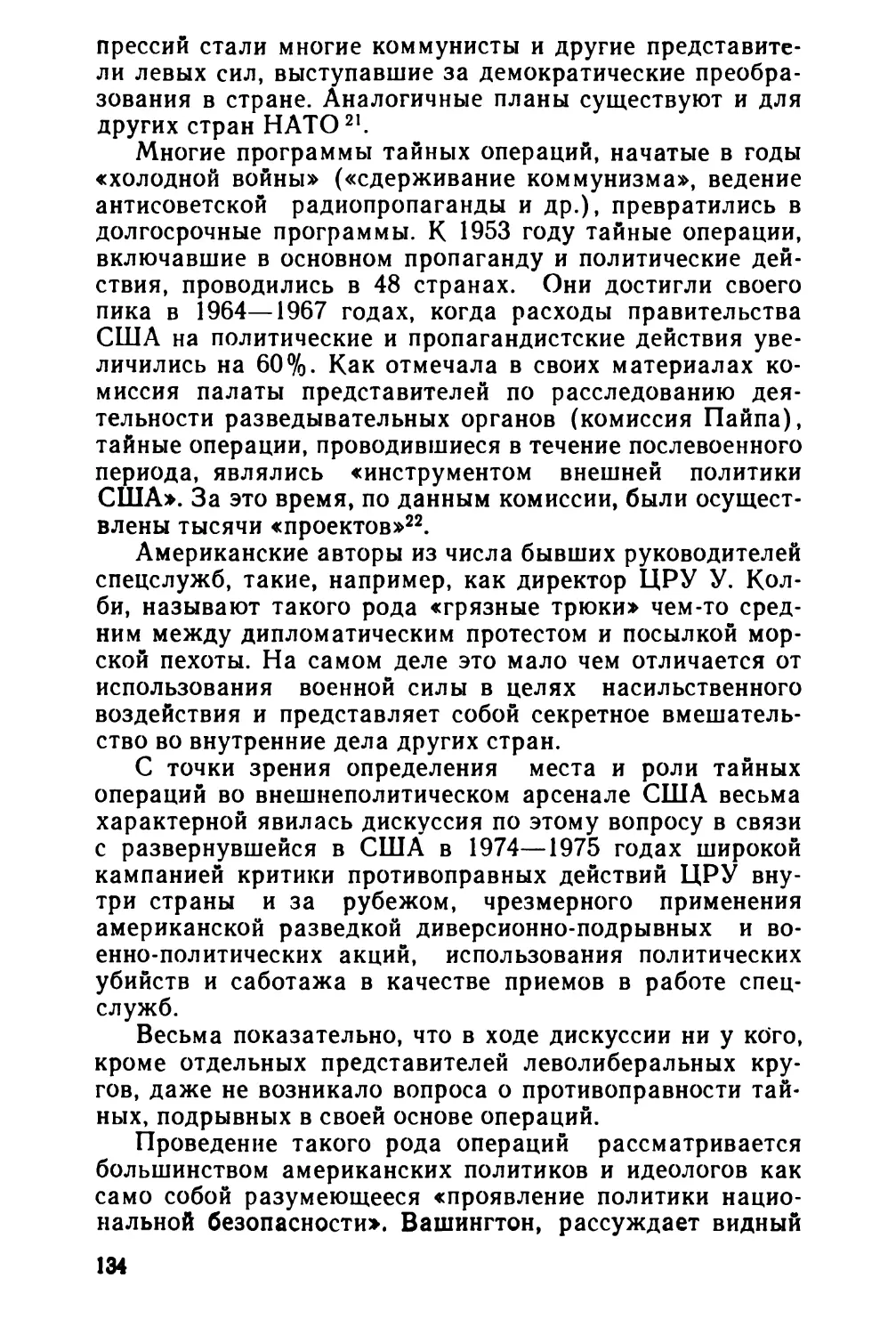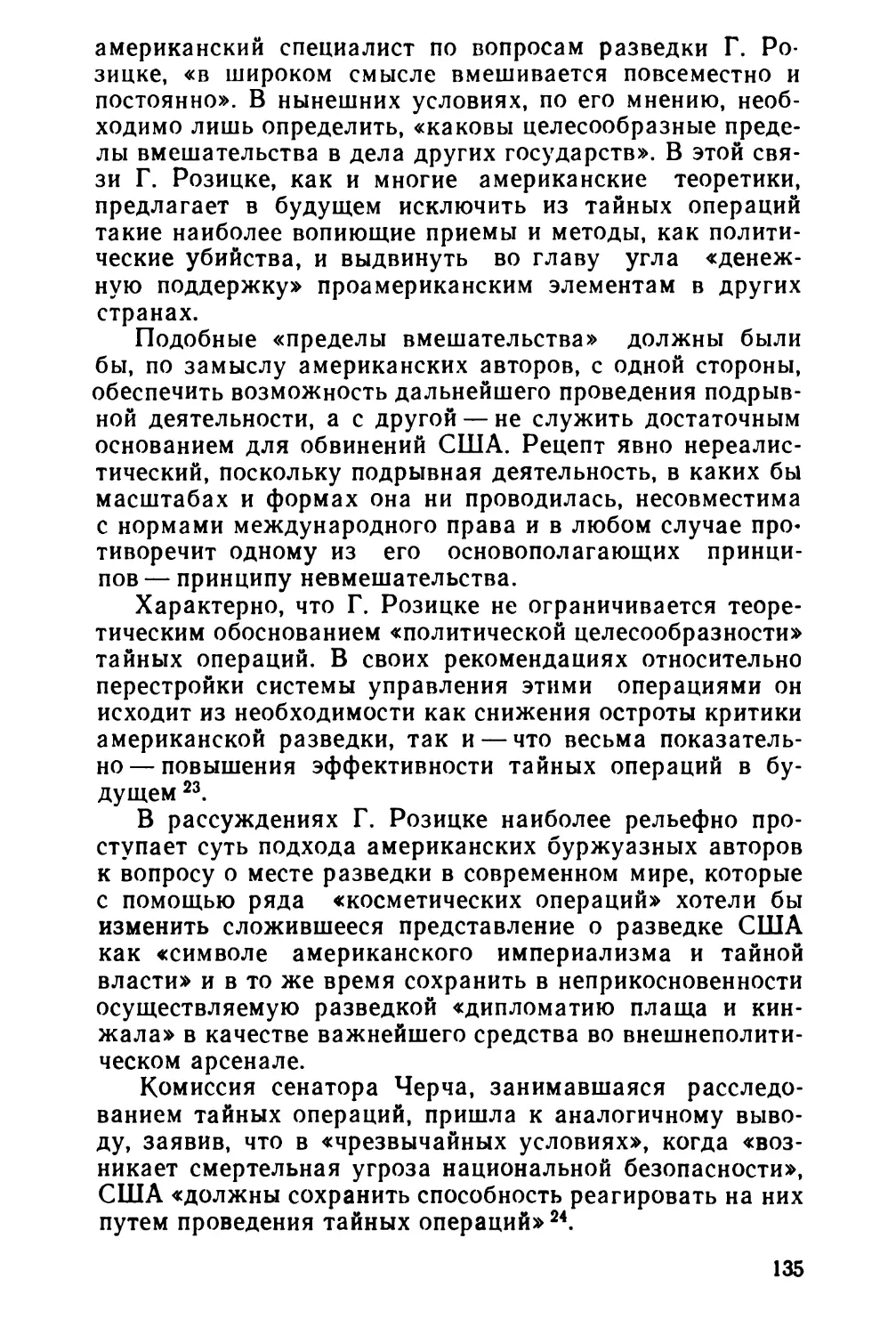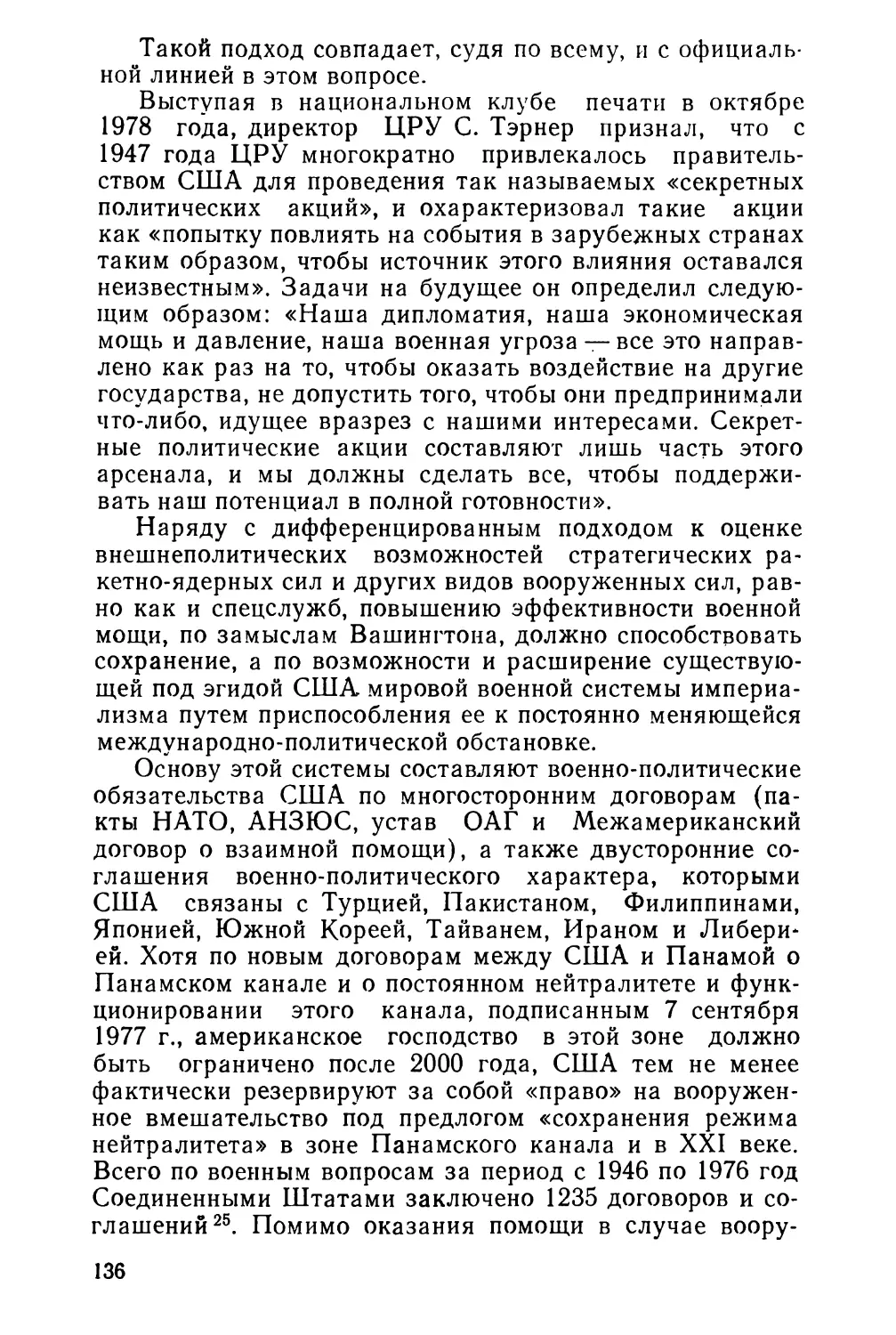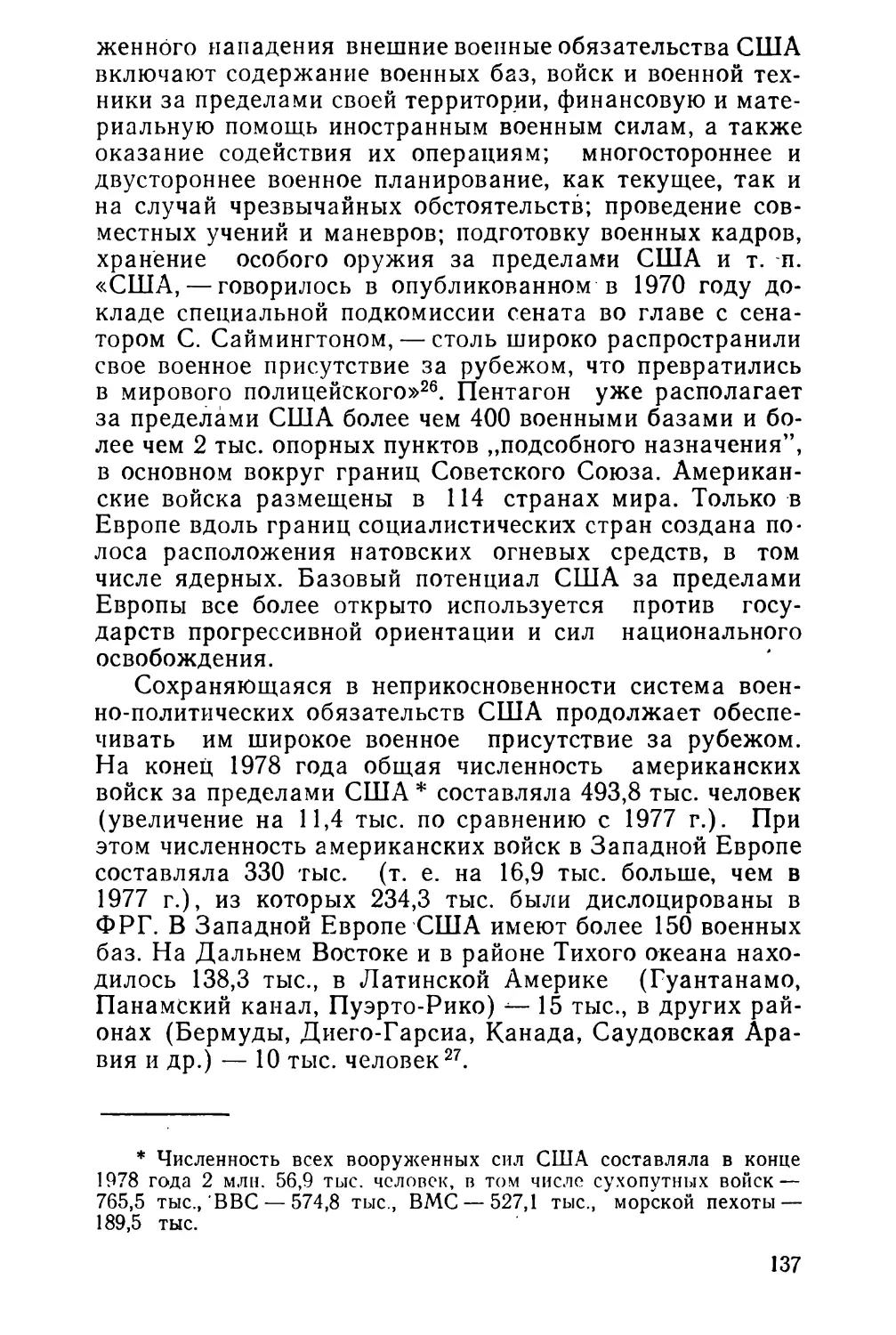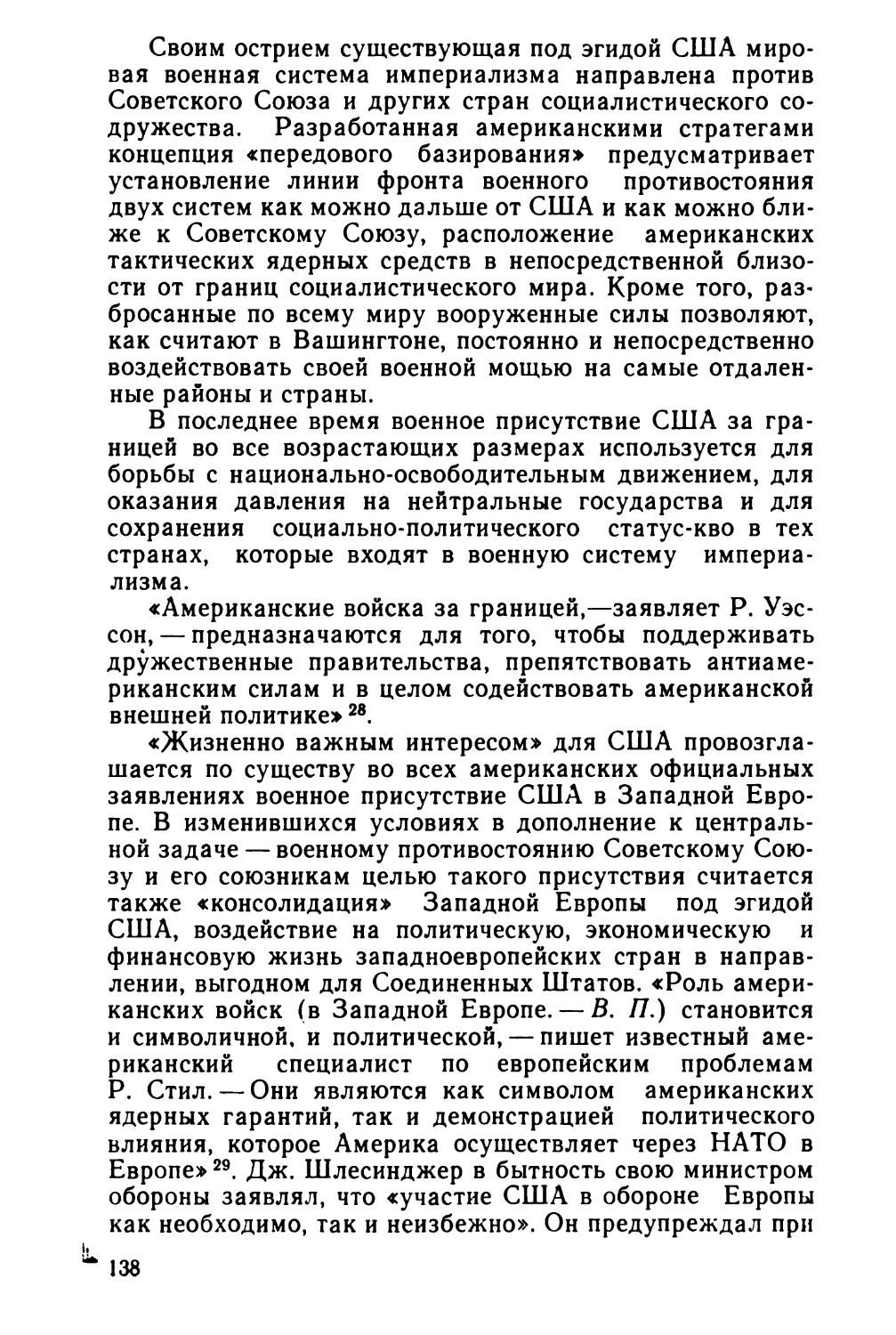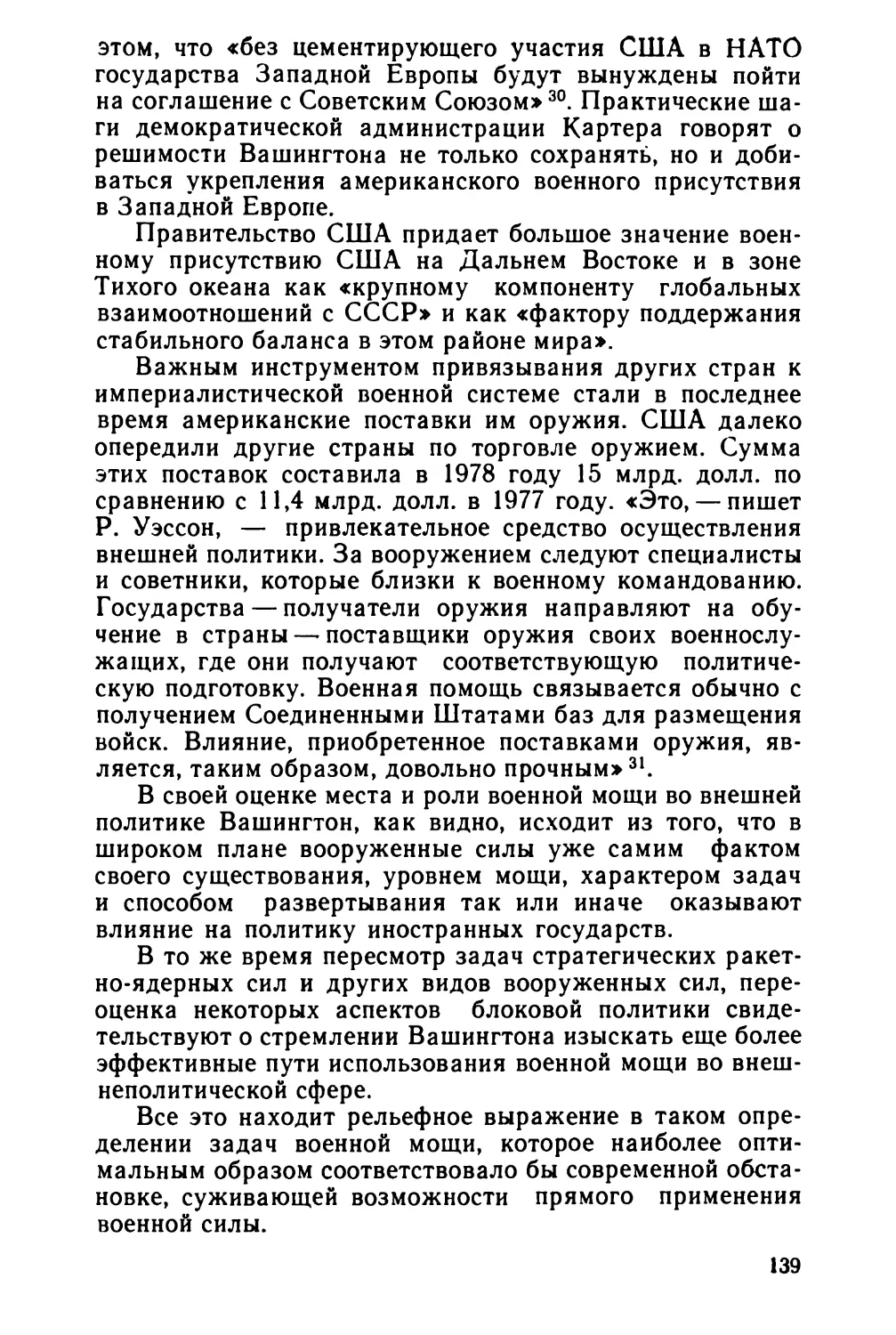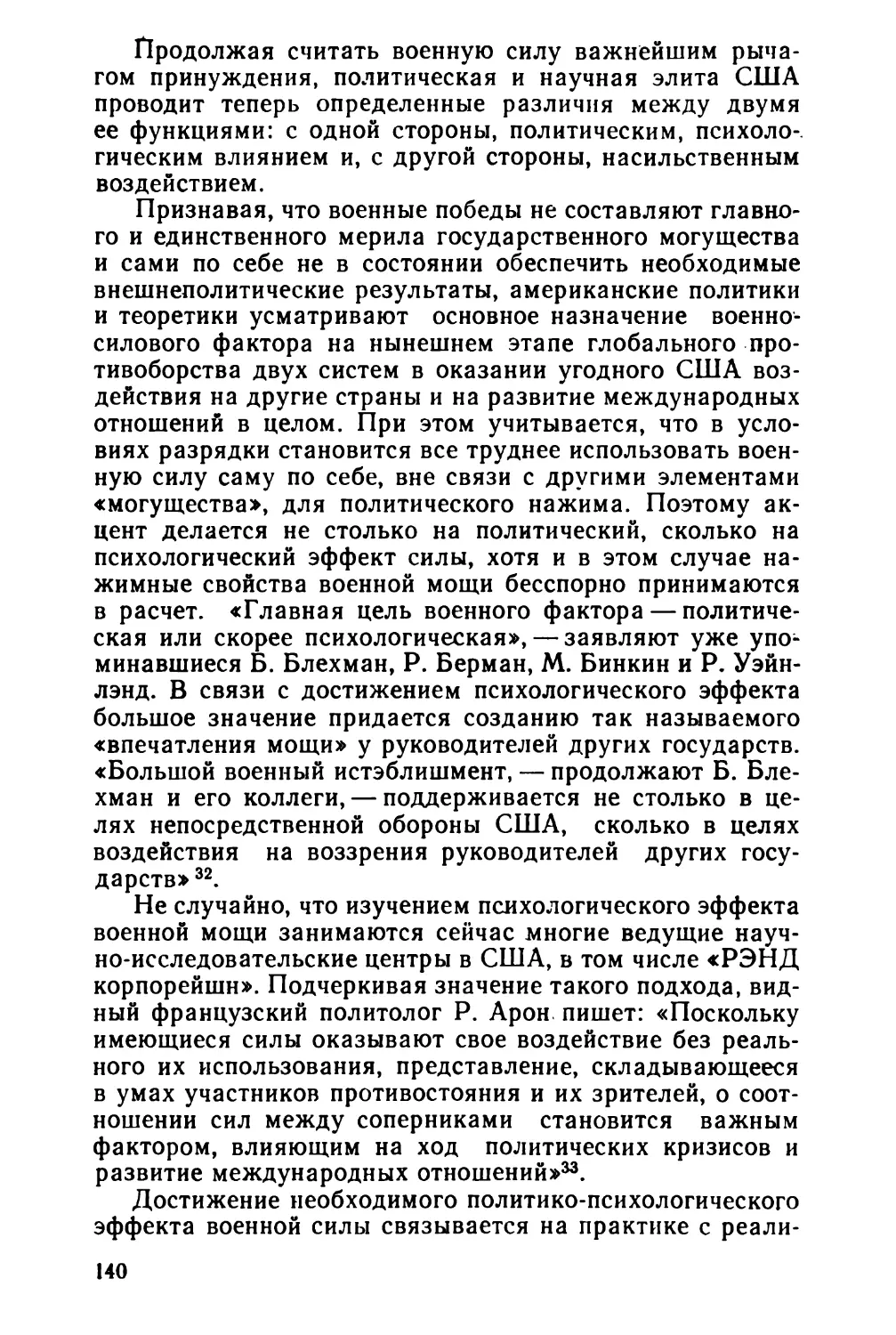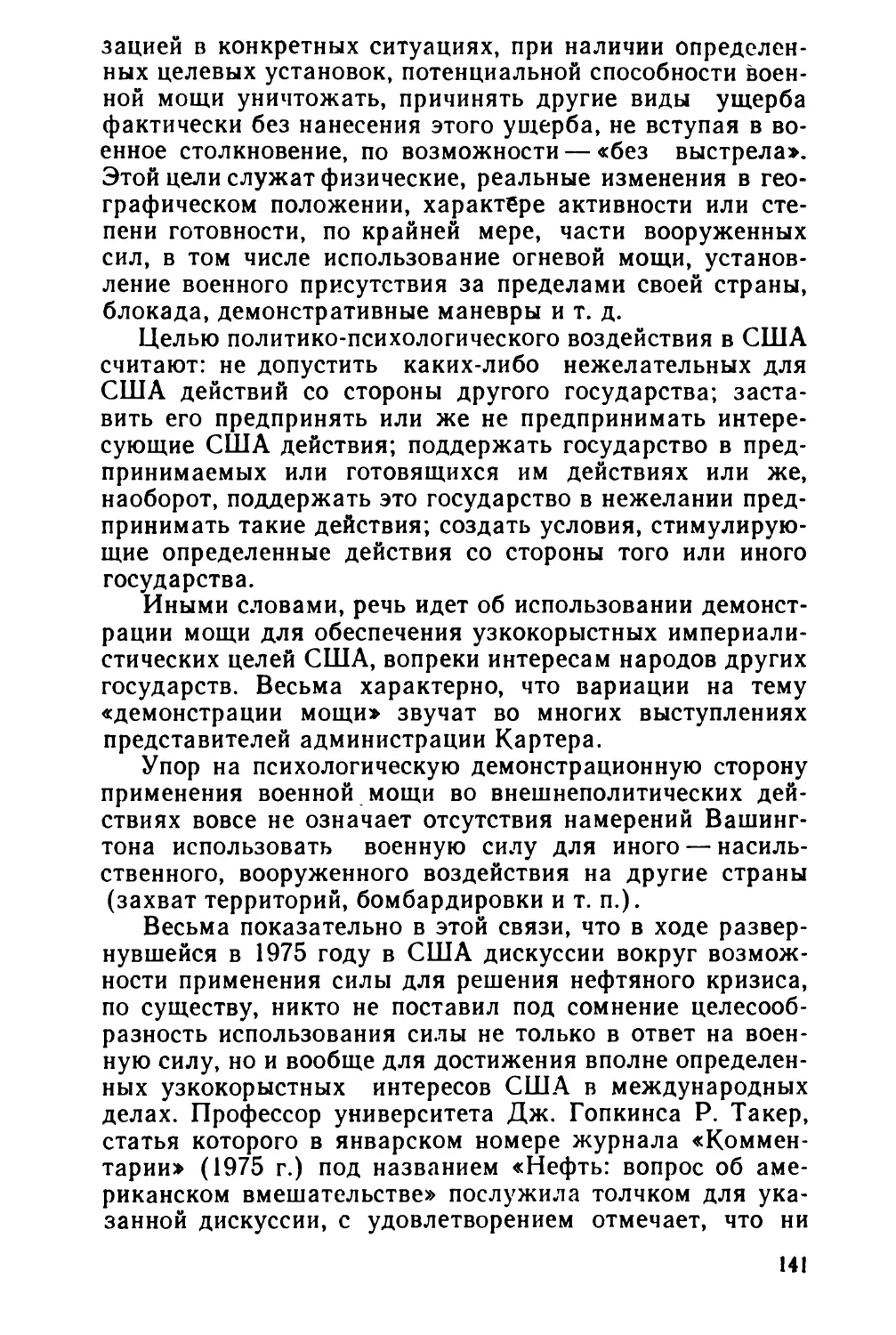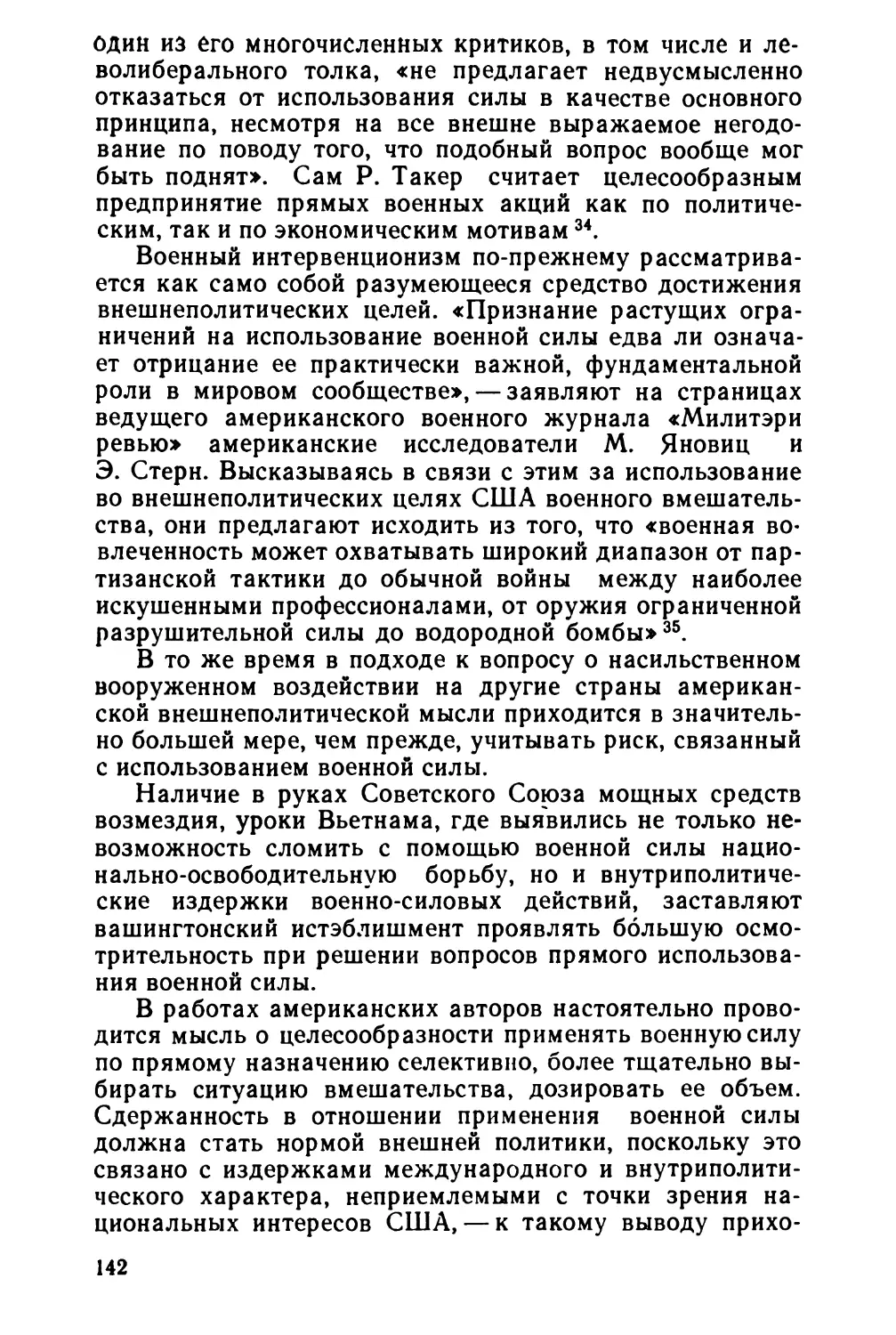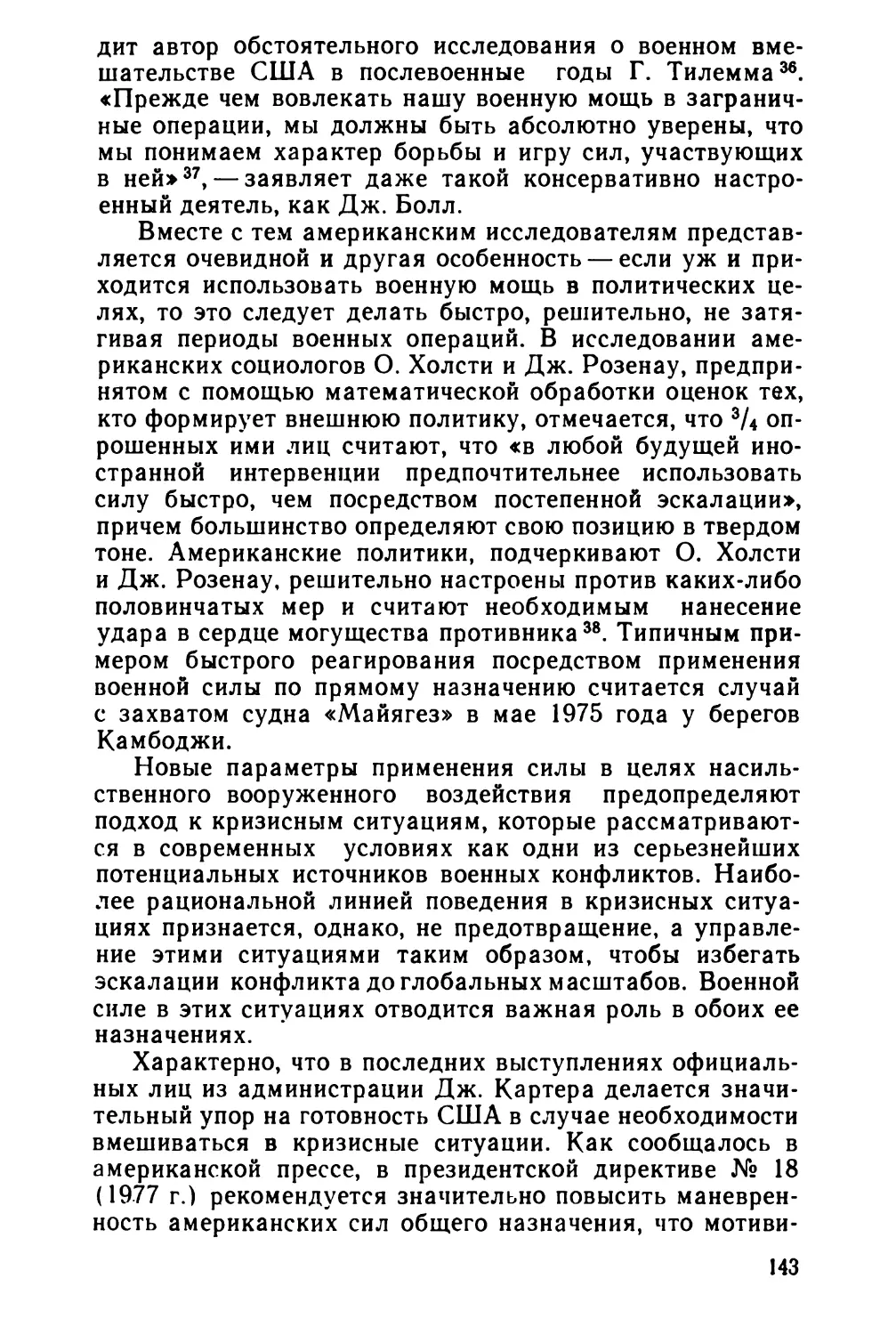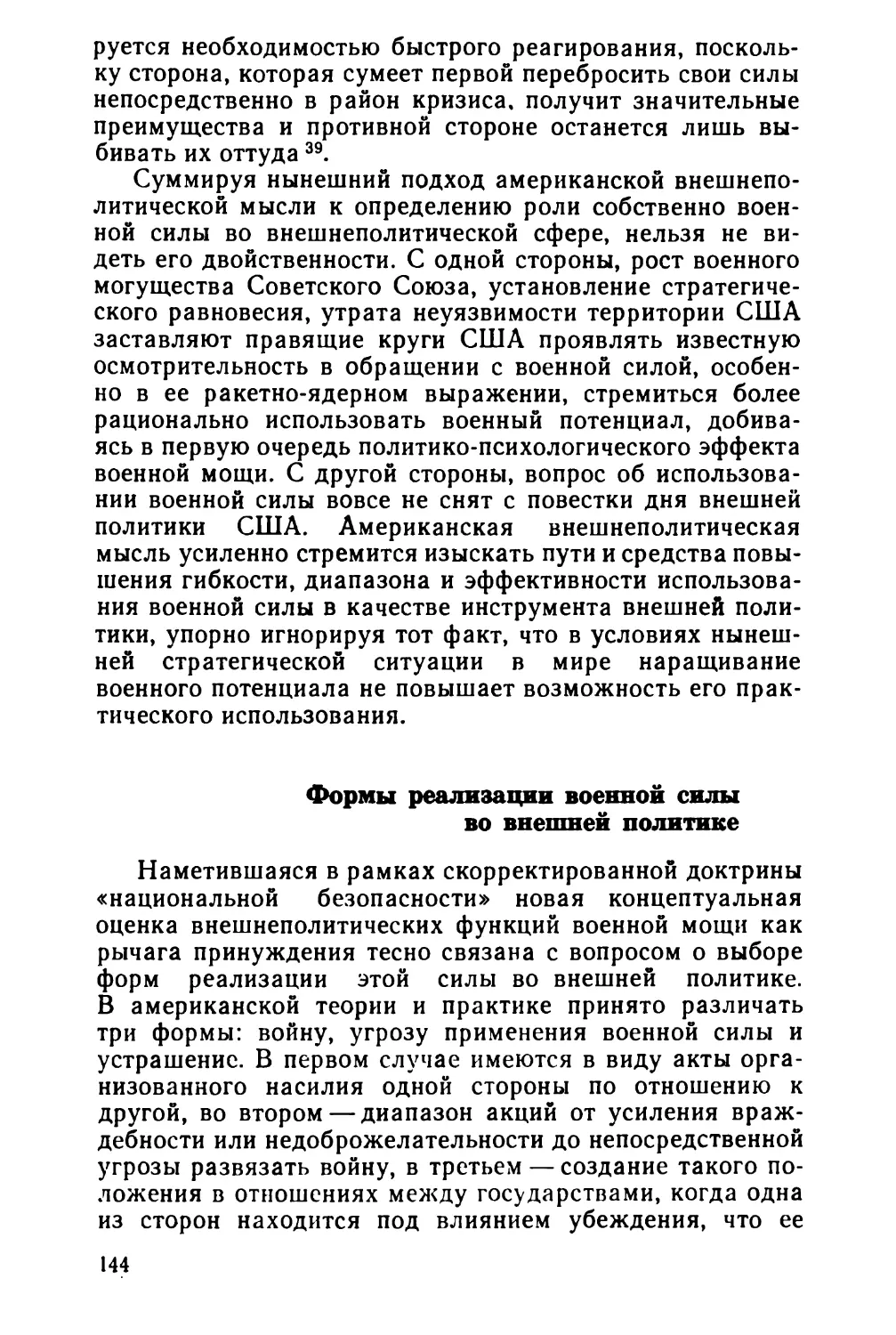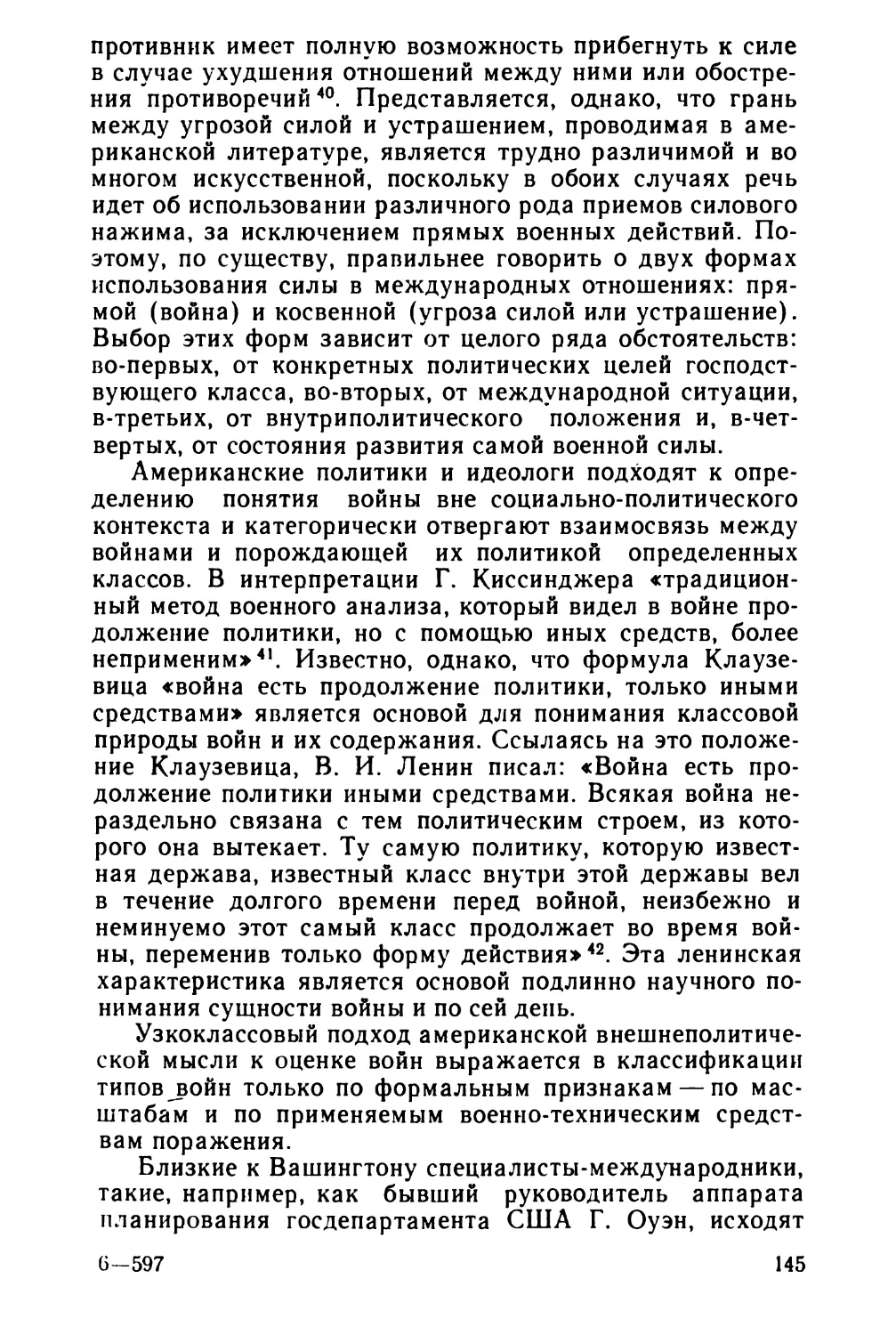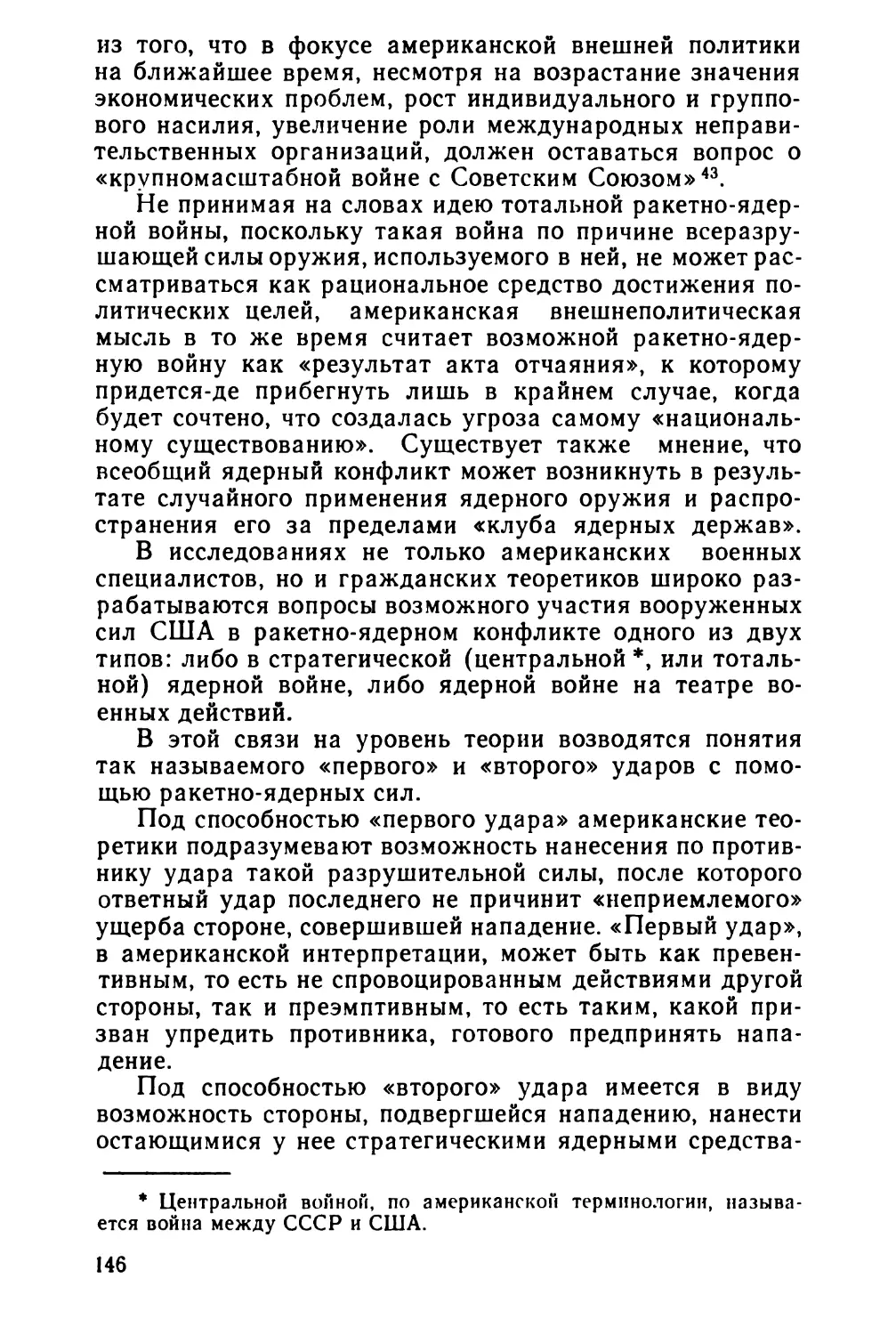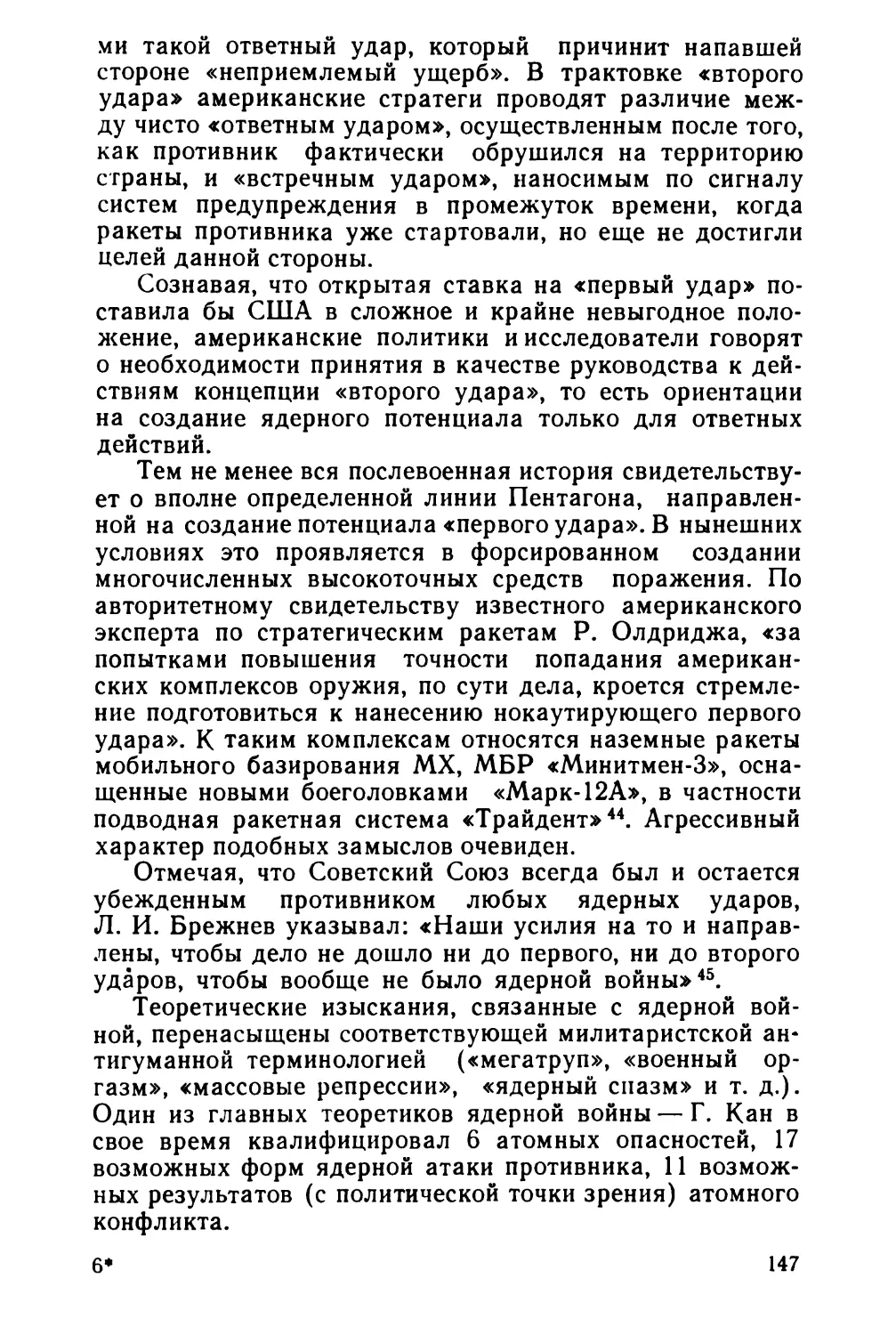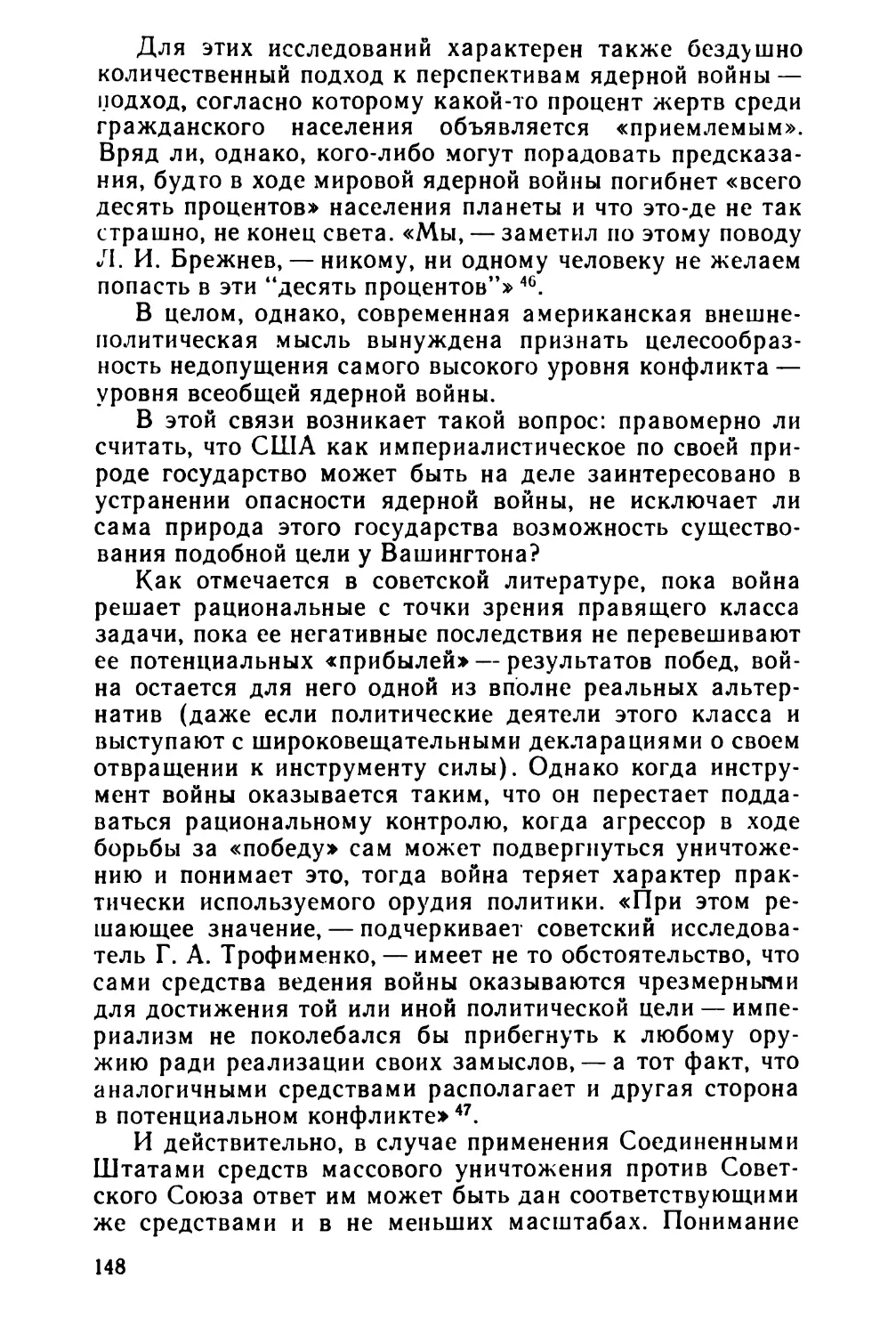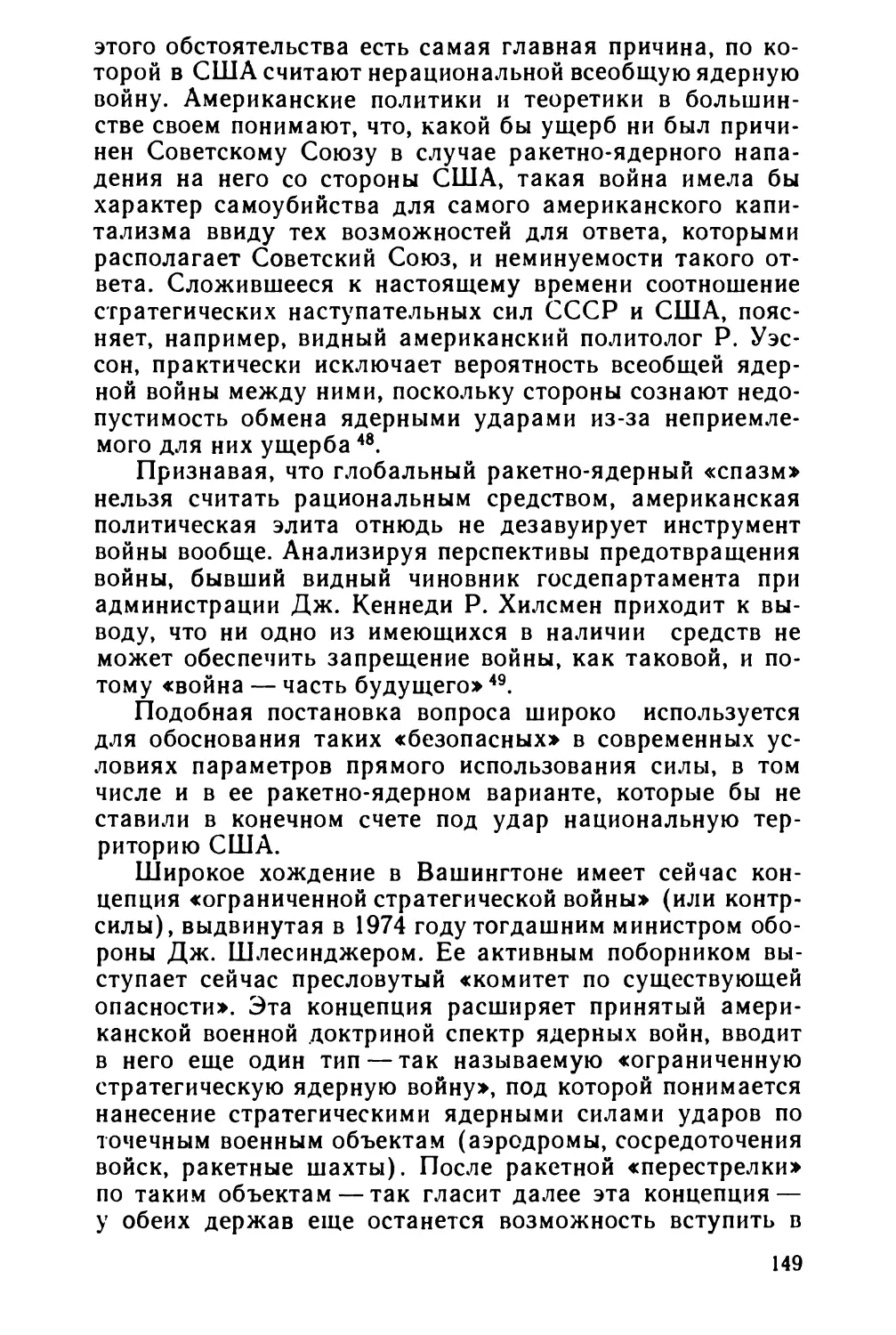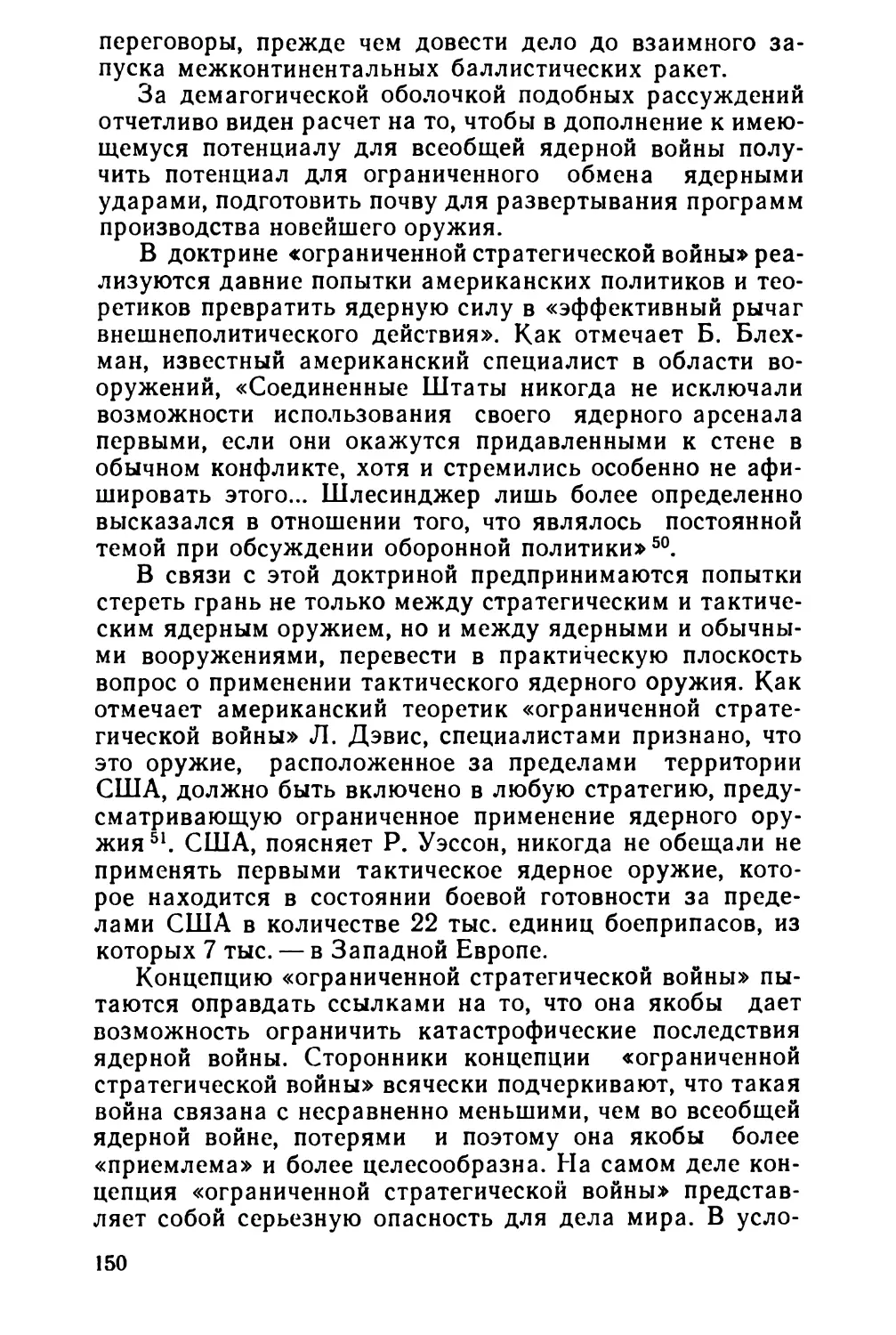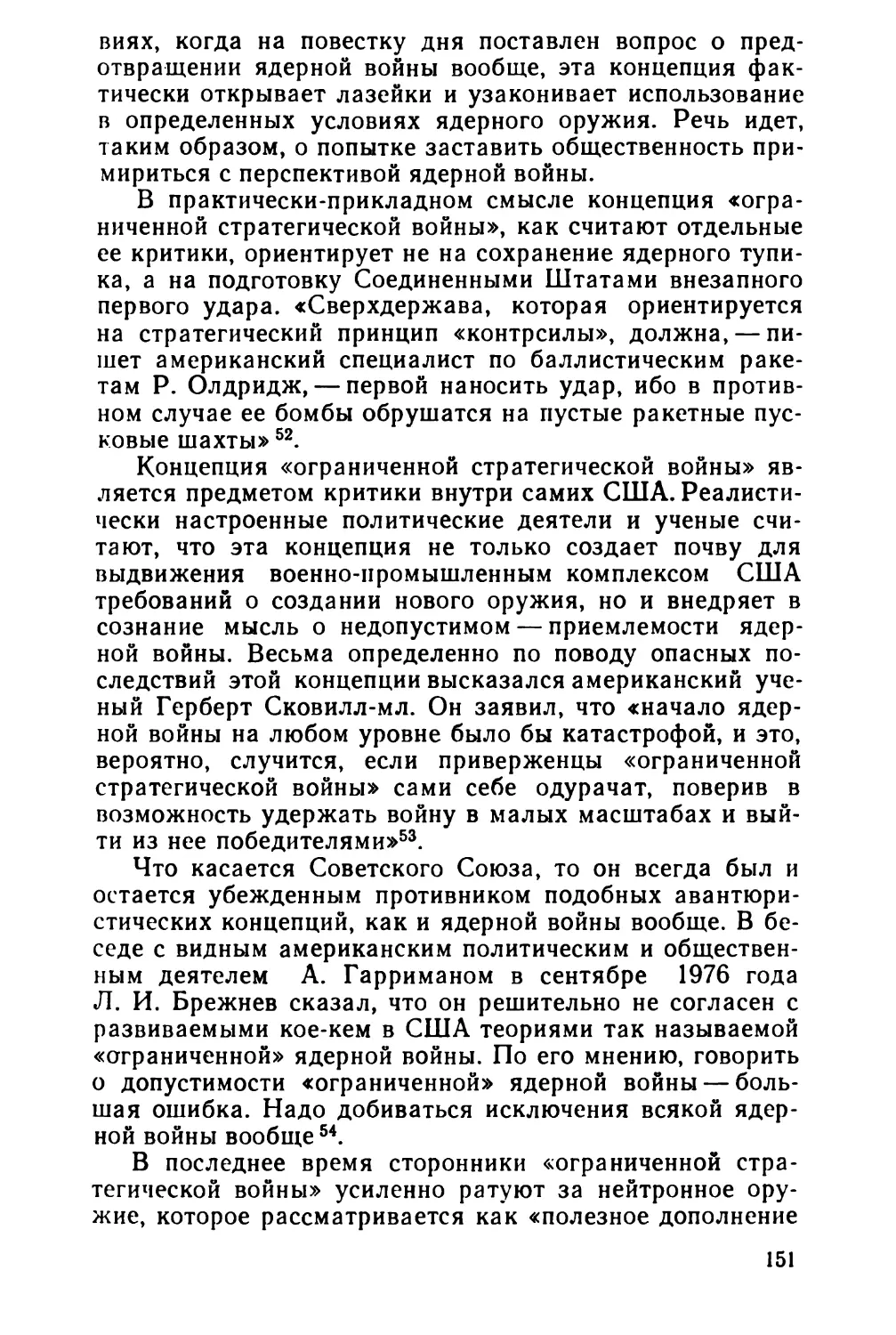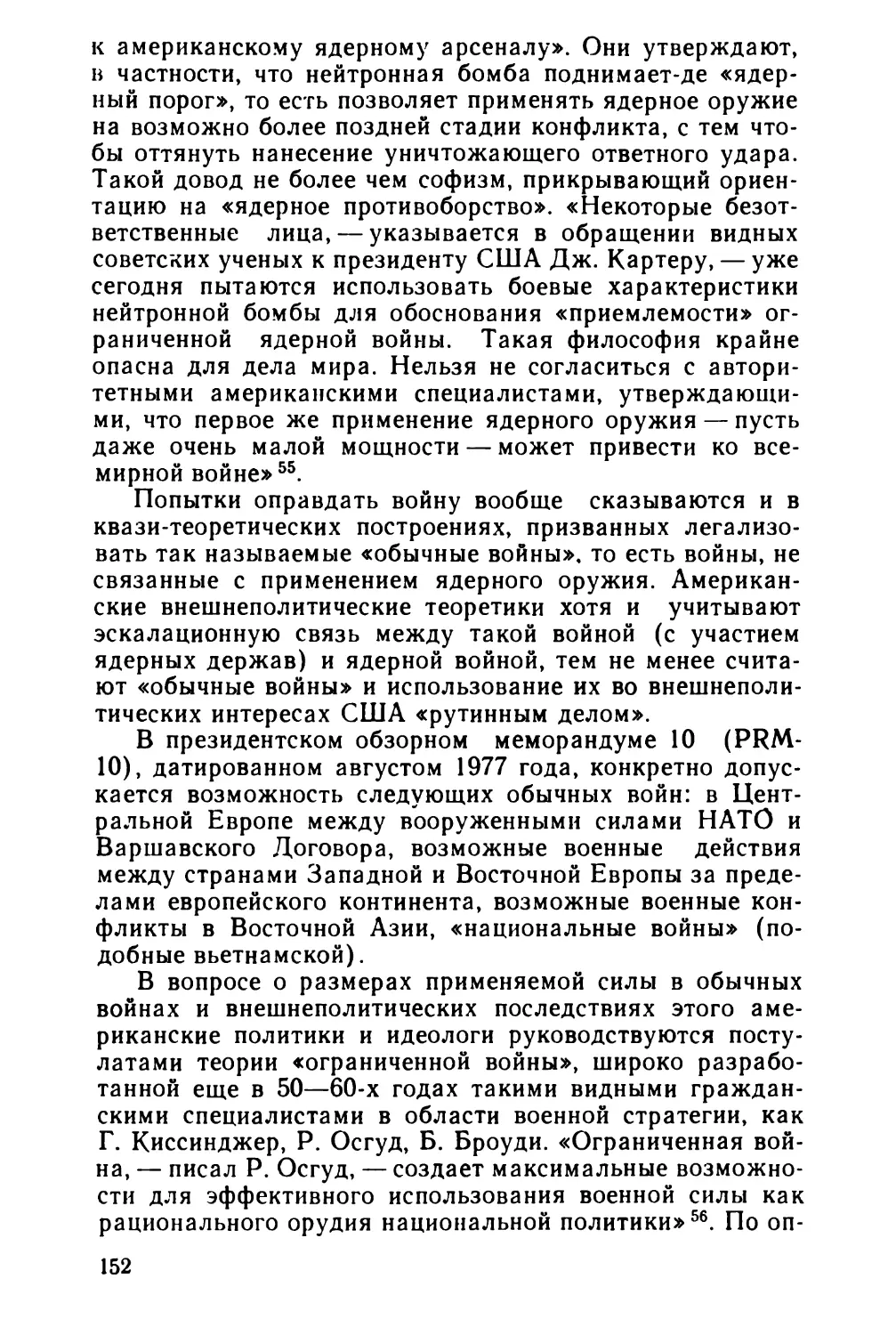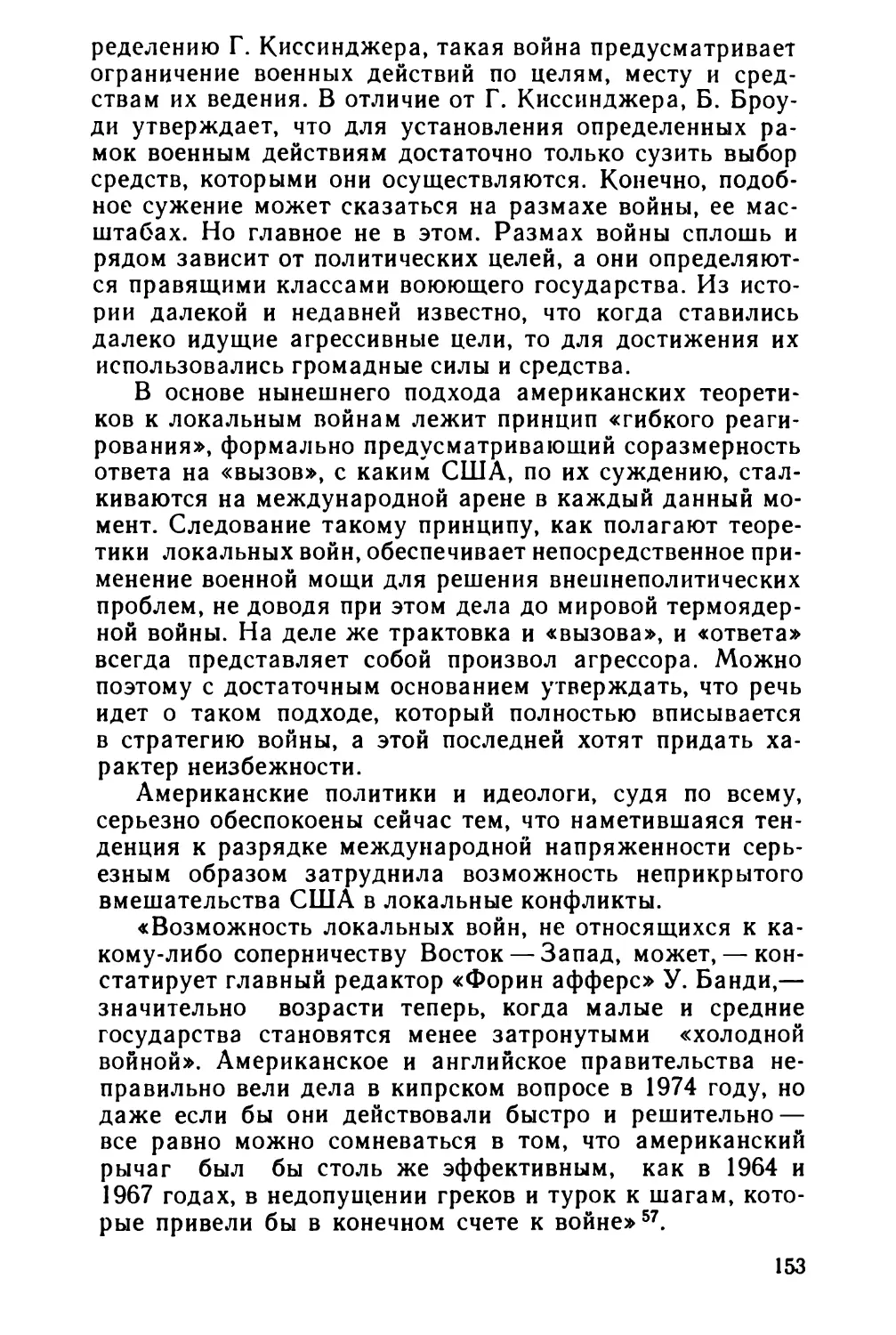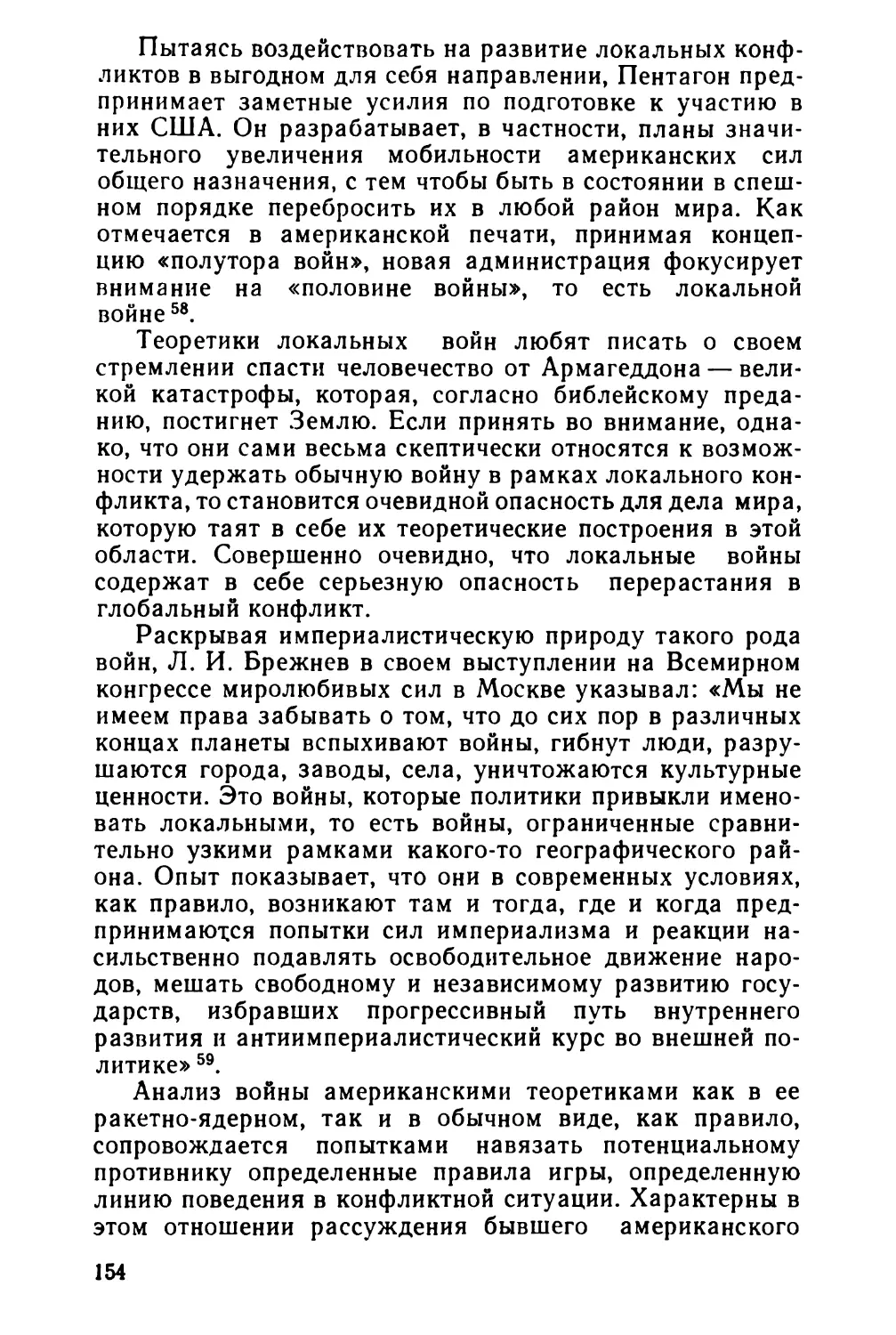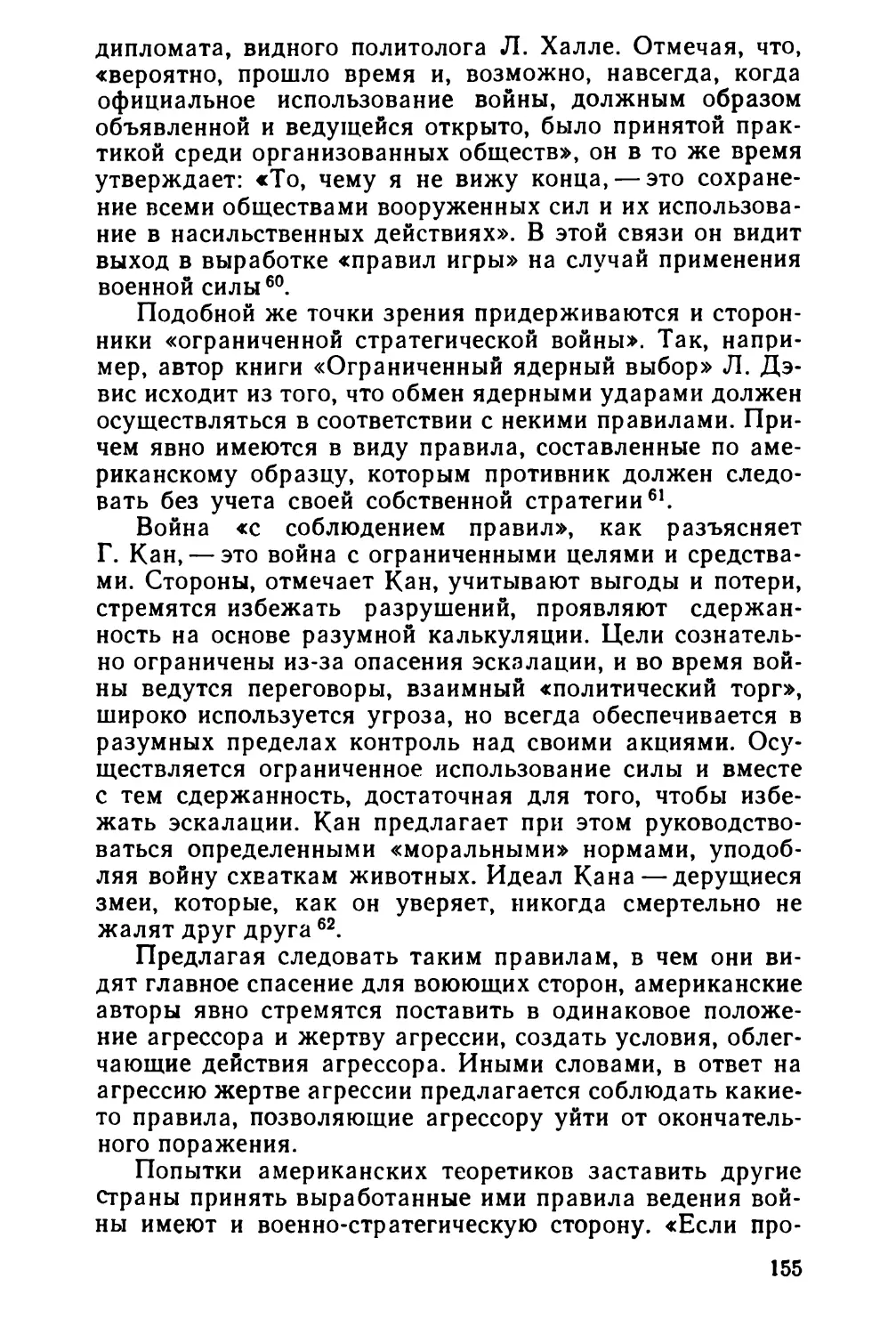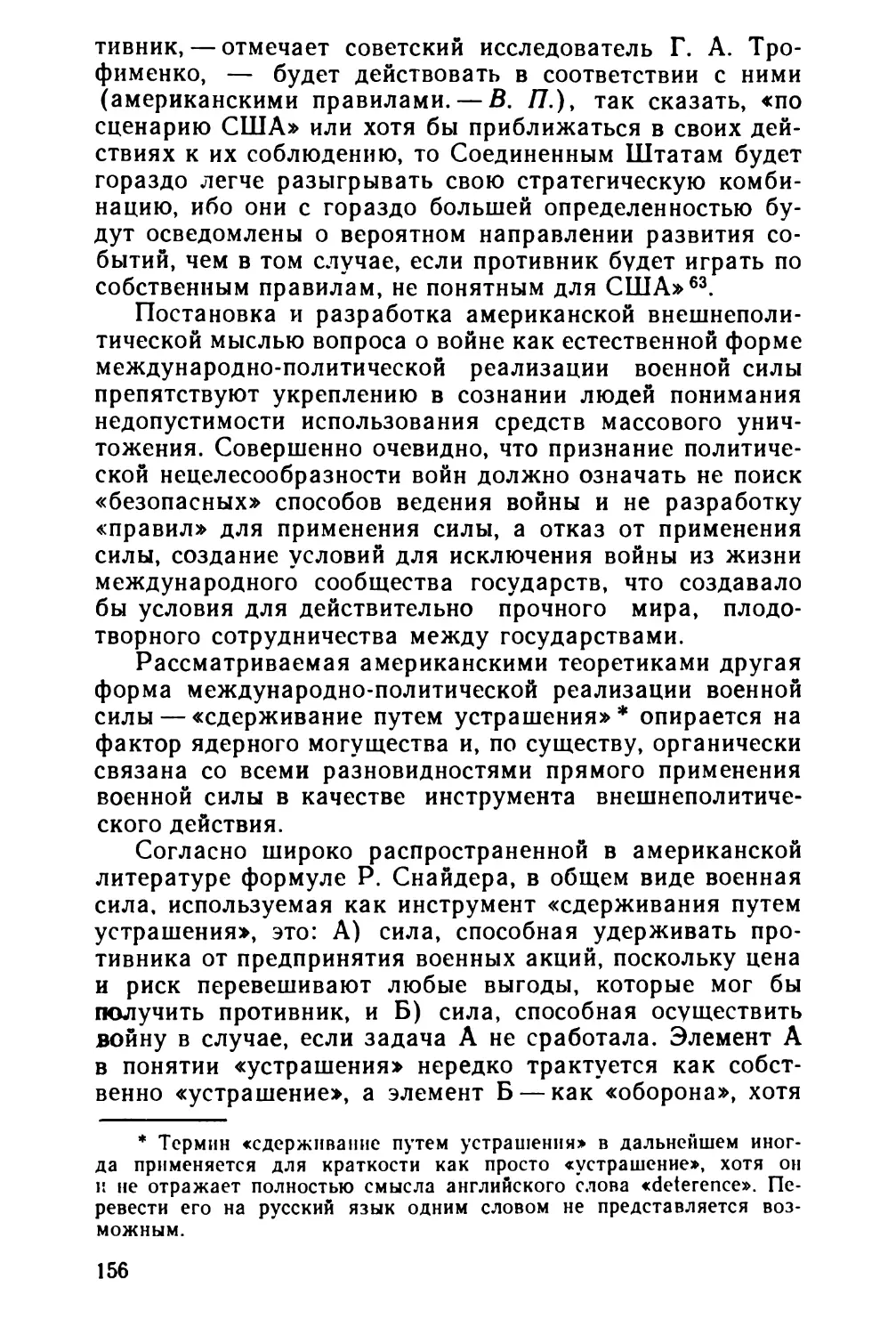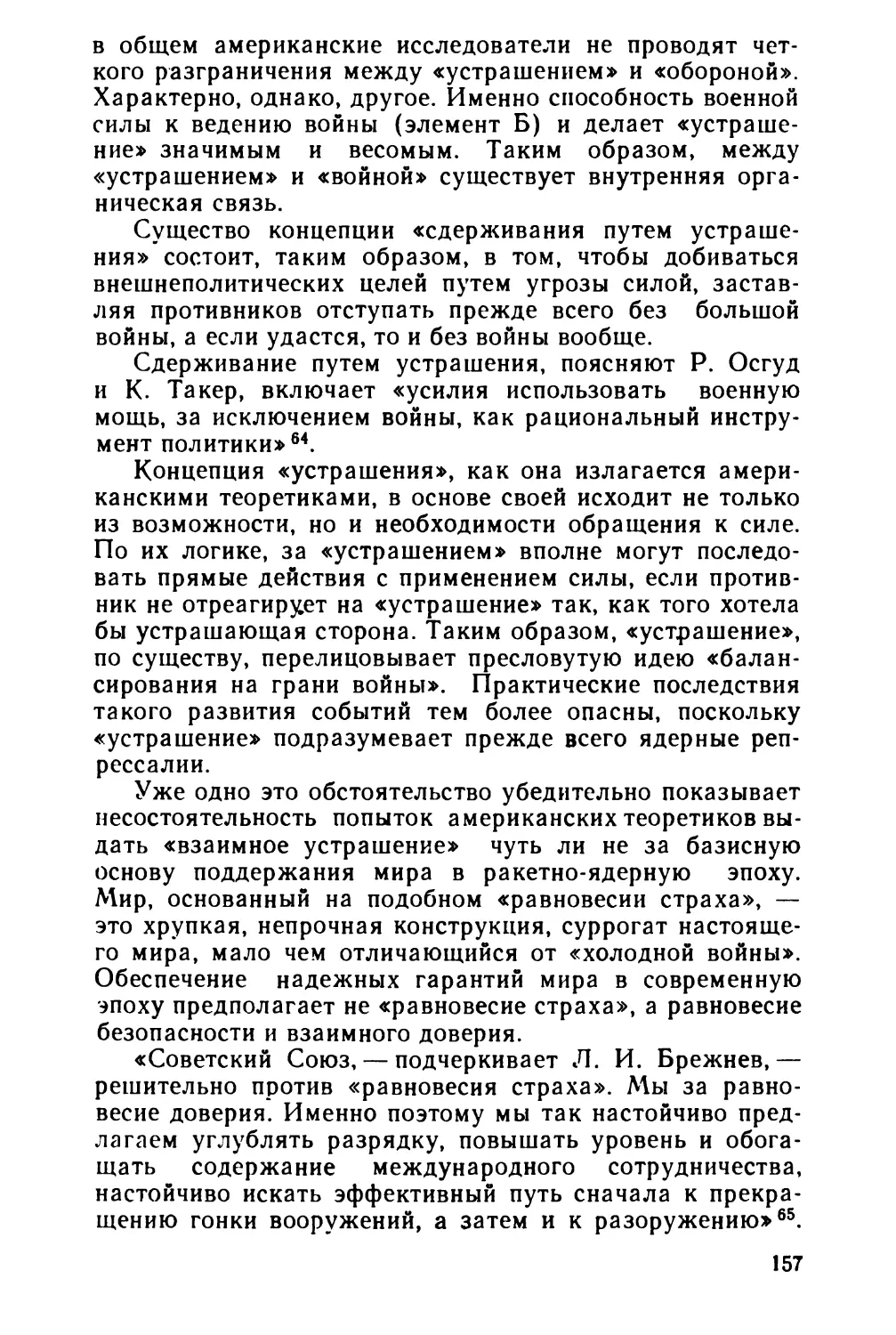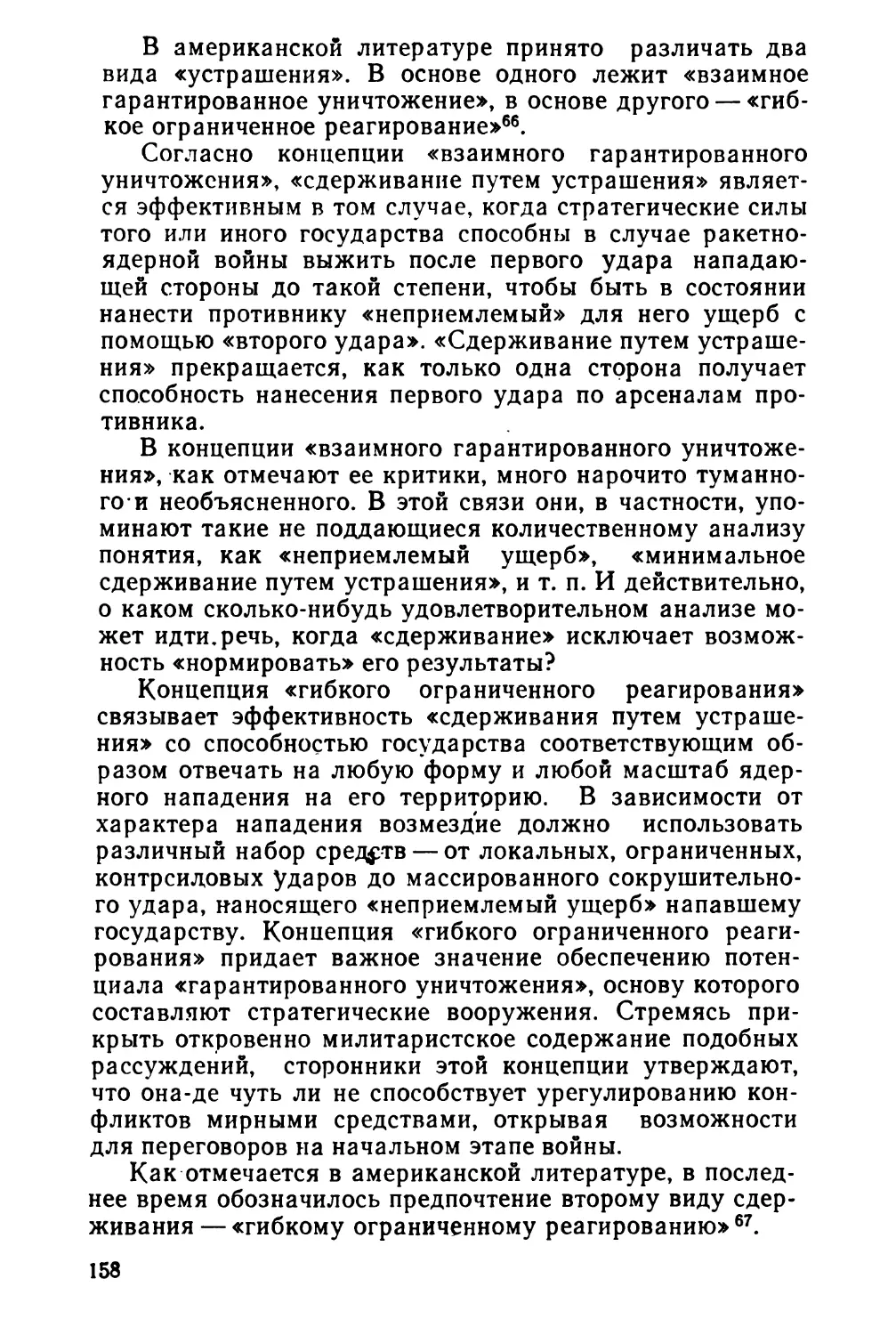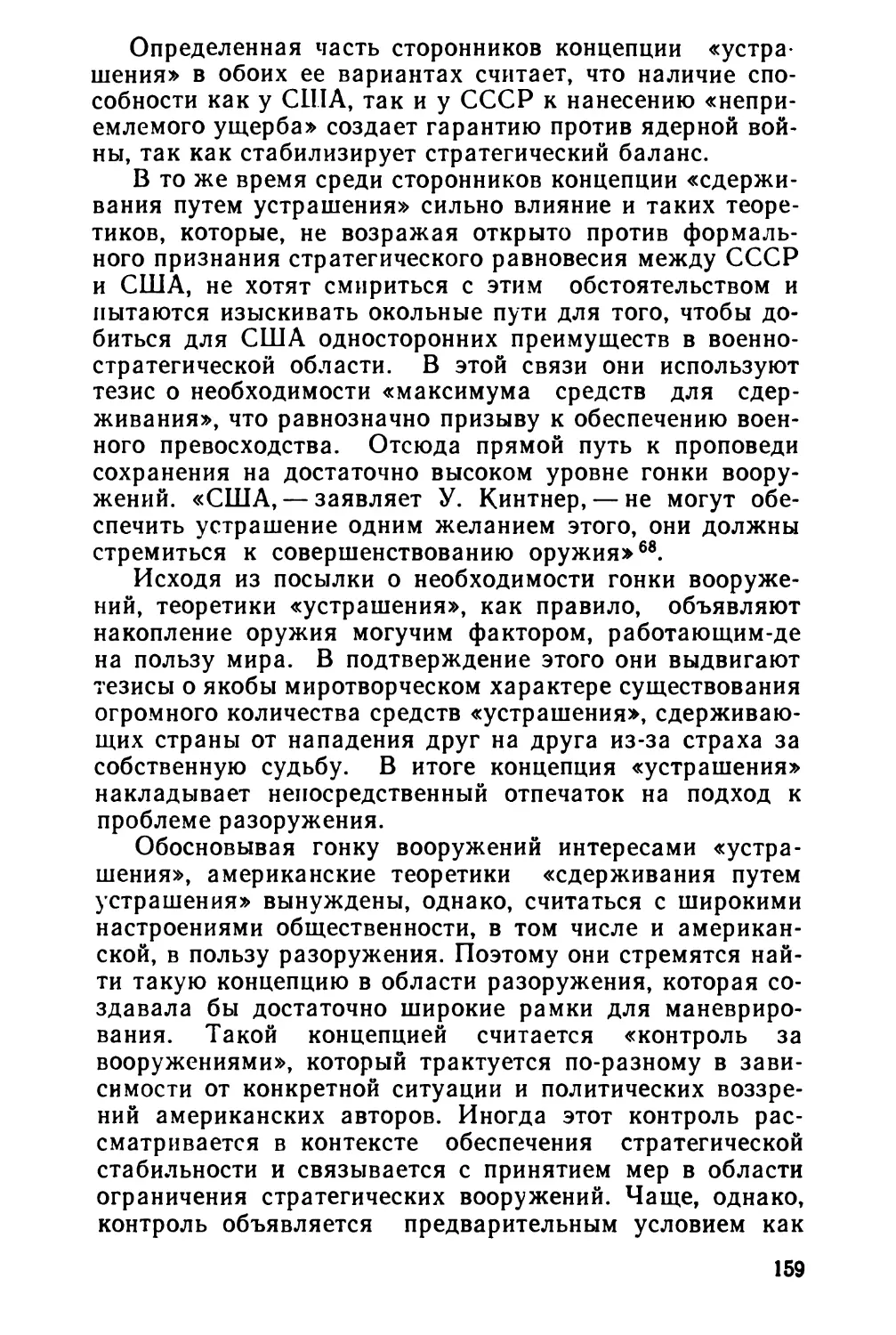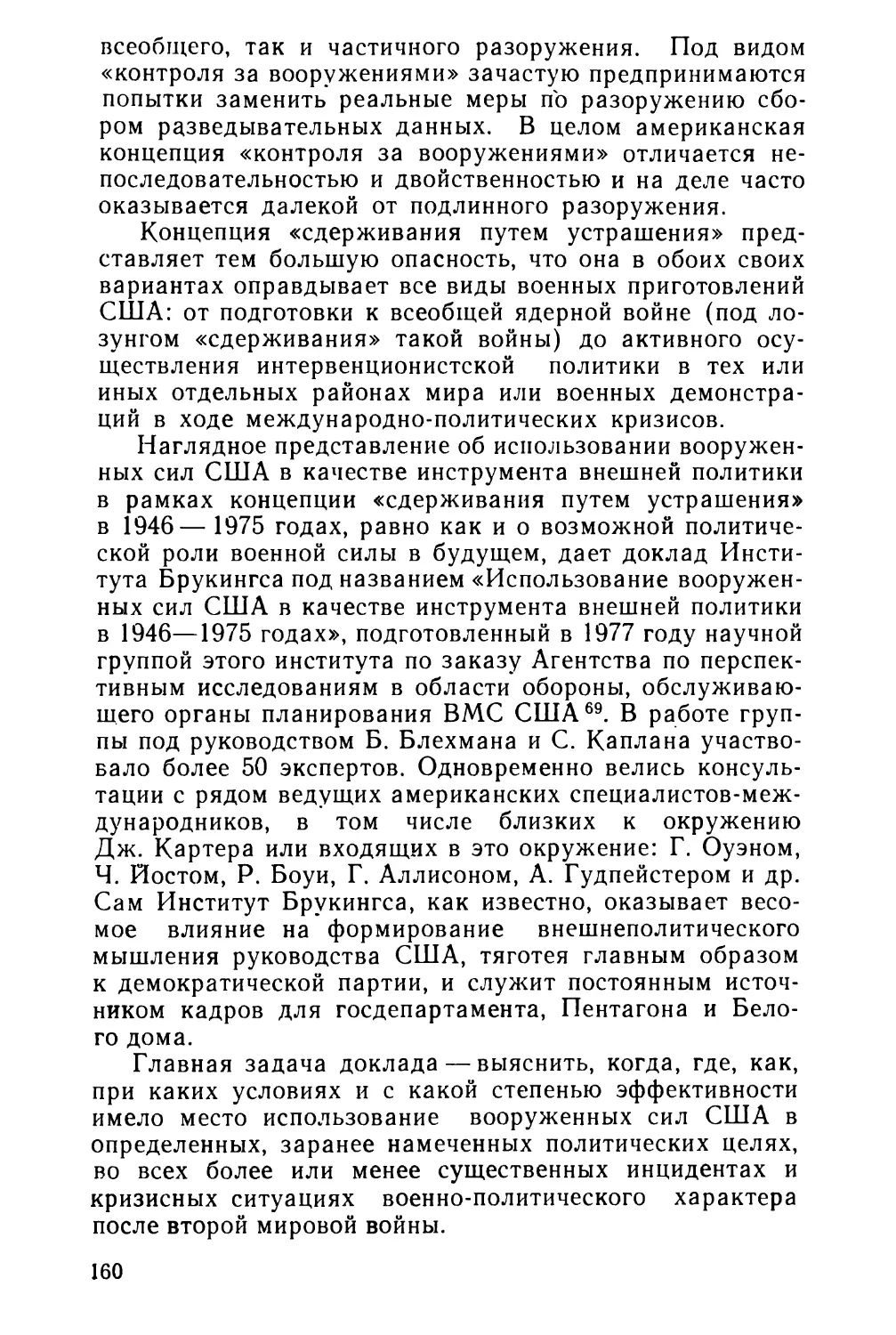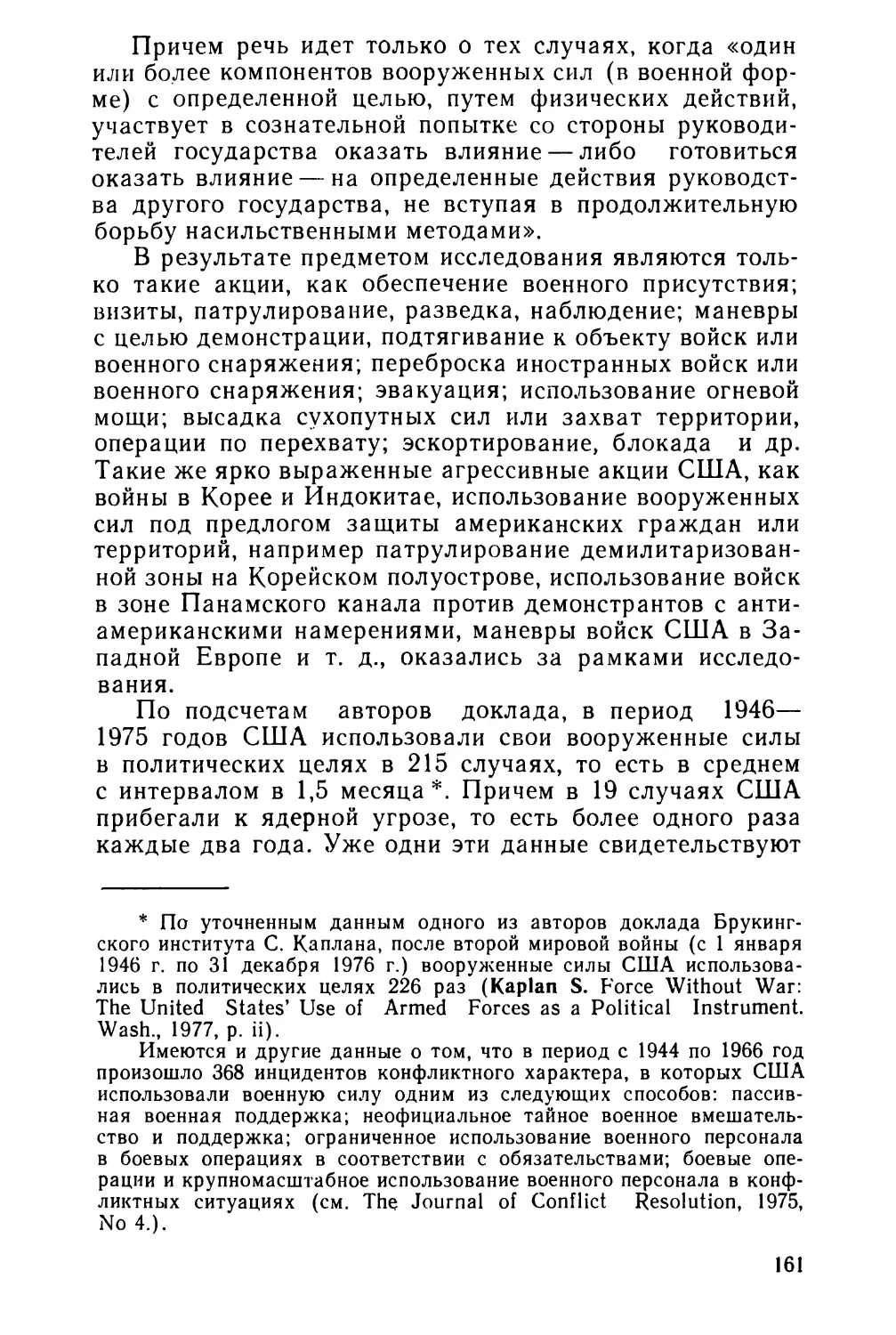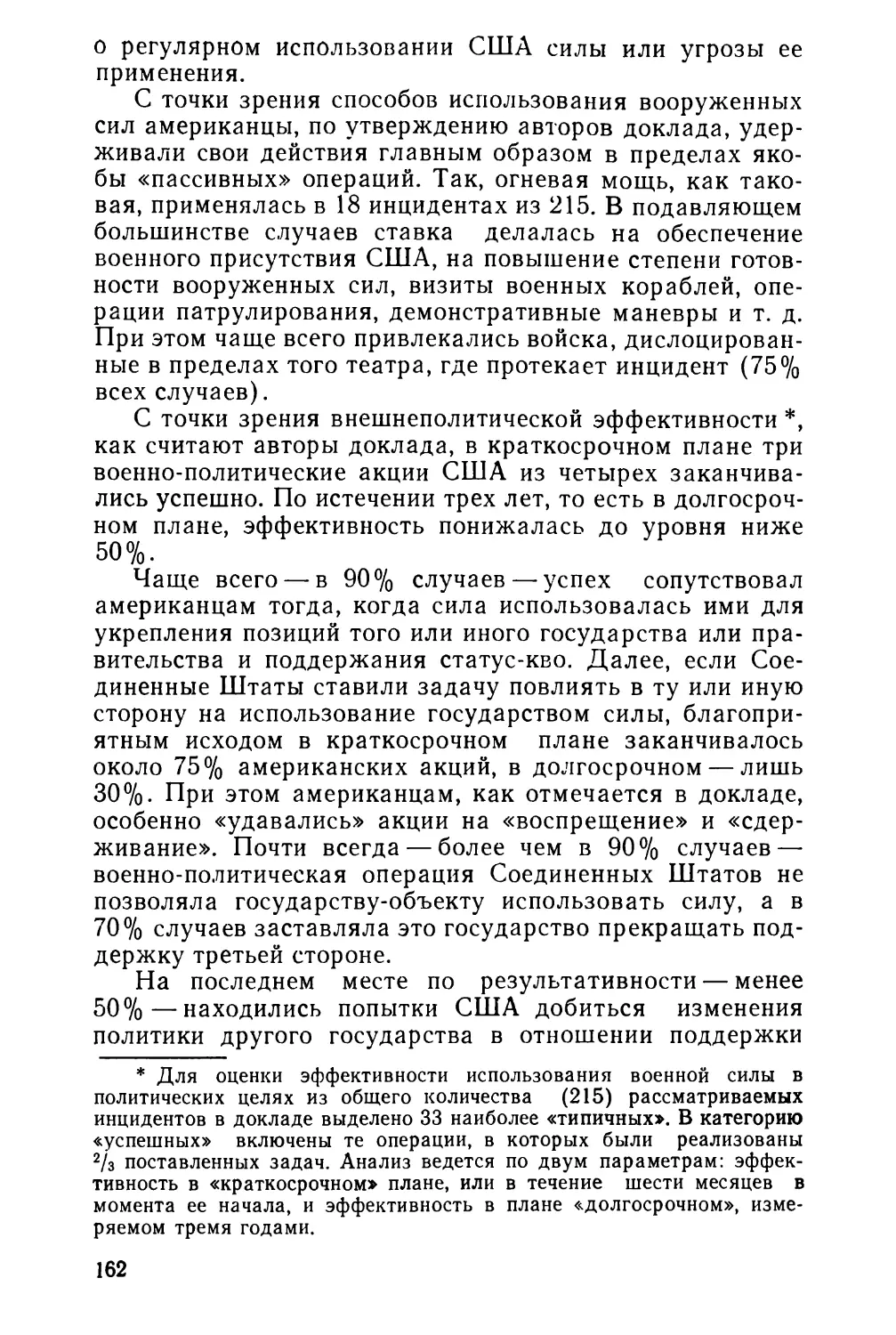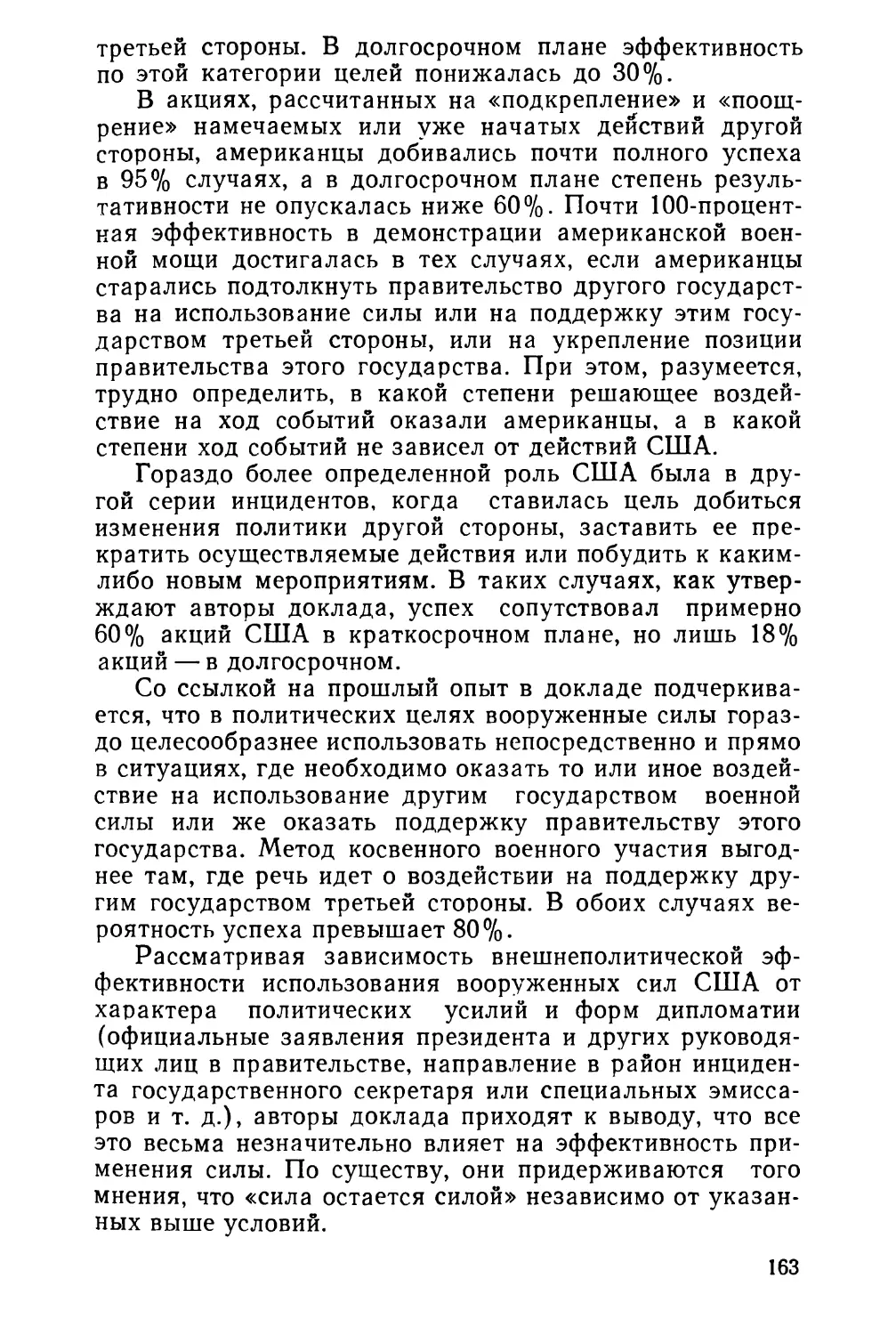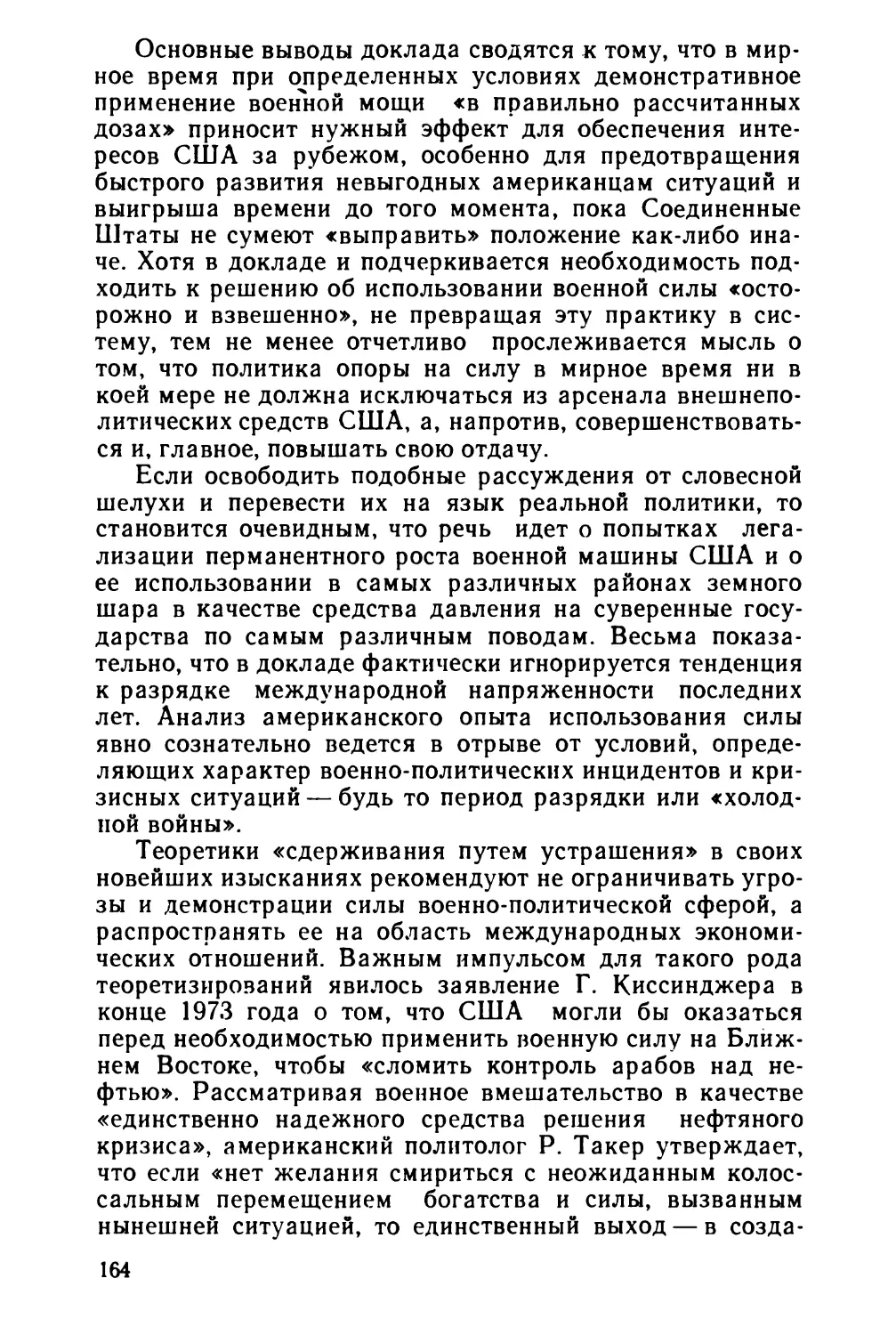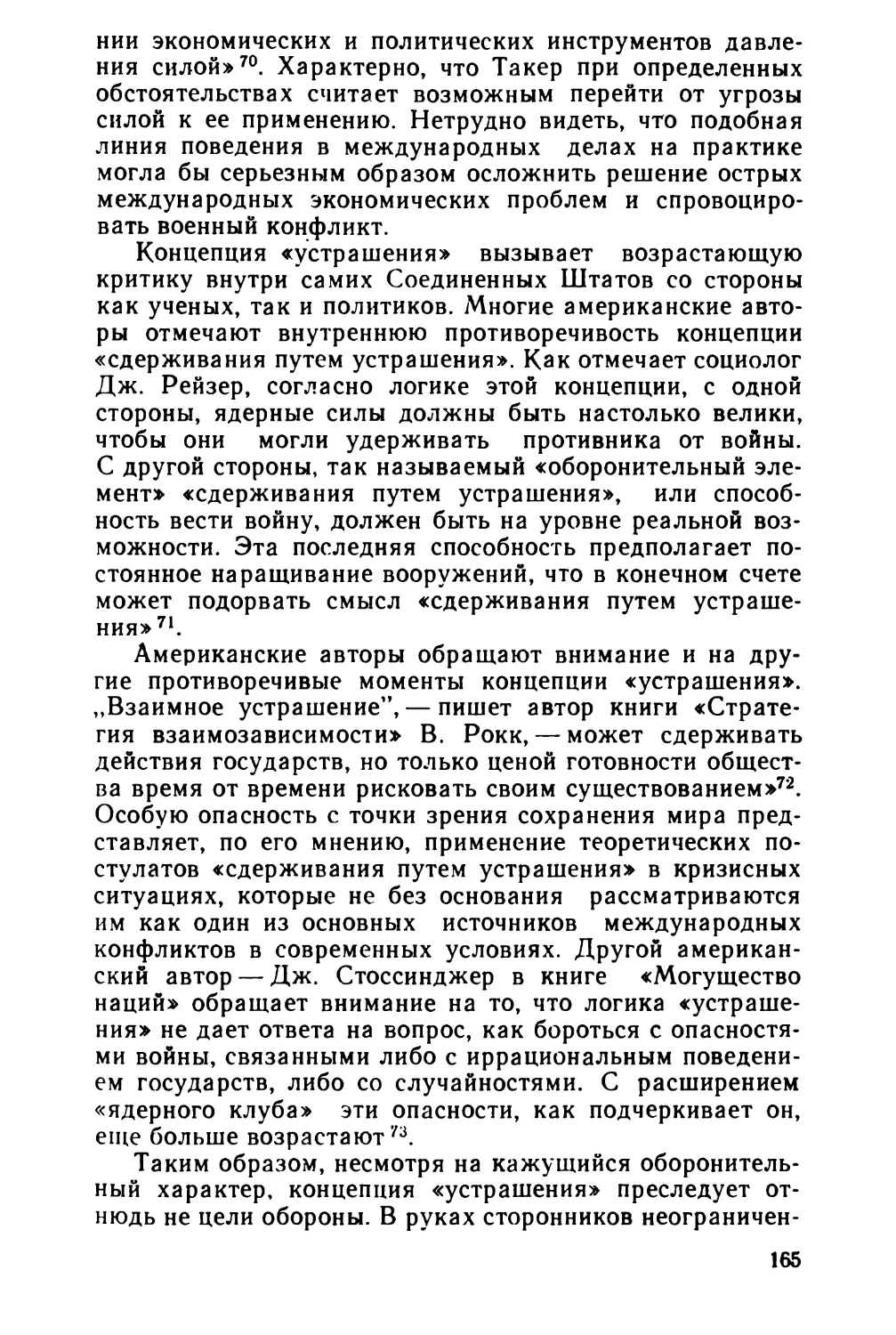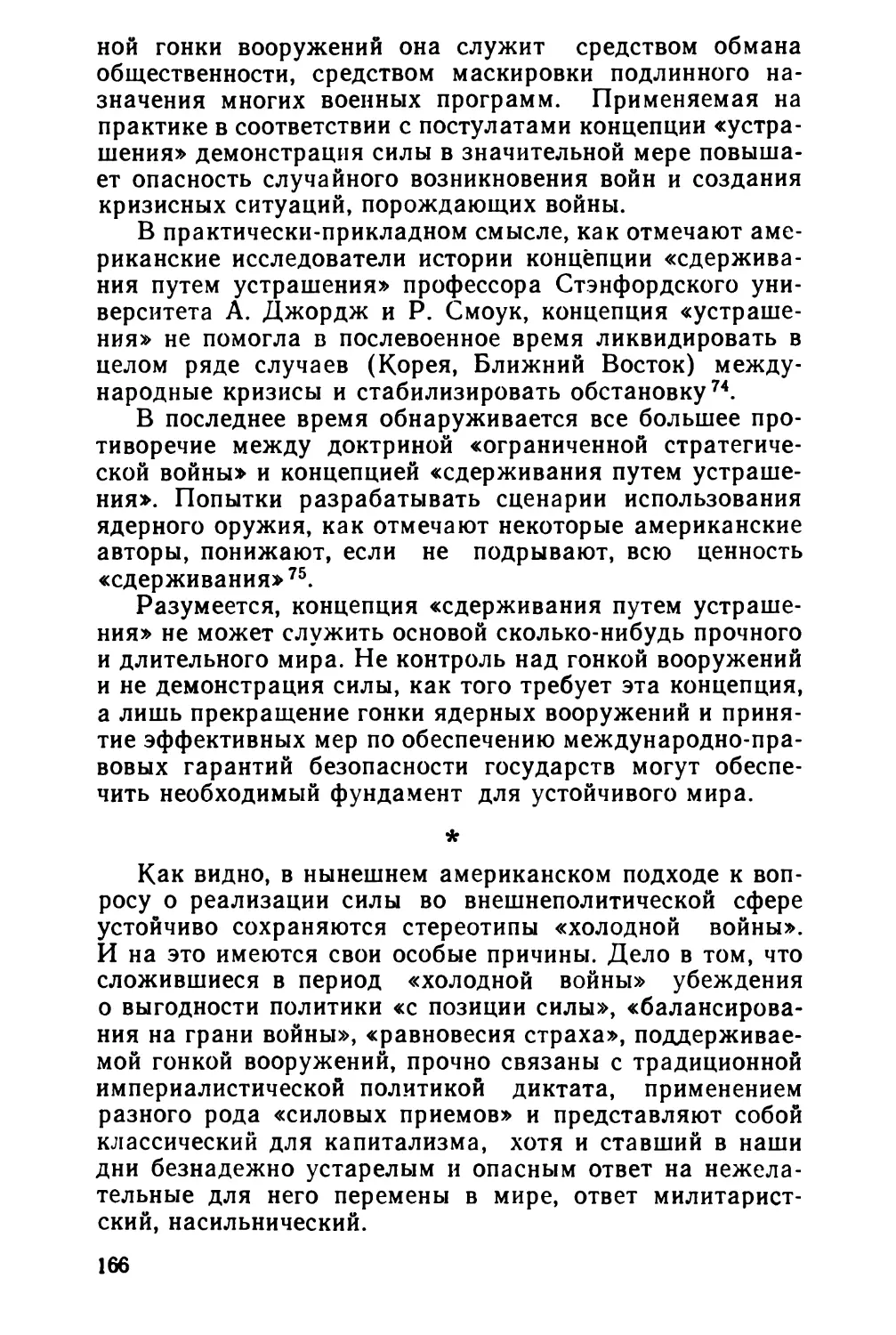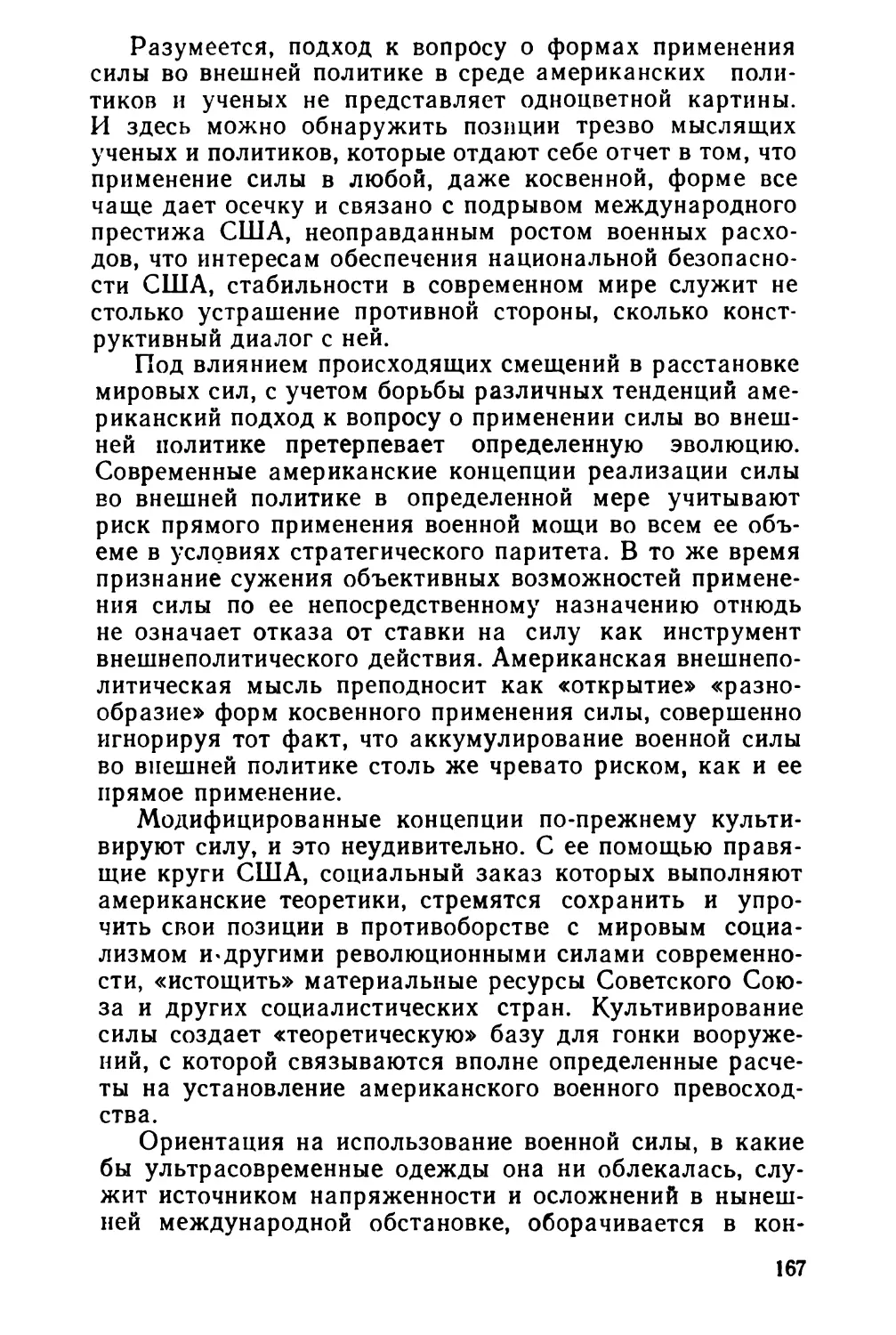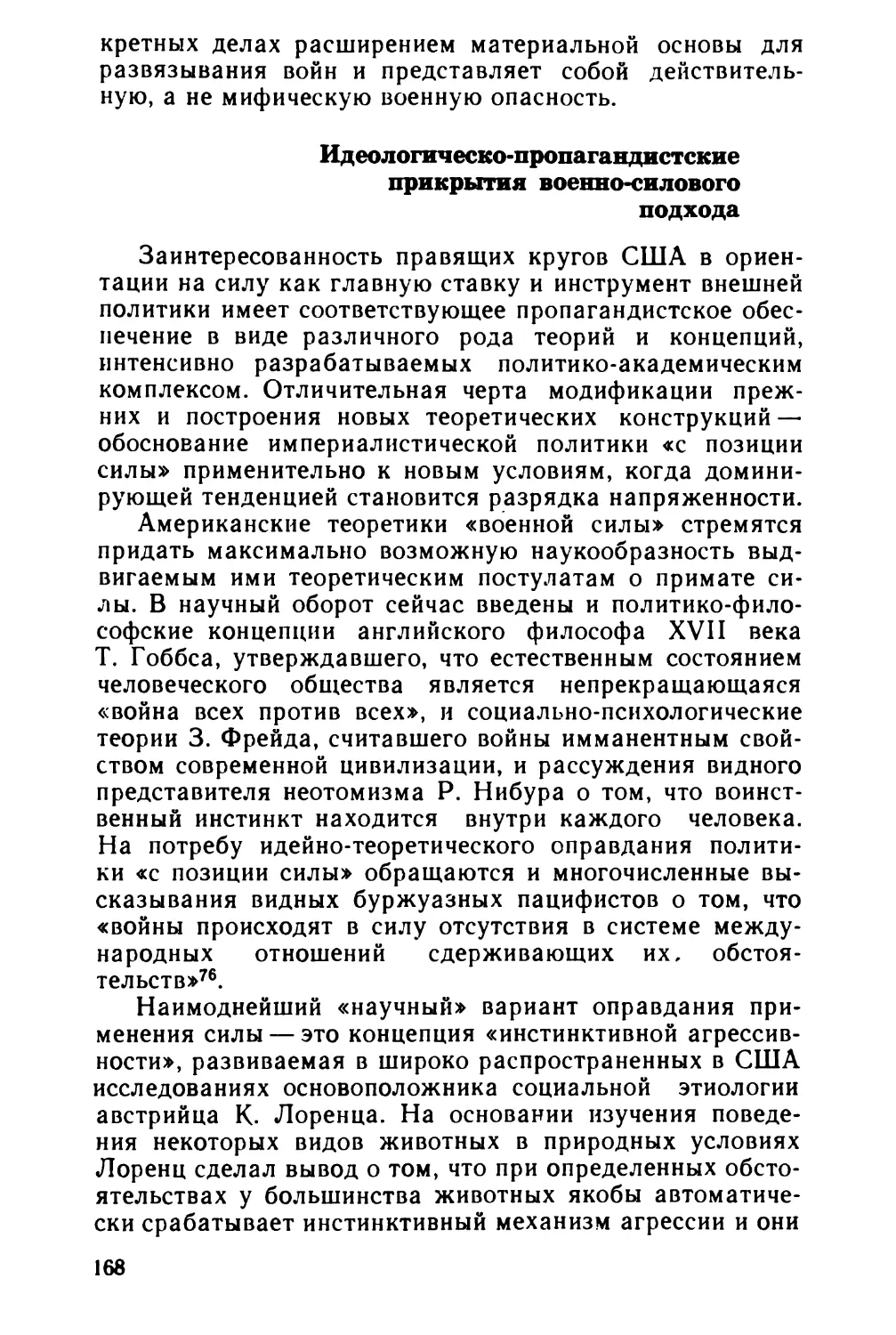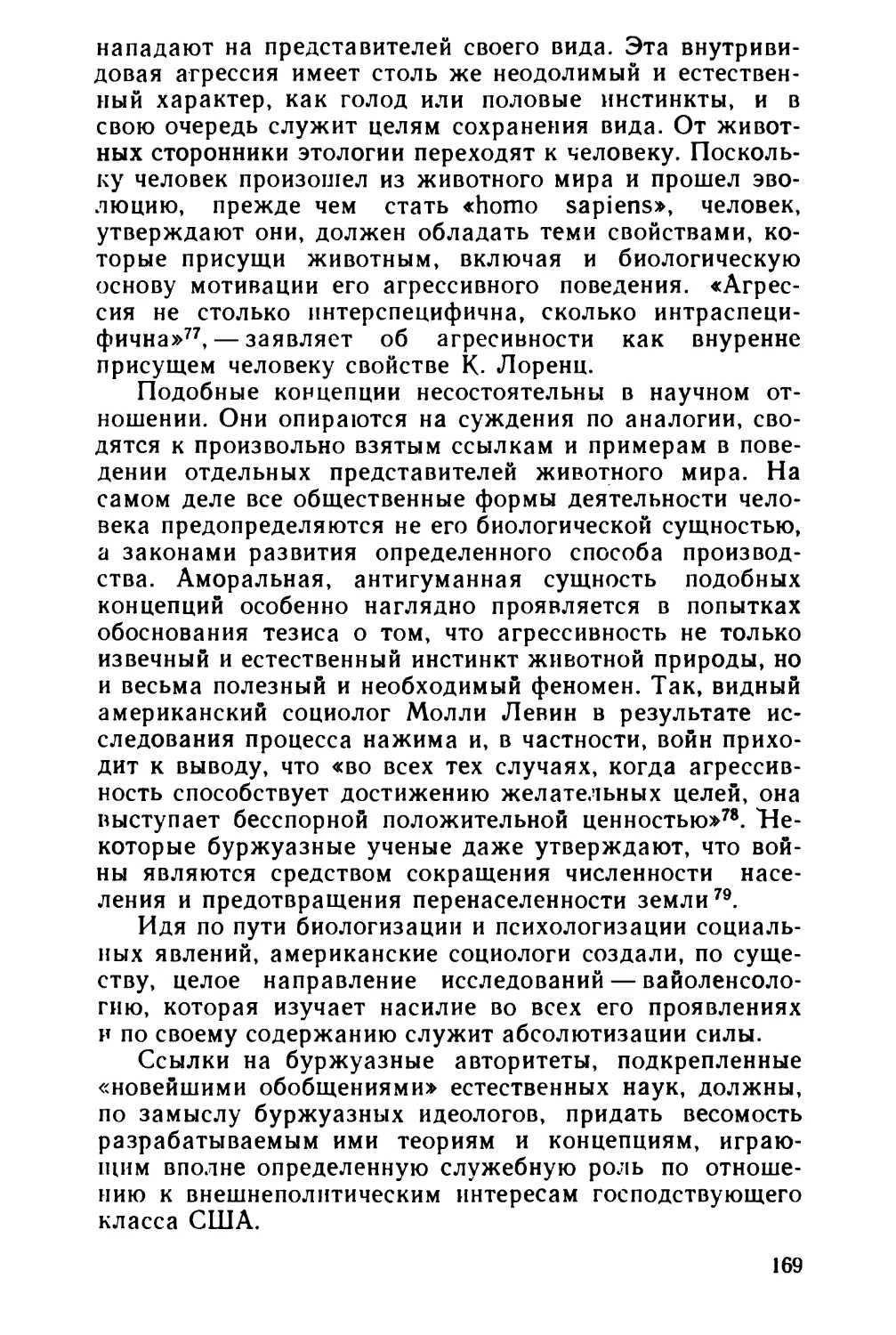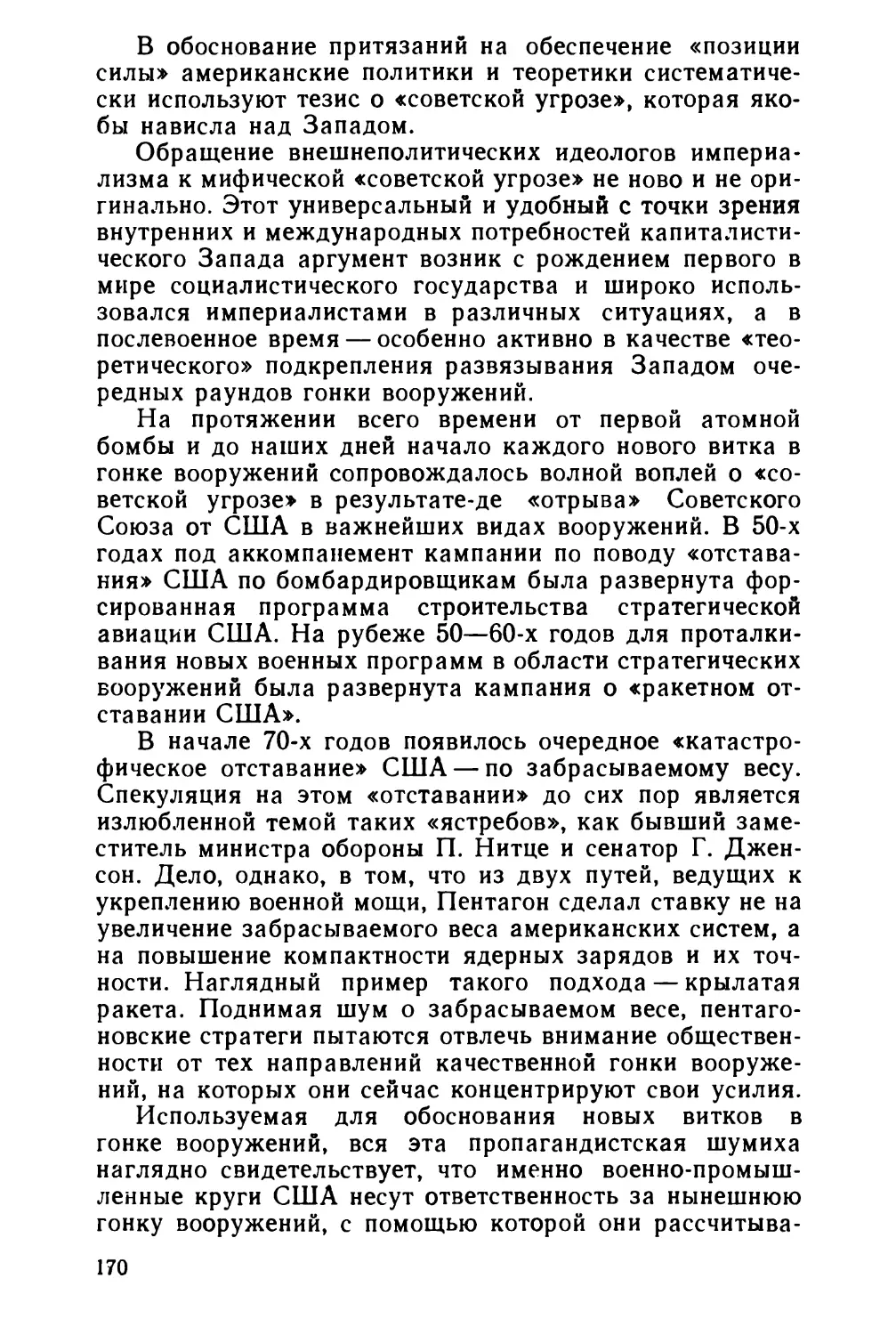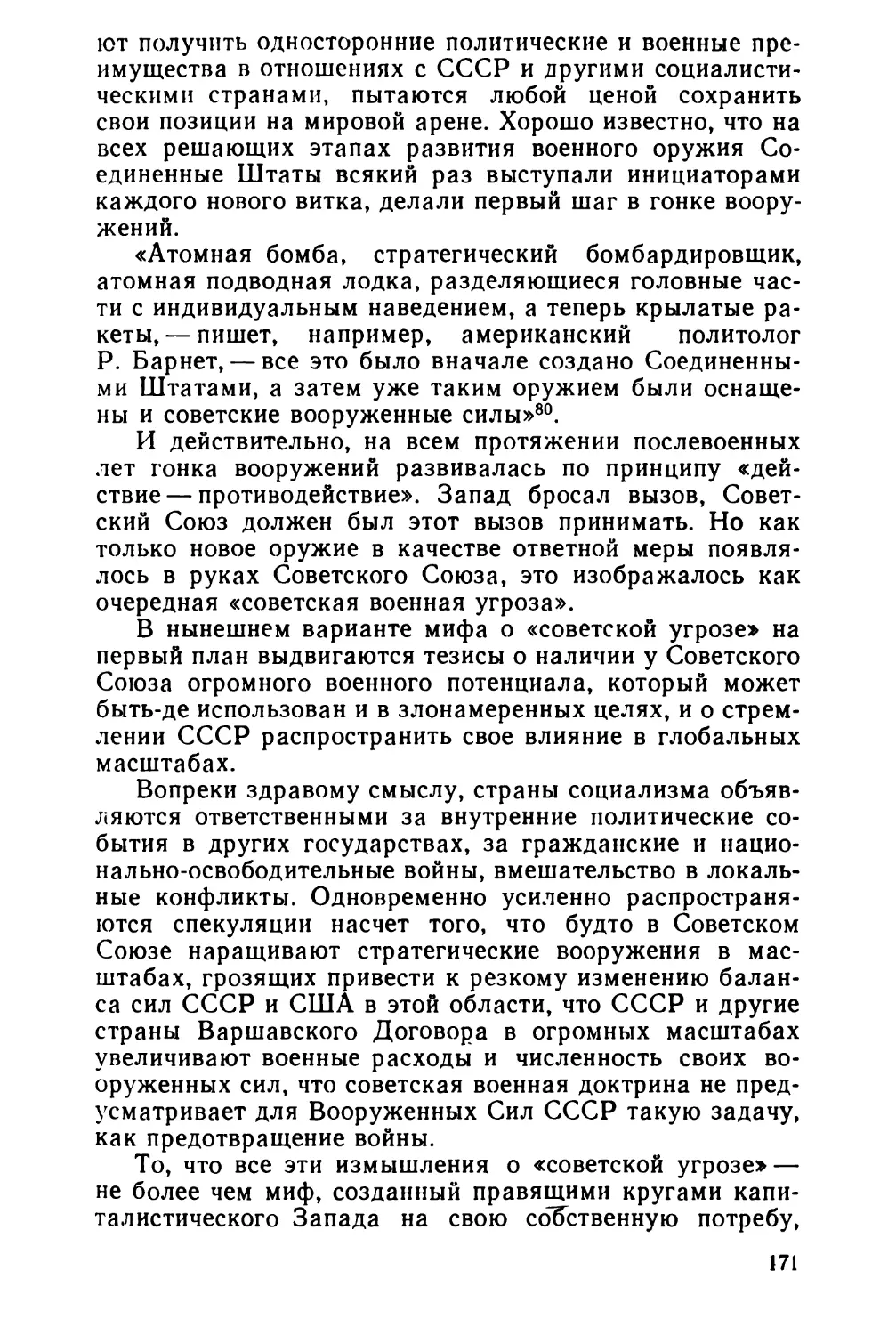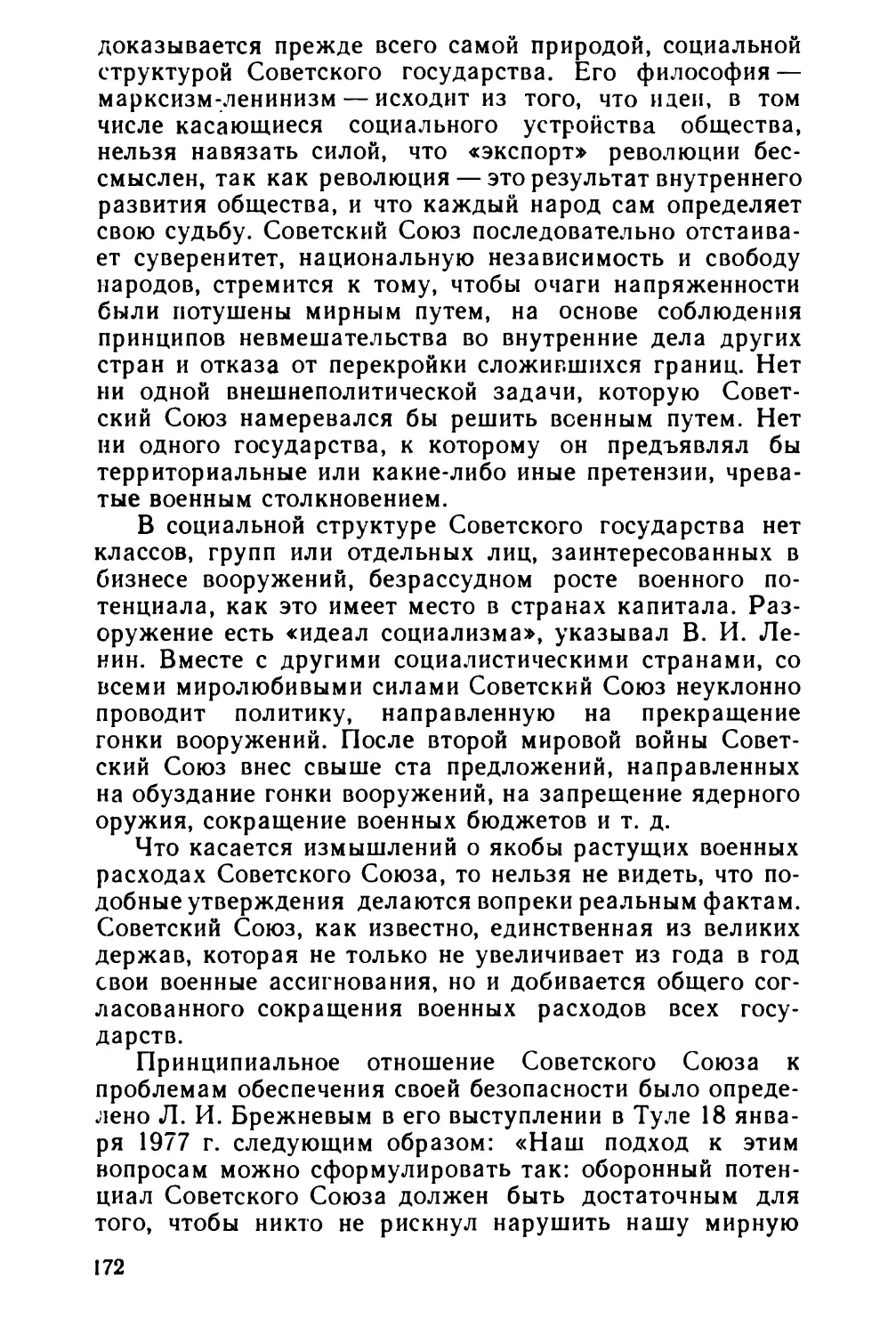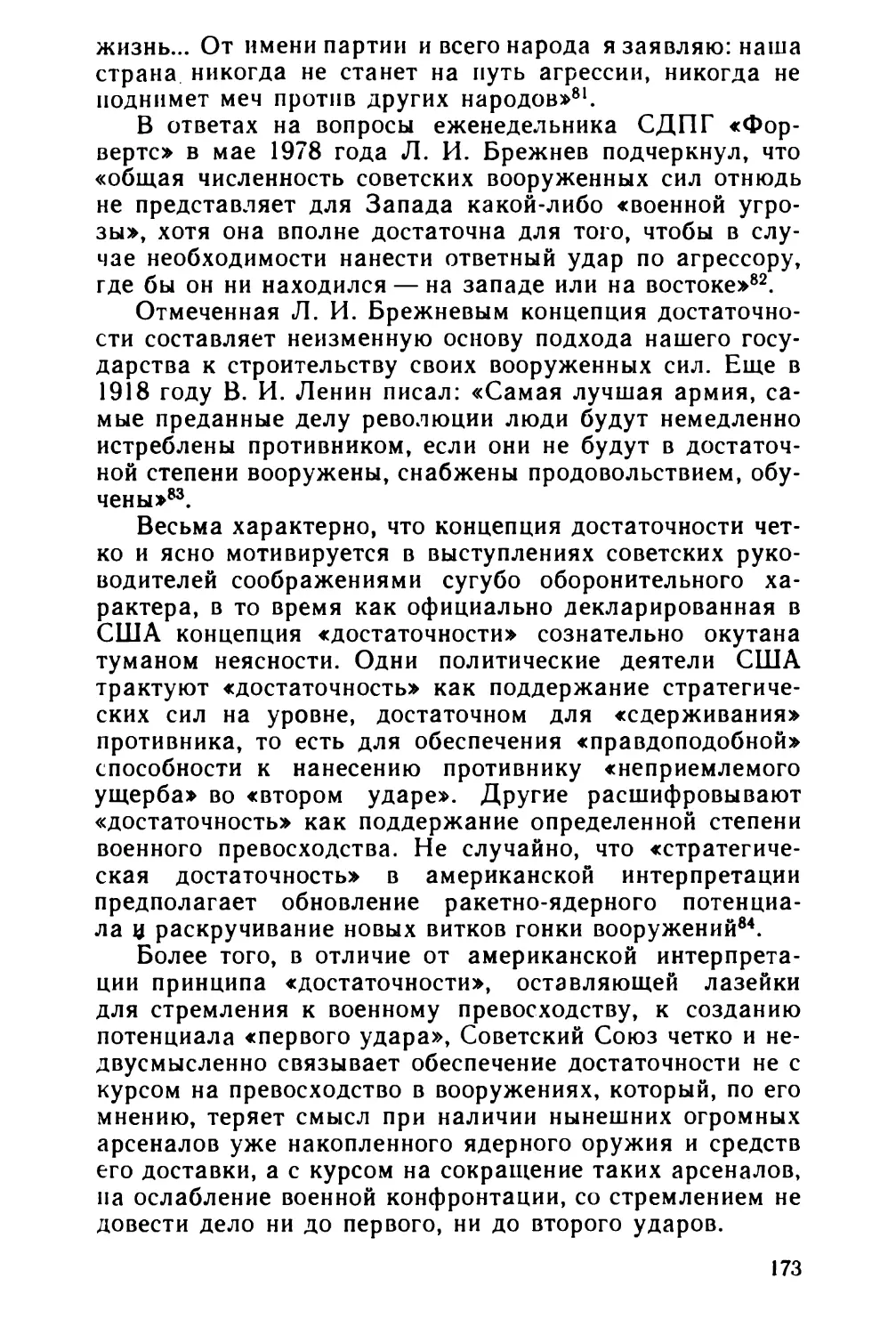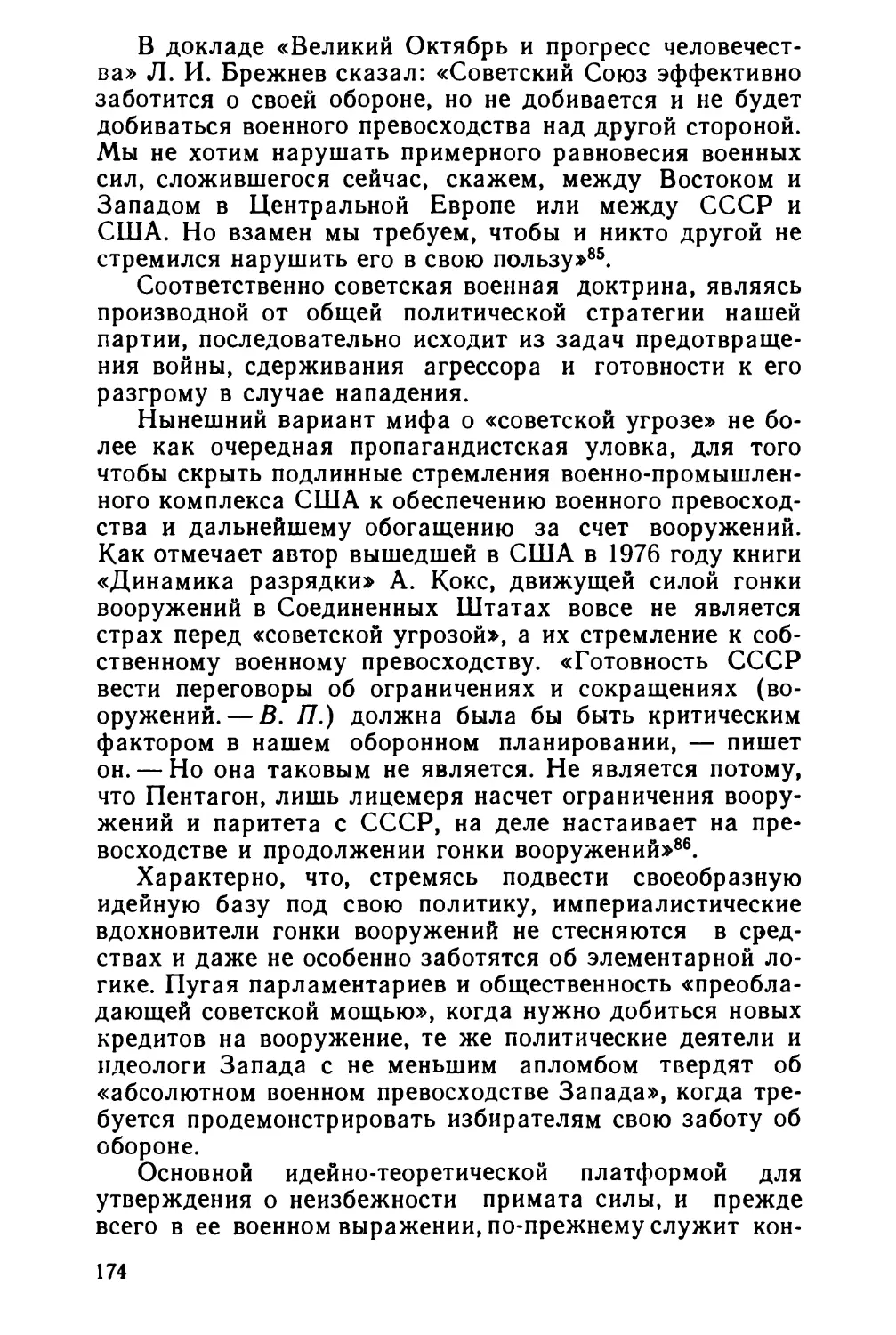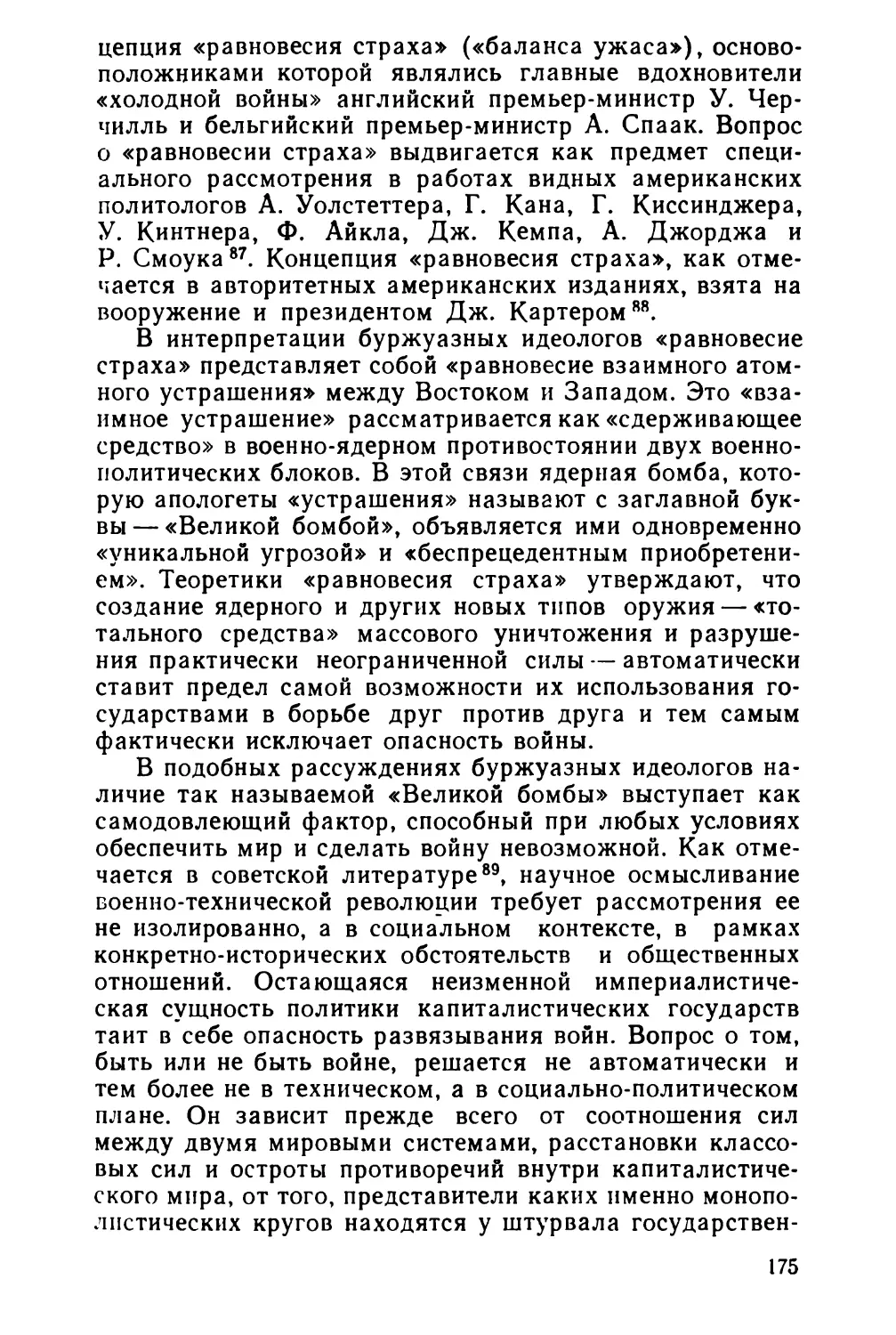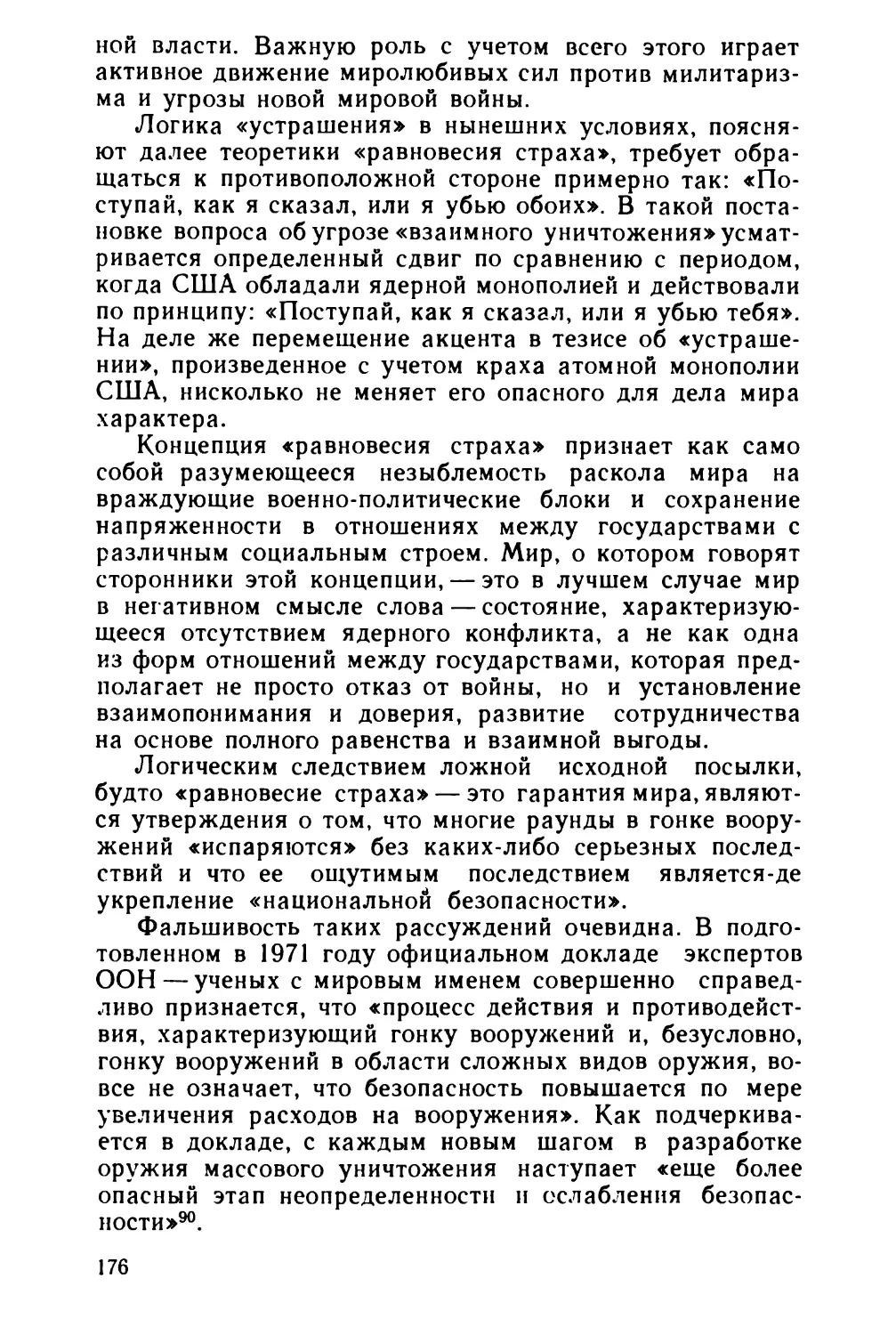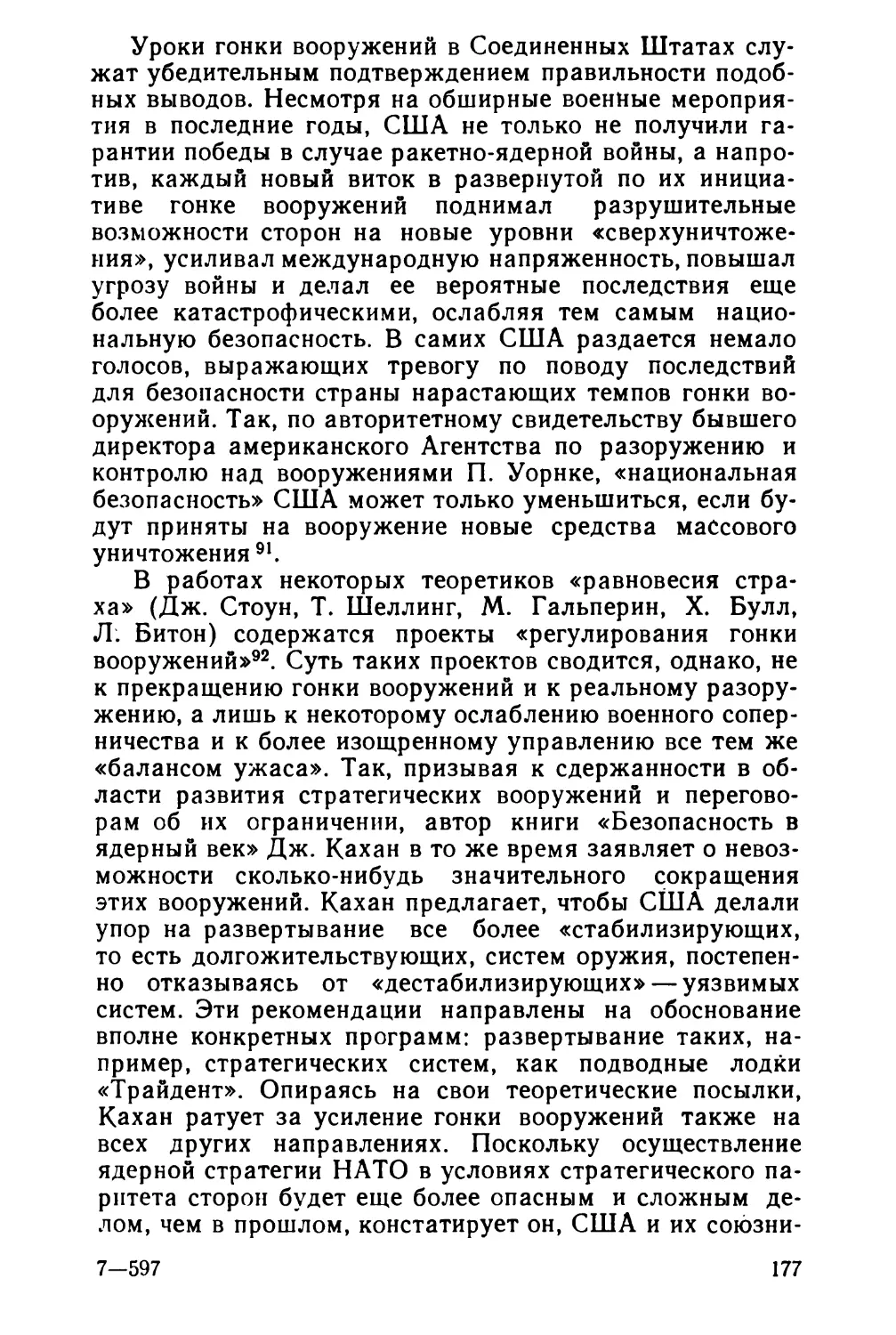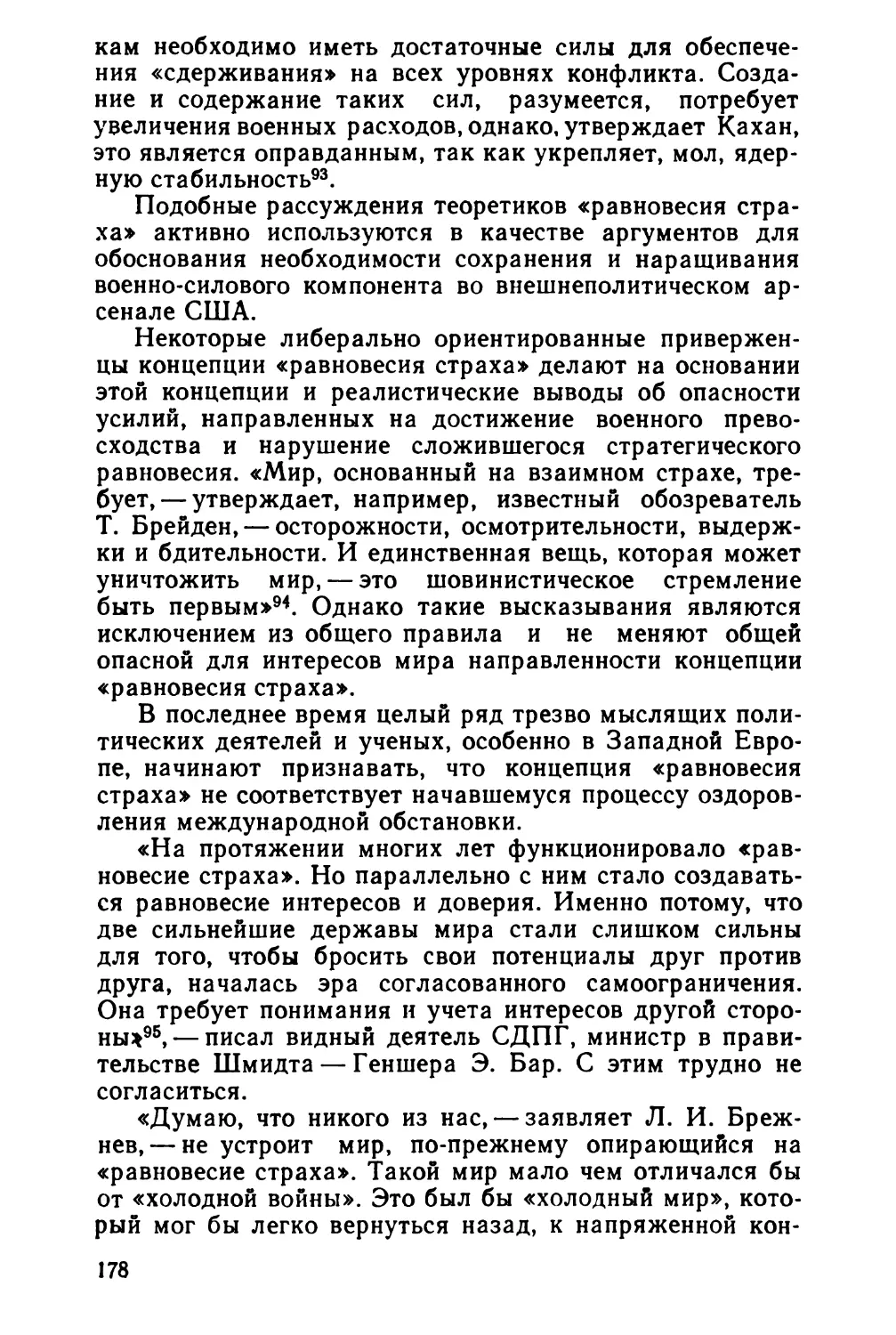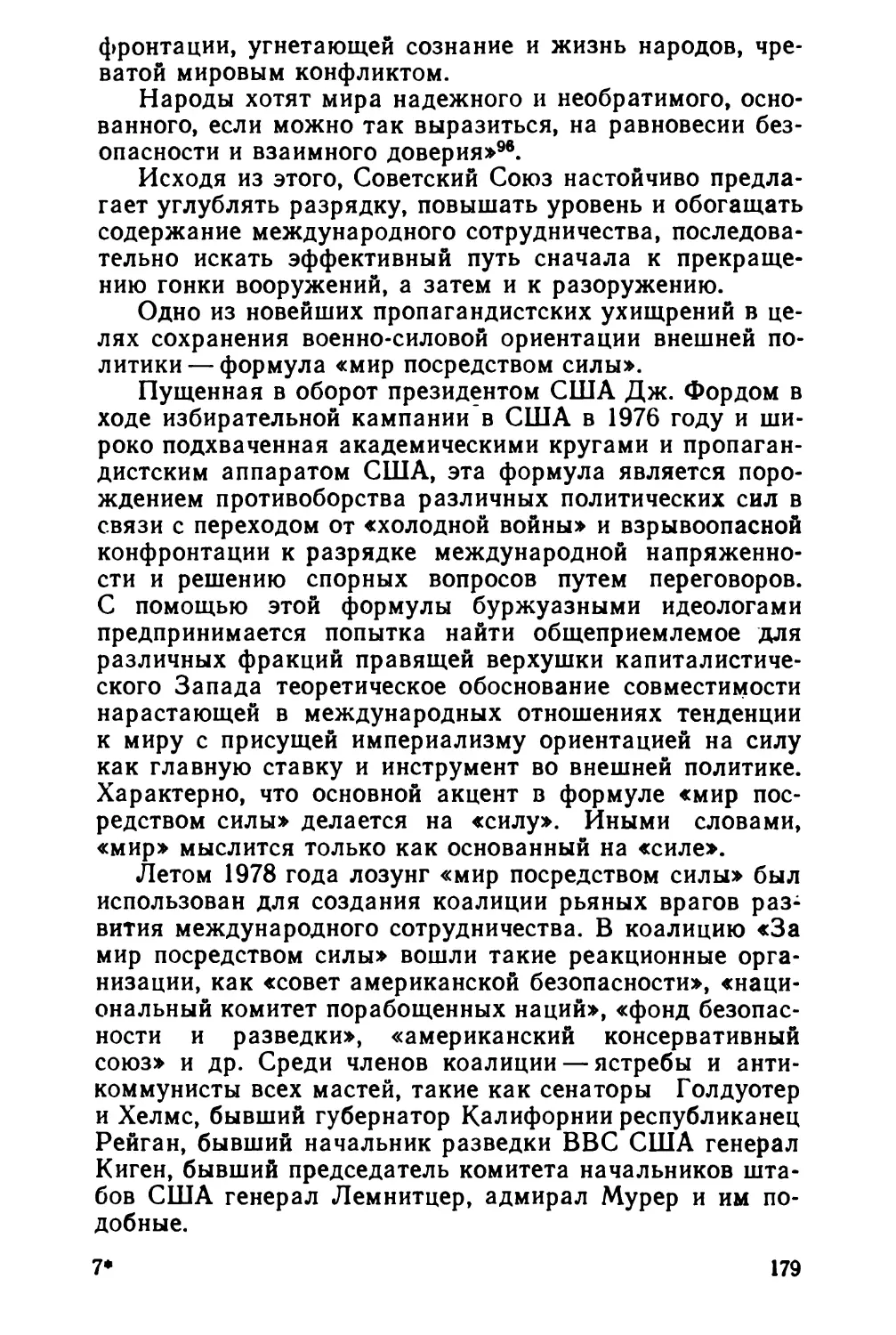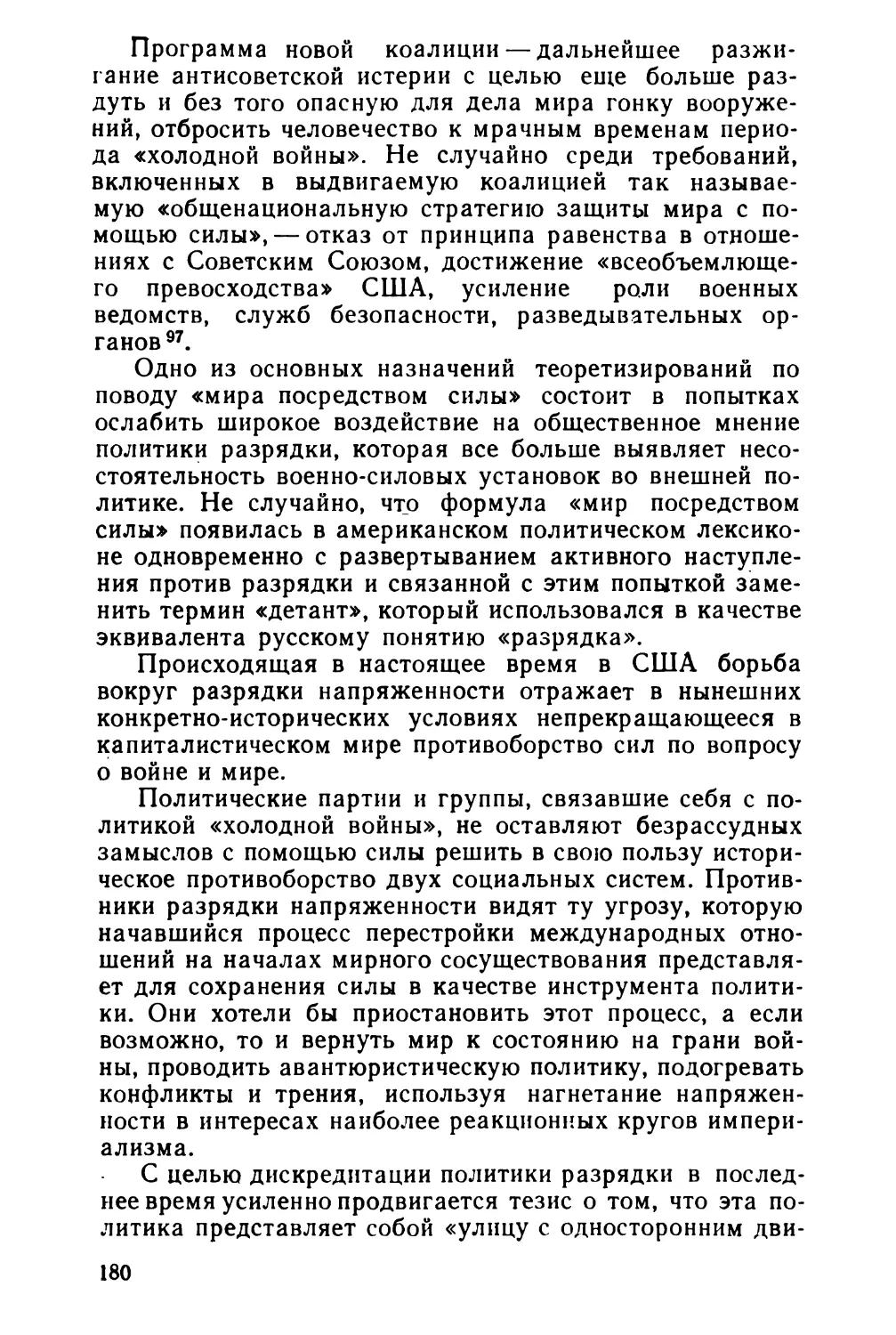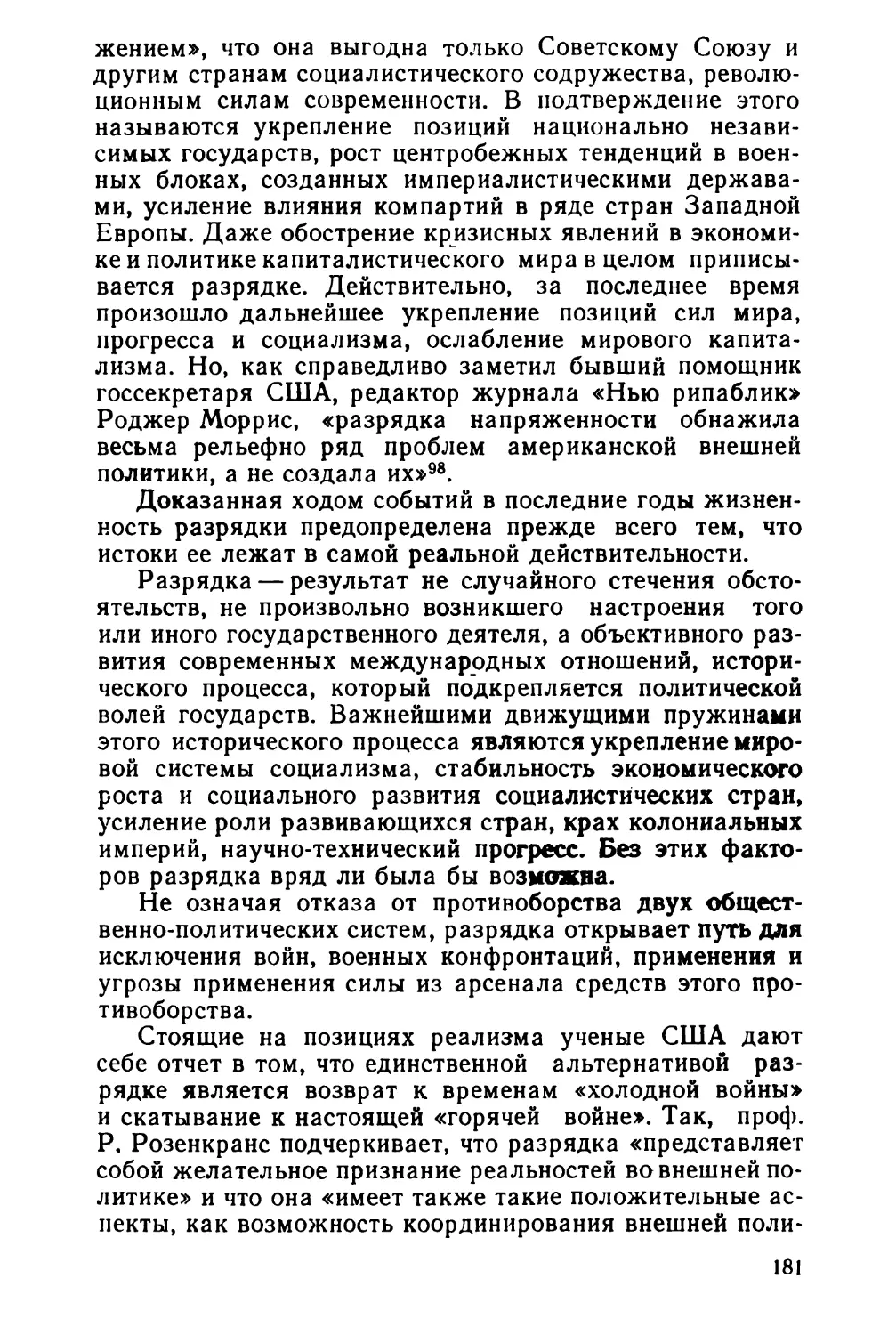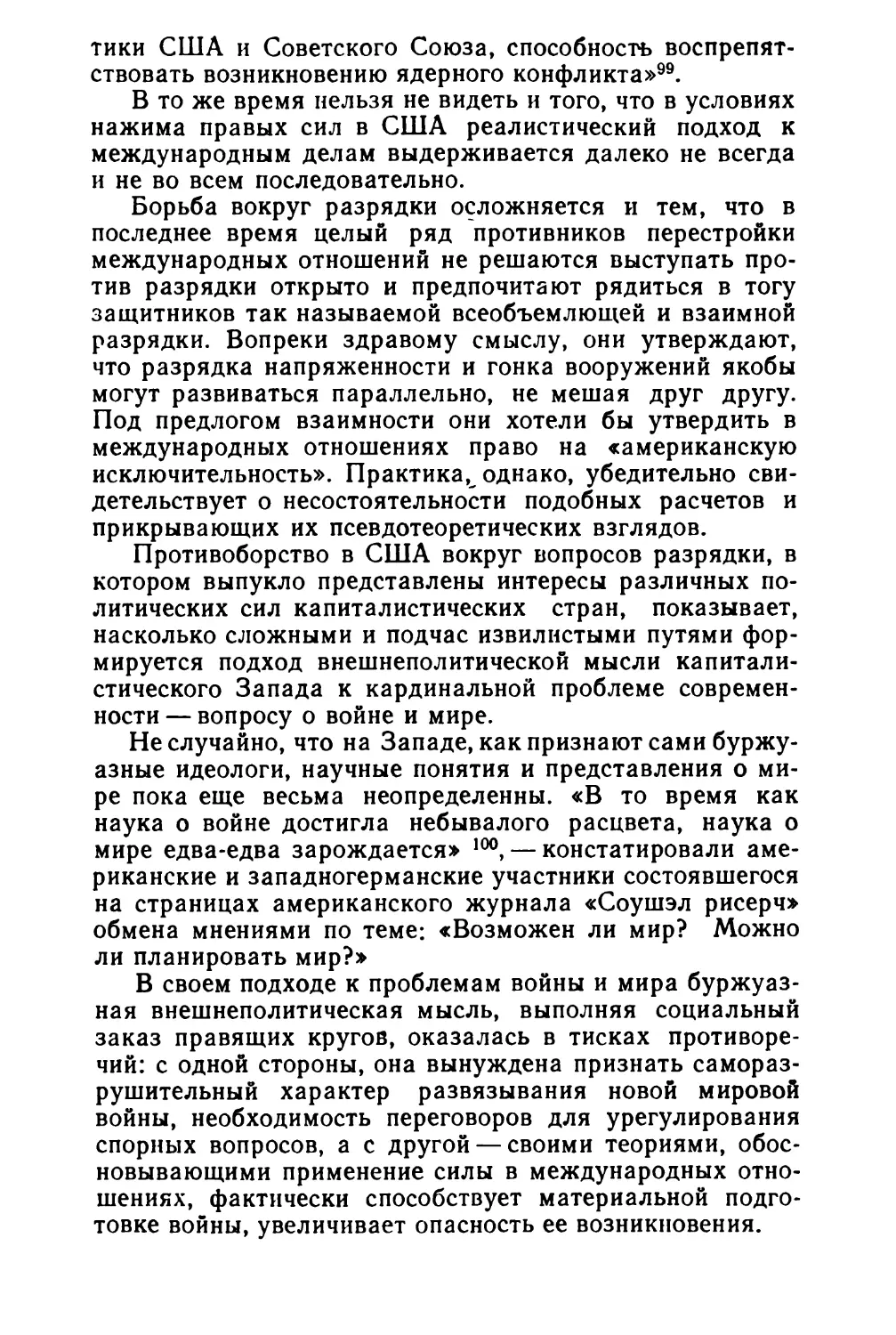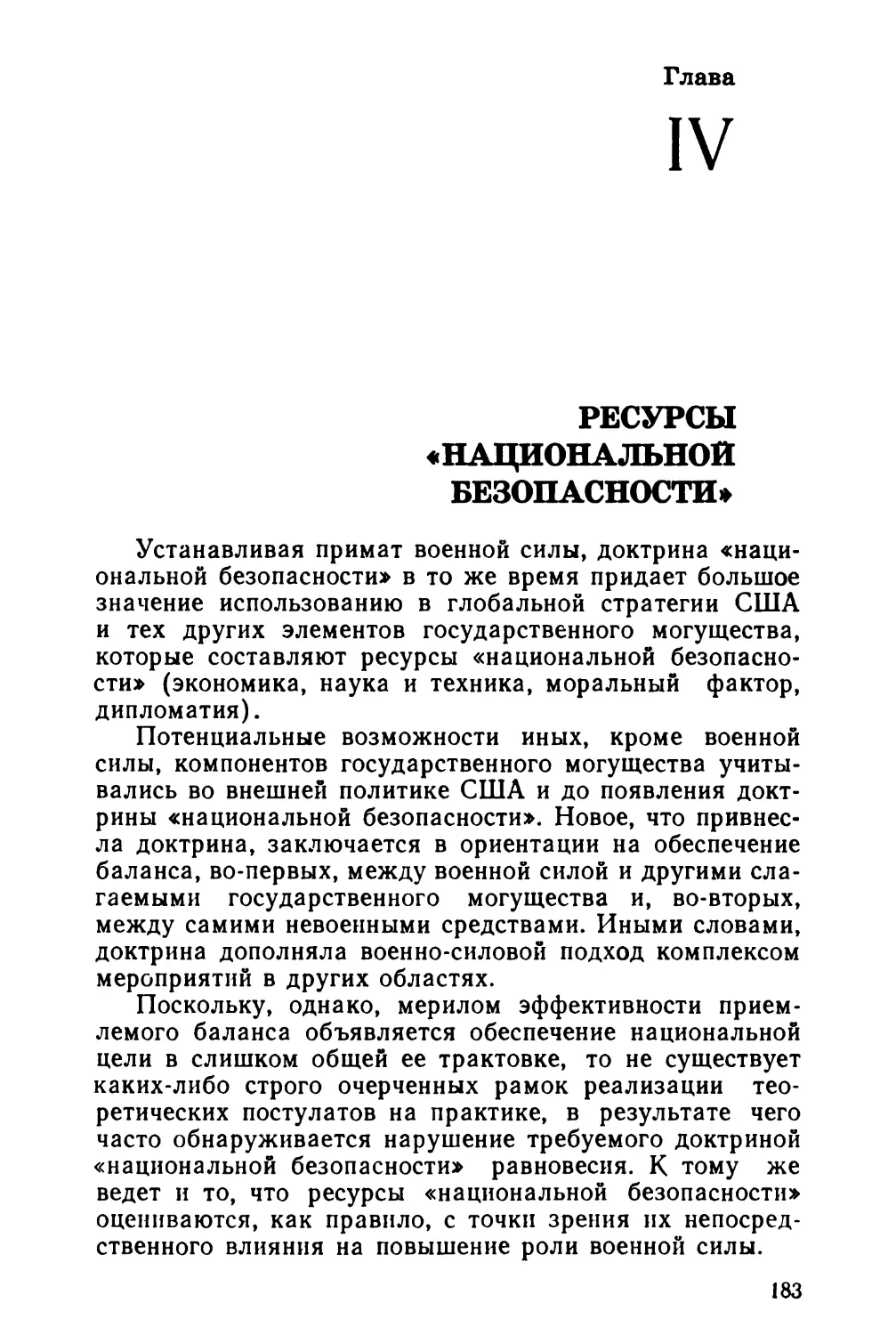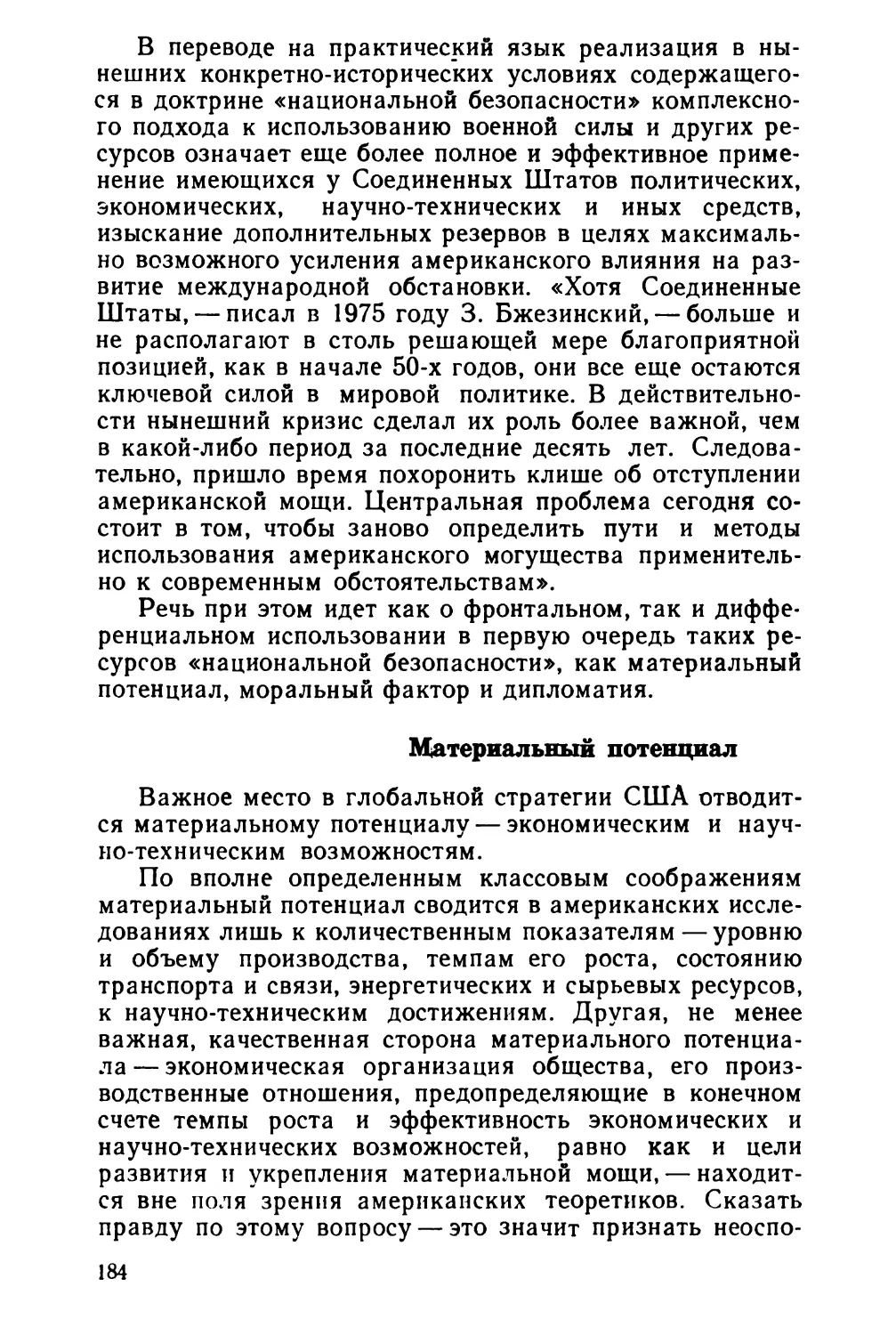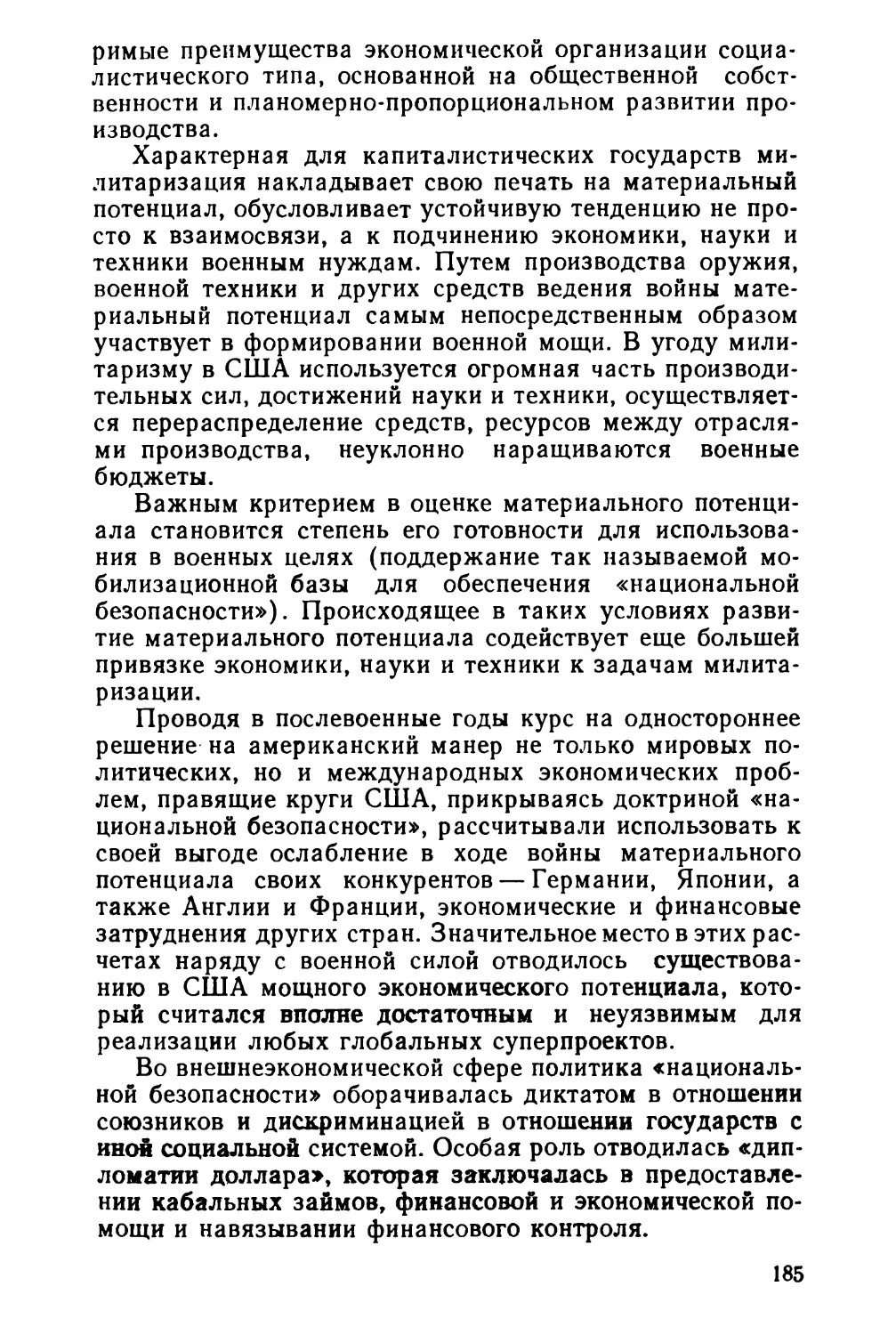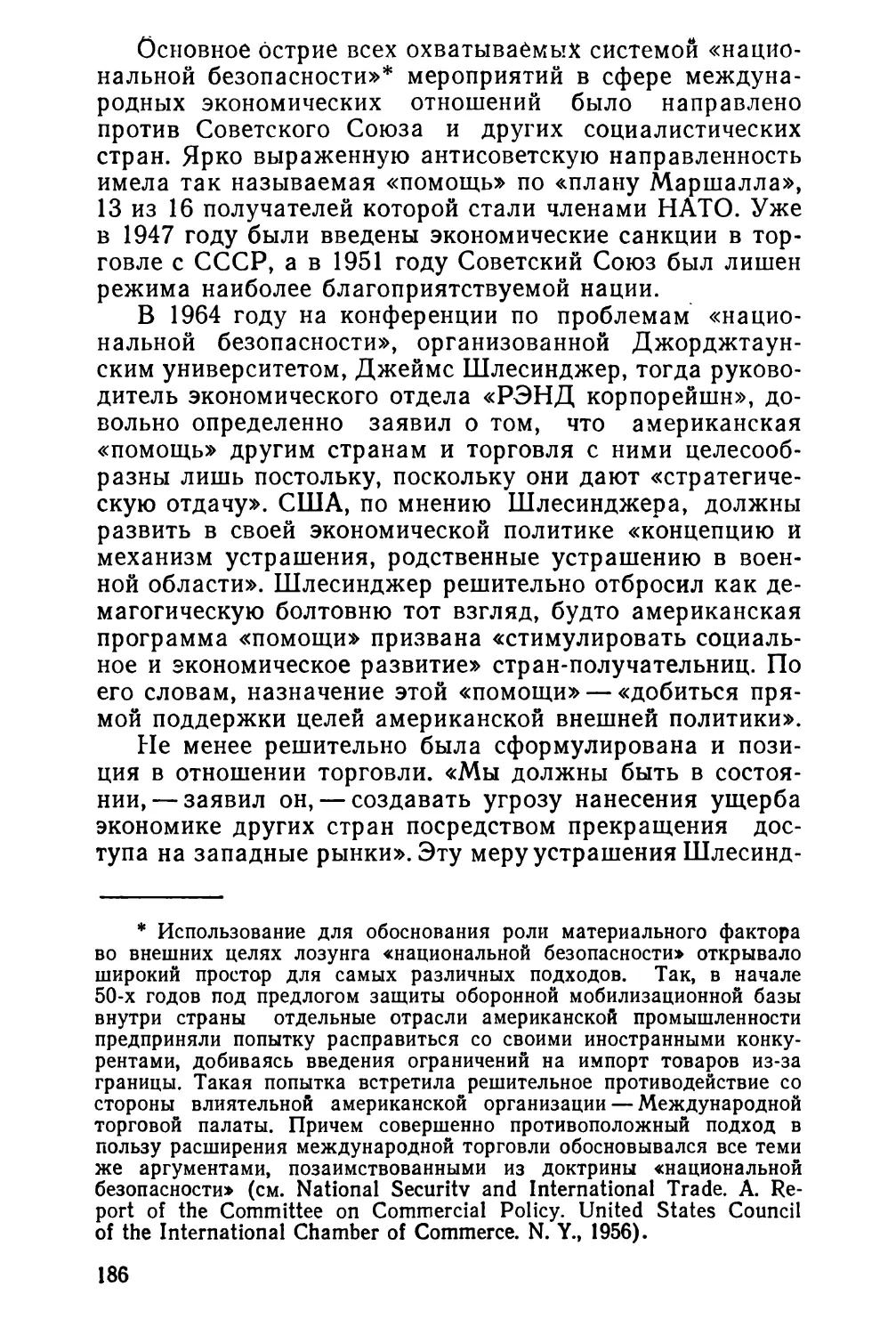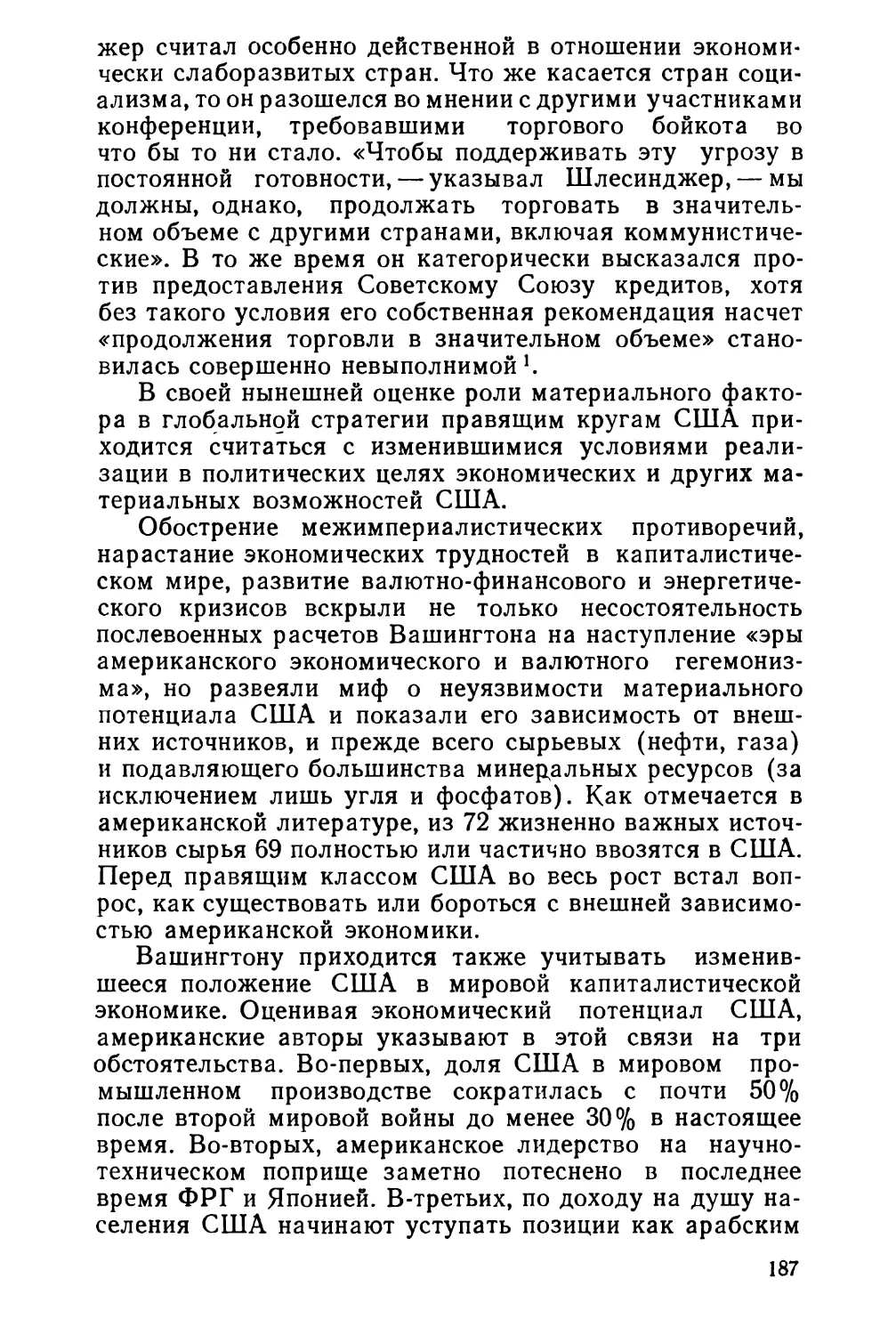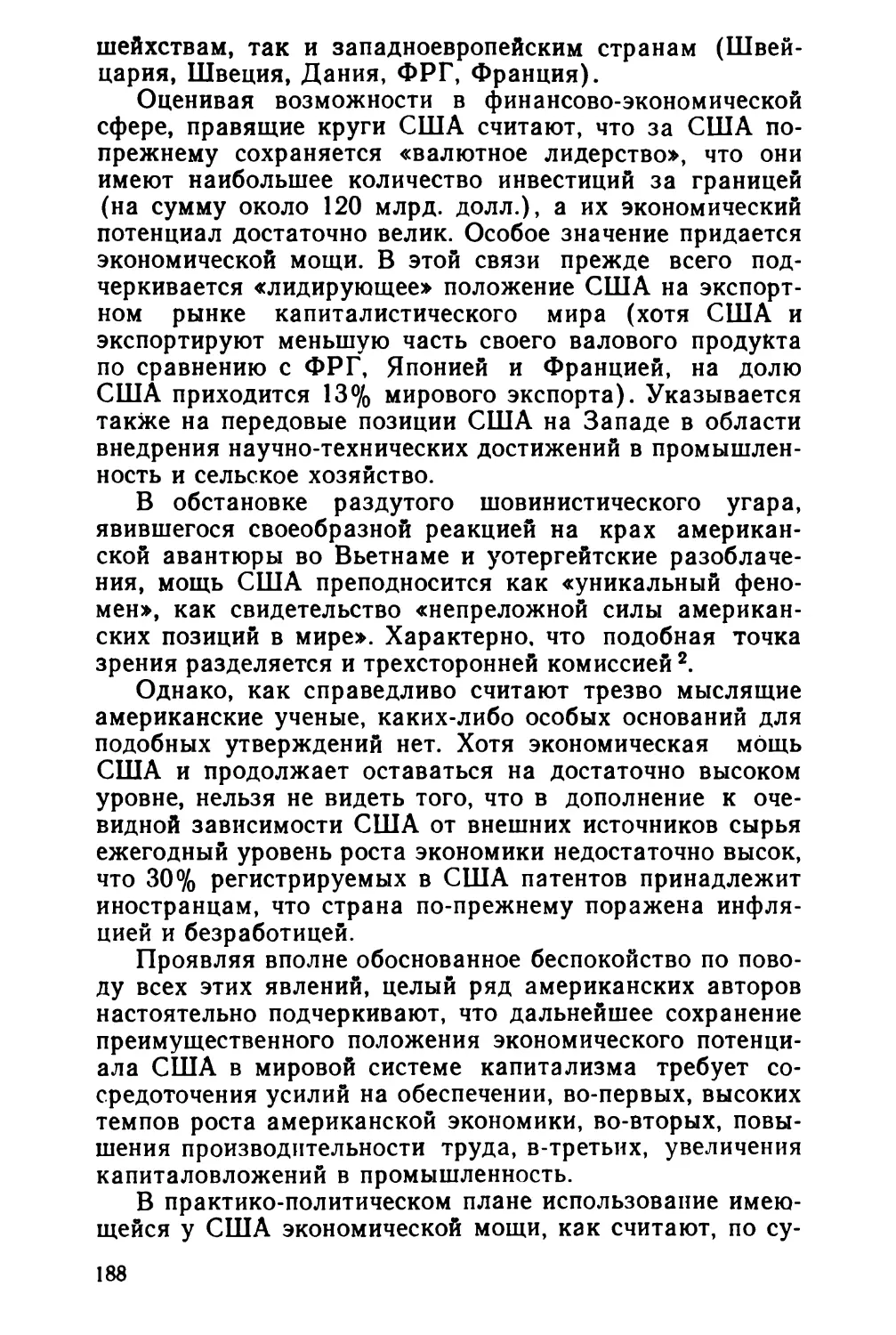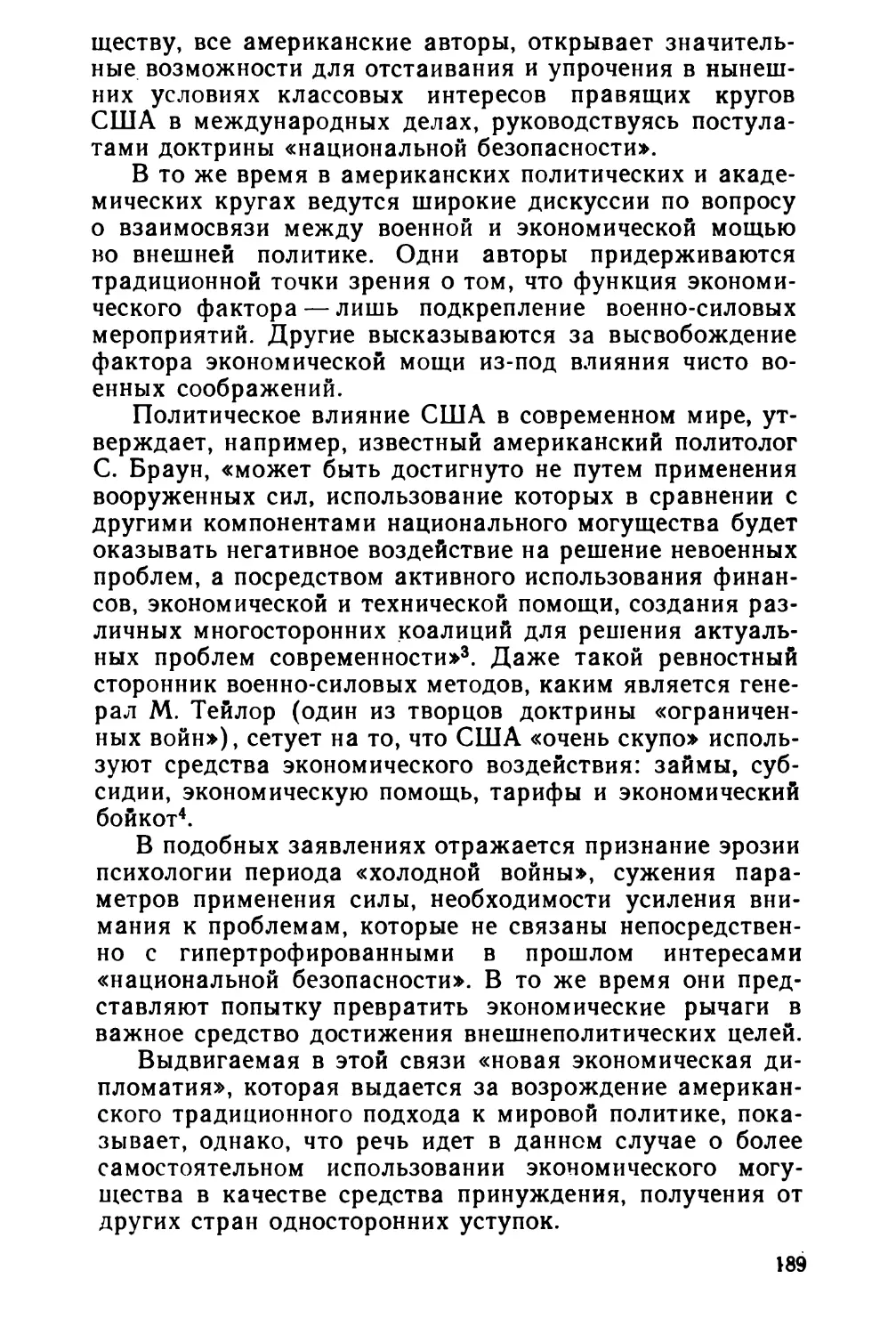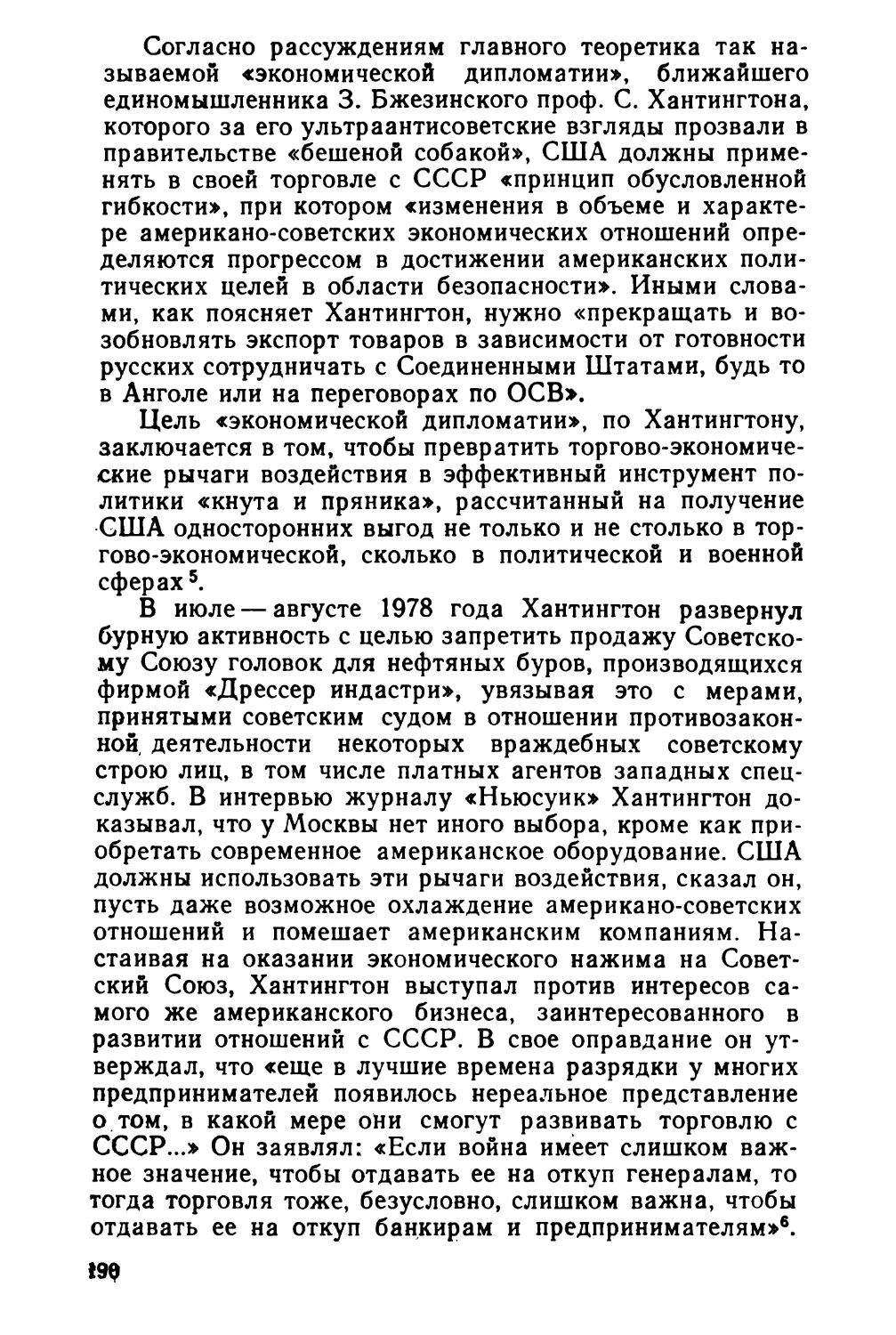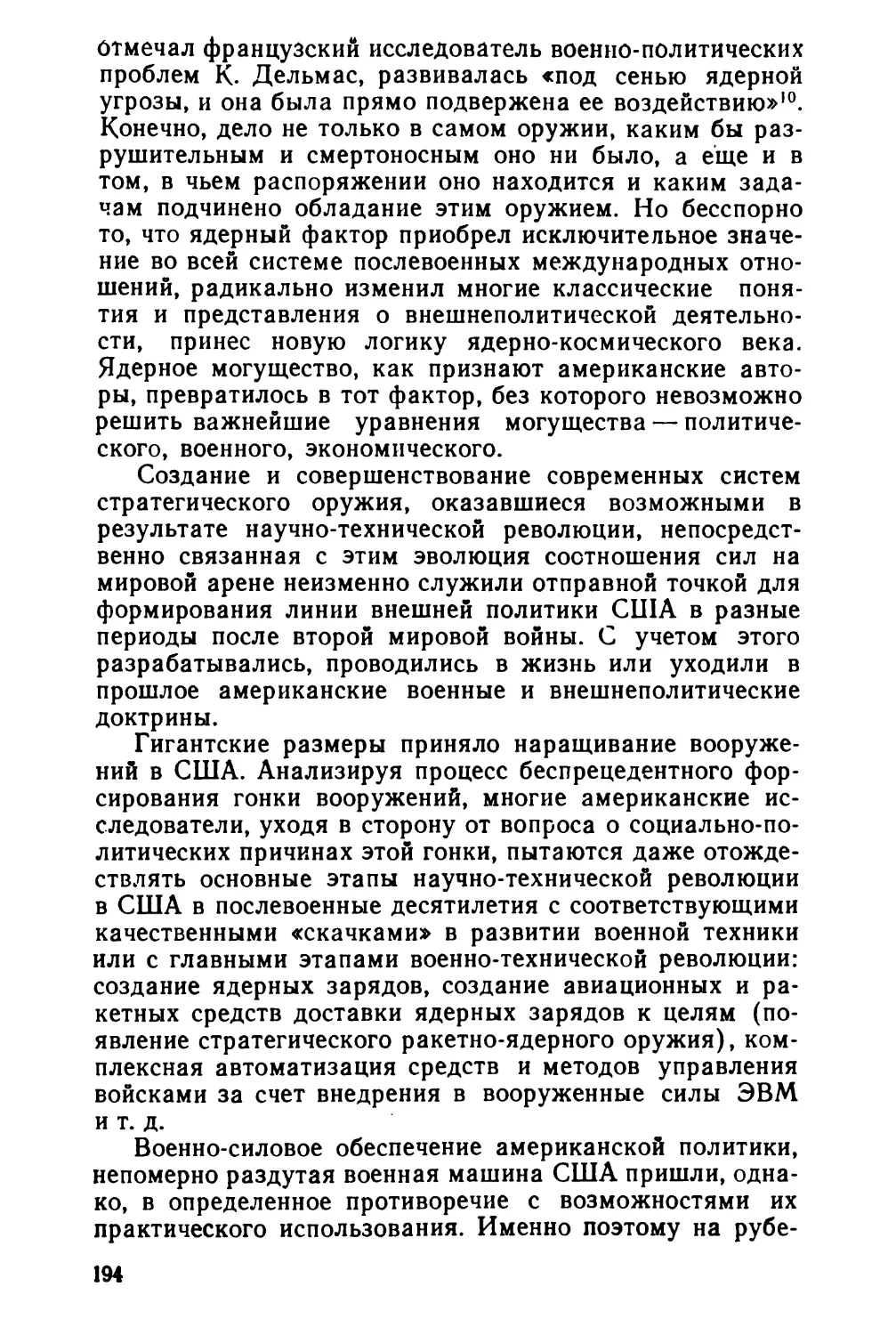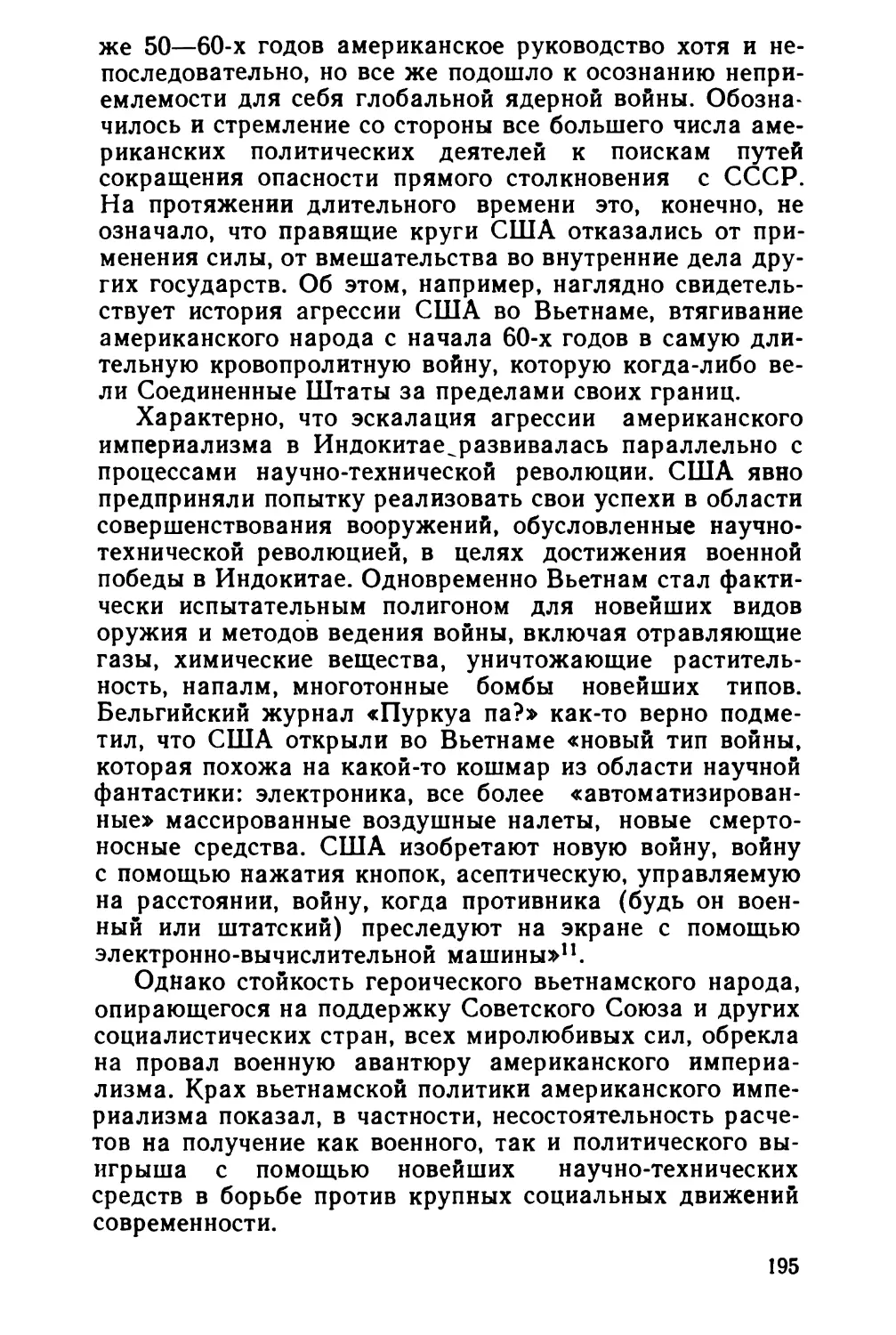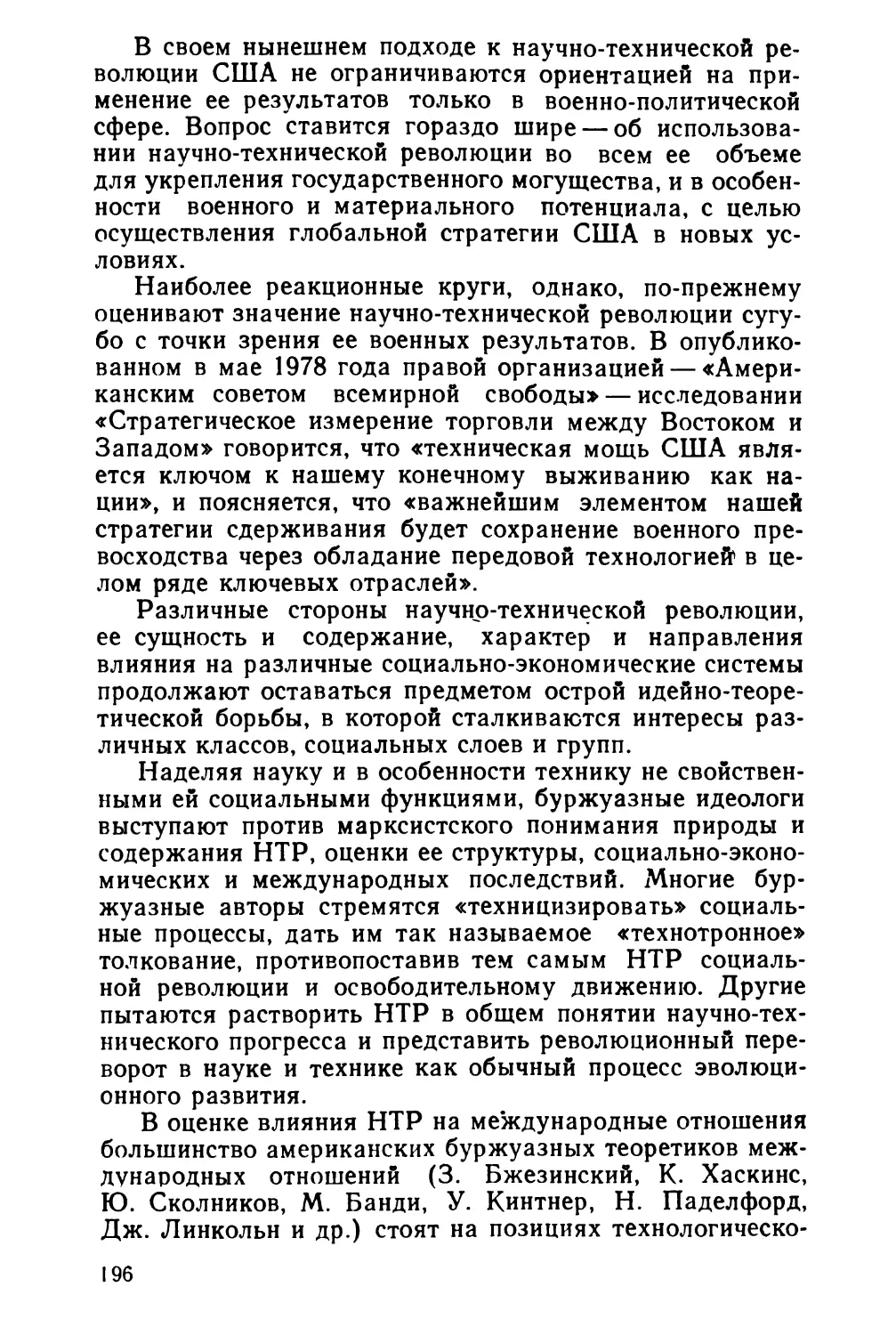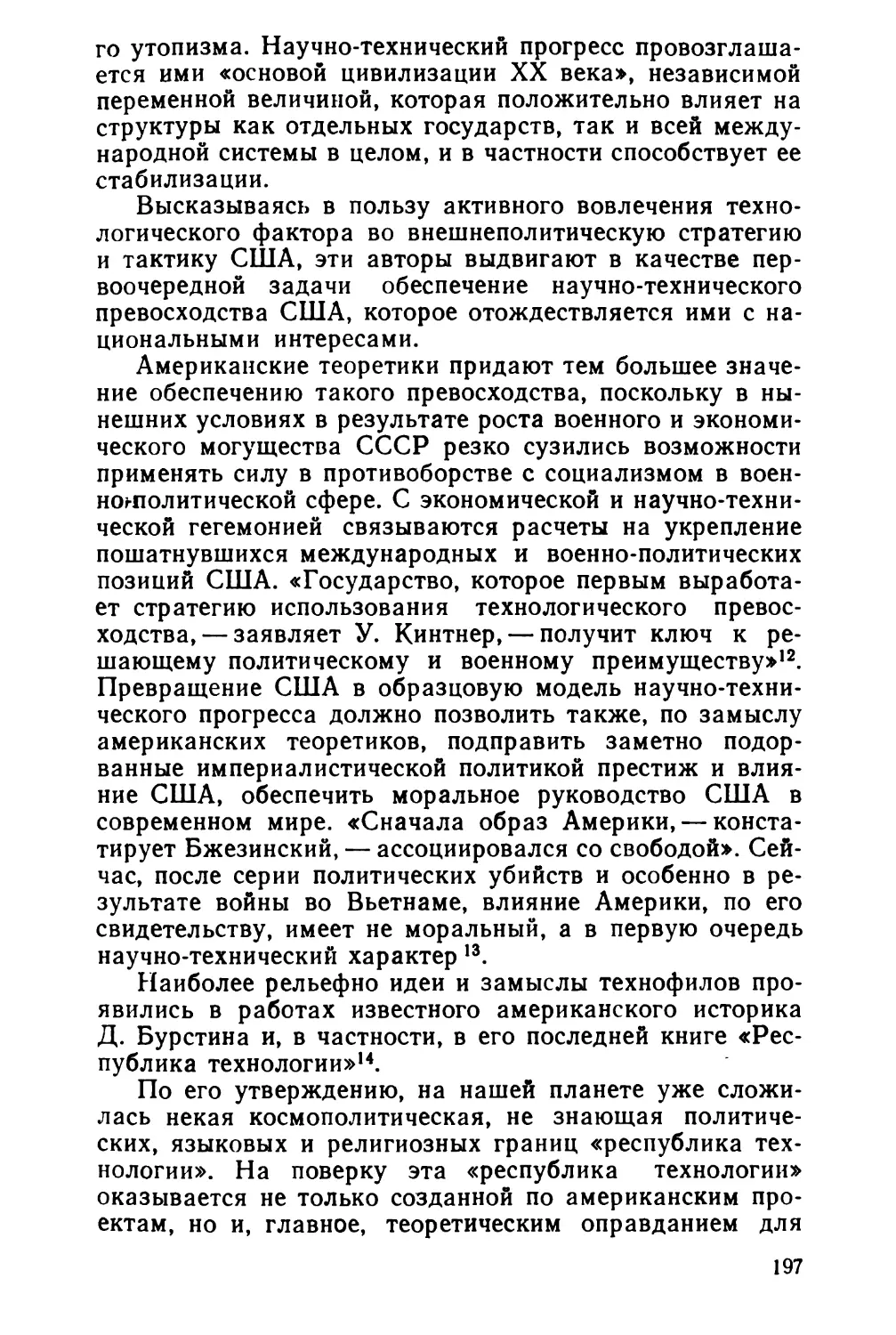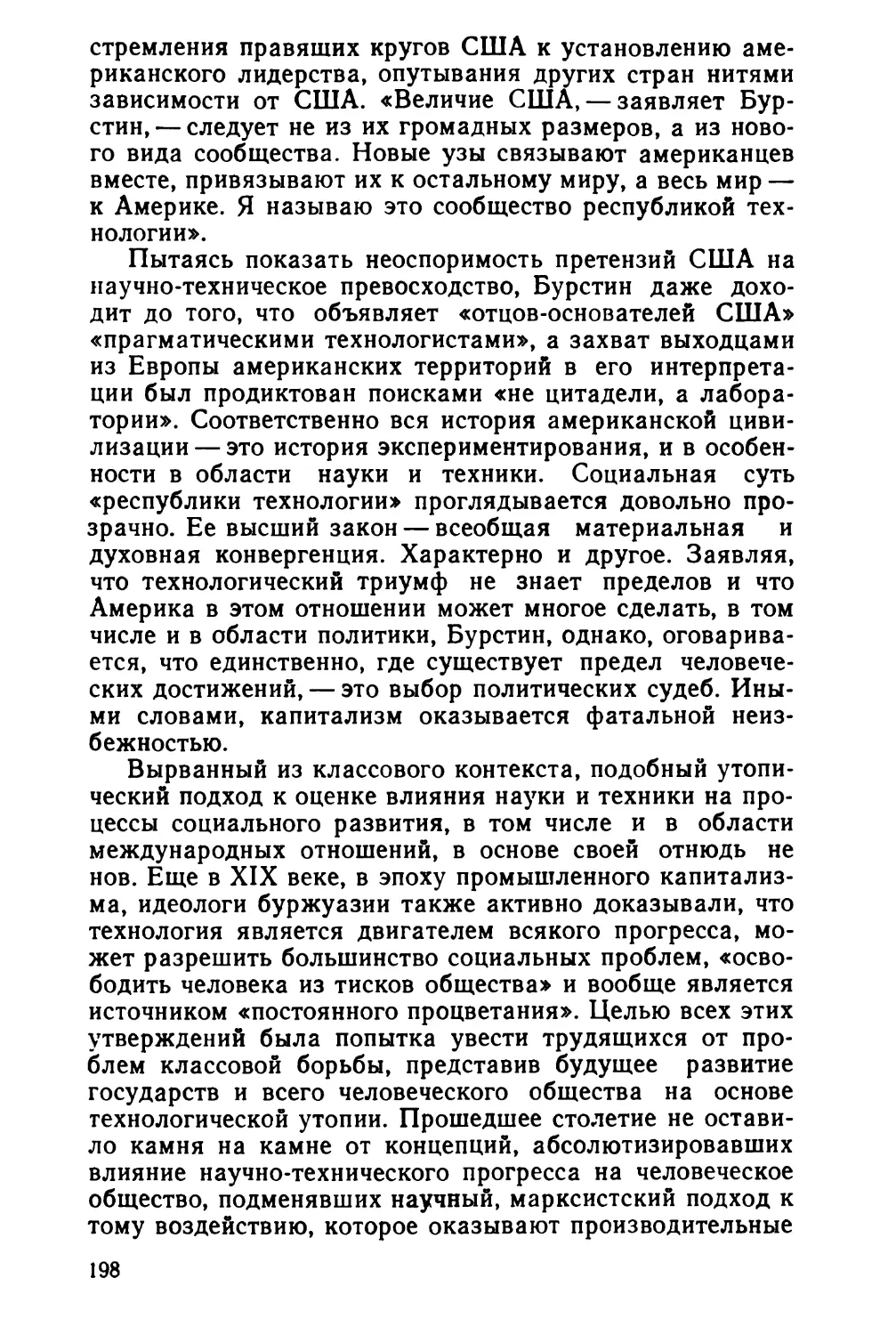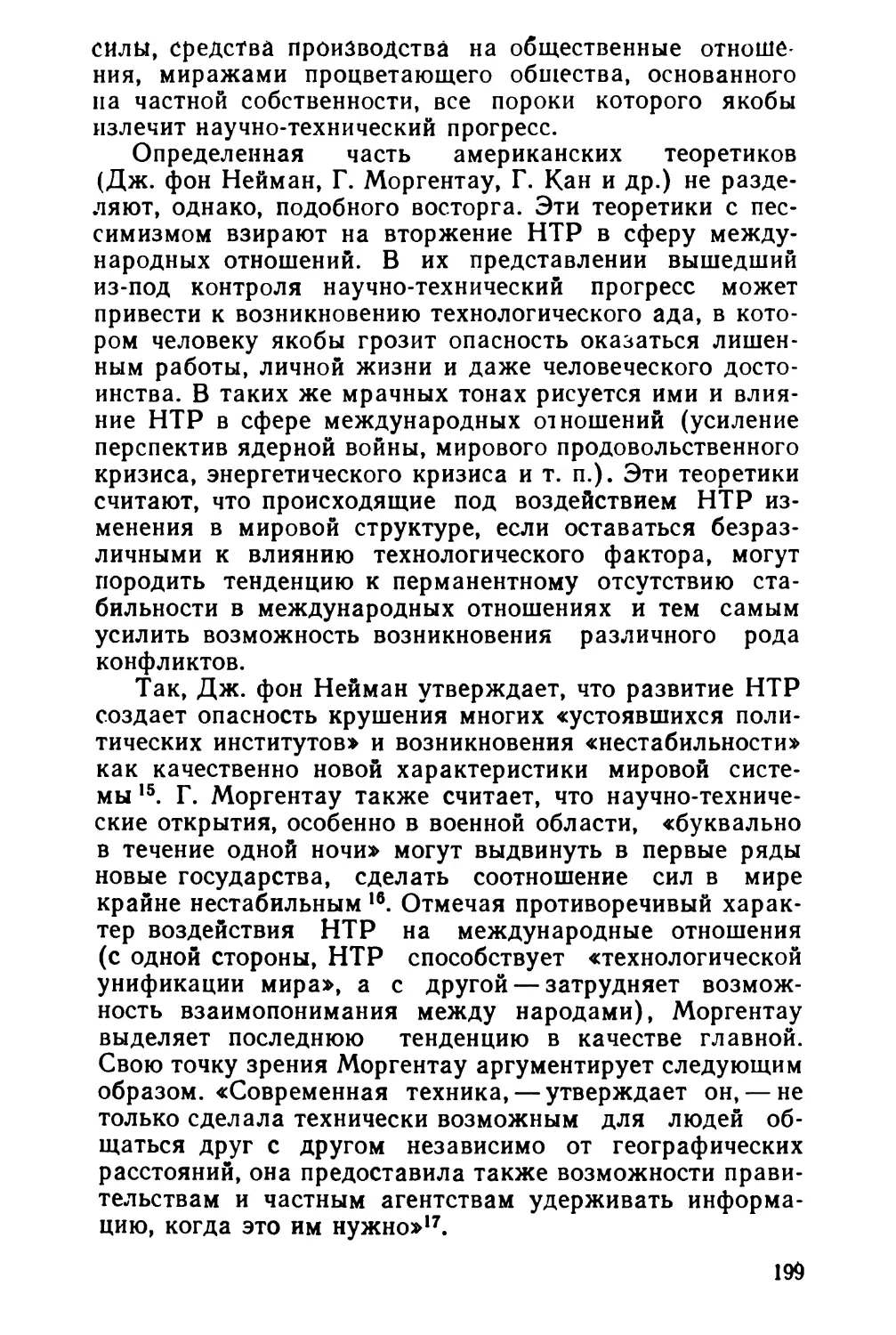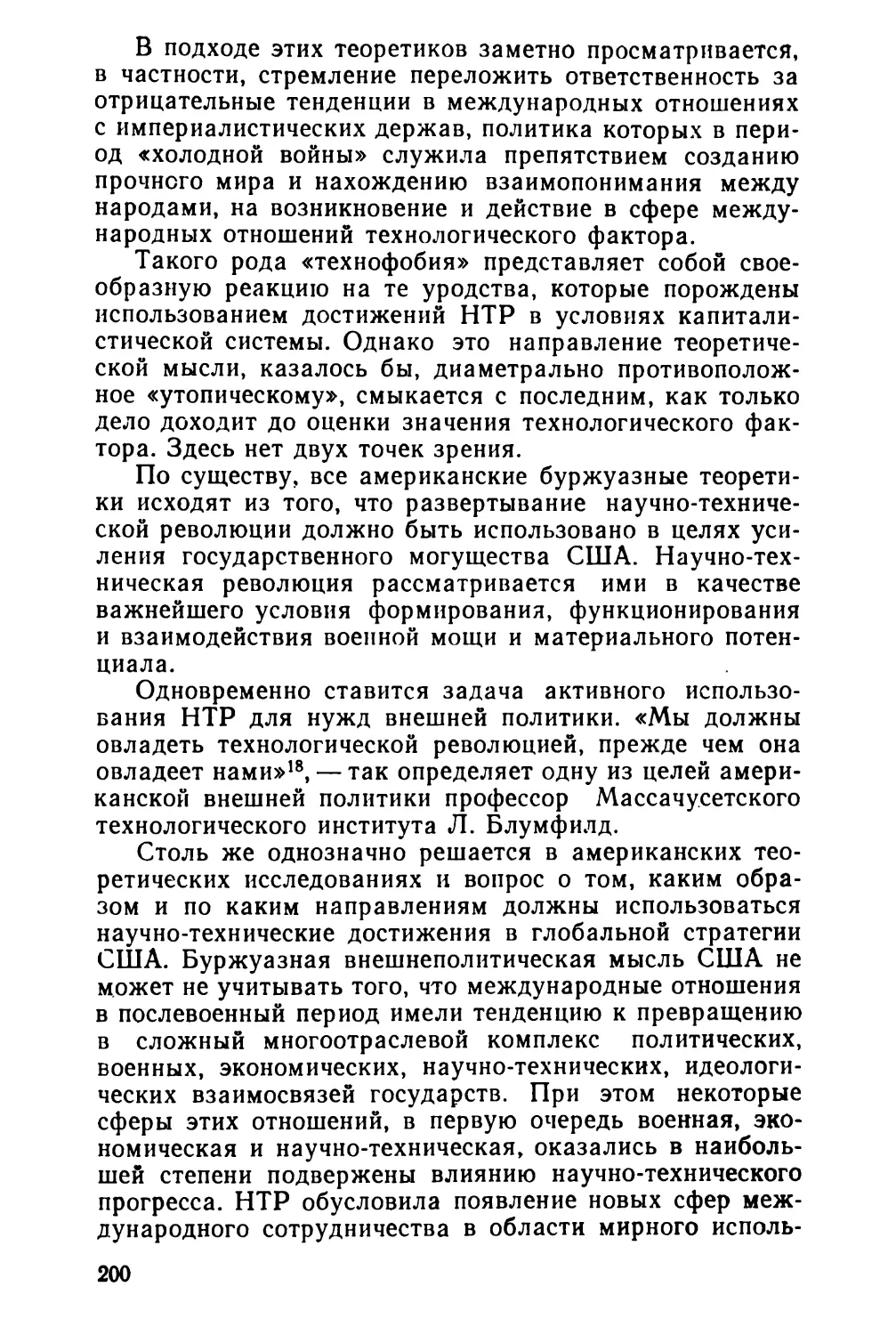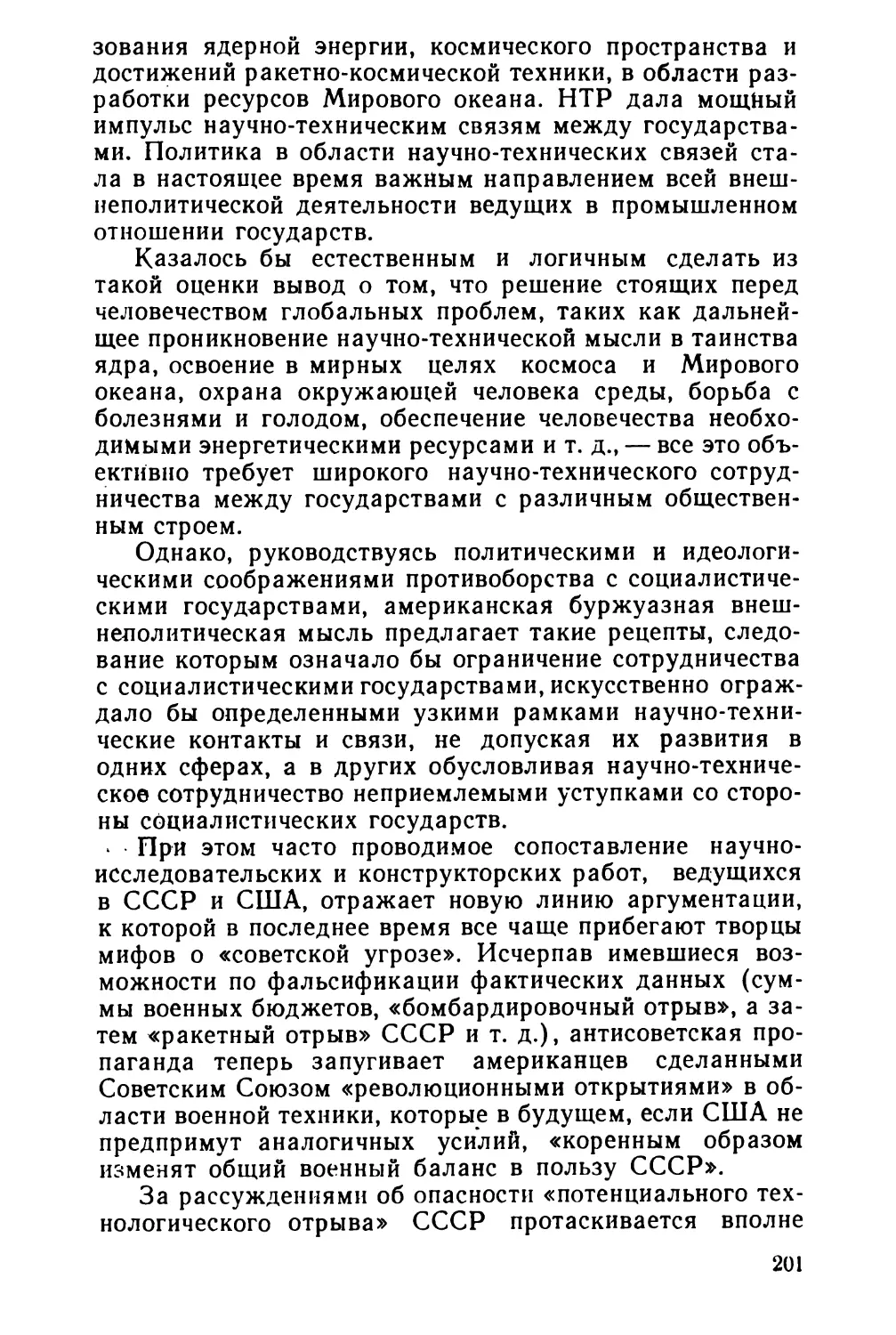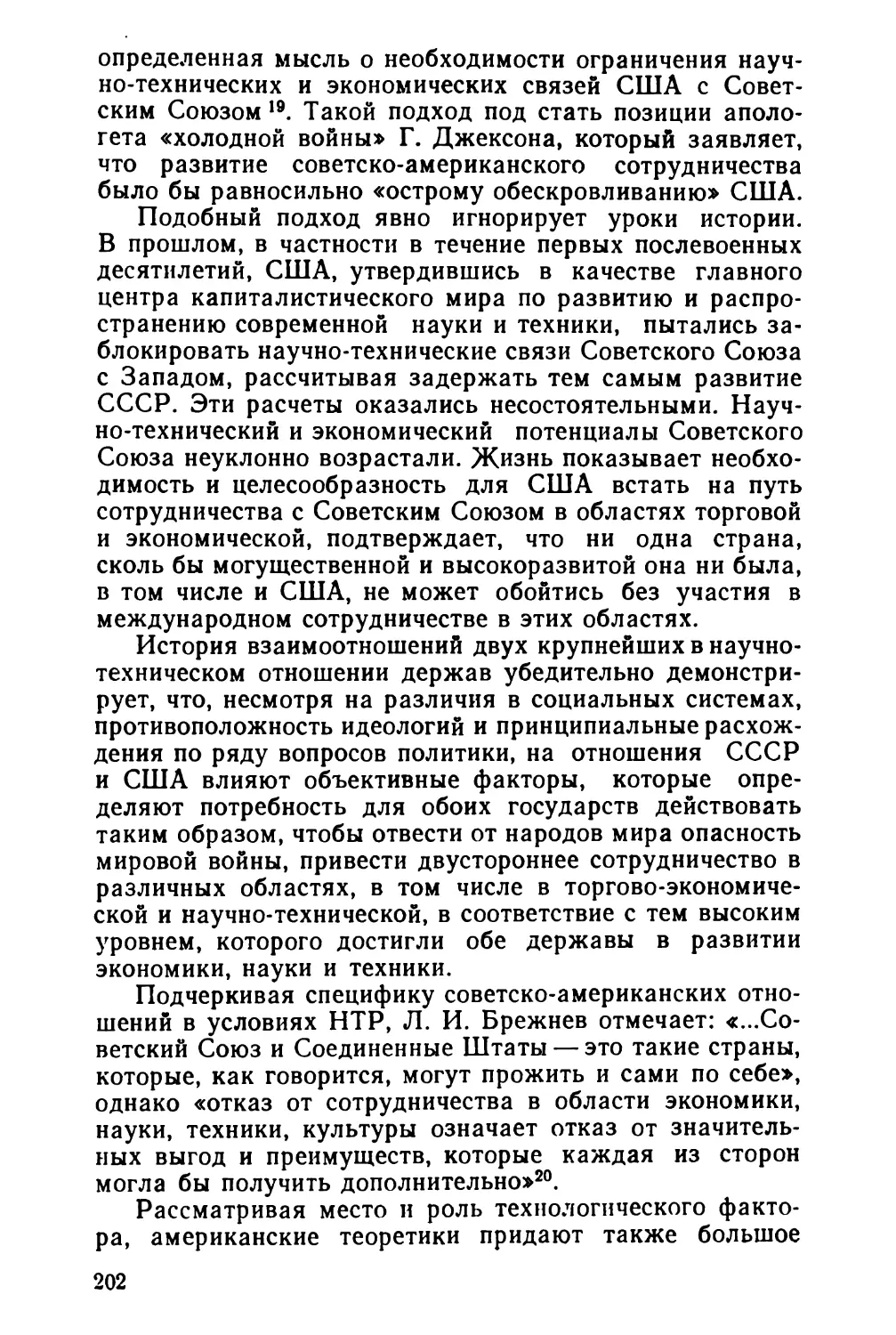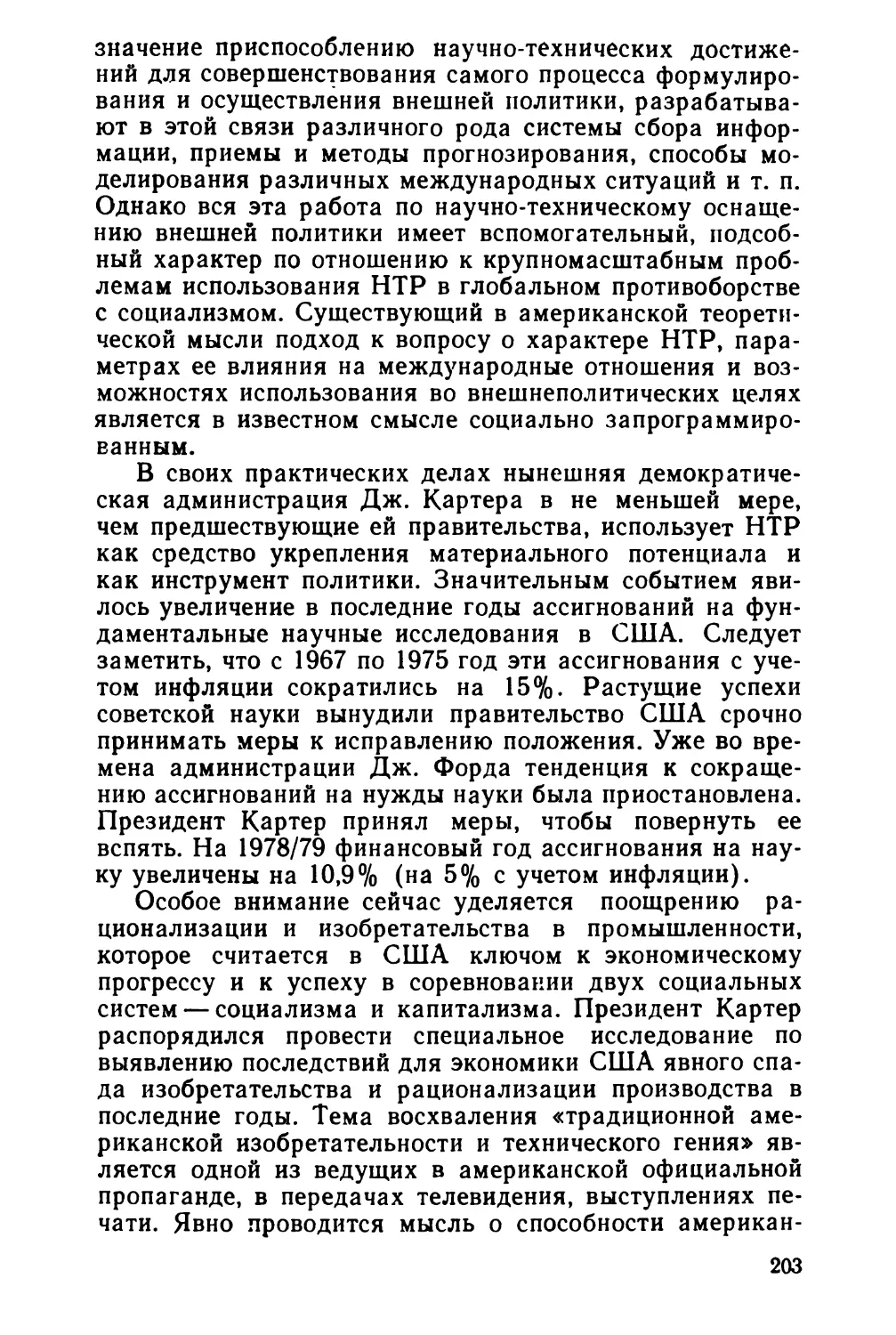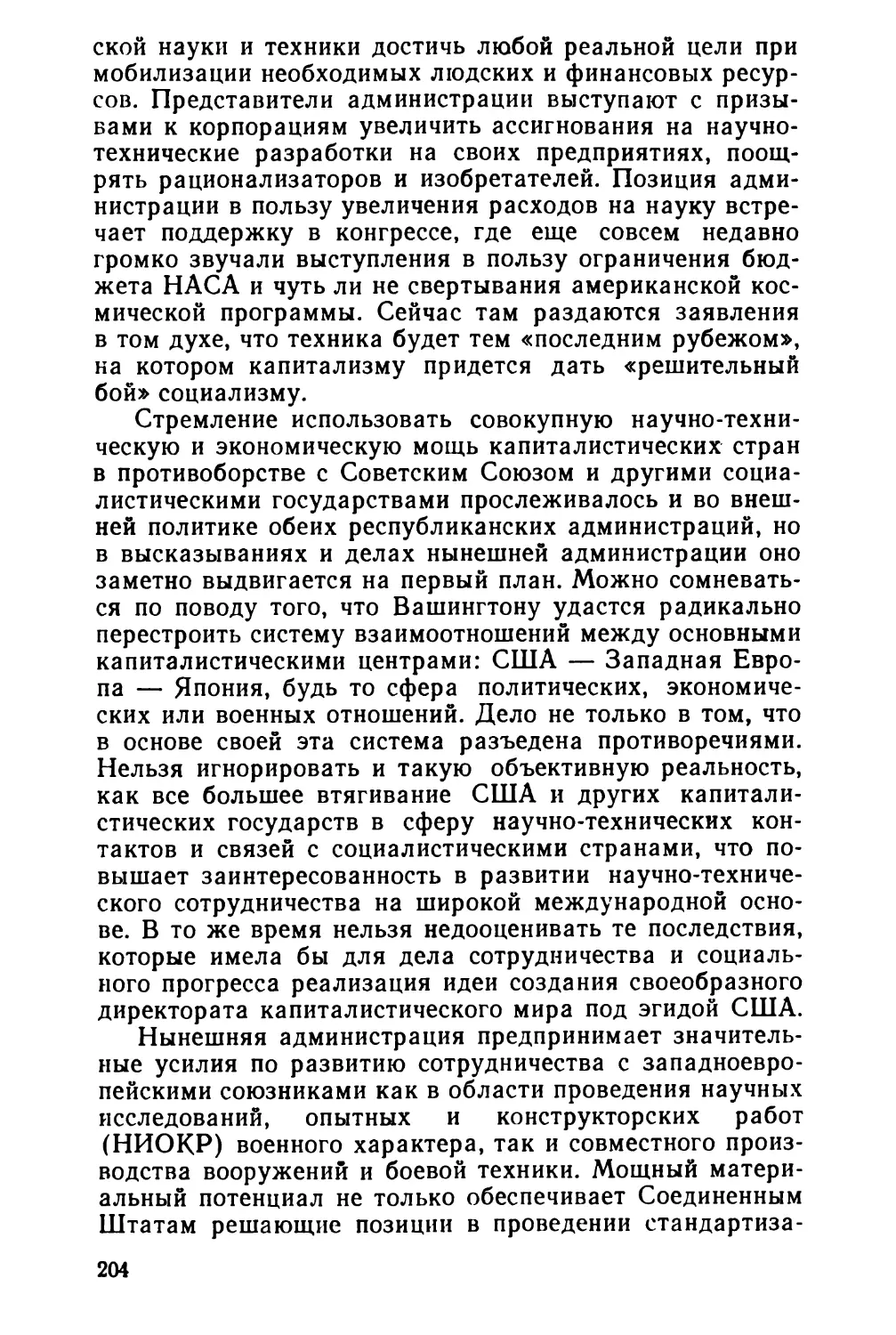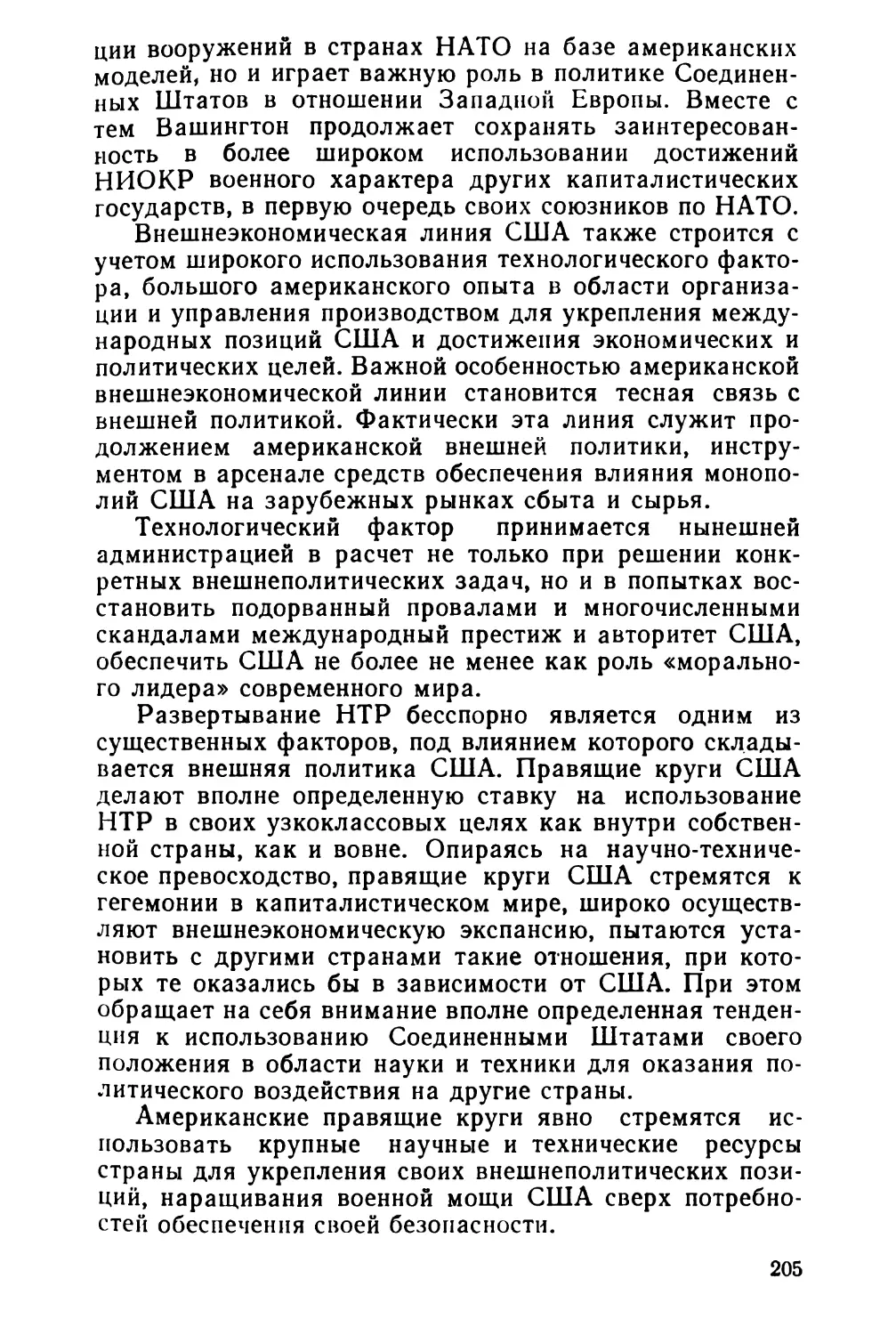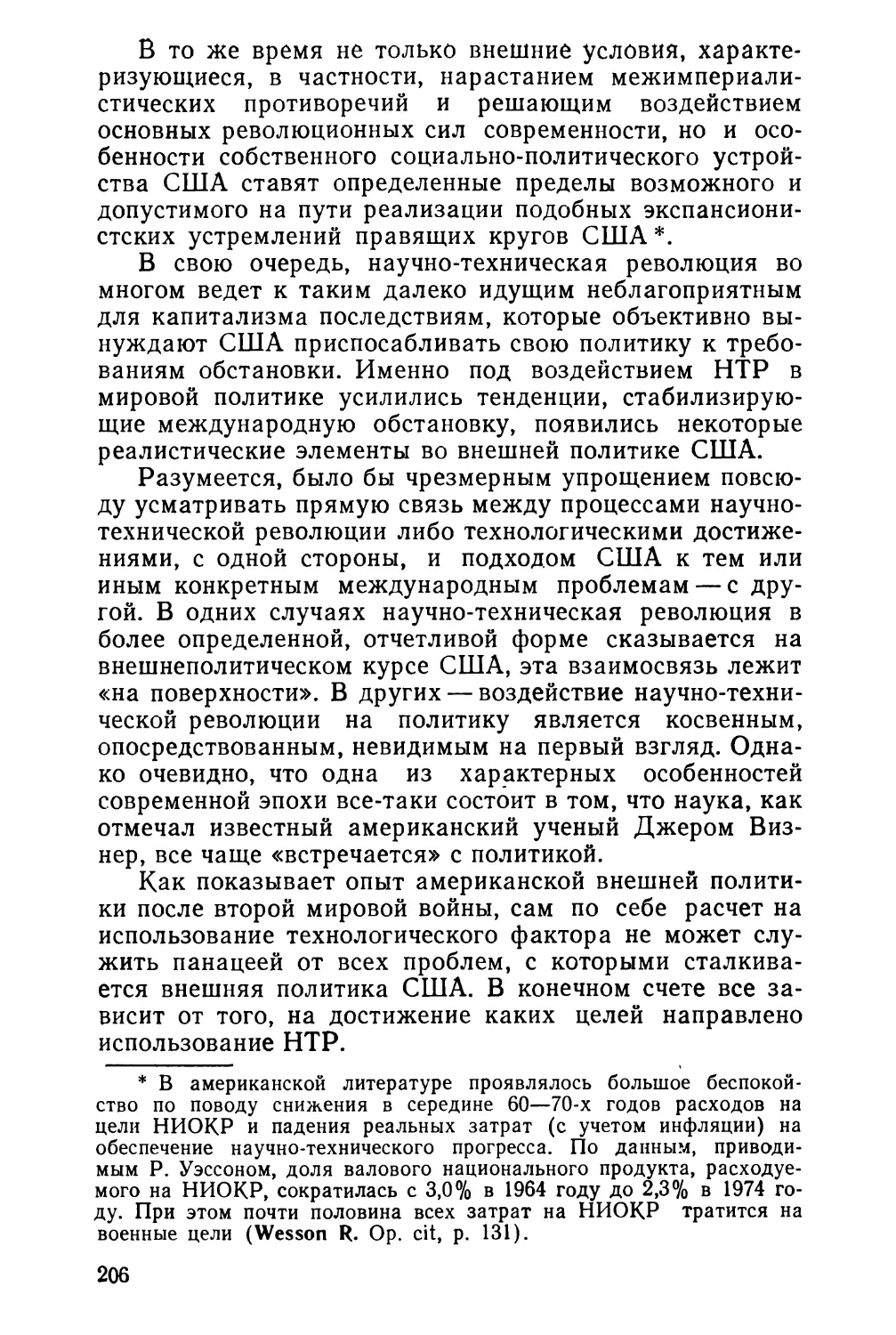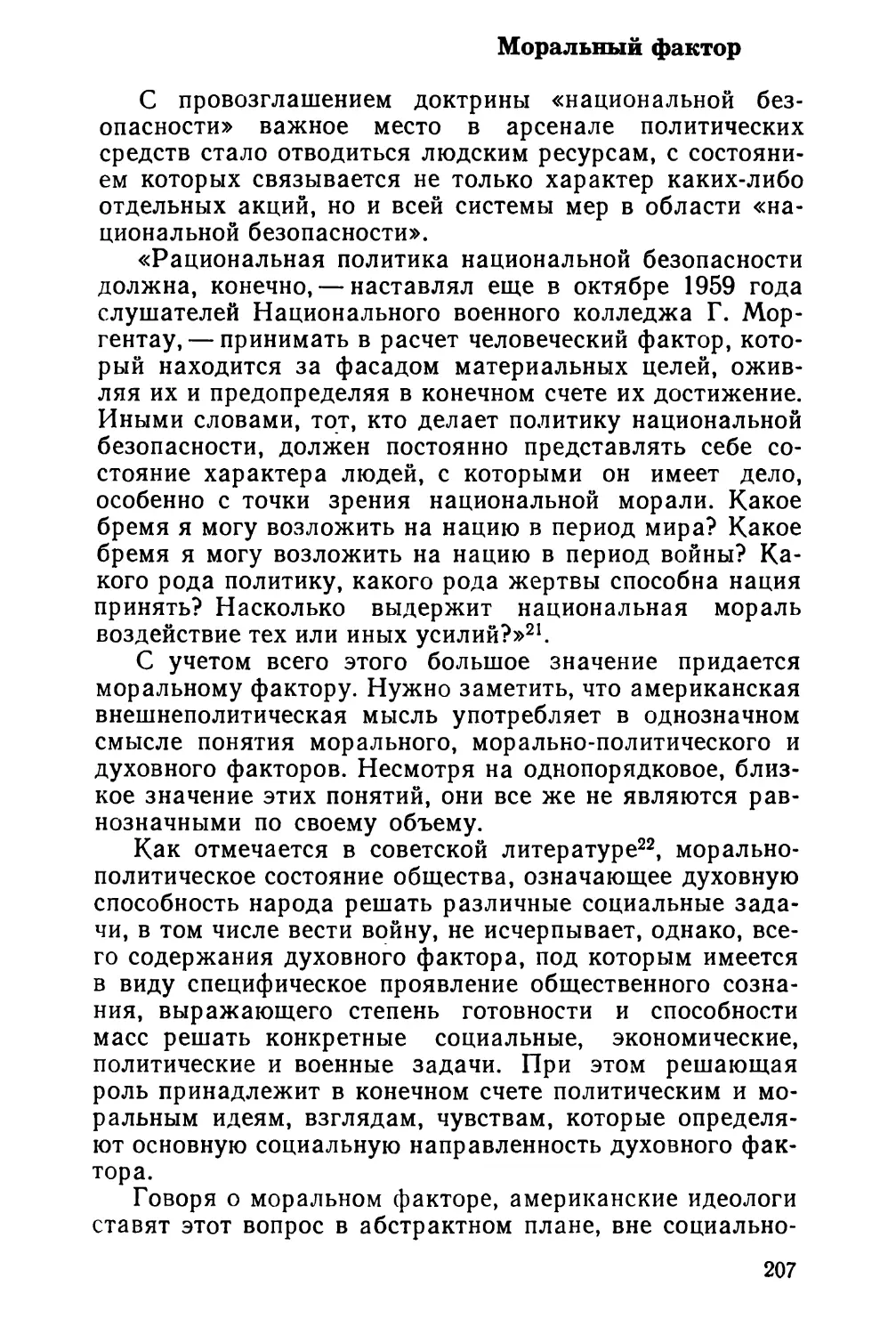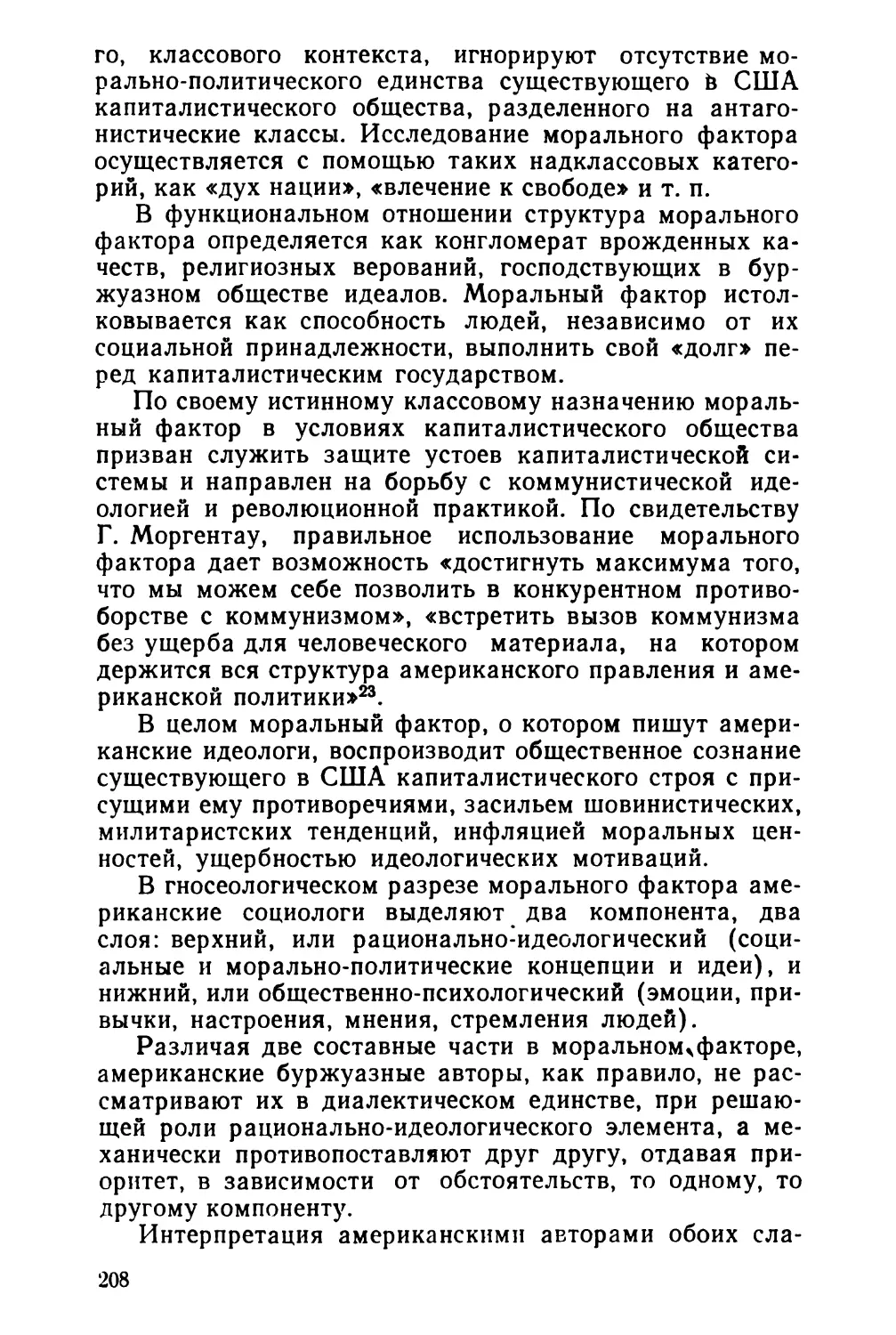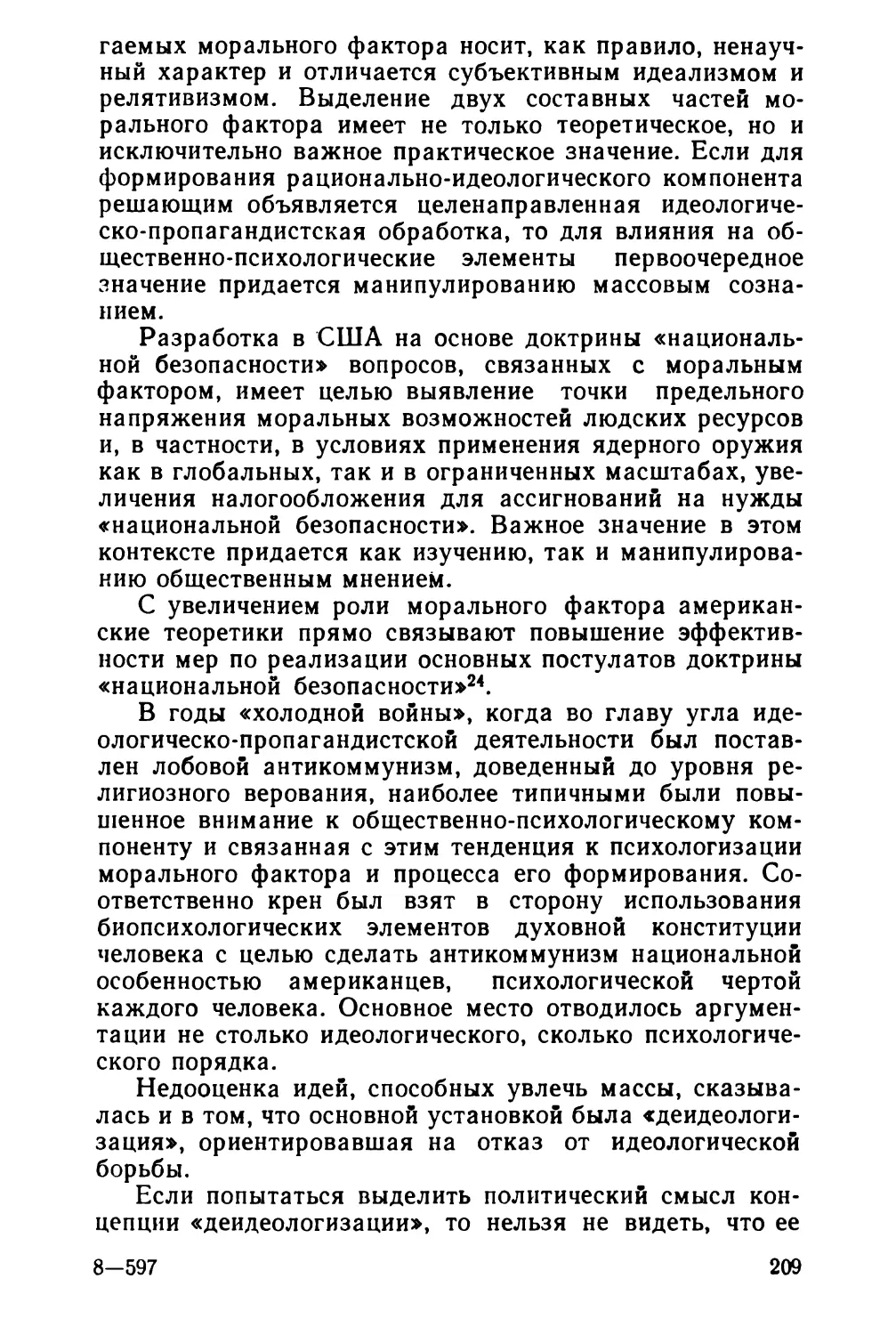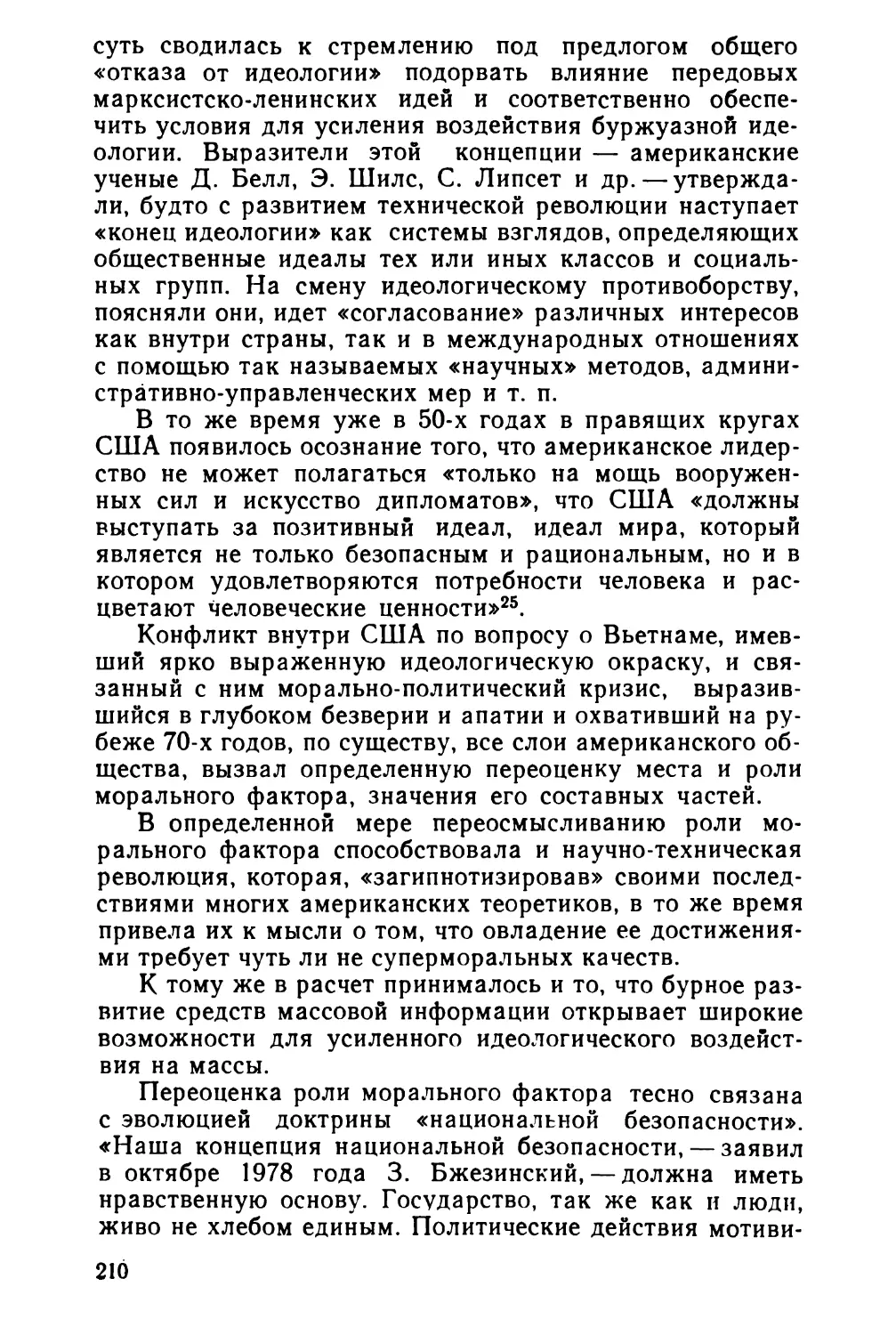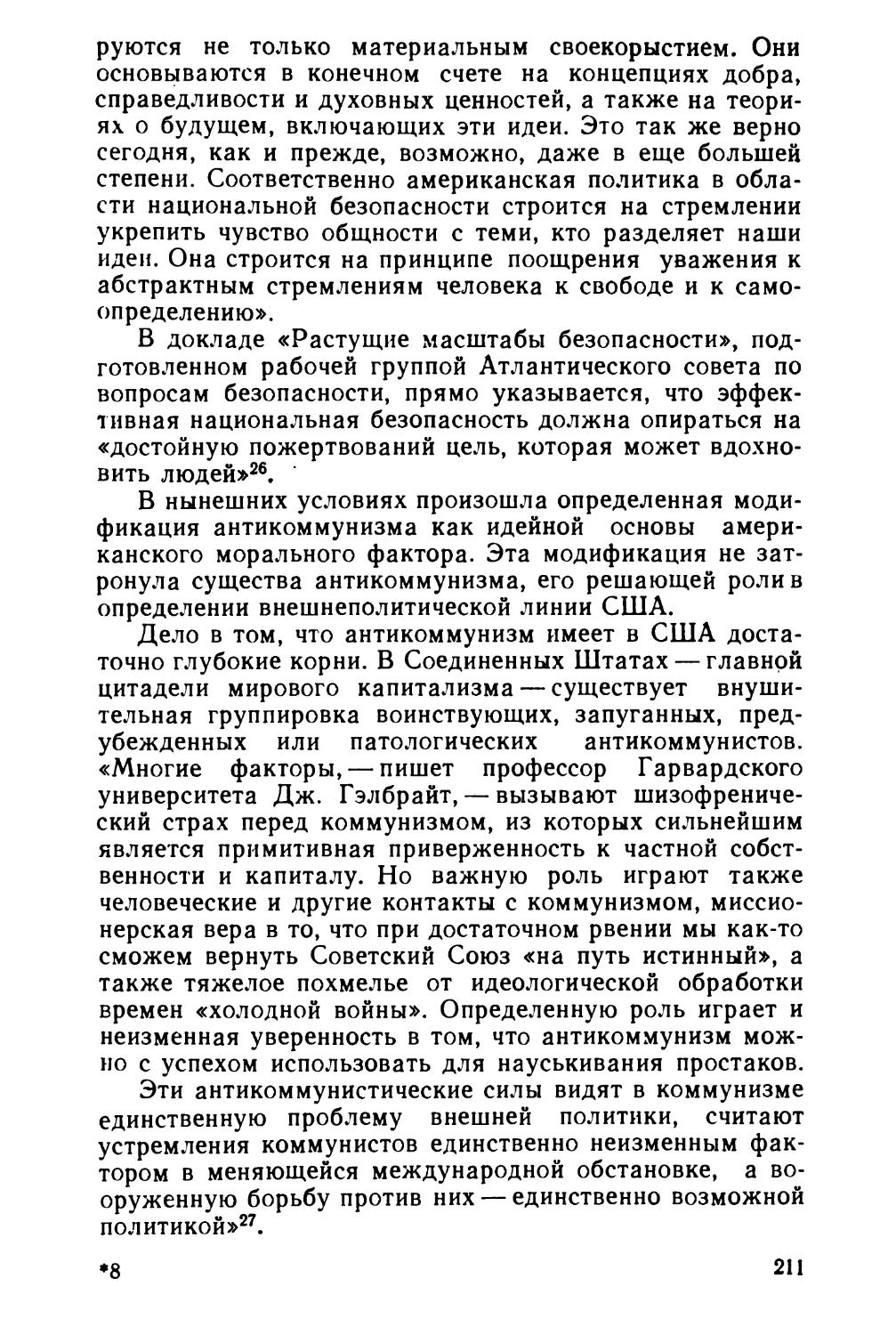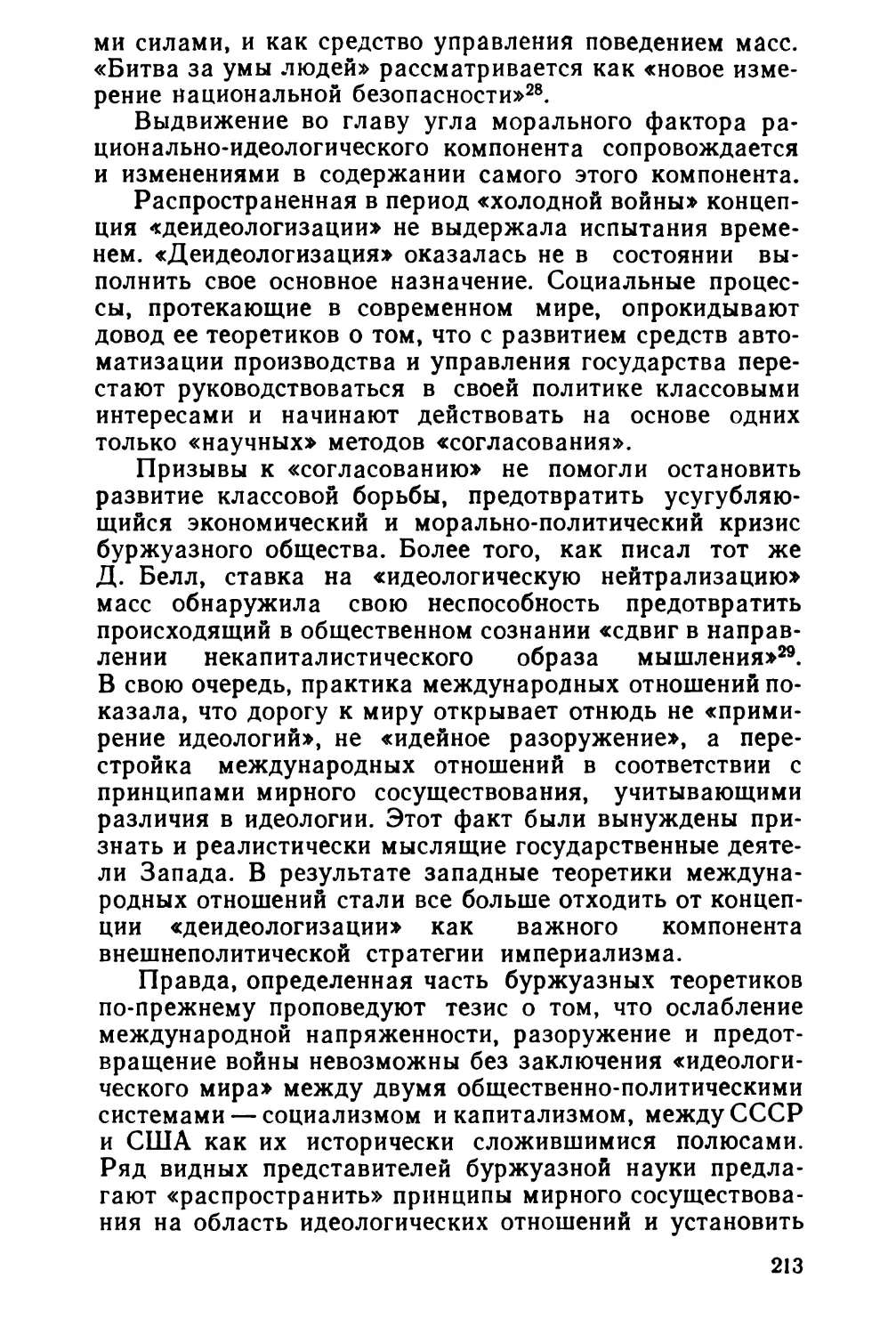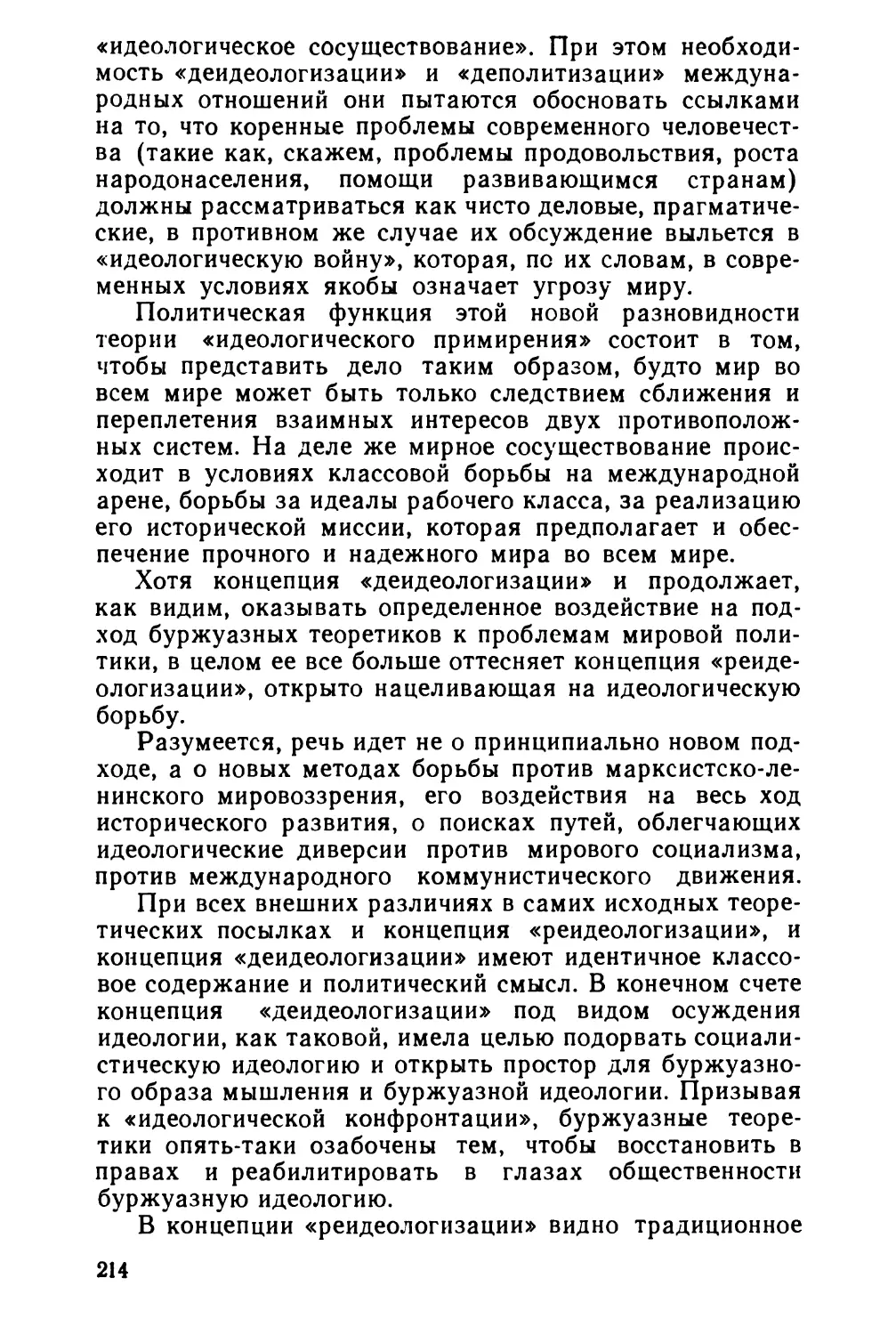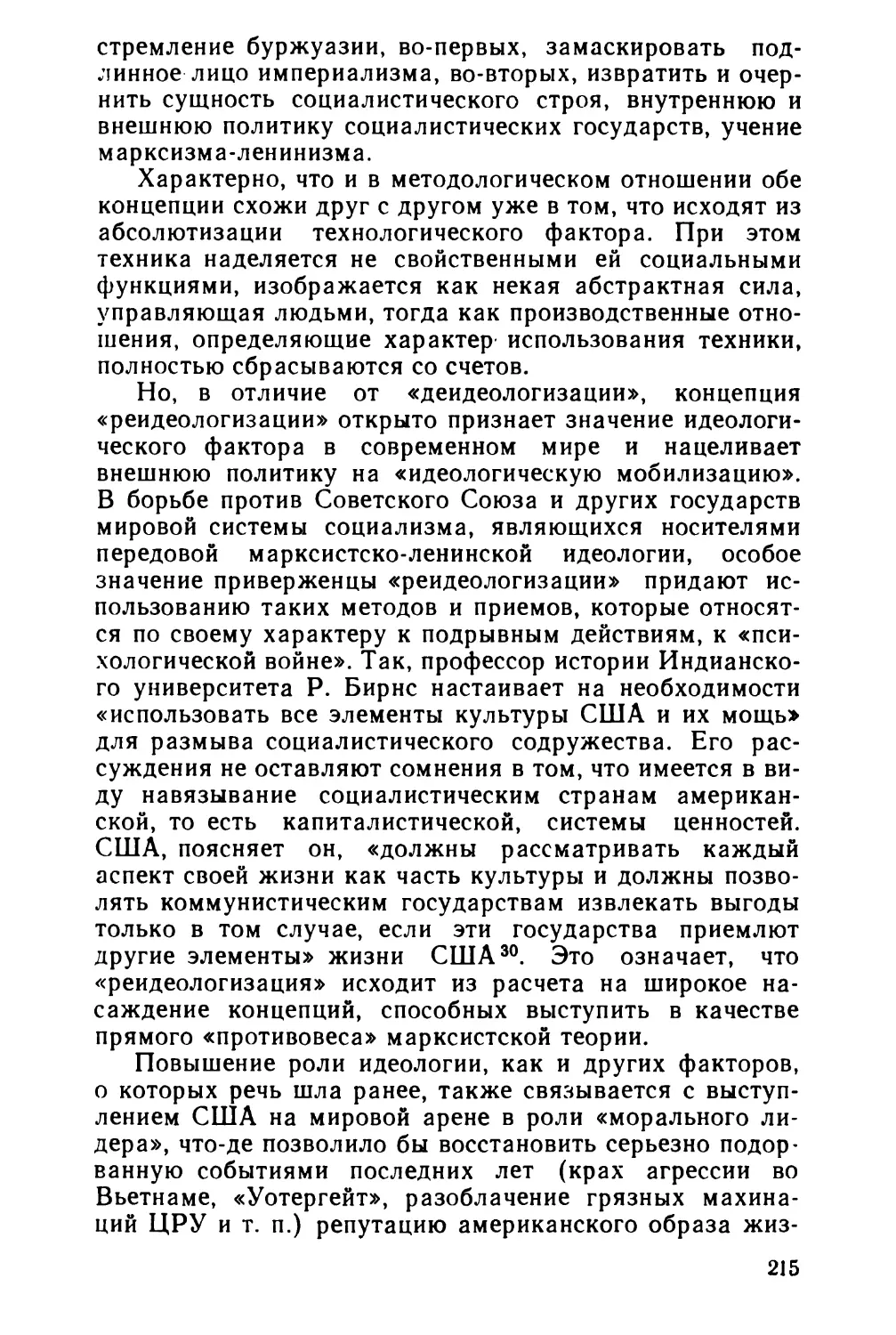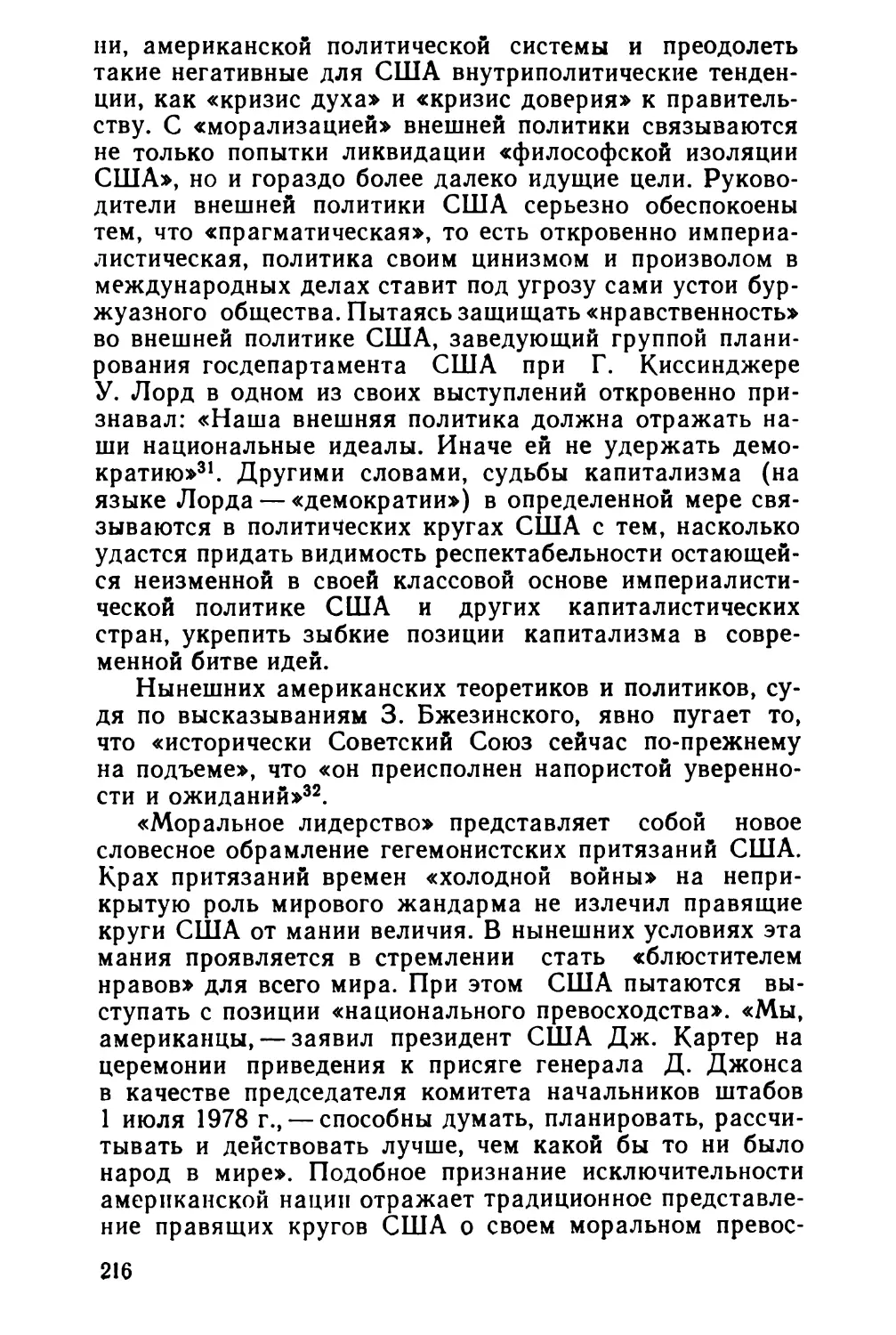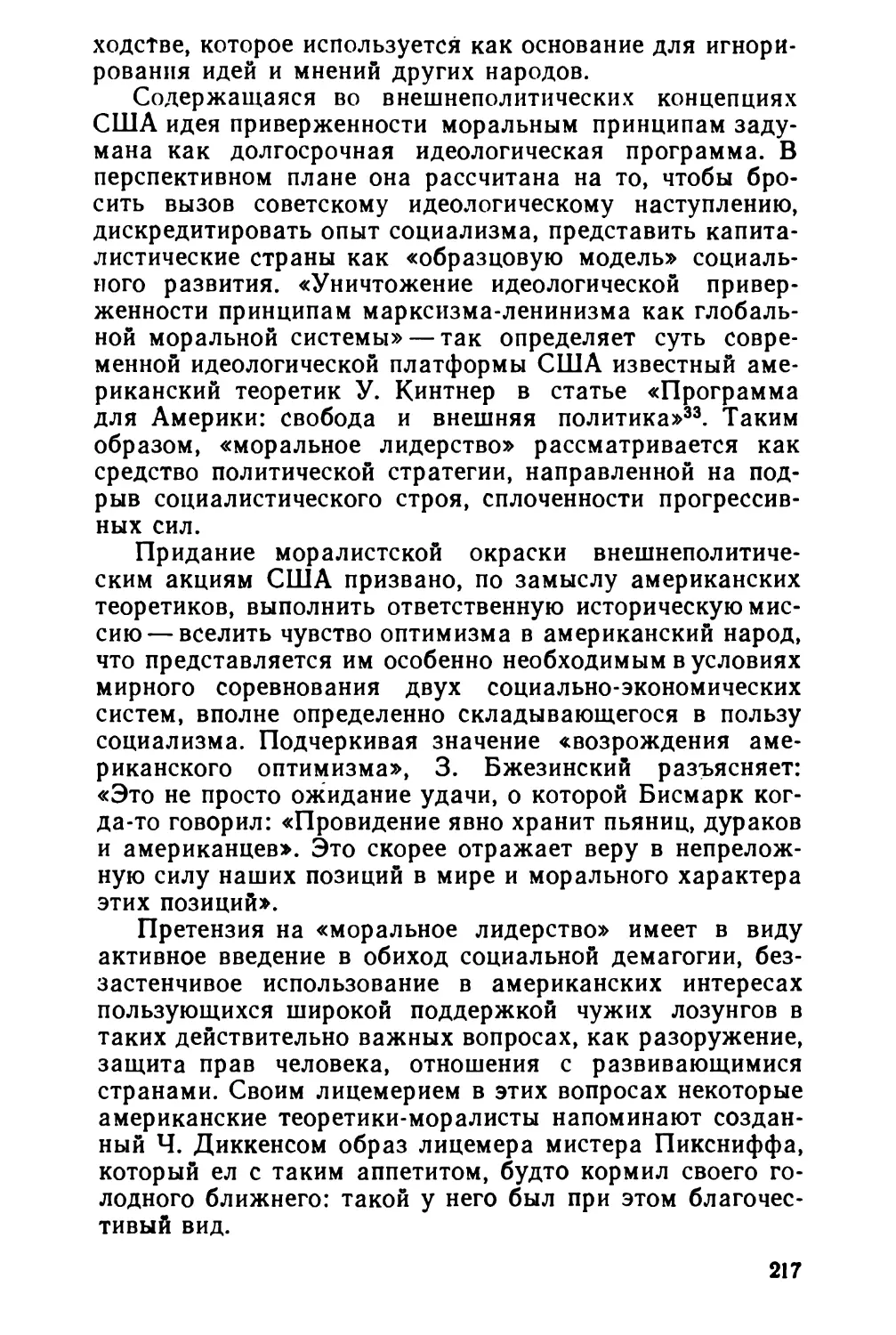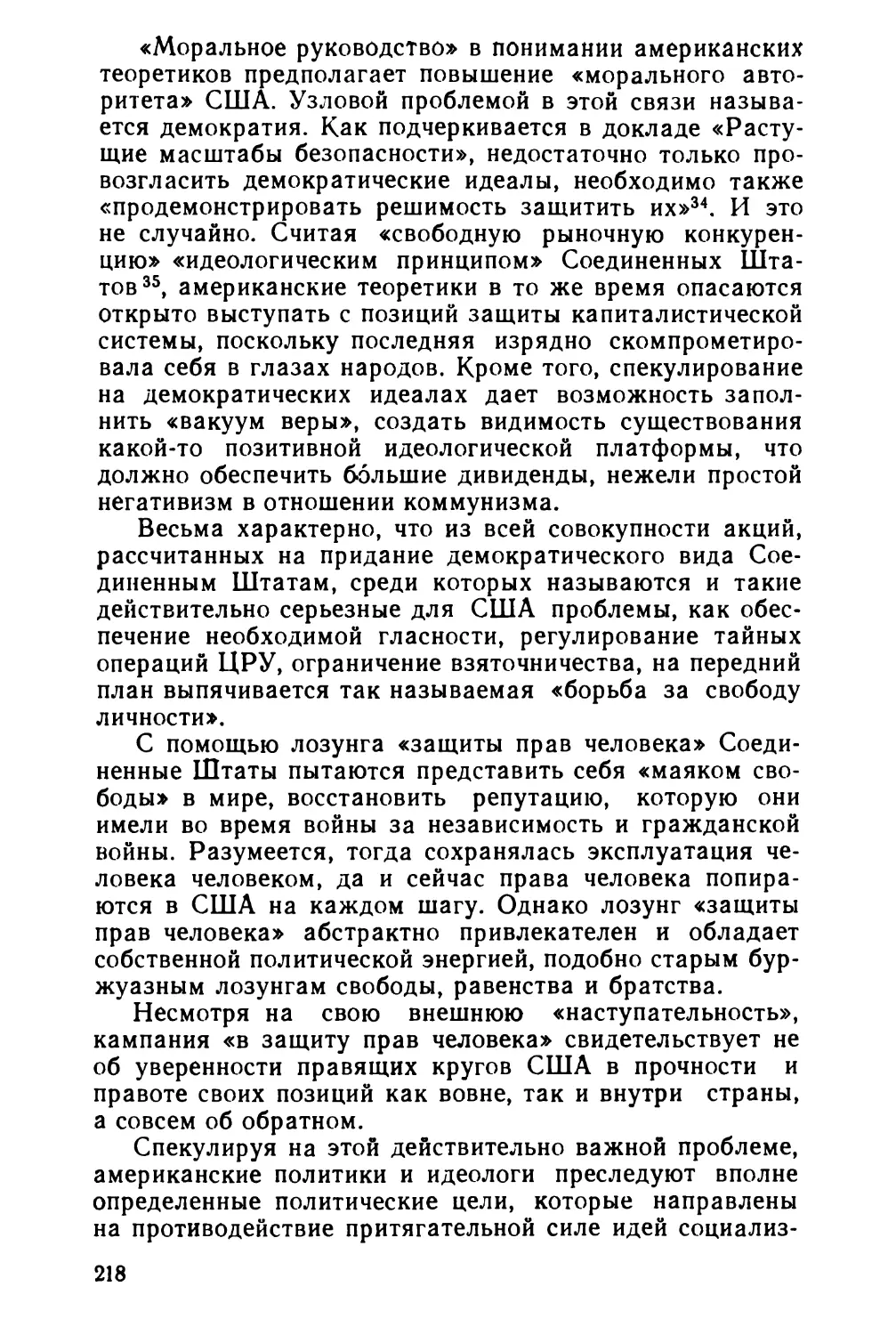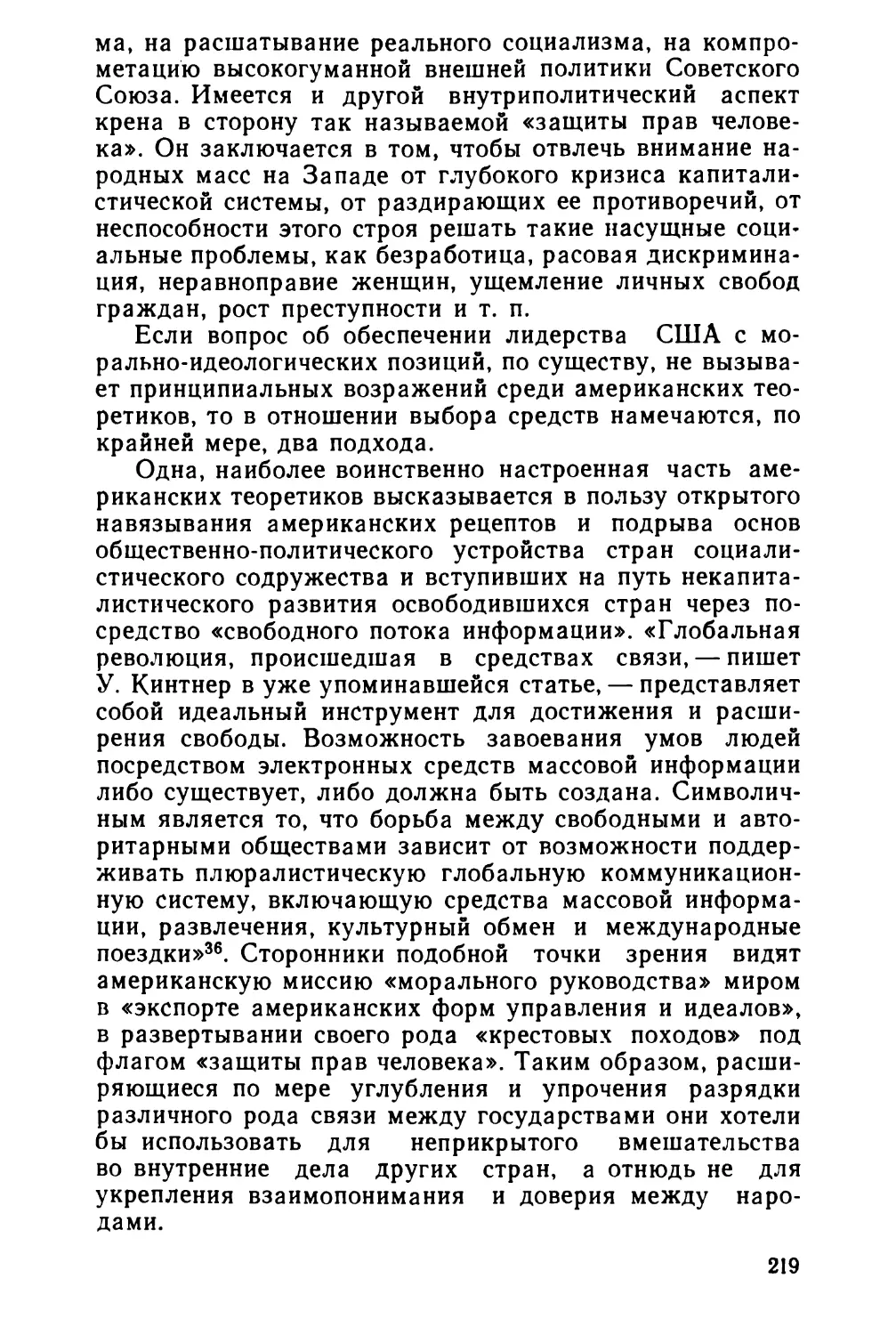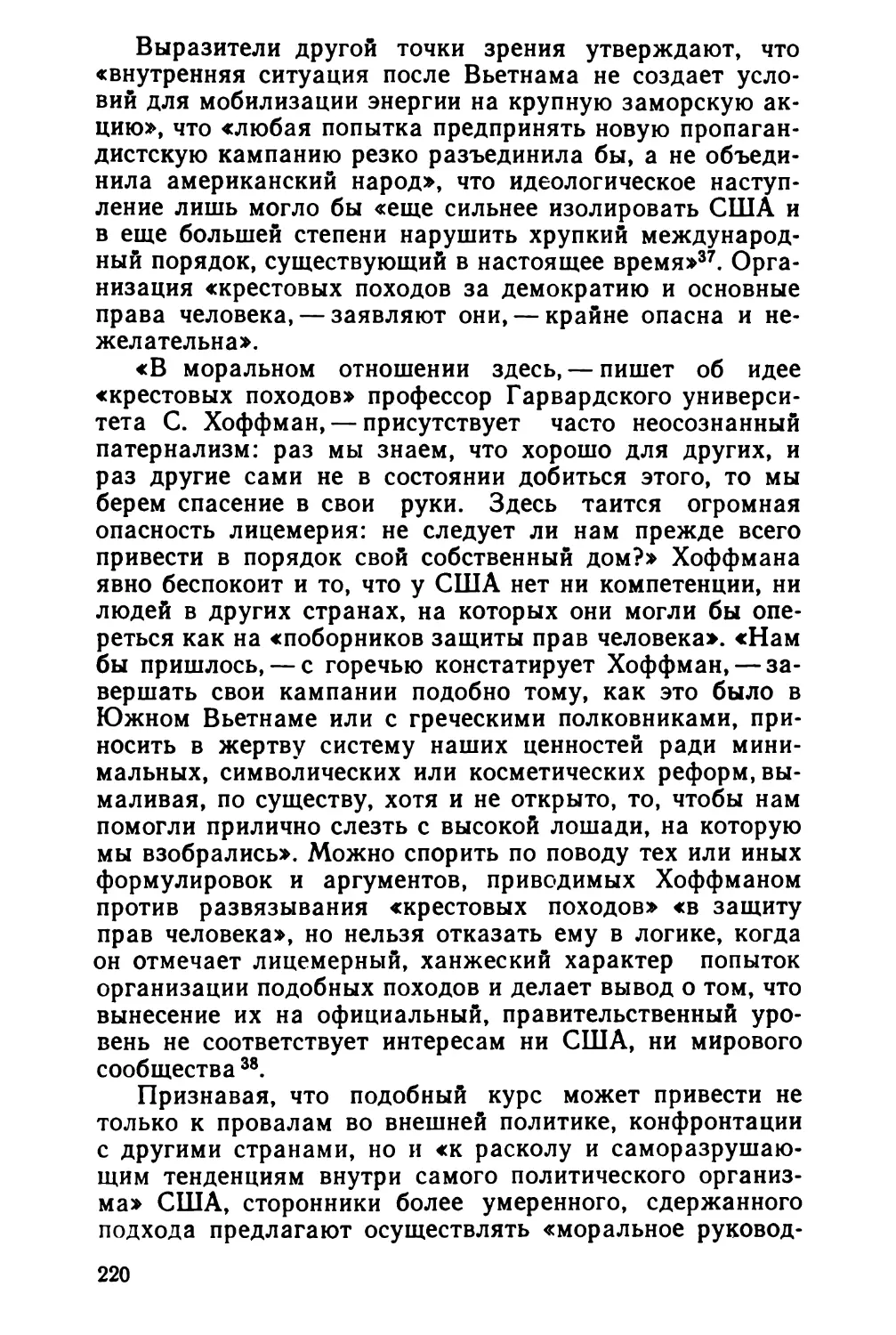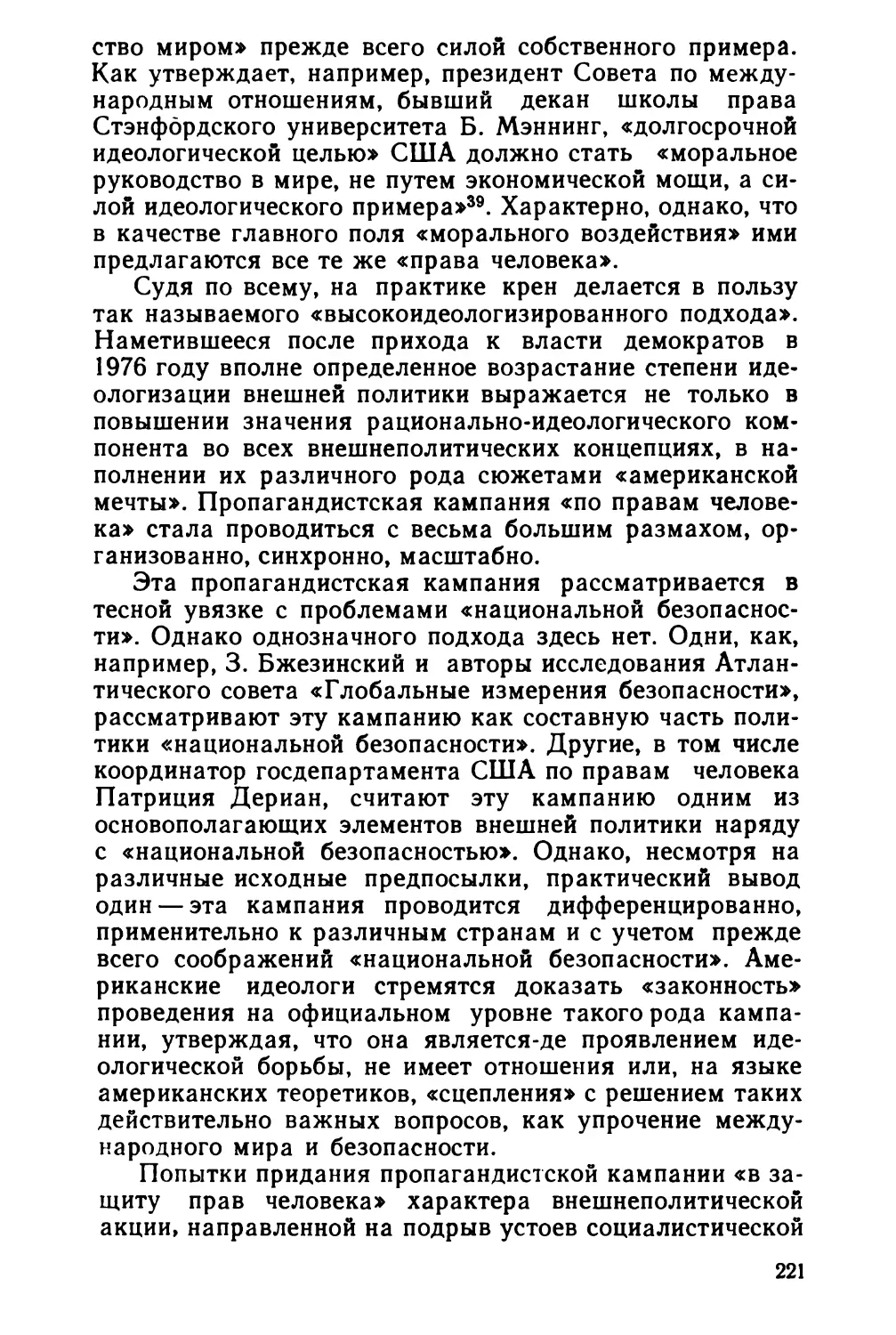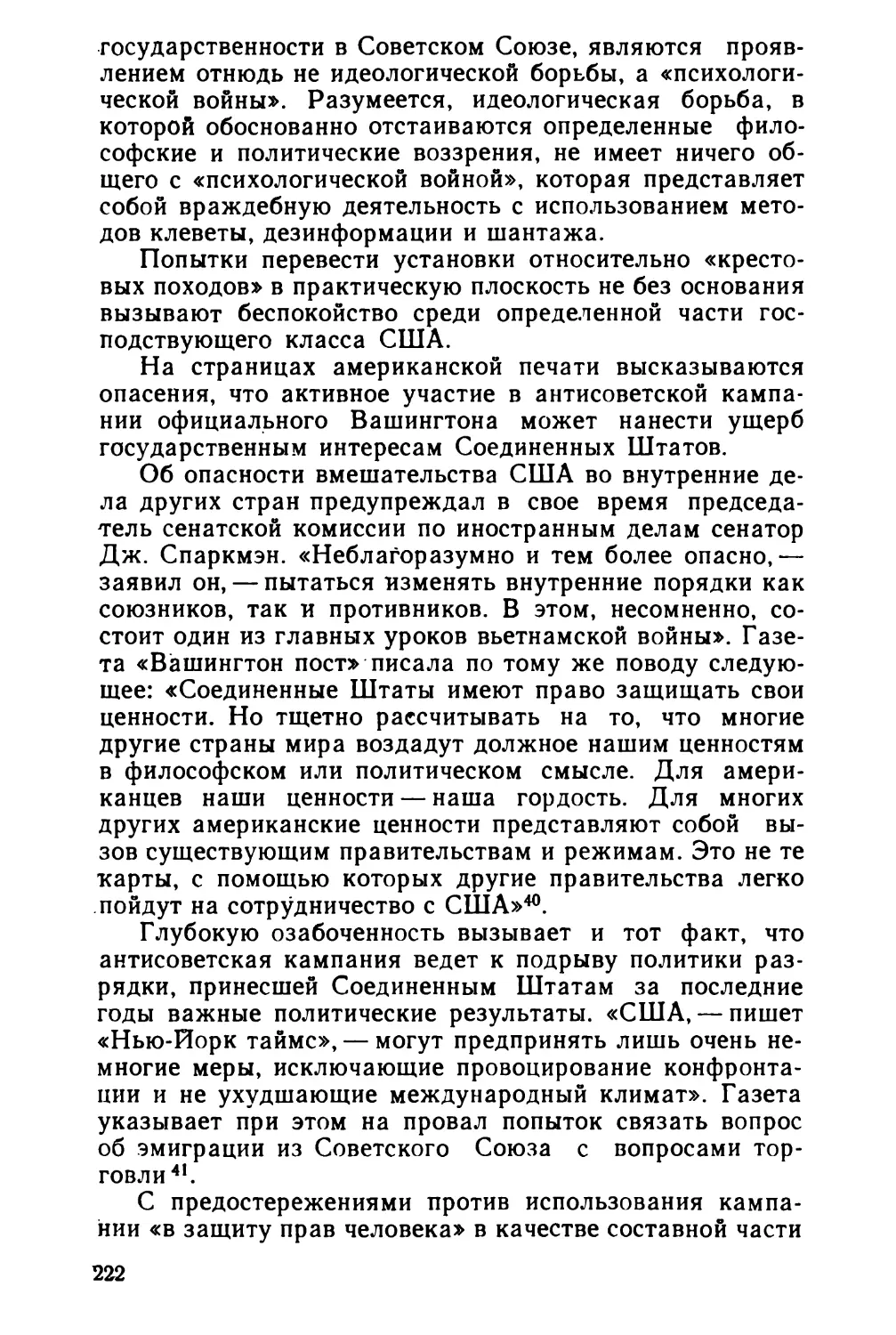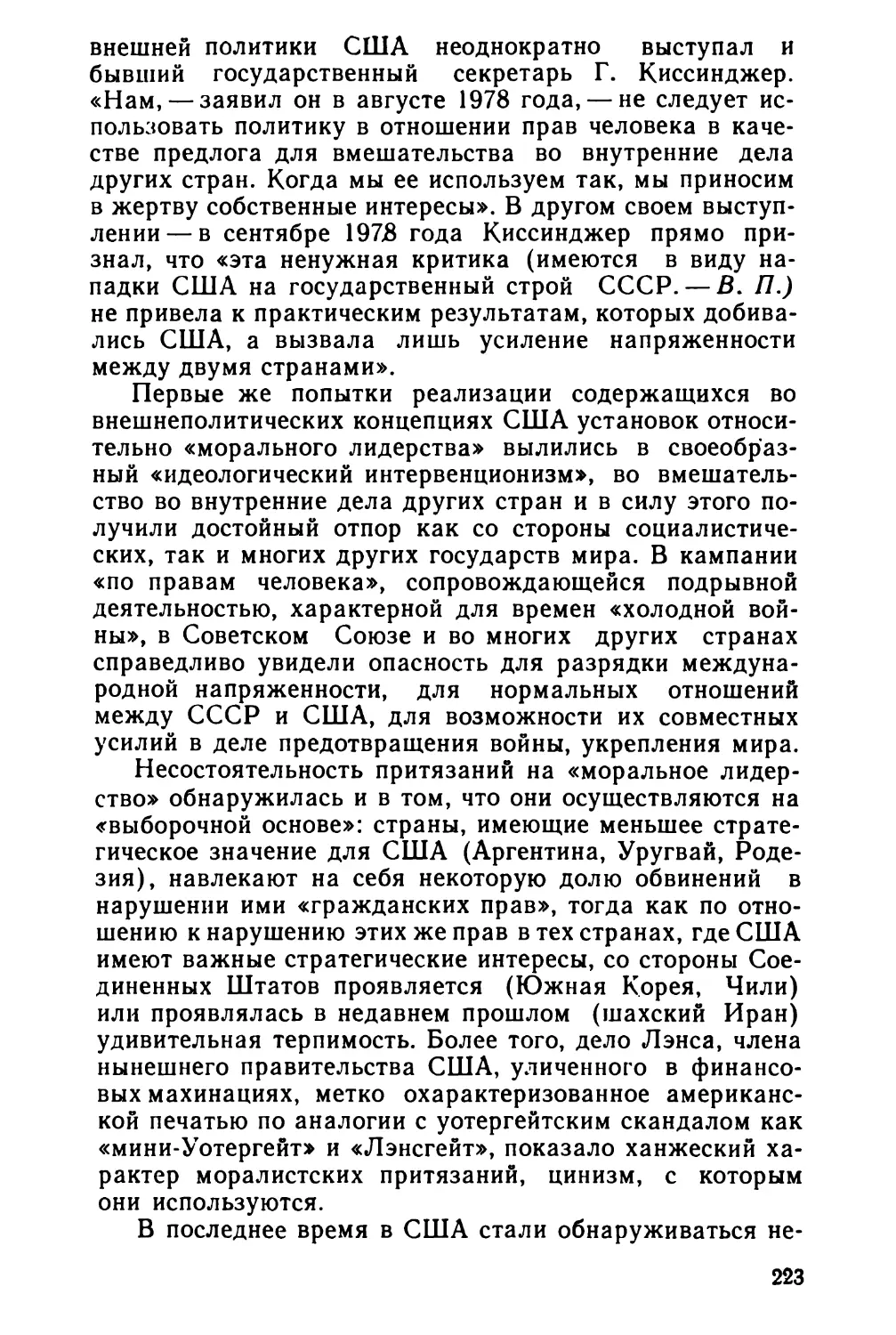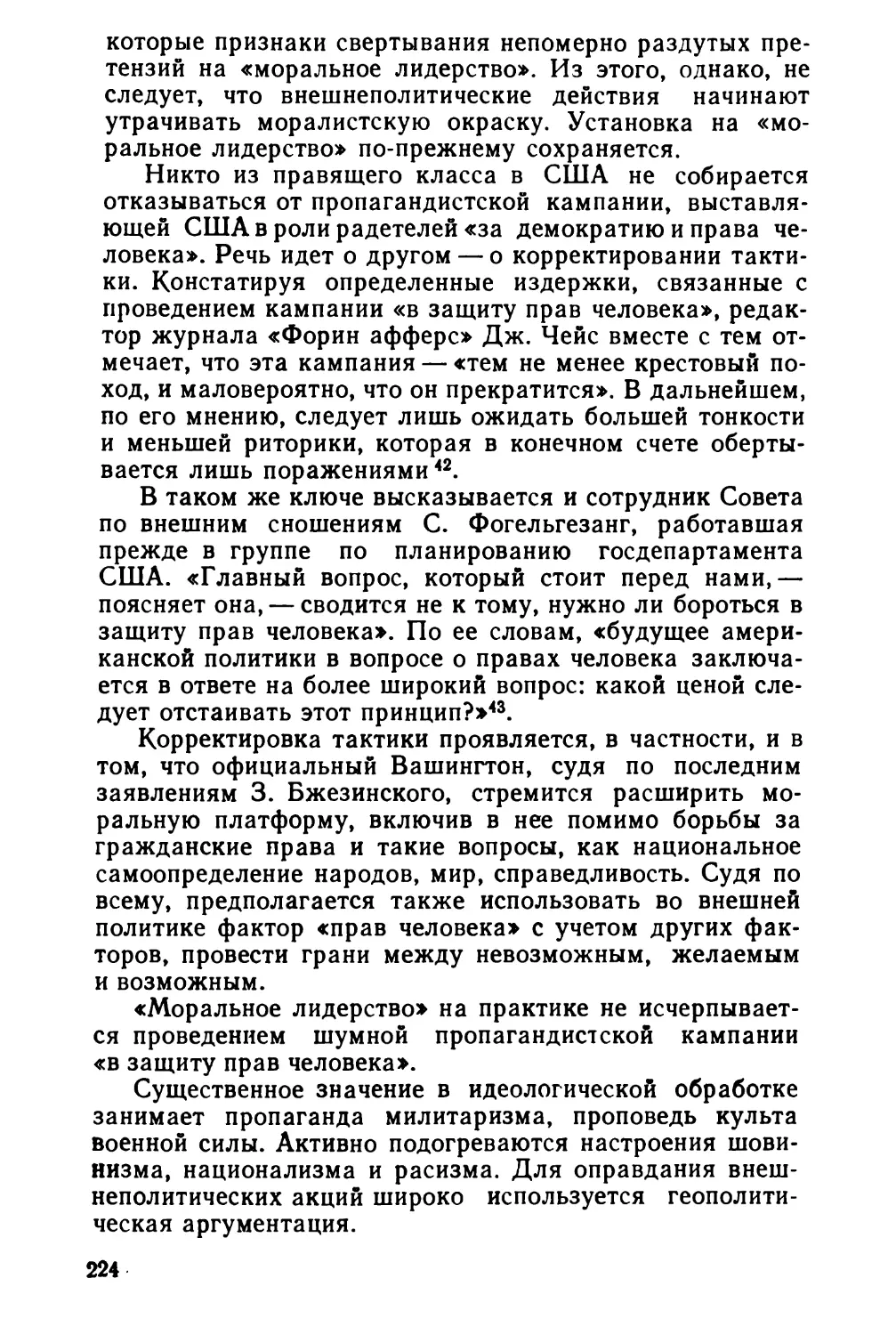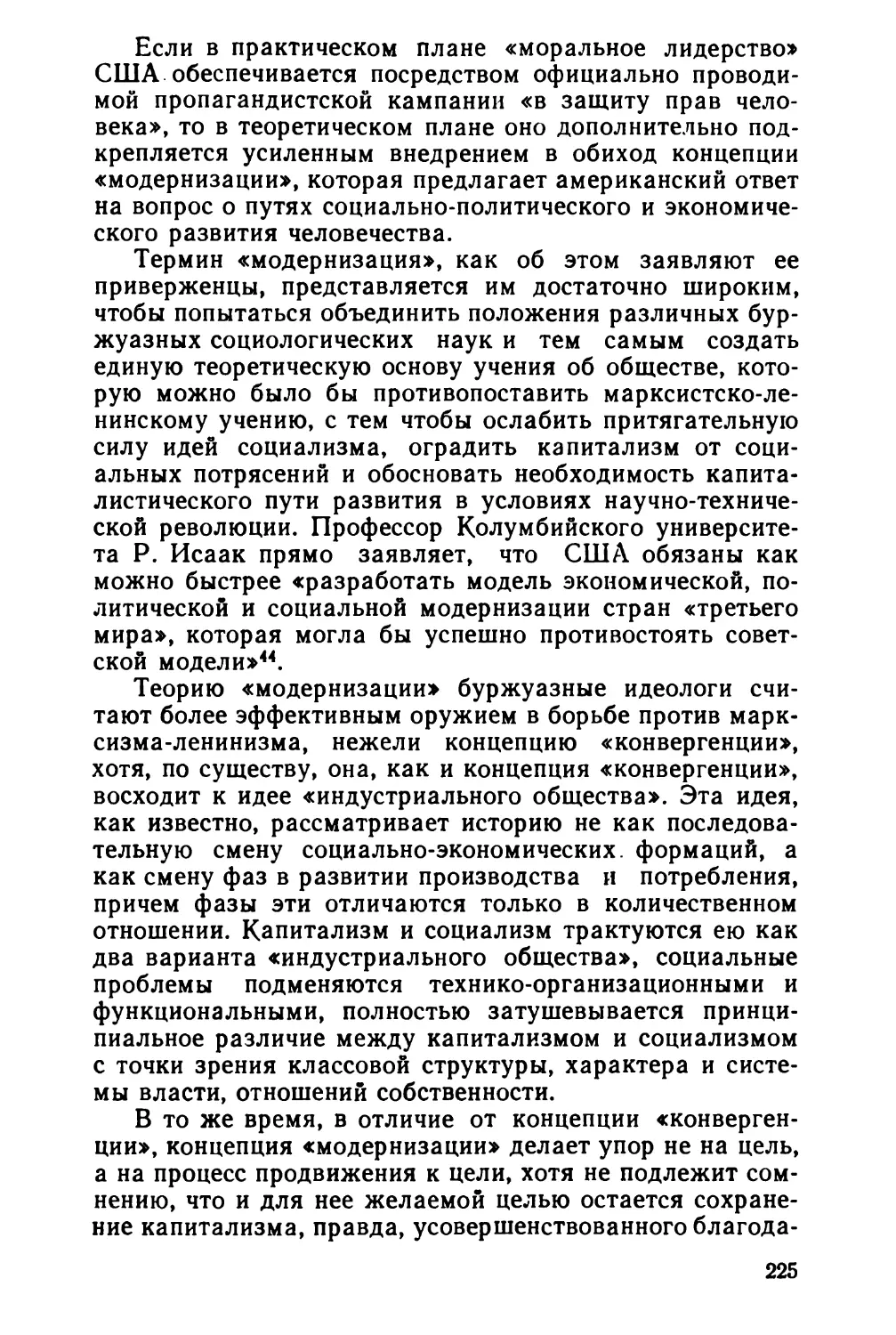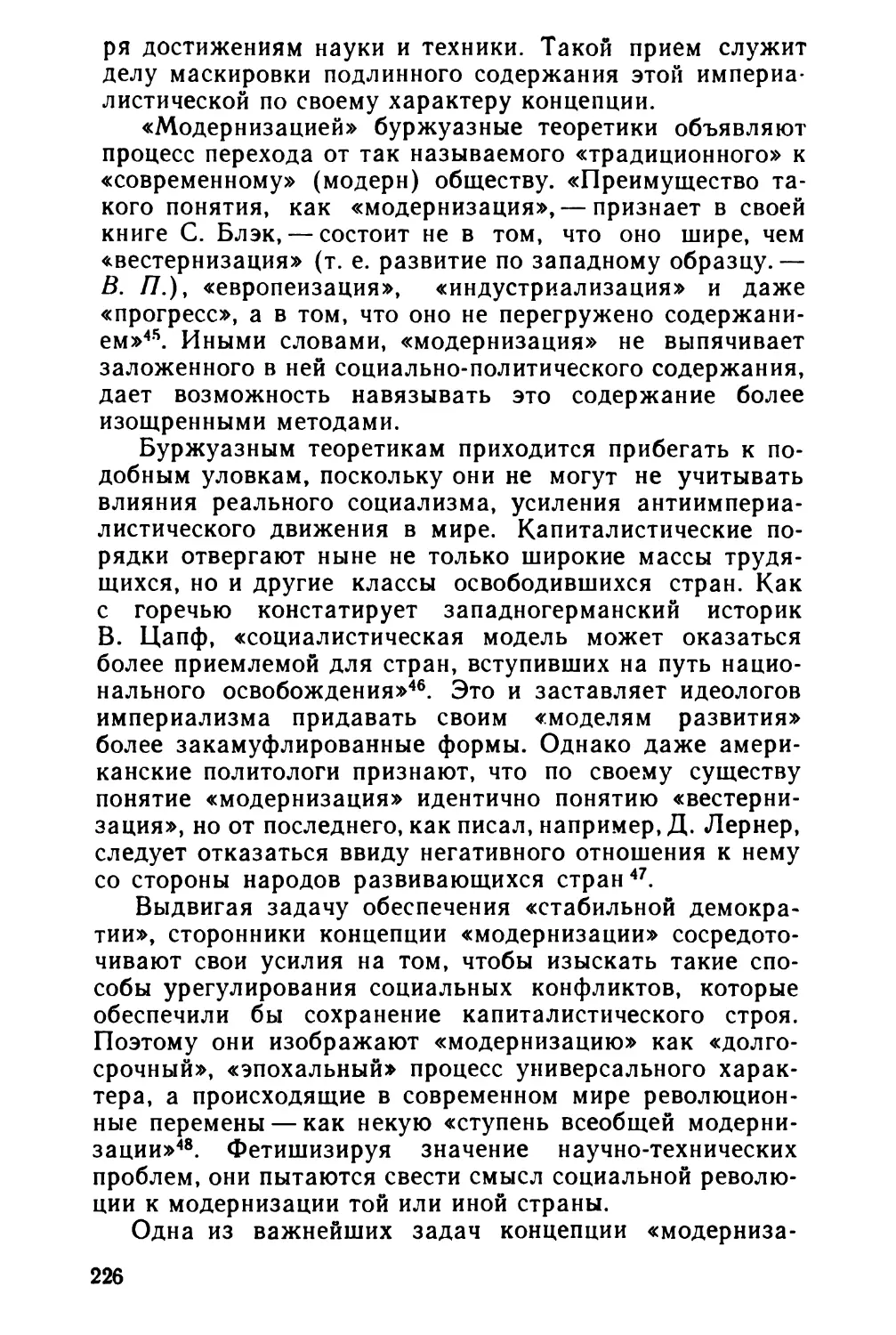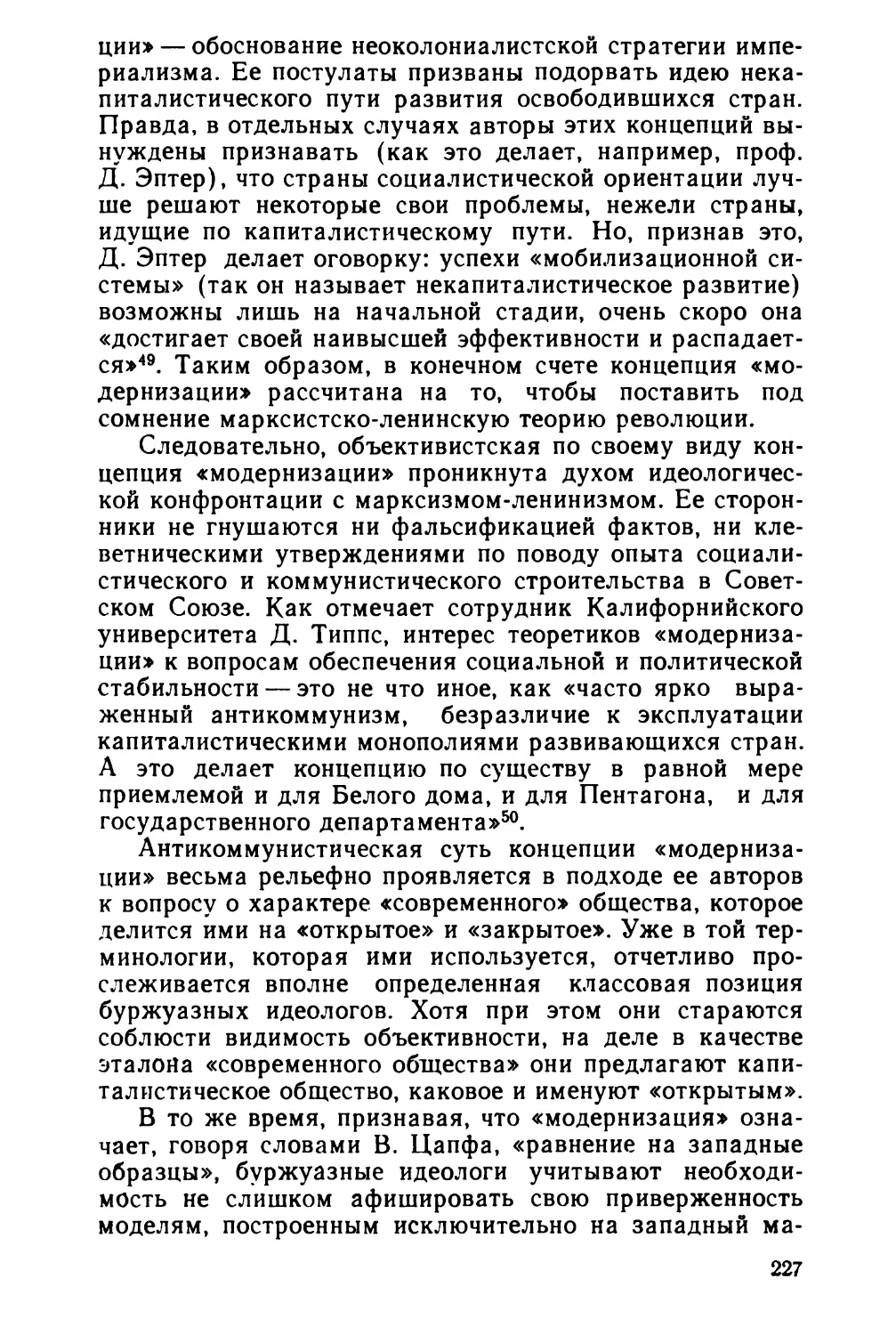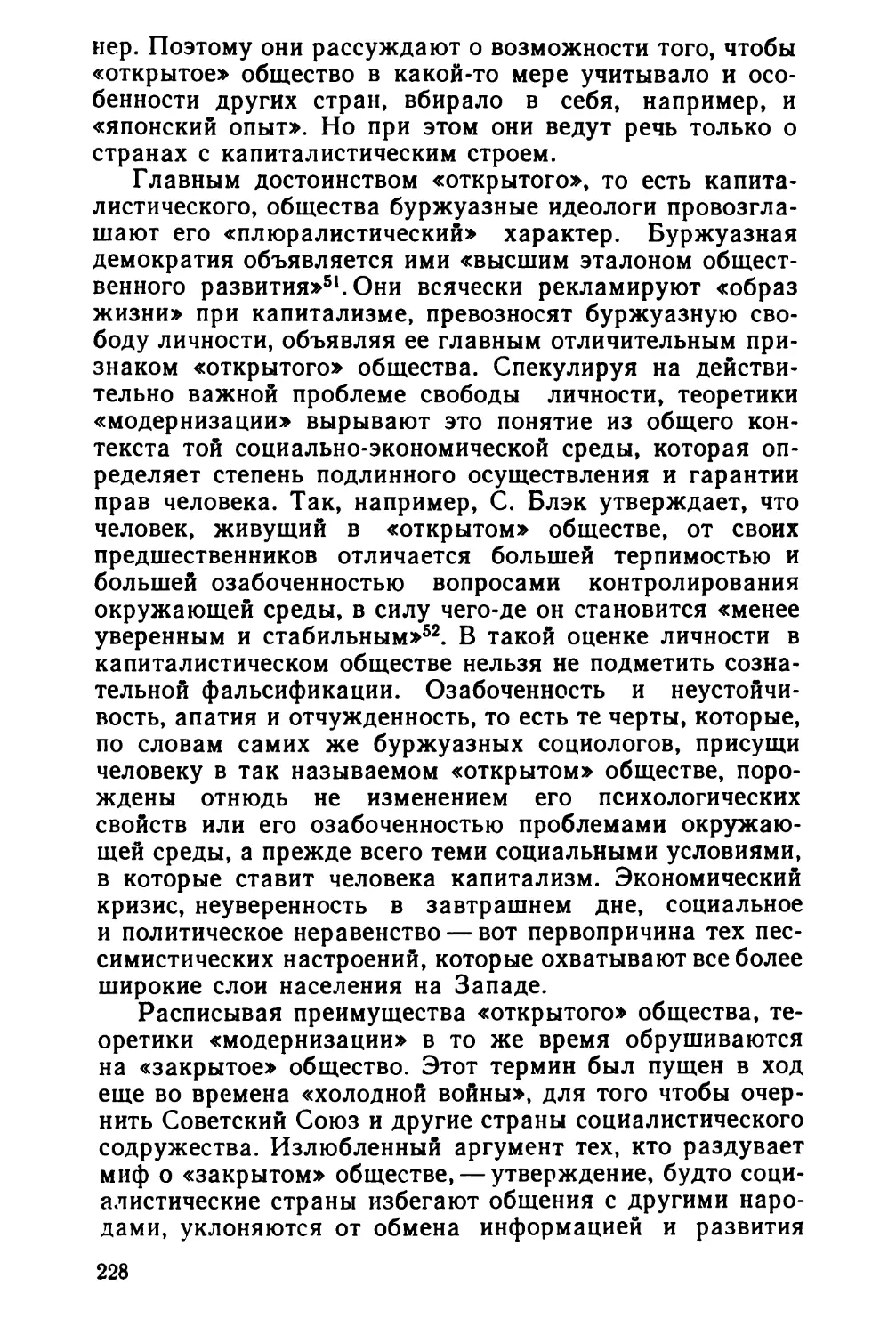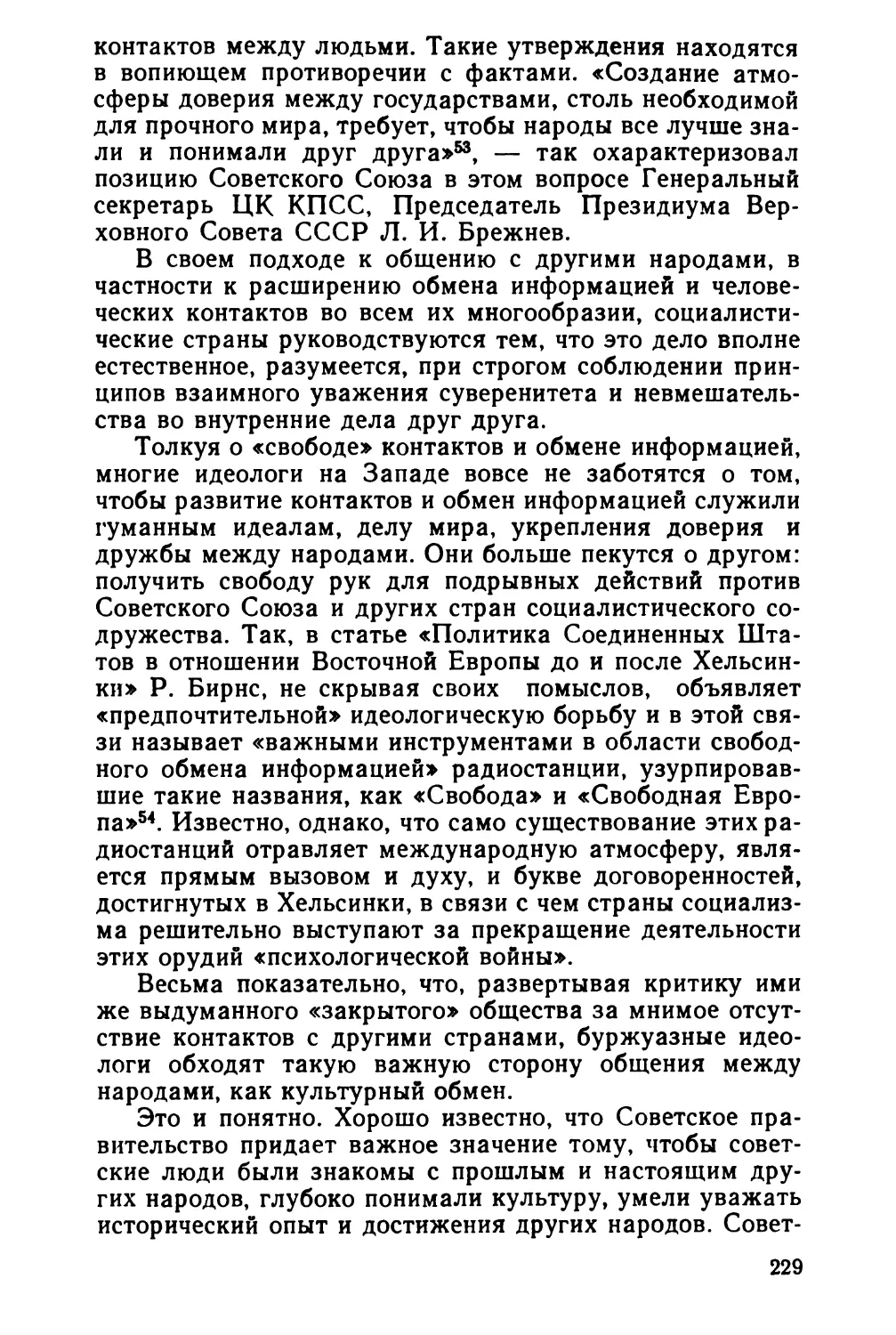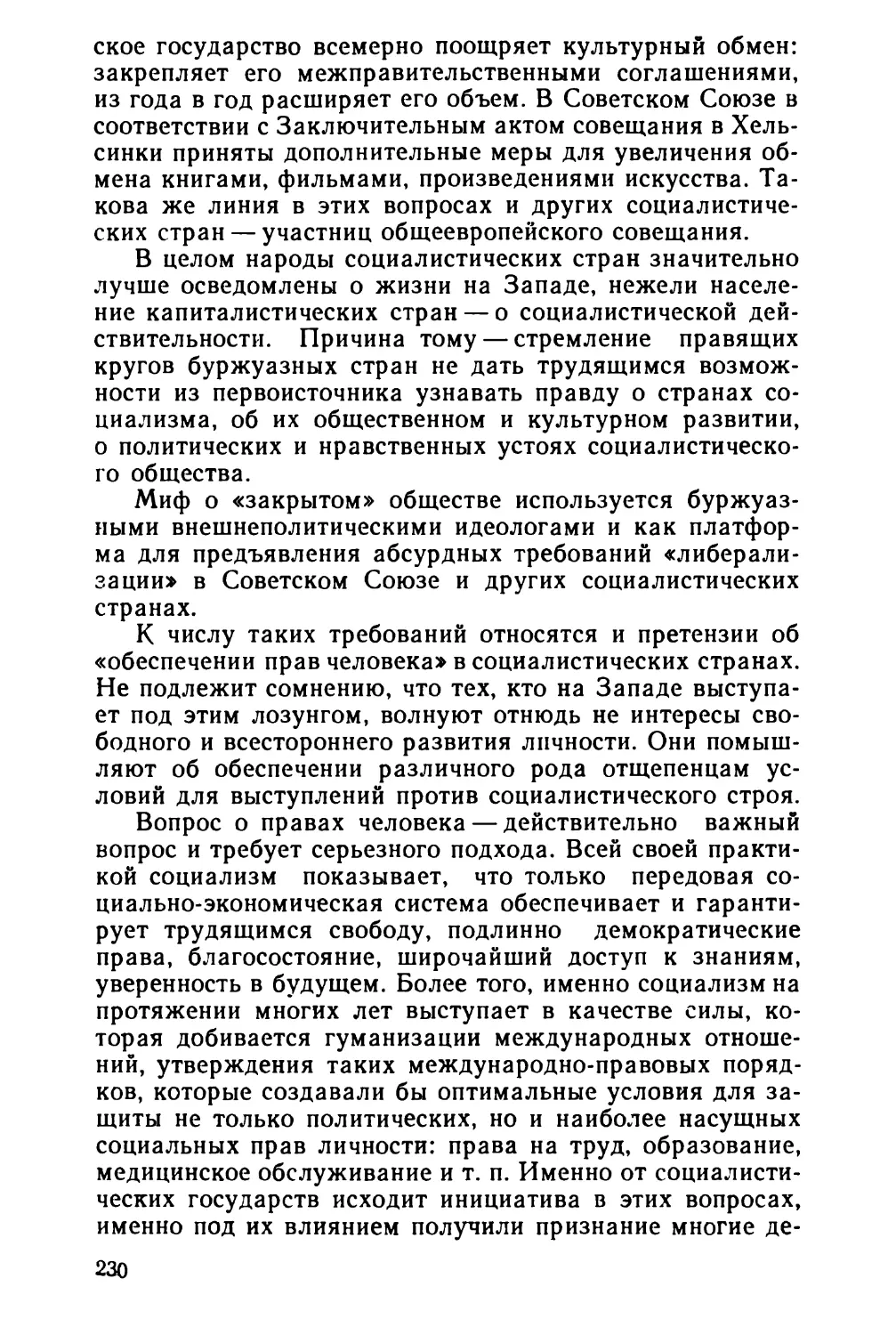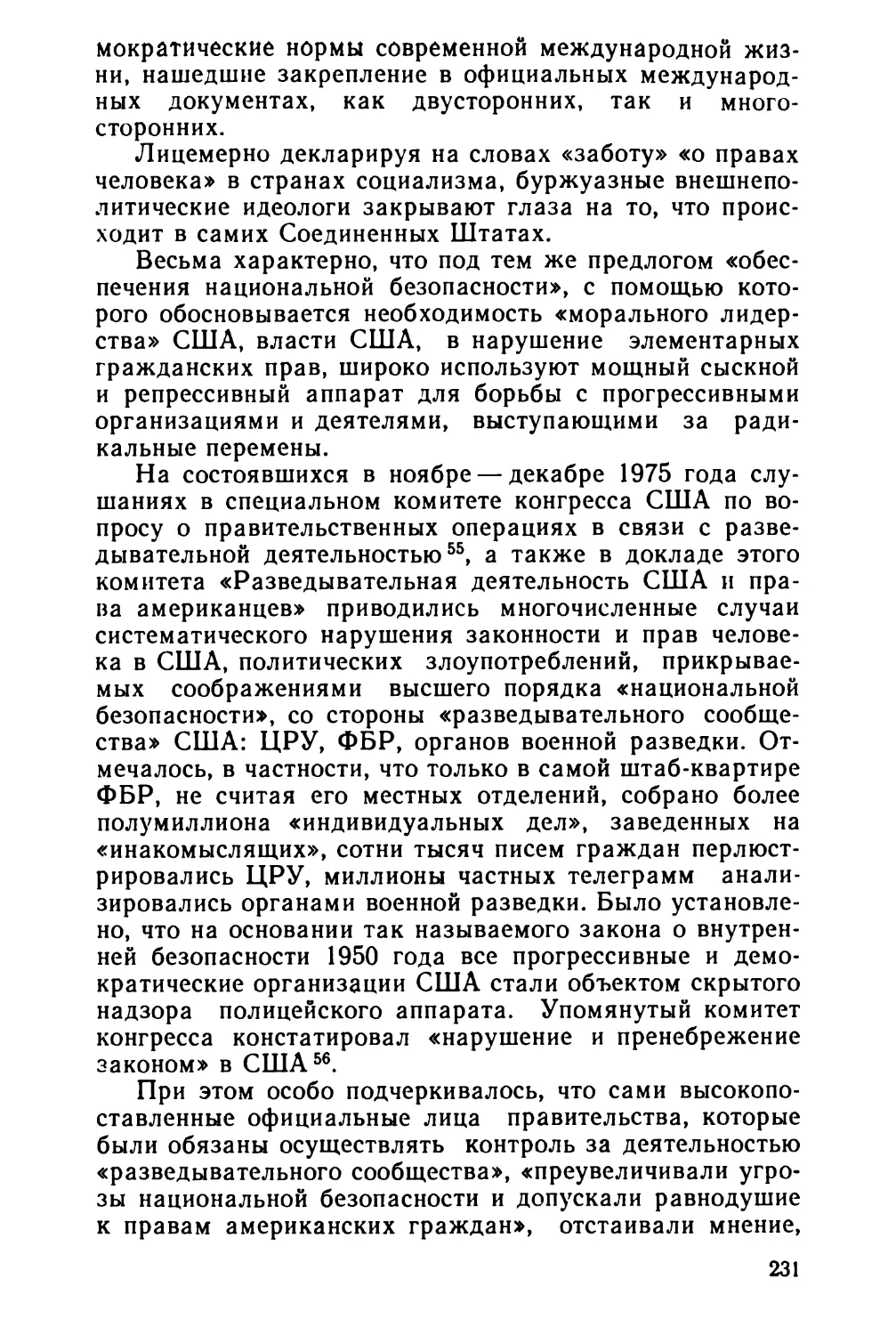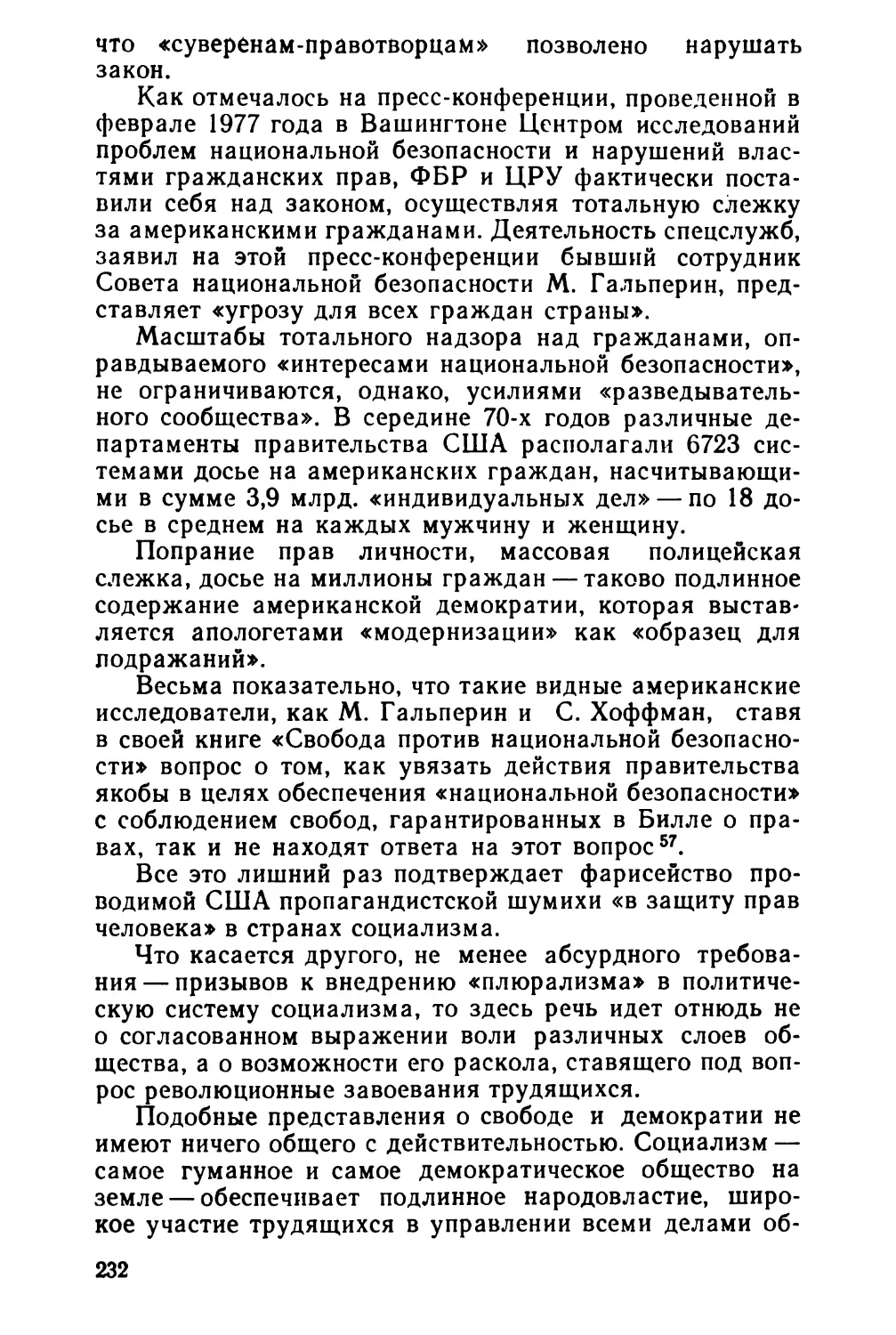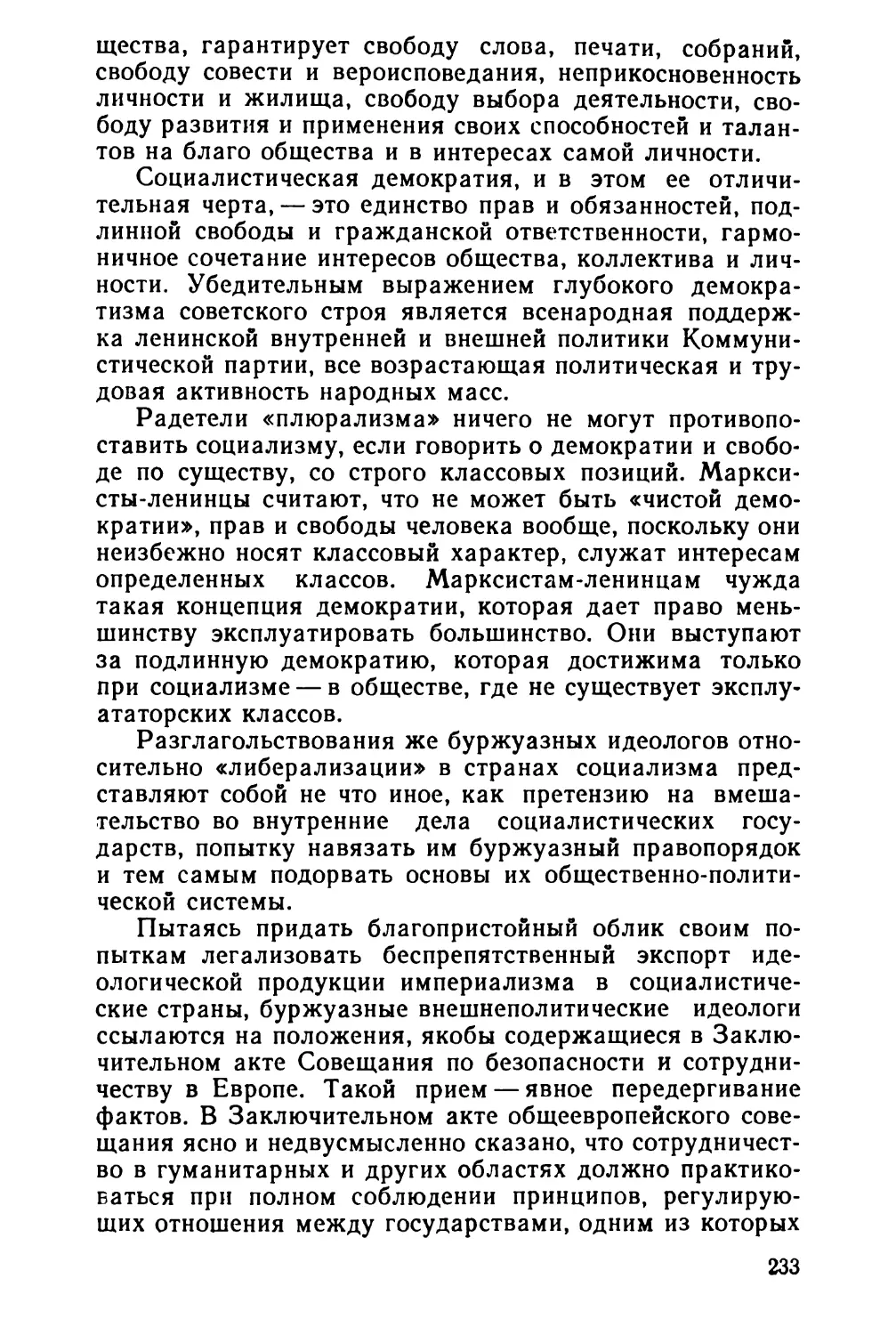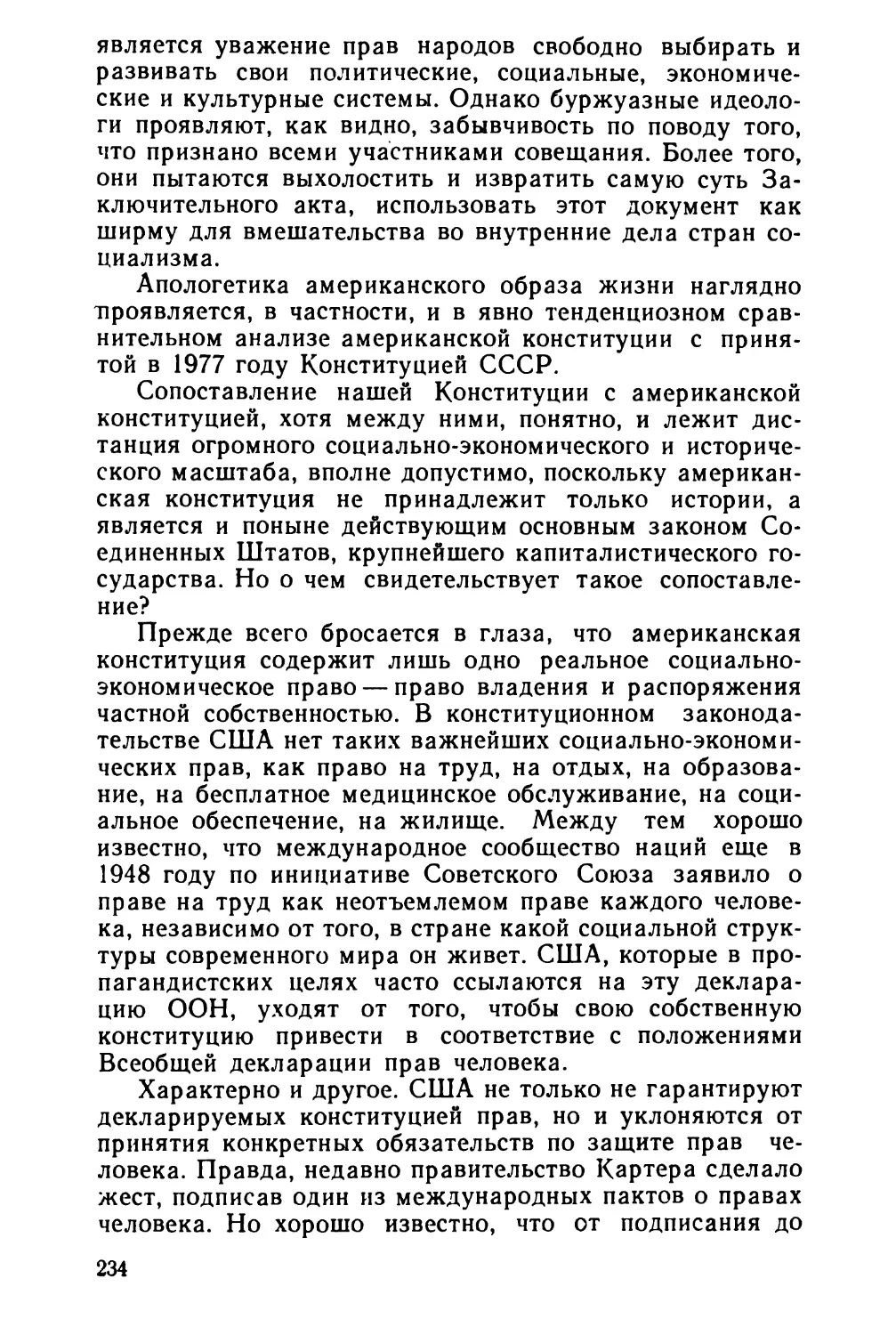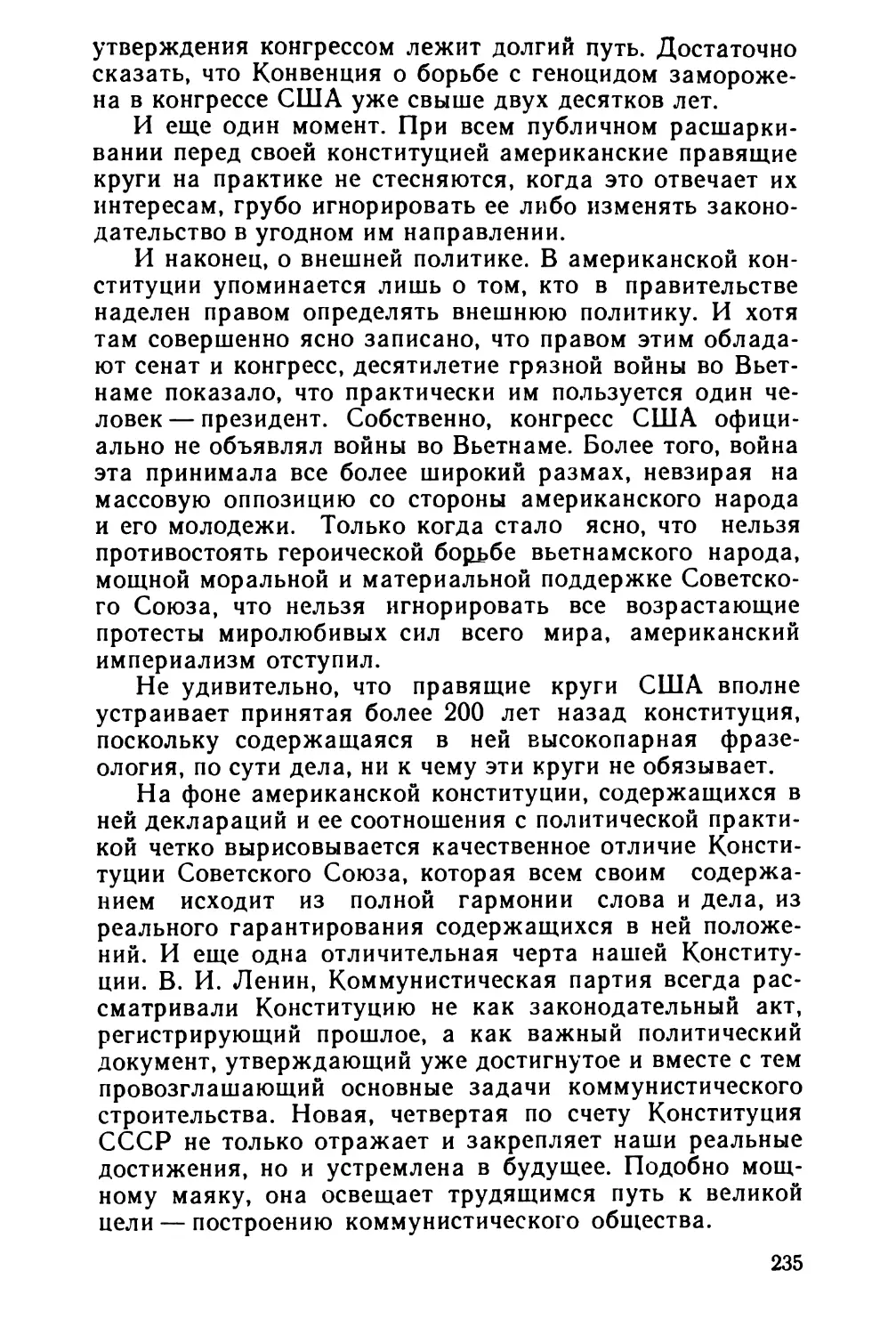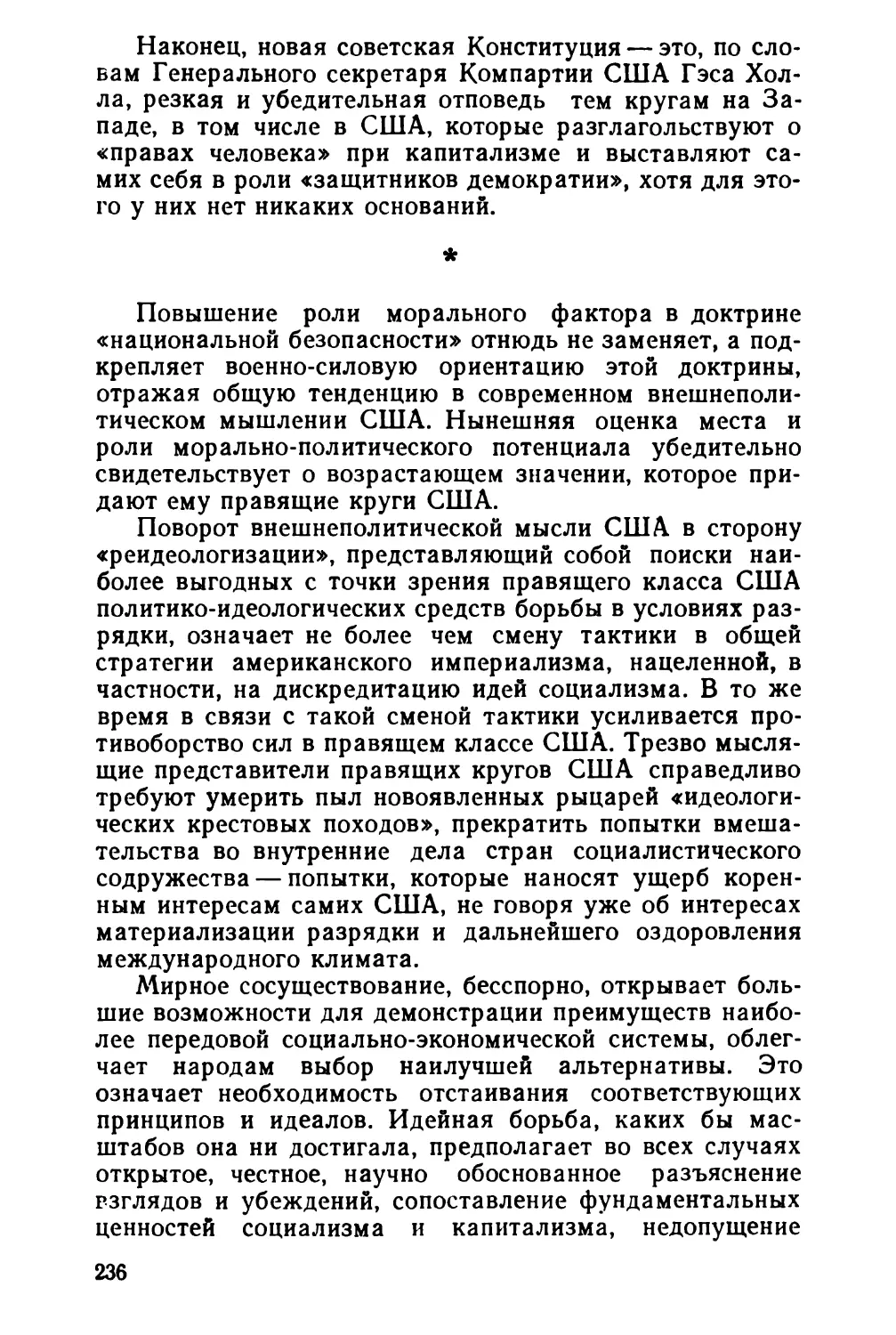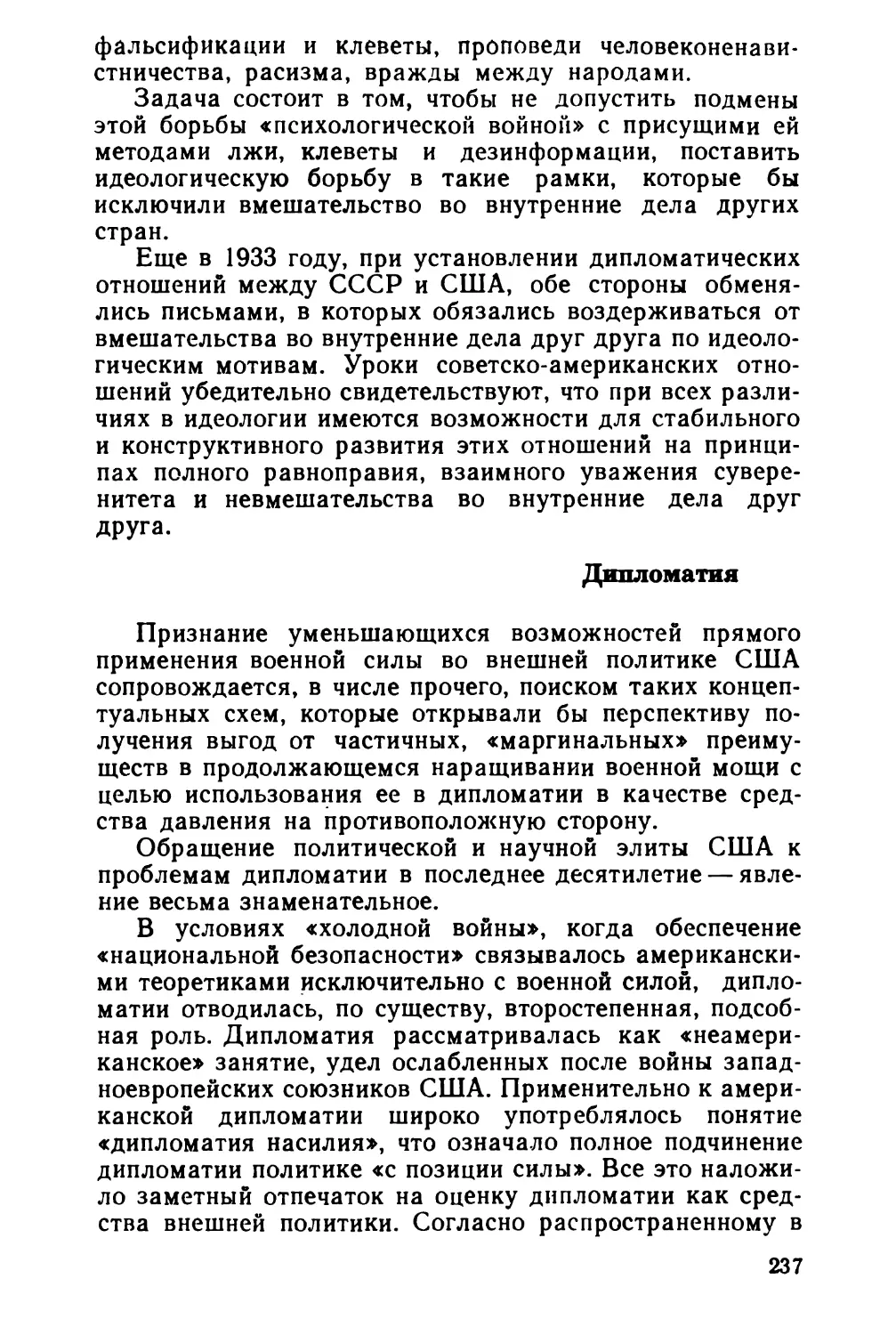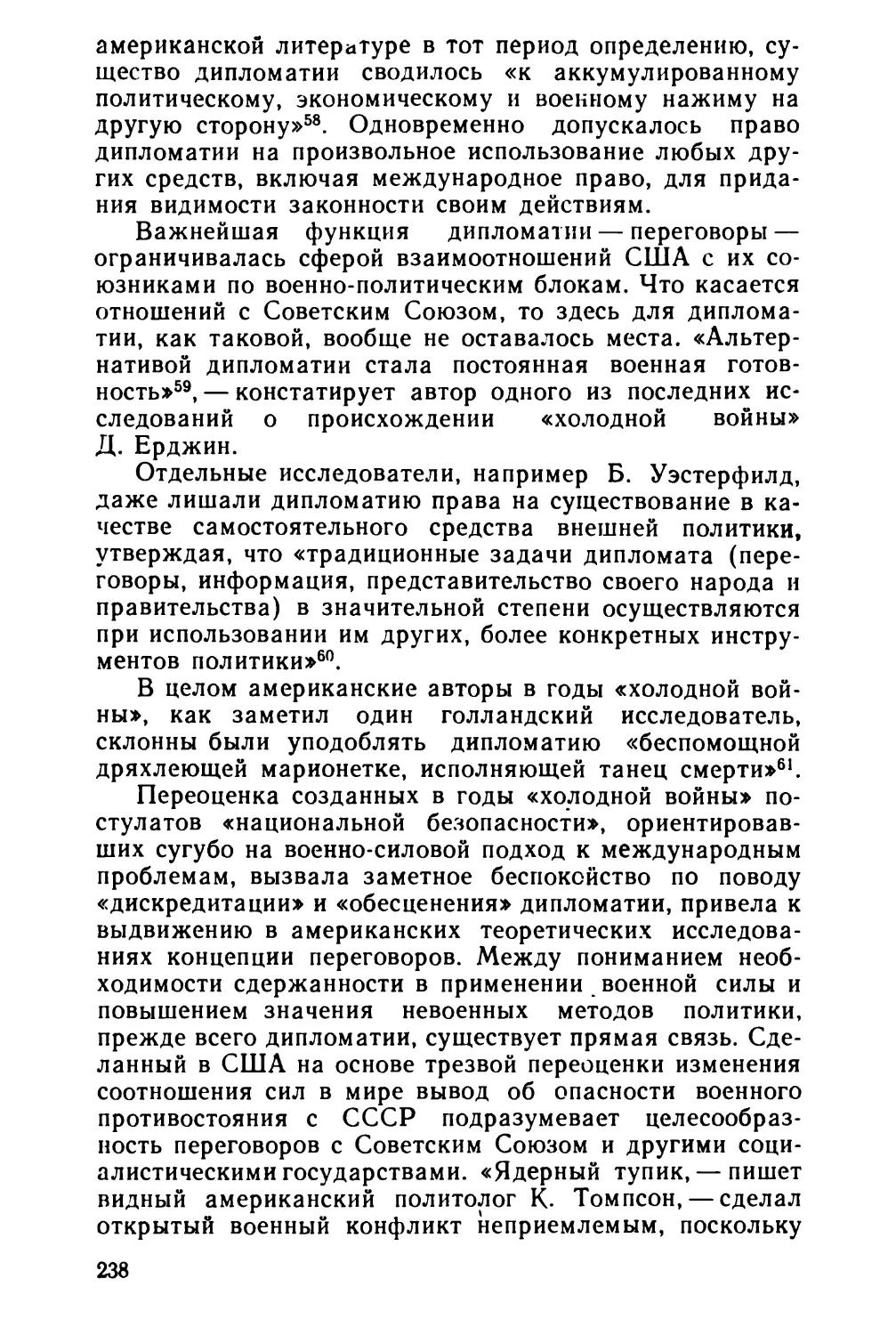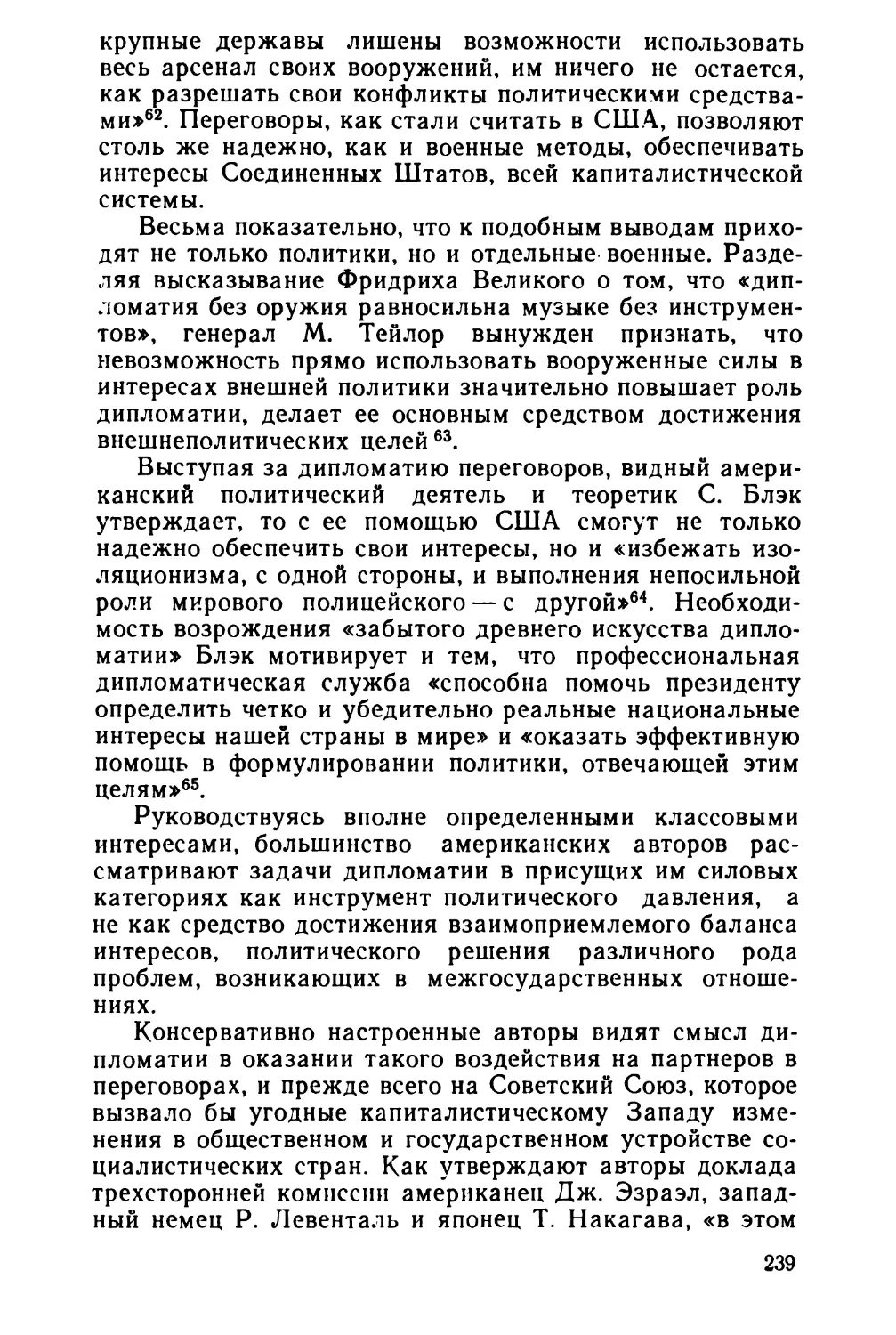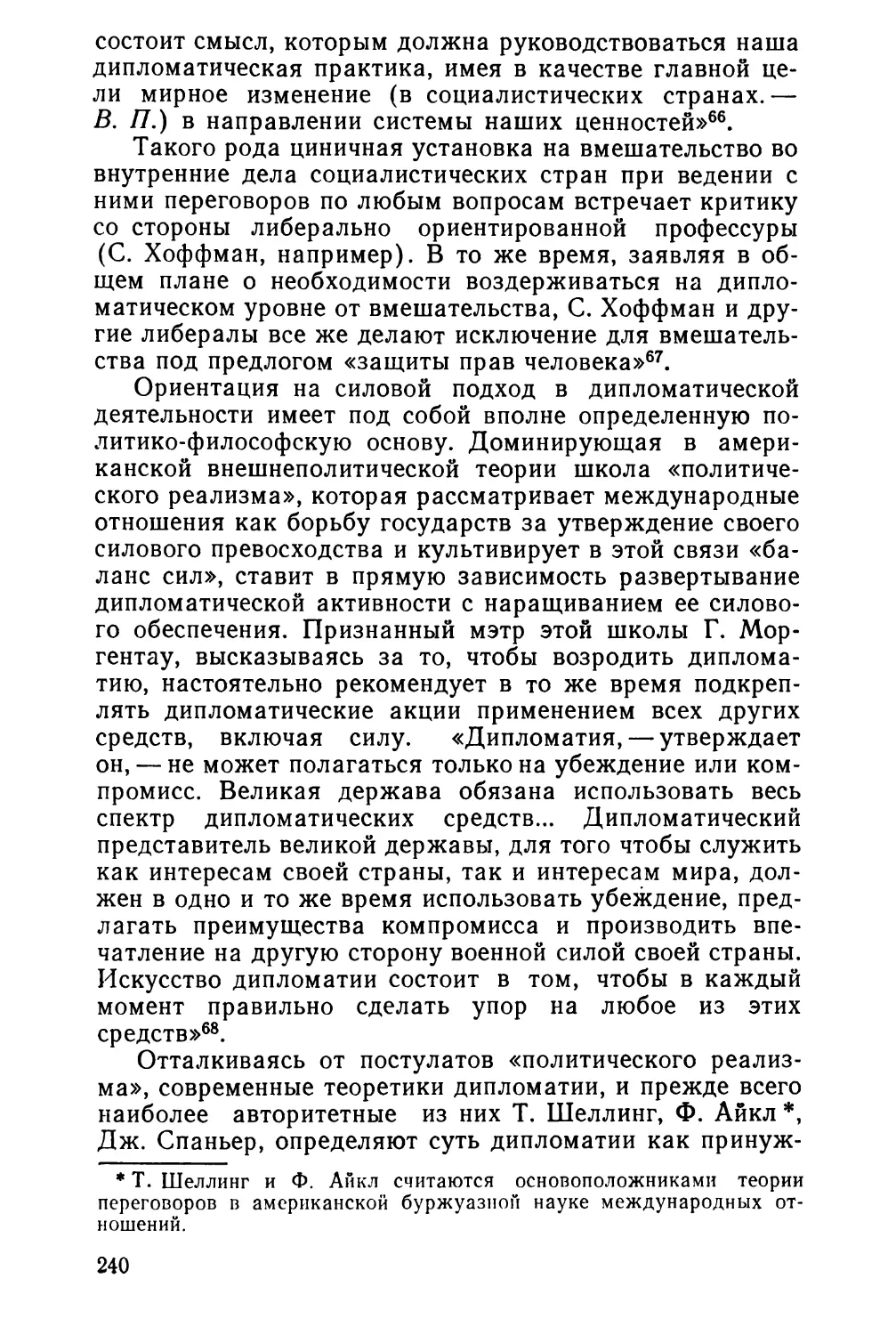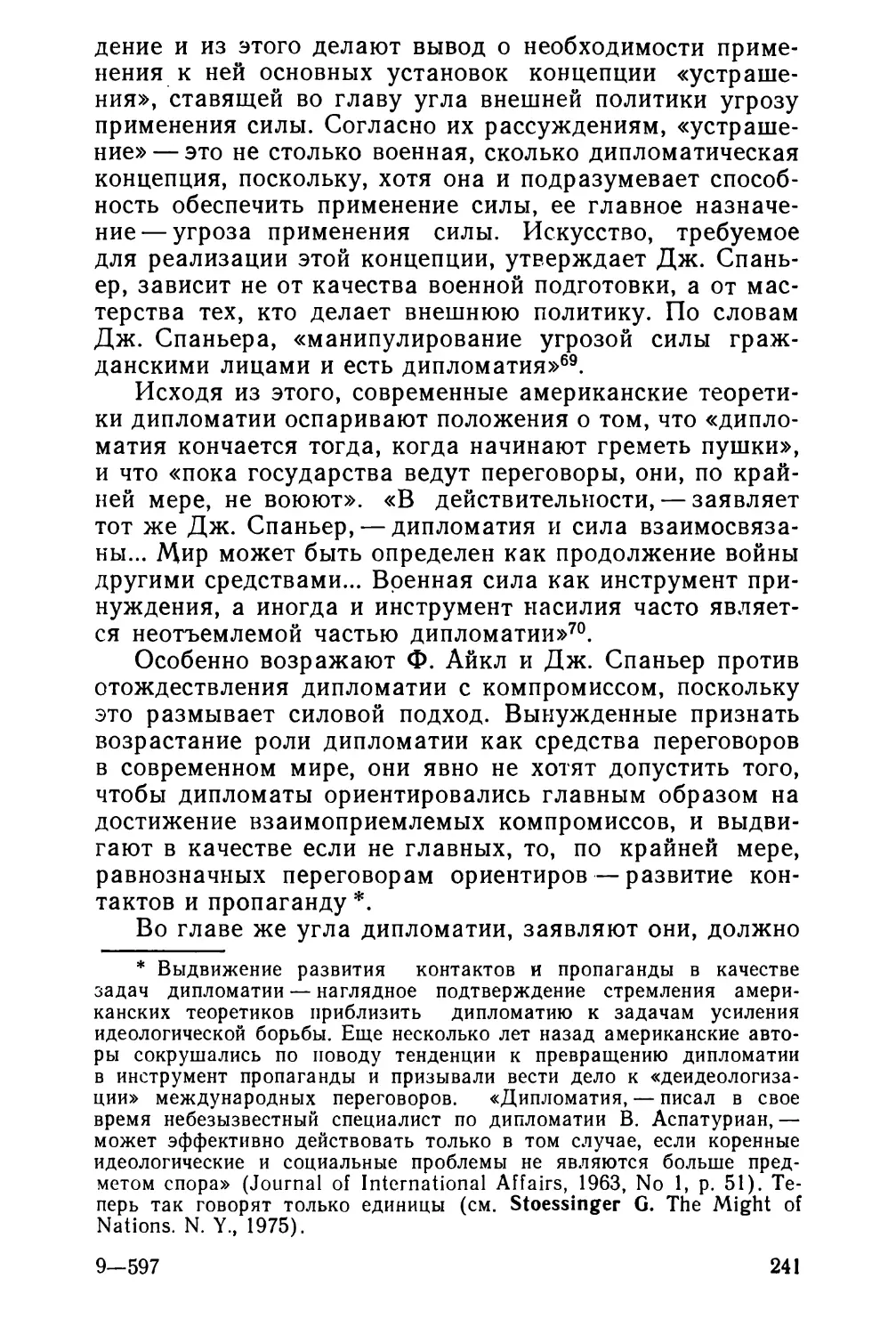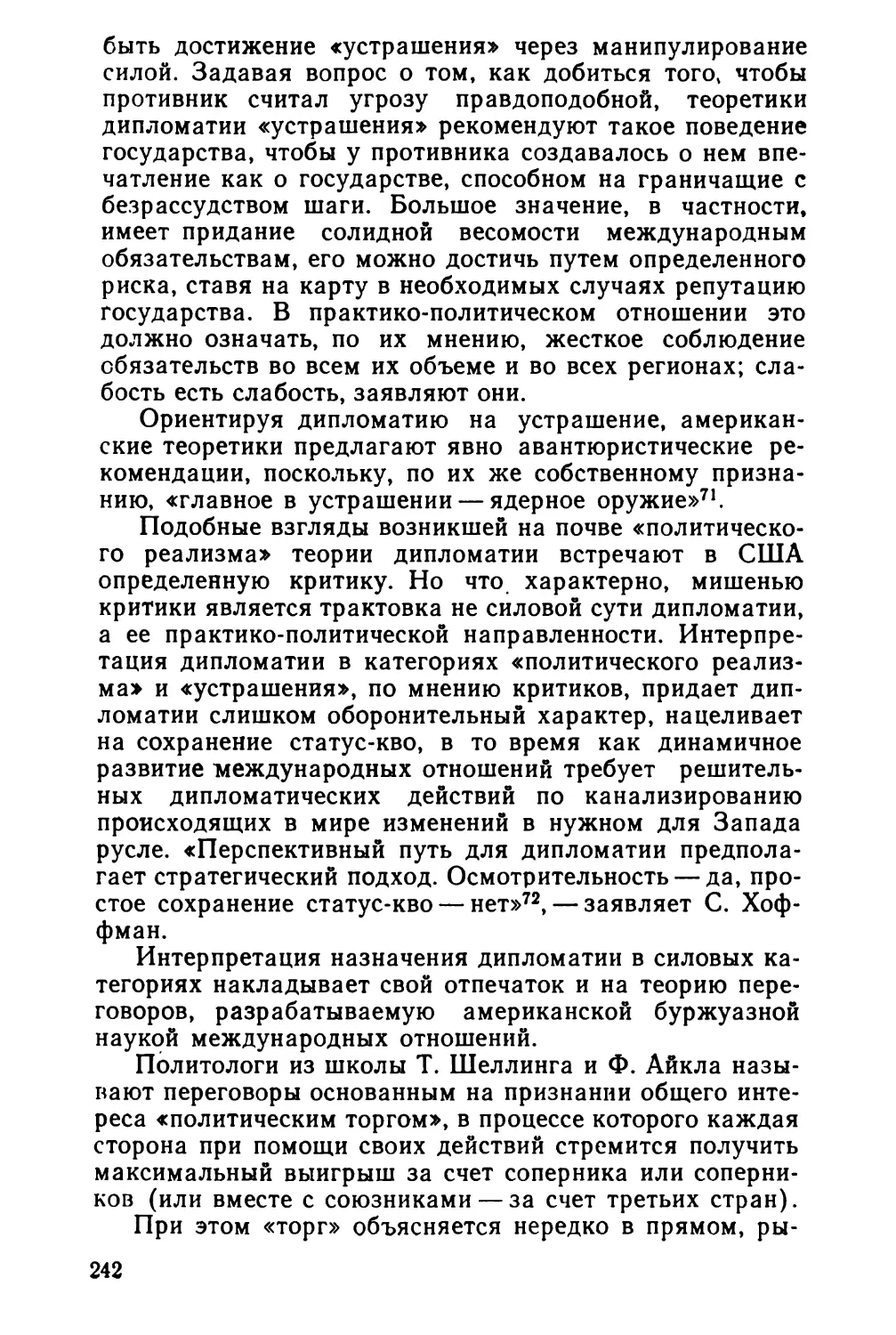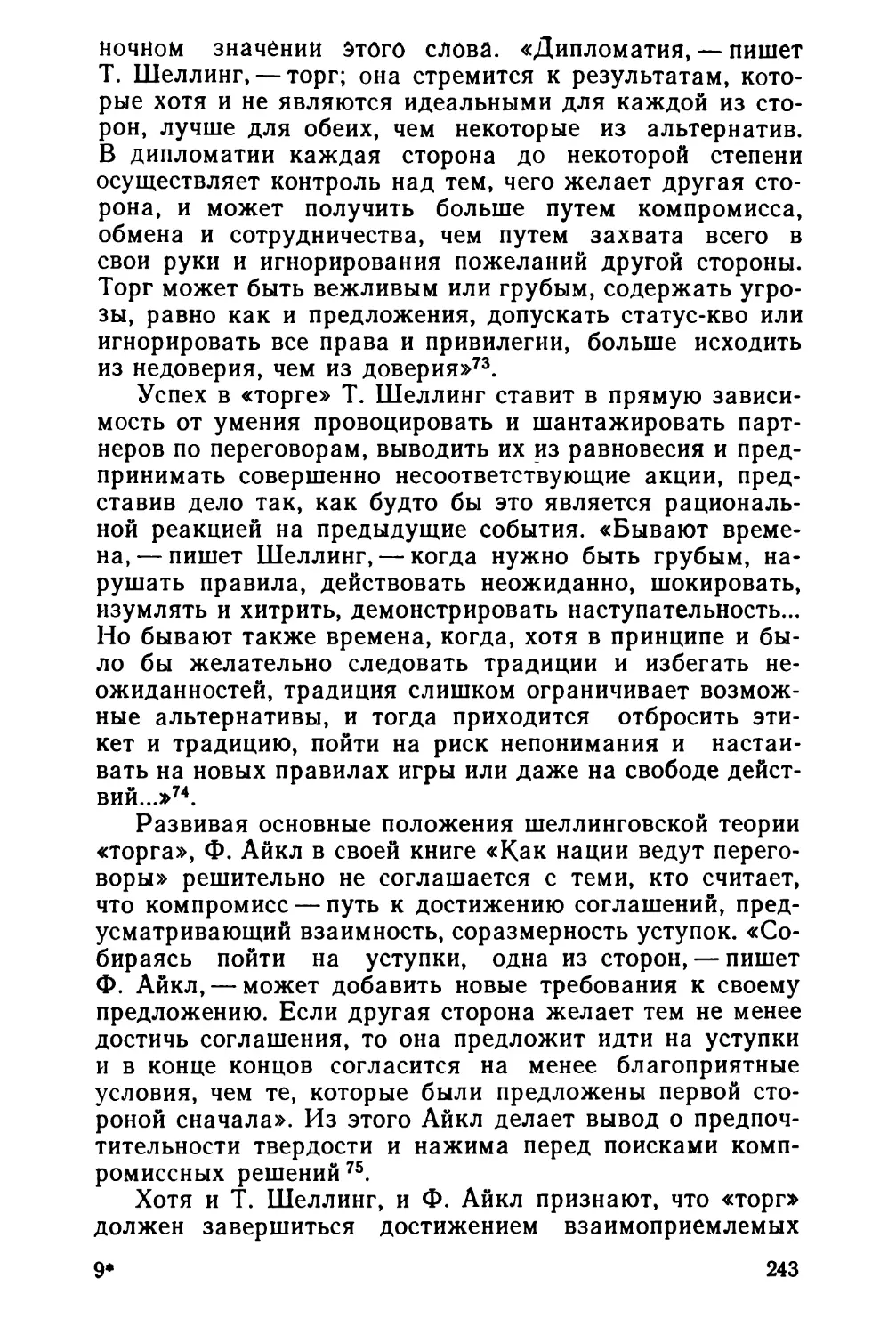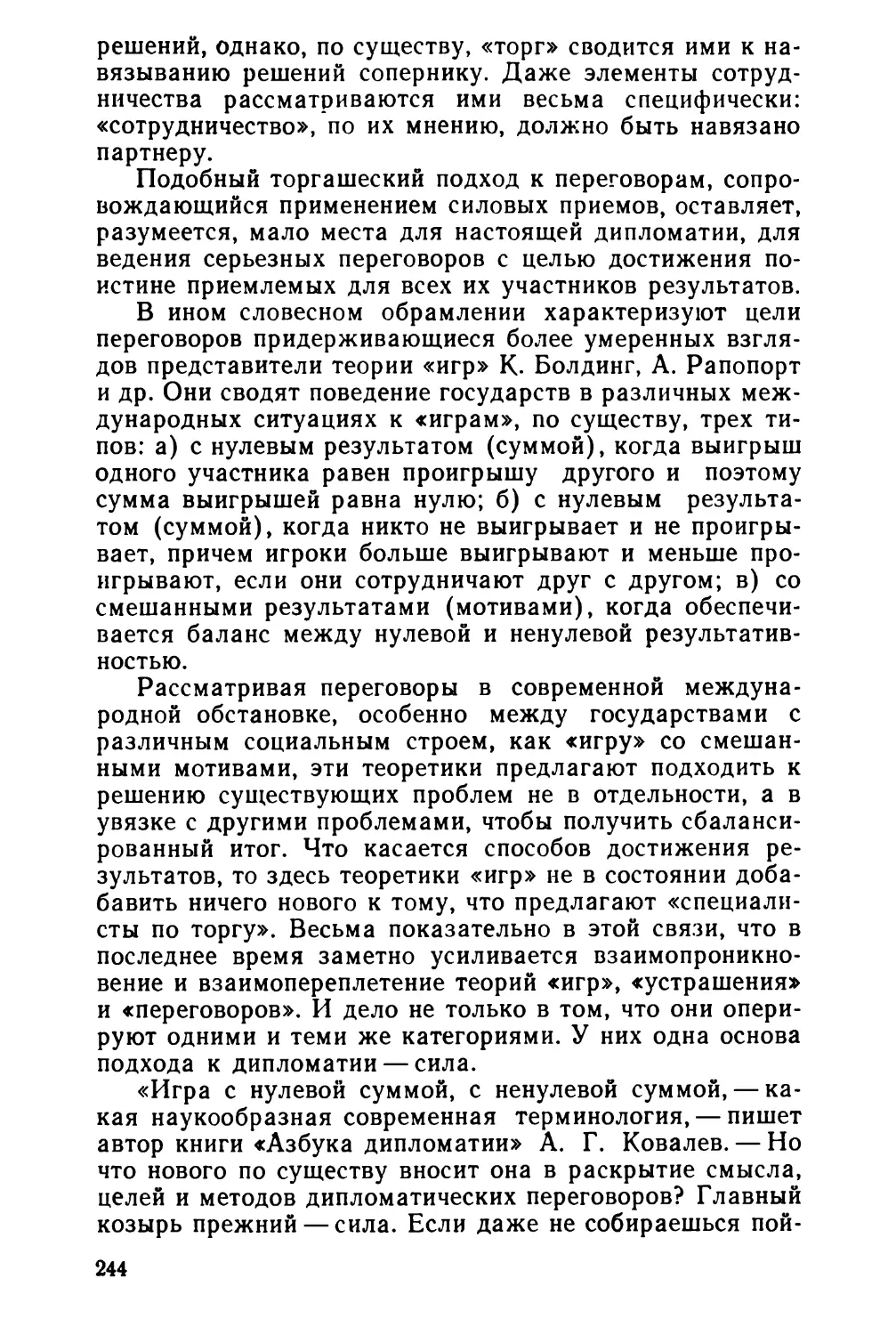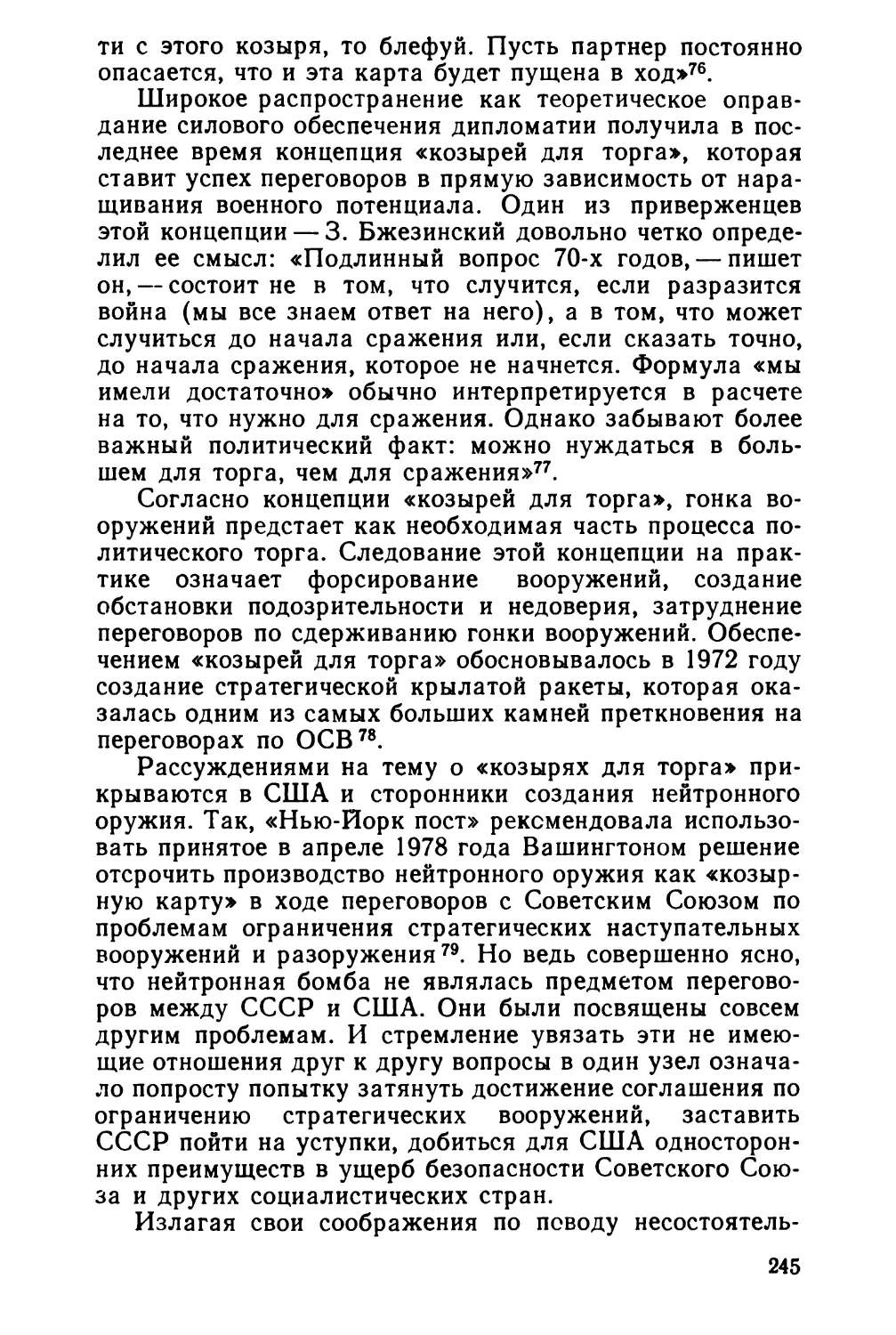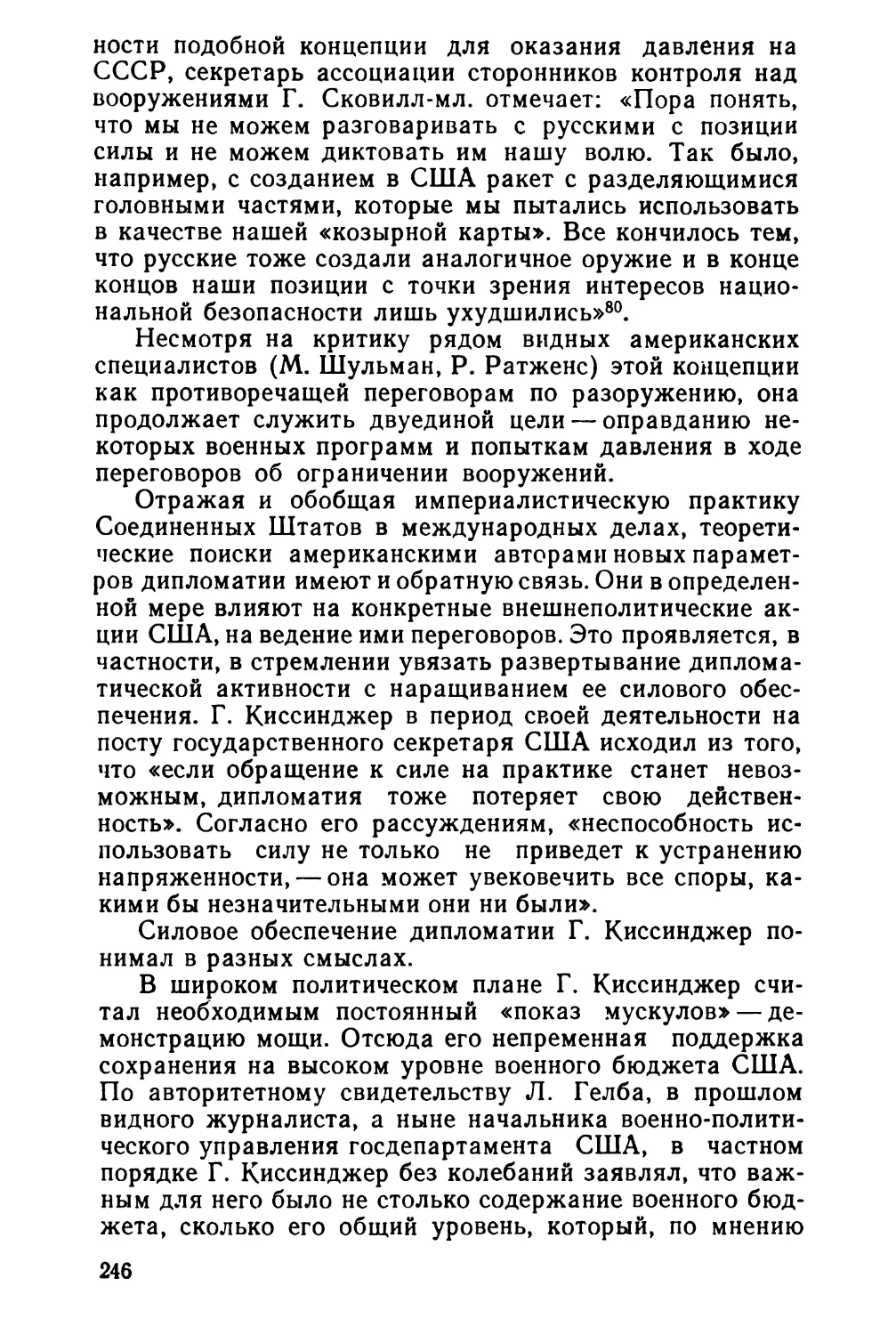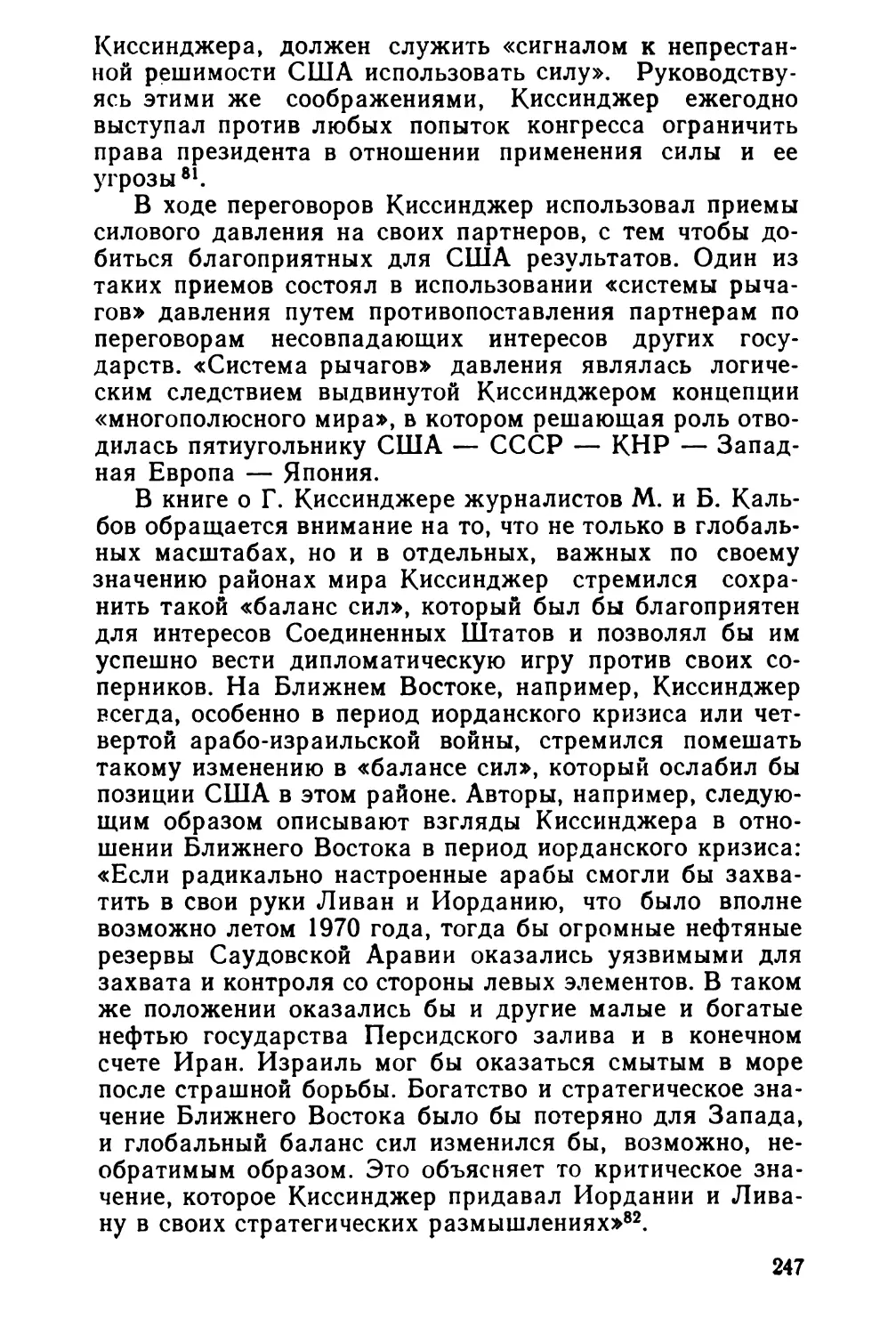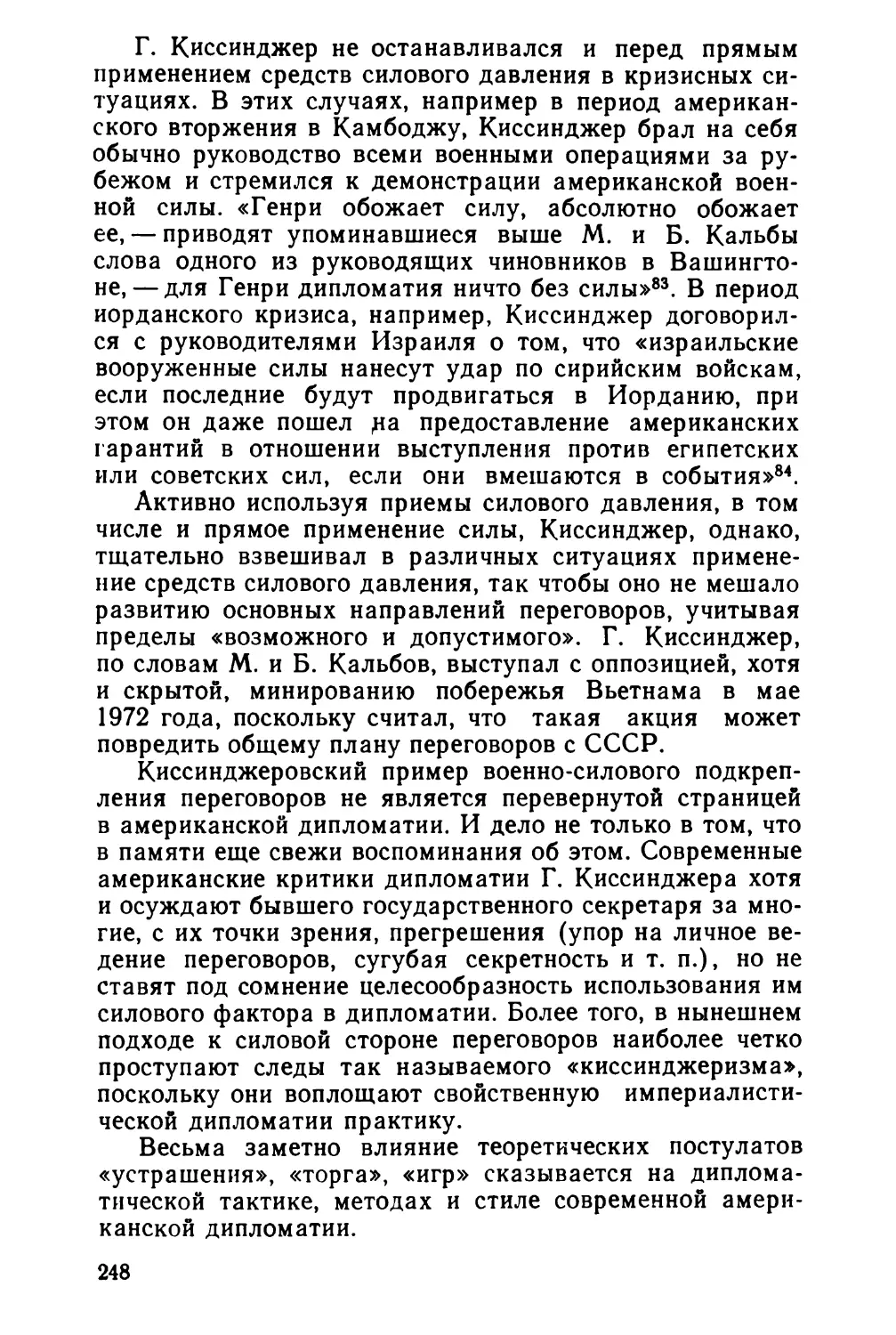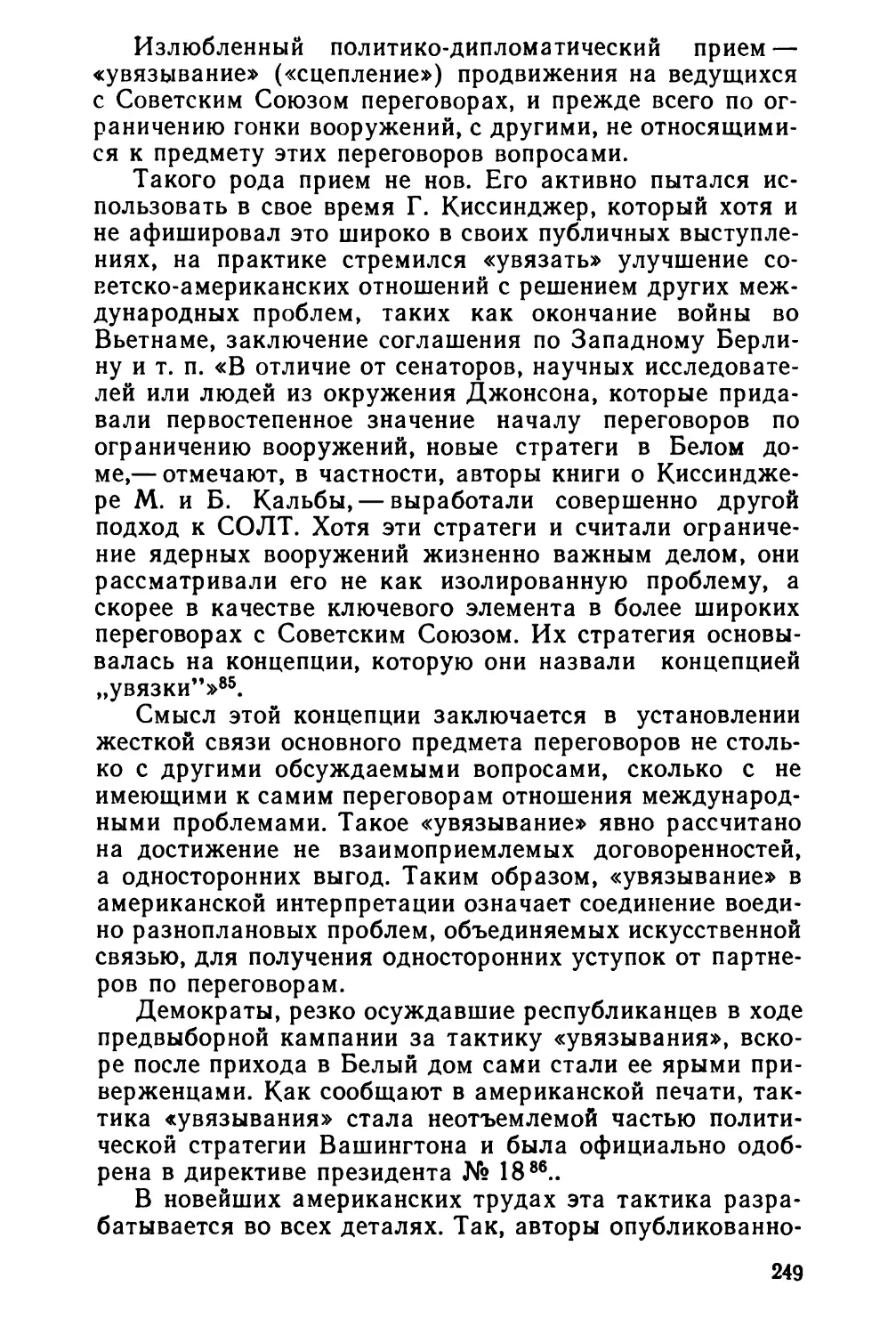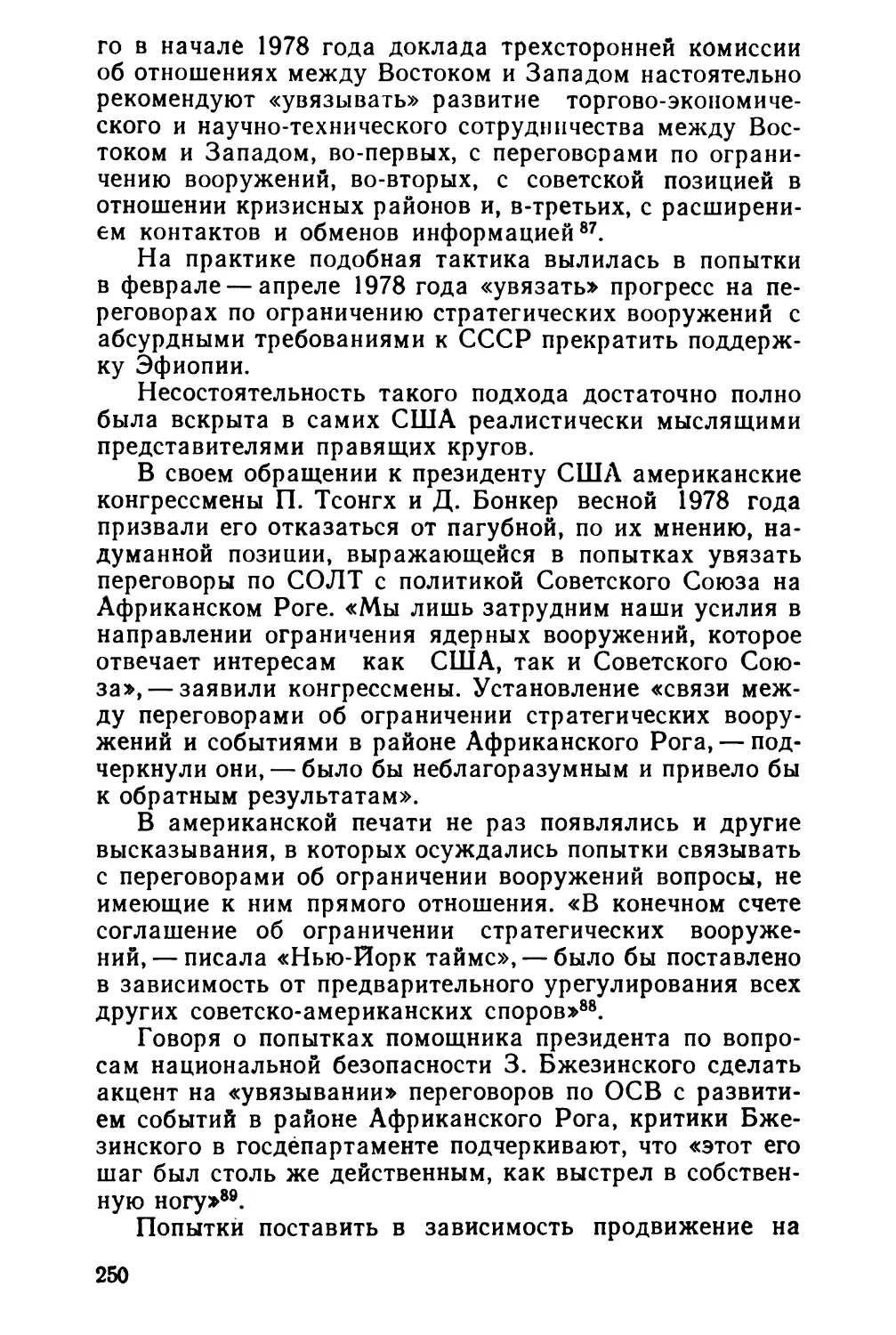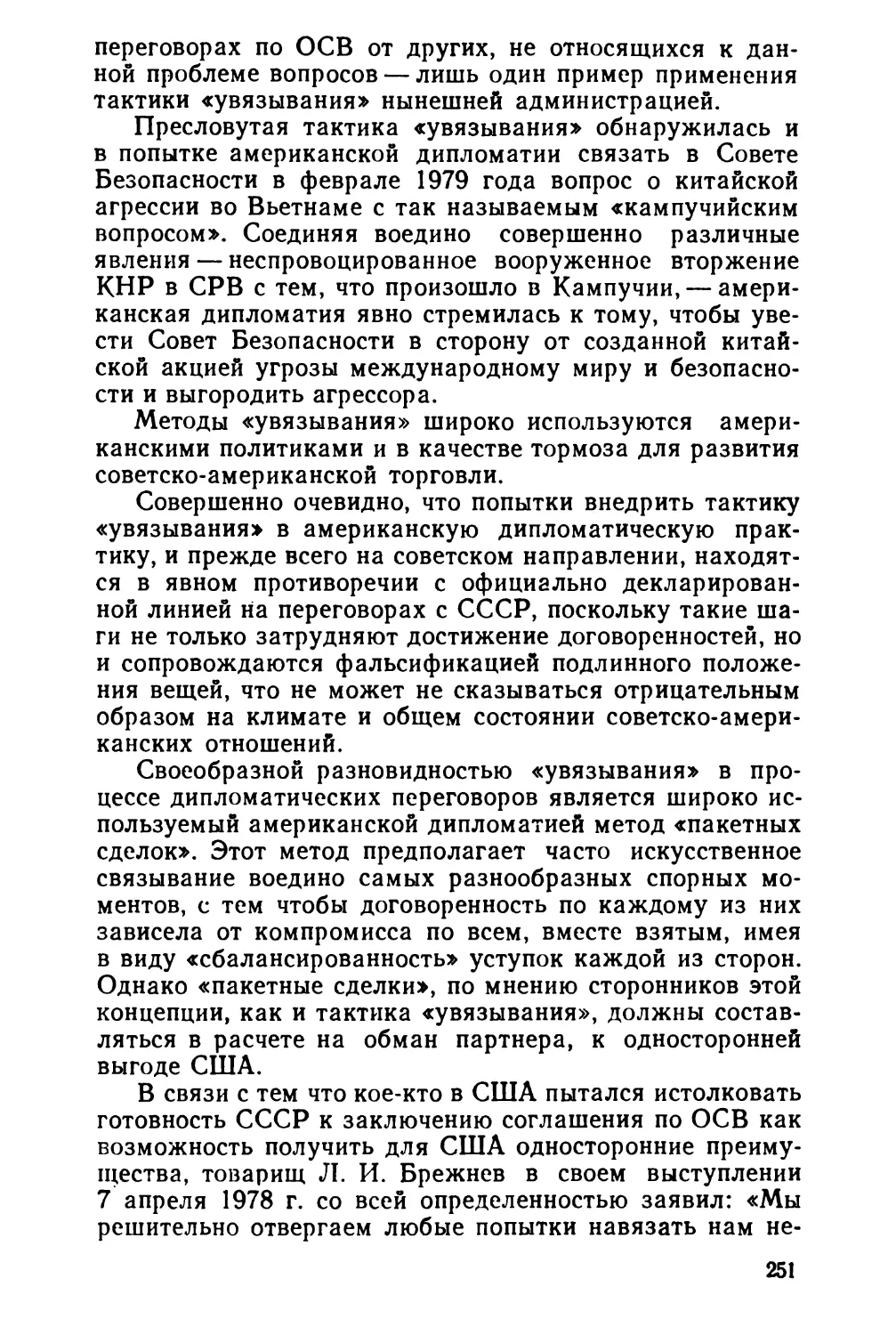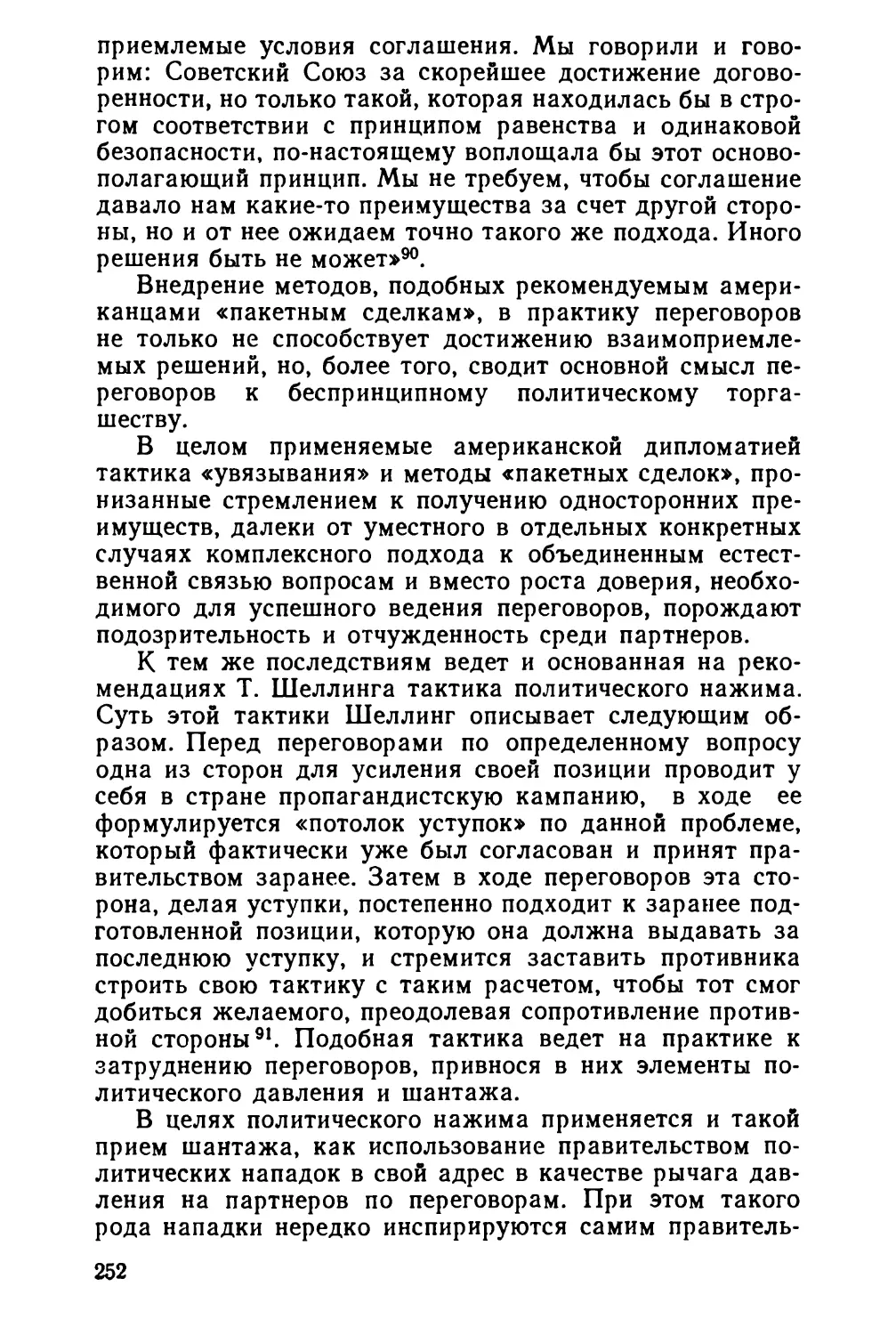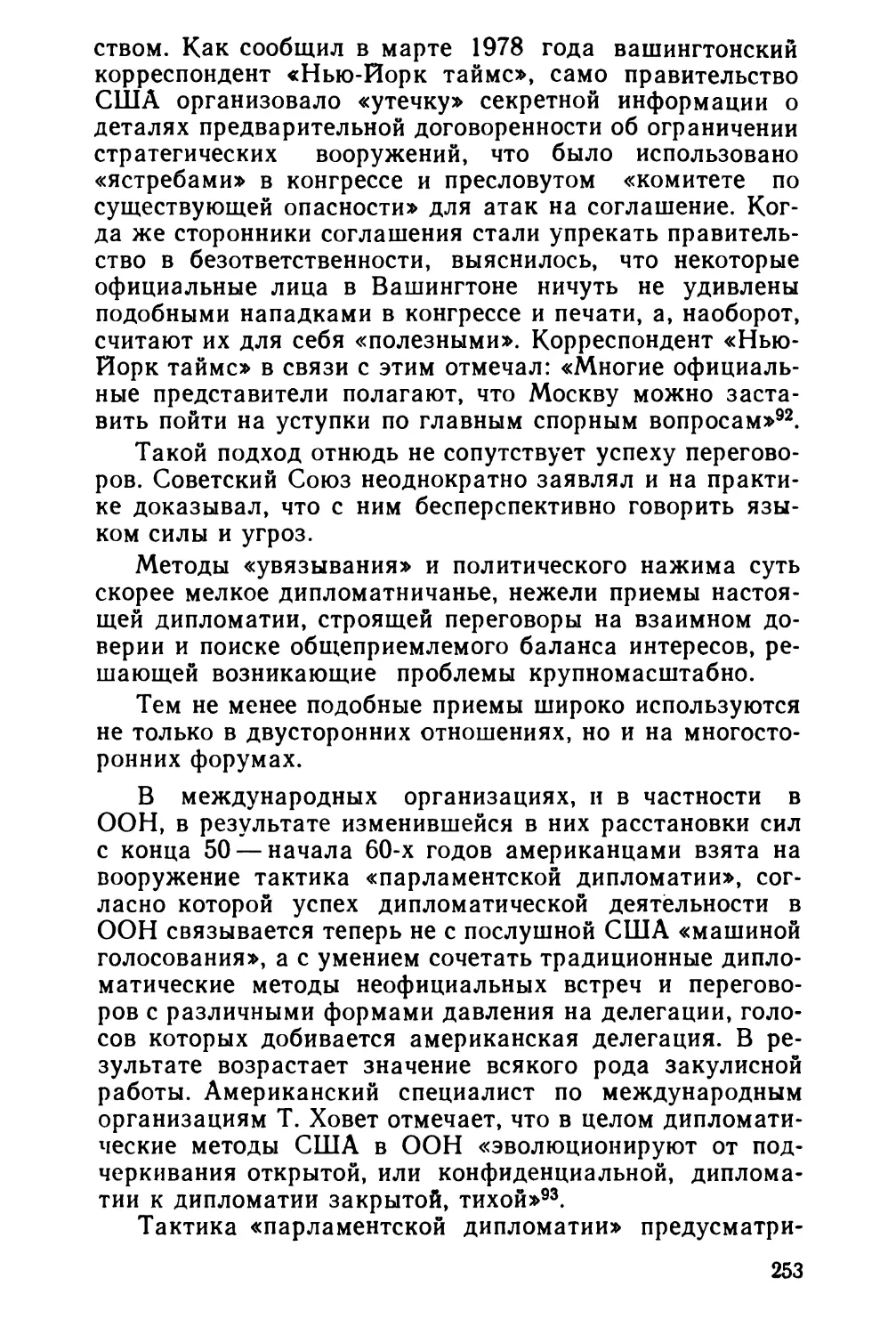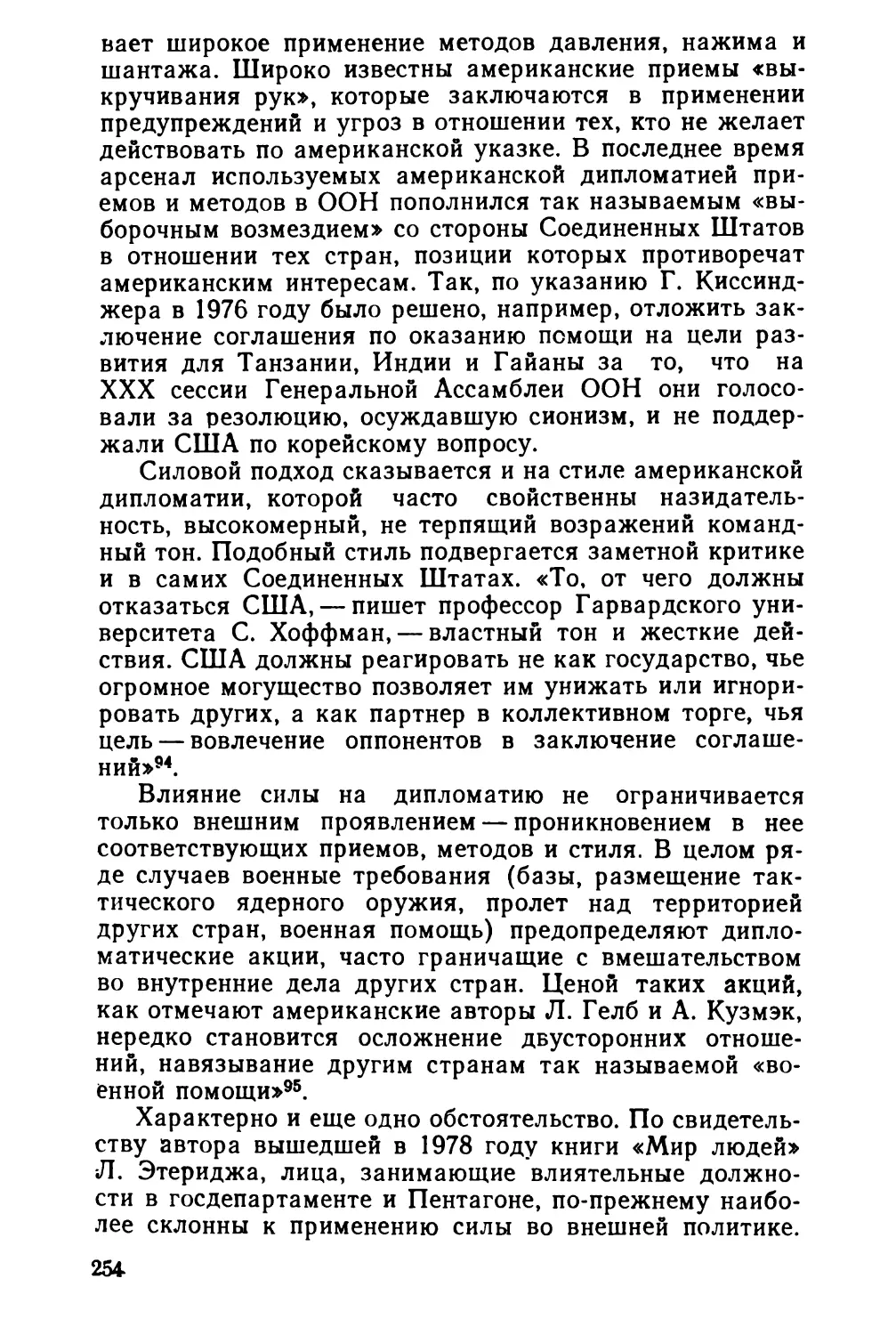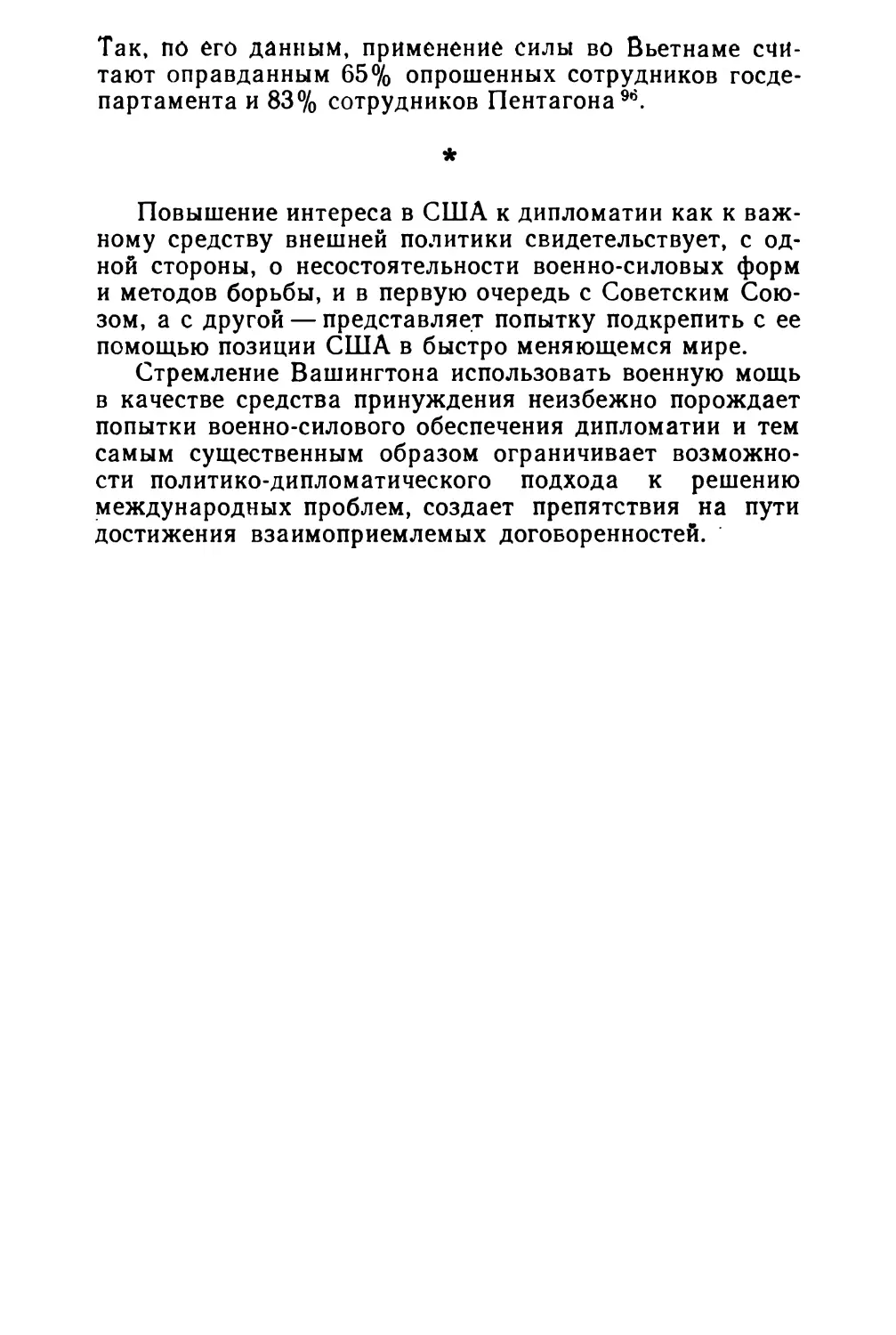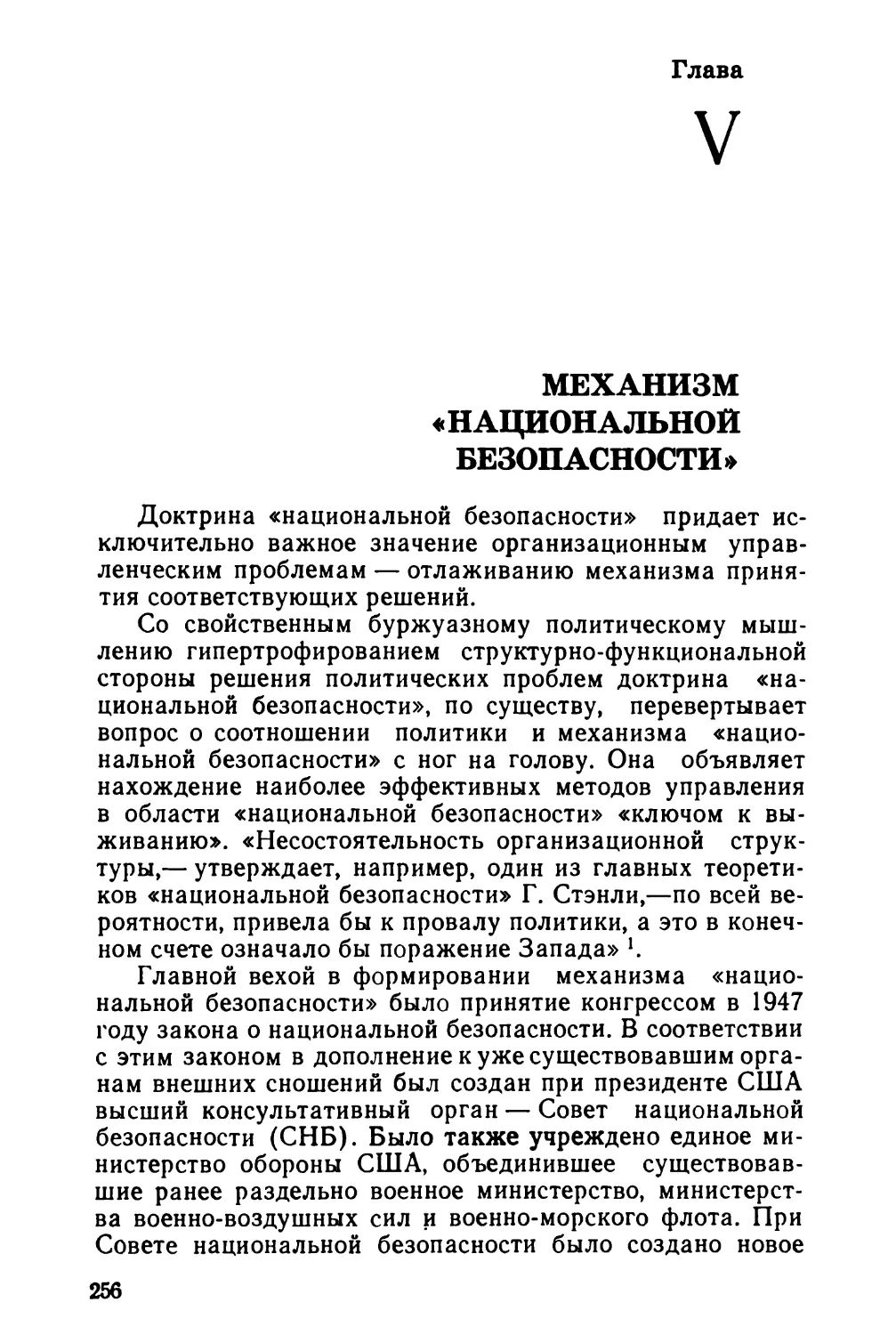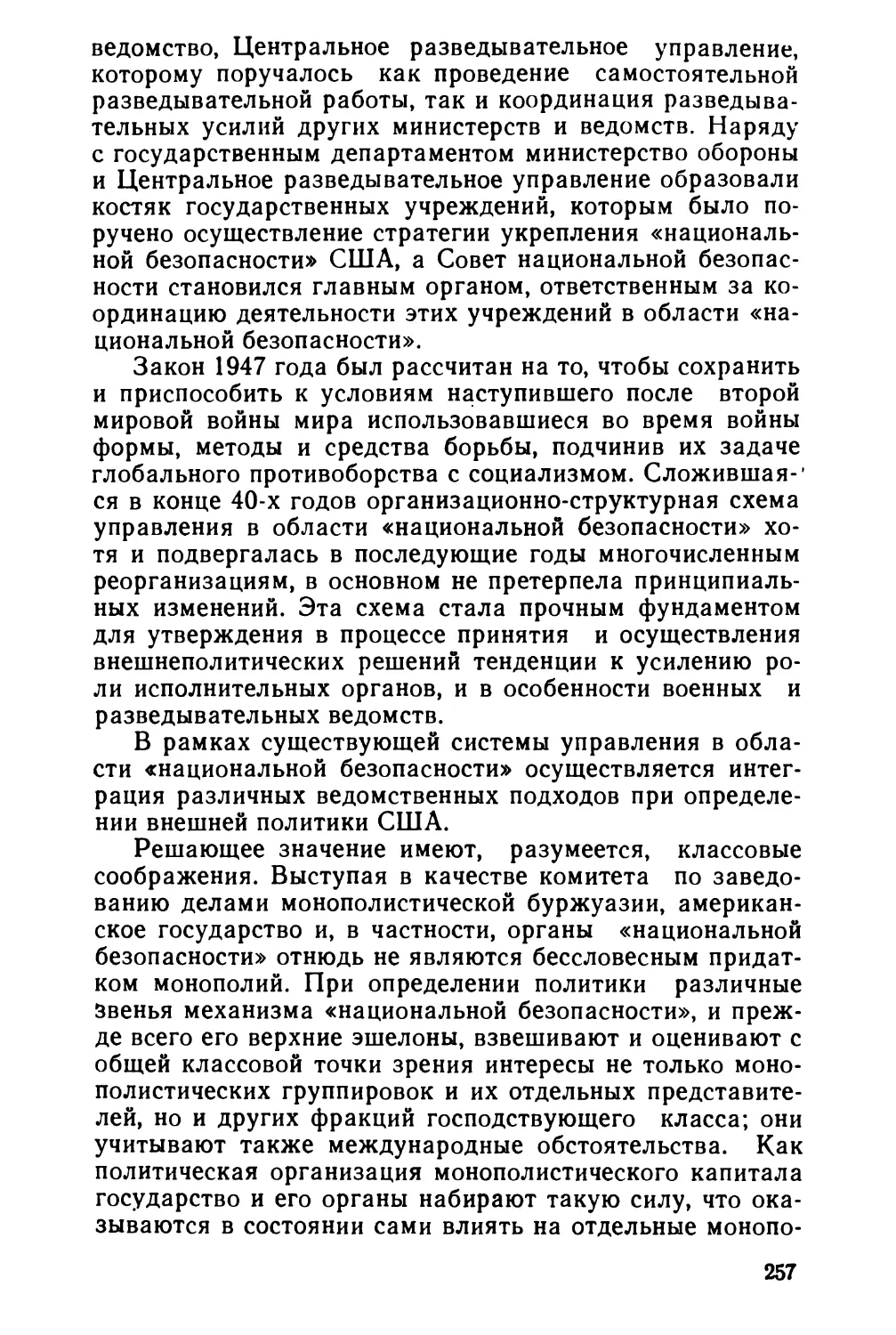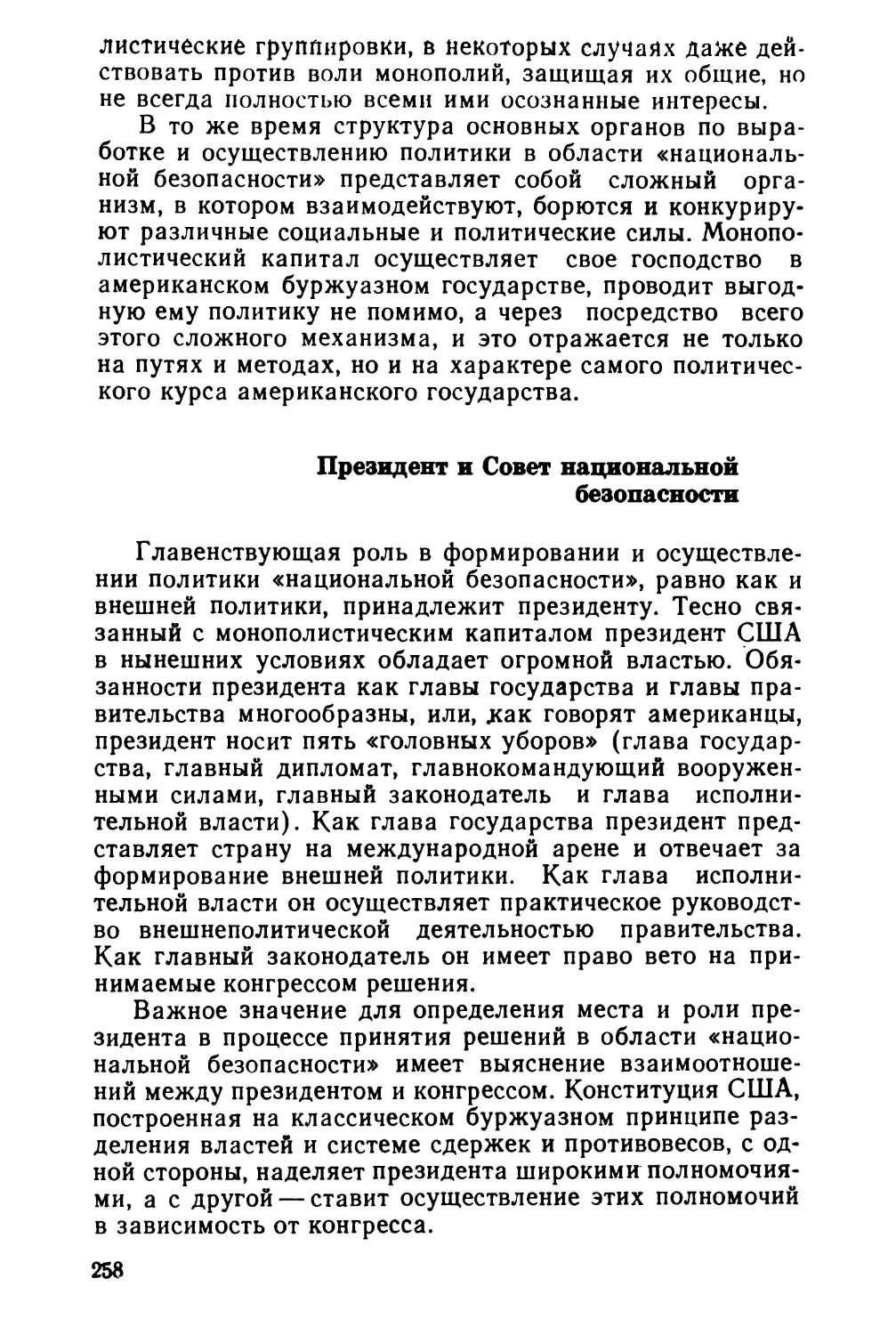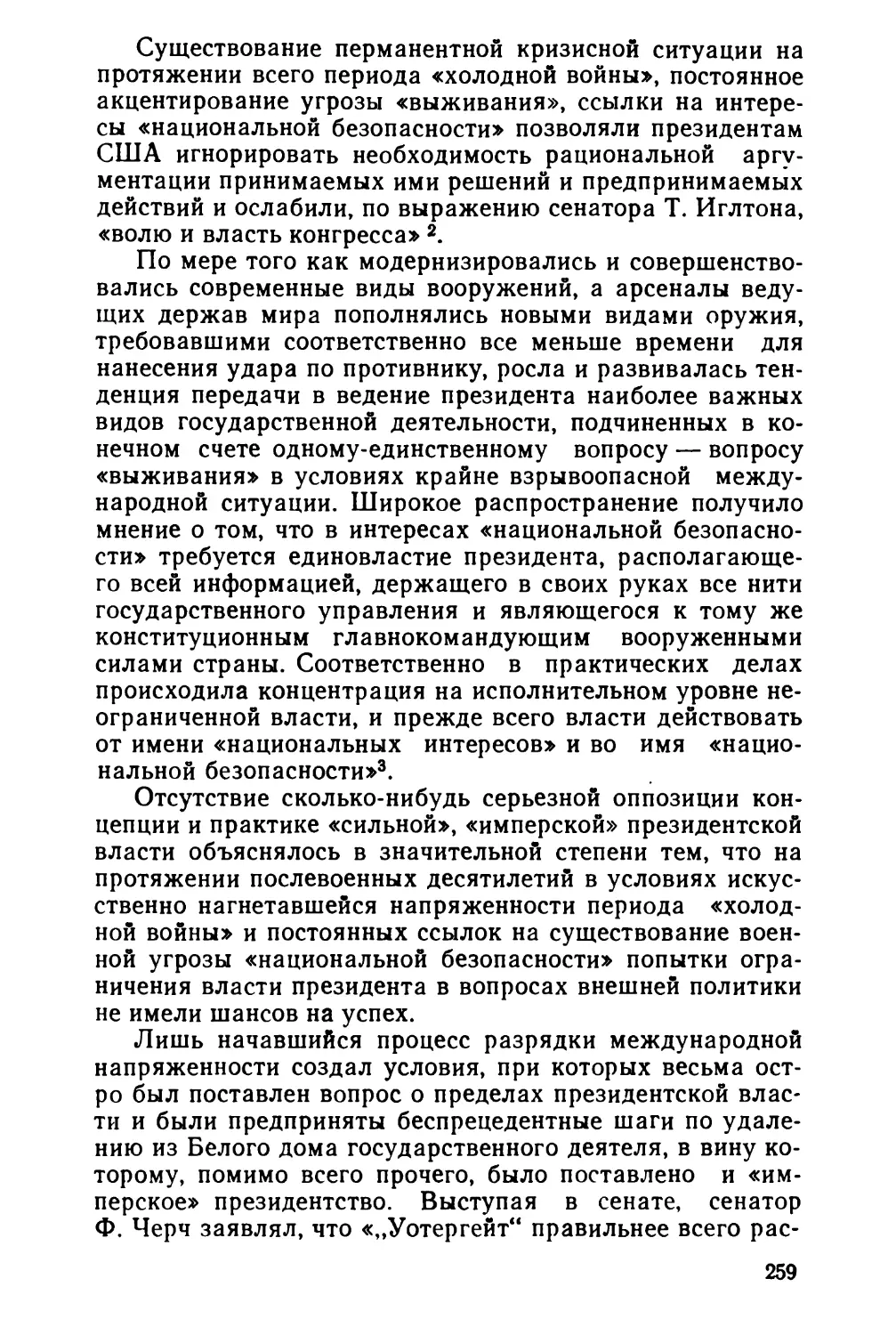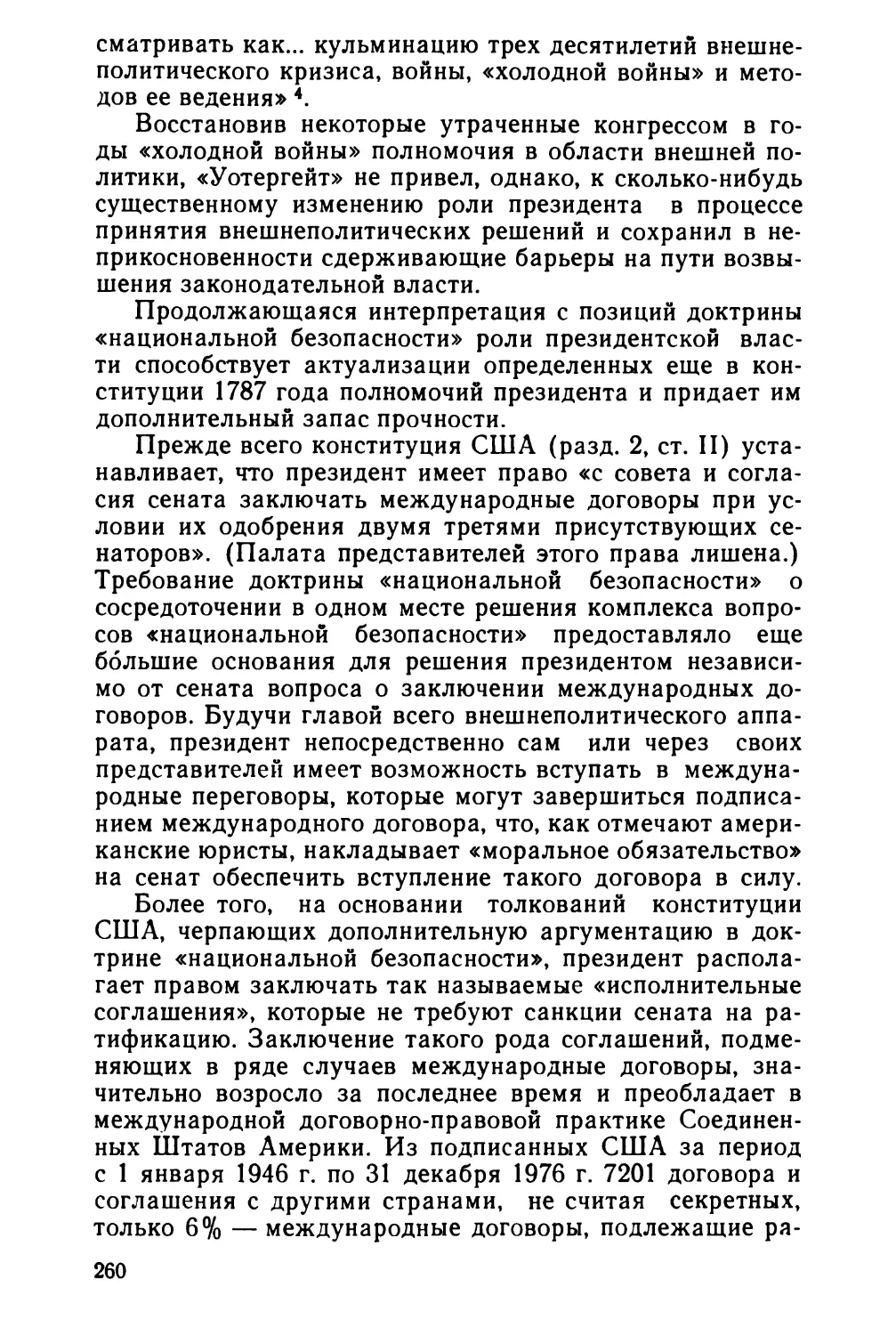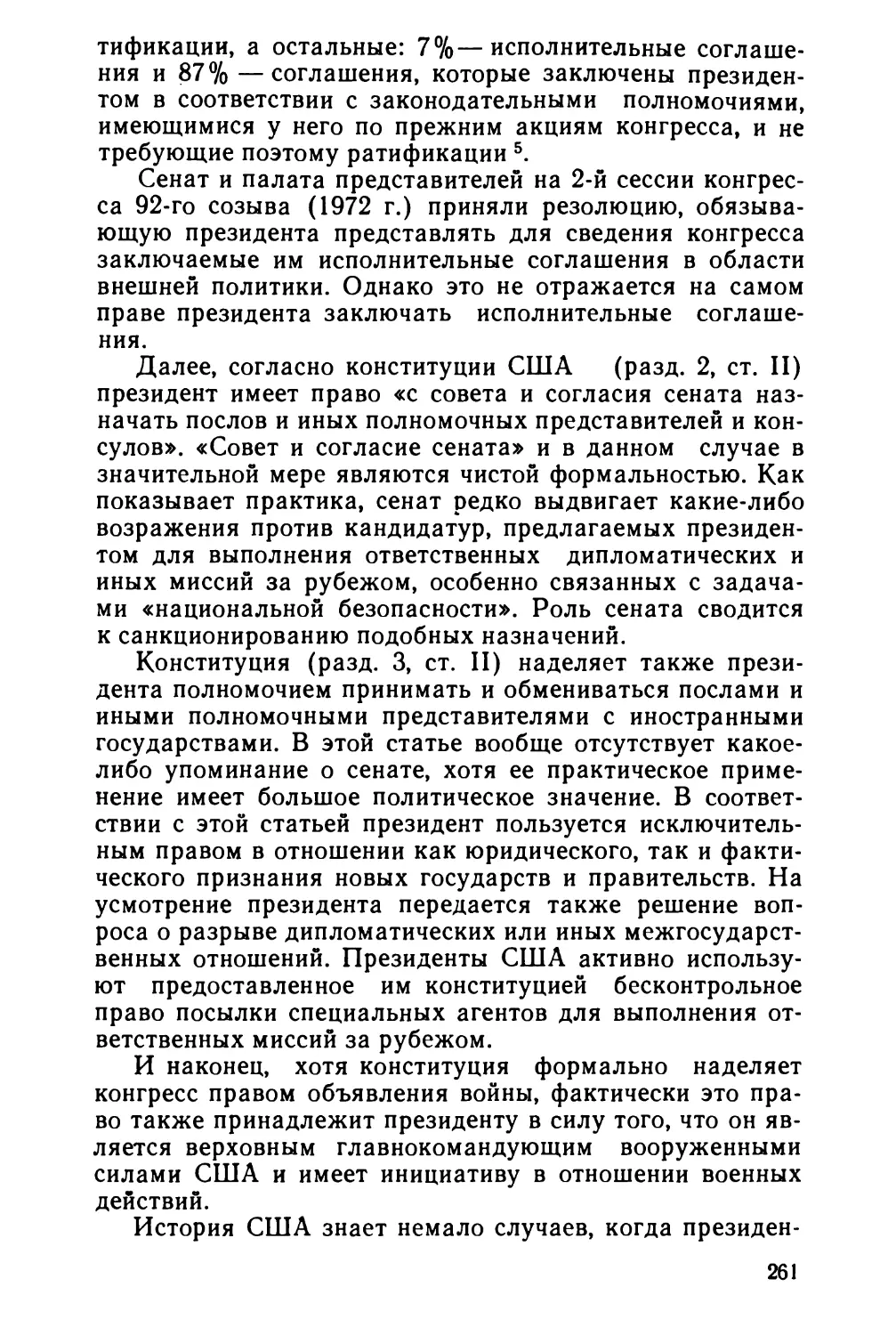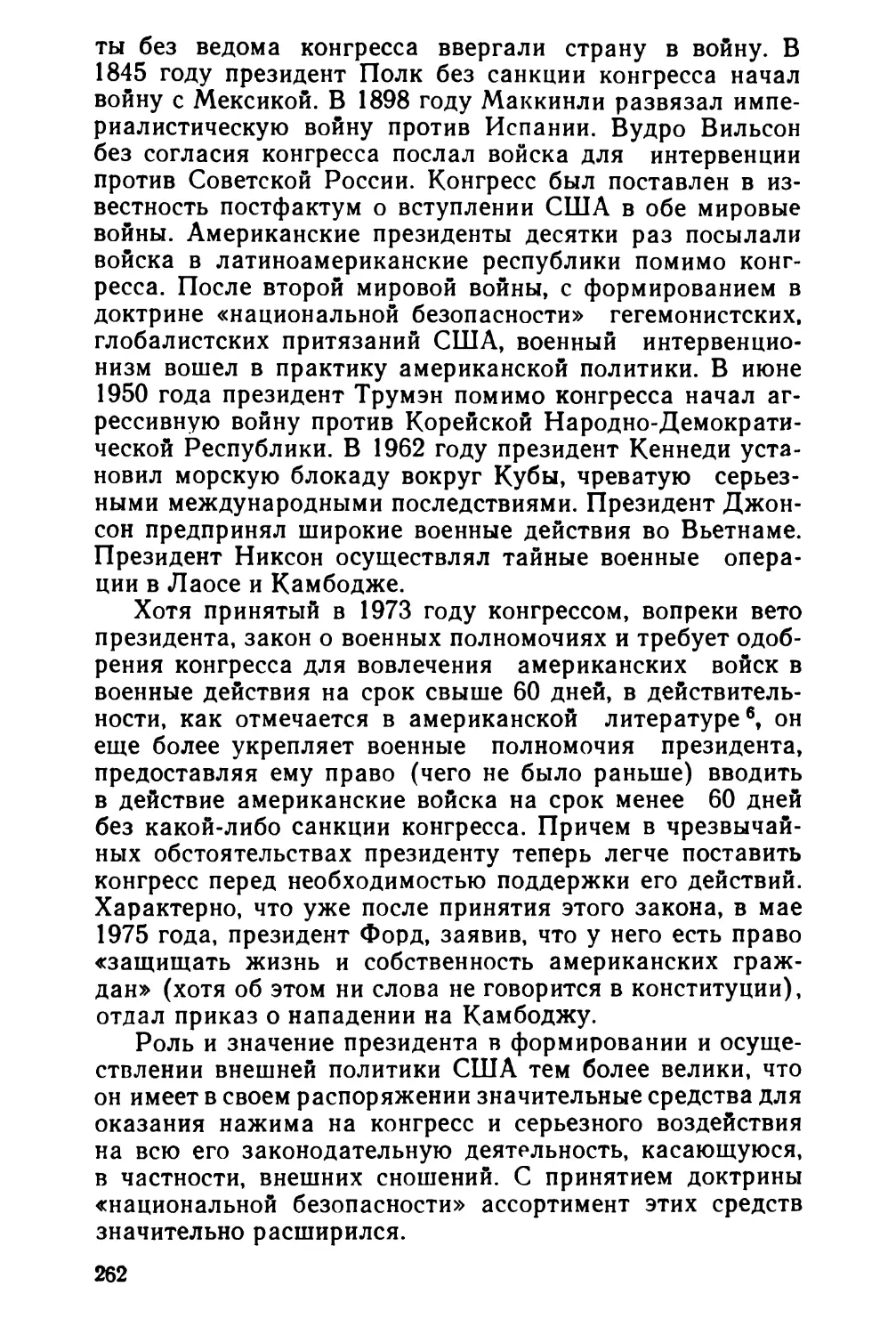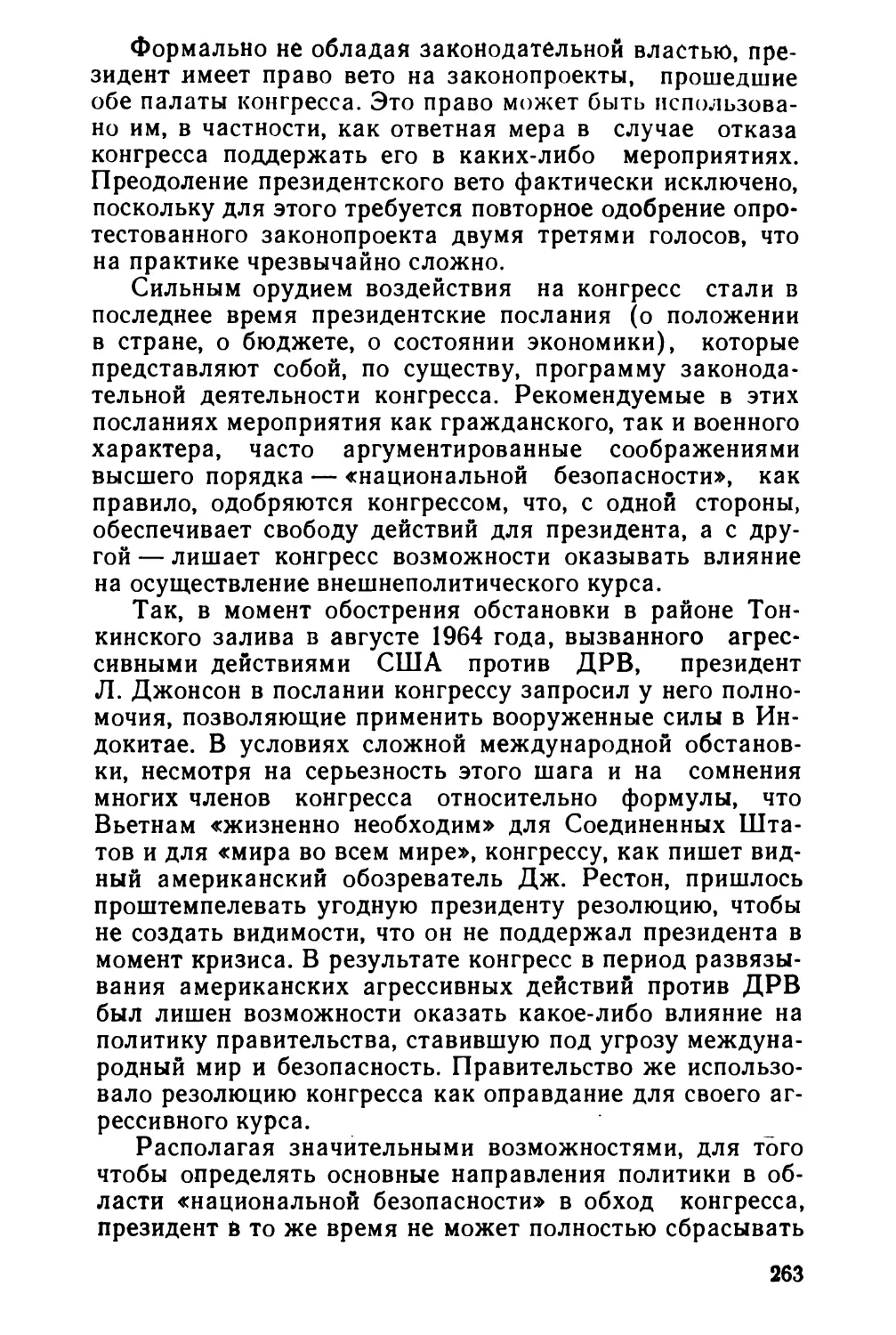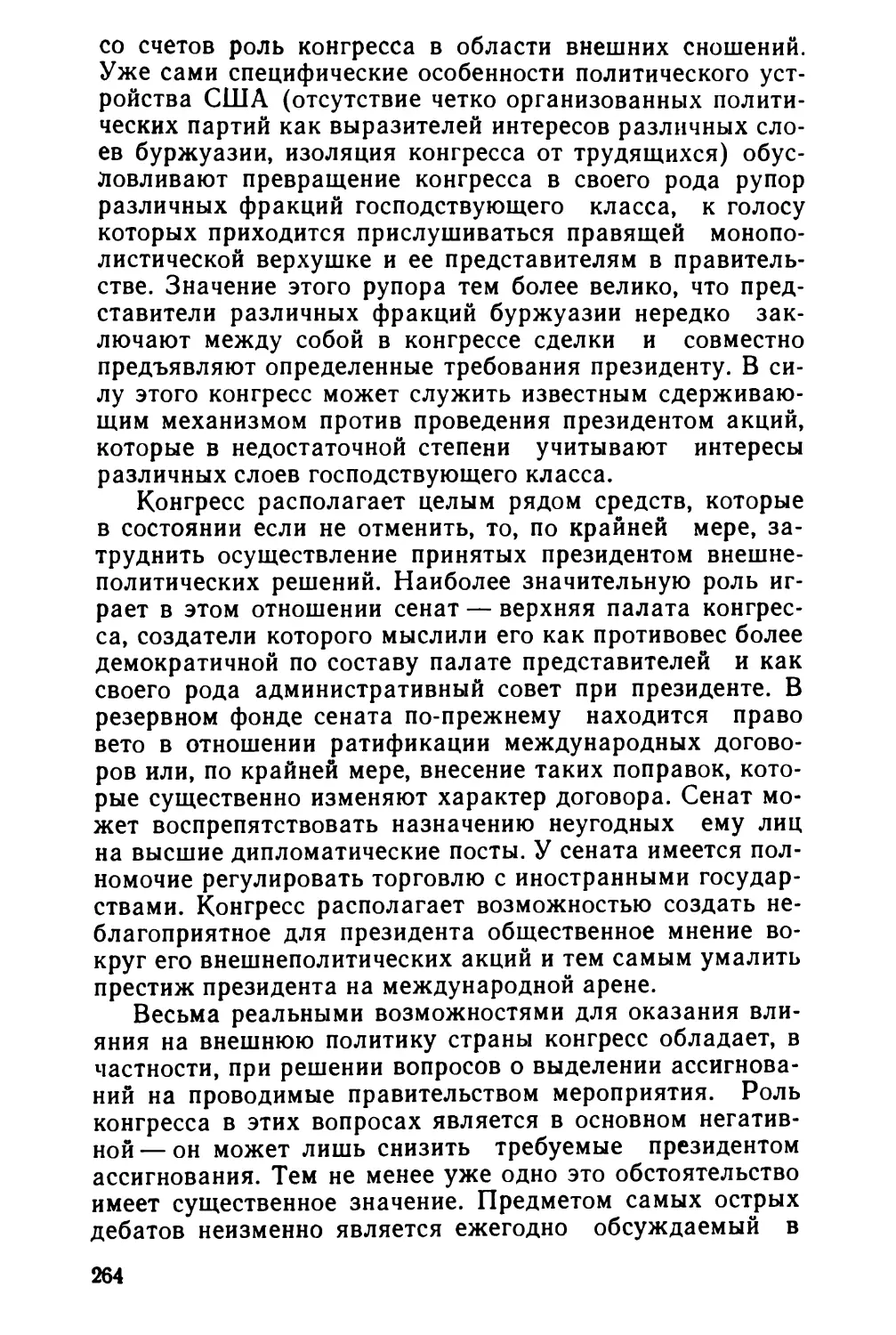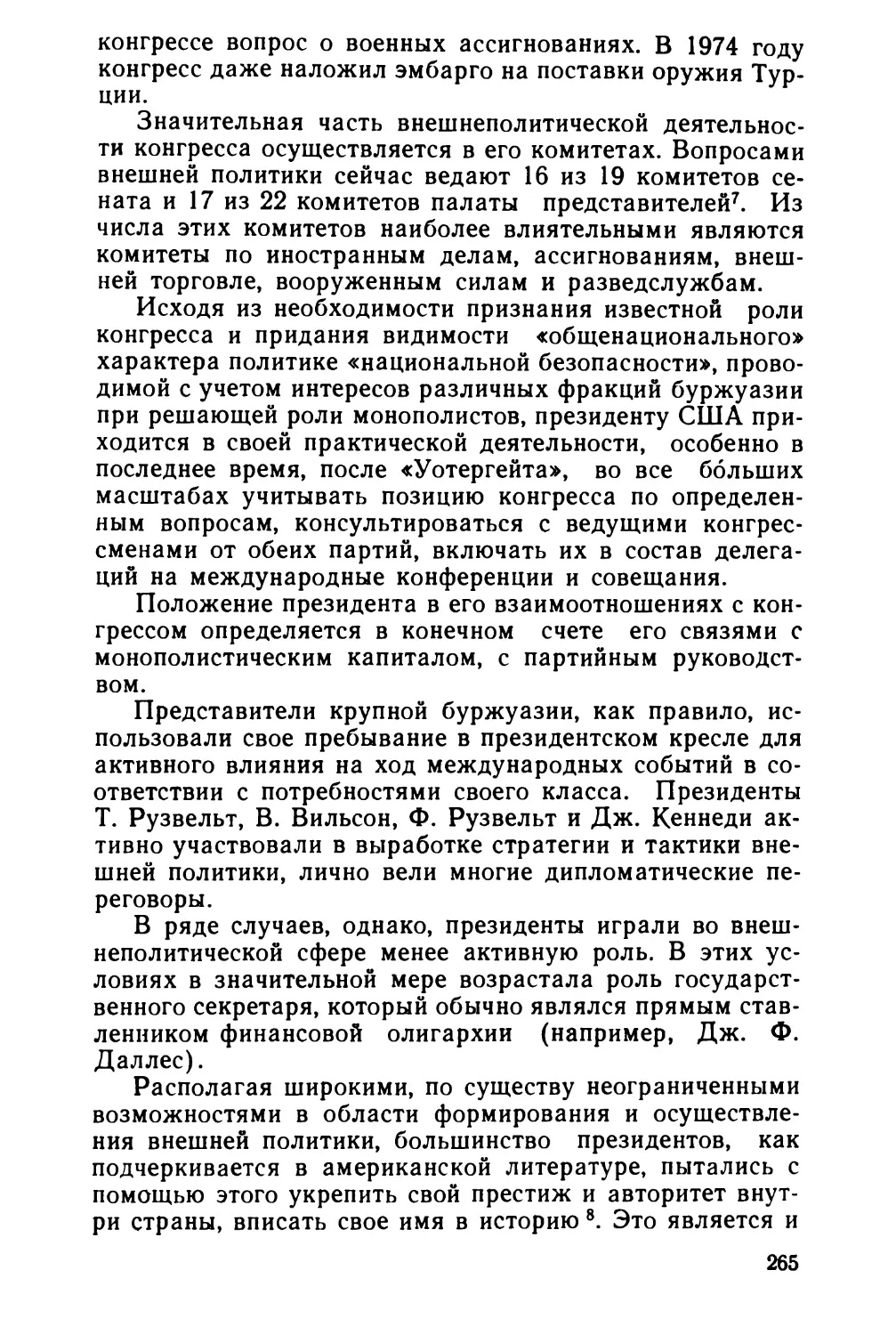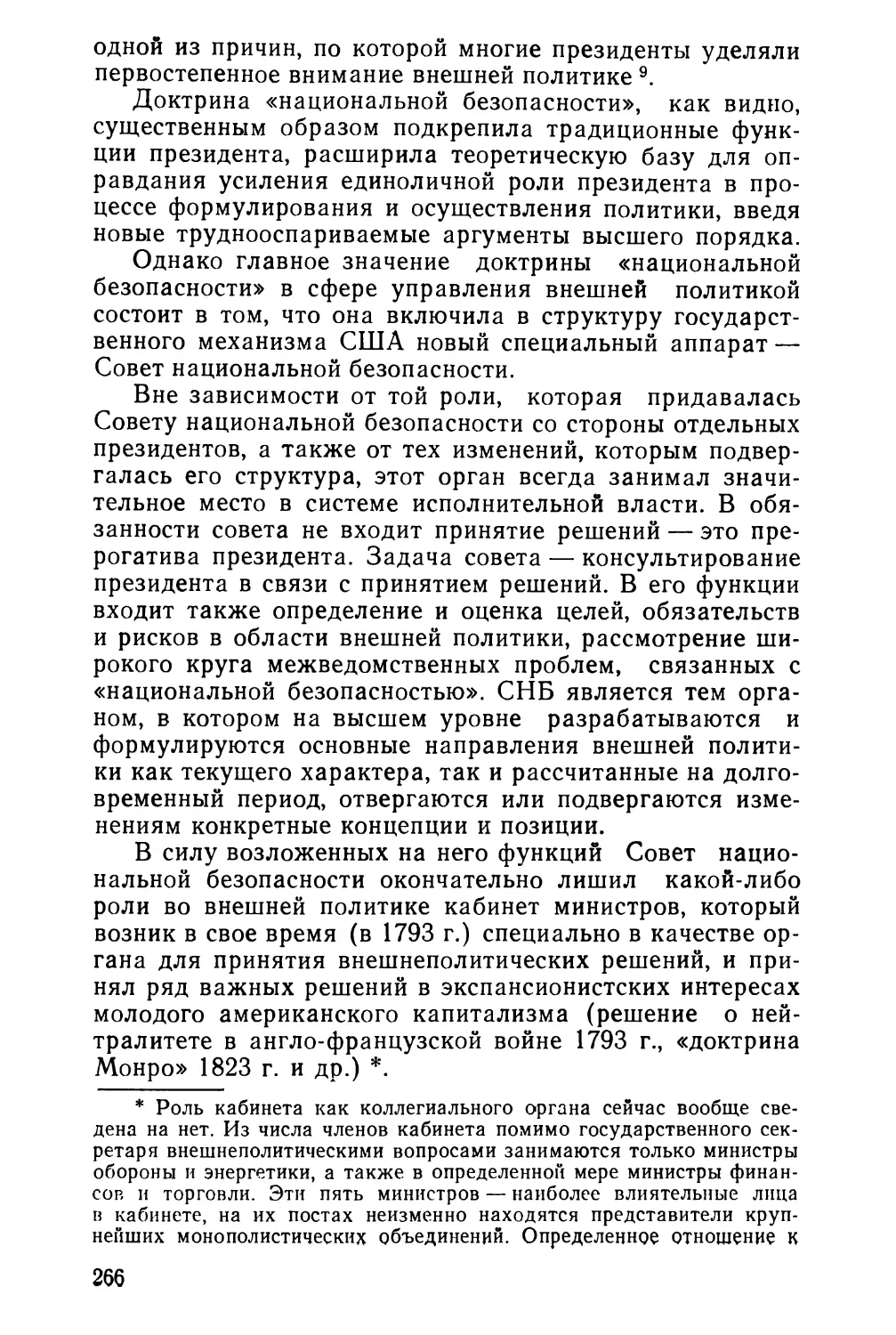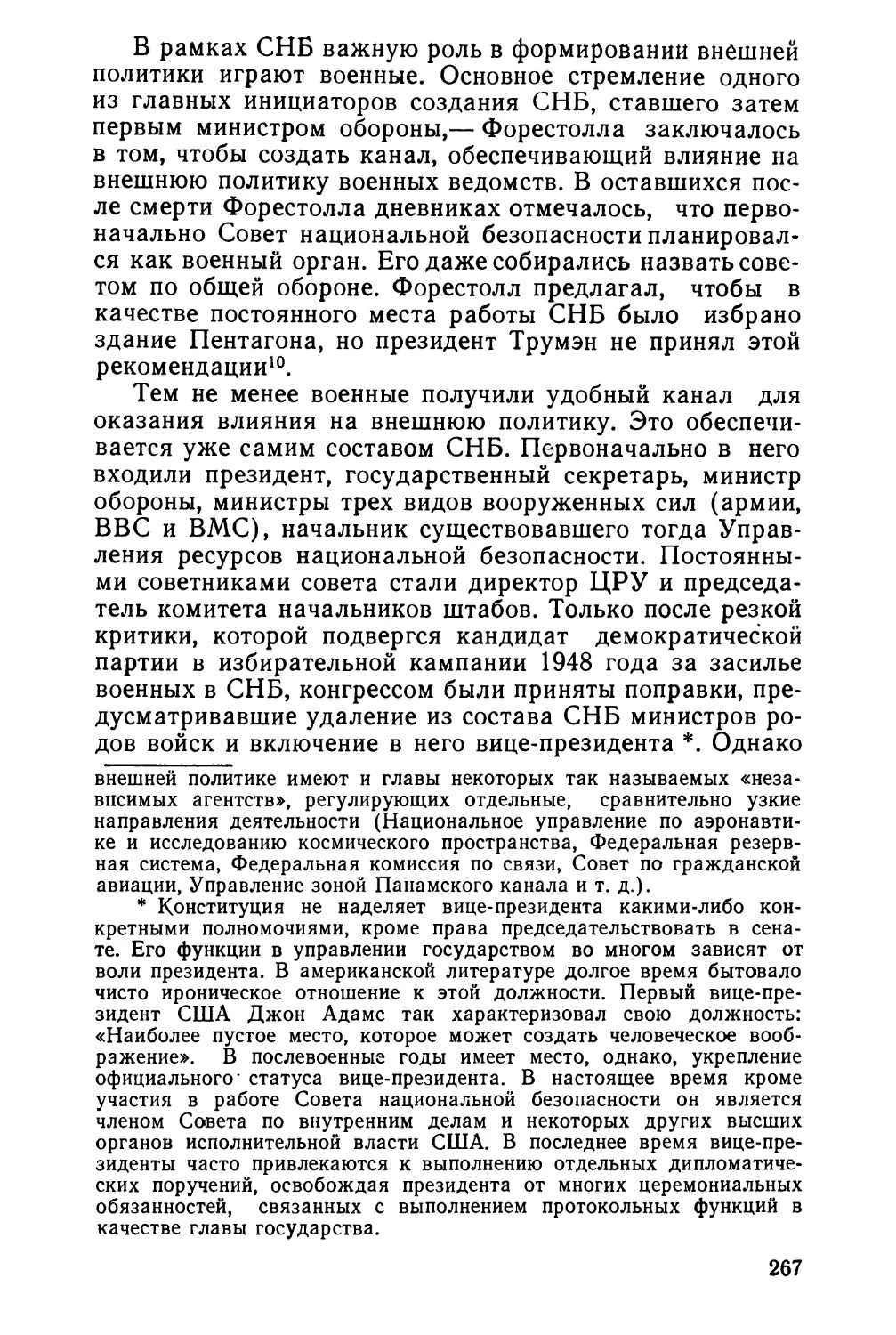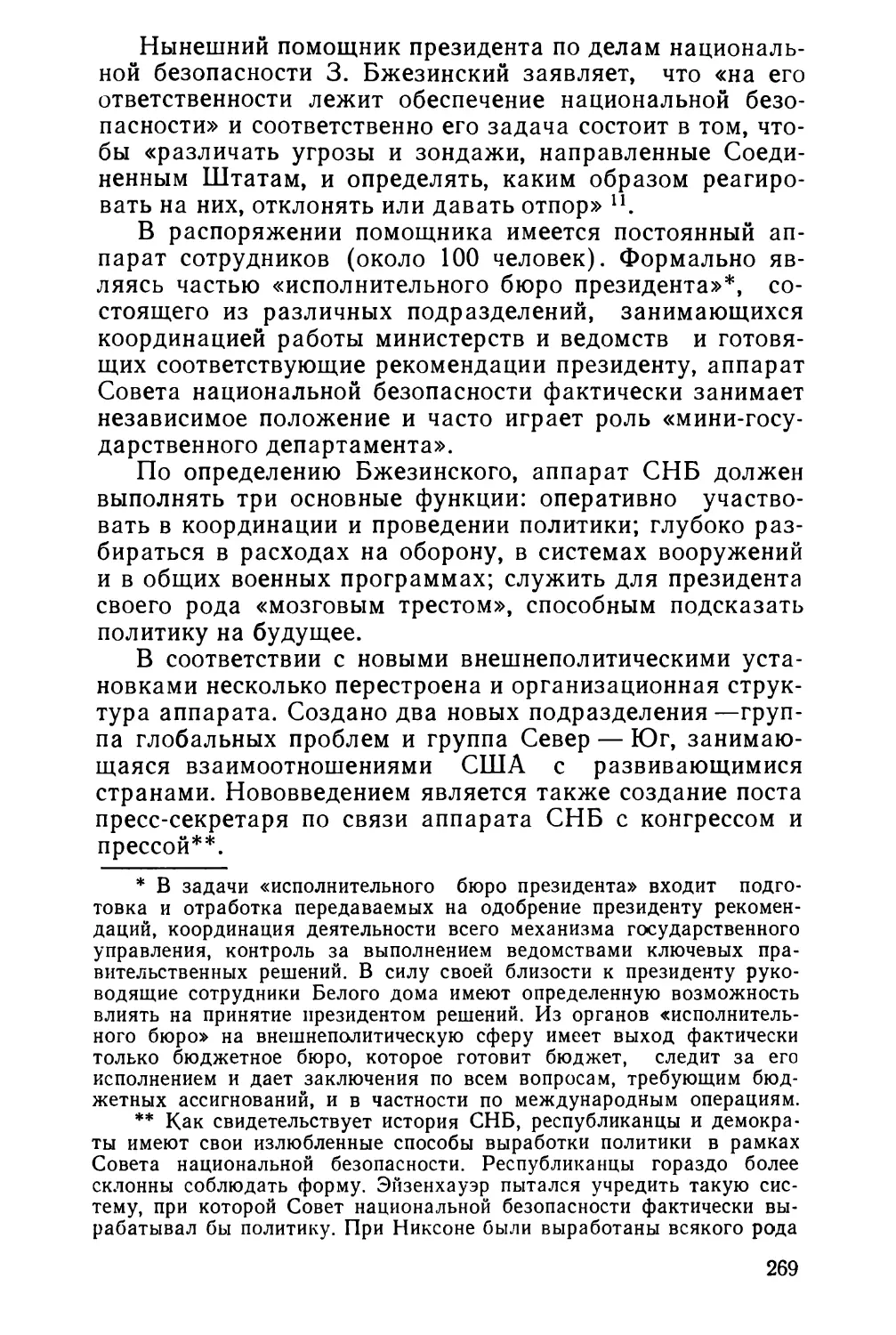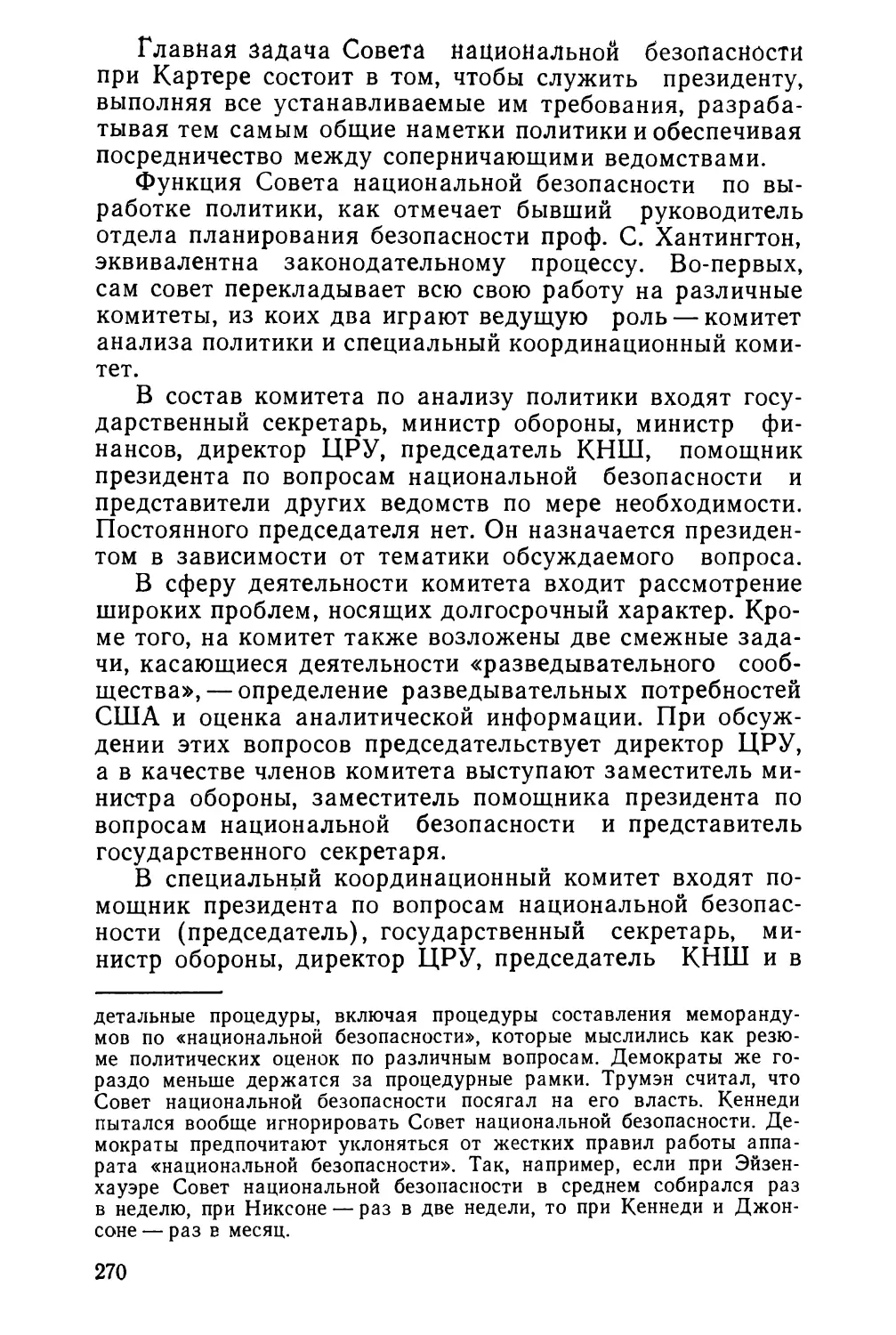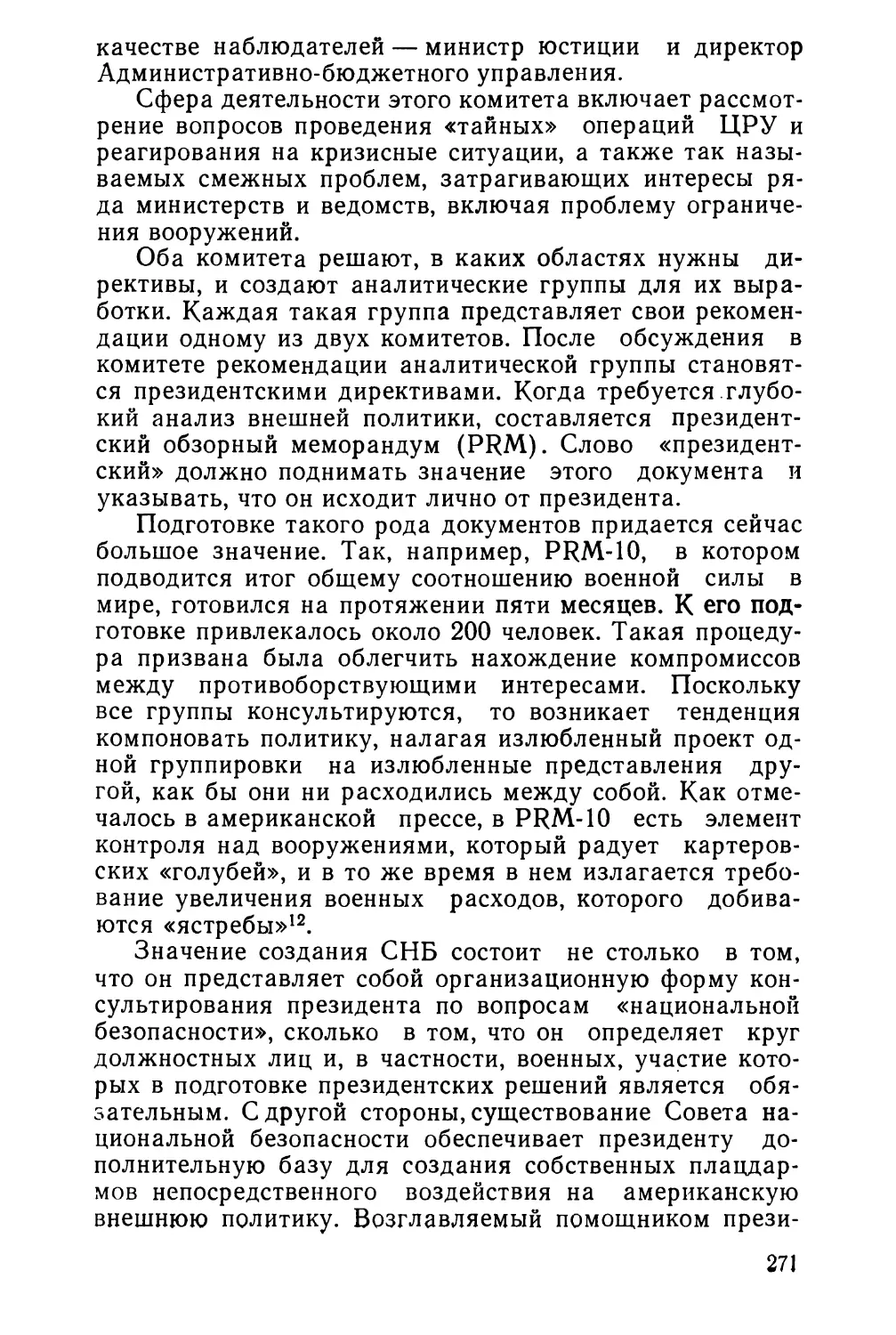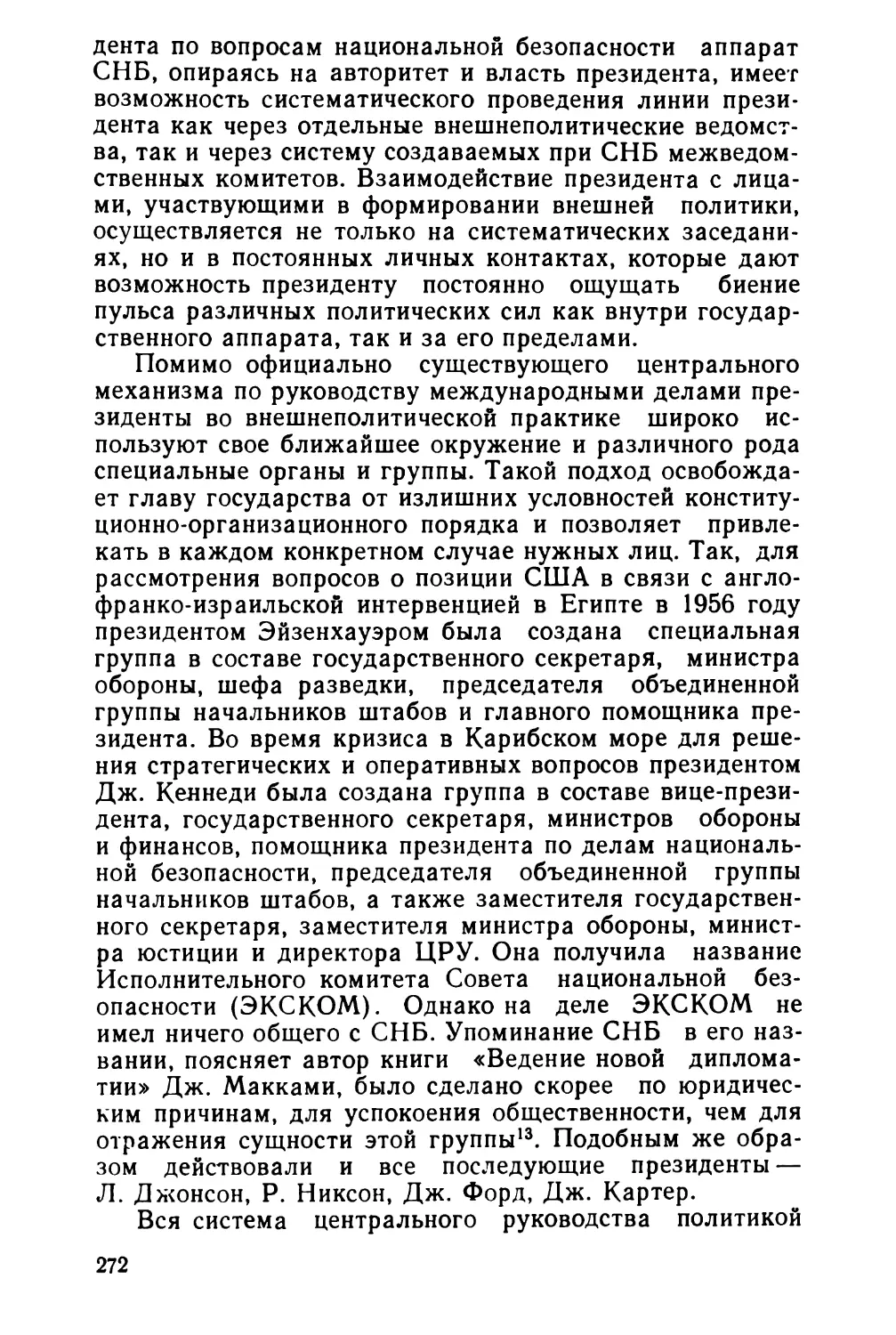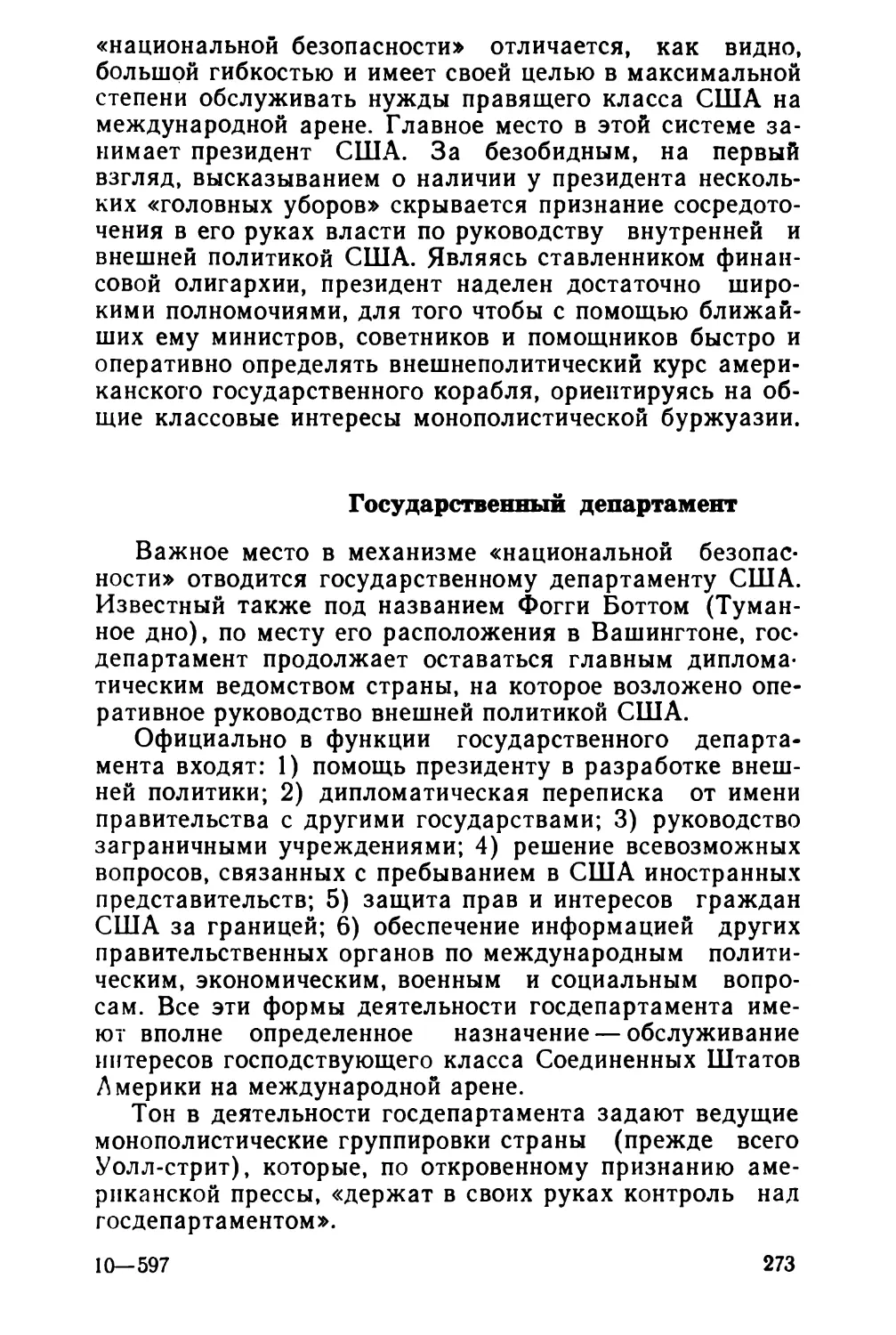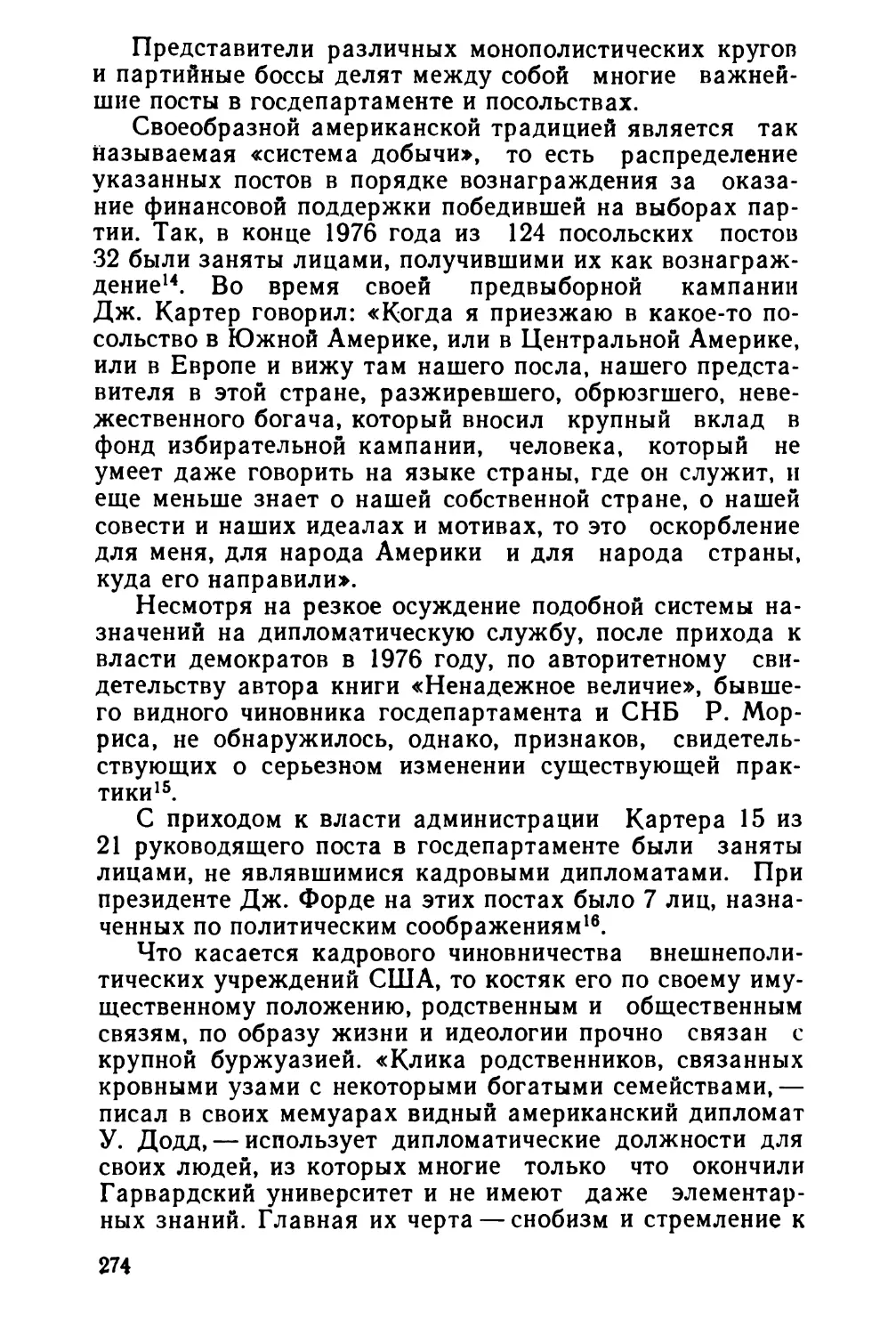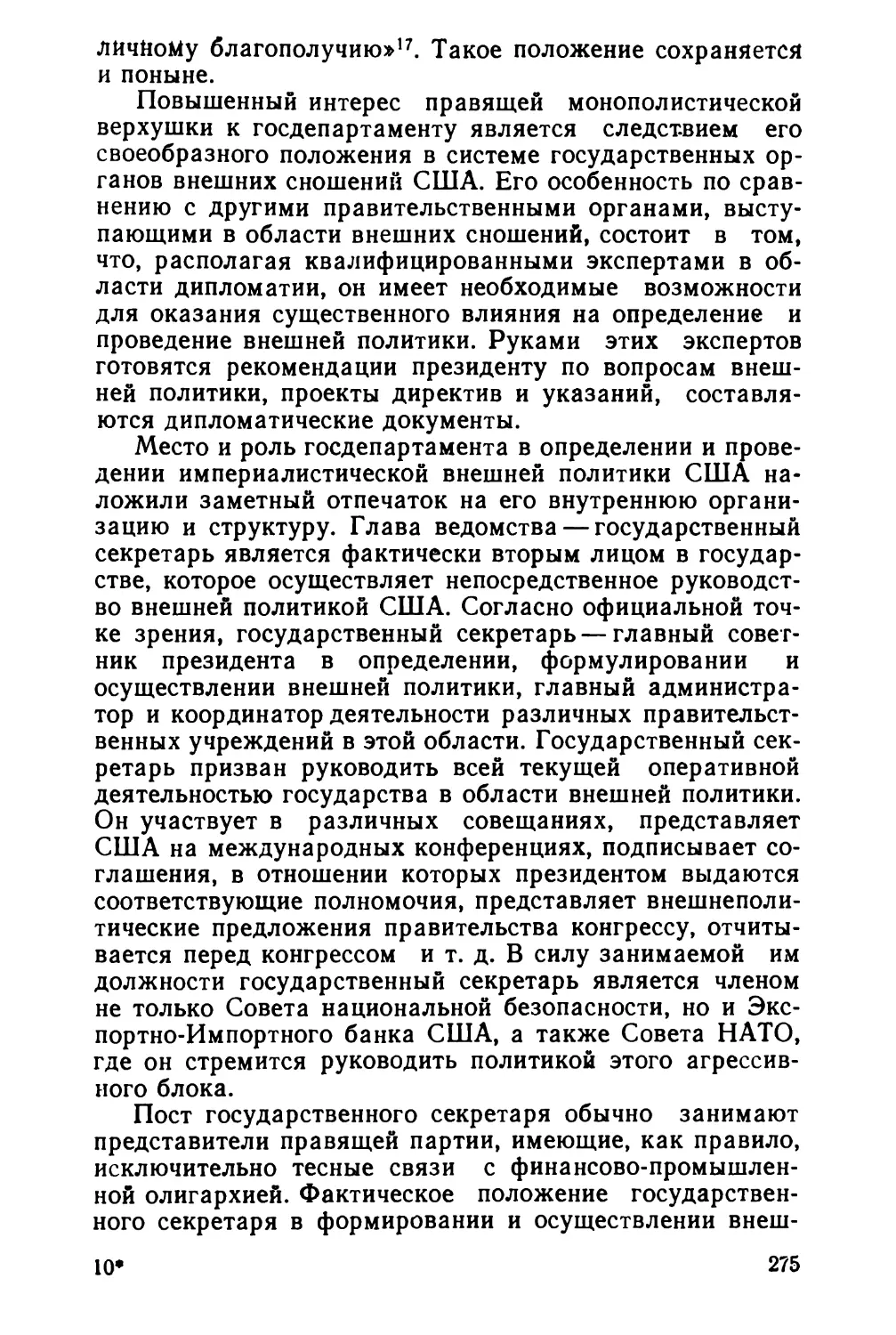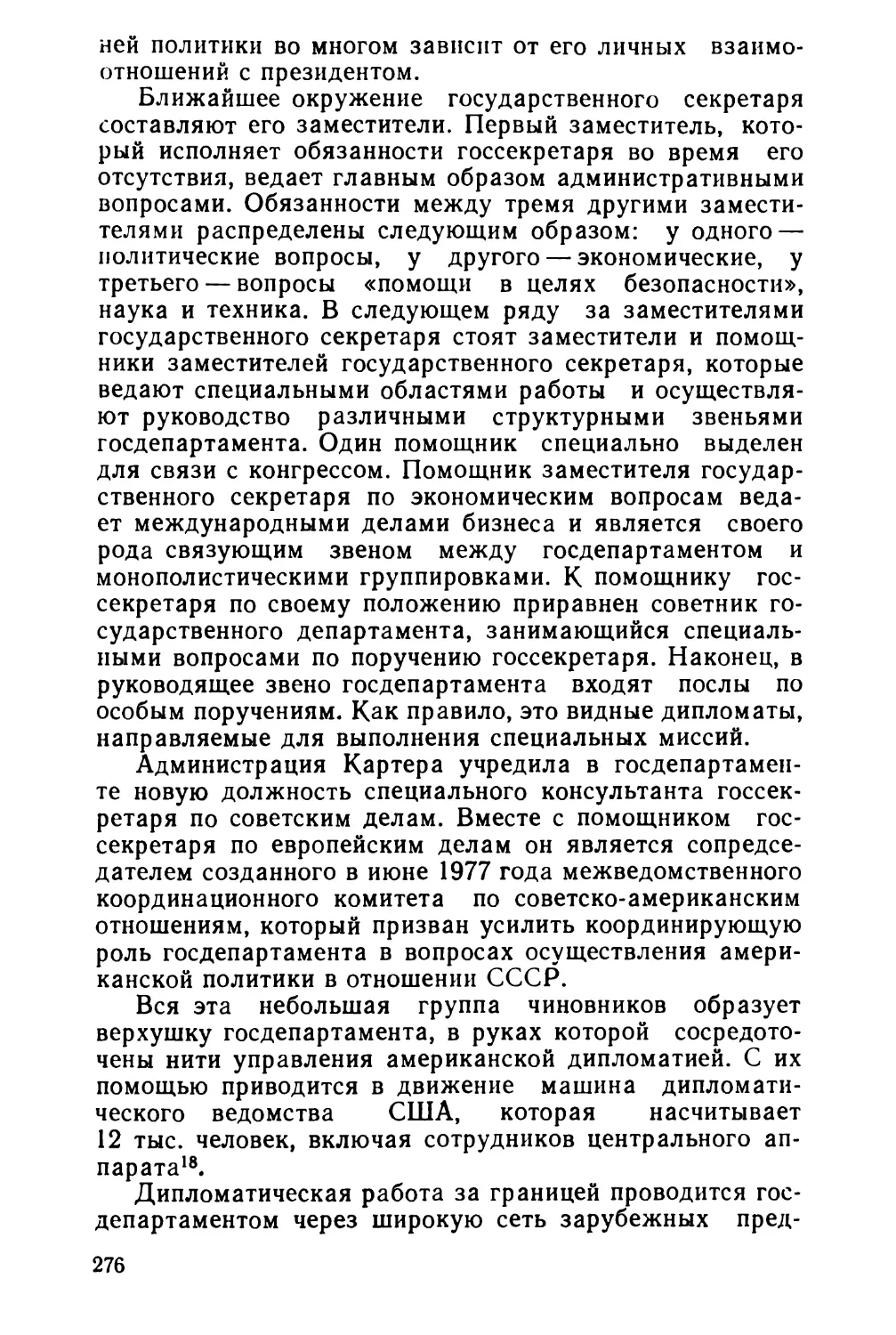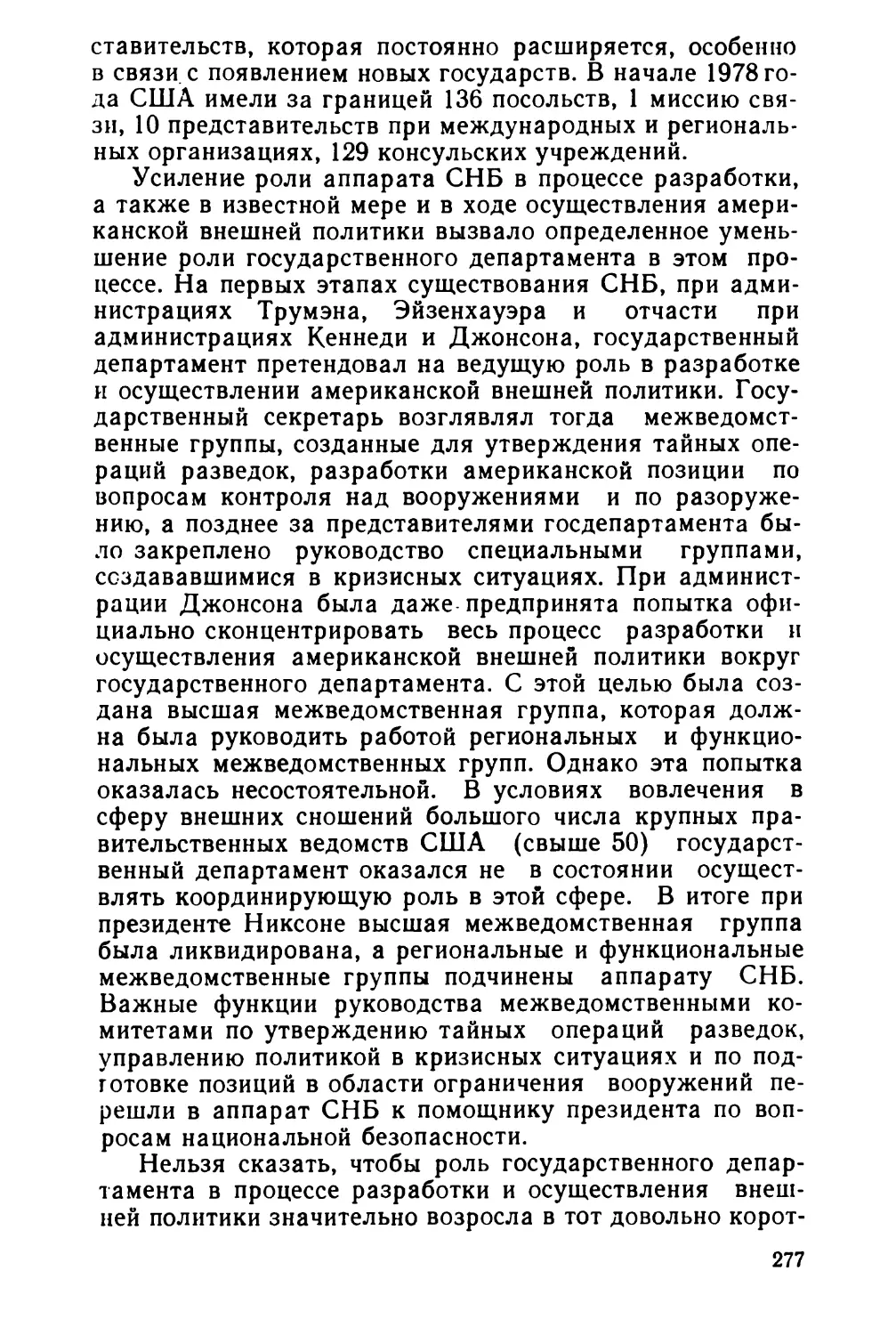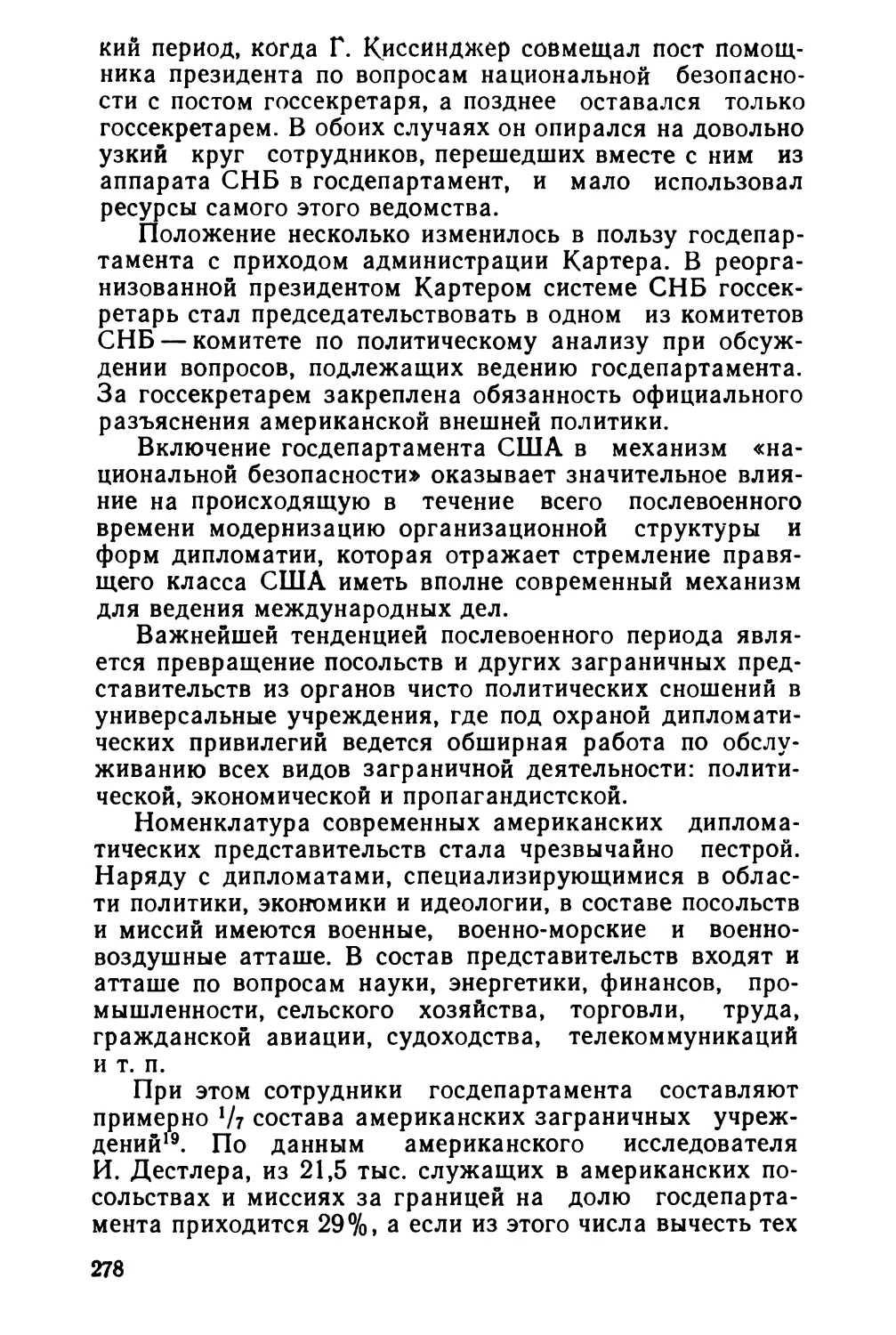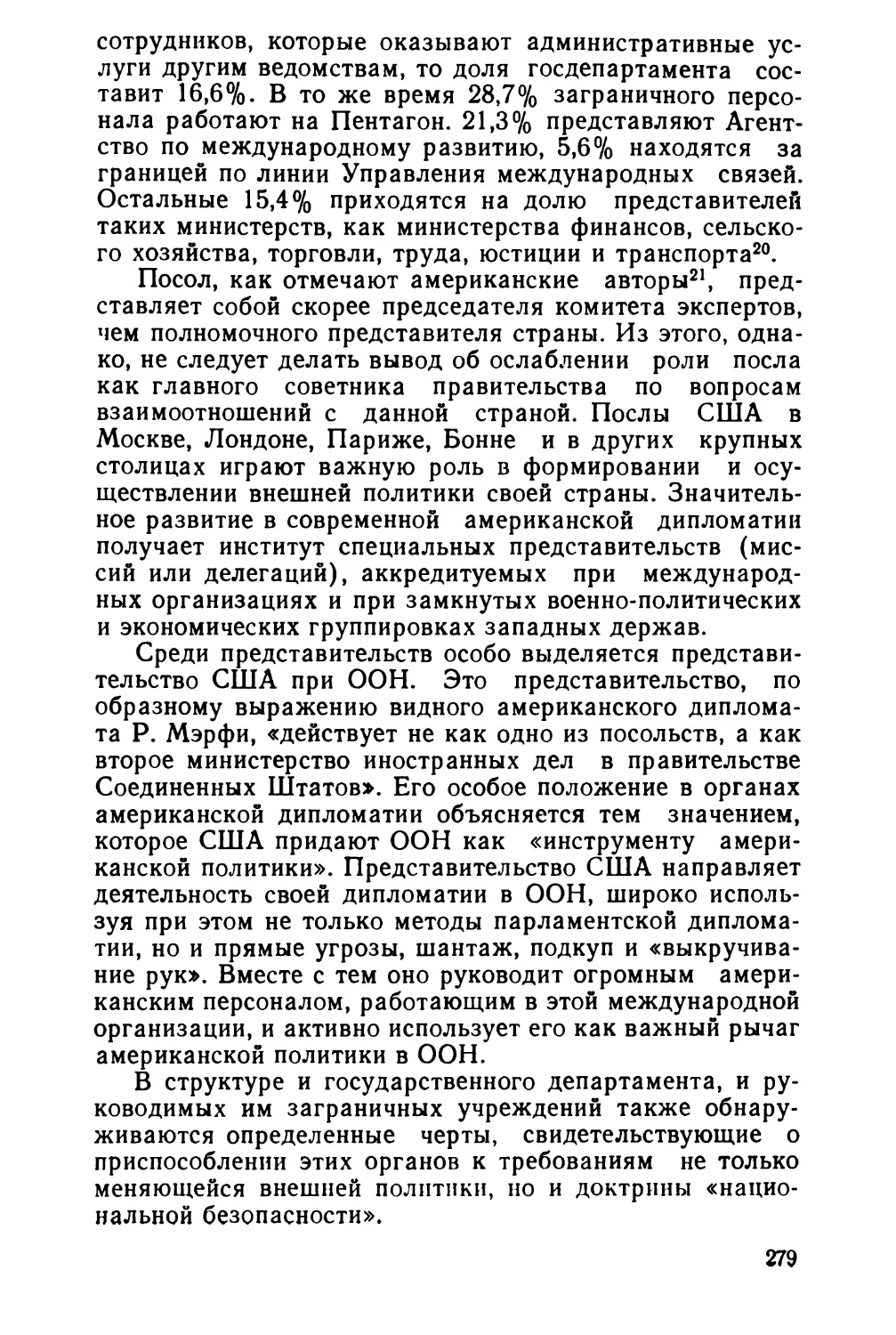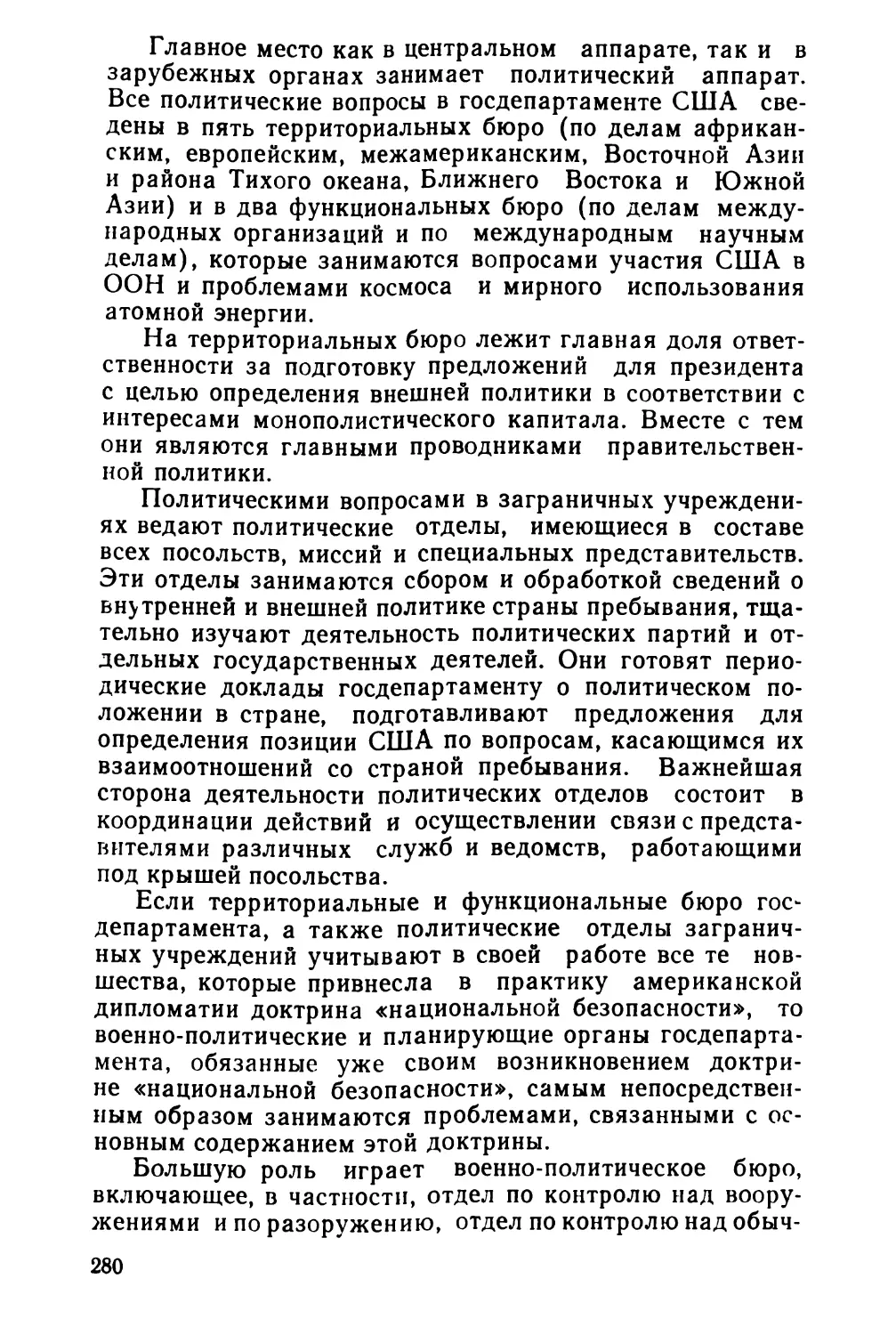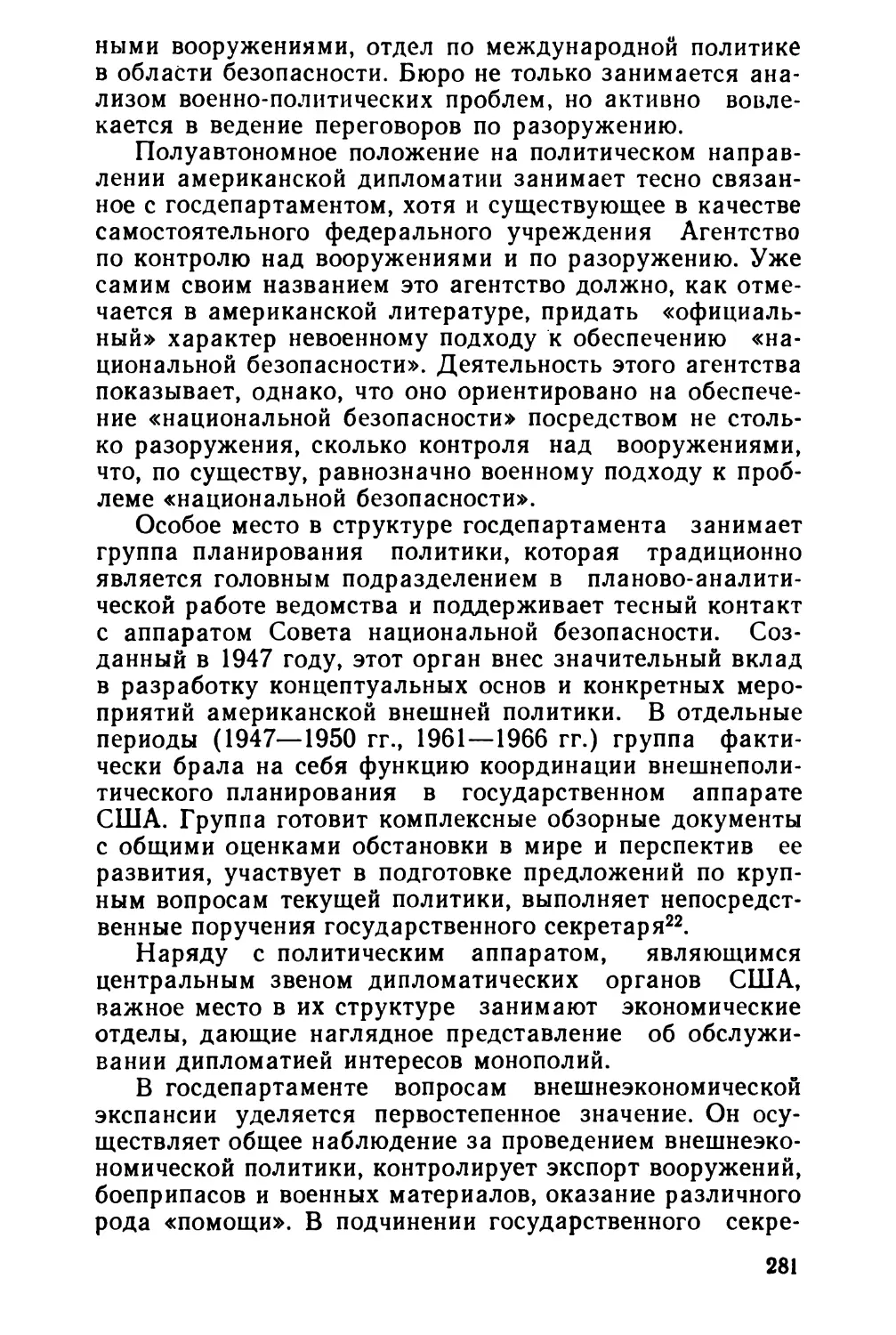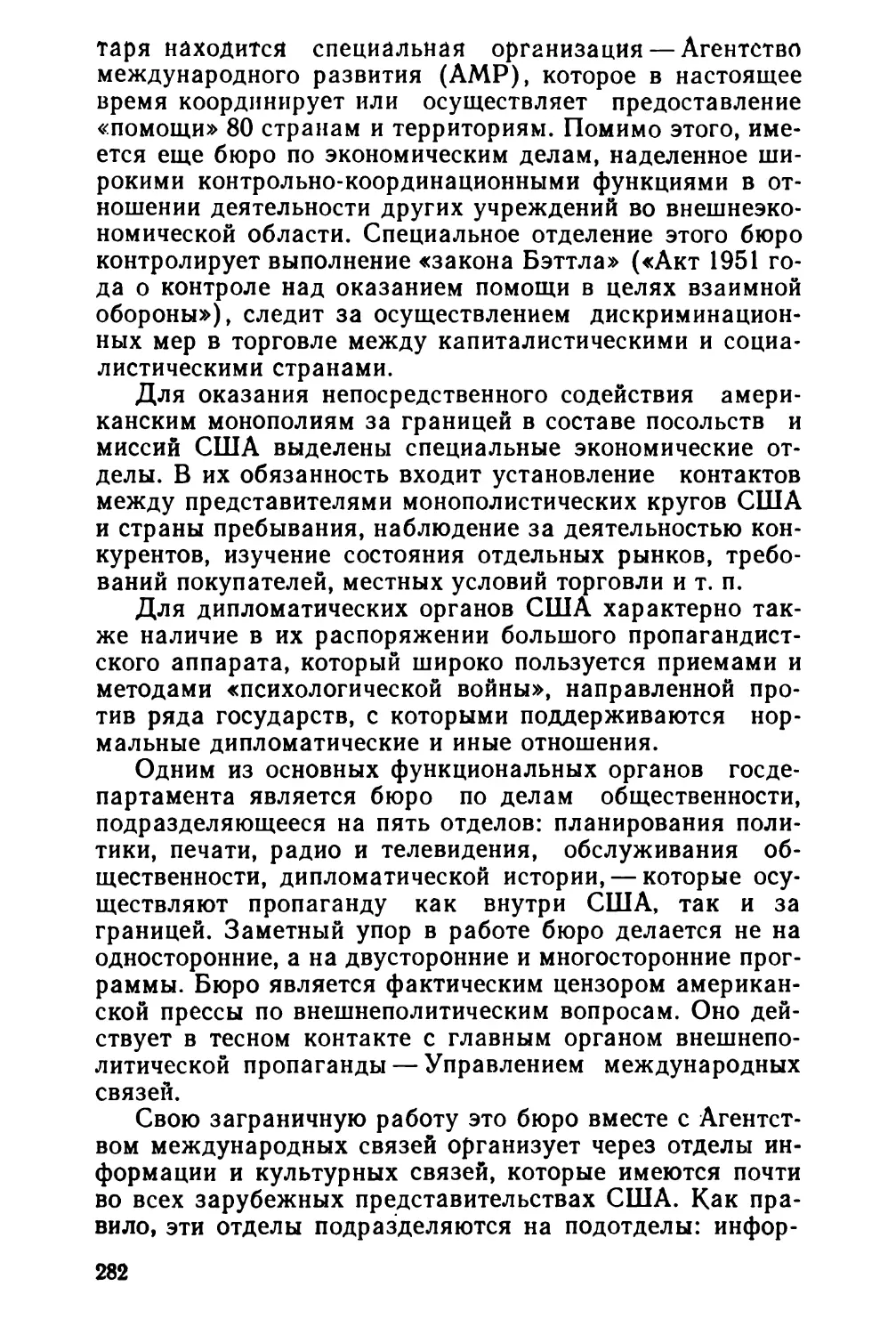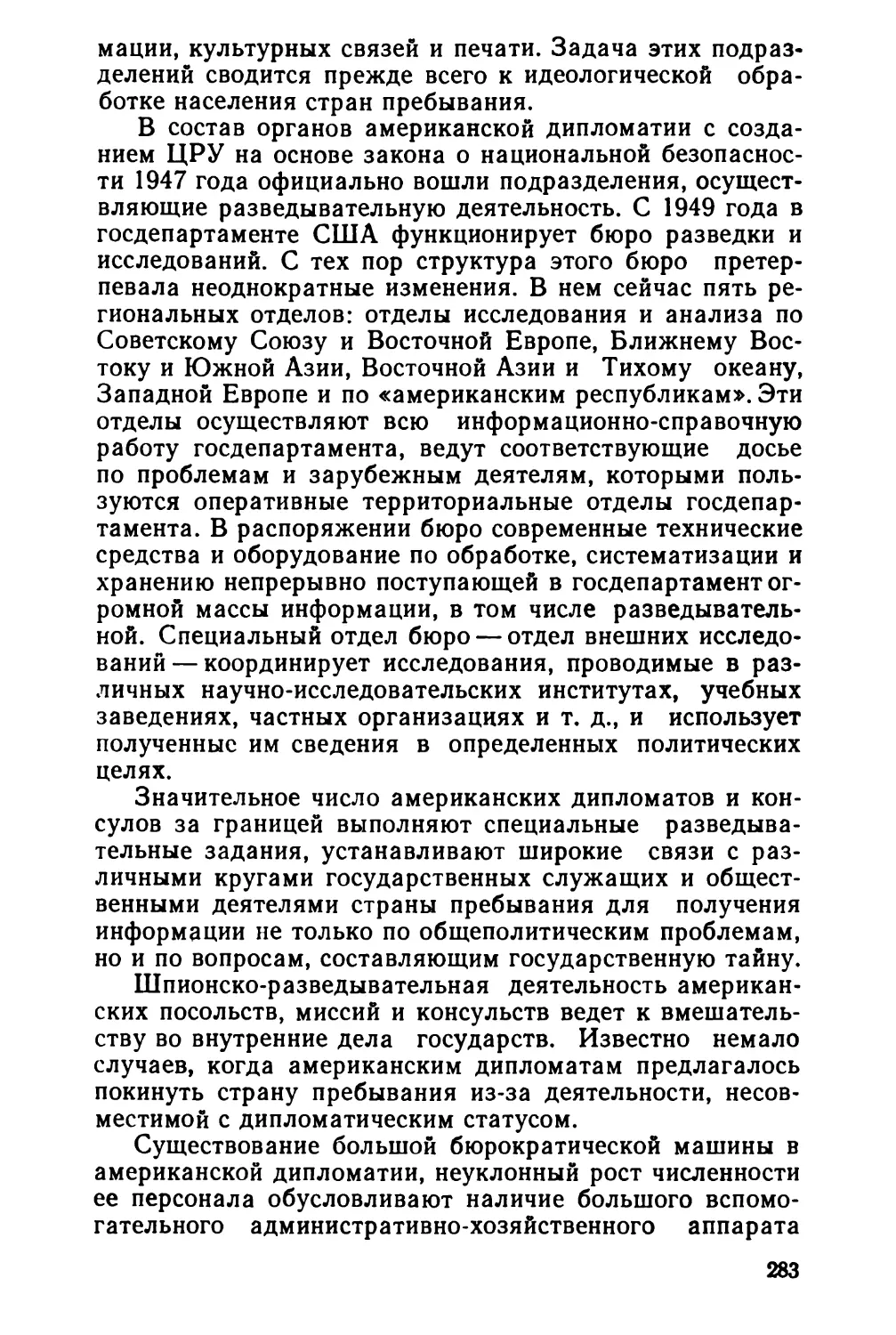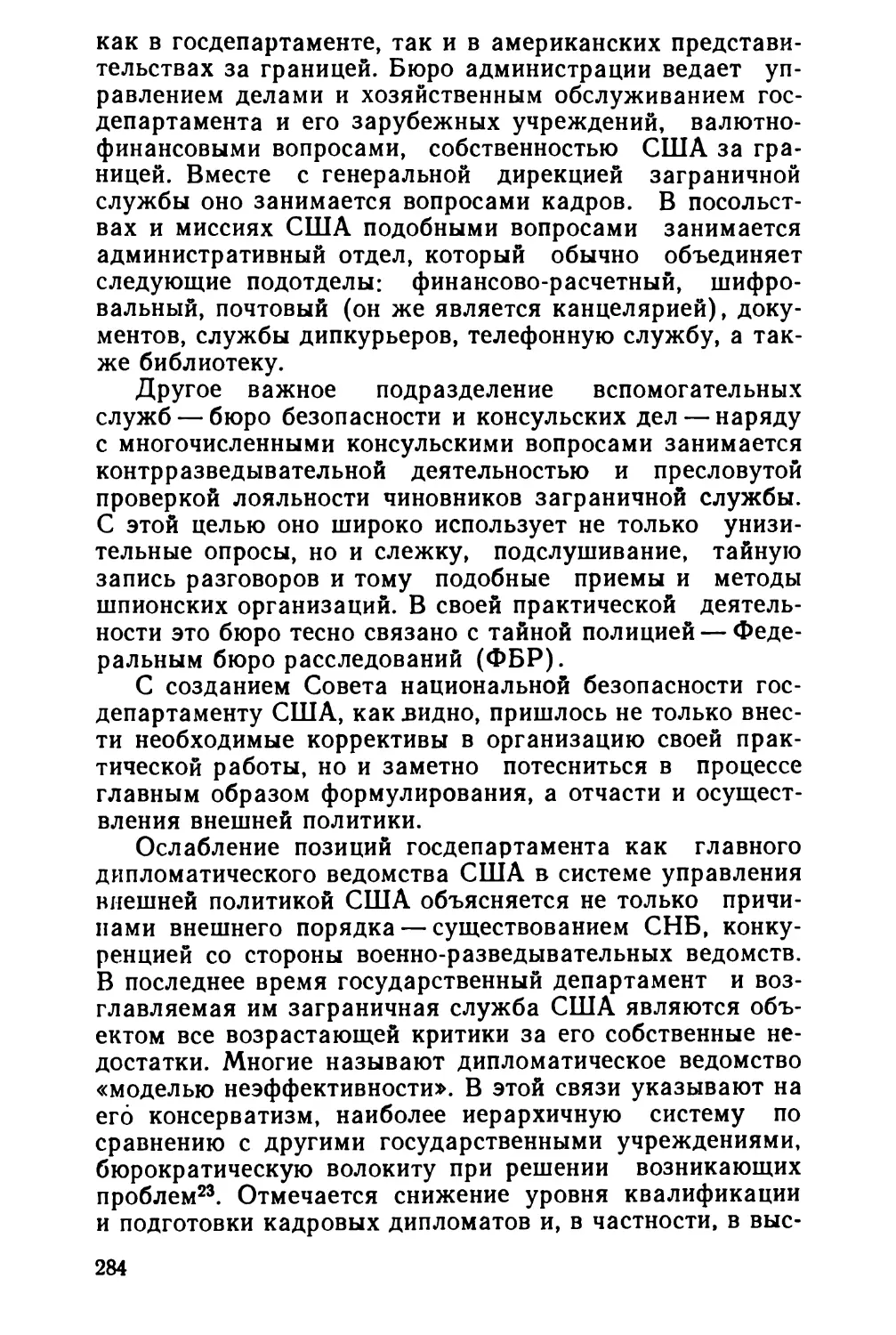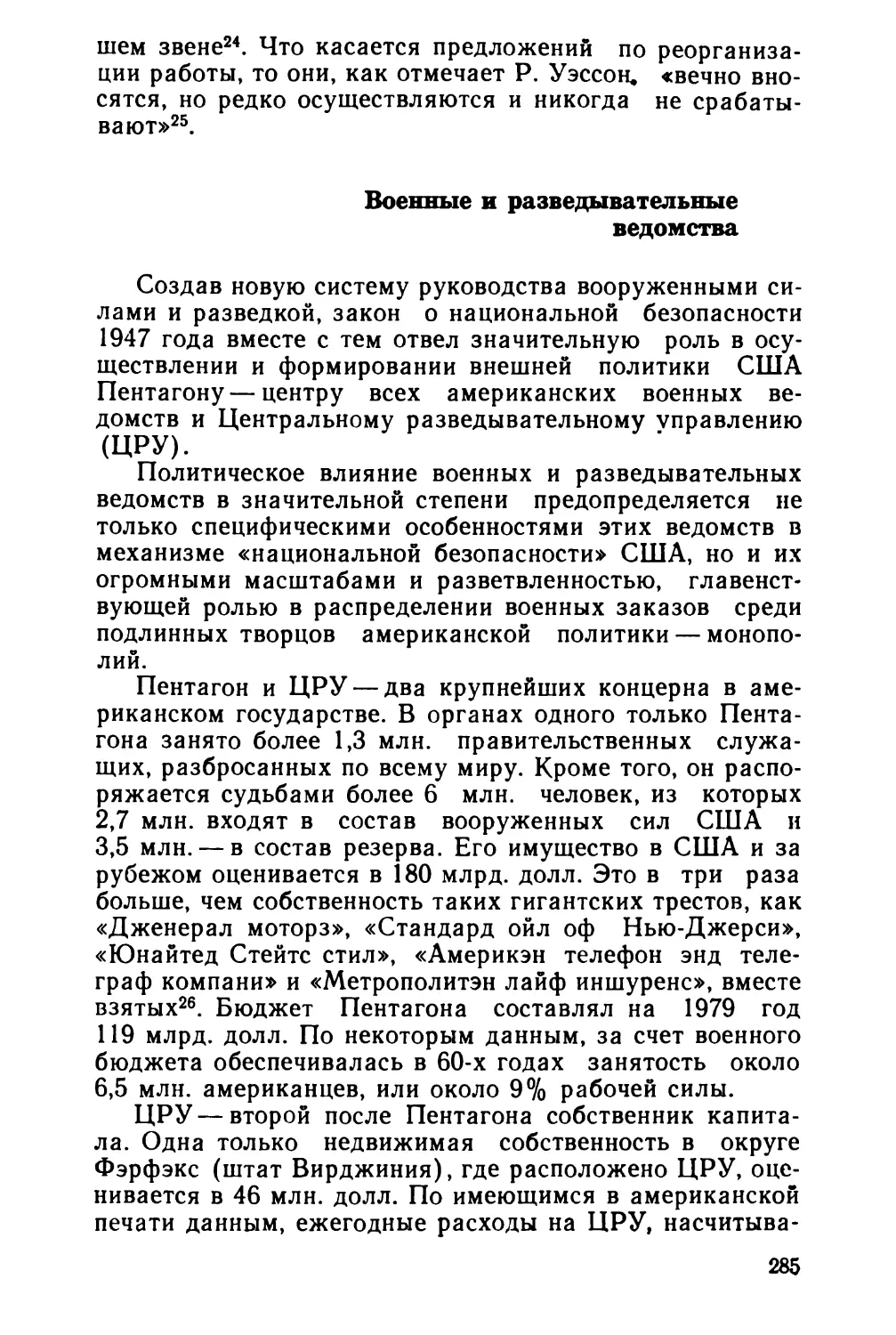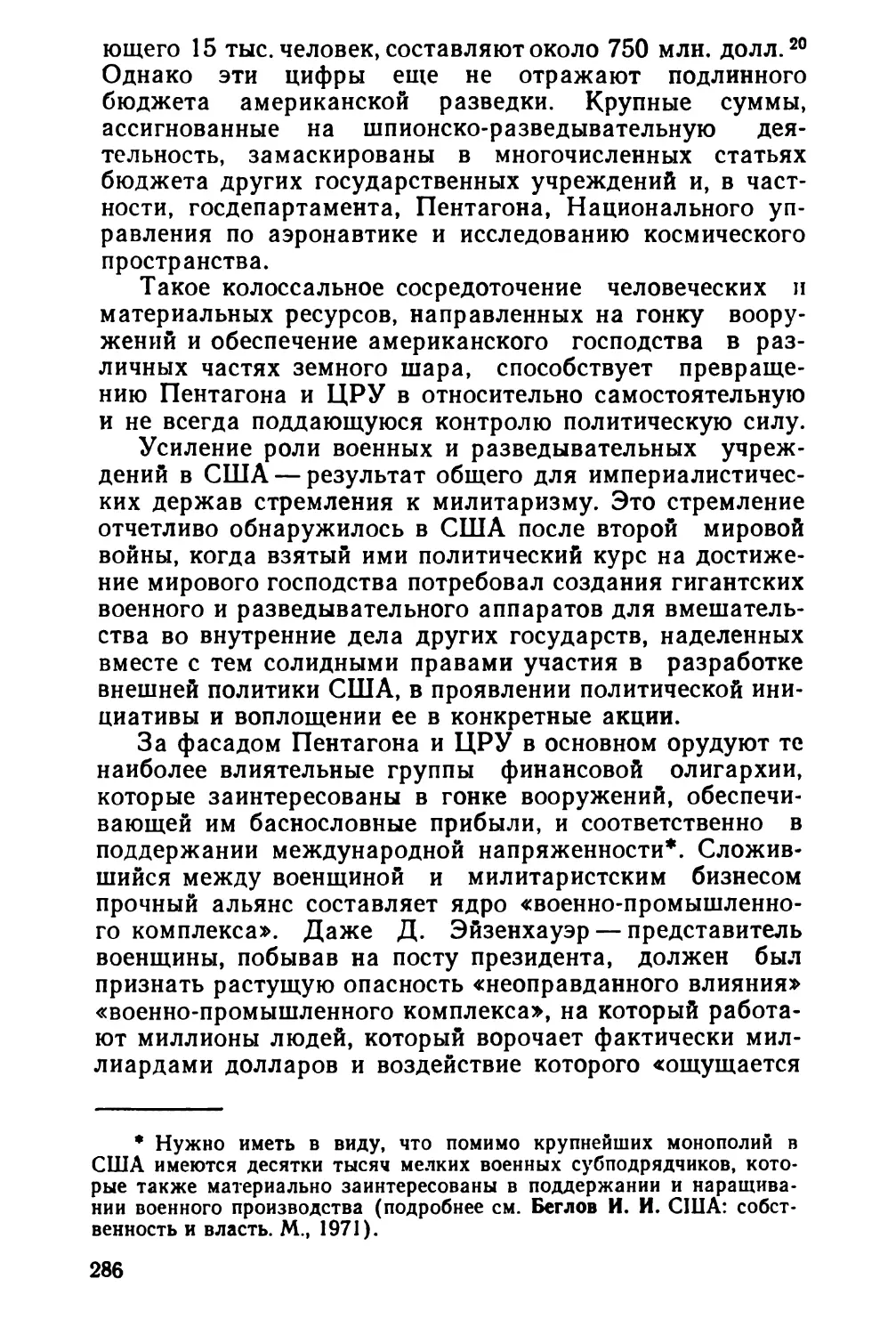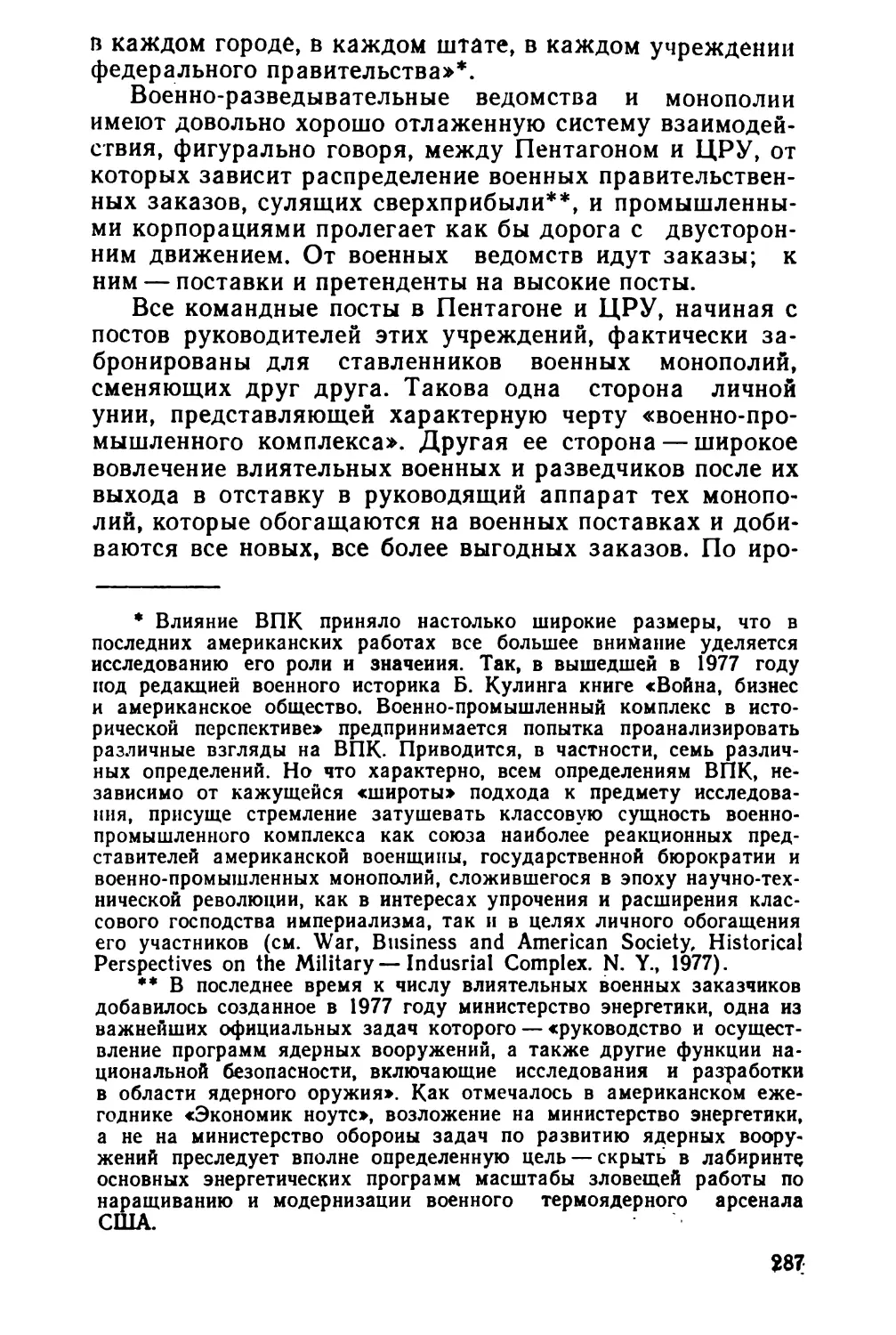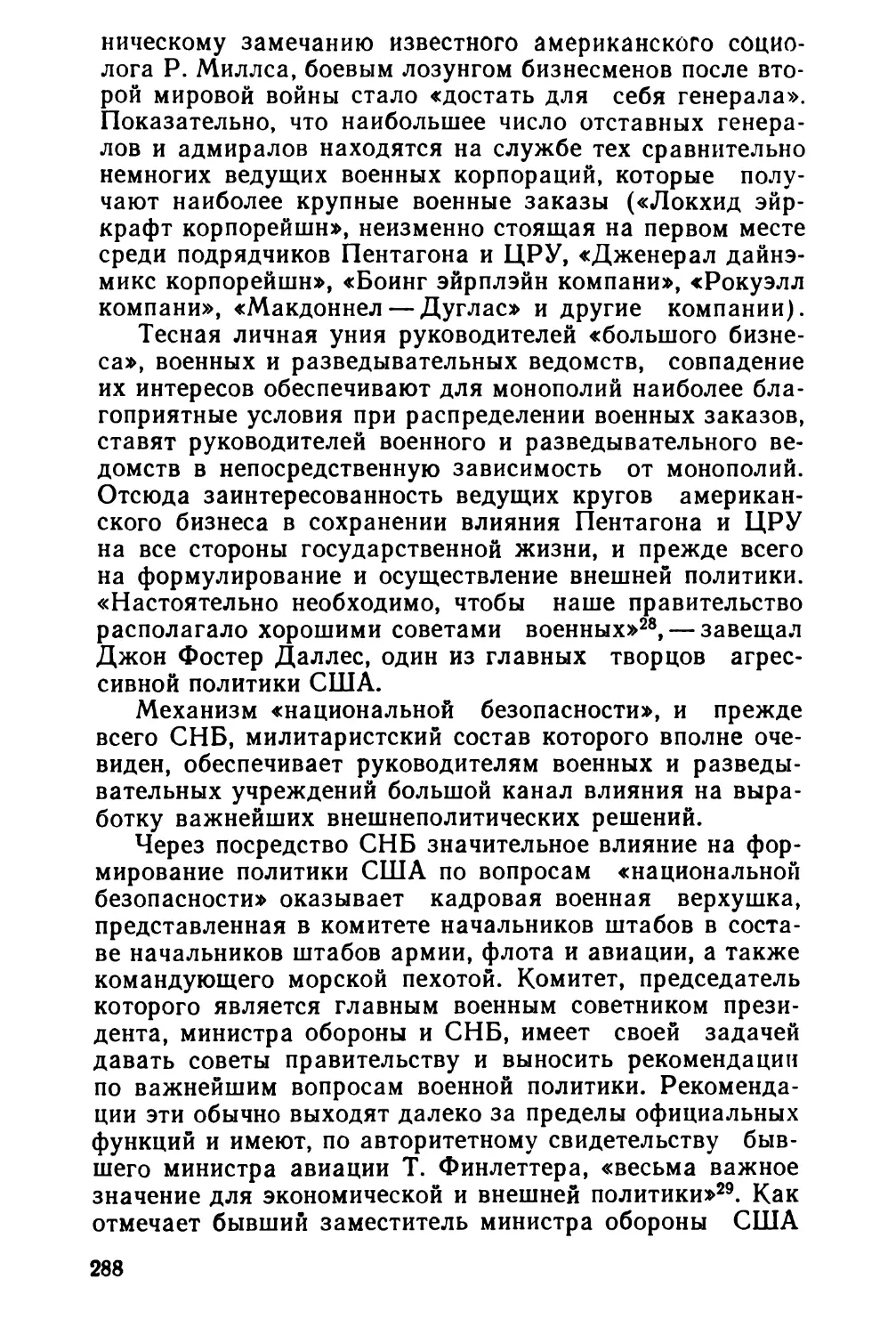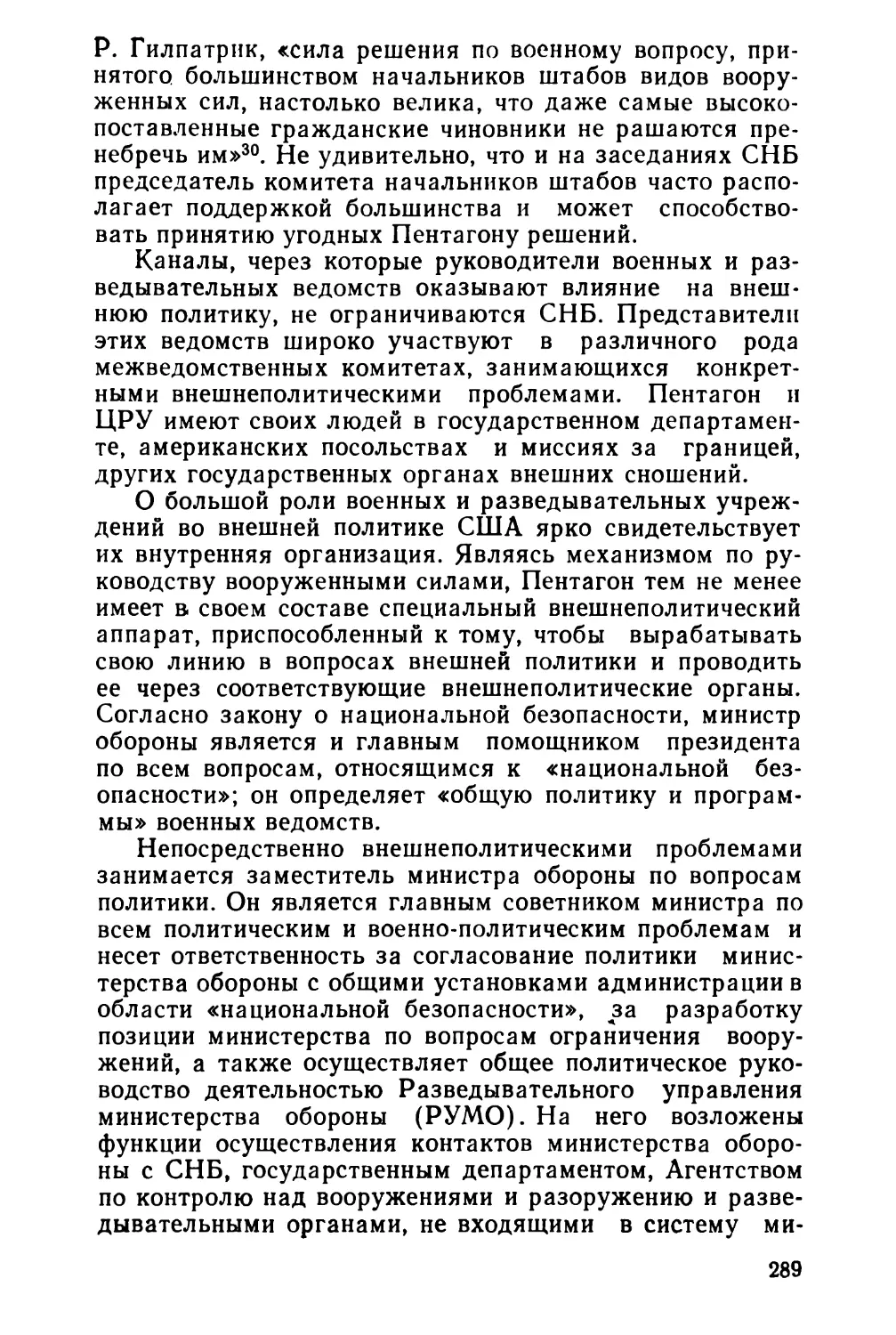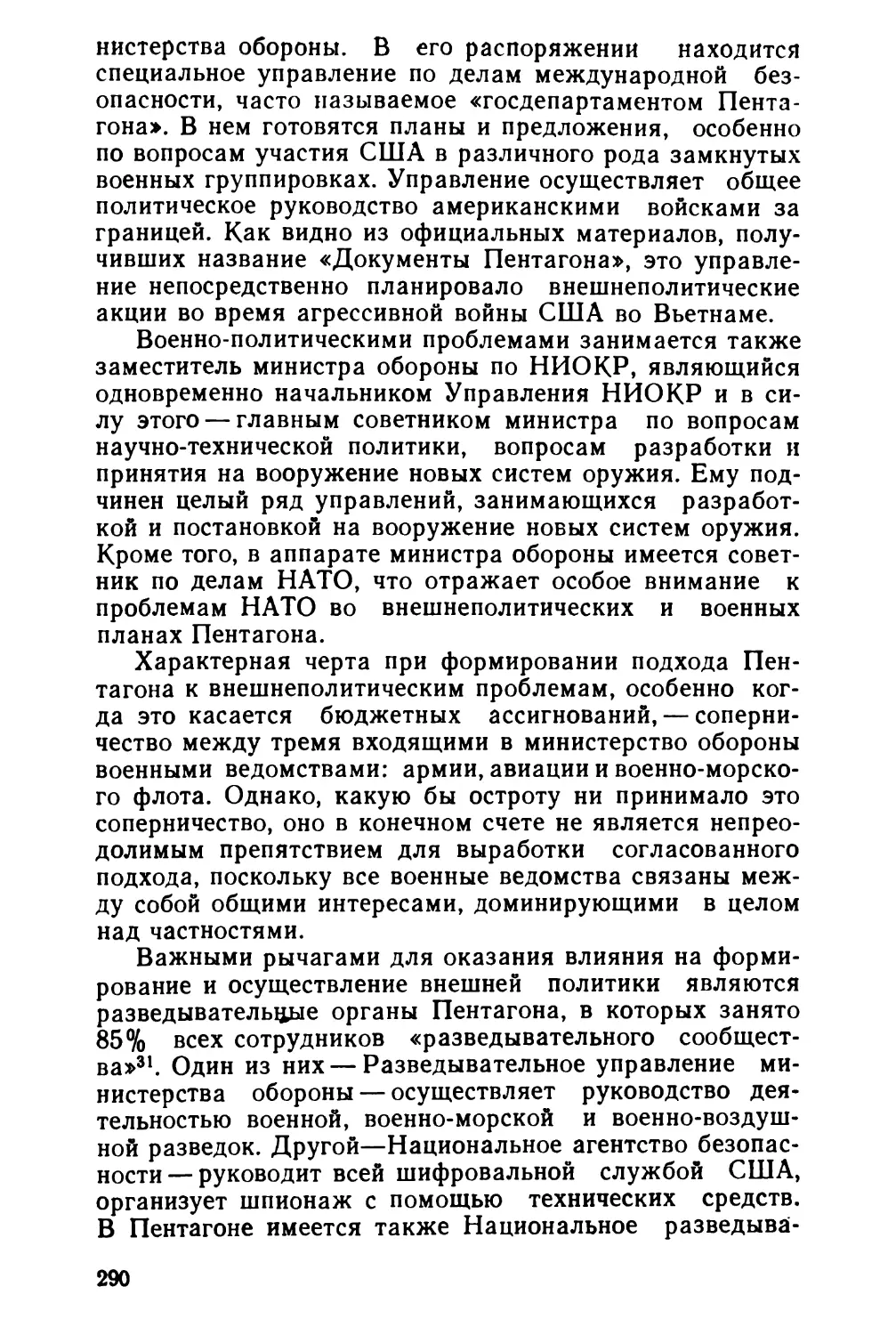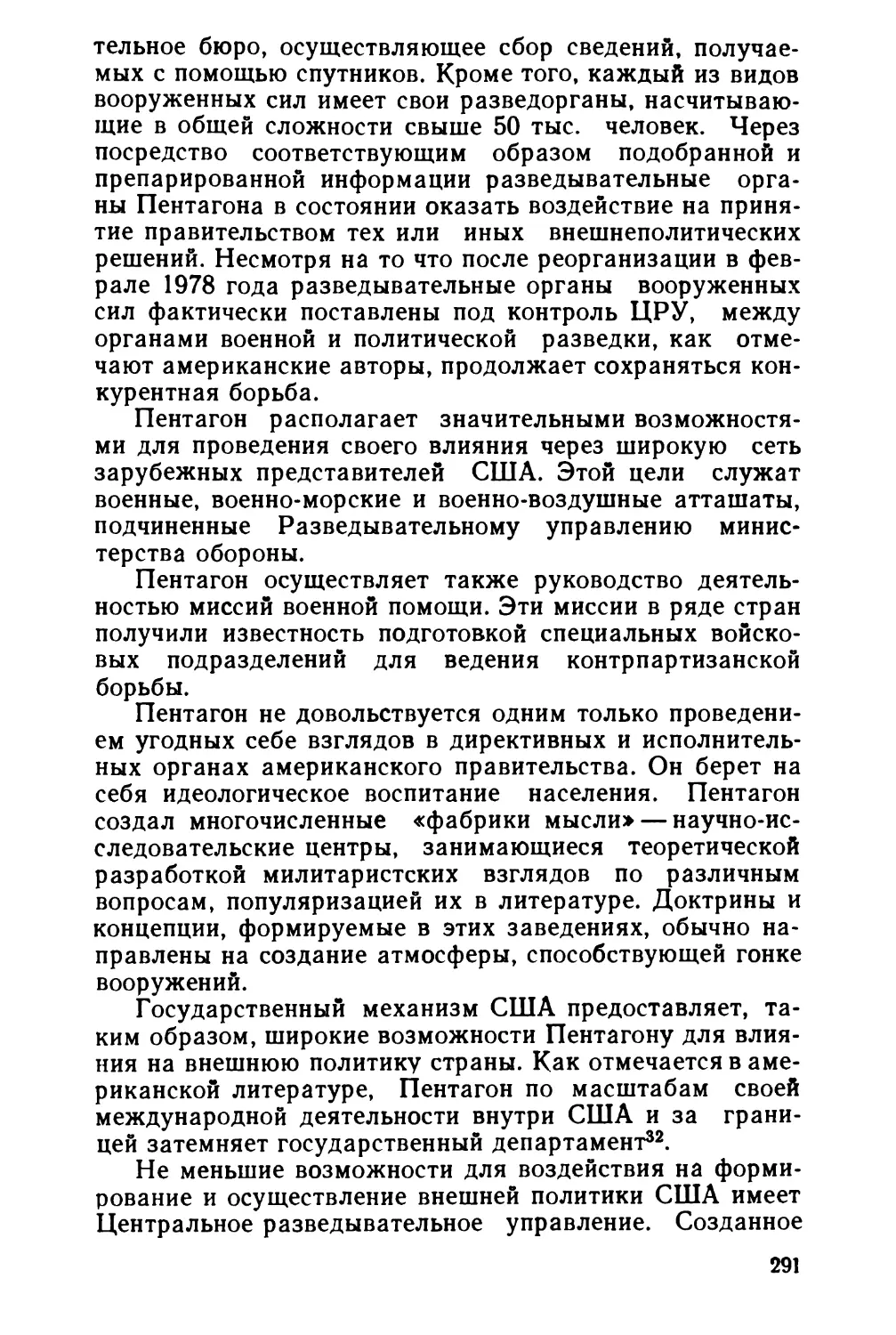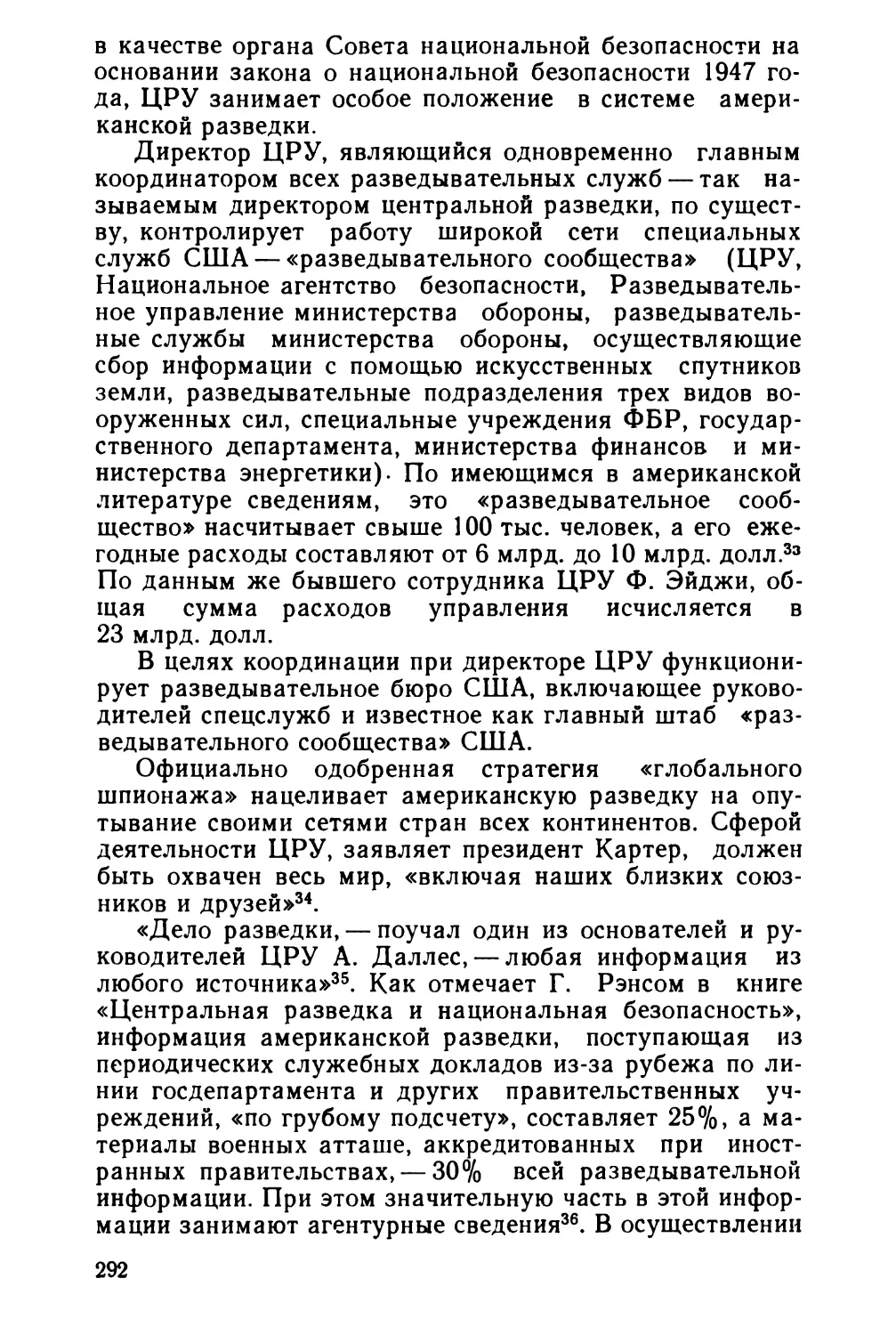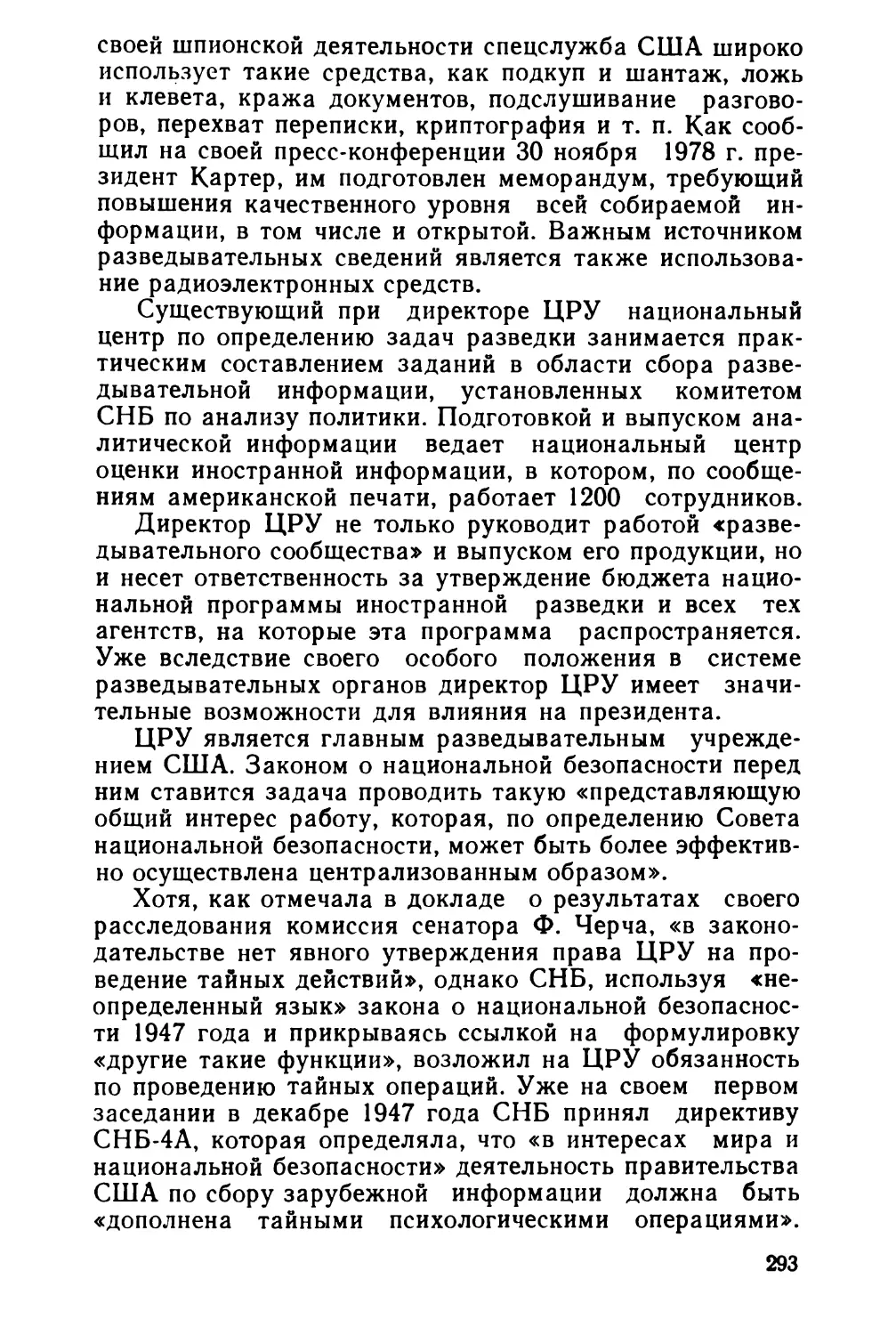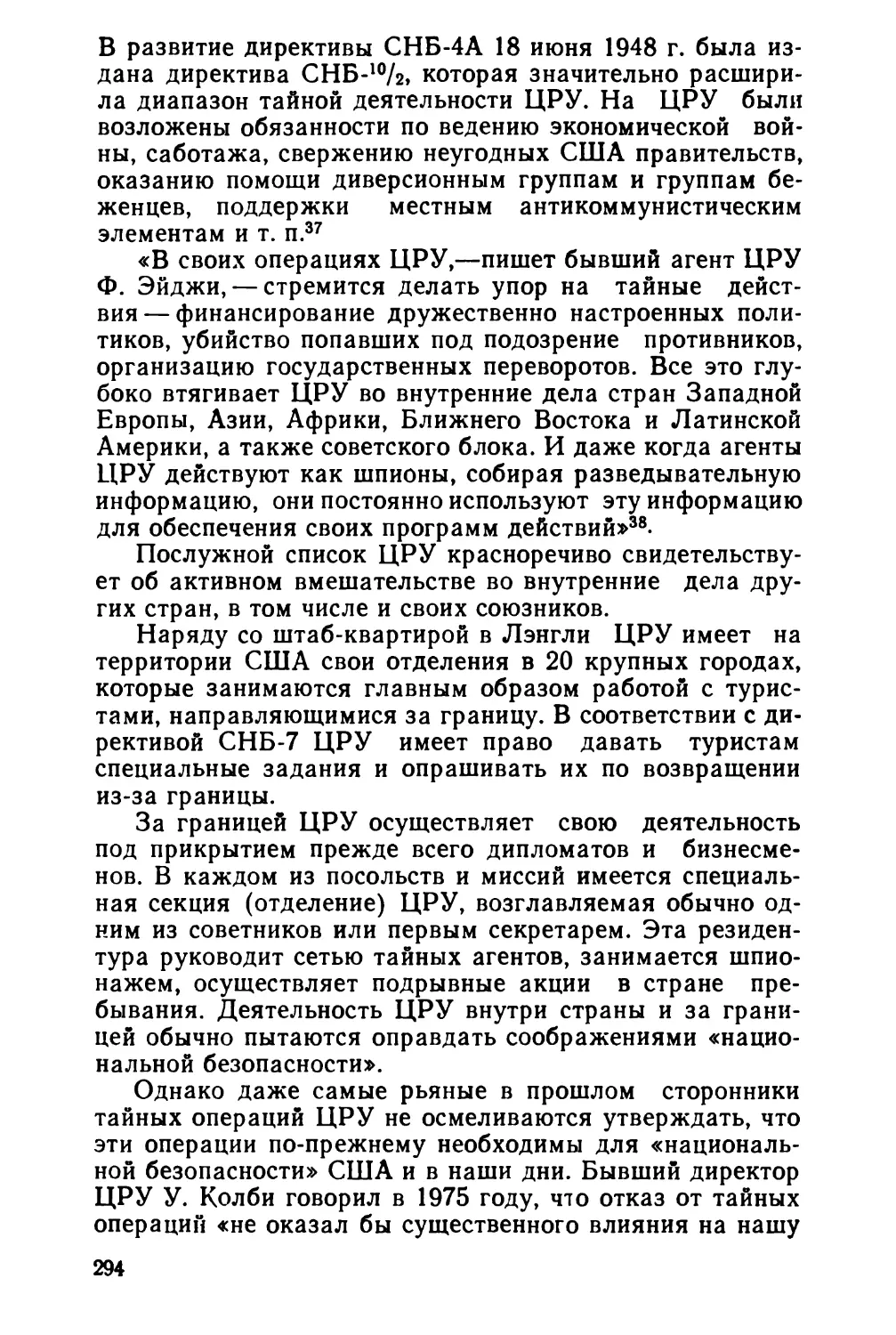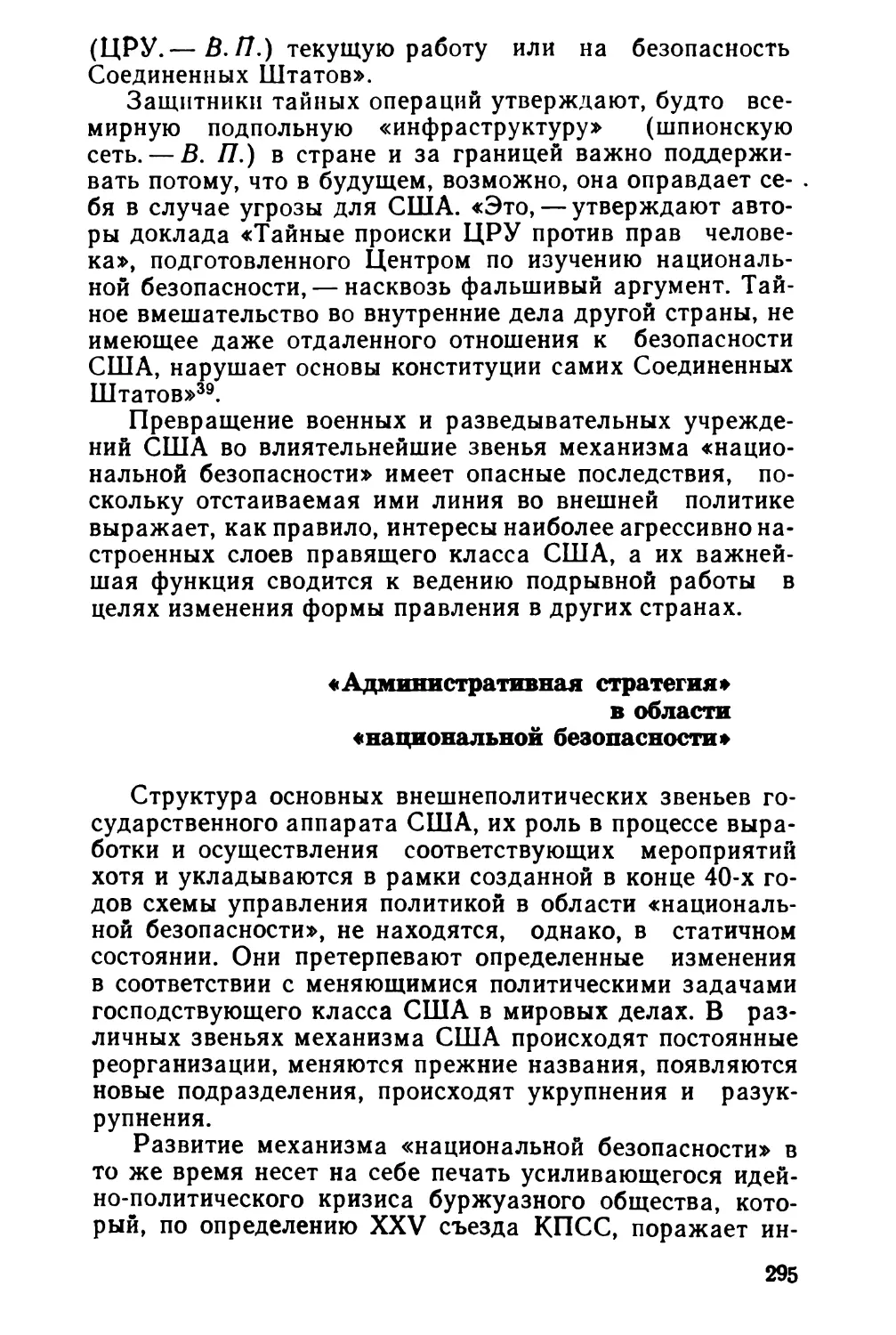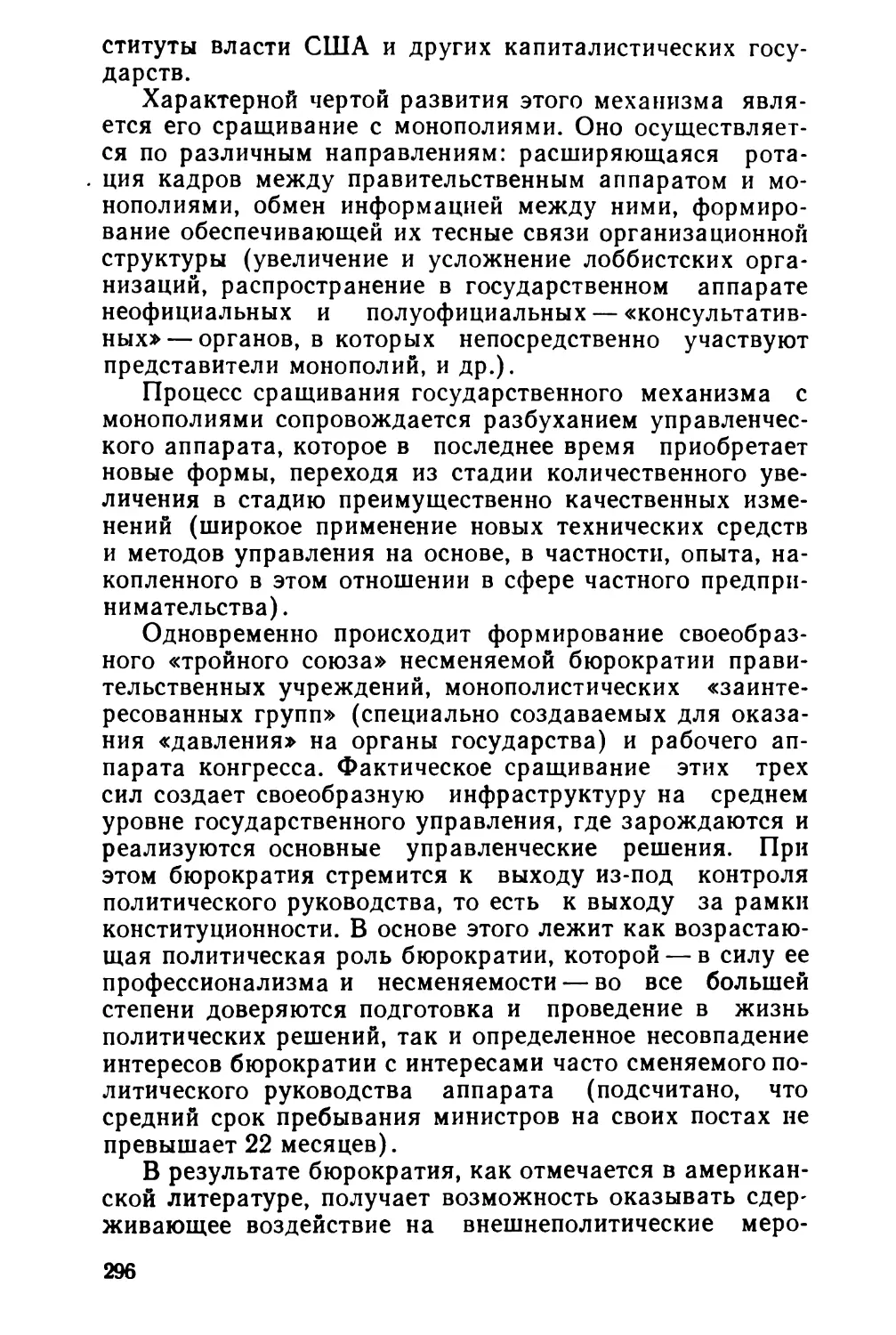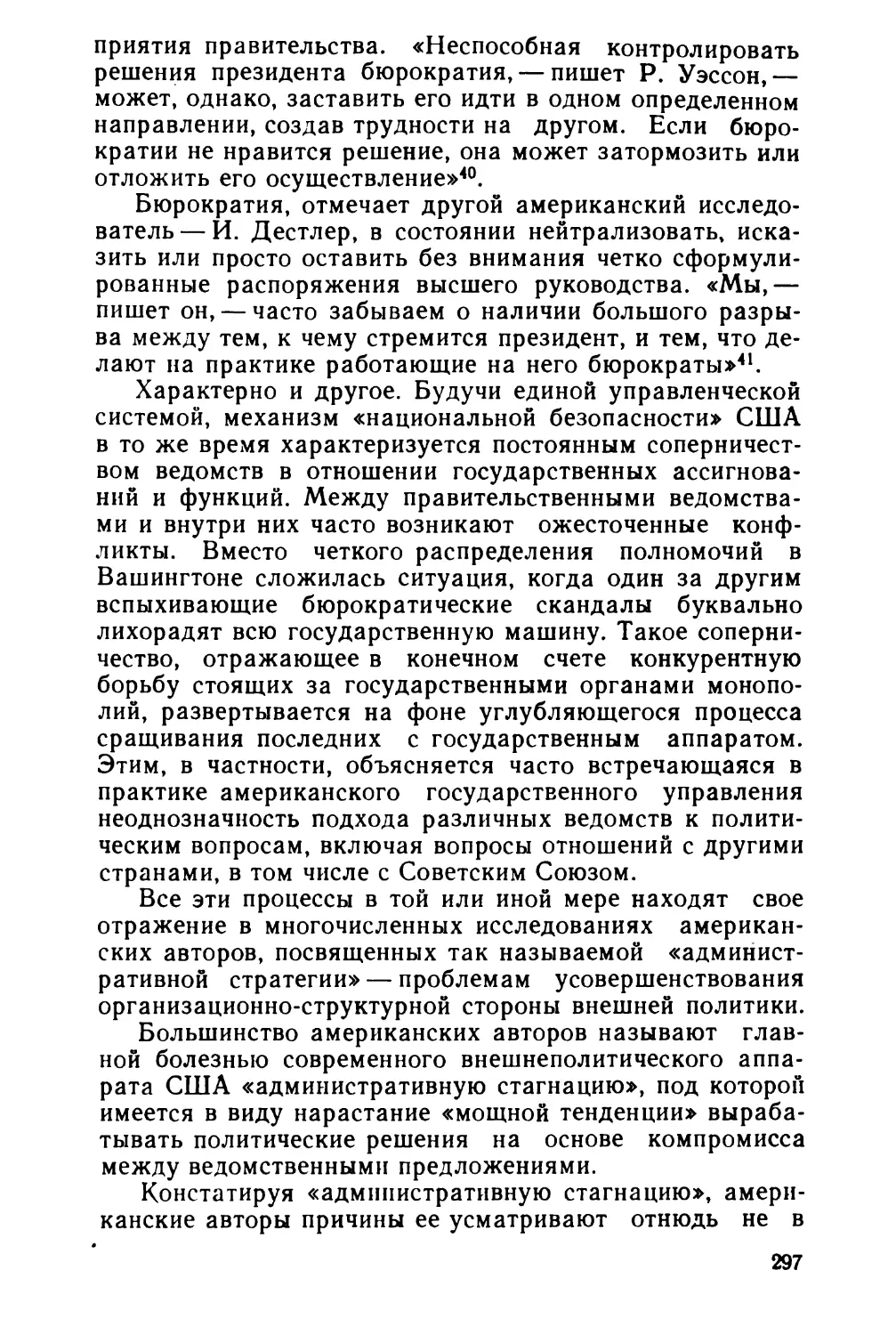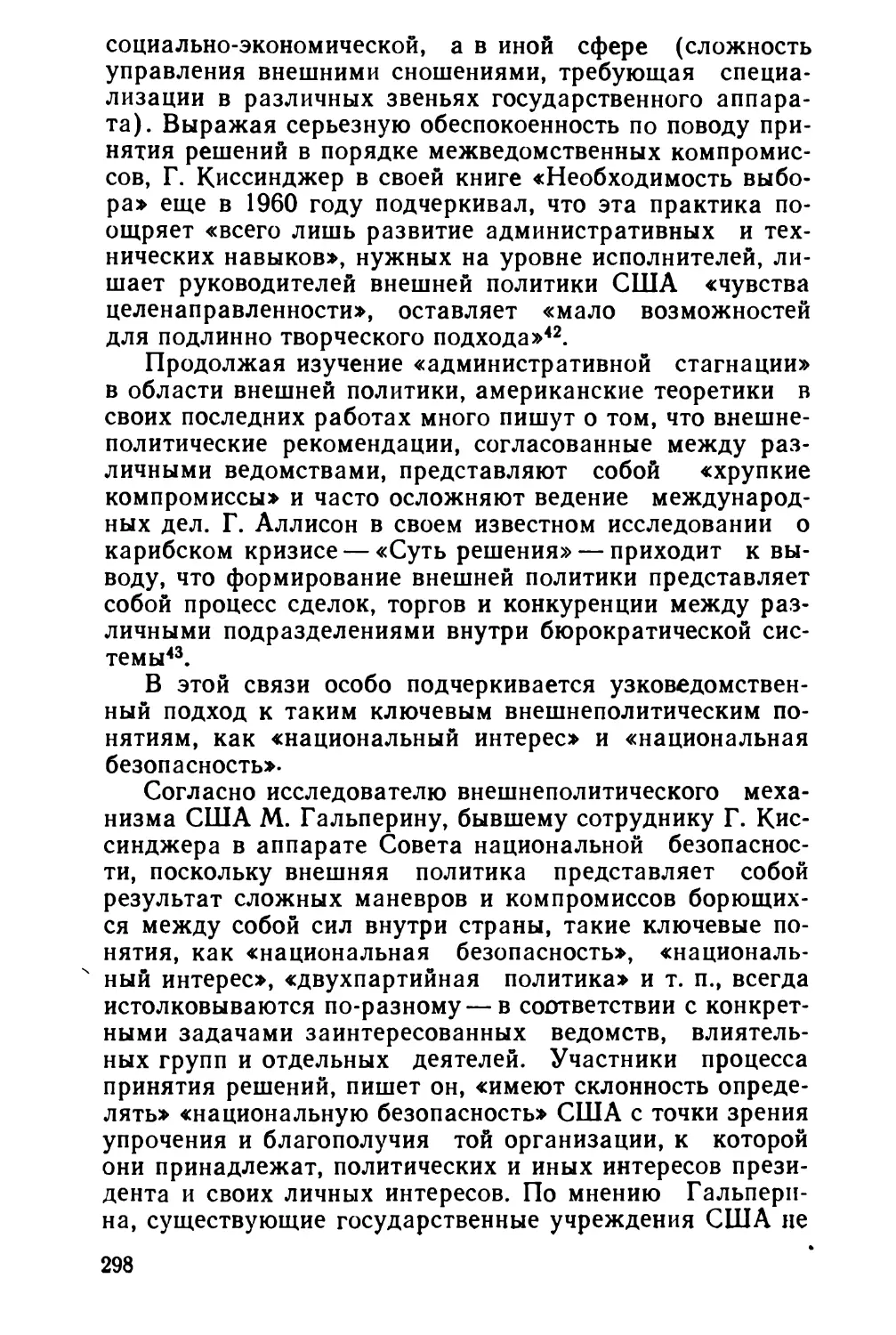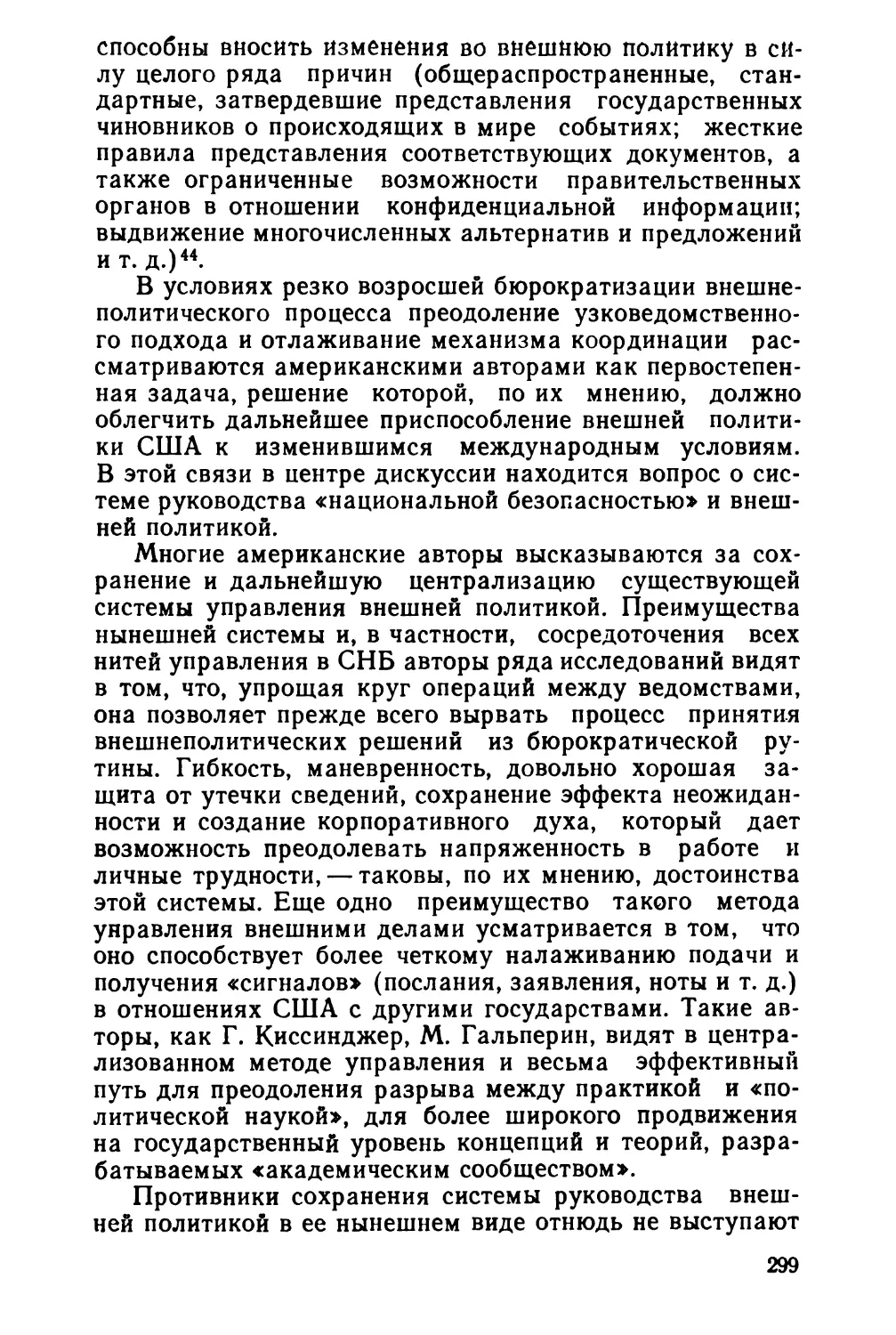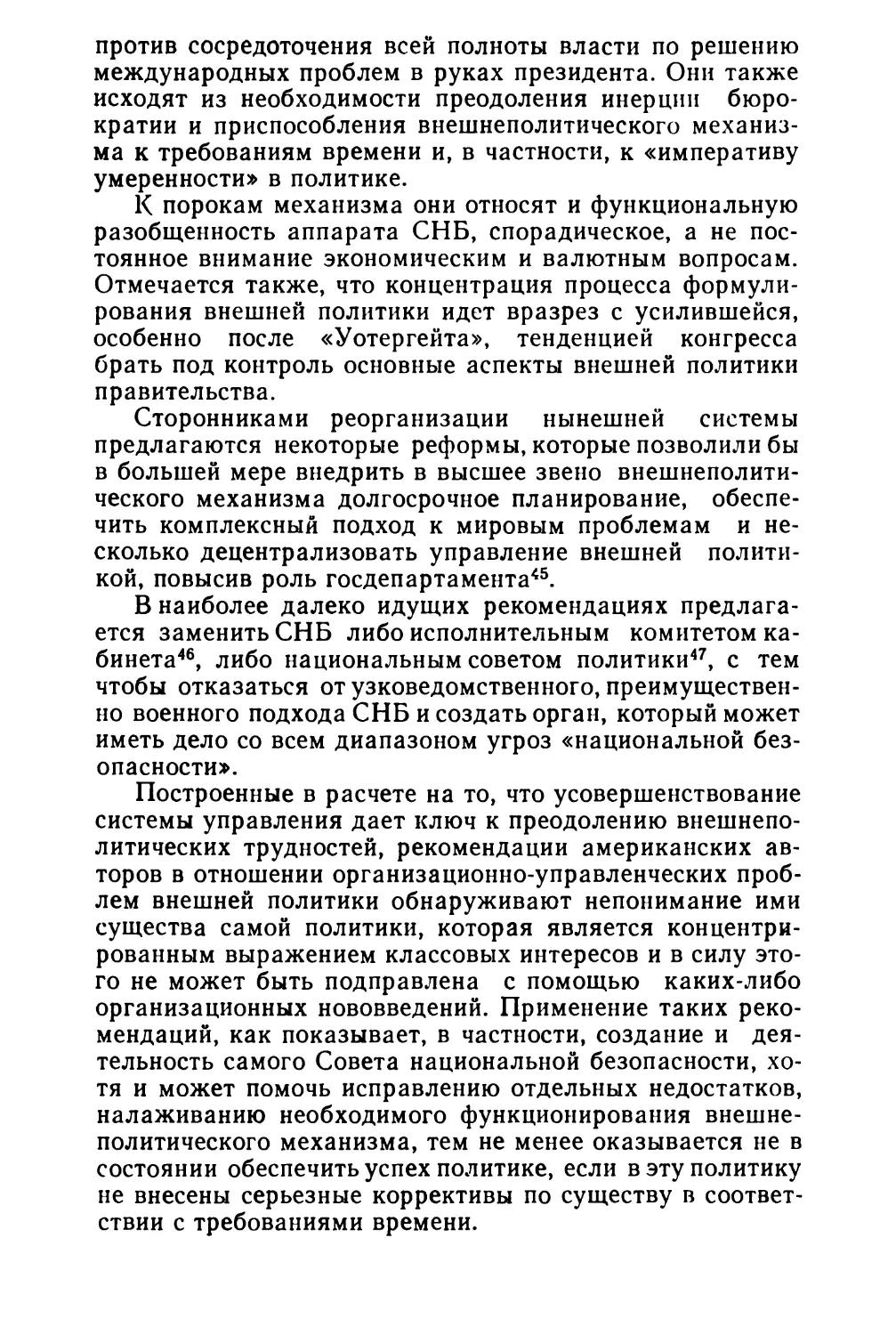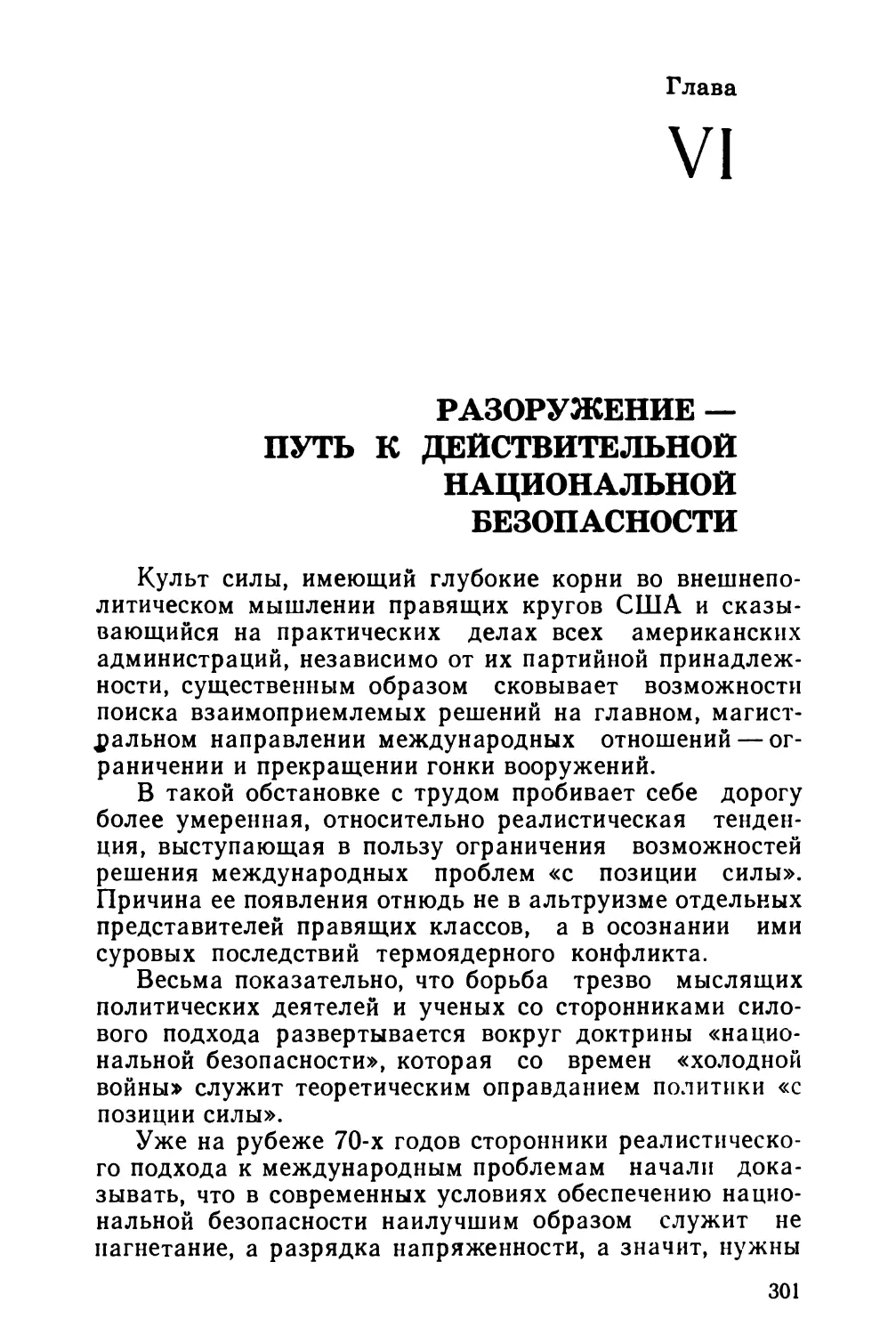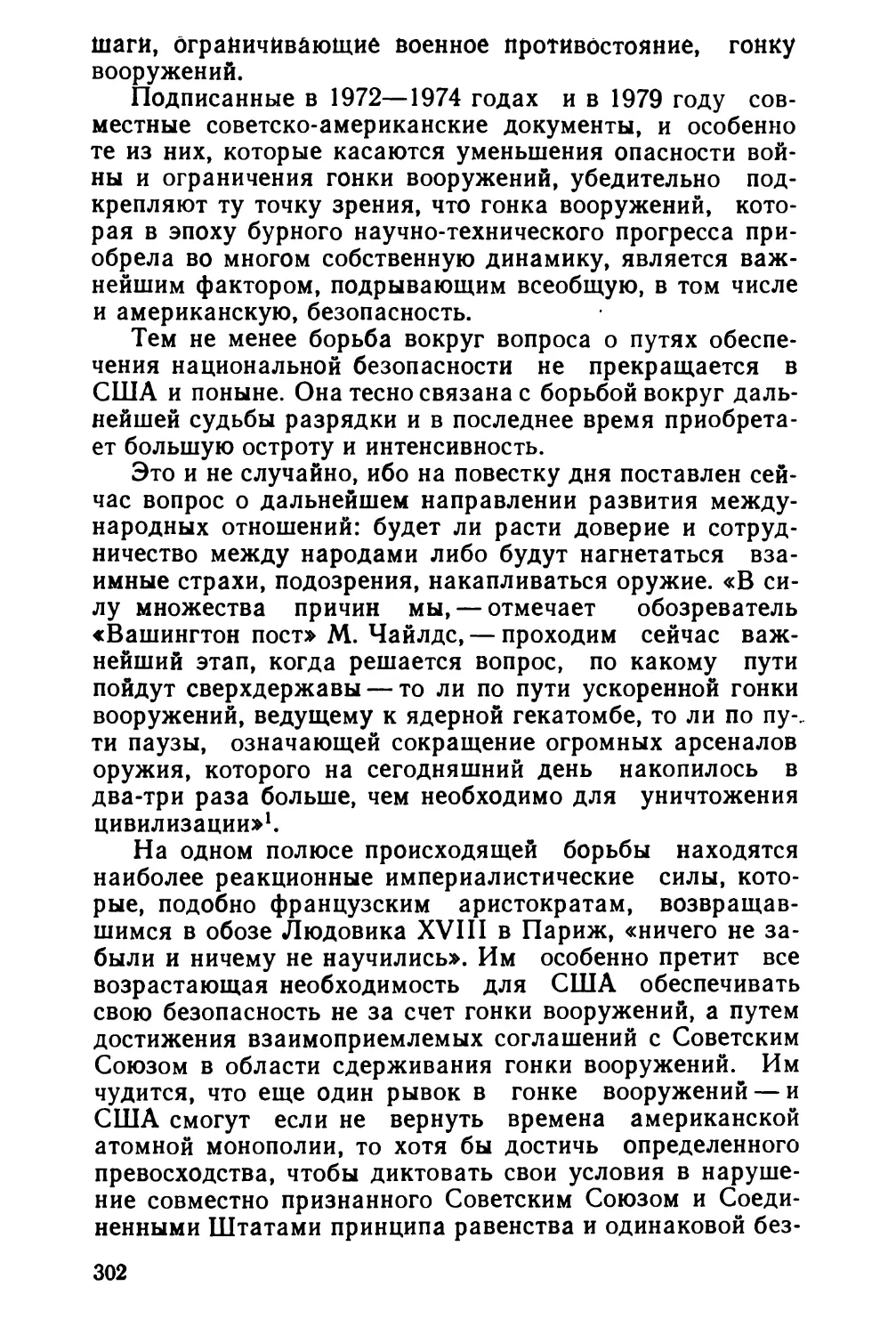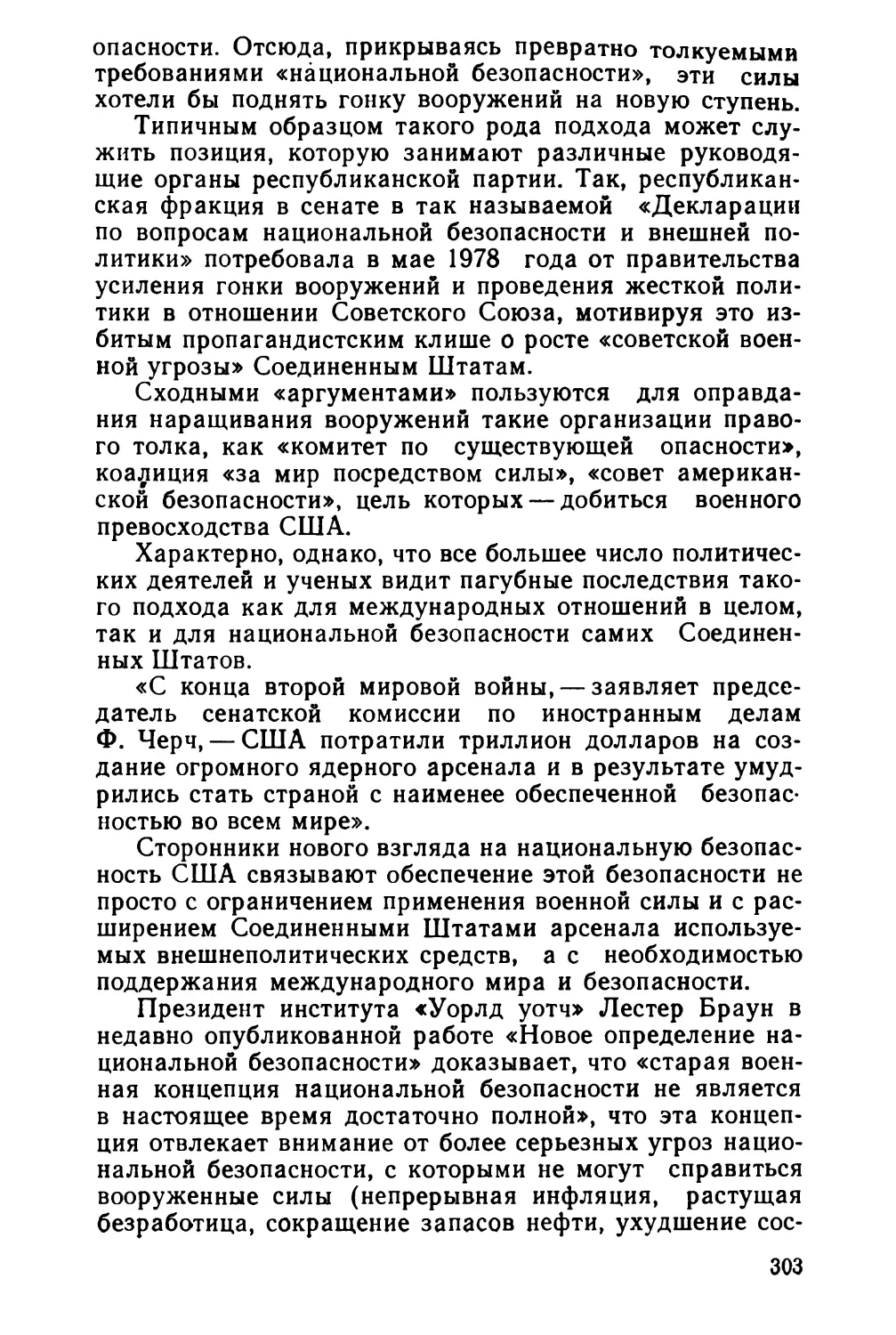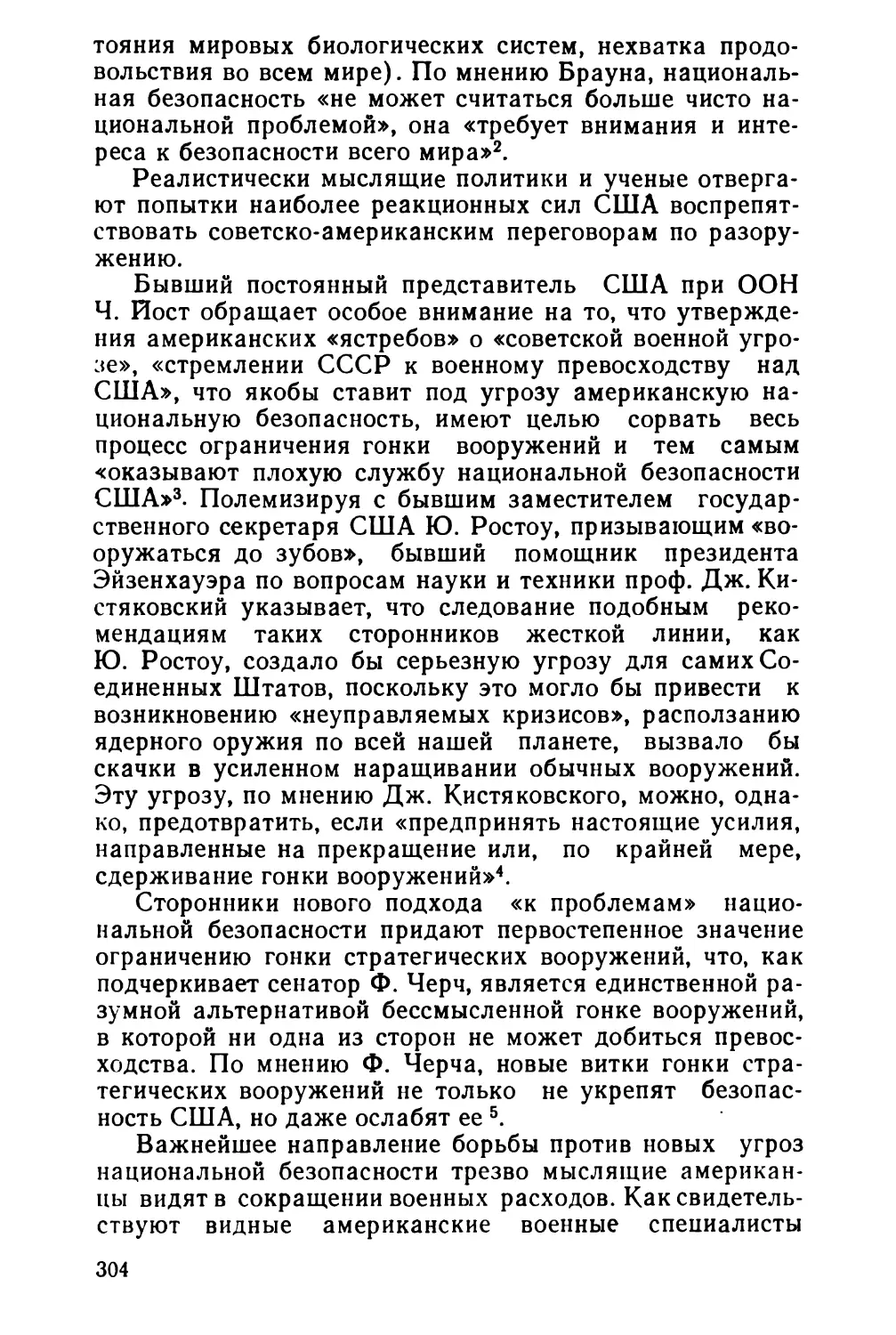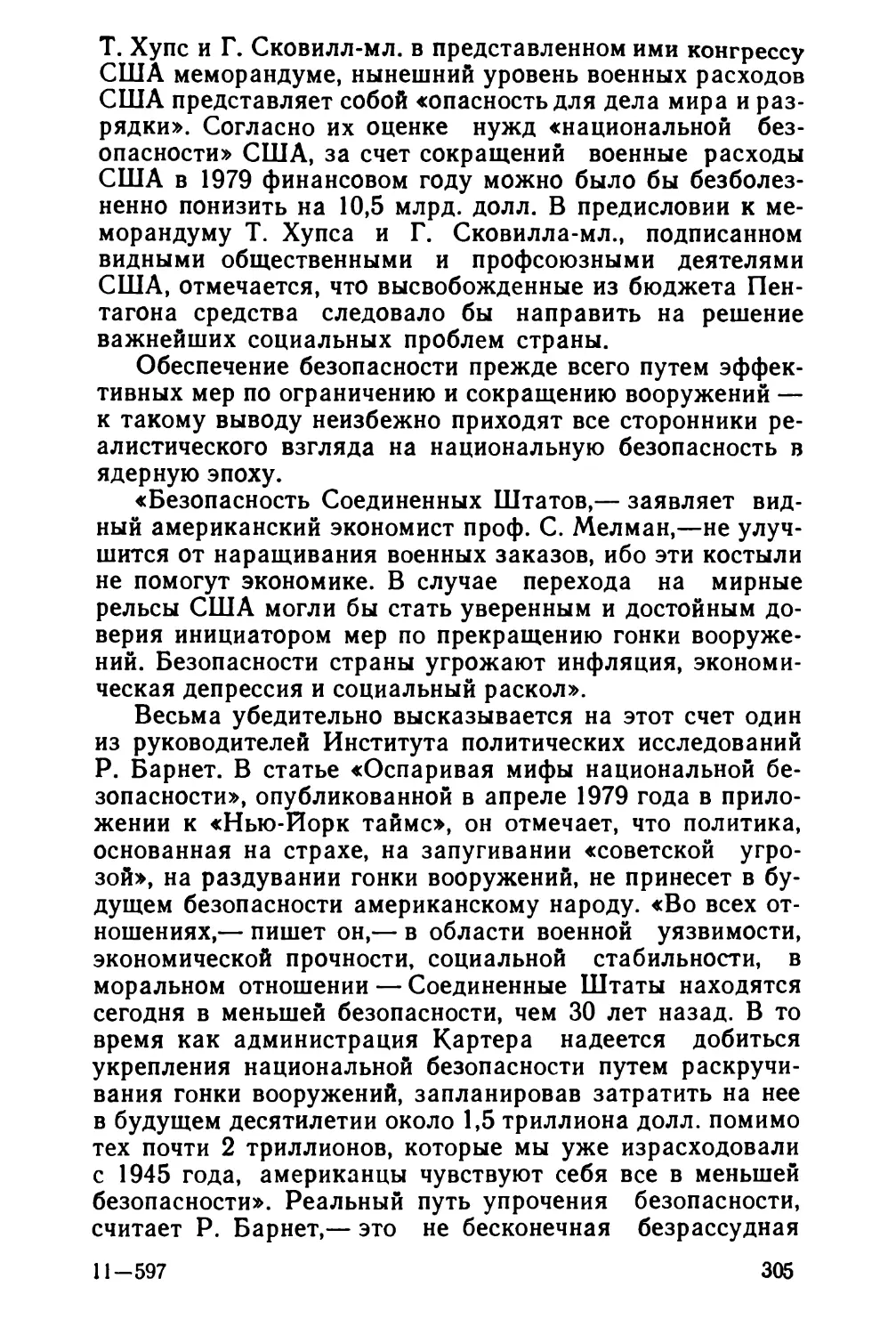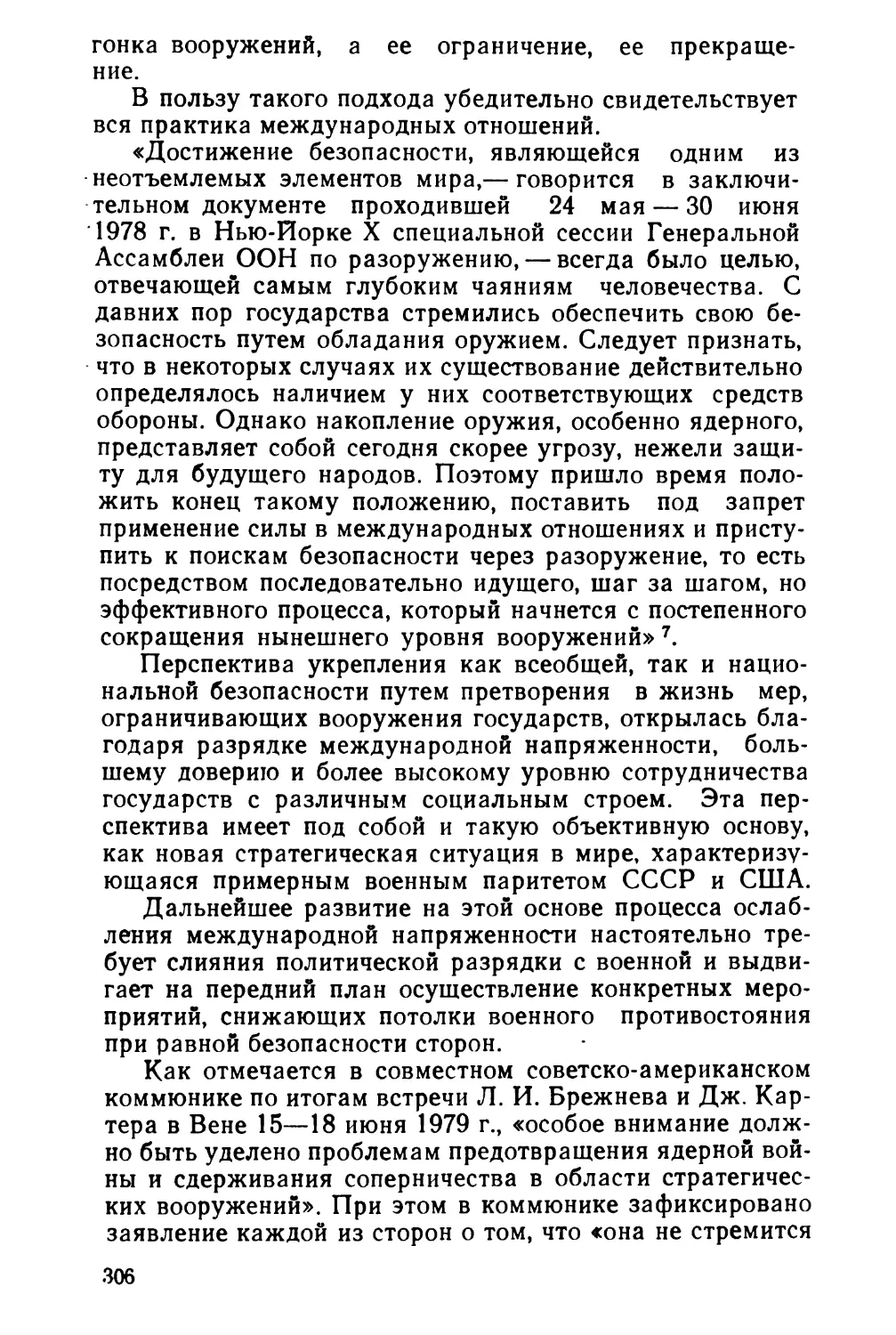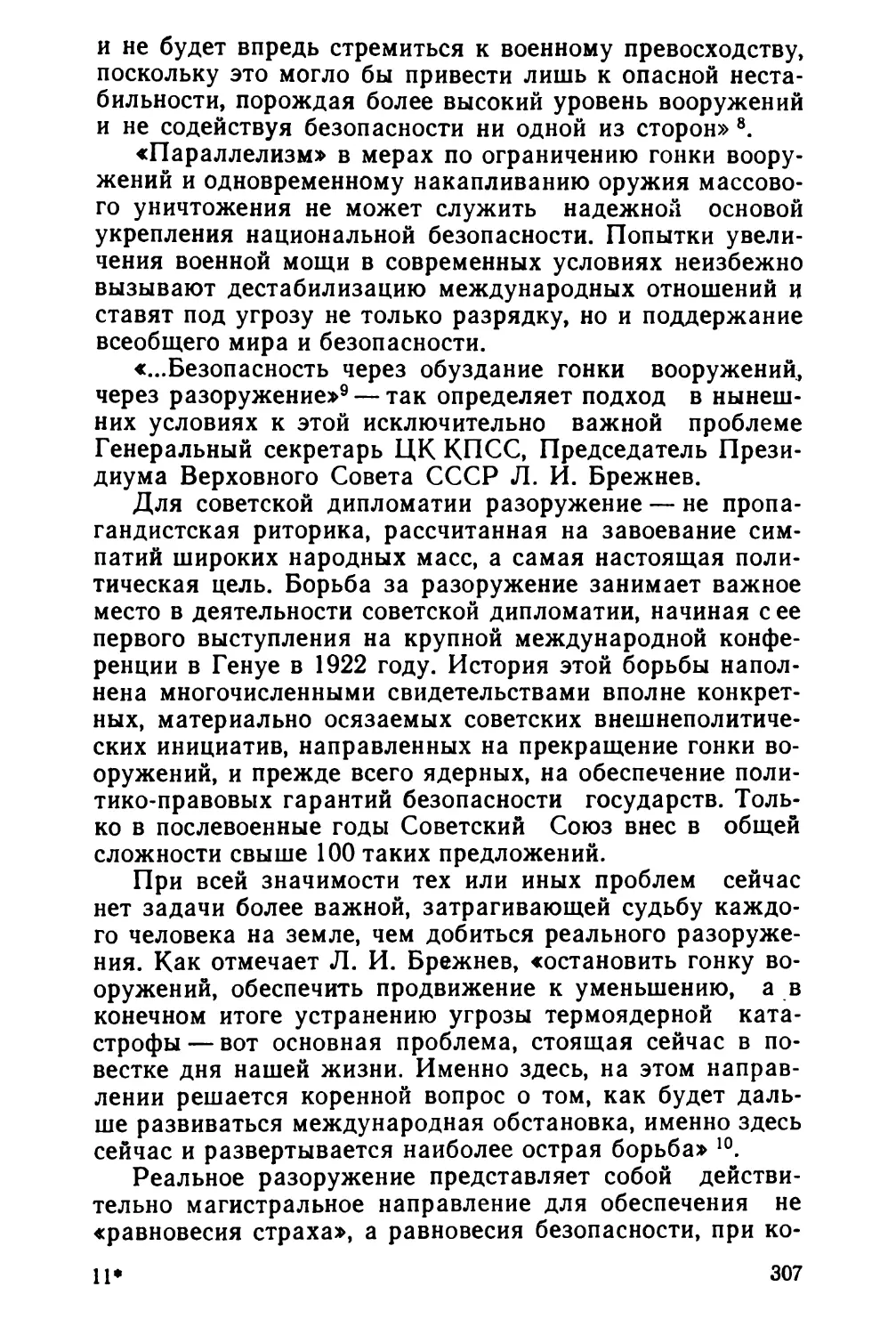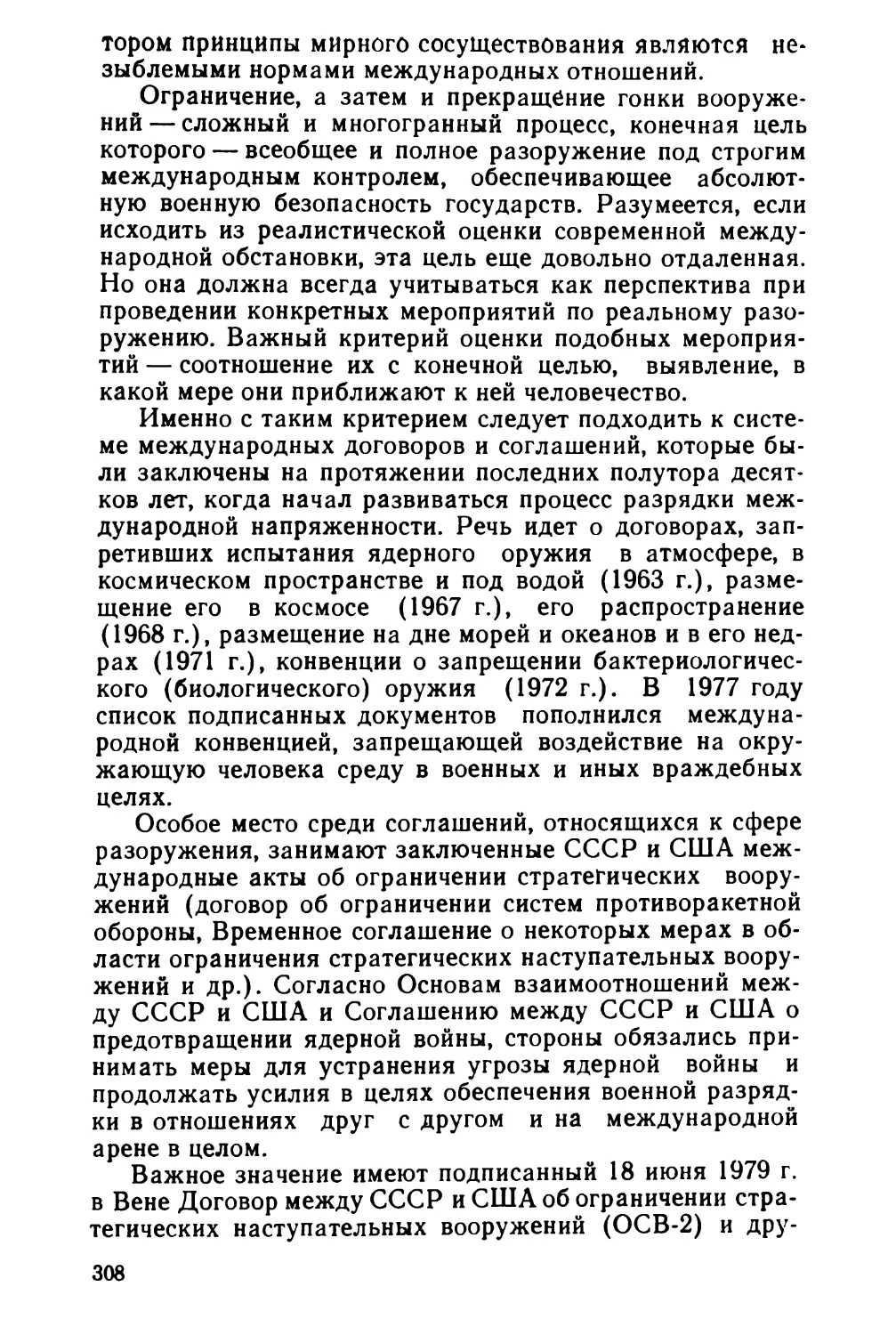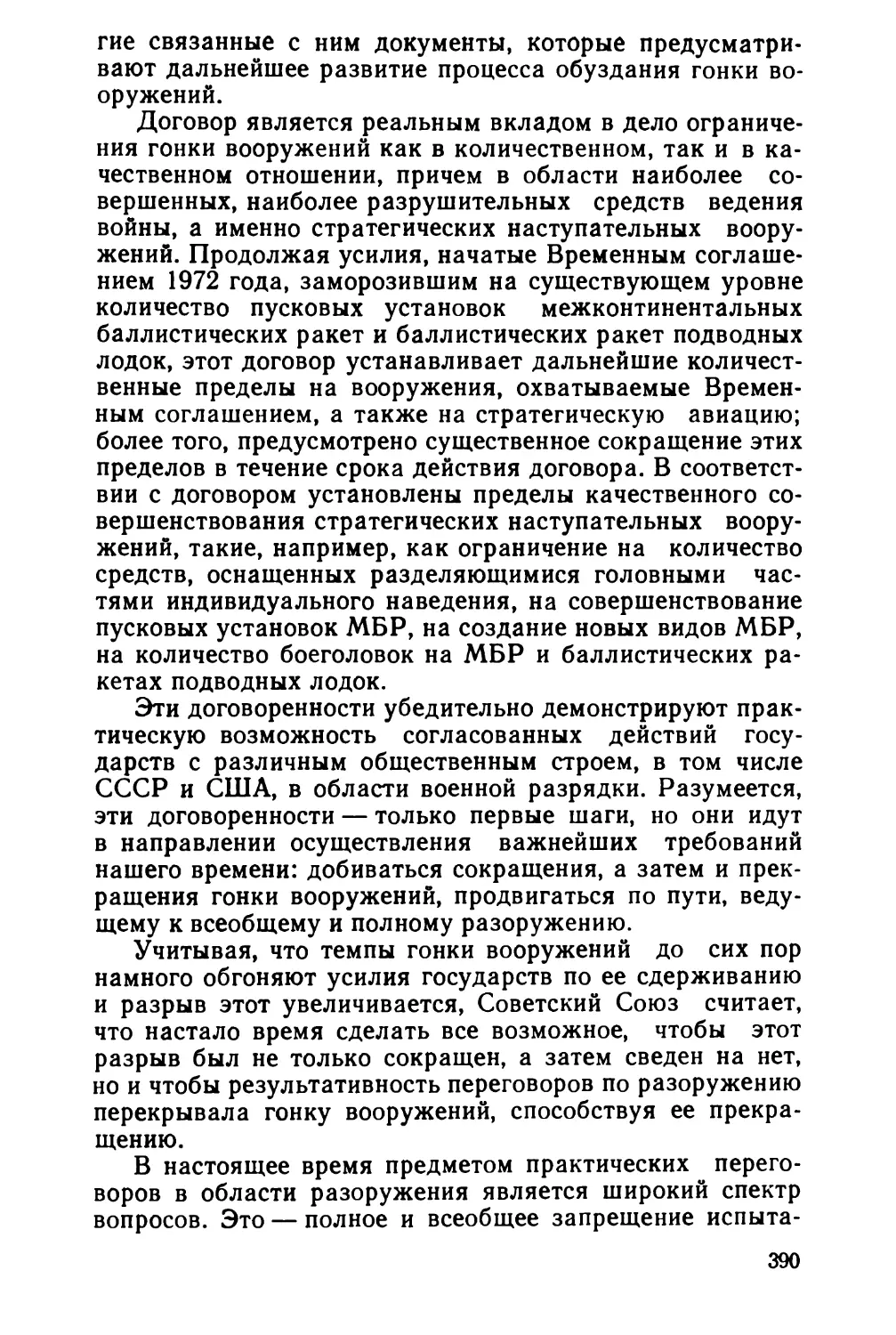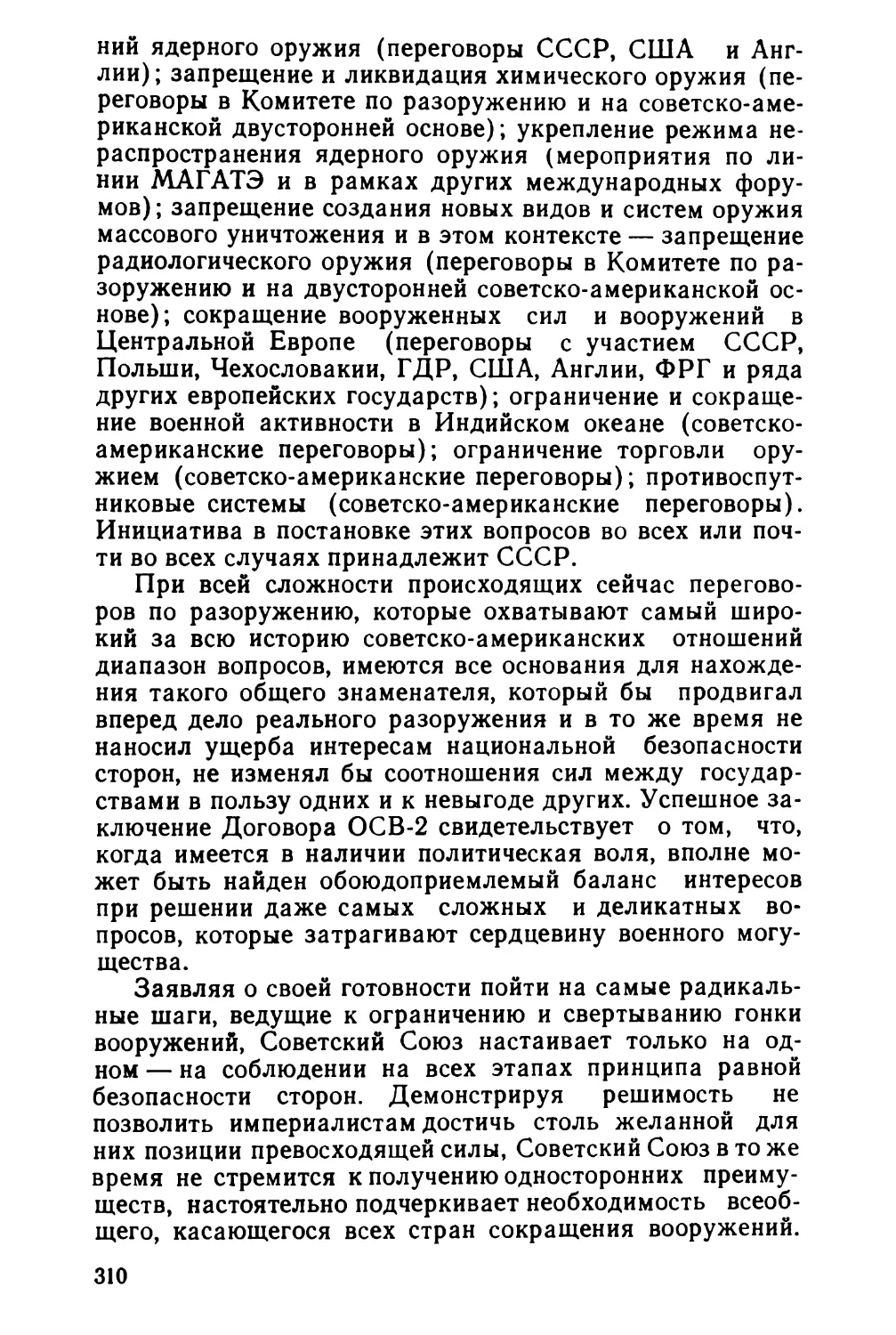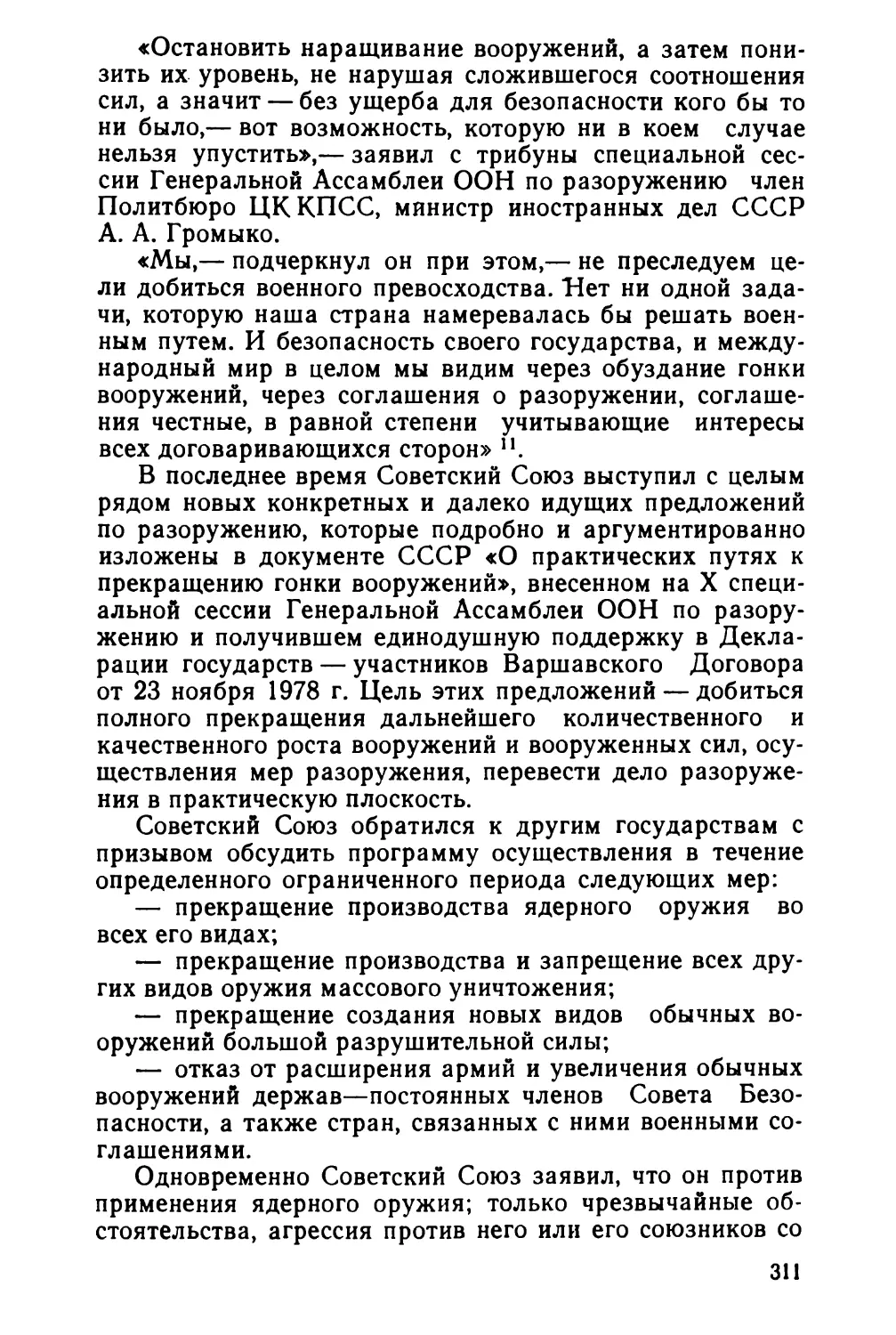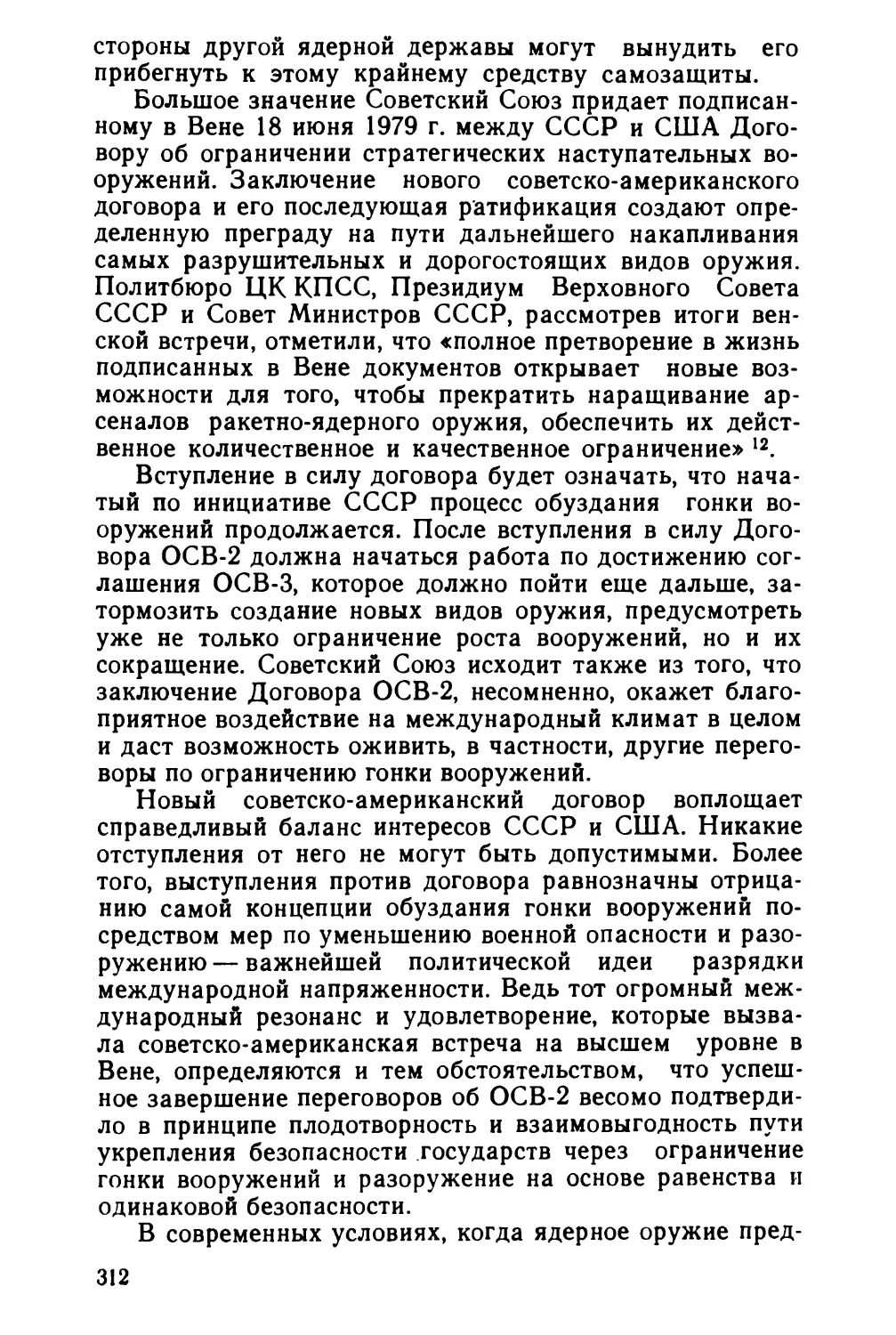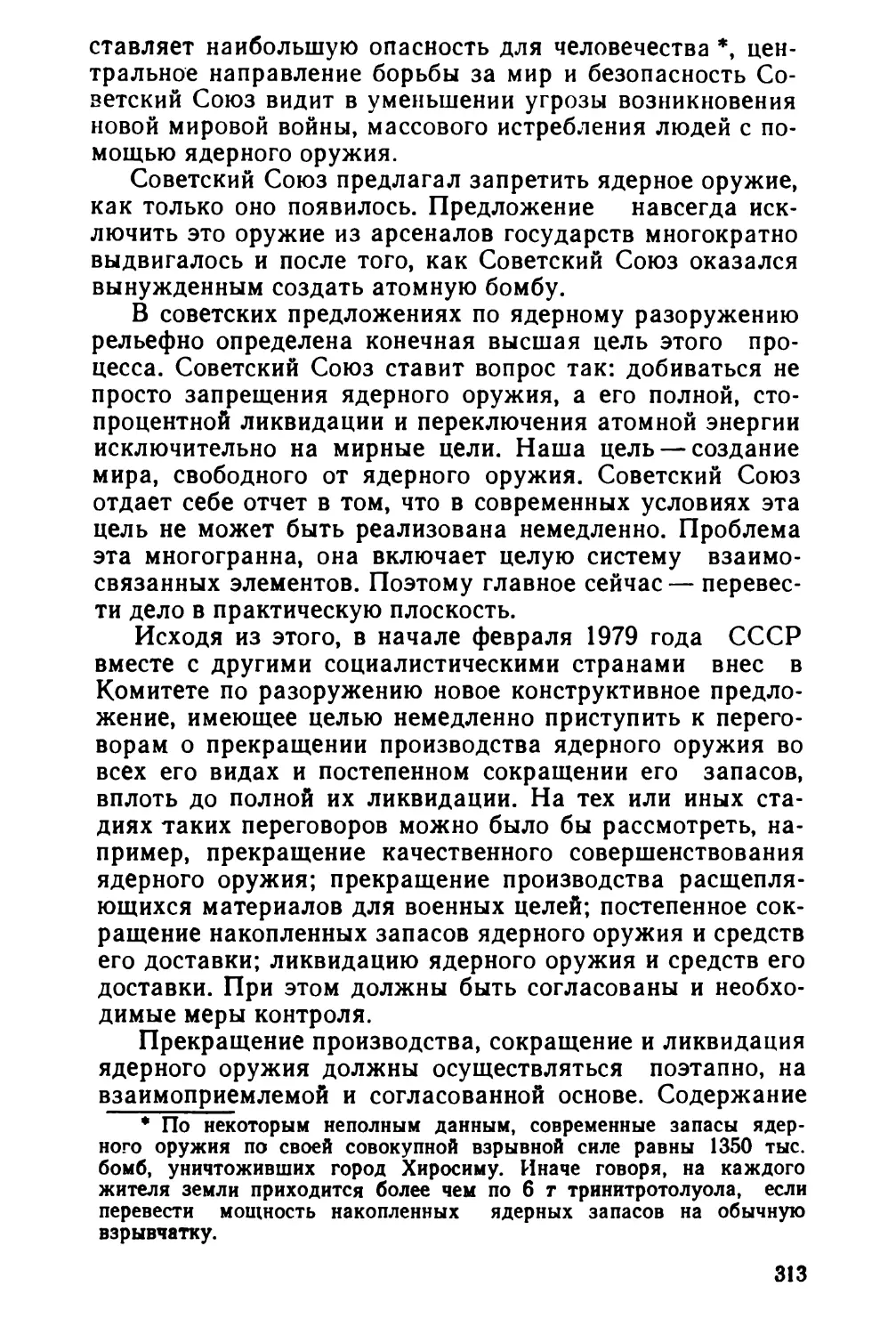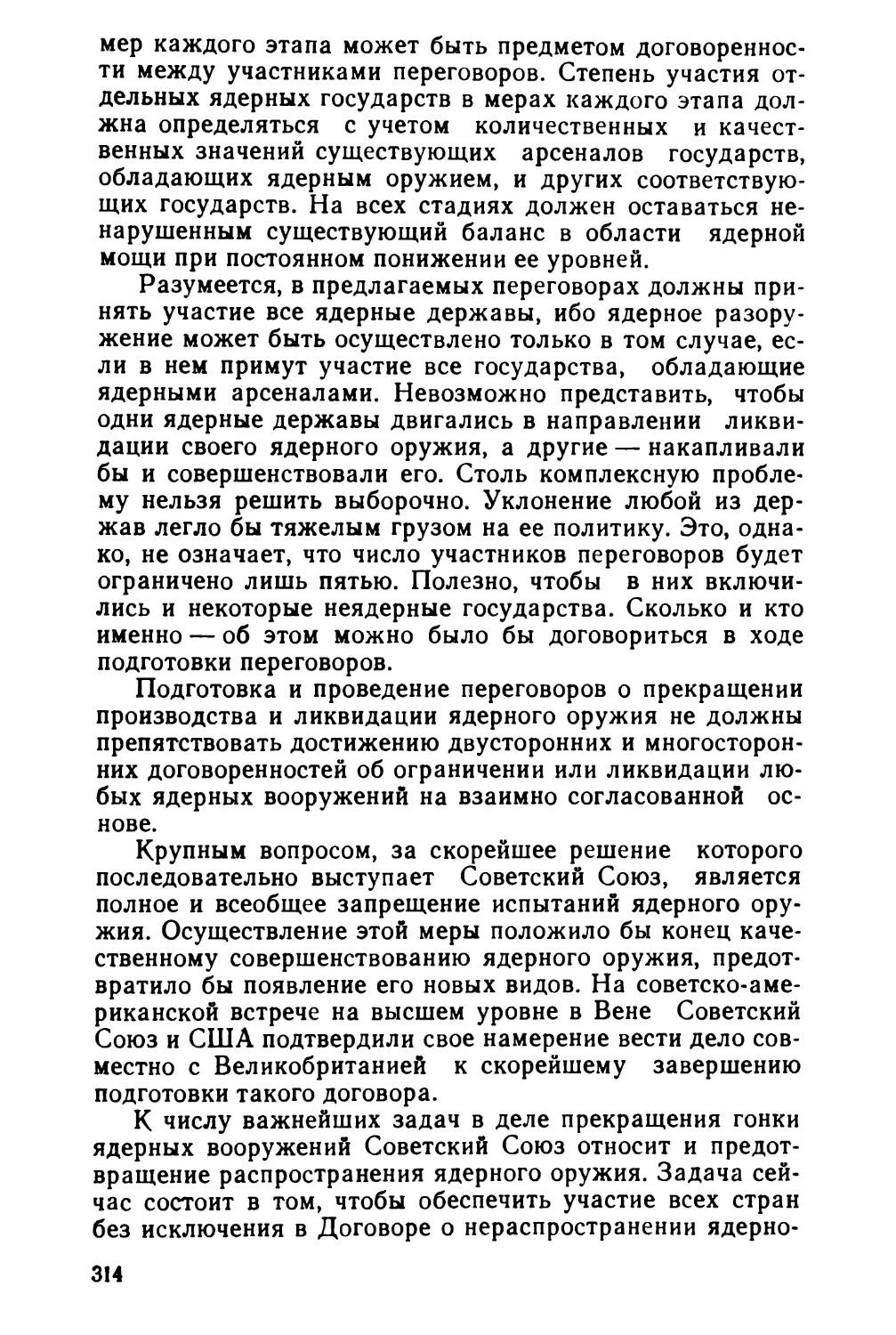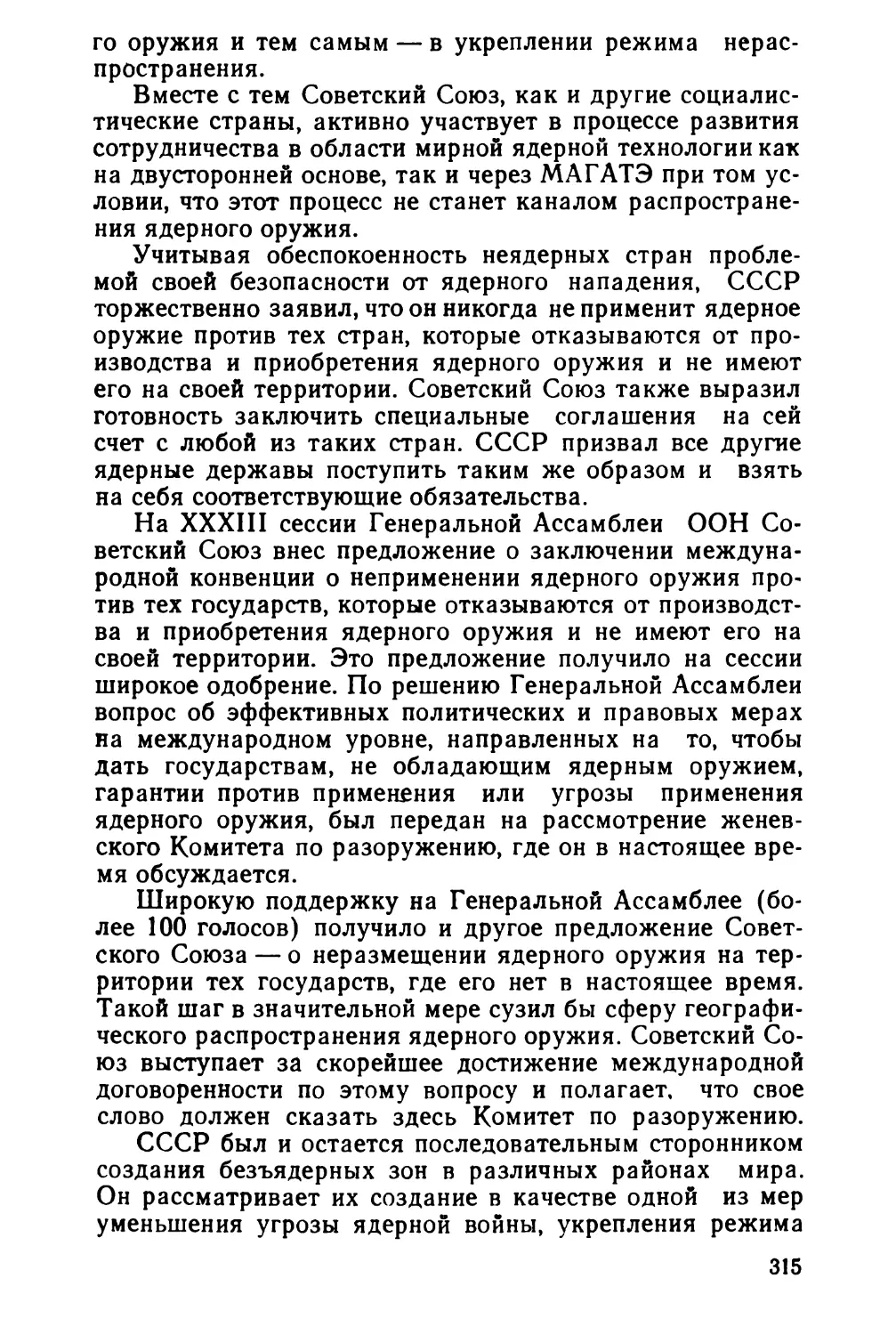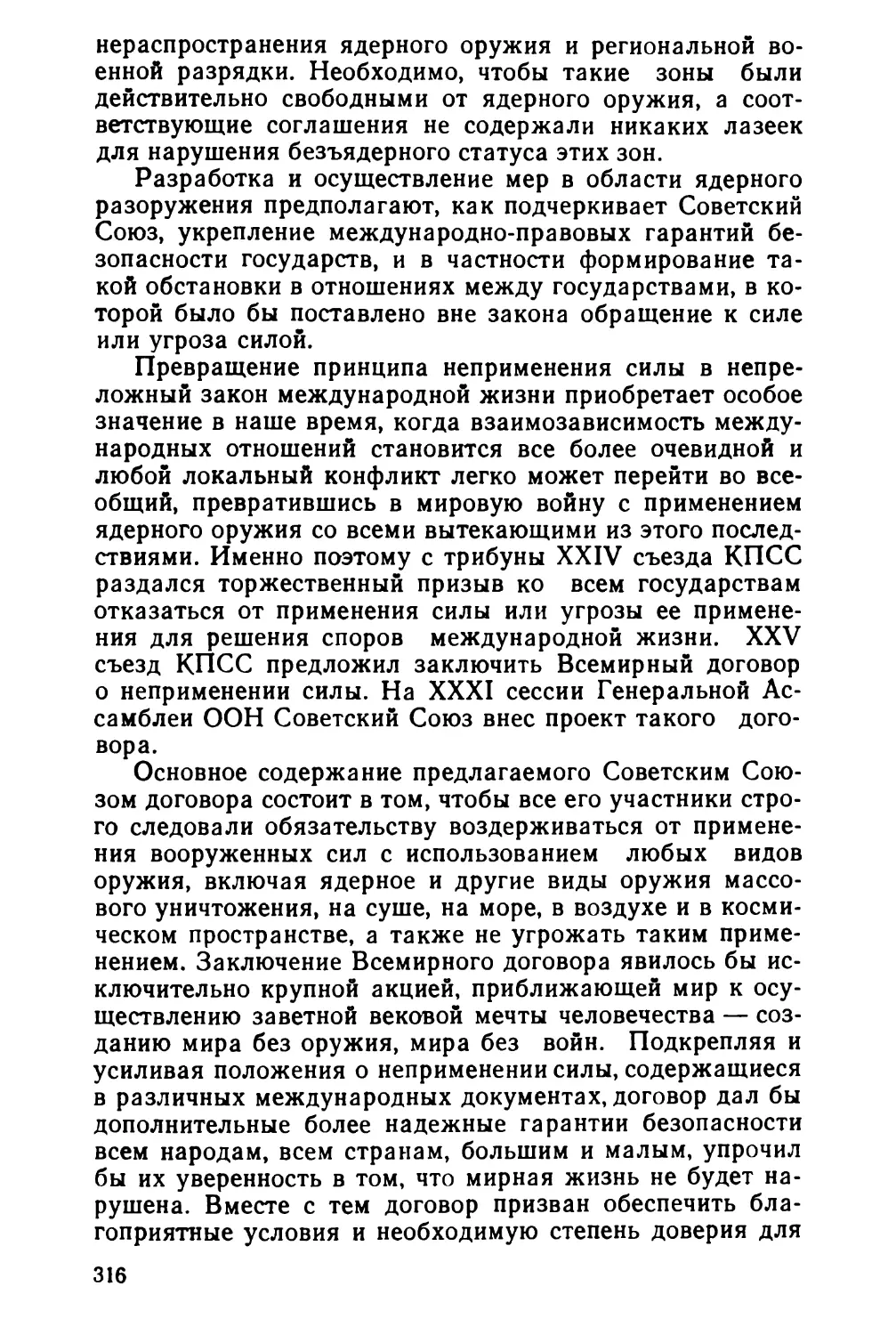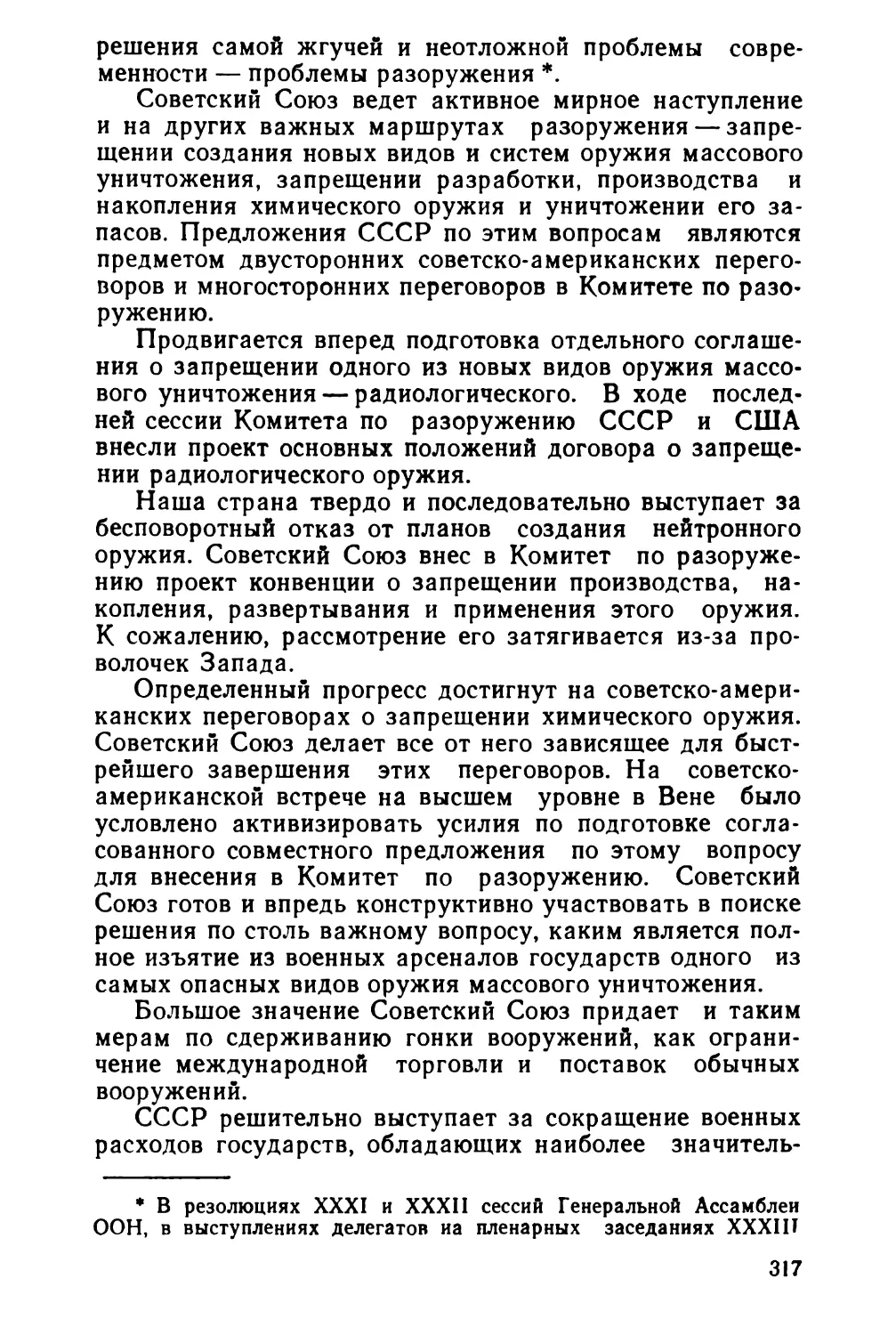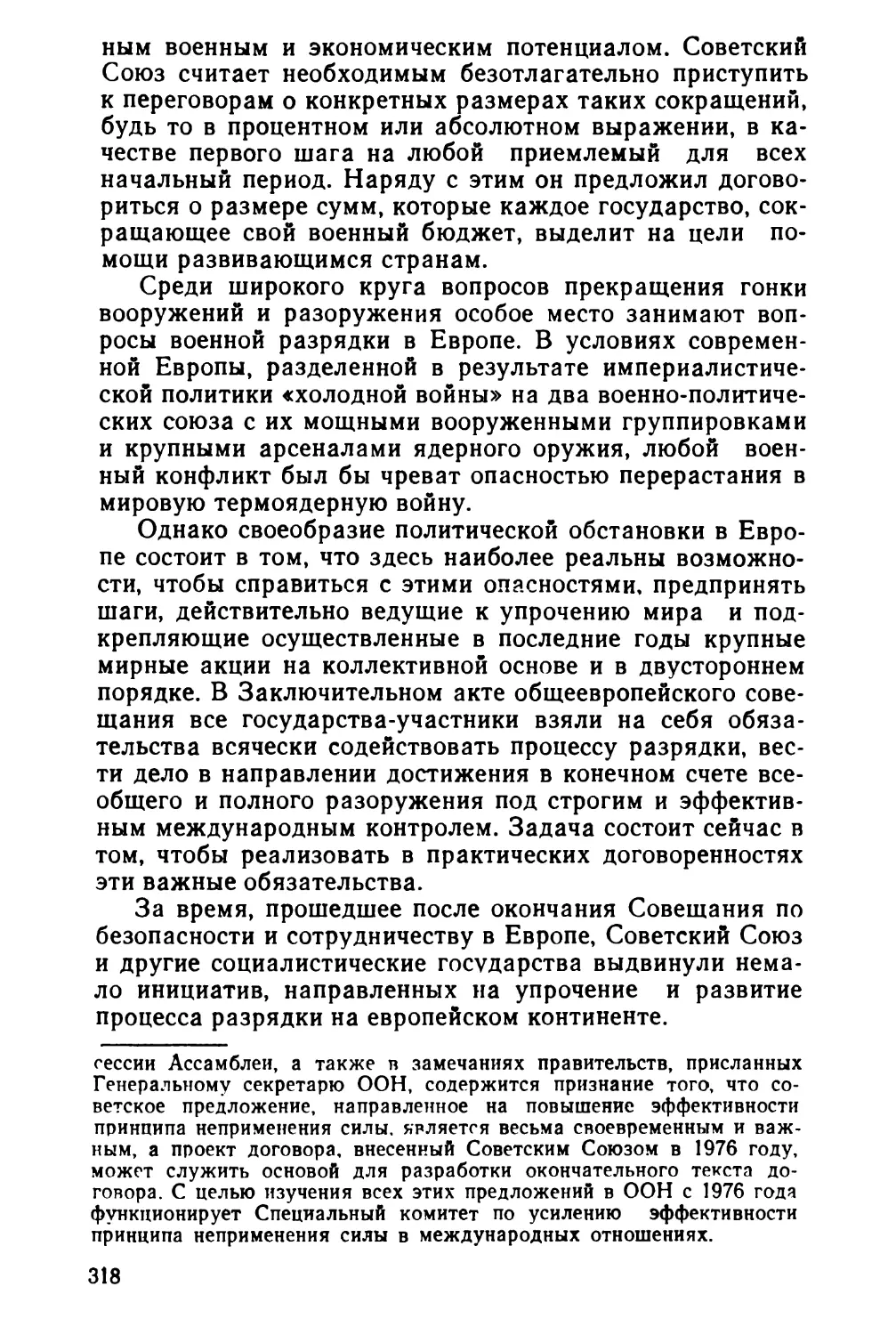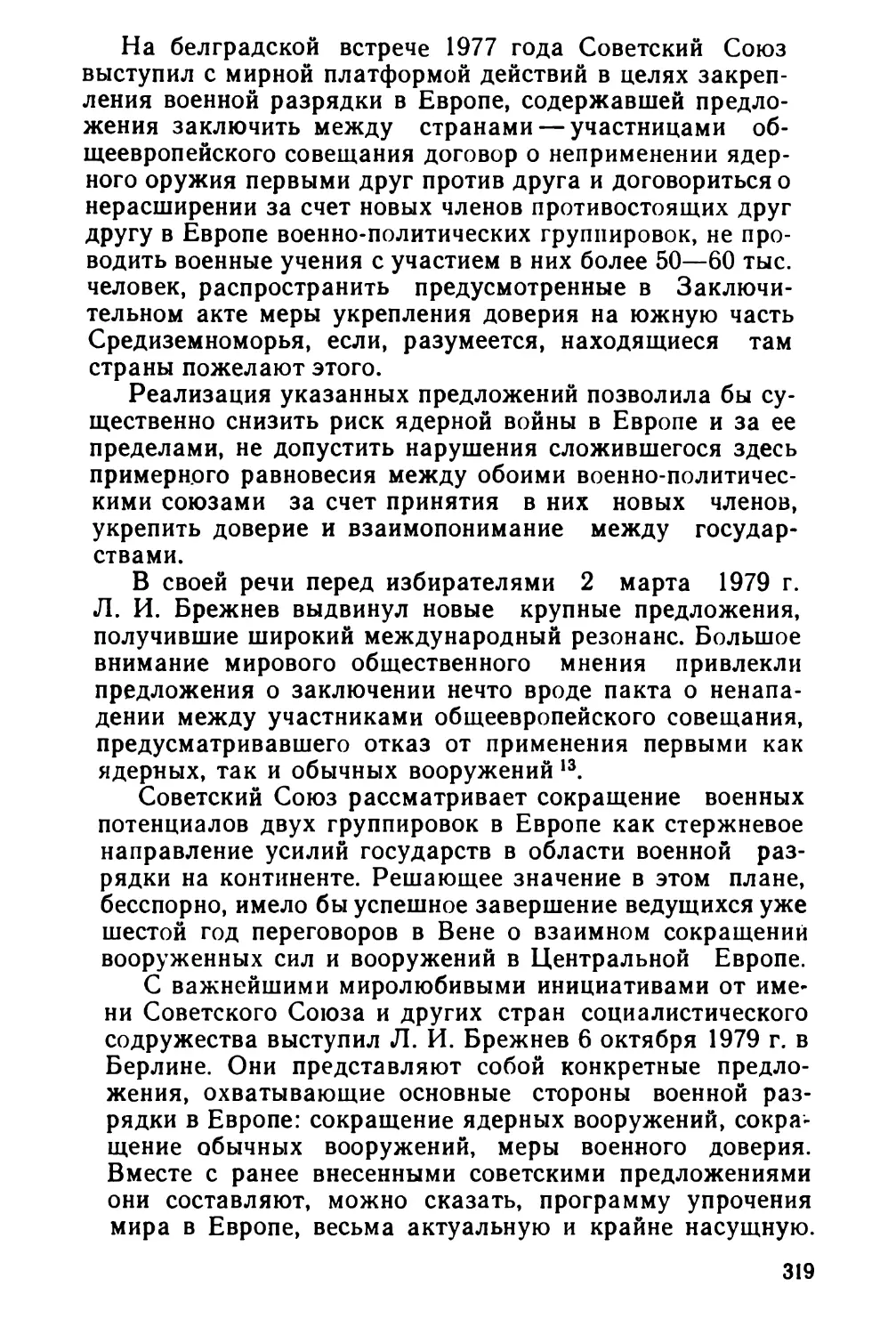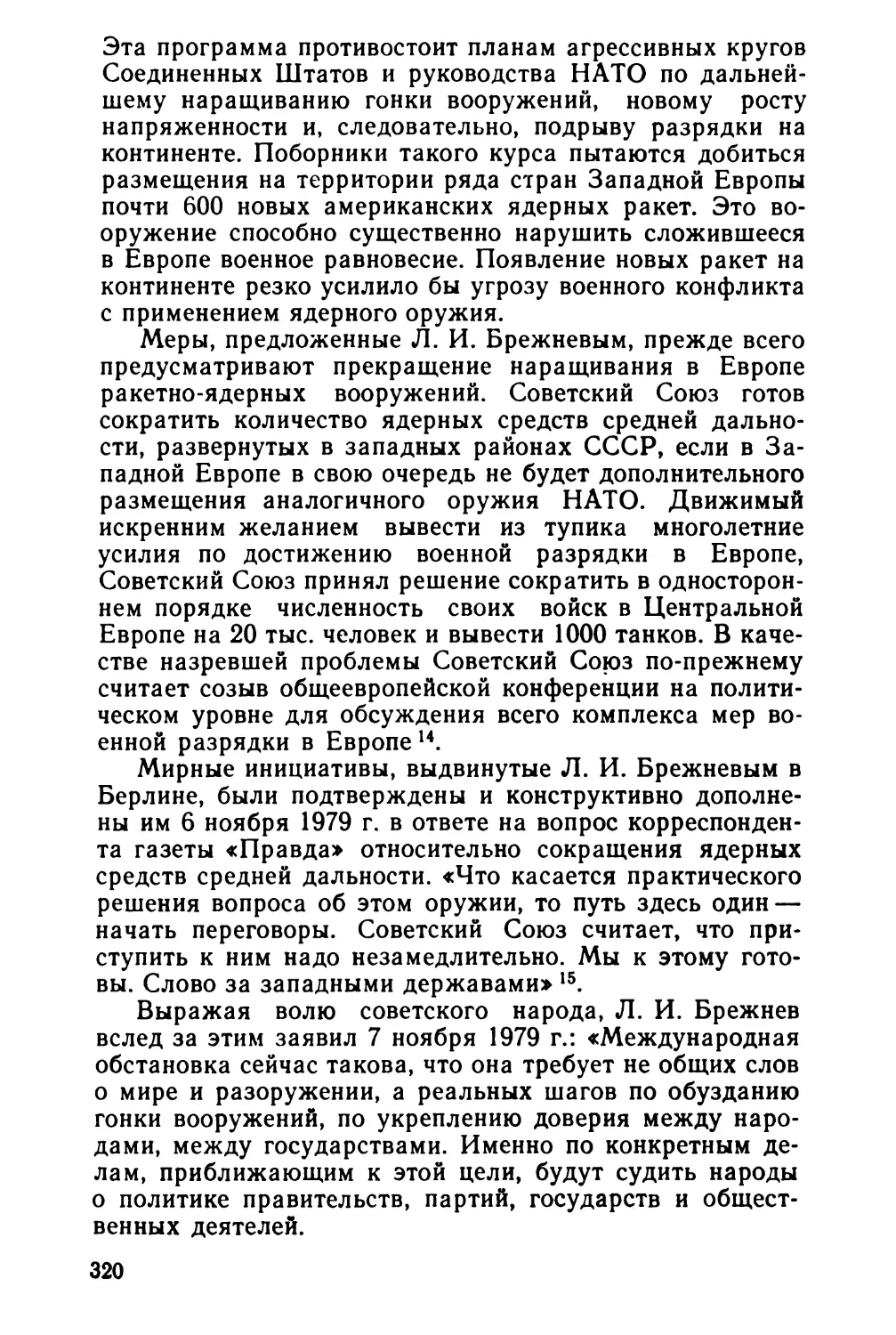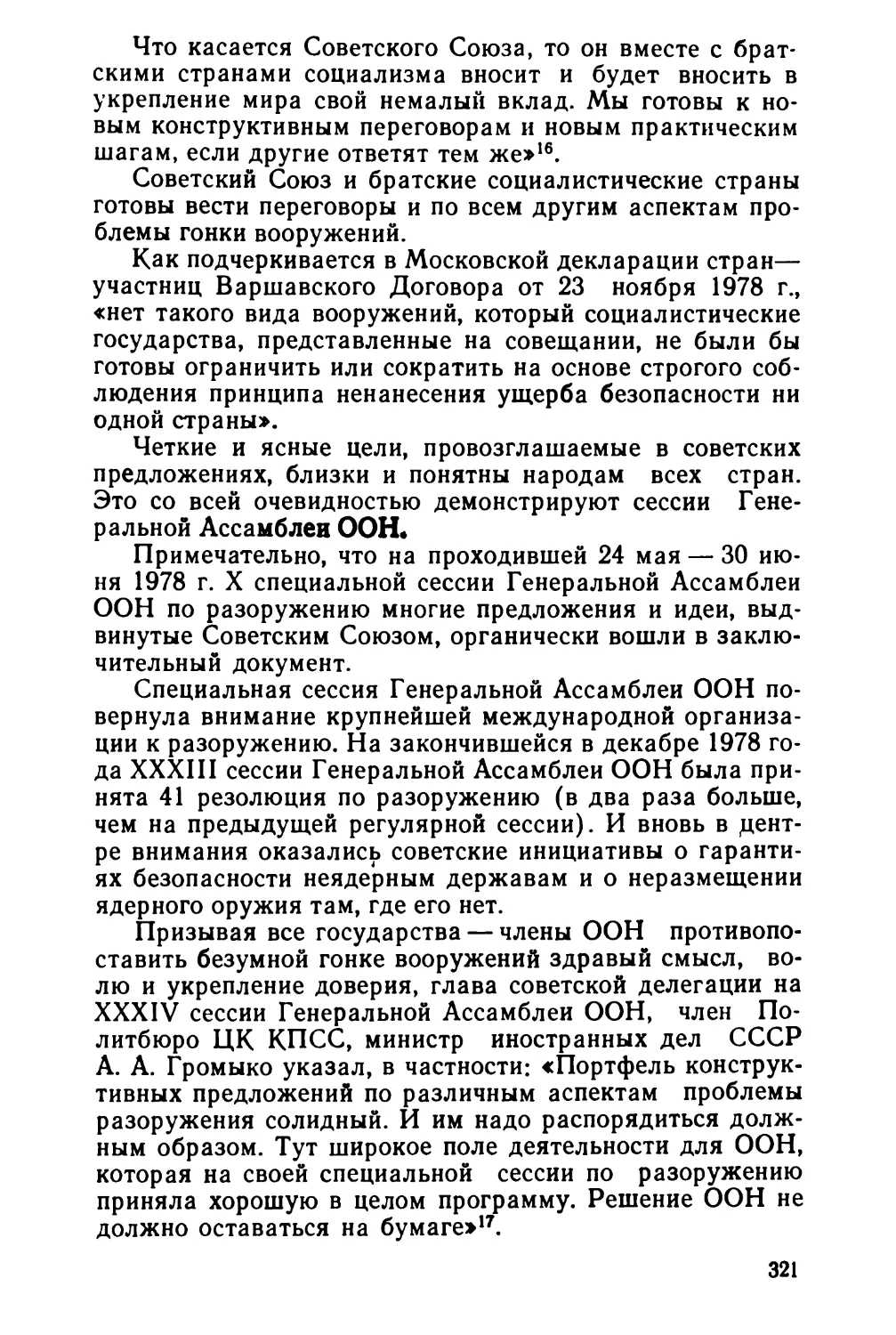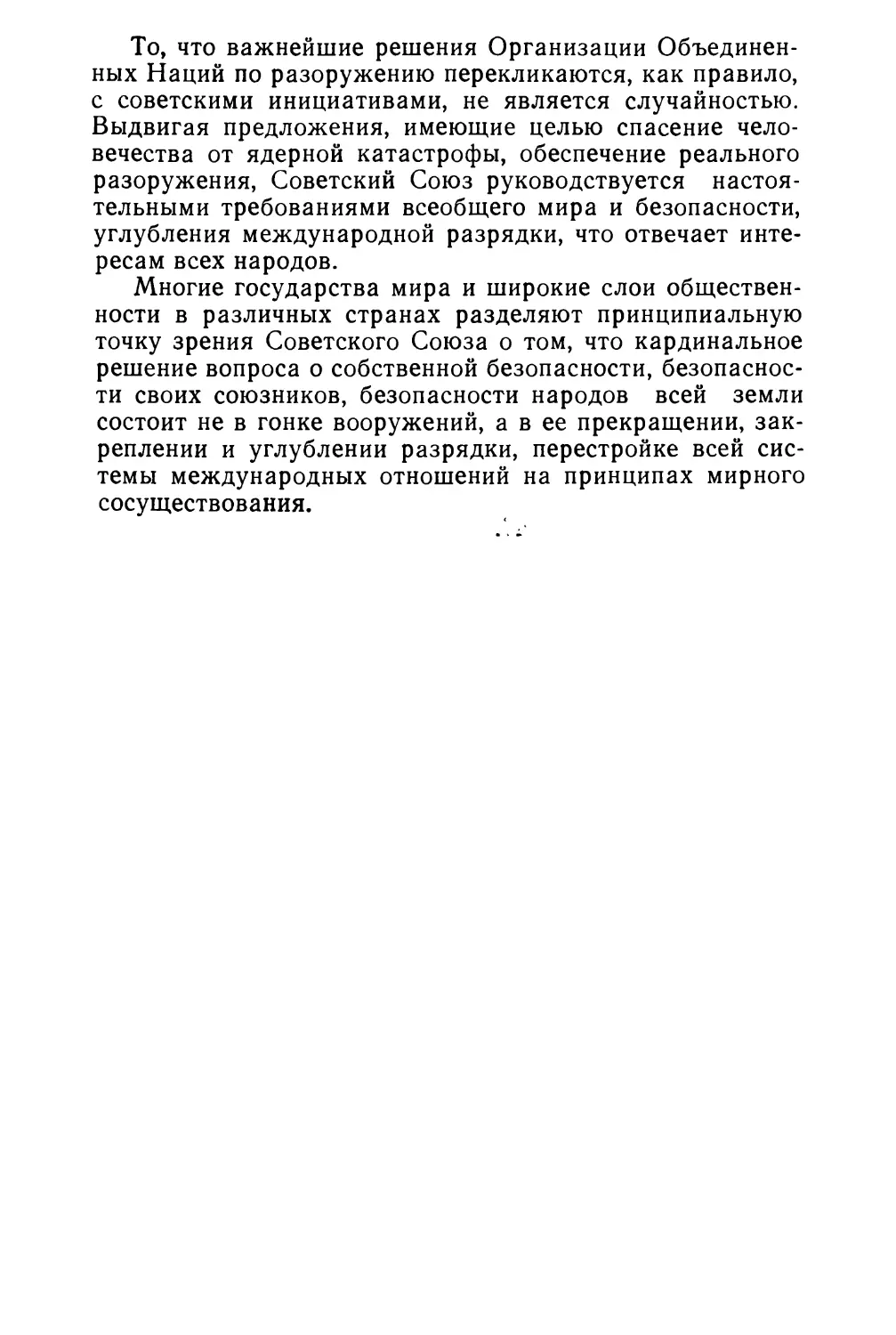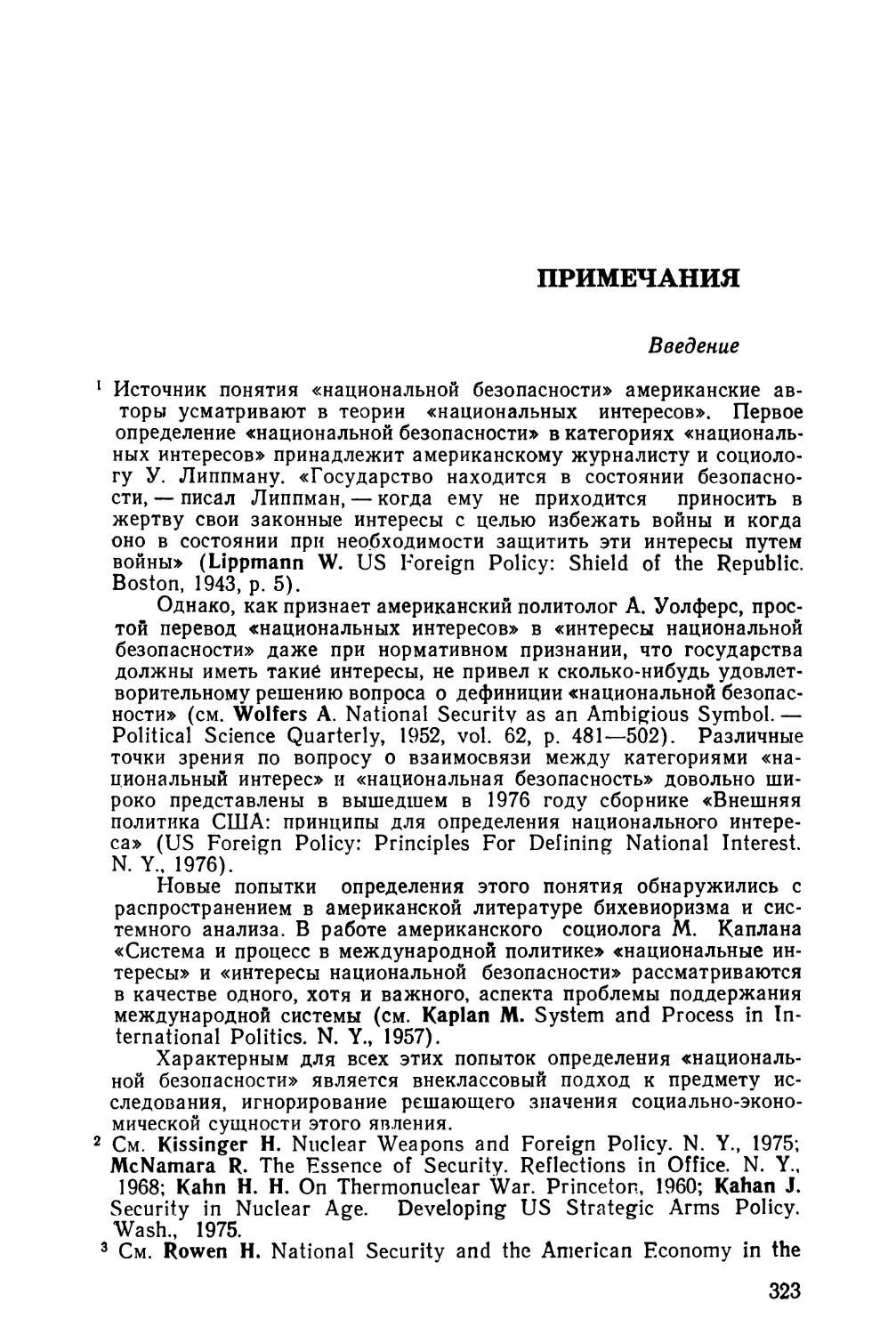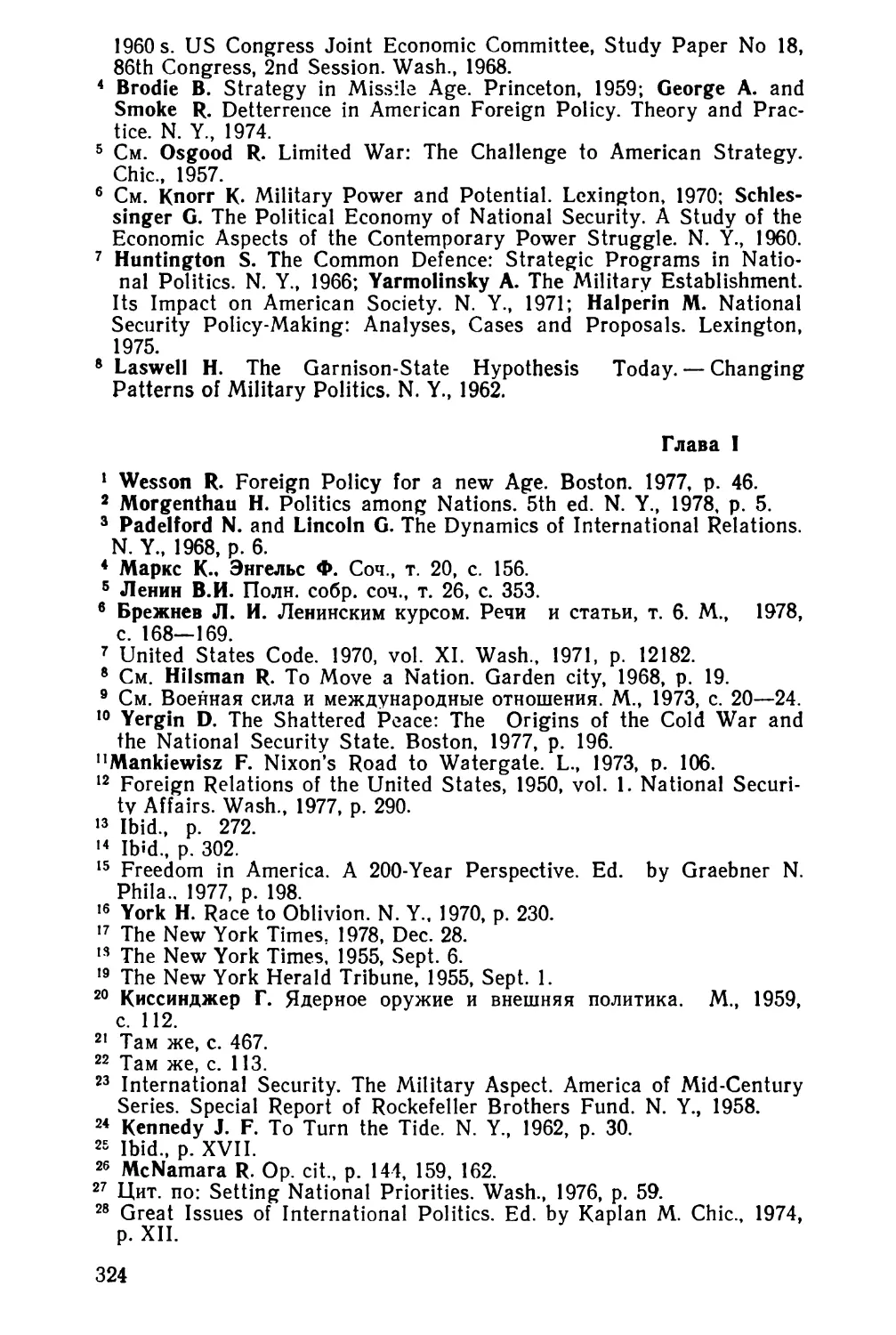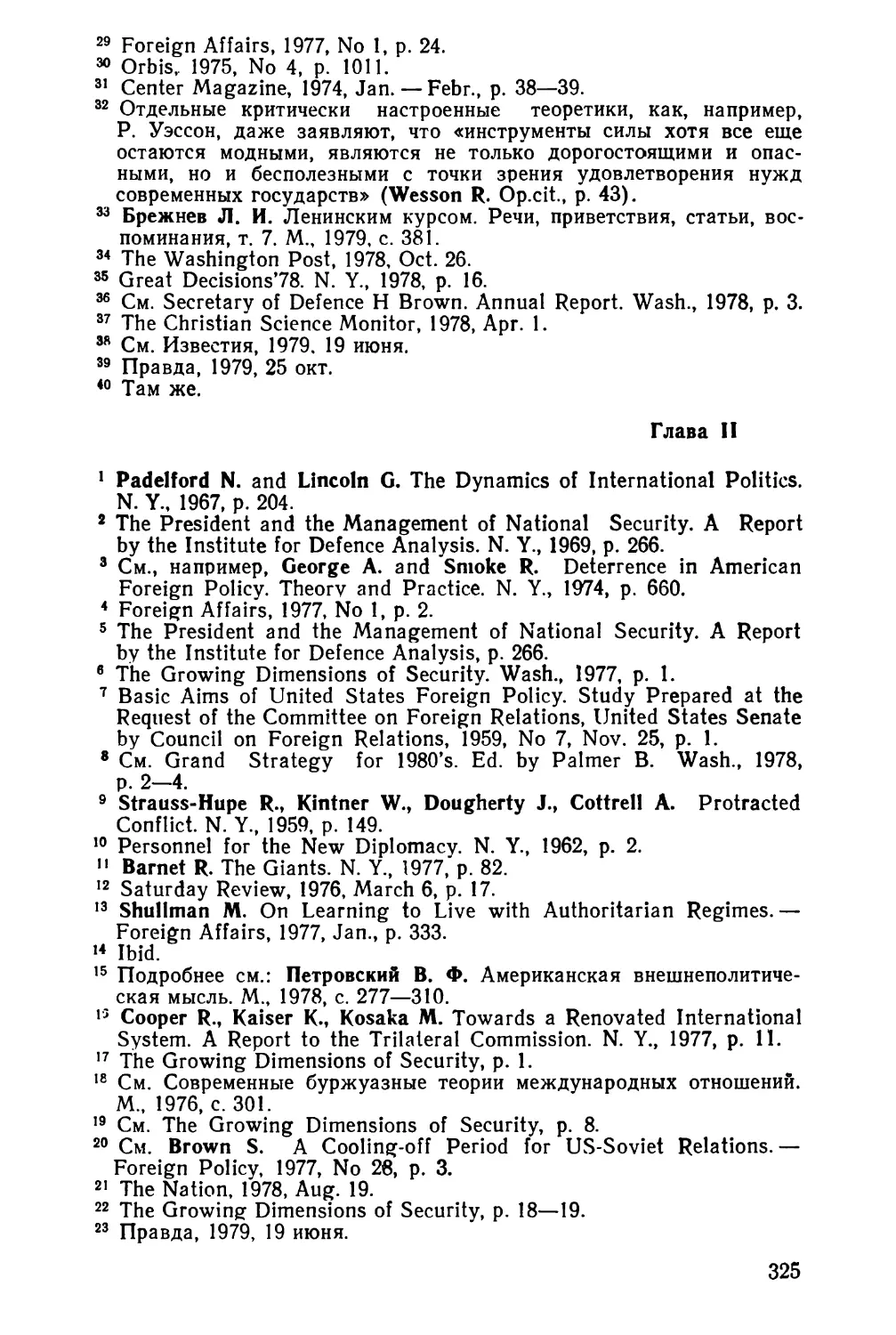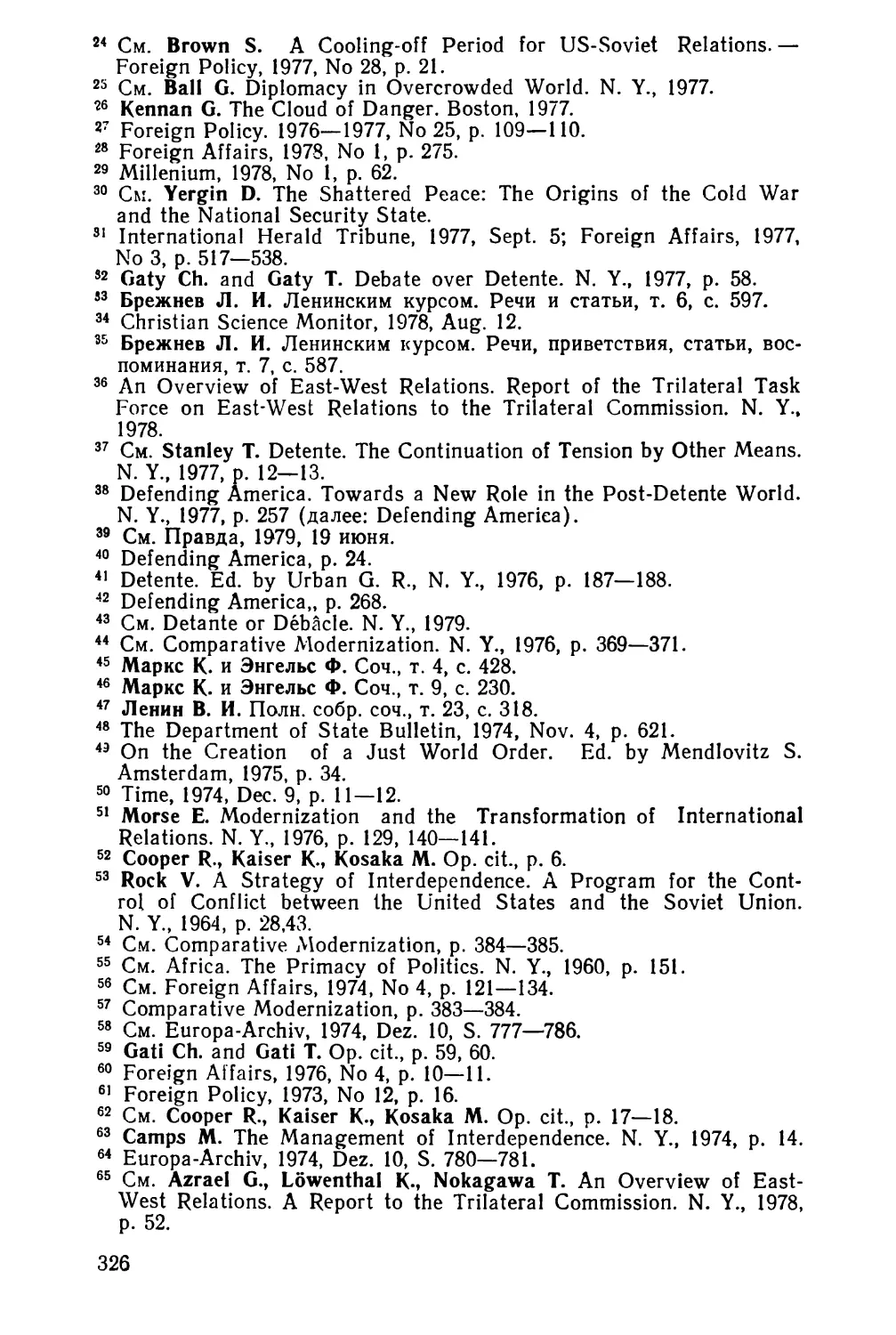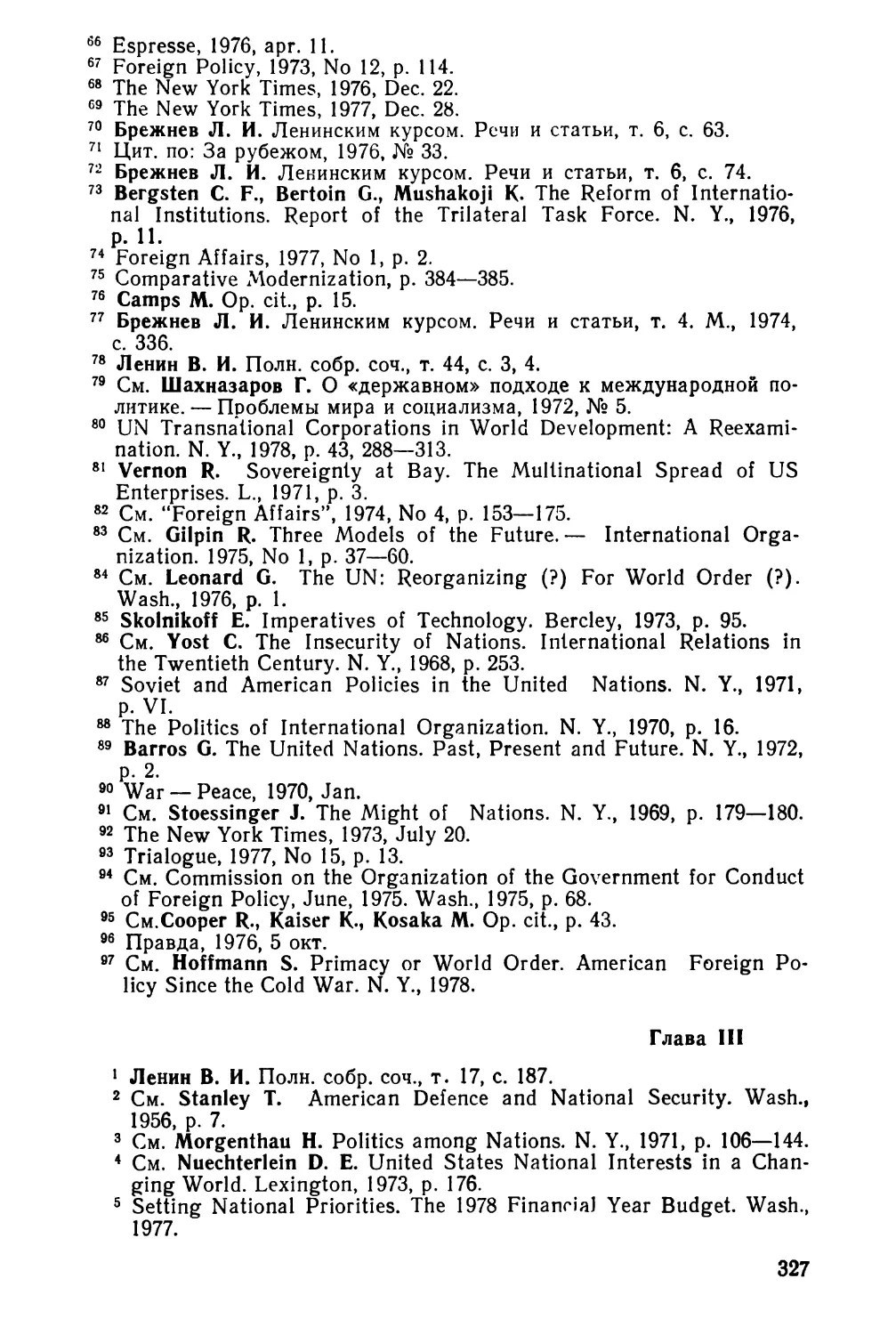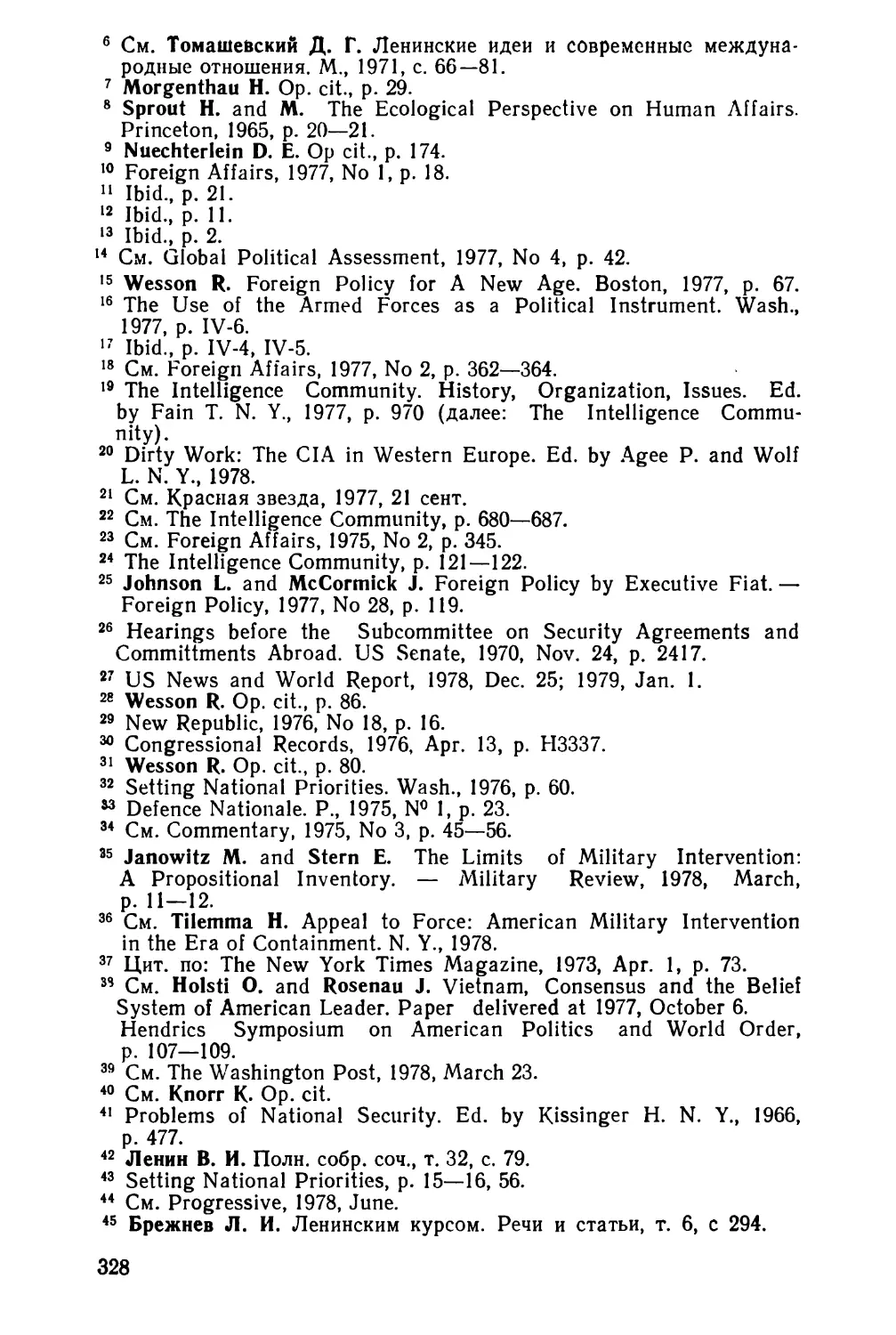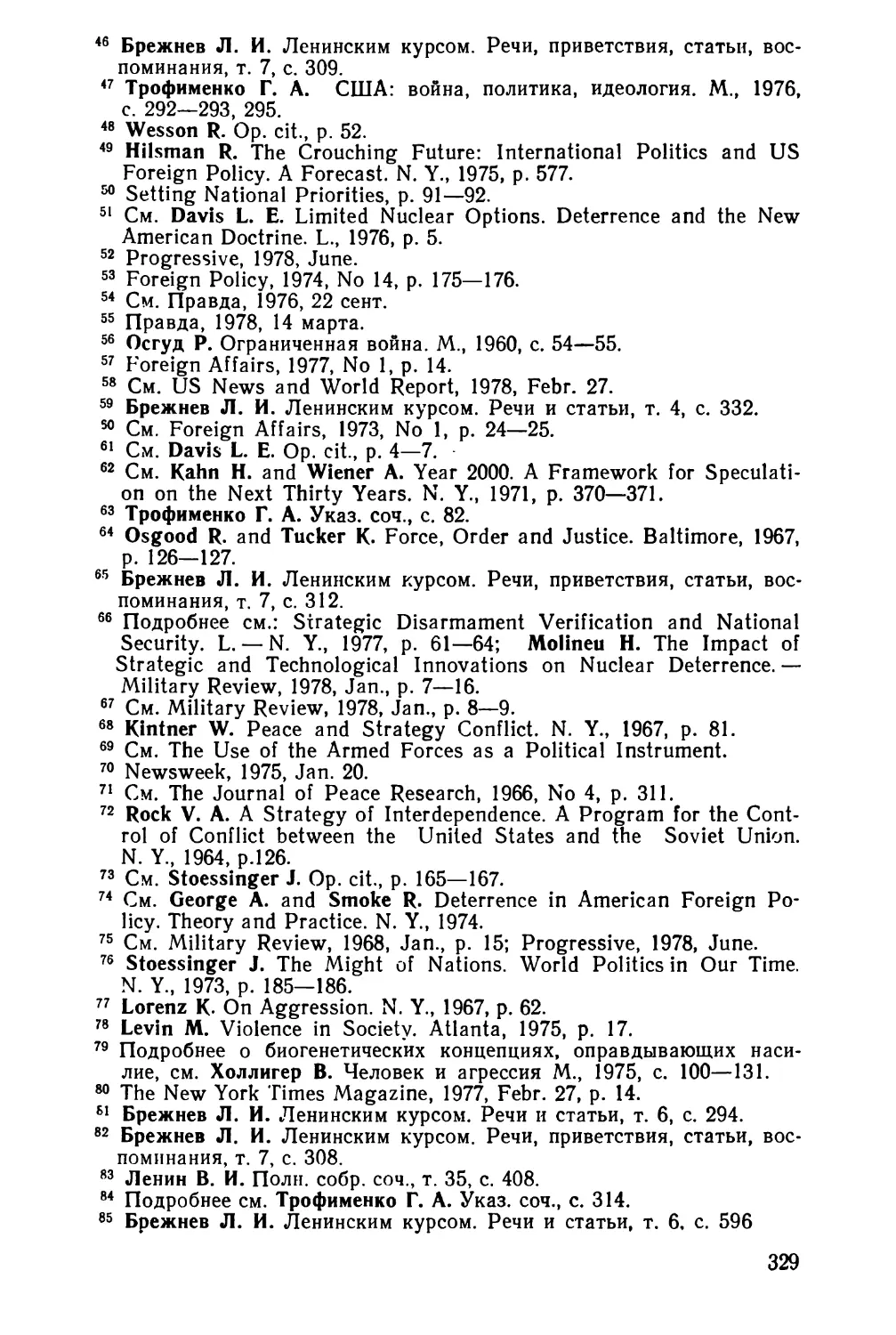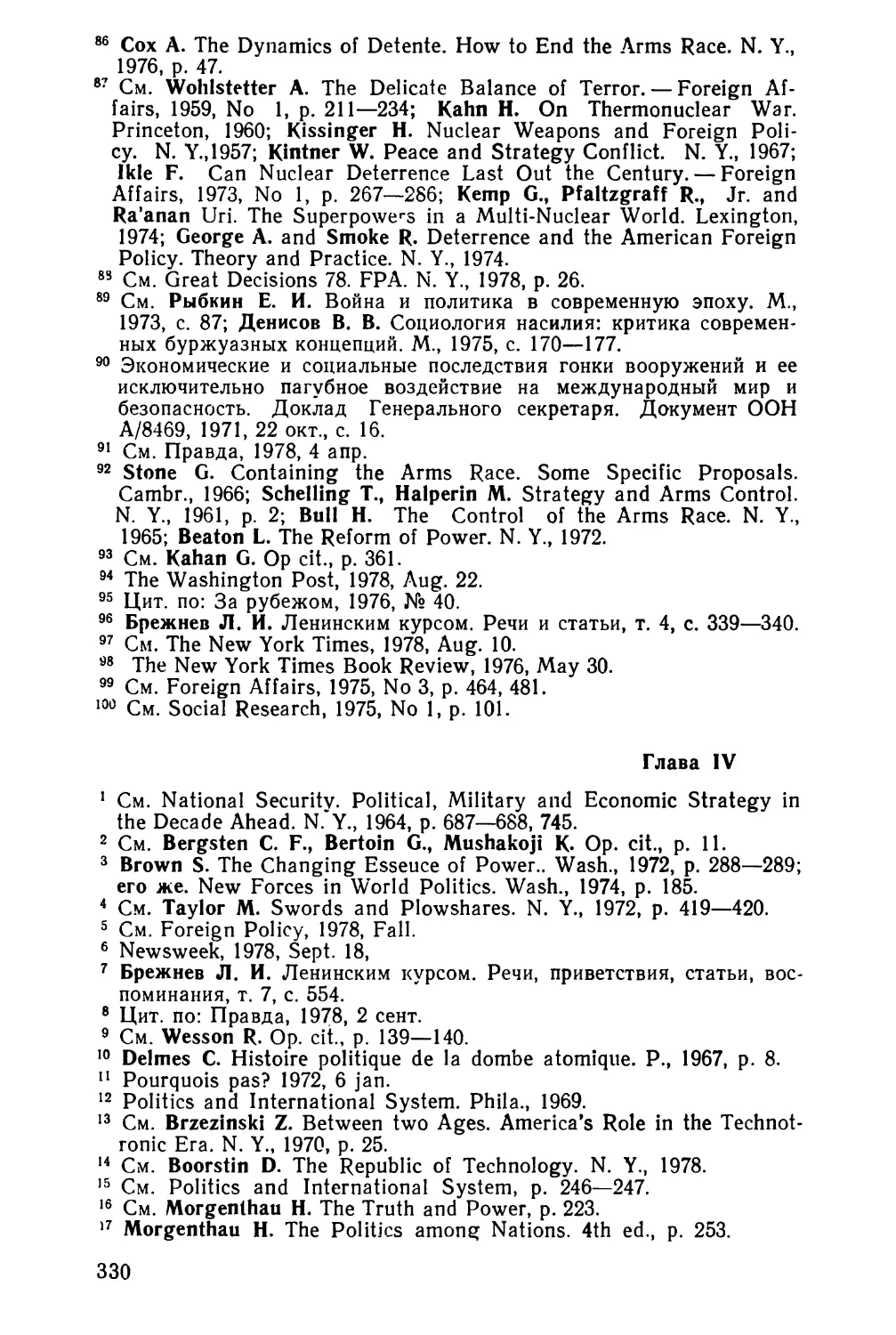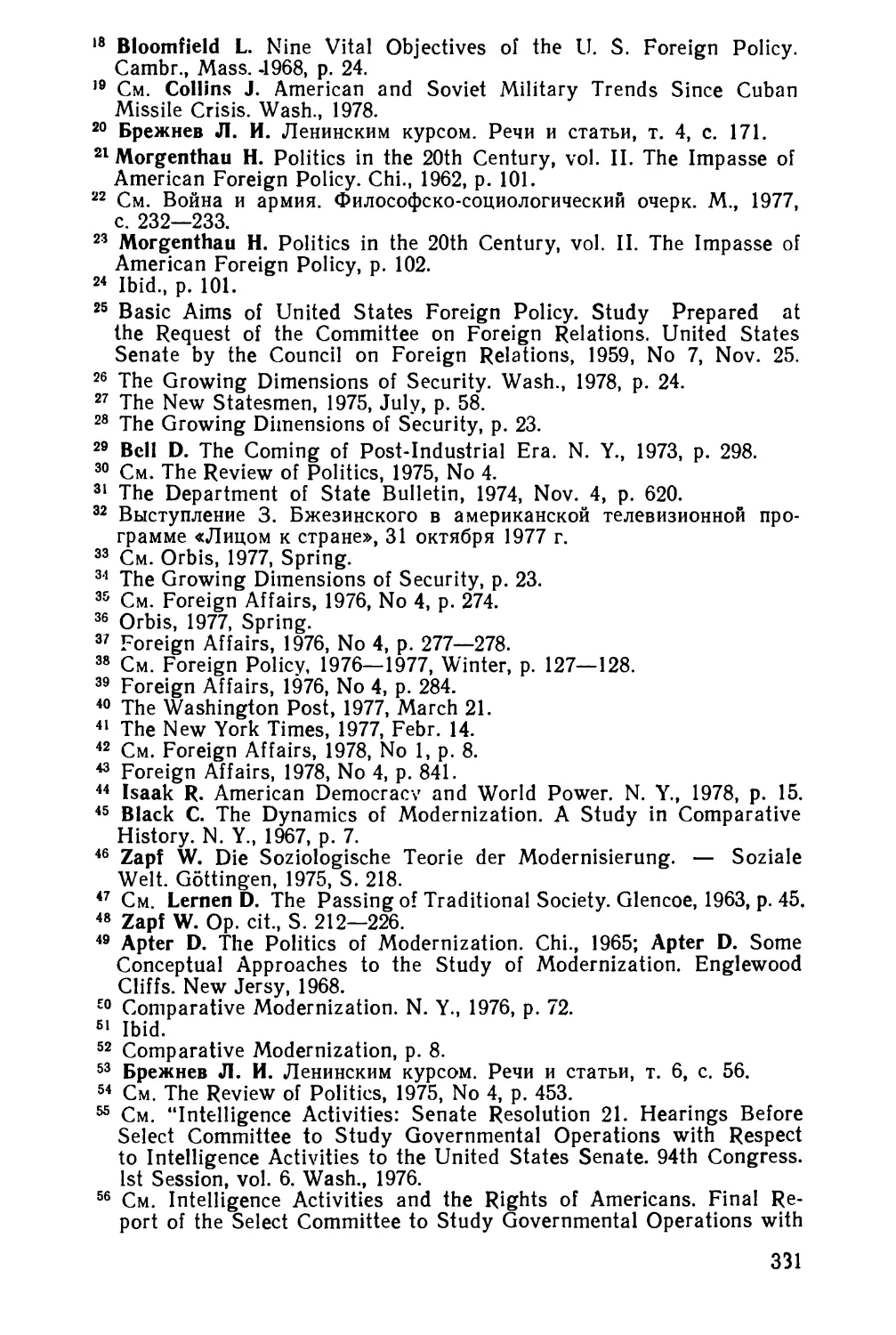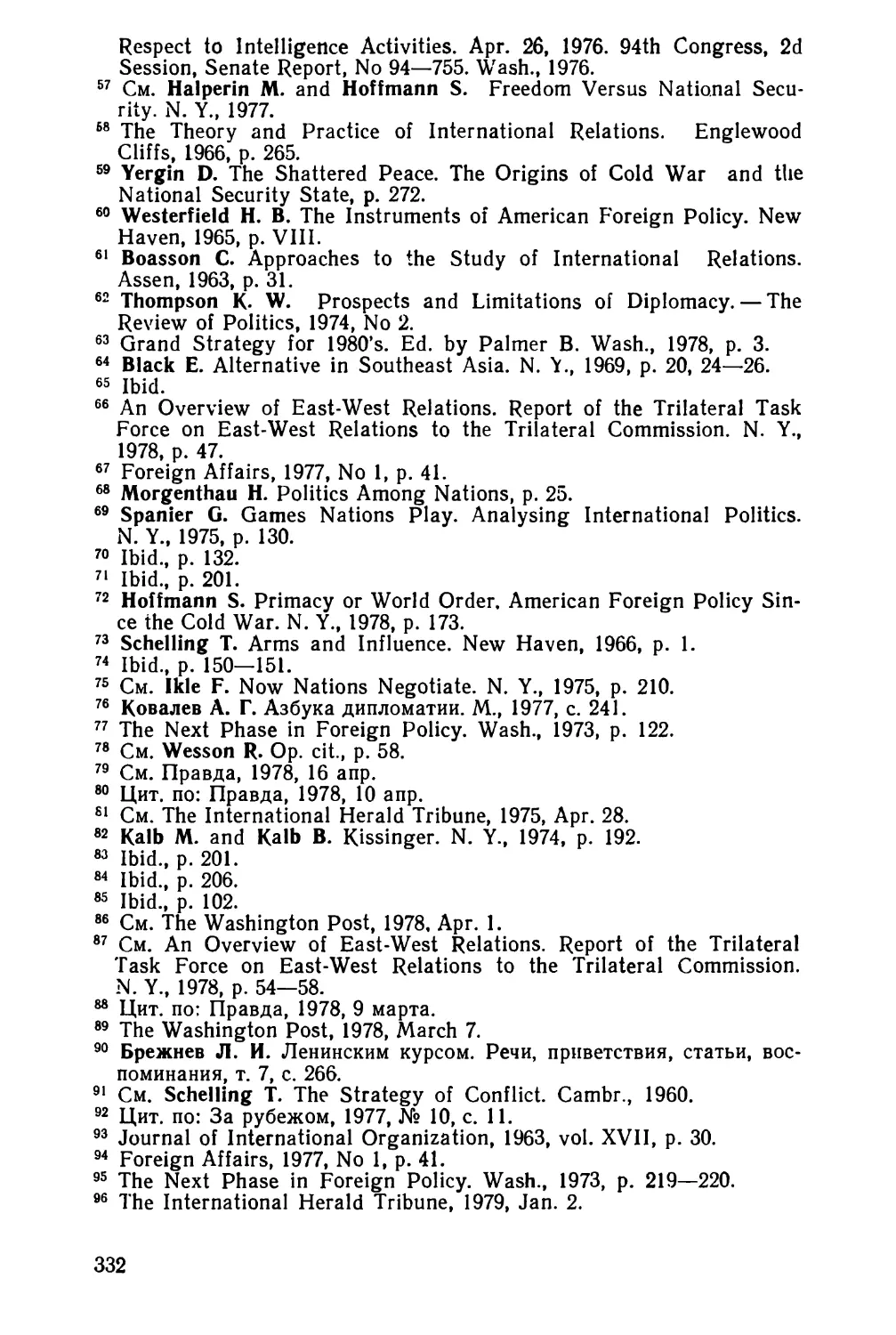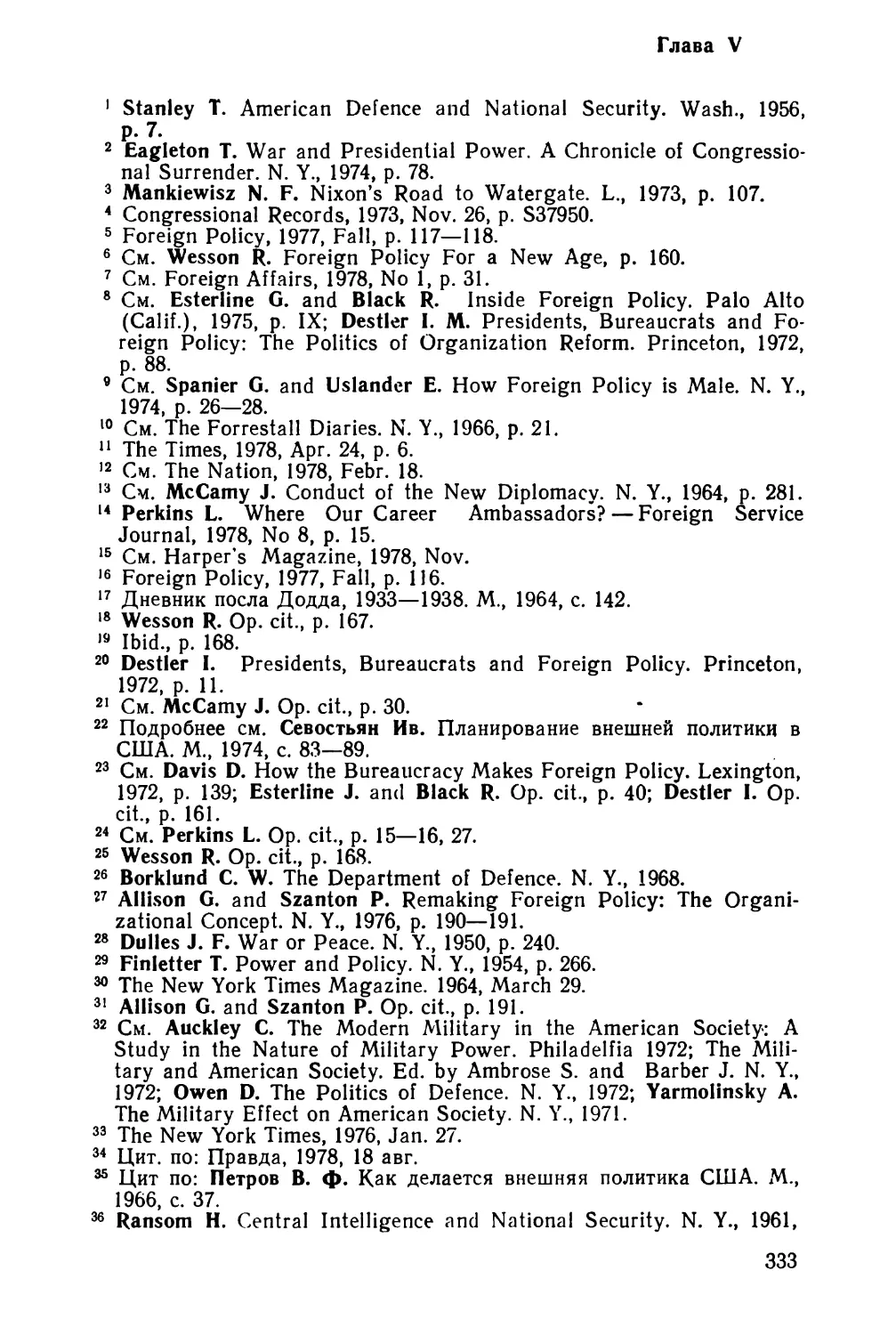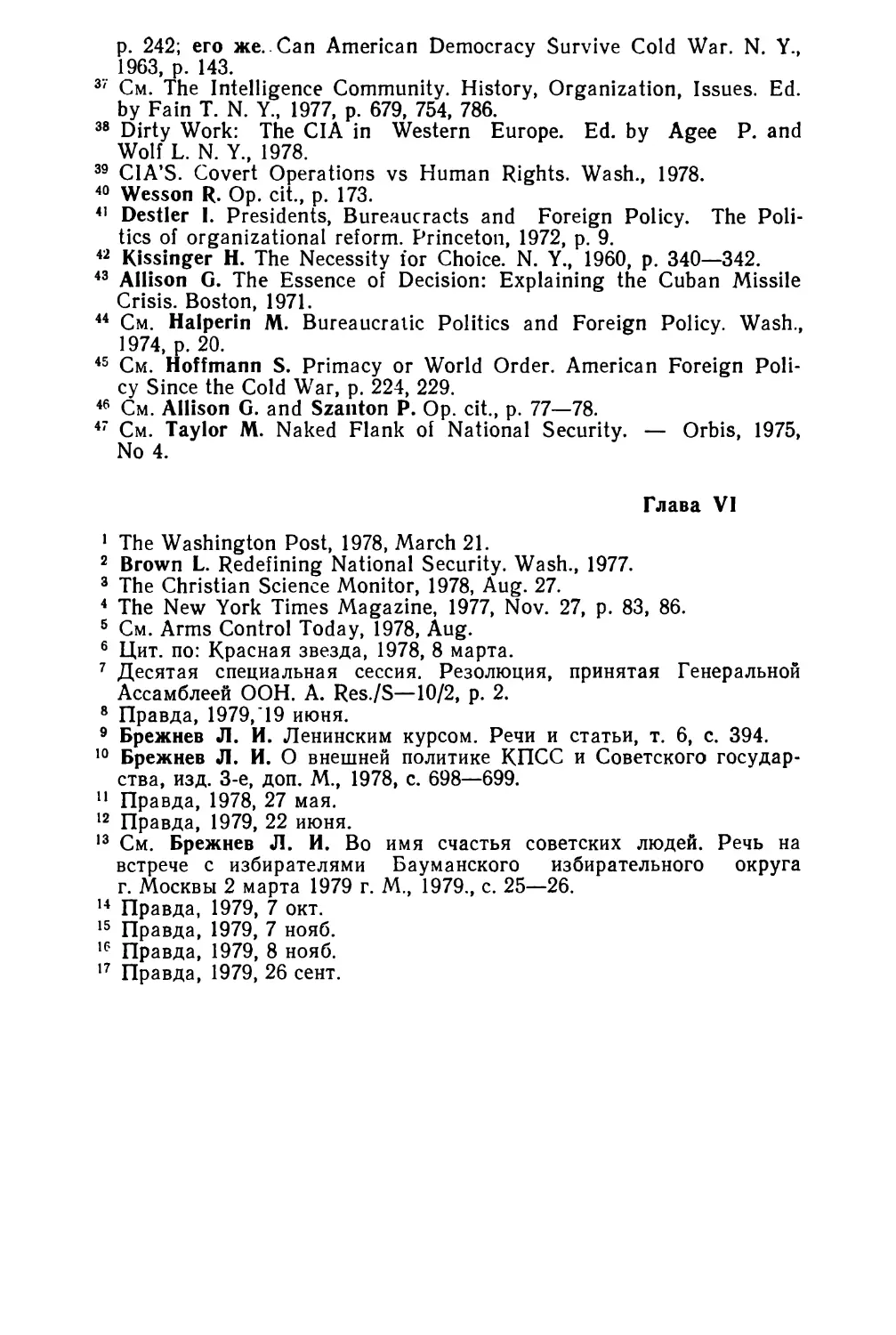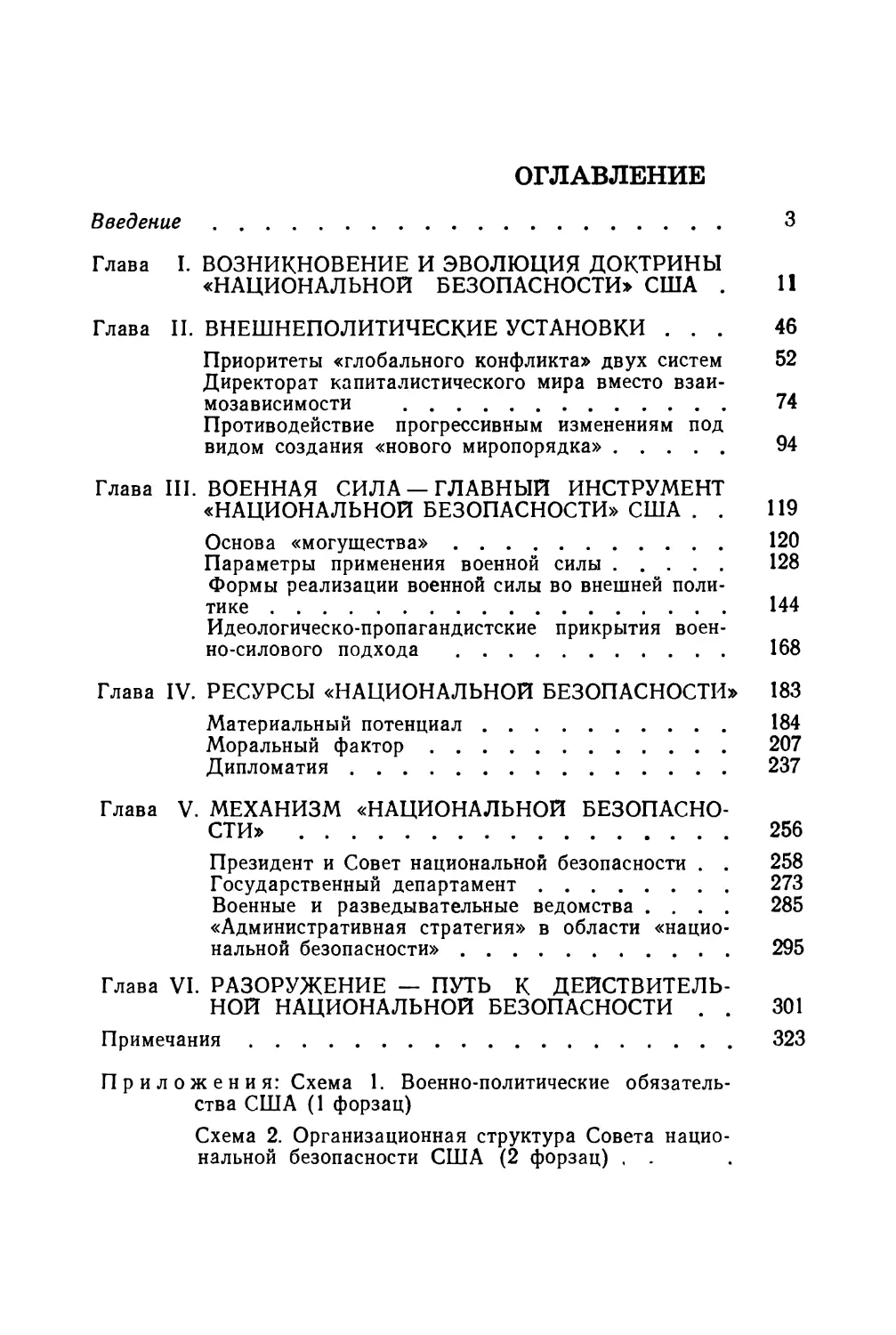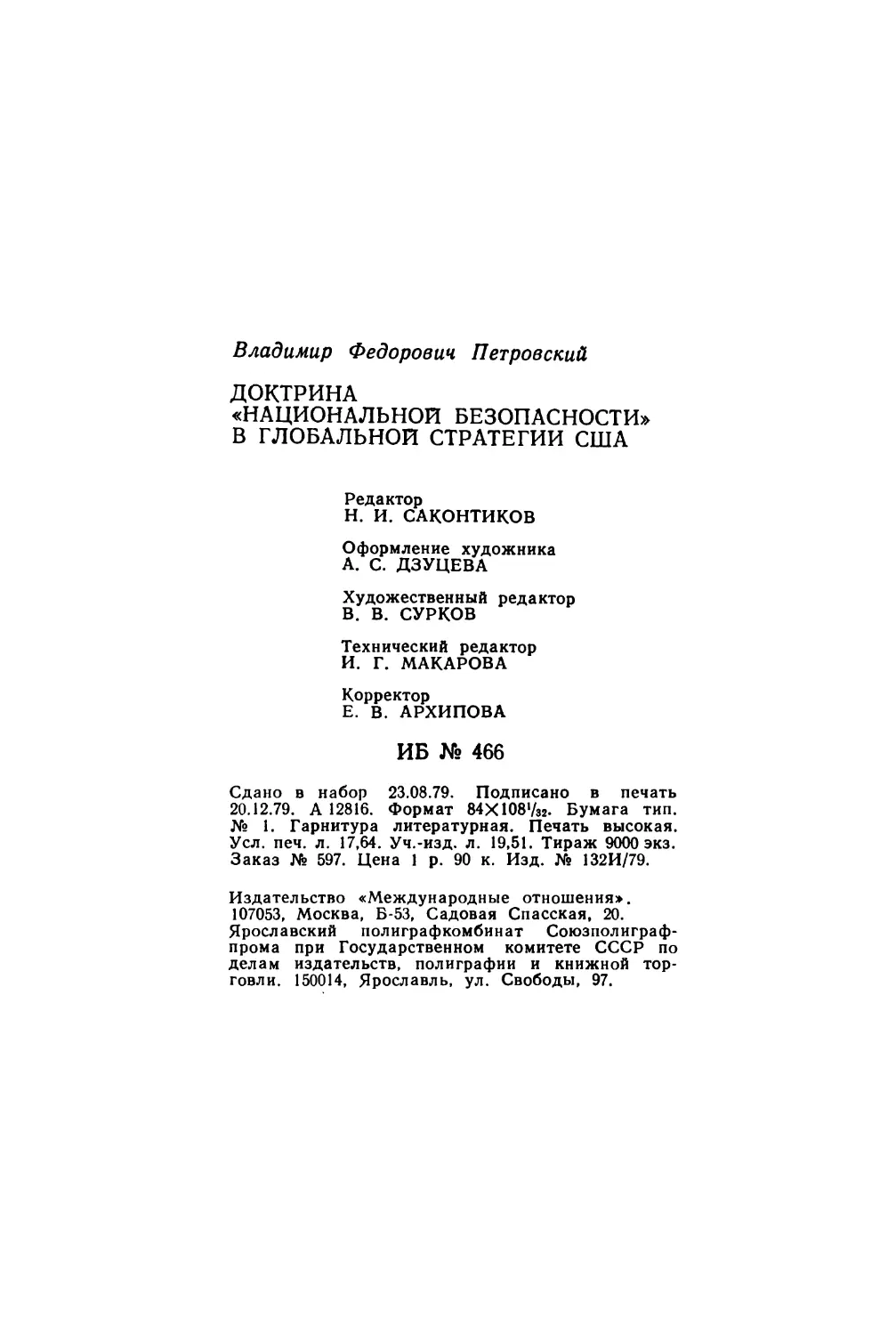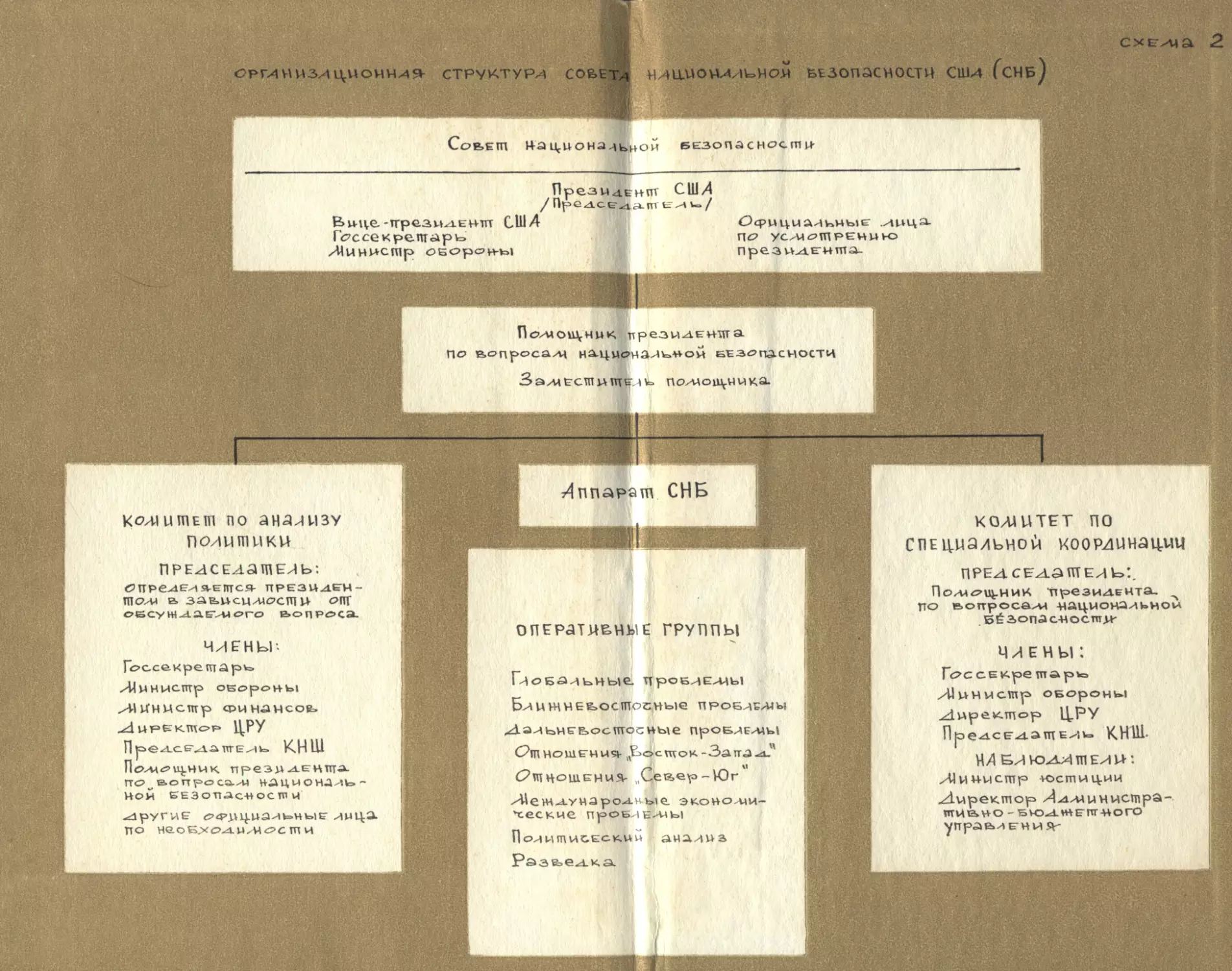Автор: Петровский В.Ф.
Теги: международные отношения внешняя политика дипломатия политика сша история сша внешняя политика сша сша
Год: 1980
Текст
В. Ф. ПЕТРОВСКИЙ
I
ДОКТРИНА
«НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
в
ГЛОБАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ
США
В. Ф. ПЕТРОВСКИЙ
ДОКТРИНА
«НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
в
ГЛОБАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ
США
МОСКВА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
1980
ББК 66.4(08)
ПЗО
Петровский В. Ф.
ПЗО Доктрина «национальной безопасности» в гло¬
бальной стратегии США. — М.: Междунар. отно¬
шения, 1980. — 336 с.
В книге раскрывается сущность доктрины «национальной безопас¬
ности» как идейно-теоретической платформы монополистической вер¬
хушки США, прослеживается приспособление этой доктрины к новой
стратегической ситуации в мире, вызванной ростом могущества сил
мира, социализма и прогресса. Рассматриваются целевые установки
«национальной безопасности» США и средства их достижения (мате¬
риальный потенциал, идеология, дипломатия), рассказывается о борьбе
в политических кругах США вокруг вопросов разрядки, и прежде всего
в военной сфере.
Предназначается для специалистов-международников, преподава¬
телей вузов.
ц 11105—015
003(01)—80
6—80 0804000000
ББК 66.4(08)
327.21
© «Международные отношения», 1980.
ВВЕДЕНИЕ
Определяющей чертой нынешнего положения в мире
является поворот к разрядке международной напряжен¬
ности.
Оценивая разрядку с позиций конца 70-х годов, нель¬
зя не видеть, что разрядка уже прошла определенную
проверку практикой и тем самым подтвердила, что она
имеет глубокие корни в самой действительности, что в
основе ее лежат не конъюнктурные факторы, а подлин¬
ная заинтересованность в сотрудничестве государств с
различным общественным строем. Главная из областей
такой заинтересованности — уменьшение, а в конечном
счете и устранение угрозы термоядерной катастрофы. Ре¬
шение этой задачи требует непрекращающихся совмест¬
ных усилий всех стран в целях оздоровления междуна¬
родной обстановки, ограничения гонки вооружений, лик?
видации очагов напряженности. Другой областью обо¬
юдной заинтересованности является развитие широкого
взаимовыгодного сотрудничества в экономике, науке и
технике.
Очевидным является и то, что разрядка уже привела
к определенной позитивной перестройке всей системы
международных отношений на началах мирного сосуще¬
ствования. В целом не только улучшился мировой поли¬
тический климат, но и произошел поворот в характере
отношений между государствами с различным общест¬
венным строем — от «холодной войны» и конфронтации
к переговорам по широкому диапазону представляющих
взаимный интерес вопросов. Общность интересов различ¬
ных государств по ряду важных проблем и направлений
мировой политики получила солидную договорно-право-
вую основу. В практику межгосударственных отношений
все шире внедряются политические консультации, долго¬
3
срочные программы экономического и научно-техничес-
кого сотрудничества. Особенно ощутимы результаты раз¬
рядки в Европе, где в годы мировых войн проходили ос¬
новные рубежи кровавых столкновений, а период «холод¬
ной войны» отличался высокой степенью напряженности.
Важнейший итог происшедших перемен состоит в том,
что отодвинута опасность ракетно-ядерной войны.
Порожденная объективными потребностями мирового
развития, разрядка стала в то же время возможной и в
силу субъективных факторов. Путь к разрядке буквально
«пробила» целеустремленная миролюбивая политика Со¬
ветского Союза. В сформулированных на высших фору¬
мах КПСС — XXIV и XXV съездах — программах мира
были намечены конкретные пути и средства использова¬
ния объективных возможностей для перестройки между¬
народных отношений. Определенную роль сыграл и по¬
ворот к реализму политических руководителей Запада.
Продвижение по пути разрядки дается, однако, нелег¬
ко. Преобразованию международных отношений на на¬
чалах мирного сосуществования препятствуют значитель¬
ные и влиятельные, хотя и разношерстные, силы — от за¬
правил НАТО до маоистов. Их усилия направлены на то,
чтобы не допустить дальнейшего смягчения международ¬
ной напряженности, улучшения отношений капиталисти¬
ческих стран с Советским Союзом. Важное место среди
этих сил принадлежит наиболее реакционным кругам им¬
периалистических государств, и прежде всего Соединен¬
ных Штатов, главного гаранта и охранителя мировой ка¬
питалистической системы. Гигантское переплетение раз¬
личных интересов, связанных с сохранением во имя удер¬
жания позиций империализма высокого накала между¬
народной напряженности, породило военно-промышлен¬
ный комплекс, объединяющий группы монополий, кото¬
рые всецело зависят от военных заказов, милитарист¬
скую верхушку и определенную часть политиков, в част¬
ности, в конгрессе США. Его рупоры — различного рода
комитеты и ассоциации — заняты тем, что всячески наг¬
нетают милитаристский угар, обостряют международную
обстановку. Военно-промышленный комплекс — это важ¬
нейший, постоянно действующий фактор, который сти¬
мулирует воинственно-агрессивную тенденцию в полити¬
ке капиталистических государств и упорно «работает»
против разрядки.
Но есть и другое сопутствующее обстоятельство, ко¬
торое также создает серьезные препятствия на пути пе¬
4
рестройки отношений между капиталистическими и со¬
циалистическими странами. За время своего существова¬
ния, и особенно за годы «холодной войны», американский
милитаризм создал по своему образу и подобию факти¬
ческого союзника в виде большой группы философов и со¬
циологов, обосновывавших своими воззрениями необходи¬
мость обеспечения «позиции силы» для проведения внеш¬
ней политики. В научной литературе США сложился оп¬
ределенный образ мышления, ставящий силу превыше
здравого смысла и тормозящий пересмотр установок, оп¬
рокинутых изменившимся соотношением сил в мире.
Особый тип политической философии такого рода
представляет собой доктрина «национальной безопаснос¬
ти», играющая все возрастающую роль в глобальной
стратегии США.
Американские авторы, правда, предпочитают скорее
говорить не о доктрине, а о политике «национальной без¬
опасности». Однако если исходить из установившихся в
американской практике понятий доктрины как официаль¬
но сформулированных универсальных руководящих прин¬
ципов, то нельзя не видеть, что идеи «национальной без¬
опасности», официально изложенные в законе о нацио¬
нальной безопасности 1947 года, получали дополнитель¬
ное доктринальное оформление в заявлениях практичес¬
ки всех американских администраций, начиная с провоз¬
гласившей их демократической администрации Г. Трумэ¬
на. Представители администрации Дж. Картера хотя и
высказывают сомнения по поводу целесообразности док¬
тринального подхода во внешней политике, на самом де¬
ле при обосновании глобалистских притязаний США
столь часто апеллируют на различных уровнях к сообра¬
жениям «национальной безопасности», что эти соображе¬
ния звучат не иначе, как рабочая доктрина нынешней
администрации.
В то же время необходимо иметь в виду, что доктрина
«национальной безопасности» отличается от тех распро¬
страненных во внешнеполитической практике доктрин,
которые устанавливают принципы поведения (действий)
США в международных делах (доктрины изоляциониз¬
ма, Монро, «открытых дверей», «свободы морей», Трумэ¬
на, Никсона). Доктрина «национальной безопасности»
имеет дело с принципами иного рода, определяющими вы¬
бор средств и методов глобального обеспечения интере¬
сов правящих кругов США в условиях мира и войны. По
вполне понятным классовым соображениям в американ¬
5
ских официальных документах и в политической литера¬
туре эти подлинные интересы и задачи не называются
своими именами, а облекаются в форму надклассовых
общенародных лозунгов. Таким образом, доктрина «на¬
циональной безопасности» рационализирует империалис¬
тическую в своей основе политику США во внешне при¬
емлемых терминах заботы о будто бы коренных интере¬
сах этой страны.
В силу своего назначения доктрина «национальной
безопасности» тесно соприкасается с военной доктриной,
содержащей принципы строительства и использования
вооруженных сил. В целом она выступает связующим зве¬
ном внешнеполитических и военных доктрин. Место и
роль доктрины «национальной безопасности» определя¬
ются тем, что она служит идейно-теоретической платфор¬
мой сложившейся в рамках американского государства
своеобразной системы «национальной безопасности», с
помощью которой планируются и принимаются важней¬
шие правительственные решения в области внешней по¬
литики и использования вооруженных сил.
Исследование проблем «национальной безопасности»
занимает в настоящее время большое место в различных
звеньях политико-академического комплекса.
Превращение проблематики «национальной безопас¬
ности» вскоре после окончания второй мировой войны в
самостоятельную академическую область исследований
было связано, во-первых, с дальнейшей милитаризацией
внешней политики США и появлением качественно ново¬
го — ракетно-ядерного — оружия, выдвинувшим на пер¬
вый план переосмысливание военной силы и возможнос¬
тей ее применения, и, во-вторых, с растущим осознанием
того, что в новых условиях военные проблемы не могут
рассматриваться изолированно, как бы в вакууме, они
должны увязываться с политико-экономическими сообра¬
жениями как внешнего, так и внутреннего характера.
Рост государственного механизма «национальной бе¬
зопасности» привел к усилению его связей с «академиче¬
ским сообществом», подчинению его интересам военного
бизнеса и политики правящего класса. Перед представи¬
телями академических кругов (некоторые из них уже ис¬
пользовались для этого в период второй мировой войны)
была поставлена задача представлять различным госу¬
дарственным органам исследования и работы по конкрет¬
ным аспектам «национальной безопасности». Ученые при¬
влекаются на регулярной основе к работе в правительст¬
6
ве, и многие из них становятся кадровыми чиновниками.
Одновременно складываются и обратные процессы, когда
служащие правительственных учреждений все чаще ухо¬
дят на научную работу. Большое значение имеет созда¬
ние специальных организаций — так называемых «фаб¬
рик мысли», подчиненных министерствам ВВС, армии,
ВМС и министерству обороны, для ведения исследова¬
тельской работы в области «национальной безопасности».
Одна из важнейших среди них — «РЭНД корпорейшн».
Обмен людьми и информацией привел к значительной
интенсификации усилий «академического сообщества» по
разработке тем такого направления.
Проблемы «национальной безопасности» составляют
главный стержень исследовательской деятельности шко¬
лы «стратегического анализа», которая занимается ком¬
плексной разработкой вопросов стратегии во внешней по¬
литике — долгосрочных дипломатических, экономичес¬
ких, военных и идеологических акций.
Большинство исследований по данной тематике рас¬
сматривает «национальную безопасность» сквозь призму
либо конфликта, определяющего политику страны, либо
взаимодействия государств 1. Исследования первой кате¬
гории обычно отражают ту точку зрения, что «нацио¬
нальная безопасность» достигается максимальным нара¬
щиванием государственной мощи в конфликтных ситуа¬
циях, иными словами, выработка политики «националь¬
ной безопасности» должна быть основана на той предпо¬
сылке, что государство может быть в безопасности только
в случае преобладания своей мощи над другими государ¬
ствами или группами государств. В противовес подобно¬
му взгляду исследователи второй группы делают упор не
столько на наращивание государственной мощи, сколько
на развитие форм и методов взаимодействия государств.
Такой подход предполагает, что политика «национальной
безопасности» должна руководствоваться тем, что безо¬
пасность государства может упрочиться только в том
случае, если укрепится надежность Есей системы между¬
народных отношений.
Работы, авторы которых исходят из того, что цель
«национальной безопасности» — наращивание могущест¬
ва, можно разделить по предмету исследования на три
вида: военные, экономические и политические.
Многие исследования по вопросам «национальной бе¬
зопасности» держат в фокусе своего внимания военную
проблематику, что является отражением твердо устано¬
7
вившихся в американской литературе представлений о
том, что «национальная безопасность» прежде всего свя¬
зана с решением военных вопросов. Несмотря на то что
исследования 60—первой половины 70-х годов значи¬
тельно расширили предмет изучения, выведя его за пре¬
делы чисто военных проблем, такие вопросы, как страте¬
гия, тактика, вооружения, планирование тылов, по-преж¬
нему находятся в центре внимания многих исследований.
Целый ряд работ касается вопросов ядерного оружия и
технологии его производства (Г. Киссинджер, Р. Макна¬
мара, Г. Кан, Дж. Кахан) 2, выработки оптимальной стра¬
тегии для будущих тотальных войн (Г. Роуэн)3, методов
«сдерживания» (Б. Броуди, А. Джордж и Р. Смоук) 4,
ограниченных войн (Р. Осгуд) 5 и т. п.
Начиная с 60-х годов авторы исследований по вопро¬
сам «национальной безопасности» заметно повысили ин¬
терес к материальному потенциалу государства. Были
сделаны попытки определить и оценить все элементы, со¬
ставляющие «национальный экономический потенциал,
который необходим для ведения войны», создать эконо¬
мический критерий для выбора альтернативных систем
вооружения (К. Кнорр, Дж. Шлесинджер) в. Характер¬
но, что указанные подходы нашли практическое примене¬
ние в министерстве обороны, где стратегические прог¬
раммы часто рассматриваются в подобном плане и где
экономисты занимают посты, позволяющие принимать
важные решения. В более широком смысле и представи¬
тели академических кругов, и работающие в правительст¬
ве экономисты как в США, так и за их пределами уделя¬
ют много внимания проблеме распределения националь¬
ных ресурсов и выработке критериев для удовлетворения
конкурирующих требований военного и гражданского
секторов экономики.
Одним из ведущих направлений исследований в обла¬
сти «национальной безопасности» является анализ про¬
цесса принятия решений, соответствующих складываю¬
щейся обстановке. Здесь создан ряд работ о приоритете
военно-стратегических интересов перед политическими в
процессе выработки политического курса, о роли прави¬
тельства и военно-промышленного комплекса в принятии
решений по «национальной безопасности» (С. Хантинг¬
тон, А. Ярмолинский, М. Гальперин) 1.
Исследования, в которых прямо или косвенно выдви¬
гается идея зависимости «национальной безопасности»
от упрочения взаимодействия государств, немногочислен¬
8
ны. Весьма характерно, что такое взаимодействие ограни¬
чивается прежде всего рамками капиталистической систе¬
мы, а на передний план в этой связи выдвигаются вопро¬
сы интеграции и упрочения межсоюзнических связей.
Среди областей, где взаимодействие государств считает¬
ся желательным и возможным, значительное место в ис¬
следованиях отводится контролю над вооружениями в
его официальной концепции.
Изучение проблем «национальной безопасности» со¬
провождается в американской литературе широким при¬
менением новейших методов социальных наук, таких как
теория игр, теория имитации, теория информации, анализ
вводимых и полученных данных, системный анализ. Бо¬
лее того, при разборе проблем «национальной безопас¬
ности» часто применяются методы, заимствованные из
психологии, социологии и антропологии.
Для американских авторов, занимающихся изучением
проблем «национальной безопасности», характерна абсо¬
лютизация исследуемого ими предмета. Они считают, что
концентрация внимания прежде всего на «национальной
безопасности», а не на международных отношениях и
внешней политике, открывает большие возможности для
систематизации растущей массы эмпирических данных,
чем традиционные подходы. Отмечая, что идея «нацио¬
нальной безопасности» фактически возникла в результате
неудовлетворенности концепцией «национальных интере¬
сов», они видят целый ряд преимуществ изучения между¬
народных отношений и внешней политики под углом зре¬
ния «национальной безопасности». Такой подход, по мне¬
нию американских исследователей, обеспечивает удоб¬
ную систему сравнений, которая открывает возможность
сопоставлять внешне несравнимые события и способству¬
ет систематизации большого количества разрозненных
сравнительных данных, полученных с помощью традици¬
онного анализа внешней политики. Ориентация на «на¬
циональную безопасность», подчеркивают американские
авторы, прибавляет новое измерение теории «конфликт¬
ных ситуаций» в традиционной внешней политике, от¬
крывает возможность для комплексного анализа общих
международных проблем. И наконец, анализ, осущест¬
вляемый с точки зрения «национальной безопасности»,
предполагает установление взаимосвязи между внутри-
и внешнеполитической деятельностью государств, исхо¬
дит из того, что поведение государства на мировой арене
может быть понято только в контексте проводимой им
9
политики «национальной безопасности». Тем самым та¬
кой анализ позволяет рассматривать внешнюю и внутрен¬
нюю политику в единстве, как инструмент защиты одних
и тех же ценностей и в конечном счете поддержания угод¬
ных правящим классам Запада национальных и между¬
народных систем.
В огромном потоке литературы по проблемам «нацио¬
нальной безопасности» в последнее время начинают по¬
являться и критические нотки. Среди представителей так
называемой «неоревизионистской» школы ныне широко
бытует точка зрения видного американского политолога
Г. Ласвелла, что с созданием системы «национальной
безопасности» появилось «государство-гарнизон», «в ко¬
тором политика оказывается в ведении специалистов по
насилию» 8.
Широкое использование в практической политике по¬
стулатов доктрины «национальной безопасности», значи¬
тельный объем преимущественно апологетической лите¬
ратуры в США на этот счет делают настоятельно необхо¬
димым критический анализ этой доктрины, выявление за
внешним концептуальным плюрализмом ее подлинного
назначения — силового подхода к международным делам,
определение реалистических путей решения в современ¬
ную эпоху такой действительно важной проблемы, как
национальная безопасность.
Глава
i
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И ЭВОЛЮЦИЯ
ДОКТРИНЫ
«НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» США
Опора на военную силу как важнейшее средство вне¬
шней политики является неизменной составной частью
как доктринальных установок, так и практических дейст¬
вий США в международных делах. Со времен «отцов-ос-
нователей» американской республики военная сила счи¬
тается основным и конечным средством урегулирования
спорных внешнеполитических проблем, «арбитром в по¬
следней инстанции».
Различные вариации на тему об обеспечении «позиции
силы» составляют лейтмотивы выступлений всех полити¬
ческих деятелей США, принадлежащих как к республи¬
канской, так и демократической партиям *.
«Военная сила,— подчеркивает в своем последнем ис¬
следовании видный американский политолог Р. Уэссон,—
важнейшая программа правительства. Внешняя полити¬
ка традиционно имеет дело главным образом с безопас¬
ностью, способностью защитить независимость и жизнен¬
ные интересы в основном с помощью силы... Сила, воз¬
можность ее использования или угроза силой остается
* Единственное различие, которое усматривается в подходе демо¬
кратов и республиканцев к военной силе, заключается в том, что
демократы традиционно поддерживают сухопутные войска, в то
время как расположением республиканцев пользуются военно-воз¬
душные силы и военно-морской флот. В американской литературе
это объясняется связью военно-промышленных корпораций, обслужи¬
вающих соответствующие виды вооруженных сил, с руководством
партий (см. The Nations, 1978, Febr. 18).
И
весьма жизнеспособным, хотя и антигуманным фактором
и представляет собой главное занятие тех, кто делает
внешнюю политику» 1.
Силовая ориентация во внешней политике США име¬
ет и соответствующую философско-теоретическую базу.
Согласно весьма влиятельной в американской буржуаз¬
ной науке международных отношений школе так называ¬
емого «политического реализма», основу международной
политики составляет борьба государств за утверждение
своего силового превосходства в мире. Соответственно
ориентиром США в международной политике, как указы¬
вает глава этой школы Г. Моргентау, должно служить
«понятие интереса, определенного в терминах силы»2.
«Сила, применяемая с определенной целью во внешней
политике и во внешних сношениях, — разъясняют учение
4 Г. Моргентау его последователи Н. Паделфорд и Дж.
Линкольн,— составляет существо мировой политики» 3.
Подобная оценка значения и роли силового фактора в
международных отношениях разделяется фактически и
другими американскими авторами, относящимися и к
школе «стратегического анализа», и к различного рода
модернистским течениям, с той лишь разницей, что в ря¬
де случаев они расходятся во мнениях, но не по существу
самого вопроса, а относительно того, насколько понятие
силы наполнено военным содержанием. При этом аме¬
риканские авторы, как правило, отождествляют «военную
силу» или «мощь» с собственно военным потенциалом,
прежде всего с вооруженными силами, отводя другим
компонентам могущества второстепенную, подсобную
роль.
Культ силы, и в первую очередь военной, во внешней
политике США вполне закономерен. Он определяется со¬
циально-политической классовой природой капиталисти¬
ческих государств. По определению Ф. Энгельса, «наси¬
лие... охраняет эксплуатацию» 4. Разбирая в свое время
лозунг Соединенных Штатов Европы и показывая, что
реализация его на практике означала бы «соглашение о
дележе колоний», В. И. Ленин указывал, что «при капи¬
тализме невозможна иная основа, иной принцип дележа,
кроме силы» 5. Силовой подход, подчеркивал В. И. Ле¬
нин, вытекает из самой сущности капитализма.
В условиях необоримых социальных сдвигов на ми¬
ровой арене, начавшихся с Великой Октябрьской социа¬
листической революции, правящие круги идущего к сво¬
ей гибели буржуазного строя боятся мира без оружия, на
12
которое они все еще полагаются как на средство спасения
капитализма. На свои поражения в социальных битвах,
на потерю колониальных владений, на отход от капита¬
лизма все новых стран, на успехи мирового социализма—
на все это агрессивные круги капиталистических стран
реагируют развертыванием военных приготовлений.
Вскрывая суть отстаиваемой ныне капиталистическим
Западом «позиции силы», Генеральный секретарь
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Сове¬
та СССР товарищ JI. И. Брежнев указывал: «Опираясь
на эту «позицию силы», империализм надеется удержать
ускользающую из его рук возможность командовать дру¬
гими странами и народами»6.
Развитие глобальной стратегии США после второй
мировой войны, нацеленной на навязывание миру урегу¬
лирования международных проблем по американским
рецептам, требовало доктринального оформления органи¬
чески присущей американской внешней политике ставки
на силу. Место и роль военной мощи во внешней полити¬
ке США были закреплены в доктрине «национальной бе¬
зопасности», официально принятой в 1947 году*, как раз
в тот период, когда правящие круги США после самой
опустошительной в истории человечества войны развора¬
чивали «холодную войну» против СССР и других стран,
вставших на путь строительства социализма. При этом
они стремились внести во внешнеполитическую практи¬
ку в условиях мира многие из тех форм, методов и
средств, которые использовались в условиях войны про¬
тив германского фашизма и японского милитаризма.
Взятая на вооружение государственным аппаратом
США, эта доктрина представляет качественно новое по¬
нимание значения военно-силового фактора в обеспече¬
нии интересов господствуютцего класса США внутри
страны и на мировой арене. Она не просто устанавливает
прямую взаимосвязь военной мощи с внутренней и внеш¬
ней политикой, но и исходит при этом из примата воен¬
ных интересов над политическими.
В соответствии с законом 1947 года суть доктрины «на¬
циональной безопасности» определяется как интеграция
* Важную роль в подготовке доктрины сыграла созданная в
1944 году и существующая поныне Ассоциация национальной без¬
опасности, которая объединила представителей промышленных фирм,
получавших значительные военные контракты и добивавшихся того,
чтобы американский бизнес и после войны оставался близким к во¬
енным ведомствам.
13
вопросов внутренней, внешней и военной политики, име¬
ющая целью позволить военным ведомствам и другим
министерствам и учреждениям правительства более эф¬
фективно сотрудничать в делах, связанных с «националь¬
ной безопасностью».
Формально в этом положении об интегрированной по¬
литике «национальной безопасности» внутренняя, внеш¬
няя и военная политика выступает как бы на равных на¬
чалах. В действительности же речь идет о подчинении лю¬
бых политических соображений интересам обеспечения
«позиции силы». Это вытекает, в частности, из того допол¬
нительного положения закона 1947 года, согласно кото¬
рому на специально созданный механизм формирования
и увязывания внешней, внутренней и военной политики—
Совет национальной безопасности — возлагается как осо¬
бо важное поручение «взвешивать и оценивать цели, обя¬
зательства и степень риска Соединенных Штатов в связи
с нашей нынешней и потенциальной военной силой, имея
в виду представление в связи с этим рекомендаций для
президента...» 7. Тем самым, законодательным путем за¬
креплялась доктрина, в соответствии с которой военная
сила возводилась в основной компонент «национальной
безопасности».
1 Этого как раз и добивались авторы и инициаторы при¬
нятого закона. Главным из них был Джеймс Форрестол—
морской министр в правительстве Рузвельта, ставший за¬
тем первым министром обороны США. Как следует из
мемуарной литературы, в частности из воспоминаний аме¬
риканского дипломата и ученого Роджера Хилсмена, ос¬
новное стремление Форрестола заключалось не в том, что¬
бы просто создать канал, обеспечивающий влияние на
внешнюю политику военных ведомств, а подчинить внеш¬
нюю политику военным соображениям 8.
В общем в доктрине «национальной безопасности»
военная сила выступает как средство, при этом весьма
существенное, внешней политики. В то же время вопрос о
взаимосвязи между внешней политикой и военной силой
как между целью и средством ставится в нарочито об¬
щей, туманной форме, которая открывает возможности
для произвольного толкования такой взаимосвязи и об¬
ходит рассмотрение крайне важной стороны этой взаимо¬
связи— ее социально-политического классового содер¬
жания. Как отмечается в советской литературе 9, смысл
применению силы в классовом обществе придается поли¬
тической целью, а не самим фактом ее существования.
14
Во взаимоотношениях между внешней политикой госу¬
дарства и его военной силой первая выступает в качестве
главной, определяющей, а вторая — подчиненной. Мас¬
штабы и в основном формы применения силы определя¬
ются внешнеполитической целью.
Доктрина «национальной безопасности» предназначе¬
на для того, чтобы затушевать подлинную сущность и
направленность интегрированных мероприятий полити¬
ческого, экономического, идеологического и прежде всего
военного характера, имеющих целью защиту существую¬
щего в США государственного и общественного строя.
В употребляемом в доктрине термине «национальная бе¬
зопасность» * не только отождествляются несовместимые
политические понятия «нация» и «государство», но и об¬
ходится вопрос о социальном значении этого термина.
Путем акцентирования в этом термине на слове «нацио¬
нальная» защищаемые буржуазным государством инте¬
ресы правящей верхушки господствующего класса выда¬
ются за общенациональные интересы.
К тому же в идеологически-пропагандистском отноше¬
нии эта доктрина, спекулируя на общедоступном понятии
«безопасность», в то же время противопоставляет нацио¬
нальную безопасность и безопасность на узко ограничен¬
ной блоковой основе безопасности коллективной, идея ко¬
торой в определенных рамках получила широкое распро¬
странение среди общественности благодаря энергичным,
настойчивым усилиям советской дипломатии по созданию
коллективной безопасности в Европе накануне второй ми¬
ровой войны.
Применительно к внешней политике доктрина «нацио¬
нальной безопасности» отличается ярко выраженным
экспансионистским характером. Эта доктрина, как отме¬
чает ее исследователь проф. Д. Ерджин, «постулирует
взаимосвязь столь многих различных политических, эко¬
номических и военных факторов, что развитие событии
на всем земном шаре выглядит как автоматически имею¬
щее непосредственное отношение к коренным интересам
США. Доктрина характеризуется экспансионизмом, вы¬
несением субъективно определяемых границ безопаснос¬
ти во все более и более отдаленные районы, тенденцией
* Термин «национальная безопасность», впервые введенный в
американский политический лексикон президентом Т. Рузвельтом в
1904 году, употреблялся до 1947 года в смысле .«оборюны», а не
интеграции внешней, внутренней и военной политики.
16
разрастаться в географическом и проблемном отношени¬
ях» 10.
Империалистические притязания, составляющие суть
доктрины «национальной безопасности», предопределя¬
ют и назначение основных компонентов «национальной
безопасности», в том числе военной мощи.
Главную внешнюю угрозу на пути реализации экспан¬
сионистских устремлений доктрина «национальной безо¬
пасности» усматривает в реальном социализме, прежде
всего в Советском Союзе как оплоте основных револю¬
ционных сил современности. Соответственно главный
фронт военного противостояния определяется по коорди¬
натам СССР — США, а запугивание «советской военной
угрозой» становится составной частью интегрированной
политики «национальной безопасности».
Принятие доктрины «национальной безопасности»
предоставило правящим кругам США удобное идеологи-
чески-пропагандистское прикрытие для осуществления
реакционного курса в международных и внутренних де¬
лах.
«Политические деятели,— пишет видный американ¬
ский публицист Ф. Манкивиц,— открыли для себя вели¬
кую истину, заключающуюся в том, что когда речь идет
об «обороне» или «национальной безопасности» или во
всяком случае когда есть возможность создать впечатле¬
ние, что имеется в виду именно это, то можно преодолеть
любые рациональные соображения» п.
Под предлогом обеспечения «национальной безопас¬
ности» Соединенные Штаты неоднократно вмешивались
в дела других государств и народов, осуществляли под¬
рывную деятельность и организовывали заговоры, прово¬
кации и диверсии в отношении неугодных им прави¬
тельств и руководства национально-освободительных
движений, наращивали гонку вооружений, создавали во¬
енные базы за пределами своих территорий, сколачивали
агрессивные военные блоки, тормозили развитие взаимо¬
выгодных торгово-экономических и научно-технических
связей с Советским Союзом и другими социалистически¬
ми государствами.
Обеспечение «национальной безопасности» часто ис¬
пользовалось и как предлог для проведения реакционных
мероприятий внутри самих Соединенных Штатов с целью
защиты интересов монополистического капитала. Острие
этих действий направлялось на борьбу против революци¬
онного движения, прогрессивных профсоюзов и других
16
массовых общественных организаций, и прежде всего про¬
тив движения за мир, за демократические свободы, за
экономические и социальные права трудящихся.
Если доктрина «национальной безопасности» устанав¬
ливает особую роль военной силы в качестве постоянно
действующей величины американской внешней политики,
то конкретные параметры использования силы меняются
в зависимости от оценки американскими практиками и
теоретиками объективных и субъективных факторов в
конкретной международной политической обстановке.
В соответствии с доктриной «национальной безопас¬
ности» неотъемлемой частью процесса принятия прави¬
тельственных решений стало периодическое рассмотрение
внешнеполитических целей США в связи с оценкой ба¬
ланса военных сил в мире.
Первые документы такого рода — директивы Совета
национальной безопасности за номерами СНБ 20/1 и
СНБ 20/4 были утверждены президентом Трумэном в
1948 году. Они были построены на сугубо антикоммунис¬
тических посылках наиболее воинствующих творцов пос¬
левоенной внешней политики США. «Советская система»
и «значительная мощь» СССР объявлялись в директиве
СНБ 20/4 «серьезнейшей угрозой для национальной бе¬
зопасности США на обозримое время», а в качестве важ¬
нейшей цели американской внешней политики выдвига¬
лось «ограничение» мощи и влияния СССР 12. Это был
курс, отвергавший мирное сосуществование двух систем,
курс на «холодную войну» и конфронтацию между ними.
В другом принятом несколько позднее документе —
СНБ-40, озаглавленном «Американские цели в отношении
СССР», прямо утверждалось, что «мирное сосуществова¬
ние и взаимное сотрудничество являются иллюзией и по¬
тому невозможны».
Предпринимаемые в условиях атомной монополии
США оценки соотношения сил и определение внешнепо¬
литических целей страдали явной близорукостью. Они
базировались, в частности, на ложной предпосылке, что
Советский Союз, ослабленный войной, не сможет ранее
чем через 15—20 лет обладать атомной мощью. Что же
касается возможности создания Советским Союзом
средств доставки атомных бомб, то какой-либо срок вооб¬
ще не назывался.
Непосредственным продолжением указанных доку¬
ментов явилась хранившаяся длительное время в стро¬
гом секрете директива СНБ-68, которая была подготов¬
17
лена по заданию президента Трумэна государственным
департаментом и министерством обороны в феврале
1950 года, то есть почти за полгода до начала войны в
Корее. Авторы доклада, на основе которого была принята
эта директива, доказывали, что «угроза» национальной
безопасности США остается такой же, как она была
сформулирована в 1948 году, только теперь «она стала
более непосредственной, чем это ранее определялось».
На этом основании власти призывались к «значительно
более быстрому и концентрированному наращиванию
действительной силы как США, так и других стран сво¬
бодного мира». Авторы доклада утверждали, что «проб¬
лема заключается в создании таких политических и эко¬
номических условий в свободном мире, опирающихся на
силу, достаточную, чтобы воспрепятствовать советскому
нападению, условий, с которыми Кремль должен будет
считаться, а поэтому он постепенно отступит и в конеч¬
ном счете резко изменит свою политику»13. В таком не¬
сколько усложненном виде СНБ сформулировал полити¬
ку «с позиции превосходящей силы», которая на протя¬
жении последующих лет являлась стержнем американ¬
ского подхода к международным делам, движущей си¬
лой все возраставшей гонки вооружений.
«С позицией превосходящей силы» связывалась дол¬
госрочная стратегия «сдерживания» — лицемерный си¬
ноним «холодной войны». «Без превосходящей совокуп¬
ной военной силы, находящейся в боеготовности и быст¬
ро мобилизуемой, политика сдерживания, которая фак¬
тически есть политика спланированного и постепенного
принуждения, будет не более чем блефом», — говори¬
лось в докладе о директиве СНБ-68.
Как явствует из недавно рассекреченных документов
Совета национальной безопасности, обсуждение этого
доклада в правительственных кругах США протекало в
обстановке определенных разногласий по вопросу о ха¬
рактере государственного могущества, об «угрозах», с
которыми сталкиваются США, и о путях их преодоления.
Особенно острые замечания этот доклад вызвал со сто¬
роны руководства Бюджетного бюро США. Его руково¬
дители не соглашались с приводимой в докладе оценкой
«советской военной угрозы», критиковали авторов за не¬
оправданный упор на военную силу и недооценку других
факторов международного развития. «Самая серьезная
ошибка доклада, — говорилось в замечаниях Бюджетно¬
го бюро, — заключается в том, что он совершенно недо¬
18
оценивает роли экономических и социальных факторов,
лежащих в основе „глубинного конфликта”»14.
Тем не менее точка зрения госдепартамента и воен¬
ных ведомств возобладала. Принятая 14 апреля 1950 г.
директива СНБ-68 легла в основу целой серии последую¬
щих документов, в которых перед отдельными минис¬
терствами и ведомствами США ставились конкретные
задачи по наращиванию военных сил, развертыванию се¬
ти военных баз и сколачиванию агрессивных военных
группировок.
Директива СНБ-68, по существу, выдвигала в качест¬
ве глобальной цели установление американской экономи¬
ческой, политической и военной гегемонии. Программа-
минимум включала отбрасывание Советского Союза в
пределы довоенных границ. Наиболее рьяные апологеты
этой политики, как подчеркивает американский исследо¬
ватель Н. Грэбнер, «требовали полного уничтожения
коммунистической системы»15.
Движимые стремлением получить односторонние по¬
литические и военные преимущества в отношениях с
СССР и другими социалистическими государствами,
стремясь любой ценой сохранить свои позиции на миро¬
вой арене и измотать социализм экономически, США
выступили инициатором развития гонки вооружений.
Как признает известный американский физик Г. Иорк,
«за последние тридцать лет мы (США. — В. П.) неодно¬
кратно предпринимали односторонние действия, кото¬
рые без необходимости ускоряли гонку вооружений»16.
Соединенные Штаты, подчеркивает американский исто¬
рик и политолог Р. Барнет, «всегда задавали темп гонке
вооружений»17.
В вопросах разоружения американская позиция в
первые послевоенные годы строилась на унаследованной
от Лиги наций концепции — «сначала безопасность, а за¬
тем разоружение». «Безопасность», трактуемая в широ¬
ком смысле, означала обеспечение таких политических
условий, объем и характер которых указывал на стрем¬
ление отсрочить саму возможность обсуждения пробле¬
мы сокращения вооружений и вооруженных сил.
Выдвинутая американской дипломатией в те же годы
концепция «контроля за вооружениями» в первоначаль¬
ном виде даже не ставила своей задачей закамуфлиро¬
вать наращивание гонки вооружений и довольно откро¬
венно подчеркивала не ограничение, а лишь регулиро¬
вание процесса вооружений. Контролю, как таковому,
19
в форме «выявления и проверки» приписывались осо¬
бые функции и отдавался приоритет перед мероприятия¬
ми, относящимися к разоружению. Американские поли¬
тики и дипломаты в своих планах сбрасывали со счетов
возможность достижения каких-либо взаимоприемлемых
соглашений с Советским Союзом, направленных на обуз¬
дание гонки вооружений. «Любое соглашение при сло¬
жившемся положении невыгодно для США, ибо это озна¬
чает закрепление существующих негативных для Запада
тенденций», — говорилось в упоминавшемся выше осно¬
вополагающем документе СНБ-68.
Построенные без учета реального соотношения сил
умозрительные постулаты «национальной безопасности»
не выдержали соприкосновения с практикой. С измене¬
нием стратегической ситуации в мире военно-силовое
обеспечение «национальной безопасности» вступило в
противоречие с возможностью использовать силу.
Доктрина «национальной безопасности» США со вре¬
мени ее провозглашения претерпела значительную эво¬
люцию, которая представляла собой сложный, проти¬
воречивый, зигзагообразно развивающийся процесс оп¬
ределения возможностей и условий использования воен¬
ной силы, поиска оптимальных путей приспособления ее
главного компонента — авиационно-атомного, а позд¬
нее — ракетно-ядерного стратегического оружия к прак¬
тическим нуждам «национальной безопасности».
Решающее воздействие на этот процесс оказывал не¬
уклонный рост могущества Советского государства, яв¬
ляющегося борцом против империалистической агрес¬
сии, оплотом мира и свободы народов. Большое мировое
значение имело то обстоятельство, что экономический и
научно-технический прогресс СССР позволил ему соз¬
дать несокрушимую современную военную мощь, обрести
благодаря героическим усилиям советских людей в труд¬
ные послевоенные годы атомное и термоядерное оружие,
развить ракетную технику, успехи которой были проде¬
монстрированы запуском первого искусственного спут¬
ника Земли. Все это свело на нет былую неуязвимость
территории Соединенных Штатов. Безвозвратно ушли в
прошлое такие времена, когда американские вооружен¬
ные силы имели возможность наносить удары Советско¬
му Союзу со своих баз на чужих территориях в Европе и
Азии, в то время как Советская Армия могла эффектив¬
но ударить только по союзникам США, а собственные
рубежи США оставались для нее труднодостижимыми.
20
Создание Советским Союзом атомной, а затем водо¬
родной бомбы коренным образом изменило стратегиче¬
скую ситуацию — привело к появлению «ядерного тупи¬
ка», выражавшегося сначала не столько в равенстве мо¬
щи, сколько в одинаковой для обеих сторон опасности
ее применения. Вынужденные считаться с неприемле¬
мостью ядерной войны, правящие круги США, однако,
еще долгое время противились отказу от сложившихся
в годы разгара «холодной войны» стереотипов «нацио¬
нальной безопасности». Шесть лет спустя после успешно¬
го испытания Советским Союзом атомной бомбы и три
года спустя после взрыва советской водородной бомбы в
сентябре 1955 года министр авиации США Куорлс в речи
в Филадельфии совершенно, недвусмысленно заявлял:
«Соединенные Штаты собираются основать свою безо¬
пасность не на отказе от мощи, а на сохранении подав¬
ляющей авиационно-атомной мощи, не на старомодном
разоружении, а на способности ответить ударом на удар;
не на запрещении или уничтожении атомных бомб, а на
сохранении их...»18.
Сопротивление каким-либо попыткам обосновать
обеспечение «национальной безопасности» через разору¬
жение было в середине 50-х годов еще весьма упорным.
Видный обозреватель У. Липпман писал тогда в «Нью-
Йорк геральд трибюн»: «Мы говорим русским, что теперь
мы не предлагаем разоружиться, мы предлагаем сохра¬
нить наши вооружения, включая атомные бомбы... Мы
говорим теперь не об отказе от вооружений и даже не о
сокращении вооружений, а о том, чтобы сделать невоз¬
можным его использование для неожиданного напа¬
дения»19.
Реалистически мыслящие представители правящей
элиты США, сколь тяжело это для них ни было, вынуж¬
дены были все же трезво оценить сложившуюся с появ¬
лением «ядерного тупика» стратегическую ситуацию.
Одной из первых реакций такого рода явилось опублико¬
вание в 1957 году книги профессора Гарвардского уни¬
верситета Г. Киссинджера «Ядерное оружие и внешняя
политика». «В какой бы степени мы ни превосходили
Советский Союз по количеству и качеству нового оружия
сейчас, — констатировал Г. Киссинджер, — не только он,
но и мы должны опасаться этого оружия»20. В этой свя¬
зи Г. Киссинджер выдвинул тезис о нецелесообразности
«искать безопасность в численном превосходстве или
даже в превосходстве в разрушительной силе оружия».
21
Признание несостоятельности ставки на абсолютное
военное превосходство сопровождалось и у Г. Киссинд¬
жера констатацией бессмысленности опоры на одну
только военную силу. «Судьба мамонта и динозавра, —
писал Г. Киссинджер, — служит нам яркой иллюстраци¬
ей и одновременно предостережением того, что грубая
сила не всегда может стать средством борьбы за даль¬
нейшее существование»21.
Эти два вывода, сделанных Г. Киссинджером, хотя
представляли собой важные перемены во взглядах, но
тем не менее сводились всего лишь к переоценке воз¬
можностей использовать в ракетно-ядерную эпоху силу
и отнюдь не подразумевали отказа от ставки на силу и,
более того, от ее наращивания, от продолжения гонки
вооружений. «Умение устранять опасность в атомный
век, — писал Г. Киссинджер, — будет зависеть от нашей
способности правильно сочетать объективные и субъек¬
тивные факторы, от выбора наиболее целесообразной и
не парализующей нашу волю системы вооружения, а
также от разработки такой стратегии, которая позволит
нам переложить ответственность за свои действия на
противоположную сторону»22. Таким образом, Г. Кис¬
синджер предлагал половинчатое решение проблем «на¬
циональной безопасности» с учетом реалий ракетно-
ядерной эпохи: выбор рациональных систем оружия и
одновременно поиск политических подходов. Сознавая
эти новые обстоятельства атомного века, Г. Киссинджер
предлагал учитывать пределы возможного и допустимо¬
го при применении военной силы, особенно в ее ракетно-
ядерном выражении. Такая постановка вопроса предоп¬
ределила и соответствующее направление в дальнейшей
эволюции доктрины «национальной безопасности».
В 1958 году под руководством Г. Киссинджера груп¬
па исследователей опубликовала доклад о военном ас¬
пекте международной безопасности, подготовленный по
заданию Фонда Рокфеллеров23. Авторы доклада, рас¬
сматривая военные аспекты международного положения
США, единодушно высказались за замену доктрины
«массированного удара», нацеливавшей лишь на тоталь¬
ную войну, доктриной «ограниченных войн», предусмат¬
ривающей не только ведение всеобщей войны, но и гиб¬
кую реакцию вооруженных сил на любой возможный
вызов.
На рубеже 60-х годов, в условиях продолжающегося
быстрого развития ракетно-ядерного оружия, понимание
22
неприемлемости ядерной войны нашло отражение в ря¬
де внешнеполитических установок правительства — пос¬
ледние годы при республиканской администрации
Д. Эйзенхауэра и особенно при пришедшей ей на смену
в 1960 году демократической администрации Дж. Кен¬
неди. Доктрина «массированного возмездия» оконча¬
тельно уступила место доктрине «гибкого реагирования»,
в которой была сделана попытка найти новую сферу при¬
менения военной силы в «ограниченных войнах», особен¬
но по «периферии» социалистического лагеря и в разви¬
вающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Определенные коррективы были внесены администра¬
цией Дж. Кеннеди и в ее подход к отношениям с Совет¬
ским Союзом. В отличие от предшествовавших прави¬
тельств, которые, по существу, сводили взаимоотноше¬
ния между СССР и США лишь к военному противостоя¬
нию, Дж. Кеннеди, не отрицая значения военных факто¬
ров и методов, считал в то же время необходимым ис¬
пользовать в более широких, но строго дозированных и
контролируемых размерах средства дипломатии и эконо¬
мических связей с целью выигрыша в рамках напряжен¬
ного, но мирного противоборства с социализмом.
Излагая свою основную политическую концепцию
«новых рубежей», Кеннеди отмечал, что его правитель¬
ство намерено как можно скорее выяснить, в каких об¬
ластях возможно сотрудничество с Советским Союзом, с
тем чтобы «использовать те стороны науки, которые по¬
рождают чудеса, но не страх»24.
Официально принятая концепция «контроля за во¬
оружениями» признавала необходимость мер по ограни¬
чению гонки вооружений.
Однако эти умеренно-реалистические взгляды произ¬
растали в окружении установок и догм «холодной вой*
ны», на почве прежней внешнеполитической доктрины,
ориентировавшей на «глобальную ответственность США
за охрану свободы во всем мире», на конфронтацию с Со¬
ветским Союзом и на обеспечение абсолютного военного
превосходства США. Кеннеди видел издержки «холодной
войны», но порывать с этой политикой не собирался.
Весьма показательно, что сам Кеннеди сознавал расплыв¬
чатость своих внешнеполитических позиций. В преди¬
словии к книге «Повернуть волну» он констатировал, чта,
несмотря на его решение повести государственный ко^
рабль США в реалистическом направлении, «наш курс в
темном и бушующем море не может быть всегда ясным»25.
23
Под воздействием уроков карибского кризиса в октяб¬
ре 1962 года правительство Кеннеди пришло к понимаг
нию того, что нельзя более откладывать практические
шаги по пути к нормализации и расширению отношений с
Советским Союзом. Благодаря активным усилиям совет¬
ской дипломатии в 1963—1964 годах впервые за весь по¬
слевоенный период удалось добиться некоторых сдвигов
в отношениях между СССР и США. Был заключен Мо¬
сковский договор о запрещении испытаний ядерного ору¬
жия в атмосфере, в космическом пространстве и под во¬
дой, достигнута договоренность о запрещении вывода на
космическую орбиту ядерного оружия, предприняты па¬
раллельные шаги в отношении некоторого сокращения
военных расходов.
Все это не могло не сказаться на дальнейшей эволю¬
ции доктрины «национальной безопасности».
В 1966—1967 годах Р. Макнамара уже в бытность
министром обороны в администрации Л. Джонсона вновь
поставил вопрос о путях обеспечения «национальной без¬
опасности», но в иной плоскости, чем это сделал Г. Кис¬
синджер в конце 50-х годов. Р. Макнамара раздвинул
рамки понятия «национальной безопасности», выведя его
за пределы чисто военного толкования. По его мнению, в
процессе наращивания военного, в первую очередь ракет¬
но-ядерного, могущества арсеналы государств достигают
такого рубежа, когда нельзя обеспечить большую безо¬
пасность одним только увеличением вооружений. Призна¬
вая, что главную угрозу для «национальной безопасности»
США представляет всеобщая термоядерная война, Мак¬
намара в то же время усматривал ее опасность не в «ком¬
мунистической агрессии», а в международной напряжен¬
ности и кризисных ситуациях, перспективе широкого рас¬
пространения ядерного оружия по всему миру,
нерешенности социально-политических и экономических
мировых проблем. Отсюда решающим фактором безопас¬
ности великой державы, утверждал Макнамара, является
характер ее международных отношений. Под этим углом
зрения он считал обязанностью США «защиту» разви¬
вающихся стран, обеспечение эффективного партнерства
со странами, которые могут и должны участвовать в «вы¬
полнении международных обязательств по поддержанию
мира» и в усилиях «для снижения риска конфликта с те¬
ми, у кого мог бы появиться соблазн поднять оружие про¬
тив нас». Двумя основными условиями «национальной
безопасности» Макнамара называет: первое — осознание
24
«полной бесплодности» неограниченной, то есть глобаль¬
ной, ракетно-ядерной войны и второе — «лучшее понима¬
ние того, что стабильность отношений среди богатых на¬
ций зависит от стабильности институтов бедных наций»,
и соответственно осознание, что «на доллар, истраченный
на военное снаряжение, будет приобретено меньше без¬
опасности, чем на доллар, израсходованный на помощь в
целях развития»26.
Точка зрения Р. Макнамары, по существу, предопре¬
делила еще одно направление в эволюции доктрины «на¬
циональной безопасности».
В целом взгляды Г. Киссинджера и Р. Макнамары, от¬
ражавшие стремление изыскать наиболее оптимальные
пути и средства борьбы с Советским Союзом, в то же вре¬
мя содержали реалистическое понимание того, что в ядер-
ный век не существует такого понятия, как «националь¬
ная безопасность», обеспеченная одним только военно¬
силовым преобладанием. Утверждению подобных взгля¬
дов во внешнеполитическом мышлении США препятство¬
вали, однако, живучесть и цепкость сложившихся в годы
«холодной войны» представлений о том, что естественным
делом является политика «с позиции превосходящей си¬
лы» и балансирования на грани войны.
*
Потребовались не только утрата Соединенными Шта¬
тами атомной монополии, но и уроки «бессилия силы»,
полученные во вьетнамской авантюре американского им¬
периализма, прежде чем в процессе «мучительной пере¬
оценки ценностей» политическое руководство США осо¬
знало недееспособность послевоенных установок на на¬
вязывание миру своих гегемонистских схем с позиции
одной только превосходящей силы, на «холодную войну»
и военную конфронтацию в отношениях с Советским Со¬
юзом и другими социалистическими странами.
В конце 60 — начале 70-х годов, когда вполне отчет¬
ливо обнаружились дальнейшие сдвиги в соотношении
мировых сил и развернулись новые процессы на мировой
арене, а более реалистически мыслящая часть американ¬
ских правящих кругов стала все более настойчиво искать
альтернативу политике «холодной войны», сложившиеся
представления о путях обеспечения «национальной без¬
опасности» стали играть роль тормоза в выборе наиболее
эффективных плацдармов и средств глобального противо¬
борства с социализмом.
25
Именно в этот период в американском внешнеполити¬
ческом мышлении и наметились контуры нового подхода
к проблемам «национальной безопасности».
В неприкосновенности сохранилась основная доктри¬
нальная установка в отношении целей и принципов взаи¬
модействия военной мощи и внешней политики. Военной
силе в современных условиях отводится роль «существен¬
ного элемента» в «национальной безопасности», задачи
которой тесно увязываются с притязаниями правящих
кругов США на «историческую ответственность» в гло¬
бальном противоборстве двух социально-экономических
систем. «Военный истэблишмент, — заявляют американ¬
ские стратегические аналитики Б. Блехман, Р. Берман,
М. Бинкин и Р. Уэйнлэнд, — помогает создать образ
США как великой державы. Сам факт существования
крупных вооруженных сил является свидетельством спо¬
собности государства играть важную роль в международ¬
ных делах. То, что США выделяют значительную часть
своих ресурсов на военные цели, демонстрирует их спо¬
собность и готовность выполнить свою миссию в мире»27.
Советский Союз, согласно нынешней интерпретации
доктрины «национальной безопасности», как и прежде,
продолжает рассматриваться в качестве главного против¬
ника США во всех отношениях — политическом, военном,
экономическом и идеологическом, который вместе с дру¬
гими странами социалистического содружества представ¬
ляет собой основной заслон на пути выполнения США
роли своеобразного гаранта и охранителя мировой капи¬
талистической системы. Распространение мифа о так на¬
зываемой «советской угрозе» имеет не только пропаган¬
дистское назначение. Он отражает опасения правящих
кругов США перед лицом успехов социализма в истори¬
ческом противоборстве с капитализмом, перед лицом ре¬
шающего воздействия Советского Союза и стран социали¬
стического содружества на тенденции и перспективы
мирового развития. Доктрине «национальной безопасно¬
сти» по-прежнему свойственна традиционная империали¬
стическая установка на активное противодействие расту¬
щему влиянию Советского Союза в различных частях
мира, на предотвращение дальнейшего изменения соот¬
ношения сил в мире в пользу социализма.
В то же время на подходе к вопросам использования
силы в международных отношениях в определенной мере
сказываются и модификации, которые были внесены в
доктрину «национальной безопасности».
Если в период «холодной войны» обеспечение «нацио¬
нальной безопасности», по существу, предполагало «не¬
ограниченный интервенционизм», «вседозволенность» си¬
лы, то теперь осуществление этой задачи, а соответствен¬
но и применение силы все больше сообразуется с
появившимися в результате изменения соотношения сил
ограничителями внешнего и внутреннего порядка. «На¬
циональная безопасность — это широкий термин, вклю¬
чающий больше, чем просто физическое выживание, —
отмечает американский социолог С. Каплан в предисло¬
вии к работе «Основные проблемы международной поли¬
тики». — Он связан с политическими, экономическими,
социальными и моральными факторами, которые помога¬
ют определять и осознавать отдельные политические яв¬
ления. Государства не действуют в вакууме, добиваясь
национальной безопасности... То, чего они могут добить¬
ся, частично зависит от характера международной систе¬
мы и распределения возможностей внутри нее»28.
В этой связи модифицированная доктрина «нацио¬
нальной безопасности» прежде всего учитывает «усиле¬
ние военной мощи СССР в глобальном масштабе», уста¬
новление примерного стратегического равновесия (ста¬
бильности) между СССР и США и соответственно
существование определенных «границ возможного» в про¬
тивоборстве с Советским Союзом, выход за пределы ко¬
торых чреват опасностью взаимного уничтожения.
В своей оценке нынешних возможностей военной силы
в мировых делах американские политики и исследовате¬
ли принимают также в расчет многие другие обстоятель¬
ства (негативные с точки зрения возможностей примене¬
ния силы), составляющие современную «геополитическую
реальность», и, в частности, увеличивающееся воздейст¬
вие таких внешних факторов, как выход на арену новых
национально независимых государств, которые, несмотря
на свою относительную слабость, все же способны в усло¬
виях изменения соотношения сил противостоять примене¬
нию против них силы; возрастающее значение взаимоза¬
висимости в современном мире, при которой обращение к
военной силе может нарушить сложившуюся систе¬
му военно-политических и экономических связей.
Наконец, в дополнение к внешним условиям, сковы¬
вающим военно-силовые возможности империализма, оп¬
ределенные сдерживающие рамки на применение военной
силы во внешнеполитических целях накладывает и внут¬
риполитическая обстановка в США.
27
Крах политики американского империализма во Вьет¬
наме серьезным образом подорвал усиленно насаждав¬
шуюся в стране веру в эффективность политики «с пози¬
ции силы», заставил правящие круги США обратить вни¬
мание на достигшие кризисных размеров экономические
и морально-политические проблемы американского об¬
щества *. «Совершенно очевидно, что Соединенные Шта¬
ты сегодня, — признает главный редактор «Форин аф-
ферс» У. Банди, — значительно больше, чем десять лет
назад, заняты своими внутренними проблемами, значи¬
тельно меньше готовы идти на жертвы либо ради обеспе¬
чения военно-стратегических позиций и принятия новых
обязательств за границей, либо ради сохранения системы
свободной торговли» 29.
В отличие от периода «холодной войны», когда угроза
«национальной безопасности» США связывалась только
с «коммунистической угрозой», нынешний вариант докт¬
рины с учетОхМ изменившихся внешних и внутренних усло¬
вий принимает во внимание расширение диапазона угроз
«национальной безопасности», с которыми не в состоянии
совладать военная мощь.
Весьма показательно в этом отношении признание из¬
вестного теоретика американской стратегии генерала
Максуэлла Тейлора, бывшего председателя Комитета
начальников штабов, одного из авторов стратегии «гиб¬
кого реагирования». В журнале «Орбис» он пишет: «Хотя
большинство из нас в силу привычки склонно рассматри¬
вать национальную безопасность в основном как защиту
национальных ценностей от военных угроз военными же
* Изучение вопроса о взаимозависимости внутриполитического
положения в США и готовности американского руководства приг
менять силу в политических целях подводит американских авторов
к выводу, что чаще всего президенты добиваются успеха в двух слу¬
чаях: если степень их популярности находится на максимальном уров¬
не (80% успеха) или же на минимальном (94% успеха). В последнем
случае, по мнению авторов, президенту гораздо сложнее отступать,
поэтому он готов к более рискованным и далеко идущим действиям,
то'есть в моменты «слабости» президент США «более опасен». Тем
не менее неверным является и преобладающее мнение о том, что в
ходе решительной демонстрации военной силы внутриполитическая
поддержка президента со стороны общественного мнения обязательно
увеличивается. Если это и происходит, то весьма незначительно —
на 2—3%, чаще же происходит обратное. Однако после успешного
для США окончания инцидента картина, как правило, меняется —
популярность президента существенно возрастает (см. Blechman В.
and Kaplan S. The Use of Armed Forces as a Political Instrument
Wash., 1977).
28
средствами, ныне мы имеем в избытке доказательства то¬
го, что подобная концепция не соответствует положению
вещей. В нашей повестке дня текущих забот фигурирует
слишком много гражданских угроз, чтобы можно было
продолжать придерживаться столь узколобого подхода,—
это такие проблемы, как рост народонаселения, инфля¬
ция, спад производства, нехватка ресурсов и потеря до¬
верия к правительству. Не только причины и следствия
такого рода угроз не имеют в целом военного характера,
но и средства их решения мало что могут позаимствовать
у военной мощи, олицетворяемой вооруженными сила¬
ми» 30.
Соответственно скорректировано и понятие государст¬
венного могущества, которое теперь перестало ассоцииро¬
ваться с одной только военной силой.
Г. Киссинджер в бытность свою государственным сек¬
ретарем в выступлении на конференции по внешней по¬
литике 8 октября 1973 г. следующим образом суммировал
проблемы, связанные с современным пониманием и ис¬
пользованием в целях политического влияния фактора
«могущества», в том числе и военной силы. «Наиболее
поразительная черта нынешнего периода — черта, кото¬
рая придает ему сложность и одновременно внушает на¬
дежду, — это радикальное изменение в характере могу¬
щества, — говорил Г. Киссинджер. — На протяжении
истории могущество, как правило, было однородным; во¬
енный, экономический и политический потенциалы были
тесно связаны между собой. Чтобы быть могуществен¬
ным, государству надо было быть сильным по всем кате¬
гориям. Сегодня понятие силы сложнее. Военная сила
еще не гарантирует политического влияния. Экономиче¬
ские гиганты могут быть слабы в военном отношении, и
военная мощь может быть не в состоянии скрыть эконо¬
мическую слабость. Государства способны оказывать
политическое влияние, даже когда у них нет ни военной,
ни экономической силы. Неправильно говорить об одном
равновесии сил, ибо их существует несколько, и их надо
рассматривать во взаимной связи. В военной сфере суще¬
ствуют две сверхдержавы. В экономическом плане по
крайней мере — пять крупных групп; в политическом от¬
ношении возникло гораздо больше центров влияния:
с момента окончания второй мировой войны появилось
около 80 новых стран, и региональные группировки при¬
обретают все возрастающее значение. И что важнее все¬
го — каким бы ни было мерило силы — ее политическая
29
роль меняется. На протяжении историй увеличение воен¬
ной мощи, даже самое незначительное, можно было об¬
ратить в конкретное политическое преимущество. Однако
наличие подавляющих арсеналов ядерного века делает
поиск превосходства одновременно бесполезным и потен¬
циально самоубийственным. Как только достаточность
достигнута, дополнительное увеличение мощи не перево¬
дится в используемую политическую силу, а попытки до¬
стичь фактических выгод могут привести к катастрофе»31.
Анализ международной обстановки и возможностей
проведения США политики «с позиции силы» в послево¬
енный период приводит целый ряд реалистически мысля¬
щих американских ученых и исследователей из других
стран к выводу, что воздействие военной мощи на ход со¬
бытий неуклонно падает, несмотря на все возрастающий
разрыв в уровнях военно-экономических потенциалов
великих держав и других государств32. Подобные рас¬
суждения служат основанием для утверждения о «пара¬
доксе национальной безопасности», который состоит в
том, что американская военная мощь никогда не была
столь велика в ее материальном выражении и в то же
время столь малоэффективна с точки зрения интересов
«национальной безопасности».
Американская внешнеполитическая мысль не без ос¬
нования объясняет «парадокс национальной безопасно¬
сти» причинами двоякого свойства.
С одной стороны, с появлением ракетно-ядерного ору¬
жия, как отмечают американские авторы, стало реаль¬
ностью предвиденное К. Клаузевицем «несоответствие
между средствами ведения войны и ее политической
целью». И действительно, созданный в США в результате
военно-технической революции арсенал средств массово¬
го уничтожения превзошел потребности рациональной
политики, которая при использовании военно-силовых ин¬
струментов не ставит самоцелью убийства и разрушения,
как таковые, а руководствуется прежде всего классовыми
соображениями, интересами выигрыша в противоборстве
двух систем любыми средствами, кроме взаимоуничтоже-
ния *. Иными словами, американской внешнеполитиче¬
* По оценкам Римского клуба, США имели в 1974 году ядерное
оружие, соответствующее 615 385 бомбам, сброшенным на Хиросиму.
Если исходить из числа жертв катастрофы в августе 1945 года, то
это означает способность 12 раз уничтожить нынешнее население
земного шара (Reviewing Inlernationl Order. The Club of Rome Pro¬
ject. Rotterdam, 1975, p. I—XV).
30
ской мысли приходится считаться с тем, что военная си¬
ла — крайнее средство, опасное не только для того, про¬
тив кого оно направлено, но и для того, кто его исполь¬
зует.
С другой стороны, и это, по существу, имеет главен¬
ствующее значение, правящие круги США вынуждены
теперь считаться в гораздо большей степени, во-первых,
с внешне- и внутриполитическими последствиями исполь¬
зования военной силы и, во-вторых, с расширяющимся
диапазоном угроз «национальной безопасности».
Анализируя причины «парадокса национальной без¬
опасности», американские политики и идеологи отмечают
не только опасность использования силы по прямому на¬
значению и ее известную девальвацию. Признание не¬
приемлемости для США перспективы ракетно-ядерного
столкновения с СССР подводит американскую внешнепо¬
литическую мысль к осознанию необходимости искать
такой модус вивенди в отношениях с Советским Союзом,
при котором существовали бы определенные гарантии
против угрозы возникновения ядерной войны. Соответст¬
венно заметное распространение получило мнение о том,
что один из путей к обеспечению «национальной безопас¬
ности» пролегает через переговоры с Советским Союзом
и ограничение гонки вооружений, в первую очередь стра¬
тегических.
Показательным в этом отношении явилось принятие
администрацией Никсона меморандума-3 об исследова¬
ниях в области «национальной безопасности», посвящен¬
ного оценке соотношения мировых военных сил и выте¬
кающих из этого выводов для стратегии США. Текст это¬
го меморандума остается засекреченным. Однако, на¬
сколько можно судить по данным американской прессы,
содержание его было значительно более реалистическим,
чем содержание директивы СНБ-68. Авторы меморанду¬
ма исходили из того, что баланс военных сил Соединен¬
ных Штатов и Советского Союза стал характеризоваться
примерным паритетом. В связи с этим тезис об «абсолют¬
ном превосходстве» военной мощи США над СССР как
критерий строительства стратегических вооружений был
заменен тезисом «достаточности», доктрина готовности
США к двум с половиной войнам — доктриной готовно¬
сти к полутора войнам.
Признание в меморандуме существования в лице Со¬
ветского Союза силы, равной Соединенным Штатам, спо¬
собствовало распространению во внешнеполитическом
31
мышлении США концепции примата отношений с СССР
в системе внешнеполитических приоритетов США. Весь¬
ма симптоматично, что наряду с известными деятелями
либерального толка (М. Шульман, Ч. Иост, Р. Хилсмен,
Р. Розенкранс, Дж. Герц, А. Рапопорт) и «ревизиониста¬
ми» в пользу примата советско-американских отношений
на рубеже 70-х годов стали выступать и представители
консервативного крыла (Дж. Гэвин, У. Кинтнер, в какой-
то степени Г. Кан), известные в прошлом своим скептиче¬
ским отношением к возможности сотрудничества между
СССР и США. Деловые соображения, политический реа¬
лизм заставляли этих деятелей, несмотря на их полити¬
ческие воззрения, считаться с важностью для самих
США перемен в советско-американских отношениях, от¬
межевываться от наследия «холодной войны».
Считая СССР и США самыми могущественными дер¬
жавами современного мира и признавая большое влияние
отношений между ними на состояние всей международ¬
ной обстановки в целом, американские буржуазные тео¬
ретики стали часто писать о двух «сверхдержавах». По¬
казательно, что термин «сверхдержава», введенный в по¬
литический лексикон США в 1943 году нынешним
директором Института войны и мира Колумбийского
университета У. Фоксом, употреблялся до недавнего вре¬
мени только применительно к США, чем подчеркивалась
пресловутая «американская исключительность». Введе¬
ние понятия «две сверхдержавы» означало отказ от тра¬
диционных представлений об «исключительности» США
и осознание того факта, что Советский Союз способен
успешно противостоять Соединенным Штатам. В то же
время, выдвигая концепцию «сверхдержав», американ¬
ские авторы в силу классового характера своего миро¬
воззрения не проводят различия между социально-эконо¬
мическим строем СССР и США и фактически уподобля¬
ют их друг другу.
Признание новой обстановки в мире, в частности рос¬
та авторитета и могущества Советского государства,
представлявшее собой долгий и мучительный процесс во
внешнеполитическом мышлении правящего класса США,
сопровождалось модификацией внешнеполитических док¬
трин и концепций, созданных в период «холодной войны».
Придя к выводу, что современный мир является много¬
полярным в политическом и биполярным в военном отно¬
шении, американская буржуазная внешнеполитическая
мысль вместо планов переустройства мира по американ¬
32
скому образцу (Pax Americana) и создания с этой целью
«мирового правительства» стала выдвигать проекты
«международной структуры», базирующейся на концеп¬
циях «взаимозависимости» и «трехстороннего сообщест¬
ва» США — Западной Европы — Японии. В этих концеп¬
циях предусматривалось вместо опеки над союзниками
партнерство, основанное на «разделении ответственно¬
сти», вместо «холодной войны» и «сдерживания» в отно¬
шении Советского Союза — конкурентное сосуществова¬
ние и «регулируемое соперничество»; наряду с военной
силой важными компонентами государственного могуще¬
ства были объявлены научно-технический потенциал,
идеология, дипломатия. Новая внешнеполитическая докт¬
рина США, провозглашенная в 1969 году и известная как
доктрина Никсона — Киссинджера, с одной стороны, со¬
храняла в качестве основной задачи обеспечение за Со¬
единенными Штатами руководящего положения в капи¬
талистическом мире, ограждение интересов американско¬
го капитала, «когда бы и где бы им ни угрожали в любом
месте земного шара», а с другой — исходила из того, что
в условиях новой расстановки сил в мире и возникнове¬
ния примерного ядерного паритета период силовой кон¬
фронтации двух мировых социальных систем должен ус¬
тупить место периоду переговоров между ними, а едино¬
началие США в капиталистическом мире — «разделению
ответственности» со своими союзниками по блокам.
Появление на рубеже 70-х годов реалистических на¬
чал во внешнеполитическом мышлении США отнюдь не
означало их автоматического распространения на всю
американскую систему внешнеполитических концепций и
установок. Оставаясь классовой, империалистической в
своей основе, внешнеполитическая идеология США не
дает возможности приведения их внешней политики в
полное соответствие с реальной действительностью, вызы¬
вает непоследовательность и зигзагообразность внешне¬
политического курса Соединенных Штатов в отношении
государств иной социальной системы. В то же время пе¬
реход политического руководства США на позиции реа¬
листического подхода к отношениям с Советским Союзом,
осознание того, что естественным делом являются не ба¬
лансирование на грани войны, а переговоры по спорным
вопросам, послужили одной из предпосылок для серьез¬
ных сдвигов в советско-американских отношениях.
В 1972—1974 годах была проделана важная работа по
перестройке советско-американских отношений. В итоге
2-597
33
четырех советско-американских встреч на высшем уровне
была заложена солидная политическая и правовая база
для развития взаимовыгодного сотрудничества между
СССР и США на принципах мирного сосуществования.
Созданная в то время система советско-американских до¬
говоров, соглашений и других документов в определенной
мере уменьшила опасность возникновения ядерной вой¬
ны и создала необходимые предпосылки для дальнейших
усилий по ослаблению, а в перспективе и устранению
вообще опасности новой мировой войны.
Документом принципиального значения, в полной ме¬
ре сохраняющим свою силу и в настоящее время, являют¬
ся «Основы взаимоотношений между Союзом Совет¬
ских Социалистических Республик и Соединенными Шта¬
тами Америки», подписанные Генеральным секретарем
ЦК КПСС и президентом США 29 мая 1972 г. Как видно
из самого названия документа, в нем сформулировано и
закреплено главное, чем должны руководствоваться обе
страны в своих взаимоотношениях. Первостепенное вни¬
мание в документе сосредоточено на проблемах мира и
устранения угрозы войны. Ключевым положением Основ
взаимоотношений является договоренность о том, что
СССР и США «будут исходить из общей убежденности в
том, что в ядерный век не существует иной основы для
поддержания отношений между ними, кроме мирного со¬
существования». Закрепление в документе этого принци¬
па — большое политическое достижение. Основы взаимо¬
отношений — первый совместный советско-американский
договорно-правовой документ, где этот принцип нашел
свое официальное признание со стороны Соединенных
Штатов. Фундаментальное значение имеет и зафиксиро¬
ванное в Основах взаимоотношений положение о том,
что СССР и США «будут делать все возможное, чтобы
избегать военных конфронтаций и предотвратить возник¬
новение ядерной войны». В этих словах сформулированы
одновременно и важнейшее взаимное обязательство, и
цель постоянных совместных усилий на магистральном
направлении советско-американских отношений.
Значение документа Основы взаимоотношений меж¬
ду СССР и США не ограничивается этими важными по¬
ложениями. В нем сформулирован такой краеугольный
принцип взаимоотношений двух стран, как принцип ра¬
венства и одинаковой безопасности. «Признание интере¬
сов безопасности сторон, основывающейся на принципе
равенства», рассматривается в документе в качестве не¬
34
обходимой предпосылки для «поддержания и укрепления
между СССР и США отношений мира». Исключительно
велика практическая значимость принципа одинаковой
безопасности для успешного решения конкретных вопро¬
сов ограничения и прекращения гонки вооружений и дру¬
гих вопросов, которые встают в ходе соответствующих
советско-американских контактов. В Основах взаимоот¬
ношений предусмотрено, что СССР и США будут про¬
должать шаги в целях ограничения вооружений как на
двусторонней, так и на многосторонней основе и будут
предпринимать особые усилия для ограничения стратеги¬
ческих вооружений, заключая, когда это становится воз¬
можным, конкретные соглашения. Существенный аспект
Основ взаимоотношений — подтверждение в этом доку¬
менте лежащей на СССР и США как постоянных членах
Совета Безопасности обязанности делать все от них зави¬
сящее, чтобы не возникало конфликтов или ситуаций,
способных усилить международную напряженность, со¬
действовать тому, чтобы все страны жили в условиях ми¬
ра и безопасности, не подвергаясь вмешательству извне
в их внутренние дела.
Эти и другие положения Основ взаимоотношений меж¬
ду СССР и США характеризуют их как документ боль¬
шого политического звучания, совмещающий в себе и
свод основополагающих правил взаимоотношений двух
великих держав, и рассчитанную на длительную пер¬
спективу программу их совместной деятельности в инте¬
ресах всеобщего мира и безопасности.
Подписание высшими руководителями двух стран Ос¬
нов взаимоотношений проложило путь к другому важ¬
нейшему документу разрядки — Соглашению между
СССР и США о предотвращении ядерной войны. Оно бы¬
ло заключено 22 июня 1973 г. во время визита Л. И. Бре¬
жнева в Соединенные Штаты и нацелено на то,
чтобы максимально уменьшить опасность применения
самого разрушительного из существующих видов ору¬
жия. Соглашение вступило в силу с момента подписа¬
ния и является бессрочным. Советский Союз и Соединен¬
ные Штаты торжественно согласились, что устранение
опасности ядерной войны и применения ядерного оружия
является целью их политики. В соглашении предусмотре¬
но, что оба государства будут действовать так, чтобы
предотвратить возникновение ситуаций, способных вы¬
звать опасное обострение их отношений, избежать воен¬
ных конфронтаций и исключить возникновение ядерной
2*
35
войны между ними и между каждой из сторон и другими
странами. Во исполнение этой цели СССР и США обяза¬
лись воздерживаться от угрозы силой или ее применения
против другой стороны, против союзников другой сторо¬
ны и против других стран в обстоятельствах, которые
могут поставить под угрозу международный мир и
безопасность. СССР и США заявили, что они будут ру¬
ководствоваться этими соображениями при формулиро¬
вании своей внешней политики и в своих действиях в об¬
ласти международных отношений. В соглашении преду¬
смотрено, что если возникнут обстоятельства, которые
будут выглядеть как влекущие риск ядерного конфлик¬
та, то СССР и США незамедлительно приступят к сроч¬
ным консультациям друг с другом и предпримут все
усилия для предотвращения этого риска. Важная особен¬
ность соглашения состоит в том, что оно предусматрива¬
ет обязательства СССР и США развивать свои отноше¬
ния с другими странами, исходя из целей мира. Согла¬
шение реально ослабляет угрозу ядерного столкнове¬
ния, направлено на упрочение отношений мира между
СССР и США, создание дополнительных предпосылок к
тому, чтобы советско-американские отношения во все
большей мере выступали как фактор укрепления между¬
народной безопасности.
Документы Основы взаимоотношений между СССР
и США и Соглашение о предотвращении ядерной войны
занимают центральное место в цепи мер, направленных
на устранение угрозы войны из отношений между госу¬
дарствами, сдерживание гонки вооружений. К ним тес¬
но примыкают другие документы, в частности подписан¬
ные в Москве в 1972 году Договор об ограничении сис¬
тем противоракетной обороны (ПРО) и Временное
соглашение о некоторых мерах в области ограничения
стратегических наступательных вооружений.
Договор по ПРО и временное соглашение затрагива¬
ют самую сердцевину военной мощи обеих стран. Они
фиксируют равновесие стратегических сил СССР и США
и создают определенные препятствия для усиления их
ядерного противостояния. Подписание этих документов
стало возможным благодаря тому, что в их основу был
положен принцип одинаковой безопасности сторон.
Асимметричность в распределении, в удельном весе
имевшихся у каждой из сторон стратегических воору¬
жений в силу особенностей принятых ими программ во¬
енного строительства, естественно, не позволяла устано¬
36
вить абсолютное равенство в каждом виде оружия. Это¬
го, собственно говоря, и не требовалось, ибо взаимная
уязвимость, неизбежность «неприемлемого ущерба» в ре¬
зультате ответного ядерного удара обеспечивали ситуа¬
цию «стратегического равновесия», которая нашла отра¬
жение в московских соглашениях.
Значение этих двух договорно-правовых актов выхо¬
дит далеко за рамки чисто военно-политических катего¬
рий. XXV съезд КПСС отнес заключенные между СССР
и США соглашения об ограничении стратегических во¬
оружений к числу наиболее важных совместных совет-
ско-американских документов. Их главное значение,
подчеркивается в Отчетном докладе ЦК, состоит в том,
что в совокупности с Основами взаимоотношений между
СССР и США и Соглашением о предотвращении ядер¬
ной войны «они заложили солидную политическую и
правовую базу для развития взаимовыгодного сотруд¬
ничества между СССР и США на принципах мирного со¬
существования. Они в определенной мере уменьшают
опасность возникновения ядерной войны».
Советско-американские договоренности 1972—
1974 годов отвечали интересам международного сообще¬
ства в целом. В них не содержалось ничего такого, что
могло бы нанести ущерб третьим странам. Напротив, ес¬
ли смотреть в общем плане, то все страны без исключе¬
ния выгадывали от создаваемого этими соглашениями
улучшения международного политического климата. От¬
сюда позитивная реакция, с которой были встречены
практически повсюду договор и временное соглашение.
Такая реакция, естественно, усиливала в США позицию
сторонников позитивного подхода к проблеме ослабле¬
ния опасности ядерной войны и углубления международ¬
ной разрядки. Однако она вовсе не отменяла борьбы
двух направлений в подходе к вопросу о путях обеспече¬
ния национальной безопасности в ракетно-ядерную
эпоху.
Борьба этих двух тенденций имела тем более острый
характер, что сторонники достижения договоренностей
с Советским Союзом в области ограничения вооружений
сами занимали непоследовательную позицию. Несмотря
на констатацию новых реальностей, настоятельно тре¬
бующих воздержания от угрозы силой и ее применения
ц указывающих только одну альтернативу надежной на¬
циональной безопасности — международные договорен¬
ности, прокладывающие путь к разоружению, многие
37
американские политики и идеологи пытались, однако,
совместить несовместимое — меры по ограничению гонки
вооружений с количественным и качественным наращи¬
ванием средств массового уничтожения. Прикрываясь
рассуждениями о «национальной безопасности» США,
все американские авторы, по существу, по-прежнему
культивируют, хотя некоторые из них и в более изощрен¬
ных формах, наращивание силы, и особенно военной.
Они охотно рассуждают о том, как «дисциплинировать
силу», сделать ее «более контролируемой». Признание
же ими изменения роли военной силы, но отнюдь не ее
уменьшения, служит предпосылкой для поиска новых
вариантов повышения эффективности силы, позволяю¬
щих обеспечить ей по-прежнему прочное место в качест¬
ве действенного инструмента «национальной безопас¬
ности».
*
Подход к вопросам «национальной безопасности»
демократической администрации Дж. Картера, как и
предшествовавших ей республиканских администраций
Р. Никсона и Дж. Форда, — наглядное свидетельство
стремления Вашингтона повысить внешнеполитическую
эффективность военной силы в нынешней стратегической
ситуации в мире.
В то же время в оценку роли военной мощи как ком¬
понента «национальной безопасности» внесены опреде¬
ленные коррективы.
Важное значение в этой связи имеет понимание но¬
вой администрацией расстановки сил и значения совет¬
ско-американских отношений в современном мире.
Как это видно из подготовленного для президента
обзорного меморандума PRM-10 и одобренного в виде
президентской директивы № 18*, нынешняя администра¬
ция оценивает современную стратегическую ситуацию
* Президентский обзорный меморандум (PRM-10) был подготов¬
лен группой специалистов во главе с профессором Гарвардского уни¬
верситета С. Хантингтоном, давним другом 3. Бжезинского, рабо¬
тавшим в группе сотрудников его аппарата в качестве консультанта
по вопросам национальной безопасности; он характеризуется амери¬
канской прессой как сторонник проведения жесткой политики в
отношении Советского Союза (см. The Washington Post, 1977, July 6;
The New York Times, 1977, July 8, 10; The Nation, 1978, Febr. 18; The
Washington Post, 1978, March 23; Foreign Policy, 1978, Autumn).
38
как «принципиальное ядерное равновесие», характери¬
зующееся в настоящее время стабильностью. При этом
признается равенство, примерный военный паритет Со¬
ветского Союза и Соединенных Штатов.
Что касается оценки политической ситуации в совре¬
менном мире, то администрация Картера, насколько об
этом можно судить по тому же документу, исходит из то¬
го, что отношения между СССР и США вышли из
«эры 1» («холодная война» и последовавшая затем раз¬
рядка) и вступили в «эру 2», которая в представлении ав¬
торов упомянутого документа совмещает соперничество
времен «холодной войны» с сотрудничеством периода раз¬
рядки. При этом в отношениях между США и СССР в
противовес сотрудничеству ими заметно выпячиваются
элементы соперничества.
Обращают на себя внимание и попытки активно ра¬
зыграть «китайскую карту». Эта политика, по признанию
американской печати, — «продолжение дипломатии
«треугольника» Вашингтон — Москва — Пекин, которую
начали семь лет назад Р. Никсон и Г. Киссинджер». Но
если раньше в США рассматривали дипломатию «тре¬
угольника» как метод использования в своих целях серь¬
езных разногласий между СССР и КНР, то теперь неко¬
торые американские политики не прочь «вовлечь США в
советско-китайский спор на стороне китайцев». Заявляя
о том, что у Китая и США «общие стратегические инте¬
ресы» и что «в национальных интересах Америки сделать
Китай сильным», такие политики явно рассчитывают на
то, чтобы изменить с помощью Китая стратегическое со¬
отношение сил в мире. С этой целью Вашингтон фактиче¬
ски попустительствует политике союзных с ним госу¬
дарств, направленной на поставки Пекину оружия, к тому
же изготовленного по американским лицензиям, и на пе¬
редачу ему такой технологии, которая может быть ис¬
пользована для наращивания Китаем военно-стратегиче¬
ского потенциала. Подобные попытки разыгрывания «ки¬
тайской карты» Л. И. Брежнев охарактеризовал словами:
«Близорукая и опасная политика!»33.
В академических кругах США можно слышать пре¬
достережения по поводу риска, связанного с подобным
разыгрыванием «китайской карты» против Советского
Союза. Характерно, что исходят они не только от убеж¬
денных сторонников советско-американского сотрудни¬
чества. Так, профессор Джорджтаунского университета
Э. Латтуак указывает, что «за явным преимуществом,
39
которое дает русско-китайское противоборство, скрыва¬
ется большой риск». «„Китайская карта”, — пишет он,—
самое нестратегическое из всех лекарств. Она представ¬
ляет собой тактическое средство. Но неизбежные послед¬
ствия ставки на нее будут стратегическими по своему зна¬
чению и к тому же крайне невыгодными». Латтуакаявно
беспокоит, что разыгрывание «китайской карты» может
оказать неблагоприятное для США воздействие на соот¬
ношение сил в различных регионах мира. С учетом этого
он рекомендует не заходить с разыгрыванием «китайской
карты» слишком далеко. «Вместо этого, — заключает
Латтуак, — надо ставить на американскую карту — аме¬
риканское могущество, более интеисивно наращивая
его»34.
Последнее развитие событий наглядно демонстриру¬
ет, к каким последствиям для дела мира может привести
разыгрывание Соединенными Штатами «китайской кар¬
ты». .Сейчас во всем мире признают, что условия уста¬
новления полных дипломатических отношений между
США и КНР и поездка заместителя премьера Госсовета
КНР Дэн Сяопина в Вашингтон с его враждебными вы¬
сказываниями в адрес Вьетнама подтолкнули правящие
круги Пекина на агрессию против СРВ. В самих США
также все больше начинают осознавать, что игра «с ки¬
тайским козырем» чревата серьезными опасностями.
«В своей политике сближения с Пекином, которая, как я
лично считаю, вызывает излишне большой энтузиазм, —
заявил в марте 1979 года корреспонденту журнала «Па¬
норама» директор Центра изучения европейских про¬
блем при Гарвардском университете С. Хоффман,—
Бжезинский не сумел предусмотреть последствия, к ко¬
торым это может привести. Нет сомнений в том, что нуж¬
на была большая осторожность. В частности, потому что
отнюдь не доказано, что наши интересы совпадают с ин¬
тересами Китая».
Насколько можно судить по официальным заявлени¬
ям, нынешняя администрация исходит из того, что «на¬
циональная безопасность» включает меры «по укрепле¬
нию обороны» и «по контролю над вооружениями»35. Од¬
нако акцент при этом часто бывает смещен на «сильную
оборону»*. Таким образом, предпочтение отдается воен-
* В выступлении в Ассоциации внешней политики 20 декабря
1978 г. 3. Бжезинский назвал «укрепление военной безопасности»
«первой целью» американской внешней политики.
40
но-техническому, а не политическому обеспечению «на¬
циональной безопасности» через достижение соответ¬
ствующих договоренностей с другими странами.
Попытки одновременно уместить в русло одной поли¬
тики и решения об усилении гонки вооружений, и пере¬
говоры о разоружении не могут не вызывать озабочен¬
ности и беспокойства. Реализация таких попыток на
практике отнюдь не способствует созданию обстановки
доверия, необходимого для продвижения вперед в деле
разоружения, затрудняет достижение конкретных осязае¬
мых результатов на ведущихся переговорах по разору¬
жению.
Наибольшие коррективы внесены в понимание тех
вопросов «национальной безопасности», которые связа¬
ны с «национальной оборонной стратегией» и имеют не¬
посредственное отношение к повышению эффективности
военной мощи. Характерно, что в официальных докумен¬
тах демократической администрации военная мощь на¬
зывается «важным фактором» в решении международ¬
ных вопросов, инструментом влияния на позиции друзей
и противников — не только в военное время, но и в мир¬
ной обстановке36.
Не отменяя установок предыдущей администрации
на необходимость «разделения ответственности» США с
союзниками по военным блокам, нынешняя администра¬
ция делает упор на другом — на «исторической ответ¬
ственности» Соединенных Штатов и их готовности идти,
в случае необходимости, на вовлеченность в военные дей¬
ствия в районах, которые они считают для себя стратеги¬
чески важными. Первостепенное значение в этом кон¬
тексте придается повышению роли США в военных де¬
лах на европейском континенте. США заявляют также и
о своей «важной исторической ответственности» на Бли¬
жнем Востоке и в Восточной Азии, о сохранении эффек¬
тивного военного присутствия на Дальнем Востоке и в
Атлантическом океане. В последнее время предпринима¬
ются усилия к интенсивной милитаризации изобретенной
3. Бжезинским так называемой «дуги нестабильности»,
которая, как утверждает Бжезинский, протянулась от Ти¬
хого океана до Африканского Рога. С этой целью резко
наращивается американская военная мощь в районе
Персидского залива и Индийского океана. Соответствен¬
но поднимается значение обычных вооружений в эру
ядерного равновесия, и в частности подчеркивается
«жизненная важность» существенного увеличения мо¬
41
бильно^и американских войск для использования в
чрезвычайных обстоятельствах.
Как показали майская и декабрьская (1978 г.) сес¬
сии Совета НАТО, правящие круги США пытаются при¬
способить этот военный блок к своей глобальной неоко¬
лониалистской стратегии, сделать его прямым инстру¬
ментом борьбы против национально-освободительного
движения в мире, прежде всего в Африке.
Известную эволюцию претерпевает и концептуальный
подход к проблемам строительства стратегических сил.
Вместо выдвигавшихся республиканской администраци¬
ей формул «достаточности» в качестве критериев строи¬
тельства теперь выдвигается понятие «существенной эк¬
вивалентности».
В политическом плане «эквивалентность», как пояс¬
нил в своем выступлении 5 апреля 1979 г. в Совете по
внешним сношениям и в Ассоциации внешней политики
министр обороны США Г. Браун, означает, что «ядерные
силы, точно так же как и другие компоненты военной мо¬
щи, играют более широкую политическую роль, не впол¬
не определяемую техническим, статичным (подсчет сил)
или даже динамичным (военные игры) исчислением во¬
енной мощи». Иными словами, концепция «эквивалент¬
ности» нацеливает на использование ракетно-ядерного
могущества для оказания нажима на другие государства
и превращение его в один из основных, если не важней¬
ший, фактор внешней политики.
Не отрицая необходимости руководствоваться идеей
достигнутого ядерного паритета с Советским Союзом и в
соответствии с этим принимать меры для его поддержа¬
ния, скорректированная «оборонная стратегия» исходит
из того, что средства, сэкономленные в результате отказа
от расширения тех или иных ядерных систем, должны
использоваться для наращивания обычных видов ору¬
жия и вооруженных сил, где, как утверждается, не су¬
ществует равновесия. В конкретную плоскость переве¬
ден вопрос о создании интервенционистского корпуса
США — так называемых «сил вторжения». На увеличе¬
ние расходов на обычное оружие направлен и ежегод¬
ный реальный трехпроцентный рост военного бюджета
США (с поправкой на инфляцию).
Подобная корректировка «оборонной стратегии» рас¬
считана на использование в политических целях военной
мощи, которую официальный Вашингтон объявляет ни
более ни менее как «лучшим гарантом свободы».
42
Довольно откровенно на этот счет высказался помощ¬
ник президента США 3. Бжезинский в своем выступле¬
нии в американской Ассоциации внешней политики в де¬
кабре 1978 года. Вмешательство, основанное на превос¬
ходстве США в силе, — вот лейтмотив излагавшихся им
положений. Это — откровенные претензии навязывать
другим народам, по сути в любом районе мира, угодные
американскому империализму порядки, в том числе с по¬
мощью вооруженной силы. Это — рассуждения о долге
Соединенных Штатов «обеспечить себе способность не
допускать, чтобы региональная нестабильность или ре¬
гиональные конфликты выходили из-под контроля».
(Имеется в виду американский контроль, а точнее, право
на вмешательство во внутренние дела других госу¬
дарств. — В.П.) «США, — заявил помощник президен¬
та, — намерены определять, где и что составляет их
«жизненный интерес», какие события и когда будут рас¬
сматриваться в качестве угрозы». В комментариях на
это выступление справедливо указывалось, что это —
концепция откровенного произвола. Как отмечает быв¬
ший посол Ч. Иост, «разговоры о защите «наших интере¬
сов во всем мире» напоминают те же прежние глобаль¬
ные заверения, которые привели к чрезмерному амери¬
канскому военному присутствию и к политическим при¬
тязаниям во Вьетнаме и в других местах»37.
Как отмечалось в советской печати, в ходе советско-
американских переговоров на высшем уровне в Вене в
1979 году Л. И. Брежнев указывал на недопустимый ха¬
рактер той легкости, с которой Соединенные Штаты объ¬
являют сферой американских жизненных интересов тот
или иной район мира, находящийся далеко от США, на
другом конце земли38.
Весьма показательно, что одновременно с пересмот¬
ром военной политики в США усиленными темпами про¬
исходит наращивание вооружений. Бюджет Пентагона
на 1980 финансовый год предусматривает такие про¬
граммы в области строительства стратегических сил, как
создание межконтинентальной баллистической ракеты
мобильного базирования MX, продолжение закупок ра¬
кет «Трайдент-I» и создание БРПЛ «Трайдент-Н», раз¬
работка и закупка крылатых ракет воздушного базиро¬
вания, с тем чтобы приступить к оснащению первой эс¬
кадрильи тяжелых бомбардировщиков Б-52 этим оружи¬
ем в 1982 финансовом году, оснащение к середине 80-х
годов межконтинентальных баллистических ракет «Ми-
43
нитмен-3» боеголовками МК 12А повышенной мощно¬
сти и точности.
В опубликованной в «Правде» 25 октября 1979 г.
статье «Военная разрядка — веление времени» член По¬
литбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, Маршал
Советского Союза Д.Ф. Устинов отмечает, что наряду с
усилением своих вооруженных сил США планируют соз¬
дание и выдвижение к рубежам СССР и других стран
социалистического содружества новых систем оружия
средней дальности, предназначенных для выполнения
стратегических задач. В Западной Европе намечается
развернуть около 600 крылатых ракет и баллистических
ракет «Першинг-2» сверх уже имеющихся здесь средств
передового базирования США и соответствующих
средств Англии и Франции, достигающих территории Со¬
ветского Союза. Реализация этого плана имела бы
целью изменить в пользу НАТО стратегическую обста¬
новку в Европе. Это ставило бы СССР в невыгодное по¬
ложение по сравнению с США, вело бы к увеличению
мощи американских стратегических ядерных сил и выну¬
дило бы СССР к принятию соответствующих ответных
мер.
Несостоятельны попытки натовских кругов выдать
план размещения в Европе ядерных средств средней
дальности за «довооружение», за «модернизацию» ору¬
жия. «В действительности же модернизируется и стано¬
вится агрессивнее американская стратегия. Под нее под¬
гоняются системы оружия, которые, как образно сказал
товарищ JI. И. Брежнев, являются миной, подложенной
под здание европейского мира, под самый его фунда¬
мент»39. Возрастает численность вооруженных сил
НАТО, которые уже сейчас насчитывают в Европе более
3 млн. человек. Форсированно осуществляется перевоору¬
жение всех родов войск на новое оружие. В западноевро¬
пейских странах создаются огромные запасы оружия и
техники для войск США, предназначаемых для пере¬
броски в Европу при так называемых кризисных ситуа¬
циях.
«В основе решений, которые США навязывают блоку
НАТО, — заявляет Д. Ф. Устинов, — лежит ставка на си¬
лу как главное средство осуществления империалистиче¬
ской политики. Результатом подобного развития были
бы не только дестабилизация отношений между США и
СССР, но и общая неустойчивость в мире, отсутствие
ясной мирной перспективы»40.
44
Эти программы, как отмечают их критики внутри
самих США, направлены не на обеспечение националь¬
ной безопасности, а на достижение так называемого
«ядерного превосходства» над СССР.
Вынужденная приспосабливаться к меняющейся меж¬
дународной и внутриполитической обстановке и отража¬
ющая борьбу различных политических сил в стране,
американская доктрина «национальной безопасности»
заметно эволюционирует в двух направлениях: транс¬
формации представлений о силе, возможностях ее ис¬
пользования в политических целях и усиливающемся
осознании необходимости политического обеспечения
«национальной безопасности».
Противоречивость нынешнего варианта доктрины
(ставка не просто на силу, а на ее наращивание при од¬
новременном понимании целесообразности определенно¬
го ограничения вооружений), в свою очередь, создает
почву для борьбы двух тенденций: воинственно агрес¬
сивной и относительно более сдержанной, реалистиче¬
ской тенденции в подходе правящих кругов США к во¬
просу о выборе путей и средств обеспечения «националь¬
ной безопасности».
Последние события показали, что в борьбе этих двух
направлений верх берут наиболее реакционные силы
американского империализма. Л. И. Брежнев, отвечая
на вопросы корреспондента газеты «Правда» в январе
1980 года, сказал: «Уже некоторое время ясно видно,
что руководящие круги США и некоторых других стран
НАТО взяли курс, враждебный делу разрядки, курс на
взвинчивание гонки вооружений, ведущий к усилению
военной опасности». В результате международная обста¬
новка на стыке 70-х и 80-х годов заметно осложнилась.
Вина за это, как отмечает Л. И. Брежнев, «ложится на
империалистические силы, и прежде всего на определен¬
ные круги США. На тех, кто видит в разрядке напря¬
женности помеху своим агрессивным замыслам, разжи¬
ганию милитаристского психоза, вмешательству во внут¬
ренние дела других народов» (Правда, 1980, 13 янв.).
Глава
II
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ
Интегрирование военных и политических соображе¬
ний в процесс формирования и осуществления внешне¬
политического курса — лишь одна, но исключительно
важная сторона влияния доктрины «национальной безо¬
пасности» на внешнюю политику США.
Не менее серьезные последствия имеет постановка
тесно связанной с этим задачи осознания общей нацио¬
нальной цели, как это понимает правящий класс США, с
тем чтобы устремление к этой цели могло достаточно
эффективно использоваться для интеграции военных и
политических мероприятий на государственном уровне,
содействовало сведению этих мероприятий в единую по¬
следовательную систему.
Пониманию такой общей цели придается большое
значение, поскольку правящие круги США всегда руко¬
водствовались во внешней политике своими классовыми
интересами, а также прагматическими соображениями.
Внешнеполитические решения принимались политиче¬
скими руководителями США в соответствии с их соб¬
ственным толкованием понятия «национального интере¬
са», отвечающим требованиям времени. Дипломатиче¬
ские акции от случая к случаю объяснялись «предначер¬
танием судьбы», «американской миссией» и т. п. Подоб¬
ный подход был вполне закономерен в условиях сущест¬
вования государств с однородной капиталистической
системой с присущими ей методами тайной дипломатии,
где правда всегда была на стороне сильного, а народные
46
массы были изолированы от участия во внешней поли¬
тике.
Появление первого в мире социалистического госу¬
дарства привело к коренным изменениям в мировой си¬
стеме государств, впервые заставило правящие круги
монополистической буржуазии задуматься над разработ¬
кой более утонченных средств оправдания своих импе¬
риалистических действий на международной арене. Ре¬
акцией на ленинский Декрет о мире, представлявший
собой внешнеполитическую программу первого в мире
социалистического правительства, явились известные
«14 пунктов Вудро Вильсона», в которых американский
президент предпринял попытку изложить политическое
кредо США, представить внешнюю политику США как
заботу о мире, демократии, справедливости и праве.
Вторая мировая война и изменившееся соотношение
сил в мире в пользу социализма поставили правящую
верхушку США перед необходимостью более определен¬
ного уяснения основной цели США в международных де¬
лах и одновременно изыскания более изощренной моти¬
вации своей деятельности на мировой арене, нежели
простое апеллирование к национальному интересу, сдоб¬
ренному вильсонизмом.
«Доктрина национальной безопасности, — как отме¬
чают американские исследователи Н. Паделфорд и
Дж. Линкольн, — выросла фактически из разочарования
концепцией „национального интереса"»1.
Выкристаллизованная на основе доктрины «нацио¬
нальной безопасности» так называемая „общая нацио¬
нальная цель” США означает «защиту нации, ее инсти¬
тутов и источников ее могущества от внешних и внутрен¬
них врагов»2. Разъясняя эту цель, многие американские
политики и ученые трактуют ее в более узком смысле
как обеспечение «национального выживания» перед ли¬
цом растущих внешних и внутренних угроз.
Подобная нарочито расплывчатая формула «нацио¬
нальной цели» вполне соответствует желанию правящих
кругов США лишь в общих чертах обозначить эту цель,
иметь не столько четко сформулированное определение,
сколько осознание самого факта существования «нацио¬
нальной цели». Обрамление «национальной цели» в
широких, как правило, удобных для демагогических ма¬
нипуляций категориях «национальной безопасности» слу¬
жит удобным прикрытием подлинных классовых устрем¬
лений правящих сил США внутри страны и в междуна¬
47
родных делах, во-вторых, создает общую объединяющую
основу для внешней политики и использования воору¬
женных сил и, в-третьих, не связывает правящий класс
какими-либо жесткими рамками, открывает широкий
простор для политического маневрирования, для отнесе¬
ния к «национальным интересам» США любых проблем
и распространения сферы этих интересов далеко за пре¬
делы политических границ США.
За надклассовой оборонительной на вид фразеологи¬
ей, призванной подчеркнуть якобы «внутренне прису¬
щее» США миролюбие, скрываются вполне определен¬
ные фундаментальные, долгосрочные агрессивные инте¬
ресы правящей монополистической верхушки США и свя¬
занные с ними потребности многопланового глобального
противоборства с Советским Союзом и другими страна¬
ми социалистического содружества.
Защита страны от неблагоприятного внешнего воз¬
действия имеет в американской интерпретации своей
оборотной стороной оказание собственного влияния на
международную среду. Иногда вместо термина «влия¬
ние» употребляется «контроль», что, однако, не меняет
существа дела.
Исследование «влияния» как назначения американ¬
ской внешней политики занимает настолько большое
место в американской буржуазной науке международ¬
ных отношений, что даже высказываются соображения
о необходимости выработать всеобъемлющую теорию
«влияния», куда вошли бы основные буржуазные внеш¬
неполитические и военно-стратегические концепции3.
Начиная с демократической администрации Трумэна,
провозгласившей доктрину «национальной безопаснос¬
ти», и до наших дней, когда практические акции прави¬
тельства США, как и раньше, прикрываются интересами
«национальной безопасности», на переднем плане нахо¬
дится не «защита» американского государства, а «влия¬
ние» его на другие страны и народы.
«Основная проблема американской внешней полити¬
ки состоит в максимализации наших возможностей для
влияния»4, — утверждает один из ведущих американских
теоретиков С. Хоффман.
Отмечая, что «влияние» является важнейшим назна¬
чением внешней политики, американские теоретики при¬
лагают немалые усилия к тому, чтобы представить это
«влияние» в наиболее благоприятном свете. Задача явно
нелегкая для американских теоретиков. С одной сторо¬
48
ны, они должны определить «влияние» в категориях, ко¬
торые «соответствовали бы в равной мере и императивам
мировой ситуации, и устремлениям американской поли¬
тики»; с другой стороны, им приходится учитывать, что
подлинное содержание внешней политики США как им¬
периалистической державы наглядно обнаружило себя в
70-х годах во вьетнамской авантюре американского им¬
периализма, в политике на Ближнем Востоке и в Южной
Африке. Поэтому американские теоретики теперь уси¬
ленно предпочитают говорить о «влиянии» не в цинич¬
ных категориях «права сильного», как это имело место в
годы «холодной войны», а в моралистско-идеалистичес¬
ком плане.
Выдвижение «влияния» («воздействия») в качестве
основного назначения внешней политики ведет к тому,
что под углом зрения «влияния» оценивается политика
США в отношении других государств. В результате пред¬
ставляется теоретически обоснованной политика дикта¬
та, вмешательства во внутренние дела других стран.
Признание «влияния» в качестве одного из важней¬
ших назначений политики «национальной безопасности»,
хотя и в искаженном виде, но все же более рельефно, не¬
жели сентенции о «защите нации», передает классовую
сущность американской внешней политики, экспансио¬
нистские, гегемонистские устремления правящей моно¬
полистической верхушки США.
Согласно доктрине «национальной безопасности», по¬
нимание «национальной цели» важно для внешней поли¬
тики не только само по себе. Оно должно способствовать
обеспечению баланса, то есть приведению в соответствие
цели и используемых для ее достижения средств и ресур¬
сов. Политика «национальной безопасности» рассматри¬
вается как «единство целей, путей и средств достижения
и поддержания национальной безопасности», а «нацио¬
нальный интерес» — как «вклад в безопасность, оправ¬
дывающий расход ресурсов на ее обеспечение»5.
В нынешнем подходе к проблеме баланса целей и
средств, как и прежде, отчетливо просматривается гло-
балистский подход.
Разъясняя понятия «безопасности» в современных ус¬
ловиях, группа экспертов Атлантического совета в Ва¬
шингтоне, занимающегося пропагандой идей атлантиз-
ма, подчеркивает, что «безопасность не является вопро¬
сом только военной силы. Безопасность также включает
комбинацию многих других факторов, внутренних и
49
внешних: политических, экономических, социальных и
психологических». При этом преимущественная роль от¬
водится военно-политическому фактору. Другой особен¬
ностью взглядов этой группы является то, что, по ее мне¬
нию, «безопасность не может быть ограничена каким-ли¬
бо специфическим районом. Ее ответвления глобаль¬
ны»6.
Если «национальная цель» США, определяемая на
основе доктрины «национальной безопасности», дает
известное представление об общей направленности, наз¬
начении внешней политики, то о более точных внешне¬
политических целях как перспективного, так и текущего
характера можно судить в основном по установкам, со¬
держащимся в различных рабочих концепциях внешней
политики США.
В отличие от конкретных целей, которые намечают
программу действий, определяют характер и системную
упорядоченность различных мероприятий, установки
служат лишь ориентирами для проведения линии на важ¬
нейших направлениях внешней политики.
Хотя доктрина «национальной безопасности» и пред¬
полагает разработку с учетом понимания общей нацио¬
нальной цели конкретных целей по направлениям и ре¬
гионам, на практике правящие круги США предпочита¬
ют иметь простор для маневрирования и поэтому
руководствуются общими концептуальными установ¬
ками.
В подготовленном еще в 1959 году для сенатской
комиссии по иностранным делам исследовании «Основ¬
ные цели внешней политики Соединенных Штатов» Совет
по внешним сношениям, играющий роль мозгового
центра, довольно откровенно признал: «Внешняя полити¬
ка на практике редко полностью соответствует общим
заявлениям о целях и принципах, поскольку она должна
также основываться на определении национального ин¬
тереса в конкретных обстоятельствах, при которых при¬
нимаются решения и осуществляются акции»7.
Такое положение существует и поныне. В недавно вы¬
шедшем под руководством бывшего министра обороны
США М. Лэйрда исследовании «Большая стретегия
80-х годов» констатируется отсутствие целенаправлен¬
ной стратегии и политики «национальной безопасности».
По словам генерала М. Тейлора, политика «националь¬
ной безопасности» напоминает английскую конституцию,
которая нигде не изложена в едином документе, и ее при¬
50
ходится в каждом конкретном случае выводить из пре¬
зидентских заявлений, предвыборных обещаний, между¬
народных соглашений, которые могут быть без особого
предупреждения изменены или пересмотрены8.
С точки зрения выявления целевых установок наи¬
больший интерес представляют концепции «глобального
конфликта», «взаимозависимости», «трехстороннего со¬
общества» и «нового миропорядка», в которых освещает¬
ся политика США на важнейших направлениях между¬
народной деятельности.
Как и доктрина «национальной безопасности», эти
концепции подвергаются различным модификациям по
мере сдвигов в соотношении мировых сил, но их импе¬
риалистическая сущность остается неизменной. При всех
их вариантах органически присущая империализму тен¬
денция к экспансии, к разделению мира по силе, а в ко¬
нечном счете — к мировому господству постоянно прояв¬
ляется в стремлении правящих кругов США обеспечить
себе наиболее выгодные позиции в глобальном противо¬
борстве с социализмом, к утверждению американского
лидерства, по крайней мере, в капиталистической систе¬
ме и к противодействию революционным переменам в
мире.
Разумеется, все эти устремления получают далеко не
равновеликое отражение во всех конкретных концепциях,
определяющих задачи США в современном мире, по¬
скольку сами эти концепции представляют собой лишь
составные части общей системы взглядов правящего клас¬
са США на международные явления и процессы. Соответ¬
ственно в каждой из этих концепций на передний план
выдвигаются не взятые вместе устремления, а лишь от¬
дельные слагаемые империалистической политики и
идеологии.
Это дает основание, не опасаясь впасть в упрощен¬
чество и схематизм, рассматривать целевые внешнеполи¬
тические установки доктрины «национальной безопас¬
ности» сквозь призму тех идей, которые составляют
политико-идеологический стержень каждой конкретной
концепции.
Приоритеты «глобального
конфликта» двух систем
Главная цель американской внешней политики — гло¬
бальное противоборство с социализмом, по существу,
красной нитью проходит через все концепции, рассмат¬
ривающие как внешнеполитические цели США, так и пу¬
ти их достижения. Под этим углом зрения оценивается
и соотношение сил в мире, и выбор плацдармов внешне¬
политической активности, и применение военных и нево¬
енных средств, и развитие отношений со всеми компонен¬
тами системы международных отношений (союзниками,
противниками, нейтралами).
*
Наиболее рельефно и широко различные аспекты аме¬
риканского подхода к глобальному противоборству двух
систем представлены в концепции «глобального конф¬
ликта».
Эта концепция, прочно утвердившаяся в американс¬
ком внешнеполитическом мышлении в годы «холодной
войны», явилась той платформой, которая объединила тог¬
да представителей различной политической ориентации.
Известная своими правыми взглядами группа амери¬
канских социологов — сотрудников Научно-исследова¬
тельского института внешней политики при университете
штата Пенсильвания в составе проф. Р. Страус-Хюпе
(впоследствии посла США в Швеции и при НАТО),
У. Кинтнера, Дж. Догерти и Э. Коттрэла утверждала в
книге «Затяжной конфликт», что сущность международ¬
ных отношений в современный период определяется
«борьбой за мировое господство между Западом и ком¬
мунистическим миром», которая будет носить «продол¬
жительный, затяжной характер». Рекомендуя правитель¬
ству США вырвать из рук коммунистов руководство
происходящей в мире революцией, эта группа заявляла:
«Мы живем в эпоху мировых перемен и сошлись в смер¬
тельном конфликте с коммунистической системой за ру¬
ководство этими переменами»9.
В опубликованном в 1962 году докладе «Комитета
Гертера», который был подготовлен с участием видных
политологов и отражал более умеренные взгляды, также
подчеркивалось, что конфликт между Востоком и Запа¬
дом является «первопричиной международных акций и
52
окрашивает по существу всё, предпринимаемое в между¬
народных отношениях»1^
Несмотря на некоторые различия в тональности оце¬
нок, представители различных политических сил — и кон¬
серваторы, и либералы — сходились в главном. Они рас¬
считывали на выигрыш в глобальном противоборстве не
путем мирного соревнования двух систем, а путем «транс¬
формации» существующего в Советском Союзе и других
социалистических странах государственного и общест¬
венного устройства.
Отмечая, что подобный американский подход являет¬
ся резким контрастом в сравнении с отношением Совет¬
ского Союза к мирному сосуществованию с государства¬
ми иной социальной системы и к общественно-полити¬
ческому устройству США, известный американский ис¬
следователь Р. Барнет в своей книге «Гиганты» пишет:
«Со времен русской революции в Соединенных Штатах
свято верили в то, что стабильные и мирные отношения
требуют многих и фундаментальных перемен внутри Со¬
ветского Союза... Ориентация на идеологию в политике
США по отношению к Советскому Союзу достигла своего
апогея в эру Джона Фостера Даллеса, который верил,
как сказал один западногерманский дипломат, что «боль¬
шевизм— это порождение дьявола и в конце концов бог
перестанет терпеть большевиков». Идеология и страте¬
гия Даллеса заключались в том, чтобы изобразить Со¬
ветский Союз как воплощение порочной идеологии, ок¬
ружить его и угрожать ему, оправдывая все это тем, что
речь идет о моральном крестовом походе». С этой стра¬
ной можно вести лишь минимум дел до тех пор, пока не
изменится ее ненавистная система»11.
В сугубо подрывном по своему характеру подходе к
отношениям между СССР и США — этими исторически
сложившимися полюсами двух противоположных сис¬
тем— с годами менялись лишь методы.
В годы «холодной войны» принятие идеи «глобально¬
го конфликта» подразумевало возможность использова¬
ния военной силы в порядке либо «сдерживания» Со¬
ветского Союза, либо «освобождения» социалистических
стран Восточной Европы, понимаемого как изменение
общественного строя в этих странах. На практике все
это выливалось в постоянную нацеленность на военную
конфронтацию, балансирование на грани войны.
Предпринятая в 1972—1974 годах перестройка со¬
ветско-американских отношений на принципах мирного
53
сосуществования сопровождалась в американской внеш¬
неполитической теории и практике признанием со сторо¬
ны определенных кругов правящего класса несостоятель¬
ности военно-силового подхода на советском направле¬
нии глобального противоборства и выбором в качестве
главных средств невоенных форм и методов борьбы с ре¬
альным социализмом, позволяющих избегать смертельно
опасных для самих США военных конфронтаций.
Весьма характерно, что американский историк и дип¬
ломат Дж. Кеннан, сформулировавший в свое время кон¬
цепцию «сдерживания», во многом способствовавшую
нагнетанию напряженности и гонки вооружений, вынуж¬
ден сделать вывод, что «ни один из осложняющих фак¬
торов— ни жесткий характер нашего военного соперни¬
чества, ни очевидная противоположность американских
целей и целей Советского Союза в некоторых географи¬
ческих регионах и странах, ни традиционная коммунис¬
тическая риторика, — ни одно из этих обстоятельств, ни
все они, вместе взятые, не являются причиной для того,
чтобы мы отказывались от использования той сферы, где
можно развивать обмены, как культурные, так и торго¬
вые, которые могут принести выгоду обеим сторонам и
углубить стабильность отношений в целом. Американо¬
советские отношения и без того достаточно отягощены,
чтобы можно было их осложнять еще большим прене¬
брежением к реальной возможности прогресса. В таком
беспокойном мире, как наш, благоприятные возмож¬
ности надо беречь и преумножать, а не жертвовать ими
ради предрассудков, тщеславия и политической амби¬
ции»12.
Трезво мыслящие американские политики и ученые
пришли к совершенно справедливому выводу не только о
том, что переговоры с Советским Союзом предопределе¬
ны необходимостью предотвращения термоядерного
конфликта, но и о том, что прочный мир не может быть
автоматически обеспечен «равновесием страха», сущест¬
вованием на «грани войны».
«Цель США и других демократических прави¬
тельств,— отмечает проф. М. Шульман, занимающий ны¬
не крупный пост в госдепартаменте США, — уменьшить
опасность ядерной войны путем переговоров с советски¬
ми руководителями — является также нравственным обя¬
зательством. Ввиду разрушительного характера ядерной
войны это поистине должно стать первой задачей всех
правительств. С появлением новых дестабилизирующих
54
ситуаций, новых видов военной технологии, а также в
связи с перспективой распространения ядерного ору¬
жия и отсутствием рационального политического конт¬
роля над военной политикой... глубочайшим заблужде¬
нием было бы думать, что риск ядерной войны является
саморегулирующимся и автоматически снижается в ре¬
зультате баланса страха. Первоочередной задачей для
правительств должно стать урегулирование военного со¬
перничества, так как в случае неуспеха не может быть и
речи об укреплении наших демократических ценностей»13.
Появление подобных оценок отнюдь не означает от¬
каза от стратегии глобального противоборства. Речь идет
об изменении тактики, смене методов и форм борьбы.
Суть же остается прежней — создание условий для эво¬
люции социалистического строя в направлении капита¬
лизма.
Тот же М. Шульман, который наиболее последова¬
тельно выступает в пользу советско-американского взаи¬
модействия для уменьшения опасности войны, в то же
время считает, что цель изменить внутренние установле¬
ния в СССР «в направлении гуманности и плюрализма»,
безусловно, желательна. Правда, в отличие от других,
он предостерегает, что не следует переоценивать амери¬
канские возможности и прибегать к действиям, в резуль¬
тате которых процесс разрядки окажется под угрозой.
В частности, «попытки изменить советские институты и
практику лобовой атакой, скорее всего, приведут к об¬
ратному. Вместе с тем давление извне может быть в ка¬
кой-то степени эффективным, особенно если принять во
внимание, насколько реальна возможность добиться ка¬
ких-либо изменений»14.
Появлявшиеся в качестве альтернативы господствую¬
щей в годы «холодной войны» концепции «сдерживания»
новые концепции «конкурентного сосуществования»,
«ограниченного соперничества», «невоенной конфронта¬
ции», «глобальной конвергенции» и т. п. хотя и были на¬
сыщены основными идеями стратегии «глобального конф¬
ликта», в то же время представляли определенную по¬
пытку отразить намечающиеся возможности и перспек¬
тивы развития советско-американского сотрудничества15.
*
В новейших исследованиях американских авторов,
посвященных глобальному противоборству двух систем,
сохранена преемственность в том, что касается принци¬
55
пиального подхода к обеспечению выигрыша США в
«глобальном конфликте», по-прежнему выражается
стремление во что бы то ни стало обеспечить транс¬
формацию советского общества по капиталистическому
образцу, отдается предпочтение борьбе перед сотрудни¬
чеством.
В новейших работах идея «глобального конфликта» и
противоборства двух систем подчеркивается с особой си¬
лой. «Ни широкое распространение поведения в духе
сотрудничества, ни существование чувства общности не
означают, что конфликт и соперничество между государ¬
ствами, группами и различными политическими позиция¬
ми исчезнут»16, — утверждают авторы доклада трехсто¬
ронней комиссии по вопросам нового миропорядка Р. Ку¬
пер, Р. Кайзер и М. Косака.
«Результаты разрядки не подразумевают прекраще¬
ния конфликта и борьбы двух лагерей»17, — заявляют
члены рабочей группы Атлантического совета, возглав¬
ляемой бывшим главнокомандующим войсками НАТО
А. Гудпейстером и бывшим постоянным представителем
США в Совете НАТО Г. Кливлендом в вышедшем в но¬
ябре 1977 года исследовании «Расширяющиеся масшта¬
бы безопасности».
Спекулируя на таком принципиальном всеобъемлю¬
щем противоречии современной эпохи, как наличие двух
мировых социально-экономических систем, американские
внешнеполитические теоретики и практики называют это
противоречие глобальным международным конфликтом
и произвольно подверстывают к этому противоречию все
остальные процессы, происходящие в современном мире.
На самом деле, хотя реальные противоречия современно¬
го мирового развития в определенных условиях создают
объективные предпосылки для конфликта, нельзя не
видеть и того, что эти противоречия не являются раз и
навсегда заданными, что они находятся в состоянии раз¬
вития и сами по себе не вызывают конфликты. Возникно¬
вение международных конфликтов — прежде всего след¬
ствие действия субъективного фактора — агрессивной
политики и тактики империалистических держав, созна¬
тельно ориентированных на стимулирование конфликт¬
ных отношений.
Как отмечается в советской литературе, нельзя отож¬
дествлять объективно существующие противоречия не¬
посредственно с самим международным конфликтом.
56
Международный конфликт — вполне реальный междуна¬
родно-политический процесс, имеющий свое происхожде¬
ние, содержание и форму, систему и структуру, свои фа¬
зы развития. Этот процесс, взятый применительно к от¬
дельному конфликту или даже к цепи возникших в пос¬
левоенный период конфликтов, не может рассматривать¬
ся, как это делается в работах американских авторов, в
качестве извечной, коренной исторической тенденции, са¬
мой сути современных международных отношений, чего-
то всеобъемлющего, покрывающего без остатка всю
область международных отношений нашего времени. Та¬
кой односторонний подход американской внешнеполити¬
ческой мысли практически устраняет постоянно расши¬
ряющуюся сферу международного сотрудничества, сни¬
мает мирное сосуществование государств с различным
социальным строем как центральную проблему совре¬
менных международных отношений. Конфликт превра¬
щается тем самым в некую метафизическую, надыстори-
ческую категорию, легализуется как извечная, естествен¬
ная, неизбежная и всеохватывающая форма междуна¬
родных отношений, как их главное содержание, сущ¬
ность18.
Приглушая вопрос о социальном содержании основно¬
го противоречия двух систем, американские теоретики
отнюдь не преуменьшают значения этого противоречия и
фактически ставят его во главу угла современных меж¬
дународных отношений. В упоминавшемся выше докладе
трехсторонней комиссии по вопросам нового миропоряд¬
ка говорится, что конфликт между Востоком и Запа¬
дом— только один элемент в глобальной картине, но он
занимает ключевое положение, особенно в отношениях по
оси «Север — Юг» и в других общемировых проблемах19.
*
Современные американские политики и идеологи не
ограничиваются одной только абсолютизацией «глобаль¬
ного конфликта» и противоборства. Они предлагают и
рекомендации для нахождения наиболее выгодных пози¬
ций США в этом конфликте.
В новейших исследованиях присутствует заметно воз¬
росшая в последнее время обеспокоенность по поводу
дальнейшего укрепления позиций и влияния реального
социализма, по поводу крушения «грандиозного замыс¬
ла» определенных кругов США «умерить советский ре¬
67
волюционный взгляд на мир» при помощи разрядки20.
Многие из этих работ пронизаны шовинистическими
настроениями, желанием укрепить любой ценой позиции
и роль США в быстро меняющемся современном мире.
В этой связи заметная ставка делается на активное ра¬
зыгрывание «китайской карты» для ослабления проти¬
востоящих империализму сил. Как отмечают американ¬
ские авторы, весьма характерно, что и в официальных
выступлениях, и в исследовательских работах в основном
муссируется антисоветизм, в частности тезис о «советской
военной угрозе», в то время как тема антикоммунизма,
как такового, отступает на второй план. Приглушение
тезиса об антикоммунизме, по словам профессора Чикаг¬
ского университета Ч. Липсона, «тесно связано с попыт¬
кой провести различия между коммунистическими госу¬
дарствами. Ключом ко всему, естественно, является Ки¬
тай... Атака против Советского Союза, а не против
глобального коммунизма дает возможность натравли¬
вать Китай на его более могущественного соседа»21. С по¬
мощью Китая сторонники такого подхода хотели бы вер¬
нуться на путь вооруженных столкновений и конфронта¬
ций, отойти от ненавистной им политики разрядки.
В своей интерпретации «глобального конфликта» аме¬
риканские авторы наряду с военно-политической сторо¬
ной все более подчеркивают значение его морально-по¬
литической стороны.
«Правительствам и народам мира, — заявляют авто¬
ры упоминавшегося исследования «Расширяющиеся
масштабы безопасности», — необходимо постоянно напо¬
минать, что конфликт между Востоком и Западом — это
не конфликт между коммунизмом и капитализмом, а
конфликт по вопросу свободы и прав человека, достоин¬
ства и возможностей, права народов определять свою
собственную судьбу и иметь правительство по своему
выбору»22.
Демагогически разглагольствуя по поводу «свободы
личности» и «права народов определять свою собственную
судьбу», американские авторы протаскивают вполне оп¬
ределенные классовые установки.
Настоятельное подчеркивание необходимости интер¬
претации «глобального конфликта» в моральных катего¬
риях отнюдь не означает отрицания или хотя бы пре¬
уменьшения значения военно-политического аспекта
«глобального конфликта». Морализирование — лишь
идеологический пропагандистский камуфляж все той же
58
ориентации на силу, которая содержится, по существу,
во всех документах и практических рекомендациях.
Вместе с тем такая переакцентировка преследует и дале¬
ко идущие классовые цели. Американские идеологи и
политики с помощью подобных ухищрений стремятся
создать простор для применения дифференцированного
подхода и к социалистическим государствам, и к придер¬
живающимся социалистической ориентации развиваю¬
щимся странам с целью внесения раскола в их ряды,
дискредитировать реальный социализм в глазах широ¬
ких трудящихся масс Запада и стран Азии, Африки и
Латинской Америки.
*
На усиление позиций США и других империалисти¬
ческих стран в глобальном противоборстве с социализ¬
мом рассчитана и корректировка конкретных тактичес¬
ких задач на нынешнем этапе глобального противоборст¬
ва с социализмом. Смысл таких коррективов сводится
как бы к смещению приоритетов в рамках этого противо¬
борства. Сейчас эти приоритеты расставлены в следую¬
щем порядке: во-первых, отношения по оси «Запад—За¬
пад» (мировая капиталистическая система); во-вторых,
«Север—Юг» (развивающиеся страны); в-третьих, «За¬
пад—Восток» (Советский Союз и другие социалистичес¬
кие страны).
Сама по себе схема приоритетов, описанная в геогра¬
фических терминах*, вроде бы и не затрагивает основ
американской внешней политики, ее вполне определен¬
ной классовой направленности. При неизменности долго¬
срочных интересов глобального противоборства с социа¬
лизмом меняются лишь краткосрочные, специфические
задачи в нынешних конкретно-исторических условиях.
Если раньше глобальное противоборство сводилось, по
существу, к поединку США и СССР как двух полюсов
противоположных систем, то теперь, с учетом роста мо¬
* Употребление географической и иной подобной терминологии
вместо политической для обозначения классовых понятий в между¬
народных отношениях — типичный прием буржуазной внешнеполити¬
ческой идеологии. Так, понятие «Восток», использовавшееся вплоть
до недавнего времени в расистско-колониальном значении, теперь
упорно отождествляется с социализмом, «Запад» — с капиталистиче¬
ским миром, «Север» — с развитыми капиталистическими и социали¬
стическими странами, «Юг» — с бывшими колониями.
Г>9
гущества социалистической системы и уменьшением воз¬
можностей США, особое значение приобретает консоли¬
дация капиталистической системы под главенством США,
изыскание союзников среди развивающихся стран. Суть
передвижки приоритетов заключается в том, чтобы сде¬
лать развитие и совершенствование отношений по осям
«Запад—Запад» и «Север—Юг» предпосылкой и услови¬
ем для действий на главном направлении — в отношени¬
ях с Советским Союзом.
В то же время в вынесении отношений «Запад — Вос¬
ток», в том числе США — СССР, на третье место нельзя
не видеть попыток преуменьшить значение советско-
американских отношений в международной системе, а
тем самым и снизить значение главного, магистрального
направления борьбы за мир, за предотвращение новой
войны. Вместе с тем в этом просматривается и стремле¬
ние поставить США в особое, привилегированное поло¬
жение.
В совместно принятых в 1972—1974 годах советско-
американских документах сформулирована концепция
места и роли советско-американских отношений в совре¬
менном мире. Эта концепция исходит из признания
необходимости развития между СССР и США отношений
мира и сотрудничества на основе принципа равенства и
одинаковой безопасности.
Основные элементы этой концепции сводятся к сле¬
дующему. Во-первых, состояние советско-американских
отношений, несмотря на известные сдвиги в международ¬
ной системе государств, продолжает оставаться важным
фактором, от которого во многом зависит как обстановка
в мире в целом, так и мера опасности возникновения
глобального конфликта. Во-вторых, серьезное значение,
которое имеют состояние и перспективы советско-амери¬
канских отношений, отнюдь не означает особых прав и
преимуществ СССР и США перед другими народами.
В-третьих, отношения между СССР и США основаны
на строгом соблюдении законных прав и интересов тре¬
тьих стран, независимо от того, принадлежат они к чис¬
лу малых или крупных. Советский Союз исходит из того,
что все государства, независимо от их политической и
социальной системы, должны строить свои взаимоотно¬
шения на основе безусловного признания и уважения
национальной независимости, суверенитета, территори¬
альной неприкосновенности и равноправия всех госу¬
дарств, строго придерживаться принципа невмешатель¬
60
ства. B-четаертых, СССР и США несут особую ответст¬
венность за сохранение и упрочение международного ми¬
ра и безопасности. Эта ответственность отражает
реальное положение СССР и США как наиболее мощных
и влиятельных держав современности. Они имеют опре¬
деленные правомочия, которые вытекают из межсоюзни¬
ческих обязательств держав — победительниц во второй
мировой войне, а также тех прав, которыми они наделе¬
ны как постоянные члены Совета Безопасности ООН.
В-пятых, разрядка накладывает дополнительные обязан¬
ности на СССР и США. Она предполагает существование
в отношениях между двумя странами определенного
уровня доверия и взаимопонимания, требует проявления
сдержанности во взаимоотношениях и готовности вести
переговоры, регулировать разногласия мирными средст¬
вами, строго соблюдать принцип отказа от применения
силы и угрозы силой с использованием как ядерного ору¬
жия, так и обычных вооружений. Совместно разработан¬
ная концепция места и роли советско-американских от¬
ношений в современном мире сохраняет свое значение и
поныне. В ходе переговоров в Вене в июне 1979 года Ге¬
неральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президи¬
ума Верховного Совета СССР JI. И. Брежнев и прези¬
дент Соединенных Штатов Америки Дж. Картер обсуди¬
ли принципиальные вопросы советско-американских от¬
ношений. Они заявили: «Стороны едины в том, что
состояние отношений между Советским Союзом и Соеди¬
ненными Штатами имеет огромное значение для корен¬
ных интересов народов обеих стран и во многом опреде¬
ляет развитие всей международной обстановки. Созна¬
вая связанную с этим высокую ответственность, стороны
высказали твердое намерение вести дело к дальнейшему
укреплению конструктивной основы советско-американ-
ских отношений»23.
Хотя в последнее время тема приоритетов во внешней
политике США несколько приглушена, вопрос о месте и
роли отношений между Востоком и Западом, и прежде
всего между СССР и США, продолжает оставаться пред¬
метом острой борьбы. Сторонники снижения значимости
советско-американских отношений, например американ¬
ские политологи С. Браун и Дж. Болл, настаивают на
уменьшении проблематики и объема этих отношений, на
их «замораживании», предлагая американской стороне
руководствоваться либо лозунгом «ни переговоров, ни
конфронтаций»24, либо вежливым пренебрежением25, хо¬
61
тя в понимании «передышки» в советско-американских
отношениях С. Браун и Дж. Болл расходятся между со¬
бой (С. Браун выступает против гонки вооружений, уси¬
ления военного соперничества, Дж. Болл стоит на проти¬
воположных позициях). За свое стремление сузить
отношения между СССР и США подобные авторы полу¬
чили название редукционистов (от английского слова
reduction — сокращение). За рассуждениями о снижении
значимости советско-американских отношений явно про¬
глядывает стремление отказаться от признания пример¬
ного военного паритета, добиться односторонних преи¬
муществ для США.
В то же время целый ряд видных американских тео¬
ретиков предостерегают против недооценки значения
развития советско-американских отношений на той осно¬
ве, которая была определена в итоговых документах
четырех встреч на высшем уровне в 1972—1974 годах (в
том числе в таких сферах, как ограничение стратегичес¬
ких вооружений, укрепление режима нераспространения
ядерного оружия, общее ослабление опасности ядерной
войны, укрепление международной стабильности и т. д.).
Упоминавшийся выше американский историк и дипло¬
мат Дж. Кеннан в вышедшей в 1977 году книге «Туча,
несущая опасность», решительно критикуя противников
улучшения советско-американских отношений и прояв¬
ляя серьезное беспокойство по поводу усиливающегося
наращивания ядерного оружия и его распространения,
призывает свою страну поспешить с нормализацией и
развитием отношений с Советским Союзом. Взаимоотно¬
шения с СССР, заявляет он, — «центральная проблема
американской внешней политики, которая по важности и
сложности отодвигает на второй план все другие и от
подхода к которой зависят многие другие аспекты аме¬
риканской политики». Главную ее задачу в сфере отно¬
шений с Советским Союзом он видит в «ослаблении опас¬
ности, создаваемой гонкой вооружений»26. Выступая про¬
тив недооценки значения отношений с Советским
Союзом, другой видный американский ученый — С. Хоф¬
фман напоминает, что без участия СССР нельзя рас¬
считывать на урегулирование ряда острых кризисных
ситуаций, таких как, например, ближневосточная, и что
союзников, на которых предлагают переключить внима¬
ние, в первую очередь как раз и интересует состояние со-
ветско-американских отношений, их влияние на вопросы
войны и мира27. Не соглашаясь с теми, кто считает, что
62
отношениям СССР — США можно сегодня уделять мень¬
ше внимания по сравнению с началом 70-х годов, бывший
советник Г. Киссинджера X. Сонненфельд особо подчер¬
кивает, что «проблема советской мощи остается наибо¬
лее важной для США»28.
Сохранение стратегического паритета справедливо
рассматривается реалистически мыслящими кругами как
необходимое условие советско-американского взаимо¬
действия в деле поддержания международного мира и
безопасности, поисков альтернатив войне. «Предпосыл¬
кой прогресса в этом направлении (имеется в виду обес¬
печение всеобщей безопасности. — В. П.) является, — как
утверждает американский профессор Линда Миллер,—
готовность со стороны сверхдержав воздерживаться от
нарушения стратегического паритета»29.
Непрекращающиеся в США дебаты по вопросу о месте
и роли американо-советских отношений в современном
мире отражают постоянно присутствующую в американ¬
ской внешней политике борьбу двух тенденций в понима¬
нии путей и методов осуществления политики на «совет¬
ском направлении» — воинственно-агрессивной и более
сдержанной, относительно реалистической, — за которы¬
ми стоят интересы различных политических сил и соци¬
альных групп внутри господствующего класса.
Как свидетельствует автор книги «Расшатанный мир»
профессор Гарвардского университета Д. Ерджин, в пра¬
вительственном аппарате США при формировании поли¬
тики в отношении Советского Союза непрестанно проис¬
ходит столкновение так называемых «аксиом Риги» с
«аксиомами Ялты»30. Под «аксиомами Риги» имеется в
виду точка зрения тех американских чиновников, кото¬
рые до установления в 1933 году дипломатических отно¬
шений с Советским Союзом получали соответствующий
дипломатический опыт в антисоветском духе в Риге и ко¬
торые считают, что, поскольку СССР — это-де государ¬
ство, нацеленное исключительно на экспансию, ослабле¬
ние напряженности в отношениях с ним равнозначно ос¬
лаблению американской бдительности, позволяющему
Советскому Союзу добиваться односторонних выгод. Ти¬
пичными выразителями этой точки зрения в 30—40-х го¬
дах являлись, по мнению Д. Ерджина, американские дип¬
ломаты Л. Гендерсон, А. Кирк, Л. Стайнхардт, Ч. Тайер,
Э. Пейдж, Э. Дэрброу. «Аксиомы Ялты», отстаиваемые
людьми, разделяющими подход Ф. Рузвельта к отноше¬
ниям с Советским Союзом (Г. Гопкннс, Э. Стеттиниус,
63
А. Гарриман, отошедшие от «аксиом Риги» Дж. Кен-
нан и Ч. Болен), исходят из того, что СССР заинтересо¬
ван в международной стабильности и что поэтому США
способны создавать стимулы — военные и экономичес¬
кие,— которые могут привести СССР к принятию реше¬
ний, отвечающих интересам как СССР, так и США. «„Ак¬
сиомы Риги”, — пишет Д. Ерджин, — оказались «победи¬
телями» в ходе дискуссии 1945—1969 годов. (Дискуссия,
которая имеет много сходства с нынешней.) «Аксиомы
Риги» лежали в основе американской политики и исход¬
ных позиций на протяжении почти всего периода «холод¬
ной войны». На несколько лет в начале 70-х годов баланс
сместился в пользу «аксиом Ялты», что лежало в основе
сдвига в сторону разрядки». С приходом к власти новой
администрации вновь разгорелась борьба между этими
двумя соперничающими «наборами аксиом» с их весьма
различными рекомендациями как в отношении контроля
над вооружениями, так и торговли31.
Концепция развития отношений по оси «Запад—Вос¬
ток» имеет также целью обосновать необходимость вы¬
работки единой линии Запада в отношении социалисти¬
ческих стран Восточной Европы. Специфика предлагае¬
мой линии заключается в том, что она рассчитана на
условия разрядки и опирается главным образом на не¬
военные методы. Военная сила, конечно, продолжает ос¬
таваться составной частью политики Запада в этом райо¬
не, но рассматривается она преимущественно как средст¬
во противостояния военной мощи СССР и Организации
Варшавского Договора в целом. Основную ставку аме¬
риканские теоритики делают на дозированное сочетание
политико-идеологических и особенно экономических ме¬
тодов проникновения в социалистические страны. Прин¬
цип «дифференцированного» подхода к социалистичес¬
ким странам предлагается использовать как дополнение
к принципу «фронтальной политики».
В долгосрочном плане имеется в виду подорвать
принципы социалистического интернационализма в со¬
циалистическом содружестве и втянуть входящие в него
страны в экономическую, а затем и политическую орбиту
мировой системы капитализма. Именно на это направле¬
ны попытки всячески играть на националистических мо¬
тивах, ослаблять приверженность социалистических
стран принципу невмешательства во внутренние дела
при помощи кампании «в защиту прав человека», ис¬
пользовать экономические авансы и наиболее современ¬
64
ные формы международных экономических отношений, в
особенности промышленную и сбытовую кооперацию.
Всем этим расчетам, конечно, присуща серьезная не¬
дооценка степени зрелости социалистического содруже¬
ства. Но нельзя и недооценивать подрывного характера
этой линии Запада, тем более что в районе Восточной
Европы, как, впрочем, и на других международных на¬
правлениях, складывается ситуация, когда явно на па¬
раллельных курсах действуют США и КНР, объединен¬
ные совпадением своей главной установки — разобщить
социалистическое содружество и ослабить его сплочен¬
ность.
Что касается концептуального подхода к оценке ха¬
рактера отношений по оси «Восток — Запад», и в первую
очередь отношений СССР и США, то этот подход отли¬
чается большой внутренней противоречивостью. Приме¬
няя к характеристике современного этапа этих отноше¬
ний формулу «переговоры», такие американские теоре¬
тики, как Г. Киссинджер, М. Шульман, а вслед за ними и
многочисленная армия западных пропагандистов опре¬
деляют суть нынешнего этапа как сочетание «борьбы,
соревнования и сотрудничества»32. В таком понимании
советско-американских отношений содержится значи¬
тельный сдвиг вперед по сравнению с периодом «холод¬
ной войны», когда эти отношения рассматривались аме¬
риканскими теоретиками преимущественно в категориях
«конфронтации».
Действительно, политика мирного сосуществования,
не отменяя классовой борьбы и связанной с этим борьбы
идей, в которых находят свое выражение интересы клас¬
сов, их представления о целях и идеалах, о путях раз¬
вития общества, в то же время предполагает соревнова¬
ние и сотрудничество. Наша страна, как известно, после¬
довательно добивается того, чтобы соревнование госу¬
дарств с различным социальным строем было мирным,
чтобы оно было свободно от военного соперничества и
носило конструктивный, а не разрушительный характер.
Такое соревнование открывает широкий простор для
взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике,
науке и культуре.
«Активно и настойчиво выступаем мы, — подчеркнул
в докладе о 60-летии Великого Октября Л. И. Бреж¬
нев, — за то, чтобы не на поле боя, не на конвейерах во¬
оружений решался спор социализма и капитализма, а в
сфере мирного труда. Мы хотим, чтобы через границы,
3—597
65
разделяющие эти два мира, проходили не трассы ракет с
ядерными зарядами, а протянулись нити широкого и
многообразного сотрудничества на благо всего челове¬
чества»33.
Высказываясь в принципе в пользу закрепления со-
ветско-американских отношений на путях поворота от
военной конфронтации к переговорам, американская
буржуазная внешнеполитическая мысль трактует, одна¬
ко, трехчленную формулу «борьба — соревнование —
сотрудничество» не как диалектическое единство, а как
механическое соединение трех элементов, причем поня¬
тие «борьба» выносится за рамки идеологии, распростра¬
няется на различные сферы, в том числе военные, а под
видом борьбы идей осуществляются попытки вмеша¬
тельства во внутренние дела других государств.
При этом американские авторы явно впадают в апо¬
логетику «борьбы». Прошлое советско-американских от¬
ношений, их сегодняшний день и будущее видятся им как
«противоборство» или, по крайней мере, как «конкурент¬
ное соперничество».
Правда, они допускают, что фазы «борьбы» могут че¬
редоваться с фазами «сотрудничества», но тут же делаю г
из этого вывод о придании, по словам 3. Бжезинского,
«акробатического стиля советско-американским отноше¬
ниям».
Механический характер концепции «борьбы и сот¬
рудничества» подвергается в последнее время критике и
в самих Соединенных Штатах. Так, X. Сонненфельд счи¬
тает, что реалистическая оценка советско-американских
отношений требует подхода к ним как к «процессу долго¬
временного регулирования». Но, подчеркивая необходи¬
мость определения «перспективы взаимовыгодных свя¬
зей», он обусловливает масштабы и интенсивность таких
связей «эволюцией отношений в сфере безопасности и
политики». В целом же Сонненфельд считает маловеро¬
ятным, что «в обозримом будущем американо-советские
отношения вообще уместятся в понятие сотрудничества».
Выдвигаемая им концепция рассматривает «долговре¬
менное регулирование» как «процесс неограниченной
продолжительности, в рамках которого американо-совет¬
ские отношения неизбежно будут оставаться более или
менее напряженными»34.
Выделяя преобладающее значение «борьбы» госу¬
дарств с противоположными социально-экономическими
системами, буржуазные внешнеполитические идеологи
66
прилагают свои усилия к тому, чтобы теоретически обос¬
новать такую борьбу в нарушение общепризнанных норм
международного права, в том числе и принципа невме¬
шательства во внутренние дела других стран. Предла¬
гаемое использование вместо термина «борьба» терми¬
на «долгосрочное регулирование» не меняет сути дела.
В обоих случаях разжигается соперничество с социалис¬
тическими странами, прежде всего с Советским Союзом,
сопутствующим обстоятельством называется «угроза
конфликта», а сотрудничеству отводится подсобная роль
как взаимодействию, ограниченному по объему, темпам
и сферам своего развития.
Применение подобных теоретических постулатов на
практике приводит к тому, что советско-американские
отношения развиваются неровно, часто сопровождаются
резким обострением политико-пропагандистской обста¬
новки вокруг них.
«Если же смотреть на другую сторону только как на
«противника», о чем нередко говорят в Вашингтоне, то
трудно, конечно, вести дело к планомерному углублению
и расширению областей сотрудничества, — указывает
Л. И. Брежнев в ответах на вопросы американского жур¬
нала «Тайм» 16 января 1979 г. — При таком подходе
не только мучительно долго и сложно рождаются новые
договоренности, но и в целом отношения топчутся на
месте или идут вспять, как оно, в сущности, и происходи¬
ло в последние два года. Между тем при уважительном
отношении к суверенным правам и интересам друг друга
обеим нашим странам будет не хуже, а лучше. Да и весь
мир выиграет от согласия между ними»35.
Признание объективной неизбежности борьбы двух
систем вовсе не равнозначно лризнанию неизбежности
конфронтации по всем направлениям. Отказ от «холод¬
ной займы» предполагает расширение ^фер сотрудни¬
чества и сужение сфер борьбы.
Дорога улучшения советсюг-американских отношений
ясна. Она лежит в направлении признания реальностей
современного мира, в последовательном соблюдении при¬
нятых на себя взаимных обязательств, в борьбе с поли¬
тической слепотой противников дальнейшей нормализа¬
ции отношений СССР и США, в ответственности пра¬
вительств за нее, в недопущении соскальзывания между¬
народных отношений, в том числе советско-американских»
назад, к «холодной войне».
Влияние догм противоборства заметно обнаружива¬
3*
67
ется в подходе буржуазных теоретиков к понятию поли¬
тики разрядки, которая рассматривается не с точки
зрения перспектив сотрудничества, а под углом ослабле¬
ния государств иной социальной системы. Как отмечают
американские исследователи Чарлз и Тоби Гати, «проис¬
ходящие дебаты вокруг политической стороны «разряд¬
ки» сконцентрированы не на цифрах (имеются в виду
данные о том, что получили СССР и США от разрядки в
конкретных областях — В. Я.), а на опыте прошлого и
презумпциях настоящего в отношении наших потенци¬
альных возможностей оказания воздействия на Совет¬
ский Союз».
Показательно в этом отношении, что в происходящих
в США дебатах по поводу советско-американских отно¬
шений различные точки зрения могут быть сведены к од¬
ному общему знаменателю — влиянию на Советский
Союз и другие социалистические страны с целью измене¬
ния их внутренней и внешней политики, что равнозначно
вмешательству во внутренние дела. Раскрывая суть по¬
добного подхода, авторы вышедшего в 1978 году доклада
трехсторонней комиссии «Обзор отношений Восток —
Запад» американец Дж. Эзраэл, западный немец Р. Ле-
венталь и японец Т. Накагава пишут: «Говоря о мирных
изменениях в направлении наших (т. е. западных. —
В. Я.) ценностей, мы имеем в виду прежде всего измене¬
ния внутри этих режимов (речь идет о странах социалис¬
тического содружества. — В. Я.)»36. Реакционные силы,
не скрывая своих намерений перечеркнуть все то поло¬
жительное, что было достигнуто в отношениях между
СССР и США за последние годы, предлагают так стро¬
ить политику в этой области, чтобы путем неприкрытого
вмешательства во внутренние дела попытаться «транс¬
формировать» советское общество. Более умеренно нас¬
троенные круги, признавая несостоятельность такого
подхода, в то же время считают, что в процессе разряд¬
ки следует «влиять» на Советский Союз более осторож¬
но, исподволь.
Необходимость «влияния» на Советский Союз аме¬
риканские теоретики мотивируют тем, что он-де противо¬
действует американской политике. Но при этом созна¬
тельно опускается вопрос, о какой политике идет речь.
Советский Союз действительно противодействует амери¬
канской политике, но в тех случаях, когда она направле¬
на на подготовку военных авантюр, на разжигание
вражды между народами, на усиление международной
68
напряженности. Когда же трезво мыслящие политические
деятели США высказываются за отказ от балансирова¬
ния на грани войны, за поворот от конфронтации к пере¬
говорам— такой политический курс встречает полное по¬
нимание и решительную поддержку со стороны Советско¬
го Союза.
Несмотря на свои попытки сорвать процесс разрядки
или, по крайней мере, «включить желтый свет разрядке»,
что-де должно послужить напоминанием о необходимости
соблюдения осторожности и проявления осмотритель¬
ности в отношениях с СССР37, противники разрядки все
же вынуждены считаться с тем, что идеи разрядки уже
пустили глубокие корни в сознании широких слоев ми¬
ровой общественности, в том числе и американской. Те¬
перь они больше не выступают против самого употребле¬
ния термина «разрядка», а избирают иной путь — путь
извращения существа определяемого этим термином про¬
цесса снятия напряженности в советско-американских
отношениях и перестройки их на началах мирного сосу¬
ществования.
С горечью констатируя широкое международное приз¬
нание идей разрядки, видный американский историк,
один из идеологов «холодной войны» П. Сиборн пишет:
«Отбросить в сторону разрядку как кодовое слово для
набора признаков благожелательной позиции и полити¬
ки— значит пойти на риск покрыть себя позором, прос¬
лыв врагом сердечности, улучшения отношений и дру¬
жественного образа жизни (сосуществования!) с сопер¬
никами на великом космическом корабле — Земля»38.
С учетом всего этого противники действительной раз¬
рядки активно вводят сейчас в оборот понятие «кодек¬
са разрядки». За высокопарными рассуждениями о
«всеобъемлющей и взаимной разрядке» скрываются
вполне определенные политико-идеологические цели, не
имеющие ничего общего с истинным содержанием раз¬
рядки, как это было определено в основополагающих
документах советско-американского сотрудничества —
Основах взаимоотношений между СССР и США и Согла¬
шении о предотвращении ядерной войны.
Согласно этим документам, разрядка предполагает
совместные усилия в деле предотвращения термоядерной
войны, готовность разрешать разногласия и споры не си¬
лой, не угрозами и бряцанием оружием, а мирными сред¬
ствами, установление определенного уровня доверия и
умение считаться с законными интересами друг друга.
69
В результате венских переговоров между JI. И. Бреж¬
невым и Дж. Картером была подтверждена уверенность
в том, что полное осуществление всех положений Основ
взаимоотношений между СССР и США, как и других
заключенных между ними договоров и соглашений, спо¬
собствовало бы приданию большей устойчивости отноше¬
ниям между двумя странами39.
«Кодекс разрядки» в интерпретации американских
теоретиков правого толка всем своим существом нацелен
на ослабление значения главного общего выигрыша от
разрядки — уменьшения опасности возникновения новой
мировой войны. Разрядка, согласно рассуждениям аме¬
риканского международника Т. Дрейпера, фактически
не играет сколько-нибудь значительной роли в предот¬
вращении ядерной войны, поскольку-де «уже сам факт
наличия ядерного оружия доводит до абсурда всякую вой¬
ну с помощью оружия, которое является слишком разру¬
шительным»40. Такая постановка вопроса противоречит
историческим фактам. Отсутствие в послевоенные годы
международных конфликтов с применением ядерного
оружия объясняется не самим по себе существованием
этого оружия, а причинами совсем другого свойства.
Американский империализм, как показывают уроки Хи¬
росимы и Нагасаки, готов был к применению смертонос¬
ных средств не только для достижения военной победы,
но и просто для демонстрации своей военной мощи. И ес¬
ли все же ядерное оружие им не было применено, то дело
в том, что подобным оружием обладала другая сторона
в потенциальном конфликте. К тому же нельзя игнориро¬
вать, как это делают Дрейпер и др., возможность слу¬
чайного применения ядерного оружия, особенно в
условиях международной напряженности. Все это пред¬
полагает настоятельную необходимость советско-амери¬
канского взаимодействия в этом жизненно важном для
обеих сторон вопросе.
Принижая значение совместных советско-американ¬
ских усилий по уменьшению военной опасности, так на¬
зываемый «кодекс разрядки» вместе с тем стирает грани
между двумя различными сферами современной полити¬
ческой действительности — межгосударственными отно¬
шениями, где первостепенное значение имеет проблема
выбора методов решения спорных вопросов — о войне и
мире, и социальным развитием, неуклонно пробивающим
себе дорогу в любой международной обстановке, будь то
разрядка, «холодная» или даже «горячая» война. Стира¬
70
ние этих очевидных различий американскими идеолога¬
ми явно рассчитано на то, чтобы совместить объективно
назревшую перестройку международных отношений с
развертыванием борьбы против международного рабо¬
чего и национально-освободительного движения.
Еще одна сторона так называемого «кодекса разряд¬
ки» заключается в том, чтобы использовать открываю¬
щиеся по мере углубления разрядки широкие возмож¬
ности международного сотрудничества для вмешательст¬
ва во внутренние дела социалистических стран.
Многие западные теоретики правого крыла (амери¬
канцы А. Улам, Г. Гроссмен, англичанин Р. Конкуэст и
др.) пытаются доказать, что главным вопросом разрядки
между США и Советским Союзом является так называ¬
емая «проблема прав человека» в СССР. При этом они
предлагают ставить в прямую зависимость от этой проб¬
лемы любые торгово-экономические связи между Запа¬
дом и Востоком. Цель такого подхода — оказать всесто¬
ронний нажим на Советский Союз, не гнушаясь при этом
даже методами диктата и произвола. «Мы, — заявляет,
например, с циничной откровенностью консультант
Стэнфордского научно-исследовательского института
Р. Пайпс, — призываем к внутренним изменениям в Рос¬
сии и Восточной Европе с помощью «третьей корзины» и
других каналов»41. Такой подход не имеет ничего общего
ни с целями разрядки, ни с нормами, обычными для меж¬
государственных отношений. Его последствия однознач¬
ны — нагнетание напряженности и рост недоверия. В
конечном счете подобные рекомендации оборачиваются
на практике против тех сил в США, которые рассчиты¬
вают с помощью лицемерия и клеветы нажить опреде¬
ленный политический капитал как внутри США, так и за
границей.
Чтобы протолкнуть такой суррогат разрядки, правые
круги прибегают к подтасовке фактов, к произвольному
толкованию достигнутых договоренностей, к их подгонке
к потребностям империалистической политики. Они об¬
ходят стороной принципы взаимоотношений между госу¬
дарствами, зафиксированные в Заключительном акте
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
что, впрочем, не останавливает их в выдвижении облыж¬
ных обвинений в адрес социалистических государств на¬
счет мнимого невыполнения положений этого документа,
касающихся сотрудничества в гуманитарных областях.
Цель очевидна — ввести в заблуждение общественное
71
мнение, сделать его слепой игрушкой в руках империа¬
листических политиков.
Под предлогом дозирования разрядки, проведения ее
на «контролируемой, выборочной основе» теоретики та¬
кого типа изображают Советский Союз как потенциаль¬
ного противника США, который-де представляет расту¬
щую военную угрозу, осуществляет глобальную экспан¬
сию, нарушает права человека.
Обвинения Советского Союза в нарушении некоего
«кодекса разрядки» служат цели оправдать призывы за¬
нять в его отношении более «твердую» или «жесткую»
позицию. Одновременно они предназначены выполнить и
другую задачу — попытаться спровоцировать ответную
острую реакцию и таким образом вызвать появление тен¬
денции, которая действовала бы в направлении, противо¬
положном процессу разрядки.
Шумные публичные рассуждения о «кодексе разряд¬
ки» отвлекают внимание народов от того важного фак¬
та, что западная сторона либо пытается уклониться от
проведения и утверждения в жизни тех обязательств,
которые были приняты в интересах углубления разрядки,
либо действует вопреки этим обязательствам, предпри¬
нимая шаги в направлении нагнетания напряженности и
форсирования гонки вооружений. Они помогают подме¬
нять в глазах общественности эти реальные обязательст¬
ва надуманными, изображать разрядку как своего рода
договоренность о «замораживании» социального статус-
кво в мире, как обещание отказаться от солидарности и
поддержки борьбы народов за свое национальное и со¬
циальное освобождение. Иначе говоря, разговоры о «ко¬
дексе разрядки» — это пропагандистский инструмент
империалистической политики, используемый против
международной разрядки, против нормализации отноше¬
ний между государствами, принадлежащими к различ¬
ным социальным системам.
Хотя сторонники подобного «кодекса разрядки» и за¬
являют о своем нежелании прослыть рыцарями «холод¬
ной войны», тем не менее предлагаемые ими оценки и
действия представляют собой не что иное, как несколько
подновленный вариант «холодной войны». Смысл «ко¬
декса» сводится к тому, чтобы создать под прикрытием
разрядки необходимые условия для укрепления позиций
США в противоборстве с социализмом, для осуществле¬
ния ими «глобальной империалистической миссии с по¬
зиции силы». «Нынешняя структура мировой полити¬
72
ки, — заключает свои рассуждения о приемлемой для
США концепции разрядки упоминавшийся выше П. Си¬
борн,— такова, что Америка — единственная великая
держава, обладающая достаточными ресурсами для то¬
го, чтобы участвовать в серьезной игре с позиции силы с
противниками, не принимающими ценности нашей сис¬
темы»42.
Активное контрнаступление противников разрядкиу
не решающихся открыто выступать против разрядки и
рядящихся в тогу защитников «дозируемой», «контроли¬
руемой» разрядки, вызывает серьезную обеспокоенность
со стороны тех, кто стремится избежать развития меж¬
дународных отношений по пути, ведущему к катастрофе.
По словам Дж. Кеннана, беда противников разрядки в
том, Что они не видят изменений, происшедших в период
между 1947 и 1977 годами, и рассуждают о советско-
американских отношениях, используя категории «холод¬
ной войны». Дж. Кеннан настоятельно призывает
всех реалистически мыслящих американцев дать отпор
представителям тех кругов, которые искажают существа
политики разрядки. «На карту поставлено слишком мно-
Foe, — пишет он. — За провалы в политике придется
серьезно расплачиваться. Последствия таких провалов
окажутся более далеко идущими, чем безудержная
гонка вооружений. Мы можем столкнуться в предстоящий
период с возможностью обострения кризисов в Южной
Африке и на Ближнем Востоке. Вполне может случить¬
ся, что мир на земле будет зависеть от способности аме¬
риканского и советского правительств сохранять между
собой тесные контакты, давать друг другу разумные за¬
верения относительно намерений обеих сторон и коорди¬
нировать свои действия с целью недопущения перерас¬
тания локальных конфликтов в столкновения глобальных
масштабов».
Вместе с Дж. Кеннаном в поддержку политики раз¬
рядки сейчас активно выступают известный обществен¬
ный и политический деятель США, бывший председатель
сенатской комиссии по иностранным делам У. Фулбрайт,
конгрессмен JI. Эспин, профессора Дж. Кистяковский,
Дж. Гэлбрайт, Ф. Нил, бывший советник госдепарта¬
мента США С. Писар и др. Свои взгляды они изложили
в вышедшей в феврале 1979 года в Нью-Йорке книге
«Разрядка или катастрофа»43.
Острая борьба внутри США вокруг перспектив совет¬
ско-американских отношений и разрядки, заметно уси¬
73
лившаяся в связи с вопросом о ратификации договора об
ОСВ-2, является еще одним свидетельством того, что за
новейшими теоретическими построениями, касающимися
глобального конфликта двух социально-экономических
систем, взаимоотношений между СССР и США как исто¬
рически сложившимися полюсами этих систем, вполне
отчетливо просматривается стремление правых сил акти¬
визировать противоборство с Советским Союзом по всем
направлениям — политическому, экономическому и идео¬
логическому с целью удержать, а по возможности и уп¬
рочить позиции США в историческом соревновании двух
систем.
Директорат капиталистического мира
вместо взаимозависимости
Уже в самой концепции «глобального конфликта»
между двумя социально-экономическими системами с ее
ярко выраженным акцентом на военно-политической
стороне этого конфликта заложена мысль о «естествен¬
ном лидерстве» Соединенных Штатов как наиболее мо¬
гущественной в военном отношении державы капиталис¬
тического мира.
Однако на нынешнем этапе глобального противобор¬
ства, характеризующемся перемещением центра тяжести
в невоенную сферу и возрастанием значения идеологи-
чески-пропагандистского камуфляжа подлинных импе¬
риалистических целей, обоснование идеи американского
лидерства в капиталистическом мнре военно-политичес¬
кими потребностями «глобального конфликта» оказыва¬
ется недостаточным. Для этого используются и другие,
еще более изощренные на вид концепции.
Среди них первостепенное значение имеет концепция
«взаимозависимости» и являющаяся ее ответвлением
концепция «трехстороннего сообщества».
Концепция «взаимозависимости» не принадлежит к
числу новых конструкций в теоретическом арсенале
внешней политики США. Она была взята Вашингтоном
на практическое вооружение еще в начальный период
«холодной войны». Тогда она трактовалась как опреде¬
ленный противовес покоившейся на «изоляционистских»
традициях концепции «невовлечения в союзы». Спеку¬
лируя на объективно существующих явлениях в между¬
народной политике и экономике, концепция «взаимоза¬
74
висимости» послужила теоретическим обоснованием для
проведения Соединенными Штатами в послевоенные го¬
ды экспансионистского, интервенционистского курса. Ее
трумэновско-даллесовский вариант нацеливал на созда¬
ние таких взаимоотношений США со своими военно-по¬
литическими союзниками, которые фактически обеспечи¬
вали бы одностороннюю зависимость союзных стран от
американского империализма при сохранении свободы
рук для самих США.
Политическую основу «взаимозависимости» правя¬
щие круги страны видели в сколачивании во всех частях
света военно-политических блоков под своей эгидой,
экономическую — в опутывании союзных стран сетями
американской «помощи», идеологическую — в неприкры¬
том антисоветизме, антикоммунизме. Послевоенный ва¬
риант «взаимозависимости» был пронизан идеями «крес¬
тового похода» всех империалистических сил под води¬
тельством США с целью «отбрасывания коммунизма».
В целом трумэновско-даллесовская интерпретация «вза¬
имозависимости» придавала этой империалистической по
своему содержанию концепции ярко выраженный агрес¬
сивно-наступательный характер.
Нынешний вариант рассматриваемой концепции ре¬
конструирован применительно к той эволюции, которая
произошла в последние годы в международных отноше¬
ниях в результате крупных сдвигов в соотношении сил
на мировой арене, и прежде всего роста могущества Со¬
ветского Союза, мирового социалистического содружест¬
ва. Она несколько менее воинственна по форме, ее анти¬
советизм и антикоммунизм внешне пригл^оиены, но при
всем том ее империалистическая, враждебная социа¬
лизму сущность сохраняется.
В американской литературе нет установившихся оп¬
ределений понятия «взаимозависимость». Одни авторы
(Э. Морзе, О. Янг) рассматривают ее как такую взаимо¬
связь интересов, при которой изменение позиции одного
государства влияет на остальные страны; другие
(К. Уолц)—как существование таких отношений, раз¬
рыв которых обходится дорого для стран, к которым это
относится. Согласно еще одному определению (Р. Ку¬
пер), взаимозависимость присутствует в тех случаях, ког¬
да обнаруживается возрастающая национальная «чувст¬
вительность», особенно в сфере внешнеэкономических
связей44.
Что можно сказать по поводу подобных дефиниций,
75
представляющих собой попытку модификации концеп¬
ции «взаимозависимости» по сравнению с ее трактовкой
в годы «холодной войны»?
Разумеется, в наши дни все сильнее дают о себе знать
факторы, которые обусловливают общность интересов
всех стран и народов нашей планеты в таких кардиналь¬
ных для судеб человечества вопросах, как проблемы вой¬
ны и мира, целый ряд новых глобальных проблем, преж¬
де всего проблемы взаимодействия человека и окружаю¬
щей его среды и т. п. Именно влияние этих факторов
наряду с объективно происходящим процессом интерна¬
ционализации хозяйственной жизни создает фундамен¬
тальную основу для совместных действий государств в
пользу всеобщего мира и безопасности, широкого между¬
народного сотрудничества на базе принципов мирного
сосуществования государств с различным социальным
строем.
Как известно, марксизм-ленинизм исходит из того,
что классовые противоречия, классовая борьба сохранят¬
ся до тех пор, пока в мире существуют антагонистические
классы, различные способы производства, противопо¬
ложные общественные системы. С победой Великой Ок¬
тябрьской социалистической революции противоборство
двух социальных систем стало стержнем мирового раз¬
вития. Оно воздействует на процессы, происходящие и
на международной арене, и внутри отдельных государств.
В то же время марксизм-ленинизм не отрицает того,
что человечество продолжает существовать как единое
целое. Еще в «Манифесте Коммунистической партии»
К. Маркс и Ф. Энгельс указывали, что с появлением бур¬
жуазного общества приходит «всесторонняя связь и все¬
сторонняя зависимость наций друг от друга»45. В другой
работе — «Будущие результаты британского владычест¬
ва в Индии» — К. Маркс отмечал, что буржуазный пери¬
од всемирной истории призван, в частности, к тому, что¬
бы «развить мировые сношения, основанные на взаимной
зависимости всего человечества»46. Развивая эти поло¬
жения, В. И. Ленин писал, что «вся хозяйственная, поли¬
тическая и духовная жизнь человечества все более ин¬
тернационализируется уже при капитализме. Социализм
целиком интернационализирует ее»47.
Указанная тенденция еще более усилилась в наше
время. Возрастание роли общечеловеческих проблем в
условиях исторического противоборства двух социаль¬
ных миров предопределяет органическое сочетание эле¬
76
ментов борьбы и сотрудничества во взаимоотношениях
между государствами, принадлежащими к различным
общественным системам. Признавая объективную неиз¬
бежность такой борьбы, Советский Союз вместе с дру¬
гими странами социалистического содружества стре¬
мится к тому, чтобы она протекала в русле мирного раз¬
вития, исключающего применение силы для навязыва¬
ния тех или иных идей. В то же время мирное сосуще¬
ствование предполагает развитие отношений долговре¬
менного взаимовыгодного сотрудничества государств,
независимо от их общественного строя, в различных об¬
ластях политики, экономики, науки и культуры. Осуще¬
ствляемое в интересах предотвращения новой мировой
войны и укрепления международной безопасности, такое
сотрудничество распространяется не только на самую
крупную, затрагивающую все страны и народы глобаль¬
ную проблему — прекращение гонки вооружений, разо¬
ружение, но и на решение проблем, порождаемых вза¬
имодействием человека и природной среды. В Отчете
ЦК КПСС XXV съезду партии отмечалось: «Уже сегод¬
ня достаточно важны и актуальны такие глобальные
проблемы, как сырьевая или энергетическая, ликвида¬
ция наиболее опасных и распространенных заболеваний
и охрана окружающей среды, освоение космоса и ис¬
пользование ресурсов Мирового океана. В перспективе
они будут оказывать все более заметное влияние на
жизнь каждого народа, на всю систему международных
отношений. Наша страна, как и другие страны социализ¬
ма, не может стоять в стороне от решения этих проблем,
затрагивающих интересы всего человечества».
*
Пытаясь обновить концепцию «взаимозависимости»
применительно к современным условиям, американские
теоретики и политики, естественно, не могут не учиты¬
вать сложившихся новых реальностей и диктуемых ими
потребностей международного сотрудничества в жизнен¬
но важных для всего человечества областях. Вместе с
тем совершенно очевидно, что основное содержание и
целевые установки нынешней концепции — в любых ее
разновидностях — не только не имеют ничего общего с
таким именно пониманием объективной реальности и
общности интересов человечества, но, более того, носят
^принципиально иную направленность.
77
Признавая в определенной мере существование ряда
объективных противоречий развития человечества в це¬
лом (например, противоречия, связанные с возможными
последствиями научно-технической революции для судеб
войны и мира, противоречие между научно-техническим
прогрессом и сравнительной ограниченностью природ¬
ных ресурсов и т. п.), буржуазные теоретики вместе с
тем искусственно вырывают проблемы войны и мира, че¬
ловека и природы из социально-экономического кон¬
текста, пытаются либо отрицать, либо, во всяком случае,
свести на нет значимость социальных процессов, опреде¬
ляющих характер современного мирового развития. Ко¬
ренная противоположность двух общественных систем,
классовая борьба в странах капитала, противоречие
между империализмом и национально-освободительным
движением, глубокое межимпериалистическое соперни¬
чество — все это предстает в трудах апологетов «взаимо¬
зависимости» как некие анахронизмы, с которыми, дес¬
кать, следует покончить — и чем скорее, тем лучше,—
чтобы объединить усилия для предотвращения угрозы
самому существованию человечества в результате раз¬
растания и углубления глобальных проблем.
Такой подход носит вполне определенный классовый
характер. Отталкиваясь от многих действительно суще¬
ствующих явлений и процессов, обусловливающих вза¬
имную зависимость всего человечества, буржуазные те¬
оретики настоятельно проводят мысль о существовании
«единого взаимозависимого мира», безотносительно к
классовой природе составляющих его государств. Гло¬
бальные проблемы, утверждал У. Лорд, руководитель
аппарата планирования госдепартамента при Г. Кис¬
синджере, «пересекают идеологические и географические
границы»48.
Исходя из подобной предпосылки, одни авторы,
преимущественно пацифистского толка, предлагают не¬
кие «надклассовые» системы и схемы, в то время как
другие не скрывают своих политических и идеологиче¬
ских устремлений. Однако в конечном счете рекоменда¬
ции и тех и других сводятся к принятию системы ценно¬
стей и воззрений, присущих буржуазному обществу. Так,
профессор Мичиганского университета А. Мазруи ут¬
верждает, что в процессе своей трансформации мир бу¬
дет ориентироваться на такие «общечеловеческие ценно¬
сти», как «максимальная социальная справедливость»,
«более широкое распределение экономических §даг>,
78
«уменьшение насилия»49. Таким образом, в своем со¬
циальном измерении концепция «взаимозависимости»
оказывается не чем иным, как апологией существующего
на Западе эксплуататорского строя, призывом к его за¬
щите и укреплению совместными усилиями капиталисти¬
ческих стран, всего империалистического сообщества.
Вполне определенно высказывался на этот счет
Р. Гарднер в бытность свою профессором Колумбийско¬
го университета. «Вы, люди, должны отказаться от уста¬
ревших догм, которые мешают вам видеть мир таким, ка¬
ков он есть, — говорит «гость из будущего» — главный
персонаж одноименного рассказа Р. Гарднера. — Вы
должны отбросить мысль, что все беды на земле являют¬
ся результатом эксплуатации одного класса другим или
одной нации другой нацией. Вы должны признать» что
самое существенное различие в сегодняшнем мире не
между коммунистами и некоммунистами, бедными и бо~
гатыми, черными и белыми, старыми и молодыми, а меж¬
ду теми, кого волнуют лишь интересы какой-то ограни¬
ченной группы, и теми, кто может проникнуться интере¬
сами всего человечества».
Словами своего персонажа Р. Гарднер довольно от¬
кровенно раскрывает подлинный смысл американской
концепции «взаимозависимости», которая направлена
своим острием против революционных сил современно¬
сти, и в первую очередь против социализма, указываю¬
щего человечеству единственно реальный путь решения
тех проблем, с которыми оно сталкивается в своем исто¬
рическом развитии.
*
Если в социальном плане концепция «взаимозависи¬
мости» нацелена на активную защиту самих основ исто¬
рически изжившего себя мирового капитализма, то во
внешнеполитическом аспекте она призвана служить
формулой сплочения прежде всего капиталистических
стран под руководством США, базой для гегемонистских
устремлений заокеанского империализма. «Концепция
взаимозависимости.., — пишет американский журнал
«Тайм», — это принцип американского лидерства при
координации экономической политики, особенно в том,
что касается нефти и сделок с ее производителями, а
также и многосторонней дипломатии, особенно в том,
что касается контроля над вооружениями, разрядки в
79
отношениях с Советским Союзом и урегулирования ара
бо-израильского конфликта»60.
Эта довольно откровенная оценка, относящаяся к
1974 году, получила полное подтверждение в последую¬
щие годы, когда концепция «взаимозависимости» стала
наиболее часто использоваться для прикрытия претензий
США на роль лидера западного мира. При этом амери¬
канские политики и теоретики настойчиво пытаются убе¬
дить и промышленно развитые капиталистические стра¬
ны, и развивающиеся государства в том, что в условиях
«взаимозависимости» наилучший для них курс заключа¬
ется в более тесном сплочении с США и предпочтении
«общих интересов» Запада интересам других стран.
Так, Э. Морзе— автор вышедшего в США исследова¬
ния «Модернизация и трансформация международных
отношений» — предпринимает попытку с помощью ссы¬
лок на «взаимозависимость» дать «новое» оправдание
гегемонистским притязаниям США. Заявляя, что с повы¬
шением уровня «взаимозависимости» якобы возрастает
опасность конфликтных ситуаций, он делает из этого
вывод о необходимости преобразования мировой систе¬
мы путем создания многонациональных институтов «для
контроля над дестабилизирующими эффектами взаимо¬
зависимости», отказа от национального суверенитета
«ради преодоления кризисных последствий взаимозави¬
симости».
При этом роль «центра» в предлагаемой трансформи^
рованной системе отводится Соединенным Штатам в силу
их «исторических, политических и экономических пре¬
имуществ»51.
♦
Буржуазные исследователи отдают себе отчет в том,
что главные заслоны на пути империалистических уст¬
ремлений создают в нынешних условиях основные рево¬
люционные силы современности — мировая система со¬
циализма, международное рабочее и национально-осво¬
бодительное движение. Вот почему идея американского
лидерства в глобальном противоборстве с социализмом,
с силами прогресса пронизывает все основное содержа¬
ние западных концепций «взаимозависимости».
Встречающийся в работах буржуазных американ¬
ских теоретиков тезис о «взаимозависимости выжива¬
ния» используется ими для обоснования не столько со¬
-30
трудничества во имя предотвращения войны, сколько
расширения и обновления арсенала средств борьбы с со¬
циалистическим миром. В этой связи настоятельно реко¬
мендуется более активно использовать в качестве ин¬
струмента такой борьбы «идеологическую пропаганду»,
«психологическую войну».
Весьма характерно, что вопросы войны и мира в це¬
лом отодвинуты в концепции «взаимозависимости» на
второй план. Признавая, что «ядерная война угрожает
выживанию человечества», авторы одного из докладов
трехсторонней комиссии Р. Купер (США), Р. Кайзер
(ФРГ) и М. Косака (Япония) вынуждены констатиро¬
вать, что «предотвращение ядерной войны редко обсуж¬
дается в контексте проблемы взаимозависимости»52.
Что касается сотрудничества государств с различным
общественным строем в решении таких ключевых проб¬
лем, как война и мир, природа и человек, то здесь пози¬
ция теоретиков «взаимозависимости» отличается непо¬
следовательностью и противоречивостью. В одних случа¬
ях, как об этом можно судить по книге В. Рокка «Страте¬
гия взаимозависимости», делается вполне реалистиче¬
ский вывод о необходимости совместных советско-амери¬
канских усилий по уменьшению опасности войны. Автор
придает в этой связи особое значение разработке мер по
контролю над кризисными ситуациями, в которых он не
без основания усматривает одну из потенциальных опас¬
ностей международных конфликтов в ракетно-ядерный
век. Однако подобные выводы соседствуют в работе
В. Рокка с попытками использовать тезис о «взаимоза¬
висимости» для теоретического обоснования необходимо¬
сти социально-политического статус-кво в мире, прекра¬
щения поддержки национально-освободительных движе¬
ний, а также для проповеди «конвергенции ценностей и
целей двух обществ»53.
В других случаях прослеживается тенденция свести
всю сферу советско-американского взаимодействия лишь
к отдельным глобальным проблемам (окружающая
среда, продовольственная проблема и т. п.). При этом
налицо стремление представить в одинаковом свете в
глазах развивающихся стран принципиально различную
политику США и СССР, однозначно трактовать их цели.
Подобные попытки применения постулатов концепции
«взаимозависимости» к отношениям с Советским Сою¬
зом, несмотря на имеющиеся в них отдельные реалисти¬
ческие зерна, в целом продиктованы не желанием следо¬
4-597
81
вать объективно существующим потребностям нашей
эпохи, а стремлением извлечь политико-идеологические
выгоды в процессе противоборства с социализмом.
Характерно и то, что далеко не все американские тео¬
ретики трактуют «взаимозависимость» как универсаль¬
ную, всеохватывающую концепцию, распространяющую¬
ся и на сферу взаимоотношений с социалистическими
странами. Имеются и такие, кто тщится доказать, что
страны социалистического содружества находятся-де
«вне сферы действия основных закономерностей тенден¬
ции к взаимозависимости»54. Совершенно очевидно, что и
в этом случае американских теоретиков привлекают не
подлинная взаимозависимость, требующая объединен¬
ных усилий для предотвращения новой мировой войны и
решения глобальных проблем человечества, а лишь ин¬
тересы империализма, и в первую очередь американ¬
ского.
♦
Спекулируя на объективно существующих проблемах
и трудностях, связанных со становлением политической
и экономической независимости развивающихся госу¬
дарств, теоретики «взаимозависимости» предлагают им
такие рецепты, реализация которых повлияла бы на их
политическую ориентацию, способствовала удержанию
этих стран в капиталистической орбите.
Те средства политического развития, которые реко¬
мендуют освободившимся странам такие американские
теоретики «взаимозависимости», как Г. Спиро, С. Хан¬
тингтон, П. Дракер и др., по существу, представляют
собой не что иное, как капиталистический путь развития.
Так, по словам Г. Спиро, целью «политического разви¬
тия» является увеличение способности правящей элиты
использовать потенциал страны в интересах модерниза¬
ции, под которой имеется в виду достижение так назы¬
ваемой «стабильной демократии»55. Он утверждает, что
будто бы только так называемые «представительные ре¬
жимы», опирающиеся на классическую буржуазную си¬
стему власти, способны разрешить проблемы бедности и
обеспечить «стабильную эволюцию» в развивающихся
странах56. Наряду с этим возводится всевозможная кле¬
вета на революционно-демократические движения, кото¬
рые объявляются «неспособными» справиться с эконо¬
мическими проблемами, обеспечить «политическое раз¬
витие» в его буржуазном понимании.
82
Одновременно в сознание национальной буржуазии
развивающихся стран хотят внедрить идею об «общно¬
сти судеб» этих стран с капиталистическим Западом и
невозможности обойтись без его помощи. Здесь «взаимо¬
зависимость» трактуется весьма своеобразно. Американ¬
ские теоретики, признавая определенную зависимость
США от развивающихся стран, делают, однако, упор на
тезисе о том, что последние еще больше нуждаются в
США, особенно в области финансирования своего разви¬
тия, использования современной технологии, поставок
продовольствия и т. п.
Другой прием состоит в том, что проповедники «взаи¬
мозависимости» пытаются внушить правительствам раз¬
вивающихся стран мысль о том, что выход развитых
стран из тисков экономического кризиса чуть ли не авто¬
матически повлечет за собой «оздоровление» развиваю¬
щихся стран. Суть подобных теоретизирований очевид¬
на — ослабить солидарность освободившихся госу¬
дарств, притупить их стремление проводить самостоя¬
тельную политику.
Как свидетельствует опыт, применение постулатов
«взаимозависимости» к развивающимся странам не вы¬
держивает сопоставления с реальной действительностью.
Государства, вступившие на путь самостоятельного раз¬
вития, все более убеждаются в том, что следование сдоб¬
ренным показной объективностью буржуазным рецеп¬
там, соблюдение «императивов взаимозависимости» су¬
лят перспективу и дальше оставаться неравноправными
партнерами империалистических держав. Они предпочи¬
тают иной, самостоятельный путь развития.
*
Концепция «взаимозависимости» в ее нынешнем виде
адресована прежде всего главным промышленно разви¬
тым странам капиталистического мира. Она призвана
стать теоретическим фундаментом для обоснования не¬
обходимости укрепления «трехстороннего сообщества»
основных силовых центров капиталистического мира —
США, Западной Европы и Японии, якобы несущих в со¬
временных условиях особую ответственность «за поддер¬
жание мирового порядка»-
Широкое распространение в США, а также в опре¬
деленной мере и в других западных странах идеи укреп¬
ления альянса ведущих капиталистических стран вызва-
4*
83
но объективными причинами, связанными с углублением
общего кризиса капитализма. Государственно-монополи¬
стическая система все сильнее запутывается в собствен¬
ных противоречиях, демонстрируя неспособность найти
удовлетворительное решение коренных вопросов обще¬
ственного развития. Значительно усилилась неустойчи¬
вость политической системы современного империализ¬
ма, углубился кризис буржуазной морали, идеологии,
культуры. Небывалый за послевоенную историю по глу¬
бине и масштабам экономический кризис 1974—1975 го¬
дов одновременно поразил все главнейшие центры миро¬
вого капиталистического хозяйства. Перманентный
характер приняли валютно-финансовые неурядицы. Топ¬
ливно-энергетический кризис также способствовал выяв¬
лению всей глубины диспропорций в развитии экономи¬
ки. Капитализм оказался не в состоянии выработать в
условиях научно-технической революции рациональную
систему взаимоотношений между хозяйственной деятель¬
ностью человека и окружающей его естественной средой.
Углубление общего кризиса заставляет правящие
круги США, а также других ведущих западных держав
активизировать поиски путей и средств для консолида¬
ции капиталистического мира перед лицом растущих
трудностей. Это признают, в частности, американские
теоретики «взаимозависимости» Р. Розенкранс и
А. Стайн. По их мнению, необходимость строительства
«трехстороннего сообщества», опирающегося на теорети¬
ческие принципы «взаимозависимости», имеет в своей
основе прежде всего «элитарные», то есть политико-идео-
логические, классовые соображения. «Хотя массы, — пи¬
шут они, — не могут быть коммуникабельными в отноше¬
нии правящей элиты, а элита не может говорить с мас¬
сами, кроме как на примитивном языке, правящие элиты
могут говорить друг с другом. Национальные лидеры при¬
ходят к признанию — с различными индивидуальными
вариациями, — что они находятся в одной лодке.
По крайней мере в развитых обществах они сталкивают¬
ся с одинаковыми проблемами: проблемой сохранения у
власти в условиях, когда избиратели испытывают чув¬
ство негодования и отчуждения; проблемами экономиче¬
ского прогресса и разработки собственного курса в меж¬
дународных делах... Правящие элиты узнают друг у дру¬
га больше, чем у собственного народа; в определенном
смысле они помогают друг другу решать проблемы уп¬
равления своими странами»67.
84
Теоретики «сообщества» учитывают, в частности, не¬
способность стран в одиночку справиться со стоящими
перед капиталистическим миром трудностями. Как при¬
знавал в 1974 году 3. Бжезинский, вызывает сомнение
способность западных экономик к саморегулированию,
развитию свободной торговли и поддержанию либераль¬
ной международной валютной системы, обеспечивавших
ранее Западу стабильный ежегодный рост в 4%. Прави¬
тельства стран Запада вынуждены вмешиваться в эконо¬
мическую сферу и регулировать развитие. Эти действия
связаны с противоречивыми внутриполитическими инте¬
ресами. Проблемы мировой экономики приобретают все
более политический характер и порождают политические
конфликты58.
Как видно из этих довольно откровенных признаний,
идея создания «трехстороннего сообщества» отражает
страх перед коренными и необратимыми изменениями на
международной арене в пользу сил мира, социализма,
демократии и социального прогресса.
Смысл идеи «сообщества» состоит в попытках теоре¬
тически обосновать предпринимаемые Соединенными
Штатами усилия по сплочению на классовой основе ве¬
дущих центров капиталистического мира для защиты по¬
литических и социальных устоев власти. В этом отноше¬
нии концепция «сообщества» подкрепляет основное
содержание политики в области «национальной безопас¬
ности», которое Бжезинский определил как «укрепление
чувства общности с теми, кто разделяет наши идеи».
Цель предлагаемого сплочения — урегулирование су¬
ществующих на Западе противоречий на компромиссной
основе и согласование действий в борьбе против социа¬
листических государств, рабочего движения стран капи¬
тала и национально-освободительного движения.
Американские сторонники концепции «трехсторонне¬
го сообщества» хотя и указывают на «разделение бреме¬
ни ответственности» Соединенными Штатами со своими
союзниками, тем не менее считают само собой разумею¬
щейся ведущую роль США в капиталистическом мире.
Весьма показательно, что в этой концепции приглушен
акцент на партнерство на основе равенства. «Активная
Америка — императив трехсторонности», — утверждают,
например, американские политологи Ч. и Т. Гати. Как
видно из их рассуждений, в условиях, когда опора на
одну только военную мощь перестает приносить полити¬
ческие дивиденды, притязания Вашингтона на лидерст¬
85
во должны быть подкреплены «моральным авторитетом»,
приданием внешней политике США «чувства этической и
идеологической целенаправленности, воплощенной в идее
американского предназначения»59. Подобные рассужде¬
ния вскрывают суть подлинных намерений американ¬
ских апологетов «трехсторонности», заинтересованных
прежде всего в укреплении пошатнувшихся позиций США
в мире и сохранении американского лидерства в капита¬
листической системе.
Разумеется, теоретики «сообщества» отдают себе от¬
чет в том, что во имя общих классовых интересов Запа¬
да США, с учетом изменившегося соотношения сил
внутри капиталистического мира, необходимо кое в чем
поступиться. Но при этом они исходят из того, что неко¬
торые уступки союзникам во второстепенных вопросах
должны подкрепить интересы США в главном — сплоче¬
нии вокруг себя других стран капиталистического мира.
Этот аспект «трехсторонности» подчеркивает профессор
Принстонского университета Р. Алмэн. По его словам,
«привычное представление Вашингтона об эффективной
трехсторонности — независимо от того, какое правитель¬
ство находится у власти и насколько позитивны его на¬
мерения,— тесно связано с действенной поддержкой аме¬
риканских акций европейцами и японцами»60.
В свою очередь, другая группа американских иссле¬
дователей не может не признать, что заложенная в кон¬
цепции «трехстороннего сообщества» идея неоспоримого
лидерства США находится в явном противоречии с ут¬
верждениями о «равенстве» и «справедливом разделении
ответственности» между ведущими капиталистическими
странами. Полемизируя с теми, кто пытается предста¬
вить треугольник «США — Западная Европа — Япония»
как сообщество «равных партнеров», профессор Гарвард¬
ского университета С. Хоффман пишет: «Но разве не
ясно, что планирование общей политики дало бы боль¬
шое преимущество той державе, которая почти на протя¬
жении 30 лет разрабатывала практику, средства, пози¬
ции, специальный жаргон глобализма? Западноевропей¬
цы остаются погрязшими в болоте интеграции, японцы —
запутанными в смеси оборонительности и экономической
специализации, причем ни те, ни другие еще не отказа¬
лись от привычки оставлять главные ломти «высокой
политики» своему протектору. Не ясно ли, что «звено
интересов безопасности», которое связывает Соединен¬
ные Штаты, Европу и Японию, действует в пользу Ва¬
86
шингтона? В этом здании Соединенные Штаты оказыва¬
ются центральной частью, а остальные — пристрой¬
ками»61.
♦
Концепция «трехстороннего сообщества» впитывает в
себя основные постулаты «атлантической солидарности»,
составляющие идейно-теоретический фундамент Северо¬
атлантического блока. Подтверждая принцип «общей
обороны», сторонники этой концепции всячески использу¬
ют понятие «безопасности» для обоснования необходимо¬
сти более тесной координации действий США с ведущи¬
ми западноевропейскими странами, входящими в НАТО,
и с Японией — на основе двустороннего военного союза.
В то же время они делают больший, чем прежде, упор
на развитие политических и экономических отношений
между союзниками. Особое значение придается эконо¬
мической области. Здесь концепция «трехстороннего со¬
общества» получает ответвление в виде концепции «трех
локомотивов», согласно которой три наиболее мощные в
экономическом отношении страны — США, ФРГ и Япо¬
ния— должны принять меры по дополнительному эконо¬
мическому стимулированию у себя дома и, влияя таким
образом на механизм международной торговли, обеспе¬
чить улучшение экономического положения своих более
слабых партнеров. Иными словами, наиболее развитые
капиталистические страны призваны стать некими «ло¬
комотивами», которые потянут вперед весь поезд эко¬
номики Запада. При этом ставится задача добиться при¬
нятия всеми участниками «сообщества» единого взгляда
на общие долгосрочные интересы, их готовности отка¬
заться от краткосрочных выгод, идущих вразрез с пер¬
спективной целью, подчеркивается важность совместных
акций и инициативных предложений62. По существу,
речь идет о попытках американских теоретиков обосно¬
вать линию на более эффективное экономическое и поли¬
тическое привязывание союзных стран к международ¬
ным целям США, на противодействие с помощью блоко¬
вой политики центробежным тенденциям во внешней по¬
литике ведущих капиталистических стран.
«Трехстороннее сообщество», по замыслу его иници¬
аторов, должно привести к дополнению существующего
механизма консультаций в рамках замкнутых военно-по-
литических и экономических группировок западных дер¬
87
жав регулярным функционированием независимо от них
«руководящего ядра» из числа крупнейших стран капи¬
талистического мира под главенством США.
Говоря о необходимости создания «тройственного ру¬
ководящего механизма» в составе США, ЕЭС и Японии,
один из теоретиков «взаимозависимости» — М. Кэмпе
пишет: «Этим странам необходимо идти дальше, чем
другим, в координировании политики, разработке общих
критериев, если они хотят управлять последствиями их
растущей взаимозависимости»63. Таким образом, по су¬
ществу, выдвигается мысль о создании своеобразного
постоянно действующего «директората», который вершил
бы судьбами капиталистического мира.
«Трехстороннее сообщество» нацелено своим острием
против Советского Союза и других социалистических
стран. Оно имеет целью противопоставить росту влияния
мирового социализма объединенный фронт капиталисти¬
ческих государств. Не случайно поборники указанной
концепции настоятельно подчеркивают необходимость
проведения согласованной линии капиталистических го¬
сударств в отношениях с социалистическими странами.
Стремясь обосновать необходимость «единства Запада»
в новых условиях, 3. Бжезинский пишет: «Ввиду разно¬
гласий, существующих между странами Запада, Совет¬
ский Союз получает возможность играть более активную
роль... Одно дело, когда Запад осуществляет сотрудниче¬
ство с Советским Союзом на базе совместной политики,
другое — когда Советский Союз использует на междуна¬
родной арене отсутствие единства в наших рядах»64. Тео¬
ретики «трехстороннего сообщества» иод всяческими
надуманными предлогами предостерегают капиталисти¬
ческие страны от проведения каждой из них своей само¬
стоятельной линии в торгово-экономических отношениях
с социалистическими государствами, от предоставления
им кредитов65.
В конкретном преломлении к советско-американс¬
ким отношениям реализация «трехсторонней модели»
мыслится как смещение этих отношений на «задний
план» в системе внешнеполитических приоритетов США.
Так, один из главных поборников идеи «сообщества ин¬
дустриально развитых стран» — Дж. Болл заявил в ин¬
тервью итальянскому еженедельнику «Эспрессо» (опуб¬
ликовано 11 апреля 1976 г.): «Многие проблемы, кото¬
рые мы должны решить, имеют мало общего или вообще
не имеют ничего общего с Советским Союзом. Населе¬
88
ние, продовольствие, сырье, новые отношения с «третьим
миром», новые отношения со странами Запада — все эти
и другие подобные проблемы должны быть главной забо¬
той нашей внешней политики»66. Показательно, что в
этом перечне преднамеренно опущены такие кардиналь¬
ные проблемы современности, как борьба за предотвра¬
щение мировой термоядерной катастрофы, обеспечение
всеобщего мира и международной безопасности, реали¬
зация исторических решений хельсинкского форума.
Более того, по замыслу консервативно ориентирован¬
ных американских архитекторов «трехстороннего парт¬
нерства», его строительство должно сопровождаться
сохранением в определенной степени напряженности в
отношениях с СССР и другими социалистическими стра¬
нами, охлаждением Запада к политике разрядки. «При
современной тяге и интересе к глобальной взаимозависи¬
мости сообщество передовых стран, — пишет о подобных
планах уже упоминавшийся проф. С. Хоффман, — поко¬
ится на предположении, что на традиционной шахматной
доске (имеется в виду военно-политическая область.—
В. П.) сохранятся отношения довольно интенсивной
враждебности между Соединенными Штатами и комму¬
нистическими державами. И действительно, если без¬
опасность должна оставаться одним из цементирующих
элементов трехстороннего здания, то почти необходимо,
чтобы разрядка между великими державами не заходила
слишком далеко»67.
Таким образом, исходя из того что в рамках тре¬
угольника «США — Западная Европа — Япония» создает¬
ся возможность наиболее выгодного обеспечения интере¬
сов капиталистического мира, и прежде всего США, как
в традиционной военно-политической сфере, так и особен¬
но в области новых глобальных проблем, сторонники
«трехстороннего сообщества» на деле предлагают подхо¬
дить к решению таких проблем на замкнутой узкогруппо¬
вой основе, по существу, отодвигая на задний план зада¬
чу обеспечения международного мира и безопасности
совместными усилиями всех государств.
Говоря о теоретических разработках, касающихся
«трехстороннего сообщества», нельзя не отметить, что эти
концепции приходят в столкновение с практикой межим¬
периалистических отношений, разъедаемых глубокими
противоречиями. Становление в капиталистическом мире
трех центров силы — США, Западной Европы и Японии—
сопровождается резким обострением межимпериалисти¬
89
ческих антагонизмов. К тому же нынешняя Западная Ев¬
ропа отнюдь не представляет собой монолитного образо¬
вания, а кроме того, отнюдь не склонна обрекать себя на
вассальную зависимость от старшего партнера. В настоя¬
щее время империалистические противоречия приняли
широкий характер и рельефно проявляются в валютной
системе империализма, мировой капиталистической тор¬
говле, в области сырьевых ресурсов, вопросах внешней
политики. Действие центробежных сил наблюдается как
в военно-политическом блоке НАТО, так и в «Общем
рынке». Кроме того, подчеркивая особую роль ведущих
индустриально развитых стран и не определяя конкретно
круг этих государств, идея «сообщества» создает в самом
капиталистическом мире почву как для разногласий в
связи с неясностью, кто же принадлежит к этим «приви¬
легированным», так и для недовольства малых стран.
«Я,— пишет американский обозреватель С. Сульцбер-
гер,— не знаю, какой термин — «шизофрения» или «дихо¬
томия» — более точно характеризует нынешнее положе¬
ние на Западе, но, несомненно, существует внушающий
тревогу контраст между его провозглашенной целью —
сплочением и явно происходящим расколом»68.
Не случайно, что с учетом всех этих обстоятельств це¬
лый ряд американских ученых ставят под сомнение и
возможность осуществления новой «глобальной миссии
США», протаскиваемой под покровом «взаимозависимос¬
ти» и «трехстороннего сообщества».
«Эпоха «Pax Americana» кончилась,— пишет профес¬
сор Гарвардского университета Р. Барнет.— Соединенные
Штаты, все еще оставаясь самой могущественной в мире
страной, уже не могут играть роль мирового управляю¬
щего, что им удавалось, когда Европа и Япония, ослаб¬
ленные войной, были куда податливее при оказании на
них американского давления в различных формах. А Со¬
ветский Союз, хотя уже и был гигантом, оставался явно
слабее. В наши дни Соединенные Штаты, как и любая
другая капиталистическая страна, не могут выйти из по¬
лосы затяжного экономического кризиса. Высокие уров¬
ни безработицы и инфляции, эти классические источники
социальной неустойчивости, больше не удается снижать
традиционными экономическими методами, разработан¬
ными за последние 40 лет. Эпоха неуклонного роста и
процветания, фундамент нашей огромной военной маши¬
ны и в конечном счете источник нашего мирового могу¬
щества, видимо, канула в прошлое...» 69.
90
В то же время нельзя не видеть, что, опираясь на кон¬
цепцию «трехстороннего сообщества», США и другие ве¬
дущие капиталистические державы предпринимают в по¬
следнее время попытки осуществить на практике свое
взаимодействие.
Как отмечал на берлинской Конференции коммунис¬
тических и рабочих партий Европы Л. И. Брежнев,
«...наш общий классовый противник — международная
буржуазия — показывает немало примеров международ¬
ного согласования своих действий в борьбе против рево¬
люционных сил» 70.
С 1973 года в полуофициальном качестве регулярно
функционирует так называемая трехсторонняя комиссия,
созданная по инициативе Дэвида Рокфеллера в составе
представителей трех регионов — Северной Америки, За¬
падной Европы и Японии — и имеющая целью разработ¬
ку такой системы мирового устройства, которая обеспе¬
чивала бы выживание капитализма. Среди 240 членов ко¬
миссии — видные бизнесмены, политические деятели и
ученые-политологи. Руководство комиссией и подготовка
докладов осуществлялются на трехсторонней основе. Из
лона комиссии вышли, в частности, президент США Дж.
Картер, пять членов его правительства, четыре нынешних
американских посла и др.
За последнее время механизм координирования поли¬
тики стал приобретать достаточно определенные очерта¬
ния и на официальном уровне. По инициативе трехсто¬
ронней комиссии в практику вошли регулярные закрытые
встречи глав государств и правительств основных капита¬
листических стран. Во второй половине ноября 1975 года
такая встреча «шести» (США, ФРГ, Англия, Франция,
Италия и Япония) проходила под Парижем, в замке
Рамбуйе. Через семь месяцев, в июле 1976 года, уже в
составе «семи» (к собиравшимся в Рамбуйе добавилась
Канада) встреча проходила в отеле «Дорадо бич» близ
Сан-Хуана, на острове Пуэрто-Рико в Карибском бассей¬
не. В мае 1977 года состоялась встреча в Лондоне, в ию¬
ле 1978 года — в Бонне. В январе 1979 года на Гваделу¬
пе состоялась неофициальная встреча руководителей че¬
тырех стран — США, Франции, Англии и ФРГ.
28—29 июня 1979 г. в Токио состоялась новая встреча
лидеров Запада. Хотя главной из обсуждавшихся проб¬
лем была энергетическая, участники встречи рассмотрели
также вопросы безопасности и обороны. Оформив фак¬
тически союз импортеров нефти, дающий возможность
91
разговаривать с экспортерами «с позиции силы». Встре¬
ча не устранила противоречий, которые определяли
жесткие пределы в достижении компромисса.
Эти встречи представляют собой попытку согласовать,
скоординировать политику ведущих капиталистических
держав с целью активно влиять на состояние и эволю¬
цию мировой обстановки, на внутриполитическое положе¬
ние в странах капиталистической системы.
Как видно из материалов этих встреч, руководители
ведущих капиталистических стран не скрывают своей
обеспокоенности по поводу того, что в условиях расту¬
щей политической нестабильности Запада экономический
кризис может привести к обострению классовой борьбы
и иметь серьезные последствия для судеб капиталистиче¬
ского мира.
Хотя в официальных документах совещаний обычно не
содержится никакого упоминания о политических вопро¬
сах, вряд ли могут быть сомнения, что эти вопросы не
только фигурируют в ходе переговоров, но и являются
предметом для выработки согласованных решений. Из¬
вестно, что основные капиталистические державы пыта¬
ются присвоить себе право на коллективное вмешатель¬
ство во внутренние дела других государств. Показатель¬
но в этом отношении достигнутое во время совещания в
Пуэрто-Рико в 1976 году соглашение отказать Италии во
всякой финансовой помощи, если в состав правительства
войдут коммунисты.
Мировая общественность справедливо расценила это
соглашение как заговор империалистической реакции.
«Мы всегда,— писал по этому поводу обозреватель
бельгийской газеты «Суар» Ж. Терф,— считали, что ос¬
новные аспекты внешней политики все больше и больше
отражают классовую борьбу в международном масштабе.
«Пуэрто-риканские соглашения» подтверждают нашу
правоту. Они представляют собой проявление настояще¬
го «священного союза» главных капиталистических
стран, создающих общий фронт там, где они видят наи¬
большую угрозу для себя, и до конца использующих эко¬
номические и финансовые рычаги. Ведущую роль, безу¬
словно, играют Соединенные Штаты. Они это делают от¬
крыто, выполняя функции главы мирового капитализма
и используя те огромные финансовые, экономические, по¬
литические и военные средства, которыми они распола¬
гают» 71.
92
Советский Союз решительно осудил эту империалис¬
тическую акцию. «Вмешательство некоторых западных
держав в процесс формирования итальянского прави¬
тельства,— заявил Л. И. Брежнев,— это не признак их
силы, а проявление боязни перед могучим потоком соци¬
ального прогресса. Едва ли есть необходимость специаль¬
но останавливаться на том, что такое вмешательство на¬
ходится в резком контрасте с хельсинкским Заключитель¬
ным актом»72.
Утверждение в практике отношений между ведущими
капиталистическими странами устойчивых форм взаимо¬
действия сопровождается, с одной стороны, все большим
возрастанием значения военно-политического направле¬
ния совместных усилий, а с другой, выделением из соста¬
ва «семерки» государств «высшего привилегированного
звена» (США, ФРГ, Япония, Франция).
Попытки создания империалистического механизма
защиты буржуазного общества — одна сторона проявле¬
ния на практике идей «взаимозависимости сообщества
индустриально развитых стран». Одновременно, опираясь
на эту концепцию, США и ведущие капиталистические
державы стремились проводить на международной эко¬
номической конференции в Париже («диалог Север —
Юг») свою согласованную линию, идущую вразрез с под¬
линно национальными интересами развивающихся стран,
предпринимают соответствующие скоординированные
усилия в социально-экономических органах ООН, на кон¬
ференциях ЮНКТАД и других международных форумах.
Империалистическая по своему характеру идея «трех¬
стороннего сообщества» прикрывает стремление ведущих
капиталистических государств, и прежде всего США,
обеспечить себе привилегированное положение в системе
международных отношений, закрепить в них неравнопра¬
вие. Их попытки присвоить себе исключительное право
вершить судьбами мира и тех или иных стран несостоя¬
тельны. Подобные притязания не соответствуют Уставу
ООН, Заключительному акту, подписанному в Хельсин¬
ки, международно-правовым принципам.
Таким образом, как теория «взаимозависимости», так
и практические мероприятия, основанные на ней, свиде¬
тельствуют о стремлении правящих кругов США объеди¬
нить на классовой основе под своим верховенством веду¬
щие центры капиталистического мира, подчинив это зада¬
чам глобального противоборства с социализмом.
93
Противодействие прогрессивным
изменениям под видом создания
«нового миропорядка»
Концепция «взаимозависимости» служит идейно-тео-
ретической платформой для обоснования более широко¬
го подхода к «национальной безопасности» США и рас¬
смотрения в ее контексте вопроса о создании «нового ми¬
ропорядка».
Пронизанная идеями глобального противоборства с
социализмом и американского лидерства в капиталисти¬
ческом мире, концепция «нового миропорядка» выносит
на передний план задачу противодействия прогрессивным
изменениям в мире, которое составляет одно из главных
звеньев в цепи предпринимаемых в США мер под предло¬
гом обеспечения «национальной безопасности».
*
Проблема «нового миропорядка» подробно обсужда¬
ется в политической литературе, является предметом спе¬
циальных исследований трехсторонней комиссии, часто
звучит в выступлениях государственных деятелей США.
В этой связи широко дебатируются такие взаимоперепле-
тающиеся проблемы, как соотношение стабильности и из¬
менений в системе международных отношений; понятие
субъектов мировой политики; «баланс сил» как основа
взаимоотношений в военно-политической области; рас¬
ширение сфер межгосударственного взаимодействия при
стремлении сохранить социально-политический статус-
кво.
Формирующаяся в ходе этих дебатов концепция «но¬
вого миропорядка» продолжает теоретические поиски та¬
кой схемы мирового порядка, которая наилучшим обра¬
зом отвечала бы классовому содержанию империалисти¬
ческой внешней политики — сохранению и, по возможно¬
сти, расширению позиций мирового капитализма.
Различные планы мироустройства, разрабатывавшие¬
ся в рамках стратегии «холодной войны», исходили из
расчета на наличие у США превосходящей силы, которая-
де позволит им диктовать свои условия другим странам.
Определяющей чертой подобных планов объявлялась
«стабильность», смысл которой сводился к идеализации
статичных моделей международных отношений, исклю¬
чавших возможность каких-либо перемен не только в со¬
94
циальной, но и в международно-политической сфере. Мир
виделся буржуазным теоретикам сначала однополюсным,
построенным на американский манер (так называемый
Pax Americana). Затем, после крушения монополии Ва¬
шингтона на атомную бомбу, они постепенно подошли к
признанию «биполярности», то есть существования в ли¬
це СССР силы, серьезно противостоящей США. При этом
право каких-либо других стран, кроме СССР, на выбор
социалистического пути категорически отвергалось.
В качестве панацеи от всех бед предлагалось «миро¬
вое правительство», во имя которого государства должны
были отказаться от национального суверенитета. Реали¬
зация империалистических планов мироустройства свя¬
зывалась в основном с концентрацией главных усилий
американской внешней политики и дипломатии в военно¬
политической сфере. Стержневой идеей планов, порож¬
денных в годы «холодной войны», было стремление «от¬
бросить» социализм в пределы довоенных границ любой
ценой, вплоть до применения силы, и не допустить даль¬
нейших социальных сдвигов в мире.
Нынешняя концепция «нового миропорядка» сохраня¬
ет в качестве лейтмотива идею обеспечения социального
статус-кво, как он сложился к настоящему времени. Вме¬
сте с тем она учитывает новые явления в международной
жизни, возникшие в результате сдвигов в мировом соот¬
ношении сил. Американским авторам приходится с го¬
речью констатировать, что огромные изменения, происхо¬
дившие в мире за последние полтора-два десятилетия, в
своей совокупности вызвали глубокий и всесторонний
кризис послевоенной системы международных отношений,
которая, по выражению 3. Бжезинского, «охватывала зо¬
ну Атлантики, пользовалась покровительством Соеди¬
ненных Штатов и финансировалась Нью-Йорком». Со¬
ответственно они вынуждены теперь признавать неотвра¬
тимость происходящих в мире изменений. В условиях
неизбежности перемен буржуазные теоретики видят, од¬
нако, свою задачу в изыскании способов их совмещения
с консервацией статус-кво, но не столько в международ-
но-политической, сколько в социальной области. Обеспе¬
чение «стабильности» они связывают поэтому не столь¬
ко с предотвращением любых перемен, и прежде всего в
собственном лагере, сколько с попытками направить объ¬
ективно вызревающие процессы изменений по руслу, не
затрагивающему самого фундамента основных позиций
мировой капиталистической системы.
95
Весьма показательны в этом отношении рассуждения
3. Бжезинского. Упрекая Г. Киссинджера за попытку в
основном сохранить, поддержать сложившийся в мире
статус-кво военных, политических и экономических сил,
Бжезинский подчеркивает, что требуется не лобовое, не
открытое противодействие происходящим изменениям, а
придание им «конструктивного направления, которое бы¬
ло бы совместимо с американскими принципами и инте¬
ресами и соответствовало им».
Подчеркивая первостепенную важность канализации
происходящих перемен в угодном США направлении,
Бжезинский связывает с этим не только обеспечение
устойчивости «нового миропорядка», но и — главное —
укрепление «национальной безопасности» США, интере¬
сы которых, по существу, отождествляются ни более ни
менее как с интересами мирового сообщества.
«В нынешнюю самую динамичную эру за всю историю
человечества национальная безопасность,— заявил Бже¬
зинский в октябре 1978 года на ежегодном обеде Науч-
но-исследовательского института имени Вейцмана в Чи¬
каго,— означает управление переменами». И далее он
пояснил: «Наша национальная безопасность зависит от
нашей способности дать этим сложным и бурным пере¬
менам позитивное направление. Мы можем сделать это,
только постаравшись создать для них устойчивые рам¬
ки... Если мы будем пытаться создавать искусственные
препятствия на пути перемен во имя сохранения статус-
кво, то это приведет лишь к тому, что мы окажемся в
изоляции, и в конечном счете поставит под угрозу и по¬
дорвет нашу собственную национальную безопасность».
Подобная точка зрения используется для обоснования
активной роли США в формировании «нового миропоряд¬
ка». «Америка,— заявил в упоминавшемся выступлении
Бжезинский,— призвана сыграть особую роль, содейст¬
вуя в управлении глобальными переменами, поскольку
наша страна представляет собой не просто органическую
проекцию прошлого, она, кроме того, имеет связь с буду¬
щим»*.
Особую роль США Бжезинский видит в активных це¬
леустремленных действиях по созданию «нового, более
* Идея американского гегемонизма пронизывает многие выступ¬
ления 3. Бжезинского. Весьма показательно, что буквально в тех
же самых выражениях, что и в октябре 1978 года, 3. Бжезинский
повторил мысль об «особой роли» Америки в своем выступлении в
Ассоциации внешней политики 20 декабря 1978 г.
96
широкого, плюралистического мирового порядка», в рам¬
ках которого США, опираясь на свои возможности, не
только оказались бы в состоянии «выжить», но и осла¬
бить, нейтрализовать опасности, нависающие для их гло-
балистских стремлений, для самих судеб капитализма.
Бжезинский не оставляет сомнений в том, что речь идет
о создании такого «миропорядка», который бы соответ¬
ствовал «американским ценностям».
Примерно такие же выводы содержатся и в одном из
докладов трехсторонней комиссии. «Америка по-прежне-
му должна играть ведущую роль в управлении междуна¬
родной системой» 73,— утверждается в докладе относи¬
тельно реформы международных органов.
Показательно, что американоцентристской концепции
«нового миропорядка» придерживаются и те, кто в целом
критически относится к взглядам Бжезинского. «Новый
мировой порядок,— поясняет проф. С. Хоффман,— дол¬
жен учитывать внутриамериканские настроения в пользу
создания международной среды, благожелательно вос¬
принимающей американские систему ценностей и инте¬
ресы» 74.
Нынешняя концепция «нового миропорядка» продол¬
жает оставаться по своему содержанию откровенно ан-
тиреволюционной. Характерно, что и сами буржуазные
авторы не делают из этого секрета. Ссылаясь на посту¬
латы теории «взаимозависимости», они пытаются толко¬
вать революции в духе «подрыва стабильности» и их «не¬
соответствия» происходящим в международных отноше¬
ниях процессам. «Революции разрывают взаимозависи¬
мость» 75,— заявляют, например, американские теоретики
Р. Розенкранс и А. Стайн.
В то же время, ссылаясь на необходимость поддержа¬
ния стабильности «нового миропорядка», американские
буржуазные теоретики пытаются придать данной концеп¬
ции более респектабельный вид. Принимая во внимание
широко распространенное, особенно в либеральных кру¬
гах, мнение о том, что «фундаментальная реформа» су¬
ществующей международной системы должна служить
обеспечению безопасности государств, американские тео¬
ретики говорят о необходимости предотвращения миро¬
вой термоядерной войны как цели «нового миропорядка»,
но тотчас увязывают это с предотвращением социальных
сдвигов. Так, американская исследовательница М. Кэмпе
в книге «Управление взаимозависимостью» ставит в один
ряд и «замену насильственных процессов изменений мир¬
97
ными процессами», и «отсутствие ядерной катастро¬
фы» 76. Первое предполагает отказ от революционной, на¬
ционально-освободительной борьбы, поскольку такой от¬
каз выставляется обязательным условием стабильности
мировой структуры.
Совершенно очевидно, что с помощью подобных при¬
емов буржуазные теоретики пытаются соединить под од¬
ной крышей «стабильности мировой системы» несовмес¬
тимые по своей природе понятия. Социальные сдвиги
диктуются законами общественного развития, которые
предопределяют в конечном счете неизбежную, истори¬
чески обусловленную победу нового строя. Они не под¬
властны межгосударственным соглашениям и договорен¬
ностям. Никто не может выдать капиталу гарантийное
обязательство на сохранение угодных ему порядков. От¬
вечая тем, кто претендует на получение подобных гаран¬
тий, Л. И. Брежнев подчеркивал на Всемирном конгрессе
миролюбивых сил в Москве (октябрь 1973 г.): «...Ленин —
этот величайший революционер — говорил: революции
не делаются по заказу или соглашению. Можно добавить,
что революцию, классовую борьбу, освободительные дви¬
жения также нельзя и отменить по заказу или соглаше¬
нию. Нет на земле силы, которая могла бы повернуть
вспять неумолимый процесс обновления общественной
жизни. Там, где есть колониализм, будет борьба за на¬
циональное освобождение. Там, где есть эксплуатация,
будет борьба за освобождение труда. Там, где есть аг¬
рессия, там будет и отпор ей»77.
Что касается такой кардинальной проблемы современ¬
ности, затрагивающей жизненные интересы буквально
всего человечества, как предотвращение термоядерной ка¬
тастрофы, то существенную роль в решении этой пробле¬
мы играет определенная система договоров и соглашений
между государствами с различным социальным строем,
среди которых важное значение имеет серия соглашений,
направленных на предотвращение ракетно-ядерной вой¬
ны и ограничение гонки вооружений. Именно такая дого¬
ворно-правовая структура создает предпосылки для при¬
дания устойчивости международным отношениям.
Упрощенное же, однозначное толкование многими
буржуазными авторами сложных процессов, происходя¬
щих в мировой политике, является глубоко антинаучным.
Оно затушевывает главную угрозу устойчивости мировой
системы, которая заключается в политике империализма,
неоколониализма и всех формах угнетения и эксплуата¬
ции. В то же время такое толкование представляет собой
теоретическое обоснование попыток США и других ка¬
питалистических государств держать под контролем про¬
исходящие изменения как в международных масштабах,
так и в отдельных странах капиталистической системы,
канализировать эти изменения в угодном для империа¬
лизма направлении.
*
Согласно концепции «нового миропорядка», современ¬
ный мир является «биполярным» в военном отношении и
«многополярным» — в политическом. В отличие от рас¬
пространенных в период «холодной войны» утверждений
о необходимости обеспечить абсолютное военное превос¬
ходство Запада над СССР, целый ряд нынешних адеп¬
тов этой концепции исходят из того, что военная «бипо¬
лярность» в современных условиях означает примерный
ядерный паритет (равновесие) и что все попытки нару¬
шить его не могут увенчаться долговременным успехом.
Опыт показывает — и многие американские ученые при¬
знают это, — что в случае нарушения паритета он затем
неизбежно будет восстановлен, но уже на более высоком
уровне развития оружия. Однако в связи с этим не дела¬
ется, казалось бы, естественный вывод о том, что США
не должны больше наращивать свои ядерные силы. В ка¬
честве предлога для оправдания подобного наращивания
используется тезис о «возрастающих возможностях» Со¬
ветского Союза в этой области.
Осложняющим обстоятельством для сохранения ядер¬
ного паритета в американской литературе считается как
существование других ядерных держав, так и особенно
опасность распространения ядерного оружия. По некото¬
рым американским подсчетам, если распространение
ядерного оружия не удастся приостановить, то в ближай¬
шие 10—15 лет число ядерных государств может легко
утроиться.
В американских исследованиях ядерное равновесие
между СССР и США нередко отождествляется с между¬
народным равновесием. Такой подход обнаруживает
классовую узость мышления их авторов. Бесспорно, ядер¬
ное равновесие двух держав составляет основу равнове¬
сия международного. Но помимо того, что СССР и США
обладают огромным ядерным потенциалом, важное зна¬
чение имеет исторически сложившаяся роль этих госу¬
дарств в рамках соответствующих социально-экономиче¬
99
ских систем. В то же время ядерное равновесие между
ними — при всей его значимости — является лишь одним,
хотя и весьма важным элементом международного рав¬
новесия. Признавая равновесие сил как фактор, создаю¬
щий «своеобразную конъюнктуру всемирной политики»,
В. И. Ленин включал в число его элементов наряду с
соотношением сил между капитализмом и социализмом
(чему он придавал первостепенное значение) «соотноше-
ние классовых сил в международном масштабе» 78. Зна¬
чение ленинского подхода к анализу всех компонентов
мирового равновесия приобретает особенно большое зна¬
чение в наше время, характеризующееся развитием и ук¬
реплением союза трех основных революционных сил сов¬
ременности: мирового социализма, международного про¬
летариата и национально-освободительного движения.
Действительно научный анализ расстановки и соотноше¬
ния сил в мировом масштабе может быть сделан только
с учетом всех элементов равновесия.
Конечно, новый подход буржуазной внешнеполитиче¬
ской мысли к вопросу о «биполярности» отражает при¬
знание роста могущества первого в мире социалистичес¬
кого государства. Сознавая существование объективных
пределов, за которыми противоборство с СССР может пе¬
рерасти в катастрофический ядерный конфликт, наиболее
трезво мыслящие американские теоретики вынуждены
принять идею мирного сосуществования в качестве аль¬
тернативы такому конфликту; они высказываются за раз¬
витие отношений с Советским Союзом на принципах ра¬
венства, одинаковой безопасности и отказа от односто¬
ронних преимуществ. Это значительный позитивный сдвиг
по сравнению с требованием поддержания безусловного
военного превосходства над СССР, которое одно время
определяло внешнеполитическую стратегию США и до
сих пор отстаивается влиятельными представителями во¬
енно-промышленного комплекса.
Если большинство буржуазных теоретиков сходятся в
том, что СССР и США являются и останутся в обозри¬
мом будущем наиболее могущественными в военном от¬
ношении державами, то по вопросу о политико-экономи¬
ческом влиянии стран мнения расходятся. Одни теорети¬
ки говорят о «пятиполюсном мире» — СССР — США —
Западная Европа (прежде всего в лице стран «Общего
рынка») — Япония — КНР. Другие, называя такую оцен¬
ку «обманчивым символом», предлагают различать в
глобальных масштабах военный треугольник (США —
100
СССР — КНР), экономический (США — Западная Евро¬
па— Япония) и учитывать существование иных комби¬
наций применительно к конкретной проблеме либо к то¬
му или иному региону.
Однако при всей своей внешней несхожести схемы
«многополюсного мира» имеют ряд общих черт. С одной
стороны, они косвенно отражают происходящие в мире
объективные процессы, в том числе такие, как появление
новых центров империалистического соперничества (За¬
падная Европа, Япония), рост центробежных тенденций
в НАТО, вызов империализму со стороны развивающих¬
ся стран, некоторые негативные моменты в мировой по¬
литике, вызванные великодержавным курсом Пекина, и
т. п. С другой стороны, концентрируя внимание на раз¬
личного рода «полюсах», центрах силы или могущества,
авторы подобных схем затушевывают главный, решаю¬
щий признак нашей эпохи. А он характеризуется сущест¬
вованием не различных политико-геометрических фигур,
а двух социальных полюсов — социализма и капитализ¬
ма, между которыми развертывается историческое сорев¬
нование. Динамика его такова, что социализм постоянно
умножает свою силу, свое притягательное воздействие,
в то время как капитализм неуклонно утрачивает пози¬
ции.
Кроме того, подход буржуазных теоретиков к опреде¬
лению «полюсов» является сугубо произвольным. В од¬
них случаях в качестве критерия берется военная мощь,
в других — экономическая, в третьих — совокупность
факторов, определяющих высокую степень международ¬
ного влияния (народонаселение, сырьевые ресурсы,
промышленный потенциал, военно-политические обяза¬
тельства и т. п.). Волюнтаристский подход к определению
«полюсов» наглядно иллюстрируется включением в их
число Западной Европы, которая на практике далека от
модели «политического сообщества» и, в свою очередь,
отличается «многополюсной» структурой.
Следует подчеркнуть, что разного рода конструкции
«полюсов сил» базируются на так называемой «держав¬
ной» концепции международных отношений, которая учи¬
тывает лишь фактор материальной силы 79. Наряду с
крупными державами в последнее время выделяются и
так называемые «влиятельные региональные державы»,
которые рассматриваются как силовые центры, могущие
сплотить вокруг себя соседние страны. К ним относят
Мексику, Венесуэлу и Бразилию в Латинской Америке,
101
Нигерию в Африке, Саудовскую Аравию на Ближнем Во¬
стоке и Индию в Азии. В этих конструкциях Соединенные
Штаты неизменно выступают как первые, но отнюдь не
среди равных. Средним и малым странам, и прежде всего
развивающимся странам, каждая из которых может вне¬
сти свой посильный вкад в упрочение международного
мира и сотрудничества, практически не остается места.
За искусственным конструированием «многополюсно¬
го мира» и затушевыванием определяющего, классового
характера международных отношений скрывается стрем¬
ление создать политико-идеологическую платформу для
противодействия прогрессивным переменам, перестройке
международных отношений на справедливых, демократи¬
ческих началах. Выдавая «многополюсный мир» за «ве¬
ликое благо» *, открывающее будто бы возможности для
утверждения справедливого мирового порядка, буржуаз¬
ные теоретики объявляют угрозой такому порядку прог¬
рессивные силы современности.
*
Понятие субъектов мировой политики не исчерпыва¬
ется в работах американских теоретиков «нового миро¬
порядка» государствами, являющимися главными дейст¬
вующими лицами «многополюсного мира».
Излюбленным коньком теоретических новаций амери¬
канских авторов является утверждение, что суверенное
национальное государство начинает уступать свои функ¬
ции на международной арене так называемым трансна¬
циональным корпорациям, владеющим многочисленными
предприятиями в десятках стран. Весьма показательно,
что в 1976 году из 422 многонациональных корпораций
(МНК) -миллиардеров 223 были американскими по бази¬
рованию или происхождению и обеспечивали около поло¬
* Достоинство «многополюсного мира» буржуазные теоретики
видят в том, что он-де ограничивает соперничество «сверхдержав»
и предоставляет малым странам возможность сохранения своей
самостоятельности путем игры на противоречиях между великими
державами. Эти утверждения имеют целью замаскировать подлинную
суть предлагаемой схемы. Как признает американский теоретик
У. Гриффит, в условиях «многополюсного мира» США рассчитывают
стать единственной военно-политической и экономической сверхдер¬
жавой и утвердить в международных отношениях в качестве глав¬
ного принципа господство и подчинение, а в качестве права — силу
(см. W. Griffith. The World and the Great Power Triangles. N Y,
1974).
102
вины экспорта и четверти импорта страны, в том числе
львиную долю импорта сырья, а также прибылей по ино¬
странным капиталовложениям80. В этой связи вполне
понятно, почему в США нередко раздаются голоса о том,
что национальное государство при капитализме якобы
устарело и его в перспективе заменят МНК. «Неожидан¬
но оказалось, что суверенные государства чувствуют се¬
бя обнаженными. Концепции, подобные концепции нацио¬
нального суверенитета и национальной экономической
мощи, выглядят до курьеза лишенными значимости» 8l,—
утверждает директор Гарвардского центра международ¬
ных исследований Р. Вернон. И он далеко не одинок. Зна¬
чительная группа публицистов, политологов и экономис¬
тов бьет в ту же точку — необходимо покончить в той
или иной форме с суверенитетом .государств во имя инте¬
ресов МНК. Тем самым делаются попытки как бы пере¬
вести часть международной правосубъектности буржу¬
азного государства на МНК.
В этом же контексте учащаются призывы срочно «от¬
ладить» взаимоотношения государства и МНК, построить
их на каких-то новых правовых и политических принци¬
пах, призванных усилить жизнеспособность капиталисти¬
ческой системы. Такой подход удовлетворяет и правитель¬
ственную бюрократию Запада, и финансовую олигархию.
Поиски соответствующего компромисса ведутся на базе
концепции о так называемой «социальной ответственнос¬
ти» международной корпорации. Согласно этой концеп¬
ции, последняя будто бы сочетает в своей деятельности
частнособственнические и «широкие общественные ин¬
тересы».
Что же имеет место в реальной действительности?
Происходит отнюдь не уменьшение международной пра¬
восубъектности самого буржуазного государства, кото¬
рое стремится к более полному воплощению в жизнь прин¬
ципов, присущих государственному суверенитету.
Далее, впервые в истории в результате глубочайших
сдвигов на мировой политической арене выступает ог¬
ромное число недавно приобретших национально-госу¬
дарственную суверенность стран Азии, Африки, Океании,
Латинской Америки. Поэтому не ограничение государст¬
венного суверенитета, а подчинение деятельности МНК
его требованиям — вот что отвечает жизненным интере¬
сам подавляющего большинства населения земного шара.
Учитывая, что экспансия транснациональных компа¬
ний в развивающихся странах справедливо ассоциирует¬
103
ся в глазах народов с «технологическим империализмом»,
некоторые американские авторы (напрнмер, П. Дракер)
доказывают, будто для развивающихся стран операции
международных компаний на их территории «имеют ог¬
ромное значение», а увеличение и расширение масштабов
их деятельности является «естественным выражением»
интернационализации международной экономической
жизни, симптомом возникновения в полном смысле слова
«всемирной экономики».
Следует отметить, что даже многие буржуазные тео¬
ретики не склонны соглашаться с подобной апологети¬
кой. Так, другой американский исследователь — Дж. Ней
признает, что у развивающихся стран имеются веские ос¬
нования рассматривать международные корпорации в
качестве серьезной угрозы. Он отмечает, что для дости¬
жения своих целей эти монополии пытаются непосредст¬
венно влиять на действия правительств стран, в которых
они функционируют. В качестве средств воздействия
используются «субсидии» политическим группировкам и
прямой подкуп государственных деятелей, «финансиро¬
вание» прессы и других средств пропаганды, организация
заговоров и военных переворотов, подрыв экономики
и т. д. Примерами подобного вмешательства могут слу¬
жить происки «Юнайтед фрут» в Гватемале (50-е гг.),
«Юньон миньер» в Катанге (60-е гг.), «Интернэшнл теле¬
фон энд телеграф» в Чили (70-е гг.), американских кор¬
пораций в Перу, дело Локхида и т. д. При этом междуна¬
родные монополии действуют не только внутри той или
иной страны, разжигая и используя распри и поддержи¬
вая наиболее консервативные группировки, но и создают
определенный политический климат, затрудняют доступ
страны к кредитам и займам на мировом рынке, мобили¬
зуют поддержку своим подрывным акциям со Стороны
других монополий. Само существование международных
корпораций и их функционирование на территории раз¬
личных стран делает МНК проводниками влияния от¬
дельных государств, и прежде всего США82.
В декларации Всемирной конференции по развитию,
состоявшейся по инициативе Всемирного Совета Мира в
Будапеште в октябре 1976 года, говорится: «Империа¬
лизм использует все средства для сохранения своего гос¬
подства, в том числе посредством международных корпо¬
раций. Эти корпорации означают новый этап процесса
превращения финансового капитала в международный.
Они серьезно угрожают политическим системам, экономи¬
104
ческому прогрессу, суверенитету отсталых стран, так же
как и миру во всем мире. Международные корпорации
эксплуатируют национальную экономику развивающихся
стран и вмешиваются во многих случаях во внутренние
дела стран, где они орудуют. В интересах достижения
•максимальных прибылей эти корпорации при поддержке
государственного аппарата империалистических стран
помогают самым реакционным режимам и в большинст¬
ве случаев являются главными инспираторами фашист¬
ских, расистских и других реакционных режимов, как это
случилось в Чили и происходит в Южной Африке, Израи¬
ле и других государствах».
Расширение числа субъектов международного обще¬
ния за счет МНК используется американскими буржуаз¬
ными идеологами для организации нового наступления на
государственный суверенитет, который рассматривается
ими как препятствие для использования МНК в качест¬
ве средства сохранения империалистического господства.
Американские авторы не скрывают того, что их идеа¬
лом является такая модель мировой структуры, при ко¬
торой государство превратится в анахронизм. Расписывая
достоинства подобной модели, которая считается «наибо¬
лее справедливой», профессор политических наук Прин¬
стонского университета Р. Джилпин прямо заявляет, что
в этом случае контроль государства над экономическими
вопросами должен перейти в руки многонациональных
корпораций, рынка евродолларов и других международ¬
ных институтов. При этом он испытывает явное удовлет¬
ворение от сознания того, что государства превратились
бы в «слуг корпораций»83.
В то же время Джилпин вынужден констатировать
нереальность создания такой модели «нового миропо¬
рядка». Ему приходится признать, что тенденция к сох¬
ранению национального суверенитета имеет под собой в
настоящих условиях довольно прочный фундамент.
Подобно Джилпину, многие американские авторы не
без сожаления отмечают, что, по мере того как правящие
круги Запада все глубже проникаются идеей «взаимоза¬
висимости», усиливаются выступления народов за сохра¬
нение национального суверенитета. Как подчеркивает
американский посол Дж. Леонард, Западу по крайней
мере еще в течение многих лет придется иметь дело с ми¬
ром независимых «суверенных» государств84.
В этих условиях буржуазные авторы приглушают
мысль о мировом государстве и мировом правительстве
105
как всеисцеляющих средствах от наступления мирового
хаоса. Соответственно против государственного суверени¬
тета используется новая аргументация. Главный довод —
якобы несоответствие суверенитета интересам и требова¬
ниям научно-технического прогресса.
«Государства продолжают пытаться поступать так,
как если бы они были единственными хозяевами своих
судеб,— пишет в своей книге «Императивы технологии»
видный американский теоретик Ю. Сколников,— а в дей¬
ствительности это совсем не так... Технологический фак¬
тор будет еще больше сковывать действия государств в
будущем, сужая тем самым традиционные представления
о суверенитете» 85.
Не ясно ли, что такого рода трактовка технического
прогресса полностью вписывается в неоколониалистскую
стратегию подчинения развивающихся государств при по¬
мощи экспорта технологии? Само собой разумеется, что
адекватное использование научно-технического прогрес¬
са ни в малейшей мере не исключает, а, наоборот, влечет
за собой применение его результатов в глобальном мас¬
штабе, предполагает полноценную и все расширяющуюся
деятельность национальных, суверенных государств в
соответствии с их нуждами и потребностями, развитие на-
учно-технического сотрудничества прежде всего на основе
соответствующих межправительственных соглашений.
Одновременно государственный суверенитет объявля¬
ется буржуазными теоретиками причиной господства
права силы в международных делах, развязывания войн
и хаоса, отсутствия безопасности государства 86. В таких
попытках нетрудно видеть стремление этих теоретиков
сделать государственный суверенитет ответственным за
то положение в мире, которое складывается в результате
проведения империализмом свойственной ему агрессив¬
ной политики. Не требуется лишних слов, чтобы понять,
что все здесь поставлено с ног на голову.
Весьма показательно, что с утратой суверенитета
различными государствами буржуазные авторы связы¬
вают возникновение «общих интересов и процедурных
ценностей» этих государств на западный манер.
Настоятельное подчеркивание роли МНК в междуна¬
родных отношениях, равно как и наступление с новых по¬
зиций на государственный суверенитет, полностью соот¬
ветствует проступающей в концепции «нового миропо¬
рядка» линии на противодействие социальным переменам
в мире. По замыслу буржуазных теоретиков, междуна¬
106
родные монополии, не стесняемые суверенным» правами
государств, отстаивающих свою национальную независи¬
мость, должны явиться надежным подкреплением капита¬
листических государств в борьбе за сохранение угодных
им порядков в мире.
*
В дополнение к государствам и многонациональным
монополиям важным компонентом «нового миропоряд¬
ка» в американской литературе объявляются различного
рода международные правительственные и неправитель¬
ственные организации.
Среди них особое значение придается ООН.
Современные американские авторы вынуждены при¬
знать, что ушел в безвозвратное прошлое период, когда
«в ООН доминировали США» и когда «Вашингтон дей¬
ствовал по принципу: что хорошо для США, то хорошо
и для ООН» 87.
Соответственно меняется и представление о месте и
роли ООН в поддержании «нового миропорядка». Если
раньше эта организация рассматривалась в политичес¬
ком плане как «прообраз мирового правительства», а в
идеологическом — как «совесть мира», «голос свободных
народов» и т. п., то ныне ее значение определяется более
сдержанно, прежде всего в контексте практической поли¬
тики. США, однако, и сегодня стремятся использовать
ООН в своих интересах. Согласно распространенной в
американской литературе точке зрения, ООН, как и не¬
которые другие международные организации, должна
«способствовать постепенному созданию международной
политической системы, интегрированной посредством
транснационального выравнивания общих интересов и
сглаживания противоположных интересов, включая поли¬
тические и идеологические противоречия»88. Таким обра¬
зом, хотя роль международных организаций уже не рас¬
сматривается в свете задач по созданию мирового госу¬
дарства, тем не менее вполне определенные социально
заданные идеи этой концепции (всемирная интеграция,
выравнивание интересов, сглаживание противоречий)
сохраняются и в нынешнем подходе.
Выявляется новая точка зрения и по вопросу о прио¬
ритетах деятельности ООН. В отличие от 40-х и 50-х го¬
дов, когда США стремились использовать ее возможно¬
сти на политическом направлении, теперь на первый план
107
предлагается выдвинуть некоторые социально-экономи¬
ческие проблемы (оказание технической помощи, охрана
окружающей среды, борьба с торговлей наркотиками, с
международным терроризмом и т. п.). При всей важнос¬
ти некоторых из таких проблем они, конечно, уступают
в своем значении центральной задаче ООН, сформулиро¬
ванной в ее Уставе,— задаче поддержания международ¬
ного мира и безопасности. Смысл новой установки заклю¬
чается именно в том, чтобы отвлечь ООН от выполнения
ее главного долга и благодаря этому добиться снижения
ее политического влияния, международного авторитета.
Целый ряд реалистически мыслящих представителей
американских научных кругов, сгруппировавшихся вок¬
руг Ассоциации содействия ООН (М. Шульман, Ч. Пост,
Л. Блумфилд, Р. Фалк и др.), выступают против смеще¬
ния акцента деятельности ООН в социально-экономичес¬
кую область и отстаивают идею максимального расшире¬
ния функций ООН в деле поддержания мира. При этом,
однако, необходимость повышения эффективности ООН
на ее магистральном политическом направлении связыва¬
ется почти исключительно с операциями по поддержа¬
нию мира.
Определенное изменение претерпевает и американская
концепция правовой природы ООН. В некоторых отноше¬
ниях она начинает сближаться с правильным понимани¬
ем этого вопроса. Ныне американская внешнеполитичес¬
кая мысль все больше признает, что Устав представляет
собой «многосторонний договор, заключенный государст¬
вами путем переговоров и принятый правительства¬
ми» 89. Соединенные Штаты выступают теперь против
попыток пересмотра Устава ООН.
Вместе с тем в некоторых кругах США не прекраща¬
ются «академические» поиски различных нововведений в
международных организациях. Отталкиваясь от внесенно¬
го Вашингтоном в Совет Безопасности в 1969 году пред¬
ложения о создании категории ассоциированных членов
ООН, научно-исследовательские центры занимаются про¬
блемой «мини-государств», выработкой различных фор¬
мул «дифференцированного голосования» в главных ор¬
ганах ООН, и прежде всего в Генеральной Ассамблее.
Важное место отводится планам по повышению значения
Международного Суда в структуре ООН. Широкой под¬
держкой пользуются идеи о перераспределении функций
между органами Генеральной Ассамблеи и, в частности,
о сосредоточении в Специальном политическом комитете
108
только таких политических вопросов, которые связаны с
научно-техническим прогрессом. Конкретизируются сооб¬
ражения по реализации американских предложений о
создании в рамках Международного валютного фонда но¬
вого учреждения по безопасности развития, о расширении
деятельности Международной финансовой корпорации и
подчиненного ей Международного инвестиционного фон¬
да и т. д. Недооценивать эти разработки не следует, по¬
скольку они представляют собой своеобразный «рынок
идей»: многие из них могут быть при. определенных усло¬
виях использованы в интересах правительственной поли¬
тики США.
В целом в подходе США к роли международных ор¬
ганизаций при «новом миропорядке» заметно сказывает¬
ся влияние идей норвежского профессора Йохана Галь-
тунга, тесно связанного с американским «академическим
сообществом». Называя нынешнюю международную сис¬
тему, основанную на географическом существовании на¬
циональных государств, «территориальной системой», он
развивает теорию о нарождении новой мировой системы,
состоящей из «нетерриториально действующих субъек¬
тов». К таким субъектам наряду с МНК Гальтунг отно¬
сит и международные правительственные и неправитель¬
ственные организации. Исходя из данных роста числа
указанных организаций в период с 1951 по 1958 год,
Гальтунг предполагает, что к 2000 году число этих орга¬
низаций еще больше возрастет, тогда, по его подсчетам,
будет 13 400 международных неправительственных орга¬
низаций и 4000 МНК. В смысле чистого увеличения ко¬
личества единиц «нетерриториальная система» развива¬
ется гораздо быстрее «территориальной системы». Отсю¬
да Гальтунг предвидит возможность появления ситуаций,
которым соответствуют три основные модели: 1) терри¬
ториальная система имеет большую политическую силу,
чем нетерриториальная система (нынешняя ситуация);
2) территориальная и нетерриториальная системы имеют
примерно одинаковое соотношение сил (по Гальтунгу,
это, возможно, наиболее предпочитаемая ситуация);
3) нетерриториальная система имеет большую силу, чем
территориальная.
Решающим фактором в рамках любой модели Галь¬
тунг объявляет лояльность человека. Лояльность челове¬
ка в настоящее время, пишет он, имеет тенденцию сме¬
щаться от «географической, национальной основы к осно¬
ве, строящейся на соображениях профессии и занятости».
109
Во всяком случае, по его мнению, имеется очень широкая
тенденция к переплетению лояльности человека между
национальными и транснациональными понятиями. Галь¬
тунг делает затем следующий вывод: «Если допустить,
что явление переплетения станет все более универсаль¬
ным для всего человечества, то на каком-то этапе между¬
народные войны могут оказаться невозможными» 90.
Такая постановка вопроса, сдобренная утопическими
рассуждениями, на практике уводит в сторону от маги¬
стральной линии борьбы в современных международных
отношениях между капитализмом и социализмом, факти¬
чески сводит на нет значение социальных перемен, пред¬
лагая переключить все внимание в сфере международ¬
ных отношений на роль личности, абстрагированной от
конкретных социально-политических условий.
*
В качестве основы обеспечения стабильности в важ¬
нейшей с точки зрения «национальной безопасности»
США политической области американскими буржуазны¬
ми международниками выдвигается «баланс сил»—веро¬
ломный и беспринципный способ поведения государств
на международной арене, направленный на стравливание
других народов ради обеспечения для себя выгодного по¬
ложения «арбитра». Сплошь и рядом из старых архивов
вытаскивается Венский трактат 1815 года. Его метричес¬
кая запись свидетельствует о том, что концепция «балан¬
са сил» пользовалась широким распространением на всем
протяжении XIX века. При этом для буржуазной истори¬
ографии характерна идеализация практического примене¬
ния ее в международных отношениях того времени. Ут¬
верждается обычно, что именно она сыграла первостепен¬
ную роль в обеспечении чуть ли не прочного мира после
наполеоновских войн. Одновременно превозносится до не¬
бес «дипломатическое искусство», в результате которого
союз европейских монархий рассчитывал расправляться
с любыми революционными движениями в Европе, обес¬
печить угодный ему статус-кво. Стремясь применить пос¬
тулаты классического «баланса сил» к современным меж¬
дународным отношениям, сторонники данной концепции,
конечно, усматривают ее достоинство в силовом подходе
к решению мировых проблем, в противопоставлении от¬
дельных стран или групп стран друг другу, формировании
в масштабах планеты возможно большего числа полити¬
110
ческих комбинаций и подкреплении их блоковой систе¬
мой. Во имя достижения этой цели американский иссле¬
дователь Дж. Стоссинджер прямо призывает к формиро¬
ванию альянсов и контральянсов, произвольно меняя
партнеров, подобно тому как это делают танцоры, испол¬
няя кадриль91.
Разумеется, роль балансира при создании «равнове¬
сия сил» неизменно отводится все тем же Соединенным
Штатам, которые должны стать хозяином «рычагов воз¬
действия» на все соперничающие между собой за влия¬
ние полюсы современного мира. Не случайно, что США
уподобляются при этом своего рода «олимпийскому ар¬
битру».
Концепция «баланса сил» служит основой для непрек-
ращающихся поисков разграничения «сфер влияния» в
мире. Этот типично империалистический подход облека¬
ется теперь в формы, более соответствующие духу вре¬
мени. Такие американские авторы, как Э. Ричардсон,
Л. Блумфилд и М. Кэмпе, усиленно пропагандируют
идею создания «сфер воздержания» или «сфер проявле¬
ния сдержанности» в отношении определенных регионов.
Они усматривают «привлекательность» этой идеи для
Запада в том, что ее реализация дала бы возможность
подорвать национально-освободительное движение, изо¬
лировать его от естественных союзников.
Подобные концепции, исходящие из идеи раздела ми¬
ра на те или иные сферы влияния, противоречат интере¬
сам мира и социального прогресса. В их основе лежат
расчеты на «экспорт» империалистической контрреволю¬
ции, на подавление сил, отстаивающих национальную
свободу и социальный прогресс.
В последнее время применение постулатов «баланса
сил» к решению проблем современного мира стало объ¬
ектом острой критики на Западе. Весьма характерно, од¬
нако, что никто из буржуазных критиков фактически не
ставит под сомнение основную целевую установку этой
концепции — обеспечение социально-политического ста¬
тус-кво. Предметом дискуссии является лишь вопрос, на¬
сколько эффективно обеспечивается достижение этой це¬
ли при помощи одного только «баланса сил». В этой свя¬
зи не без основания обращается внимание на то, что ме¬
ханическое использование в условиях второй половины
XX века прецедента XIX века не является уместным.
«Система Меттерниха — Бисмарки,— пишет американ¬
ский историк дипломатии Г. Крейг, — являлась столь эф¬
111
фективной ввиду особых причин. Она была идеологичес¬
ки однородной, число ее членов было строго ограничен¬
ным (до 1890 г. политическая жизнь мира была в основ¬
ном достоянием пяти великих европейских держав). Им
не приходилось до самых последних лет заботиться об
общественном мнении. Международная политическая
жизнь не была достоянием плебса. «Народные массы,—
с удовлетворением заявлял Меттерних,— всегда инерт¬
ны». Перечисленные условия облегчали работу системы
и повышали ее шансы на успех. Сегодня эти факторы от¬
сутствуют» 92.
Нельзя, естественно, согласиться с формулировками
Г. Крейга, но суть вопроса он раскрывает правильно. Сов¬
ременная международная обстановка, отмеченная суще¬
ственным изменением соотношения сил в пользу социа¬
лизма, небывалым возрастанием роли народных масс, де¬
лает иллюзорными расчеты теоретиков «баланса сил» на
замораживание социальных процессов в мире и преодо¬
ление межимпериалистических противоречий.
В условиях резкой критики, чему способствует в не¬
малой степени открыто империалистический смысл «ба¬
ланса сил», тезис о применении «баланса сил» в качест¬
ве эффективного инструмента создания «мировой струк¬
туры» в последнее время несколько приглушен в буржу¬
азных теоретических исследованиях, но это не меняет су¬
щества дела. Цели и методы проведения политики, бази¬
рующейся на «балансе сил», продолжают составлять ос¬
нову подхода буржуазных идеологов к решению между¬
народных проблем. Разрабатывая схемы «нового миро¬
порядка», которые сдерживали бы социальное обновле¬
ние мира, они по-прежнему делают главную ставку на
противопоставление друг другу тех государств, которые
не входят в военно-политические группировки Запада, на
подогревание опасного соперничества между ними в по¬
литической, военной и экономической областях.
Весьма характерно, что один из главных критиков
чрезмерного акцентирования на «балансе сил» — 3. Бже¬
зинский отнюдь не сбрасывает со счетов значение полити¬
ки «баланса сил» для укрепления позиций и влияния
США в современном мире. «Разумеется, в мировых де¬
лах,— заявляет он,— «баланс сил» занимает огромное
место, особенно в районах соперничества; чрезвычайно
важны и региональные «балансы сил». Принимая факти¬
чески «баланс сил» как рабочую концепцию внешней по¬
литики США, Бжезинский обеспокоен лишь тем, чтобы
112
этот подход не препятствовал канализации происходящих
в мире изменений по угодному капиталистическим стра¬
нам руслу. «Мы живем в период очень драматических
интенсивных изменений,— заявляет он,— и сосредоточе¬
ние на «балансе сил», как таковом, вместо усилий кана¬
лизировать происходящие изменения может в конечном
счете не дать желаемых результатов» 93.
Таким образом, подход американской внешнеполити¬
ческой мысли к вопросам обеспечения стабильности в по¬
литической сфере «нового миропорядка», принимает ли
он форму «баланса сил» или иные обличия, был и оста¬
ется сугубо империалистическим по своему характеру.
*
Теоретики «нового миропорядка» декларативно ‘ при¬
знают важность с точки зрения обеспечения «националь¬
ной безопасности» не только военно-политического ас¬
пекта межгосударственных отношений, но и широкого
комплекса других глобальных, и прежде всего экономиче¬
ских, проблем. Так, специальная комиссия конгресса
США, занимавшаяся вопросами «совершенствования»
внешней политики США, рекомендовала в 1976 году, что¬
бы служба планирования и госдепартамент в целом (так
же как и ЦРУ) уделяли значительно больше внимания
международной экономической проблематике, ее взаимо¬
связи с политическими и военно-стратегическими аспек¬
тами международных отношений94.
Эта рекомендация обращена, с одной стороны, к тем
капиталистическим государствам, которые принято отно¬
сить к так называемому «трехстороннему сообществу»,
с которым связывается расчет на угодную капитализму
эволюцию глобальной системы95. Как известно, внутри
этого «сообщества» происходит острейшая конкурентная
борьба. Видимо, отдавая себе отчет в этом, многие амери¬
канские теоретики усиленно проповедуют жизненную не¬
обходимость «гармонизации» экономических интересов
во имя укрепления «единства Запада», его политических,
военных и социальных позиций. При этом ими настоя¬
тельно проводится мысль о том, что нельзя быть союзни¬
ком в военной и политической областях и одновременно
вести борьбу в сфере экономики.
С другой стороны, признание важности экономическо¬
го плацдарма внешнеполитической активности находит
5-597
113
весьма рельефное отражение в специфическом подходе
США к вопросу о новом международном экономическом
порядке.
«Суть проблемы,— как отмечается в заявлении Совет¬
ского правительства «О перестройке международных эко¬
номических отношений»,— состоит в том, что нынешний
характер международных экономических отношений, сло¬
жившийся при совершенно иной расстановке мировых
сил и отвечающий лишь корыстным интересам империа¬
листических монополий, вступил в противоречие с насущ¬
ными интересами огромного большинства стран и разви¬
тием общей международной обстановки. Это несоответ¬
ствие стало проявляться особенно остро после того, как
процесс разрядки напряженности создал предпосылки
для решения актуальных экономических проблем в инте¬
ресах всех народов мира» 96.
Молодые независимые государства в настоящее вре¬
мя активно включились в борьбу за перестройку между¬
народных экономических отношений. В этом находит во¬
площение их законное стремление распространить про¬
цесс ликвидации колониализма на экономическую сферу,
покончить с эксплуатацией со стороны индустриальных
держав Запада, создать благоприятные условия для пре¬
одоления своей экономической отсталости. Итоги конфе¬
ренций ЮНКТАД, сессий ЭКОСОС, а также V и VI Кон¬
ференций глав государств и правительств неприсоединив-
шихся стран в Коломбо и Гаване свидетельствуют о на¬
растающей активизации деятельности развивающихся
стран в этом направлении.
Советский Союз оказывает не только политическую
поддержку обоснованным требованиям стран Азии, Аф¬
рики, Латинской Америки, но и прямое содействие в ре¬
шении их экономических проблем, создании националь¬
ной индустрии — основы экономической независимости.
Главным препятствием на пути к демократической пе¬
рестройке международных отношений была и остается
позиция монополистических кругов капитализма, стремя¬
щихся не только сохранить в будущем, но и углубить экс¬
плуатацию развивающихся стран. Разумеется, империа¬
листические державы, и в первую очередь США, вынуж¬
дены в то же время маневрировать, в чем-то уступать,
раздавать обещания «помощи» и т. п.
Несмотря на различные оттенки в тех или иных выс¬
казываниях, теоретизирования буржуазных авторов по
поводу проблемы нового экономического порядка имеют
114
единое служебное назначение — обосновать сохранение
неоколониалистской эксплуатации. Система международ¬
ных экономических отношений, заявляет французский
экономист И. Лолан, «всегда предполагает зависимость
одних групп стран от других».
Долгосрочный прицел и в то же время тактические
назначения различного рода рекомендаций американских
буржуазных теоретиков и практиков состоят в том, что¬
бы, соглашаясь на известные уступки по второстепенным
вопросам, «спускать на тормозах» наиболее радикальные
требования развивающихся стран, выхолащивать анти¬
империалистическое содержание идеи нового междуна¬
родного экономического порядка, подменять ее своей раз¬
новидностью «порядка», максимально нацеленной на со¬
хранение статус-кво в мировых экономических делах. В
методологическом отношении подобный подход характе¬
ризуется тем, что все внимание сосредоточивается на та¬
ких внешних условиях преодоления экономической отста¬
лости стран Азии, Африки и Латинской Америки, при ко¬
торых, по существу, сохраняется дискриминационная нео¬
колониалистская система. В то же время обходится мол¬
чанием необходимость внутренних социально-экономиче¬
ских преобразований и мобилизации всех имеющихся
внутри стран ресурсов на решение проблем развития.
В нынешних рекомендациях относительно «американ¬
ской альтернативы» новому международному экономиче¬
скому порядку акцент ставится не столько на сохранение
торгово-экономического статус-кво, сколько на придание
более динамичного вида мировой торговле. Однако сде¬
лать это предлагается не на базе нового международно¬
го экономического порядка как программы, отражающей
интересы развивающихся стран, а на основании неких бо¬
лее «широких общих целей», главной из которых считает¬
ся сохранение и развитие системы «свободного предпри¬
нимательства» как универсальной базы международного
товарообмена.
Явно стремясь дезориентировать развивающиеся стра¬
ны, многие американские «специалисты» по проблемам
мирового развития пытаются подменить разработку кон¬
кретных принципов новых международных экономичес¬
ких отношений конструированием заведомо искусствен¬
ной схемы деления стран на «бедные» и «богатые», поста¬
вив тем самым социалистические государства в один ряд
с империалистическими державами в вопросе об истори¬
ческой ответственности за экономическую отсталость
5*
115
разбивающихся стран, последствия колониального гнета,
неоколониалистскую эксплуатацию. Особенно активен в
этом отношении проф. Р. Гарднер, который, отталкиваясь
от тезиса о «равной ответственности», пытается настро¬
ить развивающиеся страны на предъявление финансовых
и экономических претензий к Советскому Союзу.
«Нет и не может быть никаких оснований,— говорит¬
ся в заявлении Советского правительства «О перестройке
международных экономических отношений»,— для предъ¬
явления к Советскому Союзу и другим социалистическим
государствам тех требований, которые развивающиеся
страны предъявляют к развитым капиталистическим го¬
сударствам, включая требование об обязательной пере¬
даче развивающимся странам в порядке экономической
помощи фиксированной доли валового национального
продукта.
Во-первых, эти государства не несут ответственности
за экономическую отсталость, развивающихся стран, дос¬
тавшуюся последним в наследство от колониального про¬
шлого. Во-вторых, они никогда не осуществляли и не
осуществляют экономической эксплуатации каких бы то
ни было стран. В-третьих, социалистические страны ни¬
как не причастны к тем тяжелым последствиям для раз¬
вивающихся государств, которые вызываются экономи¬
ческими кризисами, крахом валют и другими проявления¬
ми анархии производства в капиталистической системе».
Таким образом, тезис о равной ответственности раз¬
витых в промышленном отношении стран не соответству¬
ет политической действительности. Затушевывая разли¬
чие между капиталистическими и социалистическими
странами, этот тезис как бы освобождает капиталистиче¬
ские страны от обязанности возмещать нанесенный ими
ущерб бывшим колониям и одновременно произвольно
навязывает социалистическим странам ничем не обосно¬
ванную ответственность. Тем самым фактически наносит¬
ся вред делу оказания социалистическими странами под¬
держки развивающимся странам в их справедливой борь¬
бе за новый тип международных экономических отноше¬
ний; этот тезис оказывается на руку капиталистическим
странам и всем тем силам, которые стремятся изолиро¬
вать силы социализма от национально-освободительной
революции.
В своем подходе к перестройке международных эконо¬
мических отношений американские авторы пытаются не
просто оторвать, а противопоставить эту перестройку ма-
116
гистральному политическому направлению преобразова¬
ния мировой системы взаимоотношений стран.
Подлинно научный реалистический подход к вопросу
о создании системы действительно устойчивого мира тре¬
бует признания единства задач в области фундаменталь¬
ного изменения всей системы международных отношений.
«Между перестройкой международных экономических
отношений и проблемами ограничения гонки вооружений,
разоружения, упрочения безопасности,— подчеркивается
в упомянутом заявлении Советского правительства,— су-
- ществует важная взаимная связь — дальнейшее продви¬
жение вперед в деле политической и военной разрядки,
имеющее первостепенное значение для укрепления всеоб¬
щего мира, будет в то же время содействовать нормали¬
зации мирового экономического положения. В свою оче¬
редь, прогресс в сфере перестройки международных эко¬
номических отношений послужит вкладом в углубление
и расширение разрядки напряженности».
Именно в таком научном, марксистско-ленинском под¬
ходе к проблемам международных отношений на совре¬
менном этапе содержится ответ на вопрос, как построить
справедливый, демократический мир, исключающий вой¬
ны и обеспечивающий социальный прогресс народов.
*
Претензии американских теоретиков «нового миропо¬
рядка» на то, что Соединенные Штаты в силу своего гла¬
венствующего положения в капиталистическом мире име-
ют-де основание устанавливать свои собственные условия
«нового миропорядка», по признанию даже самых видных
американских авторов, таких как С. Хоффман 97, факти¬
чески сводят на нет конструктивное значение создавае¬
мых в американском «академическом сообществе» схем
«нового миропорядка».
Критический анализ этих схем позволяет глубже по¬
нять цель американской внешней политики, прикрывае¬
мую интересами «национальной безопасности» и пред¬
ставляющую собой не что иное, как противодействие
прогрессивным изменениям в мире.
Как видно, американская концепция «нового миро¬
порядка», основу которой составляет империалистичес¬
кая идея «стабильности», не вносит чего-либо принципи¬
ально нового, сохраняет установки, ведущие к разделе¬
нию мира на противостоящие друг другу группировки,
117
стимулирует политическое комбинаторство в междуна¬
родных отношениях, рассчитана на господствующее поло¬
жение американского империализма, а в области эконо¬
мики выдвигает рецепты, которые можно охарактеризо¬
вать как некоторую перекраску старого фасада. Иными
словами, нынешний вариант активно разрабатываемого в
США «нового миропорядка» — это очередная попытка
приспособиться к изменяющимся условиям в мире, втис¬
нуть неизбежную перестройку международной системы
в выгодные для США рамки.
Глава
ш
ВОЕННАЯ СИЛА —
ГЛАВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
«НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ »
США
Доктрина «национальной безопасности», акцентируя
примат военных соображений над политическими, соот¬
ветственно в числе средств обеспечения безопасности вы¬
носит на первое место военную силу.
Культ военной силы в США — явление не новое. Это—
прямое порождение американского милитаризма, пред¬
ставляющего собой наращивание военной мощи господ¬
ствующим классом США для достижения коренных це¬
лей его реакционной внутренней и агрессивной внешней
политики. В США, как и в других странах Запада, наи¬
большее развитие и распространение милитаризм полу¬
чил при империализме. «Современный милитаризм,— ука¬
зывал В. И. Ленин,— есть результат капитализма. В обе¬
их своих формах он — «жизненное проявление» капита¬
лизма: как военная сила, употребляемая капиталистичес¬
кими государствами при их внешних столкновениях... и
как оружие, служащее в руках господствующих классов
для подавления всякого рода (экономических и полити¬
ческих) движений пролетариата» *.
Как внешняя, так и внутренняя функции милитариз¬
ма, которые взаимно переплетаются, имеют ярко выра¬
женную контрреволюционную, антигуманную направлен¬
ность.
По своей социальной природе милитаризм направлен
прежде всего против реального социализма, сил социаль¬
ного прогресса и национального освобождения.
Уже перед второй мировой войной совместными уси¬
119
лиями наиболее реакционных империалистических кру¬
гов, военщины и обслуживающих их интересы академиче¬
ских кругов США были разработаны основы милитарист¬
ской идеологии, которые охватывали как социально-эко¬
номическую, так и собственно военную сферы. Милита¬
ристская идеология широко проникла во все сферы ду¬
ховной жизни американского общества.
Появившаяся в условиях интенсивного развития ми¬
литаризма доктрина «национальной безопасности» США
не просто закрепляла установившиеся представления о
главенствующем значении военной силы, но и приспосаб¬
ливала милитаристские установки к изменившимся пос¬
ле второй мировой войны условиям глобального противо¬
борства двух систем. Она более определенно указывала
на место и роль военной силы в системе политических,
экономических и идеологических средств, подчеркивала
взаимосвязь между военной силой и другими компонен¬
тами «государственного могущества», необходимость оп¬
тимального применения военной силы 2.
Основа ♦могущества*
Одна из важнейших проблем, касающихся обеспече¬
ния эффективности военно-силового подхода во внешней
политике, связана с определением значения военной силы
в качестве компонента «могущества» как Соединенных
Штатов, так и всей капиталистической системы.
Проблема эта не новая. В период «холодной войны»
США строили иллюзорные расчеты на возможности воен¬
ного решения исторического спора двух систем, когда до
опасного предела сокращалось различие между полити-
ко-дипломатическими и военно-силовыми методами, обес¬
печение «национальной безопасности» США в числе дру¬
гих задач внешней политики ставилось в прямую зависи¬
мость от достижения решающего перевеса в средствах ве¬
дения войны и соответственно «голая» военная сила объ¬
являлась альфой и омегой внешнеполитического успеха.
В нынешних условиях, отмеченных вынужденным по¬
воротом Вашингтона от прямой военной конфронтации
к переговорам с государствами иной социальной системы
и возрастанием значения мирных форм противоборства
двух систем, обеспечение «национальной безопасности»
одним только военно-силовым преобладанием не счита¬
ется достаточным. Соответственно эффективность воен¬
120
ной силы во внешнеполитических действиях взаимосвязы¬
вается с другими элементами «могущества» («мощи»).
Нынешний подход американской внешнеполитической
мысли к вопросу о роли военной силы как компонента
«могущества» реконструирован применительно к измене¬
ниям в международной обстановке, происшедшим в ре¬
зультате коренных сдвигов в соотношении сил, и прежде
всего роста мощи Советского Союза, мировой системы
социализма, активного участия в мировой политике раз¬
вивающихся государств. Вместе с тем произведенные мо¬
дификации по-прежнему далеки от научного понимания
значения военной силы и имеют целью теоретическое под¬
крепление нынешних внешнеполитических установок.
Американская внешнеполитическая мысль не прово¬
дит различия между собственно военной силой и военной
мощью как совокупностью реальных материальных и ду¬
ховных возможностей общества и рассматривает военную
мощь как синоним военной силы. При этом понятие «во¬
енной силы» берется вне социально-экономического кон¬
текста и ее функционирование выносится за рамки клас¬
совой обусловленности.
Стараясь представить себя принципиальными против¬
никами какой-либо односторонности, американские тео¬
ретики включают в понятие «государственное могущест¬
во» наряду с военной силой ряд весьма разнородных эле¬
ментов. У Г. Моргентау и его последователей это — геог¬
рафическое положение, природные ресурсы (прежде все¬
го продовольствие и сырье); промышленный потенциал;
военный потенциал (уровень развития военной техники,
качество военного руководства, количество и качество во¬
оруженных сил); численность населения; национальный
характер, моральный дух общества; качество диплома¬
тии и качество правительства (т. е. способность прави¬
тельства достигнуть поддержки своей внешней политики
со стороны общественного мнения страны) 3.
Согласно схеме, предлагаемой Д. Нихтерлейном, это—
экономическая и технологическая сила, оснащенность
современным оружием вооруженных сил, их способность
к «наступательным и оборонительным» операциям; техни¬
ческая подготовленность и уровень образования населе¬
ния; географическое расположение и природная среда;
доступ к природным ресурсам; стабильность политичес¬
кой системы; эффективность руководства страной4.
Одновременно подчеркивается тесное взаимоперепле¬
тение и взаимодействие между различными элементами
121
«государственного могущества», переход от одного из них
к другому.
При всех нюансах для американской внешнеполити¬
ческой мысли характерно упоение самим понятием «мо¬
гущество». «В настоящее время в системе международ¬
ных отношений окончательным арбитром остается могу¬
щество» 5,— так суммирует свой взгляд на суть между¬
народных отношений группа исследователей Брукингско¬
го института во главе с бывшим заведующим военно-по¬
литическим отделом этого института Б. Блэкманом.
В американской литературе широко распространено
мнение о том, что нельзя сделать суммарную оценку сос¬
тавляющих «государственное могущество» компонентов.
Как подчеркивают американские исследователи, во-пер-
вых, чрезвычайно трудно определить соотносительное
значение каждого из компонентов «национального могу¬
щества» и оценить окончательный результат их комбина¬
ций даже в рамках одного государства. Во-вторых, для
каждого отдельно взятого государства характерна собст¬
венная волюнтаристская система соотносительной значи¬
мости основных компонентов его национальной мощи.
Бесспорно, государственное могущество представляет
собой многокомпонентное явление. Однако элементы, со¬
ставляющие мощь государства, требуют строго диффе¬
ренцированной научно обоснованной оценки. Как отмеча¬
ет советский исследователь Д. Г. Томашевский, большая
территория, численность населения, природные ресурсы
являются «всего лишь предпосылками силы и не опреде¬
ляют автоматически силу и роль государства в между¬
народных отношениях». Исходя из основополагающего
значения способа производства материальных благ, ма¬
териальной силой государства должны быть признаны
структура и технический уровень народного хозяйства,
объем промышленного и сельскохозяйственного производ¬
ства, национальные богатства. Важное значение имеют и
такие факторы, как военная мощь, морально-политичес¬
кое единство общества, причем все они взаимосвязаны
между собой6.
Характерно, что определяющее значение в конгломе¬
рате элементов, составляющих государственное могуще¬
ство, американские теоретики, по существу, отводят во¬
енной силе. Об этом говорит тот факт, что все перечис¬
ляемые ими факторы государственного могущества, да¬
же не имеющие непосредственного военно-стратегичес¬
кого значения, рассматриваются исключительно с точки
122
зрения способности государства применять военную силу
для достижения своих внешнеполитических целей. Так,
Г. Моргентау, выделяя в своих последних работах значе¬
ние таких факторов «национального могущества», как
научно-технический потенциал и политико-дипломатичес-
кие возможности, в то же время ставит их проявления во
внешней политике в конечном счете в зависимость от
состояния военной мощи каждого конкретного государст¬
ва. «В международной политике, в частности,— поясняет
Г. Моргентау,— военная сила, которая может быть при¬
менена на практике или использована как угроза, явля¬
ется наиболее важным материальным фактором, обеспе¬
чивающим политическое могущество государства» 7.
Фактически понятие «могущество» — и это в значи¬
тельной мере отражает взгляды политического и военного
руководства США — сводится в работах американских
авторов к военной силе, возможностям прямого или кос¬
венного использования ее в политических целях. «...Не
имеет значения, как формально определяется могущество,
поскольку подавляющее большинство людей, — писали в
1965 году американские исследователи Гарольд и Марга¬
рет Спраут, — говорит о силе так, как будто она пред¬
ставляет собой прежде всего функцию насилия»8. Подоб¬
ная же мысль была высказана и в 1973 году Д. Нихтер¬
лейном. «Понятие могущества, — отмечал он,—использу¬
ется в международных отношениях настолько широко и
с такой неточностью своего значения, что стало почти
синонимом военной силы»9.
Представляется, однако, что военная сила хотя и важ¬
ный, но вовсе не решающий фактор государственного
могущества. Состав и размеры военного потенциала, и в
частности обладание ракетно-ядерным оружием, в извест¬
ной мере предопределяют место и роль государств в меж¬
дународной системе, но из этого не следует, что военная
сила адекватна государственному могуществу и во мно¬
гом обусловливает содержание внешней политики.
Будучи вынужденной признать, что понятие государ¬
ственного могущества отнюдь не исчерпывается военным
содержанием, американская буржуазная внешнеполити¬
ческая мысль в то же время тщится доказать, что воен¬
ная сила имеет примат среди других компонентов госу¬
дарственного могущества.
Одновременно американские авторы активно разраба¬
тывают тезис о «совокупном», или, как его называют,
«групповом могуществе». «Могущество в наше время ь
123
значительно большей части «групповое могущество».
У тех, кто не принадлежит к «клубу», отсутствует что-то
важное»10.
Концепция «совокупного могущества» является при¬
знанием в теории того факта, что при нынешней расста¬
новке мировых сил одного только «государственного мо¬
гущества» США, хотя и опирающегося на мощные воору¬
женные силы и военный потенциал, оказывается
недостаточно для выполнения общей классовой стратегии
капитализма, направленной на противодействие социаль¬
ным сдвигам в мире.
«Совокупное могущество» характеризуется американ¬
скими теоретиками не как простое механическое соедине¬
ние «государственных могуществ» капиталистических
стран, а как качественно новое образование, в котором
важнейшее значение приобретает скоординированность
усилий и выработка общей линии в политических, воен¬
ных и экономических вопросах («коалиционная диплома¬
тия»). В то же время американские теоретики не остав¬
ляют сомнений в том, что основным элементом «совокуп¬
ного могущества» должно быть «государственное могу¬
щество» США как «сверхдержавы» капиталистического
мира, что от состояния их военной силы, равно как и
других силовых факторов, зависит сцементированность
«группового могущества» капиталистического Запада.
Рассуждения по поводу возрастающего значения «со¬
вокупного могущества» служат теоретическим обоснова¬
нием необходимости сплочения капиталистического мира
под эгидой США, его совместных усилий в отношении
как социалистических государств («Запад — Восток»),
так и развивающихся стран («Север — Юг»).Укреплению
капиталистического альянса придается тем большее зна¬
чение, что «внутренние осложнения всегда делали уязви¬
мыми главные западные страны» п.
В структурном отношении «совокупное могущество»,
по мнению американских теоретиков, складывается из
тех же слагаемых, что и «государственное могущество».
Примат военной силы в понятии «совокупного могу¬
щества» порождает первостепенную важность военных
коалиций. Их значение усматривается в том, что они при¬
спосабливают вооруженные силы всех стран-участниц к
единой военной системе и в то же время являются одной
из форм реализации «совокупной военной силы» в меж¬
дународных отношениях. В американских теоретических
исследованиях вопрос сейчас ставится таким образом,
124
что хотя решающая роль в этих коалициях должна при¬
надлежать наиболее могущественной державе, это не
снимает ответственности других участников коалиции за
внесение ими весомого вклада в обеспечение надлежа¬
щей боеготовности военных союзов:
Подчеркивание важности «совокупного могущества»
в современных условиях используется в практическом
плане для обоснования проводимой Вашингтоном линии
на предотвращение центробежных тенденций и укрепле¬
ние агрессивного Североатлантического пакта и других
замкнутых военно-политических группировок западных
держав, на военно-политическое объединение сил импе¬
риализма на глобальной основе и под эгидой США для
противостояния силам мирового социализма и подавления
национально-освободительных движений. Путем укрепле¬
ния «совокупного военного могущества» США хотели бы
обеспечить себе позиции уже не открытого, как это было
в период «холодной войны», а скрытого «мирового жан¬
дарма». Убедительным свидетельством этого является
предпринятая в 1978 году интервенция НАТО в Заирской
провинции Шаба, фактическое руководство которой осу¬
ществляли американцы.
Понятие «совокупного военного могущества» отнюдь
не одна только теория. Это практическая установка на
дальнейшее проведение в жизнь блоковой стратегии.
Особое значение в условиях происходящих процессов
в сфере международных экономических отношений при¬
дается «совокупному экономическому могуществу». При
этом в плане внешнеполитического воздействия рассмат¬
ривается значение и «экономического могущества» в це¬
лом, и составляющих его элементов (например, «денеж¬
ное», «товарное» и иное «могущество»).
За этими теоретическими конструкциями нетрудно
видеть попытки нахождения наиболее эффективных путей
и средств использования «совокупного экономического
могущества» Запада в целом и в отдёль'ных его проявле¬
ниях как в конфронтации с развивающимися государства¬
ми, требующими перестройки международных экономи¬
ческих отношений-на справедливой, демократическсй
основе, так и в историческом соревновании социализма
и капитализма.
Анализируя значение «группового экономического мо¬
гущества» капиталистического Запада, журнал «Форин
афферс» замечает» «Западная экономическая сшга н ее
распространение по «сему миру жизненно важны не
<Т2б
только для самого Запада и решения проблем Север —
Юг; она также играет ведущую роль в продолжающейся
конкуренции Восток — Запад» 12.
Элементы «совокупного могущества», как и «государ¬
ственного могущества», рассматриваются в американских
работах не в отрыве друг от друга, а в тесной взаимосвя¬
зи и взаимопроникновении. Причем применительно к «со¬
вокупному могуществу» строится более усложненная,
рафинированная схема. Так, в представлении американ¬
ских теоретиков «совокупное военное могущество» не
просто подкрепляет остальные элементы «могущества»,
выступает в сочетании с ними, а в свою очередь под их
воздействием претерпевает и определенные внутренние,
органические трансформации. В переводе на практиче¬
ский политический язык это означает, что эффективность
использования военных коалиций во внешнеполитических
целях требует, чтобы помимо чисто военных функций
они имели еще политические и социально-экономические
функции. Конструкции «совокупного экономического»,
как и «военного», «могущества» не выдерживают сопри¬
косновения с практикой. Тенденции к увеличению «сово¬
купного могущества» противостоит тенденция к ее ослаб¬
лению, вызываемая антагонистическими противоречиями
в капиталистическом мире.
В функциональном отношении, как и в структурном,
понятие «могущество» рассматривается в основном
сквозь призму силового подхода.
Основной смысл «могущества», в том числе и воен¬
ной силы, американские политики и теоретики видят в
оказании нужного влияния (воздействия) на различные
субъекты международного общения — суверенные госу¬
дарства, международные и региональные организации.
«Реальное могущество — это способность воздействия
на других»13, — заявляет главный редактор журнала
«Форин афферс», в прошлом один из руководителей гос¬
департамента США У. Банди.
Установившееся в американской литературе определе¬
ние назначения «могущества» в категориях «влияния»
(«воздействия») трактуется в современных исследовани¬
ях несколько иначе, чем в период «холодной войны». Если
раньше «могущество» (к тому же нередко отождествлен¬
ное с военной силой) рассматривалось как способность к
достижению поставленной цели, которая, во-первых, сво¬
дилась преимущественно к способности физического наси¬
лия и, во-вторых, культивировала могущество, как тако¬
126
вое, то теперь сквозь призму категории «влияния» амери¬
канские теоретики не только считают «могущество» сово¬
купностью разнородных элементов, но и оценивают его
в разрезе потенциальных и реализованных возможнос¬
тей *. Причем особо выделяется значение «могущества»
как потенциала для оказания «влияния», не требующего
во всех случаях применения военной силы.
Такая постановка вопроса, не принижая общего зна¬
чения «могущества» во внешней политике, предостерега¬
ет в известной мере против неосмотрительного использо¬
вания одного только, хотя и важного, военного компонен¬
та, подчеркивает значение наличия внушительной воен¬
ной силы (потенциальных возможностей «влияния»), а
не только применения вооруженных сил и вооружений на
практике (реализованных возможностей), и открывает
более широкий простор для дифференциации между
военными и невоенными средствами **.
Определение в современных американских теоретиче¬
ских исследованиях места и роли военной силы в струк¬
туре и функциях «могущества» свидетельствует о том,
что за последнее время в США под влиянием динамично¬
го развития международных отношений происходит опре¬
деленная переоценка возможностей военно-силового
фактора. Смысл этой переоценки состоит в том, чтобы
компенсировать известную девальвацию военной силы за
* Понятие «влияние» позаимствовано американскими теорети¬
ками международных отношений из социологии. В наиболее общем
виде определение «влияния» («воздействия») сформулировал профес¬
сор социологии Йельского университета Р. Даль. «Влияние», пишет
он, является отношением между «актерами», в котором один из них
некоторым образом побуждает другого действовать так, как он не
действовал бы в противном случае (см. Dahl R. Modern Political
Analysis. Englewood Cliffs, 1963, p. 40). При этом он различал два
вида «влияния» — «насильственное» (осуществляемое при непосред¬
ственной угрозе физического принуждения) и «относительное» (когда
вероятность совпадения интересов достаточно высока). Другой вид¬
ный американский социолог — Р. Мертон, считая «могущество» и
«влияние» двумя тесно связанными, но не идентичными понятиями,
называл «могущество» обладанием потенциалом для оказания «влия¬
ния» (вопрос о тех границах, в которых осуществляется «влияние»,
им не был, однако, решен) (Patterns of Influence. Communications
Research. Ed. dy Lazarafeld P. E. and Stanten F. N. 1949, p. 217).
** В отдельных работах к средствам влияния относят только
невоенные методы (экономические, политические, идеологические
и т. п.), в то время как военные методы считаются, как правило,
средствами принуждения, за исключением случаев защиты государ¬
ственных интересов, когда военная сила выступает в качестве средст¬
ва сотрудничества (Кпогг К. Op. cit., р. 1—2).
127
счет использования в качестве важнейшего средства
«влияния» в комбинации с другими элементами государ¬
ственного, а также «совокупного могущества». Несмотря
на всю свою непоследовательность и противоречивость,
такой подход свидетельствует о стремлении приспособить
военную силу к ведению борьбы с социализмом в русле,
исключающем по возможности военные конфронтации.
Однако сохраняющаяся при этом заметная абсолютиза¬
ция роли военной силы как слагаемого «могущества» не¬
состоятельна в теоретическом отношении и, будучи пере¬
веденной в практическую плоскость, открывает широкие
возможности для дальнейшего наращивания вооружений
и для маневрирования военной силой во внешнеполити¬
ческих действиях и тем самым представляет собой серь¬
езную опасность.
Параметры применения
военной силы
Перенесение акцента на необходимость подкрепления
военной силы другими слагаемыми «могущества» не сни¬
мает, однако, вопроса о применении для достижения
внешнеполитических целей военной силы самой по себе,
и прежде всего вооруженных сил.
Нынешний подход к использованию военной силы пре¬
терпел определенную модификацию по сравнению с пе¬
риодом «холодной войны».
Принятая в условиях атомной монополии США уста¬
новка на военно-силовое обеспечение «национальной без¬
опасности», культивировавшая военное, и прежде всего
атомное, «могущество» США, нацеливала на достижение
внешнеполитических целей и задач правящего класса
США не только путем наращивания вооружений, но и
прямого применения американских вооруженных сил. Ре¬
путация «могущества», как говорили в то время, утвер¬
ждается военной победой. Претворение в жизнь таких
планов означало на практике «балансирование на грани
войны» в отношениях с Советским Союзом, вооруженное
вмешательство в конфликтные и кризисные ситуации в
различных районах мира.
Скорректированное с учетом сдвигов в соотношении
мировых сил, и прежде всего роста военно-политического
могущества СССР, нынешнее понимание правящими кру¬
гами США «национальной безопасности» хотя и выводит
ее обеспечение за рамки одного только военно-силового
128
подхода, допускает, однако, в перспективе силовое про¬
тивостояние двух систем и поэтому придает особое значе¬
ние собственной военной силе. При этом в теории и на
практике обнаруживаются попытки приспособить исполь¬
зование собственно военной силы во внешней политике
к новой стратегической ситуации в современном мире,
отмеченной установлением примерного равновесия сил
между СССР и США.
Продолжая всячески культивировать американскую
военную мощь в целом, современные исследователи роли
военно-силового фактора во внешней политике США в
то же время придают важное значение дифференцирован¬
ной оценке возможностей различных видов вооруженных
сил в качестве инструментов внешнеполитического дей¬
ствия.
Основой военного могущества и соответственно внеш¬
неполитического влияния считаются стратегические ра-
кетно-ядерные силы, состоящие из «стратегической три¬
ады»: межконтинентальных баллистических ракет,, атом¬
ных подводных ракетоносцев и стратегической авиации.
Дальнейшее качественное совершенствование и рас¬
ширение арсенала стратегических сил осуществляется в
соответствии с уже упоминавшимся принципом «сущест¬
венной эквивалентности» и рассматривается в Вашингто¬
не как важнейший фактор, оказывающий влияние на
международные отношения и на военно-силовое обеспе¬
чение внешней политики США. И хотя, учитывая наличие
мощного стратегического оружия у Советского Союза,
американские политики и ученые видят это влияние в
основном в поддержании «равновесия страха», тем не ме¬
нее использование ядерного оружия по его прямому на¬
значению не сбрасывается со счетов.
Не желая отказываться от использования этого фак¬
тора во внешнеполитических целях и всячески уклоняясь
поэтому от ядерного разоружения, американская поли¬
тическая и научная элита выдвигает различного рода
утверждения о том, что стратегические силы являются-де
«оборонительным щитом» Запада.
Существование такого «щита», заявляют в США, соз¬
дает возможности для более активного введения в кон¬
кретные внешнеполитические действия сил общего назна¬
чения. Им отводится роль «меча», или основной ударной
силы, при решении задач, стоящих ниже уровня прямой
конфронтации США и Советского Союза.
Уже одно простое перечисление в американской лите¬
129
ратуре «рутинных» задач, поставленных перед силами
общего назначения США, таких как «избирательное сдер¬
живание коммунизма», обеспечение «победы» в обычном
конфликте, «поощрение быстрого урегулирования» (ес¬
тественно, на американских условиях), против воли авто¬
ров разоблачает миф об американском «миролюбии» и
стремлении к «стабильному мировому порядку» и пока¬
зывает подлинное назначение обычных вооруженных сил
во внешней политике США.
Впервые упор на использование обычных вооружен¬
ных сил во внешнеполитических целях был сделан на
рубеже 60-х годов с принятием доктрины «гибкого реаги¬
рования». В нынешних условиях этим силам, предназна¬
ченным для действий в условиях как применения оружия
массового уничтожения, так и без него, отводится важная
роль в качестве инструмента проведения внешнеполити¬
ческого курса США путем и демонстрации американского
военного присутствия, и прямого военного вмешательства.
Согласно принятой администрацией Картера доктрине
«полутора войн», силы общего назначения, состоящие из
сухопутных войск, морской пехоты, оперативно-тактиче¬
ской авиации ВВС и ВМС, средств стратегической транс¬
портировки, должны быть в состоянии вести одновремен¬
но одну крупную неядерную войну в Европе или Азии,
а также участвовать еще в локальном конфликте.
В условиях мирного времени весьма эффективным в
политическом плане считается использование тактиче¬
ской авиации'В сочетании, по крайней мере, с другим
основным компонентом сил общего назначения.
Особая роль во внешнеполитических планах отводит¬
ся военно-морским силам (ВМС). В основу использова¬
ния ВМС положена так называемая «океанская страте¬
гия», в соответствии с которой географическое положение
США, глобальный характер их политических, военных и
экономических интересов, а также высокая степень зави¬
симости от стратегического сырья требуют господства
ВМС США, по крайней мере, в двух океанах: Атлантиче¬
ском и Тихом. Главная задача ВМС в мирное время —
демонстрация военного присутствия и «контроль над мо¬
рем», под которым имеется в виду обеспечение беспере¬
бойного снабжения передовых группировок наземных сил
в различных регионахм. После нефтяного кризиса
1973 года большой упор делается на охрану морских тор¬
говых путей.
«Роль флота (за исключением ядерных подводных
130
лодок), — пишет американский исследователь Р. Уэс-
сон, — подобна наземным и воздушным силам за рубе¬
жом, это — проекция американской мощи, способной под¬
держивать американскую внешнюю политику в локаль¬
ных и общих масштабах. Однако ВМС, не требующие
разрешения для плавания поблизости от других госу¬
дарств, являются более гибким и, возможно, более эф¬
фективным инструментом, чем расположенные за рубе¬
жом войска. Надводный флот — внушительный подвиж¬
ной экспонат силы и воли» 15.
«Военно-морское присутствие» и «демонстрация мо¬
щи»— новейшие термины для обозначения «дипломатии
канонерок». Использование ВМС в политических целях
является традиционным приемом во внешней политике
США. Появление военных кораблей может выражать
разного рода угрозы — от беспокоящих действий до бло¬
кады и удара с воздуха. Только после второй мировой
войны ВМС участвовали в пяти из каждых шести конф¬
ликтов, а точнее, в 85%, тогда как ВВС наземного бази¬
рования— только в 50%, а сухопутные войска — всего
в 20% 16.
Кроме того, послевоенная история США полна приме¬
ров военных демонстраций ВМС, осуществляемых под
самыми различными предлогами. Классическим приме¬
ром, приводимым в учебниках по внешней политике
США, является рейс линкора «Миссури» из Нью-Йорка в
Стамбул в 1947 году якобы для доставки в Турцию тела
умершего в Вашингтоне турецкого посла, в действитель¬
ности же — для демонстрации американской мощи в рай¬
оне Средиземноморья в преддверии провозглашения «до¬
ктрины Трумэна».
Американский ВМФ неоднократно участвовал в де¬
монстрации силы у побережья Юго-Восточной Азии, Аф¬
рики, в Средиземном и Карибском морях.
В ряде случаев демонстрация силы США была чрева¬
та серьезными международными последствиями.
В октябре 1962 года правительство США привело в
боевую готовность свои вооруженные силы, в том числе
6-й и 7-й флоты, несколько тысяч боевых самолетов, со¬
средоточило для нападения на Кубу около 250 тыс. сол¬
дат и офицеров, свыше 200 кораблей. Мир был постав¬
лен на грань войны, и только решительная и в то же вре¬
мя гибкая внешняя политика Советского Союза и Кубы
позволила защитить революционные завоевания кубин¬
ского народа и отстоять мир.
131
В декабре 1971 года, когда начался индо-пакистан-
ский конфликт, правительство США направило к берегам
полуострова Индостан военную эскадру во главе с авиа¬
носцем «Энтерпрайз», чтобы оказать давление на про¬
грессивные круги Индии и Бангладеш, выступавшие про¬
тив военного насилия стоявших в то время у власти реак¬
ционных кругов Пакистана. Однако твердая позиция Со¬
ветского Союза и других социалистических государств,
поддержавших справедливую борьбу народов Индии и
Бангладеш, предотвратила вооруженное вмешательство
империализма в индо-пакистанский конфликт.
Совсем недавно, в разгар всенародной борьбы против
диктаторского режима Сомосы в Никарагуа, в сентябре
1978 года у берегов страны появились американский
авианосец и ракетный крейсер. Эта военная демонстрация
явно преследовала цель оказать поддержку диктатору
Сомосе и запугать противников его кровавого режима,
пользующегося покровительством Соединенных Штатов.
Использовались ВМС в целях демонстрации силы и
в Персидском заливе в связи с событиями в Иране в ян¬
варе 1979 года.
В американской литературе подчеркивается, что для
ВМС предопределяется значительная роль в будущих
военных интервенциях. Так, в специальном исследовании
Брукингского института отмечаются следующие преиму¬
щества использования ВМС в политических целях: кораб¬
ли гораздо легче и быстрее перемещать из одного района
в другой, чем сухопутные войска, и это обходится дешев¬
ле; их появление в зоне конфликта всегда представляется
менее жестким осуществлением силового вмешательства,
чем появление сухопутных сил или ВВС наземного бази¬
рования; при необходимости ВМС могут присутствовать
в зоне конфликта, но оставаться «за горизонтом»; контак¬
ты между матросами и местным населением контролиро¬
вать легче, чем контакты солдат, размещенных на тер¬
ритории конфликтующих сторон. Поэтому, указывают
авторы исследования, ВМС в наибольшей степени отве¬
чают требованию гибкого использования силы как сред¬
ства осуществления «угрозы, предупреждения, обещания,
обязательства», причем ВМС могут делать это, не связы¬
вая рук президенту 17.
В некоторых работах проводится мысль о необходи¬
мости максимальной гибкости при использовании ВМС
в политических целях, поскольку появление военно-мор¬
ских соединений в районе конфликта автоматически под¬
1.32
нимает этот конфликт на новую ступень эскалации, что
соответственно увеличивает степень вовлеченности
США 18.
Использование наземных и военно-морских сил США
в интервенционистских акциях прикрывается, как прави¬
ло, интересами защиты американских интересов, собст¬
венности и жизни граждан США. Так, даже по опублико¬
ванным в 1950 году официальным данным госдепартамен¬
та, только в период с 1812 по 1932 год под этим предло¬
гом вооруженные силы 85 раз высаживались на чужих
территориях.
Если-силы общего назначения используются во внеш¬
неполитических целях более или менее открыто, то се¬
кретные службы, главным образом Центральное разведы¬
вательное управление (ЦРУ) и Разведывательное управ¬
ление министерства обороны (РУМО), используют силу
во внешнеполитических целях «невидимым образом».
Главное оружие секретных служб — подрывные дей¬
ствия, осуществляемые в форме «тайных операций» (кле¬
вета, дезинформация, подкуп, шантаж, субсидирование
подрывных организаций, убийства).
В американской литературе тайные операции опреде¬
ляются как «скрытая деятельность для оказания воздей¬
ствия на зарубежные правительства, события, организа¬
ции или отдельных людей с целью поддержки внешней
политики США» 19. При этом различают два вида тайных
операций — «психологическую войну» и полувоенные ак¬
ции. Первый «включает пропагандистскую деятельность в
молодежных и студенческих организациях, работу в
профсоюзах, в культурных и профессионально-творческих
группах, в политических партиях». Полувоенные акции —
это «проникновение в запретные районы, саботаж, эко¬
номические диверсии, воздушная и морская поддержка,
вооружение, обучение небольших армий и предоставле¬
ние им помощи»20.
Разновидностью тайных операций являются осущест¬
вляемые Пентагоном так называемые «неконвенционные
войны», то есть диверсионно-террористические операции
против союзников, а также против других стран. По дан¬
ным западной печати, Пентагон включил в зону ведения
таких операций 23 государства Европы. Одной из подоб¬
ных операций явилось осуществление плана -«Прометей»,
обеспечившего установление в апреле 1967 года в Гре¬
ции открытой военной диктатуры «черных полковников».
Как известно, жертвами последовавших после этого ре¬
;133
прессий стали многие коммунисты и другие представите¬
ли левых сил, выступавшие за демократические преобра¬
зования в стране. Аналогичные планы существуют и для
других стран НАТО21.
Многие программы тайных операций, начатые в годы
«холодной войны» («сдерживание коммунизма», ведение
антисоветской радиопропаганды и др.), превратились в
долгосрочные программы. К 1953 году тайные операции,
включавшие в основном пропаганду и политические дей¬
ствия, проводились в 48 странах. Они достигли своего
пика в 1964—1967 годах, когда расходы правительства
США на политические и пропагандистские действия уве¬
личились на 60%. Как отмечала в своих материалах ко¬
миссия палаты представителей по расследованию дея¬
тельности разведывательных органов (комиссия Пайпа),
тайные операции, проводившиеся в течение послевоенного
периода, являлись «инструментом внешней политики
США». За это время, по данным комиссии, были осущест¬
влены тысячи «проектов»22.
Американские авторы из числа бывших руководителей
спецслужб, такие, например, как директор ЦРУ У. Кол¬
би, называют такого рода «грязные трюки» чем-то сред¬
ним между дипломатическим протестом и посылкой мор¬
ской пехоты. На самом деле это мало чем отличается от
использования военной силы в целях насильственного
воздействия и представляет собой секретное вмешатель¬
ство во внутренние дела других стран.
С точки зрения определения места и роли тайных
операций во внешнеполитическом арсенале США весьма
характерной явилась дискуссия по этому вопросу в связи
с развернувшейся в США в 1974—1975 годах широкой
кампанией критики противоправных действий ЦРУ вну¬
три страны и за рубежом, чрезмерного применения
американской разведкой диверсионно-подрывных и во-
енно-политических акций, использования политических
убийств и саботажа в качестве приемов в работе спец¬
служб.
Весьма показательно, что в ходе дискуссии ни у кого,
кроме отдельных представителей леволиберальных кру¬
гов, даже не возникало вопроса о противоправности тай¬
ных, подрывных в своей основе операций.
Проведение такого рода операций рассматривается
большинством американских политиков и идеологов как
само собой разумеющееся «проявление политики нацио¬
нальной безопасности». Вашингтон, рассуждает видный
134
американский специалист по вопросам разведки Г. Ро-
зицке, «в широком смысле вмешивается повсеместно и
постоянно». В нынешних условиях, по его мнению, необ¬
ходимо лишь определить, «каковы целесообразные преде¬
лы вмешательства в дела других государств». В этой свя¬
зи Г. Розицке, как и многие американские теоретики,
предлагает в будущем исключить из тайных операций
такие наиболее вопиющие приемы и методы, как полити¬
ческие убийства, и выдвинуть во главу угла «денеж¬
ную поддержку» проамериканским элементам в других
странах.
Подобные «пределы вмешательства» должны были
бы, по замыслу американских авторов, с одной стороны,
обеспечить возможность дальнейшего проведения подрыв¬
ной деятельности, а с другой — не служить достаточным
основанием для обвинений США. Рецепт явно нереалис¬
тический, поскольку подрывная деятельность, в каких бы
масштабах и формах она ни проводилась, несовместима
с нормами международного права и в любом случае про¬
тиворечит одному из его основополагающих принци¬
пов — принципу невмешательства.
Характерно, что Г. Розицке не ограничивается теоре¬
тическим обоснованием «политической целесообразности»
тайных операций. В своих рекомендациях относительно
перестройки системы управления этими операциями он
исходит из необходимости как снижения остроты критики
американской разведки, так и — что весьма показатель¬
но— повышения эффективности тайных операций в бу¬
дущем 23.
В рассуждениях Г. Розицке наиболее рельефно про¬
ступает суть подхода американских буржуазных авторов
к вопросу о месте разведки в современном мире, которые
с помощью ряда «косметических операций» хотели бы
изменить сложившееся представление о разведке США
как «символе американского империализма и тайной
власти» и в то же время сохранить в неприкосновенности
осуществляемую разведкой «дипломатию плаща и кин¬
жала» в качестве важнейшего средства во внешнеполити¬
ческом арсенале.
Комиссия сенатора Черча, занимавшаяся расследо¬
ванием тайных операций, пришла к аналогичному выво¬
ду, заявив, что в «чрезвычайных условиях», когда «воз¬
никает смертельная угроза национальной безопасности»,
США «должны сохранить способность реагировать на них
путем проведения тайных операций»24.
135
Такой подход совпадает, судя по всему, и с официаль¬
ной линией в этом вопросе.
Выступая в национальном клубе печати в октябре
1978 года, директор ЦРУ С. Тэрнер признал, что с
1947 года ЦРУ многократно привлекалось правитель¬
ством США для проведения так называемых «секретных
политических акций», и охарактеризовал такие акции
как «попытку повлиять на события в зарубежных странах
таким образом, чтобы источник этого влияния оставался
неизвестным». Задачи на будущее он определил следую¬
щим образом: «Наша дипломатия, наша экономическая
мощь и давление, наша военная угроза —все это направ¬
лено как раз на то, чтобы оказать воздействие на другие
государства, не допустить того, чтобы они предпринимали
что-либо, идущее вразрез с нашими интересами. Секрет¬
ные политические акции составляют лишь часть этого
арсенала, и мы должны сделать все, чтобы поддержи¬
вать наш потенциал в полной готовности».
Наряду с дифференцированным подходом к оценке
внешнеполитических возможностей стратегических ра¬
кетно-ядерных сил и других видов вооруженных сил, рав¬
но как и спецслужб, повышению эффективности военной
мощи, по замыслам Вашингтона, должно способствовать
сохранение, а по возможности и расширение существую¬
щей под эгидой США мировой военной системы империа¬
лизма путем приспособления ее к постоянно меняющейся
международно-политической обстановке.
Основу этой системы составляют военно-политические
обязательства США по многосторонним договорам (па¬
кты НАТО, АНЗЮС, устав ОАГ и Межамериканский
договор о взаимной помощи), а также двусторонние со¬
глашения военно-политического характера, которыми
США связаны с Турцией, Пакистаном, Филиппинами,
Японией, Южной Кореей, Тайванем, Ираном и Либери*
ей. Хотя по новым договорам между США и Панамой о
Панамском канале и о постоянном нейтралитете и функ¬
ционировании этого канала, подписанным 7 сентября
1977 г., американское господство в этой зоне должно
быть ограничено после 2000 года, США тем не менее
фактически резервируют за собой «право» на вооружен¬
ное вмешательство под предлогом «сохранения режима
нейтралитета» в зоне Панамского канала и в XXI веке.
Всего по военным вопросам за период с 1946 по 1976 год
Соединенными Штатами заключено 1235 договоров и со¬
глашений25. Помимо оказания помощи в случае воору¬
136
женного нападения внешние военные обязательства США
включают содержание военных баз, войск и военной тех¬
ники за пределами своей территории, финансовую и мате¬
риальную помощь иностранным военным силам, а также
оказание содействия их операциям; многостороннее и
двустороннее военное планирование, как текущее, так и
на случай чрезвычайных обстоятельств; проведение сов¬
местных учений и маневров; подготовку военных кадров,
хранение особого оружия за пределами США и т. п.
«США, — говорилось в опубликованном в 1970 году до¬
кладе специальной подкомиссии сената во главе с сена¬
тором С. Саймингтоном, — столь широко распространили
свое военное присутствие за рубежом, что превратились
в мирового полицейского»26. Пентагон уже располагает
за пределами США более чем 400 военными базами и бо¬
лее чем 2 тыс. опорных пунктов „подсобного назначения”,
в основном вокруг границ Советского Союза. Американ¬
ские войска размещены в 114 странах мира. Только в
Европе вдоль границ социалистических стран создана по-
лоса расположения натовских огневых средств, в том
числе ядерных. Базовый потенциал США за пределами
Европы все более открыто используется против госу¬
дарств прогрессивной ориентации и сил национального
освобождения.
Сохраняющаяся в неприкосновенности система воен¬
но-политических обязательств США продолжает обеспе¬
чивать им широкое военное присутствие за рубежом.
На конец 1978 года общая численность американских
войск за пределами США* составляла 493,8 тыс. человек
(увеличение на 11,4 тыс. по сравнению с 1977 г.). При
этом численность американских войск в Западной Европе
составляла 330 тыс. (т. е. на 16,9 тыс. больше, чем в
1977 г.), из которых 234,3 тыс. были дислоцированы в
ФРГ. В Западной Европе США имеют более 150 военных
баз. На Дальнем Востоке и в районе Тихого океана нахо¬
дилось 138,3 тыс., в Латинской Америке (Гуантанамо,
Панамский канал, Пуэрто-Рико) 15 тыс., в других рай¬
онах (Бермуды, Диего-Гарсиа, Канада, Саудовская Ара¬
вия и др.) — 10 тыс. человек27.
* Численность всех вооруженных сил США составляла в конце
1978 года 2 млн. 56,9 тыс. человек, в том числе сухопутных войск —
765.5 тыс., ВВС — 574,8 тыс., ВМС — 527,1 тыс., морской пехоты —
189.5 тыс.
137
Своим острием существующая под эгидой США миро¬
вая военная система империализма направлена против
Советского Союза и других стран социалистического со¬
дружества. Разработанная американскими стратегами
концепция «передового базирования» предусматривает
установление линии фронта военного противостояния
двух систем как можно дальше от США и как можно бли¬
же к Советскому Союзу, расположение американских
тактических ядерных средств в непосредственной близо¬
сти от границ социалистического мира. Кроме того, раз¬
бросанные по всему миру вооруженные силы позволяют,
как считают в Вашингтоне, постоянно и непосредственно
воздействовать своей военной мощью на самые отдален¬
ные районы и страны.
В последнее время военное присутствие США за гра¬
ницей во все возрастающих размерах используется для
борьбы с национально-освободительным движением, для
оказания давления на нейтральные государства и для
сохранения социально-политического статус-кво в тех
странах, которые входят в военную систему империа¬
лизма.
«Американские войска за границей,—заявляет Р. Уэс-
сон, — предназначаются для того, чтобы поддерживать
дружественные правительства, препятствовать антиаме¬
риканским силам и в целом содействовать американской
внешней политике»28.
«Жизненно важным интересом» для США провозгла¬
шается по существу во всех американских официальных
заявлениях военное присутствие США в Западной Евро¬
пе. В изменившихся условиях в дополнение к централь¬
ной задаче — военному противостоянию Советскому Сою¬
зу и его союзникам целью такого присутствия считается
также «консолидация» Западной Европы под эгидой
США, воздействие на политическую, экономическую и
финансовую жизнь западноевропейских стран в направ¬
лении, выгодном для Соединенных Штатов. «Роль амери¬
канских войск (в Западной Европе. — В. П.) становится
и символичной, и политической, — пишет известный аме¬
риканский специалист по европейским проблемам
Р. Стил. — Они являются как символом американских
ядерных гарантий, так и демонстрацией политического
влияния, которое Америка осуществляет через НАТО в
Европе»29. Дж. Шлесинджер в бытность свою министром
обороны заявлял, что «участие США в обороне Европы
как необходимо, так и неизбежно». Он предупреждал при
I.
“*■ 138
этом, что «без цементирующего участия США в НАТО
государства Западной Европы будут вынуждены пойти
на соглашение с Советским Союзом»30. Практические ша¬
ги демократической администрации Картера говорят о
решимости Вашингтона не только сохранять, но и доби¬
ваться укрепления американского военного присутствия
в Западной Европе.
Правительство США придает большое значение воен¬
ному присутствию США на Дальнем Востоке и в зоне
Тихого океана как «крупному компоненту глобальных
взаимоотношений с СССР» и как «фактору поддержания
стабильного баланса в этом районе мира».
Важным инструментом привязывания других стран к
империалистической военной системе стали в последнее
время американские поставки им оружия. США далеко
опередили другие страны по торговле оружием. Сумма
этих поставок составила в 1978 году 15 млрд. долл. по
сравнению с 11,4 млрд. долл. в 1977 году. «Это, — пишет
Р. Уэссон, — привлекательное средство осуществления
внешней политики. За вооружением следуют специалисты
и советники, которые близки к военному командованию.
Государства — получатели оружия направляют на обу¬
чение в страны — поставщики оружия своих военнослу¬
жащих, где они получают соответствующую политиче¬
скую подготовку. Военная помощь связывается обычно с
получением Соединенными Штатами баз для размещения
войск. Влияние, приобретенное поставками оружия, яв¬
ляется, таким образом, довольно прочным»31.
В своей оценке места и роли военной мощи во внешней
политике Вашингтон, как видно, исходит из того, что в
широком плане вооруженные силы уже самим фактом
своего существования, уровнем мощи, характером задач
и способом развертывания так или иначе оказывают
влияние на политику иностранных государств.
В то же время пересмотр задач стратегических ракет-
но-ядерных сил и других видов вооруженных сил, пере¬
оценка некоторых аспектов блоковой политики свиде¬
тельствуют о стремлении Вашингтона изыскать еще более
эффективные пути использования военной мощи во внеш¬
неполитической сфере.
Все это находит рельефное выражение в таком опре¬
делении задач военной мощи, которое наиболее опти¬
мальным образом соответствовало бы современной обста¬
новке, суживающей возможности прямого применения
военной силы.
139
Продолжая считать военную силу важнейшим рыча¬
гом принуждения, политическая и научная элита США
проводит теперь определенные различия между двумя
ее функциями: с одной стороны, политическим, психоло¬
гическим влиянием и, с другой стороны, насильственным
воздействием.
Признавая, что военные победы не составляют главно¬
го и единственного мерила государственного могущества
и сами по себе не в состоянии обеспечить необходимые
внешнеполитические результаты, американские политики
и теоретики усматривают основное назначение военно¬
силового фактора на нынешнем этапе глобального про¬
тивоборства двух систем в оказании угодного США воз¬
действия на другие страны и на развитие международных
отношений в целом. При этом учитывается, что в усло¬
виях разрядки становится все труднее использовать воен¬
ную силу саму по себе, вне связи с другими элементами
«могущества», для политического нажима. Поэтому ак¬
цент делается не столько на политический, сколько на
психологический эффект силы, хотя и в этом случае на¬
жимные свойства военной мощи бесспорно принимаются
в расчет. «Главная цель военного фактора — политиче¬
ская или скорее психологическая», — заявляют уже упо¬
минавшиеся Б. Блехман, Р. Берман, М. Бинкин и Р. Уэйн-
лэнд. В связи с достижением психологического эффекта
большое значение придается созданию так называемого
«впечатления мощи» у руководителей других государств.
«Большой военный истэблишмент, — продолжают Б. Бле¬
хман и его коллеги, — поддерживается не столько в це¬
лях непосредственной обороны США, сколько в целях
воздействия на воззрения руководителей других госу¬
дарств»32.
Не случайно, что изучением психологического эффекта
военной мощи занимаются сейчас многие ведущие науч-
но-исследовательские центры в США, в том числе «РЭНД
корпорейшн». Подчеркивая значение такого подхода, вид¬
ный французский политолог Р. Арон пишет: «Поскольку
имеющиеся силы оказывают свое воздействие без реаль¬
ного их использования, представление, складывающееся
в умах участников противостояния и их зрителей, о соот¬
ношении сил между соперниками становится важным
фактором, влияющим на ход политических кризисов и
развитие международных отношений»33.
Достижение необходимого политико-психологического
эффекта военной силы связывается на практике с реали-
140
задней в конкретных ситуациях, при наличии определен¬
ных целевых установок, потенциальной способности воен¬
ной мощи уничтожать, причинять другие виды ущерба
фактически без нанесения этого ущерба, не вступая в во¬
енное столкновение, по возможности — «без выстрела».
Этой цели служат физические, реальные изменения в гео¬
графическом положении, характере активности или сте¬
пени готовности, по крайней мере, части вооруженных
сил, в том числе использование огневой мощи, установ¬
ление военного присутствия за пределами своей страны,
блокада, демонстративные маневры и т. д.
Целью политико-психологического воздействия в США
считают: не допустить каких-либо нежелательных для
США действий со стороны другого государства; заста¬
вить его предпринять или же не предпринимать интере¬
сующие США действия; поддержать государство в пред¬
принимаемых или готовящихся им действиях или же,
наоборот, поддержать это государство в нежелании пред¬
принимать такие действия; создать условия, стимулирую¬
щие определенные действия со стороны того или иного
государства.
Иными словами, речь идет об использовании демонст¬
рации мощи для обеспечения узкокорыстных империали¬
стических целей США, вопреки интересам народов других
государств. Весьма характерно, что вариации на тему
«демонстрации мощи» звучат во многих выступлениях
представителей администрации Картера.
Упор на психологическую демонстрационную сторону
применения военной мощи во внешнеполитических дей¬
ствиях вовсе не означает отсутствия намерений Вашинг¬
тона использовать военную силу для иного — насиль¬
ственного, вооруженного воздействия на другие страны
(захват территорий, бомбардировки и т. п.).
Весьма показательно в этой связи, что в ходе развер¬
нувшейся в 1975 году в США дискуссии вокруг возмож¬
ности применения силы для решения нефтяного кризиса,
по существу, никто не поставил под сомнение целесооб¬
разность использования силы не только в ответ на воен¬
ную силу, но и вообще для достижения вполне определен¬
ных узкокорыстных интересов США в международных
делах. Профессор университета Дж. Гопкинса Р. Такер,
статья которого в январском номере журнала «Коммен¬
тарии» (1975 г.) под названием «Нефть: вопрос об аме¬
риканском вмешательстве» послужила толчком для ука¬
занной дискуссии, с удовлетворением отмечает, что ни
141
один из его многочисленных критиков, в том числе и ле¬
волиберального толка, «не предлагает недвусмысленно
отказаться от использования силы в качестве основного
принципа, несмотря на все внешне выражаемое негодо¬
вание по поводу того, что подобный вопрос вообще мог
быть поднят». Сам Р. Такер считает целесообразным
предпринятие прямых военных акций как по политиче¬
ским, так и по экономическим мотивам34.
Военный интервенционизм по-прежнему рассматрива¬
ется как само собой разумеющееся средство достижения
внешнеполитических целей. «Признание растущих огра¬
ничений на использование военной силы едва ли означа¬
ет отрицание ее практически важной, фундаментальной
роли в мировом сообществе», — заявляют на страницах
ведущего американского военного журнала «Милитэри
ревью» американские исследователи М. Яновиц и
Э. Стерн. Высказываясь в связи с этим за использование
во внешнеполитических целях США военного вмешатель¬
ства, они предлагают исходить из того, что «военная во¬
влеченность может охватывать широкий диапазон от пар¬
тизанской тактики до обычной войны между наиболее
искушенными профессионалами, от оружия ограниченной
разрушительной силы до водородной бомбы»35.
В то же время в подходе к вопросу о насильственном
вооруженном воздействии на другие страны американ¬
ской внешнеполитической мысли приходится в значитель¬
но большей мере, чем прежде, учитывать риск, связанный
с использованием военной силы.
Наличие в руках Советского Союза мощных средств
возмездия, уроки Вьетнама, где выявились не только не¬
возможность сломить с помощью военной силы нацио¬
нально-освободительную борьбу, но и внутриполитиче¬
ские издержки военно-силовых действий, заставляют
вашингтонский истэблишмент проявлять большую осмо¬
трительность при решении вопросов прямого использова¬
ния военной силы.
В работах американских авторов настоятельно прово¬
дится мысль о целесообразности применять военную силу
по прямому назначению селективно, более тщательно вы¬
бирать ситуацию вмешательства, дозировать ее объем.
Сдержанность в отношении применения военной силы
должна стать нормой внешней политики, поскольку это
связано с издержками международного и внутриполити¬
ческого характера, неприемлемыми с точки зрения на¬
циональных интересов США, — к такому выводу прихо¬
142
дит автор обстоятельного исследования о военном вме¬
шательстве США в послевоенные годы Г. Тилемма36.
«Прежде чем вовлекать нашу военную мощь в загранич¬
ные операции, мы должны быть абсолютно уверены, что
мы понимаем характер борьбы и игру сил, участвующих
в ней»37, — заявляет даже такой консервативно настро¬
енный деятель, как Дж. Болл.
Вместе с тем американским исследователям представ¬
ляется очевидной и другая особенность — если уж и при¬
ходится использовать военную мощь в политических це¬
лях, то это следует делать быстро, решительно, не затя¬
гивая периоды военных операций. В исследовании аме¬
риканских социологов О. Холсти и Дж. Розенау, предпри¬
нятом с помощью математической обработки оценок тех,
кто формирует внешнюю политику, отмечается, что 3/4 оп¬
рошенных ими лиц считают, что «в любой будущей ино¬
странной интервенции предпочтительнее использовать
силу быстро, чем посредством постепенной эскалации»,
причем большинство определяют свою позицию в твердом
тоне. Американские политики, подчеркивают О. Холсти
и Дж. Розенау, решительно настроены против каких-либо
половинчатых мер и считают необходимым нанесение
удара в сердце могущества противника38. Типичным при¬
мером быстрого реагирования посредством применения
военной силы по прямому назначению считается случай
с захватом судна «Майягез» в мае 1975 года у берегов
Камбоджи.
Новые параметры применения силы в целях насиль¬
ственного вооруженного воздействия предопределяют
подход к кризисным ситуациям, которые рассматривают¬
ся в современных условиях как одни из серьезнейших
потенциальных источников военных конфликтов. Наибо¬
лее рациональной линией поведения в кризисных ситуа¬
циях признается, однако, не предотвращение, а управле¬
ние этими ситуациями таким образом, чтобы избегать
эскалации конфликта до глобальных масштабов. Военной
силе в этих ситуациях отводится важная роль в обоих ее
назначениях.
Характерно, что в последних выступлениях официаль¬
ных лиц из администрации Дж. Картера делается значи¬
тельный упор на готовность США в случае необходимости
вмешиваться в кризисные ситуации. Как сообщалось в
американской прессе, в президентской директиве № 18
(1977 г.) рекомендуется значительно повысить маневрен¬
ность американских сил общего назначения, что мотиви¬
143
руется необходимостью быстрого реагирования, посколь¬
ку сторона, которая сумеет первой перебросить свои силы
непосредственно в район кризиса, получит значительные
преимущества и противной стороне останется лишь вы¬
бивать их оттуда зэ.
Суммируя нынешний подход американской внешнепо¬
литической мысли к определению роли собственно воен¬
ной силы во внешнеполитической сфере, нельзя не ви¬
деть его двойственности. С одной стороны, рост военного
могущества Советского Союза, установление стратегиче¬
ского равновесия, утрата неуязвимости территории США
заставляют правящие круги США проявлять известную
осмотрительность в обращении с военной силой, особен¬
но в ее ракетно-ядерном выражении, стремиться более
рационально использовать военный потенциал, добива¬
ясь в первую очередь политико-психологического эффекта
военной мощи. С другой стороны, вопрос об использова¬
нии военной силы вовсе не снят с повестки дня внешней
политики США. Американская внешнеполитическая
мысль усиленно стремится изыскать пути и средства повы¬
шения гибкости, диапазона и эффективности использова¬
ния военной силы в качестве инструмента внешней поли¬
тики, упорно игнорируя тот факт, что в условиях нынеш¬
ней стратегической ситуации в мире наращивание
военного потенциала не повышает возможность его прак¬
тического использования.
Формы реализации военной силы
во внешней политике
Наметившаяся в рамках скорректированной доктрины
«национальной безопасности» новая концептуальная
оценка внешнеполитических функций военной мощи как
рычага принуждения тесно связана с вопросом о выборе
форм реализации этой силы во внешней политике.
В американской теории и практике принято различать
три формы: войну, угрозу применения военной силы и
устрашение. В первом случае имеются в виду акты орга¬
низованного насилия одной стороны по отношению к
другой, во втором — диапазон акций от усиления враж¬
дебности или недоброжелательности до непосредственной
угрозы развязать войну, в третьем — создание такого по¬
ложения в отношениях между государствами, когда одна
из сторон находится под влиянием убеждения, что ее
144
противник имеет полную возможность прибегнуть к силе
в случае ухудшения отношений между ними или обостре¬
ния противоречий40. Представляется, однако, что грань
между угрозой силой и устрашением, проводимая в аме¬
риканской литературе, является трудно различимой и во
многом искусственной, поскольку в обоих случаях речь
идет об использовании различного рода приемов силового
нажима, за исключением прямых военных действий. По¬
этому, по существу, правильнее говорить о двух формах
использования силы в международных отношениях: пря¬
мой (война) и косвенной (угроза силой или устрашение).
Выбор этих форм зависит от целого ряда обстоятельств:
во-первых, от конкретных политических целей господст¬
вующего класса, во-вторых, от международной ситуации,
в-третьих, от внутриполитического положения и, в-чет¬
вертых, от состояния развития самой военной силы.
Американские политики и идеологи подходят к опре¬
делению понятия войны вне социально-политического
контекста и категорически отвергают взаимосвязь между
войнами и порождающей их политикой определенных
классов. В интерпретации Г. Киссинджера «традицион¬
ный метод военного анализа, который видел в войне про¬
должение политики, но с помощью иных средств, более
неприменим»41. Известно, однако, что формула Клаузе¬
вица «война есть продолжение политики, только иными
средствами» является основой для понимания классовой
природы войн и их содержания. Ссылаясь на это положе¬
ние Клаузевица, В. И. Ленин писал: «Война есть про¬
должение политики иными средствами. Всякая война не¬
раздельно связана с тем политическим строем, из кото¬
рого она вытекает. Ту самую политику, которую извест¬
ная держава, известный класс внутри этой державы вел
в течение долгого времени перед войной, неизбежно и
неминуемо этот самый класс продолжает во время вой¬
ны, переменив только форму действия»42. Эта ленинская
характеристика является основой подлинно научного по¬
нимания сущности войны и по сей день.
Узкоклассовый подход американской внешнеполитиче¬
ской мысли к оценке войн выражается в классификации
типовjioflH только по формальным признакам — по мас¬
штабам и по применяемым военно-техническим средст¬
вам поражения.
Близкие к Вашингтону специалисты-международники,
такие, например, как бывший руководитель аппарата
планирования госдепартамента США Г. Оуэн, исходят
6-597
145
из того, что в фокусе американской внешней политики
на ближайшее время, несмотря на возрастание значения
экономических проблем, рост индивидуального и группо¬
вого насилия, увеличение роли международных неправи¬
тельственных организаций, должен оставаться вопрос о
«крупномасштабной войне с Советским Союзом»43.
Не принимая на словах идею тотальной ракетно-ядер¬
ной войны, поскольку такая война по причине всеразру-
шающей силы оружия, используемого в ней, не может рас¬
сматриваться как рациональное средство достижения по¬
литических целей, американская внешнеполитическая
мысль в то же время считает возможной ракетно-ядер¬
ную войну как «результат акта отчаяния», к которому
придется-де прибегнуть лишь в крайнем случае, когда
будет сочтено, что создалась угроза самому «националь¬
ному существованию». Существует также мнение, что
всеобщий ядерный конфликт может возникнуть в резуль¬
тате случайного применения ядерного оружия и распро¬
странения его за пределами «клуба ядерных держав».
В исследованиях не только американских военных
специалистов, но и гражданских теоретиков широко раз¬
рабатываются вопросы возможного участия вооруженных
сил США в ракетно-ядерном конфликте одного из двух
типов: либо в стратегической (центральной*, или тоталь¬
ной) ядерной войне, либо ядерной войне на театре во¬
енных действий.
В этой связи на уровень теории возводятся понятия
так называемого «первого» и «второго» ударов с помо¬
щью ракетно-ядерных сил.
Под способностью «первого удара» американские тео¬
ретики подразумевают возможность нанесения по против¬
нику удара такой разрушительной силы, после которого
ответный удар последнего не причинит «неприемлемого»
ущерба стороне, совершившей нападение. «Первый удар»,
в американской интерпретации, может быть как превен¬
тивным, то есть не спровоцированным действиями другой
стороны, так и преэмптивным, то есть таким, какой при¬
зван упредить противника, готового предпринять напа¬
дение.
Под способностью «второго» удара имеется в виду
возможность стороны, подвергшейся нападению, нанести
остающимися у нее стратегическими ядерными средства¬
* Центральной воином, по американской терминологии, называ¬
ется война между СССР и США.
146
ми такой ответный удар, который причинит напавшей
стороне «неприемлемый ущерб». В трактовке «второго
удара» американские стратеги проводят различие меж¬
ду чисто «ответным ударом», осуществленным после того,
как противник фактически обрушился на территорию
страны, и «встречным ударом», наносимым по сигналу
систем предупреждения в промежуток времени, когда
ракеты противника уже стартовали, но еще не достигли
целей данной стороны.
Сознавая, что открытая ставка на «первый удар» по¬
ставила бы США в сложное и крайне невыгодное поло¬
жение, американские политики и исследователи говорят
о необходимости принятия в качестве руководства к дей¬
ствиям концепции «второго удара», то есть ориентации
на создание ядерного потенциала только для ответных
действий.
Тем не менее вся послевоенная история свидетельству¬
ет о вполне определенной линии Пентагона, направлен¬
ной на создание потенциала «первого удара». В нынешних
условиях это проявляется в форсированном создании
многочисленных высокоточных средств поражения. По
авторитетному свидетельству известного американского
эксперта по стратегическим ракетам Р. Олдриджа, «за
попытками повышения точности попадания американ¬
ских комплексов оружия, по сути дела, кроется стремле¬
ние подготовиться к нанесению нокаутирующего первого
удара». К таким комплексам относятся наземные ракеты
мобильного базирования MX, МБР «Минитмен-3», осна¬
щенные новыми боеголовками «Марк-12А», в частности
подводная ракетная система «Трайдент»44. Агрессивный
характер подобных замыслов очевиден.
Отмечая, что Советский Союз всегда был и остается
убежденным противником любых ядерных ударов,
Л. И. Брежнев указывал: «Наши усилия на то и направ¬
лены, чтобы дело не дошло ни до первого, ни до второго
ударов, чтобы вообще не было ядерной войны»45.
Теоретические изыскания, связанные с ядерной вой¬
ной, перенасыщены соответствующей милитаристской ан¬
тигуманной терминологией («мегатруп», «военный ор¬
газм», «массовые репрессии», «ядерный спазм» и т. д.).
Один из главных теоретиков ядерной войны — Г. Кан в
свое время квалифицировал 6 атомных опасностей, 17
возможных форм ядерной атаки противника, 11 возмож¬
ных результатов (с политической точки зрения) атомного
конфликта.
6*
147
Для этих исследований характерен также бездушно
количественный подход к перспективам ядерной войны —
подход, согласно которому какой-то процент жертв среди
гражданского населения объявляется «приемлемым».
Вряд ли, однако, кого-либо могут порадовать предсказа¬
ния, будто в ходе мировой ядерной войны погибнет «всего
десять процентов» населения планеты и что это-де не так
страшно, не конец света. «Мы, — заметил но этому поводу
Л. И. Брежнев, — никому, ни одному человеку не желаем
попасть в эти “десять процентов”» 46.
В целом, однако, современная американская внешне¬
политическая мысль вынуждена признать целесообраз¬
ность недопущения самого высокого уровня конфликта —
уровня всеобщей ядерной войны.
В этой связи возникает такой вопрос: правомерно ли
считать, что США как империалистическое по своей при¬
роде государство может быть на деле заинтересовано в
устранении опасности ядерной войны, не исключает ли
сама природа этого государства возможность существо¬
вания подобной цели у Вашингтона?
Как отмечается в советской литературе, пока война
решает рациональные с точки зрения правящего класса
задачи, пока ее негативные последствия не перевешивают
ее потенциальных «прибылей» — результатов побед, вой¬
на остается для него одной из вполне реальных альтер¬
натив (даже если политические деятели этого класса и
выступают с широковещательными декларациями о своем
отвращении к инструменту силы). Однако когда инстру¬
мент войны оказывается таким, что он перестает подда¬
ваться рациональному контролю, когда агрессор в ходе
борьбы за «победу» сам может подвергнуться уничтоже¬
нию и понимает это, тогда война теряет характер прак¬
тически используемого орудия политики. «При этом ре¬
шающее значение, — подчеркивает советский исследова¬
тель Г. А. Трофименко, — имеет не то обстоятельство, что
сами средства ведения войны оказываются чрезмерными
для достижения той или иной политической цели — импе¬
риализм не поколебался бы прибегнуть к любому ору¬
жию ради реализации своих замыслов, — а тот факт, что
аналогичными средствами располагает и другая сторона
в потенциальном конфликте»47.
И действительно, в случае применения Соединенными
Штатами средств массового уничтожения против Совет¬
ского Союза ответ им может быть дан соответствующими
же средствами и в не меньших масштабах. Понимание
148
этого обстоятельства есть самая главная причина, по ко¬
торой в США считают нерациональной всеобщую ядерную
войну. Американские политики и теоретики в большин¬
стве своем понимают, что, какой бы ущерб ни был причи¬
нен Советскому Союзу в случае ракетно-ядерного напа¬
дения на него со стороны США, такая война имела бы
характер самоубийства для самого американского капи¬
тализма ввиду тех возможностей для ответа, которыми
располагает Советский Союз, и неминуемости такого от¬
вета. Сложившееся к настоящему времени соотношение
стратегических наступательных сил СССР и США, пояс¬
няет, например, видный американский политолог Р. Уэс-
сон, практически исключает вероятность всеобщей ядер¬
ной войны между ними, поскольку стороны сознают недо¬
пустимость обмена ядерными ударами из-за неприемле¬
мого для них ущерба 48.
Признавая, что глобальный ракетно-ядерный «спазм»
нельзя считать рациональным средством, американская
политическая элита отнюдь не дезавуирует инструмент
войны вообще. Анализируя перспективы предотвращения
войны, бывший видный чиновник госдепартамента при
администрации Дж. Кеннеди Р. Хилсмен приходит к вы¬
воду, что ни одно из имеющихся в наличии средств не
может обеспечить запрещение войны, как таковой, и по¬
тому «война — часть будущего»49.
Подобная постановка вопроса широко используется
для обоснования таких «безопасных» в современных ус¬
ловиях параметров прямого использования силы, в том
числе и в ее ракетно-ядерном варианте, которые бы не
ставили в конечном счете под удар национальную тер¬
риторию США.
Широкое хождение в Вашингтоне имеет сейчас кон¬
цепция «ограниченной стратегической войны» (или контр¬
силы), выдвинутая в 1974 году тогдашним министром обо¬
роны Дж. Шлесинджером. Ее активным поборником вы¬
ступает сейчас пресловутый «комитет по существующей
опасности». Эта концепция расширяет принятый амери¬
канской военной доктриной спектр ядерных войн, вводит
в него еще один тип — так называемую «ограниченную
стратегическую ядерную войну», под которой понимается
нанесение стратегическими ядерными силами ударов по
точечным военным объектам (аэродромы, сосредоточения
войск, ракетные шахты). После ракетной «перестрелки»
по таким объектам — так гласит далее эта концепция —
у обеих держав еще останется возможность вступить в
149
переговоры, прежде чем довести дело до взаимного за¬
пуска межконтинентальных баллистических ракет.
За демагогической оболочкой подобных рассуждений
отчетливо виден расчет на то, чтобы в дополнение к имею¬
щемуся потенциалу для всеобщей ядерной войны полу¬
чить потенциал для ограниченного обмена ядерными
ударами, подготовить почву для развертывания программ
производства новейшего оружия.
В доктрине «ограниченной стратегической войны» реа¬
лизуются давние попытки американских политиков и тео¬
ретиков превратить ядерную силу в «эффективный рычаг
внешнеполитического действия». Как отмечает Б. Блех-
ман, известный американский специалист в области во¬
оружений, «Соединенные Штаты никогда не исключали
возможности использования своего ядерного арсенала
первыми, если они окажутся придавленными к стене в
обычном конфликте, хотя и стремились особенно не афи¬
шировать этого... Шлесинджер лишь более определенно
высказался в отношении того, что являлось постоянной
темой при обсуждении оборонной политики»50.
В связи с этой доктриной предпринимаются попытки
стереть грань не только между стратегическим и тактиче¬
ским ядерным оружием, но и между ядерными и обычны¬
ми вооружениями, перевести в практическую плоскость
вопрос о применении тактического ядерного оружия. Как
отмечает американский теоретик «ограниченной страте¬
гической войны» Л. Дэвис, специалистами признано, что
это оружие, расположенное за пределами территории
США, должно быть включено в любую стратегию, преду¬
сматривающую ограниченное применение ядерного ору¬
жия51. США, поясняет Р. Уэссон, никогда не обещали не
применять первыми тактическое ядерное оружие, кото¬
рое находится в состоянии боевой готовности за преде¬
лами США в количестве 22 тыс. единиц боеприпасов, из
которых 7 тыс. — в Западной Европе.
Концепцию «ограниченной стратегической войны» пы¬
таются оправдать ссылками на то, что она якобы дает
возможность ограничить катастрофические последствия
ядерной войны. Сторонники концепции «ограниченной
стратегической войны» всячески подчеркивают, что такая
война связана с несравненно меньшими, чем во всеобщей
ядерной войне, потерями и поэтому она якобы более
«приемлема» и более целесообразна. На самом деле кон¬
цепция «ограниченной стратегической войны» представ¬
ляет собой серьезную опасность для дела мира. В усло¬
150
виях, когда на повестку дня поставлен вопрос о пред¬
отвращении ядерной войны вообще, эта концепция фак¬
тически открывает лазейки и узаконивает использование
в определенных условиях ядерного оружия. Речь идет,
таким образом, о попытке заставить общественность при¬
мириться с перспективой ядерной войны.
В практически-прикладном смысле концепция «огра¬
ниченной стратегической войны», как считают отдельные
ее критики, ориентирует не на сохранение ядерного тупи¬
ка, а на подготовку Соединенными Штатами внезапного
первого удара. «Сверхдержава, которая ориентируется
на стратегический принцип «контрсилы», должна, — пи¬
шет американский специалист по баллистическим раке¬
там Р. Олдридж, — первой наносить удар, ибо в против¬
ном случае ее бомбы обрушатся на пустые ракетные пус¬
ковые шахты»52.
Концепция «ограниченной стратегической войны» яв¬
ляется предметом критики внутри самих США. Реалисти¬
чески настроенные политические деятели и ученые счи¬
тают, что эта концепция не только создает почву для
выдвижения военно-нромышленным комплексом США
требований о создании нового оружия, но и внедряет в
сознание мысль о недопустимом — приемлемости ядер¬
ной войны. Весьма определенно по поводу опасных по¬
следствий этой концепции высказался американский уче¬
ный Герберт Сковилл-мл. Он заявил, что «начало ядер¬
ной войны на любом уровне было бы катастрофой, и это,
вероятно, случится, если приверженцы «ограниченной
стратегической войны» сами себе одурачат, поверив в
возможность удержать войну в малых масштабах и вый¬
ти из нее победителями»53.
Что касается Советского Союза, то он всегда был и
остается убежденным противником подобных авантюри¬
стических концепций, как и ядерной войны вообще. В бе¬
седе с видным американским политическим и обществен¬
ным деятелем А. Гарриманом в сентябре 1976 года
Л. И. Брежнев сказал, что он решительно не согласен с
развиваемыми кое-кем в США теориями так называемой
«ограниченной» ядерной войны. По его мнению, говорить
о допустимости «ограниченной» ядерной войны — боль¬
шая ошибка. Надо добиваться исключения всякой ядер¬
ной войны вообще54.
В последнее время сторонники «ограниченной стра¬
тегической войны» усиленно ратуют за нейтронное ору¬
жие, которое рассматривается как «полезное дополнение
151
к американскому ядерному арсеналу». Они утверждают,
в частности, что нейтронная бомба поднимает-де «ядер-
ный порог», то есть позволяет применять ядерное оружие
на возможно более поздней стадии конфликта, с тем что¬
бы оттянуть нанесение уничтожающего ответного удара.
Такой довод не более чем софизм, прикрывающий ориен¬
тацию на «ядерное противоборство». «Некоторые безот¬
ветственные лица, — указывается в обращении видных
советских ученых к президенту США Дж. Картеру, — уже
сегодня пытаются использовать боевые характеристики
нейтронной бомбы для обоснования «приемлемости» ог¬
раниченной ядерной войны. Такая философия крайне
опасна для дела мира. Нельзя не согласиться с автори¬
тетными американскими специалистами, утверждающи¬
ми, что первое же применение ядерного оружия — пусть
даже очень малой мощности — может привести ко все¬
мирной войне»55.
Попытки оправдать войну вообще сказываются и в
квази-теоретических построениях, призванных легализо¬
вать так называемые «обычные войны», то есть войны, не
связанные с применением ядерного оружия. Американ¬
ские внешнеполитические теоретики хотя и учитывают
эскалационную связь между такой войной (с участием
ядерных держав) и ядерной войной, тем не менее счита¬
ют «обычные войны» и использование их во внешнеполи¬
тических интересах США «рутинным делом».
В президентском обзорном меморандуме 10 (PRM-
10), датированном августом 1977 года, конкретно допус¬
кается возможность следующих обычных войн: в Цент¬
ральной Европе между вооруженными силами НАТО и
Варшавского Договора, возможные военные действия
между странами Западной и Восточной Европы за преде¬
лами европейского континента, возможные военные кон¬
фликты в Восточной Азии, «национальные войны» (по¬
добные вьетнамской).
В вопросе о размерах применяемой силы в обычных
войнах и внешнеполитических последствиях этого аме¬
риканские политики и идеологи руководствуются посту¬
латами теории «ограниченной войны», широко разрабо¬
танной еще в 50—60-х годах такими видными граждан¬
скими специалистами в области военной стратегии, как
Г. Киссинджер, Р. Осгуд, Б. Броуди. «Ограниченная вой¬
на, — писал Р. Осгуд, — создает максимальные возможно¬
сти для эффективного использования военной силы как
рационального орудия национальной политики»56. По оп¬
152
ределению Г. Киссинджера, такая война предусматривает
ограничение военных действий по целям, месту и сред¬
ствам их ведения. В отличие от Г. Киссинджера, Б. Броу¬
ди утверждает, что для установления определенных ра¬
мок военным действиям достаточно только сузить выбор
средств, которыми они осуществляются. Конечно, подоб¬
ное сужение может сказаться на размахе войны, ее мас¬
штабах. Но главное не в этом. Размах войны сплошь и
рядом зависит от политических целей, а они определяют¬
ся правящими классами воюющего государства. Из исто¬
рии далекой и недавней известно, что когда ставились
далеко идущие агрессивные цели, то для достижения их
использовались громадные силы и средства.
В основе нынешнего подхода американских теорети¬
ков к локальным войнам лежит принцип «гибкого реаги¬
рования», формально предусматривающий соразмерность
ответа на «вызов», с каким США, по их суждению, стал¬
киваются на международной арене в каждый данный мо¬
мент. Следование такому принципу, как полагают теоре¬
тики локальных войн, обеспечивает непосредственное при¬
менение военной мощи для решения внешнеполитических
проблем, не доводя при этом дела до мировой термоядер¬
ной войны. На деле же трактовка и «вызова», и «ответа»
всегда представляет собой произвол агрессора. Можно
поэтому с достаточным основанием утверждать, что речь
идет о таком подходе, который полностью вписывается
в стратегию войны, а этой последней хотят придать ха¬
рактер неизбежности.
Американские политики и идеологи, судя по всему,
серьезно обеспокоены сейчас тем, что наметившаяся тен¬
денция к разрядке международной напряженности серь¬
езным образом затруднила возможность неприкрытого
вмешательства США в локальные конфликты.
«Возможность локальных войн, не относящихся к ка¬
кому-либо соперничеству Восток — Запад, может, — кон¬
статирует главный редактор «Форин афферс» У. Банди,—
значительно возрасти теперь, когда малые и средние
государства становятся менее затронутыми «холодной
войной». Американское и английское правительства не¬
правильно вели дела в кипрском вопросе в 1974 году, но
даже если бы они действовали быстро и решительно —
все равно можно сомневаться в том, что американский
рычаг был бы столь же эффективным, как в 1964 и
1967 годах, в недопущении греков и турок к шагам, кото¬
рые привели бы в конечном счете к войне»57.
153
Пытаясь воздействовать на развитие локальных конф¬
ликтов в выгодном для себя направлении, Пентагон пред¬
принимает заметные усилия по подготовке к участию в
них США. Он разрабатывает, в частности, планы значи¬
тельного увеличения мобильности американских сил
общего назначения, с тем чтобы быть в состоянии в спеш¬
ном порядке перебросить их в любой район мира. Как
отмечается в американской печати, принимая концеп¬
цию «полутора войн», новая администрация фокусирует
внимание на «половине войны», то есть локальной
войне58.
Теоретики локальных войн любят писать о своем
стремлении спасти человечество от Армагеддона — вели¬
кой катастрофы, которая, согласно библейскому преда¬
нию, постигнет Землю. Если принять во внимание, одна¬
ко, что они сами весьма скептически относятся к возмож¬
ности удержать обычную войну в рамках локального кон¬
фликта, то становится очевидной опасность для дела мира,
которую таят в себе их теоретические построения в этой
области. Совершенно очевидно, что локальные войны
содержат в себе серьезную опасность перерастания в
глобальный конфликт.
Раскрывая империалистическую природу такого рода
войн, Л. И. Брежнев в своем выступлении на Всемирном
конгрессе миролюбивых сил в Москве указывал: «Мы не
имеем права забывать о том, что до сих пор в различных
концах планеты вспыхивают войны, гибнут люди, разру¬
шаются города, заводы, села, уничтожаются культурные
ценности. Это войны, которые политики привыкли имено¬
вать локальными, то есть войны, ограниченные сравни¬
тельно узкими рамками какого-то географического рай¬
она. Опыт показывает, что они в современных условиях,
как правило, возникают там и тогда, где и когда пред¬
принимаются попытки сил империализма и реакции на¬
сильственно подавлять освободительное движение наро¬
дов, мешать свободному и независимому развитию госу¬
дарств, избравших прогрессивный путь внутреннего
развития и антиимпериалистический курс во внешней по¬
литике» 59.
Анализ войны американскими теоретиками как в ее
ракетно-ядерном, так и в обычном виде, как правило,
сопровождается попытками навязать потенциальному
противнику определенные правила игры, определенную
линию поведения в конфликтной ситуации. Характерны в
этом отношении рассуждения бывшего американского
154
дипломата, видного политолога Л. Халле. Отмечая, что,
«вероятно, прошло время и, возможно, навсегда, когда
официальное использование войны, должным образом
объявленной и ведущейся открыто, было принятой прак¬
тикой среди организованных обществ», он в то же время
утверждает: «То, чему я не вижу конца, — это сохране¬
ние всеми обществами вооруженных сил и их использова¬
ние в насильственных действиях». В этой связи он видит
выход в выработке «правил игры» на случай применения
военной силы60.
Подобной же точки зрения придерживаются и сторон¬
ники «ограниченной стратегической войны». Так, напри¬
мер, автор книги «Ограниченный ядерный выбор» Л. Дэ¬
вис исходит из того, что обмен ядерными ударами должен
осуществляться в соответствии с некими правилами. При¬
чем явно имеются в виду правила, составленные по аме¬
риканскому образцу, которым противник должен следо¬
вать без учета своей собственной стратегии61.
Война «с соблюдением правил», как разъясняет
Г. Кан, — это война с ограниченными целями и средства¬
ми. Стороны, отмечает Кан, учитывают выгоды и потери,
стремятся избежать разрушений, проявляют сдержан¬
ность на основе разумной калькуляции. Цели сознатель¬
но ограничены из-за опасения эскалации, и во время вой¬
ны ведутся переговоры, взаимный «политический торг»,
широко используется угроза, но всегда обеспечивается в
разумных пределах контроль над своими акциями. Осу¬
ществляется ограниченное использование силы и вместе
с тем сдержанность, достаточная для того, чтобы избе¬
жать эскалации. Кан предлагает при этом руководство¬
ваться определенными «моральными» нормами, уподоб¬
ляя войну схваткам животных. Идеал Кана — дерущиеся
змеи, которые, как он уверяет, никогда смертельно не
жалят друг друга62.
Предлагая следовать таким правилам, в чем они ви¬
дят главное спасение для воюющих сторон, американские
авторы явно стремятся поставить в одинаковое положе¬
ние агрессора и жертву агрессии, создать условия, облег¬
чающие действия агрессора. Иными словами, в ответ на
агрессию жертве агрессии предлагается соблюдать какие-
то правила, позволяющие агрессору уйти от окончатель¬
ного поражения.
Попытки американских теоретиков заставить другие
страны принять выработанные ими правила ведения вой¬
ны имеют и военно-стратегическую сторону. «Если про¬
155
тивник, — отмечает советский исследователь Г. А. Тро-
фименко, — будет действовать в соответствии с ними
(американскими правилами. — В. Я.), так сказать, «по
сценарию США» или хотя бы приближаться в своих дей¬
ствиях к их соблюдению, то Соединенным Штатам будет
гораздо легче разыгрывать свою стратегическую комби¬
нацию, ибо они с гораздо большей определенностью бу¬
дут осведомлены о вероятном направлении развития со¬
бытий, чем в том случае, если противник будет играть по
собственным правилам, не понятным для США»63.
Постановка и разработка американской внешнеполи¬
тической мыслью вопроса о войне как естественной форме
международно-политической реализации военной силы
препятствуют укреплению в сознании людей понимания
недопустимости использования средств массового унич¬
тожения. Совершенно очевидно, что признание политиче¬
ской нецелесообразности войн должно означать не поиск
«безопасных» способов ведения войны и не разработку
«правил» для применения силы, а отказ от применения
силы, создание условий для исключения войны из жизни
международного сообщества государств, что создавало
бы условия для действительно прочного мира, плодо¬
творного сотрудничества между государствами.
Рассматриваемая американскими теоретиками другая
форма международно-политической реализации военной
силы — «сдерживание путем устрашения»* опирается на
фактор ядерного могущества и, по существу, органически
связана со всеми разновидностями прямого применения
военной силы в качестве инструмента внешнеполитиче¬
ского действия.
Согласно широко распространенной в американской
литературе формуле Р. Снайдера, в общем виде военная
сила, используемая как инструмент «сдерживания путем
устрашения», это: А) сила, способная удерживать про¬
тивника от предпринятия военных акций, поскольку цена
и риск перевешивают любые выгоды, которые мог бы
получить противник, и Б) сила, способная осуществить
войну в случае, если задача А не сработала. Элемент А
в понятии «устрашения» нередко трактуется как собст¬
венно «устрашение», а элемент Б — как «оборона», хотя
* Термин «сдерживание путем устрашения» в дальнейшем иног¬
да применяется для краткости как просто «устрашение», хотя он
и не отражает полностью смысла английского слова «deference». Пе¬
ревести его на русский язык одним словом не представляется воз¬
можным.
156
в общем американские исследователи не проводят чет¬
кого разграничения между «устрашением» и «обороной».
Характерно, однако, другое. Именно способность военной
силы к ведению войны (элемент Б) и делает «устраше¬
ние» значимым и весомым. Таким образом, между
«устрашением» и «войной» существует внутренняя орга¬
ническая связь.
Существо концепции «сдерживания путем устраше¬
ния» состоит, таким образом, в том, чтобы добиваться
внешнеполитических целей путем угрозы силой, застав¬
ляя противников отступать прежде всего без большой
войны, а если удастся, то и без войны вообще.
Сдерживание путем устрашения, поясняют Р. Осгуд
и К. Такер, включает «усилия использовать военную
мощь, за исключением войны, как рациональный инстру¬
мент политики»64.
Концепция «устрашения», как она излагается амери¬
канскими теоретиками, в основе своей исходит не только
из возможности, но и необходимости обращения к силе.
По их логике, за «устрашением» вполне могут последо¬
вать прямые действия с применением силы, если против¬
ник не отреагирует на «устрашение» так, как того хотела
бы устрашающая сторона. Таким образом, «устрашение»,
по существу, перелицовывает пресловутую идею «балан¬
сирования на грани войны». Практические последствия
такого развития событий тем более опасны, поскольку
«устрашение» подразумевает прежде всего ядерные реп¬
рессалии.
Уже одно это обстоятельство убедительно показывает
несостоятельность попыток американских теоретиков вы¬
дать «взаимное устрашение» чуть ли не за базисную
основу поддержания мира в ракетно-ядерную эпоху.
Мир, основанный на подобном «равновесии страха», —
это хрупкая, непрочная конструкция, суррогат настояще¬
го мира, мало чем отличающийся от «холодной войны».
Обеспечение надежных гарантий мира в современную
эпоху предполагает не «равновесие страха», а равновесие
безопасности и взаимного доверия.
«Советский Союз, — подчеркивает Л. И. Брежнев,—
решительно против «равновесия страха». Мы за равно¬
весие доверия. Именно поэтому мы так настойчиво пред¬
лагаем углублять разрядку, повышать уровень и обога¬
щать содержание международного сотрудничества,
настойчиво искать эффективный путь сначала к прекра¬
щению гонки вооружений, а затем и к разоружению»65.
157
В американской литературе принято различать два
вида «устрашения». В основе одного лежит «взаимное
гарантированное уничтожение», в основе другого — «гиб¬
кое ограниченное реагирование»66.
Согласно концепции «взаимного гарантированного
уничтожения», «сдерживание путем устрашения» являет¬
ся эффективным в том случае, когда стратегические силы
того или иного государства способны в случае ракетно-
ядерной войны выжить после первого удара нападаю¬
щей стороны до такой степени, чтобы быть в состоянии
нанести противнику «неприемлемый» для него ущерб с
помощью «второго удара». «Сдерживание путем устраше¬
ния» прекращается, как только одна сторона получает
способность нанесения первого удара по арсеналам про¬
тивника.
В концепции «взаимного гарантированного уничтоже¬
ния», как отмечают ее критики, много нарочито туманно-
го и необъясненного. В этой связи они, в частности, упо¬
минают такие не поддающиеся количественному анализу
понятия, как «неприемлемый ущерб», «минимальное
сдерживание путем устрашения», и т. п. И действительно,
о каком сколько-нибудь удовлетворительном анализе мо¬
жет идти.речь, когда «сдерживание» исключает возмож¬
ность «нормировать» его результаты?
Концепция «гибкого ограниченного реагирования»
связывает эффективность «сдерживания путем устраше¬
ния» со способностью государства соответствующим об¬
разом отвечать на любую форму и любой масштаб ядер¬
ного нападения на его территорию. В зависимости от
характера нападения возмездие должно использовать
различный набор средств — от локальных, ограниченных,
контрсидовых ударов до массированного сокрушительно¬
го удара, наносящего «неприемлемый ущерб» напавшему
государству. Концепция «гибкого ограниченного реаги¬
рования» придает важное значение обеспечению потен¬
циала «гарантированного уничтожения», основу которого
составляют стратегические вооружения. Стремясь при¬
крыть откровенно милитаристское содержание подобных
рассуждений, сторонники этой концепции утверждают,
что она-де чуть ли не способствует урегулированию кон¬
фликтов мирными средствами, открывая возможности
для переговоров на начальном этапе войны.
Как отмечается в американской литературе, в послед¬
нее время обозначилось предпочтение второму виду сдер¬
живания— «гибкому ограниченному реагированию»67.
158
Определенная часть сторонников концепции «устра¬
шения» в обоих ее вариантах считает, что наличие спо¬
собности как у США, так и у СССР к нанесению «непри¬
емлемого ущерба» создает гарантию против ядерной вой¬
ны, так как стабилизирует стратегический баланс.
В то же время среди сторонников концепции «сдержи¬
вания путем устрашения» сильно влияние и таких теоре¬
тиков, которые, не возражая открыто против формаль¬
ного признания стратегического равновесия между СССР
и США, не хотят смириться с этим обстоятельством и
пытаются изыскивать окольные пути для того, чтобы до¬
биться для США односторонних преимуществ в военно¬
стратегической области. В этой связи они используют
тезис о необходимости «максимума средств для сдер¬
живания», что равнозначно призыву к обеспечению воен¬
ного превосходства. Отсюда прямой путь к проповеди
сохранения на достаточно высоком уровне гонки воору¬
жений. «США, — заявляет У. Кинтнер, — не могут обе¬
спечить устрашение одним желанием этого, они должны
стремиться к совершенствованию оружия»68.
Исходя из посылки о необходимости гонки вооруже¬
ний, теоретики «устрашения», как правило, объявляют
накопление оружия могучим фактором, работающим-де
на пользу мира. В подтверждение этого они выдвигают
тезисы о якобы миротворческом характере существования
огромного количества средств «устрашения», сдерживаю¬
щих страны от нападения друг на друга из-за страха за
собственную судьбу. В итоге концепция «устрашения»
накладывает непосредственный отпечаток на подход к
проблеме разоружения.
Обосновывая гонку вооружений интересами «устра¬
шения», американские теоретики «сдерживания путем
устрашения» вынуждены, однако, считаться с широкими
настроениями общественности, в том числе и американ¬
ской, в пользу разоружения. Поэтому они стремятся най¬
ти такую концепцию в области разоружения, которая со¬
здавала бы достаточно широкие рамки для маневриро¬
вания. Такой концепцией считается «контроль за
вооружениями», который трактуется по-разному в зави¬
симости от конкретной ситуации и политических воззре¬
ний американских авторов. Иногда этот контроль рас¬
сматривается в контексте обеспечения стратегической
стабильности и связывается с принятием мер в области
ограничения стратегических вооружений. Чаще, однако,
контроль объявляется предварительным условием как
159
всеобщего, так и частичного разоружения. Под видом
«контроля за вооружениями» зачастую предпринимаются
попытки заменить реальные меры по разоружению сбо¬
ром разведывательных данных. В целом американская
концепция «контроля за вооружениями» отличается не¬
последовательностью и двойственностью и на деле часто
оказывается далекой от подлинного разоружения.
Концепция «сдерживания путем устрашения» пред¬
ставляет тем большую опасность, что она в обоих своих
вариантах оправдывает все виды военных приготовлений
США: от подготовки к всеобщей ядерной войне (под ло¬
зунгом «сдерживания» такой войны) до активного осу¬
ществления интервенционистской политики в тех или
иных отдельных районах мира или военных демонстра¬
ций в ходе международно-политических кризисов.
Наглядное представление об использовании вооружен¬
ных сил США в качестве инструмента внешней политики
в рамках концепции «сдерживания путем устрашения»
в 1946— 1975 годах, равно как и о возможной политиче¬
ской роли военной силы в будущем, дает доклад Инсти¬
тута Брукингса под названием «Использование вооружен¬
ных сил США в качестве инструмента внешней политики
в 1946—1975 годах», подготовленный в 1977 году научной
группой этого института по заказу Агентства по перспек¬
тивным исследованиям в области обороны, обслуживаю¬
щего органы планирования ВМС США69. В работе груп¬
пы под руководством Б. Блехмана и С. Каплана участво¬
вало более 50 экспертов. Одновременно велись консуль¬
тации с рядом ведущих американских специалистов-меж-
дународников, в том числе близких к окружению
Дж. Картера или входящих в это окружение: Г. Оуэном,
Ч. Йостом, Р. Боуи, Г. Аллисоном, А. Гудпейстером и др.
Сам Институт Брукингса, как известно, оказывает весо¬
мое влияние на формирование внешнеполитического
мышления руководства США, тяготея главным образом
к демократической партии, и служит постоянным источ¬
ником кадров для госдепартамента, Пентагона и Бело¬
го дома.
Главная задача доклада — выяснить, когда, где, как,
при каких условиях и с какой степенью эффективности
имело место использование вооруженных сил США в
определенных, заранее намеченных политических целях,
во всех более или менее существенных инцидентах и
кризисных ситуациях военно-политического характера
после второй мировой войны.
160
Причем речь идет только о тех случаях, когда «один
или более компонентов вооруженных сил (в военной фор¬
ме) с определенной целью, путем физических действий,
участвует в сознательной попытке со стороны руководи¬
телей государства оказать влияние — либо готовиться
оказать влияние — на определенные действия руководст¬
ва другого государства, не вступая в продолжительную
борьбу насильственными методами».
В результате предметом исследования являются толь¬
ко такие акции, как обеспечение военного присутствия;
визиты, патрулирование, разведка, наблюдение; маневры
с целью демонстрации, подтягивание к объекту войск или
военного снаряжения; переброска иностранных войск или
военного снаряжения; эвакуация; использование огневой
мощи; высадка сухопутных сил или захват территории,
операции по перехвату; эскортирование, блокада и др.
Такие же ярко выраженные агрессивные акции США, как
войны в Корее и Индокитае, использование вооруженных
сил под предлогом защиты американских граждан или
территорий, например патрулирование демилитаризован¬
ной зоны на Корейском полуострове, использование войск
в зоне Панамского канала против демонстрантов с анти¬
американскими намерениями, маневры войск США в За¬
падной Европе и т. д., оказались за рамками исследо¬
вания.
По подсчетам авторов доклада, в период 1946—
1975 годов США использовали свои вооруженные силы
в политических целях в 215 случаях, то есть в среднем
с интервалом в 1,5 месяца*. Причем в 19 случаях США
прибегали к ядерной угрозе, то есть более одного раза
каждые два года. Уже одни эти данные свидетельствуют
* По уточненным данным одного из авторов доклада Брукинг¬
ского института С. Каплана, после второй мировой войны (с 1 января
1946 г. по 31 декабря 1976 г.) вооруженные силы США использова¬
лись в политических целях 226 раз (Kaplan S. Force Without War:
The United States’ Use of Armed Forces as a Political Instrument.
Wash., 1977, p. ii).
Имеются и другие данные о том, что в период с 1944 по 1966 год
произошло 368 инцидентов конфликтного характера, в которых США
использовали военную силу одним из следующих способов: пассив¬
ная военная поддержка; неофициальное тайное военное вмешатель¬
ство и поддержка; ограниченное использование военного персонала
в боевых операциях в соответствии с обязательствами; боевые опе¬
рации и крупномасштабное использование военного персонала в конф¬
ликтных ситуациях (см. The Journal of Conflict Resolution, 1975,
No 4.).
161
о регулярном использовании США силы или угрозы ее
применения.
С точки зрения способов использования вооруженных
сил американцы, по утверждению авторов доклада, удер¬
живали свои действия главным образом в пределах яко¬
бы «пассивных» операций. Так, огневая мощь, как тако¬
вая, применялась в 18 инцидентах из 215. В подавляющем
большинстве случаев ставка делалась на обеспечение
военного присутствия США, на повышение степени готов¬
ности вооруженных сил, визиты военных кораблей, опе¬
рации патрулирования, демонстративные маневры и т. д.
При этом чаще всего привлекались войска, дислоцирован¬
ные в пределах того театра, где протекает инцидент (75%
всех случаев).
С точки зрения внешнеполитической эффективности *,
как считают авторы доклада, в краткосрочном плане три
военно-политические акции США из четырех заканчива¬
лись успешно. По истечении трех лет, то есть в долгосроч¬
ном плане, эффективность понижалась до уровня ниже
50%.
Чаще всего — в 90% случаев — успех сопутствовал
американцам тогда, когда сила использовалась ими для
укрепления позиций того или иного государства или пра¬
вительства и поддержания статус-кво. Далее, если Сое¬
диненные Штаты ставили задачу повлиять в ту или иную
сторону на использование государством силы, благопри¬
ятным исходом в краткосрочном плане заканчивалось
около 75% американских акций, в долгосрочном — лишь
30%. При этом американцам, как отмечается в докладе,
особенно «удавались» акции на «воспрещение» и «сдер¬
живание». Почти всегда — более чем в 90% случаев —
военно-политическая операция Соединенных Штатов не
позволяла государству-объекту использовать силу, а в
70% случаев заставляла это государство прекращать под¬
держку третьей стороне.
На последнем месте по результативности — менее
50%—находились попытки США добиться изменения
политики другого государства в отношении поддержки
* Для оценки эффективности использования военной силы в
политических целях из общего количества (215) рассматриваемых
инцидентов в докладе выделено 33 наиболее «типичных». В категорию
«успешных» включены те операции, в которых были реализованы
2/з поставленных задач. Анализ ведется по двум параметрам: эффек¬
тивность в «краткосрочном» плане, или в течение шести месяцев в
момента ее начала, и эффективность в плане «долгосрочном», изме¬
ряемом тремя годами.
162
третьей стороны. В долгосрочном плане эффективность
по этой категории целей понижалась до 30%.
В акциях, рассчитанных на «подкрепление» и «поощ¬
рение» намечаемых или уже начатых действий другой
стороны, американцы добивались почти полного успеха
в 95% случаях, а в долгосрочном плане степень резуль¬
тативности не опускалась ниже 60%. Почти 100-процент¬
ная эффективность в демонстрации американской воен¬
ной мощи достигалась в тех случаях, если американцы
старались подтолкнуть правительство другого государст¬
ва на использование силы или на поддержку этим госу¬
дарством третьей стороны, или на укрепление позиции
правительства этого государства. При этом, разумеется,
трудно определить, в какой степени решающее воздей¬
ствие на ход событий оказали американцы, а в какой
степени ход событий не зависел от действий США.
Гораздо более определенной роль США была в дру¬
гой серии инцидентов, когда ставилась цель добиться
изменения политики другой стороны, заставить ее пре¬
кратить осуществляемые действия или побудить к каким-
либо новым мероприятиям. В таких случаях, как утвер¬
ждают авторы доклада, успех сопутствовал примерно
60% акций США в краткосрочном плане, но лишь 18%
акций — в долгосрочном.
Со ссылкой на прошлый опыт в докладе подчеркива¬
ется, что в политических целях вооруженные силы гораз¬
до целесообразнее использовать непосредственно и прямо
в ситуациях, где необходимо оказать то или иное воздей¬
ствие на использование другим государством военной
силы или же оказать поддержку правительству этого
государства. Метод косвенного военного участия выгод¬
нее там, где речь идет о воздействии на поддержку дру¬
гим государством третьей стороны. В обоих случаях ве¬
роятность успеха превышает 80%.
Рассматривая зависимость внешнеполитической эф¬
фективности использования вооруженных сил США от
характера политических усилий и форм дипломатии
(официальные заявления президента и других руководя¬
щих лиц в правительстве, направление в район инциден¬
та государственного секретаря или специальных эмисса¬
ров и т. д.), авторы доклада приходят к выводу, что все
это весьма незначительно влияет на эффективность при¬
менения силы. По существу, они придерживаются того
мнения, что «сила остается силой» независимо от указан¬
ных выше условий.
163
Основные выводы доклада сводятся к тому, что в мир¬
ное время при определенных условиях демонстративное
применение военной мощи «в правильно рассчитанных
дозах» приносит нужный эффект для обеспечения инте¬
ресов США за рубежом, особенно для предотвращения
быстрого развития невыгодных американцам ситуаций и
выигрыша времени до того момента, пока Соединенные
Штаты не сумеют «выправить» положение как-либо ина¬
че. Хотя в докладе и подчеркивается необходимость под¬
ходить к решению об использовании военной силы «осто¬
рожно и взвешенно», не превращая эту практику в сис¬
тему, тем не менее отчетливо прослеживается мысль о
том, что политика опоры на силу в мирное время ни в
коей мере не должна исключаться из арсенала внешнепо¬
литических средств США, а, напротив, совершенствовать¬
ся и, главное, повышать свою отдачу.
Если освободить подобные рассуждения от словесной
шелухи и перевести их на язык реальной политики, то
становится очевидным, что речь идет о попытках лега¬
лизации перманентного роста военной машины США и о
ее использовании в самых различных районах земного
шара в качестве средства давления на суверенные госу¬
дарства по самым различным поводам. Весьма показа¬
тельно, что в докладе фактически игнорируется тенденция
к разрядке международной напряженности последних
лет. Анализ американского опыта использования силы
явно сознательно ведется в отрыве от условий, опреде¬
ляющих характер военно-политических инцидентов и кри¬
зисных ситуаций — будь то период разрядки или «холод¬
ной войны».
Теоретики «сдерживания путем устрашения» в своих
новейших изысканиях рекомендуют не ограничивать угро¬
зы и демонстрации силы военно-политической сферой, а
распространять ее на область международных экономи¬
ческих отношений. Важным импульсом для такого рода
теоретизирований явилось заявление Г. Киссинджера в
конце 1973 года о том, что США могли бы оказаться
перед необходимостью применить военную силу на Ближ¬
нем Востоке, чтобы «сломить контроль арабов над не¬
фтью». Рассматривая военное вмешательство в качестве
«единственно надежного средства решения нефтяного
кризиса», американский политолог Р. Такер утверждает,
что если «нет желания смириться с неожиданным колос¬
сальным перемещением богатства и силы, вызванным
нынешней ситуацией, то единственный выход — в созда¬
164
нии экономических и политических инструментов давле¬
ния силой»70. Характерно, что Такер при определенных
обстоятельствах считает возможным перейти от угрозы
силой к ее применению. Нетрудно видеть, что подобная
линия поведения в международных делах на практике
могла бы серьезным образом осложнить решение острых
международных экономических проблем и спровоциро¬
вать военный конфликт.
Концепция «устрашения» вызывает возрастающую
критику внутри самих Соединенных Штатов со стороны
как ученых, так и политиков. Многие американские авто¬
ры отмечают внутреннюю противоречивость концепции
«сдерживания путем устрашения». Как отмечает социолог
Дж. Рейзер, согласно логике этой концепции, с одной
стороны, ядерные силы должны быть настолько велики,
чтобы они могли удерживать противника от войны.
С другой стороны, так называемый «оборонительный эле¬
мент» «сдерживания путем устрашения», или способ¬
ность вести войну, должен быть на уровне реальной воз¬
можности. Эта последняя способность предполагает по¬
стоянное наращивание вооружений, что в конечном счете
может подорвать смысл «сдерживания путем устраше¬
ния»71.
Американские авторы обращают внимание и на дру¬
гие противоречивые моменты концепции «устрашения».
„Взаимное устрашение”, — пишет автор книги «Страте¬
гия взаимозависимости» В. Рокк, — может сдерживать
действия государств, но только ценой готовности общест¬
ва время от времени рисковать своим существованием»72.
Особую опасность с точки зрения сохранения мира пред¬
ставляет, по его мнению, применение теоретических по¬
стулатов «сдерживания путем устрашения» в кризисных
ситуациях, которые не без основания рассматриваются
им как один из основных источников международных
конфликтов в современных условиях. Другой американ¬
ский автор — Дж. Стоссинджер в книге «Могущество
наций» обращает внимание на то, что логика «устраше¬
ния» не дает ответа на вопрос, как бороться с опасностя¬
ми войны, связанными либо с иррациональным поведени¬
ем государств, либо со случайностями. С расширением
«ядерного клуба» эти опасности, как подчеркивает он,
еще больше возрастают 73.
Таким образом, несмотря на кажущийся оборонитель¬
ный характер, концепция «устрашения» преследует от¬
нюдь не цели обороны. В руках сторонников неограничен¬
165
ной гонки вооружений она служит средством обмана
общественности, средством маскировки подлинного на¬
значения многих военных программ. Применяемая на
практике в соответствии с постулатами концепции «устра¬
шения» демонстрация силы в значительной мере повыша¬
ет опасность случайного возникновения войн и создания
кризисных ситуаций, порождающих войны.
В практически-прикладном смысле, как отмечают аме¬
риканские исследователи истории концепции «сдержива¬
ния путем устрашения» профессора Стэнфордского уни¬
верситета А. Джордж и Р. Смоук, концепция «устраше¬
ния» не помогла в послевоенное время ликвидировать в
целом ряде случаев (Корея, Ближний Восток) между¬
народные кризисы и стабилизировать обстановку74.
В последнее время обнаруживается все большее про¬
тиворечие между доктриной «ограниченной стратегиче¬
ской войны» и концепцией «сдерживания путем устраше¬
ния». Попытки разрабатывать сценарии использования
ядерного оружия, как отмечают некоторые американские
авторы, понижают, если не подрывают, всю ценность
«сдерживания» 75.
Разумеется, концепция «сдерживания путем устраше¬
ния» не может служить основой сколько-нибудь прочного
и длительного мира. Не контроль над гонкой вооружений
и не демонстрация силы, как того требует эта концепция,
а лишь прекращение гонки ядерных вооружений и приня¬
тие эффективных мер по обеспечению международно-пра¬
вовых гарантий безопасности государств могут обеспе¬
чить необходимый фундамент для устойчивого мира.
*
Как видно, в нынешнем американском подходе к воп¬
росу о реализации силы во внешнеполитической сфере
устойчиво сохраняются стереотипы «холодной войны».
И на это имеются свои особые причины. Дело в том, что
сложившиеся в период «холодной войны» убеждения
о выгодности политики «с позиции силы», «балансирова¬
ния на грани войны», «равновесия страха», поддерживае¬
мой гонкой вооружений, прочно связаны с традиционной
империалистической политикой диктата, применением
разного рода «силовых приемов» и представляют собой
классический для капитализма, хотя и ставший в наши
дни безнадежно устарелым и опасным ответ на нежела¬
тельные для него перемены в мире, ответ милитарист¬
ский, насильнический.
166
Разумеется, подход к вопросу о формах применения
силы во внешней политике в среде американских поли¬
тиков и ученых не представляет одноцветной картины.
И здесь можно обнаружить позиции трезво мыслящих
ученых и политиков, которые отдают себе отчет в том, что
применение силы в любой, даже косвенной, форме все
чаще дает осечку и связано с подрывом международного
престижа США, неоправданным ростом военных расхо¬
дов, что интересам обеспечения национальной безопасно¬
сти США, стабильности в современном мире служит не
столько устрашение противной стороны, сколько конст¬
руктивный диалог с ней.
Под влиянием происходящих смещений в расстановке
мировых сил, с учетом борьбы различных тенденций аме¬
риканский подход к вопросу о применении силы во внеш¬
ней политике претерпевает определенную эволюцию.
Современные американские концепции реализации силы
во внешней политике в определенной мере учитывают
риск прямого применения военной мощи во всем ее объ¬
еме в условиях стратегического паритета. В то же время
признание сужения объективных возможностей примене¬
ния силы по ее непосредственному назначению отнюдь
не означает отказа от ставки на силу как инструмент
внешнеполитического действия. Американская внешнепо¬
литическая мысль преподносит как «открытие» «разно¬
образие» форм косвенного применения силы, совершенно
игнорируя тот факт, что аккумулирование военной силы
во внешней политике столь же чревато риском, как и ее
прямое применение.
Модифицированные концепции по-прежнему культи¬
вируют силу, и это неудивительно. С ее помощью правя¬
щие круги США, социальный заказ которых выполняют
американские теоретики, стремятся сохранить и упро¬
чить свои позиции в противоборстве с мировым социа¬
лизмом Н'Другими революционными силами современно¬
сти, «истощить» материальные ресурсы Советского Сою¬
за и других социалистических стран. Культивирование
силы создает «теоретическую» базу для гонки вооруже¬
ний, с которой связываются вполне определенные расче¬
ты на установление американского военного превосход¬
ства.
Ориентация на использование военной силы, в какие
бы ультрасовременные одежды она ни облекалась, слу¬
жит источником напряженности и осложнений в нынеш¬
ней международной обстановке, оборачивается в кон¬
167
кретных делах расширением материальной основы для
развязывания войн и представляет собой действитель¬
ную, а не мифическую военную опасность.
Идеологическо-пропагандистские
прикрытия военно-силового
подхода
Заинтересованность правящих кругов США в ориен¬
тации на силу как главную ставку и инструмент внешней
политики имеет соответствующее пропагандистское обес¬
печение в виде различного рода теорий и концепций,
интенсивно разрабатываемых политико-академическим
комплексом. Отличительная черта модификации преж¬
них и построения новых теоретических конструкций —
обоснование империалистической политики «с позиции
силы» применительно к новым условиям, когда домини¬
рующей тенденцией становится разрядка напряженности.
Американские теоретики «военной силы» стремятся
придать максимально возможную наукообразность выд¬
вигаемым ими теоретическим постулатам о примате си¬
лы. В научный оборот сейчас введены и политико-фило-
софские концепции английского философа XVII века
Т. Гоббса, утверждавшего, что естественным состоянием
человеческого общества является непрекращающаяся
«война всех против всех», и социально-психологические
теории 3. Фрейда, считавшего войны имманентным свой¬
ством современной цивилизации, и рассуждения видного
представителя неотомизма Р. Нибура о том, что воинст¬
венный инстинкт находится внутри каждого человека.
На потребу идейно-теоретического оправдания полити¬
ки «с позиции силы» обращаются и многочисленные вы¬
сказывания видных буржуазных пацифистов о том, что
«войны происходят в силу отсутствия в системе между¬
народных отношений сдерживающих их, обстоя¬
тельств»76.
Наимоднейший «научный» вариант оправдания при¬
менения силы — это концепция «инстинктивной агрессив¬
ности», развиваемая в широко распространенных в США
исследованиях основоположника социальной этиологии
австрийца К. Лоренца. На основании изучения поведе¬
ния некоторых видов животных в природных условиях
Лоренц сделал вывод о том, что при определенных обсто¬
ятельствах у большинства животных якобы автоматиче¬
ски срабатывает инстинктивный механизм агрессии и они
168
нападают на представителей своего вида. Эта внутриви¬
довая агрессия имеет столь же неодолимый и естествен¬
ный характер, как голод или половые инстинкты, и в
свою очередь служит целям сохранения вида. От живот¬
ных сторонники этологии переходят к человеку. Посколь¬
ку человек произошел из животного мира и прошел эво¬
люцию, прежде чем стать «homo sapiens», человек,
утверждают они, должен обладать теми свойствами, ко¬
торые присущи животным, включая и биологическую
основу мотивации его агрессивного поведения. «Агрес¬
сия не столько интерспецифична, сколько интраспеци-
фична»77, — заявляет об агресивности как внуренне
присущем человеку свойстве К. Лоренц.
Подобные концепции несостоятельны в научном от¬
ношении. Они опираются на суждения по аналогии, сво¬
дятся к произвольно взятым ссылкам и примерам в пове¬
дении отдельных представителей животного мира. На
самом деле все общественные формы деятельности чело¬
века предопределяются не его биологической сущностью,
а законами развития определенного способа производ¬
ства. Аморальная, антигуманная сущность подобных
концепций особенно наглядно проявляется в попытках
обоснования тезиса о том, что агрессивность не только
извечный и естественный инстинкт животной природы, но
и весьма полезный и необходимый феномен. Так, видный
американский социолог Молли Левин в результате ис¬
следования процесса нажима и, в частности, войн прихо¬
дит к выводу, что «во всех тех случаях, когда агрессив¬
ность способствует достижению желательных целей, она
выступает бесспорной положительной ценностью»78. Не¬
которые буржуазные ученые даже утверждают, что вой¬
ны являются средством сокращения численности насе¬
ления и предотвращения перенаселенности земли79.
Идя по пути биологизации и психологизации социаль¬
ных явлений, американские социологи создали, по суще¬
ству, целое направление исследований — вайоленсоло-
гию, которая изучает насилие во всех его проявлениях
и по своему содержанию служит абсолютизации силы.
Ссылки на буржуазные авторитеты, подкрепленные
«новейшими обобщениями» естественных наук, должны,
по замыслу буржуазных идеологов, придать весомость
разрабатываемым ими теориям и концепциям, играю¬
щим вполне определенную служебную роль по отноше¬
нию к внешнеполитическим интересам господствующего
класса США.
169
В обоснование притязаний на обеспечение «позиции
силы» американские политики и теоретики систематиче¬
ски используют тезис о «советской угрозе», которая яко¬
бы нависла над Западом.
Обращение внешнеполитических идеологов империа¬
лизма к мифической «советской угрозе» не ново и не ори¬
гинально. Этот универсальный и удобный с точки зрения
внутренних и международных потребностей капиталисти¬
ческого Запада аргумент возник с рождением первого в
мире социалистического государства и широко исполь¬
зовался империалистами в различных ситуациях, а в
послевоенное время — особенно активно в качестве «тео¬
ретического» подкрепления развязывания Западом оче¬
редных раундов гонки вооружений.
На протяжении всего времени от первой атомной
бомбы и до наших дней начало каждого нового витка в
гонке вооружений сопровождалось волной воплей о «со¬
ветской угрозе» в результате-де «отрыва» Советского
Союза от США в важнейших видах вооружений. В 50-х
годах под аккомпанемент кампании по поводу «отстава¬
ния» США по бомбардировщикам была развернута фор¬
сированная программа строительства стратегической
авиации США. На рубеже 50—60-х годов для проталки¬
вания новых военных программ в области стратегических
вооружений была развернута кампания о «ракетном от¬
ставании США».
В начале 70-х годов появилось очередное «катастро¬
фическое отставание» США — по забрасываемому весу.
Спекуляция на этом «отставании» до сих пор является
излюбленной темой таких «ястребов», как бывший заме¬
ститель министра обороны П. Нитце и сенатор Г. Джен¬
сон. Дело, однако, в том, что из двух путей, ведущих к
укреплению военной мощи, Пентагон сделал ставку не на
увеличение забрасываемого веса американских систем, а
на повышение компактности ядерных зарядов и их точ¬
ности. Наглядный пример такого подхода — крылатая
ракета. Поднимая шум о забрасываемом весе, пентаго¬
новские стратеги пытаются отвлечь внимание обществен¬
ности от тех направлений качественной гонки вооруже¬
ний, на которых они сейчас концентрируют свои усилия.
Используемая для обоснования новых витков в
гонке вооружений, вся эта пропагандистская шумиха
наглядно свидетельствует, что именно военно-промыш¬
ленные круги США несут ответственность за нынешнюю
гонку вооружений, с помощью которой они рассчитыва¬
170
ют получить односторонние политические и военные пре¬
имущества в отношениях с СССР и другими социалисти¬
ческими странами, пытаются любой ценой сохранить
свои позиции на мировой арене. Хорошо известно, что на
всех решающих этапах развития военного оружия Со¬
единенные Штаты всякий раз выступали инициаторами
каждого нового витка, делали первый шаг в гонке воору¬
жений.
«Атомная бомба, стратегический бомбардировщик,
атомная подводная лодка, разделяющиеся головные час¬
ти с индивидуальным наведением, а теперь крылатые ра¬
кеты,— пишет, например, американский политолог
Р. Барнет, — все это было вначале создано Соединенны¬
ми Штатами, а затем уже таким оружием были оснаще¬
ны и советские вооруженные силы»80.
И действительно, на всем протяжении послевоенных
лет гонка вооружений развивалась по принципу «дей¬
ствие— противодействие». Запад бросал вызов, Совет¬
ский Союз должен был этот вызов принимать. Но как
только новое оружие в качестве ответной меры появля¬
лось в руках Советского Союза, это изображалось как
очередная «советская военная угроза».
В нынешнем варианте мифа о «советской угрозе» на
первый план выдвигаются тезисы о наличии у Советского
Союза огромного военного потенциала, который может
быть-де использован и в злонамеренных целях, и о стрем¬
лении СССР распространить свое влияние в глобальных
масштабах.
Вопреки здравому смыслу, страны социализма объяв¬
ляются ответственными за внутренние политические со¬
бытия в других государствах, за гражданские и нацио¬
нально-освободительные войны, вмешательство в локаль¬
ные конфликты. Одновременно усиленно распространя¬
ются спекуляции насчет того, что будто в Советском
Союзе наращивают стратегические вооружения в мас¬
штабах, грозящих привести к резкому изменению балан¬
са сил СССР и США в этой области, что СССР и другие
страны Варшавского Договора в огромных масштабах
увеличивают военные расходы и численность своих во¬
оруженных сил, что советская военная доктрина не пред¬
усматривает для Вооруженных Сил СССР такую задачу,
как предотвращение войны.
То, что все эти измышления о «советской угрозе» —
не более чем миф, созданный правящими кругами капи¬
талистического Запада на свою собственную потребу,
171
доказывается прежде всего самой природой, социальной
структурой Советского государства. Его философия —
марксизм-ленинизм — исходит из того, что идеи, в том
числе касающиеся социального устройства общества,
нельзя навязать силой, что «экспорт» революции бес¬
смыслен, так как революция — это результат внутреннего
развития общества, и что каждый народ сам определяет
свою судьбу. Советский Союз последовательно отстаива¬
ет суверенитет, национальную независимость и свободу
народов, стремится к тому, чтобы очаги напряженности
были потушены мирным путем, на основе соблюдения
принципов невмешательства во внутренние дела других
стран и отказа от перекройки сложившихся границ. Нет
ни одной внешнеполитической задачи, которую Совет¬
ский Союз намеревался бы решить военным путем. Нет
ни одного государства, к которому он предъявлял бы
территориальные или какие-либо иные претензии, чрева¬
тые военным столкновением.
В социальной структуре Советского государства нет
классов, групп или отдельных лиц, заинтересованных в
бизнесе вооружений, безрассудном росте военного по¬
тенциала, как это имеет место в странах капитала. Раз¬
оружение есть «идеал социализма», указывал В. И. Ле¬
нин. Вместе с другими социалистическими странами, со
всеми миролюбивыми силами Советский Союз неуклонно
проводит политику, направленную на прекращение
гонки вооружений. После второй мировой войны Совет¬
ский Союз внес свыше ста предложений, направленных
на обуздание гонки вооружений, на запрещение ядерного
оружия, сокращение военных бюджетов и т. д.
Что касается измышлений о якобы растущих военных
расходах Советского Союза, то нельзя не видеть, что по¬
добные утверждения делаются вопреки реальным фактам.
Советский Союз, как известно, единственная из великих
держав, которая не только не увеличивает из года в год
свои военные ассигнования, но и добивается общего сог¬
ласованного сокращения военных расходов всех госу¬
дарств.
Принципиальное отношение Советского Союза к
проблемам обеспечения своей безопасности было опреде¬
лено Л. И. Брежневым в его выступлении в Туле 18 янва¬
ря 1977 г. следующим образом: «Наш подход к этим
вопросам можно сформулировать так: оборонный потен¬
циал Советского Союза должен быть достаточным для
того, чтобы никто не рискнул нарушить нашу мирную
172
жизнь... От имени партии и всего народа я заявляю: наша
страна никогда не станет на путь агрессии, никогда не
поднимет меч против других народов»81.
В ответах на вопросы еженедельника СДПГ «Фор-
вертс» в мае 1978 года Л. И. Брежнев подчеркнул, что
«общая численность советских вооруженных сил отнюдь
не представляет для Запада какой-либо «военной угро¬
зы», хотя она вполне достаточна для того, чтобы в слу¬
чае необходимости нанести ответный удар по агрессору,
где бы он ни находился — на западе или на востоке»82.
Отмеченная Л. И. Брежневым концепция достаточно¬
сти составляет неизменную основу подхода нашего госу¬
дарства к строительству своих вооруженных сил. Еще в
1918 году В. И. Ленин писал: «Самая лучшая армия, са¬
мые преданные делу революции люди будут немедленно
истреблены противником, если они не будут в достаточ¬
ной степени вооружены, снабжены продовольствием, обу¬
чены»83.
Весьма характерно, что концепция достаточности чет¬
ко и ясно мотивируется в выступлениях советских руко¬
водителей соображениями сугубо оборонительного ха¬
рактера, в то время как официально декларированная в
США концепция «достаточности» сознательно окутана
туманом неясности. Одни политические деятели США
трактуют «достаточность» как поддержание стратегиче¬
ских сил на уровне, достаточном для «сдерживания»
противника, то есть для обеспечения «правдоподобной»
способности к нанесению противнику «неприемлемого
ущерба» во «втором ударе». Другие расшифровывают
«достаточность» как поддержание определенной степени
военного превосходства. Не случайно, что «стратегиче¬
ская достаточность» в американской интерпретации
предполагает обновление ракетно-ядерного потенциа¬
ла ц раскручивание новых витков гонки вооружений84.
Более того, в отличие от американской интерпрета¬
ции принципа «достаточности», оставляющей лазейки
для стремления к военному превосходству, к созданию
потенциала «первого удара», Советский Союз четко и не¬
двусмысленно связывает обеспечение достаточности не с
курсом на превосходство в вооружениях, который, по его
мнению, теряет смысл при наличии нынешних огромных
арсеналов уже накопленного ядерного оружия и средств
его доставки, а с курсом на сокращение таких арсеналов,
па ослабление военной конфронтации, со стремлением не
довести дело ни до первого, ни до второго ударов.
173
В докладе «Великий Октябрь и прогресс человечест¬
ва» Л. И. Брежнев сказал: «Советский Союз эффективно
заботится о своей обороне, но не добивается и не будет
добиваться военного превосходства над другой стороной.
Мы не хотим нарушать примерного равновесия военных
сил, сложившегося сейчас, скажем, между Востоком и
Западом в Центральной Европе или между СССР и
США. Но взамен мы требуем, чтобы и никто другой не
стремился нарушить его в свою пользу»85.
Соответственно советская военная доктрина, являясь
производной от общей политической стратегии нашей
партии, последовательно исходит из задач предотвраще¬
ния войны, сдерживания агрессора и готовности к его
разгрому в случае нападения.
Нынешний вариант мифа о «советской угрозе» не бо¬
лее как очередная пропагандистская уловка, для того
чтобы скрыть подлинные стремления военно-промышлен-
ного комплекса США к обеспечению военного превосход¬
ства и дальнейшему обогащению за счет вооружений.
Как отмечает автор вышедшей в США в 1976 году книги
«Динамика разрядки» А. Кокс, движущей силой гонки
вооружений в Соединенных Штатах вовсе не является
страх перед «советской угрозой», а их стремление к соб¬
ственному военному превосходству. «Готовность СССР
вести переговоры об ограничениях и сокращениях (во¬
оружений.— В. П.) должна была бы быть критическим
фактором в нашем оборонном планировании, — пишет
он. — Но она таковым не является. Не является потому,
что Пентагон, лишь лицемеря насчет ограничения воору¬
жений и паритета с СССР, на деле настаивает на пре¬
восходстве и продолжении гонки вооружений»86.
Характерно, что, стремясь подвести своеобразную
идейную базу под свою политику, империалистические
вдохновители гонки вооружений не стесняются в сред¬
ствах и даже не особенно заботятся об элементарной ло¬
гике. Пугая парламентариев и общественность «преобла¬
дающей советской мощью», когда нужно добиться новых
кредитов на вооружение, те же политические деятели и
идеологи Запада с не меньшим апломбом твердят об
«абсолютном военном превосходстве Запада», когда тре¬
буется продемонстрировать избирателям свою заботу об
обороне.
Основной идейно-теоретической платформой для
утверждения о неизбежности примата силы, и прежде
всего в ее военном выражении, по-прежнему служит кон¬
174
цепция «равновесия страха» («баланса ужаса»), осново¬
положниками которой являлись главные вдохновители
«холодной войны» английский премьер-министр У. Чер¬
чилль и бельгийский премьер-министр А. Спаак. Вопрос
о «равновесии страха» выдвигается как предмет специ¬
ального рассмотрения в работах видных американских
политологов А. Уолстеттера, Г. Кана, Г. Киссинджера,
У. Кинтнера, Ф. Айкла, Дж. Кемпа, А. Джорджа и
Р. Смоука87. Концепция «равновесия страха», как отме¬
чается в авторитетных американских изданиях, взята на
вооружение и президентом Дж. Картером88.
В интерпретации буржуазных идеологов «равновесие
страха» представляет собой «равновесие взаимного атом¬
ного устрашения» между Востоком и Западом. Это «вза¬
имное устрашение» рассматривается как «сдерживающее
средство» в военно-ядерном противостоянии двух военно-
политических блоков. В этой связи ядерная бомба, кото¬
рую апологеты «устрашения» называют с заглавной бук¬
вы— «Великой бомбой», объявляется ими одновременно
«уникальной угрозой» и «беспрецедентным приобретени¬
ем». Теоретики «равновесия страха» утверждают, что
создание ядерного и других новых типов оружия — «то¬
тального средства» массового уничтожения и разруше¬
ния практически неограниченной силы — автоматически
ставит предел самой возможности их использования го¬
сударствами в борьбе друг против друга и тем самым
фактически исключает опасность войны.
В подобных рассуждениях буржуазных идеологов на¬
личие так называемой «Великой бомбы» выступает как
самодовлеющий фактор, способный при любых условиях
обеспечить мир и сделать войну невозможной. Как отме¬
чается в советской литературе89, научное осмысливание
военно-технической революции требует рассмотрения ее
не изолированно, а в социальном контексте, в рамках
конкретно-исторических обстоятельств и общественных
отношений. Остающаяся неизменной империалистиче¬
ская сущность политики капиталистических государств
таит в себе опасность развязывания войн. Вопрос о том,
быть или не быть войне, решается не автоматически и
тем более не в техническом, а в социально-политическом
плане. Он зависит прежде всего от соотношения сил
между двумя мировыми системами, расстановки классо¬
вых сил и остроты противоречий внутри капиталистиче¬
ского мира, от того, представители каких именно монопо¬
листических кругов находятся у штурвала государствен¬
175
ной власти. Важную роль с учетом всего этого играет
активное движение миролюбивых сил против милитариз¬
ма и угрозы новой мировой войны.
Логика «устрашения» в нынешних условиях, поясня¬
ют далее теоретики «равновесия страха», требует обра¬
щаться к противоположной стороне примерно так: «По¬
ступай, как я сказал, или я убью обоих». В такой поста¬
новке вопроса об угрозе «взаимного уничтожения» усмат¬
ривается определенный сдвиг по сравнению с периодом,
когда США обладали ядерной монополией и действовали
по принципу: «Поступай, как я сказал, или я убью тебя».
На деле же перемещение акцента в тезисе об «устраше¬
нии», произведенное с учетом краха атомной монополии
США, нисколько не меняет его опасного для дела мира
характера.
Концепция «равновесия страха» признает как само
собой разумеющееся незыблемость раскола мира на
враждующие военно-политические блоки и сохранение
напряженности в отношениях между государствами с
различным социальным строем. Мир, о котором говорят
сторонники этой концепции, — это в лучшем случае мир
в негативном смысле слова — состояние, характеризую¬
щееся отсутствием ядерного конфликта, а не как одна
из форм отношений между государствами, которая пред¬
полагает не просто отказ от войны, но и установление
взаимопонимания и доверия, развитие сотрудничества
на основе полного равенства и взаимной выгоды.
Логическим следствием ложной исходной посылки,
будто «равновесие страха» — это гарантия мира, являют¬
ся утверждения о том, что многие раунды в гонке воору¬
жений «испаряются» без каких-либо серьезных послед¬
ствий и что ее ощутимым последствием является-де
укрепление «национальной безопасности».
Фальшивость таких рассуждений очевидна. В подго¬
товленном в 1971 году официальном докладе экспертов
ООН — ученых с мировым именем совершенно справед¬
ливо признается, что «процесс действия и противодейст¬
вия, характеризующий гонку вооружений и, безусловно,
гонку вооружений в области сложных видов оружия, во¬
все не означает, что безопасность повышается по мере
увеличения расходов на вооружения». Как подчеркива¬
ется в докладе, с каждым новым шагом в разработке
оружия массового уничтожения наступает «еще более
опасный этап неопределенности и ослабления безопас¬
ности»90.
176
Уроки гонки вооружений в Соединенных Штатах слу¬
жат убедительным подтверждением правильности подоб¬
ных выводов. Несмотря на обширные военные мероприя¬
тия в последние годы, США не только не получили га¬
рантии победы в случае ракетно-ядерной войны, а напро¬
тив, каждый новый виток в развернутой по их инициа¬
тиве гонке вооружений поднимал разрушительные
возможности сторон на новые уровни «сверхуничтоже¬
ния», усиливал международную напряженность, повышал
угрозу войны и делал ее вероятные последствия еще
более катастрофическими, ослабляя тем самым нацио¬
нальную безопасность. В самих США раздается немало
голосов, выражающих тревогу по поводу последствий
для безопасности страны нарастающих темпов гонки во¬
оружений. Так, по авторитетному свидетельству бывшего
директора американского Агентства по разоружению и
контролю над вооружениями П. Уорнке, «национальная
безопасность» США может только уменьшиться, если бу¬
дут приняты на вооружение новые средства массового
уничтожения91.
В работах некоторых теоретиков «равновесия стра¬
ха» (Дж. Стоун, Т. Шеллинг, М. Гальперин, X. Булл,
Л. Битон) содержатся проекты «регулирования гонки
вооружений»92. Суть таких проектов сводится, однако, не
к прекращению гонки вооружений и к реальному разору¬
жению, а лишь к некоторому ослаблению военного сопер¬
ничества и к более изощренному управлению все тем же
«балансом ужаса». Так, призывая к сдержанности в об¬
ласти развития стратегических вооружений и перегово¬
рам об их ограничении, автор книги «Безопасность в
ядерный век» Дж. Кахан в то же время заявляет о невоз¬
можности сколько-нибудь значительного сокращения
этих вооружений. Кахан предлагает, чтобы США делали
упор на развертывание все более «стабилизирующих,
то есть долгожительствующих, систем оружия, постепен¬
но отказываясь от «дестабилизирующих» — уязвимых
систем. Эти рекомендации направлены на обоснование
вполне конкретных программ: развертывание таких, на¬
пример, стратегических систем, как подводные лодки
«Трайдент». Опираясь на свои теоретические посылки,
Кахан ратует за усиление гонки вооружений также на
всех других направлениях. Поскольку осуществление
ядерной стратегии НАТО в условиях стратегического па¬
ритета сторон будет еще более опасным и сложным де¬
лом, чем в прошлом, констатирует он, США и их союзни¬
7—597
177
кам необходимо иметь достаточные силы для обеспече¬
ния «сдерживания» на всех уровнях конфликта. Созда¬
ние и содержание таких сил, разумеется, потребует
увеличения военных расходов, однако, утверждает Кахан,
это является оправданным, так как укрепляет, мол, ядер-
ную стабильность93.
Подобные рассуждения теоретиков «равновесия стра¬
ха» активно используются в качестве аргументов для
обоснования необходимости сохранения и наращивания
военно-силового компонента во внешнеполитическом ар¬
сенале США.
Некоторые либерально ориентированные привержен¬
цы концепции «равновесия страха» делают на основании
этой концепции и реалистические выводы об опасности
усилий, направленных на достижение военного прево¬
сходства и нарушение сложившегося стратегического
равновесия. «Мир, основанный на взаимном страхе, тре¬
бует,— утверждает, например, известный обозреватель
Т. Брейден, — осторожности, осмотрительности, выдерж¬
ки и бдительности. И единственная вещь, которая может
уничтожить мир, — это шовинистическое стремление
быть первым»94. Однако такие высказывания являются
исключением из общего правила и не меняют общей
опасной для интересов мира направленности концепции
«равновесия страха».
В последнее время целый ряд трезво мыслящих поли¬
тических деятелей и ученых, особенно в Западной Евро¬
пе, начинают признавать, что концепция «равновесия
страха» не соответствует начавшемуся процессу оздоров¬
ления международной обстановки.
«На протяжении многих лет функционировало «рав¬
новесие страха». Но параллельно с ним стало создавать¬
ся равновесие интересов и доверия. Именно потому, что
две сильнейшие державы мира стали слишком сильны
для того, чтобы бросить свои потенциалы друг против
друга, началась эра согласованного самоограничения.
Она требует понимания и учета интересов другой сторо¬
ны*95,— писал видный деятель СДПГ, министр в прави¬
тельстве Шмидта — Геншера Э. Бар. С этим трудно не
согласиться.
«Думаю, что никого из нас, — заявляет Л. И. Бреж¬
нев,— не устроит мир, по-прежнему опирающийся на
«равновесие страха». Такой мир мало чем отличался бы
от «холодной войны». Это был бы «холодный мир», кото¬
рый мог бы легко вернуться назад, к напряженной кон¬
178
фронтации, угнетающей сознание и жизнь народов, чре¬
ватой мировым конфликтом.
Народы хотят мира надежного и необратимого, осно¬
ванного, если можно так выразиться, на равновесии без¬
опасности и взаимного доверия»96.
Исходя из этого, Советский Союз настойчиво предла¬
гает углублять разрядку, повышать уровень и обогащать
содержание международного сотрудничества, последова¬
тельно искать эффективный путь сначала к прекраще¬
нию гонки вооружений, а затем и к разоружению.
Одно из новейших пропагандистских ухищрений в це¬
лях сохранения военно-силовой ориентации внешней по¬
литики— формула «мир посредством силы».
Пущенная в оборот президентом США Дж. Фордом в
ходе избирательной кампании в США в 1976 году и ши¬
роко подхваченная академическими кругами и пропаган¬
дистским аппаратом США, эта формула является поро¬
ждением противоборства различных политических сил в
связи с переходом от «холодной войны» и взрывоопасной
конфронтации к разрядке международной напряженно¬
сти и решению спорных вопросов путем переговоров.
С помощью этой формулы буржуазными идеологами
предпринимается попытка найти общеприемлемое для
различных фракций правящей верхушки капиталистиче¬
ского Запада теоретическое обоснование совместимости
нарастающей в международных отношениях тенденции
к миру с присущей империализму ориентацией на силу
как главную ставку и инструмент во внешней политике.
Характерно, что основной акцент в формуле «мир пос¬
редством силы» делается на «силу». Иными словами,
«мир» мыслится только как основанный на «силе».
Летом 1978 года лозунг «мир посредством силы» был
использован для создания коалиции рьяных врагов раз¬
вития международного сотрудничества. В коалицию «За
мир посредством силы» вошли такие реакционные орга¬
низации, как «совет американской безопасности», «наци¬
ональный комитет порабощенных наций», «фонд безопас¬
ности и разведки», «американский консервативный
союз» и др. Среди членов коалиции — ястребы и анти¬
коммунисты всех мастей, такие как сенаторы Голдуотер
и Хелмс, бывший губернатор Калифорнии республиканец
Рейган, бывший начальник разведки ВВС США генерал
Киген, бывший председатель комитета начальников шта¬
бов США генерал Лемнитцер, адмирал Мурер и им по¬
добные.
7*
179
Программа новой коалиции — дальнейшее разжи¬
гание антисоветской истерии с целью еще больше раз¬
дуть и без того опасную для дела мира гонку вооруже¬
ний, отбросить человечество к мрачным временам перио¬
да «холодной войны». Не случайно среди требований,
включенных в выдвигаемую коалицией так называе¬
мую «общенациональную стратегию защиты мира с по¬
мощью силы», — отказ от принципа равенства в отноше¬
ниях с Советским Союзом, достижение «всеобъемлюще¬
го превосходства» США, усиление роли военных
ведомств, служб безопасности, разведывательных ор¬
ганов 97.
Одно из основных назначений теоретизирований по
поводу «мира посредством силы» состоит в попытках
ослабить широкое воздействие на общественное мнение
политики разрядки, которая все больше выявляет несо¬
стоятельность военно-силовых установок во внешней по¬
литике. Не случайно, что формула «мир посредством
силы» появилась в американском политическом лексико¬
не одновременно с развертыванием активного наступле¬
ния против разрядки и связанной с этим попыткой заме¬
нить термин «детант», который использовался в качестве
эквивалента русскому понятию «разрядка».
Происходящая в настоящее время в США борьба
вокруг разрядки напряженности отражает в нынешних
конкретно-исторических условиях непрекращающееся в
капиталистическом мире противоборство сил по вопросу
о войне и мире.
Политические партии и группы, связавшие себя с по¬
литикой «холодной войны», не оставляют безрассудных
замыслов с помощью силы решить в свою пользу истори¬
ческое противоборство двух социальных систем. Против¬
ники разрядки напряженности видят ту угрозу, которую
начавшийся процесс перестройки международных отно¬
шений на началах мирного сосуществования представля¬
ет для сохранения силы в качестве инструмента полити¬
ки. Они хотели бы приостановить этот процесс, а если
возможно, то и вернуть мир к состоянию на грани вой¬
ны, проводить авантюристическую политику, подогревать
конфликты и трения, используя нагнетание напряжен¬
ности в интересах наиболее реакционных кругов импери¬
ализма.
С целью дискредитации политики разрядки в послед¬
нее время усиленно продвигается тезис о том, что эта по¬
литика представляет собой «улицу с односторонним дви¬
180
жением», что она выгодна только Советскому Союзу и
другим странам социалистического содружества, револю¬
ционным силам современности. В подтверждение этого
называются укрепление позиций национально незави¬
симых государств, рост центробежных тенденций в воен¬
ных блоках, созданных империалистическими держава¬
ми, усиление влияния компартий в ряде стран Западной
Европы. Даже обострение кризисных явлений в экономи¬
ке и политике капиталистического мира в целом приписы¬
вается разрядке. Действительно, за последнее время
произошло дальнейшее укрепление позиций сил мира,
прогресса и социализма, ослабление мирового капита¬
лизма. Но, как справедливо заметил бывший помощник
госсекретаря США, редактор журнала «Нью рипаблик»
Роджер Моррис, «разрядка напряженности обнажила
весьма рельефно ряд проблем американской внешней
политики, а не создала их»98.
Доказанная ходом событий в последние годы жизнен¬
ность разрядки предопределена прежде всего тем, что
истоки ее лежат в самой реальной действительности.
Разрядка — результат не случайного стечения обсто¬
ятельств, не произвольно возникшего настроения того
или иного государственного деятеля, а объективного раз¬
вития современных международных отношений, истори¬
ческого процесса, который подкрепляется политической
волей государств. Важнейшими движущими пружинами
этого исторического процесса являются укрепление миро¬
вой системы социализма, стабильность экономического
роста и социального развития социалистических стран,
усиление роли развивающихся стран, крах колониальных
империй, научно-технический прогресс. Без этих факто¬
ров разрядка вряд ли была бы возможна.
Не означая отказа от противоборства двух общест¬
венно-политических систем, разрядка открывает путь для
исключения войн, военных конфронтаций, применения и
угрозы применения силы из арсенала средств этого про¬
тивоборства.
Стоящие на позициях реализма ученые США дают
себе отчет в том, что единственной альтернативой раз¬
рядке является возврат к временам «холодной войны»
и скатывание к настоящей «горячей войне». Так, проф.
Р, Розенкранс подчеркивает, что разрядка «представляет
собой желательное признание реальностей во внешней по¬
литике» и что она «имеет также такие положительные ас¬
пекты, как возможность координирования внешней поли¬
181
тики США и Советского Союза, способность воспрепят¬
ствовать возникновению ядерного конфликта»99.
В то же время нельзя не видеть и того, что в условиях
нажима правых сил в США реалистический подход к
международным делам выдерживается далеко не всегда
и не во всем последовательно.
Борьба вокруг разрядки осложняется и тем, что в
последнее время целый ряд противников перестройки
международных отношений не решаются выступать про¬
тив разрядки открыто и предпочитают рядиться в тогу
защитников так называемой всеобъемлющей и взаимной
разрядки. Вопреки здравому смыслу, они утверждают,
что разрядка напряженности и гонка вооружений якобы
могут развиваться параллельно, не мешая друг другу.
Под предлогом взаимности они хотели бы утвердить в
международных отношениях право на «американскую
исключительность». Практика, однако, убедительно сви¬
детельствует о несостоятельности подобных расчетов и
прикрывающих их псевдотеоретических взглядов.
Противоборство в США вокруг вопросов разрядки, в
котором выпукло представлены интересы различных по¬
литических сил капиталистических стран, показывает,
насколько сложными и подчас извилистыми путями фор¬
мируется подход внешнеполитической мысли капитали¬
стического Запада к кардинальной проблеме современ¬
ности — вопросу о войне и мире.
Неслучайно, что на Западе, как признают сами буржу¬
азные идеологи, научные понятия и представления о ми¬
ре пока еще весьма неопределенны. «В то время как
наука о войне достигла небывалого расцвета, наука о
мире едва-едва зарождается» 10°, — констатировали аме¬
риканские и западногерманские участники состоявшегося
на страницах американского журнала «Соушэл рисерч»
обмена мнениями по теме: «Возможен ли мир? Можно
ли планировать мир?»
В своем подходе к проблемам войны и мира буржуаз¬
ная внешнеполитическая мысль, выполняя социальный
заказ правящих кругов, оказалась в тисках противоре¬
чий: с одной стороны, она вынуждена признать самораз¬
рушительный характер развязывания новой мировой
войны, необходимость переговоров для урегулирования
спорных вопросов, а с другой — своими теориями, обос¬
новывающими применение силы в международных отно¬
шениях, фактически способствует материальной подго¬
товке войны, увеличивает опасность ее возникновения.
Глава
IV
РЕСУРСЫ
«НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Устанавливая примат военной силы, доктрина «наци¬
ональной безопасности» в то же время придает большое
значение использованию в глобальной стратегии США
и тех других элементов государственного могущества,
которые составляют ресурсы «национальной безопасно¬
сти» (экономика, наука и техника, моральный фактор,
дипломатия).
Потенциальные возможности иных, кроме военной
силы, компонентов государственного могущества учиты¬
вались во внешней политике США и до появления докт¬
рины «национальной безопасности». Новое, что привнес¬
ла доктрина, заключается в ориентации на обеспечение
баланса, во-первых, между военной силой и другими сла¬
гаемыми государственного могущества и, во-вторых,
между самими невоенными средствами. Иными словами,
доктрина дополняла военно-силовой подход комплексом
мероприятий в других областях.
Поскольку, однако, мерилом эффективности прием¬
лемого баланса объявляется обеспечение национальной
цели в слишком общей ее трактовке, то не существует
каких-либо строго очерченных рамок реализации тео¬
ретических постулатов на практике, в результате чего
часто обнаруживается нарушение требуемого доктриной
«национальной безопасности» равновесия. К тому же
ведет и то, что ресурсы «национальной безопасности»
оцениваются, как правило, с точки зрения их непосред¬
ственного влияния на повышение роли военной силы.
183
В переводе на практический язык реализация в ны¬
нешних конкретно-исторических условиях содержащего¬
ся в доктрине «национальной безопасности» комплексно¬
го подхода к использованию военной силы и других ре¬
сурсов означает еще более полное и эффективное приме¬
нение имеющихся у Соединенных Штатов политических,
экономических, научно-технических и иных средств,
изыскание дополнительных резервов в целях максималь¬
но возможного усиления американского влияния на раз¬
витие международной обстановки. «Хотя Соединенные
Штаты, — писал в 1975 году 3. Бжезинский, — больше и
не располагают в столь решающей мере благоприятной
позицией, как в начале 50-х годов, они все еще остаются
ключевой силой в мировой политике. В действительно¬
сти нынешний кризис сделал их роль более важной, чем
в какой-либо период за последние десять лет. Следова¬
тельно, пришло время похоронить клише об отступлении
американской мощи. Центральная проблема сегодня со¬
стоит в том, чтобы заново определить пути и методы
использования американского могущества применитель¬
но к современным обстоятельствам».
Речь при этом идет как о фронтальном, так и диффе¬
ренциальном использовании в первую очередь таких ре¬
сурсов «национальной безопасности», как материальный
потенциал, моральный фактор и дипломатия.
Материальный потенциал
Важное место в глобальной стратегии США отводит¬
ся материальному потенциалу — экономическим и науч¬
но-техническим возможностям.
По вполне определенным классовым соображениям
материальный потенциал сводится в американских иссле¬
дованиях лишь к количественным показателям — уровню
и объему производства, темпам его роста, состоянию
транспорта и связи, энергетических и сырьевых ресурсов,
к научно-техническим достижениям. Другая, не менее
важная, качественная сторона материального потенциа¬
ла— экономическая организация общества, его произ¬
водственные отношения, предопределяющие в конечном
счете темпы роста и эффективность экономических и
научно-технических возможностей, равно как и цели
развития и укрепления материальной мощи, — находит¬
ся вне поля зрения американских теоретиков. Сказать
правду по этому вопросу — это значит признать неоспо¬
184
римые преимущества экономической организации социа¬
листического типа, основанной на общественной собст¬
венности и планомерно-пропорциональном развитии про¬
изводства.
Характерная для капиталистических государств ми¬
литаризация накладывает свою печать на материальный
потенциал, обусловливает устойчивую тенденцию не про¬
сто к взаимосвязи, а к подчинению экономики, науки и
техники военным нуждам. Путем производства оружия,
военной техники и других средств ведения войны мате¬
риальный потенциал самым непосредственным образом
участвует в формировании военной мощи. В угоду мили¬
таризму в США используется огромная часть производи¬
тельных сил, достижений науки и техники, осуществляет¬
ся перераспределение средств, ресурсов между отрасля¬
ми производства, неуклонно наращиваются военные
бюджеты.
Важным критерием в оценке материального потенци¬
ала становится степень его готовности для использова¬
ния в военных целях (поддержание так называемой мо¬
билизационной базы для обеспечения «национальной
безопасности»). Происходящее в таких условиях разви¬
тие материального потенциала содействует еще большей
привязке экономики, науки и техники к задачам милита¬
ризации.
Проводя в послевоенные годы курс на одностороннее
решение на американский манер не только мировых по¬
литических, но и международных экономических проб¬
лем, правящие круги США, прикрываясь доктриной «на¬
циональной безопасности», рассчитывали использовать к
своей выгоде ослабление в ходе войны материального
потенциала своих конкурентов — Германии, Японии, а
также Англии и Франции, экономические и финансовые
затруднения других стран. Значительное место в этих рас¬
четах наряду с военной силой отводилось существова¬
нию в США мощного экономического потенциала, кото¬
рый считался вполне достаточным и неуязвимым для
реализации любых глобальных суперпроектов.
Во внешнеэкономической сфере политика «националь¬
ной безопасности» оборачивалась диктатом в отношении
союзников и дискриминацией в отношении государств с
иной социальной системой. Особая роль отводилась «дип¬
ломатии доллара», которая заключалась в предоставле¬
нии кабальных займов, финансовой и экономической по¬
мощи и навязывании финансового контроля.
185
Основное острие всех охватываемых системой «нацио¬
нальной безопасности»* мероприятий в сфере междуна¬
родных экономических отношений было направлено
против Советского Союза и других социалистических
стран. Ярко выраженную антисоветскую направленность
имела так называемая «помощь» по «плану Маршалла»,
13 из 16 получателей которой стали членами НАТО. Уже
в 1947 году были введены экономические санкции в тор¬
говле с СССР, а в 1951 году Советский Союз был лишен
режима наиболее благоприятствуемой нации.
В 1964 году на конференции по проблемам «нацио¬
нальной безопасности», организованной Джорджтаун¬
ским университетом, Джеймс Шлесинджер, тогда руково¬
дитель экономического отдела «РЗНД корпорейшн», до¬
вольно определенно заявил о том, что американская
«помощь» другим странам и торговля с ними целесооб¬
разны лишь постольку, поскольку они дают «стратегиче¬
скую отдачу». США, по мнению Шлесинджера, должны
развить в своей экономической политике «концепцию и
механизм устрашения, родственные устрашению в воен¬
ной области». Шлесинджер решительно отбросил как де¬
магогическую болтовню тот взгляд, будто американская
программа «помощи» призвана «стимулировать социаль¬
ное и экономическое развитие» стран-получательниц. По
его словам, назначение этой «помощи» — «добиться пря¬
мой поддержки целей американской внешней политики».
Не менее решительно была сформулирована и пози¬
ция в отношении торговли. «Мы должны быть в состоя¬
нии,— заявил он, — создавать угрозу нанесения ущерба
экономике других стран посредством прекращения дос¬
тупа на западные рынки». Эту меру устрашения Шлесинд-
* Использование для обоснования роли материального фактора
во внешних целях лозунга «национальной безопасности» открывало
широкий простор для самых различных подходов. Так, в начале
50-х годов под предлогом защиты оборонной мобилизационной базы
внутри страны отдельные отрасли американской промышленности
предприняли попытку расправиться со своими иностранными конку¬
рентами, добиваясь введения ограничений на импорт товаров из-за
границы. Такая попытка встретила решительное противодействие со
стороны влиятельной американской организации — Международной
торговой палаты. Причем совершенно противоположный подход в
пользу расширения международной торговли обосновывался все теми
же аргументами, позаимствованными из доктрины «национальной
безопасности» (см. National Security and International Trade. A. Re¬
port of the Committee on Commercial Policy. United States Council
of the International Chamber of Commerce. N. Y., 1956).
186
жер считал особенно действенной в отношении экономи¬
чески слаборазвитых стран. Что же касается стран соци¬
ализма, то он разошелся во мнении с другими участниками
конференции, требовавшими торгового бойкота во
что бы то ни стало. «Чтобы поддерживать эту угрозу в
постоянной готовности, — указывал Шлесинджер, — мы
должны, однако, продолжать торговать в значитель¬
ном объеме с другими странами, включая коммунистиче¬
ские». В то же время он категорически высказался про¬
тив предоставления Советскому Союзу кредитов, хотя
без такого условия его собственная рекомендация насчет
«продолжения торговли в значительном объеме» стано¬
вилась совершенно невыполнимой1.
В своей нынешней оценке роли материального факто¬
ра в глобальной стратегии правящим кругам США при¬
ходится считаться с изменившимися условиями реали¬
зации в политических целях экономических и других ма¬
териальных возможностей США.
Обострение межимпериалистических противоречий,
нарастание экономических трудностей в капиталистиче¬
ском мире, развитие валютно-финансового и энергетиче¬
ского кризисов вскрыли не только несостоятельность
послевоенных расчетов Вашингтона на наступление «эры
американского экономического и валютного гегемониз¬
ма», но развеяли миф о неуязвимости материального
потенциала США и показали его зависимость от внеш¬
них источников, и прежде всего сырьевых (нефти, газа)
и подавляющего большинства минеральных ресурсов (за
исключением лишь угля и фосфатов). Как отмечается в
американской литературе, из 72 жизненно важных источ¬
ников сырья 69 полностью или частично ввозятся в США.
Перед правящим классом США во весь рост встал воп¬
рос, как существовать или бороться с внешней зависимо¬
стью американской экономики.
Вашингтону приходится также учитывать изменив¬
шееся положение США в мировой капиталистической
экономике. Оценивая экономический потенциал США,
американские авторы указывают в этой связи на три
обстоятельства. Во-первых, доля США в мировом про¬
мышленном производстве сократилась с почти 50%
после второй мировой войны до менее 30% в настоящее
время. Во-вторых, американское лидерство на научно-
техническом поприще заметно потеснено в последнее
время ФРГ и Японией. В-третьих, по доходу на душу на¬
селения США начинают уступать позиции как арабским
187
шейхствам, так и западноевропейским странам (Швей¬
цария, Швеция, Дания, ФРГ, Франция).
Оценивая возможности в финансово-экономической
сфере, правящие круги США считают, что за США по-
прежнему сохраняется «валютное лидерство», что они
имеют наибольшее количество инвестиций за границей
(на сумму около 120 млрд. долл.), а их экономический
потенциал достаточно велик. Особое значение придается
экономической мощи. В этой связи прежде всего под¬
черкивается «лидирующее» положение США на экспорт¬
ном рынке капиталистического мира (хотя США и
экспортируют меньшую часть своего валового продукта
по сравнению с ФРГ, Японией и Францией, на долю
США приходится 13% мирового экспорта). Указывается
также на передовые позиции США на Западе в области
внедрения научно-технических достижений в промышлен¬
ность и сельское хозяйство.
В обстановке раздутого шовинистического угара,
явившегося своеобразной реакцией на крах американ¬
ской авантюры во Вьетнаме и уотергейтские разоблаче¬
ния, мощь США преподносится как «уникальный фено¬
мен», как свидетельство «непреложной силы американ¬
ских позиций в мире». Характерно, что подобная точка
зрения разделяется и трехсторонней комиссией2.
Однако, как справедливо считают трезво мыслящие
американские ученые, каких-либо особых оснований для
подобных утверждений нет. Хотя экономическая мощь
США и продолжает оставаться на достаточно высоком
уровне, нельзя не видеть того, что в дополнение к оче¬
видной зависимости США от внешних источников сырья
ежегодный уровень роста экономики недостаточно высок,
что 30% регистрируемых в США патентов принадлежит
иностранцам, что страна по-прежнему поражена инфля¬
цией и безработицей.
Проявляя вполне обоснованное беспокойство по пово¬
ду всех этих явлений, целый ряд американских авторов
настоятельно подчеркивают, что дальнейшее сохранение
преимущественного положения экономического потенци¬
ала США в мировой системе капитализма требует со¬
средоточения усилий на обеспечении, во-первых, высоких
темпов роста американской экономики, во-вторых, повы¬
шения производительности труда, в-третьих, увеличения
капиталовложений в промышленность.
В практико-политическом плане использование имею¬
щейся у США экономической мощи, как считают, по су¬
188
ществу, все американские авторы, открывает значитель¬
ные возможности для отстаивания и упрочения в нынеш¬
них условиях классовых интересов правящих кругов
США в международных делах, руководствуясь постула¬
тами доктрины «национальной безопасности».
В то же время в американских политических и акаде¬
мических кругах ведутся широкие дискуссии по вопросу
о взаимосвязи между военной и экономической мощью
во внешней политике. Одни авторы придерживаются
традиционной точки зрения о том, что функция экономи¬
ческого фактора — лишь подкрепление военно-силовых
мероприятий. Другие высказываются за высвобождение
фактора экономической мощи из-под влияния чисто во¬
енных соображений.
Политическое влияние США в современном мире, ут¬
верждает, например, известный американский политолог
С. Браун, «может быть достигнуто не путем применения
вооруженных сил, использование которых в сравнении с
другими компонентами национального могущества будет
оказывать негативное воздействие на решение невоенных
проблем, а посредством активного использования финан¬
сов, экономической и технической помощи, создания раз¬
личных многосторонних коалиций для решения актуаль¬
ных проблем современности»3. Даже такой ревностный
сторонник военно-силовых методов, каким является гене¬
рал М. Тейлор (один из творцов доктрины «ограничен¬
ных войн»), сетует на то, что США «очень скупо» исполь¬
зуют средства экономического воздействия: займы, суб¬
сидии, экономическую помощь, тарифы и экономический
бойкот4.
В подобных заявлениях отражается признание эрозии
психологии периода «холодной войны», сужения пара¬
метров применения силы, необходимости усиления вни¬
мания к проблемам, которые не связаны непосредствен¬
но с гипертрофированными в прошлом интересами
«национальной безопасности». В то же время они пред¬
ставляют попытку превратить экономические рычаги в
важное средство достижения внешнеполитических целей.
Выдвигаемая в этой связи «новая экономическая ди¬
пломатия», которая выдается за возрождение американ¬
ского традиционного подхода к мировой политике, пока¬
зывает, однако, что речь идет в данном случае о более
самостоятельном использовании экономического могу¬
щества в качестве средства принуждения, получения от
других стран односторонних уступок.
189
Согласно рассуждениям главного теоретика так на¬
зываемой «экономической дипломатии», ближайшего
единомышленника 3. Бжезинского проф. С. Хантингтона,
которого за его ультраантисоветские взгляды прозвали в
правительстве «бешеной собакой», США должны приме¬
нять в своей торговле с СССР «принцип обусловленной
гибкости», при котором «изменения в объеме и характе¬
ре американо-советских экономических отношений опре¬
деляются прогрессом в достижении американских поли¬
тических целей в области безопасности». Иными слова¬
ми, как поясняет Хантингтон, нужно «прекращать и во¬
зобновлять экспорт товаров в зависимости от готовности
русских сотрудничать с Соединенными Штатами, будь то
в Анголе или на переговорах по ОСВ>.
Цель «экономической дипломатии», по Хантингтону,
заключается в том, чтобы превратить торгово-экономиче¬
ские рычаги воздействия в эффективный инструмент по¬
литики «кнута и пряника», рассчитанный на получение
США односторонних выгод не только и не столько в тор¬
гово-экономической, сколько в политической и военной
сферах5.
В июле — августе 1978 года Хантингтон развернул
бурную активность с целью запретить продажу Советско¬
му Союзу головок для нефтяных буров, производящихся
фирмой «Дрессер индастри», увязывая это с мерами,
принятыми советским судом в отношении противозакон¬
ной, деятельности некоторых враждебных советскому
строю лиц, в том числе платных агентов западных спец¬
служб. В интервью журналу «Ньюсуик» Хантингтон до¬
казывал, что у Москвы нет иного выбора, кроме как при¬
обретать современное американское оборудование. США
должны использовать эти рычаги воздействия, сказал он,
пусть даже возможное охлаждение американо-советских
отношений и помешает американским компаниям. На¬
стаивая на оказании экономического нажима на Совет¬
ский Союз, Хантингтон выступал против интересов са¬
мого же американского бизнеса, заинтересованного в
развитии отношений с СССР. В свое оправдание он ут¬
верждал, что «еще в лучшие времена разрядки у многих
предпринимателей появилось нереальное представление
о том, в какой мере они смогут развивать торговлю с
СССР...» Он заявлял: «Если война имеет слишком важ¬
ное значение, чтобы отдавать ее на откуп генералам, то
тогда торговля тоже, безусловно, слишком важна, чтобы
отдавать ее на откуп банкирам и предпринимателям»6.
199
Логика «экономической дипломатии» на практике
приводит к тому, что под различными искусственными
лицемерными предлогами тормозится развитие деловых
связей, в ряде случаев аннулируются уже заключенные
сделки, ломаются подписанные контракты, демонстратив¬
но свертываются связи в научно-технической и иных об¬
ластях. Установлен правительственный контроль на по¬
ставки оборудования, не имеющего непосредственного
военного значения, но содействующего развитию совет¬
ской экономики.
Говоря о намерении определенных кругов США регу¬
лировать торгово-экономические связи в зависимости от
настроения или от возникающих время от времени поли¬
тических ситуаций, Л. И. Брежнев в своем выступлении
перед участниками шестого заседания американо-совет¬
ского торгово-экономического совета заявил: «Должен
сказать, что в отношении Советского Союза такой под¬
ход никогда никому не давал и не даст выгоды.
Попытки давления такого рода лишь вносят в торго¬
во-экономические отношения между нашими странами
элемент неустойчивости и ставят под вопрос надежность
США как торгового партнера»7.
Показательно, что авторитетная международная
группа экономистов, объединяющая представителей
США, Канады, Западной Европы и Японии, в своем
докладе, опубликованном в октябре 1978 года, фактиче¬
ски отвергла возможности использования торговли, и в
частности технологического экспорта, в качестве «рычага
давления» Запада на социалистическое содружество. Во-
первых, говорилось в докладе, нужная Востоку техноло¬
гия может быть приобретена во многих странах, а во-вто-
рых, подобная тактика может иметь негативные послед¬
ствия для самих же ее инициаторов. «Советский Союз
доказал, — говорилось в исследовании, — что он не толь¬
ко может соперничать с Западом, но и превзойти его во
многих важнейших областях. Нет ничего такого, чего
СССР не имел бы или не мог бы произвести, если посчи¬
тает необходимым»8.
С подобными же предостережениями по поводу тен¬
денции к усилению политического подхода к торгово1
экономическим связям между Востоком и Западом вы:
ступил в декабре 1978 года Национальный совет внешней
торговли США, крупнейшая организация американских
экспортеров и импортеров. :
С учетом изменившихся условий правящие круги
191
отмечал французский исследователь военно-политических
проблем К. Дельмас, развивалась «под сенью ядерной
угрозы, и она была прямо подвержена ее воздействию»10.
Конечно, дело не только в самом оружии, каким бы раз¬
рушительным и смертоносным оно ни было, а еще и в
том, в чьем распоряжении оно находится и каким зада¬
чам подчинено обладание этим оружием. Но бесспорно
то, что ядерный фактор приобрел исключительное значе¬
ние во всей системе послевоенных международных отно¬
шений, радикально изменил многие классические поня¬
тия и представления о внешнеполитической деятельно¬
сти, принес новую логику ядерно-космического века.
Ядерное могущество, как признают американские авто¬
ры, превратилось в тот фактор, без которого невозможно
решить важнейшие уравнения могущества — политиче¬
ского, военного, экономического.
Создание и совершенствование современных систем
стратегического оружия, оказавшиеся возможными в
результате научно-технической революции, непосредст¬
венно связанная с этим эволюция соотношения сил на
мировой арене неизменно служили отправной точкой для
формирования линии внешней политики США в разные
периоды после второй мировой войны. С учетом этого
разрабатывались, проводились в жизнь или уходили в
прошлое американские военные и внешнеполитические
доктрины.
Гигантские размеры приняло наращивание вооруже¬
ний в США. Анализируя процесс беспрецедентного фор¬
сирования гонки вооружений, многие американские ис¬
следователи, уходя в сторону от вопроса о социально-по¬
литических причинах этой гонки, пытаются даже отожде¬
ствлять основные этапы научно-технической революции
в США в послевоенные десятилетия с соответствующими
качественными «скачками» в развитии военной техники
или с главными этапами военно-технической революции:
создание ядерных зарядов, создание авиационных и ра¬
кетных средств доставки ядерных зарядов к целям (по¬
явление стратегического ракетно-ядерного оружия), ком¬
плексная автоматизация средств и методов управления
войсками за счет внедрения в вооруженные силы ЭВМ
и т. д.
Военно-силовое обеспечение американской политики,
непомерно раздутая военная машина США пришли, одна¬
ко, в определенное противоречие с возможностями их
практического использования. Именно поэтому на рубе¬
194
же 50—60-х годов американское руководство хотя и не¬
последовательно, но все же подошло к осознанию непри¬
емлемости для себя глобальной ядерной войны. Обозна¬
чилось и стремление со стороны все большего числа аме¬
риканских политических деятелей к поискам путей
сокращения опасности прямого столкновения с СССР.
На протяжении длительного времени это, конечно, не
означало, что правящие круги США отказались от при¬
менения силы, от вмешательства во внутренние дела дру¬
гих государств. Об этом, например, наглядно свидетель¬
ствует история агрессии США во Вьетнаме, втягивание
американского народа с начала 60-х годов в самую дли¬
тельную кровопролитную войну, которую когда-либо ве¬
ли Соединенные Штаты за пределами своих границ.
Характерно, что эскалация агрессии американского
империализма в Индокитае^развивалась параллельно с
процессами научно-технической революции. США явно
предприняли попытку реализовать свои успехи в области
совершенствования вооружений, обусловленные научно-
технической революцией, в целях достижения военной
победы в Индокитае. Одновременно Вьетнам стал факти¬
чески испытательным полигоном для новейших видов
оружия и методов ведения войны, включая отравляющие
газы, химические вещества, уничтожающие раститель¬
ность, напалм, многотонные бомбы новейших типов.
Бельгийский журнал «Пуркуа па?» как-то верно подме¬
тил, что США открыли во Вьетнаме «новый тип войны,
которая похожа на какой-то кошмар из области научной
фантастики: электроника, все более «автоматизирован¬
ные» массированные воздушные налеты, новые смерто¬
носные средства. США изобретают новую войну, войну
с помощью нажатия кнопок, асептическую, управляемую
на расстоянии, войну, когда противника (будь он воен¬
ный или штатский) преследуют на экране с помощью
электронно-вычислительной машины»11.
Однако стойкость героического вьетнамского народа,
опирающегося на поддержку Советского Союза и других
социалистических стран, всех миролюбивых сил, обрекла
на провал военную авантюру американского империа¬
лизма. Крах вьетнамской политики американского импе¬
риализма показал, в частности, несостоятельность расче¬
тов на получение как военного, так и политического вы¬
игрыша с помощью новейших научно-технических
средств в борьбе против крупных социальных движений
современности.
195
В своем нынешнем подходе к научно-технической ре¬
волюции США не ограничиваются ориентацией на при¬
менение ее результатов только в военно-политической
сфере. Вопрос ставится гораздо шире — об использова¬
нии научно-технической революции во всем ее объеме
для укрепления государственного могущества, и в особен¬
ности военного и материального потенциала, с целью
осуществления глобальной стратегии США в новых ус¬
ловиях.
Наиболее реакционные круги, однако, по-прежнему
оценивают значение научно-технической революции сугу¬
бо с точки зрения ее военных результатов. В опублико¬
ванном в мае 1978 года правой организацией — «Амери¬
канским советом всемирной свободы» — исследовании
«Стратегическое измерение торговли между Востоком и
Западом» говорится, что «техническая мощь США явля¬
ется ключом к нашему конечному выживанию как на¬
ции», и поясняется, что «важнейшим элементом нашей
стратегии сдерживания будет сохранение военного пре¬
восходства через обладание передовой технологией в це¬
лом ряде ключевых отраслей».
Различные стороны научно-технической революции,
ее сущность и содержание, характер и направления
влияния на различные социально-экономические системы
продолжают оставаться предметом острой идейно-теоре-
тической борьбы, в которой сталкиваются интересы раз¬
личных классов, социальных слоев и групп.
Наделяя науку и в особенности технику не свойствен¬
ными ей социальными функциями, буржуазные идеологи
выступают против марксистского понимания природы и
содержания НТР, оценки ее структуры, социально-эконо¬
мических и международных последствий. Многие бур¬
жуазные авторы стремятся «техницизировать» социаль¬
ные процессы, дать им так называемое «технотронное»
толкование, противопоставив тем самым НТР социаль¬
ной революции и освободительному движению. Другие
пытаются растворить НТР в общем понятии научно-тех¬
нического прогресса и представить революционный пере¬
ворот в науке и технике как обычный процесс эволюци¬
онного развития.
В оценке влияния НТР на международные отношения
большинство американских буржуазных теоретиков меж¬
дународных отношений (3. Бжезинский, К. Хаскинс,
Ю. Сколников, М. Банди, У. Кинтнер, Н. Паделфорд,
Дж. Линкольн и др.) стоят на позициях технологическо¬
196
го утопизма. Научно-технический прогресс провозглаша¬
ется ими «основой цивилизации XX века», независимой
переменной величиной, которая положительно влияет на
структуры как отдельных государств, так и всей между¬
народной системы в целом, и в частности способствует ее
стабилизации.
Высказываясь в пользу активного вовлечения техно¬
логического фактора во внешнеполитическую стратегию
и тактику США, эти авторы выдвигают в качестве пер¬
воочередной задачи обеспечение научно-технического
превосходства США, которое отождествляется ими с на¬
циональными интересами.
Американские теоретики придают тем большее значе¬
ние обеспечению такого превосходства, поскольку в ны¬
нешних условиях в результате роста военного и экономи¬
ческого могущества СССР резко сузились возможности
применять силу в противоборстве с социализмом в воен-
ношолитической сфере. С экономической и научно-техни¬
ческой гегемонией связываются расчеты на укрепление
пошатнувшихся международных и военно-политических
позиций США. «Государство, которое первым выработа¬
ет стратегию использования технологического превос¬
ходства,— заявляет У. Кинтнер, — получит ключ к ре¬
шающему политическому и военному преимуществу»12.
Превращение США в образцовую модель научно-техни-
ческого прогресса должно позволить также, по замыслу
американских теоретиков, подправить заметно подор¬
ванные империалистической политикой престиж и влия¬
ние США, обеспечить моральное руководство США в
современном мире. «Сначала образ Америки, — конста¬
тирует Бжезинский, — ассоциировался со свободой». Сей¬
час, после серии политических убийств и особенно в ре¬
зультате войны во Вьетнаме, влияние Америки, по его
свидетельству, имеет не моральный, а в первую очередь
научно-технический характер 13.
Наиболее рельефно идеи и замыслы технофилов про¬
явились в работах известного американского историка
Д. Бурстина и, в частности, в его последней книге «Рес¬
публика технологии»14.
По его утверждению, на нашей планете уже сложи¬
лась некая космополитическая, не знающая политиче¬
ских, языковых и религиозных границ «республика тех¬
нологии». На поверку эта «республика технологии»
оказывается не только созданной по американским про¬
ектам, но и, главное, теоретическим оправданием для
197
стремления правящих кругов США к установлению аме¬
риканского лидерства, опутывания других стран нитями
зависимости от США. «Величие США, — заявляет Бур-
стин, — следует не из их громадных размеров, а из ново¬
го вида сообщества. Новые узы связывают американцев
вместе, привязывают их к остальному миру, а весь мир —
к Америке. Я называю это сообщество республикой тех¬
нологии».
Пытаясь показать неоспоримость претензий США на
научно-техническое превосходство, Бурстин даже дохо¬
дит до того, что объявляет «отцов-основателей США»
«прагматическими технологистами», а захват выходцами
из Европы американских территорий в его интерпрета¬
ции был продиктован поисками «не цитадели, а лабора¬
тории». Соответственно вся история американской циви¬
лизации— это история экспериментирования, и в особен¬
ности в области науки и техники. Социальная суть
«республики технологии» проглядывается довольно про¬
зрачно. Ее высший закон — всеобщая материальная и
духовная конвергенция. Характерно и другое. Заявляя,
что технологический триумф не знает пределов и что
Америка в этом отношении может многое сделать, в том
числе и в области политики, Бурстин, однако, оговарива¬
ется, что единственно, где существует предел человече¬
ских достижений, — это выбор политических судеб. Ины¬
ми словами, капитализм оказывается фатальной неиз¬
бежностью.
Вырванный из классового контекста, подобный утопи¬
ческий подход к оценке влияния науки и техники на про¬
цессы социального развития, в том числе и в области
международных отношений, в основе своей отнюдь не
нов. Еще в XIX веке, в эпоху промышленного капитализ¬
ма, идеологи буржуазии также активно доказывали, что
технология является двигателем всякого прогресса, мо¬
жет разрешить большинство социальных проблем, «осво¬
бодить человека из тисков общества» и вообще является
источником «постоянного процветания». Целью всех этих
утверждений была попытка увести трудящихся от про¬
блем классовой борьбы, представив будущее развитие
государств и всего человеческого общества на основе
технологической утопии. Прошедшее столетие не остави¬
ло камня на камне от концепций, абсолютизировавших
влияние научно-технического прогресса на человеческое
общество, подменявших научный, марксистский подход к
тому воздействию, которое оказывают производительные
198
силы, средства производства на общественные отноше¬
ния, миражами процветающего общества, основанного
на частной собственности, все пороки которого якобы
излечит научно-технический прогресс.
Определенная часть американских теоретиков
(Дж. фон Нейман, Г. Моргентау, Г. Кан и др.) не разде¬
ляют, однако, подобного восторга. Эти теоретики с пес¬
симизмом взирают на вторжение НТР в сферу между¬
народных отношений. В их представлении вышедший
из-под контроля научно-технический прогресс может
привести к возникновению технологического ада, в кото¬
ром человеку якобы грозит опасность оказаться лишен¬
ным работы, личной жизни и даже человеческого досто¬
инства. В таких же мрачных тонах рисуется ими и влия¬
ние НТР в сфере международных отношений (усиление
перспектив ядерной войны, мирового продовольственного
кризиса, энергетического кризиса и т. п.). Эти теоретики
считают, что происходящие под воздействием НТР из¬
менения в мировой структуре, если оставаться безраз¬
личными к влиянию технологического фактора, могут
породить тенденцию к перманентному отсутствию ста¬
бильности в международных отношениях и тем самым
усилить возможность возникновения различного рода
конфликтов.
Так, Дж. фон Нейман утверждает, что развитие НТР
создает опасность крушения многих «устоявшихся поли¬
тических институтов» и возникновения «нестабильности»
как качественно новой характеристики мировой систе¬
мы 15. Г. Моргентау также считает, что научно-техниче-
ские открытия, особенно в военной области, «буквально
в течение одной ночи» могут выдвинуть в первые ряды
новые государства, сделать соотношение сил в мире
крайне нестабильным 16. Отмечая противоречивый харак¬
тер воздействия НТР на международные отношения
(с одной стороны, НТР способствует «технологической
унификации мира», а с другой — затрудняет возмож¬
ность взаимопонимания между народами), Моргентау
выделяет последнюю тенденцию в качестве главной.
Свою точку зрения Моргентау аргументирует следующим
образом. «Современная техника, — утверждает он, — не
только сделала технически возможным для людей об¬
щаться друг с другом независимо от географических
расстояний, она предоставила также возможности прави¬
тельствам и частным агентствам удерживать информа¬
цию, когда это им нужно»17.
199
В подходе этих теоретиков заметно просматривается,
в частности, стремление переложить ответственность за
отрицательные тенденции в международных отношениях
с империалистических держав, политика которых в пери¬
од «холодной войны» служила препятствием созданию
прочного мира и нахождению взаимопонимания между
народами, на возникновение и действие в сфере между¬
народных отношений технологического фактора.
Такого рода «технофобия» представляет собой свое¬
образную реакцию на те уродства, которые порождены
использованием достижений НТР в условиях капитали¬
стической системы. Однако это направление теоретиче¬
ской мысли, казалось бы, диаметрально противополож¬
ное «утопическому», смыкается с последним, как только
дело доходит до оценки значения технологического фак¬
тора. Здесь нет двух точек зрения.
По существу, все американские буржуазные теорети¬
ки исходят из того, что развертывание научно-техниче¬
ской революции должно быть использовано в целях уси¬
ления государственного могущества США. Научно-тех¬
ническая революция рассматривается ими в качестве
важнейшего условия формирования, функционирования
и взаимодействия военной мощи и материального потен¬
циала.
Одновременно ставится задача активного использо¬
вания НТР для нужд внешней политики. «Мы должны
овладеть технологической революцией, прежде чем она
овладеет нами»18, — так определяет одну из целей амери¬
канской внешней политики профессор Массачусетского
технологического института JI. Блумфилд.
Столь же однозначно решается в американских тео¬
ретических исследованиях и вопрос о том, каким обра¬
зом и по каким направлениям должны использоваться
научно-технические достижения в глобальной стратегии
США. Буржуазная внешнеполитическая мысль США не
может не учитывать того, что международные отношения
в послевоенный период имели тенденцию к превращению
в сложный многоотраслевой комплекс политических,
военных, экономических, научно-технических, идеологи¬
ческих взаимосвязей государств. При этом некоторые
сферы этих отношений, в первую очередь военная, эко¬
номическая и научно-техническая, оказались в наиболь¬
шей степени подвержены влиянию научно-технического
прогресса. НТР обусловила появление новых сфер меж¬
дународного сотрудничества в области мирного исполь¬
200
зования ядерной энергии, космического пространства и
достижений ракетно-космической техники, в области раз¬
работки ресурсов Мирового океана. НТР дала мощный
импульс научно-техническим связям между государства¬
ми. Политика в области научно-технических связей ста¬
ла в настоящее время важным направлением всей внеш¬
неполитической деятельности ведущих в промышленном
отношении государств.
Казалось бы естественным и логичным сделать из
такой оценки вывод о том, что решение стоящих перед
человечеством глобальных проблем, таких как дальней-
щее проникновение научно-технической мысли в таинства
ядра, освоение в мирных целях космоса и Мирового
океана, охрана окружающей человека среды, борьба с
болезнями и голодом, обеспечение человечества необхо¬
димыми энергетическими ресурсами и т. д., — все это объ¬
ективно требует широкого научно-технического сотруд¬
ничества между государствами с различным обществен¬
ным строем.
Однако, руководствуясь политическими и идеологи¬
ческими соображениями противоборства с социалистиче¬
скими государствами, американская буржуазная внеш¬
неполитическая мысль предлагает такие рецепты, следо¬
вание которым означало бы ограничение сотрудничества
с социалистическими государствами, искусственно ограж¬
дало бы определенными узкими рамками научно-техни¬
ческие контакты и связи, не допуская их развития в
одних сферах, а в других обусловливая научно-техниче-
ское сотрудничество неприемлемыми уступками со сторо¬
ны социалистических государств.
‘ При этом часто проводимое сопоставление научно-
исследовательских и конструкторских работ, ведущихся
в СССР и США, отражает новую линию аргументации,
к которой в последнее время все чаще прибегают творцы
мифов о «советской угрозе». Исчерпав имевшиеся воз¬
можности по фальсификации фактических данных (сум¬
мы военных бюджетов, «бомбардировочный отрыв», а за¬
тем «ракетный отрыв» СССР и т. д.), антисоветская про¬
паганда теперь запугивает американцев сделанными
Советским Союзом «революционными открытиями» в об¬
ласти военной техники, которые в будущем, если США не
предпримут аналогичных усилий, «коренным образом
изменят общий военный баланс в пользу СССР».
За рассуждениями об опасности «потенциального тех¬
нологического отрыва» СССР протаскивается вполне
201
определенная мысль о необходимости ограничения науч-
но-технических и экономических связей США с Совет¬
ским Союзом19. Такой подход под стать позиции аполо¬
гета «холодной войны» Г. Джексона, который заявляет,
что развитие советско-американского сотрудничества
было бы равносильно «острому обескровливанию» США.
Подобный подход явно игнорирует уроки истории.
В прошлом, в частности в течение первых послевоенных
десятилетий, США, утвердившись в качестве главного
центра капиталистического мира по развитию и распро¬
странению современной науки и техники, пытались за¬
блокировать научно-технические связи Советского Союза
с Западом, рассчитывая задержать тем самым развитие
СССР. Эти расчеты оказались несостоятельными. Науч-
но-технический и экономический потенциалы Советского
Союза неуклонно возрастали. Жизнь показывает необхо¬
димость и целесообразность для США встать на путь
сотрудничества с Советским Союзом в областях торговой
и экономической, подтверждает, что ни одна страна,
сколь бы могущественной и высокоразвитой она ни была,
в том числе и США, не может обойтись без участия в
международном сотрудничестве в этих областях.
История взаимоотношений двух крупнейших в научно-
техническом отношении держав убедительно демонстри¬
рует, что, несмотря на различия в социальных системах,
противоположность идеологий и принципиальные расхож¬
дения по ряду вопросов политики, на отношения СССР
и США влияют объективные факторы, которые опре¬
деляют потребность для обоих государств действовать
таким образом, чтобы отвести от народов мира опасность
мировой войны, привести двустороннее сотрудничество в
различных областях, в том числе в торгово-экономиче-
ской и научно-технической, в соответствие с тем высоким
уровнем, которого достигли обе державы в развитии
экономики, науки и техники.
Подчеркивая специфику советско-американских отно¬
шений в условиях НТР, Л. И. Брежнев отмечает: «...Со¬
ветский Союз и Соединенные Штаты — это такие страны,
которые, как говорится, могут прожить и сами по себе»,
однако «отказ от сотрудничества в области экономики,
науки, техники, культуры означает отказ от значитель¬
ных выгод и преимуществ, которые каждая из сторон
могла бы получить дополнительно»20.
Рассматривая место и роль технологического факто¬
ра, американские теоретики придают также большое
202
значение приспособлению научно-технических достиже¬
ний для совершенствования самого процесса формулиро¬
вания и осуществления внешней политики, разрабатыва¬
ют в этой связи различного рода системы сбора инфор¬
мации, приемы и методы прогнозирования, способы мо¬
делирования различных международных ситуаций и т. п.
Однако вся эта работа по научно-техническому оснаще¬
нию внешней политики имеет вспомогательный, подсоб¬
ный характер по отношению к крупномасштабным проб¬
лемам использования НТР в глобальном противоборстве
с социализмом. Существующий в американской теорети¬
ческой мысли подход к вопросу о характере НТР, пара¬
метрах ее влияния на международные отношения и воз¬
можностях использования во внешнеполитических целях
является в известном смысле социально запрограммиро¬
ванным.
В своих практических делах нынешняя демократиче¬
ская администрация Дж. Картера в не меньшей мере,
чем предшествующие ей правительства, использует НТР
как средство укрепления материального потенциала и
как инструмент политики. Значительным событием яви¬
лось увеличение в последние годы ассигнований на фун¬
даментальные научные исследования в США. Следует
заметить, что с 1967 по 1975 год эти ассигнования с уче¬
том инфляции сократились на 15%. Растущие успехи
советской науки вынудили правительство США срочно
принимать меры к исправлению положения. Уже во вре¬
мена администрации Дж. Форда тенденция к сокраще¬
нию ассигнований на нужды науки была приостановлена.
Президент Картер принял меры, чтобы повернуть ее
вспять. На 1978/79 финансовый год ассигнования на нау¬
ку увеличены на 10,9% (на 5% с учетом инфляции).
Особое внимание сейчас уделяется поощрению ра¬
ционализации и изобретательства в промышленности,
которое считается в США ключом к экономическому
прогрессу и к успеху в соревновании двух социальных
систем — социализма и капитализма. Президент Картер
распорядился провести специальное исследование по
выявлению последствий для экономики США явного спа¬
да изобретательства и рационализации производства в
последние годы. Тема восхваления «традиционной аме¬
риканской изобретательности и технического гения» яв¬
ляется одной из ведущих в американской официальной
пропаганде, в передачах телевидения, выступлениях пе¬
чати. Явно проводится мысль о способности американ¬
203
ской науки и техники достичь любой реальной цели при
мобилизации необходимых людских и финансовых ресур¬
сов. Представители администрации выступают с призы¬
вами к корпорациям увеличить ассигнования на научно-
технические разработки на своих предприятиях, поощ¬
рять рационализаторов и изобретателей. Позиция адми¬
нистрации в пользу увеличения расходов на науку встре¬
чает поддержку в конгрессе, где еще совсем недавно
громко звучали выступления в пользу ограничения бюд¬
жета НАСА и чуть ли не свертывания американской кос¬
мической программы. Сейчас там раздаются заявления
в том духе, что техника будет тем «последним рубежом»,
на котором капитализму придется дать «решительный
бой» социализму.
Стремление использовать совокупную научно-техни¬
ческую и экономическую мощь капиталистических стран
в противоборстве с Советским Союзом и другими социа¬
листическими государствами прослеживалось и во внеш¬
ней политике обеих республиканских администраций, но
в высказываниях и делах нынешней администрации оно
заметно выдвигается на первый план. Можно сомневать¬
ся по поводу того, что Вашингтону удастся радикально
перестроить систему взаимоотношений между основными
капиталистическими центрами: США — Западная Евро¬
па — Япония, будь то сфера политических, экономиче¬
ских или военных отношений. Дело не только в том, что
в основе своей эта система разъедена противоречиями.
Нельзя игнорировать и такую объективную реальность,
как все большее втягивание США и других капитали¬
стических государств в сферу научно-технических кон¬
тактов и связей с социалистическими странами, что по¬
вышает заинтересованность в развитии научно-техниче-
ского сотрудничества на широкой международной осно¬
ве. В то же время нельзя недооценивать те последствия,
которые имела бы для дела сотрудничества и социаль¬
ного прогресса реализация идеи создания своеобразного
директората капиталистического мира под эгидой США.
Нынешняя администрация предпринимает значитель¬
ные усилия по развитию сотрудничества с западноевро¬
пейскими союзниками как в области проведения научных
исследований, опытных и конструкторских работ
(НИОКР) военного характера, так и совместного произ¬
водства вооружений и боевой техники. Мощный матери¬
альный потенциал не только обеспечивает Соединенным
Штатам решающие позиции в проведении стандартиза¬
204
ции вооружений в странах НАТО на базе американских
моделей, но и играет важную роль в политике Соединен¬
ных Штатов в отношении Западной Европы. Вместе с
тем Вашингтон продолжает сохранять заинтересован¬
ность в более широком использовании достижений
НИОКР военного характера других капиталистических
государств, в первую очередь своих союзников по НАТО.
Внешнеэкономическая линия США также строится с
учетом широкого использования технологического факто¬
ра, большого американского опыта в области организа¬
ции и управления производством для укрепления между¬
народных позиций США и достижения экономических и
политических целей. Важной особенностью американской
внешнеэкономической линии становится тесная связь с
внешней политикой. Фактически эта линия служит про¬
должением американской внешней политики, инстру¬
ментом в арсенале средств обеспечения влияния монопо¬
лий США на зарубежных рынках сбыта и сырья.
Технологический фактор принимается нынешней
администрацией в расчет не только при решении конк¬
ретных внешнеполитических задач, но и в попытках вос¬
становить подорванный провалами и многочисленными
скандалами международный престиж и авторитет США,
обеспечить США не более не менее как роль «морально¬
го лидера» современного мира.
Развертывание НТР бесспорно является одним из
существенных факторов, под влиянием которого склады¬
вается внешняя политика США. Правящие круги США
делают вполне определенную ставку на использование
НТР в своих узкоклассовых целях как внутри собствен¬
ной страны, как и вовне. Опираясь на научно-техниче-
ское превосходство, правящие круги США стремятся к
гегемонии в капиталистическом мире, широко осуществ¬
ляют внешнеэкономическую экспансию, пытаются уста¬
новить с другими странами такие отношения, при кото¬
рых те оказались бы в зависимости от США. При этом
обращает на себя внимание вполне определенная тенден¬
ция к использованию Соединенными Штатами своего
положения в области науки и техники для оказания по¬
литического воздействия на другие страны.
Американские правящие круги явно стремятся ис¬
пользовать крупные научные и технические ресурсы
страны для укрепления своих внешнеполитических пози¬
ций, наращивания военной мощи США сверх потребно¬
стей обеспечения своей безопасности.
205
В то же время не только внешние условия, характе¬
ризующиеся, в частности, нарастанием межимпериали¬
стических противоречий и решающим воздействием
основных революционных сил современности, но и осо¬
бенности собственного социально-политического устрой¬
ства США ставят определенные пределы возможного и
допустимого на пути реализации подобных экспансиони¬
стских устремлений правящих кругов США*.
В свою очередь, научно-техническая революция во
многом ведет к таким далеко идущим неблагоприятным
для капитализма последствиям, которые объективно вы¬
нуждают США приспосабливать свою политику к требо¬
ваниям обстановки. Именно под воздействием НТР в
мировой политике усилились тенденции, стабилизирую¬
щие международную обстановку, появились некоторые
реалистические элементы во внешней политике США.
Разумеется, было бы чрезмерным упрощением повсю¬
ду усматривать прямую связь между процессами научно-
технической революции либо технологическими достиже¬
ниями, с одной стороны, и подходом США к тем или
иным конкретным международным проблемам — с дру¬
гой. В одних случаях научно-техническая революция в
более определенной, отчетливой форме сказывается на
внешнеполитическом курсе США, эта взаимосвязь лежит
«на поверхности». В других — воздействие научно-техни¬
ческой революции на политику является косвенным,
опосредствованным, невидимым на первый взгляд. Одна¬
ко очевидно, что одна из характерных особенностей
современной эпохи все-таки состоит в том, что наука, как
отмечал известный американский ученый Джером Виз-
нер, все чаще «встречается» с политикой.
Как показывает опыт американской внешней полити¬
ки после второй мировой войны, сам по себе расчет на
использование технологического фактора не может слу¬
жить панацеей от всех проблем, с которыми сталкива¬
ется внешняя политика США. В конечном счете все за¬
висит от того, на достижение каких целей направлено
использование НТР.
* В американской литературе проявлялось большое беспокой¬
ство по поводу снижения в середине 60—70-х годов расходов на
цели НИОКР и падения реальных затрат (с учетом инфляции) на
обеспечение научно-технического прогресса. По данным, приводи¬
мым Р. Уэссоном, доля валового национального продукта, расходуе¬
мого на НИОКР, сократилась с 3,0% в 1964 году до 2,3% в 1974 го¬
ду. При этом почти половина всех затрат на НИОКР тратится на
военные цели (Wesson R. Op. cit, p. 131).
206
Моральный фактор
С провозглашением доктрины «национальной без¬
опасности» важное место в арсенале политических
средств стало отводиться людским ресурсам, с состояни¬
ем которых связывается не только характер каких-либо
отдельных акций, но и всей системы мер в области «на¬
циональной безопасности».
«Рациональная политика национальной безопасности
должна, конечно, — наставлял еще в октябре 1959 года
слушателей Национального военного колледжа Г. Мор¬
гентау, — принимать в расчет человеческий фактор, кото¬
рый находится за фасадом материальных целей, ожив¬
ляя их и предопределяя в конечном счете их достижение.
Иными словами, тот, кто делает политику национальной
безопасности, должен постоянно представлять себе со¬
стояние характера людей, с которыми он имеет дело,
особенно с точки зрения национальной морали. Какое
бремя я могу возложить на нацию в период мира? Какое
бремя я могу возложить на нацию в период войны? Ка¬
кого рода политику, какого рода жертвы способна нация
принять? Насколько выдержит национальная мораль
воздействие тех или иных усилий?»21.
С учетом всего этого большое значение придается
моральному фактору. Нужно заметить, что американская
внешнеполитическая мысль употребляет в однозначном
смысле понятия морального, морально-политического и
духовного факторов. Несмотря на однопорядковое, близ¬
кое значение этих понятий, они все же не являются рав¬
нозначными по своему объему.
Как отмечается в советской литературе22, морально-
политическое состояние общества, означающее духовную
способность народа решать различные социальные зада¬
чи, в том числе вести войну, не исчерпывает, однако, все¬
го содержания духовного фактора, под которым имеется
в виду специфическое проявление общественного созна¬
ния, выражающего степень готовности и способности
масс решать конкретные социальные, экономические,
политические и военные задачи. При этом решающая
роль принадлежит в конечном счете политическим и мо¬
ральным идеям, взглядам, чувствам, которые определя¬
ют основную социальную направленность духовного фак¬
тора.
Говоря о моральном факторе, американские идеологи
ставят этот вопрос в абстрактном плане, вне социально¬
207
го, классового контекста, игнорируют отсутствие мо¬
рально-политического единства существующего Ь США
капиталистического общества, разделенного на антаго¬
нистические классы. Исследование морального фактора
осуществляется с помощью таких надклассовых катего¬
рий, как «дух нации», «влечение к свободе» и т. п.
В функциональном отношении структура морального
фактора определяется как конгломерат врожденных ка¬
честв, религиозных верований, господствующих в бур¬
жуазном обществе идеалов. Моральный фактор истол¬
ковывается как способность людей, независимо от их
социальной принадлежности, выполнить свой «долг» пе¬
ред капиталистическим государством.
По своему истинному классовому назначению мораль¬
ный фактор в условиях капиталистического общества
призван служить защите устоев капиталистической си¬
стемы и направлен на борьбу с коммунистической иде¬
ологией и революционной практикой. По свидетельству
Г. Моргентау, правильное использование морального
фактора дает возможность «достигнуть максимума того,
что мы можем себе позволить в конкурентном противо¬
борстве с коммунизмом», «встретить вызов коммунизма
без ущерба для человеческого материала, на котором
держится вся структура американского правления и аме¬
риканской политики»23.
В целом моральный фактор, о котором пишут амери¬
канские идеологи, воспроизводит общественное сознание
существующего в США капиталистического строя с при¬
сущими ему противоречиями, засильем шовинистических,
милитаристских тенденций, инфляцией моральных цен¬
ностей, ущербностью идеологических мотиваций.
В гносеологическом разрезе морального фактора аме¬
риканские социологи выделяют два компонента, два
слоя: верхний, или рационально-идеологический (соци¬
альные и морально-политические концепции и идеи), и
нижний, или общественно-психологический (эмоции, при¬
вычки, настроения, мнения, стремления людей).
Различая две составные части в моральном^акторе,
американские буржуазные авторы, как правило, не рас¬
сматривают их в диалектическом единстве, при решаю¬
щей роли рационально-идеологического элемента, а ме¬
ханически противопоставляют друг другу, отдавая при¬
оритет, в зависимости от обстоятельств, то одному, то
другому компоненту.
Интерпретация американскими авторами обоих сла-
208
гаемых морального фактора носит, как правило, ненауч¬
ный характер и отличается субъективным идеализмом и
релятивизмом. Выделение двух составных частей мо¬
рального фактора имеет не только теоретическое, но и
исключительно важное практическое значение. Если для
формирования рационально-идеологического компонента
решающим объявляется целенаправленная идеологиче-
ско-пропагандистская обработка, то для влияния на об-
щественно-психологические элементы первоочередное
значение придается манипулированию массовым созна¬
нием.
Разработка в США на основе доктрины «националь¬
ной безопасности» вопросов, связанных с моральным
фактором, имеет целью выявление точки предельного
напряжения моральных возможностей людских ресурсов
и, в частности, в условиях применения ядерного оружия
как в глобальных, так и в ограниченных масштабах, уве¬
личения налогообложения для ассигнований на нужды
«национальной безопасности». Важное значение в этом
контексте придается как изучению, так и манипулирова¬
нию общественным мнением.
С увеличением роли морального фактора американ¬
ские теоретики прямо связывают повышение эффектив¬
ности мер по реализации основных постулатов доктрины
«национальной безопасности»24.
В годы «холодной войны», когда во главу угла иде-
ологическо-пропагандистской деятельности был постав¬
лен лобовой антикоммунизм, доведенный до уровня ре¬
лигиозного верования, наиболее типичными были повы¬
шенное внимание к общественно-психологическому ком¬
поненту и связанная с этим тенденция к психологизации
морального фактора и процесса его формирования. Со¬
ответственно крен был взят в сторону использования
биопсихологических элементов духовной конституции
человека с целью сделать антикоммунизм национальной
особенностью американцев, психологической чертой
каждого человека. Основное место отводилось аргумен¬
тации не столько идеологического, сколько психологиче¬
ского порядка.
Недооценка идей, способных увлечь массы, сказыва¬
лась и в том, что основной установкой была «деидеологи¬
зация», ориентировавшая на отказ от идеологической
борьбы.
Если попытаться выделить политический смысл кон¬
цепции «деидеологизации», то нельзя не видеть, что ее
8-597
209
суть сводилась к стремлению под предлогом общего
«отказа от идеологии» подорвать влияние передовых
марксистско-ленинских идей и соответственно обеспе¬
чить условия для усиления воздействия буржуазной иде¬
ологии. Выразители этой концепции — американские
ученые Д. Белл, Э. Шиле, С. Липсет и др. — утвержда¬
ли, будто с развитием технической революции наступает
«конец идеологии» как системы взглядов, определяющих
общественные идеалы тех или иных классов и социаль¬
ных групп. На смену идеологическому противоборству,
поясняли они, идет «согласование» различных интересов
как внутри страны, так и в международных отношениях
с помощью так называемых «научных» методов, админи-
стративно-управленческих мер и т. п.
В то же время уже в 50-х годах в правящих кругах
США появилось осознание того, что американское лидер¬
ство не может полагаться «только на мощь вооружен¬
ных сил и искусство дипломатов», что США «должны
выступать за позитивный идеал, идеал мира, который
является не только безопасным и рациональным, но и в
котором удовлетворяются потребности человека и рас¬
цветают человеческие ценности»25.
Конфликт внутри США по вопросу о Вьетнаме, имев¬
ший ярко выраженную идеологическую окраску, и свя¬
занный с ним морально-политический кризис, выразив¬
шийся в глубоком безверии и апатии и охвативший на ру¬
беже 70-х годов, по существу, все слои американского об¬
щества, вызвал определенную переоценку места и роли
морального фактора, значения его составных частей.
В определенной мере переосмысливанию роли мо¬
рального фактора способствовала и научно-техническая
революция, которая, «загипнотизировав» своими послед¬
ствиями многих американских теоретиков, в то же время
привела их к мысли о том, что овладение ее достижения¬
ми требует чуть ли не суперморальных качеств.
К тому же в расчет принималось и то, что бурное раз¬
витие средств массовой информации открывает широкие
возможности для усиленного идеологического воздейст¬
вия на массы.
Переоценка роли морального фактора тесно связана
с эволюцией доктрины «национальной безопасности».
«Наша концепция национальной безопасности, — заявил
в октябре 1978 года 3. Бжезинский, — должна иметь
нравственную основу. Государство, так же как и люди,
живо не хлебом единым. Политические действия мотиви¬
210
руются не только материальным своекорыстием. Они
основываются в конечном счете на концепциях добра,
справедливости и духовных ценностей, а также на теори¬
ях о будущем, включающих эти идеи. Это так же верно
сегодня, как и прежде, возможно, даже в еще большей
степени. Соответственно американская политика в обла¬
сти национальной безопасности строится на стремлении
укрепить чувство общности с теми, кто разделяет наши
идеи. Она строится на принципе поощрения уважения к
абстрактным стремлениям человека к свободе и к само¬
определению».
В докладе «Растущие масштабы безопасности», под¬
готовленном рабочей группой Атлантического совета по
вопросам безопасности, прямо указывается, что эффек¬
тивная национальная безопасность должна опираться на
«достойную пожертвований цель, которая может вдохно¬
вить людей»26.
В нынешних условиях произошла определенная моди¬
фикация антикоммунизма как идейной основы амери¬
канского морального фактора. Эта модификация не зат¬
ронула существа антикоммунизма, его решающей роли в
определении внешнеполитической линии США.
Дело в том, что антикоммунизм имеет в США доста¬
точно глубокие корни. В Соединенных Штатах — главной
цитадели мирового капитализма — существует внуши¬
тельная группировка воинствующих, запуганных, пред¬
убежденных или патологических антикоммунистов.
«Многие факторы, — пишет профессор Гарвардского
университета Дж. Гэлбрайт, — вызывают шизофрениче¬
ский страх перед коммунизмом, из которых сильнейшим
является примитивная приверженность к частной собст¬
венности и капиталу. Но важную роль играют также
человеческие и другие контакты с коммунизмом, миссио¬
нерская вера в то, что при достаточном рвении мы как-то
сможем вернуть Советский Союз «на путь истинный», а
также тяжелое похмелье от идеологической обработки
времен «холодной войны». Определенную роль играет и
неизменная уверенность в том, что антикоммунизм мож¬
но с успехом использовать для науськивания простаков.
Эти антикоммунистические силы видят в коммунизме
единственную проблему внешней политики, считают
устремления коммунистов единственно неизменным фак¬
тором в меняющейся международной обстановке, а во¬
оруженную борьбу против них — единственно возможной
политикой»27.
*8
211
Реакционно настроенные буржуазные идеологи про¬
должают активно пользоваться чисто клеветническими
приемами, усиливают нападки на социализм, широко
прибегают к методам идеологических диверсий и прово¬
каций. Антикоммунизм по-прежнему является питатель¬
ной средой для выступлений против разрядки, против
прочного утверждения принципов мирного сосуществова¬
ния, против прекращения гонки вооружений. Он исполь¬
зуется для отравления международной атмосферы ядом
подозрения, недоверия, страха.
В то же время те, кто формулирует общественное
мнение, вынуждены считаться с тем, что, говоря словами
того же Гэлбрайта, «большинство американцев не видят
большой угрозы со стороны коммунизма внутри страны,
вопреки постоянным изощренным утверждениям наибо¬
лее воинствующих антикоммунистов».
Соответственно антикоммунизм преподносится те¬
перь не в грубом, вульгарном, примитивном, как это бы¬
ло прежде, а в более иезуитском обличии, что, разумеет¬
ся, не делает его менее враждебным по существу. В боль¬
шинстве случаев клевета на социалистический строй, на
политику коммунистических партий и марксистско-ле¬
нинскую идеологию осуществляется подспудно, ненавяз¬
чиво. Излюбленный трюк при этом состоит в том, чтобы
выдать частное за общее, случайное за закономерное,
отдельный недостаток за коренной порок.
Преследуя цель расколоть международное коммуни¬
стическое движение, правящие круги США приглушают
тезис об антикоммунизме, как таковом, и на передний
план идеологической борьбы все больше выдвигают
антисоветизм. Все это предопределяет поворот к активи¬
зации рационально-идеологического компонента мораль¬
ного фактора.
Не отказываясь от совершенствования методов мани¬
пулирования общественным сознанием для создания
угодных правящему классу морально-политических со¬
стояний и настроений масс, то есть продолжая придавать
важное значение общественно-психологическому компо¬
ненту морального фактора, американская внешнеполити¬
ческая мысль теперь фокусирует, однако, внимание на
национально-идеологическом слагаемом морального
фактора.
Отводя ведущее место в моральном факторе идеоло¬
гии, американские теоретики предлагают использовать
ее и как оружие в борьбе с противостоящими социальны¬
212
ми силами, и как средство управления поведением масс.
«Битва за умы людей» рассматривается как «новое изме¬
рение национальной безопасности»28.
Выдвижение во главу угла морального фактора ра-
ционально-идеологического компонента сопровождается
и изменениями в содержании самого этого компонента.
Распространенная в период «холодной войны» концеп¬
ция «деидеологизации» не выдержала испытания време¬
нем. «Деидеологизация» оказалась не в состоянии вы¬
полнить свое основное назначение. Социальные процес¬
сы, протекающие в современном мире, опрокидывают
довод ее теоретиков о том, что с развитием средств авто¬
матизации производства и управления государства пере¬
стают руководствоваться в своей политике классовыми
интересами и начинают действовать на основе одних
только «научных» методов «согласования».
Призывы к «согласованию» не помогли остановить
развитие классовой борьбы, предотвратить усугубляю¬
щийся экономический и морально-политический кризис
буржуазного общества. Более того, как писал тот же
Д. Белл, ставка на «идеологическую нейтрализацию»
масс обнаружила свою неспособность предотвратить
происходящий в общественном сознании «сдвиг в направ¬
лении некапиталистического образа мышления»29.
В свою очередь, практика международных отношений по¬
казала, что дорогу к миру открывает отнюдь не «прими¬
рение идеологий», не «идейное разоружение», а пере¬
стройка международных отношений в соответствии с
принципами мирного сосуществования, учитывающими
различия в идеологии. Этот факт были вынуждены при¬
знать и реалистически мыслящие государственные деяте¬
ли Запада. В результате западные теоретики междуна¬
родных отношений стали все больше отходить от концеп¬
ции «деидеологизации» как важного компонента
внешнеполитической стратегии империализма.
Правда, определенная часть буржуазных теоретиков
по-прежнему проповедуют тезис о том, что ослабление
международной напряженности, разоружение и предот¬
вращение войны невозможны без заключения «идеологи¬
ческого мира» между двумя общественно-политическими
системами — социализмом и капитализмом, между СССР
и США как их исторически сложившимися полюсами.
Ряд видных представителей буржуазной науки предла¬
гают «распространить» принципы мирного сосуществова¬
ния на область идеологических отношений и установить
213
«идеологическое сосуществование». При этом необходи¬
мость «деидеологизации» и «деполитизации» междуна¬
родных отношений они пытаются обосновать ссылками
на то, что коренные проблемы современного человечест¬
ва (такие как, скажем, проблемы продовольствия, роста
народонаселения, помощи развивающимся странам)
должны рассматриваться как чисто деловые, прагматиче¬
ские, в противном же случае их обсуждение выльется в
«идеологическую войну», которая, по их словам, в совре¬
менных условиях якобы означает угрозу миру.
Политическая функция этой новой разновидности
теории «идеологического примирения» состоит в том,
чтобы представить дело таким образом, будто мир во
всем мире может быть только следствием сближения и
переплетения взаимных интересов двух противополож¬
ных систем. На деле же мирное сосуществование проис¬
ходит в условиях классовой борьбы на международной
арене, борьбы за идеалы рабочего класса, за реализацию
его исторической миссии, которая предполагает и обес¬
печение прочного и надежного мира во всем мире.
Хотя концепция «деидеологизации» и продолжает,
как видим, оказывать определенное воздействие на под¬
ход буржуазных теоретиков к проблемам мировой поли¬
тики, в целом ее все больше оттесняет концепция «реиде¬
ологизации», открыто нацеливающая на идеологическую
борьбу.
Разумеется, речь идет не о принципиально новом под¬
ходе, а о новых методах борьбы против марксистско-ле¬
нинского мировоззрения, его воздействия на весь ход
исторического развития, о поисках путей, облегчающих
идеологические диверсии против мирового социализма,
против международного коммунистического движения.
При всех внешних различиях в самих исходных теоре¬
тических посылках и концепция «реидеологизации», и
концепция «деидеологизации» имеют идентичное классо¬
вое содержание и политический смысл. В конечном счете
концепция «деидеологизации» под видом осуждения
идеологии, как таковой, имела целью подорвать социали¬
стическую идеологию и открыть простор для буржуазно¬
го образа мышления и буржуазной идеологии. Призывая
к «идеологической конфронтации», буржуазные теоре¬
тики опять-таки озабочены тем, чтобы восстановить в
правах и реабилитировать в глазах общественности
буржуазную идеологию.
В концепции «реидеологизации» видно традиционное
214
стремление буржуазии, во-первых, замаскировать под¬
линное лицо империализма, во-вторых, извратить и очер¬
нить сущность социалистического строя, внутреннюю и
внешнюю политику социалистических государств, учение
марксизма-ленинизма.
Характерно, что и в методологическом отношении обе
концепции схожи друг с другом уже в том, что исходят из
абсолютизации технологического фактора. При этом
техника наделяется не свойственными ей социальными
функциями, изображается как некая абстрактная сила,
управляющая людьми, тогда как производственные отно¬
шения, определяющие характер использования техники,
полностью сбрасываются со счетов.
Но, в отличие от «деидеологизации», концепция
«реидеологизации» открыто признает значение идеологи¬
ческого фактора в современном мире и нацеливает
внешнюю политику на «идеологическую мобилизацию».
В борьбе против Советского Союза и других государств
мировой системы социализма, являющихся носителями
передовой марксистско-ленинской идеологии, особое
значение приверженцы «реидеологизации» придают ис¬
пользованию таких методов и приемов, которые относят¬
ся по своему характеру к подрывным действиям, к «пси¬
хологической войне». Так, профессор истории Индианско¬
го университета Р. Бирнс настаивает на необходимости
«использовать все элементы культуры США и их мощь»
для размыва социалистического содружества. Его рас¬
суждения не оставляют сомнения в том, что имеется в ви¬
ду навязывание социалистическим странам американ¬
ской, то есть капиталистической, системы ценностей.
США, поясняет он, «должны рассматривать каждый
аспект своей жизни как часть культуры и должны позво¬
лять коммунистическим государствам извлекать выгоды
только в том случае, если эти государства приемлют
другие элементы» жизни США30. Это означает, что
«реидеологизация» исходит из расчета на широкое на¬
саждение концепций, способных выступить в качестве
прямого «противовеса» марксистской теории.
Повышение роли идеологии, как и других факторов,
о которых речь шла ранее, также связывается с выступ¬
лением США на мировой арене в роли «морального ли¬
дера», что-де позволило бы восстановить серьезно подор¬
ванную событиями последних лет (крах агрессии во
Вьетнаме, «Уотергейт», разоблачение грязных махина¬
ций ЦРУ и т. п.) репутацию американского образа жиз¬
215
ни, американской политической системы и преодолеть
такие негативные для США внутриполитические тенден¬
ции, как «кризис духа» и «кризис доверия» к правитель¬
ству. С «морализацией» внешней политики связываются
не только попытки ликвидации «философской изоляции
США», но и гораздо более далеко идущие цели. Руково¬
дители внешней политики США серьезно обеспокоены
тем, что «прагматическая», то есть откровенно империа¬
листическая, политика своим цинизмом и произволом в
международных делах ставит под угрозу сами устои бур¬
жуазного общества. Пытаясь защищать «нравственность»
во внешней политике США, заведующий группой плани¬
рования госдепартамента США при Г. Киссинджере
У. Лорд в одном из своих выступлений откровенно при¬
знавал: «Наша внешняя политика должна отражать на¬
ши национальные идеалы. Иначе ей не удержать демо¬
кратию»31. Другими словами, судьбы капитализма (на
языке Лорда — «демократии») в определенной мере свя¬
зываются в политических кругах США с тем, насколько
удастся придать видимость респектабельности остающей¬
ся неизменной в своей классовой основе империалисти¬
ческой политике США и других капиталистических
стран, укрепить зыбкие позиции капитализма в совре¬
менной битве идей.
Нынешних американских теоретиков и политиков, су¬
дя по высказываниям 3. Бжезинского, явно пугает то,
что «исторически Советский Союз сейчас по-прежнему
на подъеме», что «он преисполнен напористой уверенно¬
сти и ожиданий»32.
«Моральное лидерство» представляет собой новое
словесное обрамление гегемонистских притязаний США.
Крах притязаний времен «холодной войны» на непри¬
крытую роль мирового жандарма не излечил правящие
круги США от мании величия. В нынешних условиях эта
мания проявляется в стремлении стать «блюстителем
нравов» для всего мира. При этом США пытаются вы¬
ступать с позиции «национального превосходства». «Мы,
американцы, — заявил президент США Дж. Картер на
церемонии приведения к присяге генерала Д. Джонса
в качестве председателя комитета начальников штабов
1 июля 1978 г., —способны думать, планировать, рассчи¬
тывать и действовать лучше, чем какой бы то ни было
народ в мире». Подобное признание исключительности
американской нации отражает традиционное представле¬
ние правящих кругов США о своем моральном превос¬
216
ходстве, которое используется как основание для игнори¬
рования идей и мнений других народов.
Содержащаяся во внешнеполитических концепциях
США идея приверженности моральным принципам заду¬
мана как долгосрочная идеологическая программа. В
перспективном плане она рассчитана на то, чтобы бро¬
сить вызов советскому идеологическому наступлению,
дискредитировать опыт социализма, представить капита¬
листические страны как «образцовую модель» социаль¬
ного развития. «Уничтожение идеологической привер¬
женности принципам марксизма-ленинизма как глобаль¬
ной моральной системы» — так определяет суть совре¬
менной идеологической платформы США известный аме¬
риканский теоретик У. Кинтнер в статье «Программа
для Америки: свобода и внешняя политика»33. Таким
образом, «моральное лидерство» рассматривается как
средство политической стратегии, направленной на под¬
рыв социалистического строя, сплоченности прогрессив¬
ных сил.
Придание моралистской окраски внешнеполитиче¬
ским акциям США призвано, по замыслу американских
теоретиков, выполнить ответственную историческую мис¬
сию— вселить чувство оптимизма в американский народ,
что представляется им особенно необходимым в условиях
мирного соревнования двух социально-экономических
систем, вполне определенно складывающегося в пользу
социализма. Подчеркивая значение «возрождения аме¬
риканского оптимизма», 3. Бжезинский разъясняет:
«Это не просто ожидание удачи, о которой Бисмарк ког¬
да-то говорил: «Провидение явно хранит пьяниц, дураков
и американцев». Это скорее отражает веру в непрелож¬
ную силу наших позиций в мире и морального характера
этих позиций».
Претензия на «моральное лидерство» имеет в виду
активное введение в обиход социальной демагогии, без¬
застенчивое использование в американских интересах
пользующихся широкой поддержкой чужих лозунгов в
таких действительно важных вопросах, как разоружение,
защита прав человека, отношения с развивающимися
странами. Своим лицемерием в этих вопросах некоторые
американские теоретики-моралисты напоминают создан¬
ный Ч. Диккенсом образ лицемера мистера Пиксниффа,
который ел с таким аппетитом, будто кормил своего го¬
лодного ближнего: такой у него был при этом благочес¬
тивый вид.
217
«Моральное руководство» в понимании американских
теоретиков предполагает повышение «морального авто¬
ритета» США. Узловой проблемой в этой связи называ¬
ется демократия. Как подчеркивается в докладе «Расту¬
щие масштабы безопасности», недостаточно только про¬
возгласить демократические идеалы, необходимо также
«продемонстрировать решимость защитить их»34. И это
не случайно. Считая «свободную рыночную конкурен¬
цию» «идеологическим принципом» Соединенных Шта¬
тов35, американские теоретики в то же время опасаются
открыто выступать с позиций защиты капиталистической
системы, поскольку последняя изрядно скомпрометиро¬
вала себя в глазах народов. Кроме того, спекулирование
на демократических идеалах дает возможность запол¬
нить «вакуум веры», создать видимость существования
какой-то позитивной идеологической платформы, что
должно обеспечить большие дивиденды, нежели простой
негативизм в отношении коммунизма.
Весьма характерно, что из всей совокупности акций,
рассчитанных на придание демократического вида Сое¬
диненным Штатам, среди которых называются и такие
действительно серьезные для США проблемы, как обес¬
печение необходимой гласности, регулирование тайных
операций ЦРУ, ограничение взяточничества, на передний
план выпячивается так называемая «борьба за свободу
личности».
С помощью лозунга «защиты прав человека» Соеди¬
ненные Штаты пытаются представить себя «маяком сво¬
боды» в мире, восстановить репутацию, которую они
имели во время войны за независимость и гражданской
войны. Разумеется, тогда сохранялась эксплуатация че¬
ловека человеком, да и сейчас права человека попира¬
ются в США на каждом шагу. Однако лозунг «защиты
прав человека» абстрактно привлекателен и обладает
собственной политической энергией, подобно старым бур¬
жуазным лозунгам свободы, равенства и братства.
Несмотря на свою внешнюю «наступательность»,
кампания «в защиту прав человека» свидетельствует не
об уверенности правящих кругов США в прочности и
правоте своих позиций как вовне, так и внутри страны,
а совсем об обратном.
Спекулируя на этой действительно важной проблеме,
американские политики и идеологи преследуют вполне
определенные политические цели, которые направлены
на противодействие притягательной силе идей социализ¬
218
ма, на расшатывание реального социализма, на компро¬
метацию высокогуманной внешней политики Советского
Союза. Имеется и другой внутриполитический аспект
крена в сторону так называемой «защиты прав челове¬
ка». Он заключается в том, чтобы отвлечь внимание на¬
родных масс на Западе от глубокого кризиса капитали¬
стической системы, от раздирающих ее противоречий, от
неспособности этого строя решать такие насущные соци¬
альные проблемы, как безработица, расовая дискримина¬
ция, неравноправие женщин, ущемление личных свобод
граждан, рост преступности и т. п.
Если вопрос об обеспечении лидерства США с мо¬
рально-идеологических позиций, по существу, не вызыва¬
ет принципиальных возражений среди американских тео¬
ретиков, то в отношении выбора средств намечаются, по
крайней мере, два подхода.
Одна, наиболее воинственно настроенная часть аме¬
риканских теоретиков высказывается в пользу открытого
навязывания американских рецептов и подрыва основ
общественно-политического устройства стран социали¬
стического содружества и вступивших на путь некапита¬
листического развития освободившихся стран через по¬
средство «свободного потока информации». «Глобальная
революция, происшедшая в средствах связи, — пишет
У. Кинтнер в уже упоминавшейся статье, — представляет
собой идеальный инструмент для достижения и расши¬
рения свободы. Возможность завоевания умов людей
посредством электронных средств массовой информации
либо существует, либо должна быть создана. Символич¬
ным является то, что борьба между свободными и авто¬
ритарными обществами зависит от возможности поддер¬
живать плюралистическую глобальную коммуникацион¬
ную систему, включающую средства массовой информа¬
ции, развлечения, культурный обмен и международные
поездки»36. Сторонники подобной точки зрения видят
американскую миссию «морального руководства» миром
в «экспорте американских форм управления и идеалов»,
в развертывании своего рода «крестовых походов» под
флагом «защиты прав человека». Таким образом, расши¬
ряющиеся по мере углубления и упрочения разрядки
различного рода связи между государствами они хотели
бы использовать для неприкрытого вмешательства
во внутренние дела других стран, а отнюдь не для
укрепления взаимопонимания и доверия между наро¬
дами.
219
Выразители другой точки зрения утверждают, что
«внутренняя ситуация после Вьетнама не создает усло¬
вий для мобилизации энергии на крупную заморскую ак¬
цию», что «любая попытка предпринять новую пропаган¬
дистскую кампанию резко разъединила бы, а не объеди¬
нила американский народ», что идеологическое наступ¬
ление лишь могло бы «еще сильнее изолировать США и
в еще большей степени нарушить хрупкий международ¬
ный порядок, существующий в настоящее время»37. Орга¬
низация «крестовых походов за демократию и основные
права человека, — заявляют они, — крайне опасна и не¬
желательна».
«В моральном отношении здесь, — пишет об идее
«крестовых походов» профессор Гарвардского универси¬
тета С. Хоффман, — присутствует часто неосознанный
патернализм: раз мы знаем, что хорошо для других, и
раз другие сами не в состоянии добиться этого, то мы
берем спасение в свои руки. Здесь таится огромная
опасность лицемерия: не следует ли нам прежде всего
привести в порядок свой собственный дом?» Хоффмана
явно беспокоит и то, что у США нет ни компетенции, ни
людей в других странах, на которых они могли бы опе¬
реться как на «поборников защиты прав человека». «Нам
бы пришлось, — с горечью констатирует Хоффман, — за¬
вершать свои кампании подобно тому, как это было в
Южном Вьетнаме или с греческими полковниками, при¬
носить в жертву систему наших ценностей ради мини¬
мальных, символических или косметических реформ, вы¬
маливая, по существу, хотя и не открыто, то, чтобы нам
помогли прилично слезть с высокой лошади, на которую
мы взобрались». Можно спорить по поводу тех или иных
формулировок и аргументов, приводимых Хоффманом
против развязывания «крестовых походов» «в защиту
прав человека», но нельзя отказать ему в логике, когда
он отмечает лицемерный, ханжеский характер попыток
организации подобных походов и делает вывод о том, что
вынесение их на официальный, правительственный уро¬
вень не соответствует интересам ни США, ни мирового
сообщества38.
Признавая, что подобный курс может привести не
только к провалам во внешней политике, конфронтации
с другими странами, но и «к расколу и саморазрушаю-
щим тенденциям внутри самого политического организ¬
ма» США, сторонники более умеренного, сдержанного
подхода предлагают осуществлять «моральное руковод¬
220
ство миром» прежде всего силой собственного примера.
Как утверждает, например, президент Совета по между¬
народным отношениям, бывший декан школы права
Стэнфордского университета Б. Мэннинг, «долгосрочной
идеологической целью» США должно стать «моральное
руководство в мире, не путем экономической мощи, а си¬
лой идеологического примера»39. Характерно, однако, что
в качестве главного поля «морального воздействия» ими
предлагаются все те же «права человека».
Судя по всему, на практике крен делается в пользу
так называемого «высокоидеологизированного подхода».
Наметившееся после прихода к власти демократов в
1976 году вполне определенное возрастание степени иде¬
ологизации внешней политики выражается не только в
повышении значения рационально-идеологического ком¬
понента во всех внешнеполитических концепциях, в на¬
полнении их различного рода сюжетами «американской
мечты». Пропагандистская кампания «по правам челове¬
ка» стала проводиться с весьма большим размахом, ор¬
ганизованно, синхронно, масштабно.
Эта пропагандистская кампания рассматривается в
тесной увязке с проблемами «национальной безопаснос¬
ти». Однако однозначного подхода здесь нет. Одни, как,
например, 3. Бжезинский и авторы исследования Атлан¬
тического совета «Глобальные измерения безопасности»,
рассматривают эту кампанию как составную часть поли¬
тики «национальной безопасности». Другие, в том числе
координатор госдепартамента США по правам человека
Патриция Дериан, считают эту кампанию одним из
основополагающих элементов внешней политики наряду
с «национальной безопасностью». Однако, несмотря на
различные исходные предпосылки, практический вывод
один — эта кампания проводится дифференцированно,
применительно к различным странам и с учетом прежде
всего соображений «национальной безопасности». Аме¬
риканские идеологи стремятся доказать «законность»
проведения на официальном уровне такого рода кампа¬
нии, утверждая, что она является-де проявлением иде¬
ологической борьбы, не имеет отношения или, на языке
американских теоретиков, «сцепления» с решением таких
действительно важных вопросов, как упрочение между¬
народного мира и безопасности.
Попытки придания пропагандистской кампании «в за¬
щиту прав человека» характера внешнеполитической
акции, направленной на подрыв устоев социалистической
221
государственности в Советском Союзе, являются прояв¬
лением отнюдь не идеологической борьбы, а «психологи¬
ческой войны». Разумеется, идеологическая борьба, в
которой обоснованно отстаиваются определенные фило¬
софские и политические воззрения, не имеет ничего об¬
щего с «психологической войной», которая представляет
собой враждебную деятельность с использованием мето¬
дов клеветы, дезинформации и шантажа.
Попытки перевести установки относительно «кресто¬
вых походов» в практическую плоскость не без основания
вызывают беспокойство среди определенной части гос¬
подствующего класса США.
На страницах американской печати высказываются
опасения, что активное участие в антисоветской кампа¬
нии официального Вашингтона может нанести ущерб
государственным интересам Соединенных Штатов.
Об опасности вмешательства США во внутренние де¬
ла других стран предупреждал в свое время председа¬
тель сенатской комиссии по иностранным делам сенатор
Дж. Спаркмэн. «Неблагоразумно и тем более опасно,—
заявил он, — пытаться изменять внутренние порядки как
союзников, так и противников. В этом, несомненно, со¬
стоит один из главных уроков вьетнамской войны». Газе¬
та «Вашингтон пост» писала по тому же поводу следую¬
щее: «Соединенные Штаты имеют право защищать свои
ценности. Но тщетно рассчитывать на то, что многие
другие страны мира воздадут должное нашим ценностям
в философском или политическом смысле. Для амери¬
канцев наши ценности — наша гордость. Для многих
других американские ценности представляют собой вы¬
зов существующим правительствам и режимам. Это не те
карты, с помощью которых другие правительства легко
пойдут на сотрудничество с США»40.
Глубокую озабоченность вызывает и тот факт, что
антисоветская кампания ведет к подрыву политики раз¬
рядки, принесшей Соединенным Штатам за последние
годы важные политические результаты. «США, — пишет
«Нью-Йорк тайме», — могут предпринять лишь очень не¬
многие меры, исключающие провоцирование конфронта¬
ции и не ухудшающие международный климат». Газета
указывает при этом на провал попыток связать вопрос
об эмиграции из Советского Союза с вопросами тор¬
говли41.
С предостережениями против использования кампа¬
нии «в защиту прав человека» в качестве составной части
222
внешней политики США неоднократно выступал и
бывший государственный секретарь Г. Киссинджер.
«Нам, — заявил он в августе 1978 года, — не следует ис¬
пользовать политику в отношении прав человека в каче¬
стве предлога для вмешательства во внутренние дела
других стран. Когда мы ее используем так, мы приносим
в жертву собственные интересы». В другом своем выступ¬
лении— в сентябре 197В года Киссинджер прямо при¬
знал, что «эта ненужная критика (имеются в виду на¬
падки США на государственный строй СССР. — В. П.)
не привела к практическим результатам, которых добива¬
лись США, а вызвала лишь усиление напряженности
между двумя странами».
Первые же попытки реализации содержащихся во
внешнеполитических концепциях США установок относи¬
тельно «морального лидерства» вылились в своеобраз¬
ный «идеологический интервенционизм», во вмешатель¬
ство во внутренние дела других стран и в силу этого по¬
лучили достойный отпор как со стороны социалистиче¬
ских, так и многих других государств мира. В кампании
«по правам человека», сопровождающейся подрывной
деятельностью, характерной для времен «холодной вой¬
ны», в Советском Союзе и во многих других странах
справедливо увидели опасность для разрядки междуна¬
родной напряженности, для нормальных отношений
между СССР и США, для возможности их совместных
усилий в деле предотвращения войны, укрепления мира.
Несостоятельность притязаний на «моральное лидер¬
ство» обнаружилась и в том, что они осуществляются на
«выборочной основе»: страны, имеющие меньшее страте¬
гическое значение для США (Аргентина, Уругвай, Роде¬
зия), навлекают на себя некоторую долю обвинений в
нарушении ими «гражданских прав», тогда как по отно¬
шению к нарушению этих же прав в тех странах, где США
имеют важные стратегические интересы, со стороны Сое¬
диненных Штатов проявляется (Южная Корея, Чили)
или проявлялась в недавнем прошлом (шахский Иран)
удивительная терпимость. Более того, дело Лэнса, члена
нынешнего правительства США, уличенного в финансо¬
вых махинациях, метко охарактеризованное американс¬
кой печатью по аналогии с уотергейтским скандалом как
«мини-Уотергейт» и «Лэнсгейт», показало ханжеский ха¬
рактер моралистских притязаний, цинизм, с которым
они используются.
В последнее время в США стали обнаруживаться не¬
223
которые признаки свертывания непомерно раздутых пре¬
тензий на «моральное лидерство». Из этого, однако, не
следует, что внешнеполитические действия начинают
утрачивать моралистскую окраску. Установка на «мо¬
ральное лидерство» по-прежнему сохраняется.
Никто из правящего класса в США не собирается
отказываться от пропагандистской кампании, выставля¬
ющей США в роли радетелей «за демократию и права че¬
ловека». Речь идет о другом — о корректировании такти¬
ки. Констатируя определенные издержки, связанные с
проведением кампании «в защиту прав человека», редак¬
тор журнала «Форин афферс» Дж. Чейс вместе с тем от¬
мечает, что эта кампания — «тем не менее крестовый по¬
ход, и маловероятно, что он прекратится». В дальнейшем,
по его мнению, следует лишь ожидать большей тонкости
и меньшей риторики, которая в конечном счете оберты¬
вается лишь поражениями42.
В таком же ключе высказывается и сотрудник Совета
по внешним сношениям С. Фогельгезанг, работавшая
прежде в группе по планированию госдепартамента
США. «Главный вопрос, который стоит перед нами,—
поясняет она, — сводится не к тому, нужно ли бороться в
защиту прав человека». По ее словам, «будущее амери¬
канской политики в вопросе о правах человека заключа¬
ется в ответе на более широкий вопрос: какой ценой сле¬
дует отстаивать этот принцип?»43.
Корректировка тактики проявляется, в частности, и в
том, что официальный Вашингтон, судя по последним
заявлениям 3. Бжезинского, стремится расширить мо¬
ральную платформу, включив в нее помимо борьбы за
гражданские права и такие вопросы, как национальное
самоопределение народов, мир, справедливость. Судя по
всему, предполагается также использовать во внешней
политике фактор «прав человека» с учетом других фак¬
торов, провести грани между невозможным, желаемым
и возможным.
«Моральное лидерство» на практике не исчерпывает¬
ся проведением шумной пропагандистской кампании
«в защиту прав человека».
Существенное значение в идеологической обработке
занимает пропаганда милитаризма, проповедь культа
военной силы. Активно подогреваются настроения шови¬
низма, национализма и расизма. Для оправдания внеш¬
неполитических акций широко используется геополити¬
ческая аргументация.
224
Если в практическом плане «моральное лидерство»
США обеспечивается посредством официально проводи¬
мой пропагандистской кампании «в защиту прав чело¬
века», то в теоретическом плане оно дополнительно под¬
крепляется усиленным внедрением в обиход концепции
«модернизации», которая предлагает американский ответ
на вопрос о путях социально-политического и экономиче¬
ского развития человечества.
Термин «модернизация», как об этом заявляют ее
приверженцы, представляется им достаточно широким,
чтобы попытаться объединить положения различных бур¬
жуазных социологических наук и тем самым создать
единую теоретическую основу учения об обществе, кото¬
рую можно было бы противопоставить марксистско-ле¬
нинскому учению, с тем чтобы ослабить притягательную
силу идей социализма, оградить капитализм от соци¬
альных потрясений и обосновать необходимость капита¬
листического пути развития в условиях научно-техниче¬
ской революции. Профессор Колумбийского университе¬
та Р. Исаак прямо заявляет, что США обязаны как
можно быстрее «разработать модель экономической, по¬
литической и социальной модернизации стран «третьего
мира», которая могла бы успешно противостоять совет¬
ской модели»44.
Теорию «модернизации» буржуазные идеологи счи¬
тают более эффективным оружием в борьбе против марк¬
сизма-ленинизма, нежели концепцию «конвергенции»,
хотя, по существу, она, как и концепция «конвергенции»,
восходит к идее «индустриального общества». Эта идея,
как известно, рассматривает историю не как последова¬
тельную смену социально-экономических, формаций, а
как смену фаз в развитии производства и потребления,
причем фазы эти отличаются только в количественном
отношении. Капитализм и социализм трактуются ею как
два варианта «индустриального общества», социальные
проблемы подменяются технико-организационными и
функциональными, полностью затушевывается принци¬
пиальное различие между капитализмом и социализмом
с точки зрения классовой структуры, характера и систе¬
мы власти, отношений собственности.
В то же время, в отличие от концепции «конверген¬
ции», концепция «модернизации» делает упор не на цель,
а на процесс продвижения к цели, хотя не подлежит сом¬
нению, что и для нее желаемой целью остается сохране¬
ние капитализма, правда, усовершенствованного благода¬
225
ря достижениям науки и техники. Такой прием служит
делу маскировки подлинного содержания этой империа¬
листической по своему характеру концепции.
«Модернизацией» буржуазные теоретики объявляют
процесс перехода от так называемого «традиционного» к
«современному» (модерн) обществу. «Преимущество та¬
кого понятия, как «модернизация», — признает в своей
книге С. Блэк, — состоит не в том, что оно шире, чем
«вестернизация» (т. е. развитие по западному образцу.—
В. Я.), «европеизация», «индустриализация» и даже
«прогресс», а в том, что оно не перегружено содержани¬
ем»45. Иными словами, «модернизация» не выпячивает
заложенного в ней социально-политического содержания,
дает возможность навязывать это содержание более
изощренными методами.
Буржуазным теоретикам приходится прибегать к по¬
добным уловкам, поскольку они не могут не учитывать
влияния реального социализма, усиления антиимпериа¬
листического движения в мире. Капиталистические по¬
рядки отвергают ныне не только широкие массы трудя¬
щихся, но и другие классы освободившихся стран. Как
с горечью констатирует западногерманский историк
В. Цапф, «социалистическая модель может оказаться
более приемлемой для стран, вступивших на путь нацио¬
нального освобождения»46. Это и заставляет идеологов
империализма придавать своим «моделям развития»
более закамуфлированные формы. Однако даже амери¬
канские политологи признают, что по своему существу
понятие «модернизация» идентично понятию «вестерни¬
зация», но от последнего, как писал, например, Д. Лернер,
следует отказаться ввиду негативного отношения к нему
со стороны народов развивающихся стран47.
Выдвигая задачу обеспечения «стабильной демокра¬
тии», сторонники концепции «модернизации» сосредото¬
чивают свои усилия на том, чтобы изыскать такие спо¬
собы урегулирования социальных конфликтов, которые
обеспечили бы сохранение капиталистического строя.
Поэтому они изображают «модернизацию» как «долго¬
срочный», «эпохальный» процесс универсального харак¬
тера, а происходящие в современном мире революцион¬
ные перемены — как некую «ступень всеобщей модерни¬
зации»48. Фетишизируя значение научно-технических
проблем, они пытаются свести смысл социальной револю¬
ции к модернизации той или иной страны.
Одна из важнейших задач концепции «модерниза¬
226
ции»— обоснование неоколониалистской стратегии импе¬
риализма. Ее постулаты призваны подорвать идею нека¬
питалистического пути развития освободившихся стран.
Правда, в отдельных случаях авторы этих концепций вы¬
нуждены признавать (как это делает, например, проф.
Д. Эптер), что страны социалистической ориентации луч¬
ше решают некоторые свои проблемы, нежели страны,
идущие по капиталистическому пути. Но, признав это,
Д. Эптер делает оговорку: успехи «мобилизационной си¬
стемы» (так он называет некапиталистическое развитие)
возможны лишь на начальной стадии, очень скоро она
«достигает своей наивысшей эффективности и распадает¬
ся»49. Таким образом, в конечном счете концепция «мо¬
дернизации» рассчитана на то, чтобы поставить под
сомнение марксистско-ленинскую теорию революции.
Следовательно, объективистская по своему виду кон¬
цепция «модернизации» проникнута духом идеологичес¬
кой конфронтации с марксизмом-ленинизмом. Ее сторон¬
ники не гнушаются ни фальсификацией фактов, ни кле¬
ветническими утверждениями по поводу опыта социали¬
стического и коммунистического строительства в Совет¬
ском Союзе. Как отмечает сотрудник Калифорнийского
университета Д. Типпс, интерес теоретиков «модерниза¬
ции» к вопросам обеспечения социальной и политической
стабильности — это не что иное, как «часто ярко выра¬
женный антикоммунизм, безразличие к эксплуатации
капиталистическими монополиями развивающихся стран.
А это делает концепцию по существу в равной мере
приемлемой и для Белого дома, и для Пентагона, и для
государственного департамента»50.
Антикоммунистическая суть концепции «модерниза¬
ции» весьма рельефно проявляется в подходе ее авторов
к вопросу о характере «современного» общества, которое
делится ими на «открытое» и «закрытое». Уже в той тер¬
минологии, которая ими используется, отчетливо про¬
слеживается вполне определенная классовая позиция
буржуазных идеологов. Хотя при этом они стараются
соблюсти видимость объективности, на деле в качестве
эталона «современного общества» они предлагают капи¬
талистическое общество, каковое и именуют «открытым».
В то же время, признавая, что «модернизация» озна¬
чает, говоря словами В. Цапфа, «равнение на западные
образцы», буржуазные идеологи учитывают необходи¬
мость не слишком афишировать свою приверженность
моделям, построенным исключительно на западный ма¬
227
нер. Поэтому они рассуждают о возможности того, чтобы
«открытое» общество в какой-то мере учитывало и осо¬
бенности других стран, вбирало в себя, например, и
«японский опыт». Но при этом они ведут речь только о
странах с капиталистическим строем.
Главным достоинством «открытого», то есть капита¬
листического, общества буржуазные идеологи провозгла¬
шают его «плюралистический» характер. Буржуазная
демократия объявляется ими «высшим эталоном общест¬
венного развития»51. Они всячески рекламируют «образ
жизни» при капитализме, превозносят буржуазную сво¬
боду личности, объявляя ее главным отличительным при¬
знаком «открытого» общества. Спекулируя на действи¬
тельно важной проблеме свободы личности, теоретики
«модернизации» вырывают это понятие из общего кон¬
текста той социально-экономической среды, которая оп¬
ределяет степень подлинного осуществления и гарантии
прав человека. Так, например, С. Блэк утверждает, что
человек, живущий в «открытом» обществе, от своих
предшественников отличается большей терпимостью и
большей озабоченностью вопросами контролирования
окружающей среды, в силу чего-де он становится «менее
уверенным и стабильным»52. В такой оценке личности в
капиталистическом обществе нельзя не подметить созна¬
тельной фальсификации. Озабоченность и неустойчи¬
вость, апатия и отчужденность, то есть те черты, которые,
по словам самих же буржуазных социологов, присущи
человеку в так называемом «открытом» обществе, поро¬
ждены отнюдь не изменением его психологических
свойств или его озабоченностью проблемами окружаю¬
щей среды, а прежде всего теми социальными условиями,
в которые ставит человека капитализм. Экономический
кризис, неуверенность в завтрашнем дне, социальное
и политическое неравенство — вот первопричина тех пес¬
симистических настроений, которые охватывают все более
широкие слои населения на Западе.
Расписывая преимущества «открытого» общества, те¬
оретики «модернизации» в то же время обрушиваются
на «закрытое» общество. Этот термин был пущен в ход
еще во времена «холодной войны», для того чтобы очер¬
нить Советский Союз и другие страны социалистического
содружества. Излюбленный аргумент тех, кто раздувает
миф о «закрытом» обществе, — утверждение, будто соци¬
алистические страны избегают общения с другими наро¬
дами, уклоняются от обмена информацией и развития
228
контактов между людьми. Такие утверждения находятся
в вопиющем противоречии с фактами. «Создание атмо¬
сферы доверия между государствами, столь необходимой
для прочного мира, требует, чтобы народы все лучше зна¬
ли и понимали друг друга»53, — так охарактеризовал
позицию Советского Союза в этом вопросе Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Вер¬
ховного Совета СССР JT. И. Брежнев.
В своем подходе к общению с другими народами, в
частности к расширению обмена информацией и челове¬
ческих контактов во всем их многообразии, социалисти¬
ческие страны руководствуются тем, что это дело вполне
естественное, разумеется, при строгом соблюдении прин¬
ципов взаимного уважения суверенитета и невмешатель¬
ства во внутренние дела друг друга.
Толкуя о «свободе» контактов и обмене информацией,
многие идеологи на Западе вовсе не заботятся о том,
чтобы развитие контактов и обмен информацией служили
гуманным идеалам, делу мира, укрепления доверия и
дружбы между народами. Они больше пекутся о другом:
получить свободу рук для подрывных действий против
Советского Союза и других стран социалистического со¬
дружества. Так, в статье «Политика Соединенных Шта¬
тов в отношении Восточной Европы до и после Хельсин¬
ки» Р. Бирнс, не скрывая своих помыслов, объявляет
«предпочтительной» идеологическую борьбу и в этой свя¬
зи называет «важными инструментами в области свобод¬
ного обмена информацией» радиостанции, узурпировав¬
шие такие названия, как «Свобода» и «Свободная Евро¬
па»54. Известно, однако, что само существование этих ра¬
диостанций отравляет международную атмосферу, явля¬
ется прямым вызовом и духу, и букве договоренностей,
достигнутых в Хельсинки, в связи с чем страны социализ¬
ма решительно выступают за прекращение деятельности
этих орудий «психологической войны».
Весьма показательно, что, развертывая критику ими
же выдуманного «закрытого» общества за мнимое отсут¬
ствие контактов с другими странами, буржуазные идео¬
логи обходят такую важную сторону общения между
народами, как культурный обмен.
Это и понятно. Хорошо известно, что Советское пра¬
вительство придает важное значение тому, чтобы совет¬
ские люди были знакомы с прошлым и настоящим дру¬
гих народов, глубоко понимали культуру, умели уважать
исторический опыт и достижения других народов. Совет¬
229
ское государство всемерно поощряет культурный обмен:
закрепляет его межправительственными соглашениями,
из года в год расширяет его объем. В Советском Союзе в
соответствии с Заключительным актом совещания в Хель¬
синки приняты дополнительные меры для увеличения об¬
мена книгами, фильмами, произведениями искусства. Та¬
кова же линия в этих вопросах и других социалистиче¬
ских стран — участниц общеевропейского совещания.
В целом народы социалистических стран значительно
лучше осведомлены о жизни на Западе, нежели населе¬
ние капиталистических стран — о социалистической дей¬
ствительности. Причина тому — стремление правящих
кругов буржуазных стран не дать трудящимся возмож¬
ности из первоисточника узнавать правду о странах со¬
циализма, об их общественном и культурном развитии,
о политических и нравственных устоях социалистическо¬
го общества.
Миф о «закрытом» обществе используется буржуаз¬
ными внешнеполитическими идеологами и как платфор¬
ма для предъявления абсурдных требований «либерали¬
зации» в Советском Союзе и других социалистических
странах.
К числу таких требований относятся и претензии об
«обеспечении прав человека» в социалистических странах.
Не подлежит сомнению, что тех, кто на Западе выступа¬
ет под этим лозунгом, волнуют отнюдь не интересы сво¬
бодного и всестороннего развития личности. Они помыш¬
ляют об обеспечении различного рода отщепенцам ус¬
ловий для выступлений против социалистического строя.
Вопрос о правах человека — действительно важный
вопрос и требует серьезного подхода. Всей своей практи¬
кой социализм показывает, что только передовая со¬
циально-экономическая система обеспечивает и гаранти¬
рует трудящимся свободу, подлинно демократические
права, благосостояние, широчайший доступ к знаниям,
уверенность в будущем. Более того, именно социализм на
протяжении многих лет выступает в качестве силы, ко¬
торая добивается гуманизации международных отноше¬
ний, утверждения таких международно-правовых поряд¬
ков, которые создавали бы оптимальные условия для за¬
щиты не только политических, но и наиболее насущных
социальных прав личности: права на труд, образование,
медицинское обслуживание и т. п. Именно от социалисти¬
ческих государств исходит инициатива в этих вопросах,
именно под их влиянием получили признание многие де¬
230
мократические нормы современной международной жиз¬
ни, нашедшие закрепление в официальных международ¬
ных документах, как двусторонних, так и много¬
сторонних.
Лицемерно декларируя на словах «заботу» «о правах
человека» в странах социализма, буржуазные внешнепо¬
литические идеологи закрывают глаза на то, что проис¬
ходит в самих Соединенных Штатах.
Весьма характерно, что под тем же предлогом «обес¬
печения национальной безопасности», с помощью кото¬
рого обосновывается необходимость «морального лидер¬
ства» США, власти США, в нарушение элементарных
гражданских прав, широко используют мощный сыскной
и репрессивный аппарат для борьбы с прогрессивными
организациями и деятелями, выступающими за ради¬
кальные перемены.
На состоявшихся в ноябре — декабре 1975 года слу¬
шаниях в специальном комитете конгресса США по во¬
просу о правительственных операциях в связи с разве¬
дывательной деятельностью55, а также в докладе этого
комитета «Разведывательная деятельность США и пра¬
ва американцев» приводились многочисленные случаи
систематического нарушения законности и прав челове¬
ка в США, политических злоупотреблений, прикрывае¬
мых соображениями высшего порядка «национальной
безопасности», со стороны «разведывательного сообще¬
ства» США: ЦРУ, ФБР, органов военной разведки. От¬
мечалось, в частности, что только в самой штаб-квартире
ФБР, не считая его местных отделений, собрано более
полумиллиона «индивидуальных дел», заведенных на
«инакомыслящих», сотни тысяч писем граждан перлюст¬
рировались ЦРУ, миллионы частных телеграмм анали¬
зировались органами военной разведки. Было установле¬
но, что на основании так называемого закона о внутрен¬
ней безопасности 1950 года все прогрессивные и демо¬
кратические организации США стали объектом скрытого
надзора полицейского аппарата. Упомянутый комитет
конгресса констатировал «нарушение и пренебрежение
законом» в США56.
При этом особо подчеркивалось, что сами высокопо¬
ставленные официальные лица правительства, которые
были обязаны осуществлять контроль за деятельностью
«разведывательного сообщества», «преувеличивали угро¬
зы национальной безопасности и допускали равнодушие
к правам американских граждан», отстаивали мнение,
231
что «суверенам-правотворцам» позволено нарушать
закон.
Как отмечалось на пресс-конференции, проведенной в
феврале 1977 года в Вашингтоне Центром исследований
проблем национальной безопасности и нарушений влас¬
тями гражданских прав, ФБР и ЦРУ фактически поста¬
вили себя над законом, осуществляя тотальную слежку
за американскими гражданами. Деятельность спецслужб,
заявил на этой пресс-конференции бывший сотрудник
Совета национальной безопасности М. Гальперин, пред¬
ставляет «угрозу для всех граждан страны».
Масштабы тотального надзора над гражданами, оп¬
равдываемого «интересами национальной безопасности»,
не ограничиваются, однако, усилиями «разведыватель¬
ного сообщества». В середине 70-х годов различные де¬
партаменты правительства США располагали 6723 сис¬
темами досье на американских граждан, насчитывающи¬
ми в сумме 3,9 млрд. «индивидуальных дел» — по 18 до¬
сье в среднем на каждых мужчину и женщину.
Попрание прав личности, массовая полицейская
слежка, досье на миллионы граждан — таково подлинное
содержание американской демократии, которая выстав¬
ляется апологетами «модернизации» как «образец для
подражаний».
Весьма показательно, что такие видные американские
исследователи, как М. Гальперин и С. Хоффман, ставя
в своей книге «Свобода против национальной безопасно¬
сти» вопрос о том, как увязать действия правительства
якобы в целях обеспечения «национальной безопасности»
с соблюдением свобод, гарантированных в Билле о пра¬
вах, так и не находят ответа на этот вопрос57.
Все это лишний раз подтверждает фарисейство про¬
водимой США пропагандистской шумихи «в защиту прав
человека» в странах социализма.
Что касается другого, не менее абсурдного требова¬
ния— призывов к внедрению «плюрализма» в политиче¬
скую систему социализма, то здесь речь идет отнюдь не
о согласованном выражении воли различных слоев об¬
щества, а о возможности его раскола, ставящего под воп¬
рос революционные завоевания трудящихся.
Подобные представления о свободе и демократии не
имеют ничего общего с действительностью. Социализм —
самое гуманное и самое демократическое общество на
земле — обеспечивает подлинное народовластие, широ¬
кое участие трудящихся в управлении всеми делами об¬
232
щества, гарантирует свободу слова, печати, собраний,
свободу совести и вероисповедания, неприкосновенность
личности и жилища, свободу выбора деятельности, сво¬
боду развития и применения своих способностей и талан¬
тов на благо общества и в интересах самой личности.
Социалистическая демократия, и в этом ее отличи¬
тельная черта, — это единство прав и обязанностей, под¬
линной свободы и гражданской ответственности, гармо¬
ничное сочетание интересов общества, коллектива и лич¬
ности. Убедительным выражением глубокого демокра¬
тизма советского строя является всенародная поддерж¬
ка ленинской внутренней и внешней политики Коммуни¬
стической партии, все возрастающая политическая и тру¬
довая активность народных масс.
Радетели «плюрализма» ничего не могут противопо¬
ставить социализму, если говорить о демократии и свобо¬
де по существу, со строго классовых позиций. Маркси¬
сты-ленинцы считают, что не может быть «чистой демо¬
кратии», прав и свободы человека вообще, поскольку они
неизбежно носят классовый характер, служат интересам
определенных классов. Марксистам-ленинцам чужда
такая концепция демократии, которая дает право мень¬
шинству эксплуатировать большинство. Они выступают
за подлинную демократию, которая достижима только
при социализме — в обществе, где не существует эксплу¬
ататорских классов.
Разглагольствования же буржуазных идеологов отно¬
сительно «либерализации» в странах социализма пред¬
ставляют собой не что иное, как претензию на вмеша¬
тельство во внутренние дела социалистических госу¬
дарств, попытку навязать им буржуазный правопорядок
и тем самым подорвать основы их общественно-полити¬
ческой системы.
Пытаясь придать благопристойный облик своим по¬
пыткам легализовать беспрепятственный экспорт иде¬
ологической продукции империализма в социалистиче¬
ские страны, буржуазные внешнеполитические идеологи
ссылаются на положения, якобы содержащиеся в Заклю¬
чительном акте Совещания по безопасности и сотрудни¬
честву в Европе. Такой прием — явное передергивание
фактов. В Заключительном акте общеевропейского сове¬
щания ясно и недвусмысленно сказано, что сотрудничест¬
во в гуманитарных и других областях должно практико¬
ваться при полном соблюдении принципов, регулирую¬
щих отношения между государствами, одним из которых
233
является уважение прав народов свободно выбирать и
развивать свои политические, социальные, экономиче¬
ские и культурные системы. Однако буржуазные идеоло¬
ги проявляют, как видно, забывчивость по поводу того,
что признано всеми участниками совещания. Более того,
они пытаются выхолостить и извратить самую суть За¬
ключительного акта, использовать этот документ как
ширму для вмешательства во внутренние дела стран со¬
циализма.
Апологетика американского образа жизни наглядно
проявляется, в частности, и в явно тенденциозном срав¬
нительном анализе американской конституции с приня¬
той в 1977 году Конституцией СССР.
Сопоставление нашей Конституции с американской
конституцией, хотя между ними, понятно, и лежит дис¬
танция огромного социально-экономического и историче¬
ского масштаба, вполне допустимо, поскольку американ¬
ская конституция не принадлежит только истории, а
является и поныне действующим основным законом Со¬
единенных Штатов, крупнейшего капиталистического го¬
сударства. Но о чем свидетельствует такое сопоставле¬
ние?
Прежде всего бросается в глаза, что американская
конституция содержит лишь одно реальное социально-
экономическое право — право владения и распоряжения
частной собственностью. В конституционном законода¬
тельстве США нет таких важнейших социально-экономи¬
ческих прав, как право на труд, на отдых, на образова¬
ние, на бесплатное медицинское обслуживание, на соци¬
альное обеспечение, на жилище. Между тем хорошо
известно, что международное сообщество наций еще в
1948 году по инициативе Советского Союза заявило о
праве на труд как неотъемлемом праве каждого челове¬
ка, независимо от того, в стране какой социальной струк¬
туры современного мира он живет. США, которые в про¬
пагандистских целях часто ссылаются на эту деклара¬
цию ООН, уходят от того, чтобы свою собственную
конституцию привести в соответствие с положениями
Всеобщей декларации прав человека.
Характерно и другое. США не только не гарантируют
декларируемых конституцией прав, но и уклоняются от
принятия конкретных обязательств по защите прав че¬
ловека. Правда, недавно правительство Картера сделало
жест, подписав один из международных пактов о правах
человека. Но хорошо известно, что от подписания до
234
утверждения конгрессом лежит долгий путь. Достаточно
сказать, что Конвенция о борьбе с геноцидом замороже¬
на в конгрессе США уже свыше двух десятков лет.
И еще один момент. При всем публичном расшарки¬
вании перед своей конституцией американские правящие
круги на практике не стесняются, когда это отвечает их
интересам, грубо игнорировать ее либо изменять законо¬
дательство в угодном им направлении.
И наконец, о внешней политике. В американской кон¬
ституции упоминается лишь о том, кто в правительстве
наделен правом определять внешнюю политику. И хотя
там совершенно ясно записано, что правом этим облада¬
ют сенат и конгресс, десятилетие грязной войны во Вьет¬
наме показало, что практически им пользуется один че¬
ловек — президент. Собственно, конгресс США офици¬
ально не объявлял войны во Вьетнаме. Более того, война
эта принимала все более широкий размах, невзирая на
массовую оппозицию со стороны американского народа
и его молодежи. Только когда стало ясно, что нельзя
противостоять героической борьбе вьетнамского народа,
мощной моральной и материальной поддержке Советско¬
го Союза, что нельзя игнорировать все возрастающие
протесты миролюбивых сил всего мира, американский
империализм отступил.
Не удивительно, что правящие круги США вполне
устраивает принятая более 200 лет назад конституция,
поскольку содержащаяся в ней высокопарная фразе¬
ология, по сути дела, ни к чему эти круги не обязывает.
На фоне американской конституции, содержащихся в
ней деклараций и ее соотношения с политической практи¬
кой четко вырисовывается качественное отличие Консти¬
туции Советского Союза, которая всем своим содержа¬
нием исходит из полной гармонии слова и дела, из
реального гарантирования содержащихся в ней положе¬
ний. И еще одна отличительная черта нашей Конститу¬
ции. В. И. Ленин, Коммунистическая партия всегда рас¬
сматривали Конституцию не как законодательный акт,
регистрирующий прошлое, а как важный политический
документ, утверждающий уже достигнутое и вместе с тем
провозглашающий основные задачи коммунистического
строительства. Новая, четвертая по счету Конституция
СССР не только отражает и закрепляет наши реальные
достижения, но и устремлена в будущее. Подобно мощ¬
ному маяку, она освещает трудящимся путь к великой
цели — построению коммунистического общества.
235
Наконец, новая советская Конституция — это, по сло¬
вам Генерального секретаря Компартии США Гэса Хол¬
ла, резкая и убедительная отповедь тем кругам на За¬
паде, в том числе в США, которые разглагольствуют о
«правах человека» при капитализме и выставляют са¬
мих себя в роли «защитников демократии», хотя для это¬
го у них нет никаких оснований.
*
Повышение роли морального фактора в доктрине
«национальной безопасности» отнюдь не заменяет, а под¬
крепляет военно-силовую ориентацию этой доктрины,
отражая общую тенденцию в современном внешнеполи¬
тическом мышлении США. Нынешняя оценка места и
роли морально-политического потенциала убедительно
свидетельствует о возрастающем значении, которое при¬
дают ему правящие круги США.
Поворот внешнеполитической мысли США в сторону
«реидеологизации», представляющий собой поиски наи¬
более выгодных с точки зрения правящего класса США
политико-идеологических средств борьбы в условиях раз¬
рядки, означает не более чем смену тактики в общей
стратегии американского империализма, нацеленной, в
частности, на дискредитацию идей социализма. В то же
время в связи с такой сменой тактики усиливается про¬
тивоборство сил в правящем классе США. Трезво мысля¬
щие представители правящих кругов США справедливо
требуют умерить пыл новоявленных рыцарей «идеологи¬
ческих крестовых походов», прекратить попытки вмеша¬
тельства во внутренние дела стран социалистического
содружества — попытки, которые наносят ущерб корен¬
ным интересам самих США, не говоря уже об интересах
материализации разрядки и дальнейшего оздоровления
международного климата.
Мирное сосуществование, бесспорно, открывает боль¬
шие возможности для демонстрации преимуществ наибо¬
лее передовой социально-экономической системы, облег¬
чает народам выбор наилучшей альтернативы. Это
означает необходимость отстаивания соответствующих
принципов и идеалов. Идейная борьба, каких бы мас¬
штабов она ни достигала, предполагает во всех случаях
открытое, честное, научно обоснованное разъяснение
взглядов и убеждений, сопоставление фундаментальных
ценностей социализма и капитализма, недопущение
236
фальсификации и клеветы, проповеди человеконенави¬
стничества, расизма, вражды между народами.
Задача состоит в том, чтобы не допустить подмены
этой борьбы «психологической войной» с присущими ей
методами лжи, клеветы и дезинформации, поставить
идеологическую борьбу в такие рамки, которые бы
исключили вмешательство во внутренние дела других
стран.
Еще в 1933 году, при установлении дипломатических
отношений между СССР и США, обе стороны обменя¬
лись письмами, в которых обязались воздерживаться от
вмешательства во внутренние дела друг друга по идеоло¬
гическим мотивам. Уроки советско-американских отно¬
шений убедительно свидетельствуют, что при всех разли¬
чиях в идеологии имеются возможности для стабильного
и конструктивного развития этих отношений на принци¬
пах полного равноправия, взаимного уважения сувере¬
нитета и невмешательства во внутренние дела друг
Друга.
Дипломатия
Признание уменьшающихся возможностей прямого
применения военной силы во внешней политике США
сопровождается, в числе прочего, поиском таких концеп¬
туальных схем, которые открывали бы перспективу по¬
лучения выгод от частичных, «маргинальных» преиму¬
ществ в продолжающемся наращивании военной мощи с
целью использования ее в дипломатии в качестве сред¬
ства давления на противоположную сторону.
Обращение политической и научной элиты США к
проблемам дипломатии в последнее десятилетие — явле¬
ние весьма знаменательное.
В условиях «холодной войны», когда обеспечение
«национальной безопасности» связывалось американски¬
ми теоретиками исключительно с военной силой, дипло¬
матии отводилась, по существу, второстепенная, подсоб¬
ная роль. Дипломатия рассматривалась как «неамери¬
канское» занятие, удел ослабленных после войны запад¬
ноевропейских союзников США. Применительно к амери¬
канской дипломатии широко употреблялось понятие
«дипломатия насилия», что означало полное подчинение
дипломатии политике «с позиции силы». Все это наложи¬
ло заметный отпечаток на оценку дипломатии как сред¬
ства внешней политики. Согласно распространенному в
237
американской литературе в тот период определению, су¬
щество дипломатии сводилось «к аккумулированному
политическому, экономическому и военному нажиму на
другую сторону»58. Одновременно допускалось право
дипломатии на произвольное использование любых дру¬
гих средств, включая международное право, для прида¬
ния видимости законности своим действиям.
Важнейшая функция дипломатии — переговоры —
ограничивалась сферой взаимоотношений США с их со¬
юзниками по военно-политическим блокам. Что касается
отношений с Советским Союзом, то здесь для диплома¬
тии, как таковой, вообще не оставалось места. «Альтер¬
нативой дипломатии стала постоянная военная готов¬
ность»59,— констатирует автор одного из последних ис¬
следований о происхождении «холодной войны»
Д. Ерджин.
Отдельные исследователи, например Б. Уэстерфилд,
даже лишали дипломатию права на существование в ка¬
честве самостоятельного средства внешней политики,
утверждая, что «традиционные задачи дипломата (пере¬
говоры, информация, представительство своего народа и
правительства) в значительной степени осуществляются
при использовании им других, более конкретных инстру¬
ментов политики»60.
В целом американские авторы в годы «холодной вой¬
ны», как заметил один голландский исследователь,
склонны были уподоблять дипломатию «беспомощной
дряхлеющей марионетке, исполняющей танец смерти»61.
Переоценка созданных в годы «холодной войны» по¬
стулатов «национальной безопасности», ориентировав¬
ших сугубо на военно-силовой подход к международным
проблемам, вызвала заметное беспокойство по поводу
«дискредитации» и «обесценения» дипломатии, привела к
выдвижению в американских теоретических исследова¬
ниях концепции переговоров. Между пониманием необ¬
ходимости сдержанности в применении военной силы и
повышением значения невоенных методов политики,
прежде всего дипломатии, существует прямая связь. Сде¬
ланный в США на основе трезвой переоценки изменения
соотношения сил в мире вывод об опасности военного
противостояния с СССР подразумевает целесообраз¬
ность переговоров с Советским Союзом и другими соци¬
алистическими государствами. «Ядерный тупик, — пишет
видный американский политолог К. Томпсон, — сделал
открытый военный конфликт неприемлемым, поскольку
238
крупные державы лишены возможности использовать
весь арсенал своих вооружений, им ничего не остается,
как разрешать свои конфликты политическими средства¬
ми»62. Переговоры, как стали считать в США, позволяют
столь же надежно, как и военные методы, обеспечивать
интересы Соединенных Штатов, всей капиталистической
системы.
Весьма показательно, что к подобным выводам прихо¬
дят не только политики, но и отдельные военные. Разде¬
ляя высказывание Фридриха Великого о том, что «дип¬
ломатия без оружия равносильна музыке без инструмен¬
тов», генерал М. Тейлор вынужден признать, что
невозможность прямо использовать вооруженные силы в
интересах внешней политики значительно повышает роль
дипломатии, делает ее основным средством достижения
внешнеполитических целей63.
Выступая за дипломатию переговоров, видный амери¬
канский политический деятель и теоретик С. Блэк
утверждает, то с ее помощью США смогут не только
надежно обеспечить свои интересы, но и «избежать изо¬
ляционизма, с одной стороны, и выполнения непосильной
роли мирового полицейского — с другой»64. Необходи¬
мость возрождения «забытого древнего искусства дипло¬
матии» Блэк мотивирует и тем, что профессиональная
дипломатическая служба «способна помочь президенту
определить четко и убедительно реальные национальные
интересы нашей страны в мире» и «оказать эффективную
помощь в формулировании политики, отвечающей этим
целям»65.
Руководствуясь вполне определенными классовыми
интересами, большинство американских авторов рас¬
сматривают задачи дипломатии в присущих им силовых
категориях как инструмент политического давления, а
не как средство достижения взаимоприемлемого баланса
интересов, политического решения различного рода
проблем, возникающих в межгосударственных отноше¬
ниях.
Консервативно настроенные авторы видят смысл ди¬
пломатии в оказании такого воздействия на партнеров в
переговорах, и прежде всего на Советский Союз, которое
вызвало бы угодные капиталистическому Западу изме¬
нения в общественном и государственном устройстве со¬
циалистических стран. Как утверждают авторы доклада
трехсторонней комиссии американец Дж. Эзраэл, запад¬
ный немец Р. Левенталь и японец Т. Накагава, «в этом
239
состоит смысл, которым должна руководствоваться наша
дипломатическая практика, имея в качестве главной це¬
ли мирное изменение (в социалистических странах. —
В. П.) в направлении системы наших ценностей»66.
Такого рода циничная установка на вмешательство во
внутренние дела социалистических стран при ведении с
ними переговоров по любым вопросам встречает критику
со стороны либерально ориентированной профессуры
(С. Хоффман, например). В то же время, заявляя в об¬
щем плане о необходимости воздерживаться на дипло¬
матическом уровне от вмешательства, С. Хоффман и дру¬
гие либералы все же делают исключение для вмешатель¬
ства под предлогом «защиты прав человека»67.
Ориентация на силовой подход в дипломатической
деятельности имеет под собой вполне определенную по¬
литико-философскую основу. Доминирующая в амери¬
канской внешнеполитической теории школа «политиче¬
ского реализма», которая рассматривает международные
отношения как борьбу государств за утверждение своего
силового превосходства и культивирует в этой связи «ба¬
ланс сил», ставит в прямую зависимость развертывание
дипломатической активности с наращиванием ее силово¬
го обеспечения. Признанный мэтр этой школы Г. Мор-
гентау, высказываясь за то, чтобы возродить диплома¬
тию, настоятельно рекомендует в то же время подкреп¬
лять дипломатические акции применением всех других
средств, включая силу. «Дипломатия, — утверждает
он, — не может полагаться только на убеждение или ком¬
промисс. Великая держава обязана использовать весь
спектр дипломатических средств... Дипломатический
представитель великой державы, для того чтобы служить
как интересам своей страны, так и интересам мира, дол¬
жен в одно и то же время использовать убеждение, пред¬
лагать преимущества компромисса и производить впе¬
чатление на другую сторону военной силой своей страны.
Искусство дипломатии состоит в том, чтобы в каждый
момент правильно сделать упор на любое из этих
средств»68.
Отталкиваясь от постулатов «политического реализ¬
ма», современные теоретики дипломатии, и прежде всего
наиболее авторитетные из них Т. Шеллинг, Ф. Айкл *,
Дж. Спаньер, определяют суть дипломатии как принуж¬
* Т. Шеллинг и Ф. Айкл считаются основоположниками теории
переговоров в американской буржуазной науке международных от¬
ношений.
240
дение и из этого делают вывод о необходимости приме¬
нения к ней основных установок концепции «устраше¬
ния», ставящей во главу угла внешней политики угрозу
применения силы. Согласно их рассуждениям, «устраше¬
ние»— это не столько военная, сколько дипломатическая
концепция, поскольку, хотя она и подразумевает способ¬
ность обеспечить применение силы, ее главное назначе¬
ние— угроза применения силы. Искусство, требуемое
для реализации этой концепции, утверждает Дж. Спань-
ер, зависит не от качества военной подготовки, а от мас¬
терства тех, кто делает внешнюю политику. По словам
Дж. Спаньера, «манипулирование угрозой силы граж¬
данскими лицами и есть дипломатия»69.
Исходя из этого, современные американские теорети¬
ки дипломатии оспаривают положения о том, что «дипло¬
матия кончается тогда, когда начинают греметь пушки»,
и что «пока государства ведут переговоры, они, по край¬
ней мере, не воюют». «В действительности, — заявляет
тот же Дж. Спаньер, — дипломатия и сила взаимосвяза¬
ны... Мир может быть определен как продолжение войны
другими средствами... Военная сила как инструмент при¬
нуждения, а иногда и инструмент насилия часто являет¬
ся неотъемлемой частью дипломатии»70.
Особенно возражают Ф. Айкл и Дж. Спаньер против
отождествления дипломатии с компромиссом, поскольку
это размывает силовой подход. Вынужденные признать
возрастание роли дипломатии как средства переговоров
в современном мире, они явно не хотят допустить того,
чтобы дипломаты ориентировались главным образом на
достижение взаимоприемлемых компромиссов, и выдви¬
гают в качестве если не главных, то, по крайней мере,
равнозначных переговорам ориентиров — развитие кон¬
тактов и пропаганду *.
Во главе же угла дипломатии, заявляют они, должно
* Выдвижение развития контактов и пропаганды в качестве
задач дипломатии — наглядное подтверждение стремления амери¬
канских теоретиков приблизить дипломатию к задачам усиления
идеологической борьбы. Еще несколько лет назад американские авто¬
ры сокрушались по поводу тенденции к превращению дипломатии
в инструмент пропаганды и призывали вести дело к «деидеологиза¬
ции» международных переговоров. «Дипломатия, — писал в свое
время небезызвестный специалист по дипломатии В. Аспатуриан, —
может эффективно действовать только в том случае, если коренные
идеологические и социальные проблемы не являются больше пред¬
метом спора» (Journal of International Affairs, 1963, No 1, p. 51). Те¬
перь так говорят только единицы (см. Stoessinger G. The Might of
Nations. N. Y, 1975).
9—597
241
быть достижение «устрашения» через манипулирование
силой. Задавая вопрос о том, как добиться того» чтобы
противник считал угрозу правдоподобной, теоретики
дипломатии «устрашения» рекомендуют такое поведение
государства, чтобы у противника создавалось о нем впе¬
чатление как о государстве, способном на граничащие с
безрассудством шаги. Большое значение, в частности,
имеет придание солидной весомости международным
обязательствам, его можно достичь путем определенного
риска, ставя на карту в необходимых случаях репутацию
государства. В практико-политическом отношении это
должно означать, по их мнению, жесткое соблюдение
обязательств во всем их объеме и во всех регионах; сла¬
бость есть слабость, заявляют они.
Ориентируя дипломатию на устрашение, американ¬
ские теоретики предлагают явно авантюристические ре¬
комендации, поскольку, по их же собственному призна¬
нию, «главное в устрашении — ядерное оружие»71.
Подобные взгляды возникшей на почве «политическо¬
го реализма» теории дипломатии встречают в США
определенную критику. Но что характерно, мишенью
критики является трактовка не силовой сути дипломатии,
а ее практико-политической направленности. Интерпре¬
тация дипломатии в категориях «политического реализ¬
ма» и «устрашения», по мнению критиков, придает дип¬
ломатии слишком оборонительный характер, нацеливает
на сохранение статус-кво, в то время как динамичное
развитие международных отношений требует решитель¬
ных дипломатических действий по канализированию
происходящих в мире изменений в нужном для Запада
русле. «Перспективный путь для дипломатии предпола¬
гает стратегический подход. Осмотрительность — да, про¬
стое сохранение статус-кво — нет»72, — заявляет С. Хоф¬
фман.
Интерпретация назначения дипломатии в силовых ка¬
тегориях накладывает свой отпечаток и на теорию пере¬
говоров, разрабатываемую американской буржуазной
наукой международных отношений.
Политологи из школы Т. Шеллинга и Ф. Айкла назы¬
вают переговоры основанным на признании общего инте¬
реса «политическим торгом», в процессе которого каждая
сторона при помощи своих действий стремится получить
максимальный выигрыш за счет соперника или соперни¬
ков (или вместе с союзниками — за счет третьих стран).
При этом «торг» объясняется нередко в прямом, ры¬
242
ночном значении Этого слова. «Дипломатия, — пишет
Т. Шеллинг, — торг; она стремится к результатам, кото¬
рые хотя и не являются идеальными для каждой из сто¬
рон, лучше для обеих, чем некоторые из альтернатив.
В дипломатии каждая сторона до некоторой степени
осуществляет контроль над тем, чего желает другая сто¬
рона, и может получить больше путем компромисса,
обмена и сотрудничества, чем путем захвата всего в
свои руки и игнорирования пожеланий другой стороны.
Торг может быть вежливым или грубым, содержать угро¬
зы, равно как и предложения, допускать статус-кво или
игнорировать все права и привилегии, больше исходить
из недоверия, чем из доверия»73.
Успех в «торге» Т. Шеллинг ставит в прямую зависи¬
мость от умения провоцировать и шантажировать парт¬
неров по переговорам, выводить их из равновесия и пред¬
принимать совершенно несоответствующие акции, пред¬
ставив дело так, как будто бы это является рациональ¬
ной реакцией на предыдущие события. «Бывают време¬
на,— пишет Шеллинг, — когда нужно быть грубым, на¬
рушать правила, действовать неожиданно, шокировать,
изумлять и хитрить, демонстрировать наступательность...
Но бывают также времена, когда, хотя в принципе и бы¬
ло бы желательно следовать традиции и избегать не¬
ожиданностей, традиция слишком ограничивает возмож¬
ные альтернативы, и тогда приходится отбросить эти¬
кет и традицию, пойти на риск непонимания и настаи¬
вать на новых правилах игры или даже на свободе дейст¬
вий...»74.
Развивая основные положения шеллинговской теории
«торга», Ф. Айкл в своей книге «Как нации ведут перего¬
воры» решительно не соглашается с теми, кто считает,
что компромисс — путь к достижению соглашений, пред¬
усматривающий взаимность, соразмерность уступок. «Со¬
бираясь пойти на уступки, одна из сторон, — пишет
Ф. Айкл, — может добавить новые требования к своему
предложению. Если другая сторона желает тем не менее
достичь соглашения, то она предложит идти на уступки
и в конце концов согласится на менее благоприятные
условия, чем те, которые были предложены первой сто¬
роной сначала». Из этого Айкл делает вывод о предпоч¬
тительности твердости и нажима перед поисками комп¬
ромиссных решений75.
Хотя и Т. Шеллинг, и Ф. Айкл признают, что «торг»
должен завершиться достижением взаимоприемлемых
9*
243
решений, однако, по существу, «торг» сводится ими к на¬
вязыванию решений сопернику. Даже элементы сотруд¬
ничества рассматриваются ими весьма специфически:
«сотрудничество», по их мнению, должно быть навязано
партнеру.
Подобный торгашеский подход к переговорам, сопро¬
вождающийся применением силовых приемов, оставляет,
разумеется, мало места для настоящей дипломатии, для
ведения серьезных переговоров с целью достижения по-
истине приемлемых для всех их участников результатов.
В ином словесном обрамлении характеризуют цели
переговоров придерживающиеся более умеренных взгля¬
дов представители теории «игр» К. Болдинг, А. Рапопорт
и др. Они сводят поведение государств в различных меж¬
дународных ситуациях к «играм», по существу, трех ти¬
пов: а) с нулевым результатом (суммой), когда выигрыш
одного участника равен проигрышу другого и поэтому
сумма выигрышей равна нулю; б) с нулевым результа¬
том (суммой), когда никто не выигрывает и не проигры¬
вает, причем игроки больше выигрывают и меньше про¬
игрывают, если они сотрудничают друг с другом; в) со
смешанными результатами (мотивами), когда обеспечи¬
вается баланс между нулевой и ненулевой результатив¬
ностью.
Рассматривая переговоры в современной междуна¬
родной обстановке, особенно между государствами с
различным социальным строем, как «игру» со смешан¬
ными мотивами, эти теоретики предлагают подходить к
решению существующих проблем не в отдельности, а в
увязке с другими проблемами, чтобы получить сбаланси¬
рованный итог. Что касается способов достижения ре¬
зультатов, то здесь теоретики «игр» не в состоянии доба-
бавить ничего нового к тому, что предлагают «специали¬
сты по торгу». Весьма показательно в этой связи, что в
последнее время заметно усиливается взаимопроникно¬
вение и взаимопереплетение теорий «игр», «устрашения»
и «переговоров». И дело не только в том, что они опери¬
руют одними и теми же категориями. У них одна основа
подхода к дипломатии — сила.
«Игра с нулевой суммой, с ненулевой суммой, — ка¬
кая наукообразная современная терминология, — пишет
автор книги «Азбука дипломатии» А. Г. Ковалев. — Но
что нового по существу вносит она в раскрытие смысла,
целей и методов дипломатических переговоров? Главный
козырь прежний — сила. Если даже не собираешься пой¬
244
ти с этого козыря, то блефуй. Пусть партнер постоянно
опасается, что и эта карта будет пущена в ход»76.
Широкое распространение как теоретическое оправ¬
дание силового обеспечения дипломатии получила в пос¬
леднее время концепция «козырей для торга», которая
ставит успех переговоров в прямую зависимость от нара¬
щивания военного потенциала. Один из приверженцев
этой концепции — 3. Бжезинский довольно четко опреде¬
лил ее смысл: «Подлинный вопрос 70-х годов, — пишет
он, — состоит не в том, что случится, если разразится
война (мы все знаем ответ на него), а в том, что может
случиться до начала сражения или, если сказать точно,
до начала сражения, которое не начнется. Формула «мы
имели достаточно» обычно интерпретируется в расчете
на то, что нужно для сражения. Однако забывают более
важный политический факт: можно нуждаться в боль¬
шем для торга, чем для сражения»77.
Согласно концепции «козырей для торга», гонка во¬
оружений предстает как необходимая часть процесса по¬
литического торга. Следование этой концепции на прак¬
тике означает форсирование вооружений, создание
обстановки подозрительности и недоверия, затруднение
переговоров по сдерживанию гонки вооружений. Обеспе¬
чением «козырей для торга» обосновывалось в 1972 году
создание стратегической крылатой ракеты, которая ока¬
залась одним из самых больших камней преткновения на
переговорах по ОСВ78.
Рассуждениями на тему о «козырях для торга» при¬
крываются в США и сторонники создания нейтронного
оружия. Так, «Нью-Йорк пост» рекомендовала использо¬
вать принятое в апреле 1978 года Вашингтоном решение
отсрочить производство нейтронного оружия как «козыр¬
ную карту» в ходе переговоров с Советским Союзом по
проблемам ограничения стратегических наступательных
вооружений и разоружения79. Но ведь совершенно ясно,
что нейтронная бомба не являлась предметом перегово¬
ров между СССР и США. Они были посвящены совсем
другим проблемам. И стремление увязать эти не имею¬
щие отношения друг к другу вопросы в один узел означа¬
ло попросту попытку затянуть достижение соглашения по
ограничению стратегических вооружений, заставить
СССР пойти на уступки, добиться для США односторон¬
них преимуществ в ущерб безопасности Советского Сою¬
за и других социалистических стран.
Излагая свои соображения по поводу несостоятель¬
245
ности подобной концепции для оказания давления на
СССР, секретарь ассоциации сторонников контроля над
вооружениями Г. Сковилл-мл. отмечает: «Пора понять,
что мы не можем разговаривать с русскими с позиции
силы и не можем диктовать им нашу волю. Так было,
например, с созданием в США ракет с разделяющимися
головными частями, которые мы пытались использовать
в качестве нашей «козырной карты». Все кончилось тем,
что русские тоже создали аналогичное оружие и в конце
концов наши позиции с точки зрения интересов нацио¬
нальной безопасности лишь ухудшились»80.
Несмотря на критику рядом видных американских
специалистов (М. Шульман, Р. Ратженс) этой концепции
как противоречащей переговорам по разоружению, она
продолжает служить двуединой цели — оправданию не¬
которых военных программ и попыткам давления в ходе
переговоров об ограничении вооружений.
Отражая и обобщая империалистическую практику
Соединенных Штатов в международных делах, теорети¬
ческие поиски американскими авторами новых парамет¬
ров дипломатии имеют и обратную связь. Они в определен¬
ной мере влияют на конкретные внешнеполитические ак¬
ции США, на ведение ими переговоров. Это проявляется, в
частности, в стремлении увязать развертывание диплома¬
тической активности с наращиванием ее силового обес¬
печения. Г. Киссинджер в период своей деятельности на
посту государственного секретаря США исходил из того,
что «если обращение к силе на практике станет невоз¬
можным, дипломатия тоже потеряет свою действен¬
ность». Согласно его рассуждениям, «неспособность ис¬
пользовать силу не только не приведет к устранению
напряженности, — она может увековечить все споры, ка¬
кими бы незначительными они ни были».
Силовое обеспечение дипломатии Г. Киссинджер по¬
нимал в разных смыслах.
В широком политическом плане Г. Киссинджер счи¬
тал необходимым постоянный «показ мускулов» — де¬
монстрацию мощи. Отсюда его непременная поддержка
сохранения на высоком уровне военного бюджета США.
По авторитетному свидетельству JI. Гелба, в прошлом
видного журналиста, а ныне начальника военно-полити¬
ческого управления госдепартамента США, в частном
порядке Г. Киссинджер без колебаний заявлял, что важ¬
ным для него было не столько содержание военного бюд¬
жета, сколько его общий уровень, который, по мнению
246
Киссинджера, должен служить «сигналом к непрестан¬
ной решимости США использовать силу». Руководству¬
ясь этими же соображениями, Киссинджер ежегодно
выступал против любых попыток конгресса ограничить
права президента в отношении применения силы и ее
угрозы81.
В ходе переговоров Киссинджер использовал приемы
силового давления на своих партнеров, с тем чтобы до¬
биться благоприятных для США результатов. Один из
таких приемов состоял в использовании «системы рыча¬
гов» давления путем противопоставления партнерам по
переговорам несовпадающих интересов других госу¬
дарств. «Система рычагов» давления являлась логиче¬
ским следствием выдвинутой Киссинджером концепции
«многополюсного мира», в котором решающая роль отво¬
дилась пятиугольнику США — СССР — КНР — Запад¬
ная Европа — Япония.
В книге о Г. Киссинджере журналистов М. и Б. Каль-
бов обращается внимание на то, что не только в глобаль¬
ных масштабах, но и в отдельных, важных по своему
значению районах мира Киссинджер стремился сохра¬
нить такой «баланс сил», который был бы благоприятен
для интересов Соединенных Штатов и позволял бы им
успешно вести дипломатическую игру против своих со¬
перников. На Ближнем Востоке, например, Киссинджер
всегда, особенно в период иорданского кризиса или чет¬
вертой арабо-израильской войны, стремился помешать
такому изменению в «балансе сил», который ослабил бы
позиции США в этом районе. Авторы, например, следую¬
щим образом описывают взгляды Киссинджера в отно¬
шении Ближнего Востока в период иорданского кризиса:
«Если радикально настроенные арабы смогли бы захва¬
тить в свои руки Ливан и Иорданию, что было вполне
возможно летом 1970 года, тогда бы огромные нефтяные
резервы Саудовской Аравии оказались уязвимыми для
захвата и контроля со стороны левых элементов. В таком
же положении оказались бы и другие малые и богатые
нефтью государства Персидского залива и в конечном
счете Иран. Израиль мог бы оказаться смытым в море
после страшной борьбы. Богатство и стратегическое зна¬
чение Ближнего Востока было бы потеряно для Запада,
и глобальный баланс сил изменился бы, возможно, не¬
обратимым образом. Это объясняет то критическое зна¬
чение, которое Киссинджер придавал Иордании и Лива¬
ну в своих стратегических размышлениях»82.
247
Г. Киссинджер не останавливался и перед прямым
применением средств силового давления в кризисных си¬
туациях. В этих случаях, например в период американ¬
ского вторжения в Камбоджу, Киссинджер брал на себя
обычно руководство всеми военными операциями за ру¬
бежом и стремился к демонстрации американской воен¬
ной силы. «Генри обожает силу, абсолютно обожает
ее, — приводят упоминавшиеся выше М. и Б. Кальбы
слова одного из руководящих чиновников в Вашингто¬
не,— для Генри дипломатия ничто без силы»83. В период
иорданского кризиса, например, Киссинджер договорил¬
ся с руководителями Израиля о том, что «израильские
вооруженные силы нанесут удар по сирийским войскам,
если последние будут продвигаться в Иорданию, при
этом он даже пошел ра предоставление американских
гарантий в отношении выступления против египетских
или советских сил, если они вмешаются в события»84.
Активно используя приемы силового давления, в том
числе и прямое применение силы, Киссинджер, однако,
тщательно взвешивал в различных ситуациях примене¬
ние средств силового давления, так чтобы оно не мешало
развитию основных направлений переговоров, учитывая
пределы «возможного и допустимого». Г. Киссинджер,
по словам М. и Б. Кальбов, выступал с оппозицией, хотя
и скрытой, минированию побережья Вьетнама в мае
1972 года, поскольку считал, что такая акция может
повредить общему плану переговоров с СССР.
Киссинджеровский пример военно-силового подкреп¬
ления переговоров не является перевернутой страницей
в американской дипломатии. И дело не только в том, что
в памяти еще свежи воспоминания об этом. Современные
американские критики дипломатии Г. Киссинджера хотя
и осуждают бывшего государственного секретаря за мно¬
гие, с их точки зрения, прегрешения (упор на личное ве¬
дение переговоров, сугубая секретность и т. п.), но не
ставят под сомнение целесообразность использования им
силового фактора в дипломатии. Более того, в нынешнем
подходе к силовой стороне переговоров наиболее четко
проступают следы так называемого «киссинджеризма»,
поскольку они воплощают свойственную империалисти¬
ческой дипломатии практику.
Весьма заметно влияние теоретических постулатов
«устрашения», «торга», «игр» сказывается на диплома¬
тической тактике, методах и стиле современной амери¬
канской дипломатии.
248
Излюбленный политико-дипломатический прием —
«увязывание» («сцепление») продвижения на ведущихся
с Советским Союзом переговорах, и прежде всего по ог¬
раничению гонки вооружений, с другими, не относящими¬
ся к предмету этих переговоров вопросами.
Такого рода прием не нов. Его активно пытался ис¬
пользовать в свое время Г. Киссинджер, который хотя и
не афишировал это широко в своих публичных выступле¬
ниях, на практике стремился «увязать» улучшение со-
ветско-американских отношений с решением других меж¬
дународных проблем, таких как окончание войны во
Вьетнаме, заключение соглашения по Западному Берли¬
ну и т. п. «В отличие от сенаторов, научных исследовате¬
лей или людей из окружения Джонсона, которые прида¬
вали первостепенное значение началу переговоров по
ограничению вооружений, новые стратеги в Белом до¬
ме,— отмечают, в частности, авторы книги о Киссиндже¬
ре М. и Б. Кальбы, — выработали совершенно другой
подход к СОЛТ. Хотя эти стратеги и считали ограниче¬
ние ядерных вооружений жизненно важным делом, они
рассматривали его не как изолированную проблему, а
скорее в качестве ключевого элемента в более широких
переговорах с Советским Союзом. Их стратегия основы¬
валась на концепции, которую они назвали концепцией
„увязки”»85.
Смысл этой концепции заключается в установлении
жесткой связи основного предмета переговоров не столь¬
ко с другими обсуждаемыми вопросами, сколько с не
имеющими к самим переговорам отношения международ¬
ными проблемами. Такое «увязывание» явно рассчитано
на достижение не взаимоприемлемых договоренностей,
а односторонних выгод. Таким образом, «увязывание» в
американской интерпретации означает соединение воеди¬
но разноплановых проблем, объединяемых искусственной
связью, для получения односторонних уступок от партне¬
ров по переговорам.
Демократы, резко осуждавшие республиканцев в ходе
предвыборной кампании за тактику «увязывания», вско¬
ре после прихода в Белый дом сами стали ее ярыми при¬
верженцами. Как сообщают в американской печати, так¬
тика «увязывания» стала неотъемлемой частью полити¬
ческой стратегии Вашингтона и была официально одоб¬
рена в директиве президента № 1886..
В новейших американских трудах эта тактика разра¬
батывается во всех деталях. Так, авторы опубликованно¬
249
го в начале 1978 года доклада трехсторонней комиссии
об отношениях между Востоком и Западом настоятельно
рекомендуют «увязывать» развитие торгово-экономиче¬
ского и научно-технического сотрудничества между Вос¬
током и Западом, во-первых, с переговорами по ограни¬
чению вооружений, во-вторых, с советской позицией в
отношении кризисных районов и, в-третьих, с расширени¬
ем контактов и обменов информацией87.
На практике подобная тактика вылилась в попытки
в феврале — апреле 1978 года «увязать» прогресс на пе¬
реговорах по ограничению стратегических вооружений с
абсурдными требованиями к СССР прекратить поддерж¬
ку Эфиопии.
Несостоятельность такого подхода достаточно полно
была вскрыта в самих США реалистически мыслящими
представителями правящих кругов.
В своем обращении к президенту США американские
конгрессмены П. Тсонгх и Д. Бонкер весной 1978 года
призвали его отказаться от пагубной, по их мнению, на¬
думанной позиции, выражающейся в попытках увязать
переговоры по COJIT с политикой Советского Союза на
Африканском Роге. «Мы лишь затрудним наши усилия в
направлении ограничения ядерных вооружений, которое
отвечает интересам как США, так и Советского Сою¬
за»,— заявили конгрессмены. Установление «связи меж¬
ду переговорами об ограничении стратегических воору¬
жений и событиями в районе Африканского Рога, — под¬
черкнули они, — было бы неблагоразумным и привело бы
к обратным результатам».
В американской печати не раз появлялись и другие
высказывания, в которых осуждались попытки связывать
с переговорами об ограничении вооружений вопросы, не
имеющие к ним прямого отношения. «В конечном счете
соглашение об ограничении стратегических вооруже¬
ний,— писала «Нью-Йорк тайме», — было бы поставлено
в зависимость от предварительного урегулирования всех
других советско-американских споров»88.
Говоря о попытках помощника президента по вопро¬
сам национальной безопасности 3. Бжезинского сделать
акцент на «увязывании» переговоров по ОСВ с развити¬
ем событий в районе Африканского Рога, критики Бже¬
зинского в госдепартаменте подчеркивают, что «этот его
шаг был столь же действенным, как выстрел в собствен¬
ную ногу»89.
Попытки поставить в зависимость продвижение на
250
переговорах по ОСВ от других, не относящихся к дан¬
ной проблеме вопросов — лишь один пример применения
тактики «увязывания» нынешней администрацией.
Пресловутая тактика «увязывания» обнаружилась и
в попытке американской дипломатии связать в Совете
Безопасности в феврале 1979 года вопрос о китайской
агрессии во Вьетнаме с так называемым «кампучийским
вопросом». Соединяя воедино совершенно различные
явления — неспровоцированное вооруженное вторжение
КНР в СРВ с тем, что произошло в Кампучии, — амери¬
канская дипломатия явно стремилась к тому, чтобы уве¬
сти Совет Безопасности в сторону от созданной китай¬
ской акцией угрозы международному миру и безопасно¬
сти и выгородить агрессора.
Методы «увязывания» широко используются амери¬
канскими политиками и в качестве тормоза для развития
советско-американской торговли.
Совершенно очевидно, что попытки внедрить тактику
«увязывания» в американскую дипломатическую прак¬
тику, и прежде всего на советском направлении, находят¬
ся в явном противоречии с официально декларирован¬
ной линией на переговорах с СССР, поскольку такие ша¬
ги не только затрудняют достижение договоренностей, но
и сопровождаются фальсификацией подлинного положе¬
ния вещей, что не может не сказываться отрицательным
образом на климате и общем состоянии советско-амери¬
канских отношений.
Своеобразной разновидностью «увязывания» в про¬
цессе дипломатических переговоров является широко ис¬
пользуемый американской дипломатией метод «пакетных
сделок». Этот метод предполагает часто искусственное
связывание воедино самых разнообразных спорных мо¬
ментов, с тем чтобы договоренность по каждому из них
зависела от компромисса по всем, вместе взятым, имея
в виду «сбалансированность» уступок каждой из сторон.
Однако «пакетные сделки», по мнению сторонников этой
концепции, как и тактика «увязывания», должны состав¬
ляться в расчете на обман партнера, к односторонней
выгоде США.
В связи с тем что кое-кто в США пытался истолковать
готовность СССР к заключению соглашения по ОСВ как
возможность получить для США односторонние преиму¬
щества, товарищ JI. И. Брежнев в своем выступлении
7 апреля 1978 г. со всей определенностью заявил: «Мы
решительно отвергаем любые попытки навязать нам не¬
251
приемлемые условия соглашения. Мы говорили и гово¬
рим: Советский Союз за скорейшее достижение догово¬
ренности, но только такой, которая находилась бы в стро¬
гом соответствии с принципом равенства и одинаковой
безопасности, по-настоящему воплощала бы этот осново¬
полагающий принцип. Мы не требуем, чтобы соглашение
давало нам какие-то преимущества за счет другой сторо¬
ны, но и от нее ожидаем точно такого же подхода. Иного
решения быть не может»90.
Внедрение методов, подобных рекомендуемым амери¬
канцами «пакетным сделкам», в практику переговоров
не только не способствует достижению взаимоприемле¬
мых решений, но, более того, сводит основной смысл пе¬
реговоров к беспринципному политическому торга¬
шеству.
В целом применяемые американской дипломатией
тактика «увязывания» и методы «пакетных сделок», про¬
низанные стремлением к получению односторонних пре¬
имуществ, далеки от уместного в отдельных конкретных
случаях комплексного подхода к объединенным естест¬
венной связью вопросам и вместо роста доверия, необхо¬
димого для успешного ведения переговоров, порождают
подозрительность и отчужденность среди партнеров.
К тем же последствиям ведет и основанная на реко¬
мендациях Т. Шеллинга тактика политического нажима.
Суть этой тактики Шеллинг описывает следующим об¬
разом. Перед переговорами по определенному вопросу
одна из сторон для усиления своей позиции проводит у
себя в стране пропагандистскую кампанию, в ходе ее
формулируется «потолок уступок» по данной проблеме,
который фактически уже был согласован и принят пра¬
вительством заранее. Затем в ходе переговоров эта сто¬
рона, делая уступки, постепенно подходит к заранее под¬
готовленной позиции, которую она должна выдавать за
последнюю уступку, и стремится заставить противника
строить свою тактику с таким расчетом, чтобы тот смог
добиться желаемого, преодолевая сопротивление против¬
ной стороны91. Подобная тактика ведет на практике к
затруднению переговоров, привнося в них элементы по¬
литического давления и шантажа.
В целях политического нажима применяется и такой
прием шантажа, как использование правительством по¬
литических нападок в свой адрес в качестве рычага дав¬
ления на партнеров по переговорам. При этом такого
рода нападки нередко инспирируются самим правитель¬
252
ством. Как сообщил в марте 1978 года вашингтонский
корреспондент «Нью-Йорк тайме», само правительство
США организовало «утечку» секретной информации о
деталях предварительной договоренности об ограничении
стратегических вооружений, что было использовано
«ястребами» в конгрессе и пресловутом «комитете по
существующей опасности» для атак на соглашение. Ког¬
да же сторонники соглашения стали упрекать правитель¬
ство в безответственности, выяснилось, что некоторые
официальные лица в Вашингтоне ничуть не удивлены
подобными нападками в конгрессе и печати, а, наоборот,
считают их для себя «полезными». Корреспондент «Нью-
Йорк тайме» в связи с этим отмечал: «Многие официаль¬
ные представители полагают, что Москву можно заста¬
вить пойти на уступки по главным спорным вопросам»92.
Такой подход отнюдь не сопутствует успеху перегово¬
ров. Советский Союз неоднократно заявлял и на практи¬
ке доказывал, что с ним бесперспективно говорить язы¬
ком силы и угроз.
Методы «увязывания» и политического нажима суть
скорее мелкое дипломатничанье, нежели приемы настоя¬
щей дипломатии, строящей переговоры на взаимном до¬
верии и поиске общеприемлемого баланса интересов, ре¬
шающей возникающие проблемы крупномасштабно.
Тем не менее подобные приемы широко используются
не только в двусторонних отношениях, но и на многосто¬
ронних форумах.
В международных организациях, и в частности в
ООН, в результате изменившейся в них расстановки сил
с конца 50 — начала 60-х годов американцами взята на
вооружение тактика «парламентской дипломатии», сог¬
ласно которой успех дипломатической деятельности в
ООН связывается теперь не с послушной США «машиной
голосования», а с умением сочетать традиционные дипло¬
матические методы неофициальных встреч и перегово¬
ров с различными формами давления на делегации, голо¬
сов которых добивается американская делегация. В ре¬
зультате возрастает значение всякого рода закулисной
работы. Американский специалист по международным
организациям Т. Ховет отмечает, что в целом дипломати¬
ческие методы США в ООН «эволюционируют от под¬
черкивания открытой, или конфиденциальной, диплома¬
тии к дипломатии закрытой, тихой»93.
Тактика «парламентской дипломатии» предусматри¬
253
вает широкое применение методов давления, нажима и
шантажа. Широко известны американские приемы «вы¬
кручивания рук», которые заключаются в применении
предупреждений и угроз в отношении тех, кто не желает
действовать по американской указке. В последнее время
арсенал используемых американской дипломатией при¬
емов и методов в ООН пополнился так называемым «вы¬
борочным возмездием» со стороны Соединенных Штатов
в отношении тех стран, позиции которых противоречат
американским интересам. Так, по указанию Г. Киссинд¬
жера в 1976 году было решено, например, отложить зак¬
лючение соглашения по оказанию помощи на цели раз¬
вития для Танзании, Индии и Гайаны за то, что на
XXX сессии Генеральной Ассамблеи ООН они голосо¬
вали за резолюцию, осуждавшую сионизм, и не поддер¬
жали США по корейскому вопросу.
Силовой подход сказывается и на стиле американской
дипломатии, которой часто свойственны назидатель¬
ность, высокомерный, не терпящий возражений команд¬
ный тон. Подобный стиль подвергается заметной критике
и в самих Соединенных Штатах. «То, от чего должны
отказаться США, — пишет профессор Гарвардского уни¬
верситета С. Хоффман, — властный тон и жесткие дей¬
ствия. США должны реагировать не как государство, чье
огромное могущество позволяет им унижать или игнори¬
ровать других, а как партнер в коллективном торге, чья
цель — вовлечение оппонентов в заключение соглаше¬
ний»94.
Влияние силы на дипломатию не ограничивается
только внешним проявлением — проникновением в нее
соответствующих приемов, методов и стиля. В целом ря¬
де случаев военные требования (базы, размещение так¬
тического ядерного оружия, пролет над территорией
других стран, военная помощь) предопределяют дипло¬
матические акции, часто граничащие с вмешательством
во внутренние дела других стран. Ценой таких акций,
как отмечают американские авторы JI. Гелб и А. Кузмэк,
нередко становится осложнение двусторонних отноше¬
ний, навязывание другим странам так называемой «во¬
енной помощи»95.
Характерно и еще одно обстоятельство. По свидетель¬
ству автора вышедшей в 1978 году книги «Мир людей»
Л. Этериджа, лица, занимающие влиятельные должно¬
сти в госдепартаменте и Пентагоне, по-прежнему наибо¬
лее склонны к применению силы во внешней политике.
254
Так, по его данным, применение силы во Вьетнаме счи¬
тают оправданным 65% опрошенных сотрудников госде¬
партамента и 83% сотрудников Пентагона96.
*
Повышение интереса в США к дипломатии как к важ¬
ному средству внешней политики свидетельствует, с од¬
ной стороны, о несостоятельности военно-силовых форм
и методов борьбы, и в первую очередь с Советским Сою¬
зом, а с другой — представляет попытку подкрепить с ее
помощью позиции США в быстро меняющемся мире.
Стремление Вашингтона использовать военную мощь
в качестве средства принуждения неизбежно порождает
попытки военно-силового обеспечения дипломатии и тем
самым существенным образом ограничивает возможно¬
сти политико-дипломатического подхода к решению
международных проблем, создает препятствия на пути
достижения взаимоприемлемых договоренностей.
Глава
V
МЕХАНИЗМ
« НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Доктрина «национальной безопасности» придает ис¬
ключительно важное значение организационным управ¬
ленческим проблемам — отлаживанию механизма приня¬
тия соответствующих решений.
Со свойственным буржуазному политическому мыш¬
лению гипертрофированием структурно-функциональной
стороны решения политических проблем доктрина «на¬
циональной безопасности», по существу, перевертывает
вопрос о соотношении политики и механизма «нацио¬
нальной безопасности» с ног на голову. Она объявляет
нахождение наиболее эффективных методов управления
в области «национальной безопасности» «ключом к вы¬
живанию». «Несостоятельность организационной струк¬
туры,— утверждает, например, один из главных теорети¬
ков «национальной безопасности» Г. Стэнли,—по всей ве¬
роятности, привела бы к провалу политики, а это в конеч¬
ном счете означало бы поражение Запада» 1.
Главной вехой в формировании механизма «нацио¬
нальной безопасности» было принятие конгрессом в 1947
году закона о национальной безопасности. В соответствии
с этим законом в дополнение к уже существовавшим орга¬
нам внешних сношений был создан при президенте США
высший консультативный орган — Совет национальной
безопасности (СНБ). Было также учреждено единое ми¬
нистерство обороны США, объединившее существовав¬
шие ранее раздельно военное министерство, министерст¬
ва военно-воздушных сил и военно-морского флота. При
Совете национальной безопасности было создано новое
256
ведомство, Центральное разведывательное управление,
которому поручалось как проведение самостоятельной
разведывательной работы, так и координация разведыва¬
тельных усилий других министерств и ведомств. Наряду
с государственным департаментом министерство обороны
и Центральное разведывательное управление образовали
костяк государственных учреждений, которым было по¬
ручено осуществление стратегии укрепления «националь¬
ной безопасности» США, а Совет национальной безопас¬
ности становился главным органом, ответственным за ко¬
ординацию деятельности этих учреждений в области «на¬
циональной безопасности».
Закон 1947 года был рассчитан на то, чтобы сохранить
и приспособить к условиям наступившего после второй
мировой войны мира использовавшиеся во время войны
формы, методы и средства борьбы, подчинив их задаче
глобального противоборства с социализмом. Сложившая-’
ся в конце 40-х годов организационно-структурная схема
управления в области «национальной безопасности» хо¬
тя и подвергалась в последующие годы многочисленным
реорганизациям, в основном не претерпела принципиаль¬
ных изменений. Эта схема стала прочным фундаментом
для утверждения в процессе принятия и осуществления
внешнеполитических решений тенденции к усилению ро¬
ли исполнительных органов, и в особенности военных и
разведывательных ведомств.
В рамках существующей системы управления в обла¬
сти «национальной безопасности» осуществляется интег¬
рация различных ведомственных подходов при определе¬
нии внешней политики США.
Решающее значение имеют, разумеется, классовые
соображения. Выступая в качестве комитета по заведо¬
ванию делами монополистической буржуазии, американ¬
ское государство и, в частности, органы «национальной
безопасности» отнюдь не являются бессловесным придат¬
ком монополий. При определении политики различные
звенья механизма «национальной безопасности», и преж¬
де всего его верхние эшелоны, взвешивают и оценивают с
общей классовой точки зрения интересы не только моно¬
полистических группировок и их отдельных представите¬
лей, но и других фракций господствующего класса; они
учитывают также международные обстоятельства. Как
политическая организация монополистического капитала
государство и его органы набирают такую силу, что ока¬
зываются в состоянии сами влиять на отдельные монопо¬
257
листические группировки, в некоторых случаях даже дей¬
ствовать против воли монополий, защищая их общие, но
не всегда полностью всеми ими осознанные интересы.
В то же время структура основных органов по выра¬
ботке и осуществлению политики в области «националь¬
ной безопасности» представляет собой сложный орга¬
низм, в котором взаимодействуют, борются и конкуриру¬
ют различные социальные и политические силы. Монопо¬
листический капитал осуществляет свое господство в
американском буржуазном государстве, проводит выгод¬
ную ему политику не помимо, а через посредство всего
этого сложного механизма, и это отражается не только
на путях и методах, но и на характере самого политичес¬
кого курса американского государства.
Президент и Совет национальной
безопасности
Главенствующая роль в формировании и осуществле¬
нии политики «национальной безопасности», равно как и
внешней политики, принадлежит президенту. Тесно свя¬
занный с монополистическим капиталом президент США
в нынешних условиях обладает огромной властью. Обя¬
занности президента как главы государства и главы пра¬
вительства многообразны, или, дсак говорят американцы,
президент носит пять «головных уборов» (глава государ¬
ства, главный дипломат, главнокомандующий вооружен¬
ными силами, главный законодатель и глава исполни¬
тельной власти). Как глава государства президент пред¬
ставляет страну на международной арене и отвечает за
формирование внешней политики. Как глава исполни¬
тельной власти он осуществляет практическое руководст¬
во внешнеполитической деятельностью правительства.
Как главный законодатель он имеет право вето на при¬
нимаемые конгрессом решения.
Важное значение для определения места и роли пре¬
зидента в процессе принятия решений в области «нацио¬
нальной безопасности» имеет выяснение взаимоотноше¬
ний между президентом и конгрессом. Конституция США,
построенная на классическом буржуазном принципе раз¬
деления властей и системе сдержек и противовесов, с од¬
ной стороны, наделяет президента широкими полномочия¬
ми, а с другой — ставит осуществление этих полномочий
в зависимость от конгресса.
258
Существование перманентной кризисной ситуации на
протяжении всего периода «холодной войны», постоянное
акцентирование угрозы «выживания», ссылки на интере¬
сы «национальной безопасности» позволяли президентам
США игнорировать необходимость рациональной аргу¬
ментации принимаемых ими решений и предпринимаемых
действий и ослабили, по выражению сенатора Т. Иглтона,
«волю и власть конгресса» 2.
По мере того как модернизировались и совершенство¬
вались современные виды вооружений, а арсеналы веду¬
щих держав мира пополнялись новыми видами оружия,
требовавшими соответственно все меньше времени для
нанесения удара по противнику, росла и развивалась тен¬
денция передачи в ведение президента наиболее важных
видов государственной деятельности, подчиненных в ко¬
нечном счете одному-единственному вопросу — вопросу
«выживания» в условиях крайне взрывоопасной между¬
народной ситуации. Широкое распространение получило
мнение о том, что в интересах «национальной безопасно¬
сти» требуется единовластие президента, располагающе¬
го всей информацией, держащего в своих руках все нити
государственного управления и являющегося к тому же
конституционным главнокомандующим вооруженными
силами страны. Соответственно в практических делах
происходила концентрация на исполнительном уровне не¬
ограниченной власти, и прежде всего власти действовать
от имени «национальных интересов» и во имя «нацио¬
нальной безопасности»3.
Отсутствие сколько-нибудь серьезной оппозиции кон¬
цепции и практике «сильной», «имперской» президентской
власти объяснялось в значительной степени тем, что на
протяжении послевоенных десятилетий в условиях искус¬
ственно нагнетавшейся напряженности периода «холод¬
ной войны» и постоянных ссылок на существование воен¬
ной угрозы «национальной безопасности» попытки огра¬
ничения власти президента в вопросах внешней политики
не имели шансов на успех.
Лишь начавшийся процесс разрядки международной
напряженности создал условия, при которых весьма ост¬
ро был поставлен вопрос о пределах президентской влас¬
ти и были предприняты беспрецедентные шаги по удале¬
нию из Белого дома государственного деятеля, в вину ко¬
торому, помимо всего прочего, было поставлено и «им¬
перское» президентство. Выступая в сенате, сенатор
Ф. Черч заявлял, что «„Уотергейт" правильнее всего рас¬
259
сматривать как... кульминацию трех десятилетий внешне¬
политического кризиса, войны, «холодной войны» и мето¬
дов ее ведения» 4.
Восстановив некоторые утраченные конгрессом в го¬
ды «холодной войны» полномочия в области внешней по¬
литики, «Уотергейт» не привел, однако, к сколько-нибудь
существенному изменению роли президента в процессе
принятия внешнеполитических решений и сохранил в не¬
прикосновенности сдерживающие барьеры на пути возвы¬
шения законодательной власти.
Продолжающаяся интерпретация с позиций доктрины
«национальной безопасности» роли президентской влас¬
ти способствует актуализации определенных еще в кон¬
ституции 1787 года полномочий президента и придает им
дополнительный запас прочности.
Прежде всего конституция США (разд. 2, ст. II) уста¬
навливает, что президент имеет право «с совета и согла¬
сия сената заключать международные договоры при ус¬
ловии их одобрения двумя третями присутствующих се¬
наторов». (Палата представителей этого права лишена.)
Требование доктрины «национальной безопасности» о
сосредоточении в одном месте решения комплекса вопро¬
сов «национальной безопасности» предоставляло еще
большие основания для решения президентом независи¬
мо от сената вопроса о заключении международных до¬
говоров. Будучи главой всего внешнеполитического аппа¬
рата, президент непосредственно сам или через своих
представителей имеет возможность вступать в междуна¬
родные переговоры, которые могут завершиться подписа¬
нием международного договора, что, как отмечают амери¬
канские юристы, накладывает «моральное обязательство»
на сенат обеспечить вступление такого договора в силу.
Более того, на основании толкований конституции
США, черпающих дополнительную аргументацию в док¬
трине «национальной безопасности», президент распола¬
гает правом заключать так называемые «исполнительные
соглашения», которые не требуют санкции сената на ра¬
тификацию. Заключение такого рода соглашений, подме¬
няющих в ряде случаев международные договоры, зна¬
чительно возросло за последнее время и преобладает в
международной договорно-правовой практике Соединен¬
ных Штатов Америки. Из подписанных США за период
с 1 января 1946 г. по 31 декабря 1976 г. 7201 договора и
соглашения с другими странами, не считая секретных,
только 6% — международные договоры, подлежащие ра¬
260
тификации, а остальные: 7%—исполнительные соглаше¬
ния и 87% —соглашения, которые заключены президен¬
том в соответствии с законодательными полномочиями,
имеющимися у него по прежним акциям конгресса, и не
требующие поэтому ратификации 5.
Сенат и палата представителей на 2-й сессии конгрес¬
са 92-го созыва (1972 г.) приняли резолюцию, обязыва¬
ющую президента представлять для сведения конгресса
заключаемые им исполнительные соглашения в области
внешней политики. Однако это не отражается на самом
праве президента заключать исполнительные соглаше¬
ния.
Далее, согласно конституции США (разд. 2, ст. II)
президент имеет право «с совета и согласия сената наз¬
начать послов и иных полномочных представителей и кон¬
сулов». «Совет и согласие сената» и в данном случае в
значительной мере являются чистой формальностью. Как
показывает практика, сенат редко выдвигает какие-либо
возражения против кандидатур, предлагаемых президен¬
том для выполнения ответственных дипломатических и
иных миссий за рубежом, особенно связанных с задача¬
ми «национальной безопасности». Роль сената сводится
к санкционированию подобных назначений.
Конституция (разд. 3, ст. II) наделяет также прези¬
дента полномочием принимать и обмениваться послами и
иными полномочными представителями с иностранными
государствами. В этой статье вообще отсутствует какое-
либо упоминание о сенате, хотя ее практическое приме¬
нение имеет большое политическое значение. В соответ¬
ствии с этой статьей президент пользуется исключитель¬
ным правом в отношении как юридического, так и факти¬
ческого признания новых государств и правительств. На
усмотрение президента передается также решение воп¬
роса о разрыве дипломатических или иных межгосударст¬
венных отношений. Президенты США активно использу¬
ют предоставленное им конституцией бесконтрольное
право посылки специальных агентов для выполнения от¬
ветственных миссий за рубежом.
И наконец, хотя конституция формально наделяет
конгресс правом объявления войны, фактически это пра¬
во также принадлежит президенту в силу того, что он яв¬
ляется верховным главнокомандующим вооруженными
силами США и имеет инициативу в отношении военных
действий.
История США знает немало случаев, когда президен¬
261
ты без ведома конгресса ввергали страну в войну. В
1845 году президент Полк без санкции конгресса начал
войну с Мексикой. В 1898 году Маккинли развязал импе¬
риалистическую войну против Испании. Вудро Вильсон
без согласия конгресса послал войска для интервенции
против Советской России. Конгресс был поставлен в из¬
вестность постфактум о вступлении США в обе мировые
войны. Американские президенты десятки раз посылали
войска в латиноамериканские республики помимо конг¬
ресса. После второй мировой войны, с формированием в
доктрине «национальной безопасности» гегемонистских.
глобалистских притязаний США, военный интервенцио¬
низм вошел в практику американской политики. В июне
1950 года президент Трумэн помимо конгресса начал аг¬
рессивную войну против Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики. В 1962 году президент Кеннеди уста¬
новил морскую блокаду вокруг Кубы, чреватую серьез¬
ными международными последствиями. Президент Джон¬
сон предпринял широкие военные действия во Вьетнаме.
Президент Никсон осуществлял тайные военные опера¬
ции в Лаосе и Камбодже.
Хотя принятый в 1973 году конгрессом, вопреки вето
президента, закон о военных полномочиях и требует одоб¬
рения конгресса для вовлечения американских войск в
военные действия на срок свыше 60 дней, в действитель¬
ности, как отмечается в американской литературе6, он
еще более укрепляет военные полномочия президента,
предоставляя ему право (чего не было раньше) вводить
в действие американские войска на срок менее 60 дней
без какой-либо санкции конгресса. Причем в чрезвычай¬
ных обстоятельствах президенту теперь легче поставить
конгресс перед необходимостью поддержки его действий.
Характерно, что уже после принятия этого закона, в мае
1975 года, президент Форд, заявив, что у него есть право
«защищать жизнь и собственность американских граж¬
дан» (хотя об этом ни слова не говорится в конституции),
отдал приказ о нападении на Камбоджу.
Роль и значение президента в формировании и осуще¬
ствлении внешней политики США тем более велики, что
он имеет в своем распоряжении значительные средства для
оказания нажима на конгресс и серьезного воздействия
на всю его законодательную деятельность, касающуюся,
в частности, внешних сношений. С принятием доктрины
«национальной безопасности» ассортимент этих средств
значительно расширился.
262
Формально не обладая законодательной властью, пре¬
зидент имеет право вето на законопроекты, прошедшие
обе палаты конгресса. Это право может быть использова¬
но им, в частности, как ответная мера в случае отказа
конгресса поддержать его в каких-либо мероприятиях.
Преодоление президентского вето фактически исключено,
поскольку для этого требуется повторное одобрение опро¬
тестованного законопроекта двумя третями голосов, что
на практике чрезвычайно сложно.
Сильным орудием воздействия на конгресс стали в
последнее время президентские послания (о положении
в стране, о бюджете, о состоянии экономики), которые
представляют собой, по существу, программу законода¬
тельной деятельности конгресса. Рекомендуемые в этих
посланиях мероприятия как гражданского, так и военного
характера, часто аргументированные соображениями
высшего порядка — «национальной безопасности», как
правило, одобряются конгрессом, что, с одной стороны,
обеспечивает свободу действий для президента, а с дру¬
гой — лишает конгресс возможности оказывать влияние
на осуществление внешнеполитического курса.
Так, в момент обострения обстановки в районе Тон¬
кинского залива в августе 1964 года, вызванного агрес¬
сивными действиями США против ДРВ, президент
Л. Джонсон в послании конгрессу запросил у него полно¬
мочия, позволяющие применить вооруженные силы в Ин¬
докитае. В условиях сложной международной обстанов¬
ки, несмотря на серьезность этого шага и на сомнения
многих членов конгресса относительно формулы, что
Вьетнам «жизненно необходим» для Соединенных Шта¬
тов и для «мира во всем мире», конгрессу, как пишет вид¬
ный американский обозреватель Дж. Рестон, пришлось
проштемпелевать угодную президенту резолюцию, чтобы
не создать видимости, что он не поддержал президента в
момент кризиса. В результате конгресс в период развязы¬
вания американских агрессивных действий против ДРВ
был лишен возможности оказать какое-либо влияние на
политику правительства, ставившую под угрозу междуна¬
родный мир и безопасность. Правительство же использо¬
вало резолюцию конгресса как оправдание для своего аг¬
рессивного курса.
Располагая значительными возможностями, для того
чтобы определять основные направления политики в об¬
ласти «национальной безопасности» в обход конгресса,
президент & то же время не может полностью сбрасывать
263
со счетов роль конгресса в области внешних сношений.
Уже сами специфические особенности политического уст¬
ройства США (отсутствие четко организованных полити¬
ческих партий как выразителей интересов различных сло¬
ев буржуазии, изоляция конгресса от трудящихся) обус¬
ловливают превращение конгресса в своего рода рупор
различных фракций господствующего класса, к голосу
которых приходится прислушиваться правящей монопо¬
листической верхушке и ее представителям в правитель¬
стве. Значение этого рупора тем более велико, что пред¬
ставители различных фракций буржуазии нередко зак¬
лючают между собой в конгрессе сделки и совместно
предъявляют определенные требования президенту. В си¬
лу этого конгресс может служить известным сдерживаю¬
щим механизмом против проведения президентом акций,
которые в недостаточной степени учитывают интересы
различных слоев господствующего класса.
Конгресс располагает целым рядом средств, которые
в состоянии если не отменить, то, по крайней мере, за¬
труднить осуществление принятых президентом внешне¬
политических решений. Наиболее значительную роль иг¬
рает в этом отношении сенат — верхняя палата конгрес¬
са, создатели которого мыслили его как противовес более
демократичной по составу палате представителей и как
своего рода административный совет при президенте. В
резервном фонде сената по-прежнему находится право
вето в отношении ратификации международных догово¬
ров или, по крайней мере, внесение таких поправок, кото¬
рые существенно изменяют характер договора. Сенат мо¬
жет воспрепятствовать назначению неугодных ему лиц
на высшие дипломатические посты. У сената имеется пол¬
номочие регулировать торговлю с иностранными государ¬
ствами. Конгресс располагает возможностью создать не¬
благоприятное для президента общественное мнение во¬
круг его внешнеполитических акций и тем самым умалить
престиж президента на международной арене.
Весьма реальными возможностями для оказания вли¬
яния на внешнюю политику страны конгресс обладает, в
частности, при решении вопросов о выделении ассигнова¬
ний на проводимые правительством мероприятия. Роль
конгресса в этих вопросах является в основном негатив¬
ной — он может лишь снизить требуемые президентом
ассигнования. Тем не менее уже одно это обстоятельство
имеет существенное значение. Предметом самых острых
дебатов неизменно является ежегодно обсуждаемый в
264
конгрессе вопрос о военных ассигнованиях. В 1974 году
конгресс даже наложил эмбарго на поставки оружия Тур¬
ции.
Значительная часть внешнеполитической деятельнос¬
ти конгресса осуществляется в его комитетах. Вопросами
внешней политики сейчас ведают 16 из 19 комитетов се¬
ната и 17 из 22 комитетов палаты представителей7. Из
числа этих комитетов наиболее влиятельными являются
комитеты по иностранным делам, ассигнованиям, внеш¬
ней торговле, вооруженным силам и разведслужбам.
Исходя из необходимости признания известной роли
конгресса и придания видимости «общенационального»
характера политике «национальной безопасности», прово¬
димой с учетом интересов различных фракций буржуазии
при решающей роли монополистов, президенту США при¬
ходится в своей практической деятельности, особенно в
последнее время, после «Уотергейта», во все больших
масштабах учитывать позицию конгресса по определен¬
ным вопросам, консультироваться с ведущими конгрес¬
сменами от обеих партий, включать их в состав делега¬
ций на международные конференции и совещания.
Положение президента в его взаимоотношениях с кон¬
грессом определяется в конечном счете его связями с
монополистическим капиталом, с партийным руководст¬
вом.
Представители крупной буржуазии, как правило, ис¬
пользовали свое пребывание в президентском кресле для
активного влияния на ход международных событий в со¬
ответствии с потребностями своего класса. Президенты
Т. Рузвельт, В. Вильсон, Ф. Рузвельт и Дж. Кеннеди ак¬
тивно участвовали в выработке стратегии и тактики вне¬
шней политики, лично вели многие дипломатические пе¬
реговоры.
В ряде случаев, однако, президенты играли во внеш¬
неполитической сфере менее активную роль. В этих ус¬
ловиях в значительной мере возрастала роль государст¬
венного секретаря, который обычно являлся прямым став¬
ленником финансовой олигархии (например, Дж. Ф.
Даллес).
Располагая широкими, по существу неограниченными
возможностями в области формирования и осуществле¬
ния внешней политики, большинство президентов, как
подчеркивается в американской литературе, пытались с
помощью этого укрепить свой престиж и авторитет внут¬
ри страны, вписать свое имя в историю 8. Это является и
265
одной из причин, по которой многие президенты уделяли
первостепенное внимание внешней политике 9.
Доктрина «национальной безопасности», как видно,
существенным образом подкрепила традиционные функ¬
ции президента, расширила теоретическую базу для оп¬
равдания усиления единоличной роли президента в про¬
цессе формулирования и осуществления политики, введя
новые труднооспариваемые аргументы высшего порядка.
Однако главное значение доктрины «национальной
безопасности» в сфере управления внешней политикой
состоит в том, что она включила в структуру государст¬
венного механизма США новый специальный аппарат —
Совет национальной безопасности.
Вне зависимости от той роли, которая придавалась
Совету национальной безопасности со стороны отдельных
президентов, а также от тех изменений, которым подвер¬
галась его структура, этот орган всегда занимал значи¬
тельное место в системе исполнительной власти. В обя¬
занности совета не входит принятие решений — это пре¬
рогатива президента. Задача совета — консультирование
президента в связи с принятием решений. В его функции
входит также определение и оценка целей, обязательств
и рисков в области внешней политики, рассмотрение ши¬
рокого круга межведомственных проблем, связанных с
«национальной безопасностью». СНБ является тем орга¬
ном, в котором на высшем уровне разрабатываются и
формулируются основные направления внешней полити¬
ки как текущего характера, так и рассчитанные на долго¬
временный период, отвергаются или подвергаются изме¬
нениям конкретные концепции и позиции.
В силу возложенных на него функций Совет нацио¬
нальной безопасности окончательно лишил какой-либо
роли во внешней политике кабинет министров, который
возник в свое время (в 1793 г.) специально в качестве ор¬
гана для принятия внешнеполитических решений, и при¬
нял ряд важных решений в экспансионистских интересах
молодого американского капитализма (решение о ней¬
тралитете в англо-французской войне 1793 г., «доктрина
Монро» 1823 г. и др.) *.
* Роль кабинета как коллегиального органа сейчас вообще све¬
дена на нет. Из числа членов кабинета помимо государственного сек¬
ретаря внешнеполитическими вопросами занимаются только министры
обороны и энергетики, а также в определенной мере министры финан¬
сов и торговли. Эти пять министров — наиболее влиятельные лица
в кабинете, на их постах неизменно находятся представители круп¬
нейших монополистических объединений. Определенное отношение к
266
В рамках СНБ важную роль в формировании внешней
политики играют военные. Основное стремление одного
из главных инициаторов создания СНБ, ставшего затем
первым министром обороны,— Форестолла заключалось
в том, чтобы создать канал, обеспечивающий влияние на
внешнюю политику военных ведомств. В оставшихся пос¬
ле смерти Форестолла дневниках отмечалось, что перво¬
начально Совет национальной безопасности планировал¬
ся как военный орган. Его даже собирались назвать сове¬
том по общей обороне. Форестолл предлагал, чтобы в
качестве постоянного места работы СНБ было избрано
здание Пентагона, но президент Трумэн не принял этой
рекомендации10.
Тем не менее военные получили удобный канал для
оказания влияния на внешнюю политику. Это обеспечи¬
вается уже самим составом СНБ. Первоначально в него
входили президент, государственный секретарь, министр
обороны, министры трех видов вооруженных сил (армии,
ВВС и ВМС), начальник существовавшего тогда Управ¬
ления ресурсов национальной безопасности. Постоянны¬
ми советниками совета стали директор ЦРУ и председа¬
тель комитета начальников штабов. Только после резкой
критики, которой подвергся кандидат демократической
партии в избирательной кампании 1948 года за засилье
военных в СНБ, конгрессом были приняты поправки, пре¬
дусматривавшие удаление из состава СНБ министров ро¬
дов войск и включение в него вице-президента *. Однако
внешней политике имеют и главы некоторых так называемых «неза¬
висимых агентств», регулирующих отдельные, сравнительно узкие
направления деятельности (Национальное управление по аэронавти¬
ке и исследованию космического пространства, Федеральная резерв¬
ная система, Федеральная комиссия по связи, Совет по гражданской
авиации, Управление зоной Панамского канала и т. д.).
* Конституция не наделяет вице-президента какими-либо кон¬
кретными полномочиями, кроме права председательствовать в сена¬
те. Его функции в управлении государством во многом зависят от
воли президента. В американской литературе долгое время бытовало
чисто ироническое отношение к этой должности. Первый вице-пре-
зидент США Джон Адамс так характеризовал свою должность:
«Наиболее пустое место, которое может создать человеческое вооб¬
ражение». В послевоенные годы имеет место, однако, укрепление
официального' статуса вице-президента. В настоящее время кроме
участия в работе Совета национальной безопасности он является
членом Совета по внутренним делам и некоторых других высших
органов исполнительной власти США. В последнее время вице-пре¬
зиденты часто привлекаются к выполнению отдельных дипломатиче¬
ских поручений, освобождая президента от многих церемониальных
обязанностей, связанных с выполнением протокольных функций в
качестве главы государства.
267
и после этого министерство обороны, комитет начальни¬
ков штабов и Центральное разведывательное управление
оставались неизменно представленными как в работе са¬
мого СНБ, так и создававшихся при нем комитетов.
В настоящее время постоянными членами СНБ явля¬
ются президент, вице-президент, государственный секре¬
тарь и министр обороны. Председатель КНШ и директор
ЦРУ — постоянные советники СНБ. Во всех заседаниях
совета участвует помощник президента по вопросам на¬
циональной безопасности. Советниками СНБ по соответ¬
ствующим вопросам являются также директор Агентства
по контролю над вооружениями и разоружению, директор
Управления по вопросам научно-технической политики
при президенте* и директор Управления международ¬
ных связей. Участие этих советников в работе СНБ огра¬
ничено и связано с обсуждением вопросов, касающихся
непосредственно деятельности руководимых ими учреж¬
дений. Закон о национальной безопасности 1947 года пре¬
дусматривает кроме постоянных членов и другую катего¬
рию членов, вводимых президентом по своему усмотре¬
нию. В эту категорию президент Картер включил минист¬
ров торговли и финансов, а также председателя экономи¬
ческого совета при президенте.
Велико влияние на формирование политики помощни¬
ка президента по делам национальной безопасности, ко¬
торый ведает организацией всей работы СНБ и его коми¬
тетов, отбирает для доклада президенту поступающую
из всех источников внешнеполитическую информацию и
имеет ежедневный доступ к президенту. Этот помощник
является фактически главным внешнеполитическим со¬
ветником президента.
* Управление по вопросам научно-технической политики при
президенте превратилось в последнее время в одно из важнейших
звеньев механизма по принятию решений в Белом доме. Управление
рассматривает научную сторону самых различных предложений и
инициатив, по которым правительство выносит политическое решение.
В ведении управления находятся практически все вопросы внешней
и внутренней политики США. Управление занимается проблемами
ограничения гонки вооружений, национальной обороны, научно-тех¬
нического сотрудничества с иностранными государствами, включая
СССР, а также перспективным изучением таких вопросов, как на¬
родонаселение, питание, предсказание землетрясений и климатиче¬
ских сдвигов. Руководитель управления присутствует на всех засе¬
даниях ближайших советников президента. Он один из немногих
сотрудников Белого дома, которому всегда открыт доступ к пре¬
зиденту.
268
Нынешний помощник президента по делам националь¬
ной безопасности 3. Бжезинский заявляет, что «на его
ответственности лежит обеспечение национальной безо¬
пасности» и соответственно его задача состоит в том, что¬
бы «различать угрозы и зондажи, направленные Соеди¬
ненным Штатам, и определять, каким образом реагиро¬
вать на них, отклонять или давать отпор» и.
В распоряжении помощника имеется постоянный ап¬
парат сотрудников (около 100 человек). Формально яв¬
ляясь частью «исполнительного бюро президента»*, со¬
стоящего из различных подразделений, занимающихся
координацией работы министерств и ведомств и готовя¬
щих соответствующие рекомендации президенту, аппарат
Совета национальной безопасности фактически занимает
независимое положение и часто играет роль «мини-госу-
дарственного департамента».
По определению Бжезинского, аппарат СНБ должен
выполнять три основные функции: оперативно участво¬
вать в координации и проведении политики; глубоко раз¬
бираться в расходах на оборону, в системах вооружений
и в общих военных программах; служить для президента
своего рода «мозговым трестом», способным подсказать
политику на будущее.
В соответствии с новыми внешнеполитическими уста¬
новками несколько перестроена и организационная струк¬
тура аппарата. Создано два новых подразделения—груп¬
па глобальных проблем и группа Север — Юг, занимаю¬
щаяся взаимоотношениями США с развивающимися
странами. Нововведением является также создание поста
пресс-секретаря по связи аппарата СНБ с конгрессом и
прессой**.
* В задачи «исполнительного бюро президента» входит подго¬
товка и отработка передаваемых на одобрение президенту рекомен¬
даций, координация деятельности всего механизма государственного
управления, контроль за выполнением ведомствами ключевых пра¬
вительственных решений. В силу своей близости к президенту руко¬
водящие сотрудники Белого дома имеют определенную возможность
влиять на принятие президентом решений. Из органов «исполнитель¬
ного бюро» на внешнеполитическую сферу имеет выход фактически
только бюджетное бюро, которое готовит бюджет, следит за его
исполнением и дает заключения по всем вопросам, требующим бюд¬
жетных ассигнований, и в частности по международным операциям.
** Как свидетельствует история СНБ, республиканцы и демокра¬
ты имеют свои излюбленные способы выработки политики в рамках
Совета национальной безопасности. Республиканцы гораздо более
склонны соблюдать форму. Эйзенхауэр пытался учредить такую сис¬
тему, при которой Совет национальной безопасности фактически вы¬
рабатывал бы политику. При Никсоне были выработаны всякого рода
269
Главная задача Совета национальной безопасности
при Картере состоит в том, чтобы служить президенту,
выполняя все устанавливаемые им требования, разраба¬
тывая тем самым общие наметки политики и обеспечивая
посредничество между соперничающими ведомствами.
Функция Совета национальной безопасности по вы¬
работке политики, как отмечает бывший руководитель
отдела планирования безопасности проф. С. Хантингтон,
эквивалентна законодательному процессу. Во-первых,
сам совет перекладывает всю свою работу на различные
комитеты, из коих два играют ведущую роль — комитет
анализа политики и специальный координационный коми¬
тет.
В состав комитета по анализу политики входят госу¬
дарственный секретарь, министр обороны, министр фи¬
нансов, директор ЦРУ, председатель КНШ, помощник
президента по вопросам национальной безопасности и
представители других ведомств по мере необходимости.
Постоянного председателя нет. Он назначается президен¬
том в зависимости от тематики обсуждаемого вопроса.
В сферу деятельности комитета входит рассмотрение
широких проблем, носящих долгосрочный характер. Кро¬
ме того, на комитет также возложены две смежные зада¬
чи, касающиеся деятельности «разведывательного сооб¬
щества»,— определение разведывательных потребностей
США и оценка аналитической информации. При обсуж¬
дении этих вопросов председательствует директор ЦРУ,
а в качестве членов комитета выступают заместитель ми¬
нистра обороны, заместитель помощника президента по
вопросам национальной безопасности и представитель
государственного секретаря.
В специальный координационный комитет входят по¬
мощник президента по вопросам национальной безопас¬
ности (председатель), государственный секретарь, ми¬
нистр обороны, директор ЦРУ, председатель КНШ и в
детальные процедуры, включая процедуры составления меморанду¬
мов по «национальной безопасности», которые мыслились как резю¬
ме политических оценок по различным вопросам. Демократы же го¬
раздо меньше держатся за процедурные рамки. Трумэн считал, что
Совет национальной безопасности посягал на его власть. Кеннеди
пытался вообще игнорировать Совет национальной безопасности. Де¬
мократы предпочитают уклоняться от жестких правил работы аппа¬
рата «национальной безопасности». Так, например, если при Эйзен¬
хауэре Совет национальной безопасности в среднем собирался раз
в неделю, при Никсоне — раз в две недели, то при Кеннеди и Джон¬
соне — раз в месяц.
270
качестве наблюдателей — министр юстиции и директор
Административно-бюджетного управления.
Сфера деятельности этого комитета включает рассмот¬
рение вопросов проведения «тайных» операций ЦРУ и
реагирования на кризисные ситуации, а также так назы¬
ваемых смежных проблем, затрагивающих интересы ря¬
да министерств и ведомств, включая проблему ограниче¬
ния вооружений.
Оба комитета решают, в каких областях нужны ди¬
рективы, и создают аналитические группы для их выра¬
ботки. Каждая такая группа представляет свои рекомен¬
дации одному из двух комитетов. После обсуждения в
комитете рекомендации аналитической группы становят¬
ся президентскими директивами. Когда требуется глубо¬
кий анализ внешней политики, составляется президент¬
ский обзорный меморандум (PRM). Слово «президент¬
ский» должно поднимать значение этого документа и
указывать, что он исходит лично от президента.
Подготовке такого рода документов придается сейчас
большое значение. Так, например, PRM-10, в котором
подводится итог общему соотношению военной силы в
мире, готовился на протяжении пяти месяцев. К его под¬
готовке привлекалось около 200 человек. Такая процеду¬
ра призвана была облегчить нахождение компромиссов
между противоборствующими интересами. Поскольку
все группы консультируются, то возникает тенденция
компоновать политику, налагая излюбленный проект од¬
ной группировки на излюбленные представления дру¬
гой, как бы они ни расходились между собой. Как отме¬
чалось в американской прессе, в PRM-10 есть элемент
контроля над вооружениями, который радует картеров-
ских «голубей», и в то же время в нем излагается требо¬
вание увеличения военных расходов, которого добива¬
ются «ястребы»12.
Значение создания СНБ состоит не столько в том,
что он представляет собой организационную форму кон¬
сультирования президента по вопросам «национальной
безопасности», сколько в том, что он определяет круг
должностных лиц и, в частности, военных, участие кото¬
рых в подготовке президентских решений является обя¬
зательным. С другой стороны, существование Совета на¬
циональной безопасности обеспечивает президенту до¬
полнительную базу для создания собственных плацдар¬
мов непосредственного воздействия на американскую
внешнюю политику. Возглавляемый помощником прези¬
271
дента по вопросам национальной безопасности аппарат
СНБ, опираясь на авторитет и власть президента, имеет
возможность систематического проведения линии прези¬
дента как через отдельные внешнеполитические ведомст¬
ва, так и через систему создаваемых при СНБ межведом¬
ственных комитетов. Взаимодействие президента с лица¬
ми, участвующими в формировании внешней политики,
осуществляется не только на систематических заседани¬
ях, но и в постоянных личных контактах, которые дают
возможность президенту постоянно ощущать биение
пульса различных политических сил как внутри государ¬
ственного аппарата, так и за его пределами.
Помимо официально существующего центрального
механизма по руководству международными делами пре¬
зиденты во внешнеполитической практике широко ис¬
пользуют свое ближайшее окружение и различного рода
специальные органы и группы. Такой подход освобожда¬
ет главу государства от излишних условностей конститу¬
ционно-организационного порядка и позволяет привле¬
кать в каждом конкретном случае нужных лиц. Так, для
рассмотрения вопросов о позиции США в связи с англо-
франко-израильской интервенцией в Египте в 1956 году
президентом Эйзенхауэром была создана специальная
группа в составе государственного секретаря, министра
обороны, шефа разведки, председателя объединенной
группы начальников штабов и главного помощника пре¬
зидента. Во время кризиса в Карибском море для реше¬
ния стратегических и оперативных вопросов президентом
Дж. Кеннеди была создана группа в составе вице-прези-
дента, государственного секретаря, министров обороны
и финансов, помощника президента по делам националь¬
ной безопасности, председателя объединенной группы
начальников штабов, а также заместителя государствен¬
ного секретаря, заместителя министра обороны, минист¬
ра юстиции и директора ЦРУ. Она получила название
Исполнительного комитета Совета национальной без¬
опасности (ЭКСКОМ). Однако на деле ЭКСКОМ не
имел ничего общего с СНБ. Упоминание СНБ в его наз¬
вании, поясняет автор книги «Ведение новой диплома¬
тии» Дж. Макками, было сделано скорее по юридичес¬
ким причинам, для успокоения общественности, чем для
отражения сущности этой группы13. Подобным же обра¬
зом действовали и все последующие президенты —
Л. Джонсон, Р. Никсон, Дж. Форд, Дж. Картер.
Вся система центрального руководства политикой
272
«национальной безопасности» отличается, как видно,
большой гибкостью и имеет своей целью в максимальной
степени обслуживать нужды правящего класса США на
международной арене. Главное место в этой системе за¬
нимает президент США. За безобидным, на первый
взгляд, высказыванием о наличии у президента несколь¬
ких «головных уборов» скрывается признание сосредото¬
чения в его руках власти по руководству внутренней и
внешней политикой США. Являясь ставленником финан¬
совой олигархии, президент наделен достаточно широ¬
кими полномочиями, для того чтобы с помощью ближай¬
ших ему министров, советников и помощников быстро и
оперативно определять внешнеполитический курс амери¬
канского государственного корабля, ориентируясь на об¬
щие классовые интересы монополистической буржуазии.
Государственный департамент
Важное место в механизме «национальной безопас¬
ности» отводится государственному департаменту США.
Известный также под названием Фогги Боттом (Туман¬
ное дно), по месту его расположения в Вашингтоне, гос¬
департамент продолжает оставаться главным диплома¬
тическим ведомством страны, на которое возложено опе¬
ративное руководство внешней политикой США.
Официально в функции государственного департа¬
мента входят: 1) помощь президенту в разработке внеш¬
ней политики; 2) дипломатическая переписка от имени
правительства с другими государствами; 3) руководство
заграничными учреждениями; 4) решение всевозможных
вопросов, связанных с пребыванием в США иностранных
представительств; 5) защита прав и интересов граждан
США за границей; 6) обеспечение информацией других
правительственных органов по международным полити¬
ческим, экономическим, военным и социальным вопро¬
сам. Все эти формы деятельности госдепартамента име¬
ют вполне определенное назначение — обслуживание
интересов господствующего класса Соединенных Штатов
Лмерики на международной арене.
Тон в деятельности госдепартамента задают ведущие
монополистические группировки страны (прежде всего
Уолл-стрит), которые, по откровенному признанию аме¬
риканской прессы, «держат в своих руках контроль над
госдепартаментом».
10—597
273
Представители различных монополистических кругов
и партийные боссы делят между собой многие важней¬
шие посты в госдепартаменте и посольствах.
Своеобразной американской традицией является так
называемая «система добычи», то есть распределение
указанных постов в порядке вознаграждения за оказа¬
ние финансовой поддержки победившей на выборах пар¬
тии. Так, в конце 1976 года из 124 посольских постов
32 были заняты лицами, получившими их как вознаграж¬
дение14. Во время своей предвыборной кампании
Дж. Картер говорил: «Когда я приезжаю в какое-то по¬
сольство в Южной Америке, или в Центральной Америке,
или в Европе и вижу там нашего посла, нашего предста¬
вителя в этой стране, разжиревшего, обрюзгшего, неве¬
жественного богача, который вносил крупный вклад в
фонд избирательной кампании, человека, который не
умеет даже говорить на языке страны, где он служит, и
еще меньше знает о нашей собственной стране, о нашей
совести и наших идеалах и мотивах, то это оскорбление
для меня, для народа Америки и для народа страны,
куда его направили».
Несмотря на резкое осуждение подобной системы на¬
значений на дипломатическую службу, после прихода к
власти демократов в 1976 году, по авторитетному сви¬
детельству автора книги «Ненадежное величие», бывше¬
го видного чиновника госдепартамента и СНБ Р. Мор¬
риса, не обнаружилось, однако, признаков, свидетель¬
ствующих о серьезном изменении существующей прак¬
тики15.
С приходом к власти администрации Картера 15 из
21 руководящего поста в госдепартаменте были заняты
лицами, не являвшимися кадровыми дипломатами. При
президенте Дж. Форде на этих постах было 7 лиц, назна¬
ченных по политическим соображениям16.
Что касается кадрового чиновничества внешнеполи¬
тических учреждений США, то костяк его по своему иму¬
щественному положению, родственным и общественным
связям, по образу жизни и идеологии прочно связан с
крупной буржуазией. «Клика родственников, связанных
кровными узами с некоторыми богатыми семействами,—
писал в своих мемуарах видный американский дипломат
У. Додд, — использует дипломатические должности для
своих людей, из которых многие только что окончили
Гарвардский университет и не имеют даже элементар¬
ных знаний. Главная их черта — снобизм и стремление к
274
личйоМу благополучию»17. Такое положение сохраняется
и поныне.
Повышенный интерес правящей монополистической
верхушки к госдепартаменту является следствием его
своеобразного положения в системе государственных ор¬
ганов внешних сношений США. Его особенность по срав¬
нению с другими правительственными органами, высту¬
пающими в области внешних сношений, состоит в том,
что, располагая квалифицированными экспертами в об¬
ласти дипломатии, он имеет необходимые возможности
для оказания существенного влияния на определение и
проведение внешней политики. Руками этих экспертов
готовятся рекомендации президенту по вопросам внеш¬
ней политики, проекты директив и указаний, составля¬
ются дипломатические документы.
Место и роль госдепартамента в определении и прове¬
дении империалистической внешней политики США на¬
ложили заметный отпечаток на его внутреннюю органи¬
зацию и структуру. Глава ведомства — государственный
секретарь является фактически вторым лицом в государ¬
стве, которое осуществляет непосредственное руководст¬
во внешней политикой США. Согласно официальной точ¬
ке зрения, государственный секретарь — главный совет¬
ник президента в определении, формулировании и
осуществлении внешней политики, главный администра¬
тор и координатор деятельности различных правительст¬
венных учреждений в этой области. Государственный сек¬
ретарь призван руководить всей текущей оперативной
деятельностью государства в области внешней политики.
Он участвует в различных совещаниях, представляет
США на международных конференциях, подписывает со¬
глашения, в отношении которых президентом выдаются
соответствующие полномочия, представляет внешнеполи¬
тические предложения правительства конгрессу, отчиты¬
вается перед конгрессом и т. д. В силу занимаемой им
должности государственный секретарь является членом
не только Совета национальной безопасности, но и Экс-
портно-Импортного банка США, а также Совета НАТО,
где он стремится руководить политикой этого агрессив¬
ного блока.
Пост государственного секретаря обычно занимают
представители правящей партии, имеющие, как правило,
исключительно тесные связи с финансово-промышлен-
ной олигархией. Фактическое положение государствен¬
ного секретаря в формировании и осуществлении внеш¬
10*
275
ней политики во многом зависит от его личных взаимо¬
отношений с президентом.
Ближайшее окружение государственного секретаря
составляют его заместители. Первый заместитель, кото¬
рый исполняет обязанности госсекретаря во время его
отсутствия, ведает главным образом административными
вопросами. Обязанности между тремя другими замести¬
телями распределены следующим образом: у одного —
политические вопросы, у другого — экономические, у
третьего — вопросы «помощи в целях безопасности»,
наука и техника. В следующем ряду за заместителями
государственного секретаря стоят заместители и помощ¬
ники заместителей государственного секретаря, которые
ведают специальными областями работы и осуществля¬
ют руководство различными структурными звеньями
госдепартамента. Один помощник специально выделен
для связи с конгрессом. Помощник заместителя государ¬
ственного секретаря по экономическим вопросам веда¬
ет международными делами бизнеса и является своего
рода связующим звеном между госдепартаментом и
монополистическими группировками. К помощнику гос¬
секретаря по своему положению приравнен советник го¬
сударственного департамента, занимающийся специаль¬
ными вопросами по поручению госсекретаря. Наконец, в
руководящее звено госдепартамента входят послы по
особым поручениям. Как правило, это видные дипломаты,
направляемые для выполнения специальных миссий.
Администрация Картера учредила в госдепартамен¬
те новую должность специального консультанта госсек¬
ретаря по советским делам. Вместе с помощником гос¬
секретаря по европейским делам он является сопредсе¬
дателем созданного в июне 1977 года межведомственного
координационного комитета по советско-американским
отношениям, который призван усилить координирующую
роль госдепартамента в вопросах осуществления амери¬
канской политики в отношении СССР.
Вся эта небольшая группа чиновников образует
верхушку госдепартамента, в руках которой сосредото¬
чены нити управления американской дипломатией. С их
помощью приводится в движение машина дипломати¬
ческого ведомства США, которая насчитывает
12 тыс. человек, включая сотрудников центрального ап¬
парата18.
Дипломатическая работа за границей проводится гос¬
департаментом через широкую сеть зарубежных пред¬
276
ставительств, которая постоянно расширяется, особенно
в связи с появлением новых государств. В начале 1978 го¬
да США имели за границей 136 посольств, 1 миссию свя¬
зи, 10 представительств при международных и региональ¬
ных организациях, 129 консульских учреждений.
Усиление роли аппарата СНБ в процессе разработки,
а также в известной мере и в ходе осуществления амери¬
канской внешней политики вызвало определенное умень¬
шение роли государственного департамента в этом про¬
цессе. На первых этапах существования СНБ, при адми¬
нистрациях Трумэна, Эйзенхауэра и отчасти при
администрациях Кеннеди и Джонсона, государственный
департамент претендовал на ведущую роль в разработке
и осуществлении американской внешней политики. Госу¬
дарственный секретарь возглявлял тогда межведомст¬
венные группы, созданные для утверждения тайных опе¬
раций разведок, разработки американской позиции по
вопросам контроля над вооружениями и по разоруже¬
нию, а позднее за представителями госдепартамента бы¬
ло закреплено руководство специальными группами,
создававшимися в кризисных ситуациях. При админист¬
рации Джонсона была даже предпринята попытка офи¬
циально сконцентрировать весь процесс разработки и
осуществления американской внешней политики вокруг
государственного департамента. С этой целью была соз¬
дана высшая межведомственная группа, которая долж¬
на была руководить работой региональных и функцио¬
нальных межведомственных групп. Однако эта попытка
оказалась несостоятельной. В условиях вовлечения в
сферу внешних сношений большого числа крупных пра¬
вительственных ведомств США (свыше 50) государст¬
венный департамент оказался не в состоянии осущест¬
влять координирующую роль в этой сфере. В итоге при
президенте Никсоне высшая межведомственная группа
была ликвидирована, а региональные и функциональные
межведомственные группы подчинены аппарату СНБ.
Важные функции руководства межведомственными ко¬
митетами по утверждению тайных операций разведок,
управлению политикой в кризисных ситуациях и по под¬
готовке позиций в области ограничения вооружений пе¬
решли в аппарат СНБ к помощнику президента по воп¬
росам национальной безопасности.
Нельзя сказать, чтобы роль государственного депар¬
тамента в процессе разработки и осуществления внеш¬
ней политики значительно возросла в тот довольно корот¬
277
кий период, когда Г. Киссинджер совмещал пост помощ¬
ника президента по вопросам национальной безопасно¬
сти с постом госсекретаря, а позднее оставался только
госсекретарем. В обоих случаях он опирался на довольно
узкий круг сотрудников, перешедших вместе с ним из
аппарата СНБ в госдепартамент, и мало использовал
ресурсы самого этого ведомства.
Положение несколько изменилось в пользу госдепар¬
тамента с приходом администрации Картера. В реорга¬
низованной президентом Картером системе СНБ госсек¬
ретарь стал председательствовать в одном из комитетов
СНБ — комитете по политическому анализу при обсуж¬
дении вопросов, подлежащих ведению госдепартамента.
За госсекретарем закреплена обязанность официального
разъяснения американской внешней политики.
Включение госдепартамента США в механизм «на¬
циональной безопасности» оказывает значительное влия¬
ние на происходящую в течение всего послевоенного
времени модернизацию организационной структуры и
форм дипломатии, которая отражает стремление правя¬
щего класса США иметь вполне современный механизм
для ведения международных дел.
Важнейшей тенденцией послевоенного периода явля¬
ется превращение посольств и других заграничных пред¬
ставительств из органов чисто политических сношений в
универсальные учреждения, где под охраной дипломати¬
ческих привилегий ведется обширная работа по обслу¬
живанию всех видов заграничной деятельности: полити¬
ческой, экономической и пропагандистской.
Номенклатура современных американских диплома¬
тических представительств стала чрезвычайно пестрой.
Наряду с дипломатами, специализирующимися в облас¬
ти политики, экономики и идеологии, в составе посольств
и миссий имеются военные, военно-морские и военно-
воздушные атташе. В состав представительств входят и
атташе по вопросам науки, энергетики, финансов, про¬
мышленности, сельского хозяйства, торговли, труда,
гражданской авиации, судоходства, телекоммуникаций
и т. п.
При этом сотрудники госдепартамента составляют
примерно У? состава американских заграничных учреж¬
дений19. По данным американского исследователя
И. Дестлера, из 21,5 тыс. служащих в американских по¬
сольствах и миссиях за границей на долю госдепарта¬
мента приходится 29%, а если из этого числа вычесть тех
278
сотрудников, которые оказывают административные ус¬
луги другим ведомствам, то доля госдепартамента сос¬
тавит 16,6%. В то же время 28,7% заграничного персо¬
нала работают на Пентагон. 21,3% представляют Агент¬
ство по международному развитию, 5,6% находятся за
границей по линии Управления международных связей.
Остальные 15,4% приходятся на долю представителей
таких министерств, как министерства финансов, сельско¬
го хозяйства, торговли, труда, юстиции и транспорта20.
Посол, как отмечают американские авторы21, пред¬
ставляет собой скорее председателя комитета экспертов,
чем полномочного представителя страны. Из этого, одна¬
ко, не следует делать вывод об ослаблении роли посла
как главного советника правительства по вопросам
взаимоотношений с данной страной. Послы США в
Москве, Лондоне, Париже, Бонне и в других крупных
столицах играют важную роль в формировании и осу¬
ществлении внешней политики своей страны. Значитель¬
ное развитие в современной американской дипломатии
получает институт специальных представительств (мис¬
сий или делегаций), аккредитуемых при международ¬
ных организациях и при замкнутых военно-политических
и экономических группировках западных держав.
Среди представительств особо выделяется представи¬
тельство США при ООН. Это представительство, по
образному выражению видного американского диплома¬
та Р. Мэрфи, «действует не как одно из посольств, а как
второе министерство иностранных дел в правительстве
Соединенных Штатов». Его особое положение в органах
американской дипломатии объясняется тем значением,
которое США придают ООН как «инструменту амери¬
канской политики». Представительство США направляет
деятельность своей дипломатии в ООН, широко исполь¬
зуя при этом не только методы парламентской диплома¬
тии, но и прямые угрозы, шантаж, подкуп и «выкручива¬
ние рук». Вместе с тем оно руководит огромным амери¬
канским персоналом, работающим в этой международной
организации, и активно использует его как важный рычаг
американской политики в ООН.
В структуре и государственного департамента, и ру¬
ководимых им заграничных учреждений также обнару¬
живаются определенные черты, свидетельствующие о
приспособлении этих органов к требованиям не только
меняющейся внешней политики, но и доктрины «нацио¬
нальной безопасности».
279
Главное место как в центральном аппарате, так и в
зарубежных органах занимает политический аппарат.
Все политические вопросы в госдепартаменте США све¬
дены в пять территориальных бюро (по делам африкан¬
ским, европейским, межамериканским, Восточной Азии
и района Тихого океана, Ближнего Востока и Южной
Азии) и в два функциональных бюро (по делам между¬
народных организаций и по международным научным
делам), которые занимаются вопросами участия США в
ООН и проблемами космоса и мирного использования
атомной энергии.
На территориальных бюро лежит главная доля ответ¬
ственности за подготовку предложений для президента
с целью определения внешней политики в соответствии с
интересами монополистического капитала. Вместе с тем
они являются главными проводниками правительствен¬
ной политики.
Политическими вопросами в заграничных учреждени¬
ях ведают политические отделы, имеющиеся в составе
всех посольств, миссий и специальных представительств.
Эти отделы занимаются сбором и обработкой сведений о
внутренней и внешней политике страны пребывания, тща¬
тельно изучают деятельность политических партий и от¬
дельных государственных деятелей. Они готовят перио¬
дические доклады госдепартаменту о политическом по¬
ложении в стране, подготавливают предложения для
определения позиции США по вопросам, касающимся их
взаимоотношений со страной пребывания. Важнейшая
сторона деятельности политических отделов состоит в
координации действий и осуществлении связи с предста¬
вителями различных служб и ведомств, работающими
под крышей посольства.
Если территориальные и функциональные бюро гос¬
департамента, а также политические отделы загранич¬
ных учреждений учитывают в своей работе все те нов¬
шества, которые привнесла в практику американской
дипломатии доктрина «национальной безопасности», то
военно-политические и планирующие органы госдепарта¬
мента, обязанные уже своим возникновением доктри¬
не «национальной безопасности», самым непосредствен¬
ным образом занимаются проблемами, связанными с ос¬
новным содержанием этой доктрины.
Большую роль играет военно-политическое бюро,
включающее, в частности, отдел по контролю над воору¬
жениями и по разоружению, отдел по контролю над обыч¬
280
ными вооружениями, отдел по международной политике
в области безопасности. Бюро не только занимается ана¬
лизом военно-политических проблем, но активно вовле¬
кается в ведение переговоров по разоружению.
Полуавтономное положение на политическом направ¬
лении американской дипломатии занимает тесно связан¬
ное с госдепартаментом, хотя и существующее в качестве
самостоятельного федерального учреждения Агентство
по контролю над вооружениями и по разоружению. Уже
самим своим названием это агентство должно, как отме¬
чается в американской литературе, придать «официаль¬
ный» характер невоенному подходу к обеспечению «на¬
циональной безопасности». Деятельность этого агентства
показывает, однако, что оно ориентировано на обеспече¬
ние «национальной безопасности» посредством не столь¬
ко разоружения, сколько контроля над вооружениями,
что, по существу, равнозначно военному подходу к проб¬
леме «национальной безопасности».
Особое место в структуре госдепартамента занимает
группа планирования политики, которая традиционно
является головным подразделением в планово-аналити¬
ческой работе ведомства и поддерживает тесный контакт
с аппаратом Совета национальной безопасности. Соз¬
данный в 1947 году, этот орган внес значительный вклад
в разработку концептуальных основ и конкретных меро¬
приятий американской внешней политики. В отдельные
периоды (1947—1950 гг., 1961—1966 гг.) группа факти¬
чески брала на себя функцию координации внешнеполи¬
тического планирования в государственном аппарате
США. Группа готовит комплексные обзорные документы
с общими оценками обстановки в мире и перспектив ее
развития, участвует в подготовке предложений по круп¬
ным вопросам текущей политики, выполняет непосредст¬
венные поручения государственного секретаря22.
Наряду с политическим аппаратом, являющимся
центральным звеном дипломатических органов США,
важное место в их структуре занимают экономические
отделы, дающие наглядное представление об обслужи¬
вании дипломатией интересов монополий.
В госдепартаменте вопросам внешнеэкономической
экспансии уделяется первостепенное значение. Он осу¬
ществляет общее наблюдение за проведением внешнеэко¬
номической политики, контролирует экспорт вооружений,
боеприпасов и военных материалов, оказание различного
рода «помощи». В подчинении государственного секре¬
281
таря находится специальная организация — Агентство
международного развития (АМР), которое в настоящее
время координирует или осуществляет предоставление
«помощи» 80 странам и территориям. Помимо этого, име¬
ется еще бюро по экономическим делам, наделенное ши¬
рокими контрольно-координационными функциями в от¬
ношении деятельности других учреждений во внешнеэко¬
номической области. Специальное отделение этого бюро
контролирует выполнение «закона Бэттла» («Акт 1951 го¬
да о контроле над оказанием помощи в целях взаимной
обороны»), следит за осуществлением дискриминацион¬
ных мер в торговле между капиталистическими и социа¬
листическими странами.
Для оказания непосредственного содействия амери¬
канским монополиям за границей в составе посольств и
миссий США выделены специальные экономические от¬
делы. В их обязанность входит установление контактов
между представителями монополистических кругов США
и страны пребывания, наблюдение за деятельностью кон¬
курентов, изучение состояния отдельных рынков, требо¬
ваний покупателей, местных условий торговли и т. п.
Для дипломатических органов США характерно так¬
же наличие в их распоряжении большого пропагандист¬
ского аппарата, который широко пользуется приемами и
методами «психологической войны», направленной про¬
тив ряда государств, с которыми поддерживаются нор¬
мальные дипломатические и иные отношения.
Одним из основных функциональных органов госде¬
партамента является бюро по делам общественности,
подразделяющееся на пять отделов: планирования поли¬
тики, печати, радио и телевидения, обслуживания об¬
щественности, дипломатической истории, — которые осу¬
ществляют пропаганду как внутри США, так и за
границей. Заметный упор в работе бюро делается не на
односторонние, а на двусторонние и многосторонние прог¬
раммы. Бюро является фактическим цензором американ¬
ской прессы по внешнеполитическим вопросам. Оно дей¬
ствует в тесном контакте с главным органом внешнепо¬
литической пропаганды — Управлением международных
связей.
Свою заграничную работу это бюро вместе с Агентст¬
вом международных связей организует через отделы ин¬
формации и культурных связей, которые имеются почти
во всех зарубежных представительствах США. Как пра¬
вило, эти отделы подразделяются на подотделы: инфор¬
282
мации, культурных связей и печати. Задача этих подраз¬
делений сводится прежде всего к идеологической обра¬
ботке населения стран пребывания.
В состав органов американской дипломатии с созда¬
нием ЦРУ на основе закона о национальной безопаснос¬
ти 1947 года официально вошли подразделения, осущест¬
вляющие разведывательную деятельность. С 1949 года в
госдепартаменте США функционирует бюро разведки и
исследований. С тех пор структура этого бюро претер¬
певала неоднократные изменения. В нем сейчас пять ре¬
гиональных отделов: отделы исследования и анализа по
Советскому Союзу и Восточной Европе, Ближнему Вос¬
току и Южной Азии, Восточной Азии и Тихому океану,
Западной Европе и по «американским республикам». Эти
отделы осуществляют всю информационно-справочную
работу госдепартамента, ведут соответствующие досье
по проблемам и зарубежным деятелям, которыми поль¬
зуются оперативные территориальные отделы госдепар¬
тамента. В распоряжении бюро современные технические
средства и оборудование по обработке, систематизации и
хранению непрерывно поступающей в госдепартамент ог¬
ромной массы информации, в том числе разведыватель¬
ной. Специальный отдел бюро — отдел внешних исследо¬
ваний— координирует исследования, проводимые в раз¬
личных научно-исследовательских институтах, учебных
заведениях, частных организациях и т. д., и использует
полученные им сведения в определенных политических
целях.
Значительное число американских дипломатов и кон¬
сулов за границей выполняют специальные разведыва¬
тельные задания, устанавливают широкие связи с раз¬
личными кругами государственных служащих и общест¬
венными деятелями страны пребывания для получения
информации не только по общеполитическим проблемам,
но и по вопросам, составляющим государственную тайну.
Шпионско-разведывательная деятельность американ¬
ских посольств, миссий и консульств ведет к вмешатель¬
ству во внутренние дела государств. Известно немало
случаев, когда американским дипломатам предлагалось
покинуть страну пребывания из-за деятельности, несов¬
местимой с дипломатическим статусом.
Существование большой бюрократической машины в
американской дипломатии, неуклонный рост численности
ее персонала обусловливают наличие большого вспомо¬
гательного административно-хозяйственного аппарата
283
как в госдепартаменте, так и в американских представи¬
тельствах за границей. Бюро администрации ведает уп¬
равлением делами и хозяйственным обслуживанием гос¬
департамента и его зарубежных учреждений, валютно¬
финансовыми вопросами, собственностью США за гра¬
ницей. Вместе с генеральной дирекцией заграничной
службы оно занимается вопросами кадров. В посольст¬
вах и миссиях США подобными вопросами занимается
административный отдел, который обычно объединяет
следующие подотделы: финансово-расчетный, шифро¬
вальный, почтовый (он же является канцелярией), доку¬
ментов, службы дипкурьеров, телефонную службу, а так¬
же библиотеку.
Другое важное подразделение вспомогательных
служб — бюро безопасности и консульских дел — наряду
с многочисленными консульскими вопросами занимается
контрразведывательной деятельностью и пресловутой
проверкой лояльности чиновников заграничной службы.
С этой целью оно широко использует не только унизи¬
тельные опросы, но и слежку, подслушивание, тайную
запись разговоров и тому подобные приемы и методы
шпионских организаций. В своей практической деятель¬
ности это бюро тесно связано с тайной полицией — Феде¬
ральным бюро расследований (ФБР).
С созданием Совета национальной безопасности гос¬
департаменту США, как видно, пришлось не только внес¬
ти необходимые коррективы в организацию своей прак¬
тической работы, но и заметно потесниться в процессе
главным образом формулирования, а отчасти и осущест¬
вления внешней политики.
Ослабление позиций госдепартамента как главного
дипломатического ведомства США в системе управления
внешней политикой США объясняется не только причи¬
нами внешнего порядка — существованием СНБ, конку¬
ренцией со стороны военно-разведывательных ведомств.
В последнее время государственный департамент и воз¬
главляемая им заграничная служба США являются объ¬
ектом все возрастающей критики за его собственные не¬
достатки. Многие называют дипломатическое ведомство
«моделью неэффективности». В этой связи указывают на
его консерватизм, наиболее иерархичную систему по
сравнению с другими государственными учреждениями,
бюрократическую волокиту при решении возникающих
проблем23. Отмечается снижение уровня квалификации
и подготовки кадровых дипломатов и, в частности, в выс¬
284
шем звене24. Что касается предложений по реорганиза¬
ции работы, то они, как отмечает Р. Уэссон* «вечно вно¬
сятся, но редко осуществляются и никогда не срабаты¬
вают»25.
Военные и разведывательные
ведомства
Создав новую систему руководства вооруженными си¬
лами и разведкой, закон о национальной безопасности
1947 года вместе с тем отвел значительную роль в осу¬
ществлении и формировании внешней политики США
Пентагону—центру всех американских военных ве¬
домств и Центральному разведывательному управлению
(ЦРУ).
Политическое влияние военных и разведывательных
ведомств в значительной степени предопределяется не
только специфическими особенностями этих ведомств в
механизме «национальной безопасности» США, но и их
огромными масштабами и разветвленностью, главенст¬
вующей ролью в распределении военных заказов среди
подлинных творцов американской политики — монопо¬
лий.
Пентагон и ЦРУ — два крупнейших концерна в аме¬
риканском государстве. В органах одного только Пента¬
гона занято более 1,3 млн. правительственных служа¬
щих, разбросанных по всему миру. Кроме того, он распо¬
ряжается судьбами более 6 млн. человек, из которых
2,7 млн. входят в состав вооруженных сил США и
3.5 млн. — в состав резерва. Его имущество в США и за
рубежом оценивается в 180 млрд. долл. Это в три раза
больше, чем собственность таких гигантских трестов, как
«Дженерал моторз», «Стандард ойл оф Нью-Джерси»,
«Юнайтед Стейтс стил», «Америкэн телефон энд теле¬
граф компани» и «Метрополитэн лайф иншуренс», вместе
взятых26. Бюджет Пентагона составлял на 1979 год
119 млрд. долл. По некоторым данным, за счет военного
бюджета обеспечивалась в 60-х годах занятость около
6.5 млн. американцев, или около 9% рабочей силы.
ЦРУ — второй после Пентагона собственник капита¬
ла. Одна только недвижимая собственность в округе
Фэрфэкс (штат Вирджиния), где расположено ЦРУ, оце¬
нивается в 46 млн. долл. По имеющимся в американской
печати данным, ежегодные расходы на ЦРУ, насчитыва¬
285
ющего 15 тыс. человек, составляют около 750 млн. долл.20
Однако эти цифры еще не отражают подлинного
бюджета американской разведки. Крупные суммы,
ассигнованные на шпионско-разведывательную дея¬
тельность, замаскированы в многочисленных статьях
бюджета других государственных учреждений и, в част¬
ности, госдепартамента, Пентагона, Национального уп¬
равления по аэронавтике и исследованию космического
пространства.
Такое колоссальное сосредоточение человеческих и
материальных ресурсов, направленных на гонку воору¬
жений и обеспечение американского господства в раз¬
личных частях земного шара, способствует превраще¬
нию Пентагона и ЦРУ в относительно самостоятельную
и не всегда поддающуюся контролю политическую силу.
Усиление роли военных и разведывательных учреж¬
дений в США — результат общего для империалистичес¬
ких держав стремления к милитаризму. Это стремление
отчетливо обнаружилось в США после второй мировой
войны, когда взятый ими политический курс на достиже¬
ние мирового господства потребовал создания гигантских
военного и разведывательного аппаратов для вмешатель¬
ства во внутренние дела других государств, наделенных
вместе с тем солидными правами участия в разработке
внешней политики США, в проявлении политической ини¬
циативы и воплощении ее в конкретные акции.
За фасадом Пентагона и ЦРУ в основном орудуют те
наиболее влиятельные группы финансовой олигархии,
которые заинтересованы в гонке вооружений, обеспечи¬
вающей им баснословные прибыли, и соответственно в
поддержании международной напряженности*. Сложив¬
шийся между военщиной и милитаристским бизнесом
прочный альянс составляет ядро «военно-промышленно-
го комплекса». Даже Д. Эйзенхауэр — представитель
военщины, побывав на посту президента, должен был
признать растущую опасность «неоправданного влияния»
«военно-промышленного комплекса», на который работа¬
ют миллионы людей, который ворочает фактически мил¬
лиардами долларов и воздействие которого «ощущается
* Нужно иметь в виду, что помимо крупнейших монополий в
США имеются десятки тысяч мелких военных субподрядчиков, кото¬
рые также материально заинтересованы в поддержании и наращива¬
нии военного производства (подробнее см. Беглов И. И. США: собст¬
венность и власть. М., 1971).
286
в каждом городе, в каждом штате, в каждом учреждении
федерального правительства»*.
Военно-разведывательные ведомства и монополии
имеют довольно хорошо отлаженную систему взаимодей¬
ствия, фигурально говоря, между Пентагоном и ЦРУ, от
которых зависит распределение военных правительствен¬
ных заказов, сулящих сверхприбыли**, и промышленны¬
ми корпорациями пролегает как бы дорога с двусторон¬
ним движением. От военных ведомств идут заказы; к
ним — поставки и претенденты на высокие посты.
Все командные посты в Пентагоне и ЦРУ, начиная с
постов руководителей этих учреждений, фактически за¬
бронированы для ставленников военных монополий,
сменяющих друг друга. Такова одна сторона личной
унии, представляющей характерную черту «военно-про¬
мышленного комплекса». Другая ее сторона — широкое
вовлечение влиятельных военных и разведчиков после их
выхода в отставку в руководящий аппарат тех монопо¬
лий, которые обогащаются на военных поставках и доби¬
ваются все новых, все более выгодных заказов. По иро¬
* Влияние ВПК приняло настолько широкие размеры, что в
последних американских работах все большее внимание уделяется
исследованию его роли и значения. Так, в вышедшей в 1977 году
иод редакцией военного историка Б. Кулинга книге «Война, бизнес
и американское общество. Военно-промышленный комплекс в исто¬
рической перспективе» предпринимается попытка проанализировать
различные взгляды на ВПК. Приводится, в частности, семь различ¬
ных определений. Но что характерно, всем определениям ВПК, не¬
зависимо от кажущейся «широты» подхода к предмету исследова¬
ния, присуще стремление затушевать классовую сущность военно-
промышленного комплекса как союза наиболее реакционных пред¬
ставителей американской военщины, государственной бюрократии и
военно-промышленных монополий, сложившегося в эпоху научно-тех-
нической революции, как в интересах упрочения и расширения клас¬
сового господства империализма, так и в целях личного обогащения
его участников (см. War, Business and American Society, Historical
Perspectives on the Military—Indusrial Complex. N. Y., 1977).
** В последнее время к числу влиятельных военных заказчиков
добавилось созданное в 1977 году министерство энергетики, одна из
важнейших официальных задач которого — «руководство и осущест¬
вление программ ядерных вооружений, а также другие функции на¬
циональной безопасности, включающие исследования и разработки
в области ядерного оружия». Как отмечалось в американском еже¬
годнике «Экономик ноутс», возложение на министерство энергетики,
а не на министерство обороиы задач по развитию ядерных воору^
жений преследует вполне определенную цель — скрыть в лабиринте
основных энергетических программ масштабы зловещей работы по
наращиванию и модернизации военного термоядерного арсенала
США.
?87
ническому замечанию известного американского социо¬
лога Р. Миллса, боевым лозунгом бизнесменов после вто¬
рой мировой войны стало «достать для себя генерала».
Показательно, что наибольшее число отставных генера¬
лов и адмиралов находятся на службе тех сравнительно
немногих ведущих военных корпораций, которые полу¬
чают наиболее крупные военные заказы («Локхид эйр-
крафт корпорейшн», неизменно стоящая на первом месте
среди подрядчиков Пентагона и ЦРУ, «Дженерал дайнэ-
микс корпорейшн», «Боинг эйрплэйн компани», «Рокуэлл
компани», «Макдоннел — Дуглас» и другие компании).
Тесная личная уния руководителей «большого бизне¬
са», военных и разведывательных ведомств, совпадение
их интересов обеспечивают для монополий наиболее бла¬
гоприятные условия при распределении военных заказов,
ставят руководителей военного и разведывательного ве¬
домств в непосредственную зависимость от монополий.
Отсюда заинтересованность ведущих кругов американ¬
ского бизнеса в сохранении влияния Пентагона и ЦРУ
на все стороны государственной жизни, и прежде всего
на формулирование и осуществление внешней политики.
«Настоятельно необходимо, чтобы наше правительство
располагало хорошими советами военных»28, — завещал
Джон Фостер Даллес, один из главных творцов агрес¬
сивной политики США.
Механизм «национальной безопасности», и прежде
всего СНБ, милитаристский состав которого вполне оче¬
виден, обеспечивает руководителям военных и разведы¬
вательных учреждений большой канал влияния на выра¬
ботку важнейших внешнеполитических решений.
Через посредство СНБ значительное влияние на фор¬
мирование политики США по вопросам «национальной
безопасности» оказывает кадровая военная верхушка,
представленная в комитете начальников штабов в соста¬
ве начальников штабов армии, флота и авиации, а также
командующего морской пехотой. Комитет, председатель
которого является главным военным советником прези¬
дента, министра обороны и СНБ, имеет своей задачей
давать советы правительству и выносить рекомендации
по важнейшим вопросам военной политики. Рекоменда¬
ции эти обычно выходят далеко за пределы официальных
функций и имеют, по авторитетному свидетельству быв¬
шего министра авиации Т. Финлеттера, «весьма важное
значение для экономической и внешней политики»29. Как
отмечает бывший заместитель министра обороны США
288
Р. Гилпатрик, «сила решения по военному вопросу, при¬
нятого большинством начальников штабов видов воору¬
женных сил, настолько велика, что даже самые высоко¬
поставленные гражданские чиновники не рашаются пре¬
небречь им»30. Не удивительно, что и на заседаниях СНБ
председатель комитета начальников штабов часто распо¬
лагает поддержкой большинства и может способство¬
вать принятию угодных Пентагону решений.
Каналы, через которые руководители военных и раз¬
ведывательных ведомств оказывают влияние на внеш¬
нюю политику, не ограничиваются СНБ. Представители
этих ведомств широко участвуют в различного рода
межведомственных комитетах, занимающихся конкрет¬
ными внешнеполитическими проблемами. Пентагон и
ЦРУ имеют своих людей в государственном департамен¬
те, американских посольствах и миссиях за границей,
других государственных органах внешних сношений.
О большой роли военных и разведывательных учреж¬
дений во внешней политике США ярко свидетельствует
их внутренняя организация. Являясь механизмом по ру¬
ководству вооруженными силами, Пентагон тем не менее
имеет в своем составе специальный внешнеполитический
аппарат, приспособленный к тому, чтобы вырабатывать
свою линию в вопросах внешней политики и проводить
ее через соответствующие внешнеполитические органы.
Согласно закону о национальной безопасности, министр
обороны является и главным помощником президента
по всем вопросам, относящимся к «национальной без¬
опасности»; он определяет «общую политику и програм¬
мы» военных ведомств.
Непосредственно внешнеполитическими проблемами
занимается заместитель министра обороны по вопросам
политики. Он является главным советником министра по
всем политическим и военно-политическим проблемам и
несет ответственность за согласование политики минис¬
терства обороны с общими установками администрации в
области «национальной безопасности», за разработку
позиции министерства по вопросам ограничения воору¬
жений, а также осуществляет общее политическое руко¬
водство деятельностью Разведывательного управления
министерства обороны (РУМО). На него возложены
функции осуществления контактов министерства оборо¬
ны с СНБ, государственным департаментом, Агентством
по контролю над вооружениями и разоружению и разве¬
дывательными органами, не входящими в систему ми¬
289
нистерства обороны. В его распоряжении находится
специальное управление по делам международной без¬
опасности, часто называемое «госдепартаментом Пента¬
гона». В нем готовятся планы и предложения, особенно
по вопросам участия США в различного рода замкнутых
военных группировках. Управление осуществляет общее
политическое руководство американскими войсками за
границей. Как видно из официальных материалов, полу¬
чивших название «Документы Пентагона», это управле¬
ние непосредственно планировало внешнеполитические
акции во время агрессивной войны США во Вьетнаме.
Военно-политическими проблемами занимается также
заместитель министра обороны по НИОКР, являющийся
одновременно начальником Управления НИОКР и в си¬
лу этого — главным советником министра по вопросам
научно-технической политики, вопросам разработки и
принятия на вооружение новых систем оружия. Ему под¬
чинен целый ряд управлений, занимающихся разработ¬
кой и постановкой на вооружение новых систем оружия.
Кроме того, в аппарате министра обороны имеется совет¬
ник по делам НАТО, что отражает особое внимание к
проблемам НАТО во внешнеполитических и военных
планах Пентагона.
Характерная черта при формировании подхода Пен¬
тагона к внешнеполитическим проблемам, особенно ког¬
да это касается бюджетных ассигнований, — соперни¬
чество между тремя входящими в министерство обороны
военными ведомствами: армии, авиации и военно-морско¬
го флота. Однако, какую бы остроту ни принимало это
соперничество, оно в конечном счете не является непрео¬
долимым препятствием для выработки согласованного
подхода, поскольку все военные ведомства связаны меж¬
ду собой общими интересами, доминирующими в целом
над частностями.
Важными рычагами для оказания влияния на форми¬
рование и осуществление внешней политики являются
разведывателы*ые органы Пентагона, в которых занято
85% всех сотрудников «разведывательного сообщест¬
ва»31. Один из них — Разведывательное управление ми¬
нистерства обороны — осуществляет руководство дея¬
тельностью военной, военно-морской и военно-воздуш¬
ной разведок. Другой—Национальное агентство безопас¬
ности— руководит всей шифровальной службой США,
организует шпионаж с помощью технических средств.
В Пентагоне имеется также Национальное разведыва¬
290
тельное бюро, осуществляющее сбор сведений, получае¬
мых с помощью спутников. Кроме того, каждый из видов
вооруженных сил имеет свои разведорганы, насчитываю¬
щие в общей сложности свыше 50 тыс. человек. Через
посредство соответствующим образом подобранной и
препарированной информации разведывательные орга¬
ны Пентагона в состоянии оказать воздействие на приня¬
тие правительством тех или иных внешнеполитических
решений. Несмотря на то что после реорганизации в фев¬
рале 1978 года разведывательные органы вооруженных
сил фактически поставлены под контроль ЦРУ, между
органами военной и политической разведки, как отме¬
чают американские авторы, продолжает сохраняться кон¬
курентная борьба.
Пентагон располагает значительными возможностя¬
ми для проведения своего влияния через широкую сеть
зарубежных представителей США. Этой цели служат
военные, военно-морские и военно-воздушные атташаты,
подчиненные Разведывательному управлению минис¬
терства обороны.
Пентагон осуществляет также руководство деятель¬
ностью миссий военной помощи. Эти миссии в ряде стран
получили известность подготовкой специальных войско¬
вых подразделений для ведения контрпартизанской
борьбы.
Пентагон не довольствуется одним только проведени¬
ем угодных себе взглядов в директивных и исполнитель¬
ных органах американского правительства. Он берет на
себя идеологическое воспитание населения. Пентагон
создал многочисленные «фабрики мысли» — научно-ис¬
следовательские центры, занимающиеся теоретической
разработкой милитаристских взглядов по различным
вопросам, популяризацией их в литературе. Доктрины и
концепции, формируемые в этих заведениях, обычно на¬
правлены на создание атмосферы, способствующей гонке
вооружений.
Государственный механизм США предоставляет, та¬
ким образом, широкие возможности Пентагону для влия¬
ния на внешнюю политику страны. Как отмечается в аме¬
риканской литературе, Пентагон по масштабам своей
международной деятельности внутри США и за грани¬
цей затемняет государственный департамент32.
Не меньшие возможности для воздействия на форми¬
рование и осуществление внешней политики США имеет
Центральное разведывательное управление. Созданное
291
в качестве органа Совета национальной безопасности на
основании закона о национальной безопасности 1947 го¬
да, ЦРУ занимает особое положение в системе амери¬
канской разведки.
Директор ЦРУ, являющийся одновременно главным
координатором всех разведывательных служб — так на¬
зываемым директором центральной разведки, по сущест¬
ву, контролирует работу широкой сети специальных
служб США — «разведывательного сообщества» (ЦРУ,
Национальное агентство безопасности, Разведыватель¬
ное управление министерства обороны, разведыватель¬
ные службы министерства обороны, осуществляющие
сбор информации с помощью искусственных спутников
земли, разведывательные подразделения трех видов во¬
оруженных сил, специальные учреждения ФБР, государ¬
ственного департамента, министерства финансов и ми¬
нистерства энергетики). По имеющимся в американской
литературе сведениям, это «разведывательное сооб¬
щество» насчитывает свыше 100 тыс. человек, а его еже¬
годные расходы составляют от 6 млрд. до 10 млрд. долл.33
По данным же бывшего сотрудника ЦРУ Ф. Эйджи, об¬
щая сумма расходов управления исчисляется в
23 млрд. долл.
В целях координации при директоре ЦРУ функциони¬
рует разведывательное бюро США, включающее руково¬
дителей спецслужб и известное как главный штаб «раз¬
ведывательного сообщества» США.
Официально одобренная стратегия «глобального
шпионажа» нацеливает американскую разведку на опу¬
тывание своими сетями стран всех континентов. Сферой
деятельности ЦРУ, заявляет президент Картер, должен
быть охвачен весь мир, «включая наших близких союз¬
ников и друзей»34.
«Дело разведки, — поучал один из основателей и ру¬
ководителей ЦРУ А. Даллес, — любая информация из
любого источника»35. Как отмечает Г. Рэнсом в книге
«Центральная разведка и национальная безопасность»,
информация американской разведки, поступающая из
периодических служебных докладов из-за рубежа по ли¬
нии госдепартамента и других правительственных уч¬
реждений, «по грубому подсчету», составляет 25%, а ма¬
териалы военных атташе, аккредитованных при иност¬
ранных правительствах, — 30% всей разведывательной
информации. При этом значительную часть в этой инфор¬
мации занимают агентурные сведения36. В осуществлении
292
своей шпионской деятельности спецслужба США широко
использует такие средства, как подкуп и шантаж, ложь
и клевета, кража документов, подслушивание разгово¬
ров, перехват переписки, криптография и т. п. Как сооб¬
щил на своей пресс-конференции 30 ноября 1978 г. пре¬
зидент Картер, им подготовлен меморандум, требующий
повышения качественного уровня всей собираемой ин¬
формации, в том числе и открытой. Важным источником
разведывательных сведений является также использова¬
ние радиоэлектронных средств.
Существующий при директоре ЦРУ национальный
центр по определению задач разведки занимается прак¬
тическим составлением заданий в области сбора разве¬
дывательной информации, установленных комитетом
СНБ по анализу политики. Подготовкой и выпуском ана¬
литической информации ведает национальный центр
оценки иностранной информации, в котором, по сообще¬
ниям американской печати, работает 1200 сотрудников.
Директор ЦРУ не только руководит работой «разве¬
дывательного сообщества» и выпуском его продукции, но
и несет ответственность за утверждение бюджета нацио¬
нальной программы иностранной разведки и всех тех
агентств, на которые эта программа распространяется.
Уже вследствие своего особого положения в системе
разведывательных органов директор ЦРУ имеет значи¬
тельные возможности для влияния на президента.
ЦРУ является главным разведывательным учрежде¬
нием США. Законом о национальной безопасности перед
ним ставится задача проводить такую «представляющую
общий интерес работу, которая, по определению Совета
национальной безопасности, может быть более эффектив¬
но осуществлена централизованным образом».
Хотя, как отмечала в докладе о результатах своего
расследования комиссия сенатора Ф. Черча, «в законо¬
дательстве нет явного утверждения права ЦРУ на про¬
ведение тайных действий», однако СНБ, используя «не¬
определенный язык» закона о национальной безопаснос¬
ти 1947 года и прикрываясь ссылкой на формулировку
«другие такие функции», возложил на ЦРУ обязанность
по проведению тайных операций. Уже на своем первом
заседании в декабре 1947 года СНБ принял директиву
СНБ-4А, которая определяла, что «в интересах мира и
национальной безопасности» деятельность правительства
США по сбору зарубежной информации должна быть
«дополнена тайными психологическими операциями».
293
В развитие директивы СНБ-4А 18 июня 1948 г. была из¬
дана директива СНБ-10/г, которая значительно расшири¬
ла диапазон тайной деятельности ЦРУ. На ЦРУ были
возложены обязанности по ведению экономической вой¬
ны, саботажа, свержению неугодных США правительств,
оказанию помощи диверсионным группам и группам бе¬
женцев, поддержки местным антикоммунистическим
элементам и т. п.37
«В своих операциях ЦРУ,—пишет бывший агент ЦРУ
Ф. Эйджи, — стремится делать упор на тайные дейст¬
вия— финансирование дружественно настроенных поли¬
тиков, убийство попавших под подозрение противников,
организацию государственных переворотов. Все это глу¬
боко втягивает ЦРУ во внутренние дела стран Западной
Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской
Америки, а также советского блока. И даже когда агенты
ЦРУ действуют как шпионы, собирая разведывательную
информацию, они постоянно используют эту информацию
для обеспечения своих программ действий»38.
Послужной список ЦРУ красноречиво свидетельству¬
ет об активном вмешательстве во внутренние дела дру¬
гих стран, в том числе и своих союзников.
Наряду со штаб-квартирой в Лэнгли ЦРУ имеет на
территории США свои отделения в 20 крупных городах,
которые занимаются главным образом работой с турис¬
тами, направляющимися за границу. В соответствии с ди¬
рективой СНБ-7 ЦРУ имеет право давать туристам
специальные задания и опрашивать их по возвращении
из-за границы.
За границей ЦРУ осуществляет свою деятельность
под прикрытием прежде всего дипломатов и бизнесме¬
нов. В каждом из посольств и миссий имеется специаль¬
ная секция (отделение) ЦРУ, возглавляемая обычно од¬
ним из советников или первым секретарем. Эта резиден-
тура руководит сетью тайных агентов, занимается шпио¬
нажем, осуществляет подрывные акции в стране пре¬
бывания. Деятельность ЦРУ внутри страны и за грани¬
цей обычно пытаются оправдать соображениями «нацио¬
нальной безопасности».
Однако даже самые рьяные в прошлом сторонники
тайных операций ЦРУ не осмеливаются утверждать, что
эти операции по-прежнему необходимы для «националь¬
ной безопасности» США и в наши дни. Бывший директор
ЦРУ У. Колби говорил в 1975 году, что отказ от тайных
операций «не оказал бы существенного влияния на нашу
294
(ЦРУ.— В. Я.) текущую работу или на безопасность
Соединенных Штатов».
Защитники тайных операций утверждают, будто все¬
мирную подпольную «инфраструктуру» (шпионскую
сеть. — В. П.) в стране и за границей важно поддержи¬
вать потому, что в будущем, возможно, она оправдает се¬
бя в случае угрозы для США. «Это, — утверждают авто¬
ры доклада «Тайные происки ЦРУ против прав челове¬
ка», подготовленного Центром по изучению националь¬
ной безопасности, — насквозь фальшивый аргумент. Тай¬
ное вмешательство во внутренние дела другой страны, не
имеющее даже отдаленного отношения к безопасности
США, нарушает основы конституции самих Соединенных
Штатов»39.
Превращение военных и разведывательных учрежде¬
ний США во влиятельнейшие звенья механизма «нацио¬
нальной безопасности» имеет опасные последствия, по¬
скольку отстаиваемая ими линия во внешней политике
выражает, как правило, интересы наиболее агрессивно на¬
строенных слоев правящего класса США, а их важней¬
шая функция сводится к ведению подрывной работы в
целях изменения формы правления в других странах.
«Административная стратегия»
в области
«национальной безопасности»
Структура основных внешнеполитических звеньев го¬
сударственного аппарата США, их роль в процессе выра¬
ботки и осуществления соответствующих мероприятий
хотя и укладываются в рамки созданной в конце 40-х го¬
дов схемы управления политикой в области «националь¬
ной безопасности», не находятся, однако, в статичном
состоянии. Они претерпевают определенные изменения
в соответствии с меняющимися политическими задачами
господствующего класса США в мировых делах. В раз¬
личных звеньях механизма США происходят постоянные
реорганизации, меняются прежние названия, появляются
новые подразделения, происходят укрупнения и разук¬
рупнения.
Развитие механизма «национальной безопасности» в
то же время несет на себе печать усиливающегося идей¬
но-политического кризиса буржуазного общества, кото¬
рый, по определению XXV съезда КПСС, поражает ин¬
295
ституты власти США и других капиталистических госу¬
дарств.
Характерной чертой развития этого механизма явля¬
ется его сращивание с монополиями. Оно осуществляет¬
ся по различным направлениям: расширяющаяся рота¬
ция кадров между правительственным аппаратом и мо¬
нополиями, обмен информацией между ними, формиро¬
вание обеспечивающей их тесные связи организационной
структуры (увеличение и усложнение лоббистских орга¬
низаций, распространение в государственном аппарате
неофициальных и полуофициальных — «консультатив¬
ных»— органов, в которых непосредственно участвуют
представители монополий, и др.).
Процесс сращивания государственного механизма с
монополиями сопровождается разбуханием управленчес¬
кого аппарата, которое в последнее время приобретает
новые формы, переходя из стадии количественного уве¬
личения в стадию преимущественно качественных изме¬
нений (широкое применение новых технических средств
и методов управления на основе, в частности, опыта, на¬
копленного в этом отношении в сфере частного предпри¬
нимательства).
Одновременно происходит формирование своеобраз¬
ного «тройного союза» несменяемой бюрократии прави¬
тельственных учреждений, монополистических «заинте¬
ресованных групп» (специально создаваемых для оказа¬
ния «давления» на органы государства) и рабочего ап¬
парата конгресса. Фактическое сращивание этих трех
сил создает своеобразную инфраструктуру на среднем
уровне государственного управления, где зарождаются и
реализуются основные управленческие решения. При
этом бюрократия стремится к выходу из-под контроля
политического руководства, то есть к выходу за рамки
конституционности. В основе этого лежит как возрастаю¬
щая политическая роль бюрократии, которой — в силу ее
профессионализма и несменяемости — во все большей
степени доверяются подготовка и проведение в жизнь
политических решений, так и определенное несовпадение
интересов бюрократии с интересами часто сменяемого по¬
литического руководства аппарата (подсчитано, что
средний срок пребывания министров на своих постах не
превышает 22 месяцев).
В результате бюрократия, как отмечается в американ¬
ской литературе, получает возможность оказывать сдер^
живающее воздействие на внешнеполитические меро¬
296
приятия правительства. «Неспособная контролировать
решения президента бюрократия, — пишет Р. Уэссон,—
может, однако, заставить его идти в одном определенном
направлении, создав трудности на другом. Если бюро¬
кратии не нравится решение, она может затормозить или
отложить его осуществление»40.
Бюрократия, отмечает другой американский исследо¬
ватель— И. Дестлер, в состоянии нейтрализовать, иска¬
зить или просто оставить без внимания четко сформули¬
рованные распоряжения высшего руководства. «Мы,—
пишет он, — часто забываем о наличии большого разры¬
ва между тем, к чему стремится президент, и тем, что де¬
лают на практике работающие на него бюрократы»41.
Характерно и другое. Будучи единой управленческой
системой, механизм «национальной безопасности» США
в то же время характеризуется постоянным соперничест¬
вом ведомств в отношении государственных ассигнова¬
ний и функций. Между правительственными ведомства¬
ми и внутри них часто возникают ожесточенные конф¬
ликты. Вместо четкого распределения полномочий в
Вашингтоне сложилась ситуация, когда один за другим
вспыхивающие бюрократические скандалы буквально
лихорадят всю государственную машину. Такое соперни¬
чество, отражающее в конечном счете конкурентную
борьбу стоящих за государственными органами монопо¬
лий, развертывается на фоне углубляющегося процесса
сращивания последних с государственным аппаратом.
Этим, в частности, объясняется часто встречающаяся в
практике американского государственного управления
неоднозначность подхода различных ведомств к полити¬
ческим вопросам, включая вопросы отношений с другими
странами, в том числе с Советским Союзом.
Все эти процессы в той или иной мере находят свое
отражение в многочисленных исследованиях американ¬
ских авторов, посвященных так называемой «админист¬
ративной стратегии» — проблемам усовершенствования
организационно-структурной стороны внешней политики.
Большинство американских авторов называют глав¬
ной болезнью современного внешнеполитического аппа¬
рата США «административную стагнацию», под которой
имеется в виду нарастание «мощной тенденции» выраба¬
тывать политические решения на основе компромисса
между ведомственными предложениями.
Констатируя «административную стагнацию», амери¬
канские авторы причины ее усматривают отнюдь не в
297
социально-экономической, а в иной сфере (сложность
управления внешними сношениями, требующая специа¬
лизации в различных звеньях государственного аппара¬
та). Выражая серьезную обеспокоенность по поводу при¬
нятия решений в порядке межведомственных компромис¬
сов, Г. Киссинджер в своей книге «Необходимость выбо¬
ра» еще в 1960 году подчеркивал, что эта практика по¬
ощряет «всего лишь развитие административных и тех¬
нических навыков», нужных на уровне исполнителей, ли¬
шает руководителей внешней политики США «чувства
целенаправленности», оставляет «мало возможностей
для подлинно творческого подхода»42.
Продолжая изучение «административной стагнации»
в области внешней политики, американские теоретики в
своих последних работах много пишут о том, что внешне¬
политические рекомендации, согласованные между раз¬
личными ведомствами, представляют собой «хрупкие
компромиссы» и часто осложняют ведение международ¬
ных дел. Г. Аллисон в своем известном исследовании о
карибском кризисе — «Суть решения» — приходит к вы¬
воду, что формирование внешней политики представляет
собой процесс сделок, торгов и конкуренции между раз¬
личными подразделениями внутри бюрократической сис¬
темы43.
В этой связи особо подчеркивается узковедомствен¬
ный подход к таким ключевым внешнеполитическим по¬
нятиям, как «национальный интерес» и «национальная
безопасность».
Согласно исследователю внешнеполитического меха¬
низма США М. Гальперину, бывшему сотруднику Г. Кис¬
синджера в аппарате Совета национальной безопаснос¬
ти, поскольку внешняя политика представляет собой
результат сложных маневров и компромиссов борющих¬
ся между собой сил внутри страны, такие ключевые по¬
нятия, как «национальная безопасность», «националь-
N ный интерес», «двухпартийная политика» и т. п., всегда
истолковываются по-разному—в соответствии с конкрет¬
ными задачами заинтересованных ведомств, влиятель¬
ных групп и отдельных деятелей. Участники процесса
принятия решений, пишет он, «имеют склонность опреде¬
лять» «национальную безопасность» США с точки зрения
упрочения и благополучия той организации, к которой
они принадлежат, политических и иных интересов прези¬
дента и своих личных интересов. По мнению Гальпери¬
на, существующие государственные учреждения США не
298
способны вносить изменения во внешнюю политику в си¬
лу целого ряда причин (общераспространенные, стан¬
дартные, затвердевшие представления государственных
чиновников о происходящих в мире событиях; жесткие
правила представления соответствующих документов, а
также ограниченные возможности правительственных
органов в отношении конфиденциальной информации;
выдвижение многочисленных альтернатив и предложений
и т. д.)44.
В условиях резко возросшей бюрократизации внешне¬
политического процесса преодоление узковедомственно¬
го подхода и отлаживание механизма координации рас¬
сматриваются американскими авторами как первостепен¬
ная задача, решение которой, по их мнению, должно
облегчить дальнейшее приспособление внешней полити¬
ки США к изменившимся международным условиям.
В этой связи в центре дискуссии находится вопрос о сис¬
теме руководства «национальной безопасностью» и внеш¬
ней политикой.
Многие американские авторы высказываются за сох¬
ранение и дальнейшую централизацию существующей
системы управления внешней политикой. Преимущества
нынешней системы и, в частности, сосредоточения всех
нитей управления в СНБ авторы ряда исследований видят
в том, что, упрощая круг операций между ведомствами,
она позволяет прежде всего вырвать процесс принятия
внешнеполитических решений из бюрократической ру¬
тины. Гибкость, маневренность, довольно хорошая за¬
щита от утечки сведений, сохранение эффекта неожидан¬
ности и создание корпоративного духа, который дает
возможность преодолевать напряженность в работе и
личные трудности, — таковы, по их мнению, достоинства
этой системы. Еще одно преимущество такого метода
управления внешними делами усматривается в том, что
оно способствует более четкому налаживанию подачи и
получения «сигналов» (послания, заявления, ноты и т. д.)
в отношениях США с другими государствами. Такие ав¬
торы, как Г. Киссинджер, М. Гальперин, видят в центра¬
лизованном методе управления и весьма эффективный
путь для преодоления разрыва между практикой и «по¬
литической наукой», для более широкого продвижения
на государственный уровень концепций и теорий, разра¬
батываемых «академическим сообществом».
Противники сохранения системы руководства внеш¬
ней политикой в ее нынешнем виде отнюдь не выступают
299
против сосредоточения всей полноты власти по решению
международных проблем в руках президента. Они также
исходят из необходимости преодоления инерции бюро¬
кратии и приспособления внешнеполитического механиз¬
ма к требованиям времени и, в частности, к «императиву
умеренности» в политике.
К порокам механизма они относят и функциональную
разобщенность аппарата СНБ, спорадическое, а не пос¬
тоянное внимание экономическим и валютным вопросам.
Отмечается также, что концентрация процесса формули¬
рования внешней политики идет вразрез с усилившейся,
особенно после «Уотергейта», тенденцией конгресса
брать под контроль основные аспекты внешней политики
правительства.
Сторонниками реорганизации нынешней системы
предлагаются некоторые реформы, которые позволили бы
в большей мере внедрить в высшее звено внешнеполити¬
ческого механизма долгосрочное планирование, обеспе¬
чить комплексный подход к мировым проблемам и не¬
сколько децентрализовать управление внешней полити¬
кой, повысив роль госдепартамента45.
В наиболее далеко идущих рекомендациях предлага¬
ется заменить СНБ либо исполнительным комитетом ка¬
бинета46, либо национальным советом политики47, с тем
чтобы отказаться от узковедомственного, преимуществен¬
но военного подхода СНБ и создать орган, который может
иметь дело со всем диапазоном угроз «национальной без¬
опасности».
Построенные в расчете на то, что усовершенствование
системы управления дает ключ к преодолению внешнепо¬
литических трудностей, рекомендации американских ав¬
торов в отношении организационно-управленческих проб¬
лем внешней политики обнаруживают непонимание ими
существа самой политики, которая является концентри¬
рованным выражением классовых интересов и в силу это¬
го не может быть подправлена с помощью каких-либо
организационных нововведений. Применение таких реко¬
мендаций, как показывает, в частности, создание и дея¬
тельность самого Совета национальной безопасности, хо¬
тя и может помочь исправлению отдельных недостатков,
налаживанию необходимого функционирования внешне¬
политического механизма, тем не менее оказывается не в
состоянии обеспечить успех политике, если в эту политику
не внесены серьезные коррективы по существу в соответ¬
ствии с требованиями времени.
Глава
VI
РАЗОРУЖЕНИЕ —
ПУТЬ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Культ силы, имеющий глубокие корни во внешнепо¬
литическом мышлении правящих кругов США и сказы¬
вающийся на практических делах всех американских
администраций, независимо от их партийной принадлеж¬
ности, существенным образом сковывает возможности
поиска взаимоприемлемых решений на главном, магист¬
ральном направлении международных отношений — ог¬
раничении и прекращении гонки вооружений.
В такой обстановке с трудом пробивает себе дорогу
более умеренная, относительно реалистическая тенден¬
ция, выступающая в пользу ограничения возможностей
решения международных проблем «с позиции силы».
Причина ее появления отнюдь не в альтруизме отдельных
представителей правящих классов, а в осознании ими
суровых последствий термоядерного конфликта.
Весьма показательно, что борьба трезво мыслящих
политических деятелей и ученых со сторонниками сило¬
вого подхода развертывается вокруг доктрины «нацио¬
нальной безопасности», которая со времен «холодной
войны» служит теоретическим оправданием политики «с
позиции силы».
Уже на рубеже 70-х годов сторонники реалистическо¬
го подхода к международным проблемам начали дока¬
зывать, что в современных условиях обеспечению нацио¬
нальной безопасности наилучшим образом служит не
нагнетание, а разрядка напряженности, а значит, нужны
301
шаги, ограничивающие военное противостояние, гонку
вооружений.
Подписанные в 1972—1974 годах и в 1979 году сов¬
местные советско-американские документы, и особенно
те из них, которые касаются уменьшения опасности вой¬
ны и ограничения гонки вооружений, убедительно под¬
крепляют ту точку зрения, что гонка вооружений, кото¬
рая в эпоху бурного научно-технического прогресса при¬
обрела во многом собственную динамику, является важ¬
нейшим фактором, подрывающим всеобщую, в том числе
и американскую, безопасность.
Тем не менее борьба вокруг вопроса о путях обеспе¬
чения национальной безопасности не прекращается в
США и поныне. Она тесно связана с борьбой вокруг даль¬
нейшей судьбы разрядки и в последнее время приобрета¬
ет большую остроту и интенсивность.
Это и не случайно, ибо на повестку дня поставлен сей¬
час вопрос о дальнейшем направлении развития между¬
народных отношений: будет ли расти доверие и сотруд¬
ничество между народами либо будут нагнетаться вза¬
имные страхи, подозрения, накапливаться оружие. «В си¬
лу множества причин мы, — отмечает обозреватель
«Вашингтон пост» М. Чайлдс, — проходим сейчас важ¬
нейший этап, когда решается вопрос, по какому пути
пойдут сверхдержавы — то ли по пути ускоренной гонки
вооружений, ведущему к ядерной гекатомбе, то ли по пу-.
ти паузы, означающей сокращение огромных арсеналов
оружия, которого на сегодняшний день накопилось в
два-три раза больше, чем необходимо для уничтожения
цивилизации»1.
На одном полюсе происходящей борьбы находятся
наиболее реакционные империалистические силы, кото¬
рые, подобно французским аристократам, возвращав¬
шимся в обозе Людовика XVIII в Париж, «ничего не за¬
были и ничему не научились». Им особенно претит все
возрастающая необходимость для США обеспечивать
свою безопасность не за счет гонки вооружений, а путем
достижения взаимоприемлемых соглашений с Советским
Союзом в области сдерживания гонки вооружений. Им
чудится, что еще один рывок в гонке вооружений — и
США смогут если не вернуть времена американской
атомной монополии, то хотя бы достичь определенного
превосходства, чтобы диктовать свои условия в наруше¬
ние совместно признанного Советским Союзом и Соеди¬
ненными Штатами принципа равенства и одинаковой без-
302
опасности. Отсюда, прикрываясь превратно толкуемыми
требованиями «национальной безопасности», эти силы
хотели бы поднять гонку вооружений на новую ступень.
Типичным образцом такого рода подхода может слу¬
жить позиция, которую занимают различные руководя¬
щие органы республиканской партии. Так, республикан¬
ская фракция в сенате в так называемой «Декларации
по вопросам национальной безопасности и внешней по¬
литики» потребовала в мае 1978 года от правительства
усиления гонки вооружений и проведения жесткой поли¬
тики в отношении Советского Союза, мотивируя это из¬
битым пропагандистским клише о росте «советской воен¬
ной угрозы» Соединенным Штатам.
Сходными «аргументами» пользуются для оправда¬
ния наращивания вооружений такие организации право¬
го толка, как «комитет по существующей опасности»,
коалиция «за мир посредством силы», «совет американ¬
ской безопасности», цель которых — добиться военного
превосходства США.
Характерно, однако, что все большее число политичес¬
ких деятелей и ученых видит пагубные последствия тако¬
го подхода как для международных отношений в целом,
так и для национальной безопасности самих Соединен¬
ных Штатов.
«С конца второй мировой войны, — заявляет предсе¬
датель сенатской комиссии по иностранным делам
Ф. Черч, — США потратили триллион долларов на соз¬
дание огромного ядерного арсенала и в результате умуд¬
рились стать страной с наименее обеспеченной безопас¬
ностью во всем мире».
Сторонники нового взгляда на национальную безопас¬
ность США связывают обеспечение этой безопасности не
просто с ограничением применения военной силы и с рас¬
ширением Соединенными Штатами арсенала используе¬
мых внешнеполитических средств, а с необходимостью
поддержания международного мира и безопасности.
Президент института «Уорлд уотч» Лестер Браун в
недавно опубликованной работе «Новое определение на¬
циональной безопасности» доказывает, что «старая воен¬
ная концепция национальной безопасности не является
в настоящее время достаточно полной», что эта концеп¬
ция отвлекает внимание от более серьезных угроз нацио¬
нальной безопасности, с которыми не могут справиться
вооруженные силы (непрерывная инфляция, растущая
безработица, сокращение запасов нефти, ухудшение сос¬
303
тояния мировых биологических систем, нехватка продо¬
вольствия во всем мире). По мнению Брауна, националь¬
ная безопасность «не может считаться больше чисто на¬
циональной проблемой», она «требует внимания и инте¬
реса к безопасности всего мира»2.
Реалистически мыслящие политики и ученые отверга¬
ют попытки наиболее реакционных сил США воспрепят¬
ствовать советско-американским переговорам по разору¬
жению.
Бывший постоянный представитель США при ООН
Ч. Иост обращает особое внимание на то, что утвержде¬
ния американских «ястребов» о «советской военной угро¬
зе», «стремлении СССР к военному превосходству над
США», что якобы ставит под угрозу американскую на¬
циональную безопасность, имеют целью сорвать весь
процесс ограничения гонки вооружений и тем самым
«оказывают плохую службу национальной безопасности
США»3. Полемизируя с бывшим заместителем государ¬
ственного секретаря США Ю. Ростоу, призывающим «во¬
оружаться до зубов», бывший помощник президента
Эйзенхауэра по вопросам науки и техники проф. Дж. Ки-
стяковский указывает, что следование подобным реко¬
мендациям таких сторонников жесткой линии, как
Ю. Ростоу, создало бы серьезную угрозу для самих Со¬
единенных Штатов, поскольку это могло бы привести к
возникновению «неуправляемых кризисов», расползанию
ядерного оружия по всей нашей планете, вызвало бы
скачки в усиленном наращивании обычных вооружений.
Эту угрозу, по мнению Дж. Кистяковского, можно, одна¬
ко, предотвратить, если «предпринять настоящие усилия,
направленные на прекращение или, по крайней мере,
сдерживание гонки вооружений»4.
Сторонники нового подхода «к проблемам» нацио¬
нальной безопасности придают первостепенное значение
ограничению гонки стратегических вооружений, что, как
подчеркивает сенатор Ф. Черч, является единственной ра¬
зумной альтернативой бессмысленной гонке вооружений,
в которой ни одна из сторон не может добиться превос¬
ходства. По мнению Ф. Черча, новые витки гонки стра¬
тегических вооружений не только не укрепят безопас¬
ность США, но даже ослабят ее 5.
Важнейшее направление борьбы против новых угроз
национальной безопасности трезво мыслящие американ¬
цы видят в сокращении военных расходов. Как свидетель¬
ствуют видные американские военные специалисты
304
Т. Хупс и Г. Сковилл-мл. в представленном ими конгрессу
США меморандуме, нынешний уровень военных расходов
США представляет собой «опасность для дела мира и раз¬
рядки». Согласно их оценке нужд «национальной без¬
опасности» США, за счет сокращений военные расходы
США в 1979 финансовом году можно было бы безболез¬
ненно понизить на 10,5 млрд. долл. В предисловии к ме¬
морандуму Т. Хупса и Г. Сковилла-мл., подписанном
видными общественными и профсоюзными деятелями
США, отмечается, что высвобожденные из бюджета Пен¬
тагона средства следовало бы направить на решение
важнейших социальных проблем страны.
Обеспечение безопасности прежде всего путем эффек¬
тивных мер по ограничению и сокращению вооружений —
к такому выводу неизбежно приходят все сторонники ре¬
алистического взгляда на национальную безопасность в
ядерную эпоху.
«Безопасность Соединенных Штатов,— заявляет вид¬
ный американский экономист проф. С. Мелман,—не улуч¬
шится от наращивания военных заказов, ибо эти костыли
не помогут экономике. В случае перехода на мирные
рельсы США могли бы стать уверенным и достойным до¬
верия инициатором мер по прекращению гонки вооруже¬
ний. Безопасности страны угрожают инфляция, экономи¬
ческая депрессия и социальный раскол».
Весьма убедительно высказывается на этот счет один
из руководителей Института политических исследований
Р. Барнет. В статье «Оспаривая мифы национальной бе¬
зопасности», опубликованной в апреле 1979 года в прило¬
жении к «Нью-Йорк тайме», он отмечает, что политика,
основанная на страхе, на запугивании «советской угро¬
зой», на раздувании гонки вооружений, не принесет в бу¬
дущем безопасности американскому народу. «Во всех от¬
ношениях,— пишет он,— в области военной уязвимости,
экономической прочности, социальной стабильности, в
моральном отношении — Соединенные Штаты находятся
сегодня в меньшей безопасности, чем 30 лет назад. В то
время как администрация Картера надеется добиться
укрепления национальной безопасности путем раскручи¬
вания гонки вооружений, запланировав затратить на нее
в будущем десятилетии около 1,5 триллиона долл. помимо
тех почти 2 триллионов, которые мы уже израсходовали
с 1945 года, американцы чувствуют себя все в меньшей
безопасности». Реальный путь упрочения безопасности,
считает Р. Барнет,— это не бесконечная безрассудная
11-597
305
гонка вооружений, а ее ограничение, ее прекраще¬
ние.
В пользу такого подхода убедительно свидетельствует
вся практика международных отношений.
«Достижение безопасности, являющейся одним из
неотъемлемых элементов мира,— говорится в заключи¬
тельном документе проходившей 24 мая — 30 июня
1978 г. в Нью-Йорке X специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по разоружению, — всегда было целью,
отвечающей самым глубоким чаяниям человечества. С
давних пор государства стремились обеспечить свою бе¬
зопасность путем обладания оружием. Следует признать,
что в некоторых случаях их существование действительно
определялось наличием у них соответствующих средств
обороны. Однако накопление оружия, особенно ядерного,
представляет собой сегодня скорее угрозу, нежели защи¬
ту для будущего народов. Поэтому пришло время поло¬
жить конец такому положению, поставить под запрет
применение силы в международных отношениях и присту¬
пить к поискам безопасности через разоружение, то есть
посредством последовательно идущего, шаг за шагом, но
эффективного процесса, который начнется с постепенного
сокращения нынешнего уровня вооружений» 7.
Перспектива укрепления как всеобщей, так и нацио¬
нальной безопасности путем претворения в жизнь мер,
ограничивающих вооружения государств, открылась бла¬
годаря разрядке международной напряженности, боль¬
шему доверию и более высокому уровню сотрудничества
государств с различным социальным строем. Эта пер¬
спектива имеет под собой и такую объективную основу,
как новая стратегическая ситуация в мире, характеризу¬
ющаяся примерным военным паритетом СССР и США.
Дальнейшее развитие на этой основе процесса ослаб¬
ления международной напряженности настоятельно тре¬
бует слияния политической разрядки с военной и выдви¬
гает на передний план осуществление конкретных меро¬
приятий, снижающих потолки военного противостояния
при равной безопасности сторон.
Как отмечается в совместном советско-американском
коммюнике по итогам встречи JI. И. Брежнева и Дж. Кар¬
тера в Вене 15—18 июня 1979 г., «особое внимание долж¬
но быть уделено проблемам предотвращения ядерной вой¬
ны и сдерживания соперничества в области стратегичес¬
ких вооружений». При этом в коммюнике зафиксировано
заявление каждой из сторон о том, что «она не стремится
306
и не будет впредь стремиться к военному превосходству,
поскольку это могло бы привести лишь к опасной неста¬
бильности, порождая более высокий уровень вооружений
и не содействуя безопасности ни одной из сторон» 8.
«Параллелизм» в мерах по ограничению гонки воору¬
жений и одновременному накапливанию оружия массово¬
го уничтожения не может служить надежной основой
укрепления национальной безопасности. Попытки увели¬
чения военной мощи в современных условиях неизбежно
вызывают дестабилизацию международных отношений и
ставят под угрозу не только разрядку, но и поддержание
всеобщего мира и безопасности.
«...Безопасность через обуздание гонки вооружений,
через разоружение»9 — так определяет подход в нынеш¬
них условиях к этой исключительно важной проблеме
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Прези¬
диума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев.
Для советской дипломатии разоружение — не пропа¬
гандистская риторика, рассчитанная на завоевание сим¬
патий широких народных масс, а самая настоящая поли¬
тическая цель. Борьба за разоружение занимает важное
место в деятельности советской дипломатии, начиная с ее
первого выступления на крупной международной конфе¬
ренции в Генуе в 1922 году. История этой борьбы напол¬
нена многочисленными свидетельствами вполне конкрет¬
ных, материально осязаемых советских внешнеполитиче¬
ских инициатив, направленных на прекращение гонки во¬
оружений, и прежде всего ядерных, на обеспечение поли¬
тико-правовых гарантий безопасности государств. Толь¬
ко в послевоенные годы Советский Союз внес в общей
сложности свыше 100 таких предложений.
При всей значимости тех или иных проблем сейчас
нет задачи более важной, затрагивающей судьбу каждо¬
го человека на земле, чем добиться реального разоруже¬
ния. Как отмечает Л. И. Брежнев, «остановить гонку во¬
оружений, обеспечить продвижение к уменьшению, а в
конечном итоге устранению угрозы термоядерной ката¬
строфы — вот основная проблема, стоящая сейчас в по¬
вестке дня нашей жизни. Именно здесь, на этом направ¬
лении решается коренной вопрос о том, как будет даль¬
ше развиваться международная обстановка, именно здесь
сейчас и развертывается наиболее острая борьба» 10.
Реальное разоружение представляет собой действи¬
тельно магистральное направление для обеспечения не
«равновесия страха», а равновесия безопасности, при ко¬
11*
307
тором принципы мирного сосуществования являются не¬
зыблемыми нормами международных отношений.
Ограничение, а затем и прекращение гонки вооруже¬
ний— сложный и многогранный процесс, конечная цель
которого — всеобщее и полное разоружение под строгим
международным контролем, обеспечивающее абсолют¬
ную военную безопасность государств. Разумеется, если
исходить из реалистической оценки современной между¬
народной обстановки, эта цель еще довольно отдаленная.
Но она должна всегда учитываться как перспектива при
проведении конкретных мероприятий по реальному разо¬
ружению. Важный критерий оценки подобных мероприя¬
тий — соотношение их с конечной целью, выявление, в
какой мере они приближают к ней человечество.
Именно с таким критерием следует подходить к систе¬
ме международных договоров и соглашений, которые бы¬
ли заключены на протяжении последних полутора десят¬
ков лет, когда начал развиваться процесс разрядки меж¬
дународной напряженности. Речь идет о договорах, зап¬
ретивших испытания ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой (1963 г.), разме¬
щение его в космосе (1967 г.), его распространение
(1968 г.), размещение на дне морей и океанов и в его нед¬
рах (1971 г.), конвенции о запрещении бактериологичес¬
кого (биологического) оружия (1972 г.). В 1977 году
список подписанных документов пополнился междуна¬
родной конвенцией, запрещающей воздействие на окру¬
жающую человека среду в военных и иных враждебных
целях.
Особое место среди соглашений, относящихся к сфере
разоружения, занимают заключенные СССР и США меж¬
дународные акты об ограничении стратегических воору¬
жений (договор об ограничении систем противоракетной
обороны, Временное соглашение о некоторых мерах в об¬
ласти ограничения стратегических наступательных воору¬
жений и др.). Согласно Основам взаимоотношений меж¬
ду СССР и США и Соглашению между СССР и США о
предотвращении ядерной войны, стороны обязались при¬
нимать меры для устранения угрозы ядерной войны и
продолжать усилия в целях обеспечения военной разряд¬
ки в отношениях друг с другом и на международной
арене в целом.
Важное значение имеют подписанный 18 июня 1979 г.
в Вене Договор между СССР и США об ограничении стра¬
тегических наступательных вооружений (ОСВ-2) и дру¬
308
гие связанные с ним документы, которые предусматри¬
вают дальнейшее развитие процесса обуздания гонки во¬
оружений.
Договор является реальным вкладом в дело ограниче¬
ния гонки вооружений как в количественном, так и в ка¬
чественном отношении, причем в области наиболее со¬
вершенных, наиболее разрушительных средств ведения
войны, а именно стратегических наступательных воору¬
жений. Продолжая усилия, начатые Временным соглаше¬
нием 1972 года, заморозившим на существующем уровне
количество пусковых установок межконтинентальных
баллистических ракет и баллистических ракет подводных
лодок, этот договор устанавливает дальнейшие количест¬
венные пределы на вооружения, охватываемые Времен¬
ным соглашением, а также на стратегическую авиацию;
более того, предусмотрено существенное сокращение этих
пределов в течение срока действия договора. В соответст¬
вии с договором установлены пределы качественного со¬
вершенствования стратегических наступательных воору¬
жений, такие, например, как ограничение на количество
средств, оснащенных разделяющимися головными час¬
тями индивидуального наведения, на совершенствование
пусковых установок МБР, на создание новых видов МБР,
на количество боеголовок на МБР и баллистических ра¬
кетах подводных лодок.
Эти договоренности убедительно демонстрируют прак¬
тическую возможность согласованных действий госу¬
дарств с различным общественным строем, в том числе
СССР и США, в области военной разрядки. Разумеется,
эти договоренности — только первые шаги, но они идут
в направлении осуществления важнейших требований
нашего времени: добиваться сокращения, а затем и прек¬
ращения гонки вооружений, продвигаться по пути, веду¬
щему к всеобщему и полному разоружению.
Учитывая, что темпы гонки вооружений до сих пор
намного обгоняют усилия государств по ее сдерживанию
и разрыв этот увеличивается, Советский Союз считает,
что настало время сделать все возможное, чтобы этот
разрыв был не только сокращен, а затем сведен на нет,
но и чтобы результативность переговоров по разоружению
перекрывала гонку вооружений, способствуя ее прекра¬
щению.
В настоящее время предметом практических перего¬
воров в области разоружения является широкий спектр
вопросов. Это — полное и всеобщее запрещение испыта¬
390
ний ядерного оружия (переговоры СССР, США и Анг¬
лии); запрещение и ликвидация химического оружия (пе¬
реговоры в Комитете по разоружению и на советско-аме-
риканской двусторонней основе); укрепление режима не¬
распространения ядерного оружия (мероприятия по ли¬
нии МАГАТЭ и в рамках других международных фору¬
мов) ; запрещение создания новых видов и систем оружия
массового уничтожения и в этом контексте — запрещение
радиологического оружия (переговоры в Комитете по ра¬
зоружению и на двусторонней советско-американской ос¬
нове); сокращение вооруженных сил и вооружений в
Центральной Европе (переговоры с участием СССР,
Польши, Чехословакии, ГДР, США, Англии, ФРГ и ряда
других европейских государств); ограничение и сокраще¬
ние военной активности в Индийском океане (советско-
американские переговоры); ограничение торговли ору¬
жием (советско-американские переговоры); противоспут¬
никовые системы (советско-американские переговоры).
Инициатива в постановке этих вопросов во всех или поч¬
ти во всех случаях принадлежит СССР.
При всей сложности происходящих сейчас перегово¬
ров по разоружению, которые охватывают самый широ¬
кий за всю историю советско-американских отношений
диапазон вопросов, имеются все основания для нахожде¬
ния такого общего знаменателя, который бы продвигал
вперед дело реального разоружения и в то же время не
наносил ущерба интересам национальной безопасности
сторон, не изменял бы соотношения сил между государ¬
ствами в пользу одних и к невыгоде других. Успешное за¬
ключение Договора ОСВ-2 свидетельствует о том, что,
когда имеется в наличии политическая воля, вполне мо¬
жет быть найден обоюдоприемлемый баланс интересов
при решении даже самых сложных и деликатных во¬
просов, которые затрагивают сердцевину военного могу¬
щества.
Заявляя о своей готовности пойти на самые радикаль¬
ные шаги, ведущие к ограничению и свертыванию гонки
вооружений, Советский Союз настаивает только на од¬
ном — на соблюдении на всех этапах принципа равной
безопасности сторон. Демонстрируя решимость не
позволить империалистам достичь столь желанной для
них позиции превосходящей силы, Советский Союз в то же
время не стремится к получению односторонних преиму¬
ществ, настоятельно подчеркивает необходимость всеоб¬
щего, касающегося всех стран сокращения вооружений.
310
«Остановить наращивание вооружений, а затем пони¬
зить их уровень, не нарушая сложившегося соотношения
сил, а значит — без ущерба для безопасности кого бы то
ни было,— вот возможность, которую ни в коем случае
нельзя упустить»,— заявил с трибуны специальной сес¬
сии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению член
Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР
А. А. Громыко.
«Мы,— подчеркнул он при этом,— не преследуем це¬
ли добиться военного превосходства. Нет ни одной зада¬
чи, которую наша страна намеревалась бы решать воен¬
ным путем. И безопасность своего государства, и между¬
народный мир в целом мы видим через обуздание гонки
вооружений, через соглашения о разоружении, соглаше¬
ния честные, в равной степени учитывающие интересы
всех договаривающихся сторон» и.
В последнее время Советский Союз выступил с целым
рядом новых конкретных и далеко идущих предложений
по разоружению, которые подробно и аргументированно
изложены в документе СССР «О практических путях к
прекращению гонки вооружений», внесенном на X специ¬
альной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разору¬
жению и получившем единодушную поддержку в Декла¬
рации государств — участников Варшавского Договора
от 23 ноября 1978 г. Цель этих предложений — добиться
полного прекращения дальнейшего количественного и
качественного роста вооружений и вооруженных сил, осу¬
ществления мер разоружения, перевести дело разоруже¬
ния в практическую плоскость.
Советский Союз обратился к другим государствам с
призывом обсудить программу осуществления в течение
определенного ограниченного периода следующих мер:
— прекращение производства ядерного оружия во
всех его видах;
— прекращение производства и запрещение всех дру¬
гих видов оружия массового уничтожения;
— прекращение создания новых видов обычных во¬
оружений большой разрушительной силы;
— отказ от расширения армий и увеличения обычных
вооружений держав—постоянных членов Совета Безо¬
пасности, а также стран, связанных с ними военными со¬
глашениями.
Одновременно Советский Союз заявил, что он против
применения ядерного оружия; только чрезвычайные об¬
стоятельства, агрессия против него или его союзников со
311
стороны другой ядерной державы могут вынудить его
прибегнуть к этому крайнему средству самозащиты.
Большое значение Советский Союз придает подписан¬
ному в Вене 18 июня 1979 г. между СССР и США Дого¬
вору об ограничении стратегических наступательных во¬
оружений. Заключение нового советско-американского
договора и его последующая ратификация создают опре¬
деленную преграду на пути дальнейшего накапливания
самых разрушительных и дорогостоящих видов оружия.
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета
СССР и Совет Министров СССР, рассмотрев итоги вен¬
ской встречи, отметили, что «полное претворение в жизнь
подписанных в Вене документов открывает новые воз¬
можности для того, чтобы прекратить наращивание ар¬
сеналов ракетно-ядерного оружия, обеспечить их дейст¬
венное количественное и качественное ограничение» 12.
Вступление в силу договора будет означать, что нача¬
тый по инициативе СССР процесс обуздания гонки во¬
оружений продолжается. После вступления в силу Дого¬
вора ОСВ-2 должна начаться работа по достижению сог¬
лашения ОСВ-3, которое должно пойти еще дальше, за¬
тормозить создание новых видов оружия, предусмотреть
уже не только ограничение роста вооружений, но и их
сокращение. Советский Союз исходит также из того, что
заключение Договора ОСВ-2, несомненно, окажет благо¬
приятное воздействие на международный климат в целом
и даст возможность оживить, в частности, другие перего¬
воры по ограничению гонки вооружений.
Новый советско-американский договор воплощает
справедливый баланс интересов СССР и США. Никакие
отступления от него не могут быть допустимыми. Более
того, выступления против договора равнозначны отрица¬
нию самой концепции обуздания гонки вооружений по¬
средством мер по уменьшению военной опасности и разо¬
ружению — важнейшей политической идеи разрядки
международной напряженности. Ведь тот огромный меж¬
дународный резонанс и удовлетворение, которые вызва¬
ла советско-американская встреча на высшем уровне в
Вене, определяются и тем обстоятельством, что успеш¬
ное завершение переговоров об ОСВ-2 весомо подтверди¬
ло в принципе плодотворность и взаимовыгодность пути
укрепления безопасности государств через ограничение
гонки вооружений и разоружение на основе равенства и
одинаковой безопасности.
В современных условиях, когда ядерное оружие пред¬
312
ставляет наибольшую опасность для человечества *, цен¬
тральное направление борьбы за мир и безопасность Со¬
ветский Союз видит в уменьшении угрозы возникновения
новой мировой войны, массового истребления людей с по¬
мощью ядерного оружия.
Советский Союз предлагал запретить ядерное оружие,
как только оно появилось. Предложение навсегда иск¬
лючить это оружие из арсеналов государств многократно
выдвигалось и после того, как Советский Союз оказался
вынужденным создать атомную бомбу.
В советских предложениях по ядерному разоружению
рельефно определена конечная высшая цель этого про¬
цесса. Советский Союз ставит вопрос так: добиваться не
просто запрещения ядерного оружия, а его полной, сто¬
процентной ликвидации и переключения атомной энергии
исключительно на мирные цели. Наша цель — создание
мира, свободного от ядерного оружия. Советский Союз
отдает себе отчет в том, что в современных условиях эта
цель не может быть реализована немедленно. Проблема
эта многогранна, она включает целую систему взаимо¬
связанных элементов. Поэтому главное сейчас — перевес¬
ти дело в практическую плоскость.
Исходя из этого, в начале февраля 1979 года СССР
вместе с другими социалистическими странами внес в
Комитете по разоружению новое конструктивное предло¬
жение, имеющее целью немедленно приступить к перего¬
ворам о прекращении производства ядерного оружия во
всех его видах и постепенном сокращении его запасов,
вплоть до полной их ликвидации. На тех или иных ста¬
диях таких переговоров можно было бы рассмотреть, на¬
пример, прекращение качественного совершенствования
ядерного оружия; прекращение производства расщепля¬
ющихся материалов для военных целей; постепенное сок¬
ращение накопленных запасов ядерного оружия и средств
его доставки; ликвидацию ядерного оружия и средств его
доставки. При этом должны быть согласованы и необхо¬
димые меры контроля.
Прекращение производства, сокращение и ликвидация
ядерного оружия должны осуществляться поэтапно, на
взаимоприемлемой и согласованной основе. Содержание
* По некоторым неполным данным, современные запасы ядер¬
ного оружия по своей совокупной взрывной силе равны 1350 тыс.
бомб, уничтоживших город Хиросиму. Иначе говоря, на каждого
жителя земли приходится более чем по б г тринитротолуола, если
перевести мощность накопленных ядерных запасов на обычную
взрывчатку.
313
мер каждого этапа может быть предметом договореннос¬
ти между участниками переговоров. Степень участия от¬
дельных ядерных государств в мерах каждого этапа дол¬
жна определяться с учетом количественных и качест¬
венных значений существующих арсеналов государств,
обладающих ядерным оружием, и других соответствую¬
щих государств. На всех стадиях должен оставаться не¬
нарушенным существующий баланс в области ядерной
мощи при постоянном понижении ее уровней.
Разумеется, в предлагаемых переговорах должны при¬
нять участие все ядерные державы, ибо ядерное разору¬
жение может быть осуществлено только в том случае, ес¬
ли в нем примут участие все государства, обладающие
ядерными арсеналами. Невозможно представить, чтобы
одни ядерные державы двигались в направлении ликви¬
дации своего ядерного оружия, а другие — накапливали
бы и совершенствовали его. Столь комплексную пробле¬
му нельзя решить выборочно. Уклонение любой из дер¬
жав легло бы тяжелым грузом на ее политику. Это, одна¬
ко, не означает, что число участников переговоров будет
ограничено лишь пятью. Полезно, чтобы в них включи¬
лись и некоторые неядерные государства. Сколько и кто
именно — об этом можно было бы договориться в ходе
подготовки переговоров.
Подготовка и проведение переговоров о прекращении
производства и ликвидации ядерного оружия не должны
препятствовать достижению двусторонних и многосторон¬
них договоренностей об ограничении или ликвидации лю¬
бых ядерных вооружений на взаимно согласованной ос¬
нове.
Крупным вопросом, за скорейшее решение которого
последовательно выступает Советский Союз, является
полное и всеобщее запрещение испытаний ядерного ору¬
жия. Осуществление этой меры положило бы конец каче¬
ственному совершенствованию ядерного оружия, предот¬
вратило бы появление его новых видов. На советско-аме¬
риканской встрече на высшем уровне в Вене Советский
Союз и США подтвердили свое намерение вести дело сов¬
местно с Великобританией к скорейшему завершению
подготовки такого договора.
К числу важнейших задач в деле прекращения гонки
ядерных вооружений Советский Союз относит и предот¬
вращение распространения ядерного оружия. Задача сей¬
час состоит в том, чтобы обеспечить участие всех стран
без исключения в Договоре о нераспространении ядерно¬
314
го оружия и тем самым — в укреплении режима нерас¬
пространения.
Вместе с тем Советский Союз, как и другие социалис¬
тические страны, активно участвует в процессе развития
сотрудничества в области мирной ядерной технологии как
на двусторонней основе, так и через МАГАТЭ при том ус¬
ловии, что этот процесс не станет каналом распростране¬
ния ядерного оружия.
Учитывая обеспокоенность неядерных стран пробле¬
мой своей безопасности от ядерного нападения, СССР
торжественно заявил, что он никогда не применит ядерное
оружие против тех стран, которые отказываются от про¬
изводства и приобретения ядерного оружия и не имеют
его на своей территории. Советский Союз также выразил
готовность заключить специальные соглашения на сей
счет с любой из таких стран. СССР призвал все другие
ядерные державы поступить таким же образом и взять
на себя соответствующие обязательства.
На XXXIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН Со¬
ветский Союз внес предложение о заключении междуна¬
родной конвенции о неприменении ядерного оружия про¬
тив тех государств, которые отказываются от производст¬
ва и приобретения ядерного оружия и не имеют его на
своей территории. Это предложение получило на сессии
широкое одобрение. По решению Генеральной Ассамблеи
вопрос об эффективных политических и правовых мерах
на международном уровне, направленных на то, чтобы
дать государствам, не обладающим ядерным оружием,
гарантии против применения или угрозы применения
ядерного оружия, был передан на рассмотрение женев¬
ского Комитета по разоружению, где он в настоящее вре¬
мя обсуждается.
Широкую поддержку на Генеральной Ассамблее (бо¬
лее 100 голосов) получило и другое предложение Совет¬
ского Союза — о неразмещении ядерного оружия на тер¬
ритории тех государств, где его нет в настоящее время.
Такой шаг в значительной мере сузил бы сферу географи¬
ческого распространения ядерного оружия. Советский Со¬
юз выступает за скорейшее достижение международной
договоренности по этому вопросу и полагает, что свое
слово должен сказать здесь Комитет по разоружению.
СССР был и остается последовательным сторонником
создания безъядерных зон в различных районах мира.
Он рассматривает их создание в качестве одной из мер
уменьшения угрозы ядерной войны, укрепления режима
315
нераспространения ядерного оружия и региональной во¬
енной разрядки. Необходимо, чтобы такие зоны были
действительно свободными от ядерного оружия, а соот¬
ветствующие соглашения не содержали никаких лазеек
для нарушения безъядерного статуса этих зон.
Разработка и осуществление мер в области ядерного
разоружения предполагают, как подчеркивает Советский
Союз, укрепление международно-правовых гарантий бе¬
зопасности государств, и в частности формирование та¬
кой обстановки в отношениях между государствами, в ко¬
торой было бы поставлено вне закона обращение к силе
или угроза силой.
Превращение принципа неприменения силы в непре¬
ложный закон международной жизни приобретает особое
значение в наше время, когда взаимозависимость между¬
народных отношений становится все более очевидной и
любой локальный конфликт легко может перейти во все¬
общий, превратившись в мировую войну с применением
ядерного оружия со всеми вытекающими из этого послед¬
ствиями. Именно поэтому с трибуны XXIV съезда КПСС
раздался торжественный призыв ко всем государствам
отказаться от применения силы или угрозы ее примене¬
ния для решения споров международной жизни. XXV
съезд КПСС предложил заключить Всемирный договор
о неприменении силы. На XXXI сессии Генеральной Ас¬
самблеи ООН Советский Союз внес проект такого дого¬
вора.
Основное содержание предлагаемого Советским Сою¬
зом договора состоит в том, чтобы все его участники стро¬
го следовали обязательству воздерживаться от примене¬
ния вооруженных сил с использованием любых видов
оружия, включая ядерное и другие виды оружия массо¬
вого уничтожения, на суше, на море, в воздухе и в косми¬
ческом пространстве, а также не угрожать таким приме¬
нением. Заключение Всемирного договора явилось бы ис¬
ключительно крупной акцией, приближающей мир к осу¬
ществлению заветной вековой мечты человечества — соз¬
данию мира без оружия, мира без войн. Подкрепляя и
усиливая положения о неприменении силы, содержащиеся
в различных международных документах, договор дал бы
дополнительные более надежные гарантии безопасности
всем народам, всем странам, большим и малым, упрочил
бы их уверенность в том, что мирная жизнь не будет на¬
рушена. Вместе с тем договор призван обеспечить бла¬
гоприятные условия и необходимую степень доверия для
316
решения самой жгучей и неотложной проблемы совре¬
менности — проблемы разоружения *.
Советский Союз ведет активное мирное наступление
и на других важных маршрутах разоружения — запре¬
щении создания новых видов и систем оружия массового
уничтожения, запрещении разработки, производства и
накопления химического оружия и уничтожении его за¬
пасов. Предложения СССР по этим вопросам являются
предметом двусторонних советско-американских перего¬
воров и многосторонних переговоров в Комитете по разо¬
ружению.
Продвигается вперед подготовка отдельного соглаше¬
ния о запрещении одного из новых видов оружия массо¬
вого уничтожения — радиологического. В ходе послед¬
ней сессии Комитета по разоружению СССР и США
внесли проект основных положений договора о запреще¬
нии радиологического оружия.
Наша страна твердо и последовательно выступает за
бесповоротный отказ от планов создания нейтронного
оружия. Советский Союз внес в Комитет по разоруже¬
нию проект конвенции о запрещении производства, на¬
копления, развертывания и применения этого оружия.
К сожалению, рассмотрение его затягивается из-за про¬
волочек Запада.
Определенный прогресс достигнут на советско-амери¬
канских переговорах о запрещении химического оружия.
Советский Союз делает все от него зависящее для быст¬
рейшего завершения этих переговоров. На советско-
американской встрече на высшем уровне в Вене было
условлено активизировать усилия по подготовке согла¬
сованного совместного предложения по этому вопросу
для внесения в Комитет по разоружению. Советский
Союз готов и впредь конструктивно участвовать в поиске
решения по столь важному вопросу, каким является пол¬
ное изъятие из военных арсеналов государств одного из
самых опасных видов оружия массового уничтожения.
Большое значение Советский Союз придает и таким
мерам по сдерживанию гонки вооружений, как ограни¬
чение международной торговли и поставок обычных
вооружений.
СССР решительно выступает за сокращение военных
расходов государств, обладающих наиболее значитель¬
* В резолюциях XXXI и XXXII сессий Генеральной Ассамблеи
ООН, в выступлениях делегатов иа пленарных заседаниях XXXIII
317
ным военным и экономическим потенциалом. Советский
Союз считает необходимым безотлагательно приступить
к переговорам о конкретных размерах таких сокращений,
будь то в процентном или абсолютном выражении, в ка¬
честве первого шага на любой приемлемый для всех
начальный период. Наряду с этим он предложил догово¬
риться о размере сумм, которые каждое государство, сок¬
ращающее свой военный бюджет, выделит на цели по¬
мощи развивающимся странам.
Среди широкого круга вопросов прекращения гонки
вооружений и разоружения особое место занимают воп¬
росы военной разрядки в Европе. В условиях современ¬
ной Европы, разделенной в результате империалистиче¬
ской политики «холодной войны» на два военно-политиче¬
ских союза с их мощными вооруженными группировками
и крупными арсеналами ядерного оружия, любой воен¬
ный конфликт был бы чреват опасностью перерастания в
мировую термоядерную войну.
Однако своеобразие политической обстановки в Евро¬
пе состоит в том, что здесь наиболее реальны возможно¬
сти, чтобы справиться с этими опасностями, предпринять
шаги, действительно ведущие к упрочению мира и под¬
крепляющие осуществленные в последние годы крупные
мирные акции на коллективной основе и в двустороннем
порядке. В Заключительном акте общеевропейского сове¬
щания все государства-участники взяли на себя обяза¬
тельства всячески содействовать процессу разрядки, вес¬
ти дело в направлении достижения в конечном счете все¬
общего и полного разоружения под строгим и эффектив¬
ным международным контролем. Задача состоит сейчас в
том, чтобы реализовать в практических договоренностях
эти важные обязательства.
За время, прошедшее после окончания Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Советский Союз
и другие социалистические государства выдвинули нема¬
ло инициатив, направленных на упрочение и развитие
процесса разрядки на европейском континенте.
сессии Ассамблеи, а также в замечаниях правительств, присланных
Генеральному секретарю ООН, содержится признание того, что со¬
ветское предложение, направленное на повышение эффективности
принципа неприменения силы, ьрляется весьма своевременным и важ¬
ным, а проект договора, внесенный Советским Союзом в 1976 году,
может служить основой для разработки окончательного текста до¬
говора. С целью изучения всех этих предложений в ООН с 1976 года
функционирует Специальный комитет по усилению эффективности
принципа неприменения силы в международных отношениях.
318
На белградской встрече 1977 года Советский Союз
выступил с мирной платформой действий в целях закреп¬
ления военной разрядки в Европе, содержавшей предло¬
жения заключить между странами — участницами об¬
щеевропейского совещания договор о неприменении ядер¬
ного оружия первыми друг против друга и договориться о
нерасширении за счет новых членов противостоящих друг
другу в Европе военно-политических группировок, не про¬
водить военные учения с участием в них более 50—60 тыс.
человек, распространить предусмотренные в Заключи¬
тельном акте меры укрепления доверия на южную часть
Средиземноморья, если, разумеется, находящиеся там
страны пожелают этого.
Реализация указанных предложений позволила бы су¬
щественно снизить риск ядерной войны в Европе и за ее
пределами, не допустить нарушения сложившегося здесь
примерного равновесия между обоими военно-политичес¬
кими союзами за счет принятия в них новых членов,
укрепить доверие и взаимопонимание между государ¬
ствами.
В своей речи перед избирателями 2 марта 1979 г.
Л. И. Брежнев выдвинул новые крупные предложения,
получившие широкий международный резонанс. Большое
внимание мирового общественного мнения привлекли
предложения о заключении нечто вроде пакта о ненапа¬
дении между участниками общеевропейского совещания,
предусматривавшего отказ от применения первыми как
ядерных, так и обычных вооружений 13.
Советский Союз рассматривает сокращение военных
потенциалов двух группировок в Европе как стержневое
направление усилий государств в области военной раз¬
рядки на континенте. Решающее значение в этом плане,
бесспорно, имело бы успешное завершение ведущихся уже
шестой год переговоров в Вене о взаимном сокращений
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.
С важнейшими миролюбивыми инициативами от име¬
ни Советского Союза и других стран социалистического
содружества выступил Л. И. Брежнев 6 октября 1979 г. в
Берлине. Они представляют собой конкретные предло¬
жения, охватывающие основные стороны военной раз¬
рядки в Европе: сокращение ядерных вооружений, сокра¬
щение обычных вооружений, меры военного доверия.
Вместе с ранее внесенными советскими предложениями
они составляют, можно сказать, программу упрочения
мира в Европе, весьма актуальную и крайне насущную.
319
Эта программа противостоит планам агрессивных кругов
Соединенных Штатов и руководства НАТО по дальней¬
шему наращиванию гонки вооружений, новому росту
напряженности и, следовательно, подрыву разрядки на
континенте. Поборники такого курса пытаются добиться
размещения на территории ряда стран Западной Европы
почти 600 новых американских ядерных ракет. Это во¬
оружение способно существенно нарушить сложившееся
в Европе военное равновесие. Появление новых ракет на
континенте резко усилило бы угрозу военного конфликта
с применением ядерного оружия.
Меры, предложенные Л. И. Брежневым, прежде всего
предусматривают прекращение наращивания в Европе
ракетно-ядерных вооружений. Советский Союз готов
сократить количество ядерных средств средней дально¬
сти, развернутых в западных районах СССР, если в За¬
падной Европе в свою очередь не будет дополнительного
размещения аналогичного оружия НАТО. Движимый
искренним желанием вывести из тупика многолетние
усилия по достижению военной разрядки в Европе,
Советский Союз принял решение сократить в односторон¬
нем порядке численность своих войск в Центральной
Европе на 20 тыс. человек и вывести 1000 танков. В каче¬
стве назревшей проблемы Советский Союз по-прежнему
считает созыв общеевропейской конференции на полити¬
ческом уровне для обсуждения всего комплекса мер во¬
енной разрядки в Европе 14.
Мирные инициативы, выдвинутые Л. И. Брежневым в
Берлине, были подтверждены и конструктивно дополне¬
ны им 6 ноября 1979 г. в ответе на вопрос корреспонден¬
та газеты «Правда» относительно сокращения ядерных
средств средней дальности. «Что касается практического
решения вопроса об этом оружии, то путь здесь один —
начать переговоры. Советский Союз считает, что при¬
ступить к ним надо незамедлительно. Мы к этому гото¬
вы. Слово за западными державами» 15.
Выражая волю советского народа, Л. И. Брежнев
вслед за этим заявил 7 ноября 1979 г.: «Международная
обстановка сейчас такова, что она требует не общих слов
о мире и разоружении, а реальных шагов по обузданию
гонки вооружений, по укреплению доверия между наро¬
дами, между государствами. Именно по конкретным де¬
лам, приближающим к этой цели, будут судить народы
о политике правительств, партий, государств и общест¬
венных деятелей.
320
Что касается Советского Союза, то он вместе с брат¬
скими странами социализма вносит и будет вносить в
укрепление мира свой немалый вклад. Мы готовы к но¬
вым конструктивным переговорам и новым практическим
шагам, если другие ответят тем же»16.
Советский Союз и братские социалистические страны
готовы вести переговоры и по всем другим аспектам про¬
блемы гонки вооружений.
Как подчеркивается в Московской декларации стран—
участниц Варшавского Договора от 23 ноября 1978 г.,
«нет такого вида вооружений, который социалистические
государства, представленные на совещании, не были бы
готовы ограничить или сократить на основе строгого соб¬
людения принципа ненанесения ущерба безопасности ни
одной страны».
Четкие и ясные цели, провозглашаемые в советских
предложениях, близки и понятны народам всех стран.
Это со всей очевидностью демонстрируют сессии Гене¬
ральной Ассамблеи ООН.
Примечательно, что на проходившей 24 мая — 30 ию¬
ня 1978 г. X специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН по разоружению многие предложения и идеи, выд¬
винутые Советским Союзом, органически вошли в заклю¬
чительный документ.
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по¬
вернула внимание крупнейшей международной организа¬
ции к разоружению. На закончившейся в декабре 1978 го¬
да XXXIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН была при¬
нята 41 резолюция по разоружению (в два раза больше,
чем на предыдущей регулярной сессии). И вновь в цент¬
ре внимания оказались советские инициативы о гаранти¬
ях безопасности неядерным державам и о неразмещении
ядерного оружия там, где его нет.
Призывая все государства — члены ООН противопо¬
ставить безумной гонке вооружений здравый смысл, во¬
лю и укрепление доверия, глава советской делегации на
XXXIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН, член По¬
литбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР
А. А. Громыко указал, в частности: «Портфель конструк¬
тивных предложений по различным аспектам проблемы
разоружения солидный. И им надо распорядиться долж¬
ным образом. Тут широкое поле деятельности для ООН,
которая на своей специальной сессии по разоружению
приняла хорошую в целом программу. Решение ООН не
должно оставаться на бумаге»17.
321
То, что важнейшие решения Организации Объединен¬
ных Наций по разоружению перекликаются, как правило,
с советскими инициативами, не является случайностью.
Выдвигая предложения, имеющие целью спасение чело¬
вечества от ядерной катастрофы, обеспечение реального
разоружения, Советский Союз руководствуется настоя¬
тельными требованиями всеобщего мира и безопасности,
углубления международной разрядки, что отвечает инте¬
ресам всех народов.
Многие государства мира и широкие слои обществен¬
ности в различных странах разделяют принципиальную
точку зрения Советского Союза о том, что кардинальное
решение вопроса о собственной безопасности, безопаснос¬
ти своих союзников, безопасности народов всей земли
состоит не в гонке вооружений, а в ее прекращении, зак¬
реплении и углублении разрядки, перестройке всей сис¬
темы международных отношений на принципах мирного
сосуществования.
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1 Источник понятия «национальной безопасности» американские ав¬
торы усматривают в теории «национальных интересов». Первое
определение «национальной безопасности» в категориях «националь¬
ных интересов» принадлежит американскому журналисту и социоло¬
гу У. Липпману. «Государство находится в состоянии безопасно¬
сти, — писал Липпман, — когда ему не приходится приносить в
жертву свои законные интересы с целью избежать войны и когда
оно в состоянии при необходимости защитить эти интересы путем
войны» (Lippmann W. US Foreign Policy: Shield of the Republic.
Boston, 1943, p. 5).
Однако, как признает американский политолог А. Уолферс, прос¬
той перевод «национальных интересов» в «интересы национальной
безопасности» даже при нормативном признании, что государства
должны иметь такие интересы, не привел к сколько-нибудь удовлет¬
ворительному решению вопроса о дефиниции «национальной безопас¬
ности» (см. Wolfers A. National Security as an Ambigious Symbol. —
Political Science Quarterly, 1952, vol. 62, p. 481—502). Различные
точки зрения по вопросу о взаимосвязи между категориями «на¬
циональный интерес» и «национальная безопасность» довольно ши¬
роко представлены в вышедшем в 1976 году сборнике «Внешняя
политика США: принципы для определения национального интере¬
са» (US Foreign Policy: Principles For Defining National Interest.
N. Y., 1976).
Новые попытки определения этого понятия обнаружились с
распространением в американской литературе бихевиоризма и сис¬
темного анализа. В работе американского социолога М. Каплана
«Система и процесс в международной политике» «национальные ин¬
тересы» и «интересы национальной безопасности» рассматриваются
в качестве одного, хотя и важного, аспекта проблемы поддержания
международной системы (см. Kaplan М. System and Process in In¬
ternational Politics. N. Y., 1957).
Характерным для всех этих попыток определения «националь¬
ной безопасности» является внеклассовый подход к предмету ис¬
следования, игнорирование решающего значения социально-эконо¬
мической сущности этого явления.
2 См. Kissinger Н. Nuclear Weapons and Foreign Policy. N. Y., 1975;
McNamara R. The Essence of Security. Reflections in Office. N. Y.,
1968; Kahn H. H. On Thermonuclear War. Princeton, 1960; Kalian J.
Security in Nuclear Age. Developing US Strategic Arms Policy.
Wash., 1975.
3 Cm. Rowen H. National Security and the American Economy in the
323
1960 s. US Congress Joint Economic Committee, Study Paper No 18,
86th Congress, 2nd Session. Wash., 1968.
4 Brodie B. Strategy in Missile Age. Princeton, 1959; George A. and
Smoke R. Detterrence in American Foreign Policy. Theory and Prac¬
tice. N. Y., 1974.
5 Cm. Osgood R. Limited War: The Challenge to American Strategy.
Chic., 1957.
6 См. Кпогг K. Military Power and Potential. Lexington, 1970; Schles-
singer G. The Political Economy of National Security. A Study of the
Economic Aspects of the Contemporary Power Struggle. N. Y., 1960.
7 Huntington S. The Common Defence: Strategic Programs in Natio¬
nal Politics. N. Y., 1966; Yarmolinsky A. The Military Establishment.
Its Impact on American Society. N. Y., 1971; Halperin M. National
Security Policy-Making: Analyses, Cases and Proposals. Lexington,
1975.
8 Laswell H. The Garnison-State Hypothesis Today. — Changing
Patterns of Military Politics. N. Y., 1962.
Глава I
1 Wesson R. Foreign Policy for a new Age. Boston. 1977, p. 46.
2 Morgenthau H. Politics among Nations. 5th ed. N. Y., 1978, p. 5.
3 Padelford N. and Lincoln G. The Dynamics of International Relations.
N. Y., 1968, p. 6.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 156.
5 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 353.
6 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6. М., 1978,
с. 168—169.
7 United States Code. 1970, vol. XI. Wash., 1971, p. 12182.
8 Cm. Hilsman R. To Move a Nation. Garden city, 1968, p. 19.
9 См. Военная сила и международные отношения. М., 1973, с. 20—24.
10 Yergin D. The Shattered Peace: The Origins of the Cold War and
the National Security State. Boston, 1977, p. 196.
nMankiewisz F. Nixon’s Road to Watergate. L., 1973, p. 106.
12 Foreign Relations of the United States, 1950, vol. 1. National Securi¬
ty Affairs. Wash., 1977, p. 290.
13 Ibid., p. 272.
14 Ibid., p. 302.
15 Freedom in America. A 200-Year Perspective. Ed. by Graebner N.
Phila.. 1977, p. 198.
16 York H. Race to Oblivion. N. Y., 1970, p. 230.
17 The New York Times. 1978, Dec. 28.
13 The New York Times, 1955, Sept. 6.
19 The New York Herald Tribune, 1955, Sept. 1.
20 Киссинджер Г. Ядерное оружие и внешняя политика. М., 1959,
с. 112.
21 Там же, с. 467.
22 Там же, с. 113.
23 International Security. The Military Aspect. America of Mid-Century
Series. Special Report of Rockefeller Brothers Fund. N. Y., 1958.
24 Kennedy J. F. To Turn the Tide. N. Y., 1962, p. 30.
25 Ibid., p. XVII.
26 McNamara R. Op. cit., p. 144, 159, 162.
27 Цит. no: Setting National Priorities. Wash., 1976, p. 59.
28 Great Issues of International Politics. Ed. by Kaplan M. Chic., 1974,
p. XII.
324
29 Foreign Affairs, 1977, No 1, p. 24.
30 Orbis,. 1975, No 4, p. 1011.
31 Center Magazine, 1974, Jan. — Febr., p. 38—39.
32 Отдельные критически настроенные теоретики, как, например,
Р. Уэссон, даже заявляют, что «инструменты силы хотя все еще
остаются модными, являются не только дорогостоящими и опас¬
ными, но и бесполезными с точки зрения удовлетворения нужд
современных государств» (Wesson R. Op.cit., p. 43).
33 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи, вос¬
поминания, т. 7. М., 1979, с. 381.
34 The Washington Post, 1978, Oct. 26.
35 Great Decisions78. N. Y., 1978, p. 16.
36 Cm. Secretary of Defence H Brown. Annual Report. Wash., 1978, p. 3.
37 The Christian Science Monitor, 1978, Apr. 1.
38 См. Известия, 1979. 19 июня.
39 Правда, 1979, 25 окт.
40 Там же.
Глава II
1 Padelford N. and Lincoln G. The Dynamics of International Politics.
N. Y., 1967, p. 204.
2 The President and the Management of National Security. A Report
by the Institute for Defence Analysis. N. Y., 1969, p. 266.
3 См., например, George A. and Smoke R. Deterrence in American
Foreign Policy. Theory and Practice. N. Y., 1974, p. 660.
4 Foreign Affairs, 1977, No 1, p. 2.
5 The President and the Management of National Security. A Report
by the Institute for Defence Analysis, p. 266.
6 The Growing Dimensions of Security. Wash., 1977, p. 1.
7 Basic Aims of United States Foreign Policy. Study Prepared at the
Request of the Committee on Foreign Relations, United States Senate
by Council on Foreign Relations, 1959, No 7, Nov. 25, p. 1.
8 Cm. Grand Strategy for 1980’s. Ed. by Palmer B. Wash., 1978,
p. 2—4.
9 Strauss-Hupe R., Kintner W., Dougherty J., Cottrell A. Protracted
Conflict. N. Y., 1959, p. 149.
10 Personnel for the New Diplomacy. N. Y., 1962, p. 2.
M Barnet R. The Giants. N. Y., 1977, p. 82.
12 Saturday Review, 1976, March 6, p. 17.
13 Shullman M. On Learning to Live with Authoritarian Regimes.—
Foreign Affairs, 1977, Jan., p. 333.
14 Ibid.
15 Подробнее см.: Петровский В. Ф. Американская внешнеполитиче¬
ская мысль. М., 1978, с. 277—310.
13 Cooper R., Kaiser К., Kosaka М. Towards a Renovated International
System. A Report to the Trilateral Commission. N. Y., 1977, p. 11.
17 The Growing Dimensions of Security, p. 1.
18 См. Современные буржуазные теории международных отношений.
М., 1976, с. 301.
19 См. The Growing Dimensions of Security, p. 8.
20 Cm. Brown S. A Cooling-off Period for US-Soviet Relations.—
Foreign Policy, 1977, No 28, p. 3.
21 The Nation, 1978, Aug. 19.
22 The Growing Dimensions of Security, p. 18—19.
23 Правда, 1979, 19 июня.
325
24 См. Brown S. A Cooling-off Period for US-Soviet Relations. —
Foreign Policy, 1977, No 28, p. 21.
25 Cm. Ball G. Diplomacy in Overcrowded World. N. Y., 1977.
26 Kennan G. The Cloud of Danger. Boston, 1977.
27 Foreign Policy. 1976—1977, No 25, p. 109—110.
28 Foreign Affairs, 1978, No 1, p. 275.
29 Millenium, 1978, No 1, p. 62.
30 Cm. Yergin D. The Shattered Peace: The Origins of the Cold War
and the National Security State.
31 International Herald Tribune, 1977, Sept. 5; Foreign Affairs, 1977,
No 3, p. 517—538.
32 Gaty Ch. and Gaty T. Debate over Detente. N. Y., 1977, p. 58.
33 Брежнев Jl. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6, с. 597.
34 Christian Science Monitor, 1978, Aug. 12.
35 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи, вос¬
поминания, т. 7, с. 587.
36 An Overview of East-West Relations. Report of the Trilateral Task
Force on East-West Relations to the Trilateral Commission. N. Y.,
1978.
37 Cm. Stanley T. Detente. The Continuation of Tension by Other Means.
N. Y., 1977, p. 12—13.
38 Defending America. Towards a New Role in the Post-Detente World.
N. Y., 1977, p. 257 (далее: Defending America).
39 См. Правда, 1979, 19 июня.
40 Defending America, p. 24.
41 Detente. Ed. by Urban G. R., N. Y., 1976, p. 187—188.
42 Defending America,, p. 268.
43 Cm. Detante or Debacle. N. Y., 1979.
44 Cm. Comparative Modernization. N. Y., 1976, p. 369—371.
45 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 428.
46 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 9, с. 230.
47 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 318.
48 The Department of State Bulletin, 1974, Nov. 4, p. 621.
43 On the Creation of a Just World Order. Ed. by Mendlovitz S.
Amsterdam, 1975, p. 34.
50 Time, 1974, Dec. 9, p. 11—12.
51 Morse E. Modernization and the Transformation of International
Relations. N. Y., 1976, p. 129, 140—141.
52 Cooper R., Kaiser K-, Kosaka M. Op. cit., p. 6.
53 Rock V. A Strategy of Interdependence. A Program for the Cont¬
rol of Conflict between the United States and the Soviet Union.
N. Y., 1964, p. 28,43.
54 Cm. Comparative Modernization, p. 384—385.
55 Cm. Africa. The Primacy of Politics. N. Y., 1960, p. 151.
56 Cm. Foreign Affairs, 1974, No 4, p. 121—134.
57 Comparative Modernization, p. 383—384.
58 Cm. Europa-Archiv, 1974, Dez. 10, S. 777—786.
59 Gati Ch. and Gati T. Op. cit., p. 59, 60.
60 Foreign Affairs, 1976, No 4, p. 10—11.
61 Foreign Policy, 1973, No 12, p. 16.
62 Cm. Cooper R., Kaiser K., Kosaka M. Op. cit., p. 17—18.
63 Camps M. The Management of Interdependence. N. Y., 1974, p. 14.
64 Europa-Archiv, 1974, Dez. 10, S. 780—781.
65 Cm. Azrael G., Lowenthal K., Nokagawa T. An Overview of East-
West Relations. A Report to the Trilateral Commission. N. Y., 1978,
p. 52.
326
66 Espresse, 1976, арг. 11.
67 Foreign Policy, 1973, No 12, p. 114.
68 The New York Times, 1976, Dec. 22.
69 The New York Times, 1977, Dec. 28.
70 Брежнев Jl. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6, с. 63.
71 Цит. по: За рубежом, 1976, № 33.
72 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6, с. 74.
73 Bergsten С. F., Bertoin G., Mushakoji К. The Reform of Internatio¬
nal Institutions. Report of the Trilateral Task Force. N. Y., 1976,
p. 11.
74 Foreign Affairs, 1977, No 1, p. 2.
75 Comparative Modernization, p. 384—385.
76 Camps M. Op. cit., p. 15.
77 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4. М., 1974,
с. 336.
78 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 3, 4.
79 См. Шахназаров Г. О «державном» подходе к международной по¬
литике.— Проблемы мира и социализма, 1972, N° 5.
80 UN Transnational Corporations in World Development: A Reexami¬
nation. N. Y., 1978, p. 43, 288—313.
81 Vernon R. Sovereignty at Bay. The Multinational Spread of US
Enterprises. L., 1971, p. 3.
82 Cm. “Foreign Affairs”, 1974, No 4, p. 153—175.
83 Cm. Gilpin R. Three Models of the Future.— International Orga¬
nization. 1975, No 1, p. 37—60.
84 Cm. Leonard G. The UN: Reorganizing (?) For World Order (?).
Wash., 1976, p. 1.
85 Skolnikoff E. Imperatives of Technology. Bercley, 1973, p. 95.
86 Cm. Yost C. The Insecurity of Nations. International Relations in
the Twentieth Century. N. Y., 1968, p. 253.
87 Soviet and American Policies in the United Nations. N. Y., 1971,
p. VI.
88 The Politics of International Organization. N. Y., 1970, p. 16.
89 Barros G. The United Nations. Past, Present and Future. N. Y., 1972,
p. 2.
90 War — Peace, 1970, Jan.
91 Cm. Stoessinger J. The Might of Nations. N. Y., 1969, p. 179—180.
92 The New York Times, 1973, July 20.
93 Trialogue, 1977, No 15, p. 13.
94 Cm. Commission on the Organization of the Government for Conduct
of Foreign Policy, June, 1975. Wash., 1975, p. 68.
95 Cm.Cooper R., Kaiser K., Kosaka M. Op. cit., p. 43.
96 Правда, 1976, 5 окт.
97 См. Hoffmann S. Primacy or World Order. American Foreign Po¬
licy Since the Cold War. N. Y., 1978.
Глава III
1 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 187.
2 См. Stanley Т. American Defence and National Security. Wash.,
1956, p. 7.
3 Cm. Morgenthau H. Politics among Nations. N. Y., 1971, p. 106—144.
4 Cm. Nuechterlein D. E. United States National Interests in a Chan¬
ging World. Lexington, 1973, p. 176.
5 Setting National Priorities. The 1978 Financial Year Budget. Wash.,
1977.
327
6 См. Томашевский Д. Г. Ленинские идеи и современные междуна¬
родные отношения. М., 1971, с. 66—81.
7 Morgenthau Н. Op. cit., р. 29.
8 Sprout Н. and М. The Ecological Perspective on Human Affairs.
Princeton, 1965, p. 20—21.
9 Nuechterlein D. E. Op cit., p. 174.
10 Foreign Affairs, 1977, No 1, p. 18.
11 Ibid., p. 21.
12 Ibid., p. 11.
13 Ibid., p. 2.
14 Cm. Global Political Assessment, 1977, No 4, p. 42.
15 Wesson R. Foreign Policy for A New Age. Boston, 1977, p. 67.
16 The Use of the Armed Forces as a Political Instrument. Wash.,
1977, p. IV-6.
17 Ibid., p. IV-4, IV-5.
18 Cm. Foreign Affairs, 1977, No 2, p. 362—364.
19 The Intelligence Community. History, Organization, Issues. Ed.
by Fain T. N. Y., 1977, p. 970 (далее: The Intelligence Commu¬
nity).
20 Dirty Work: The CIA in Western Europe. Ed. by Agee P. and Wolf
L. N. Y., 1978.
21 См. Красная звезда, 1977, 21 сент.
22 См. The Intelligence Community, p. 680—687.
23 Cm. Foreign Affairs, 1975, No 2, p. 345.
24 The Intelligence Community, p. 121—122.
25 Johnson L. and McCormick J. Foreign Policy by Executive Fiat. —
Foreign Policy, 1977, No 28, p. 119.
26 Hearings before the Subcommittee on Security Agreements and
Committments Abroad. US Senate, 1970, Nov. 24, p. 2417.
27 US News and World Report, 1978, Dec. 25; 1979, Jan. 1.
28 Wesson R. Op. cit., p. 86.
29 New Republic, 1976, No 18, p. 16.
30 Congressional Records, 1976, Apr. 13, p. H3337.
31 Wesson R. Op. cit., p. 80.
32 Setting National Priorities. Wash., 1976, p. 60.
83 Defence Nationale. P., 1975, № 1, p. 23.
34 Cm. Commentary, 1975, No 3, p. 45—56.
35 Janowitz M. and Stern E. The Limits of Military Intervention:
A Propositional Inventory. — Military Review, 1978, March,
p. 11—12.
36 Cm. Tilemma H. Appeal to Force: American Military Intervention
in the Era of Containment. N. Y., 1978.
37 Цит. no: The New York Times Magazine, 1973, Apr. 1, p. 73.
Cm. Holsti O. and Rosenau J. Vietnam, Consensus and the Belief
System of American Leader. Paper delivered at 1977, October 6.
Hendries Symposium on American Politics and World Order,
p. 107—109.
39 Cm. The Washington Post, 1978, March 23.
40 Cm. Knorr K. Op. cit.
41 Problems of National Security. Ed. by Kissinger H. N. Y., 1966,
p. 477.
42 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 79.
43 Setting National Priorities, p. 15—16, 56.
44 См. Progressive, 1978, June.
45 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6, с 294.
328
46 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи, вос¬
поминания, т. 7, с. 309.
47 Трофименко Г. А. США: война, политика, идеология. М., 1976,
с. 292—293, 295.
48 Wesson R. Op. cit., p. 52.
49 Hilsman R. The Crouching Future: International Politics and US
Foreign Policy. A Forecast. N. Y., 1975, p. 577.
50 Setting National Priorities, p. 91—92.
51 Cm. Davis L. E. Limited Nuclear Options. Deterrence and the New
American Doctrine. L., 1976, p. 5.
52 Progressive, 1978, June.
53 Foreign Policy, 1974, No 14, p. 175—176.
54 См. Правда, 1976, 22 сент.
55 Правда, 1978, 14 марта.
56 Осгуд Р. Ограниченная война. М., 1960, с. 54—55.
57 Foreign Affairs, 1977, No 1, p. 14.
58 См. US News and World Report, 1978, Febr. 27.
59 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4, с. 332.
50 См. Foreign Affairs, 1973, No 1, p. 24—25.
61 См. Davis L. E. Op. cit., p. 4—7.
62 Cm. Kahn H. and Wiener A. Year 2000. A Framework for Speculati¬
on on the Next Thirty Years. N. Y., 1971, p. 370—371.
63 Трофименко Г. А. Указ. соч., с. 82.
64 Osgood R. and Tucker K. Force, Order and Justice. Baltimore, 1967,
p. 126—127.
65 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи, вос¬
поминания, т. 7, с. 312.
66 Подробнее см.: Strategic Disarmament Verification and National
Security. L. — N. Y., 1977, p. 61—64; Molineu H. The Impact of
Strategic and Technological Innovations on Nuclear Deterrence. —
Military Review, 1978, Jan., p. 7—16.
67 Cm. Military Review, 1978, Jan., p. 8—9.
68 Kintner W. Peace and Strategy Conflict. N. Y., 1967, p. 81.
69 Cm. The Use of the Armed Forces as a Political Instrument.
70 Newsweek, 1975, Jan. 20.
71 Cm. The Journal of Peace Research, 1966, No 4, p. 311.
72 Rock V. A. A Strategy of Interdependence. A Program for the Cont¬
rol of Conflict between the United States and the Soviet Union.
N. Y., 1964, p.126.
73 Cm. Stoessinger J. Op. cit., p. 165—167.
74 Cm. George A. and Smoke R. Deterrence in American Foreign Po¬
licy. Theory and Practice. N. Y., 1974.
75 Cm. Military Review, 1968, Jan., p. 15; Progressive, 1978, June.
76 Stoessinger J. The Might of Nations. World Politics in Our Time.
N. Y., 1973, p. 185—186.
77 Lorenz K. On Aggression. N. Y., 1967, p. 62.
78 Levin M. Violence in Society. Atlanta, 1975, p. 17.
79 Подробнее о биогенетических концепциях, оправдывающих наси¬
лие, см. Холлигер В. Человек и агрессия М., 1975, с. 100—131.
80 The New York Times Magazine, 1977, Febr. 27, p. 14.
61 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6, с. 294.
82 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи, вос¬
поминания, т. 7, с. 308.
83 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 408.
84 Подробнее см. Трофименко Г. А. Указ. соч., с. 314.
85 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6. с. 596
329
86 Cox A. The Dynamics of Detente. How to End the Arms Race. N. Y.,
1976, p. 47.
87 Cm. Wohlstetter A. The Delicate Balance of Terror. — Foreign Af¬
fairs, 1959, No 1, p. 211—234; Kahn H. On Thermonuclear War.
Princeton, 1960; Kissinger H. Nuclear Weapons and Foreign Poli¬
cy. N. Y.,1957; Kintner W. Peace and Strategy Conflict. N. Y., 1967;
Ikle F. Can Nuclear Deterrence Last Out the Century. — Foreign
Affairs, 1973, No 1, p. 267—286; Kemp G., Pfaltzgraff R., Jr. and
Ra’anan Uri. The Superpower in a Multi-Nuclear World. Lexington,
1974; George A. and Smoke R. Deterrence and the American Foreign
Policy. Theory and Practice. N. Y., 1974.
83 Cm. Great Decisions 78. FPA. N. Y., 1978, p. 26.
89 См. Рыбкин E. И. Война и политика в современную эпоху. М.,
1973, с. 87; Денисов В. В. Социология насилия; критика современ¬
ных буржуазных концепций. М., 1975, с. 170—177.
90 Экономические и социальные последствия гонки вооружений и ее
исключительно пагубное воздействие на международный мир и
безопасность. Доклад Генерального секретаря. Документ ООН
А/8469, 1971, 22 окт., с. 16.
91 См. Правда, 1978, 4 апр.
92 Stone G. Containing the Arms Race. Some Specific Proposals.
Cambr., 1966; Schelling Т., Halperin M. Strategy and Arms Control.
N. Y., 1961, p. 2; Bull H. The Control of the Arms Race. N. Y.,
1965; Beaton L. The Reform of Power. N. Y., 1972.
93 Cm. Kahan G. Op cit., p. 361.
94 The Washington Post, 1978, Aug. 22.
95 Цит. по: За рубежом, 1976, № 40.
96 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4, с. 339—340.
97 См. The New York Times, 1978, Aug. 10.
98 The New York Times Book Review, 1976, May 30.
99 Cm. Foreign Affairs, 1975, No 3, p. 464, 481.
100 Cm. Social Research, 1975, No 1, p. 101.
Глава IV
1 См. National Security. Political, Military and Economic Strategy in
the Decade Ahead. N.'Y., 1964, p. 687—688, 745.
2 Cm. Bergsten C. F., Bertoin G., Mushakoji K. Op. cit., p. 11.
3 Brown S. The Changing Esseuce of Power.. Wash., 1972, p. 288—289;
его же. New Forces in World Politics. Wash., 1974, p. 185.
4 Cm. Taylor M. Swords and Plowshares. N. Y., 1972, p. 419—420.
5 Cm. Foreign Policy, 1978, Fall.
6 Newsweek, 1978, Sept. 18,
7 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи, вос¬
поминания, т. 7, с. 554.
8 Цит. по: Правда, 1978, 2 сент.
9 См. Wesson R. Op. cit., p. 139—140.
10 Delmes С. Histoire politique de la dombe atomique. P., 1967, p. 8.
11 Pourquois pas? 1972, 6 jan.
12 Politics and International System. Phila., 1969.
13 Cm. Brzezinski Z. Between two Ages. America’s Role in the Technot-
ronic Era. N. Y., 1970, p. 25.
14 Cm. Boorstin D. The Republic of Technology. N. Y., 1978.
15 Cm. Politics and International System, p. 246—247.
16 Cm. Morgenthau H. The Truth and Power, p. 223.
17 Morgenthau H. The Politics among Nations. 4th ed., p. 253.
330
18 Bloomfield L. Nine Vital Objectives of the U. S. Foreign Policy.
Cambr., Mass. -1968, p. 24.
19 Cm. Collins J. American and Soviet Military Trends Since Cuban
Missile Crisis. Wash., 1978.
20 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4, с. 171.
21 Morgenthau Н. Politics in the 20th Century, vol. II. The Impasse of
American Foreign Policy. Chi., 1962, p. 101.
22 См. Война и армия. Философско-социологический очерк. М., 1977,
с. 232—233.
23 Morgenthau Н. Politics in the 20th Century, vol. II. The Impasse of
American Foreign Policy, p. 102.
24 Ibid., p. 101.
25 Basic Aims of United States Foreign Policy. Study Prepared at
the Request of the Committee on Foreign Relations. United States
Senate by the Council on Foreign Relations, 1959, No 7, Nov. 25.
26 The Growing Dimensions of Security. Wash., 1978, p. 24.
27 The New Statesmen, 1975, July, p. 58.
28 The Growing Dimensions of Security, p. 23.
29 Bell D. The Coming of Post-Industrial Era. N. Y., 1973, p. 298.
30 Cm. The Review of Politics, 1975, No 4.
31 The Department of State Bulletin, 1974, Nov. 4, p. 620.
32 Выступление 3. Бжезинского в американской телевизионной про¬
грамме «Лицом к стране», 31 октября 1977 г.
33 См. Orbis, 1977, Spring.
34 The Growing Dimensions of Security, p. 23.
35 Cm. Foreign Affairs, 1976, No 4, p. 274.
36 Orbis, 1977, Spring.
37 Foreign Affairs, 1976, No 4, p. 277—278.
38 Cm. Foreign Policy, 1976—1977, Winter, p. 127—128.
39 Foreign Affairs, 1976, No 4, p. 284.
40 The Washington Post, 1977, March 21.
41 The New York Times, 1977, Febr. 14.
42 Cm. Foreign Affairs, 1978, No 1, p. 8.
43 Foreign Affairs, 1978, No 4, p. 841.
44 Isaak R. American Democracy and World Power. N. Y., 1978, p. 15.
45 Black C. The Dynamics of Modernization. A Study in Comparative
History. N. Y., 1967, p. 7.
46 Zapf W. Die Soziologische Teorie der Modernisierung. — Soziale
Welt. Gottingen, 1975, S. 218.
47 Cm. Lernen D. The Passing of Traditional Society. Glencoe, 1963, p. 45.
48 Zapf W. Op. cit., S. 212—226.
49 Apter D. The Politics of Modernization. Chi., 1965; Apter D. Some
Conceptual Approaches to the Study of Modernization. Englewood
Cliffs. New Jersy, 1968.
£0 Comparative Modernization. N. Y., 1976, p. 72.
61 Ibid.
52 Comparative Modernization, p. 8.
53 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6, с. 56.
54 См. The Review of Politics, 1975, No 4, p. 453.
55 Cm. “Intelligence Activities: Senate Resolution 21. Hearings Before
Select Committee to Study Governmental Operations with Respect
to Intelligence Activities to the United States Senate. 94th Congress.
1st Session, vol. 6. Wash., 1976.
56 Cm. Intelligence Activities and the Rights of Americans. Final Re¬
port of the Select Committee to Study Governmental Operations with
331
Respect to Intelligence Activities. Apr. 26, 1976. 94th Congress, 2d
Session, Senate Report, No 94—755. Wash., 1976.
57 Cm. Halperin M. and Hoffmann S. Freedom Versus National Secu¬
rity. N. Y., 1977.
68 The Theory and Practice of International Relations. Englewood
Cliffs, L966, p. 265.
59 Yergin D. The Shattered Peace. The Origins of Cold War and the
National Security State, p. 272.
60 Westerfield H. B. The Instruments of American Foreign Policy. New
Haven, 1965, p. VIII.
61 Boasson C. Approaches to the Study of International Relations.
Assen, 1963, p. 31.
62 Thompson K. W. Prospects and Limitations of Diplomacy. — The
Review of Politics, 1974, No 2.
63 Grand Strategy for 1980’s. Ed. by Palmer B. Wash., 1978, p. 3.
64 Black E. Alternative in Southeast Asia. N. Y., 1969, p. 20, 24—26.
65 Ibid.
66 An Overview of East-West Relations. Report of the Trilateral Task
Force on East-West Relations to the Trilateral Commission. N. Y.,
1978, p. 47.
67 Foreign Affairs, 1977, No 1, p. 41.
68 Morgenthau H. Politics Among Nations, p. 25.
69 Spanier G. Games Nations Play. Analysing International Politics.
N. Y., 1975, p. 130.
70 Ibid., p. 132.
71 Ibid., p. 201.
72 Hoffmann S. Primacy or World Order. American Foreign Policy Sin¬
ce the Cold War. N. Y., 1978, p. 173.
73 Schelling T. Arms and Influence. New Haven, 1966, p. 1.
74 Ibid., p. 150—151.
75 Cm. Ikle F. Now Nations Negotiate. N. Y., 1975, p. 210.
76 Ковалев А. Г. Азбука дипломатии. М., 1977, с. 241.
77 The Next Phase in Foreign Policy. Wash., 1973, p. 122.
78 Cm. Wesson R. Op. cit., p. 58.
79 См. Правда, 1978, 16 anp.
80 Цит. по: Правда, 1978, 10 anp.
81 Cm. The International Herald Tribune, 1975, Apr. 28.
82 Kalb M. and Kalb B. Kissinger. N. Y., 1974, p. 192.
83 Ibid., p. 201.
84 Ibid., p. 206.
85 Ibid., p. 102.
86 Cm. The Washington Post, 1978, Apr. 1.
87 Cm. An Overview of East-West Relations. Report of the Trilateral
Task Force on East-West Relations to the Trilateral Commission.
N. Y., 1978, p. 54—58.
88 Цит. по: Правда, 1978, 9 марта.
89 The Washington Post, 1978, March 7.
90 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи, вос¬
поминания, т. 7, с. 266.
91 См. Schelling Т. The Strategy of Conflict. Cambr., 1960.
92 Цит. по: За рубежом, 1977, № 10, с. И.
93 Journal of International Organization, 1963, vol. XVII, p. 30.
94 Foreign Affairs, 1977, No 1, p. 41.
95 The Next Phase in Foreign Policy. Wash., 1973, p. 219—220.
96 The International Herald Tribune, 1979, Jan. 2.
332
Глава V
1 Stanley Т. American Defence and National Security. Wash., 1956,
p. 7.
2 Eagleton T. War and Presidential Power. A Chronicle of Congressio¬
nal Surrender. N. Y., 1974, p. 78.
3 Mankiewisz N. F. Nixon’s Road to Watergate. L., 1973, p. 107.
4 Congressional Records, 1973, Nov. 26, p. S37950.
5 Foreign Policy, 1977, Fall, p. 117—118.
6 Cm. Wesson R. Foreign Policy For a New Age, p. 160.
7 Cm. Foreign Affairs, 1978, No 1, p. 31.
8 Cm. Esterline G. and Black R. Inside Foreign Policy. Palo Alto
(Calif.), 1975, p. IX; Destler I. M. Presidents, Bureaucrats and Fo¬
reign Policy: The Politics of Organization Reform. Princeton, 1972,
p. 88.
9 Cm. Spanier G. and Uslander E. How Foreign Policy is Male. N. Y.,
1974, p. 26—28.
10 Cm. The Forrestall Diaries. N. Y., 1966, p. 21.
11 The Times, 1978, Apr. 24, p. 6.
12 Cm. The Nation, 1978, Febr. 18.
13 Cm. McCamy J. Conduct of the New Diplomacy. N. Y., 1964, p. 281.
14 Perkins L. Where Our Career Ambassadors? — Foreign Service
Journal, 1978, No 8, p. 15.
15 Cm. Harper’s Magazine, 1978, Nov.
16 Foreign Policy, 1977, Fall, p. 116.
17 Дневник посла Додда, 1933—1938. М., 1964, с. 142.
18 Wesson R. Op. cit., p. 167.
19 Ibid., p. 168.
20 Destler I. Presidents, Bureaucrats and Foreign Policy. Princeton,
1972, p. 11.
21 Cm. McCamy J. Op. cit., p. 30.
22 Подробнее см. Севостьян Ив. Планирование внешней политики в
США. М., 1974, с. 83—89.
23 См. Davis D. How the Bureaucracy Makes Foreign Policy. Lexington,
1972, p. 139; Esterline J. and Black R. Op. cit., p. 40; Destler I. Op.
cit., p. 161.
24 Cm. Perkins L. Op. cit., p. 15—16, 27.
25 Wesson R. Op. cit., p. 168.
26 Borklund C. W. The Department of Defence. N. Y., 1968.
27 Allison G. and Szanton P. Remaking Foreign Policy: The Organi¬
zational Concept. N. Y., 1976, p. 190—191.
28 Dulles J. F. War or Peace. N. Y., 1950, p. 240.
29 Finletter T. Power and Policy. N. Y., 1954, p. 266.
30 The New York Times Magazine. 1964, March 29.
31 Allison G. and Szanton P. Op. cit., p. 191.
32 Cm. Auckley C. The Modern Military in the American Society: A
Study in the Nature of Military Power. Philadelfia 1972; The Mili¬
tary and American Society. Ed. by Ambrose S. and Barber J. N. Y.,
1972; Owen D. The Politics of Defence. N. Y., 1972; Yarmolinsky A.
The Military Effect on American Society. N. Y., 1971.
33 The New York Times, 1976, Jan. 27.
34 Цит. по: Правда, 1978, 18 авг.
35 Цит по: Петров В. ф. Как делается внешняя политика США. М.,
1966, с. 37.
36 Ransom Н. Central Intelligence and National Security. N. Y., 1961,
333
p. 242; его же..Can American Democracy Survive Cold War. N. Y.,
1963, p. 143.
37 Cm. The Intelligence Community. History, Organization, Issues. Ed.
by Fain T. N. Y., 1977, p. 679, 754, 786.
38 Dirty Work: The CIA in Western Europe. Ed. by Agee P. and
Wolf L. N. Y., 1978.
39 CIA’S. Covert Operations vs Human Rights. Wash., 1978.
40 Wesson R. Op. cit., p. 173.
41 Destler I. Presidents, Bureaucracts and Foreign Policy. The Poli¬
tics of organizational reform. Princeton, 1972, p. 9.
42 Kissinger H. The Necessity for Choice. N. Y., 1960, p. 340—342.
43 Allison G. The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile
Crisis. Boston, 1971.
44 Cm. Halperin M. Bureaucratic Politics and Foreign Policy. Wash.,
1974, p. 20.
45 Cm. Hoffmann S. Primacy or World Order. American Foreign Poli¬
cy Since the Cold War, p. 224, 229.
46 Cm. Allison G. and Szanton P. Op. cit., p. 77—78.
47 Cm. Taylor M. Naked Flank of National Security. — Orbis, 1975,
No 4.
Глава VI
1 The Washington Post, 1978, March 21.
2 Brown L. Redefining National Security. Wash., 1977.
3 The Christian Science Monitor, 1978, Aug. 27.
4 The New York Times Magazine, 1977, Nov. 27, p. 83, 86.
5 Cm. Arms Control Today, 1978, Aug.
6 Цит. по: Красная звезда, 1978, 8 марта.
7 Десятая специальная сессия. Резолюция, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН. A. Res./S—10/2, р. 2.
8 Правда, 1979, 19 июня.
9 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6, с. 394.
10 Брежнев JI. И. О внешней политике КПСС и Советского государ¬
ства, изд. 3-е, доп. М., 1978, с. 698—699.
11 Правда, 1978, 27 мая.
12 Правда, 1979, 22 июня.
13 См. Брежнев Л. И. Во имя счастья советских людей. Речь на
встрече с избирателями Бауманского избирательного округа
г. Москвы 2 марта 1979 г. М., 1979., с. 25—26.
14 Правда, 1979, 7 окт.
15 Правда, 1979, 7 нояб.
16 Правда, 1979, 8 нояб.
17 Правда, 1979, 26 сент.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
Глава I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ДОКТРИНЫ
«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» США . 11
Глава II. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ... 46
Приоритеты «глобального конфликта» двух систем 52
Директорат капиталистического мира вместо взаи¬
мозависимости 74
Противодействие прогрессивным изменениям под
видом создания «нового миропорядка» 94
Глава III. ВОЕННАЯ СИЛА —ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» США . . 119
Основа «могущества» 120
Параметры применения военной силы 128
Формы реализации военной силы во внешней поли¬
тике 144
Идеологическо-пропагандистские прикрытия воен¬
но-силового подхода 168
Глава IV. РЕСУРСЫ «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 183
Материальный потенциал 184
Моральный фактор 207
Дипломатия 237
Глава V. МЕХАНИЗМ «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО¬
СТИ» 256
Президент и Совет национальной безопасности . . 258
Государственный департамент 273
Военные и разведывательные ведомства .... 285
«Административная стратегия» в области «нацио¬
нальной безопасности» 295
Глава VI. РАЗОРУЖЕНИЕ — ПУТЬ К ДЕЙСТВИТЕЛЬ¬
НОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ . . 301
Примечания 323
П р и л о ж е н и я: Схема 1. Военно-политические обязатель¬
ства США (1 форзац)
Схема 2. Организационная структура Совета нацио¬
нальной безопасности США (2 форзац) , .
Владимир Федорович Петровский
ДОКТРИНА
«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
В ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ США
Редактор
Н. И. САКОНТИКОВ
Оформление художника
A. С. ДЗУЦЕВА
Художественный редактор
B. В. СУРКОВ
Технический редактор
И. Г. МАКАРОВА
Корректор
Е. В. АРХИПОВА
ИБ № 466
Сдано в набор 23.08.79. Подписано в печать
20.12.79. А 12816. Формат 84ХЮ8‘/з2. Бумага тип.
№ 1. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Уел. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 19,51. Тираж 9000 экз.
Заказ JMb 597. Цена 1 р. 90 к. Изд. № 132И/79.
Издательство «Международные отношения».
107053, Москва, Б-53, Садовая Спасская, 20.
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграф-
прома при Государственном комитете СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной тор¬
говли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.