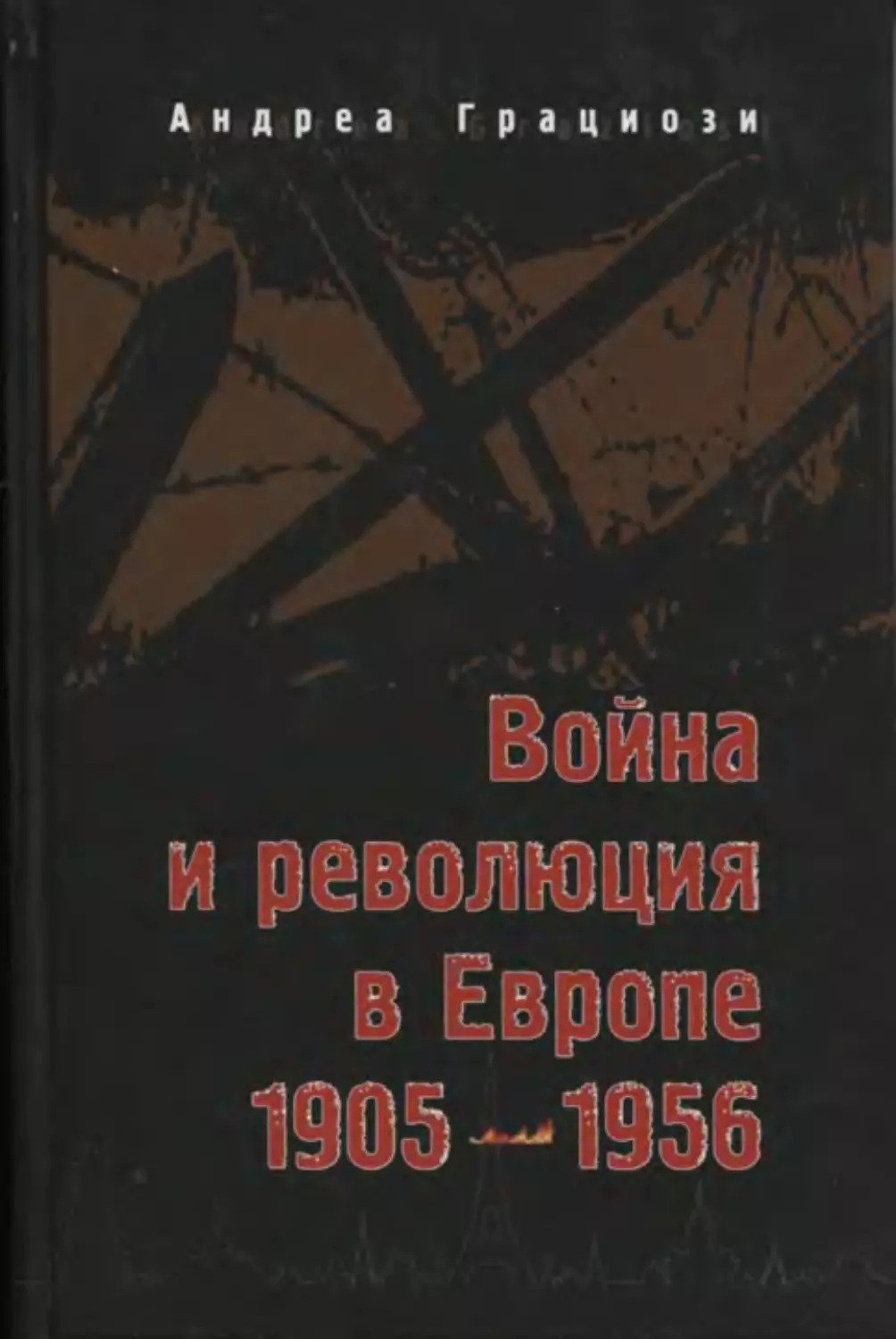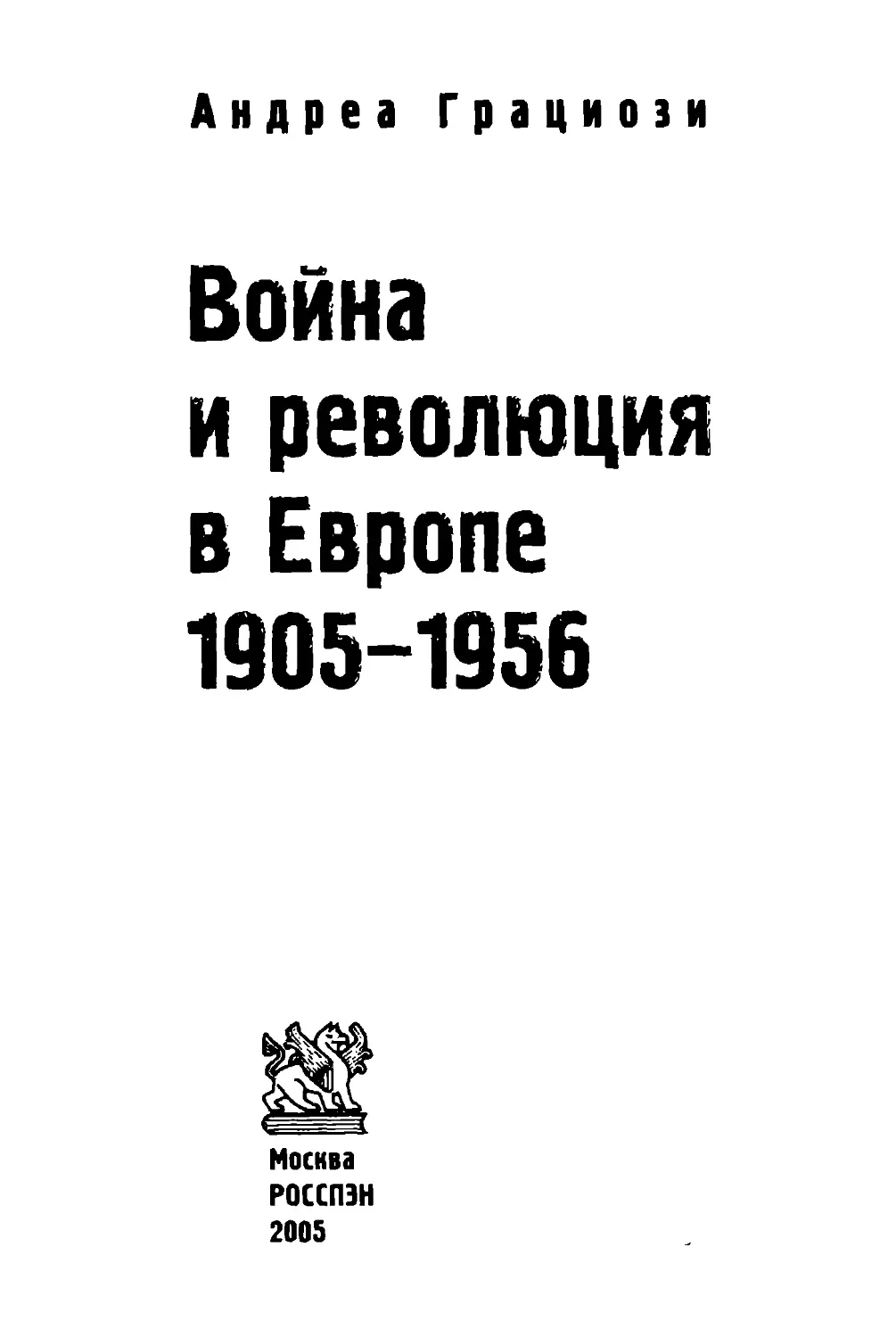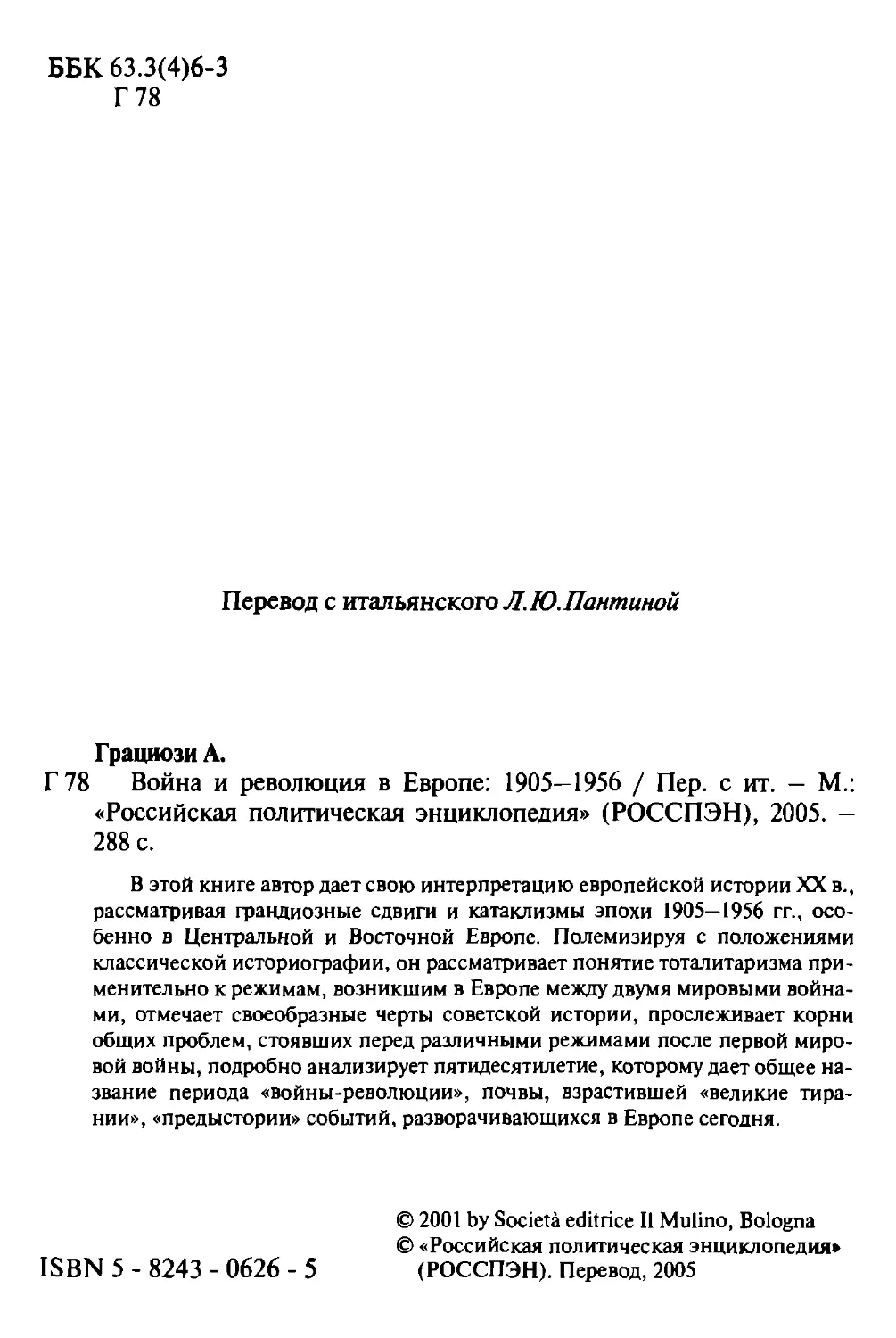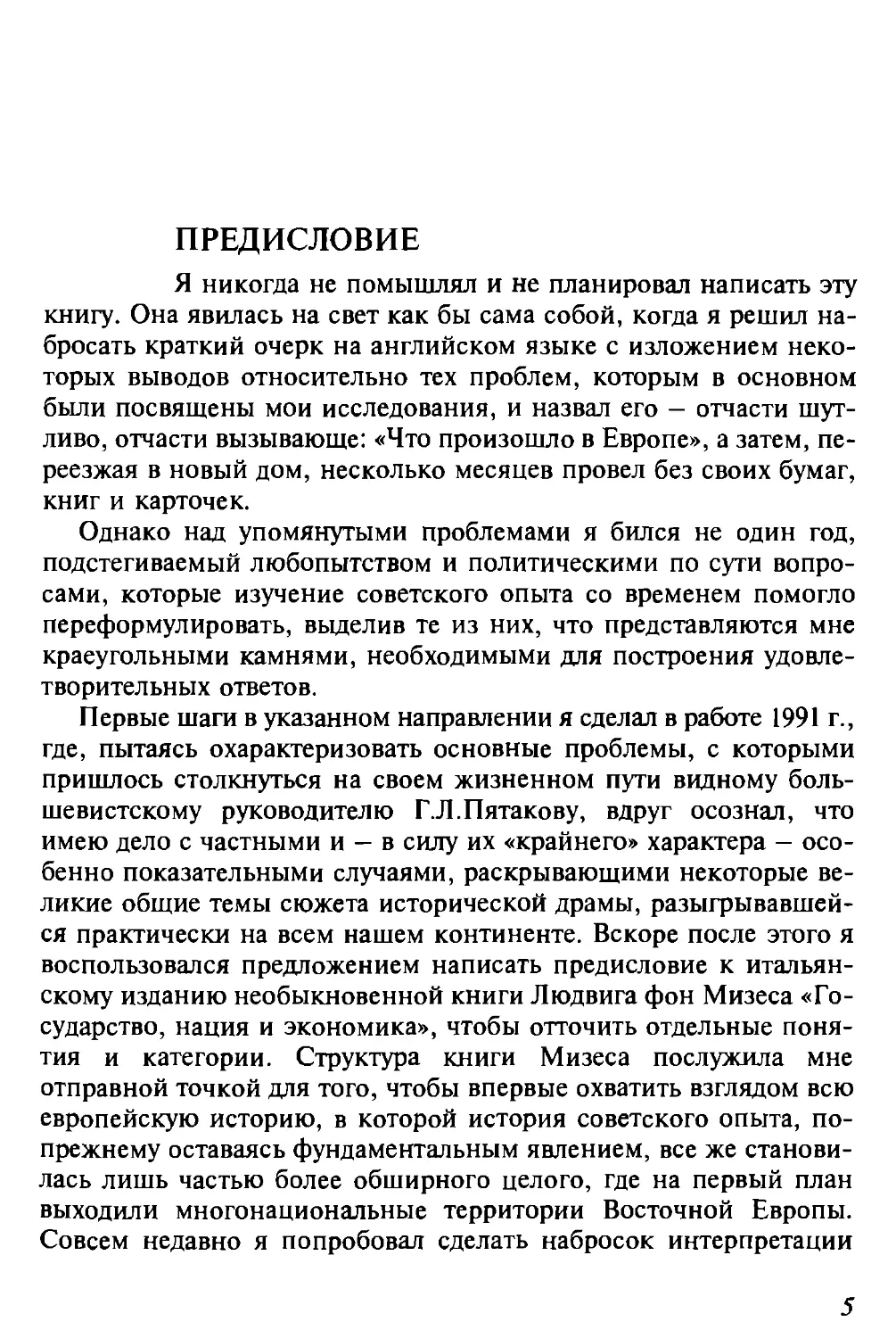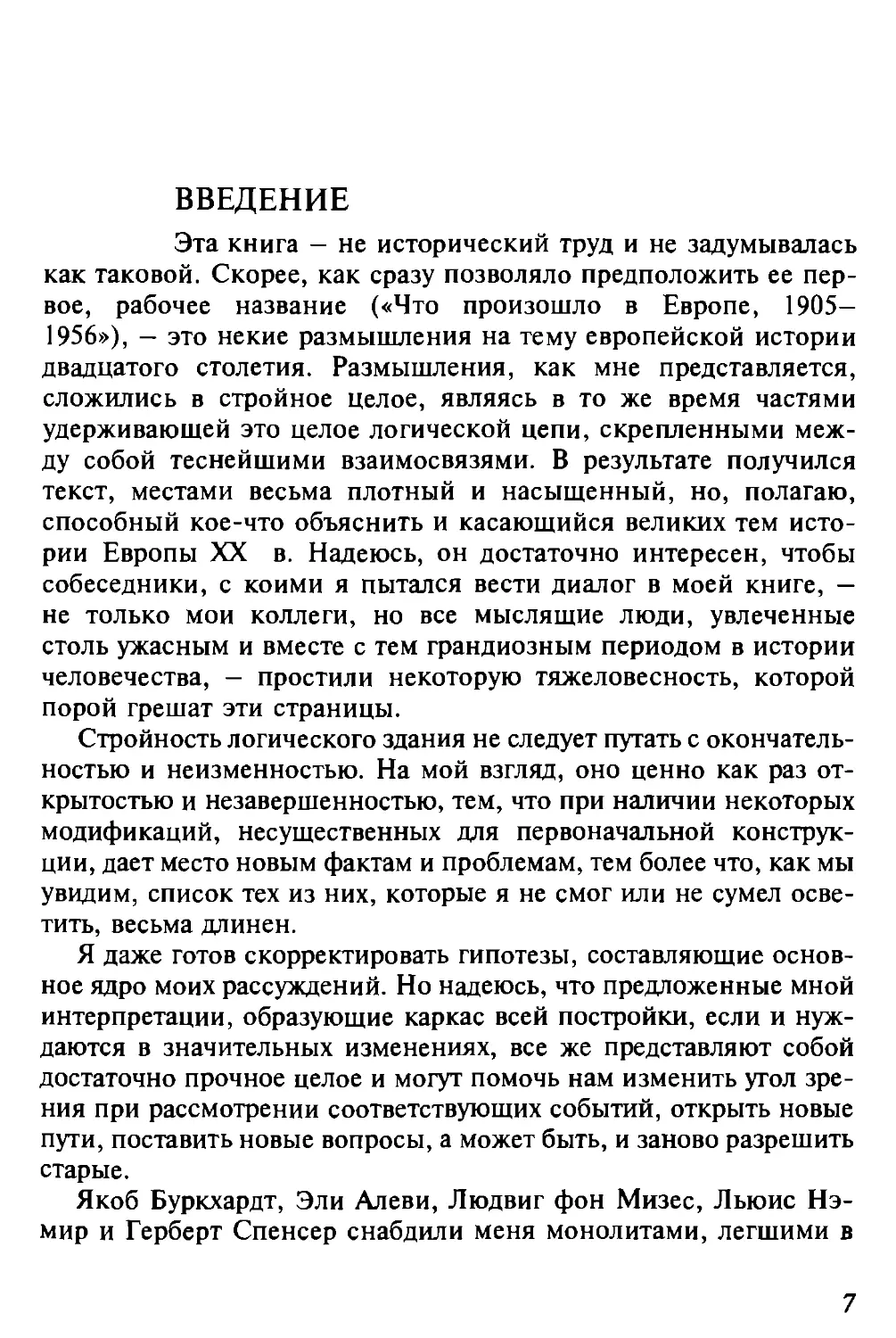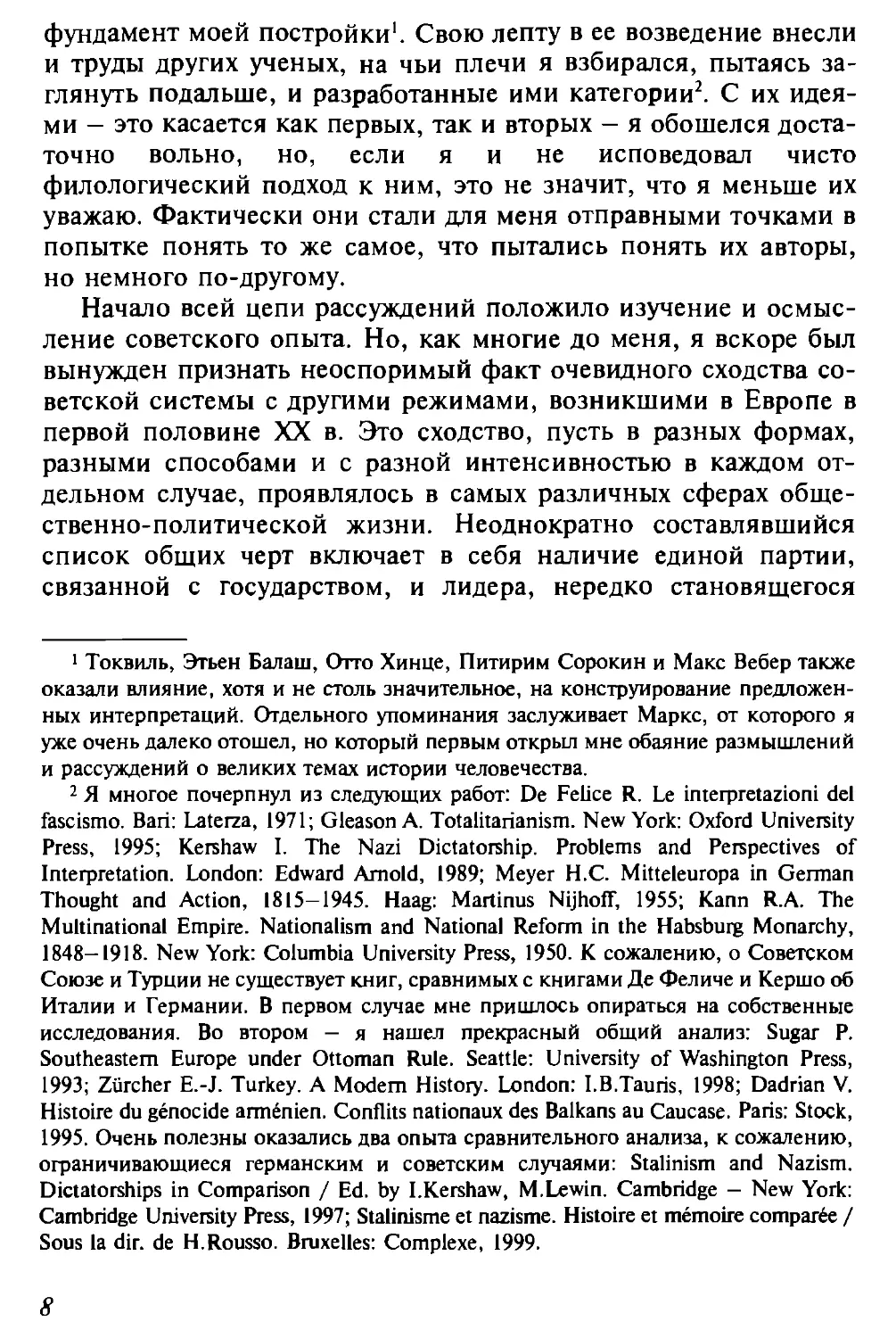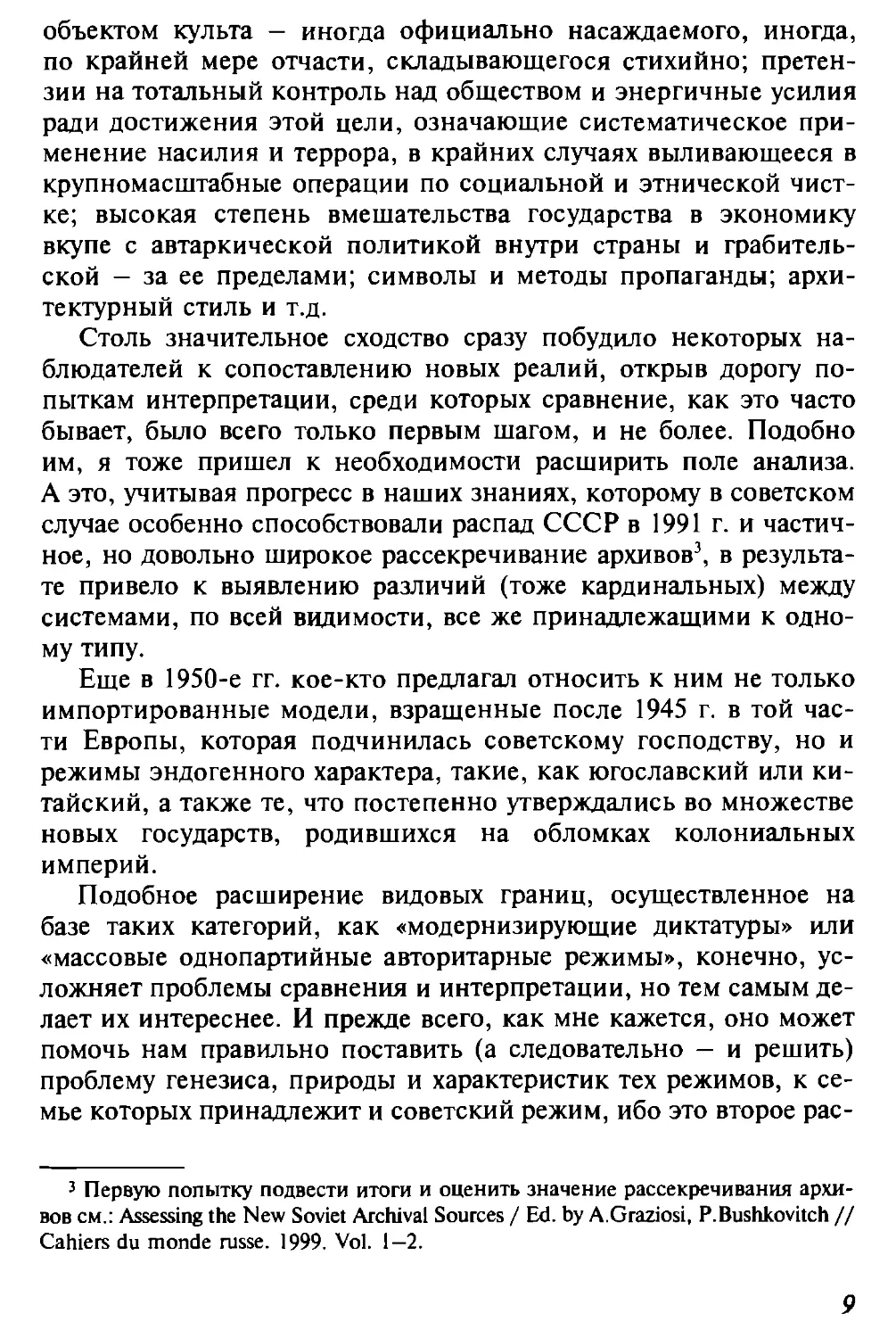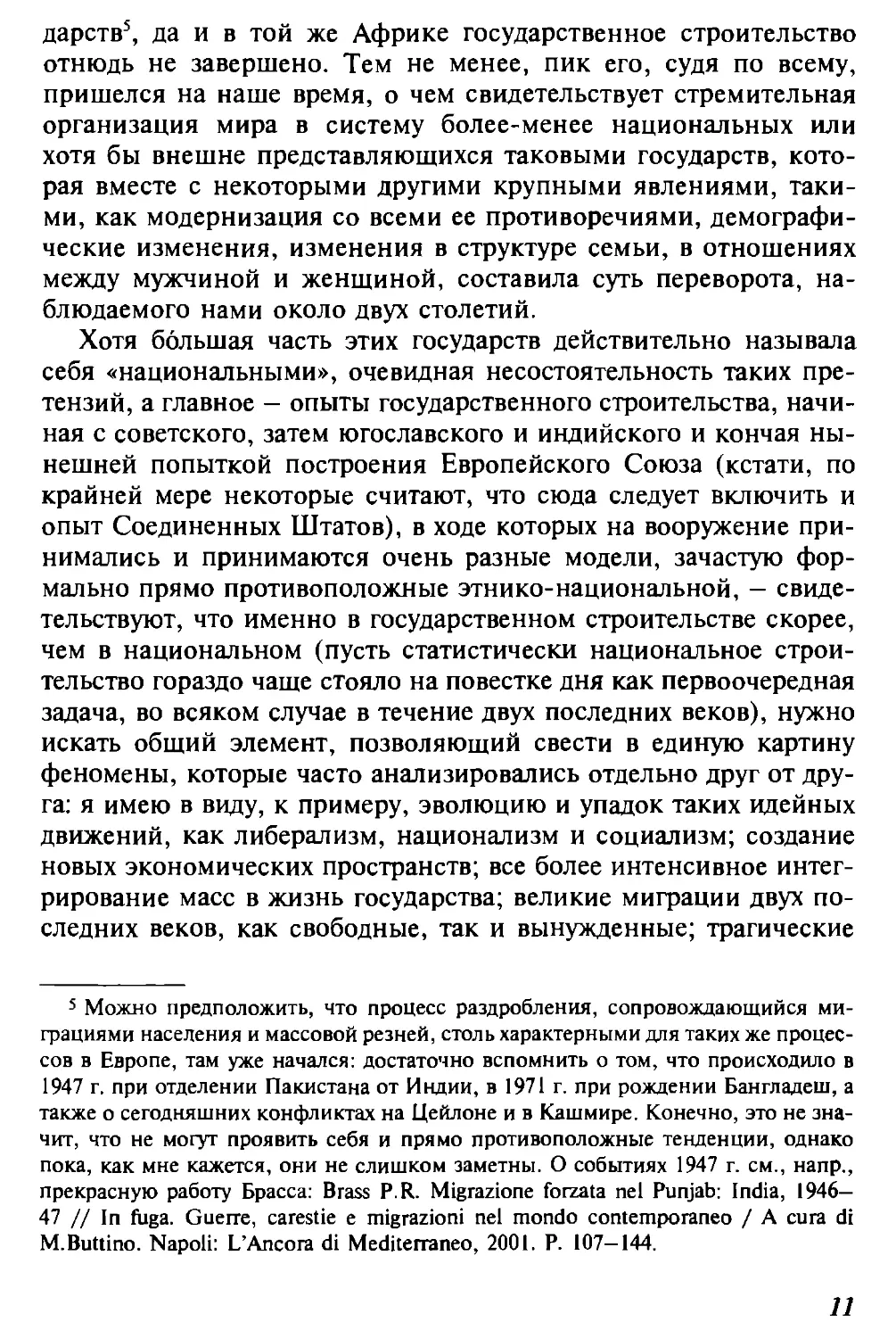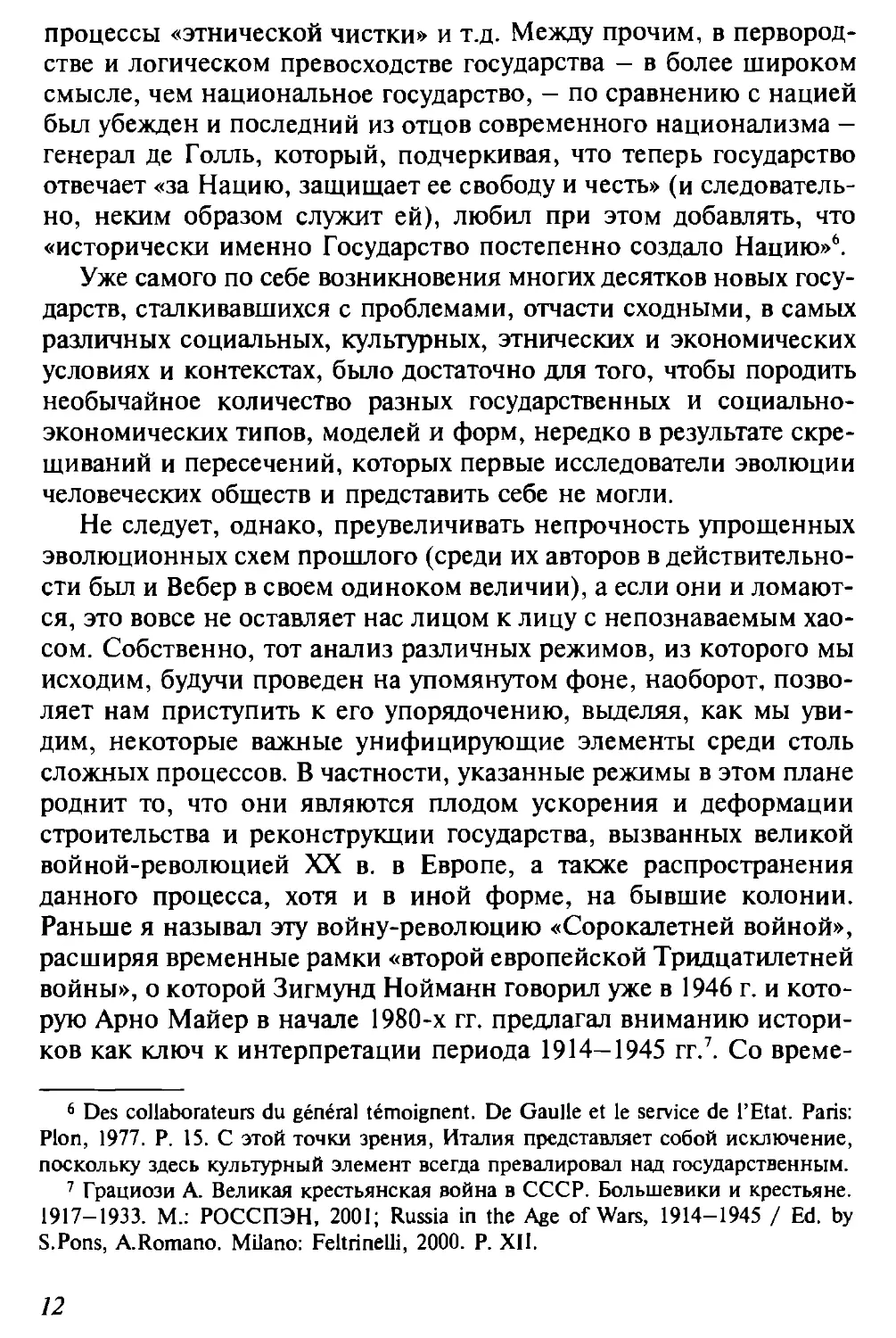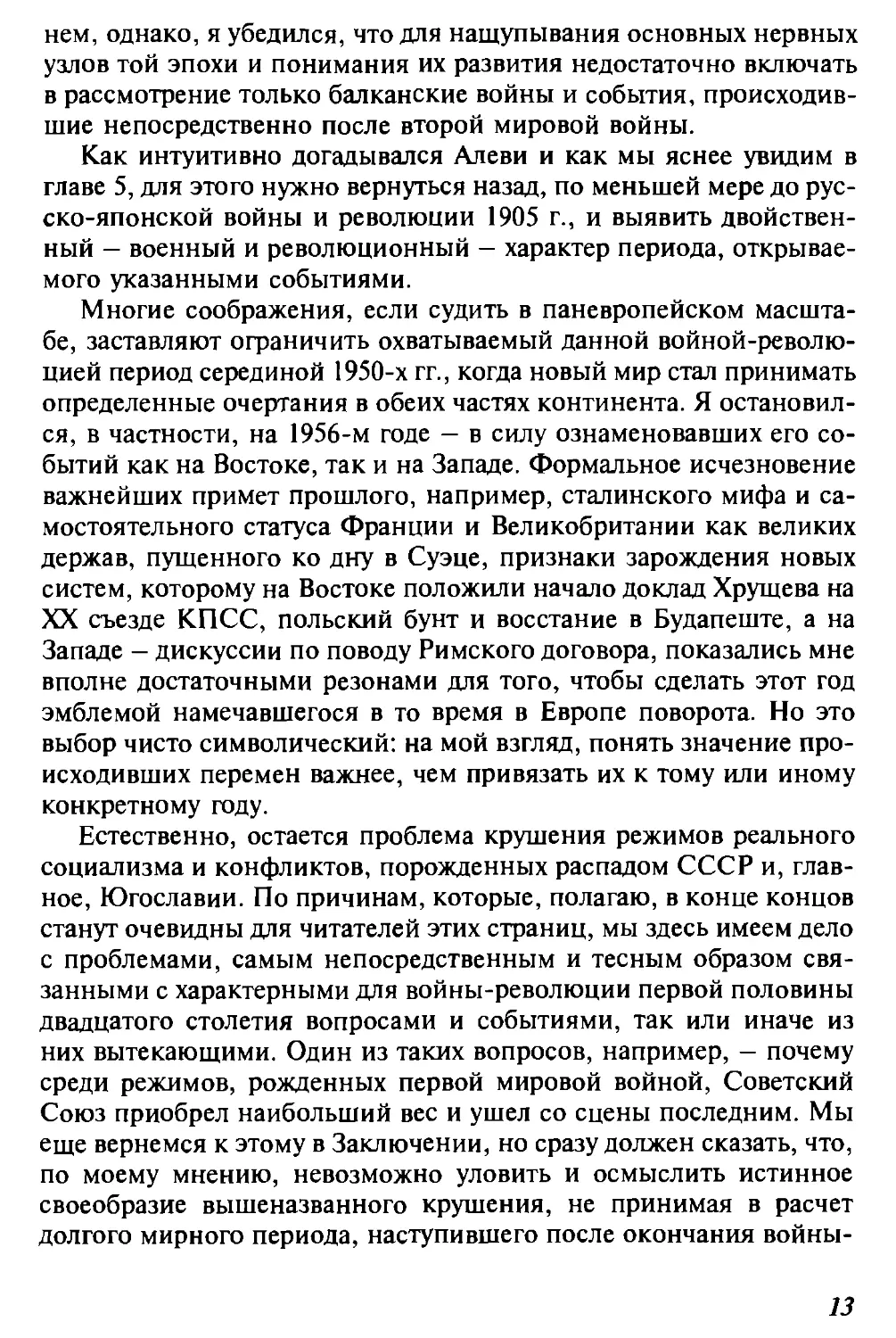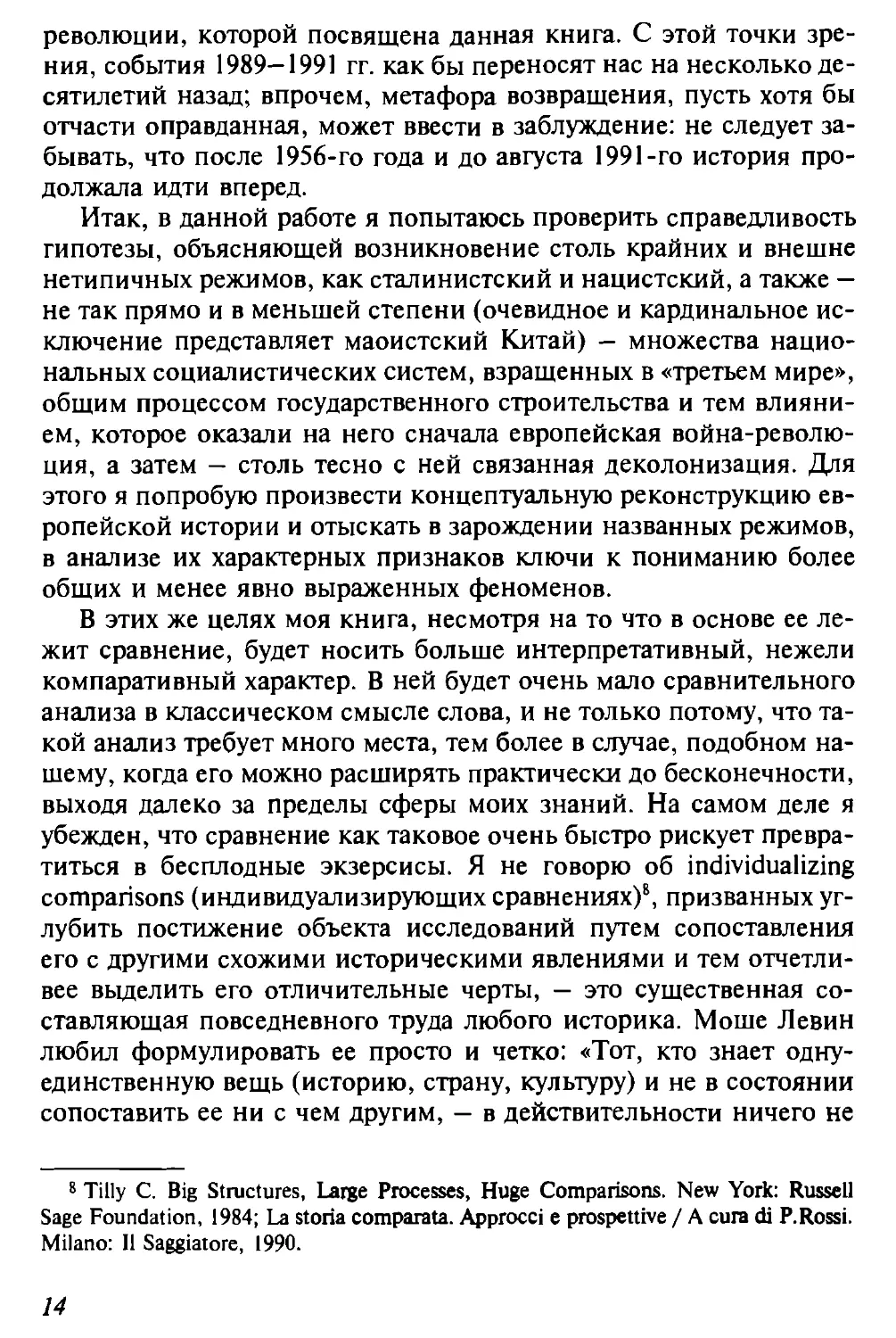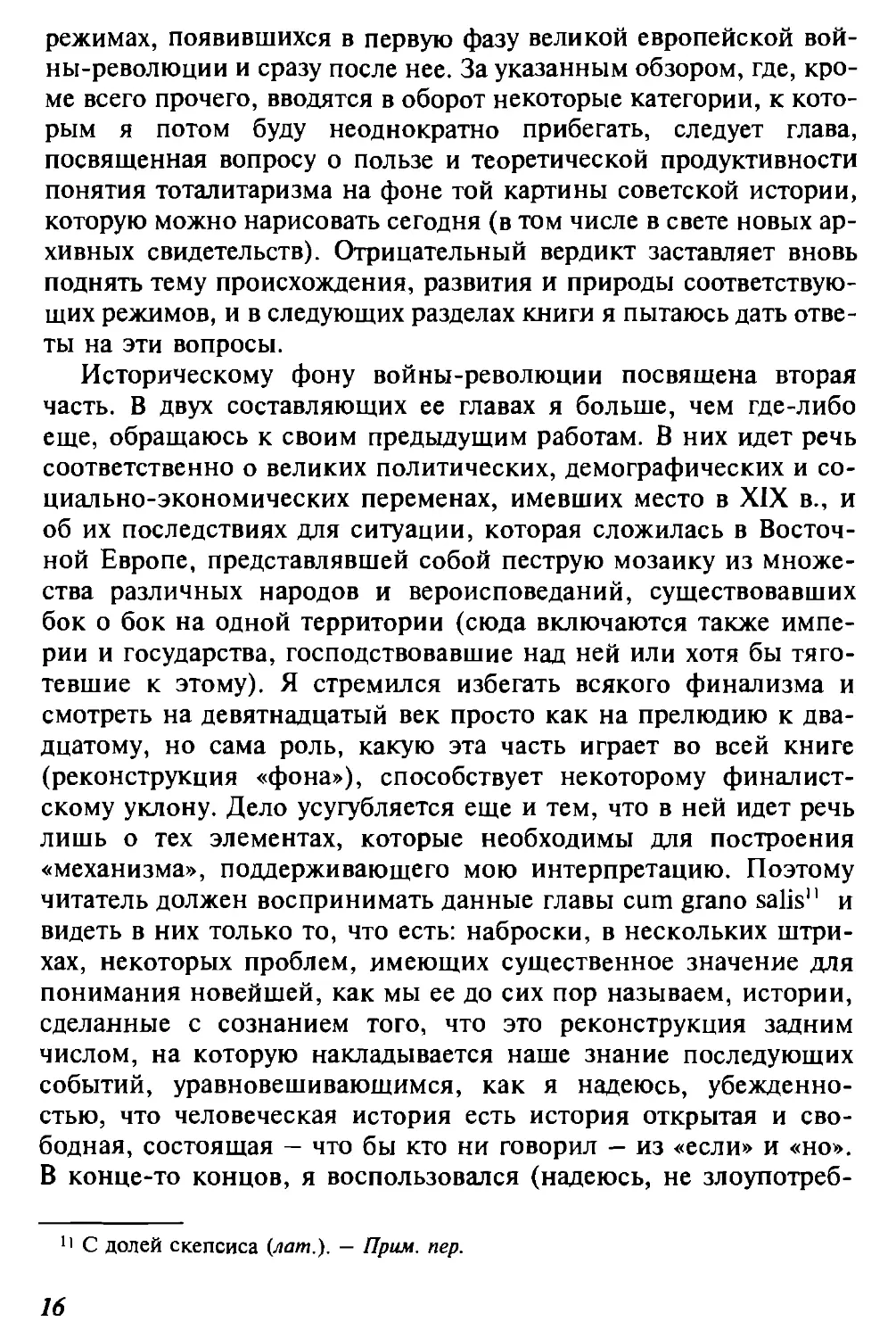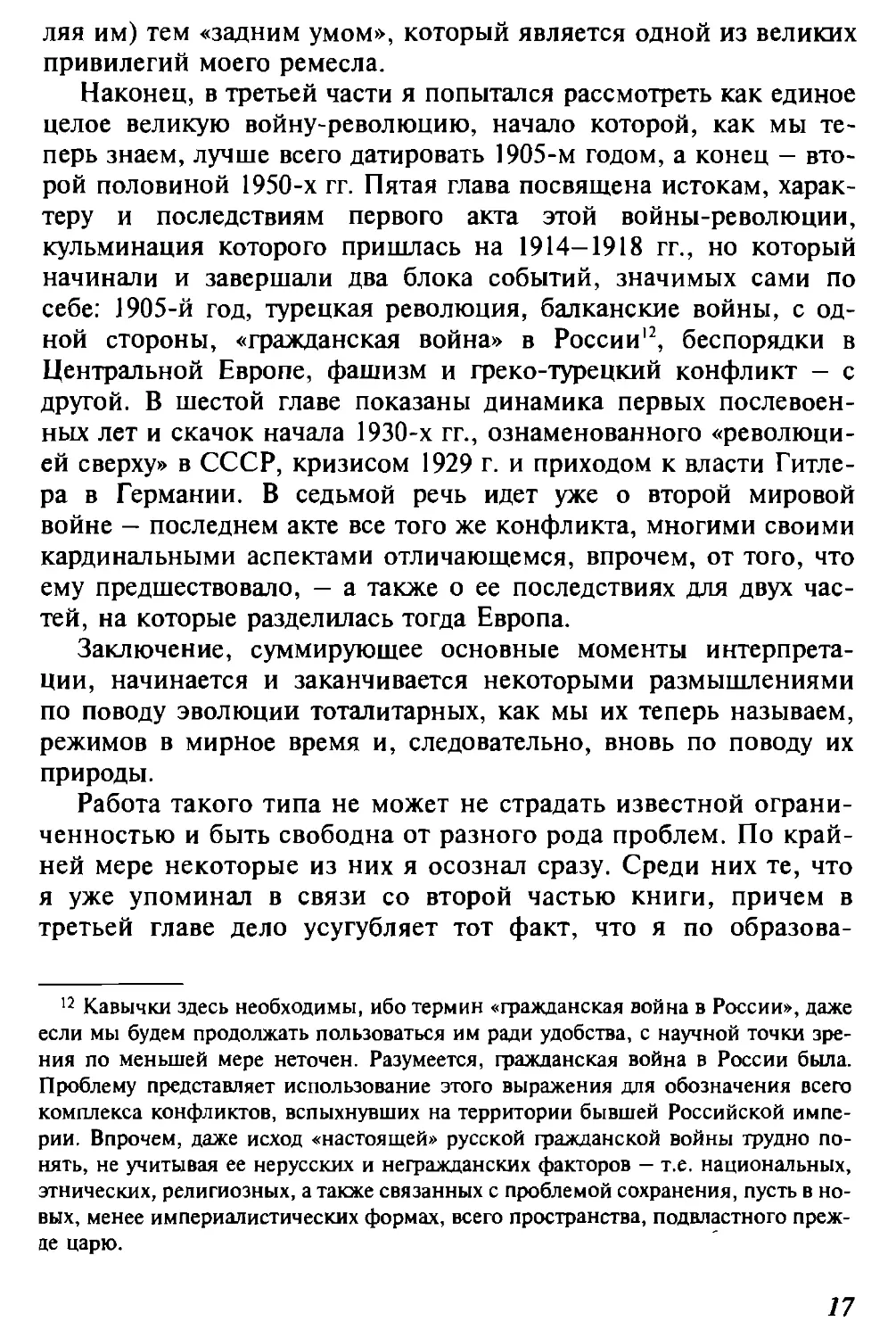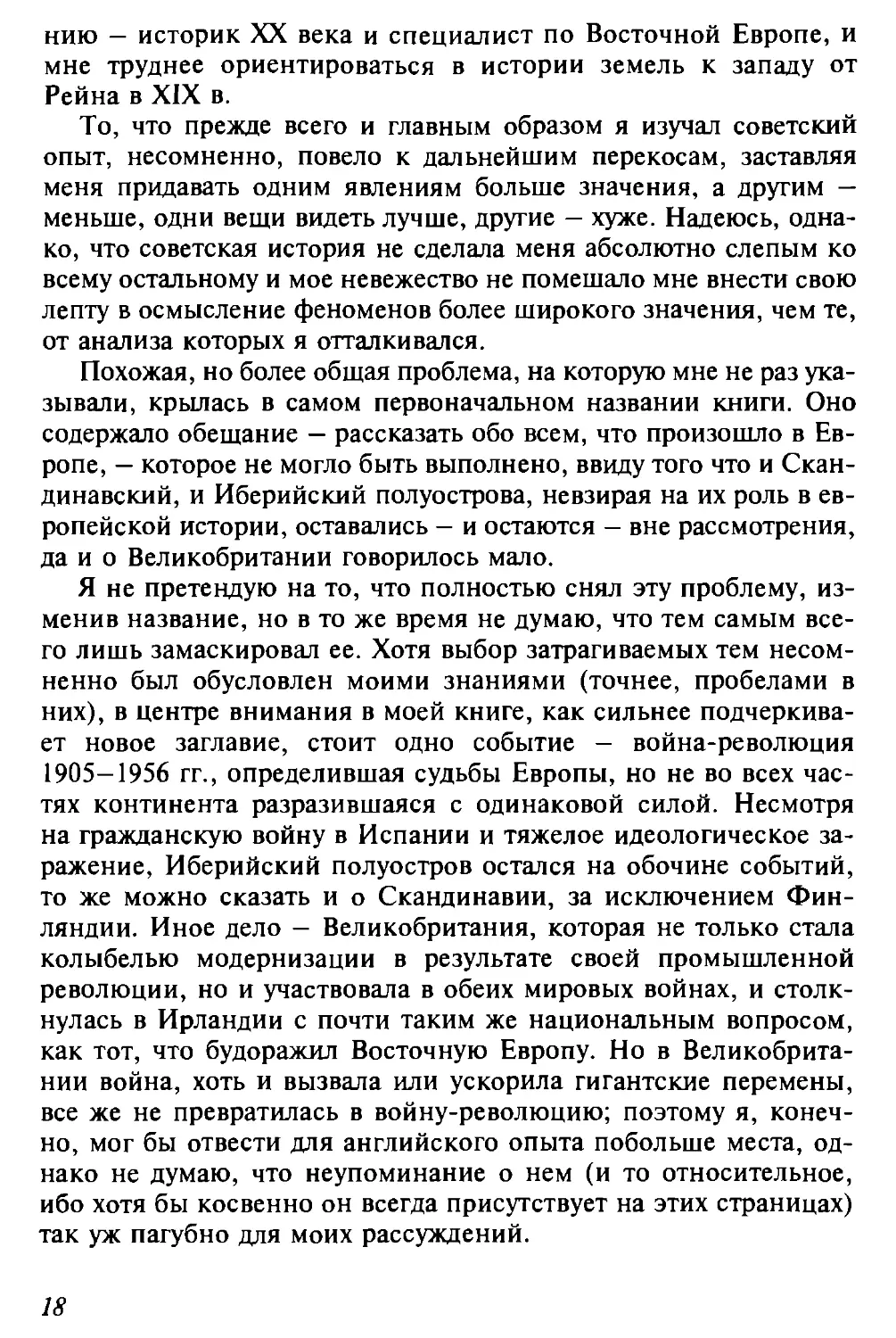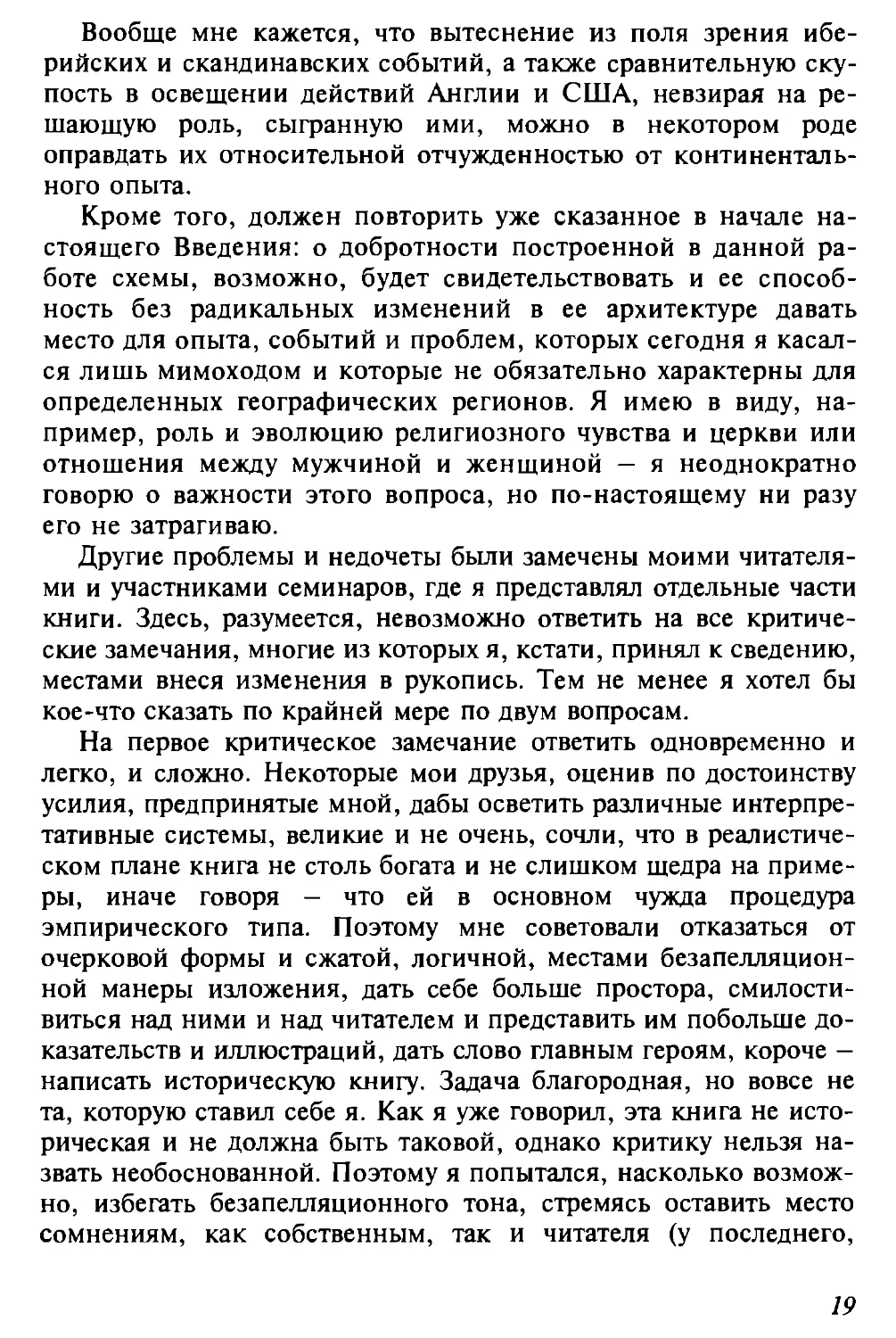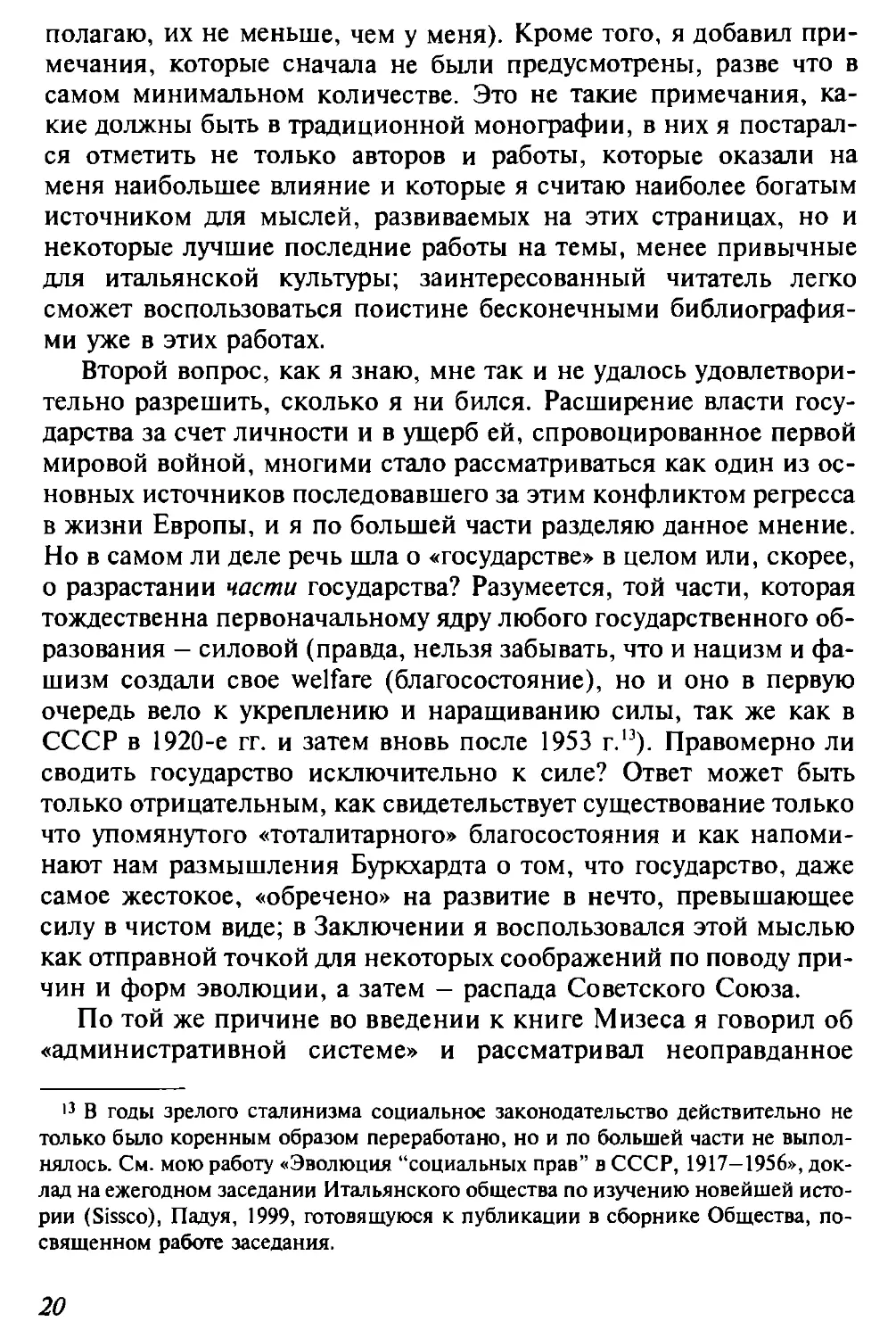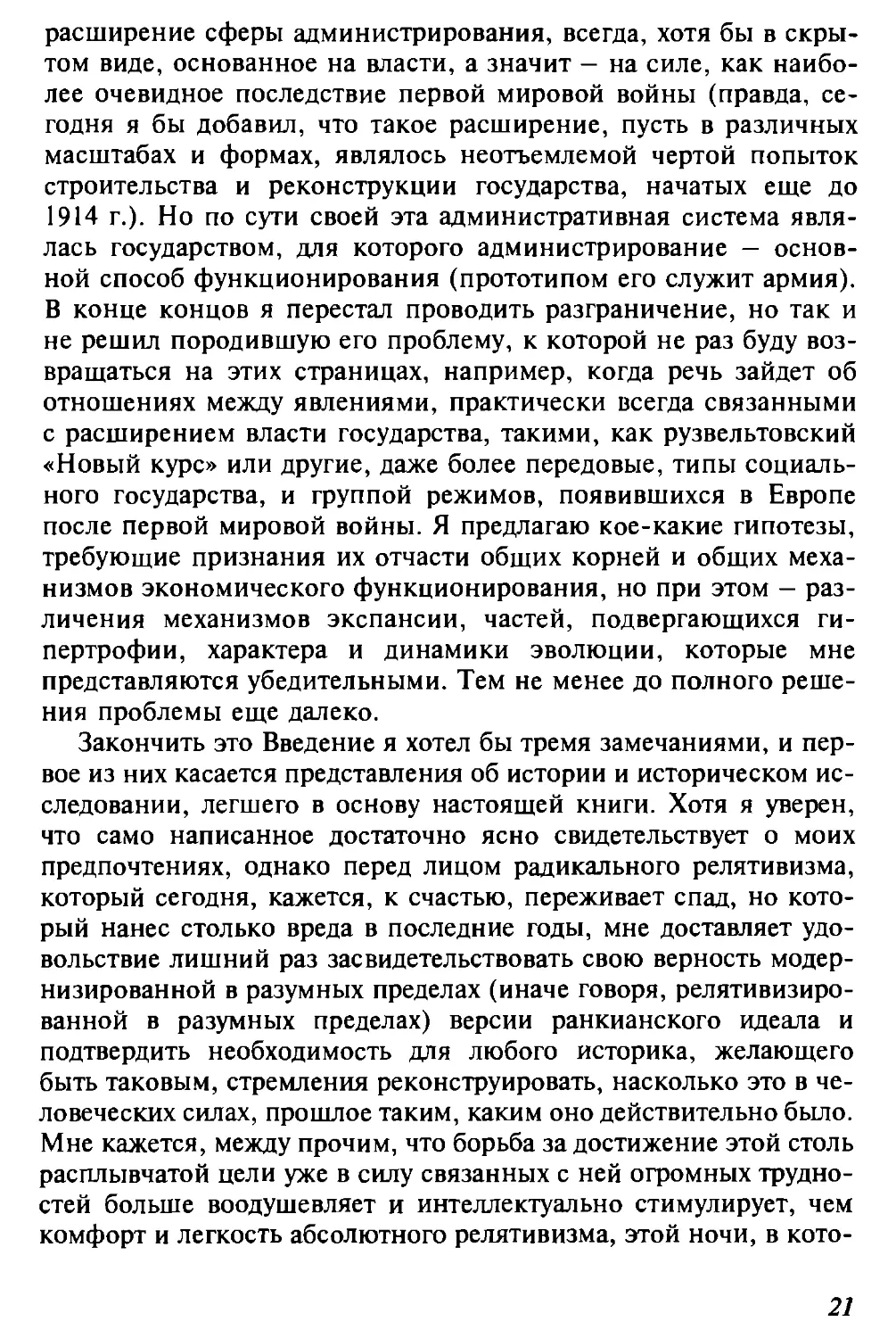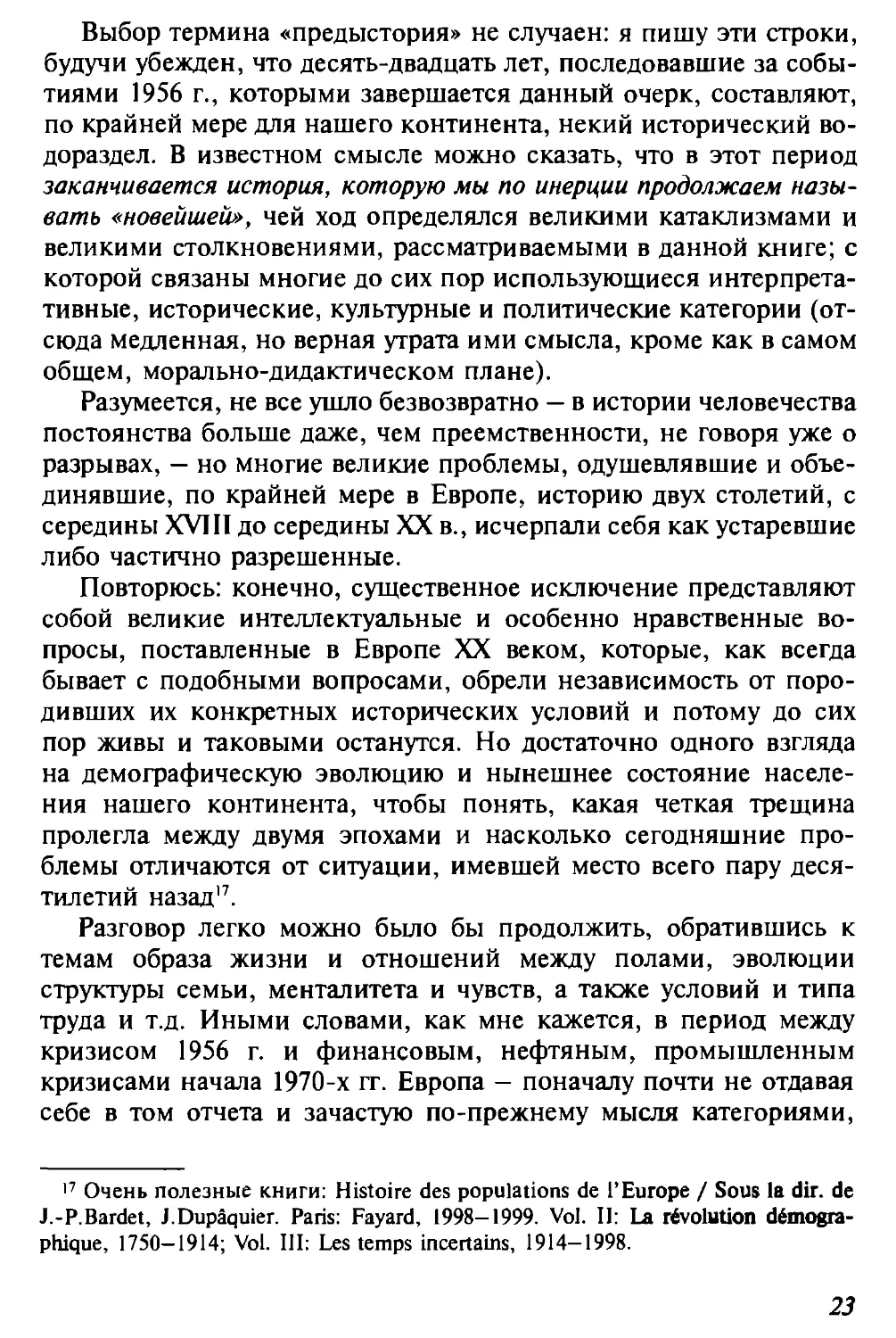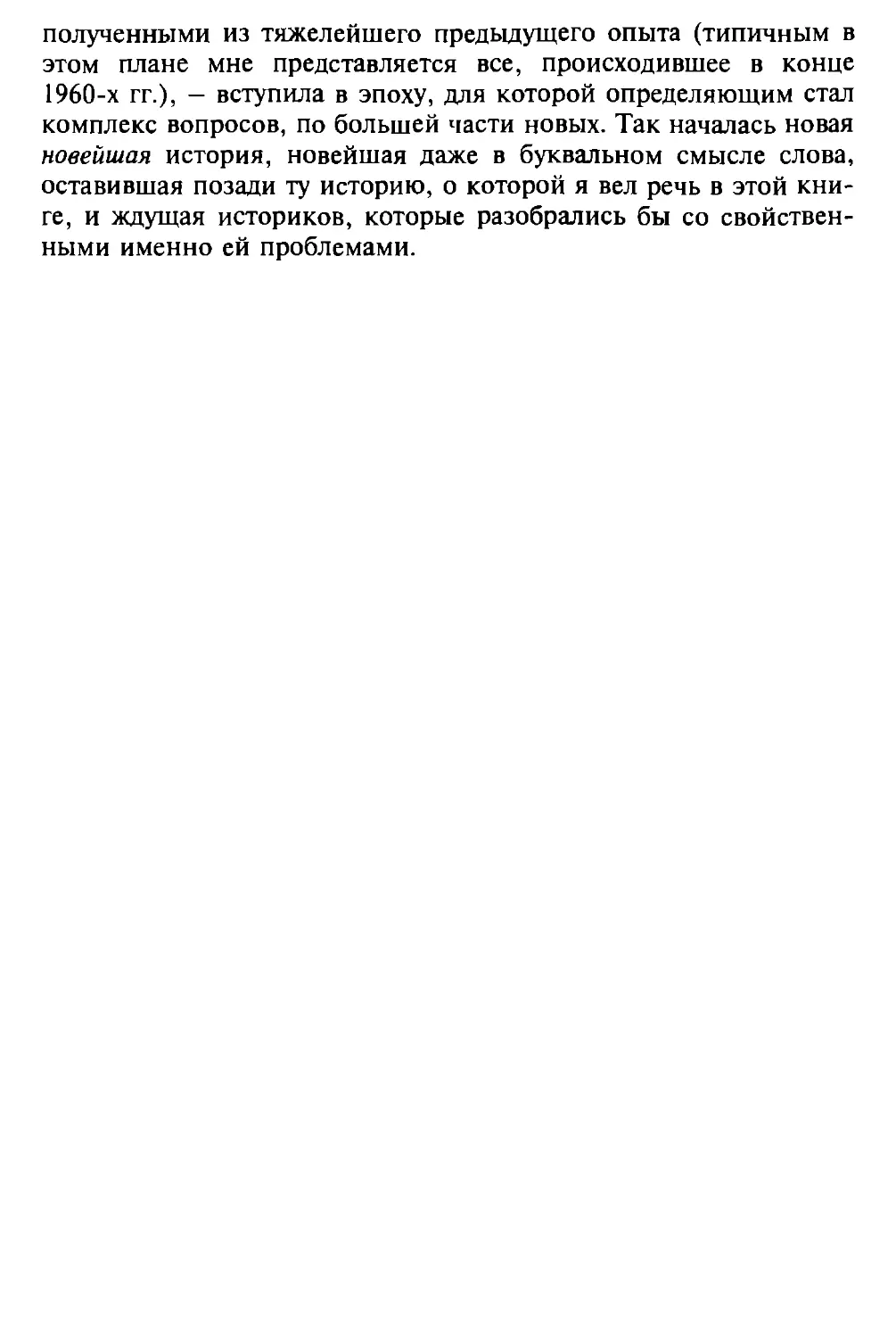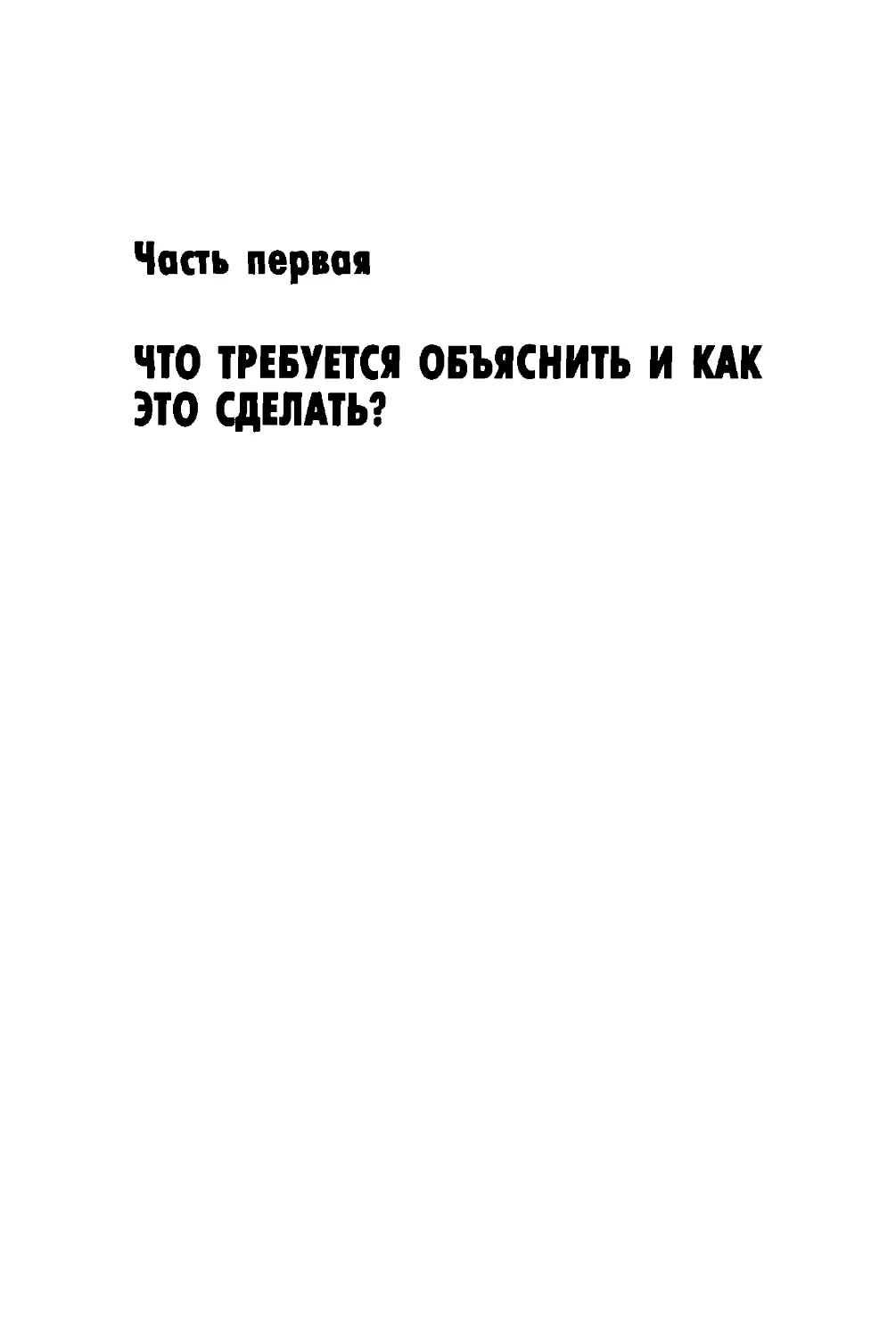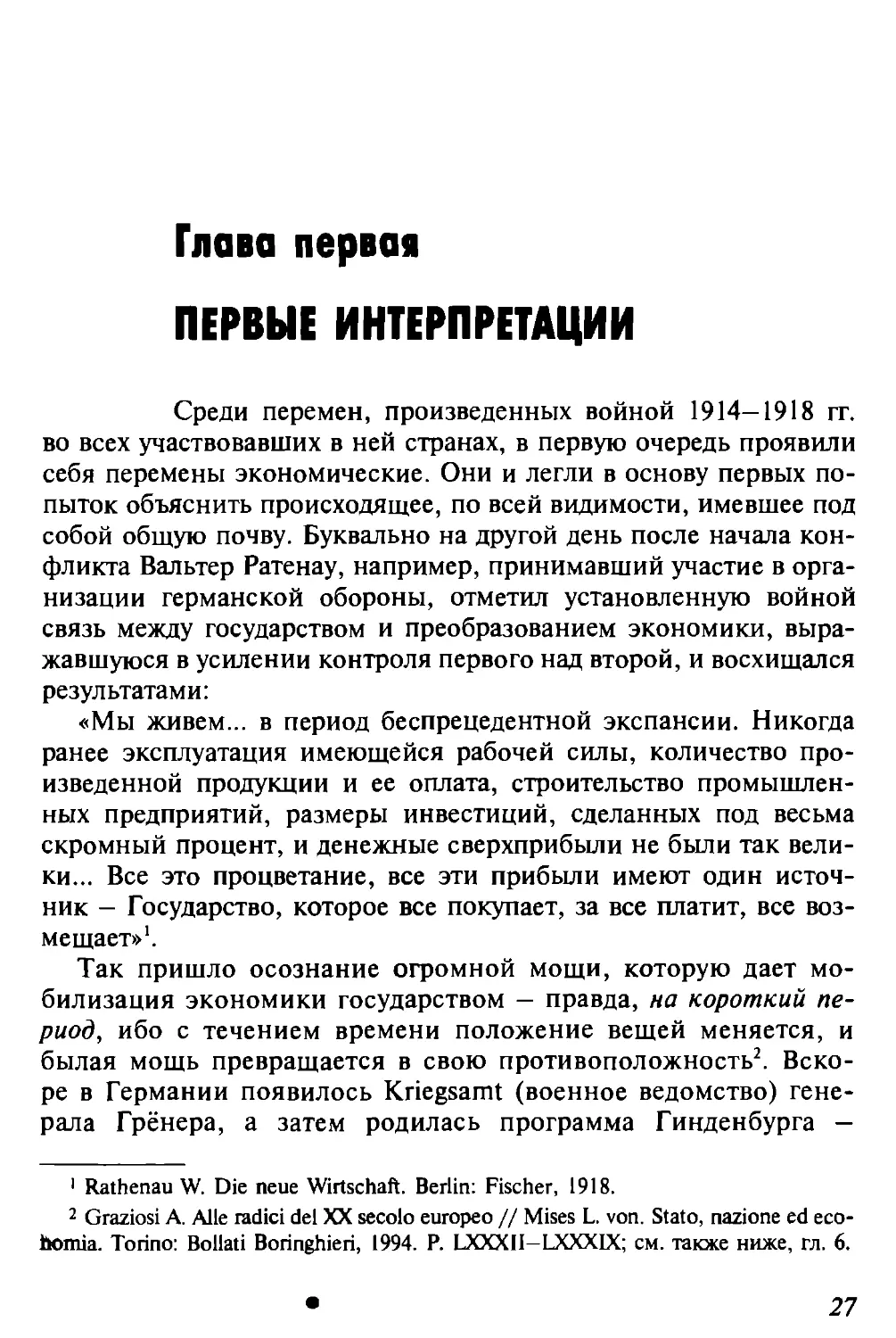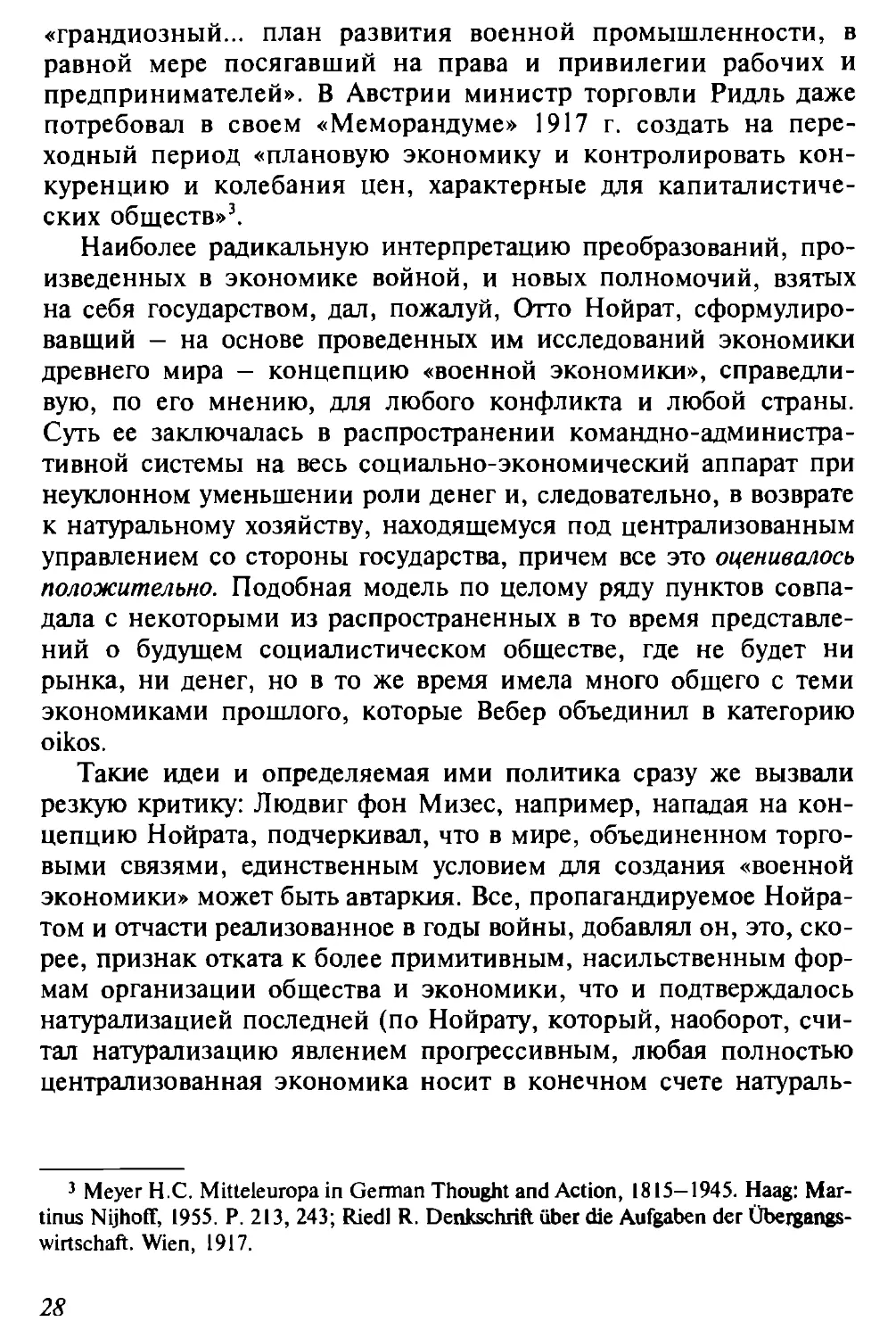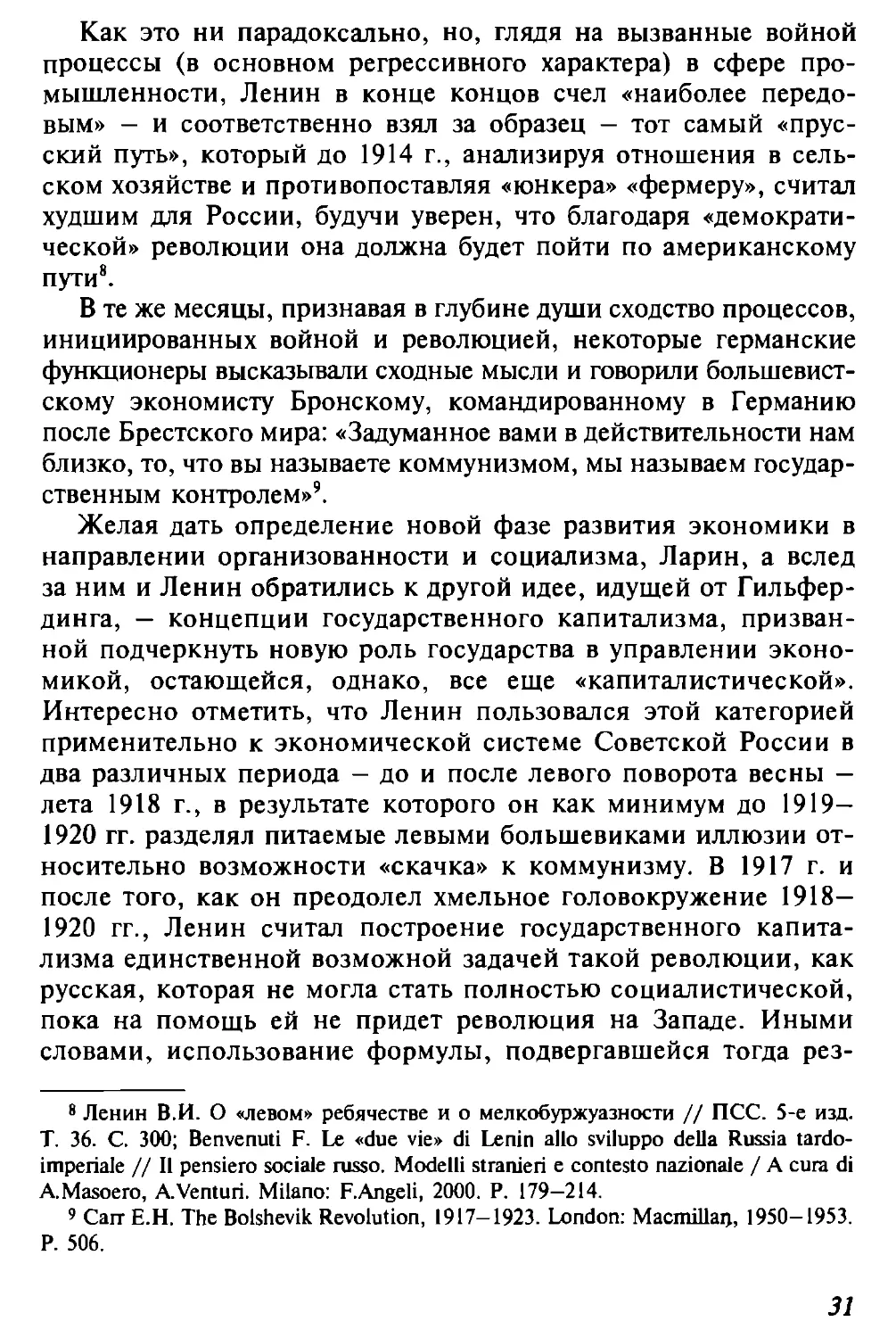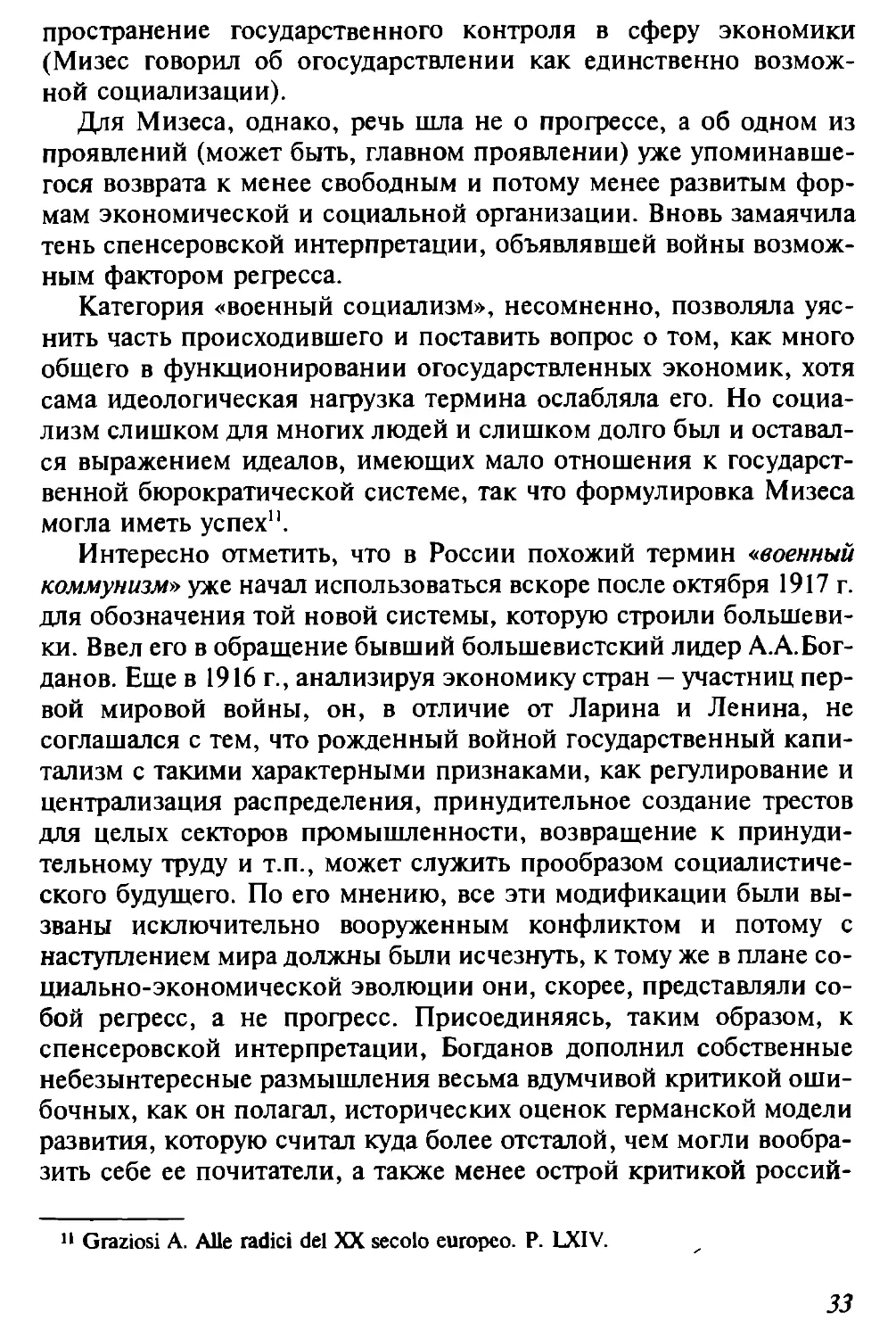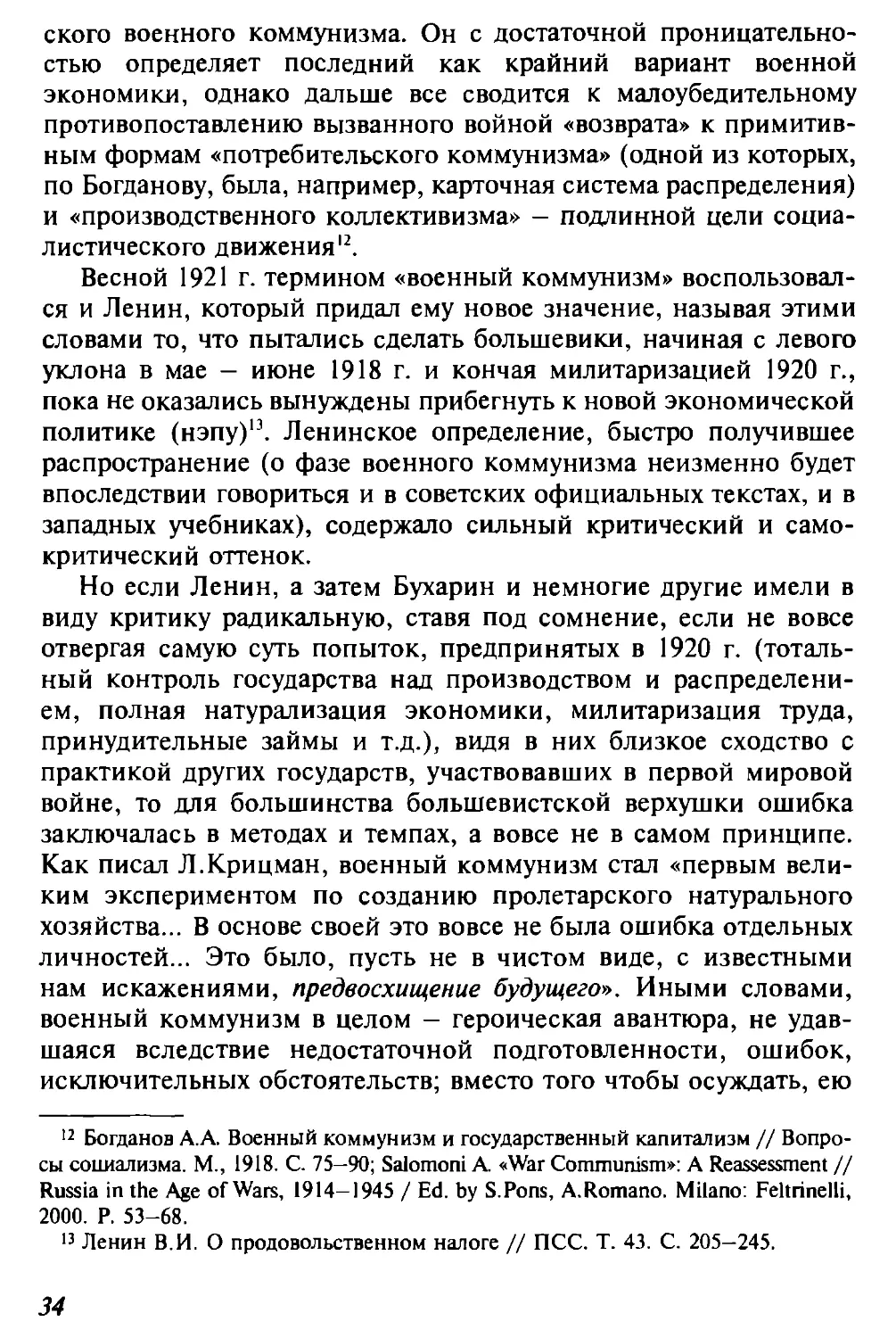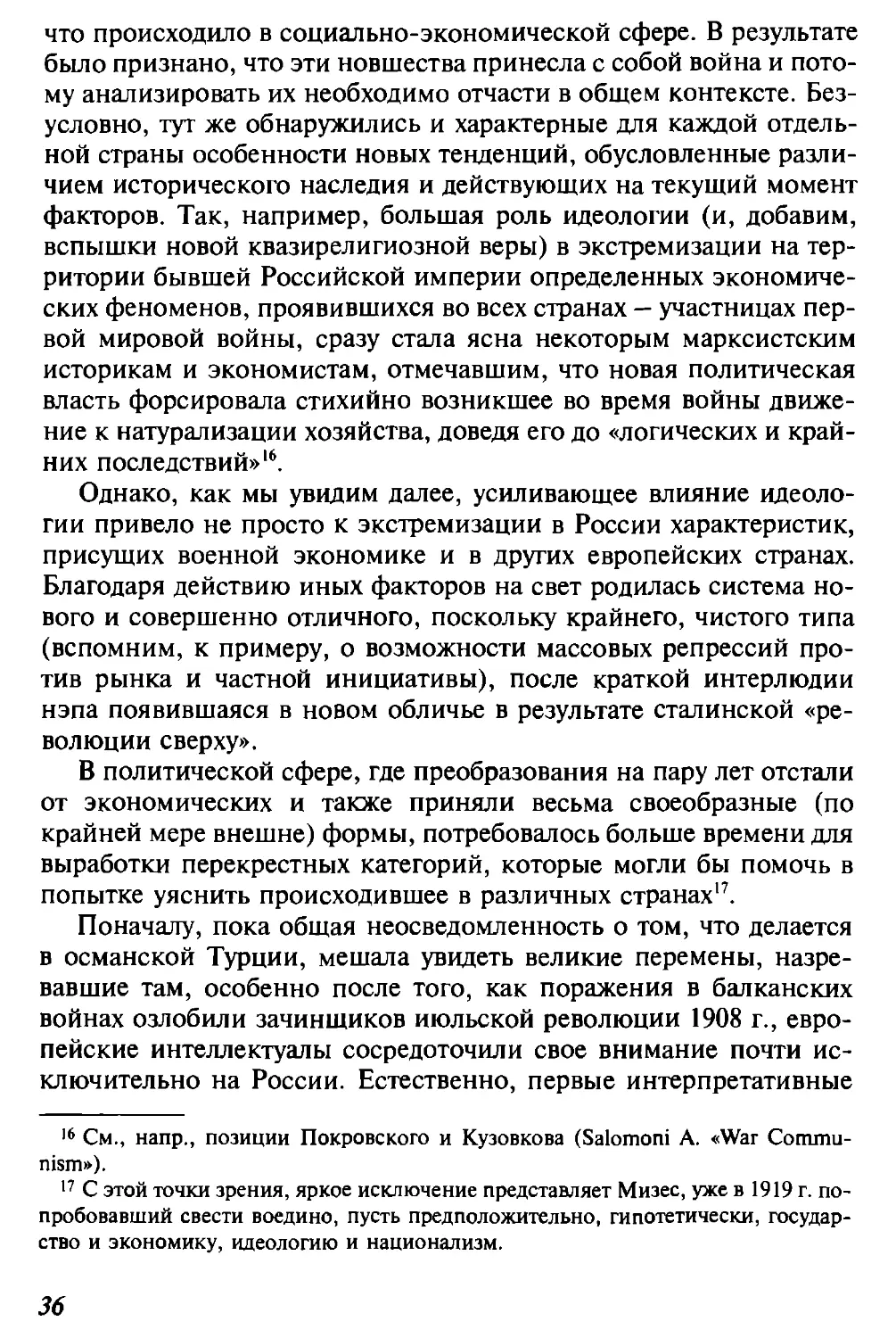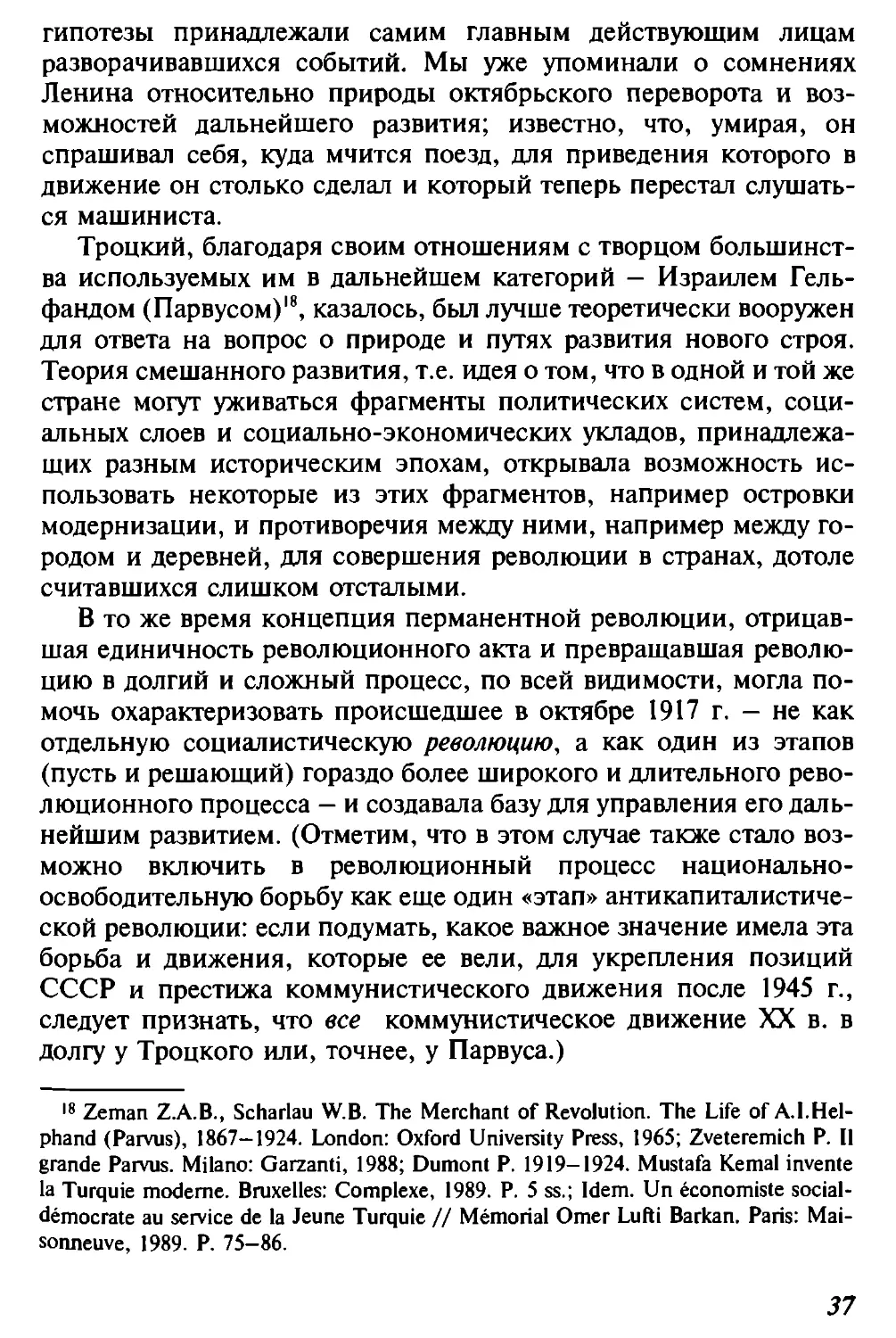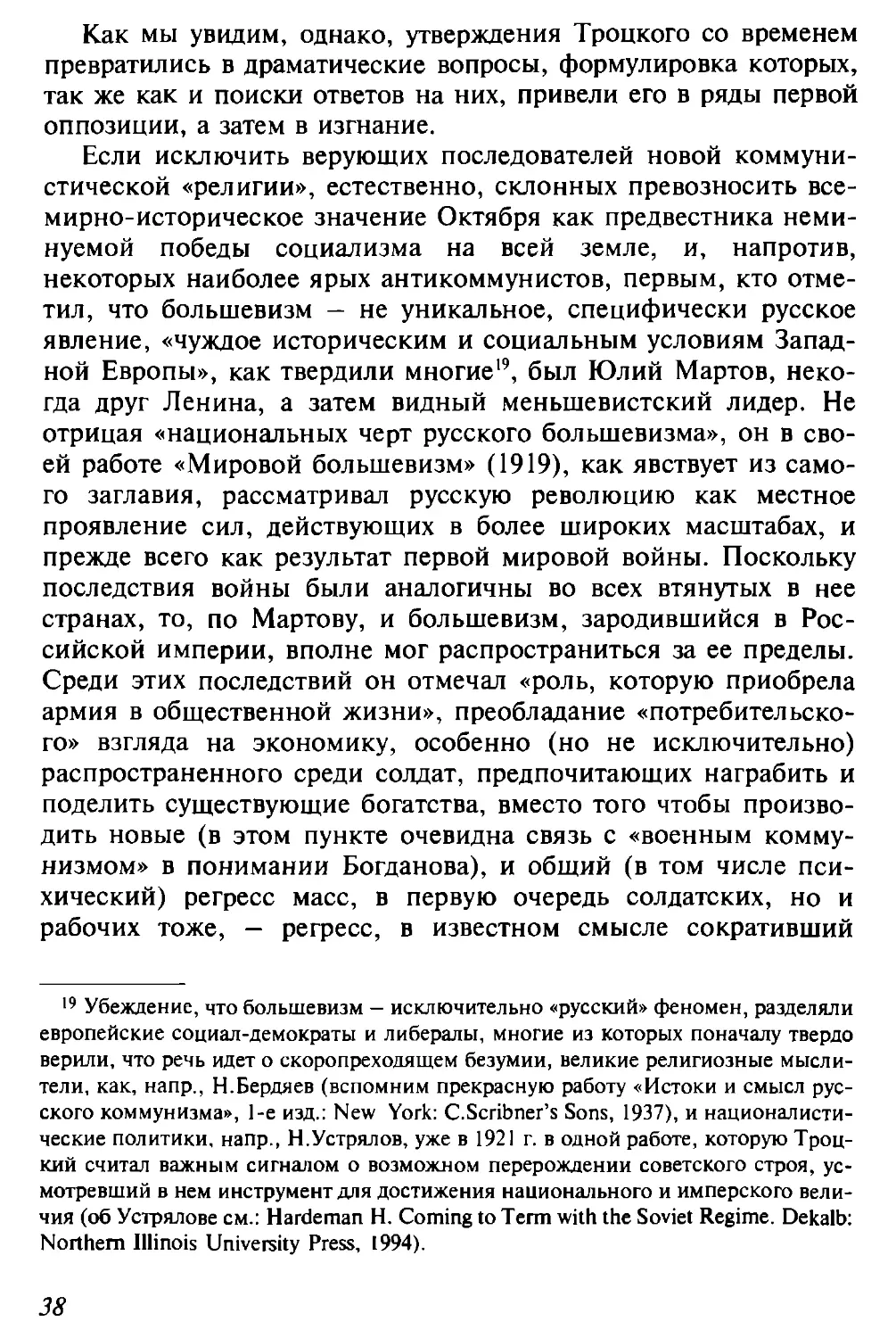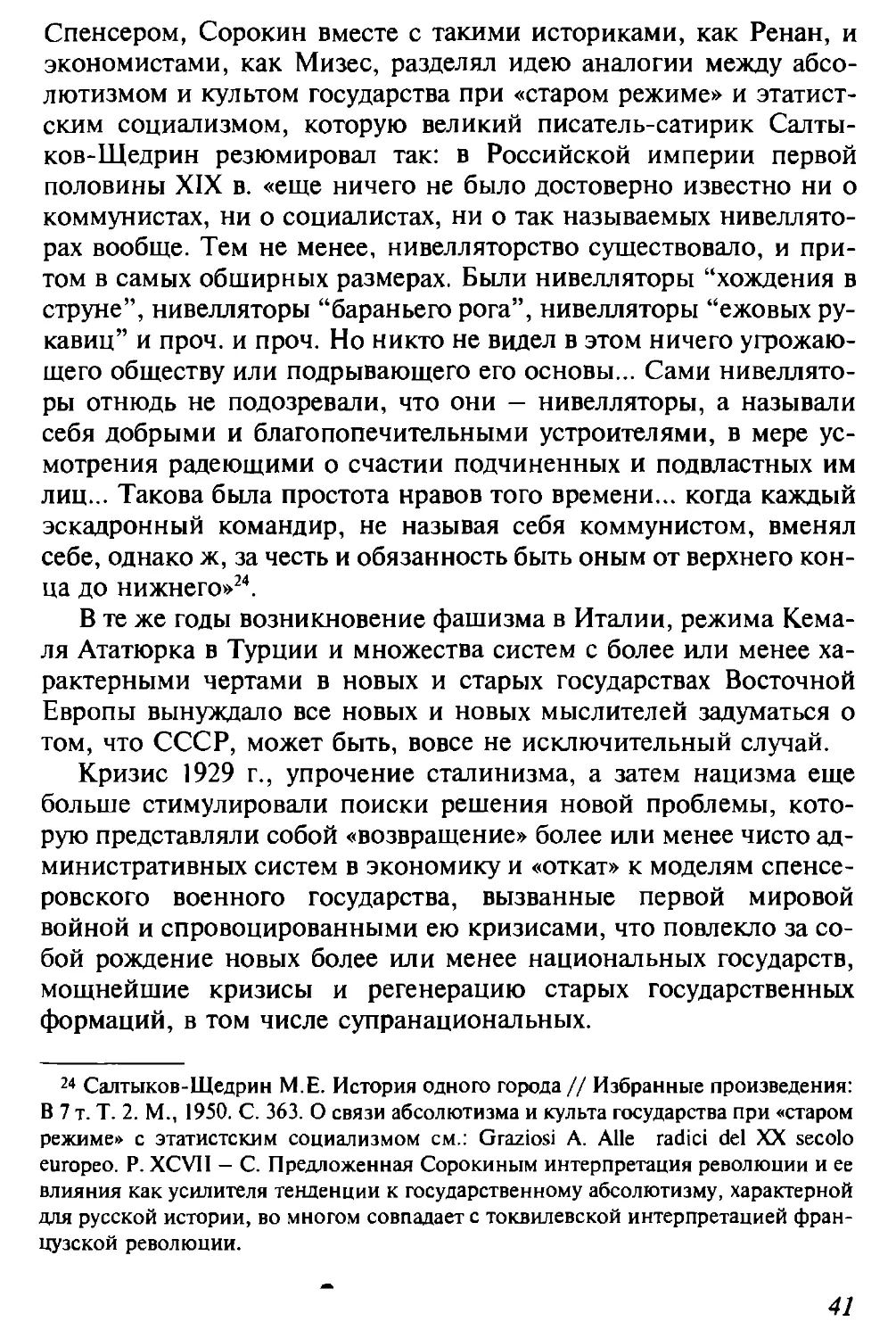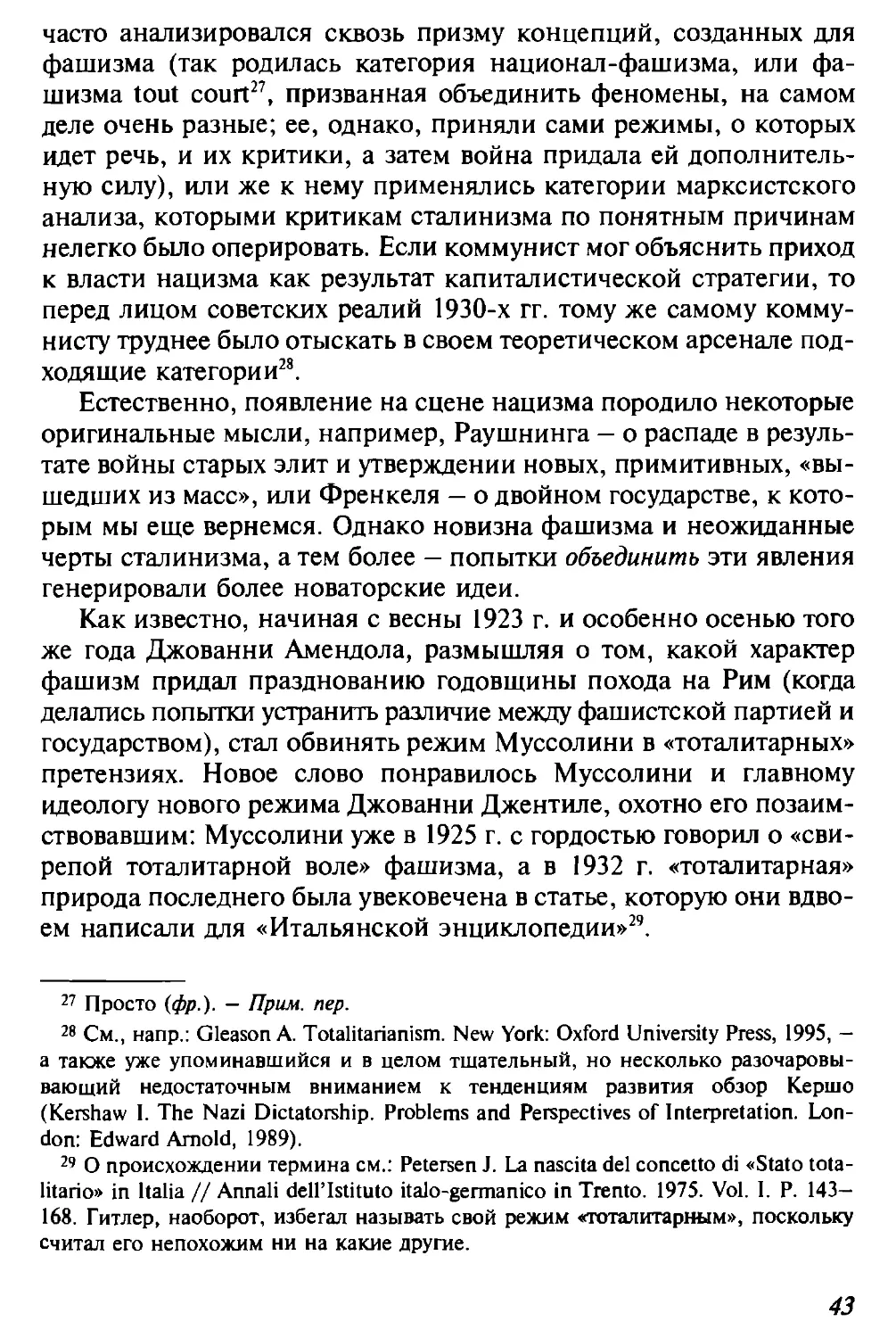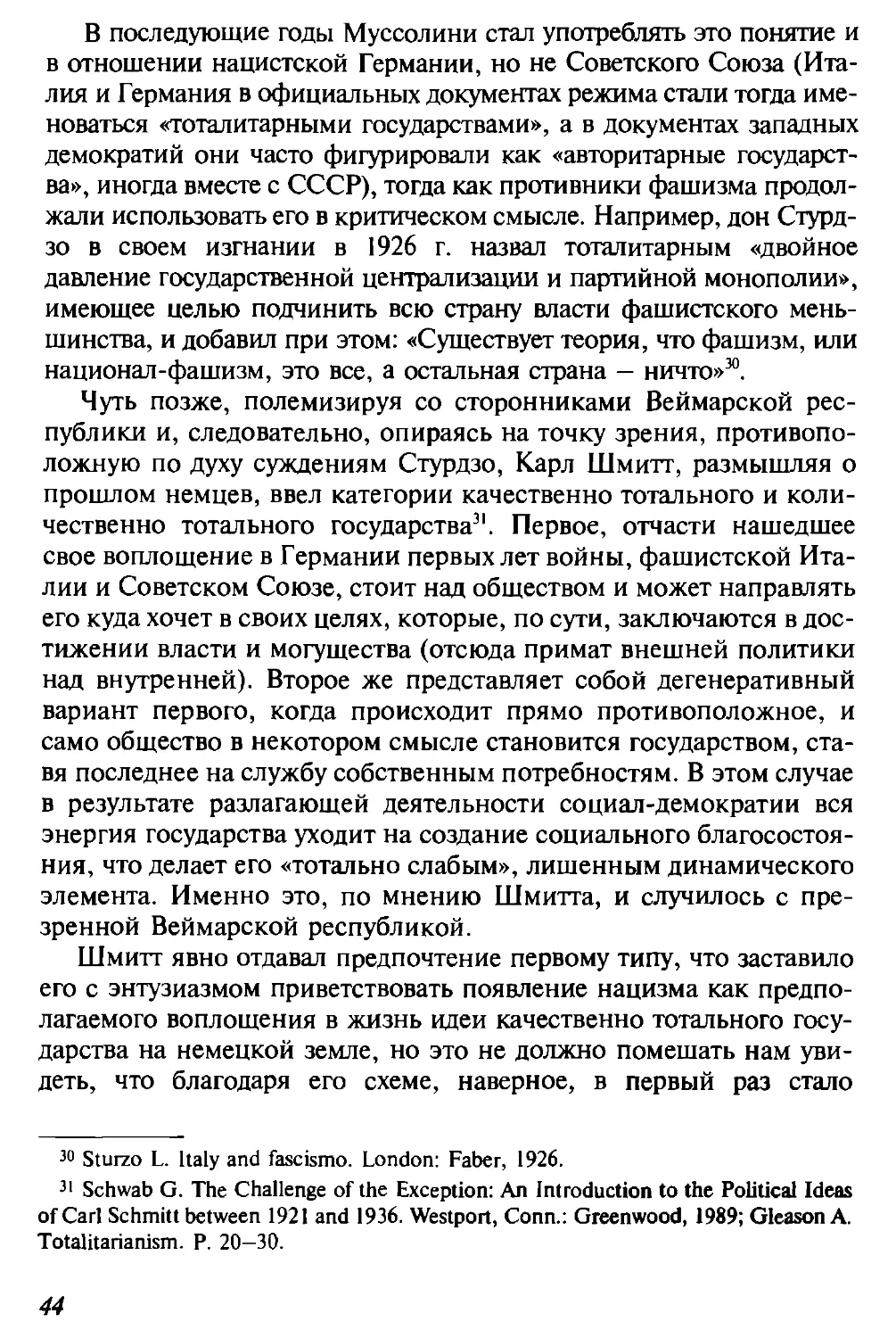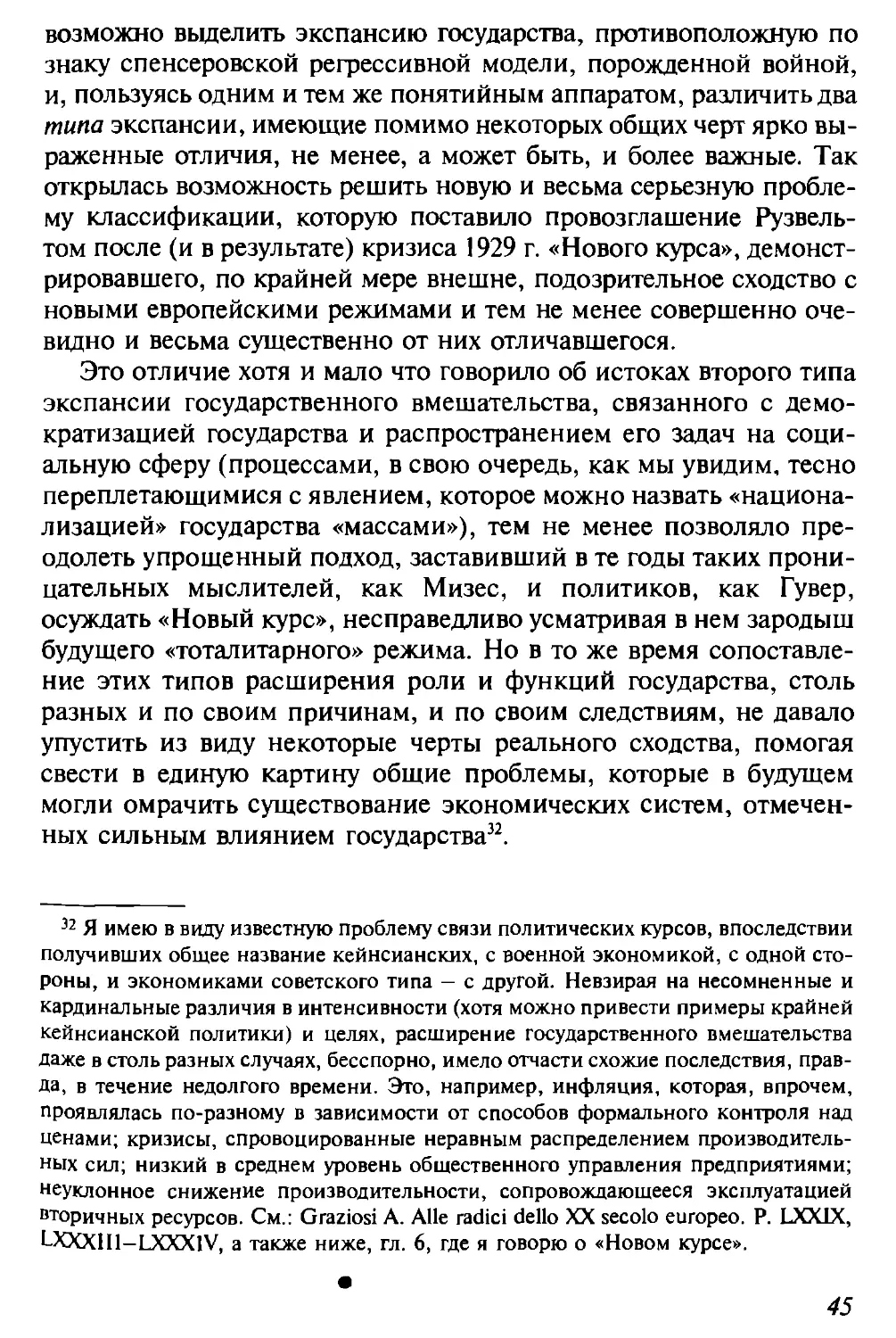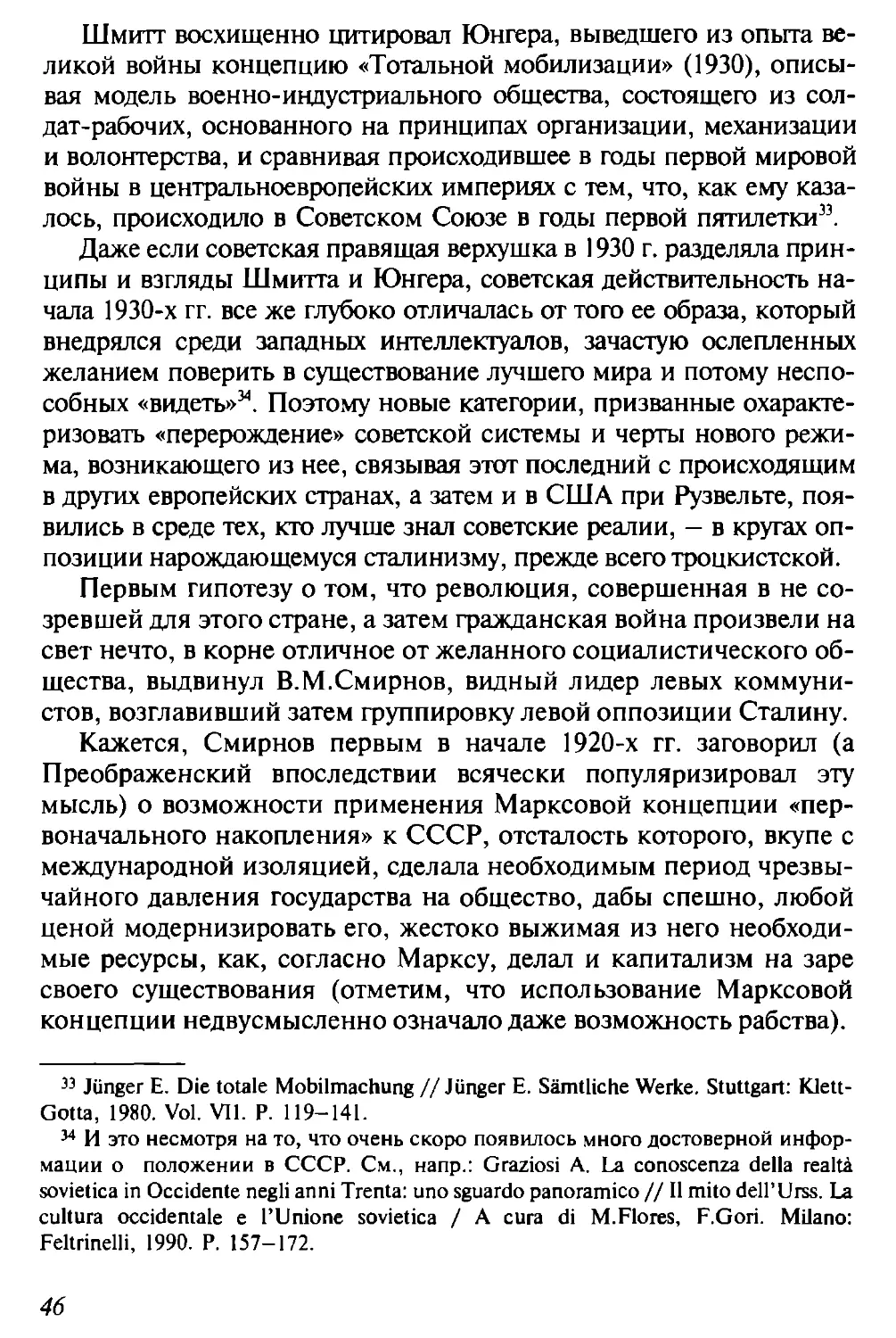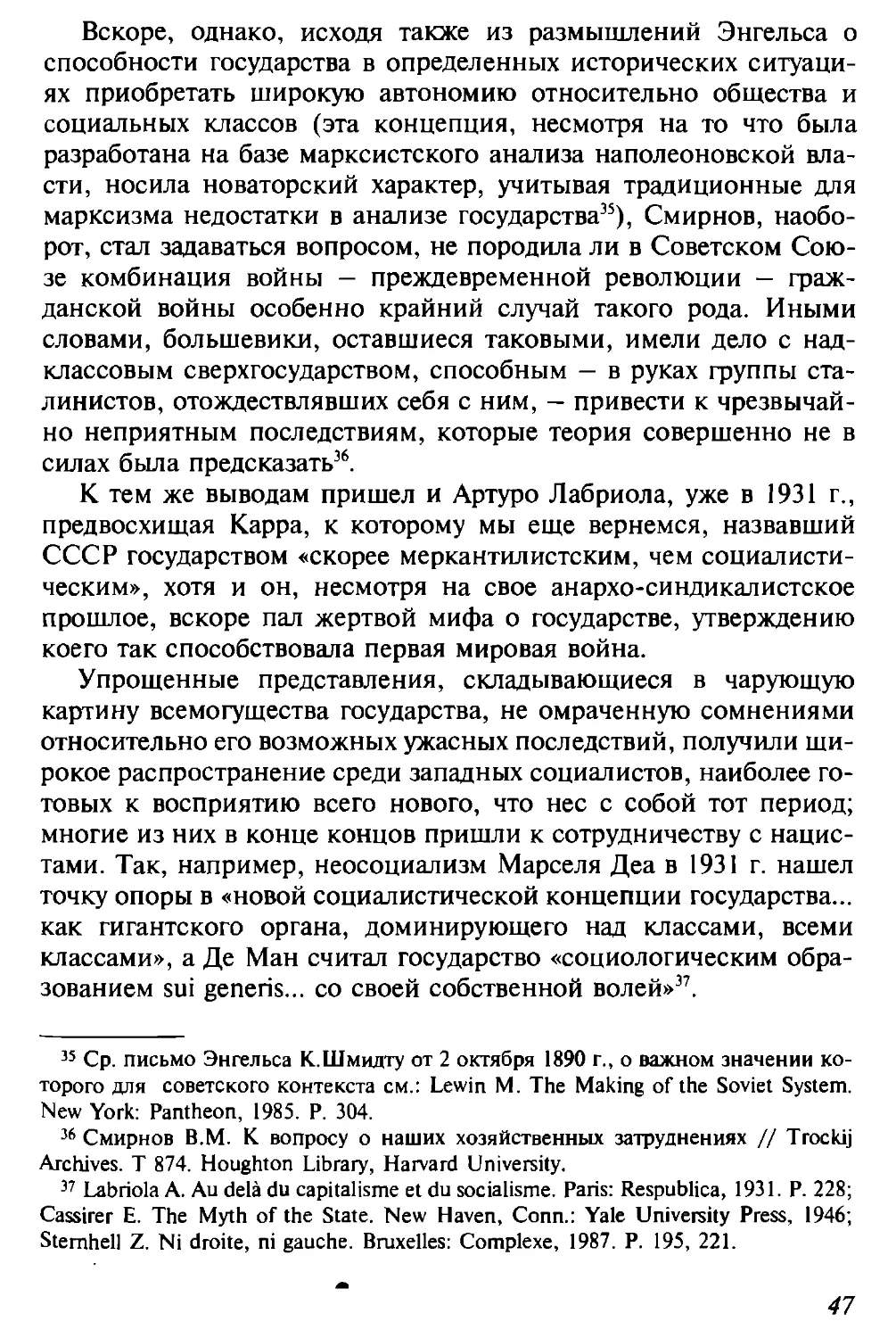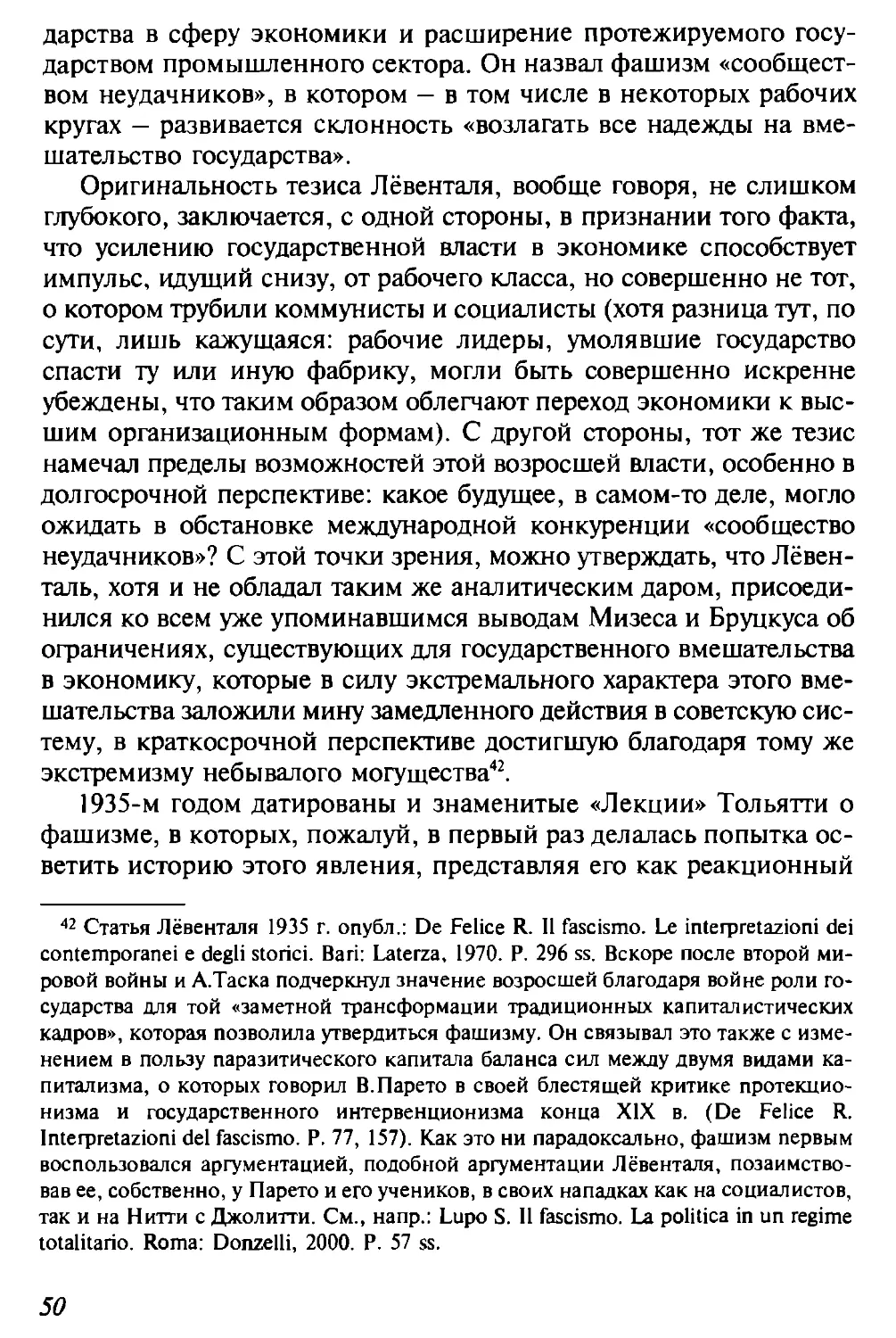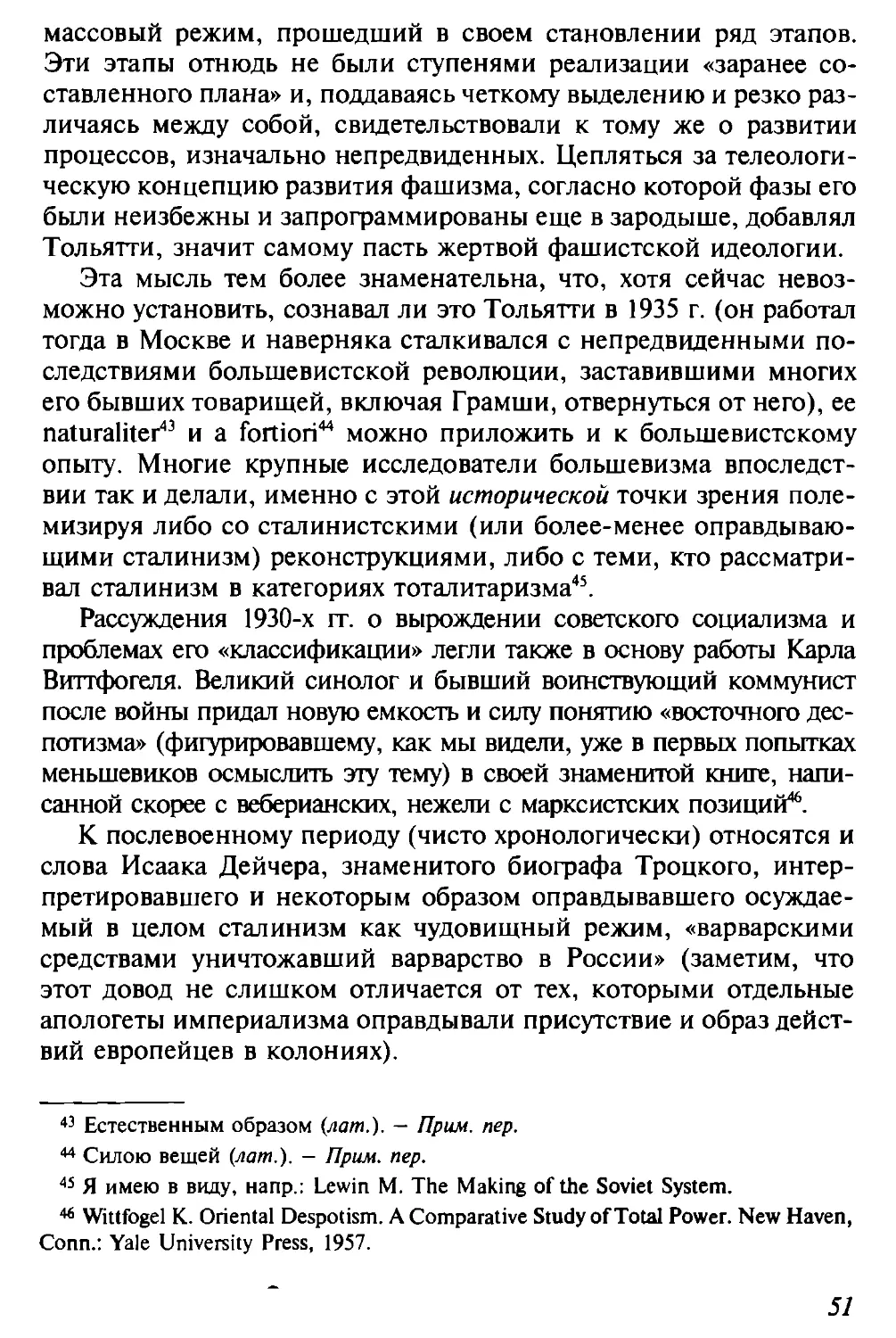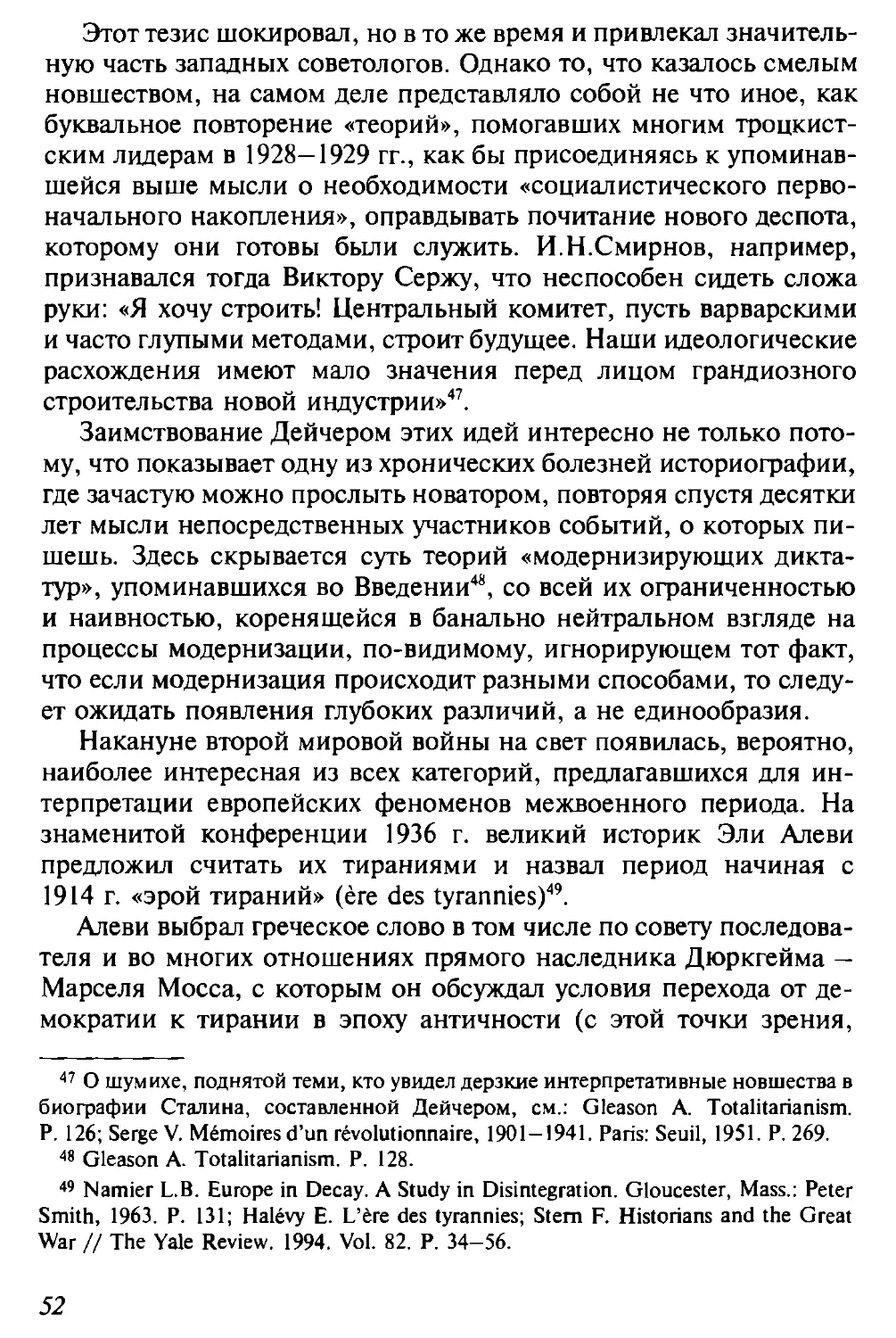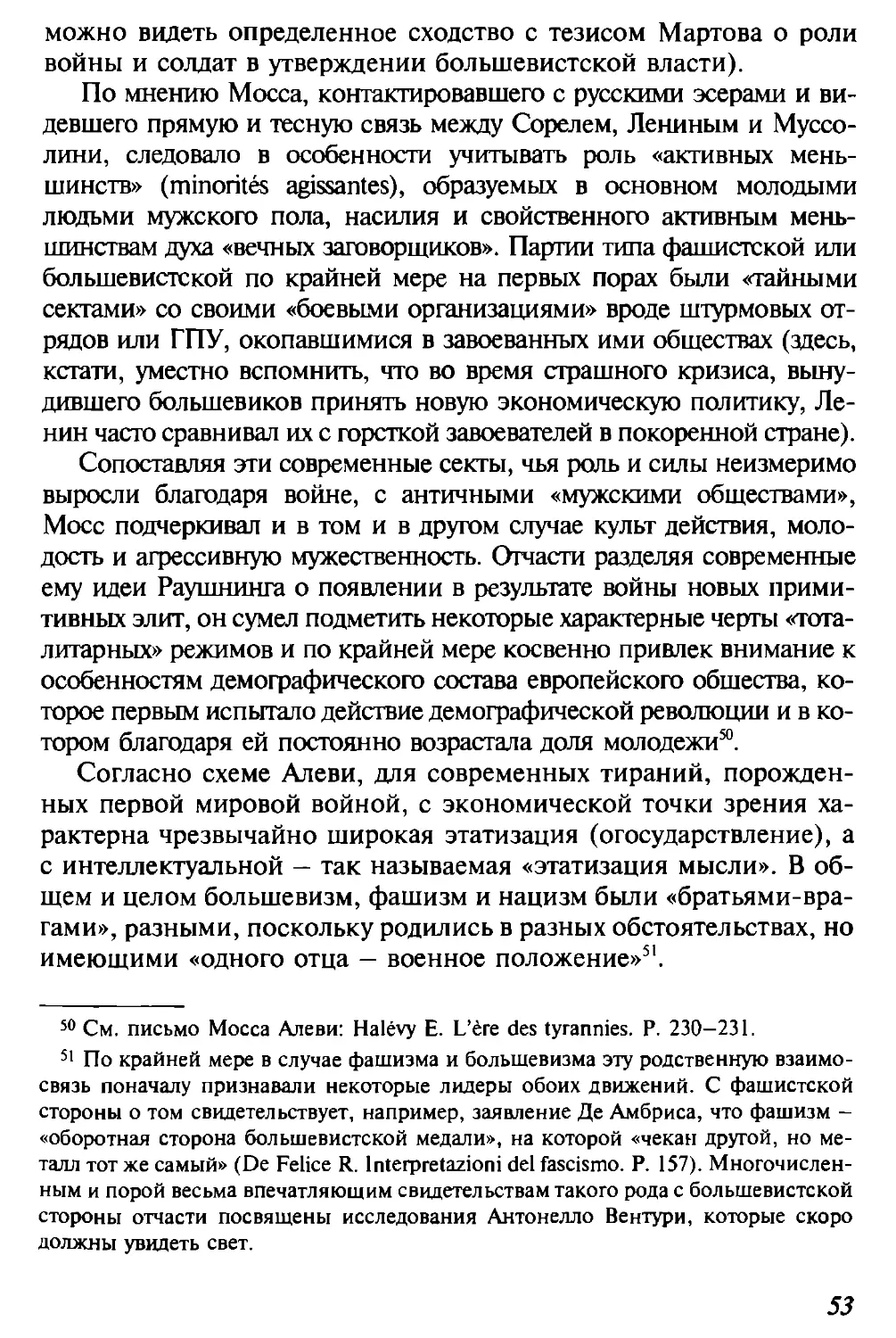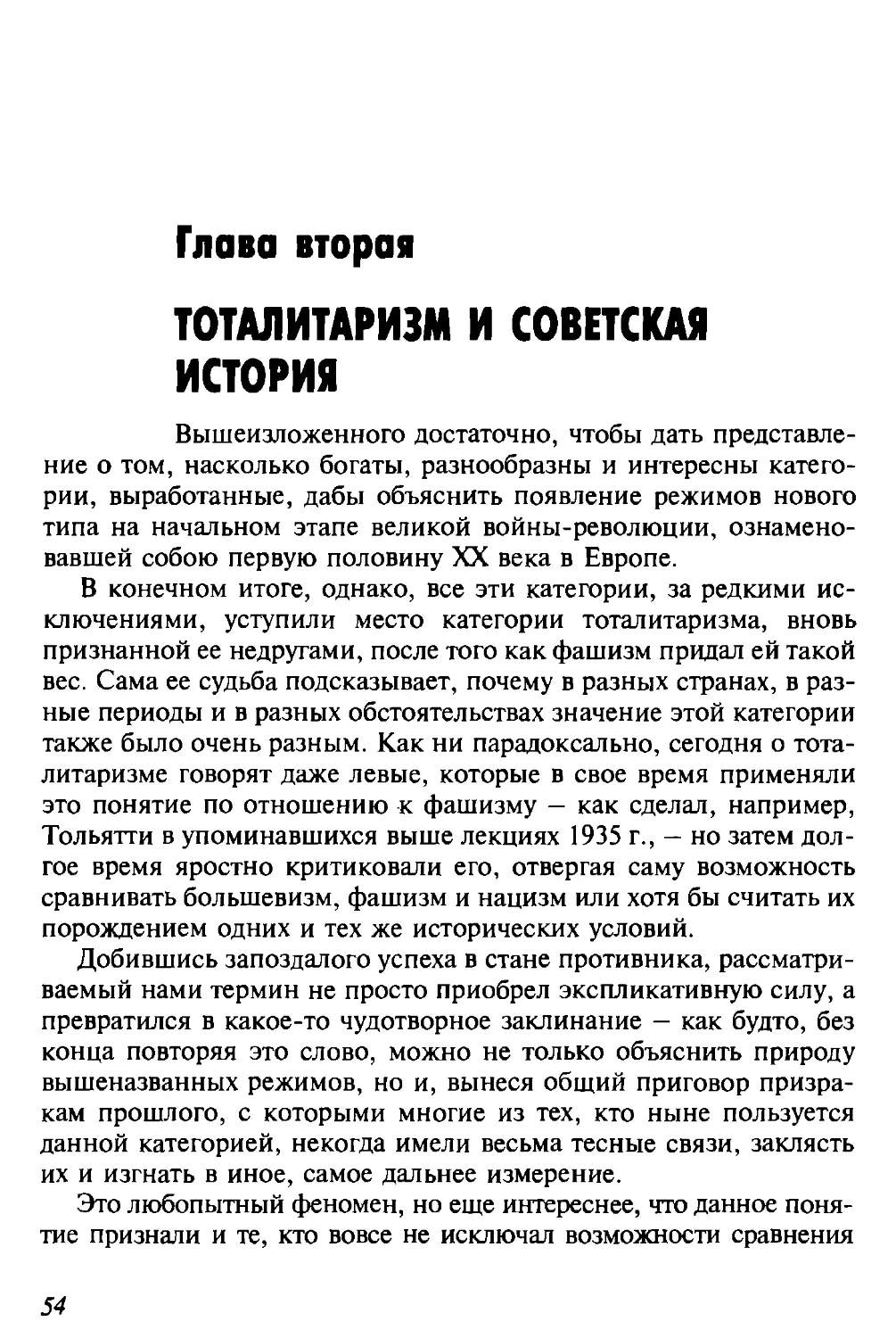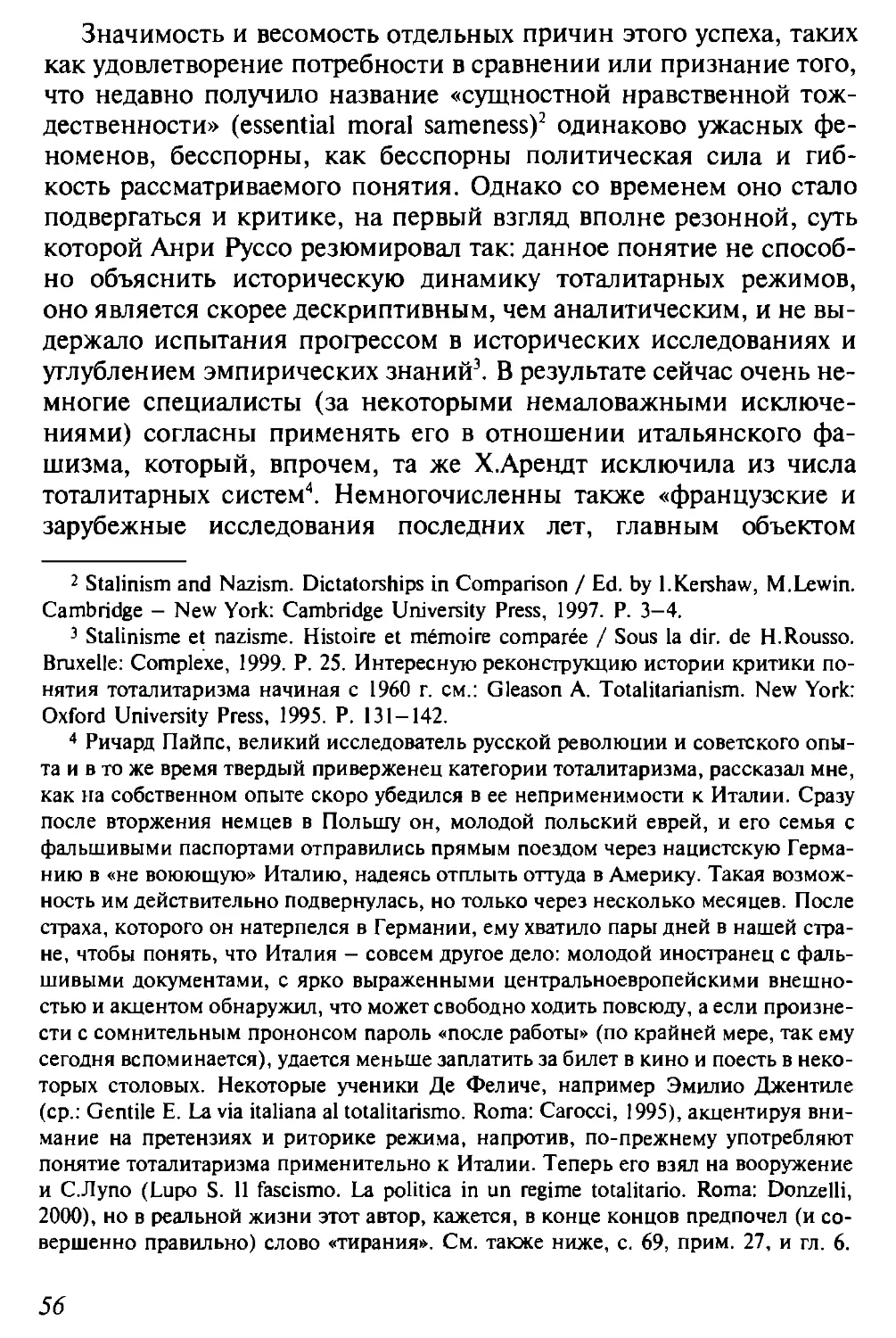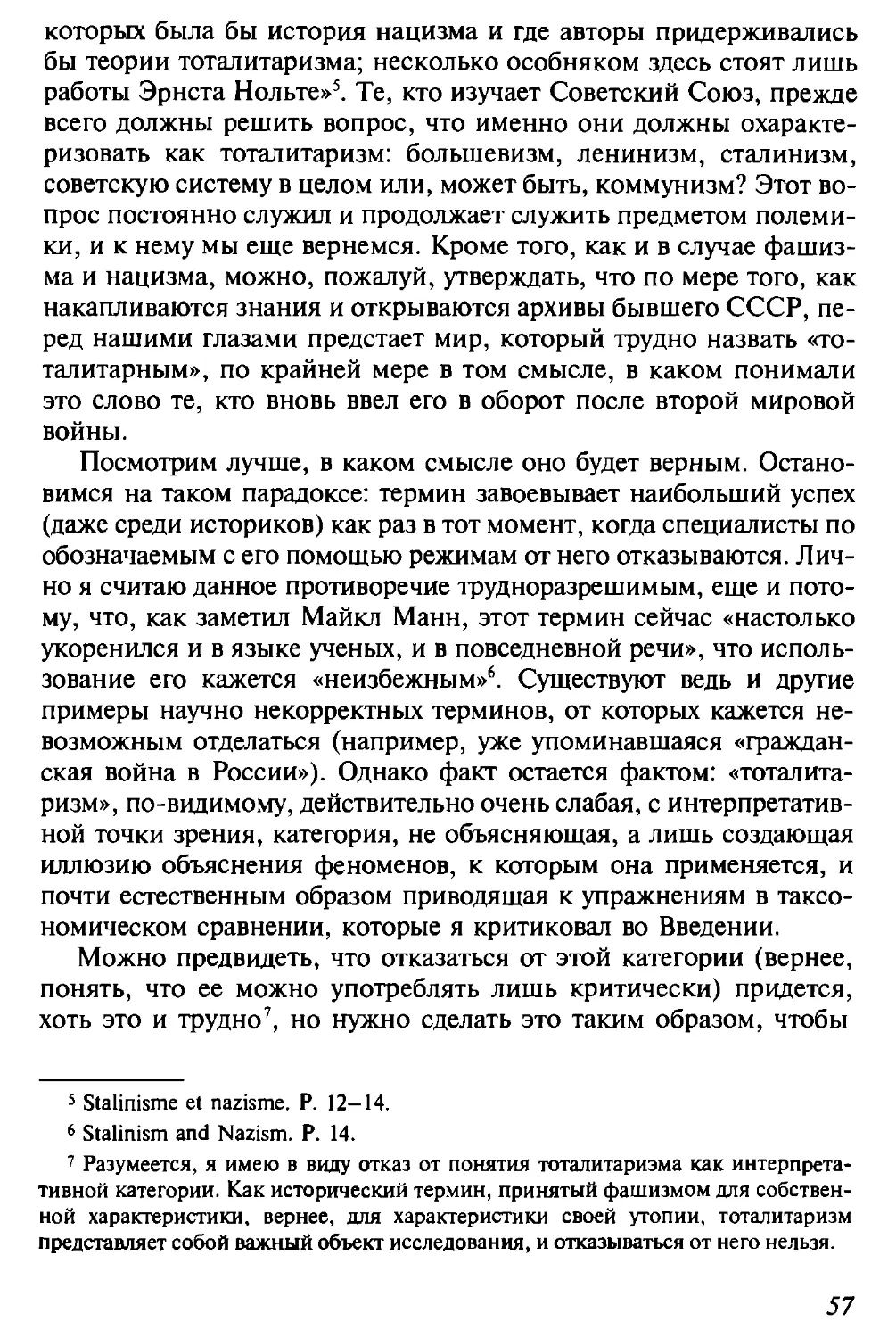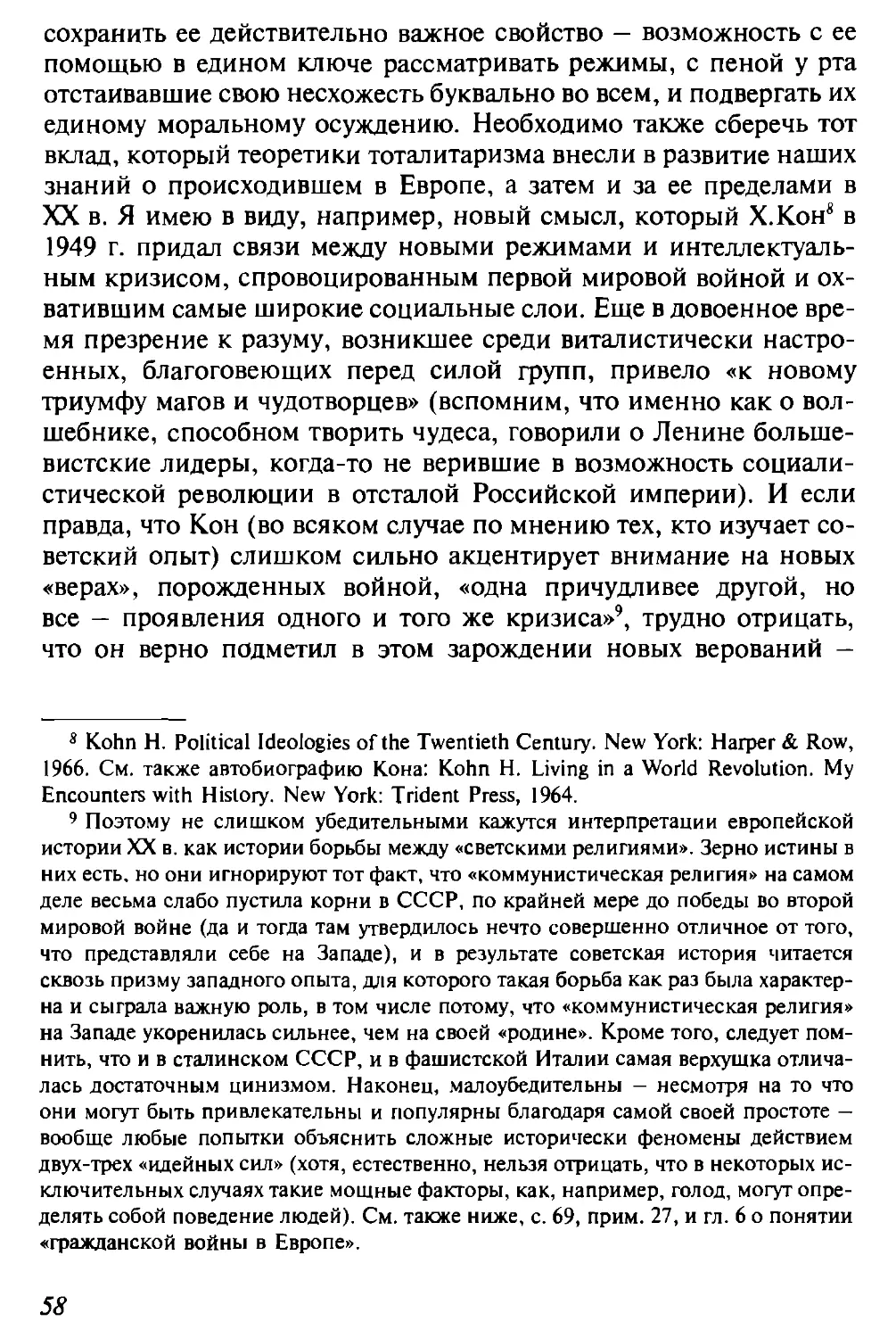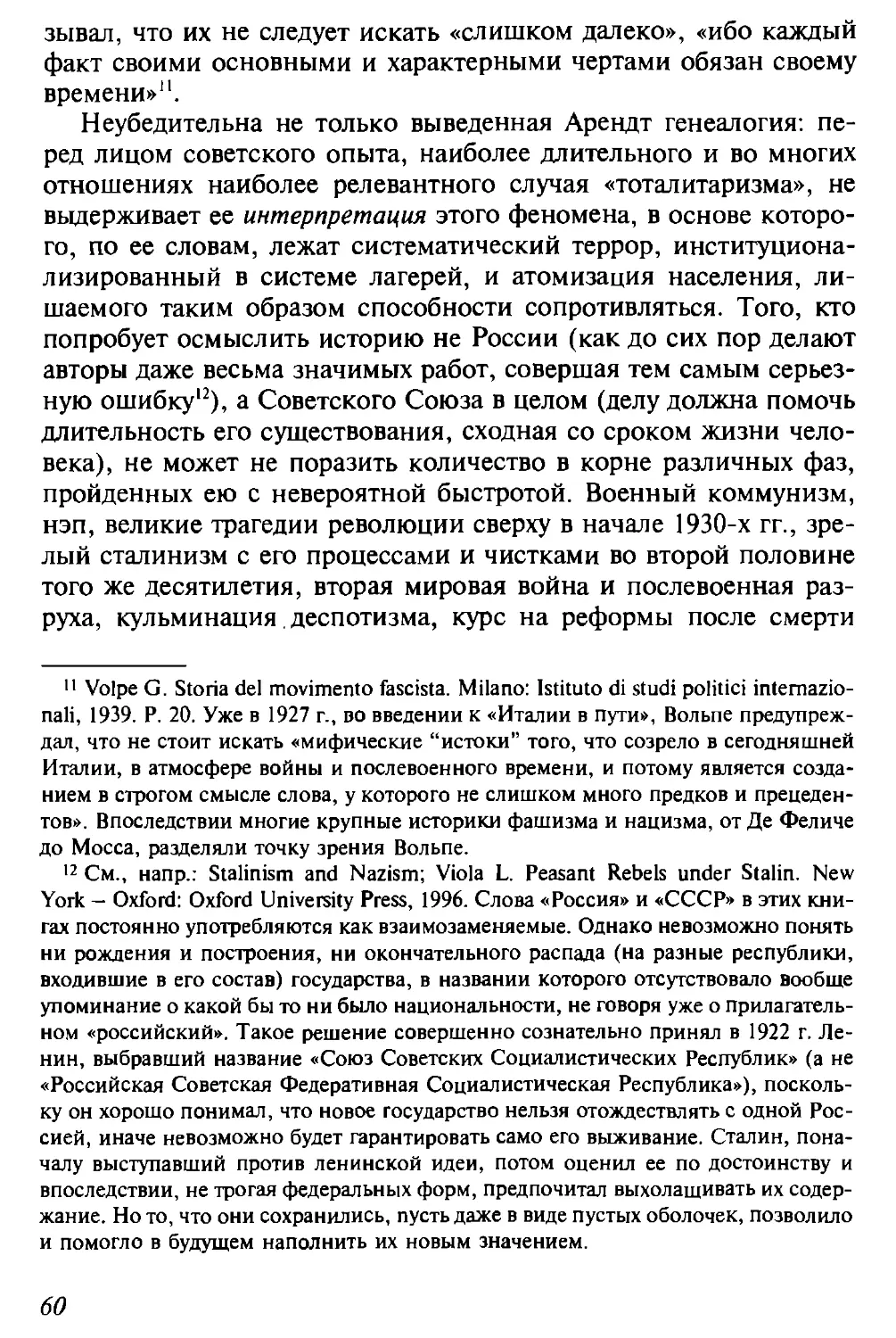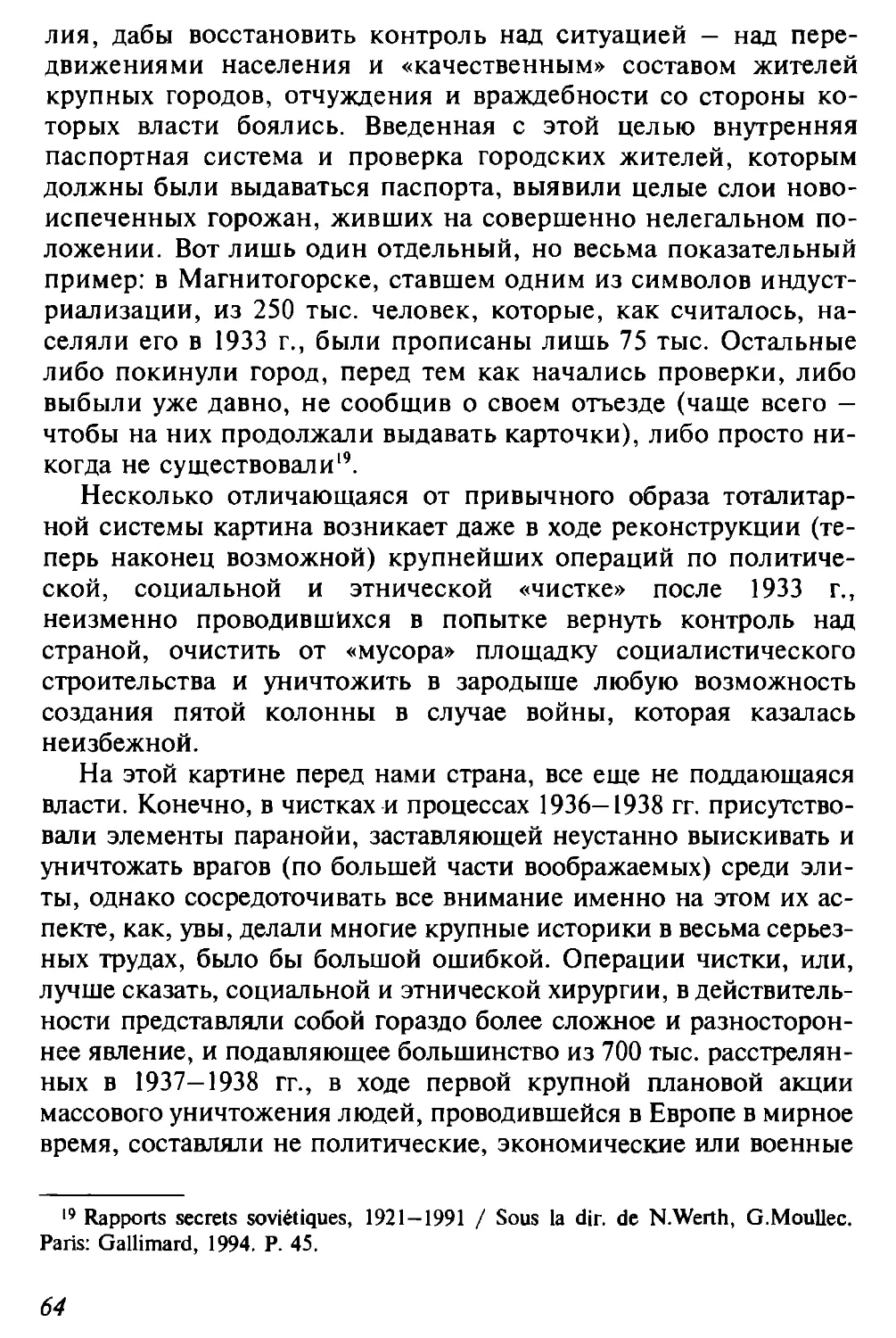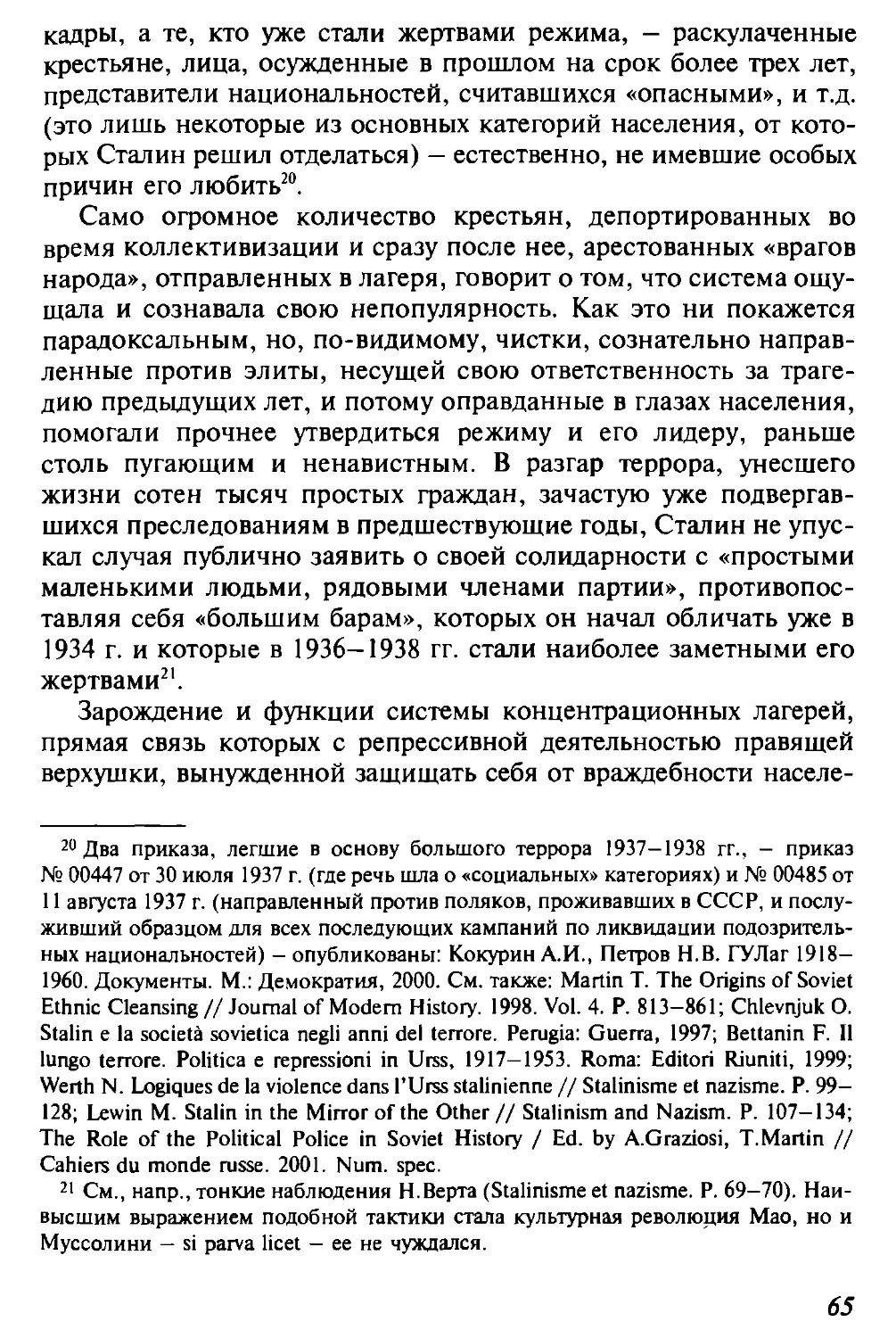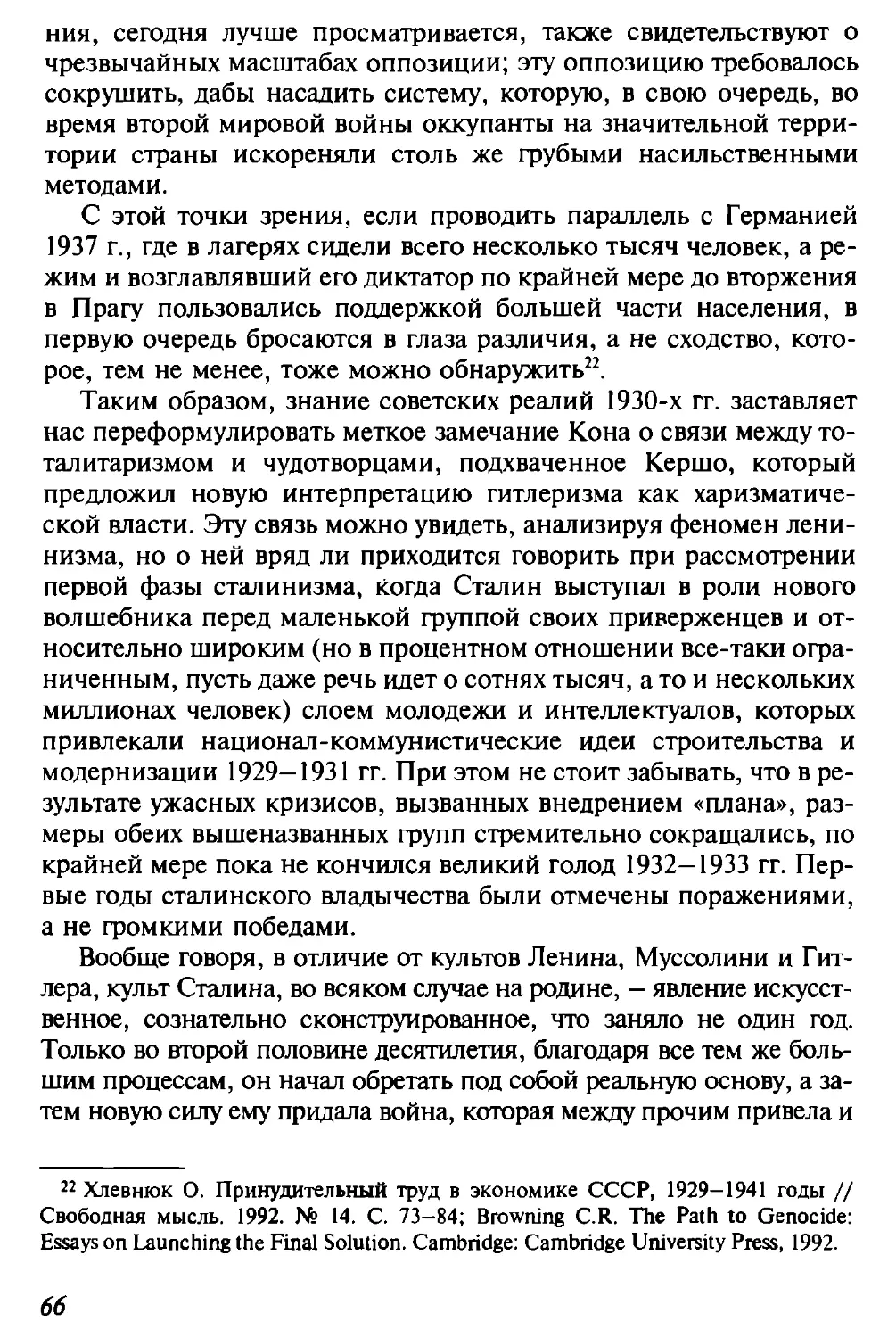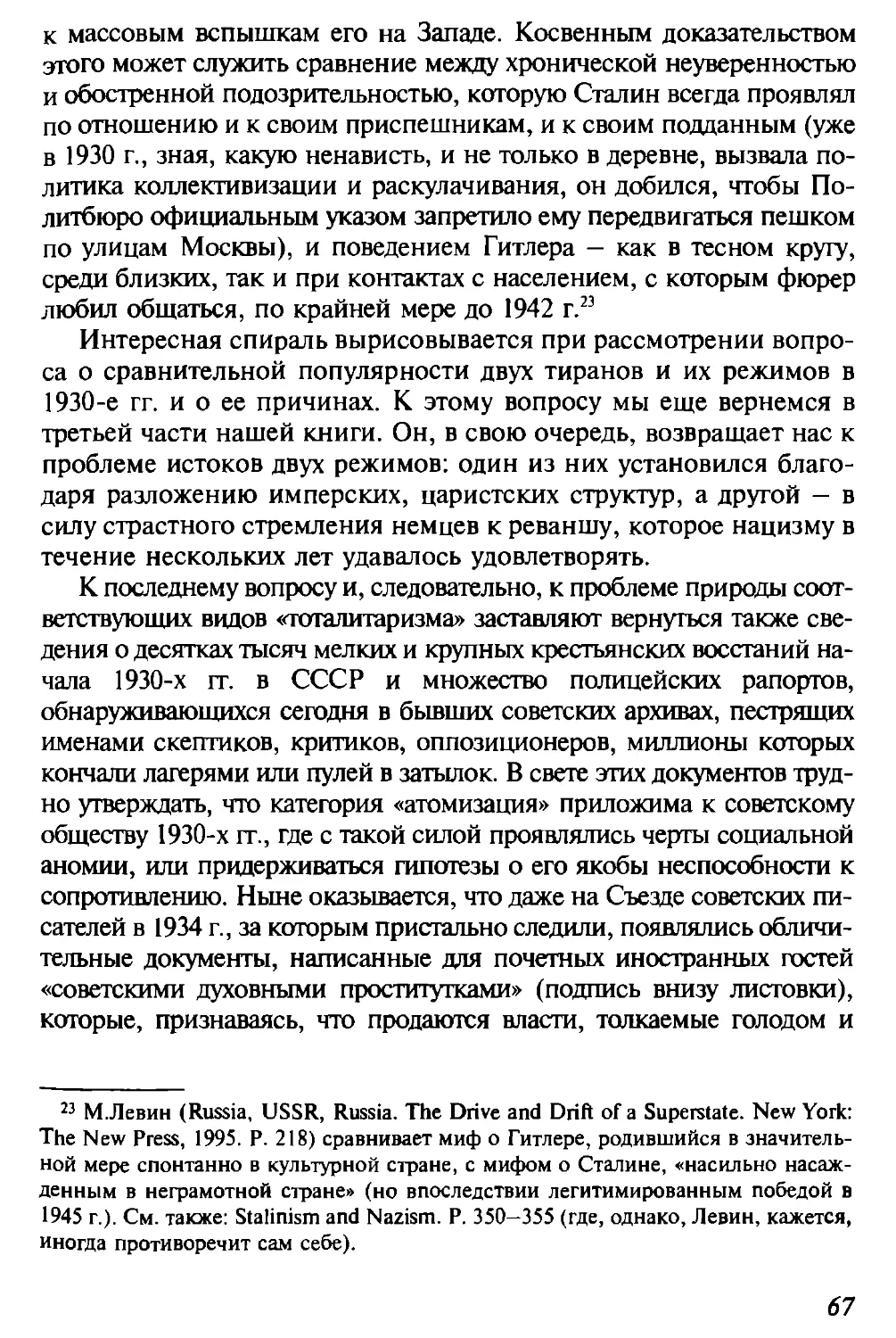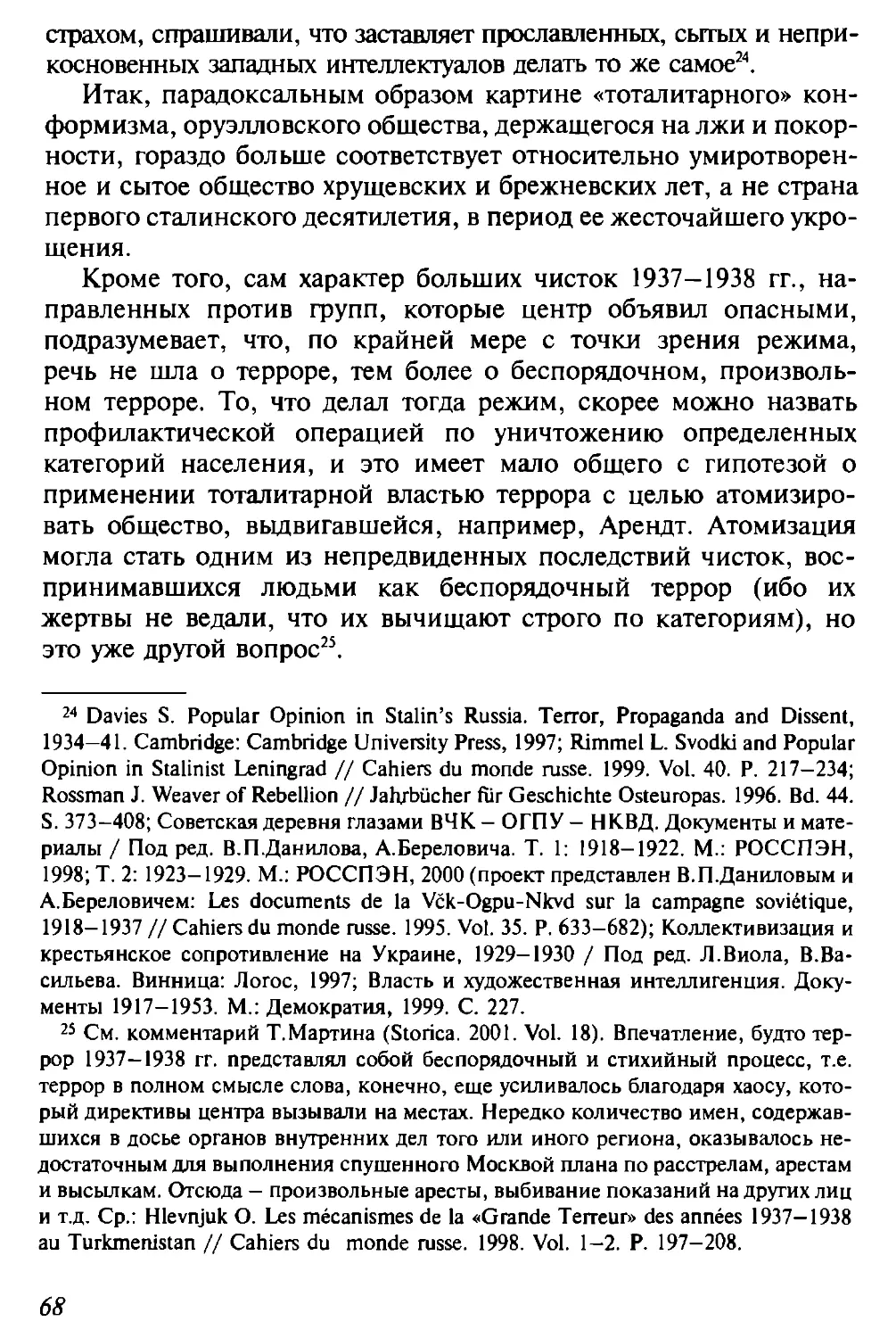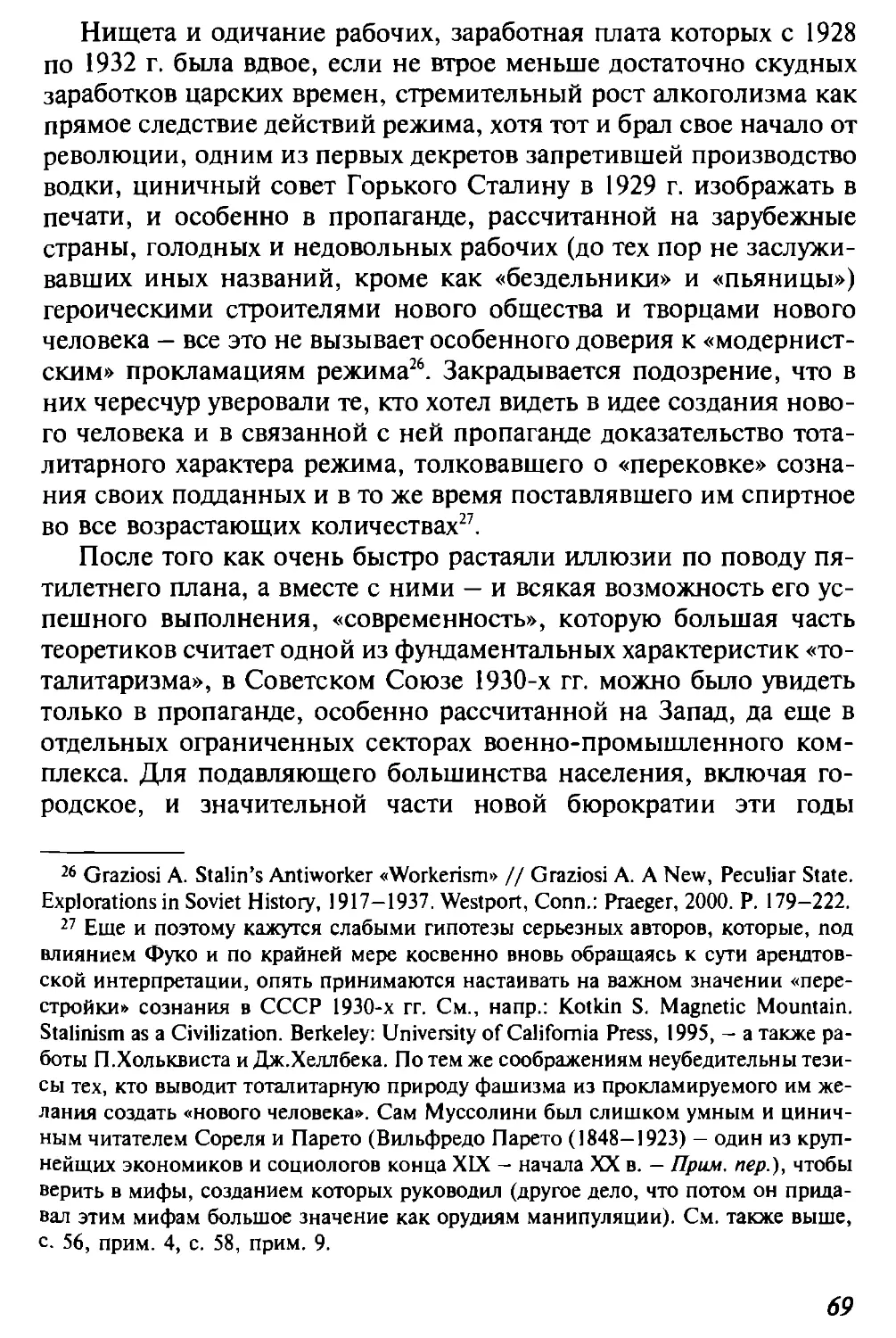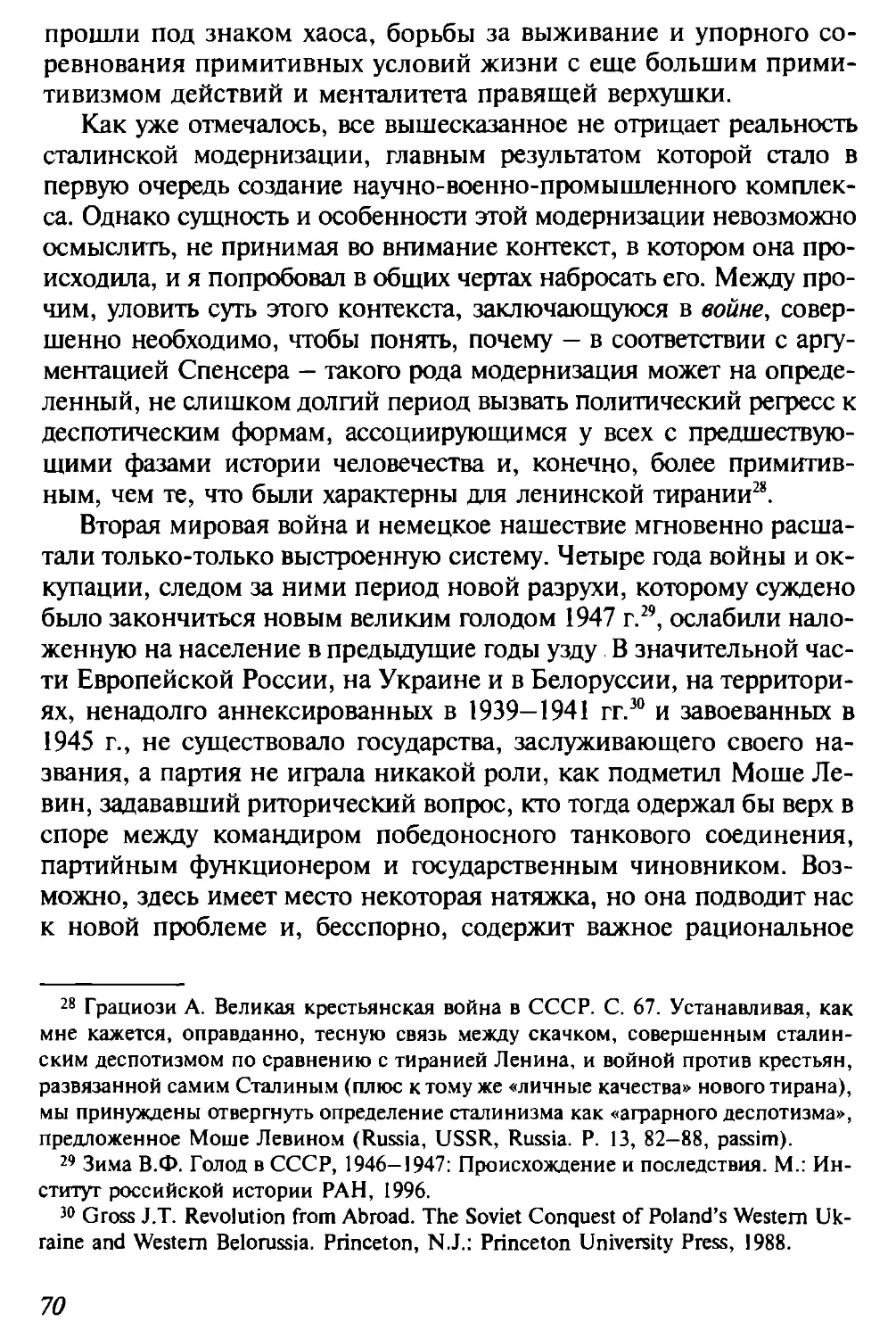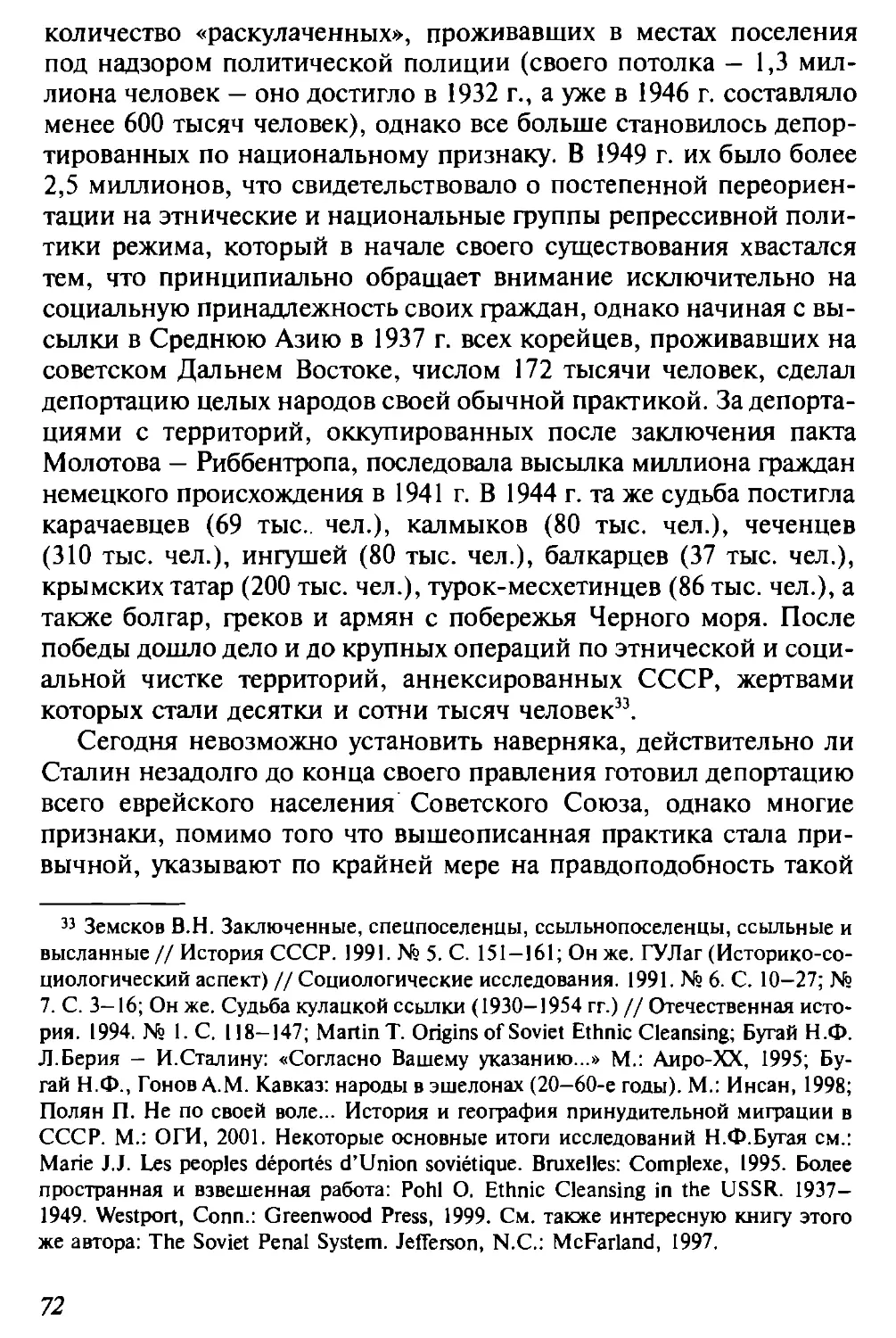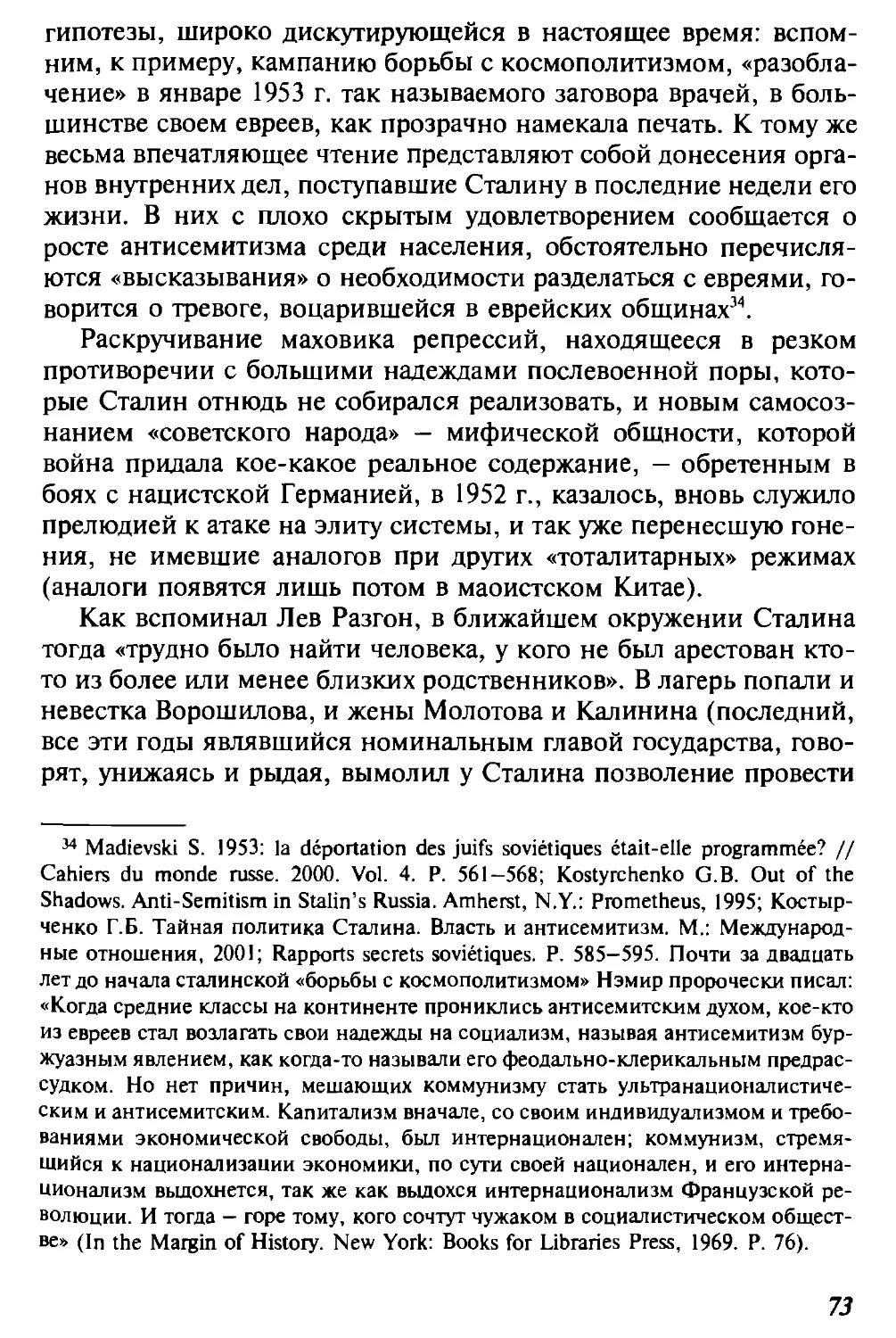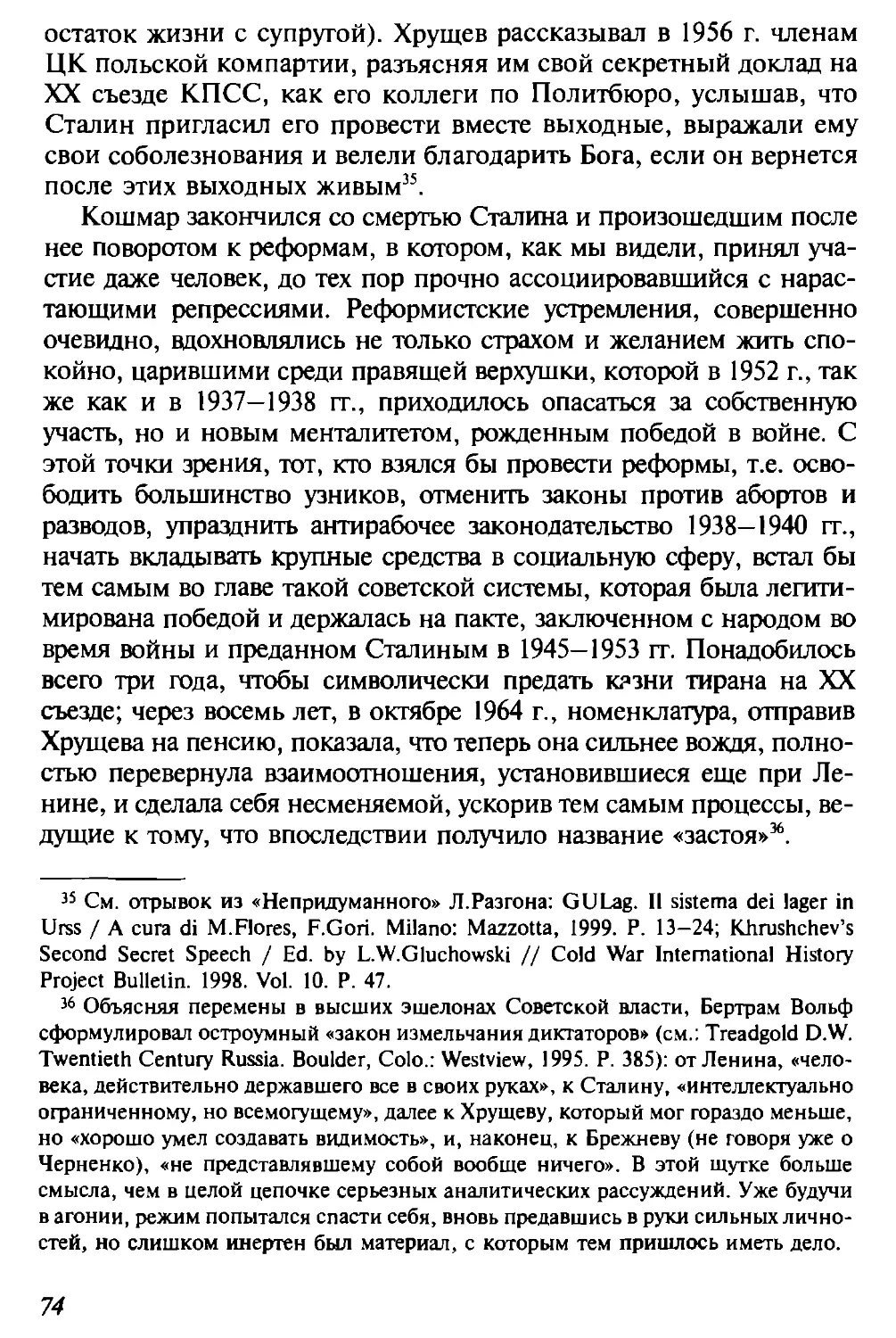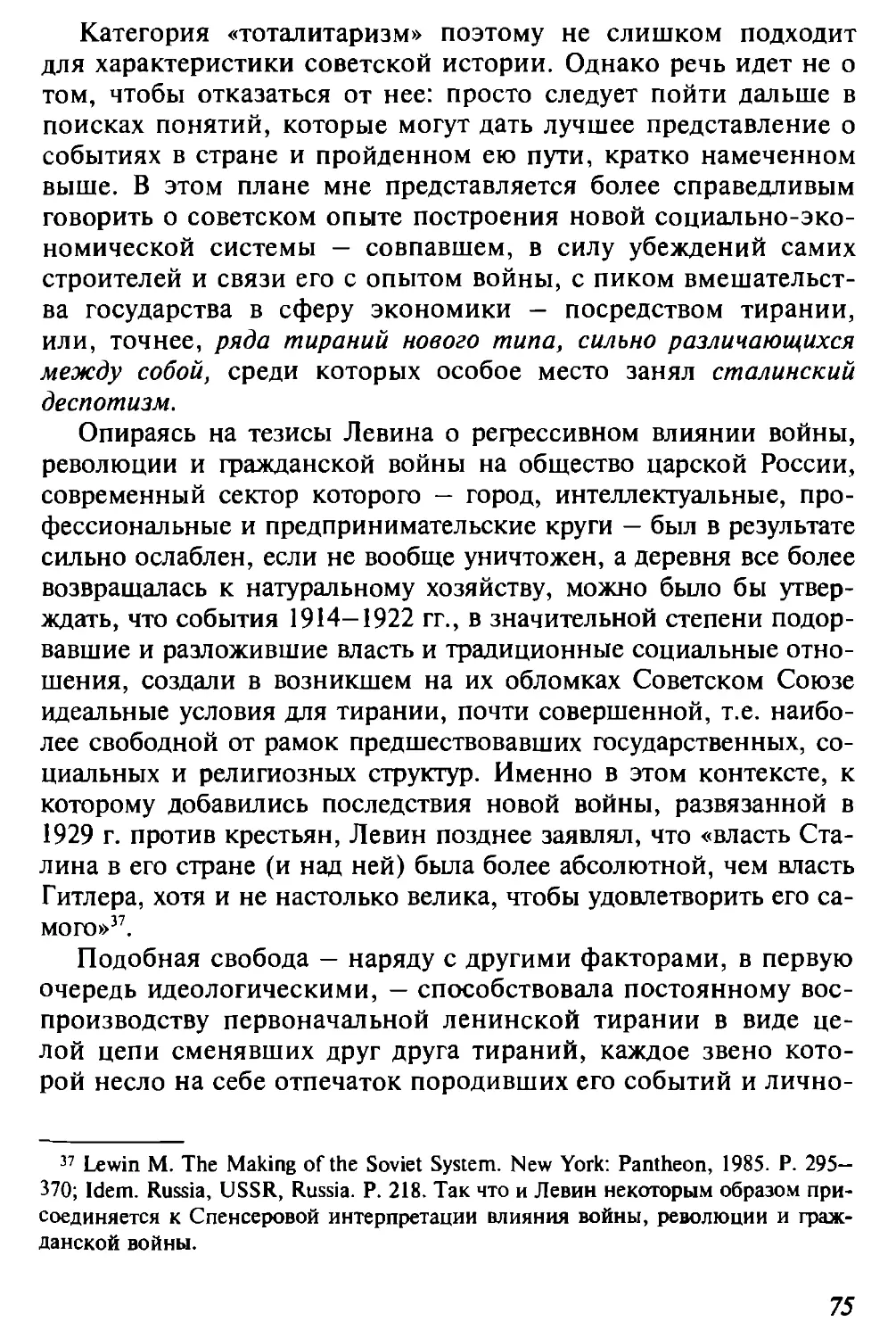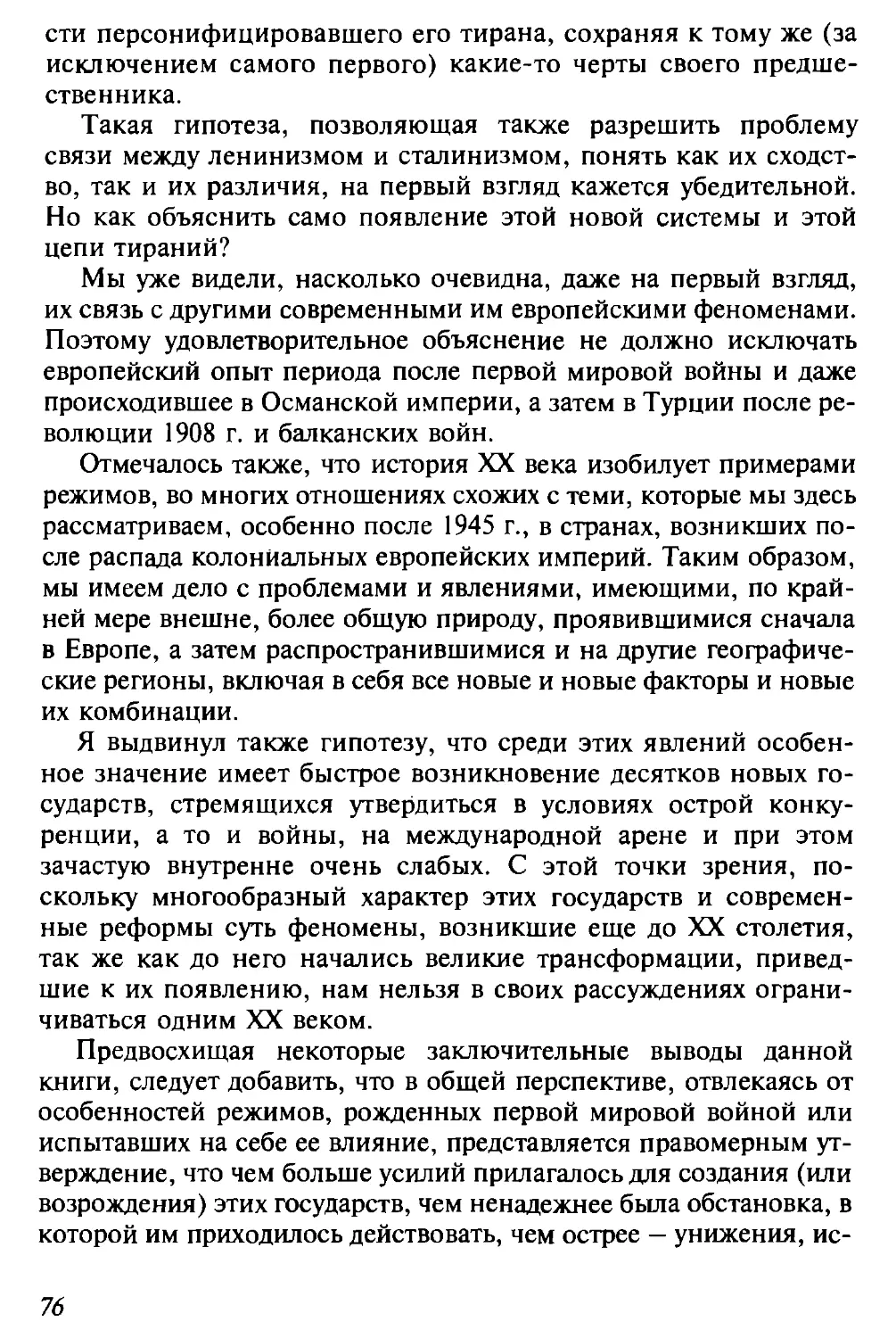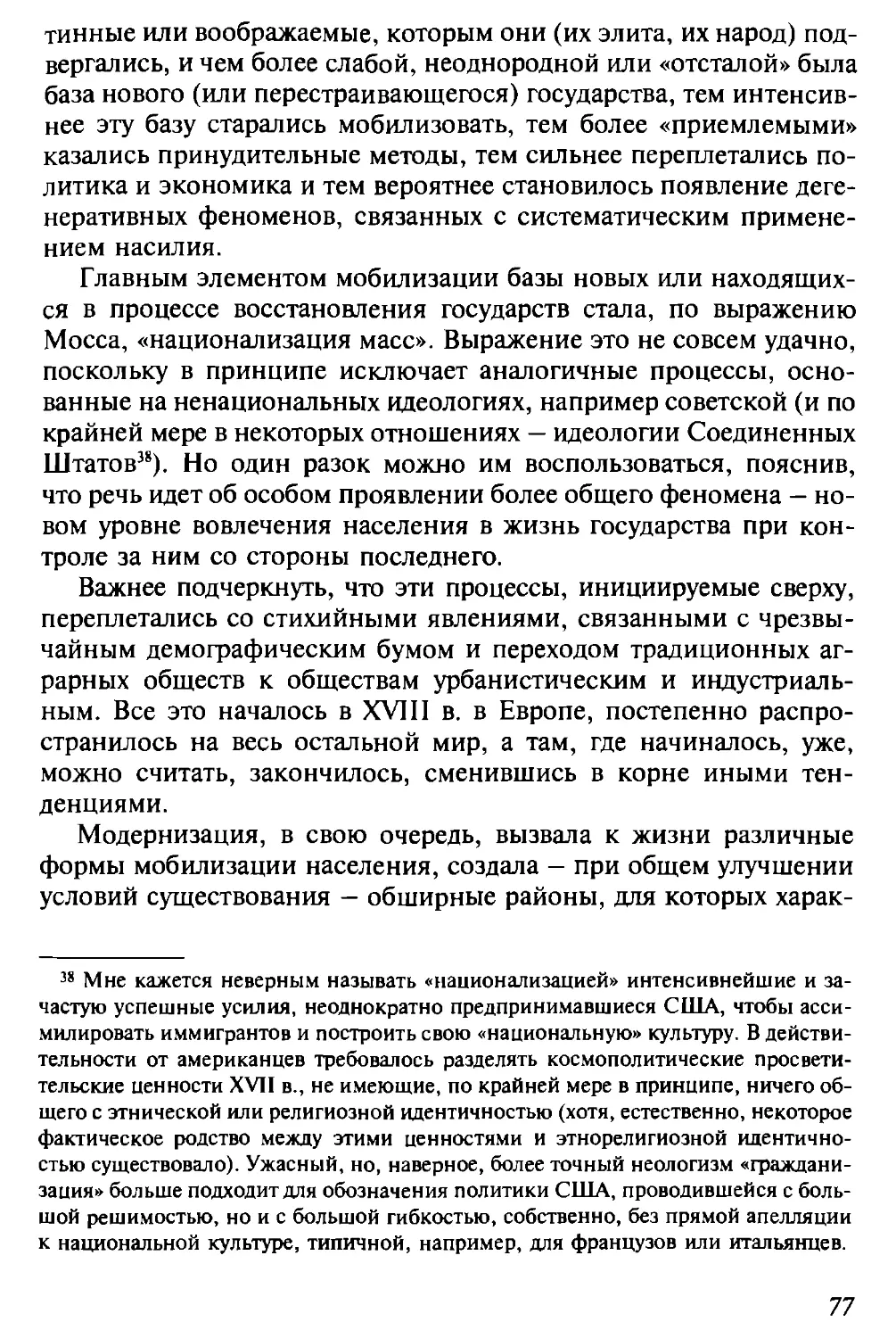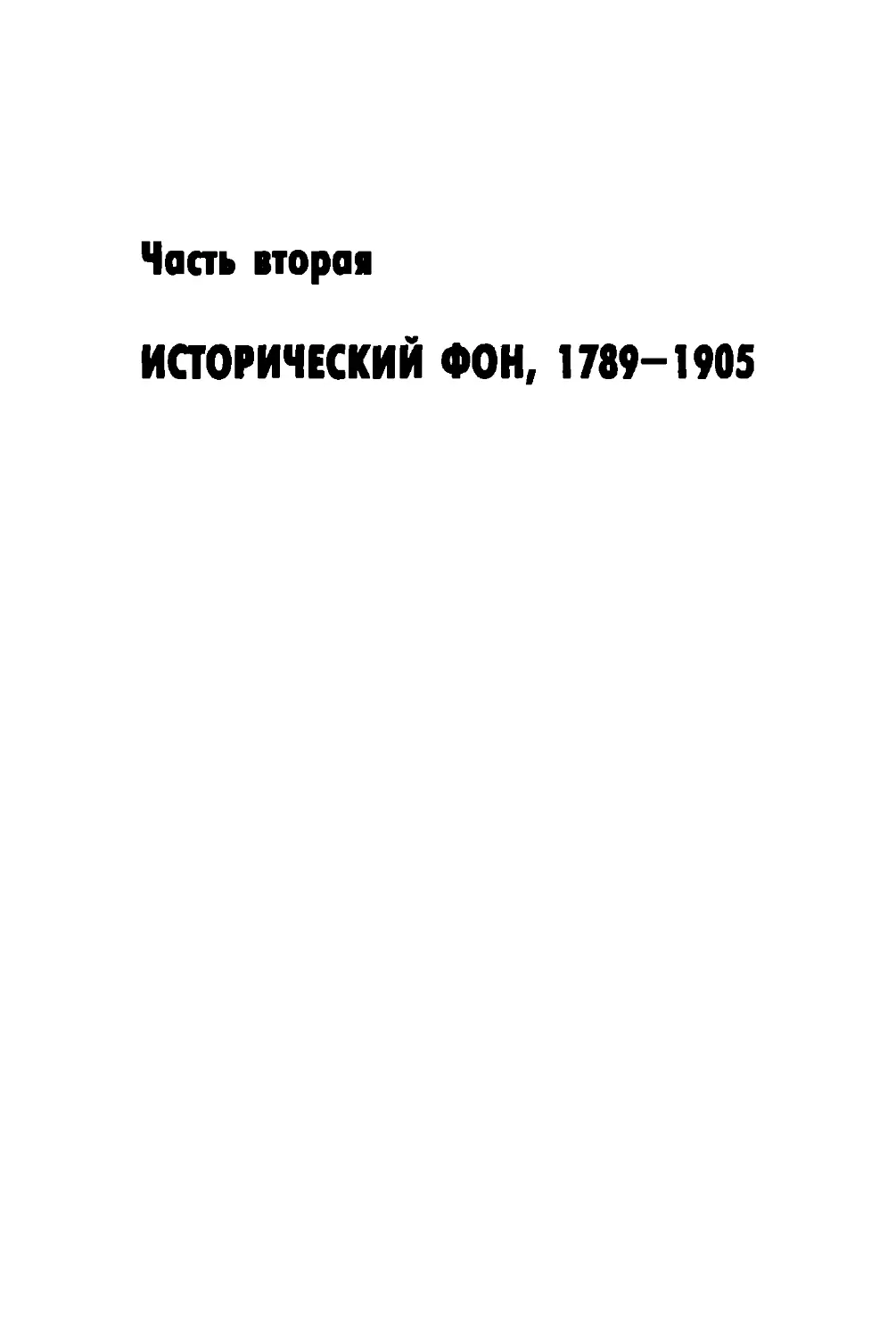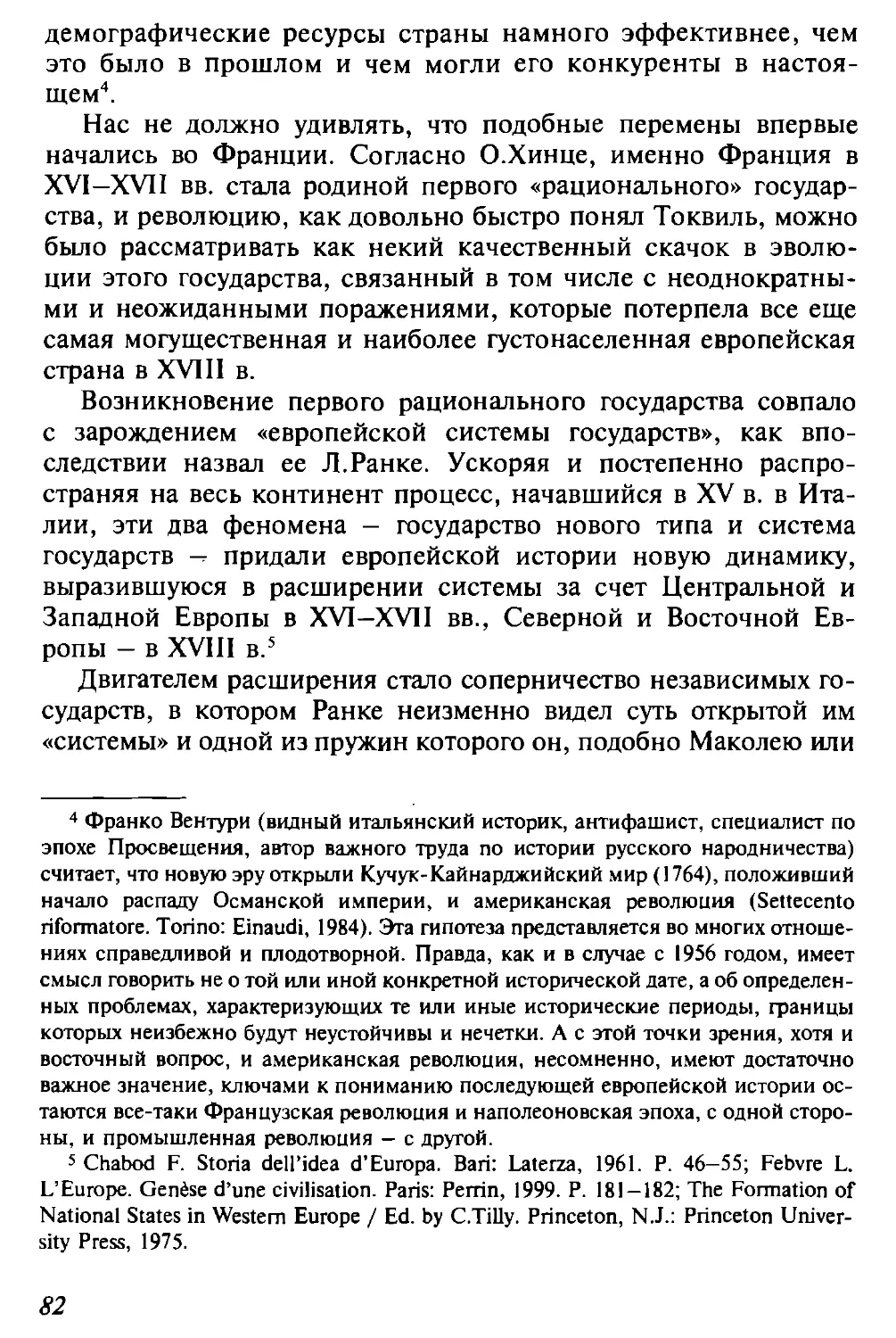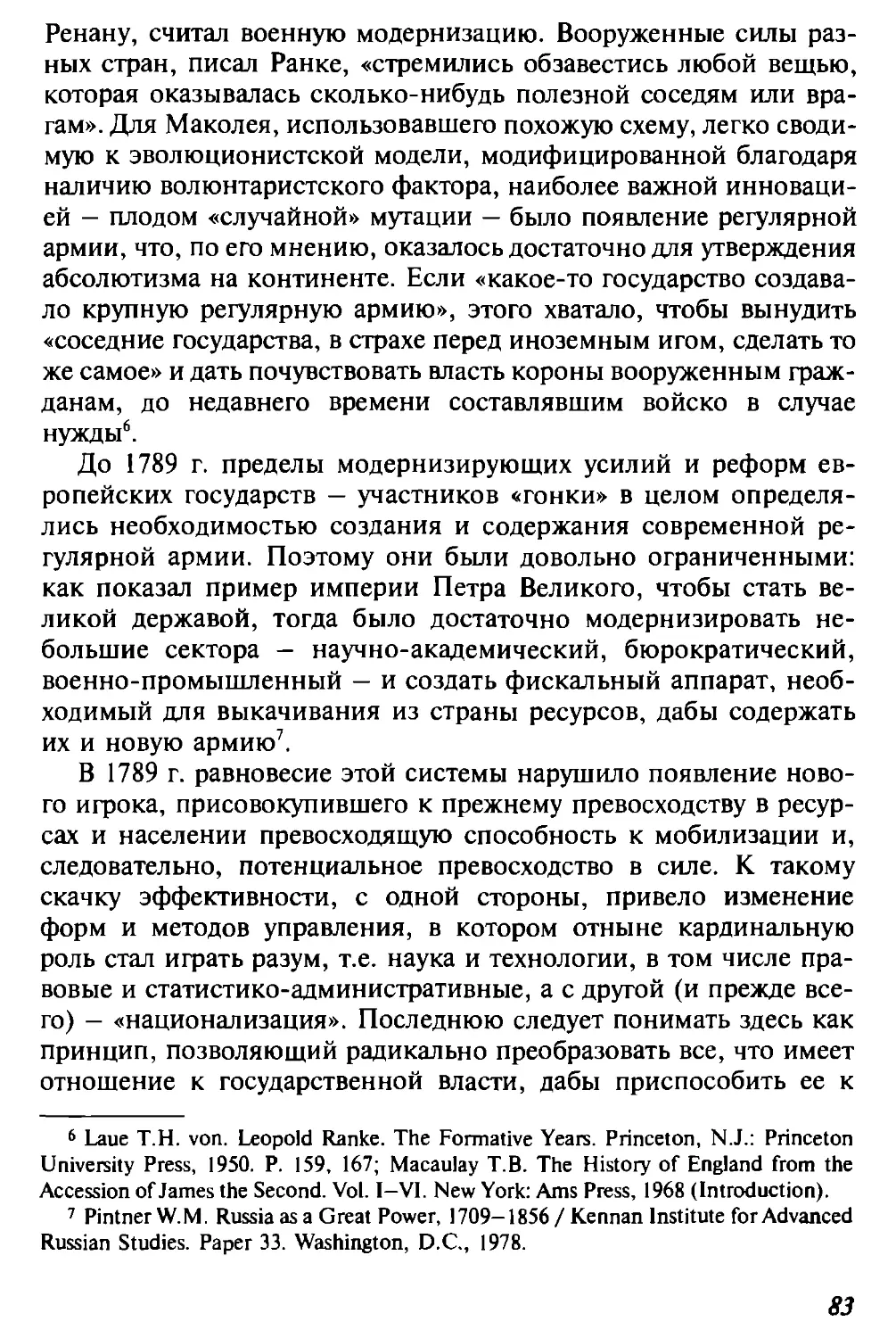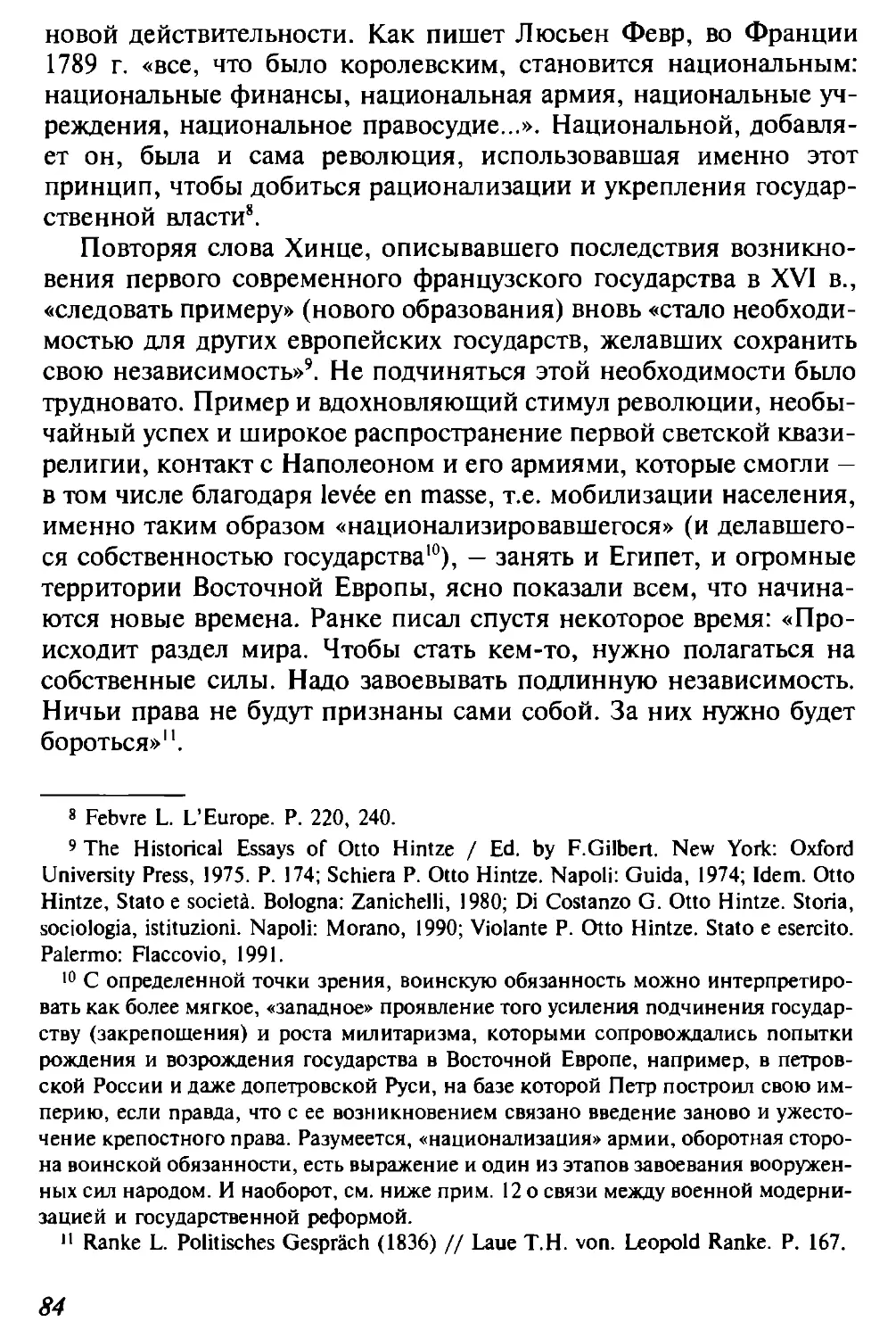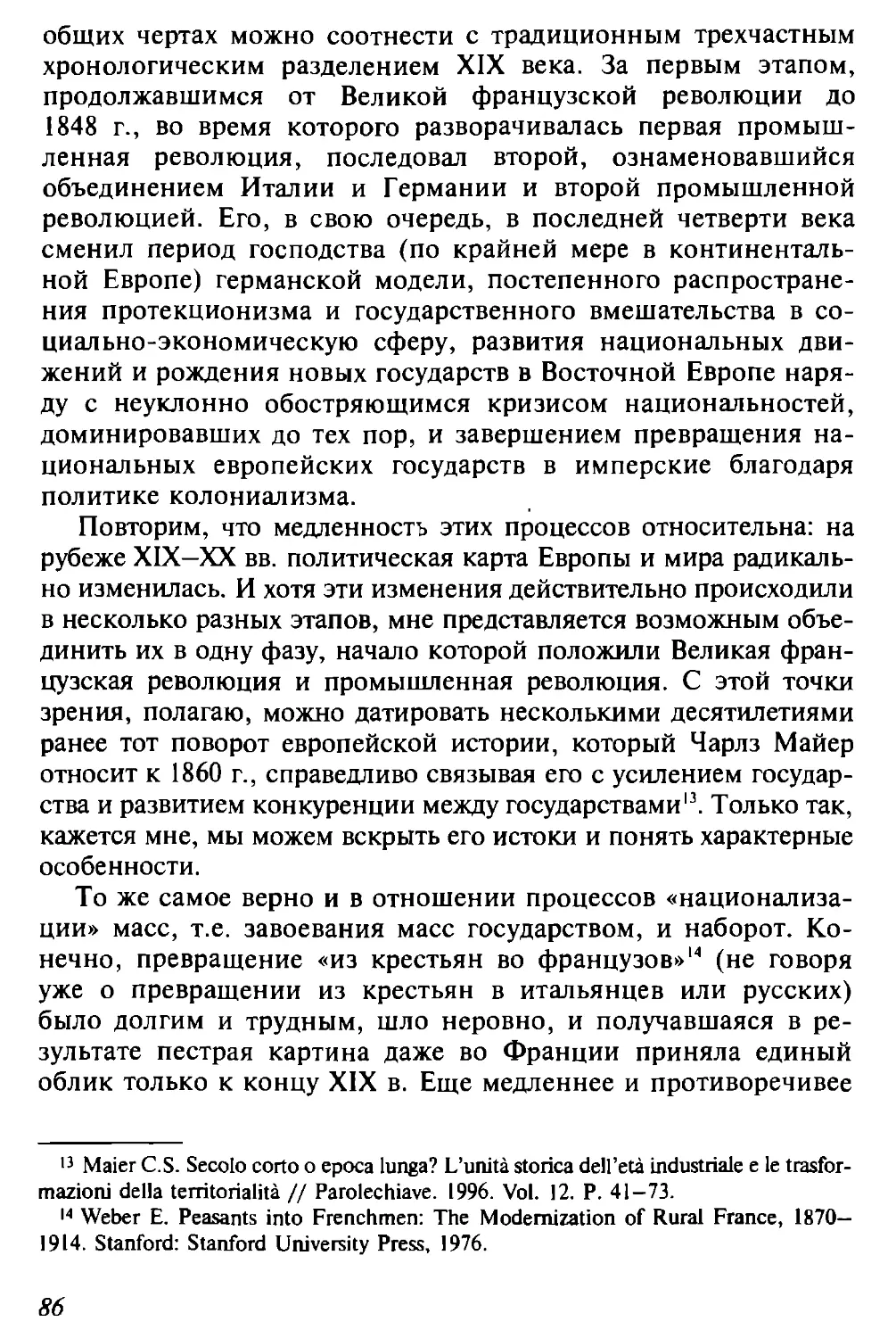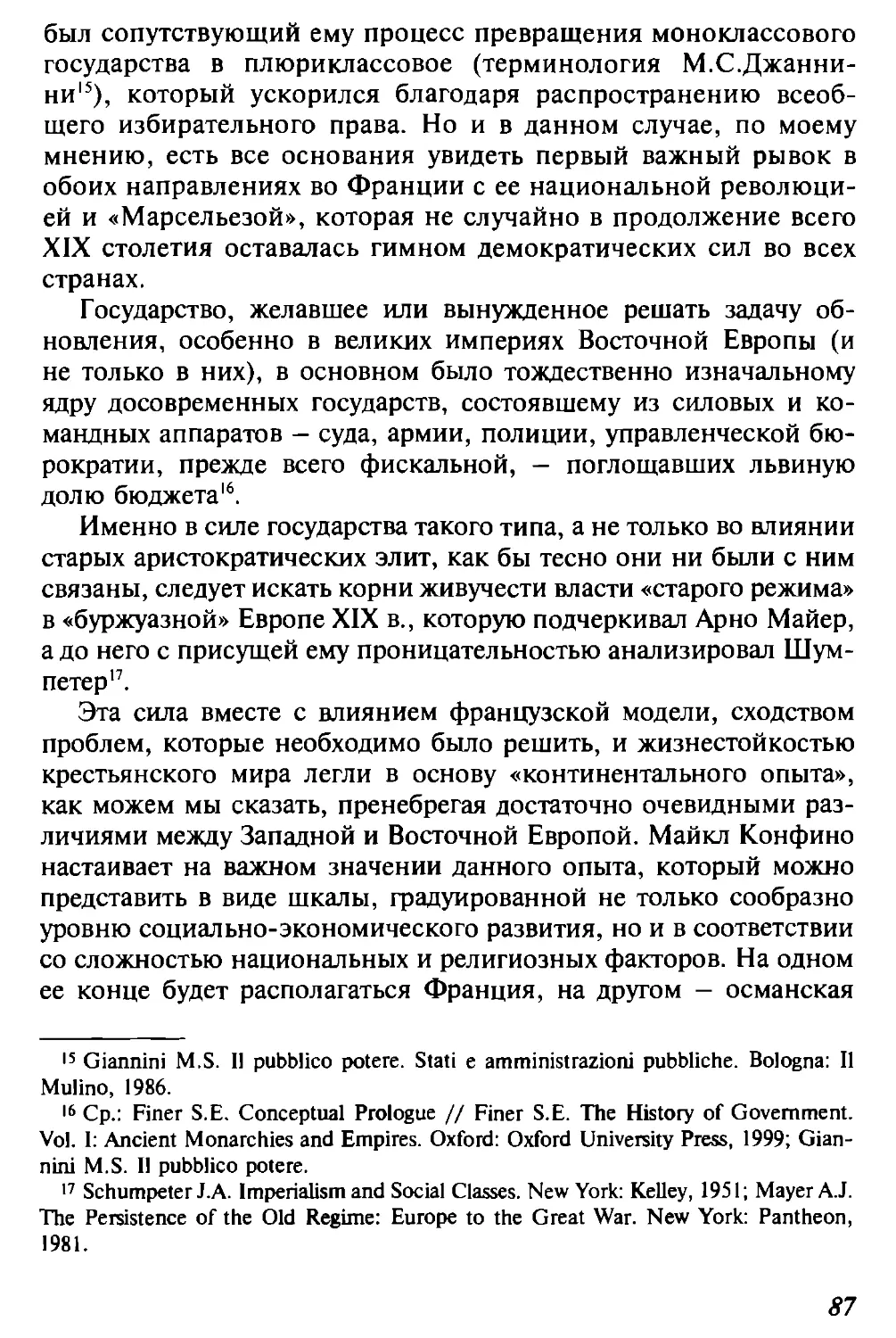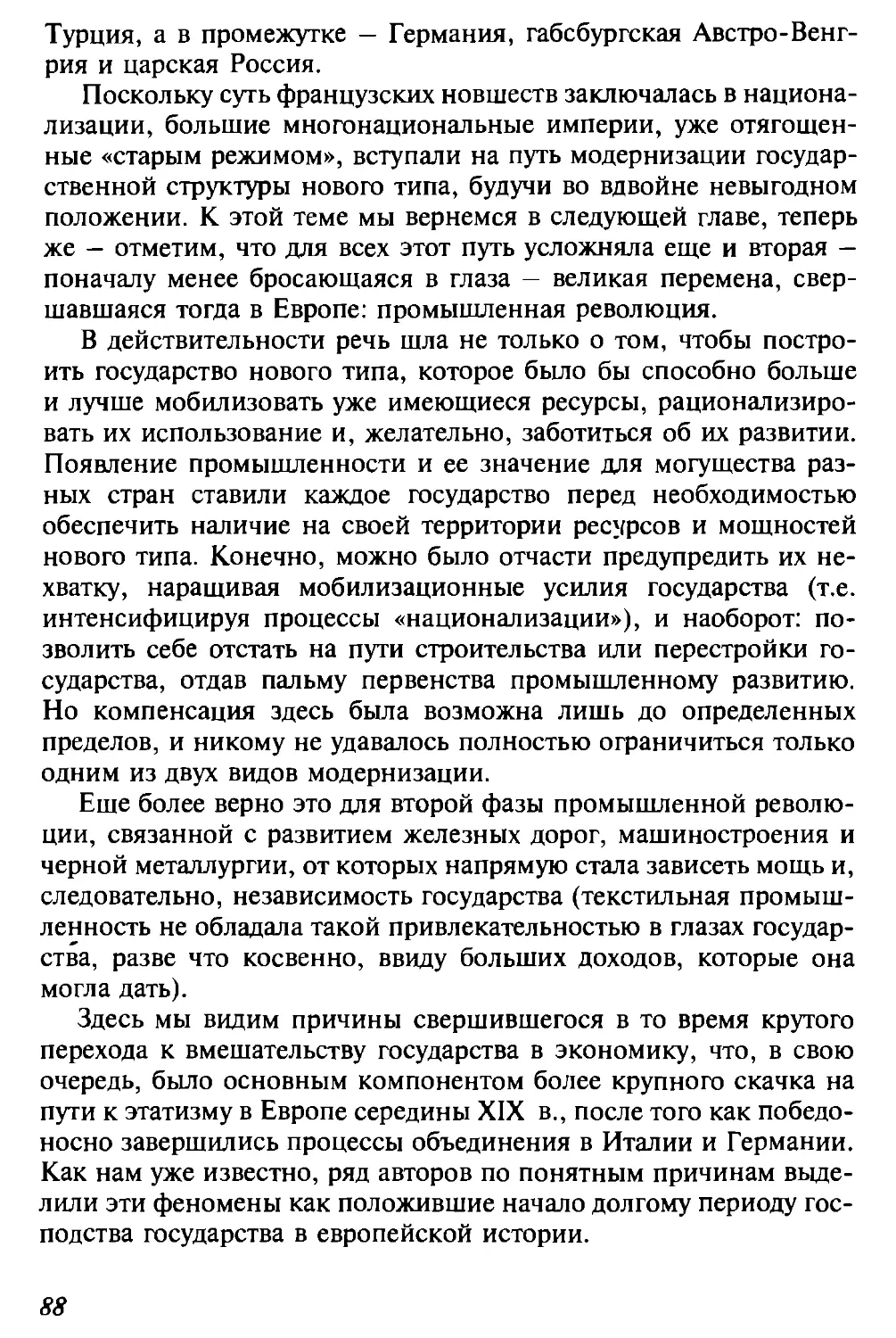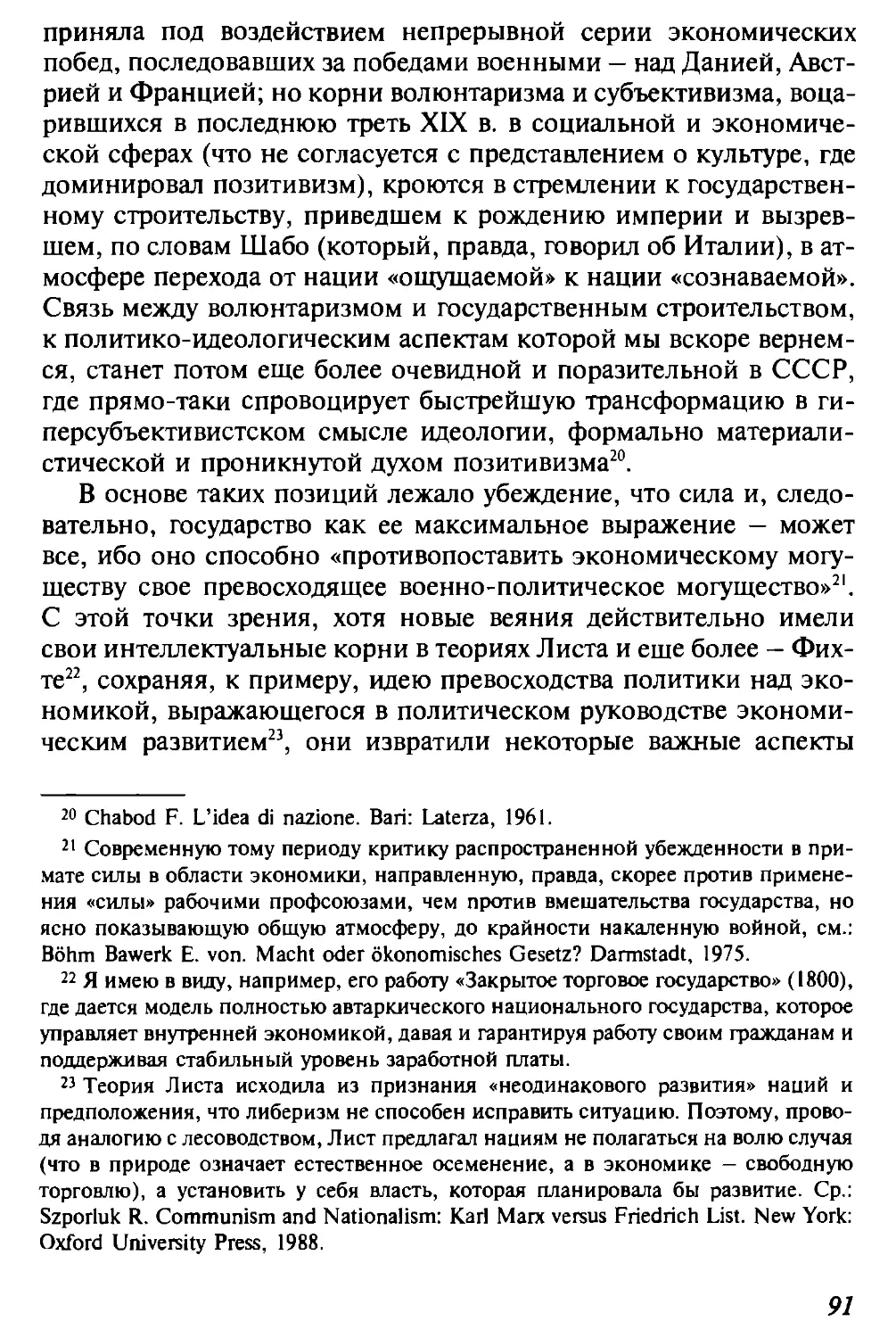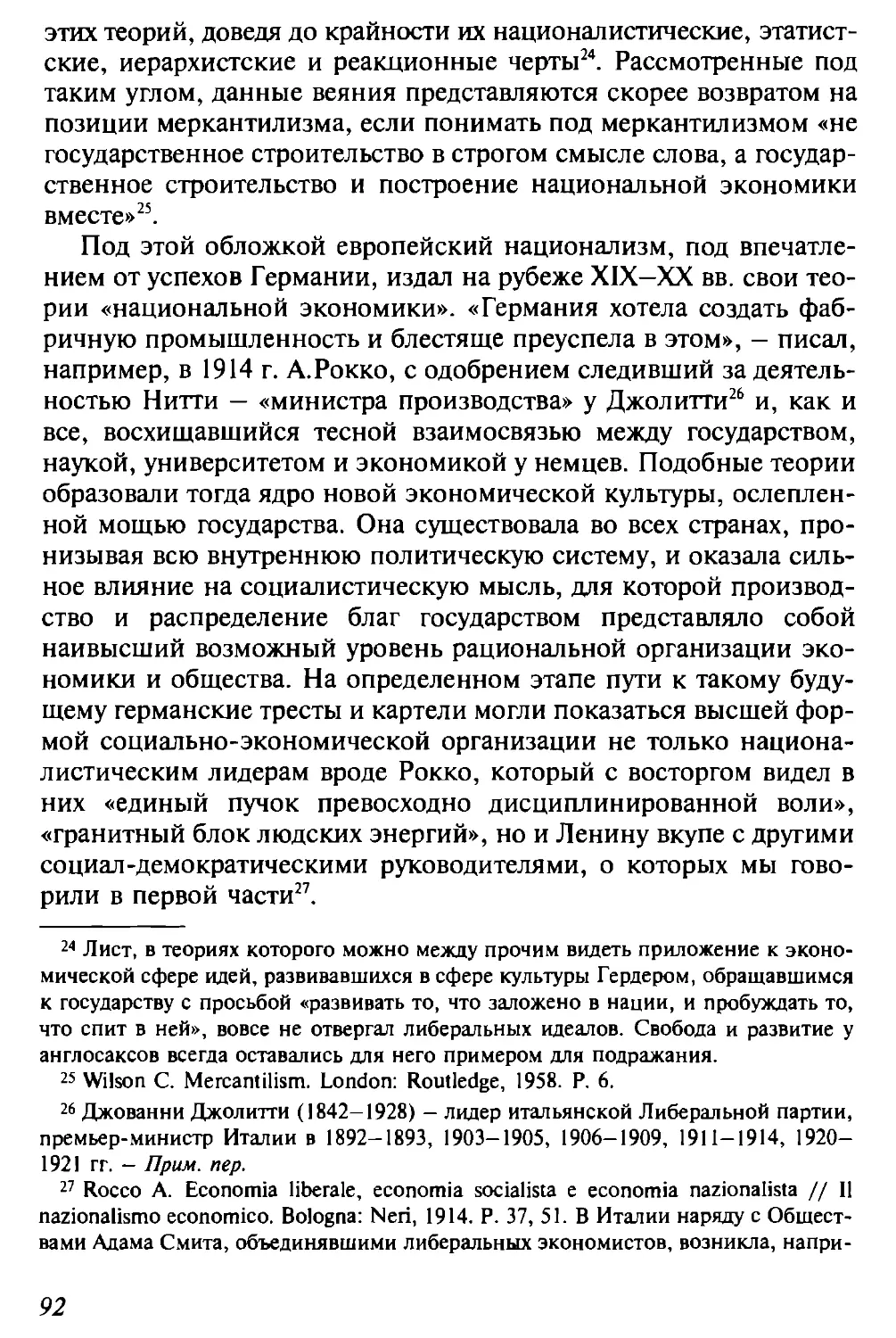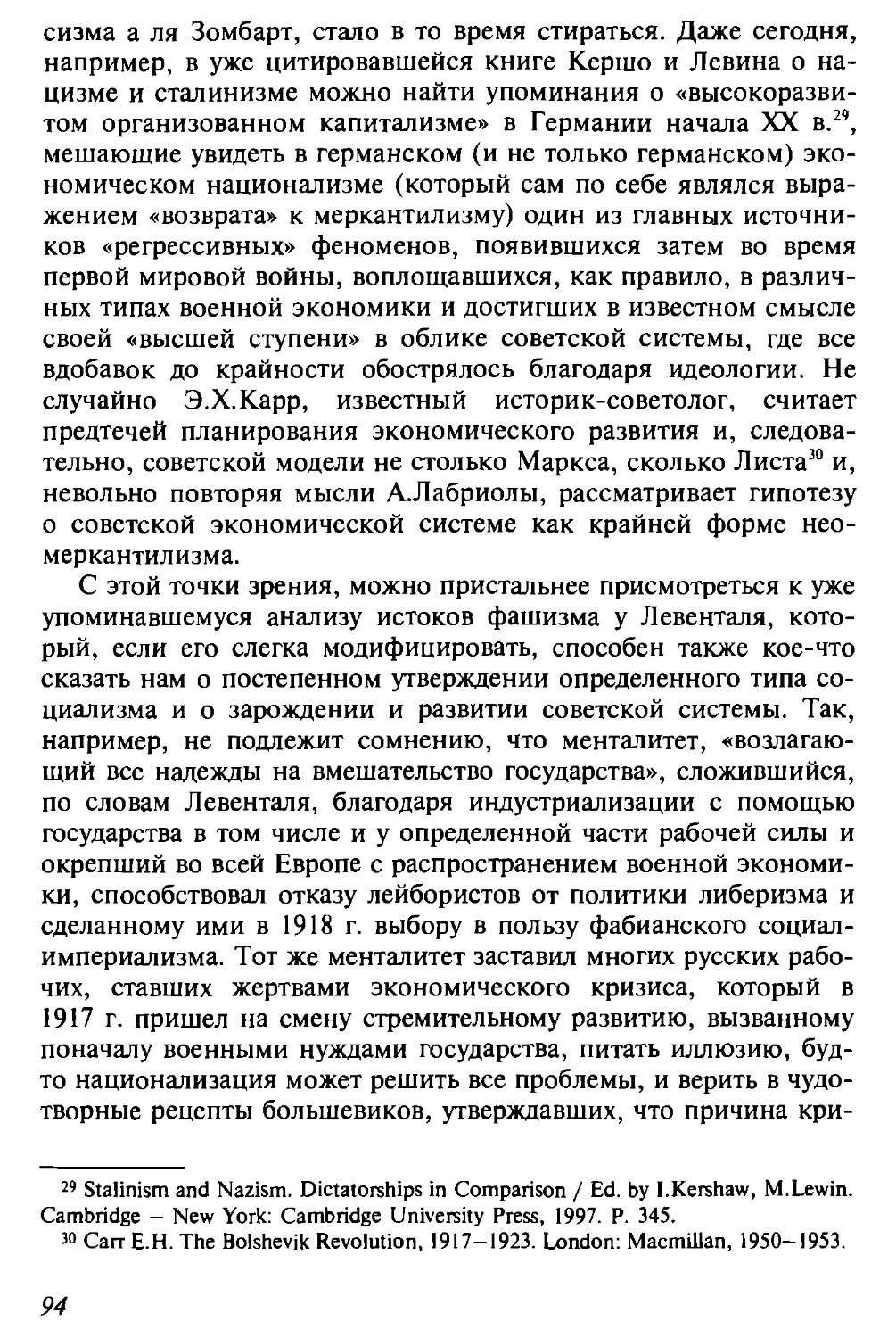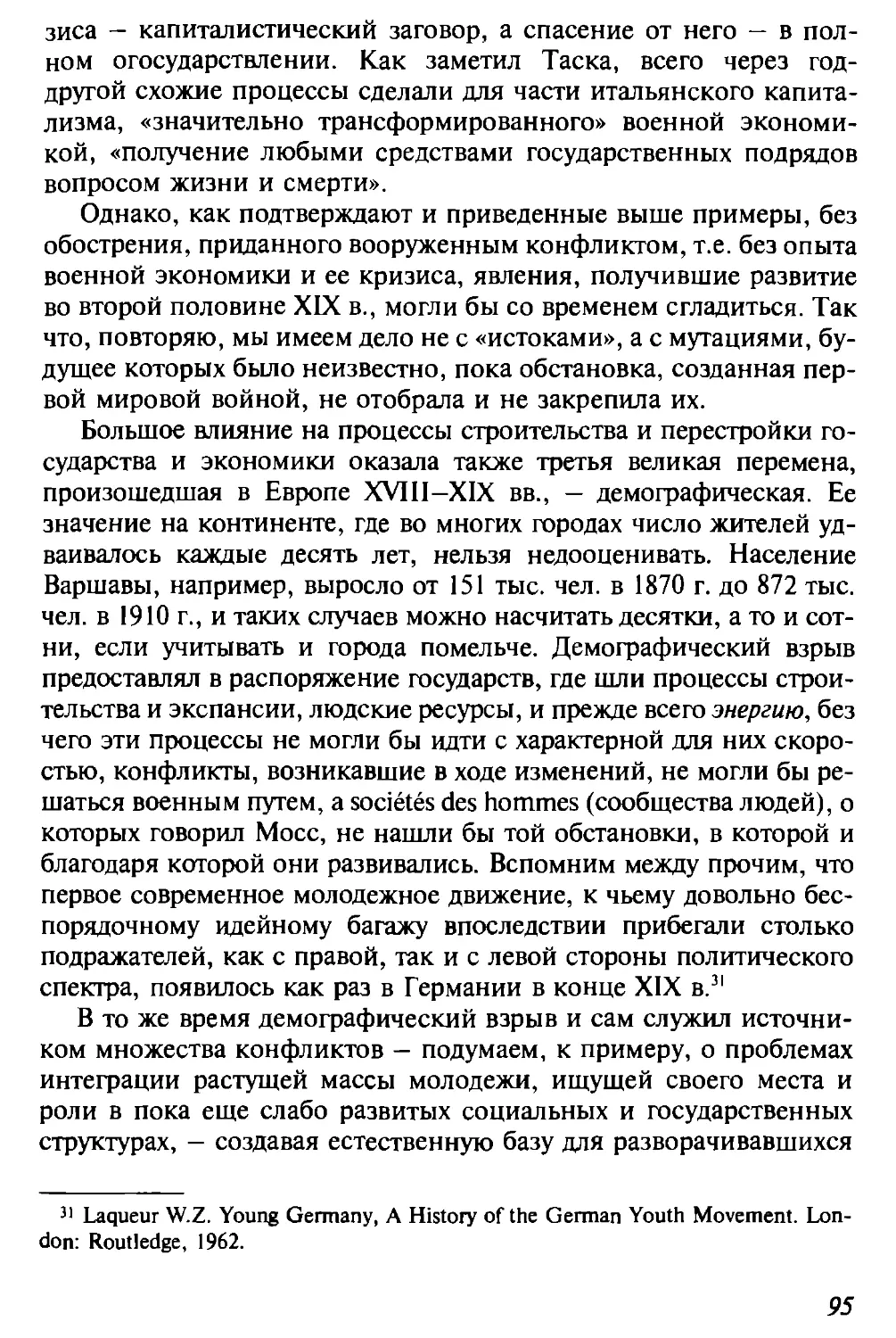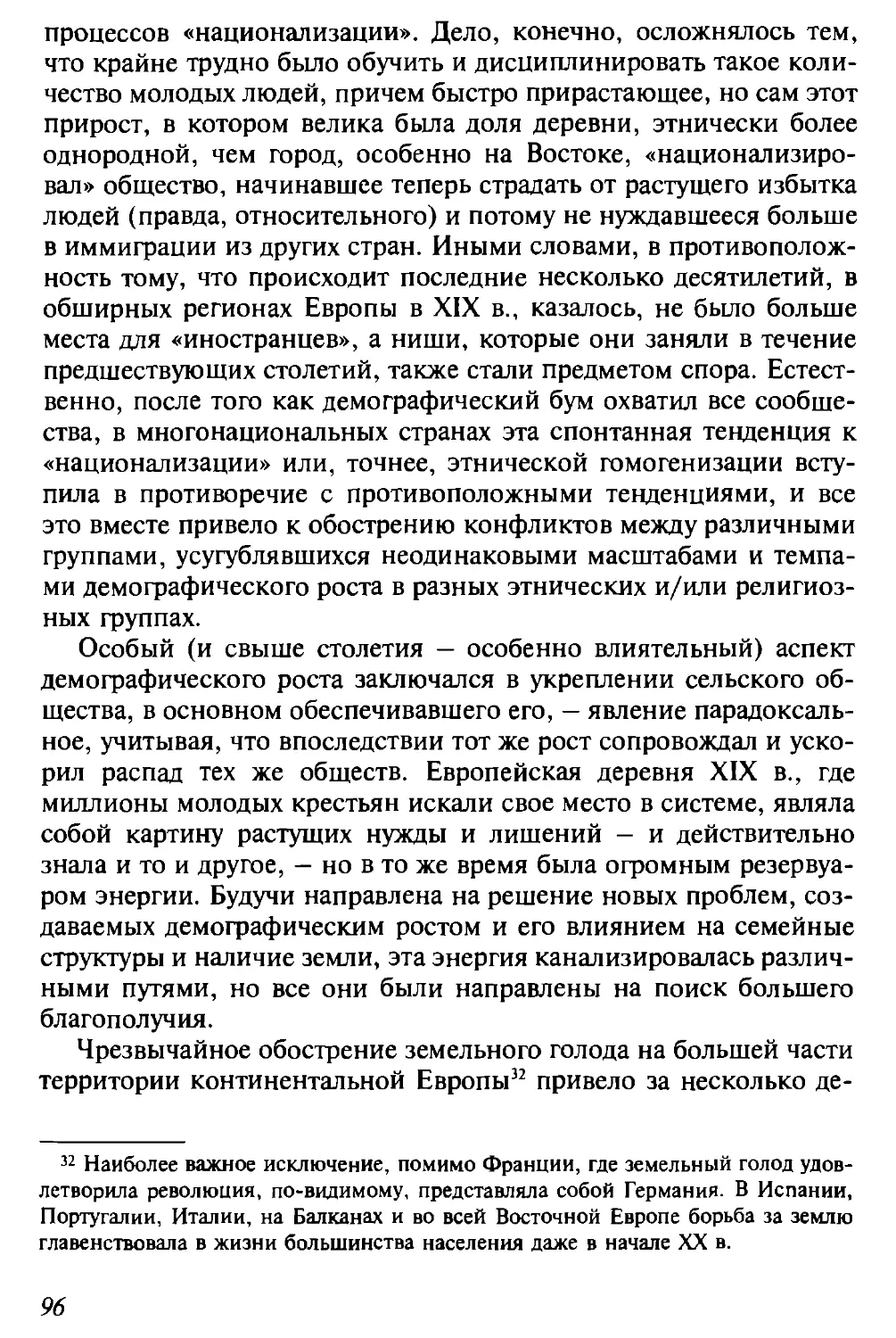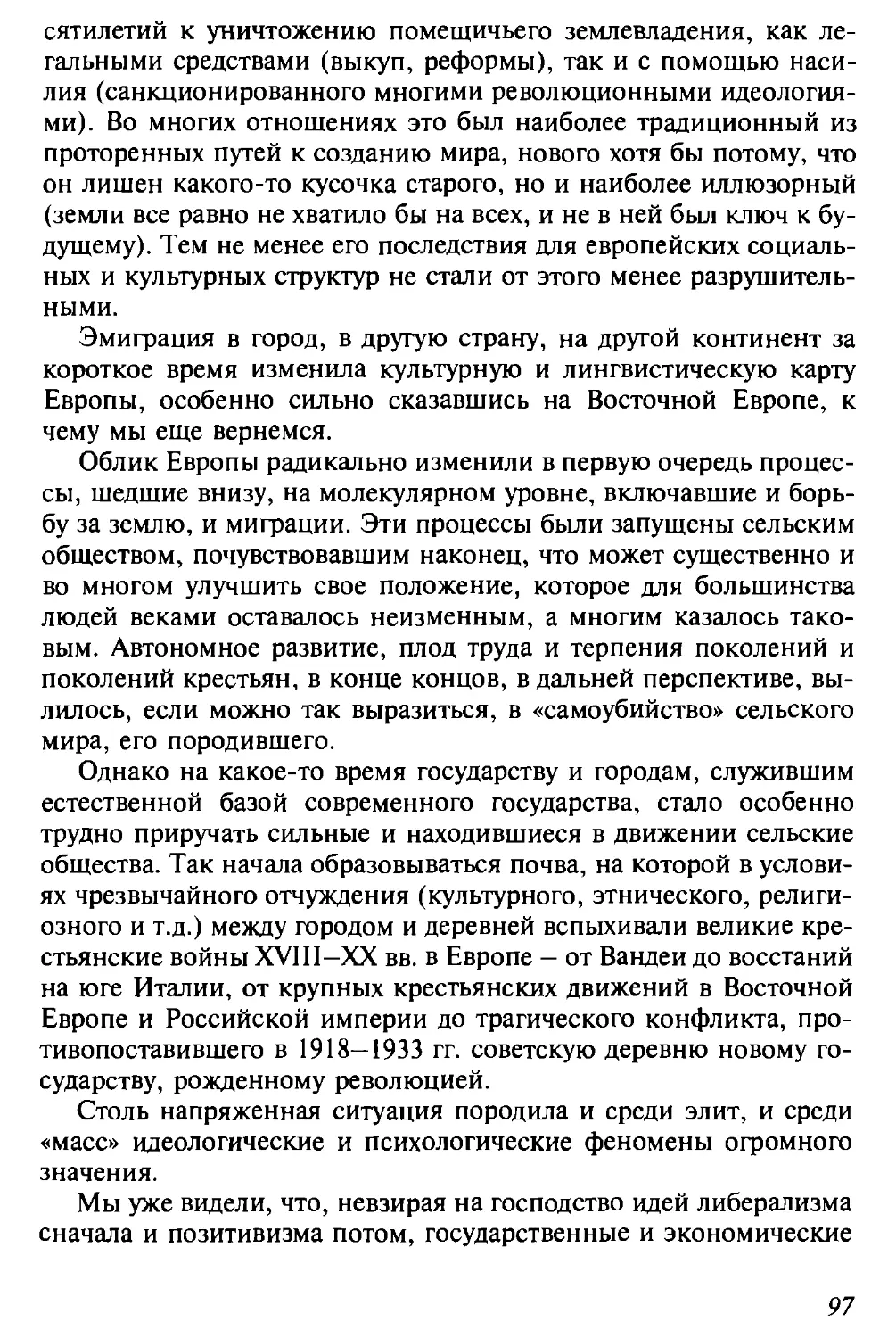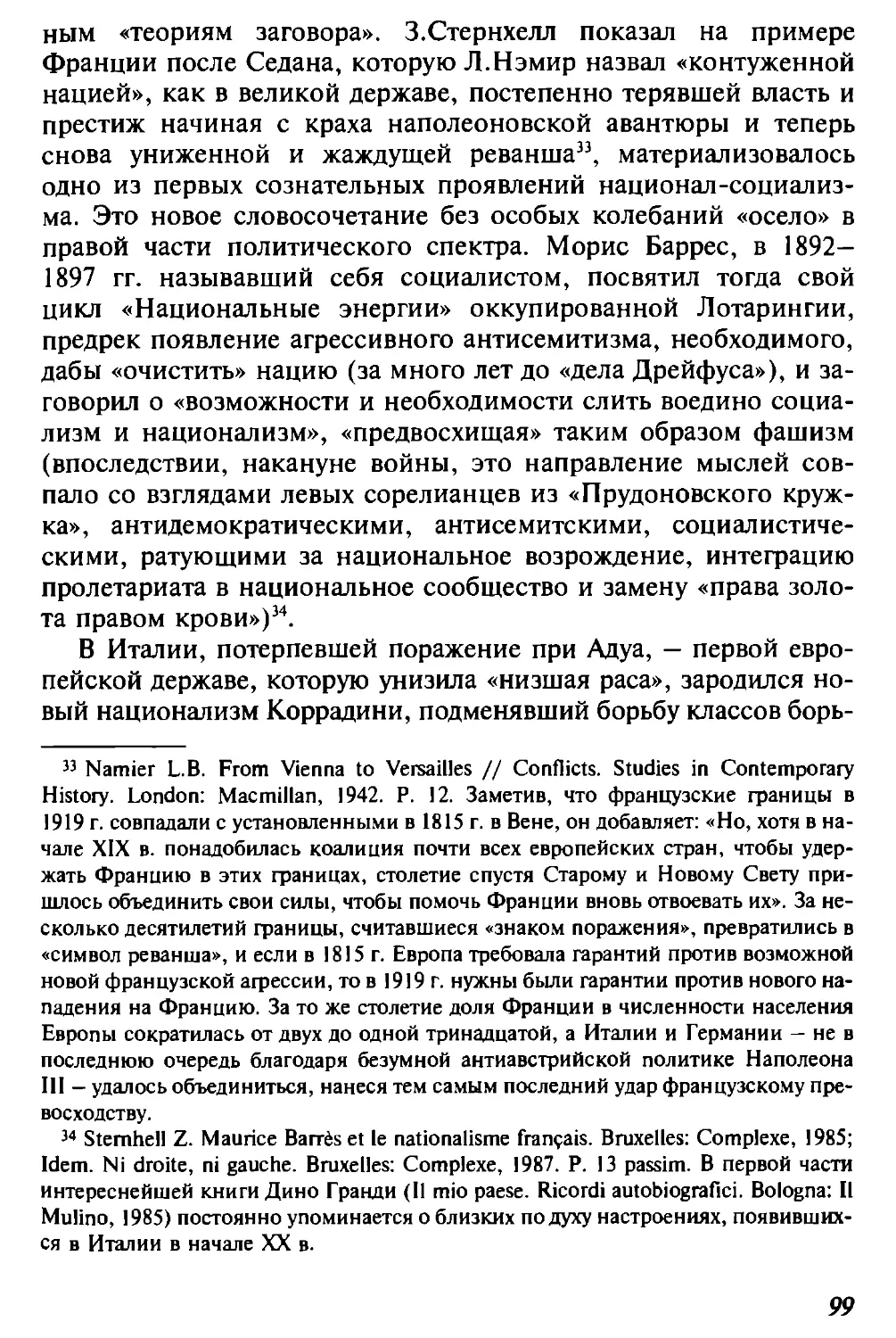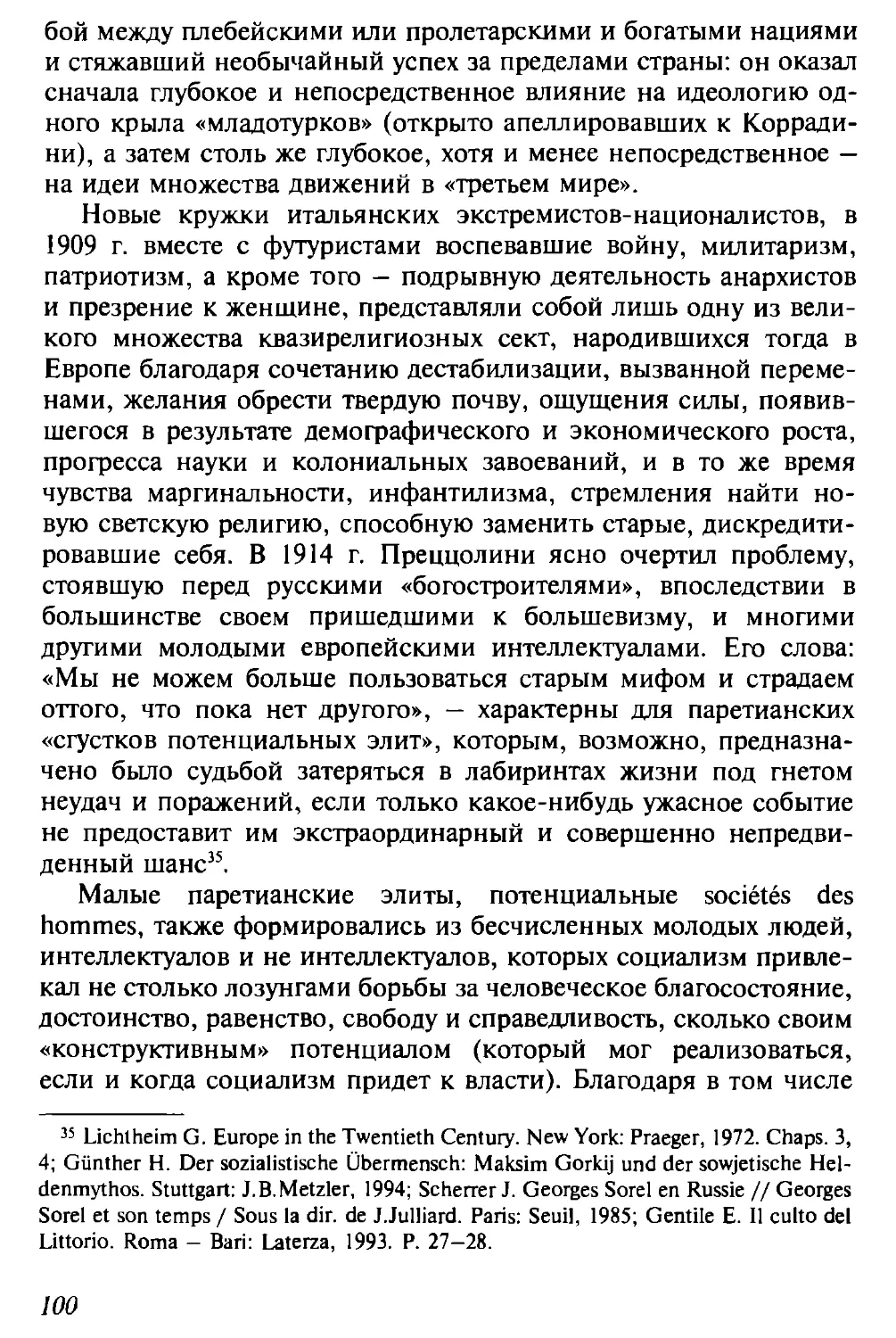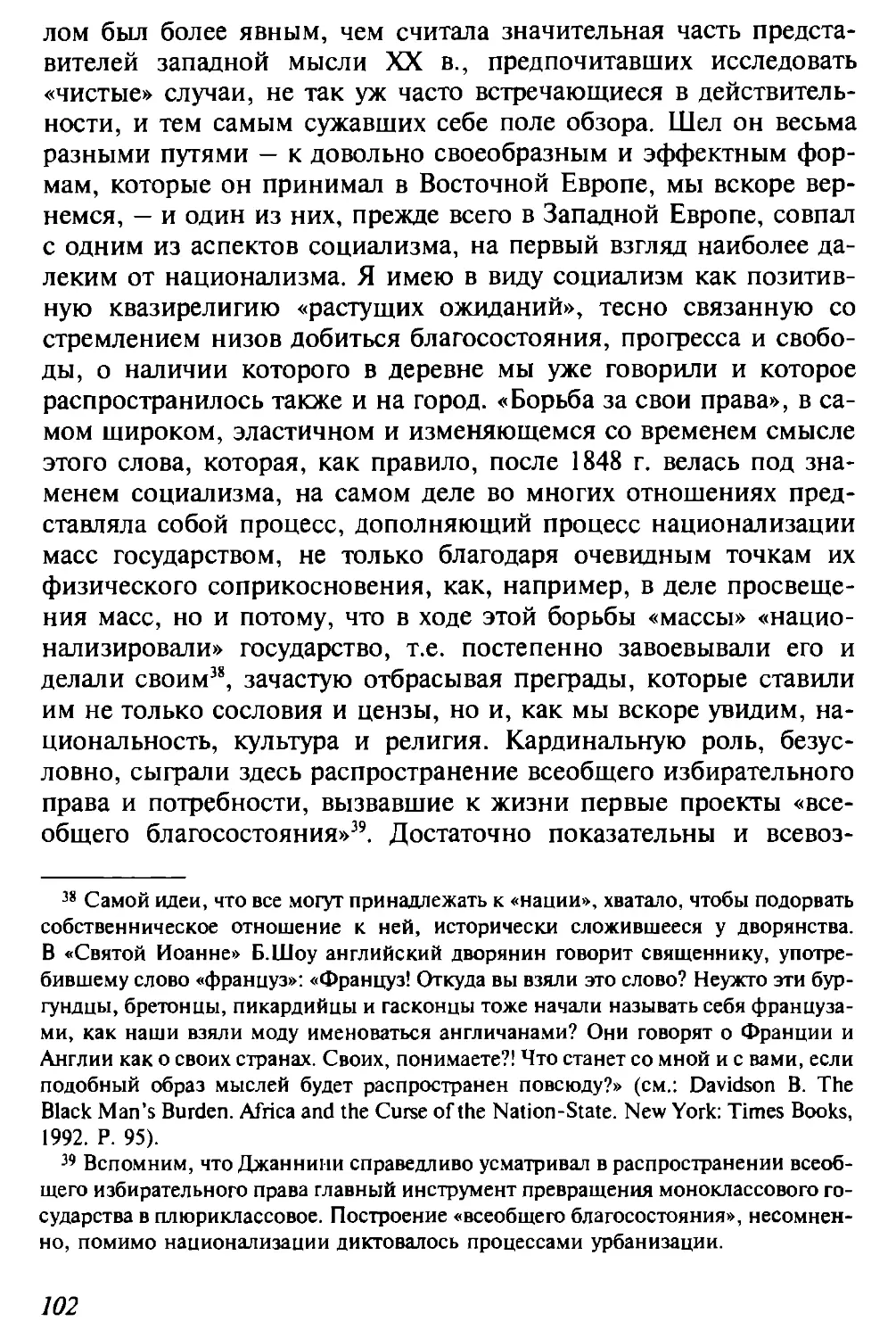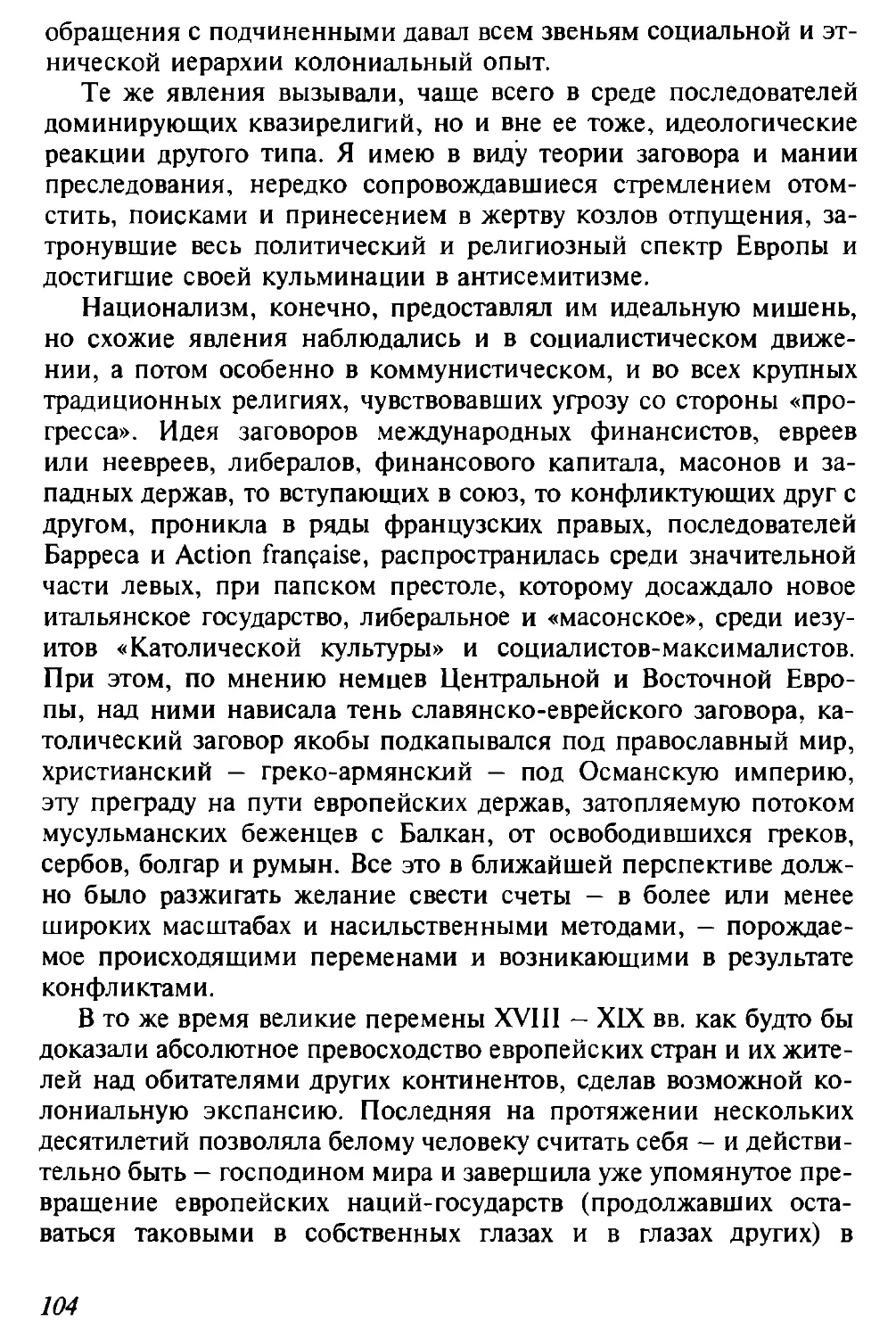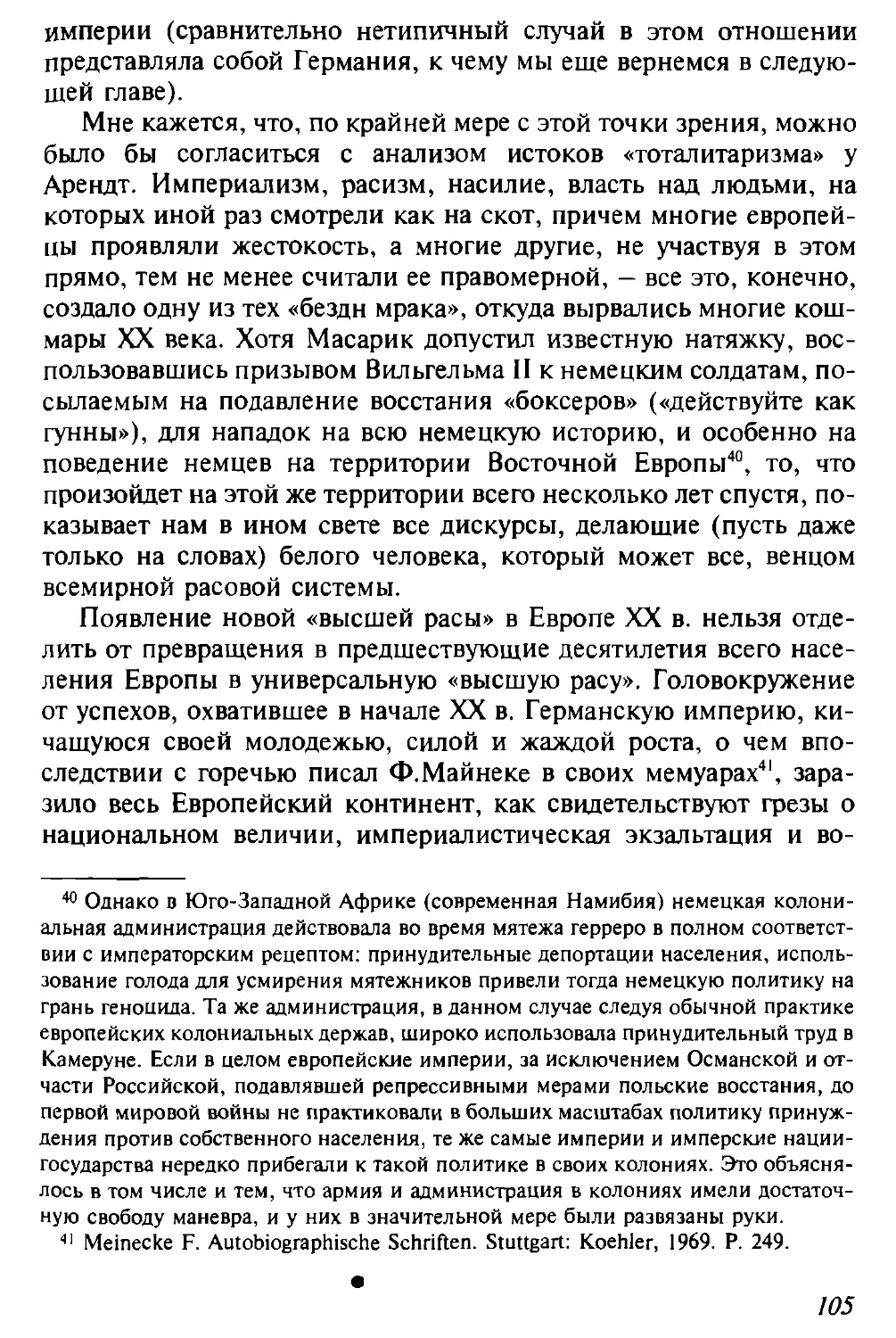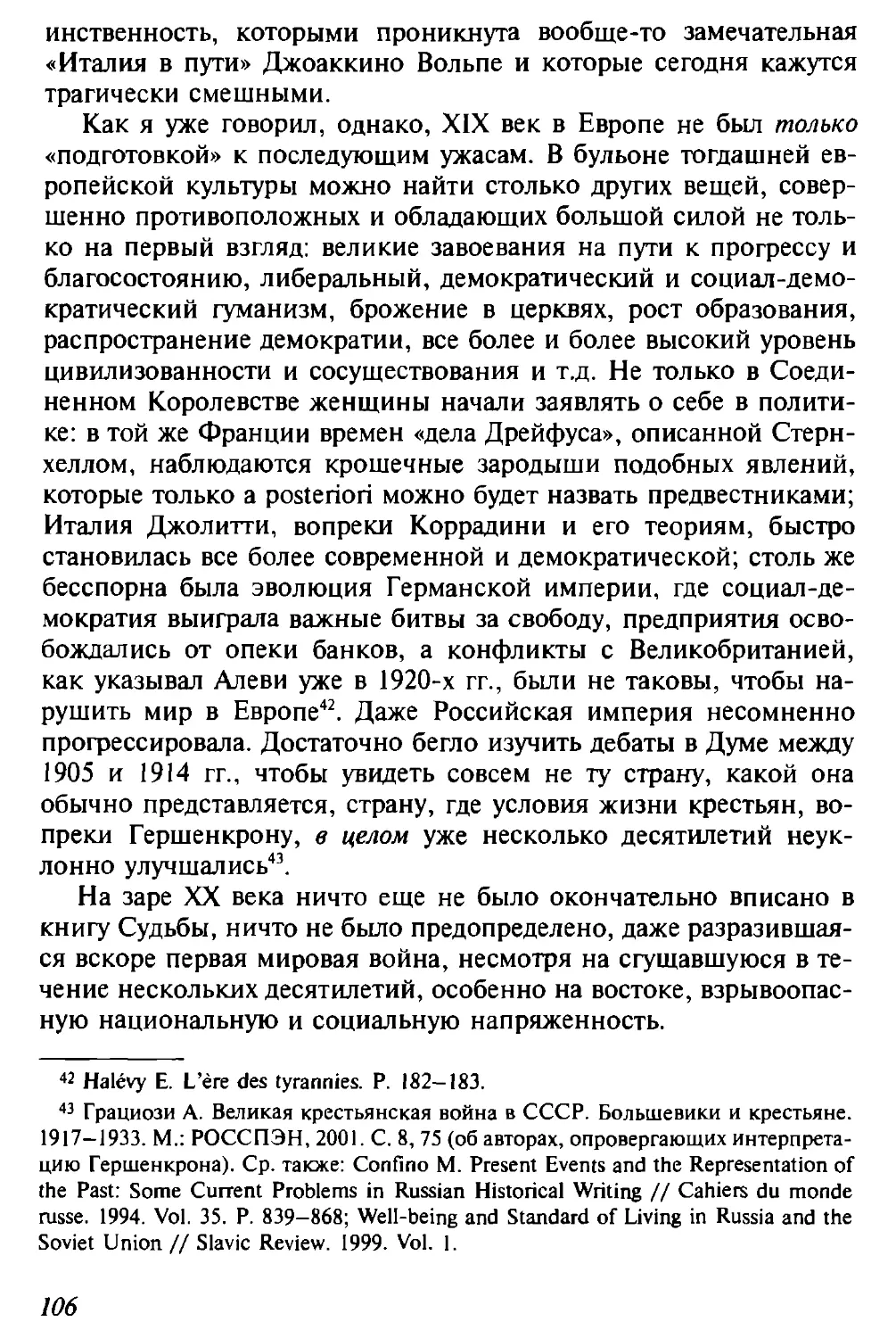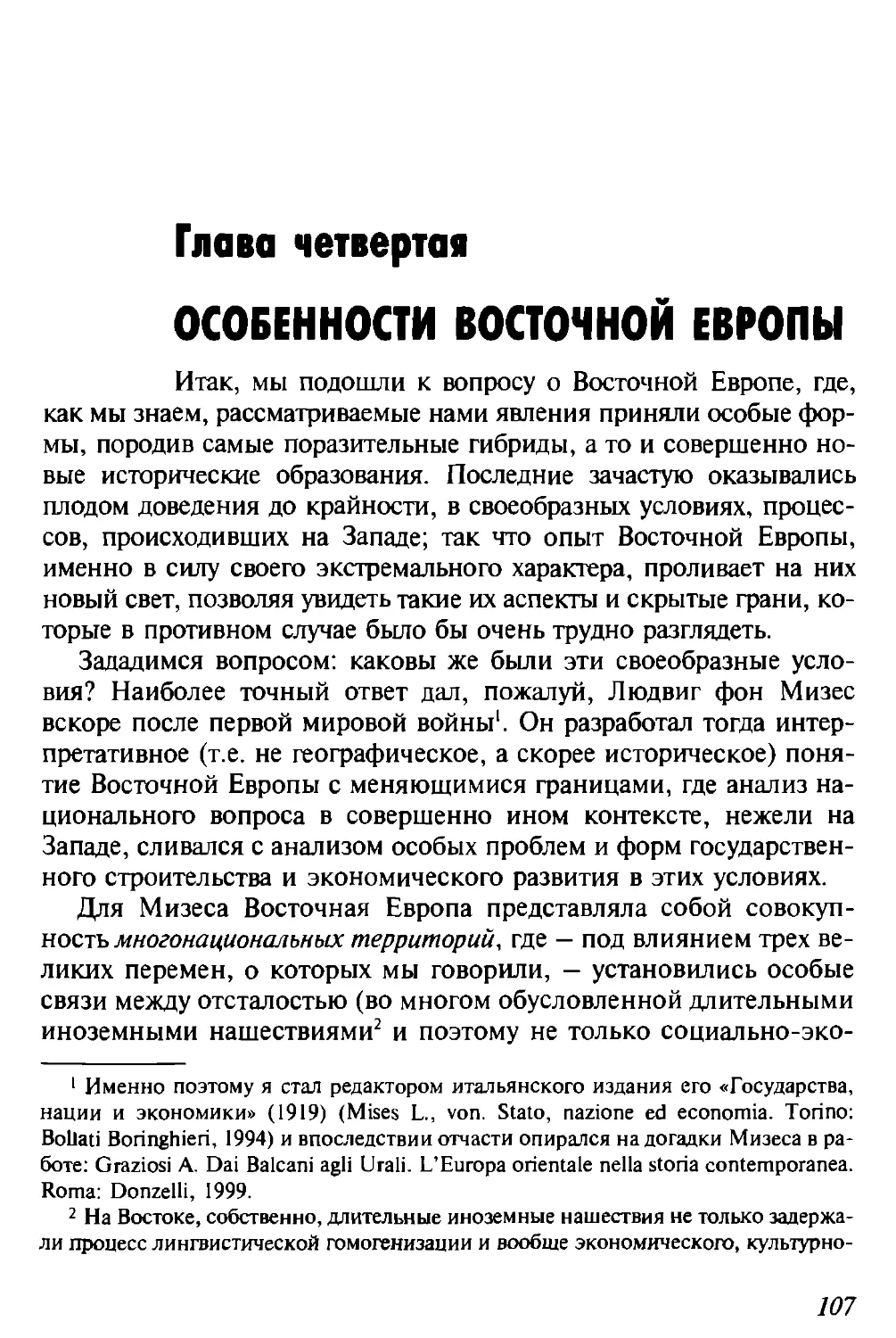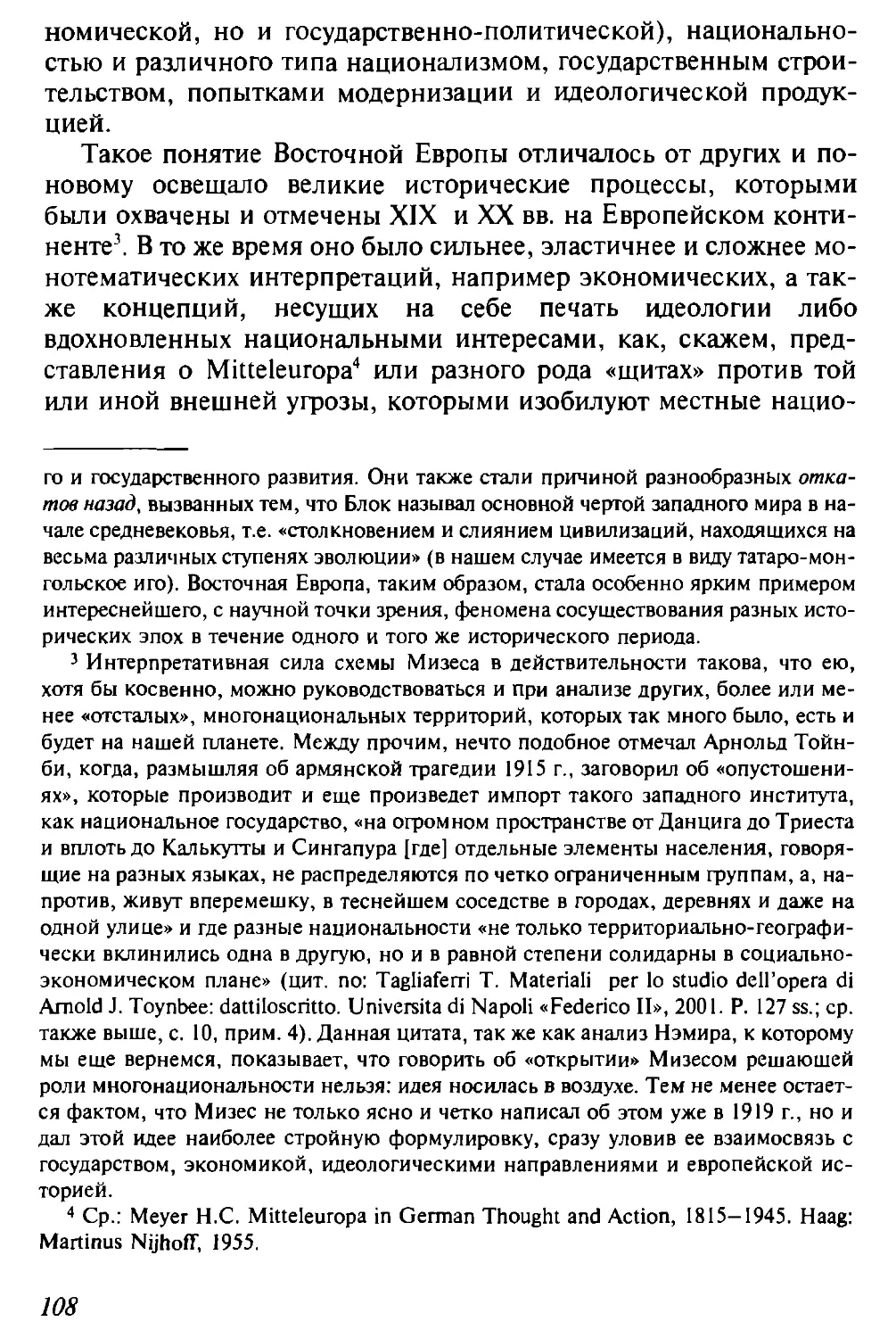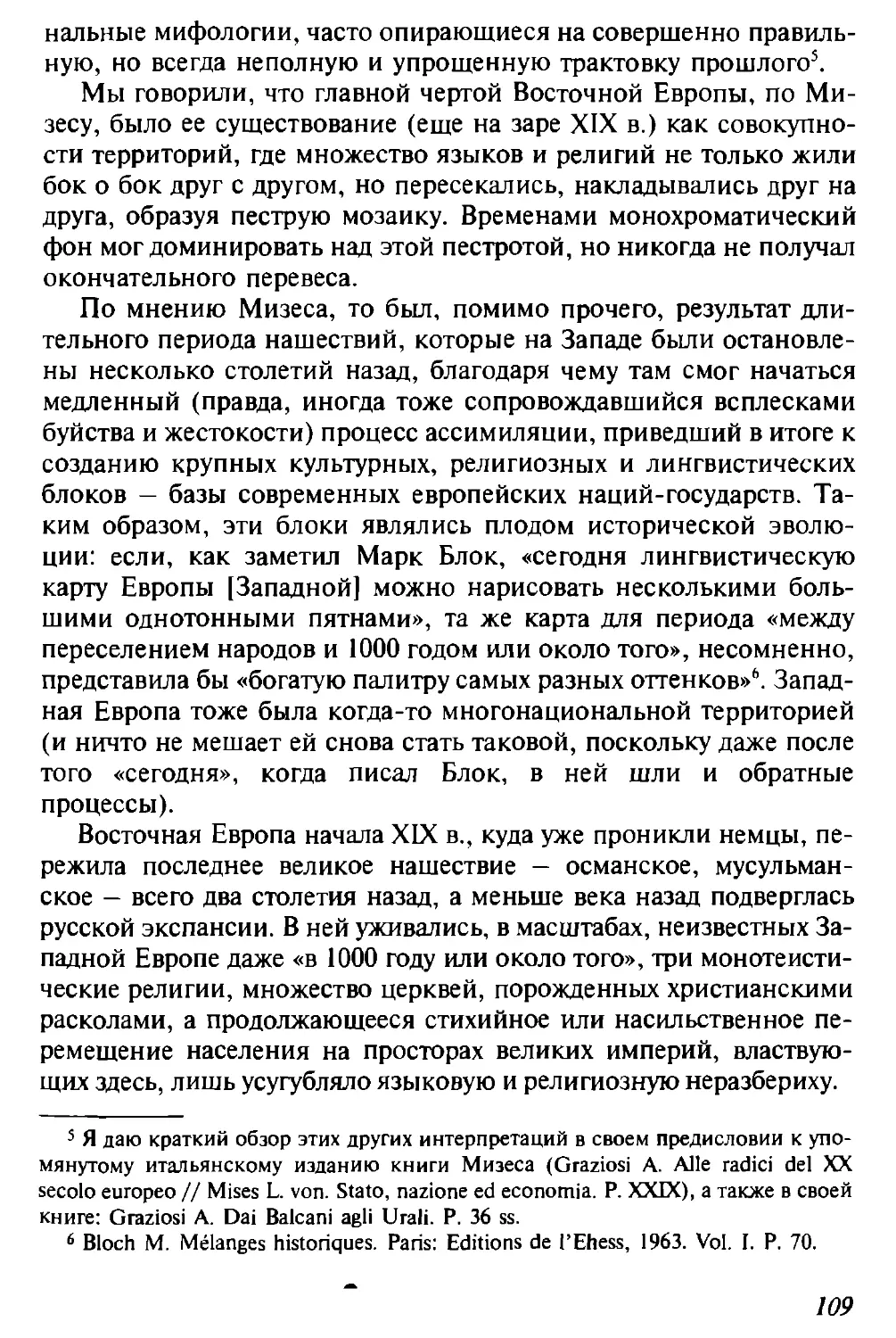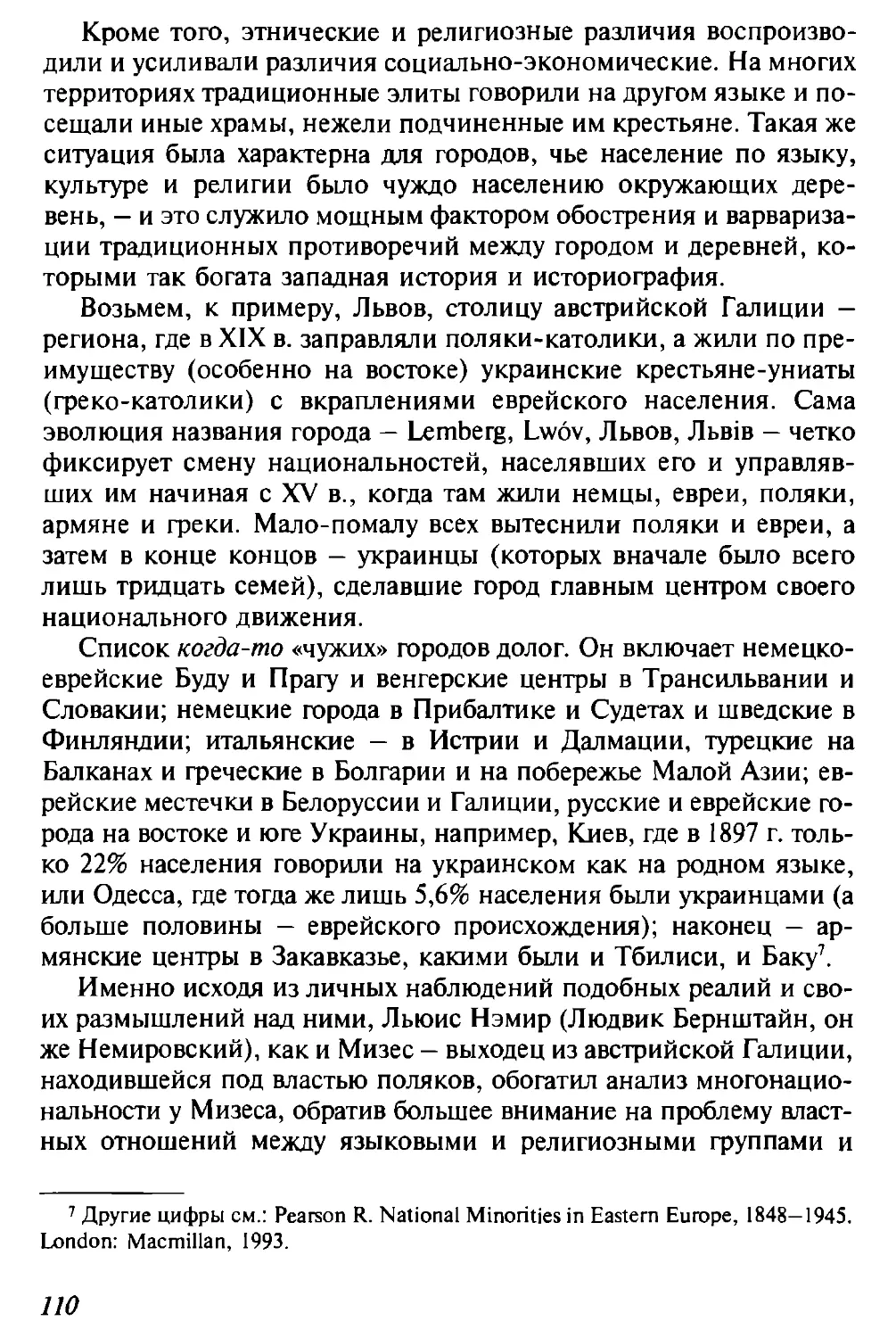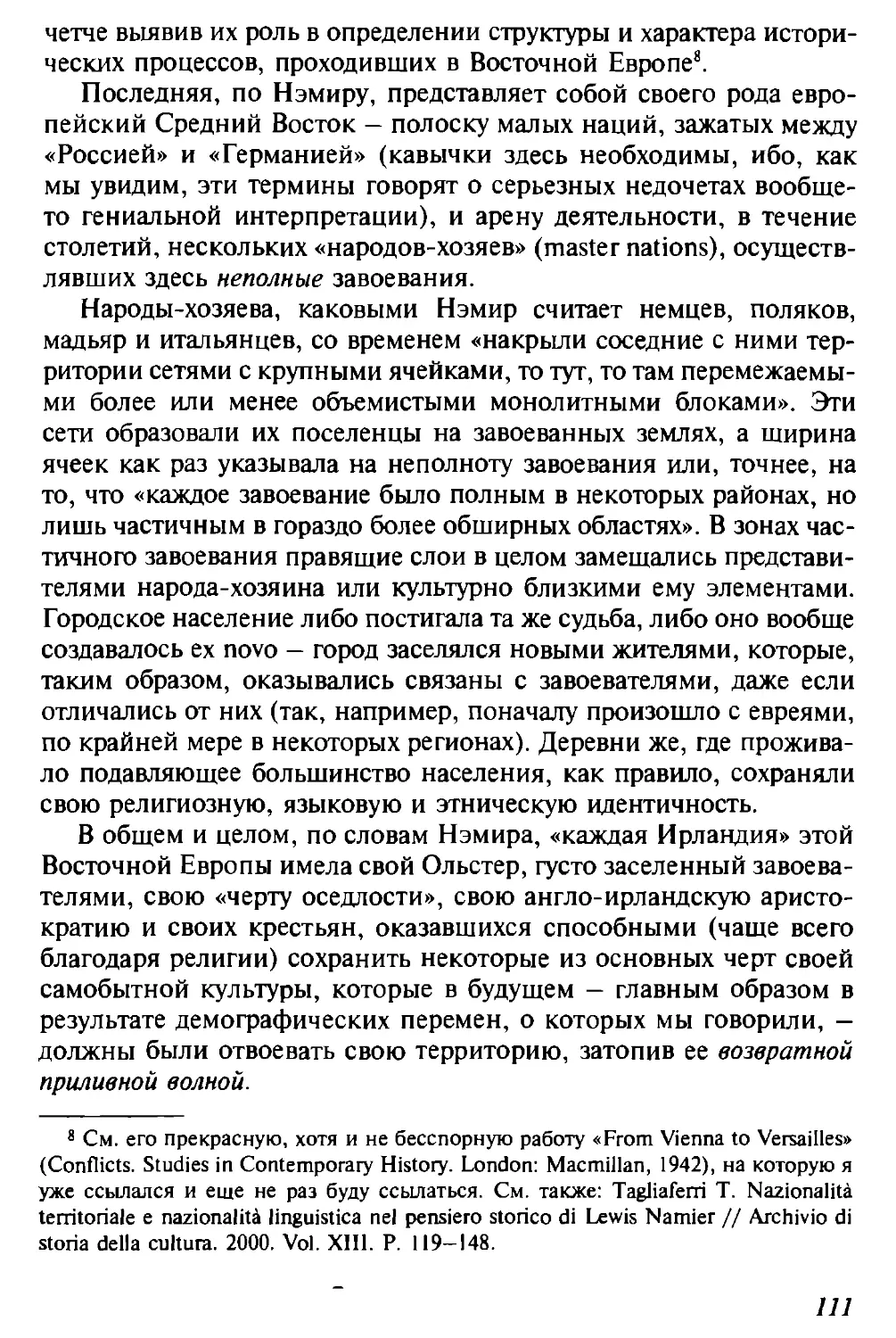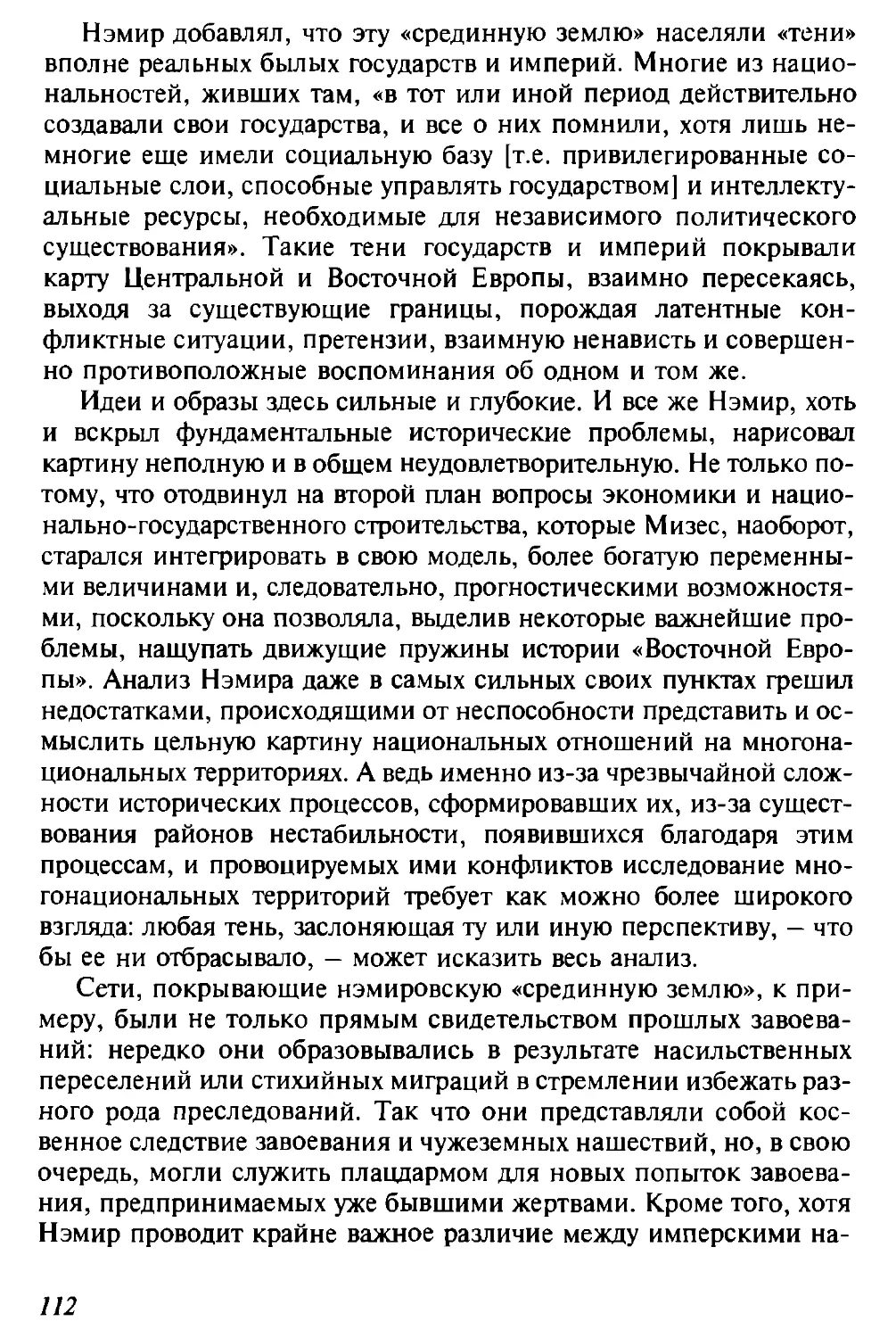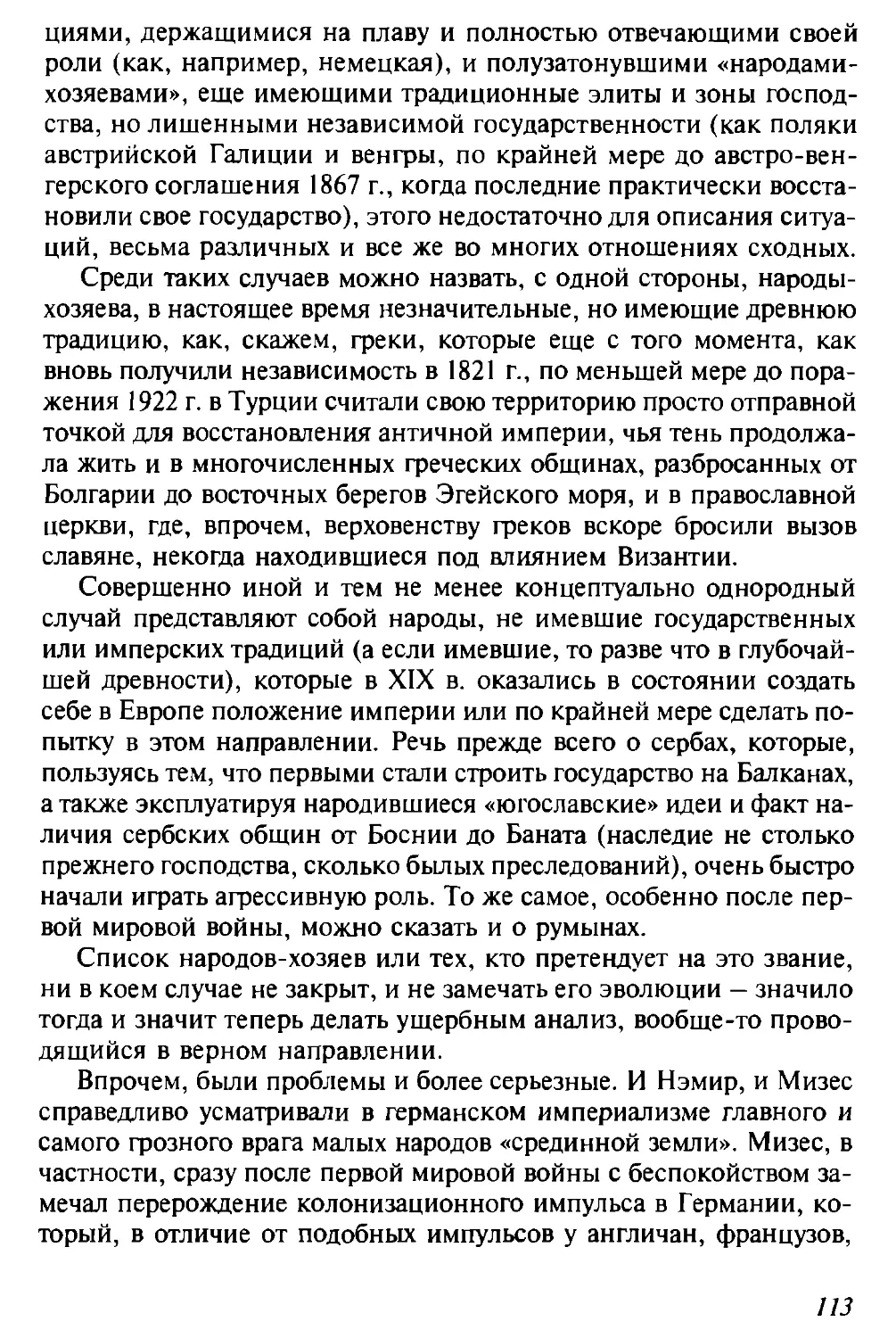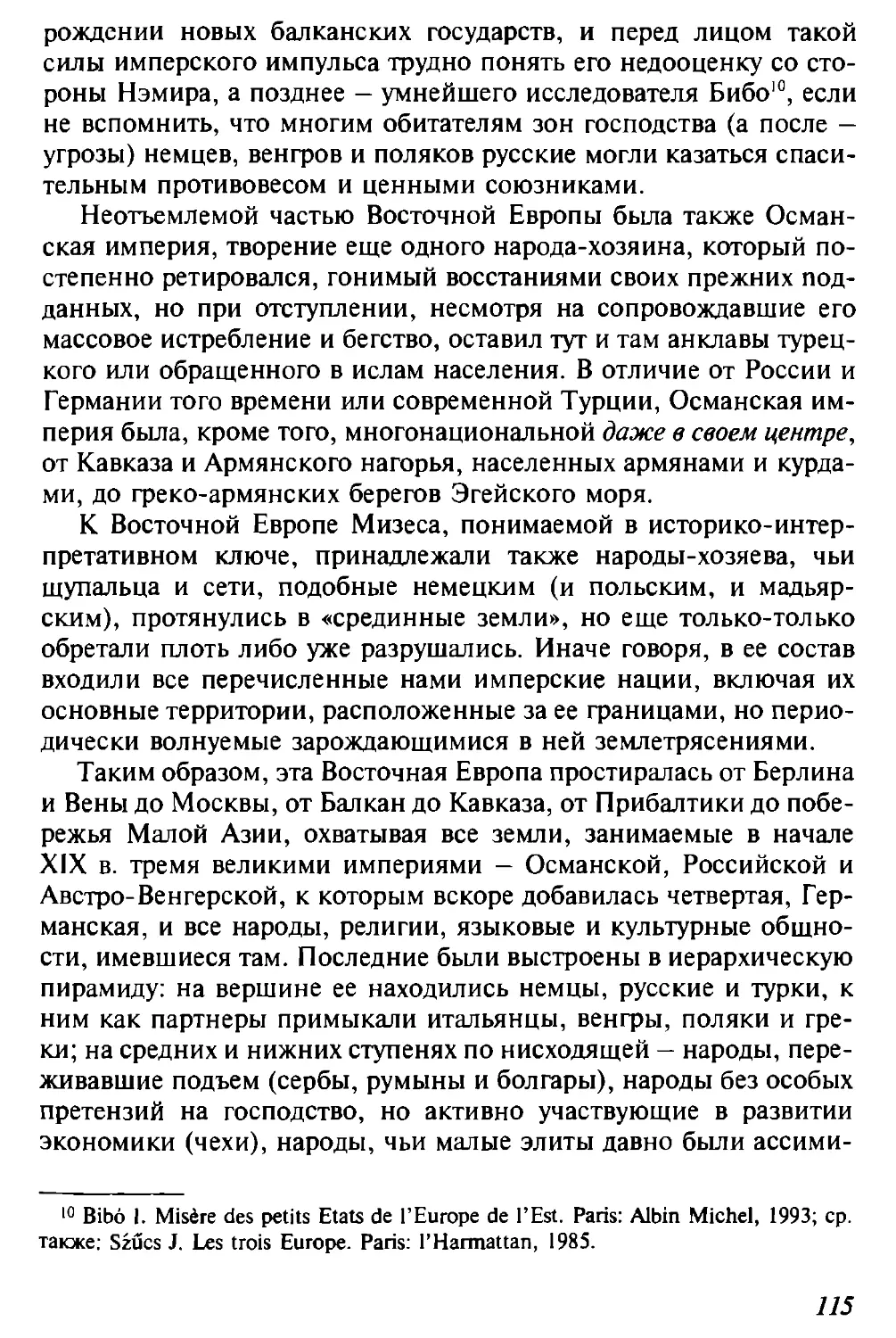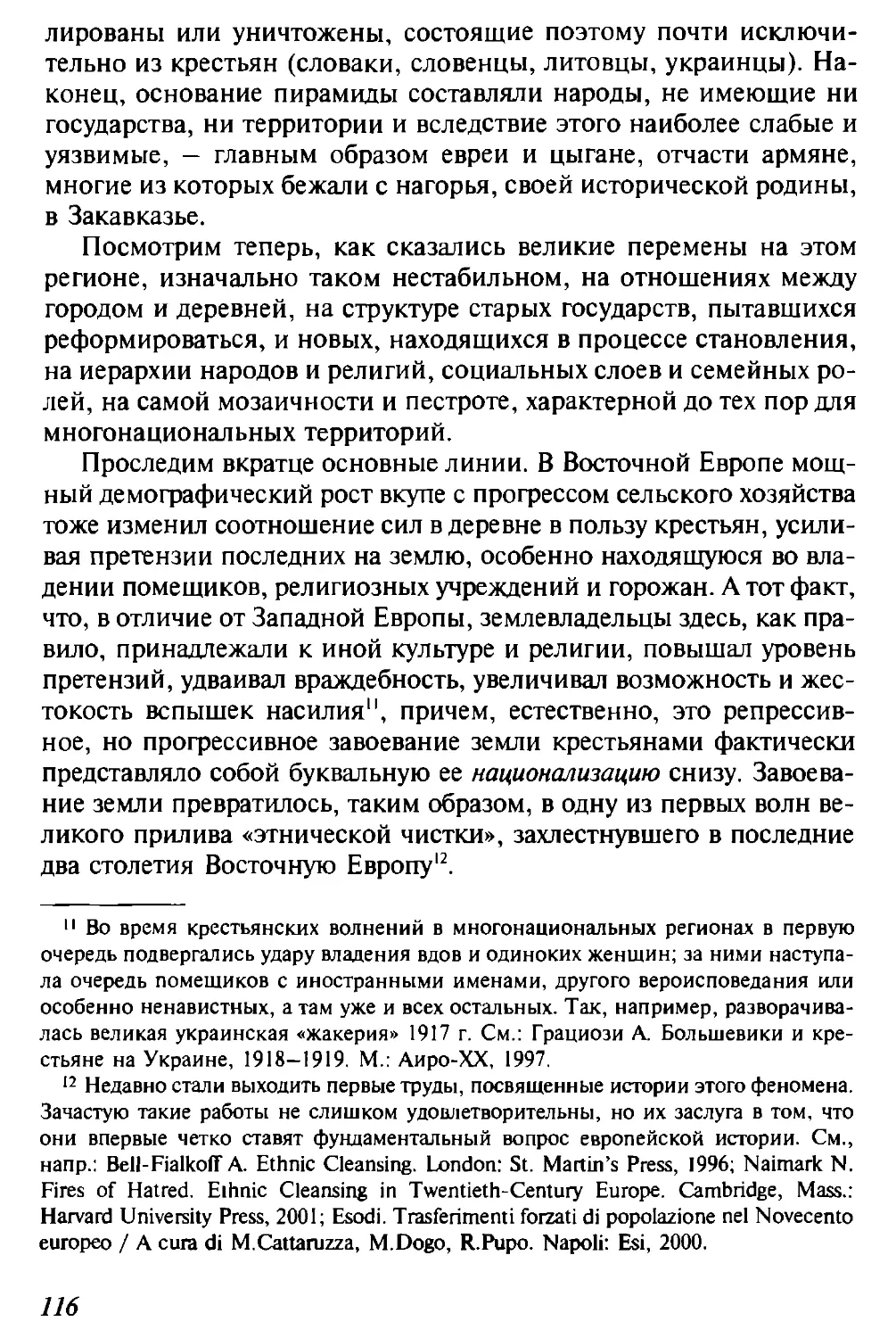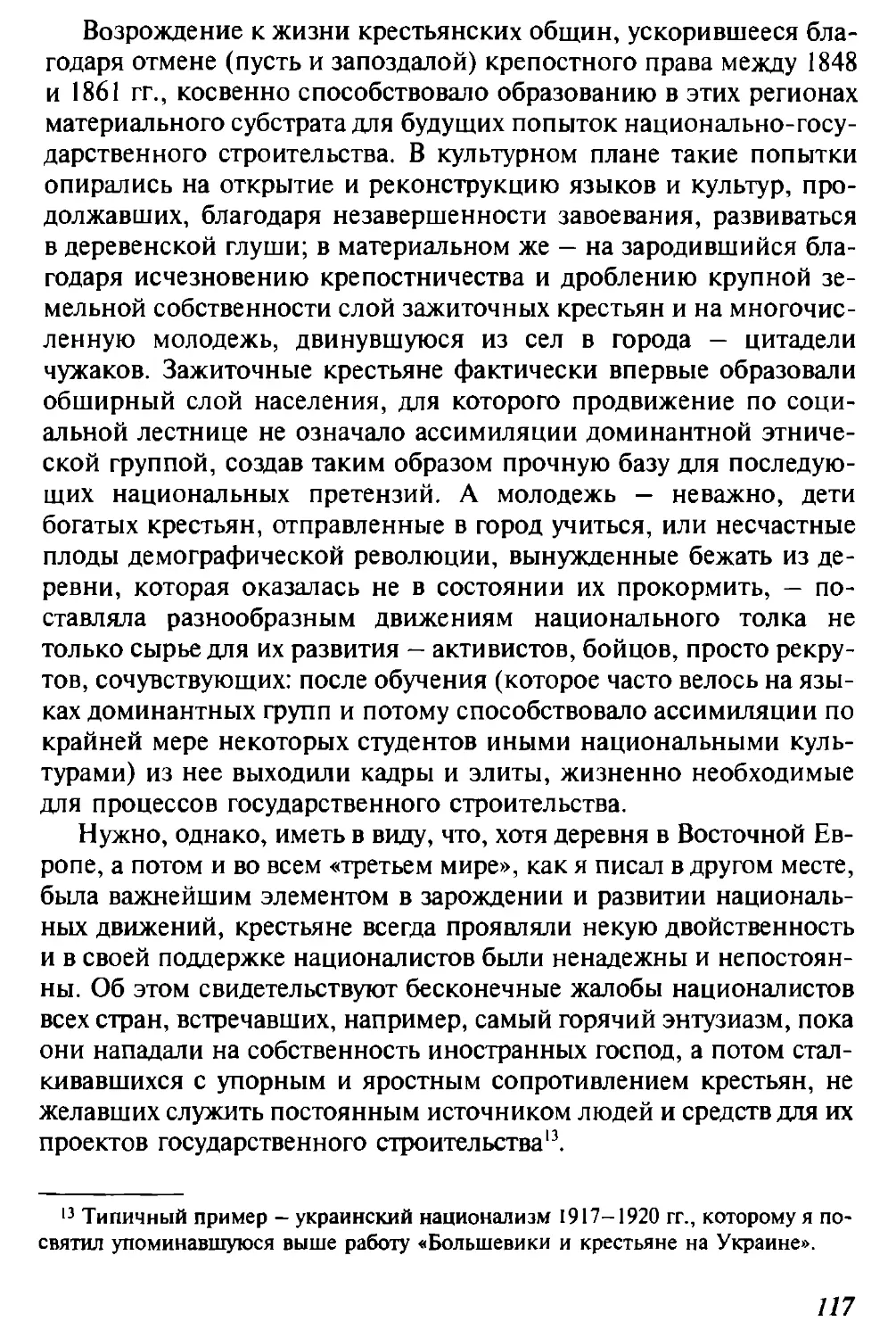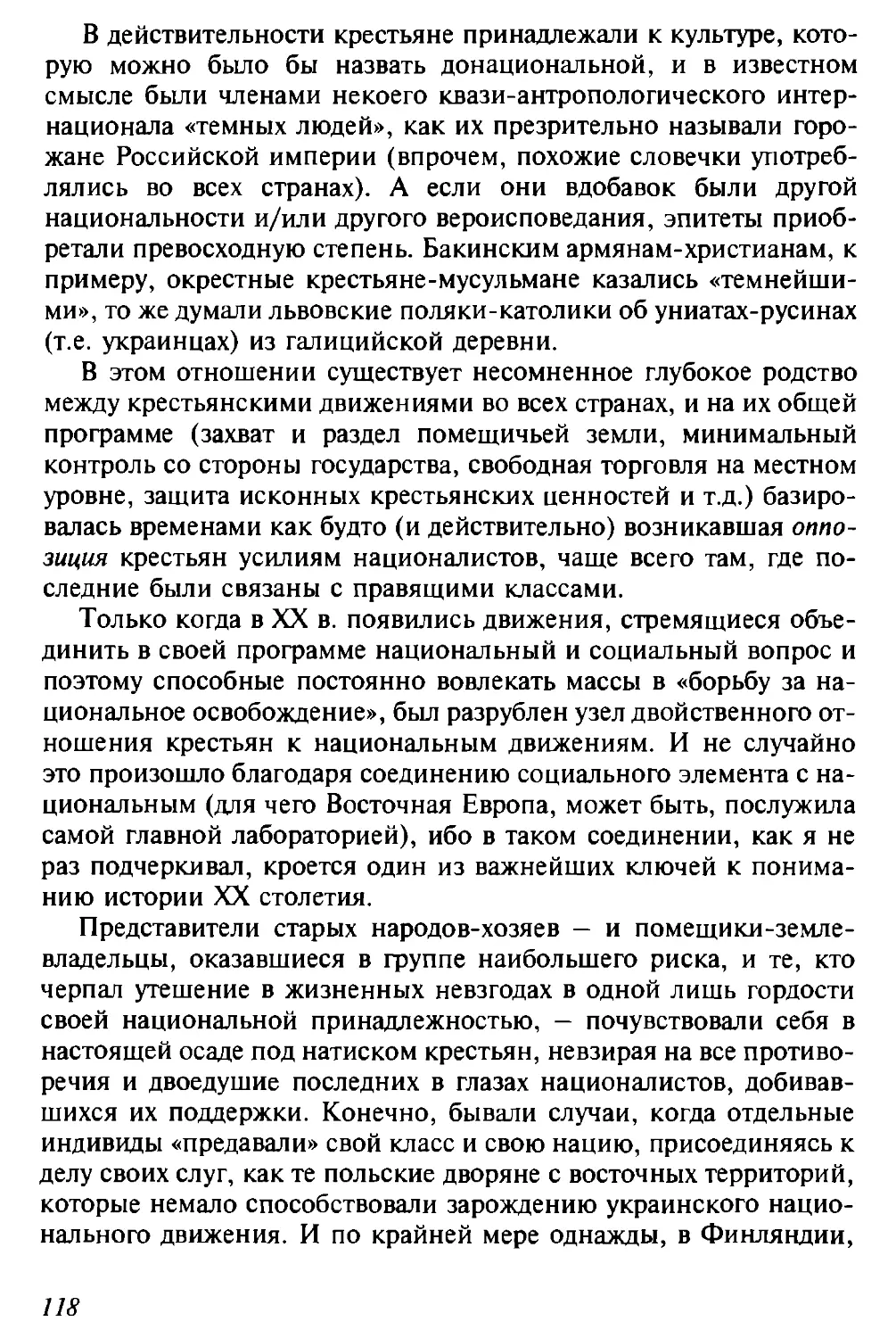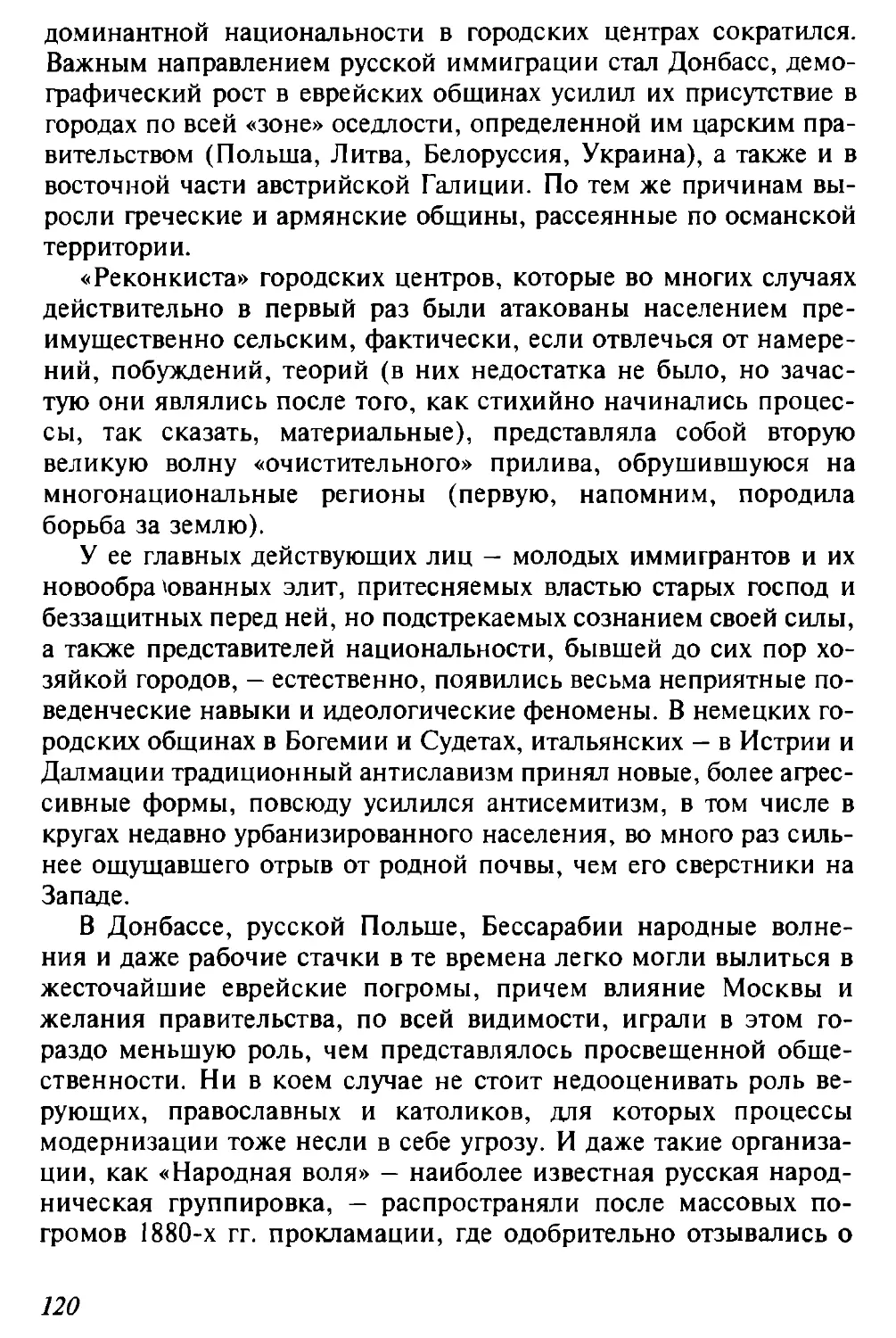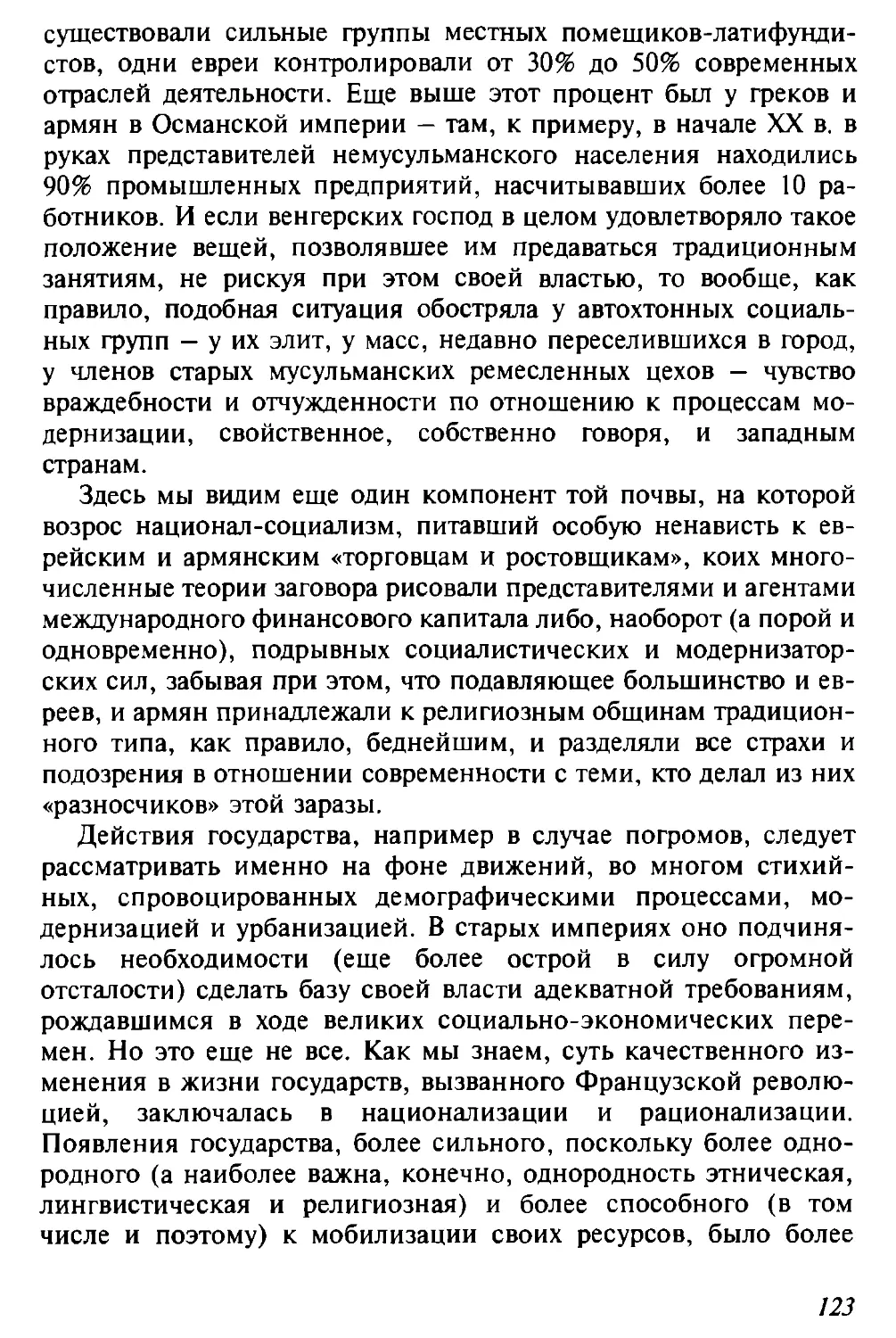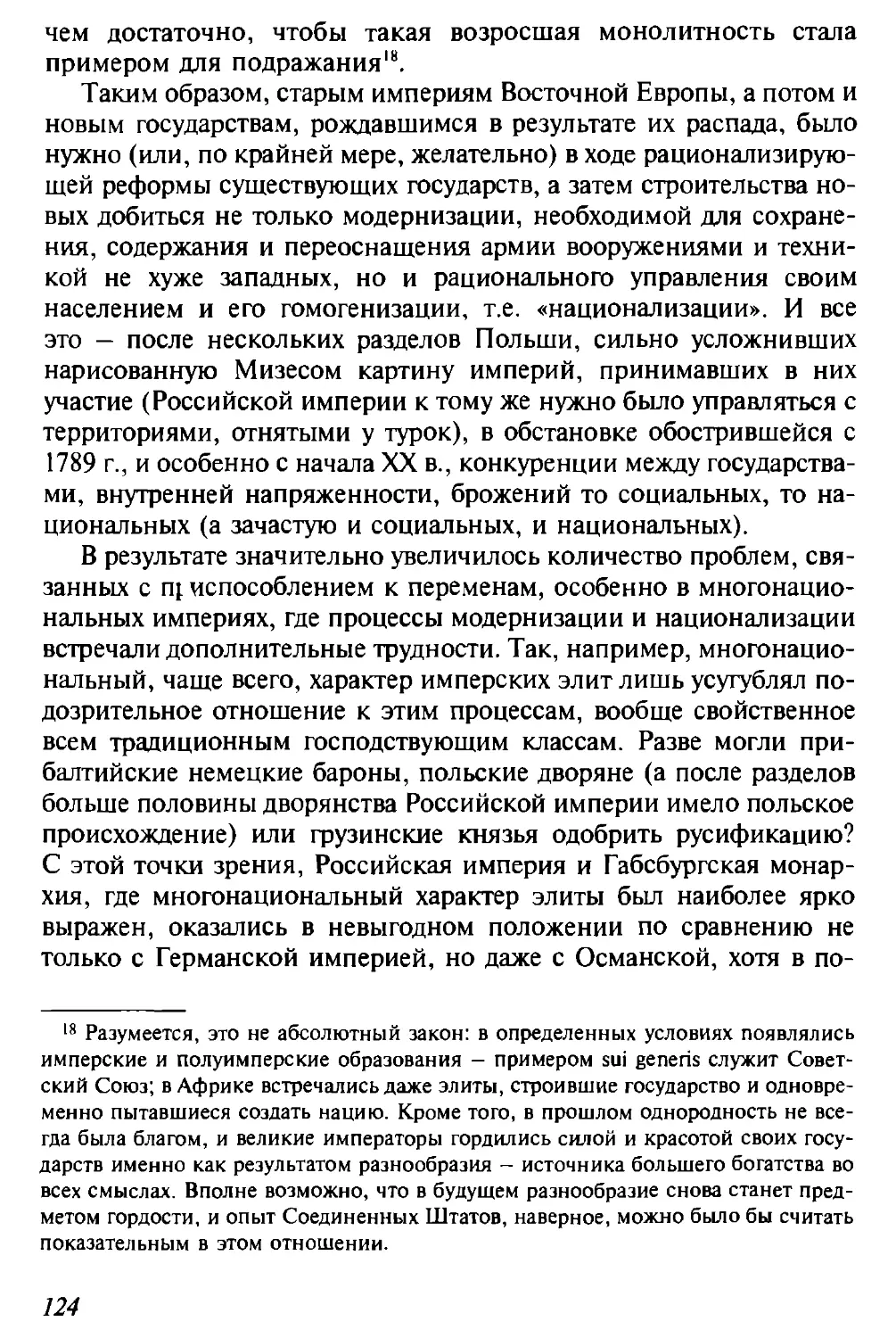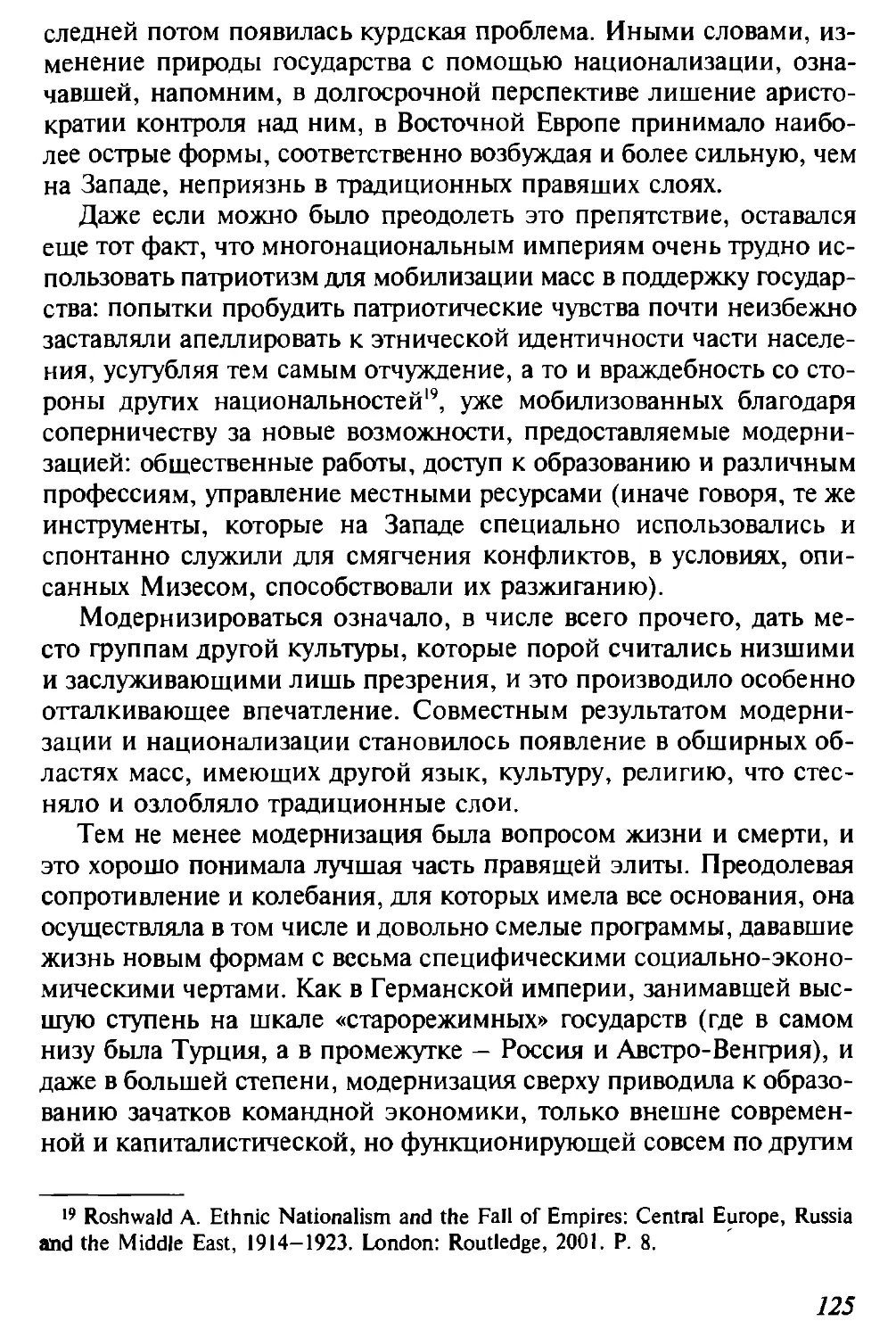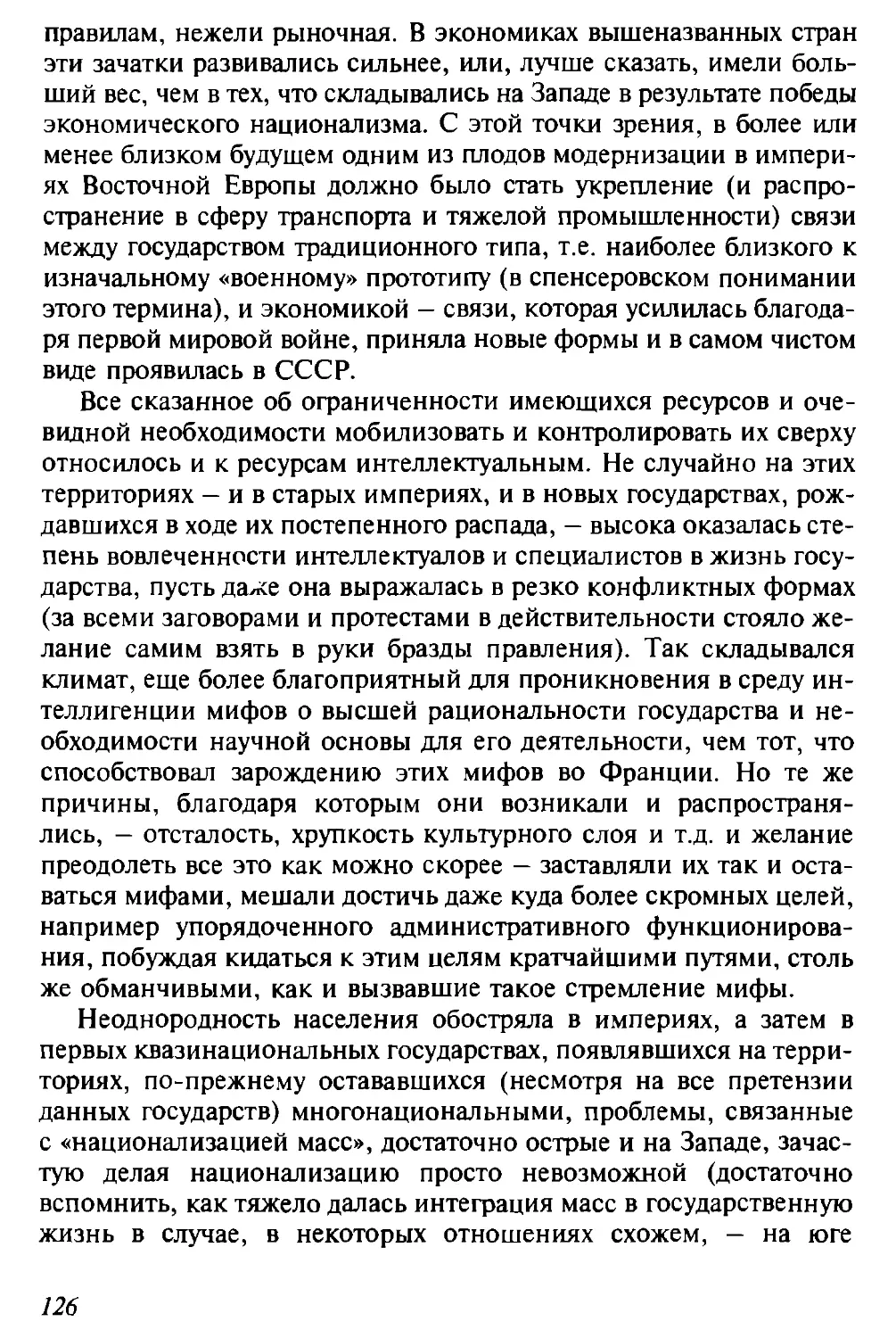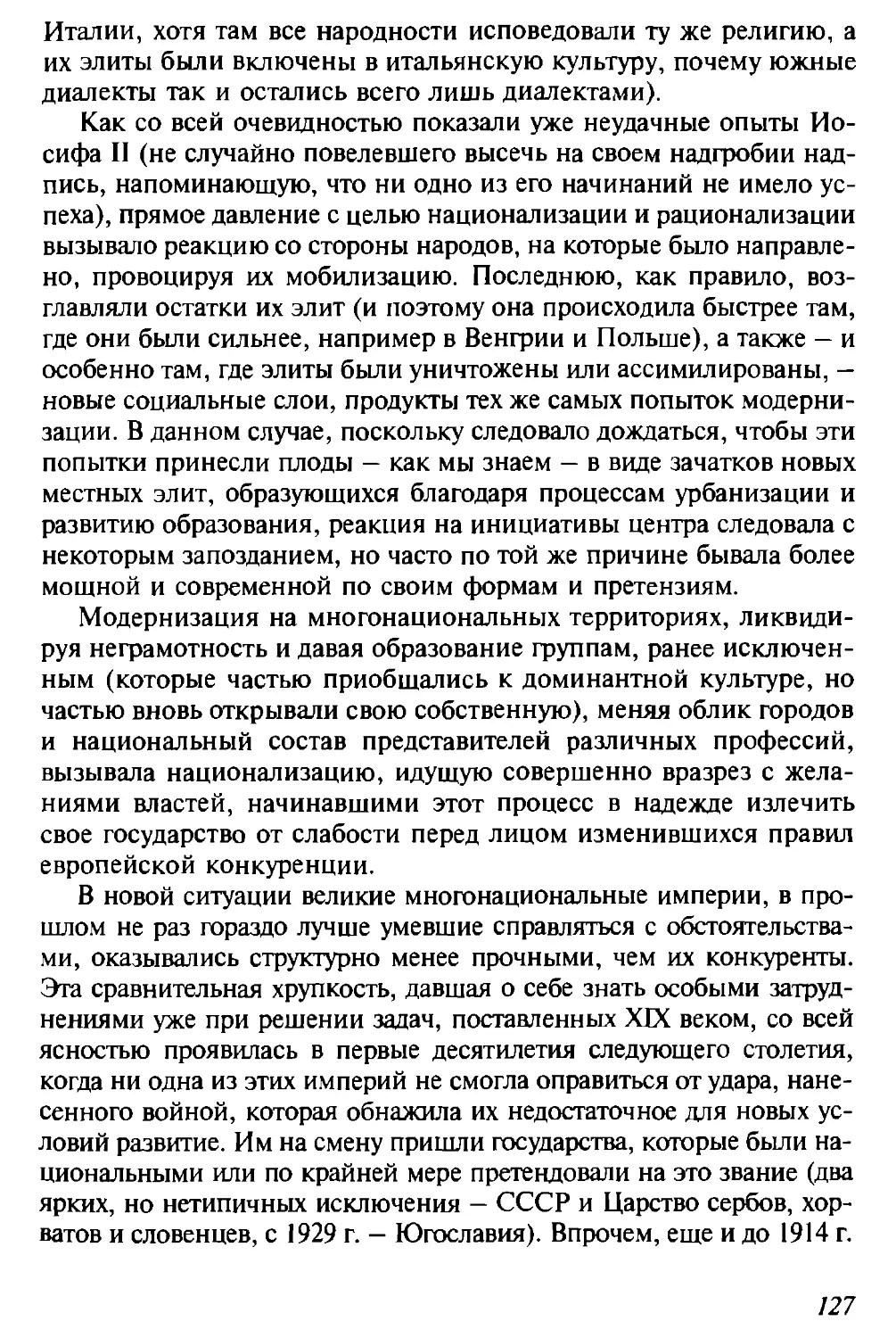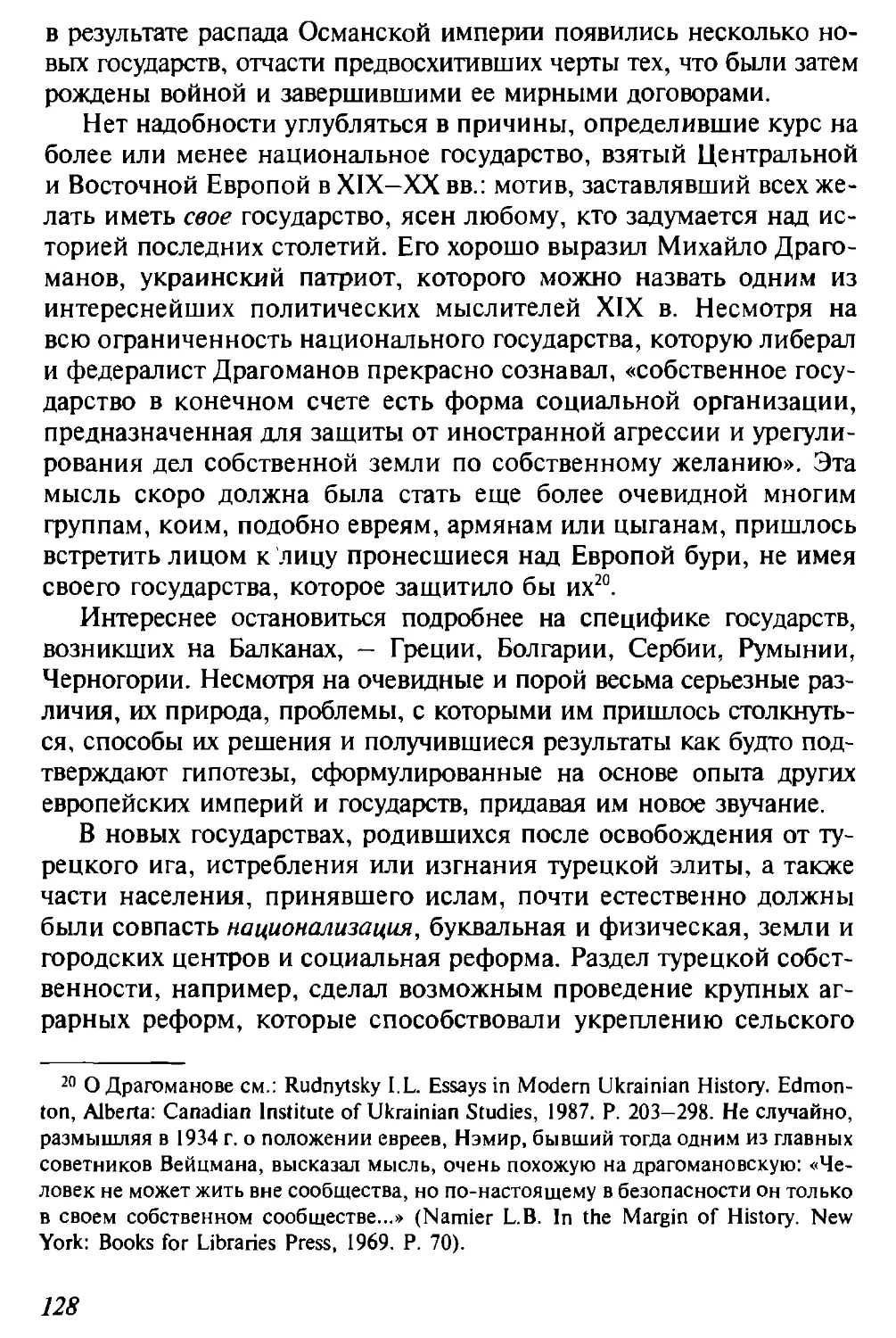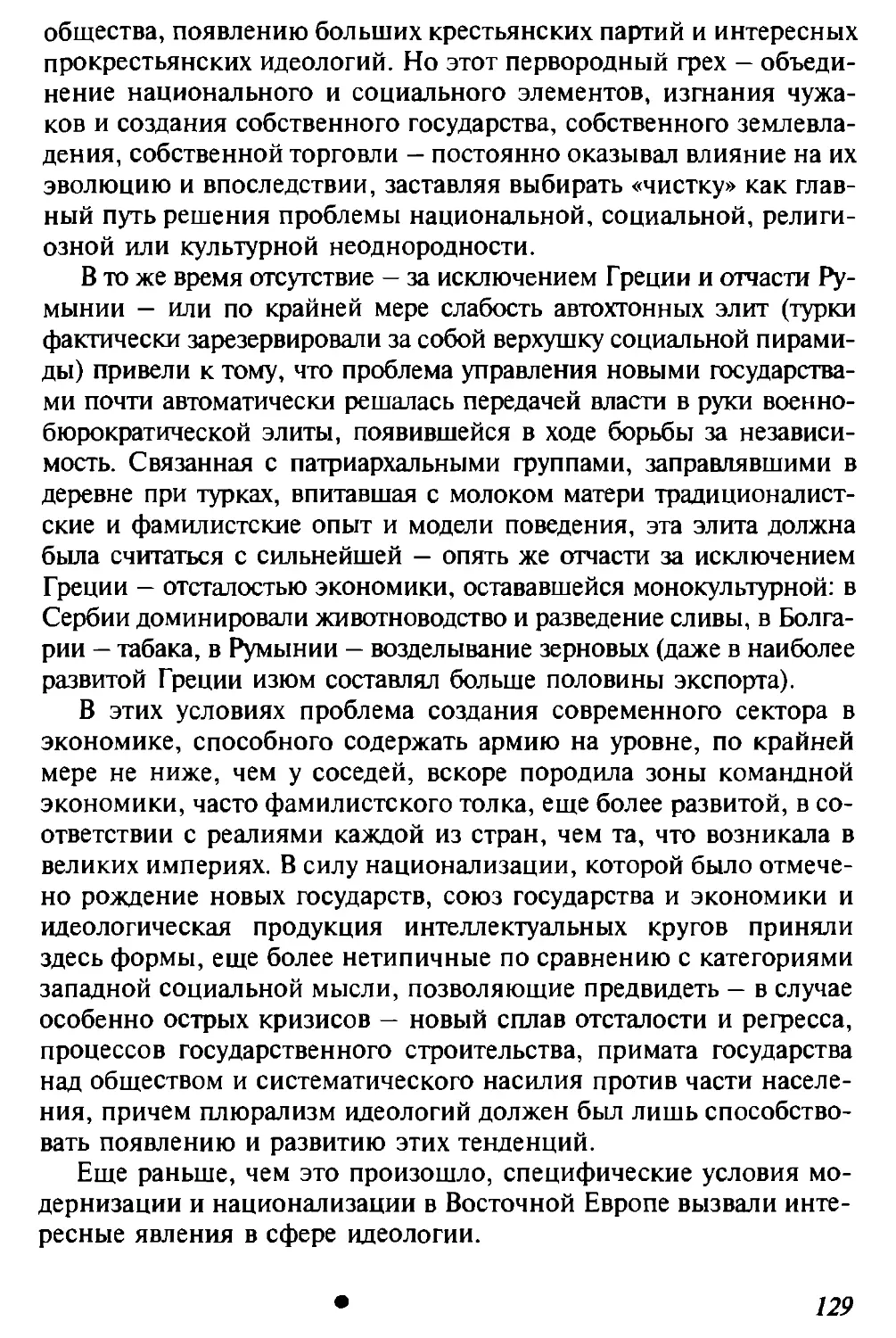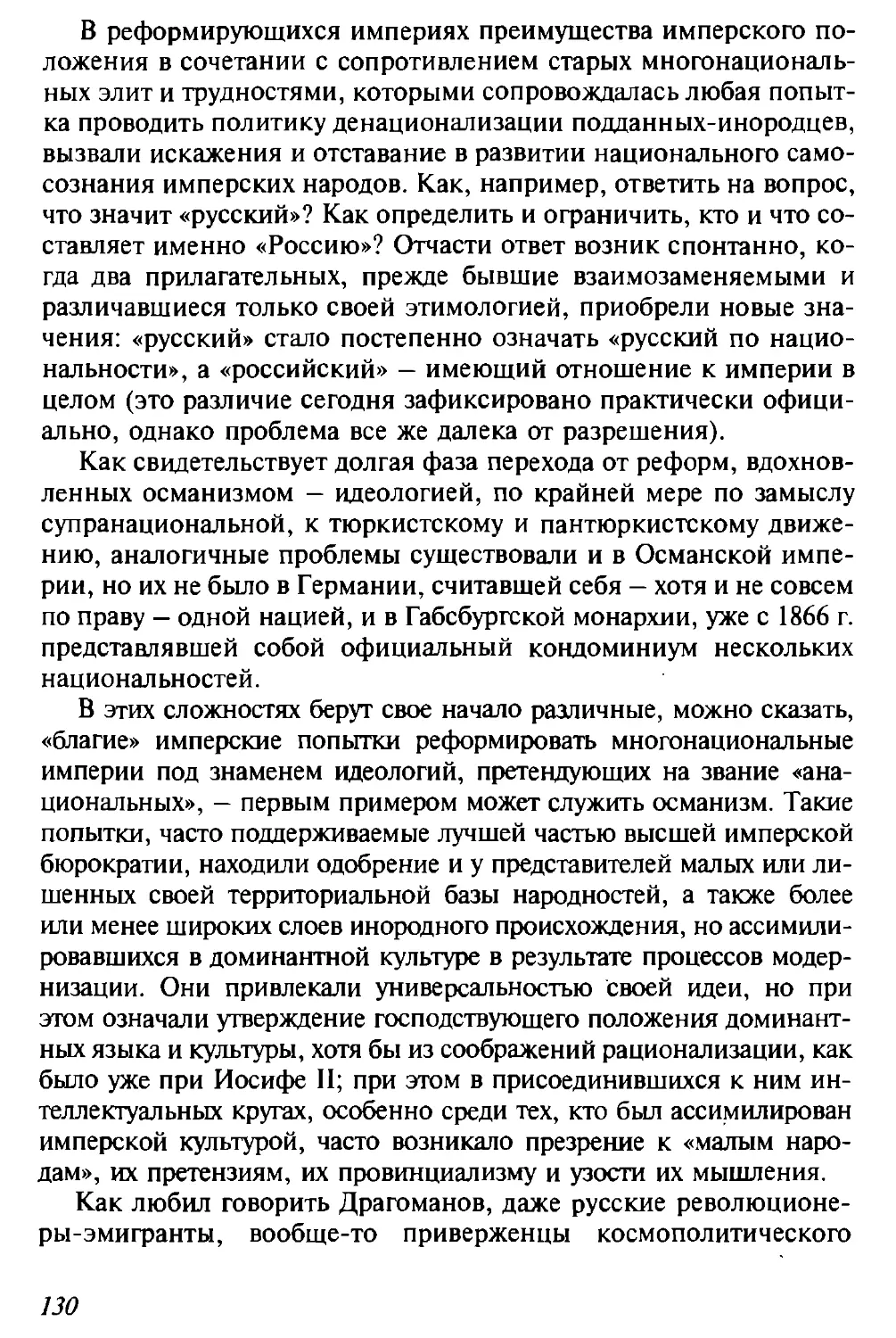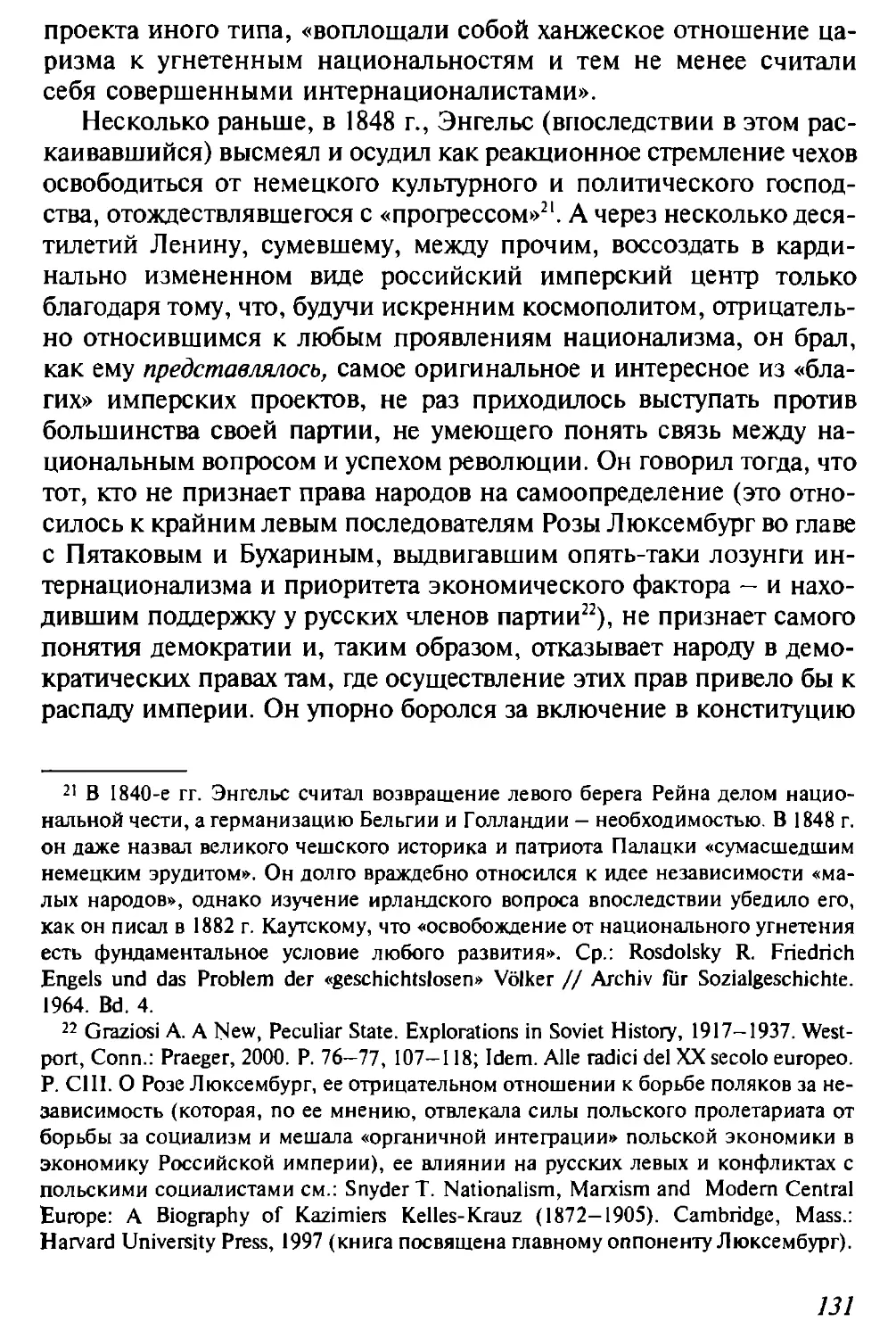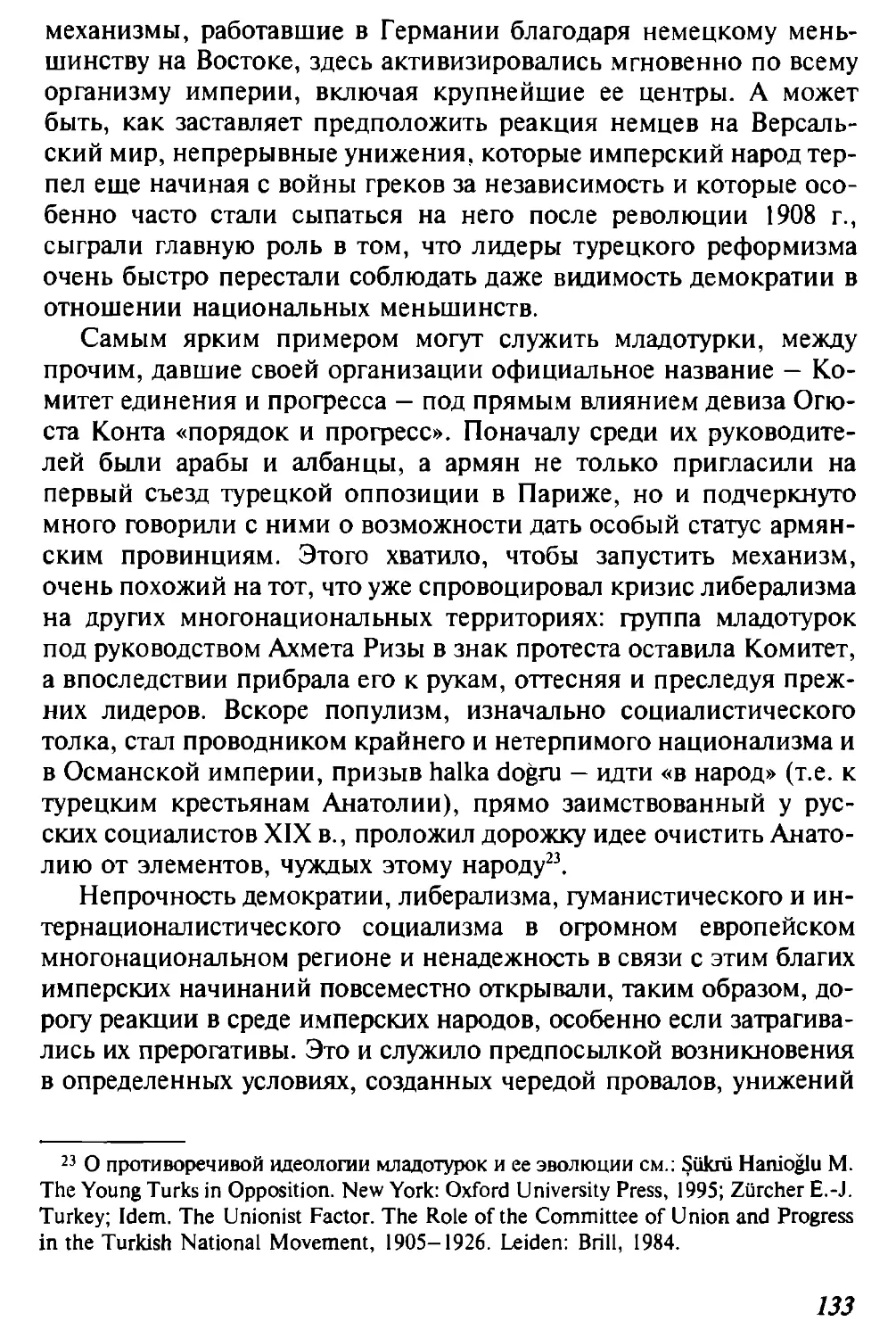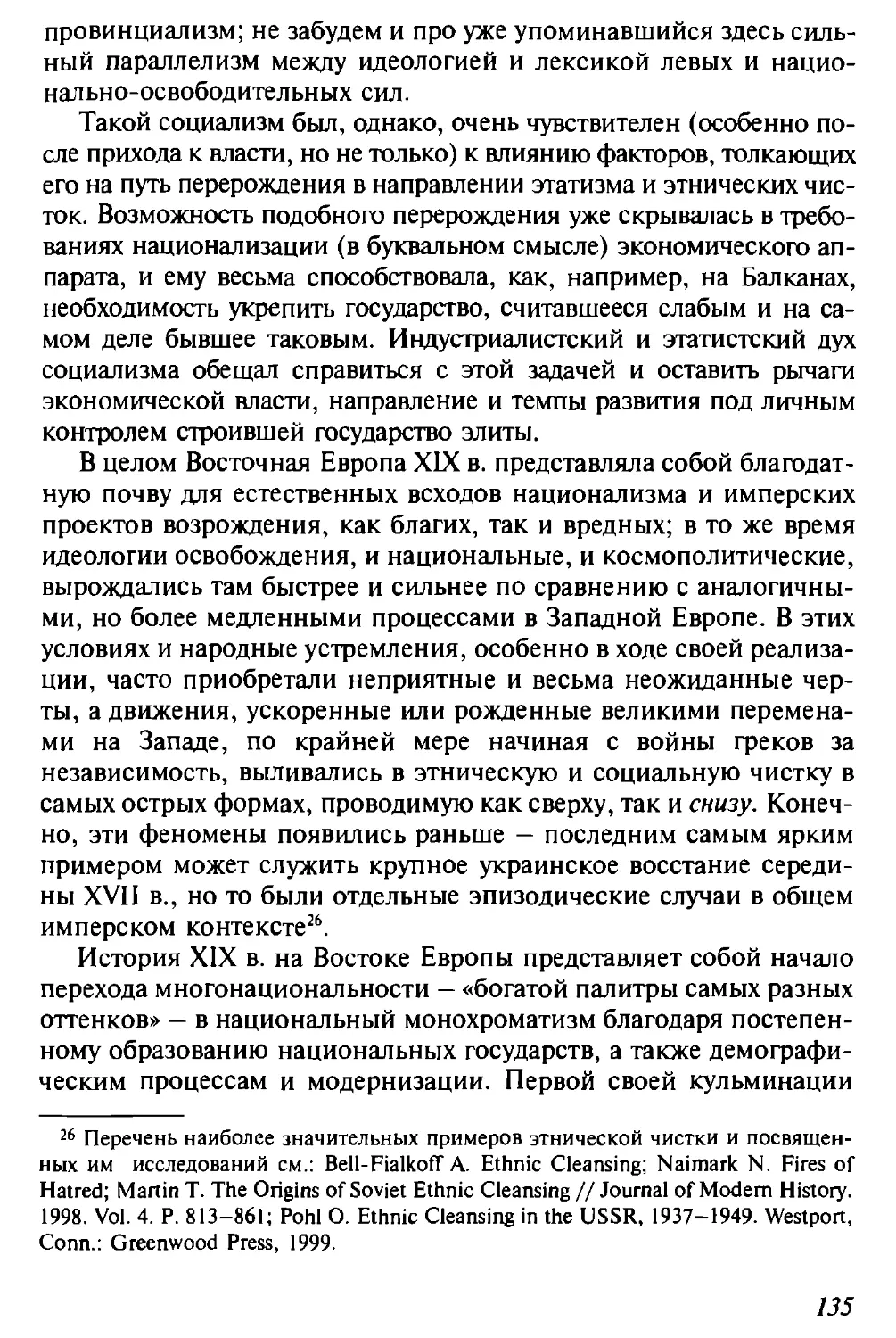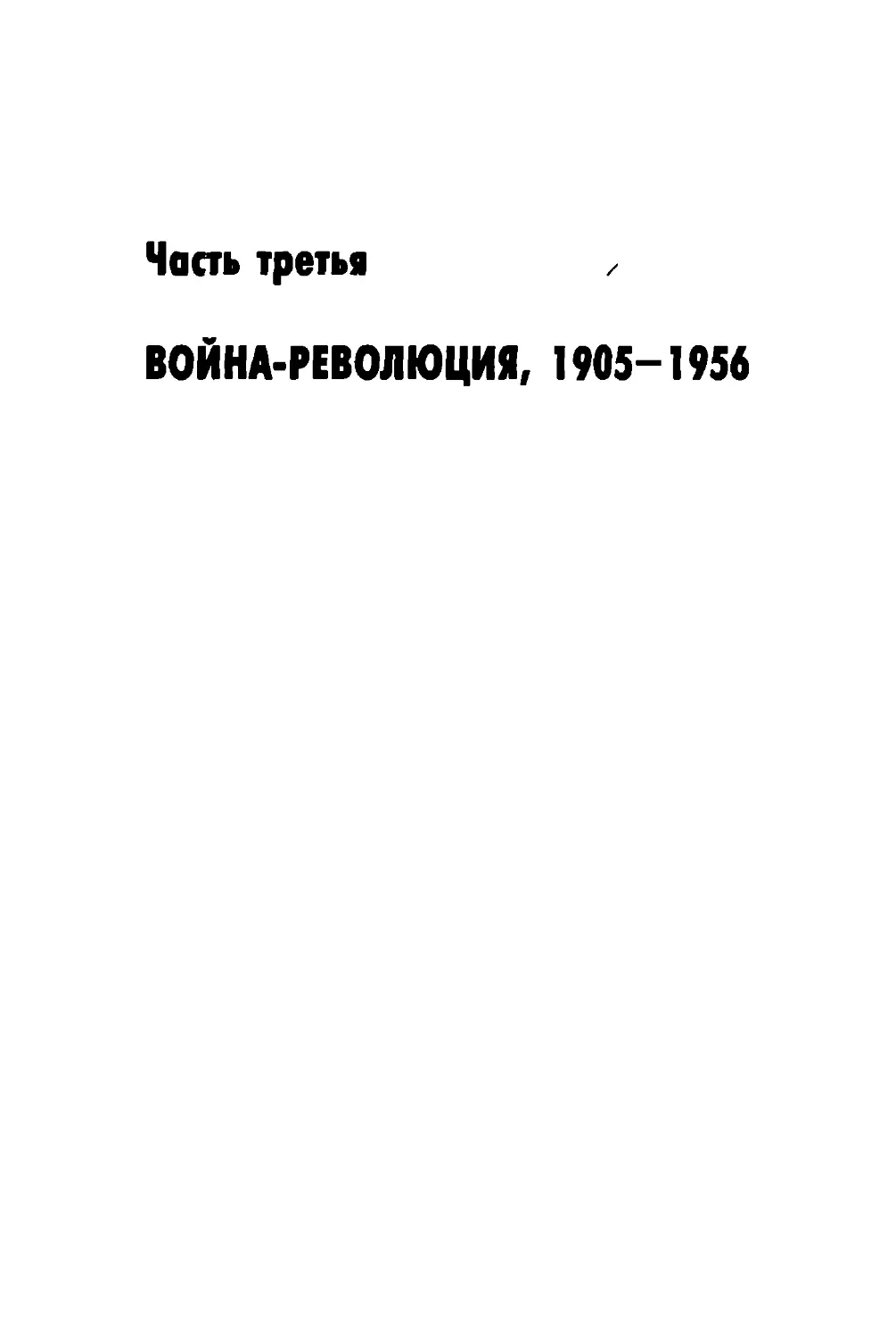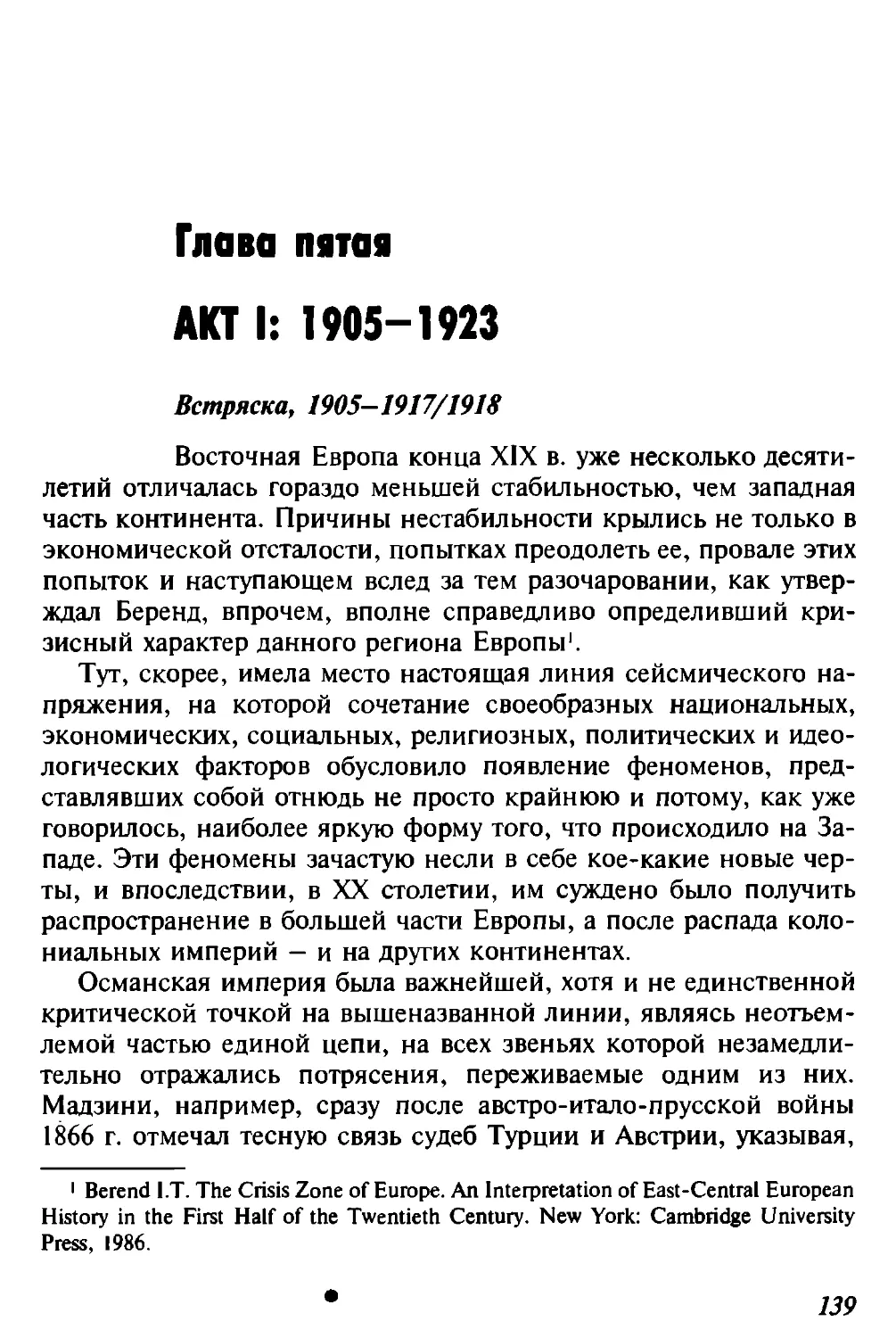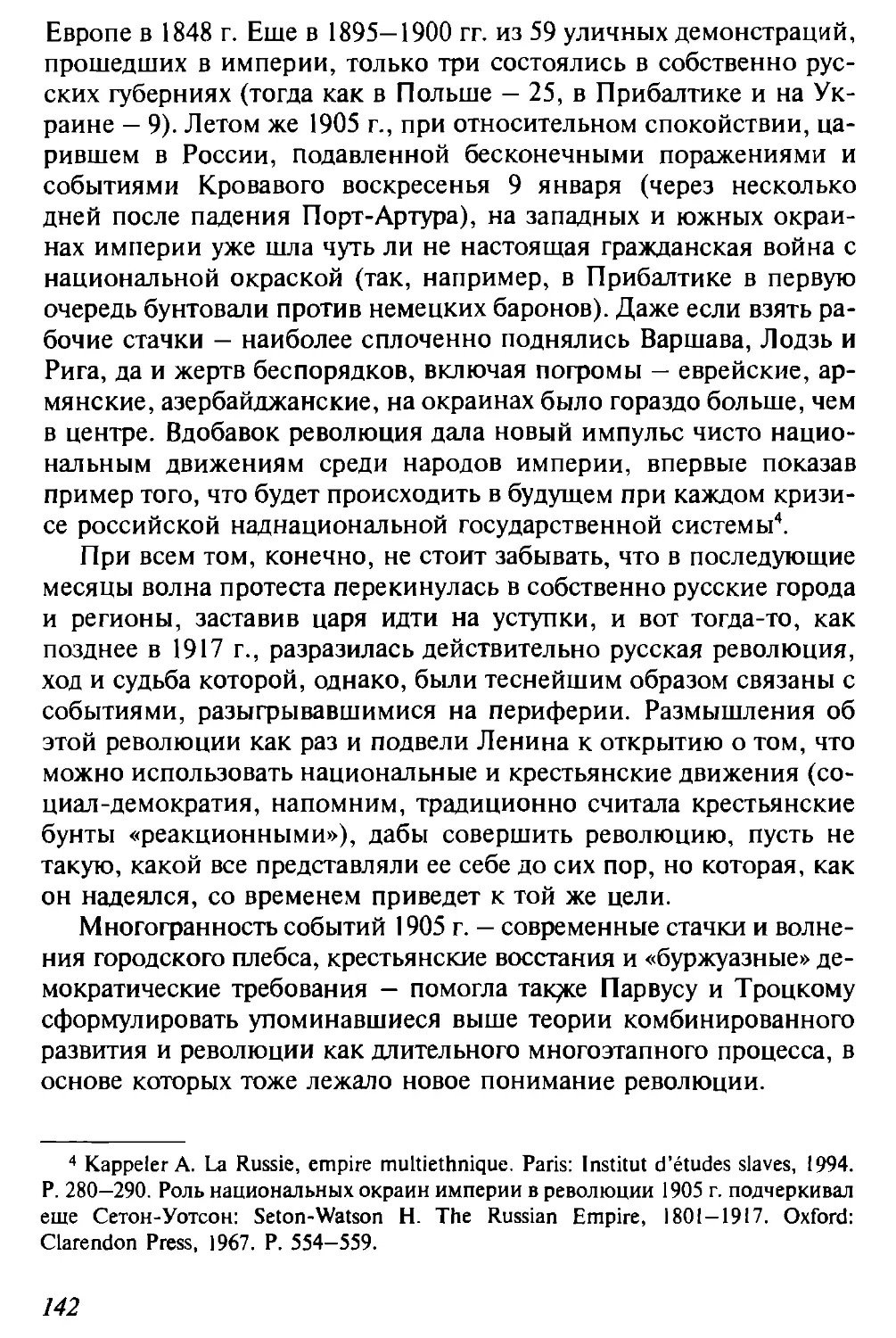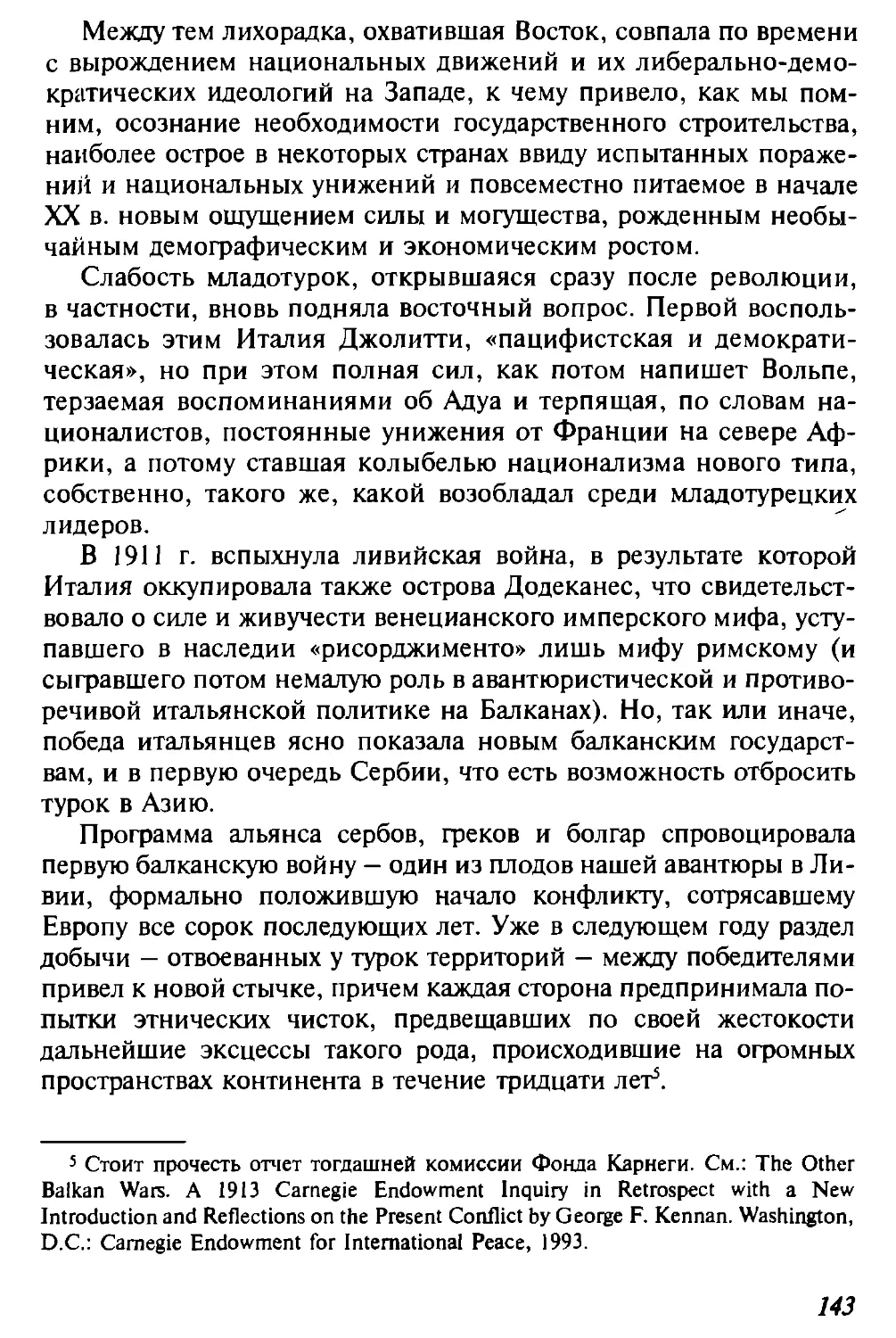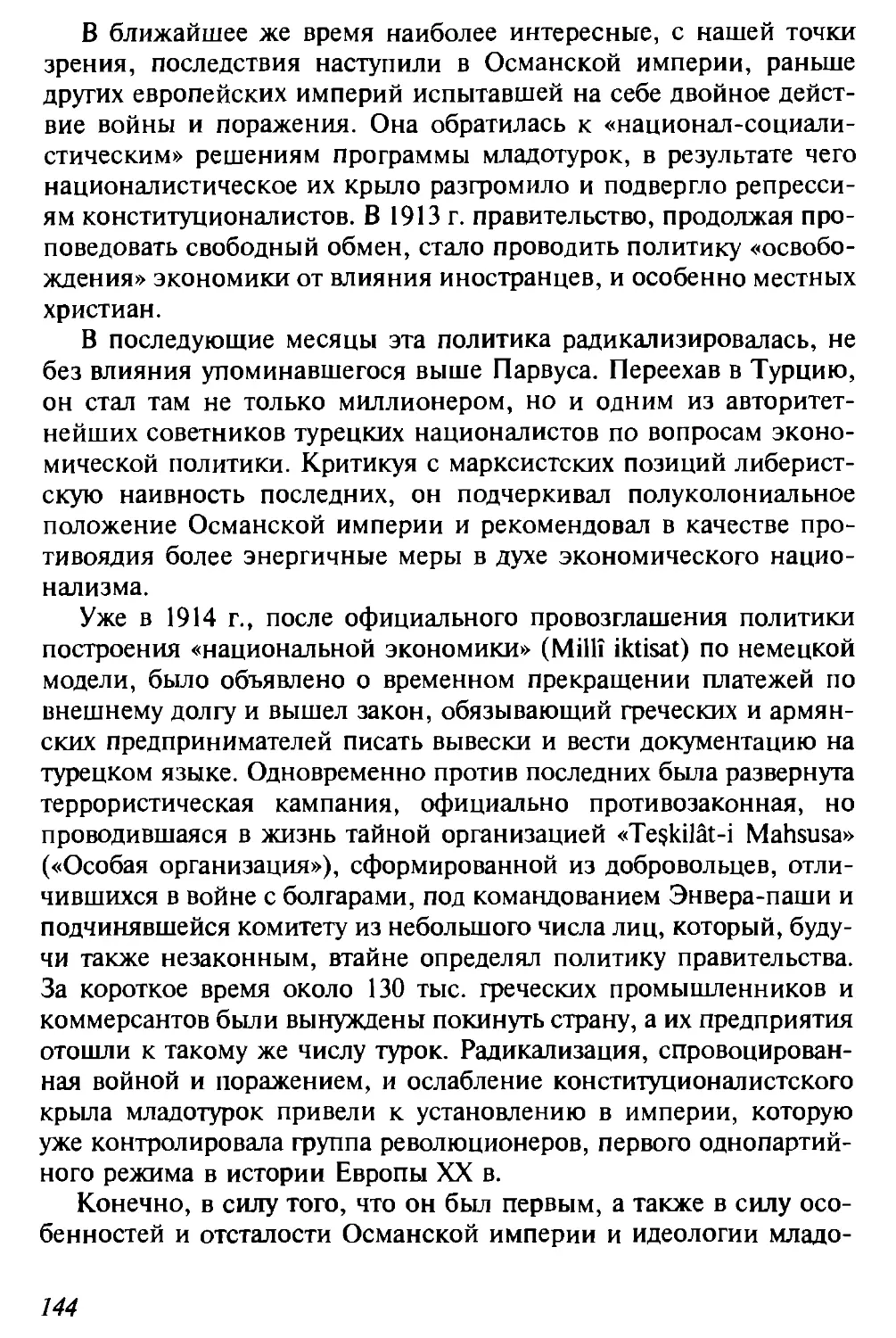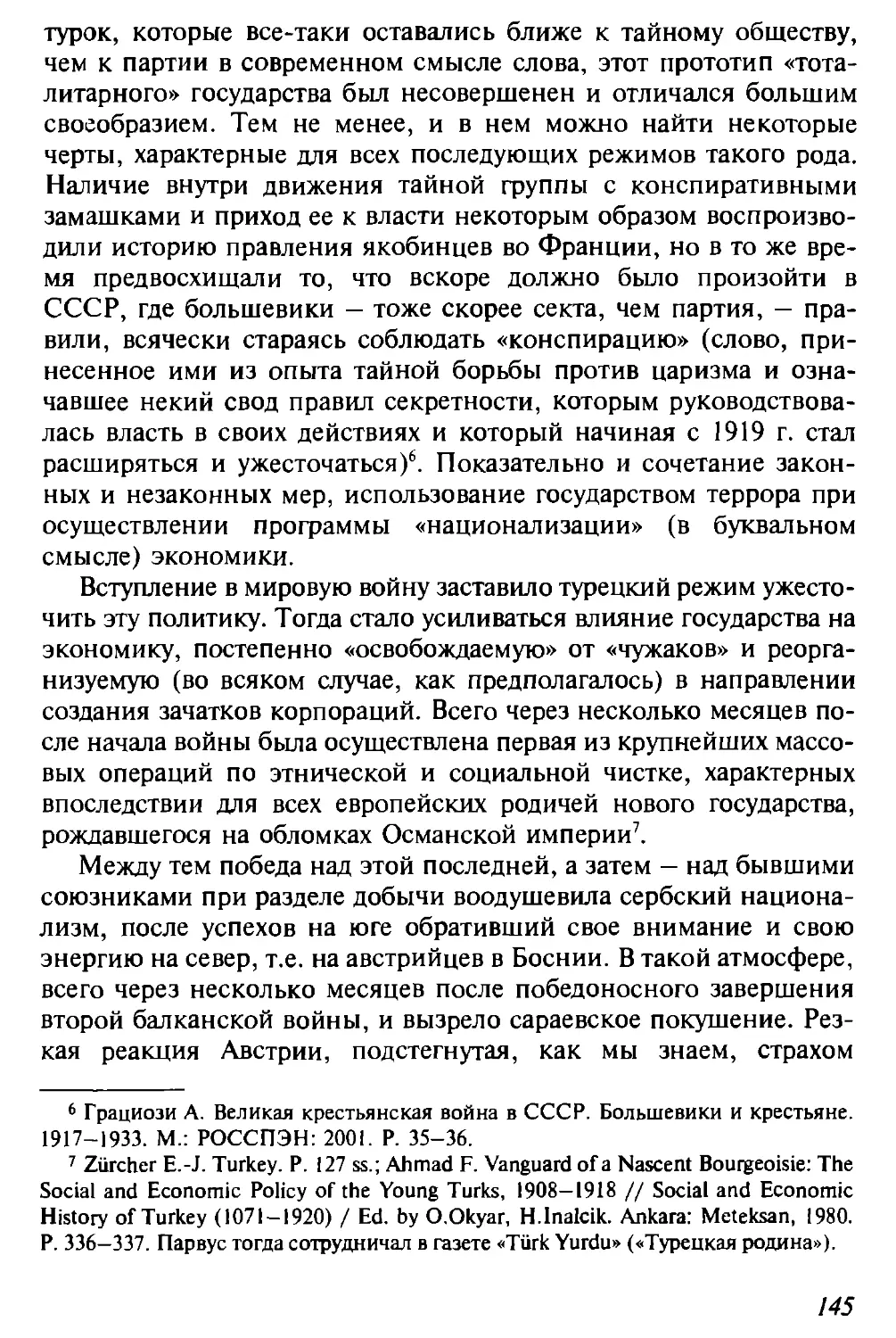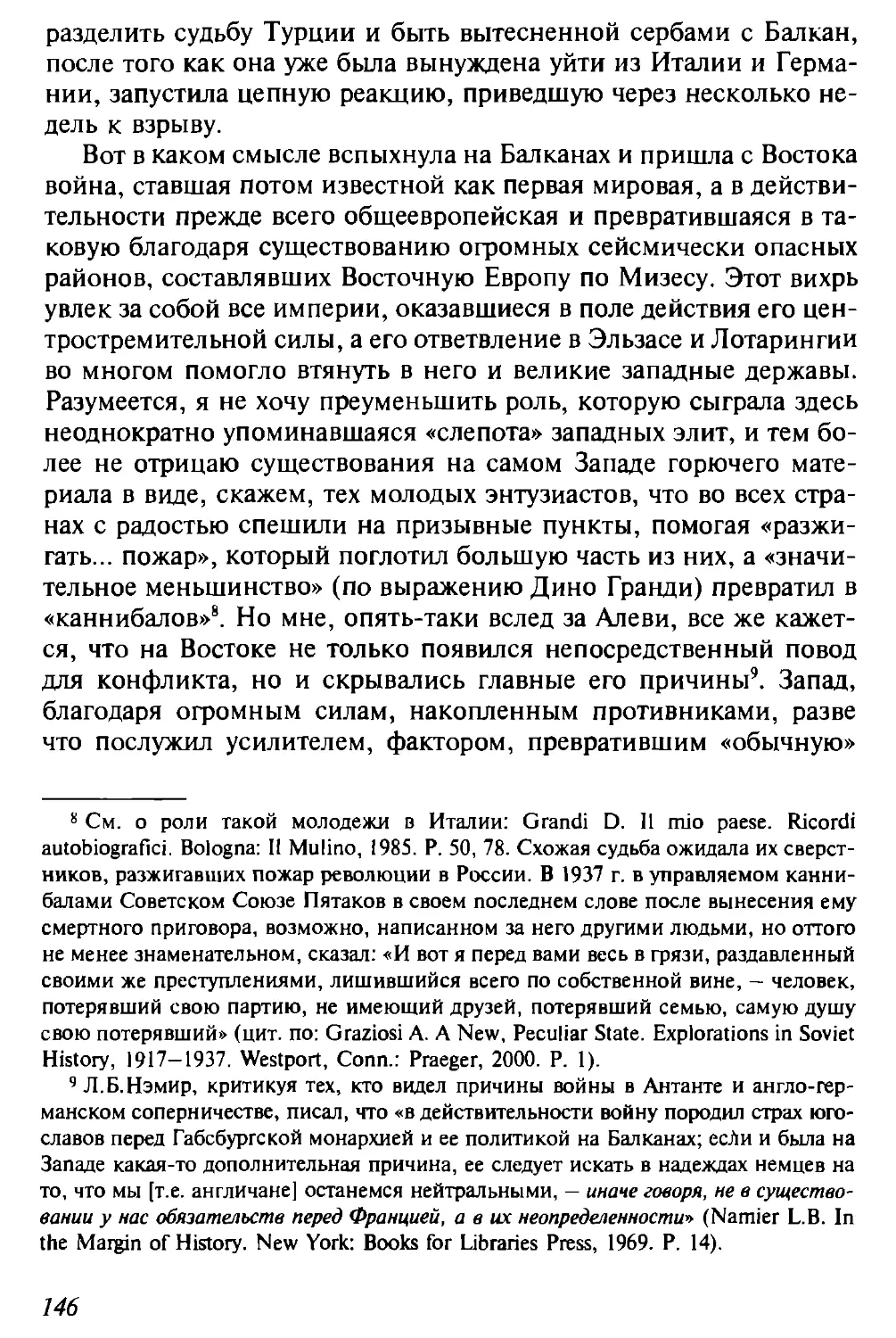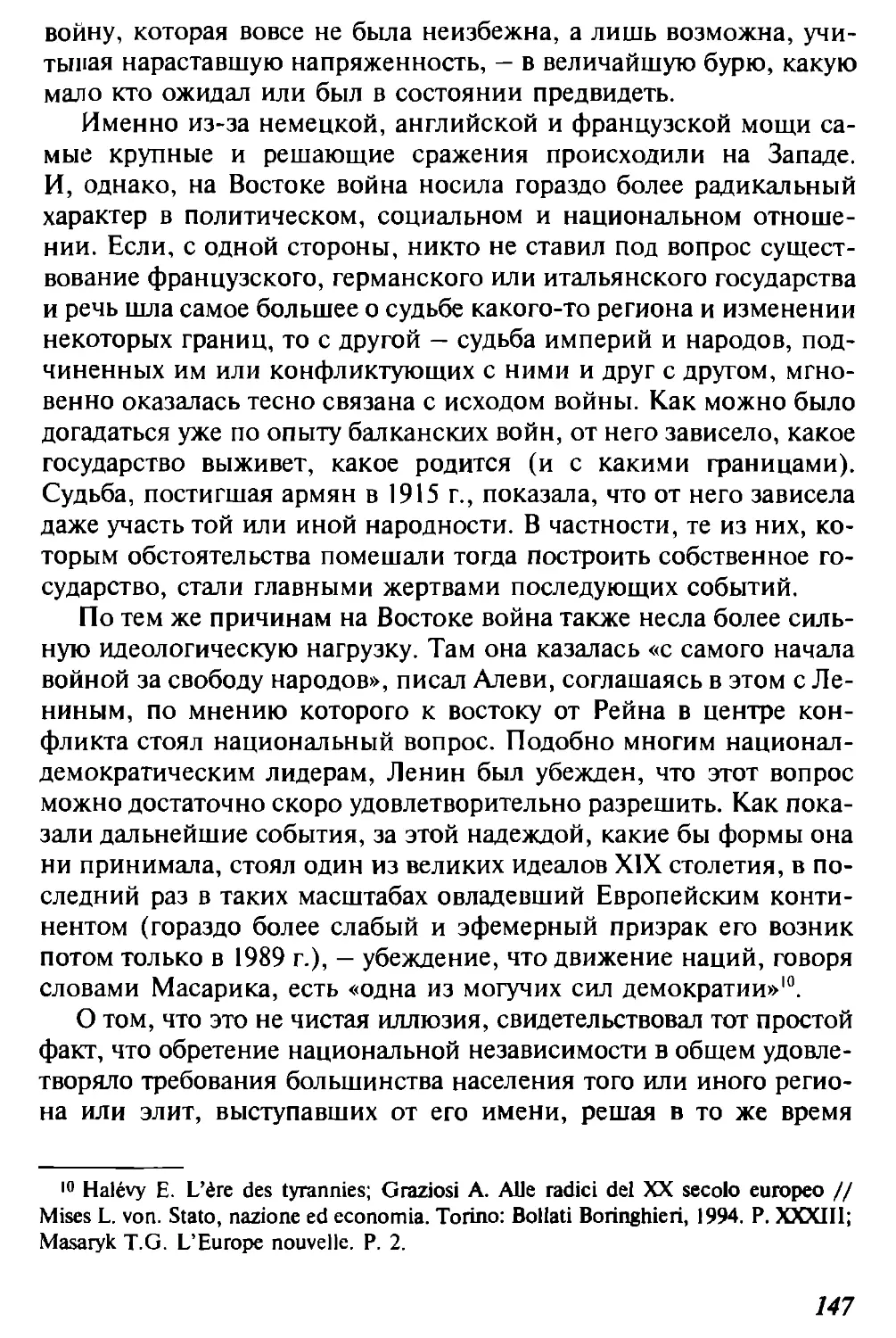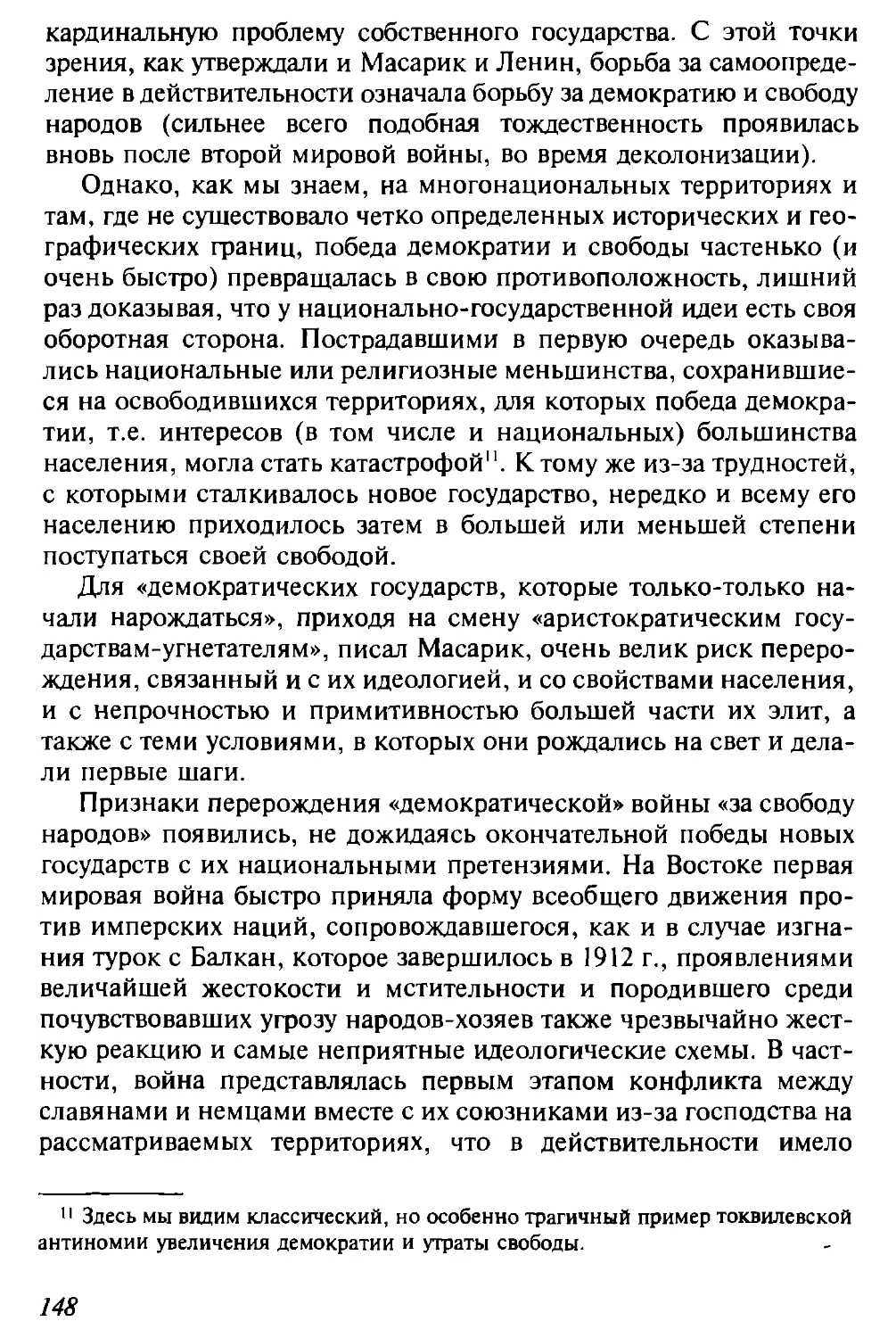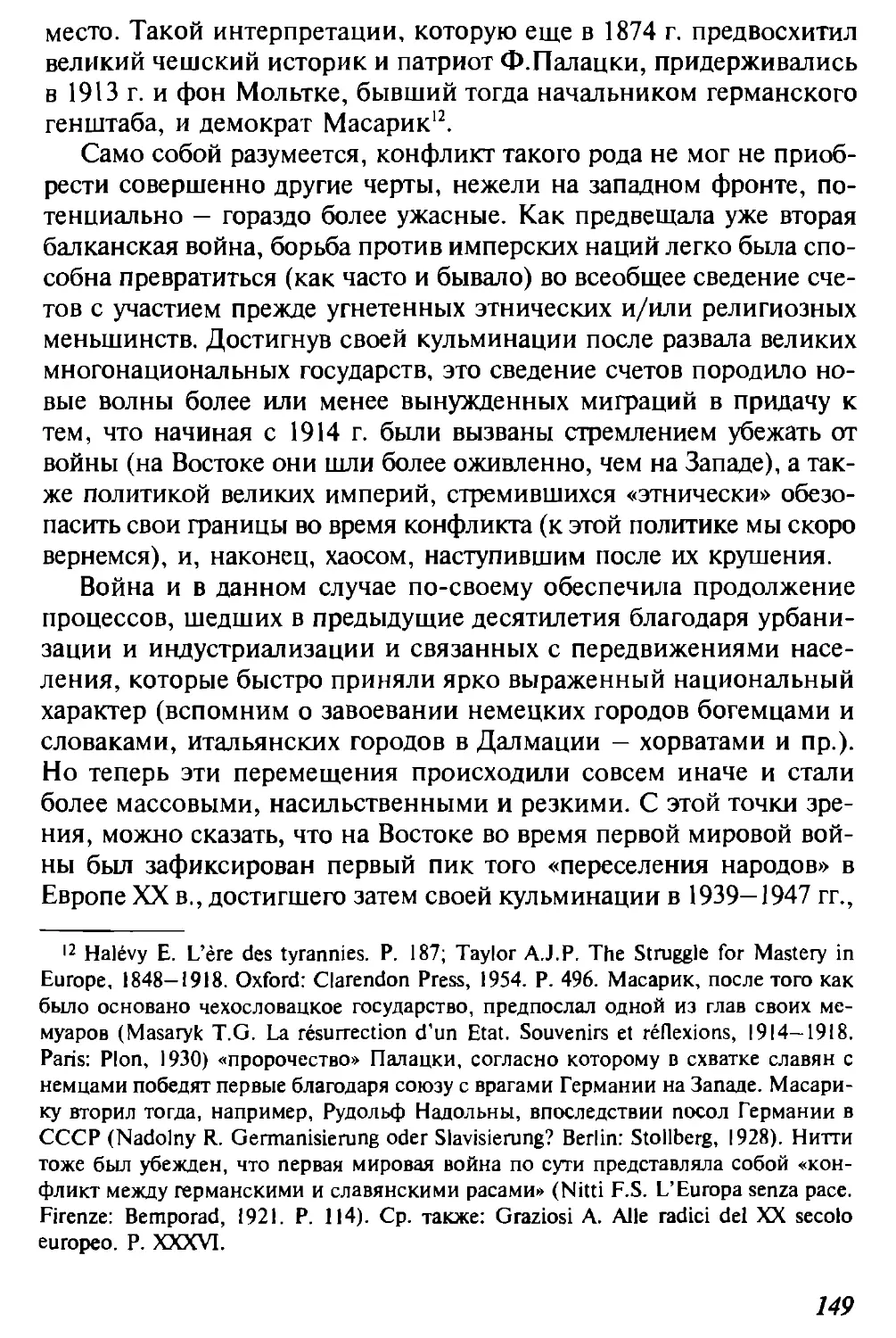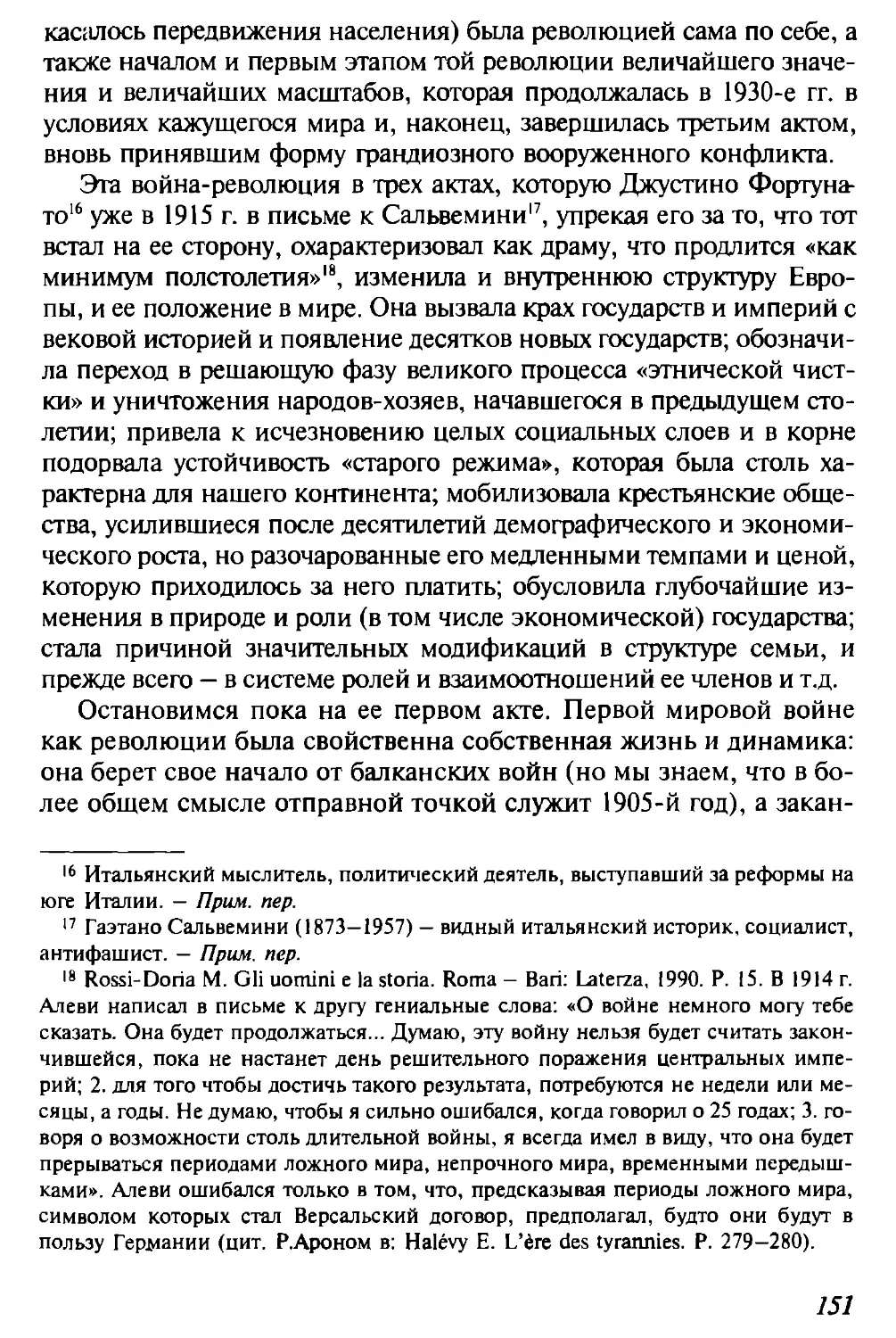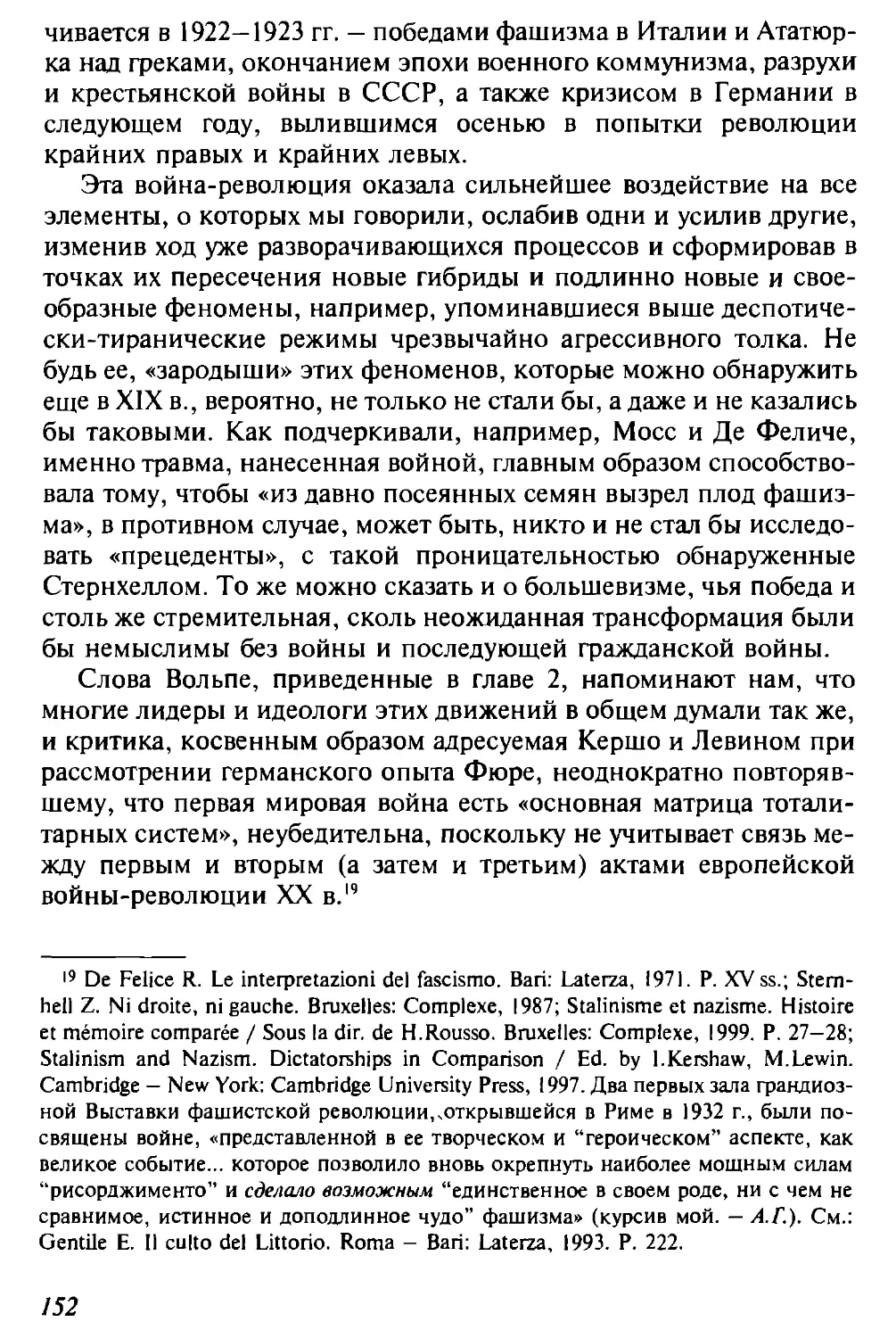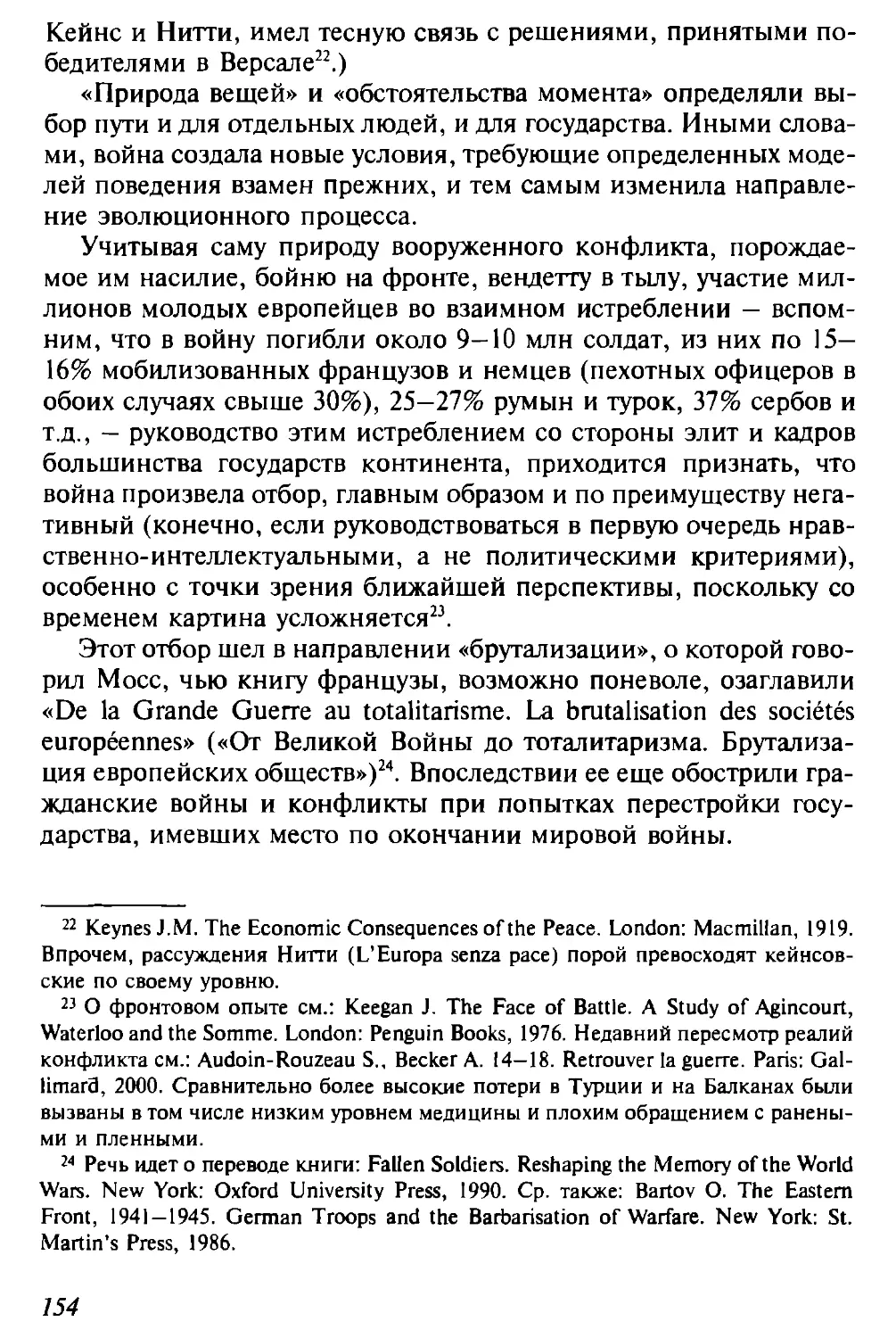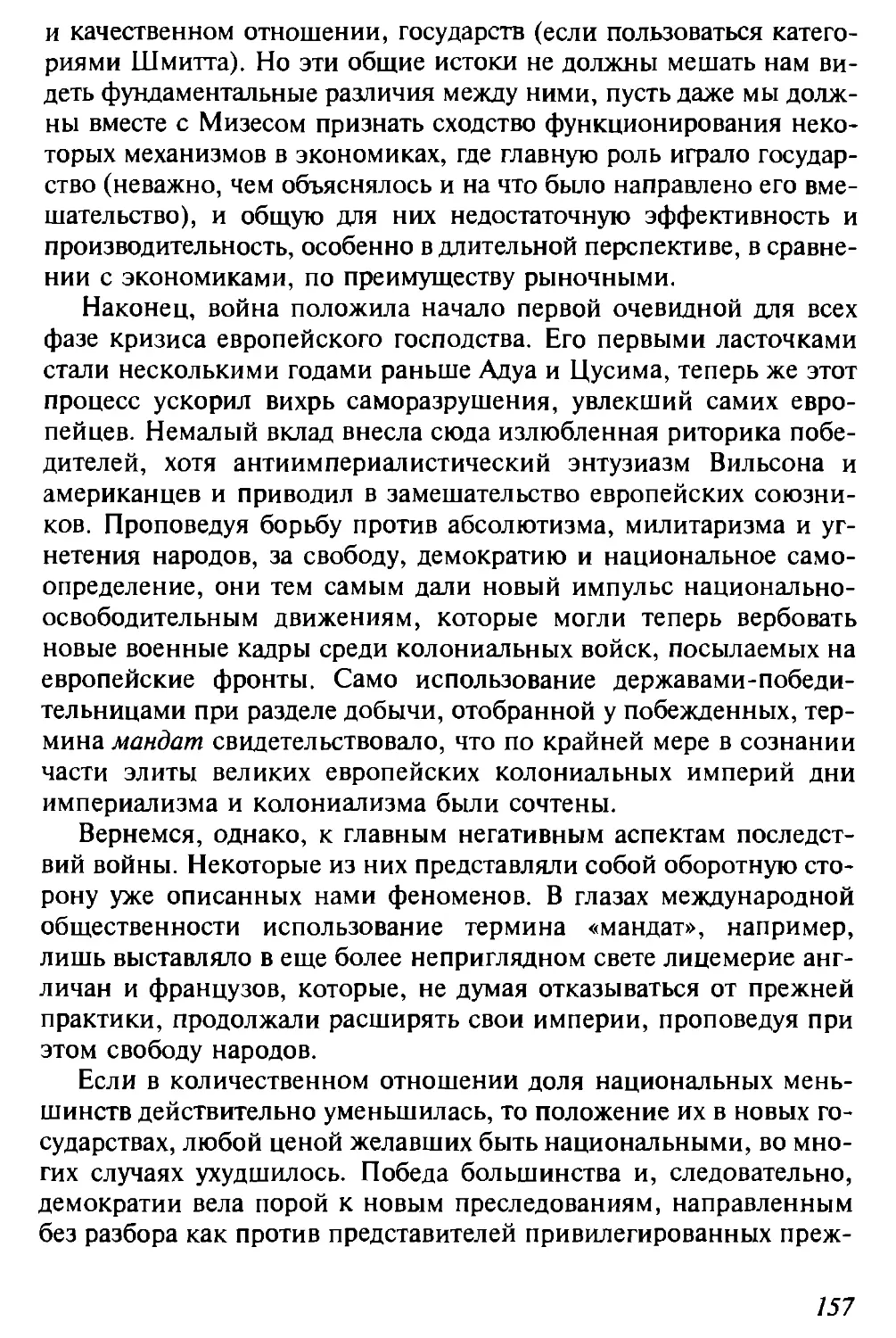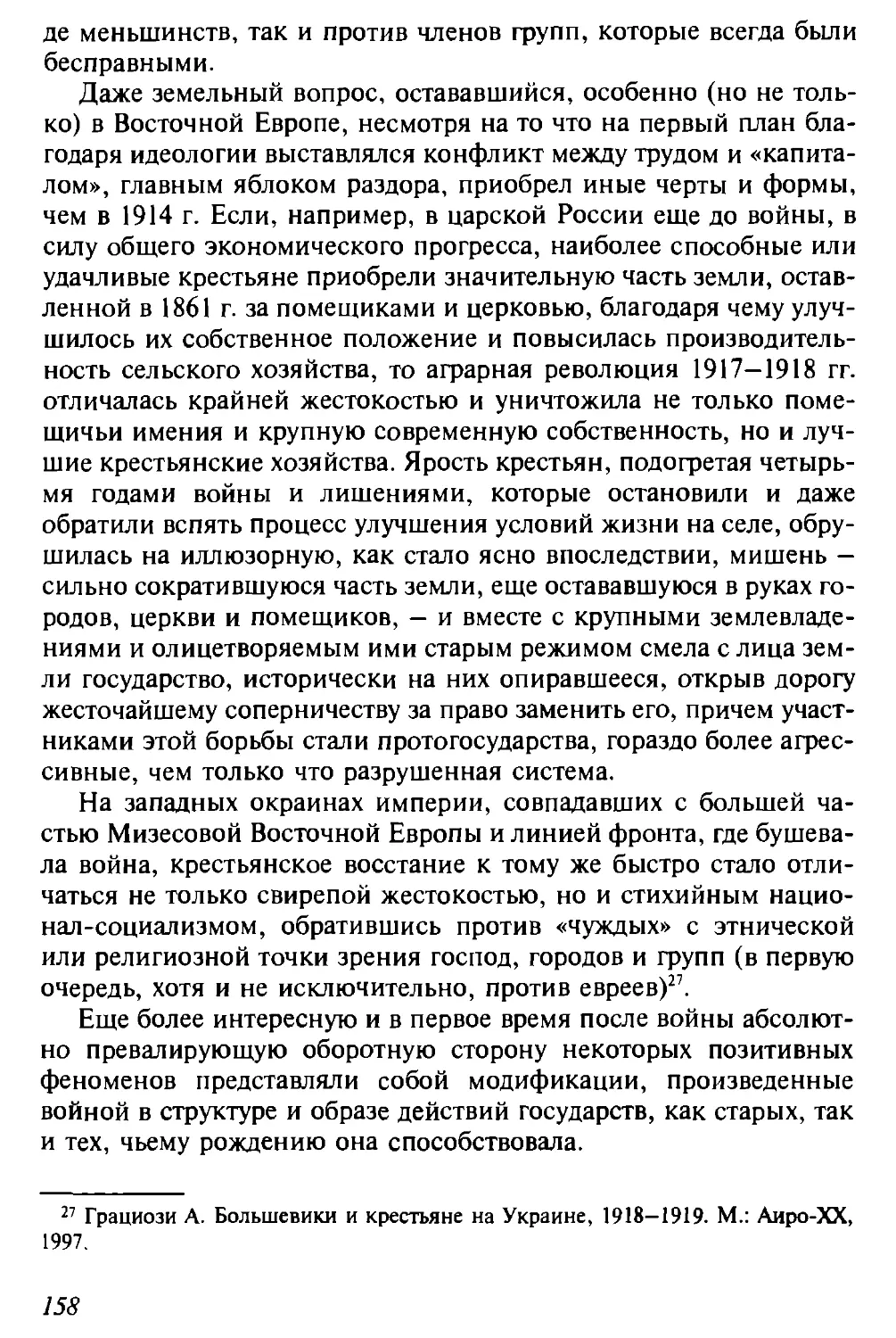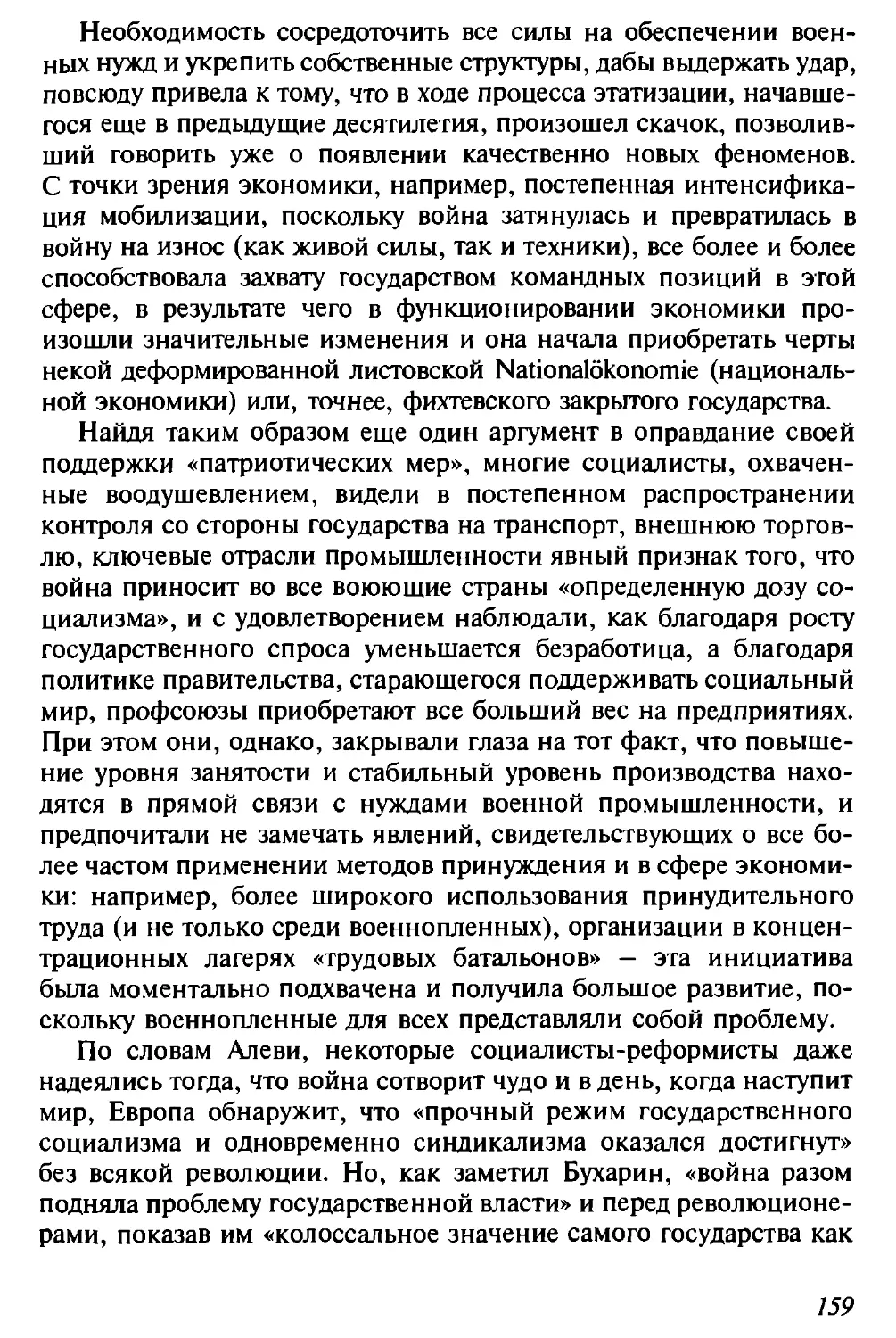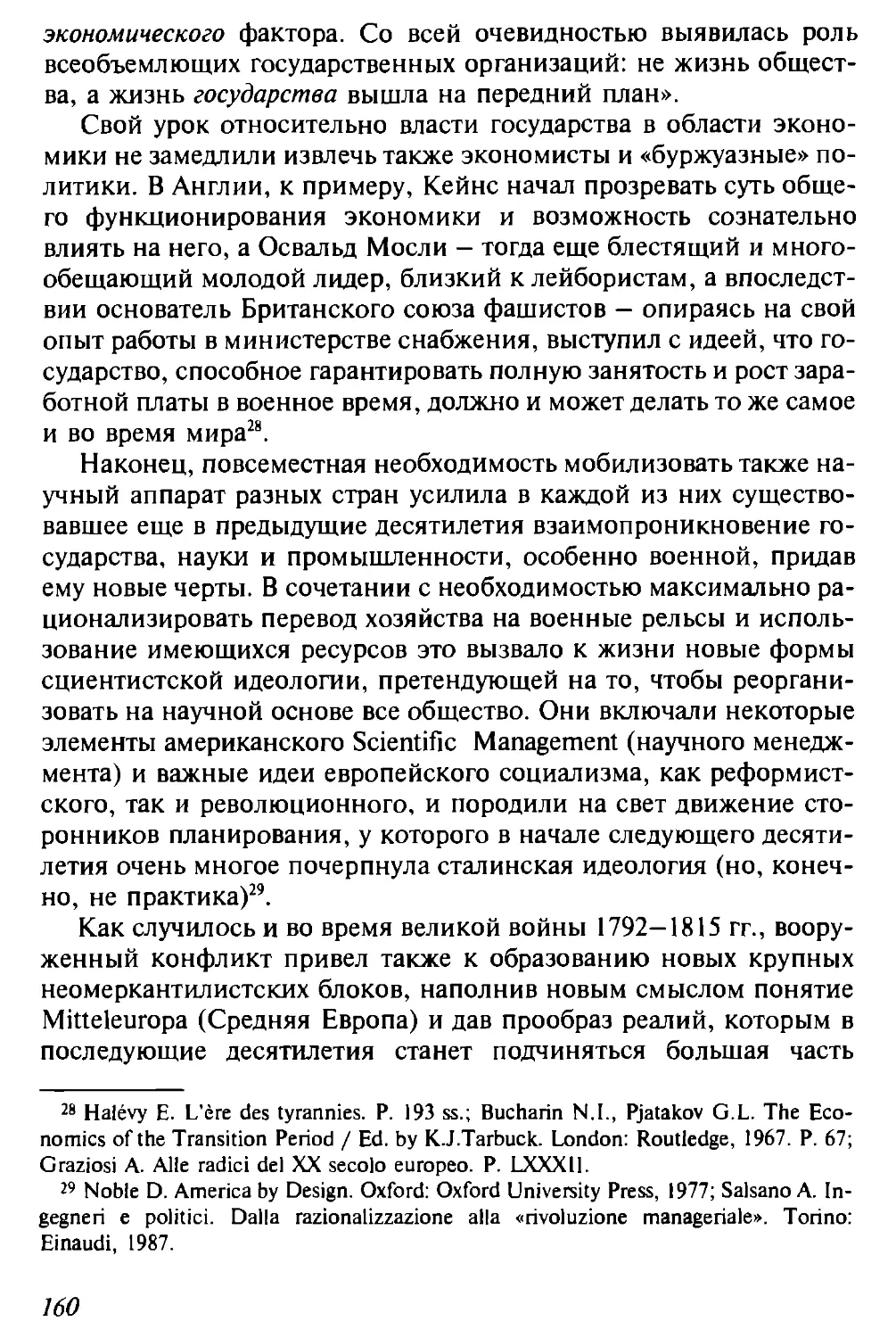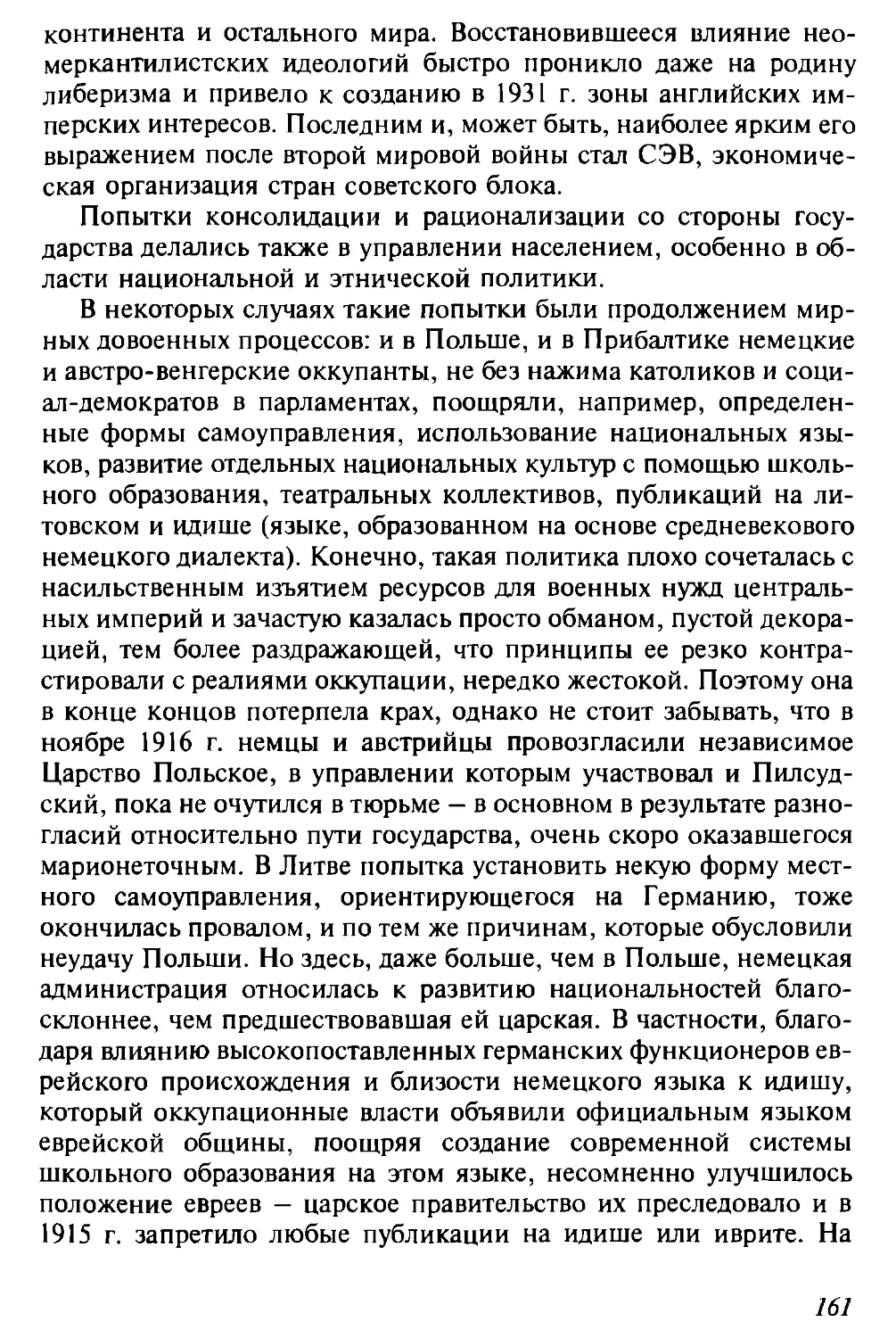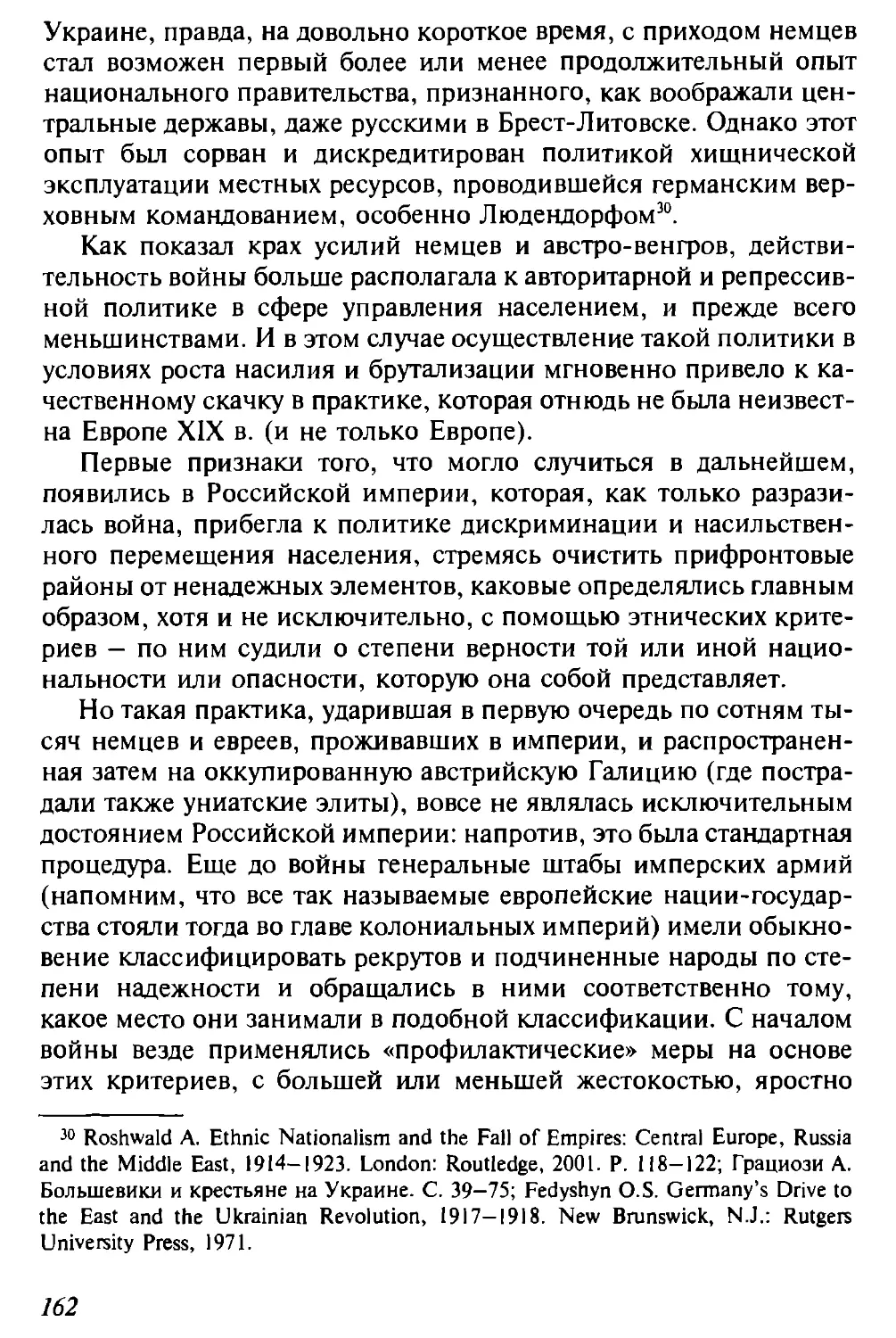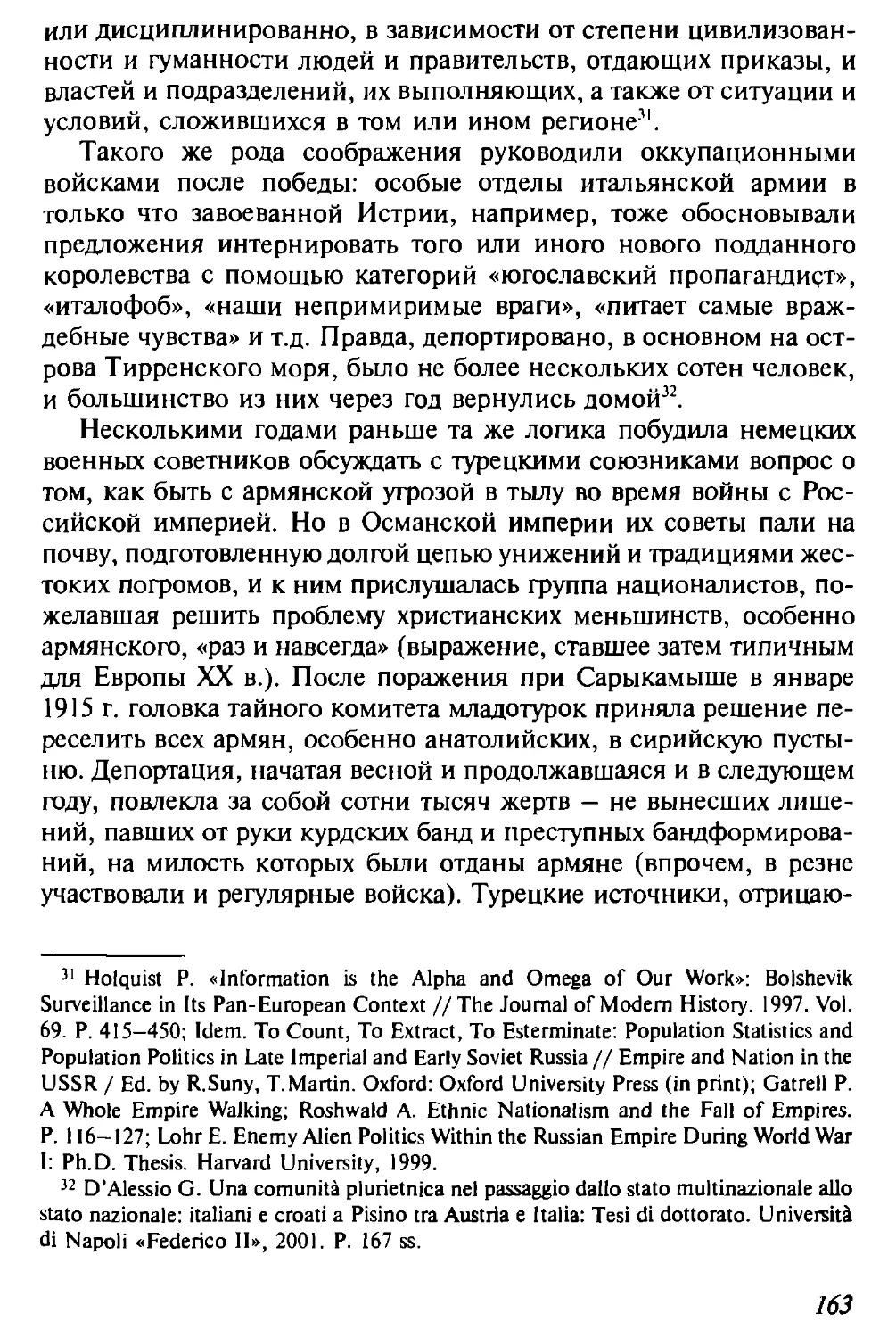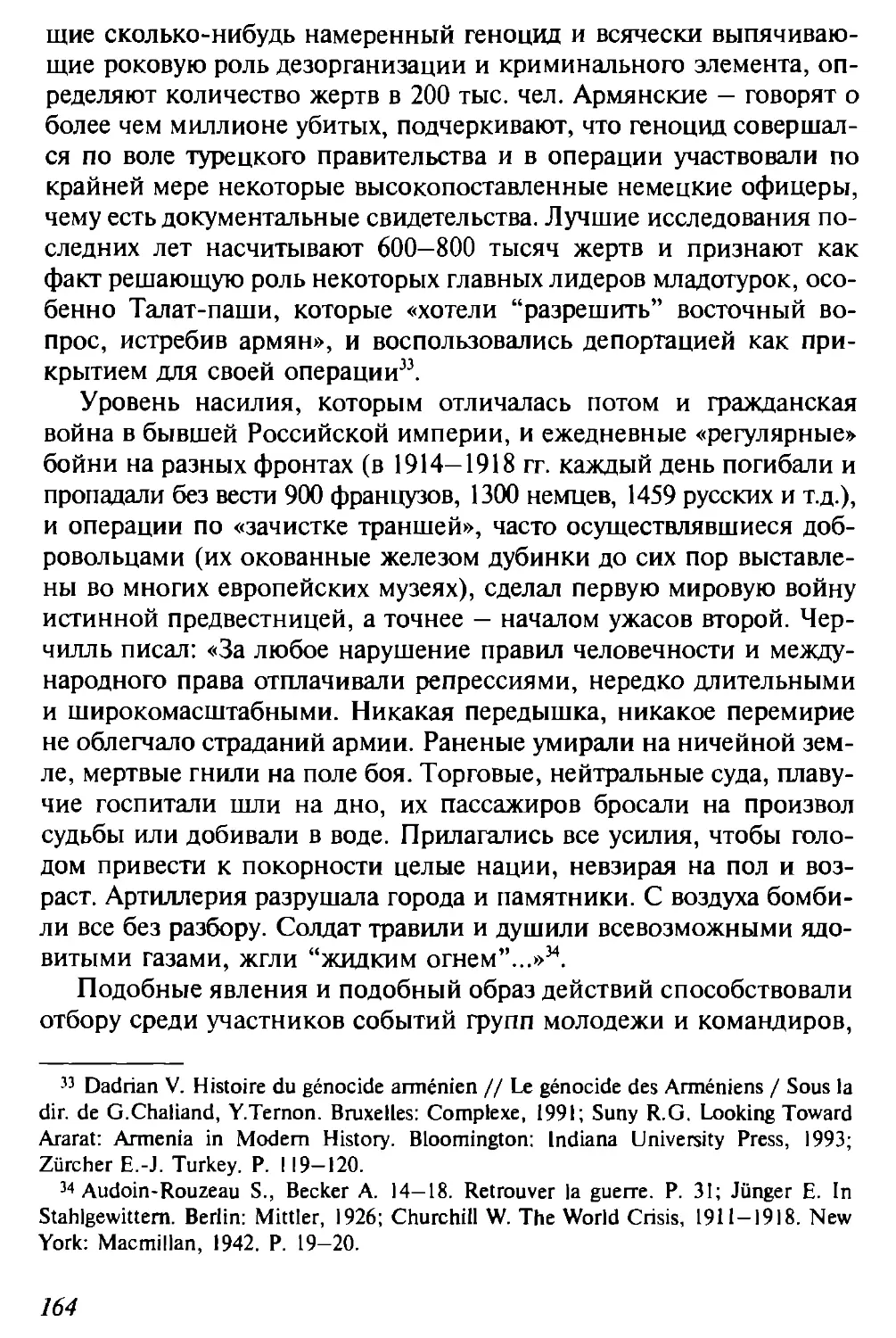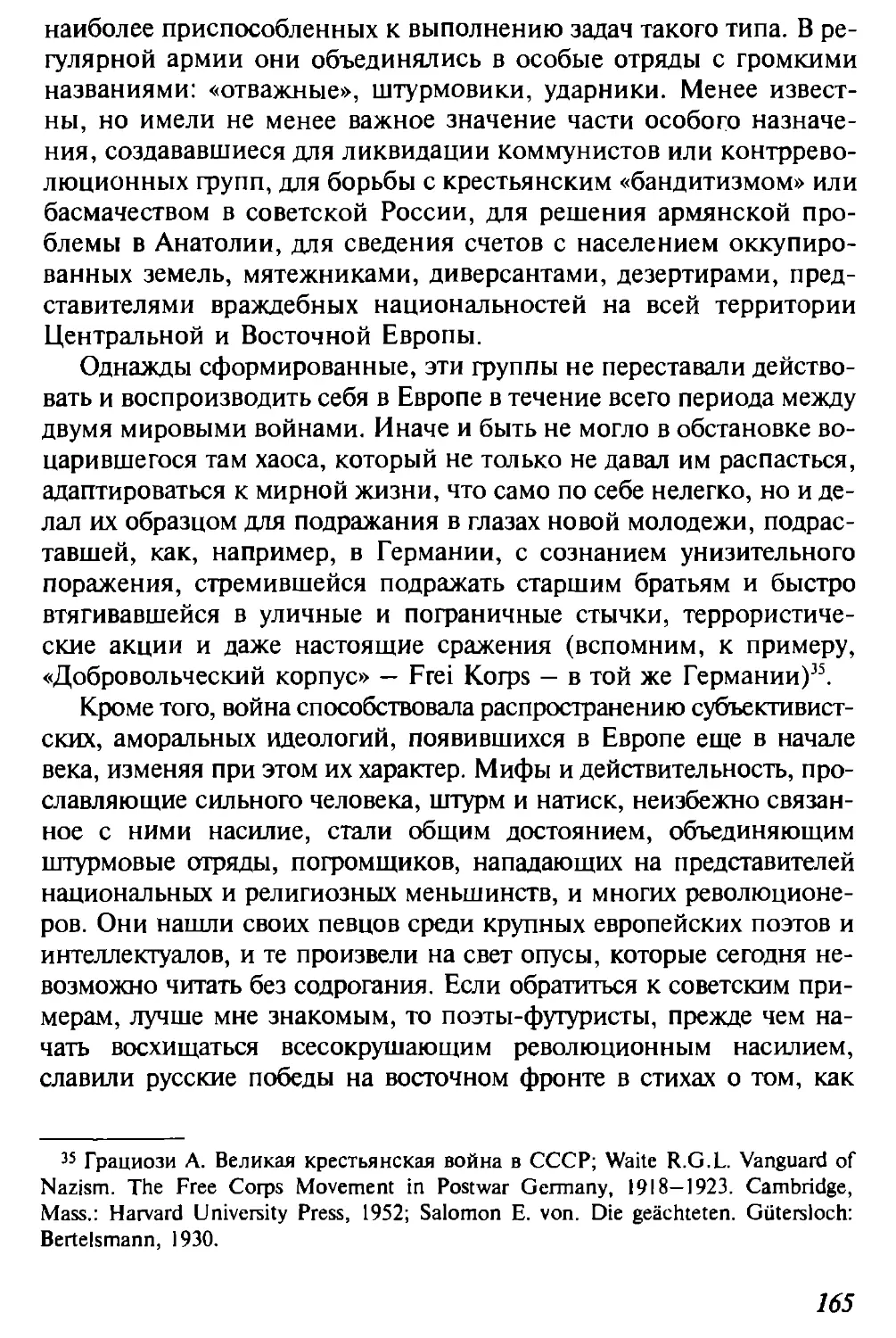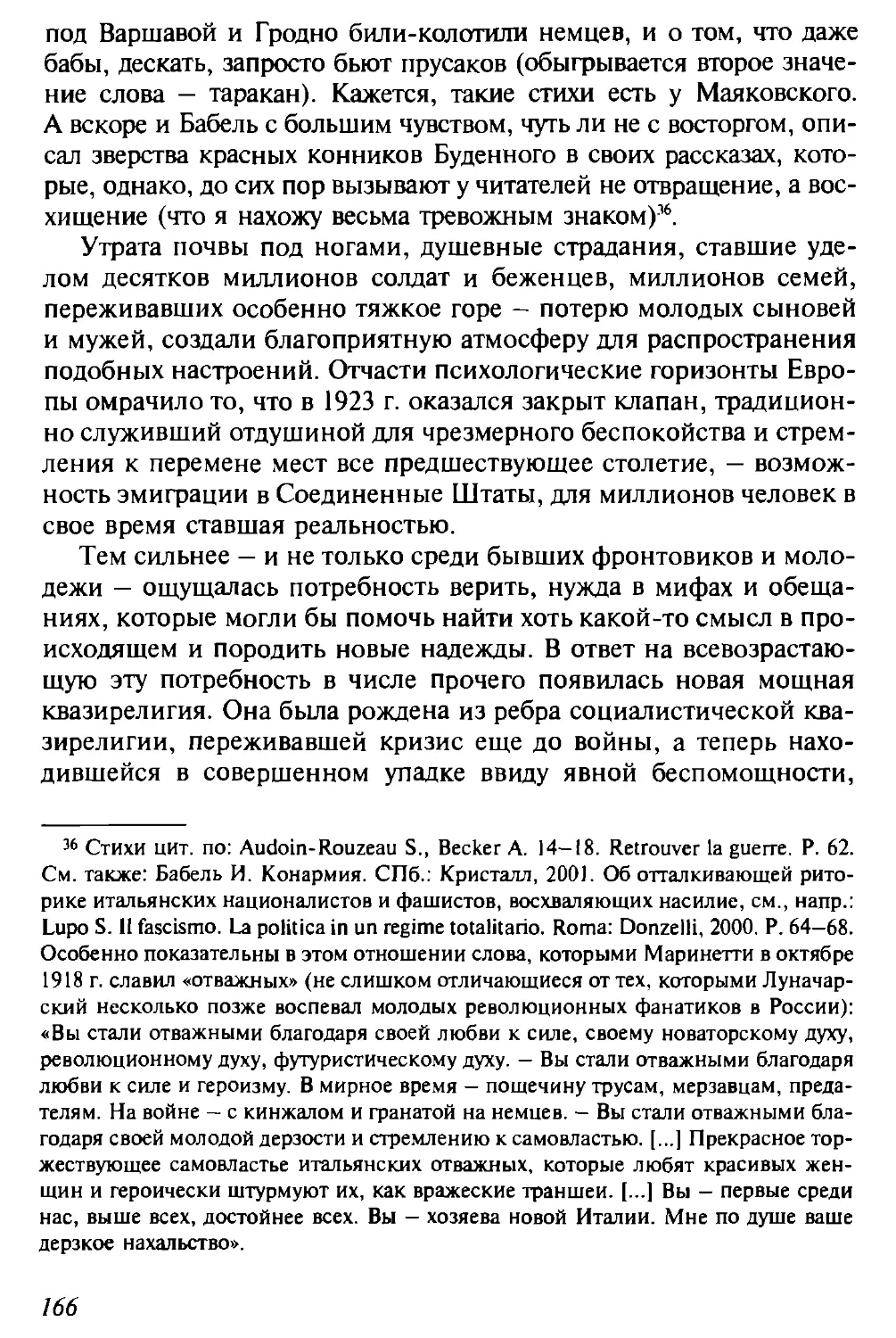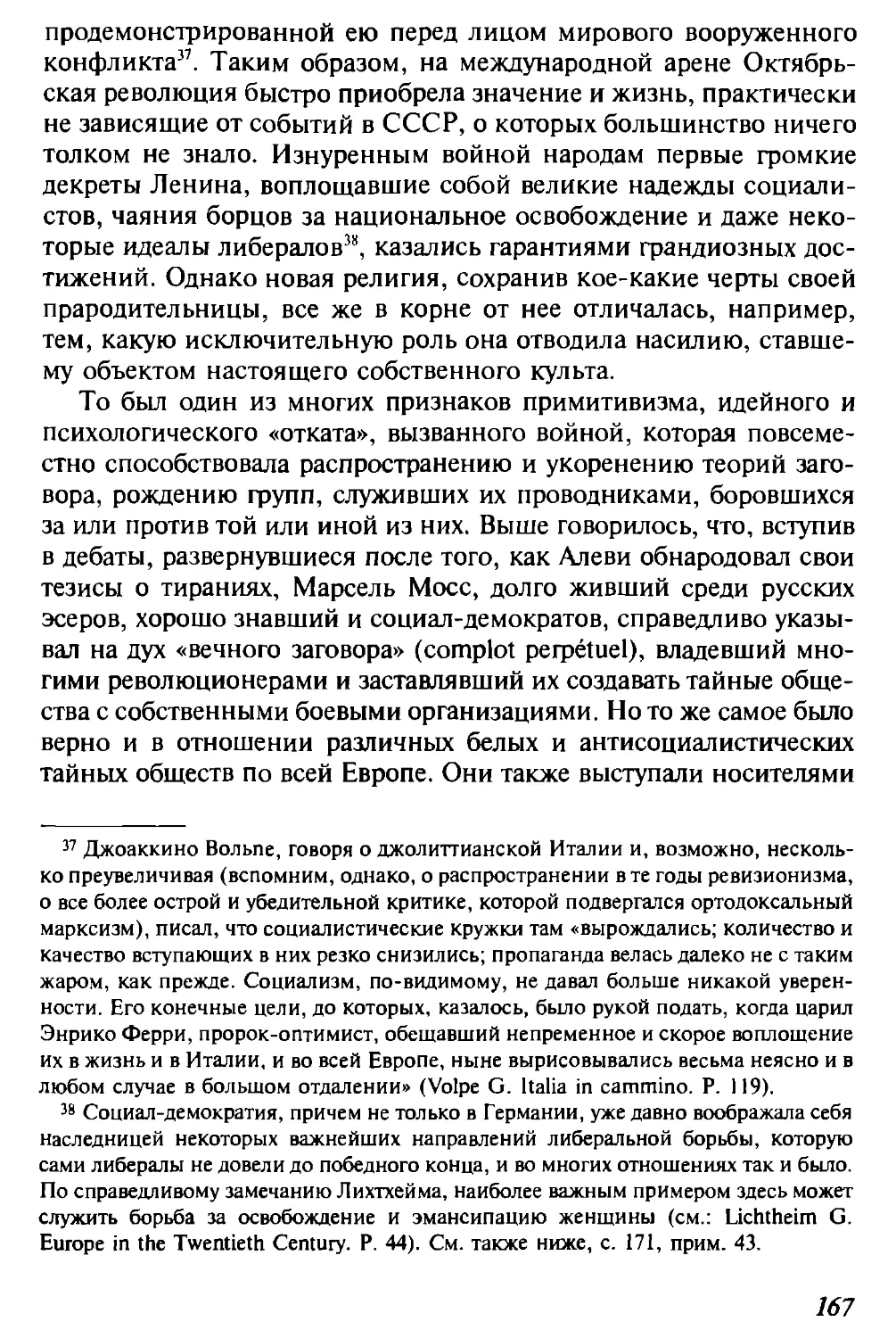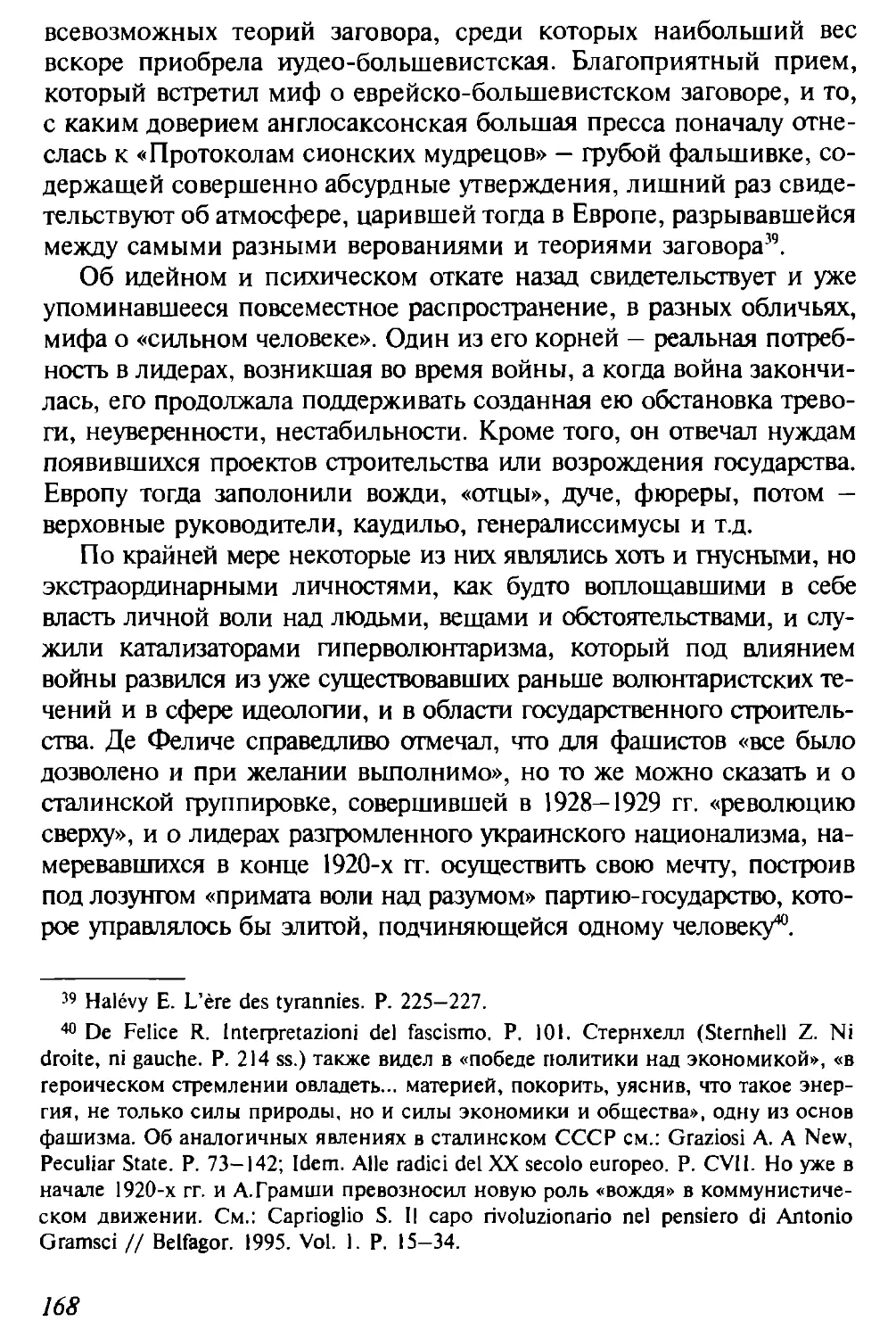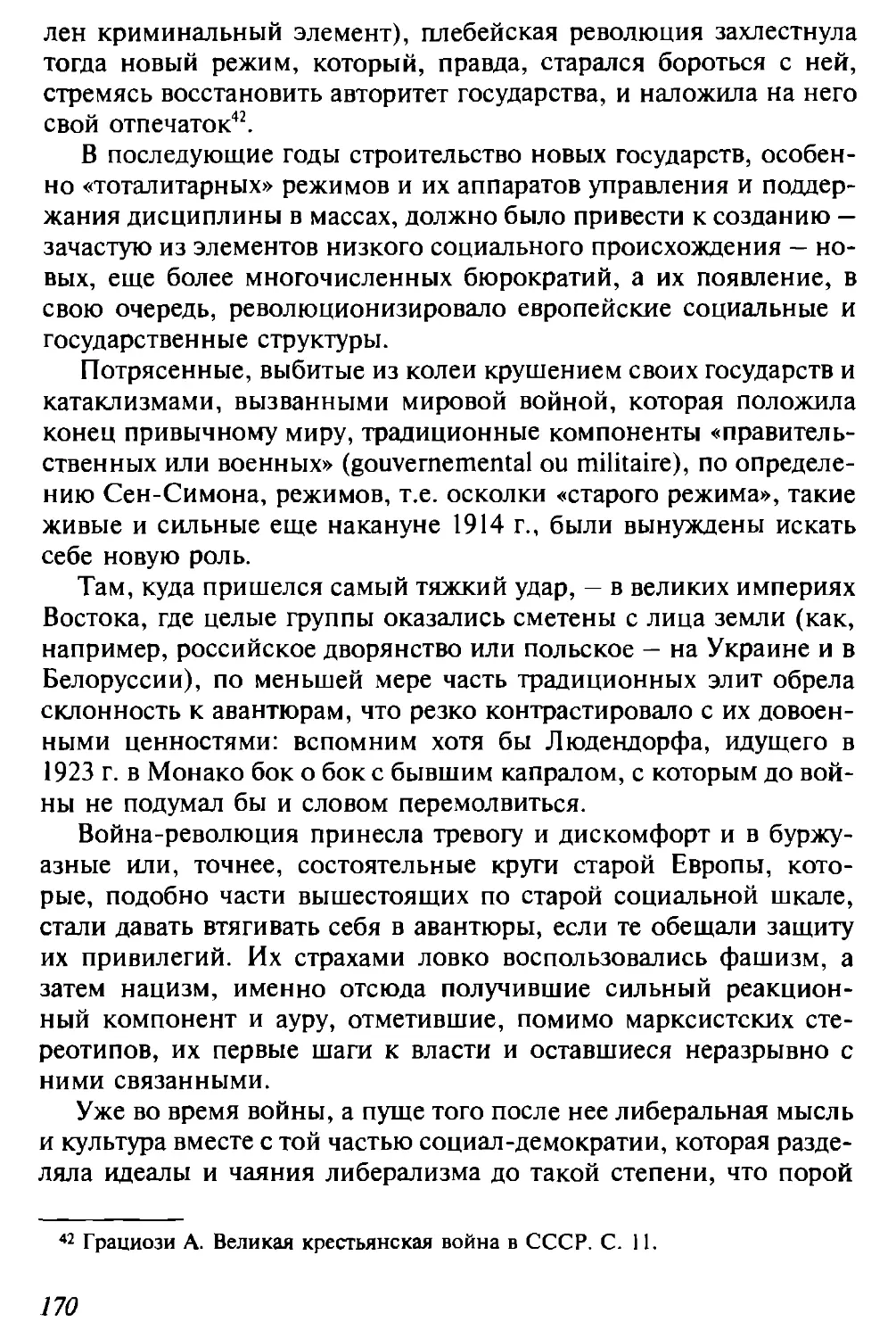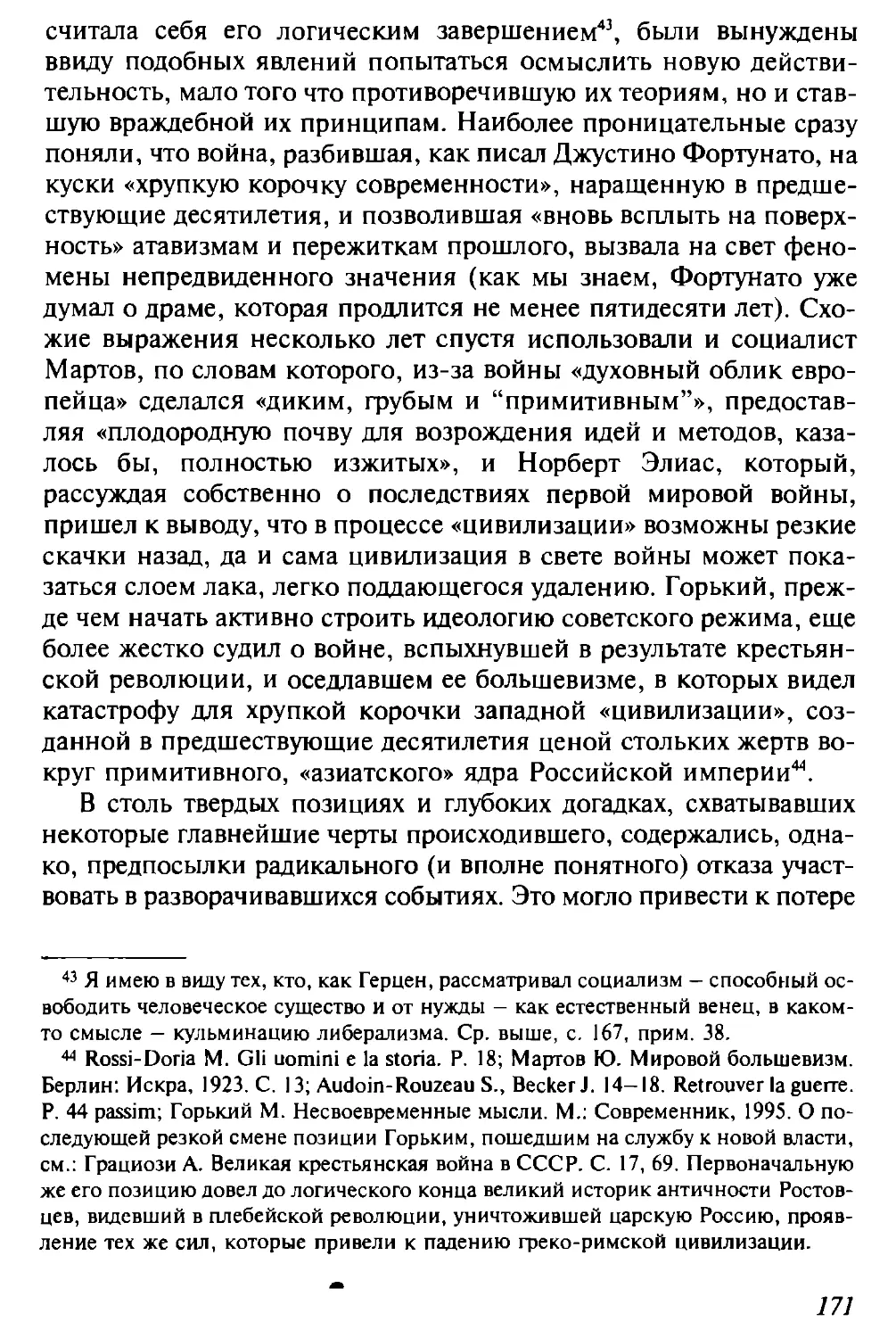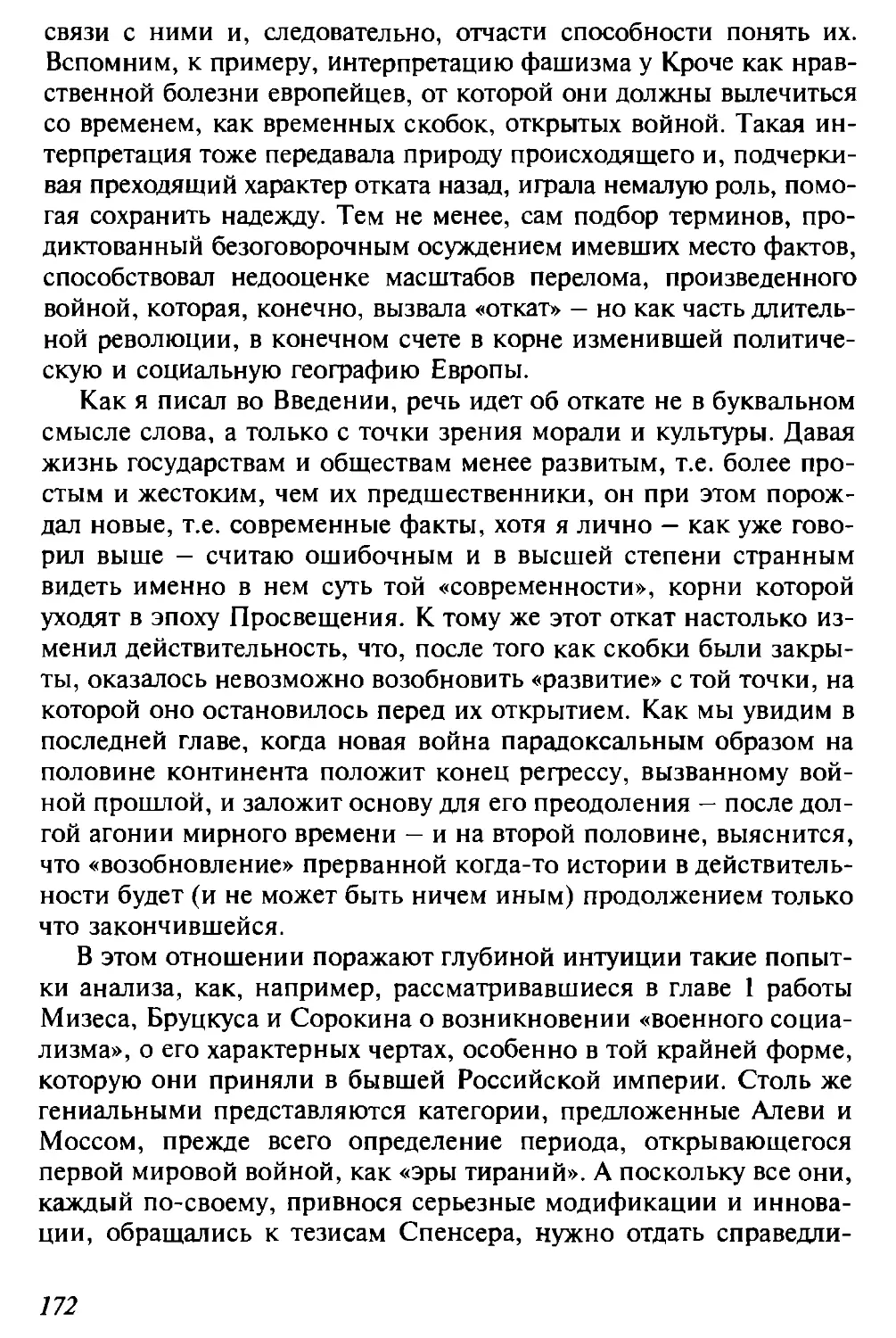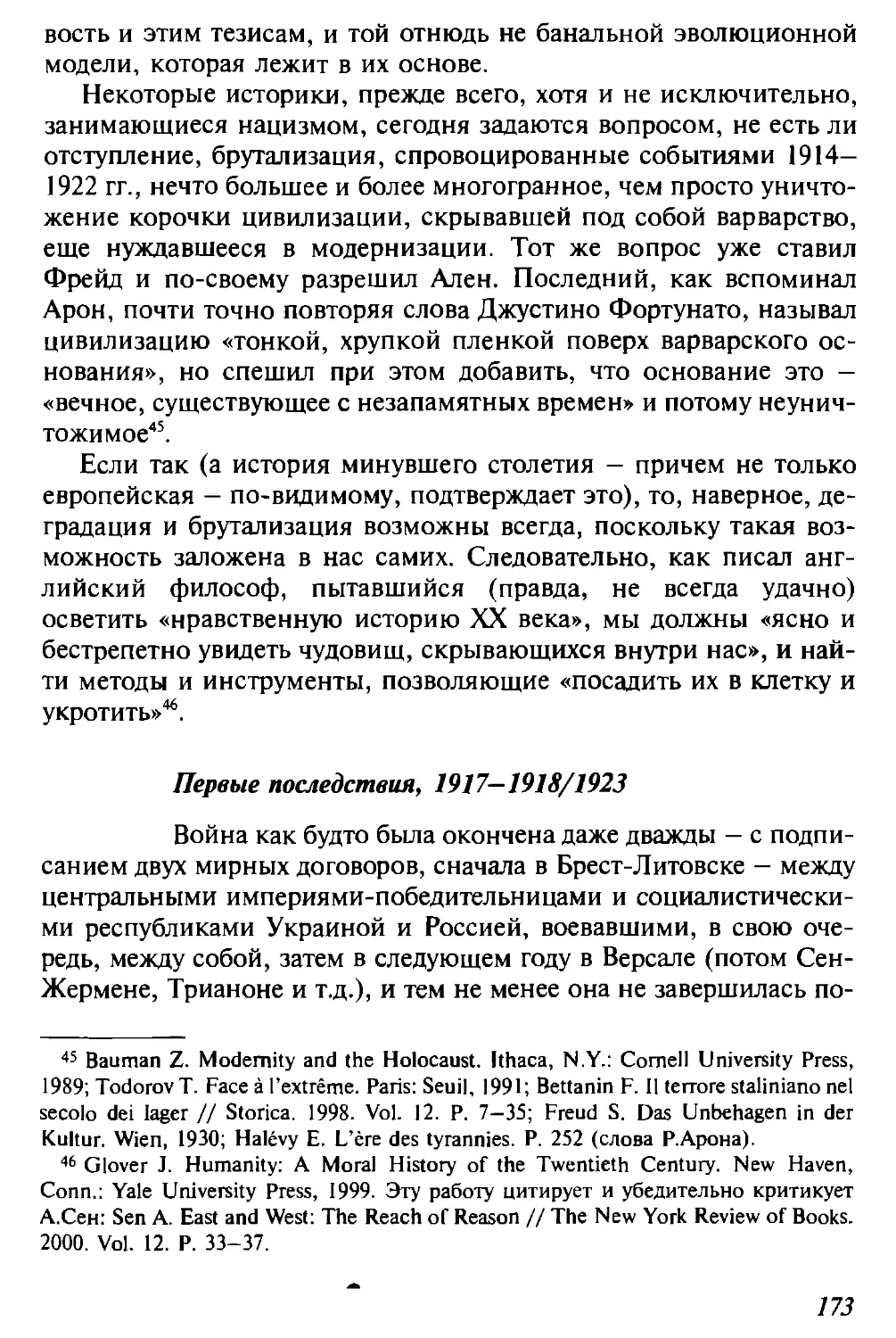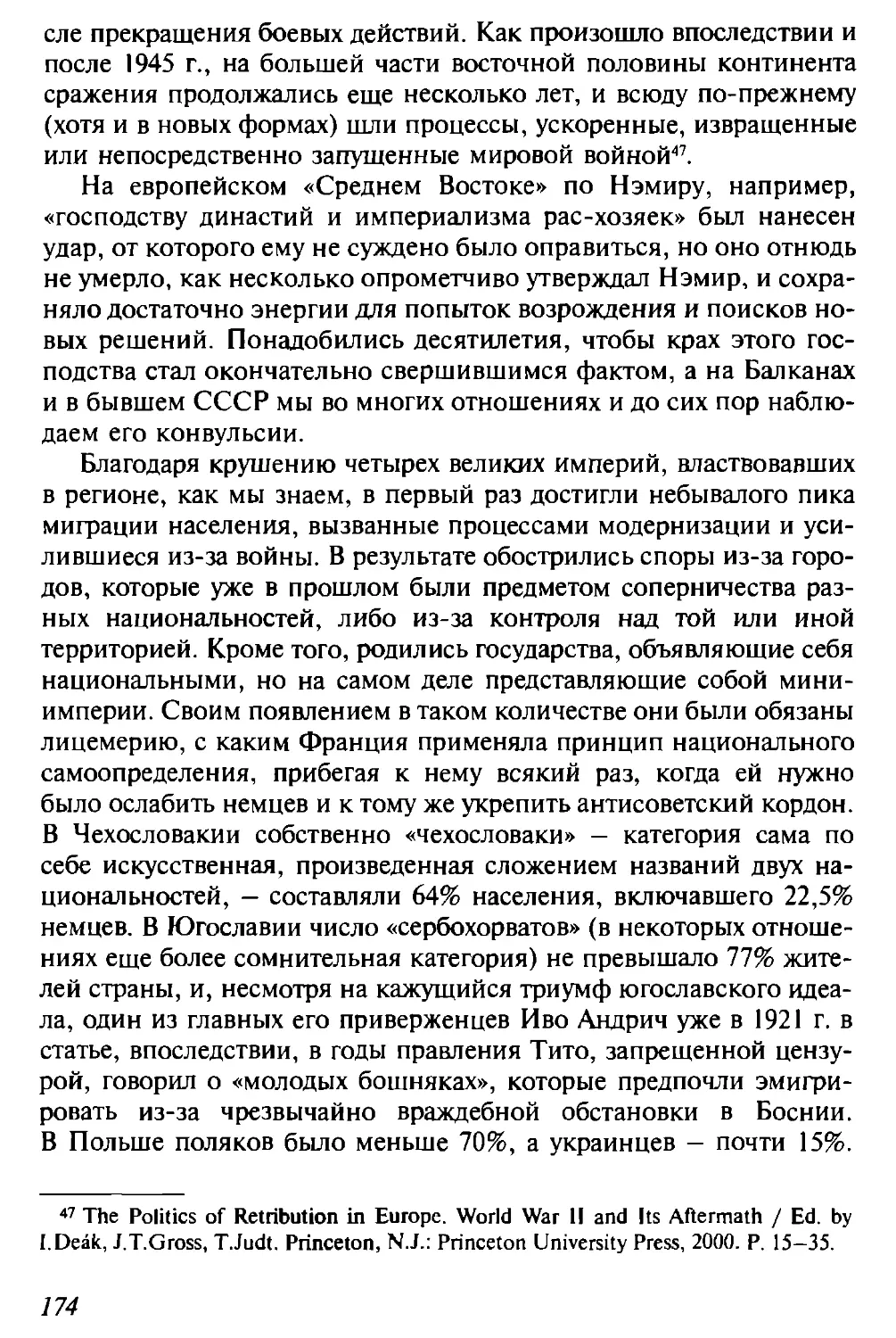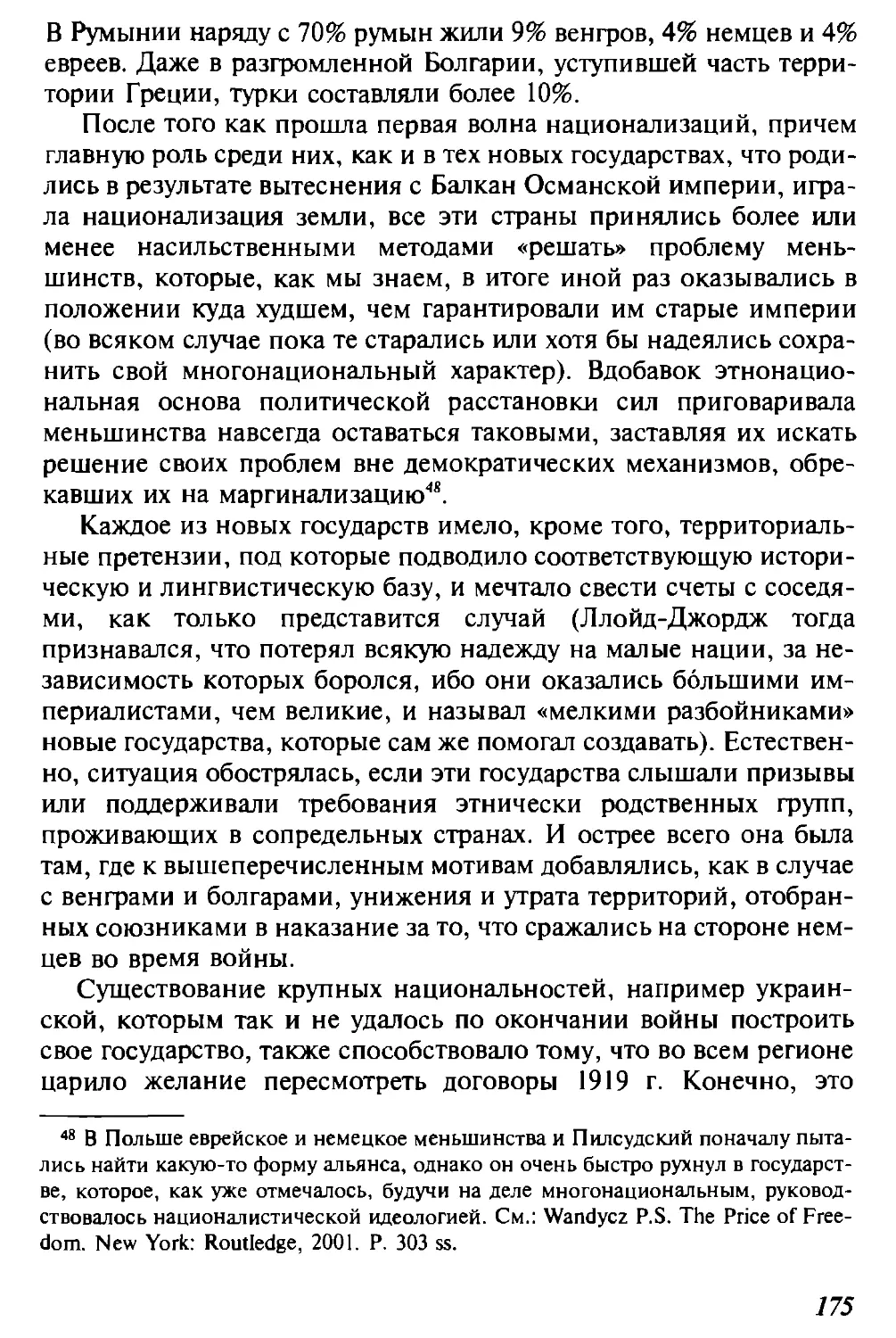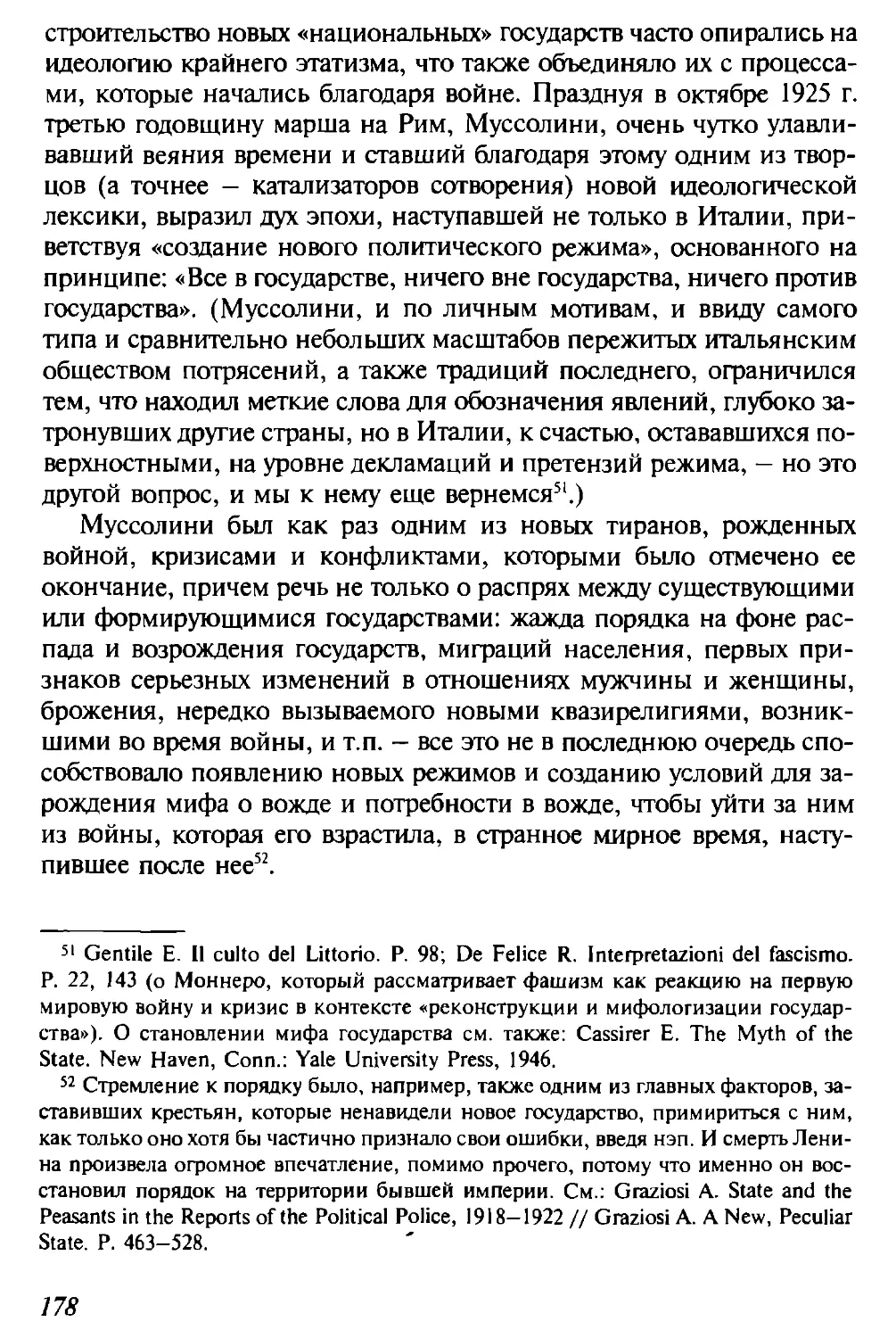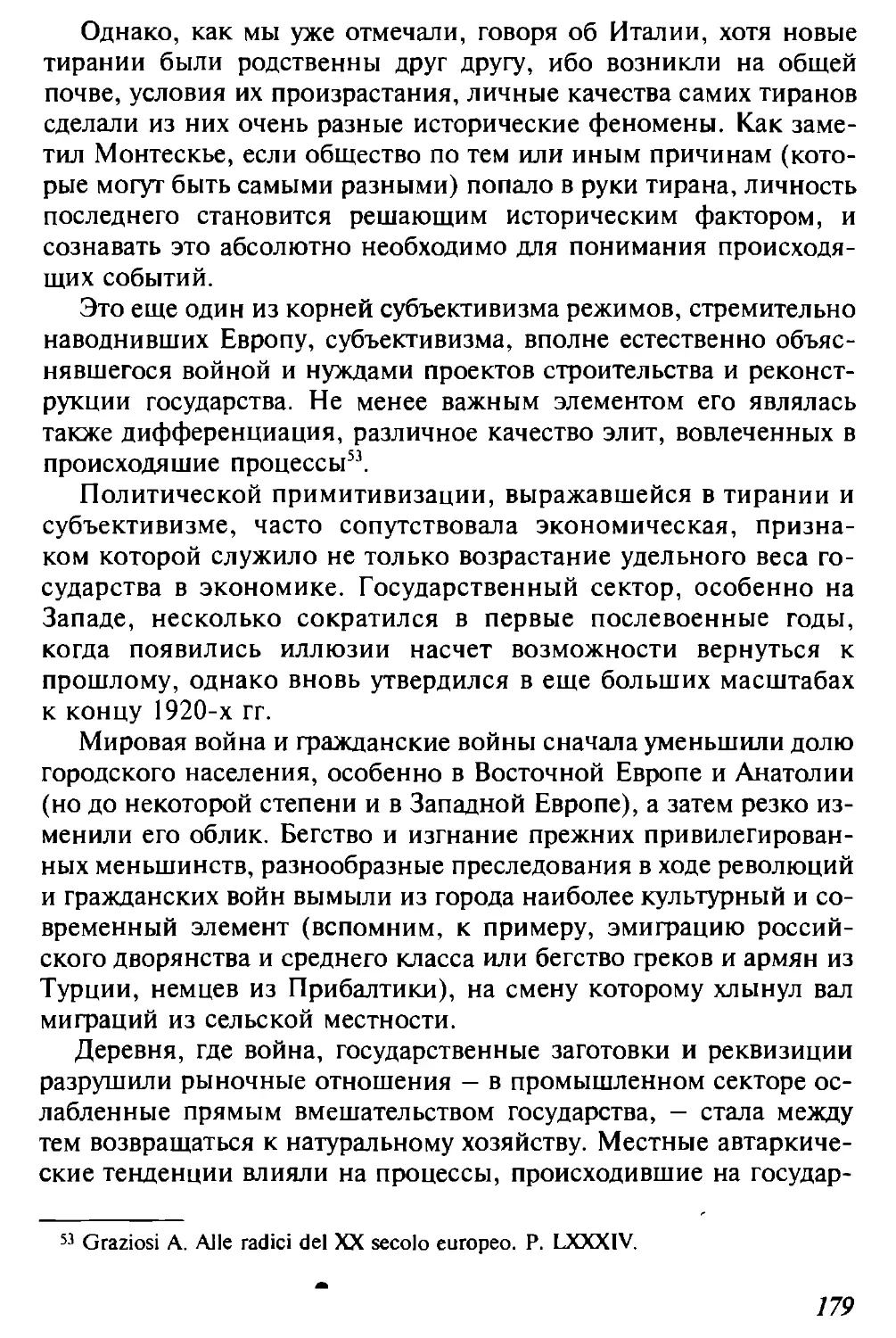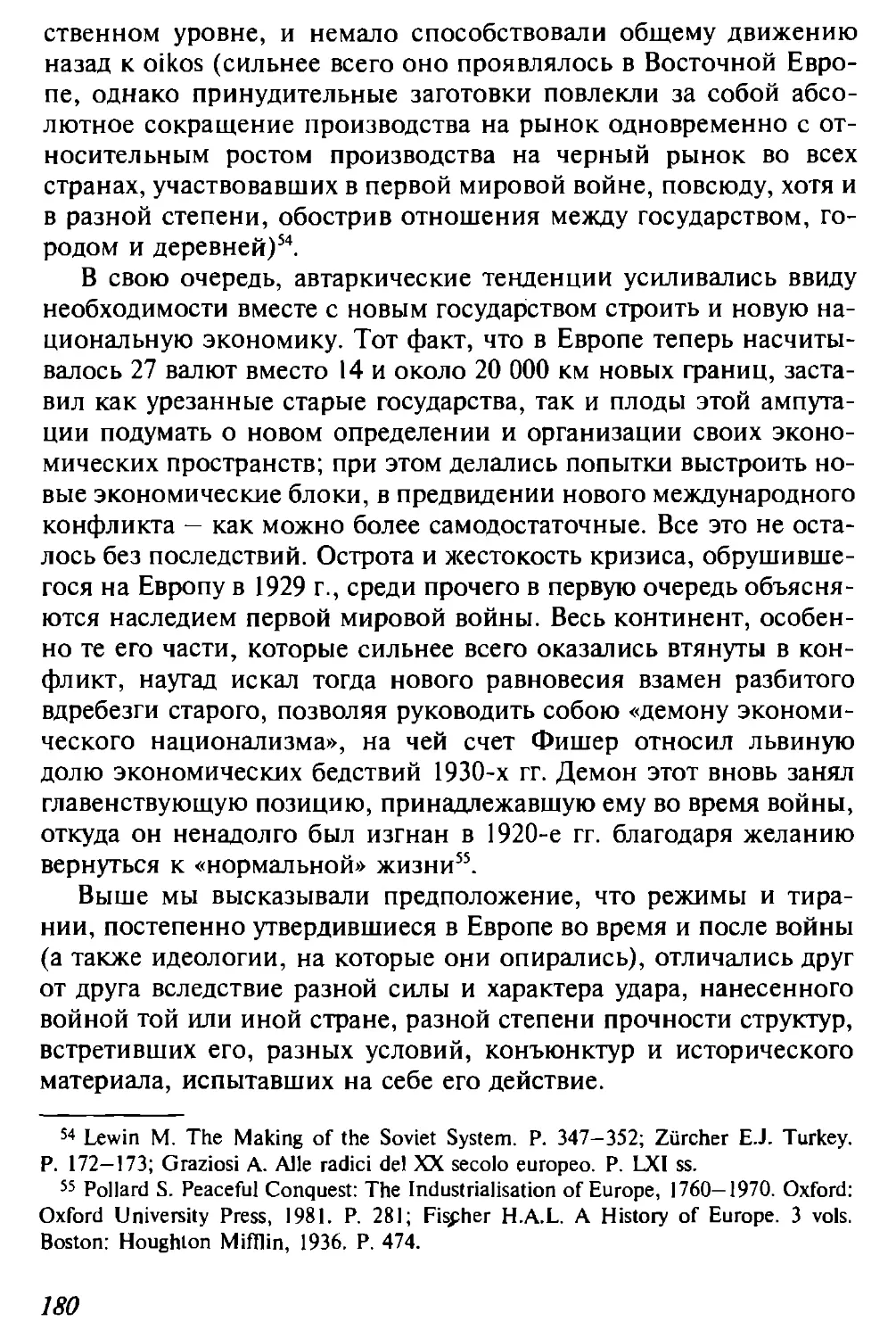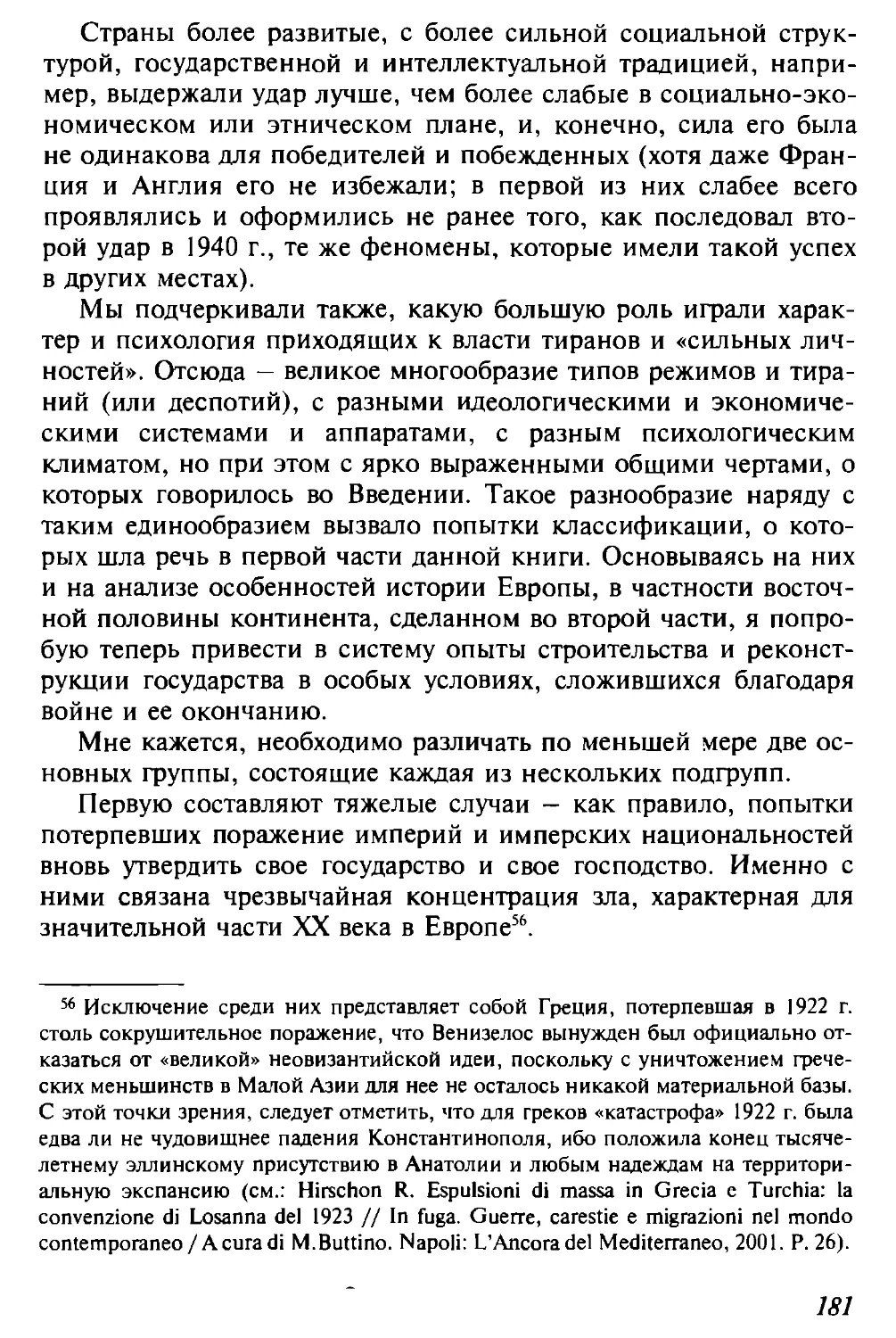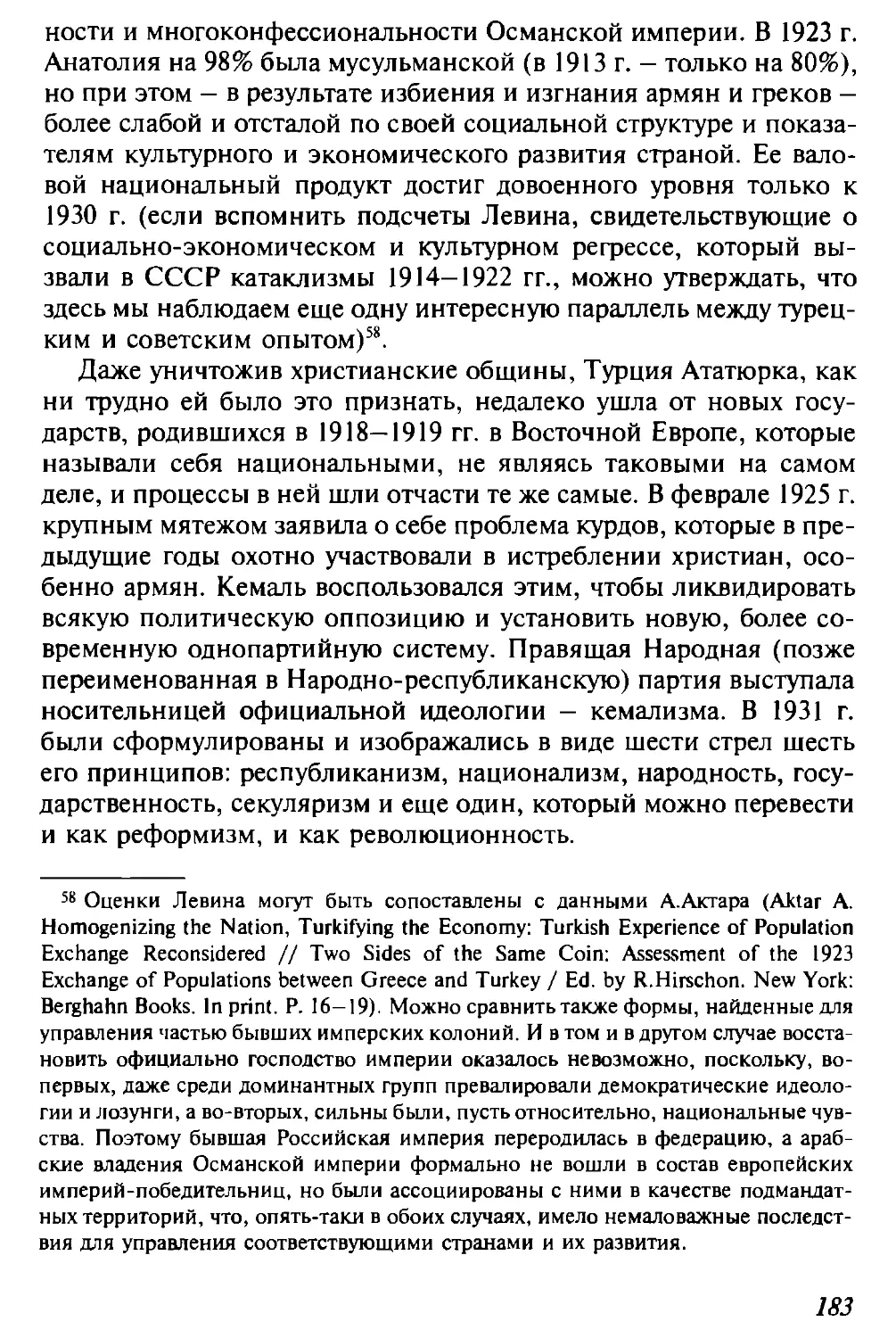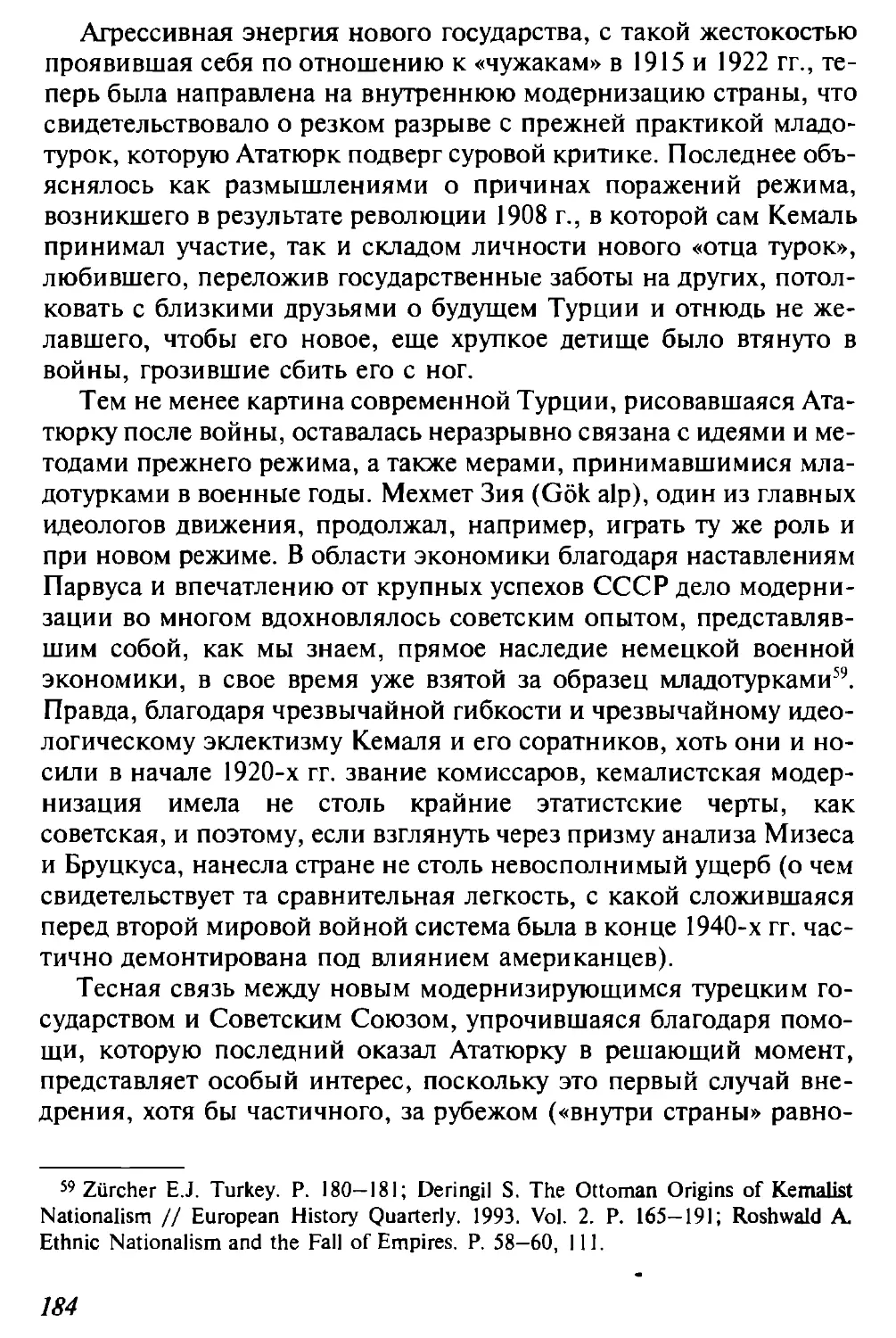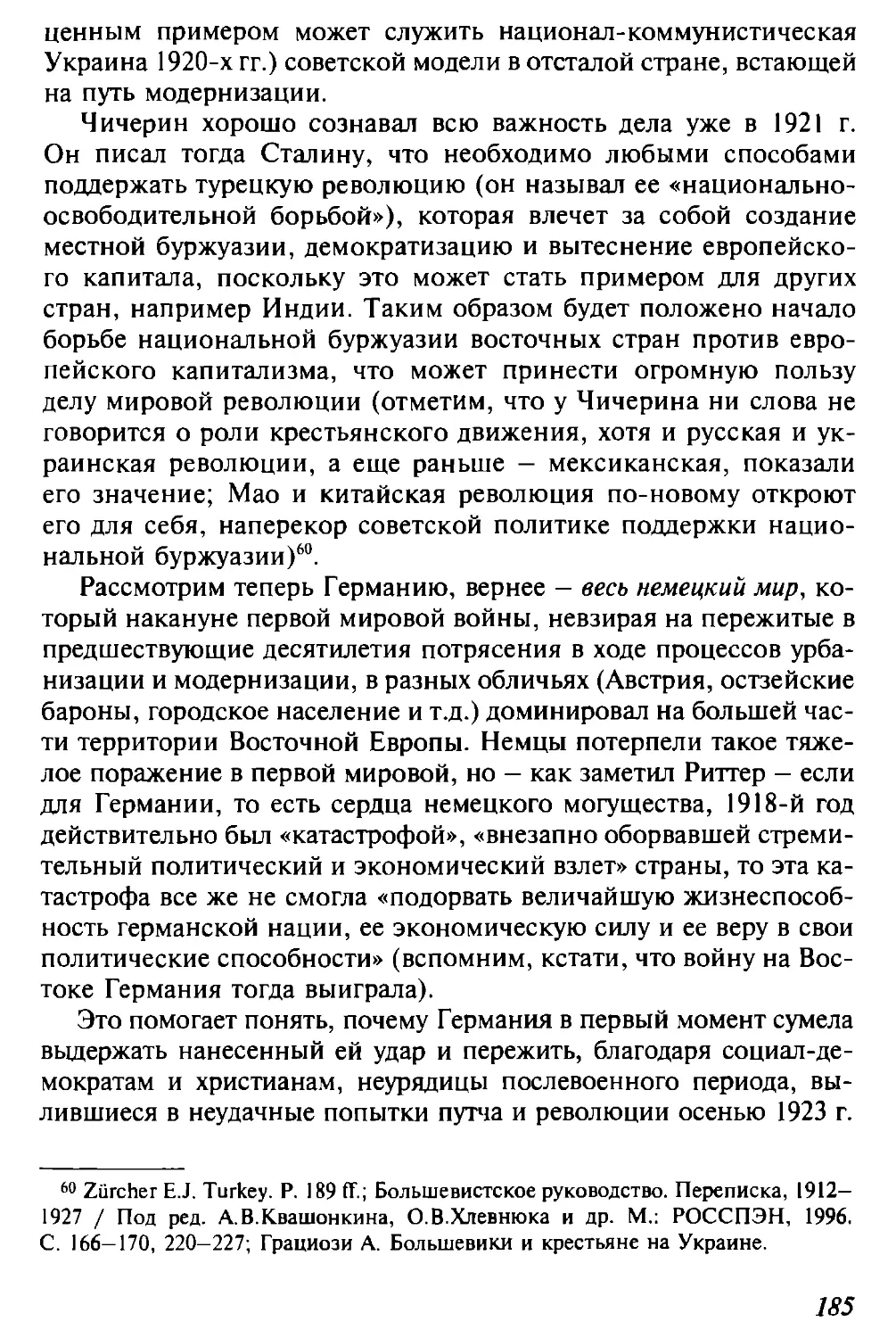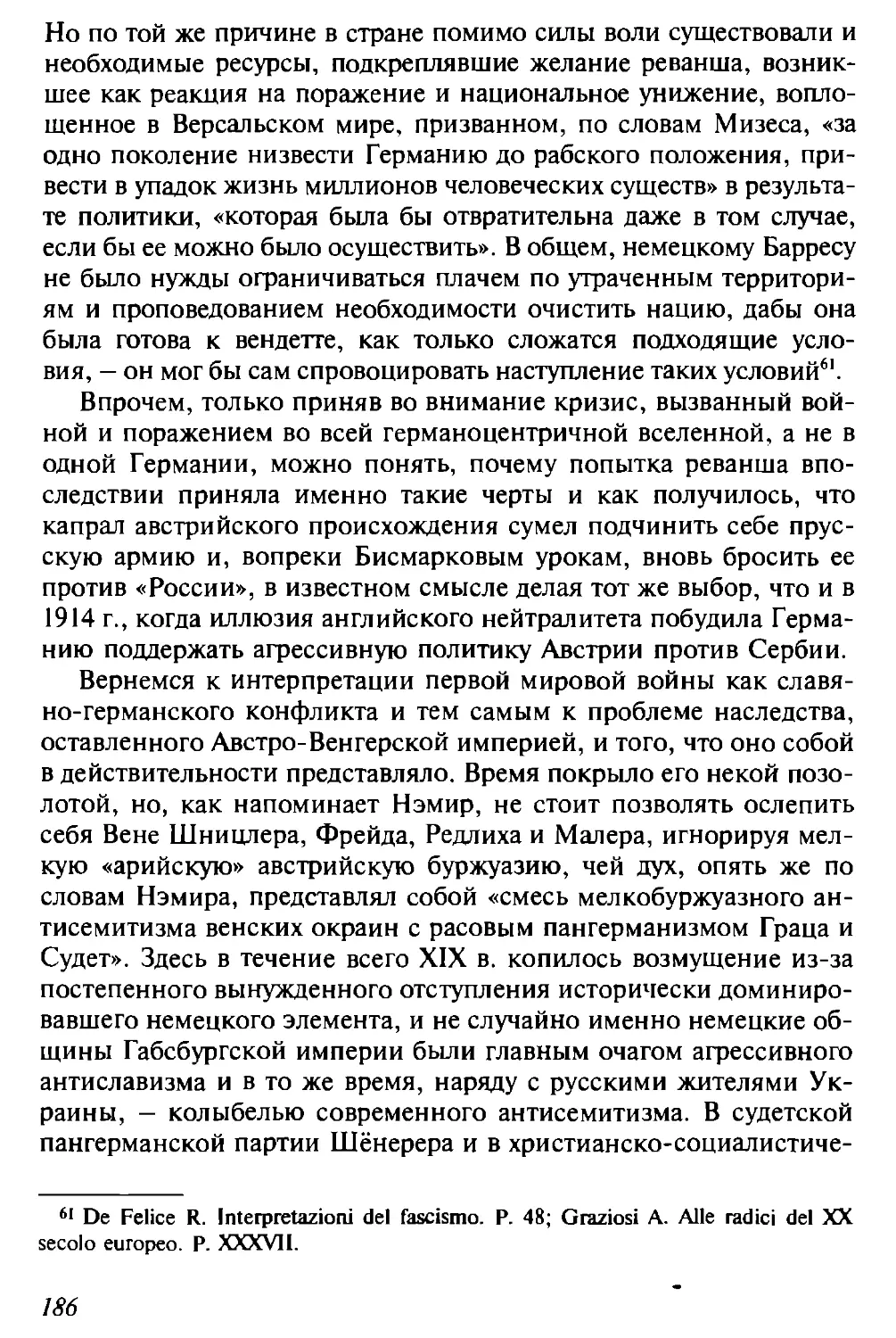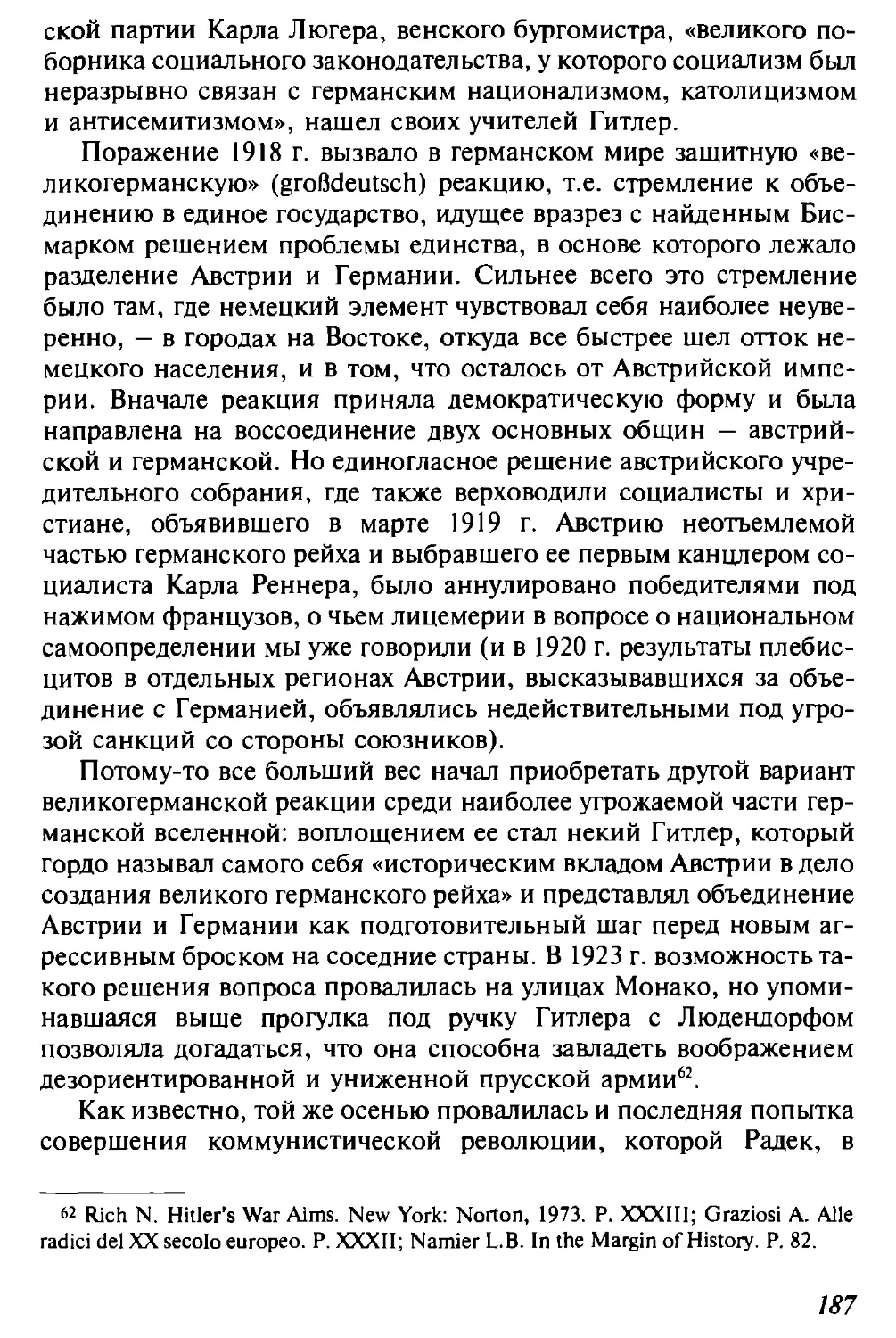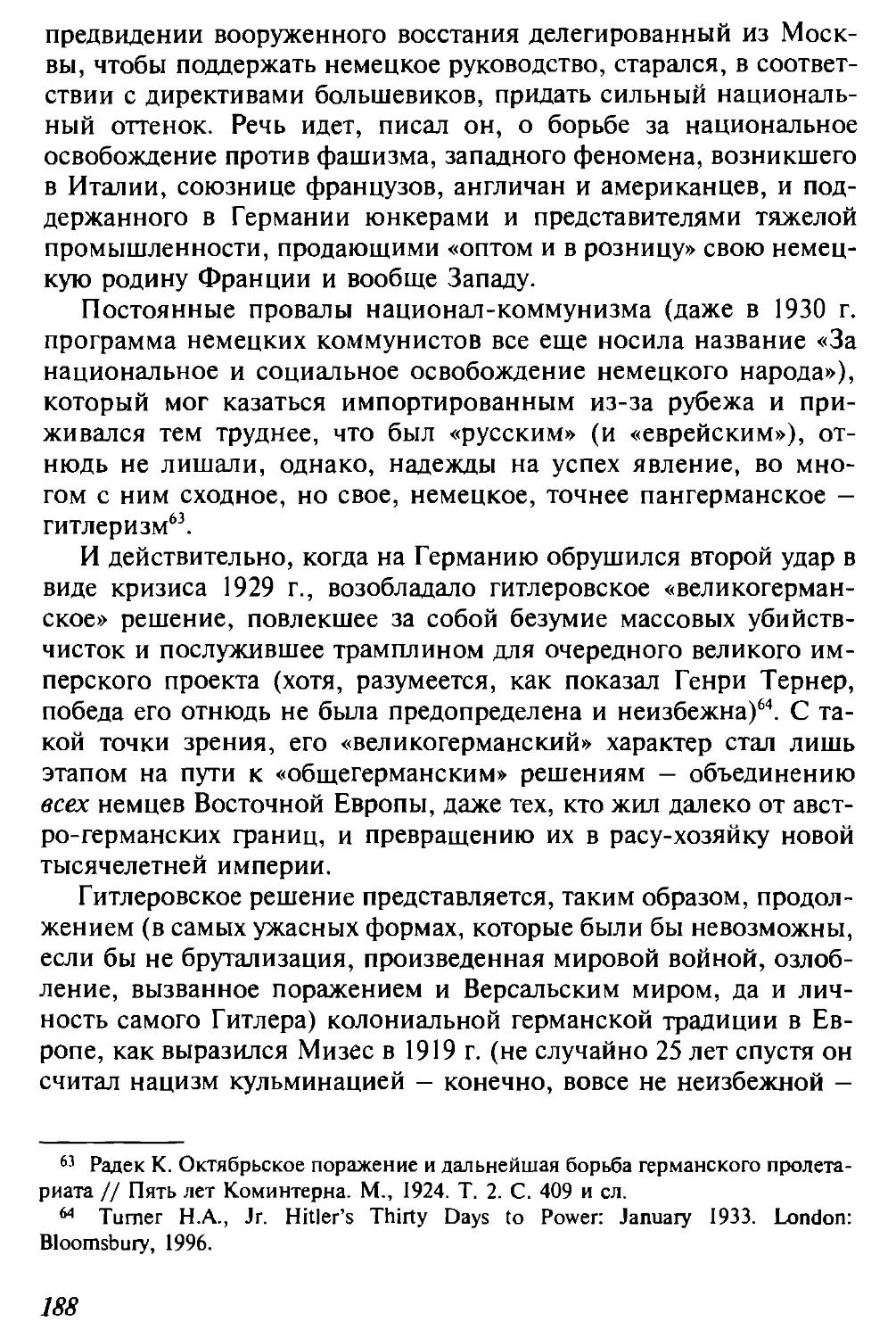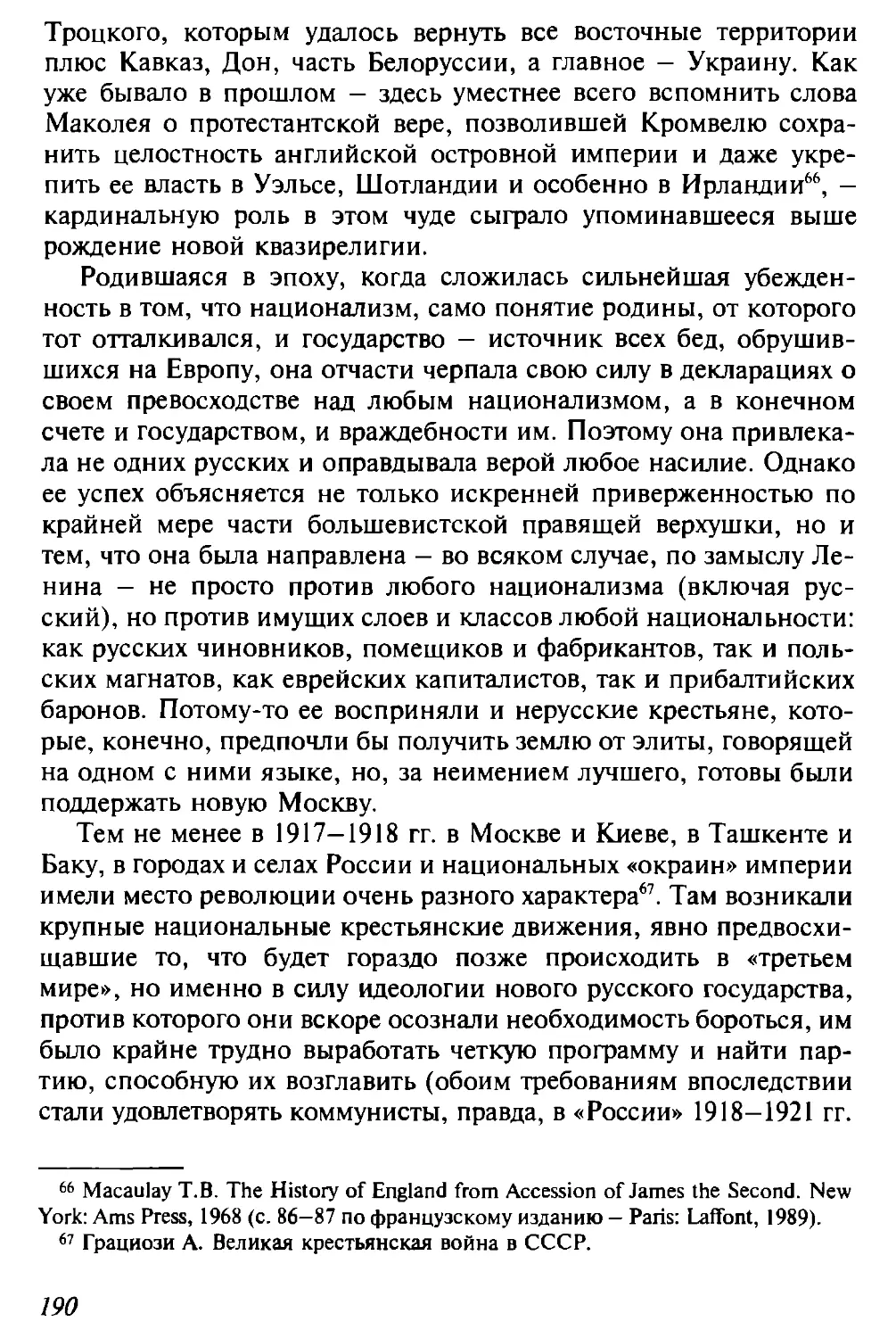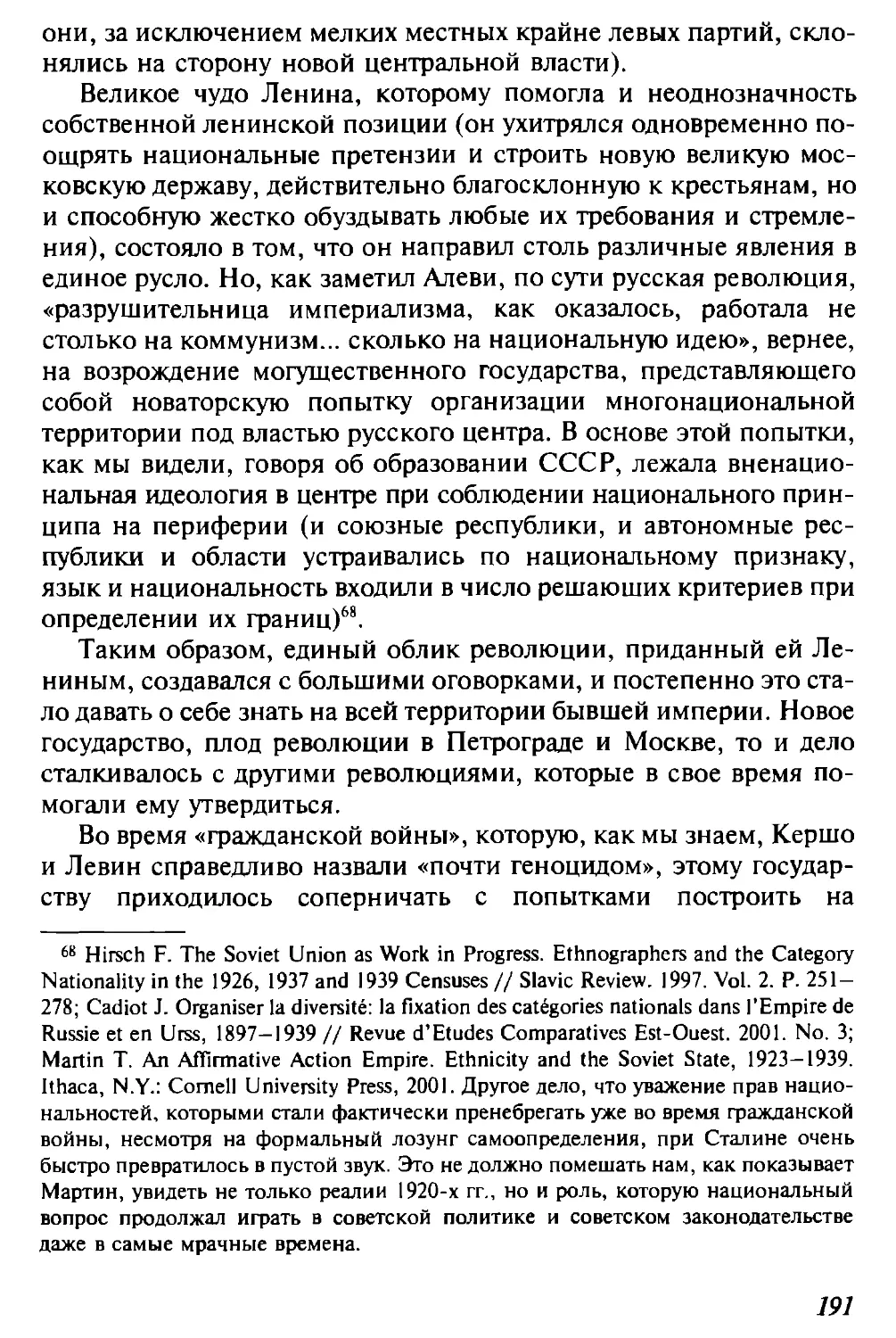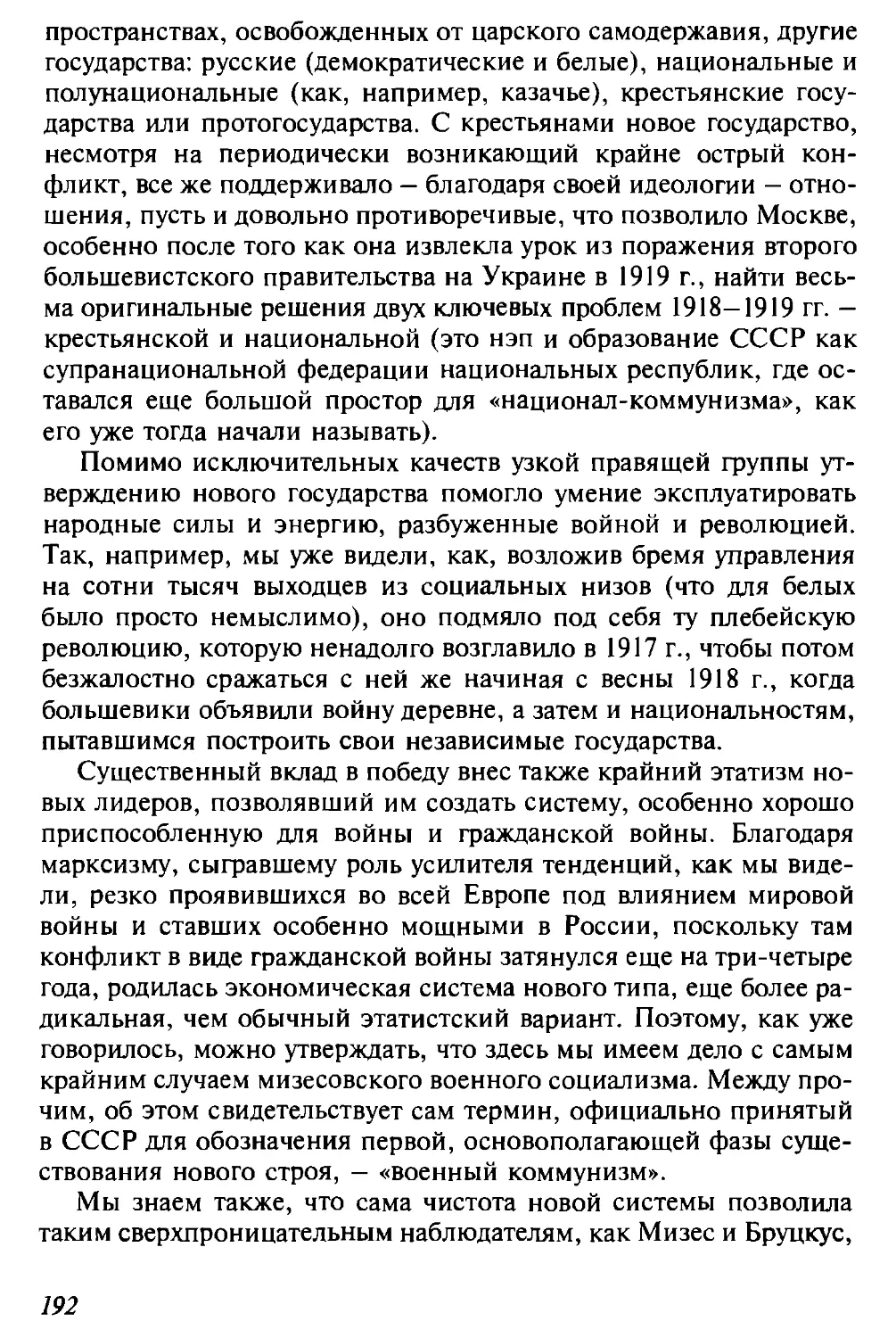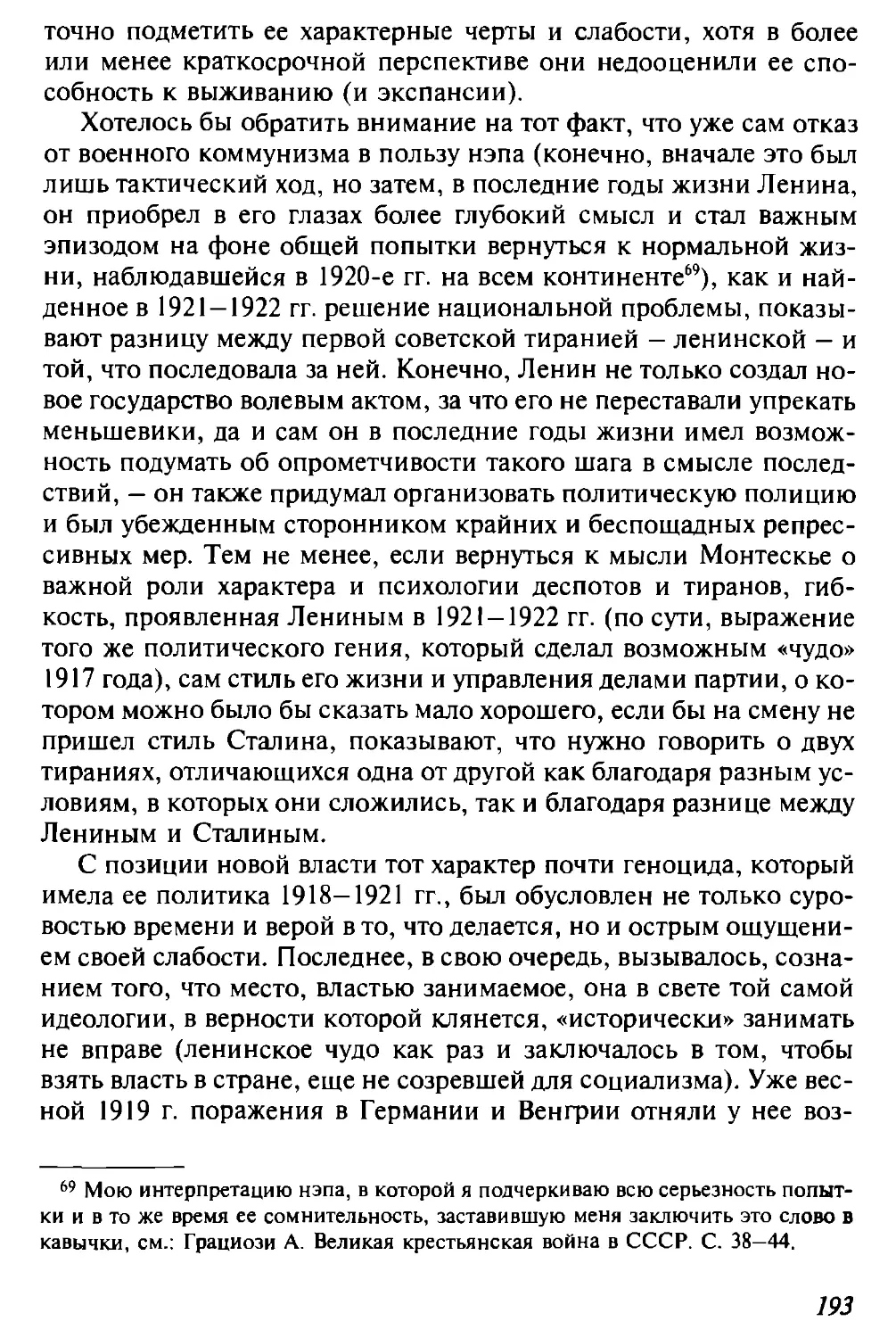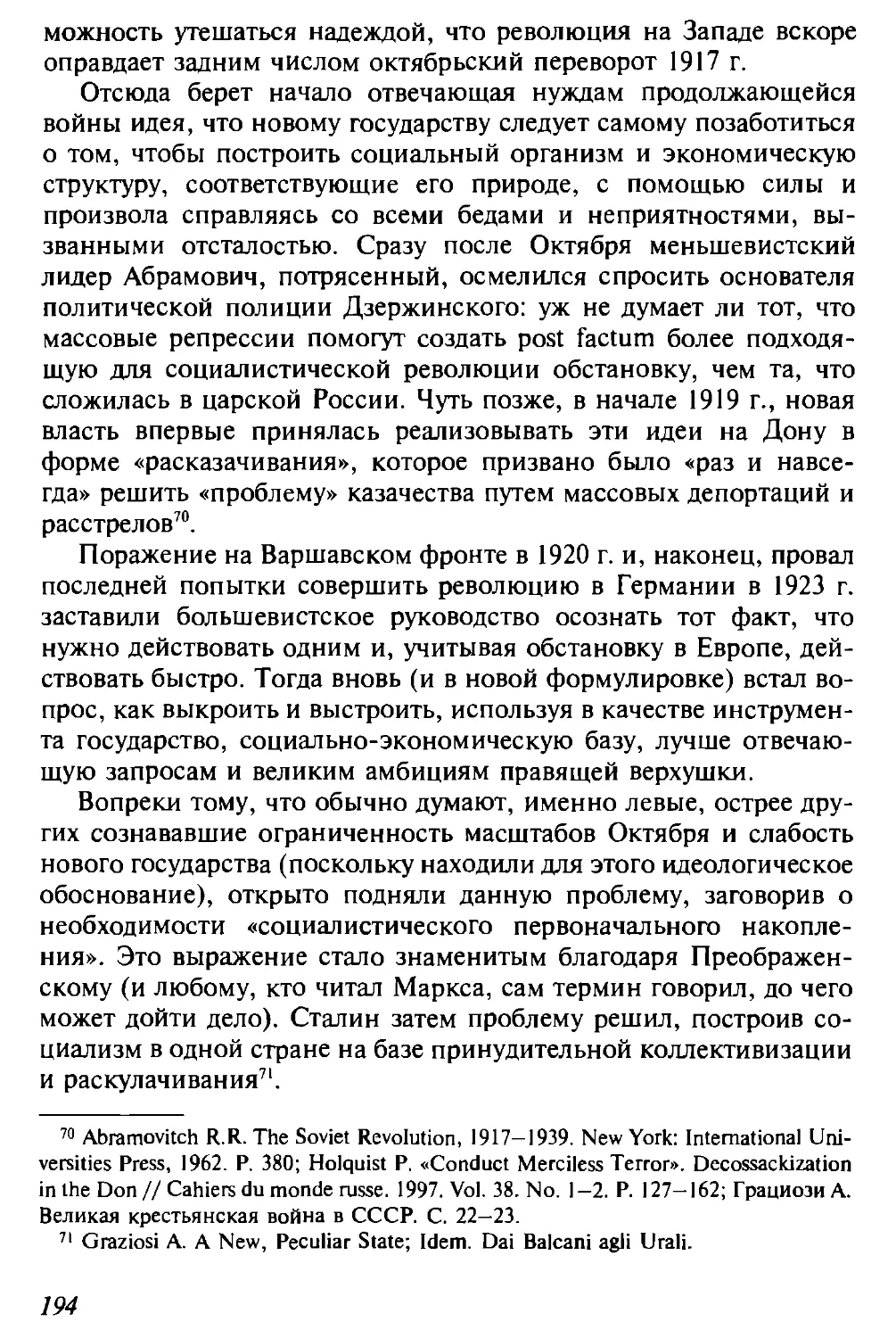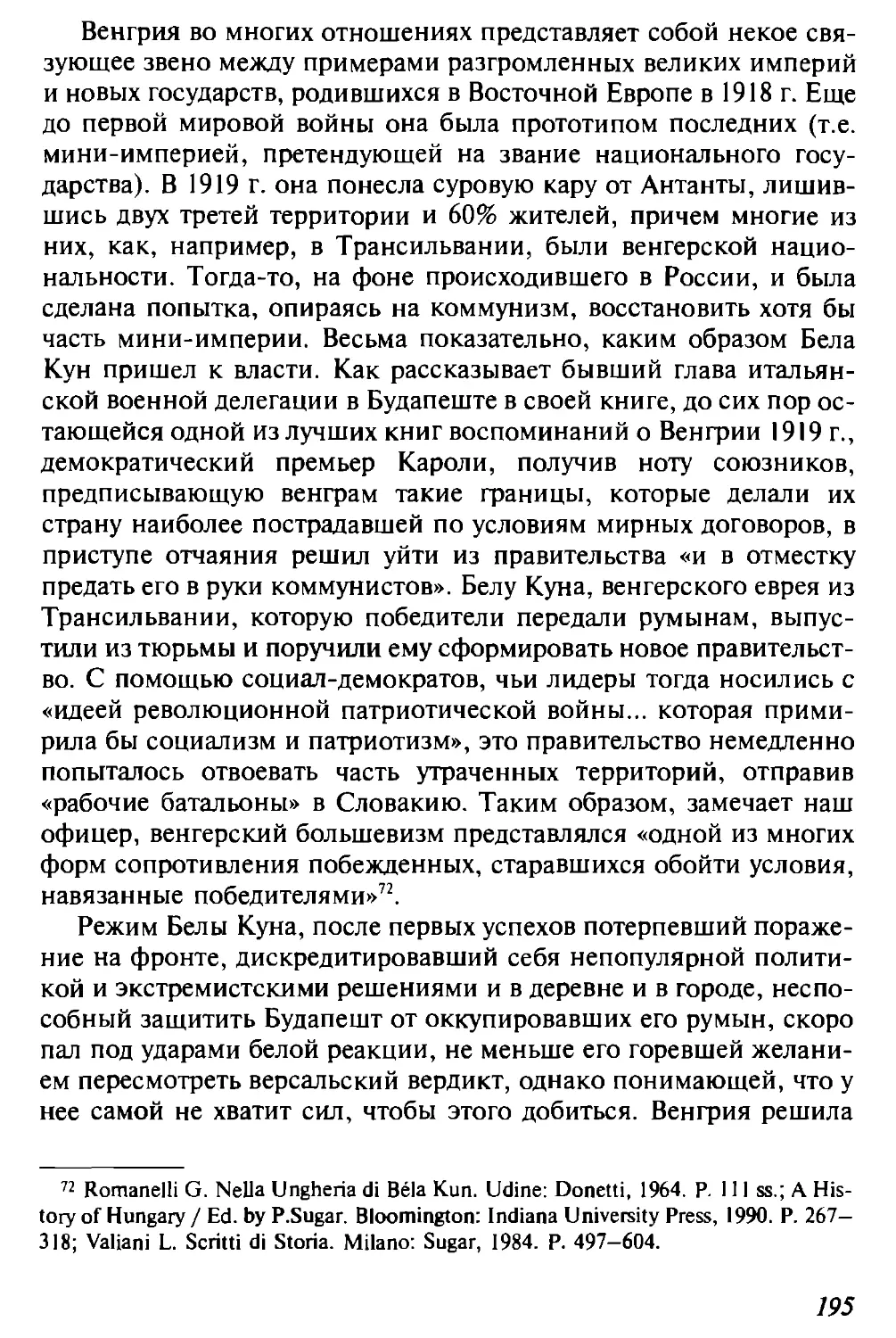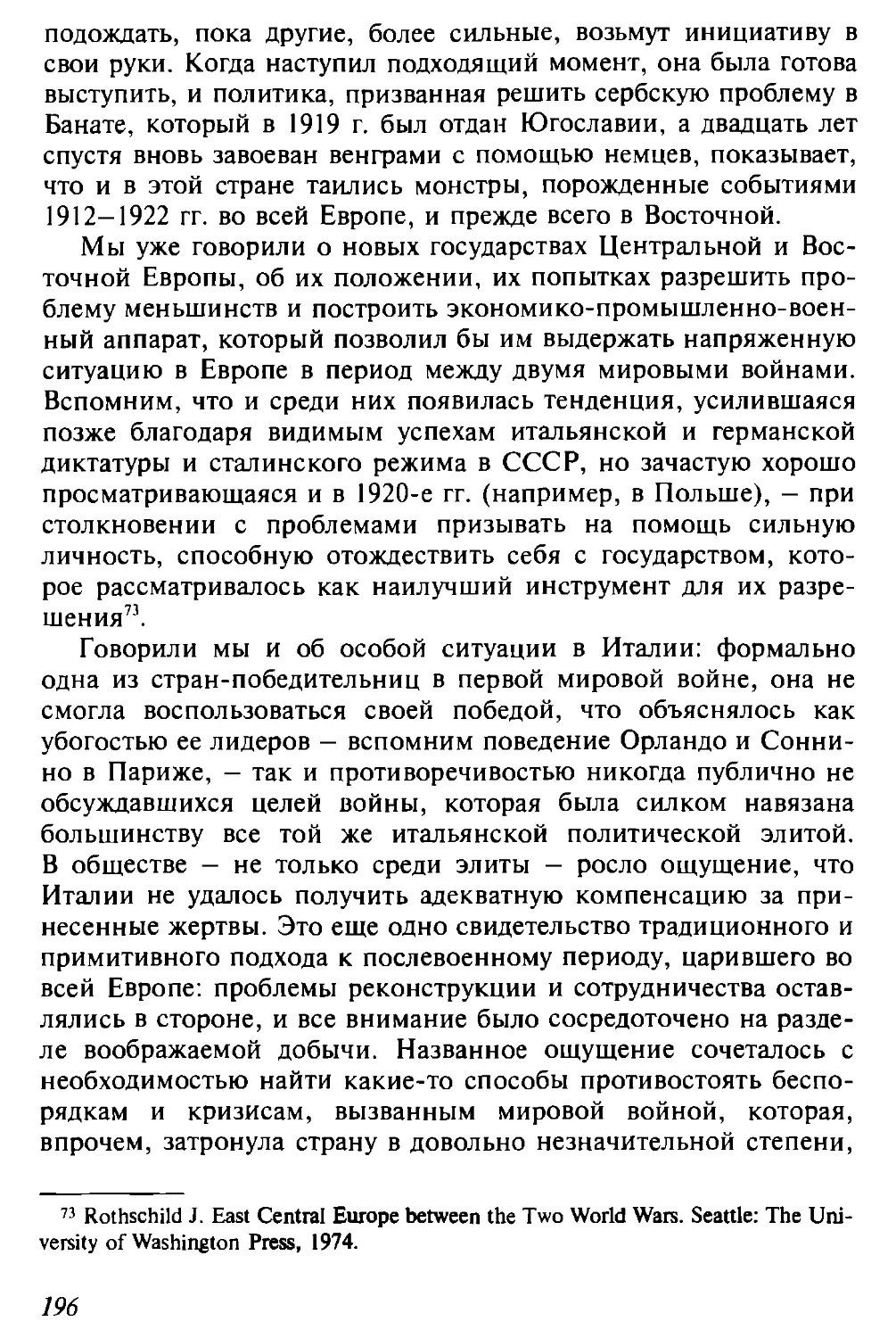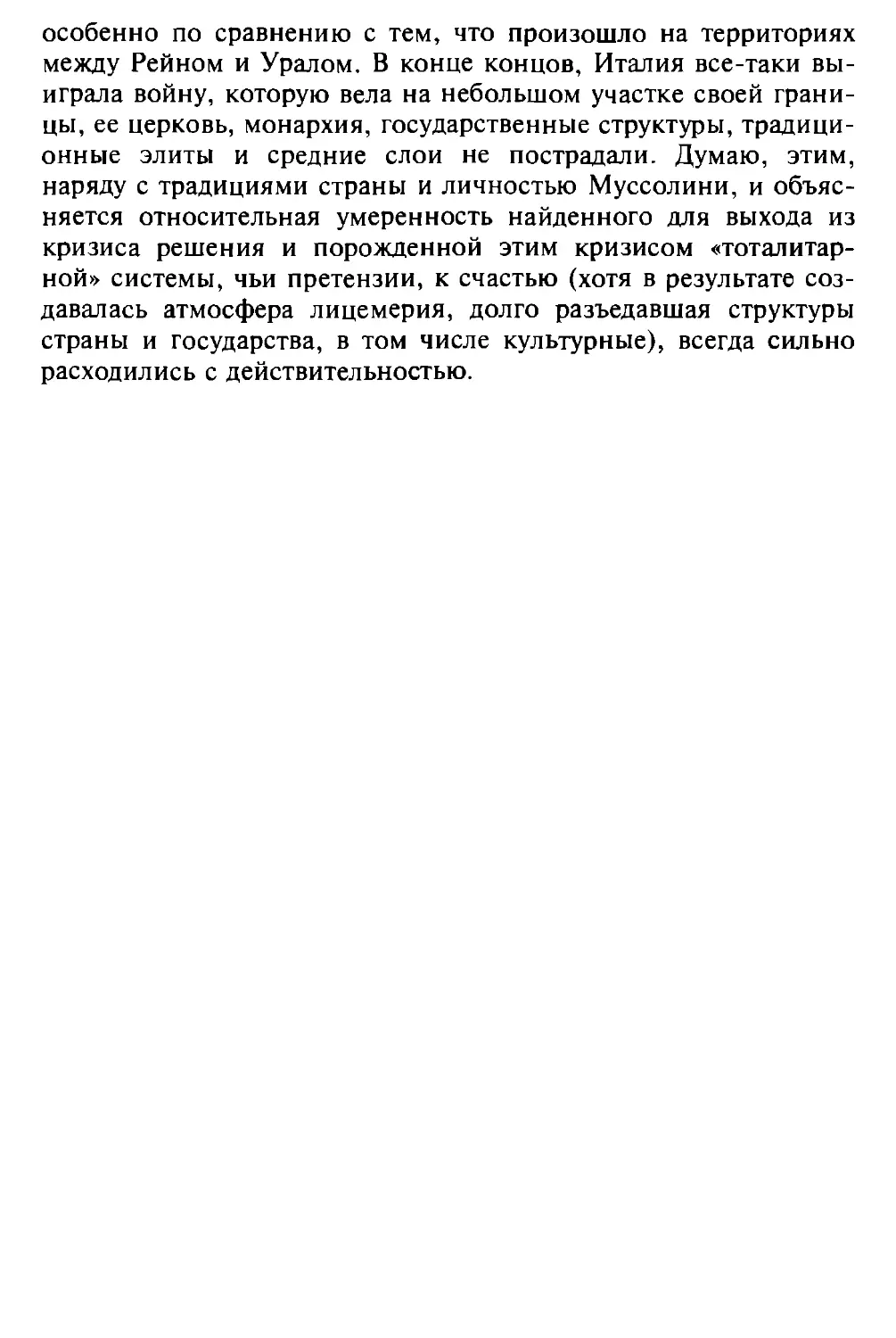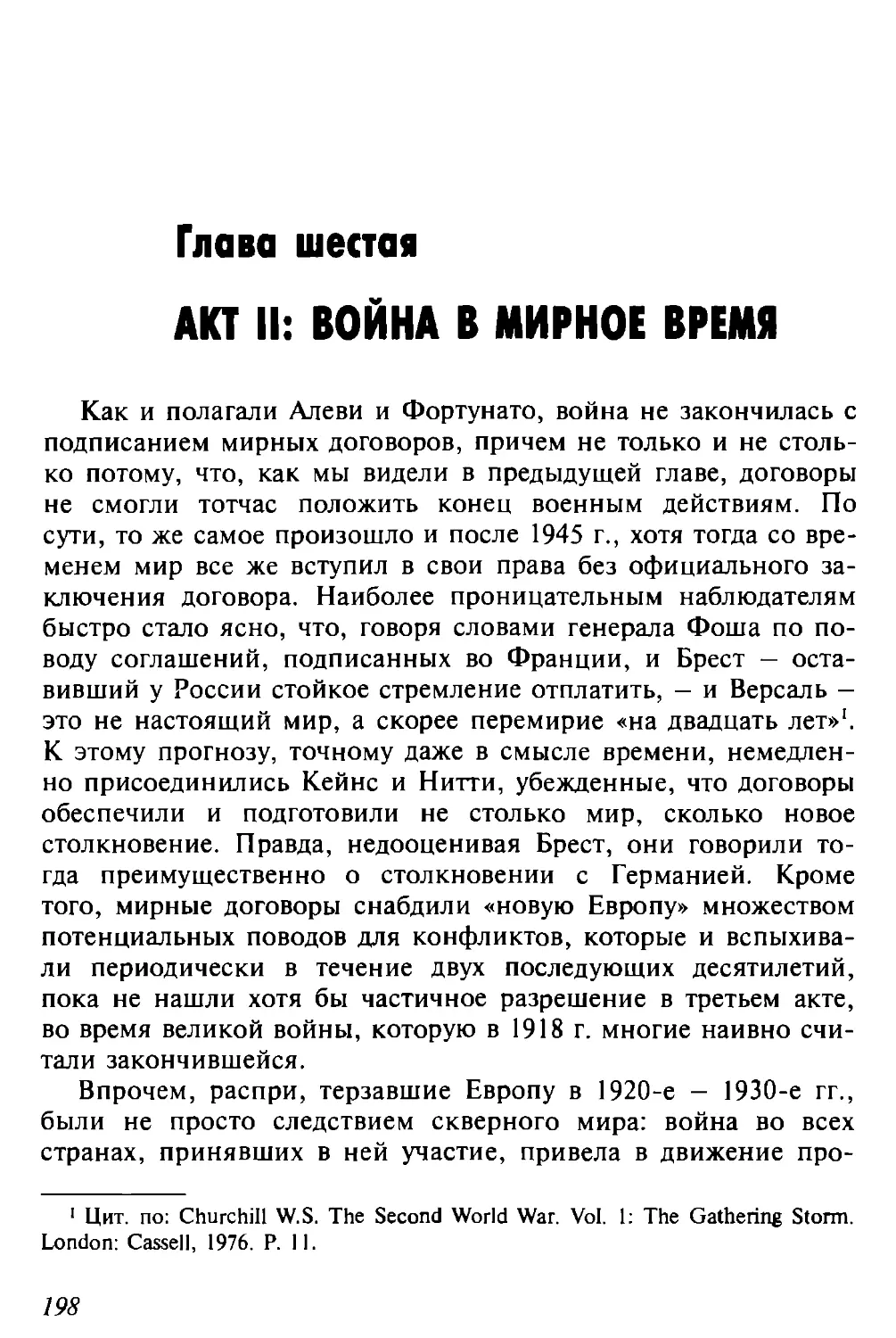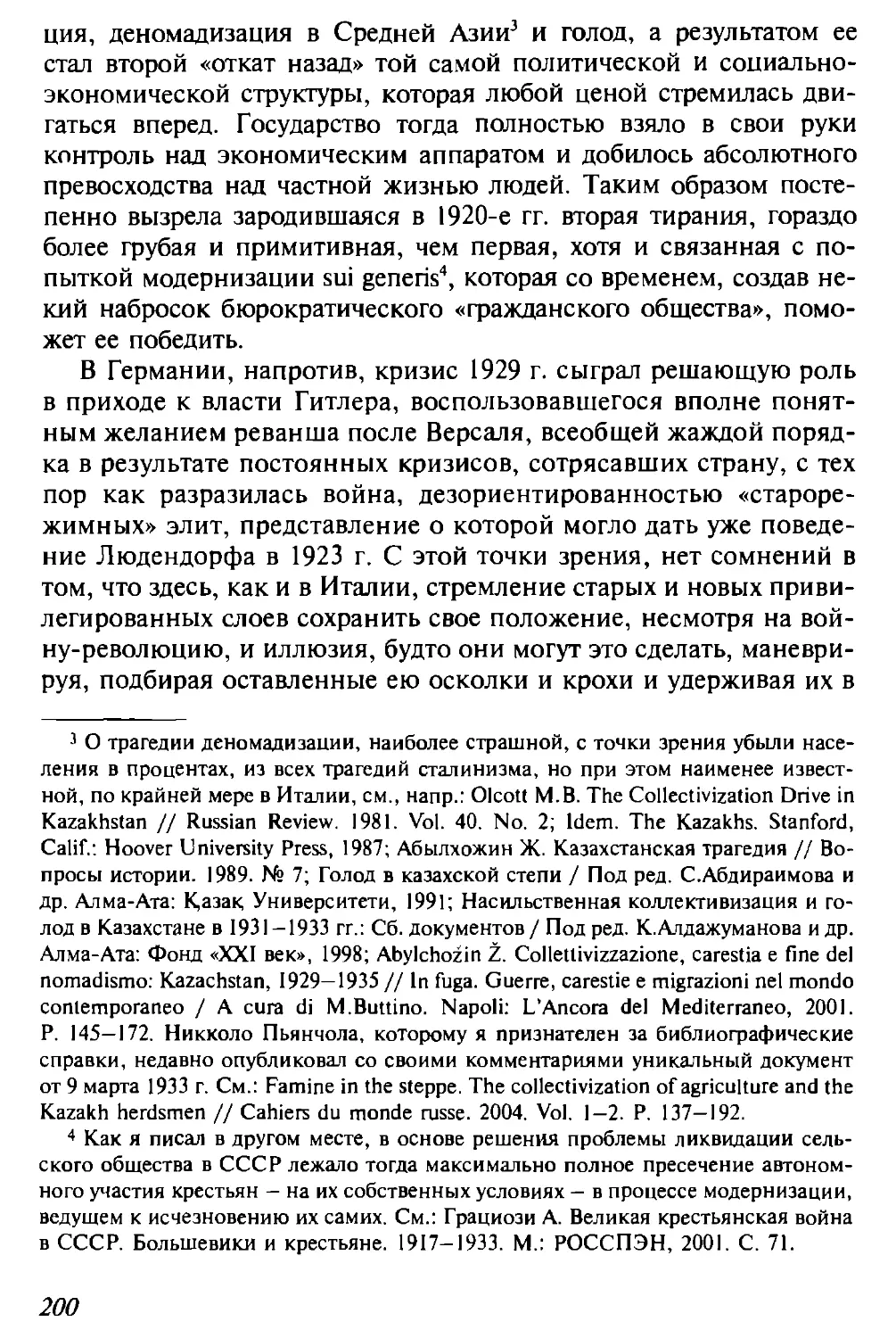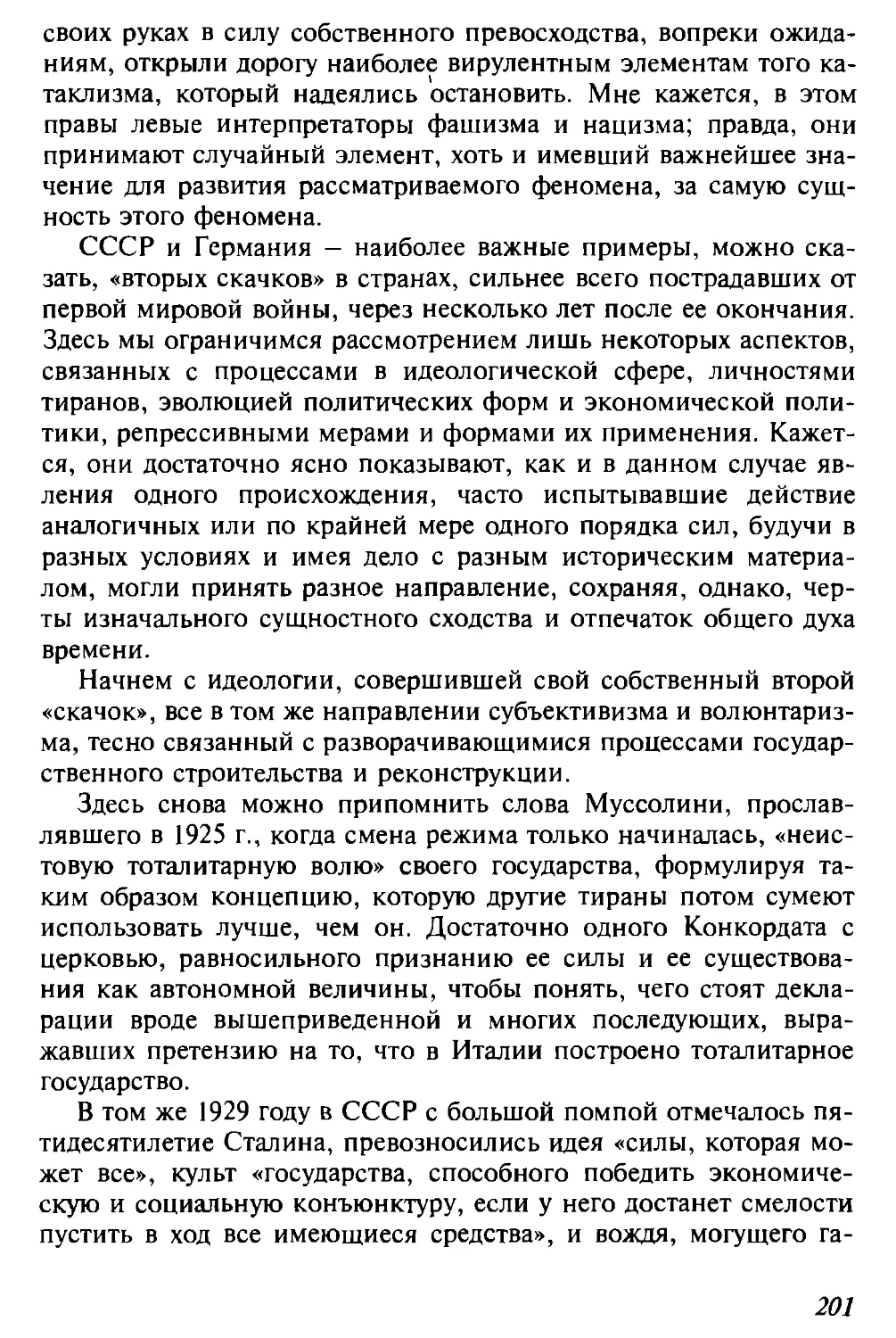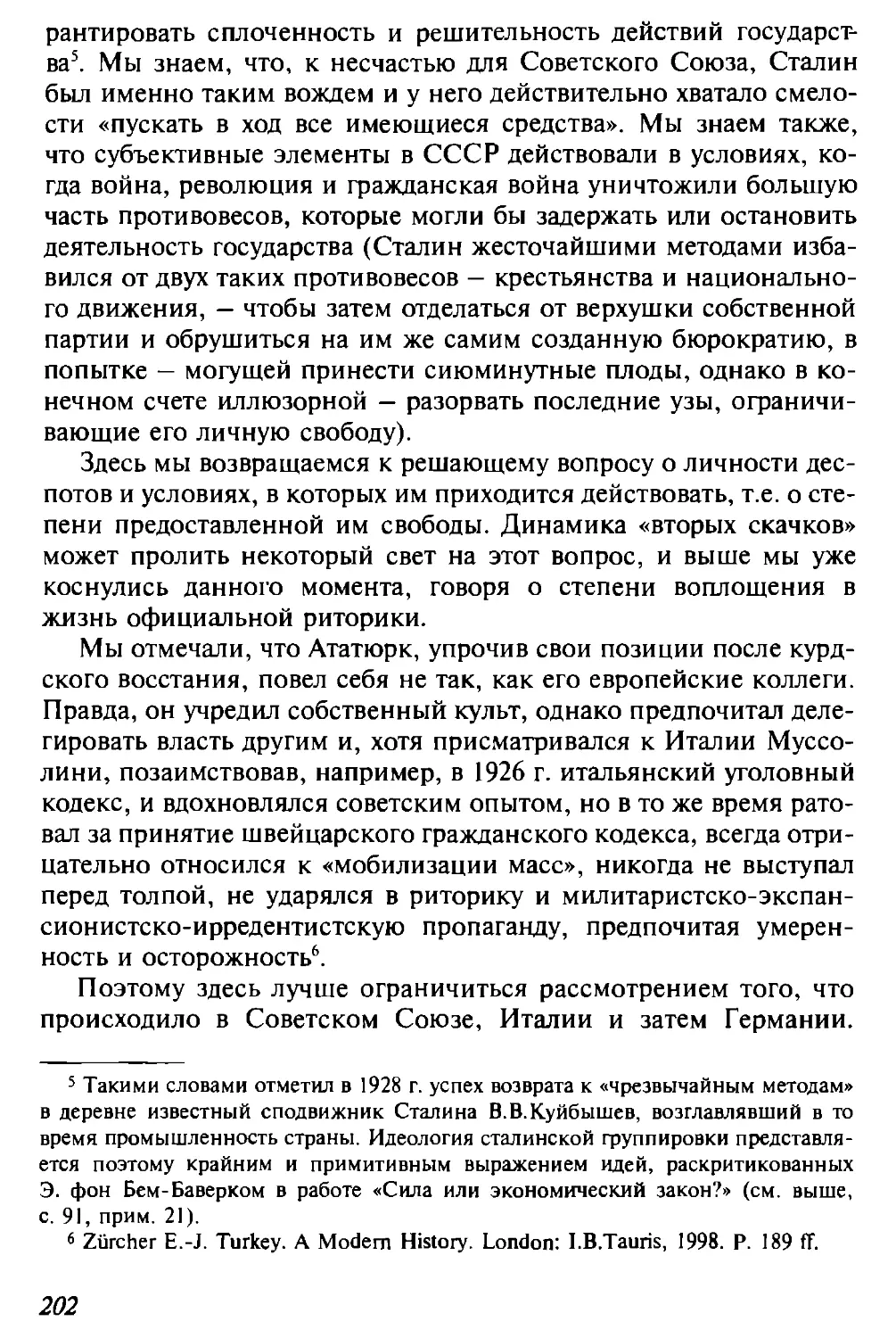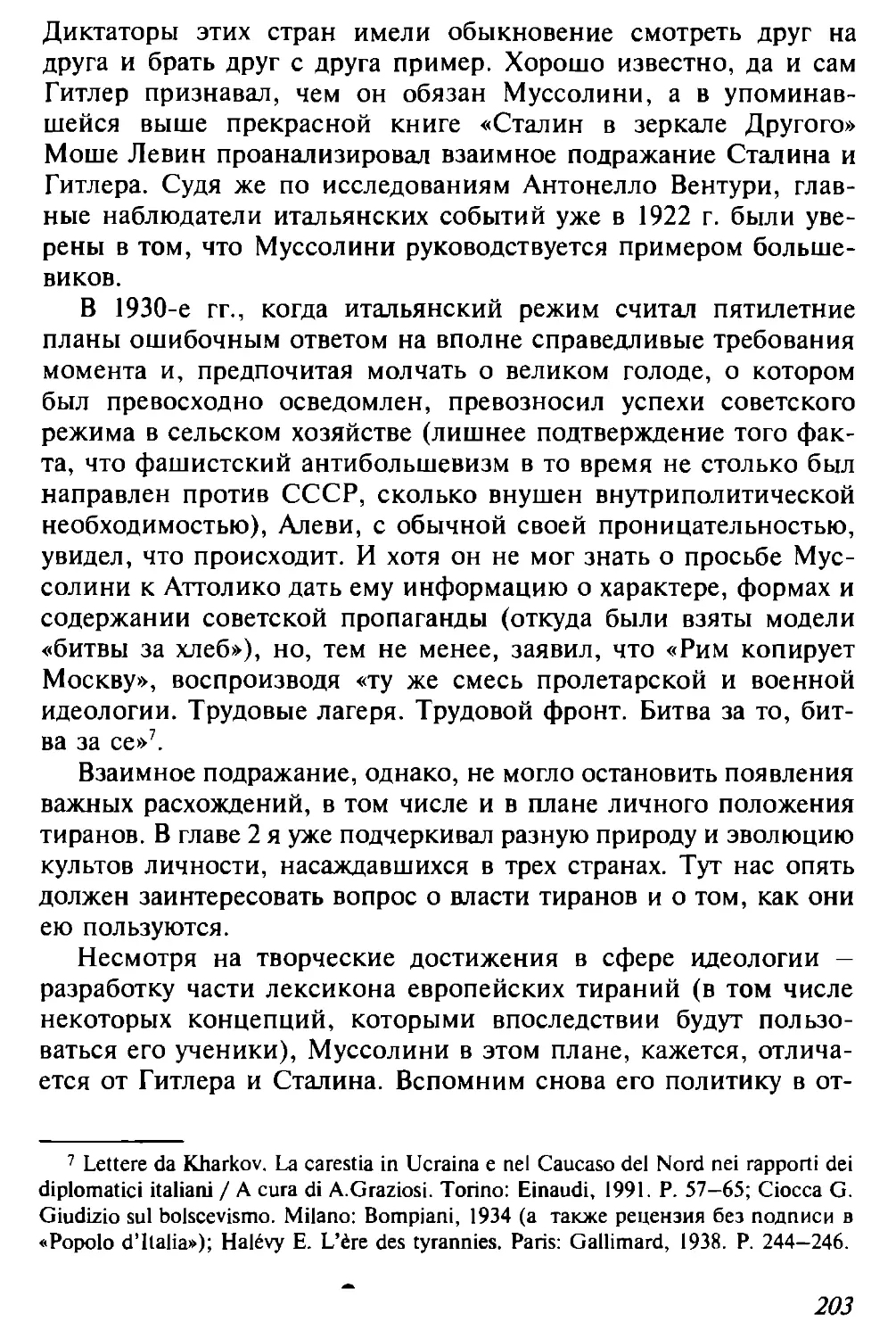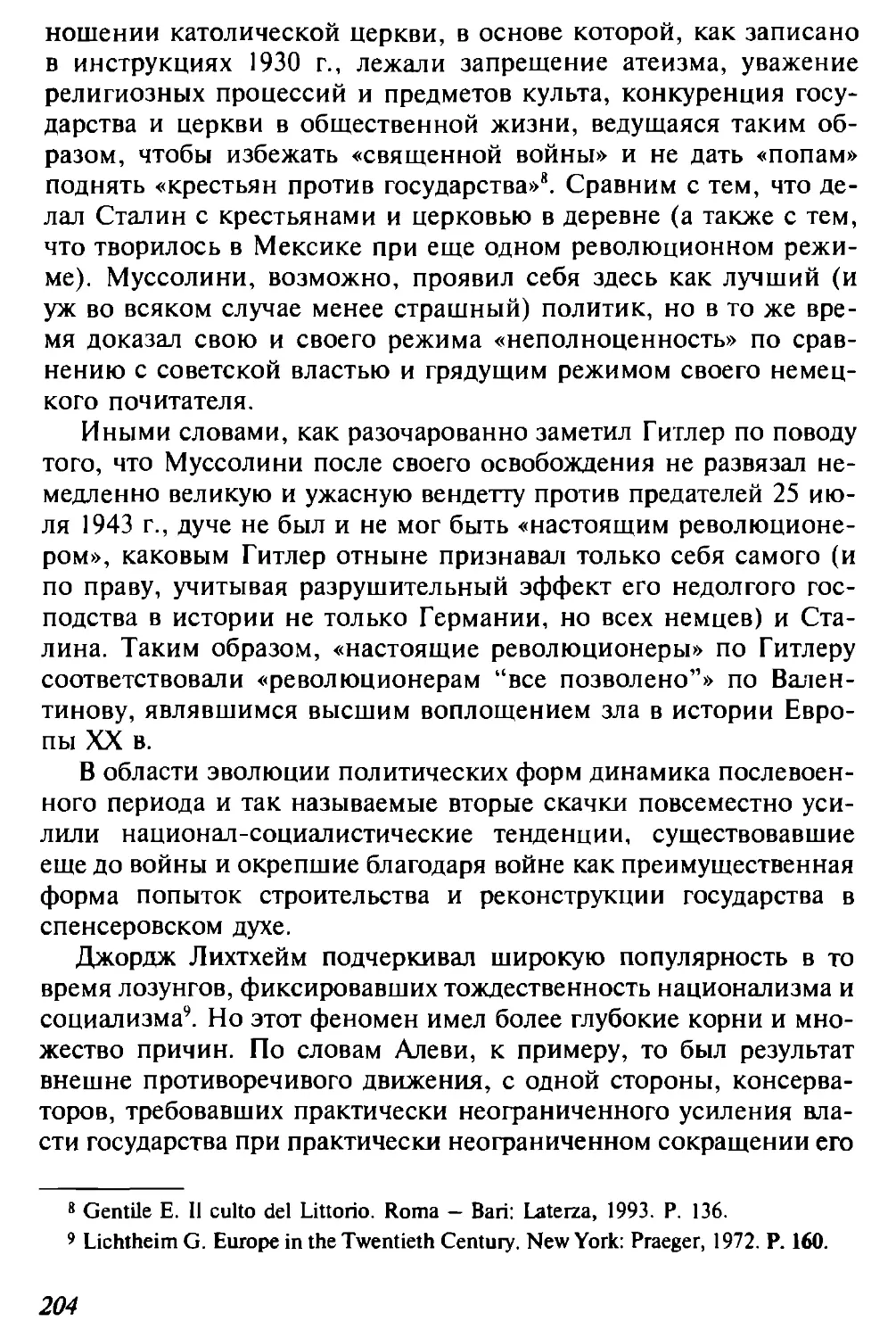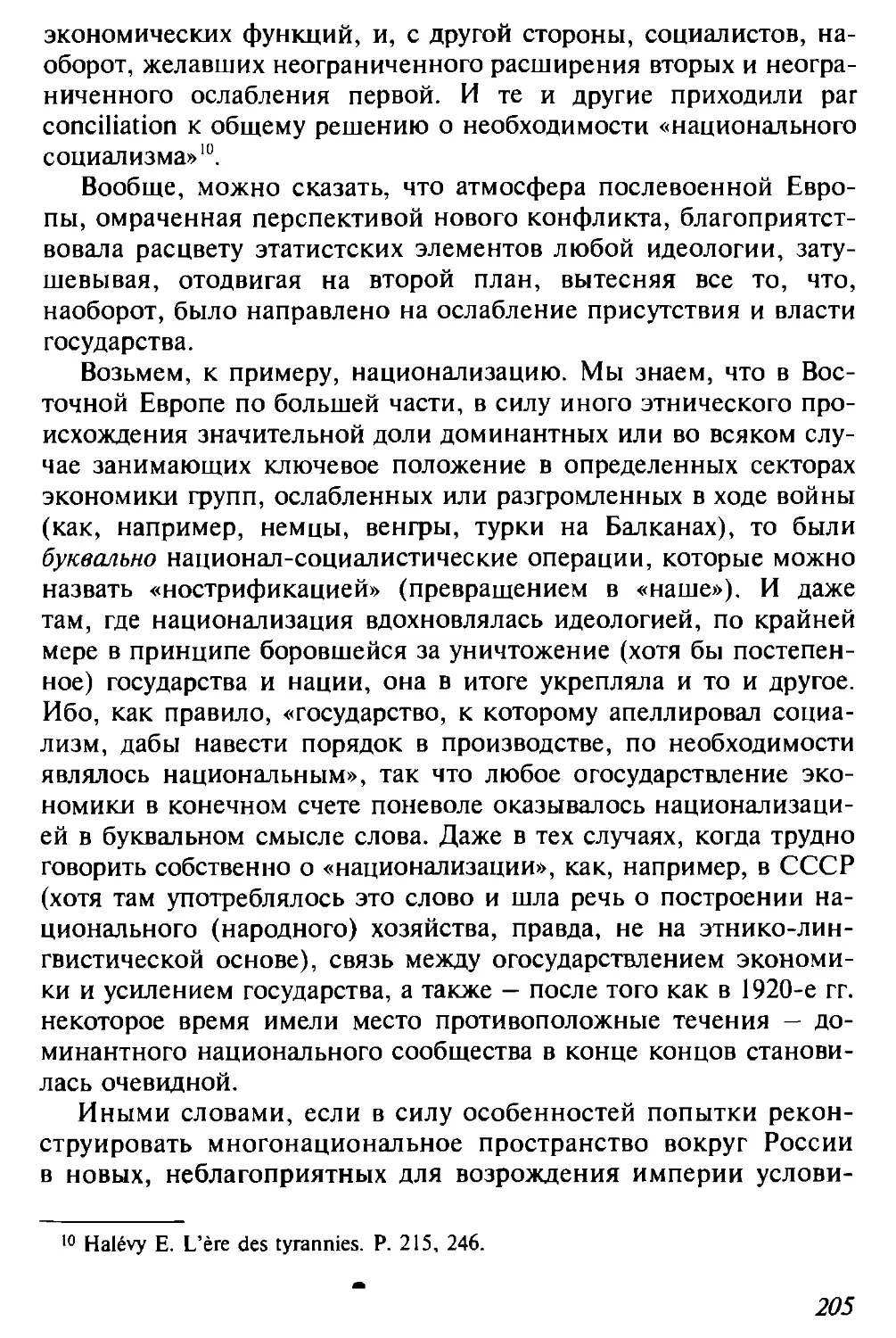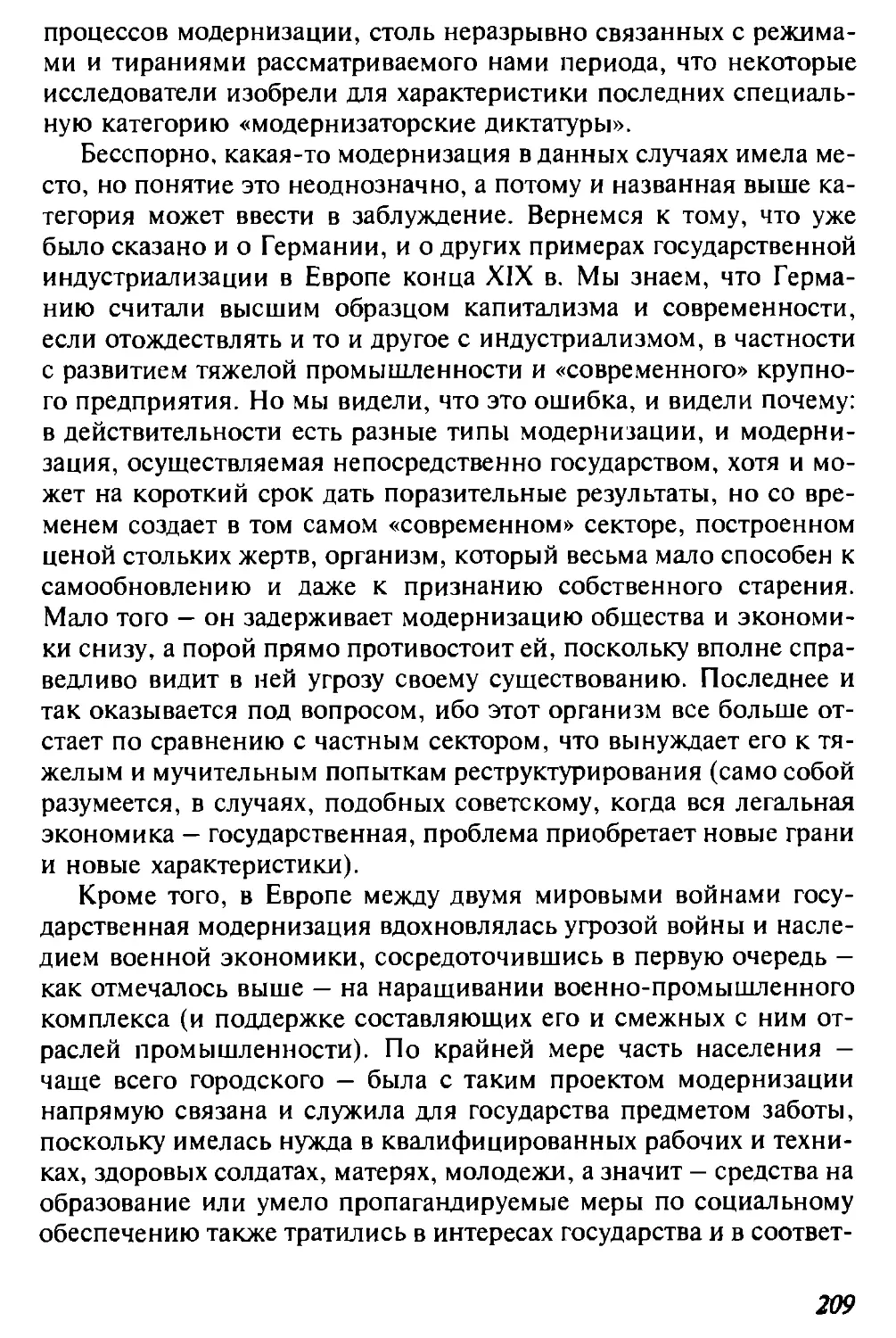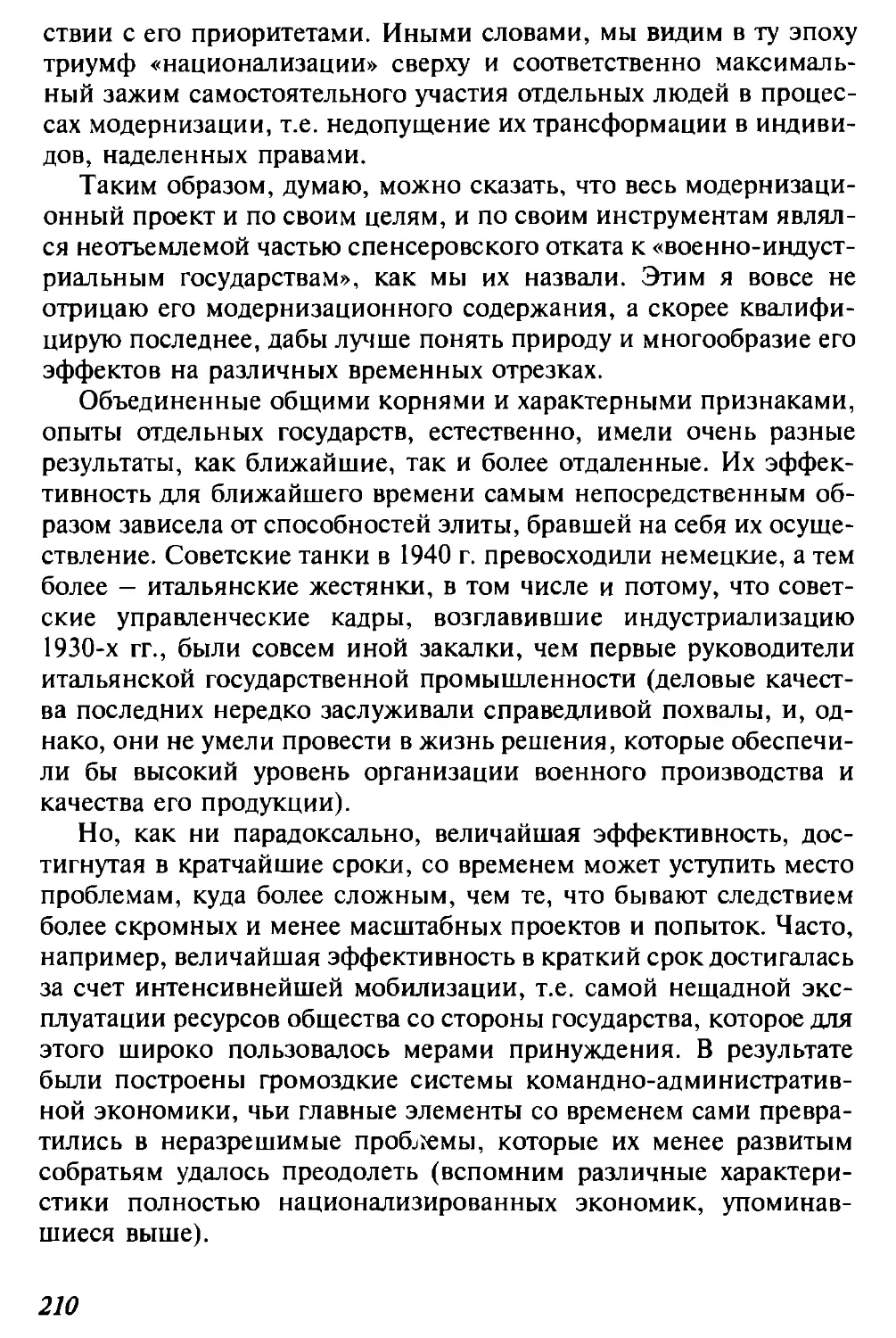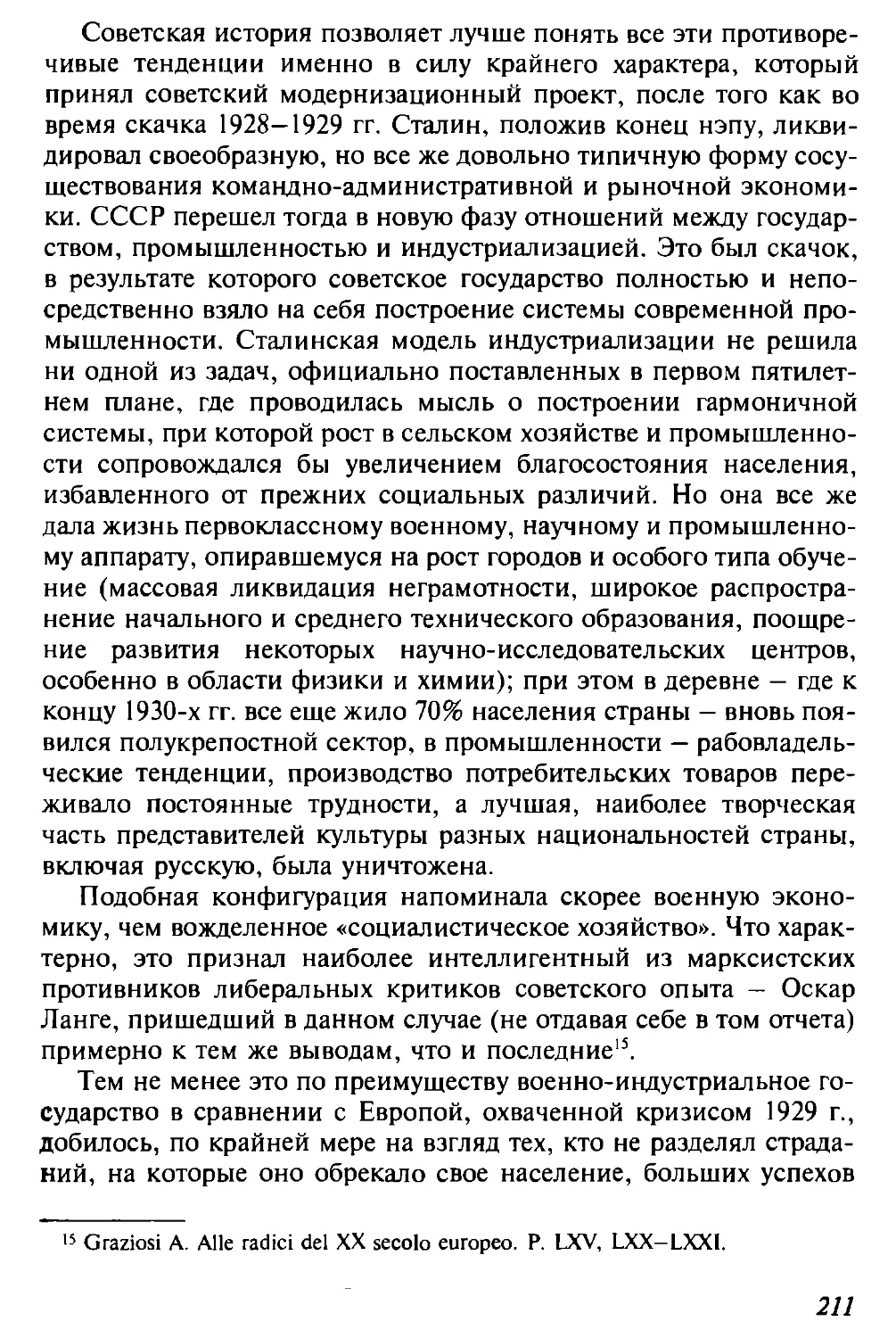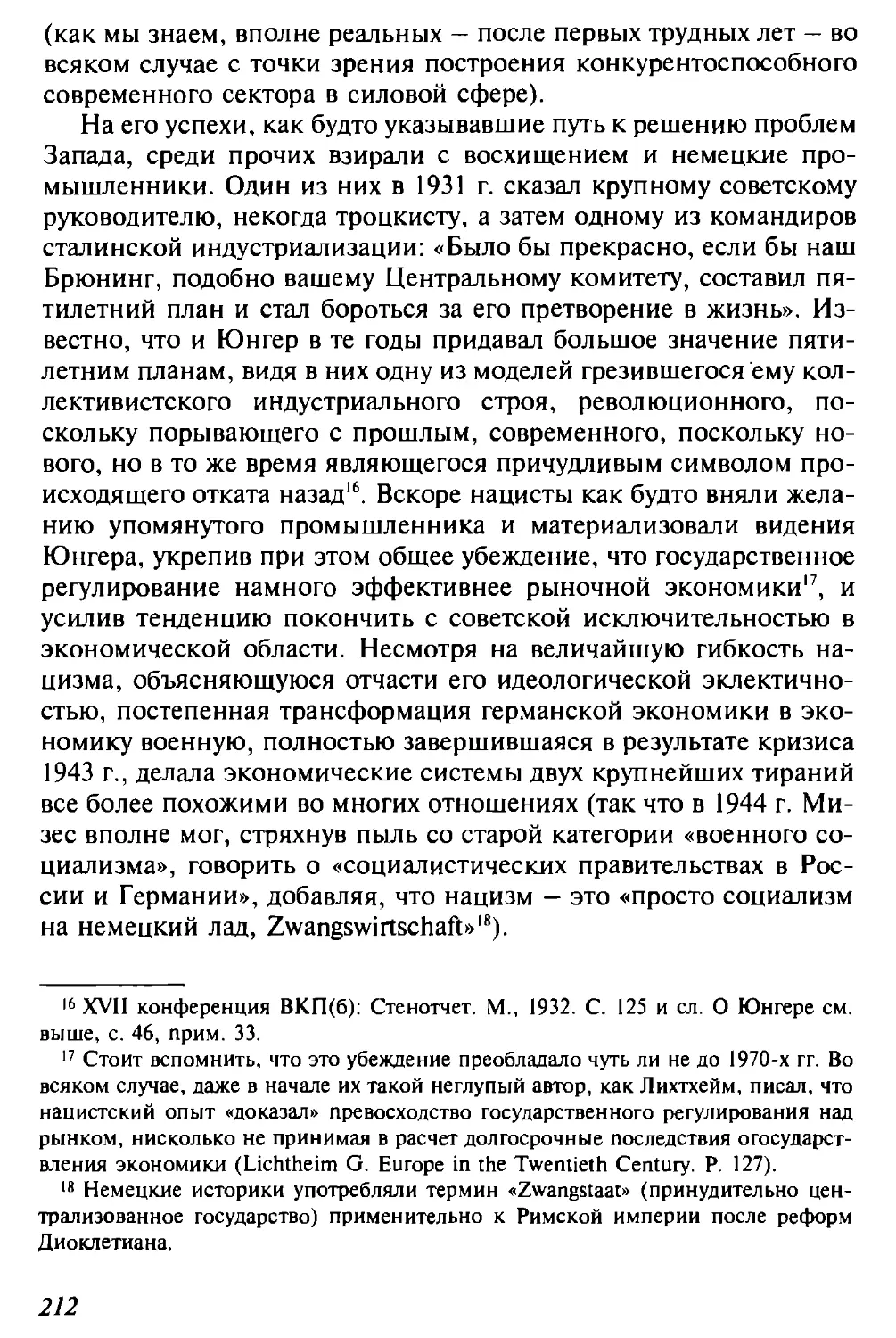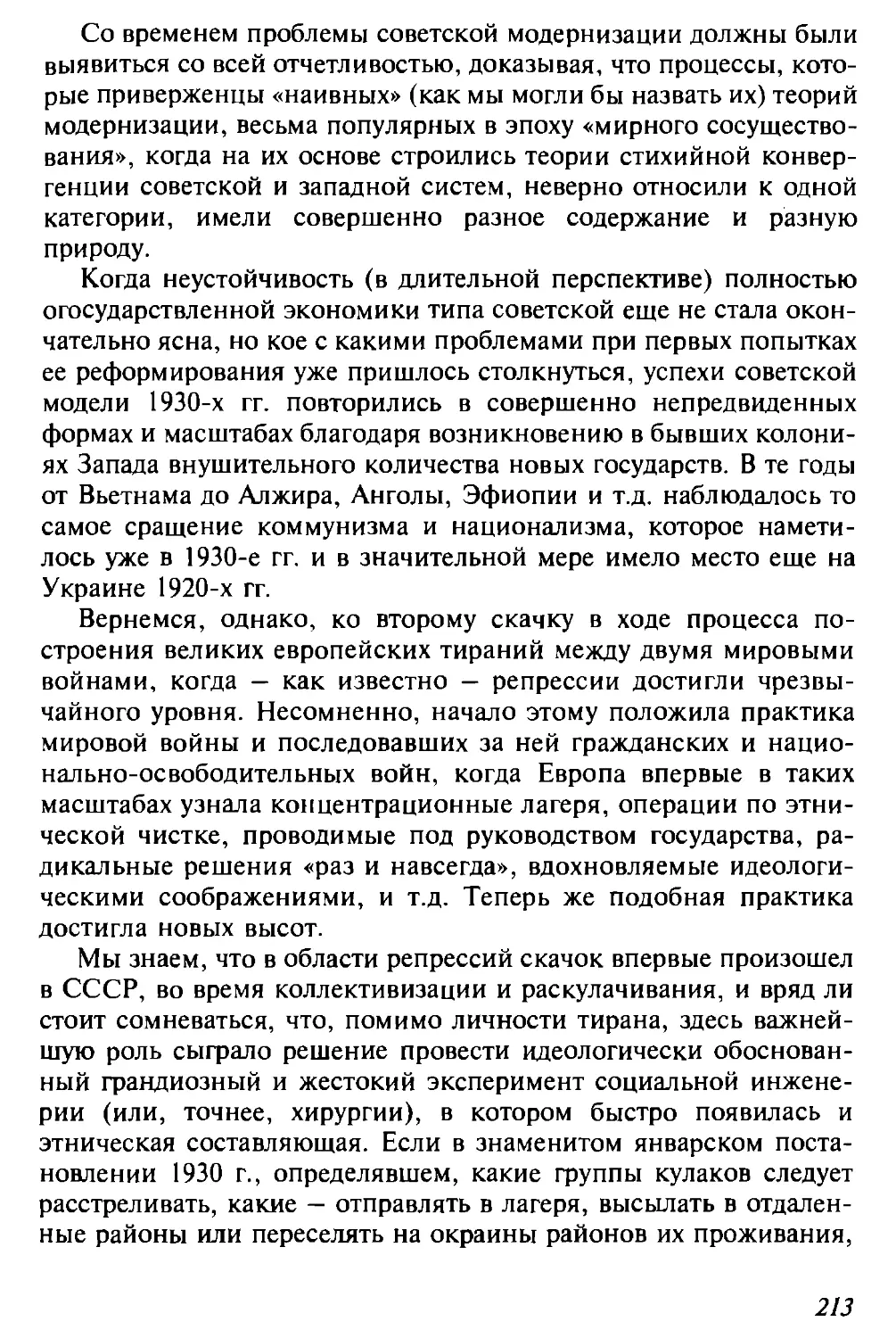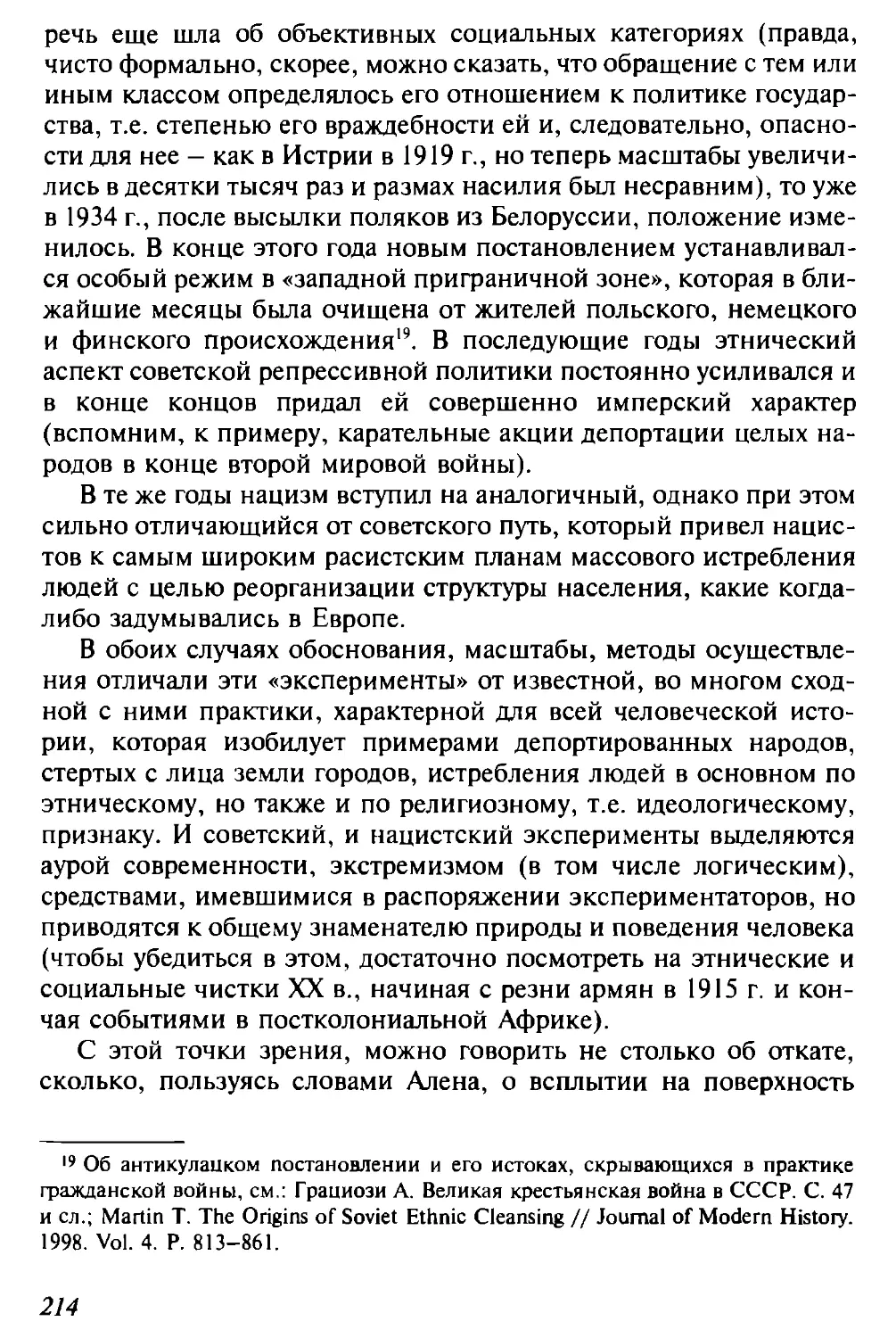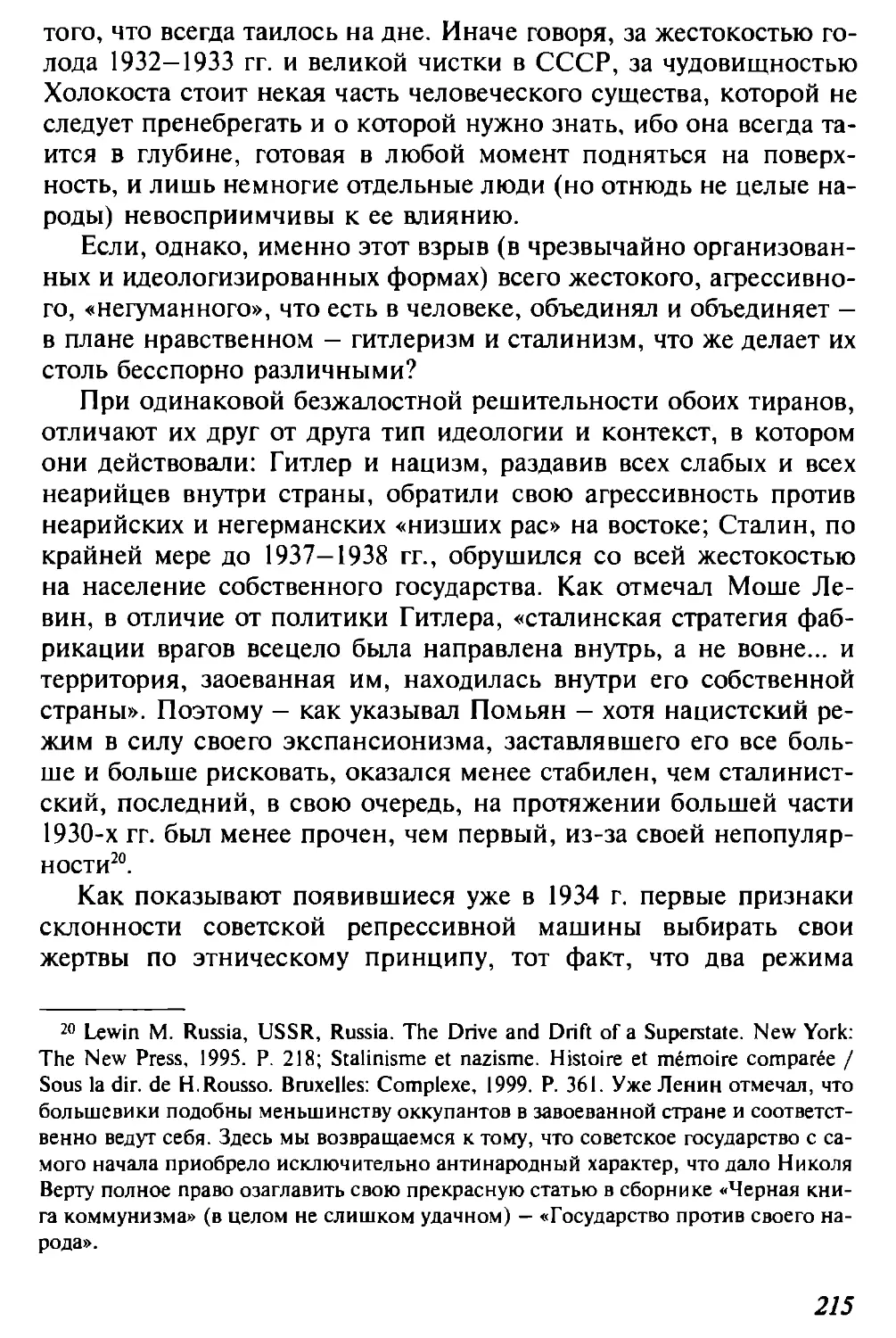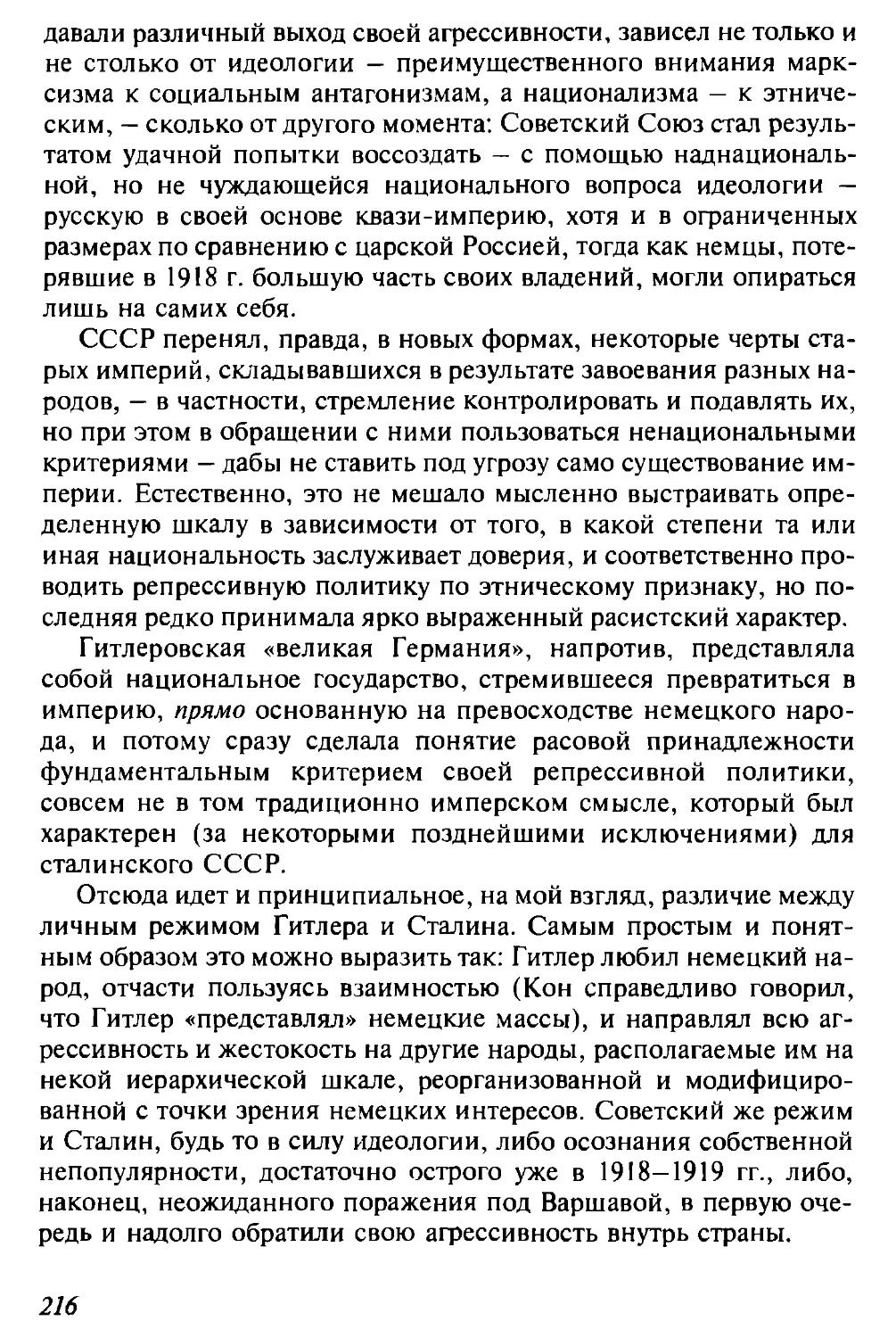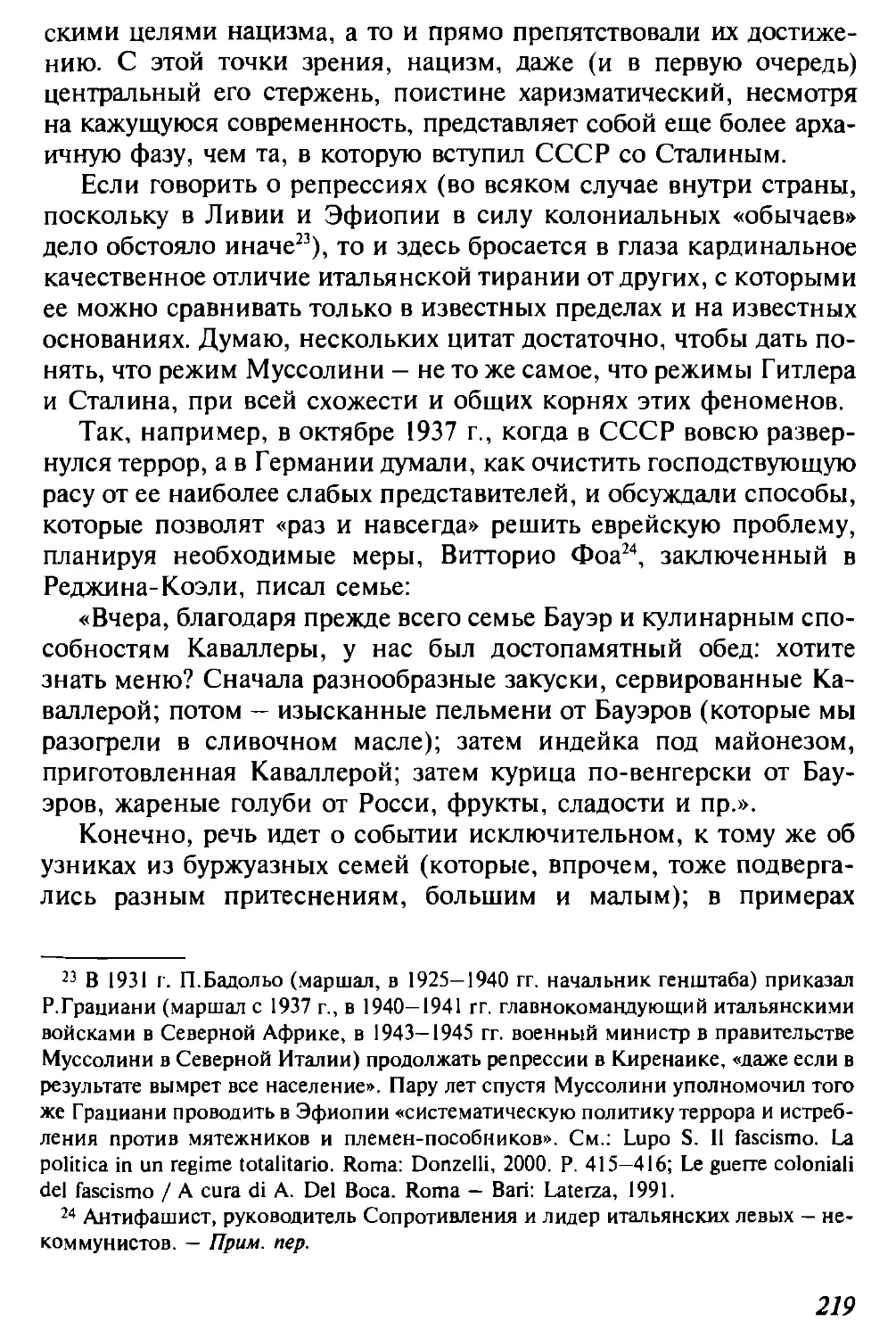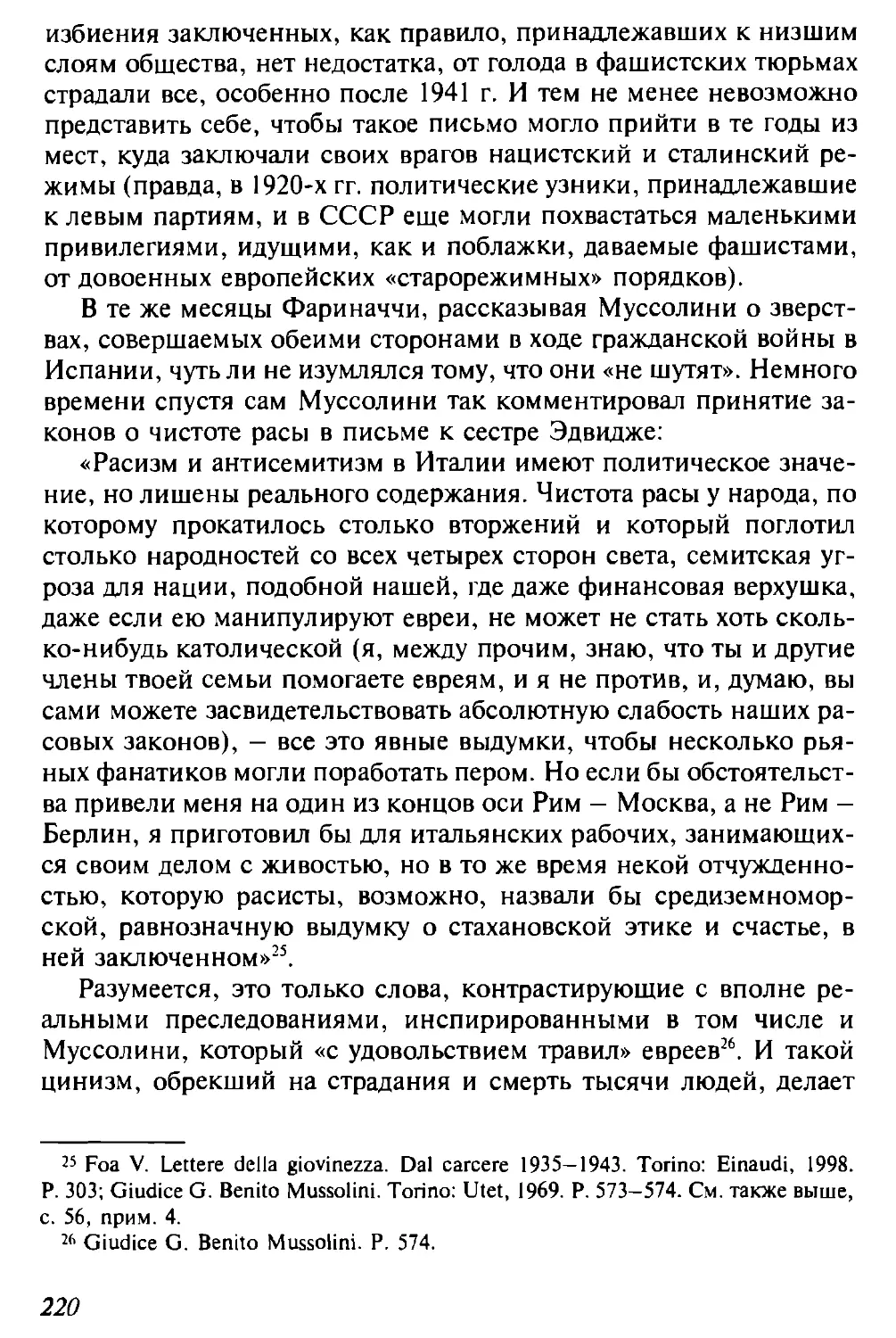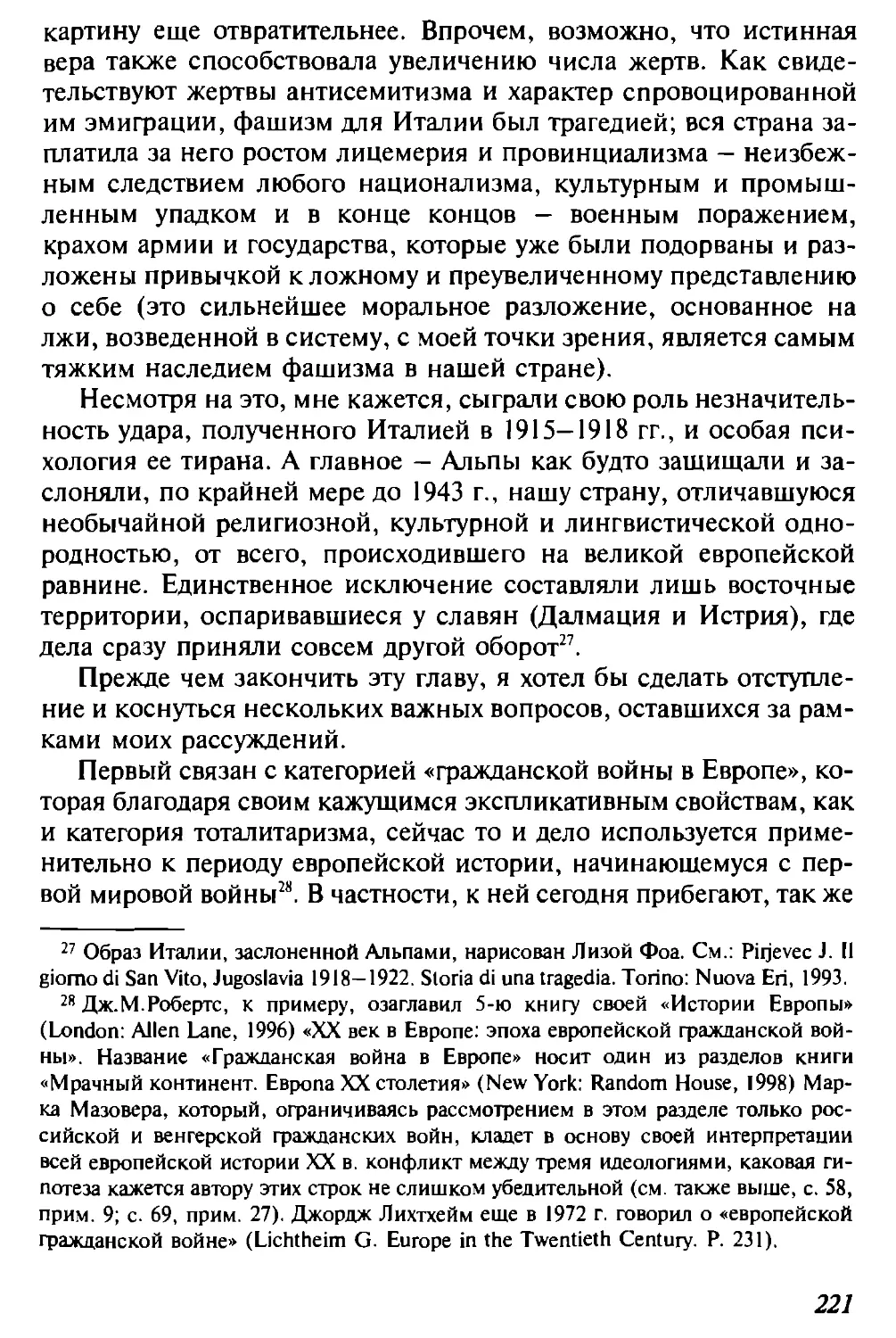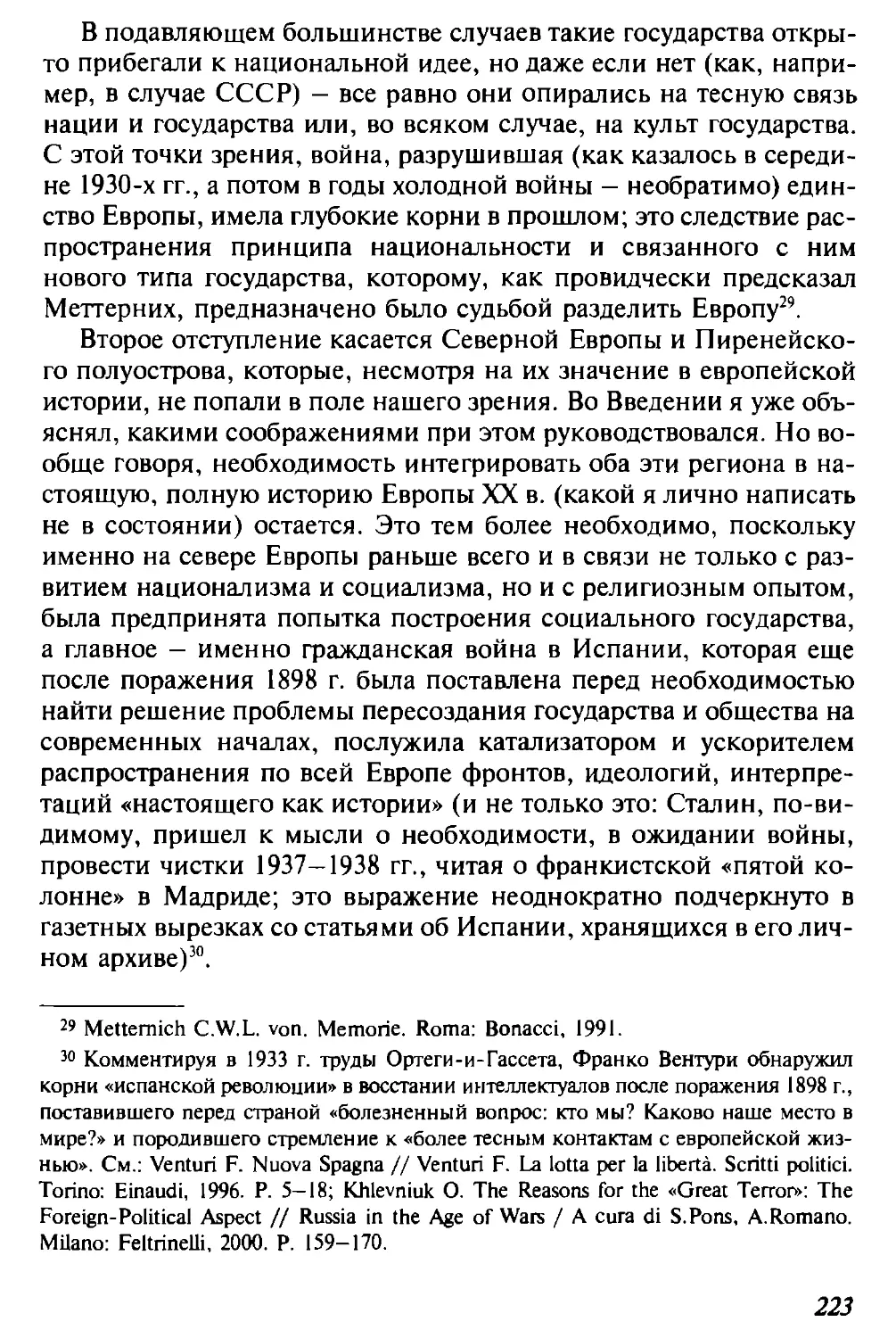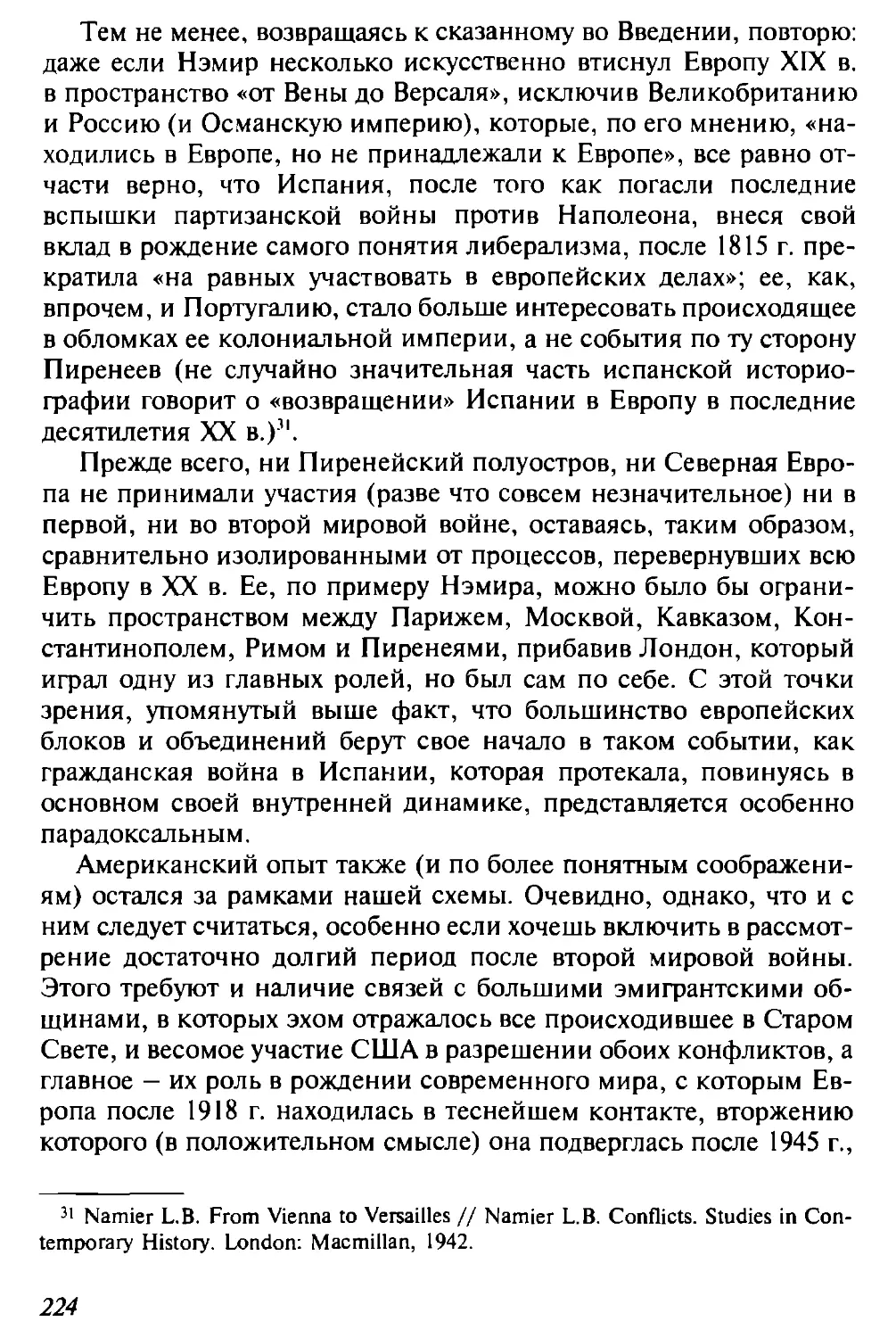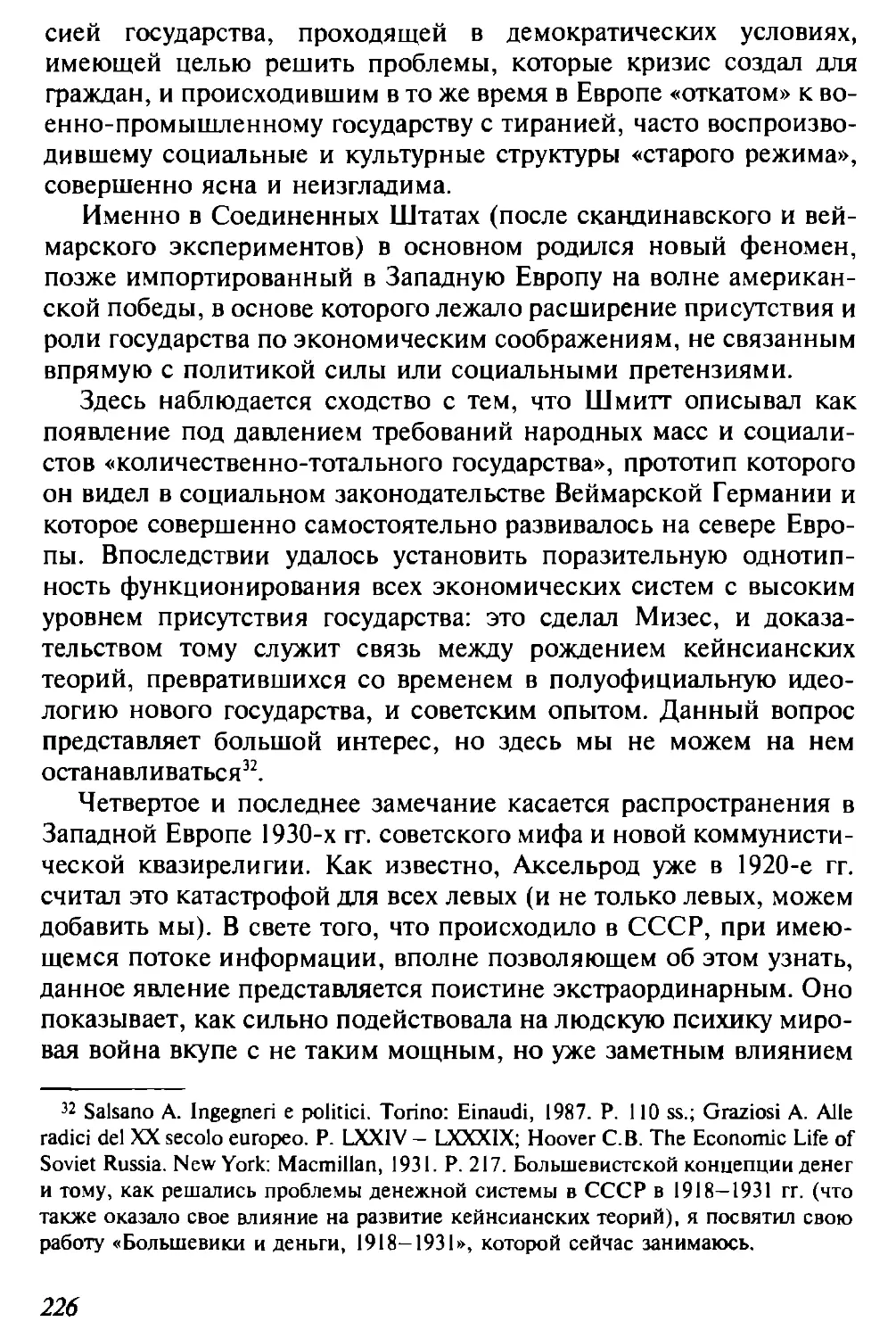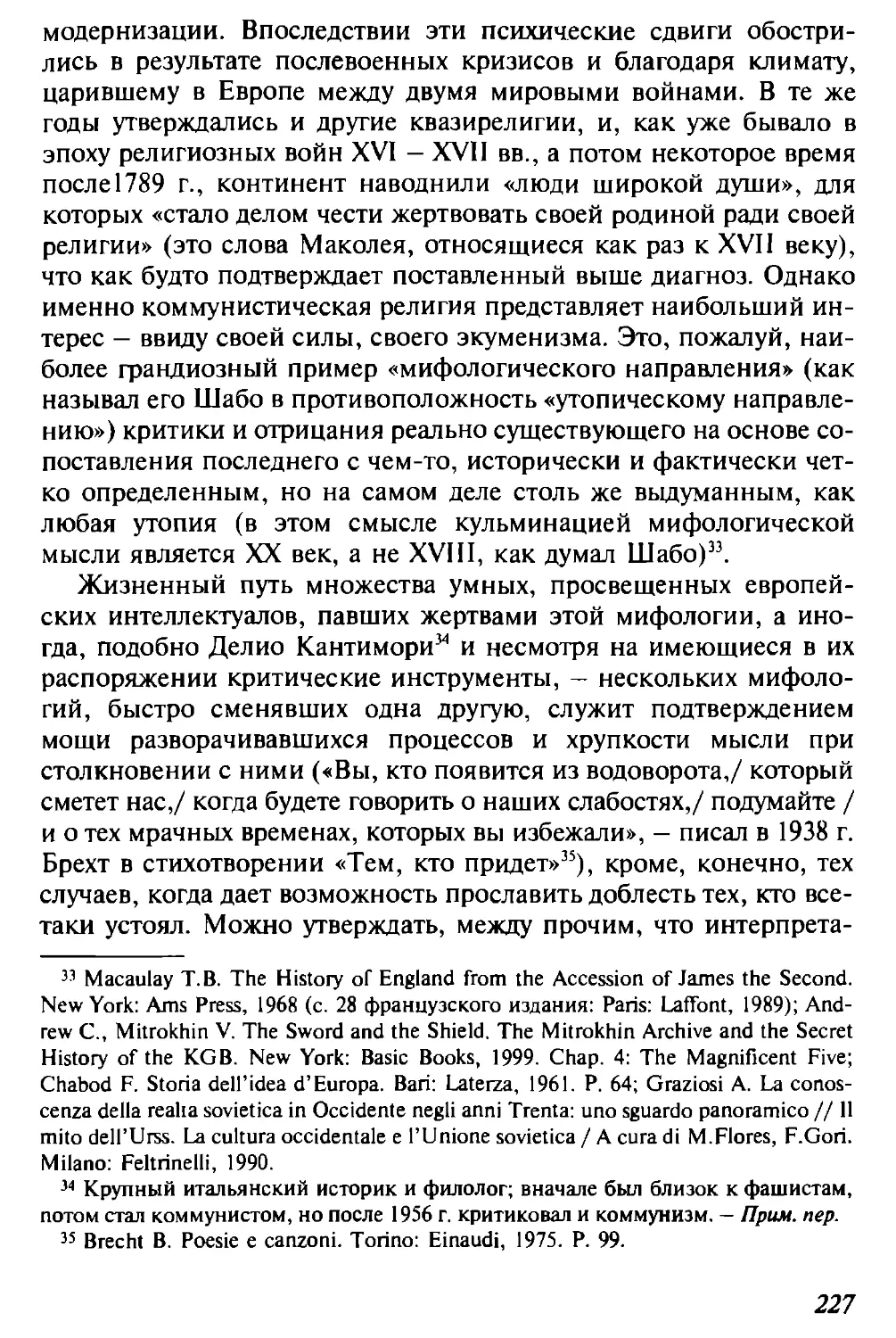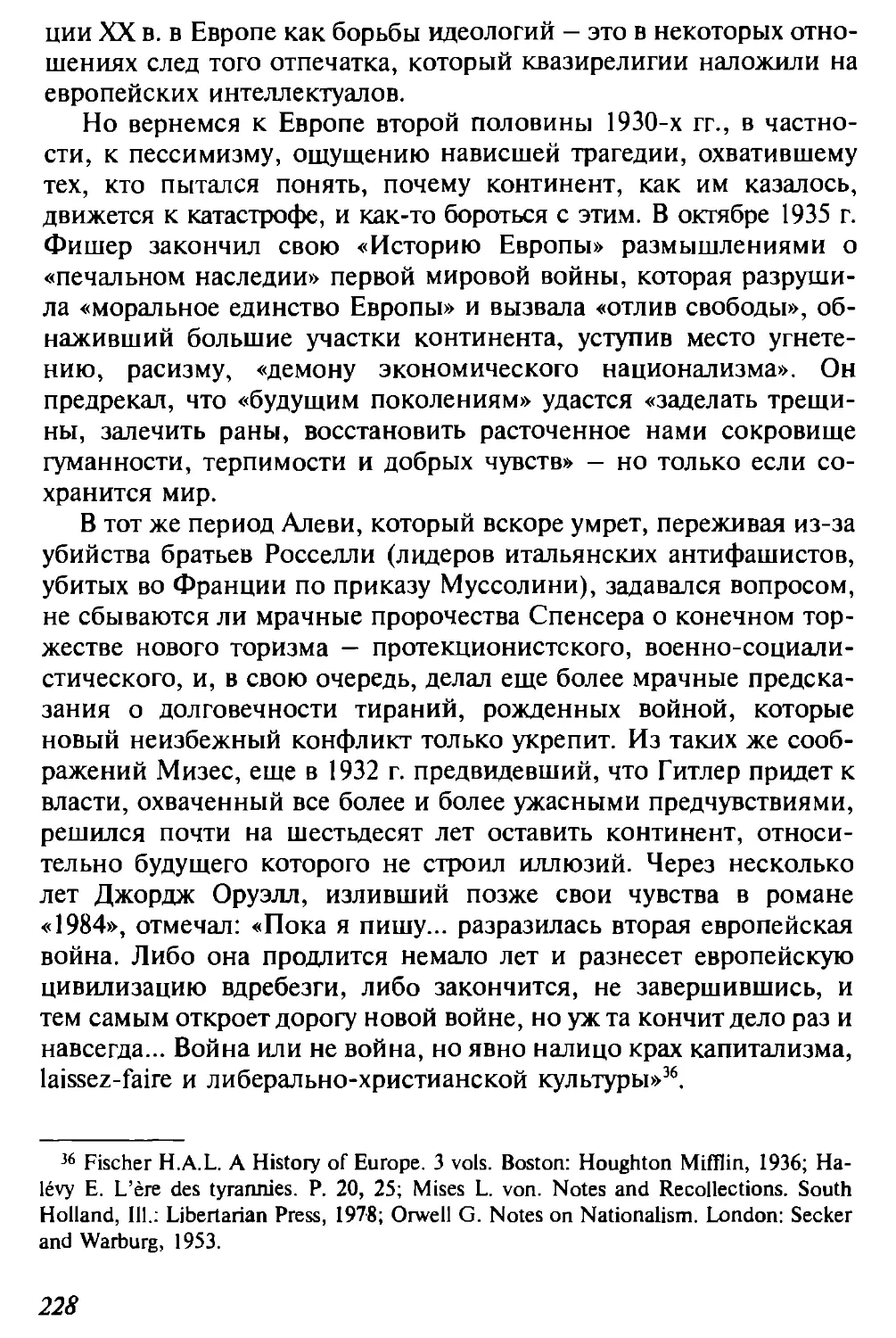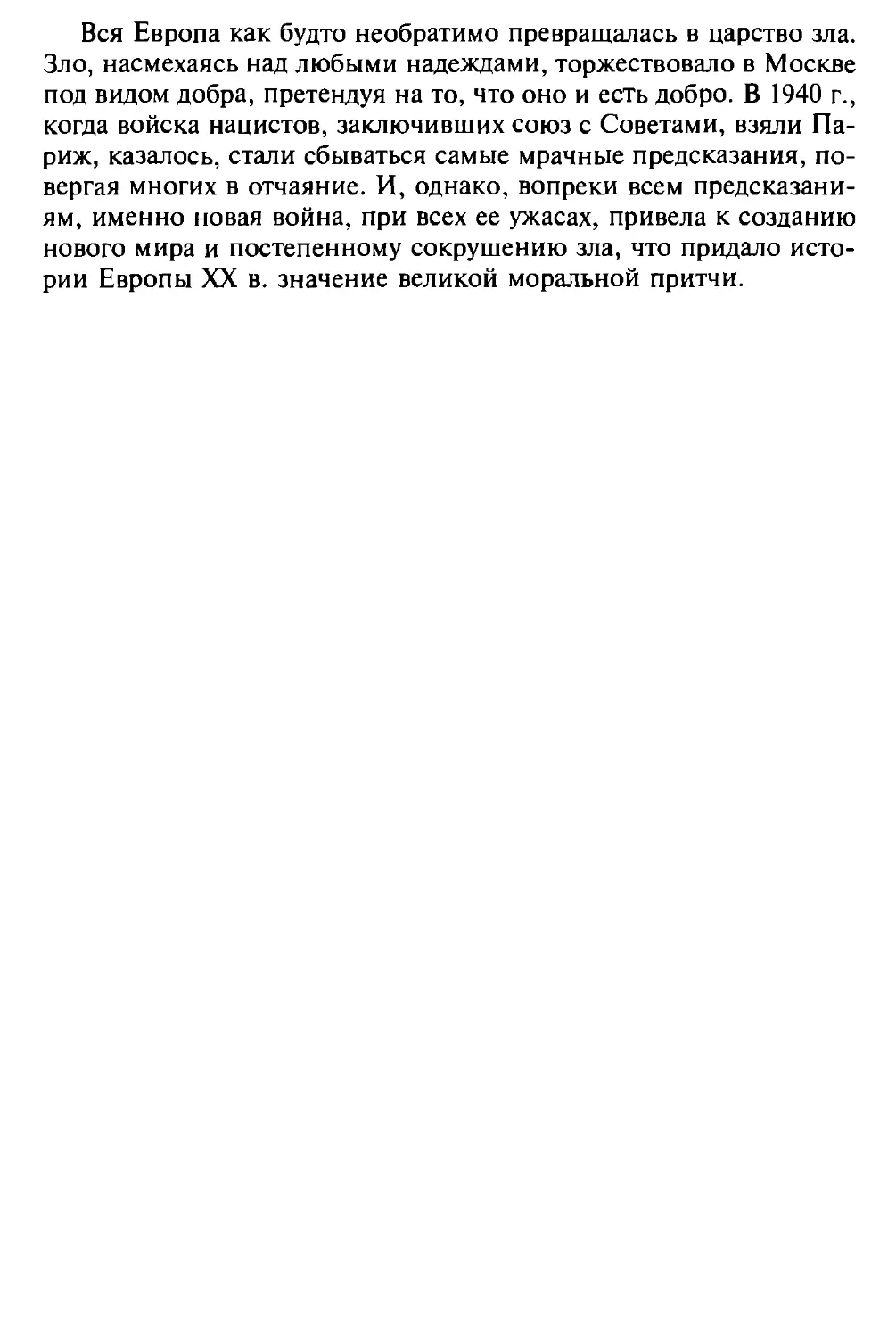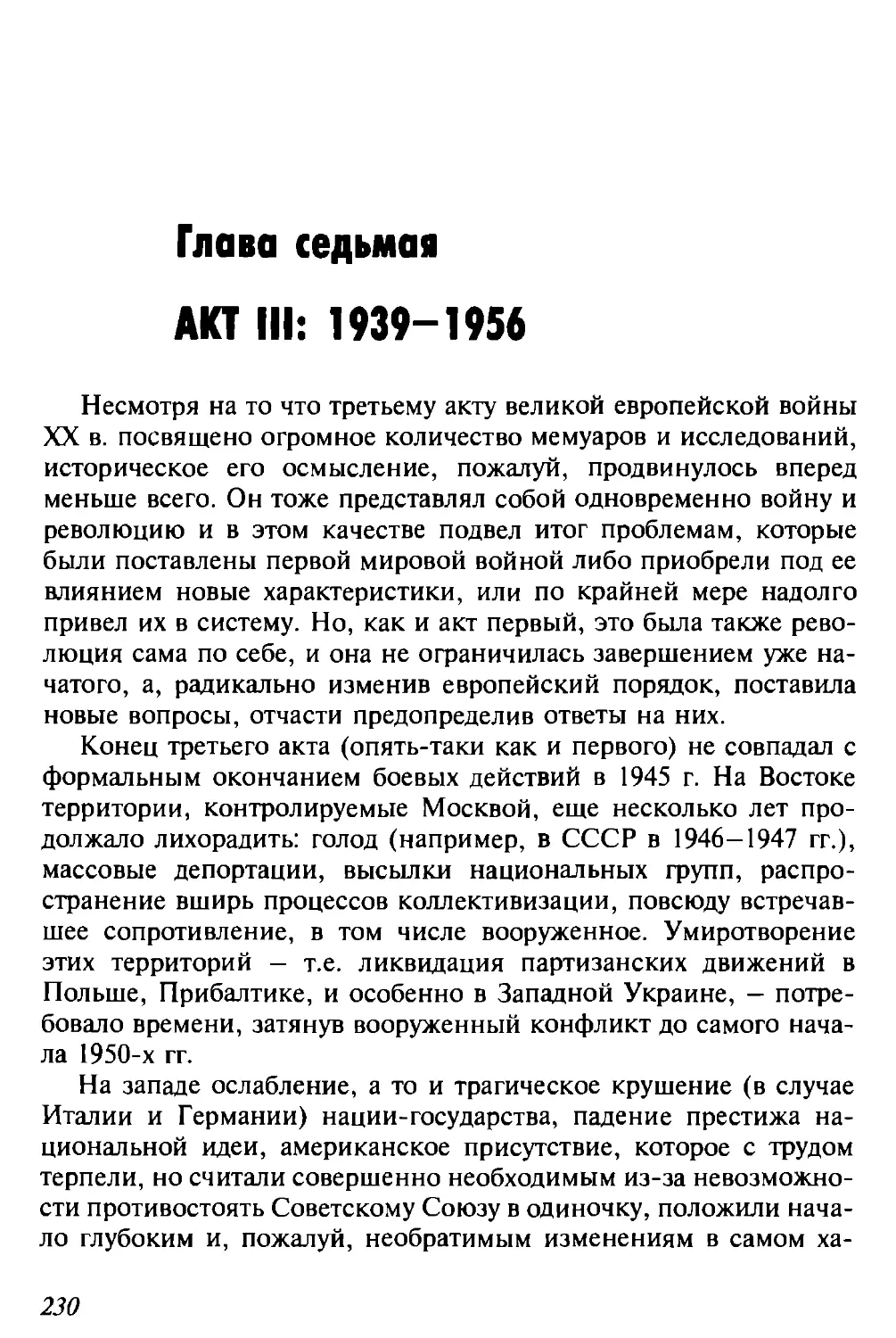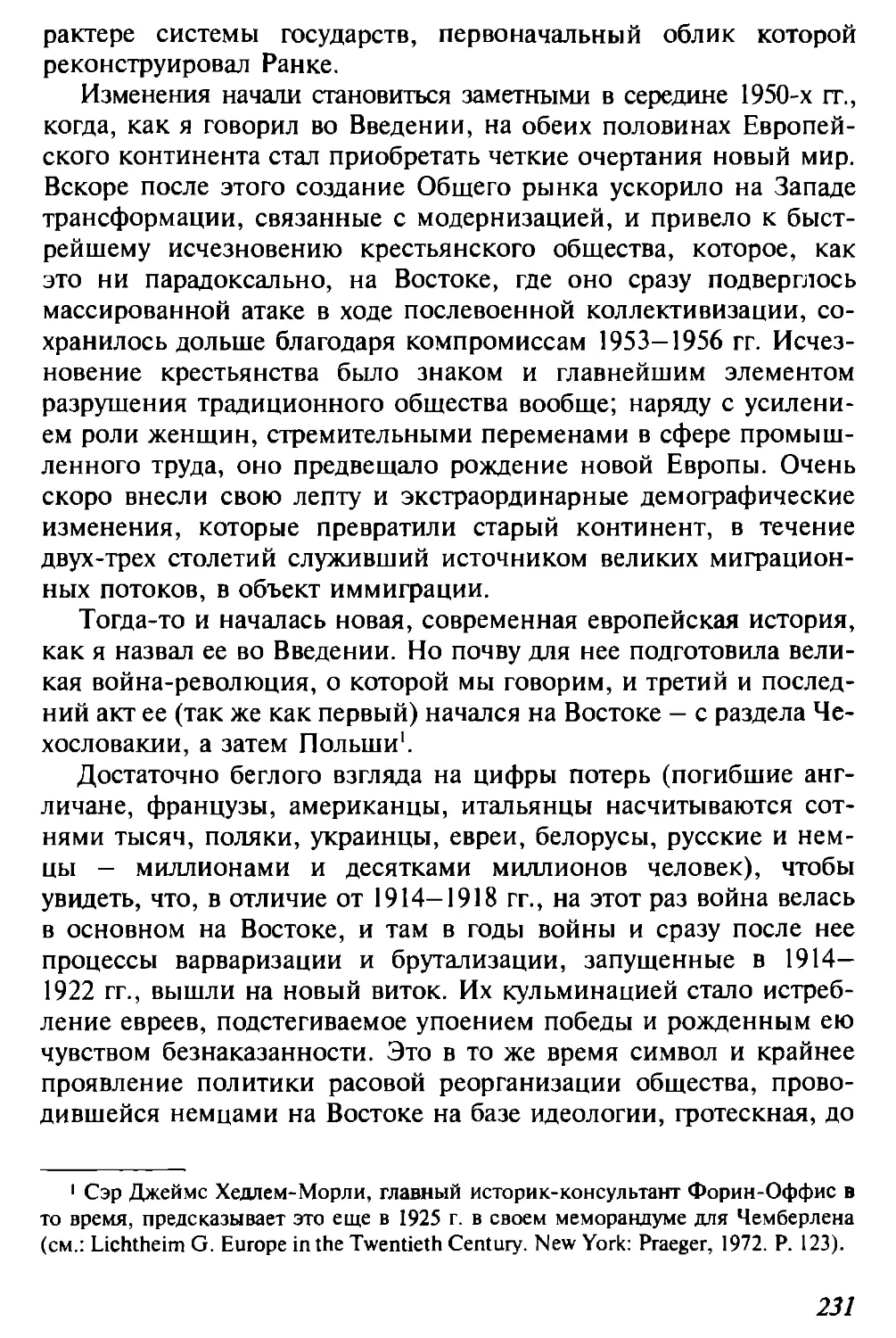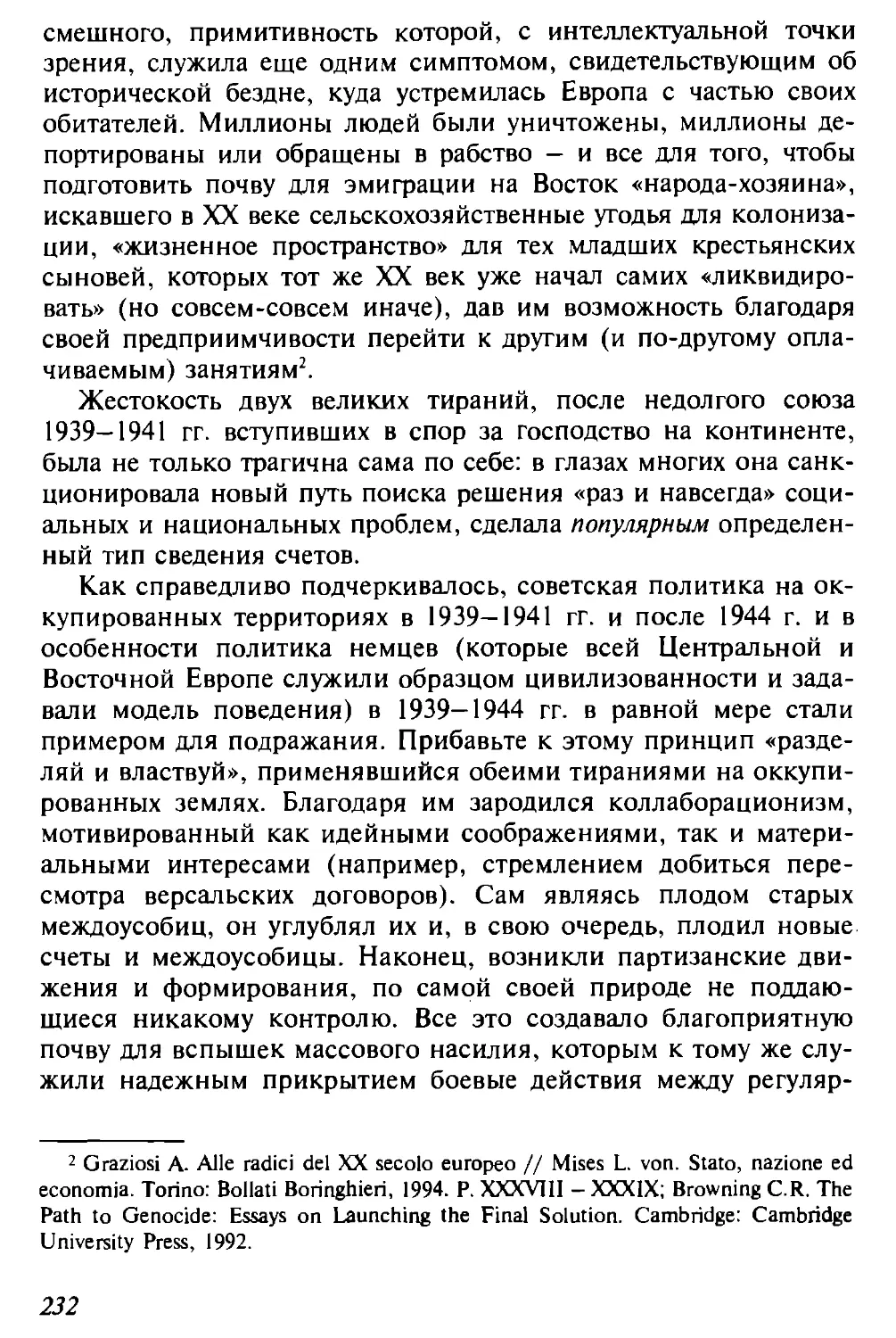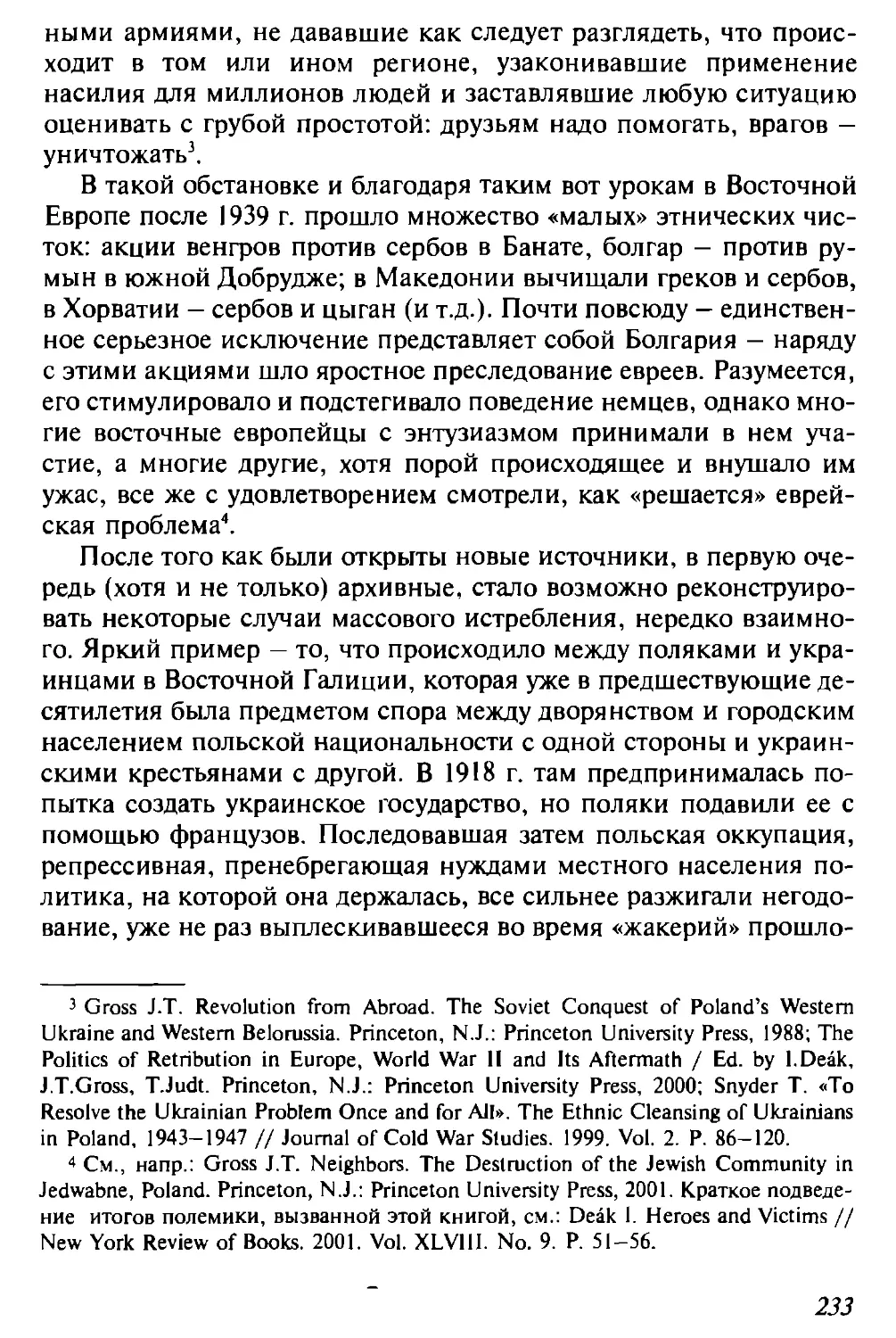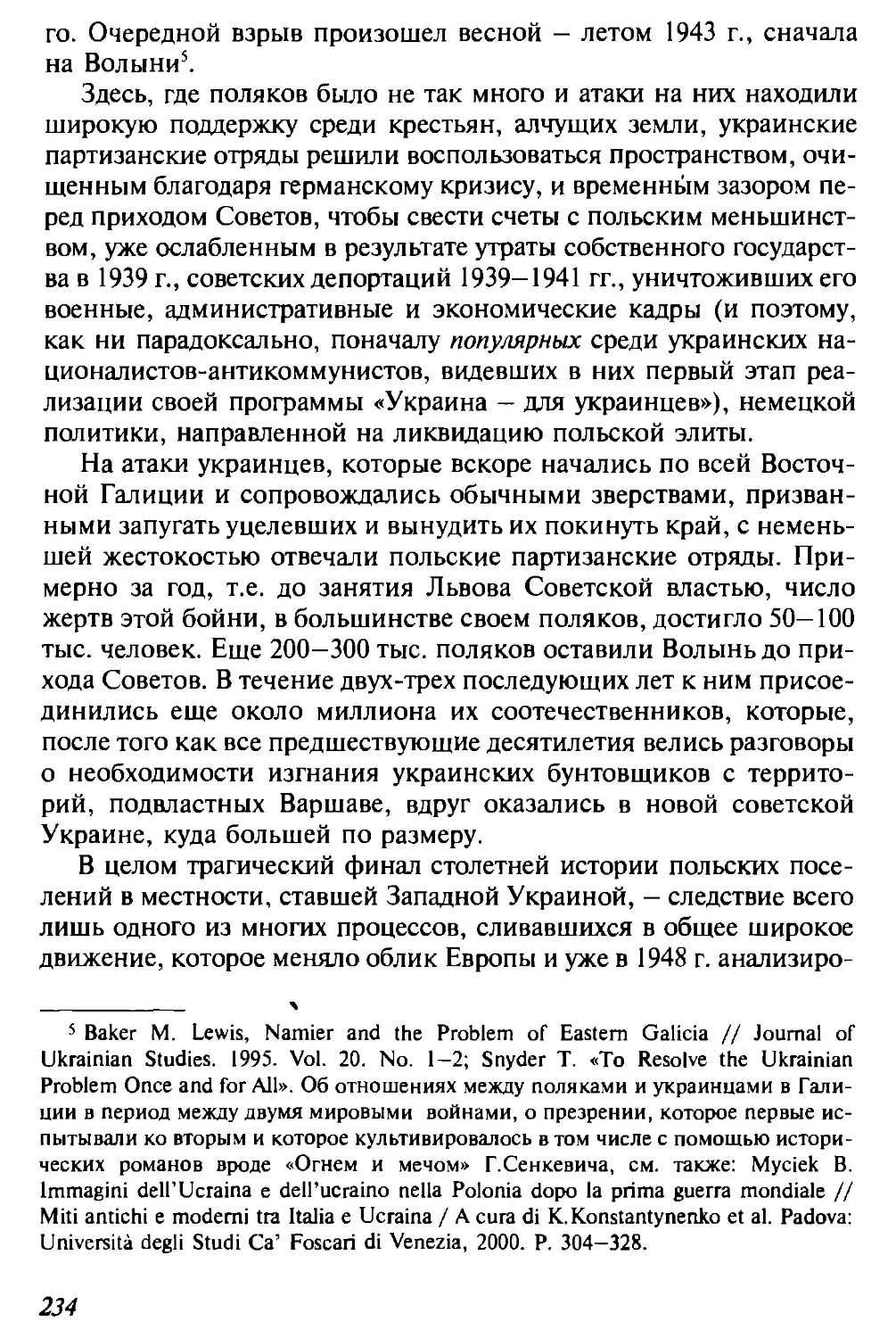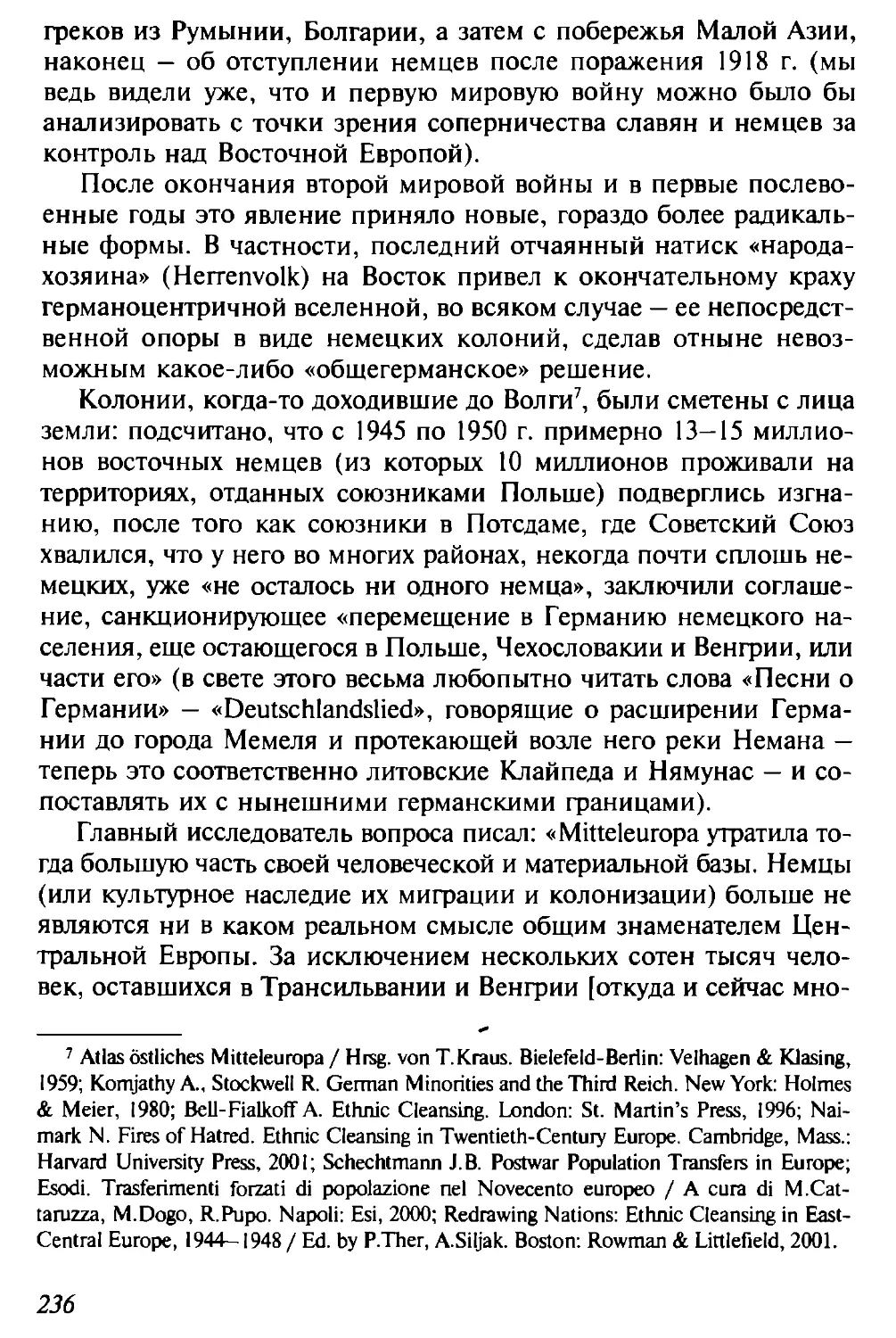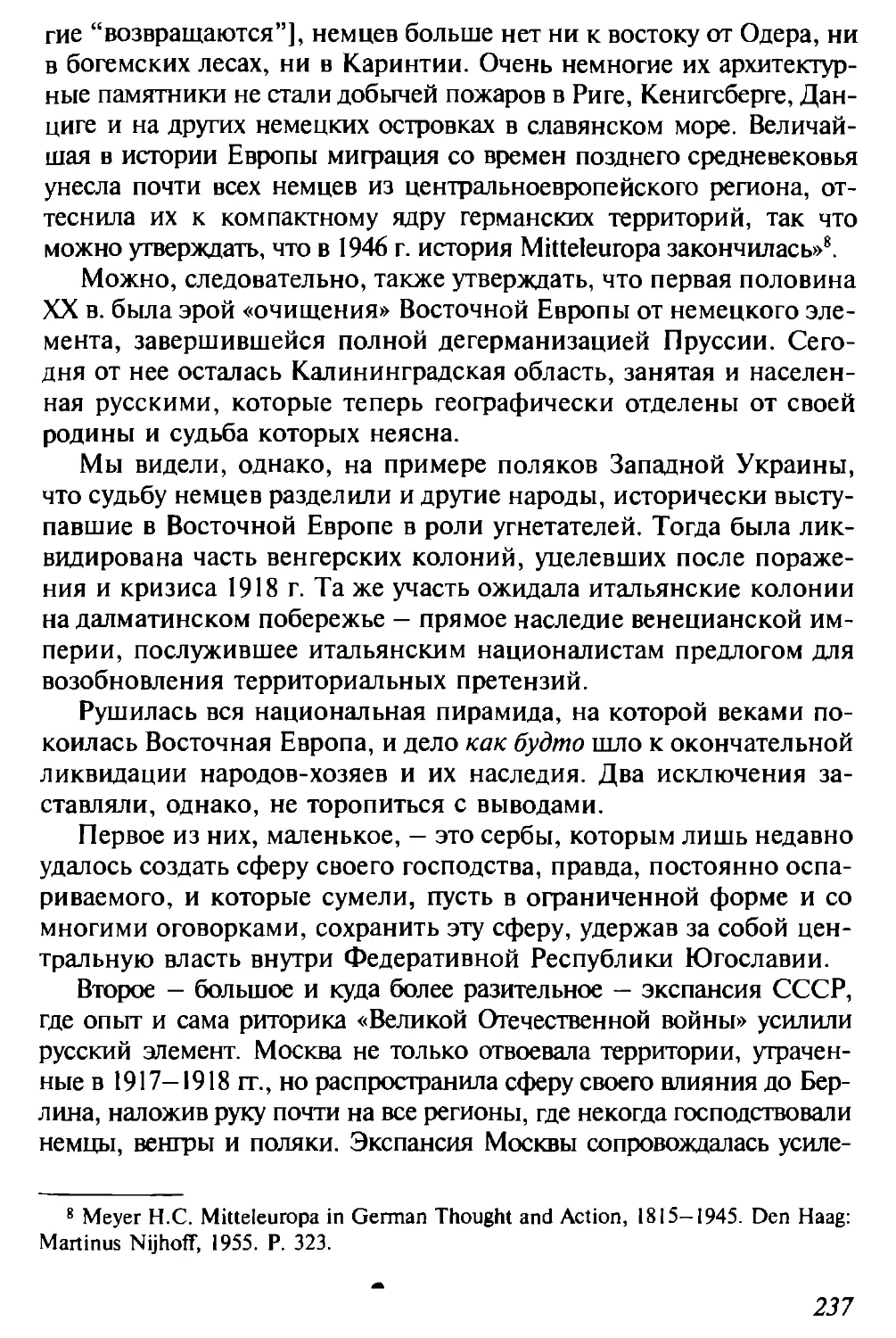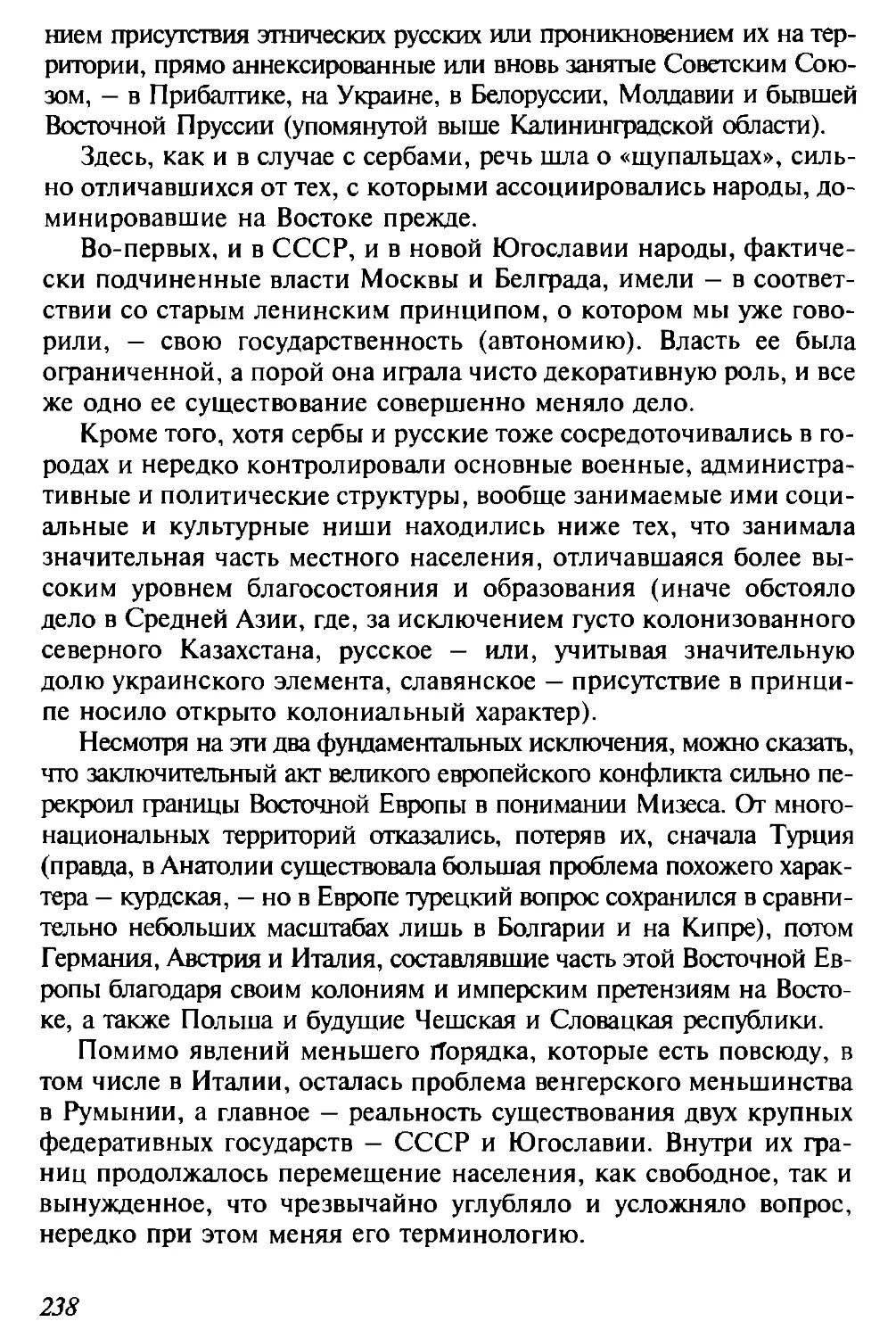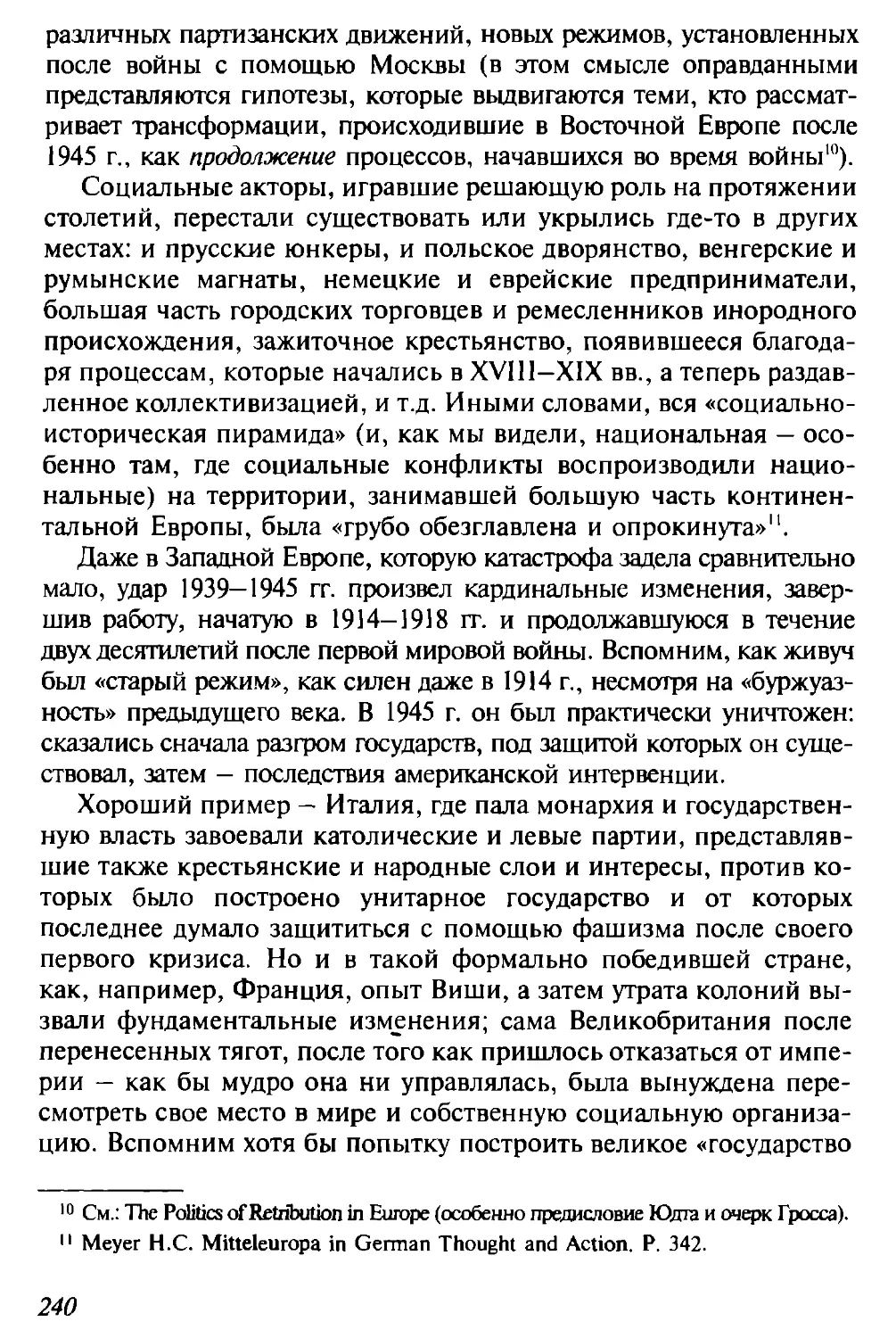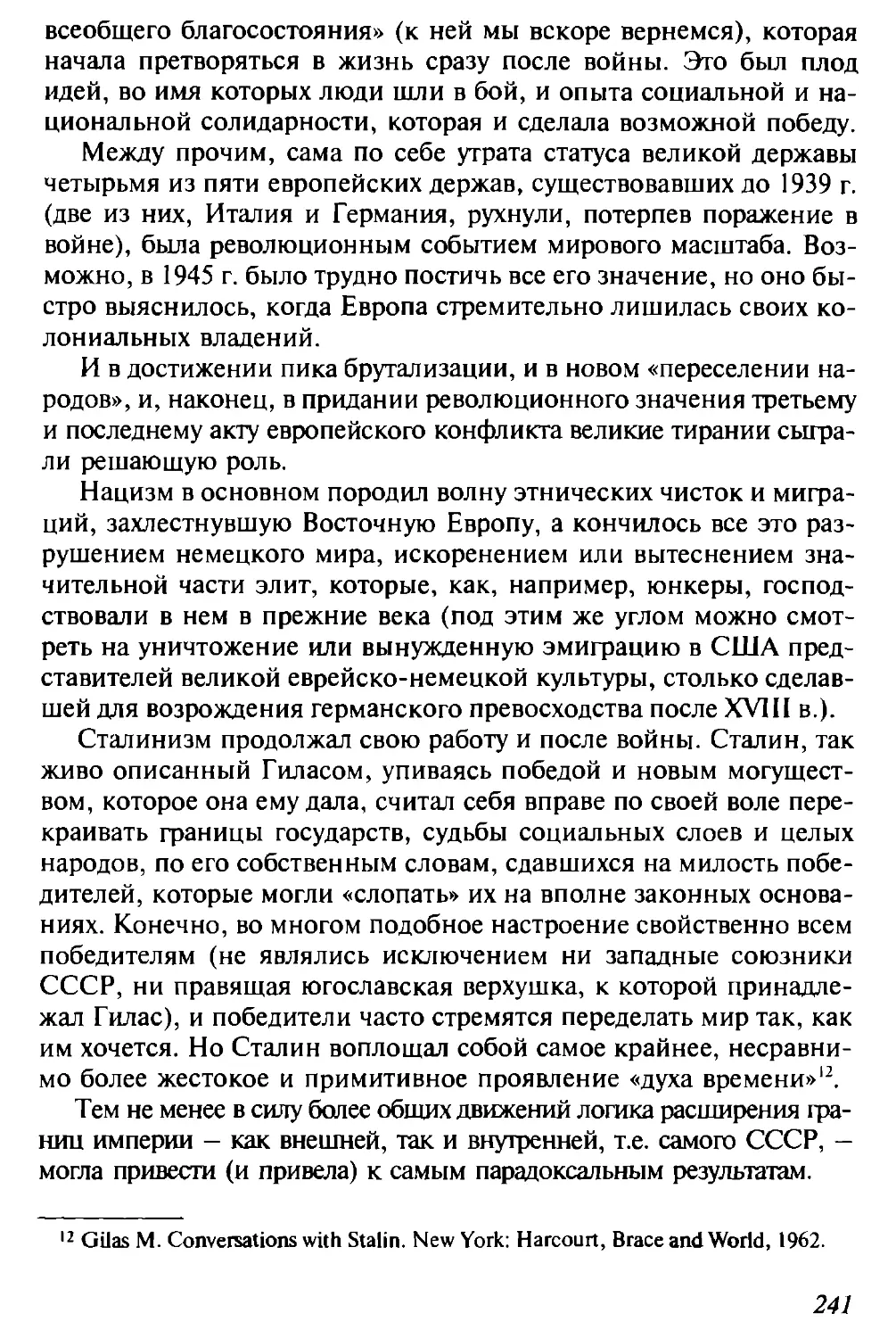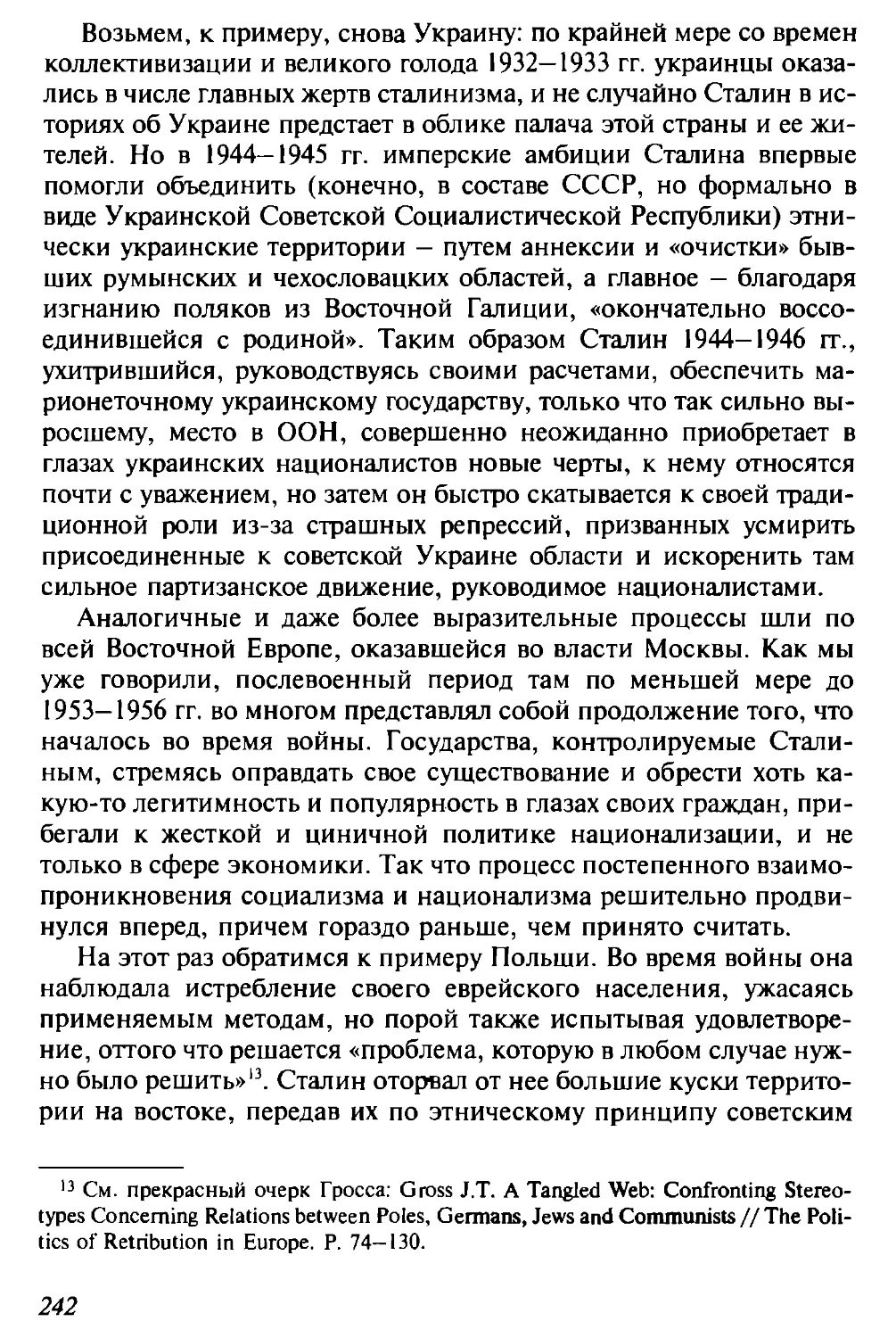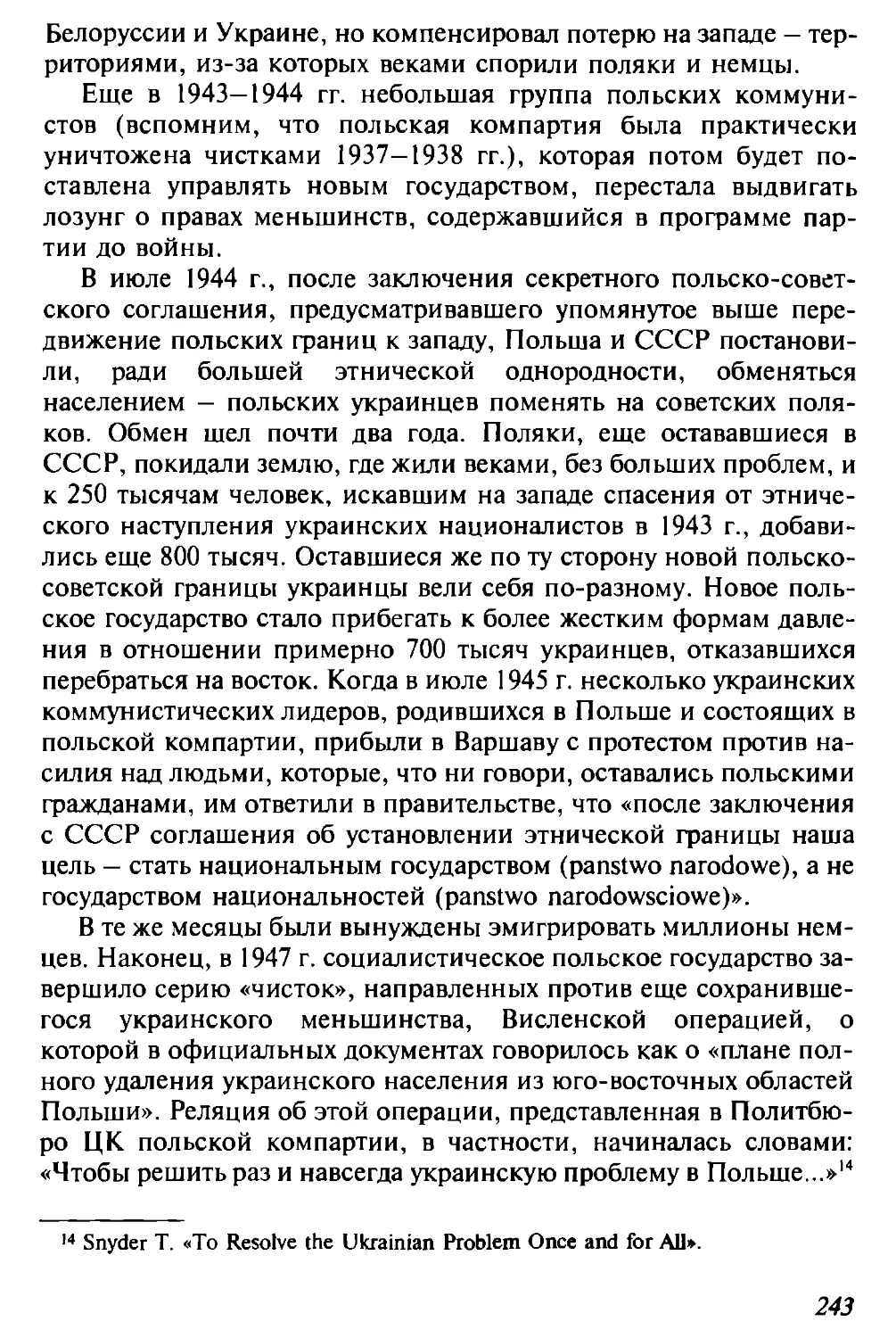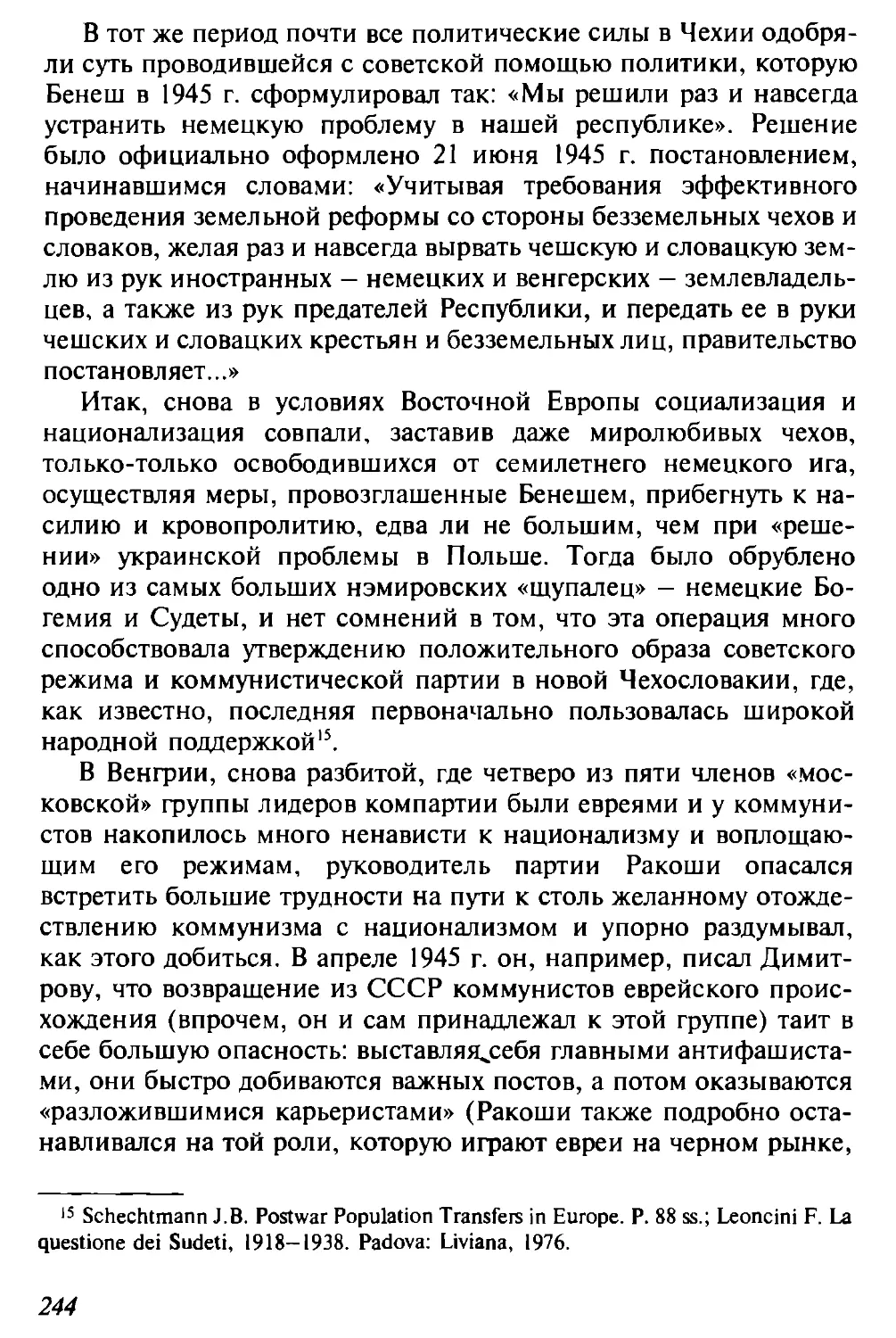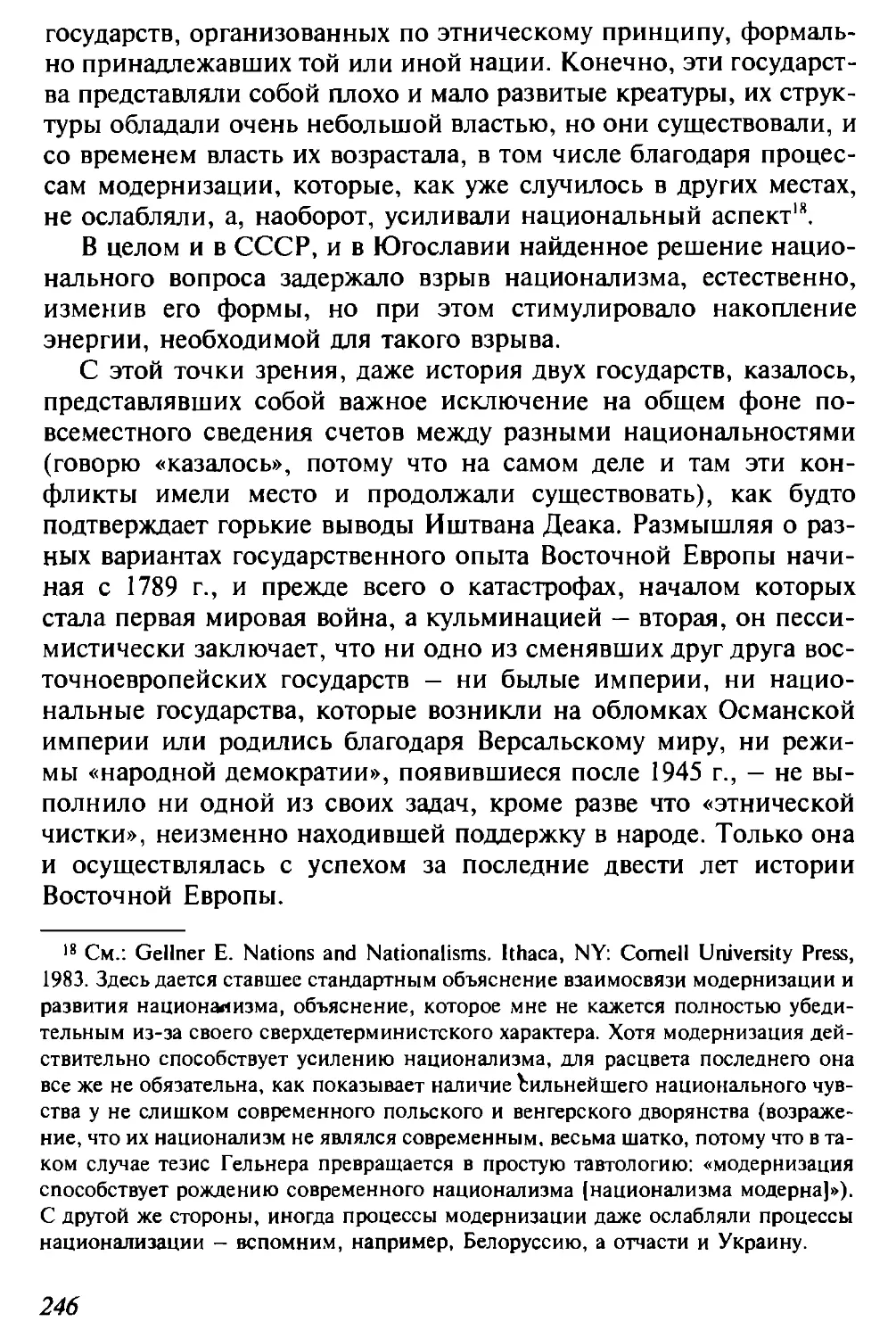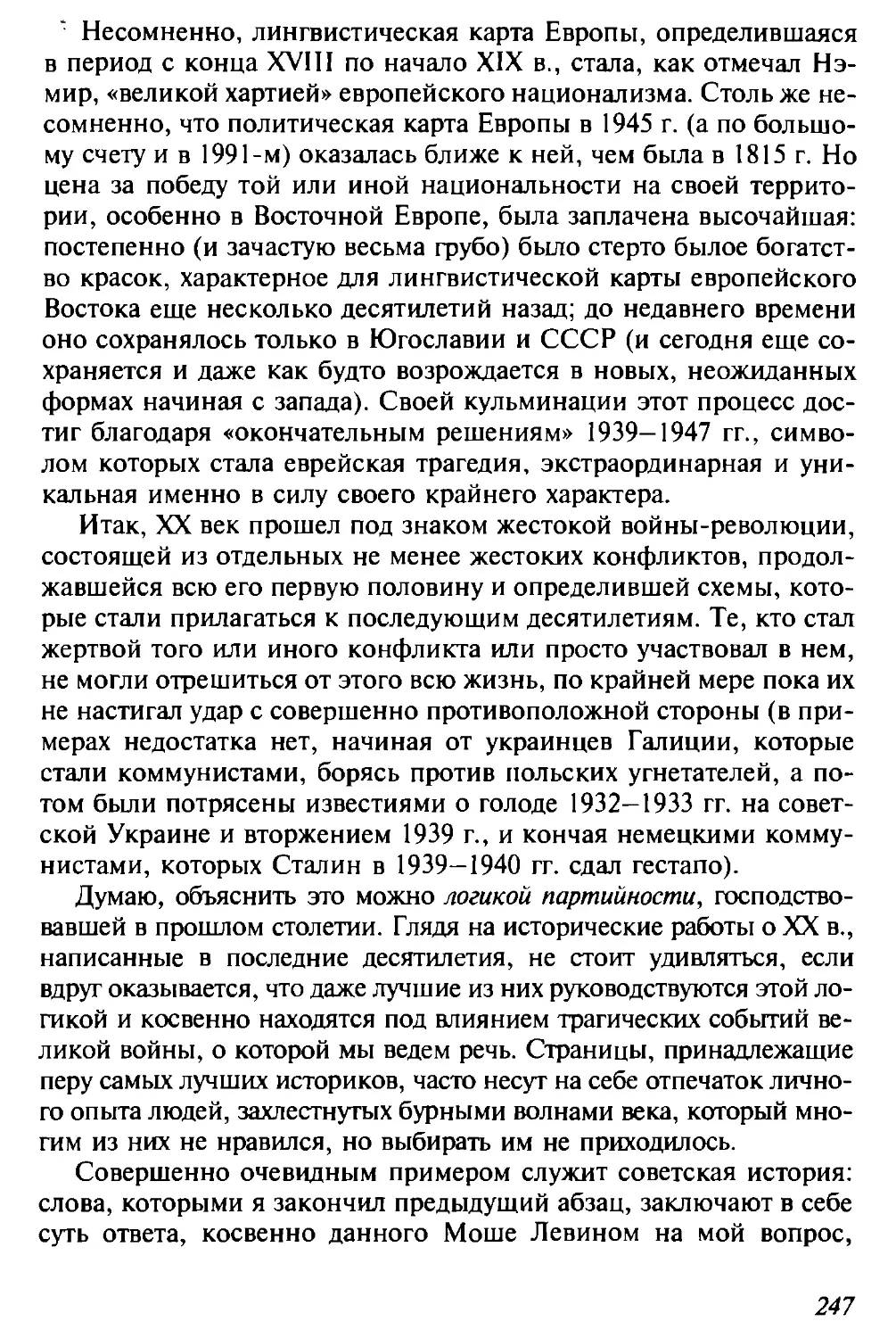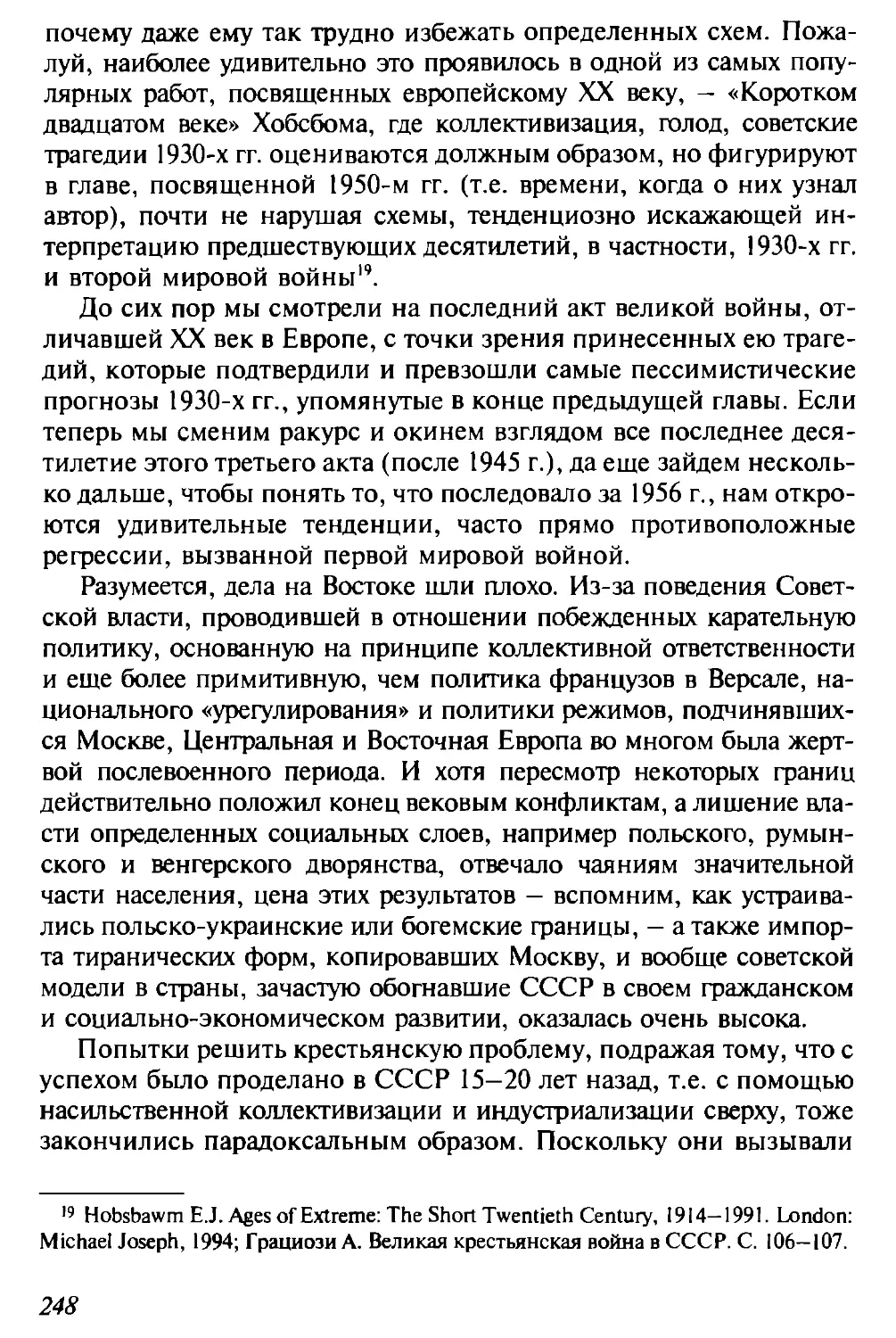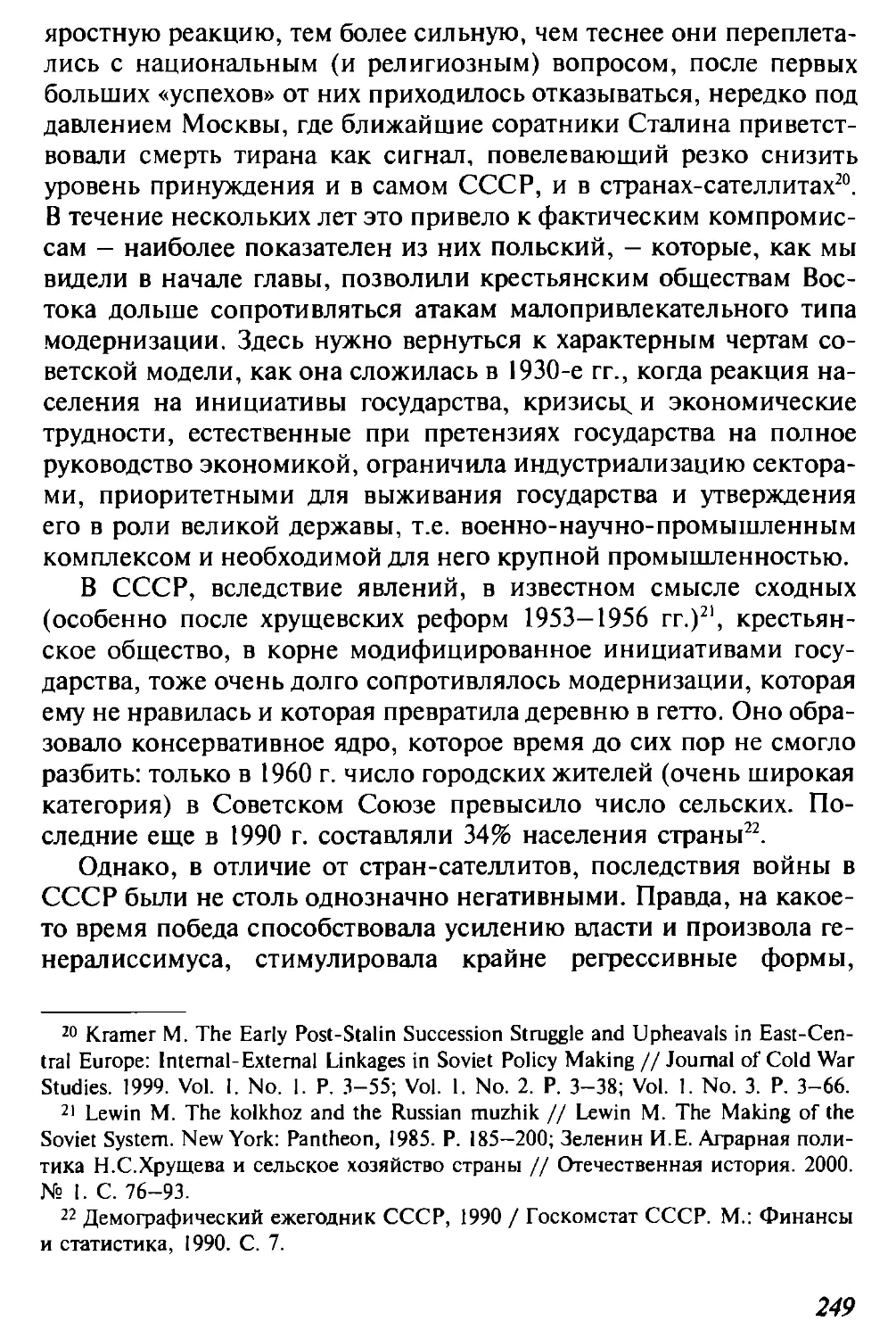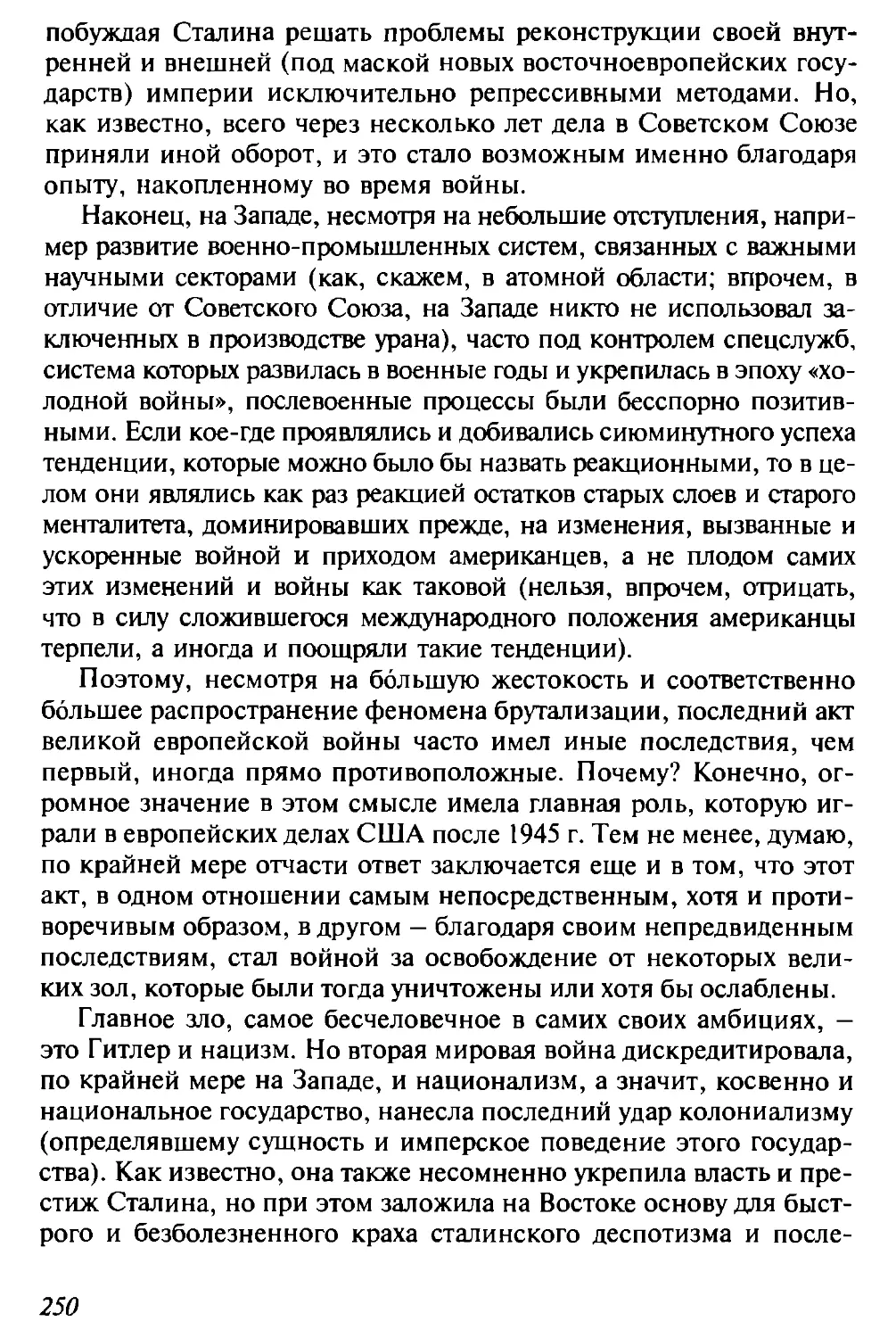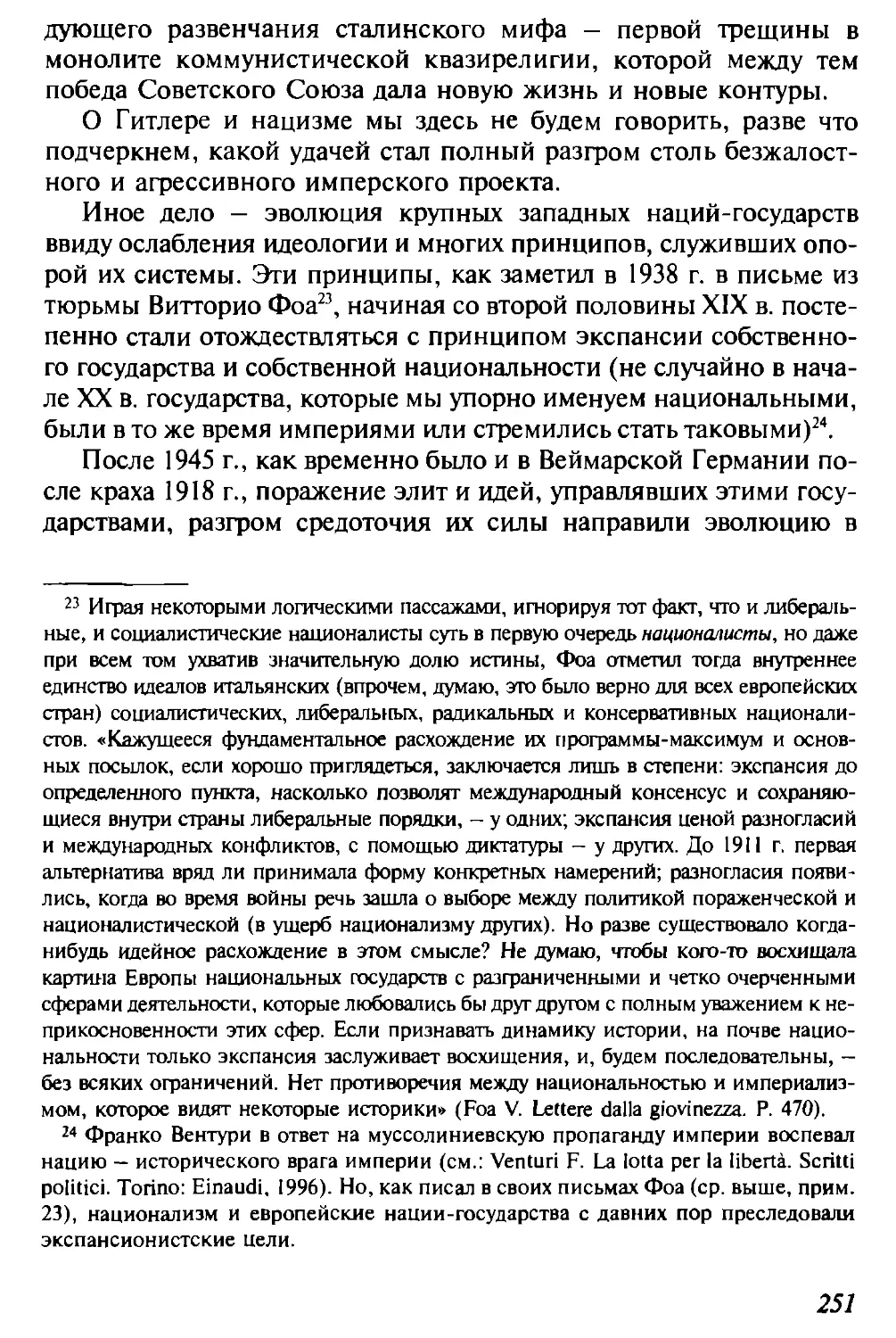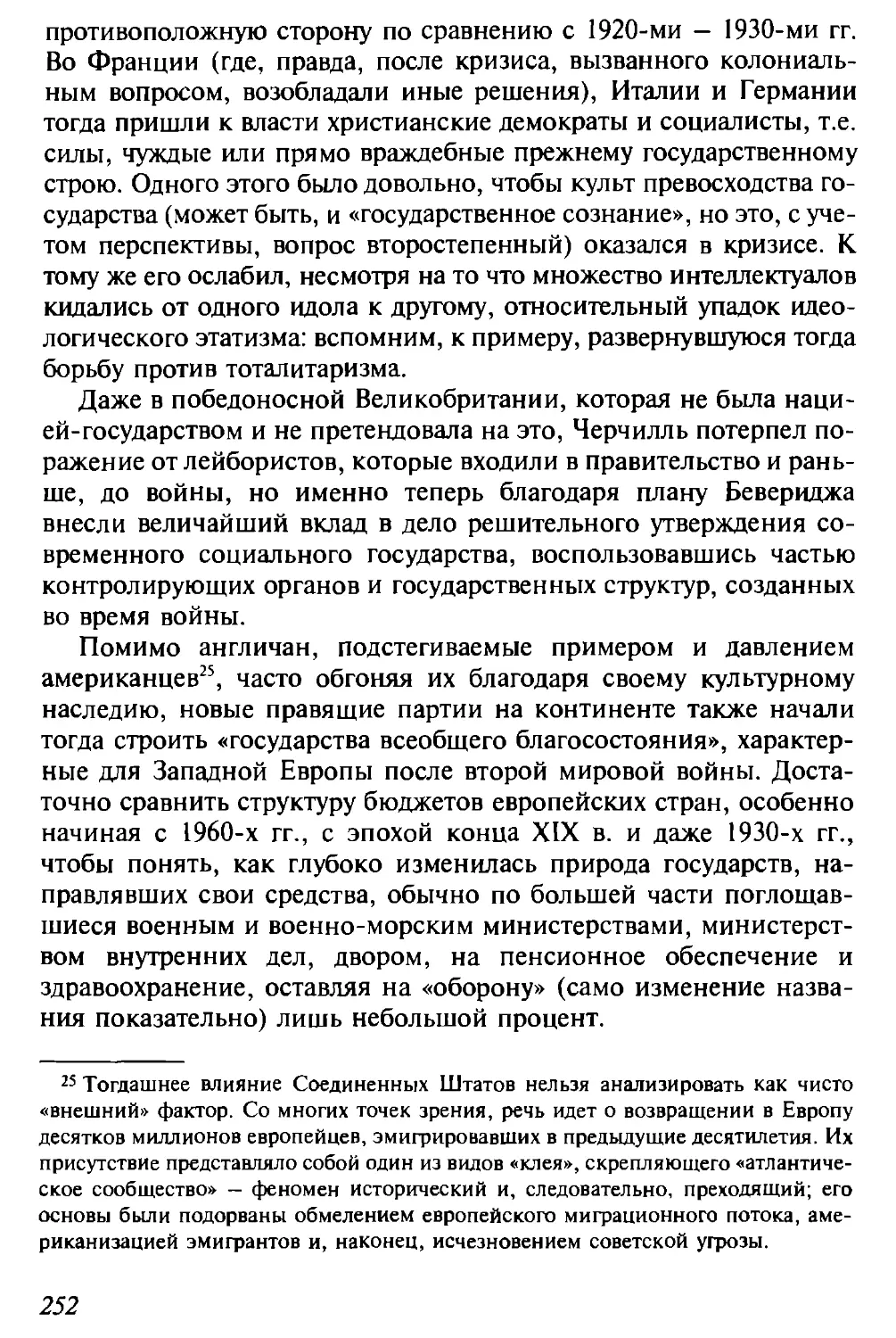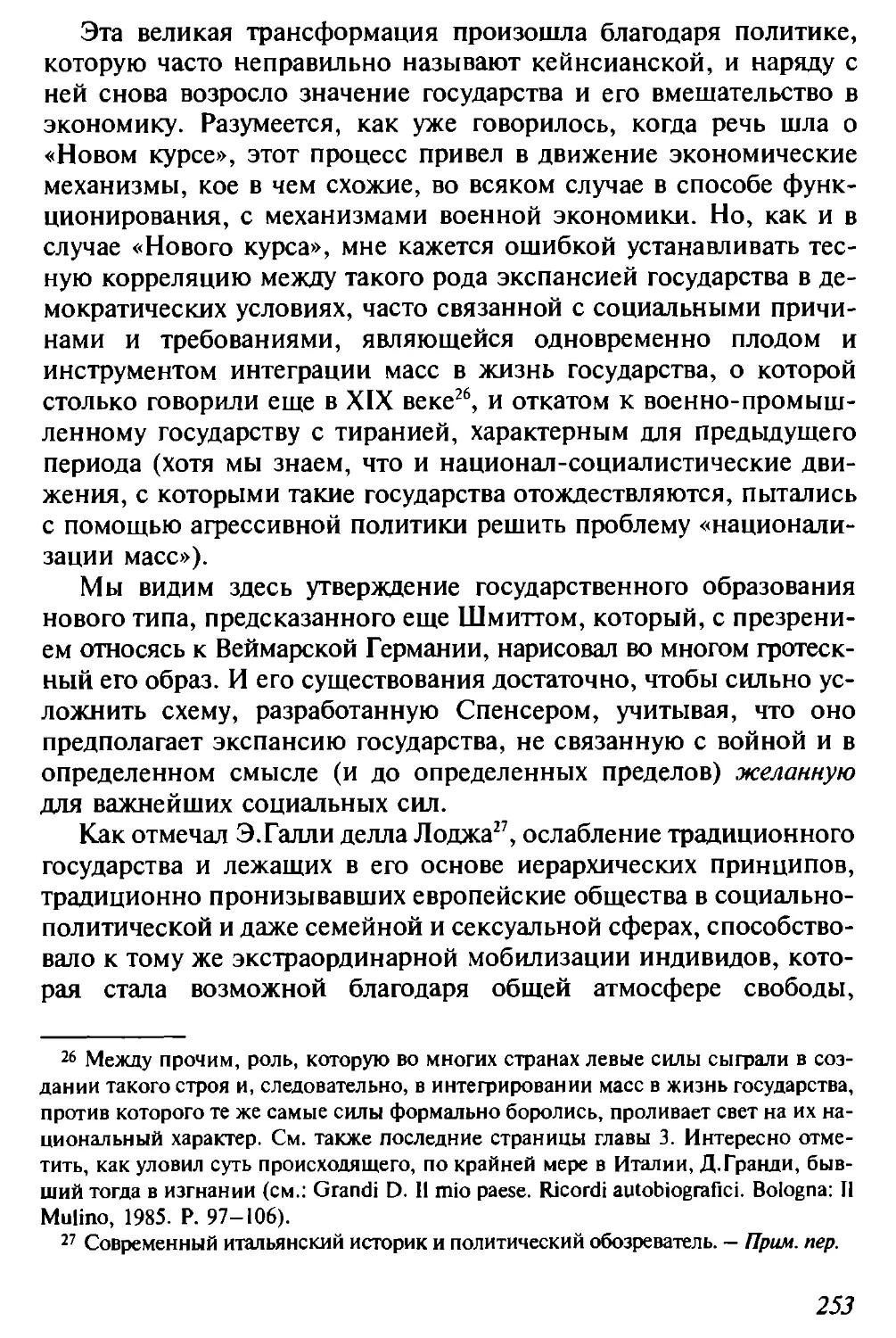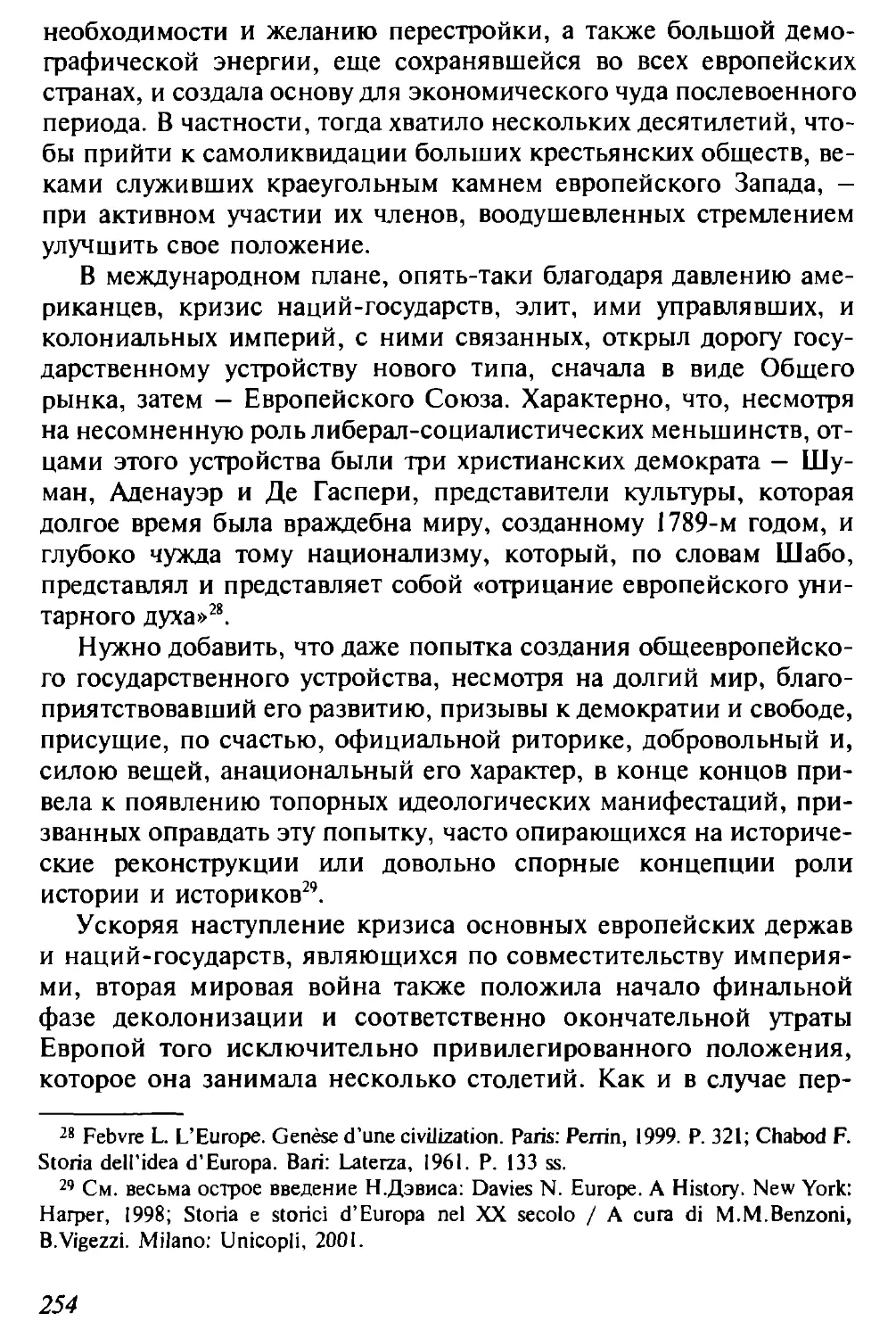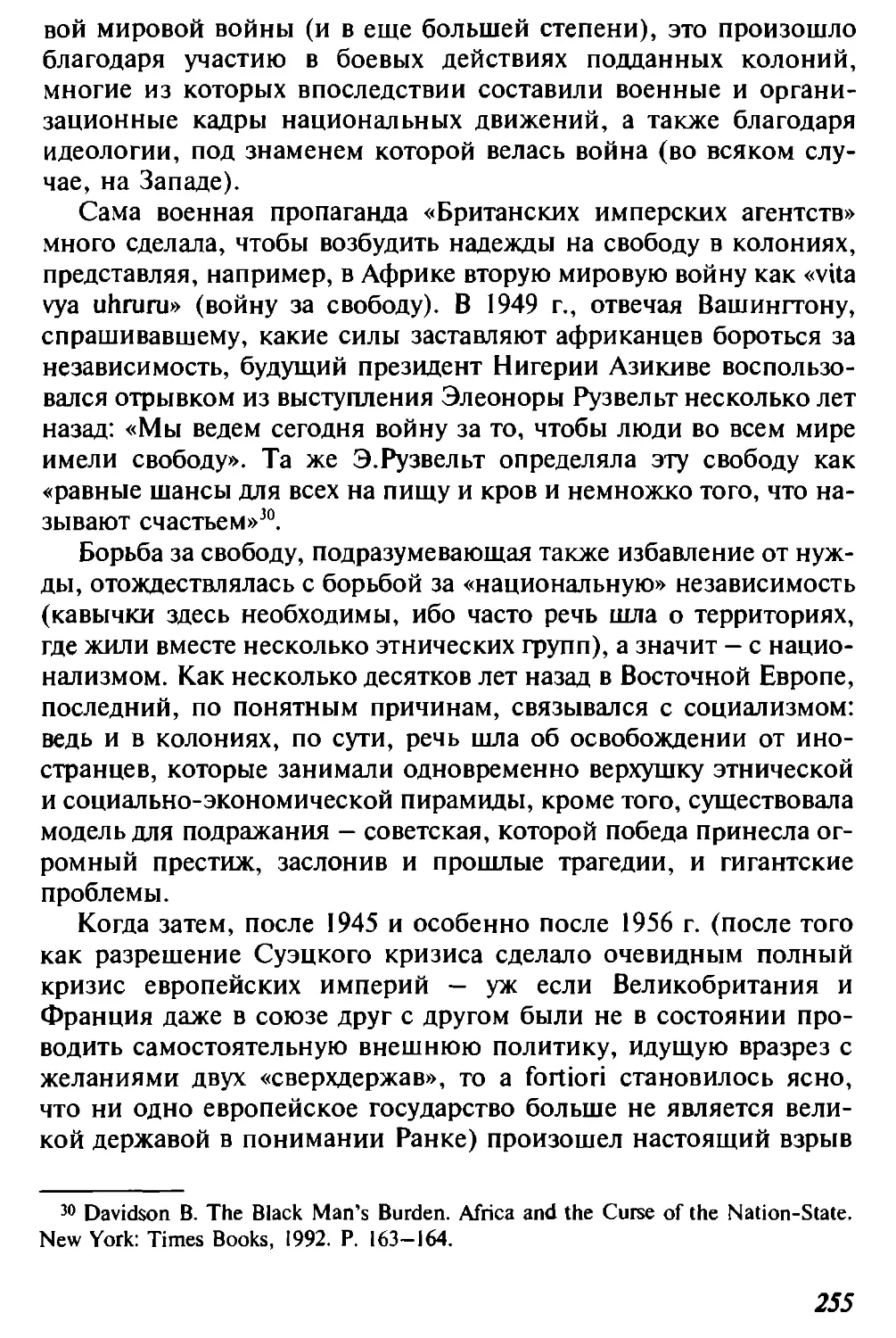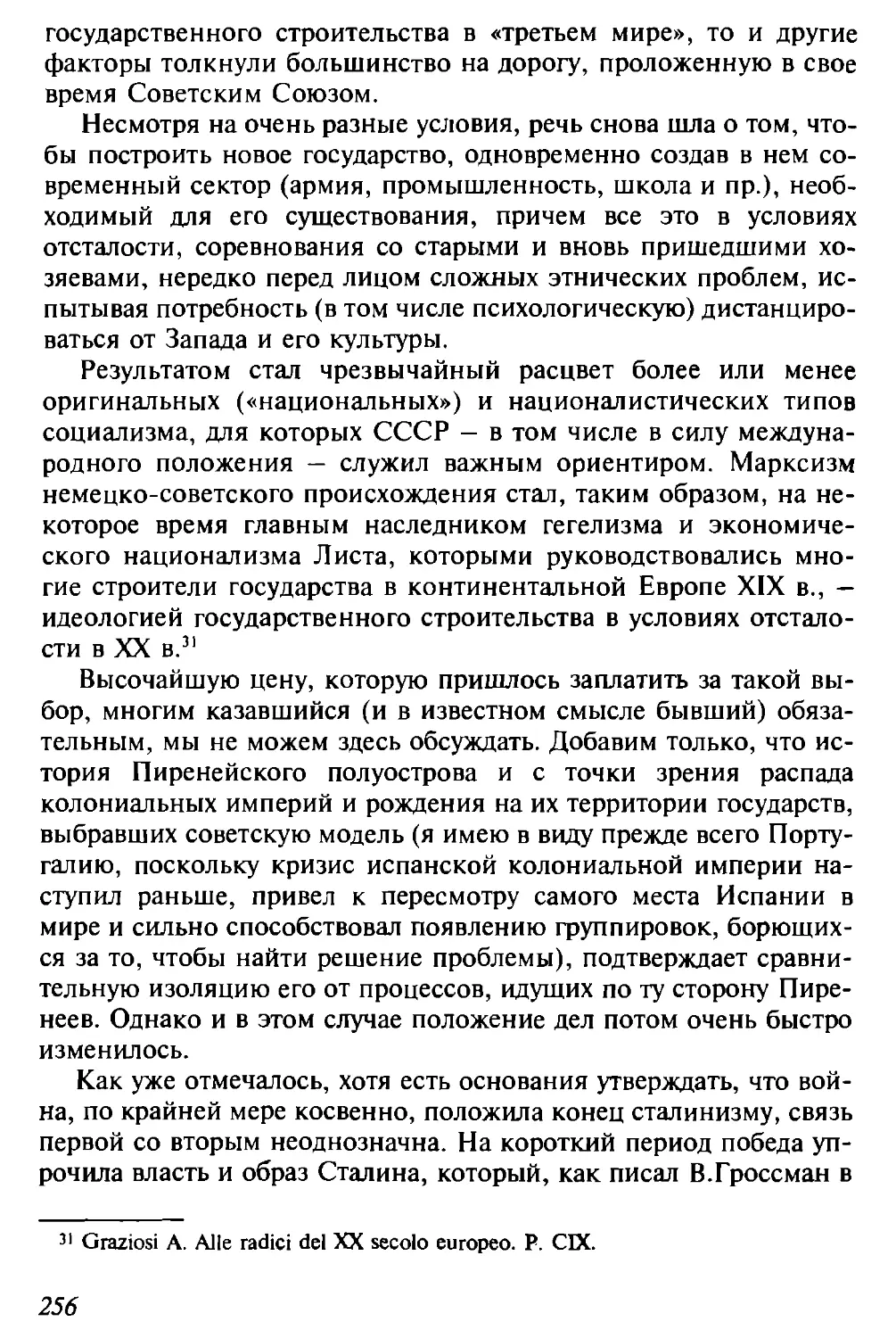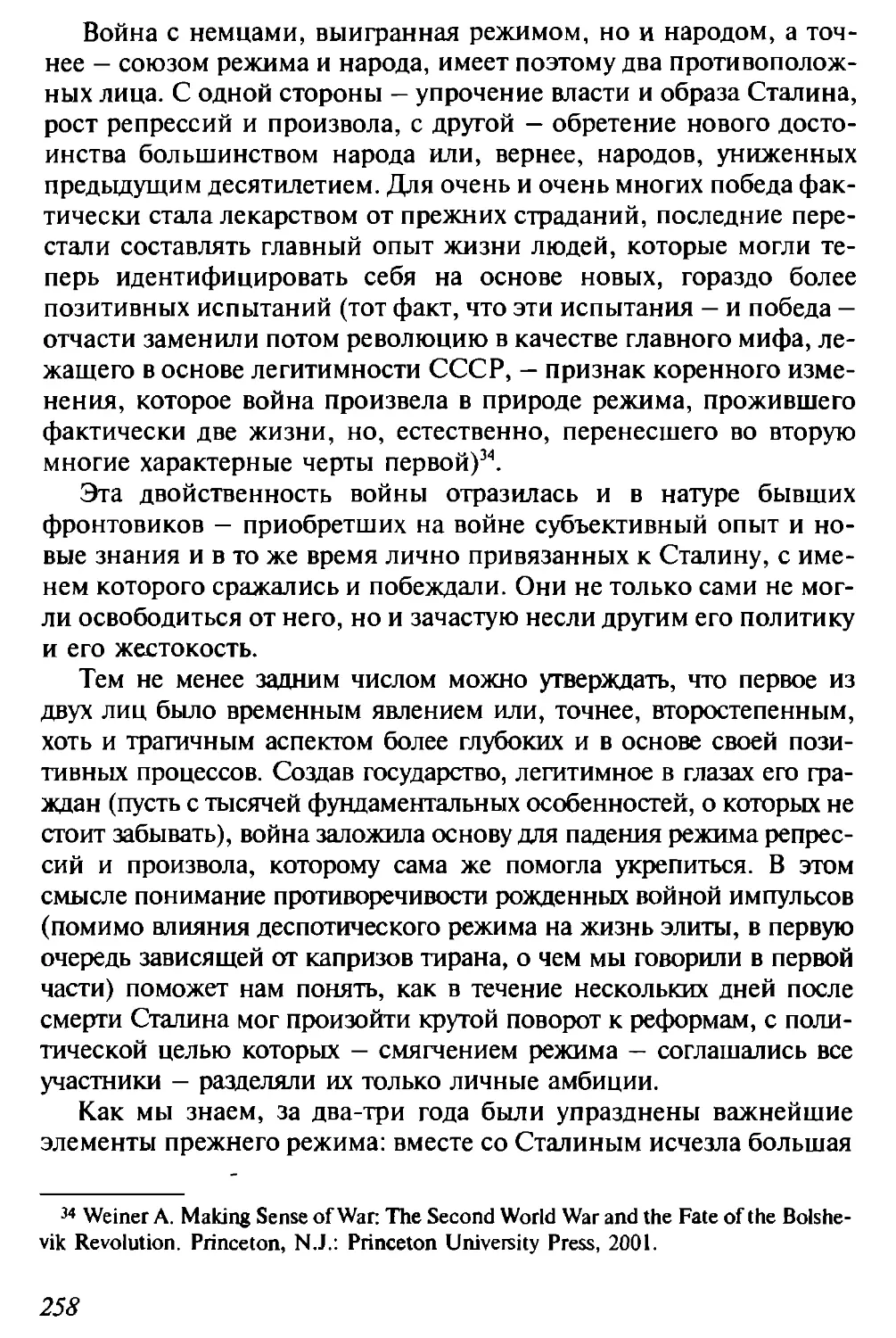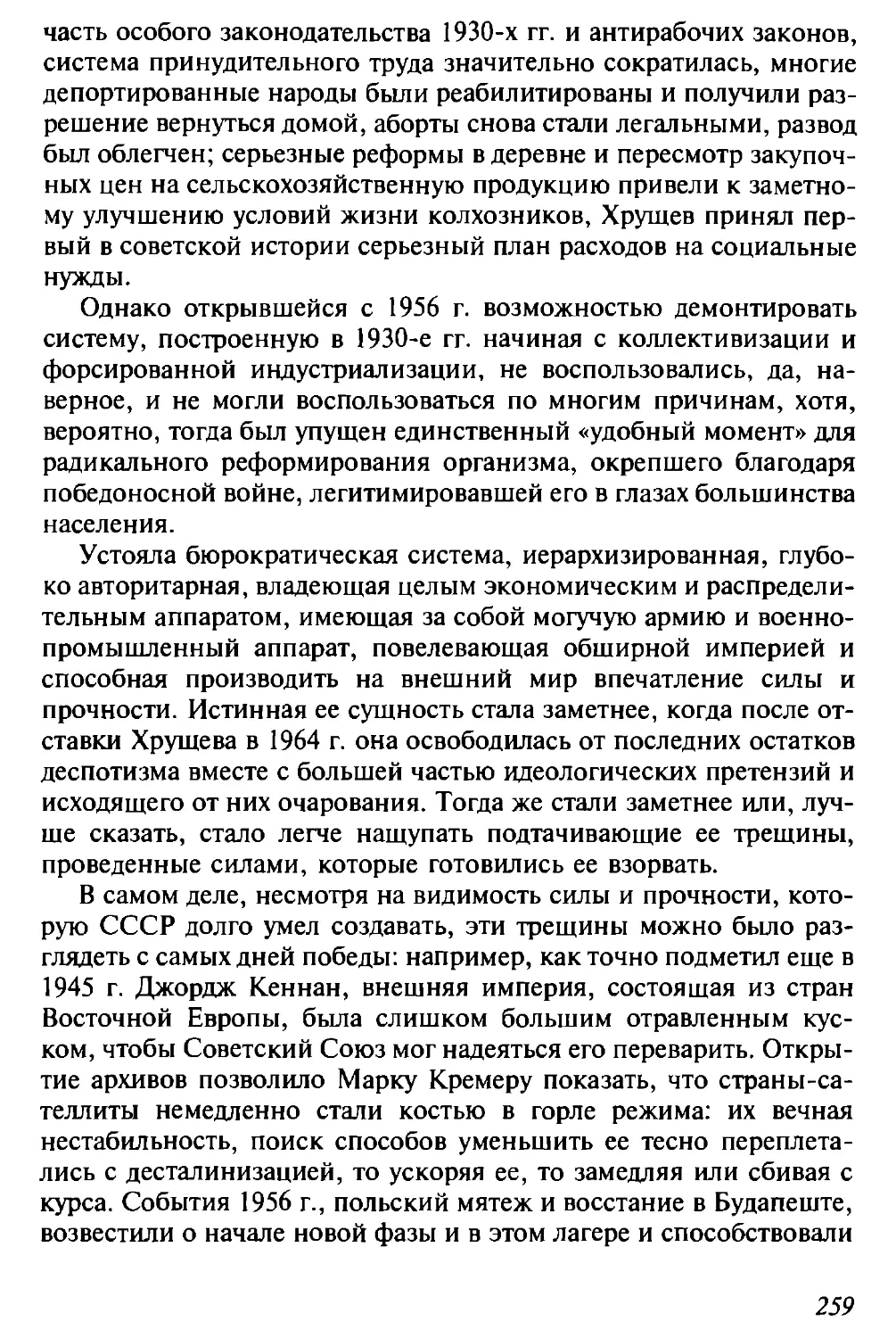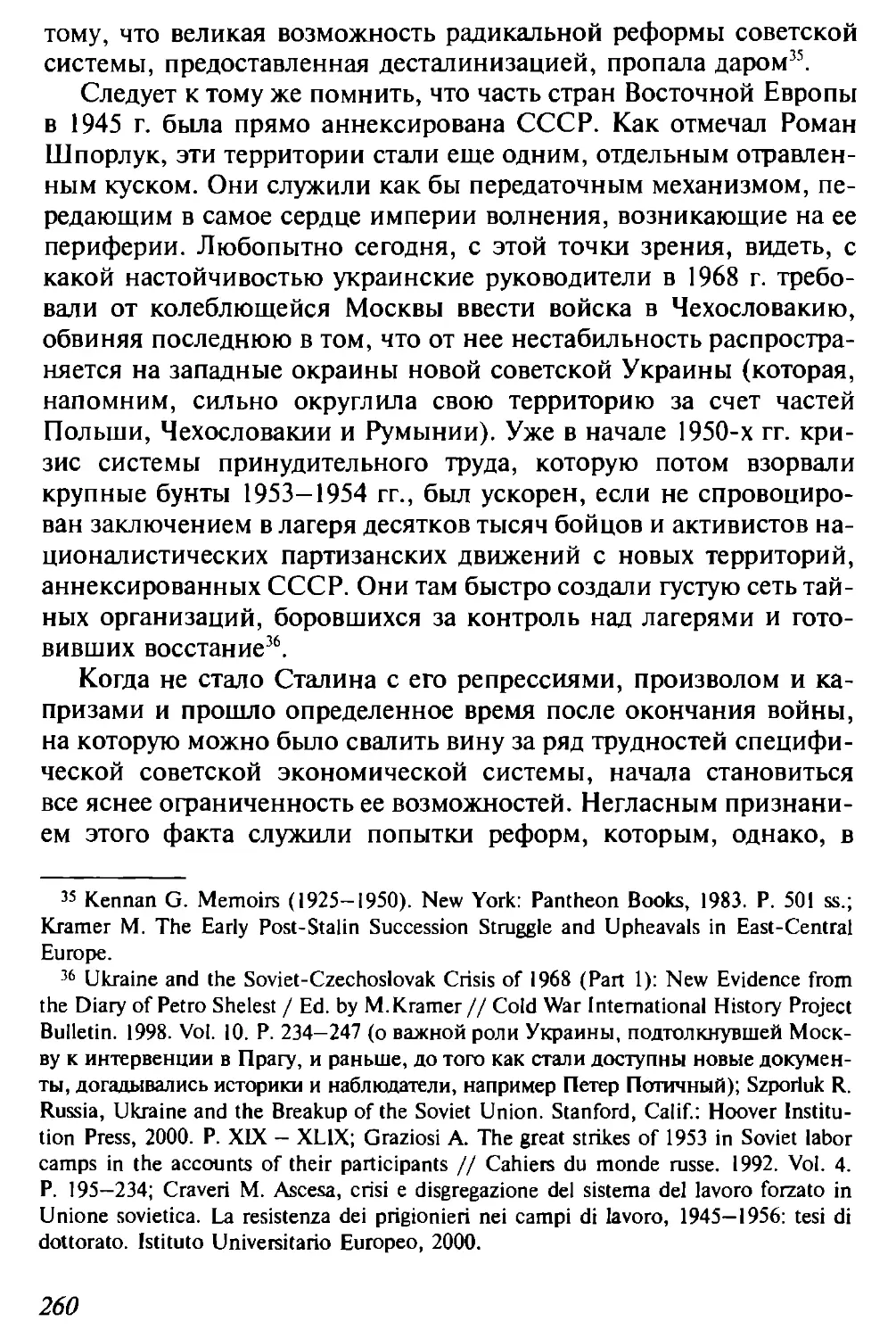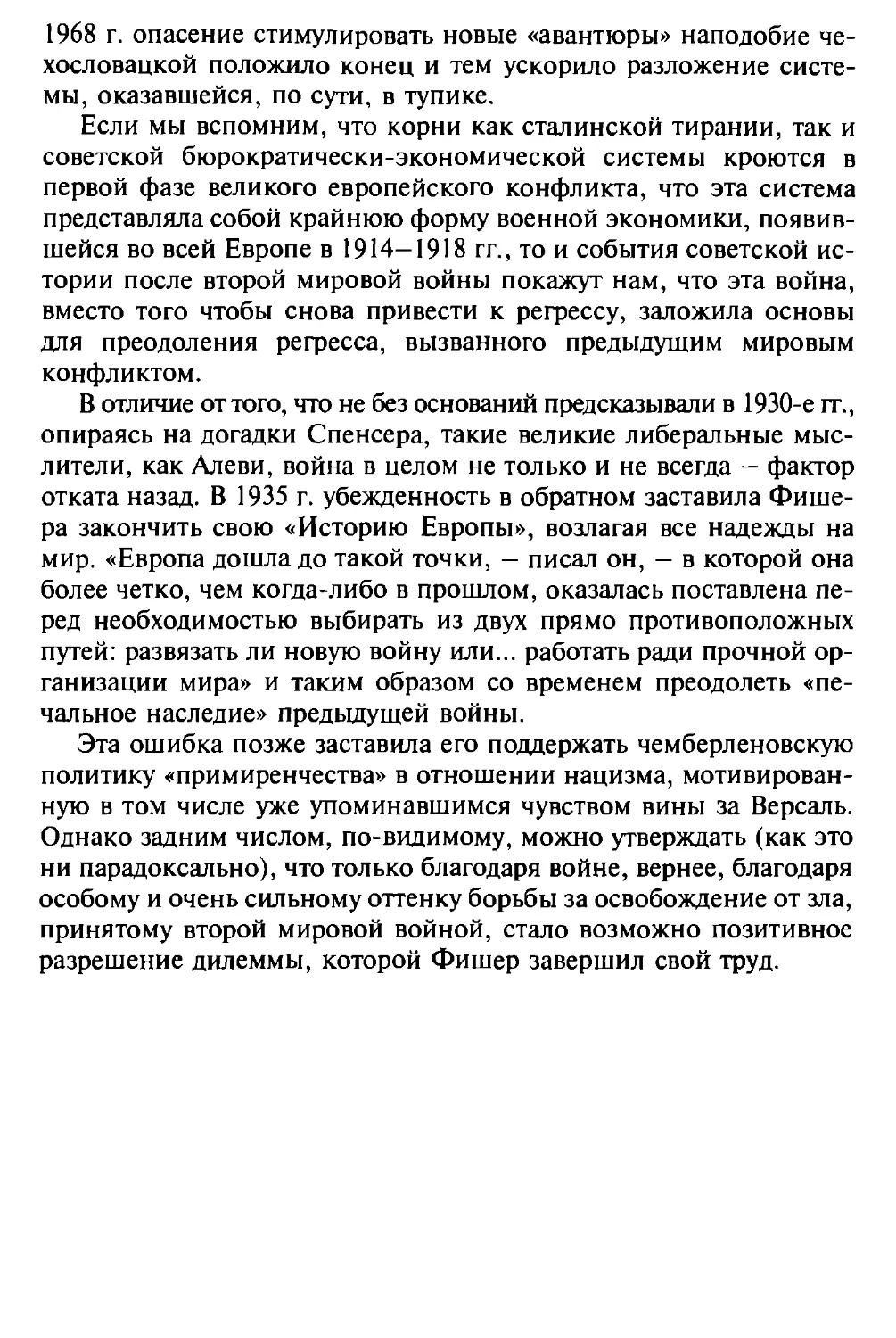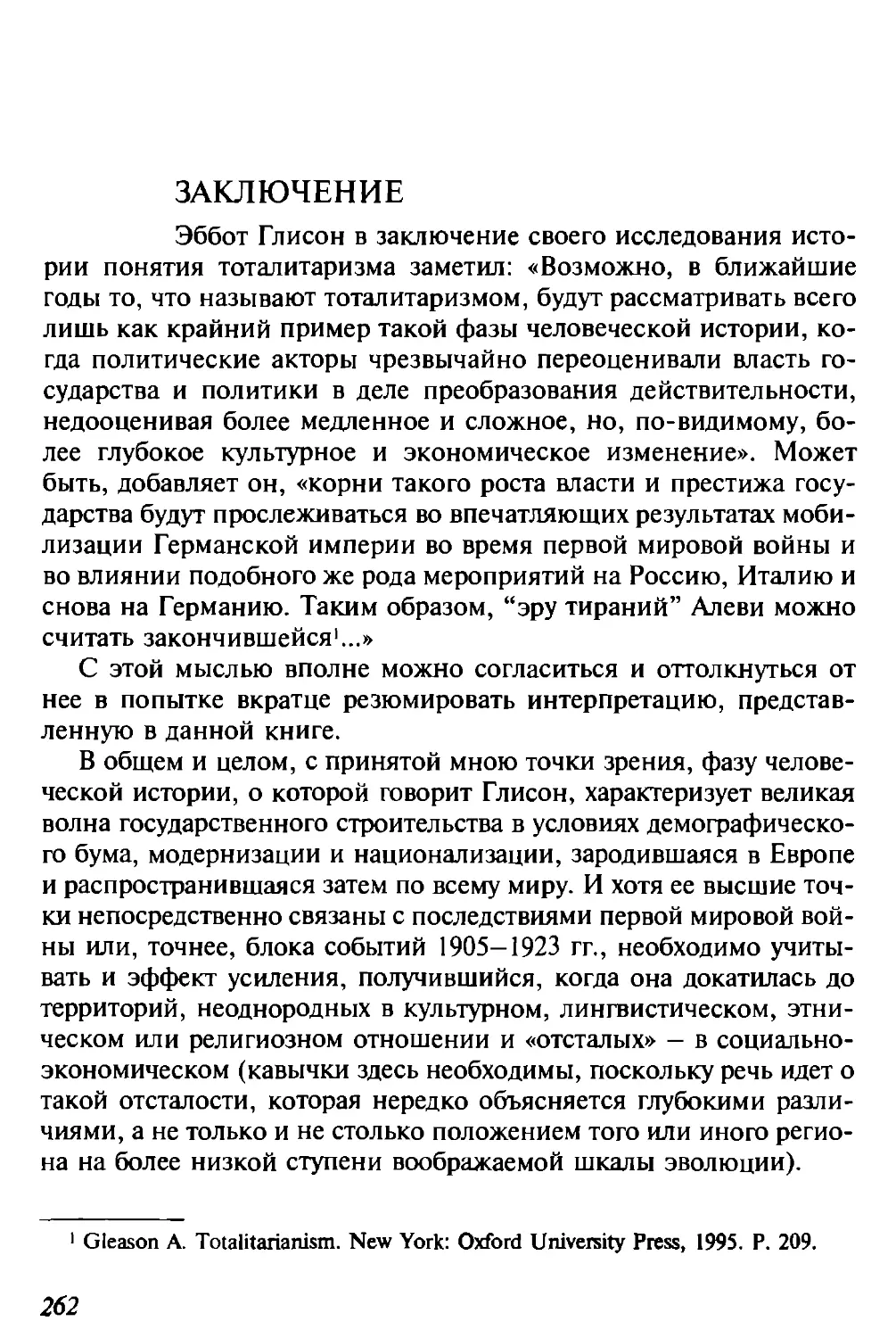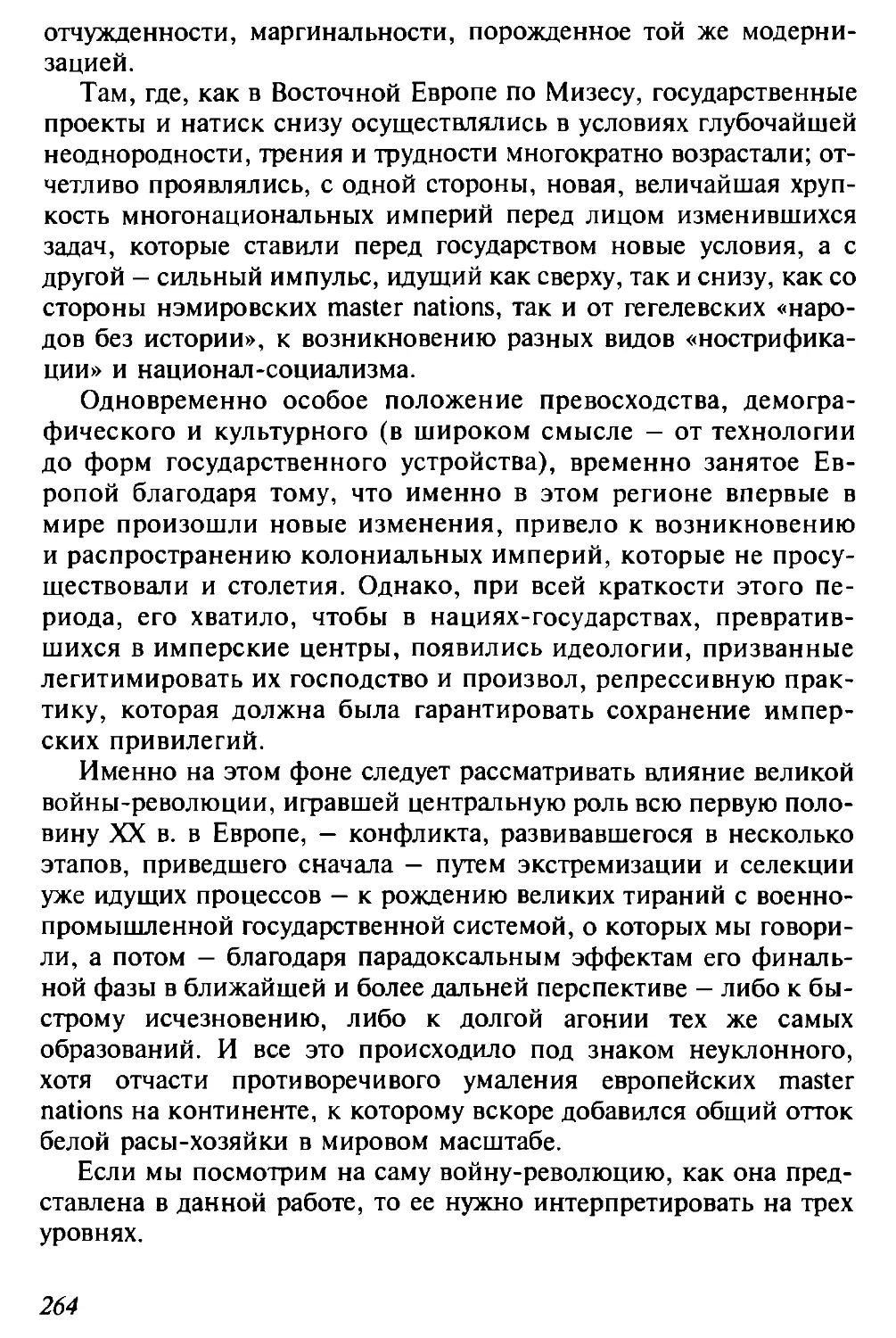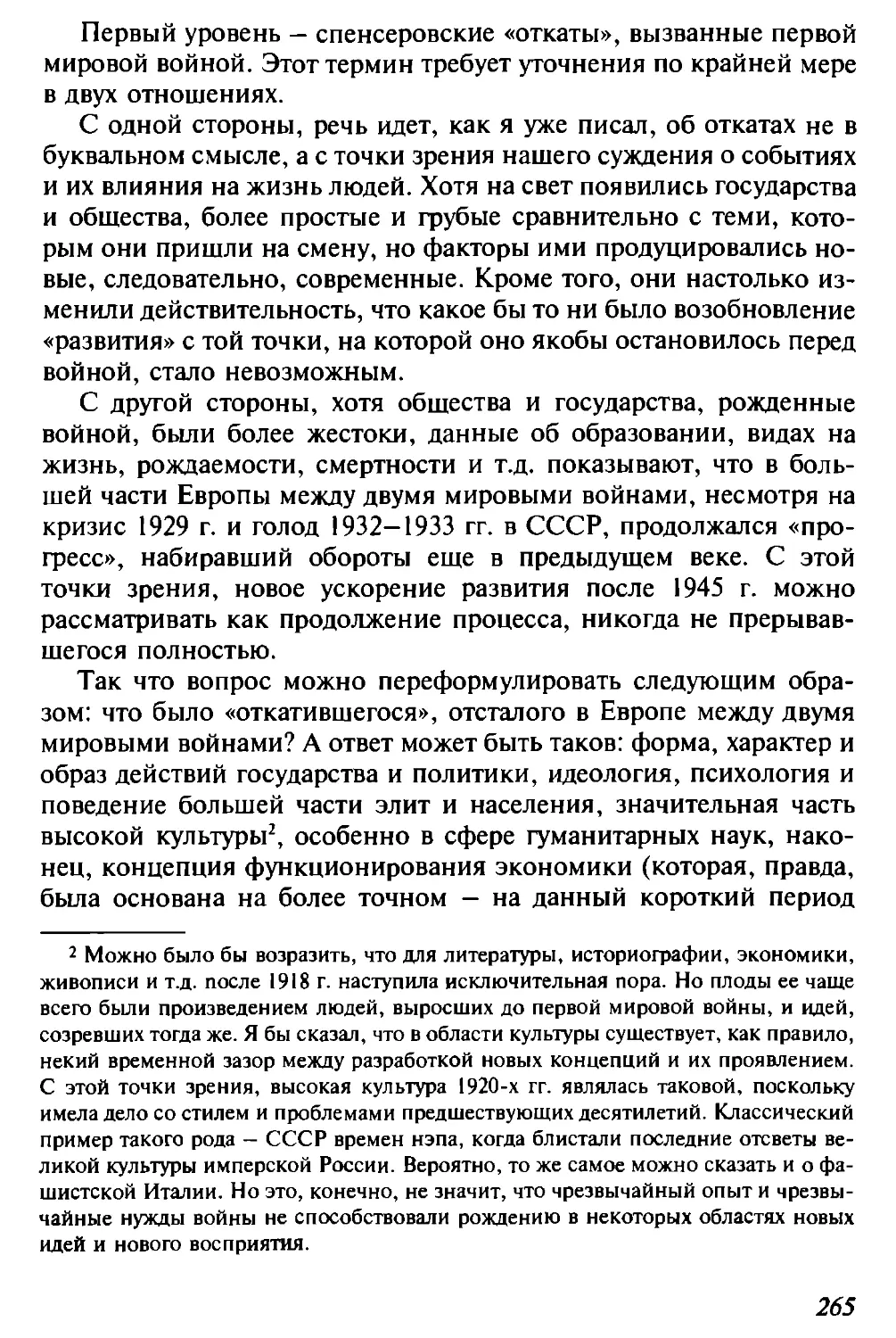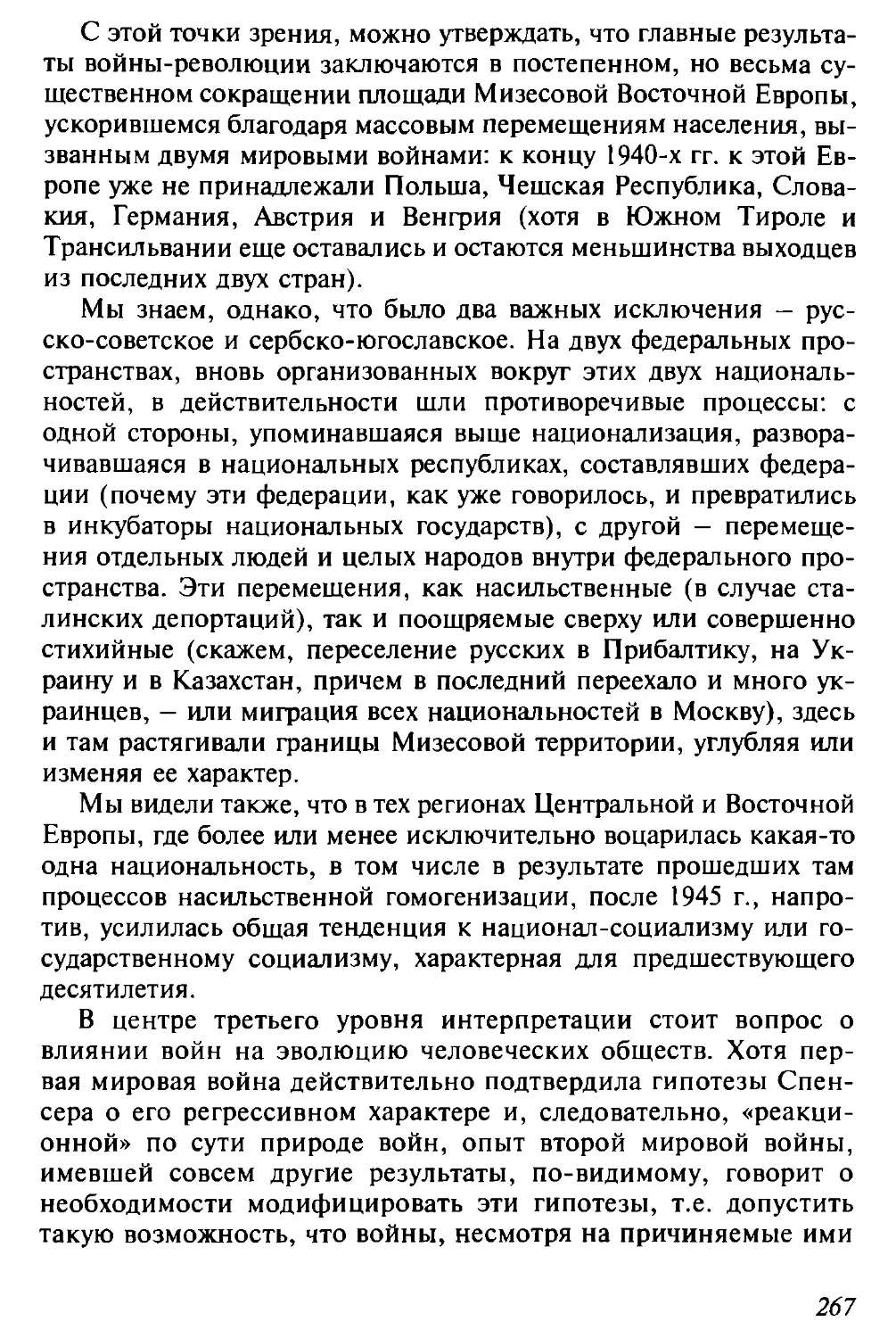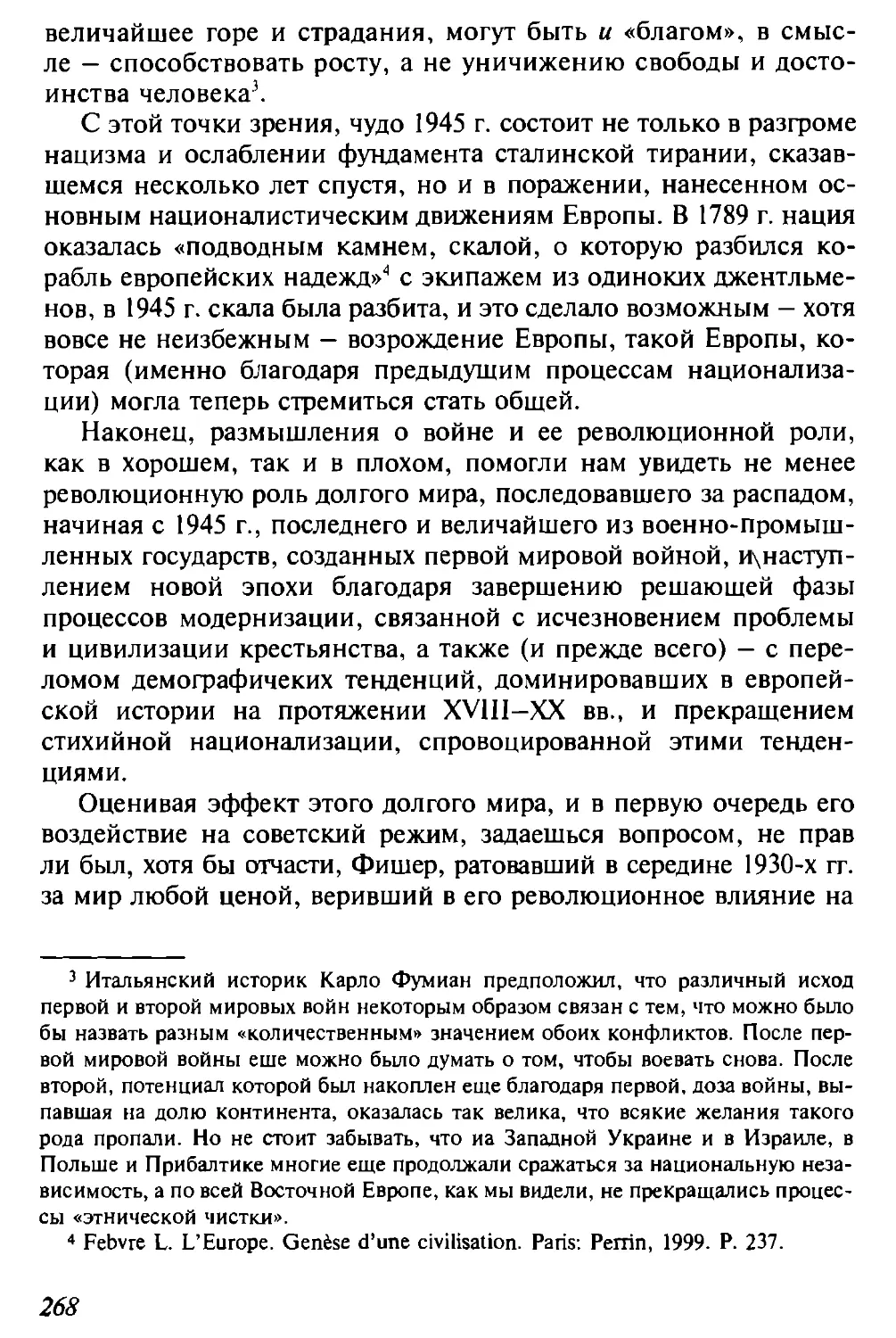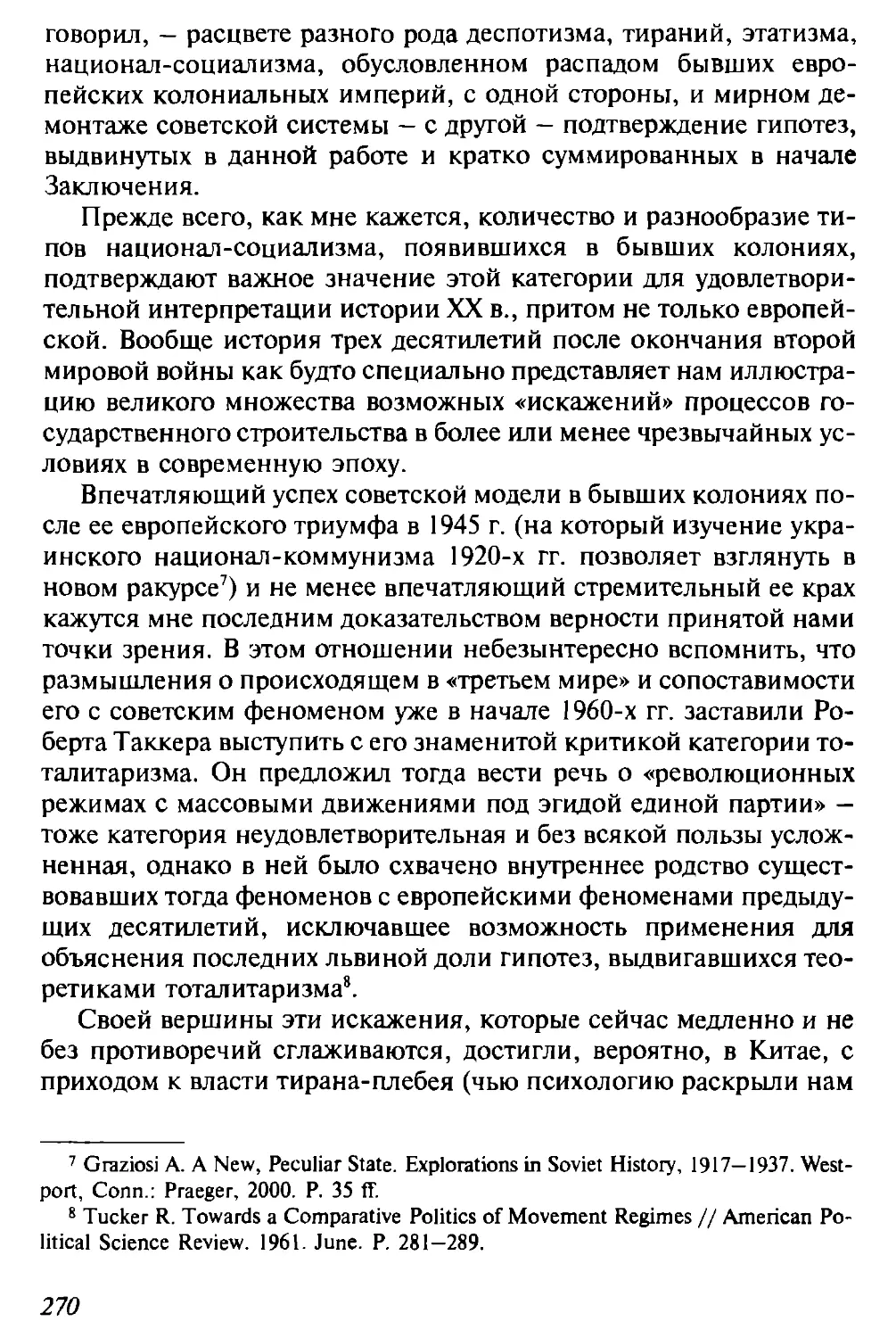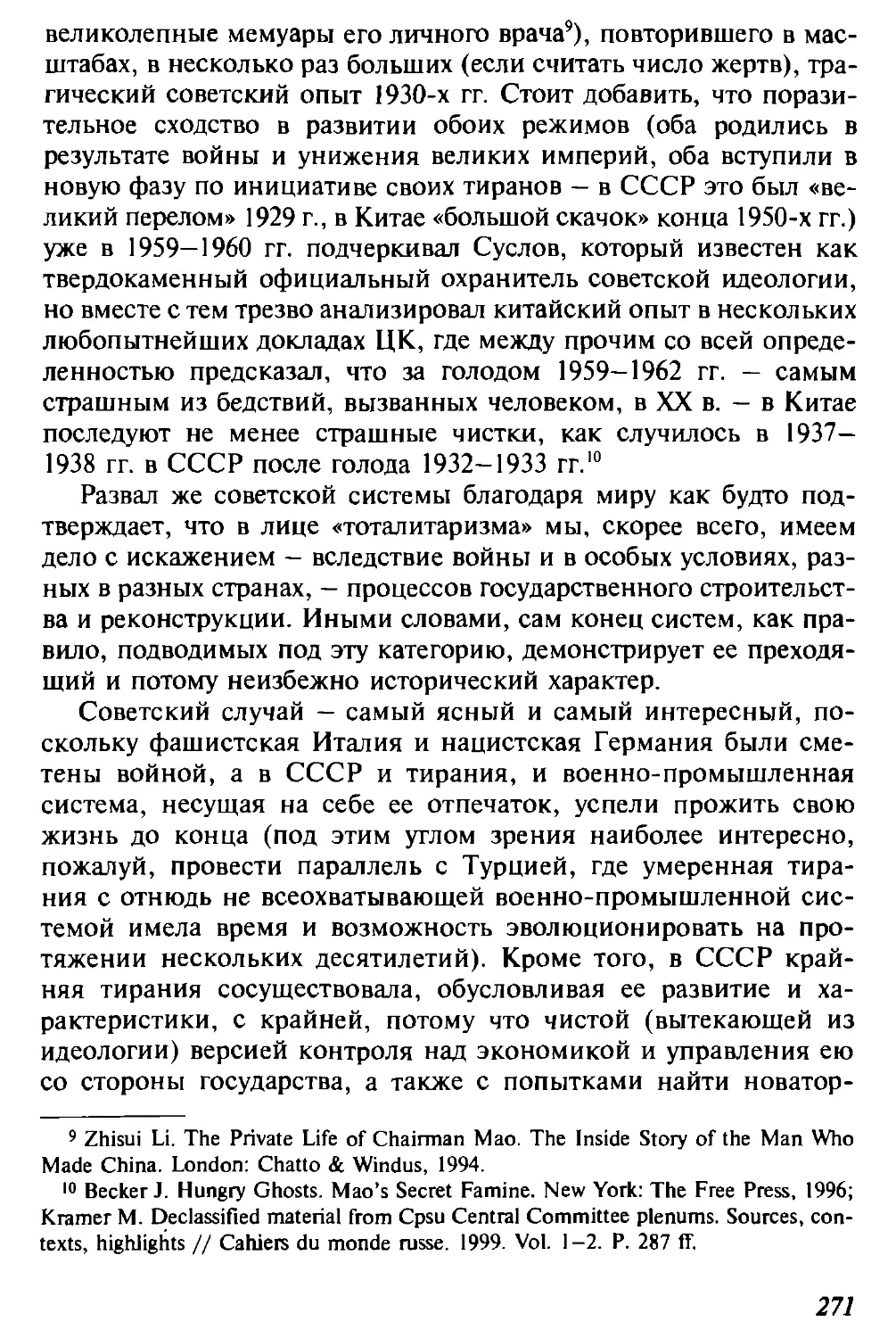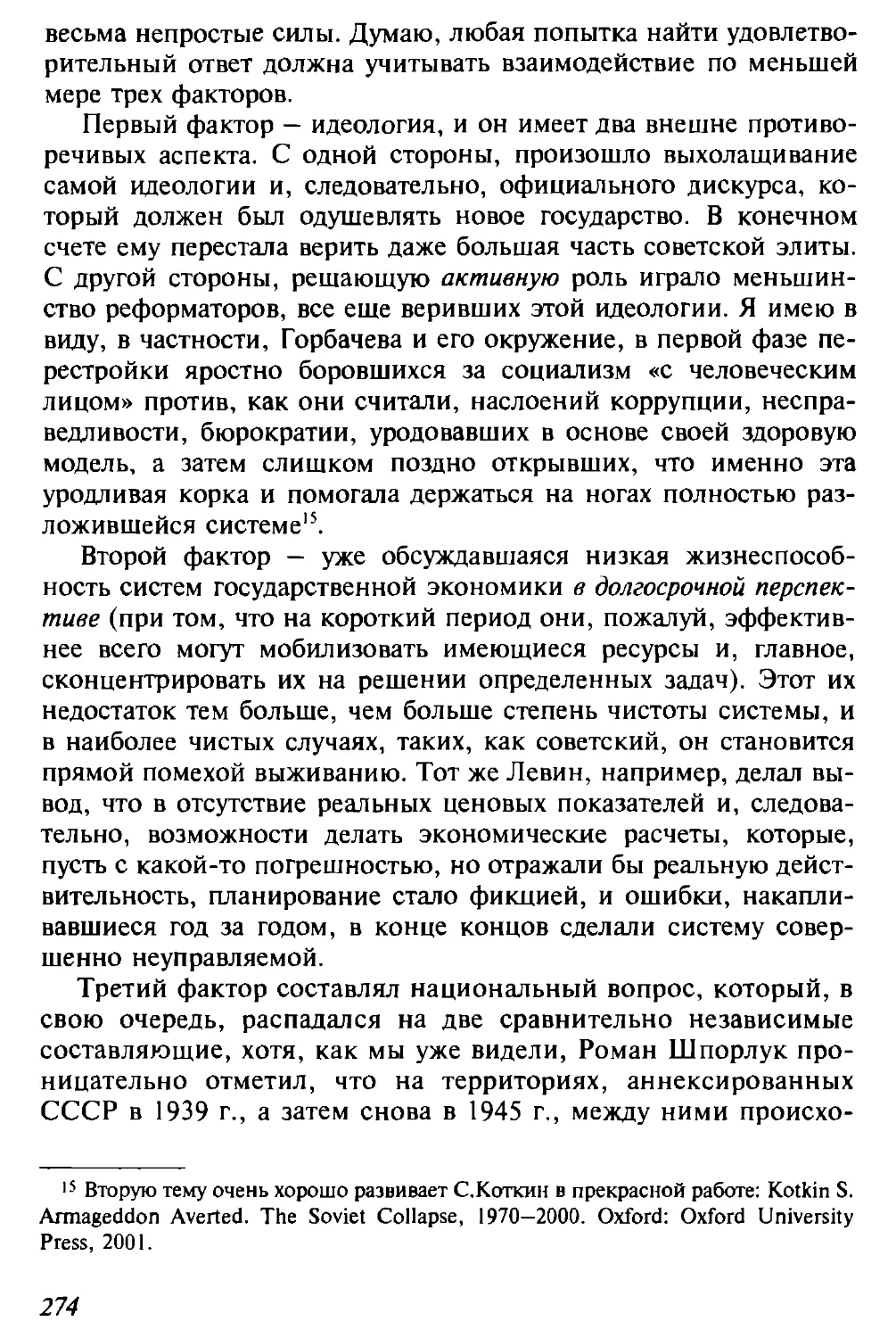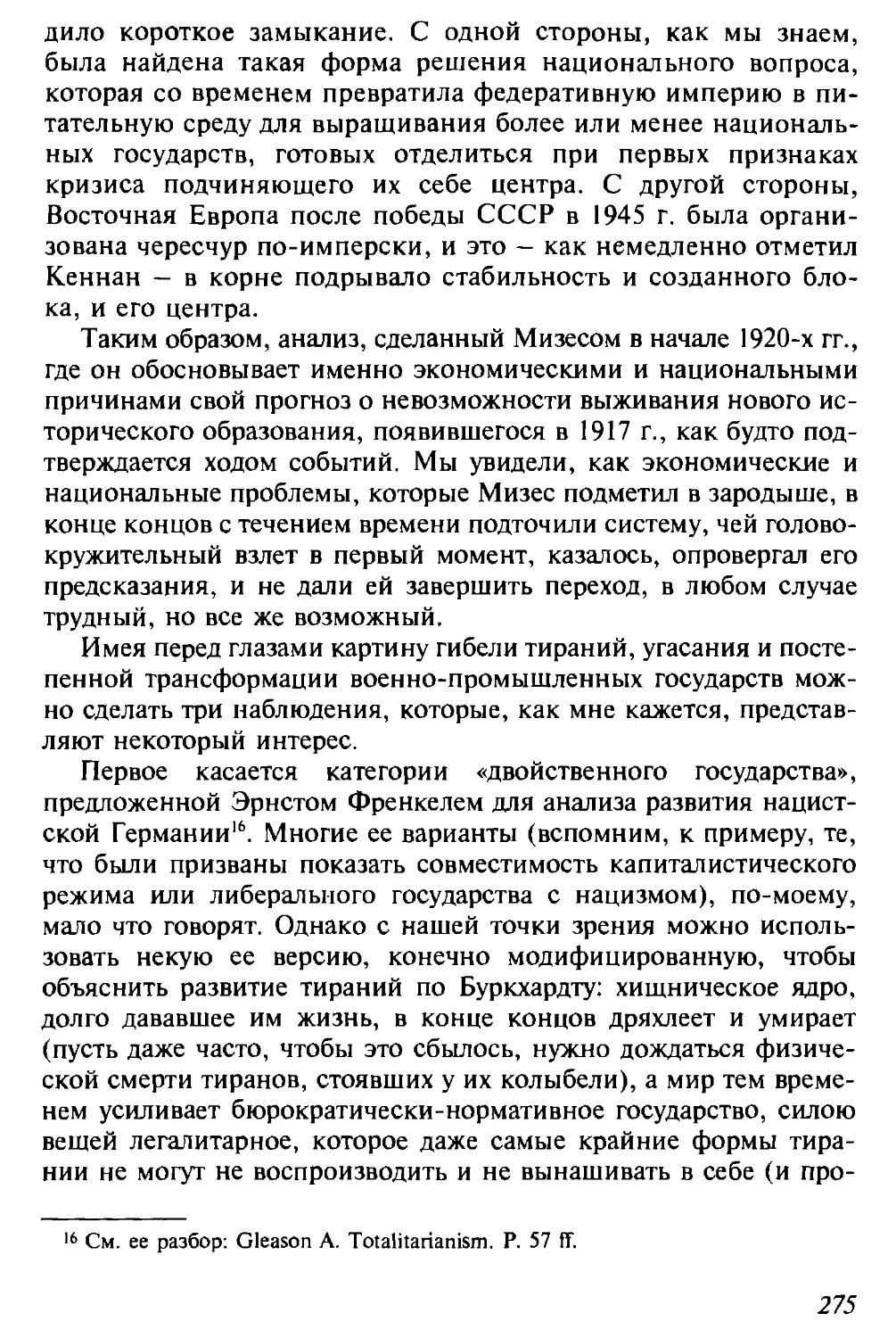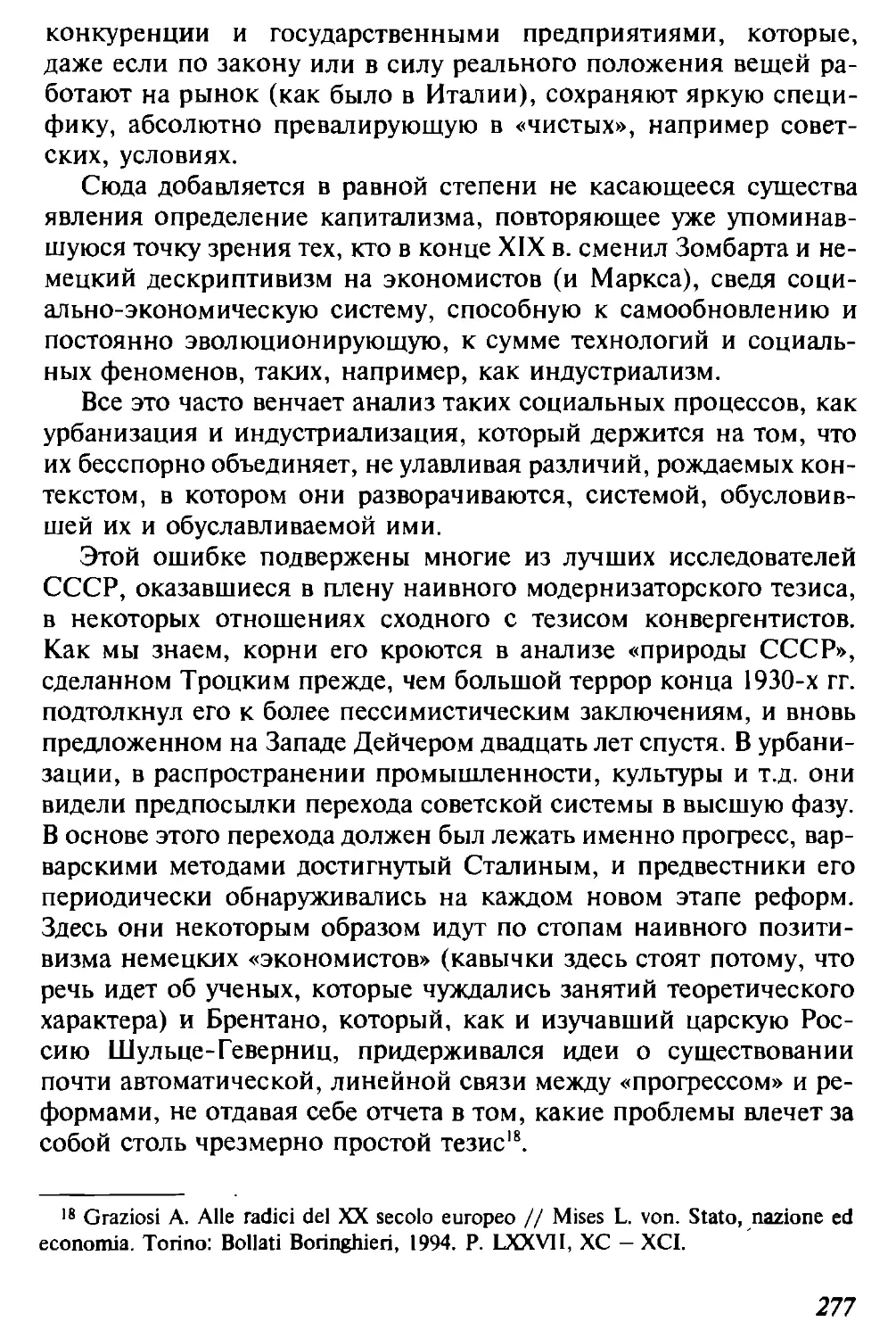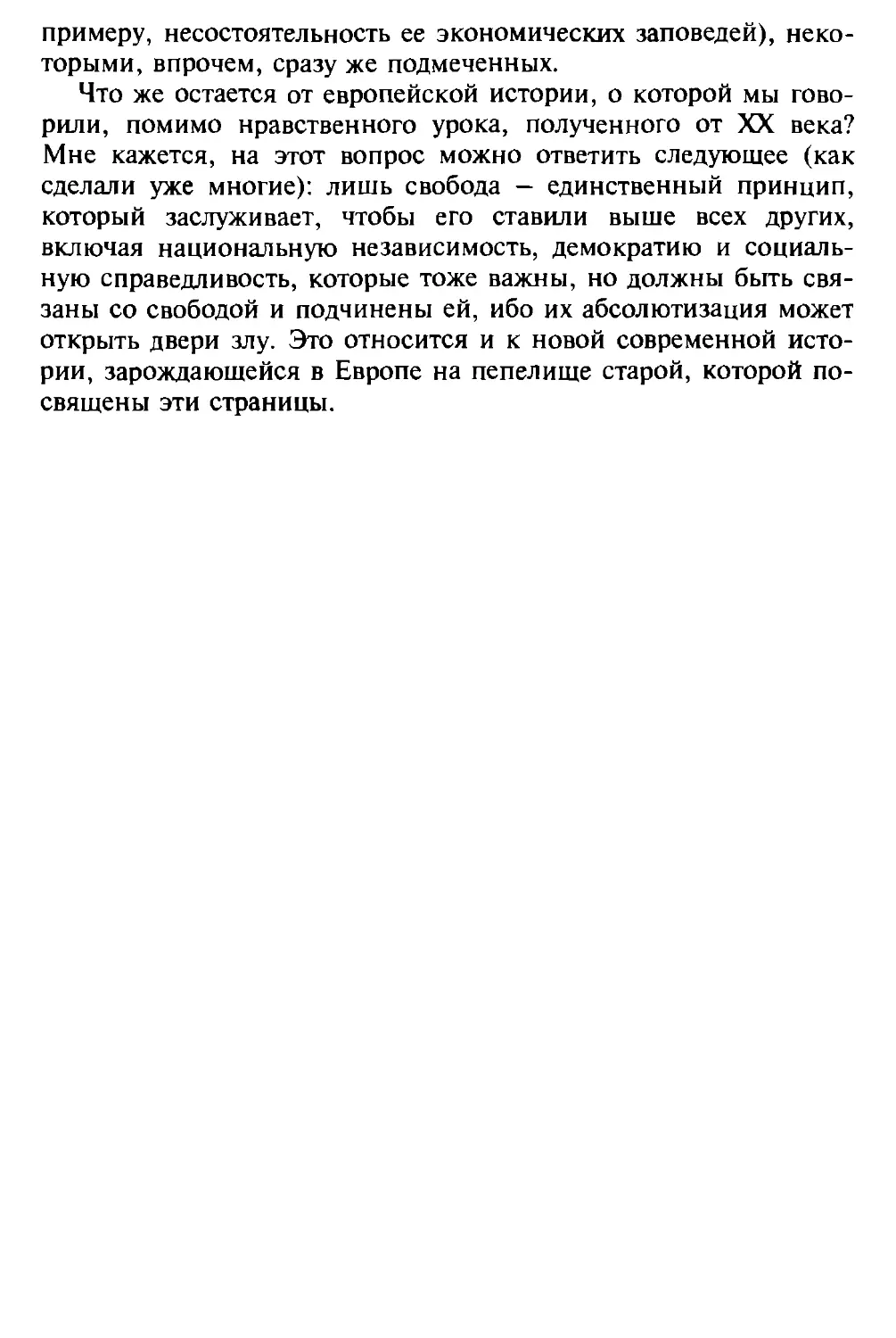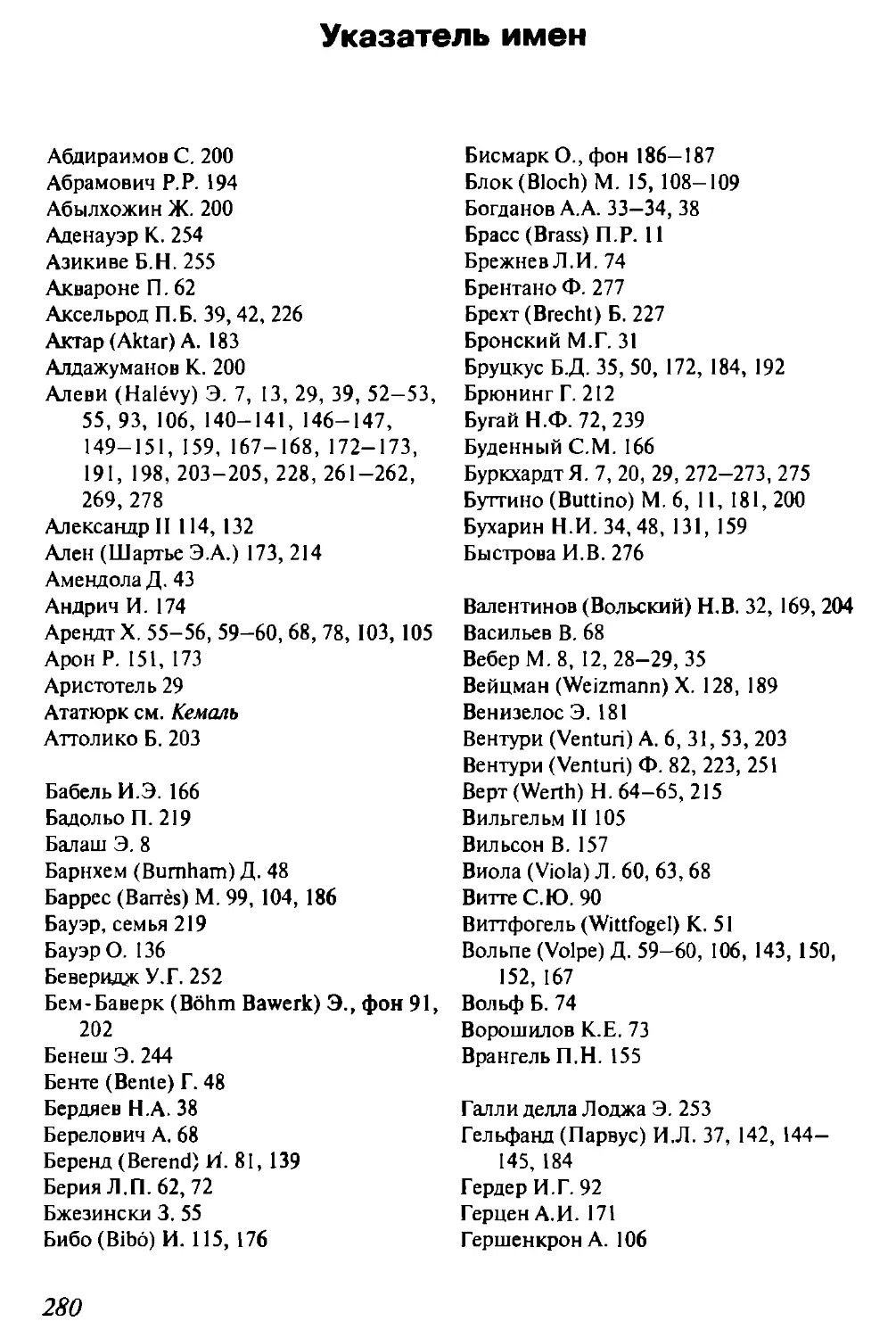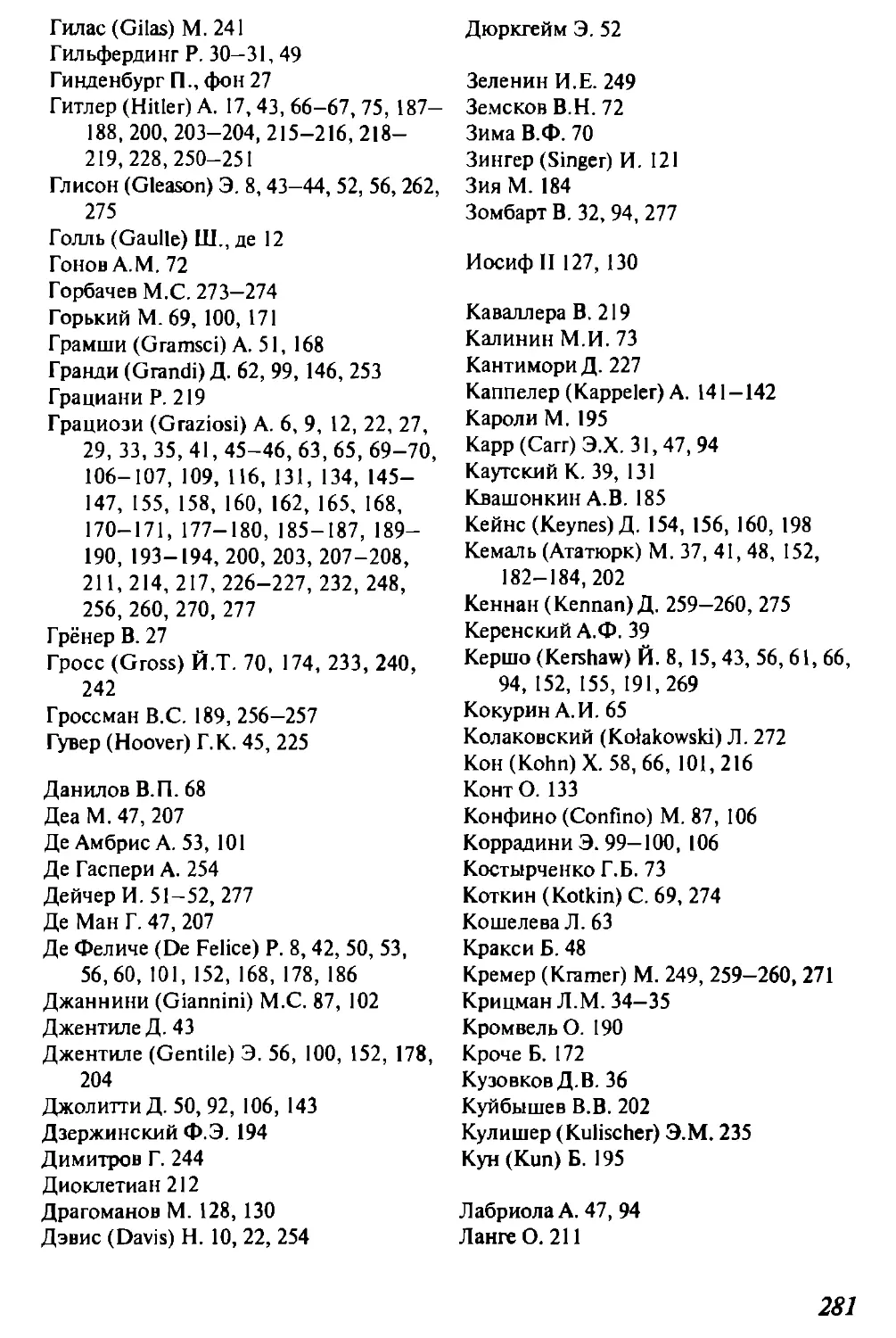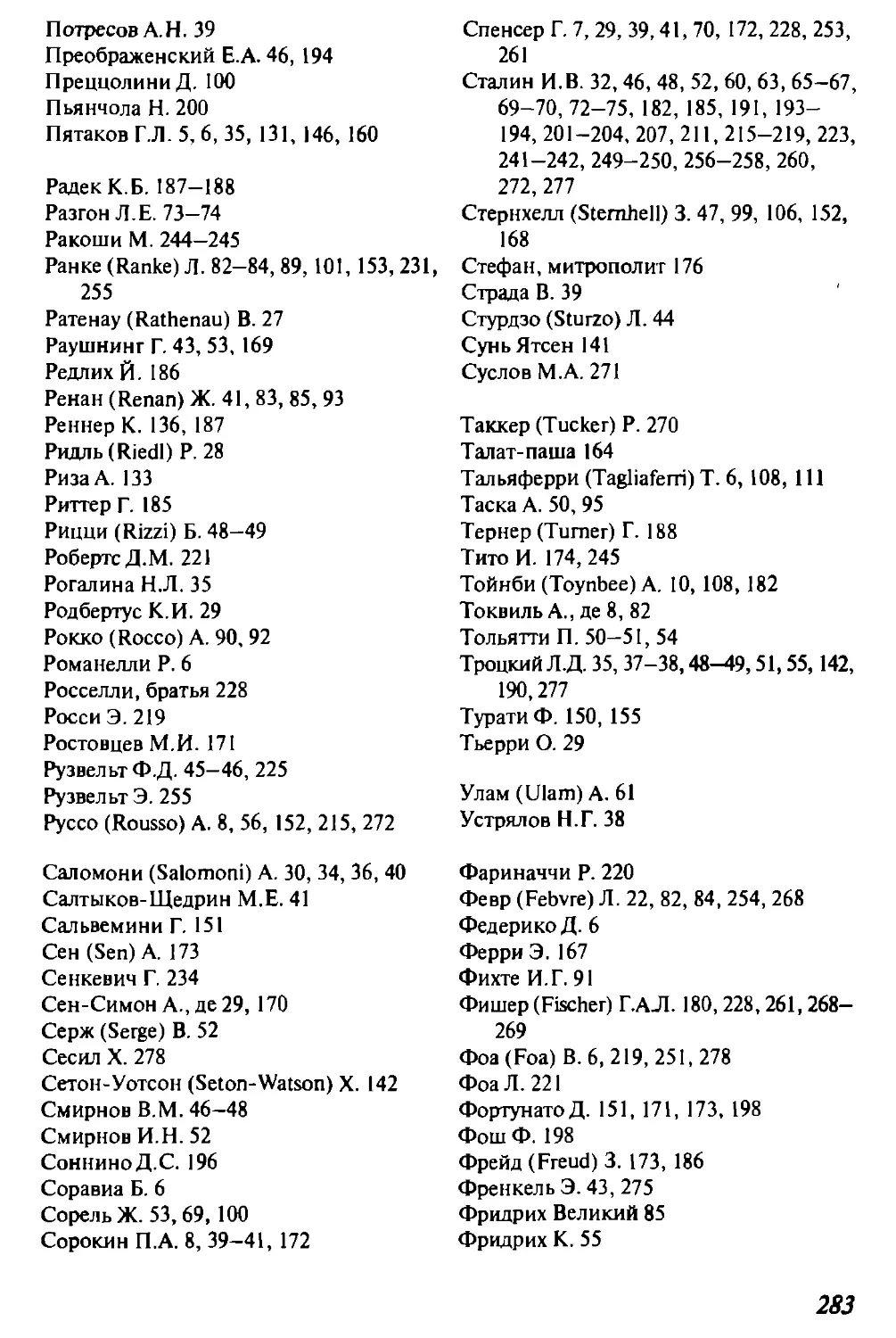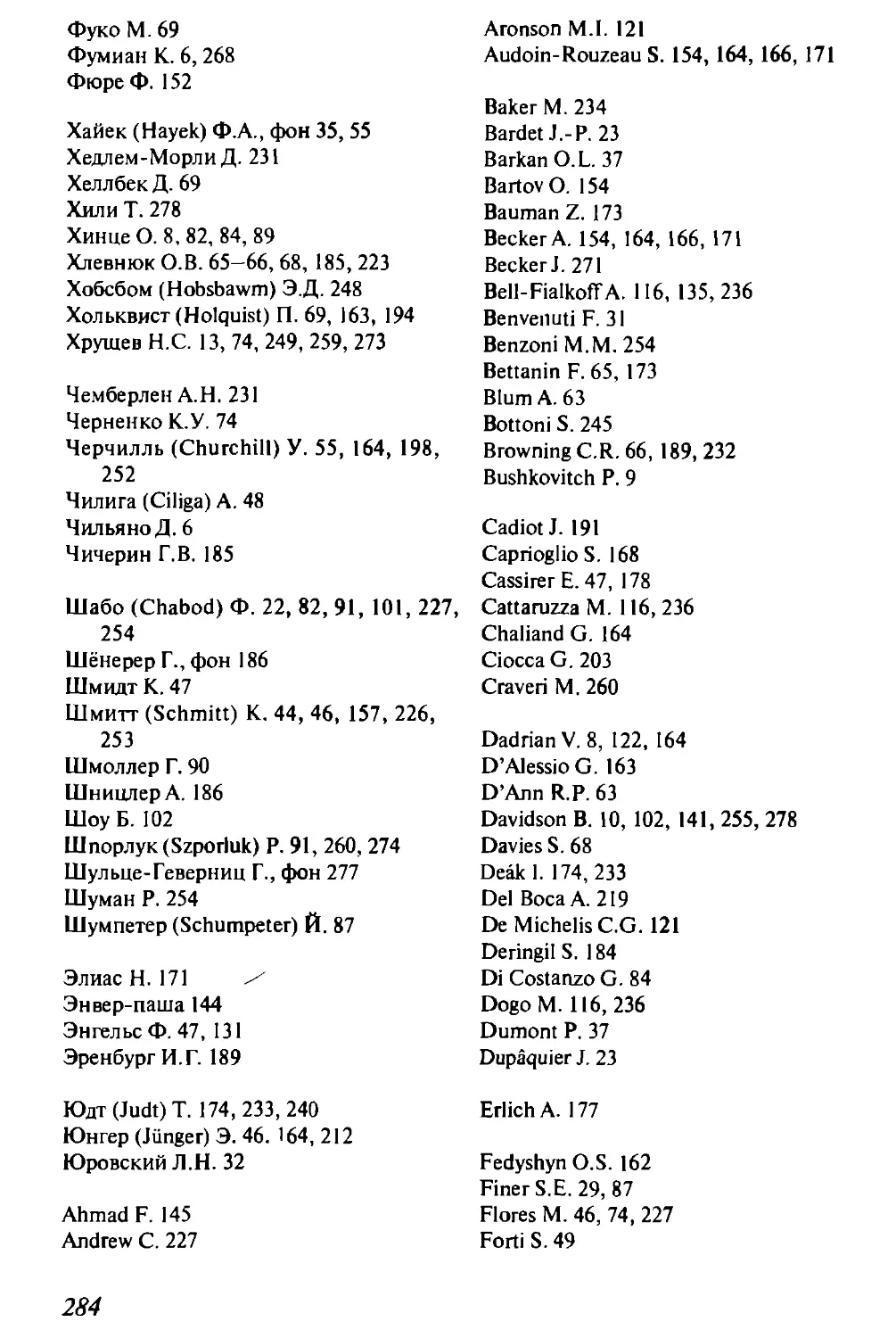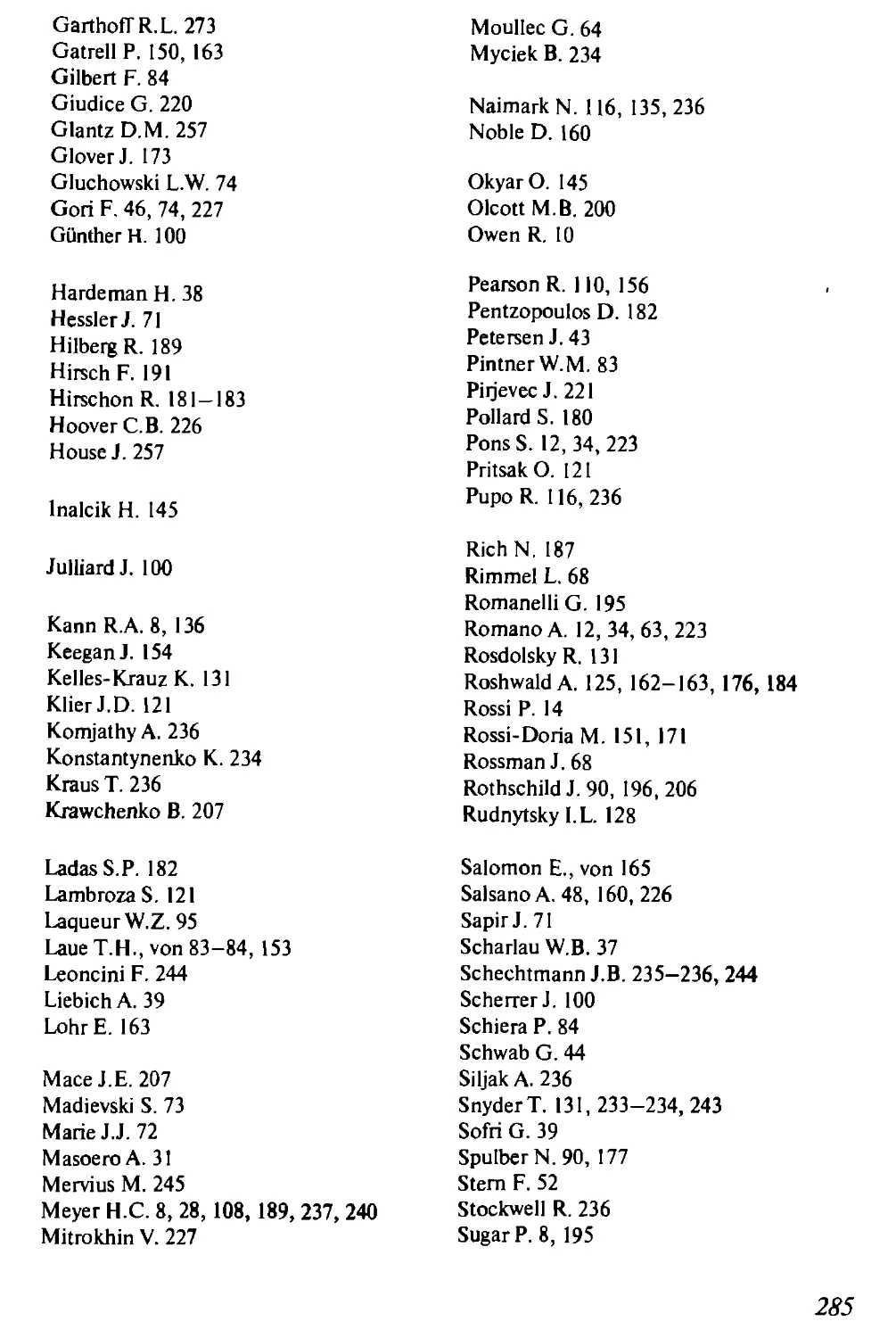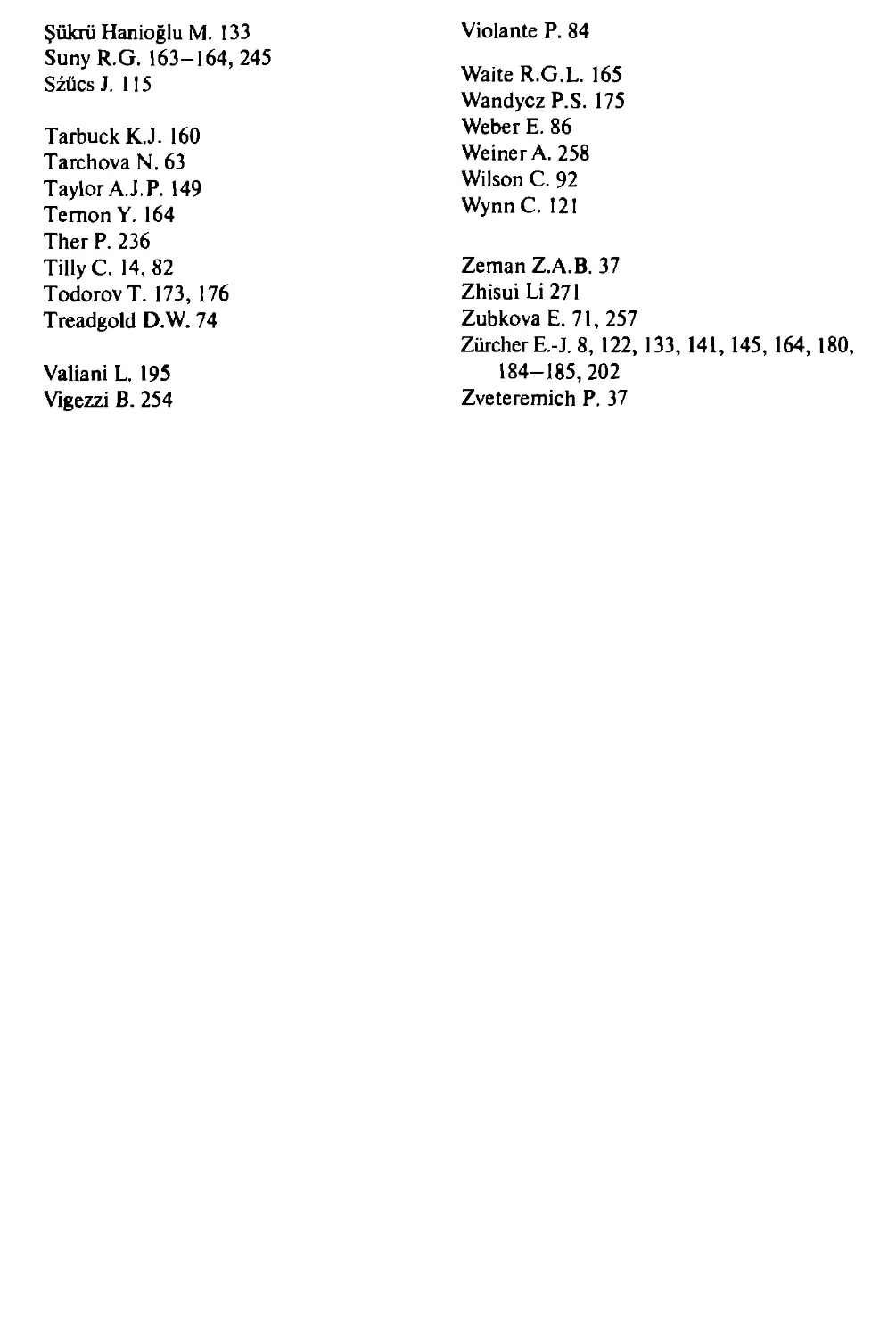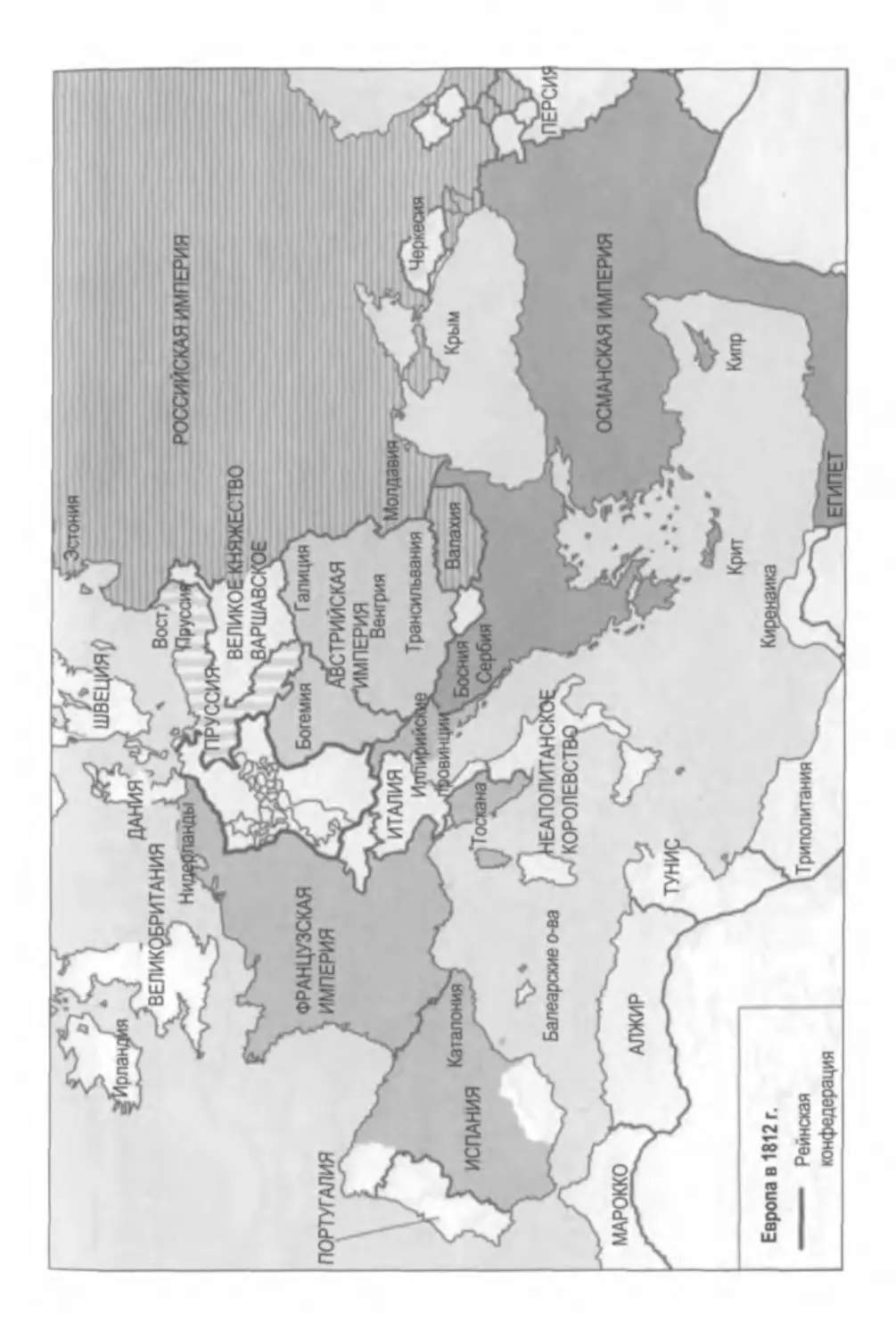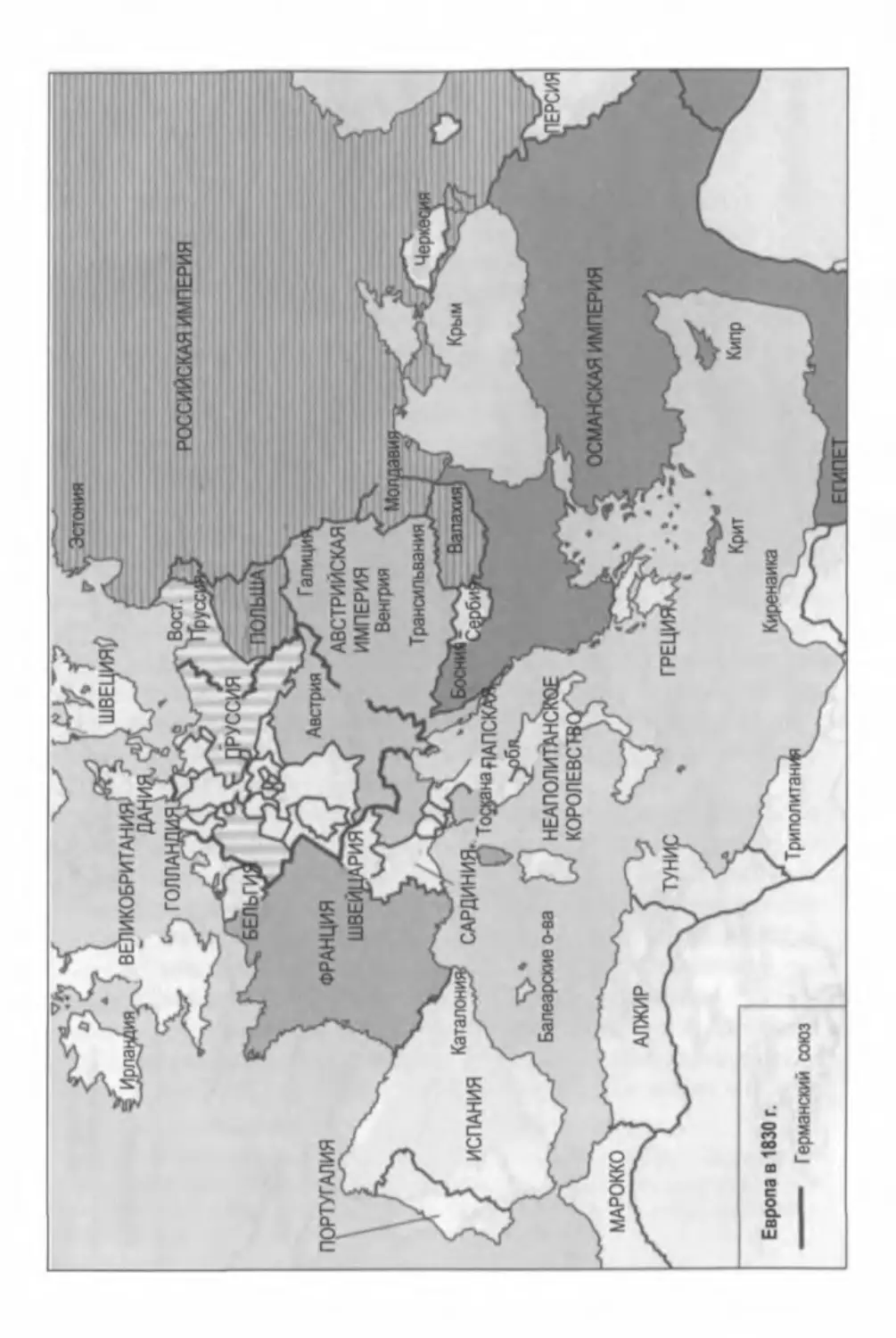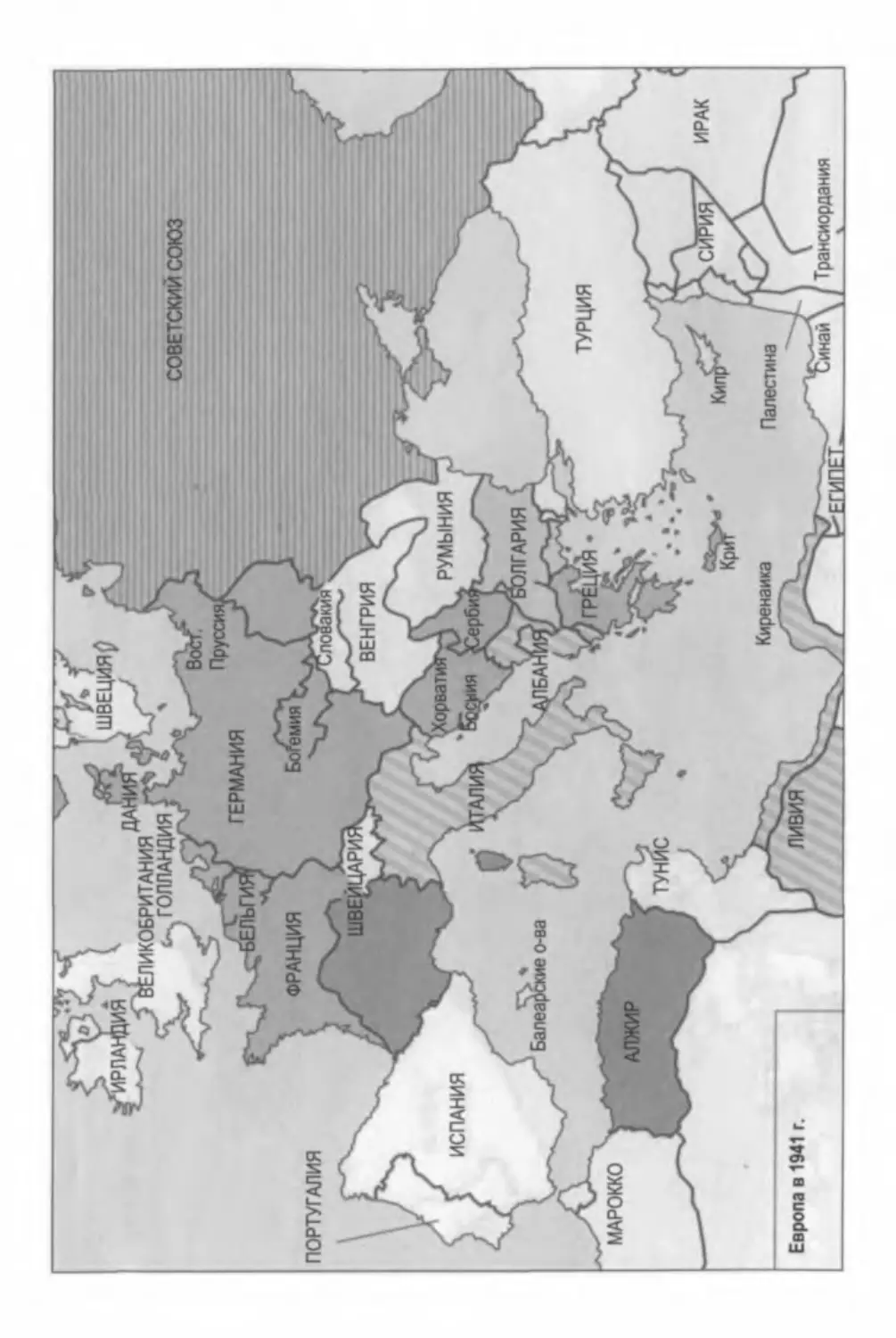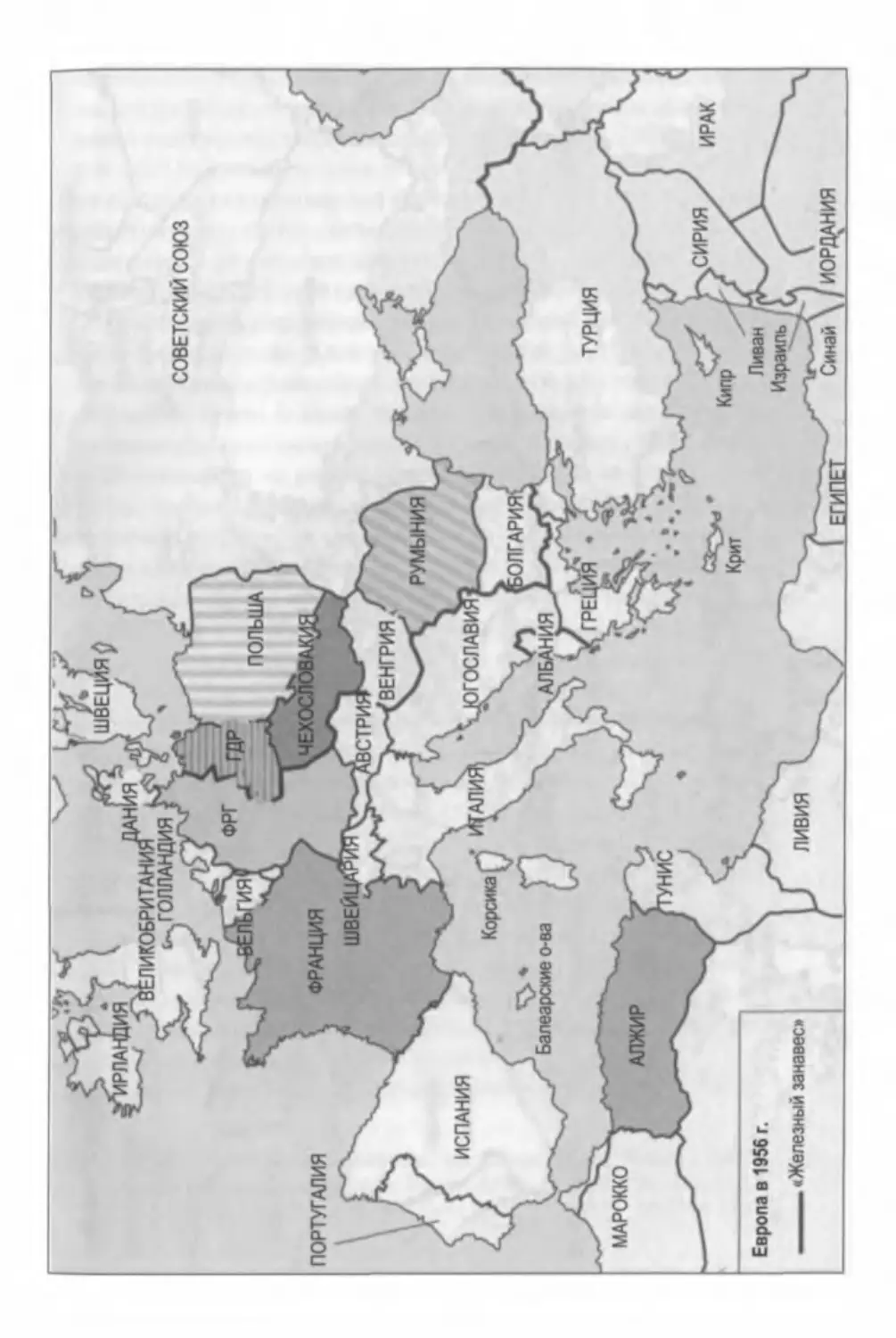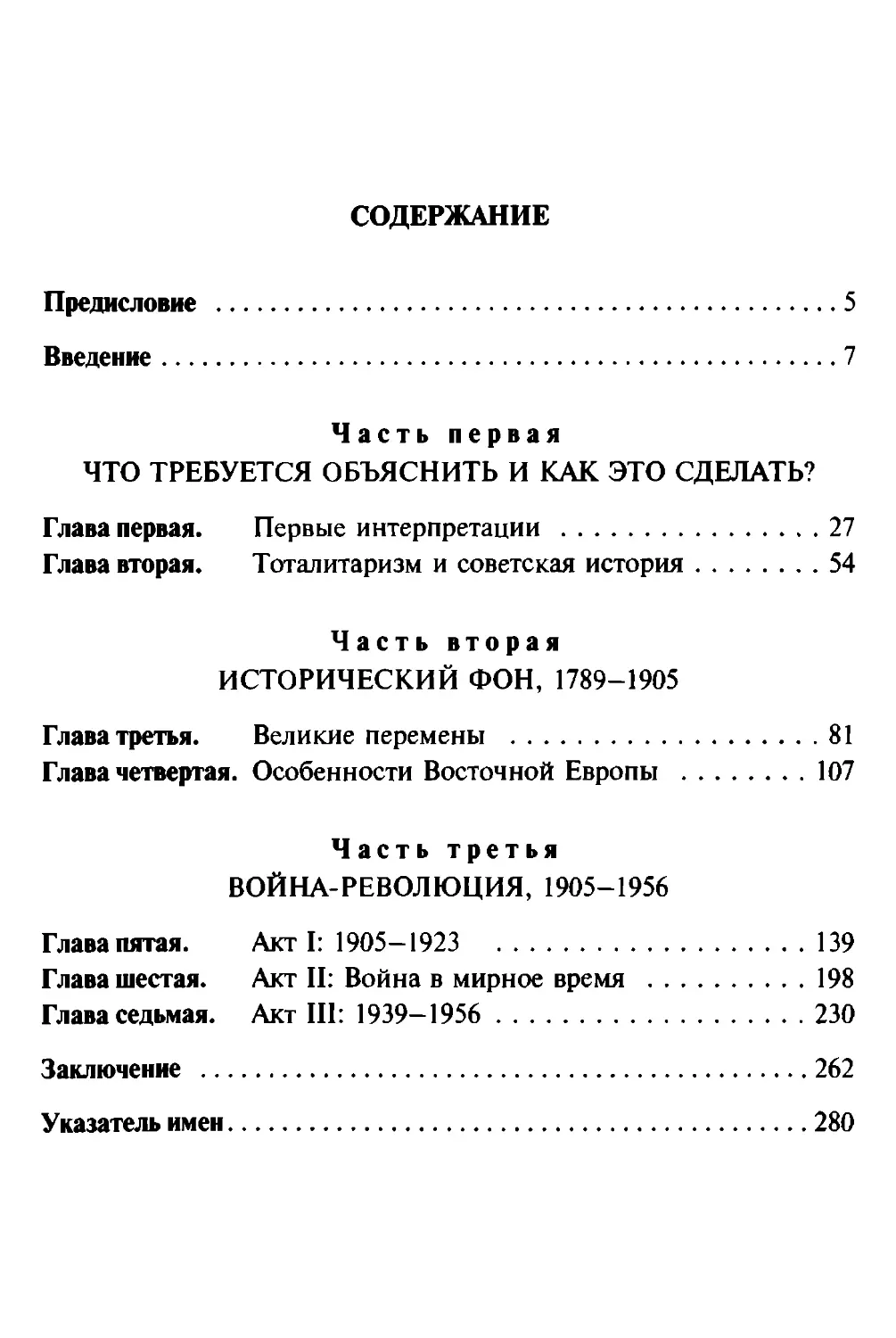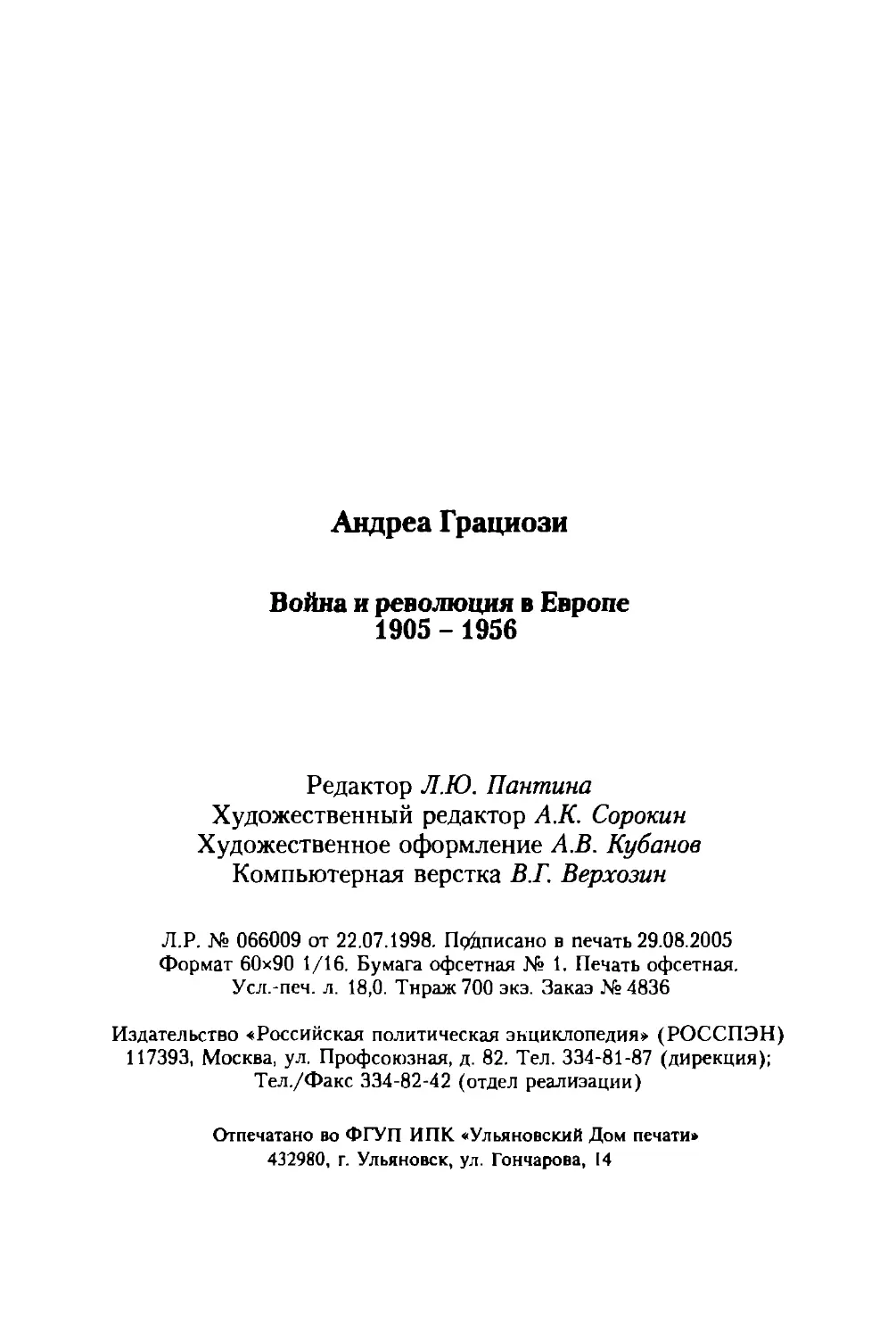Автор: Грациози А.
Теги: европа (ес, часть снг) новейшее время история европы
ISBN: 5 - 8243 - 0626 - 5
Год: 2005
Текст
Андреа Г р а ц и о з и
МЮ
И
Andrea Grazlosl
Guerra
e rivoluzione
in Europa
1905-1956
Bologna
II Mulino
2001
Андреа Грациози
Война
и революция
в Европе
1905-1956
Москва
РОССПЭН
2005
ББК 63.3(4)6-3
Г 78
Перевод с итальянского Л.Ю.Пантиной
Грациози А.
Г 78 Война и революция в Европе: 1905—1956 / Пер. с ит. - М.:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. —
288 с.
В этой книге автор дает свою интерпретацию европейской истории XX в.,
рассматривая грандиозные сдвиги и катаклизмы эпохи 1905—1956 гг., осо-
бенно в Центральной и Восточной Европе. Полемизируя с положениями
классической историографии, он рассматривает понятие тоталитаризма при-
менительно к режимам, возникшим в Европе между двумя мировыми война-
ми, отмечает своеобразные черты советской истории, прослеживает корни
общих проблем, стоявших перед различными режимами после первой миро-
вой войны, подробно анализирует пятидесятилетие, которому дает общее на-
звание периода «войны-революции», почвы, взрастившей «великие тира-
нии», «предыстории» событий, разворачивающихся в Европе сегодня.
ISBN 5 - 8243 - 0626 - 5
© 2001 by Societa editrice II Mulino, Bologna
© «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН). Перевод, 2005
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я никогда не помышлял и не планировал написать эту
книгу. Она явилась на свет как бы сама собой, когда я решил на-
бросать краткий очерк на английском языке с изложением неко-
торых выводов относительно тех проблем, которым в основном
были посвящены мои исследования, и назвал его - отчасти шут-
ливо, отчасти вызывающе: «Что произошло в Европе», а затем, пе-
реезжая в новый дом, несколько месяцев провел без своих бумаг,
книг и карточек.
Однако над упомянутыми проблемами я бился не один год,
подстегиваемый любопытством и политическими по сути вопро-
сами, которые изучение советского опыта со временем помогло
переформулировать, выделив те из них, что представляются мне
краеугольными камнями, необходимыми для построения удовле-
творительных ответов.
Первые шаги в указанном направлении я сделал в работе 1991 г.,
где, пытаясь охарактеризовать основные проблемы, с которыми
пришлось столкнуться на своем жизненном пути видному боль-
шевистскому руководителю Г.Л.Пятакову, вдруг осознал, что
имею дело с частными и — в силу их «крайнего» характера - осо-
бенно показательными случаями, раскрывающими некоторые ве-
ликие общие темы сюжета исторической драмы, разыгрывавшей-
ся практически на всем нашем континенте. Вскоре после этого я
воспользовался предложением написать предисловие к итальян-
скому изданию необыкновенной книги Людвига фон Мизеса «Го-
сударство, нация и экономика», чтобы отточить отдельные поня-
тия и категории. Структура книги Мизеса послужила мне
отправной точкой для того, чтобы впервые охватить взглядом всю
европейскую историю, в которой история советского опыта, по-
прежнему оставаясь фундаментальным явлением, все же станови-
лась лишь частью более обширного целого, где на первый план
выходили многонациональные территории Восточной Европы.
Совсем недавно я попробовал сделать набросок интерпретации
5
истории этого региона в главе, написанной для учебника новей-
шей истории1.
Так что на протяжении определенного времени я занимался
одними и теми же проблемами, и это объясняет, почему в данной
книге, особенно во второй части, там и сям попадаются кусочки
вещей, написанных мною в прошлом, которые я теперь использо-
вал в качестве материала для построения новой конструкции, бо-
лее масштабной и, надеюсь, более убедительной. Прошу за это
прощения, но менять то, что я не считаю ошибкой, было бы бес-
смысленно; меня интересовала новизна всей конструкции в це-
лом, в основу которой на этот раз легла попытка с помощью выяв-
ленных проблем и выработанных категорий показать историю
восточной части нашего континента как отправную точку для ин-
терпретации всей европейской истории XIX и XX вв. в ее единстве.
В 1997-1999 гг. мне выпало счастье обсуждать эти вопросы с
аспирантами Йеля и Европейского университетского института,
которым я благодарен за множество жарких дискуссий и перед ко-
торыми чувствую себя в долгу. Впоследствии я говорил на ту же
тему с друзьями и коллегами из Центра русских исследований
«Эколь дез От Этюд», Гарвардского института Украины и проекта
Intas «Критическое издание источников для изучения советского
государства и общества»; их поддержка помогла мне решиться
опубликовать столь нетипичную, чуть ли не подозрительную, на
взгляд профессионального историка, книгу.
Но больше всего я обязан всем тем, кто читал, комментировал,
критиковал различные варианты текста. Это: Бруна Соравиа,
Марко Буттино, Джованна Чильяно, Джованни Федерико, Витто-
рио Фоа, Карло Фумиан, Сальваторе Лупо, Паоло Макри, Анто-
нио Меннити, Рафаэле Романелли, Теодоро Тальяферри и Анто-
нелло Вентури. Разумеется, все гипотезы, выдвинутые в работе,
которую я писал с таким удовольствием, и все допущенные в ней
ошибки остаются на моей совести.
Андреа Грациози
Рим, сентябрь 2001 1
1 Graziosi A. G.L.Pjatakov (1890—1937). A Minor of Soviet History // Harvard
Ukrainian Studies. 1992. Vol. XVI (теперь также: Graziosi A. State e industria in Unione
sovietica. Napoli: Esi, 1993. P. 73-142); Idem. Alle radici del XX secolo europeo // Mi-
ses L. von. State, nazione ed economia. Torino: Bollati Boringhieri, 1994 (итальянское из-
дание книги: Mises L. von. Nation, Staat und Wirtschaft. Wien: Manz, 1919); Idem. Dai
Balcani agli Urali. L’ Europa orientate nella storia contemporanea. Roma: Donzelli, 1999.
6
ВВЕДЕНИЕ
Эта книга - не исторический труд и не задумывалась
как таковой. Скорее, как сразу позволяло предположить ее пер-
вое, рабочее название («Что произошло в Европе, 1905—
1956»), — это некие размышления на тему европейской истории
двадцатого столетия. Размышления, как мне представляется,
сложились в стройное целое, являясь в то же время частями
удерживающей это целое логической цепи, скрепленными меж-
ду собой теснейшими взаимосвязями. В результате получился
текст, местами весьма плотный и насыщенный, но, полагаю,
способный кое-что объяснить и касающийся великих тем исто-
рии Европы XX в. Надеюсь, он достаточно интересен, чтобы
собеседники, с коими я пытался вести диалог в моей книге, —
не только мои коллеги, но все мыслящие люди, увлеченные
столь ужасным и вместе с тем грандиозным периодом в истории
человечества, — простили некоторую тяжеловесность, которой
порой грешат эти страницы.
Стройность логического здания не следует путать с окончатель-
ностью и неизменностью. На мой взгляд, оно ценно как раз от-
крытостью и незавершенностью, тем, что при наличии некоторых
модификаций, несущественных для первоначальной конструк-
ции, дает место новым фактам и проблемам, тем более что, как мы
увидим, список тех из них, которые я не смог или не сумел осве-
тить, весьма длинен.
Я даже готов скорректировать гипотезы, составляющие основ-
ное ядро моих рассуждений. Но надеюсь, что предложенные мной
интерпретации, образующие каркас всей постройки, если и нуж-
даются в значительных изменениях, все же представляют собой
достаточно прочное целое и могут помочь нам изменить угол зре-
ния при рассмотрении соответствующих событий, открыть новые
пути, поставить новые вопросы, а может быть, и заново разрешить
старые.
Якоб Буркхардт, Эли Алеви, Людвиг фон Мизес, Льюис Нэ-
мир и Герберт Спенсер снабдили меня монолитами, легшими в
7
фундамент моей постройки1. Свою лепту в ее возведение внесли
и труды других ученых, на чьи плечи я взбирался, пытаясь за-
глянуть подальше, и разработанные ими категории1 2. С их идея-
ми — это касается как первых, так и вторых — я обошелся доста-
точно вольно, но, если я и не исповедовал чисто
филологический подход к ним, это не значит, что я меньше их
уважаю. Фактически они стали для меня отправными точками в
попытке понять то же самое, что пытались понять их авторы,
но немного по-другому.
Начало всей цепи рассуждений положило изучение и осмыс-
ление советского опыта. Но, как многие до меня, я вскоре был
вынужден признать неоспоримый факт очевидного сходства со-
ветской системы с другими режимами, возникшими в Европе в
первой половине XX в. Это сходство, пусть в разных формах,
разными способами и с разной интенсивностью в каждом от-
дельном случае, проявлялось в самых различных сферах обще-
ственно-политической жизни. Неоднократно составлявшийся
список общих черт включает в себя наличие единой партии,
связанной с государством, и лидера, нередко становящегося
1 Токвиль, Этьен Балаш, Отто Хинце, Питирим Сорокин и Макс Вебер также
оказали влияние, хотя и не столь значительное, на конструирование предложен-
ных интерпретаций. Отдельного упоминания заслуживает Маркс, от которого я
уже очень далеко отошел, но который первым открыл мне обаяние размышлений
и рассуждений о великих темах истории человечества.
2 Я многое почерпнул из следующих работ: De Felice R. Le interpretazioni del
fascismo. Bari: Laterza, 1971; Gleason A. Totalitarianism. New York: Oxford University
Press, 1995; Kershaw I. The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of
Interpretation. London: Edward Arnold, 1989; Meyer H.C. Mitteleuropa in German
Thought and Action, 1815-1945. Haag: Martinus Nijhoff, 1955; Kann R.A. The
Multinational Empire. Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy,
1848—1918. New York: Columbia University Press, 1950. К сожалению, о Советском
Союзе и Турции не существует книг, сравнимых с книгами Де Феличе и Кершо об
Италии и Германии. В первом случае мне пришлось опираться на собственные
исследования. Во втором — я нашел прекрасный общий анализ: Sugar Р.
Southeastern Europe under Ottoman Rule. Seattle: University of Washington Press,
1993; Ziircher E.-J. Turkey. A Modem History. London: I.B.Tauris, 1998; Dadrian V.
Histoire du genocide armenien. Conflits nationaux des Balkans au Caucase. Paris: Stock,
1995. Очень полезны оказались два опыта сравнительного анализа, к сожалению,
ограничивающиеся германским и советским случаями: Stalinism and Nazism.
Dictatorships in Comparison / Ed. by I.Kershaw, M.Lewin. Cambridge - New York:
Cambridge University Press, 1997; Stalinisme et nazisme. Histoire et memoire сотрагёе I
Sous la dir. de H.Rousso. Bruxelles: Complexe, 1999.
8
объектом культа — иногда официально насаждаемого, иногда,
по крайней мере отчасти, складывающегося стихийно; претен-
зии на тотальный контроль над обществом и энергичные усилия
ради достижения этой цели, означающие систематическое при-
менение насилия и террора, в крайних случаях выливающееся в
крупномасштабные операции по социальной и этнической чист-
ке; высокая степень вмешательства государства в экономику
вкупе с автаркической политикой внутри страны и грабитель-
ской - за ее пределами; символы и методы пропаганды; архи-
тектурный стиль и т.д.
Столь значительное сходство сразу побудило некоторых на-
блюдателей к сопоставлению новых реалий, открыв дорогу по-
пыткам интерпретации, среди которых сравнение, как это часто
бывает, было всего только первым шагом, и не более. Подобно
им, я тоже пришел к необходимости расширить поле анализа.
А это, учитывая прогресс в наших знаниях, которому в советском
случае особенно способствовали распад СССР в 1991 г. и частич-
ное, но довольно широкое рассекречивание архивов3, в результа-
те привело к выявлению различий (тоже кардинальных) между
системами, по всей видимости, все же принадлежащими к одно-
му типу.
Еще в 1950-е гг. кое-кто предлагал относить к ним не только
импортированные модели, взращенные после 1945 г. в той час-
ти Европы, которая подчинилась советскому господству, но и
режимы эндогенного характера, такие, как югославский или ки-
тайский, а также те, что постепенно утверждались во множестве
новых государств, родившихся на обломках колониальных
империй.
Подобное расширение видовых границ, осуществленное на
базе таких категорий, как «модернизирующие диктатуры» или
«массовые однопартийные авторитарные режимы», конечно, ус-
ложняет проблемы сравнения и интерпретации, но тем самым де-
лает их интереснее. И прежде всего, как мне кажется, оно может
помочь нам правильно поставить (а следовательно — и решить)
проблему генезиса, природы и характеристик тех режимов, к се-
мье которых принадлежит и советский режим, ибо это второе рас-
3 Первую попытку подвести итоги и оценить значение рассекречивания архи-
вов см.: Assessing the New Soviet Archival Sources / Ed. by A.Graziosi, P.Bushkovitch //
Cahiers du monde russe. 1999. Vol. 1—2.
9
ширение аналитической области рассуждений прямо указывает
нам на центральное значение проблемы государственного строи-
тельства в истории XX в.
Признание решающего характера данного феномена, однако,
заставляет наш анализ в третий, и последний, раз выйти за соб-
ственные границы, теперь уже в направлении европейского про-
шлого. Современный феномен образования и дальнейшего
строительства государства — в сущности детище нашего конти-
нента, где, как заметил Норман Дэвис, среди суверенных госу-
дарств, существовавших к 1993 г., «четыре родились в шестна-
дцатом веке, четыре — в семнадцатом, два — в восемнадцатом,
семь — в девятнадцатом и как минимум тридцать шесть — в два-
дцатом». Кульминационные точки этого процесса соответствуют
различным фазам распада Османской империи, периодам воз-
никновения Итальянского королевства и Германской империи,
окончания первой и второй мировых войн, а также распада со-
ветского блока в 1989—1991 гг.
Вслед за событиями на нашем старом континенте, а затем и
одновременно с ними, начались попытки реформ, в том числе и
радикальных, в древних азиатских государствах и части афри-
канских — попытки, нередко вызванные стремлением избавить-
ся от европейского господства или европейских завоевателей.
Как уже упоминалось, процесс этот достиг своей кульминации
после второй мировой войны, вылившись в еще более мощную
и многообразную волну государственного строительства в
«третьем мире»: в одной только Африке на свет появились око-
ло 50 новых государств, причем четырнадцать из них возникли
в одном и том же 1960 г. на месте французских экваториальных
колоний4.
Не исключено, что данный процесс может продолжаться и в
будущем: например, индийский субконтинет, сейчас отчасти
единый, невзирая на все существующие там противоречия,
представляет собой потенциальную колыбель новых госу-
4 Davies N. Europe. A History. New York: Harper, 1998. P. 456; Davidson B. The
Black Man’s Burden. Africa and the Curse of the Nation-State. New York: Times Books,
1992. P. 14, 159, 267 (эта книга носит на себе явный отпечаток теорий Тойнби от-
носительно катастроф, порождаемых импортом модели нации-государства на
многонациональные территории в различных уголках мира; ср. ниже, с. 108,
прим. 3); Owen R. State, Power and Politics in the Making of the Modem Middle East.
London: Routledge, 1992.
10
дарств5, да и в той же Африке государственное строительство
отнюдь не завершено. Тем не менее, пик его, судя по всему,
пришелся на наше время, о чем свидетельствует стремительная
организация мира в систему более-менее национальных или
хотя бы внешне представляющихся таковыми государств, кото-
рая вместе с некоторыми другими крупными явлениями, таки-
ми, как модернизация со всеми ее противоречиями, демографи-
ческие изменения, изменения в структуре семьи, в отношениях
между мужчиной и женщиной, составила суть переворота, на-
блюдаемого нами около двух столетий.
Хотя большая часть этих государств действительно называла
себя «национальными», очевидная несостоятельность таких пре-
тензий, а главное - опыты государственного строительства, начи-
ная с советского, затем югославского и индийского и кончая ны-
нешней попыткой построения Европейского Союза (кстати, по
крайней мере некоторые считают, что сюда следует включить и
опыт Соединенных Штатов), в ходе которых на вооружение при-
нимались и принимаются очень разные модели, зачастую фор-
мально прямо противоположные этнико-национальной, - свиде-
тельствуют, что именно в государственном строительстве скорее,
чем в национальном (пусть статистически национальное строи-
тельство гораздо чаще стояло на повестке дня как первоочередная
задача, во всяком случае в течение двух последних веков), нужно
искать общий элемент, позволяющий свести в единую картину
феномены, которые часто анализировались отдельно друг от дру-
га: я имею в виду, к примеру, эволюцию и упадок таких идейных
движений, как либерализм, национализм и социализм; создание
новых экономических пространств; все более интенсивное интег-
рирование масс в жизнь государства; великие миграции двух по-
следних веков, как свободные, так и вынужденные; трагические
5 Можно предположить, что процесс раздробления, сопровождающийся ми-
грациями населения и массовой резней, столь характерными для таких же процес-
сов в Европе, там уже начался: достаточно вспомнить о том, что происходило в
1947 г. при отделении Пакистана от Индии, в 1971 г. при рождении Бангладеш, а
также о сегодняшних конфликтах на Цейлоне и в Кашмире. Конечно, это не зна-
чит, что не могут проявить себя и прямо противоположные тенденции, однако
пока, как мне кажется, они не слишком заметны. О событиях 1947 г. см., напр.,
прекрасную работу Брасса: Brass P.R. Migrazione forzata nel Punjab: India, 1946—
47 // In fuga. Guene, carestie e migrazioni nel mondo contemporaneo I A cure di
M.Buttino. Napoli: L’Ancora di Mediterraneo, 2001. P. 107-144.
П
процессы «этнической чистки» и т.д. Между прочим, в первород-
стве и логическом превосходстве государства - в более широком
смысле, чем национальное государство, - по сравнению с нацией
был убежден и последний из отцов современного национализма —
генерал де Голль, который, подчеркивая, что теперь государство
отвечает «за Нацию, защищает ее свободу и честь» (и следователь-
но, неким образом служит ей), любил при этом добавлять, что
«исторически именно Государство постепенно создало Нацию»6.
Уже самого по себе возникновения многих десятков новых госу-
дарств, сталкивавшихся с проблемами, отчасти сходными, в самых
различных социальных, культурных, этнических и экономических
условиях и контекстах, было достаточно для того, чтобы породить
необычайное количество разных государственных и социально-
экономических типов, моделей и форм, нередко в результате скре-
щиваний и пересечений, которых первые исследователи эволюции
человеческих обществ и представить себе не могли.
Не следует, однако, преувеличивать непрочность упрощенных
эволюционных схем прошлого (среди их авторов в действительно-
сти был и Вебер в своем одиноком величии), а если они и ломают-
ся, это вовсе не оставляет нас лицом к лицу с непознаваемым хао-
сом. Собственно, тот анализ различных режимов, из которого мы
исходим, будучи проведен на упомянутом фоне, наоборот, позво-
ляет нам приступить к его упорядочению, выделяя, как мы уви-
дим, некоторые важные унифицирующие элементы среди столь
сложных процессов. В частности, указанные режимы в этом плане
роднит то, что они являются плодом ускорения и деформации
строительства и реконструкции государства, вызванных великой
войной-революцией XX в. в Европе, а также распространения
данного процесса, хотя и в иной форме, на бывшие колонии.
Раньше я называл эту войну-революцию «Сорокалетней войной»,
расширяя временные рамки «второй европейской Тридцатилетней
войны», о которой Зигмунд Нойманн говорил уже в 1946 г. и кото-
рую Арно Майер в начале 1980-х гг. предлагал вниманию истори-
ков как ключ к интерпретации периода 1914-1945 гг.7. Со време-
6 Des collaborateurs du general temoignent. De Gaulle et le service de 1’Etat. Paris:
Pion, 1977. P. 15. С этой точки зрения, Италия представляет собой исключение,
поскольку здесь культурный элемент всегда превалировал над государственным.
7 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне.
1917-1933. М.: РОССПЭН, 2001; Russia in the Age of Wars, 1914-1945 / Ed. by
S.Pons, A.Romano. Milano: Feltrinelli, 2000. P. XII.
12
нем, однако, я убедился, что для нащупывания основных нервных
узлов той эпохи и понимания их развития недостаточно включать
в рассмотрение только балканские войны и события, происходив-
шие непосредственно после второй мировой войны.
Как интуитивно догадывался Алеви и как мы яснее увидим в
главе 5, для этого нужно вернуться назад, по меньшей мере до рус-
ско-японской войны и революции 1905 г., и выявить двойствен-
ный — военный и революционный - характер периода, открывае-
мого указанными событиями.
Многие соображения, если судить в паневропейском масшта-
бе, заставляют ограничить охватываемый данной войной-револю-
цией период серединой 1950-х гг., когда новый мир стал принимать
определенные очертания в обеих частях континента. Я остановил-
ся, в частности, на 1956-м годе — в силу ознаменовавших его со-
бытий как на Востоке, так и на Западе. Формальное исчезновение
важнейших примет прошлого, например, сталинского мифа и са-
мостоятельного статуса Франции и Великобритании как великих
держав, пущенного ко дну в Суэце, признаки зарождения новых
систем, которому на Востоке положили начало доклад Хрущева на
XX съезде КПСС, польский бунт и восстание в Будапеште, а на
Западе - дискуссии по поводу Римского договора, показались мне
вполне достаточными резонами для того, чтобы сделать этот год
эмблемой намечавшегося в то время в Европе поворота. Но это
выбор чисто символический: на мой взгляд, понять значение про-
исходивших перемен важнее, чем привязать их к тому или иному
конкретному году.
Естественно, остается проблема крушения режимов реального
социализма и конфликтов, порожденных распадом СССР и, глав-
ное, Югославии. По причинам, которые, полагаю, в конце концов
станут очевидны для читателей этих страниц, мы здесь имеем дело
с проблемами, самым непосредственным и тесным образом свя-
занными с характерными для войны-революции первой половины
двадцатого столетия вопросами и событиями, так или иначе из
них вытекающими. Один из таких вопросов, например, - почему
среди режимов, рожденных первой мировой войной, Советский
Союз приобрел наибольший вес и ушел со сцены последним. Мы
еще вернемся к этому в Заключении, но сразу должен сказать, что,
по моему мнению, невозможно уловить и осмыслить истинное
своеобразие вышеназванного крушения, не принимая в расчет
долгого мирного периода, наступившего после окончания войны-
75
революции, которой посвящена данная книга. С этой точки зре-
ния, события 1989—1991 гг. как бы переносят нас на несколько де-
сятилетий назад; впрочем, метафора возвращения, пусть хотя бы
отчасти оправданная, может ввести в заблуждение: не следует за-
бывать, что после 1956-го года и до августа 1991-го история про-
должала идти вперед.
Итак, в данной работе я попытаюсь проверить справедливость
гипотезы, объясняющей возникновение столь крайних и внешне
нетипичных режимов, как сталинистский и нацистский, а также —
не так прямо и в меньшей степени (очевидное и кардинальное ис-
ключение представляет маоистский Китай) — множества нацио-
нальных социалистических систем, взращенных в «третьем мире»,
общим процессом государственного строительства и тем влияни-
ем, которое оказали на него сначала европейская война-револю-
ция, а затем — столь тесно с ней связанная деколонизация. Для
этого я попробую произвести концептуальную реконструкцию ев-
ропейской истории и отыскать в зарождении названных режимов,
в анализе их характерных признаков ключи к пониманию более
общих и менее явно выраженных феноменов.
В этих же целях моя книга, несмотря на то что в основе ее ле-
жит сравнение, будет носить больше интерпретативный, нежели
компаративный характер. В ней будет очень мало сравнительного
анализа в классическом смысле слова, и не только потому, что та-
кой анализ требует много места, тем более в случае, подобном на-
шему, когда его можно расширять практически до бесконечности,
выходя далеко за пределы сферы моих знаний. На самом деле я
убежден, что сравнение как таковое очень быстро рискует превра-
титься в бесплодные экзерсисы. Я не говорю об individualizing
comparisons (индивидуализирующих сравнениях)8, призванных уг-
лубить постижение объекта исследований путем сопоставления
его с другими схожими историческими явлениями и тем отчетли-
вее выделить его отличительные черты, — это существенная со-
ставляющая повседневного труда любого историка. Моше Левин
любил формулировать ее просто и четко: «Тот, кто знает одну-
единственную вещь (историю, страну, культуру) и не в состоянии
сопоставить ее ни с чем другим, — в действительности ничего не
8 Tilly С. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russell
Sage Foundation, 1984; La storia comparata. Approcci e prospettive / A cure di P.Rossi.
Milano: Il Saggiatore, 1990.
14
знает и об этой единственной вещи». Я имею в виду сравнение
систематическое, широкомасштабное, которое можно проводить
в разумных пределах, но которое имеет тенденцию сбиваться на
пустые упражнения, своего рода историко-социологическую так-
сономию, в результате чего вы начинаете заниматься исключи-
тельно внешней стороной исторических явлений, при всем своем
сходстве сохраняющих, тем не менее, внутреннее своеобразие и
Оригинальность.
Эта ограниченность сравнительного анализа, являющаяся, по-
моему, одной из причин, почему, несмотря на множество дискус-
сий, сравнительная история мало продвинулась вперед и к «на-
стоящему» сравнению прибегают не слишком часто, становится
особенно заметна при сопоставлении нацизма и сталинизма.
Стремясь преодолеть ее, Йен Кершо и Моше Левин предложили
вместо составления сводных таблиц общих черт и различий иссле-
довать «общий фон»9. Направление выбрано верно, но нужно дви-
гаться дальше, правда, усвоив сначала, что признание существова-
ния сравнимых феноменов (пусть даже, как может оказаться,
основанное на ошибочных предпосылках) есть непременное усло-
вие любого последующего шага.
Конечной целью должно бы стать некое генетико-проблемати-
ческое сравнение, помогающее увидеть как единую картину опре-
деленный исторический период, отмеченный явлениями вполне
своеобразными, которые, однако, сближают и связывают друг с
другом возникающие между ними отношения, а также поиск отве-
тов на общие вопросы, сходство основополагающих событий: в
нашем случае, например, это демографический бум, модерниза-
ция, государственное строительство в условиях экономической
отсталости и резкой лингвистической или религиозной неодно-
родности, первая мировая война10.
В попытке приблизиться к этой цели мой очерк делится на три
части. Первая, озаглавленная «Что требуется объяснить и как это
сделать?», начинается с обзора интерпретаций, предлагавшихся до
настоящего времени с целью дать представление о поразительных
9 Stalinism and Nazism.
10 Такой тип сравнительного анализа близок к тому, который Марк Блок назы-
вал «наиболее плодотворным в научном плане» в своей работе «К сравнительной
истории европейских обществ» (1928). См.: Bloch М. Melanges historiques. Vol. I.
Paris: Editions de 1’Ehess, 1963. P. 16-40.
15
режимах, появившихся в первую фазу великой европейской вой-
ны-революции и сразу после нее. За указанным обзором, где, кро-
ме всего прочего, вводятся в оборот некоторые категории, к кото-
рым я потом буду неоднократно прибегать, следует глава,
посвященная вопросу о пользе и теоретической продуктивности
понятия тоталитаризма на фоне той картины советской истории,
которую можно нарисовать сегодня (в том числе в свете новых ар-
хивных свидетельств). Отрицательный вердикт заставляет вновь
поднять тему происхождения, развития и природы соответствую-
щих режимов, и в следующих разделах книги я пытаюсь дать отве-
ты на эти вопросы.
Историческому фону войны-революции посвящена вторая
часть. В двух составляющих ее главах я больше, чем где-либо
еще, обращаюсь к своим предыдущим работам. В них идет речь
соответственно о великих политических, демографических и со-
циально-экономических переменах, имевших место в XIX в., и
об их последствиях для ситуации, которая сложилась в Восточ-
ной Европе, представлявшей собой пеструю мозаику из множе-
ства различных народов и вероисповеданий, существовавших
бок о бок на одной территории (сюда включаются также импе-
рии и государства, господствовавшие над ней или хотя бы тяго-
тевшие к этому). Я стремился избегать всякого финализма и
смотреть на девятнадцатый век просто как на прелюдию к два-
дцатому, но сама роль, какую эта часть играет во всей книге
(реконструкция «фона»), способствует некоторому финалист-
скому уклону. Дело усугубляется еще и тем, что в ней идет речь
лишь о тех элементах, которые необходимы для построения
«механизма», поддерживающего мою интерпретацию. Поэтому
читатель должен воспринимать данные главы cum grano salis" и
видеть в них только то, что есть: наброски, в нескольких штри-
хах, некоторых проблем, имеющих существенное значение для
понимания новейшей, как мы ее до сих пор называем, истории,
сделанные с сознанием того, что это реконструкция задним
числом, на которую накладывается наше знание последующих
событий, уравновешивающимся, как я надеюсь, убежденно-
стью, что человеческая история есть история открытая и сво-
бодная, состоящая — что бы кто ни говорил — из «если» и «но».
В конце-то концов, я воспользовался (надеюсь, не злоупотреб- *
11 С долей скепсиса (лат.). — Прим. пер.
16
ляя им) тем «задним умом», который является одной из великих
привилегий моего ремесла.
Наконец, в третьей части я попытался рассмотреть как единое
целое великую войну-революцию, начало которой, как мы те-
перь знаем, лучше всего датировать 1905-м годом, а конец - вто-
рой половиной 1950-х гг. Пятая глава посвящена истокам, харак-
теру и последствиям первого акта этой войны-революции,
кульминация которого пришлась на 1914-1918 гг., но который
начинали и завершали два блока событий, значимых сами по
себе: 1905-й год, турецкая революция, балканские войны, с од-
ной стороны, «гражданская война» в России12, беспорядки в
Центральной Европе, фашизм и греко-турецкий конфликт - с
другой. В шестой главе показаны динамика первых послевоен-
ных лет и скачок начала 1930-х гг., ознаменованного «революци-
ей сверху» в СССР, кризисом 1929 г. и приходом к власти Гитле-
ра в Германии. В седьмой речь идет уже о второй мировой
войне — последнем акте все того же конфликта, многими своими
кардинальными аспектами отличающемся, впрочем, от того, что
ему предшествовало, — а также о ее последствиях для двух час-
тей, на которые разделилась тогда Европа.
Заключение, суммирующее основные моменты интерпрета-
ции, начинается и заканчивается некоторыми размышлениями
по поводу эволюции тоталитарных, как мы их теперь называем,
режимов в мирное время и, следовательно, вновь по поводу их
природы.
Работа такого типа не может не страдать известной ограни-
ченностью и быть свободна от разного рода проблем. По край-
ней мере некоторые из них я осознал сразу. Среди них те, что
я уже упоминал в связи со второй частью книги, причем в
третьей главе дело усугубляет тот факт, что я по образова-
12 Кавычки здесь необходимы, ибо термин «гражданская война в России», даже
если мы будем продолжать пользоваться им ради удобства, с научной точки зре-
ния по меньшей мере неточен. Разумеется, гражданская война в России была.
Проблему представляет использование этого выражения для обозначения всего
комплекса конфликтов, вспыхнувших на территории бывшей Российской импе-
рии. Впрочем, даже исход «настоящей» русской гражданской войны трудно по-
нять, не учитывая ее нерусских и негражданских факторов — т.е. национальных,
этнических, религиозных, а также связанных с проблемой сохранения, пусть в но-
вых, менее империалистических формах, всего пространства, подвластного преж-
де царю.
17
нию — историк XX века и специалист по Восточной Европе, и
мне труднее ориентироваться в истории земель к западу от
Рейна в XIX в.
То, что прежде всего и главным образом я изучал советский
опыт, несомненно, повело к дальнейшим перекосам, заставляя
меня придавать одним явлениям больше значения, а другим —
меньше, одни вещи видеть лучше, другие — хуже. Надеюсь, одна-
ко, что советская история не сделала меня абсолютно слепым ко
всему остальному и мое невежество не помешало мне внести свою
лепту в осмысление феноменов более широкого значения, чем те,
от анализа которых я отталкивался.
Похожая, но более общая проблема, на которую мне не раз ука-
зывали, крылась в самом первоначальном названии книги. Оно
содержало обещание — рассказать обо всем, что произошло в Ев-
ропе, — которое не могло быть выполнено, ввиду того что и Скан-
динавский, и Иберийский полуострова, невзирая на их роль в ев-
ропейской истории, оставались — и остаются — вне рассмотрения,
да и о Великобритании говорилось мало.
Я не претендую на то, что полностью снял эту проблему, из-
менив название, но в то же время не думаю, что тем самым все-
го лишь замаскировал ее. Хотя выбор затрагиваемых тем несом-
ненно был обусловлен моими знаниями (точнее, пробелами в
них), в центре внимания в моей книге, как сильнее подчеркива-
ет новое заглавие, стоит одно событие - война-революция
1905-1956 гг., определившая судьбы Европы, но не во всех час-
тях континента разразившаяся с одинаковой силой. Несмотря
на гражданскую войну в Испании и тяжелое идеологическое за-
ражение, Иберийский полуостров остался на обочине событий,
то же можно сказать и о Скандинавии, за исключением Фин-
ляндии. Иное дело - Великобритания, которая не только стала
колыбелью модернизации в результате своей промышленной
революции, но и участвовала в обеих мировых войнах, и столк-
нулась в Ирландии с почти таким же национальным вопросом,
как тот, что будоражил Восточную Европу. Но в Великобрита-
нии война, хоть и вызвала или ускорила гигантские перемены,
все же не превратилась в войну-революцию; поэтому я, конеч-
но, мог бы отвести для английского опыта побольше места, од-
нако не думаю, что неупоминание о нем (и то относительное,
ибо хотя бы косвенно он всегда присутствует на этих страницах)
так уж пагубно для моих рассуждений.
18
Вообще мне кажется, что вытеснение из поля зрения ибе-
рийских и скандинавских событий, а также сравнительную ску-
пость в освещении действий Англии и США, невзирая на ре-
шающую роль, сыгранную ими, можно в некотором роде
оправдать их относительной отчужденностью от континенталь-
ного опыта.
Кроме того, должен повторить уже сказанное в начале на-
стоящего Введения: о добротности построенной в данной ра-
боте схемы, возможно, будет свидетельствовать и ее способ-
ность без радикальных изменений в ее архитектуре давать
место для опыта, событий и проблем, которых сегодня я касал-
ся лишь мимоходом и которые не обязательно характерны для
определенных географических регионов. Я имею в виду, на-
пример, роль и эволюцию религиозного чувства и церкви или
отношения между мужчиной и женщиной — я неоднократно
говорю о важности этого вопроса, но по-настоящему ни разу
его не затрагиваю.
Другие проблемы и недочеты были замечены моими читателя-
ми и участниками семинаров, где я представлял отдельные части
книги. Здесь, разумеется, невозможно ответить на все критиче-
ские замечания, многие из которых я, кстати, принял к сведению,
местами внеся изменения в рукопись. Тем не менее я хотел бы
кое-что сказать по крайней мере по двум вопросам.
На первое критическое замечание ответить одновременно и
легко, и сложно. Некоторые мои друзья, оценив по достоинству
усилия, предпринятые мной, дабы осветить различные интерпре-
тативные системы, великие и не очень, сочли, что в реалистиче-
ском плане книга не столь богата и не слишком щедра на приме-
ры, иначе говоря - что ей в основном чужда процедура
эмпирического типа. Поэтому мне советовали отказаться от
очерковой формы и сжатой, логичной, местами безапелляцион-
ной манеры изложения, дать себе больше простора, смилости-
виться над ними и над читателем и представить им побольше до-
казательств и иллюстраций, дать слово главным героям, короче -
написать историческую книгу. Задача благородная, но вовсе не
та, которую ставил себе я. Как я уже говорил, эта книга не исто-
рическая и не должна быть таковой, однако критику нельзя на-
звать необоснованной. Поэтому я попытался, насколько возмож-
но, избегать безапелляционного тона, стремясь оставить место
сомнениям, как собственным, так и читателя (у последнего,
19
полагаю, их не меньше, чем у меня). Кроме того, я добавил при-
мечания, которые сначала не были предусмотрены, разве что в
самом минимальном количестве. Это не такие примечания, ка-
кие должны быть в традиционной монографии, в них я постарал-
ся отметить не только авторов и работы, которые оказали на
меня наибольшее влияние и которые я считаю наиболее богатым
источником для мыслей, развиваемых на этих страницах, но и
некоторые лучшие последние работы на темы, менее привычные
для итальянской культуры; заинтересованный читатель легко
сможет воспользоваться поистине бесконечными библиография-
ми уже в этих работах.
Второй вопрос, как я знаю, мне так и не удалось удовлетвори-
тельно разрешить, сколько я ни бился. Расширение власти госу-
дарства за счет личности и в ущерб ей, спровоцированное первой
мировой войной, многими стало рассматриваться как один из ос-
новных источников последовавшего за этим конфликтом регресса
в жизни Европы, и я по большей части разделяю данное мнение.
Но в самом ли деле речь шла о «государстве» в целом или, скорее,
о разрастании части государства? Разумеется, той части, которая
тождественна первоначальному ядру любого государственного об-
разования - силовой (правда, нельзя забывать, что и нацизм и фа-
шизм создали свое welfare (благосостояние), но и оно в первую
очередь вело к укреплению и наращиванию силы, так же как в
СССР в 1920-е гг. и затем вновь после 1953 г.13). Правомерно ли
сводить государство исключительно к силе? Ответ может быть
только отрицательным, как свидетельствует существование только
что упомянутого «тоталитарного» благосостояния и как напоми-
нают нам размышления Буркхардта о том, что государство, даже
самое жестокое, «обречено» на развитие в нечто, превышающее
силу в чистом виде; в Заключении я воспользовался этой мыслью
как отправной точкой для некоторых соображений по поводу при-
чин и форм эволюции, а затем - распада Советского Союза.
По той же причине во введении к книге Мизеса я говорил об
«административной системе» и рассматривал неоправданное
13 В годы зрелого сталинизма социальное законодательство действительно не
только было коренным образом переработано, но и по большей части не выпол-
нялось. См. мою работу «Эволюция “социальных прав” в СССР, 1917—1956», док-
лад на ежегодном заседании Итальянского общества по изучению новейшей исто-
рии (Sissco), Падуя, 1999, готовящуюся к публикации в сборнике Общества, по-
священном работе заседания.
20
расширение сферы администрирования, всегда, хотя бы в скры-
том виде, основанное на власти, а значит - на силе, как наибо-
лее очевидное последствие первой мировой войны (правда, се-
годня я бы добавил, что такое расширение, пусть в различных
масштабах и формах, являлось неотъемлемой чертой попыток
строительства и реконструкции государства, начатых еще до
1914 г.). Но по сути своей эта административная система явля-
лась государством, для которого администрирование — основ-
ной способ функционирования (прототипом его служит армия).
В конце концов я перестал проводить разграничение, но так и
не решил породившую его проблему, к которой не раз буду воз-
вращаться на этих страницах, например, когда речь зайдет об
отношениях между явлениями, практически всегда связанными
с расширением власти государства, такими, как рузвельтовский
«Новый курс» или другие, даже более передовые, типы социаль-
ного государства, и группой режимов, появившихся в Европе
после первой мировой войны. Я предлагаю кое-какие гипотезы,
требующие признания их отчасти общих корней и общих меха-
низмов экономического функционирования, но при этом — раз-
личения механизмов экспансии, частей, подвергающихся ги-
пертрофии, характера и динамики эволюции, которые мне
представляются убедительными. Тем не менее до полного реше-
ния проблемы еще далеко.
Закончить это Введение я хотел бы тремя замечаниями, и пер-
вое из них касается представления об истории и историческом ис-
следовании, легшего в основу настоящей книги. Хотя я уверен,
что само написанное достаточно ясно свидетельствует о моих
предпочтениях, однако перед лицом радикального релятивизма,
который сегодня, кажется, к счастью, переживает спад, но кото-
рый нанес столько вреда в последние годы, мне доставляет удо-
вольствие лишний раз засвидетельствовать свою верность модер-
низированной в разумных пределах (иначе говоря, релятивизиро-
ванной в разумных пределах) версии ранкианского идеала и
подтвердить необходимость для любого историка, желающего
быть таковым, стремления реконструировать, насколько это в че-
ловеческих силах, прошлое таким, каким оно действительно было.
Мне кажется, между прочим, что борьба за достижение этой столь
расплывчатой цели уже в силу связанных с ней огромных трудно-
стей больше воодушевляет и интеллектуально стимулирует, чем
комфорт и легкость абсолютного релятивизма, этой ночи, в кото-
27
рой если не все кошки, то все историки и все истории серы14.
А.Момильяно указывал, что вышеназванную борьбу можно вести
двумя способами: либо открывая новые факты, либо компонуя из
уже известных новые формы, иными словами — на базе либо но-
вых, либо известных идей и фактов. Следовательно, историков и
их труды можно оценивать по двум различным критериям15. К
этой книге приложим в основном второй из них, хотя в той ее час-
ти, которая посвящена СССР, сыграли свою роль и факты первого
типа.
Последние два замечания касаются вопросов, возникших в
ходе написания книги: я видел и вижу, что они имеют важное зна-
чение, но освещать их подробно не в состоянии. Первый из них -
о последствиях войны-революции, которой посвящена львиная
доля данной работы. Мне кажется, что как Тридцатилетняя война
и вооруженные конфликты между государствами и конфессиями в
XVII в., лишив былой роли папский престол и решительно развеяв
иллюзию единства respublica Christiana, уже подорванного религи-
озными войнами предшествующего столетия, открыли дорогу
формированию культурного и интеллектуального понятия Евро-
пы, бывшего тогда, правда, достоянием одних лишь «благород-
ных», так и наша война-революция, дискредитировавшая, хотя бы
на время, национализм и культ государства, расчистила в восточ-
ной части континента площадку для попытки построения Европы
политической, коей мы сейчас являемся свидетелями16. Таким об-
разом, ища удовлеторительное объяснение возникновению фено-
менов, которые мы рассматриваем, и тому факту, что именно они
определяют некоторые из генеральных линий развития самой не-
давней нашей истории, мы не можем не исследовать предысторию
разворачивающегося ныне строительства Европы, то есть — как я
уже упоминал — энную по счету, и весьма своеобразную, попытку
государственного строительства.
14 Graziosi A. The new Soviet archival sources. Hypotheses for a critical assessment //
Assesing the New Soviet Archival Sources. P. 19—21.
15 См., напр., его прекрасные работы: Momigliano A. Sui fondamenti della storia
antica. Torino: Einaudi, 1984; Idem. Tra storia e storicismo. Pisa: Nistri-Lischi, 1985.
16 Крупные специалисты no европейской истории, от Февра (L’Europe. Genese
d’une civilisation. Paris: Perrin, 1999) и Шабо (Storia dell’idea d’Europa. Bari: Laterza,
1961) до уже упоминавшегося Нормана Дэвиса, практически единогласно, хоть и
с различными нюансами, считают реакцию на войны XVII в. источником совре-
менной идеи Европы.
22
Выбор термина «предыстория» не случаен: я пишу эти строки,
будучи убежден, что десять-двадцать лет, последовавшие за собы-
тиями 1956 г., которыми завершается данный очерк, составляют,
по крайней мере для нашего континента, некий исторический во-
дораздел. В известном смысле можно сказать, что в этот период
заканчивается история, которую мы по инерции продолжаем назы-
вать «новейшей», чей ход определялся великими катаклизмами и
великими столкновениями, рассматриваемыми в данной книге; с
которой связаны многие до сих пор использующиеся интерпрета-
тивные, исторические, культурные и политические категории (от-
сюда медленная, но верная утрата ими смысла, кроме как в самом
общем, морально-дидактическом плане).
Разумеется, не все ушло безвозвратно — в истории человечества
постоянства больше даже, чем преемственности, не говоря уже о
разрывах, — но многие великие проблемы, одушевлявшие и объе-
динявшие, по крайней мере в Европе, историю двух столетий, с
середины XVIII до середины XX в., исчерпали себя как устаревшие
либо частично разрешенные.
Повторюсь: конечно, существенное исключение представляют
собой великие интеллектуальные и особенно нравственные во-
просы, поставленные в Европе XX веком, которые, как всегда
бывает с подобными вопросами, обрели независимость от поро-
дивших их конкретных исторических условий и потому до сих
пор живы и таковыми останутся. Но достаточно одного взгляда
на демографическую эволюцию и нынешнее состояние населе-
ния нашего континента, чтобы понять, какая четкая трещина
пролегла между двумя эпохами и насколько сегодняшние про-
блемы отличаются от ситуации, имевшей место всего пару деся-
тилетий назад17.
Разговор легко можно было бы продолжить, обратившись к
темам образа жизни и отношений между полами, эволюции
структуры семьи, менталитета и чувств, а также условий и типа
труда и т.д. Иными словами, как мне кажется, в период между
кризисом 1956 г. и финансовым, нефтяным, промышленным
кризисами начала 1970-х гг. Европа - поначалу почти не отдавая
себе в том отчета и зачастую по-прежнему мысля категориями,
17 Очень полезные книги: Histoire des populations de I’Europe / Sous la dir. de
J.-P.Bardet, J.Dupaquier. Paris: Fayard, 1998-1999. Vol. Il: La revolution dgmogra-
phique, 1750—1914; Vol. Ill: Les temps incertains, 1914—1998.
23
полученными из тяжелейшего предыдущего опыта (типичным в
этом плане мне представляется все, происходившее в конце
1960-х гг.), - вступила в эпоху, для которой определяющим стал
комплекс вопросов, по большей части новых. Так началась новая
новейшая история, новейшая даже в буквальном смысле слова,
оставившая позади ту историю, о которой я вел речь в этой кни-
ге, и ждущая историков, которые разобрались бы со свойствен-
ными именно ей проблемами.
Часть первая
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОБЪЯСНИТЬ И КАК
ЭТО СДЕЛАТЬ?
Глава первая
ПЕРВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Среди перемен, произведенных войной 1914—1918 гг.
во всех участвовавших в ней странах, в первую очередь проявили
себя перемены экономические. Они и легли в основу первых по-
пыток объяснить происходящее, по всей видимости, имевшее под
собой общую почву. Буквально на другой день после начала кон-
фликта Вальтер Ратенау, например, принимавший участие в орга-
низации германской обороны, отметил установленную войной
связь между государством и преобразованием экономики, выра-
жавшуюся в усилении контроля первого над второй, и восхищался
результатами:
«Мы живем... в период беспрецедентной экспансии. Никогда
ранее эксплуатация имеющейся рабочей силы, количество про-
изведенной продукции и ее оплата, строительство промышлен-
ных предприятий, размеры инвестиций, сделанных под весьма
скромный процент, и денежные сверхприбыли не были так вели-
ки... Все это процветание, все эти прибыли имеют один источ-
ник - Государство, которое все покупает, за все платит, все воз-
мещает»1.
Так пришло осознание огромной мощи, которую дает мо-
билизация экономики государством — правда, на короткий пе-
риод, ибо с течением времени положение вещей меняется, и
былая мощь превращается в свою противоположность1 2. Вско-
ре в Германии появилось Kriegsamt (военное ведомство) гене-
рала Грёнера, а затем родилась программа Гинденбурга —
1 Rathenau W. Die neue Wirtschaft. Berlin: Fischer, 1918.
2 Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo // Mises L. von. State, nazione ed eco-
homia. Torino: Bollati Boringhieri, 1994. P. LXXXII—LXXXIX; см. также ниже, гл. 6.
27
«грандиозный... план развития военной промышленности, в
равной мере посягавший на права и привилегии рабочих и
предпринимателей». В Австрии министр торговли Ридль даже
потребовал в своем «Меморандуме» 1917 г. создать на пере-
ходный период «плановую экономику и контролировать кон-
куренцию и колебания цен, характерные для капиталистиче-
ских обществ»3.
Наиболее радикальную интерпретацию преобразований, про-
изведенных в экономике войной, и новых полномочий, взятых
на себя государством, дал, пожалуй, Отто Нойрат, сформулиро-
вавший - на основе проведенных им исследований экономики
древнего мира - концепцию «военной экономики», справедли-
вую, по его мнению, для любого конфликта и любой страны.
Суть ее заключалась в распространении командно-администра-
тивной системы на весь социально-экономический аппарат при
неуклонном уменьшении роли денег и, следовательно, в возврате
к натуральному хозяйству, находящемуся под централизованным
управлением со стороны государства, причем все это оценивалось
положительно. Подобная модель по целому ряду пунктов совпа-
дала с некоторыми из распространенных в то время представле-
ний о будущем социалистическом обществе, где не будет ни
рынка, ни денег, но в то же время имела много общего с теми
экономиками прошлого, которые Вебер объединил в категорию
oikos.
Такие идеи и определяемая ими политика сразу же вызвали
резкую критику: Людвиг фон Мизес, например, нападая на кон-
цепцию Нойрата, подчеркивал, что в мире, объединенном торго-
выми связями, единственным условием для создания «военной
экономики» может быть автаркия. Все, пропагандируемое Нойра-
том и отчасти реализованное в годы войны, добавлял он, это, ско-
рее, признак отката к более примитивным, насильственным фор-
мам организации общества и экономики, что и подтверждалось
натурализацией последней (по Нойрату, который, наоборот, счи-
тал натурализацию явлением прогрессивным, любая полностью
централизованная экономика носит в конечном счете натураль-
3 Meyer Н.С. Mitteleuropa in German Thought and Action, 1815-1945. Haag: Mar-
tinus Nijhoff, 1955. P. 213, 243; Riedl R. Denkschrift fiber die Aufgaben der Ubergangs-
wirtschaft. Wien, 1917.
28
ный характер, и «социализация — не что иное, как следствие нату-
рального хозяйства»)4.
Мизес обратился к Спенсеровой концепции войны как при-
чины регресса человека в своей эволюции и возвращения к
«военным» формам организации государства и общества. Со-
гласно Спенсеру, представления которого о прогрессе отнюдь
не были ни упрощенными, ни банальными, «общая тенденция
культурного развития ведет к постепенному утверждению ин-
дустриального типа и окончательному вытеснению им военно-
го типа», однако «в ходе развития» могут случаться «периоды
сильного и продолжительного регресса». «В конечном счете, —
добавляет он, — все зависит от того, будет ли на земле меньше
войн».
Выбор слов показывает, что Спенсер взял на вооружение кате-
гории и терминологию Сен-Симона и сенсимонистов вроде Тьер-
ри, дав им, однако, новую жизнь. Тьерри, например, отождествив
либеральный режим с индустриальным, пришел к выводу, что Ев-
ропу раздирает конфликт между классом военных феодалов и
классом промышленников, которые представляют две эпохи в ис-
тории человечества.
Нисколько не обесценивая схему Спенсера, а лишь подтвер-
ждая ее, рассматриваемый нами период быстро продемонстриро-
вал ошибочность такой терминологии. В силу того, что развитие
промышленности стало необходимым для сохранения власти, а
главное - в результате вызванного войной регресса, о котором го-
ворил Спенсер, XX век познакомил нас с целым рядом типов «во-
енно-индустриального» государства, блестяще описанного Бурк-
хардтом и ставшего, в различных своих вариантах, предметом
исследования в данной работе5.
Вторя некоторым выводам Вебера, Мизес далее критиковал
и предполагаемые преимущества усиления государственного
контроля в экономике вообще, т.е. независимо от связи этого
4 Neurath О. Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft. Munchen: G.D.W.Call-
wey, 1919; Idem. Antike Wirtschaftsgeschichte. Leipzig: Teubner, 1909. Об экономиках
типа oikos (термин Аристотеля, впервые был применен в отношении некоторых ан-
тичных экономик Родбертусом) см.: Finer S.E. The History of Government. Vol. I: An-
cient Monarchies and Empires. Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 20, 120 ff.
5 Halevy E. La doctrine economique saint-simonienne // Halevy E. L’ere des tyrannies.
Paris: Gallimard, 1938. P. 30-94; Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории.
М.: РОССПЭН, 2004; Graziosi А. АПе radici del XX secolo europeo. P. LXII-LXI11.
29
феномена с войной. Другие наблюдатели, напротив, не преми-
нули отметить его «прогрессистские» аспекты, перечисленные
как таковые уже у Нойрата. Некоторые представители социа-
листической мысли, например, видели в происходивших собы-
тиях подтверждение идей Рудольфа Гильфердинга, одного из
наиболее авторитетных марксистских экономистов начала
века, который, исходя из опыта трестов и картелей в Герма-
нии, трактовал появление форм организованного капитализма
как этап на пути к социалистической экономике. Для них во-
енная экономика и мобилизация ресурсов, доводившие, благо-
даря прямому вмешательству государства, «организованность»
(ранее характерную лишь для отдельных отраслей промышлен-
ности) до максимально возможного уровня, были не чем
иным, как еще одним, решающим шагом к построению социа-
лизма.
В России первым стал размышлять на эту тему Ю.Ларин,
меньшевик, примкнувший к большевикам и сыгравший важ-
ную роль на первом этапе строительства советской экономики.
Ларин считал, что государственный капитализм — новая фаза,
в которую благодаря военной экономике перешел уже органи-
зованный германский капитализм, - способен эволюциониро-
вать в некие формы социалистического планирования. Поэто-
му он уже в ноябре 1917 г. называл одной из задач новой
власти осуществление перехода к полной натурализации хо-
зяйства6.
О влиянии его статей, посвященных германской военной эко-
номике7, которая, по его мнению, была уже очень близка к социа-
листической, свидетельствует знаменитое ленинское заявление
весной 1918 г.:
«...История... пошла так своеобразно, что родила к 1918 году две
разрозненные половинки социализма, друг подле друга... Герма-
ния и Россия воплотили в себе в 1918 году всего нагляднее матери-
альное осуществление экономических, производственных, обще-
ственно-хозяйственных, с одной стороны, и политических усло-
вий социализма, с другой стороны».
6 Salomoni A. Ideologia е congiuntura. Modelli storiografici del «comunismo di
guerra» // Societa e storia. 1995. Vol. 70. P. 869-895.
7 Статьи Ларина, публиковавшиеся в годы войны, вышли затем в сборнике: Ла-
рин Ю. Государственный капитализм военного времени в Германии (1914—1918).
М„ 1927.
30
Как это ни парадоксально, но, глядя на вызванные войной
процессы (в основном регрессивного характера) в сфере про-
мышленности, Ленин в конце концов счел «наиболее передо-
вым» - и соответственно взял за образец - тот самый «прус-
ский путь», который до 1914 г., анализируя отношения в сель-
ском хозяйстве и противопоставляя «юнкера» «фермеру», считал
худшим для России, будучи уверен, что благодаря «демократи-
ческой» революции она должна будет пойти по американскому
пути8.
В те же месяцы, признавая в глубине души сходство процессов,
инициированных войной и революцией, некоторые германские
функционеры высказывали сходные мысли и говорили большевист-
скому экономисту Вронскому, командированному в Германию
после Брестского мира: «Задуманное вами в действительности нам
близко, то, что вы называете коммунизмом, мы называем государ-
ственным контролем»9.
Желая дать определение новой фазе развития экономики в
направлении организованности и социализма, Ларин, а вслед
за ним и Ленин обратились к другой идее, идущей от Гильфер-
динга, — концепции государственного капитализма, призван-
ной подчеркнуть новую роль государства в управлении эконо-
микой, остающейся, однако, все еще «капиталистической».
Интересно отметить, что Ленин пользовался этой категорией
применительно к экономической системе Советской России в
два различных периода — до и после левого поворота весны —
лета 1918 г., в результате которого он как минимум до 1919—
1920 гг. разделял питаемые левыми большевиками иллюзии от-
носительно возможности «скачка» к коммунизму. В 1917 г. и
после того, как он преодолел хмельное головокружение 1918—
1920 гг., Ленин считал построение государственного капита-
лизма единственной возможной задачей такой революции, как
русская, которая не могла стать полностью социалистической,
пока на помощь ей не придет революция на Западе. Иными
словами, использование формулы, подвергавшейся тогда рез-
8 Ленин В.И. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности // ПСС. 5-е изд.
Т. 36. С. 300; Benvenuti F. Le «due vie» di Lenin allo sviluppo della Russia tardo-
imperiale // Il pensiero sociale russo. Modelli stranieri e contesto nazionale / A cura di
A.Masoero, A.Venturi. Milano: F.Angeli, 2000. P. 179—214.
9 Сап E.H. The Bolshevik Revolution, 1917—1923. London: Macmillan, 1950-1953.
P. 506.
31
кой критике среди большевистского руководства, тесно связа-
но с сомнениями, которые сам Ленин питал относительно ха-
рактера (действительно ли речь идет о «социалистической»
революции?) и результатов совершенного им «чуда» (марксист-
ская догма до тех пор считала приход к власти в отсталой стра-
не невозможным, поэтому сторонникам Ленина он представ-
лялся настоящим чудом)10.
Можно добавить, что обращение к данной категории свиде-
тельствовало о непонимании сущности капитализма как марксис-
тами, так и учеными вроде Зомбарта и в первую очередь предста-
вителями сенсимонистской традиции: рынок и рыночные
отношения — квинтэссенция и движущая сила все новых и новых
форм, которые принимает эта система, — подменялись формаль-
ными отношениями собственности, а главное — такими признака-
ми, как наличие крупной промышленности и наемной рабочей
силы. Конечно, последние получили распространение благодаря
рыночному капитализму, однако они способны уживаться - за-
частую весьма благополучно — с самыми разными экономически-
ми системами, что и доказывали неоднократно с самого момента
своего появления на свет, нередко вызванного — как в случае с ве-
нецианским Арсеналом или французскими мануфактурами — го-
сударственной необходимостью.
Признавая сходство происходящего в России с тем, что про-
изошло в центральноевропейских империях, а также, хотя и не в
таких развитых формах, в странах Антанты, но при этом отождеств-
ляя капитализм с рынком, Мизес вывернул наизнанку ленинскую
формулировку и подспудно разрешил сомнения относительно при-
роды революции, создав категорию военного социализма. По его
мнению, происходившие события в общем и целом действитель-
но знаменовали собой движение к социализму, основными чер-
тами которого являлись национализация, натурализация и рас-
10 Наиболее интересным анализом эволюции образа мыслей Ленина и других
большевистских лидеров после 1920 г. до сих пор остается: Валентинов (Воль-
ский) Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина.
Stanford; Hoover Institution Press, 1971. О том, что применительно к первой фазе
нэпа, когда тресты получили относительную свободу действовать на рынке и уста-
навливать цены, как правило, использовался термин «государственный капита-
лизм», свидетельствовал между прочим Л.Н.Юровский, крупный экономист, впо-
следствии уничтоженный Сталиным (Jurovskij L.N. Cunency Problems and Policy of
the Soviet Union. London: L.Parsons, 1925).
32
пространение государственного контроля в сферу экономики
(Мизес говорил об огосударствлении как единственно возмож-
ной социализации).
Для Мизеса, однако, речь шла не о прогрессе, а об одном из
проявлений (может быть, главном проявлении) уже упоминавше-
гося возврата к менее свободным и потому менее развитым фор-
мам экономической и социальной организации. Вновь замаячила
тень спенсеровской интерпретации, объявлявшей войны возмож-
ным фактором регресса.
Категория «военный социализм», несомненно, позволяла уяс-
нить часть происходившего и поставить вопрос о том, как много
общего в функционировании огосударствленных экономик, хотя
сама идеологическая нагрузка термина ослабляла его. Но социа-
лизм слишком для многих людей и слишком долго был и оставал-
ся выражением идеалов, имеющих мало отношения к государст-
венной бюрократической системе, так что формулировка Мизеса
могла иметь успех".
Интересно отметить, что в России похожий термин «военный
коммунизм» уже начал использоваться вскоре после октября 1917 г.
для обозначения той новой системы, которую строили большеви-
ки. Ввел его в обращение бывший большевистский лидер А.А.Бог-
данов. Еще в 1916 г., анализируя экономику стран — участниц пер-
вой мировой войны, он, в отличие от Ларина и Ленина, не
соглашался с тем, что рожденный войной государственный капи-
тализм с такими характерными признаками, как регулирование и
централизация распределения, принудительное создание трестов
для целых секторов промышленности, возвращение к принуди-
тельному труду и т.п., может служить прообразом социалистиче-
ского будущего. По его мнению, все эти модификации были вы-
званы исключительно вооруженным конфликтом и потому с
наступлением мира должны были исчезнуть, к тому же в плане со-
циально-экономической эволюции они, скорее, представляли со-
бой регресс, а не прогресс. Присоединяясь, таким образом, к
спенсеровской интерпретации, Богданов дополнил собственные
небезынтересные размышления весьма вдумчивой критикой оши-
бочных, как он полагал, исторических оценок германской модели
развития, которую считал куда более отсталой, чем могли вообра-
зить себе ее почитатели, а также менее острой критикой россий- *
11 Graziosi А. АПе radici del XX secolo europeo. P. LXIV.
33
ского военного коммунизма. Он с достаточной проницательно-
стью определяет последний как крайний вариант военной
экономики, однако дальше все сводится к малоубедительному
противопоставлению вызванного войной «возврата» к примитив-
ным формам «потребительского коммунизма» (одной из которых,
по Богданову, была, например, карточная система распределения)
и «производственного коллективизма» - подлинной цели социа-
листического движения12.
Весной 1921 г. термином «военный коммунизм» воспользовал-
ся и Ленин, который придал ему новое значение, называя этими
словами то, что пытались сделать большевики, начиная с левого
уклона в мае - июне 1918 г. и кончая милитаризацией 1920 г.,
пока не оказались вынуждены прибегнуть к новой экономической
политике (нэпу)13. Ленинское определение, быстро получившее
распространение (о фазе военного коммунизма неизменно будет
впоследствии говориться и в советских официальных текстах, и в
западных учебниках), содержало сильный критический и само-
критический оттенок.
Но если Ленин, а затем Бухарин и немногие другие имели в
виду критику радикальную, ставя под сомнение, если не вовсе
отвергая самую суть попыток, предпринятых в 1920 г. (тоталь-
ный контроль государства над производством и распределени-
ем, полная натурализация экономики, милитаризация труда,
принудительные займы и т.д.), видя в них близкое сходство с
практикой других государств, участвовавших в первой мировой
войне, то для большинства большевистской верхушки ошибка
заключалась в методах и темпах, а вовсе не в самом принципе.
Как писал Л.Крицман, военный коммунизм стал «первым вели-
ким экспериментом по созданию пролетарского натурального
хозяйства... В основе своей это вовсе не была ошибка отдельных
личностей... Это было, пусть не в чистом виде, с известными
нам искажениями, предвосхищение будущего». Иными словами,
военный коммунизм в целом - героическая авантюра, не удав-
шаяся вследствие недостаточной подготовленности, ошибок,
исключительных обстоятельств; вместо того чтобы осуждать, ею
12 Богданов А.А. Военный коммунизм и государственный капитализм // Вопро-
сы социализма. М., 1918. С. 75-90; Salomon! A. «War Communism»: A Reassessment //
Russia in the Age of Wars, 1914—1945 / Ed. by S.Pons, A.Romano. Milano: Feltrinelli,
2000. P. 53-68.
13 Ленин В.И. О продовольственном налоге // ПСС. Т. 43. С. 205-245.
34
следует гордиться; ее опытом можно будет руководствоваться в
случае большого скачка вперед в будущем, совершить который
пока не позволяют условия14.
И сторонники нэпа, и те, кто с тоской вздыхал по военному
коммунизму, одинаково не желали признавать обнаружившиеся
жесткие границы, которые ставила сама чисто государственная
экономическая система, в корне подрывая любые долгосрочные
перспективы развития, и с которыми только Троцкий и его окру-
жение некоторое время находили нужным считаться. Это откры-
тие, уже в 1920-1921 гг. обнародованное в ряде лекций, прочи-
танных в Петрограде Борисом Бруцкусом, который сделал его на
основе искуснейшего анализа опыта военного коммунизма, в те
же самые месяцы совершенно независимо и в более общей фор-
ме было сделано Людвигом фон Мизесом, чьи идеи, оказавшиеся
пророческими, как мы увидим далее, и в национальном вопросе,
заняли поэтому особое место среди попыток интерпретации ис-
тории XX столетия. К сожалению, Мизес, опираясь на выводы, в
принципе верные, не потерявшие своего значения со временем,
которые, по-видимому, останутся справедливыми и в будущем,
пришел к ошибочным предположениям относительно жизнеспо-
собности социалистических систем. Он считал, что последние не
смогут просуществовать сколько-нибудь долго, а так как эта ги-
потеза, в свете кризиса 1929 г. и того огромного впечатления, ко-
торое произвели на иностранцев пятилетние планы, а затем по-
беда СССР в 1945 г., с большим треском провалилась, то
оказалось скомпрометировано и вполне рациональное ядро его
рассуждений15.
Таким образом, очень скоро появились по сути сходные, хотя
порой и противоположные по знаку, интерпретации того нового,
14 Крицман Л. Героический период в великой русской революции. М., 1924. О
том, насколько сильны были эти идеи среди большевистской верхушки до конца
1920-х гг., см. также: Graziosi A. At the Roots of Soviet Relations and Practices. Pjata-
kov’s Donbass in 1921 // Graziosi A. A New, Peculiar State. Explorations in Soviet
History, 1917—1937. Westport, Conn.: Praeger, 2000. P. 119—178.
15 Бруцкус Б.Д. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу
русского опыта. Berlin: Tritemis, 1923; Brutskus В. Economic Planning in Soviet Rus-
sia // Collectivist Economic Planning. Critical Studies on the Possibilities of Socialism /
Ed. by F.A. von Hayek. London: Routledge, 1935; Рогалина Н.Л. Борис Бруцкус. M.:
Московские учебники, 1998; Mises L. von. Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen
Gemeinwesen // Collectivist Economic Planning. P. 85—124. Хайек отметил вклад,
внесенный Вебером в исследование проблем, поднятых Бруцкусом и Мизесом.
35
что происходило в социально-экономической сфере. В результате
было признано, что эти новшества принесла с собой война и пото-
му анализировать их необходимо отчасти в общем контексте. Без-
условно, тут же обнаружились и характерные для каждой отдель-
ной страны особенности новых тенденций, обусловленные разли-
чием исторического наследия и действующих на текущий момент
факторов. Так, например, большая роль идеологии (и, добавим,
вспышки новой квазирелигиозной веры) в экстремизации на тер-
ритории бывшей Российской империи определенных экономиче-
ских феноменов, проявившихся во всех странах — участницах пер-
вой мировой войны, сразу стала ясна некоторым марксистским
историкам и экономистам, отмечавшим, что новая политическая
власть форсировала стихийно возникшее во время войны движе-
ние к натурализации хозяйства, доведя его до «логических и край-
них последствий»16.
Однако, как мы увидим далее, усиливающее влияние идеоло-
гии привело не просто к экстремизации в России характеристик,
присущих военной экономике и в других европейских странах.
Благодаря действию иных факторов на свет родилась система но-
вого и совершенно отличного, поскольку крайнего, чистого типа
(вспомним, к примеру, о возможности массовых репрессий про-
тив рынка и частной инициативы), после краткой интерлюдии
нэпа появившаяся в новом обличье в результате сталинской «ре-
волюции сверху».
В политической сфере, где преобразования на пару лет отстали
от экономических и также приняли весьма своеобразные (по
крайней мере внешне) формы, потребовалось больше времени для
выработки перекрестных категорий, которые могли бы помочь в
попытке уяснить происходившее в различных странах17.
Поначалу, пока общая неосведомленность о том, что делается
в османской Турции, мешала увидеть великие перемены, назре-
вавшие там, особенно после того, как поражения в балканских
войнах озлобили зачинщиков июльской революции 1908 г., евро-
пейские интеллектуалы сосредоточили свое внимание почти ис-
ключительно на России. Естественно, первые интерпретативные
16 См., напр., позиции Покровского и Кузовкова (Salomoni A. «War Commu-
nism»).
17 С этой точки зрения, яркое исключение представляет Мизес, уже в 1919 г. по-
пробовавший свести воедино, пусть предположительно, гипотетически, государ-
ство и экономику, идеологию и национализм.
36
гипотезы принадлежали самим главным действующим лицам
разворачивавшихся событий. Мы уже упоминали о сомнениях
Ленина относительно природы октябрьского переворота и воз-
можностей дальнейшего развития; известно, что, умирая, он
спрашивал себя, куда мчится поезд, для приведения которого в
движение он столько сделал и который теперь перестал слушать-
ся машиниста.
Троцкий, благодаря своим отношениям с творцом большинст-
ва используемых им в дальнейшем категорий — Израилем Гель-
фандом (Парвусом)18, казалось, был лучше теоретически вооружен
для ответа на вопрос о природе и путях развития нового строя.
Теория смешанного развития, т.е. идея о том, что в одной и той же
стране могут уживаться фрагменты политических систем, соци-
альных слоев и социально-экономических укладов, принадлежа-
щих разным историческим эпохам, открывала возможность ис-
пользовать некоторые из этих фрагментов, например островки
модернизации, и противоречия между ними, например между го-
родом и деревней, для совершения революции в странах, дотоле
считавшихся слишком отсталыми.
В то же время концепция перманентной революции, отрицав-
шая единичность революционного акта и превращавшая револю-
цию в долгий и сложный процесс, по всей видимости, могла по-
мочь охарактеризовать происшедшее в октябре 1917 г. - не как
отдельную социалистическую революцию, а как один из этапов
(пусть и решающий) гораздо более широкого и длительного рево-
люционного процесса — и создавала базу для управления его даль-
нейшим развитием. (Отметим, что в этом случае также стало воз-
можно включить в революционный процесс национально-
освободительную борьбу как еще один «этап» антикапиталистиче-
ской революции: если подумать, какое важное значение имела эта
борьба и движения, которые ее вели, для укрепления позиций
СССР и престижа коммунистического движения после 1945 г.,
следует признать, что все коммунистическое движение XX в. в
долгу у Троцкого или, точнее, у Парвуса.)
18 Zeman Z.A.B., Scharlau W.B. The Merchant of Revolution. The Life of A.I.Hel-
phand (Parvus), 1867-1924. London: Oxford University Press, 1965; Zveteremich P. Il
grande Parvus. Milano: Garzanti, 1988; Dumont P. 1919-1924. Mustafa Kemal invente
la Turquie modeme. Bruxelles: Complexe, 1989. P. 5 ss.; Idem. Un economiste social-
democrate au service de la Jeune Turquie // Memorial Omer Lufti Barkan. Paris: Mai-
sonneuve, 1989. P. 75-86.
37
Как мы увидим, однако, утверждения Троцкого со временем
превратились в драматические вопросы, формулировка которых,
так же как и поиски ответов на них, привели его в ряды первой
оппозиции, а затем в изгнание.
Если исключить верующих последователей новой коммуни-
стической «религии», естественно, склонных превозносить все-
мирно-историческое значение Октября как предвестника неми-
нуемой победы социализма на всей земле, и, напротив,
некоторых наиболее ярых антикоммунистов, первым, кто отме-
тил, что большевизм — не уникальное, специфически русское
явление, «чуждое историческим и социальным условиям Запад-
ной Европы», как твердили многие19, был Юлий Мартов, неко-
гда друг Ленина, а затем видный меньшевистский лидер. Не
отрицая «национальных черт русского большевизма», он в сво-
ей работе «Мировой большевизм» (1919), как явствует из само-
го заглавия, рассматривал русскую революцию как местное
проявление сил, действующих в более широких масштабах, и
прежде всего как результат первой мировой войны. Поскольку
последствия войны были аналогичны во всех втянутых в нее
странах, то, по Мартову, и большевизм, зародившийся в Рос-
сийской империи, вполне мог распространиться за ее пределы.
Среди этих последствий он отмечал «роль, которую приобрела
армия в общественной жизни», преобладание «потребительско-
го» взгляда на экономику, особенно (но не исключительно)
распространенного среди солдат, предпочитающих награбить и
поделить существующие богатства, вместо того чтобы произво-
дить новые (в этом пункте очевидна связь с «военным комму-
низмом» в понимании Богданова), и общий (в том числе пси-
хический) регресс масс, в первую очередь солдатских, но и
рабочих тоже, — регресс, в известном смысле сокративший
19 Убеждение, что большевизм - исключительно «русский» феномен, разделяли
европейские социал-демократы и либералы, многие из которых поначалу твердо
верили, что речь идет о скоропреходящем безумии, великие религиозные мысли-
тели, как, напр., Н.Бердяев (вспомним прекрасную работу «Истоки и смысл рус-
ского коммунизма», 1-е изд.: New York: С.Scribner’s Sons, 1937), и националисти-
ческие политики, напр., Н.Устрялов, уже в 1921 г. в одной работе, которую Троц-
кий считал важным сигналом о возможном перерождении советского строя, ус-
мотревший в нем инструмент для достижения национального и имперского вели-
чия (об Устрялове см.: Hardeman Н. Coming to Term with the Soviet Regime. Dekalb:
Northern Illinois University Press, 1994).
38
дистанцию между отсталыми и передовыми странами, низведя
всех на более примитивный уровень20.
В последующие годы, после того как Карл Каутский в полеми-
ческом запале, интерпретируя построенную большевиками систе-
му, в 1919 г. прибег к категории «государственный капитализм» (в
работе «Терроризм и коммунизм»), другие русские социал-демо-
краты, говоря о новом строе, стали употреблять, пока еще поверх-
ностно, понятия, которые ждала в будущем великая судьба. Так,
например, Аксельрод уже в 1921 г. начал говорить о большевист-
ском самодержавии, а затем, придавая новое звучание марксист-
ской полемической категории, — об «азиатском деспотизме»21. Он
постоянно сравнивал большевистские методы с методами наибо-
лее агрессивных банд реакционеров, некоторым образом предвос-
хищая проведенную впоследствии Марселем Моссом и Эли Алеви
параллель между большевизмом и фашизмом, к которой мы еще
вернемся. В 1927 г. и Потресов заговорил о большевистском дес-
потизме, поясняя, что речь идет о «стабильной и прочной форме
государства, рассчитанной на неопределенный срок... для которой
характерно насилие не только над населением, но и над самой
экономикой страны»22.
Однако наиболее глубокий анализ политических и экономиче-
ских перемен, разворачивавшихся на территории бывшей Россий-
ской империи под воздействием военно-революционной идеоло-
гии и гражданской войны в особом историческом контексте,
созданном царизмом, появился, пожалуй, двумя годами раньше в
Соединенных Штатах и принадлежал другому русскому полит-
эмигранту, великому социологу Питириму Сорокину, некогда яр-
кому представителю революционного социализма и секретарю ка-
бинета Керенского. Согласно Сорокину, открыто обратившемуся
к Спенсеру и, подобно Мизесу, взявшему на вооружение понятие
20 Мартов Ю. Мировой большевизм. Берлин: Искра, 1923. Три основных при-
знака такого психического регресса, по Мартову, — максимализм, преобладание
точки зрения потребителя над точкой зрения производителя, особенно у солдат, и
привычка при решении любых проблем сразу хвататься за оружие.
21 Sofri G. Il modo di produzione asiatico. Storia di una controversia marxista. Torino:
Einaudi, 1969.
22 Потресов A.H. В плену у иллюзии. Paris: Societe nouvelle d’editions franco-
slaves, 1927. См. также блестящее предисловие Витторио Страда к вышеупомяну-
той книге Мартова; Liebich A. From the Other Shore. Russian Social Democracy after
1921. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.
39
«военный социализм», война повсеместно деформировала обще-
ство в целом и человеческую жизнь. Поэтому «военный социа-
лизм» нельзя сводить к одной только экономике. Речь идет, ско-
рее, об общесоциальном (а значит, и политическом) феномене,
порожденном войной, голодом и обнищанием, характерной чер-
той которого является общее усиление тенденции к абсолютизму,
деспотизму и расширению сферы государственного контроля, т.е.
к «деспотизму государства-интервента», сравнительно независи-
мого от идеологии (почему оно и могло появляться, и появлялось,
под эгидой различных идеологий).
В России то, что многим показалось и продолжало казаться
оригинальным политическим и экономическим «эксперимен-
том», было не чем иным, как наиболее крайним примером госу-
дарственного деспотизма, рожденного и вскормленного особенно
обширным Zwangswirtschaft (командно-централизованным хозяй-
ством), гарантировавшим ему жизнь. Как первое, так и второе Со-
рокин считал плодами следовавших друг за другом войны, рево-
люции и гражданской войны, проходивших в России дольше и
интенсивнее по сравнению с аналогичными явлениями в Запад-
ной Европе и потому вызвавших к жизни военно-социалистиче-
ское общество с присущим ему неограниченным вмешательством
государства во все сферы человеческой жизни. Начавшись с эко-
номических отношений, это вмешательство постепенно распро-
странилось на религиозную, юридическую, эстетическую области,
резко сократив простор для самостоятельной индивидуальной и
коллективной деятельности23.
Наконец, русский «военный коммунизм», по словам Сороки-
на, смог достичь исключительного уровня развития не только из-
за длительности и интенсивности конфликта, переросшего в гра-
жданскую войну, и своеобразия большевистской идеологии, но и
благодаря русскому «историческому наследию». «Военный социа-
лизм» для Сорокина фактически означал продолжение традиций
царского самодержавия. Возможно, и в данном случае следуя за
23 Sorokin Р. Hunger as a Factor in Human Affairs. Gainesville: The University Pres-
ses of Florida, 1975; Idem. The Sociology of Revolution. Philadelphia: Lippincott, 1925;
Idem. Leaves from a Russian Diary. Boston: Beacon Press, 1950; Idem. A Long Journey.
The Autobiography of P.A.Sorokin. New Haven, Conn.: College and University Press,
1963. Значение анализа Сорокина, вскользь отмечавшееся в прошлом, но никогда
открыто не признававшееся, было вновь подчеркнуто Антонеллой Саломони
(«War Communism»).
40
Спенсером, Сорокин вместе с такими историками, как Ренан, и
экономистами, как Мизес, разделял идею аналогии между абсо-
лютизмом и культом государства при «старом режиме» и этатист-
ским социализмом, которую великий писатель-сатирик Салты-
ков-Щедрин резюмировал так: в Российской империи первой
половины XIX в. «еще ничего не было достоверно известно ни о
коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивеллято-
рах вообще. Тем не менее, нивелляторство существовало, и при-
том в самых обширных размерах. Были нивелляторы “хождения в
струне”, нивелляторы “бараньего рога”, нивелляторы “ежовых ру-
кавиц” и проч, и проч. Но никто не видел в этом ничего угрожаю-
щего обществу или подрывающего его основы... Сами нивеллято-
ры отнюдь не подозревали, что они — нивелляторы, а называли
себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере ус-
мотрения радеющими о счастии подчиненных и подвластных им
лиц... Такова была простота нравов того времени... когда каждый
эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял
себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего кон-
ца до нижнего»24.
В те же годы возникновение фашизма в Италии, режима Кема-
ля Ататюрка в Турции и множества систем с более или менее ха-
рактерными чертами в новых и старых государствах Восточной
Европы вынуждало все новых и новых мыслителей задуматься о
том, что СССР, может быть, вовсе не исключительный случай.
Кризис 1929 г., упрочение сталинизма, а затем нацизма еще
больше стимулировали поиски решения новой проблемы, кото-
рую представляли собой «возвращение» более или менее чисто ад-
министративных систем в экономику и «откат» к моделям спенсе-
ровского военного государства, вызванные первой мировой
войной и спровоцированными ею кризисами, что повлекло за со-
бой рождение новых более или менее национальных государств,
мощнейшие кризисы и регенерацию старых государственных
формаций, в том числе супранациональных.
24 Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города // Избранные произведения:
В 7 т. Т. 2. М., 1950. С. 363. О связи абсолютизма и культа государства при «старом
режиме» с этатистским социализмом см.: Graziosi A. Alle radici del XX secolo
europeo. P. XCVII - С. Предложенная Сорокиным интерпретация революции и ее
влияния как усилителя тенденции к государственному абсолютизму, характерной
для русской истории, во многом совпадает с токвилевской интерпретацией фран-
цузской революции.
41
Стимулируя поиски ответа, события 1920-х и 1930-х гг. в то же
время весьма их затрудняли, порождая множество сложностей и
противоречий. Как писал Аксельрод уже в 1921 г., «иллюзия, будто
большевистская диктатура представляет собой пролетарское и
коммунистичестое государство», была настолько распространена,
что, «к сожалению», не было никакой надежды «избавить социа-
листические массы на Западе от этого опасного заблуждения», по-
этому большинству западных интеллектуалов трудно было при-
нять гипотезу о том, что советский строй и такие феномены, как
фашизм и кемализм, — явления одного порядка. Дело осложнял и
тот факт, что даже многие интеллектуалы некоммунистических
убеждений в значительной степени прониклись советским мифом.
Например, даже Нитги25, хотя и сопоставлял в 1926—1927 гг. боль-
шевизм и фашизм как плоды европейского кризиса, вызванного
первой мировой войной, однако, анализируя первый из них, пол-
ностью погрузился в область мифологии, описывая его как гран-
диозный «коммунистический опыт»26.
Как бы то ни было, одновременно с упрочением каждого из на-
званных режимов создавались новые интерпретативные катего-
рии, охватывающие разнообразные феномены, категории, кото-
рые часто появлялись непосредственно в ходе политической
борьбы в той или иной стране и к которым затем начинали отно-
сить и другие случаи или группы случаев.
Обратим особое внимание на некоторые из них, призванные
объяснить природу фашизма — первого примера режима нового
типа, вдохновленного идеей национализма, после короткого и до-
вольно неуклюжего опыта младотурок (опередившего свое время,
поскольку и война для Османской империи началась уже в 1911 г.,
а также отличавшегося, наряду с чертами поразительного сходства
с европейскими опытами подобного рода, заметной самобытно-
стью) — и сталинизма, чье глубокое отличие от строя, установлен-
ного в 1917 г. Лениным, несмотря на их бесспорное прямое родст-
во, не без оснований отмечали многие. Рассуждений по поводу
нацизма я коснусь лишь мимоходом, и не только из-за ограничен-
ности моих знаний по данному вопросу. Дело в том, что нацизм
25 Франческо Саверио Нитги (1868-1953) - один из лидеров итальянского ли-
берализма, в 1919-1920 гг. премьер-министр Италии, с приходом к власти фаши-
стов эмигрировал. — Прим. пер.
26 De Felice R. Le interpretazioni del fascismo. Bari: Laterza, 1971. P. 29.
42
часто анализировался сквозь призму концепций, созданных для
фашизма (так родилась категория национал-фашизма, или фа-
шизма tout court27, призванная объединить феномены, на самом
деле очень разные; ее, однако, приняли сами режимы, о которых
идет речь, и их критики, а затем война придала ей дополнитель-
ную силу), или же к нему применялись категории марксистского
анализа, которыми критикам сталинизма по понятным причинам
нелегко было оперировать. Если коммунист мог объяснить приход
к власти нацизма как результат капиталистической стратегии, то
перед лицом советских реалий 1930-х гг. тому же самому комму-
нисту труднее было отыскать в своем теоретическом арсенале под-
ходящие категории28.
Естественно, появление на сцене нацизма породило некоторые
оригинальные мысли, например, Раушнинга — о распаде в резуль-
тате войны старых элит и утверждении новых, примитивных, «вы-
шедших из масс», или Френкеля — о двойном государстве, к кото-
рым мы еще вернемся. Однако новизна фашизма и неожиданные
черты сталинизма, а тем более — попытки объединить эти явления
генерировали более новаторские идеи.
Как известно, начиная с весны 1923 г. и особенно осенью того
же года Джованни Амендола, размышляя о том, какой характер
фашизм придал празднованию годовщины похода на Рим (когда
делались попытки устранить различие между фашистской партией и
государством), стал обвинять режим Муссолини в «тоталитарных»
претензиях. Новое слово понравилось Муссолини и главному
идеологу нового режима Джованни Джентиле, охотно его позаим-
ствовавшим: Муссолини уже в 1925 г. с гордостью говорил о «сви-
репой тоталитарной воле» фашизма, а в 1932 г. «тоталитарная»
природа последнего была увековечена в статье, которую они вдво-
ем написали для «Итальянской энциклопедии»29.
27 Просто (фр.)- — Прим. пер.
28 См., напр.: Gleason A. Totalitarianism. New York: Oxford University Press, 1995, -
а также уже упоминавшийся и в целом тщательный, но несколько разочаровы-
вающий недостаточным вниманием к тенденциям развития обзор Кершо
(Kershaw I. The Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation. Lon-
don: Edward Arnold, 1989).
29 О происхождении термина см.: Petersen J. La nascita del concetto di «Stato tota-
litario» in Italia // Annali dell’Istituto italo-germanico in Trento. 1975. Vol. I. P. 143—
168. Гитлер, наоборот, избегал называть свой режим «тоталитарным», поскольку
считал его непохожим ни на какие другие.
43
В последующие годы Муссолини стал употреблять это понятие и
в отношении нацистской Германии, но не Советского Союза (Ита-
лия и Германия в официальных документах режима стали тогда име-
новаться «тоталитарными государствами», а в документах западных
демократий они часто фигурировали как «авторитарные государст-
ва», иногда вместе с СССР), тогда как противники фашизма продол-
жали использовать его в критическом смысле. Например, дон Стурд-
зо в своем изгнании в 1926 г. назвал тоталитарным «двойное
давление государственной централизации и партийной монополии»,
имеющее целью подчинить всю страну власти фашистского мень-
шинства, и добавил при этом: «Существует теория, что фашизм, или
национал-фашизм, это все, а остальная страна — ничто»30.
Чуть позже, полемизируя со сторонниками Веймарской рес-
публики и, следовательно, опираясь на точку зрения, противопо-
ложную по духу суждениям Стурдзо, Карл Шмитт, размышляя о
прошлом немцев, ввел категории качественно тотального и коли-
чественно тотального государства31. Первое, отчасти нашедшее
свое воплощение в Германии первых лет войны, фашистской Ита-
лии и Советском Союзе, стоит над обществом и может направлять
его куда хочет в своих целях, которые, по сути, заключаются в дос-
тижении власти и могущества (отсюда примат внешней политики
над внутренней). Второе же представляет собой дегенеративный
вариант первого, когда происходит прямо противоположное, и
само общество в некотором смысле становится государством, ста-
вя последнее на службу собственным потребностям. В этом случае
в результате разлагающей деятельности социал-демократии вся
энергия государства уходит на создание социального благосостоя-
ния, что делает его «тотально слабым», лишенным динамического
элемента. Именно это, по мнению Шмитта, и случилось с пре-
зренной Веймарской республикой.
Шмитт явно отдавал предпочтение первому типу, что заставило
его с энтузиазмом приветствовать появление нацизма как предпо-
лагаемого воплощения в жизнь идеи качественно тотального госу-
дарства на немецкой земле, но это не должно помешать нам уви-
деть, что благодаря его схеме, наверное, в первый раз стало
30 Sturzo L. Italy and fascismo. London: Faber, 1926.
31 Schwab G. The Challenge of the Exception: An Introduction to the Political Ideas
of Carl Schmitt between 1921 and 1936. Westport, Conn.: Greenwood, 1989; Gleason A.
Totalitarianism. P. 20—30.
44
возможно выделить экспансию государства, противоположную по
знаку спенсеровской регрессивной модели, порожденной войной,
и, пользуясь одним и тем же понятийным аппаратом, различить два
типа экспансии, имеющие помимо некоторых общих черт ярко вы-
раженные отличия, не менее, а может быть, и более важные. Так
открылась возможность решить новую и весьма серьезную пробле-
му классификации, которую поставило провозглашение Рузвель-
том после (и в результате) кризиса 1929 г. «Нового курса», демонст-
рировавшего, по крайней мере внешне, подозрительное сходство с
новыми европейскими режимами и тем не менее совершенно оче-
видно и весьма существенно от них отличавшегося.
Это отличие хотя и мало что говорило об истоках второго типа
экспансии государственного вмешательства, связанного с демо-
кратизацией государства и распространением его задач на соци-
альную сферу (процессами, в свою очередь, как мы увидим, тесно
переплетающимися с явлением, которое можно назвать «национа-
лизацией» государства «массами»), тем не менее позволяло пре-
одолеть упрощенный подход, заставивший в те годы таких прони-
цательных мыслителей, как Мизес, и политиков, как Гувер,
осуждать «Новый курс», несправедливо усматривая в нем зародыш
будущего «тоталитарного» режима. Но в то же время сопоставле-
ние этих типов расширения роли и функций государства, столь
разных и по своим причинам, и по своим следствиям, не давало
упустить из виду некоторые черты реального сходства, помогая
свести в единую картину общие проблемы, которые в будущем
могли омрачить существование экономических систем, отмечен-
ных сильным влиянием государства32.
32 Я имею в виду известную проблему связи политических курсов, впоследствии
получивших общее название кейнсианских, с военной экономикой, с одной сто-
роны, и экономиками советского типа — с другой. Невзирая на несомненные и
кардинальные различия в интенсивности (хотя можно привести примеры крайней
кейнсианской политики) и целях, расширение государственного вмешательства
даже в столь разных случаях, бесспорно, имело отчасти схожие последствия, прав-
да, в течение недолгого времени. Это, например, инфляция, которая, впрочем,
проявлялась по-разному в зависимости от способов формального контроля над
ценами; кризисы, спровоцированные неравным распределением производитель-
ных сил; низкий в среднем уровень общественного управления предприятиями;
неуклонное снижение производительности, сопровождающееся эксплуатацией
вторичных ресурсов. См.: Graziosi A. Alle radici dello XX secolo europeo. P. LXX1X,
LXXX1I1-LXXX1V, а также ниже, гл. 6, где я говорю о «Новом курсе».
45
Шмитт восхищенно цитировал Юнгера, выведшего из опыта ве-
ликой войны концепцию «Тотальной мобилизации» (1930), описы-
вая модель военно-индустриального общества, состоящего из сол-
дат-рабочих, основанного на принципах организации, механизации
и волонтерства, и сравнивая происходившее в годы первой мировой
войны в центральноевропейских империях с тем, что, как ему каза-
лось, происходило в Советском Союзе в годы первой пятилетки33.
Даже если советская правящая верхушка в 1930 г. разделяла прин-
ципы и взгляды Шмитта и Юнгера, советская действительность на-
чала 1930-х гг. все же глубоко отличалась от того ее образа, который
внедрялся среди западных интеллектуалов, зачастую ослепленных
желанием поверить в существование лучшего мира и потому неспо-
собных «видеть»34. Поэтому новые категории, призванные охаракте-
ризовать «перерождение» советской системы и черты нового режи-
ма, возникающего из нее, связывая этот последний с происходящим
в других европейских странах, а затем и в США при Рузвельте, поя-
вились в среде тех, кто лучше знал советские реалии, — в кругах оп-
позиции нарождающемуся сталинизму, прежде всего троцкистской.
Первым гипотезу о том, что революция, совершенная в не со-
зревшей для этого стране, а затем гражданская война произвели на
свет нечто, в корне отличное от желанного социалистического об-
щества, выдвинул В.М.Смирнов, видный лидер левых коммуни-
стов, возглавивший затем группировку левой оппозиции Сталину.
Кажется, Смирнов первым в начале 1920-х гг. заговорил (а
Преображенский впоследствии всячески популяризировал эту
мысль) о возможности применения Марксовой концепции «пер-
воначального накопления» к СССР, отсталость которого, вкупе с
международной изоляцией, сделала необходимым период чрезвы-
чайного давления государства на общество, дабы спешно, любой
ценой модернизировать его, жестоко выжимая из него необходи-
мые ресурсы, как, согласно Марксу, делал и капитализм на заре
своего существования (отметим, что использование Марксовой
концепции недвусмысленно означало даже возможность рабства).
33 Jiinger Е. Die totale Mobilmachung // Jiinger E. Samtliche Werke. Stuttgart: Klett-
Gotta, 1980. Vol. VII. P. 119-141.
34 И это несмотря на то, что очень скоро появилось много достоверной инфор-
мации о положении в СССР. См., напр.: Graziosi A. La conoscenza della realta
sovietica in Occidente negli anni Trenta: uno sguardo panoramico // Il mito dell’Urss. La
cultura occidentale e 1’Unione sovietica / A cura di M.Flores, F.Gori. Milano:
Feltrinelli, 1990. P. 157-172.
46
Вскоре, однако, исходя также из размышлений Энгельса о
способности государства в определенных исторических ситуаци-
ях приобретать широкую автономию относительно общества и
социальных классов (эта концепция, несмотря на то что была
разработана на базе марксистского анализа наполеоновской вла-
сти, носила новаторский характер, учитывая традиционные для
марксизма недостатки в анализе государства35), Смирнов, наобо-
рот, стал задаваться вопросом, не породила ли в Советском Сою-
зе комбинация войны — преждевременной революции — граж-
данской войны особенно крайний случай такого рода. Иными
словами, большевики, оставшиеся таковыми, имели дело с над-
классовым сверхгосударством, способным — в руках группы ста-
линистов, отождествлявших себя с ним, — привести к чрезвычай-
но неприятным последствиям, которые теория совершенно не в
силах была предсказать36.
К тем же выводам пришел и Артуро Лабриола, уже в 1931 г.,
предвосхищая Карра, к которому мы еще вернемся, назвавший
СССР государством «скорее меркантилистским, чем социалисти-
ческим», хотя и он, несмотря на свое анархо-синдикалистское
прошлое, вскоре пал жертвой мифа о государстве, утверждению
коего так способствовала первая мировая война.
Упрощенные представления, складывающиеся в чарующую
картину всемогущества государства, не омраченную сомнениями
относительно его возможных ужасных последствий, получили ши-
рокое распространение среди западных социалистов, наиболее го-
товых к восприятию всего нового, что нес с собой тот период;
многие из них в конце концов пришли к сотрудничеству с нацис-
тами. Так, например, неосоциализм Марселя Деа в 1931 г. нашел
точку опоры в «новой социалистической концепции государства...
как гигантского органа, доминирующего над классами, всеми
классами», а Де Ман считал государство «социологическим обра-
зованием sui generis... со своей собственной волей»37.
35 Ср. письмо Энгельса К.Шмидту от 2 октября 1890 г., о важном значении ко-
торого для советского контекста см.: Lewin М. The Making of the Soviet System.
New York: Pantheon, 1985. P. 304.
36 Смирнов B.M. К вопросу о наших хозяйственных затруднениях // Trockij
Archives. Т 874. Houghton Library, Harvard University.
37 Labriola A. Au dela du capitalisme et du socialisme. Paris: Respublica, 1931. P. 228;
Cassirer E. The Myth of the State. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1946;
Stemhell Z. Ni droite, ni gauche. Bruxelles: Complexe, 1987. P. 195, 221.
47
В том же 1931 г. В.М.Смирнов уже оказался в сталинском за-
стенке. Вероятно, именно он, судя по воспоминаниям А.Чилиги,
некоторое время спустя убеждал других заключенных, что «ком-
мунизм — это крайний фашизм, а фашизм — умеренный комму-
низм» и что Советский Союз, Италию, Турцию Ататюрка, Герма-
нию и Соединенные Штаты с их «Новым курсом» можно отнести
к одной и той же категории38.
Схожие идеи и параллели, касающиеся также и «Нового кур-
са», вскоре дали жизнь категории «бюрократического коллекти-
визма», разработанной в конце 1930-х гг. Бруно Рицци, стоявшим
наособицу итальянским троцкистом-еретиком, чьи работы сыгра-
ли не последнюю роль в возрождении антикоммунистического
итальянского социализма после второй мировой войны39. Почти
наверняка именно идеи Рицци вдохновили менее яркого и не наде-
ленного таким провидческим даром исследователя Джона Барнхе-
ма, автора «Управленческой революции» (1941), где он утверждал,
что страны, в которых разными путями и с помощью разных идео-
логий захватила власть управленческая бюрократия, постепенно
конвергируют к единой модели. Тем самым Барнхем предвосхитил
(правда, он писал об этом в негативном ключе) столь же баналь-
ные, но оптимистические, навеянные упрощенными моделями
модернизации теории конвергенции, выдвигавшиеся множеством
социологов и политологов в эпоху мирного сосуществования40.
По-видимому, работы Рицци оказали известное влияние и на
ход мыслей Троцкого, в последние годы жизни пришедшего от
прежних своих теорий о сталинизме как «термидоре» большевист-
ской революции к гораздо более пессимистическому взгляду на
последствия «предательства» революции, совершенного Стали-
ным и его приспешниками.
В 1930-е гг., констатируя, что экономическая система страны
пока еще не изменена возвратом к частной собственности, Троц-
38 Ciliga A. Dix ans derriere le rideau de fer. Paris: Pion, 1950. Vol. I. P. 210.
39 Rizzi B. La bureaucratisation du monde. Paris, 1939 (переизд. в Милане изд-вом
Sugar под назв. «II collettivismo burocratico» в 1967, а затем в 1977 г., с предислови-
ем Бетгино Кракси и введением Лучано Пелликани). В конце 1920-х гг. анализ
растущей бюрократизации экономики был в положительном ключе проделан на
основе немецкого опыта Германом Бенте, чью работу в СССР продолжил Буха-
рин. См.: Bente Н., Bucharin N.I. Inefficienza economica organizzata / A cura di
A.Salsano. Torino: Bollati Boringhieri, 1988.
40 Bumham J. The Managerial Revolution. New York: John Day, 1941.
48
кий продолжал верить в возможность возвращения советского об-
щества к приемлемым формам социализма. Однако после боль-
ших процессов и чисток 1936—1938 гг., а также заключения годом
позже пакта Молотова — Риббентропа перспективы такого возвра-
щения должны были казаться и ему, и всем остальным левым все
более отдаленными. В этом контексте гипотезы вроде тех, что вы-
двигал Рицци, очевидно, подсказали ему, что отмена частной соб-
ственности — отнюдь не панацея от всех бед, как уверял марксизм.
Показательно, что и Троцкий незадолго перед тем, как был убит,
говоря о советском опыте, употреблял слово «тоталитаризм».
Гильфердинг, на чьи теории на первых порах опирались органи-
заторы советской экономики, в 1940 г. также признал ограничен-
ность марксистской теории государства, мужественно и самокри-
тично пересмотрел свои взгляды на национализацию, которую
раньше так горячо поддерживал, анализируя ее неожиданные ре-
зультаты. Он поднял проблему определения социальной природы
СССР, заявив, что советский строй невозможно отнести ни к кате-
гории государственного капитализма, ни к категории социализма.
Скорее, речь может идти о «тоталитарной государственной эконо-
мике», системе, к которой, добавлял он, «несмотря на большое раз-
личие отправных точек», конвергируют «экономические системы
тоталитарных государств». В основе ее лежат эмансипация государ-
ства от экономики и подчинение этой последней (и общества, до-
бавим мы) носителям государственной власти. И то и другое — ре-
зультат ситуации, «созданной главным образом войной, которая
превратила государство в самостоятельную силу». Таким образом,
первыми стали применять понятие «тоталитаризм» для характери-
стики сталинского СССР по большей части критики сталинизма
слева, и они становились все радикальнее и радикальнее — уже пе-
ред второй мировой войной, - по мере того как наблюдали, как им
казалось, деградацию системы, которую сами же помогали строить.
Вместе с определением сталинизма как «тоталитарного» режима
крепло убеждение, что эта деградация уже необратима41.
Идя примерно по тому же пути, что и Гильфердинг, чуть рань-
ше - в 1935 г. - ученый-марксист Рихард Лёвенталь выделил как
одну из основных черт фашизма углубление вмешательства госу-
41 Гильфердинг Р. Государственный капитализм или тоталитарное хозяйство //
Социалистический вестник. 1940. См. также: Fort! S. Totalitarismo. Roma - Bari:
Laterza, 2001.
49
дарства в сферу экономики и расширение протежируемого госу-
дарством промышленного сектора. Он назвал фашизм «сообщест-
вом неудачников», в котором — в том числе в некоторых рабочих
кругах — развивается склонность «возлагать все надежды на вме-
шательство государства».
Оригинальность тезиса Левенталя, вообще говоря, не слишком
глубокого, заключается, с одной стороны, в признании того факта,
что усилению государственной власти в экономике способствует
импульс, идущий снизу, от рабочего класса, но совершенно не тот,
о котором трубили коммунисты и социалисты (хотя разница тут, по
сути, лишь кажущаяся: рабочие лидеры, умолявшие государство
спасти ту или иную фабрику, могли быть совершенно искренне
убеждены, что таким образом облегчают переход экономики к выс-
шим организационным формам). С другой стороны, тот же тезис
намечал пределы возможностей этой возросшей власти, особенно в
долгосрочной перспективе: какое будущее, в самом-то деле, могло
ожидать в обстановке международной конкуренции «сообщество
неудачников»? С этой точки зрения, можно утверждать, что Левен-
таль, хотя и не обладал таким же аналитическим даром, присоеди-
нился ко всем уже упоминавшимся выводам Мизеса и Бруцкуса об
ограничениях, существующих для государственного вмешательства
в экономику, которые в силу экстремального характера этого вме-
шательства заложили мину замедленного действия в советскую сис-
тему, в краткосрочной перспективе достигшую благодаря тому же
экстремизму небывалого могущества42.
1935-м годом датированы и знаменитые «Лекции» Тольятти о
фашизме, в которых, пожалуй, в первый раз делалась попытка ос-
ветить историю этого явления, представляя его как реакционный
42 Статья Лёвенталя 1935 г. опубл.: De Felice R. Il fascismo. Le interpretazioni dei
contemporanei e degli storici. Bari: Laterza, 1970. P. 296 ss. Вскоре после второй ми-
ровой войны и А.Таска подчеркнул значение возросшей благодаря войне роли го-
сударства для той «заметной трансформации традиционных капиталистических
кадров», которая позволила утвердиться фашизму. Он связывал это также с изме-
нением в пользу паразитического капитала баланса сил между двумя видами ка-
питализма, о которых говорил В.Парето в своей блестящей критике протекцио-
низма и государственного интервенционизма конца XIX в. (De Felice R.
Interpretazioni del fascismo. P. 77, 157). Как это ни парадоксально, фашизм первым
воспользовался аргументацией, подобной аргументации Лёвенталя, позаимство-
вав ее, собственно, у Парето и его учеников, в своих нападках как на социалистов,
так и на Нитти с Джолитти. См., напр.: Lupo S. Il fascismo. La politica in un regime
totalitario. Roma: Donzelli, 2000. P. 57 ss.
50
массовый режим, прошедший в своем становлении ряд этапов.
Эти этапы отнюдь не были ступенями реализации «заранее со-
ставленного плана» и, поддаваясь четкому выделению и резко раз-
личаясь между собой, свидетельствовали к тому же о развитии
процессов, изначально непредвиденных. Цепляться за телеологи-
ческую концепцию развития фашизма, согласно которой фазы его
были неизбежны и запрограммированы еще в зародыше, добавлял
Тольятти, значит самому пасть жертвой фашистской идеологии.
Эта мысль тем более знаменательна, что, хотя сейчас невоз-
можно установить, сознавал ли это Тольятти в 1935 г. (он работал
тогда в Москве и наверняка сталкивался с непредвиденными по-
следствиями большевистской революции, заставившими многих
его бывших товарищей, включая Грамши, отвернуться от него), ее
naturaliter43 и a fortiori44 можно приложить и к большевистскому
опыту. Многие крупные исследователи большевизма впоследст-
вии так и делали, именно с этой исторической точки зрения поле-
мизируя либо со сталинистскими (или более-менее оправдываю-
щими сталинизм) реконструкциями, либо с теми, кто рассматри-
вал сталинизм в категориях тоталитаризма45.
Рассуждения 1930-х гг. о вырождении советского социализма и
проблемах его «классификации» легли также в основу работы Карла
Виттфогеля. Великий синолог и бывший воинствующий коммунист
после войны придал новую емкость и силу понятию «восточного дес-
потизма» (фигурировавшему, как мы видели, уже в первых попытках
меньшевиков осмыслить эту тему) в своей знаменитой книге, напи-
санной скорее с веберианских, нежели с марксистских позиций46.
К послевоенному периоду (чисто хронологически) относятся и
слова Исаака Дейчера, знаменитого биографа Троцкого, интер-
претировавшего и некоторым образом оправдывавшего осуждае-
мый в целом сталинизм как чудовищный режим, «варварскими
средствами уничтожавший варварство в России» (заметим, что
этот довод не слишком отличается от тех, которыми отдельные
апологеты империализма оправдывали присутствие и образ дейст-
вий европейцев в колониях).
43 Естественным образом (лат.). — Прим. пер.
44 Силою вещей (лат.). - Прим. пер.
45 Я имею в виду, напр.: Lewin М. The Making of the Soviet System.
46 Wittfogel K. Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New Haven,
Conn.: Yale University Press, 1957.
51
Этот тезис шокировал, но в то же время и привлекал значитель-
ную часть западных советологов. Однако то, что казалось смелым
новшеством, на самом деле представляло собой не что иное, как
буквальное повторение «теорий», помогавших многим троцкист-
ским лидерам в 1928—1929 гг., как бы присоединяясь к упоминав-
шейся выше мысли о необходимости «социалистического перво-
начального накопления», оправдывать почитание нового деспота,
которому они готовы были служить. И.Н.Смирнов, например,
признавался тогда Виктору Сержу, что неспособен сидеть сложа
руки: «Я хочу строить! Центральный комитет, пусть варварскими
и часто глупыми методами, строит будущее. Наши идеологические
расхождения имеют мало значения перед лицом грандиозного
строительства новой индустрии»47.
Заимствование Дейчером этих идей интересно не только пото-
му, что показывает одну из хронических болезней историографии,
где зачастую можно прослыть новатором, повторяя спустя десятки
лет мысли непосредственных участников событий, о которых пи-
шешь. Здесь скрывается суть теорий «модернизирующих дикта-
тур», упоминавшихся во Введении48, со всей их ограниченностью
и наивностью, коренящейся в банально нейтральном взгляде на
процессы модернизации, по-видимому, игнорирующем тот факт,
что если модернизация происходит разными способами, то следу-
ет ожидать появления глубоких различий, а не единообразия.
Накануне второй мировой войны на свет появилась, вероятно,
наиболее интересная из всех категорий, предлагавшихся для ин-
терпретации европейских феноменов межвоенного периода. На
знаменитой конференции 1936 г. великий историк Эли Алеви
предложил считать их тираниями и назвал период начиная с
1914 г. «эрой тираний» (ere des tyrannies)49.
Алеви выбрал греческое слово в том числе по совету последова-
теля и во многих отношениях прямого наследника Дюркгейма —
Марселя Мосса, с которым он обсуждал условия перехода от де-
мократии к тирании в эпоху античности (с этой точки зрения,
47 О шумихе, поднятой теми, кто увидел дерзкие интерпретативные новшества в
биографии Сталина, составленной Дейчером, см.: Gleason A. Totalitarianism.
Р. 126; Serge V. Memoires d’un revolutionnaire, 1901-1941. Paris: Seuil, 1951. P. 269.
48 Gleason A. Totalitarianism. P. 128.
49 Namier L.B. Europe in Decay. A Study in Disintegration. Gloucester, Mass.: Peter
Smith, 1963. P. 131; Halevy E. L’ere des tyrannies; Stem F. Historians and the Great
War // The Yale Review. 1994. Vol. 82. P. 34-56.
52
можно видеть определенное сходство с тезисом Мартова о роли
войны и солдат в утверждении большевистской власти).
По мнению Мосса, контактировавшего с русскими эсерами и ви-
девшего прямую и тесную связь между Сорелем, Лениным и Муссо-
лини, следовало в особенности учитывать роль «активных мень-
шинств» (minorites agissantes), образуемых в основном молодыми
людьми мужского пола, насилия и свойственного активным мень-
шинствам духа «вечных заговорщиков». Партии типа фашистской или
большевистской по крайней мере на первых порах были «тайными
сектами» со своими «боевыми организациями» вроде штурмовых от-
рядов или ГПУ, окопавшимися в завоеванных ими обществах (здесь,
кстати, уместно вспомнить, что во время страшного кризиса, выну-
дившего большевиков принять новую экономическую политику, Ле-
нин часто сравнивал их с горсткой завоевателей в покоренной стране).
Сопоставляя эти современные секты, чья роль и силы неизмеримо
выросли благодаря войне, с античными «мужскими обществами»,
Мосс подчеркивал и в том и в другом случае культ действия, моло-
дость и агрессивную мужественность. Отчасти разделяя современные
ему идеи Раушнинга о появлении в результате войны новых прими-
тивных элит, он сумел подметить некоторые характерные черты «тота-
литарных» режимов и по крайней мере косвенно привлек внимание к
особенностям демографического состава европейского общества, ко-
торое первым испытало действие демографической революции и в ко-
тором благодаря ей постоянно возрастала доля молодежи50.
Согласно схеме Алеви, для современных тираний, порожден-
ных первой мировой войной, с экономической точки зрения ха-
рактерна чрезвычайно широкая этатизация (огосударствление), а
с интеллектуальной — так называемая «этатизация мысли». В об-
щем и целом большевизм, фашизм и нацизм были «братьями-вра-
гами», разными, поскольку родились в разных обстоятельствах, но
имеющими «одного отца — военное положение»51.
50 См. письмо Мосса Алеви: Halevy Е. L’ere des tyrannies. Р. 230-231.
51 По крайней мере в случае фашизма и большевизма эту родственную взаимо-
связь поначалу признавали некоторые лидеры обоих движений. С фашистской
стороны о том свидетельствует, например, заявление Де Амбриса, что фашизм -
«оборотная сторона большевистской медали», на которой «чекан другой, но ме-
талл тот же самый» (De Felice R. Interpretazioni del fascismo. P. 157). Многочислен-
ным и порой весьма впечатляющим свидетельствам такого рода с большевистской
стороны отчасти посвящены исследования Антонелло Вентури, которые скоро
должны увидеть свет.
53
Глава вторая
ТОТАЛИТАРИЗМ И СОВЕТСКАЯ
ИСТОРИЯ
Вышеизложенного достаточно, чтобы дать представле-
ние о том, насколько богаты, разнообразны и интересны катего-
рии, выработанные, дабы объяснить появление режимов нового
типа на начальном этапе великой войны-революции, ознамено-
вавшей собою первую половину XX века в Европе.
В конечном итоге, однако, все эти категории, за редкими ис-
ключениями, уступили место категории тоталитаризма, вновь
признанной ее недругами, после того как фашизм придал ей такой
вес. Сама ее судьба подсказывает, почему в разных странах, в раз-
ные периоды и в разных обстоятельствах значение этой категории
также было очень разным. Как ни парадоксально, сегодня о тота-
литаризме говорят даже левые, которые в свое время применяли
это понятие по отношению к фашизму — как сделал, например,
Тольятти в упоминавшихся выше лекциях 1935 г., — но затем дол-
гое время яростно критиковали его, отвергая саму возможность
сравнивать большевизм, фашизм и нацизм или хотя бы считать их
порождением одних и тех же исторических условий.
Добившись запоздалого успеха в стане противника, рассматри-
ваемый нами термин не просто приобрел экспликативную силу, а
превратился в какое-то чудотворное заклинание — как будто, без
конца повторяя это слово, можно не только объяснить природу
вышеназванных режимов, но и, вынеся общий приговор призра-
кам прошлого, с которыми многие из тех, кто ныне пользуется
данной категорией, некогда имели весьма тесные связи, заклясть
их и изгнать в иное, самое дальнее измерение.
Это любопытный феномен, но еще интереснее, что данное поня-
тие признали и те, кто вовсе не исключал возможности сравнения
54
определенных явлений и прежде выдвигал гипотезы, которые, может
быть, лучше помогали осмыслить их возникновение и характерные
черты: в действительности и Мизес со своим «военным социализ-
мом», и Алеви со своими «тираниями» предпочитали категорию то-
талитаризма; о тоталитаризме заговорил даже Троцкий, раньше счи-
тавший, что революцию предали, но дело еще можно поправить.
Если задуматься о причинах постигшей термин «тоталитаризм»
судьбы, нельзя не отметить, что своим успехом он обязан некото-
рым своим достоинствам. Он позволял делать сопоставления и па-
раллели, настолько же очевидные, насколько в течение десятилетий
запретные для части западной культуры, отвечал необходимости
классифицировать с помощью нового термина новые явления и,
казалось, давал возможность, по крайней мере на первый взгляд,
выделить характерные признаки и вскрыть суть неизвестных доселе
режимов. И тем не менее, в наибольшей степени секрет успеха по-
нятия «тоталитаризм» кроется в очаровании слова, как будто бы
лучше других передающего ужасающую и опасную сущность опре-
деленных систем, а также в его способности удовлетворить стрем-
ление привести к общему знаменателю режимы, равно чудовищ-
ные с нравственной точки зрения. Кроме того, не стоит забывать и
о его политической силе, которая лишь отчасти объясняется вы-
шеупомянутыми свойствами. Сразу после второй мировой войны
понятие тоталитаризма фактически служило превосходным ору-
дием, способным направить против бывшего союзника — СССР —
всю энергию, мобилизованную для разгрома нацизма. Для этого
нужно было только найти понятие, позволяющее поставить на
одну доску разбитого врага и бывшего союзника, превращая тем
самым борьбу с последним в непосредственное продолжение вой-
ны с первым. Именно отсюда — шумный успех термина «тоталита-
ризм» в 1944—1946 гг., когда он вновь вошел в употребление1. 1
1 Пожалуй, наиболее важная из книг, заново определяющих рамки употребле-
ния данного термина, — «Путь к рабству» Ф.А. фон Хайека, вышедшая как раз в
1944 г. и быстро ставшая бестселлером. Через год, когда Арендт начала работать над
своими «Истоками тоталитаризма», Карл Фридрих опубликовал статью, вводив-
шую термин «тоталитаризм» в академический дискурс. Затем он организовал важ-
нейшую конференцию, посвященную понятию тоталитаризма (см.: Totalitarianism.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1954) и написал совместно с З.Бжезин-
ски книгу «Тоталитарная диктатура и автократия» (Totalitarian Dictatorship and
Autocracy. New York: Praeger, 1966). В 1946 г. Черчилль в своей знаменитой фултон-
ской речи дважды воспользовался этим термином.
55
Значимость и весомость отдельных причин этого успеха, таких
как удовлетворение потребности в сравнении или признание того,
что недавно получило название «сущностной нравственной тож-
дественности» (essential moral sameness)2 одинаково ужасных фе-
номенов, бесспорны, как бесспорны политическая сила и гиб-
кость рассматриваемого понятия. Однако со временем оно стало
подвергаться и критике, на первый взгляд вполне резонной, суть
которой Анри Руссо резюмировал так: данное понятие не способ-
но объяснить историческую динамику тоталитарных режимов,
оно является скорее дескриптивным, чем аналитическим, и не вы-
держало испытания прогрессом в исторических исследованиях и
углублением эмпирических знаний3. В результате сейчас очень не-
многие специалисты (за некоторыми немаловажными исключе-
ниями) согласны применять его в отношении итальянского фа-
шизма, который, впрочем, та же X.Арендт исключила из числа
тоталитарных систем4. Немногочисленны также «французские и
зарубежные исследования последних лет, главным объектом
2 Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison I Ed. by 1.Kershaw, M.Lewin.
Cambridge - New York: Cambridge University Press, 1997. P. 3-4.
3 Stalinisme et nazisme. Histoire et memoire comparee / Sous la dir. de H.Rousso.
Bruxelle: Complexe, 1999. P. 25. Интересную реконструкцию истории критики по-
нятия тоталитаризма начиная с 1960 г. см.: Gleason A. Totalitarianism. New York:
Oxford University Press, 1995. P. 131-142.
4 Ричард Пайпс, великий исследователь русской революции и советского опы-
та и в то же время твердый приверженец категории тоталитаризма, рассказал мне,
как на собственном опыте скоро убедился в ее неприменимости к Италии. Сразу
после вторжения немцев в Польшу он, молодой польский еврей, и его семья с
фальшивыми паспортами отправились прямым поездом через нацистскую Герма-
нию в «не воюющую» Италию, надеясь отплыть оттуда в Америку. Такая возмож-
ность им действительно подвернулась, но только через несколько месяцев. После
страха, которого он натерпелся в Германии, ему хватило пары дней в нашей стра-
не, чтобы понять, что Италия - совсем другое дело: молодой иностранец с фаль-
шивыми документами, с ярко выраженными центральноевропейскими внешно-
стью и акцентом обнаружил, что может свободно ходить повсюду, а если произне-
сти с сомнительным прононсом пароль «после работы» (по крайней мере, так ему
сегодня вспоминается), удается меньше заплатить за билет в кино и поесть в неко-
торых столовых. Некоторые ученики Де Феличе, например Эмилио Джентиле
(ср.: Gentile Е. La via italiana al totalitarismo. Roma: Carocci, 1995), акцентируя вни-
мание на претензиях и риторике режима, напротив, по-прежнему употребляют
понятие тоталитаризма применительно к Италии. Теперь его взял на вооружение
и C.JIyno (Lupo S. И fascismo. La politica in un regime totalitario. Roma: Donzelli,
2000), но в реальной жизни этот автор, кажется, в конце концов предпочел (и со-
вершенно правильно) слово «тирания». См. также ниже, с. 69, прим. 27, и гл. 6.
56
которых была бы история нацизма и где авторы придерживались
бы теории тоталитаризма; несколько особняком здесь стоят лишь
работы Эрнста Нольте»5. Те, кто изучает Советский Союз, прежде
всего должны решить вопрос, что именно они должны охаракте-
ризовать как тоталитаризм: большевизм, ленинизм, сталинизм,
советскую систему в целом или, может быть, коммунизм? Этот во-
прос постоянно служил и продолжает служить предметом полеми-
ки, и к нему мы еще вернемся. Кроме того, как и в случае фашиз-
ма и нацизма, можно, пожалуй, утверждать, что по мере того, как
накапливаются знания и открываются архивы бывшего СССР, пе-
ред нашими глазами предстает мир, который трудно назвать «то-
талитарным», по крайней мере в том смысле, в каком понимали
это слово те, кто вновь ввел его в оборот после второй мировой
войны.
Посмотрим лучше, в каком смысле оно будет верным. Остано-
вимся на таком парадоксе: термин завоевывает наибольший успех
(даже среди историков) как раз в тот момент, когда специалисты по
обозначаемым с его помощью режимам от него отказываются. Лич-
но я считаю данное противоречие трудноразрешимым, еще и пото-
му, что, как заметил Майкл Манн, этот термин сейчас «настолько
укоренился и в языке ученых, и в повседневной речи», что исполь-
зование его кажется «неизбежным»6. Существуют ведь и другие
примеры научно некорректных терминов, от которых кажется не-
возможным отделаться (например, уже упоминавшаяся «граждан-
ская война в России»), Однако факт остается фактом: «тоталита-
ризм», по-видимому, действительно очень слабая, с интерпретатив-
ной точки зрения, категория, не объясняющая, а лишь создающая
иллюзию объяснения феноменов, к которым она применяется, и
почти естественным образом приводящая к упражнениям в таксо-
номическом сравнении, которые я критиковал во Введении.
Можно предвидеть, что отказаться от этой категории (вернее,
понять, что ее можно употреблять лишь критически) придется,
хоть это и трудно7, но нужно сделать это таким образом, чтобы
5 Stalinisme et nazisme. Р. 12-14.
6 Stalinism and Nazism. P. 14.
7 Разумеется, я имею в виду отказ от понятия тоталитаризма как интерпрета-
тивной категории. Как исторический термин, принятый фашизмом для собствен-
ной характеристики, вернее, для характеристики своей утопии, тоталитаризм
представляет собой важный объект исследования, и отказываться от него нельзя.
57
сохранить ее действительно важное свойство — возможность с ее
помощью в едином ключе рассматривать режимы, с пеной у рта
отстаивавшие свою несхожесть буквально во всем, и подвергать их
единому моральному осуждению. Необходимо также сберечь тот
вклад, который теоретики тоталитаризма внесли в развитие наших
знаний о происходившем в Европе, а затем и за ее пределами в
XX в. Я имею в виду, например, новый смысл, который Х.Кон8 в
1949 г. придал связи между новыми режимами и интеллектуаль-
ным кризисом, спровоцированным первой мировой войной и ох-
ватившим самые широкие социальные слои. Еще в довоенное вре-
мя презрение к разуму, возникшее среди виталистически настро-
енных, благоговеющих перед силой групп, привело «к новому
триумфу магов и чудотворцев» (вспомним, что именно как о вол-
шебнике, способном творить чудеса, говорили о Ленине больше-
вистские лидеры, когда-то не верившие в возможность социали-
стической революции в отсталой Российской империи). И если
правда, что Кон (во всяком случае по мнению тех, кто изучает со-
ветский опыт) слишком сильно акцентирует внимание на новых
«верах», порожденных войной, «одна причудливее другой, но
все — проявления одного и того же кризиса»9, трудно отрицать,
что он верно подметил в этом зарождении новых верований —
s Kohn Н. Political Ideologies of the Twentieth Century. New York: Harper & Row,
1966. См. также автобиографию Кона: Kohn H. Living in a World Revolution. My
Encounters with History. New York: Trident Press, 1964.
9 Поэтому не слишком убедительными кажутся интерпретации европейской
истории XX в. как истории борьбы между «светскими религиями». Зерно истины в
них есть, но они игнорируют тот факт, что «коммунистическая религия» на самом
деле весьма слабо пустила корни в СССР, по крайней мере до победы во второй
мировой войне (да и тогда там утвердилось нечто совершенно отличное от того,
что представляли себе на Западе), и в результате советская история читается
сквозь призму западного опыта, для которого такая борьба как раз была характер-
на и сыграла важную роль, в том числе потому, что «коммунистическая религия»
на Западе укоренилась сильнее, чем на своей «родине». Кроме того, следует пом-
нить, что и в сталинском СССР, и в фашистской Италии самая верхушка отлича-
лась достаточным цинизмом. Наконец, малоубедительны - несмотря на то что
они могут быть привлекательны и популярны благодаря самой своей простоте —
вообще любые попытки объяснить сложные исторически феномены действием
двух-трех «идейных сил» (хотя, естественно, нельзя отрицать, что в некоторых ис-
ключительных случаях такие мощные факторы, как, например, голод, могут опре-
делять собой поведение людей). См. также ниже, с. 69, прим. 27, и гл. 6 о понятии
«гражданской войны в Европе».
58
«светских религий» — одно из явлений, ставших определяющими
для первой половины XX в. в Европе.
Еще важнее работа Арендт, которая справедливо усмотрела в по-
давлении свободы главную отличительную черту тоталитарных ре-
жимов, определяемых ею как режимы, решительно не признающие
свободу человека, и поняла, сверх того, что необходимо не описы-
вать, а интерпретировать тоталитаризм, реконструировать его генеа-
логию. «Истоки тоталитаризма» — фундаментальный труд, посколь-
ку представляет собой опыт генетико-проблематического сравнения,
позволяющего увидеть как единую картину исторический период,
характеризующийся явлениями одного порядка (при всей их само-
бытности), которые сближали и связывали между собой как устано-
вившиеся между ними отношения, так и поиск решения общих про-
блем, и сходство главных событий, лежащих в их основе (о чем я
говорил во Введении). Но, отвлекаясь от содержащихся в книге по-
разительных интуитивных догадок, следует признать, что выстроен-
ная автором генеалогия чересчур тенденциозно сосредоточена на
грехах XIX века, который все же ни в Германской, ни в Австро-Вен-
герской, ни в Российской, ни тем более в Османской империи (все
эти организмы, кстати, никак нельзя назвать нациями-государства-
ми, в крушении которых Арендт видит один из истоков тоталитариз-
ма) не представлял собой одну лишь подготовку будущих кошмаров.
Кроме того, ее генеалогия мало убедительна методологически.
Чтобы утверждать, будто истоки того или иного исторического
явления (а не общие предпосылки того или иного пути развития,
среди которых бывают и самые невероятные), любой историче-
ской ситуации кроются в столь отдаленном прошлом, нужно
сначала доказать, что его корни действительно уходят так далеко,
а потом шаг за шагом проследить его развитие, доказывая преем-
ственность основных элементов и показывая эндогенную спо-
собность к росту, а следовательно — неизбежность этого явления.
Тем более верно данное правило, когда речь идет об историче-
ских процессах, которые протекают в эпохи быстрых изменений,
отмеченные бурными событиями мирового значения, как, на-
пример, первая мировая война. Поэтому справедливыми пред-
ставляются соображения лучшего из фашистских историков
Джоаккино Вольпе10, который, говоря об истоках фашизма, ука-
10 Джоаккино Вольпе (1876-1971) — один из крупнейших итальянских истори-
ков, националист, перешедший затем на позиции фашизма. - Прим. пер.
59
зывал, что их не следует искать «слишком далеко», «ибо каждый
факт своими основными и характерными чертами обязан своему
времени»11.
Неубедительна не только выведенная Арендт генеалогия: пе-
ред лицом советского опыта, наиболее длительного и во многих
отношениях наиболее релевантного случая «тоталитаризма», не
выдерживает ее интерпретация этого феномена, в основе которо-
го, по ее словам, лежат систематический террор, институциона-
лизированный в системе лагерей, и атомизация населения, ли-
шаемого таким образом способности сопротивляться. Того, кто
попробует осмыслить историю не России (как до сих пор делают
авторы даже весьма значимых работ, совершая тем самым серьез-
ную ошибку11 12), а Советского Союза в целом (делу должна помочь
длительность его существования, сходная со сроком жизни чело-
века), не может не поразить количество в корне различных фаз,
пройденных ею с невероятной быстротой. Военный коммунизм,
нэп, великие трагедии революции сверху в начале 1930-х гг., зре-
лый сталинизм с его процессами и чистками во второй половине
того же десятилетия, вторая мировая война и послевоенная раз-
руха, кульминация деспотизма, курс на реформы после смерти
11 Volpe G. Storia del movimento fascista. Milano: Istituto di studi politici intemazio-
nali, 1939. P. 20. Уже в 1927 г., во введении к «Италии в пути», Вольпе предупреж-
дал, что не стоит искать «мифические “истоки” того, что созрело в сегодняшней
Италии, в атмосфере войны и послевоенного времени, и потому является созда-
нием в строгом смысле слова, у которого не слишком много предков и прецеден-
тов». Впоследствии многие крупные историки фашизма и нацизма, от Де Феличе
до Мосса, разделяли точку зрения Вольпе.
12 См., напр.: Stalinism and Nazism; Viola L. Peasant Rebels under Stalin. New
York — Oxford: Oxford University Press, 1996. Слова «Россия» и «СССР» в этих кни-
гах постоянно употребляются как взаимозаменяемые. Однако невозможно понять
ни рождения и построения, ни окончательного распада (на разные республики,
входившие в его состав) государства, в названии которого отсутствовало вообще
упоминание о какой бы то ни было национальности, не говоря уже о прилагатель-
ном «российский». Такое решение совершенно сознательно принял в 1922 г. Ле-
нин, выбравший название «Союз Советских Социалистических Республик» (а не
«Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика»), посколь-
ку он хорошо понимал, что новое государство нельзя отождествлять с одной Рос-
сией, иначе невозможно будет гарантировать само его выживание. Сталин, пона-
чалу выступавший против ленинской идеи, потом оценил ее по достоинству и
впоследствии, не трогая федеральных форм, предпочитал выхолащивать их содер-
жание. Но то, что они сохранились, пусть даже в виде пустых оболочек, позволило
и помогло в будущем наполнить их новым значением.
60
генералиссимуса, десталинизация и хрущевская «оттепель», годы
торжествующей брежневщины, затем «застой», кризис и стреми-
тельный распад режима, притворявшегося и выглядевшего моно-
литным, следовали друг за другом, как в калейдоскопе, сильно
различаясь между собой даже на взгляд не слишком вниматель-
ного наблюдателя.
Оставляя пока в стороне интереснейший вопрос о том, какая
из предпринятых в это же время попыток строительства нового
государства на имперском фундаменте представляет собой наи-
лучшую параллель советскому опыту, раскрывшемуся нам теперь
с такой полнотой (автор, например, по причинам, о которых еще
будет речь впереди, убежден, что сегодня эвристически наиболее
плодотворным будет сравнение его с турецким опытом), спросим
себя, какую или какие из перечисленных фаз можно назвать то-
талитарными. Большинство ученых, даже наиболее твердо убеж-
денных в доброкачественности категории «тоталитаризм», ответят,
что это сталинская эпоха 1929—1953 гг. (правда, Адам Улам, твер-
дый приверженец данной категории, написал, что сталинский
СССР — это нечто такое, «для чего нет подходящего слова в по-
литологическом словаре», и назвал «обычным тоталитарным об-
ществом» то, которое сложилось после 1953 г.13). Отметим, что
такой ответ влечет за собой уже поднимавшийся вопрос о том,
какие, собственно, явления мы сравниваем, когда говорим о то-
талитаризме. Если мы принимаем этот ответ, значит, корректно
сравнение нацизма и сталинизма в различных его фазах. Но,
даже если не обращать внимания на гипотезы о том, что более
общая параллель с коммунизмом удачнее, остаются вполне обос-
нованные исторически возражения со стороны тех, кто, подобно
Ричарду Пайпсу, жаловался, что при этом непонятно почему иг-
норируется ленинизм14.
В действительности речь идет о проблемах, легко поддаю-
щихся разрешению, если использовать подходящие категории,
и поэтому мы вернемся к ним после того, как будем иметь
представление о необходимом инструментарии. Пока же огра-
ничимся допущением, что данное положение на самом деле
13 Ulam A. Understanding the Cold War: A Historian’s Personal Reflections.
Charlottesville, VA: Leopolis Press, 2000. P. 92.
14 См. рецензию Пайпса на книгу «Сталинизм и нацизм» под редакцией Кершо
и Левина (Holocaust and Genocide Studies. 1999. Vol. 13. P. 117-119).
61
верно, как часто и утверждалось в ответ на сомнения в доброт-
ности и научности категории тоталитаризма, послужившие по-
доплекой вопроса о том, какая фаза советской истории является
тоталитарной.
Если сталинизм был тоталитаризмом в строгом смысле слова со
всем тем, что подразумевает данная категория (соответствующие
структуры, страхи, атомизация, иммобилизм и т.д.), как объяс-
нить тот факт, что всего через месяц после смерти тирана грозный
глава органов внутренних дел, при котором чрезвычайно разросся
репрессивный аппарат и увеличилось число его жертв (достигшее
своего пика в 1952 г.), издал приказ, запрещающий применять ка-
кие бы то ни было меры физического и психологического воздей-
ствия на заключенных, призывая соблюдать права личности и осу-
ждая грубые нарушения законности со стороны сотрудников
органов внутренних дел, высшим представителем которых он,
собственно говоря, являлся?15 И почему в развернувшейся в верхах
этой «тоталитарной» системы борьбе за власть решающую роль
стал играть курс на реформы, с помощью которого победитель и
упрочил свои позиции? Иными словами, неужели смерти одного-
единственного человека достаточно, чтобы вызвать стремитель-
ный крах «тоталитаризма»?16
Не одно только быстрое падение сталинизма не вписывается
в традиционные представления о тоталитарных системах. Гово-
ря о его зарождении, мы должны вернуться в эпоху, когда стра-
ну раздирала жестокая война между государством и крестьяна-
ми, составлявшими четыре пятых населения и более пяти лет
упорно сопротивлявшимися «революции сверху», кульминацией
которой в 1933 г. стал голод, за несколько месяцев унесший не-
сколько миллионов жизней и повергший страну в хаос. Сотни
тысяч раскулаченных каждый год бежали из мест ссылки, часто
пережив перед этим распад семьи и смерть близких, не выдер-
15 Приказ министра внутренних дел СССР Л.П.Берии «О запрещении примене-
ния к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия»
4 апреля 1953 г.//Новый курс Л.П.Берии//Исторический архив. 1996.№4. С. 151.
16 Стоит вспомнить, что Гранди (Дино Гранди — один из «квадрумвиров» похода
на Рим, видный фашистский лидер, министр иностранных дел, противник союза с
Германией, автор резолюции, вызвавшей падение Муссолини в июле 1943 г. — Прим,
пер.) сказал Аквароне по поводу голосования Большого совета против Муссолини:
вместе с этим последним рухнула бы «вся тоталитарная система» (см.: Namier L.B.
Europe in Decay. A Study in Disintegration. Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1963. P. 148).
62
жавших лишений. Миллионы крестьян хлынули из деревни в
город, где вовсю процветала торговля фальшивыми документа-
ми, а тем временем уцелевшие среднеазиатские кочевники, сре-
ди которых свирепствовали голод и эпидемии, искали спасения
за границей17.
Два характерных эпизода (правда, один из них носит чрезвы-
чайный характер), наверное, могут помочь нам понять царившую
тогда почти по всей стране атмосферу, состояние умов и направ-
ление мыслей партийно-государственной верхушки.
В сентябре 1930 г., когда официальная советская пропаганда
превозносила усилия, которые режим прилагал, чтобы модерни-
зировать страну путем построения нового общества и создания
нового человека, Сталин в одном письме Молотову предлагал
изыскать средства для увеличения численности армии с 640 до
700 тыс. чел., «форсируя» производство водки, этого массового
наркотика для измученного народа (впоследствии к этому испы-
танному средству прибегали еще не раз, что, по-видимому, в зна-
чительной мере повлияло на продолжительность жизни мужчин,
обнаружившую спустя несколько десятилетий неуклонную тен-
денцию к сокращению).
Через два с половиной года, в мае 1933-го, в некоторых рай-
онах Украины отчаявшиеся крестьяне подбрасывали головы или
трупы своих умерших от голода детей в укрепленные лагеря во-
инских частей, посланных туда, чтобы контролировать положе-
ние и подавлять возможные беспорядки. В официальных рапор-
тах подобные деяния квалифицировались как «контрреволюци-
онные провокации со стороны социально-враждебных элемен-
тов»18.
В те же самые месяцы, на пике кризиса, режим, уже почув-
ствовавший себя на краю гибели, приложил неимоверные уси-
17 Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei rapporti dei
diplomatic! italiani / Acura di A.Graziosi. Torino: Einaudi, 1991; Грациози А. Великая
крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933; D’Ann R.P.
Stalin and the Ital’ianka of 1932-33 in the Don Region // Cahiers du monde russe. 1997.
Vol. 38. P. 27-68; Viola L. Stalin e i ribelli contadini. Soveria Mannelli (Cz):
Rubbettino, 2000 (итальянское издание книги, цит. выше, с. 60, прим. 12).
18 Письма И.В.Сталина В.М.Молотову, 1925-1936 / Под ред. Л.Кошелевой и др. М.:
Россия молодая, 1995. С. 209; Blum A. Naitre, vivre et mouriren Urss, 1917— 1991. Paris:
Pion, 1994; L’armata rossa e la collettivizzazione delle campagne nell’Urss, 1928-33 / A cure
di A.Romano, N.Tarchova. Napoli: Istituto Universitario Orientale, 1996. P. 494—497.
63
лия, дабы восстановить контроль над ситуацией — над пере-
движениями населения и «качественным» составом жителей
крупных городов, отчуждения и враждебности со стороны ко-
торых власти боялись. Введенная с этой целью внутренняя
паспортная система и проверка городских жителей, которым
должны были выдаваться паспорта, выявили целые слои ново-
испеченных горожан, живших на совершенно нелегальном по-
ложении. Вот лишь один отдельный, но весьма показательный
пример: в Магнитогорске, ставшем одним из символов индуст-
риализации, из 250 тыс. человек, которые, как считалось, на-
селяли его в 1933 г., были прописаны лишь 75 тыс. Остальные
либо покинули город, перед тем как начались проверки, либо
выбыли уже давно, не сообщив о своем отъезде (чаще всего —
чтобы на них продолжали выдавать карточки), либо просто ни-
когда не существовали19.
Несколько отличающаяся от привычного образа тоталитар-
ной системы картина возникает даже в ходе реконструкции (те-
перь наконец возможной) крупнейших операций по политиче-
ской, социальной и этнической «чистке» после 1933 г.,
неизменно проводившихся в попытке вернуть контроль над
страной, очистить от «мусора» площадку социалистического
строительства и уничтожить в зародыше любую возможность
создания пятой колонны в случае войны, которая казалась
неизбежной.
На этой картине перед нами страна, все еще не поддающаяся
власти. Конечно, в чистках и процессах 1936—1938 гг. присутство-
вали элементы паранойи, заставляющей неустанно выискивать и
уничтожать врагов (по большей части воображаемых) среди эли-
ты, однако сосредоточивать все внимание именно на этом их ас-
пекте, как, увы, делали многие крупные историки в весьма серьез-
ных трудах, было бы большой ошибкой. Операции чистки, или,
лучше сказать, социальной и этнической хирургии, в действитель-
ности представляли собой гораздо более сложное и разносторон-
нее явление, и подавляющее большинство из 700 тыс. расстрелян-
ных в 1937—1938 гг., в ходе первой крупной плановой акции
массового уничтожения людей, проводившейся в Европе в мирное
время, составляли не политические, экономические или военные
19 Rapports secrets sovietiques, 1921—1991 / Sous la dir. de N.Werth, G.Moullec.
Paris: Gallimard, 1994. P. 45.
64
кадры, а те, кто уже стали жертвами режима, — раскулаченные
крестьяне, лица, осужденные в прошлом на срок более трех лет,
представители национальностей, считавшихся «опасными», и т.д.
(это лишь некоторые из основных категорий населения, от кото-
рых Сталин решил отделаться) — естественно, не имевшие особых
причин его любить20.
Само огромное количество крестьян, депортированных во
время коллективизации и сразу после нее, арестованных «врагов
народа», отправленных в лагеря, говорит о том, что система ощу-
щала и сознавала свою непопулярность. Как это ни покажется
парадоксальным, но, по-видимому, чистки, сознательно направ-
ленные против элиты, несущей свою ответственность за траге-
дию предыдущих лет, и потому оправданные в глазах населения,
помогали прочнее утвердиться режиму и его лидеру, раньше
столь пугающим и ненавистным. В разгар террора, унесшего
жизни сотен тысяч простых граждан, зачастую уже подвергав-
шихся преследованиям в предшествующие годы, Сталин не упус-
кал случая публично заявить о своей солидарности с «простыми
маленькими людьми, рядовыми членами партии», противопос-
тавляя себя «большим барам», которых он начал обличать уже в
1934 г. и которые в 1936—1938 гг. стали наиболее заметными его
жертвами21.
Зарождение и функции системы концентрационных лагерей,
прямая связь которых с репрессивной деятельностью правящей
верхушки, вынужденной защищать себя от враждебности населе-
20 Два приказа, легшие в основу большого террора 1937-1938 гг., - приказ
№ 00447 от 30 июля 1937 г. (где речь шла о «социальных» категориях) и № 00485 от
11 августа 1937 г. (направленный против поляков, проживавших в СССР, и послу-
живший образцом для всех последующих кампаний по ликвидации подозритель-
ных национальностей) - опубликованы: Кокурин А.И., Петров Н.В. ГУЛаг 1918—
1960. Документы. М.: Демократия, 2000. См. также: Martin Т. The Origins of Soviet
Ethnic Cleansing // Journal of Modem History. 1998. Vol. 4. P. 813-861; Chlevnjuk O.
Stalin e la societa sovietica negli anni del terrore. Perugia: Guerra, 1997; Bettanin F. 11
lungo terrore. Politica e repression! in Urss, 1917—1953. Roma: Editori Riuniti, 1999;
Werth N. Logiques de la violence dans PUrss stalinienne // Stalinisme et nazisme. P. 99-
128; Lewin M. Stalin in the Mirror of the Other // Stalinism and Nazism. P. 107-134;
The Role of the Political Police in Soviet History / Ed. by A.Graziosi, T. Martin //
Cahiers du monde russe. 2001. Num. spec.
21 См., наир., тонкие наблюдения H.Верта (Stalinisme et nazisme. P. 69-70). Наи-
высшим выражением подобной тактики стала культурная революция Мао, но и
Муссолини — si parva licet - ее не чуждался.
65
ния, сегодня лучше просматривается, также свидетельствуют о
чрезвычайных масштабах оппозиции; эту оппозицию требовалось
сокрушить, дабы насадить систему, которую, в свою очередь, во
время второй мировой войны оккупанты на значительной терри-
тории страны искореняли столь же грубыми насильственными
методами.
С этой точки зрения, если проводить параллель с Германией
1937 г., где в лагерях сидели всего несколько тысяч человек, а ре-
жим и возглавлявший его диктатор по крайней мере до вторжения
в Прагу пользовались поддержкой большей части населения, в
первую очередь бросаются в глаза различия, а не сходство, кото-
рое, тем не менее, тоже можно обнаружить22.
Таким образом, знание советских реалий 1930-х гг. заставляет
нас переформулировать меткое замечание Кона о связи между то-
талитаризмом и чудотворцами, подхваченное Кершо, который
предложил новую интерпретацию гитлеризма как харизматиче-
ской власти. Эту связь можно увидеть, анализируя феномен лени-
низма, но о ней вряд ли приходится говорить при рассмотрении
первой фазы сталинизма, когда Сталин выступал в роли нового
волшебника перед маленькой группой своих приверженцев и от-
носительно широким (но в процентном отношении все-таки огра-
ниченным, пусть даже речь идет о сотнях тысяч, а то и нескольких
миллионах человек) слоем молодежи и интеллектуалов, которых
привлекали национал-коммунистические идеи строительства и
модернизации 1929—1931 гг. При этом не стоит забывать, что в ре-
зультате ужасных кризисов, вызванных внедрением «плана», раз-
меры обеих вышеназванных групп стремительно сокращались, по
крайней мере пока не кончился великий голод 1932—1933 гг. Пер-
вые годы сталинского владычества были отмечены поражениями,
а не громкими победами.
Вообще говоря, в отличие от культов Ленина, Муссолини и Гит-
лера, культ Сталина, во всяком случае на родине, — явление искусст-
венное, сознательно сконструированное, что заняло не один год.
Только во второй половине десятилетия, благодаря все тем же боль-
шим процессам, он начал обретать под собой реальную основу, а за-
тем новую силу ему придала война, которая между прочим привела и
22 Хлевнюк О. Принудительный труд в экономике СССР, 1929-1941 годы //
Свободная мысль. 1992. № 14. С. 73-84; Browning C.R. The Path to Genocide:
Essays on Launching the Final Solution. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
66
к массовым вспышкам его на Западе. Косвенным доказательством
этого может служить сравнение между хронической неуверенностью
и обостренной подозрительностью, которую Сталин всегда проявлял
по отношению и к своим приспешникам, и к своим подданным (уже
в 1930 г., зная, какую ненависть, и не только в деревне, вызвала по-
литика коллективизации и раскулачивания, он добился, чтобы По-
литбюро официальным указом запретило ему передвигаться пешком
по улицам Москвы), и поведением Гитлера — как в тесном кругу,
среди близких, так и при контактах с населением, с которым фюрер
любил общаться, по крайней мере до 1942 г.23
Интересная спираль вырисовывается при рассмотрении вопро-
са о сравнительной популярности двух тиранов и их режимов в
1930-е гг. и о ее причинах. К этому вопросу мы еще вернемся в
третьей части нашей книги. Он, в свою очередь, возвращает нас к
проблеме истоков двух режимов: один из них установился благо-
даря разложению имперских, царистских структур, а другой - в
силу страстного стремления немцев к реваншу, которое нацизму в
течение нескольких лет удавалось удовлетворять.
К последнему вопросу и, следовательно, к проблеме природы соот-
ветствующих видов «тоталитаризма» заставляют вернуться также све-
дения о десятках тысяч мелких и крупных крестьянских восстаний на-
чала 1930-х гг. в СССР и множество полицейских рапортов,
обнаруживающихся сегодня в бывших советских архивах, пестрящих
именами скептиков, критиков, оппозиционеров, миллионы которых
кончали лагерями или пулей в затылок. В свете этих документов труд-
но утверждать, что категория «атомизация» приложима к советскому
обществу 1930-х гг., где с такой силой проявлялись черты социальной
аномии, или придерживаться гипотезы о его якобы неспособности к
сопротивлению. Ныне оказывается, что даже на Съезде советских пи-
сателей в 1934 г., за которым пристально следили, появлялись обличи-
тельные документы, написанные для почетных иностранных гостей
«советскими духовными проститутками» (подпись внизу листовки),
которые, признаваясь, что продаются власти, толкаемые голодом и
23 М.Левин (Russia, USSR, Russia. The Drive and Drift of a Superstate. New York:
The New Press, 1995. P. 218) сравнивает миф о Гитлере, родившийся в значитель-
ной мере спонтанно в культурной стране, с мифом о Сталине, «насильно насаж-
денным в неграмотной стране» (но впоследствии легитимированным победой в
1945 г.). См. также: Stalinism and Nazism. Р. 350-355 (где, однако, Левин, кажется,
иногда противоречит сам себе).
67
страхом, спрашивали, что заставляет прославленных, сытых и непри-
косновенных западных интеллектуалов делать то же самое24.
Итак, парадоксальным образом картине «тоталитарного» кон-
формизма, оруэлловского общества, держащегося на лжи и покор-
ности, гораздо больше соответствует относительно умиротворен-
ное и сытое общество хрущевских и брежневских лет, а не страна
первого сталинского десятилетия, в период ее жесточайшего укро-
щения.
Кроме того, сам характер больших чисток 1937—1938 гг., на-
правленных против групп, которые центр объявил опасными,
подразумевает, что, по крайней мере с точки зрения режима,
речь не шла о терроре, тем более о беспорядочном, произволь-
ном терроре. То, что делал тогда режим, скорее можно назвать
профилактической операцией по уничтожению определенных
категорий населения, и это имеет мало общего с гипотезой о
применении тоталитарной властью террора с целью атомизиро-
вать общество, выдвигавшейся, например, Арендт. Атомизация
могла стать одним из непредвиденных последствий чисток, вос-
принимавшихся людьми как беспорядочный террор (ибо их
жертвы не ведали, что их вычищают строго по категориям), но
это уже другой вопрос25.
24 Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia. Terror, Propaganda and Dissent,
1934—41. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Rimmel L. Svodki and Popular
Opinion in Stalinist Leningrad // Cahiers du monde russe. 1999. Vol. 40. P. 217-234;
Rossman J. Weaver of Rebellion // Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. 1996. Bd. 44.
S. 373-408; Советская деревня глазами ВЧК - ОГПУ - НКВД. Документы и мате-
риалы / Под ред. В.П.Данилова, А.Береловича. Т. 1: 1918-1922. М.: РОССПЭН,
1998; Т. 2: 1923-1929. М.: РОССПЭН, 2000 (проект представлен В.П.Даниловым и
А.Береловичем: Les documents de la Vck-Ogpu-Nkvd sur la campagne sovietique,
1918-1937 //Cahiersdu monde russe. 1995. Vol. 35. P. 633-682); Коллективизация и
крестьянское сопротивление на Украине, 1929-1930 / Под ред. Л.Виола, В.Ва-
сильева. Винница: Логос, 1997; Власть и художественная интеллигенция. Доку-
менты 1917-1953. М.: Демократия, 1999. С. 227.
25 См. комментарий Т.Мартина (Storica. 2001. Vol. 18). Впечатление, будто тер-
рор 1937—1938 гг. представлял собой беспорядочный и стихийный процесс, т.е.
террор в полном смысле слова, конечно, еще усиливалось благодаря хаосу, кото-
рый директивы центра вызывали на местах. Нередко количество имен, содержав-
шихся в досье органов внутренних дел того или иного региона, оказывалось не-
достаточным для выполнения спущенного Москвой плана по расстрелам, арестам
и высылкам. Отсюда - произвольные аресты, выбивание показаний на других лиц
и т.д. Ср.: Hlevnjuk О. Les mecanismes de la «Grande Terreur» des annees 1937—1938
au Turkmenistan // Cahiers du monde russe. 1998. Vol. 1—2. P. 197-208.
68
Нищета и одичание рабочих, заработная плата которых с 1928
по 1932 г. была вдвое, если не втрое меньше достаточно скудных
заработков царских времен, стремительный рост алкоголизма как
прямое следствие действий режима, хотя тот и брал свое начало от
революции, одним из первых декретов запретившей производство
водки, циничный совет Горького Сталину в 1929 г. изображать в
печати, и особенно в пропаганде, рассчитанной на зарубежные
страны, голодных и недовольных рабочих (до тех пор не заслужи-
вавших иных названий, кроме как «бездельники» и «пьяницы»)
героическими строителями нового общества и творцами нового
человека — все это не вызывает особенного доверия к «модернист-
ским» прокламациям режима26. Закрадывается подозрение, что в
них чересчур уверовали те, кто хотел видеть в идее создания ново-
го человека и в связанной с ней пропаганде доказательство тота-
литарного характера режима, толковавшего о «перековке» созна-
ния своих подданных и в то же время поставлявшего им спиртное
во все возрастающих количествах27.
После того как очень быстро растаяли иллюзии по поводу пя-
тилетнего плана, а вместе с ними — и всякая возможность его ус-
пешного выполнения, «современность», которую большая часть
теоретиков считает одной из фундаментальных характеристик «то-
талитаризма», в Советском Союзе 1930-х гг. можно было увидеть
только в пропаганде, особенно рассчитанной на Запад, да еще в
отдельных ограниченных секторах военно-промышленного ком-
плекса. Для подавляющего большинства населения, включая го-
родское, и значительной части новой бюрократии эти годы
26 Graziosi A. Stalin’s Antiworker «Workerism» // Graziosi A. A New, Peculiar State.
Explorations in Soviet History, 1917—1937. Westport, Conn.: Praeger, 2000. P. 179—222.
27 Еще и поэтому кажутся слабыми гипотезы серьезных авторов, которые, под
влиянием Фуко и по крайней мере косвенно вновь обращаясь к сути арендтов-
ской интерпретации, опять принимаются настаивать на важном значении «пере-
стройки» сознания в СССР 1930-х гг. См., напр.: Kotkin S. Magnetic Mountain.
Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995, - а также ра-
боты П.Хольквиста и Дж.Хеллбека. По тем же соображениям неубедительны тези-
сы тех, кто выводит тоталитарную природу фашизма из прокламируемого им же-
лания создать «нового человека». Сам Муссолини был слишком умным и цинич-
ным читателем Сореля и Парето (Вильфредо Парето (1848-1923) - один из круп-
нейших экономиков и социологов конца XIX - начала XX в. — Прим, пер.), чтобы
верить в мифы, созданием которых руководил (другое дело, что потом он прида-
вал этим мифам большое значение как орудиям манипуляции). См. также выше,
с. 56, прим. 4, с. 58, прим. 9.
69
прошли под знаком хаоса, борьбы за выживание и упорного со-
ревнования примитивных условий жизни с еще большим прими-
тивизмом действий и менталитета правящей верхушки.
Как уже отмечалось, все вышесказанное не отрицает реальность
сталинской модернизации, главным результатом которой стало в
первую очередь создание научно-военно-промышленного комплек-
са. Однако сущность и особенности этой модернизации невозможно
осмыслить, не принимая во внимание контекст, в котором она про-
исходила, и я попробовал в общих чертах набросать его. Между про-
чим, уловить суть этого контекста, заключающуюся в войне, совер-
шенно необходимо, чтобы понять, почему — в соответствии с аргу-
ментацией Спенсера — такого рода модернизация может на опреде-
ленный, не слишком долгий период вызвать политический регресс к
деспотическим формам, ассоциирующимся у всех с предшествую-
щими фазами истории человечества и, конечно, более примитив-
ным, чем те, что были характерны для ленинской тирании28.
Вторая мировая война и немецкое нашествие мгновенно расша-
тали только-только выстроенную систему. Четыре года войны и ок-
купации, следом за ними период новой разрухи, которому суждено
было закончиться новым великим голодом 1947 г.29, ослабили нало-
женную на население в предыдущие годы узду В значительной час-
ти Европейской России, на Украине и в Белоруссии, на территори-
ях, ненадолго аннексированных в 1939—1941 гг.30 и завоеванных в
1945 г., не существовало государства, заслуживающего своего на-
звания, а партия не играла никакой роли, как подметил Моше Ле-
вин, задававший риторический вопрос, кто тогда одержал бы верх в
споре между командиром победоносного танкового соединения,
партийным функционером и государственным чиновником. Воз-
можно, здесь имеет место некоторая натяжка, но она подводит нас
к новой проблеме и, бесспорно, содержит важное рациональное
28 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 67. Устанавливая, как
мне кажется, оправданно, тесную связь между скачком, совершенным сталин-
ским деспотизмом по сравнению с тиранией Ленина, и войной против крестьян,
развязанной самим Сталиным (плюс к тому же «личные качества» нового тирана),
мы принуждены отвергнуть определение сталинизма как «аграрного деспотизма»,
предложенное Моше Левином (Russia, USSR, Russia. Р. 13, 82—88, passim).
29 Зима В.Ф. Голод в СССР, 1946—1947: Происхождение и последствия. М.: Ин-
ститут российской истории РАН, 1996.
30 Gross J.T. Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s Western Uk-
raine and Western Belorussia. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988.
70
зерно: необходимость контролировать огромную территорию, где
то тут, то там вспыхивали очаги антисоветского партизанского дви-
жения, окончательно подавленные лишь в начале 1950-х гг., дока-
зывала, что политическая полиция и армия не зря едят свой хлеб.
В тех местах вдобавок практически весь государственно-эконо-
мический аппарат, существовавший до 1941 г., был сметен вой-
ной, и задача удовлетворения нужд населения выпала на долю от-
дельных индивидов, т.е. самого примитивного «рынка» (даже если
нацисты не упразднили колхозы, в вакууме власти, образовавшем-
ся после 1943 г., они стали функционировать весьма нетрадицион-
ным образом). То же самое, хотя и в сравнительно меньших мас-
штабах, происходило и на территориях, не затронутых военными
действиями, где государство, по необходимости сосредоточив-
шись на военной промышленности, по большей части предоста-
вило снабжение населения рынку, часто — черному31.
Стремительное нарастание репрессий, отличавшее последние
годы сталинской эпохи, диктовалось, собственно, необходимостью
вновь поставить под свой контроль действительность, где были
миллионы солдат разгромленных армий; семьи, разрушенные и
объединяющиеся в новых формах, часто вокруг женщины, обре-
ченной на одиночество из-за огромных потерь среди мужчин;
люди, привыкшие воевать и самостоятельно добывать себе все не-
обходимое; целые народы, не «прошедшие акклиматизацию» в пре-
дыдущее десятилетие, поскольку тогда они еще жили за границами
СССР, не считая краткой трагической интерлюдии 1939—1941 гг. (я
имею в виду Прибалтику, Западную Украину и Бессарабию)32.
Число заключенных в лагерях и исправительно-трудовых коло-
ниях, даже в 1937—1938 гг. не достигавшее полутора миллионов
человек, а во время войны сократившееся благодаря тому, что
многих освобождали, как правило, отправляя на фронт, а также в
связи с ростом смертности от голода и болезней и составлявшее
менее одного миллиона человек, в 1948 г. превысило два миллио-
на и продолжало расти до 1952 г., когда оно перевалило за два с
половиной миллиона человек. И хотя в то время сократилось
31 Слова Левина привожу по записям одной моей с ним беседы; Hessler J. А
Postwar Perestroika? Towards a History of Private Enterprise in the USSR // Slavic
Review. 1998. Vol. 3; Sapir J. The Economics of War in the Soviet Union during WWII
// Stalinism and Nazism. P. 208—236.
32 Zubkova E. Russia after the War: Hope, Illusions and Disappointments, 1945—47.
Armonk: Sharpe, 1998.
77
количество «раскулаченных», проживавших в местах поселения
под надзором политической полиции (своего потолка — 1,3 мил-
лиона человек — оно достигло в 1932 г., а уже в 1946 г. составляло
менее 600 тысяч человек), однако все больше становилось депор-
тированных по национальному признаку. В 1949 г. их было более
2,5 миллионов, что свидетельствовало о постепенной переориен-
тации на этнические и национальные группы репрессивной поли-
тики режима, который в начале своего существования хвастался
тем, что принципиально обращает внимание исключительно на
социальную принадлежность своих граждан, однако начиная с вы-
сылки в Среднюю Азию в 1937 г. всех корейцев, проживавших на
советском Дальнем Востоке, числом 172 тысячи человек, сделал
депортацию целых народов своей обычной практикой. За депорта-
циями с территорий, оккупированных после заключения пакта
Молотова — Риббентропа, последовала высылка миллиона граждан
немецкого происхождения в 1941 г. В 1944 г. та же судьба постигла
карачаевцев (69 тыс. чел.), калмыков (80 тыс. чел.), чеченцев
(310 тыс. чел.), ингушей (80 тыс. чел.), балкарцев (37 тыс. чел.),
крымских татар (200 тыс. чел.), турок-месхетинцев (86 тыс. чел.), а
также болгар, греков и армян с побережья Черного моря. После
победы дошло дело и до крупных операций по этнической и соци-
альной чистке территорий, аннексированных СССР, жертвами
которых стали десятки и сотни тысяч человек33.
Сегодня невозможно установить наверняка, действительно ли
Сталин незадолго до конца своего правления готовил депортацию
всего еврейского населения Советского Союза, однако многие
признаки, помимо того что вышеописанная практика стала при-
вычной, указывают по крайней мере на правдоподобность такой
33 Земсков В.Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и
высланные // История СССР. 1991. № 5. С. 151—161; Он же. ГУЛаг (Историко-со-
циологический аспект) //Социологические исследования. 1991. № 6. С. 10-27; №
7. С. 3-16; Он же. Судьба кулацкой ссылки (1930-1954 гг.) // Отечественная исто-
рия. 1994. № 1. С. 118-147; Martin Т. Origins of Soviet Ethnic Cleansing; Бугай Н.Ф.
Л.Берия — И.Сталину: «Согласно Вашему указанию...» М.: Аиро-ХХ, 1995; Бу-
гай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в эшелонах (20—60-е годы). М.: Инсан, 1998;
Полян П. Не по своей воле... История и география принудительной миграции в
СССР. М.: ОГИ, 2001. Некоторые основные итоги исследований Н.Ф.Бугая см.:
Marie J.J. Les peoples deportes d’Union sovietique. Bruxelles: Complexe, 1995. Более
пространная и взвешенная работа: Pohl О. Ethnic Cleansing in the USSR. 1937-
1949. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1999. См. также интересную книгу этого
же автора: The Soviet Penal System. Jefferson, N.C.: McFarland, 1997.
72
гипотезы, широко дискутирующейся в настоящее время: вспом-
ним, к примеру, кампанию борьбы с космополитизмом, «разобла-
чение» в январе 1953 г. так называемого заговора врачей, в боль-
шинстве своем евреев, как прозрачно намекала печать. К тому же
весьма впечатляющее чтение представляют собой донесения орга-
нов внутренних дел, поступавшие Сталину в последние недели его
жизни. В них с плохо скрытым удовлетворением сообщается о
росте антисемитизма среди населения, обстоятельно перечисля-
ются «высказывания» о необходимости разделаться с евреями, го-
ворится о тревоге, воцарившейся в еврейских общинах14.
Раскручивание маховика репрессий, находящееся в резком
противоречии с большими надеждами послевоенной поры, кото-
рые Сталин отнюдь не собирался реализовать, и новым самосоз-
нанием «советского народа» — мифической общности, которой
война придала кое-какое реальное содержание, — обретенным в
боях с нацистской Германией, в 1952 г., казалось, вновь служило
прелюдией к атаке на элиту системы, и так уже перенесшую гоне-
ния, не имевшие аналогов при других «тоталитарных» режимах
(аналоги появятся лишь потом в маоистском Китае).
Как вспоминал Лев Разгон, в ближайшем окружении Сталина
тогда «трудно было найти человека, у кого не был арестован кто-
то из более или менее близких родственников». В лагерь попали и
невестка Ворошилова, и жены Молотова и Калинина (последний,
все эти годы являвшийся номинальным главой государства, гово-
рят, унижаясь и рыдая, вымолил у Сталина позволение провести *
34 Madievski S. 1953: la deportation des juifs sovietiques ctait-elle programmee? //
Cahiers du monde russe. 2000. Vol. 4. P. 561—568; Kostyrchenko G.B. Out of the
Shadows. Anti-Semitism in Stalin’s Russia. Amherst, N.Y.: Prometheus, 1995; Костыр-
ченко Г.Б. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М.: Международ-
ные отношения, 2001; Rapports secrets sovietiques. Р. 585-595. Почти за двадцать
лет до начала сталинской «борьбы с космополитизмом» Нэмир пророчески писал:
«Когда средние классы на континенте прониклись антисемитским духом, кое-кто
из евреев стал возлагать свои надежды на социализм, называя антисемитизм бур-
жуазным явлением, как когда-то называли его феодально-клерикальным предрас-
судком. Но нет причин, мешающих коммунизму стать ультранационалистиче-
ским и антисемитским. Капитализм вначале, со своим индивидуализмом и требо-
ваниями экономической свободы, был интернационален; коммунизм, стремя-
щийся к национализации экономики, по сути своей национален, и его интерна-
ционализм выдохнется, так же как выдохся интернационализм Французской ре-
волюции. И тогда - горе тому, кого сочтут чужаком в социалистическом общест-
ве» (In the Margin of History. New York: Books for Libraries Press, 1969. P. 76).
73
остаток жизни с супругой). Хрущев рассказывал в 1956 г. членам
ЦК польской компартии, разъясняя им свой секретный доклад на
XX съезде КПСС, как его коллеги по Политбюро, услышав, что
Сталин пригласил его провести вместе выходные, выражали ему
свои соболезнования и велели благодарить Бога, если он вернется
после этих выходных живым35.
Кошмар закончился со смертью Сталина и произошедшим после
нее поворотом к реформам, в котором, как мы видели, принял уча-
стие даже человек, до тех пор прочно ассоциировавшийся с нарас-
тающими репрессиями. Реформистские устремления, совершенно
очевидно, вдохновлялись не только страхом и желанием жить спо-
койно, царившими среди правящей верхушки, которой в 1952 г., так
же как и в 1937—1938 гт., приходилось опасаться за собственную
участь, но и новым менталитетом, рожденным победой в войне. С
этой точки зрения, тот, кто взялся бы провести реформы, т.е. осво-
бодить большинство узников, отменить законы против абортов и
разводов, упразднить антирабочее законодательство 1938—1940 гт.,
начать вкладывать крупные средства в социальную сферу, встал бы
тем самым во главе такой советской системы, которая была легити-
мирована победой и держалась на пакте, заключенном с народом во
время войны и преданном Сталиным в 1945—1953 гг. Понадобилось
всего три года, чтобы символически предать казни тирана на XX
съезде; через восемь лет, в октябре 1964 г., номенклатура, отправив
Хрущева на пенсию, показала, что теперь она сильнее вождя, полно-
стью перевернула взаимоотношения, установившиеся еще при Ле-
нине, и сделала себя несменяемой, ускорив тем самым процессы, ве-
дущие к тому, что впоследствии получило название «застоя»36.
35 См. отрывок из «Непридуманного» Л.Разгона: GULag. Il sistema dei lager in
Urss / A cure di M.Flores, F.Gori. Milano: Mazzotta, 1999. P. 13-24; Khrushchev’s
Second Secret Speech I Ed. by L.W.Gluchowski // Cold War International History
Project Bulletin. 1998. Vol. 10. P. 47.
36 Объясняя перемены в высших эшелонах Советской власти, Бертрам Вольф
сформулировал остроумный «закон измельчания диктаторов» (см.: Treadgold D.W.
Twentieth Century Russia. Boulder, Colo.: Westview, 1995. P. 385): от Ленина, «чело-
века, действительно державшего все в своих руках», к Сталину, «интеллектуально
ограниченному, но всемогущему», далее к Хрущеву, который мог гораздо меньше,
но «хорошо умел создавать видимость», и, наконец, к Брежневу (не говоря уже о
Черненко), «не представлявшему собой вообще ничего». В этой щутке больше
смысла, чем в целой цепочке серьезных аналитических рассуждений. Уже будучи
в агонии, режим попытался спасти себя, вновь предавшись в руки сильных лично-
стей, но слишком инертен был материал, с которым тем пришлось иметь дело.
74
Категория «тоталитаризм» поэтому не слишком подходит
для характеристики советской истории. Однако речь идет не о
том, чтобы отказаться от нее: просто следует пойти дальше в
поисках понятий, которые могут дать лучшее представление о
событиях в стране и пройденном ею пути, кратко намеченном
выше. В этом плане мне представляется более справедливым
говорить о советском опыте построения новой социально-эко-
номической системы — совпавшем, в силу убеждений самих
строителей и связи его с опытом войны, с пиком вмешательст-
ва государства в сферу экономики — посредством тирании,
или, точнее, ряда тираний нового типа, сильно различающихся
между собой, среди которых особое место занял сталинский
деспотизм.
Опираясь на тезисы Левина о регрессивном влиянии войны,
революции и гражданской войны на общество царской России,
современный сектор которого — город, интеллектуальные, про-
фессиональные и предпринимательские круги — был в результате
сильно ослаблен, если не вообще уничтожен, а деревня все более
возвращалась к натуральному хозяйству, можно было бы утвер-
ждать, что события 1914-1922 гг., в значительной степени подор-
вавшие и разложившие власть и традиционные социальные отно-
шения, создали в возникшем на их обломках Советском Союзе
идеальные условия для тирании, почти совершенной, т.е. наибо-
лее свободной от рамок предшествовавших государственных, со-
циальных и религиозных структур. Именно в этом контексте, к
которому добавились последствия новой войны, развязанной в
1929 г. против крестьян, Левин позднее заявлял, что «власть Ста-
лина в его стране (и над ней) была более абсолютной, чем власть
Гитлера, хотя и не настолько велика, чтобы удовлетворить его са-
мого»37.
Подобная свобода — наряду с другими факторами, в первую
очередь идеологическими, — способствовала постоянному вос-
производству первоначальной ленинской тирании в виде це-
лой цепи сменявших друг друга тираний, каждое звено кото-
рой несло на себе отпечаток породивших его событий и лично-
37 Lewin М. The Making of the Soviet System. New York: Pantheon, 1985. P. 295—
370; Idem. Russia, USSR, Russia. P. 218. Так что и Левин некоторым образом при-
соединяется к Спенсеровой интерпретации влияния войны, революции и граж-
данской войны.
75
сти персонифицировавшего его тирана, сохраняя к тому же (за
исключением самого первого) какие-то черты своего предше-
ственника.
Такая гипотеза, позволяющая также разрешить проблему
связи между ленинизмом и сталинизмом, понять как их сходст-
во, так и их различия, на первый взгляд кажется убедительной.
Но как объяснить само появление этой новой системы и этой
цепи тираний?
Мы уже видели, насколько очевидна, даже на первый взгляд,
их связь с другими современными им европейскими феноменами.
Поэтому удовлетворительное объяснение не должно исключать
европейский опыт периода после первой мировой войны и даже
происходившее в Османской империи, а затем в Турции после ре-
волюции 1908 г. и балканских войн.
Отмечалось также, что история XX века изобилует примерами
режимов, во многих отношениях схожих с теми, которые мы здесь
рассматриваем, особенно после 1945 г., в странах, возникших по-
сле распада колониальных европейских империй. Таким образом,
мы имеем дело с проблемами и явлениями, имеющими, по край-
ней мере внешне, более общую природу, проявившимися сначала
в Европе, а затем распространившимися и на другие географиче-
ские регионы, включая в себя все новые и новые факторы и новые
их комбинации.
Я выдвинул также гипотезу, что среди этих явлений особен-
ное значение имеет быстрое возникновение десятков новых го-
сударств, стремящихся утвердиться в условиях острой конку-
ренции, а то и войны, на международной арене и при этом
зачастую внутренне очень слабых. С этой точки зрения, по-
скольку многообразный характер этих государств и современ-
ные реформы суть феномены, возникшие еще до XX столетия,
так же как до него начались великие трансформации, привед-
шие к их появлению, нам нельзя в своих рассуждениях ограни-
чиваться одним XX веком.
Предвосхищая некоторые заключительные выводы данной
книги, следует добавить, что в общей перспективе, отвлекаясь от
особенностей режимов, рожденных первой мировой войной или
испытавших на себе ее влияние, представляется правомерным ут-
верждение, что чем больше усилий прилагалось для создания (или
возрождения) этих государств, чем ненадежнее была обстановка, в
которой им приходилось действовать, чем острее — унижения, ис-
76
тинные или воображаемые, которым они (их элита, их народ) под-
вергались, и чем более слабой, неоднородной или «отсталой» была
база нового (или перестраивающегося) государства, тем интенсив-
нее эту базу старались мобилизовать, тем более «приемлемыми»
казались принудительные методы, тем сильнее переплетались по-
литика и экономика и тем вероятнее становилось появление деге-
неративных феноменов, связанных с систематическим примене-
нием насилия.
Главным элементом мобилизации базы новых или находящих-
ся в процессе восстановления государств стала, по выражению
Мосса, «национализация масс». Выражение это не совсем удачно,
поскольку в принципе исключает аналогичные процессы, осно-
ванные на ненациональных идеологиях, например советской (и по
крайней мере в некоторых отношениях — идеологии Соединенных
Штатов38). Но один разок можно им воспользоваться, пояснив,
что речь идет об особом проявлении более общего феномена — но-
вом уровне вовлечения населения в жизнь государства при кон-
троле за ним со стороны последнего.
Важнее подчеркнуть, что эти процессы, инициируемые сверху,
переплетались со стихийными явлениями, связанными с чрезвы-
чайным демографическим бумом и переходом традиционных аг-
рарных обществ к обществам урбанистическим и индустриаль-
ным. Все это началось в XVIII в. в Европе, постепенно распро-
странилось на весь остальной мир, а там, где начиналось, уже,
можно считать, закончилось, сменившись в корне иными тен-
денциями.
Модернизация, в свою очередь, вызвала к жизни различные
формы мобилизации населения, создала - при общем улучшении
условий существования — обширные районы, для которых харак-
38 Мне кажется неверным называть «национализацией» интенсивнейшие и за-
частую успешные усилия, неоднократно предпринимавшиеся США, чтобы асси-
милировать иммигрантов и построить свою «национальную» культуру. В действи-
тельности от американцев требовалось разделять космополитические просвети-
тельские ценности XVII в., не имеющие, по крайней мере в принципе, ничего об-
щего с этнической или религиозной идентичностью (хотя, естественно, некоторое
фактическое родство между этими ценностями и этнорелигиозной идентично-
стью существовало). Ужасный, но, наверное, более точный неологизм «граждани-
зация» больше подходит для обозначения политики США, проводившейся с боль-
шой решимостью, но и с большой гибкостью, собственно, без прямой апелляции
к национальной культуре, типичной, например, для французов или итальянцев.
77
терны утрата населением социальных корней и психологическое
отчуждение от своей страны, спровоцировала появление социаль-
ных слоев и групп, мало и плохо приобщенных к культуре, за-
стрявших между старым и новым мирами, тяготеющих к элемен-
тарным идеологическим схемам. Таким образом, внизу тоже
сложились настроения и ожидания, необходимые для возникнове-
ния и распространения новых верований и моделей поведения, в
том числе самого брутального характера.
Если перейти от общей картины к режимам, о которых мы го-
ворили с самого начала, имеет смысл предположить, что действие
на обрисованном выше фоне сильных искажающих элементов оп-
ределенного типа могло — и все еще может там, где указанные
процессы до сих пор не завершились, - привести к «аберрациям»,
воплощенным в данных режимах.
Ответ на заключительный вопрос при анализе советского опы-
та — как объяснить возникновение этой новой системы и харак-
терной для нее цепи тираний? — следует поэтому искать в двух
различных плоскостях. Прежде всего необходимо найти почву, в
которой укореняются подобные режимы и которая обусловила
большинство встающих перед ними проблем. Это значит — про-
анализировать европейский опыт эпохи, предшествовавшей пер-
вой мировой войне, в частности различные этапы процессов
строительства государства, организации и массификации общест-
ва, полным ходом шедших уже в конце XIX в., а также их распро-
странения на восточную часть континента. Этому опыту посвя-
щен следующий раздел книги, где я в каком-то смысле иду по
стопам Х.Арендт, не разделяя, однако, ее способов анализа и ме-
тодологических приемов, а в особенности ее финализма. Главным
предметом моего внимания будет не поиск истоков, а выделение
тех элементов сложного настоящего, которые, не предопределяя
будущее, как бы отбирались в ходе дальнейших событий, способ-
ствовавших им и питавших их.
Затем мы исследуем непосредственные причины возникнове-
ния европейских тираний XX в., наложившие на последние свой
отпечаток. Эти причины представляют собой уже упоминавшийся
блок событий: революции 1905—1908 гг. — балканские войны —
первая мировая война — «гражданская война в России» — величай-
ший фактор, исказивший уже идущие процессы и вызвавший к
жизни новые явления, которым будет посвящена третья часть
книги.
78
Часть атораа
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН, 1789-1905
Глава третья
ВЕЛИКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Анализируя исторический фон, на котором возникли
рассматриваемые здесь феномены, необходимо проводить разли-
чие между данными феноменами вообще и теми особыми форма-
ми, которые они приняли в Восточной Европе — регионе, предна-
значенном судьбой для того, чтобы стать «зоной кризиса» (по
выражению И.Беренда1), откуда в минувшем веке по всему конти-
ненту распространились новые, ужасные феномены великой евро-
пейской войны.
В обоих случаях целесообразно принять за точку отсчета
1789 год1 2, принесший государственно-политические переме-
ны, для нас наиболее важные из всех тех, которые, взаимо-
действуя друг с другом, ускоренными темпами шли в Европе
XVIII в.3 С нашей точки зрения, долгий XIX век в Европе на-
чался с возникновением во Франции государства нового
типа, способного мобилизовать экономические, идейные и
1 Berend I.T. The Crisis Zone of Europe. An Interpretation of East-Central European
History in the First Half of the Twentieth Century. New York: Cambridge University
Press, 1986.
2 Стремление оставить Французскую революцию и наполеоновский период за
рамками новейшей истории, начиная ее с Венского конгресса, либо вообще огра-
ничить ее исключительно XX веком (и то и другое характерно для учебных про-
грамм по истории Италии), по-видимому, объясняется непониманием того, что
каждый исторический период отличается внутренним единством проблематики, и
верное определение его хронологических рамок имеет важнейшее значение для
осмысления этой проблематики.
3 Среди них - перемены демографические и социально-экономические, а так-
же не менее важные сдвиги в сфере культуры, поведенческих навыков, психоло-
гии и семьи, тесно с ними связанные.
81
демографические ресурсы страны намного эффективнее, чем
это было в прошлом и чем могли его конкуренты в настоя-
щем4.
Нас не должно удивлять, что подобные перемены впервые
начались во Франции. Согласно О.Хинце, именно Франция в
XVI—XVII вв. стала родиной первого «рационального» государ-
ства, и революцию, как довольно быстро понял Токвиль, можно
было рассматривать как некий качественный скачок в эволю-
ции этого государства, связанный в том числе с неоднократны-
ми и неожиданными поражениями, которые потерпела все еще
самая могущественная и наиболее густонаселенная европейская
страна в XVIII в.
Возникновение первого рационального государства совпало
с зарождением «европейской системы государств», как впо-
следствии назвал ее Л.Ранке. Ускоряя и постепенно распро-
страняя на весь континент процесс, начавшийся в XV в. в Ита-
лии, эти два феномена - государство нового типа и система
государств придали европейской истории новую динамику,
выразившуюся в расширении системы за счет Центральной и
Западной Европы в XVI—XVII вв., Северной и Восточной Ев-
ропы — в XVIII в.5
Двигателем расширения стало соперничество независимых го-
сударств, в котором Ранке неизменно видел суть открытой им
«системы» и одной из пружин которого он, подобно Маколею или
4 Франко Вентури (видный итальянский историк, антифашист, специалист по
эпохе Просвещения, автор важного труда по истории русского народничества)
считает, что новую эру открыли Кучук-Кайнарджийский мир (1764), положивший
начало распаду Османской империи, и американская революция (Settecento
riformatore. Torino: Einaudi, 1984). Эта гипотеза представляется во многих отноше-
ниях справедливой и плодотворной. Правда, как и в случае с 1956 годом, имеет
смысл говорить не о той или иной конкретной исторической дате, а об определен-
ных проблемах, характеризующих те или иные исторические периоды, границы
которых неизбежно будут неустойчивы и нечетки. А с этой точки зрения, хотя и
восточный вопрос, и американская революция, несомненно, имеют достаточно
важное значение, ключами к пониманию последующей европейской истории ос-
таются все-таки Французская революция и наполеоновская эпоха, с одной сторо-
ны, и промышленная революция - с другой.
5 Chabod F. Storia dell’idea d’Europa. Bari: Laterza, 1961. P. 46—55; Febvre L.
L’Europe. Gendse d’une civilisation. Paris: Perrin, 1999. P. 181—182; The Formation of
National States in Western Europe / Ed. by C.Tilly. Princeton, N.J.: Princeton Univer-
sity Press, 1975.
82
Ренану, считал военную модернизацию. Вооруженные силы раз-
ных стран, писал Ранке, «стремились обзавестись любой вещью,
которая оказывалась сколько-нибудь полезной соседям или вра-
гам». Для Маколея, использовавшего похожую схему, легко своди-
мую к эволюционистской модели, модифицированной благодаря
наличию волюнтаристского фактора, наиболее важной инноваци-
ей - плодом «случайной» мутации — было появление регулярной
армии, что, по его мнению, оказалось достаточно для утверждения
абсолютизма на континенте. Если «какое-то государство создава-
ло крупную регулярную армию», этого хватало, чтобы вынудить
«соседние государства, в страхе перед иноземным игом, сделать то
же самое» и дать почувствовать власть короны вооруженным граж-
данам, до недавнего времени составлявшим войско в случае
нужды6.
До 1789 г. пределы модернизирующих усилий и реформ ев-
ропейских государств — участников «гонки» в целом определя-
лись необходимостью создания и содержания современной ре-
гулярной армии. Поэтому они были довольно ограниченными:
как показал пример империи Петра Великого, чтобы стать ве-
ликой державой, тогда было достаточно модернизировать не-
большие сектора — научно-академический, бюрократический,
военно-промышленный — и создать фискальный аппарат, необ-
ходимый для выкачивания из страны ресурсов, дабы содержать
их и новую армию7.
В 1789 г. равновесие этой системы нарушило появление ново-
го игрока, присовокупившего к прежнему превосходству в ресур-
сах и населении превосходящую способность к мобилизации и,
следовательно, потенциальное превосходство в силе. К такому
скачку эффективности, с одной стороны, привело изменение
форм и методов управления, в котором отныне кардинальную
роль стал играть разум, т.е. наука и технологии, в том числе пра-
вовые и статистико-административные, а с другой (и прежде все-
го) - «национализация». Последнюю следует понимать здесь как
принцип, позволяющий радикально преобразовать все, что имеет
отношение к государственной власти, дабы приспособить ее к
6 Laue Т.Н. von. Leopold Ranke. The Formative Years. Princeton, N.J.: Princeton
University Press, 1950. P. 159, 167; Macaulay T.B. The History of England from the
Accession of James the Second. Vol. I—VI. New York: Ams Press, 1968 (Introduction).
7 Pintner W.M. Russia as a Great Power, 1709—1856 / Kennan Institute for Advanced
Russian Studies. Paper 33. Washington, D.C., 1978.
83
новой действительности. Как пишет Люсьен Февр, во Франции
1789 г. «все, что было королевским, становится национальным:
национальные финансы, национальная армия, национальные уч-
реждения, национальное правосудие...». Национальной, добавля-
ет он, была и сама революция, использовавшая именно этот
принцип, чтобы добиться рационализации и укрепления государ-
ственной власти8.
Повторяя слова Хинце, описывавшего последствия возникно-
вения первого современного французского государства в XVI в.,
«следовать примеру» (нового образования) вновь «стало необходи-
мостью для других европейских государств, желавших сохранить
свою независимость»9. Не подчиняться этой необходимости было
трудновато. Пример и вдохновляющий стимул революции, необы-
чайный успех и широкое распространение первой светской квази-
религии, контакт с Наполеоном и его армиями, которые смогли —
в том числе благодаря levee en masse, т.е. мобилизации населения,
именно таким образом «национализировавшегося» (и делавшего-
ся собственностью государства10 11), — занять и Египет, и огромные
территории Восточной Европы, ясно показали всем, что начина-
ются новые времена. Ранке писал спустя некоторое время: «Про-
исходит раздел мира. Чтобы стать кем-то, нужно полагаться на
собственные силы. Надо завоевывать подлинную независимость.
Ничьи права не будут признаны сами собой. За них нужно будет
бороться»11.
8 Febvre L. L’Europe. Р. 220, 240.
9 The Historical Essays of Otto Hintze / Ed. by F.Gilbert. New York: Oxford
University Press, 1975. P. 174; Schiera P. Otto Hintze. Napoli: Guida, 1974; Idem. Otto
Hintze, State e societa. Bologna: Zanichelli, 1980; Di Costanzo G. Otto Hintze. Storia,
sociologia, istituzioni. Napoli: Morano, 1990; Violante P. Otto Hintze. State e esercito.
Palermo: Flaccovio, 1991.
10 С определенной точки зрения, воинскую обязанность можно интерпретиро-
вать как более мягкое, «западное» проявление того усиления подчинения государ-
ству (закрепощения) и роста милитаризма, которыми сопровождались попытки
рождения и возрождения государства в Восточной Европе, например, в петров-
ской России и даже допетровской Руси, на базе которой Петр построил свою им-
перию, если правда, что с ее возникновением связано введение заново и ужесто-
чение крепостного права. Разумеется, «национализация» армии, оборотная сторо-
на воинской обязанности, есть выражение и один из этапов завоевания вооружен-
ных сил народом. И наоборот, см. ниже прим. 12 о связи между военной модерни-
зацией и государственной реформой.
11 Ranke L. Politisches Gesprach (1836) // Laue Т.Н. von. Leopold Ranke. P. 167.
84
Для этого уже не хватало «военной машины Фридриха Велико-
го, когда-то удерживавшей пальму первенства», теперь же «полно-
стью разложившейся и бессильной» (эти слова принадлежат Рена-
ну, доказывавшему, что «военные организации сменяют друг
друга, как модели машин в промышленности»12). То же самое
можно было сказать и об устаревших аппаратах, необходимых для
ее содержания. В итоге новая эпоха ознаменовалась новой волной
попыток построить и/или возродить государство, ориентируясь в
основном на французскую модель, даже в тех случаях, когда они,
как в Испании и Пруссии, вдохновлялись борьбой против Фран-
ции. Эта волна вырвалась и за пределы Европы, докатившись, в
частности, до Латинской Америки, где на нее тотчас же наложи-
лось движение за деколонизацию, но в первую очередь она захле-
стнула Европейский континент, особенно его южные, централь-
ные и восточные регионы.
Подобные попытки носили различный характер и зачастую
представляли собой некий гибрид разных типов государственного
строительства. Новые государства рождались в ходе объединения
раздробленных прежде территорий, в результате изгнания оккупан-
тов, в борьбе против иноземного врага (так было и в Европе, и в Ла-
тинской Америке, что свидетельствовало о вероятной тесной связи
между государственным строительством и процессами освобожде-
ния, более или менее национального, при этом возникли — прежде
всего в Германии — некоторые ключевые политико-экономические
категории, вошедшие впоследствии в лексику национально-осво-
бодительных движений), либо предпринимались усилия с целью
реформировать, т.е. модернизировать, существующие государства и
империи, опоры власти в которых уже зашатались.
Разумеется, речь идет о сравнительно медленных процессах,
проходивших в своем развитии различные этапы, которые в
12 Renan J. Oeuvres diverses. Paris: Laffont, 1984. P. 617. Здесь предугадано одно из
свойств армии как прототипа и ядра «военно-государственных» систем и их адми-
нистративных методов, к которым, согласно нашей гипотезе, во многом вернулся
СССР: консервативное, противящееся всяким новшествам, носившее многочис-
ленные черты отсталости государство из-за конкуренции с соседями было вынуж-
дено совершать спорадические, но при этом радикальные «революции сверху».
Благодаря той же самой конкуренции внутри него существовали и время от вре-
мени перехватывали инициативу отдельные его части, которые в отсталых странах
бывают более современными, чем государство и поддерживающее его общество в
целом.
85
общих чертах можно соотнести с традиционным трехчастным
хронологическим разделением XIX века. За первым этапом,
продолжавшимся от Великой французской революции до
1848 г., во время которого разворачивалась первая промыш-
ленная революция, последовал второй, ознаменовавшийся
объединением Италии и Германии и второй промышленной
революцией. Его, в свою очередь, в последней четверти века
сменил период господства (по крайней мере в континенталь-
ной Европе) германской модели, постепенного распростране-
ния протекционизма и государственного вмешательства в со-
циально-экономическую сферу, развития национальных дви-
жений и рождения новых государств в Восточной Европе наря-
ду с неуклонно обостряющимся кризисом национальностей,
доминировавших до тех пор, и завершением превращения на-
циональных европейских государств в имперские благодаря
политике колониализма.
Повторим, что медленность этих процессов относительна: на
рубеже XIX—XX вв. политическая карта Европы и мира радикаль-
но изменилась. И хотя эти изменения действительно происходили
в несколько разных этапов, мне представляется возможным объе-
динить их в одну фазу, начало которой положили Великая фран-
цузская революция и промышленная революция. С этой точки
зрения, полагаю, можно датировать несколькими десятилетиями
ранее тот поворот европейской истории, который Чарлз Майер
относит к 1860 г., справедливо связывая его с усилением государ-
ства и развитием конкуренции между государствами13. Только так,
кажется мне, мы можем вскрыть его истоки и понять характерные
особенности.
То же самое верно и в отношении процессов «национализа-
ции» масс, т.е. завоевания масс государством, и наборот. Ко-
нечно, превращение «из крестьян во французов»1'1 (не говоря
уже о превращении из крестьян в итальянцев или русских)
было долгим и трудным, шло неровно, и получавшаяся в ре-
зультате пестрая картина даже во Франции приняла единый
облик только к концу XIX в. Еще медленнее и противоречивее
13 Maier C.S. Secolo corto о ероса lunga? L’unita storica dell’eta industriale e le trasfor-
mazioni della territorialita // Parolechiave. 1996. Vol. 12. P. 41-73.
и Weber E. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870—
1914. Stanford: Stanford University Press, 1976.
86
был сопутствующий ему процесс превращения моноклассового
государства в плюриклассовое (терминология М.С.Джанни-
ни15), который ускорился благодаря распространению всеоб-
щего избирательного права. Но и в данном случае, по моему
мнению, есть все основания увидеть первый важный рывок в
обоих направлениях во Франции с ее национальной революци-
ей и «Марсельезой», которая не случайно в продолжение всего
XIX столетия оставалась гимном демократических сил во всех
странах.
Государство, желавшее или вынужденное решать задачу об-
новления, особенно в великих империях Восточной Европы (и
не только в них), в основном было тождественно изначальному
ядру досовременных государств, состоявшему из силовых и ко-
мандных аппаратов — суда, армии, полиции, управленческой бю-
рократии, прежде всего фискальной, — поглощавших львиную
долю бюджета16.
Именно в силе государства такого типа, а не только во влиянии
старых аристократических элит, как бы тесно они ни были с ним
связаны, следует искать корни живучести власти «старого режима»
в «буржуазной» Европе XIX в., которую подчеркивал Арно Майер,
а до него с присущей ему проницательностью анализировал Шум-
петер17.
Эта сила вместе с влиянием французской модели, сходством
проблем, которые необходимо было решить, и жизнестойкостью
крестьянского мира легли в основу «континентального опыта»,
как можем мы сказать, пренебрегая достаточно очевидными раз-
личиями между Западной и Восточной Европой. Майкл Конфино
настаивает на важном значении данного опыта, который можно
представить в виде шкалы, градуированной не только сообразно
уровню социально-экономического развития, но и в соответствии
со сложностью национальных и религиозных факторов. На одном
ее конце будет располагаться Франция, на другом - османская
15 Giannini M.S. Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche. Bologna: Il
Mulino, 1986.
16 Cp.: Finer S.E. Conceptual Prologue // Finer S.E. The History of Government.
Vol. I: Ancient Monarchies and Empires. Oxford: Oxford University Press, 1999; Gian-
nini M.S. Il pubblico potere.
17 Schumpeter J.A. Imperialism and Social Classes. New York: Kelley, 1951; Mayer A.J.
The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War. New York: Pantheon,
1981.
87
Турция, а в промежутке — Германия, габсбургская Австро-Венг-
рия и царская Россия.
Поскольку суть французских новшеств заключалась в национа-
лизации, большие многонациональные империи, уже отягощен-
ные «старым режимом», вступали на путь модернизации государ-
ственной структуры нового типа, будучи во вдвойне невыгодном
положении. К этой теме мы вернемся в следующей главе, теперь
же — отметим, что для всех этот путь усложняла еще и вторая —
поначалу менее бросающаяся в глаза — великая перемена, свер-
шавшаяся тогда в Европе: промышленная революция.
В действительности речь шла не только о том, чтобы постро-
ить государство нового типа, которое было бы способно больше
и лучше мобилизовать уже имеющиеся ресурсы, рационализиро-
вать их использование и, желательно, заботиться об их развитии.
Появление промышленности и ее значение для могущества раз-
ных стран ставили каждое государство перед необходимостью
обеспечить наличие на своей территории ресурсов и мощностей
нового типа. Конечно, можно было отчасти предупредить их не-
хватку, наращивая мобилизационные усилия государства (т.е.
интенсифицируя процессы «национализации»), и наоборот: по-
зволить себе отстать на пути строительства или перестройки го-
сударства, отдав пальму первенства промышленному развитию.
Но компенсация здесь была возможна лишь до определенных
пределов, и никому не удавалось полностью ограничиться только
одним из двух видов модернизации.
Еще более верно это для второй фазы промышленной револю-
ции, связанной с развитием железных дорог, машиностроения и
черной металлургии, от которых напрямую стала зависеть мощь и,
следовательно, независимость государства (текстильная промыш-
ленность не обладала такой привлекательностью в глазах государ-
ства, разве что косвенно, ввиду больших доходов, которые она
могла дать).
Здесь мы видим причины свершившегося в то время крутого
перехода к вмешательству государства в экономику, что, в свою
очередь, было основным компонентом более крупного скачка на
пути к этатизму в Европе середины XIX в., после того как победо-
носно завершились процессы объединения в Италии и Германии.
Как нам уже известно, ряд авторов по понятным причинам выде-
лили эти феномены как положившие начало долгому периоду гос-
подства государства в европейской истории.
88
И снова мне кажется, что новую ситуацию в наибольшей степе-
ни предопределили два экстраординарных изменения, произошед-
шие ранее: промышленная революция и появление нового государ-
ства, рационализированного и «национализированного». Они за-
ставили старые государства, пошатнувшиеся в результате происхо-
дивших событий, и новые, только зарождающиеся и потому такие
же, а может быть, и более непрочные, неуклонно продвигаться впе-
ред по дороге, проложенной гораздо раньше, которую Ранке сумел
увидеть уже в 1836 г. Размышляя о появлении и функционировании
европейской системы государств, он нащупал связь между попыт-
ками строительства и перестройки государства, усилением цен-
тральной власти и экономическим интервенционизмом, заметив,
что «положение государства в мире зависит от степени независимо-
сти, которой оно добилось. Поэтому оно обязано организовать все
свои внутренние ресурсы ради собственного самосохранения. Это
высший закон государства». Хинце затем развил и углубил гипоте-
зы Ранке. Рассматривая абсолютизм и меркантилизм, он писал, что,
для того чтобы стать «независимыми политическими силами», госу-
дарства XVII—XVIII вв. должны были «подчинить этой цели весь во-
енный и финансовый потенциал своих территорий, используя в ка-
честве инструмента сильную монархическую власть»18.
С появлением промышленности и мобилизацией масс этот во-
прос в известном смысле остался тем же, но формулировка его ра-
дикально изменилась, в том числе и потому, что индустриализация,
модернизация и «национализация» по большому счету означали
начало или ускорение процесса, который должен был привести на
смену государствам «старого режима» иные системы, весьма от них
отличающиеся. Впоследствии этот процесс завершился войной-ре-
волюцией, которую мы будем рассматривать в третьей части.
Трансформация началась и в тех странах, где индустриализация
в основном была направлена на создание или расширение «военно-
промышленных комплексов», опирающихся на железные дороги и
тяжелую индустрию, зачастую субсидируемых, а то и полностью
контролируемых старым государством, пытавшимся с их помощью
восстановить опору своей власти. Иными словами, даже там, где
старались максимально ограничить необходимые изменения, все
равно начинались перемены огромного значения, неизбежно в ито-
18 Hintze О. Kalvinismus und Staatsrason // The Historical Essays of Otto Hintze.
P. 153.
89
ге соединявшиеся co стихийными трансформациями общества, пе-
реживавшего быстрый демографический рост, что придавало этим
переменам дополнительную силу и ускоряло их темпы. Примеча-
тельным в этом отношении мне кажется пример С. Ю. Витте, вели-
кого апологета индустриализации и модернизации царской России,
который, стремясь к прогрессивному перерождению (в либераль-
ном смысле) империи, собственно, и возлагал свои надежды на
взаимодействие инициативы государства и развития снизу. Пред-
восхищая заключение настоящей главы, возьму на себя смелость
утверждать, что надежды эти были обоснованны, но главным усло-
вием их осуществления был длительный период мира, благодаря
которому движение снизу со временем могло бы обогнать государ-
ство и модифицировать его действия на пути к укреплению своей
мощи. Увы, напряженность, нараставшая в Европе в конце XIX в.,
особенно (хотя и не исключительно) в восточной ее части, сделала
это условие в высшей степени нереальным.
Не случайно, если взять характер перемен во Франции, обнов-
ление и усиление, по сравнению с временами меркантилизма,
связей государства и экономики были достигнуты с помощью эко-
номического национализма. После того как Наполеон, объявив
Континентальную блокаду, возвестил о наступлении современной
эпохи с ее сферами влияния и политико-экономическими блока-
ми, решающую роль в этом отношении сыграл немецкий опыт,
который возбудил живейший отклик за рубежом и имел глубокие
идеологические последствия.
Об этом свидетельствует восхищение, с каким относились к его
теоретику Фридриху Листу многие националисты и европейские
государственные деятели (к примеру, и Витте, и Альфредо Рок-
ко — глашатай националистической экономики — называли себя
его последователями)19, а также быстрое распространение в Герма-
нии новой официальной идеологии, государственной экономиче-
ской школы, которая была близка исторической школе Шмоллера
и, подобно ей, основывалась на признании верховенства государ-
ства над экономикой и обществом. Она демонстрировала собой
новый скачок, отражавший в идеологической сфере процессы,
шедшие в политике и экономике. Свою окончательную форму она
19 Spulber N. The State and Economic Development in Eastern Europe. New York:
Random House, 1966; Rothschild J. East Central Europe between the Two World Ware.
Seattle: The University of Washington Press, 1974.
90
приняла под воздействием непрерывной серии экономических
побед, последовавших за победами военными — над Данией, Авст-
рией и Францией; но корни волюнтаризма и субъективизма, воца-
рившихся в последнюю треть XIX в. в социальной и экономиче-
ской сферах (что не согласуется с представлением о культуре, где
доминировал позитивизм), кроются в стремлении к государствен-
ному строительству, приведшем к рождению империи и вызрев-
шем, по словам Шабо (который, правда, говорил об Италии), в ат-
мосфере перехода от нации «ощущаемой» к нации «сознаваемой».
Связь между волюнтаризмом и государственным строительством,
к политико-идеологическим аспектам которой мы вскоре вернем-
ся, станет потом еще более очевидной и поразительной в СССР,
где прямо-таки спровоцирует быстрейшую трансформацию в ги-
персубъективистском смысле идеологии, формально материали-
стической и проникнутой духом позитивизма20.
В основе таких позиций лежало убеждение, что сила и, следо-
вательно, государство как ее максимальное выражение — может
все, ибо оно способно «противопоставить экономическому могу-
ществу свое превосходящее военно-политическое могущество»21.
С этой точки зрения, хотя новые веяния действительно имели
свои интеллектуальные корни в теориях Листа и еше более — Фих-
те22, сохраняя, к примеру, идею превосходства политики над эко-
номикой, выражающегося в политическом руководстве экономи-
ческим развитием23, они извратили некоторые важные аспекты
20 Chabod F. L’idea di nazione. Bari: Laterza, 1961.
21 Современную тому периоду критику распространенной убежденности в при-
мате силы в области экономики, направленную, правда, скорее против примене-
ния «силы» рабочими профсоюзами, чем против вмешательства государства, но
ясно показывающую общую атмосферу, до крайности накаленную войной, см.:
Bohm Bawerk Е. von. Macht oder okonomisches Gesetz? Darmstadt, 1975.
22 Я имею в виду, например, его работу «Закрытое торговое государство» (1800),
где дается модель полностью автаркического национального государства, которое
управляет внутренней экономикой, давая и гарантируя работу своим гражданам и
поддерживая стабильный уровень заработной платы.
23 Теория Листа исходила из признания «неодинакового развития» наций и
предположения, что либеризм не способен исправить ситуацию. Поэтому, прово-
дя аналогию с лесоводством, Лист предлагал нациям не полагаться на волю случая
(что в природе означает естественное осеменение, а в экономике — свободную
торговлю), а установить у себя власть, которая планировала бы развитие. Ср.:
Szporluk R. Communism and Nationalism: Karl Marx versus Friedrich List. New York:
Oxford University Press, 1988.
91
этих теорий, доведя до крайности их националистические, этатист-
ские, иерархистские и реакционные черты24. Рассмотренные под
таким углом, данные веяния представляются скорее возвратом на
позиции меркантилизма, если понимать под меркантилизмом «не
государственное строительство в строгом смысле слова, а государ-
ственное строительство и построение национальной экономики
вместе»25.
Под этой обложкой европейский национализм, под впечатле-
нием от успехов Германии, издал на рубеже XIX—XX вв. свои тео-
рии «национальной экономики». «Германия хотела создать фаб-
ричную промышленность и блестяще преуспела в этом», - писал,
например, в 1914 г. А.Рокко, с одобрением следивший за деятель-
ностью Нитги — «министра производства» у Джолитги26 и, как и
все, восхищавшийся тесной взаимосвязью между государством,
наукой, университетом и экономикой у немцев. Подобные теории
образовали тогда ядро новой экономической культуры, ослеплен-
ной мощью государства. Она существовала во всех странах, про-
низывая всю внутреннюю политическую систему, и оказала силь-
ное влияние на социалистическую мысль, для которой производ-
ство и распределение благ государством представляло собой
наивысший возможный уровень рациональной организации эко-
номики и общества. На определенном этапе пути к такому буду-
щему германские тресты и картели могли показаться высшей фор-
мой социально-экономической организации не только национа-
листическим лидерам вроде Рокко, который с восторгом видел в
них «единый пучок превосходно дисциплинированной воли»,
«гранитный блок людских энергий», но и Ленину вкупе с другими
социал-демократическими руководителями, о которых мы гово-
рили в первой части27.
24 Лист, в теориях которого можно между прочим видеть приложение к эконо-
мической сфере идей, развивавшихся в сфере культуры Гердером, обращавшимся
к государству с просьбой «развивать то, что заложено в нации, и пробуждать то,
что спит в ней», вовсе не отвергал либеральных идеалов. Свобода и развитие у
англосаксов всегда оставались для него примером для подражания.
25 Wilson С. Mercantilism. London: Routledge, 1958. Р. 6.
26 Джованни Джолитги (1842-1928) - лидер итальянской Либеральной партии,
премьер-министр Италии в 1892—1893, 1903—1905, 1906—1909, 1911—1914, 1920—
1921 гг. - Прим. пер.
27 Rocco A. Economia liberate, economia socialista e economia nazionalista // 11
nazionalismo economico. Bologna: Neri, 1914. P. 37, 51. В Италии наряду с Общест-
вами Адама Смита, объединявшими либеральных экономистов, возникла, напри-
92
Возможно, и поклонники, и хулители немецкой модели пре-
увеличивали значение роли государства и чересчур акцентиро-
вали ее признаки. Эту роль в основном исполняли банки, а не-
посредственное вмешательство государства в промышленности
оставалось довольно ограниченным, особенно по сравнению с
тем, что происходило потом во всей Европе во второй половине
XX в. Это подтверждается ничтожной долей государства в вало-
вом национальном продукте, хотя нужно сказать, что федераль-
ные структуры империи имели тенденцию скрывать ее реальные
размеры.
А главное, как отметил Мизес, - величайшей ошибкой было
бы видеть в том, что происходило в Германской империи, послед-
нее слово капитализма. Хотя в представлении о преобладании
воли государства в процессе индустриализации содержалась нема-
лая доля истины, само государство было авторитарным и отста-
лым (Ренан назвал Пруссию, победившую при Седане, страной
«старого режима»); оно строило индустриальный аппарат не соб-
ственными силами, а пользуясь услугами буржуазии, которой ос-
тавляло известную степень свободы, но которую при этом подтал-
кивало, направляло и держало в ежовых рукавицах28.
Забывая или недооценивая роль, которую инициатива снизу
сыграла и в Германии, игнорируя постепенное освобождение час-
ти крупной промышленности от опеки банков и государства, мно-
гие наблюдатели (среди них, как мы знаем, было немало видных
социалистических и националистических политиков) парадок-
сальным образом стали отождествлять сложившуюся в их созна-
нии картину германской экономики, преувеличивающую ее орга-
низованность и огосударствление, с современностью, объявляя
подчинение промышленности и рынка государству «высшей точ-
кой капитализма».
Вспомним, как важно проводить различие между индустриа-
лизмом (и крупными заводами) и капиталистической рыночной
системой (и современностью) — это различие, под влиянием
технологического социологизма и вульгаризированного марк-
мер, Ассоциация содействия экономическим исследованиям, открыто заявляв-
шая, что стоит на позициях немецкой исторической школы.
28 Э.Алеви, признавая эволюцию Германской империи, называл последнюю
«высокоиндустриализированной страной... подчиненной феодальному и абсолю-
тистскому политическому режиму» (Une interpretation de la crise mondiale de 1914—
1918 // Hal6vy E. L’ere des tyrannies. Paris: Gallimard, 1938. P. 176).
93
сизма а ля Зомбарт, стало в то время стираться. Даже сегодня,
например, в уже цитировавшейся книге Кершо и Левина о на-
цизме и сталинизме можно найти упоминания о «высокоразви-
том организованном капитализме» в Германии начала XX в.29,
мешающие увидеть в германском (и не только германском) эко-
номическом национализме (который сам по себе являлся выра-
жением «возврата» к меркантилизму) один из главных источни-
ков «регрессивных» феноменов, появившихся затем во время
первой мировой войны, воплощавшихся, как правило, в различ-
ных типах военной экономики и достигших в известном смысле
своей «высшей ступени» в облике советской системы, где все
вдобавок до крайности обострялось благодаря идеологии. Не
случайно Э.Х.Карр, известный историк-советолог, считает
предтечей планирования экономического развития и, следова-
тельно, советской модели не столько Маркса, сколько Листа30 и,
невольно повторяя мысли А.Лабриолы, рассматривает гипотезу
о советской экономической системе как крайней форме нео-
меркантилизма.
С этой точки зрения, можно пристальнее присмотреться к уже
упоминавшемуся анализу истоков фашизма у Левенталя, кото-
рый, если его слегка модифицировать, способен также кое-что
сказать нам о постепенном утверждении определенного типа со-
циализма и о зарождении и развитии советской системы. Так,
например, не подлежит сомнению, что менталитет, «возлагаю-
щий все надежды на вмешательство государства», сложившийся,
по словам Левенталя, благодаря индустриализации с помощью
государства в том числе и у определенной части рабочей силы и
окрепший во всей Европе с распространением военной экономи-
ки, способствовал отказу лейбористов от политики либеризма и
сделанному ими в 1918 г. выбору в пользу фабианского социал -
империализма. Тот же менталитет заставил многих русских рабо-
чих, ставших жертвами экономического кризиса, который в
1917 г. пришел на смену стремительному развитию, вызванному
поначалу военными нуждами государства, питать иллюзию, буд-
то национализация может решить все проблемы, и верить в чудо-
творные рецепты большевиков, утверждавших, что причина кри-
29 Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison / Ed. by I.Kershaw, M.Lewin.
Cambridge — New York: Cambridge University Press, 1997. P. 345.
30 Carr E.H. The Bolshevik Revolution, 1917-1923. London: Macmillan, 1950-1953.
94
зиса — капиталистический заговор, а спасение от него — в пол-
ном огосударствлении. Как заметил Таска, всего через год-
другой схожие процессы сделали для части итальянского капита-
лизма, «значительно трансформированного» военной экономи-
кой, «получение любыми средствами государственных подрядов
вопросом жизни и смерти».
Однако, как подтверждают и приведенные выше примеры, без
обострения, приданного вооруженным конфликтом, т.е. без опыта
военной экономики и ее кризиса, явления, получившие развитие
во второй половине XIX в., могли бы со временем сгладиться. Так
что, повторяю, мы имеем дело не с «истоками», а с мутациями, бу-
дущее которых было неизвестно, пока обстановка, созданная пер-
вой мировой войной, не отобрала и не закрепила их.
Большое влияние на процессы строительства и перестройки го-
сударства и экономики оказала также третья великая перемена,
произошедшая в Европе XVIII-XIX вв., — демографическая. Ее
значение на континенте, где во многих городах число жителей уд-
ваивалось каждые десять лет, нельзя недооценивать. Население
Варшавы, например, выросло от 151 тыс. чел. в 1870 г. до 872 тыс.
чел. в 1910 г., и таких случаев можно насчитать десятки, а то и сот-
ни, если учитывать и города помельче. Демографический взрыв
предоставлял в распоряжение государств, где шли процессы строи-
тельства и экспансии, людские ресурсы, и прежде всего энергию, без
чего эти процессы не могли бы идти с характерной для них скоро-
стью, конфликты, возникавшие в ходе изменений, не могли бы ре-
шаться военным путем, a societes des hommes (сообщества людей), о
которых говорил Мосс, не нашли бы той обстановки, в которой и
благодаря которой они развивались. Вспомним между прочим, что
первое современное молодежное движение, к чьему довольно бес-
порядочному идейному багажу впоследствии прибегали столько
подражателей, как с правой, так и с левой стороны политического
спектра, появилось как раз в Германии в конце XIX в.31
В то же время демографический взрыв и сам служил источни-
ком множества конфликтов — подумаем, к примеру, о проблемах
интеграции растущей массы молодежи, ищущей своего места и
роли в пока еще слабо развитых социальных и государственных
структурах, — создавая естественную базу для разворачивавшихся
31 Laqueur W.Z. Young Germany, A History of the German Youth Movement. Lon-
don: Routledge, 1962.
95
процессов «национализации». Дело, конечно, осложнялось тем,
что крайне трудно было обучить и дисциплинировать такое коли-
чество молодых людей, причем быстро прирастающее, но сам этот
прирост, в котором велика была доля деревни, этнически более
однородной, чем город, особенно на Востоке, «национализиро-
вал» общество, начинавшее теперь страдать от растущего избытка
людей (правда, относительного) и потому не нуждавшееся больше
в иммиграции из других стран. Иными словами, в противополож-
ность тому, что происходит последние несколько десятилетий, в
обширных регионах Европы в XIX в., казалось, не было больше
места для «иностранцев», а ниши, которые они заняли в течение
предшествующих столетий, также стали предметом спора. Естест-
венно, после того как демографический бум охватил все сообще-
ства, в многонациональных странах эта спонтанная тенденция к
«национализации» или, точнее, этнической гомогенизации всту-
пила в противоречие с противоположными тенденциями, и все
это вместе привело к обострению конфликтов между различными
группами, усугублявшихся неодинаковыми масштабами и темпа-
ми демографического роста в разных этнических и/или религиоз-
ных группах.
Особый (и свыше столетия — особенно влиятельный) аспект
демографического роста заключался в укреплении сельского об-
щества, в основном обеспечивавшего его, — явление парадоксаль-
ное, учитывая, что впоследствии тот же рост сопровождал и уско-
рил распад тех же обществ. Европейская деревня XIX в., где
миллионы молодых крестьян искали свое место в системе, являла
собой картину растущих нужды и лишений - и действительно
знала и то и другое, — но в то же время была огромным резервуа-
ром энергии. Будучи направлена на решение новых проблем, соз-
даваемых демографическим ростом и его влиянием на семейные
структуры и наличие земли, эта энергия канализировалась различ-
ными путями, но все они были направлены на поиск большего
благополучия.
Чрезвычайное обострение земельного голода на большей части
территории континентальной Европы32 привело за несколько де-
32 Наиболее важное исключение, помимо Франции, где земельный голод удов-
летворила революция, по-видимому, представляла собой Германия. В Испании,
Португалии, Италии, на Балканах и во всей Восточной Европе борьба за землю
главенствовала в жизни большинства населения даже в начале XX в.
96
сятилетий к уничтожению помещичьего землевладения, как ле-
гальными средствами (выкуп, реформы), так и с помощью наси-
лия (санкционированного многими революционными идеология-
ми). Во многих отношениях это был наиболее традиционный из
проторенных путей к созданию мира, нового хотя бы потому, что
он лишен какого-то кусочка старого, но и наиболее иллюзорный
(земли все равно не хватило бы на всех, и не в ней был ключ к бу-
дущему). Тем не менее его последствия для европейских социаль-
ных и культурных структур не стали от этого менее разрушитель-
ными.
Эмиграция в город, в другую страну, на другой континент за
короткое время изменила культурную и лингвистическую карту
Европы, особенно сильно сказавшись на Восточной Европе, к
чему мы еще вернемся.
Облик Европы радикально изменили в первую очередь процес-
сы, шедшие внизу, на молекулярном уровне, включавшие и борь-
бу за землю, и миграции. Эти процессы были запущены сельским
обществом, почувствовавшим наконец, что может существенно и
во многом улучшить свое положение, которое для большинства
людей веками оставалось неизменным, а многим казалось тако-
вым. Автономное развитие, плод труда и терпения поколений и
поколений крестьян, в конце концов, в дальней перспективе, вы-
лилось, если можно так выразиться, в «самоубийство» сельского
мира, его породившего.
Однако на какое-то время государству и городам, служившим
естественной базой современного государства, стало особенно
трудно приручать сильные и находившиеся в движении сельские
общества. Так начала образовываться почва, на которой в услови-
ях чрезвычайного отчуждения (культурного, этнического, религи-
озного и т.д.) между городом и деревней вспыхивали великие кре-
стьянские войны XVIII-XX вв. в Европе - от Вандеи до восстаний
на юге Италии, от крупных крестьянских движений в Восточной
Европе и Российской империи до трагического конфликта, про-
тивопоставившего в 1918—1933 гг. советскую деревню новому го-
сударству, рожденному революцией.
Столь напряженная ситуация породила и среди элит, и среди
«масс» идеологические и психологические феномены огромного
значения.
Мы уже видели, что, невзирая на господство идей либерализма
сначала и позитивизма потом, государственные и экономические
97
строительство и реформа везде наложили сильный отпечаток во-
люнтаристского субъективизма на идеологию правящей верхуш-
ки, какой бы эта идеология ни была. Совершенно естественное
явление, если вдуматься, какой способности к прожектерству (в
положительном смысле слова), тренированности и силы воли тре-
бует попытка «построить» государство, нацию, промышленность и
тем более общество нового типа.
В Италии, например, как и в Германии, задачи государствен-
ного, экономического и национального строительства немало
способствовали более или менее значительной утрате первона-
чального политического и экономического либерализма правя-
щими слоями, и произошло это быстрее, чем все обычно дума-
ют, полагая, будто сохранение тех же имен и прежнего представ-
ления лидеров о себе означает незыблемость их идей. Иначе
говоря, мне и в данном случае кажется, что, внимательнее взгля-
нув на проблему государства, мы должны датировать нескольки-
ми десятилетиями раньше не только зарождение, но и первые
шаги тех процессов, которые обычно относят к концу XIX в. По-
думаем, например, о представителях итальянской правой, неожи-
данно оказавшихся вынужденными вводить жесткие меры по
централизации и административному контролю, вступая в от-
крытое противоречие с собственными теориями и надеждами
(наиболее показательны в этом отношении жалобы и критиче-
ские размышления М.Мингетги).
Помимо Италии и Германии, и в других странах понемногу на-
чали завязываться первые связи между идеологиями реакции на
происходящие преобразования, идеологиями национально-госу-
дарственного строительства и идеологиями обновления, т.е. меж-
ду неудовлетворенностью, ощущением неблагополучия, этатиз-
мом, национализмом и определенным типом социализма. Так
была проложена одна из возможных дорог к тому сплаву социаль-
но-экономической и культурной отсталости, практик и ментали-
тета «старого режима», бюрократического этатизма, общей кон-
цепции национализма и «социалистических» идеологий, который
впоследствии определил идеологические формы некоторых фено-
менов, возникших в XX в.
Там, где проблемы рождения или возрождения государства и
общества осложнялись поражениями и «национальными» или
во всяком случае коллективными унижениями, данные процес-
сы приобретали особый оттенок, часто давая жизнь всевозмож-
98
ным «теориям заговора». З.Стернхелл показал на примере
Франции после Седана, которую Л.Нэмир назвал «контуженной
нацией», как в великой державе, постепенно терявшей власть и
престиж начиная с краха наполеоновской авантюры и теперь
снова униженной и жаждущей реванша33, материализовалось
одно из первых сознательных проявлений национал-социализ-
ма. Это новое словосочетание без особых колебаний «осело» в
правой части политического спектра. Морис Баррес, в 1892—
1897 гг. называвший себя социалистом, посвятил тогда свой
цикл «Национальные энергии» оккупированной Лотарингии,
предрек появление агрессивного антисемитизма, необходимого,
дабы «очистить» нацию (за много лет до «дела Дрейфуса»), и за-
говорил о «возможности и необходимости слить воедино социа-
лизм и национализм», «предвосхищая» таким образом фашизм
(впоследствии, накануне войны, это направление мыслей сов-
пало со взглядами левых сорелианцев из «Прудоновского круж-
ка», антидемократическими, антисемитскими, социалистиче-
скими, ратующими за национальное возрождение, интеграцию
пролетариата в национальное сообщество и замену «права золо-
та правом крови»)34.
В Италии, потерпевшей поражение при Адуа, — первой евро-
пейской державе, которую унизила «низшая раса», зародился но-
вый национализм Коррадини, подменявший борьбу классов борь-
33 Namier L.B. From Vienna to Versailles // Conflicts. Studies in Contemporary
History. London: Macmillan, 1942. P. 12. Заметив, что французские границы в
1919 г. совпадали с установленными в 1815 г. в Вене, он добавляет: «Но, хотя в на-
чале XIX в. понадобилась коалиция почти всех европейских стран, чтобы удер-
жать Францию в этих границах, столетие спустя Старому и Новому Свету при-
шлось объединить свои силы, чтобы помочь Франции вновь отвоевать их». За не-
сколько десятилетий границы, считавшиеся «знаком поражения», превратились в
«символ реванша», и если в 1815 г. Европа требовала гарантий против возможной
новой французской агрессии, то в 1919 г. нужны были гарантии против нового на-
падения на Францию. За то же столетие доля Франции в численности населения
Европы сократилась от двух до одной тринадцатой, а Италии и Германии — не в
последнюю очередь благодаря безумной антиавстрийской политике Наполеона
III - удалось объединиться, нанеся тем самым последний удар французскому пре-
восходству.
34 Stemhell Z. Maurice Bants et le nationalisme fran^ais. Bruxelles: Complexe, 1985;
Idem. Ni droite, ni gauche. Bruxelles: Complexe, 1987. P. 13 passim. В первой части
интереснейшей книги Дино Гранди (Il mio paese. Ricordi autobiografici. Bologna: Il
Mulino, 1985) постоянно упоминается о близких подуху настроениях, появивших-
ся в Италии в начале XX в.
99
бой между плебейскими или пролетарскими и богатыми нациями
и стяжавший необычайный успех за пределами страны: он оказал
сначала глубокое и непосредственное влияние на идеологию од-
ного крыла «младотурков» (открыто апеллировавших к Корради-
ни), а затем столь же глубокое, хотя и менее непосредственное —
на идеи множества движений в «третьем мире».
Новые кружки итальянских экстремистов-националистов, в
1909 г. вместе с футуристами воспевавшие войну, милитаризм,
патриотизм, а кроме того — подрывную деятельность анархистов
и презрение к женщине, представляли собой лишь одну из вели-
кого множества квазирелигиозных сект, народившихся тогда в
Европе благодаря сочетанию дестабилизации, вызванной переме-
нами, желания обрести твердую почву, ощущения силы, появив-
шегося в результате демографического и экономического роста,
прогресса науки и колониальных завоеваний, и в то же время
чувства маргинальности, инфантилизма, стремления найти но-
вую светскую религию, способную заменить старые, дискредити-
ровавшие себя. В 1914 г. Преццолини ясно очертил проблему,
стоявшую перед русскими «богостроителями», впоследствии в
большинстве своем пришедшими к большевизму, и многими
другими молодыми европейскими интеллектуалами. Его слова:
«Мы не можем больше пользоваться старым мифом и страдаем
оттого, что пока нет другого», — характерны для паретианских
«сгустков потенциальных элит», которым, возможно, предназна-
чено было судьбой затеряться в лабиринтах жизни под гнетом
неудач и поражений, если только какое-нибудь ужасное событие
не предоставит им экстраординарный и совершенно непредви-
денный шанс35.
Малые паретианские элиты, потенциальные societes des
hommes, также формировались из бесчисленных молодых людей,
интеллектуалов и не интеллектуалов, которых социализм привле-
кал не столько лозунгами борьбы за человеческое благосостояние,
достоинство, равенство, свободу и справедливость, сколько своим
«конструктивным» потенциалом (который мог реализоваться,
если и когда социализм придет к власти). Благодаря в том числе
35 Lichtheim G. Europe in the Twentieth Century. New York: Praeger, 1972. Chaps. 3,
4; Gunther H. Der sozialistische Ubermensch: Maksim Gorkij und der sowjetische Hel-
denmythos. Stuttgart: J.B.Metzler, 1994; Scherrer J. Georges Sorel en Russie // Georges
Sorel et son temps / Sous la dir. de J.Julliard. Paris: Seuil, 1985; Gentile E. Il culto del
Littorio. Roma — Bari: Laterza, 1993. P. 27—28.
100
существованию этих двух сторон медали, которые часто смешива-
ют воедино, социализм быстро стал, может быть, наиболее важ-
ной из новых квазирелигий («квази» — поскольку формально они
были чужды, если не прямо враждебны надмирным мотивам), по-
рожденных свершавшимися в то время великими и стремительны-
ми переменами, реакцией на них и вызванной ими физической и
психической дестабилизацией. Именно на этой почве в обстанов-
ке послевоенного хаоса расцвел пышным цветом «новый триумф
магов и чудотворцев», отмеченный Коном. Как писал в 1935 г.
«Альманах анархиста»: «Мы изумляемся сегодня безумным фаши-
сткам, кричащим “Муссолини”, как будто этот “вульгарный дема-
гог” не тот же самый человек, который приводил в экстаз безум-
ных социалисток... как будто во время пармской стачки 1908 г.
Альчесте Де Амбрис не стал идолом, своего рода святым покрови-
телем “бедноты”. Когда он в 1913 г. вернулся из Швейцарии, свы-
ше сорока тысяч человек встречали его на пармском вокзале, и
женщины кричали: “Глядите, вот он, наш Бог!”, а некоторые,
поднимая вверх детей, говорили им: “Смотрите, кто ваш отец”. А
разве не было культа Мильоли в Кремоне? Поклонницы стелили
ему под ноги свои шали»36.
Социализму, однако, не удалось полностью заменить собой
мать всех квазирелигий — национализм, посредством которого,
как напоминал Шабо, «огонь страстей» впервые перекинулся из
религии в политику, придав последней «религиозный пафос»37,
хотя социализм с самого начала пользовался концепциями и
лексикой, выработанными национальной Французской револю-
цией, а затем национально-освободительными движениями.
В этом можно убедиться, вспомнив уже цитировавшиеся слова
Ранке о необходимости «опираться на собственные силы», «за-
воевать подлинную независимость», бороться за «свои права»
(Ранке, разумеется, имел в виду права нации). То же самое мож-
но было услышать из уст многих лидеров последующих социаль-
ных движений.
Национализм и социализм и в этом плане в конце концов
тесно переплелись, дав жизнь множеству разнообразных гибри-
дов. Этот процесс, иногда протекавший подспудно, все же в це-
36 Цит. по: Lupo S. Il fascismo. La politica in un regime totalitario. Roma: Donzelli,
2000. P. 95-96. Лупо, в свою очередь, позаимствовал цитату у Де Феличе.
37 Chabod F. L’idea di nazione. P. 61-62.
101
лом был более явным, чем считала значительная часть предста-
вителей западной мысли XX в., предпочитавших исследовать
«чистые» случаи, не так уж часто встречающиеся в действитель-
ности, и тем самым сужавших себе поле обзора. Шел он весьма
разными путями — к довольно своеобразным и эффектным фор-
мам, которые он принимал в Восточной Европе, мы вскоре вер-
немся, — и один из них, прежде всего в Западной Европе, совпал
с одним из аспектов социализма, на первый взгляд наиболее да-
леким от национализма. Я имею в виду социализм как позитив-
ную квазирелигию «растущих ожиданий», тесно связанную со
стремлением низов добиться благосостояния, прогресса и свобо-
ды, о наличии которого в деревне мы уже говорили и которое
распространилось также и на город. «Борьба за свои права», в са-
мом широком, эластичном и изменяющемся со временем смысле
этого слова, которая, как правило, после 1848 г. велась под зна-
менем социализма, на самом деле во многих отношениях пред-
ставляла собой процесс, дополняющий процесс национализации
масс государством, не только благодаря очевидным точкам их
физического соприкосновения, как, например, в деле просвеще-
ния масс, но и потому, что в ходе этой борьбы «массы» «нацио-
нализировали» государство, т.е. постепенно завоевывали его и
делали своим38, зачастую отбрасывая преграды, которые ставили
им не только сословия и цензы, но и, как мы вскоре увидим, на-
циональность, культура и религия. Кардинальную роль, безус-
ловно, сыграли здесь распространение всеобщего избирательного
права и потребности, вызвавшие к жизни первые проекты «все-
общего благосостояния»39. Достаточно показательны и всевоз-
38 Самой идеи, что все могут принадлежать к «нации», хватало, чтобы подорвать
собственническое отношение к ней, исторически сложившееся у дворянства.
В «Святой Иоанне» Б. Шоу английский дворянин говорит священнику, употре-
бившему слово «француз»: «Француз! Откуда вы взяли это слово? Неужто эти бур-
гундцы, бретонцы, пикардийцы и гасконцы тоже начали называть себя француза-
ми, как наши взяли моду именоваться англичанами? Они говорят о Франции и
Англии как о своих странах. Своих, понимаете?! Что станет со мной и с вами, если
подобный образ мыслей будет распространен повсюду?» (см.: Davidson В. The
Black Man’s Burden. Africa and the Curse of the Nation-State. New York: Times Books,
1992. P. 95).
39 Вспомним, что Джаннини справедливо усматривал в распространении всеоб-
щего избирательного права главный инструмент превращения моноклассового го-
сударства в плюриклассовое. Построение «всеобщего благосостояния», несомнен-
но, помимо национализации диктовалось процессами урбанизации.
102
можные требования национализации — земли, промышленности,
экономики, ставшие центральными пунктами программы социа-
листов (а также некоторых националистов).
В этом смысле все социалистические движения и значительная
часть коммунистических, по крайней мере в Западной Европе и до
тех пор, пока они были в оппозиции, представляли собой важней-
ший компонент более широкого движения за национальную и со-
циальную интеграцию в государственные рамки, доминировавше-
го в Европе последние два столетия. С этой же точки зрения,
безосновательными, по крайней мере в долгосрочной перспекти-
ве, кажутся гипотезы тех, кто видел во вторжении масс в полити-
ческую и социальную жизнь одну из предпосылок окончательного
кризиса свободы и победы тоталитаризма. Я имею в виду все эти
рассуждения о толпе, массах, потребности в вождях, натиске ир-
рационализма, подпитывавшие пессимизм стольких европейских
интеллектуалов, и, в частности, приговор, который вынесла XIX
веку Арендт. Современные европейские общества, либеральные и
демократические, построенные в том числе благодаря процессам
интеграции масс, по всей видимости, служат опровержением по-
добных суждений.
Тем не менее в другой перспективе, на более коротком времен-
ном отрезке эти гипотезы и этот пессимизм уже не кажутся таки-
ми безосновательными. Мы видели, что процессы преобразова-
ний и прогресса породили психическую нестабильность и ощуще-
ние маргинальности, разрушили целые социальные слои, ударили
по одним этническим или религиозным группам сильнее, чем по
другим, изменили жизнь и иерархию семьи, дали слово людям, не
привыкшим им пользоваться, и вывели на сцену социальные
группы, мало и плохо приобщенные к культуре, тяготеющие к
элементарным идеологическим схемам.
Эти явления затронули все уровни социальной пирамиды, соз-
дав условия для того, чтобы самые широкие слои населения ак-
тивно прибегали к насилию, которое стало эндемичным и эндо-
генным как в деревне, так и в городе и начало приобретать новый
размах благодаря колониализму. Задумаемся, к примеру, о том,
каким источником насилия служили некоторые практики сель-
ского труда, какой умножающий эффект имела утрата корней но-
выми горожанами, недавно пришедшими из деревни, среди кото-
рых львиную долю составляли молодые мужчины (как я уже
отмечал, наиболее склонные к насилию), или о том, какой урок
103
обращения с подчиненными давал всем звеньям социальной и эт-
нической иерархии колониальный опыт.
Те же явления вызывали, чаще всего в среде последователей
доминирующих квазирелигий, но и вне ее тоже, идеологические
реакции другого типа. Я имею в виду теории заговора и мании
преследования, нередко сопровождавшиеся стремлением отом-
стить, поисками и принесением в жертву козлов отпущения, за-
тронувшие весь политический и религиозный спектр Европы и
достигшие своей кульминации в антисемитизме.
Национализм, конечно, предоставлял им идеальную мишень,
но схожие явления наблюдались и в социалистическом движе-
нии, а потом особенно в коммунистическом, и во всех крупных
традиционных религиях, чувствовавших угрозу со стороны «про-
гресса». Идея заговоров международных финансистов, евреев
или неевреев, либералов, финансового капитала, масонов и за-
падных держав, то вступающих в союз, то конфликтующих друг с
другом, проникла в ряды французских правых, последователей
Барреса и Action fran?aise, распространилась среди значительной
части левых, при папском престоле, которому досаждало новое
итальянское государство, либеральное и «масонское», среди иезу-
итов «Католической культуры» и социалистов-максималистов.
При этом, по мнению немцев Центральной и Восточной Евро-
пы, над ними нависала тень славянско-еврейского заговора, ка-
толический заговор якобы подкапывался под православный мир,
христианский - греко-армянский - под Османскую империю,
эту преграду на пути европейских держав, затопляемую потоком
мусульманских беженцев с Балкан, от освободившихся греков,
сербов, болгар и румын. Все это в ближайшей перспективе долж-
но было разжигать желание свести счеты — в более или менее
широких масштабах и насильственными методами, — порождае-
мое происходящими переменами и возникающими в результате
конфликтами.
В то же время великие перемены XVIII — XIX вв. как будто бы
доказали абсолютное превосходство европейских стран и их жите-
лей над обитателями других континентов, сделав возможной ко-
лониальную экспансию. Последняя на протяжении нескольких
десятилетий позволяла белому человеку считать себя — и действи-
тельно быть — господином мира и завершила уже упомянутое пре-
вращение европейских наций-государств (продолжавших оста-
ваться таковыми в собственных глазах и в глазах других) в
104
империи (сравнительно нетипичный случай в этом отношении
представляла собой Германия, к чему мы еще вернемся в следую-
щей главе).
Мне кажется, что, по крайней мере с этой точки зрения, можно
было бы согласиться с анализом истоков «тоталитаризма» у
Арендт. Империализм, расизм, насилие, власть над людьми, на
которых иной раз смотрели как на скот, причем многие европей-
цы проявляли жестокость, а многие другие, не участвуя в этом
прямо, тем не менее считали ее правомерной, — все это, конечно,
создало одну из тех «бездн мрака», откуда вырвались многие кош-
мары XX века. Хотя Масарик допустил известную натяжку, вос-
пользовавшись призывом Вильгельма II к немецким солдатам, по-
сылаемым на подавление восстания «боксеров» («действуйте как
гунны»), для нападок на всю немецкую историю, и особенно на
поведение немцев на территории Восточной Европы40, то, что
произойдет на этой же территории всего несколько лет спустя, по-
казывает нам в ином свете все дискурсы, делающие (пусть даже
только на словах) белого человека, который может все, венцом
всемирной расовой системы.
Появление новой «высшей расы» в Европе XX в. нельзя отде-
лить от превращения в предшествующие десятилетия всего насе-
ления Европы в универсальную «высшую расу». Головокружение
от успехов, охватившее в начале XX в. Германскую империю, ки-
чащуюся своей молодежью, силой и жаждой роста, о чем впо-
следствии с горечью писал Ф.Майнеке в своих мемуарах41, зара-
зило весь Европейский континент, как свидетельствуют грезы о
национальном величии, империалистическая экзальтация и во-
40 Однако в Юго-Западной Африке (современная Намибия) немецкая колони-
альная администрация действовала во время мятежа герреро в полном соответст-
вии с императорским рецептом: принудительные депортации населения, исполь-
зование голода для усмирения мятежников привели тогда немецкую политику на
грань геноцида. Та же администрация, в данном случае следуя обычной практике
европейских колониальных держав, широко использовала принудительный труд в
Камеруне. Если в целом европейские империи, за исключением Османской и от-
части Российской, подавлявшей репрессивными мерами польские восстания, до
первой мировой войны не практиковали в больших масштабах политику принуж-
дения против собственного населения, те же самые империи и имперские нации-
государства нередко прибегали к такой политике в своих колониях. Это объясня-
лось в том числе и тем, что армия и администрация в колониях имели достаточ-
ную свободу маневра, и у них в значительной мере были развязаны руки.
41 Meinecke F. Autobiographische Schriften. Stuttgart: Koehler, 1969. P. 249.
105
инственность, которыми проникнута вообще-то замечательная
«Италия в пути» Джоаккино Вольпе и которые сегодня кажутся
трагически смешными.
Как я уже говорил, однако, XIX век в Европе не был только
«подготовкой» к последующим ужасам. В бульоне тогдашней ев-
ропейской культуры можно найти столько других вещей, совер-
шенно противоположных и обладающих большой силой не толь-
ко на первый взгляд: великие завоевания на пути к прогрессу и
благосостоянию, либеральный, демократический и социал-демо-
кратический гуманизм, брожение в церквях, рост образования,
распространение демократии, все более и более высокий уровень
цивилизованности и сосуществования и т.д. Не только в Соеди-
ненном Королевстве женщины начали заявлять о себе в полити-
ке: в той же Франции времен «дела Дрейфуса», описанной Стерн-
хеллом, наблюдаются крошечные зародыши подобных явлений,
которые только a posteriori можно будет назвать предвестниками;
Италия Джолитги, вопреки Коррадини и его теориям, быстро
становилась все более современной и демократической; столь же
бесспорна была эволюция Германской империи, где социал-де-
мократия выиграла важные битвы за свободу, предприятия осво-
бождались от опеки банков, а конфликты с Великобританией,
как указывал Алеви уже в 1920-х гг., были не таковы, чтобы на-
рушить мир в Европе42. Даже Российская империя несомненно
прогрессировала. Достаточно бегло изучить дебаты в Думе между
1905 и 1914 гг., чтобы увидеть совсем не ту страну, какой она
обычно представляется, страну, где условия жизни крестьян, во-
преки Гершенкрону, в целом уже несколько десятилетий неук-
лонно улучшались43.
На заре XX века ничто еще не было окончательно вписано в
книгу Судьбы, ничто не было предопределено, даже разразившая-
ся вскоре первая мировая война, несмотря на сгущавшуюся в те-
чение нескольких десятилетий, особенно на востоке, взрывоопас-
ную национальную и социальную напряженность.
42 Halcvy Е. L’ere des tyrannies. Р. 182-183.
43 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне.
1917—1933. М.: РОССПЭН, 2001. С. 8, 75 (об авторах, опровергающих интерпрета-
цию Гершенкрона). Ср. также: Confino М. Present Events and the Representation of
the Past: Some Current Problems in Russian Historical Writing // Cahiers du monde
russe. 1994. Vol. 35. P. 839-868; Well-being and Standard of Living in Russia and the
Soviet Union // Slavic Review. 1999. Vol. 1.
106
Глава четвертая
ОСОБЕННОСТИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Итак, мы подошли к вопросу о Восточной Европе, где,
как мы знаем, рассматриваемые нами явления приняли особые фор-
мы, породив самые поразительные гибриды, а то и совершенно но-
вые исторические образования. Последние зачастую оказывались
плодом доведения до крайности, в своеобразных условиях, процес-
сов, происходивших на Западе; так что опыт Восточной Европы,
именно в силу своего экстремального характера, проливает на них
новый свет, позволяя увидеть такие их аспекты и скрытые грани, ко-
торые в противном случае было бы очень трудно разглядеть.
Зададимся вопросом: каковы же были эти своеобразные усло-
вия? Наиболее точный ответ дал, пожалуй, Людвиг фон Мизес
вскоре после первой мировой войны1. Он разработал тогда интер-
претативное (т.е. не географическое, а скорее историческое) поня-
тие Восточной Европы с меняющимися границами, где анализ на-
ционального вопроса в совершенно ином контексте, нежели на
Западе, сливался с анализом особых проблем и форм государствен-
ного строительства и экономического развития в этих условиях.
Для Мизеса Восточная Европа представляла собой совокуп-
ность многонациональных территорий, где — под влиянием трех ве-
ликих перемен, о которых мы говорили, — установились особые
связи между отсталостью (во многом обусловленной длительными
иноземными нашествиями1 2 и поэтому не только социально-эко-
1 Именно поэтому я стал редактором итальянского издания его «Государства,
нации и экономики» (1919) (Mises L., von. Stato, nazione ed economia. Torino:
Bollati Boringhieri, 1994) и впоследствии отчасти опирался на догадки Мизеса в ра-
боте: Graziosi A. Dai Balcani agli Urali. L’Europa orientale nella storia contemporanea.
Roma: Donzelli, 1999.
2 На Востоке, собственно, длительные иноземные нашествия не только задержа-
ли процесс лингвистической гомогенизации и вообще экономического, культурно-
107
комической, но и государственно-политической), национально-
стью и различного типа национализмом, государственным строи-
тельством, попытками модернизации и идеологической продук-
цией.
Такое понятие Восточной Европы отличалось от других и по-
новому освещало великие исторические процессы, которыми
были охвачены и отмечены XIX и XX вв. на Европейском конти-
ненте3. В то же время оно было сильнее, эластичнее и сложнее мо-
нотематических интерпретаций, например экономических, а так-
же концепций, несущих на себе печать идеологии либо
вдохновленных национальными интересами, как, скажем, пред-
ставления о Mitteleuropa4 или разного рода «щитах» против той
или иной внешней угрозы, которыми изобилуют местные нацио-
го и государственного развития. Они также стали причиной разнообразных отка-
тов назад, вызванных тем, что Блок называл основной чертой западного мира в на-
чале средневековья, т.е. «столкновением и слиянием цивилизаций, находящихся на
весьма различных ступенях эволюции» (в нашем случае имеется в виду татаро-мон-
гольское иго). Восточная Европа, таким образом, стала особенно ярким примером
интереснейшего, с научной точки зрения, феномена сосуществования разных исто-
рических эпох в течение одного и того же исторического периода.
3 Интерпретативная сила схемы Мизеса в действительности такова, что ею,
хотя бы косвенно, можно руководствоваться и при анализе других, более или ме-
нее «отсталых», многонациональных территорий, которых так много было, есть и
будет на нашей планете. Между прочим, нечто подобное отмечал Арнольд Тойн-
би, когда, размышляя об армянской трагедии 1915 г., заговорил об «опустошени-
ях», которые производит и еще произведет импорт такого западного института,
как национальное государство, «на огромном пространстве от Данцига до Триеста
и вплоть до Калькутты и Сингапура [где] отдельные элементы населения, говоря-
щие на разных языках, не распределяются по четко ограниченным группам, а, на-
против, живут вперемешку, в теснейшем соседстве в городах, деревнях и даже на
одной улице» и где разные национальности «не только территориально-географи-
чески вклинились одна в другую, но и в равной степени солидарны в социально-
экономическом плане» (цит. no: Tagliaferri Т. Material! per lo studio dell’opera di
Arnold J. Toynbee: dattiloscritto. Universita di Napoli «Federico II», 2001. P. 127 ss.; cp.
также выше, с. 10, прим. 4). Данная цитата, так же как анализ Нэмира, к которому
мы еще вернемся, показывает, что говорить об «открытии» Мизесом решающей
роли многонациональное™ нельзя: идея носилась в воздухе. Тем не менее остает-
ся фактом, что Мизес не только ясно и четко написал об этом уже в 1919 г., но и
дал этой идее наиболее стройную формулировку, сразу уловив ее взаимосвязь с
государством, экономикой, идеологическими направлениями и европейской ис-
торией.
4 Ср.: Meyer Н.С. Mitteleuropa in German Thought and Action, 1815-1945. Haag:
Martinus NijhofT, 1955.
108
нальные мифологии, часто опирающиеся на совершенно правиль-
ную, но всегда неполную и упрощенную трактовку прошлого5.
Мы говорили, что главной чертой Восточной Европы, по Ми-
зесу, было ее существование (еще на заре XIX в.) как совокупно-
сти территорий, где множество языков и религий не только жили
бок о бок друг с другом, но пересекались, накладывались друг на
друга, образуя пеструю мозаику. Временами монохроматический
фон мог доминировать над этой пестротой, но никогда не получал
окончательного перевеса.
По мнению Мизеса, то был, помимо прочего, результат дли-
тельного периода нашествий, которые на Западе были остановле-
ны несколько столетий назад, благодаря чему там смог начаться
медленный (правда, иногда тоже сопровождавшийся всплесками
буйства и жестокости) процесс ассимиляции, приведший в итоге к
созданию крупных культурных, религиозных и лингвистических
блоков — базы современных европейских наций-государств. Та-
ким образом, эти блоки являлись плодом исторической эволю-
ции: если, как заметил Марк Блок, «сегодня лингвистическую
карту Европы [Западной] можно нарисовать несколькими боль-
шими однотонными пятнами», та же карта для периода «между
переселением народов и 1000 годом или около того», несомненно,
представила бы «богатую палитру самых разных оттенков»6. Запад-
ная Европа тоже была когда-то многонациональной территорией
(и ничто не мешает ей снова стать таковой, поскольку даже после
того «сегодня», когда писал Блок, в ней шли и обратные
процессы).
Восточная Европа начала XIX в., куда уже проникли немцы, пе-
режила последнее великое нашествие — османское, мусульман-
ское — всего два столетия назад, а меньше века назад подверглась
русской экспансии. В ней уживались, в масштабах, неизвестных За-
падной Европе даже «в 1000 году или около того», три монотеисти-
ческие религии, множество церквей, порожденных христианскими
расколами, а продолжающееся стихийное или насильственное пе-
ремещение населения на просторах великих империй, властвую-
щих здесь, лишь усугубляло языковую и религиозную неразбериху.
5 Я даю краткий обзор этих других интерпретаций в своем предисловии к упо-
мянутому итальянскому изданию книги Мизеса (Graziosi A. Alle radici del XX
secolo europeo // Mises L. von. State, nazione ed economia. P. XXIX), а также в своей
книге: Graziosi A. Dai Balcani agli Urali. P. 36 ss.
6 Bloch M. Melanges historiques. Paris: Editions de 1’Ehess, 1963. Vol. I. P. 70.
109
Кроме того, этнические и религиозные различия воспроизво-
дили и усиливали различия социально-экономические. На многих
территориях традиционные элиты говорили на другом языке и по-
сещали иные храмы, нежели подчиненные им крестьяне. Такая же
ситуация была характерна для городов, чье население по языку,
культуре и религии было чуждо населению окружающих дере-
вень, — и это служило мощным фактором обострения и варвариза-
ции традиционных противоречий между городом и деревней, ко-
торыми так богата западная история и историография.
Возьмем, к примеру, Львов, столицу австрийской Галиции -
региона, где в XIX в. заправляли поляки-католики, а жили по пре-
имуществу (особенно на востоке) украинские крестьяне-униаты
(греко-католики) с вкраплениями еврейского населения. Сама
эволюция названия города — Lemberg, Lwov, Львов, Льв1в — четко
фиксирует смену национальностей, населявших его и управляв-
ших им начиная с XV в., когда там жили немцы, евреи, поляки,
армяне и греки. Мало-помалу всех вытеснили поляки и евреи, а
затем в конце концов — украинцы (которых вначале было всего
лишь тридцать семей), сделавшие город главным центром своего
национального движения.
Список когда-то «чужих» городов долог. Он включает немецко-
еврейские Буду и Прагу и венгерские центры в Трансильвании и
Словакии; немецкие города в Прибалтике и Судетах и шведские в
Финляндии; итальянские - в Истрии и Далмации, турецкие на
Балканах и греческие в Болгарии и на побережье Малой Азии; ев-
рейские местечки в Белоруссии и Галиции, русские и еврейские го-
рода на востоке и юге Украины, например, Киев, где в 1897 г. толь-
ко 22% населения говорили на украинском как на родном языке,
или Одесса, где тогда же лишь 5,6% населения были украинцами (а
больше половины — еврейского происхождения); наконец — ар-
мянские центры в Закавказье, какими были и Тбилиси, и Баку7.
Именно исходя из личных наблюдений подобных реалий и сво-
их размышлений над ними, Льюис Нэмир (Людвик Бернштайн, он
же Немировский), как и Мизес - выходец из австрийской Галиции,
находившейся под властью поляков, обогатил анализ многонацио-
нальное™ у Мизеса, обратив большее внимание на проблему власт-
ных отношений между языковыми и религиозными группами и
7 Другие цифры см.: Pearson R. National Minorities in Eastern Europe, 1848—1945.
London: Macmillan, 1993.
110
четче выявив их роль в определении структуры и характера истори-
ческих процессов, проходивших в Восточной Европе8.
Последняя, по Нэмиру, представляет собой своего рода евро-
пейский Средний Восток - полоску малых наций, зажатых между
«Россией» и «Германией» (кавычки здесь необходимы, ибо, как
мы увидим, эти термины говорят о серьезных недочетах вообще-
то гениальной интерпретации), и арену деятельности, в течение
столетий, нескольких «народов-хозяев» (master nations), осуществ-
лявших здесь неполные завоевания.
Народы-хозяева, каковыми Нэмир считает немцев, поляков,
мадьяр и итальянцев, со временем «накрыли соседние с ними тер-
ритории сетями с крупными ячейками, то тут, то там перемежаемы-
ми более или менее объемистыми монолитными блоками». Эти
сети образовали их поселенцы на завоеванных землях, а ширина
ячеек как раз указывала на неполноту завоевания или, точнее, на
то, что «каждое завоевание было полным в некоторых районах, но
лишь частичным в гораздо более обширных областях». В зонах час-
тичного завоевания правящие слои в целом замещались представи-
телями народа-хозяина или культурно близкими ему элементами.
Городское население либо постигала та же судьба, либо оно вообще
создавалось ex novo — город заселялся новыми жителями, которые,
таким образом, оказывались связаны с завоевателями, даже если
отличались от них (так, например, поначалу произошло с евреями,
по крайней мере в некоторых регионах). Деревни же, где прожива-
ло подавляющее большинство населения, как правило, сохраняли
свою религиозную, языковую и этническую идентичность.
В общем и целом, по словам Нэмира, «каждая Ирландия» этой
Восточной Европы имела свой Ольстер, густо заселенный завоева-
телями, свою «черту оседлости», свою англо-ирландскую аристо-
кратию и своих крестьян, оказавшихся способными (чаще всего
благодаря религии) сохранить некоторые из основных черт своей
самобытной культуры, которые в будущем — главным образом в
результате демографических перемен, о которых мы говорили, —
должны были отвоевать свою территорию, затопив ее возвратной
приливной волной.
8 См. его прекрасную, хотя и не бесспорную работу «From Vienna to Versailles»
(Conflicts. Studies in Contemporary History. London: Macmillan, 1942), на которую я
уже ссылался и еще не раз буду ссылаться. См. также: Tagliaferri Т. Nazionaliti
territoriale е nazionalita linguistica nel pensiero storico di Lewis Namier // Archivio di
storia della culture. 2000. Vol. XIII. P. 119—148.
Ill
Нэмир добавлял, что эту «срединную землю» населяли «тени»
вполне реальных былых государств и империй. Многие из нацио-
нальностей, живших там, «в тот или иной период действительно
создавали свои государства, и все о них помнили, хотя лишь не-
многие еще имели социальную базу [т.е. привилегированные со-
циальные слои, способные управлять государством] и интеллекту-
альные ресурсы, необходимые для независимого политического
существования». Такие тени государств и империй покрывали
карту Центральной и Восточной Европы, взаимно пересекаясь,
выходя за существующие границы, порождая латентные кон-
фликтные ситуации, претензии, взаимную ненависть и совершен-
но противоположные воспоминания об одном и том же.
Идеи и образы здесь сильные и глубокие. И все же Нэмир, хоть
и вскрыл фундаментальные исторические проблемы, нарисовал
картину неполную и в общем неудовлетворительную. Не только по-
тому, что отодвинул на второй план вопросы экономики и нацио-
нально-государственного строительства, которые Мизес, наоборот,
старался интегрировать в свою модель, более богатую переменны-
ми величинами и, следовательно, прогностическими возможностя-
ми, поскольку она позволяла, выделив некоторые важнейшие про-
блемы, нащупать движущие пружины истории «Восточной Евро-
пы». Анализ Нэмира даже в самых сильных своих пунктах грешил
недостатками, происходящими от неспособности представить и ос-
мыслить цельную картину национальных отношений на многона-
циональных территориях. А ведь именно из-за чрезвычайной слож-
ности исторических процессов, сформировавших их, из-за сущест-
вования районов нестабильности, появившихся благодаря этим
процессам, и провоцируемых ими конфликтов исследование мно-
гонациональных территорий требует как можно более широкого
взгляда: любая тень, заслоняющая ту или иную перспективу, — что
бы ее ни отбрасывало, — может исказить весь анализ.
Сети, покрывающие нэмировскую «срединную землю», к при-
меру, были не только прямым свидетельством прошлых завоева-
ний: нередко они образовывались в результате насильственных
переселений или стихийных миграций в стремлении избежать раз-
ного рода преследований. Так что они представляли собой кос-
венное следствие завоевания и чужеземных нашествий, но, в свою
очередь, могли служить плацдармом для новых попыток завоева-
ния, предпринимаемых уже бывшими жертвами. Кроме того, хотя
Нэмир проводит крайне важное различие между имперскими на-
112
циями, держащимися на плаву и полностью отвечающими своей
роли (как, например, немецкая), и полузатонувшими «народами-
хозяевами», еще имеющими традиционные элиты и зоны господ-
ства, но лишенными независимой государственности (как поляки
австрийской Галиции и венгры, по крайней мере до австро-вен-
герского соглашения 1867 г., когда последние практически восста-
новили свое государство), этого недостаточно для описания ситуа-
ций, весьма различных и все же во многих отношениях сходных.
Среди таких случаев можно назвать, с одной стороны, народы-
хозяева, в настоящее время незначительные, но имеющие древнюю
традицию, как, скажем, греки, которые еще с того момента, как
вновь получили независимость в 1821 г., по меньшей мере до пора-
жения 1922 г. в Турции считали свою территорию просто отправной
точкой для восстановления античной империи, чья тень продолжа-
ла жить и в многочисленных греческих общинах, разбросанных от
Болгарии до восточных берегов Эгейского моря, и в православной
церкви, где, впрочем, верховенству греков вскоре бросили вызов
славяне, некогда находившиеся под влиянием Византии.
Совершенно иной и тем не менее концептуально однородный
случай представляют собой народы, не имевшие государственных
или имперских традиций (а если имевшие, то разве что в глубочай-
шей древности), которые в XIX в. оказались в состоянии создать
себе в Европе положение империи или по крайней мере сделать по-
пытку в этом направлении. Речь прежде всего о сербах, которые,
пользуясь тем, что первыми стали строить государство на Балканах,
а также эксплуатируя народившиеся «югославские» идеи и факт на-
личия сербских общин от Боснии до Баната (наследие не столько
прежнего господства, сколько былых преследований), очень быстро
начали играть агрессивную роль. То же самое, особенно после пер-
вой мировой войны, можно сказать и о румынах.
Список народов-хозяев или тех, кто претендует на это звание,
ни в коем случае не закрыт, и не замечать его эволюции — значило
тогда и значит теперь делать ущербным анализ, вообще-то прово-
дящийся в верном направлении.
Впрочем, были проблемы и более серьезные. И Нэмир, и Мизес
справедливо усматривали в германском империализме главного и
самого грозного врага малых народов «срединной земли». Мизес, в
частности, сразу после первой мировой войны с беспокойством за-
мечал перерождение колонизационного импульса в Германии, ко-
торый, в отличие от подобных импульсов у англичан, французов,
113
голландцев, испанцев и португальцев, всегда направленных «только
на тропические и субтропические страны», обратился «открыто...
против европейских народов» (здесь мы сталкиваемся с глубоким
провйдением исторической почвы, на которой приживется и взра-
стет идея последнего безумного и свирепого натиска немецкого на-
рода на Восток). Однако, в отличие от Нэмира, по-видимому, не
отводившего немцам места в обеих (прусской и австро-венгерской)
империях своей центральной и восточной Европы и считавшего их
только агрессорами и угрозой последним, Мизес сразу понял, что
немцы составляют неотъемлемую часть «восточной» Европы. Не-
мецкие общины на славянской земле (нэмировская «сеть») сыграли
важнейшую роль в эволюции (точнее, инволюции) немецкой и ав-
стрийской политики, в поражении и упадке либерализма, в посто-
янном возрождении гегемонистских планов и повторении попыток
экспансии на Восток — впрочем, и Нэмир искусно проанализиро-
вал все эти элементы в своей «Революции интеллектуалов»9.
Сказанное выше о немцах было верно и в отношении русских и
турок — других великих имперских наций, активно участвовавших
в жизни региона, а также в отношении итальянцев, правда, в
меньшей степени — пропорционально меньшему их присутствию
на многонациональных территориях (в качестве наследия венеци-
анской империи).
Любой, кто знаком с русской историей ХГХ в., хорошо знает,
какую важную роль, определяющую ее ход, сыграла Польша со
своими восстаниями — и в годы царствования Николая I, и в эпо-
ху реформ его сына Александра II. В последующем столетии эта
роль перешла к Украине, а отчасти также к Кавказу и Прибалтике.
Конечно, тогда русское присутствие выглядело скорее как воен-
но-бюрократическая оккупация, чем как сеть имперских поселе-
ний, но и последние — пусть с опозданием в сравнении с немецки-
ми - быстро строились и на Украине, и в Белоруссии, и в
Прибалтике, и на Кавказе, и в Крыму (напомним, что последние
территории были завоеваны только начиная с XVIII в.). Русское
присутствие отразилось также в кризисе Османской империи и
9 Namier L.B. 1848: The Revolution of the Intellectuals. London: Oxford University
Press, 1946. Это, наверное, наиболее «мизесианская» из книг Нэмира; на самых
блестящих ее страницах, посвященных польскому вопросу в Силезии как причине
упадка, в том числе интеллектуального, национального немецкого движения,
фактически развиваются некоторые из гипотез, выдвинутых Мизесом в «Государ-
стве, нации и экономике».
114
рождении новых балканских государств, и перед лицом такой
силы имперского импульса трудно понять его недооценку со сто-
роны Нэмира, а позднее — умнейшего исследователя Бибо10, если
не вспомнить, что многим обитателям зон господства (а после —
угрозы) немцев, венгров и поляков русские могли казаться спаси-
тельным противовесом и ценными союзниками.
Неотъемлемой частью Восточной Европы была также Осман-
ская империя, творение еще одного народа-хозяина, который по-
степенно ретировался, гонимый восстаниями своих прежних под-
данных, но при отступлении, несмотря на сопровождавшие его
массовое истребление и бегство, оставил тут и там анклавы турец-
кого или обращенного в ислам населения. В отличие от России и
Германии того времени или современной Турции, Османская им-
перия была, кроме того, многонациональной даже в своем центре,
от Кавказа и Армянского нагорья, населенных армянами и курда-
ми, до греко-армянских берегов Эгейского моря.
К Восточной Европе Мизеса, понимаемой в историко-интер-
претативном ключе, принадлежали также народы-хозяева, чьи
щупальца и сети, подобные немецким (и польским, и мадьяр-
ским), протянулись в «срединные земли», но еще только-только
обретали плоть либо уже разрушались. Иначе говоря, в ее состав
входили все перечисленные нами имперские нации, включая их
основные территории, расположенные за ее границами, но перио-
дически волнуемые зарождающимися в ней землетрясениями.
Таким образом, эта Восточная Европа простиралась от Берлина
и Вены до Москвы, от Балкан до Кавказа, от Прибалтики до побе-
режья Малой Азии, охватывая все земли, занимаемые в начале
XIX в. тремя великими империями — Османской, Российской и
Австро-Венгерской, к которым вскоре добавилась четвертая, Гер-
манская, и все народы, религии, языковые и культурные общно-
сти, имевшиеся там. Последние были выстроены в иерархическую
пирамиду: на вершине ее находились немцы, русские и турки, к
ним как партнеры примыкали итальянцы, венгры, поляки и гре-
ки; на средних и нижних ступенях по нисходящей — народы, пере-
живавшие подъем (сербы, румыны и болгары), народы без особых
претензий на господство, но активно участвующие в развитии
экономики (чехи), народы, чьи малые элиты давно были ассими-
10 Bibo I. Misdre des petits Etats de 1’Europe de 1’Est. Paris: Albin Michel, 1993; cp.
также; Szucs J. Les trois Europe. Paris: I’Harmattan, 1985.
115
лированы или уничтожены, состоящие поэтому почти исключи-
тельно из крестьян (словаки, словенцы, литовцы, украинцы). На-
конец, основание пирамиды составляли народы, не имеющие ни
государства, ни территории и вследствие этого наиболее слабые и
уязвимые, — главным образом евреи и цыгане, отчасти армяне,
многие из которых бежали с нагорья, своей исторической родины,
в Закавказье.
Посмотрим теперь, как сказались великие перемены на этом
регионе, изначально таком нестабильном, на отношениях между
городом и деревней, на структуре старых государств, пытавшихся
реформироваться, и новых, находящихся в процессе становления,
на иерархии народов и религий, социальных слоев и семейных ро-
лей, на самой мозаичности и пестроте, характерной до тех пор для
многонациональных территорий.
Проследим вкратце основные линии. В Восточной Европе мощ-
ный демографический рост вкупе с прогрессом сельского хозяйства
тоже изменил соотношение сил в деревне в пользу крестьян, усили-
вая претензии последних на землю, особенно находящуюся во вла-
дении помещиков, религиозных учреждений и горожан. А тот факт,
что, в отличие от Западной Европы, землевладельцы здесь, как пра-
вило, принадлежали к иной культуре и религии, повышал уровень
претензий, удваивал враждебность, увеличивал возможность и жес-
токость вспышек насилия", причем, естественно, это репрессив-
ное, но прогрессивное завоевание земли крестьянами фактически
представляло собой буквальную ее национализацию снизу. Завоева-
ние земли превратилось, таким образом, в одну из первых волн ве-
ликого прилива «этнической чистки», захлестнувшего в последние
два столетия Восточную Европу11 12.
11 Во время крестьянских волнений в многонациональных регионах в первую
очередь подвергались удару владения вдов и одиноких женщин; за ними наступа-
ла очередь помещиков с иностранными именами, другого вероисповедания или
особенно ненавистных, атам уже и всех остальных. Так, например, разворачива-
лась великая украинская «жакерия» 1917 г. См.: Грациози А. Большевики и кре-
стьяне на Украине, 1918—1919. М.: Аиро-ХХ, 1997.
12 Недавно стали выходить первые труды, посвященные истории этого феномена.
Зачастую такие работы не слишком удовлетворительны, но их заслуга в том, что
они впервые четко ставят фундаментальный вопрос европейской истории. См.,
напр.: Bell-FialkofT A. Ethnic Cleansing. London: St. Martin’s Press, 1996; Naimark N.
Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 2001; Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento
europeo / A cure di M.Cattaruzza, M.Dogo, R.Pupo. Napoli: Esi, 2000.
116
Возрождение к жизни крестьянских общин, ускорившееся бла-
годаря отмене (пусть и запоздалой) крепостного права между 1848
и 1861 гг., косвенно способствовало образованию в этих регионах
материального субстрата для будущих попыток национально-госу-
дарственного строительства. В культурном плане такие попытки
опирались на открытие и реконструкцию языков и культур, про-
должавших, благодаря незавершенности завоевания, развиваться
в деревенской глуши; в материальном же — на зародившийся бла-
годаря исчезновению крепостничества и дроблению крупной зе-
мельной собственности слой зажиточных крестьян и на многочис-
ленную молодежь, двинувшуюся из сел в города — цитадели
чужаков. Зажиточные крестьяне фактически впервые образовали
обширный слой населения, для которого продвижение по соци-
альной лестнице не означало ассимиляции доминантной этниче-
ской группой, создав таким образом прочную базу для последую-
щих национальных претензий. А молодежь — неважно, дети
богатых крестьян, отправленные в город учиться, или несчастные
плоды демографической революции, вынужденные бежать из де-
ревни, которая оказалась не в состоянии их прокормить, — по-
ставляла разнообразным движениям национального толка не
только сырье для их развития — активистов, бойцов, просто рекру-
тов, сочувствующих: после обучения (которое часто велось на язы-
ках доминантных групп и потому способствовало ассимиляции по
крайней мере некоторых студентов иными национальными куль-
турами) из нее выходили кадры и элиты, жизненно необходимые
для процессов государственного строительства.
Нужно, однако, иметь в виду, что, хотя деревня в Восточной Ев-
ропе, а потом и во всем «третьем мире», как я писал в другом месте,
была важнейшим элементом в зарождении и развитии националь-
ных движений, крестьяне всегда проявляли некую двойственность
и в своей поддержке националистов были ненадежны и непостоян-
ны. Об этом свидетельствуют бесконечные жалобы националистов
всех стран, встречавших, например, самый горячий энтузиазм, пока
они нападали на собственность иностранных господ, а потом стал-
кивавшихся с упорным и яростным сопротивлением крестьян, не
желавших служить постоянным источником людей и средств для их
проектов государственного строительства13.
13 Типичный пример — украинский национализм 1917-1920 гг., которому я по-
святил упоминавшуюся выше работу «Большевики и крестьяне на Украине».
117
В действительности крестьяне принадлежали к культуре, кото-
рую можно было бы назвать донациональной, и в известном
смысле были членами некоего квази-антропологического интер-
национала «темных людей», как их презрительно называли горо-
жане Российской империи (впрочем, похожие словечки употреб-
лялись во всех странах). А если они вдобавок были другой
национальности и/или другого вероисповедания, эпитеты приоб-
ретали превосходную степень. Бакинским армянам-христианам, к
примеру, окрестные крестьяне-мусульмане казались «темнейши-
ми», то же думали львовские поляки-католики об униатах-русинах
(т.е. украинцах) из галицийской деревни.
В этом отношении существует несомненное глубокое родство
между крестьянскими движениями во всех странах, и на их общей
программе (захват и раздел помещичьей земли, минимальный
контроль со стороны государства, свободная торговля на местном
уровне, защита исконных крестьянских ценностей и т.д.) базиро-
валась временами как будто (и действительно) возникавшая оппо-
зиция крестьян усилиям националистов, чаще всего там, где по-
следние были связаны с правящими классами.
Только когда в XX в. появились движения, стремящиеся объе-
динить в своей программе национальный и социальный вопрос и
поэтому способные постоянно вовлекать массы в «борьбу за на-
циональное освобождение», был разрублен узел двойственного от-
ношения крестьян к национальным движениям. И не случайно
это произошло благодаря соединению социального элемента с на-
циональным (для чего Восточная Европа, может быть, послужила
самой главной лабораторией), ибо в таком соединении, как я не
раз подчеркивал, кроется один из важнейших ключей к понима-
нию истории XX столетия.
Представители старых народов-хозяев — и помещики-земле-
владельцы, оказавшиеся в группе наибольшего риска, и те, кто
черпал утешение в жизненных невзгодах в одной лишь гордости
своей национальной принадлежностью, — почувствовали себя в
настоящей осаде под натиском крестьян, невзирая на все противо-
речия и двоедушие последних в глазах националистов, добивав-
шихся их поддержки. Конечно, бывали случаи, когда отдельные
индивиды «предавали» свой класс и свою нацию, присоединяясь к
делу своих слуг, как те польские дворяне с восточных территорий,
которые немало способствовали зарождению украинского нацио-
нального движения. И по крайней мере однажды, в Финляндии,
118
значительная часть господствующей группы (шведов) в конце
концов стала отождествлять себя с национальным делом подчи-
ненного ей прежде народа (наверняка не без влияния того факта,
что господство у них все равно отобрали бы русские) и даже дала
этому делу наиболее авторитетного лидера, так что Карл Густав
Маннергейм, бывший офицер царской гвардии, стал «отцом»
страны, на языке которой с трудом изъяснялся.
В общем и целом, однако, реакция была совершенно обратная.
Менталитет осажденных породил постоянное ощущение угрозы,
встречные обвинения, растущую зависть и жажду мести; пышным
цветом расцвели теории заговора, нашедшие в Восточной Европе
еще более благодарную почву, чем та, что образовалась в Западной
в результате военных поражений, национальных унижений и ут-
раты корней в ходе процессов модернизации.
Аналогичные явления вызвало постепенное завоевание «чу-
жих» городов «темными» жителями окрестных деревень, ставшее
возможным благодаря демографической революции и спровоци-
рованное процессами индустриализации и урбанизации. Буду и
Прагу одними из первых накрыла нэмировская «возвратная при-
ливная волна» (правда, в последней молодые чехи и немцы оспа-
ривали друг у друга улицы и кварталы даже в конце XIX в.), но
движение это было общим, и волны его, сменяя друг друга, прока-
тились по всем городским центрам от Прибалтики до Эгейского
моря (где уже в 1821 г. греки вырезали или выгнали мусульман из
освобожденных городов) и от Адриатики до Кавказа (где взаим-
ные погромы и вендетты били и по армянским общинам, и по но-
вым горожанам - азербайджанцам).
Разумеется, поскольку в этом регионе, по крайней мере до
1914 г., властвовали империи, позволявшие, поощрявшие и прямо
организовывавшие значительные перемещения населения, не
было недостатка, особенно на востоке, и в явлениях прямо проти-
воположного порядка, т.е. в тенденциях не к сокращению, а к рас-
ширению территорий и увеличению числа многонациональных
городских центров (подобные явления имели место позже в Юго-
славии и в СССР, где, например, после второй мировой войны
выросло городское население славянского происхождения в Сред-
ней Азии - резко сократившееся затем в конце1980-х гг.).
Так, например, индустриализация и создание железнодорож-
ной сети теснее связали Украину с Россией, способствовали росту
русских общин в украинских городах, хотя западнее удельный вес
119
доминантной национальности в городских центрах сократился.
Важным направлением русской иммиграции стал Донбасс, демо-
графический рост в еврейских общинах усилил их присутствие в
городах по всей «зоне» оседлости, определенной им царским пра-
вительством (Польша, Литва, Белоруссия, Украина), а также и в
восточной части австрийской Галиции. По тем же причинам вы-
росли греческие и армянские общины, рассеянные по османской
территории.
«Реконкиста» городских центров, которые во многих случаях
действительно в первый раз были атакованы населением пре-
имущественно сельским, фактически, если отвлечься от намере-
ний, побуждений, теорий (в них недостатка не было, но зачас-
тую они являлись после того, как стихийно начинались процес-
сы, так сказать, материальные), представляла собой вторую
великую волну «очистительного» прилива, обрушившуюся на
многонациональные регионы (первую, напомним, породила
борьба за землю).
У ее главных действующих лиц — молодых иммигрантов и их
новообразованных элит, притесняемых властью старых господ и
беззащитных перед ней, но подстрекаемых сознанием своей силы,
а также представителей национальности, бывшей до сих пор хо-
зяйкой городов, — естественно, появились весьма неприятные по-
веденческие навыки и идеологические феномены. В немецких го-
родских общинах в Богемии и Судетах, итальянских - в Истрии и
Далмации традиционный антиславизм принял новые, более агрес-
сивные формы, повсюду усилился антисемитизм, в том числе в
кругах недавно урбанизированного населения, во много раз силь-
нее ощущавшего отрыв от родной почвы, чем его сверстники на
Западе.
В Донбассе, русской Польше, Бессарабии народные волне-
ния и даже рабочие стачки в те времена легко могли вылиться в
жесточайшие еврейские погромы, причем влияние Москвы и
желания правительства, по всей видимости, играли в этом го-
раздо меньшую роль, чем представлялось просвещенной обще-
ственности. Ни в коем случае не стоит недооценивать роль ве-
рующих, православных и католиков, для которых процессы
модернизации тоже несли в себе угрозу. И даже такие организа-
ции, как «Народная воля» — наиболее известная русская народ-
ническая группировка, — распространяли после массовых по-
громов 1880-х гг. прокламации, где одобрительно отзывались о
120
налетах на богатых евреев и призывали рабочих и крестьян не
обойти вниманием также землевладельцев, чиновников и пред-
ставителей царской власти14.
Примечательно, что именно в западных губерниях Российской
империи, в городских интеллектуальных кругах, где соперничали
между собой по меньшей мере три религии (православная, като-
лическая и иудейская) и четыре национальности (русские, поля-
ки, евреи и украинцы), появился тогда антисемитизм нового типа,
разгоревшийся из искры, высеченной столкновением реакции и
модернизации, инициатив государства и деятельности церкви, на-
родных бунтов и национальных конфликтов. Его манифестом ста-
ли «Протоколы сионских мудрецов» — их сочинители использова-
ли опыт французов, но сама идея была навеяна атмосферой
русской городской среды на Украине. Будучи якобы доказательст-
вом существования еврейского заговора с целью захвата мирового
господства, «Протоколы» послужили знаменем беспощадного ан-
тисемитизма XX в. в Европе15.
Но самое отвратительное насилие и в наиболее широких мас-
штабах было развязано в последнее десятилетие XIX в., в ре-
зультате длинной цепи поражений и унижений, которыми был
отмечен этот век для Турции (вспомним, что мы говорили о
Франции после Седана и Италии после Адуа), в Анатолии и на
восточных берегах Черного и Эгейского морей - против армян.
Здесь речь шла не о сотнях жертв, как во время еврейских по-
громов в Российской империи, а о десятках и сотнях тысяч (по
наиболее достоверным оценкам, насчитывалось от ста до двух-
сот тысяч убитых).
Важную роль и в этом случае играли верующие, но решаю-
щее значение имело вмешательство государства, правители ко-
14 См. прекрасный роман И.Зингера «Братья Ашкенази» (Singer 1. Di brider
Ashkenazi. Varshe: Bzshoza, 1936), а также: Wynn C. Workers, Strikers and Pogroms. The
Donbass-Dnepr Bend in Late Imperial Russia. Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 1992. О погромах в Российской империи и спорах по поводу роли централь-
ного правительства в их организации см.: Pritsak О. The Pogroms of 1881 // Harvard
Ukrainian Studies. 1987. Vol. 1-2. P. 4—43; Aronson M.I. Troubled Waters. The Origins of
the 1881 Anti-Jewish Pogrom in Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1990;
Pogroms. Anti-Jewish Violence in Modem Russian History / Ed. by J.D.Klier,
S.Lambroza. New York: Cambridge University Press, 1992.
15 De Michelis C.G. Il manoscritto inesistente. I «Protocolli dei savi di Sion»: un
apocrifo del XX secolo. Venezia: Marsilio, 1998.
121
торого с трудом терпели настойчивое заступничество западных
стран за христианское население империи и считали, что это
для чужеземцев лишь предлог, чтобы вынудить османскую дер-
жаву к целому ряду унизительных уступок территории и сувере-
нитета.
Как мы знаем, на Балканах подобные уступки часто вызывали
вспышки насилия против представителей прежнего народа-хо-
зяина, своим поведением в течение долгого времени возбудивше-
го огромную ненависть и жажду мести. Сотни тысяч беженцев,
изгнанных из родных мест, разносили известия об этом, нередко
сильно преувеличенные, по землям, находившимся еще под вла-
стью империи, провоцируя, в свою очередь, прилив злобы про-
тив христиан и отчаянной ностальгии по былому господству, ко-
торое когда-то было неоспоримым, а теперь ставилось под
вопрос практически ежедневно: вспомним, что только в 1877—
1878 гг. империя потеряла Румынию, Сербию, Черногорию, Бос-
нию и Герцеговину, Болгарию, Фессалию, часть Анатолии и
Кипра — в общей сложности около трети территории и пятой
части населения16.
Вот этот-то взрывчатый материал государство и религиозные
круги использовали для удара по армянским и греческим общи-
нам. Но даже великие погромы в Османской империи не найдут
объяснения, если не учитывать предрасположенность по крайней
мере части ее населения к насилию против христиан, к каковой
предрасположенности на анатолийских нагорьях добавилось еще
и стремление курдов убрать армян с территории, которую две об-
щины веками оспаривали друг у друга17.
В данном случае национальный и религиозный факторы так-
же тесно переплелись с процессами модернизации, способство-
вавшими умножению спорных моментов и причин конфликта.
На большей части многонациональных территорий, например,
элиты традиционного типа и сельское население часто держались
в стороне от современных видов экономической деятельности,
отдавая их, так сказать, на откуп немцам, евреям (которые, на-
помним, не имели права владеть землей), грекам и армянам. И в
русской, и в австрийской Польше, в Венгрии, в Румынии, где
16 Ziircher E.-J. Turkey. A Modem History. London: l.B.Tauris, 1998. P. 85.
17 Dadrian V. Histoire du genocide armenien. Conflits nationaux des Balkans au Cau-
case. Paris: Stock, 1995.
122
существовали сильные группы местных помещиков-латифунди-
стов, одни евреи контролировали от 30% до 50% современных
отраслей деятельности. Еще выше этот процент был у греков и
армян в Османской империи — там, к примеру, в начале XX в. в
руках представителей немусульманского населения находились
90% промышленных предприятий, насчитывавших более 10 ра-
ботников. И если венгерских господ в целом удовлетворяло такое
положение вещей, позволявшее им предаваться традиционным
занятиям, не рискуя при этом своей властью, то вообще, как
правило, подобная ситуация обостряла у автохтонных социаль-
ных групп — у их элит, у масс, недавно переселившихся в город,
у членов старых мусульманских ремесленных цехов — чувство
враждебности и отчужденности по отношению к процессам мо-
дернизации, свойственное, собственно говоря, и западным
странам.
Здесь мы видим еще один компонент той почвы, на которой
возрос национал-социализм, питавший особую ненависть к ев-
рейским и армянским «торговцам и ростовщикам», коих много-
численные теории заговора рисовали представителями и агентами
международного финансового капитала либо, наоборот (а порой и
одновременно), подрывных социалистических и модернизатор-
ских сил, забывая при этом, что подавляющее большинство и ев-
реев, и армян принадлежали к религиозным общинам традицион-
ного типа, как правило, беднейшим, и разделяли все страхи и
подозрения в отношении современности с теми, кто делал из них
«разносчиков» этой заразы.
Действия государства, например в случае погромов, следует
рассматривать именно на фоне движений, во многом стихий-
ных, спровоцированных демографическими процессами, мо-
дернизацией и урбанизацией. В старых империях оно подчиня-
лось необходимости (еще более острой в силу огромной
отсталости) сделать базу своей власти адекватной требованиям,
рождавшимся в ходе великих социально-экономических пере-
мен. Но это еще не все. Как мы знаем, суть качественного из-
менения в жизни государств, вызванного Французской револю-
цией, заключалась в национализации и рационализации.
Появления государства, более сильного, поскольку более одно-
родного (а наиболее важна, конечно, однородность этническая,
лингвистическая и религиозная) и более способного (в том
числе и поэтому) к мобилизации своих ресурсов, было более
123
чем достаточно, чтобы такая возросшая монолитность стала
примером для подражания18.
Таким образом, старым империям Восточной Европы, а потом и
новым государствам, рождавшимся в результате их распада, было
нужно (или, по крайней мере, желательно) в ходе рационализирую-
щей реформы существующих государств, а затем строительства но-
вых добиться не только модернизации, необходимой для сохране-
ния, содержания и переоснащения армии вооружениями и техни-
кой не хуже западных, но и рационального управления своим
населением и его гомогенизации, т.е. «национализации». И все
это — после нескольких разделов Польши, сильно усложнивших
нарисованную Мизесом картину империй, принимавших в них
участие (Российской империи к тому же нужно было управляться с
территориями, отнятыми у турок), в обстановке обострившейся с
1789 г., и особенно с начала XX в., конкуренции между государства-
ми, внутренней напряженности, брожений то социальных, то на-
циональных (а зачастую и социальных, и национальных).
В результате значительно увеличилось количество проблем, свя-
занных с приспособлением к переменам, особенно в многонацио-
нальных империях, где процессы модернизации и национализации
встречали дополнительные трудности. Так, например, многонацио-
нальный, чаще всего, характер имперских элит лишь усугублял по-
дозрительное отношение к этим процессам, вообще свойственное
всем традиционным господствующим классам. Разве могли при-
балтийские немецкие бароны, польские дворяне (а после разделов
больше половины дворянства Российской империи имело польское
происхождение) или грузинские князья одобрить русификацию?
С этой точки зрения, Российская империя и Габсбургская монар-
хия, где многонациональный характер элиты был наиболее ярко
выражен, оказались в невыгодном положении по сравнению не
только с Германской империей, но даже с Османской, хотя в по-
18 Разумеется, это не абсолютный закон: в определенных условиях появлялись
имперские и полуимперские образования - примером sui generis служит Совет-
ский Союз; в Африке встречались даже элиты, строившие государство и одновре-
менно пытавшиеся создать нацию. Кроме того, в прошлом однородность не все-
гда была благом, и великие императоры гордились силой и красотой своих госу-
дарств именно как результатом разнообразия - источника большего богатства во
всех смыслах. Вполне возможно, что в будущем разнообразие снова станет пред-
метом гордости, и опыт Соединенных Штатов, наверное, можно было бы считать
показательным в этом отношении.
124
следней потом появилась курдская проблема. Иными словами, из-
менение природы государства с помощью национализации, озна-
чавшей, напомним, в долгосрочной перспективе лишение аристо-
кратии контроля над ним, в Восточной Европе принимало наибо-
лее острые формы, соответственно возбуждая и более сильную, чем
на Западе, неприязнь в традиционных правящих слоях.
Даже если можно было преодолеть это препятствие, оставался
еще тот факт, что многонациональным империям очень трудно ис-
пользовать патриотизм для мобилизации масс в поддержку государ-
ства: попытки пробудить патриотические чувства почти неизбежно
заставляли апеллировать к этнической идентичности части населе-
ния, усугубляя тем самым отчуждение, а то и враждебность со сто-
роны других национальностей19, уже мобилизованных благодаря
соперничеству за новые возможности, предоставляемые модерни-
зацией: общественные работы, доступ к образованию и различным
профессиям, управление местными ресурсами (иначе говоря, те же
инструменты, которые на Западе специально использовались и
спонтанно служили для смягчения конфликтов, в условиях, опи-
санных Мизесом, способствовали их разжиганию).
Модернизироваться означало, в числе всего прочего, дать ме-
сто группам другой культуры, которые порой считались низшими
и заслуживающими лишь презрения, и это производило особенно
отталкивающее впечатление. Совместным результатом модерни-
зации и национализации становилось появление в обширных об-
ластях масс, имеющих другой язык, культуру, религию, что стес-
няло и озлобляло традиционные слои.
Тем не менее модернизация была вопросом жизни и смерти, и
это хорошо понимала лучшая часть правящей элиты. Преодолевая
сопротивление и колебания, для которых имела все основания, она
осуществляла в том числе и довольно смелые программы, дававшие
жизнь новым формам с весьма специфическими социально-эконо-
мическими чертами. Как в Германской империи, занимавшей выс-
шую ступень на шкале «старорежимных» государств (где в самом
низу была Турция, а в промежутке — Россия и Австро-Венгрия), и
даже в большей степени, модернизация сверху приводила к образо-
ванию зачатков командной экономики, только внешне современ-
ной и капиталистической, но функционирующей совсем по другим
19 Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia
and the Middle East, 1914-1923. London: Routledge, 2001. P. 8.
125
правилам, нежели рыночная. В экономиках вышеназванных стран
эти зачатки развивались сильнее, или, лучше сказать, имели боль-
ший вес, чем в тех, что складывались на Западе в результате победы
экономического национализма. С этой точки зрения, в более или
менее близком будущем одним из плодов модернизации в импери-
ях Восточной Европы должно было стать укрепление (и распро-
странение в сферу транспорта и тяжелой промышленности) связи
между государством традиционного типа, т.е. наиболее близкого к
изначальному «военному» прототипу (в спенсеровском понимании
этого термина), и экономикой - связи, которая усилилась благода-
ря первой мировой войне, приняла новые формы и в самом чистом
виде проявилась в СССР.
Все сказанное об ограниченности имеющихся ресурсов и оче-
видной необходимости мобилизовать и контролировать их сверху
относилось и к ресурсам интеллектуальным. Не случайно на этих
территориях — и в старых империях, и в новых государствах, рож-
давшихся в ходе их постепенного распада, — высока оказалась сте-
пень вовлеченности интеллектуалов и специалистов в жизнь госу-
дарства, пусть даже она выражалась в резко конфликтных формах
(за всеми заговорами и протестами в действительности стояло же-
лание самим взять в руки бразды правления). Так складывался
климат, еще более благоприятный для проникновения в среду ин-
теллигенции мифов о высшей рациональности государства и не-
обходимости научной основы для его деятельности, чем тот, что
способствовал зарождению этих мифов во Франции. Но те же
причины, благодаря которым они возникали и распространя-
лись, — отсталость, хрупкость культурного слоя и т.д. и желание
преодолеть все это как можно скорее — заставляли их так и оста-
ваться мифами, мешали достичь даже куда более скромных целей,
например упорядоченного административного функционирова-
ния, побуждая кидаться к этим целям кратчайшими путями, столь
же обманчивыми, как и вызвавшие такое стремление мифы.
Неоднородность населения обостряла в империях, а затем в
первых квазинациональных государствах, появлявшихся на терри-
ториях, по-прежнему остававшихся (несмотря на все претензии
данных государств) многонациональными, проблемы, связанные
с «национализацией масс», достаточно острые и на Западе, зачас-
тую делая национализацию просто невозможной (достаточно
вспомнить, как тяжело далась интеграция масс в государственную
жизнь в случае, в некоторых отношениях схожем, — на юге
126
Италии, хотя там все народности исповедовали ту же религию, а
их элиты были включены в итальянскую культуру, почему южные
диалекты так и остались всего лишь диалектами).
Как со всей очевидностью показали уже неудачные опыты Ио-
сифа II (не случайно повелевшего высечь на своем надгробии над-
пись, напоминающую, что ни одно из его начинаний не имело ус-
пеха), прямое давление с целью национализации и рационализации
вызывало реакцию со стороны народов, на которые было направле-
но, провоцируя их мобилизацию. Последнюю, как правило, воз-
главляли остатки их элит (и поэтому она происходила быстрее там,
где они были сильнее, например в Венгрии и Польше), а также — и
особенно там, где элиты были уничтожены или ассимилированы, —
новые социальные слои, продукты тех же самых попыток модерни-
зации. В данном случае, поскольку следовало дождаться, чтобы эти
попытки принесли плоды — как мы знаем — в виде зачатков новых
местных элит, образующихся благодаря процессам урбанизации и
развитию образования, реакция на инициативы центра следовала с
некоторым запозданием, но часто по той же причине бывала более
мощной и современной по своим формам и претензиям.
Модернизация на многонациональных территориях, ликвиди-
руя неграмотность и давая образование группам, ранее исключен-
ным (которые частью приобщались к доминантной культуре, но
частью вновь открывали свою собственную), меняя облик городов
и национальный состав представителей различных профессий,
вызывала национализацию, идущую совершенно вразрез с жела-
ниями властей, начинавшими этот процесс в надежде излечить
свое государство от слабости перед лицом изменившихся правил
европейской конкуренции.
В новой ситуации великие многонациональные империи, в про-
шлом не раз гораздо лучше умевшие справляться с обстоятельства-
ми, оказывались структурно менее прочными, чем их конкуренты.
Эта сравнительная хрупкость, давшая о себе знать особыми затруд-
нениями уже при решении задач, поставленных ХЕК веком, со всей
ясностью проявилась в первые десятилетия следующего столетия,
когда ни одна из этих империй не смогла оправиться от удара, нане-
сенного войной, которая обнажила их недостаточное для новых ус-
ловий развитие. Им на смену пришли государства, которые были на-
циональными или по крайней мере претендовали на это звание (два
ярких, но нетипичных исключения — СССР и Царство сербов, хор-
ватов и словенцев, с 1929 г. — Югославия). Впрочем, еще и до 1914 г.
127
в результате распада Османской империи появились несколько но-
вых государств, отчасти предвосхитивших черты тех, что были затем
рождены войной и завершившими ее мирными договорами.
Нет надобности углубляться в причины, определившие курс на
более или менее национальное государство, взятый Центральной
и Восточной Европой в XIX—XX вв.: мотив, заставлявший всех же-
лать иметь свое государство, ясен любому, кто задумается над ис-
торией последних столетий. Его хорошо выразил Михайло Драго-
манов, украинский патриот, которого можно назвать одним из
интереснейших политических мыслителей XIX в. Несмотря на
всю ограниченность национального государства, которую либерал
и федералист Драгоманов прекрасно сознавал, «собственное госу-
дарство в конечном счете есть форма социальной организации,
предназначенная для защиты от иностранной агрессии и урегули-
рования дел собственной земли по собственному желанию». Эта
мысль скоро должна была стать еще более очевидной многим
группам, коим, подобно евреям, армянам или цыганам, пришлось
встретить лицом к лицу пронесшиеся над Европой бури, не имея
своего государства, которое защитило бы их20.
Интереснее остановиться подробнее на специфике государств,
возникших на Балканах, — Греции, Болгарии, Сербии, Румынии,
Черногории. Несмотря на очевидные и порой весьма серьезные раз-
личия, их природа, проблемы, с которыми им пришлось столкнуть-
ся, способы их решения и получившиеся результаты как будто под-
тверждают гипотезы, сформулированные на основе опыта других
европейских империй и государств, придавая им новое звучание.
В новых государствах, родившихся после освобождения от ту-
рецкого ига, истребления или изгнания турецкой элиты, а также
части населения, принявшего ислам, почти естественно должны
были совпасть национализация, буквальная и физическая, земли и
городских центров и социальная реформа. Раздел турецкой собст-
венности, например, сделал возможным проведение крупных аг-
рарных реформ, которые способствовали укреплению сельского
20 О Драгоманове см.: Rudnytsky I.L. Essays in Modern Ukrainian History. Edmon-
ton, Alberta: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1987. P. 203—298. He случайно,
размышляя в 1934 г. о положении евреев, Нэмир, бывший тогда одним из главных
советников Вейцмана, высказал мысль, очень похожую на драгомановскую: «Че-
ловек не может жить вне сообщества, но по-настоящему в безопасности он только
в своем собственном сообществе...» (Namier L.B. In the Margin of History. New
York: Books for Libraries Press, 1969. P. 70).
128
общества, появлению больших крестьянских партий и интересных
прокрестьянских идеологий. Но этот первородный грех — объеди-
нение национального и социального элементов, изгнания чужа-
ков и создания собственного государства, собственного землевла-
дения, собственной торговли — постоянно оказывал влияние на их
эволюцию и впоследствии, заставляя выбирать «чистку» как глав-
ный путь решения проблемы национальной, социальной, религи-
озной или культурной неоднородности.
В то же время отсутствие — за исключением Греции и отчасти Ру-
мынии — или по крайней мере слабость автохтонных элит (турки
фактически зарезервировали за собой верхушку социальной пирами-
ды) привели к тому, что проблема управления новыми государства-
ми почти автоматически решалась передачей власти в руки военно-
бюрократической элиты, появившейся в ходе борьбы за независи-
мость. Связанная с патриархальными группами, заправлявшими в
деревне при турках, впитавшая с молоком матери традиционалист-
ские и фамилистские опыт и модели поведения, эта элита должна
была считаться с сильнейшей — опять же отчасти за исключением
Греции - отсталостью экономики, остававшейся монокультурной: в
Сербии доминировали животноводство и разведение сливы, в Болга-
рии — табака, в Румынии — возделывание зерновых (даже в наиболее
развитой Греции изюм составлял больше половины экспорта).
В этих условиях проблема создания современного сектора в
экономике, способного содержать армию на уровне, по крайней
мере не ниже, чем у соседей, вскоре породила зоны командной
экономики, часто фамилистского толка, еще более развитой, в со-
ответствии с реалиями каждой из стран, чем та, что возникала в
великих империях. В силу национализации, которой было отмече-
но рождение новых государств, союз государства и экономики и
идеологическая продукция интеллектуальных кругов приняли
здесь формы, еще более нетипичные по сравнению с категориями
западной социальной мысли, позволяющие предвидеть — в случае
особенно острых кризисов — новый сплав отсталости и регресса,
процессов государственного строительства, примата государства
над обществом и систематического насилия против части населе-
ния, причем плюрализм идеологий должен был лишь способство-
вать появлению и развитию этих тенденций.
Еще раньше, чем это произошло, специфические условия мо-
дернизации и национализации в Восточной Европе вызвали инте-
ресные явления в сфере идеологии.
129
В реформирующихся империях преимущества имперского по-
ложения в сочетании с сопротивлением старых многонациональ-
ных элит и трудностями, которыми сопровождалась любая попыт-
ка проводить политику денационализации подданных-инородцев,
вызвали искажения и отставание в развитии национального само-
сознания имперских народов. Как, например, ответить на вопрос,
что значит «русский»? Как определить и ограничить, кто и что со-
ставляет именно «Россию»? Отчасти ответ возник спонтанно, ко-
гда два прилагательных, прежде бывшие взаимозаменяемыми и
различавшиеся только своей этимологией, приобрели новые зна-
чения: «русский» стало постепенно означать «русский по нацио-
нальности», а «российский» — имеющий отношение к империи в
целом (это различие сегодня зафиксировано практически офици-
ально, однако проблема все же далека от разрешения).
Как свидетельствует долгая фаза перехода от реформ, вдохнов-
ленных османизмом — идеологией, по крайней мере по замыслу
супранациональной, к тюркистскому и пантюркистскому движе-
нию, аналогичные проблемы существовали и в Османской импе-
рии, но их не было в Германии, считавшей себя - хотя и не совсем
по праву — одной нацией, и в Габсбургской монархии, уже с 1866 г.
представлявшей собой официальный кондоминиум нескольких
национальностей.
В этих сложностях берут свое начало различные, можно сказать,
«благие» имперские попытки реформировать многонациональные
империи под знаменем идеологий, претендующих на звание «ана-
циональных», — первым примером может служить османизм. Такие
попытки, часто поддерживаемые лучшей частью высшей имперской
бюрократии, находили одобрение и у представителей малых или ли-
шенных своей территориальной базы народностей, а также более
или менее широких слоев инородного происхождения, но ассимили-
ровавшихся в доминантной культуре в результате процессов модер-
низации. Они привлекали универсальностью Своей идеи, но при
этом означали утверждение господствующего положения доминант-
ных языка и культуры, хотя бы из соображений рационализации, как
было уже при Иосифе II; при этом в присоединившихся к ним ин-
теллектуальных кругах, особенно среди тех, кто был ассимилирован
имперской культурой, часто возникало презрение к «малым наро-
дам», их претензиям, их провинциализму и узости их мышления.
Как любил говорить Драгоманов, даже русские революционе-
ры-эмигранты, вообще-то приверженцы космополитического
130
проекта иного типа, «воплощали собой ханжеское отношение ца-
ризма к угнетенным национальностям и тем не менее считали
себя совершенными интернационалистами».
Несколько раньше, в 1848 г., Энгельс (впоследствии в этом рас-
каивавшийся) высмеял и осудил как реакционное стремление чехов
освободиться от немецкого культурного и политического господ-
ства, отождествлявшегося с «прогрессом»21. А через несколько деся-
тилетий Ленину, сумевшему, между прочим, воссоздать в карди-
нально измененном виде российский имперский центр только
благодаря тому, что, будучи искренним космополитом, отрицатель-
но относившимся к любым проявлениям национализма, он брал,
как ему представлялось, самое оригинальное и интересное из «бла-
гих» имперских проектов, не раз приходилось выступать против
большинства своей партии, не умеющего понять связь между на-
циональным вопросом и успехом революции. Он говорил тогда, что
тот, кто не признает права народов на самоопределение (это отно-
силось к крайним левым последователям Розы Люксембург во главе
с Пятаковым и Бухариным, выдвигавшим опять-таки лозунги ин-
тернационализма и приоритета экономического фактора — и нахо-
дившим поддержку у русских членов партии22), не признает самого
понятия демократии и, таким образом, отказывает народу в демо-
кратических правах там, где осуществление этих прав привело бы к
распаду империи. Он упорно боролся за включение в конституцию
21 В 1840-е гг. Энгельс считал возвращение левого берега Рейна делом нацио-
нальной чести, а германизацию Бельгии и Голландии - необходимостью. В 1848 г.
он даже назвал великого чешского историка и патриота Палацки «сумасшедшим
немецким эрудитом». Он долго враждебно относился к идее независимости «ма-
лых народов», однако изучение ирландского вопроса впоследствии убедило его,
как он писал в 1882 г. Каутскому, что «освобождение от национального угнетения
есть фундаментальное условие любого развития». Ср.: Rosdolsky R. Friedrich
Engels und das Problem der «geschichtslosen» Volker // Archiv fur Sozialgeschichte.
1964. Bd. 4.
22 Graziosi A. A New, Peculiar State. Explorations in Soviet History, 1917-1937. West-
port, Conn.: Praeger, 2000. P. 76—77, 107—118; Idem. Alle radici del XX secolo europeo.
P. C11I. О Розе Люксембург, ее отрицательном отношении к борьбе поляков за не-
зависимость (которая, по ее мнению, отвлекала силы польского пролетариата от
борьбы за социализм и мешала «органичной интеграции» польской экономики в
экономику Российской империи), ее влиянии на русских левых и конфликтах с
польскими социалистами см.: Snyder Т. Nationalism, Marxism and Modem Central
Europe: A Biography of Kazimiers Kelles-Krauz (1872-1905). Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1997 (книга посвящена главному оппоненту Люксембург).
131
своего нового государства статьи о праве республик на отделение от
СССР. Разумеется, после его смерти позиция его товарищей взяла
верх, и со временем многие конституционные принципы решения
национального вопроса превратились в пустую формальность и ос-
тавались таковой до тех пор, пока, как частенько бывает с внешней
формой, ее силой не наполнили содержанием — в данном случае в
момент распада Советского Союза в 1991 г.
У имперских народов и их интеллектуальных элит националь-
ный фактор предвосхищал, ускорял и усугублял кризис и вырож-
дение либерализма. Как предполагал Мизес и точно констатиро-
вал в своем очерке о революции интеллектуалов Нэмир, уже в
1848 г. чешский, датский и польский вопросы способствовали бы-
строй перемене позиции большинства германского предпарла-
мента, который перестал придавать значение уважаемым им на
словах правам там, где оказывались затронуты интересы Герма-
нии. При этом ключевую роль сыграло городское немецкое мень-
шинство на Востоке, существование которого (к тому же в качест-
ве доминантной группы) давало мощное средство для шантажа в
руки всего национального сообщества и которое — хорошо созна-
вая пагубные для себя последствия распространения демократии
на большинство населения негерманского происхождения в своем
регионе — было готово поддержать любое правительство, доста-
точно сильное, чтобы защитить его привилегии.
В других случаях, например в России и даже в Венгрии, кризис
реформистских начинаний в большей степени ускоряла реакция
угнетенных народов: например, в 1862 г. польское восстание изме-
нило курс реформ Александра И, в 1905 г. русские либералы и де-
мократы раскололись в своем отношении к национальному во-
просу, и даже в 1917 г. коалиция, составившая Временное прави-
тельство, расстроилась из-за признания прав Украины, которому
многие либералы противились настолько, что предпочитали вый-
ти из правительства, лишь бы не подписывать соответствующий
договор. А в Османской империи одной только попытки подиску-
тировать о правах и привилегиях доминантного народа и доми-
нантной религии было достаточно, чтобы возбудить сильнейшую
враждебность к любой реформистской политике и нарушить
единство отстаивающих ее группировок.
Последнее объяснялось еще и тем, что Османская империя вся
представляла собой многонациональную территорию (вспомним о
греках, армянах и курдах в Анатолии), и противодействующие
132
механизмы, работавшие в Германии благодаря немецкому мень-
шинству на Востоке, здесь активизировались мгновенно по всему
организму империи, включая крупнейшие ее центры. А может
быть, как заставляет предположить реакция немцев на Версаль-
ский мир, непрерывные унижения, которые имперский народ тер-
пел еще начиная с войны греков за независимость и которые осо-
бенно часто стали сыпаться на него после революции 1908 г.,
сыграли главную роль в том, что лидеры турецкого реформизма
очень быстро перестали соблюдать даже видимость демократии в
отношении национальных меньшинств.
Самым ярким примером могут служить младотурки, между
прочим, давшие своей организации официальное название — Ко-
митет единения и прогресса — под прямым влиянием девиза Огю-
ста Конта «порядок и прогресс». Поначалу среди их руководите-
лей были арабы и албанцы, а армян не только пригласили на
первый съезд турецкой оппозиции в Париже, но и подчеркнуто
много говорили с ними о возможности дать особый статус армян-
ским провинциям. Этого хватило, чтобы запустить механизм,
очень похожий на тот, что уже спровоцировал кризис либерализма
на других многонациональных территориях: группа младотурок
под руководством Ахмета Ризы в знак протеста оставила Комитет,
а впоследствии прибрала его к рукам, оттесняя и преследуя преж-
них лидеров. Вскоре популизм, изначально социалистического
толка, стал проводником крайнего и нетерпимого национализма и
в Османской империи, призыв halka dogru — идти «в народ» (т.е. к
турецким крестьянам Анатолии), прямо заимствованный у рус-
ских социалистов XIX в., проложил дорожку идее очистить Анато-
лию от элементов, чуждых этому народу23.
Непрочность демократии, либерализма, гуманистического и ин-
тернационалистического социализма в огромном европейском
многонациональном регионе и ненадежность в связи с этим благих
имперских начинаний повсеместно открывали, таким образом, до-
рогу реакции в среде имперских народов, особенно если затрагива-
лись их прерогативы. Это и служило предпосылкой возникновения
в определенных условиях, созданных чередой провалов, унижений
23 О противоречивой идеологии младотурок и ее эволюции см.; Siikni Hanioglu М.
The Young Turks in Opposition. New York: Oxford University Press, 1995; Ziircher E.-J.
Turkey; Idem. The Unionist Factor. The Role of the Committee of Union and Progress
in the Turkish National Movement, 1905-1926. Leiden: Brill, 1984.
133
и т.д., так сказать, «вредных» имперских проектов чрезвычайно аг-
рессивного характера, из которых гитлеровский был наиболее на-
шумевшим и жестоким, но отнюдь не единственным.
Родственные явления, хотя, конечно, со своими своеобразны-
ми чертами, возникали и в среде угнетенных национальностей.
Для тех, кто находился в самом низу иерархической шкалы, т.е.
практически был лишен своей элиты, социализм сразу и спонтан-
но отождествлялся с национально-освободительной борьбой, по-
скольку был направлен против правящих классов другой нацио-
нальности. Так, например, на Украине, где, как писал один
социалист-еврей, чиновник был русский, «помещик... русский
или поляк, а банкир, промышленник или купец чаще всего — ев-
рей» (правда, подавляющее большинство еврейского населения
было очень бедно и набожно), лозунг «геть панов» легко превра-
щался в «геть ляхов, геть москалей, геть жидов», хотя, конечно, та-
кой исход не являлся неизбежным и украинские патриоты вроде
Драгоманова любым способом старались не допустить его24.
Так что если взять угнетенные народы, то «глубокая внутрен-
няя историческая связь между демократией, социализмом и на-
ционализмом», о которой с оптимизмом говорил отец Чехослова-
кии Масарик, радуясь, что она так укоренилась в Восточной
Европе25, тоже позволяла предположить возможность весьма не-
счастливого и обусловленного очень разными ожиданиями разви-
тия событий, ведущего к появлению тех или иных форм стихийно-
го народного национал-социализма.
Движения разного типа, но одной направленности зарожда-
лись среди представителей новых элит этих народов. Львиная доля
их примкнула тогда к социализму, быстро заменившему собой ли-
берализм и демократию в качестве главной идеологии националь-
ного освобождения, как происходило потом в XX в. и в странах
«третьего мира» (социалистами были, к примеру, и Пилсудский, и
Петлюра, возглавлявший украинское национальное движение по-
сле 1918 г.). В числе прочего ими руководило стремление опереть-
ся на «исконные» народные традиции в противостоянии высокой
культуре господствующей национальности, а также — противоре-
чие здесь лишь кажущееся - объединиться с чем-то великим и
альтернативным, преодолевая национальную ограниченность и
24 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 15.
25 Masaryk T.G. L’Europe nouvelle. Paris, 1918. P. 57-58.
134
провинциализм; не забудем и про уже упоминавшийся здесь силь-
ный параллелизм между идеологией и лексикой левых и нацио-
нально-освободительных сил.
Такой социализм был, однако, очень чувствителен (особенно по-
сле прихода к власти, но не только) к влиянию факторов, толкающих
его на путь перерождения в направлении этатизма и этнических чис-
ток. Возможность подобного перерождения уже скрывалась в требо-
ваниях национализации (в буквальном смысле) экономического ап-
парата, и ему весьма способствовала, как, например, на Балканах,
необходимость укрепить государство, считавшееся слабым и на са-
мом деле бывшее таковым. Индустриалистский и этатистский дух
социализма обещал справиться с этой задачей и оставить рычаги
экономической власти, направление и темпы развития под личным
контролем строившей государство элиты.
В целом Восточная Европа XIX в. представляла собой благодат-
ную почву для естественных всходов национализма и имперских
проектов возрождения, как благих, так и вредных; в то же время
идеологии освобождения, и национальные, и космополитические,
вырождались там быстрее и сильнее по сравнению с аналогичны-
ми, но более медленными процессами в Западной Европе. В этих
условиях и народные устремления, особенно в ходе своей реализа-
ции, часто приобретали неприятные и весьма неожиданные чер-
ты, а движения, ускоренные или рожденные великими перемена-
ми на Западе, по крайней мере начиная с войны греков за
независимость, выливались в этническую и социальную чистку в
самых острых формах, проводимую как сверху, так и снизу. Конеч-
но, эти феномены появились раньше - последним самым ярким
примером может служить крупное украинское восстание середи-
ны XVII в., но то были отдельные эпизодические случаи в общем
имперском контексте26.
История XIX в. на Востоке Европы представляет собой начало
перехода многонациональности — «богатой палитры самых разных
оттенков» — в национальный монохроматизм благодаря постепен-
ному образованию национальных государств, а также демографи-
ческим процессам и модернизации. Первой своей кульминации
26 Перечень наиболее значительных примеров этнической чистки и посвящен-
ных им исследований см.: Bell-Fialkoff A. Ethnic Cleansing; Naimark N. Fires of
Hatred; Martin T. The Origins of Soviet Ethnic Cleansing // Journal of Modem History.
1998. Vol. 4. P. 813-861; Pohl O. Ethnic Cleansing in the USSR, 1937—1949. Westport,
Conn.: Greenwood Press, 1999.
135
он достиг в первую мировую войну. Именно благодаря той роли,
какую сыграл этот переход в разжигании великой войны-револю-
ции XX в. и в произведенной ею брутализации, и благодаря вовле-
чению в эти процессы великих имперских наций, живших на гра-
ницах района кризиса и протягивавших туда свои щупальца, вся
европейская история двух последних столетий предстает историей
неуклонного сокращения области, занимаемой «Восточной Евро-
пой» — не в географическом смысле (с этой точки зрения, Восточ-
ная Европа, так же как и Центральная, существует и сегодня, цела
и невредима), а в концептуальном, как сложным агломератом
множества языковых, религиозных и культурных сообществ, жи-
вущих на одной территории.
Но если в Восточной Европе разрыв между национально-ос-
вободительным движением и государственным строительством с
одной стороны и либеральными, демократическими и, наконец,
социалистическими идеалами — с другой, или, точнее, мутация
(вырождение) либерализма, демократии и социализма (начав-
шаяся, как мы знаем, и на Западе) происходила быстрее и не
только среди народов-угнетателей; если благодаря этому уже в
XIX в. там наметились тенденции, четче обрисовавшиеся только
после 1914 г., и выявились практики, которыми ознаменовалось
потом следующее столетие, — то даже в этом случае влияние пер-
вой мировой войны сыграло решающую роль, углубив и изменив
уже идущие процессы, инициировав новые, непредвиденные, и
остановив другие, только начавшиеся. Вспомним, к примеру,
бесспорную, хотя и противоречивую эволюцию, в том числе в
сфере межнациональных отношений, происходившую в импери-
ях Востока, особенно в Габсбургской монархии. Реннер и Бауэр
выступили там с интересным, хотя и несколько тяжеловесным
предложением урегулировать национальные конфликты на осно-
ве концепции культурно-национальной автономии отдельной
личности, независимо от места ее проживания, которое нашло
отклик и в царской России. Примечательно, что после войны
сами авторы идеи, в особенности Реннер, отказались от нее, объ-
явив самоопределение реакционной утопией и ратуя за объеди-
нение с Германией27.
27 Kann R.A. The Multinational Empire. Nationalism and National Reform in the
Habsburg Monarchy, 1848—1918. New York; Columbia University Press, 1950; Mises L.
von. Stato, nazione ed economia. P. СП, CV, 48.
136
Часть третья z
ВОЙНА-РЕВОЛЮЦИЯ, 1905-1956
Глава пятая
АКТ I: 1905-1923
Встряска, 1905-1917/1918
Восточная Европа конца XIX в. уже несколько десяти-
летий отличалась гораздо меньшей стабильностью, чем западная
часть континента. Причины нестабильности крылись не только в
экономической отсталости, попытках преодолеть ее, провале этих
попыток и наступающем вслед за тем разочаровании, как утвер-
ждал Беренд, впрочем, вполне справедливо определивший кри-
зисный характер данного региона Европы1.
Тут, скорее, имела место настоящая линия сейсмического на-
пряжения, на которой сочетание своеобразных национальных,
экономических, социальных, религиозных, политических и идео-
логических факторов обусловило появление феноменов, пред-
ставлявших собой отнюдь не просто крайнюю и потому, как уже
говорилось, наиболее яркую форму того, что происходило на За-
паде. Эти феномены зачастую несли в себе кое-какие новые чер-
ты, и впоследствии, в XX столетии, им суждено было получить
распространение в большей части Европы, а после распада коло-
ниальных империй — и на других континентах.
Османская империя была важнейшей, хотя и не единственной
критической точкой на вышеназванной линии, являясь неотъем-
лемой частью единой цепи, на всех звеньях которой незамедли-
тельно отражались потрясения, переживаемые одним из них.
Мадзини, например, сразу после австро-итало-прусской войны
1866 г. отмечал тесную связь судеб Турции и Австрии, указывая, 1
1 Berend l.T. The Crisis Zone of Europe. An Interpretation of East-Central European
History in the First Half of the Twentieth Century. New York: Cambridge University
Press, 1986.
139
что крах первой повлечет за собой падение второй и положит ко-
нец существованию двух «политических аномалий», которые, ро-
дившись вместе, должны вместе и погибнуть.
Через несколько лет многие из политических деятелей, которые
после победы русских над турками искали в Берлине способ реше-
ния восточного вопроса, т.е. постепенного разрушения Османской
империи, пришли к такому же выводу, заметив, что подобное ре-
шение ставит на повестку дня проблему империи Габсбургов. Не-
смотря на то что великие державы постарались тогда сдержать ту-
рецкий кризис, помогая Стамбулу хотя бы частично оправиться от
катастрофического поражения, турки все же, как известно, лиши-
лись в Берлине около трети территории и пятой части населения.
Судьба Турции, таким образом, была предрешена, и это — после не-
ожиданных поражений в Италии и Германии - сильно усугубило
тревогу Австрии, сыгравшую, по словам Алеви, решающую роль в
1913—1914 гг.: именно она заставила Вену, которую обычно нелегко
было расшевелить, первой выступить против Сербии — дабы избе-
жать конца, постигшего Стамбул2.
Как вскоре показал 1905-й год (а периодические польские вос-
стания, крестьянские бунты и террор позволяли понять и рань-
ше), другой критической точкой была Российская империя. Она в
то время стремилась экспансией на Восток компенсировать уни-
жение, перенесенное в Крыму, а затем в Берлине; эта-то дорога и
привела ее к столкновению с Японией, поражению — и первому
крупному революционному потрясению.
Сосредоточив свое внимание на Османской и Российской им-
периях, мы можем заглянуть дальше и увидеть, как система госу-
дарств, зародившаяся в Европе, постепенно охватила весь осталь-
ной мир, подтолкнув древнейшие восточные государства к попыт-
кам преобразования с целью выдержать конкуренцию с Европой и
избавиться от угрозы превратиться в колонию.
Именно интерпретация истоков первой мировой войны, дан-
ная Алеви, считавшим, что корни ее — на Востоке, а точнее, в по-
ражении России в войне с Японией, позволяет нам расширить та-
ким образом наши исторические горизонты. В открывающейся
перспективе, учитывая также и роль, сыгранную впоследствии ре-
волюционными событиями, 1905-й год скорее представляется
2 Masaryk T.G. L’Europe nouvelle. Paris, 1918. P. 91; Halevy E. L’ere des tyrannies.
Paris: Gallimard, 1938. P. 187.
140
истинной начальной датой рассматриваемого нами грандиозного
конфликта, нежели 1912-й; поэтому, после некоторых колебаний,
я и выбрал за отправную точку в своих рассуждениях его, а не бо-
лее непосредственную и традиционную дату формального откры-
тия военных действий в Европе.
Победа японцев, первое крупное поражение, нанесенное бе-
лым людям представителями «низшей расы», всколыхнули всю
Азию, сильнее всего отозвавшись там, где устойчивее были мест-
ные элиты, старые и новые, и властные традиции, способные по-
служить резонатором. В 1906 г. в Персии убили шаха, «продав-
шегося русским». В 1908 г. поднял голову и стал набирать силу
индийский национализм, а в Стамбуле захватили власть младо-
турки, чье националистическое крыло с восторгом встретило из-
вестие о победе японцев (а конституционалистское — о револю-
ции в царской России). В 1912 г. настал черед Китая: Сунь Ятсен
положил конец существованию «самой древней из крупнейших
военных монархий мира», провозгласив республику под лозунгом
«демократия, национализм, социализм» (что в наших глазах при-
обретает особый смысл и значение). Даже в Африке малые элиты
прозападного толка, порождение колониализма - в основном
британского, с новой силой и конкретностью стали задаваться
вопросом о том, «как цветному народу победить великую белую
державу»3.
Здесь мы видим первый всплеск той волны, что поднялась во
всю мощь в результате первой мировой войны, а затем достигла
своей кульминации после второй, повторяя, в известном смысле и
с некоторым запозданием, процессы, протекавшие в Восточной
Европе.
Однако победа Японии потрясла не только Азию и «третий
мир», как его потом станут называть. Самым сильным и непосред-
ственным откликом на нее стала «русская» революция 1905 г. Ка-
вычки здесь совершенно необходимы, как напоминает Андреас
Каппелер. Если рассматривать царскую Россию в ее имперских
масштабах (а иначе и нельзя), то события, потрясшие ее в 1905 г.,
во многом представляются запоздалым восточным отзвуком той
«весны народов», что пронеслась по Центральной и Восточной
3 Halevy Е. L’ere des tyrannies. Р. 186 ss.; Ziircher E.-J. Turkey. A Modem History.
London: I.B.Tauris, 1998. P. 93; Davidson B. The Black Man’s Burden. Africa and the
Curse of the Nation-State. New York: Times Books, 1992. P. 40.
141
Европе в 1848 г. Еше в 1895-1900 гг. из 59 уличных демонстраций,
прошедших в империи, только три состоялись в собственно рус-
ских губерниях (тогда как в Польше — 25, в Прибалтике и на Ук-
раине — 9). Летом же 1905 г., при относительном спокойствии, ца-
рившем в России, подавленной бесконечными поражениями и
событиями Кровавого воскресенья 9 января (через несколько
дней после падения Порт-Артура), на западных и южных окраи-
нах империи уже шла чуть ли не настоящая гражданская война с
национальной окраской (так, например, в Прибалтике в первую
очередь бунтовали против немецких баронов). Даже если взять ра-
бочие стачки - наиболее сплоченно поднялись Варшава, Лодзь и
Рига, да и жертв беспорядков, включая погромы — еврейские, ар-
мянские, азербайджанские, на окраинах было гораздо больше, чем
в центре. Вдобавок революция дала новый импульс чисто нацио-
нальным движениям среди народов империи, впервые показав
пример того, что будет происходить в будущем при каждом кризи-
се российской наднациональной государственной системы4.
При всем том, конечно, не стоит забывать, что в последующие
месяцы волна протеста перекинулась в собственно русские города
и регионы, заставив царя идти на уступки, и вот тогда-то, как
позднее в 1917 г., разразилась действительно русская революция,
ход и судьба которой, однако, были теснейшим образом связаны с
событиями, разыгрывавшимися на периферии. Размышления об
этой революции как раз и подвели Ленина к открытию о том, что
можно использовать национальные и крестьянские движения (со-
циал-демократия, напомним, традиционно считала крестьянские
бунты «реакционными»), дабы совершить революцию, пусть не
такую, какой все представляли ее себе до сих пор, но которая, как
он надеялся, со временем приведет к той же цели.
Многогранность событий 1905 г. — современные стачки и волне-
ния городского плебса, крестьянские восстания и «буржуазные» де-
мократические требования — помогла так^ке Парвусу и Троцкому
сформулировать упоминавшиеся выше теории комбинированного
развития и революции как длительного многоэтапного процесса, в
основе которых тоже лежало новое понимание революции.
4 Kappeler A. La Russie, empire multiethnique. Paris: Institut d’etudes slaves, 1994.
P. 280—290. Роль национальных окраин империи в революции 1905 г. подчеркивал
еще Сетон-Уотсон: Seton-Watson Н. The Russian Empire, 1801—1917. Oxford:
Clarendon Press, 1967. P. 554—559.
142
Между тем лихорадка, охватившая Восток, совпала по времени
с вырождением национальных движений и их либерально-демо-
кратических идеологий на Западе, к чему привело, как мы пом-
ним, осознание необходимости государственного строительства,
наиболее острое в некоторых странах ввиду испытанных пораже-
ний и национальных унижений и повсеместно питаемое в начале
XX в. новым ощущением силы и могущества, рожденным необы-
чайным демографическим и экономическим ростом.
Слабость младотурок, открывшаяся сразу после революции,
в частности, вновь подняла восточный вопрос. Первой восполь-
зовалась этим Италия Джолитти, «пацифистская и демократи-
ческая», но при этом полная сил, как потом напишет Вольпе,
терзаемая воспоминаниями об Адуа и терпящая, по словам на-
ционалистов, постоянные унижения от Франции на севере Аф-
рики, а потому ставшая колыбелью национализма нового типа,
собственно, такого же, какой возобладал среди младотурецких
лидеров.
В 1911 г. вспыхнула ливийская война, в результате которой
Италия оккупировала также острова Додеканес, что свидетельст-
вовало о силе и живучести венецианского имперского мифа, усту-
павшего в наследии «рисорджименто» лишь мифу римскому (и
сыгравшего потом немалую роль в авантюристической и противо-
речивой итальянской политике на Балканах). Но, так или иначе,
победа итальянцев ясно показала новым балканским государст-
вам, и в первую очередь Сербии, что есть возможность отбросить
турок в Азию.
Программа альянса сербов, греков и болгар спровоцировала
первую балканскую войну — один из плодов нашей авантюры в Ли-
вии, формально положившую начало конфликту, сотрясавшему
Европу все сорок последующих лет. Уже в следующем году раздел
добычи — отвоеванных у турок территорий — между победителями
привел к новой стычке, причем каждая сторона предпринимала по-
пытки этнических чисток, предвещавших по своей жестокости
дальнейшие эксцессы такого рода, происходившие на огромных
пространствах континента в течение тридцати лет5.
5 Стоит прочесть отчет тогдашней комиссии Фонда Карнеги. См.: The Other
Balkan Wars. A 1913 Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect with a New
Introduction and Reflections on the Present Conflict by George F. Kennan. Washington,
D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1993.
143
В ближайшее же время наиболее интересные, с нашей точки
зрения, последствия наступили в Османской империи, раньше
других европейских империй испытавшей на себе двойное дейст-
вие войны и поражения. Она обратилась к «национал-социали-
стическим» решениям программы младотурок, в результате чего
националистическое их крыло разгромило и подвергло репресси-
ям конституционалистов. В 1913 г. правительство, продолжая про-
поведовать свободный обмен, стало проводить политику «освобо-
ждения» экономики от влияния иностранцев, и особенно местных
христиан.
В последующие месяцы эта политика радикализировалась, не
без влияния упоминавшегося выше Парвуса. Переехав в Турцию,
он стал там не только миллионером, но и одним из авторитет-
нейших советников турецких националистов по вопросам эконо-
мической политики. Критикуя с марксистских позиций либерист-
скую наивность последних, он подчеркивал полуколониальное
положение Османской империи и рекомендовал в качестве про-
тивоядия более энергичные меры в духе экономического нацио-
нализма.
Уже в 1914 г., после официального провозглашения политики
построения «национальной экономики» (Milli iktisat) по немецкой
модели, было объявлено о временном прекращении платежей по
внешнему долгу и вышел закон, обязывающий греческих и армян-
ских предпринимателей писать вывески и вести документацию на
турецком языке. Одновременно против последних была развернута
террористическая кампания, официально противозаконная, но
проводившаяся в жизнь тайной организацией «Te$kilat-i Mahsusa»
(«Особая организация»), сформированной из добровольцев, отли-
чившихся в войне с болгарами, под командованием Энвера-паши и
подчинявшейся комитету из небольшого числа лиц, который, буду-
чи также незаконным, втайне определял политику правительства.
За короткое время около 130 тыс. греческих промышленников и
коммерсантов были вынуждены покинуть страну, а их предприятия
отошли к такому же числу турок. Радикализация, спровоцирован-
ная войной и поражением, и ослабление конституционалистского
крыла младотурок привели к установлению в империи, которую
уже контролировала группа революционеров, первого однопартий-
ного режима в истории Европы XX в.
Конечно, в силу того, что он был первым, а также в силу осо-
бенностей и отсталости Османской империи и идеологии младо-
144
турок, которые все-таки оставались ближе к тайному обществу,
чем к партии в современном смысле слова, этот прототип «тота-
литарного» государства был несовершенен и отличался большим
своеобразием. Тем не менее, и в нем можно найти некоторые
черты, характерные для всех последующих режимов такого рода.
Наличие внутри движения тайной группы с конспиративными
замашками и приход ее к власти некоторым образом воспроизво-
дили историю правления якобинцев во Франции, но в то же вре-
мя предвосхищали то, что вскоре должно было произойти в
СССР, где большевики — тоже скорее секта, чем партия, — пра-
вили, всячески стараясь соблюдать «конспирацию» (слово, при-
несенное ими из опыта тайной борьбы против царизма и озна-
чавшее некий свод правил секретности, которым руководствова-
лась власть в своих действиях и который начиная с 1919 г. стал
расширяться и ужесточаться)6. Показательно и сочетание закон-
ных и незаконных мер, использование государством террора при
осуществлении программы «национализации» (в буквальном
смысле) экономики.
Вступление в мировую войну заставило турецкий режим ужесто-
чить эту политику. Тогда стало усиливаться влияние государства на
экономику, постепенно «освобождаемую» от «чужаков» и реорга-
низуемую (во всяком случае, как предполагалось) в направлении
создания зачатков корпораций. Всего через несколько месяцев по-
сле начала войны была осуществлена первая из крупнейших массо-
вых операций по этнической и социальной чистке, характерных
впоследствии для всех европейских родичей нового государства,
рождавшегося на обломках Османской империи7.
Между тем победа над этой последней, а затем — над бывшими
союзниками при разделе добычи воодушевила сербский национа-
лизм, после успехов на юге обративший свое внимание и свою
энергию на север, т.е. на австрийцев в Боснии. В такой атмосфере,
всего через несколько месяцев после победоносного завершения
второй балканской войны, и вызрело сараевское покушение. Рез-
кая реакция Австрии, подстегнутая, как мы знаем, страхом
6 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне.
1917-1933. М.: РОССПЭН: 2001. Р. 35-36.
7 Ziircher E.-J. Turkey. Р. 127 ss.; Ahmad F. Vanguard of a Nascent Bourgeoisie: The
Social and Economic Policy of the Young Turks, 1908—1918 // Social and Economic
History of Turkey (1071-1920) / Ed. by O.Okyar, H.lnalcik. Ankara: Meteksan, 1980.
P. 336-337. Парвус тогда сотрудничал в газете «Turk Yurdu» («Турецкая родина»).
145
разделить судьбу Турции и быть вытесненной сербами с Балкан,
после того как она уже была вынуждена уйти из Италии и Герма-
нии, запустила цепную реакцию, приведшую через несколько не-
дель к взрыву.
Вот в каком смысле вспыхнула на Балканах и пришла с Востока
война, ставшая потом известной как первая мировая, а в действи-
тельности прежде всего общеевропейская и превратившаяся в та-
ковую благодаря существованию огромных сейсмически опасных
районов, составлявших Восточную Европу по Мизесу. Этот вихрь
увлек за собой все империи, оказавшиеся в поле действия его цен-
тростремительной силы, а его ответвление в Эльзасе и Лотарингии
во многом помогло втянуть в него и великие западные державы.
Разумеется, я не хочу преуменьшить роль, которую сыграла здесь
неоднократно упоминавшаяся «слепота» западных элит, и тем бо-
лее не отрицаю существования на самом Западе горючего мате-
риала в виде, скажем, тех молодых энтузиастов, что во всех стра-
нах с радостью спешили на призывные пункты, помогая «разжи-
гать... пожар», который поглотил большую часть из них, а «значи-
тельное меньшинство» (по выражению Дино Гранди) превратил в
«каннибалов»8. Но мне, опять-таки вслед за Алеви, все же кажет-
ся, что на Востоке не только появился непосредственный повод
для конфликта, но и скрывались главные его причины9. Запад,
благодаря огромным силам, накопленным противниками, разве
что послужил усилителем, фактором, превратившим «обычную»
8 См. о роли такой молодежи в Италии: Grandi D. Il mio paese. Ricordi
autobiograflci. Bologna: Il Mulino, 1985. P. 50, 78. Схожая судьба ожидала их сверст-
ников, разжигавших пожар революции в России. В 1937 г. в управляемом канни-
балами Советском Союзе Пятаков в своем последнем слове после вынесения ему
смертного приговора, возможно, написанном за него другими людьми, но оттого
не менее знаменательном, сказал: «И вот я перед вами весь в грязи, раздавленный
своими же преступлениями, лишившийся всего по собственной вине, — человек,
потерявший свою партию, не имеющий друзей, потерявший семью, самую душу
свою потерявший» (цит. по: Graziosi A. A New, Peculiar State. Explorations in Soviet
History, 1917—1937. Westport, Conn.: Praeger, 2000. P. 1).
9 Л.Б.Нэмир, критикуя тех, кто видел причины войны в Антанте и англо-гер-
манском соперничестве, писал, что «в действительности войну породил страх юго-
славов перед Габсбургской монархией и ее политикой на Балканах; есЛи и была на
Западе какая-то дополнительная причина, ее следует искать в надеждах немцев на
то, что мы [т.е. англичане] останемся нейтральными, — иначе говоря, не в существо-
вании у нас обязательств перед Францией, а в их неопределенности» (Namier L.B. In
the Margin of History. New York: Books for Libraries Press, 1969. P. 14).
146
войну, которая вовсе не была неизбежна, а лишь возможна, учи-
тывая нараставшую напряженность, — в величайшую бурю, какую
мало кто ожидал или был в состоянии предвидеть.
Именно из-за немецкой, английской и французской мощи са-
мые крупные и решающие сражения происходили на Западе.
И, однако, на Востоке война носила гораздо более радикальный
характер в политическом, социальном и национальном отноше-
нии. Если, с одной стороны, никто не ставил под вопрос сущест-
вование французского, германского или итальянского государства
и речь шла самое большее о судьбе какого-то региона и изменении
некоторых границ, то с другой — судьба империй и народов, под-
чиненных им или конфликтующих с ними и друг с другом, мгно-
венно оказалась тесно связана с исходом войны. Как можно было
догадаться уже по опыту балканских войн, от него зависело, какое
государство выживет, какое родится (и с какими границами).
Судьба, постигшая армян в 1915 г., показала, что от него зависела
даже участь той или иной народности. В частности, те из них, ко-
торым обстоятельства помешали тогда построить собственное го-
сударство, стали главными жертвами последующих событий.
По тем же причинам на Востоке война также несла более силь-
ную идеологическую нагрузку. Там она казалась «с самого начала
войной за свободу народов», писал Алеви, соглашаясь в этом с Ле-
ниным, по мнению которого к востоку от Рейна в центре кон-
фликта стоял национальный вопрос. Подобно многим национал-
демократическим лидерам, Ленин был убежден, что этот вопрос
можно достаточно скоро удовлетворительно разрешить. Как пока-
зали дальнейшие события, за этой надеждой, какие бы формы она
ни принимала, стоял один из великих идеалов XIX столетия, в по-
следний раз в таких масштабах овладевший Европейским конти-
нентом (гораздо более слабый и эфемерный призрак его возник
потом только в 1989 г.), — убеждение, что движение наций, говоря
словами Масарика, есть «одна из могучих сил демократии»10.
О том, что это не чистая иллюзия, свидетельствовал тот простой
факт, что обретение национальной независимости в общем удовле-
творяло требования большинства населения того или иного регио-
на или элит, выступавших от его имени, решая в то же время
10 Halevy Е. L’dre des tyrannies; Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo //
Mises L. von. Stato, nazione ed economia. Torino: Bollati Boringhieri, 1994. P. XXXIII;
Masaryk T.G. L’Europe nouvelle. P. 2.
147
кардинальную проблему собственного государства. С этой точки
зрения, как утверждали и Масарик и Ленин, борьба за самоопреде-
ление в действительности означала борьбу за демократию и свободу
народов (сильнее всего подобная тождественность проявилась
вновь после второй мировой войны, во время деколонизации).
Однако, как мы знаем, на многонациональных территориях и
там, где не существовало четко определенных исторических и гео-
графических границ, победа демократии и свободы частенько (и
очень быстро) превращалась в свою противоположность, лишний
раз доказывая, что у национально-государственной идеи есть своя
оборотная сторона. Пострадавшими в первую очередь оказыва-
лись национальные или религиозные меньшинства, сохранившие-
ся на освободившихся территориях, для которых победа демокра-
тии, т.е. интересов (в том числе и национальных) большинства
населения, могла стать катастрофой11. К тому же из-за трудностей,
с которыми сталкивалось новое государство, нередко и всему его
населению приходилось затем в большей или меньшей степени
поступаться своей свободой.
Для «демократических государств, которые только-только на-
чали нарождаться», приходя на смену «аристократическим госу-
дарствам-угнетателям», писал Масарик, очень велик риск переро-
ждения, связанный и с их идеологией, и со свойствами населения,
и с непрочностью и примитивностью большей части их элит, а
также с теми условиями, в которых они рождались на свет и дела-
ли первые шаги.
Признаки перерождения «демократической» войны «за свободу
народов» появились, не дожидаясь окончательной победы новых
государств с их национальными претензиями. На Востоке первая
мировая война быстро приняла форму всеобщего движения про-
тив имперских наций, сопровождавшегося, как и в случае изгна-
ния турок с Балкан, которое завершилось в 1912 г., проявлениями
величайшей жестокости и мстительности и породившего среди
почувствовавших угрозу народов-хозяев также чрезвычайно жест-
кую реакцию и самые неприятные идеологические схемы. В част-
ности, война представлялась первым этапом конфликта между
славянами и немцами вместе с их союзниками из-за господства на
рассматриваемых территориях, что в действительности имело 11
11 Здесь мы видим классический, но особенно трагичный пример токвилевской
антиномии увеличения демократии и утраты свободы.
148
место. Такой интерпретации, которую еще в 1874 г. предвосхитил
великий чешский историк и патриот Ф.Палацки, придерживались
в 1913 г. и фон Мольтке, бывший тогда начальником германского
генштаба, и демократ Масарик12.
Само собой разумеется, конфликт такого рода не мог не приоб-
рести совершенно другие черты, нежели на западном фронте, по-
тенциально — гораздо более ужасные. Как предвещала уже вторая
балканская война, борьба против имперских наций легко была спо-
собна превратиться (как часто и бывало) во всеобщее сведение сче-
тов с участием прежде угнетенных этнических и/или религиозных
меньшинств. Достигнув своей кульминации после развала великих
многонациональных государств, это сведение счетов породило но-
вые волны более или менее вынужденных миграций в придачу к
тем, что начиная с 1914 г. были вызваны стремлением убежать от
войны (на Востоке они шли более оживленно, чем на Западе), а так-
же политикой великих империй, стремившихся «этнически» обезо-
пасить свои границы во время конфликта (к этой политике мы скоро
вернемся), и, наконец, хаосом, наступившим после их крушения.
Война и в данном случае по-своему обеспечила продолжение
процессов, шедших в предыдущие десятилетия благодаря урбани-
зации и индустриализации и связанных с передвижениями насе-
ления, которые быстро приняли ярко выраженный национальный
характер (вспомним о завоевании немецких городов богемцами и
словаками, итальянских городов в Далмации — хорватами и пр.).
Но теперь эти перемещения происходили совсем иначе и стали
более массовыми, насильственными и резкими. С этой точки зре-
ния, можно сказать, что на Востоке во время первой мировой вой-
ны был зафиксирован первый пик того «переселения народов» в
Европе XX в., достигшего затем своей кульминации в 1939—1947 гг.,
12 Halevy Е. L’ere des tyrannies. Р. 187; Taylor A.J.P. The Struggle for Mastery in
Europe, 1848—1918. Oxford: Clarendon Press, 1954. P. 496. Масарик, после того как
было основано чехословацкое государство, предпослал одной из глав своих ме-
муаров (Masaryk T.G. La resurrection d’un Etat. Souvenirs et reflexions, 1914-1918.
Paris: Pion, 1930) «пророчество» Палацки, согласно которому в схватке славян с
немцами победят первые благодаря союзу с врагами Германии на Западе. Масари-
ку вторил тогда, например, Рудольф Надольны, впоследствии посол Германии в
СССР (Nadolny R. Germanisierung Oder Slavisierung? Berlin: Stollberg, 1928). Нитти
тоже был убежден, что первая мировая война по сути представляла собой «кон-
фликт между германскими и славянскими расами» (Nitti F.S. L’Europa senza расе.
Firenze: Bemporad, 1921. P. 114). Ср. также: Graziosi A. Alle radici del XX secolo
europeo. P. XXXVI.
149
которое является одним из центральных событий исследуемой
нами войны-революции13.
Масштабы, которые это «переселение народов» приняло уже в
1921 — 1922 гг., помогают понять, как важно и целесообразно всегда
помнить, что великая европейская война XX столетия с самой пер-
вой своей фазы была также и революцией, что и отразил Масарик
даже в названии своих военных мемуаров, озаглавленных «Мировая
революция» (Svetova revoluce). В более классическом и убедительном
виде данный тезис сформулировал Алеви в 1929 г. Отметив «рази-
тельное сходство» понятий войны и революции и то, как трудно во
многих случаях отличить одно от другого (в пример не случайно при-
водились национальные революции), он добавил, что все великие
судороги Европы Нового времени были одновременно войнами и
революциями: и Тридцатилетняя война, и великая война (как ее на-
зывают англичане) 1792-1815 гг. с Наполеоном. Впрочем, еще рань-
ше него Вольпе заметил, что «большинство считало революцию и
войну разными, даже противоположными вещами, поэтому многие
революционеры выступали против войны, якобы отвлекающей от
желанной революции, а многие консерваторы стояли за войну, яко-
бы отвлекающую от проклятой революции; на взгляд же наиболее
прозорливых людей, а затем в реальной действительности очень ско-
ро оказалось, что революция и война — почти одно и то же»14.
Конечно, эта революция, особенно в ближайшей перспективе,
оказалась совсем не такой, как ожидали демократические ее участ-
ники. Турати15, назвавший ее впоследствии кровавой реакцией, а
участников-демократов — «обманутыми историей», во многом был
прав, и не только в отношении тех черт, которые она приобрела в
Италии (сошлюсь здесь на интерпретации войны и порожденных ею
режимов как отката в спенсеровском понимании данного слова). Но
даже при таком откате первая мировая война (и не только в том, что
13 См., напр., о том, что касается России: Gatrell Р. A Whole Empire Walking.
Refugees in Russia during WWI. Bloomington: Indiana University Press, 1999.
14 Halevy E. L’ere des tyrannies. P. 173—187; Volpe G. L’Italia in cammino. Roma —
Bari: Laterza, 1991. P. 209. В 1944 г., размышляя о столетии, прошедшем с 1848 г.,
Нэмир также добавил, что «массовое насилие принимает две формы, известные под
названиями войны и революции; но они тесно связаны друг с другом — обе расша-
тывают политические структуры, и одна открывает дорогу другой» (Namier L. 1848:
The Revolution of the Intellectuals. Oxford: Oxford University Press, 1993. P. 31—32).
15 Филиппо Турати (1857—1932) — один из основателей Итальянской социали-
стической партии, лидер ее реформистского крыла. — Прим. пер.
150
касялось передвижения населения) была революцией сама по себе, а
также началом и первым этапом той революции величайшего значе-
ния и величайших масштабов, которая продолжалась в 1930-е гг. в
условиях кажущегося мира и, наконец, завершилась третьим актом,
вновь принявшим форму грандиозного вооруженного конфликта.
Эта война-революция в трех актах, которую Джустино Фортуна-
то16 уже в 1915 г. в письме к Сальвемини17, упрекая его за то, что тот
встал на ее сторону, охарактеризовал как драму, что продлится «как
минимум полстолетия»18, изменила и внутреннюю структуру Евро-
пы, и ее положение в мире. Она вызвала крах государств и империй с
вековой историей и появление десятков новых государств; обозначи-
ла переход в решающую фазу великого процесса «этнической чист-
ки» и уничтожения народов-хозяев, начавшегося в предыдущем сто-
летии; привела к исчезновению целых социальных слоев и в корне
подорвала устойчивость «старого режима», которая была столь ха-
рактерна для нашего континента; мобилизовала крестьянские обще-
ства, усилившиеся после десятилетий демографического и экономи-
ческого роста, но разочарованные его медленными темпами и ценой,
которую приходилось за него платить; обусловила глубочайшие из-
менения в природе и роли (в том числе экономической) государства;
стала причиной значительных модификаций в структуре семьи, и
прежде всего — в системе ролей и взаимоотношений ее членов и т.д.
Остановимся пока на ее первом акте. Первой мировой войне
как революции была свойственна собственная жизнь и динамика:
она берет свое начало от балканских войн (но мы знаем, что в бо-
лее общем смысле отправной точкой служит 1905-й год), а закан-
16 Итальянский мыслитель, политический деятель, выступавший за реформы на
юге Италии. — Прим. пер.
17 Гаэтано Сальвемини (1873—1957) — видный итальянский историк, социалист,
антифашист. — Прим. пер.
18 Rossi-Doria М. Gli uomini е la storia. Roma - Bari: Laterza, 1990. P. 15. В 1914 г.
Алеви написал в письме к другу гениальные слова: «О войне немного могу тебе
сказать. Она будет продолжаться... Думаю, эту войну нельзя будет считать закон-
чившейся, пока не настанет день решительного поражения центральных импе-
рий; 2. для того чтобы достичь такого результата, потребуются не недели или ме-
сяцы, а годы. Не думаю, чтобы я сильно ошибался, когда говорил о 25 годах; 3. го-
воря о возможности столь длительной войны, я всегда имел в виду, что она будет
прерываться периодами ложного мира, непрочного мира, временными передыш-
ками». Алеви ошибался только в том, что, предсказывая периоды ложного мира,
символом которых стал Версальский договор, предполагал, будто они будут в
пользу Германии (цит. Р.Ароном в: Halevy Е. L’dre des tyrannies. Р. 279—280).
757
чивается в 1922—1923 гг. — победами фашизма в Италии и Ататюр-
ка над греками, окончанием эпохи военного коммунизма, разрухи
и крестьянской войны в СССР, а также кризисом в Германии в
следующем году, вылившимся осенью в попытки революции
крайних правых и крайних левых.
Эта война-революция оказала сильнейшее воздействие на все
элементы, о которых мы говорили, ослабив одни и усилив другие,
изменив ход уже разворачивающихся процессов и сформировав в
точках их пересечения новые гибриды и подлинно новые и свое-
образные феномены, например, упоминавшиеся выше деспотиче-
ски-тиранические режимы чрезвычайно агрессивного толка. Не
будь ее, «зародыши» этих феноменов, которые можно обнаружить
еще в XIX в., вероятно, не только не стали бы, а даже и не казались
бы таковыми. Как подчеркивали, например, Мосс и Де Феличе,
именно травма, нанесенная войной, главным образом способство-
вала тому, чтобы «из давно посеянных семян вызрел плод фашиз-
ма», в противном случае, может быть, никто и не стал бы исследо-
вать «прецеденты», с такой проницательностью обнаруженные
Стернхеллом. То же можно сказать и о большевизме, чья победа и
столь же стремительная, сколь неожиданная трансформация были
бы немыслимы без войны и последующей гражданской войны.
Слова Вольпе, приведенные в главе 2, напоминают нам, что
многие лидеры и идеологи этих движений в общем думали так же,
и критика, косвенным образом адресуемая Кершо и Левином при
рассмотрении германского опыта Фюре, неоднократно повторяв-
шему, что первая мировая война есть «основная матрица тотали-
тарных систем», неубедительна, поскольку не учитывает связь ме-
жду первым и вторым (а затем и третьим) актами европейской
войны-революции XX в.19
19 De Felice R. Le interpretazioni del fascismo. Bari: Laterza, 1971. P. XV ss.; Stem-
hell Z. Ni droite, ni gauche. Bruxelles: Complexe, 1987; Stalinisme et nazisme. Histoire
et memoire comparee / Sous la dir. de H.Rousso. Bruxelles: Complexe, 1999. P. 27-28;
Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison / Ed. by 1.Kershaw, M.Lewin.
Cambridge — New York: Cambridge University Press, 1997. Два первых зала грандиоз-
ной Выставки фашистской революции, ^открывшейся в Риме в 1932 г., были по-
священы войне, «представленной в ее творческом и “героическом” аспекте, как
великое событие... которое позволило вновь окрепнуть наиболее мощным силам
“рисорджименто” и сделало возможным “единственное в своем роде, ни с чем не
сравнимое, истинное и доподлинное чудо” фашизма» (курсив мой. — А.Г.). См.:
Gentile Е. II culto del Littorio. Roma - Bari: Laterza, 1993. P. 222.
152
Как и почему первая мировая война сыграла такую роль и в та-
ких масштабах? Мы уже знаем, что причину огромного значения,
которое она имела, следует искать в силе, накопленной Европой в
течение XIX в. В очень неглупой, хотя и противоречивой книге
Джордж Лихтхейм, например, справедливо заметил:
«Трения, приведшие к взрыву в 1914 г., принципиально ничем
не отличались от тех, что служили причиной других европейских
пожаров в прошлом. Изменился характер общества... Корни не-
ожиданных последствий казавшегося в 1914 г. достаточно тради-
ционным спора из-за гегемонии в Европе кроются в социально-
экономических переменах [но не только], ставших заметными уже
в 1900 г. Индустриализация в Европе достигла такого уровня, что
позволяла мобилизовать на борьбу миллионы людей на беспреце-
дентно долгий срок».
Иными словами, именно великие перемены, о которых шла
речь во второй части, включая политические и демографические
(способствовавшие накоплению большого количества энергии
даже в наименее развитых регионах континента), во много раз
увеличили продолжительность, интенсивность, тяжесть и жесто-
кость войны, а следовательно, и ее дестабилизирующий эффект20.
Что касается смысла произведенных войной трансформаций —
уже Ранке отмечал теснейшую связь характера (а значит, добавим,
практики и идеологии) государства и условий его рождения. Пер-
вый, по его словам, определяется «природой вещей и обстоятель-
ствами момента, гением и счастливой судьбой — все идет в
дело...»21. Это правило справедливо для всех исторических фено-
менов, и особенно было справедливо для новых государств, соз-
данных первой мировой войной в Восточной Европе, а также для
тех, что возродились в новом облике на ее границах либо во время
войны и сразу после нее (в России, Турции, Италии), либо через
несколько лет (в Германии), но благодаря тем же, запущенным
войной механизмам. (Германская империя и германское общество
были настолько прочны, что понадобился еще один удар в допол-
нение к тем, что нанесли Германии поражение и Версаль. Но мы
знаем, что и этот второй удар, как предсказывали в свое время
2(1 Lichtheim G. Europe in the Twentieth Century. New York: Praeger, 1972. P. 105
passim.
21 Laue Т.Н. von. Leopold Ranke. The Formative Years. Princeton, N.J.: Princeton
University Press, 1950. P. 167.
153
Кейнс и Нитти, имел тесную связь с решениями, принятыми по-
бедителями в Версале22.)
«Природа вещей» и «обстоятельства момента» определяли вы-
бор пути и для отдельных людей, и для государства. Иными слова-
ми, война создала новые условия, требующие определенных моде-
лей поведения взамен прежних, и тем самым изменила направле-
ние эволюционного процесса.
Учитывая саму природу вооруженного конфликта, порождае-
мое им насилие, бойню на фронте, вендетту в тылу, участие мил-
лионов молодых европейцев во взаимном истреблении — вспом-
ним, что в войну погибли около 9-10 млн солдат, из них по 15—
16% мобилизованных французов и немцев (пехотных офицеров в
обоих случаях свыше 30%), 25—27% румын и турок, 37% сербов и
т.д., — руководство этим истреблением со стороны элит и кадров
большинства государств континента, приходится признать, что
война произвела отбор, главным образом и по преимуществу нега-
тивный (конечно, если руководствоваться в первую очередь нрав-
ственно-интеллектуальными, а не политическими критериями),
особенно с точки зрения ближайшей перспективы, поскольку со
временем картина усложняется23.
Этот отбор шел в направлении «брутализации», о которой гово-
рил Мосс, чью книгу французы, возможно поневоле, озаглавили
«De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des societes
europeennes» («От Великой Войны до тоталитаризма. Брутализа-
ция европейских обществ»)24. Впоследствии ее еще обострили гра-
жданские войны и конфликты при попытках перестройки госу-
дарства, имевших место по окончании мировой войны.
22 Keynes J.M. The Economic Consequences of the Peace. London: Macmillan, 1919.
Впрочем, рассуждения Нитти (L’Europa senza pace) порой превосходят кейнсов-
ские по своему уровню.
23 О фронтовом опыте см.: Keegan J. The Face of Battle. A Study of Agincourt,
Waterloo and the Somme. London: Penguin Books, 1976. Недавний пересмотр реалий
конфликта см.: Audoin-Rouzeau S., Becker А. 14—18. Retrouver la guerre. Paris: Gal-
limard, 2000. Сравнительно более высокие потери в Турции и на Балканах были
вызваны в том числе низким уровнем медицины и плохим обращением с ранены-
ми и пленными.
24 Речь идет о переводе книги: Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World
Wars. New York: Oxford University Press, 1990. Ср. также: Bartov O. The Eastern
Front, 1941 — 1945. German Troops and the Barbarisation of Warfare. New York: St.
Martin’s Press, 1986.
154
На территории бывшей царской России, к примеру, граждан-
ская война, по справедливому замечанию Кершо и Левина, приня-
ла характер «чуть ли не геноцида»: для усмирения крестьян Тамбов-
ской губернии новое государство применяло голод, отравляющий
газ и массовые расстрелы, в Крыму после бегства Врангеля отряды
особого назначения тысячами казнили бывших бойцов белой ар-
мии и сочувствующих белым. Сами белые и повстанческие кресть-
янские отряды не уступали: первые в масштабах, вторые в жестоко-
сти (Махно, например, помимо красных и белых принялся заодно
вырезать меннонитские колонии на побережье Черного моря).
В такой атмосфере, благоприятствующей самым жестоким и безжа-
лостным, вооруженные группировки и банды разных национально-
стей также стали сводить между собой счеты по новым правилам,
применяя принцип коллективной ответственности, т.е. выбирая
свои жертвы по самым общим и нечетким, а значит, примитив-
ным — невзирая на флер современности, набрасываемый на них
квазинаучными категориями, на которые они порой опирались, —
критериям принадлежности к той или иной этнической или соци-
альной группе, тому или иному вероисповеданию и т.д.25
Вот откуда тот «реакционный» аспект — возврат к насилию и
произволу — большей части повсеместно произведенных войной
трансформаций, из-за которого Турати отказался квалифициро-
вать их как «революцию» (ибо это понятие воспринималось как
позитивное), хотя их революционный характер трудно отрицать.
Прежде чем остановиться на основных из этих негативных
трансформаций, следует вспомнить, что даже в ближайшей пер-
спективе хватало позитивных изменений, составивших демокра-
тическое содержание конфликта.
В первую очередь война способствовала утверждению равно-
правия женщин, с 1917 г. получивших право голоса в большинстве
европейских стран. Вместе с тем в этот же период можно наблю-
дать снижение, по крайней мере в количественном отношении,
остроты проблемы меньшинств в Восточной Европе (подсчитано,
что с появлением новых государств их процент от общего числа
населения уменьшился вдвое: если в 1914 г. около половины граж-
дан и подданных восточноевропейских государств представляли
собой «меньшинства», то после войны только четверть населения
Восточной Европы жила в государствах, где доминировала другая
25 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 14 и сл.
755
национальность26). На большей части континента совершился пе-
реход земли в руки крестьян, причем на Востоке это стало еще од-
ним шагом в направлении ликвидации народов-хозяев и значи-
тельной части традиционных аристократических элит.
Добавим сюда признание со стороны государства в индустриа-
лизированных обществах роли профсоюзов в руководстве рабочей
силой и проекты развития социального государства, зачастую мо-
тивированные необходимостью позаботиться о нуждах бойца и его
семьи. Поэтому-то и можно утверждать, что война — как в США,
так и в Европе — предвосхитила кое-что из опыта, реализованного
впоследствии политикой «Нового курса» и народных фронтов, ус-
корив процессы национализации снизу и сверху, т.е. интеграции
новых социальных слоев в жизнь государства и завоевания его
этими слоями (я уже говорил о том, как развитие социального го-
сударства, воспринявшего элементы, вызванные к жизни войной,
в сочетании со старыми социалистическими принципами, проис-
ходило также в фашистской Италии и нацистской Германии.
СССР — несколько другое дело, там свою роль сыграл не столько
военный опыт, сколько прямая связь революционного законода-
тельства с социал-демократическими традициями, правда, с окон-
чанием нэпа де-факто и де-юре последовали радикальные бифур-
кации в сфере социального законодательства).
Как известно, война, кроме того, пусть и в достаточно ограни-
ченном масштабе, позволяла предугадать возможность и потенциал
вмешательства государства в сферу экономики с совершенно ины-
ми, новыми целями — регулирования, а не индустриализации, как
раньше, и с той силой, о какой уже дал понятие экономический на-
ционализм. Благодаря осмыслению этого опыта, как и последую-
щего опыта строительства советской системы (прямого потомка во-
енной экономики), родились гипотезы Кейнса о функционирова-
нии общих экономических механизмов и возможности для государ-
ства манипулировать ими, чтобы противостоять кризисам, повы-
шать уровень занятости и развивать социальное государство, чему
содействовало и упоминавшееся выше широкое вовлечение «масс»
в общественную жизнь. Здесь, как и в том случае, когда речь шла о
связанной с этим социальной политикой, мы возвращаемся к об-
щим истокам так называемых новых тотальных, в количественном
26 Pearson R. National Minorities in Eastern Europe, 1848—1945. London: Macmil-
lan, 1993. P. 147 ff.
156
и качественном отношении, государств (если пользоваться катего-
риями Шмитта). Но эти общие истоки не должны мешать нам ви-
деть фундаментальные различия между ними, пусть даже мы долж-
ны вместе с Мизесом признать сходство функционирования неко-
торых механизмов в экономиках, где главную роль играло государ-
ство (неважно, чем объяснялось и на что было направлено его вме-
шательство), и общую для них недостаточную эффективность и
производительность, особенно в длительной перспективе, в сравне-
нии с экономиками, по преимуществу рыночными.
Наконец, война положила начало первой очевидной для всех
фазе кризиса европейского господства. Его первыми ласточками
стали несколькими годами раньше Адуа и Цусима, теперь же этот
процесс ускорил вихрь саморазрушения, увлекший самих евро-
пейцев. Немалый вклад внесла сюда излюбленная риторика побе-
дителей, хотя антиимпериалистический энтузиазм Вильсона и
американцев и приводил в замешательство европейских союзни-
ков. Проповедуя борьбу против абсолютизма, милитаризма и уг-
нетения народов, за свободу, демократию и национальное само-
определение, они тем самым дали новый импульс национально-
освободительным движениям, которые могли теперь вербовать
новые военные кадры среди колониальных войск, посылаемых на
европейские фронты. Само использование державами-победи-
тельницами при разделе добычи, отобранной у побежденных, тер-
мина мандат свидетельствовало, что по крайней мере в сознании
части элиты великих европейских колониальных империй дни
империализма и колониализма были сочтены.
Вернемся, однако, к главным негативным аспектам последст-
вий войны. Некоторые из них представляли собой оборотную сто-
рону уже описанных нами феноменов. В глазах международной
общественности использование термина «мандат», например,
лишь выставляло в еще более неприглядном свете лицемерие анг-
личан и французов, которые, не думая отказываться от прежней
практики, продолжали расширять свои империи, проповедуя при
этом свободу народов.
Если в количественном отношении доля национальных мень-
шинств действительно уменьшилась, то положение их в новых го-
сударствах, любой ценой желавших быть национальными, во мно-
гих случаях ухудшилось. Победа большинства и, следовательно,
демократии вела порой к новым преследованиям, направленным
без разбора как против представителей привилегированных преж-
157
де меньшинств, так и против членов групп, которые всегда были
бесправными.
Даже земельный вопрос, остававшийся, особенно (но не толь-
ко) в Восточной Европе, несмотря на то что на первый план бла-
годаря идеологии выставлялся конфликт между трудом и «капита-
лом», главным яблоком раздора, приобрел иные черты и формы,
чем в 1914 г. Если, например, в царской России еще до войны, в
силу общего экономического прогресса, наиболее способные или
удачливые крестьяне приобрели значительную часть земли, остав-
ленной в 1861 г. за помещиками и церковью, благодаря чему улуч-
шилось их собственное положение и повысилась производитель-
ность сельского хозяйства, то аграрная революция 1917—1918 гг.
отличалась крайней жестокостью и уничтожила не только поме-
щичьи имения и крупную современную собственность, но и луч-
шие крестьянские хозяйства. Ярость крестьян, подогретая четырь-
мя годами войны и лишениями, которые остановили и даже
обратили вспять процесс улучшения условий жизни на селе, обру-
шилась на иллюзорную, как стало ясно впоследствии, мишень —
сильно сократившуюся часть земли, еще остававшуюся в руках го-
родов, церкви и помещиков, — и вместе с крупными землевладе-
ниями и олицетворяемым ими старым режимом смела с лица зем-
ли государство, исторически на них опиравшееся, открыв дорогу
жесточайшему соперничеству за право заменить его, причем участ-
никами этой борьбы стали протогосударства, гораздо более агрес-
сивные, чем только что разрушенная система.
На западных окраинах империи, совпадавших с большей ча-
стью Мизесовой Восточной Европы и линией фронта, где бушева-
ла война, крестьянское восстание к тому же быстро стало отли-
чаться не только свирепой жестокостью, но и стихийным нацио-
нал-социализмом, обратившись против «чуждых» с этнической
или религиозной точки зрения господ, городов и групп (в первую
очередь, хотя и не исключительно, против евреев)27.
Еще более интересную и в первое время после войны абсолют-
но превалирующую оборотную сторону некоторых позитивных
феноменов представляли собой модификации, произведенные
войной в структуре и образе действий государств, как старых, так
и тех, чьему рождению она способствовала.
27 Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине, 1918—1919. М.: Аиро-ХХ,
1997.
158
Необходимость сосредоточить все силы на обеспечении воен-
ных нужд и укрепить собственные структуры, дабы выдержать удар,
повсюду привела к тому, что в ходе процесса этатизации, начавше-
гося еще в предыдущие десятилетия, произошел скачок, позволив-
ший говорить уже о появлении качественно новых феноменов.
С точки зрения экономики, например, постепенная интенсифика-
ция мобилизации, поскольку война затянулась и превратилась в
войну на износ (как живой силы, так и техники), все более и более
способствовала захвату государством командных позиций в этой
сфере, в результате чего в функционировании экономики про-
изошли значительные изменения и она начала приобретать черты
некой деформированной листовской Nationalokonomie (националь-
ной экономики) или, точнее, фихтевского закрытого государства.
Найдя таким образом еще один аргумент в оправдание своей
поддержки «патриотических мер», многие социалисты, охвачен-
ные воодушевлением, видели в постепенном распространении
контроля со стороны государства на транспорт, внешнюю торгов-
лю, ключевые отрасли промышленности явный признак того, что
война приносит во все воюющие страны «определенную дозу со-
циализма», и с удовлетворением наблюдали, как благодаря росту
государственного спроса уменьшается безработица, а благодаря
политике правительства, старающегося поддерживать социальный
мир, профсоюзы приобретают все больший вес на предприятиях.
При этом они, однако, закрывали глаза на тот факт, что повыше-
ние уровня занятости и стабильный уровень производства нахо-
дятся в прямой связи с нуждами военной промышленности, и
предпочитали не замечать явлений, свидетельствующих о все бо-
лее частом применении методов принуждения и в сфере экономи-
ки: например, более широкого использования принудительного
труда (и не только среди военнопленных), организации в концен-
трационных лагерях «трудовых батальонов» — эта инициатива
была моментально подхвачена и получила большое развитие, по-
скольку военнопленные для всех представляли собой проблему.
По словам Алеви, некоторые социалисты-реформисты даже
надеялись тогда, что война сотворит чудо и в день, когда наступит
мир, Европа обнаружит, что «прочный режим государственного
социализма и одновременно синдикализма оказался достигнут»
без всякой революции. Но, как заметил Бухарин, «война разом
подняла проблему государственной власти» и перед революционе-
рами, показав им «колоссальное значение самого государства как
159
экономического фактора. Со всей очевидностью выявилась роль
всеобъемлющих государственных организаций: не жизнь общест-
ва, а жизнь государства вышла на передний план».
Свой урок относительно власти государства в области эконо-
мики не замедлили извлечь также экономисты и «буржуазные» по-
литики. В Англии, к примеру, Кейнс начал прозревать суть обще-
го функционирования экономики и возможность сознательно
влиять на него, а Освальд Мосли - тогда еще блестящий и много-
обещающий молодой лидер, близкий к лейбористам, а впоследст-
вии основатель Британского союза фашистов — опираясь на свой
опыт работы в министерстве снабжения, выступил с идеей, что го-
сударство, способное гарантировать полную занятость и рост зара-
ботной платы в военное время, должно и может делать то же самое
и во время мира28.
Наконец, повсеместная необходимость мобилизовать также на-
учный аппарат разных стран усилила в каждой из них существо-
вавшее еще в предыдущие десятилетия взаимопроникновение го-
сударства, науки и промышленности, особенно военной, придав
ему новые черты. В сочетании с необходимостью максимально ра-
ционализировать перевод хозяйства на военные рельсы и исполь-
зование имеющихся ресурсов это вызвало к жизни новые формы
сциентистской идеологии, претендующей на то, чтобы реоргани-
зовать на научной основе все общество. Они включали некоторые
элементы американского Scientific Management (научного менедж-
мента) и важные идеи европейского социализма, как реформист-
ского, так и революционного, и породили на свет движение сто-
ронников планирования, у которого в начале следующего десяти-
летия очень многое почерпнула сталинская идеология (но, конеч-
но, не практика)29.
Как случилось и во время великой войны 1792—1815 гг., воору-
женный конфликт привел также к образованию новых крупных
неомеркантилистских блоков, наполнив новым смыслом понятие
Mitteleuropa (Средняя Европа) и дав прообраз реалий, которым в
последующие десятилетия станет подчиняться большая часть
28 Halevy Е. L’ere des tyrannies. Р. 193 ss.; Bucharin N.I., Pjatakov G.L. The Eco-
nomics of the Transition Period / Ed. by K.J.Tarbuck. London: Routledge, 1967. P. 67;
Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo. P. LXXX11.
29 Noble D. America by Design. Oxford: Oxford University Press, 1977; Salsano A. In-
gegneri e politici. Dalia razionalizzazione alia «rivoluzione manageriale». Torino:
Einaudi, 1987.
160
континента и остального мира. Восстановившееся влияние нео-
меркантилистских идеологий быстро проникло даже на родину
либеризма и привело к созданию в 1931 г. зоны английских им-
перских интересов. Последним и, может быть, наиболее ярким его
выражением после второй мировой войны стал СЭВ, экономиче-
ская организация стран советского блока.
Попытки консолидации и рационализации со стороны госу-
дарства делались также в управлении населением, особенно в об-
ласти национальной и этнической политики.
В некоторых случаях такие попытки были продолжением мир-
ных довоенных процессов: и в Польше, и в Прибалтике немецкие
и австро-венгерские оккупанты, не без нажима католиков и соци-
ал-демократов в парламентах, поощряли, например, определен-
ные формы самоуправления, использование национальных язы-
ков, развитие отдельных национальных культур с помощью школь-
ного образования, театральных коллективов, публикаций на ли-
товском и идише (языке, образованном на основе средневекового
немецкого диалекта). Конечно, такая политика плохо сочеталась с
насильственным изъятием ресурсов для военных нужд централь-
ных империй и зачастую казалась просто обманом, пустой декора-
цией, тем более раздражающей, что принципы ее резко контра-
стировали с реалиями оккупации, нередко жестокой. Поэтому она
в конце концов потерпела крах, однако не стоит забывать, что в
ноябре 1916 г. немцы и австрийцы провозгласили независимое
Царство Польское, в управлении которым участвовал и Пилсуд-
ский, пока не очутился в тюрьме — в основном в результате разно-
гласий относительно пути государства, очень скоро оказавшегося
марионеточным. В Литве попытка установить некую форму мест-
ного самоуправления, ориентирующегося на Германию, тоже
окончилась провалом, и по тем же причинам, которые обусловили
неудачу Польши. Но здесь, даже больше, чем в Польше, немецкая
администрация относилась к развитию национальностей благо-
склоннее, чем предшествовавшая ей царская. В частности, благо-
даря влиянию высокопоставленных германских функционеров ев-
рейского происхождения и близости немецкого языка к идишу,
который оккупационные власти объявили официальным языком
еврейской общины, поощряя создание современной системы
школьного образования на этом языке, несомненно улучшилось
положение евреев — царское правительство их преследовало и в
1915 г. запретило любые публикации на идише или иврите. На
161
Украине, правда, на довольно короткое время, с приходом немцев
стал возможен первый более или менее продолжительный опыт
национального правительства, признанного, как воображали цен-
тральные державы, даже русскими в Брест-Литовске. Однако этот
опыт был сорван и дискредитирован политикой хищнической
эксплуатации местных ресурсов, проводившейся германским вер-
ховным командованием, особенно Людендорфом30.
Как показал крах усилий немцев и австро-венгров, действи-
тельность войны больше располагала к авторитарной и репрессив-
ной политике в сфере управления населением, и прежде всего
меньшинствами. И в этом случае осуществление такой политики в
условиях роста насилия и брутализации мгновенно привело к ка-
чественному скачку в практике, которая отнюдь не была неизвест-
на Европе XIX в. (и не только Европе).
Первые признаки того, что могло случиться в дальнейшем,
появились в Российской империи, которая, как только разрази-
лась война, прибегла к политике дискриминации и насильствен-
ного перемещения населения, стремясь очистить прифронтовые
районы от ненадежных элементов, каковые определялись главным
образом, хотя и не исключительно, с помощью этнических крите-
риев — по ним судили о степени верности той или иной нацио-
нальности или опасности, которую она собой представляет.
Но такая практика, ударившая в первую очередь по сотням ты-
сяч немцев и евреев, проживавших в империи, и распространен-
ная затем на оккупированную австрийскую Галицию (где постра-
дали также униатские элиты), вовсе не являлась исключительным
достоянием Российской империи: напротив, это была стандартная
процедура. Еще до войны генеральные штабы имперских армий
(напомним, что все так называемые европейские нации-государ-
ства стояли тогда во главе колониальных империй) имели обыкно-
вение классифицировать рекрутов и подчиненные народы по сте-
пени надежности и обращались в ними соответственно тому,
какое место они занимали в подобной классификации. С началом
войны везде применялись «профилактические» меры на основе
этих критериев, с большей или меньшей жестокостью, яростно
30 Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia
and the Middle East, 1914-1923. London: Routledge, 2001. P. 118—122; Грациози A.
Большевики и крестьяне на Украине. С. 39-75; Fedyshyn O.S. Germany’s Drive to
the East and the Ukrainian Revolution, 1917—1918. New Brunswick, N.J.: Rutgers
University Press, 1971.
162
или дисциплинированно, в зависимости от степени цивилизован-
ности и гуманности людей и правительств, отдающих приказы, и
властей и подразделений, их выполняющих, а также от ситуации и
условий, сложившихся в том или ином регионе11.
Такого же рода соображения руководили оккупационными
войсками после победы: особые отделы итальянской армии в
только что завоеванной Истрии, например, тоже обосновывали
предложения интернировать того или иного нового подданного
королевства с помощью категорий «югославский пропагандист»,
«италофоб», «наши непримиримые враги», «питает самые враж-
дебные чувства» и т.д. Правда, депортировано, в основном на ост-
рова Тирренского моря, было не более нескольких сотен человек,
и большинство из них через год вернулись домой31 32.
Несколькими годами раньше та же логика побудила немецких
военных советников обсуждать с турецкими союзниками вопрос о
том, как быть с армянской угрозой в тылу во время войны с Рос-
сийской империей. Но в Османской империи их советы пали на
почву, подготовленную долгой цепью унижений и традициями жес-
токих погромов, и к ним прислушалась группа националистов, по-
желавшая решить проблему христианских меньшинств, особенно
армянского, «раз и навсегда» (выражение, ставшее затем типичным
для Европы XX в.). После поражения при Сарыкамыше в январе
1915 г. головка тайного комитета младотурок приняла решение пе-
реселить всех армян, особенно анатолийских, в сирийскую пусты-
ню. Депортация, начатая весной и продолжавшаяся и в следующем
году, повлекла за собой сотни тысяч жертв — не вынесших лише-
ний, павших от руки курдских банд и преступных бандформирова-
ний, на милость которых были отданы армяне (впрочем, в резне
участвовали и регулярные войска). Турецкие источники, отрицаю-
31 Holquist Р. «Information is the Alpha and Omega of Our Work»: Bolshevik
Surveillance in Its Pan-European Context //The Journal of Modem History. 1997. Vol.
69. P. 415—450; Idem. To Count, To Extract, To Esterminate: Population Statistics and
Population Politics in Late Imperial and Early Soviet Russia // Empire and Nation in the
USSR I Ed. by R.Suny, T.Martin. Oxford: Oxford University Press (in print); Gatrell P.
A Whole Empire Walking; Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires.
P. 116—127; Lohr E. Enemy Alien Politics Within the Russian Empire During World War
I: Ph.D. Thesis. Harvard University, 1999.
32 D’Alessio G. Una comunita plurietnica nel passaggio dallo stato multinazionale allo
stato nazionale: italiani e croati a Pisino tra Austria e Italia: Tesi di dottorato. Universita
di Napoli «Federico 11», 2001. P. 167 ss.
163
щие сколько-нибудь намеренный геноцид и всячески выпячиваю-
щие роковую роль дезорганизации и криминального элемента, оп-
ределяют количество жертв в 200 тыс. чел. Армянские — говорят о
более чем миллионе убитых, подчеркивают, что геноцид совершал-
ся по воле турецкого правительства и в операции участвовали по
крайней мере некоторые высокопоставленные немецкие офицеры,
чему есть документальные свидетельства. Лучшие исследования по-
следних лет насчитывают 600—800 тысяч жертв и признают как
факт решающую роль некоторых главных лидеров младотурок, осо-
бенно Талат-паши, которые «хотели “разрешить” восточный во-
прос, истребив армян», и воспользовались депортацией как при-
крытием для своей операции33.
Уровень насилия, которым отличалась потом и гражданская
война в бывшей Российской империи, и ежедневные «регулярные»
бойни на разных фронтах (в 1914-1918 гг. каждый день погибали и
пропадали без вести 900 французов, 1300 немцев, 1459 русских и т.д.),
и операции по «зачистке траншей», часто осуществлявшиеся доб-
ровольцами (их окованные железом дубинки до сих пор выставле-
ны во многих европейских музеях), сделал первую мировую войну
истинной предвестницей, а точнее — началом ужасов второй. Чер-
чилль писал: «За любое нарушение правил человечности и между-
народного права отплачивали репрессиями, нередко длительными
и широкомасштабными. Никакая передышка, никакое перемирие
не облегчало страданий армии. Раненые умирали на ничейной зем-
ле, мертвые гнили на поле боя. Торговые, нейтральные суда, плаву-
чие госпитали шли на дно, их пассажиров бросали на произвол
судьбы или добивали в воде. Прилагались все усилия, чтобы голо-
дом привести к покорности целые нации, невзирая на пол и воз-
раст. Артиллерия разрушала города и памятники. С воздуха бомби-
ли все без разбору. Солдат травили и душили всевозможными ядо-
витыми газами, жгли “жидким огнем”...»34.
Подобные явления и подобный образ действий способствовали
отбору среди участников событий групп молодежи и командиров,
33 Dadrian V. Histoire du genocide armenien 11 Le genocide des Armeniens I Sous la
dir. de G.Chaliand, Y.Ternon. Bruxelles: Complexe, 1991; Suny R.G. Looking Toward
Ararat: Armenia in Modem History. Bloomington: Indiana University Press, 1993;
Ziircher E.-J. Turkey. P. 119—120.
34 Audoin-Rouzeau S., Becker A. 14—18. Retrouver la guerre. P. 31; Jiinger E. In
Stahlgewittem. Berlin: Mittler, 1926; Churchill W. The World Crisis, 1911—1918. New
York: Macmillan, 1942. P. 19—20.
164
наиболее приспособленных к выполнению задач такого типа. В ре-
гулярной армии они объединялись в особые отряды с громкими
названиями: «отважные», штурмовики, ударники. Менее извест-
ны, но имели не менее важное значение части особого назначе-
ния, создававшиеся для ликвидации коммунистов или контррево-
люционных групп, для борьбы с крестьянским «бандитизмом» или
басмачеством в советской России, для решения армянской про-
блемы в Анатолии, для сведения счетов с населением оккупиро-
ванных земель, мятежниками, диверсантами, дезертирами, пред-
ставителями враждебных национальностей на всей территории
Центральной и Восточной Европы.
Однажды сформированные, эти группы не переставали действо-
вать и воспроизводить себя в Европе в течение всего периода между
двумя мировыми войнами. Иначе и быть не могло в обстановке во-
царившегося там хаоса, который не только не давал им распасться,
адаптироваться к мирной жизни, что само по себе нелегко, но и де-
лал их образцом для подражания в глазах новой молодежи, подрас-
тавшей, как, например, в Германии, с сознанием унизительного
поражения, стремившейся подражать старшим братьям и быстро
втягивавшейся в уличные и пограничные стычки, террористиче-
ские акции и даже настоящие сражения (вспомним, к примеру,
«Добровольческий корпус» — Frei Korps — в той же Германии)35.
Кроме того, война способствовала распространению субъективист-
ских, аморальных идеологий, появившихся в Европе еще в начале
века, изменяя при этом их характер. Мифы и действительность, про-
славляющие сильного человека, штурм и натиск, неизбежно связан-
ное с ними насилие, стали общим достоянием, объединяющим
штурмовые отряды, погромщиков, нападающих на представителей
национальных и религиозных меньшинств, и многих революционе-
ров. Они нашли своих певцов среди крупных европейских поэтов и
интеллектуалов, и те произвели на свет опусы, которые сегодня не-
возможно читать без содрогания. Если обратиться к советским при-
мерам, лучше мне знакомым, то поэты-футуристы, прежде чем на-
чать восхищаться всесокрушающим революционным насилием,
славили русские победы на восточном фронте в стихах о том, как
35 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР; Waite R.G.L. Vanguard of
Nazism. The Free Corps Movement in Postwar Germany, 1918—1923. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 1952; Salomon E. von. Die geachteten. Giitersloch:
Bertelsmann, 1930.
165
под Варшавой и Гродно били-колотили немцев, и о том, что даже
бабы, дескать, запросто бьют прусаков (обыгрывается второе значе-
ние слова — таракан). Кажется, такие стихи есть у Маяковского.
А вскоре и Бабель с большим чувством, чуть ли не с восторгом, опи-
сал зверства красных конников Буденного в своих рассказах, кото-
рые, однако, до сих пор вызывают у читателей не отвращение, а вос-
хищение (что я нахожу весьма тревожным знаком)16.
Утрата почвы под ногами, душевные страдания, ставшие уде-
лом десятков миллионов солдат и беженцев, миллионов семей,
переживавших особенно тяжкое горе - потерю молодых сыновей
и мужей, создали благоприятную атмосферу для распространения
подобных настроений. Отчасти психологические горизонты Евро-
пы омрачило то, что в 1923 г. оказался закрыт клапан, традицион-
но служивший отдушиной для чрезмерного беспокойства и стрем-
ления к перемене мест все предшествующее столетие, — возмож-
ность эмиграции в Соединенные Штаты, для миллионов человек в
свое время ставшая реальностью.
Тем сильнее — и не только среди бывших фронтовиков и моло-
дежи — ощущалась потребность верить, нужда в мифах и обеща-
ниях, которые могли бы помочь найти хоть какой-то смысл в про-
исходящем и породить новые надежды. В ответ на всевозрастаю-
щую эту потребность в числе прочего появилась новая мощная
квазирелигия. Она была рождена из ребра социалистической ква-
зирелигии, переживавшей кризис еще до войны, а теперь нахо-
дившейся в совершенном упадке ввиду явной беспомощности, *
36 Стихи цит. по: Audoin-Rouzeau S., Becker А. 14-18. Retrouver la guerre. P. 62.
См. также: Бабель И. Конармия. СПб.: Кристалл, 2001. Об отталкивающей рито-
рике итальянских националистов и фашистов, восхваляющих насилие, см., напр.:
Lupo S. 11 fascismo. La politica in un regime totalitario. Roma: Donzelli, 2000. P. 64-68.
Особенно показательны в этом отношении слова, которыми Маринетти в октябре
1918 г. славил «отважных» (не слишком отличающиеся от тех, которыми Луначар-
ский несколько позже воспевал молодых революционных фанатиков в России):
«Вы стали отважными благодаря своей любви к силе, своему новаторскому духу,
революционному духу, футуристическому духу. — Вы стали отважными благодаря
любви к силе и героизму. В мирное время — пощечину трусам, мерзавцам, преда-
телям. На войне — с кинжалом и гранатой на немцев. - Вы стали отважными бла-
годаря своей молодой дерзости и стремлению к самовластью. [...] Прекрасное тор-
жествующее самовластье итальянских отважных, которые любят красивых жен-
щин и героически штурмуют их, как вражеские траншеи. [...] Вы — первые среди
нас, выше всех, достойнее всех. Вы — хозяева новой Италии. Мне по душе ваше
дерзкое нахальство».
166
продемонстрированной ею перед лицом мирового вооруженного
конфликта37. Таким образом, на международной арене Октябрь-
ская революция быстро приобрела значение и жизнь, практически
не зависящие от событий в СССР, о которых большинство ничего
толком не знало. Изнуренным войной народам первые громкие
декреты Ленина, воплощавшие собой великие надежды социали-
стов, чаяния борцов за национальное освобождение и даже неко-
торые идеалы либералов38, казались гарантиями грандиозных дос-
тижений. Однако новая религия, сохранив кое-какие черты своей
прародительницы, все же в корне от нее отличалась, например,
тем, какую исключительную роль она отводила насилию, ставше-
му объектом настоящего собственного культа.
То был один из многих признаков примитивизма, идейного и
психологического «отката», вызванного войной, которая повсеме-
стно способствовала распространению и укоренению теорий заго-
вора, рождению групп, служивших их проводниками, боровшихся
за или против той или иной из них. Выше говорилось, что, вступив
в дебаты, развернувшиеся после того, как Алеви обнародовал свои
тезисы о тираниях, Марсель Мосс, долго живший среди русских
эсеров, хорошо знавший и социал-демократов, справедливо указы-
вал на дух «вечного заговора» (complot perpetuel), владевший мно-
гими революционерами и заставлявший их создавать тайные обще-
ства с собственными боевыми организациями. Но то же самое было
верно и в отношении различных белых и антисоциалистических
тайных обществ по всей Европе. Они также выступали носителями
37 Джоаккино Вольпе, говоря о джолигтианской Италии и, возможно, несколь-
ко преувеличивая (вспомним, однако, о распространении в те годы ревизионизма,
о все более острой и убедительной критике, которой подвергался ортодоксальный
марксизм), писал, что социалистические кружки там «вырождались; количество и
качество вступающих в них резко снизились; пропаганда велась далеко не с таким
жаром, как прежде. Социализм, по-видимому, не давал больше никакой уверен-
ности. Его конечные цели, до которых, казалось, было рукой подать, когда царил
Энрико Ферри, пророк-оптимист, обещавший непременное и скорое воплощение
их в жизнь и в Италии, и во всей Европе, ныне вырисовывались весьма неясно и в
любом случае в большом отдалении» (Volpe G. Italia in cammino. P. 119).
38 Социал-демократия, причем не только в Германии, уже давно воображала себя
наследницей некоторых важнейших направлений либеральной борьбы, которую
сами либералы не довели до победного конца, и во многих отношениях так и было.
По справедливому замечанию Лихтхейма, наиболее важным примером здесь может
служить борьба за освобождение и эмансипацию женщины (см.: Lichtheim G.
Europe in the Twentieth Century. P. 44). См. также ниже, с. 171, прим. 43.
167
всевозможных теорий заговора, среди которых наибольший вес
вскоре приобрела иудео-болыиевистская. Благоприятный прием,
который встретил миф о еврейско-большевистском заговоре, и то,
с каким доверием англосаксонская большая пресса поначалу отне-
слась к «Протоколам сионских мудрецов» — грубой фальшивке, со-
держащей совершенно абсурдные утверждения, лишний раз свиде-
тельствуют об атмосфере, царившей тогда в Европе, разрывавшейся
между самыми разными верованиями и теориями заговора39.
Об идейном и психическом откате назад свидетельствует и уже
упоминавшееся повсеместное распространение, в разных обличьях,
мифа о «сильном человеке». Один из его корней — реальная потреб-
ность в лидерах, возникшая во время войны, а когда война закончи-
лась, его продолжала поддерживать созданная ею обстановка трево-
ги, неуверенности, нестабильности. Кроме того, он отвечал нуждам
появившихся проектов строительства или возрождения государства.
Европу тогда заполонили вожди, «отцы», дуче, фюреры, потом —
верховные руководители, каудильо, генералиссимусы и т.д.
По крайней мере некоторые из них являлись хоть и гнусными, но
экстраординарными личностями, как будто воплощавшими в себе
власть личной воли над людьми, вещами и обстоятельствами, и слу-
жили катализаторами гиперволюнтаризма, который под влиянием
войны развился из уже существовавших раньше волюнтаристских те-
чений и в сфере идеологии, и в области государственного строитель-
ства. Де Феличе справедливо отмечал, что для фашистов «все было
дозволено и при желании выполнимо», но то же можно сказать и о
сталинской группировке, совершившей в 1928—1929 гг. «революцию
сверху», и о лидерах разгромленного украинского национализма, на-
меревавшихся в конце 1920-х гг. осуществить свою мечту, построив
под лозунгом «примата воли над разумом» партию-государство, кото-
рое управлялось бы элитой, подчиняющейся одному человеку40.
39 Halevy Е. L’ere des tyrannies. Р. 225-227.
40 De Felice R. interpretazioni del fascismo. P. 101. Стернхелл (Sternhell Z. Ni
droite, ni gauche. P. 214 ss.) также видел в «победе политики над экономикой», «в
героическом стремлении овладеть... материей, покорить, уяснив, что такое энер-
гия, не только силы природы, но и силы экономики и общества», одну из основ
фашизма. Об аналогичных явлениях в сталинском СССР см.: Graziosi A. A New,
Peculiar State. Р. 73-142; Idem. Alle radici del XX secolo europeo. P. CV11. Но уже в
начале 1920-х гг. и А.Грамши превозносил новую роль «вождя» в коммунистиче-
ском движении. См.: Caprioglio S. II capo rivoluzionario nel pensiero di Antonio
Gramsci // Belfagor. 1995. Vol. 1. P. 15—34.
168
Среди всех этих вождей наиболее поражали воображение те,
кого проницательнейший наблюдатель из лагеря социалистов Ва-
лентинов назвал «революционерами “все позволено”», поистине
свободные от каких-либо соображений морали и (несмотря на
периодические заверения в своей приверженности той или иной
квазирелигии) идеологических догм. Как отметил, рассматривая
советский опыт, Моше Левин, эта «внутренняя свобода» от идей-
ных и нравственных пут могла, однако, полностью реализоваться
только в обществах, обессиленных войной, гражданскими война-
ми и/или национальными катастрофами и потому неспособных,
по крайней мере в первый момент, оказать большого сопротив-
ления инициативам своих новых хозяев41. С этой точки зрения,
откат, вызванный мировой войной, сделав европейские общества
более хрупкими и менее сложными, приблизил их также к «от-
сталым» странам, т.е. медленнее развивающимся и пострадавшим
от европейского колониализма, в которых впоследствии, особен-
но после 1945 г., освободительные войны и попытки государст-
венного строительства приведут к появлению множества похо-
жих феноменов.
Вожди, хоть и искали поддержки старых правящих групп, чаще
всего опирались на новые группы элит паретианского толка, ро-
дившихся в ходе войны и последовавших за ней конфликтов (так
что война и в этом смысле была революцией). Как писал Рауш-
нинг, говоря о нацизме, речь идет об элитах примитивного харак-
тера, приученных к насилию, важный компонент которых состав-
ляли бывшие фронтовики и бывшие бойцы разного рода спецпод-
разделений. В России этот феномен очень быстро принял самые
крайние формы, чему способствовали и сильная отсталость ее еще
при царизме, и долгая, жестокая гражданская война, а также идео-
логия и полная свобода от каких бы то ни было предрассудков со-
ветской правящей верхушки. В результате быстрого социального
продвижения сотен тысяч людей, отбиравшихся не столько по
уровню политической культуры, сколько по принципу преданно-
сти новому государству и готовности выполнять любые его прика-
зы, даже самые жестокие (потому-то среди них, как подтверждают
сами советские документы тех лет, был весьма широко представ-
41 Valentinov (Vol’skij) N. Tout est permis // Le Contrat Social. Vol. X. Pt. 1. P. 19—28;
Pt. 2. P. 77-84; Lewin M. The Making of the Soviet System. New York: Pantheon, 1985.
P. 295 ff.
169
лен криминальный элемент), плебейская революция захлестнула
тогда новый режим, который, правда, старался бороться с ней,
стремясь восстановить авторитет государства, и наложила на него
свой отпечаток42.
В последующие годы строительство новых государств, особен-
но «тоталитарных» режимов и их аппаратов управления и поддер-
жания дисциплины в массах, должно было привести к созданию —
зачастую из элементов низкого социального происхождения — но-
вых, еще более многочисленных бюрократий, а их появление, в
свою очередь, революционизировало европейские социальные и
государственные структуры.
Потрясенные, выбитые из колеи крушением своих государств и
катаклизмами, вызванными мировой войной, которая положила
конец привычному миру, традиционные компоненты «правитель-
ственных или военных» (gouvernemental ou militaire), по определе-
нию Сен-Симона, режимов, т.е. осколки «старого режима», такие
живые и сильные еще накануне 1914 г., были вынуждены искать
себе новую роль.
Там, куда пришелся самый тяжкий удар, — в великих империях
Востока, где целые группы оказались сметены с лица земли (как,
например, российское дворянство или польское — на Украине и в
Белоруссии), по меньшей мере часть традиционных элит обрела
склонность к авантюрам, что резко контрастировало с их довоен-
ными ценностями: вспомним хотя бы Людендорфа, идущего в
1923 г. в Монако бок о бок с бывшим капралом, с которым до вой-
ны не подумал бы и словом перемолвиться.
Война-революция принесла тревогу и дискомфорт и в буржу-
азные или, точнее, состоятельные круги старой Европы, кото-
рые, подобно части вышестоящих по старой социальной шкале,
стали давать втягивать себя в авантюры, если те обещали защиту
их привилегий. Их страхами ловко воспользовались фашизм, а
затем нацизм, именно отсюда получившие сильный реакцион-
ный компонент и ауру, отметившие, помимо марксистских сте-
реотипов, их первые шаги к власти и оставшиеся неразрывно с
ними связанными.
Уже во время войны, а пуще того после нее либеральная мысль
и культура вместе с той частью социал-демократии, которая разде-
ляла идеалы и чаяния либерализма до такой степени, что порой
42 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 11.
170
считала себя его логическим завершением43, были вынуждены
ввиду подобных явлений попытаться осмыслить новую действи-
тельность, мало того что противоречившую их теориям, но и став-
шую враждебной их принципам. Наиболее проницательные сразу
поняли, что война, разбившая, как писал Джустино Фортунато, на
куски «хрупкую корочку современности», наращенную в предше-
ствующие десятилетия, и позволившая «вновь всплыть на поверх-
ность» атавизмам и пережиткам прошлого, вызвала на свет фено-
мены непредвиденного значения (как мы знаем, Фортунато уже
думал о драме, которая продлится не менее пятидесяти лет). Схо-
жие выражения несколько лет спустя использовали и социалист
Мартов, по словам которого, из-за войны «духовный облик евро-
пейца» сделался «диким, грубым и “примитивным”», предостав-
ляя «плодородную почву для возрождения идей и методов, каза-
лось бы, полностью изжитых», и Норберт Элиас, который,
рассуждая собственно о последствиях первой мировой войны,
пришел к выводу, что в процессе «цивилизации» возможны резкие
скачки назад, да и сама цивилизация в свете войны может пока-
заться слоем лака, легко поддающегося удалению. Горький, преж-
де чем начать активно строить идеологию советского режима, еще
более жестко судил о войне, вспыхнувшей в результате крестьян-
ской революции, и оседлавшем ее большевизме, в которых видел
катастрофу для хрупкой корочки западной «цивилизации», соз-
данной в предшествующие десятилетия ценой стольких жертв во-
круг примитивного, «азиатского» ядра Российской империи44.
В столь твердых позициях и глубоких догадках, схватывавших
некоторые главнейшие черты происходившего, содержались, одна-
ко, предпосылки радикального (и вполне понятного) отказа участ-
вовать в разворачивавшихся событиях. Это могло привести к потере
43 Я имею в виду тех, кто, как Герцен, рассматривал социализм - способный ос-
вободить человеческое существо и от нужды — как естественный венец, в каком-
то смысле — кульминацию либерализма. Ср. выше, с. 167, прим. 38.
44 Rossi-Doria М. Gli uomini е la storia. Р. 18; Мартов Ю. Мировой большевизм.
Берлин: Искра, 1923. С. 13; Audoin-Rouzeau S., Becker J. 14—18. Retrouver la guerre.
P. 44 passim; Горький M. Несвоевременные мысли. M.: Современник, 1995. О по-
следующей резкой смене позиции Горьким, пошедшим на службу к новой власти,
см.: Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 17, 69. Первоначальную
же его позицию довел до логического конца великий историк античности Ростов-
цев, видевший в плебейской революции, уничтожившей царскую Россию, прояв-
ление тех же сил, которые привели к падению греко-римской цивилизации.
171
связи с ними и, следовательно, отчасти способности понять их.
Вспомним, к примеру, интерпретацию фашизма у Кроче как нрав-
ственной болезни европейцев, от которой они должны вылечиться
со временем, как временных скобок, открытых войной. Такая ин-
терпретация тоже передавала природу происходящего и, подчерки-
вая преходящий характер отката назад, играла немалую роль, помо-
гая сохранить надежду. Тем не менее, сам подбор терминов, про-
диктованный безоговорочным осуждением имевших место фактов,
способствовал недооценке масштабов перелома, произведенного
войной, которая, конечно, вызвала «откат» - но как часть длитель-
ной революции, в конечном счете в корне изменившей политиче-
скую и социальную географию Европы.
Как я писал во Введении, речь идет об откате не в буквальном
смысле слова, а только с точки зрения морали и культуры. Давая
жизнь государствам и обществам менее развитым, т.е. более про-
стым и жестоким, чем их предшественники, он при этом порож-
дал новые, т.е. современные факты, хотя я лично — как уже гово-
рил выше - считаю ошибочным и в высшей степени странным
видеть именно в нем суть той «современности», корни которой
уходят в эпоху Просвещения. К тому же этот откат настолько из-
менил действительность, что, после того как скобки были закры-
ты, оказалось невозможно возобновить «развитие» с той точки, на
которой оно остановилось перед их открытием. Как мы увидим в
последней главе, когда новая война парадоксальным образом на
половине континента положит конец регрессу, вызванному вой-
ной прошлой, и заложит основу для его преодоления — после дол-
гой агонии мирного времени — и на второй половине, выяснится,
что «возобновление» прерванной когда-то истории в действитель-
ности будет (и не может быть ничем иным) продолжением только
что закончившейся.
В этом отношении поражают глубиной интуиции такие попыт-
ки анализа, как, например, рассматривавшиеся в главе 1 работы
Мизеса, Бруцкуса и Сорокина о возникновении «военного социа-
лизма», о его характерных чертах, особенно в той крайней форме,
которую они приняли в бывшей Российской империи. Столь же
гениальными представляются категории, предложенные Алеви и
Моссом, прежде всего определение периода, открывающегося
первой мировой войной, как «эры тираний». А поскольку все они,
каждый по-своему, привнося серьезные модификации и иннова-
ции, обращались к тезисам Спенсера, нужно отдать справедди-
772
вость и этим тезисам, и той отнюдь не банальной эволюционной
модели, которая лежит в их основе.
Некоторые историки, прежде всего, хотя и не исключительно,
занимающиеся нацизмом, сегодня задаются вопросом, не есть ли
отступление, брутализация, спровоцированные событиями 1914—
1922 гг., нечто большее и более многогранное, чем просто уничто-
жение корочки цивилизации, скрывавшей под собой варварство,
еще нуждавшееся в модернизации. Тот же вопрос уже ставил
Фрейд и по-своему разрешил Ален. Последний, как вспоминал
Арон, почти точно повторяя слова Джустино Фортунато, называл
цивилизацию «тонкой, хрупкой пленкой поверх варварского ос-
нования», но спешил при этом добавить, что основание это —
«вечное, существующее с незапамятных времен» и потому неунич-
тожимое45.
Если так (а история минувшего столетия - причем не только
европейская - по-видимому, подтверждает это), то, наверное, де-
градация и брутализация возможны всегда, поскольку такая воз-
можность заложена в нас самих. Следовательно, как писал анг-
лийский философ, пытавшийся (правда, не всегда удачно)
осветить «нравственную историю XX века», мы должны «ясно и
бестрепетно увидеть чудовищ, скрывающихся внутри нас», и най-
ти методы и инструменты, позволяющие «посадить их в клетку и
укротить»46.
Первые последствия, 1917—1918/1923
Война как будто была окончена даже дважды — с подпи-
санием двух мирных договоров, сначала в Брест-Литовске - между
центральными империями-победительницами и социалистически-
ми республиками Украиной и Россией, воевавшими, в свою оче-
редь, между собой, затем в следующем году в Версале (потом Сен-
Жермене, Трианоне и т.д.), и тем не менее она не завершилась по-
45 Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,
1989; Todorov T. Face a I’extreme. Paris: Seuil, 1991; Bettanin F. 11 terrore staliniano nel
secolo dei lager // Storica. 1998. Vol. 12. P. 7-35; Freud S. Das Unbehagen in der
Kultur. Wien, 1930; Halevy E. L’ere des tyrannies. P. 252 (слова Р.Арона).
46 Glover J. Humanity; A Moral History of the Twentieth Century. New Haven,
Conn.: Yale University Press, 1999. Эту работу цитирует и убедительно критикует
А.Сен: Sen A. East and West: The Reach of Reason // The New York Review of Books.
2000. Vol. 12. P. 33-37.
173
еле прекращения боевых действий. Как произошло впоследствии и
после 1945 г., на большей части восточной половины континента
сражения продолжались еще несколько лет, и всюду по-прежнему
(хотя и в новых формах) шли процессы, ускоренные, извращенные
или непосредственно запущенные мировой войной47.
На европейском «Среднем Востоке» по Нэмиру, например,
«господству династий и империализма рас-хозяек» был нанесен
удар, от которого ему не суждено было оправиться, но оно отнюдь
не умерло, как несколько опрометчиво утверждал Нэмир, и сохра-
няло достаточно энергии для попыток возрождения и поисков но-
вых решений. Понадобились десятилетия, чтобы крах этого гос-
подства стал окончательно свершившимся фактом, а на Балканах
и в бывшем СССР мы во многих отношениях и до сих пор наблю-
даем его конвульсии.
Благодаря крушению четырех великих империй, властвовавших
в регионе, как мы знаем, в первый раз достигли небывалого пика
миграции населения, вызванные процессами модернизации и уси-
лившиеся из-за войны. В результате обострились споры из-за горо-
дов, которые уже в прошлом были предметом соперничества раз-
ных национальностей, либо из-за контроля над той или иной
территорией. Кроме того, родились государства, объявляющие себя
национальными, но на самом деле представляющие собой мини-
империи. Своим появлением в таком количестве они были обязаны
лицемерию, с каким Франция применяла принцип национального
самоопределения, прибегая к нему всякий раз, когда ей нужно
было ослабить немцев и к тому же укрепить антисоветский кордон.
В Чехословакии собственно «чехословаки» - категория сама по
себе искусственная, произведенная сложением названий двух на-
циональностей, — составляли 64% населения, включавшего 22,5%
немцев. В Югославии число «сербохорватов» (в некоторых отноше-
ниях еще более сомнительная категория) не превышало 77% жите-
лей страны, и, несмотря на кажущийся триумф югославского идеа-
ла, один из главных его приверженцев Иво Андрич уже в 1921 г. в
статье, впоследствии, в годы правления Тито, запрещенной цензу-
рой, говорил о «молодых бошняках», которые предпочли эмигри-
ровать из-за чрезвычайно враждебной обстановки в Боснии.
В Польше поляков было меньше 70%, а украинцев - почти 15%.
47 The Politics of Retribution in Europe. World War II and Its Aftermath / Ed. by
I.Deak, J.T.Gross, T.Judt. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000. P. 15—35.
174
В Румынии наряду с 70% румын жили 9% венгров, 4% немцев и 4%
евреев. Даже в разгромленной Болгарии, уступившей часть терри-
тории Греции, турки составляли более 10%.
После того как прошла первая волна национализаций, причем
главную роль среди них, как и в тех новых государствах, что роди-
лись в результате вытеснения с Балкан Османской империи, игра-
ла национализация земли, все эти страны принялись более или
менее насильственными методами «решать» проблему мень-
шинств, которые, как мы знаем, в итоге иной раз оказывались в
положении куда худшем, чем гарантировали им старые империи
(во всяком случае пока те старались или хотя бы надеялись сохра-
нить свой многонациональный характер). Вдобавок этнонацио-
нальная основа политической расстановки сил приговаривала
меньшинства навсегда оставаться таковыми, заставляя их искать
решение своих проблем вне демократических механизмов, обре-
кавших их на маргинализацию48.
Каждое из новых государств имело, кроме того, территориаль-
ные претензии, под которые подводило соответствующую истори-
ческую и лингвистическую базу, и мечтало свести счеты с соседя-
ми, как только представится случай (Ллойд-Джордж тогда
признавался, что потерял всякую надежду на малые нации, за не-
зависимость которых боролся, ибо они оказались большими им-
периалистами, чем великие, и называл «мелкими разбойниками»
новые государства, которые сам же помогал создавать). Естествен-
но, ситуация обострялась, если эти государства слышали призывы
или поддерживали требования этнически родственных групп,
проживающих в сопредельных странах. И острее всего она была
там, где к вышеперечисленным мотивам добавлялись, как в случае
с венграми и болгарами, унижения и утрата территорий, отобран-
ных союзниками в наказание за то, что сражались на стороне нем-
цев во время войны.
Существование крупных национальностей, например украин-
ской, которым так и не удалось по окончании войны построить
свое государство, также способствовало тому, что во всем регионе
царило желание пересмотреть договоры 1919 г. Конечно, это
48 В Польше еврейское и немецкое меньшинства и Пилсудский поначалу пыта-
лись найти какую-то форму альянса, однако он очень быстро рухнул в государст-
ве, которое, как уже отмечалось, будучи на деле многонациональным, руковод-
ствовалось националистической идеологией. См.: Wandycz P.S. The Price of Free-
dom. New York: Routledge, 2001. P. 303 ss.
175
желание не было подкреплено силой, необходимой, чтобы бро-
сить вызов новому европейскому порядку, но выражалось оно
всякий раз, как представлялся к тому случай.
Вот почему (учитывая также сговорчивость Великобритании в
отношении германских требований, объяснявшуюся не в послед-
нюю очередь угрызениями совести и чувством вины за то, как не-
справедливо, по мнению многих английских лидеров, обошлись с
немцами в Версале) в свое время многие снова встали на сторону
Германии. При этом они далеко не во всем разделяли ее полити-
ку — как, например, болгары, воспользовавшиеся победами Гит-
лера, чтобы «вернуть» себе Македонию, но успешно воспротивив-
шиеся депортации своих сограждан еврейского происхождения49 и
отказавшиеся участвовать в войне против СССР, — и зачастую
очень быстро начинали испытывать горькое разочарование — по-
добно украинцам.
На периферии европейского «Среднего Востока» потерпевшие
поражение имперские нации — русские, турки, немцы (и в Герма-
нии, и Австрии) и, как ни странно, итальянцы - победители, по-
чувствовавшие себя обманутыми в своих амбициях, — вскоре при-
ступили к попыткам возродить свою мощь, а значит, и государство.
Попытки эти были тем более интенсивны, чем больше была разра-
зившаяся катастрофа, и находили поддержку у новых меньшинств,
состоящих из элементов прежних «рас-хозяек», вынужденных жить
на земле, где когда-то властвовали, а теперь являлись гражданами
новых государств, управляемых их бывшими подданными.
Сосредоточим наше внимание на таких попытках, поскольку
именно благодаря им возникли главные и наиболее агрессивные из
новых режимов, которые постепенно утвердились на значительной
части территории Европы. Отметим сразу же, что недвусмыслен-
ные признаки движения к спенсеровскому военному государству,
пусть с некоторыми исключениями (как, например, Чехословакия),
разными темпами, разными путями и с разными конечными целя-
ми, очень быстро проявились как в попытках возрождения рухнув-
ших великих имперских держав, так и в новых «национальных» го-
сударствах, родившихся в Париже. Правда, это военное государство
49 Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires. P. 163; Bibo 1. Misere des
petits Etats de 1’Europe de 1’Est. Paris: Albin Michel, 1993; La fragilite du bien. Le
sauvetage des juifs bulgares / Sous la dir. de T.Todorov. Paris: Albin Michel, 2000.
В знак протеста против депортации болгарских евреев митрополит Стефан даже
пригласил главного раввина жить асвой дом.
176
обладало теперь отчасти новыми чертами, отличными от тех, кото-
рые формировались во время войны в результате трансформаций,
произведенных ею в воюющих странах. Конвергенция в сторону
военного государства, хотя и имела своим истоком опыт мировой
войны, в действительности являлась продуктом действия иных, но-
вых факторов - общего для многих новых государств ощущения
собственной слабости (из-за поражения, отсутствия структур, необ-
ходимых для обретения и сохранения независимости, этнической
неоднородности, экономической отсталости и т.д.); стремления к
реваншу или к величию, в СССР, например, подстегиваемого идео-
логией; растущего с течением лет и приобретшего особую остроту в
1930-е гг. осознания неминуемости еще одной войны.
В частности, необходимость как можно скорее получить в свое
распоряжение современный сектор тяжелой и военной промыш-
ленности (то, что впоследствии будет называться военно-промыш-
ленным комплексом) побудила эти государства проводить политику
индустриализации, самым непосредственным образом — используя
все, чему научила война, — взяв на себя ответственность за индуст-
риальное строительство. Здесь мы видим резкое усиление взаимо-
связи между государством, промышленностью и индустриализаци-
ей, ставшей, как нам известно, более тесной еще перед первой
мировой войной. Наиболее показательный пример такой взаимо-
связи и удачные плоды ее (по крайней мере в краткосрочной пер-
спективе) потом продемонстрирует Советский Союз50.
Прямая ответственность за производственный фронт придала
новым военным государствам тот «индустриальный» и «современ-
ный» характер (следствие необходимости внедрять все самое пере-
довое по крайней мере в военно-промышленной сфере), который,
как я указывал в главе 1, нисколько не лишая силы тезисы Спен-
сера, сделал несколько неточной его терминологию, идущую от
сенсимонистской традиции, что затемняло картину происходяще-
го для тех, кто этой терминологией пользовался.
В подтверждение упомянутой конвергенции и попытки государ-
ственного возрождения у прежде господствовавших народов, и
50 Spulber N. The State and Economic Development in Eastern Europe. New York:
Random House, 1966; Maier C.S. Secolo corto о epoca lunga? L’unita storica dell’eta
industrial e le trasformazioni della territorialita // Parolechiave. 1996. Vol. 12. P. 41—73;
Erlich A. The Soviet Industrialization Debate, 1924—1928. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1960; Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo. P. LXI; Idem.
A New, Peculiar State. P. 46—58.
777
строительство новых «национальных» государств часто опирались на
идеологию крайнего этатизма, что также объединяло их с процесса-
ми, которые начались благодаря войне. Празднуя в октябре 1925 г.
третью годовщину марша на Рим, Муссолини, очень чутко улавли-
вавший веяния времени и ставший благодаря этому одним из твор-
цов (а точнее - катализаторов сотворения) новой идеологической
лексики, выразил дух эпохи, наступавшей не только в Италии, при-
ветствуя «создание нового политического режима», основанного на
принципе: «Все в государстве, ничего вне государства, ничего против
государства». (Муссолини, и по личным мотивам, и ввиду самого
типа и сравнительно небольших масштабов пережитых итальянским
обществом потрясений, а также традиций последнего, ограничился
тем, что находил меткие слова для обозначения явлений, глубоко за-
тронувших другие страны, но в Италии, к счастью, остававшихся по-
верхностными, на уровне декламаций и претензий режима, — но это
другой вопрос, и мы к нему еще вернемся51.)
Муссолини был как раз одним из новых тиранов, рожденных
войной, кризисами и конфликтами, которыми было отмечено ее
окончание, причем речь не только о распрях между существующими
или формирующимися государствами: жажда порядка на фоне рас-
пада и возрождения государств, миграций населения, первых при-
знаков серьезных изменений в отношениях мужчины и женщины,
брожения, нередко вызываемого новыми квазирелигиями, возник-
шими во время войны, и т.п. - все это не в последнюю очередь спо-
собствовало появлению новых режимов и созданию условий для за-
рождения мифа о вожде и потребности в вожде, чтобы уйти за ним
из войны, которая его взрастила, в странное мирное время, насту-
пившее после нее52.
51 Gentile Е. Il culto del Littorio. Р. 98; De Felice R. Interpretazioni del fascismo.
P. 22, 143 (о Моннеро, который рассматривает фашизм как реакцию на первую
мировую войну и кризис в контексте «реконструкции и мифологизации государ-
ства»). О становлении мифа государства см. также: Cassirer Е. The Myth of the
State. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1946.
52 Стремление к порядку было, например, также одним из главных факторов, за-
ставивших крестьян, которые ненавидели новое государство, примириться с ним,
как только оно хотя бы частично признало свои ошибки, введя нэп. И смерть Лени-
на произвела огромное впечатление, помимо прочего, потому что именно он вос-
становил порядок на территории бывшей империи. См.: Graziosi A. State and the
Peasants in the Reports of the Political Police, 1918-1922 // Graziosi A. A New, Peculiar
State. P. 463-528.
178
Однако, как мы уже отмечали, говоря об Италии, хотя новые
тирании были родственны друг другу, ибо возникли на общей
почве, условия их произрастания, личные качества самих тиранов
сделали из них очень разные исторические феномены. Как заме-
тил Монтескье, если общество по тем или иным причинам (кото-
рые могут быть самыми разными) попало в руки тирана, личность
последнего становится решающим историческим фактором, и
сознавать это абсолютно необходимо для понимания происходя-
щих событий.
Это еще один из корней субъективизма режимов, стремительно
наводнивших Европу, субъективизма, вполне естественно объяс-
нявшегося войной и нуждами проектов строительства и реконст-
рукции государства. Не менее важным элементом его являлась
также дифференциация, различное качество элит, вовлеченных в
происходящие процессы53.
Политической примитивизации, выражавшейся в тирании и
субъективизме, часто сопутствовала экономическая, призна-
ком которой служило не только возрастание удельного веса го-
сударства в экономике. Государственный сектор, особенно на
Западе, несколько сократился в первые послевоенные годы,
когда появились иллюзии насчет возможности вернуться к
прошлому, однако вновь утвердился в еще больших масштабах
к концу 1920-х гг.
Мировая война и гражданские войны сначала уменьшили долю
городского населения, особенно в Восточной Европе и Анатолии
(но до некоторой степени и в Западной Европе), а затем резко из-
менили его облик. Бегство и изгнание прежних привилегирован-
ных меньшинств, разнообразные преследования в ходе революций
и гражданских войн вымыли из города наиболее культурный и со-
временный элемент (вспомним, к примеру, эмиграцию россий-
ского дворянства и среднего класса или бегство греков и армян из
Турции, немцев из Прибалтики), на смену которому хлынул вал
миграций из сельской местности.
Деревня, где война, государственные заготовки и реквизиции
разрушили рыночные отношения - в промышленном секторе ос-
лабленные прямым вмешательством государства, - стала между
тем возвращаться к натуральному хозяйству. Местные автаркиче-
ские тенденции влияли на процессы, происходившие на государ-
53 Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo. P. LXXXIV.
179
ственном уровне, и немало способствовали общему движению
назад к oikos (сильнее всего оно проявлялось в Восточной Евро-
пе, однако принудительные заготовки повлекли за собой абсо-
лютное сокращение производства на рынок одновременно с от-
носительным ростом производства на черный рынок во всех
странах, участвовавших в первой мировой войне, повсюду, хотя и
в разной степени, обострив отношения между государством, го-
родом и деревней)54.
В свою очередь, автаркические тенденции усиливались ввиду
необходимости вместе с новым государством строить и новую на-
циональную экономику. Тот факт, что в Европе теперь насчиты-
валось 27 валют вместо 14 и около 20 000 км новых границ, заста-
вил как урезанные старые государства, так и плоды этой ампута-
ции подумать о новом определении и организации своих эконо-
мических пространств; при этом делались попытки выстроить но-
вые экономические блоки, в предвидении нового международного
конфликта — как можно более самодостаточные. Все это не оста-
лось без последствий. Острота и жестокость кризиса, обрушивше-
гося на Европу в 1929 г., среди прочего в первую очередь объясня-
ются наследием первой мировой войны. Весь континент, особен-
но те его части, которые сильнее всего оказались втянуты в кон-
фликт, наугад искал тогда нового равновесия взамен разбитого
вдребезги старого, позволяя руководить собою «демону экономи-
ческого национализма», на чей счет Фишер относил львиную
долю экономических бедствий 1930-х гг. Демон этот вновь занял
главенствующую позицию, принадлежавшую ему во время войны,
откуда он ненадолго был изгнан в 1920-е гг. благодаря желанию
вернуться к «нормальной» жизни55.
Выше мы высказывали предположение, что режимы и тира-
нии, постепенно утвердившиеся в Европе во время и после войны
(а также идеологии, на которые они опирались), отличались друг
от друга вследствие разной силы и характера удара, нанесенного
войной той или иной стране, разной степени прочности структур,
встретивших его, разных условий, конъюнктур и исторического
материала, испытавших на себе его действие.
54 Lewin М. The Making of the Soviet System. P. 347-352; Ziircher E.J. Turkey.
P. 172—173; Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo. P. LXI ss.
55 Pollard S. Peaceful Conquest: The Industrialisation of Europe, 1760—1970. Oxford:
Oxford University Press, 1981. P. 281; Fischer H.A.L. A History of Europe. 3 vols.
Boston: Houghton Mifflin, 1936. P. 474.
180
Страны более развитые, с более сильной социальной струк-
турой, государственной и интеллектуальной традицией, напри-
мер, выдержали удар лучше, чем более слабые в социально-эко-
номическом или этническом плане, и, конечно, сила его была
не одинакова для победителей и побежденных (хотя даже Фран-
ция и Англия его не избежали; в первой из них слабее всего
проявлялись и оформились не ранее того, как последовал вто-
рой удар в 1940 г., те же феномены, которые имели такой успех
в других местах).
Мы подчеркивали также, какую большую роль играли харак-
тер и психология приходящих к власти тиранов и «сильных лич-
ностей». Отсюда — великое многообразие типов режимов и тира-
ний (или деспотий), с разными идеологическими и экономиче-
скими системами и аппаратами, с разным психологическим
климатом, но при этом с ярко выраженными общими чертами, о
которых говорилось во Введении. Такое разнообразие наряду с
таким единообразием вызвало попытки классификации, о кото-
рых шла речь в первой части данной книги. Основываясь на них
и на анализе особенностей истории Европы, в частности восточ-
ной половины континента, сделанном во второй части, я попро-
бую теперь привести в систему опыты строительства и реконст-
рукции государства в особых условиях, сложившихся благодаря
войне и ее окончанию.
Мне кажется, необходимо различать по меньшей мере две ос-
новных группы, состоящие каждая из нескольких подгрупп.
Первую составляют тяжелые случаи — как правило, попытки
потерпевших поражение империй и имперских национальностей
вновь утвердить свое государство и свое господство. Именно с
ними связана чрезвычайная концентрация зла, характерная для
значительной части XX века в Европе56.
56 Исключение среди них представляет собой Греция, потерпевшая в 1922 г.
столь сокрушительное поражение, что Венизелос вынужден был официально от-
казаться от «великой» неовизантийской идеи, поскольку с уничтожением грече-
ских меньшинств в Малой Азии для нее не осталось никакой материальной базы.
С этой точки зрения, следует отметить, что для греков «катастрофа» 1922 г. была
едва ли не чудовищнее падения Константинополя, ибо положила конец тысяче-
летнему эллинскому присутствию в Анатолии и любым надеждам на территори-
альную экспансию (см.: Hirschon R. Espulsioni di massa in Grecia e Turchia: la
convenzione di Losanna del 1923 // In fuga. Guerre, carestie e migrazioni nel mondo
contemporaneo/Acuradi M.Buttino. Napoli: L’Ancoradel Mediterraneo, 2001. P. 26).
181
Первый пример такого рода — не вполне классический, и пото-
му что первый, и в силу характерных особенностей региона, где он
наблюдался, — мы видели в лице Османской империи, которая,
понеся ряд поражений в XIX и начале XX в., начала мыслить себя
как современное национальное государство — Турцию, — способ-
ное выдержать конфронтацию с Западом. Чтобы совершить по-
добную трансформацию, ей нужно было, однако, решить пробле-
мы наличия крупных христианских общин, экономической
отсталости, традиционализма структур. Мы знаем, что традиция
борьбы против христиан, постоянные унижения и ощущение соб-
ственной слабости уже в 1915 г. побудили новую элиту страны
провести под предлогом военной необходимости первую в XX в.
операцию этнической и социальной чистки, совершенную госу-
дарством над населением подвластных ему территорий. В данном
случае она была направлена против мест компактного прожива-
ния армян в сельской местности внутри страны, а также против
армянско-греческого ядра в современных экономических секто-
рах и многих крупных городских центрах побережья.
Победы Ататюрка в 1921 — 1922 гг. над вторгшимися в Турцию
греками, ставшие возможными в том числе благодаря советской
помощи (один из представителей большевистской верхушки писал
с Кавказа Ленину и Сталину, что кемалистские войска настроены
совершенно просоветски, ходят с красными знаменами и считают
себя частью великой Красной Армии), привели к «окончательному
решению» греческой проблемы. Началось все с резни в Смирне, за-
тем последовало массовое бегство и в конце концов — первый боль-
шой обмен населением, санкционированный международными со-
глашениями (в 1913 г. уже состоялся опыт такого официального
обмена, правда в гораздо меньших масштабах, между Османской
империей и Болгарией, которые договорились о взаимной очистке
15 километров границы, разменяв около 90 тыс. человек)57.
Тогда, после провала первого опыта «почти» тоталитарного ре-
жима (младотурецкого, рухнувшего с поражением центральных
империй) и победы над имперскими поползновениями греков,
родилась турецкая республика, очень далекая от многонациональ-
57 Toynbee A.J. The Western Question in Greece and Turkey. Boston: Houghton
Mifflin, 1922; Ladas S.P. The Exchange of Minorities. Bulgaria, Greece and Turkey.
New York: Macmillan, 1932; Pentzopoulos D. The Balkan Exchange of Minorities and
its Impact upon Greece. Paris: Mouton, 1962; Hirschon R. Espulsioni di massa in Grecia
e Turchia. P. 23—33.
182
ности и многоконфессиональности Османской империи. В 1923 г.
Анатолия на 98% была мусульманской (в 1913 г. - только на 80%),
но при этом — в результате избиения и изгнания армян и греков —
более слабой и отсталой по своей социальной структуре и показа-
телям культурного и экономического развития страной. Ее вало-
вой национальный продукт достиг довоенного уровня только к
1930 г. (если вспомнить подсчеты Левина, свидетельствующие о
социально-экономическом и культурном регрессе, который вы-
звали в СССР катаклизмы 1914-1922 гг., можно утверждать, что
здесь мы наблюдаем еще одну интересную параллель между турец-
ким и советским опытом)58.
Даже уничтожив христианские общины, Турция Ататюрка, как
ни трудно ей было это признать, недалеко ушла от новых госу-
дарств, родившихся в 1918—1919 гг. в Восточной Европе, которые
называли себя национальными, не являясь таковыми на самом
деле, и процессы в ней шли отчасти те же самые. В феврале 1925 г.
крупным мятежом заявила о себе проблема курдов, которые в пре-
дыдущие годы охотно участвовали в истреблении христиан, осо-
бенно армян. Кемаль воспользовался этим, чтобы ликвидировать
всякую политическую оппозицию и установить новую, более со-
временную однопартийную систему. Правящая Народная (позже
переименованная в Народно-республиканскую) партия выступала
носительницей официальной идеологии - кемализма. В 1931 г.
были сформулированы и изображались в виде шести стрел шесть
его принципов: республиканизм, национализм, народность, госу-
дарственность, секуляризм и еще один, который можно перевести
и как реформизм, и как революционность.
58 Оценки Левина могут быть сопоставлены с данными А.Актара (Aktar А.
Homogenizing the Nation, Turkifying the Economy: Turkish Experience of Population
Exchange Reconsidered // Two Sides of the Same Coin: Assessment of the 1923
Exchange of Populations between Greece and Turkey / Ed. by R.Hirschon. New York:
Berghahn Books. In print. P. 16-19). Можно сравнить также формы, найденные для
управления частью бывших имперских колоний. И в том и в другом случае восста-
новить официально господство империи оказалось невозможно, поскольку, во-
первых, даже среди доминантных групп превалировали демократические идеоло-
гии и лозунги, а во-вторых, сильны были, пусть относительно, национальные чув-
ства. Поэтому бывшая Российская империя переродилась в федерацию, а араб-
ские владения Османской империи формально не вошли в состав европейских
империй-победительниц, но были ассоциированы с ними в качестве подмандат-
ных территорий, что, опять-таки в обоих случаях, имело немаловажные последст-
вия для управления соответствующими странами и их развития.
183
Агрессивная энергия нового государства, с такой жестокостью
проявившая себя по отношению к «чужакам» в 1915 и 1922 гг., те-
перь была направлена на внутреннюю модернизацию страны, что
свидетельствовало о резком разрыве с прежней практикой младо-
турок, которую Ататюрк подверг суровой критике. Последнее объ-
яснялось как размышлениями о причинах поражений режима,
возникшего в результате революции 1908 г., в которой сам Кемаль
принимал участие, так и складом личности нового «отца турок»,
любившего, переложив государственные заботы на других, потол-
ковать с близкими друзьями о будущем Турции и отнюдь не же-
лавшего, чтобы его новое, еще хрупкое детище было втянуто в
войны, грозившие сбить его с ног.
Тем не менее картина современной Турции, рисовавшаяся Ата-
тюрку после войны, оставалась неразрывно связана с идеями и ме-
тодами прежнего режима, а также мерами, принимавшимися мла-
дотурками в военные годы. Мехмет Зия (Gok alp), один из главных
идеологов движения, продолжал, например, играть ту же роль и
при новом режиме. В области экономики благодаря наставлениям
Парвуса и впечатлению от крупных успехов СССР дело модерни-
зации во многом вдохновлялось советским опытом, представляв-
шим собой, как мы знаем, прямое наследие немецкой военной
экономики, в свое время уже взятой за образец младотурками59.
Правда, благодаря чрезвычайной гибкости и чрезвычайному идео-
логическому эклектизму Кемаля и его соратников, хоть они и но-
сили в начале 1920-х гг. звание комиссаров, кемалистская модер-
низация имела не столь крайние этатистские черты, как
советская, и поэтому, если взглянуть через призму анализа Мизеса
и Бруцкуса, нанесла стране не столь невосполнимый ущерб (о чем
свидетельствует та сравнительная легкость, с какой сложившаяся
перед второй мировой войной система была в конце 1940-х гг. час-
тично демонтирована под влиянием американцев).
Тесная связь между новым модернизирующимся турецким го-
сударством и Советским Союзом, упрочившаяся благодаря помо-
щи, которую последний оказал Ататюрку в решающий момент,
представляет особый интерес, поскольку это первый случай вне-
дрения, хотя бы частичного, за рубежом («внутри страны» равно-
59 Ziircher E.J. Turkey. Р. 180—181; Deringil S. The Ottoman Origins of Kemalist
Nationalism // European History Quarterly. 1993. Vol. 2. P. 165—191; Roshwald A
Ethnic Nationalism and the Fall of Empires. P. 58—60, 111.
184
ценным примером может служить национал-коммунистическая
Украина 1920-х гг.) советской модели в отсталой стране, встающей
на путь модернизации.
Чичерин хорошо сознавал всю важность дела уже в 1921 г.
Он писал тогда Сталину, что необходимо любыми способами
поддержать турецкую революцию (он называл ее «национально-
освободительной борьбой»), которая влечет за собой создание
местной буржуазии, демократизацию и вытеснение европейско-
го капитала, поскольку это может стать примером для других
стран, например Индии. Таким образом будет положено начало
борьбе национальной буржуазии восточных стран против евро-
пейского капитализма, что может принести огромную пользу
делу мировой революции (отметим, что у Чичерина ни слова не
говорится о роли крестьянского движения, хотя и русская и ук-
раинская революции, а еще раньше - мексиканская, показали
его значение; Мао и китайская революция по-новому откроют
его для себя, наперекор советской политике поддержки нацио-
нальной буржуазии)60.
Рассмотрим теперь Германию, вернее — весь немецкий мир, ко-
торый накануне первой мировой войны, невзирая на пережитые в
предшествующие десятилетия потрясения в ходе процессов урба-
низации и модернизации, в разных обличьях (Австрия, остзейские
бароны, городское население и т.д.) доминировал на большей час-
ти территории Восточной Европы. Немцы потерпели такое тяже-
лое поражение в первой мировой, но — как заметил Риттер — если
для Германии, то есть сердца немецкого могущества, 1918-й год
действительно был «катастрофой», «внезапно оборвавшей стреми-
тельный политический и экономический взлет» страны, то эта ка-
тастрофа все же не смогла «подорвать величайшую жизнеспособ-
ность германской нации, ее экономическую силу и ее веру в свои
политические способности» (вспомним, кстати, что войну на Вос-
токе Германия тогда выиграла).
Это помогает понять, почему Германия в первый момент сумела
выдержать нанесенный ей удар и пережить, благодаря социал-де-
мократам и христианам, неурядицы послевоенного периода, вы-
лившиеся в неудачные попытки путча и революции осенью 1923 г.
60 Ziircher E.J. Turkey. Р. 189 (Г.; Большевистское руководство. Переписка, 1912—
1927 / Под ред. А.В.Квашонкина, О.В.Хлевнюка и др. М.: РОССПЭН, 1996.
С. 166-170, 220-227; Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине.
185
Но по той же причине в стране помимо силы воли существовали и
необходимые ресурсы, подкреплявшие желание реванша, возник-
шее как реакция на поражение и национальное унижение, вопло-
щенное в Версальском мире, призванном, по словам Мизеса, «за
одно поколение низвести Германию до рабского положения, при-
вести в упадок жизнь миллионов человеческих существ» в результа-
те политики, «которая была бы отвратительна даже в том случае,
если бы ее можно было осуществить». В общем, немецкому Барресу
не было нужды ограничиваться плачем по утраченным территори-
ям и проповедованием необходимости очистить нацию, дабы она
была готова к вендетте, как только сложатся подходящие усло-
вия, — он мог бы сам спровоцировать наступление таких условий61.
Впрочем, только приняв во внимание кризис, вызванный вой-
ной и поражением во всей германоцентричной вселенной, а не в
одной Германии, можно понять, почему попытка реванша впо-
следствии приняла именно такие черты и как получилось, что
капрал австрийского происхождения сумел подчинить себе прус-
скую армию и, вопреки Бисмарковым урокам, вновь бросить ее
против «России», в известном смысле делая тот же выбор, что и в
1914 г., когда иллюзия английского нейтралитета побудила Герма-
нию поддержать агрессивную политику Австрии против Сербии.
Вернемся к интерпретации первой мировой войны как славя-
но-германского конфликта и тем самым к проблеме наследства,
оставленного Австро-Венгерской империей, и того, что оно собой
в действительности представляло. Время покрыло его некой позо-
лотой, но, как напоминает Нэмир, не стоит позволять ослепить
себя Вене Шницлера, Фрейда, Редлиха и Малера, игнорируя мел-
кую «арийскую» австрийскую буржуазию, чей дух, опять же по
словам Нэмира, представлял собой «смесь мелкобуржуазного ан-
тисемитизма венских окраин с расовым пангерманизмом Граца и
Судет». Здесь в течение всего XIX в. копилось возмущение из-за
постепенного вынужденного отступления исторически доминиро-
вавшего немецкого элемента, и не случайно именно немецкие об-
щины Габсбургской империи были главным очагом агрессивного
антиславизма и в то же время, наряду с русскими жителями Ук-
раины, - колыбелью современного антисемитизма. В судетской
пангерманской партии Шёнерера и в христианско-социалистиче-
61 De Felice R. Interpretazioni del fascismo. P. 48; Graziosi A. Alle radici del XX
secolo europeo. P. XXXVII.
186
ской партии Карла Люгера, венского бургомистра, «великого по-
борника социального законодательства, у которого социализм был
неразрывно связан с германским национализмом, католицизмом
и антисемитизмом», нашел своих учителей Гитлер.
Поражение 1918 г. вызвало в германском мире защитную «ве-
ликогерманскую» (groBdeutsch) реакцию, т.е. стремление к объе-
динению в единое государство, идущее вразрез с найденным Бис-
марком решением проблемы единства, в основе которого лежало
разделение Австрии и Германии. Сильнее всего это стремление
было там, где немецкий элемент чувствовал себя наиболее неуве-
ренно, — в городах на Востоке, откуда все быстрее шел отток не-
мецкого населения, и в том, что осталось от Австрийской импе-
рии. Вначале реакция приняла демократическую форму и была
направлена на воссоединение двух основных общин - австрий-
ской и германской. Но единогласное решение австрийского учре-
дительного собрания, где также верховодили социалисты и хри-
стиане, объявившего в марте 1919 г. Австрию неотъемлемой
частью германского рейха и выбравшего ее первым канцлером со-
циалиста Карла Реннера, было аннулировано победителями под
нажимом французов, о чьем лицемерии в вопросе о национальном
самоопределении мы уже говорили (и в 1920 г. результаты плебис-
цитов в отдельных регионах Австрии, высказывавшихся за объе-
динение с Германией, объявлялись недействительными под угро-
зой санкций со стороны союзников).
Потому-то все больший вес начал приобретать другой вариант
великогерманской реакции среди наиболее угрожаемой части гер-
манской вселенной: воплощением ее стал некий Гитлер, который
гордо называл самого себя «историческим вкладом Австрии в дело
создания великого германского рейха» и представлял объединение
Австрии и Германии как подготовительный шаг перед новым аг-
рессивным броском на соседние страны. В 1923 г. возможность та-
кого решения вопроса провалилась на улицах Монако, но упоми-
навшаяся выше прогулка под ручку Гитлера с Людендорфом
позволяла догадаться, что она способна завладеть воображением
дезориентированной и униженной прусской армии62.
Как известно, той же осенью провалилась и последняя попытка
совершения коммунистической революции, которой Радек, в
62 Rich N. Hitler’s War Aims. New York: Norton, 1973. P. XXXIII; Graziosi A. AJle
radici delXX secolo europeo. P. XXXII; Namier L.B. In the Margin of History. P. 82.
187
предвидении вооруженного восстания делегированный из Моск-
вы, чтобы поддержать немецкое руководство, старался, в соответ-
ствии с директивами большевиков, придать сильный националь-
ный оттенок. Речь идет, писал он, о борьбе за национальное
освобождение против фашизма, западного феномена, возникшего
в Италии, союзнице французов, англичан и американцев, и под-
держанного в Германии юнкерами и представителями тяжелой
промышленности, продающими «оптом и в розницу» свою немец-
кую родину Франции и вообще Западу.
Постоянные провалы национал-коммунизма (даже в 1930 г.
программа немецких коммунистов все еще носила название «За
национальное и социальное освобождение немецкого народа»),
который мог казаться импортированным из-за рубежа и при-
живался тем труднее, что был «русским» (и «еврейским»), от-
нюдь не лишали, однако, надежды на успех явление, во мно-
гом с ним сходное, но свое, немецкое, точнее пангерманское -
гитлеризм63.
И действительно, когда на Германию обрушился второй удар в
виде кризиса 1929 г., возобладало гитлеровское «великогерман-
ское» решение, повлекшее за собой безумие массовых убийств-
чисток и послужившее трамплином для очередного великого им-
перского проекта (хотя, разумеется, как показал Генри Тернер,
победа его отнюдь не была предопределена и неизбежна)64. С та-
кой точки зрения, его «великогерманский» характер стал лишь
этапом на пути к «общегерманским» решениям - объединению
всех немцев Восточной Европы, даже тех, кто жил далеко от авст-
ро-германских границ, и превращению их в расу-хозяйку новой
тысячелетней империи.
Гитлеровское решение представляется, таким образом, продол-
жением (в самых ужасных формах, которые были бы невозможны,
если бы не брутализация, произведенная мировой войной, озлоб-
ление, вызванное поражением и Версальским миром, да и лич-
ность самого Гитлера) колониальной германской традиции в Ев-
ропе, как выразился Мизес в 1919 г. (не случайно 25 лет спустя он
считал нацизм кульминацией - конечно, вовсе не неизбежной -
63 Радек К. Октябрьское поражение и дальнейшая борьба германского пролета-
риата // Пять лет Коминтерна. М., 1924. Т. 2. С. 409 и сл.
м Turner Н.А., Jr. Hitler’s Thirty Days to Power: January 1933. London:
Bloomsbury, 1996.
Jgg
одной стороны немецкой истории, берущей свое начало именно в
европейском колониализме немцев и австрийцев). Этот неисто-
вый колониализм в сочетании с расистскими теориями, а также
теориями заговора и предательства внутри страны, привел к по-
пыткам «разрешить раз и навсегда» вопрос «расовых» взаимоотно-
шений на Востоке, обеспечив превосходство германской «расы», и
найти «окончательное решение» еврейской проблемы. Последнее
было найдено в форме Холокоста - наиболее ярко воплотившего
собой все зло XX века. Впрочем, истребление еврейских общин
шло во вред интересам самих немцев и объяснялось исключитель-
но массовым безумием, охватившим их в результате войны и пора-
жения, учитывая, что эти обшины представляли собой важнейшее
скрепляющее вещество и чуть ли не самую живую душу германо-
центристской вселенной, господствовавшей на значительной час-
ти территории Центральной и Восточной Европы до 1914 г. (не-
гласным признанием этого факта может служить немецкая
политика в Польше и Литве в годы первой мировой войны), и из
них вышло множество людей, обеспечивших немецкой культуре
тот престиж, которым она пользовалась во всем мире65.
Еще одной империей, потерпевшей поражение, правда, не со-
всем обычным образом, была российская. Ее государственные и
социальные структуры стремительно рухнули под влиянием вой-
ны и напором крестьянских сил, и в Брест-Литовске она была
вынуждена под давлением центральных империй, казалось, близ-
ких к победе, отказаться от огромных кусков территории на запа-
де (Финляндии, Прибалтики, большей части Белоруссии, Украи-
ны и Крыма, Бессарабии, Северного Кавказа и Закавказья),
причем и на востоке ее присутствие также было поставлено под
сомнение. За три следующих года свершилось чудо Ленина и
65 Meyer Н.С. Mitteleuropa. Р. 290 ff.; Hilberg R. The Destruction of the European
Jews. 3 vols. 3rd ed. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2003; Browning C.R. The
Path to Genocide: Essays on Launching the Final Solution. Cambridge: Cambridge
University Press, 1992; Idem. Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers.
Cambridge - New York: Cambridge University Press, 2000; Черная книга / Под ред.
В.Гроссмана, И.Эренбурга. Вильнюс: ИАД, 1993; Weizmann С. Trial and Error.
Autobiography. New York: Harper, 1949. P. 165. Вейцман вспоминает, что перед пер-
вой мировой войной, по мнению модернизированных элит еврейской общины,
говорившей, напомним, на языке, произошедшем от немецкого, «Запад кончался
на Рейне» (начинаясь вновь только по ту сторону Атлантики) и Германия явля-
лась non plus ultra цивилизации; см. также: Graziosi A. Alle radici del XX secolo
europeo. P. XL.
189
Троцкого, которым удалось вернуть все восточные территории
плюс Кавказ, Дон, часть Белоруссии, а главное - Украину. Как
уже бывало в прошлом - здесь уместнее всего вспомнить слова
Маколея о протестантской вере, позволившей Кромвелю сохра-
нить целостность английской островной империи и даже укре-
пить ее власть в Уэльсе, Шотландии и особенно в Ирландии66, —
кардинальную роль в этом чуде сыграло упоминавшееся выше
рождение новой квазирелигии.
Родившаяся в эпоху, когда сложилась сильнейшая убежден-
ность в том, что национализм, само понятие родины, от которого
тот отталкивался, и государство — источник всех бед, обрушив-
шихся на Европу, она отчасти черпала свою силу в декларациях о
своем превосходстве над любым национализмом, а в конечном
счете и государством, и враждебности им. Поэтому она привлека-
ла не одних русских и оправдывала верой любое насилие. Однако
ее успех объясняется не только искренней приверженностью по
крайней мере части большевистской правящей верхушки, но и
тем, что она была направлена - во всяком случае, по замыслу Ле-
нина - не просто против любого национализма (включая рус-
ский), но против имущих слоев и классов любой национальности:
как русских чиновников, помещиков и фабрикантов, так и поль-
ских магнатов, как еврейских капиталистов, так и прибалтийских
баронов. Потому-то ее восприняли и нерусские крестьяне, кото-
рые, конечно, предпочли бы получить землю от элиты, говорящей
на одном с ними языке, но, за неимением лучшего, готовы были
поддержать новую Москву.
Тем не менее в 1917—1918 гг. в Москве и Киеве, в Ташкенте и
Баку, в городах и селах России и национальных «окраин» империи
имели место революции очень разного характера67. Там возникали
крупные национальные крестьянские движения, явно предвосхи-
щавшие то, что будет гораздо позже происходить в «третьем
мире», но именно в силу идеологии нового русского государства,
против которого они вскоре осознали необходимость бороться, им
было крайне трудно выработать четкую программу и найти пар-
тию, способную их возглавить (обоим требованиям впоследствии
стали удовлетворять коммунисты, правда, в «России» 1918-1921 гг.
66 Macaulay Т.В. The History of England from Accession of James the Second. New
York: Ams Press, 1968 (c. 86—87 по французскому изданию — Paris: Laffont, 1989).
67 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР.
190
они, за исключением мелких местных крайне левых партий, скло-
нялись на сторону новой центральной власти).
Великое чудо Ленина, которому помогла и неоднозначность
собственной ленинской позиции (он ухитрялся одновременно по-
ощрять национальные претензии и строить новую великую мос-
ковскую державу, действительно благосклонную к крестьянам, но
и способную жестко обуздывать любые их требования и стремле-
ния), состояло в том, что он направил столь различные явления в
единое русло. Но, как заметил Алеви, по сути русская революция,
«разрушительница империализма, как оказалось, работала не
столько на коммунизм... сколько на национальную идею», вернее,
на возрождение могущественного государства, представляющего
собой новаторскую попытку организации многонациональной
территории под властью русского центра. В основе этой попытки,
как мы видели, говоря об образовании СССР, лежала вненацио-
нальная идеология в центре при соблюдении национального прин-
ципа на периферии (и союзные республики, и автономные рес-
публики и области устраивались по национальному признаку,
язык и национальность входили в число решающих критериев при
определении их границ)68.
Таким образом, единый облик революции, приданный ей Ле-
ниным, создавался с большими оговорками, и постепенно это ста-
ло давать о себе знать на всей территории бывшей империи. Новое
государство, плод революции в Петрограде и Москве, то и дело
сталкивалось с другими революциями, которые в свое время по-
могали ему утвердиться.
Во время «гражданской войны», которую, как мы знаем, Кершо
и Левин справедливо назвали «почти геноцидом», этому государ-
ству приходилось соперничать с попытками построить на
68 Hirsch F. The Soviet Union as Work in Progress. Ethnographers and the Category
Nationality in the 1926, 1937 and 1939 Censuses // Slavic Review. 1997. Vol. 2. P. 251—
278; Cadiot J. Organiser la diversite: la fixation des categories nationals dans 1’Empire de
Russie et en Urss, 1897-1939 // Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest. 2001. No. 3;
Martin T. An Affirmative Action Empire. Ethnicity and the Soviet State, 1923-1939.
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001. Другое дело, что уважение прав нацио-
нальностей, которыми стали фактически пренебрегать уже во время гражданской
войны, несмотря на формальный лозунг самоопределения, при Сталине очень
быстро превратилось в пустой звук. Это не должно помешать нам, как показывает
Мартин, увидеть не только реалии 1920-х гг., но и роль, которую национальный
вопрос продолжал играть в советской политике и советском законодательстве
даже в самые мрачные времена.
191
пространствах, освобожденных от царского самодержавия, другие
государства: русские (демократические и белые), национальные и
полунациональные (как, например, казачье), крестьянские госу-
дарства или протогосударства. С крестьянами новое государство,
несмотря на периодически возникающий крайне острый кон-
фликт, все же поддерживало — благодаря своей идеологии - отно-
шения, пусть и довольно противоречивые, что позволило Москве,
особенно после того как она извлекла урок из поражения второго
большевистского правительства на Украине в 1919 г., найти весь-
ма оригинальные решения двух ключевых проблем 1918-1919 гг. —
крестьянской и национальной (это нэп и образование СССР как
супранациональной федерации национальных республик, где ос-
тавался еще большой простор для «национал-коммунизма», как
его уже тогда начали называть).
Помимо исключительных качеств узкой правящей группы ут-
верждению нового государства помогло умение эксплуатировать
народные силы и энергию, разбуженные войной и революцией.
Так, например, мы уже видели, как, возложив бремя управления
на сотни тысяч выходцев из социальных низов (что для белых
было просто немыслимо), оно подмяло под себя ту плебейскую
революцию, которую ненадолго возглавило в 1917 г., чтобы потом
безжалостно сражаться с ней же начиная с весны 1918 г., когда
большевики объявили войну деревне, а затем и национальностям,
пытавшимся построить свои независимые государства.
Существенный вклад в победу внес также крайний этатизм но-
вых лидеров, позволявший им создать систему, особенно хорошо
приспособленную для войны и гражданской войны. Благодаря
марксизму, сыгравшему роль усилителя тенденций, как мы виде-
ли, резко проявившихся во всей Европе под влиянием мировой
войны и ставших особенно мощными в России, поскольку там
конфликт в виде гражданской войны затянулся еще на три-четыре
года, родилась экономическая система нового типа, еще более ра-
дикальная, чем обычный этатистский вариант. Поэтому, как уже
говорилось, можно утверждать, что здесь мы имеем дело с самым
крайним случаем мизесовского военного социализма. Между про-
чим, об этом свидетельствует сам термин, официально принятый
в СССР для обозначения первой, основополагающей фазы суще-
ствования нового строя, — «военный коммунизм».
Мы знаем также, что сама чистота новой системы позволила
таким сверхпроницательным наблюдателям, как Мизес и Бруцкус,
192
точно подметить ее характерные черты и слабости, хотя в более
или менее краткосрочной перспективе они недооценили ее спо-
собность к выживанию (и экспансии).
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что уже сам отказ
от военного коммунизма в пользу нэпа (конечно, вначале это был
лишь тактический ход, но затем, в последние годы жизни Ленина,
он приобрел в его глазах более глубокий смысл и стал важным
эпизодом на фоне общей попытки вернуться к нормальной жиз-
ни, наблюдавшейся в 1920-е гг. на всем континенте69), как и най-
денное в 1921-1922 гг. решение национальной проблемы, показы-
вают разницу между первой советской тиранией - ленинской — и
той, что последовала за ней. Конечно, Ленин не только создал но-
вое государство волевым актом, за что его не переставали упрекать
меньшевики, да и сам он в последние годы жизни имел возмож-
ность подумать об опрометчивости такого шага в смысле послед-
ствий, — он также придумал организовать политическую полицию
и был убежденным сторонником крайних и беспощадных репрес-
сивных мер. Тем не менее, если вернуться к мысли Монтескье о
важной роли характера и психологии деспотов и тиранов, гиб-
кость, проявленная Лениным в 1921-1922 гг. (по сути, выражение
того же политического гения, который сделал возможным «чудо»
1917 года), сам стиль его жизни и управления делами партии, о ко-
тором можно было бы сказать мало хорошего, если бы на смену не
пришел стиль Сталина, показывают, что нужно говорить о двух
тираниях, отличающихся одна от другой как благодаря разным ус-
ловиям, в которых они сложились, так и благодаря разнице между
Лениным и Сталиным.
С позиции новой власти тот характер почти геноцида, который
имела ее политика 1918—1921 гг., был обусловлен не только суро-
востью времени и верой в то, что делается, но и острым ощущени-
ем своей слабости. Последнее, в свою очередь, вызывалось, созна-
нием того, что место, властью занимаемое, она в свете той самой
идеологии, в верности которой клянется, «исторически» занимать
не вправе (ленинское чудо как раз и заключалось в том, чтобы
взять власть в стране, еще не созревшей для социализма). Уже вес-
ной 1919 г. поражения в Германии и Венгрии отняли у нее воз-
69 Мою интерпретацию нэпа, в которой я подчеркиваю всю серьезность попыт-
ки и в то же время ее сомнительность, заставившую меня заключить это слово в
кавычки, см.: Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 38—44.
193
можность утешаться надеждой, что революция на Западе вскоре
оправдает задним числом октябрьский переворот 1917 г.
Отсюда берет начало отвечающая нуждам продолжающейся
войны идея, что новому государству следует самому позаботиться
о том, чтобы построить социальный организм и экономическую
структуру, соответствующие его природе, с помощью силы и
произвола справляясь со всеми бедами и неприятностями, вы-
званными отсталостью. Сразу после Октября меньшевистский
лидер Абрамович, потрясенный, осмелился спросить основателя
политической полиции Дзержинского: уж не думает ли тот, что
массовые репрессии помогут создать post factum более подходя-
щую для социалистической революции обстановку, чем та, что
сложилась в царской России. Чуть позже, в начале 1919 г., новая
власть впервые принялась реализовывать эти идеи на Дону в
форме «расказачивания», которое призвано было «раз и навсе-
гда» решить «проблему» казачества путем массовых депортаций и
расстрелов70.
Поражение на Варшавском фронте в 1920 г. и, наконец, провал
последней попытки совершить революцию в Германии в 1923 г.
заставили большевистское руководство осознать тот факт, что
нужно действовать одним и, учитывая обстановку в Европе, дей-
ствовать быстро. Тогда вновь (и в новой формулировке) встал во-
прос, как выкроить и выстроить, используя в качестве инструмен-
та государство, социально-экономическую базу, лучше отвечаю-
щую запросам и великим амбициям правящей верхушки.
Вопреки тому, что обычно думают, именно левые, острее дру-
гих сознававшие ограниченность масштабов Октября и слабость
нового государства (поскольку находили для этого идеологическое
обоснование), открыто подняли данную проблему, заговорив о
необходимости «социалистического первоначального накопле-
ния». Это выражение стало знаменитым благодаря Преображен-
скому (и любому, кто читал Маркса, сам термин говорил, до чего
может дойти дело). Сталин затем проблему решил, построив со-
циализм в одной стране на базе принудительной коллективизации
и раскулачивания71.
70 Abramovitch R.R. The Soviet Revolution, 1917—1939. New York: International Uni-
versities Press, 1962. P. 380; Holquist P. «Conduct Merciless Terror». Decossackization
in the Don//Cahiers du monde russe. 1997. Vol. 38. No. 1—2. P. 127—162; Грациози A.
Великая крестьянская война в СССР. С. 22—23.
71 Graziosi A. A New, Peculiar State; Idem. Dai Balcani agli Urali.
194
Венгрия во многих отношениях представляет собой некое свя-
зующее звено между примерами разгромленных великих империй
и новых государств, родившихся в Восточной Европе в 1918 г. Еще
до первой мировой войны она была прототипом последних (т.е.
мини-империей, претендующей на звание национального госу-
дарства). В 1919 г. она понесла суровую кару от Антанты, лишив-
шись двух третей территории и 60% жителей, причем многие из
них, как, например, в Трансильвании, были венгерской нацио-
нальности. Тогда-то, на фоне происходившего в России, и была
сделана попытка, опираясь на коммунизм, восстановить хотя бы
часть мини-империи. Весьма показательно, каким образом Бела
Кун пришел к власти. Как рассказывает бывший глава итальян-
ской военной делегации в Будапеште в своей книге, до сих пор ос-
тающейся одной из лучших книг воспоминаний о Венгрии 1919 г.,
демократический премьер Кароли, получив ноту союзников,
предписывающую венграм такие границы, которые делали их
страну наиболее пострадавшей по условиям мирных договоров, в
приступе отчаяния решил уйти из правительства «и в отместку
предать его в руки коммунистов». Белу Куна, венгерского еврея из
Трансильвании, которую победители передали румынам, выпус-
тили из тюрьмы и поручили ему сформировать новое правительст-
во. С помощью социал-демократов, чьи лидеры тогда носились с
«идеей революционной патриотической войны... которая прими-
рила бы социализм и патриотизм», это правительство немедленно
попыталось отвоевать часть утраченных территорий, отправив
«рабочие батальоны» в Словакию. Таким образом, замечает наш
офицер, венгерский большевизм представлялся «одной из многих
форм сопротивления побежденных, старавшихся обойти условия,
навязанные победителями»72.
Режим Белы Куна, после первых успехов потерпевший пораже-
ние на фронте, дискредитировавший себя непопулярной полити-
кой и экстремистскими решениями и в деревне и в городе, неспо-
собный защитить Будапешт от оккупировавших его румын, скоро
пал под ударами белой реакции, не меньше его горевшей желани-
ем пересмотреть версальский вердикт, однако понимающей, что у
нее самой не хватит сил, чтобы этого добиться. Венгрия решила
72 Romanelli G. Nella Ungheria di Bela Kun. Udine: Donetti, 1964. P. 111 ss.; A His-
tory of Hungary / Ed. by P.Sugar. Bloomington: Indiana University Press, 1990. P. 267—
318; Valiani L. Scritti di Storia. Milano: Sugar, 1984. P. 497—604.
795
подождать, пока другие, более сильные, возьмут инициативу в
свои руки. Когда наступил подходящий момент, она была готова
выступить, и политика, призванная решить сербскую проблему в
Банате, который в 1919 г. был отдан Югославии, а двадцать лет
спустя вновь завоеван венграми с помощью немцев, показывает,
что и в этой стране таились монстры, порожденные событиями
1912-1922 гг. во всей Европе, и прежде всего в Восточной.
Мы уже говорили о новых государствах Центральной и Вос-
точной Европы, об их положении, их попытках разрешить про-
блему меньшинств и построить экономико-промышленно-воен-
ный аппарат, который позволил бы им выдержать напряженную
ситуацию в Европе в период между двумя мировыми войнами.
Вспомним, что и среди них появилась тенденция, усилившаяся
позже благодаря видимым успехам итальянской и германской
диктатуры и сталинского режима в СССР, но зачастую хорошо
просматривающаяся и в 1920-е гг. (например, в Польше), - при
столкновении с проблемами призывать на помощь сильную
личность, способную отождествить себя с государством, кото-
рое рассматривалось как наилучший инструмент для их разре-
шения73.
Говорили мы и об особой ситуации в Италии: формально
одна из стран-победительниц в первой мировой войне, она не
смогла воспользоваться своей победой, что объяснялось как
убогостью ее лидеров - вспомним поведение Орландо и Сонни-
но в Париже, - так и противоречивостью никогда публично не
обсуждавшихся целей войны, которая была силком навязана
большинству все той же итальянской политической элитой.
В обществе — не только среди элиты — росло ощущение, что
Италии не удалось получить адекватную компенсацию за при-
несенные жертвы. Это еще одно свидетельство традиционного и
примитивного подхода к послевоенному периоду, царившего во
всей Европе: проблемы реконструкции и сотрудничества остав-
лялись в стороне, и все внимание было сосредоточено на разде-
ле воображаемой добычи. Названное ощущение сочеталось с
необходимостью найти какие-то способы противостоять беспо-
рядкам и кризисам, вызванным мировой войной, которая,
впрочем, затронула страну в довольно незначительной степени,
73 Rothschild J. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle: The Uni-
versity of Washington Press, 1974.
196
особенно по сравнению с тем, что произошло на территориях
между Рейном и Уралом. В конце концов, Италия все-таки вы-
играла войну, которую вела на небольшом участке своей грани-
цы, ее церковь, монархия, государственные структуры, традици-
онные элиты и средние слои не пострадали. Думаю, этим,
наряду с традициями страны и личностью Муссолини, и объяс-
няется относительная умеренность найденного для выхода из
кризиса решения и порожденной этим кризисом «тоталитар-
ной» системы, чьи претензии, к счастью (хотя в результате соз-
давалась атмосфера лицемерия, долго разъедавшая структуры
страны и государства, в том числе культурные), всегда сильно
расходились с действительностью.
Глава шестая
АКТ II: ВОЙНА В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Как и полагали Алеви и Фортунато, война не закончилась с
подписанием мирных договоров, причем не только и не столь-
ко потому, что, как мы видели в предыдущей главе, договоры
не смогли тотчас положить конец военным действиям. По
сути, то же самое произошло и после 1945 г., хотя тогда со вре-
менем мир все же вступил в свои права без официального за-
ключения договора. Наиболее проницательным наблюдателям
быстро стало ясно, что, говоря словами генерала Фоша по по-
воду соглашений, подписанных во Франции, и Брест — оста-
вивший у России стойкое стремление отплатить, — и Версаль —
это не настоящий мир, а скорее перемирие «на двадцать лет»1.
К этому прогнозу, точному даже в смысле времени, немедлен-
но присоединились Кейнс и Нитги, убежденные, что договоры
обеспечили и подготовили не столько мир, сколько новое
столкновение. Правда, недооценивая Брест, они говорили то-
гда преимущественно о столкновении с Германией. Кроме
того, мирные договоры снабдили «новую Европу» множеством
потенциальных поводов для конфликтов, которые и вспыхива-
ли периодически в течение двух последующих десятилетий,
пока не нашли хотя бы частичное разрешение в третьем акте,
во время великой войны, которую в 1918 г. многие наивно счи-
тали закончившейся.
Впрочем, распри, терзавшие Европу в 1920-е - 1930-е гг.,
были не просто следствием скверного мира: война во всех
странах, принявших в ней участие, привела в движение про- 1
1 Цит. по: Churchill W.S. The Second World War. Vol. 1: The Gathering Storm.
London: Cassell, 1976. P. 11.
198
цессы и силы, питавшиеся огромной энергией, накопленной
на континенте в предыдущие десятилетия и продолжавшей
прибывать благодаря вспышке демографического роста, кото-
рому, казалось, не будет конца. Так, например, просто пора-
зительно, до чего быстро Советский Союз оправился от по-
следствий демографических катастроф 1914-1922 и 1929—
1933 гг.
Несмотря на то что везде, даже в СССР времен нэпа, начали
разворачиваться события, как будто являвшиеся прелюдией к
возвращению в нормальное состояние, последующие годы, осо-
бенно в странах, где уже сложились или только зарождались ти-
рании, показали, что феномены, обязанные своим появлением
войне, обрели собственную жизнь и динамику, сила которой
превосходила силу общераспространенной тяги к нормальной
жизни.
Прежде чем вызвать новый взрыв снаружи, эта динамика
привела к войне внутри европейских стран. За исключением
Германии, где 1929-й год сыграл решающую роль, это про-
изошло независимо от экономического кризиса, а скорее па-
раллельно с ним; впрочем, и кризис в значительной степени
был следствием войны и того способа, каким она была закон-
чена. Так, например, и упрочение фашистского режима в
Италии: убийство Маттеотти2 (1924) — профашистские законы
(1925) — квота «девяносто лир за фунт стерлингов» и первые
протекционистские меры (1926) — новый закон о выборах
(1928) — Конкордат (1929) — и сталинские решения 1927—
1929 гг., подготовившие наступление, предшествовали кризи-
су, который лишь оказал свое влияние на процессы, уже иду-
щие полным ходом.
В частности, в СССР хватило мелкого кризиса нэпа, навер-
ное, вполне разрешимого с помощью незначительных попра-
вок в экономической политике, чтобы режим, благодаря на-
следию гражданской войны, особой психологии и идеологии
большевистской верхушки и характеру нового тирана in
pectore, развязал великую войну против собственного населе-
ния.
В эпицентре этой войны оказалась деревня, на которую друг за
другом стремительно обрушились раскулачивание, коллективиза-
2 Джакомо Маттеотти (1885-1924) - лидер итальянских социалистов. - Прим. пер.
199
ция, деномадизация в Средней Азии3 и голод, а результатом ее
стал второй «откат назад» той самой политической и социально-
экономической структуры, которая любой ценой стремилась дви-
гаться вперед. Государство тогда полностью взяло в свои руки
контроль над экономическим аппаратом и добилось абсолютного
превосходства над частной жизнью людей. Таким образом посте-
пенно вызрела зародившаяся в 1920-е гг. вторая тирания, гораздо
более грубая и примитивная, чем первая, хотя и связанная с по-
пыткой модернизации sui generis4, которая со временем, создав не-
кий набросок бюрократического «гражданского общества», помо-
жет ее победить.
В Германии, напротив, кризис 1929 г. сыграл решающую роль
в приходе к власти Гитлера, воспользовавшегося вполне понят-
ным желанием реванша после Версаля, всеобщей жаждой поряд-
ка в результате постоянных кризисов, сотрясавших страну, с тех
пор как разразилась война, дезориентированностью «староре-
жимных» элит, представление о которой могло дать уже поведе-
ние Людендорфа в 1923 г. С этой точки зрения, нет сомнений в
том, что здесь, как и в Италии, стремление старых и новых приви-
легированных слоев сохранить свое положение, несмотря на вой-
ну-революцию, и иллюзия, будто они могут это сделать, маневри-
руя, подбирая оставленные ею осколки и крохи и удерживая их в
3 О трагедии деномадизации, наиболее страшной, с точки зрения убыли насе-
ления в процентах, из всех трагедий сталинизма, но при этом наименее извест-
ной, по крайней мере в Италии, см., напр.: Olcott М.В. The Collectivization Drive in
Kazakhstan // Russian Review. 1981. Vol. 40. No. 2; Idem. The Kazakhs. Stanford,
Calif.: Hoover University Press, 1987; Абылхожин Ж. Казахстанская трагедия // Во-
просы истории. 1989. № 7; Голод в казахской степи / Под ред. С.Абдираимова и
др. Алма-Ата: Казак Университети, 1991; Насильственная коллективизация и го-
лод в Казахстане в 1931-1933 гг.: Сб. документов / Под ред. К.Алдажуманова и др.
Алма-Ата: Фонд «XXI век», 1998; Abylchozin Z. Collettivizzazione, carestia е fine del
nomadismo: Kazachstan, 1929—1935 // in fuga. Guerre, carestie e migrazioni nel mondo
contemporaneo / A cure di M.Buttino. Napoli; L’Ancora del Mediterraneo, 2001.
P. 145—172. Никколо Пьянчола, которому я признателен за библиографические
справки, недавно опубликовал со своими комментариями уникальный документ
от 9 марта 1933 г. См.: Famine in the steppe. The collectivization of agriculture and the
Kazakh herdsmen // Cahiers du monde russe. 2004. Vol. 1—2. P. 137—192.
4 Как я писал в другом месте, в основе решения проблемы ликвидации сель-
ского общества в СССР лежало тогда максимально полное пресечение автоном-
ного участия крестьян — на их собственных условиях — в процессе модернизации,
ведущем к исчезновению их самих. См.: Грациози А. Великая крестьянская война
в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933. М.: РОССПЭН, 2001. С. 71.
200
своих руках в силу собственного превосходства, вопреки ожида-
ниям, открыли дорогу наиболее вирулентным элементам того ка-
таклизма, который надеялись остановить. Мне кажется, в этом
правы левые интерпретаторы фашизма и нацизма; правда, они
принимают случайный элемент, хоть и имевший важнейшее зна-
чение для развития рассматриваемого феномена, за самую сущ-
ность этого феномена.
СССР и Германия - наиболее важные примеры, можно ска-
зать, «вторых скачков» в странах, сильнее всего пострадавших от
первой мировой войны, через несколько лет после ее окончания.
Здесь мы ограничимся рассмотрением лишь некоторых аспектов,
связанных с процессами в идеологической сфере, личностями
тиранов, эволюцией политических форм и экономической поли-
тики, репрессивными мерами и формами их применения. Кажет-
ся, они достаточно ясно показывают, как и в данном случае яв-
ления одного происхождения, часто испытывавшие действие
аналогичных или по крайней мере одного порядка сил, будучи в
разных условиях и имея дело с разным историческим материа-
лом, могли принять разное направление, сохраняя, однако, чер-
ты изначального сущностного сходства и отпечаток общего духа
времени.
Начнем с идеологии, совершившей свой собственный второй
«скачок», все в том же направлении субъективизма и волюнтариз-
ма, тесно связанный с разворачивающимися процессами государ-
ственного строительства и реконструкции.
Здесь снова можно припомнить слова Муссолини, прослав-
лявшего в 1925 г., когда смена режима только начиналась, «неис-
товую тоталитарную волю» своего государства, формулируя та-
ким образом концепцию, которую другие тираны потом сумеют
использовать лучше, чем он. Достаточно одного Конкордата с
церковью, равносильного признанию ее силы и ее существова-
ния как автономной величины, чтобы понять, чего стоят декла-
рации вроде вышеприведенной и многих последующих, выра-
жавших претензию на то, что в Италии построено тоталитарное
государство.
В том же 1929 году в СССР с большой помпой отмечалось пя-
тидесятилетие Сталина, превозносились идея «силы, которая мо-
жет все», культ «государства, способного победить экономиче-
скую и социальную конъюнктуру, если у него достанет смелости
пустить в ход все имеющиеся средства», и вождя, могущего га-
207
рантировать сплоченность и решительность действий государст-
ва5. Мы знаем, что, к несчастью для Советского Союза, Сталин
был именно таким вождем и у него действительно хватало смело-
сти «пускать в ход все имеющиеся средства». Мы знаем также,
что субъективные элементы в СССР действовали в условиях, ко-
гда война, революция и гражданская война уничтожили большую
часть противовесов, которые могли бы задержать или остановить
деятельность государства (Сталин жесточайшими методами изба-
вился от двух таких противовесов — крестьянства и национально-
го движения, — чтобы затем отделаться от верхушки собственной
партии и обрушиться на им же самим созданную бюрократию, в
попытке — могущей принести сиюминутные плоды, однако в ко-
нечном счете иллюзорной — разорвать последние узы, ограничи-
вающие его личную свободу).
Здесь мы возвращаемся к решающему вопросу о личности дес-
потов и условиях, в которых им приходится действовать, т.е. о сте-
пени предоставленной им свободы. Динамика «вторых скачков»
может пролить некоторый свет на этот вопрос, и выше мы уже
коснулись данного момента, говоря о степени воплощения в
жизнь официальной риторики.
Мы отмечали, что Ататюрк, упрочив свои позиции после курд-
ского восстания, повел себя не так, как его европейские коллеги.
Правда, он учредил собственный культ, однако предпочитал деле-
гировать власть другим и, хотя присматривался к Италии Муссо-
лини, позаимствовав, например, в 1926 г. итальянский уголовный
кодекс, и вдохновлялся советским опытом, но в то же время рато-
вал за принятие швейцарского гражданского кодекса, всегда отри-
цательно относился к «мобилизации масс», никогда не выступал
перед толпой, не ударялся в риторику и милитаристско-экспан-
сионистско-ирредентистскую пропаганду, предпочитая умерен-
ность и осторожность6.
Поэтому здесь лучше ограничиться рассмотрением того, что
происходило в Советском Союзе, Италии и затем Германии.
5 Такими словами отметил в 1928 г. успех возврата к «чрезвычайным методам»
в деревне известный сподвижник Сталина В.В.Куйбышев, возглавлявший в то
время промышленность страны. Идеология сталинской группировки представля-
ется поэтому крайним и примитивным выражением идей, раскритикованных
Э. фон Бем-Баверком в работе «Сила или экономический закон?» (см. выше,
с. 91, прим. 21).
6 Ziircher E.-J. Turkey. A Modem History. London: I.B.Tauris, 1998. P. 189 ff.
202
Диктаторы этих стран имели обыкновение смотреть друг на
друга и брать друг с друга пример. Хорошо известно, да и сам
Гитлер признавал, чем он обязан Муссолини, а в упоминав-
шейся выше прекрасной книге «Сталин в зеркале Другого»
Моше Левин проанализировал взаимное подражание Сталина и
Гитлера. Судя же по исследованиям Антонелло Вентури, глав-
ные наблюдатели итальянских событий уже в 1922 г. были уве-
рены в том, что Муссолини руководствуется примером больше-
виков.
В 1930-е гг., когда итальянский режим считал пятилетние
планы ошибочным ответом на вполне справедливые требования
момента и, предпочитая молчать о великом голоде, о котором
был превосходно осведомлен, превозносил успехи советского
режима в сельском хозяйстве (лишнее подтверждение того фак-
та, что фашистский антибольшевизм в то время не столько был
направлен против СССР, сколько внушен внутриполитической
необходимостью), Алеви, с обычной своей проницательностью,
увидел, что происходит. И хотя он не мог знать о просьбе Мус-
солини к Аттолико дать ему информацию о характере, формах и
содержании советской пропаганды (откуда были взяты модели
«битвы за хлеб»), но, тем не менее, заявил, что «Рим копирует
Москву», воспроизводя «ту же смесь пролетарской и военной
идеологии. Трудовые лагеря. Трудовой фронт. Битва за то, бит-
ва за се»7.
Взаимное подражание, однако, не могло остановить появления
важных расхождений, в том числе и в плане личного положения
тиранов. В главе 2 я уже подчеркивал разную природу и эволюцию
культов личности, насаждавшихся в трех странах. Тут нас опять
должен заинтересовать вопрос о власти тиранов и о том, как они
ею пользуются.
Несмотря на творческие достижения в сфере идеологии —
разработку части лексикона европейских тираний (в том числе
некоторых концепций, которыми впоследствии будут пользо-
ваться его ученики), Муссолини в этом плане, кажется, отлича-
ется от Гитлера и Сталина. Вспомним снова его политику в от-
7 Lettere da Kharkov. La carestia in Ucraina e nel Caucaso del Nord nei rapporti dei
diplomatici italiani / A cura di A.Graziosi. Torino: Einaudi, 1991. P. 57—65; Ciocca G.
Giudizio sul bolscevismo. Milano: Bompiani, 1934 (а также рецензия без подписи в
«Popolo d’Italia»); Hal£vy E. L’dre des tyrannies. Paris: Gallimard, 1938. P. 244—246.
203
ношении католической церкви, в основе которой, как записано
в инструкциях 1930 г., лежали запрещение атеизма, уважение
религиозных процессий и предметов культа, конкуренция госу-
дарства и церкви в общественной жизни, ведущаяся таким об-
разом, чтобы избежать «священной войны» и не дать «попам»
поднять «крестьян против государства»8. Сравним с тем, что де-
лал Сталин с крестьянами и церковью в деревне (а также с тем,
что творилось в Мексике при еще одном революционном режи-
ме). Муссолини, возможно, проявил себя здесь как лучший (и
уж во всяком случае менее страшный) политик, но в то же вре-
мя доказал свою и своего режима «неполноценность» по срав-
нению с советской властью и грядущим режимом своего немец-
кого почитателя.
Иными словами, как разочарованно заметил Гитлер по поводу
того, что Муссолини после своего освобождения не развязал не-
медленно великую и ужасную вендетту против предателей 25 ию-
ля 1943 г., дуче не был и не мог быть «настоящим революционе-
ром», каковым Гитлер отныне признавал только себя самого (и
по праву, учитывая разрушительный эффект его недолгого гос-
подства в истории не только Германии, но всех немцев) и Ста-
лина. Таким образом, «настоящие революционеры» по Гитлеру
соответствовали «революционерам “все позволено”» по Вален-
тинову, являвшимся высшим воплощением зла в истории Евро-
пы XX в.
В области эволюции политических форм динамика послевоен-
ного периода и так называемые вторые скачки повсеместно уси-
лили национал-социалистические тенденции, существовавшие
еще до войны и окрепшие благодаря войне как преимущественная
форма попыток строительства и реконструкции государства в
спенсеровском духе.
Джордж Лихтхейм подчеркивал широкую популярность в то
время лозунгов, фиксировавших тождественность национализма и
социализма9. Но этот феномен имел более глубокие корни и мно-
жество причин. По словам Алеви, к примеру, то был результат
внешне противоречивого движения, с одной стороны, консерва-
торов, требовавших практически неограниченного усиления вла-
сти государства при практически неограниченном сокращении его
8 Gentile Е. 11 culto del Littorio. Roma — Bari: Laterza, 1993. P. 136.
9 Lichtheim G. Europe in the Twentieth Century. New York: Praeger, 1972. P. 160.
204
экономических функций, и, с другой стороны, социалистов, на-
оборот, желавших неограниченного расширения вторых и неогра-
ниченного ослабления первой. И те и другие приходили par
conciliation к общему решению о необходимости «национального
социализма»10.
Вообще, можно сказать, что атмосфера послевоенной Евро-
пы, омраченная перспективой нового конфликта, благоприятст-
вовала расцвету этатистских элементов любой идеологии, зату-
шевывая, отодвигая на второй план, вытесняя все то, что,
наоборот, было направлено на ослабление присутствия и власти
государства.
Возьмем, к примеру, национализацию. Мы знаем, что в Вос-
точной Европе по большей части, в силу иного этнического про-
исхождения значительной доли доминантных или во всяком слу-
чае занимающих ключевое положение в определенных секторах
экономики групп, ослабленных или разгромленных в ходе войны
(как, например, немцы, венгры, турки на Балканах), то были
буквально национал-социалистические операции, которые можно
назвать «нострификацией» (превращением в «наше»). И даже
там, где национализация вдохновлялась идеологией, по крайней
мере в принципе боровшейся за уничтожение (хотя бы постепен-
ное) государства и нации, она в итоге укрепляла и то и другое.
Ибо, как правило, «государство, к которому апеллировал социа-
лизм, дабы навести порядок в производстве, по необходимости
являлось национальным», так что любое огосударствление эко-
номики в конечном счете поневоле оказывалось национализаци-
ей в буквальном смысле слова. Даже в тех случаях, когда трудно
говорить собственно о «национализации», как, например, в СССР
(хотя там употреблялось это слово и шла речь о построении на-
ционального (народного) хозяйства, правда, не на этнико-лин-
гвистической основе), связь между огосударствлением экономи-
ки и усилением государства, а также — после того как в 1920-е гг.
некоторое время имели место противоположные течения — до-
минантного национального сообщества в конце концов станови-
лась очевидной.
Иными словами, если в силу особенностей попытки рекон-
струировать многонациональное пространство вокруг России
в новых, неблагоприятных для возрождения империи услови-
10 Halevy Е. L’ere des tyrannies. Р. 215, 246.
205
ях трудно применить к происходившему в СССР термин «на-
ционал-социализм» в строгом смысле слова, его все же можно
использовать, уяснив себе, что речь идет (как мы уже отмеча-
ли, говоря о понятии «национализация масс») о синекдохе —
перенесении частного (наиболее характерной черты — строи-
тельства государства, по крайней претендующего на то, чтобы
быть национальным) на общее — более широкий феномен,
включающий проекты построения государств с иными претен-
зиями.
Кстати, сама эволюция Советского Союза как будто оправ-
дывает подобное решение: роль русской национальности там
действительно год от года повышалась - и фактически (о чем
свидетельствует, например, необычайный рост процентной доли
русского населения в других республиках: от 8% в 1926 г. до
13,5% в 1939 г., причем своего пика этот рост достигал там, где
коренное население сильнее всего пострадало в 1930-1933 гг. —
например, в Казахстане, обезлюдевшем из-за деномадизации,
доля русских за тот же период увеличилась с 20,6% до 40,2%), и
в официальной идеологии режима (вспомним принятый во вре-
мя войны гимн СССР, воспевающий ведущую роль русских в
Союзе).
Возможность критического применения термина «национал-
социализм» при анализе режимов советского типа подтверждается
прежде всего постепенным сращиванием в течение XX в. (и осо-
бенно после второй мировой войны) коммунизма и национализ-
ма. Нэмир предвидел это сращивание, когда в 1934 г. высказал
мысль, что коммунизм, «стремящийся национализировать эконо-
мику, в основе своей национален», в отличие от капитализма, ин-
дивидуалистического и интернационального, по крайней мере по
своим формам11.
Как показывает сам советский случай, общая тенденция к
национал-социализму, ознаменовавшая в 1930-е гг. пик этатиз-
ма в Европе, принимала различные формы, и не только чисто
внешне. Их спектр раскинулся от «имперского» радикального
венгерского национал-коммунизма 1919 г., уже упомянутого, до 11
11 Rothschild J. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle: The Uni-
versity of Washington Press, 1974; Martin T. The Affirmative Action Empire. Nations
and Nationalism in the Soviet Union, 1923—1939. Ithaca, N.Y. — London: Cornell Uni-
versity Press, 2001; Namier L.B. In the Margin of History. New York: Books for Libraries
Press, 1969. P. 76.
206
украинского 1920-х гг., тоже радикального, но благодаря тому,
что был рожден опытом угнетенного народа и требованиями его
интеллигенции, которые были временно взяты на вооружение
режимом в период нэпа, ставшего прообразом многих после-
дующих режимов, возникавших в ходе национально-освободи-
тельной борьбы12; от более умеренных польской и итальянской
моделей до турецкой, истоками которой, как мы помним, по-
служили программы итальянских националистов и экономиче-
ские советы Парвуса; от французского и бельгийского вариан-
тов, теоретически разработанных Деа и де Маном и частично
примененных на практике во время нацистской оккупации, до
немецкого, наиболее радикального и агрессивного, и советско-
го, самого нетипичного, при котором, однако, после сталин-
ской революции сверху процессы огосударствления достигли
своей кульминации.
Эти формы различались в том числе и разными аспектами
возросшего вмешательства государства в экономику. Последнее
четко обозначилось на всем континенте только после кризиса
1929 г., а перед тем на несколько лет — особенно в западных ре-
гионах - возобладало стремление вернуться к довоенной ситуа-
ции. В южных и восточных странах такие попытки тоже имели
место - например, нэп или гиперлиберизм раннего фашизма
(правда, в ататюрковской Турции — в гораздо меньшей степе-
ни) — но были куда слабее. Во-первых, как мы знаем, эти страны
оказались в кризисе до того, как неспособность перестроить ме-
ждународную финансовую систему и решить проблему экономи-
ческих последствий мировой войны и никудышных мирных до-
говоров, которыми она завершилась, спровоцировала великую
депрессию 1930-х гг. В Италии, например, силою обстоятельств
первоначальный фашистский гиперлиберизм трансформировался
всего за четыре года, а в СССР экономический кризис нэпа (ко-
торый следует отличать от политического решения отказаться от
ленинского курса, реализованного Сталиным в 1927-1928 гг.)
12 См.: Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo // Mises L. von. Stato, nazione
ed economia. Torino: Bollati Boringhieri, 1994. P. XC1X — CIV. Об интереснейшем
национал-коммунистическом опыте на Украине см.: Масе J.E. Communism and
the Dilemmas of National Liberation. National Communism in Soviet Ukraine, 1918—
1933. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983; Krawchenko B. Social Change
and National Consciousness in Twentieth Century Ukraine. London: Macmillan, 1985;
Martin T. An Affirmative Action Empire. Chap. 3.
207
берет свое начало в действиях руководителей государственной
промышленности в 1925—1926 гг.13
Сохраняя внутреннее единство, интервенция государства в
экономику оказалась на удивление гибкой, породив множество
различных социально-экономических конфигураций. Во многих
странах, например, она сосуществовала, порой даже претендуя
на роль их защитницы, с семейными (особенно сельскохозяйст-
венными) предприятиями, которые, как мы знаем, укрепила вой-
на (особенно в деревне). Вообще говоря, постепенное расшире-
ние сферы государственного контроля оставляло достаточно
большое пространство для частной собственности и даже частно-
го менеджмента, если те ориентировались, как и в 1914-1918 гг.,
на удовлетворение нужд государства (в этом смысле здесь нахо-
дили свое применение теории экономического национализма,
которые вовсе не отрицали частную инициативу, если она не
шла вразрез с интересами государства, а, напротив, имели целью
поставить ее потенциальные возможности на службу националь-
ным интересам).
Таким образом, во всех странах сложились новые и весьма
разнообразные формы сосуществования и взаимодействия более
или менее обширных сфер прямого государственного админист-
рирования и действия разного рода рыночных механизмов. Но-
вые — поскольку сравнительно с довоенной эпохой было силь-
нее выражено наличие и влияние сфер административного
вмешательства, однако само их развитие подтверждало тот
факт, что формы, промежуточные между «чисто» рыночной
экономикой и социалистическими системами, — скорее прави-
ло, чем исключение14.
В любом случае государство раньше или позже брало под свой
контроль — и зачастую под свое непосредственное руководство —
если можно так выразиться, «конкурентный» на государственном
уровне сектор, т.е. те основные отрасли тяжелой индустрии, науч-
ных исследований и военной промышленности, от которых в слу-
чае войны зависело его выживание. Усилия, предпринимавшиеся
повсеместно для их развития, составляют одну из основных черт
13 Ср.: Graziosi A. «Building the first system of state industry in history». Piatakov’s
VSNKh and the crisis of the NEP, 1923—1926 // Cahiers du monde russe. 1991. Vol. 4.
P. 539-580.
14 Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo. P. LXX1X ss.
208
процессов модернизации, столь неразрывно связанных с режима-
ми и тираниями рассматриваемого нами периода, что некоторые
исследователи изобрели для характеристики последних специаль-
ную категорию «модернизаторские диктатуры».
Бесспорно, какая-то модернизация в данных случаях имела ме-
сто, но понятие это неоднозначно, а потому и названная выше ка-
тегория может ввести в заблуждение. Вернемся к тому, что уже
было сказано и о Германии, и о других примерах государственной
индустриализации в Европе конца XIX в. Мы знаем, что Герма-
нию считали высшим образцом капитализма и современности,
если отождествлять и то и другое с индустриализмом, в частности
с развитием тяжелой промышленности и «современного» крупно-
го предприятия. Но мы видели, что это ошибка, и видели почему:
в действительности есть разные типы модернизации, и модерни-
зация, осуществляемая непосредственно государством, хотя и мо-
жет на короткий срок дать поразительные результаты, но со вре-
менем создает в том самом «современном» секторе, построенном
ценой стольких жертв, организм, который весьма мало способен к
самообновлению и даже к признанию собственного старения.
Мало того — он задерживает модернизацию общества и экономи-
ки снизу, а порой прямо противостоит ей, поскольку вполне спра-
ведливо видит в ней угрозу своему существованию. Последнее и
так оказывается под вопросом, ибо этот организм все больше от-
стает по сравнению с частным сектором, что вынуждает его к тя-
желым и мучительным попыткам реструктурирования (само собой
разумеется, в случаях, подобных советскому, когда вся легальная
экономика — государственная, проблема приобретает новые грани
и новые характеристики).
Кроме того, в Европе между двумя мировыми войнами госу-
дарственная модернизация вдохновлялась угрозой войны и насле-
дием военной экономики, сосредоточившись в первую очередь -
как отмечалось выше — на наращивании военно-промышленного
комплекса (и поддержке составляющих его и смежных с ним от-
раслей промышленности). По крайней мере часть населения -
чаще всего городского — была с таким проектом модернизации
напрямую связана и служила для государства предметом заботы,
поскольку имелась нужда в квалифицированных рабочих и техни-
ках, здоровых солдатах, матерях, молодежи, а значит - средства на
образование или умело пропагандируемые меры по социальному
обеспечению также тратились в интересах государства и в соответ-
209
ствии с его приоритетами. Иными словами, мы видим в ту эпоху
триумф «национализации» сверху и соответственно максималь-
ный зажим самостоятельного участия отдельных людей в процес-
сах модернизации, т.е. недопущение их трансформации в индиви-
дов, наделенных правами.
Таким образом, думаю, можно сказать, что весь модернизаци-
онный проект и по своим целям, и по своим инструментам являл-
ся неотъемлемой частью спенсеровского отката к «военно-индуст-
риальным государствам», как мы их назвали. Этим я вовсе не
отрицаю его модернизационного содержания, а скорее квалифи-
цирую последнее, дабы лучше понять природу и многообразие его
эффектов на различных временных отрезках.
Объединенные общими корнями и характерными признаками,
опыты отдельных государств, естественно, имели очень разные
результаты, как ближайшие, так и более отдаленные. Их эффек-
тивность для ближайшего времени самым непосредственным об-
разом зависела от способностей элиты, бравшей на себя их осуще-
ствление. Советские танки в 1940 г. превосходили немецкие, а тем
более - итальянские жестянки, в том числе и потому, что совет-
ские управленческие кадры, возглавившие индустриализацию
1930-х гг., были совсем иной закалки, чем первые руководители
итальянской государственной промышленности (деловые качест-
ва последних нередко заслуживали справедливой похвалы, и, од-
нако, они не умели провести в жизнь решения, которые обеспечи-
ли бы высокий уровень организации военного производства и
качества его продукции).
Но, как ни парадоксально, величайшая эффективность, дос-
тигнутая в кратчайшие сроки, со временем может уступить место
проблемам, куда более сложным, чем те, что бывают следствием
более скромных и менее масштабных проектов и попыток. Часто,
например, величайшая эффективность в краткий срок достигалась
за счет интенсивнейшей мобилизации, т.е. самой нещадной экс-
плуатации ресурсов общества со стороны государства, которое для
этого широко пользовалось мерами принуждения. В результате
были построены громоздкие системы командно-административ-
ной экономики, чьи главные элементы со временем сами превра-
тились в неразрешимые проб.11емы, которые их менее развитым
собратьям удалось преодолеть (вспомним различные характери-
стики полностью национализированных экономик, упоминав-
шиеся выше).
210
Советская история позволяет лучше понять все эти противоре-
чивые тенденции именно в силу крайнего характера, который
принял советский модернизационный проект, после того как во
время скачка 1928—1929 гг. Сталин, положив конец нэпу, ликви-
дировал своеобразную, но все же довольно типичную форму сосу-
ществования командно-административной и рыночной экономи-
ки. СССР перешел тогда в новую фазу отношений между государ-
ством, промышленностью и индустриализацией. Это был скачок,
в результате которого советское государство полностью и непо-
средственно взяло на себя построение системы современной про-
мышленности. Сталинская модель индустриализации не решила
ни одной из задач, официально поставленных в первом пятилет-
ием плане, где проводилась мысль о построении гармоничной
системы, при которой рост в сельском хозяйстве и промышленно-
сти сопровождался бы увеличением благосостояния населения,
избавленного от прежних социальных различий. Но она все же
дала жизнь первоклассному военному, научному и промышленно-
му аппарату, опиравшемуся на рост городов и особого типа обуче-
ние (массовая ликвидация неграмотности, широкое распростра-
нение начального и среднего технического образования, поощре-
ние развития некоторых научно-исследовательских центров,
особенно в области физики и химии); при этом в деревне - где к
концу 1930-х гг. все еще жило 70% населения страны - вновь поя-
вился полукрепостной сектор, в промышленности — рабовладель-
ческие тенденции, производство потребительских товаров пере-
живало постоянные трудности, а лучшая, наиболее творческая
часть представителей культуры разных национальностей страны,
включая русскую, была уничтожена.
Подобная конфигурация напоминала скорее военную эконо-
мику, чем вожделенное «социалистическое хозяйство». Что харак-
терно, это признал наиболее интеллигентный из марксистских
противников либеральных критиков советского опыта — Оскар
Ланге, пришедший в данном случае (не отдавая себе в том отчета)
примерно к тем же выводам, что и последние15.
Тем не менее это по преимуществу военно-индустриальное го-
сударство в сравнении с Европой, охваченной кризисом 1929 г.,
добилось, по крайней мере на взгляд тех, кто не разделял страда-
ний, на которые оно обрекало свое население, больших успехов
15 Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo. P. LXV, LXX-LXXI.
211
(как мы знаем, вполне реальных — после первых трудных лет — во
всяком случае с точки зрения построения конкурентоспособного
современного сектора в силовой сфере).
На его успехи, как будто указывавшие путь к решению проблем
Запада, среди прочих взирали с восхищением и немецкие про-
мышленники. Один из них в 1931 г. сказал крупному советскому
руководителю, некогда троцкисту, а затем одному из командиров
сталинской индустриализации: «Было бы прекрасно, если бы наш
Брюнинг, подобно вашему Центральному комитету, составил пя-
тилетний план и стал бороться за его претворение в жизнь». Из-
вестно, что и Юнгер в те годы придавал большое значение пяти-
летним планам, видя в них одну из моделей грезившегося ему кол-
лективистского индустриального строя, революционного, по-
скольку порывающего с прошлым, современного, поскольку но-
вого, но в то же время являющегося причудливым символом про-
исходящего отката назад16. Вскоре нацисты как будто вняли жела-
нию упомянутого промышленника и материализовали видения
Юнгера, укрепив при этом общее убеждение, что государственное
регулирование намного эффективнее рыночной экономики17, и
усилив тенденцию покончить с советской исключительностью в
экономической области. Несмотря на величайшую гибкость на-
цизма, объясняющуюся отчасти его идеологической эклектично-
стью, постепенная трансформация германской экономики в эко-
номику военную, полностью завершившаяся в результате кризиса
1943 г., делала экономические системы двух крупнейших тираний
все более похожими во многих отношениях (так что в 1944 г. Ми-
зес вполне мог, стряхнув пыль со старой категории «военного со-
циализма», говорить о «социалистических правительствах в Рос-
сии и Германии», добавляя, что нацизм — это «просто социализм
на немецкий лад, Zwangswirtschaft»18).
16 XVII конференция ВКП(б): Стенотчет. М., 1932. С. 125 и сл. О Юнгере см.
выше, с. 46, прим. 33.
17 Стоит вспомнить, что это убеждение преобладало чуть ли не до 1970-х гг. Во
всяком случае, даже в начале их такой неглупый автор, как Лихтхейм, писал, что
нацистский опыт «доказал» превосходство государственного регулирования над
рынком, нисколько не принимая в расчет долгосрочные последствия огосударст-
вления экономики (Lichtheim G. Europe in the Twentieth Century. P. 127).
18 Немецкие историки употребляли термин «Zwangstaat» (принудительно цен-
трализованное государство) применительно к Римской империи после реформ
Диоклетиана.
212
Со временем проблемы советской модернизации должны были
выявиться со всей отчетливостью, доказывая, что процессы, кото-
рые приверженцы «наивных» (как мы могли бы назвать их) теорий
модернизации, весьма популярных в эпоху «мирного сосущество-
вания», когда на их основе строились теории стихийной конвер-
генции советской и западной систем, неверно относили к одной
категории, имели совершенно разное содержание и разную
природу.
Когда неустойчивость (в длительной перспективе) полностью
огосударствленной экономики типа советской еще не стала окон-
чательно ясна, но кое с какими проблемами при первых попытках
ее реформирования уже пришлось столкнуться, успехи советской
модели 1930-х гг. повторились в совершенно непредвиденных
формах и масштабах благодаря возникновению в бывших колони-
ях Запада внушительного количества новых государств. В те годы
от Вьетнама до Алжира, Анголы, Эфиопии и т.д. наблюдалось то
самое сращение коммунизма и национализма, которое намети-
лось уже в 1930-е гг. и в значительной мере имело место еще на
Украине 1920-х гг.
Вернемся, однако, ко второму скачку в ходе процесса по-
строения великих европейских тираний между двумя мировыми
войнами, когда — как известно — репрессии достигли чрезвы-
чайного уровня. Несомненно, начало этому положила практика
мировой войны и последовавших за ней гражданских и нацио-
нально-освободительных войн, когда Европа впервые в таких
масштабах узнала концентрационные лагеря, операции по этни-
ческой чистке, проводимые под руководством государства, ра-
дикальные решения «раз и навсегда», вдохновляемые идеологи-
ческими соображениями, и т.д. Теперь же подобная практика
достигла новых высот.
Мы знаем, что в области репрессий скачок впервые произошел
в СССР, во время коллективизации и раскулачивания, и вряд ли
стоит сомневаться, что, помимо личности тирана, здесь важней-
шую роль сыграло решение провести идеологически обоснован-
ный грандиозный и жестокий эксперимент социальной инжене-
рии (или, точнее, хирургии), в котором быстро появилась и
этническая составляющая. Если в знаменитом январском поста-
новлении 1930 г., определявшем, какие группы кулаков следует
расстреливать, какие — отправлять в лагеря, высылать в отдален-
ные районы или переселять на окраины районов их проживания,
213
речь еще шла об объективных социальных категориях (правда,
чисто формально, скорее, можно сказать, что обращение с тем или
иным классом определялось его отношением к политике государ-
ства, т.е. степенью его враждебности ей и, следовательно, опасно-
сти для нее - как в Истрии в 1919 г., но теперь масштабы увеличи-
лись в десятки тысяч раз и размах насилия был несравним), то уже
в 1934 г., после высылки поляков из Белоруссии, положение изме-
нилось. В конце этого года новым постановлением устанавливал-
ся особый режим в «западной приграничной зоне», которая в бли-
жайшие месяцы была очищена от жителей польского, немецкого
и финского происхождения19. В последующие годы этнический
аспект советской репрессивной политики постоянно усиливался и
в конце концов придал ей совершенно имперский характер
(вспомним, к примеру, карательные акции депортации целых на-
родов в конце второй мировой войны).
В те же годы нацизм вступил на аналогичный, однако при этом
сильно отличающийся от советского путь, который привел нацис-
тов к самым широким расистским планам массового истребления
людей с целью реорганизации структуры населения, какие когда-
либо задумывались в Европе.
В обоих случаях обоснования, масштабы, методы осуществле-
ния отличали эти «эксперименты» от известной, во многом сход-
ной с ними практики, характерной для всей человеческой исто-
рии, которая изобилует примерами депортированных народов,
стертых с лица земли городов, истребления людей в основном по
этническому, но также и по религиозному, т.е. идеологическому,
признаку. И советский, и нацистский эксперименты выделяются
аурой современности, экстремизмом (в том числе логическим),
средствами, имевшимися в распоряжении экспериментаторов, но
приводятся к общему знаменателю природы и поведения человека
(чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на этнические и
социальные чистки XX в., начиная с резни армян в 1915 г. и кон-
чая событиями в постколониальной Африке).
С этой точки зрения, можно говорить не столько об откате,
сколько, пользуясь словами Алена, о всплытии на поверхность
19 Об антикулаиком постановлении и его истоках, скрывающихся в практике
гражданской войны, см.: Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 47
и сл.; Martin Т. The Origins of Soviet Ethnic Cleansing // Journal of Modern History.
1998. Vol. 4. P. 813-861.
214
того, что всегда таилось на дне. Иначе говоря, за жестокостью го-
лода 1932-1933 гг. и великой чистки в СССР, за чудовищностью
Холокоста стоит некая часть человеческого существа, которой не
следует пренебрегать и о которой нужно знать, ибо она всегда та-
ится в глубине, готовая в любой момент подняться на поверх-
ность, и лишь немногие отдельные люди (но отнюдь не целые на-
роды) невосприимчивы к ее влиянию.
Если, однако, именно этот взрыв (в чрезвычайно организован-
ных и идеологизированных формах) всего жестокого, агрессивно-
го, «негуманного», что есть в человеке, объединял и объединяет —
в плане нравственном — гитлеризм и сталинизм, что же делает их
столь бесспорно различными?
При одинаковой безжалостной решительности обоих тиранов,
отличают их друг от друга тип идеологии и контекст, в котором
они действовали: Гитлер и нацизм, раздавив всех слабых и всех
неарийцев внутри страны, обратили свою агрессивность против
неарийских и негерманских «низших рас» на востоке; Сталин, по
крайней мере до 1937-1938 гг., обрушился со всей жестокостью
на население собственного государства. Как отмечал Моше Ле-
вин, в отличие от политики Гитлера, «сталинская стратегия фаб-
рикации врагов всецело была направлена внутрь, а не вовне... и
территория, заоеванная им, находилась внутри его собственной
страны». Поэтому - как указывал Помьян - хотя нацистский ре-
жим в силу своего экспансионизма, заставлявшего его все боль-
ше и больше рисковать, оказался менее стабилен, чем сталинист-
ский, последний, в свою очередь, на протяжении большей части
1930-х гг. был менее прочен, чем первый, из-за своей непопуляр-
ности20.
Как показывают появившиеся уже в 1934 г. первые признаки
склонности советской репрессивной машины выбирать свои
жертвы по этническому принципу, тот факт, что два режима
20 Lewin М. Russia, USSR, Russia. The Drive and Drift of a Superstate. New York:
The New Press, 1995. P. 218; Stalinisme et nazisme. Histoire et memoire comparee /
Sous la dir. de H.Rousso. Bruxelles: Complexe, 1999. P. 361. Уже Ленин отмечал, что
большевики подобны меньшинству оккупантов в завоеванной стране и соответст-
венно ведут себя. Здесь мы возвращаемся к тому, что советское государство с са-
мого начала приобрело исключительно антинародный характер, что дало Николя
Верту полное право озаглавить свою прекрасную статью в сборнике «Черная кни-
га коммунизма» (в целом не слишком удачном) - «Государство против своего на-
рода».
215
давали различный выход своей агрессивности, зависел не только и
не столько от идеологии — преимущественного внимания марк-
сизма к социальным антагонизмам, а национализма — к этниче-
ским, — сколько от другого момента: Советский Союз стал резуль-
татом удачной попытки воссоздать — с помощью наднациональ-
ной, но не чуждающейся национального вопроса идеологии —
русскую в своей основе квази-империю, хотя и в ограниченных
размерах по сравнению с царской Россией, тогда как немцы, поте-
рявшие в 1918 г. большую часть своих владений, могли опираться
лишь на самих себя.
СССР перенял, правда, в новых формах, некоторые черты ста-
рых империй, складывавшихся в результате завоевания разных на-
родов, — в частности, стремление контролировать и подавлять их,
но при этом в обращении с ними пользоваться ненациональными
критериями — дабы не ставить под угрозу само существование им-
перии. Естественно, это не мешало мысленно выстраивать опре-
деленную шкалу в зависимости от того, в какой степени та или
иная национальность заслуживает доверия, и соответственно про-
водить репрессивную политику по этническому признаку, но по-
следняя редко принимала ярко выраженный расистский характер.
Гитлеровская «великая Германия», напротив, представляла
собой национальное государство, стремившееся превратиться в
империю, прямо основанную на превосходстве немецкого наро-
да, и потому сразу сделала понятие расовой принадлежности
фундаментальным критерием своей репрессивной политики,
совсем не в том традиционно имперском смысле, который был
характерен (за некоторыми позднейшими исключениями) для
сталинского СССР.
Отсюда идет и принципиальное, на мой взгляд, различие между
личным режимом Гитлера и Сталина. Самым простым и понят-
ным образом это можно выразить так: Гитлер любил немецкий на-
род, отчасти пользуясь взаимностью (Кон справедливо говорил,
что Гитлер «представлял» немецкие массы), и направлял всю аг-
рессивность и жестокость на другие народы, располагаемые им на
некой иерархической шкале, реорганизованной и модифициро-
ванной с точки зрения немецких интересов. Советский же режим
и Сталин, будь то в силу идеологии, либо осознания собственной
непопулярности, достаточно острого уже в 1918-1919 гг., либо,
наконец, неожиданного поражения под Варшавой, в первую оче-
редь и надолго обратили свою агрессивность внутрь страны.
216
Сталин, в частности, как будто бы не имел особых этнических
предпочтений по крайней мере до 1932 г., когда кризис, выливший-
ся в великий голод весной 1933 г. и подорвавший самые основы его
режима, заставил его все более открыто льстить национальной гор-
дости русских и ставить во главу угла их интересы. И если говорить
о самом этом голоде, который за несколько месяцев унес пять-
шесть миллионов жизней и занимает центральное место в истории
Европы между двумя мировыми войнами (каковое ему неплохо бы
занять и в головах историках, а затем - в их книгах), то пишущий
эти строки считает, что несомненно существовавший националь-
ный аспект политики истребления людей посредством голодной
смерти все же нельзя объяснить тем, что в Москве царила расист-
ская идеология. Сталин следовал тогда безжалостной и прямоли-
нейной логике власти имперского, а не национального типа.
В целом, как я писал в другом месте, хотя, с одной стороны,
«нельзя говорить о голоде, намеренно созданном, чтобы уничто-
жить украинскую нацию», однако, с другой, — «нельзя и отрицать,
что: 1) по крайней мере с 1919 г. в некоторых регионах СССР
борьба между режимом и крестьянами (а также другими традици-
онными слоями населения вроде кочевников) приняла особенно
ожесточенный характер в силу национальных, этнических и рели-
гиозных факторов; 2) Сталин прекрасно это понимал, как в ре-
зультате непосредственного опыта, так и исходя из своих теорий о
национализме и его корнях; 3) некоторые из этих регионов явля-
лись также основными хлебородными центрами, что делало там
конфликт особенно острым; 4) когда наступил голод, его исполь-
зовали, чтобы “наказать” жителей регионов, сильнее всего сопро-
тивлявшихся политике режима; 5) неудивительно, что этими ре-
гионами часто оказывались вышеупомянутые национальные; 6)
Украина была самым важным среди них (хотя Казахстан — тоже
национальный регион - в сравнительном выражении пострадал
сильнее всех); 7) масштабы и концентрация голодных смертей на
Украине, как и политика, проводимая режимом, делают голод
1932-1933 гг. явлением, сравнимым, по крайней мере в Европе,
лишь с последующими преступлениями нацистов; 8) объективно
элементы российского империализма здесь присутствовали, осо-
бенно в глазах нерусского населения, страдавшего от беспощад-
ной политики Москвы»21.
21 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 92—93.
217
Следует также упомянуть, что склонность режима и лично са-
мого деспота к «этническим предпочтениям» обострили затем
война и победа 1945 г., которые «открыли глаза» Сталину на пре-
восходные качества русского народа и «пороки» кавказских на-
родностей и евреев.
Разница в мишенях агрессии - внешних у Гитлера, внутренних
у Сталина - помогает, между прочим, объяснить и различие куль-
тов двух тиранов: гитлеровского — по большей части стихийного и
мгновенно распространившегося, сталинского - конструировав-
шегося по крайней мере на протяжении всех 1930-х гг., медленнее
развивавшегося и по сути «искусственного» (разумеется, война и
победа кардинально изменили положение вещей).
Сталинизм кажется поэтому феноменом, в известном смысле
более «древним» — не столько из-за разного уровня развития
СССР и Германии, сколько из-за своей имперской, не националь-
ной природы, - но в то же время идеологически менее одиозным,
чем нацизм. Причиной тому не только лицемерные красивые сло-
ва официальной пропаганды, но и сама его суть, имперские, нена-
циональные компоненты советского эксперимента, не такого «не-
справедливого», по крайней мере в том, что касалось репрессий:
даже высшие руководители, такие, как, например, Молотов (чья
жена, как известно, была арестована, а затем сослана), не могли
похвалиться неприкосновенностью, жертвами становились все, в
том числе и русские, хотя, конечно, некоторые национальности
пострадали сильнее других и со временем наметились, как уже го-
ворилось выше, расистские и антисемитские тенденции (не успев-
шие, впрочем, окончательно вызреть)22.
Добавим, что впечатление древности, которое производит совет-
ский феномен благодаря своим структурам и сталинской практике
власти, напоминающей практику коварных и свирепых тиранов
прошлого, не должно заставить нас забыть, что, несмотря на всю ее
жестокость, эта практика представляется более рациональной и,
следовательно, менее примитивной, чем гитлеровская. Хладно-
кровное решение ликвидировать в зародыше любую возможность
создания «пятой колонны», стоявшее, по всей видимости, за чист-
ками 1937—1938 гг., отвратительно, но все же более понятно, чем
стремление уничтожать целые народы из ненависти, зачастую дик-
товавшей директивы, которые шли вразрез с военно-экономиче-
22 См. выше, с. 72—73, прим. 33, 34.
218
скими целями нацизма, а то и прямо препятствовали их достиже-
нию. С этой точки зрения, нацизм, даже (и в первую очередь)
центральный его стержень, поистине харизматический, несмотря
на кажущуюся современность, представляет собой еще более арха-
ичную фазу, чем та, в которую вступил СССР со Сталиным.
Если говорить о репрессиях (во всяком случае внутри страны,
поскольку в Ливии и Эфиопии в силу колониальных «обычаев»
дело обстояло иначе23), то и здесь бросается в глаза кардинальное
качественное отличие итальянской тирании от других, с которыми
ее можно сравнивать только в известных пределах и на известных
основаниях. Думаю, нескольких цитат достаточно, чтобы дать по-
нять, что режим Муссолини — не то же самое, что режимы Гитлера
и Сталина, при всей схожести и общих корнях этих феноменов.
Так, например, в октябре 1937 г., когда в СССР вовсю развер-
нулся террор, а в Германии думали, как очистить господствующую
расу от ее наиболее слабых представителей, и обсуждали способы,
которые позволят «раз и навсегда» решить еврейскую проблему,
планируя необходимые меры, Витторио Фоа24, заключенный в
Реджина-Коэли, писал семье:
«Вчера, благодаря прежде всего семье Бауэр и кулинарным спо-
собностям Каваллеры, у нас был достопамятный обед: хотите
знать меню? Сначала разнообразные закуски, сервированные Ка-
валлерой; потом — изысканные пельмени от Бауэров (которые мы
разогрели в сливочном масле); затем индейка под майонезом,
приготовленная Каваллерой; затем курица по-венгерски от Бау-
эров, жареные голуби от Росси, фрукты, сладости и пр.».
Конечно, речь идет о событии исключительном, к тому же об
узниках из буржуазных семей (которые, впрочем, тоже подверга-
лись разным притеснениям, большим и малым); в примерах
23 В 1931 г. П.Бадольо (маршал, в 1925-1940 гг. начальник генштаба) приказал
Р.Грациани (маршал с 1937 г., в 1940—1941 гг. главнокомандующий итальянскими
войсками в Северной Африке, в 1943—1945 гг. военный министр в правительстве
Муссолини в Северной Италии) продолжать репрессии в Киренаике, «даже если в
результате вымрет все население». Пару лет спустя Муссолини уполномочил того
же Грациани проводить в Эфиопии «систематическую политику террора и истреб-
ления против мятежников и племен-пособников». См.: Lupo S. 11 fascismo. La
politica in un regime totalitario. Roma: Donzelli, 2000. P. 415—416; Le guerre coloniali
del fascismo / A cura di A. Del Boca. Roma — Bari: Laterza, 1991.
24 Антифашист, руководитель Сопротивления и лидер итальянских левых — не-
ком мунистов. — Прим. пер.
219
избиения заключенных, как правило, принадлежавших к низшим
слоям общества, нет недостатка, от голода в фашистских тюрьмах
страдали все, особенно после 1941 г. И тем не менее невозможно
представить себе, чтобы такое письмо могло прийти в те годы из
мест, куда заключали своих врагов нацистский и сталинский ре-
жимы (правда, в 1920-х гг. политические узники, принадлежавшие
к левым партиям, и в СССР еще могли похвастаться маленькими
привилегиями, идущими, как и поблажки, даваемые фашистами,
от довоенных европейских «старорежимных» порядков).
В те же месяцы Фариначчи, рассказывая Муссолини о зверст-
вах, совершаемых обеими сторонами в ходе гражданской войны в
Испании, чуть ли не изумлялся тому, что они «не шутят». Немного
времени спустя сам Муссолини так комментировал принятие за-
конов о чистоте расы в письме к сестре Эдвидже:
«Расизм и антисемитизм в Италии имеют политическое значе-
ние, но лишены реального содержания. Чистота расы у народа, по
которому прокатилось столько вторжений и который поглотил
столько народностей со всех четырех сторон света, семитская уг-
роза для нации, подобной нашей, где даже финансовая верхушка,
даже если ею манипулируют евреи, не может не стать хоть сколь-
ко-нибудь католической (я, между прочим, знаю, что ты и другие
члены твоей семьи помогаете евреям, и я не против, и, думаю, вы
сами можете засвидетельствовать абсолютную слабость наших ра-
совых законов), — все это явные выдумки, чтобы несколько рья-
ных фанатиков могли поработать пером. Но если бы обстоятельст-
ва привели меня на один из концов оси Рим — Москва, а не Рим —
Берлин, я приготовил бы для итальянских рабочих, занимающих-
ся своим делом с живостью, но в то же время некой отчужденно-
стью, которую расисты, возможно, назвали бы средиземномор-
ской, равнозначную выдумку о стахановской этике и счастье, в
ней заключенном»25.
Разумеется, это только слова, контрастирующие с вполне ре-
альными преследованиями, инспирированными в том числе и
Муссолини, который «с удовольствием травил» евреев26. И такой
цинизм, обрекший на страдания и смерть тысячи людей, делает
25 Foa V. Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935—1943. Torino: Einaudi, 1998.
P. 303; Giudice G. Benito Mussolini. Torino: Utet, 1969. P. 573—574. См. также выше,
с. 56, прим. 4.
26 Giudice G. Benito Mussolini. P. 574.
220
картину еще отвратительнее. Впрочем, возможно, что истинная
вера также способствовала увеличению числа жертв. Как свиде-
тельствуют жертвы антисемитизма и характер спровоцированной
им эмиграции, фашизм для Италии был трагедией; вся страна за-
платила за него ростом лицемерия и провинциализма — неизбеж-
ным следствием любого национализма, культурным и промыш-
ленным упадком и в конце концов — военным поражением,
крахом армии и государства, которые уже были подорваны и раз-
ложены привычкой к ложному и преувеличенному представлению
о себе (это сильнейшее моральное разложение, основанное на
лжи, возведенной в систему, с моей точки зрения, является самым
тяжким наследием фашизма в нашей стране).
Несмотря на это, мне кажется, сыграли свою роль незначитель-
ность удара, полученного Италией в 1915—1918 гг., и особая пси-
хология ее тирана. А главное — Альпы как будто защищали и за-
слоняли, по крайней мере до 1943 г., нашу страну, отличавшуюся
необычайной религиозной, культурной и лингвистической одно-
родностью, от всего, происходившего на великой европейской
равнине. Единственное исключение составляли лишь восточные
территории, оспаривавшиеся у славян (Далмация и Истрия), где
дела сразу приняли совсем другой оборот27.
Прежде чем закончить эту главу, я хотел бы сделать отступле-
ние и коснуться нескольких важных вопросов, оставшихся за рам-
ками моих рассуждений.
Первый связан с категорией «гражданской войны в Европе», ко-
торая благодаря своим кажущимся экспликативным свойствам, как
и категория тоталитаризма, сейчас то и дело используется приме-
нительно к периоду европейской истории, начинающемуся с пер-
вой мировой войны28. В частности, к ней сегодня прибегают, так же
27 Образ Италии, заслоненной Альпами, нарисован Лизой Фоа. См.: Pirjevec J. 11
giomo di San Vito, Jugoslavia 1918—1922. Storia di una tragedia. Torino: Nuova Eri, 1993.
28 Дж.M.Робертс, к примеру, озаглавил 5-ю книгу своей «Истории Европы»
(London: Allen Lane, 1996) «XX век в Европе: эпоха европейской гражданской вой-
ны». Название «Гражданская война в Европе» носит один из разделов книги
«Мрачный континент. Европа XX столетия» (New York: Random House, 1998) Мар-
ка Мазовера, который, ограничиваясь рассмотрением в этом разделе только рос-
сийской и венгерской гражданских войн, кладет в основу своей интерпретации
всей европейской истории XX в. конфликт между тремя идеологиями, каковая ги-
потеза кажется автору этих строк не слишком убедительной (см. также выше, с. 58,
прим. 9; с. 69, прим. 27). Джордж Лихтхейм еще в 1972 г. говорил о «европейской
гражданской войне» (Lichtheim G. Europe in the Twentieth Century. P. 231).
221
как к категории тоталитаризма и не менее парадоксальным обра-
зом, круги, весьма далекие от историков (если не прямо враждеб-
ные им), которые, подобно Нольте, сделали ее своим знаменем.
Мне кажется, что сама природа и сложность феноменов, о ко-
торых мы говорим, сразу указывают на слабости и недостатки не-
критического восприятия данной категории. Но, возможно, имен-
но оно является одним из слагаемых всеобщего успеха, каким она
пользуется. Применяемая некритически, она дает большие воз-
можности для самооправдания: если речь идет о гражданской вой-
не, следовательно, борющиеся стороны участвовали в общем, ши-
рокомасштабном событии и, по крайней мере с этой точки
зрения, могут быть уравнены - все ошибались, все одинаково ви-
новны и одинаково невиновны.
В отличие от категории тоталитаризма, категория гражданской
войны подразумевает отказ от нравственной оценки или, по мень-
шей мере, умаление ее. Кроме того, в основе ее лежит принцип, в
корне порочный, поскольку она игнорирует тех, кто не участвовал в
гражданской войне хотя бы потому, что хотел мира (желание, в ко-
тором нет ничего плохого, хотя активные участники боевых дейст-
вий, стремясь снять груз со своей совести, утверждают обратное).
К тому же, грубо говоря, европейская гражданская война сводится
к войне между двумя сторонами - нацизмом-фашизмом и комму-
низмом, отсекая тех, кто, будучи враждебен им обоим, пусть и при-
мыкая временно к одной из сторон, вел совсем другую войну.
При этом нельзя отрицать, что «гражданская война в Европе»
имела место — в том смысле, что континент раздирали яростные
конфликты, в которых сталкивались между собой не столько
идеологии, сколько государства и национальности, исторически
составлявшие единую, высшую культурную общность, в XVIII
столетии отказавшуюся от своего религиозного самоопределения
из-за конфликтов, которые были допущены ею в ходе «европей-
ской гражданской войны» XVII в.
Конечно, войны между государствами велись во имя господ-
ствующих идеологий, значение которых невозможно отрицать.
Но, в подтверждение слабости некритичной концепции граждан-
ской войны, эти идеологии, так же как тирании, выступавшие под
их знаменем, хотя порою очень сильно разнились между собой,
все же возникли на одной и той же общей почве и в целом служи-
ли выражением попыток строительства или реконструкции госу-
дарства, вдохновлявшихся национализмом и этатизмом.
222
В подавляющем большинстве случаев такие государства откры-
то прибегали к национальной идее, но даже если нет (как, напри-
мер, в случае СССР) — все равно они опирались на тесную связь
нации и государства или, во всяком случае, на культ государства.
С этой точки зрения, война, разрушившая (как казалось в середи-
не 1930-х гг., а потом в годы холодной войны - необратимо) един-
ство Европы, имела глубокие корни в прошлом; это следствие рас-
пространения принципа национальности и связанного с ним
нового типа государства, которому, как провидчески предсказал
Меттерних, предназначено было судьбой разделить Европу29.
Второе отступление касается Северной Европы и Пиренейско-
го полуострова, которые, несмотря на их значение в европейской
истории, не попали в поле нашего зрения. Во Введении я уже объ-
яснял, какими соображениями при этом руководствовался. Но во-
обще говоря, необходимость интегрировать оба эти региона в на-
стоящую, полную историю Европы XX в. (какой я лично написать
не в состоянии) остается. Это тем более необходимо, поскольку
именно на севере Европы раньше всего и в связи не только с раз-
витием национализма и социализма, но и с религиозным опытом,
была предпринята попытка построения социального государства,
а главное — именно гражданская война в Испании, которая еще
после поражения 1898 г. была поставлена перед необходимостью
найти решение проблемы пересоздания государства и общества на
современных началах, послужила катализатором и ускорителем
распространения по всей Европе фронтов, идеологий, интерпре-
таций «настоящего как истории» (и не только это: Сталин, по-ви-
димому, пришел к мысли о необходимости, в ожидании войны,
провести чистки 1937—1938 гг., читая о франкистской «пятой ко-
лонне» в Мадриде; это выражение неоднократно подчеркнуто в
газетных вырезках со статьями об Испании, хранящихся в его лич-
ном архиве)30.
29 Metternich C.W.L. von. Метопе. Roma: Bonacci, 1991.
30 Комментируя в 1933 г. труды Ортеги-и-Гассета, Франко Вентури обнаружил
корни «испанской революции» в восстании интеллектуалов после поражения 1898 г.,
поставившего перед страной «болезненный вопрос: кто мы? Каково наше место в
мире?» и породившего стремление к «более тесным контактам с европейской жиз-
нью». См.: Venturi F. Nuova Spagna // Venturi F. La lotta per la liberta. Scritti politick
Torino: Einaudi, 1996. P. 5—18; Khlevniuk O. The Reasons for the «Great Terror»: The
Foreign-Political Aspect I I Russia in the Age of Wars / A cure di S.Pons, A.Romano.
Milano: Feltrinelli, 2000. P. 159-170.
223
Тем не менее, возвращаясь к сказанному во Введении, повторю:
даже если Нэмир несколько искусственно втиснул Европу ХГХ в,
в пространство «от Вены до Версаля», исключив Великобританию
и Россию (и Османскую империю), которые, по его мнению, «на-
ходились в Европе, но не принадлежали к Европе», все равно от-
части верно, что Испания, после того как погасли последние
вспышки партизанской войны против Наполеона, внеся свой
вклад в рождение самого понятия либерализма, после 1815 г. пре-
кратила «на равных участвовать в европейских делах»; ее, как,
впрочем, и Португалию, стало больше интересовать происходящее
в обломках ее колониальной империи, а не события по ту сторону
Пиренеев (не случайно значительная часть испанской историо-
графии говорит о «возвращении» Испании в Европу в последние
десятилетия XX в.)’1.
Прежде всего, ни Пиренейский полуостров, ни Северная Евро-
па не принимали участия (разве что совсем незначительное) ни в
первой, ни во второй мировой войне, оставаясь, таким образом,
сравнительно изолированными от процессов, перевернувших всю
Европу в XX в. Ее, по примеру Нэмира, можно было бы ограни-
чить пространством между Парижем, Москвой, Кавказом, Кон-
стантинополем, Римом и Пиренеями, прибавив Лондон, который
играл одну из главных ролей, но был сам по себе. С этой точки
зрения, упомянутый выше факт, что большинство европейских
блоков и объединений берут свое начало в таком событии, как
гражданская война в Испании, которая протекала, повинуясь в
основном своей внутренней динамике, представляется особенно
парадоксальным.
Американский опыт также (и по более понятным соображени-
ям) остался за рамками нашей схемы. Очевидно, однако, что и с
ним следует считаться, особенно если хочешь включить в рассмот-
рение достаточно долгий период после второй мировой войны.
Этого требуют и наличие связей с большими эмигрантскими об-
щинами, в которых эхом отражалось все происходившее в Старом
Свете, и весомое участие США в разрешении обоих конфликтов, а
главное - их роль в рождении современного мира, с которым Ев-
ропа после 1918 г. находилась в теснейшем контакте, вторжению
которого (в положительном смысле) она подверглась после 1945 г., *
31 Namier L.B. From Vienna to Versailles // Namier L.B. Conflicts. Studies in Con-
temporary History. London: Macmillan, 1942.
224
по крайней мере в западной своей части. Но здесь я ограничусь
кратким указанием на «Новый курс» Рузвельта, имеющий немно-
гие, но бесспорные точки соприкосновения с европейским опы-
том 1930-х гг., что заставило мыслителей, упоминавшихся в гла-
ве 1, и кое-кого из американцев, например экс-президента Гувера,
включить сам «Новый курс» в круг категорий, разработанных для
объяснения европейских событий.
Эти точки соприкосновения, несомненно, объясняются не
только культурой эпохи и распространением культурных мод, сре-
ди которых главное место занимала архитектурная (сходство,
вплоть до деталей, статуй американских героев и некоторых пра-
вительственных дворцов в Вашингтоне с их европейскими анало-
гами потрясает), но и участием американцев в первой мировой
войне. В целом сравнительно незначительное, по крайней мере с
точки зрения американского общества, это участие успело вызвать
к жизни (как ни удивительно, в первую очередь в частном секторе)
эксперименты и идеологии, хотя бы отчасти схожие с европейски-
ми. Например, многие специалисты по современным системам
управления, участвовавшие в организации перевода хозяйства на
военные рельсы, убедились, как писал потом президент Общества
Тейлора, что «менеджменту подвластны предприятия любых раз-
меров», и это создавало основу для выступлений в поддержку пла-
нирования. Многие из таких специалистов присоединились впо-
следствии к «Новому курсу», связь которого с опытами вмеша-
тельства государства в область экономики и сферу действия проф-
союзов 1917—1918 гг. общеизвестна.
Здесь мы возвращаемся к взаимосвязи между изменениями,
произведенными войной, и этатизмом 1930-х гг., на которую я не-
однократно обращал внимание. Но если усиление роли государст-
ва и в США некоторым образом объяснялось опытом войны, все
же этот опыт был неизмеримо меньше, чем у европейских госу-
дарств, непосредственно участвовавших в конфликте более четы-
рех лет. Кроме того, в Америке 1920-е гг. — нечто гораздо большее,
чем короткая интерлюдия. Поэтому возвращение этатизма (если в
данном случае можно говорить о возвращении) там было в основ-
ном обусловлено необходимостью справиться с крупным эконо-
мическим кризисом, благодаря которому в США тоже появилась
потребность в вожде и в мобилизационной риторике определен-
ного типа. Здесь мы видим другие точки соприкосновения с евро-
пейскими событиями. Однако разница между такого рода экспан-
225
сией государства, проходящей в демократических условиях,
имеющей целью решить проблемы, которые кризис создал для
граждан, и происходившим в то же время в Европе «откатом» к во-
енно-промышленному государству с тиранией, часто воспроизво-
дившему социальные и культурные структуры «старого режима»,
совершенно ясна и неизгладима.
Именно в Соединенных Штатах (после скандинавского и вей-
марского экспериментов) в основном родился новый феномен,
позже импортированный в Западную Европу на волне американ-
ской победы, в основе которого лежало расширение присутствия и
роли государства по экономическим соображениям, не связанным
впрямую с политикой силы или социальными претензиями.
Здесь наблюдается сходство с тем, что Шмитт описывал как
появление под давлением требований народных масс и социали-
стов «количественно-тотального государства», прототип которого
он видел в социальном законодательстве Веймарской Германии и
которое совершенно самостоятельно развивалось на севере Евро-
пы. Впоследствии удалось установить поразительную однотип-
ность функционирования всех экономических систем с высоким
уровнем присутствия государства: это сделал Мизес, и доказа-
тельством тому служит связь между рождением кейнсианских
теорий, превратившихся со временем в полуофициальную идео-
логию нового государства, и советским опытом. Данный вопрос
представляет большой интерес, но здесь мы не можем на нем
останавливаться32.
Четвертое и последнее замечание касается распространения в
Западной Европе 1930-х гг. советского мифа и новой коммунисти-
ческой квазирелигии. Как известно, Аксельрод уже в 1920-е гг.
считал это катастрофой для всех левых (и не только левых, можем
добавить мы). В свете того, что происходило в СССР, при имею-
щемся потоке информации, вполне позволяющем об этом узнать,
данное явление представляется поистине экстраординарным. Оно
показывает, как сильно подействовала на людскую психику миро-
вая война вкупе с не таким мощным, но уже заметным влиянием
32 Salsano A. Ingegneri е politick Torino: Einaudi, 1987. Р. 110 ss.; Graziosi A. Alle
radici del XX secolo europeo. P. LXX1V — LXXX1X; Hoover C.B. The Economic Life of
Soviet Russia. New York: Macmillan, 1931. P. 217. Большевистской концепции денег
и тому, как решались проблемы денежной системы в СССР в 1918—1931 гг. (что
также оказало свое влияние на развитие кейнсианских теорий), я посвятил свою
работу «Большевики и деньги, 1918-1931», которой сейчас занимаюсь.
226
модернизации. Впоследствии эти психические сдвиги обостри-
лись в результате послевоенных кризисов и благодаря климату,
царившему в Европе между двумя мировыми войнами. В те же
годы утверждались и другие квазирелигии, и, как уже бывало в
эпоху религиозных войн XVI - XVII вв., а потом некоторое время
после!789 г., континент наводнили «люди широкой души», для
которых «стало делом чести жертвовать своей родиной ради своей
религии» (это слова Маколея, относящиеся как раз к XVII веку),
что как будто подтверждает поставленный выше диагноз. Однако
именно коммунистическая религия представляет наибольший ин-
терес - ввиду своей силы, своего экуменизма. Это, пожалуй, наи-
более грандиозный пример «мифологического направления» (как
называл его Шабо в противоположность «утопическому направле-
нию») критики и отрицания реально существующего на основе со-
поставления последнего с чем-то, исторически и фактически чет-
ко определенным, но на самом деле столь же выдуманным, как
любая утопия (в этом смысле кульминацией мифологической
мысли является XX век, а не XVIII, как думал Шабо)33.
Жизненный путь множества умных, просвещенных европей-
ских интеллектуалов, павших жертвами этой мифологии, а ино-
гда, подобно Делио Кантимори34 и несмотря на имеющиеся в их
распоряжении критические инструменты, — нескольких мифоло-
гий, быстро сменявших одна другую, служит подтверждением
мощи разворачивавшихся процессов и хрупкости мысли при
столкновении с ними («Вы, кто появится из водоворота,/ который
сметет нас,/ когда будете говорить о наших слабостях,/ подумайте /
и о тех мрачных временах, которых вы избежали», — писал в 1938 г.
Брехт в стихотворении «Тем, кто придет»35), кроме, конечно, тех
случаев, когда дает возможность прославить доблесть тех, кто все-
таки устоял. Можно утверждать, между прочим, что интерпрета-
33 Macaulay Т.В. The History of England from the Accession of James the Second.
New York: Ams Press, 1968 (c. 28 французского издания: Paris: Laffont, 1989); And-
rew C., Mitrokhin V. The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret
History of the KGB. New York: Basic Books, 1999. Chap. 4: The Magnificent Five;
Chabod F. Storia dell’idea d’Europa. Bari: Laterza, 1961. P. 64; Graziosi A. La conos-
cenza della reaha sovietica in Occidente negli anni Trenta: uno sguardo panoramico // 11
mito deH’Urss. La cultura occidentale e 1’Unione sovietica / A cura di M.Flores, F.Gori.
Milano: Feltrinelli, 1990.
34 Крупный итальянский историк и филолог; вначале был близок к фашистам,
потом стал коммунистом, но после 1956 г. критиковал и коммунизм. — Прим. пер.
35 Brecht В. Poesie е canzoni. Torino: Einaudi, 1975. Р. 99.
227
ции XX в. в Европе как борьбы идеологий - это в некоторых отно-
шениях след того отпечатка, который квазирелигии наложили на
европейских интеллектуалов.
Но вернемся к Европе второй половины 1930-х гг., в частно-
сти, к пессимизму, ощущению нависшей трагедии, охватившему
тех, кто пытался понять, почему континент, как им казалось,
движется к катастрофе, и как-то бороться с этим. В октябре 1935 г.
Фишер закончил свою «Историю Европы» размышлениями о
«печальном наследии» первой мировой войны, которая разруши-
ла «моральное единство Европы» и вызвала «отлив свободы», об-
наживший большие участки континента, уступив место угнете-
нию, расизму, «демону экономического национализма». Он
предрекал, что «будущим поколениям» удастся «заделать трещи-
ны, залечить раны, восстановить расточенное нами сокровище
гуманности, терпимости и добрых чувств» - но только если со-
хранится мир.
В тот же период Алеви, который вскоре умрет, переживая из-за
убийства братьев Росселли (лидеров итальянских антифашистов,
убитых во Франции по приказу Муссолини), задавался вопросом,
не сбываются ли мрачные пророчества Спенсера о конечном тор-
жестве нового торизма — протекционистского, военно-социали-
стического, и, в свою очередь, делал еще более мрачные предска-
зания о долговечности тираний, рожденных войной, которые
новый неизбежный конфликт только укрепит. Из таких же сооб-
ражений Мизес, еще в 1932 г. предвидевший, что Гитлер придет к
власти, охваченный все более и более ужасными предчувствиями,
решился почти на шестьдесят лет оставить континент, относи-
тельно будущего которого не строил иллюзий. Через несколько
лет Джордж Оруэлл, изливший позже свои чувства в романе
«1984», отмечал: «Пока я пишу... разразилась вторая европейская
война. Либо она продлится немало лет и разнесет европейскую
цивилизацию вдребезги, либо закончится, не завершившись, и
тем самым откроет дорогу новой войне, но уж та кончит дело раз и
навсегда... Война или не война, но явно налицо крах капитализма,
laissez-faire и либерально-христианской культуры»36.
36 Fischer H.A.L. A History of Europe. 3 vols. Boston: Houghton Mifflin, 1936; Ha-
levy E. L’ere des tyrannies. P. 20, 25; Mises L. von. Notes and Recollections. South
Holland, 111.: Libertarian Press, 1978; Orwell G. Notes on Nationalism. London: Seeker
and Warburg, 1953.
228
Вся Европа как будто необратимо превращалась в царство зла.
Зло, насмехаясь над любыми надеждами, торжествовало в Москве
под видом добра, претендуя на то, что оно и есть добро. В 1940 г.,
когда войска нацистов, заключивших союз с Советами, взяли Па-
риж, казалось, стали сбываться самые мрачные предсказания, по-
вергая многих в отчаяние. И, однако, вопреки всем предсказани-
ям, именно новая война, при всех ее ужасах, привела к созданию
нового мира и постепенному сокрушению зла, что придало исто-
рии Европы XX в. значение великой моральной притчи.
Глава седьмая
АКТ III: 1939-1956
Несмотря на то что третьему акту великой европейской войны
XX в. посвящено огромное количество мемуаров и исследований,
историческое его осмысление, пожалуй, продвинулось вперед
меньше всего. Он тоже представлял собой одновременно войну и
революцию и в этом качестве подвел итог проблемам, которые
были поставлены первой мировой войной либо приобрели под ее
влиянием новые характеристики, или по крайней мере надолго
привел их в систему. Но, как и акт первый, это была также рево-
люция сама по себе, и она не ограничилась завершением уже на-
чатого, а, радикально изменив европейский порядок, поставила
новые вопросы, отчасти предопределив ответы на них.
Конец третьего акта (опять-таки как и первого) не совпадал с
формальным окончанием боевых действий в 1945 г. На Востоке
территории, контролируемые Москвой, еще несколько лет про-
должало лихорадить: голод (например, в СССР в 1946-1947 гг.),
массовые депортации, высылки национальных групп, распро-
странение вширь процессов коллективизации, повсюду встречав-
шее сопротивление, в том числе вооруженное. Умиротворение
этих территорий - т.е. ликвидация партизанских движений в
Польше, Прибалтике, и особенно в Западной Украине, — потре-
бовало времени, затянув вооруженный конфликт до самого нача-
ла 1950-х гг.
На западе ослабление, а то и трагическое крушение (в случае
Италии и Германии) нации-государства, падение престижа на-
циональной идеи, американское присутствие, которое с трудом
терпели, но считали совершенно необходимым из-за невозможно-
сти противостоять Советскому Союзу в одиночку, положили нача-
ло глубоким и, пожалуй, необратимым изменениям в самом ха-
230
рактере системы государств, первоначальный облик которой
реконструировал Ранке.
Изменения начали становиться заметными в середине 1950-х гт.,
когда, как я говорил во Введении, на обеих половинах Европей-
ского континента стал приобретать четкие очертания новый мир.
Вскоре после этого создание Общего рынка ускорило на Западе
трансформации, связанные с модернизацией, и привело к быст-
рейшему исчезновению крестьянского общества, которое, как
это ни парадоксально, на Востоке, где оно сразу подверглось
массированной атаке в ходе послевоенной коллективизации, со-
хранилось дольше благодаря компромиссам 1953-1956 гг. Исчез-
новение крестьянства было знаком и главнейшим элементом
разрушения традиционного общества вообще; наряду с усилени-
ем роли женщин, стремительными переменами в сфере промыш-
ленного труда, оно предвещало рождение новой Европы. Очень
скоро внесли свою лепту и экстраординарные демографические
изменения, которые превратили старый континент, в течение
двух-трех столетий служивший источником великих миграцион-
ных потоков, в объект иммиграции.
Тогда-то и началась новая, современная европейская история,
как я назвал ее во Введении. Но почву для нее подготовила вели-
кая война-революция, о которой мы говорим, и третий и послед-
ний акт ее (так же как первый) начался на Востоке - с раздела Че-
хословакии, а затем Польши1.
Достаточно беглого взгляда на цифры потерь (погибшие анг-
личане, французы, американцы, итальянцы насчитываются сот-
нями тысяч, поляки, украинцы, евреи, белорусы, русские и нем-
цы - миллионами и десятками миллионов человек), чтобы
увидеть, что, в отличие от 1914-1918 гг., на этот раз война велась
в основном на Востоке, и там в годы войны и сразу после нее
процессы варваризации и брутализации, запущенные в 1914—
1922 гг., вышли на новый виток. Их кульминацией стало истреб-
ление евреев, подстегиваемое упоением победы и рожденным ею
чувством безнаказанности. Это в то же время символ и крайнее
проявление политики расовой реорганизации общества, прово-
дившейся немцами на Востоке на базе идеологии, гротескная, до
1 Сэр Джеймс Хедлем-Морли, главный историк-консультант Форин-Оффис в
то время, предсказывает это еще в 1925 г. в своем меморандуме для Чемберлена
(см.: Lichtheim G. Europe in the Twentieth Century. New York: Praeger, 1972. P. 123).
231
смешного, примитивность которой, с интеллектуальной точки
зрения, служила еще одним симптомом, свидетельствующим об
исторической бездне, куда устремилась Европа с частью своих
обитателей. Миллионы людей были уничтожены, миллионы де-
портированы или обращены в рабство — и все для того, чтобы
подготовить почву для эмиграции на Восток «народа-хозяина»,
искавшего в XX веке сельскохозяйственные угодья для колониза-
ции, «жизненное пространство» для тех младших крестьянских
сыновей, которых тот же XX век уже начал самих «ликвидиро-
вать» (но совсем-совсем иначе), дав им возможность благодаря
своей предприимчивости перейти к другим (и по-другому опла-
чиваемым) занятиям2.
Жестокость двух великих тираний, после недолгого союза
1939—1941 гг. вступивших в спор за господство на континенте,
была не только трагична сама по себе: в глазах многих она санк-
ционировала новый путь поиска решения «раз и навсегда» соци-
альных и национальных проблем, сделала популярным определен-
ный тип сведения счетов.
Как справедливо подчеркивалось, советская политика на ок-
купированных территориях в 1939—1941 гг. и после 1944 г. и в
особенности политика немцев (которые всей Центральной и
Восточной Европе служили образцом цивилизованности и зада-
вали модель поведения) в 1939—1944 гг. в равной мере стали
примером для подражания. Прибавьте к этому принцип «разде-
ляй и властвуй», применявшийся обеими тираниями на оккупи-
рованных землях. Благодаря им зародился коллаборационизм,
мотивированный как идейными соображениями, так и матери-
альными интересами (например, стремлением добиться пере-
смотра версальских договоров). Сам являясь плодом старых
междоусобиц, он углублял их и, в свою очередь, плодил новые
счеты и междоусобицы. Наконец, возникли партизанские дви-
жения и формирования, по самой своей природе не поддаю-
щиеся никакому контролю. Все это создавало благоприятную
почву для вспышек массового насилия, которым к тому же слу-
жили надежным прикрытием боевые действия между регуляр-
2 Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo // Mises L. von. Stato, nazione ed
economia. Torino: Bollati Boringhieri, 1994. P. XXXVIII - XXXIX; Browning C.R. The
Path to Genocide: Essays on Launching the Final Solution. Cambridge: Cambridge
University Press, 1992.
232
ними армиями, не дававшие как следует разглядеть, что проис-
ходит в том или ином регионе, узаконивавшие применение
насилия для миллионов людей и заставлявшие любую ситуацию
оценивать с грубой простотой: друзьям надо помогать, врагов —
уничтожать3,
В такой обстановке и благодаря таким вот урокам в Восточной
Европе после 1939 г. прошло множество «малых» этнических чис-
ток: акции венгров против сербов в Ванате, болгар - против ру-
мын в южной Добрудже; в Македонии вычищали греков и сербов,
в Хорватии - сербов и цыган (и т.д.). Почти повсюду — единствен-
ное серьезное исключение представляет собой Болгария — наряду
с этими акциями шло яростное преследование евреев. Разумеется,
его стимулировало и подстегивало поведение немцев, однако мно-
гие восточные европейцы с энтузиазмом принимали в нем уча-
стие, а многие другие, хотя порой происходящее и внушало им
ужас, все же с удовлетворением смотрели, как «решается» еврей-
ская проблема4.
После того как были открыты новые источники, в первую оче-
редь (хотя и не только) архивные, стало возможно реконструиро-
вать некоторые случаи массового истребления, нередко взаимно-
го. Яркий пример — то, что происходило между поляками и укра-
инцами в Восточной Галиции, которая уже в предшествующие де-
сятилетия была предметом спора между дворянством и городским
населением польской национальности с одной стороны и украин-
скими крестьянами с другой. В 1918 г. там предпринималась по-
пытка создать украинское государство, но поляки подавили ее с
помощью французов. Последовавшая затем польская оккупация,
репрессивная, пренебрегающая нуждами местного населения по-
литика, на которой она держалась, все сильнее разжигали негодо-
вание, уже не раз выплескивавшееся во время «жакерий» прошло-
3 Gross J.T. Revolution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s Western
Ukraine and Western Belorussia. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988; The
Politics of Retribution in Europe, World War II and Its Aftermath / Ed. by l.Deak,
J.T.Gross, TJudt. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000; Snyder T. «To
Resolve the Ukrainian Problem Once and for All». The Ethnic Cleansing of Ukrainians
in Poland, 1943—1947 // Journal of Cold War Studies. 1999. Vol. 2. P. 86—120.
4 См., напр.: Gross J.T. Neighbors. The Destruction of the Jewish Community in
Jedwabne, Poland. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001. Краткое подведе-
ние итогов полемики, вызванной этой книгой, см.: Deak 1. Heroes and Victims //
New York Review of Books. 2001. Vol. XLV11I. No. 9. P. 51—56.
233
го. Очередной взрыв произошел весной — летом 1943 г., сначала
на Волыни5.
Здесь, где поляков было не так много и атаки на них находили
широкую поддержку среди крестьян, алчущих земли, украинские
партизанские отряды решили воспользоваться пространством, очи-
щенным благодаря германскому кризису, и временным зазором пе-
ред приходом Советов, чтобы свести счеты с польским меньшинст-
вом, уже ослабленным в результате утраты собственного государст-
ва в 1939 г., советских депортаций 1939—1941 гг., уничтоживших его
военные, административные и экономические кадры (и поэтому,
как ни парадоксально, поначалу популярных среди украинских на-
ционалистов-антикоммунистов, видевших в них первый этап реа-
лизации своей программы «Украина — для украинцев»), немецкой
политики, направленной на ликвидацию польской элиты.
На атаки украинцев, которые вскоре начались по всей Восточ-
ной Галиции и сопровождались обычными зверствами, призван-
ными запугать уцелевших и вынудить их покинуть край, с немень-
шей жестокостью отвечали польские партизанские отряды. При-
мерно за год, т.е. до занятия Львова Советской властью, число
жертв этой бойни, в большинстве своем поляков, достигло 50—100
тыс. человек. Еще 200-300 тыс. поляков оставили Волынь до при-
хода Советов. В течение двух-трех последующих лет к ним присое-
динились еще около миллиона их соотечественников, которые,
после того как все предшествующие десятилетия велись разговоры
о необходимости изгнания украинских бунтовщиков с террито-
рий, подвластных Варшаве, вдруг оказались в новой советской
Украине, куда большей по размеру.
В целом трагический финал столетней истории польских посе-
лений в местности, ставшей Западной Украиной, - следствие всего
лишь одного из многих процессов, сливавшихся в общее широкое
движение, которое меняло облик Европы и уже в 1948 г. анализиро-
5 Baker М. Lewis, Namier and the Problem of Eastern Galicia 11 Journal of
Ukrainian Studies. 1995. Vol. 20. No. 1—2; Snyder T. «To Resolve the Ukrainian
Problem Once and for АН». Об отношениях между поляками и украинцами в Гали-
ции в период между двумя мировыми войнами, о презрении, которое первые ис-
пытывали ко вторым и которое культивировалось в том числе с помощью истори-
ческих романов вроде «Огнем и мечом» Г.Сенкевича, см. также: Myciek В.
Immagini dell’Ucraina е dell’ucraino nella Polonia dope la prima guerra mondiale //
Miti antichi e modemi tra Italia e Ucraina I A cura di K.Konstantynenko et al. Padova:
Universita degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, 2000. P. 304—328.
234
валось Кулишером в прекрасной книге с характерным названием
«Европа в движении»6.
С этой точки зрения, вторая мировая война является кульмина-
цией нового, зачастую вынужденного «переселения народов», начало
которому положили социальные неурядицы XIX в. (вспомним, что
говорилось выше об урбанизации и миграциях, вызванных индуст-
риализацией). Благодаря первой мировой войне оно продолжалось и
ускорялось, а после 1939 г. произошел бурный всплеск - следствие
советских и немецких операций по депортации, жестокого сведения
национальных счетов за кулисами большой войны между СССР и
Германией, массовых перемещений, напрямую связанных с боевы-
ми действиями (представим, сколько людей согнали с места сначала
наступление немцев и отступление советских войск, потом, наобо-
рот, советское наступление и немецкое отступление).
Подобное принудительное «переселение народов» - уже в начале
1943 г. захватившее более тридцати миллионов европейцев, которые
в следующие пять лет увлекли за собой еще двадцать миллионов, - в
целом представляло собой скачок вперед, в направлении ужесточе-
ния, в деле ликвидации «проблемы» существования разных в языко-
вом и религиозном отношении общностей на одной территории,
коим определялась самая сущность Мизесовой Восточной Европы
(и в этом смысле тоже оно стало продолжением, а нередко и драма-
тическим завершением процессов, которые шли как минимум лет
сто и которые мы анализировали во второй части данной книги).
И случай с поляками Западной Украины, и переселение наро-
дов в результате послевоенных вендетт против побежденных, воз-
будивших ненависть к себе в предыдущие годы (особенно это ка-
салось немцев), позволяют увидеть одну особенную, чрезвычайно
важную составляющую этого феномена.
Благодаря ликвидации немецких общин на большей части тер-
ритории Восточной Европы, как и польских — в Восточной Гали-
ции, под корень обрубались главные «щупальца», как выражался
Нэмир, протянутые народами-хозяевами в эти земли. В данном
случае также речь идет о продолжении процессов, идущих уже не-
сколько десятилетий: вспомним еще раз о влиянии урбанизации
на этнический состав городов, постепенном уходе турок с Балкан,
6 Kulischer Е.М. Europe on the Move: War and Population Changes, 1917—1947.
New York: Columbia University Press, 1948; Schechtmann J.B. Postwar Population
Transfers in Europe, 1945-1955. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1962.
235
греков из Румынии, Болгарии, а затем с побережья Малой Азии,
наконец — об отступлении немцев после поражения 1918 г. (мы
ведь видели уже, что и первую мировую войну можно было бы
анализировать с точки зрения соперничества славян и немцев за
контроль над Восточной Европой).
После окончания второй мировой войны и в первые послево-
енные годы это явление приняло новые, гораздо более радикаль-
ные формы. В частности, последний отчаянный натиск «народа-
хозяина» (Herrenvolk) на Восток привел к окончательному краху
германоцентричной вселенной, во всяком случае — ее непосредст-
венной опоры в виде немецких колоний, сделав отныне невоз-
можным какое-либо «общегерманское» решение.
Колонии, когда-то доходившие до Волги* & 7, были сметены с лица
земли: подсчитано, что с 1945 по 1950 г. примерно 13-15 миллио-
нов восточных немцев (из которых 10 миллионов проживали на
территориях, отданных союзниками Польше) подверглись изгна-
нию, после того как союзники в Потсдаме, где Советский Союз
хвалился, что у него во многих районах, некогда почти сплошь не-
мецких, уже «не осталось ни одного немца», заключили соглаше-
ние, санкционирующее «перемещение в Германию немецкого на-
селения, еще остающегося в Польше, Чехословакии и Венгрии, или
части его» (в свете этого весьма любопытно читать слова «Песни о
Германии» — «Deutschlandslied», говорящие о расширении Герма-
нии до города Мемеля и протекающей возле него реки Немана —
теперь это соответственно литовские Клайпеда и Нямунас — и со-
поставлять их с нынешними германскими границами).
Главный исследователь вопроса писал: «Mitteleuropa утратила то-
гда большую часть своей человеческой и материальной базы. Немцы
(или культурное наследие их миграции и колонизации) больше не
являются ни в каком реальном смысле общим знаменателем Цен-
тральной Европы. За исключением нескольких сотен тысяч чело-
век, оставшихся в Трансильвании и Венгрии [откуда и сейчас мно-
7 Atlas ostliches Mitteleuropa / Hrsg. von T.Kraus. Bielefeld-Berlin: Velhagen & Klasing,
1959; Komjathy A., Stockwell R. German Minorities and the Third Reich. New York: Holmes
& Meier, 1980; Bell-Fialkoff A. Ethnic Cleansing. London: St. Martin’s Press, 1996; Nai-
mark N. Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 2001; Schechtmann J.B. Postwar Population Transfers in Europe;
Esodi. Trasferimenti forzati di popolazione nel Novecento europeo / A cure di M.Cat-
taruzza, M.Dogo, R.Pupo. Napoli: Esi, 2000; Redrawing Nations: Ethnic Cleansing in East-
Central Europe, 1944—1948 / Ed. by P.Ther, A.Siljak. Boston: Rowman & Littlefield, 2001.
236
гие “возвращаются”], немцев больше нет ни к востоку от Одера, ни
в богемских лесах, ни в Каринтии. Очень немногие их архитектур-
ные памятники не стали добычей пожаров в Риге, Кенигсберге, Дан-
циге и на других немецких островках в славянском море. Величай-
шая в истории Европы миграция со времен позднего средневековья
унесла почти всех немцев из центральноевропейского региона, от-
теснила их к компактному ядру германских территорий, так что
можно утверждать, что в 1946 г. история Mitteleuropa закончилась»8.
Можно, следовательно, также утверждать, что первая половина
XX в. была эрой «очищения» Восточной Европы от немецкого эле-
мента, завершившейся полной дегерманизацией Пруссии. Сего-
дня от нее осталась Калининградская область, занятая и населен-
ная русскими, которые теперь географически отделены от своей
родины и судьба которых неясна.
Мы видели, однако, на примере поляков Западной Украины,
что судьбу немцев разделили и другие народы, исторически высту-
павшие в Восточной Европе в роли угнетателей. Тогда была лик-
видирована часть венгерских колоний, уцелевших после пораже-
ния и кризиса 1918 г. Та же участь ожидала итальянские колонии
на далматинском побережье - прямое наследие венецианской им-
перии, послужившее итальянским националистам предлогом для
возобновления территориальных претензий.
Рушилась вся национальная пирамида, на которой веками по-
коилась Восточная Европа, и дело как будто шло к окончательной
ликвидации народов-хозяев и их наследия. Два исключения за-
ставляли, однако, не торопиться с выводами.
Первое из них, маленькое, — это сербы, которым лишь недавно
удалось создать сферу своего господства, правда, постоянно оспа-
риваемого, и которые сумели, пусть в ограниченной форме и со
многими оговорками, сохранить эту сферу, удержав за собой цен-
тральную власть внутри Федеративной Республики Югославии.
Второе - большое и куда более разительное — экспансия СССР,
где опыт и сама риторика «Великой Отечественной войны» усилили
русский элемент. Москва не только отвоевала территории, утрачен-
ные в 1917-1918 гг., но распространила сферу своего влияния до Бер-
лина, наложив руку почти на все регионы, где некогда господствовали
немцы, венгры и поляки. Экспансия Москвы сопровождалась усиле-
8 Meyer Н.С. Mitteleuropa in German Thought and Action, 1815-1945. Den Haag:
Martinus Nijhoff, 1955. P. 323.
237
нием присутствия этнических русских или проникновением их на тер-
ритории, прямо аннексированные или вновь занятые Советским Сою-
зом, — в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, Молдавии и бывшей
Восточной Пруссии (упомянутой выше Калининградской области).
Здесь, как и в случае с сербами, речь шла о «щупальцах», силь-
но отличавшихся от тех, с которыми ассоциировались народы, до-
минировавшие на Востоке прежде.
Во-первых, и в СССР, и в новой Югославии народы, фактиче-
ски подчиненные власти Москвы и Белграда, имели - в соответ-
ствии со старым ленинским принципом, о котором мы уже гово-
рили, - свою государственность (автономию). Власть ее была
ограниченной, а порой она играла чисто декоративную роль, и все
же одно ее существование совершенно меняло дело.
Кроме того, хотя сербы и русские тоже сосредоточивались в го-
родах и нередко контролировали основные военные, администра-
тивные и политические структуры, вообще занимаемые ими соци-
альные и культурные ниши находились ниже тех, что занимала
значительная часть местного населения, отличавшаяся более вы-
соким уровнем благосостояния и образования (иначе обстояло
дело в Средней Азии, где, за исключением густо колонизованного
северного Казахстана, русское - или, учитывая значительную
долю украинского элемента, славянское — присутствие в принци-
пе носило открыто колониальный характер).
Несмотря на эти два фундаментальных исключения, можно сказать,
что заключительный акт великого европейского конфликта сильно пе-
рекроил границы Восточной Европы в понимании Мизеса. От много-
национальных территорий отказались, потеряв их, сначала Турция
(правда, в Анатолии существовала большая проблема похожего харак-
тера - курдская, - но в Европе турецкий вопрос сохранился в сравни-
тельно небольших масштабах лишь в Болгарии и на Кипре), потом
Германия, Австрия и Италия, составлявшие часть этой Восточной Ев-
ропы благодаря своим колониям и имперским претензиям на Восто-
ке, а также Польша и будущие Чешская и Словацкая республики.
Помимо явлений меньшего Порядка, которые есть повсюду, в
том числе в Италии, осталась проблема венгерского меньшинства
в Румынии, а главное — реальность существования двух крупных
федеративных государств - СССР и Югославии. Внутри их гра-
ниц продолжалось перемещение населения, как свободное, так и
вынужденное, что чрезвычайно углубляло и усложняло вопрос,
нередко при этом меняя его терминологию.
238
Однако и в данном случае решающим фактором изменения
была вторая мировая война. Вспомним, к примеру, уничтожение
еврейских общин в Прибалтике, Западной Белоруссии и Западной
Украине, изгнание из Западной Украины поляков, резкое сокраще-
ние итальянского и венгерского меньшинств в Югославии, почти
полное исчезновение немецкого меньшинства в той же Югославии,
в Прибалтике, на юге Украины и в Поволжье, где местным немцам
пришлось коллективно заплатить за провал жестокого имперского
проекта, к которому примкнули многие их представители.
К концу войны, например, Словения уже была почти полностью
словенской, в Прибалтике возрастало русское присутствие. Но наибо-
лее важным и показательным примером служит Украина. Вместе с
Польшей эта земля сильнее всего пострадала от войны, она потеряла
почти 15 млн жителей, при том что общее число населения чуть пре-
вышало 40 млн человек. До войны население Украины примерно на
70% состояло из украинцев, на 10% - из русских, среди остальных
были евреи, поляки, татары, греки, болгары. После того как были ис-
треблены почти два миллиона евреев из трех, депортированы, уничто-
жены или бежали 700 тыс. немцев и миллион поляков, проведены чист-
ка греческих и болгарских поселений на Черном море, начатая Стали-
ным еще перед войной и законченная в 1942 г., и карательная опера-
ция по депортации татар из Крыма — тогда еще входившего в состав
РСФСР — в 1944 г.9, возникла новая Украина. Границы ее раздвину-
лись, включив Восточную Галицию, так что она все еще была много-
национальной, но совсем не такой, как семь лет назад: украинское
большинство, достигшее почти 80%, сосуществовало с трагически ни-
чтожной еврейской общиной и русским меньшинством, число кото-
рого быстро удвоилось и стало составлять почти 20% населения.
Это также позволяет утверждать, что последний акт великой ев-
ропейской войны XX столетия представлял собой пик не только вар-
варизации, но и революции (по тем же причинам). К великим ми-
грациям населения, стремительному распаду, одного за другим,
множества государств, исчезновению меньшинств и присутствия,
существовавших веками, следует добавить гибель целых социальных
классов, жертв нацизма, наступления Красной Армии, операций
9 Документы о депортации крымских татар, включая перевод текста соответст-
вующего указа, похожего на все прочие в том же роде, можно найти в Интернете
по адресу: http://www.euronet.nl/usere/sola/krimtatar.hlml. О депортациях в СССР в
целом см. работы Бугая и полезный обзор материалов, принадлежащий Полу
(приводятся выше, с. 72, прим. 33).
239
различных партизанских движений, новых режимов, установленных
после войны с помощью Москвы (в этом смысле оправданными
представляются гипотезы, которые выдвигаются теми, кто рассмат-
ривает трансформации, происходившие в Восточной Европе после
1945 г., как продолжение процессов, начавшихся во время войны10 11).
Социальные акторы, игравшие решающую роль на протяжении
столетий, перестали существовать или укрылись где-то в других
местах: и прусские юнкеры, и польское дворянство, венгерские и
румынские магнаты, немецкие и еврейские предприниматели,
большая часть городских торговцев и ремесленников инородного
происхождения, зажиточное крестьянство, появившееся благода-
ря процессам, которые начались в XV111—XIX вв., а теперь раздав-
ленное коллективизацией, и т.д. Иными словами, вся «социально-
историческая пирамида» (и, как мы видели, национальная — осо-
бенно там, где социальные конфликты воспроизводили нацио-
нальные) на территории, занимавшей большую часть континен-
тальной Европы, была «грубо обезглавлена и опрокинута»11.
Даже в Западной Европе, которую катастрофа задела сравнительно
мало, удар 1939—1945 гг. произвел кардинальные изменения, завер-
шив работу, начатую в 1914-1918 гг. и продолжавшуюся в течение
двух десятилетий после первой мировой войны. Вспомним, как живуч
был «старый режим», как силен даже в 1914 г., несмотря на «буржуаз-
ность» предыдущего века. В 1945 г. он был практически уничтожен:
сказались сначала разгром государств, под защитой которых он суще-
ствовал, затем — последствия американской интервенции.
Хороший пример — Италия, где пала монархия и государствен-
ную власть завоевали католические и левые партии, представляв-
шие также крестьянские и народные слои и интересы, против ко-
торых было построено унитарное государство и от которых
последнее думало защититься с помощью фашизма после своего
первого кризиса. Но и в такой формально победившей стране,
как, например, Франция, опыт Виши, а затем утрата колоний вы-
звали фундаментальные изменения; сама Великобритания после
перенесенных тягот, после того как пришлось отказаться от импе-
рии — как бы мудро она ни управлялась, была вынуждена пере-
смотреть свое место в мире и собственную социальную организа-
цию. Вспомним хотя бы попытку построить великое «государство
10 См.: The Politics of Retribution in Europe (особенно предисловие Юдта и очерк Гросса).
11 Meyer Н.С. Mitteleuropa in German Thought and Action. P. 342.
240
всеобщего благосостояния» (к ней мы вскоре вернемся), которая
начала претворяться в жизнь сразу после войны. Это был плод
идей, во имя которых люди шли в бой, и опыта социальной и на-
циональной солидарности, которая и сделала возможной победу.
Между прочим, сама по себе утрата статуса великой державы
четырьмя из пяти европейских держав, существовавших до 1939 г.
(две из них, Италия и Германия, рухнули, потерпев поражение в
войне), была революционным событием мирового масштаба. Воз-
можно, в 1945 г. было трудно постичь все его значение, но оно бы-
стро выяснилось, когда Европа стремительно лишилась своих ко-
лониальных владений.
И в достижении пика брутализации, и в новом «переселении на-
родов», и, наконец, в придании революционного значения третьему
и последнему акту европейского конфликта великие тирании сыгра-
ли решающую роль.
Нацизм в основном породил волну этнических чисток и мигра-
ций, захлестнувшую Восточную Европу, а кончилось все это раз-
рушением немецкого мира, искоренением или вытеснением зна-
чительной части элит, которые, как, например, юнкеры, господ-
ствовали в нем в прежние века (под этим же углом можно смот-
реть на уничтожение или вынужденную эмиграцию в США пред-
ставителей великой еврейско-немецкой культуры, столько сделав-
шей для возрождения германского превосходства после XVIII в.).
Сталинизм продолжал свою работу и после войны. Сталин, так
живо описанный Гиласом, упиваясь победой и новым могущест-
вом, которое она ему дала, считал себя вправе по своей воле пере-
краивать границы государств, судьбы социальных слоев и целых
народов, по его собственным словам, сдавшихся на милость побе-
дителей, которые могли «слопать» их на вполне законных основа-
ниях. Конечно, во многом подобное настроение свойственно всем
победителям (не являлись исключением ни западные союзники
СССР, ни правящая югославская верхушка, к которой принадле-
жал Гилас), и победители часто стремятся переделать мир так, как
им хочется. Но Сталин воплощал собой самое крайнее, несравни-
мо более жестокое и примитивное проявление «духа времени»12.
Тем не менее в силу более общих движений логика расширения гра-
ниц империи - как внешней, так и внутренней, т.е. самого СССР, —
могла привести (и привела) к самым парадоксальным результатам.
12 Gilas М. Conversations with Stalin. New York: Harcourt, Brace and World, 1962.
241
Возьмем, к примеру, снова Украину: по крайней мере со времен
коллективизации и великого голода 1932—1933 гг. украинцы оказа-
лись в числе главных жертв сталинизма, и не случайно Сталин в ис-
ториях об Украине предстает в облике палача этой страны и ее жи-
телей. Но в 1944—1945 гг. имперские амбиции Сталина впервые
помогли объединить (конечно, в составе СССР, но формально в
виде Украинской Советской Социалистической Республики) этни-
чески украинские территории - путем аннексии и «очистки» быв-
ших румынских и чехословацких областей, а главное - благодаря
изгнанию поляков из Восточной Галиции, «окончательно воссо-
единившейся с родиной». Таким образом Сталин 1944-1946 гт.,
ухитрившийся, руководствуясь своими расчетами, обеспечить ма-
рионеточному украинскому государству, только что так сильно вы-
росшему, место в ООН, совершенно неожиданно приобретает в
глазах украинских националистов новые черты, к нему относятся
почти с уважением, но затем он быстро скатывается к своей тради-
ционной роли из-за страшных репрессий, призванных усмирить
присоединенные к советской Украине области и искоренить там
сильное партизанское движение, руководимое националистами.
Аналогичные и даже более выразительные процессы шли по
всей Восточной Европе, оказавшейся во власти Москвы. Как мы
уже говорили, послевоенный период там по меньшей мере до
1953—1956 гг. во многом представлял собой продолжение того, что
началось во время войны. Государства, контролируемые Стали-
ным, стремясь оправдать свое существование и обрести хоть ка-
кую-то легитимность и популярность в глазах своих граждан, при-
бегали к жесткой и циничной политике национализации, и не
только в сфере экономики. Так что процесс постепенного взаимо-
проникновения социализма и национализма решительно продви-
нулся вперед, причем гораздо раньше, чем принято считать.
На этот раз обратимся к примеру Польши. Во время войны она
наблюдала истребление своего еврейского населения, ужасаясь
применяемым методам, но порой также испытывая удовлетворе-
ние, оттого что решается «проблема, которую в любом случае нуж-
но было решить»13. Сталин оторвал от нее большие куски террито-
рии на востоке, передав их по этническому принципу советским
13 См. прекрасный очерк Гросса: Gross J.T. A Tangled Web: Confronting Stereo-
types Concerning Relations between Poles, Germans, Jews and Communists // The Poli-
tics of Retribution in Europe. P. 74-130.
242
Белоруссии и Украине, но компенсировал потерю на западе - тер-
риториями, из-за которых веками спорили поляки и немцы.
Еще в 1943—1944 гг. небольшая группа польских коммуни-
стов (вспомним, что польская компартия была практически
уничтожена чистками 1937-1938 гг.), которая потом будет по-
ставлена управлять новым государством, перестала выдвигать
лозунг о правах меньшинств, содержавшийся в программе пар-
тии до войны.
В июле 1944 г., после заключения секретного польско-совет-
ского соглашения, предусматривавшего упомянутое выше пере-
движение польских границ к западу, Польша и СССР постанови-
ли, ради большей этнической однородности, обменяться
населением - польских украинцев поменять на советских поля-
ков. Обмен шел почти два года. Поляки, еще остававшиеся в
СССР, покидали землю, где жили веками, без больших проблем, и
к 250 тысячам человек, искавшим на западе спасения от этниче-
ского наступления украинских националистов в 1943 г., добави-
лись еще 800 тысяч. Оставшиеся же по ту сторону новой польско-
советской границы украинцы вели себя по-разному. Новое поль-
ское государство стало прибегать к более жестким формам давле-
ния в отношении примерно 700 тысяч украинцев, отказавшихся
перебраться на восток. Когда в июле 1945 г. несколько украинских
коммунистических лидеров, родившихся в Польше и состоящих в
польской компартии, прибыли в Варшаву с протестом против на-
силия над людьми, которые, что ни говори, оставались польскими
гражданами, им ответили в правительстве, что «после заключения
с СССР соглашения об установлении этнической границы наша
цель — стать национальным государством (panstwo narodowe), а не
государством национальностей (panstwo narodowsciowe)».
В те же месяцы были вынуждены эмигрировать миллионы нем-
цев. Наконец, в 1947 г. социалистическое польское государство за-
вершило серию «чисток», направленных против еще сохранивше-
гося украинского меньшинства, Висленской операцией, о
которой в официальных документах говорилось как о «плане пол-
ного удаления украинского населения из юго-восточных областей
Польши». Реляция об этой операции, представленная в Политбю-
ро ЦК польской компартии, в частности, начиналась словами:
«Чтобы решить раз и навсегда украинскую проблему в Польше...»14
14 Snyder Т. «То Resolve the Ukrainian Problem Once and for All».
243
В тот же период почти все политические силы в Чехии одобря-
ли суть проводившейся с советской помощью политики, которую
Бенеш в 1945 г. сформулировал так: «Мы решили раз и навсегда
устранить немецкую проблему в нашей республике». Решение
было официально оформлено 21 июня 1945 г. постановлением,
начинавшимся словами: «Учитывая требования эффективного
проведения земельной реформы со стороны безземельных чехов и
словаков, желая раз и навсегда вырвать чешскую и словацкую зем-
лю из рук иностранных - немецких и венгерских - землевладель-
цев, а также из рук предателей Республики, и передать ее в руки
чешских и словацких крестьян и безземельных лиц, правительство
постановляет...»
Итак, снова в условиях Восточной Европы социализация и
национализация совпали, заставив даже миролюбивых чехов,
только-только освободившихся от семилетнего немецкого ига,
осуществляя меры, провозглашенные Бенешем, прибегнуть к на-
силию и кровопролитию, едва ли не большим, чем при «реше-
нии» украинской проблемы в Польше. Тогда было обрублено
одно из самых больших нэмировских «щупалец» - немецкие Бо-
гемия и Судеты, и нет сомнений в том, что эта операция много
способствовала утверждению положительного образа советского
режима и коммунистической партии в новой Чехословакии, где,
как известно, последняя первоначально пользовалась широкой
народной поддержкой15.
В Венгрии, снова разбитой, где четверо из пяти членов «мос-
ковской» группы лидеров компартии были евреями и у коммуни-
стов накопилось много ненависти к национализму и воплощаю-
щим его режимам, руководитель партии Ракоши опасался
встретить большие трудности на пути к столь желанному отожде-
ствлению коммунизма с национализмом и упорно раздумывал,
как этого добиться. В апреле 1945 г. он, например, писал Димит-
рову, что возвращение из СССР коммунистов еврейского проис-
хождения (впрочем, он и сам принадлежал к этой группе) таит в
себе большую опасность: выставляя^себя главными антифашиста-
ми, они быстро добиваются важных постов, а потом оказываются
«разложившимися карьеристами» (Ракоши также подробно оста-
навливался на той роли, которую играют евреи на черном рынке,
15 Schechtmann J.B. Postwar Population Transfers in Europe. P. 88 ss.; Leoncini F. La
questione dei Sudeti, 1918-1938. Padova: Liviana, 1976.
244
резко осуждая их); у населения создается впечатление, что партия
«сильно объевреилась», и это ей очень вредит.
Помимо попыток сдержать еврейское влияние, Ракоши старал-
ся достичь своей цели, мобилизуя партию в поддержку высылки
из страны граждан германского (шведского) происхождения, беря
на вооружение имена и символы эпохи революции 1848 г. На
праздновании ее 100-летней годовщины он призвал коммунистов
идти без красных знамен, а уж если они не могут обойтись без
красного цвета, писал он, «пусть смотрят на него на нашем трико-
лоре» (в 1951 г. пропагандистский отдел ЦК проповедовал необхо-
димость «внедрения в народное сознание более широкой и более
глубокой интерпретации патриотизма»)16.
Естественно, в случае двух вышеупомянутых исключений дело
обстояло иначе (по одним и тем же причинам). И Советский
Союз, и Югославия по-прежнему объявляли себя анациональны-
ми государствами. Национальный вопрос они решали — и утвер-
ждали, будто решили, — по одной формуле (новая югославская
конституция точно копировала советскую, руководствуясь ленин-
ским решением 1921—1922 гг. о реорганизации подвластной Мо-
скве территории — с федеральным устройством в центре и нацио-
нальным на местах). В СССР война и победа заметно усилили
русско-имперскую идеологию, это сказалось и на пропаганде, и
на официальном образе режима, продолжавшего ратовать за брат-
ство народов, однако наделившего русский народ званием «стар-
шего брата», но в Югославии Тито старался держать под контро-
лем любые проявления национализма, прежде всего сербского.
Однако, несмотря на создание супранациональных про-
странств, облегчавших процесс взаимопереплетения языков, куль-
тур и национальностей (которому в том числе способствовали ре-
прессивные акции по перемещению того или иного народа из
одной точки страны в другую), само решение национального во-
проса, которое Ленин выбрал в 1921-1922 гг., сделало СССР и
Югославию инкубаторами наций-государств17. Вспомним, что фе-
дерация, анациональная даже по своему названию, состояла из
16 Цитаты взяты из подборки тезисов: Mervius М. Nationalism and Communism in
Hungary, 1945-1953 // H-Russia. 2000. February 15. См. также: Bottom S. Politiche
nazionali e conflitto etnico. Le minoranze ungheresi nell’ Europa orientale, 1944—195011
Contemporanea. 2002. Vol. V. No. 1. P. 85—116.
17 Suny R.G. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse of
the Soviet Union. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1993.
245
государств, организованных по этническому принципу, формаль-
но принадлежавших той или иной нации. Конечно, эти государст-
ва представляли собой плохо и мало развитые креатуры, их струк-
туры обладали очень небольшой властью, но они существовали, и
со временем власть их возрастала, в том числе благодаря процес-
сам модернизации, которые, как уже случилось в других местах,
не ослабляли, а, наоборот, усиливали национальный аспект18.
В целом и в СССР, и в Югославии найденное решение нацио-
нального вопроса задержало взрыв национализма, естественно,
изменив его формы, но при этом стимулировало накопление
энергии, необходимой для такого взрыва.
С этой точки зрения, даже история двух государств, казалось,
представлявших собой важное исключение на общем фоне по-
всеместного сведения счетов между разными национальностями
(говорю «казалось», потому что на самом деле и там эти кон-
фликты имели место и продолжали существовать), как будто
подтверждает горькие выводы Иштвана Деака. Размышляя о раз-
ных вариантах государственного опыта Восточной Европы начи-
ная с 1789 г., и прежде всего о катастрофах, началом которых
стала первая мировая война, а кульминацией — вторая, он песси-
мистически заключает, что ни одно из сменявших друг друга вос-
точноевропейских государств - ни былые империи, ни нацио-
нальные государства, которые возникли на обломках Османской
империи или родились благодаря Версальскому миру, ни режи-
мы «народной демократии», появившиеся после 1945 г., - не вы-
полнило ни одной из своих задач, кроме разве что «этнической
чистки», неизменно находившей поддержку в народе. Только она
и осуществлялась с успехом за последние двести лет истории
Восточной Европы.
18 См.: Gellner Е. Nations and Nationalisms. Ithaca, NY: Cornell University Press,
1983. Здесь дается ставшее стандартным объяснение взаимосвязи модернизации и
развития национгиизма, объяснение, которое мне не кажется полностью убеди-
тельным из-за своего сверхдетерминистского характера. Хотя модернизация дей-
ствительно способствует усилению национализма, для расцвета последнего она
все же не обязательна, как показывает наличие Сильнейшего национального чув-
ства у не слишком современного польского и венгерского дворянства (возраже-
ние, что их национализм не являлся современным, весьма шатко, потому что в та-
ком случае тезис Гельнера превращается в простую тавтологию: «модернизация
способствует рождению современного национализма [национализма модерна]»).
С другой же стороны, иногда процессы модернизации даже ослабляли процессы
национализации - вспомним, например, Белоруссию, а отчасти и Украину.
246
' Несомненно, лингвистическая карта Европы, определившаяся
в период с конца XVIII по начало XIX в., стала, как отмечал Нэ-
мир, «великой хартией» европейского национализма. Столь же не-
сомненно, что политическая карта Европы в 1945 г. (а по большо-
му счету и в 1991-м) оказалась ближе к ней, чем была в 1815 г. Но
цена за победу той или иной национальности на своей террито-
рии, особенно в Восточной Европе, была заплачена высочайшая:
постепенно (и зачастую весьма грубо) было стерто былое богатст-
во красок, характерное для лингвистической карты европейского
Востока еще несколько десятилетий назад; до недавнего времени
оно сохранялось только в Югославии и СССР (и сегодня еще со-
храняется и даже как будто возрождается в новых, неожиданных
формах начиная с запада). Своей кульминации этот процесс дос-
тиг благодаря «окончательным решениям» 1939-1947 гг., симво-
лом которых стала еврейская трагедия, экстраординарная и уни-
кальная именно в силу своего крайнего характера.
Итак, XX век прошел под знаком жестокой войны-революции,
состоящей из отдельных не менее жестоких конфликтов, продол-
жавшейся всю его первую половину и определившей схемы, кото-
рые стали прилагаться к последующим десятилетиям. Те, кто стал
жертвой того или иного конфликта или просто участвовал в нем,
не могли отрешиться от этого всю жизнь, по крайней мере пока их
не настигал удар с совершенно противоположной стороны (в при-
мерах недостатка нет, начиная от украинцев Галиции, которые
стали коммунистами, борясь против польских угнетателей, а по-
том были потрясены известиями о голоде 1932—1933 гг. на совет-
ской Украине и вторжением 1939 г., и кончая немецкими комму-
нистами, которых Сталин в 1939—1940 гг. сдал гестапо).
Думаю, объяснить это можно логикой партийности, господство-
вавшей в прошлом столетии. Глядя на исторические работы о XX в.,
написанные в последние десятилетия, не стоит удивляться, если
вдруг оказывается, что даже лучшие из них руководствуются этой ло-
гикой и косвенно находятся под влиянием трагических событий ве-
ликой войны, о которой мы ведем речь. Страницы, принадлежащие
перу самых лучших историков, часто несут на себе отпечаток лично-
го опыта людей, захлестнутых бурными волнами века, который мно-
гим из них не нравился, но выбирать им не приходилось.
Совершенно очевидным примером служит советская история:
слова, которыми я закончил предыдущий абзац, заключают в себе
суть ответа, косвенно данного Моше Левином на мой вопрос,
247
почему даже ему так трудно избежать определенных схем. Пожа-
луй, наиболее удивительно это проявилось в одной из самых попу-
лярных работ, посвященных европейскому XX веку, — «Коротком
двадцатом веке» Хобсбома, где коллективизация, голод, советские
трагедии 1930-х гг. оцениваются должным образом, но фигурируют
в главе, посвященной 1950-м гг. (т.е. времени, когда о них узнал
автор), почти не нарушая схемы, тенденциозно искажающей ин-
терпретацию предшествующих десятилетий, в частности, 1930-х гг.
и второй мировой войны1’.
До сих пор мы смотрели на последний акт великой войны, от-
личавшей XX век в Европе, с точки зрения принесенных ею траге-
дий, которые подтвердили и превзошли самые пессимистические
прогнозы 1930-х гг., упомянутые в конце предыдущей главы. Если
теперь мы сменим ракурс и окинем взглядом все последнее деся-
тилетие этого третьего акта (после 1945 г.), да еще зайдем несколь-
ко дальше, чтобы понять то, что последовало за 1956 г., нам откро-
ются удивительные тенденции, часто прямо противоположные
регрессии, вызванной первой мировой войной.
Разумеется, дела на Востоке шли плохо. Из-за поведения Совет-
ской власти, проводившей в отношении побежденных карательную
политику, основанную на принципе коллективной ответственности
и еще более примитивную, чем политика французов в Версале, на-
ционального «урегулирования» и политики режимов, подчинявших-
ся Москве, Центральная и Восточная Европа во многом была жерт-
вой послевоенного периода. И хотя пересмотр некоторых границ
действительно положил конец вековым конфликтам, а лишение вла-
сти определенных социальных слоев, например польского, румын-
ского и венгерского дворянства, отвечало чаяниям значительной
части населения, цена этих результатов - вспомним, как устраива-
лись польско-украинские или богемские границы, - а также импор-
та тиранических форм, копировавших Москву, и вообще советской
модели в страны, зачастую обогнавшие СССР в своем гражданском
и социально-экономическом развитии, оказалась очень высока.
Попытки решить крестьянскую проблему, подражая тому, что с
успехом было проделано в СССР 15-20 лет назад, т.е. с помощью
насильственной коллективизации и индустриализации сверху, тоже
закончились парадоксальным образом. Поскольку они вызывали
19 Hobsbawm E.J. Ages of Extreme: The Short Twentieth Century, 1914—1991. London:
Michael Joseph, 1994; Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. С. 106-107.
248
яростную реакцию, тем более сильную, чем теснее они переплета-
лись с национальным (и религиозным) вопросом, после первых
больших «успехов» от них приходилось отказываться, нередко под
давлением Москвы, где ближайшие соратники Сталина приветст-
вовали смерть тирана как сигнал, повелевающий резко снизить
уровень принуждения и в самом СССР, и в странах-сателлитах20.
В течение нескольких лет это привело к фактическим компромис-
сам - наиболее показателен из них польский, - которые, как мы
видели в начале главы, позволили крестьянским обществам Вос-
тока дольше сопротивляться атакам малопривлекательного типа
модернизации. Здесь нужно вернуться к характерным чертам со-
ветской модели, как она сложилась в 1930-е гг., когда реакция на-
селения на инициативы государства, кризисы, и экономические
трудности, естественные при претензиях государства на полное
руководство экономикой, ограничила индустриализацию сектора-
ми, приоритетными для выживания государства и утверждения
его в роли великой державы, т.е. военно-научно-промышленным
комплексом и необходимой для него крупной промышленностью.
В СССР, вследствие явлений, в известном смысле сходных
(особенно после хрущевских реформ 1953-1956 гг.)21, крестьян-
ское общество, в корне модифицированное инициативами госу-
дарства, тоже очень долго сопротивлялось модернизации, которая
ему не нравилась и которая превратила деревню в гетто. Оно обра-
зовало консервативное ядро, которое время до сих пор не смогло
разбить: только в 1960 г. число городских жителей (очень широкая
категория) в Советском Союзе превысило число сельских. По-
следние еще в 1990 г. составляли 34% населения страны22.
Однако, в отличие от стран-сателлитов, последствия войны в
СССР были не столь однозначно негативными. Правда, на какое-
то время победа способствовала усилению власти и произвола ге-
нералиссимуса, стимулировала крайне регрессивные формы,
20 Kramer М. The Early Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in East-Cen-
tral Europe: Internal-External Linkages in Soviet Policy Making //Journal of Cold War
Studies. 1999. Vol. 1. No. 1. P. 3-55; Vol. 1. No. 2. P. 3-38; Vol. 1. No. 3. P. 3-66.
21 Lewin M. The kolkhoz and the Russian muzhik // Lewin M. The Making of the
Soviet System. New York: Pantheon, 1985. P. 185-200; Зеленин И.Е. Аграрная поли-
тика H.С.Хрущева и сельское хозяйство страны // Отечественная история. 2000.
№ 1. С. 76-93.
22 Демографический ежегодник СССР, 1990 / Госкомстат СССР. М.: Финансы
и статистика, 1990. С. 7.
249
побуждая Сталина решать проблемы реконструкции своей внут-
ренней и внешней (под маской новых восточноевропейских госу-
дарств) империи исключительно репрессивными методами. Но,
как известно, всего через несколько лет дела в Советском Союзе
приняли иной оборот, и это стало возможным именно благодаря
опыту, накопленному во время войны.
Наконец, на Западе, несмотря на небольшие отступления, напри-
мер развитие военно-промышленных систем, связанных с важными
научными секторами (как, скажем, в атомной области; впрочем, в
отличие от Советского Союза, на Западе никто не использовал за-
ключенных в производстве урана), часто под контролем спецслужб,
система которых развилась в военные годы и укрепилась в эпоху «хо-
лодной войны», послевоенные процессы были бесспорно позитив-
ными. Если кое-где проявлялись и добивались сиюминутного успеха
тенденции, которые можно было бы назвать реакционными, то в це-
лом они являлись как раз реакцией остатков старых слоев и старого
менталитета, доминировавших прежде, на изменения, вызванные и
ускоренные войной и приходом американцев, а не плодом самих
этих изменений и войны как таковой (нельзя, впрочем, отрицать,
что в силу сложившегося международного положения американцы
терпели, а иногда и поощряли такие тенденции).
Поэтому, несмотря на большую жестокость и соответственно
большее распространение феномена брутализации, последний акт
великой европейской войны часто имел иные последствия, чем
первый, иногда прямо противоположные. Почему? Конечно, ог-
ромное значение в этом смысле имела главная роль, которую иг-
рали в европейских делах США после 1945 г. Тем не менее, думаю,
по крайней мере отчасти ответ заключается еще и в том, что этот
акт, в одном отношении самым непосредственным, хотя и проти-
воречивым образом, в другом — благодаря своим непредвиденным
последствиям, стал войной за освобождение от некоторых вели-
ких зол, которые были тогда уничтожены или хотя бы ослаблены.
Главное зло, самое бесчеловечное в самих своих амбициях, -
это Гитлер и нацизм. Но вторая мировая война дискредитировала,
по крайней мере на Западе, и национализм, а значит, косвенно и
национальное государство, нанесла последний удар колониализму
(определявшему сущность и имперское поведение этого государ-
ства). Как известно, она также несомненно укрепила власть и пре-
стиж Сталина, но при этом заложила на Востоке основу для быст-
рого и безболезненного краха сталинского деспотизма и после-
250
дующего развенчания сталинского мифа — первой трещины в
монолите коммунистической квазирелигии, которой между тем
победа Советского Союза дала новую жизнь и новые контуры.
О Гитлере и нацизме мы здесь не будем говорить, разве что
подчеркнем, какой удачей стал полный разгром столь безжалост-
ного и агрессивного имперского проекта.
Иное дело - эволюция крупных западных наций-государств
ввиду ослабления идеологии и многих принципов, служивших опо-
рой их системы. Эти принципы, как заметил в 1938 г. в письме из
тюрьмы Витторио Фоа23, начиная со второй половины XIX в. посте-
пенно стали отождествляться с принципом экспансии собственно-
го государства и собственной национальности (не случайно в нача-
ле XX в. государства, которые мы упорно именуем национальными,
были в то же время империями или стремились стать таковыми)24.
После 1945 г., как временно было и в Веймарской Германии по-
сле краха 1918 г., поражение элит и идей, управлявших этими госу-
дарствами, разгром средоточия их силы направили эволюцию в
23 Играя некоторыми логическими пассажами, игнорируя тот факт, что и либераль-
ные, и социалистические националисты суть в первую очередь националисты, но даже
при всем том ухватив значительную долю истины, Фоа отметил тогда внутреннее
единство идеалов итальянских (впрочем, думаю, это было верно для всех европейских
стран) социалистических, либеральных, радикальных и консервативных национали-
стов. «Кажущееся фундаментальное расхождение их программы-максимум и основ-
ных посылок, если хорошо приглядеться, заключается лишь в степени: экспансия до
определенного пункта, насколько позволят международный консенсус и сохраняю-
щиеся внутри страны либеральные порядки, - у одних; экспансия ценой разногласий
и международных конфликтов, с помощью диктатуры - у других. До 1911 г. первая
альтернатива вряд ли принимала форму конкретных намерений; разногласия появи-
лись, когда во время войны речь зашла о выборе между политикой пораженческой и
националистической (в ущерб национализму других). Но разве существовало когда-
нибудь идейное расхождение в этом смысле? Не думаю, чтобы кого-то восхищала
картина Европы национальных государств с разграниченными и четко очерченными
сферами деятельности, которые любовались бы друг другом с полным уважением к не-
прикосновенности этих сфер. Если признавать динамику истории, на почве нацио-
нальности только экспансия заслуживает восхищения, и, будем последовательны, —
без всяких ограничений. Нет противоречия между национальностью и империализ-
мом, которое видят некоторые историки» (Foa V. Lettere dalla giovinezza. P. 470).
24 Франко Вентури в ответ на муссолиниевскую пропаганду империи воспевал
нацию — исторического врага империи (см.: Venturi F. La lotta per la liberta. Scritti
politici. Torino: Einaudi, 1996). Но, как писал в своих письмах Фоа (ср. выше, прим.
23), национализм и европейские нации-государства с давних пор преследовали
экспансионистские цели.
251
противоположную сторону по сравнению с 1920-ми — 1930-ми гг.
Во Франции (где, правда, после кризиса, вызванного колониаль-
ным вопросом, возобладали иные решения), Италии и Германии
тогда пришли к власти христианские демократы и социалисты, т.е.
силы, чуждые или прямо враждебные прежнему государственному
строю. Одного этого было довольно, чтобы культ превосходства го-
сударства (может быть, и «государственное сознание», но это, с уче-
том перспективы, вопрос второстепенный) оказался в кризисе. К
тому же его ослабил, несмотря на то что множество интеллектуалов
кидались от одного идола к другому, относительный упадок идео-
логического этатизма: вспомним, к примеру, развернувшуюся тогда
борьбу против тоталитаризма.
Даже в победоносной Великобритании, которая не была наци-
ей-государством и не претендовала на это, Черчилль потерпел по-
ражение от лейбористов, которые входили в правительство и рань-
ше, до войны, но именно теперь благодаря плану Бевериджа
внесли величайший вклад в дело решительного утверждения со-
временного социального государства, воспользовавшись частью
контролирующих органов и государственных структур, созданных
во время войны.
Помимо англичан, подстегиваемые примером и давлением
американцев25, часто обгоняя их благодаря своему культурному
наследию, новые правящие партии на континенте также начали
тогда строить «государства всеобщего благосостояния», характер-
ные для Западной Европы после второй мировой войны. Доста-
точно сравнить структуру бюджетов европейских стран, особенно
начиная с 1960-х гг., с эпохой конца XIX в. и даже 1930-х гг.,
чтобы понять, как глубоко изменилась природа государств, на-
правлявших свои средства, обычно по большей части поглощав-
шиеся военным и военно-морским министерствами, министерст-
вом внутренних дел, двором, на пенсионное обеспечение и
здравоохранение, оставляя на «оборону» (само изменение назва-
ния показательно) лишь небольшой процент.
25 Тогдашнее влияние Соединенных Штатов нельзя анализировать как чисто
«внешний» фактор. Со многих точек зрения, речь идет о возвращении в Европу
десятков миллионов европейцев, эмигрировавших в предыдущие десятилетия. Их
присутствие представляло собой один из видов «клея», скрепляющего «атлантиче-
ское сообщество» — феномен исторический и, следовательно, преходящий; его
основы были подорваны обмелением европейского миграционного потока, аме-
риканизацией эмигрантов и, наконец, исчезновением советской угрозы.
252
Эта великая трансформация произошла благодаря политике,
которую часто неправильно называют кейнсианской, и наряду с
ней снова возросло значение государства и его вмешательство в
экономику. Разумеется, как уже говорилось, когда речь шла о
«Новом курсе», этот процесс привел в движение экономические
механизмы, кое в чем схожие, во всяком случае в способе функ-
ционирования, с механизмами военной экономики. Но, как и в
случае «Нового курса», мне кажется ошибкой устанавливать тес-
ную корреляцию между такого рода экспансией государства в де-
мократических условиях, часто связанной с социальными причи-
нами и требованиями, являющейся одновременно плодом и
инструментом интеграции масс в жизнь государства, о которой
столько говорили еще в XIX веке26, и откатом к военно-промыш-
ленному государству с тиранией, характерным для предыдущего
периода (хотя мы знаем, что и национал-социалистические дви-
жения, с которыми такие государства отождествляются, пытались
с помощью агрессивной политики решить проблему «национали-
зации масс»).
Мы видим здесь утверждение государственного образования
нового типа, предсказанного еще Шмиттом, который, с презрени-
ем относясь к Веймарской Германии, нарисовал во многом гротеск-
ный его образ. И его существования достаточно, чтобы сильно ус-
ложнить схему, разработанную Спенсером, учитывая, что оно
предполагает экспансию государства, не связанную с войной и в
определенном смысле (и до определенных пределов) желанную
для важнейших социальных сил.
Как отмечал Э.Галли делла Лоджа27, ослабление традиционного
государства и лежащих в его основе иерархических принципов,
традиционно пронизывавших европейские общества в социально-
политической и даже семейной и сексуальной сферах, способство-
вало к тому же экстраординарной мобилизации индивидов, кото-
рая стала возможной благодаря общей атмосфере свободы,
26 Между прочим, роль, которую во многих странах левые силы сыграли в соз-
дании такого строя и, следовательно, в интегрировании масс в жизнь государства,
против которого те же самые силы формально боролись, проливает свет на их на-
циональный характер. См. также последние страницы главы 3. Интересно отме-
тить, как уловил суть происходящего, по крайней мере в Италии, Д.Гранди, быв-
ший тогда в изгнании (см.: Grandi D. И mio paese. Ricordi autobiografici. Bologna: Il
Mulino, 1985. P. 97-106).
27 Современный итальянский историк и политический обозреватель. — Прим. пер.
253
необходимости и желанию перестройки, а также большой демо-
графической энергии, еще сохранявшейся во всех европейских
странах, и создала основу для экономического чуда послевоенного
периода. В частности, тогда хватило нескольких десятилетий, что-
бы прийти к самоликвидации больших крестьянских обществ, ве-
ками служивших краеугольным камнем европейского Запада, —
при активном участии их членов, воодушевленных стремлением
улучшить свое положение.
В международном плане, опять-таки благодаря давлению аме-
риканцев, кризис наций-государств, элит, ими управлявших, и
колониальных империй, с ними связанных, открыл дорогу госу-
дарственному устройству нового типа, сначала в виде Общего
рынка, затем — Европейского Союза. Характерно, что, несмотря
на несомненную роль либерал-социалистических меньшинств, от-
цами этого устройства были три христианских демократа — Шу-
ман, Аденауэр и Де Гаспери, представители культуры, которая
долгое время была враждебна миру, созданному 1789-м годом, и
глубоко чужда тому национализму, который, по словам Шабо,
представлял и представляет собой «отрицание европейского уни-
тарного духа»28 29.
Нужно добавить, что даже попытка создания общеевропейско-
го государственного устройства, несмотря на долгий мир, благо-
приятствовавший его развитию, призывы к демократии и свободе,
присущие, по счастью, официальной риторике, добровольный и,
силою вещей, анациональный его характер, в конце концов при-
вела к появлению топорных идеологических манифестаций, при-
званных оправдать эту попытку, часто опирающихся на историче-
ские реконструкции или довольно спорные концепции роли
истории и историков2’.
Ускоряя наступление кризиса основных европейских держав
и наций-государств, являющихся по совместительству империя-
ми, вторая мировая война также положила начало финальной
фазе деколонизации и соответственно окончательной утраты
Европой того исключительно привилегированного положения,
которое она занимала несколько столетий. Как и в случае пер-
28 Febvre L. L’Europe. Genese d’line civilization. Paris: Perrin, 1999. P. 321; Chabod F.
Storia dell’idea d’Europa. Bari: Laterza, 1961. P. 133 ss.
29 См. весьма острое введение Н.Дэвиса: Davies N. Europe. A History. New York:
Harper, 1998; Storia e storici d’Europa nel XX secolo / A cure di M.M.Benzoni,
B.Vigezzi. Milano: Unicopli, 2001.
254
вой мировой войны (и в еще большей степени), это произошло
благодаря участию в боевых действиях подданных колоний,
многие из которых впоследствии составили военные и органи-
зационные кадры национальных движений, а также благодаря
идеологии, под знаменем которой велась война (во всяком слу-
чае, на Западе).
Сама военная пропаганда «Британских имперских агентств»
много сделала, чтобы возбудить надежды на свободу в колониях,
представляя, например, в Африке вторую мировую войну как «vita
vya uhruru» (войну за свободу). В 1949 г., отвечая Вашингтону,
спрашивавшему, какие силы заставляют африканцев бороться за
независимость, будущий президент Нигерии Азикиве воспользо-
вался отрывком из выступления Элеоноры Рузвельт несколько лет
назад: «Мы ведем сегодня войну за то, чтобы люди во всем мире
имели свободу». Та же Э.Рузвельт определяла эту свободу как
«равные шансы для всех на пищу и кров и немножко того, что на-
зывают счастьем»30.
Борьба за свободу, подразумевающая также избавление от нуж-
ды, отождествлялась с борьбой за «национальную» независимость
(кавычки здесь необходимы, ибо часто речь шла о территориях,
где жили вместе несколько этнических групп), а значит — с нацио-
нализмом. Как несколько десятков лет назад в Восточной Европе,
последний, по понятным причинам, связывался с социализмом:
ведь и в колониях, по сути, речь шла об освобождении от ино-
странцев, которые занимали одновременно верхушку этнической
и социально-экономической пирамиды, кроме того, существовала
модель для подражания — советская, которой победа принесла ог-
ромный престиж, заслонив и прошлые трагедии, и гигантские
проблемы.
Когда затем, после 1945 и особенно после 1956 г. (после того
как разрешение Суэцкого кризиса сделало очевидным полный
кризис европейских империй — уж если Великобритания и
Франция даже в союзе друг с другом были не в состоянии про-
водить самостоятельную внешнюю политику, идущую вразрез с
желаниями двух «сверхдержав», то a fortiori становилось ясно,
что ни одно европейское государство больше не является вели-
кой державой в понимании Ранке) произошел настоящий взрыв
зо Davidson В. The Black Man’s Burden. Africa and the Curse of the Nation-State.
New York: Times Books, 1992. P. 163—164.
255
государственного строительства в «третьем мире», то и другие
факторы толкнули большинство на дорогу, проложенную в свое
время Советским Союзом.
Несмотря на очень разные условия, речь снова шла о том, что-
бы построить новое государство, одновременно создав в нем со-
временный сектор (армия, промышленность, школа и пр.), необ-
ходимый для его существования, причем все это в условиях
отсталости, соревнования со старыми и вновь пришедшими хо-
зяевами, нередко перед лицом сложных этнических проблем, ис-
пытывая потребность (в том числе психологическую) дистанциро-
ваться от Запада и его культуры.
Результатом стал чрезвычайный расцвет более или менее
оригинальных («национальных») и националистических типов
социализма, для которых СССР - в том числе в силу междуна-
родного положения — служил важным ориентиром. Марксизм
немецко-советского происхождения стал, таким образом, на не-
которое время главным наследником гегелизма и экономиче-
ского национализма Листа, которыми руководствовались мно-
гие строители государства в континентальной Европе XIX в., —
идеологией государственного строительства в условиях отстало-
сти в XX в.31
Высочайшую цену, которую пришлось заплатить за такой вы-
бор, многим казавшийся (и в известном смысле бывший) обяза-
тельным, мы не можем здесь обсуждать. Добавим только, что ис-
тория Пиренейского полуострова и с точки зрения распада
колониальных империй и рождения на их территории государств,
выбравших советскую модель (я имею в виду прежде всего Порту-
галию, поскольку кризис испанской колониальной империи на-
ступил раньше, привел к пересмотру самого места Испании в
мире и сильно способствовал появлению группировок, борющих-
ся за то, чтобы найти решение проблемы), подтверждает сравни-
тельную изоляцию его от процессов, идущих по ту сторону Пире-
неев. Однако и в этом случае положение дел потом очень быстро
изменилось.
Как уже отмечалось, хотя есть основания утверждать, что вой-
на, по крайней мере косвенно, положила конец сталинизму, связь
первой со вторым неоднозначна. На короткий период победа уп-
рочила власть и образ Сталина, который, как писал В.Гроссман в
31 Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo. P. CIX.
256
романе «Жизнь и судьба»32, с полным правом мог считать, будто
снег, укрывший тела немецких солдат, павших под Сталинградом,
укрыл также в сознании его собственных подданных и людей с За-
пада и жертв голода 1932-1933 гг., большого террора, массовых
депортаций, осуществленных по его приказу.
Уже упоминавшиеся репрессивные методы решения проблемы
реконструкции, взятые на вооружение Сталиным и не встретив-
шие сколько-нибудь серьезной оппозиции, жестокое усмирение
завоеванных территорий, обращение с оккупированными страна-
ми, депортации по этническому признаку, голод 1946-1947 гг.,
прирост населения лагерей, колоний и мест ссылки, драконовские
меры против мелких расхитителей государственной собственно-
сти, которыми двигало стремление выжить, применение, даже по-
сле победы, в самых широких масштабах антирабочих законов,
принятых в 1940 г., набиравшая силу антисемитская кампания на-
поминают нам, что, пусть на короткий период, война вызвала в
СССР новый «откат».
Тем не менее, как свидетельствуют убедительные аргументы,
можно утверждать, что сталинизм начал отмирать еще в 1941-1942 гг.
В 1944 г. новый устав Красной Армии, основанный на опыте
1943 г., провозгласил основными принципами действий советских
офицеров «маневр, неожиданность и инициативу» - они должны
были всегда быть готовы «принимать смелые и разумные реше-
ния» и брать на себя ответственность. В целом формально призна-
валось, что активное участие людей, полагающихся на собствен-
ное суждение и собственную волю (т.е. нечто совершенно
противоположное тому, чему учили народ репрессии предыдущего
десятилетия), необходимо для победы. В те же месяцы прямое и
личное знакомство с реалиями Прибалтики, Богемии, Венгрии,
Германии, Австрии, даже Польши, Словакии, Болгарии и Румы-
нии опровергло в глазах миллионов фронтовиков десятками лет
ведущуюся советскую пропаганду, толкующую об успехах СССР и
жалкой участи «Запада», который вдруг оказался бесконечно бо-
лее богатым и благоустроенным, чем их собственная страна33.
32 «Жизнь и судьба» В.Гроссмана (М.: Книжная палата, 1990) — величайший ро-
ман и вместе с тем прекрасное и достоверное изображение реалий войны на Вос-
точном фронте, какими они выглядели с советской стороны.
33 Zubkova Е. Russia After the War: Hopes, Illusions and Disappointments, 1945—
1947. Armonk: Sharpe, 1998; Glantz D.M., House J. When Titans Clashed. How the
Red Army Stopped Hitler. Lawrence: University Press of Kansas, 1995.
257
Война с немцами, выигранная режимом, но и народом, а точ-
нее - союзом режима и народа, имеет поэтому два противополож-
ных лица. С одной стороны — упрочение власти и образа Сталина,
рост репрессий и произвола, с другой — обретение нового досто-
инства большинством народа или, вернее, народов, униженных
предыдущим десятилетием. Для очень и очень многих победа фак-
тически стала лекарством от прежних страданий, последние пере-
стали составлять главный опыт жизни людей, которые могли те-
перь идентифицировать себя на основе новых, гораздо более
позитивных испытаний (тот факт, что эти испытания - и победа -
отчасти заменили потом революцию в качестве главного мифа, ле-
жащего в основе легитимности СССР, — признак коренного изме-
нения, которое война произвела в природе режима, прожившего
фактически две жизни, но, естественно, перенесшего во вторую
многие характерные черты первой)34.
Эта двойственность войны отразилась и в натуре бывших
фронтовиков - приобретших на войне субъективный опыт и но-
вые знания и в то же время лично привязанных к Сталину, с име-
нем которого сражались и побеждали. Они не только сами не мог-
ли освободиться от него, но и зачастую несли другим его политику
и его жестокость.
Тем не менее задним числом можно утверждать, что первое из
двух лиц было временным явлением или, точнее, второстепенным,
хоть и трагичным аспектом более глубоких и в основе своей пози-
тивных процессов. Создав государство, легитимное в глазах его гра-
ждан (пусть с тысячей фундаментальных особенностей, о которых не
стоит забывать), война заложила основу для падения режима репрес-
сий и произвола, которому сама же помогла укрепиться. В этом
смысле понимание противоречивости рожденных войной импульсов
(помимо влияния деспотического режима на жизнь элиты, в первую
очередь зависящей от капризов тирана, о чем мы говорили в первой
части) поможет нам понять, как в течение нескольких дней после
смерти Сталина мог произойти крутой поворот к реформам, с поли-
тической целью которых — смягчением режима — соглашались все
участники - разделяли их только личные амбиции.
Как мы знаем, за два-три года были упразднены важнейшие
элементы прежнего режима: вместе со Сталиным исчезла большая
34 Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshe-
vik Revolution. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001.
258
часть особого законодательства 1930-х гг. и антирабочих законов,
система принудительного труда значительно сократилась, многие
депортированные народы были реабилитированы и получили раз-
решение вернуться домой, аборты снова стали легальными, развод
был облегчен; серьезные реформы в деревне и пересмотр закупоч-
ных цен на сельскохозяйственную продукцию привели к заметно-
му улучшению условий жизни колхозников, Хрущев принял пер-
вый в советской истории серьезный план расходов на социальные
нужды.
Однако открывшейся с 1956 г. возможностью демонтировать
систему, построенную в 1930-е гг. начиная с коллективизации и
форсированной индустриализации, не воспользовались, да, на-
верное, и не могли воспользоваться по многим причинам, хотя,
вероятно, тогда был упущен единственный «удобный момент» для
радикального реформирования организма, окрепшего благодаря
победоносной войне, легитимировавшей его в глазах большинства
населения.
Устояла бюрократическая система, иерархизированная, глубо-
ко авторитарная, владеющая целым экономическим и распредели-
тельным аппаратом, имеющая за собой могучую армию и военно-
промышленный аппарат, повелевающая обширной империей и
способная производить на внешний мир впечатление силы и
прочности. Истинная ее сущность стала заметнее, когда после от-
ставки Хрущева в 1964 г. она освободилась от последних остатков
деспотизма вместе с большей частью идеологических претензий и
исходящего от них очарования. Тогда же стали заметнее или, луч-
ше сказать, стало легче нащупать подтачивающие ее трещины,
проведенные силами, которые готовились ее взорвать.
В самом деле, несмотря на видимость силы и прочности, кото-
рую СССР долго умел создавать, эти трещины можно было раз-
глядеть с самых дней победы: например, как точно подметил еще в
1945 г. Джордж Кеннан, внешняя империя, состоящая из стран
Восточной Европы, была слишком большим отравленным кус-
ком, чтобы Советский Союз мог надеяться его переварить. Откры-
тие архивов позволило Марку Кремеру показать, что страны-са-
теллиты немедленно стали костью в горле режима: их вечная
нестабильность, поиск способов уменьшить ее тесно переплета-
лись с десталинизацией, то ускоряя ее, то замедляя или сбивая с
курса. События 1956 г., польский мятеж и восстание в Будапеште,
возвестили о начале новой фазы и в этом лагере и способствовали
259
тому, что великая возможность радикальной реформы советской
системы, предоставленная десталинизацией, пропала даром35.
Следует к тому же помнить, что часть стран Восточной Европы
в 1945 г. была прямо аннексирована СССР. Как отмечал Роман
Шпорлук, эти территории стали еще одним, отдельным отравлен-
ным куском. Они служили как бы передаточным механизмом, пе-
редающим в самое сердце империи волнения, возникающие на ее
периферии. Любопытно сегодня, с этой точки зрения, видеть, с
какой настойчивостью украинские руководители в 1968 г. требо-
вали от колеблющейся Москвы ввести войска в Чехословакию,
обвиняя последнюю в том, что от нее нестабильность распростра-
няется на западные окраины новой советской Украины (которая,
напомним, сильно округлила свою территорию за счет частей
Польши, Чехословакии и Румынии). Уже в начале 1950-х гг. кри-
зис системы принудительного труда, которую потом взорвали
крупные бунты 1953-1954 гг., был ускорен, если не спровоциро-
ван заключением в лагеря десятков тысяч бойцов и активистов на-
ционалистических партизанских движений с новых территорий,
аннексированных СССР. Они там быстро создали густую сеть тай-
ных организаций, боровшихся за контроль над лагерями и гото-
вивших восстание36.
Когда не стало Сталина с его репрессиями, произволом и ка-
призами и прошло определенное время после окончания войны,
на которую можно было свалить вину за ряд трудностей специфи-
ческой советской экономической системы, начала становиться
все яснее ограниченность ее возможностей. Негласным признани-
ем этого факта служили попытки реформ, которым, однако, в
35 Kennan G. Memoirs (1925—1950). New York: Pantheon Books, 1983. P. 501 ss.;
Kramer M. The Early Post-Stalin Succession Struggle and Upheavals in East-Central
Europe.
36 Ukraine and the Soviet-Czechoslovak Crisis of 1968 (Part 1): New Evidence from
the Diary of Petro Shelest I Ed. by M.Kramer 11 Cold War International History Project
Bulletin. 1998. Vol. 10. P. 234—247 (о важной роли Украины, подтолкнувшей Моск-
ву к интервенции в Прагу, и раньше, до того как стали доступны новые докумен-
ты, догадывались историки и наблюдатели, например Петер Логичный); Szporluk R.
Russia, Ukraine and the Breakup of the Soviet Union. Stanford, Calif.: Hoover Institu-
tion Press, 2000. P. XIX - XL1X; Graziosi A. The great strikes of 1953 in Soviet labor
camps in the accounts of their participants // Cahiers du monde russe. 1992. Vol. 4.
P. 195—234; Craveri M. Ascesa, crisi e disgregazione del sistema del lavoro forzato in
Unione sovietica. La resistenza dei prigionieri nei campi di lavoro, 1945—1956: tesi di
dottorato. Istituto Universitario Europeo, 2000.
260
1968 г. опасение стимулировать новые «авантюры» наподобие че-
хословацкой положило конец и тем ускорило разложение систе-
мы, оказавшейся, по сути, в тупике.
Если мы вспомним, что корни как сталинской тирании, так и
советской бюрократически-экономической системы кроются в
первой фазе великого европейского конфликта, что эта система
представляла собой крайнюю форму военной экономики, появив-
шейся во всей Европе в 1914-1918 гг., то и события советской ис-
тории после второй мировой войны покажут нам, что эта война,
вместо того чтобы снова привести к регрессу, заложила основы
для преодоления регресса, вызванного предыдущим мировым
конфликтом.
В отличие от того, что не без оснований предсказывали в 1930-е гг.,
опираясь на догадки Спенсера, такие великие либеральные мыс-
лители, как Алеви, война в целом не только и не всегда — фактор
отката назад. В 1935 г. убежденность в обратном заставила Фише-
ра закончить свою «Историю Европы», возлагая все надежды на
мир. «Европа дошла до такой точки, - писал он, - в которой она
более четко, чем когда-либо в прошлом, оказалась поставлена пе-
ред необходимостью выбирать из двух прямо противоположных
путей: развязать ли новую войну или... работать ради прочной ор-
ганизации мира» и таким образом со временем преодолеть «пе-
чальное наследие» предыдущей войны.
Эта ошибка позже заставила его поддержать чемберленовскую
политику «примиренчества» в отношении нацизма, мотивирован-
ную в том числе уже упоминавшимся чувством вины за Версаль.
Однако задним числом, по-видимому, можно утверждать (как это
ни парадоксально), что только благодаря войне, вернее, благодаря
особому и очень сильному оттенку борьбы за освобождение от зла,
принятому второй мировой войной, стало возможно позитивное
разрешение дилеммы, которой Фишер завершил свой труд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эббот Глисон в заключение своего исследования исто-
рии понятия тоталитаризма заметил: «Возможно, в ближайшие
годы то, что называют тоталитаризмом, будут рассматривать всего
лишь как крайний пример такой фазы человеческой истории, ко-
гда политические акторы чрезвычайно переоценивали власть го-
сударства и политики в деле преобразования действительности,
недооценивая более медленное и сложное, но, по-видимому, бо-
лее глубокое культурное и экономическое изменение». Может
быть, добавляет он, «корни такого роста власти и престижа госу-
дарства будут прослеживаться во впечатляющих результатах моби-
лизации Германской империи во время первой мировой войны и
во влиянии подобного же рода мероприятий на Россию, Италию и
снова на Германию. Таким образом, “эру тираний” Алеви можно
считать закончившейся1...»
С этой мыслью вполне можно согласиться и оттолкнуться от
нее в попытке вкратце резюмировать интерпретацию, представ-
ленную в данной книге.
В общем и целом, с принятой мною точки зрения, фазу челове-
ческой истории, о которой говорит Глисон, характеризует великая
волна государственного строительства в условиях демографическо-
го бума, модернизации и национализации, зародившаяся в Европе
и распространившаяся затем по всему миру. И хотя ее высшие точ-
ки непосредственно связаны с последствиями первой мировой вой-
ны или, точнее, блока событий 1905-1923 гг., необходимо учиты-
вать и эффект усиления, получившийся, когда она докатилась до
территорий, неоднородных в культурном, лингвистическом, этни-
ческом или религиозном отношении и «отсталых» - в социально-
экономическом (кавычки здесь необходимы, поскольку речь идет о
такой отсталости, которая нередко объясняется глубокими разли-
чиями, а не только и не столько положением того или иного регио-
на на более низкой ступени воображаемой шкалы эволюции).
1 Gleason A. Totalitarianism. New York: Oxford University Press, 1995. P. 209.
262
В частности, есть основания утверждать, что процессы строи-
тельства и реконструкции государства, вылившиеся — если не счи-
тать многочисленных неудач - в быстрое раздробление планеты
на несколько сотен более или менее независимых государств,
представляют собой, наряду с первичными изменениями, такими,
как демографические и те, что обычно связывают с процессами
модернизации (развитие технологии, урбанизация, перемены в
образовании, структуре семьи и семейных ролях) и национализа-
ции (включая демократизацию), один из фундаментальных, обще-
распространенных феноменов двух последних столетий.
Большая часть новых государств, включая те, что были задуше-
ны чуть ли не в зародыше, и все те, которые старались перестро-
иться, осознав утрату престижа и могущества либо действительно
потерпев военное поражение, оказались (более или менее надол-
го) в условиях жестокой конкуренции, страдая при этом понят-
ным и порой очень остро выраженным синдромом слабости. По-
пытки обрести силу, заодно упрочив или восстановив свою власть
над обществом, шли, как правило, в двух направлениях.
С одной стороны, старые и новые государства придерживались
политики более или менее прямой и принудительной индустриа-
лизации и модернизации, положив начало неомеркантилистскому
периоду, во время которого более тесное взаимопроникновение
государства и экономики, обусловленное появлением промыш-
ленности, предопределило тут и там рождение «военно-промыш-
ленных государств», вызванных потом к жизни первой мировой
войной.
С другой - все государства столкнулись с проблемой нацио-
нализации и гомогенизации «масс», т.е. интеграции подданных
в жизнь государства, которая - как показал пример Франции —
сама по себе являлась мощнейшим и независимым фактором
усиления.
С государственной точки зрения, и проблемы модернизации,
и проблемы национализации неимоверно усложнялись благодаря
напору, в основном в том же направлении, но идущему снизу и
связанному с демографическим взрывом, урбанизацией, улучше-
нием условий жизни и повышением уровня образования, с повы-
шенными ожиданиями, порожденными этим улучшением. Напор
делался все сильнее и яростнее, по мере того как росла масса мо-
лодежи, ищущей свое место, которого традиционное общество
было не в состоянии ей предоставить, и развивалось ощущение
263
отчужденности, маргинальности, порожденное той же модерни-
зацией.
Там, где, как в Восточной Европе по Мизесу, государственные
проекты и натиск снизу осуществлялись в условиях глубочайшей
неоднородности, трения и трудности многократно возрастали; от-
четливо проявлялись, с одной стороны, новая, величайшая хруп-
кость многонациональных империй перед лицом изменившихся
задач, которые ставили перед государством новые условия, а с
другой - сильный импульс, идущий как сверху, так и снизу, как со
стороны нэмировских master nations, так и от гегелевских «наро-
дов без истории», к возникновению разных видов «нострифика-
ции» и национал-социализма.
Одновременно особое положение превосходства, демогра-
фического и культурного (в широком смысле - от технологии
до форм государственного устройства), временно занятое Ев-
ропой благодаря тому, что именно в этом регионе впервые в
мире произошли новые изменения, привело к возникновению
и распространению колониальных империй, которые не просу-
ществовали и столетия. Однако, при всей краткости этого пе-
риода, его хватило, чтобы в нациях-государствах, превратив-
шихся в имперские центры, появились идеологии, призванные
легитимировать их господство и произвол, репрессивную прак-
тику, которая должна была гарантировать сохранение импер-
ских привилегий.
Именно на этом фоне следует рассматривать влияние великой
войны-революции, игравшей центральную роль всю первую поло-
вину XX в. в Европе, — конфликта, развивавшегося в несколько
этапов, приведшего сначала — путем экстремизации и селекции
уже идущих процессов — к рождению великих тираний с военно-
промышленной государственной системой, о которых мы говори-
ли, а потом - благодаря парадоксальным эффектам его финаль-
ной фазы в ближайшей и более дальней перспективе - либо к бы-
строму исчезновению, либо к долгой агонии тех же самых
образований. И все это происходило под знаком неуклонного,
хотя отчасти противоречивого умаления европейских master
nations на континенте, к которому вскоре добавился общий отток
белой расы-хозяйки в мировом масштабе.
Если мы посмотрим на саму войну-революцию, как она пред-
ставлена в данной работе, то ее нужно интерпретировать на трех
уровнях.
264
Первый уровень — спенсеровские «откаты», вызванные первой
мировой войной. Этот термин требует уточнения по крайней мере
в двух отношениях.
С одной стороны, речь идет, как я уже писал, об откатах не в
буквальном смысле, а с точки зрения нашего суждения о событиях
и их влияния на жизнь людей. Хотя на свет появились государства
и общества, более простые и грубые сравнительно с теми, кото-
рым они пришли на смену, но факторы ими продуцировались но-
вые, следовательно, современные. Кроме того, они настолько из-
менили действительность, что какое бы то ни было возобновление
«развития» с той точки, на которой оно якобы остановилось перед
войной, стало невозможным.
С другой стороны, хотя общества и государства, рожденные
войной, были более жестоки, данные об образовании, видах на
жизнь, рождаемости, смертности и т.д. показывают, что в боль-
шей части Европы между двумя мировыми войнами, несмотря на
кризис 1929 г. и голод 1932—1933 гг. в СССР, продолжался «про-
гресс», набиравший обороты еще в предыдущем веке. С этой
точки зрения, новое ускорение развития после 1945 г. можно
рассматривать как продолжение процесса, никогда не прерывав-
шегося полностью.
Так что вопрос можно переформулировать следующим обра-
зом: что было «откатившегося», отсталого в Европе между двумя
мировыми войнами? А ответ может быть таков: форма, характер и
образ действий государства и политики, идеология, психология и
поведение большей части элит и населения, значительная часть
высокой культуры2, особенно в сфере гуманитарных наук, нако-
нец, концепция функционирования экономики (которая, правда,
была основана на более точном — на данный короткий период
2 Можно было бы возразить, что для литературы, историографии, экономики,
живописи и т.д. после 1918 г. наступила исключительная пора. Но плоды ее чаше
всего были произведением людей, выросших до первой мировой войны, и идей,
созревших тогда же. Я бы сказал, что в области культуры существует, как правило,
некий временной зазор между разработкой новых концепций и их проявлением.
С этой точки зрения, высокая культура 1920-х гг. являлась таковой, поскольку
имела дело со стилем и проблемами предшествующих десятилетий. Классический
пример такого рода — СССР времен нэпа, когда блистали последние отсветы ве-
ликой культуры имперской России. Вероятно, то же самое можно сказать и о фа-
шистской Италии. Но это, конечно, не значит, что чрезвычайный опыт и чрезвы-
чайные нужды войны не способствовали рождению в некоторых областях новых
идей и нового восприятия.
265
времени — понимании ее механизмов) и руководство ею со сторо-
ны государства. Кульминацией подобного отката стали великие
европейские тирании 1930-х гг. с их военным и «промышленным»
государством, столь тесно связанные с личностью возглавлявших
их тиранов.
За этой кульминацией (и под ней) скрывалось уже упоми-
навшееся общее движение к национал-социализму, советский
вариант которого представлял собой нетипичный случай в
силу оригинального, хотя и временного решения националь-
ного вопроса, найденного Лениным, — реконструкции квази-
имперского пространства в условиях, неблагоприятных для
империй.
На втором уровне нужно подчеркнуть революционную при-
роду — я употребляю здесь этот термин в совершенно нейтраль-
ном, безоценочном смысле — великой войны 1905—1956 гг. и
тем самым сосредоточить внимание на новых факторах, порож-
денных ею.
Как показывают обострение феномена этнических чисток и
лихорадочные, отчаянные передвижения населения, характерные
для рассматриваемого периоду, речь идет о факторах, зачатую тес-
но связанных с его «регрессивной» сущностью, занимающей цен-
тральное место на первом уровне интерпретации.
Среди них следует вспомнить исчезновение целых социаль-
ных слоев, как господствующих (например, прусских юнкеров,
российского и большей части польского дворянства), так и
подчиненных (наиболее очевидный пример - русский и укра-
инский крестьянский мир, кочевники Средней Азии, наполо-
вину уничтоженные насильственной деномадизацией начала
1930-х гг.).
Мы видели, что в обоих случаях существует сильная, нередко
самая прямая связь с национальным вопросом (подумаем, к при-
меру, об уничтожении инородного дворянства и городского насе-
ления на значительной части территории Восточной Европы),
каковой вопрос, взятый в широком смысле, в немалой степени
предопределил изничтожение львиной доли еврейских общин и
стал подоплекой резкого ускорения ухода имперских националь-
ностей — который, впрочем, начался на Балканах еще в XIX в. —
с территорий, где они господствовали веками и где их власть за-
частую уже была подорвана раньше такими явлениями, как
урбанизация.
266
С этой точки зрения, можно утверждать, что главные результа-
ты войны-революции заключаются в постепенном, но весьма су-
щественном сокращении площади Мизесовой Восточной Европы,
ускорившемся благодаря массовым перемещениям населения, вы-
званным двумя мировыми войнами: к концу 1940-х гг. к этой Ев-
ропе уже не принадлежали Польша, Чешская Республика, Слова-
кия, Германия, Австрия и Венгрия (хотя в Южном Тироле и
Трансильвании еще оставались и остаются меньшинства выходцев
из последних двух стран).
Мы знаем, однако, что было два важных исключения — рус-
ско-советское и сербско-югославское. На двух федеральных про-
странствах, вновь организованных вокруг этих двух националь-
ностей, в действительности шли противоречивые процессы: с
одной стороны, упоминавшаяся выше национализация, развора-
чивавшаяся в национальных республиках, составлявших федера-
ции (почему эти федерации, как уже говорилось, и превратились
в инкубаторы национальных государств), с другой — перемеще-
ния отдельных людей и целых народов внутри федерального про-
странства. Эти перемещения, как насильственные (в случае ста-
линских депортаций), так и поощряемые сверху или совершенно
стихийные (скажем, переселение русских в Прибалтику, на Ук-
раину и в Казахстан, причем в последний переехало и много ук-
раинцев, - или миграция всех национальностей в Москву), здесь
и там растягивали границы Мизесовой территории, углубляя или
изменяя ее характер.
Мы видели также, что в тех регионах Центральной и Восточной
Европы, где более или менее исключительно воцарилась какая-то
одна национальность, в том числе в результате прошедших там
процессов насильственной гомогенизации, после 1945 г., напро-
тив, усилилась общая тенденция к национал-социализму или го-
сударственному социализму, характерная для предшествующего
десятилетия.
В центре третьего уровня интерпретации стоит вопрос о
влиянии войн на эволюцию человеческих обществ. Хотя пер-
вая мировая война действительно подтвердила гипотезы Спен-
сера о его регрессивном характере и, следовательно, «реакци-
онной» по сути природе войн, опыт второй мировой войны,
имевшей совсем другие результаты, по-видимому, говорит о
необходимости модифицировать эти гипотезы, т.е. допустить
такую возможность, что войны, несмотря на причиняемые ими
267
величайшее горе и страдания, могут быть и «благом», в смыс-
ле — способствовать росту, а не уничижению свободы и досто-
инства человека’.
С этой точки зрения, чудо 1945 г. состоит не только в разгроме
нацизма и ослаблении фундамента сталинской тирании, сказав-
шемся несколько лет спустя, но и в поражении, нанесенном ос-
новным националистическим движениям Европы. В 1789 г. нация
оказалась «подводным камнем, скалой, о которую разбился ко-
рабль европейских надежд»3 4 с экипажем из одиноких джентльме-
нов, в 1945 г. скала была разбита, и это сделало возможным - хотя
вовсе не неизбежным — возрождение Европы, такой Европы, ко-
торая (именно благодаря предыдущим процессам национализа-
ции) могла теперь стремиться стать общей.
Наконец, размышления о войне и ее революционной роли,
как в хорошем, так и в плохом, помогли нам увидеть не менее
революционную роль долгого мира, последовавшего за распадом,
начиная с 1945 г., последнего и величайшего из военно-промыш-
ленных государств, созданных первой мировой войной, и\наступ-
лением новой эпохи благодаря завершению решающей фазы
процессов модернизации, связанной с исчезновением проблемы
и цивилизации крестьянства, а также (и прежде всего) — с пере-
ломом демографичеких тенденций, доминировавших в европей-
ской истории на протяжении XVIII—XX вв., и прекращением
стихийной национализации, спровоцированной этими тенден-
циями.
Оценивая эффект этого долгого мира, и в первую очередь его
воздействие на советский режим, задаешься вопросом, не прав
ли был, хотя бы отчасти, Фишер, ратовавший в середине 1930-х гг.
за мир любой ценой, веривший в его революционное влияние на
3 Итальянский историк Карло Фумиан предположил, что различный исход
первой и второй мировых войн некоторым образом связан с тем, что можно было
бы назвать разным «количественным» значением обоих конфликтов. После пер-
вой мировой войны еше можно было думать о том, чтобы воевать снова. После
второй, потенциал которой был накоплен еще благодаря первой, доза войны, вы-
павшая на долю континента, оказалась так велика, что всякие желания такого
рода пропали. Но не стоит забывать, что иа Западной Украине и в Израиле, в
Польше и Прибалтике многие еще продолжали сражаться за национальную неза-
висимость, а по всей Восточной Европе, как мы видели, не прекращались процес-
сы «этнической чистки».
4 Febvre L. L’Europe. Genfese d’une civilisation. Paris: Perrin, 1999. P. 237.
268
военно-промышленные государства и тирании, возникшие в ре-
зультате первой мировой войны? При этом он, как выяснилось,
безосновательно боялся регрессивного эффекта новой войны;
впрочем, его страхи разделял и Алеви, который в ходе полемики,
развернувшейся вокруг его тезисов, на вопрос о долговечности
тираний ответил, что единственная надежда — на длительный пе-
риод мира. Но, добавил он тут же, такого мира не будет, по-
скольку тирании хотят войны, а это толкает и сохраняющиеся
демократии к тоталитаризму5.
Однако именно война, которой так боялись, принесла мир, и
к тираниям, потерпевшим поражение во время первой, прибави-
лись те, которые (как и предсказывалось) погубил второй. В этом
отношении можно четко сформулировать вопрос, вытекающий
из тезисов Фишера и Алеви: оказал бы долгий мир такое же со-
крушительное воздействие, как на советскую систему, на другие
типы тираний и военно-промышленных государств, особенно на
нацизм, если представить, что последнему удалось бы избежать
судьбы, на которую его обрекало резко агрессивное отношение к
внешнему миру? Этот вопрос, как мне кажется, может предло-
жить новые основы для дискуссии о сравнительной воспроизво-
димости и живучести гитлеризма и сталинизма6, но найти на
него ответ трудно. В любом случае, даже будь мир в 1930-е гг.
возможен и если бы он в конце концов сыграл такую же освобо-
дительную роль, как вторая мировая война, возможно (в свете
всего происходившего затем в послевоенный период), это потре-
бовало бы гораздо больше времени и принесло европейским на-
родам больше страданий, лишив их к тому же удовлетворения и
гордости от сознания того, что они боролись со злом (то, что на
Западе потом борьбу вели элиты, состоящие всего из нескольких
сотен тысяч человек, не столь существенно в сравнении с палин-
генетическим значением, которое она имела для коллективного
сознания, для нравственного и конституционного пересоздания
государств).
Начав размышлять о проблеме воспроизводимости и способно-
сти к выживанию тираний и военно-промышленных систем, мы
увидим в двух великих исторических процессах, о которых я не раз
5 Halevy Е. L’dre des tyrannies. Paris: Gallimard, 1938. P. 225—227.
6 См., напр.: Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison / Ed. by I.Kershaw,
M.Lewin. Cambridge - New York: Cambridge University Press, 1997. P. 6 IT., 355 fT.
269
говорил, — расцвете разного рода деспотизма, тираний, этатизма,
национал-социализма, обусловленном распадом бывших евро-
пейских колониальных империй, с одной стороны, и мирном де-
монтаже советской системы — с другой — подтверждение гипотез,
выдвинутых в данной работе и кратко суммированных в начале
Заключения.
Прежде всего, как мне кажется, количество и разнообразие ти-
пов национал-социализма, появившихся в бывших колониях,
подтверждают важное значение этой категории для удовлетвори-
тельной интерпретации истории XX в., притом не только европей-
ской. Вообще история трех десятилетий после окончания второй
мировой войны как будто специально представляет нам иллюстра-
цию великого множества возможных «искажений» процессов го-
сударственного строительства в более или менее чрезвычайных ус-
ловиях в современную эпоху.
Впечатляющий успех советской модели в бывших колониях по-
сле ее европейского триумфа в 1945 г. (на который изучение укра-
инского национал-коммунизма 1920-х гг. позволяет взглянуть в
новом ракурсе7) и не менее впечатляющий стремительный ее крах
кажутся мне последним доказательством верности принятой нами
точки зрения. В этом отношении небезынтересно вспомнить, что
размышления о происходящем в «третьем мире» и сопоставимости
его с советским феноменом уже в начале 1960-х гг. заставили Ро-
берта Таккера выступить с его знаменитой критикой категории то-
талитаризма. Он предложил тогда вести речь о «революционных
режимах с массовыми движениями под эгидой единой партии» —
тоже категория неудовлетворительная и без всякой пользы услож-
ненная, однако в ней было схвачено внутреннее родство сущест-
вовавших тогда феноменов с европейскими феноменами предыду-
щих десятилетий, исключавшее возможность применения для
объяснения последних львиной доли гипотез, выдвигавшихся тео-
ретиками тоталитаризма8.
Своей вершины эти искажения, которые сейчас медленно и не
без противоречий сглаживаются, достигли, вероятно, в Китае, с
приходом к власти тирана-плебея (чью психологию раскрыли нам
7 Graziosi A. A New, Peculiar State. Explorations in Soviet History, 1917—1937. West-
port, Conn.: Praeger, 2000. P. 35 ff.
8 Tucker R. Towards a Comparative Politics of Movement Regimes // American Po-
litical Science Review. 1961. June. P. 281—289.
270
великолепные мемуары его личного врача9), повторившего в мас-
штабах, в несколько раз больших (если считать число жертв), тра-
гический советский опыт 1930-х гг. Стоит добавить, что порази-
тельное сходство в развитии обоих режимов (оба родились в
результате войны и унижения великих империй, оба вступили в
новую фазу по инициативе своих тиранов — в СССР это был «ве-
ликий перелом» 1929 г., в Китае «большой скачок» конца 1950-х гг.)
уже в 1959—1960 гг. подчеркивал Суслов, который известен как
твердокаменный официальный охранитель советской идеологии,
но вместе с тем трезво анализировал китайский опыт в нескольких
любопытнейших докладах ЦК, где между прочим со всей опреде-
ленностью предсказал, что за голодом 1959—1962 гг. — самым
страшным из бедствий, вызванных человеком, в XX в. — в Китае
последуют не менее страшные чистки, как случилось в 1937—
1938 гг. в СССР после голода 1932—1933 гг.10
Развал же советской системы благодаря миру как будто под-
тверждает, что в лице «тоталитаризма» мы, скорее всего, имеем
дело с искажением — вследствие войны и в особых условиях, раз-
ных в разных странах, — процессов государственного строительст-
ва и реконструкции. Иными словами, сам конец систем, как пра-
вило, подводимых под эту категорию, демонстрирует ее преходя-
щий и потому неизбежно исторический характер.
Советский случай — самый ясный и самый интересный, по-
скольку фашистская Италия и нацистская Германия были сме-
тены войной, а в СССР и тирания, и военно-промышленная
система, несущая на себе ее отпечаток, успели прожить свою
жизнь до конца (под этим углом зрения наиболее интересно,
пожалуй, провести параллель с Турцией, где умеренная тира-
ния с отнюдь не всеохватывающей военно-промышленной сис-
темой имела время и возможность эволюционировать на про-
тяжении нескольких десятилетий). Кроме того, в СССР край-
няя тирания сосуществовала, обусловливая ее развитие и ха-
рактеристики, с крайней, потому что чистой (вытекающей из
идеологии) версией контроля над экономикой и управления ею
со стороны государства, а также с попытками найти новатор-
9 Zhisui Li. The Private Life of Chairman Mao. The Inside Story of the Man Who
Made China. London: Chatto & Windus, 1994.
10 Becker J. Hungry Ghosts. Mao’s Secret Famine. New York: The Free Press, 1996;
Kramer M. Declassified material from Cpsu Central Committee plenums. Sources, con-
texts, highlights // Cahiers du monde russe. 1999. Vol. 1-2. P. 287 IT.
271
ское решение проблемы возрождения в условиях, неблагопри-
ятных для империй, великого имперского пространства (и сно-
ва интересно сопоставить с Турцией, где, правда, после унич-
тожения греков и армян национальная проблема сводилась ис-
ключительно к курдской).
Постепенную трансформацию и затем демонтаж советской
системы можно анализировать в свете некоторых идей Буркхард-
та. Несмотря на свой пессимизм и мрачные (причем на удивле-
ние верные) предчувствия, рассуждения об эволюции государств
определенного типа, по своим основным признакам, можно ска-
зать, родственных тем, которые нас интересуют, он оптимисти-
чески заканчивает словами, что «даже государство, воздвигнутое
на крови и слезах, на проклятиях своих жертв, со временем вы-
нуждено создать своего рода право и принципы благонравия, ибо
законопослушные и благонамеренные постепенно завладеют
им», и поэтому «государство докажет свою жизнеспособность
лишь тогда, когда из воплощения насилия станет олицетворени-
ем силы»".
Мне кажется, что эволюция советской политической системы
после смерти Сталина, скорейшая ликвидация наиболее одиозных
черт его тирании и принятый его преемниками курс на реформы
служат подтверждением мысли Буркхардта. По сути, тогда нача-
лось то, что один из отцов польского диссидентства Колаковский
назвал «детоталитаризацией» и что заставило Помьяна рассматри-
вать период 1950-х гг. в СССР как годы перехода от тоталитаризма
к авторитаризму11 12.
В последующие десятилетия мир продолжал свою работу, эво-
люция, предсказанная Буркхардтом, шла своим путем, хотя, ко-
нечно, он не был прямым. Вспомним, что мы говорили о сменяв-
ших друг друга наверху диктаторах, все меньше являющихся
таковыми, в то время как за блестящей видимостью успехов, дос-
тигнутых благодаря деколонизации и нефтяному кризису 1970-х гг.,
мощное военно-промышленное государство, усилившееся в ре-
зультате победы в 1945 г., входило в фазу, которую сами его руко-
водители впоследствии назвали эпохой застоя.
11 Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М.: РОССПЭН, 2004.
С. 37, 39.
12 Kolakowski L. Hopes and Hopelessness // Survey. 1971. Summer. P. 37-52;
Stalinisme et nazisme. Histoire et memoire comparee / Sous la dir. de H.Rousso.
Bruxelle: Complexe, 1999. P. 377.
272
Еще нескольких лет хватило, чтобы с приходом Горбачева на-
ступила фаза радикальных реформ конца 1980-х гг., — очевидный
триумф буркхардтовской схемы. В общем отчете КГБ Генерально-
му секретарю ЦК в 1988 г. можно было прочесть, что среди крите-
риев, которыми руководствуется в своей деятельности политиче-
ская полиция, есть и такие, как демократизация, развитие
динамичности политической и общественной жизни страны и по-
строение — через семьдесят лет после революции — правового го-
сударства. В следующем году 5-е управление КГБ, отвечающее за
репрессивный аппарат, было переименовано в управление по за-
щите советского конституционного строя13.
В свете такого развития событий проблема краха «тоталита-
ризма» превращается в проблему исследования причин, по кото-
рым СССР не сумел довести до конца начатый классически по
Буркхардту переход и, вместо того чтобы превратиться в «нор-
мальное» государство, развалился. На этот вопрос можно дать не
один ответ. Согласно Моше Левину, который вначале делал весь-
ма оптимистические прогнозы по поводу советских перспектив,
дело в том, что советская экономическая и политическая систе-
ма, несмотря на все усилия ее реаниматоров, в 1980-е гг. была
уже трупом: после падения Хрущева «над государственной маши-
ной больше никого не было, и она отвечала только перед самой
собой, а значит, ни перед кем. С этого момента она плыла без
руля и без ветрил — огромная, тяжелая, мощная, прочная, но
фактически мертвая». В итоге, «поскольку не было никого, кто
всерьез бросил бы вызов системе [изнутри], она не была низверг-
нута, но одряхлела и умерла, исчерпав свою способность к выжи-
ванию. Отсюда я делаю вывод, что ее смерть наступила от естест-
венных причин»14.
Если так, вопрос, можно сказать, заключается в том, какие
причины предопределили эту медленную, молчаливую, долгое
время незаметную агонию. И в этом случае действовали многие и
13 Garthoff R.L. The Kgb Reports to Gorbachev 11 Intelligence and National Security.
1996. Vol. 4. P. 224-244.
H Lewin M. The Gorbachev Phenomenon: A Historical Interpretation. London:
Radius, 1988. Эту книгу следует читать, держа перед собой более поздние, испол-
ненные разочарования статьи: Autopsy Report; Anatomy of a Crisis // Lewin M.
Russia, USSR, Russia. The Drive and Drift of a Superstate. New York: The New Press,
1995. P. 276-310. Здесь первый текст подвергается неявной, но оттого не менее
глубокой самокритике.
273
весьма непростые силы. Думаю, любая попытка найти удовлетво-
рительный ответ должна учитывать взаимодействие по меньшей
мере трех факторов.
Первый фактор — идеология, и он имеет два внешне противо-
речивых аспекта. С одной стороны, произошло выхолащивание
самой идеологии и, следовательно, официального дискурса, ко-
торый должен был одушевлять новое государство. В конечном
счете ему перестала верить даже большая часть советской элиты.
С другой стороны, решающую активную роль играло меньшин-
ство реформаторов, все еще веривших этой идеологии. Я имею в
виду, в частности, Горбачева и его окружение, в первой фазе пе-
рестройки яростно боровшихся за социализм «с человеческим
лицом» против, как они считали, наслоений коррупции, неспра-
ведливости, бюрократии, уродовавших в основе своей здоровую
модель, а затем слишком поздно открывших, что именно эта
уродливая корка и помогала держаться на ногах полностью раз-
ложившейся системе15.
Второй фактор — уже обсуждавшаяся низкая жизнеспособ-
ность систем государственной экономики в долгосрочной перспек-
тиве (при том, что на короткий период они, пожалуй, эффектив-
нее всего могут мобилизовать имеющиеся ресурсы и, главное,
сконцентрировать их на решении определенных задач). Этот их
недостаток тем больше, чем больше степень чистоты системы, и
в наиболее чистых случаях, таких, как советский, он становится
прямой помехой выживанию. Тот же Левин, например, делал вы-
вод, что в отсутствие реальных ценовых показателей и, следова-
тельно, возможности делать экономические расчеты, которые,
пусть с какой-то погрешностью, но отражали бы реальную дейст-
вительность, планирование стало фикцией, и ошибки, накапли-
вавшиеся год за годом, в конце концов сделали систему совер-
шенно неуправляемой.
Третий фактор составлял национальный вопрос, который, в
свою очередь, распадался на две сравнительно независимые
составляющие, хотя, как мы уже видели, Роман Шпорлук про-
ницательно отметил, что на территориях, аннексированных
СССР в 1939 г., а затем снова в 1945 г., между ними происхо-
15 Вторую тему очень хорошо развивает С.Коткин в прекрасной работе: Kotkin S.
Armageddon Averted. The Soviet Collapse, 1970—2000. Oxford: Oxford University
Press, 2001.
274
дило короткое замыкание. С одной стороны, как мы знаем,
была найдена такая форма решения национального вопроса,
которая со временем превратила федеративную империю в пи-
тательную среду для выращивания более или менее националь-
ных государств, готовых отделиться при первых признаках
кризиса подчиняющего их себе центра. С другой стороны,
Восточная Европа после победы СССР в 1945 г. была органи-
зована чересчур по-имперски, и это — как немедленно отметил
Кеннан — в корне подрывало стабильность и созданного бло-
ка, и его центра.
Таким образом, анализ, сделанный Мизесом в начале 1920-х гг.,
где он обосновывает именно экономическими и национальными
причинами свой прогноз о невозможности выживания нового ис-
торического образования, появившегося в 1917 г., как будто под-
тверждается ходом событий. Мы увидели, как экономические и
национальные проблемы, которые Мизес подметил в зародыше, в
конце концов с течением времени подточили систему, чей голово-
кружительный взлет в первый момент, казалось, опровергал его
предсказания, и не дали ей завершить переход, в любом случае
трудный, но все же возможный.
Имея перед глазами картину гибели тираний, угасания и посте-
пенной трансформации военно-промышленных государств мож-
но сделать три наблюдения, которые, как мне кажется, представ-
ляют некоторый интерес.
Первое касается категории «двойственного государства»,
предложенной Эрнстом Френкелем для анализа развития нацист-
ской Германии16. Многие ее варианты (вспомним, к примеру, те,
что были призваны показать совместимость капиталистического
режима или либерального государства с нацизмом), по-моему,
мало что говорят. Однако с нашей точки зрения можно исполь-
зовать некую ее версию, конечно модифицированную, чтобы
объяснить развитие тираний по Буркхардту: хищническое ядро,
долго дававшее им жизнь, в конце концов дряхлеет и умирает
(пусть даже часто, чтобы это сбылось, нужно дождаться физиче-
ской смерти тиранов, стоявших у их колыбели), а мир тем време-
нем усиливает бюрократически-нормативное государство, силою
вещей легалитарное, которое даже самые крайние формы тира-
нии не могут не воспроизводить и не вынашивать в себе (и про-
16 См. ее разбор: Gleason A. Totalitarianism. Р. 57 ГГ.
275
тив которого тираны часто восстают — вспомним хотя бы ста-
линские чистки, направленные против советской элиты, или
культурную революцию Мао).
Второе возвращает нас к проблемам, поднятым при рассмотре-
нии «Нового курса». Советская история как будто действительно
указывает на то, что процесс одряхления военно-промышленного
государства, ускоряющийся после гибели тирании, оживлявшей
его, можно анализировать с точки зрения перехода от качествен-
но-тотального государства к количественно-тотальному. В этом
случае степень чистоты первого типа, по-видимому, играет пози-
тивную роль, облегчая его трансформацию во второй. Таково
следствие того простого факта, что, поскольку государство непо-
средственно управляет экономикой, масса его функционеров за-
нята выполнением гражданских, экономических, административ-
ных и служебных задач. Эта масса не может не конституироваться
со временем в группы влияния и властные группировки, которые,
преследуя свои интересы, изменяют природу государства, как на
самом деле и произошло в СССР, хотя не стоит терять из виду и
военно-промышленный комплекс, до самого конца игравший там
решающую роль17.
Третье наблюдение относится к уже поднимавшемуся вопро-
су конвергенции различных систем, не раз находившему под-
держку, в основном — хотя и не только — у социологов и поли-
тологов, в шестидесятые и семидесятые годы минувшего века.
Поразмыслив о конце СССР и о том, какую роль в этом сыгра-
ли факторы, выделенные Мизесом, мы можем точнее нанести
удар по слабым местам теорий, на которые опираются гипотезы
о конвергенции.
В частности, теории эти, очевидно, грешат тройным безосно-
вательным редукционизмом. Во-первых, они не заглядывают в
суть природы экономических систем, управляемых государст-
вом, ограничиваясь эпифеноменом бюрократии, в свою оче-
редь, анализируемым весьма поверхностно. Таким образом, ста-
новится возможно на основе сходства бюрократических фигур,
которых стало так много по сходным причинам в один и тот же
период, объединять очень разные вещи: скажем, руководство и
управление крупным промышленным предприятием в условиях
17 Lewin М. Russia, USSR, Russia. Р. 201; Быстрова И.В. Военно-промышленный
комплекс в СССР в годы холодной войны. М.: ИРИ РАН, 2000.
276
конкуренции и государственными предприятиями, которые,
даже если по закону или в силу реального положения вещей ра-
ботают на рынок (как было в Италии), сохраняют яркую специ-
фику, абсолютно превалирующую в «чистых», например совет-
ских, условиях.
Сюда добавляется в равной степени не касающееся существа
явления определение капитализма, повторяющее уже упоминав-
шуюся точку зрения тех, кто в конце XIX в. сменил Зомбарта и не-
мецкий дескриптивизм на экономистов (и Маркса), сведя соци-
ально-экономическую систему, способную к самообновлению и
постоянно эволюционирующую, к сумме технологий и социаль-
ных феноменов, таких, например, как индустриализм.
Все это часто венчает анализ таких социальных процессов, как
урбанизация и индустриализация, который держится на том, что
их бесспорно объединяет, не улавливая различий, рождаемых кон-
текстом, в котором они разворачиваются, системой, обусловив-
шей их и обуславливаемой ими.
Этой ошибке подвержены многие из лучших исследователей
СССР, оказавшиеся в плену наивного модернизаторского тезиса,
в некоторых отношениях сходного с тезисом конвергентистов.
Как мы знаем, корни его кроются в анализе «природы СССР»,
сделанном Троцким прежде, чем большой террор конца 1930-х гг.
подтолкнул его к более пессимистическим заключениям, и вновь
предложенном на Западе Дейчером двадцать лет спустя. В урбани-
зации, в распространении промышленности, культуры и т.д. они
видели предпосылки перехода советской системы в высшую фазу.
В основе этого перехода должен был лежать именно прогресс, вар-
варскими методами достигнутый Сталиным, и предвестники его
периодически обнаруживались на каждом новом этапе реформ.
Здесь они некоторым образом идут по стопам наивного позити-
визма немецких «экономистов» (кавычки здесь стоят потому, что
речь идет об ученых, которые чуждались занятий теоретического
характера) и Брентано, который, как и изучавший царскую Рос-
сию Шульце-Геверниц, придерживался идеи о существовании
почти автоматической, линейной связи между «прогрессом» и ре-
формами, не отдавая себе отчета в том, какие проблемы влечет за
собой столь чрезмерно простой тезис18.
18 Graziosi A. Alle radici del XX secolo europeo // Mises L. von. Stato, nazione ed
economia. Torino: Bollati Boringhieri, 1994. P. LXXVII, XC — XCI.
277
Я хотел бы в завершение данной работы выдвинуть последнюю
гипотезу. Мне представляется возможным утверждать, что евро-
пейскую — и не только европейскую — историю двух последних
столетий можно рассматривать как историю постепенного вырож-
дения двух великих феноменов, имеющих двойственную приро-
ду, — национализма и социализма.
Оба были тесно связаны со свободой. Но уже во второй поло-
вине XIX в., а затем особенно в Европе начала XX в., связь между
родиной и свободой разорвалась, и национализм, «который был и
может быть освободительной силой» (как вновь доказали впослед-
ствии начальные фазы процессов национального освобождения),
«то и дело превращался в нечто противоположное». Вскоре во имя
его стали совершаться массовые убийства. Хотя, как ответил в
1914 г. во время дебатов в палате общин ирландец Тим Хили лорду
Хью Сесилу, спросившему, что же такое национальность, это дей-
ствительно «нечто, за что люди готовы умирать», верно и то, что,
как парировал лорд Сесил, люди точно так же готовы за нее
убивать19.
Можно понять, почему, особенно после катастрофы, спрово-
цированной национализмом и первой мировой войной, главным
вопросом для молодых людей вроде Витторио Фоа стал вопрос,
«почему демократические и либеральные национальные движе-
ния» превратились в «агрессивный национализм».
На этот вопрос (на который и я пытался ответить своей кни-
гой) многие тогда отвечали, обращаясь к идеям тех, кто считал
примат нации опасной иллюзией и видел решение проблемы в со-
циальном вопросе и, следовательно, в социализме. Таким образом
усилилась связь между социализмом и свободой, которая, устано-
вившись еще в предыдущие десятилетия, господствовала на про-
тяжении большей части интеллектуальной истории XX в. Однако
того, что мы знаем сегодня об этом веке, о советской, китайской
истории и т.д., более чем достаточно, чтобы утверждать, что такое
решение ошибочно. Те же факторы, которые способствовали пе-
рерождению патриотизма, — строительство государства, отноше-
ния, основанные на силе и власти, этническая и религиозная не-
однородность и пр. — смогли деформировать и социализм, не
говоря уже о пороках, заложенных в самой доктрине (вспомним, к
19 Davidson В. The Black Man’s Burden. Africa and the Curse of the Nation-State.
New York: Times Books, 1992; Halevy E. L’ere des tyrannies. P. 196-199.
278
примеру, несостоятельность ее экономических заповедей), неко-
торыми, впрочем, сразу же подмеченных.
Что же остается от европейской истории, о которой мы гово-
рили, помимо нравственного урока, полученного от XX века?
Мне кажется, на этот вопрос можно ответить следующее (как
сделали уже многие): лишь свобода — единственный принцип,
который заслуживает, чтобы его ставили выше всех других,
включая национальную независимость, демократию и социаль-
ную справедливость, которые тоже важны, но должны быть свя-
заны со свободой и подчинены ей, ибо их абсолютизация может
открыть двери злу. Это относится и к новой современной исто-
рии, зарождающейся в Европе на пепелище старой, которой по-
священы эти страницы.
Указатель имен
Абдираимов С. 200
Абрамович Р.Р. 194
Абылхожин Ж. 200
Аденауэр К. 254
Азикиве Б.Н. 255
Аквароне П. 62
Аксельрод П.Б. 39, 42, 226
Актар (Aktar) А. 183
Алдажумаиов К. 200
Алеви (Halevy) Э. 7, 13, 29, 39, 52-53,
55, 93, 106, 140-141, 146-147,
149-151, 159, 167-168, 172-173,
191, 198, 203-205, 228, 261-262,
269, 278
Александр II 114, 132
Ален (Шартье Э.А.) 173, 214
Амендола Д. 43
Андрич И. 174
Арендт X. 55-56, 59-60, 68, 78, ЮЗ, 105
Арон Р. 151, 173
Аристотель 29
Ататюрк см. Кемаль
Аттолико Б. 203
Бабель И.Э. 166
Бадольо П. 219
Балаш Э. 8
Барнхем (Bumham) Д. 48
Баррес (Barres) М. 99, 104, 186
Бауэр, семья 219
Бауэр О.136
Беверидж У.Г. 252
Бем-Баверк (Bohm Bawerk) Э., фон 91,
202
Бенеш Э. 244
Бенте (Bente) Г. 48
Бердяев Н.А. 38
Берелович А. 68
Беренд (Berend) И. 81, 139
Берия Л.П. 62, 72
Бжезински 3. 55
Бибо (Bibo) И. 115, 176
Бисмарк О., фон 186—187
Блок (Bloch) М. 15, 108-109
Богданов А.А. 33—34, 38
Брасс (Brass) П.Р. 11
Брежнев Л. И. 74
Брентано Ф. 277
Брехт (Brecht) Б. 227
Бронский М.Г. 31
Бруцкус Б.Д. 35, 50, 172, 184, 192
Брюнинг Г. 212
Бугай Н.Ф. 72, 239
Буденный С.М. 166
БуркхардтЯ. 7, 20, 29, 272-273, 275
Буттино (Buttino) М. 6, 11, 181,200
Бухарин Н.И. 34, 48, 131, 159
Быстрова И.В. 276
Валентинов (Вольский) Н.В. 32, 169,204
Васильев В. 68
Вебер М. 8, 12, 28-29, 35
Вейцман (Weizmann) X. 128, 189
Венизелос Э. 181
Вентури (Venturi) А. 6, 31,53, 203
Вентури (Venturi) Ф. 82, 223, 251
Верт (Werth) Н. 64-65, 215
Вильгельм 11 105
Вильсон В. 157
Виола (Viola) Л. 60, 63, 68
Витте С.Ю. 90
Виттфогель (Wittfogel) К. 51
Вольпе (Volpe) Д. 59-60, 106, 143, 150,
152, 167
Вольф Б. 74
Ворошилов К.Е. 73
Врангель П.Н. 155
Галли делла Лоджа Э. 253
Гельфанд (Парвус) И.Л. 37, 142, 144-
145, 184
Гердер И.Г. 92
Герцен А.И. 171
ГершенкронА. 106
280
Гилас (Gilas) М. 241
Гильфердинг Р. 30—31,49
Гинденбург П., фон 27
Гитлер (Hitler) А. 17, 43, 66-67, 75, 187—
188, 200, 203-204, 215-216, 218—
219, 228,250-251
Глисон (Gleason) Э. 8, 43-44, 52, 56, 262,
275
Голль (Gaulle) Ш., де 12
Гонов А.М. 72
Горбачев М.С. 273-274
Горький М. 69, 100, 171
Грамши (Gramsci) А. 51, 168
Гранди (Grandi) Д. 62, 99, 146, 253
Грациани Р. 219
Грациози (Graziosi) А. 6, 9, 12, 22, 27,
29, 33, 35, 41,45-46, 63, 65, 69-70,
106-107, 109, 116, 131, 134, 145—
147, 155, 158, 160, 162, 165, 168,
170-171, 177-180, 185-187, 189—
190, 193-194, 200, 203, 207-208,
211, 214, 217, 226-227, 232, 248,
256, 260, 270, 277
Грёнер В. 27
Гросс (Gross) Й.Т. 70, 174, 233, 240,
242
Гроссман В.С. 189, 256—257
Гувер (Hoover) Г. К. 45, 225
Данилов В.П. 68
Деа М. 47, 207
Де Амбрис А. 53, 101
Де Гаспери А.254
Дейчер И. 51-52, 277
Де Ман Г. 47, 207
Де Феличе (De Felice) Р. 8, 42, 50, 53,
56,60, 101, 152, 168, 178, 186
Джаннини (Giannini) М.С. 87, 102
Джентиле Д. 43
Джентиле (Gentile) Э. 56, 100, 152, 178,
204
Джолитги Д. 50, 92, 106, 143
Дзержинский Ф.Э. 194
Димитров Г. 244
Диоклетиан 212
Драгоманов М. 128, 130
Дэвис (Davis) Н. 10, 22, 254
Дюркгейм Э. 52
Зеленин И.Е. 249
Земсков В.Н. 72
Зима В.Ф. 70
Зингер (Singer) И. 121
Зия М. 184
Зомбарт В. 32, 94, 277
Иосиф II 127, 130
Каваллера В. 219
Калинин М.И. 73
Кантимори Д. 227
Каппелер (Kappeler) А. 141—142
Кароли М. 195
Карр (Carr) Э.Х. 31,47, 94
Каутский К. 39, 131
Квашонкин А.В. 185
Кейнс (Keynes) Д. 154, 156, 160, 198
Кемаль (Ататюрк) М. 37, 41,48, 152,
182-184, 202
Кеннан (Kennan) Д. 259—260, 275
Керенский А.Ф. 39
Кершо (Kershaw) Й. 8, 15, 43, 56, 61, 66,
94, 152, 155, 191, 269
Кокурин А. И. 65
Колаковский (Kolakowski) Л. 272
Кон (Kohn) X. 58, 66, 101,216
Конт О. 133
Конфино (Confino) М. 87, 106
Коррадини Э. 99—100, 106
Костырченко Г.Б. 73
Коткин (Kotkin) С. 69, 274
Кошелева Л. 63
Кракси Б. 48
Кремер (Kramer) М. 249, 259—260, 271
Крицман Л.М. 34—35
Кромвель О. 190
Кроче Б. 172
Кузовков Д. В. 36
Куйбышев В.В. 202
Кулишер (Kulischer) Э.М. 235
Кун (Kun) Б. 195
Лабриола А. 47, 94
Ланге О. 211
281
Ларин Ю. (Лурье М.А.) 30—31, 33
Левин (Lewin) М. 8, 14-15, 47, 51,56,
61,65,67, 70-71,75,94, 152, 155,
169, 180, 183, 191, 203, 215, 249, 269,
273-274, 276
Ленин В.И. 31-34, 37-38, 42, 53, 60, 66,
70, 74,92, 131, 142, 147-148, 167,
178, 182, 189-191, 193, 215, 245
Левенталь Р. 49-50, 94
Лист (List) Ф. 90-92, 94, 256
Лихтхейм (Lichtheim) Д. 100, 153, 167,204,
212,221,231
Ллойд-Джордж Д. 175
Луначарский А.В. 166
Лупо (Lupo) С. 6, 50, 56, 101, 166,219
Люгер К. 187
Людендорф Э. 162, 170, 187, 200
Люксембург Р. 131
Мадзини Д. 139
Мазовер М. 221
Майер (Мауег) А. 12, 87
Майер (Maier) Ч. 86, 177
Майнеке (Meinecke) Ф. 105
Маколей (Macaulay) Т. 82—83, 190, 227
Макри П. 6
Малер Г. 186
Манн М.57
Маннергейм К. Г. 119
Мао Цзедун 65, 185, 271, 276
Маринетти Ф.Т. 166
Маркс (Marx) К. 8, 46, 91,94, 194, 277
Мартин (Martin) Т. 65, 68, 72, 135, 163,
191,206-207,214
Мартов Ю.О. 38—39, 53, 171
Масарик (Masaryk) Т. Г. 105,134,140,147—
150
МаттеоттйД. 199
Махно Н.И. 155
Маяковский В. В. 166
Мениити А. 6
Меттерних (Metternich) К.В.Л., фон 223
Мизес (Mises) Л., фон 5—7, 20, 27—29, 32-
33, 35-36, 39,41,45, 50, 55,93, 107—
ПО, 112-115, 124-125, 132, 136, 146-
147, 157, 172, 184, 186, 188,192, 207,
212, 226, 228, 232, 238,264, 275-276
Мильоли Г. 101
Мингетти М. 98
Молотов В.М. 63, 73, 218
Мольтке Х.И.Л., фон 149
Момильяно (Momigliano) А. 22
Моннеро Ж. 178
Монтескье Ш. 179, 193
Мосли О. 160
Мосс М. 39, 52-53, 60, 77, 95, 152, 154,
167, 172
Муссолини (Mussolini) Б. 43-44, 53, 62,
65-66,69, 101, 178, 197, 201-204,
219-220, 228
Муссолини Э. 220
Надольны (Nadolny) Р. 149
Наполеон 1 84, 90, 150, 224
Наполеон III 99
Николай 1114
Нитти (Nitti) Ф.С. 42, 50, 92, 149, 154,
198
Нойманн 3. 12
Нойрат (Neurath) О. 28—30
Нольте Э. 57, 222
Нэмир (Namier, Бернштайн, Немиров-
ский) Л. 7, 52, 62, 73,99, 108, 110-115,
128, 132,146, 150, 174, 186-187, 206,
224, 235
Орландо В.Э. 196
Ортега-и-Гассет X. 223
Оруэлл (Orwell) Д. 228
Пайпс Р. 56, 61
Палацки Ф. 131, 149
Парвус см. Гельфанд
Парето В. 50, 69
Пелликани Л. 48
Петлюра С. В. 134
Петр 1 83—84
Петров Н.В.65
Пилсудский Ю. 134, 161, 175
Покровский М.Н. 36
Пол (Pohl) О. 72, 135,239
Полян П.М. 72
Помьяи К. 215, 272
Потичный П. 260
282
Потресов А.Н. 39
Преображенский Е.А. 46, 194
ПреццолиниД. 100
Пьянчола Н. 200
Пятаков Г.Л. 5, 6, 35, 131, 146, 160
Радек К. Б. 187-188
Разгон Л.Е. 73—74
Ракоши М. 244—245
Ранке (Ranke) Л. 82-84, 89, 101,153, 231,
255
Ратенау (Rathenau) В. 27
Раушнинг Г. 43, 53, 169
Редлих Й.186
Ренан (Renan) Ж. 41,83, 85, 93
Реннер К. 136, 187
Ридль (Riedl) Р. 28
Риза А. 133
Риттер Г. 185
Рицци (Rizzi) Б. 48-49
Робертс Д.М. 221
Рогалина Н.Л. 35
Родбертус К. И. 29
Рокко (Rocco) А. 90, 92
Романелли Р. 6
Росселли, братья 228
Росси Э. 219
Ростовцев М.И. 171
Рузвельт Ф.Д. 45-46, 225
РузвельтЭ. 255
Руссо (Rousso) А. 8, 56, 152, 215, 272
Саломони (Salomoni) А. 30, 34, 36, 40
Салтыков-Щедрин М.Е. 41
Сальвемини Г. 151
Сен (Sen) А. 173
Сенкевич Г. 234
Сен-Симон А., де 29, 170
Серж (Serge) В. 52
Сесил X. 278
Сетон-Уотсон (Seton-Watson) X. 142
Смирнов В.М. 46-48
Смирнов И.Н. 52
СонниноД.С. 196
Соравиа Б. 6
Сорель Ж. 53,69, 100
Сорокин П.А. 8, 39-41, 172
Спенсер Г. 7, 29, 39,41, 70, 172, 228, 253,
261
Сталин И.В. 32, 46, 48, 52, 60, 63, 65-67,
69-70, 72-75, 182, 185, 191, 193—
194, 201-204, 207, 211,215-219, 223,
241-242, 249-250, 256-258, 260,
272,277
Стернхелл (Stemhell) 3. 47, 99, 106, 152,
168
Стефан, митрополит 176
Страда В. 39
Стурдзо (Sturzo) Л. 44
Сунь Ятсен 141
Суслов М.А. 271
Таккер (Tucker) Р. 270
Талат-паша 164
Тальяферри (Tagliaferri) Т. 6, 108, 111
Таска А. 50, 95
Тернер (Turner) Г. 188
Тито И. 174,245
Тойнби (Toynbee) А. 10, 108, 182
Токвиль А., де 8, 82
Тольятти П. 50-51, 54
Троцкий Л.Д. 35, 37-38,48-49,51,55,142,
190,277
Турати Ф. 150, 155
Тьерри О. 29
Улам (Ulam) А. 61
Устрялов Н.Г. 38
Фариначчи Р. 220
Февр (Febvre) Л. 22, 82, 84, 254, 268
Федерико Д. 6
Ферри Э. 167
Фихте И.Г. 91
Фишер (Fischer) Г.АЛ. 180, 228,261, 268—
269
Фоа(Роа) В. 6,219, 251,278
Фоа Л. 221
Фортунато Д. 151, 171, 173, 198
Фош Ф. 198
Фрейд (Freud) 3. 173, 186
Френкель Э. 43, 275
Фридрих Великий 85
Фридрих К. 55
283
Фуко М.69 Фумиан К. 6, 268 Фюре Ф. 152 Aronson М.1. 121 Audoin-Rouzeau S. 154, 164, 166, 171 Baker М. 234
Хайек (Hayek) Ф.А., фон 35, 55 Хедлем-Морли Д. 231 Хеллбек Д. 69 Хили Т. 278 Хинце 0.8,82, 84, 89 Хлевнюк О.В. 65—66, 68, 185, 223 Хобсбом (Hobsbawm) Э.Д. 248 Хольквист (Holquist) П. 69, 163, 194 Хрущев Н.С. 13, 74, 249, 259, 273 Bardet J.-P. 23 Barkan O.L. 37 BartovO. 154 Bauman Z. 173 Becker A. 154, 164, 166, 171 Becker J. 271 Bell-FialkofFA. 116, 135,236 Benvenuti F. 31 Benzoni M.M. 254 Bettanin F. 65, 173
Чемберлен А.Н. 231 Чернеико К.У. 74 Черчилль (Churchill) У. 55, 164, 198, 252 Чилига (Ciliga) А. 48 ЧильяноД. 6 Чичерин Г.В. 185 Blum A. 63 Bottoni S. 245 Browning C.R. 66, 189, 232 Bushkovitch P. 9 Cadiot J. 191 CaprioglioS. 168 Cassirer E. 47, 178
Шабо (Chabod) Ф. 22, 82, 91, 101, 227, 254 Шёиерер Г., фон 186 Шмидт К. 47 Шмитт (Schmitt) К. 44, 46, 157, 226, 253 Шмоллер Г. 90 ШницлерА. 186 Шоу Б. 102 Шпорлук (Szporluk) Р. 91, 260, 274 Шульце-Геверииц Г., фон 277 Шуман Р. 254 Шумпетер (Schumpeter) Й. 87 Cattaruzza M. 116, 236 Chaliand G. 164 Ciocca G. 203 Craveri M. 260 DadrianV. 8, 122, 164 D’AlessioG. 163 D’Ann R.P. 63 Davidson B. 10, 102, 141, 255, 278 Davies S. 68 Deak 1. 174, 233 Del Boca A. 219 De Michelis C.G. 121 Deringil S. 184
Элиас Н. 171 / Энвер-паша 144 Энгельс Ф. 47, 131 Эренбург И.Г. 189 Di Costanzo G. 84 Dogo M. 116, 236 Dumont P. 37 Dupaquier J. 23
K)ar(Judt) Т. 174,233,240 Юнгер (Jiinger) Э. 46. 164, 212 Юровский Л.Н. 32 Erlich A. 177 Fedyshyn O.S. 162 Finer S.E. 29, 87
Ahmad F. 145 Andrew С. 227 Flores M. 46, 74, 227 Forti S. 49
284
GarthofTR.L. 273
Gatrell P. 150, 163
Gilbert F. 84
Giudice G. 220
Glantz D.M. 257
Glover J. 173
Gluchowski L.W. 74
Gori F. 46, 74, 227
Gunther H. 100
Hardeman H. 38
Hessler J. 71
Hilberg R. 189
Hirsch F. 191
Hirschon R. 181—183
Hoover C.B. 226
House J. 257
Inalcik H. 145
JulliardJ. 100
Kann R.A. 8, 136
Keegan J. 154
Kelles-Krauz K. 131
KlierJ.D. 121
Komjathy A. 236
Konstantynenko K. 234
Kraus T. 236
Krawchenko B. 207
Ladas S.P. 182
Lambroza S. 121
LaqueurW.Z. 95
Laue Т.Н., von 83-84, 153
Leoncini F. 244
Liebich A. 39
Lohr E. 163
Mace J.E. 207
Madievski S. 73
Marie J.J. 72
Masoero A. 31
Mervius M. 245
Meyer H.C. 8, 28, 108, 189, 237, 240
Mitrokhin V. 227
Moullec G. 64
Myciek B. 234
NaimarkN. 1 16, 135,236
Noble D. 160
OkyarO. 145
Olcott M.B. 200
Owen R. 10
Pearson R. 110, 156
Pentzopoulos D. 182
Petersen J. 43
Pintner W.M. 83
Pirjevec J. 221
PollardS. 180
PonsS. 12,34, 223
Pritsak O. 121
PupoR. 116, 236
Rich N. 187
Rimmel L. 68
Romanelli G. 195
Romano A. 12,34, 63,223
Rosdolsky R. 131
RoshwaldA. 125, 162-163, 176, 184
Rossi P. 14
Rossi-Doria M. 151, 171
Rossman J. 68
Rothschild J. 90, 196,206
Rudnytsky I.L. 128
Salomon E., von 165
Salsano A. 48, 160, 226
Sapir J. 71
Scharlau W.B. 37
Schechtmann LB. 235-236, 244
Scherrer J. 100
Schiera P. 84
Schwab G. 44
Siljak A. 236
Snyder T. 131, 233-234,243
Sofri G.39
SpulberN. 90, 177
Stem F. 52
Stockwell R. 236
Sugar P. 8, 195
285
§iikrii Hanioglu M. 133 Suny R.G. 163-164, 245 Sztics J. 115 Tarbuck K. J. 160 Tarchova N. 63 Taylor A.J.P. 149 Temon Y. 164 Ther P. 236 Tilly C. 14, 82 Todorov T. 173, 176 Treadgold D.W. 74 Valiani L. 195 Vlgezzi B. 254 Violante P. 84 Waite R.G.L. 165 Wandycz P.S. 175 Weber E. 86 Weiner A. 258 Wilson C. 92 WynnC. 121 Zeman Z.A.B. 37 Zhisui Li 271 Zubkova E. 71, 257 ZiircherE.-J. 8, 122, 133, 141, 145, 164, 180, 184-185, 202 Zveteremich P. 37
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .......................................5
Введение...........................................7
Часть первая
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОБЪЯСНИТЬ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Глава первая. Первые интерпретации ..............27
Глава вторая. Тоталитаризм и советская история...54
Часть вторая
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН, 1789-1905
Глава третья. Великие перемены ...................81
Глава четвертая. Особенности Восточной Европы ...107
Часть третья
ВОЙНА-РЕВОЛЮЦИЯ, 1905-1956
Главапятая. Акт I: 1905-1923 ................... 139
Глава шестая. Акт И: Война в мирное время ......198
Глава седьмая. Акт III: 1939-1956 .............. 230
Заключение ......................................262
Указатель имен...................................280
Андреа Грациози
Война и революция в Европе
1905 -1956
Редактор Л.Ю. Пантина
Художественный редактор А.К. Сорокин
Художественное оформление А.В. Кубанов
Компьютерная верстка В.Г. Верхозин
Л.Р. № 066009 от 22,07.1998. Приписано в печать 29.08.2005
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 18,0. Тираж 700 экэ. Заказ № 4836
Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82. Тел. 334-81-87 (дирекция);
Тел./Факс 334-82-42 (отдел реализации)
Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14