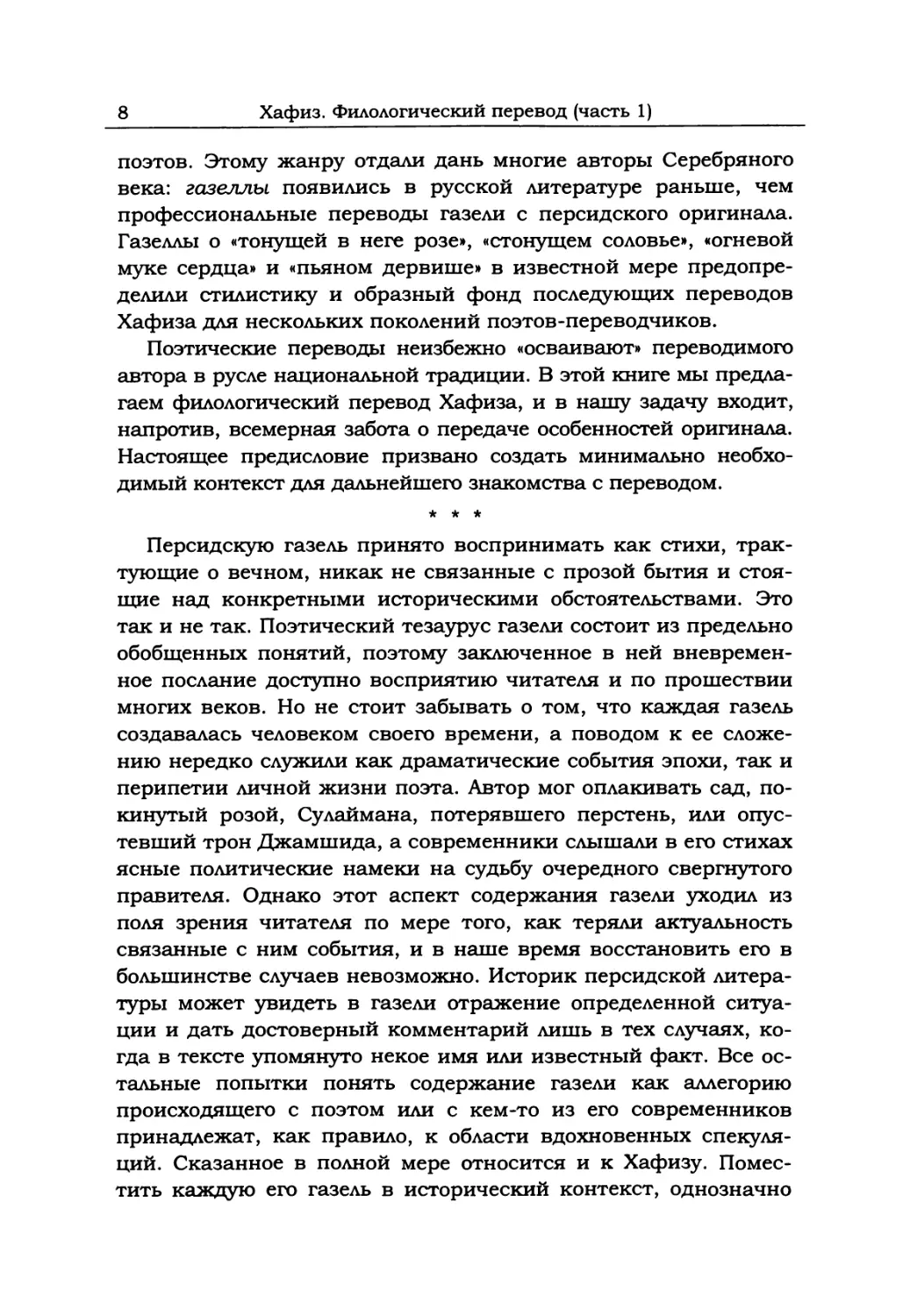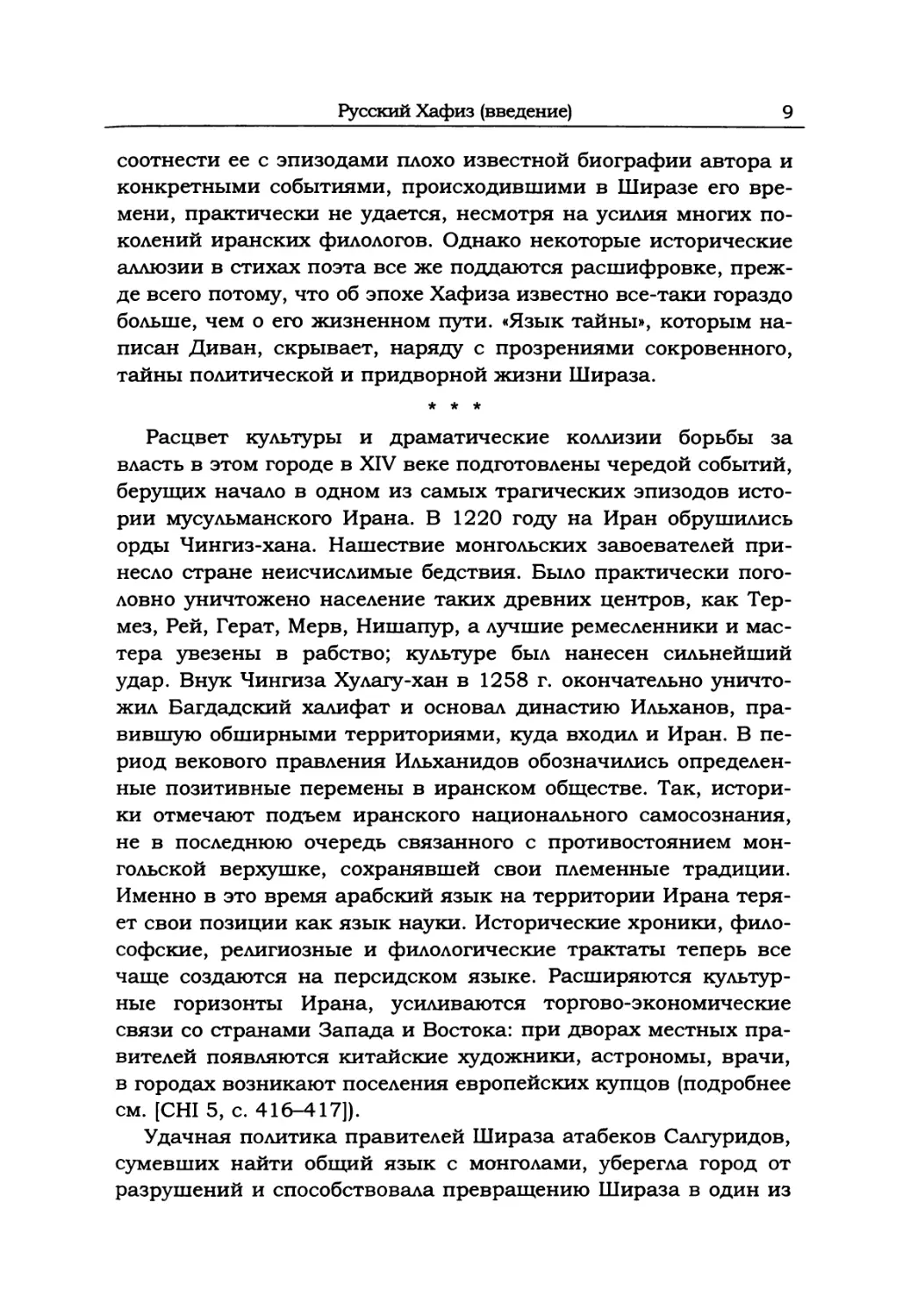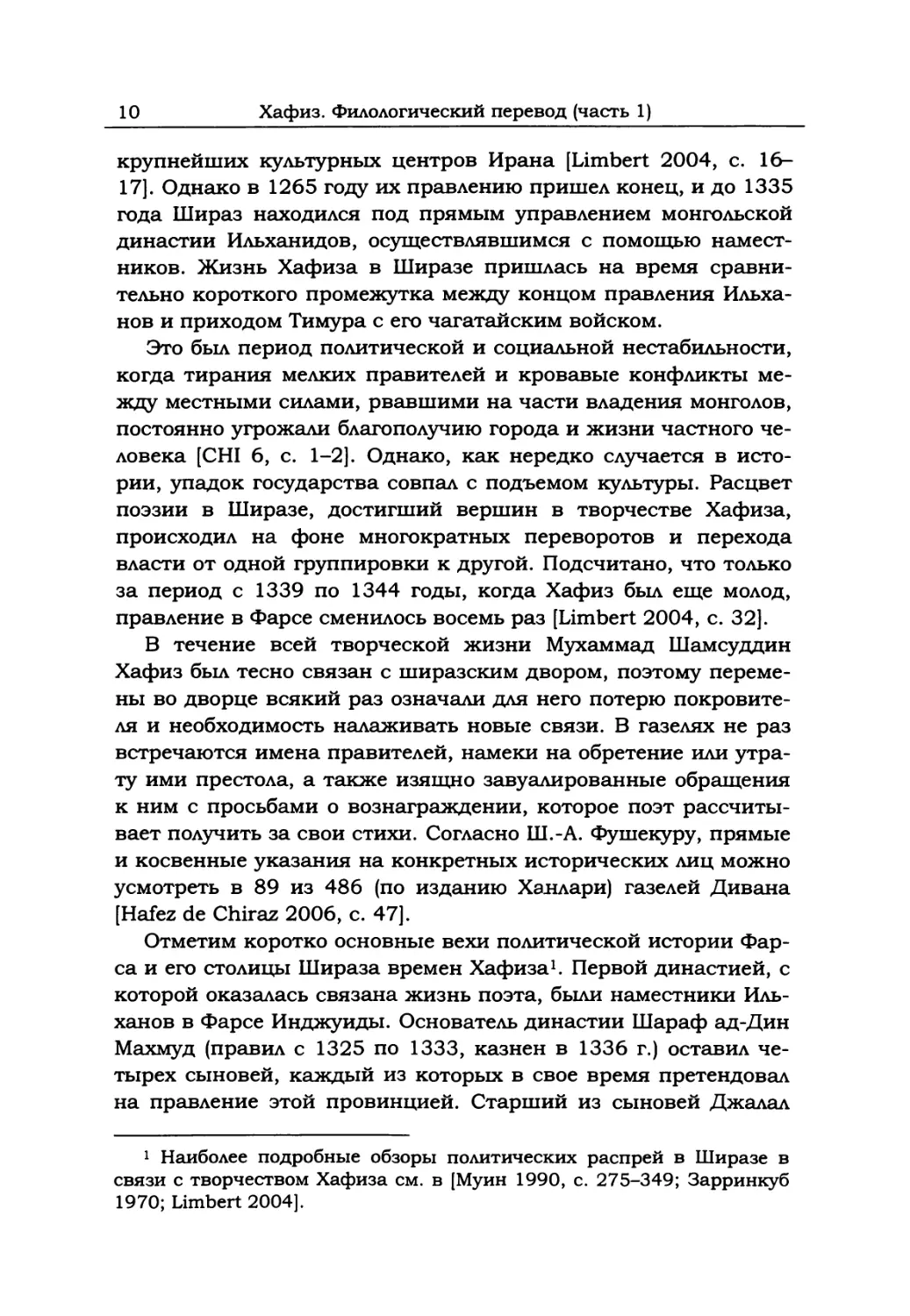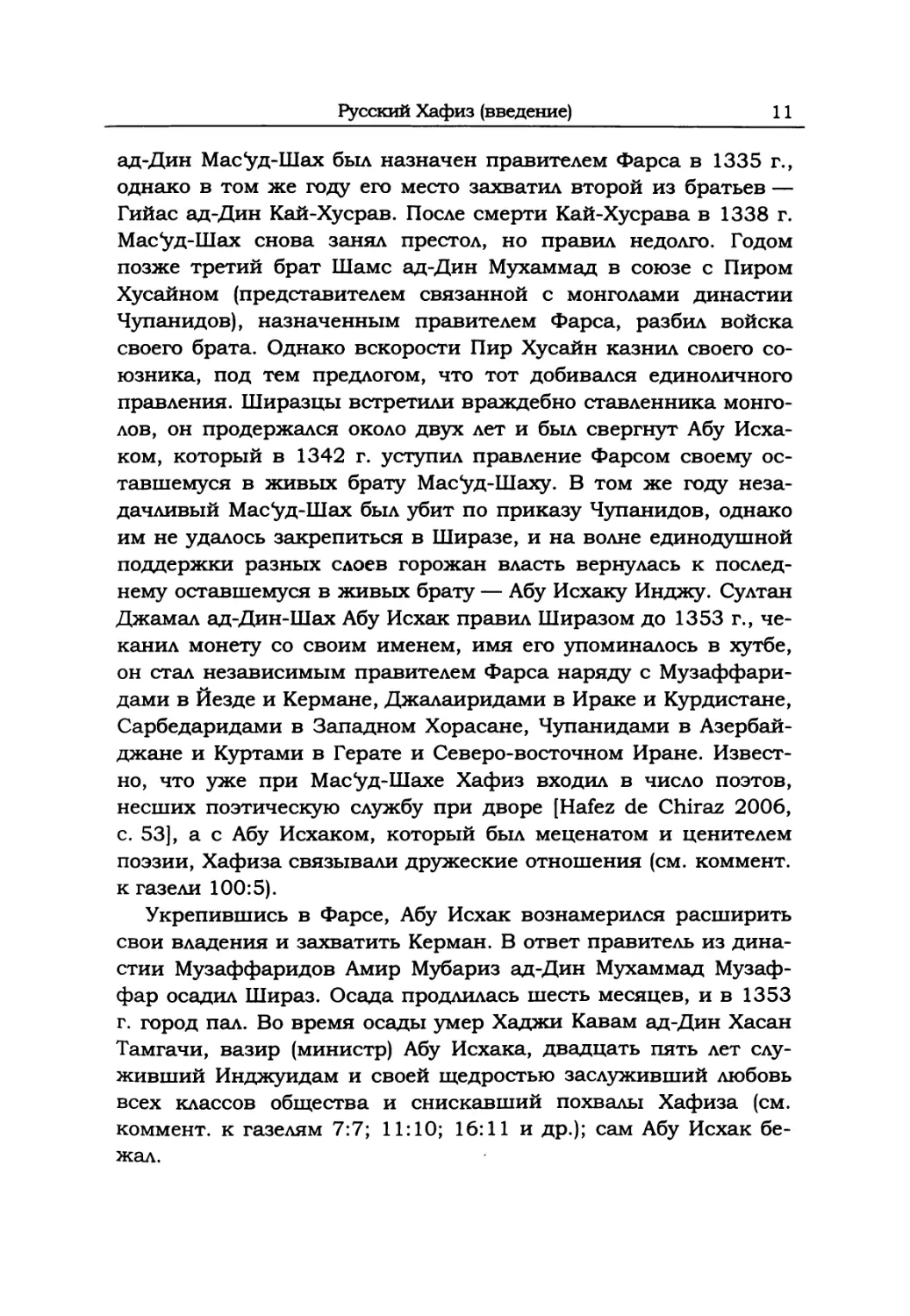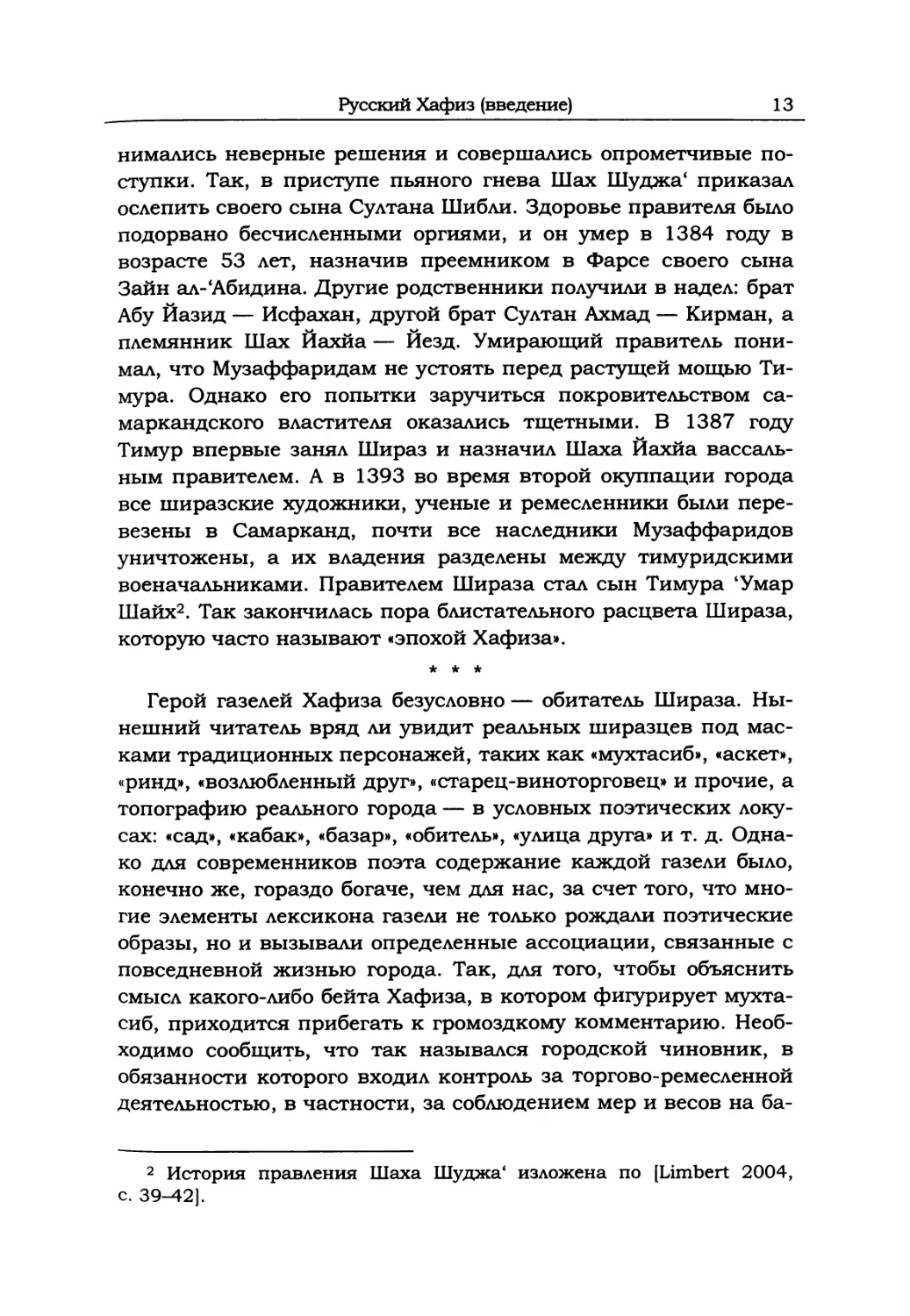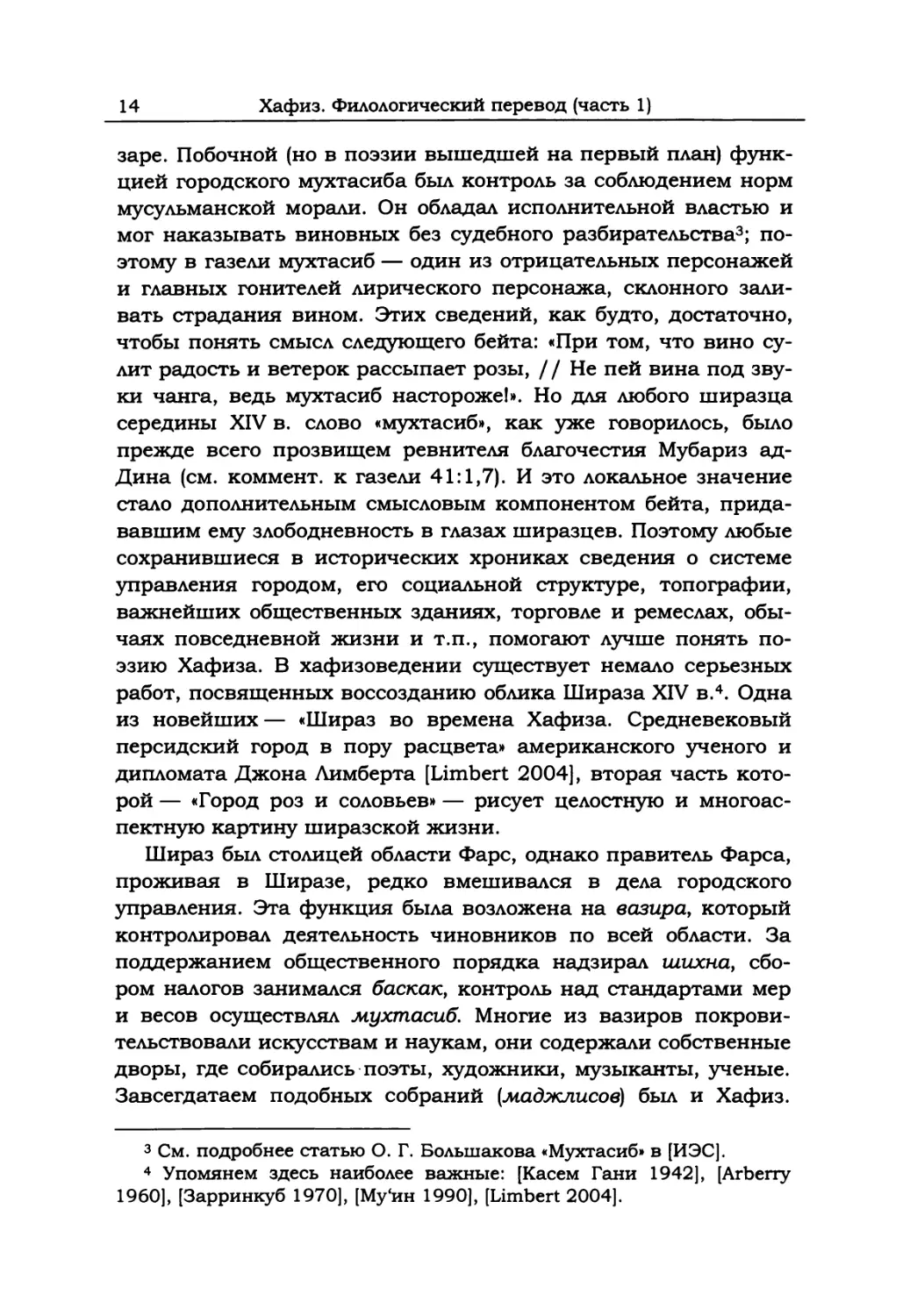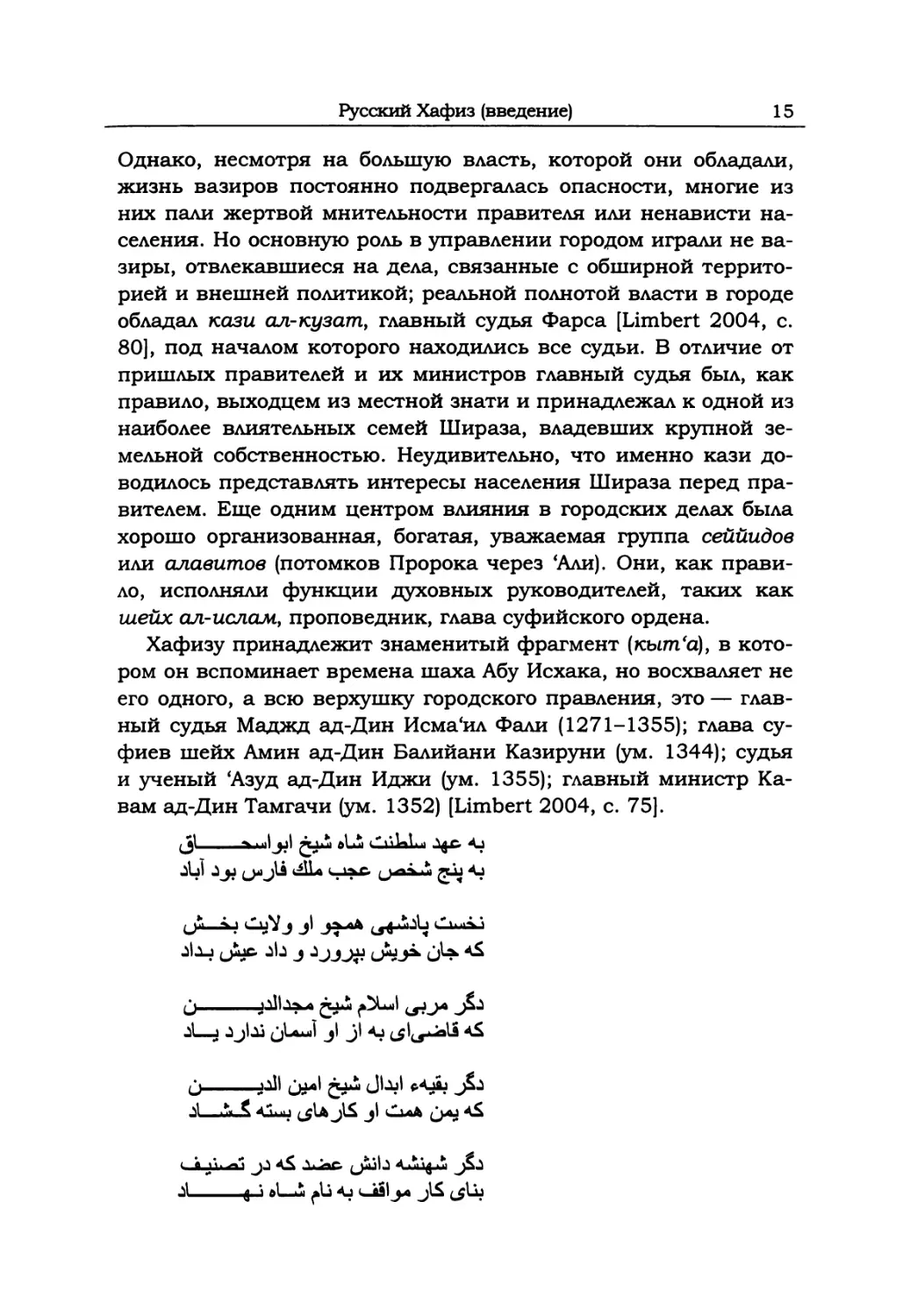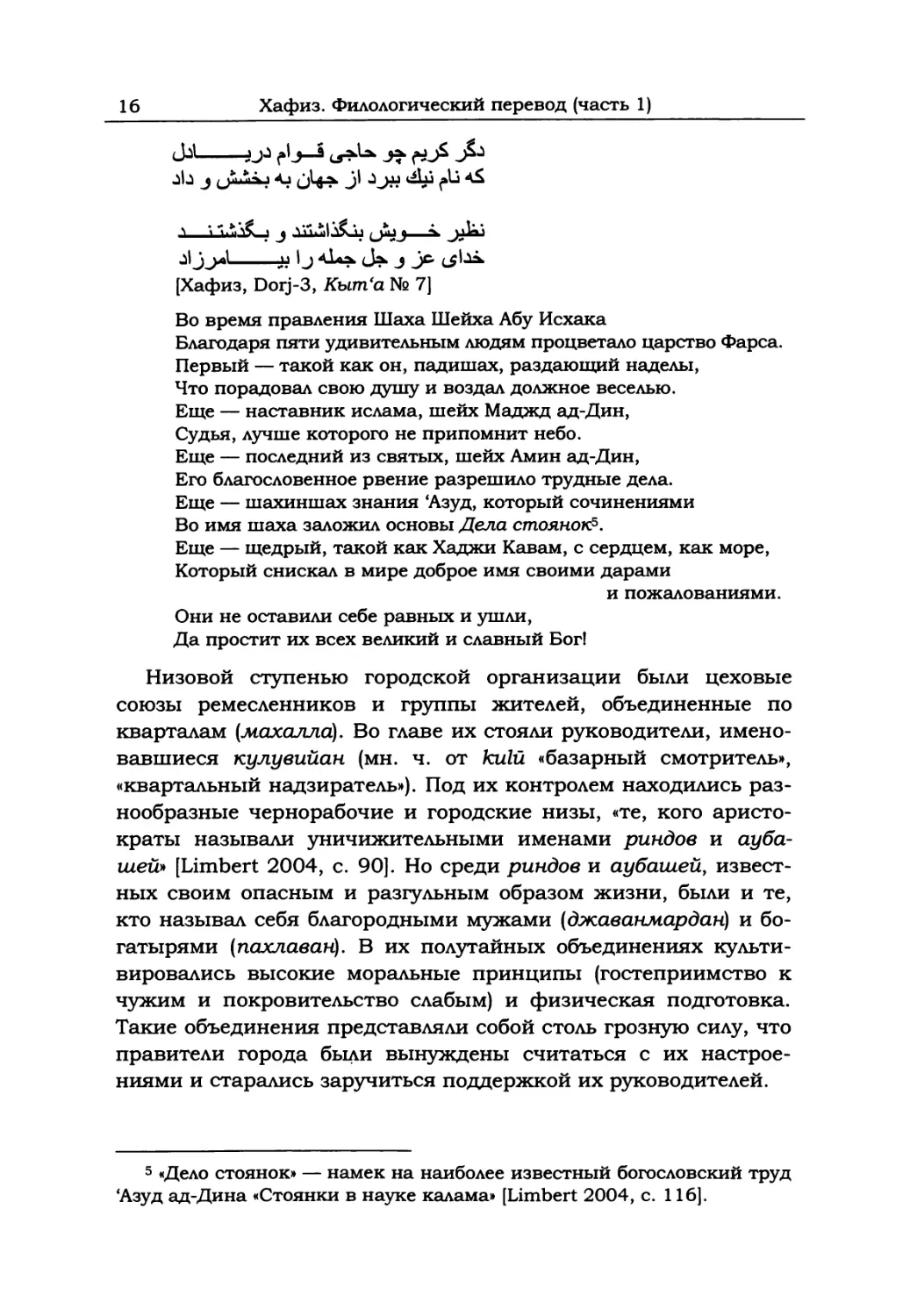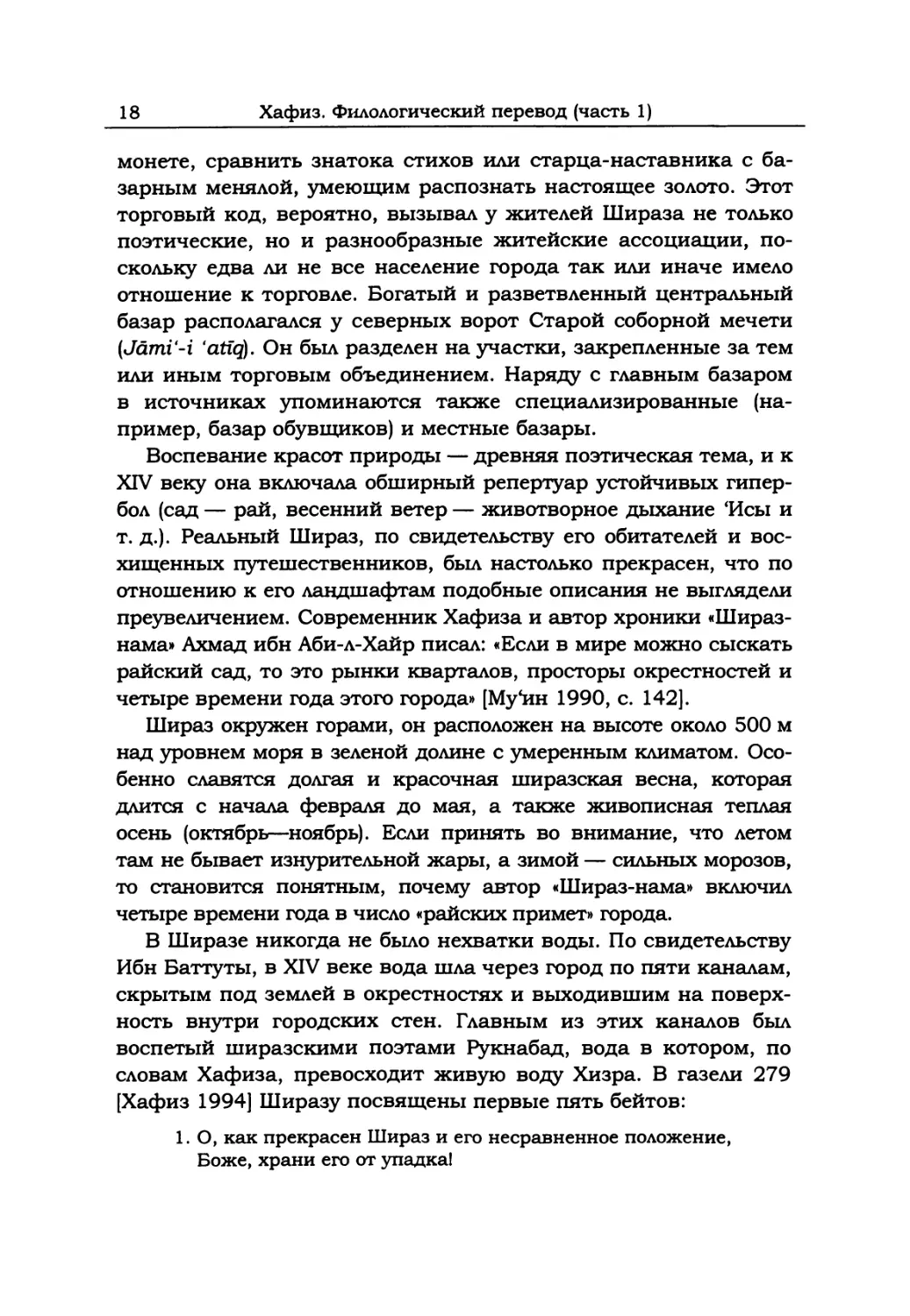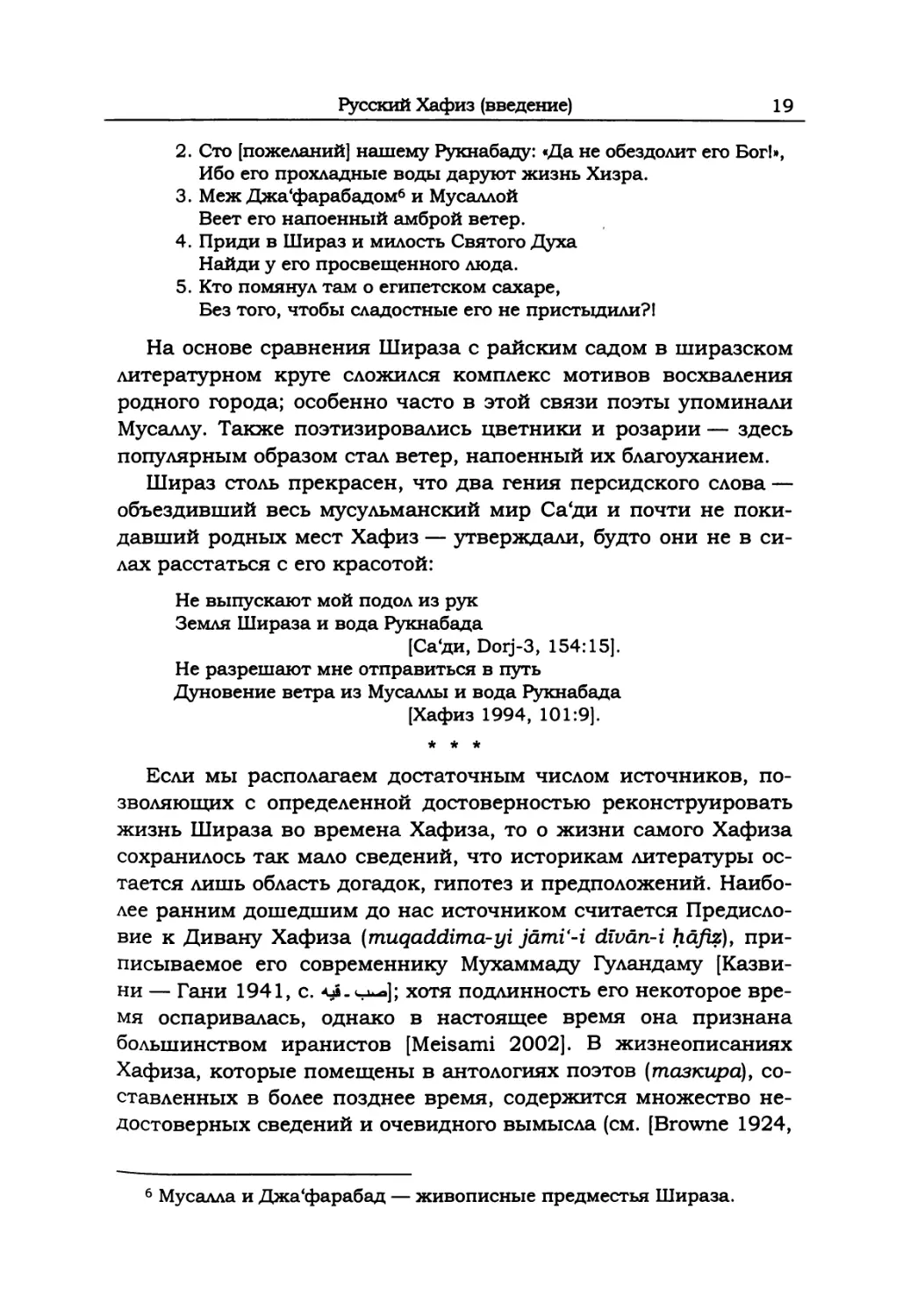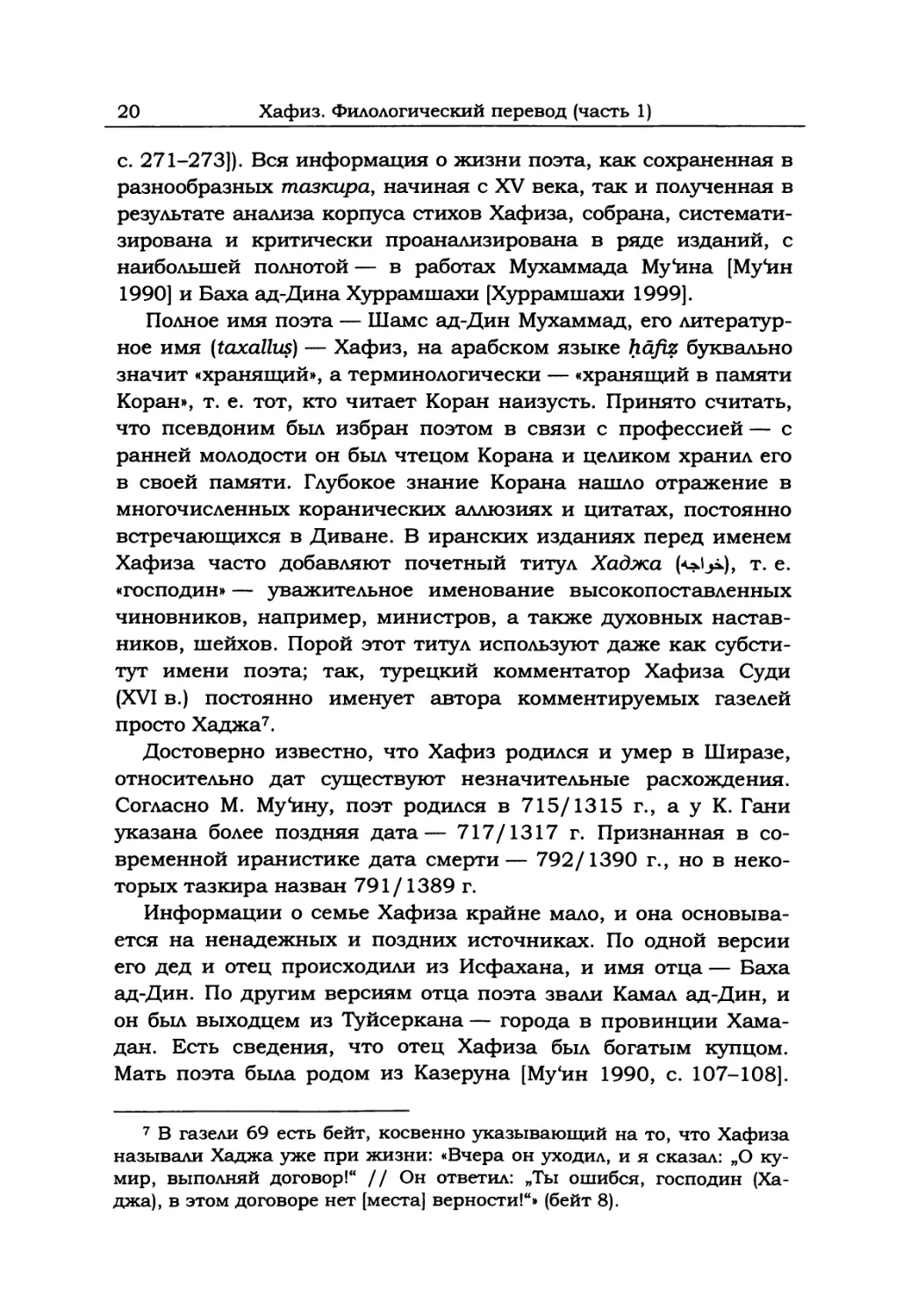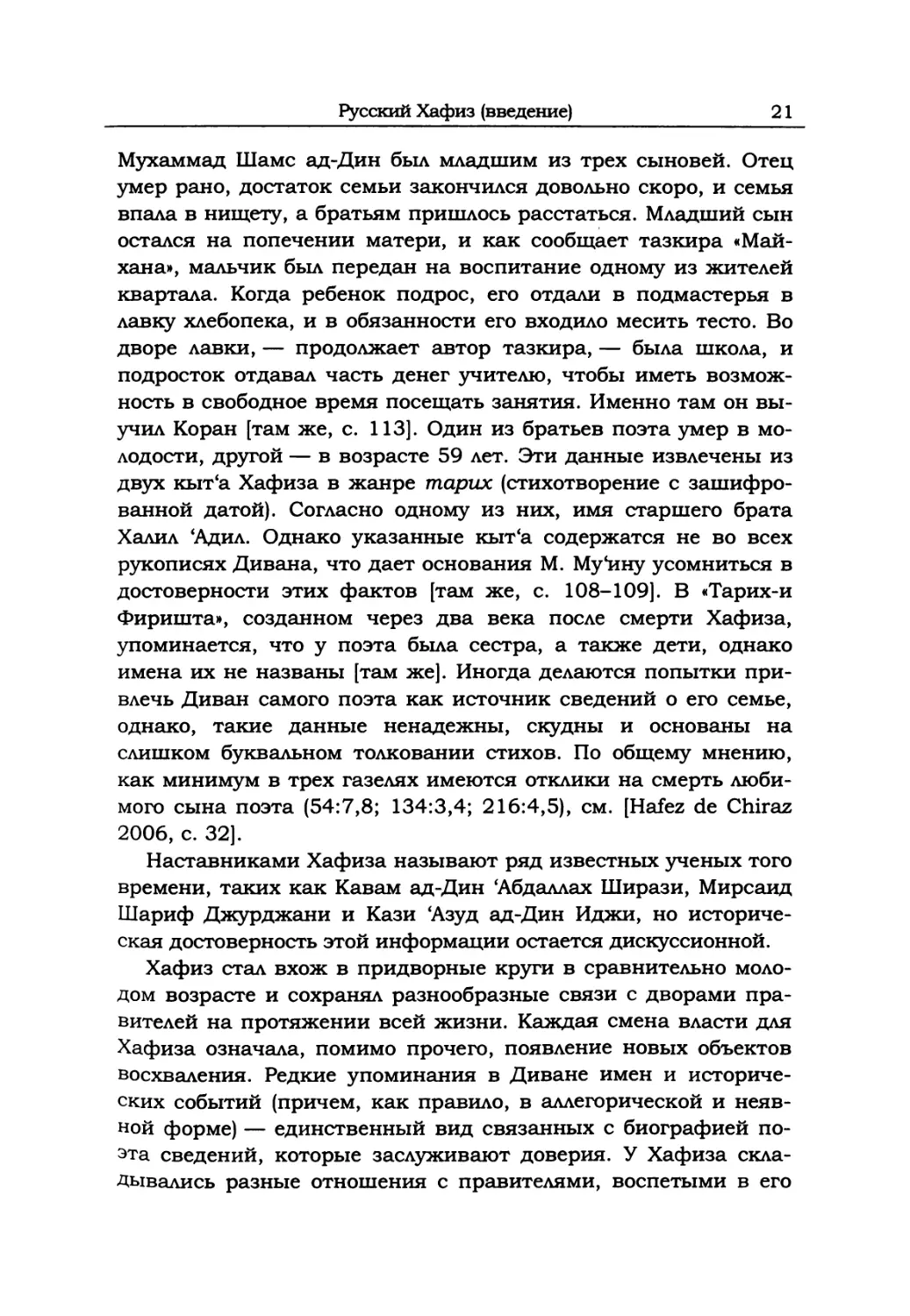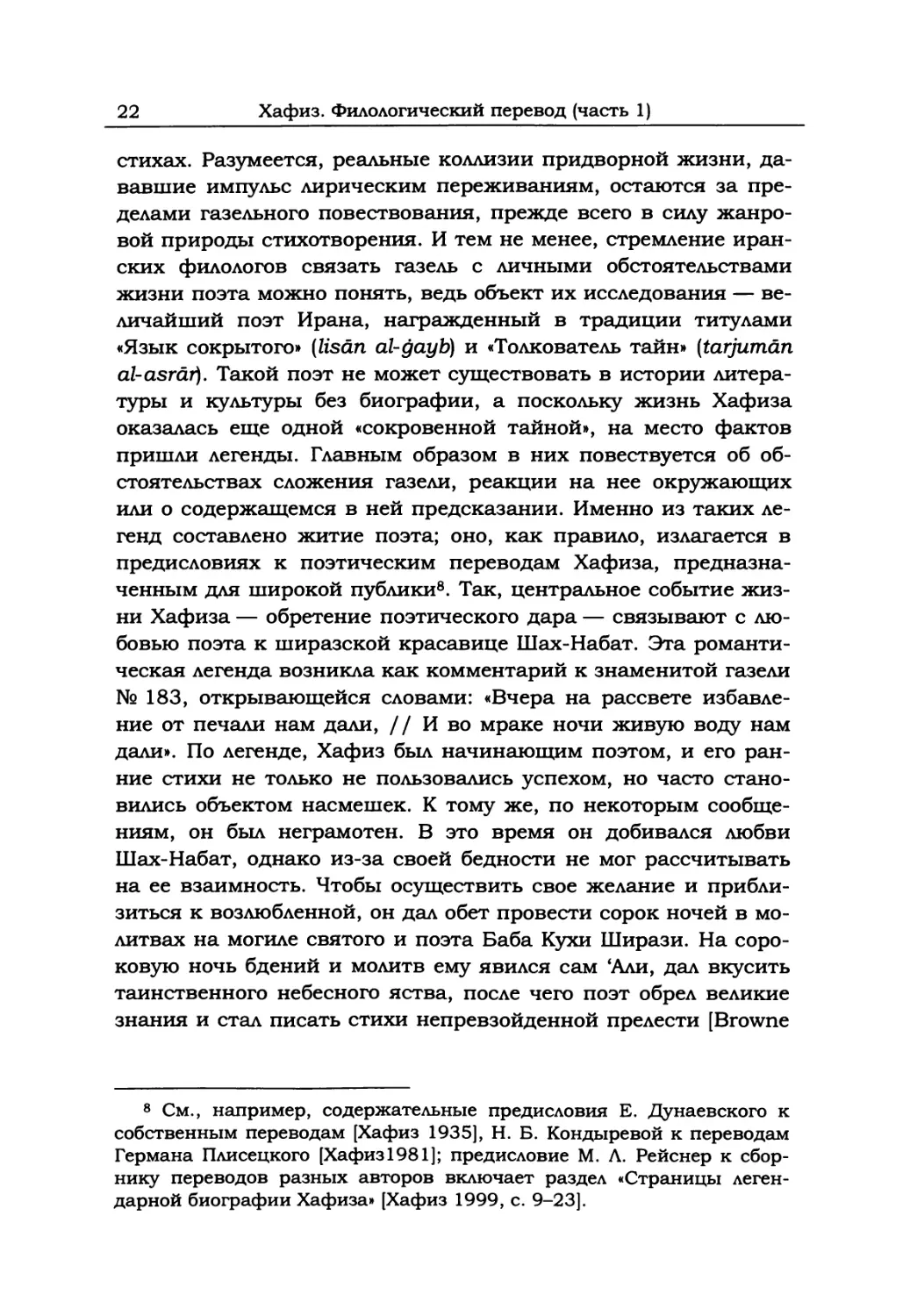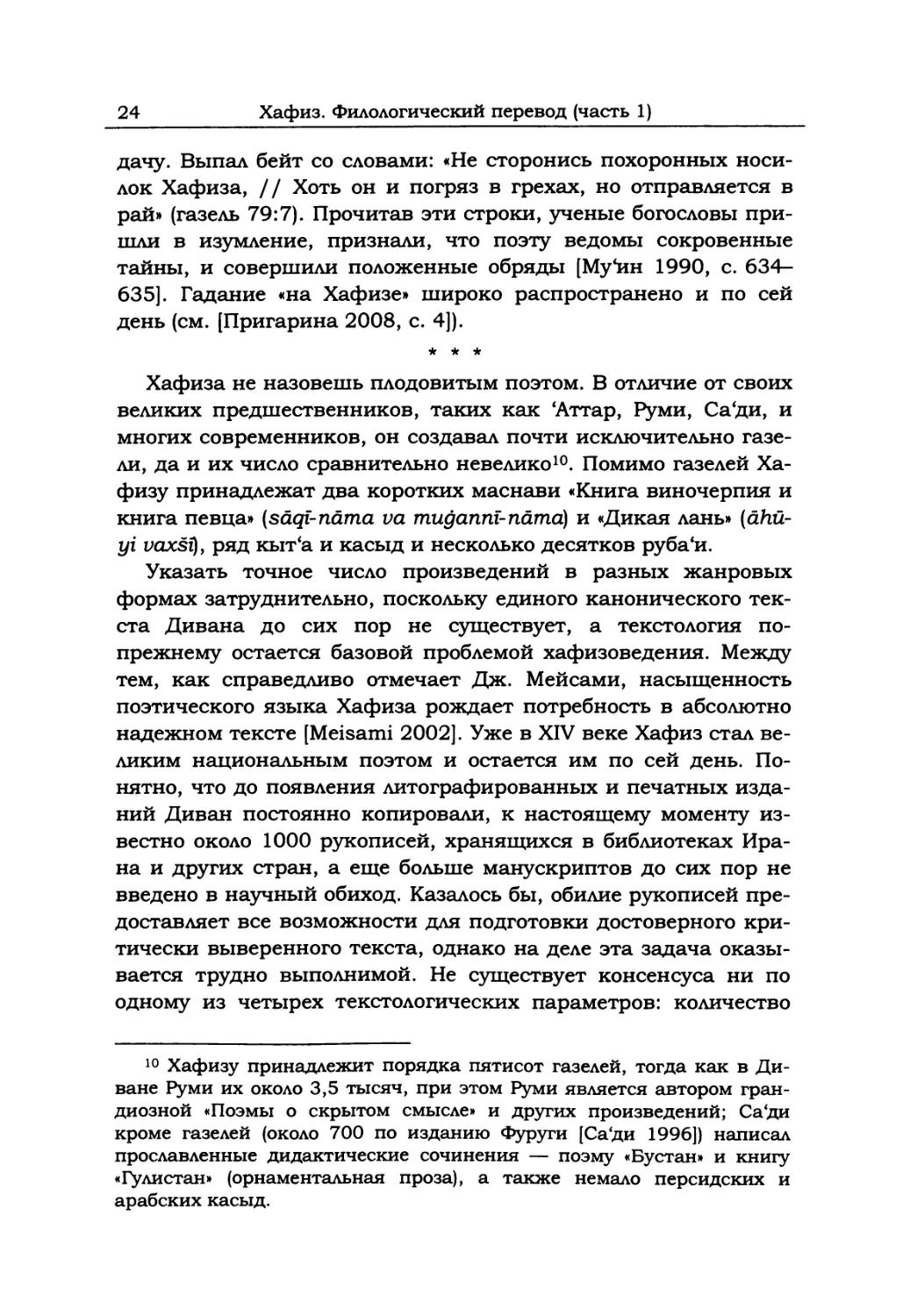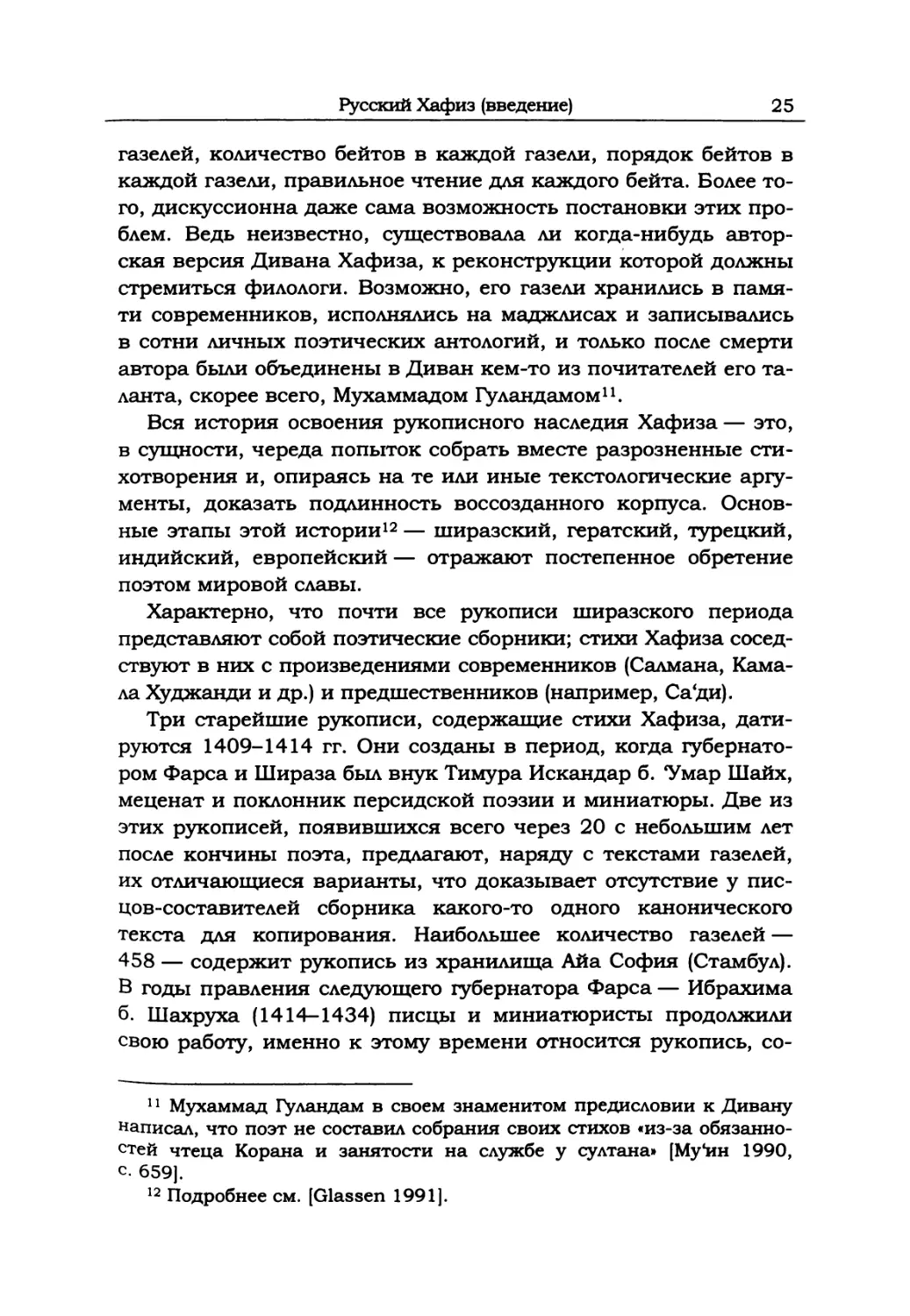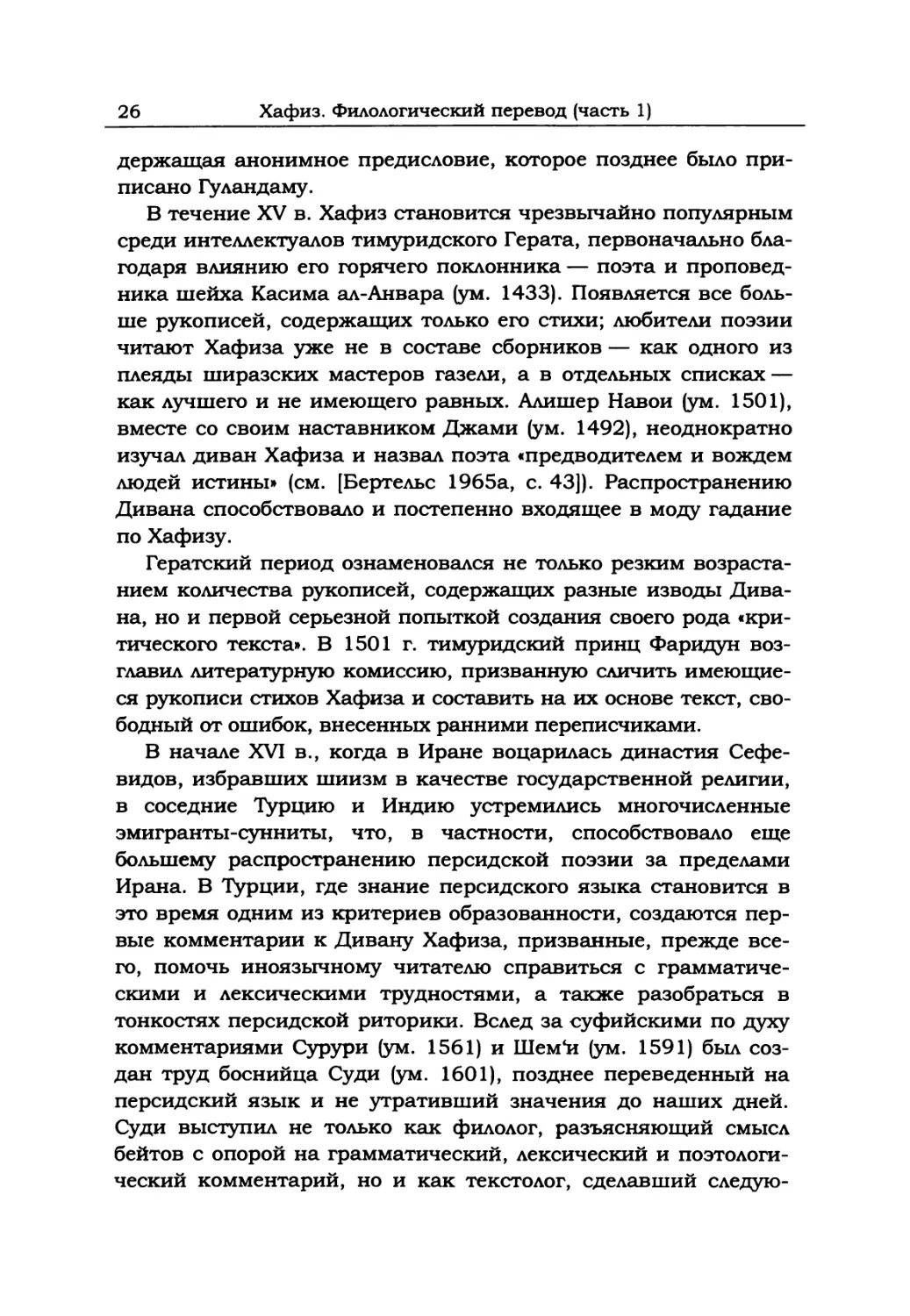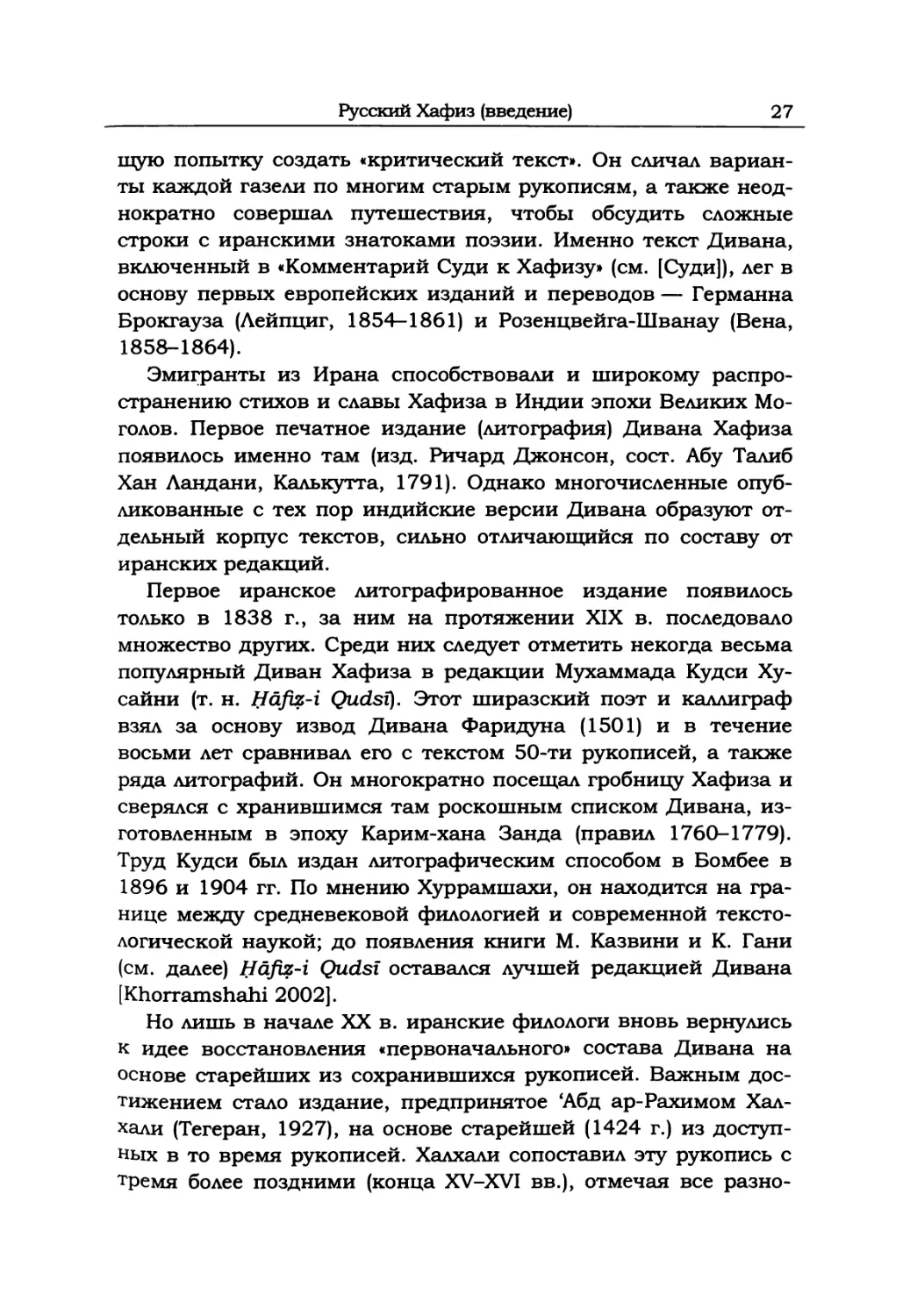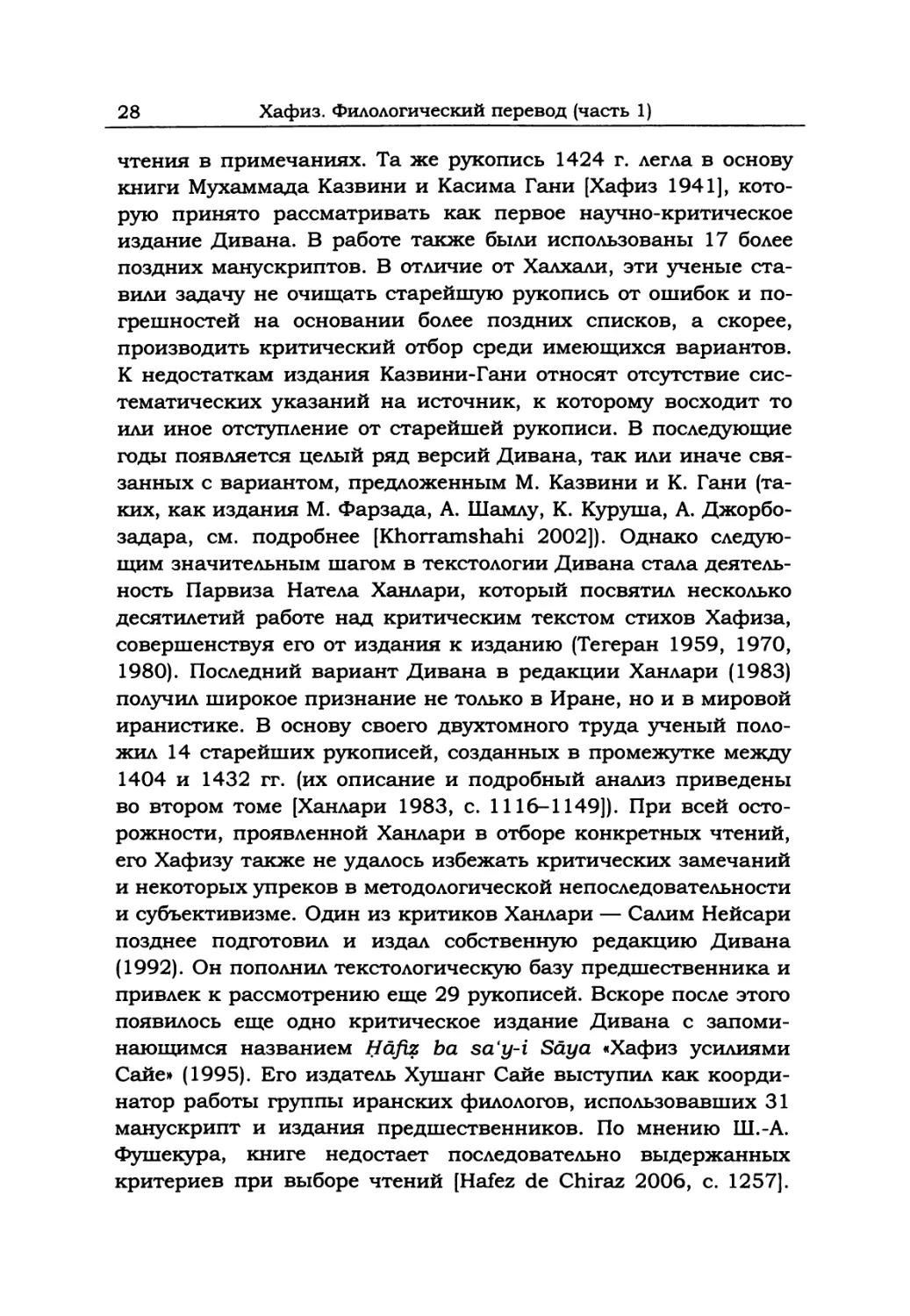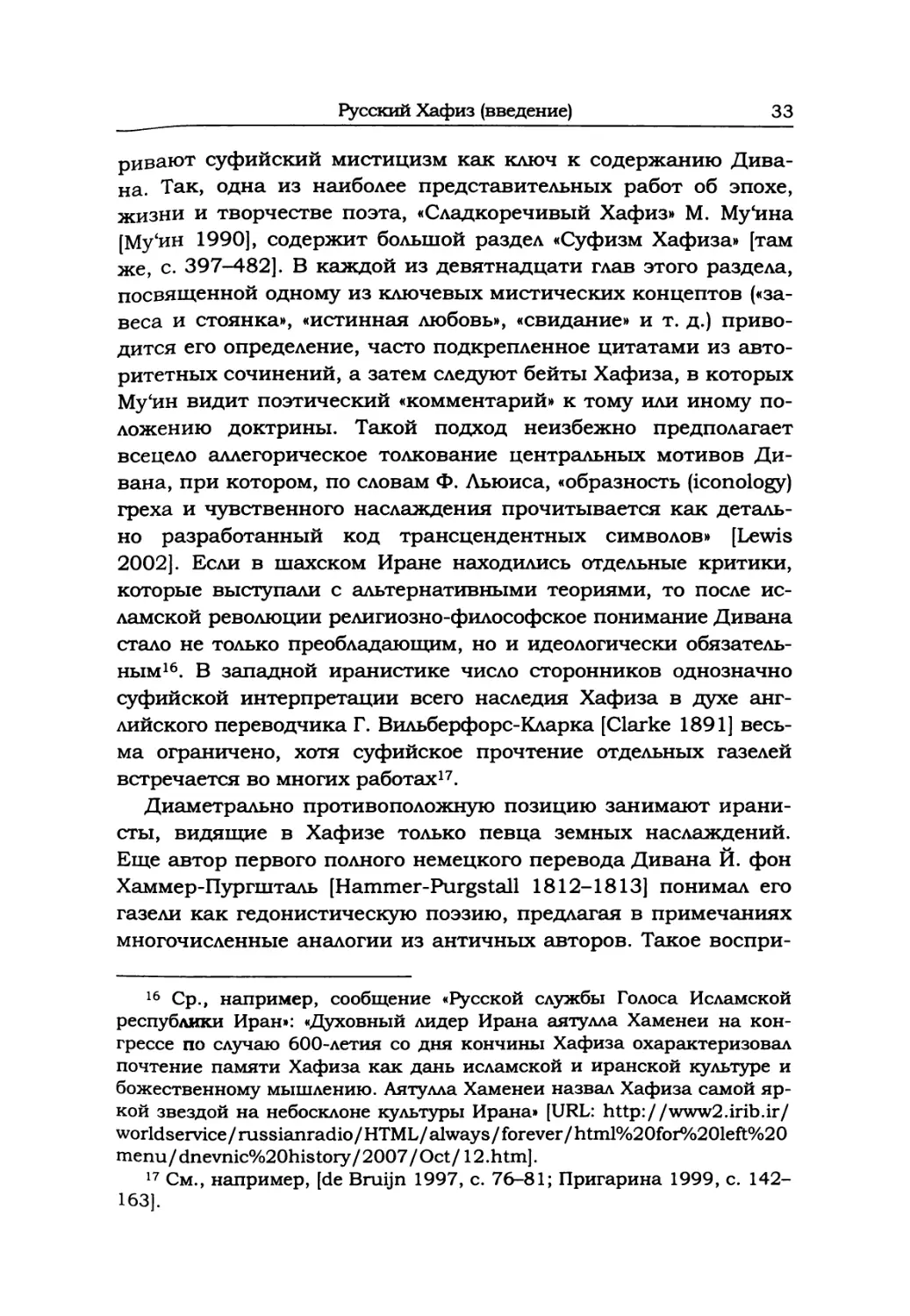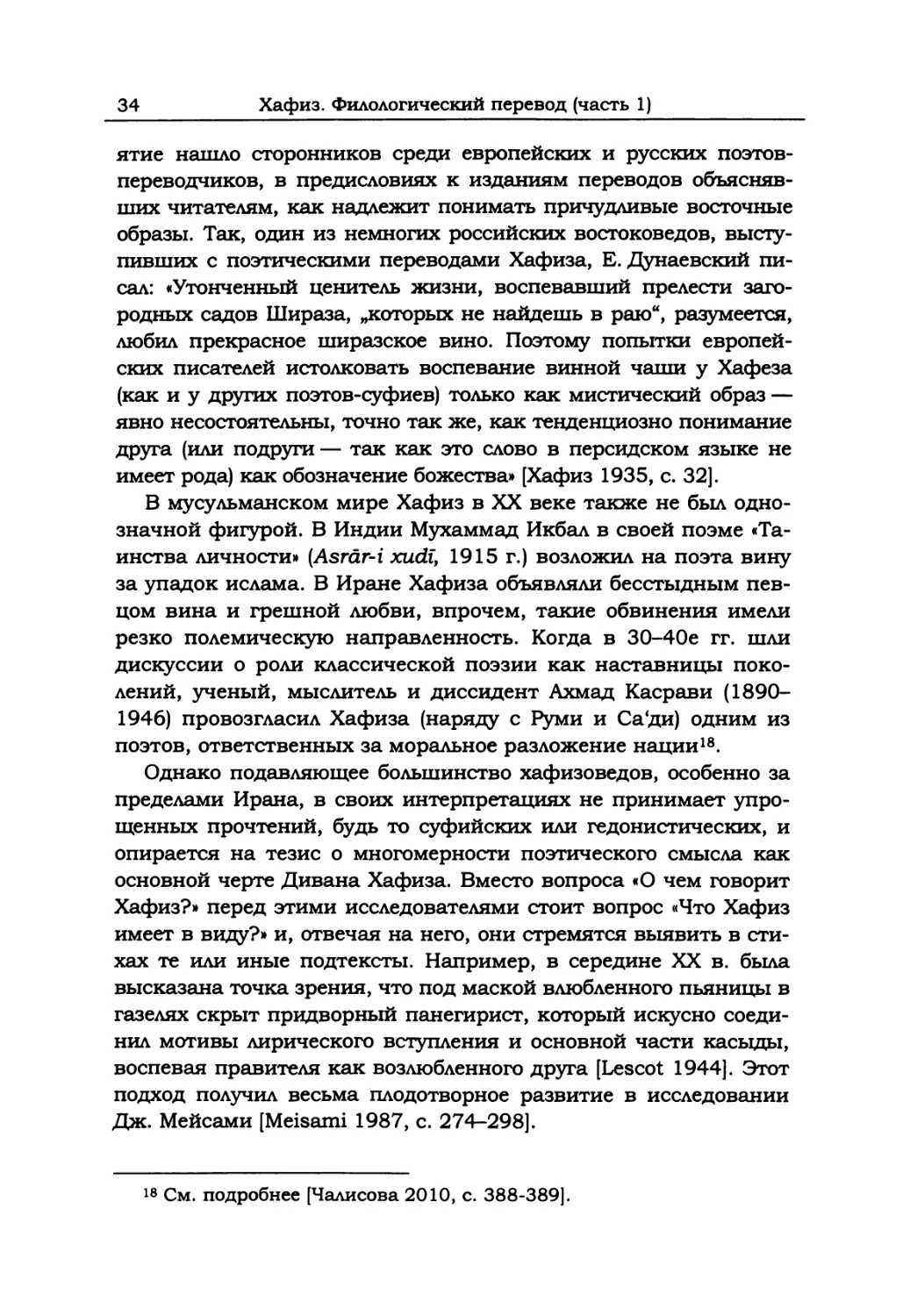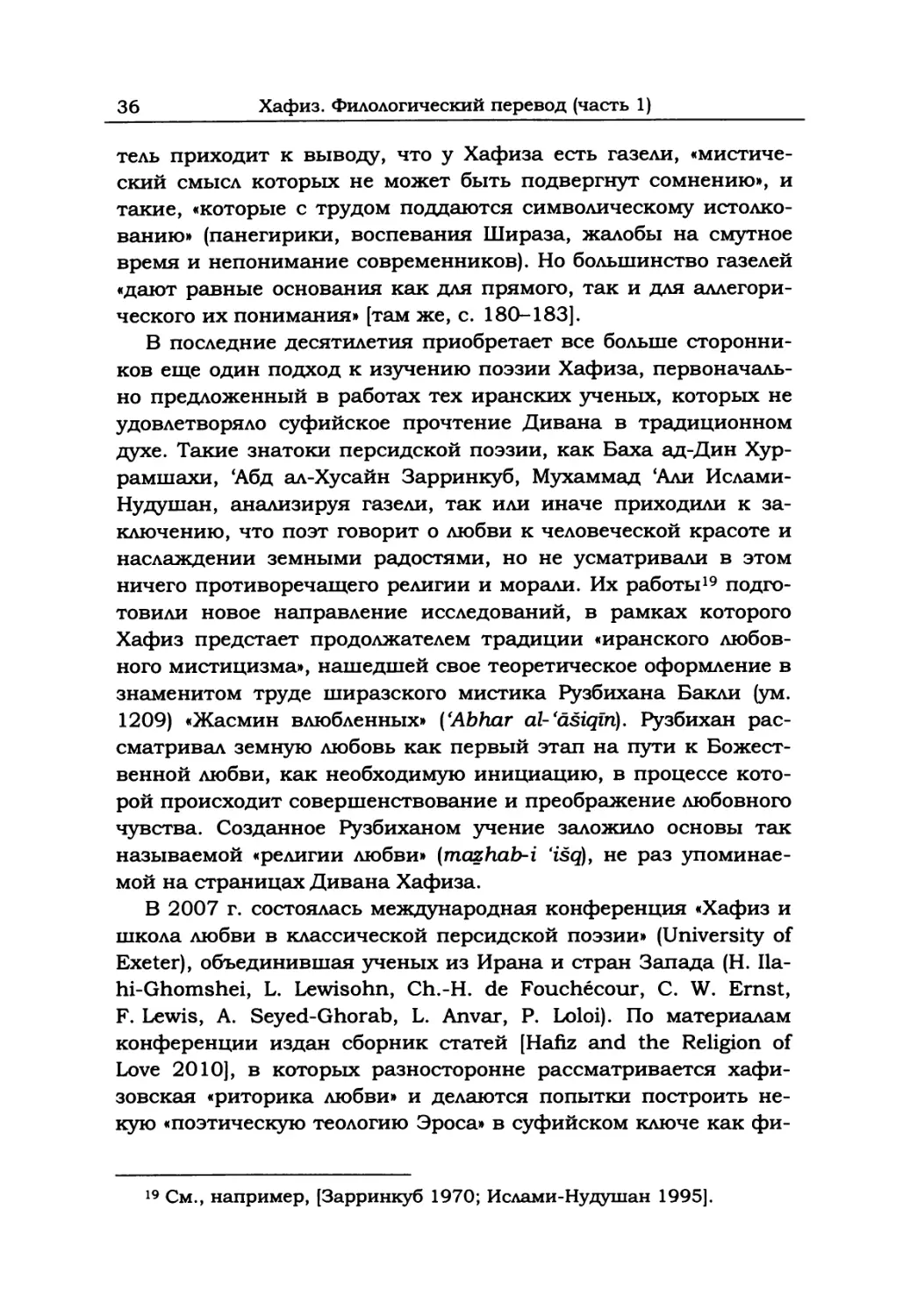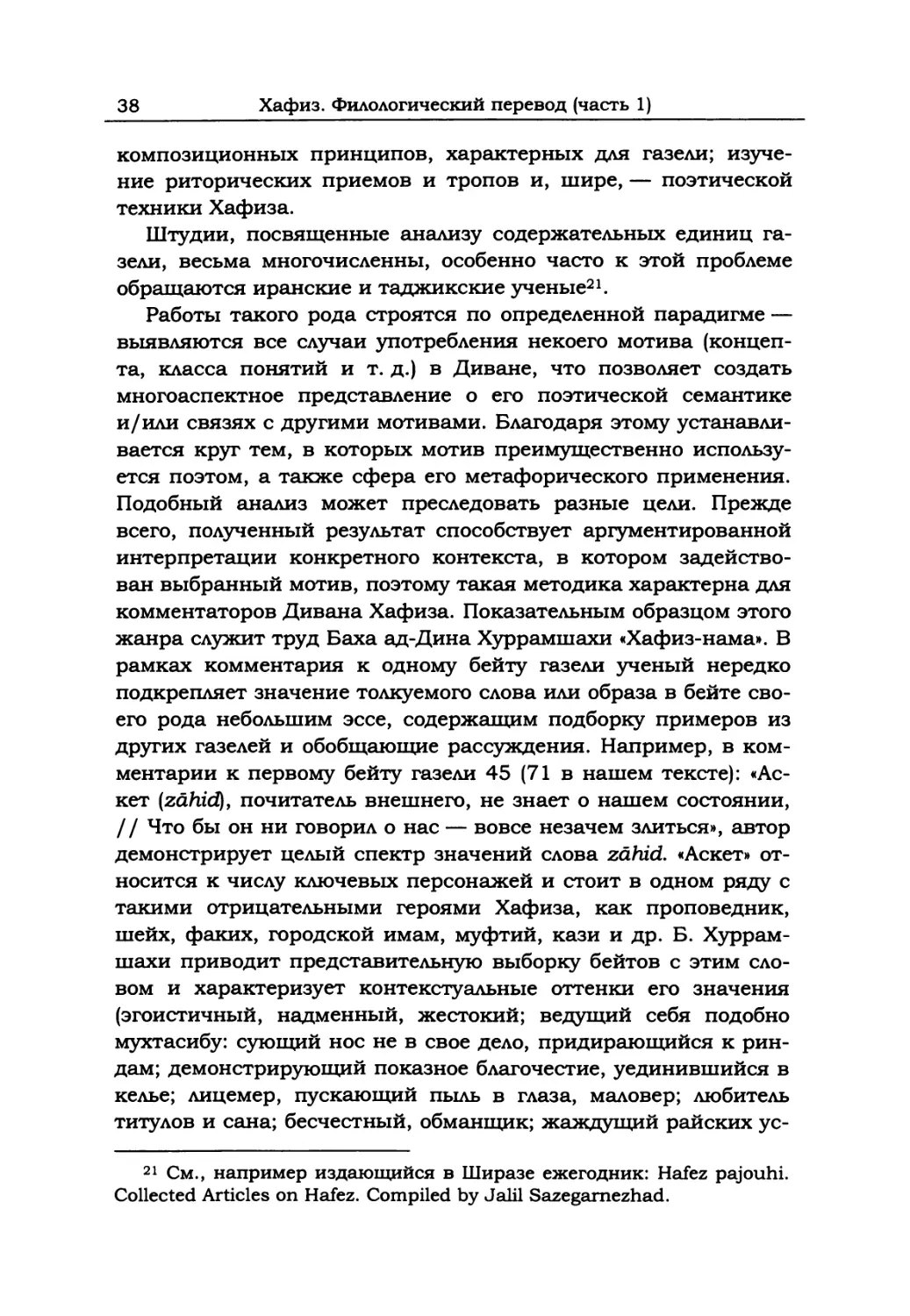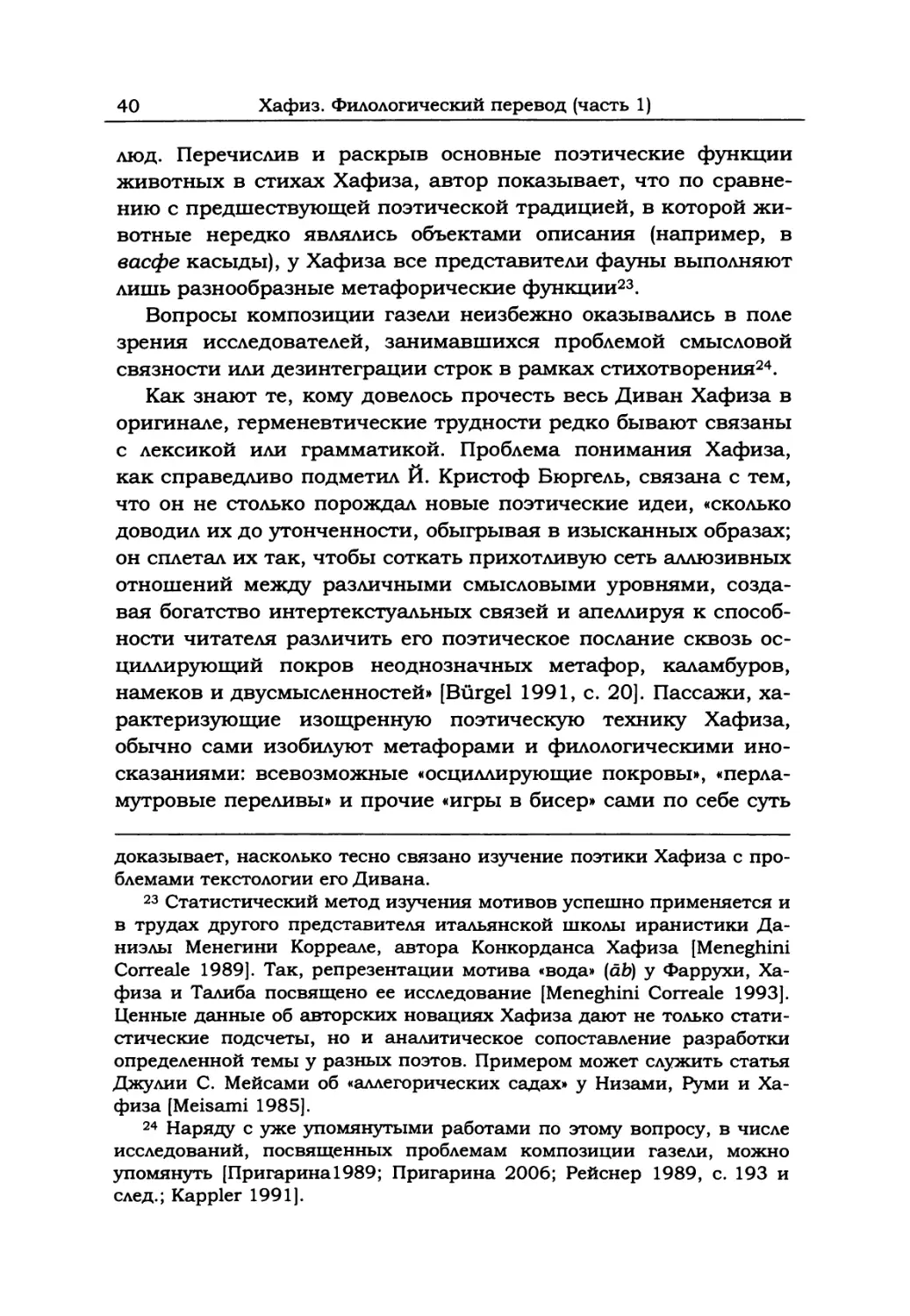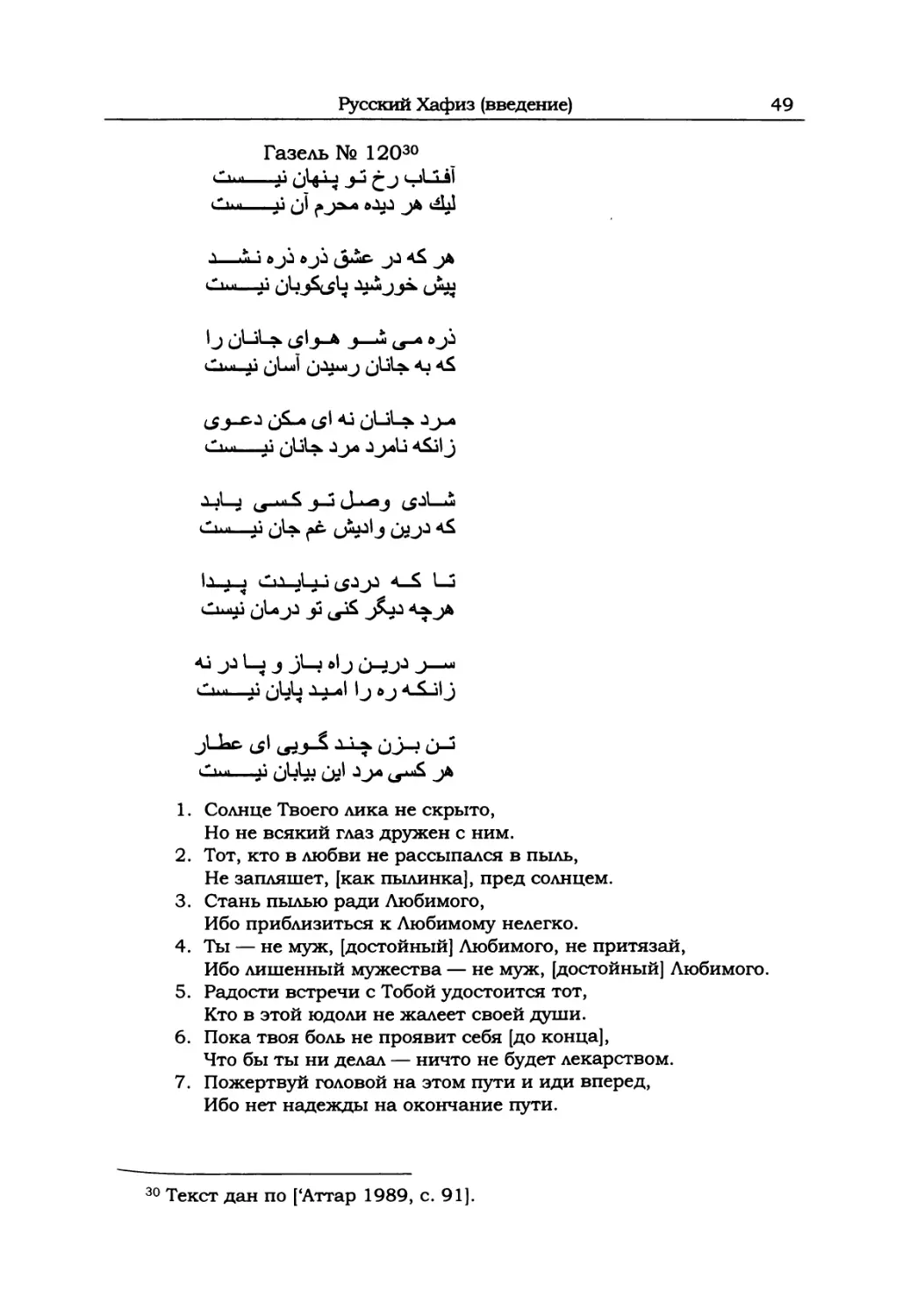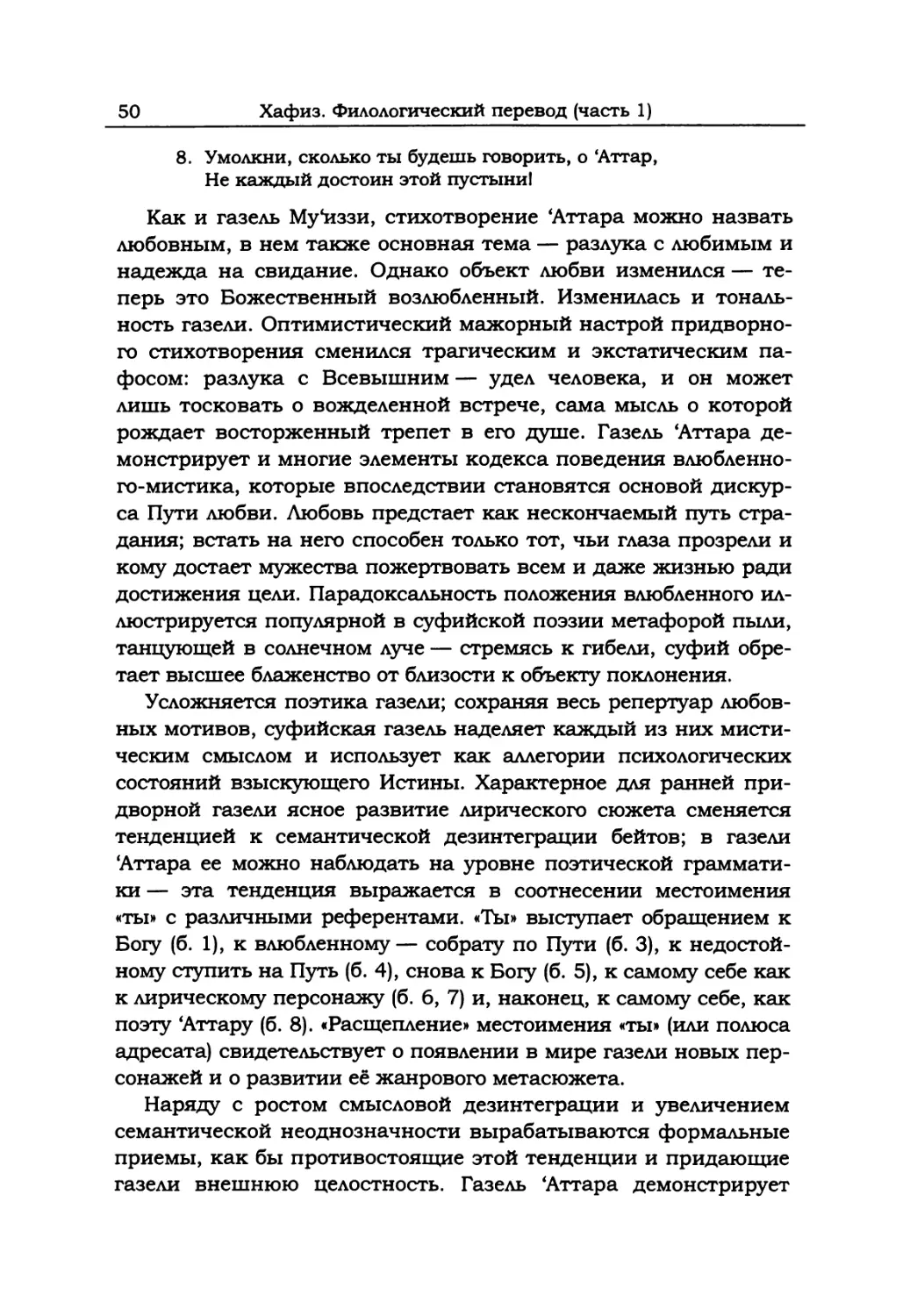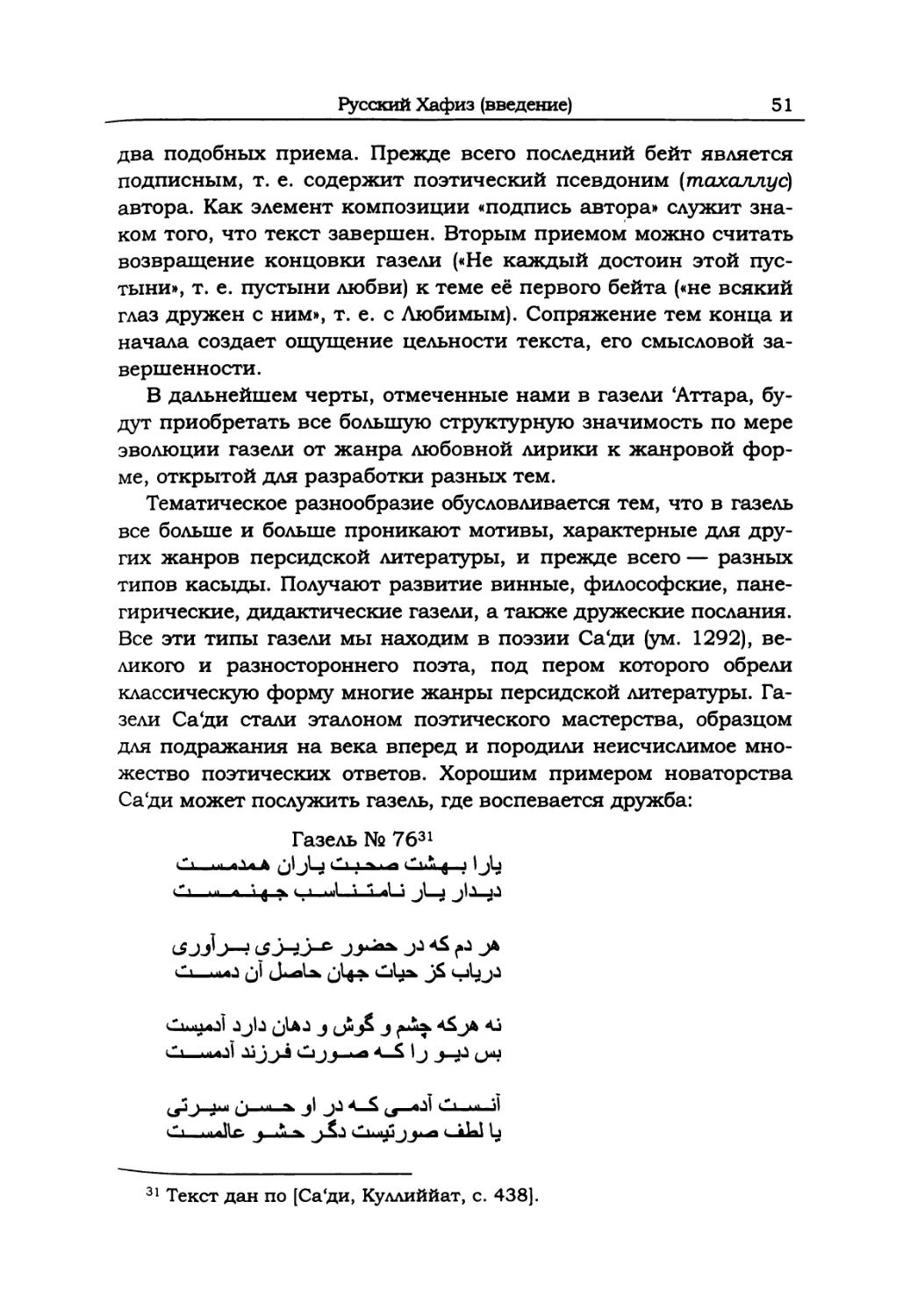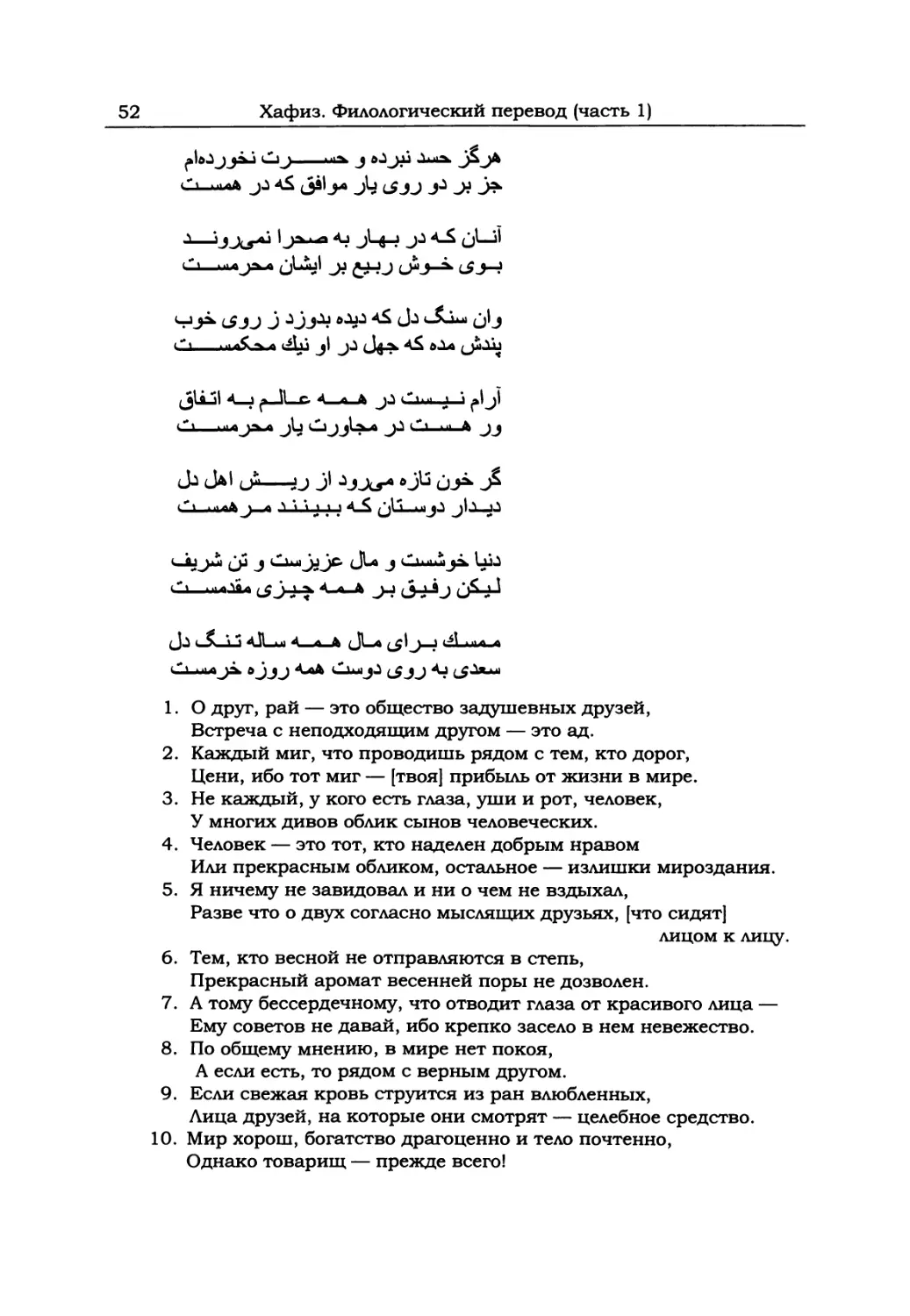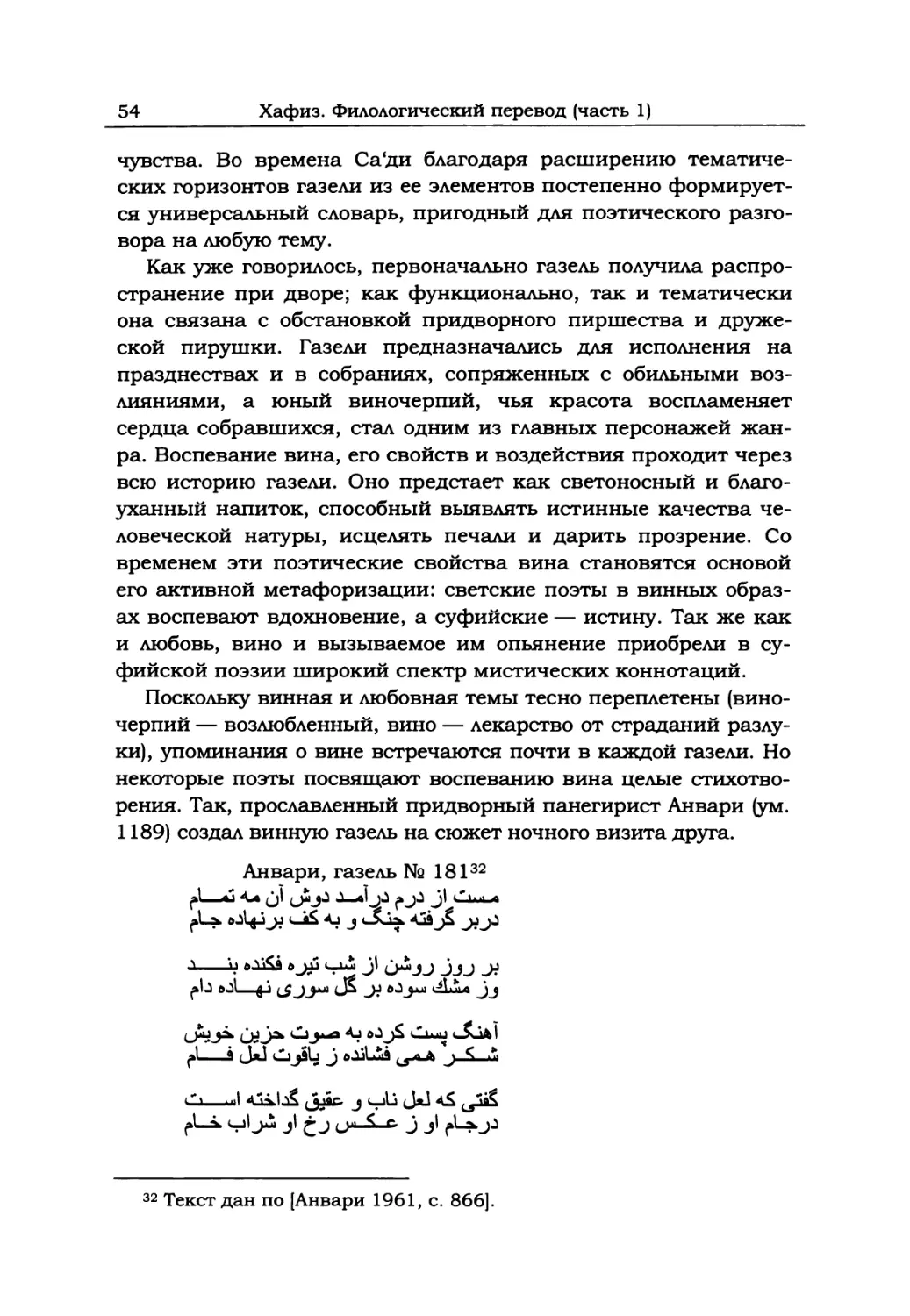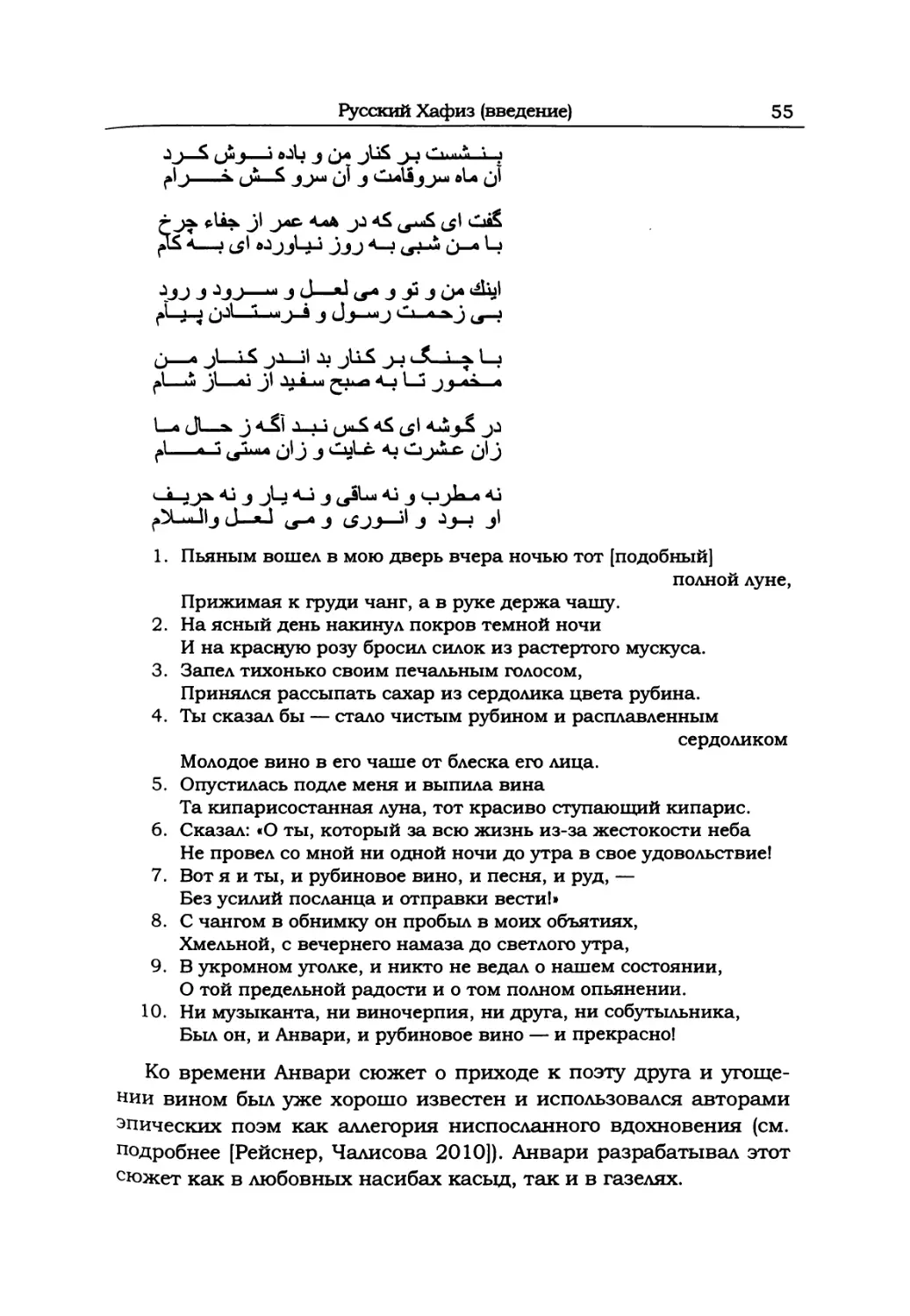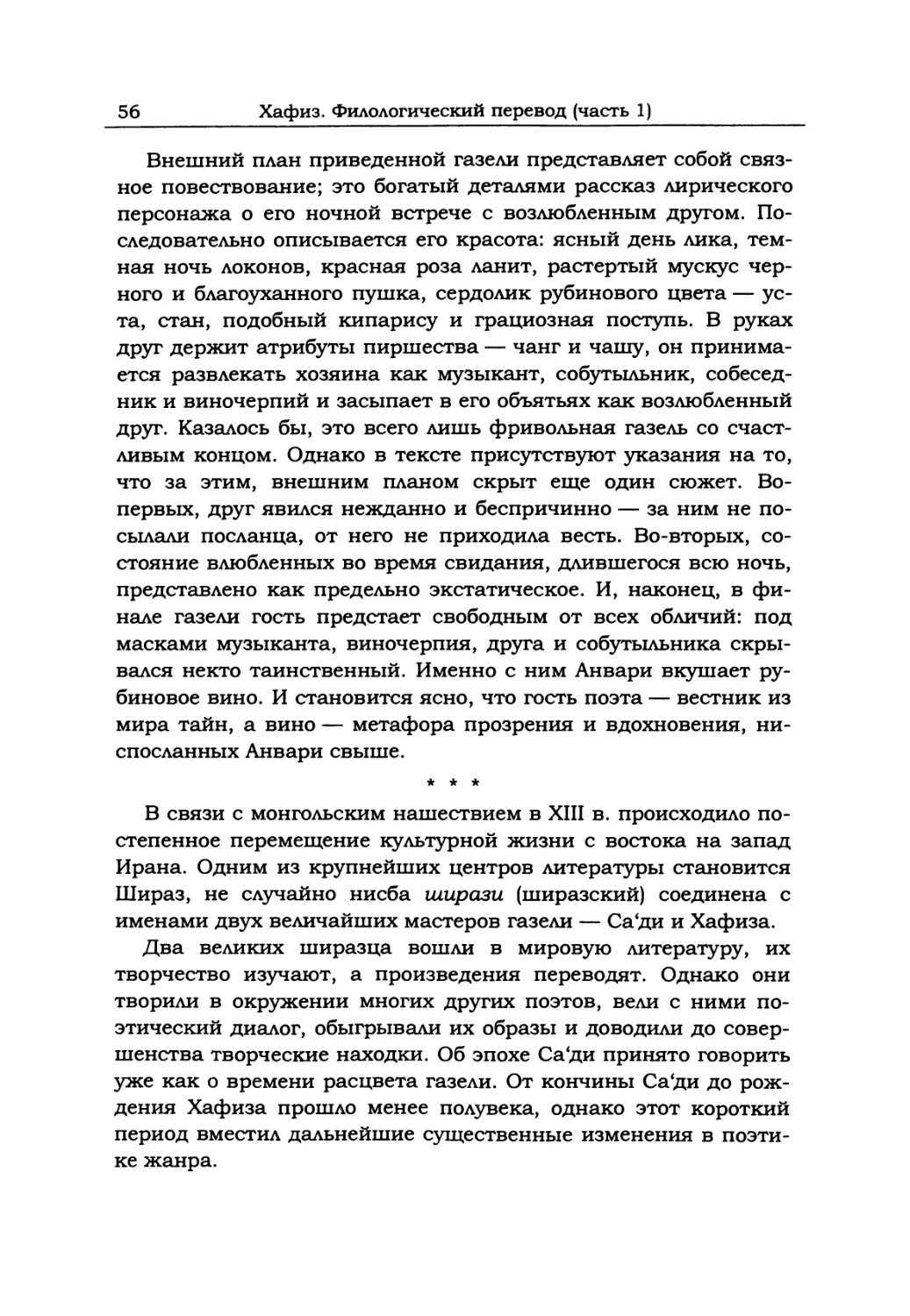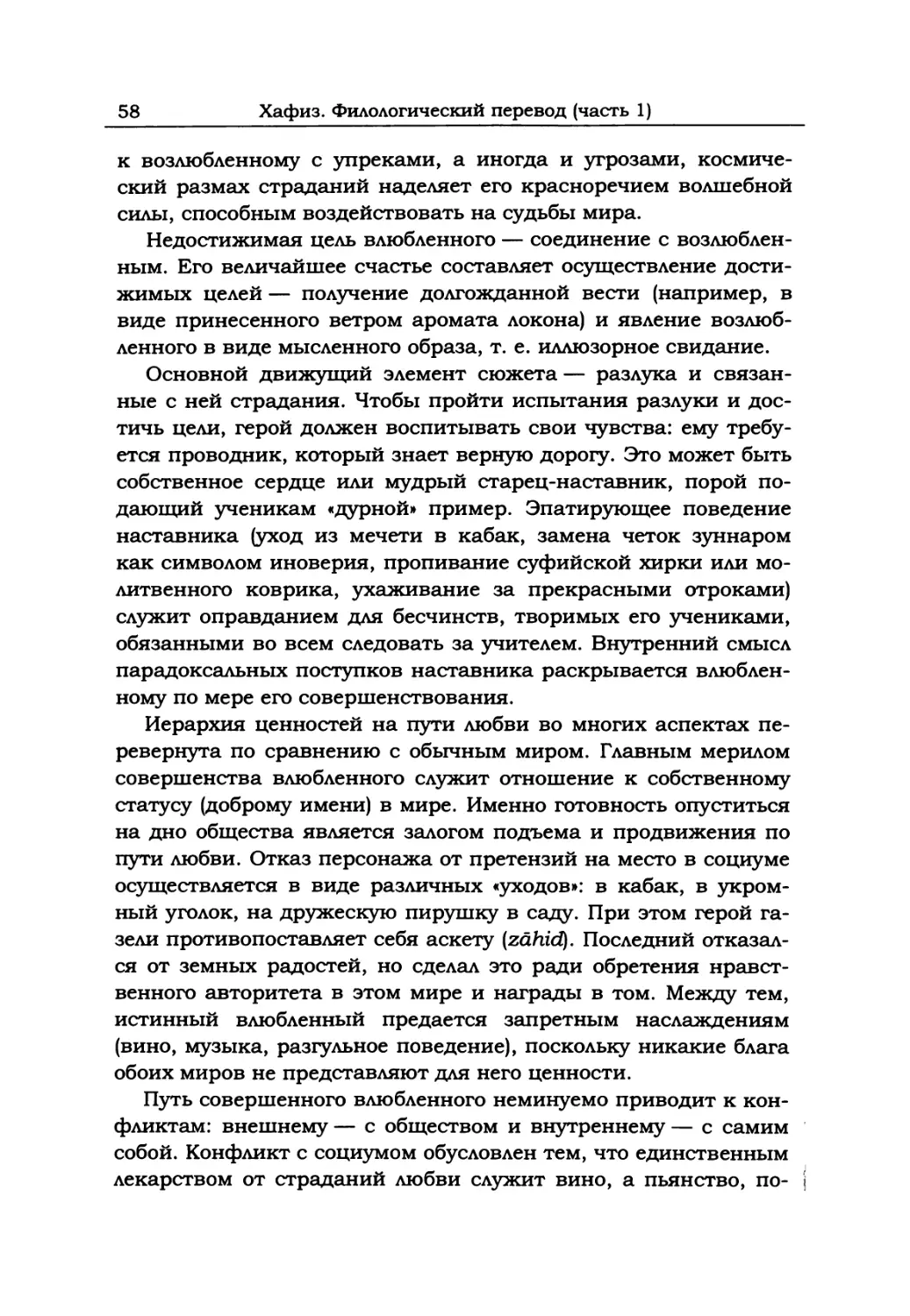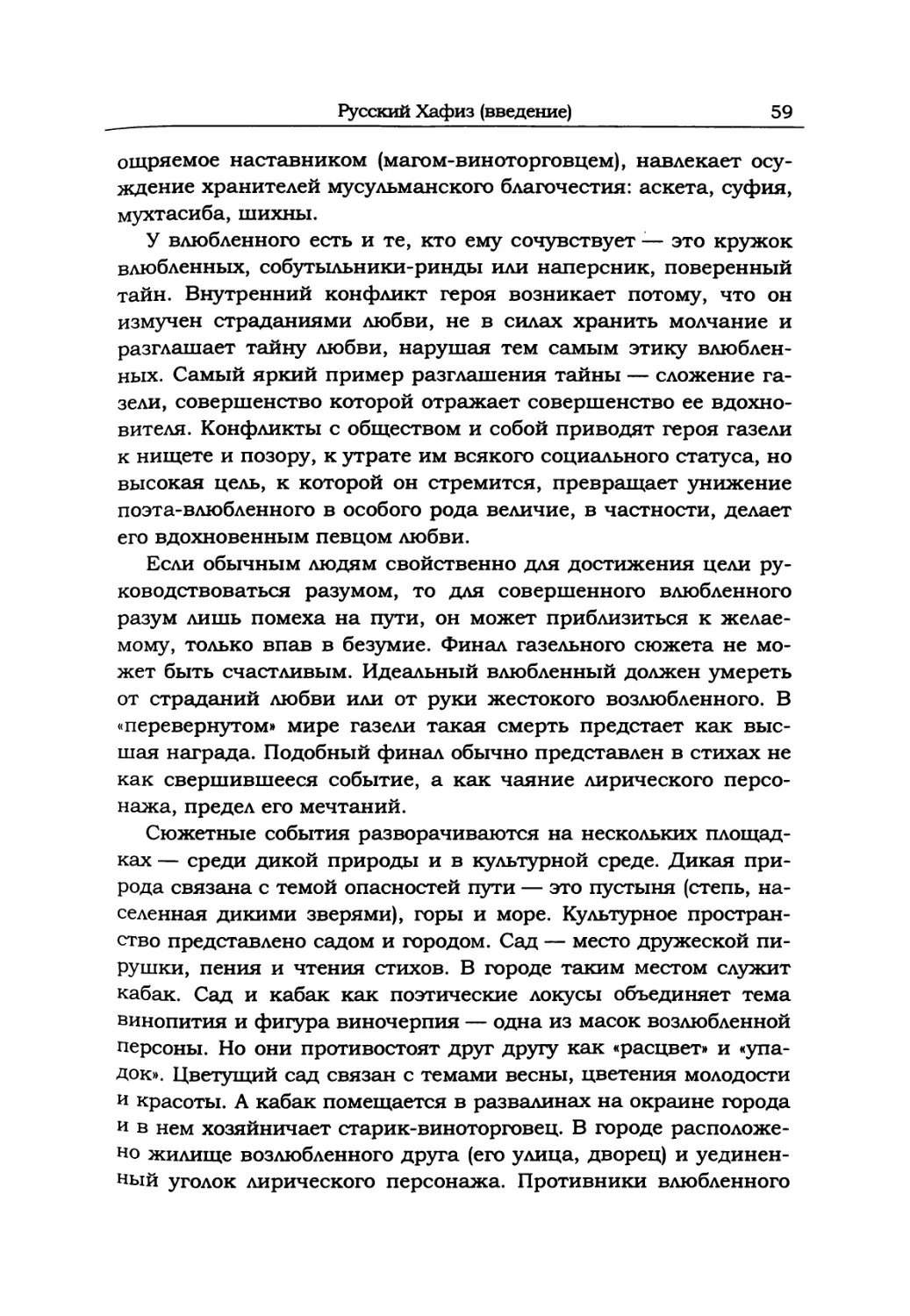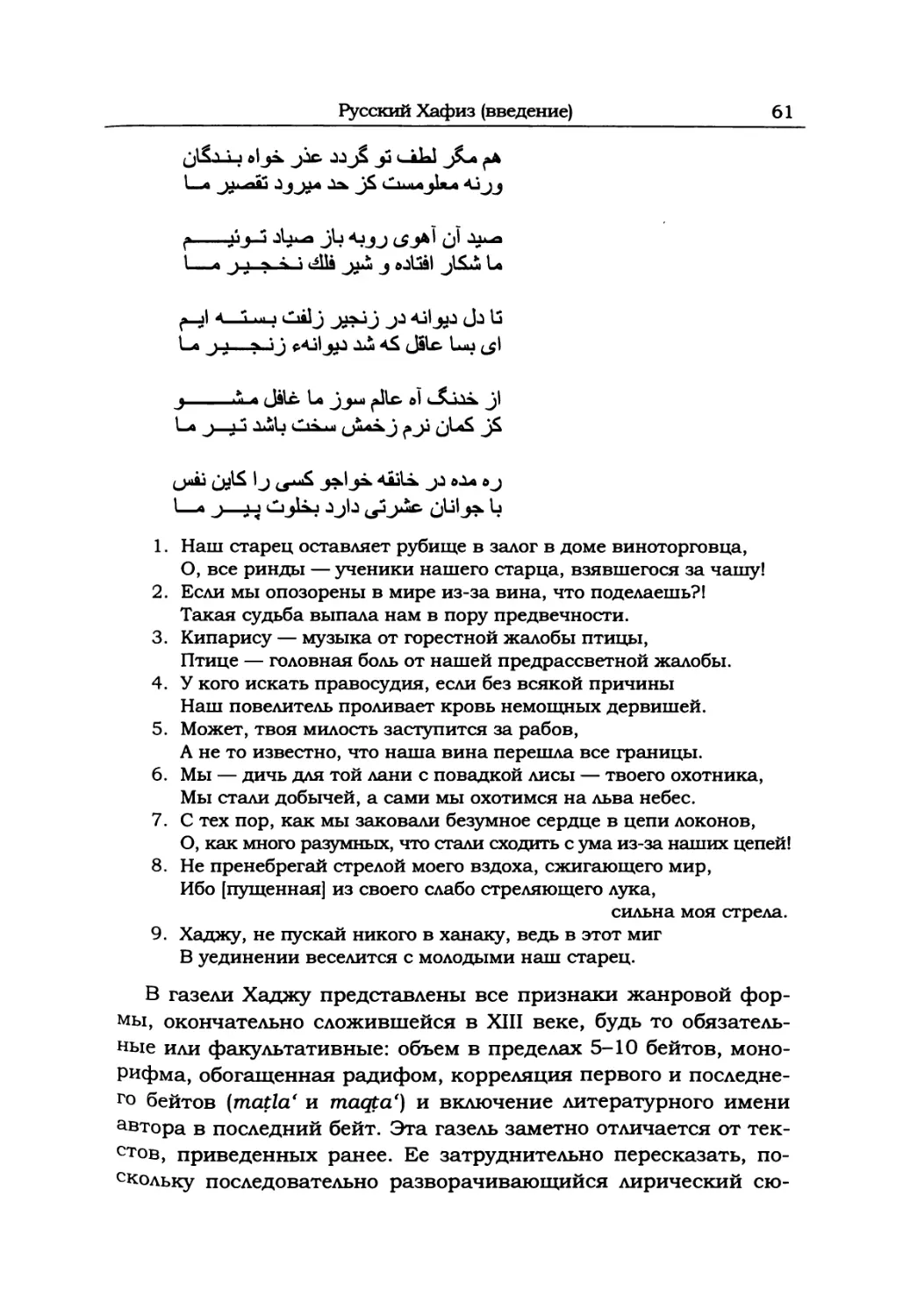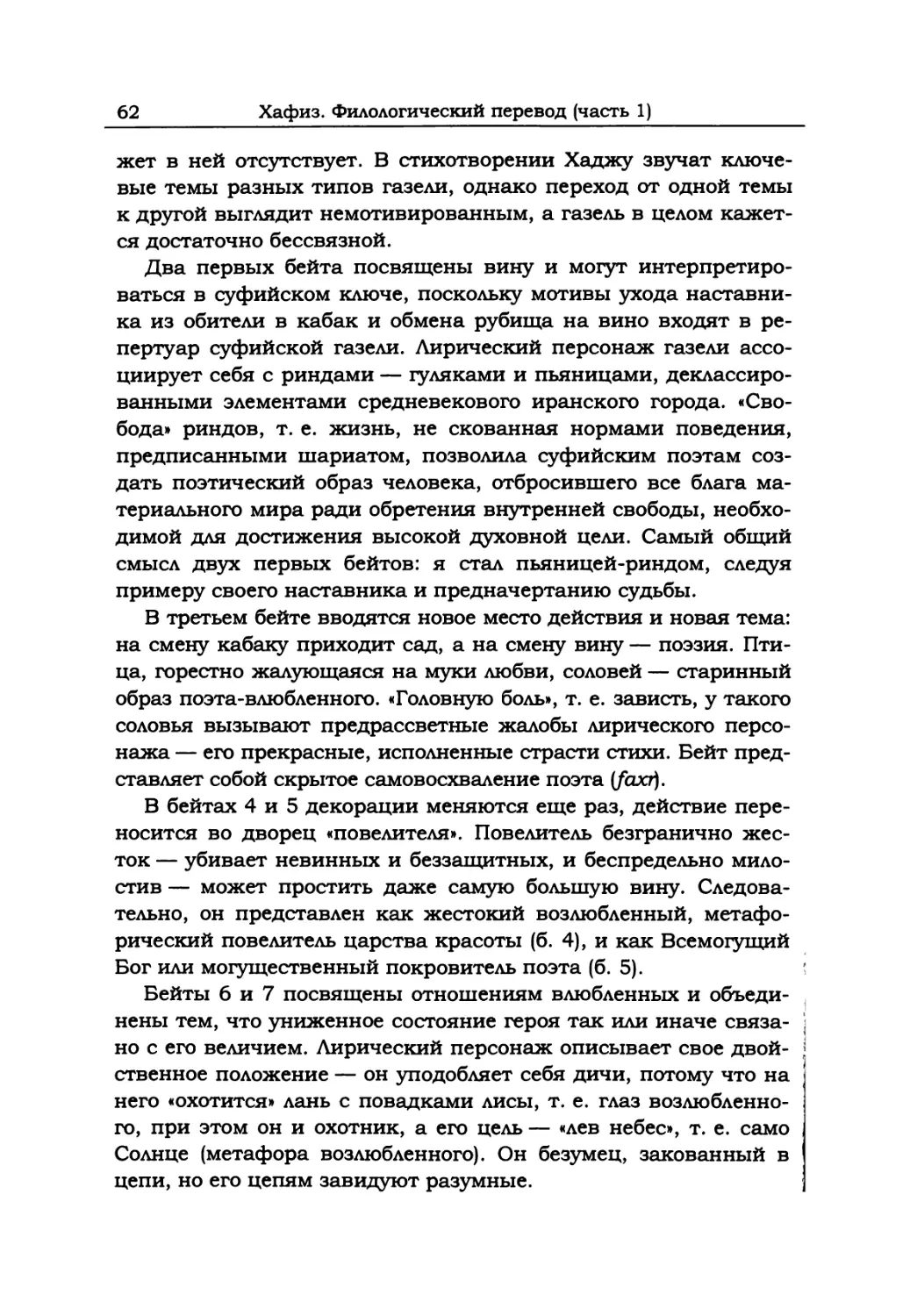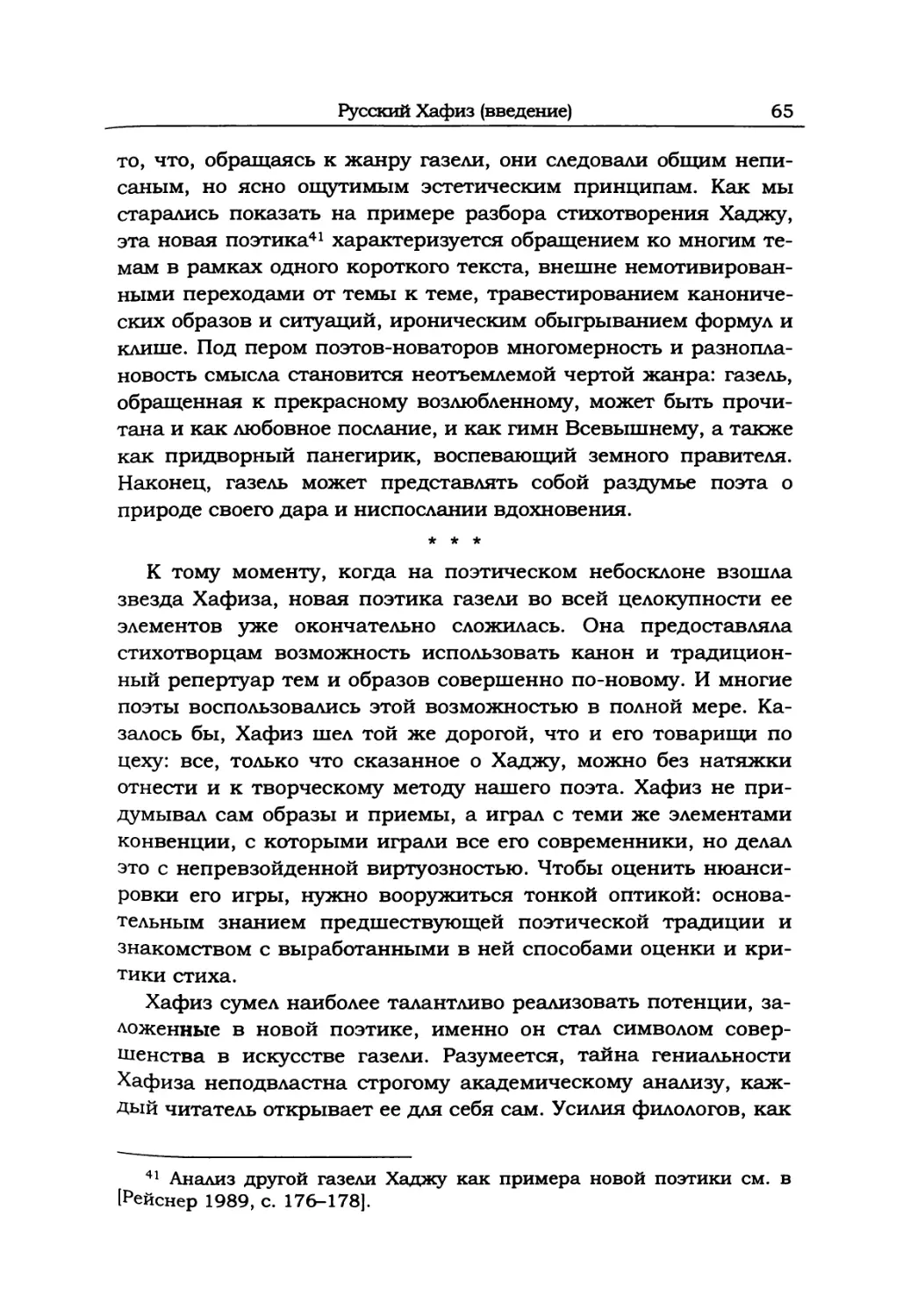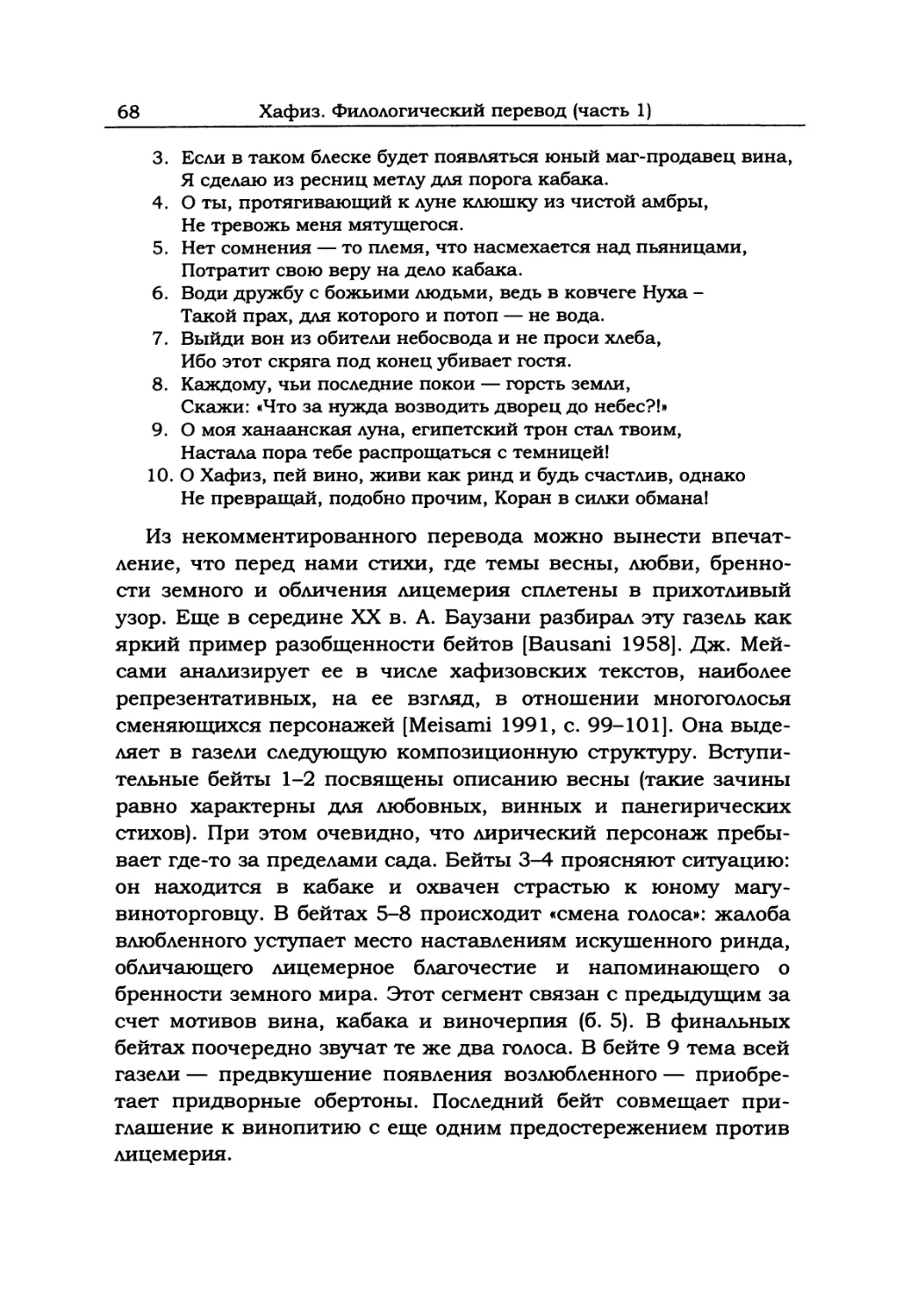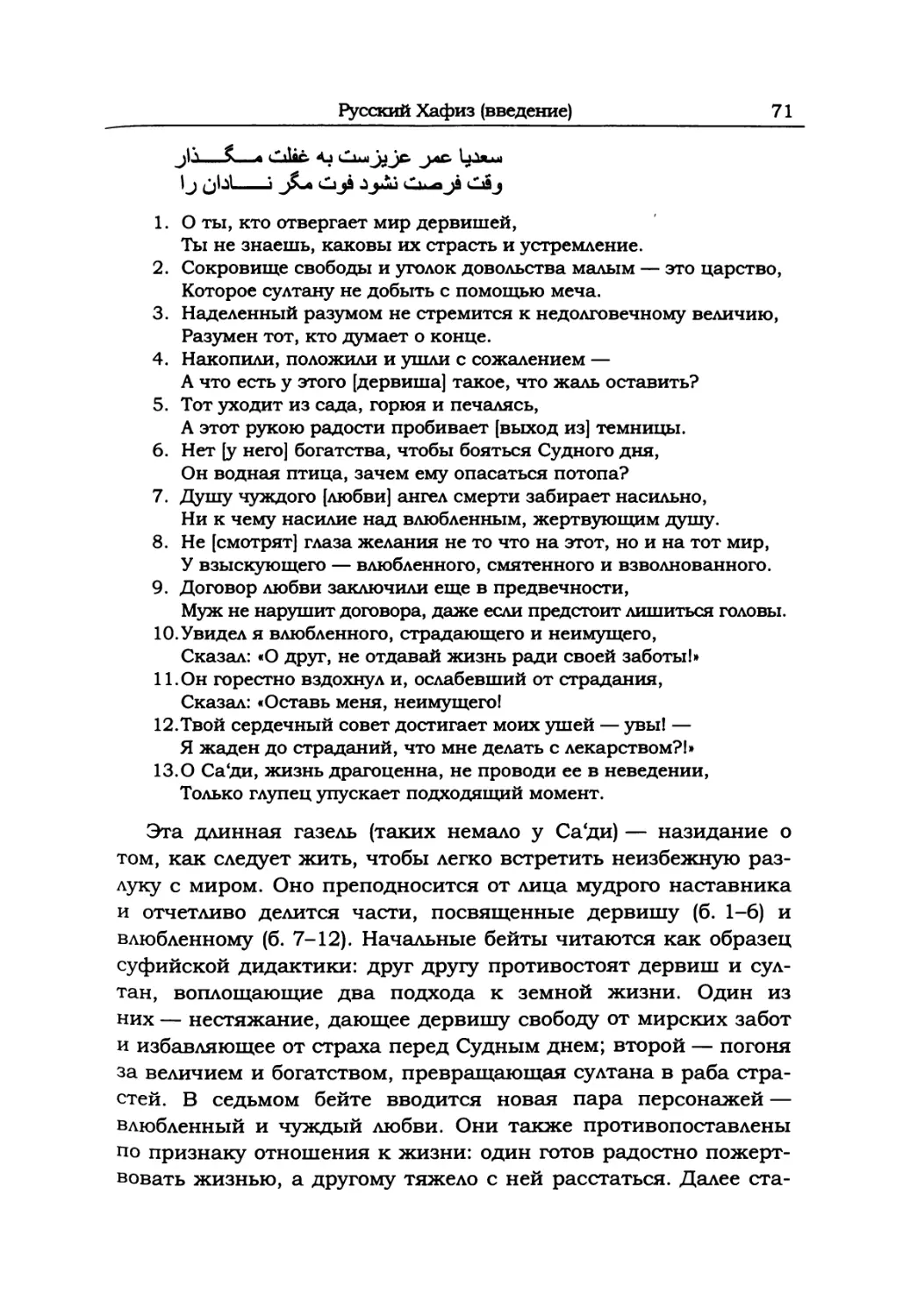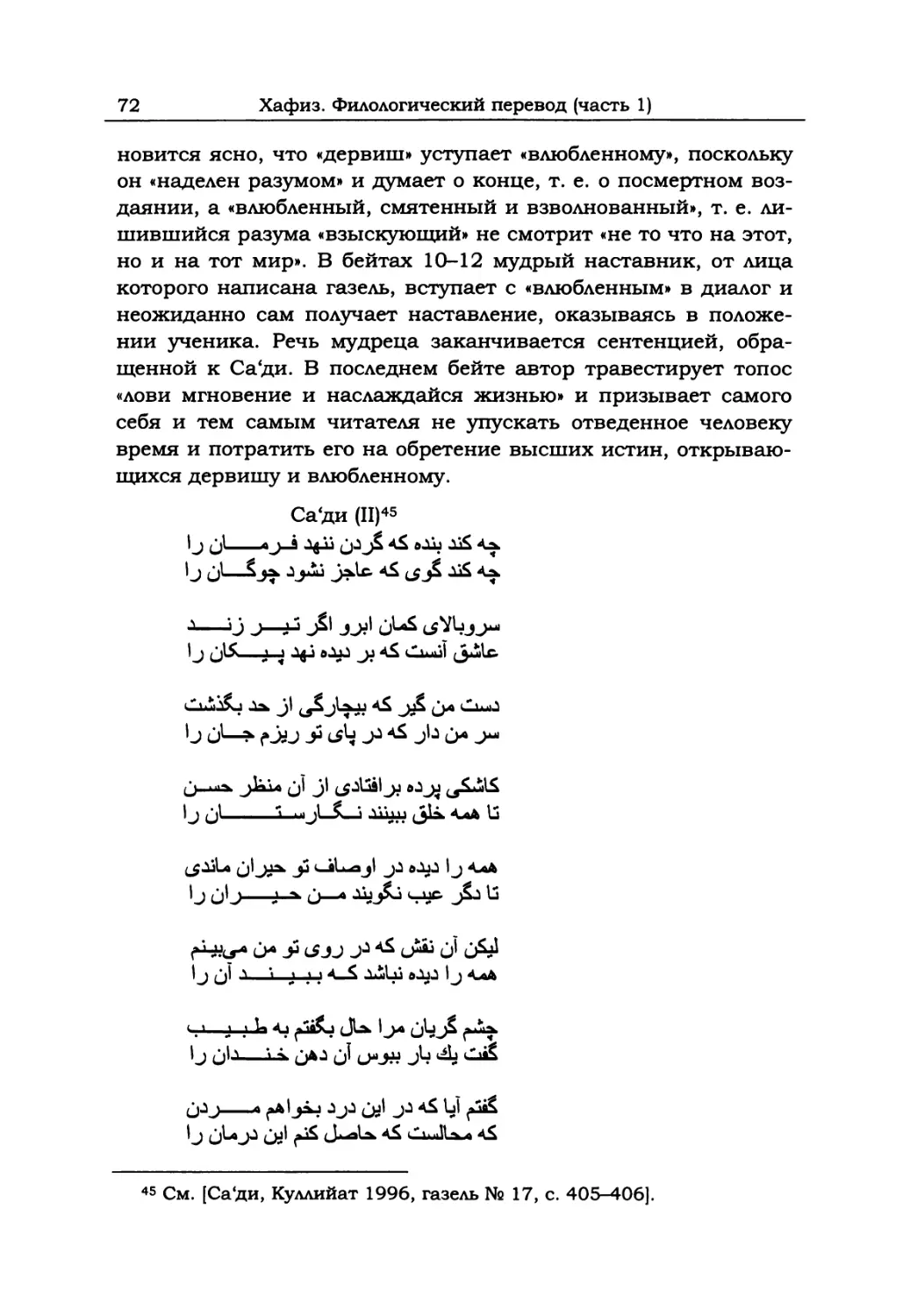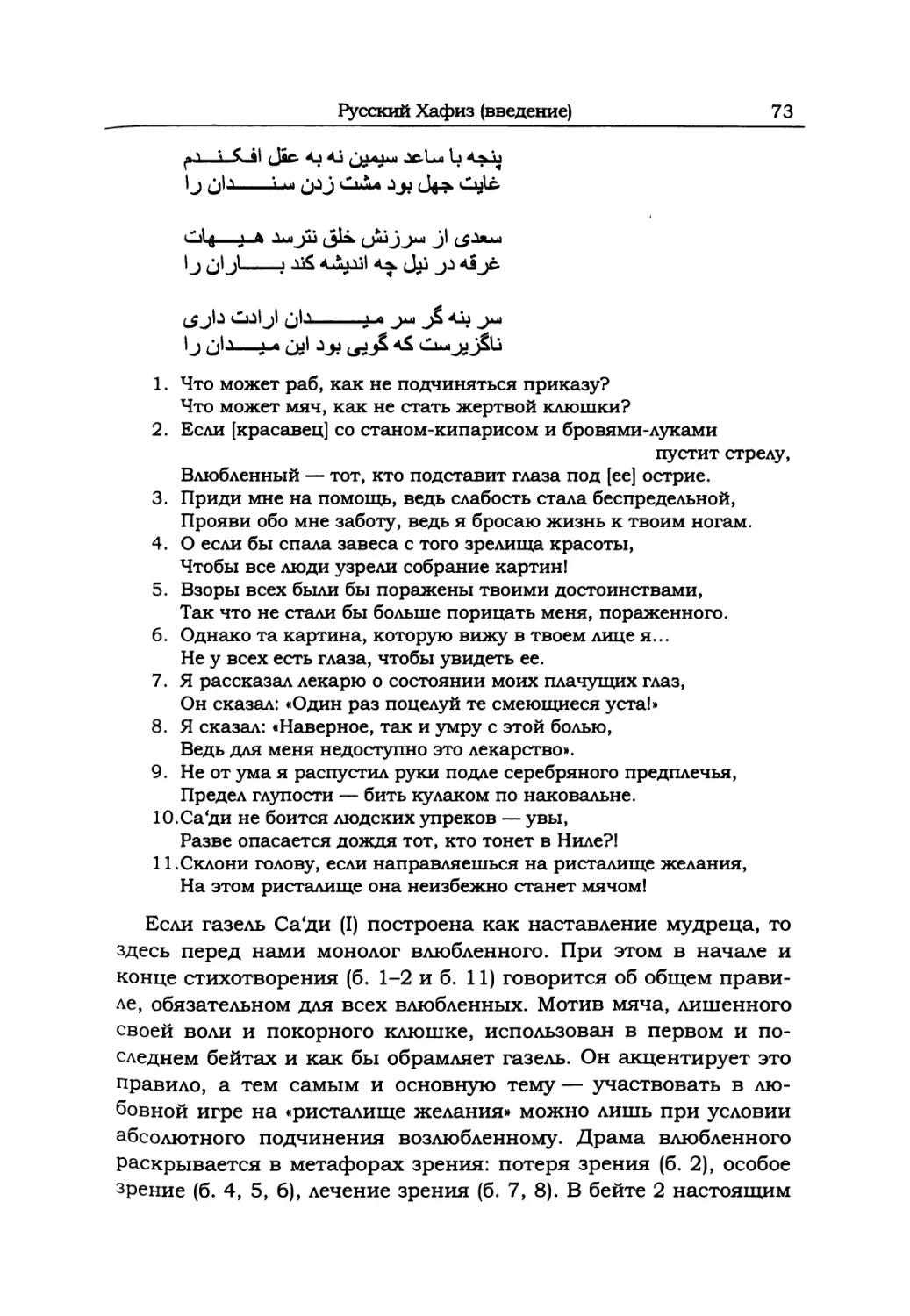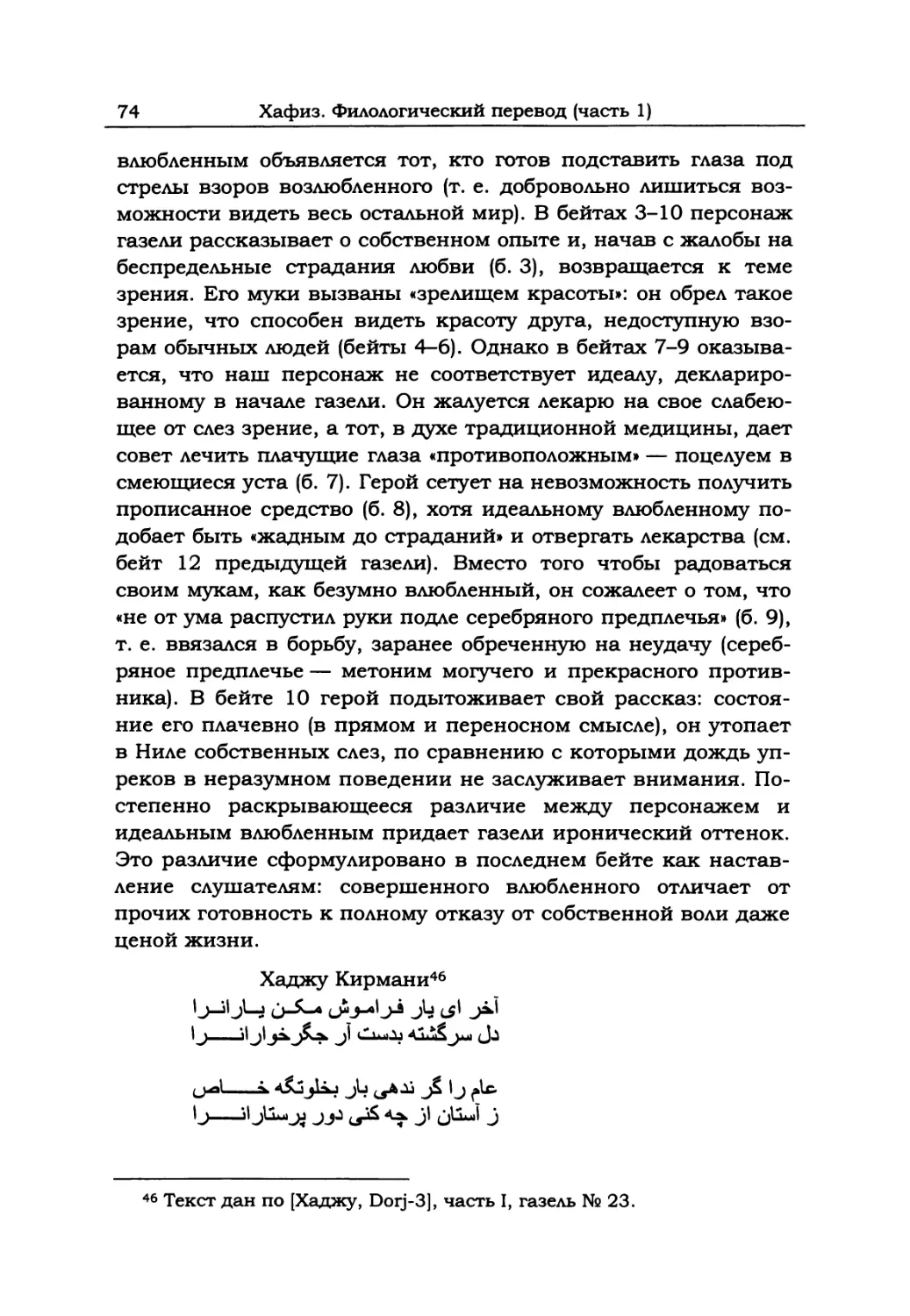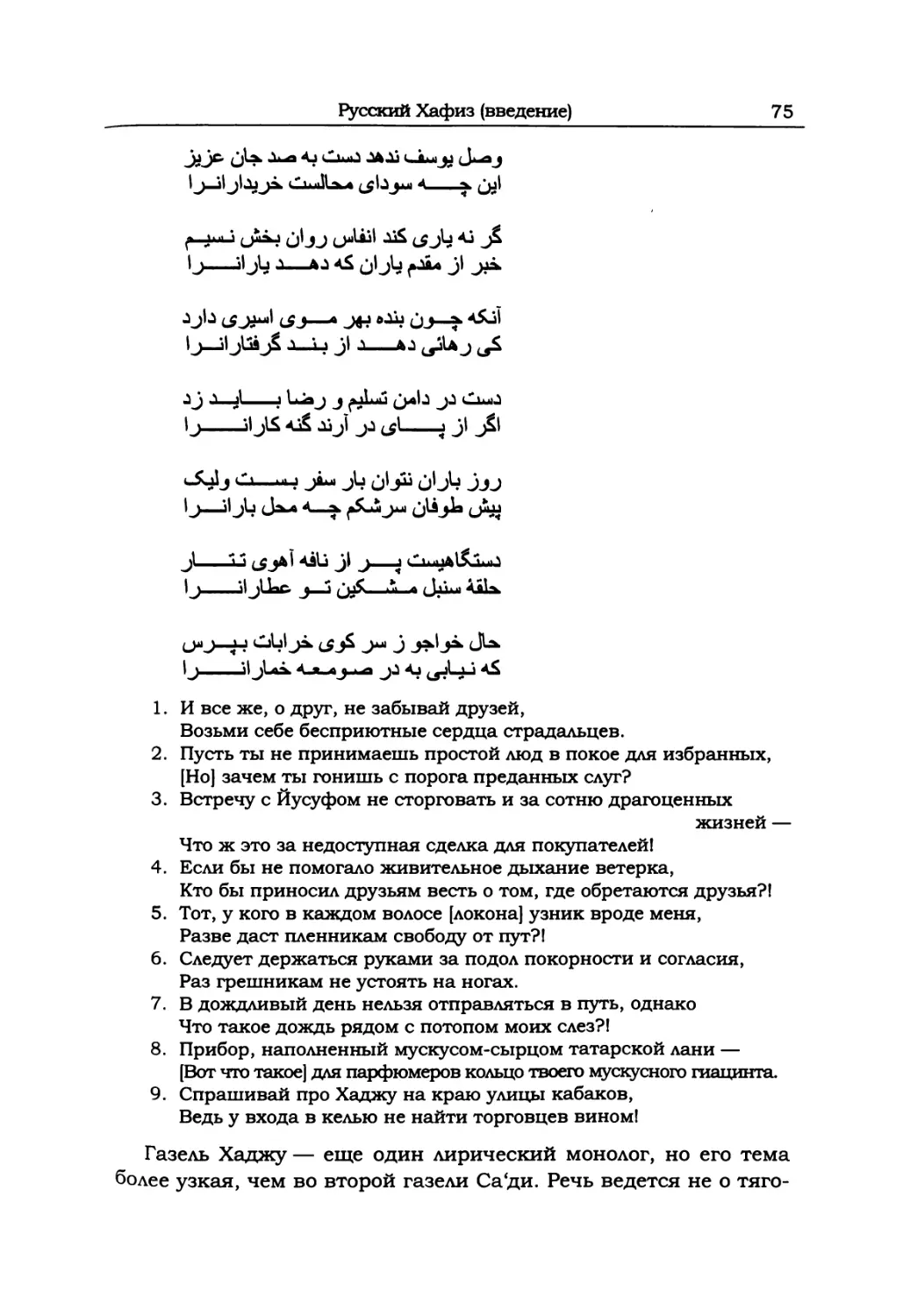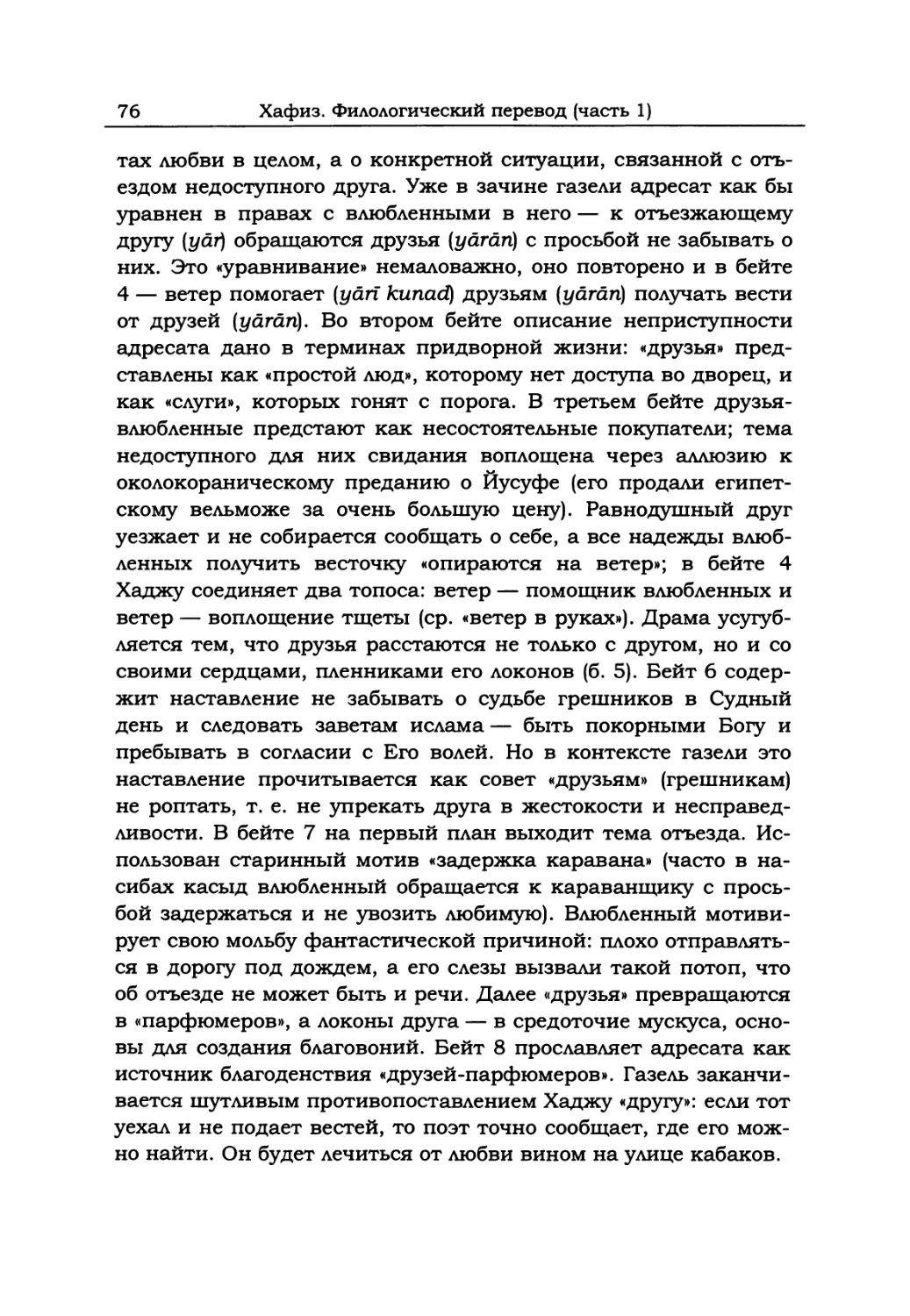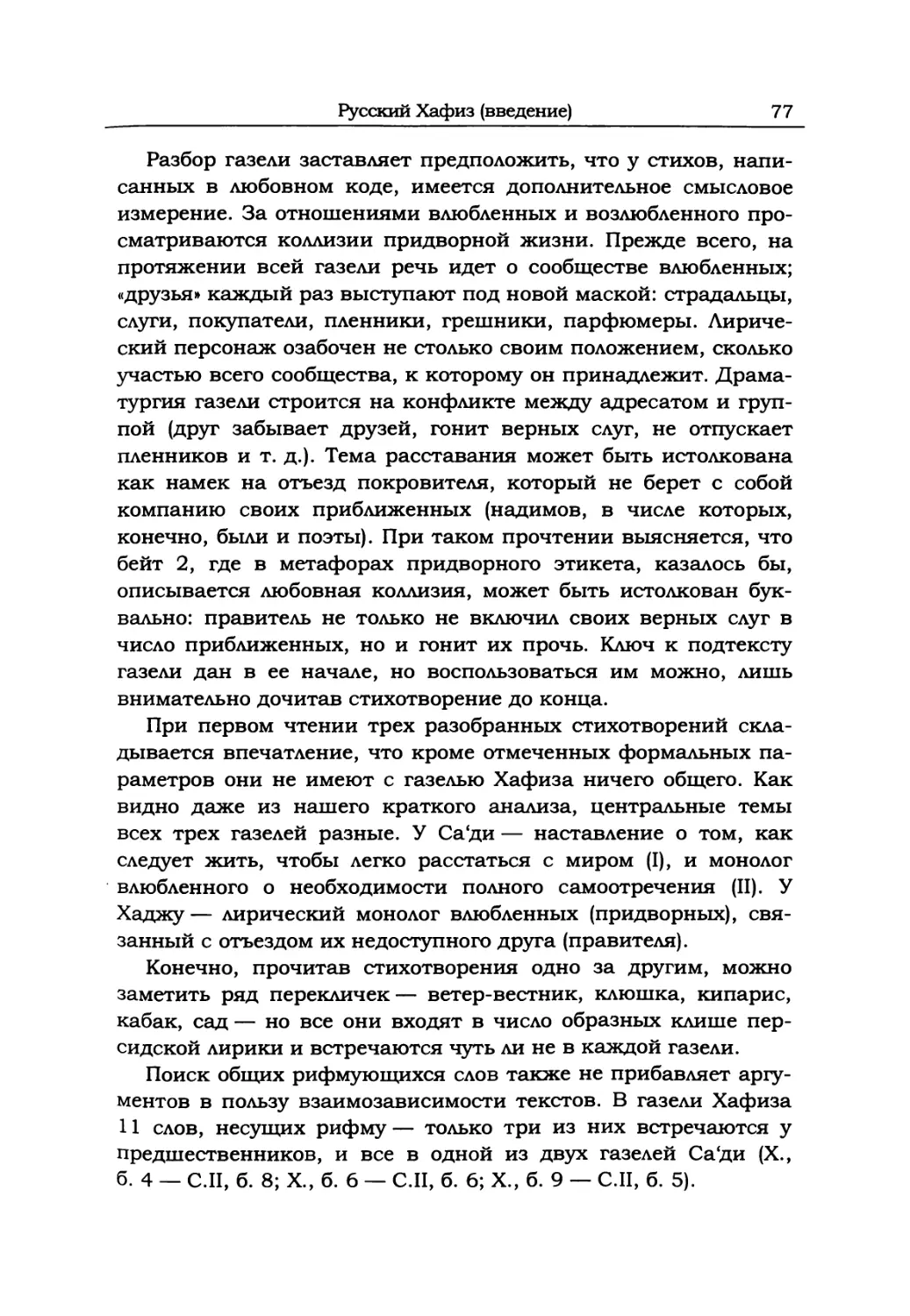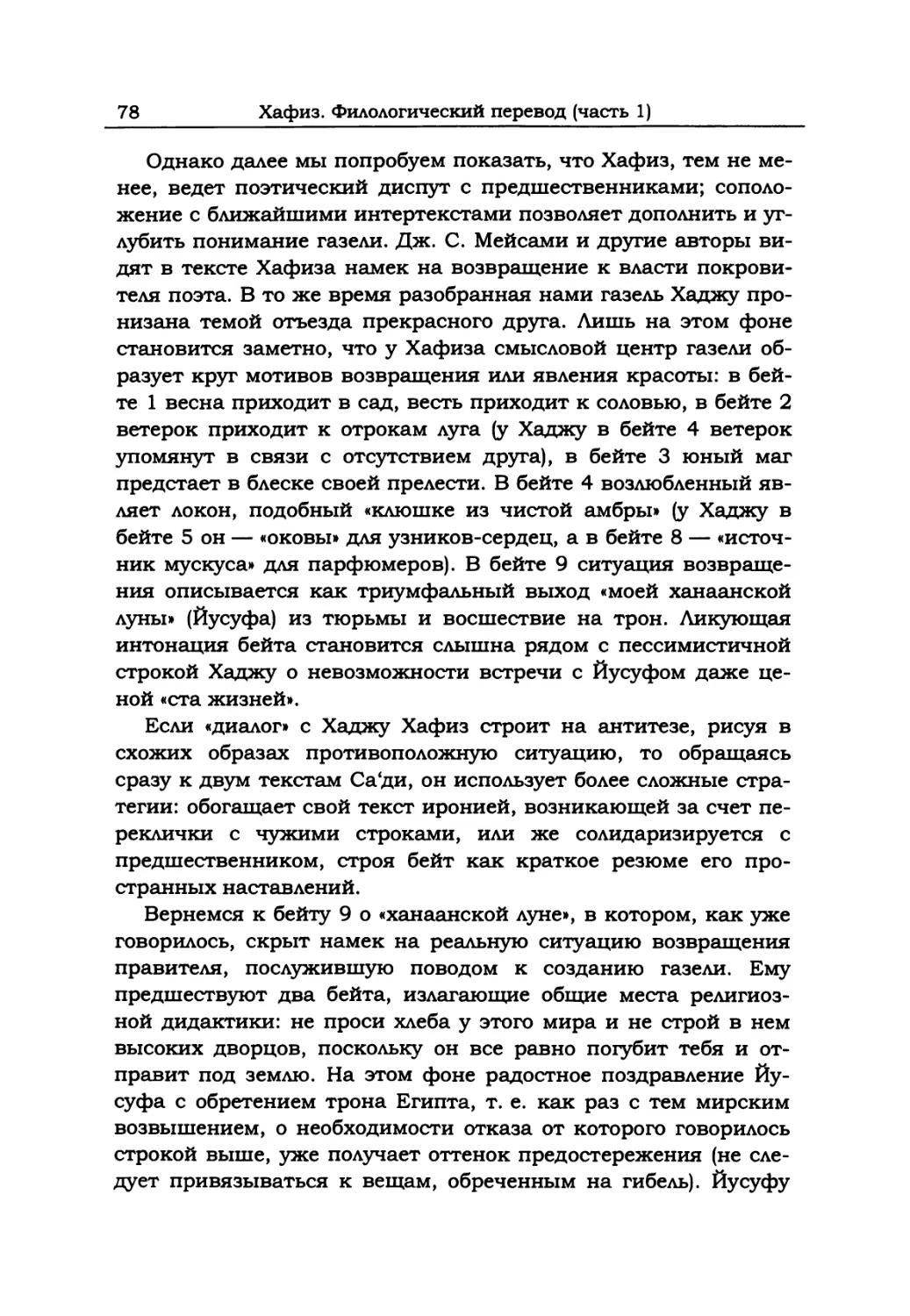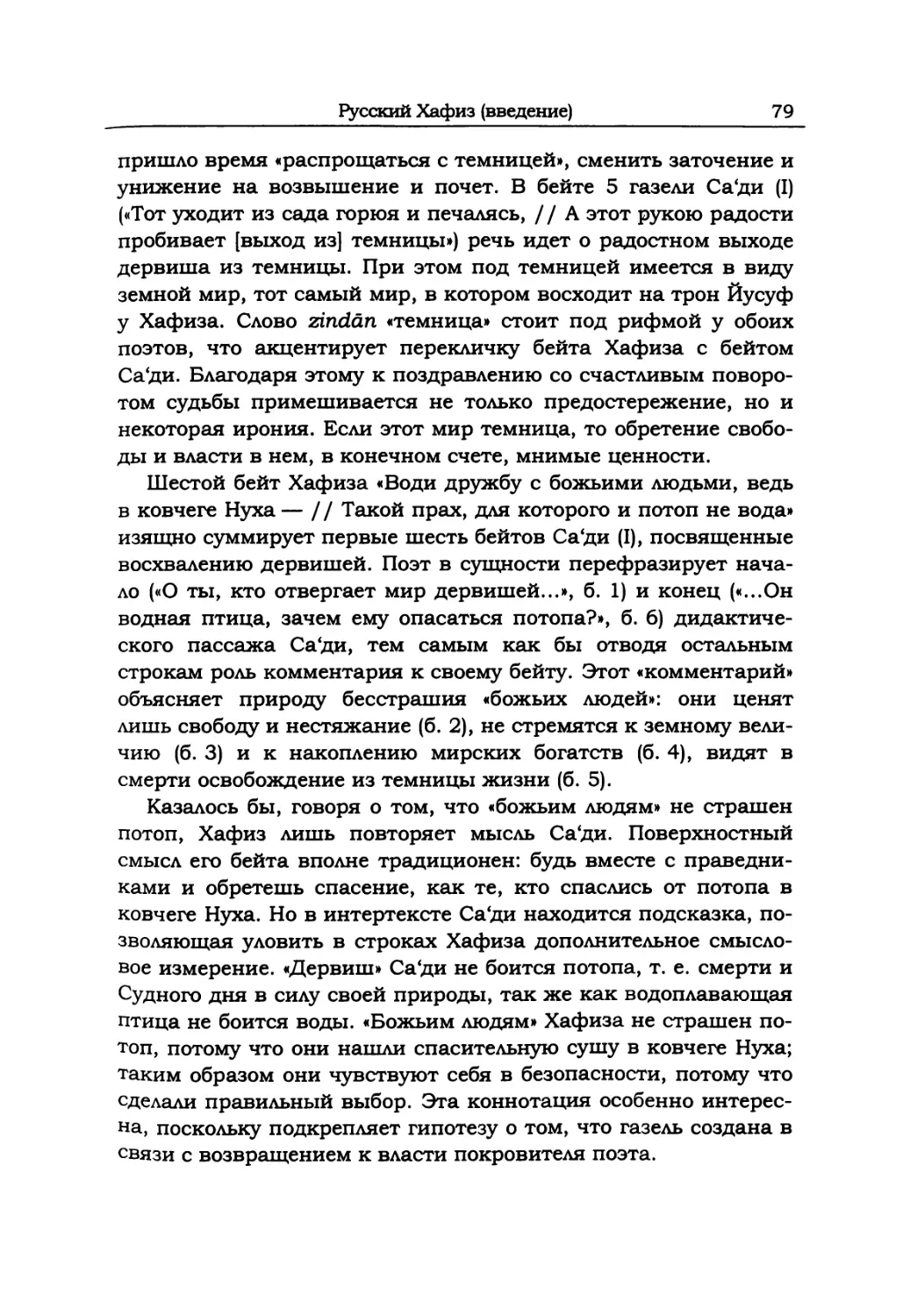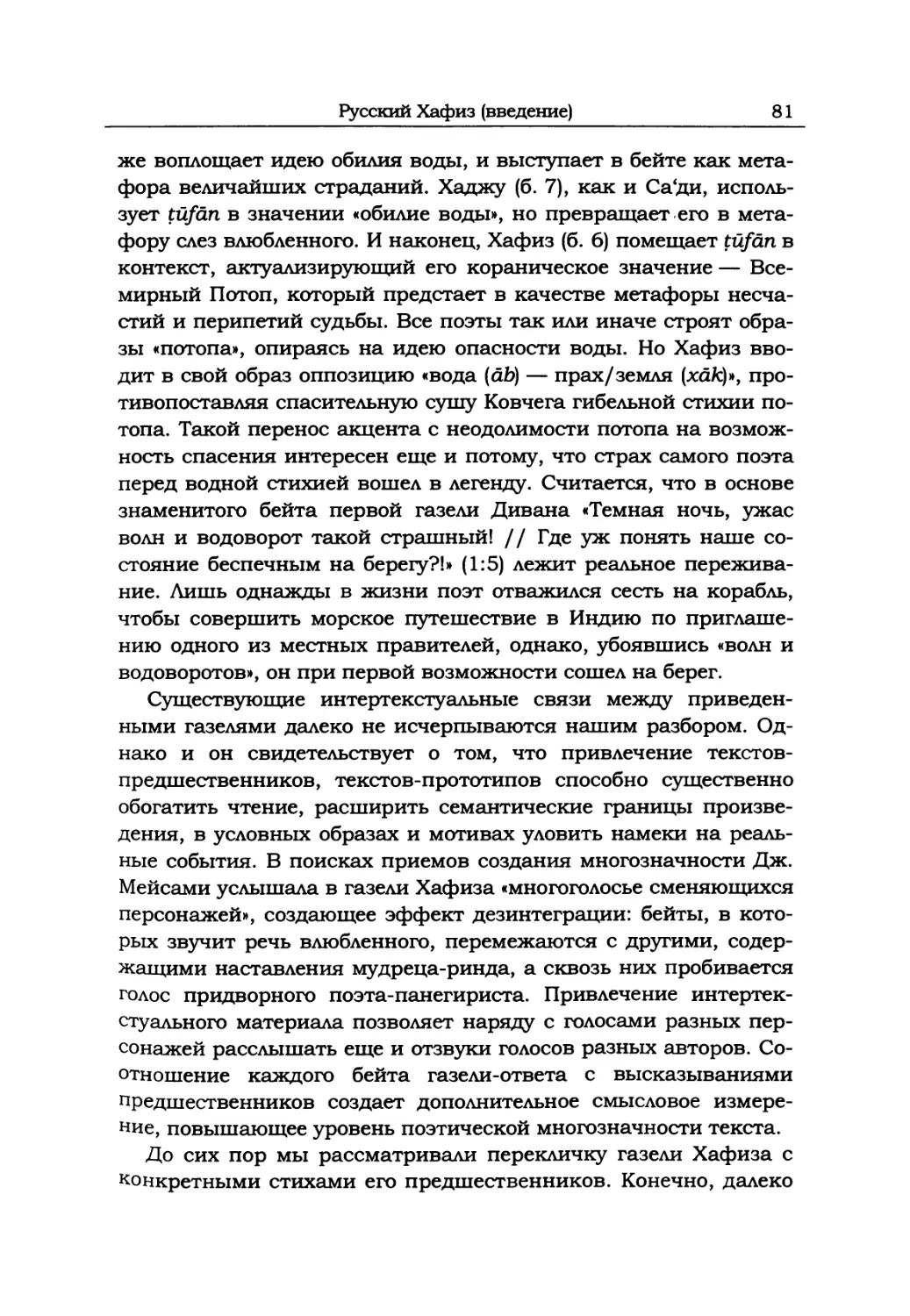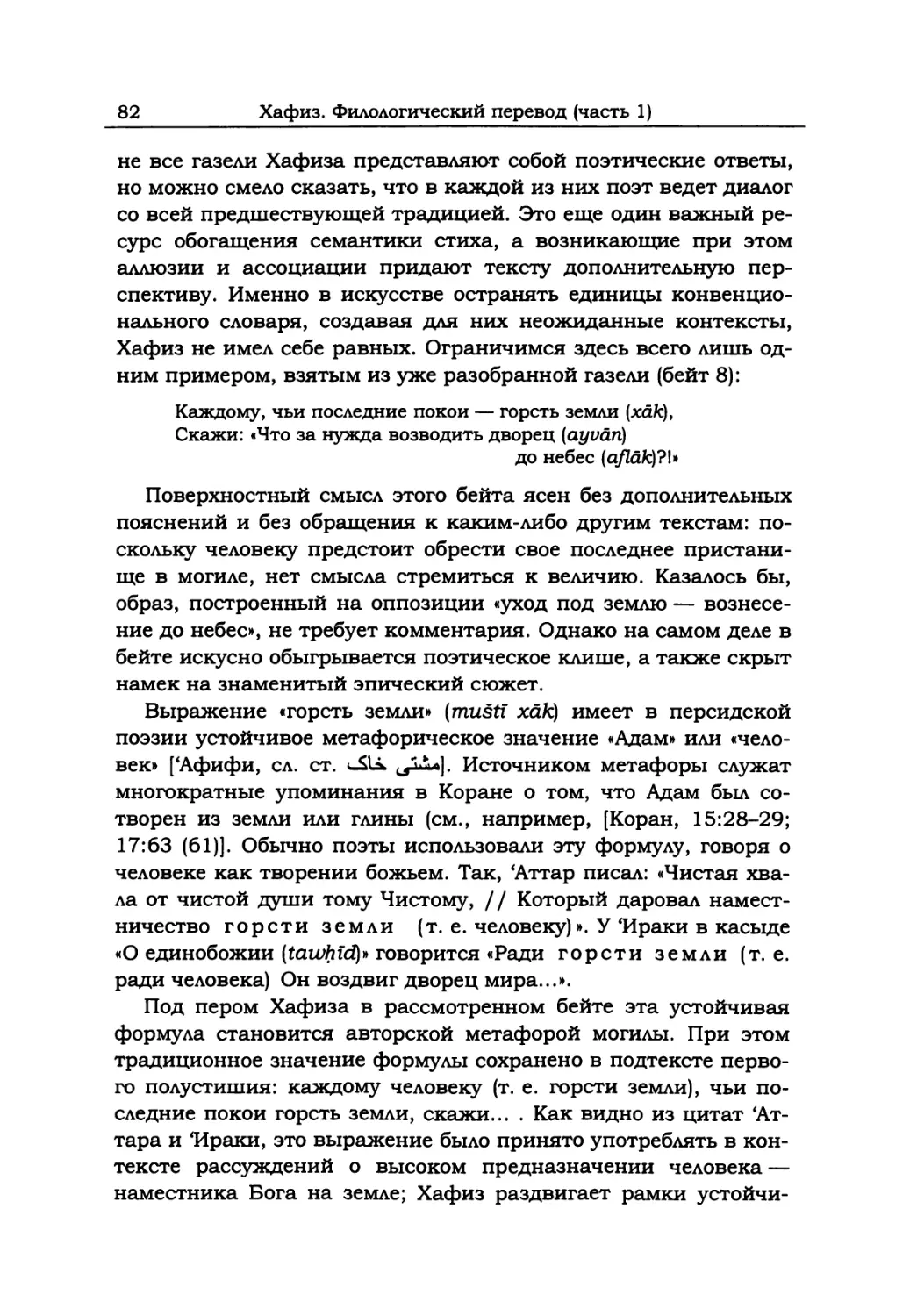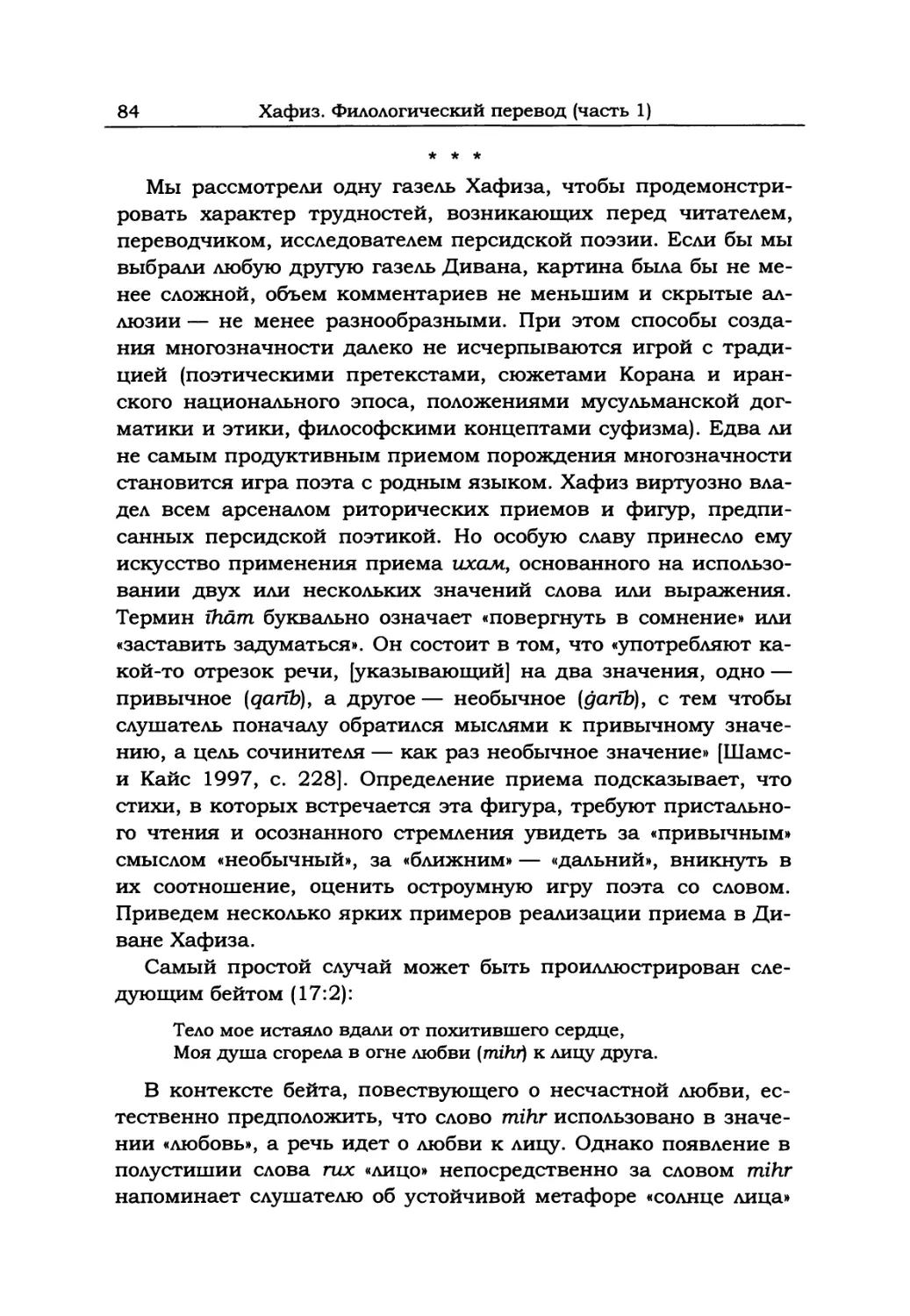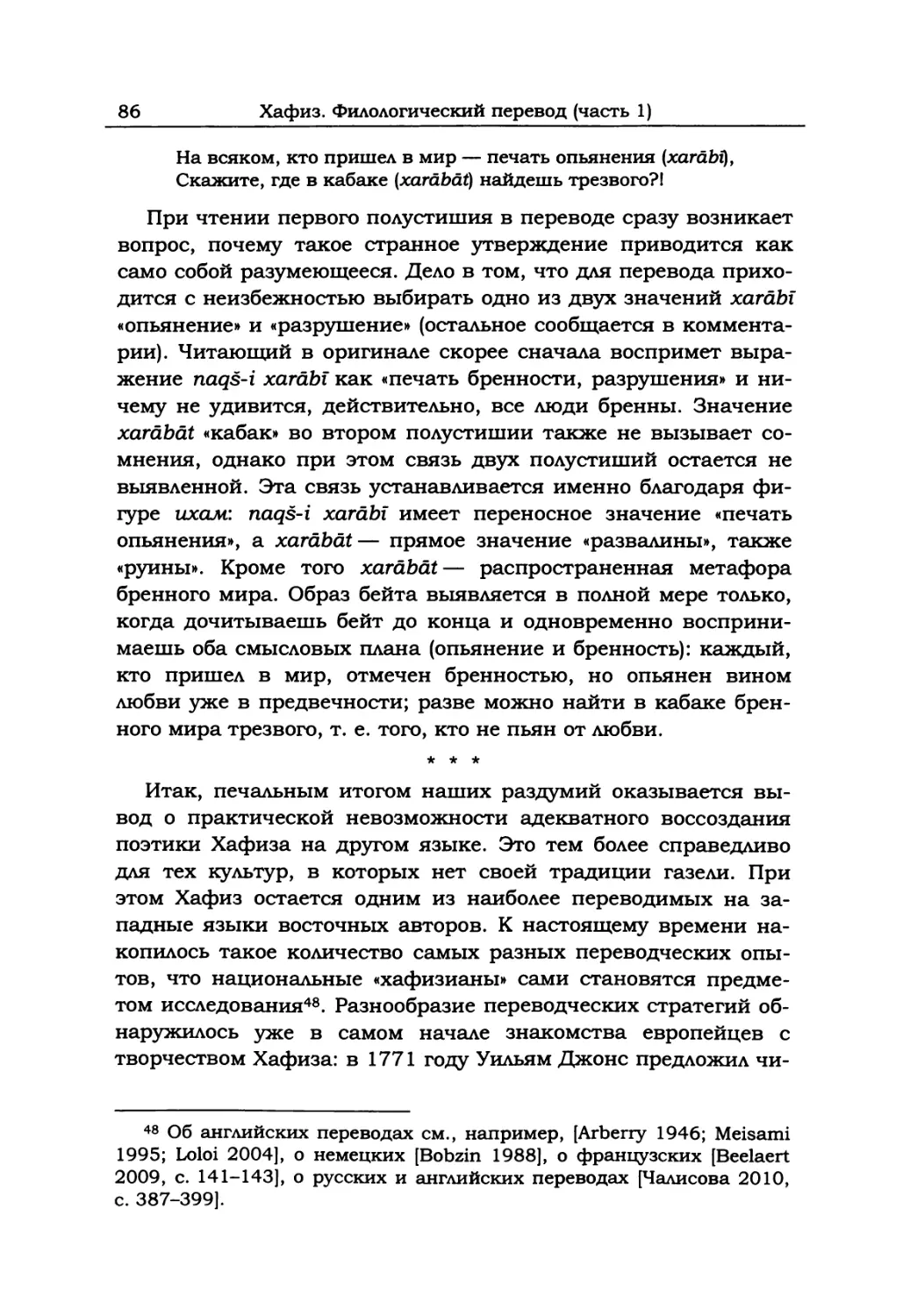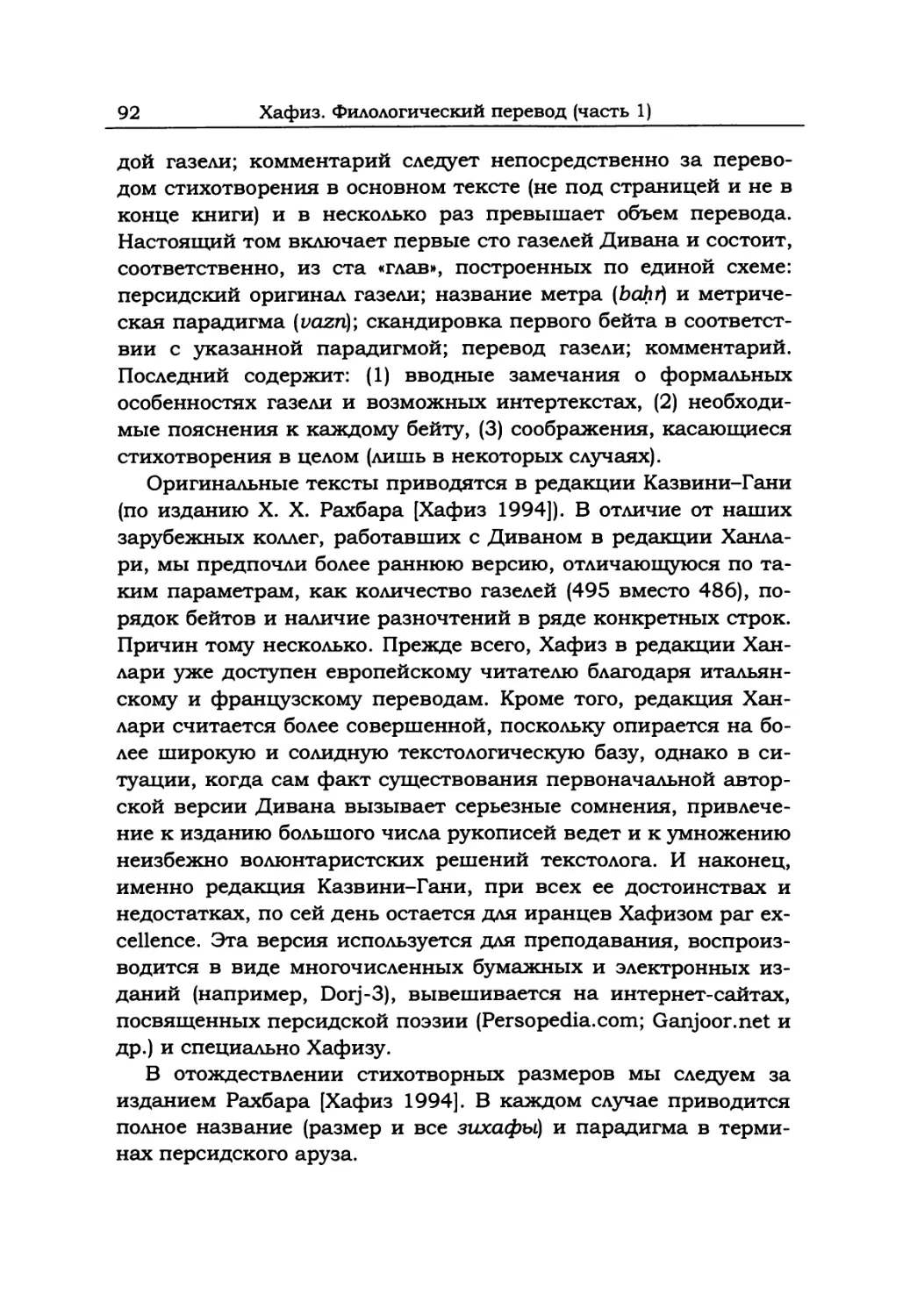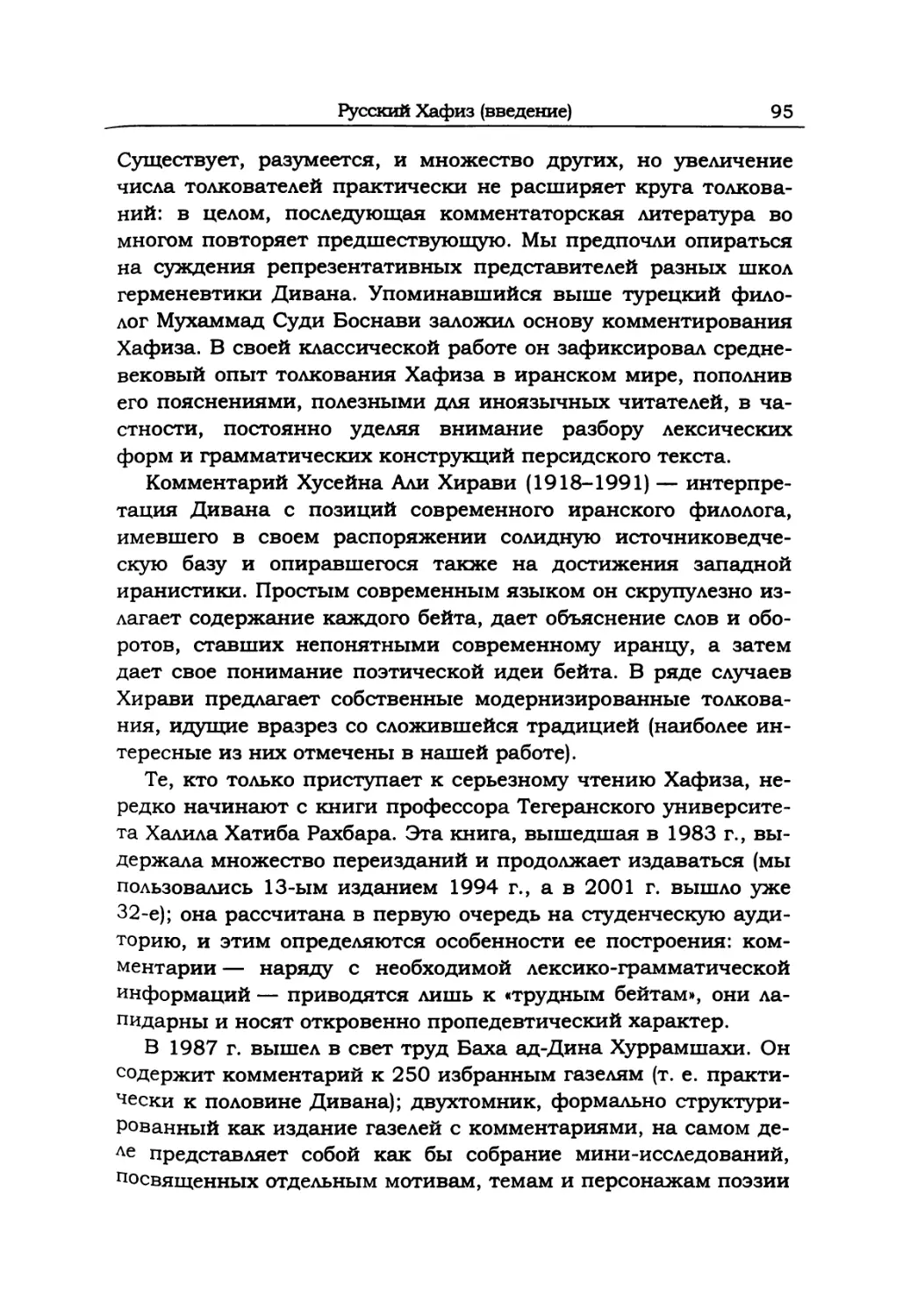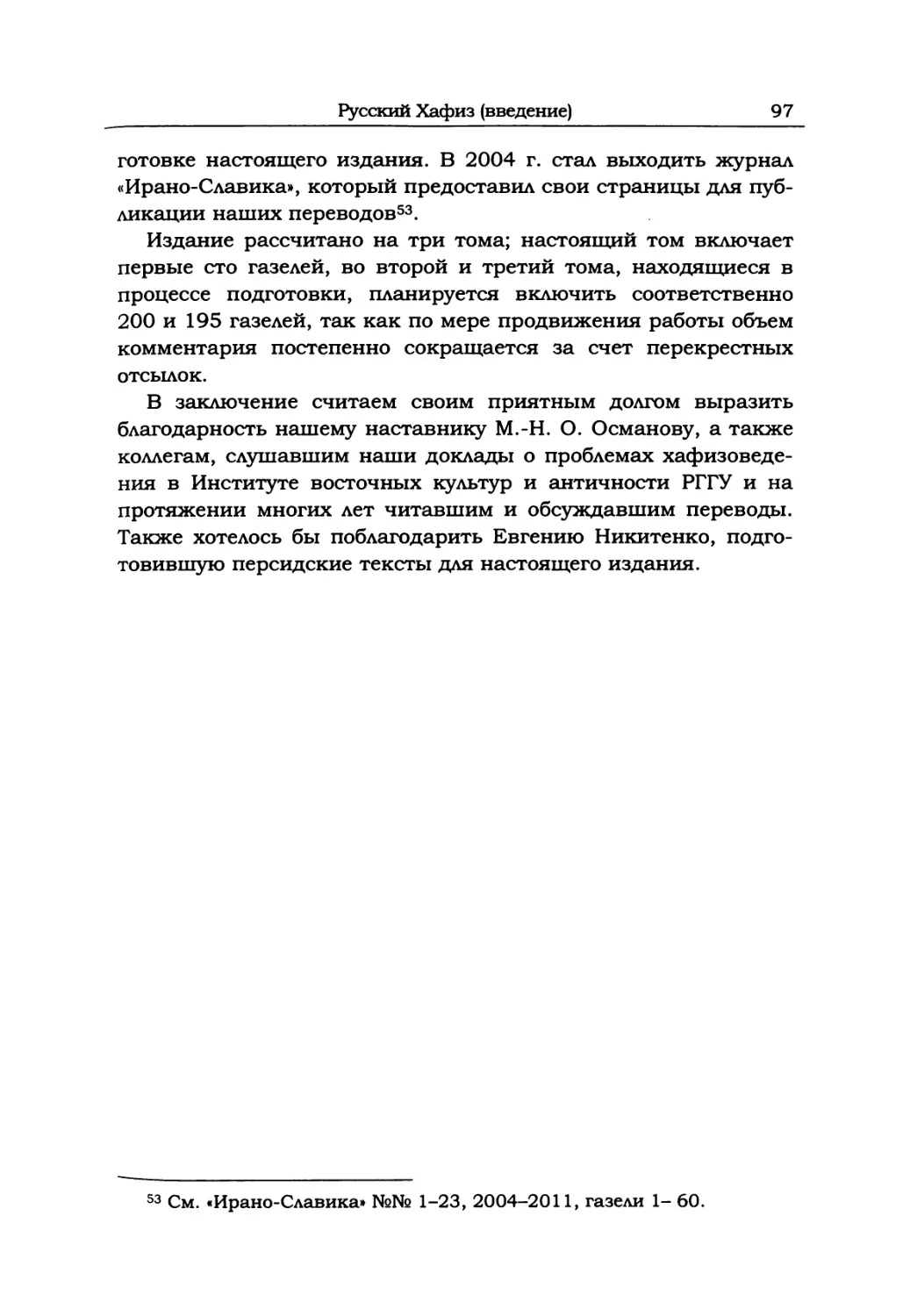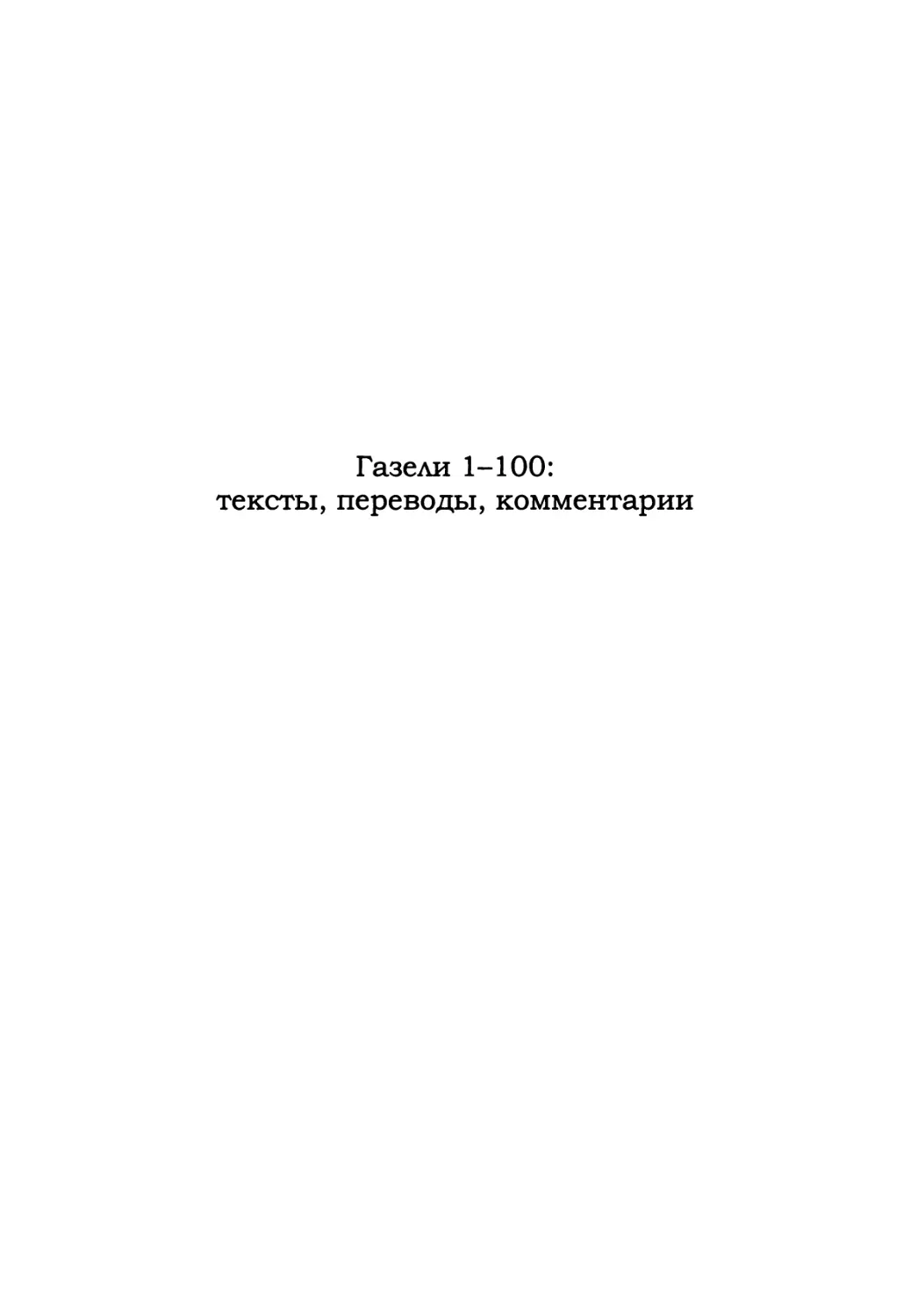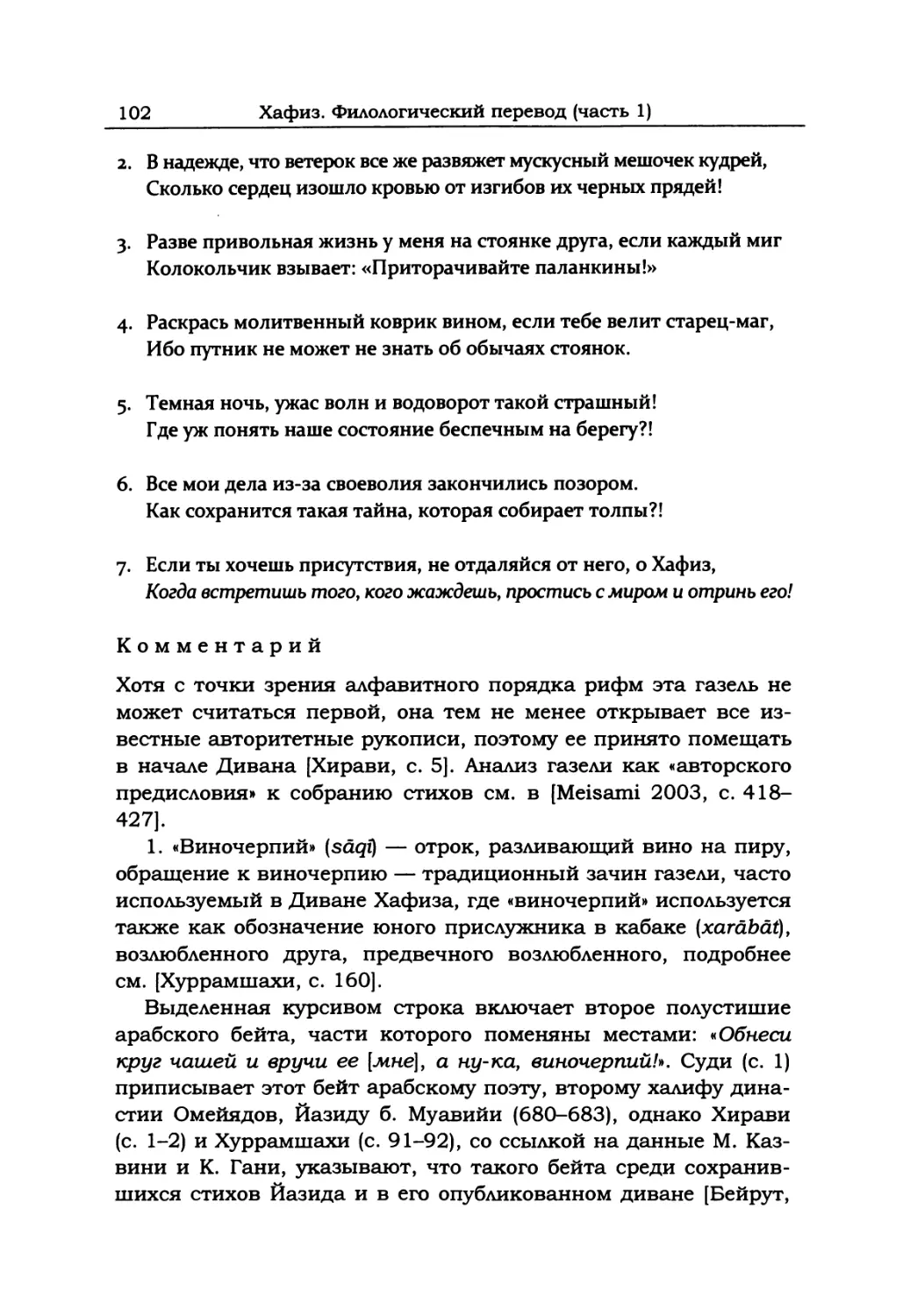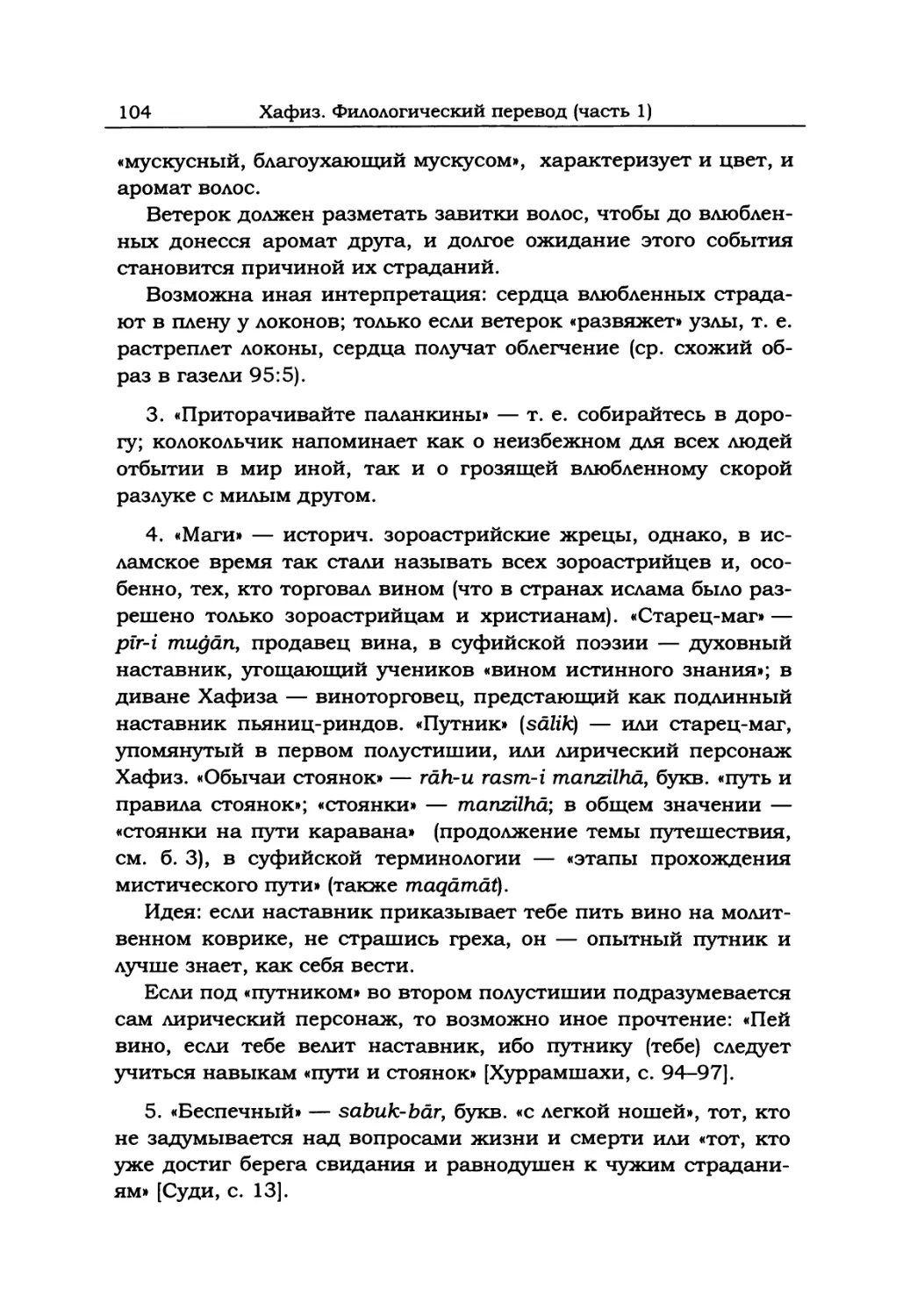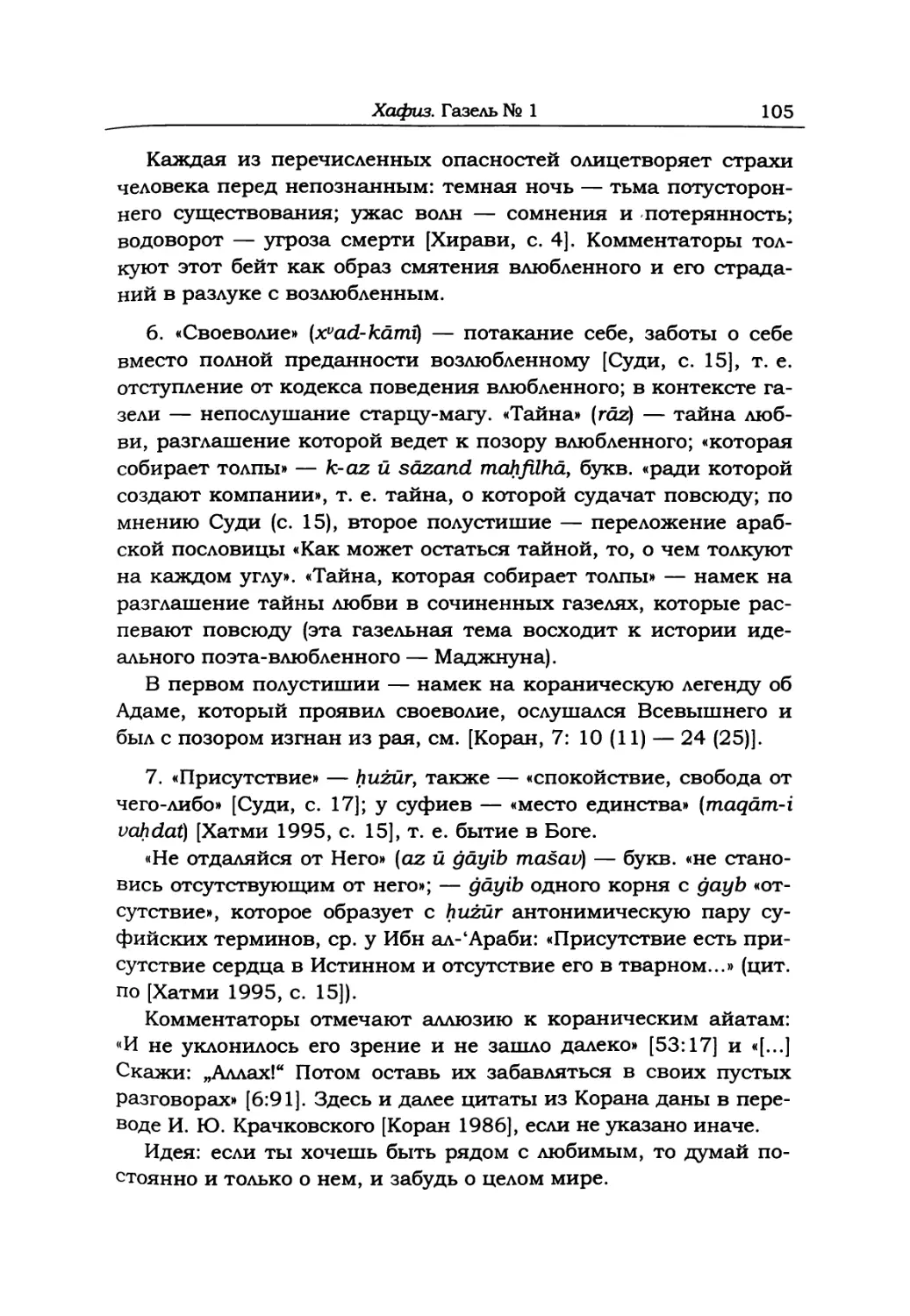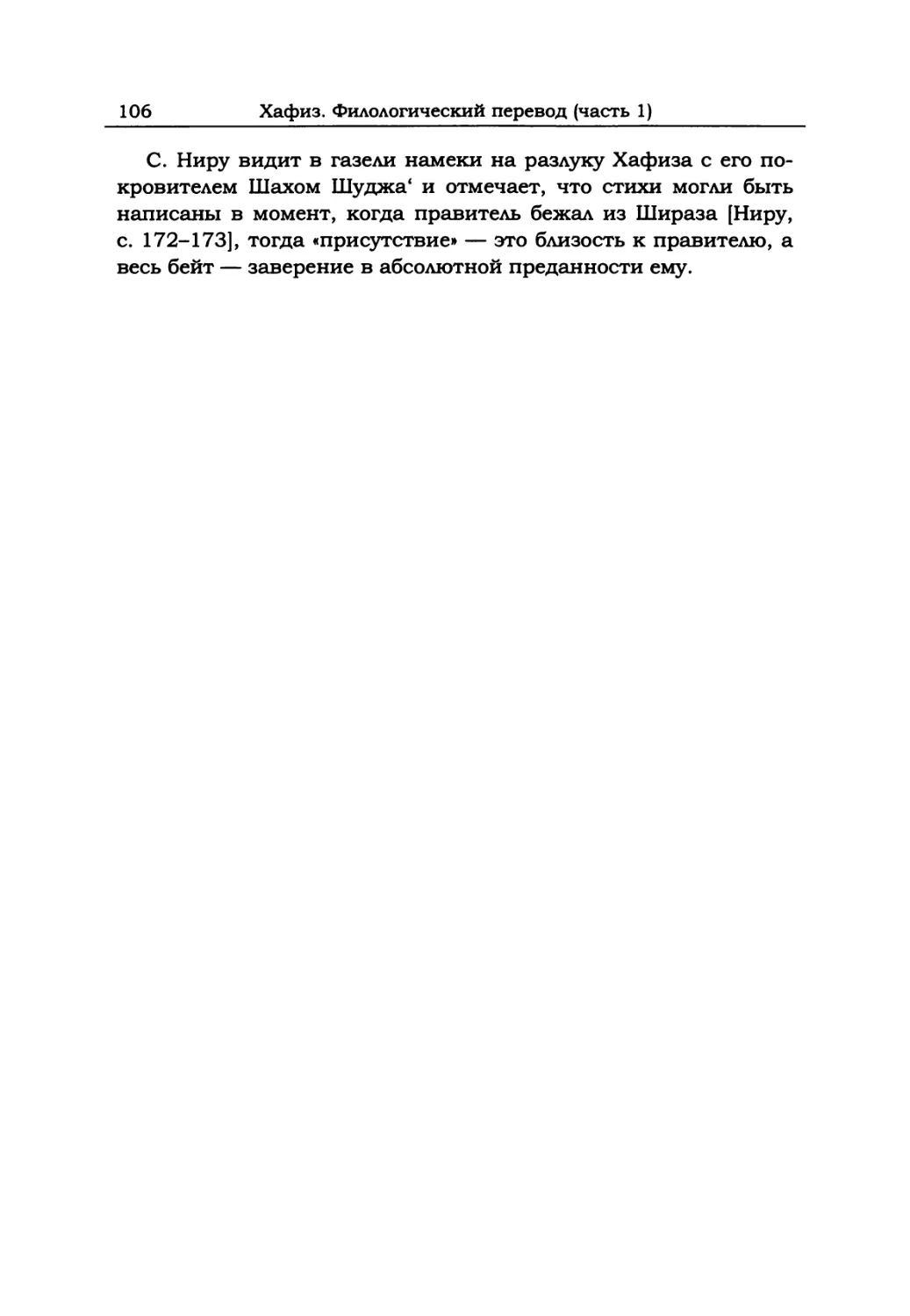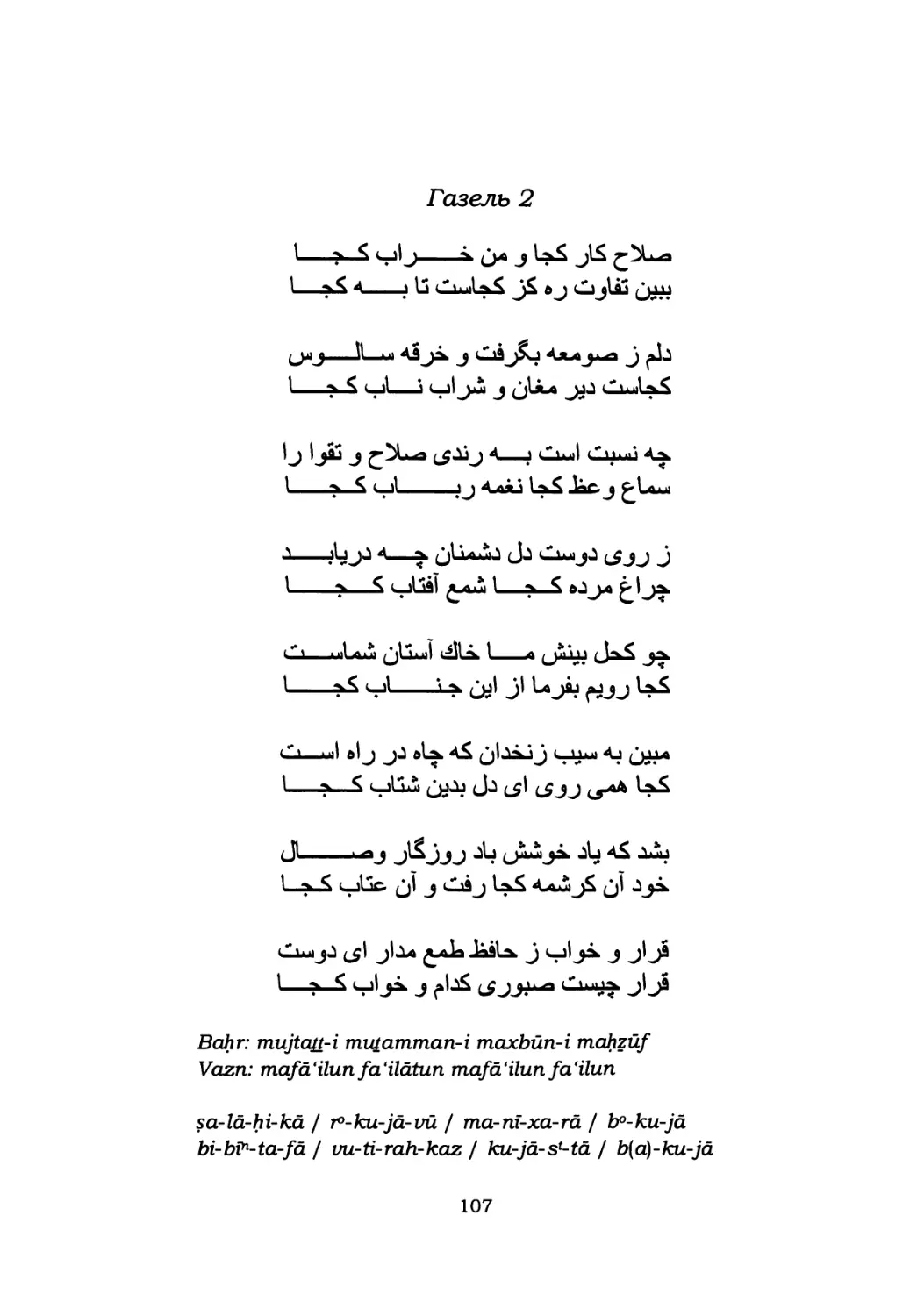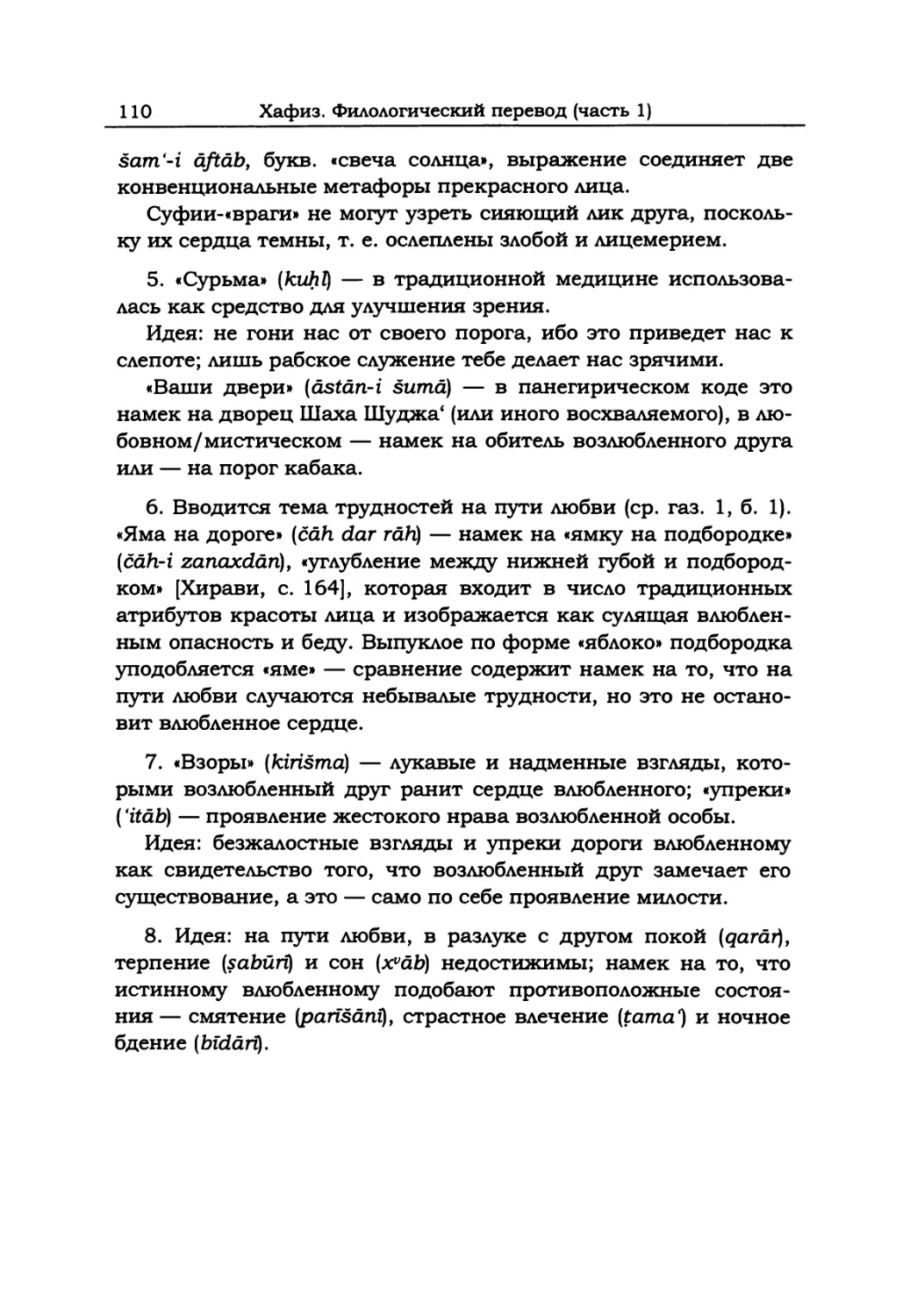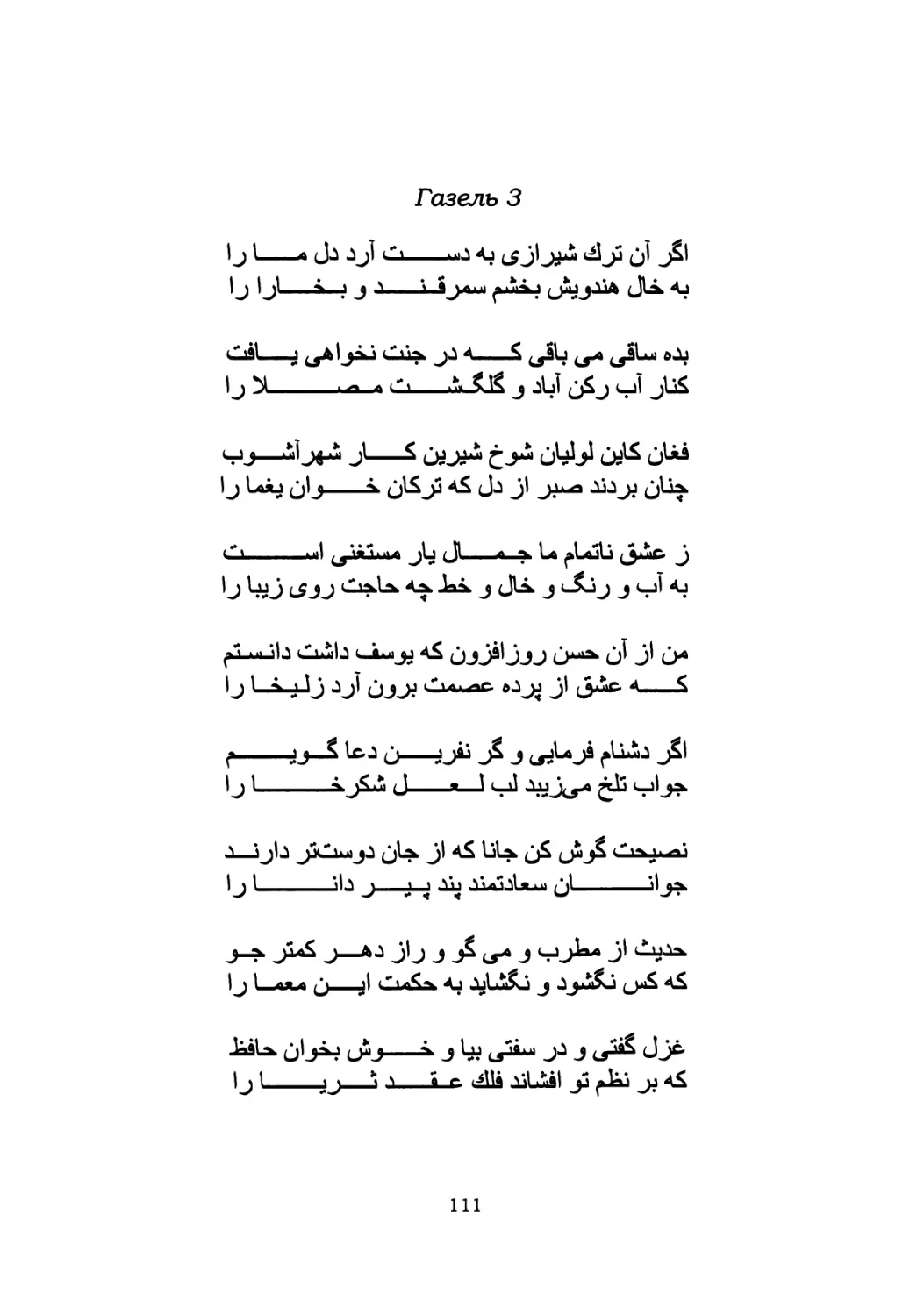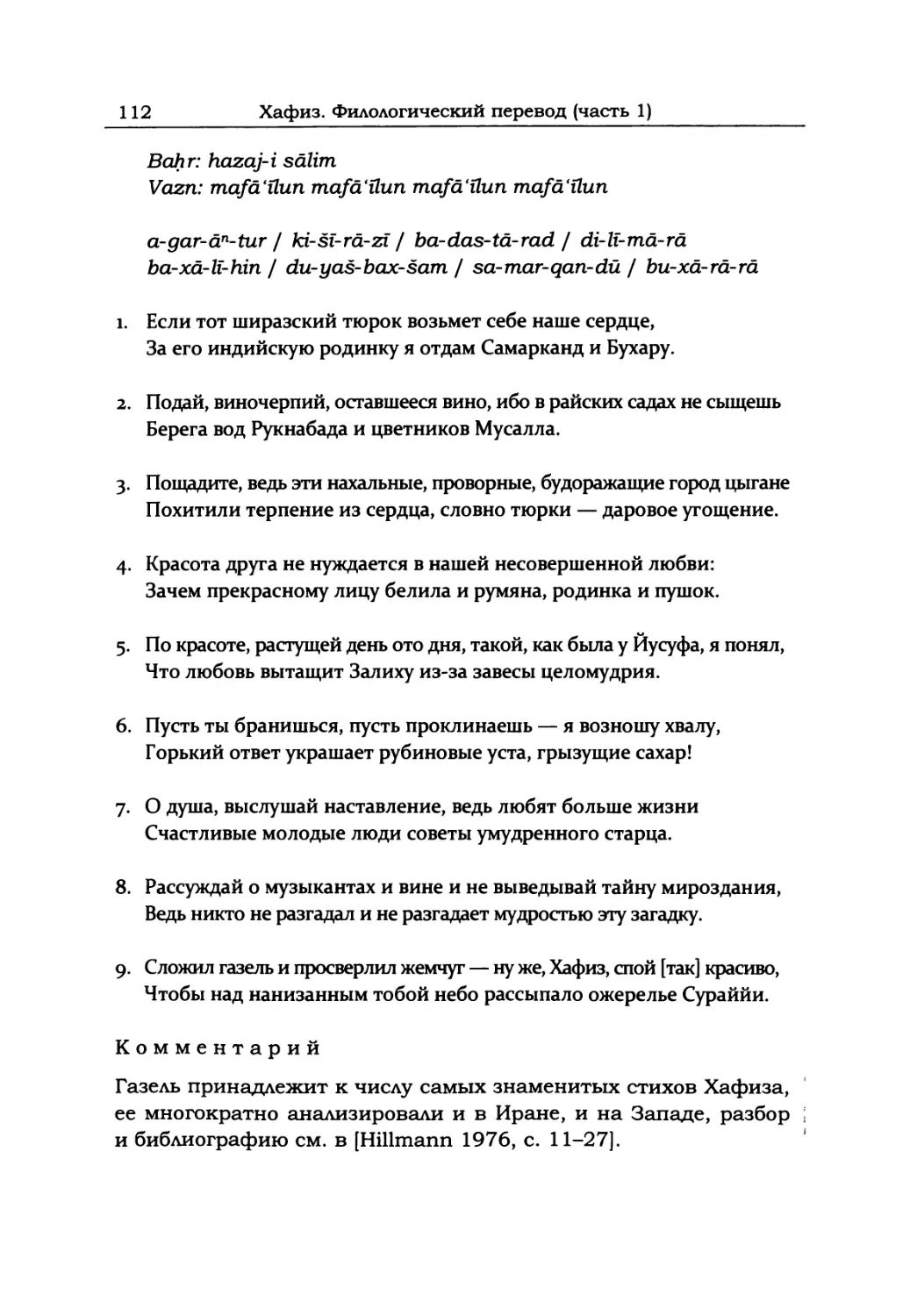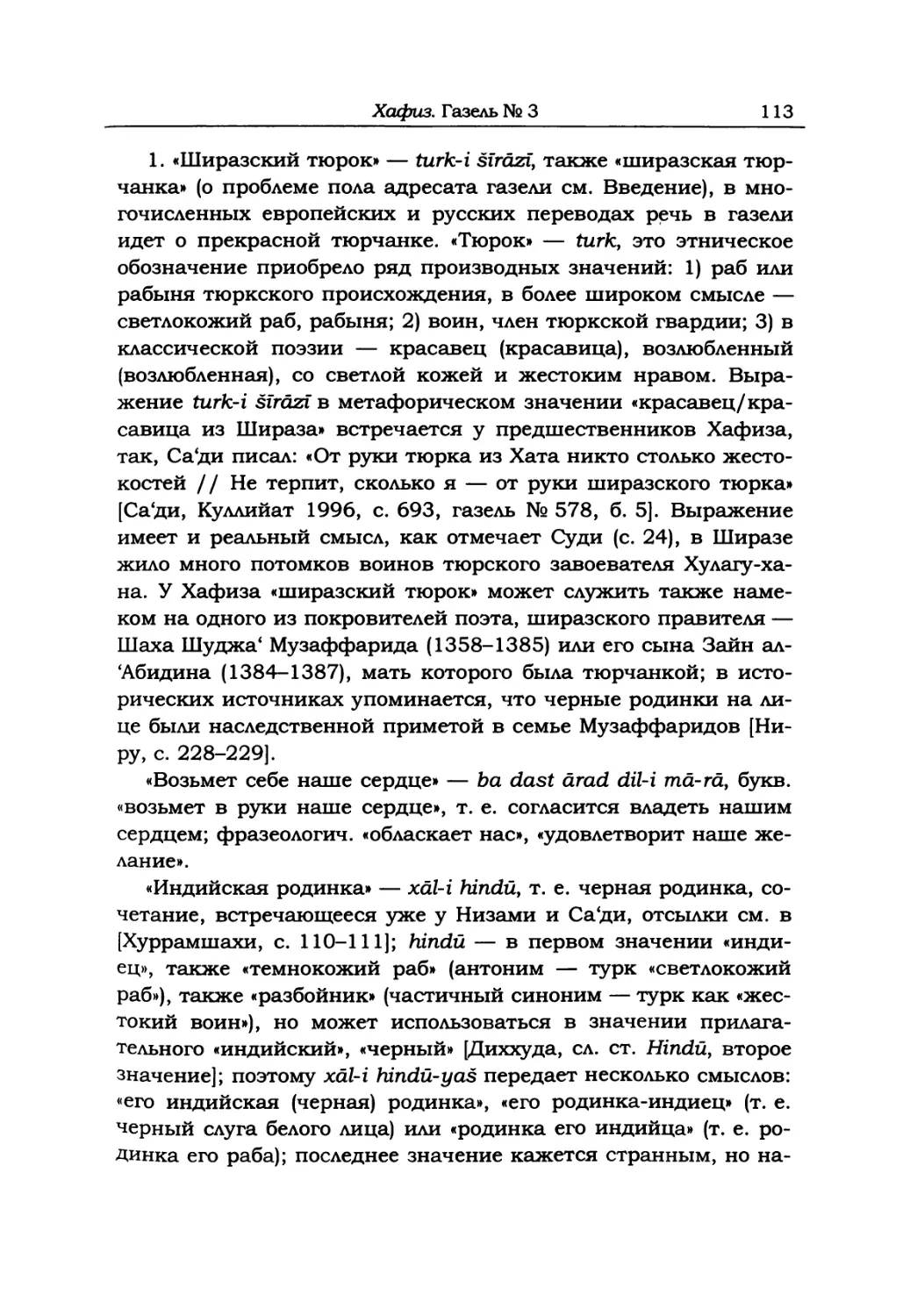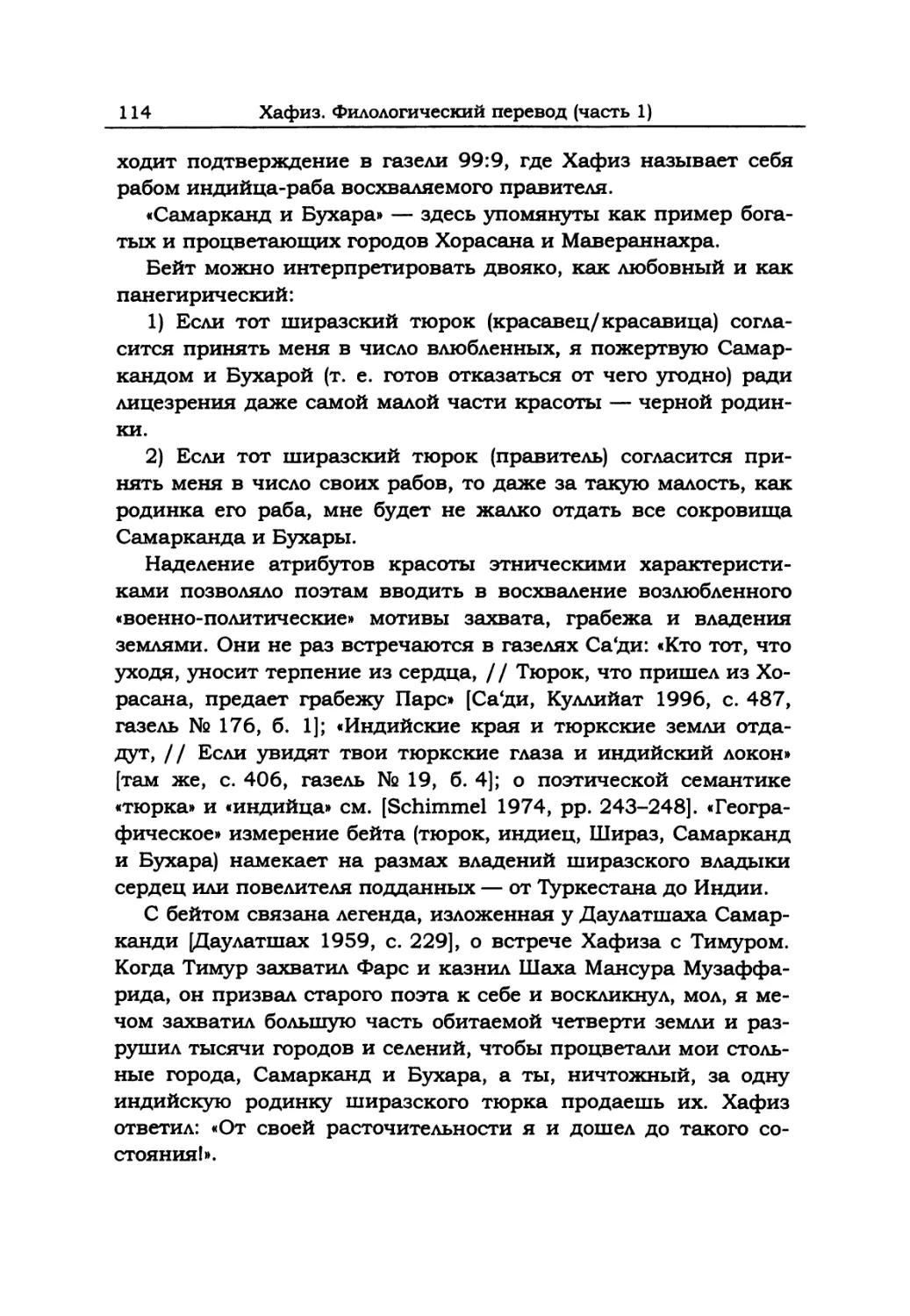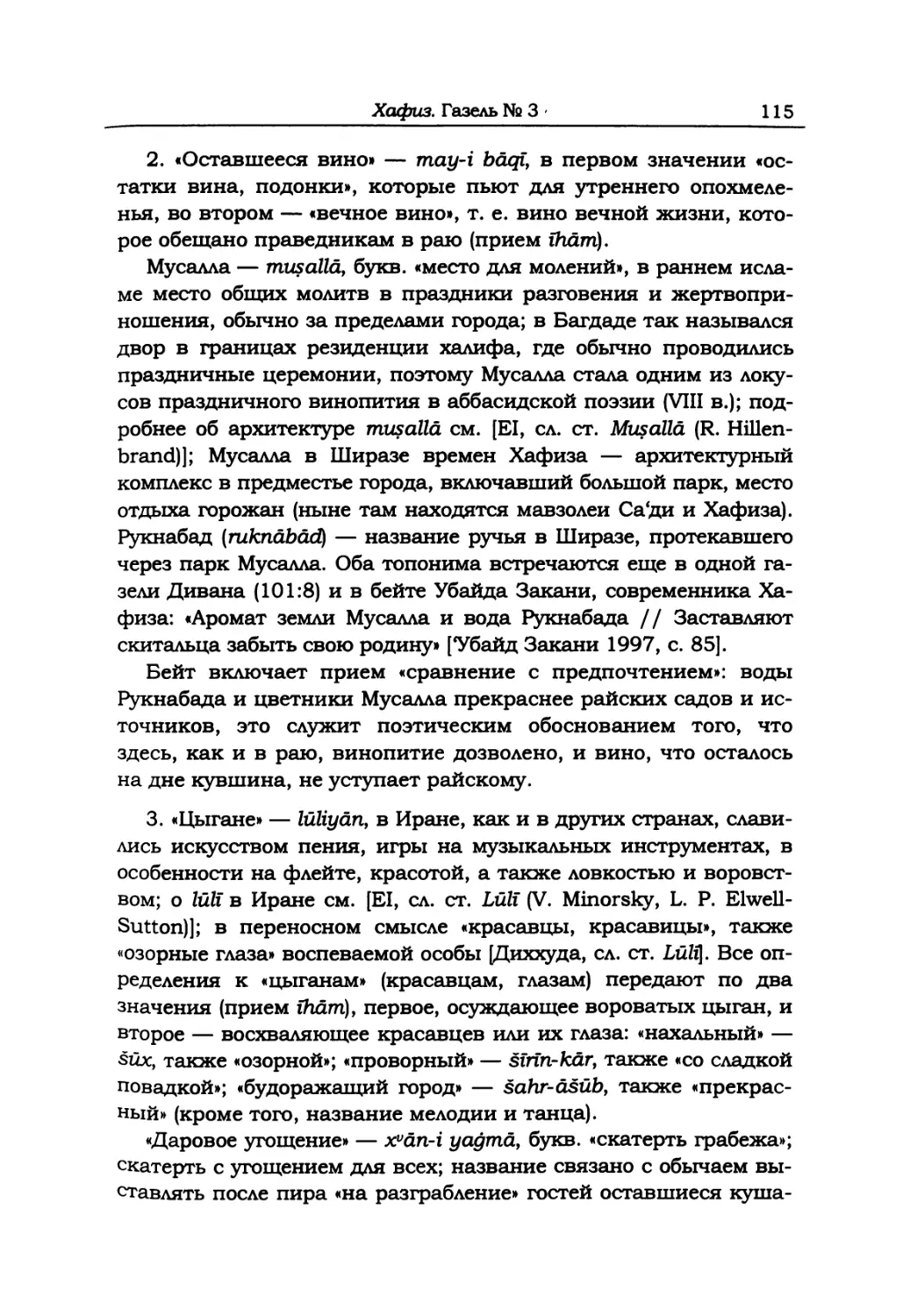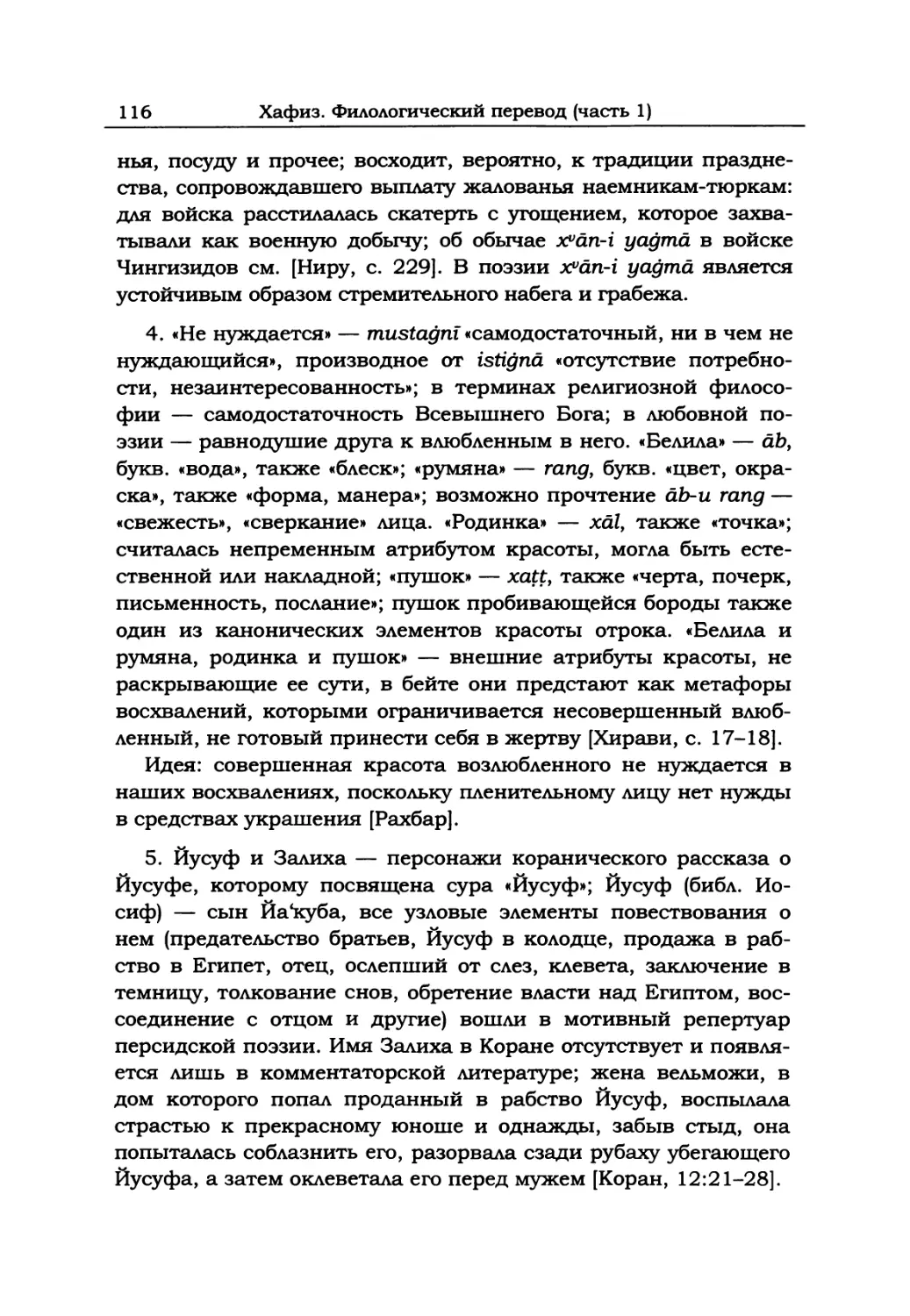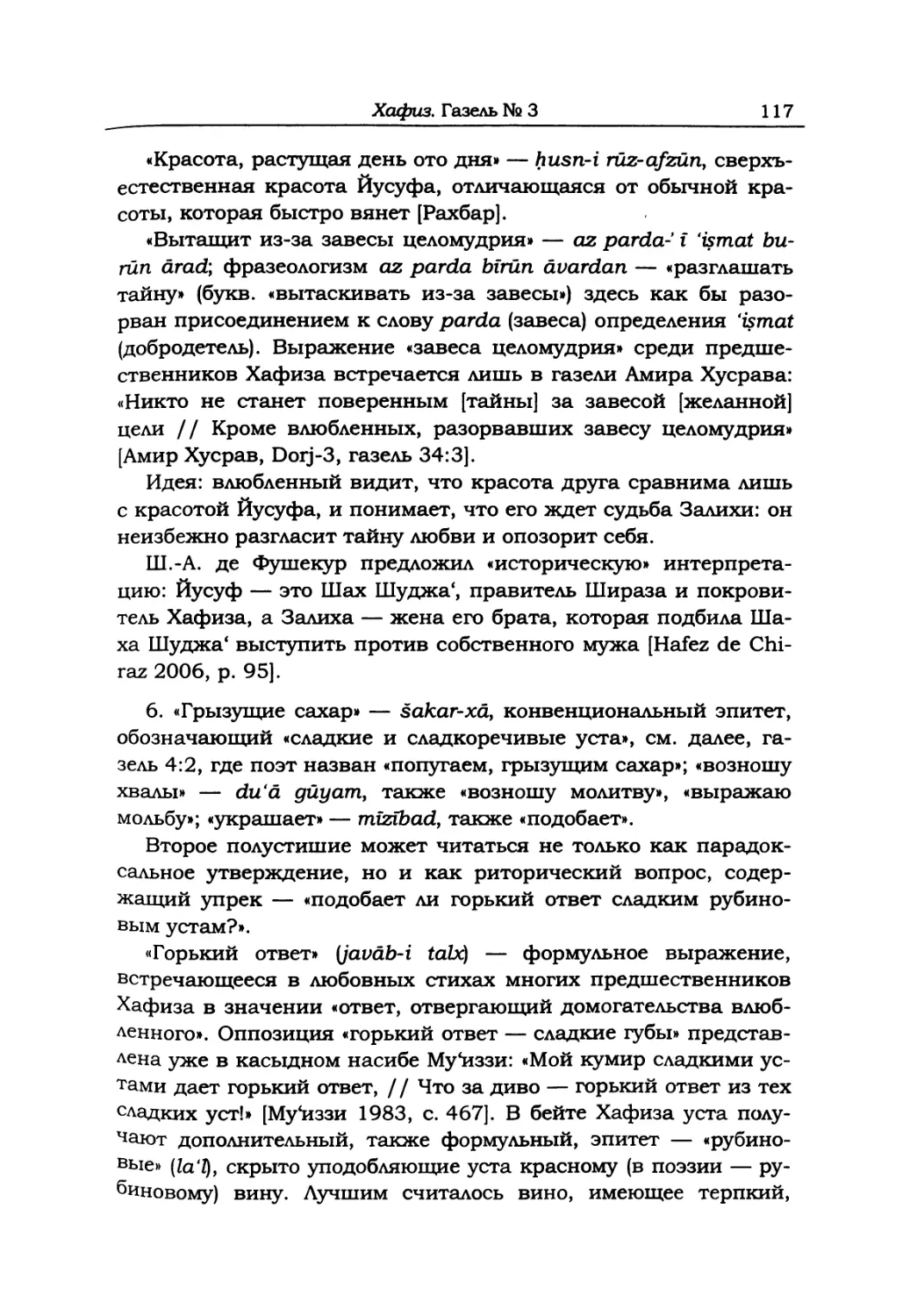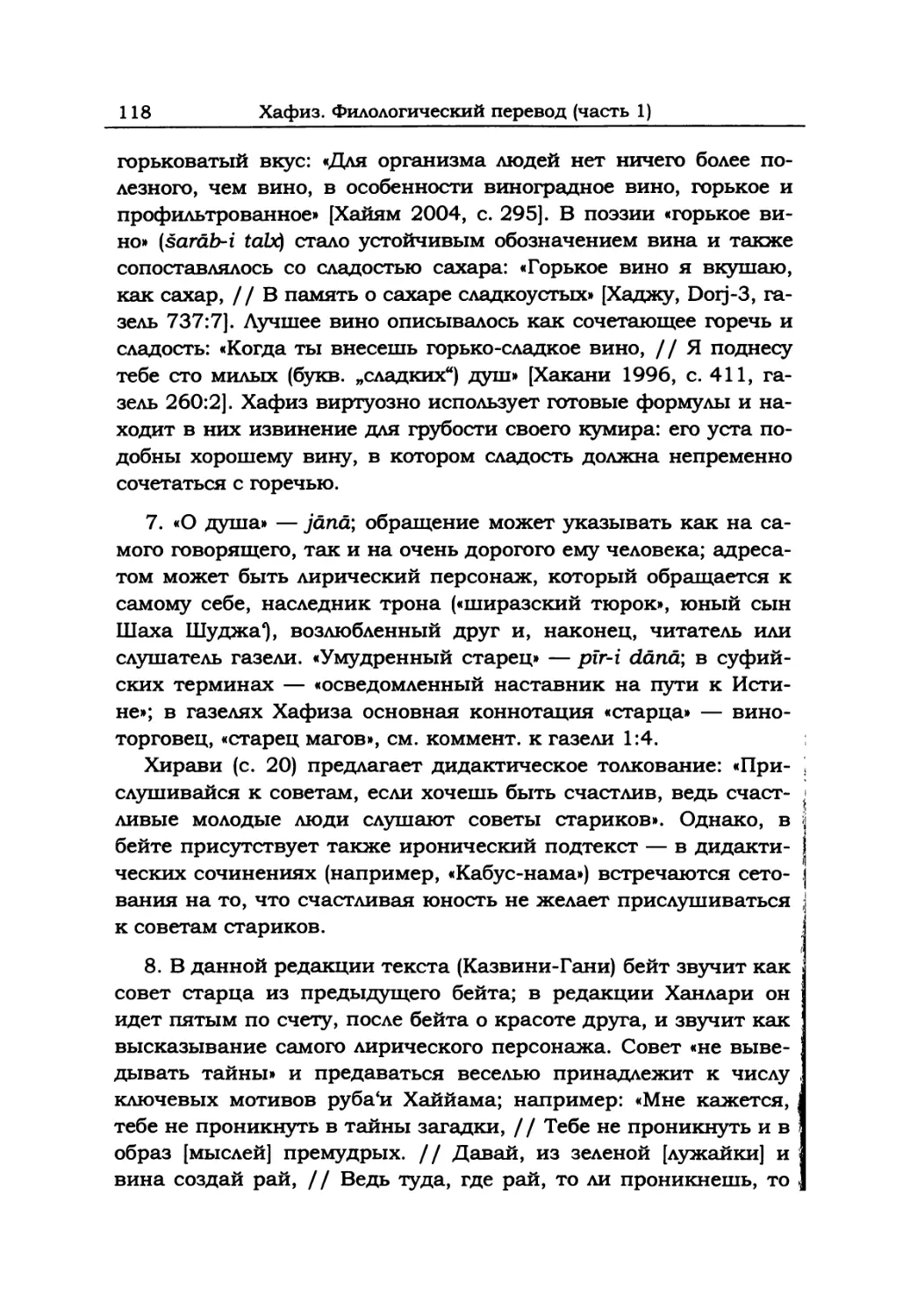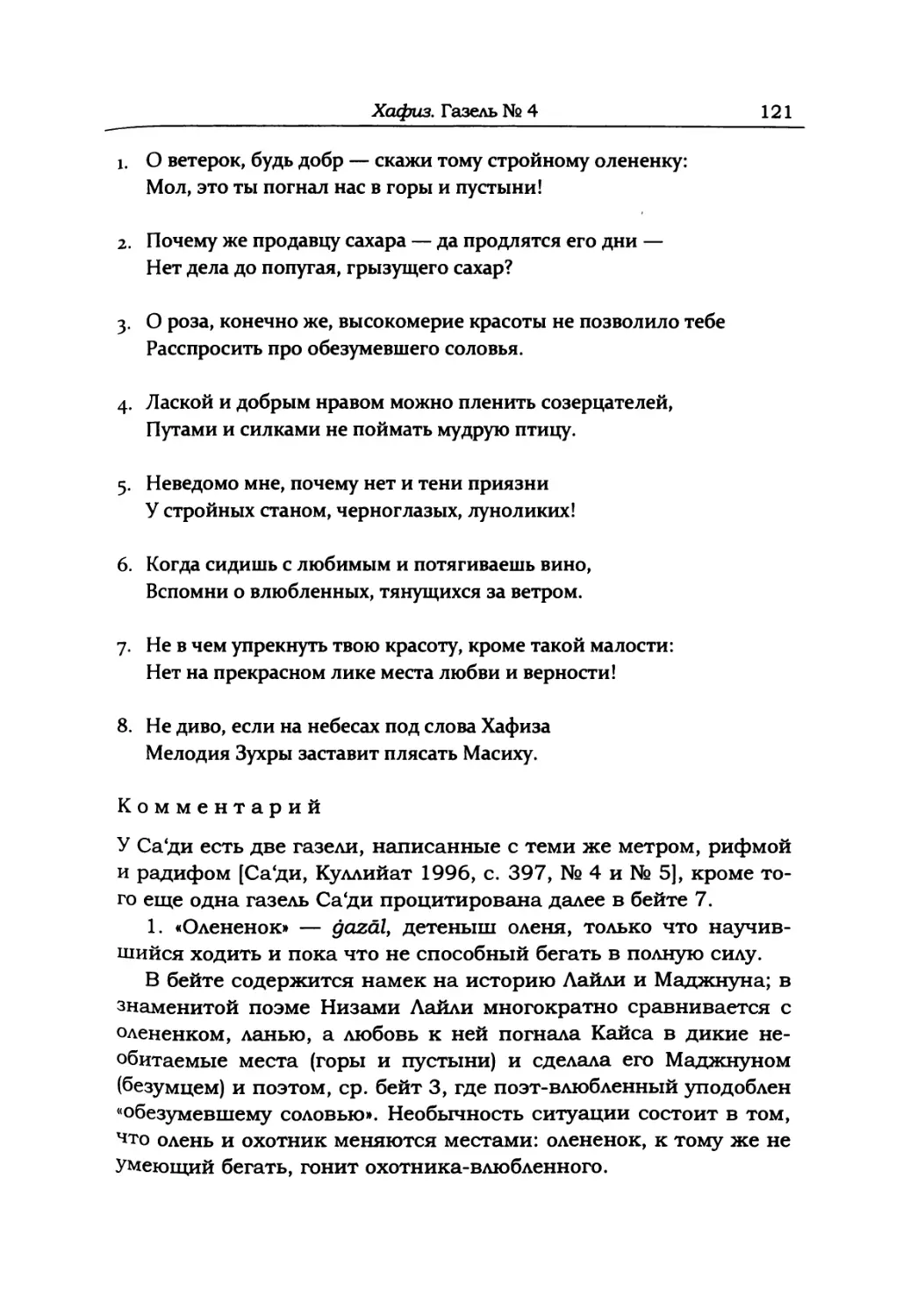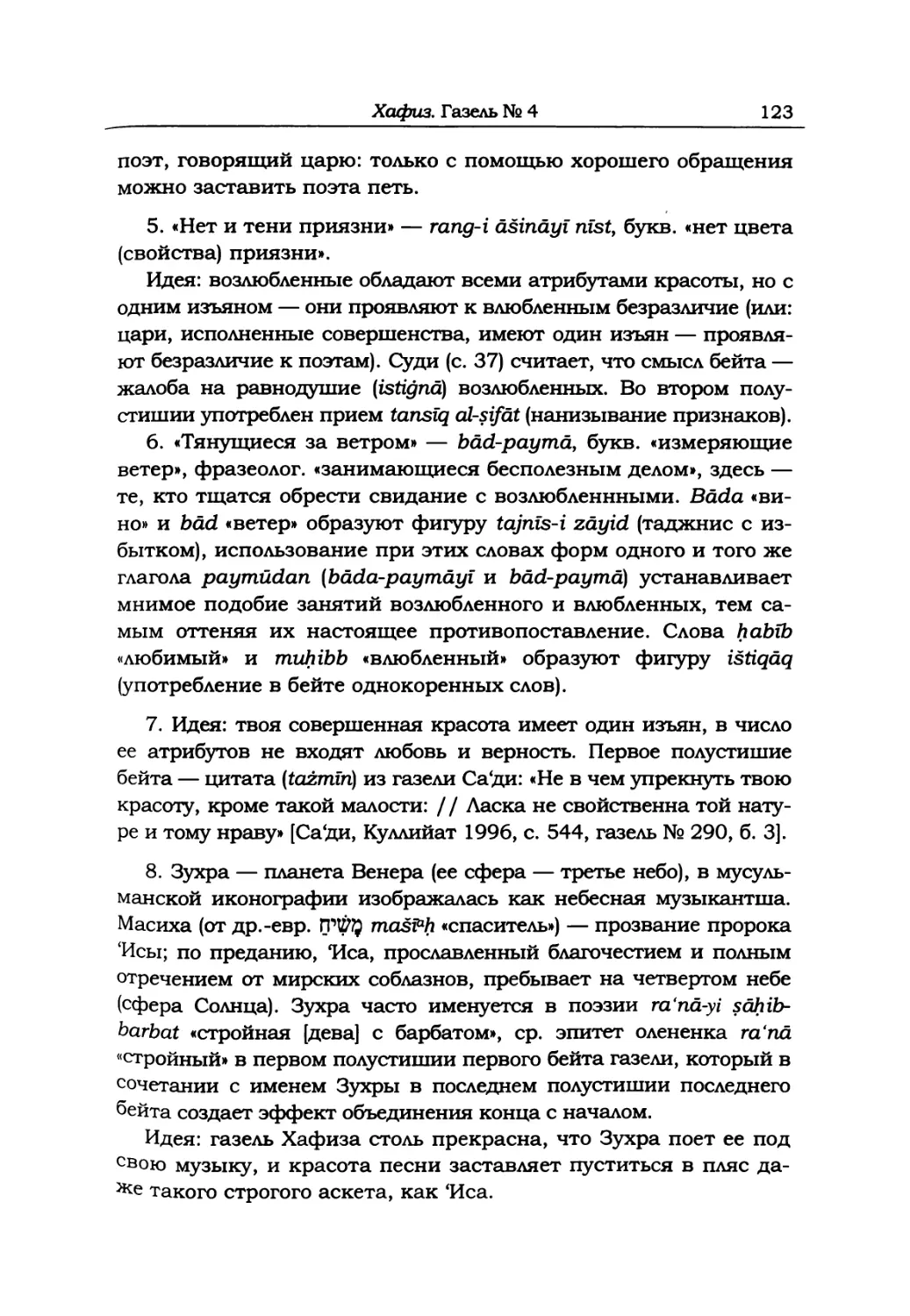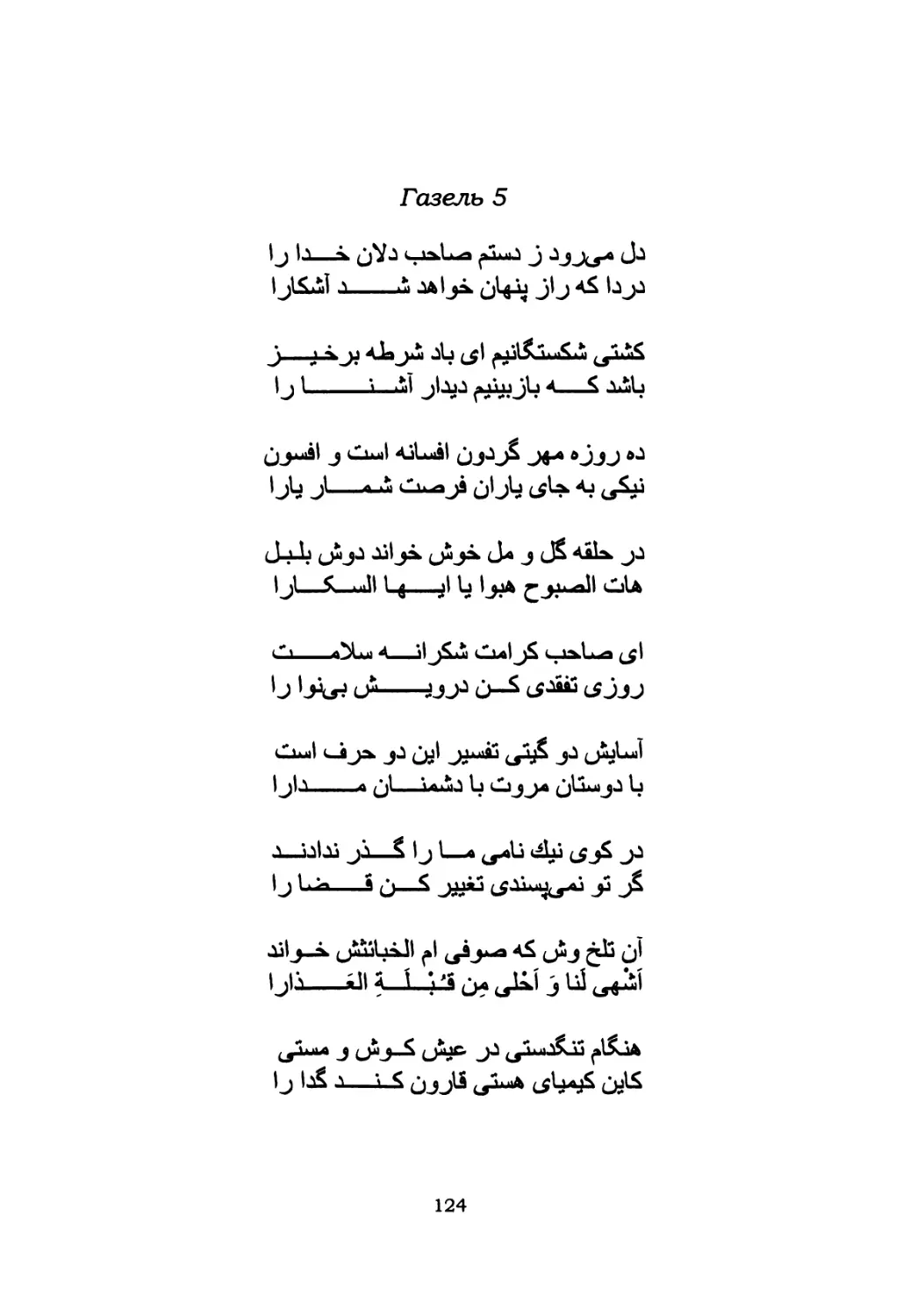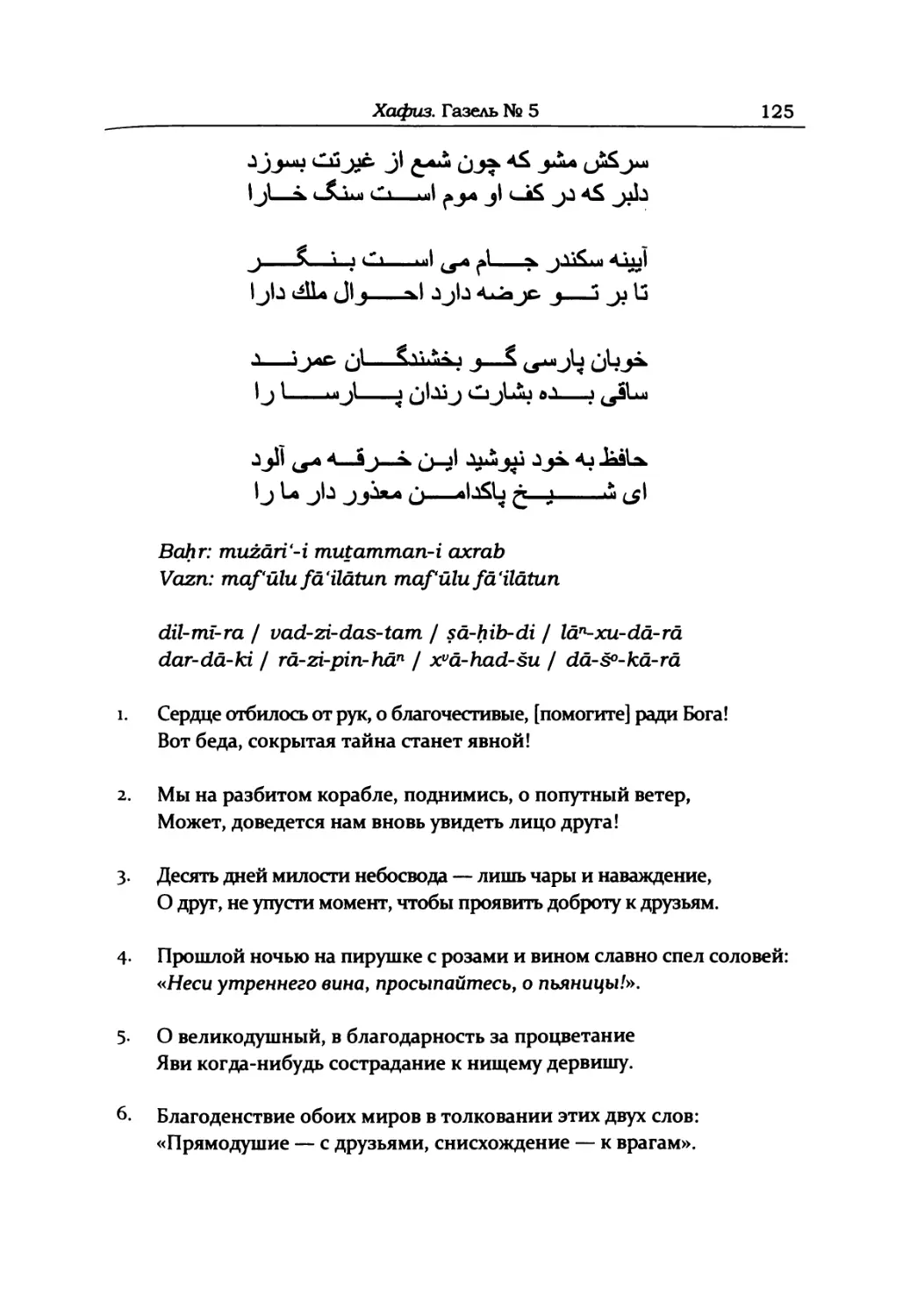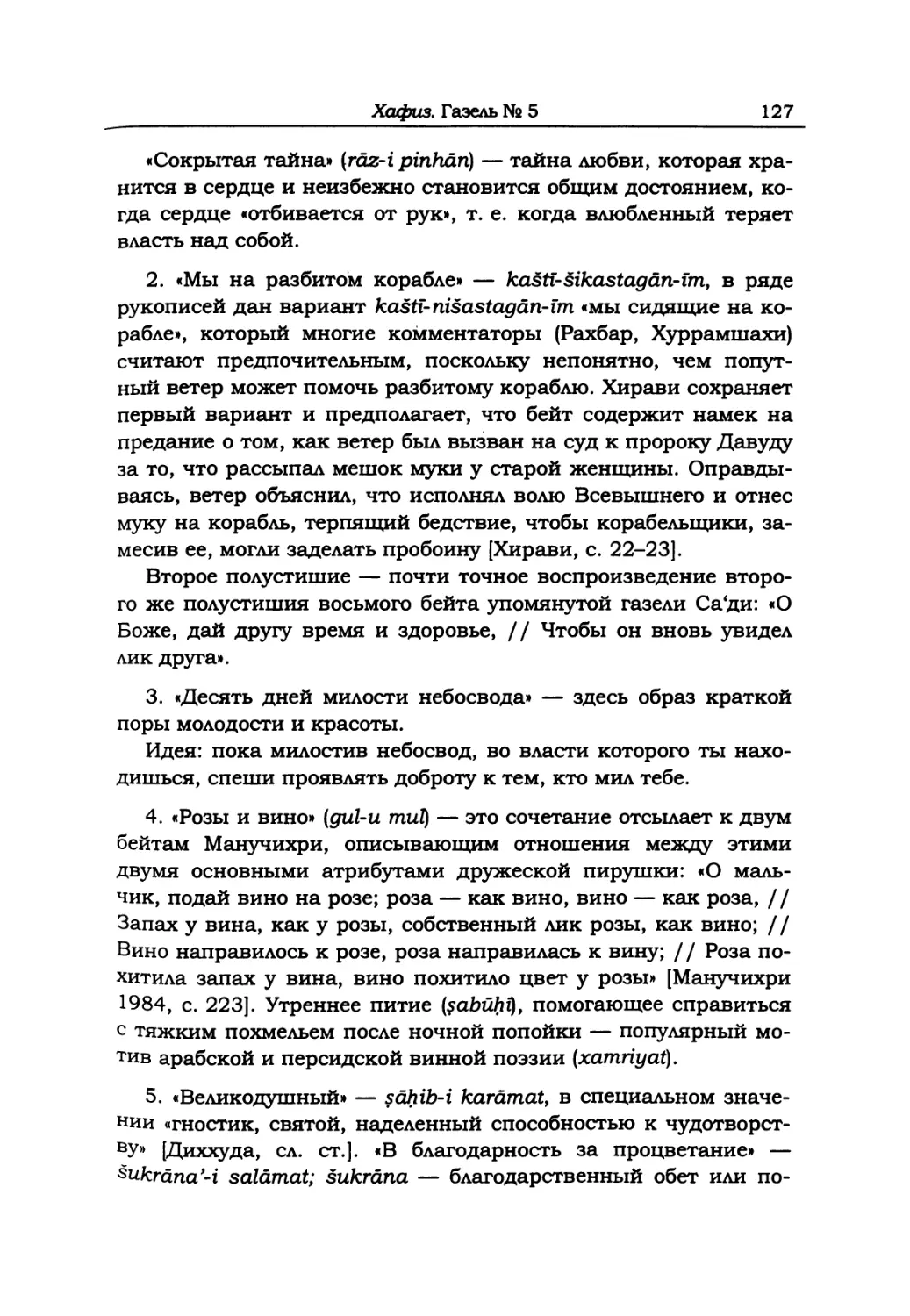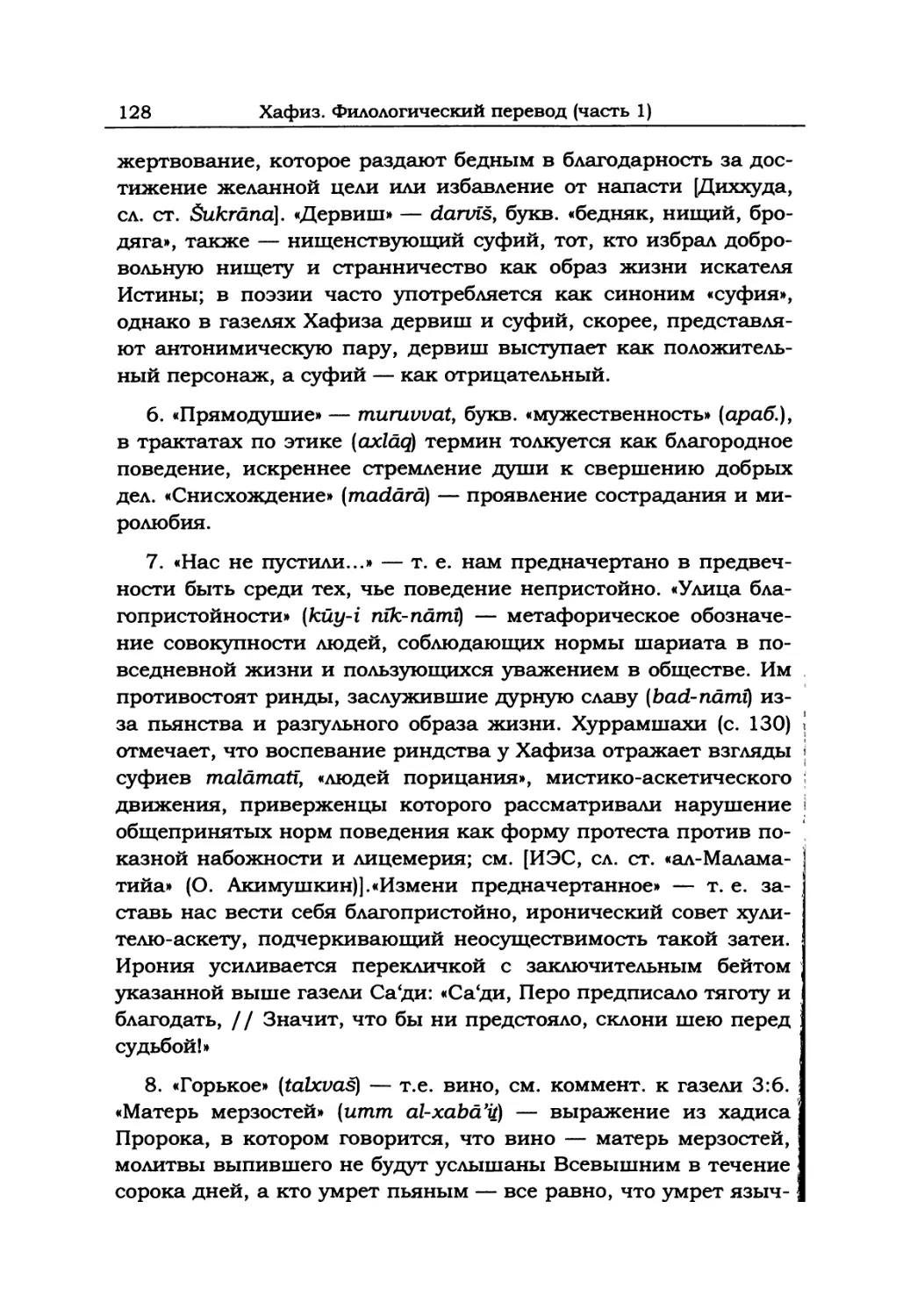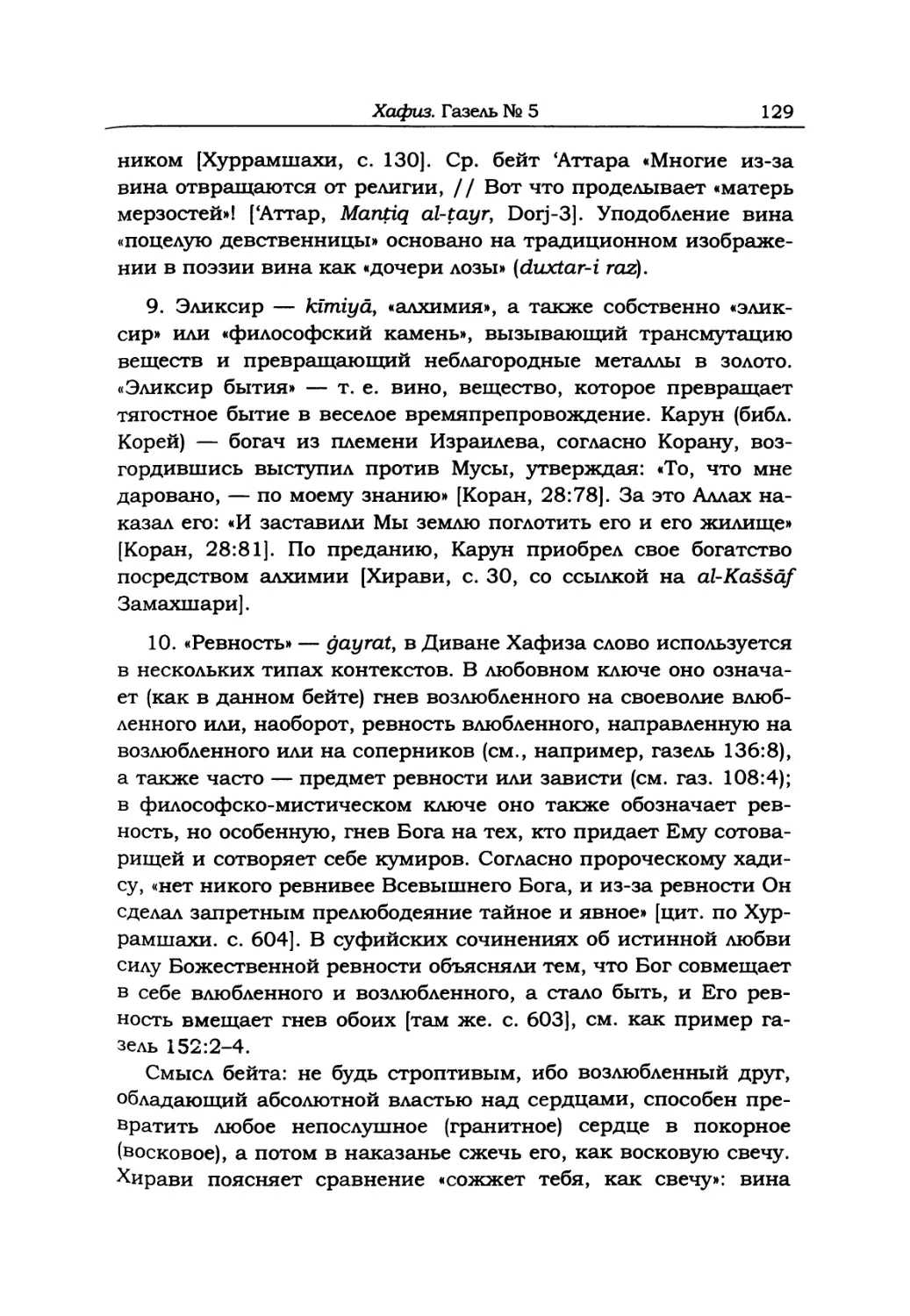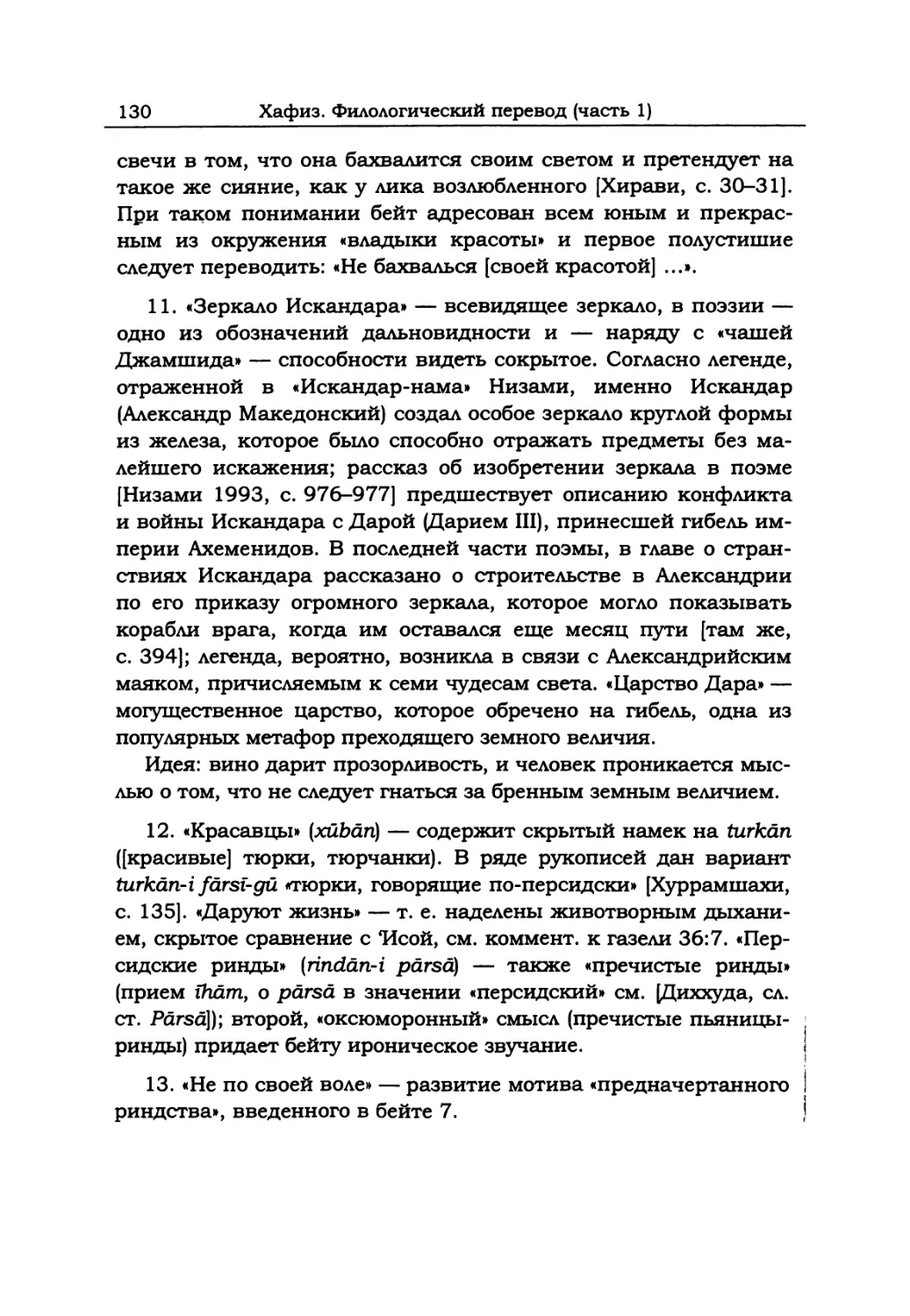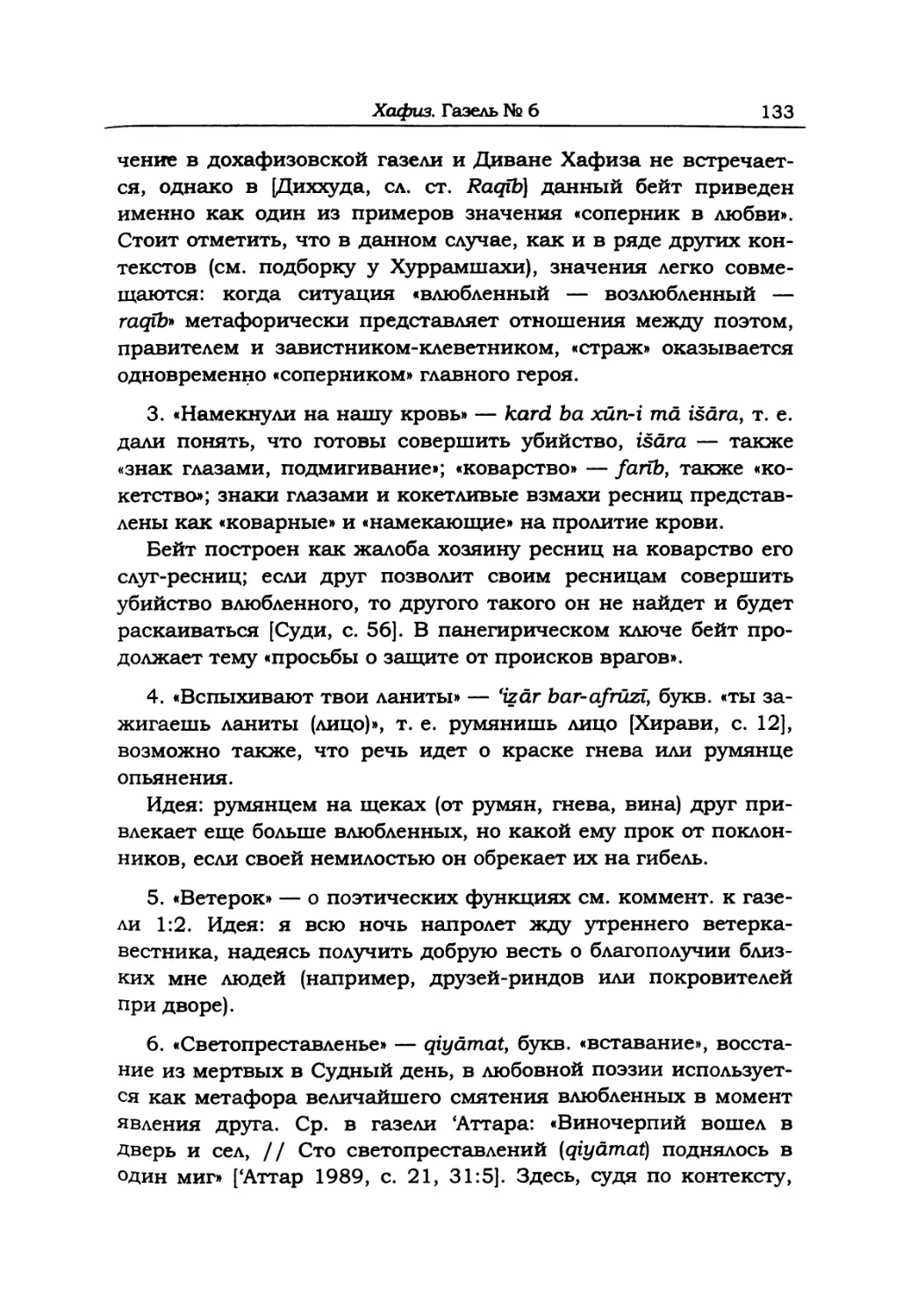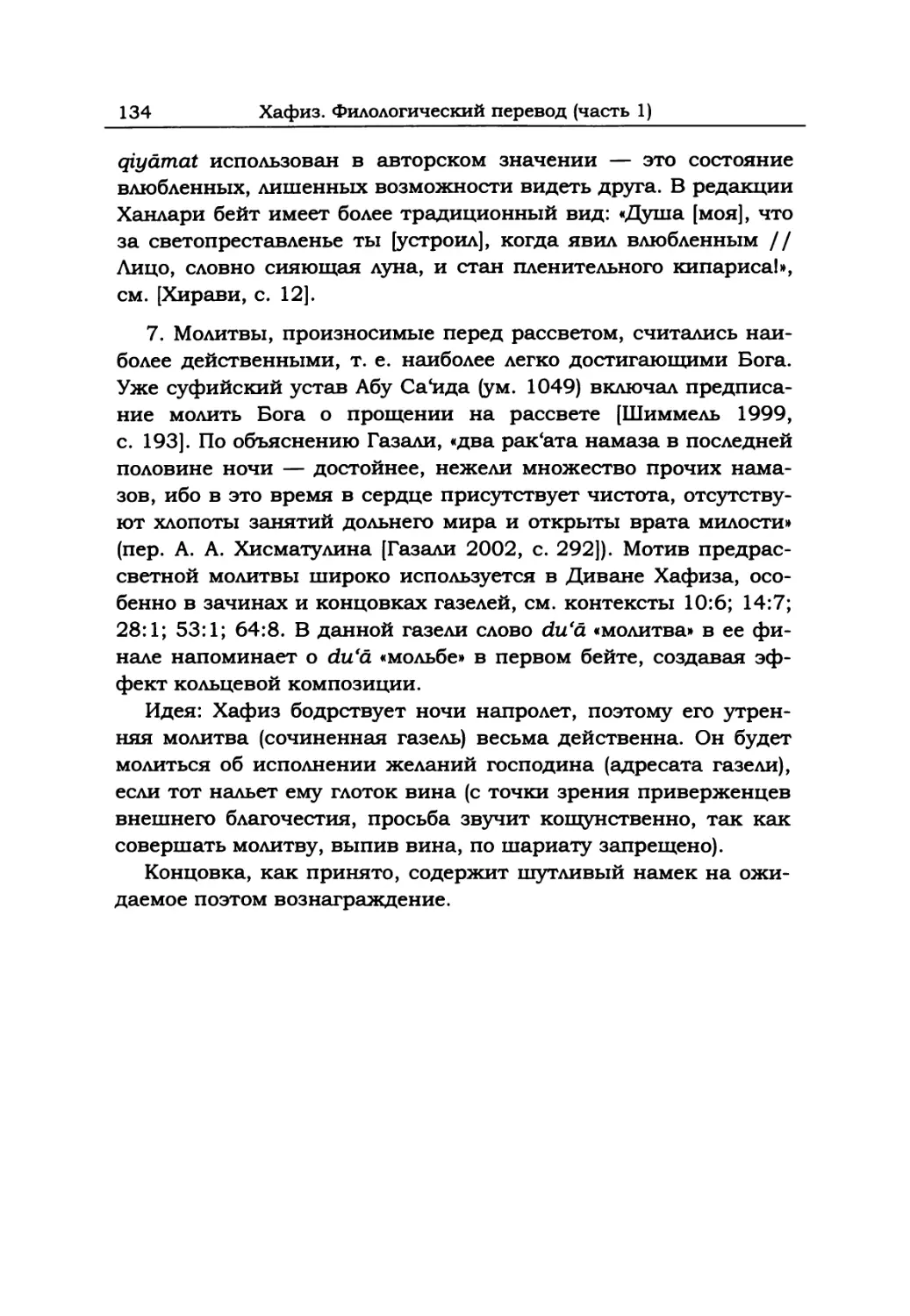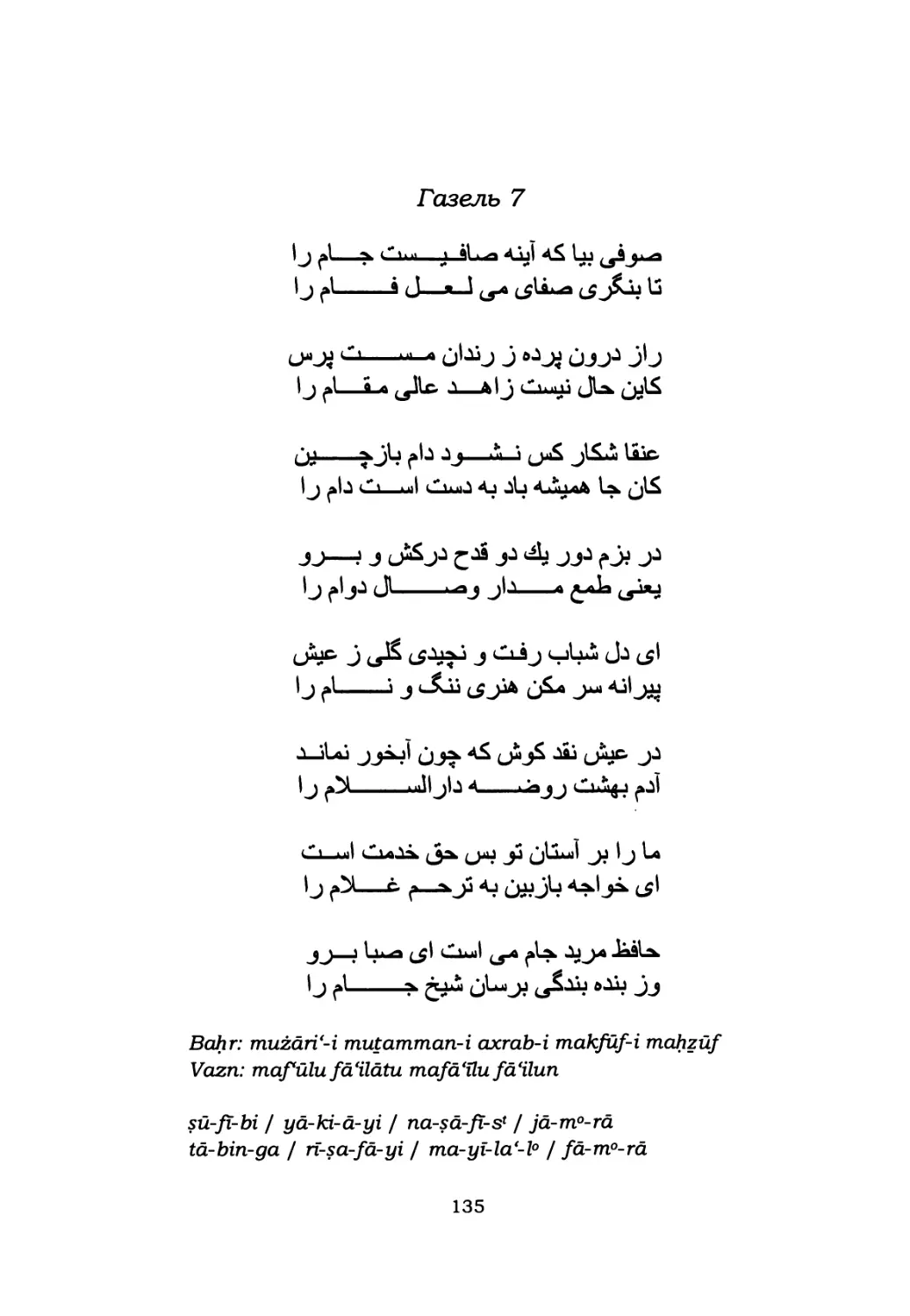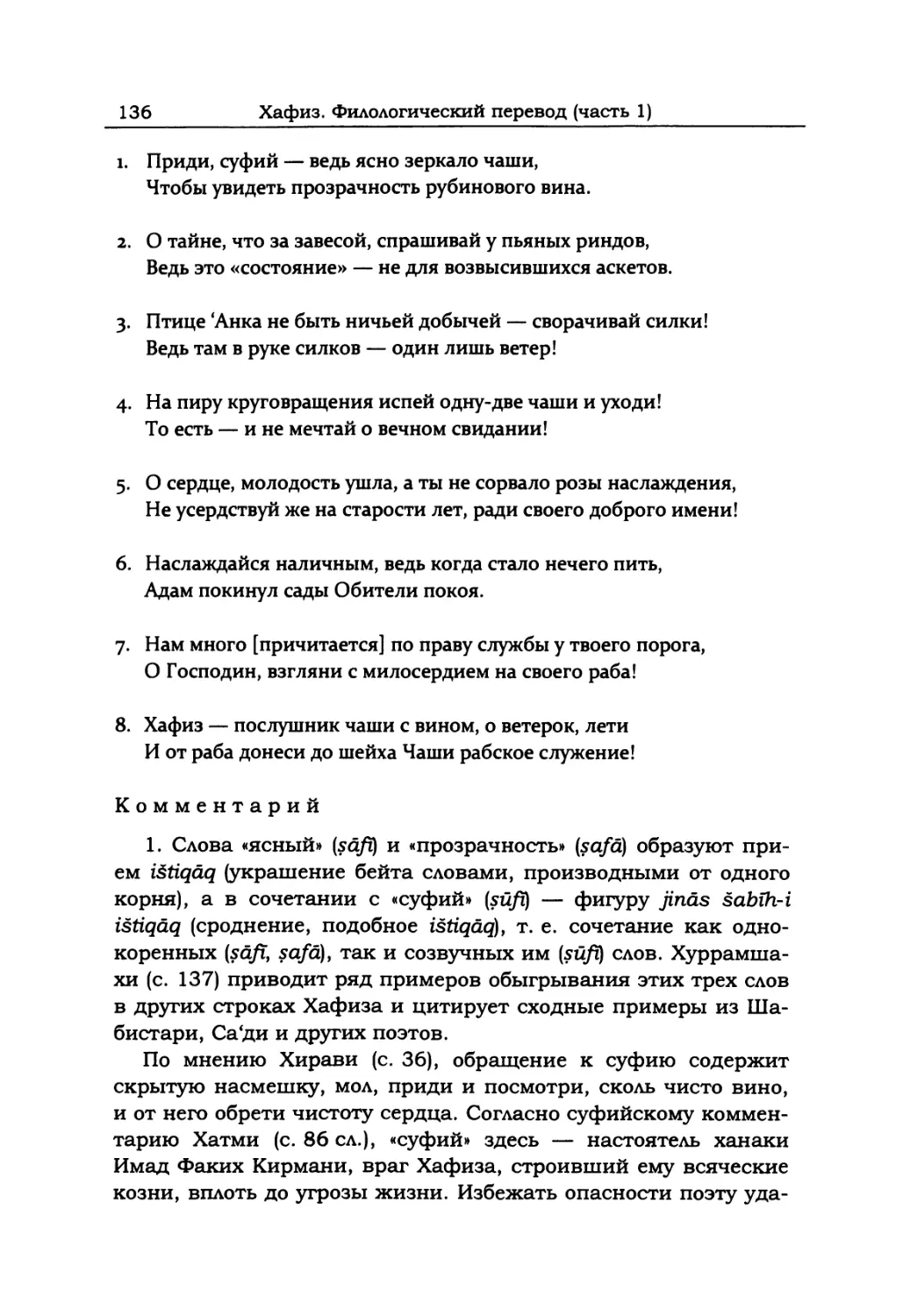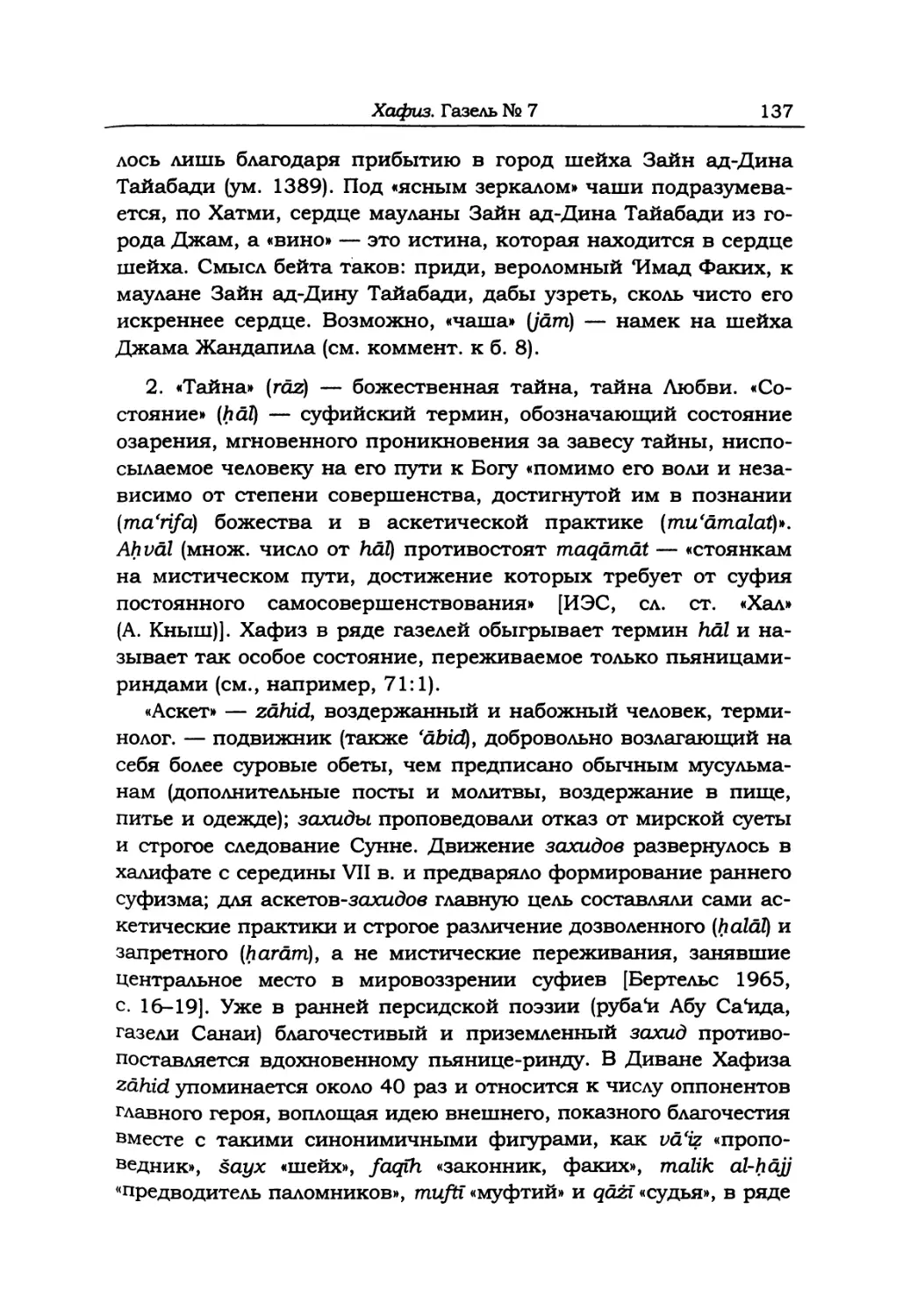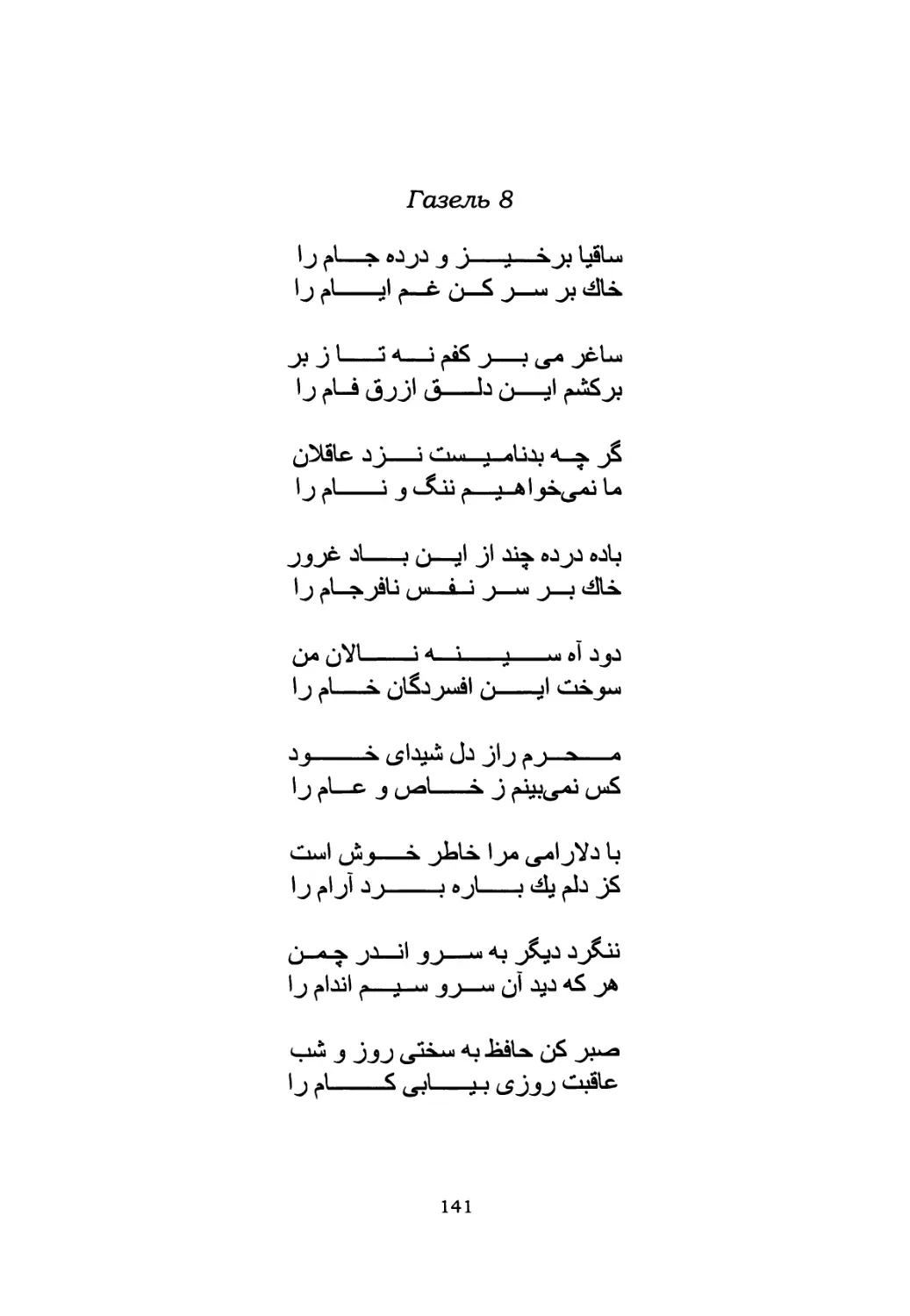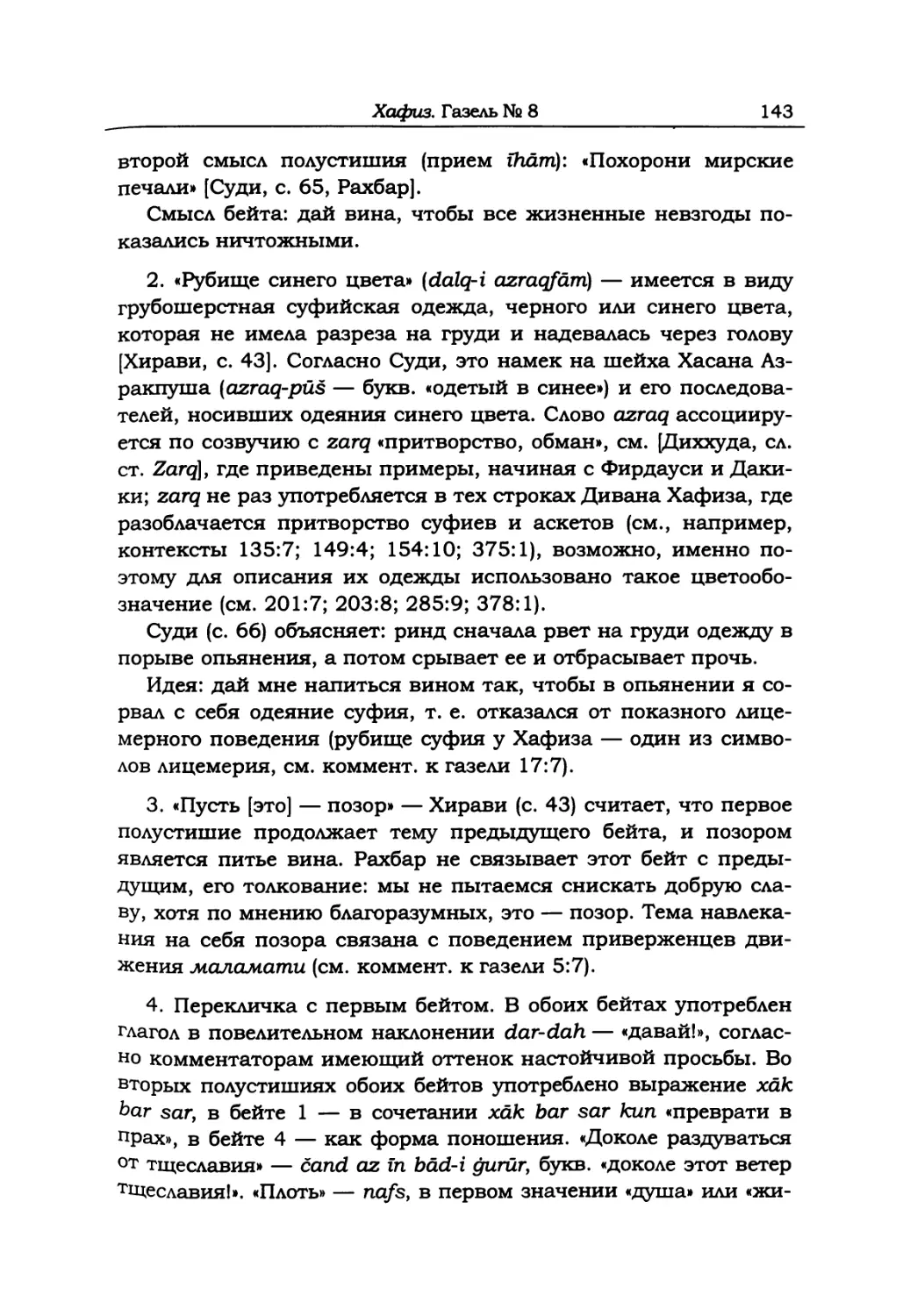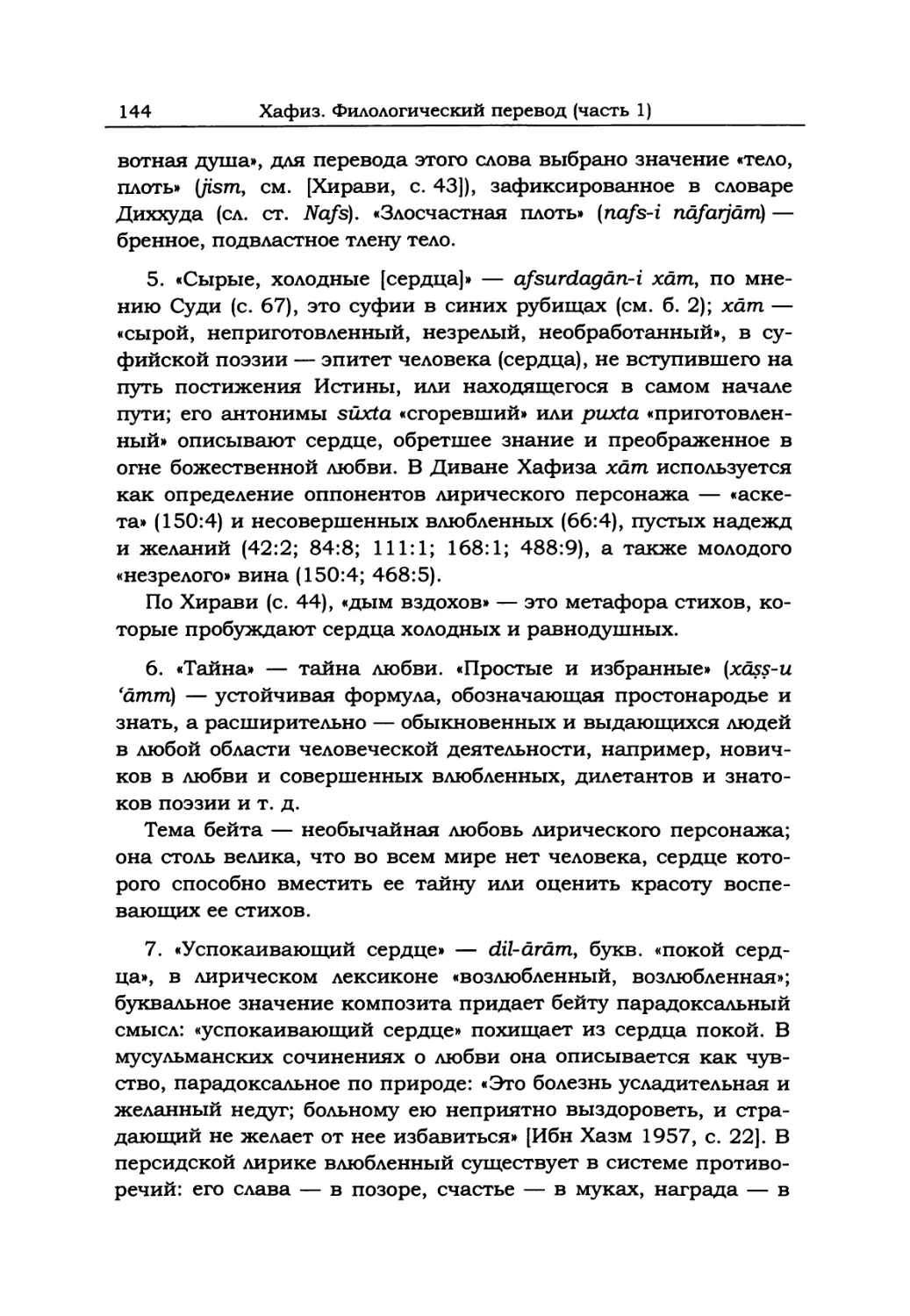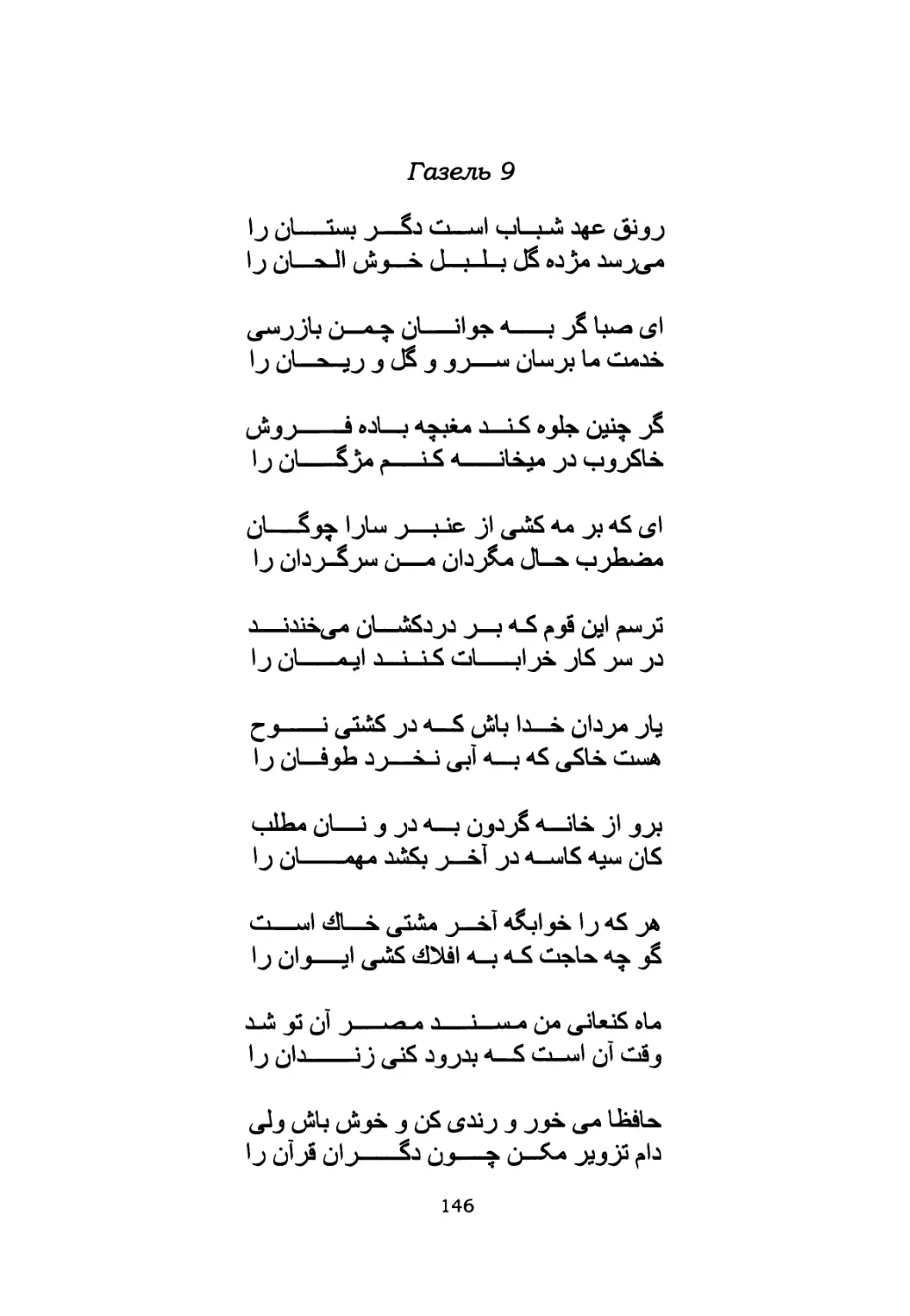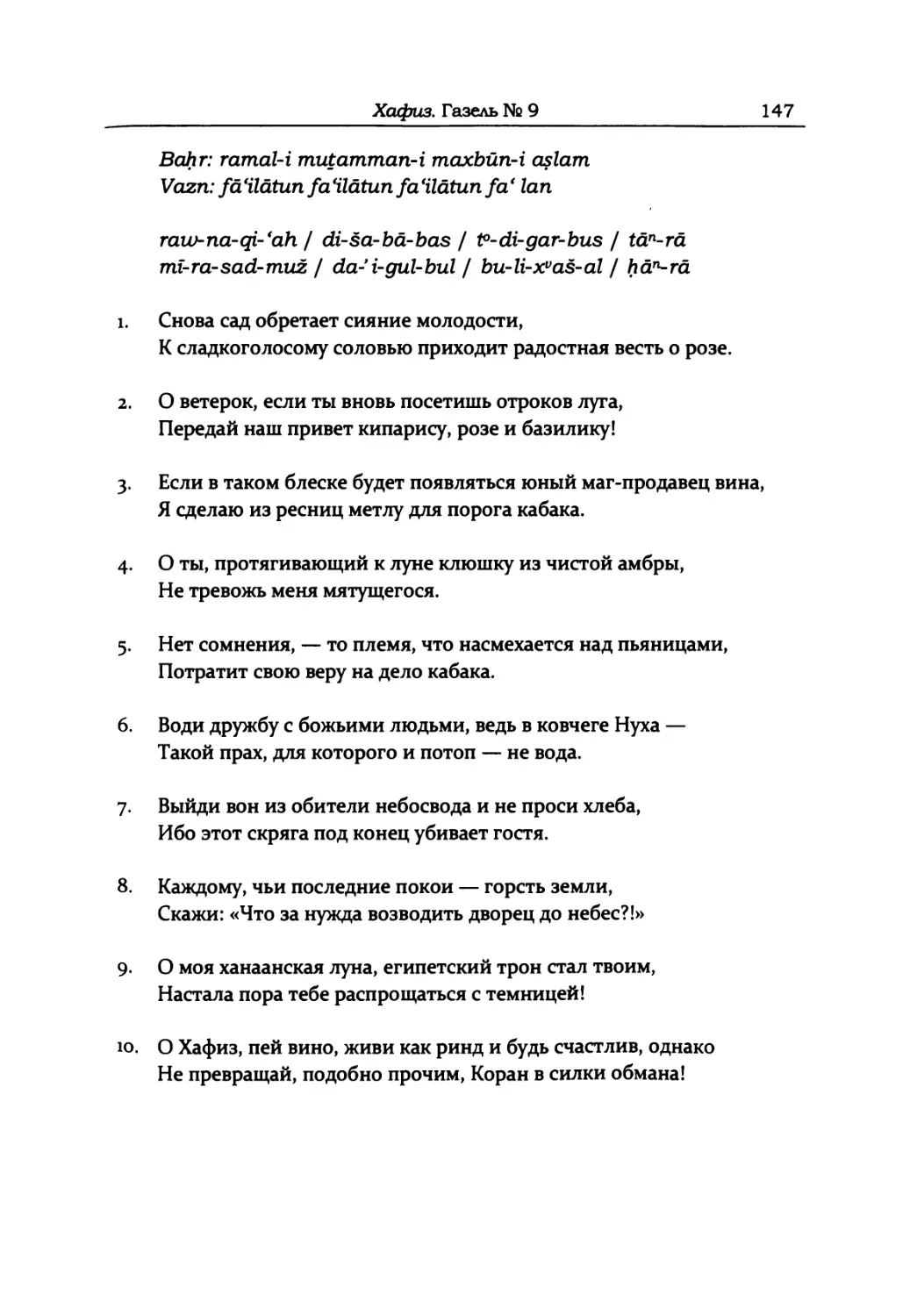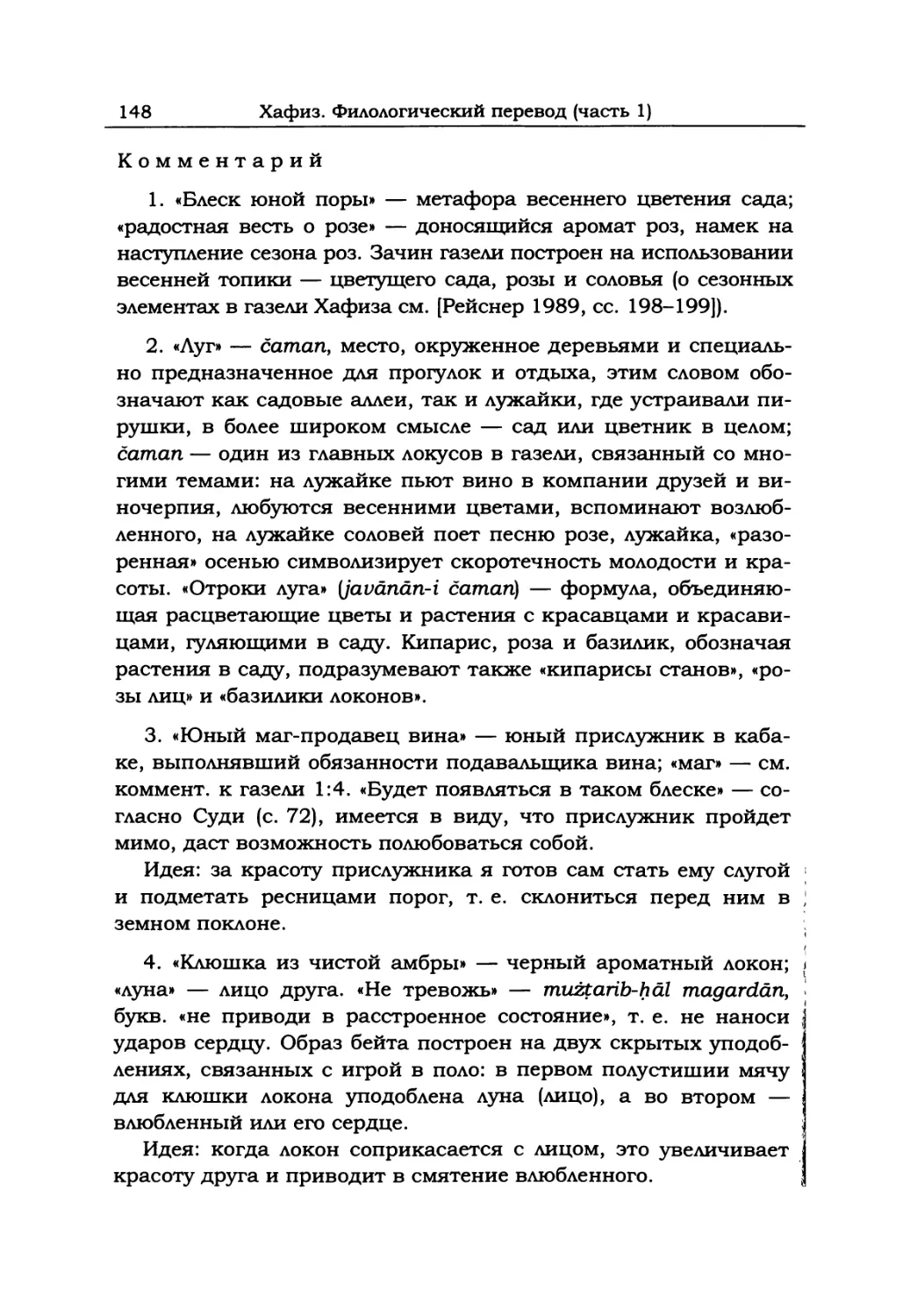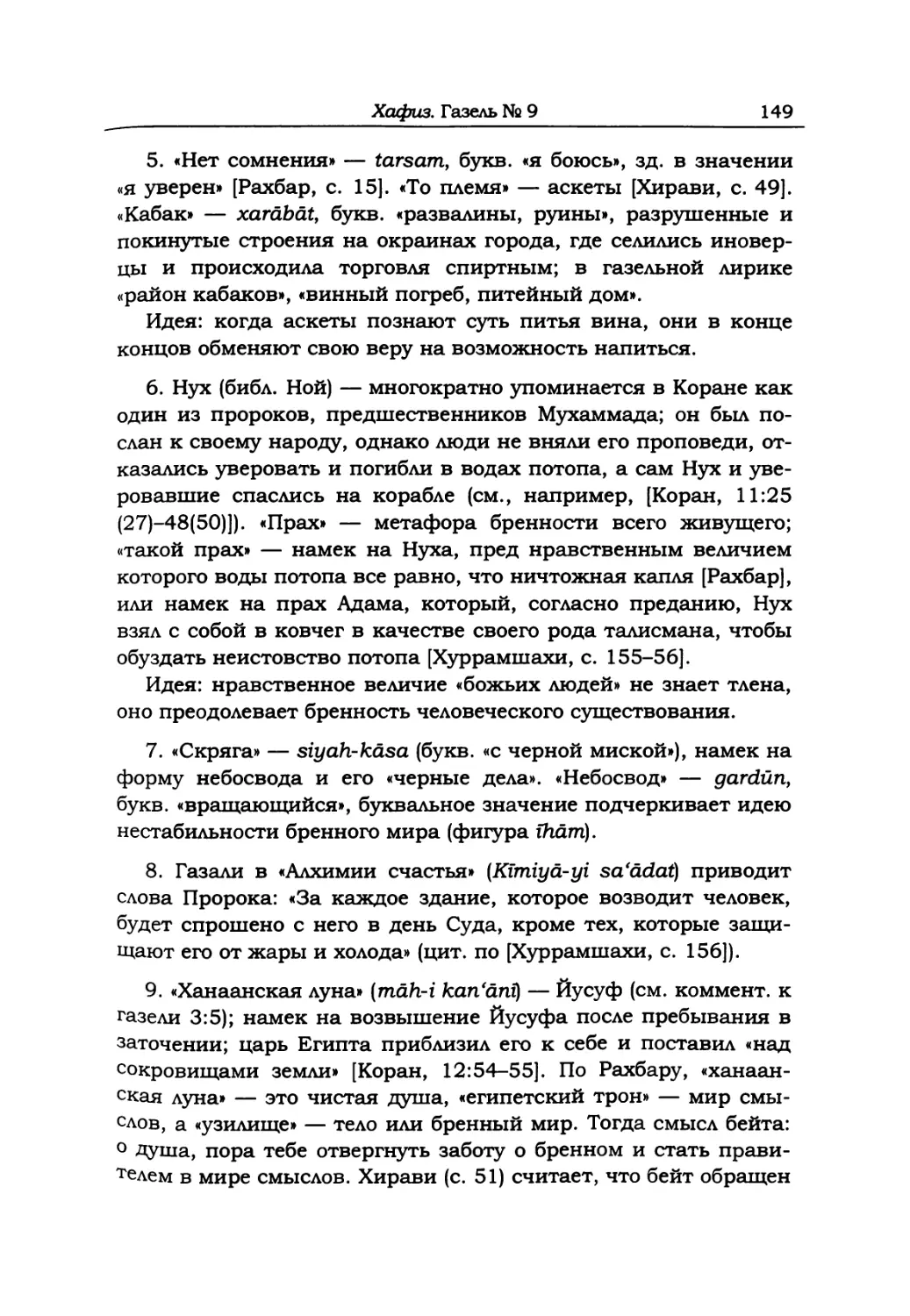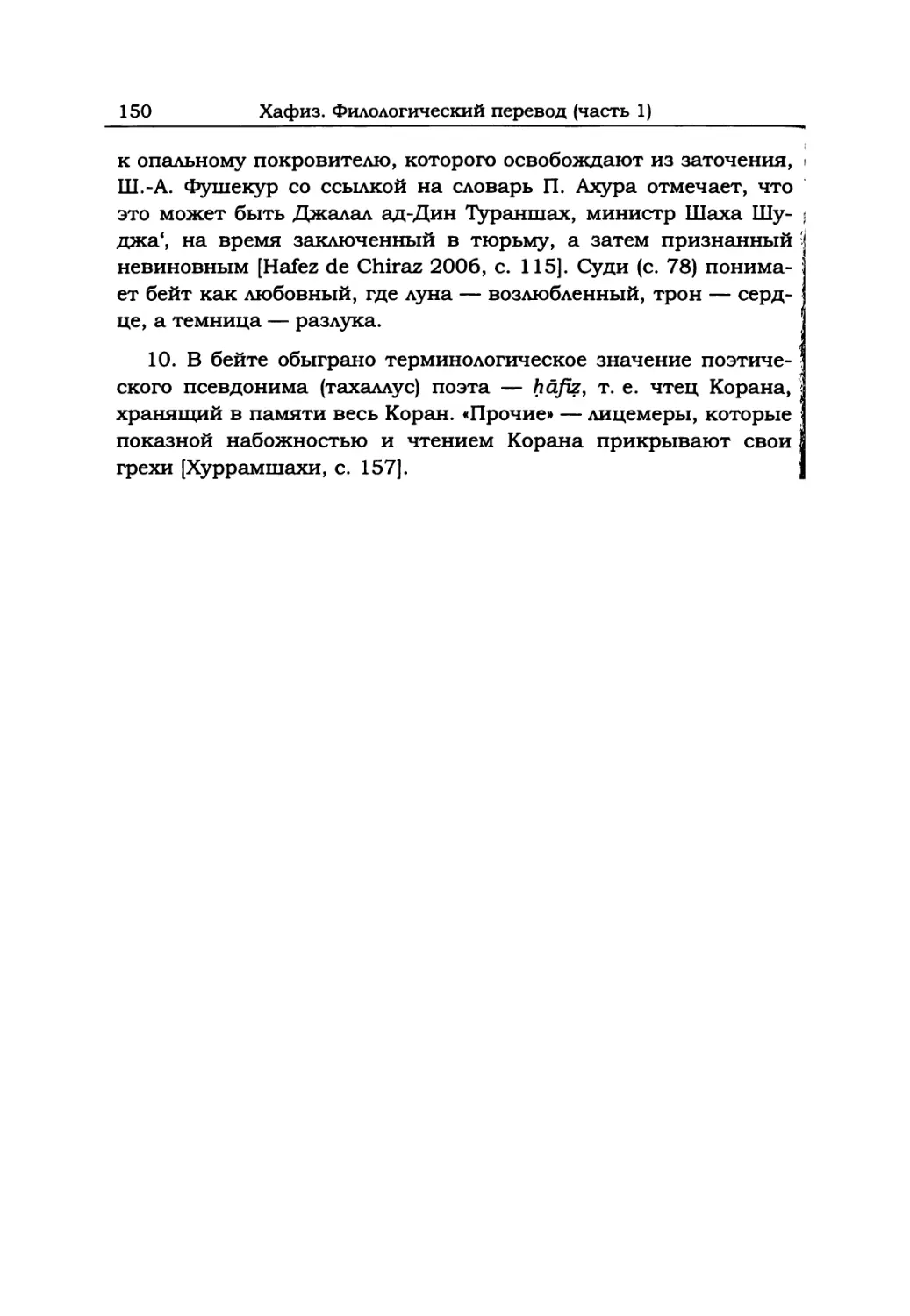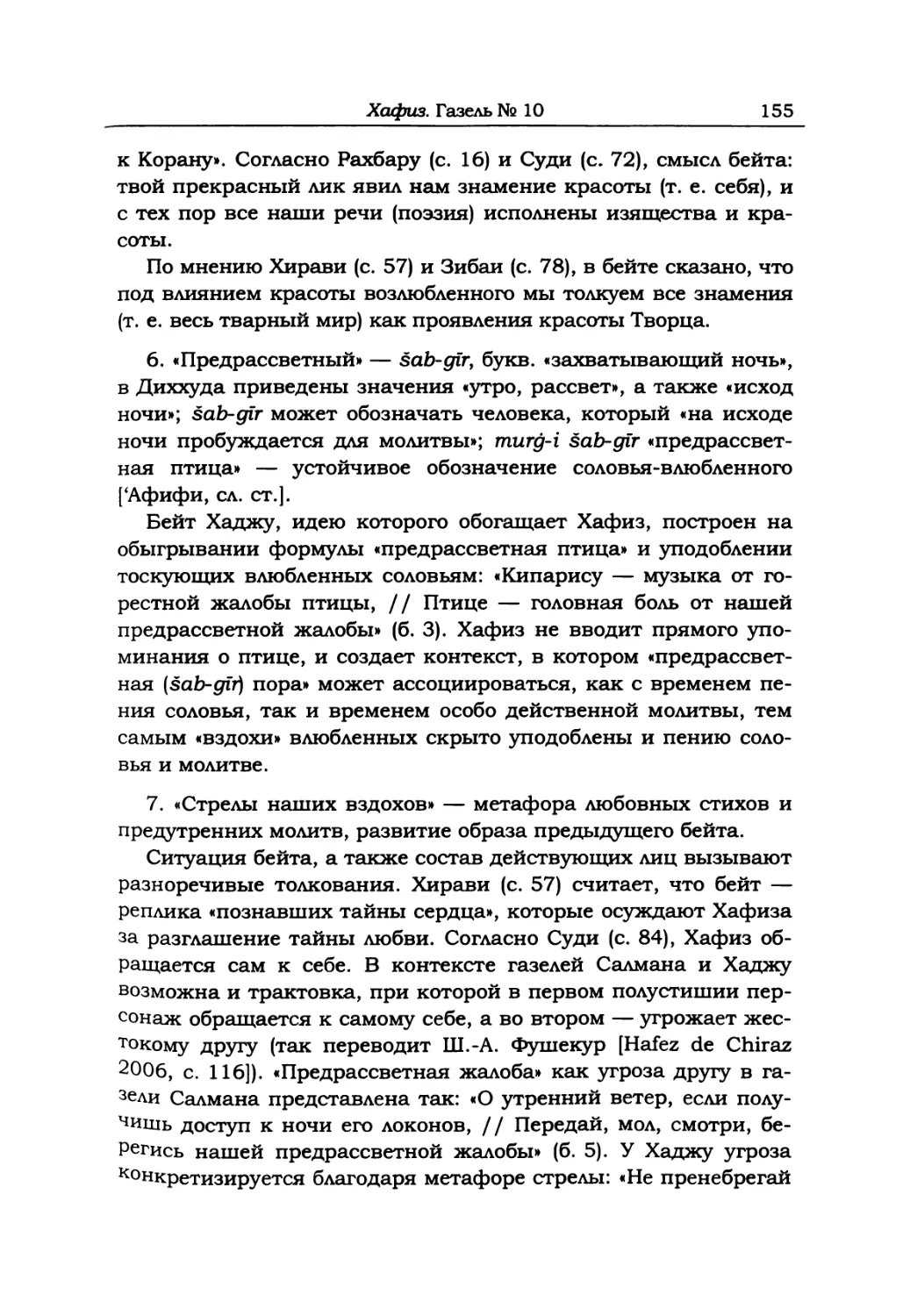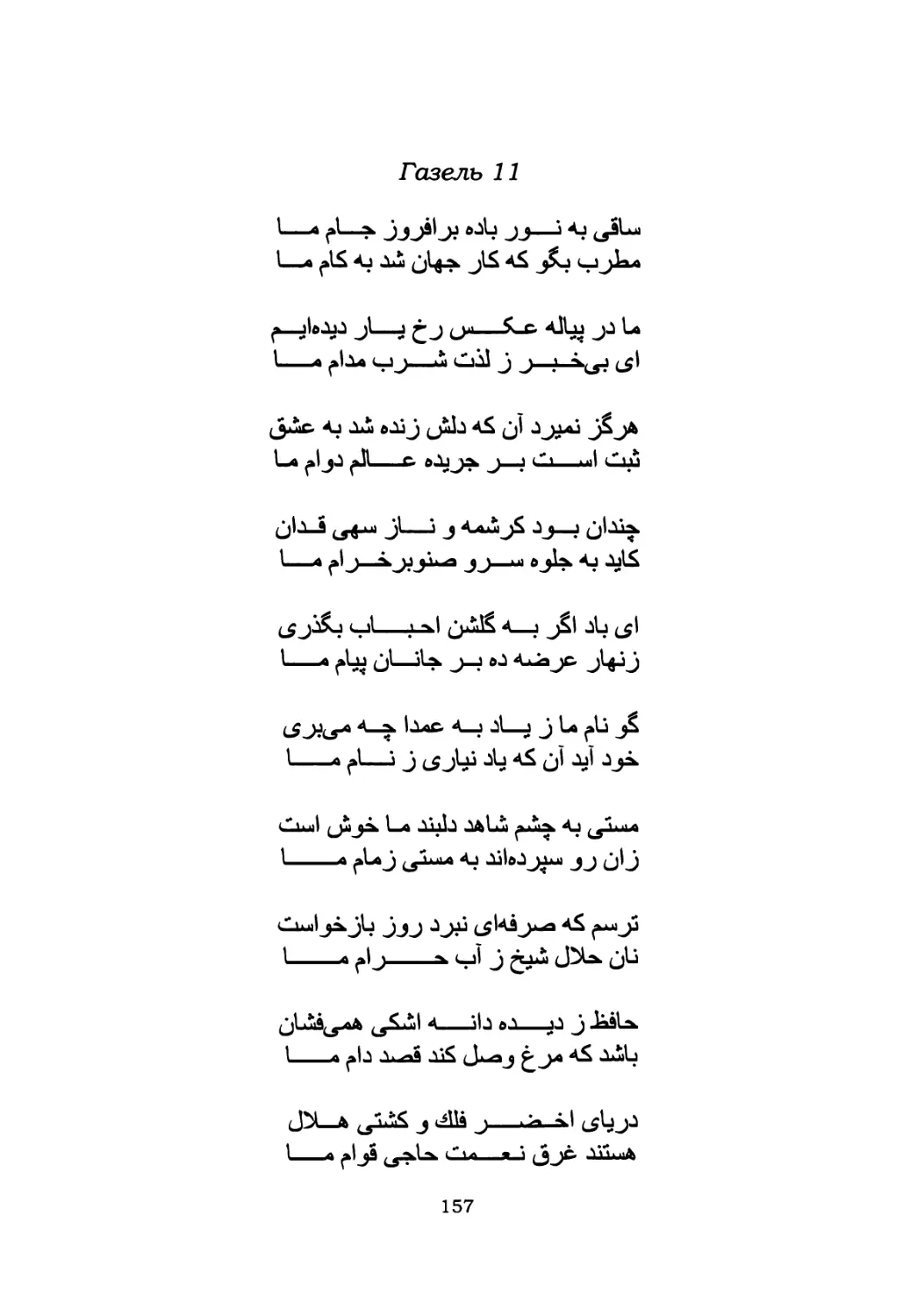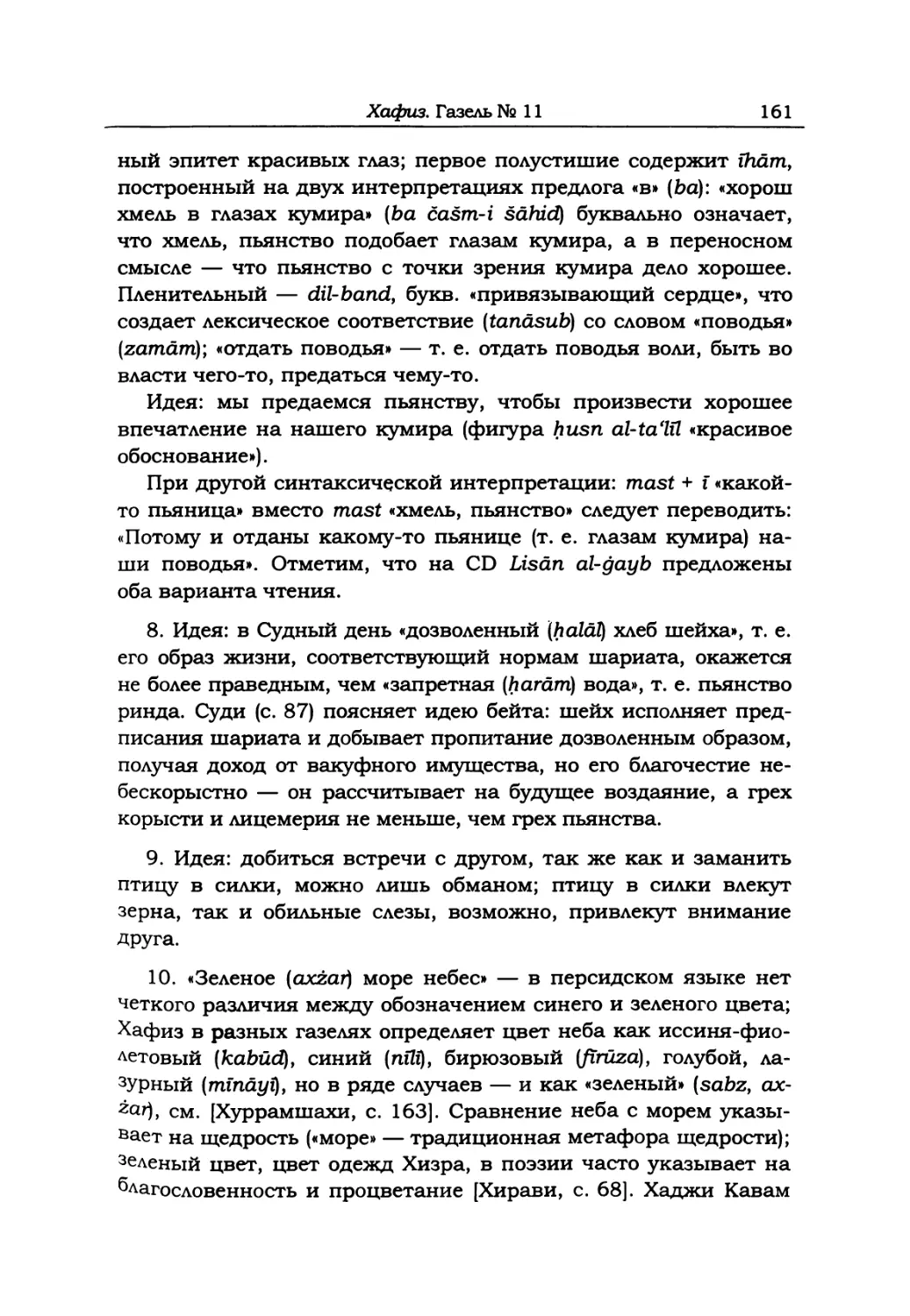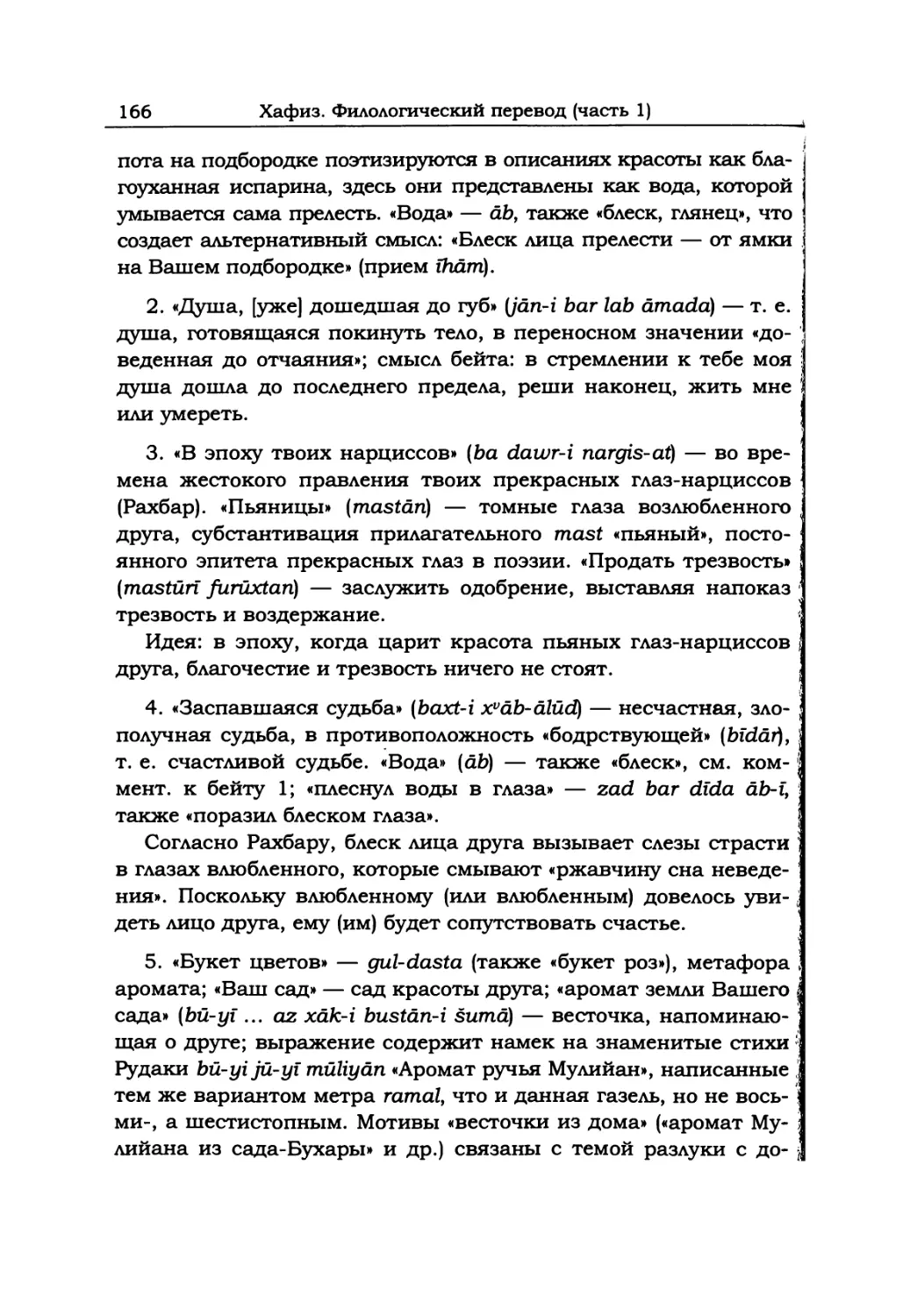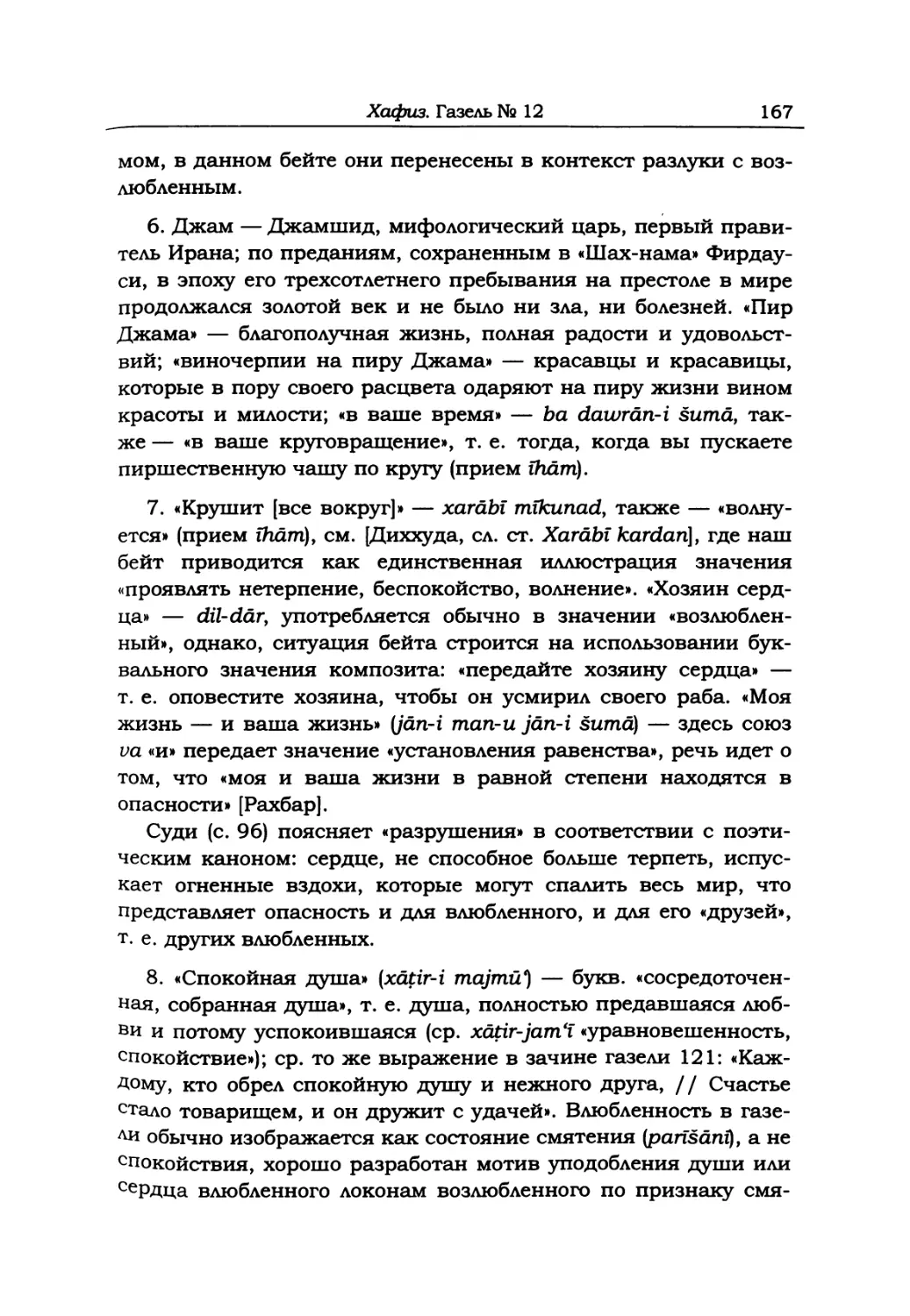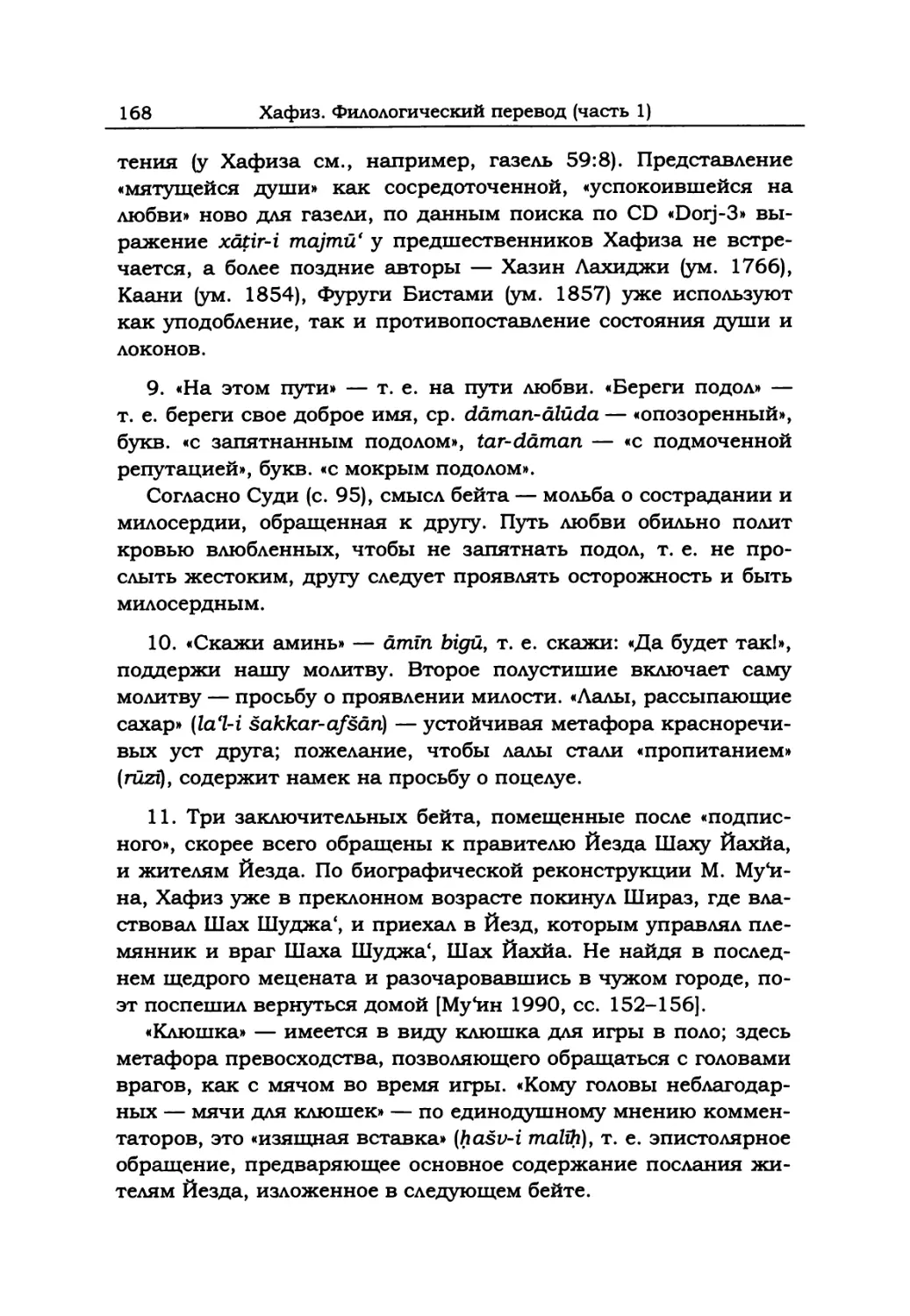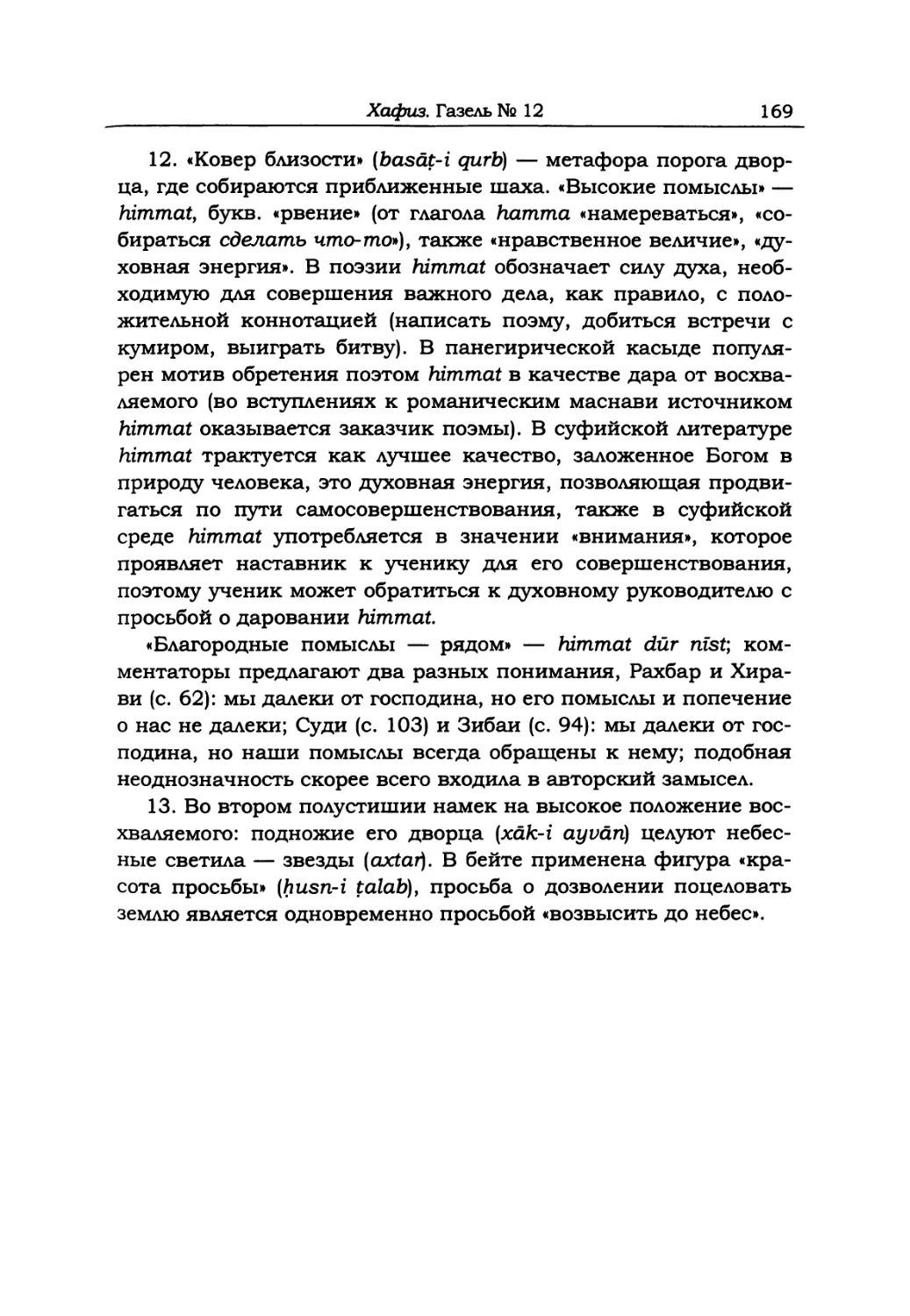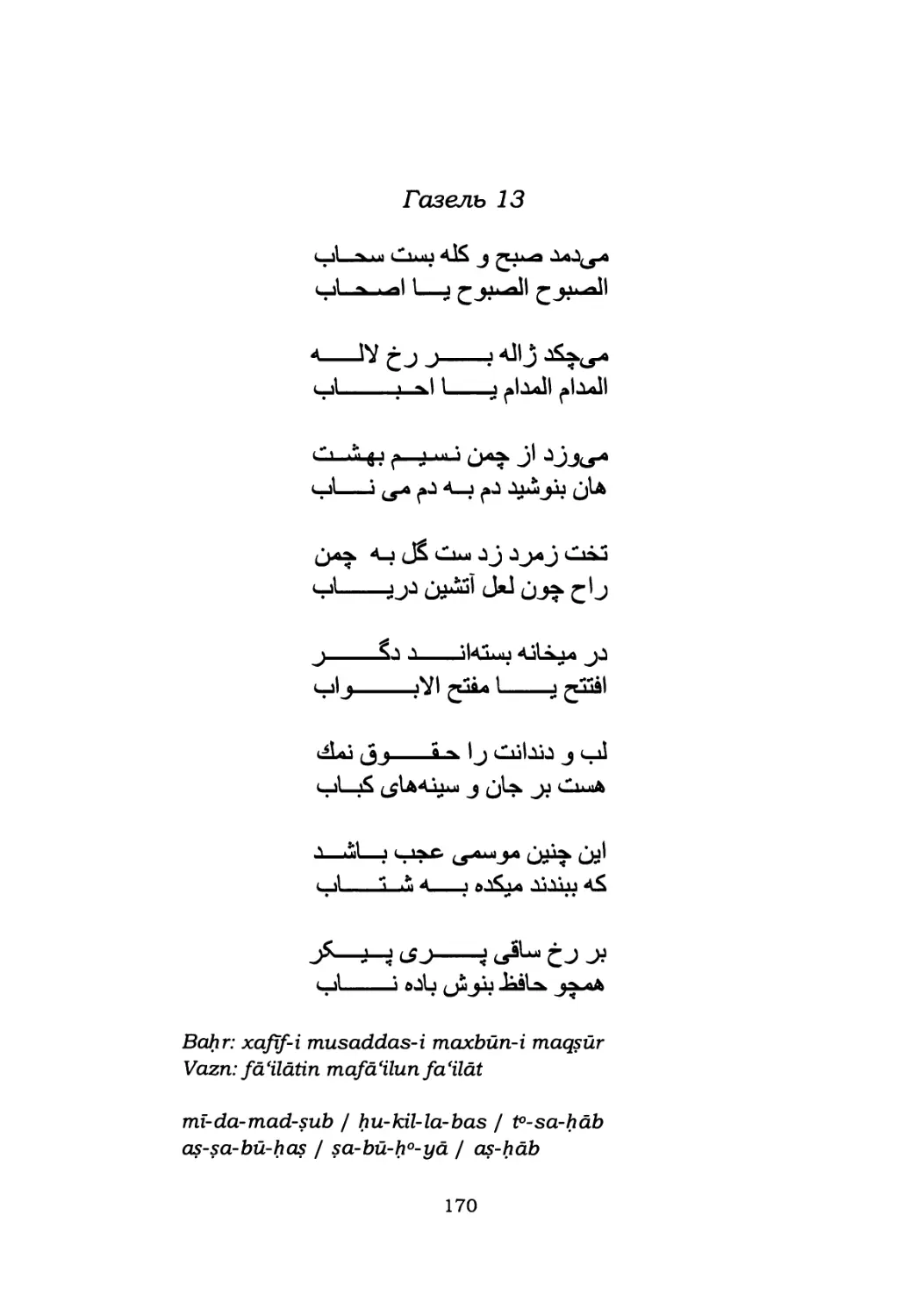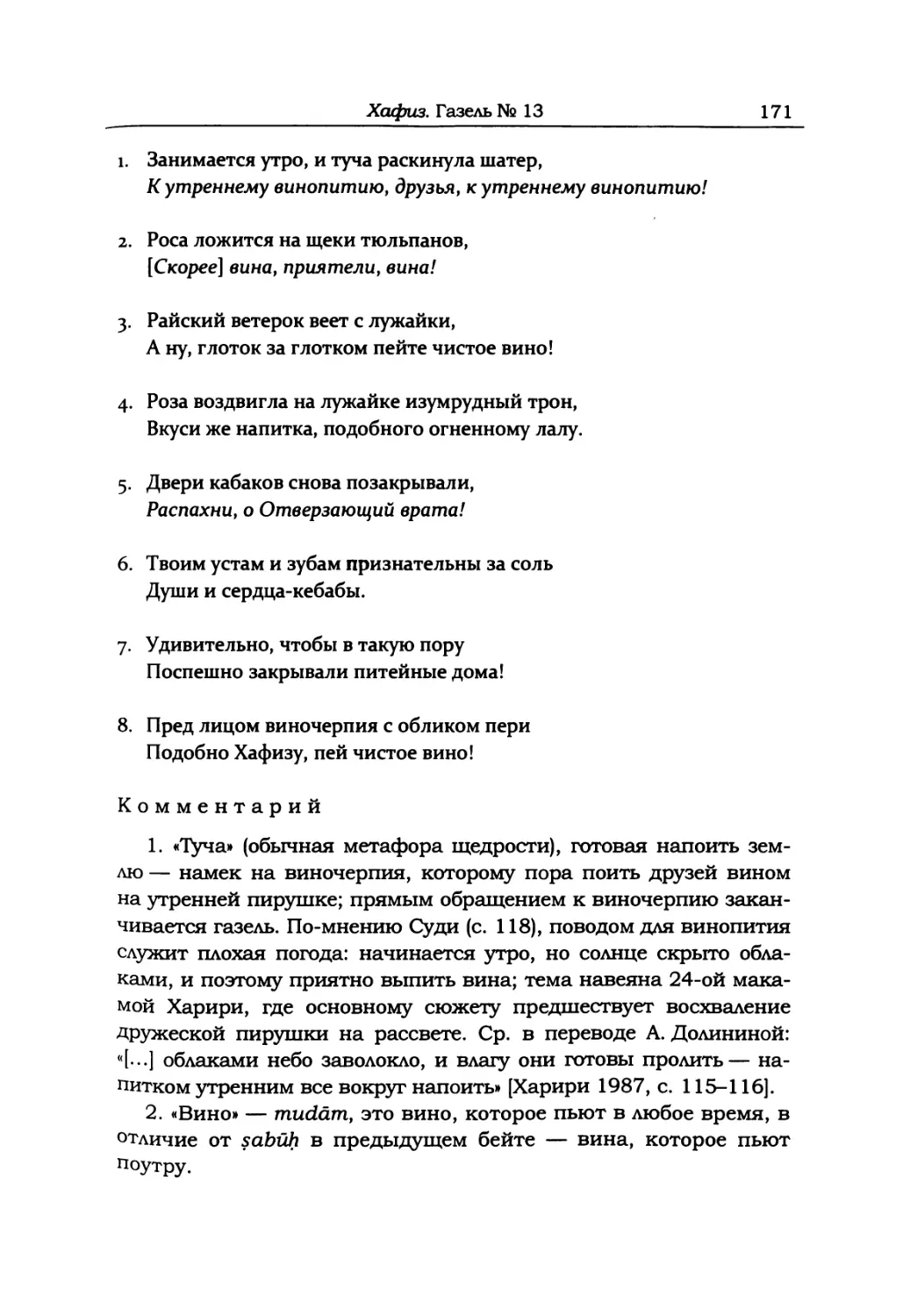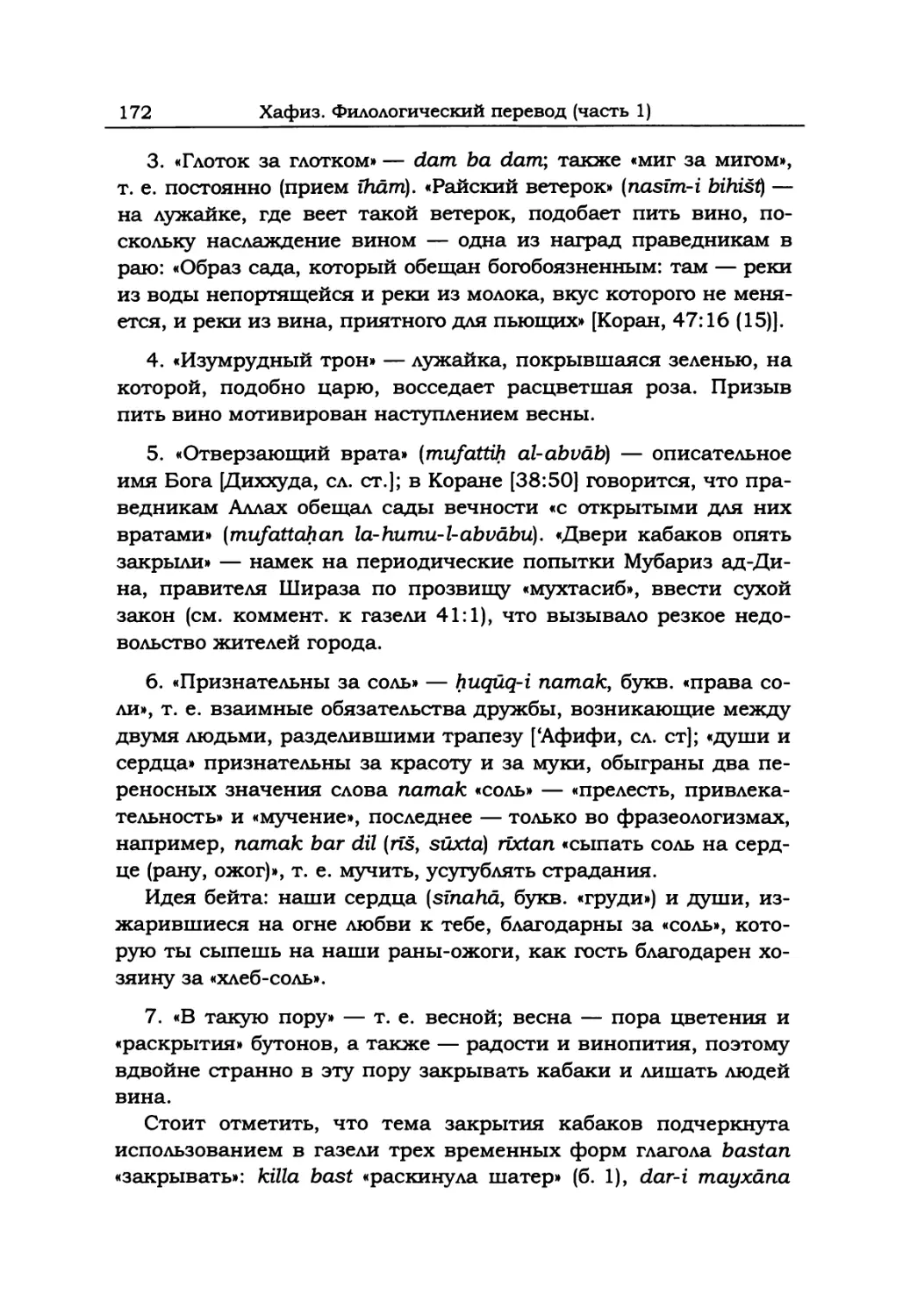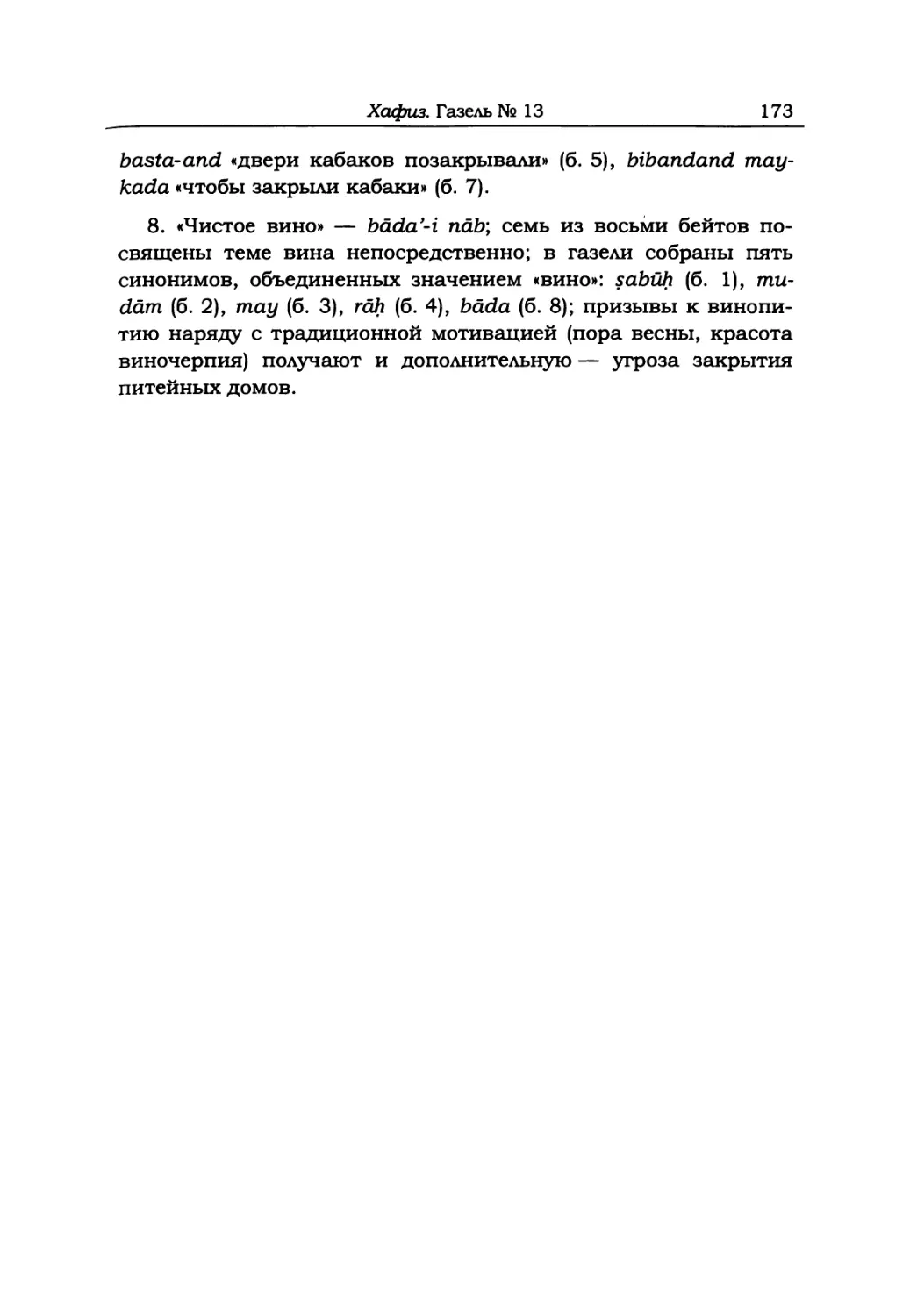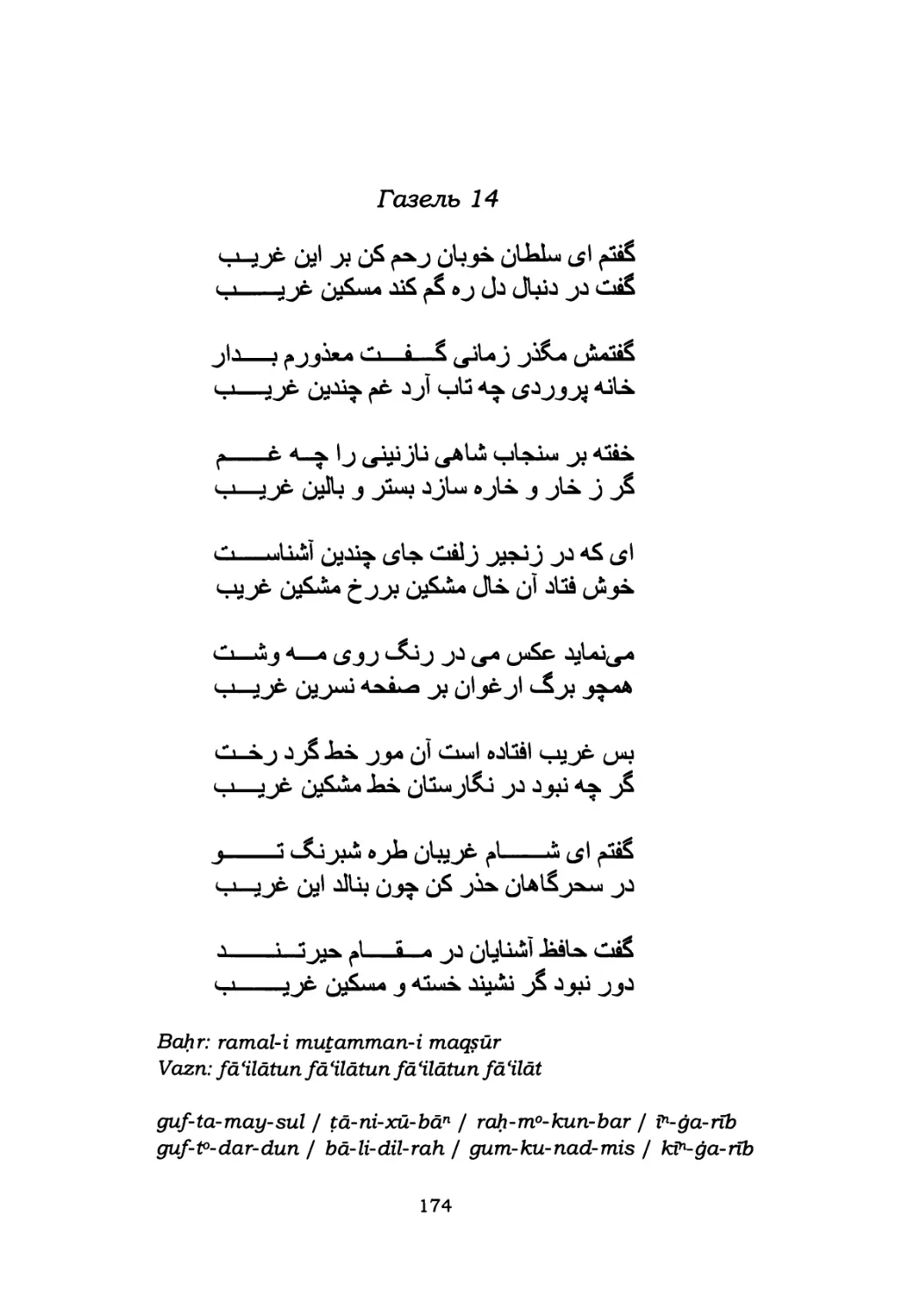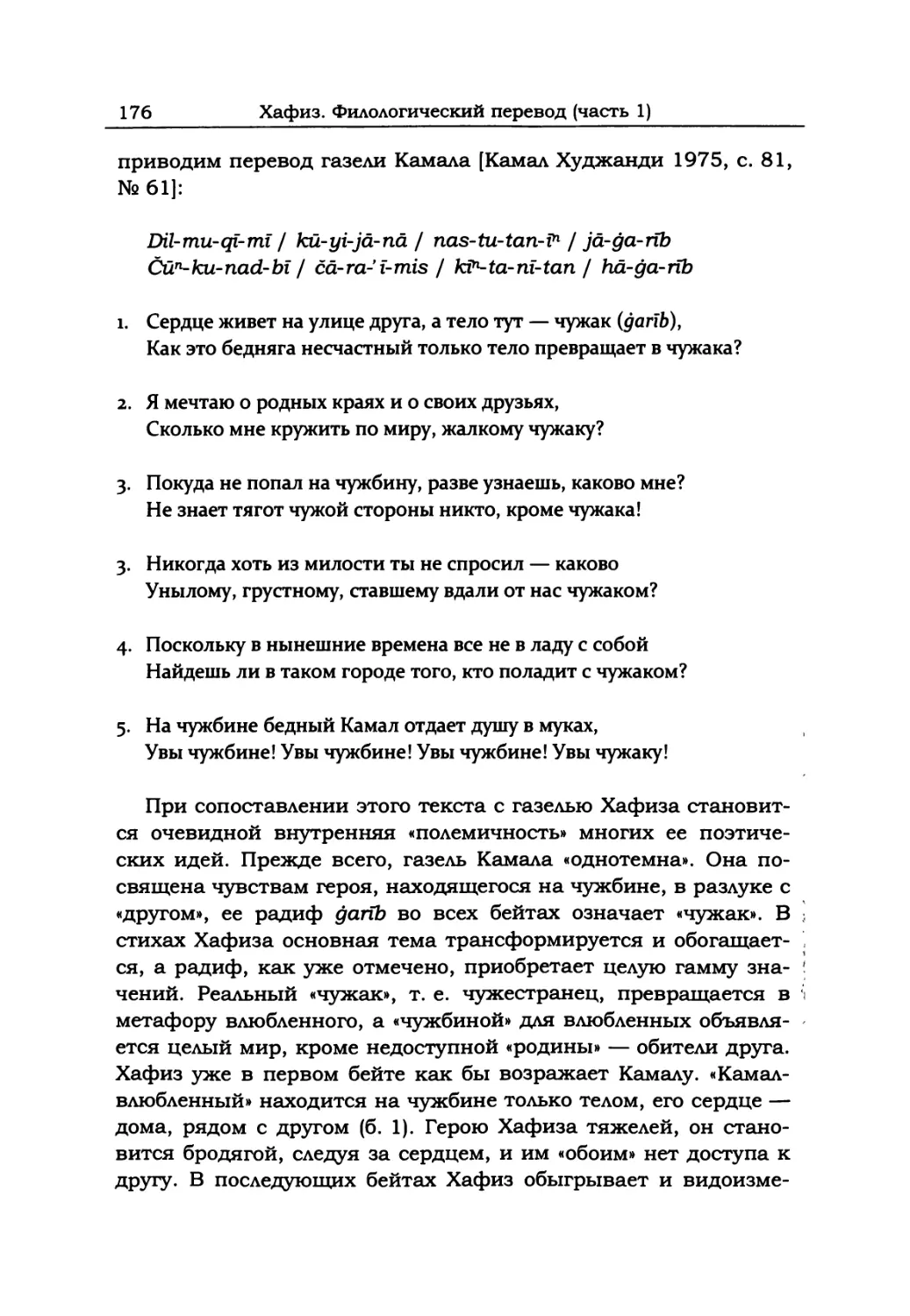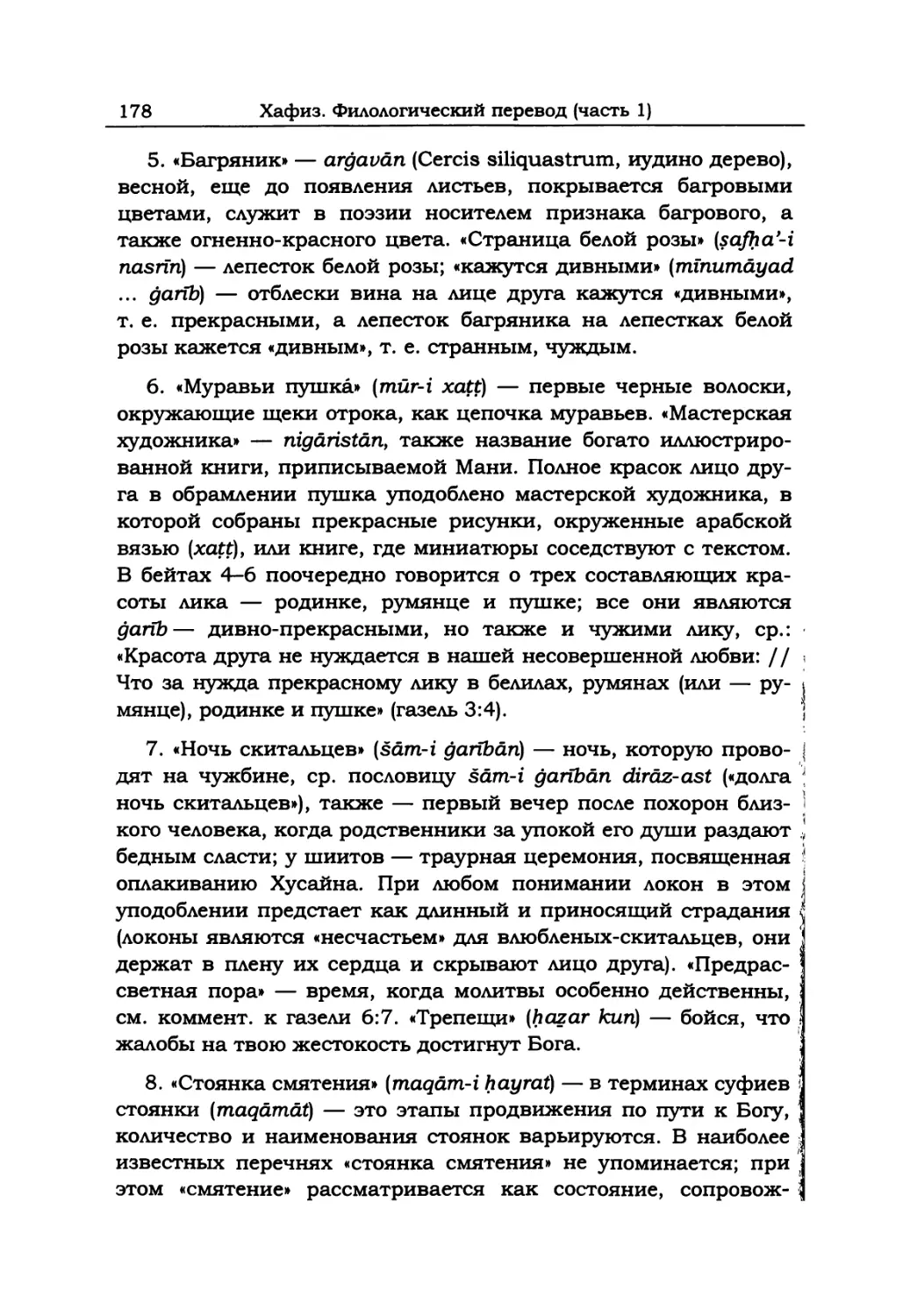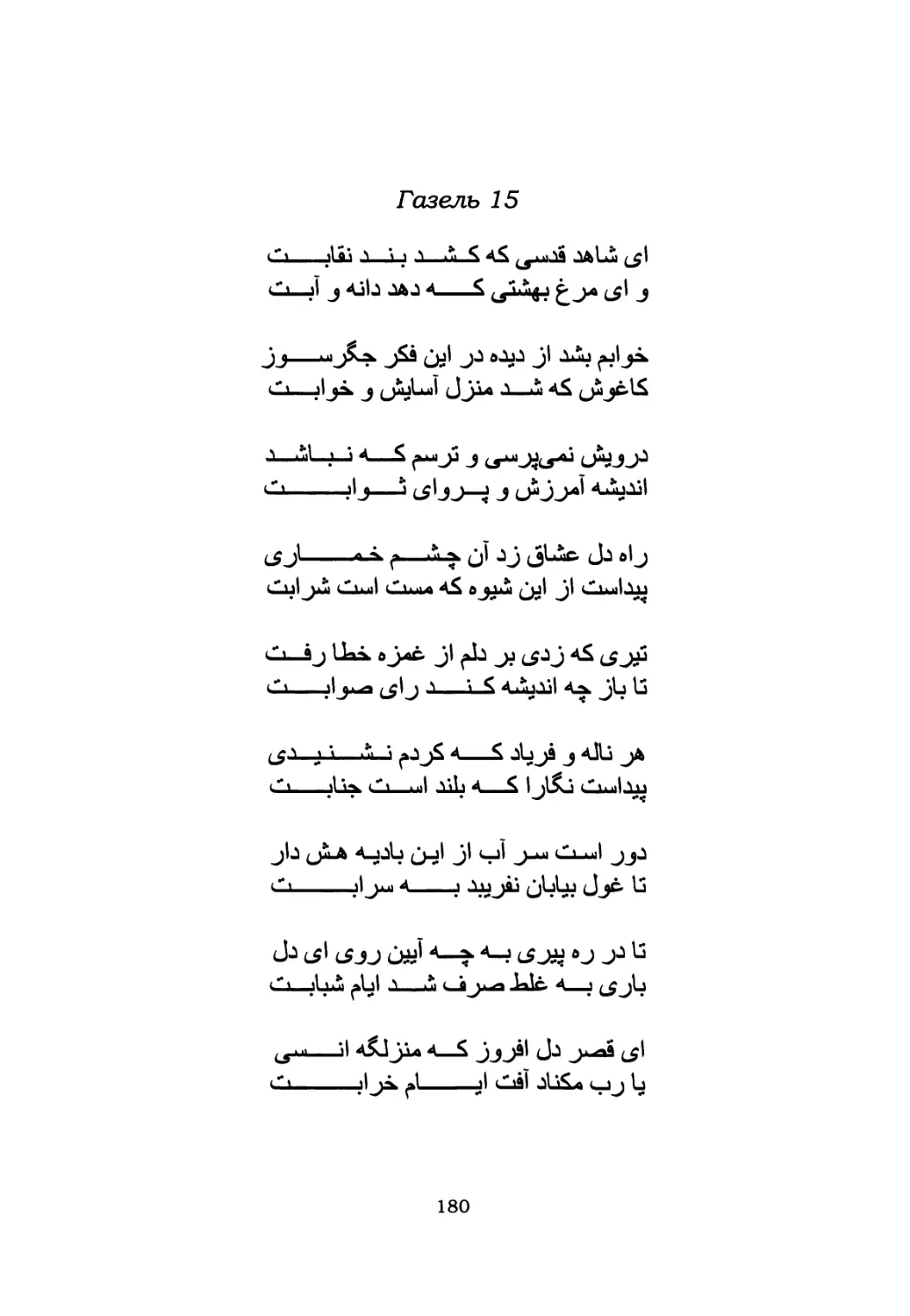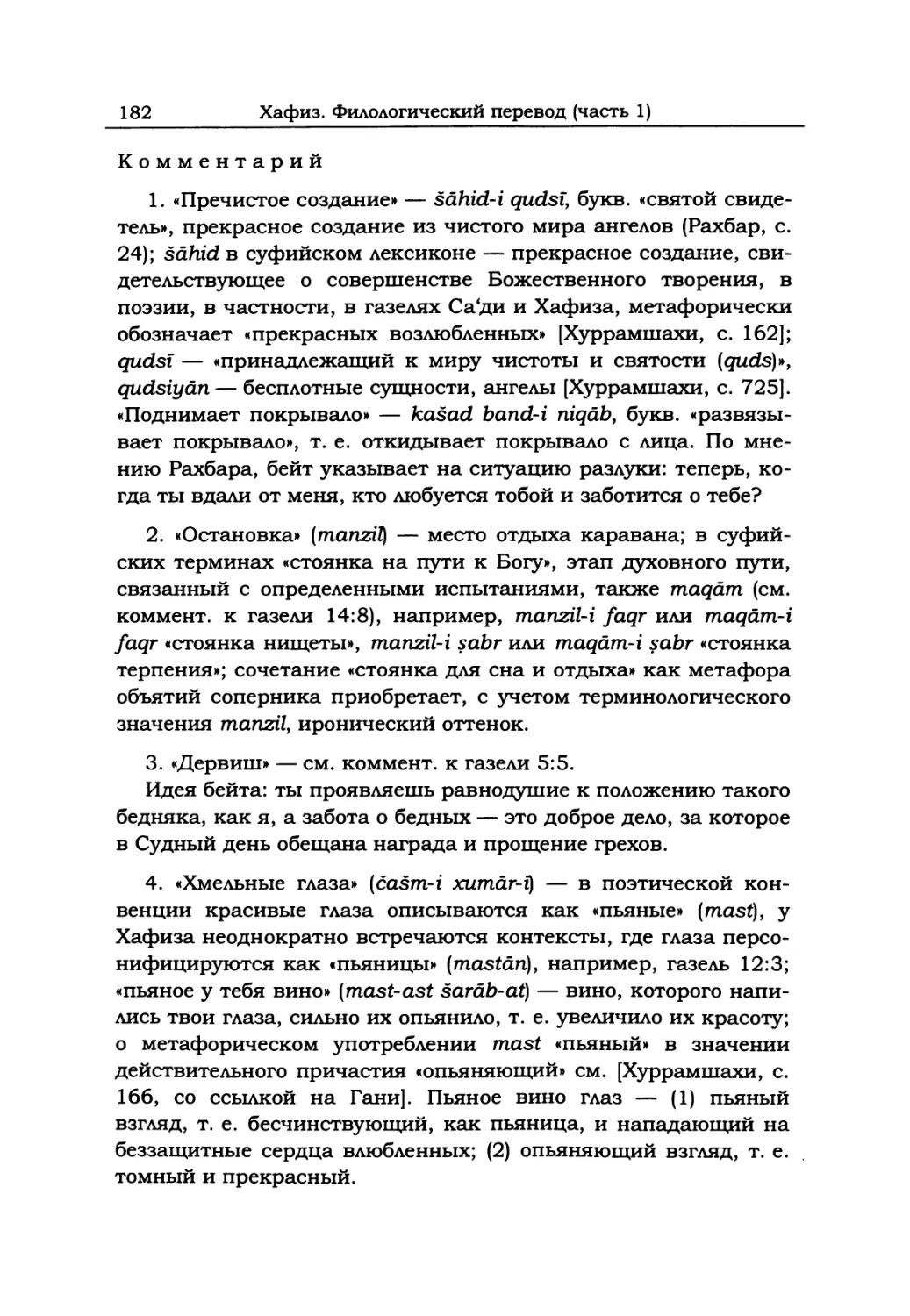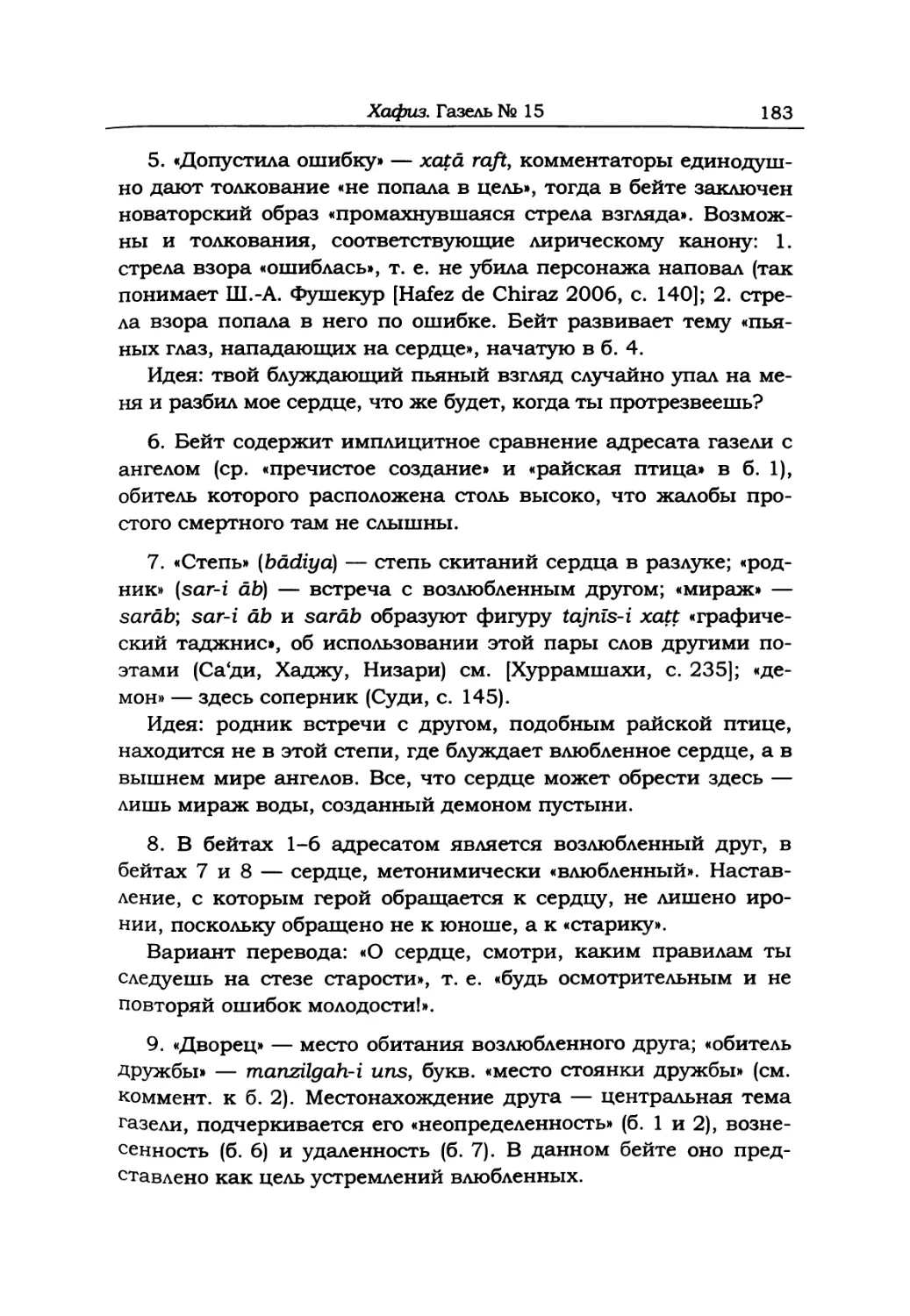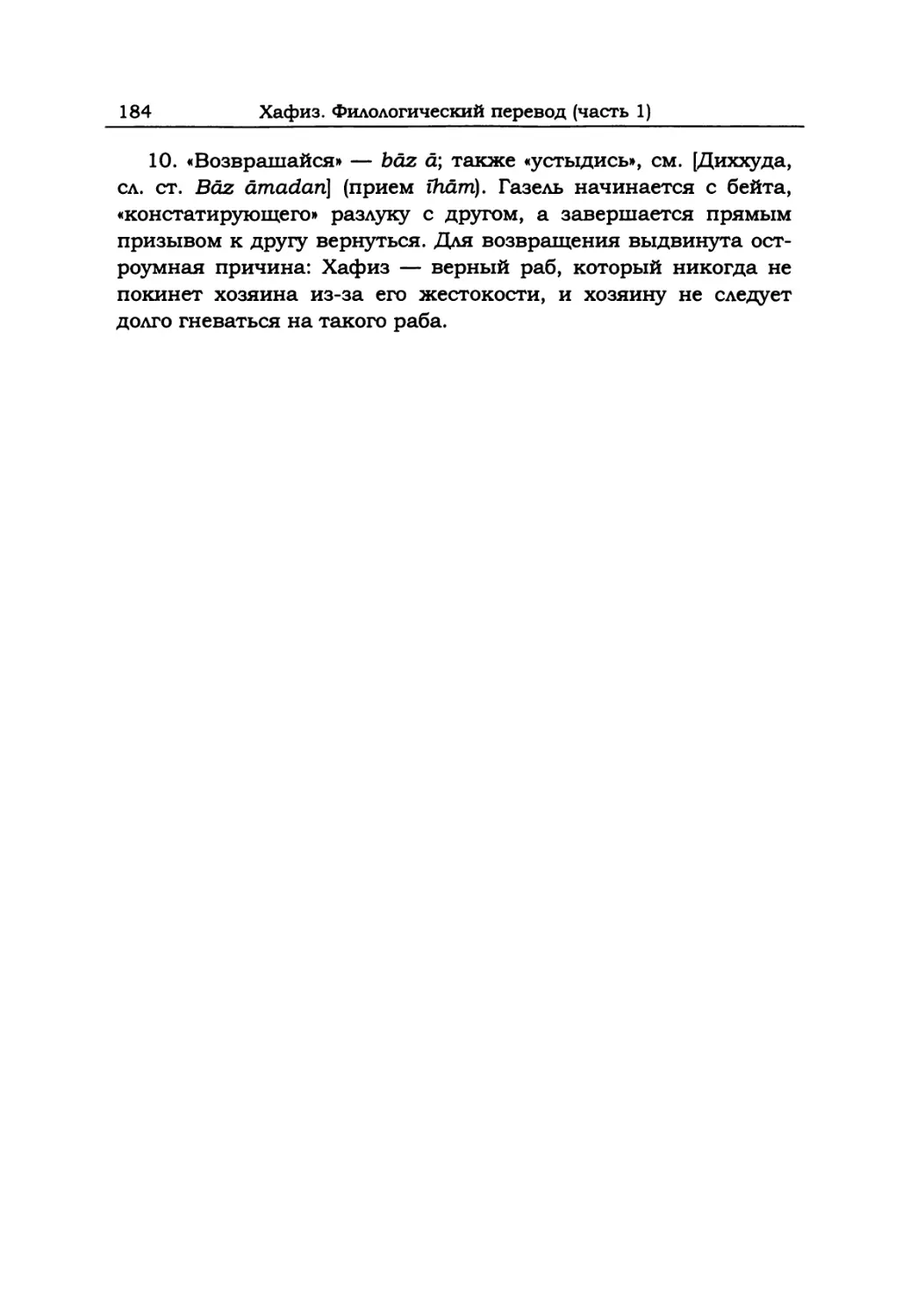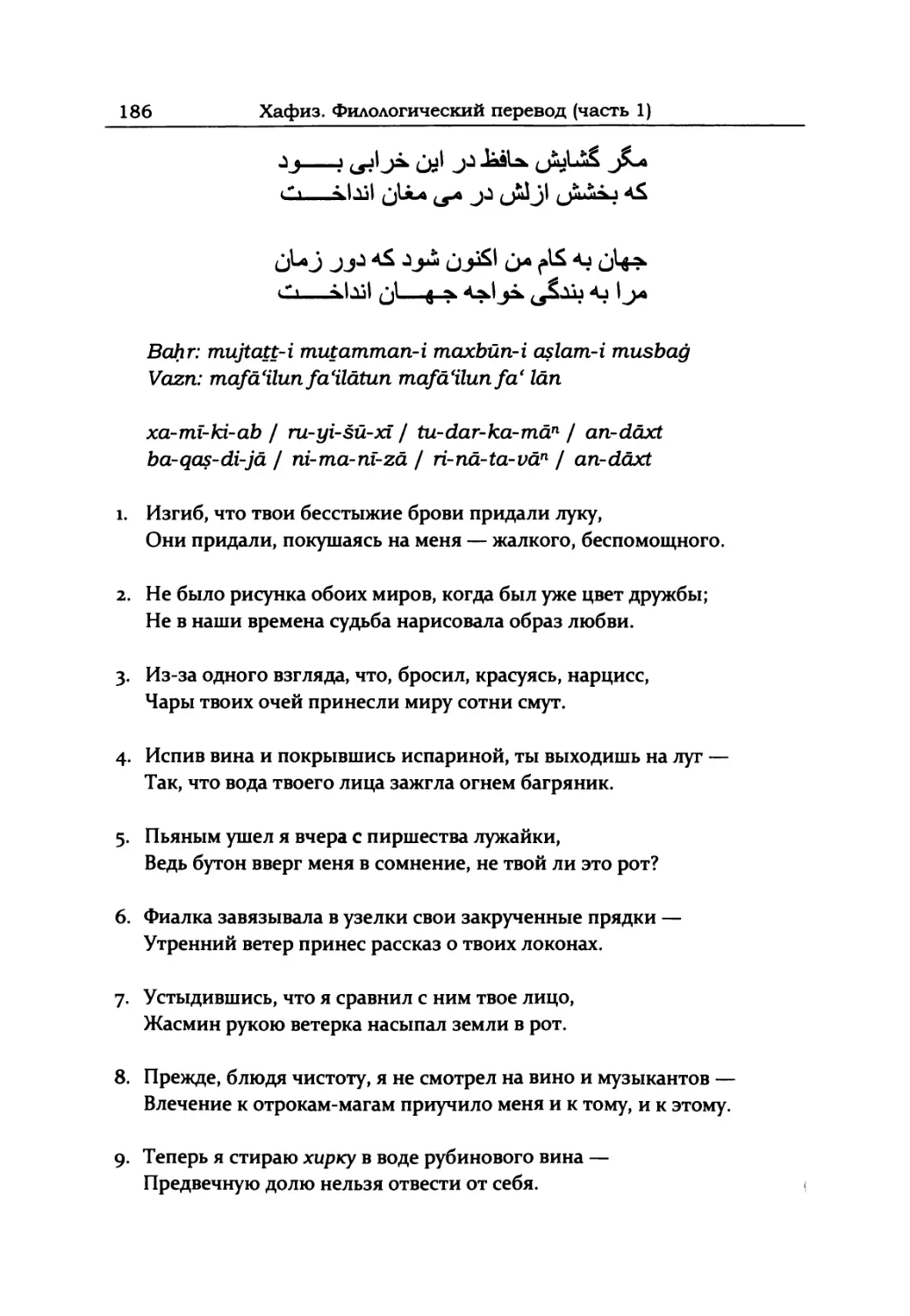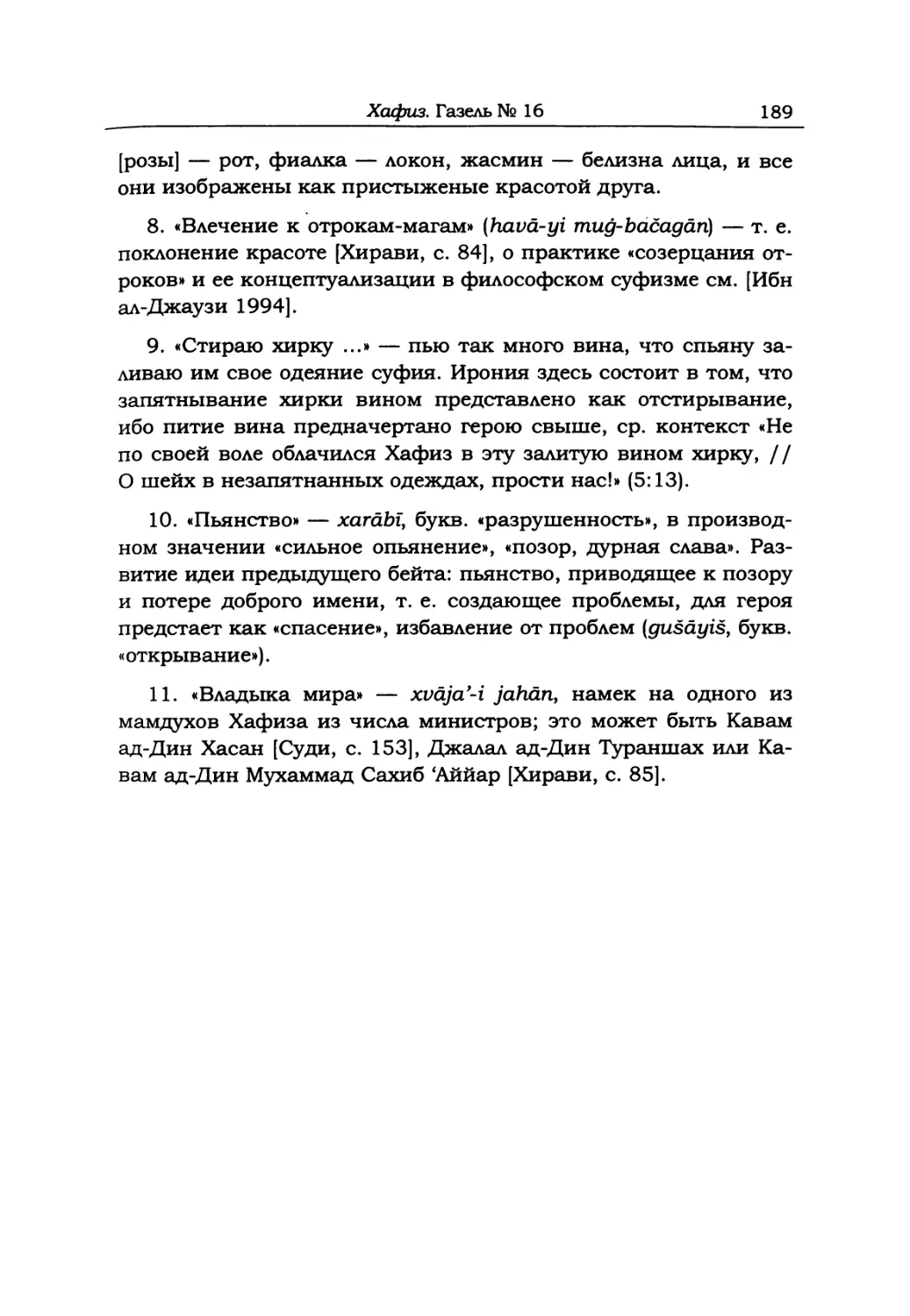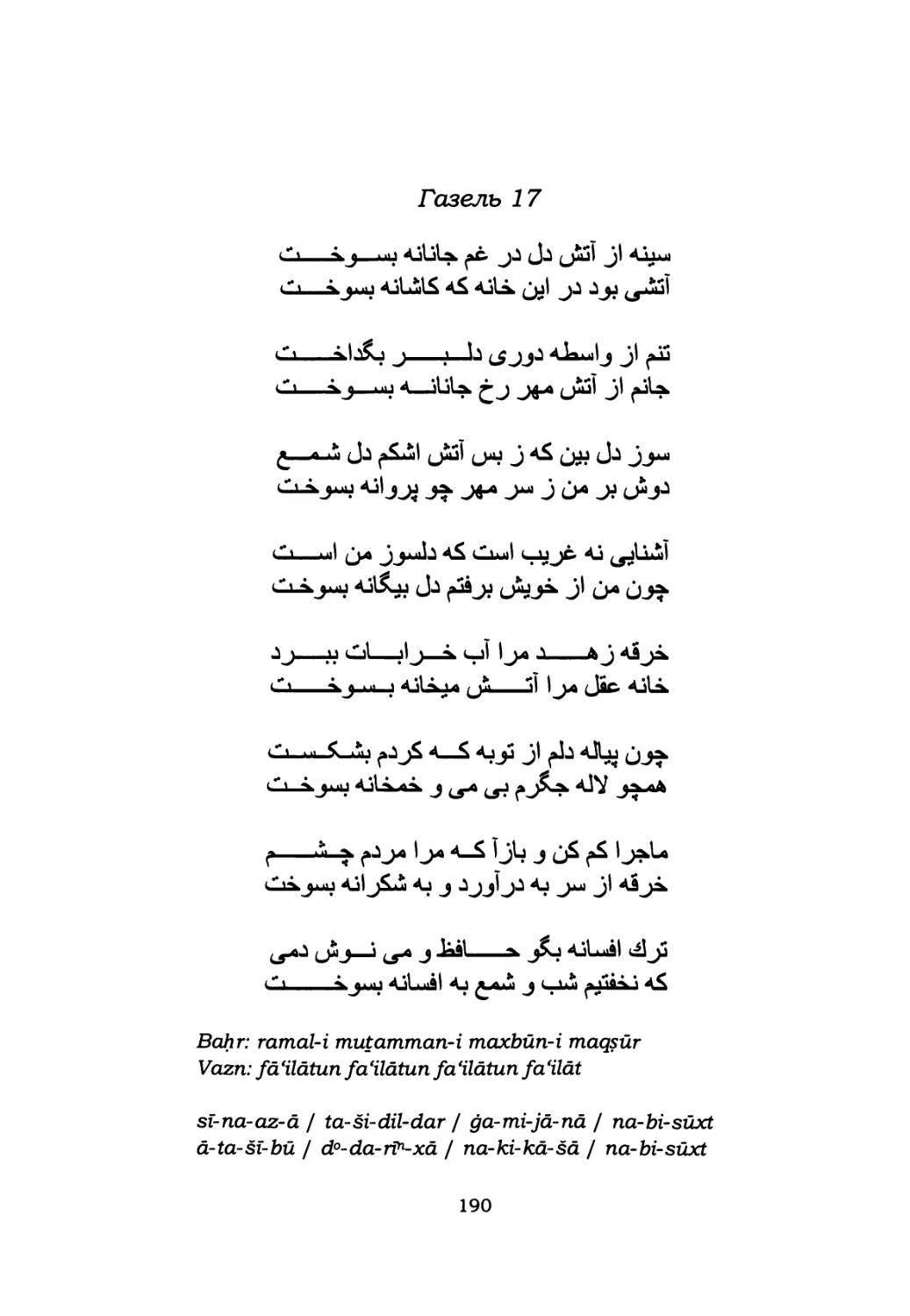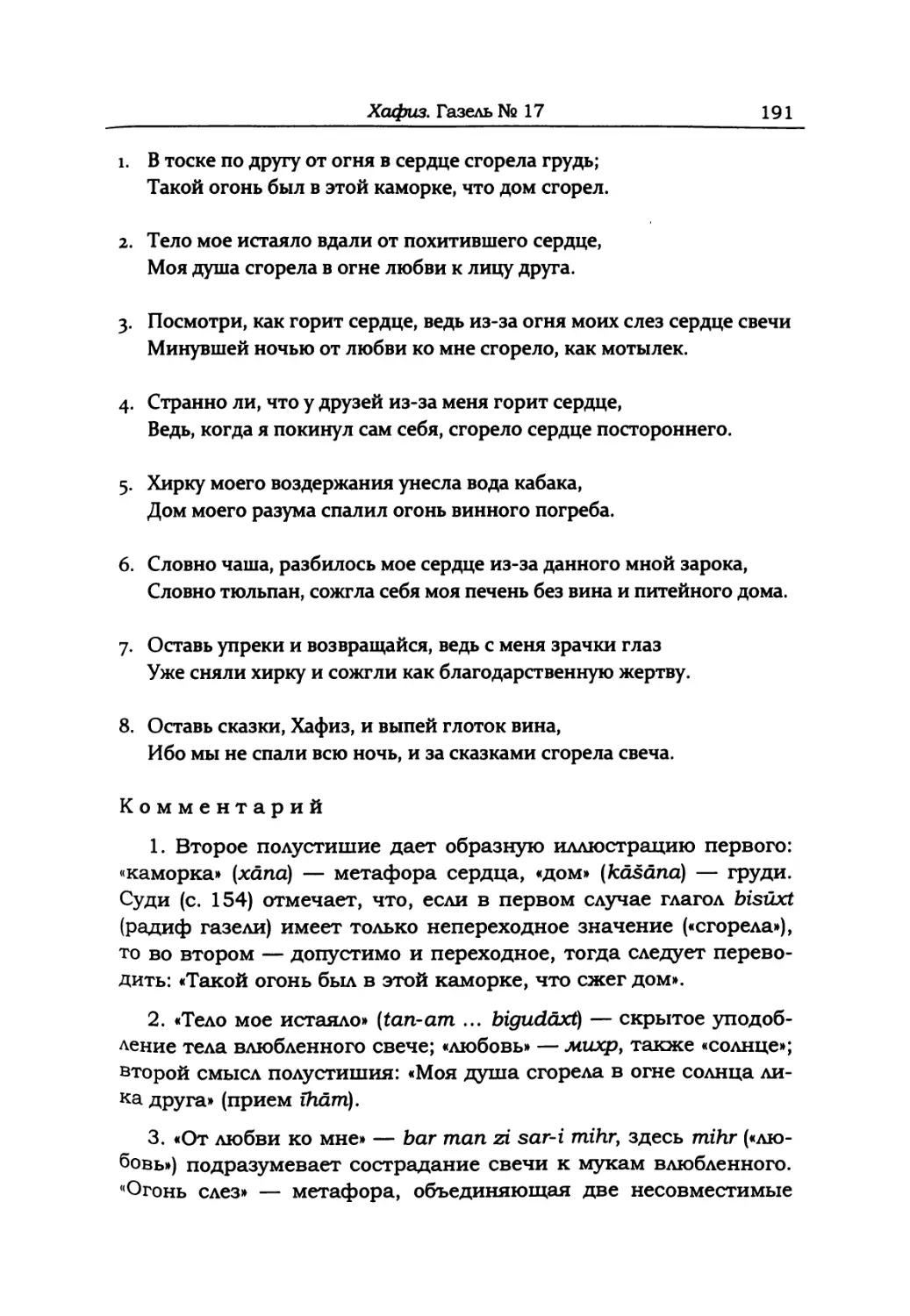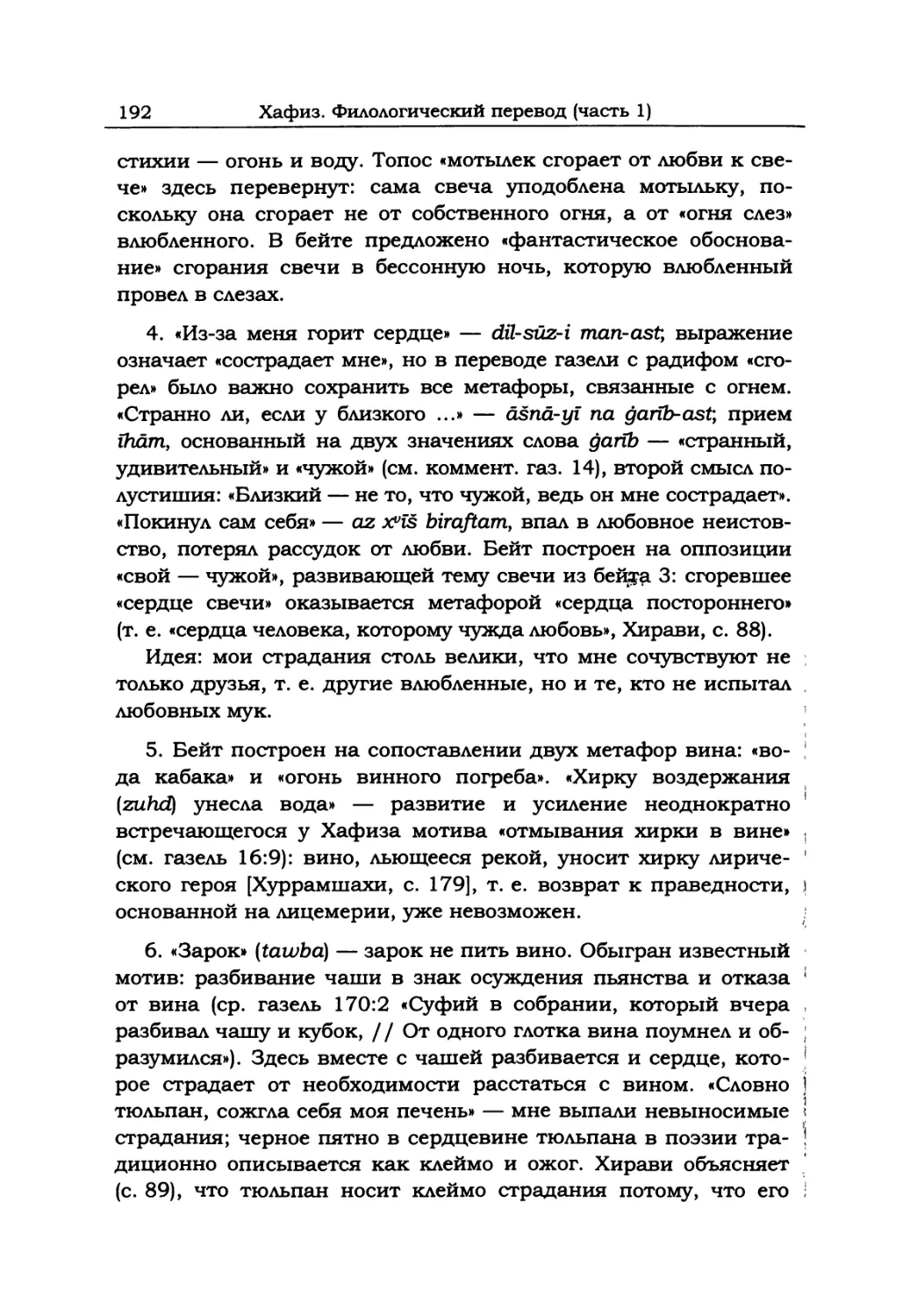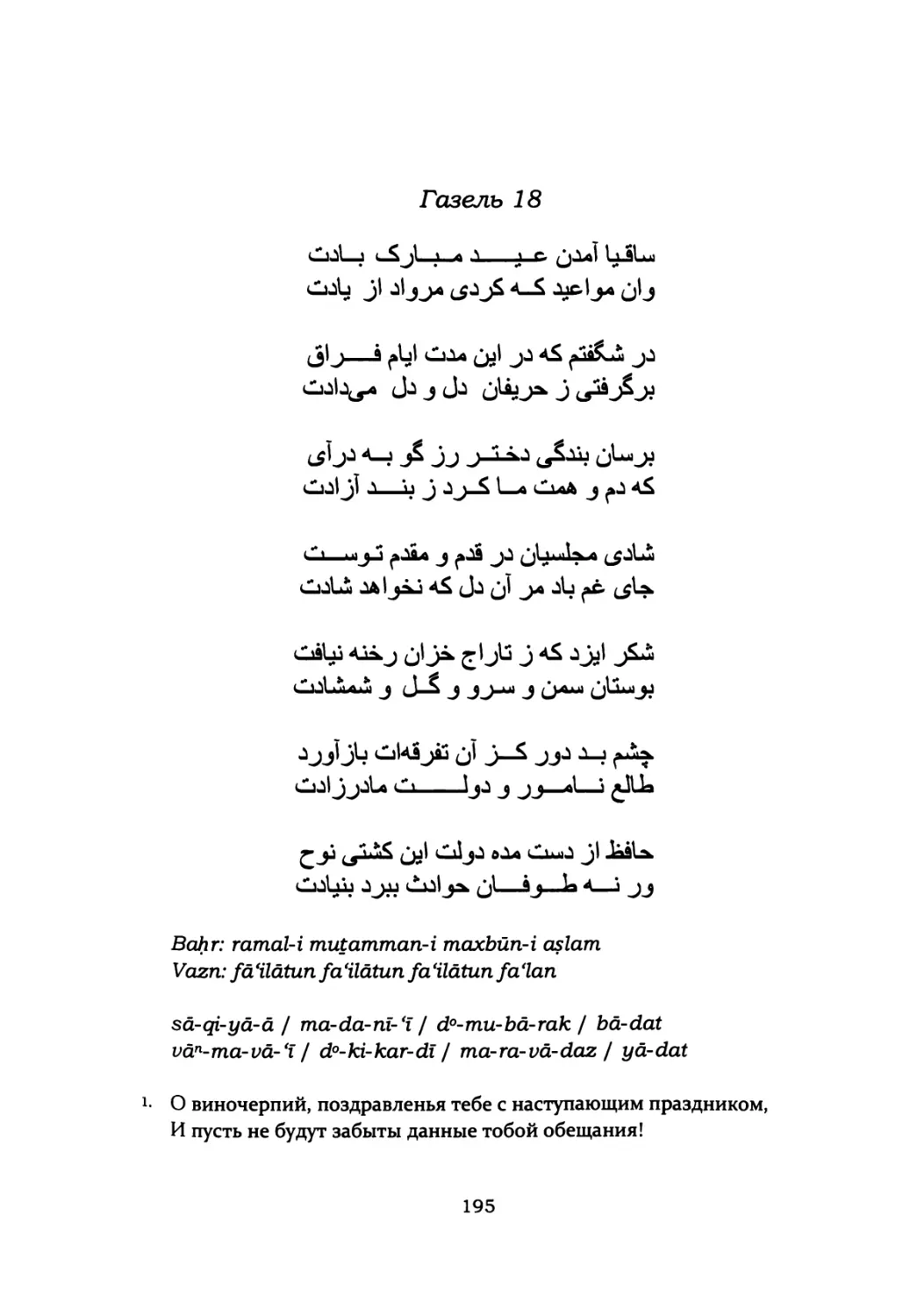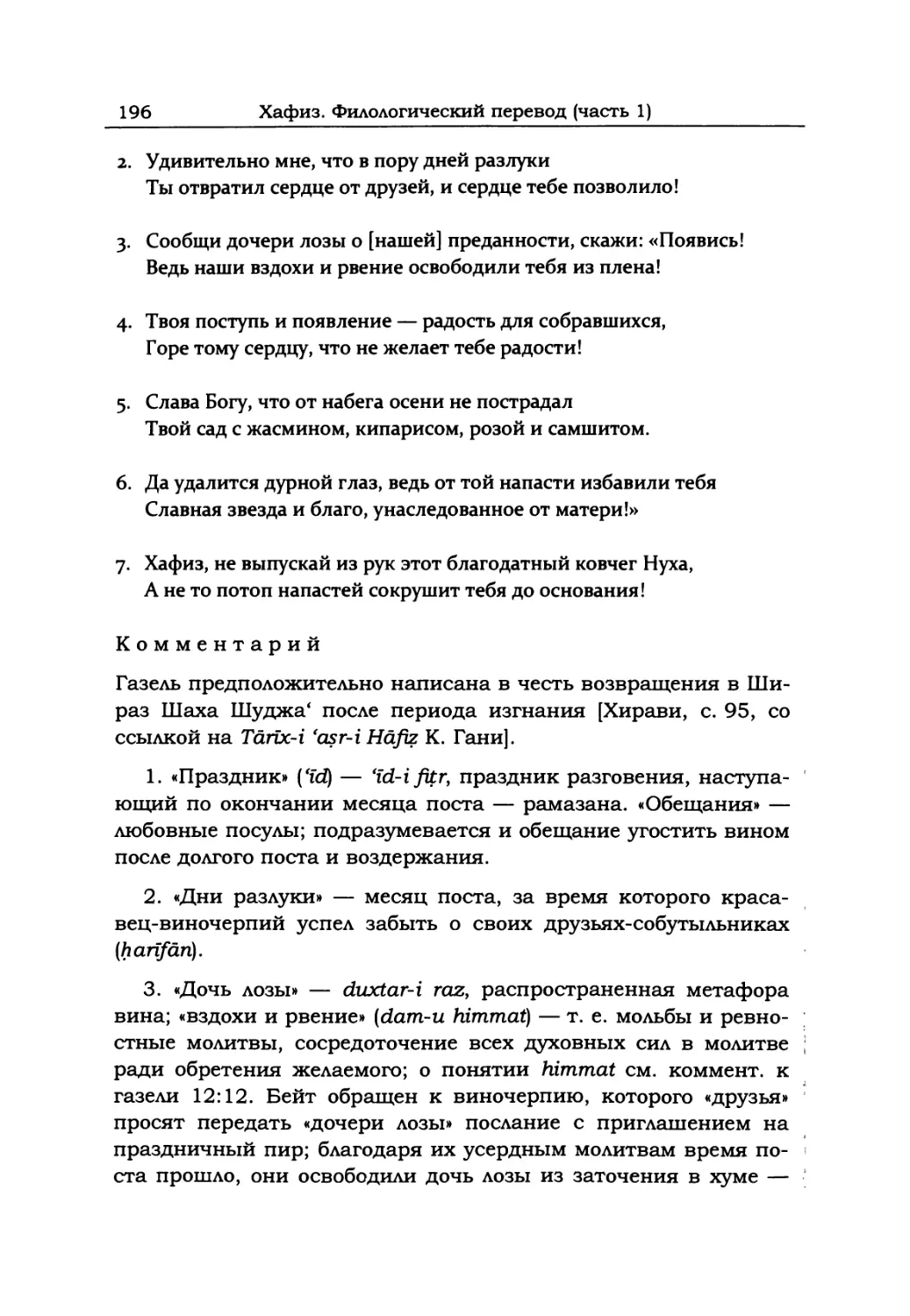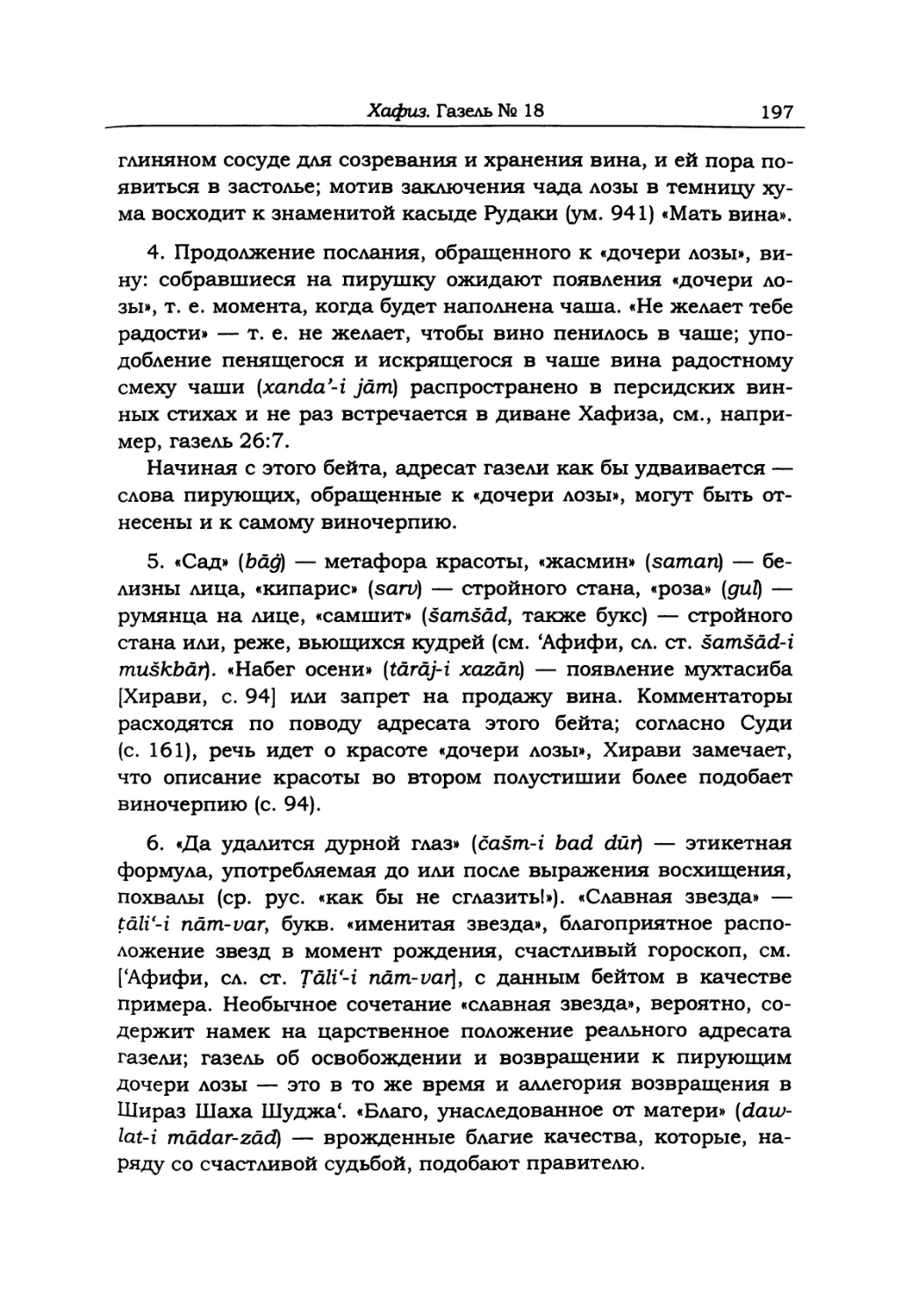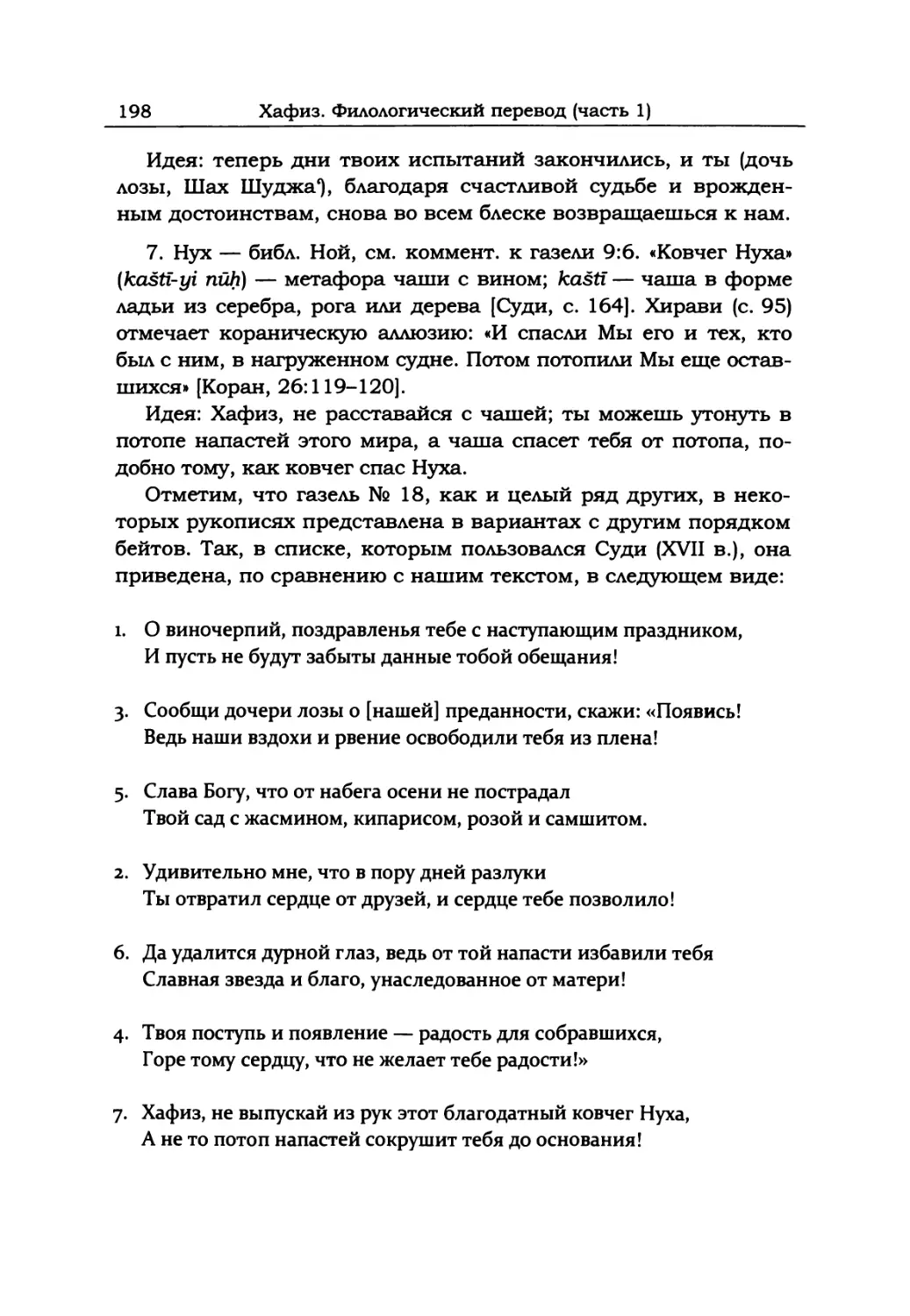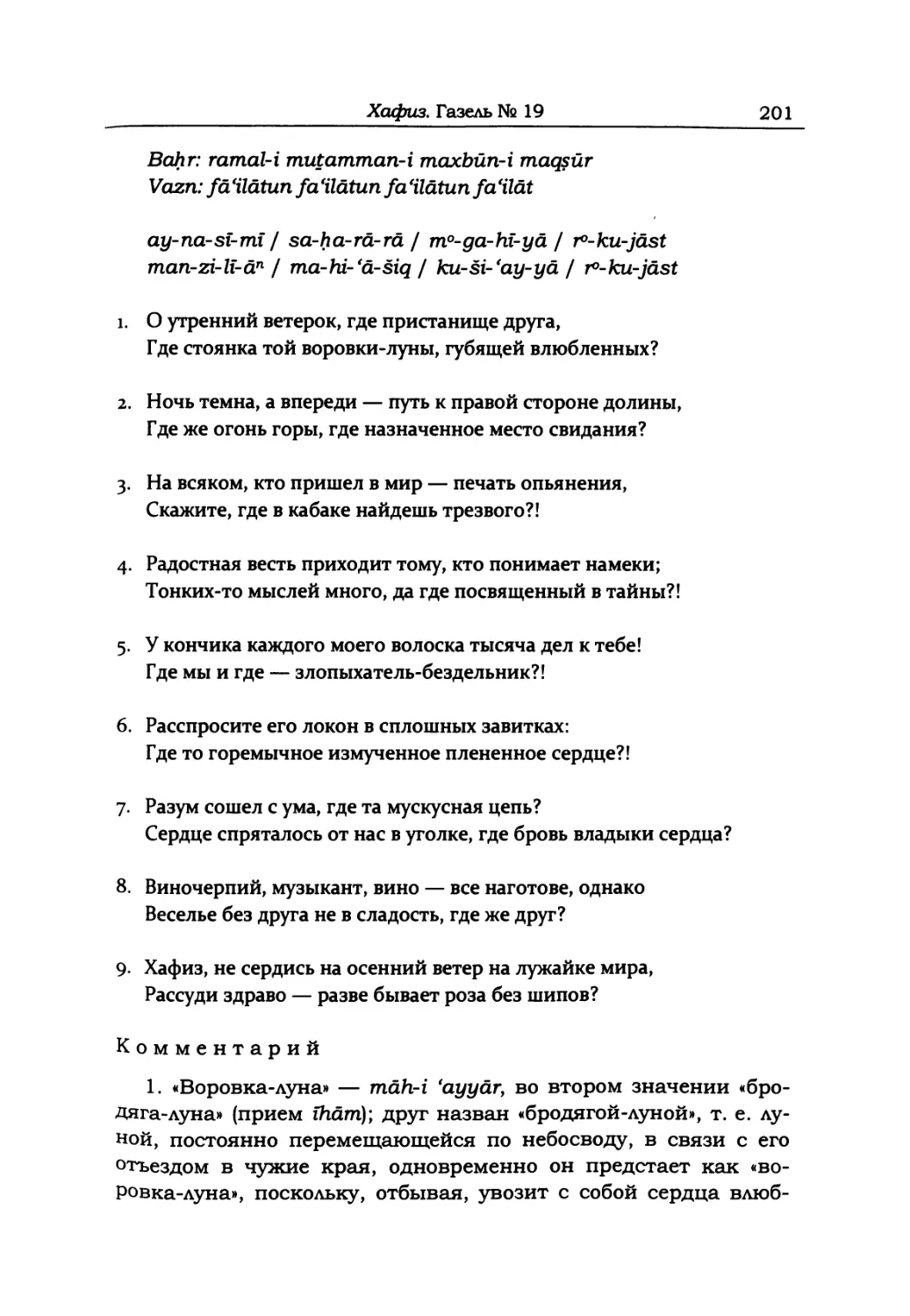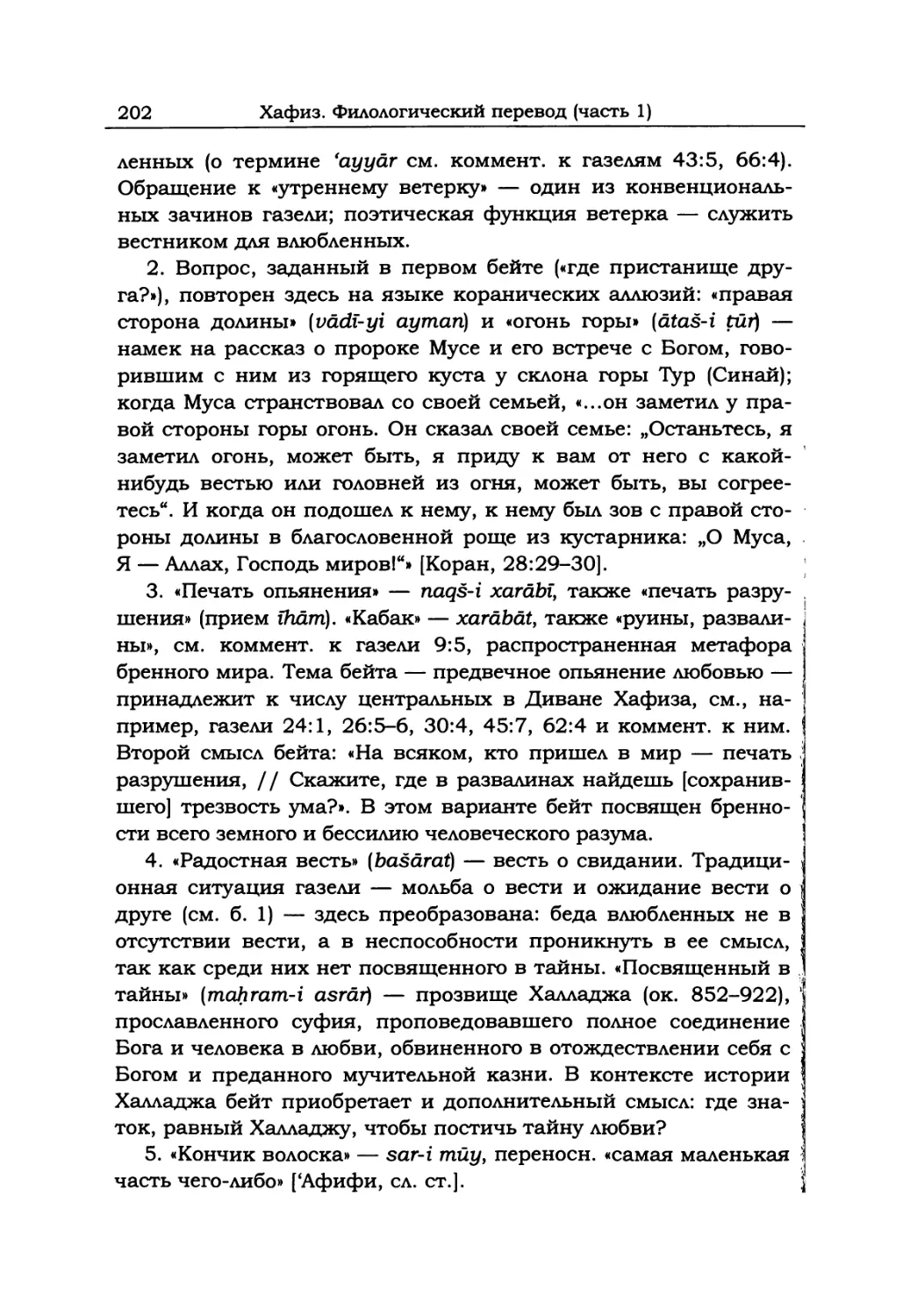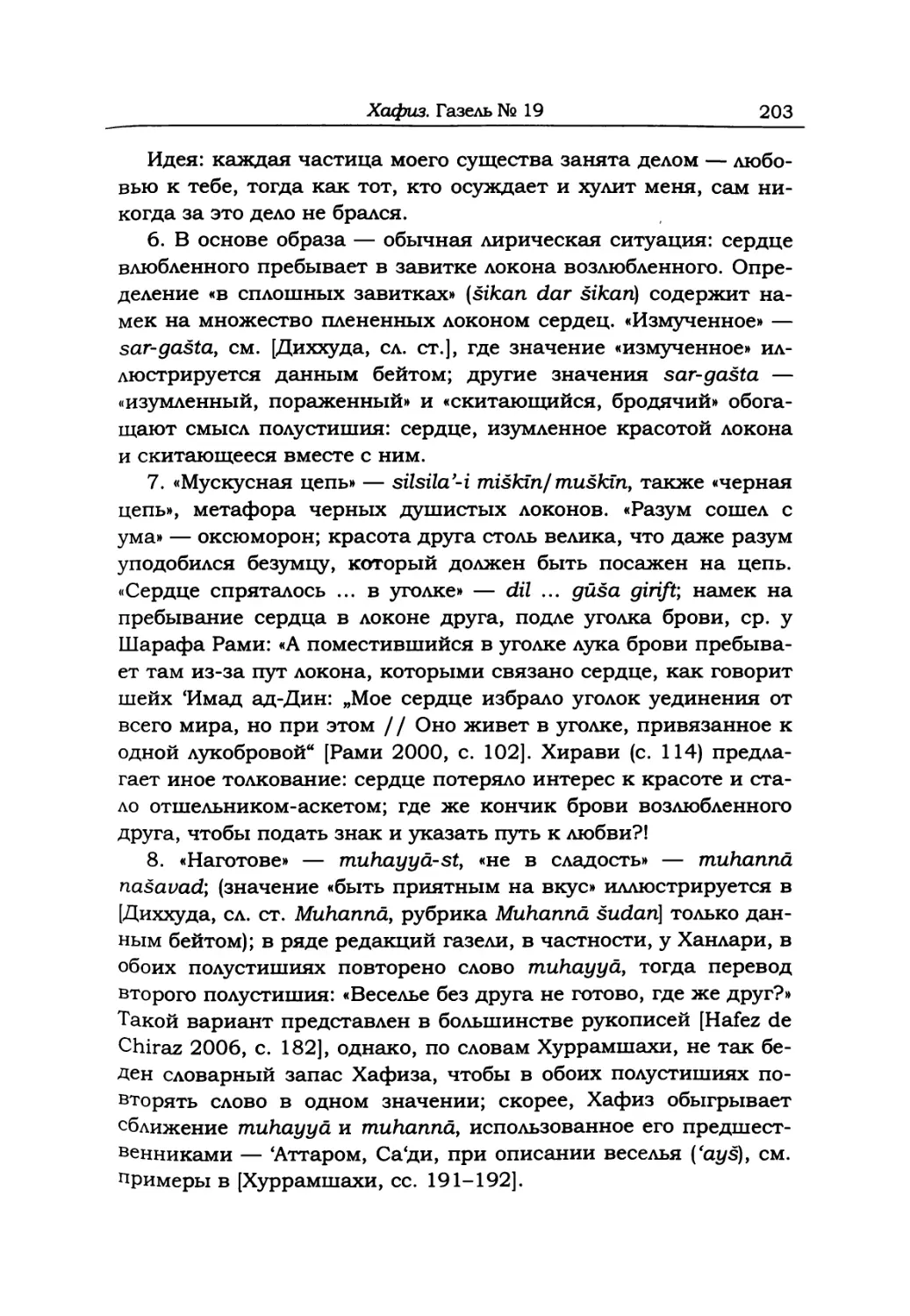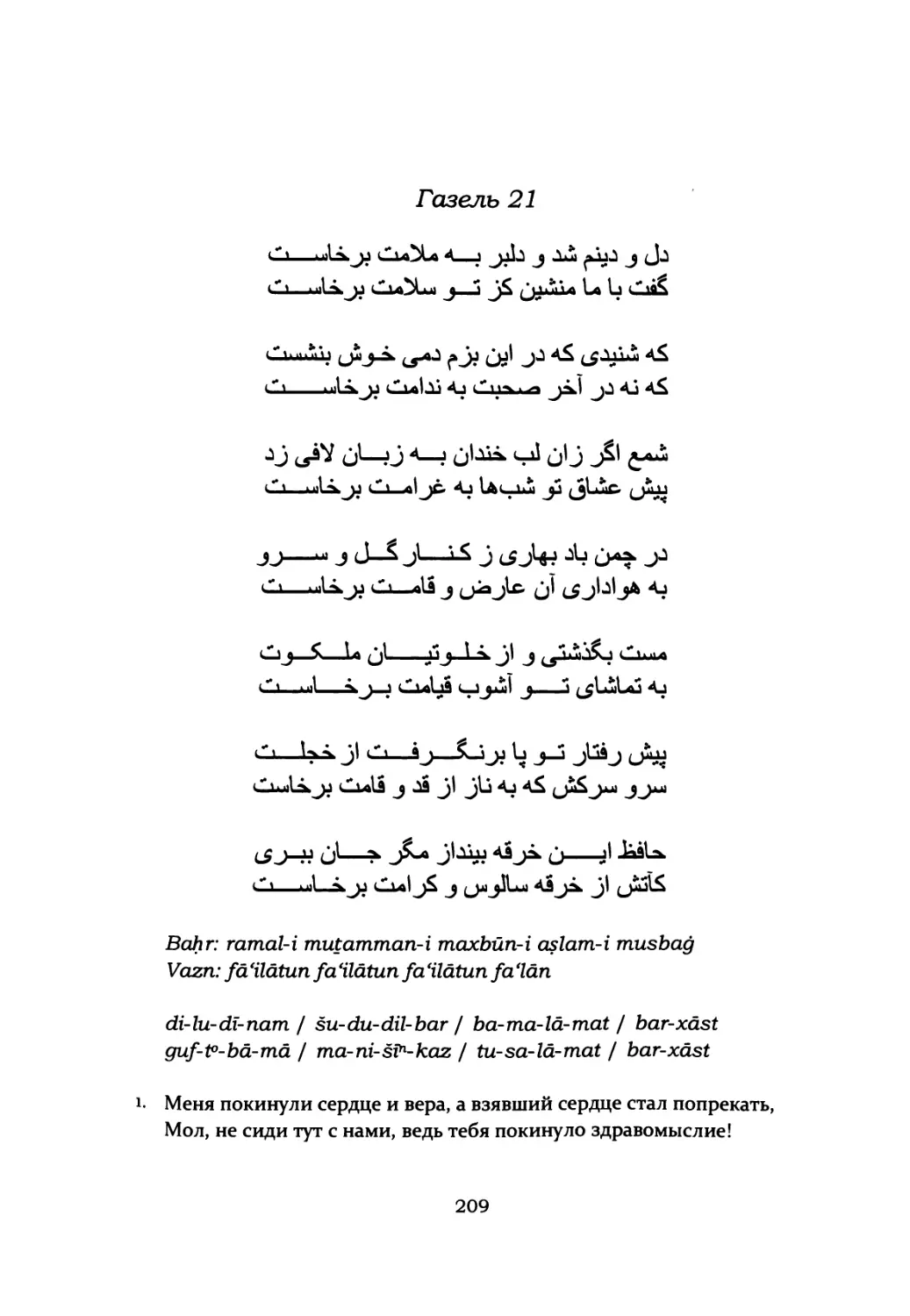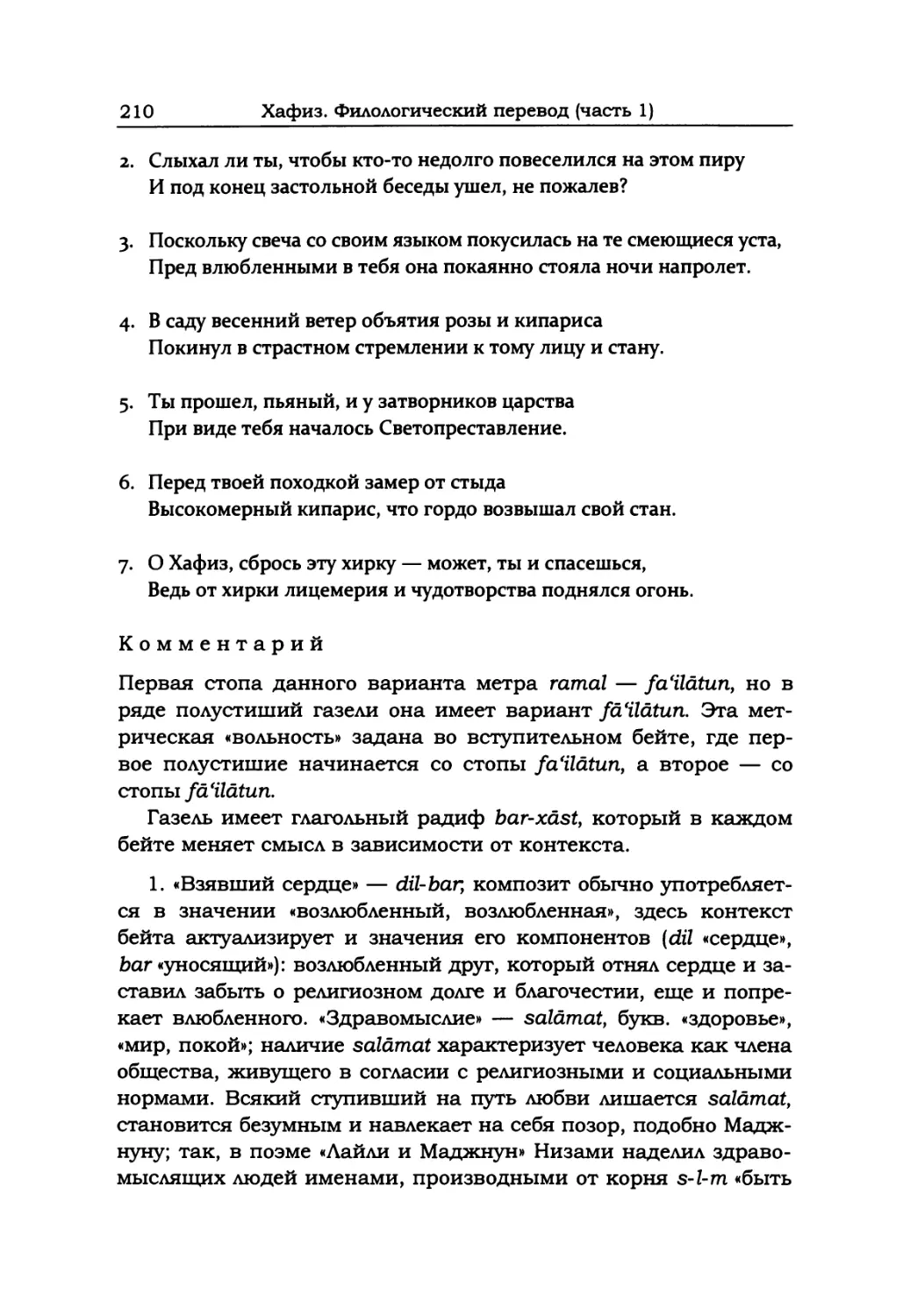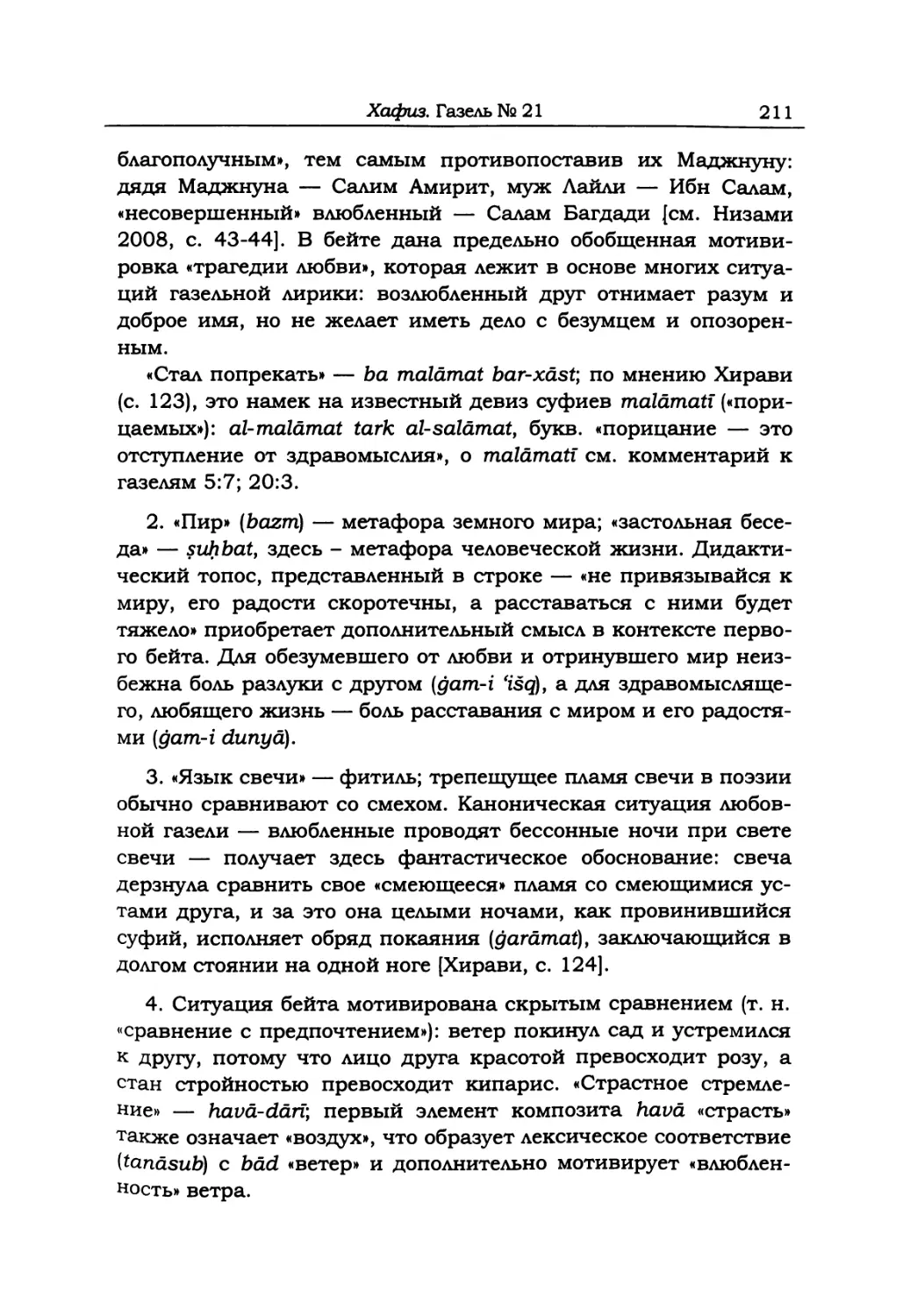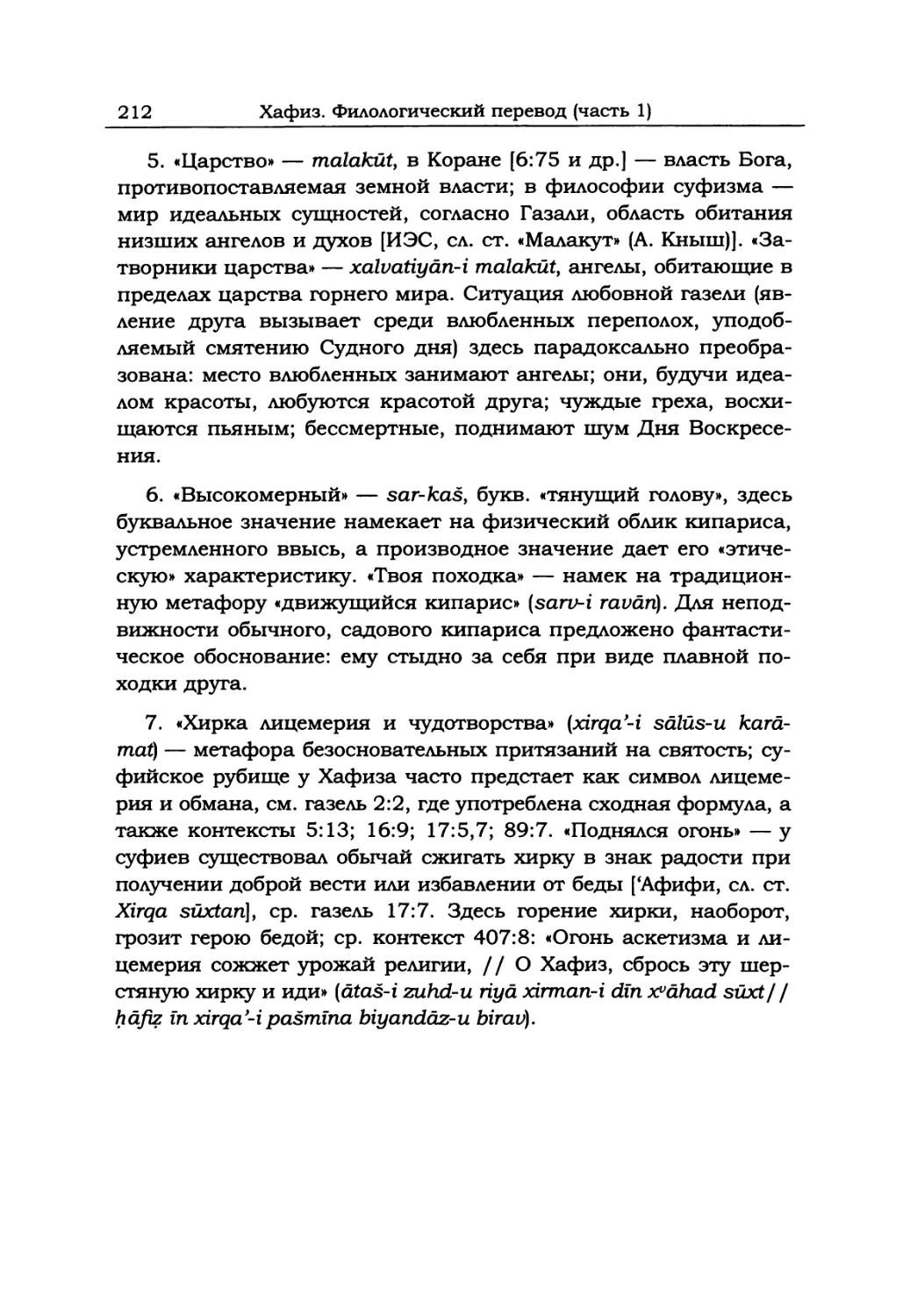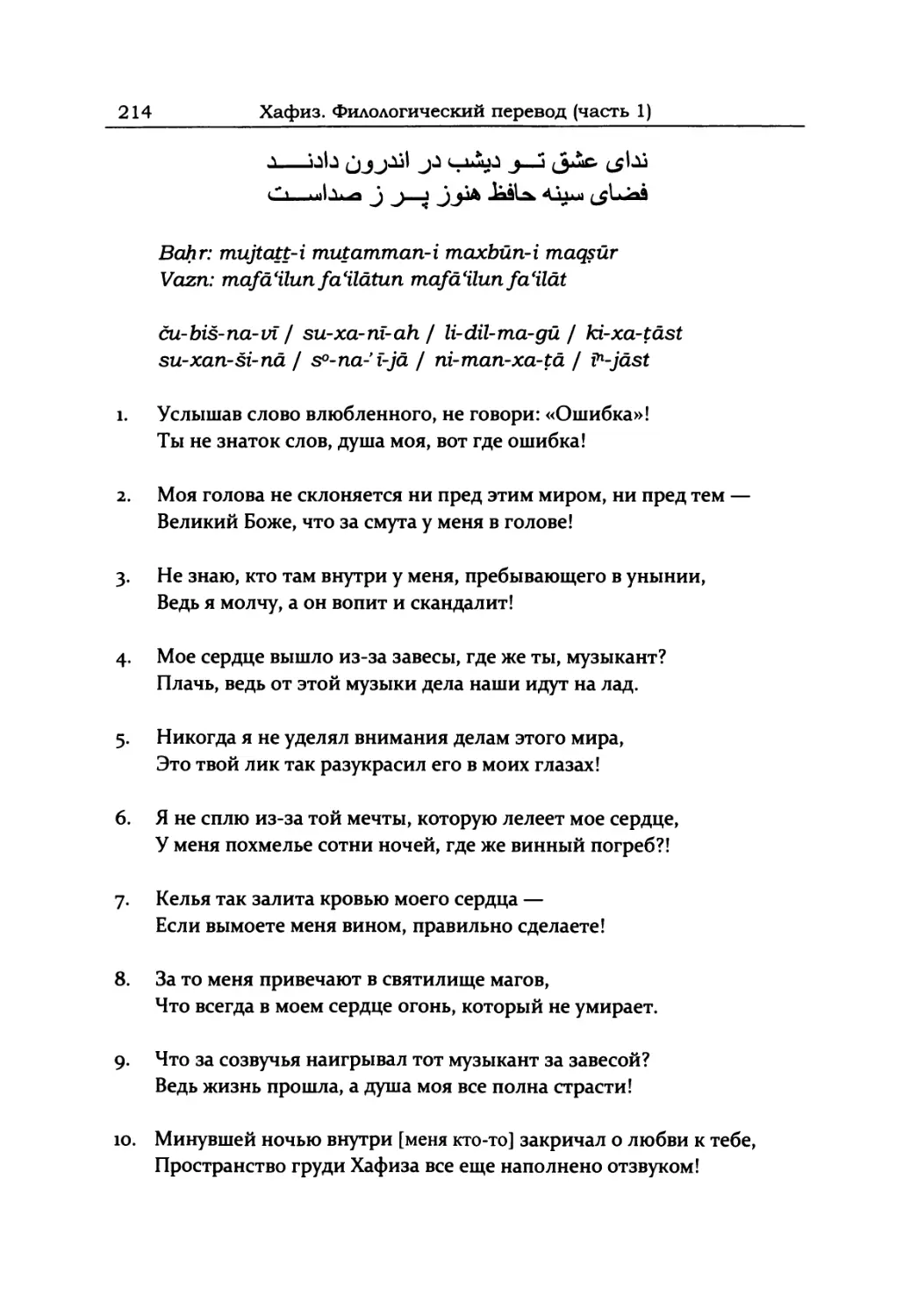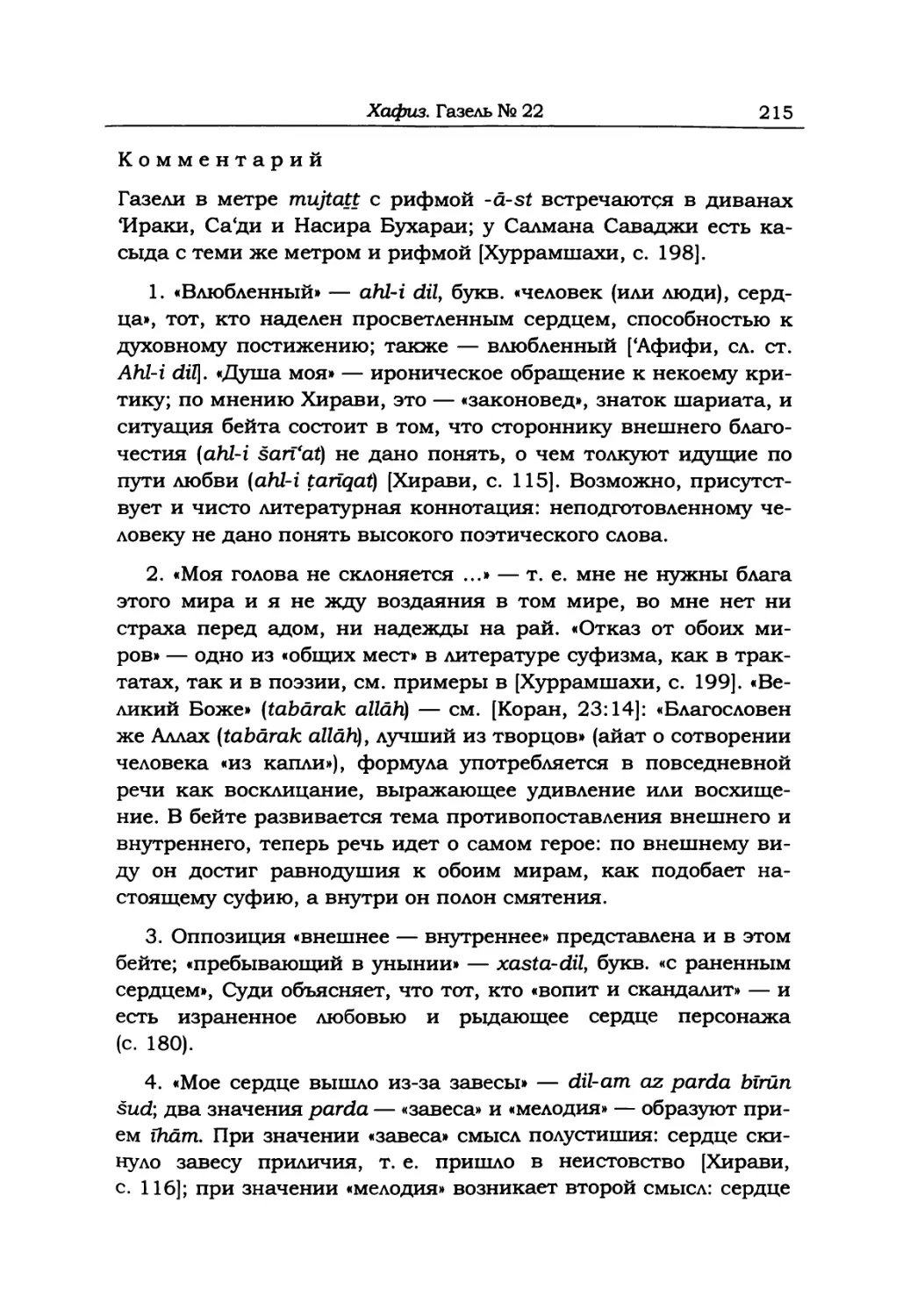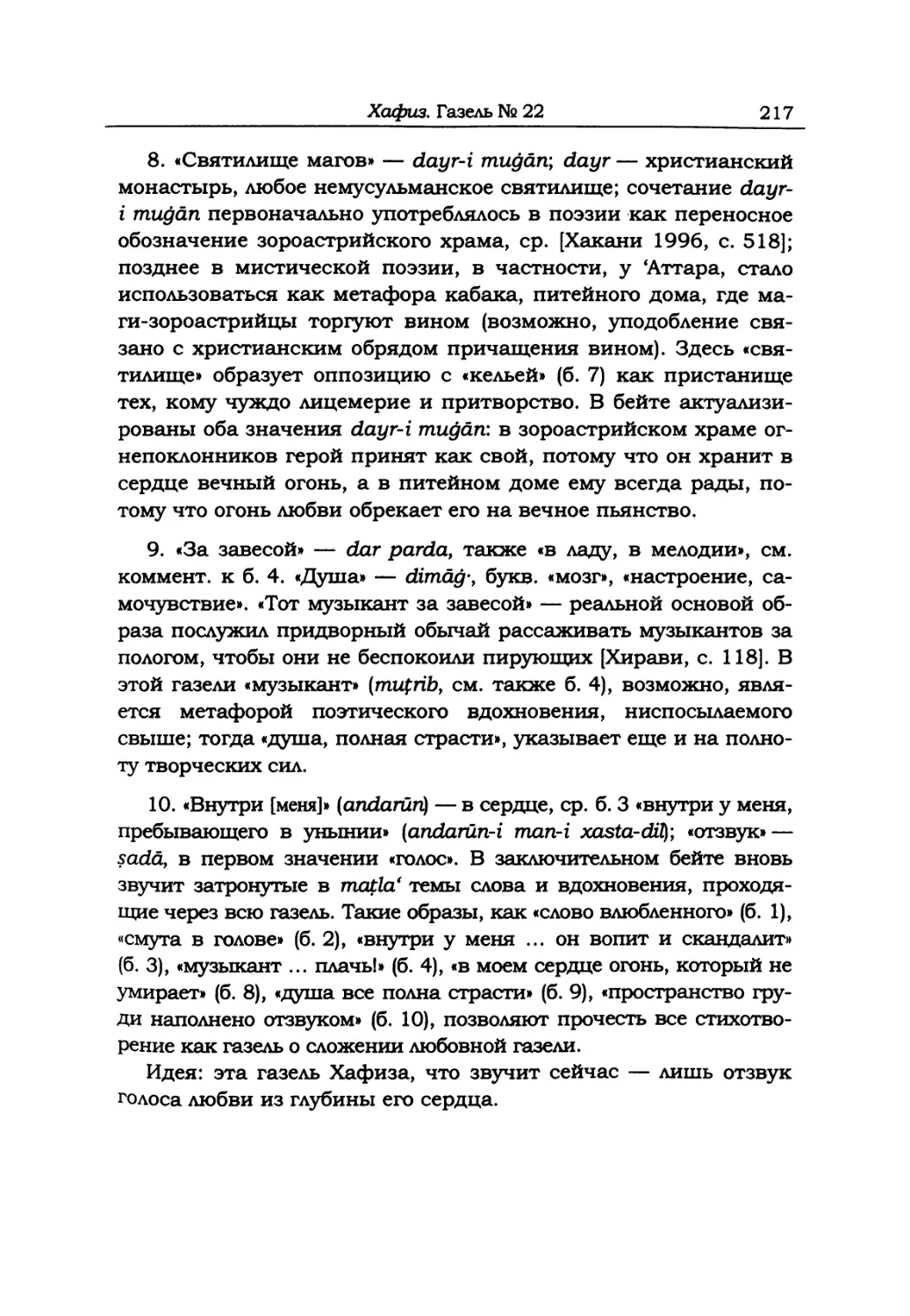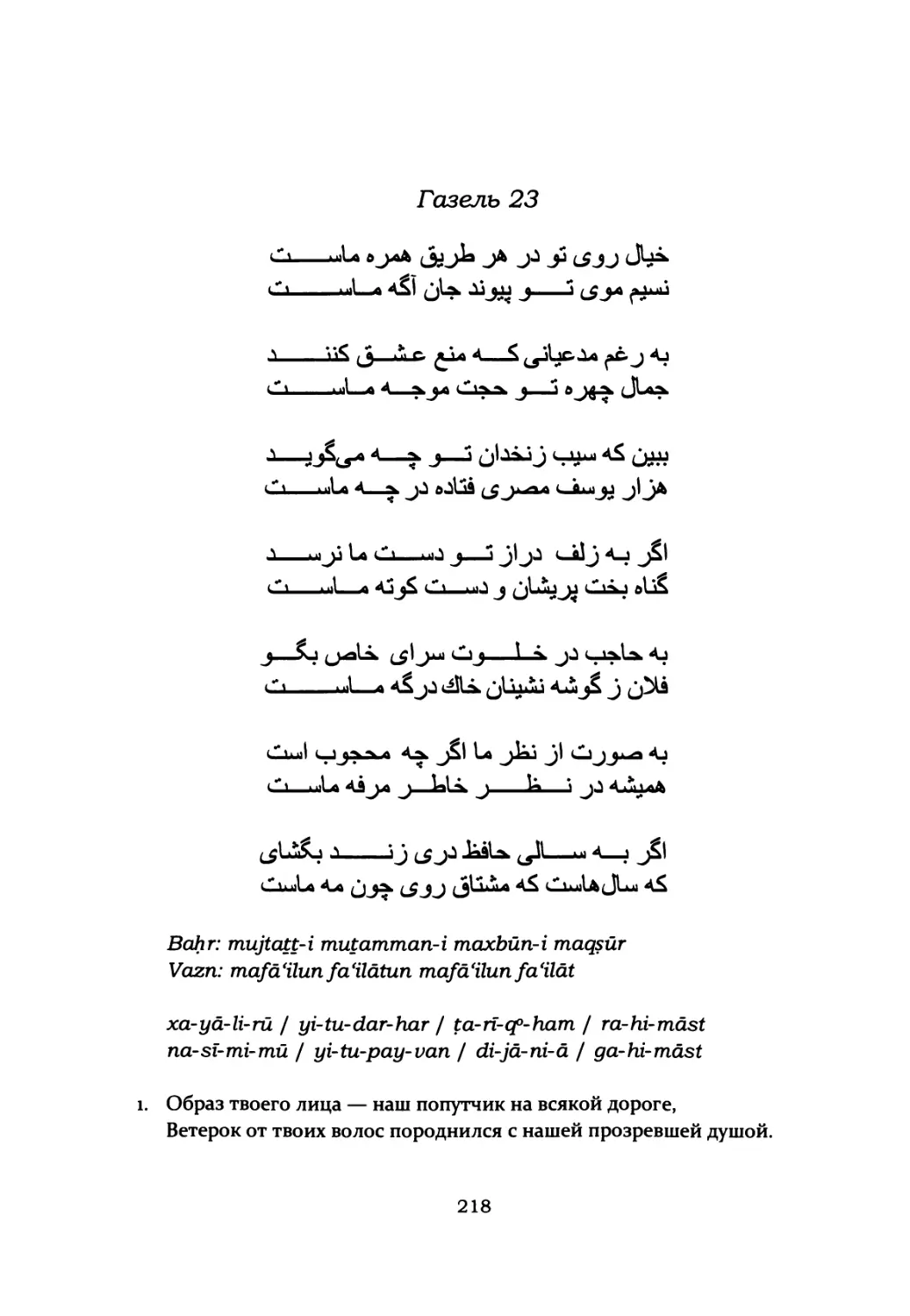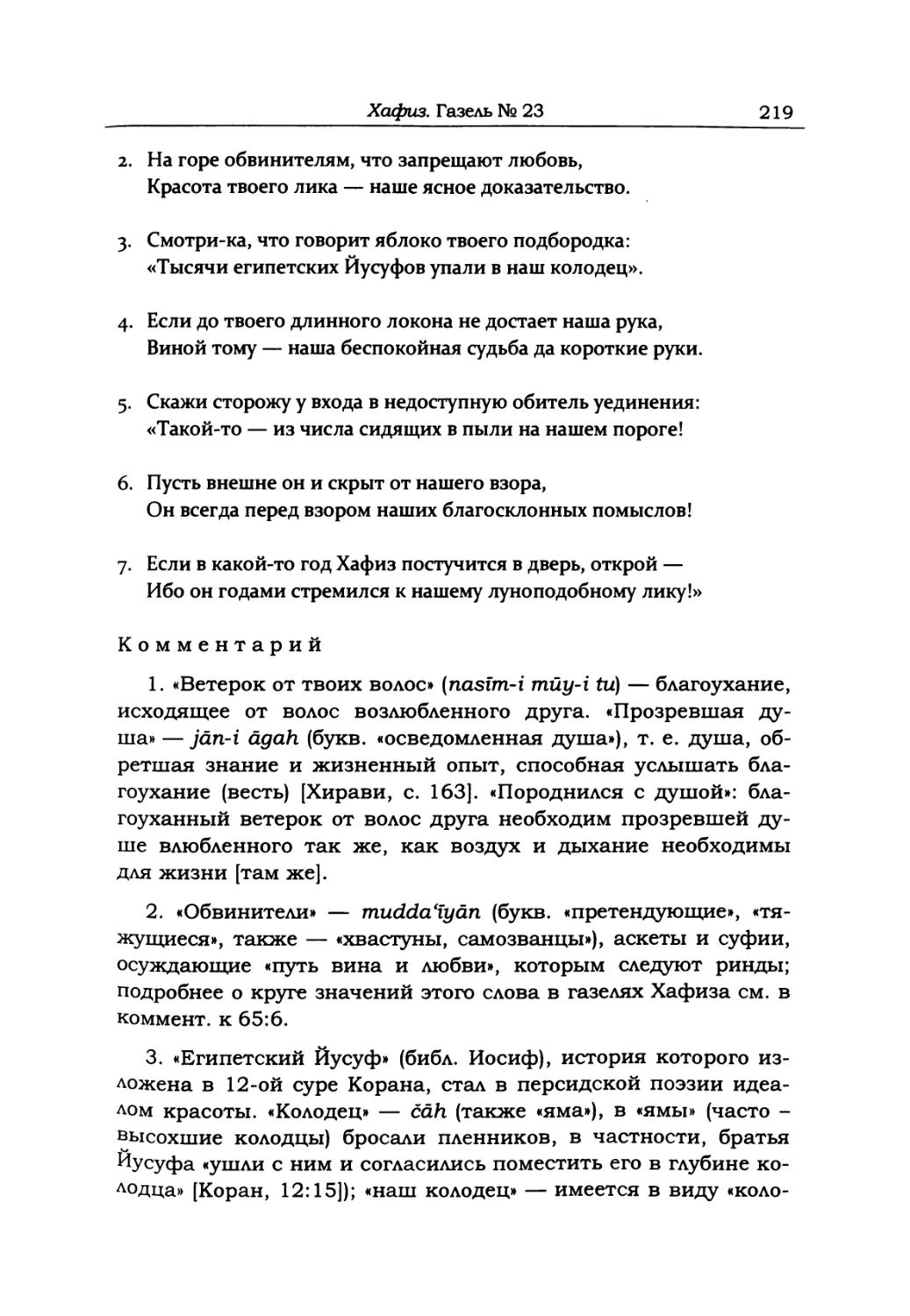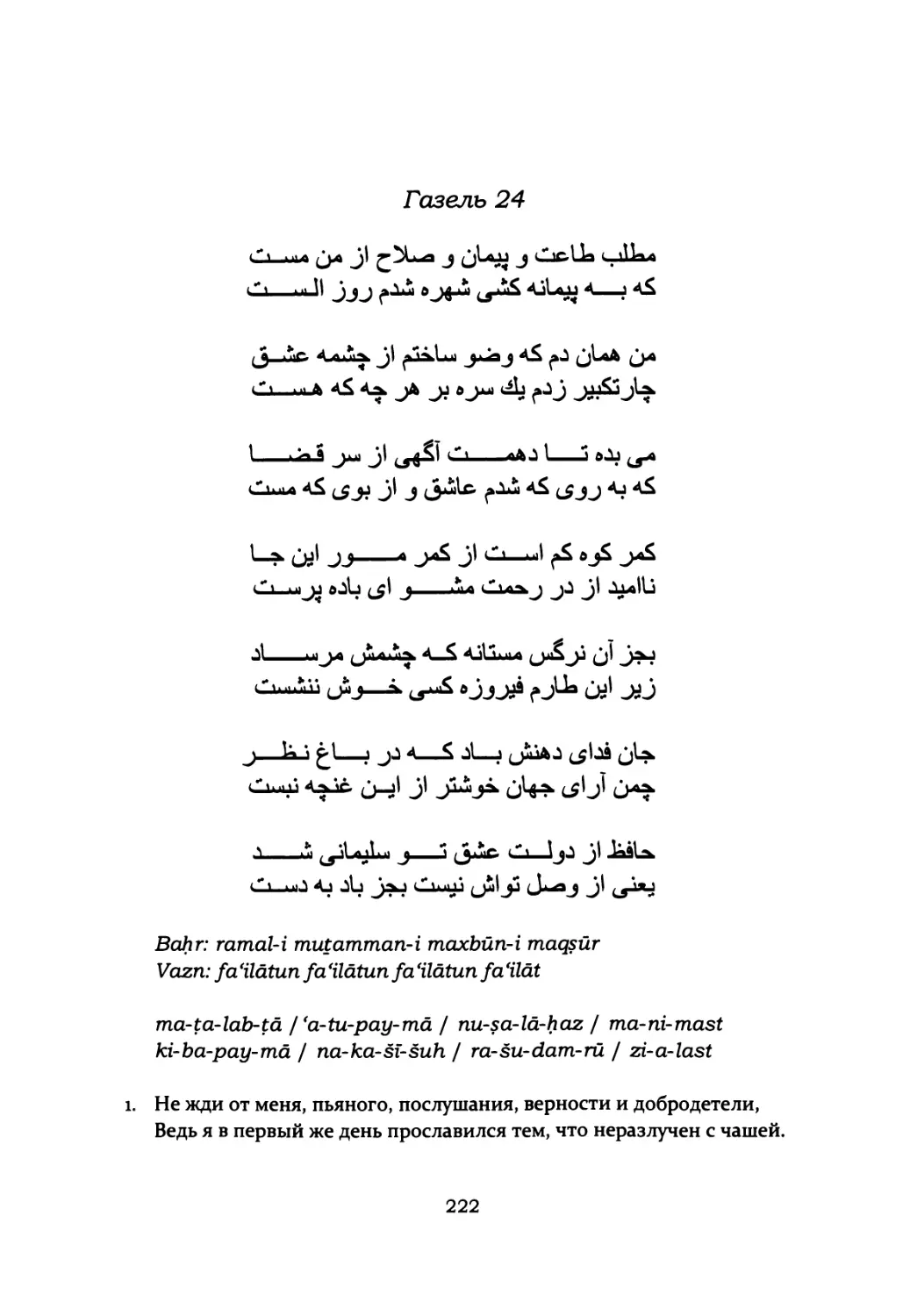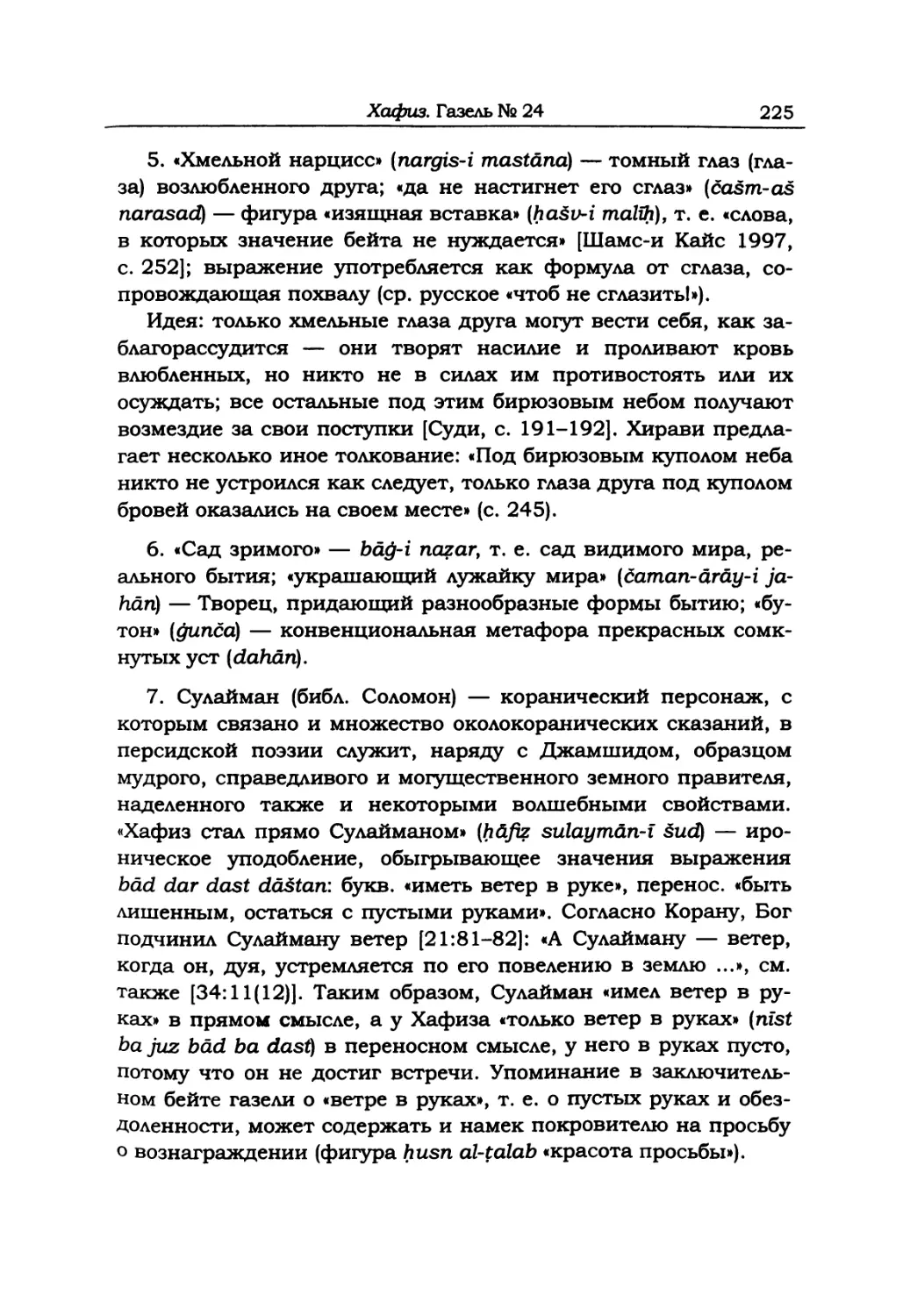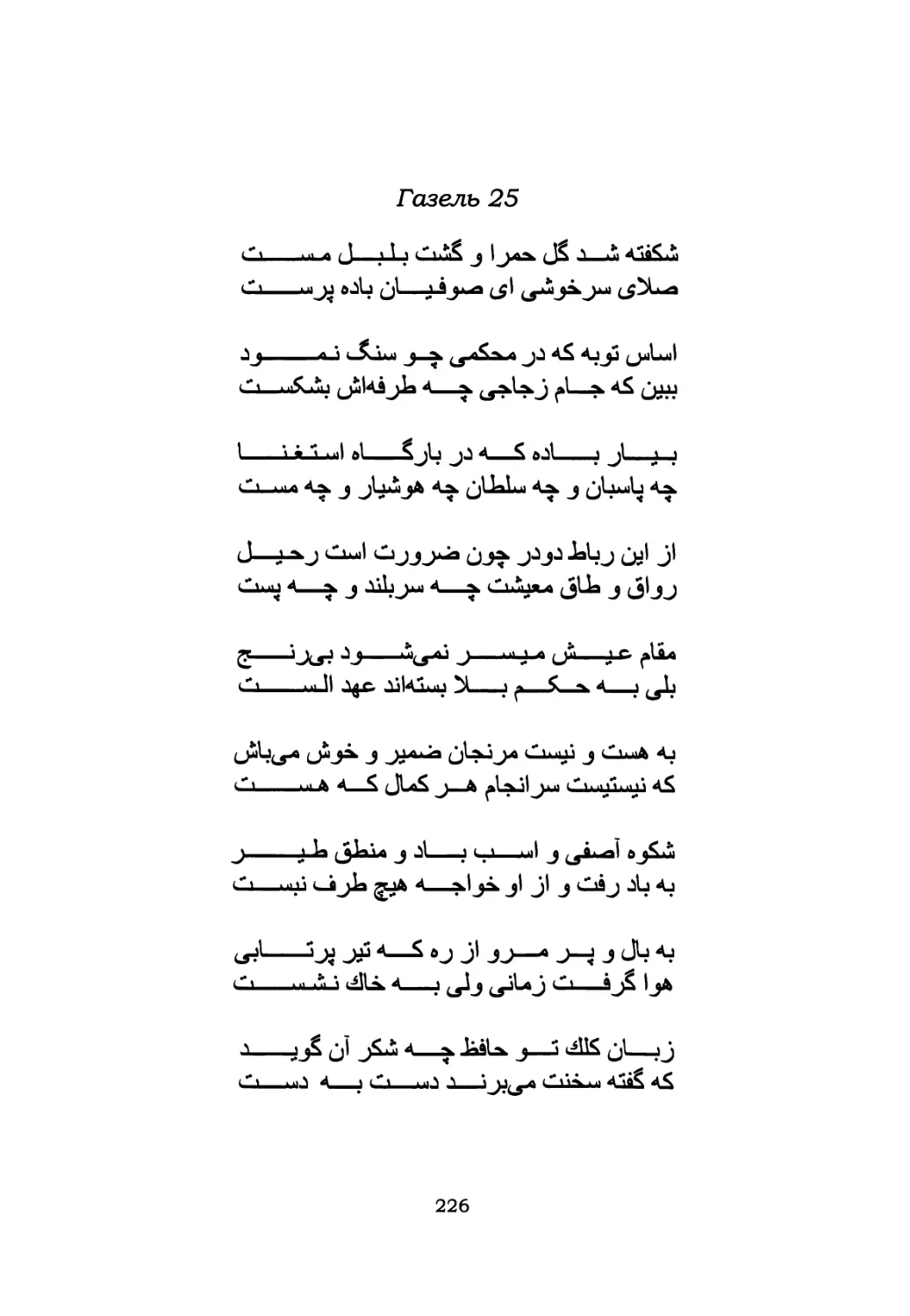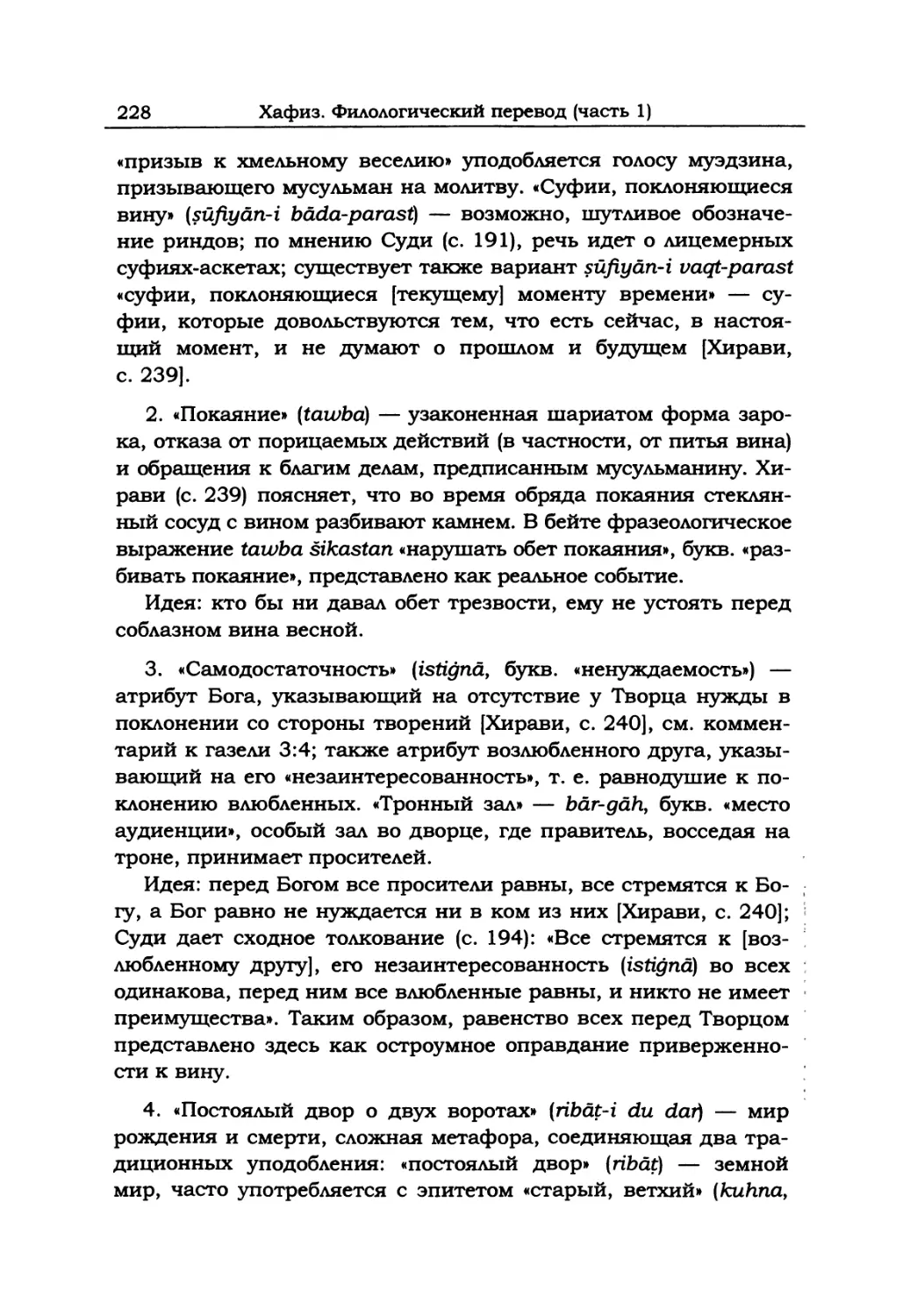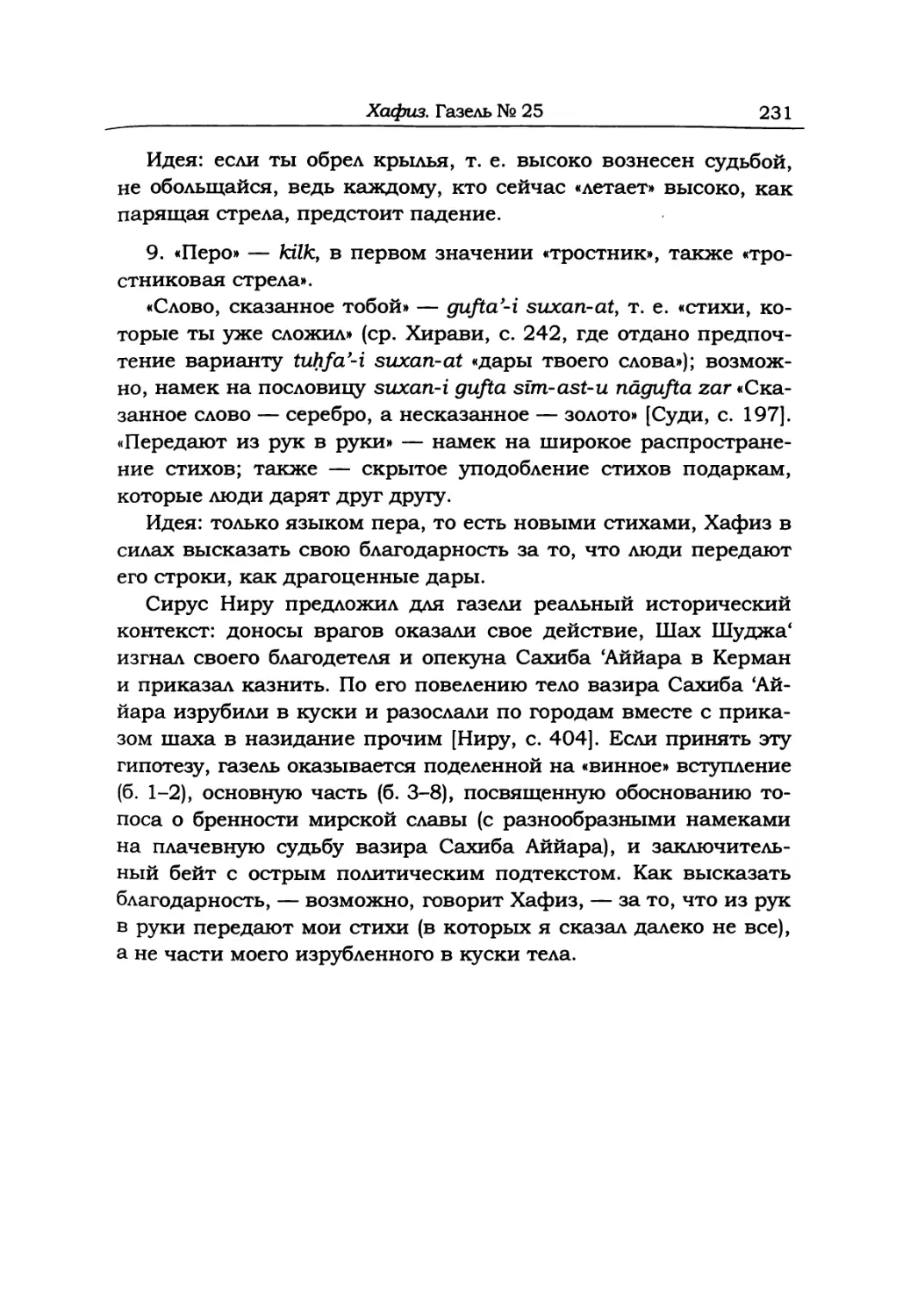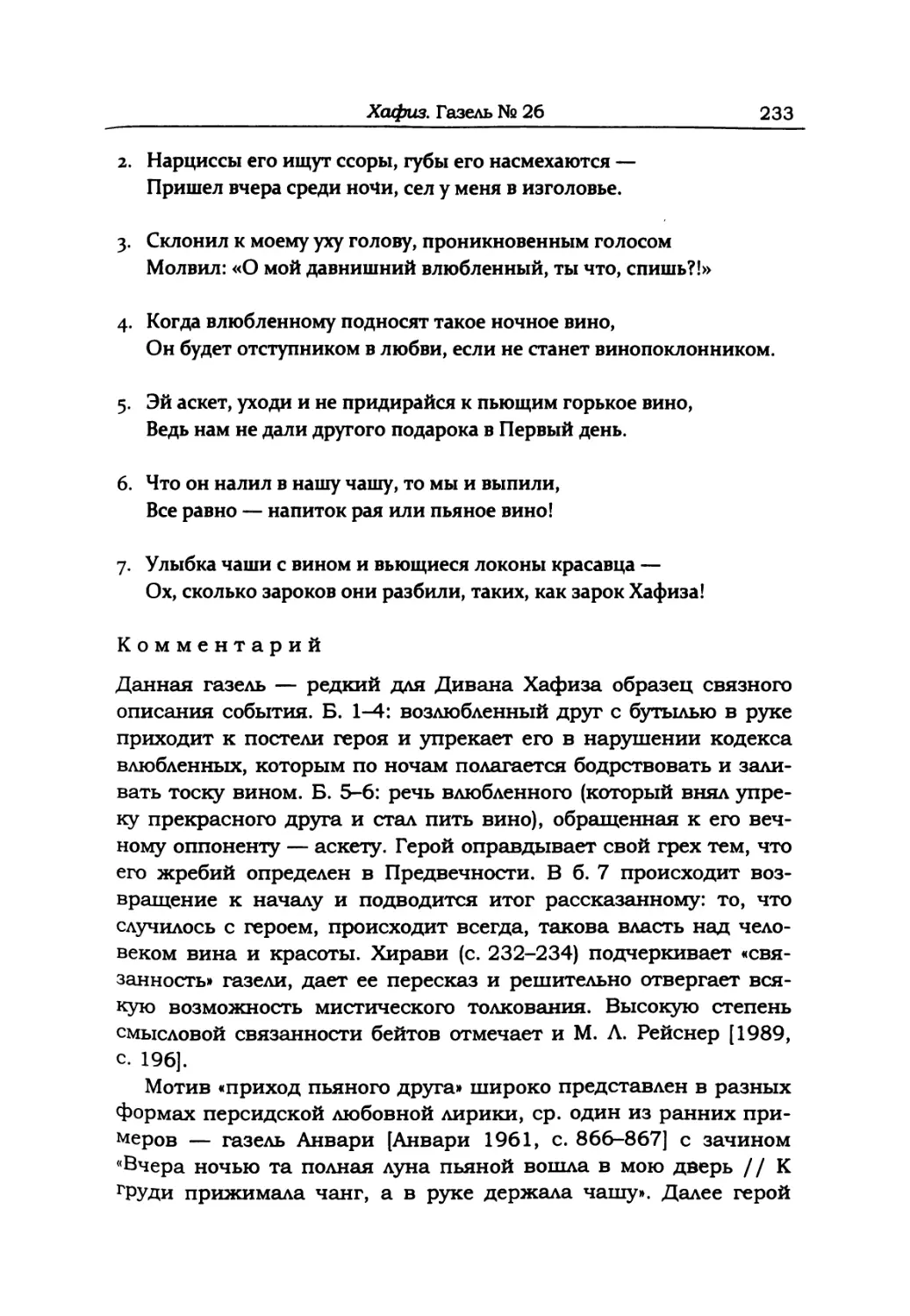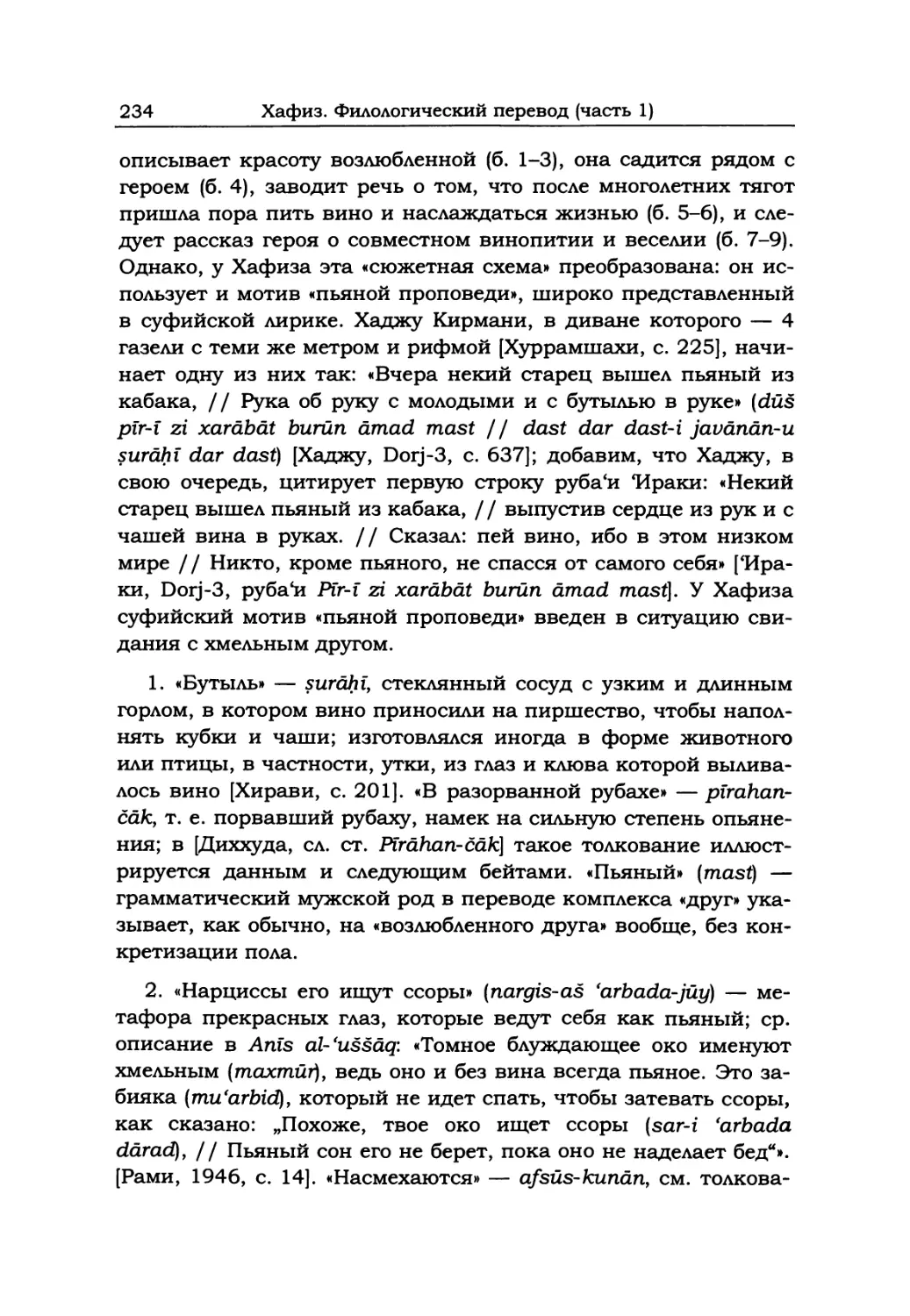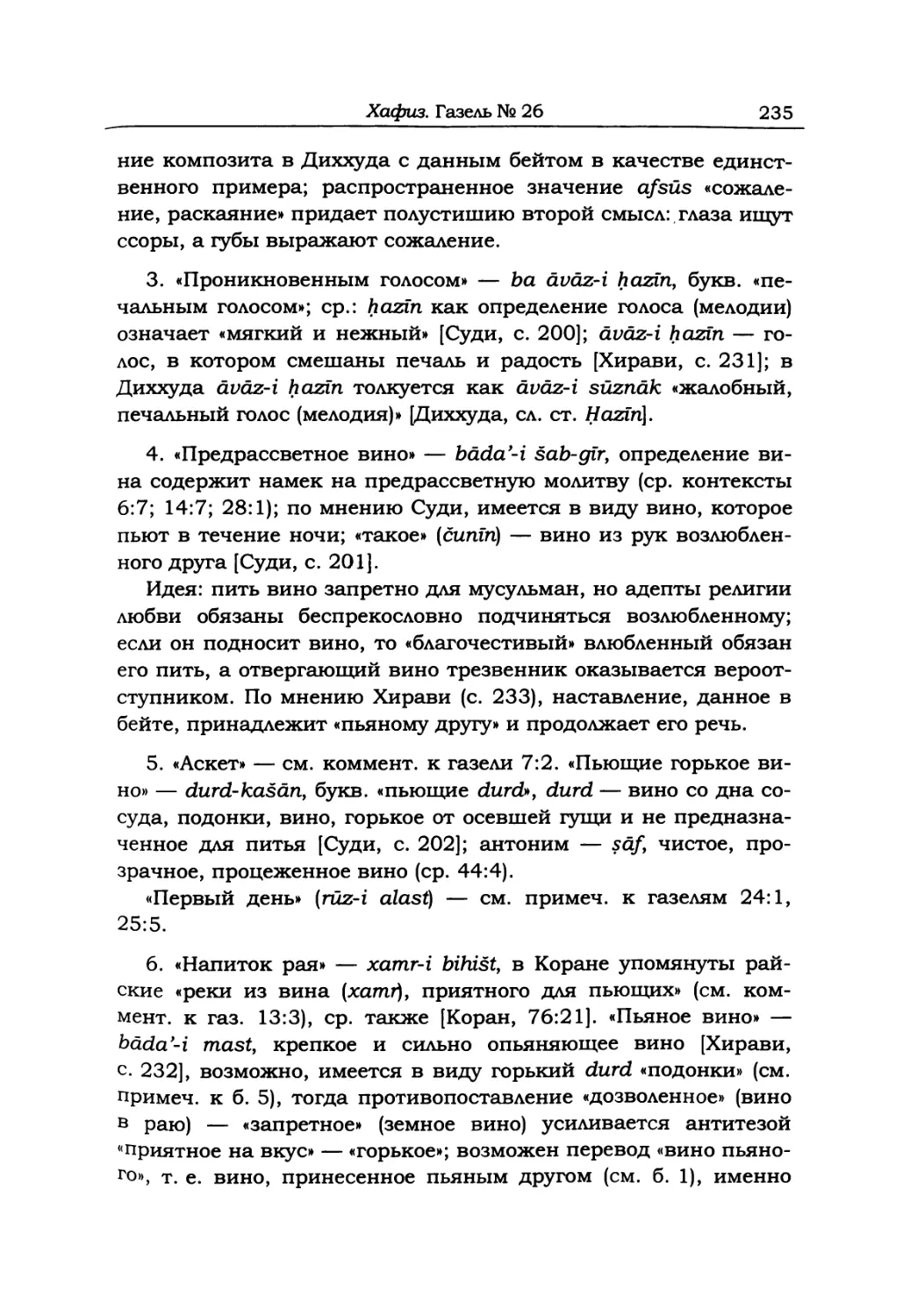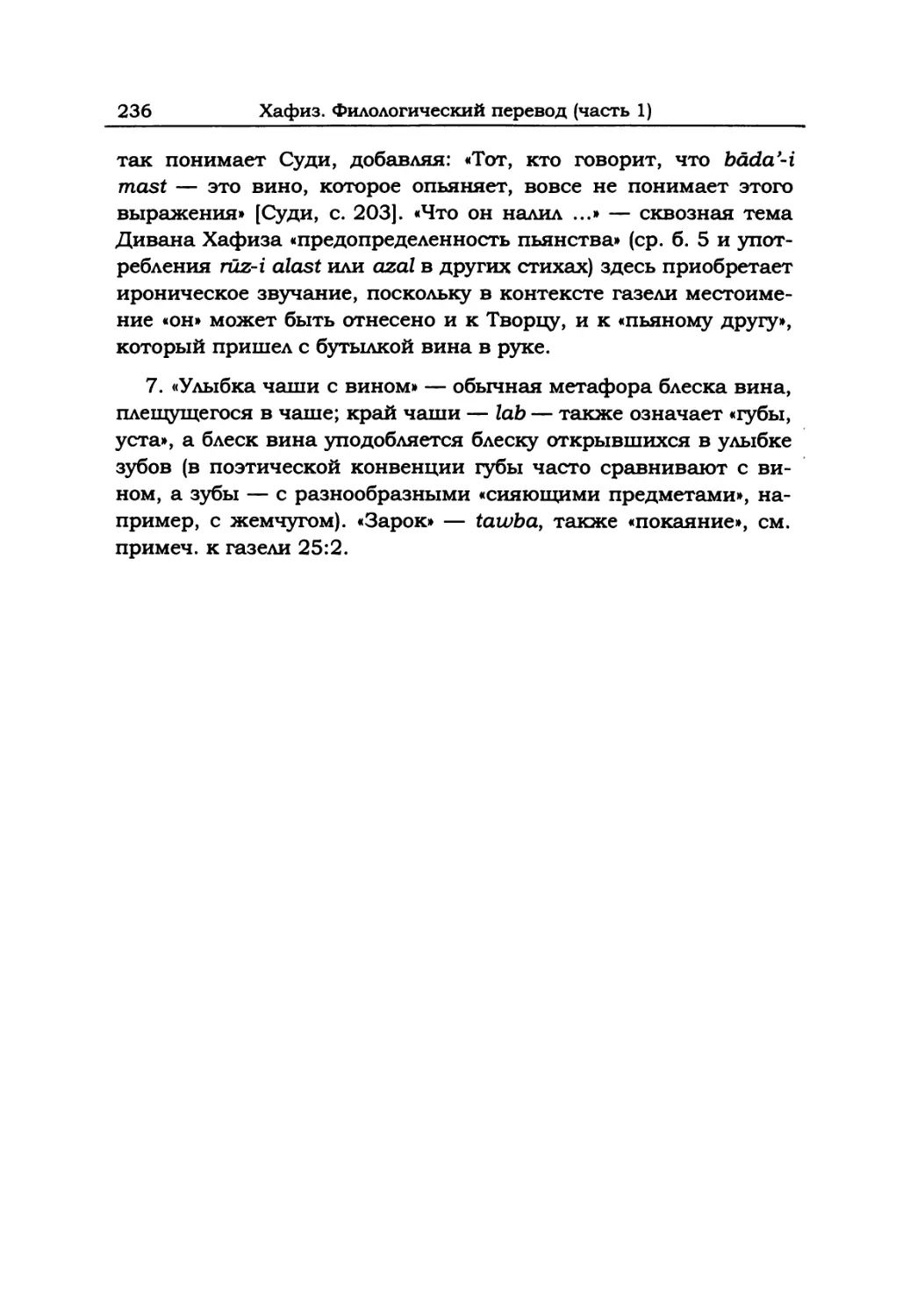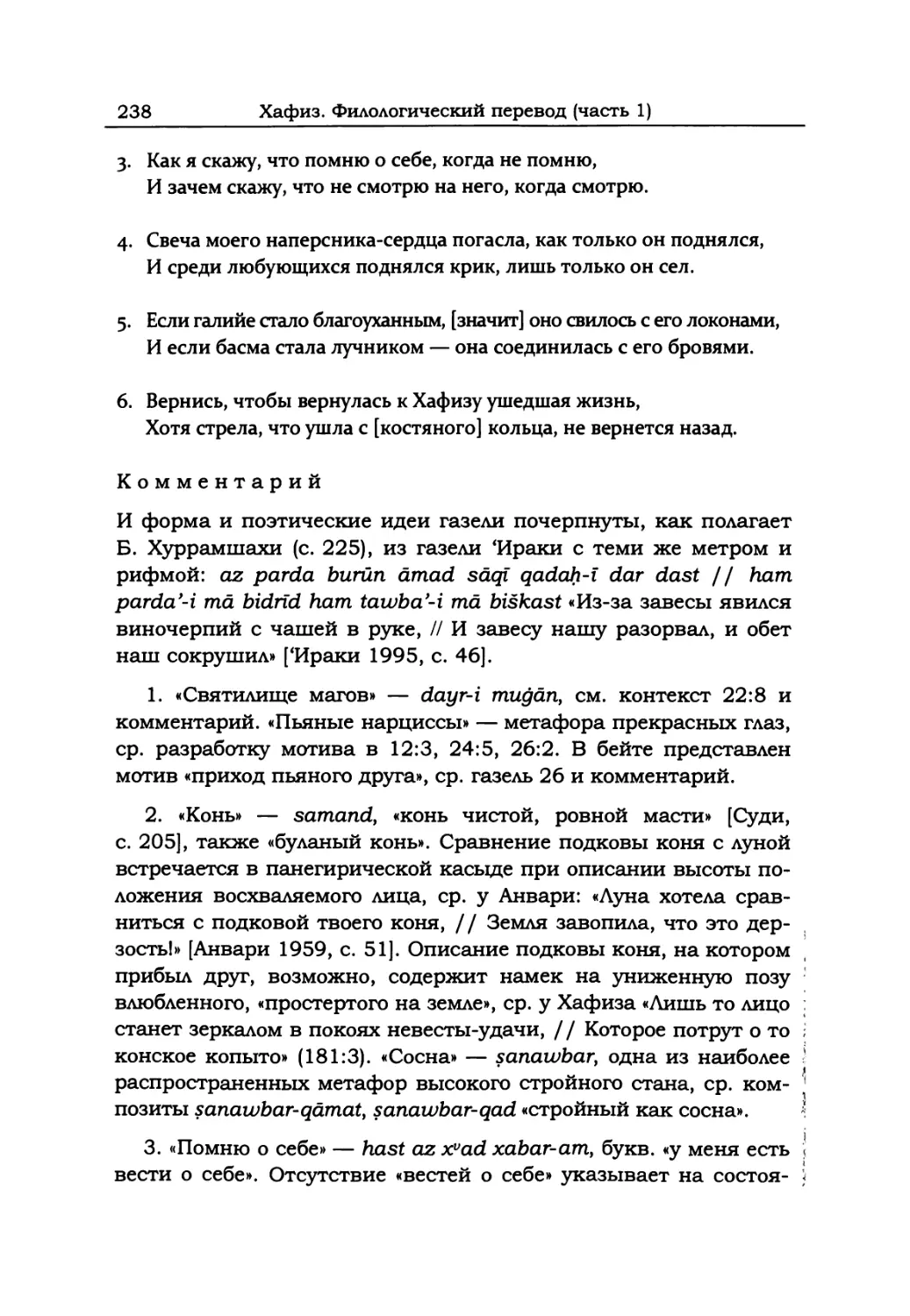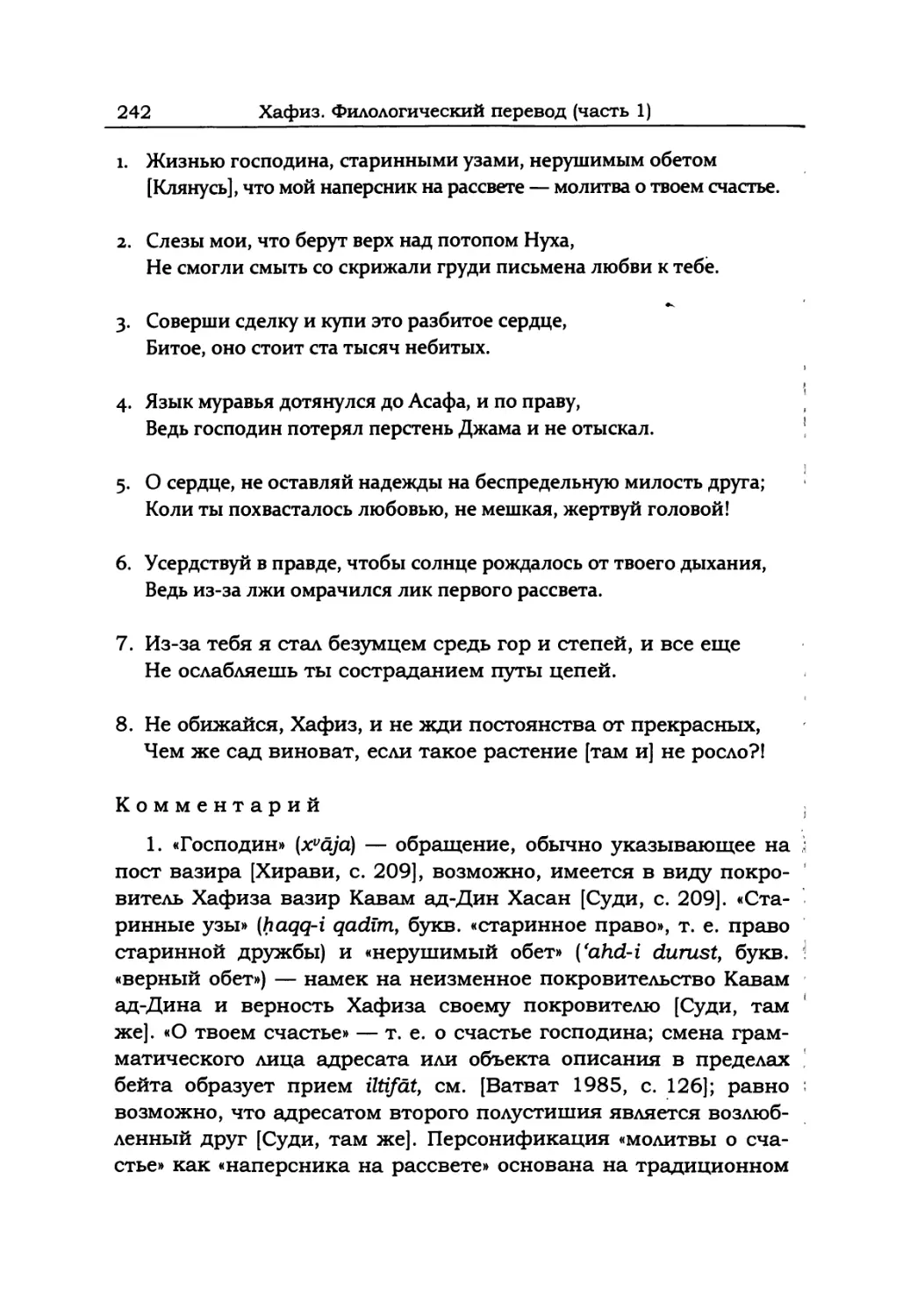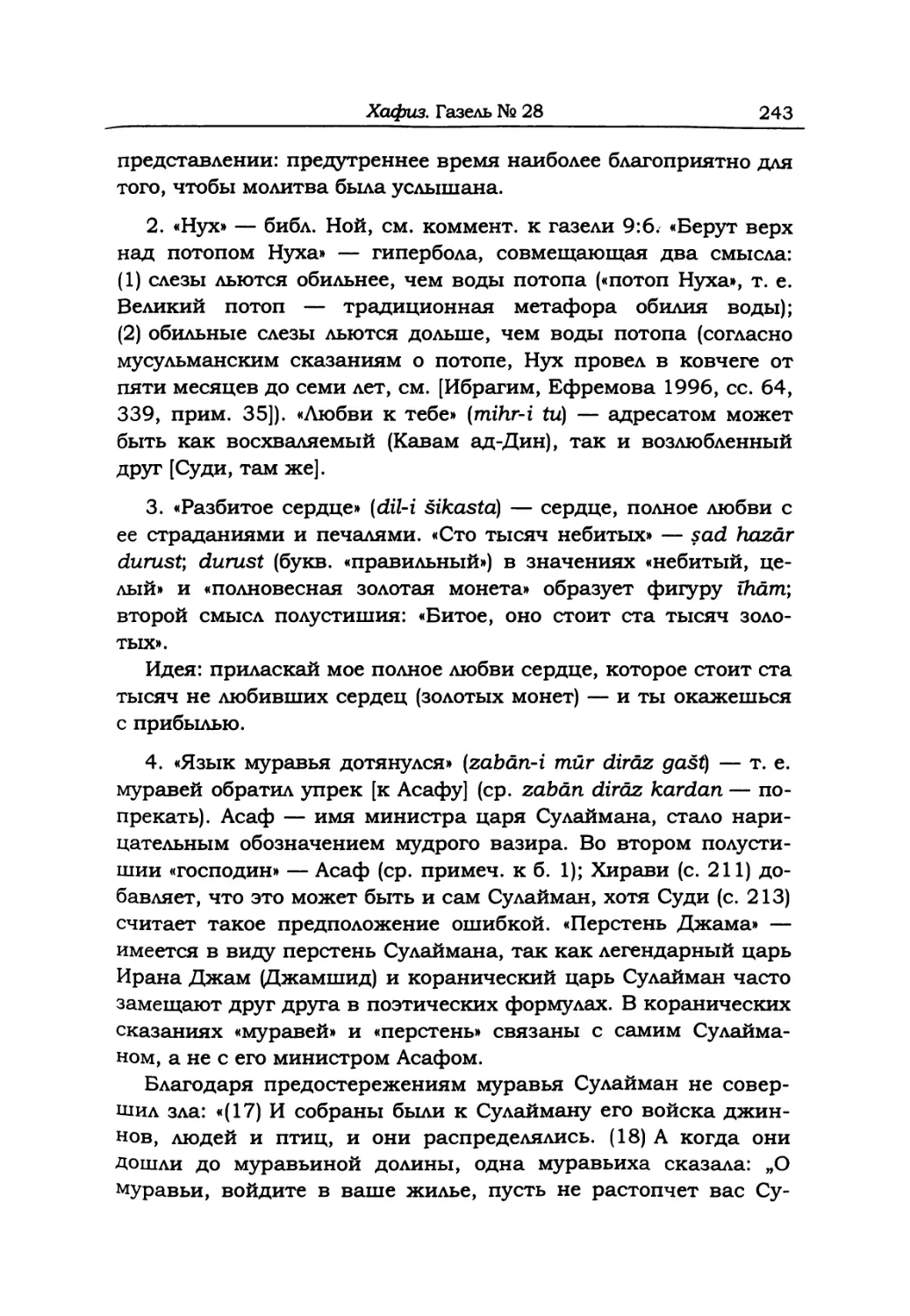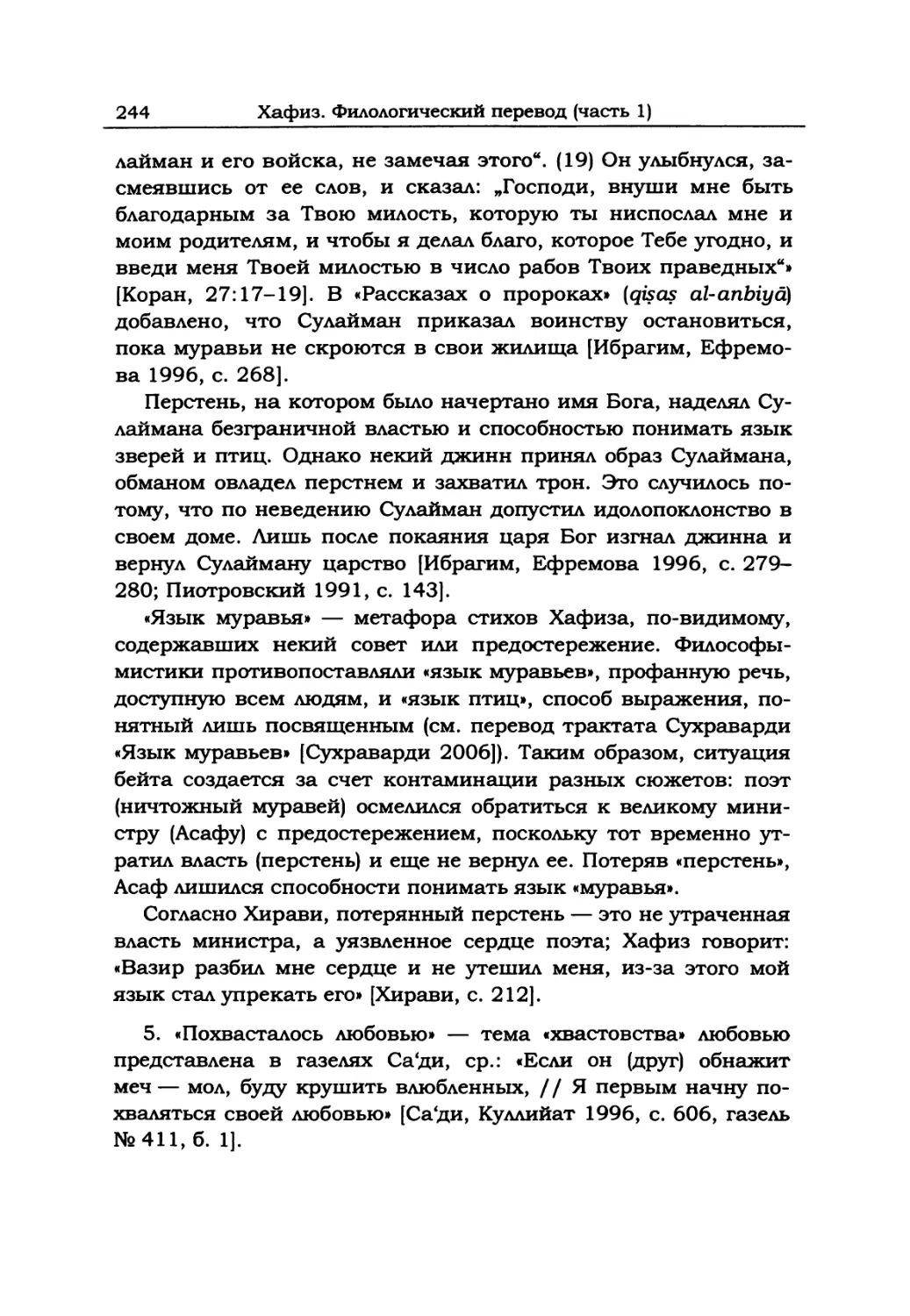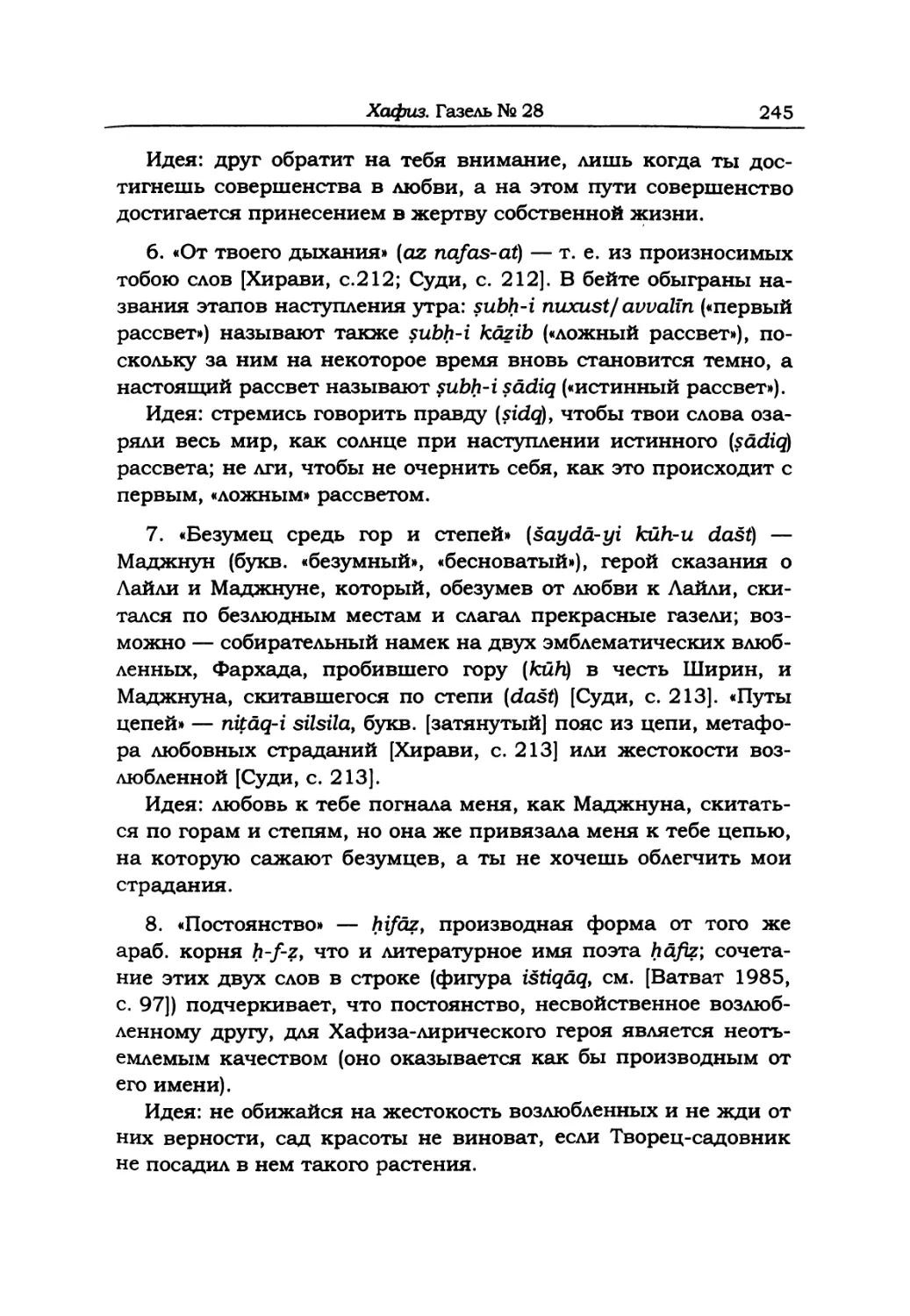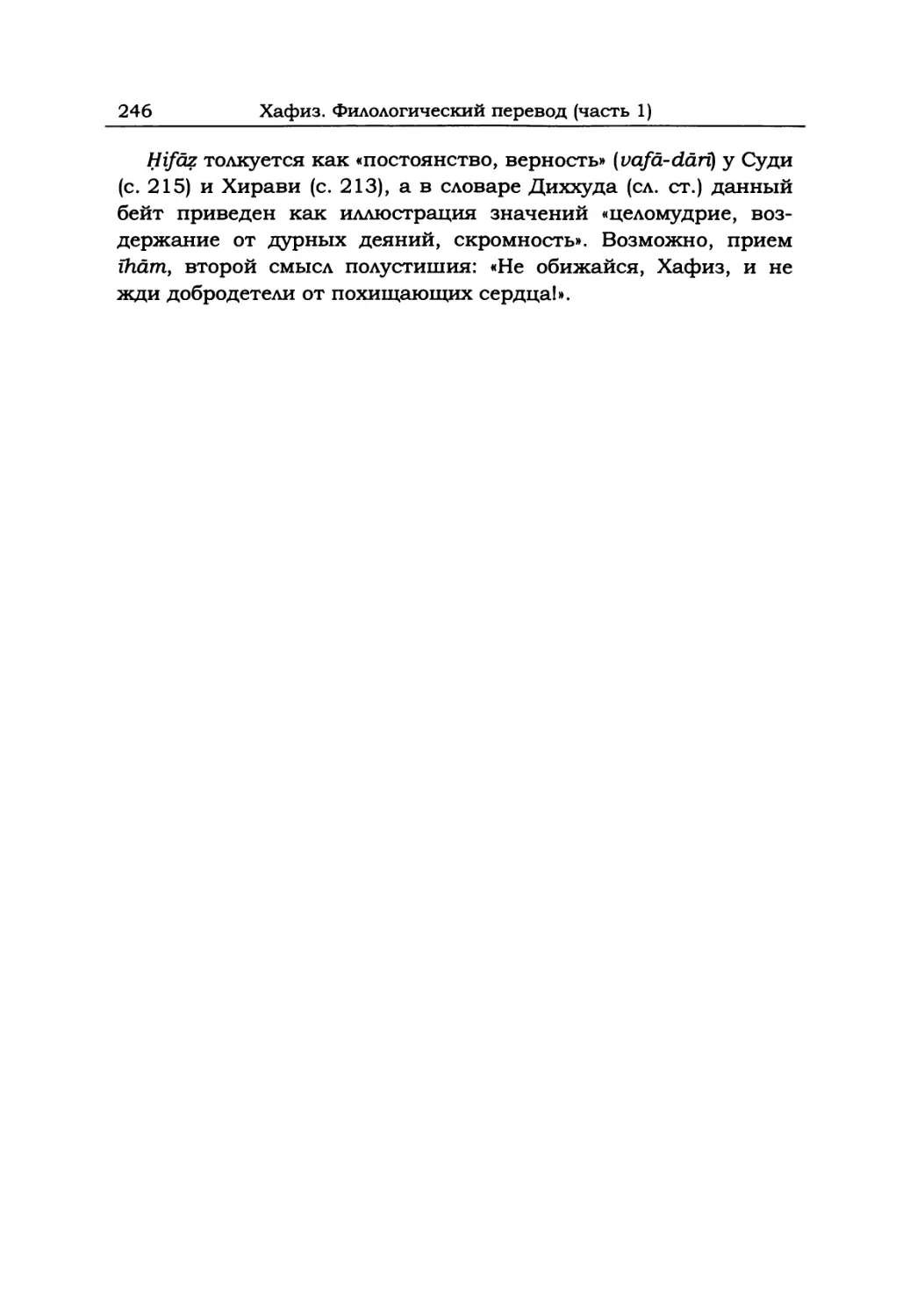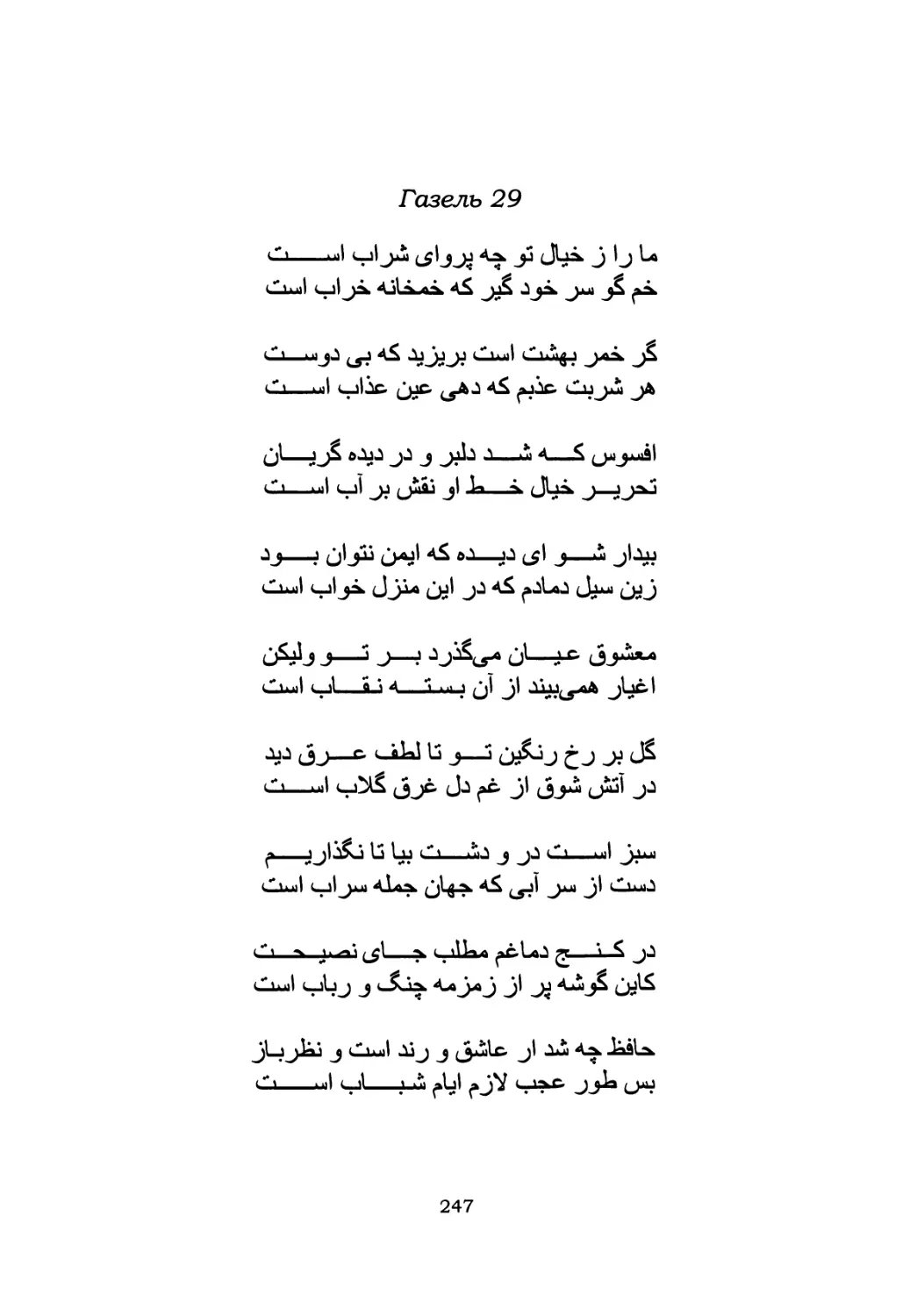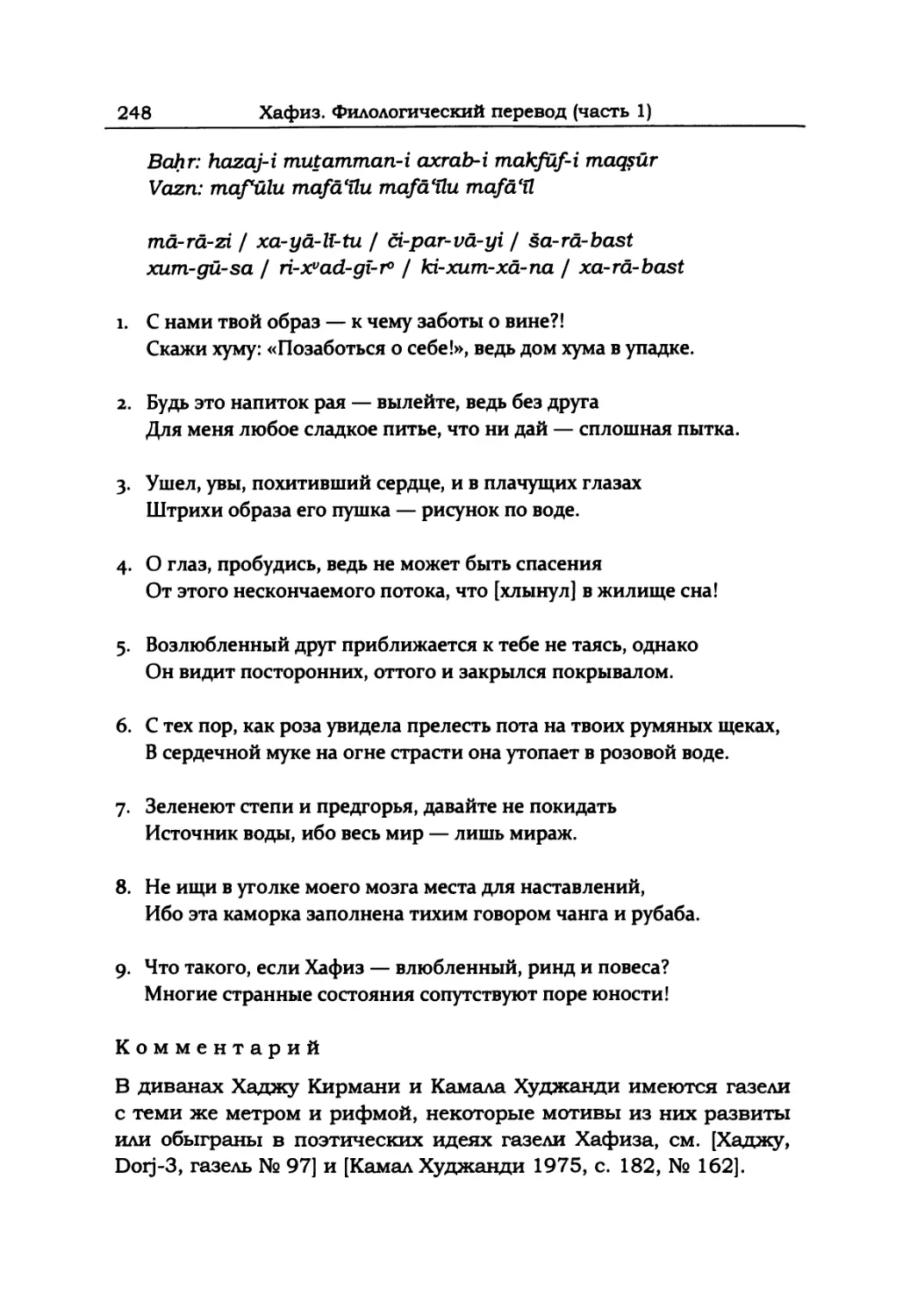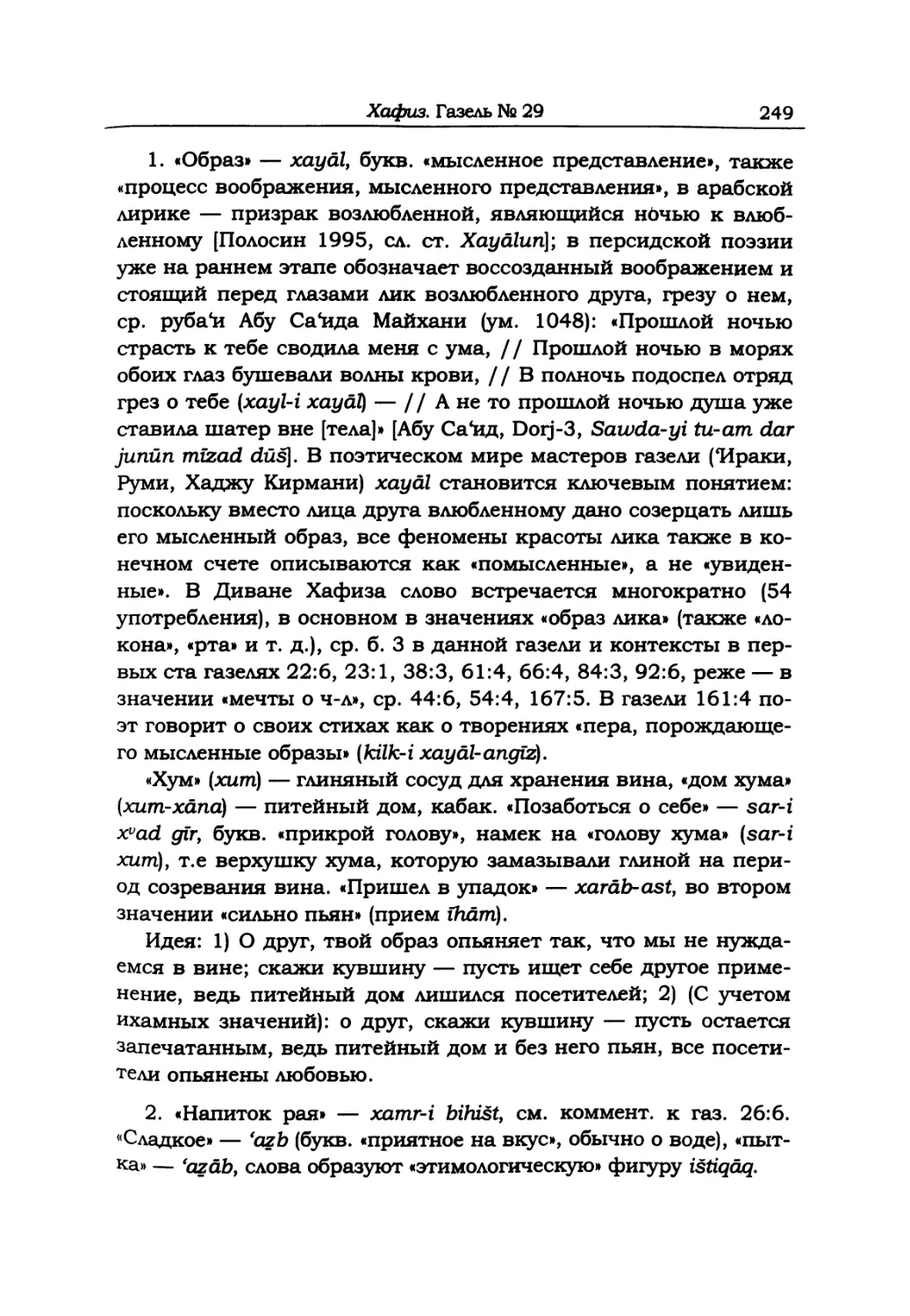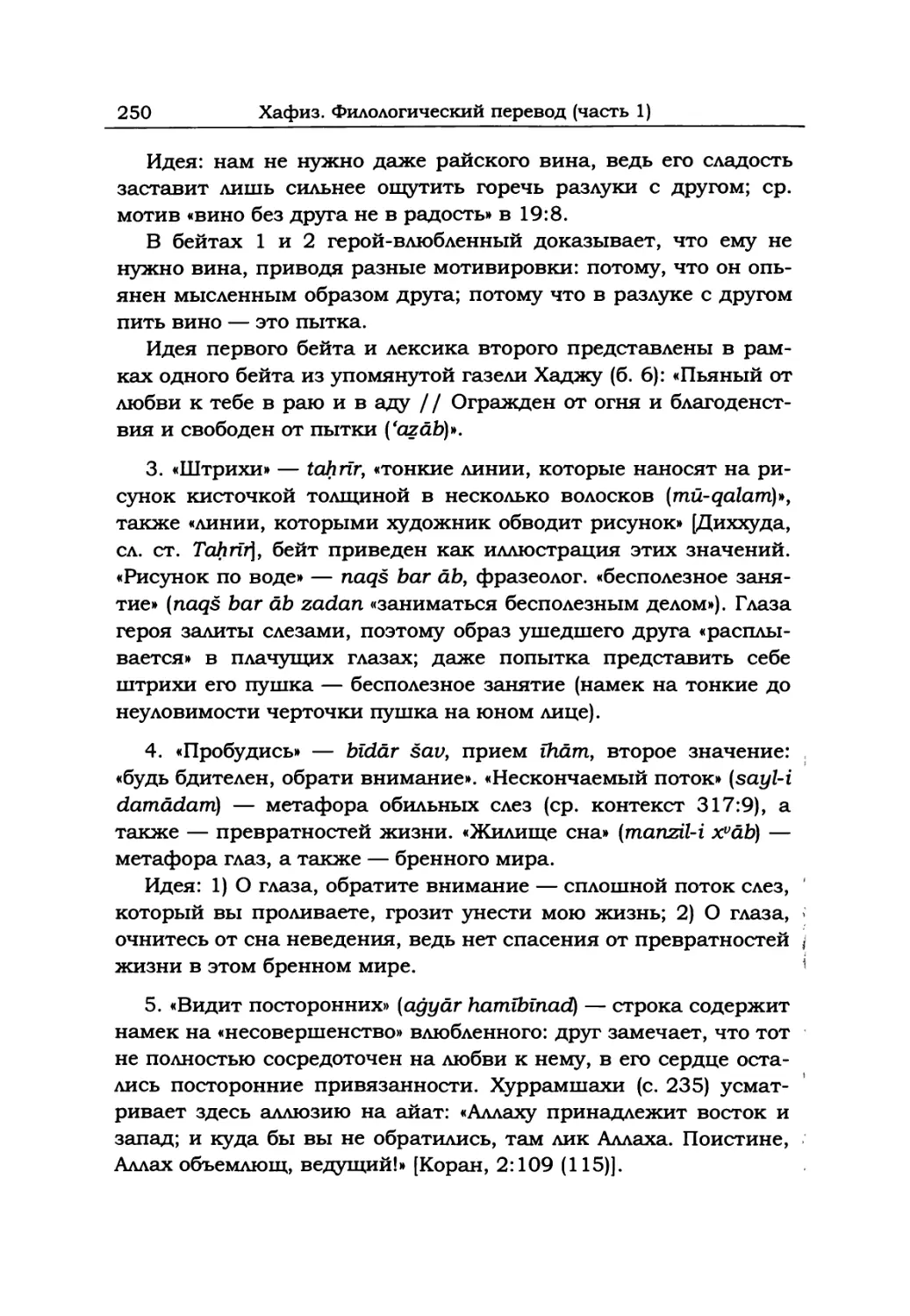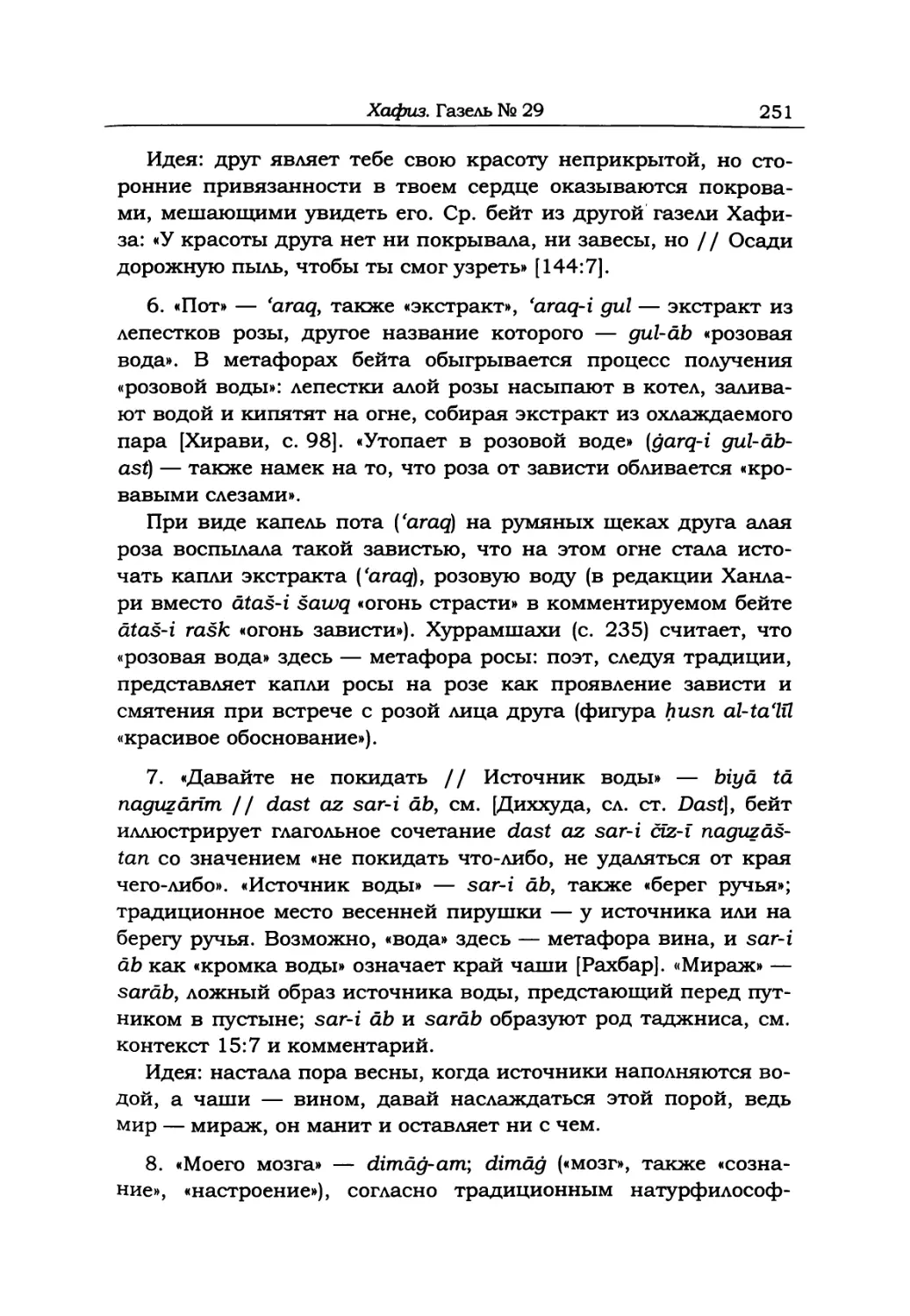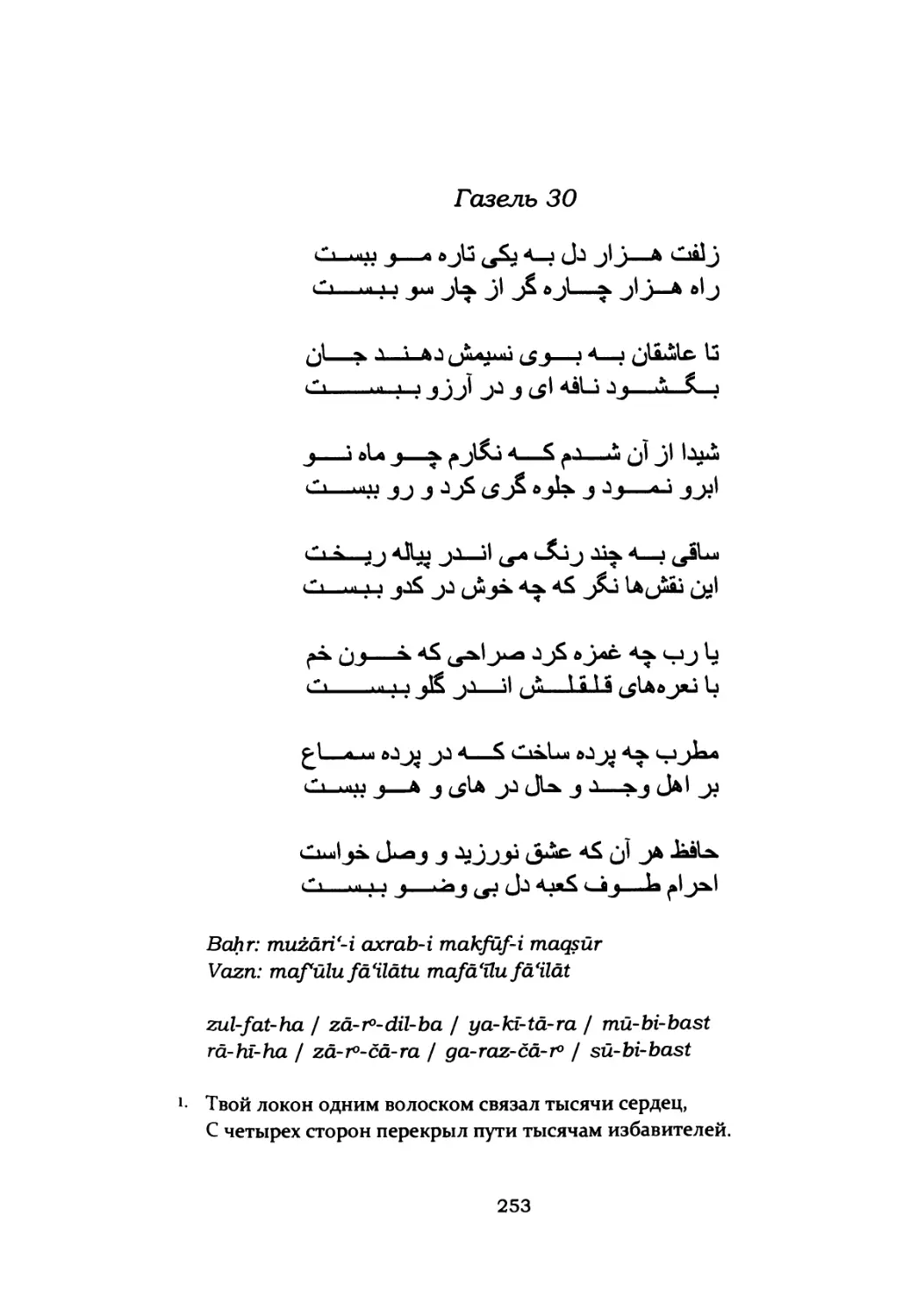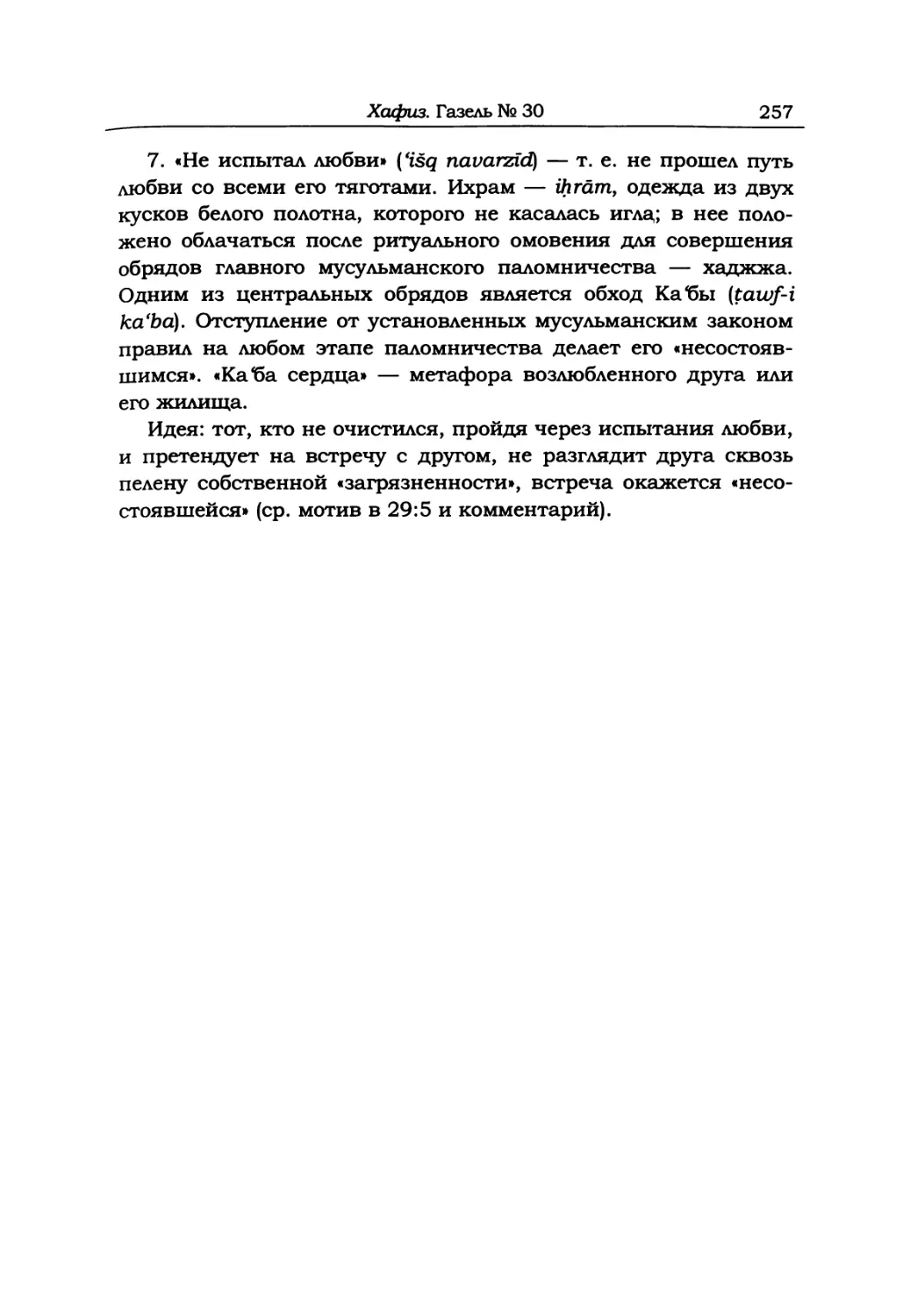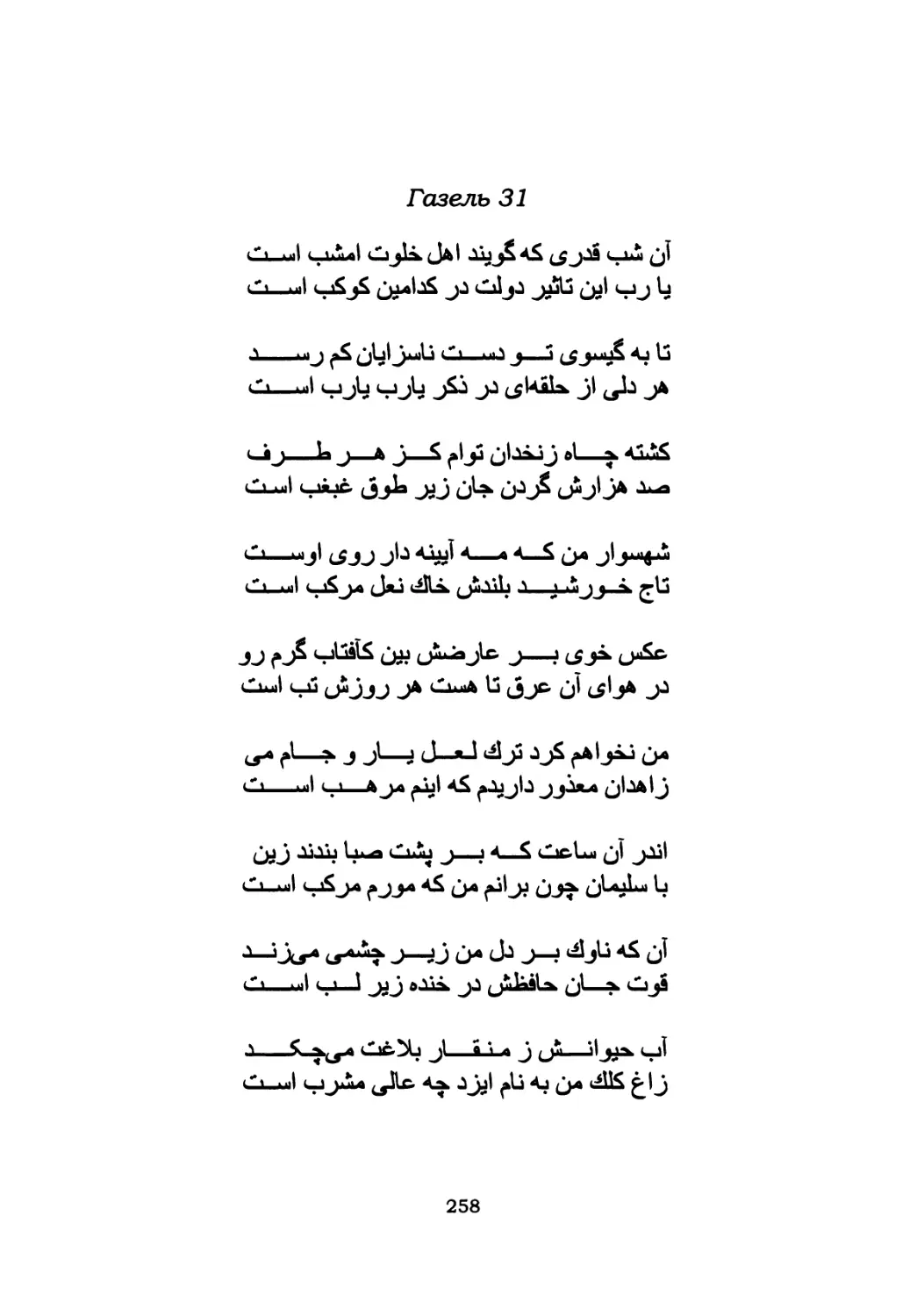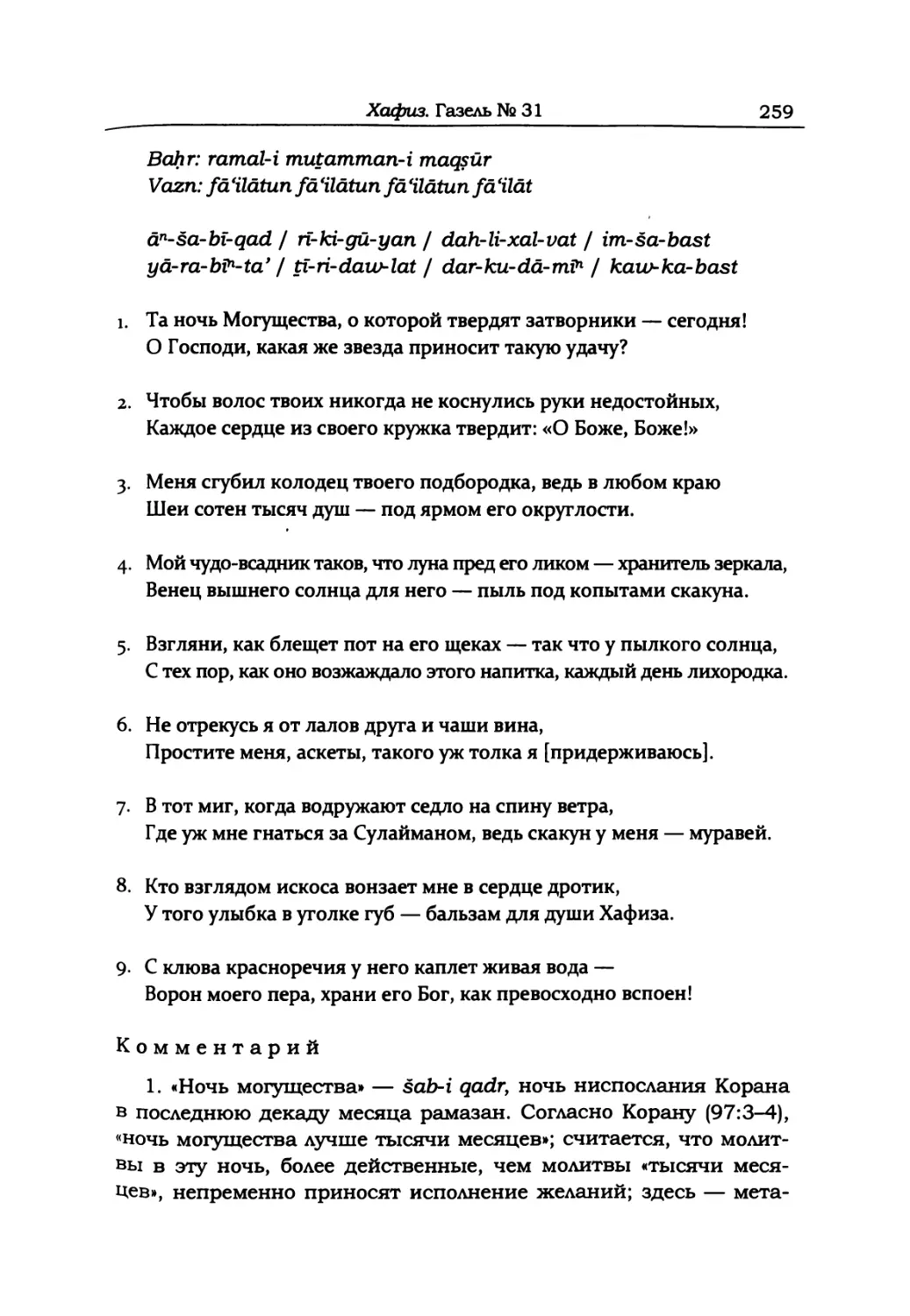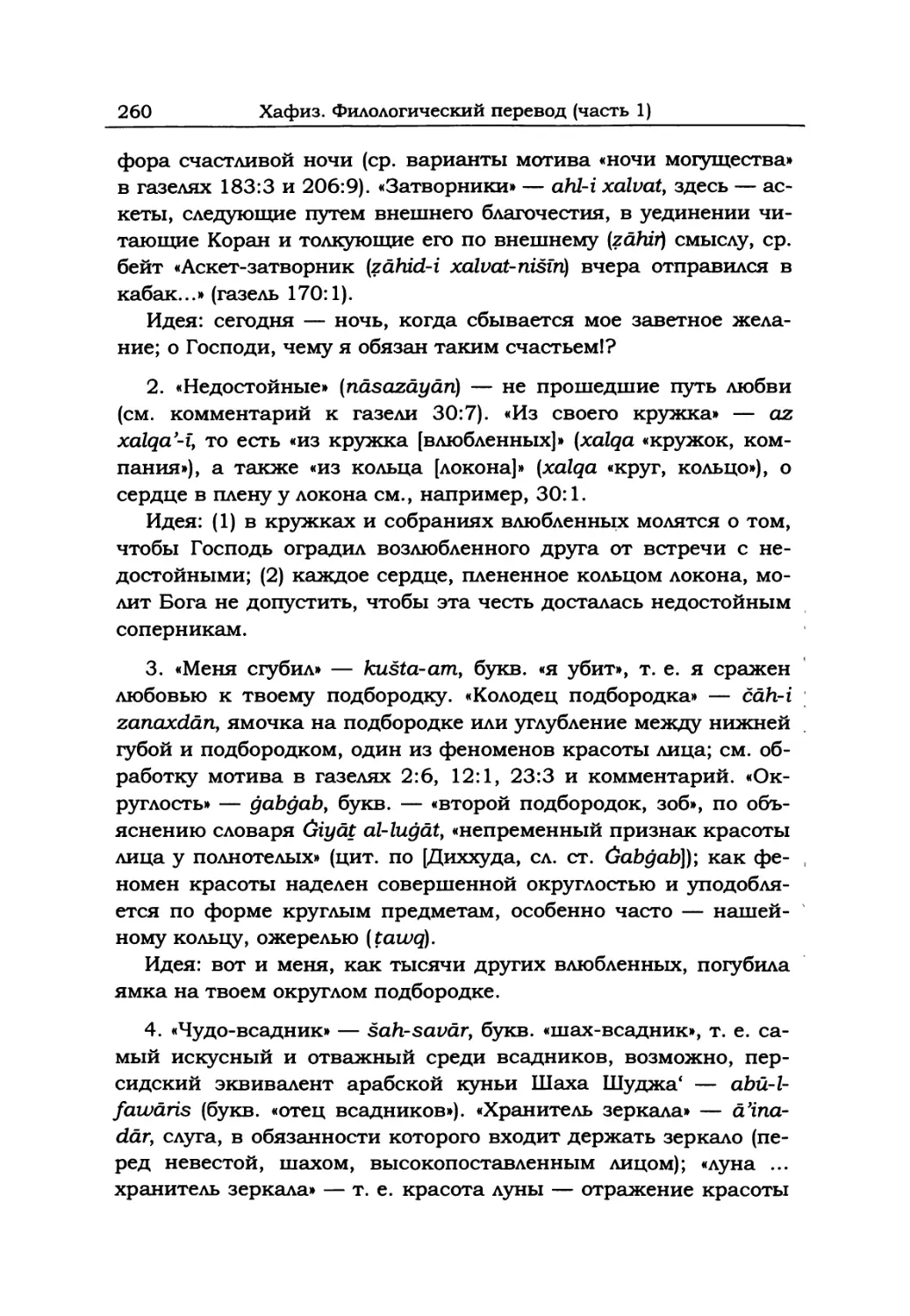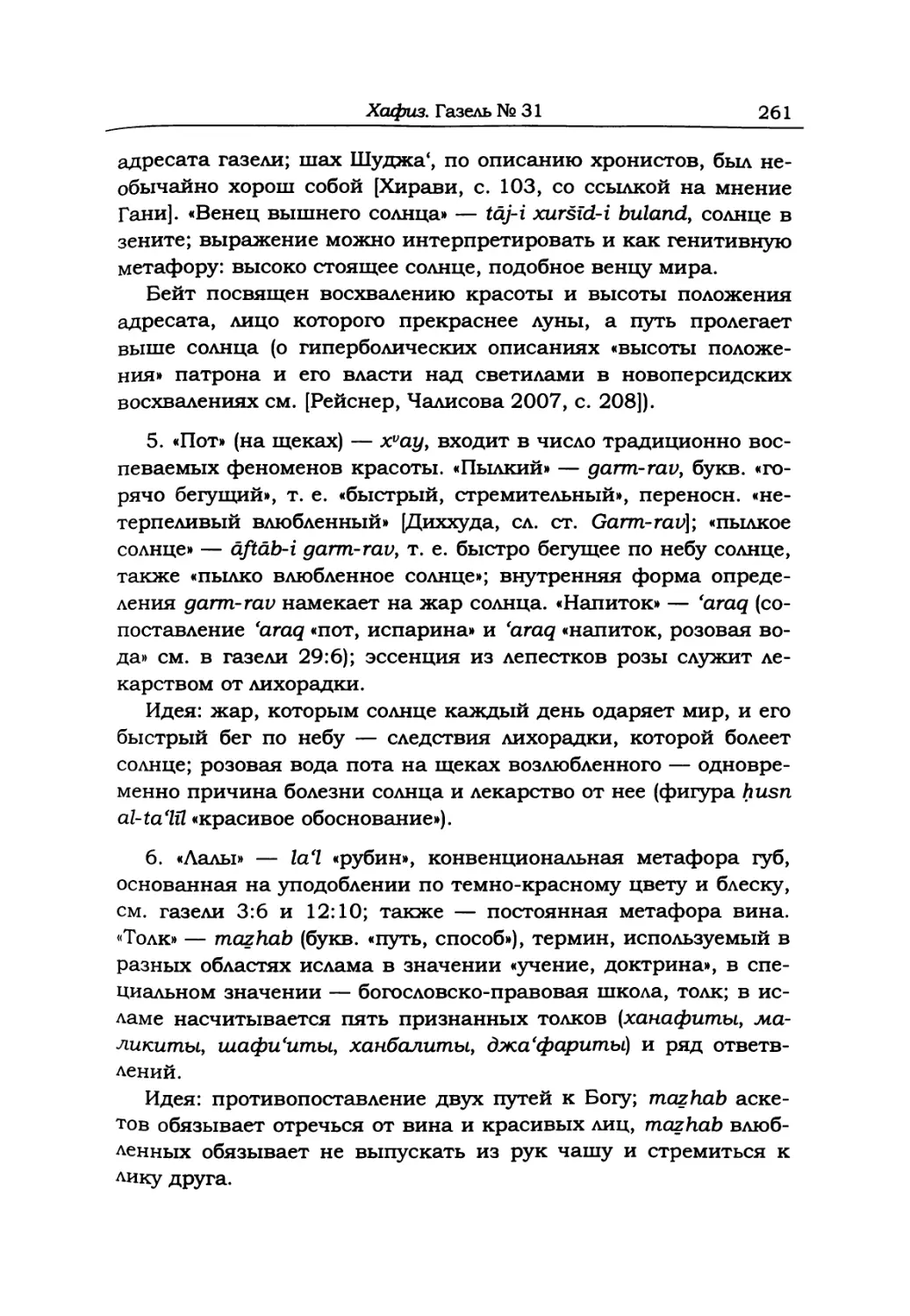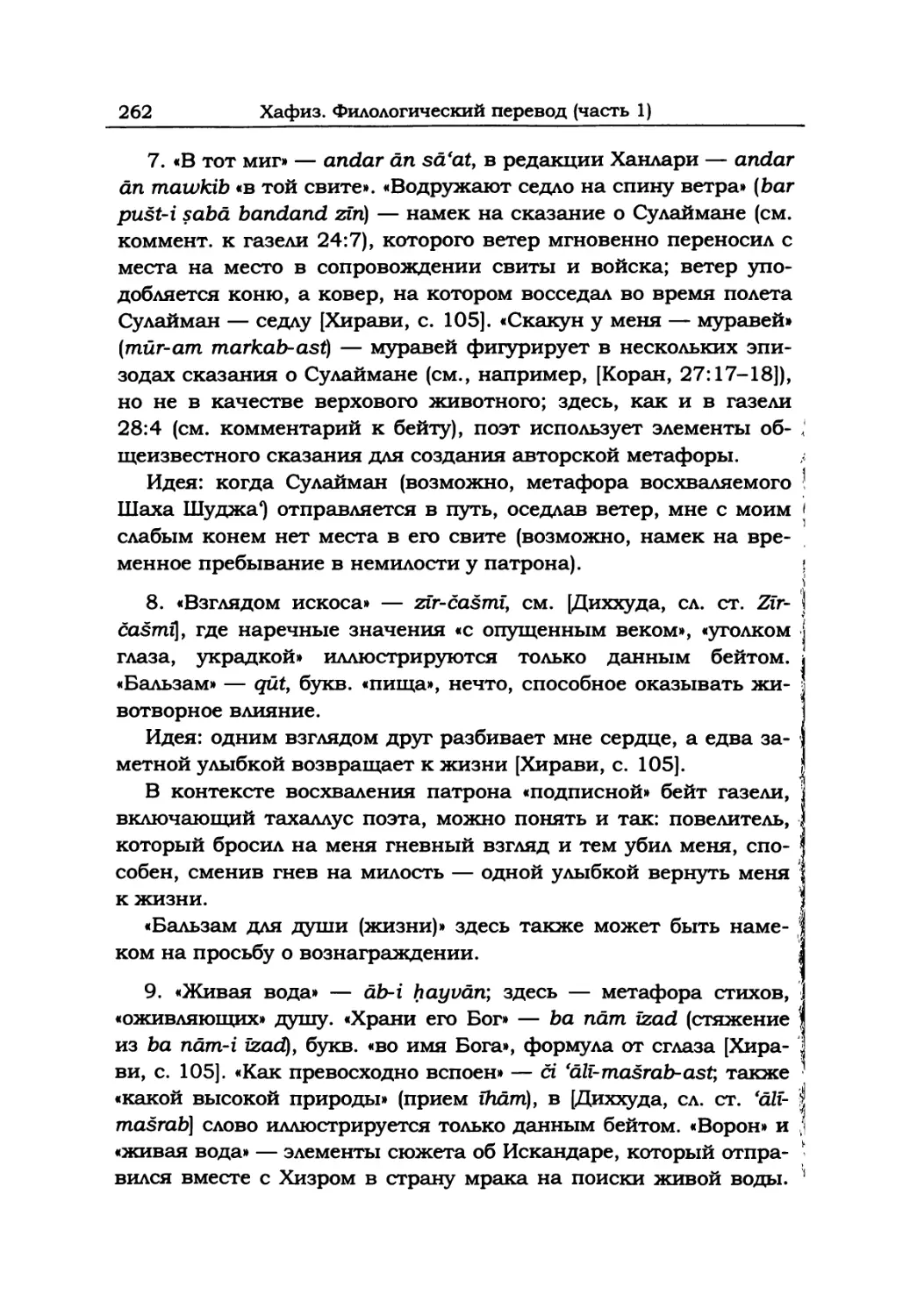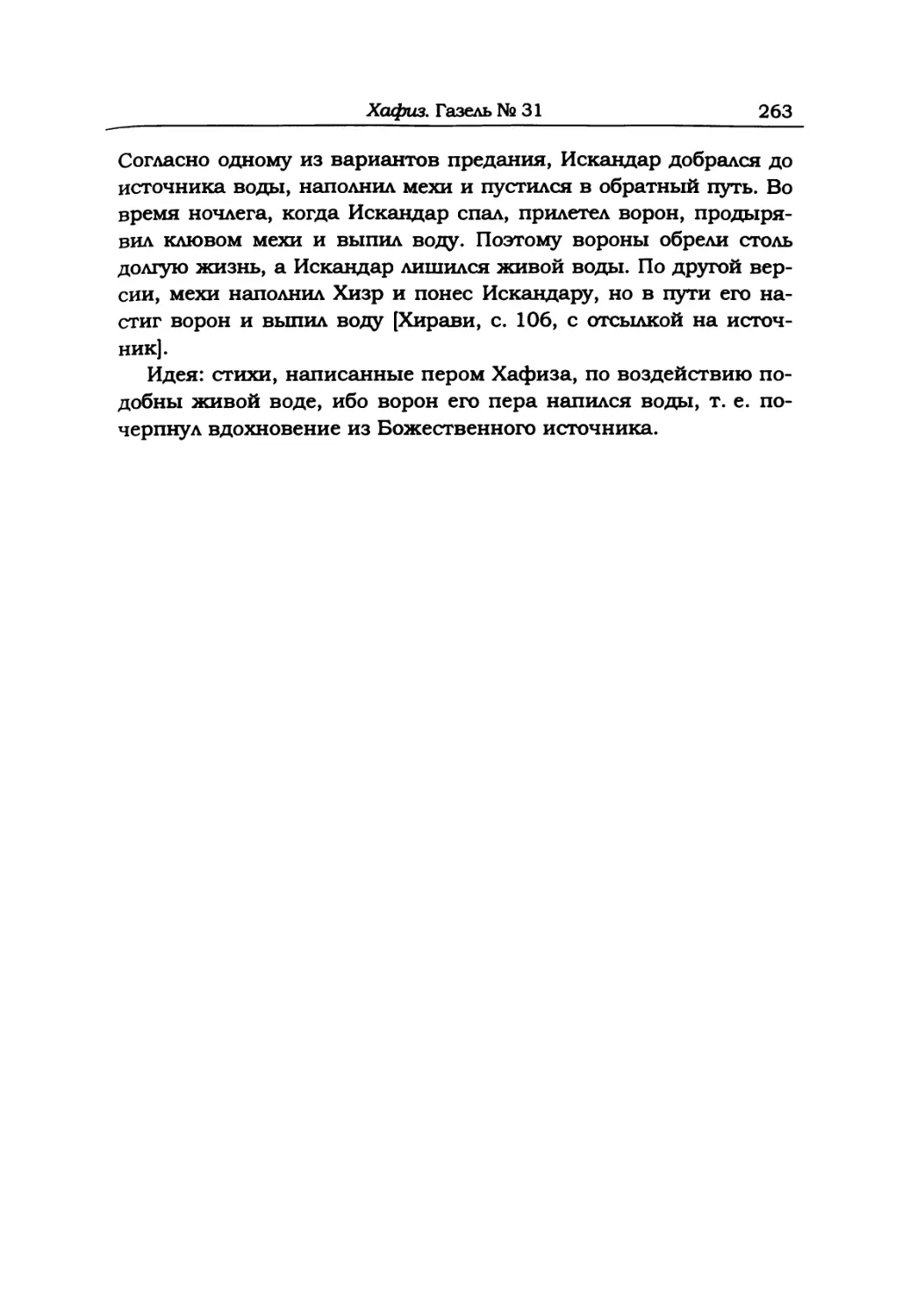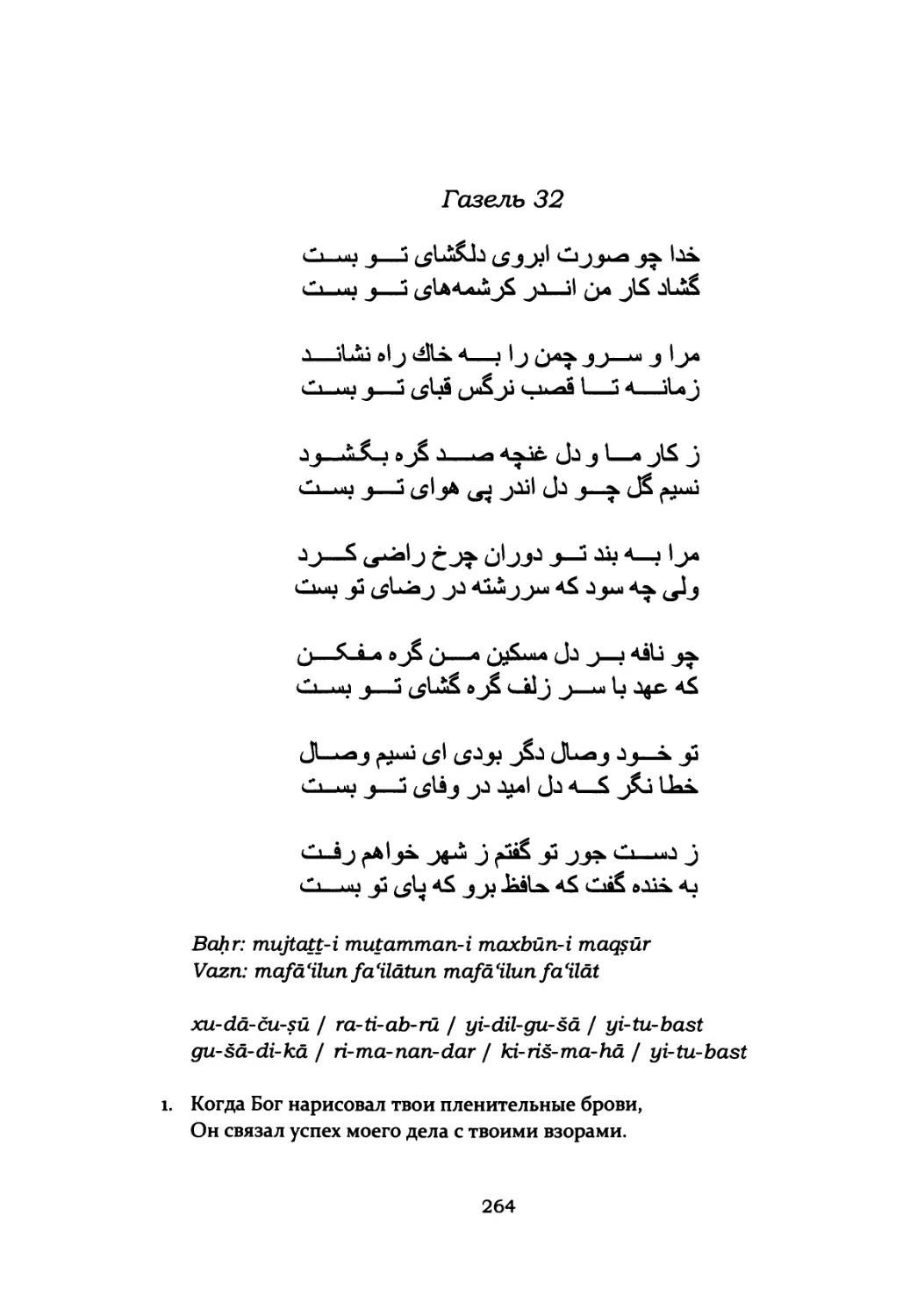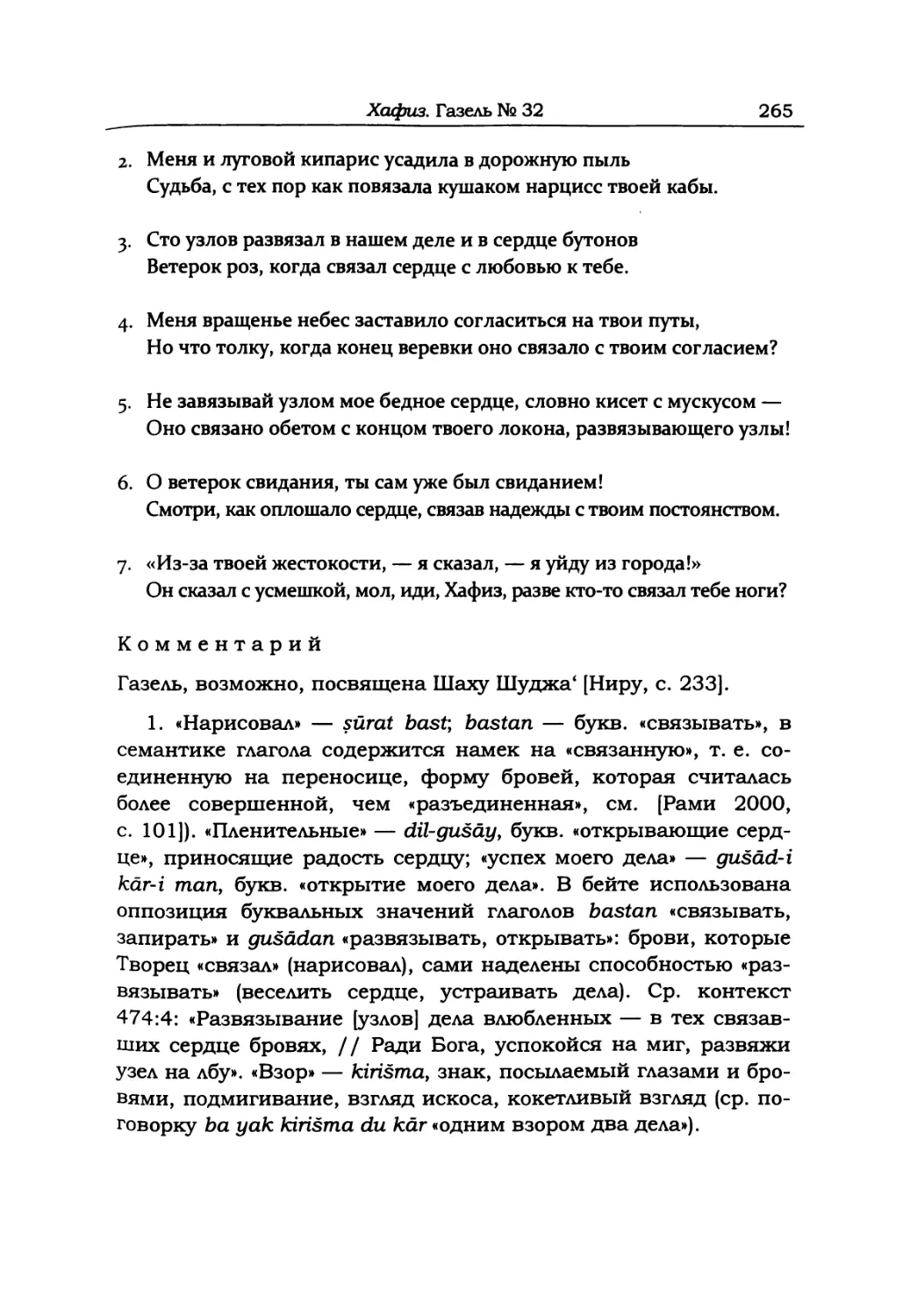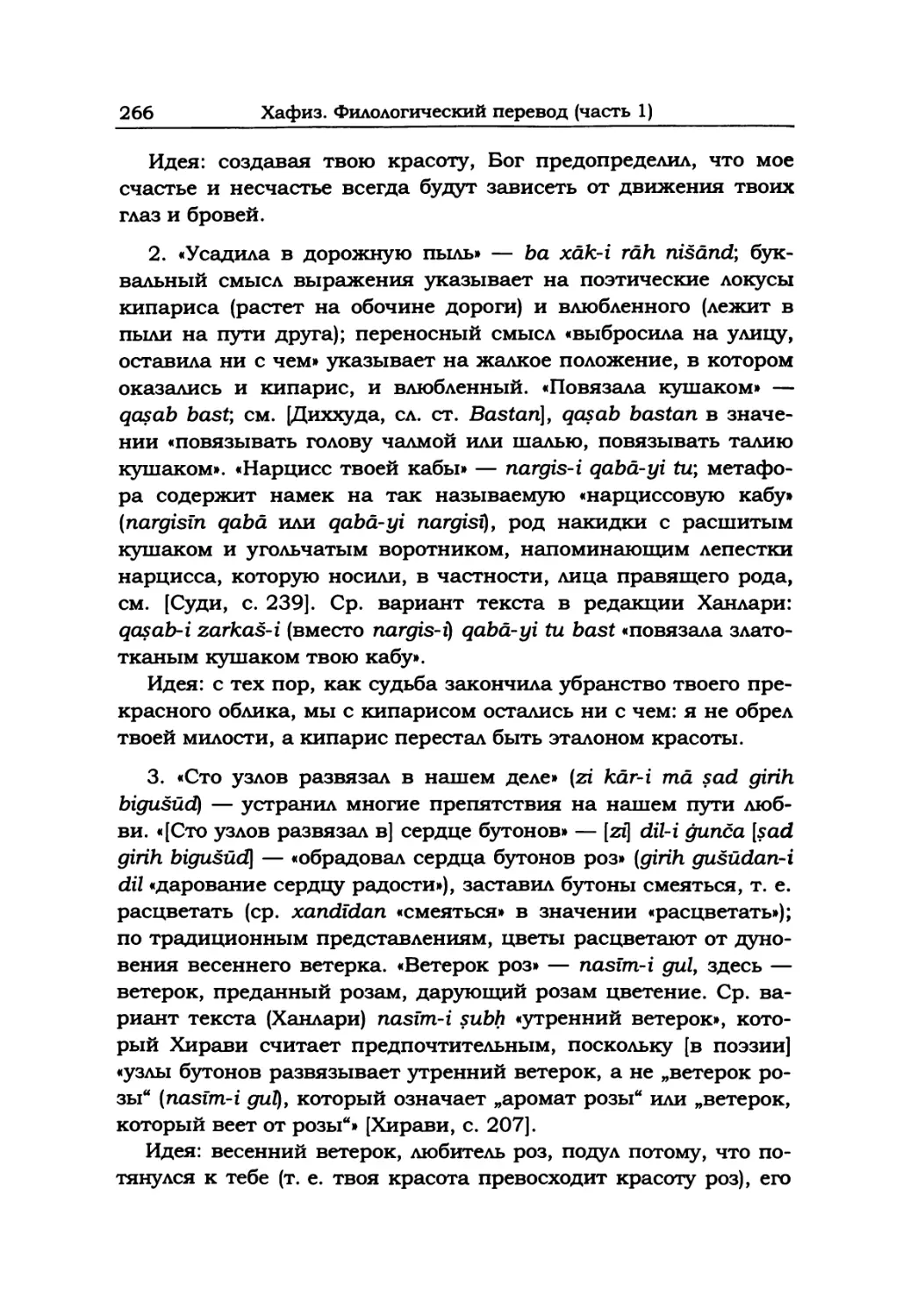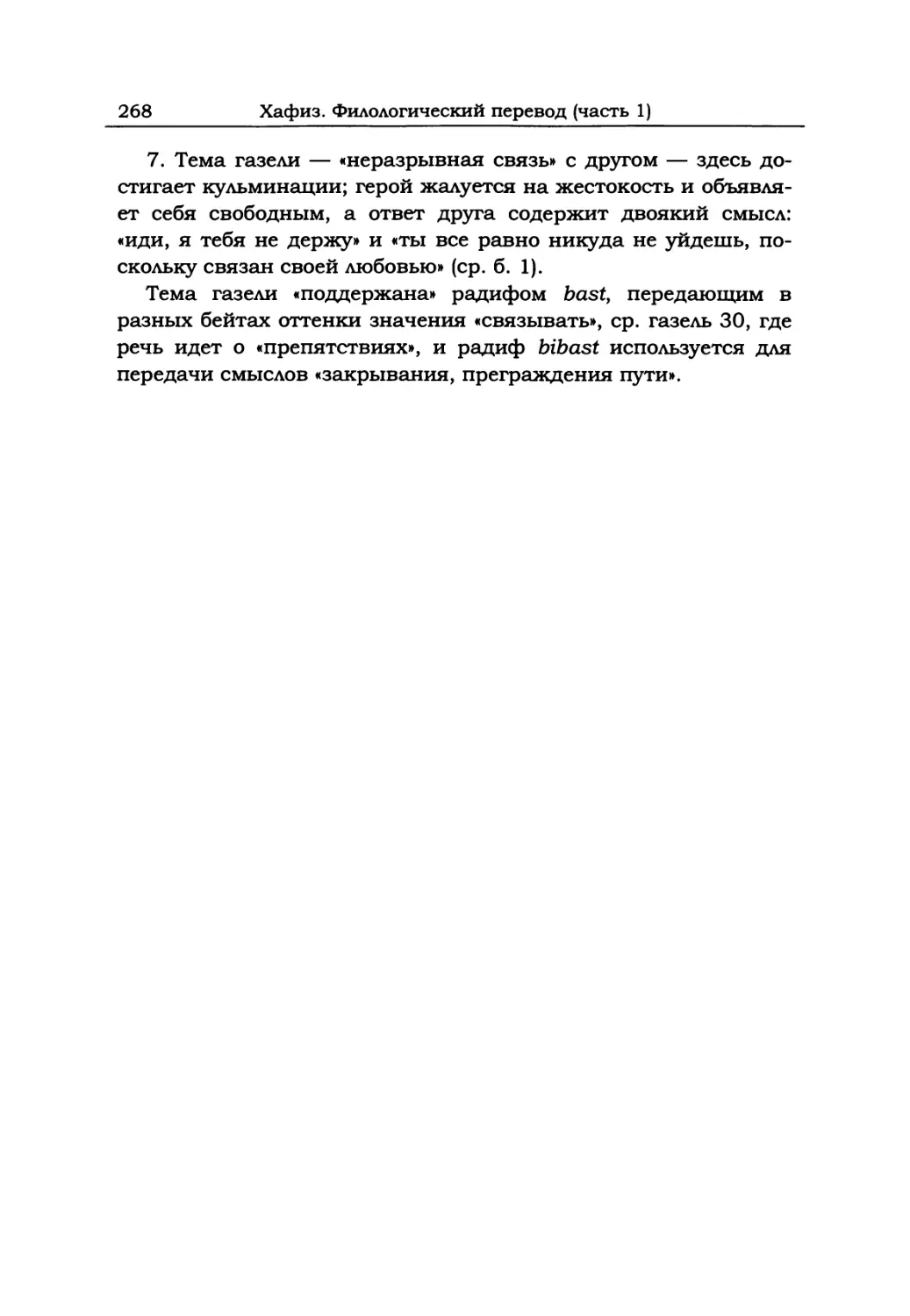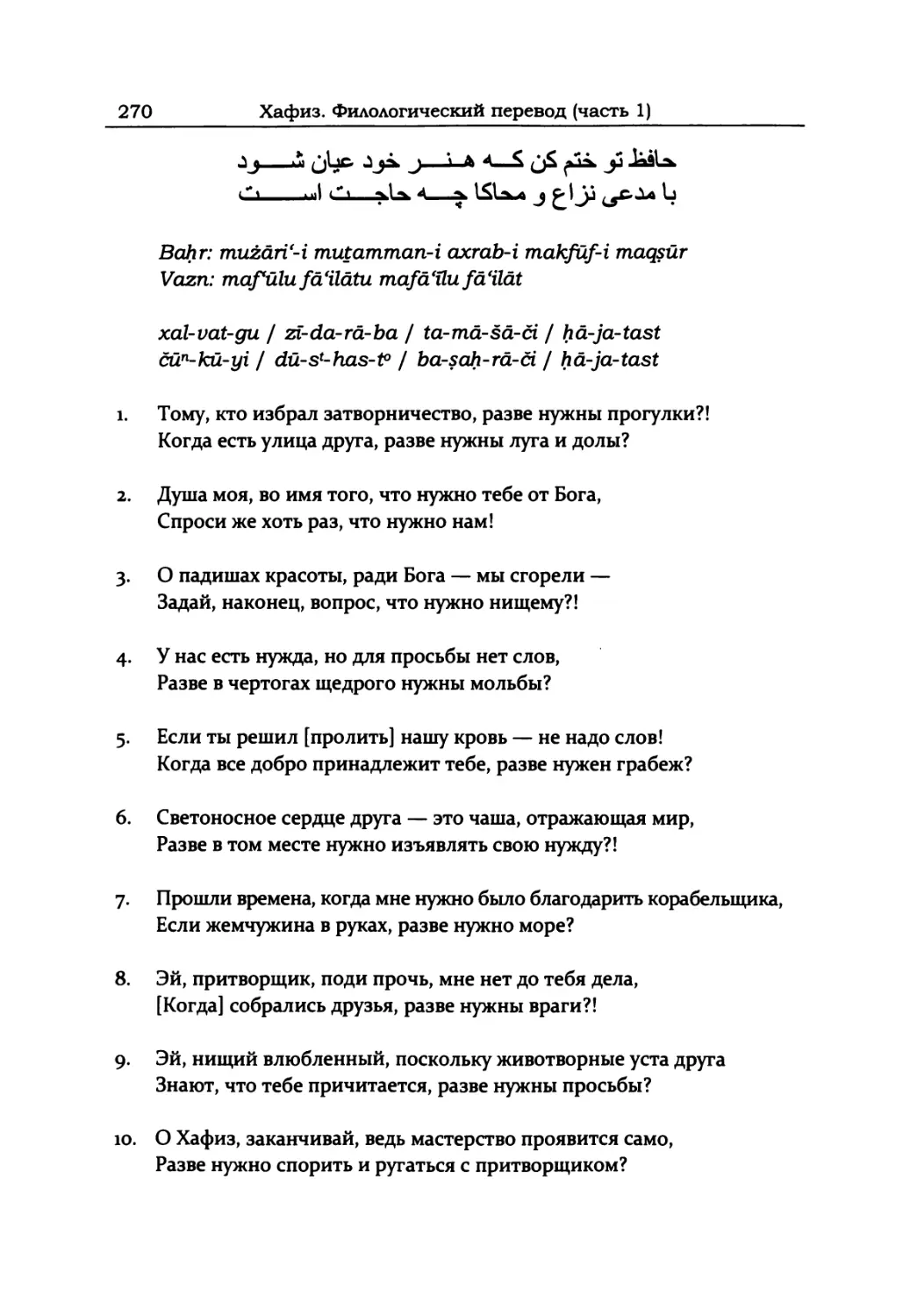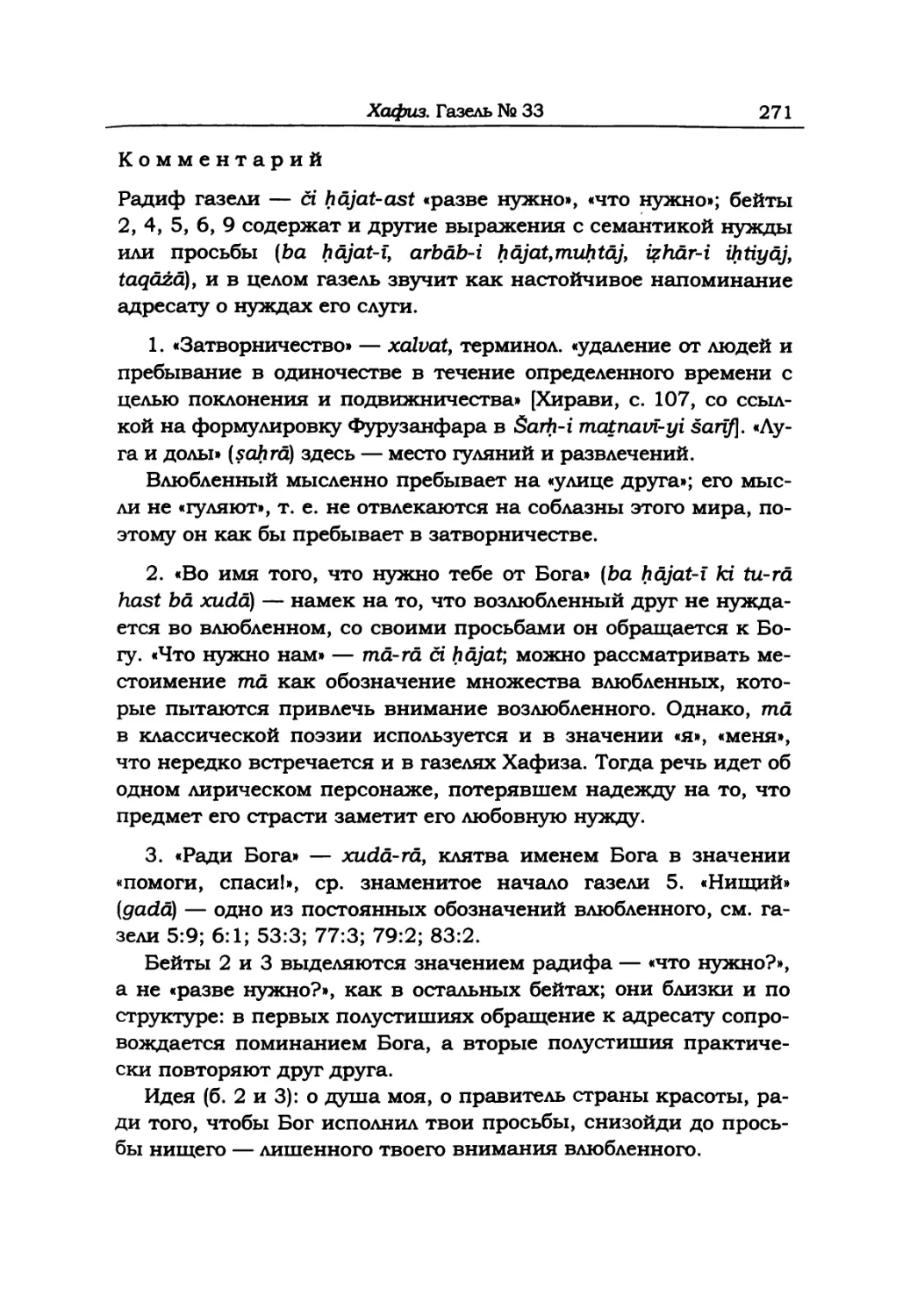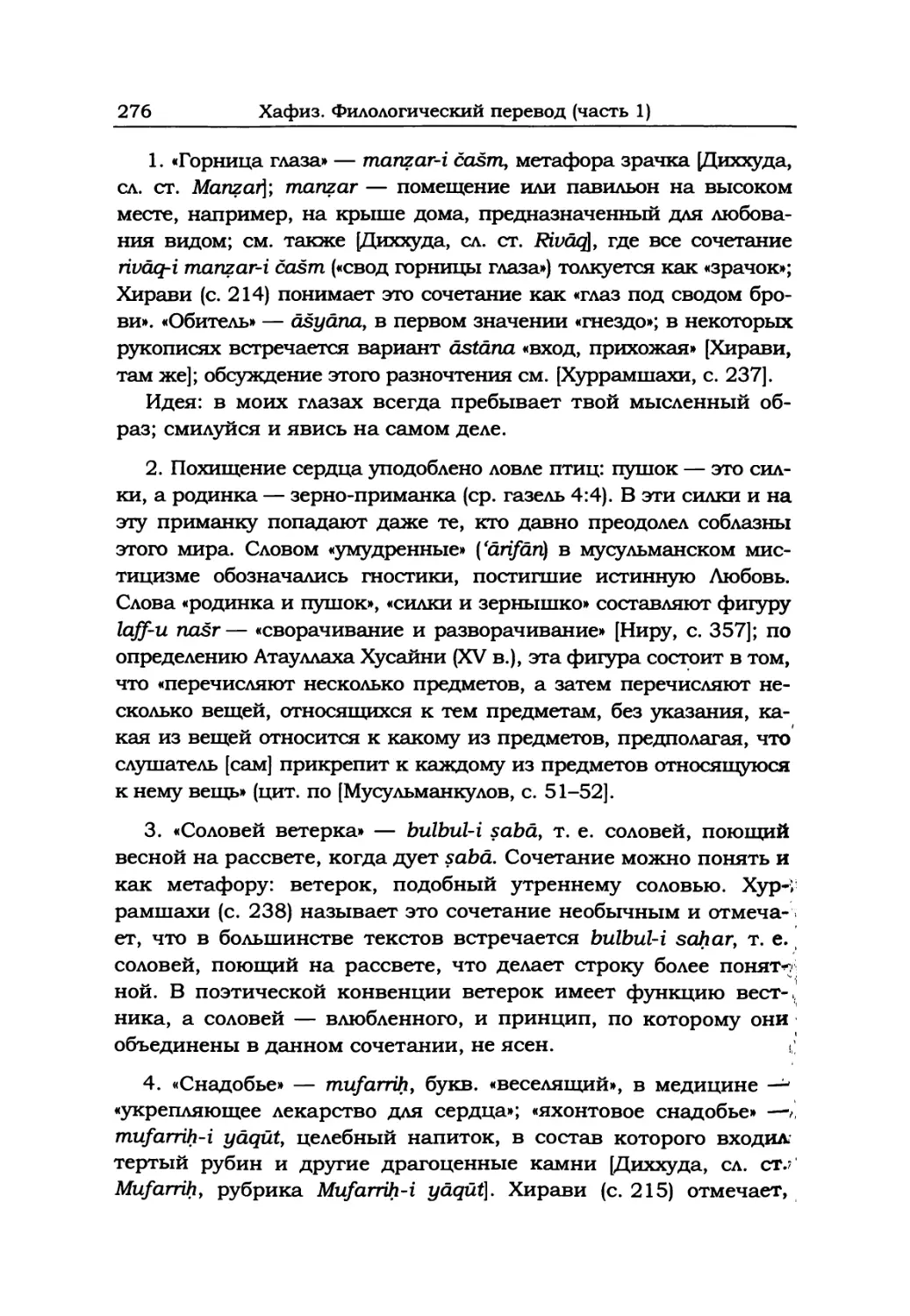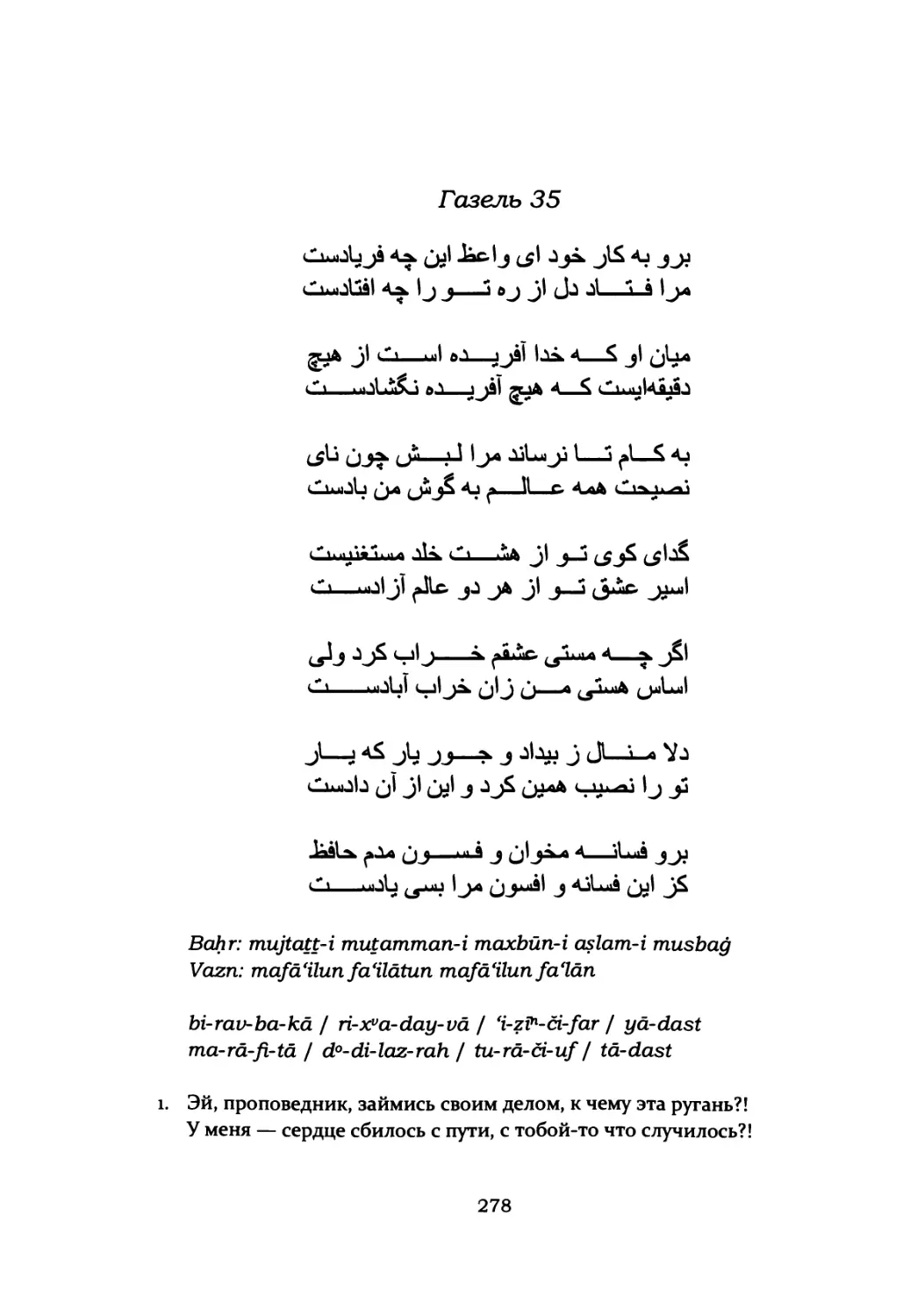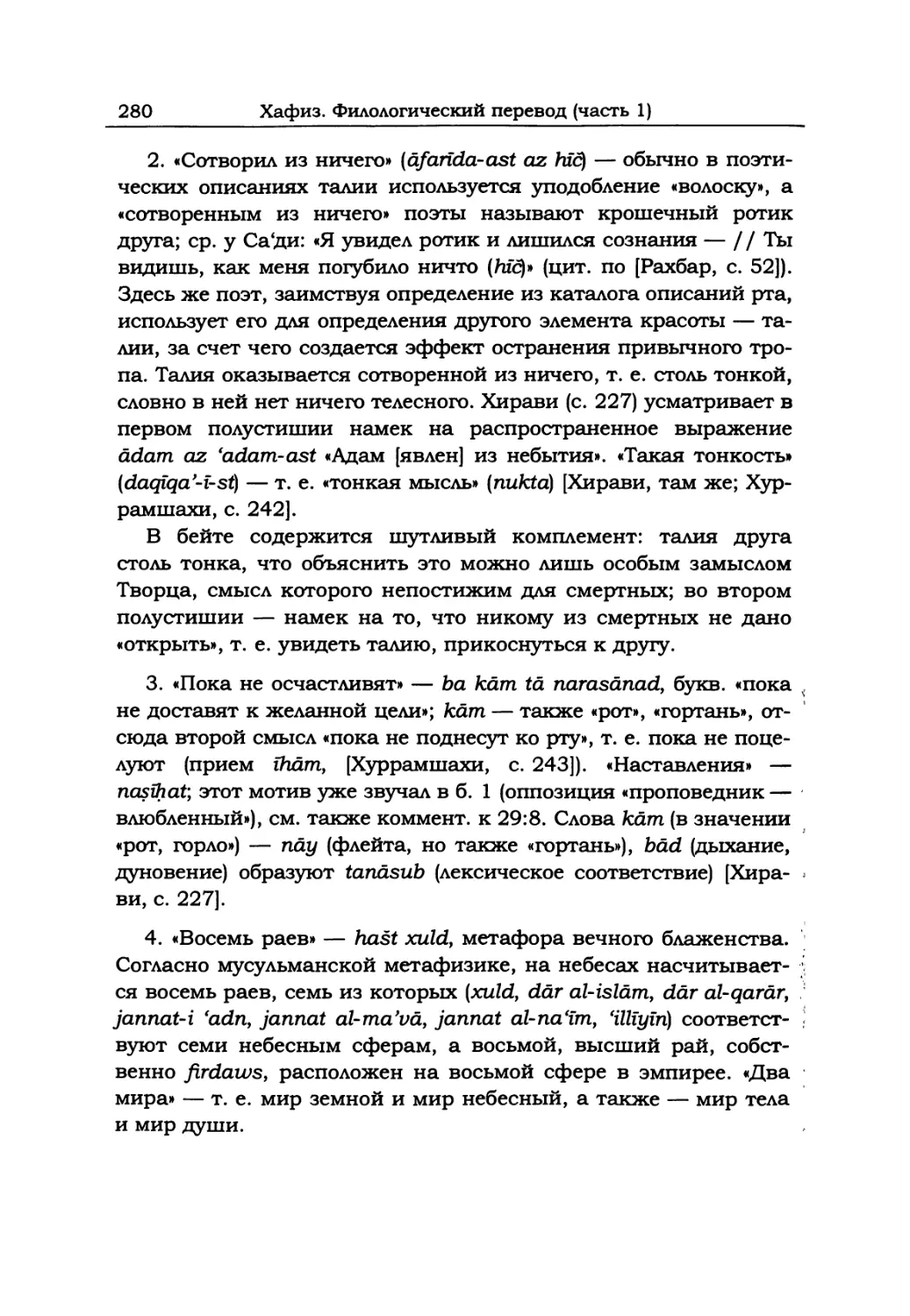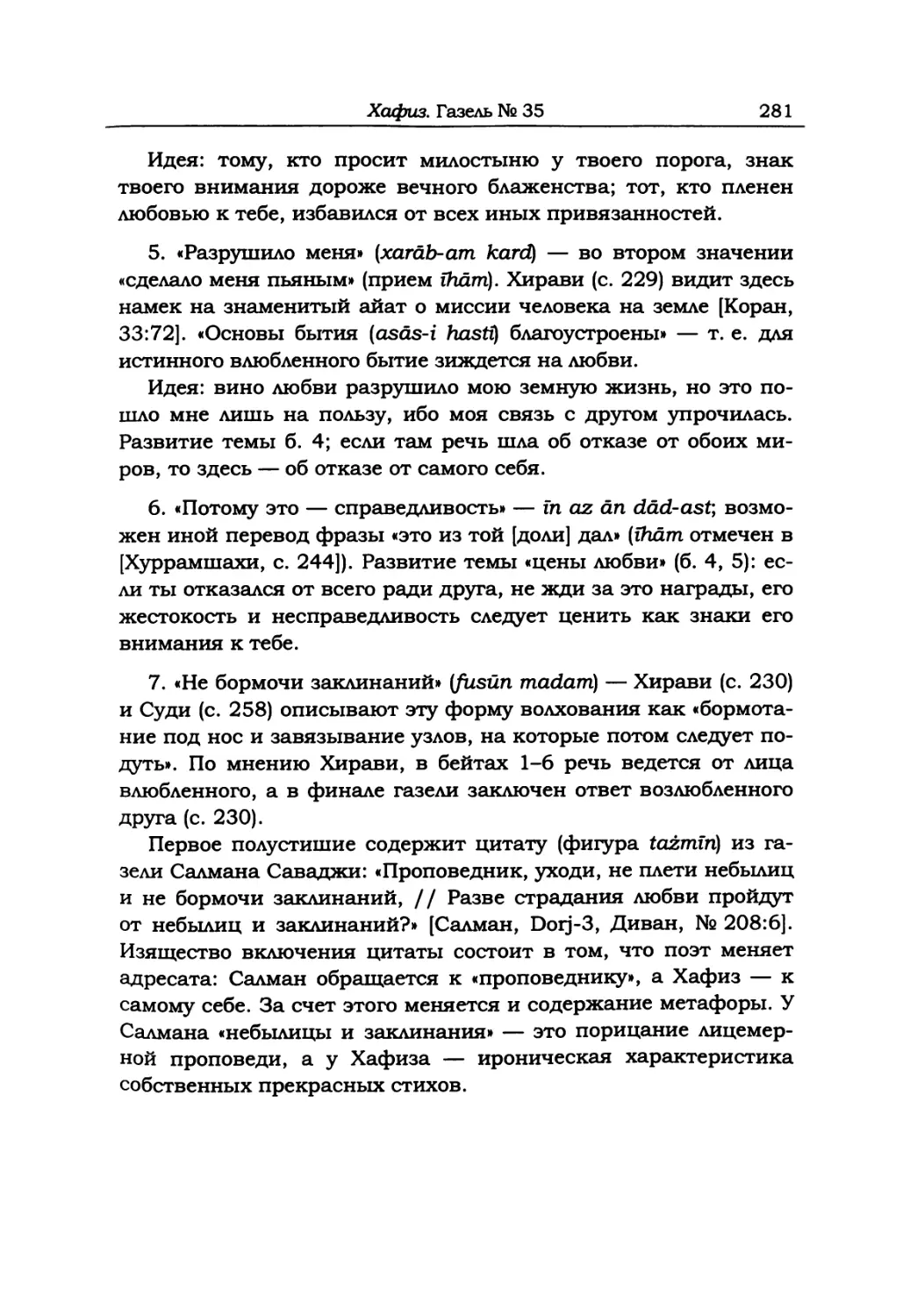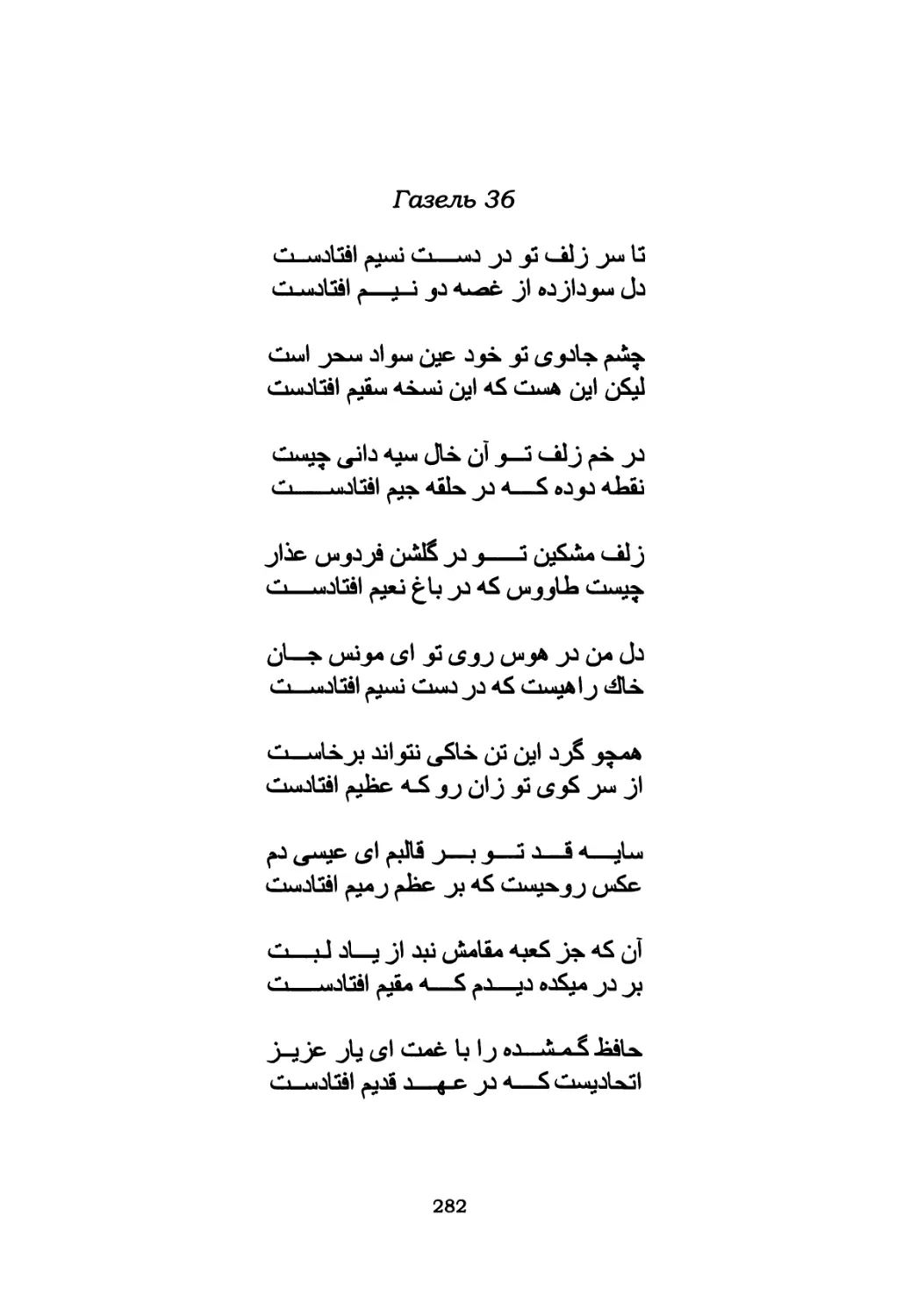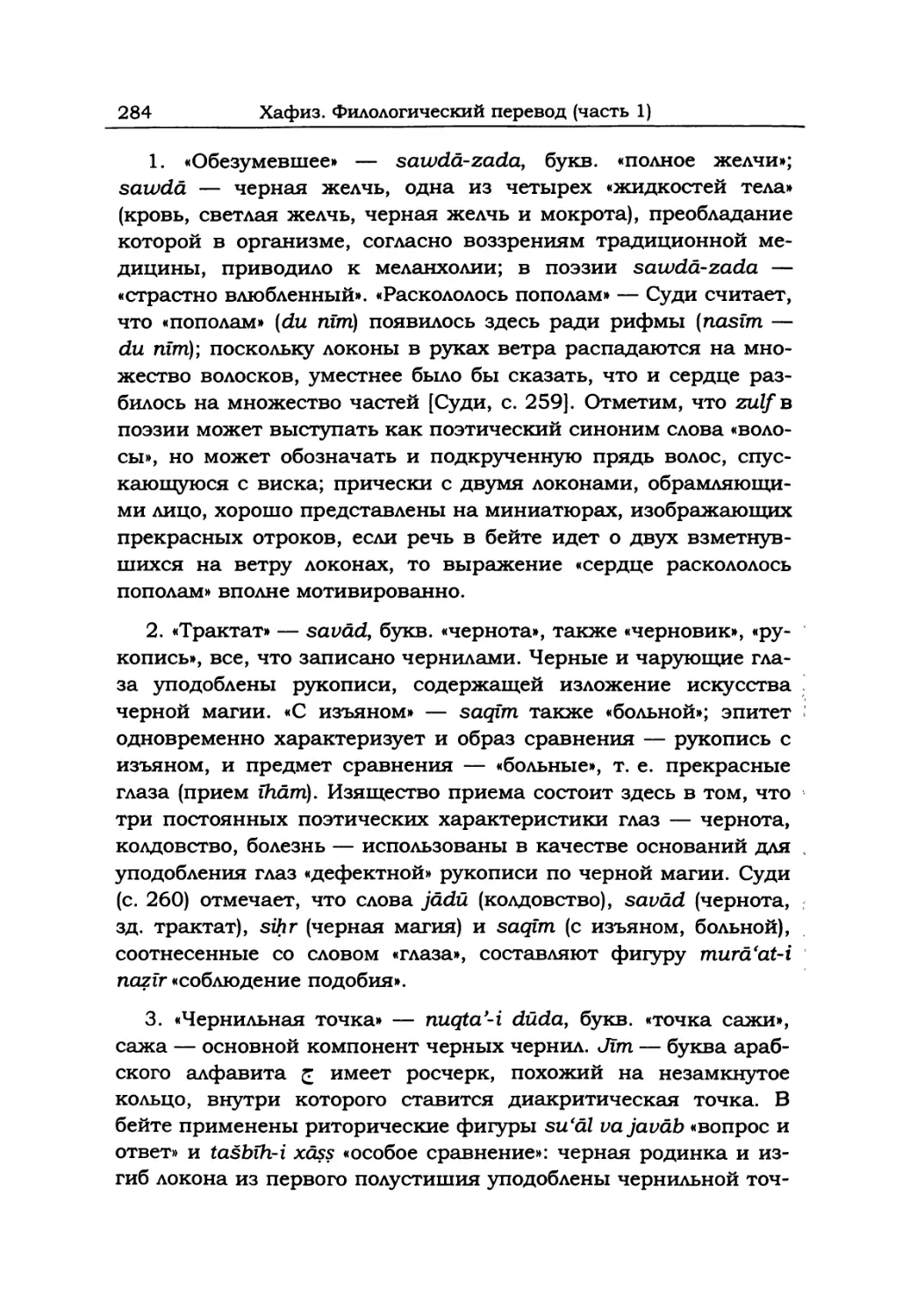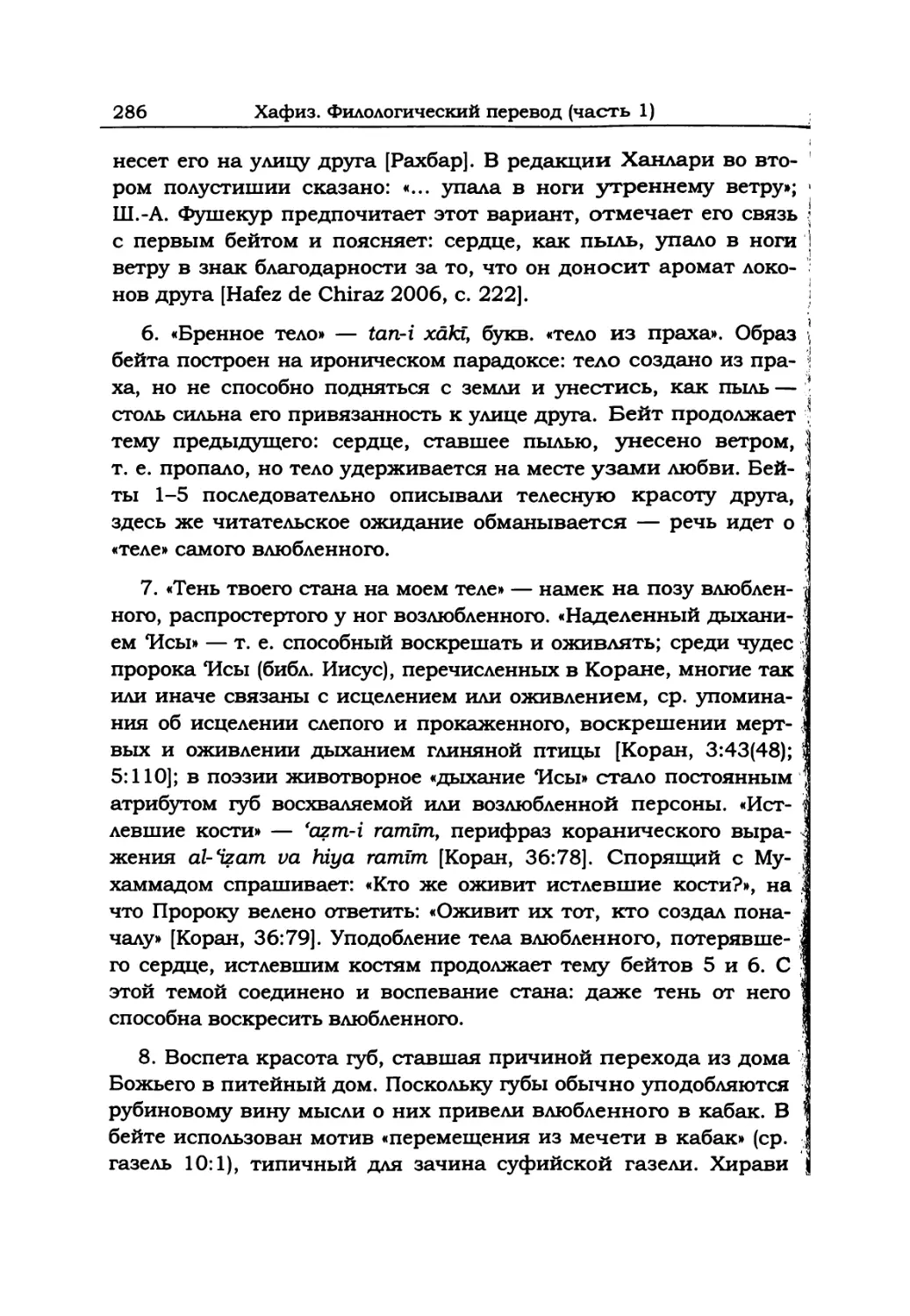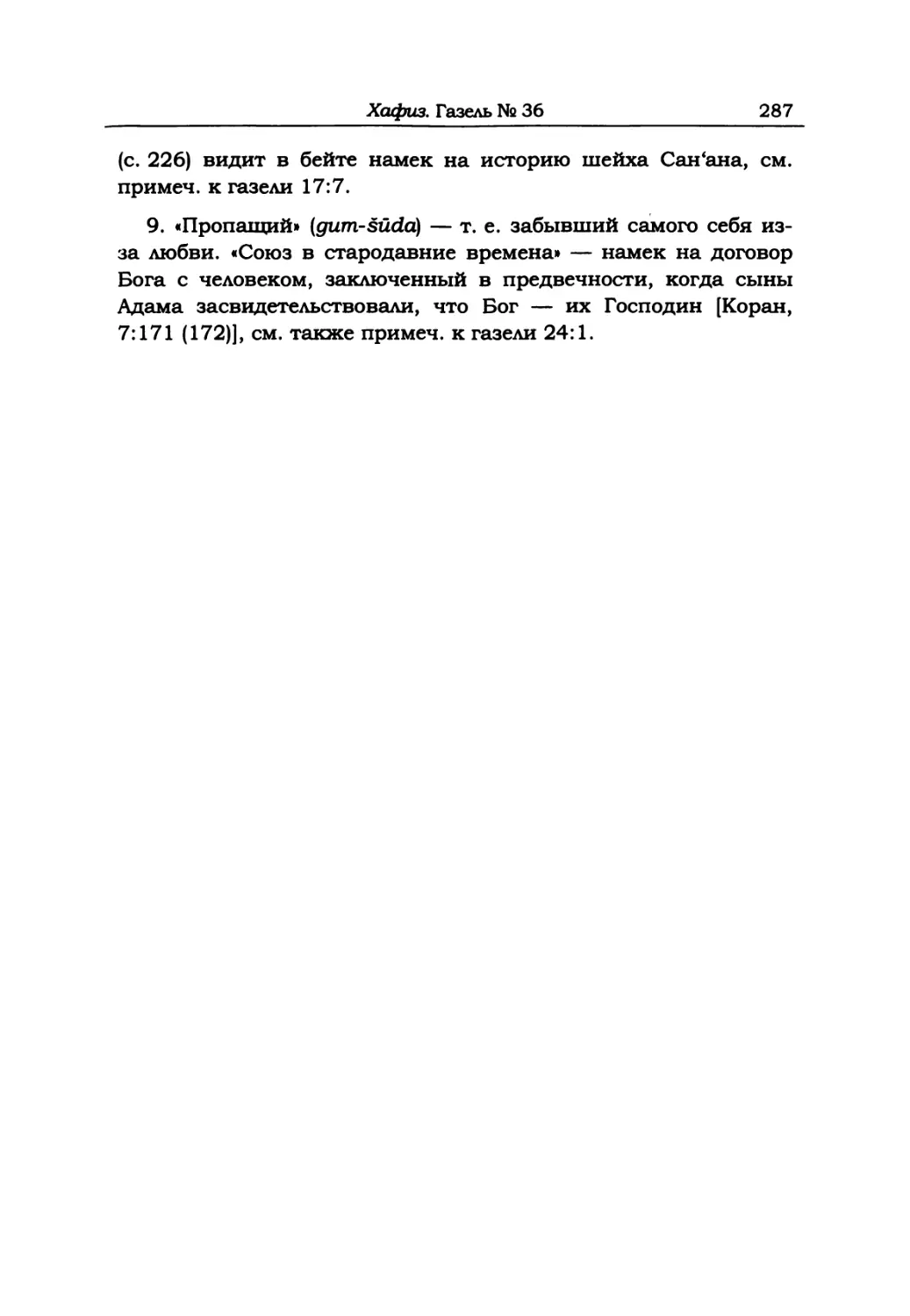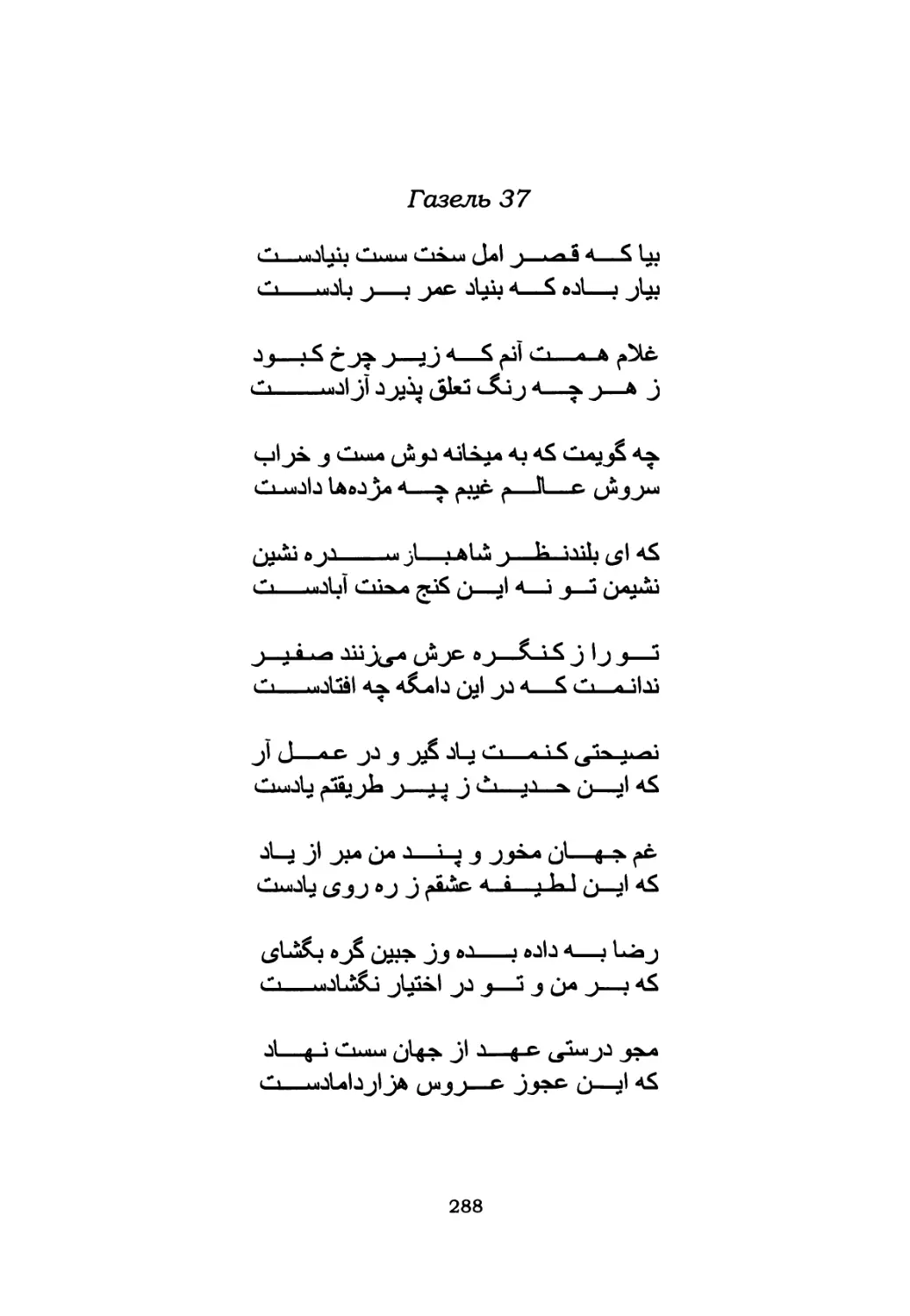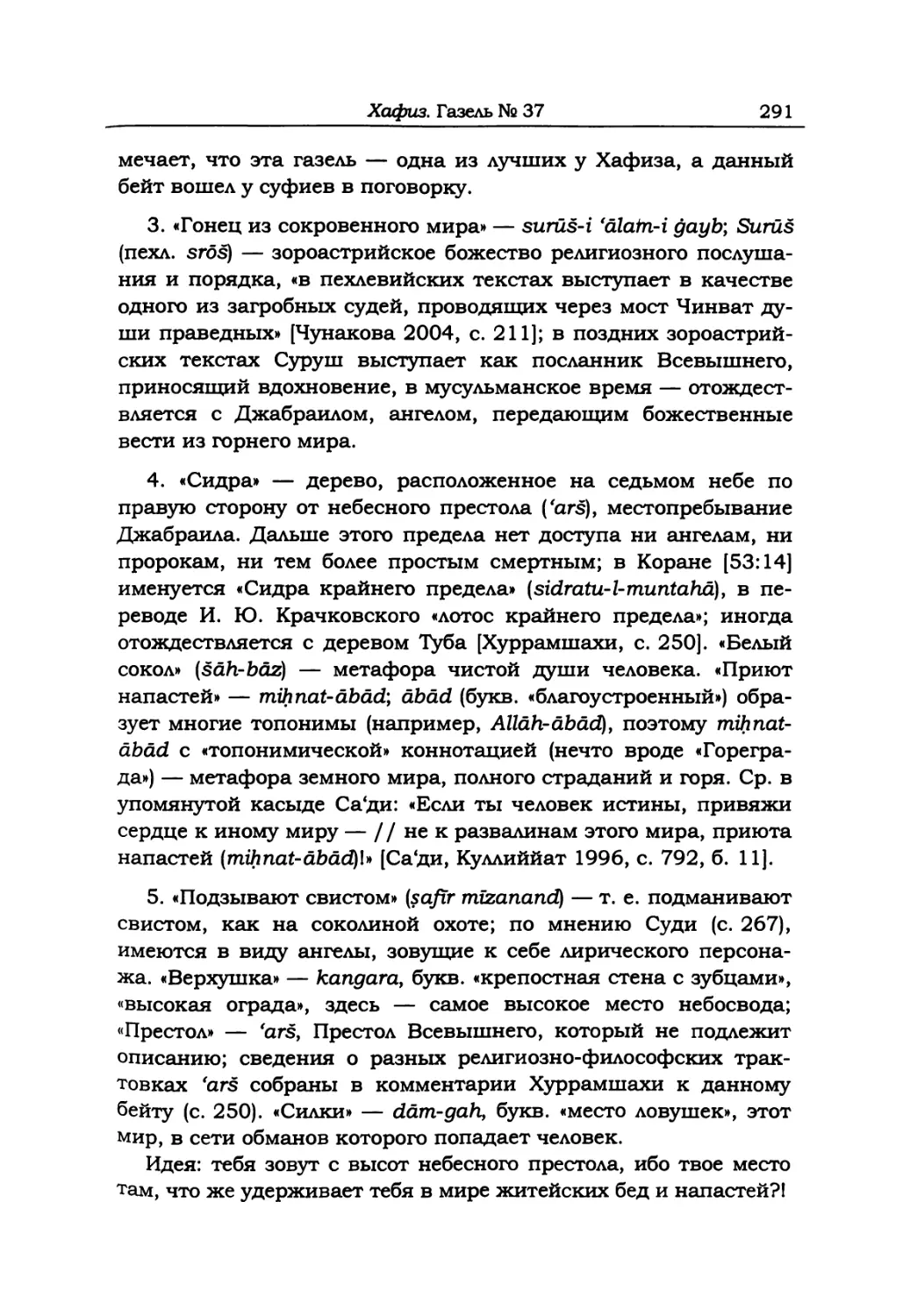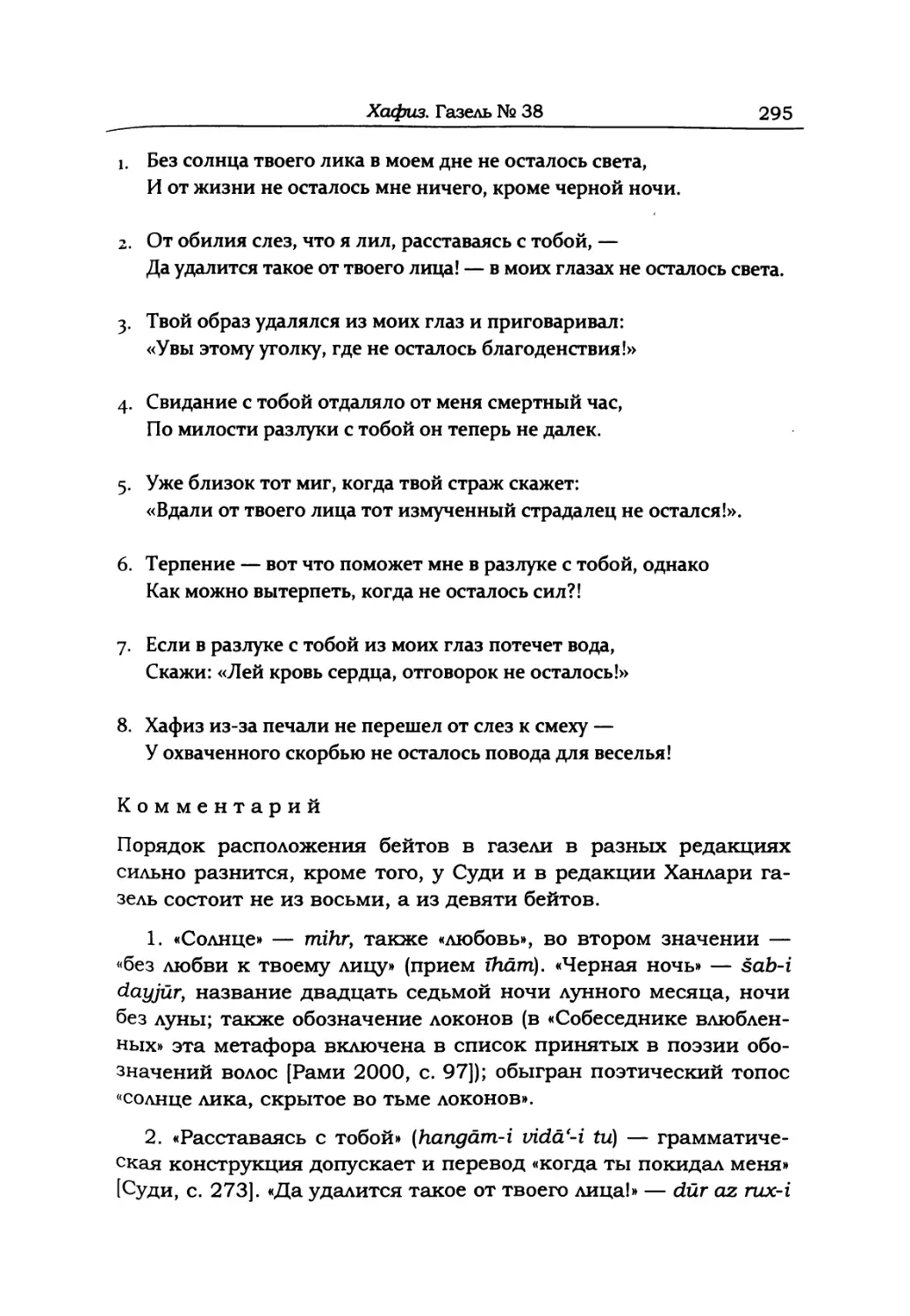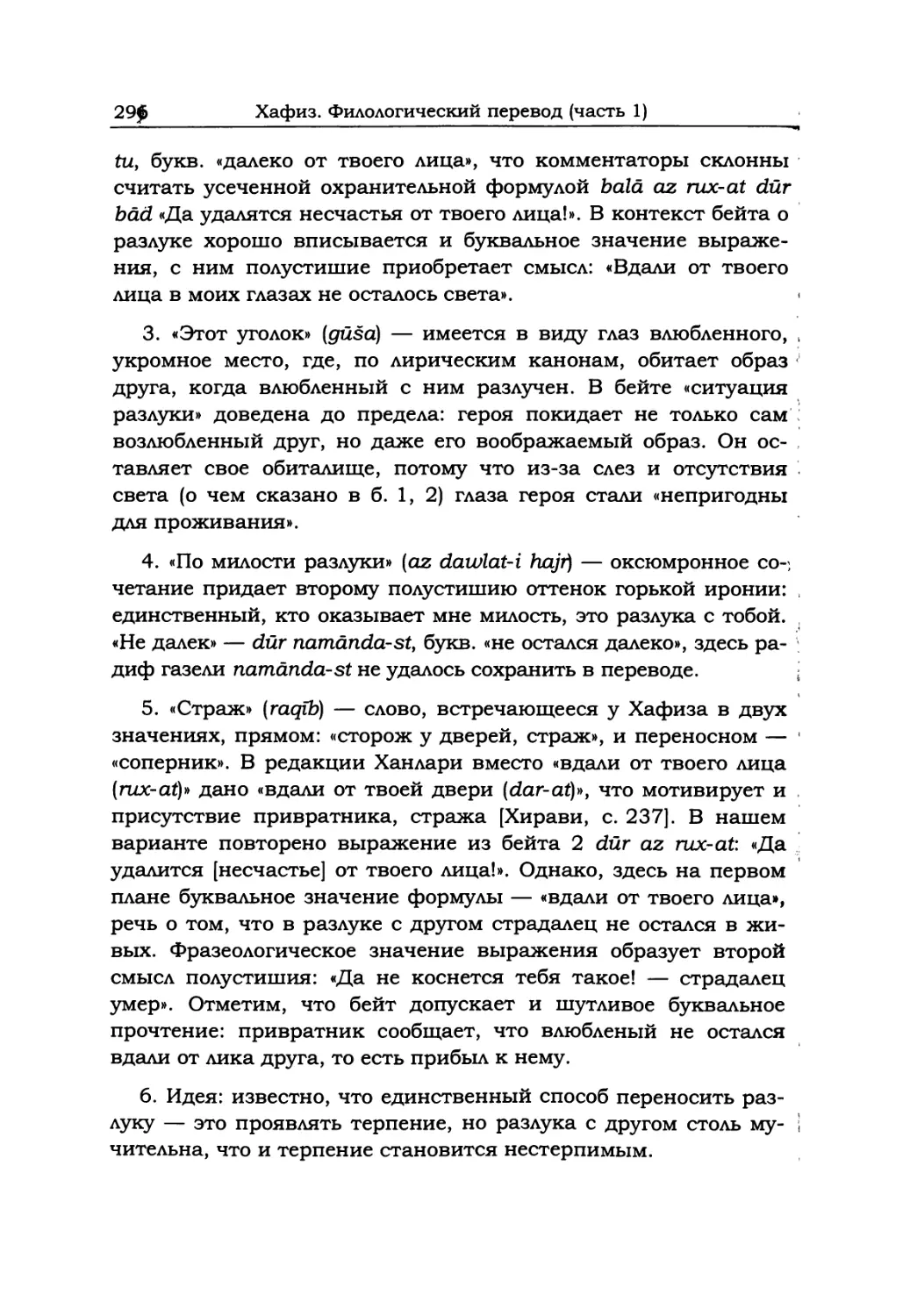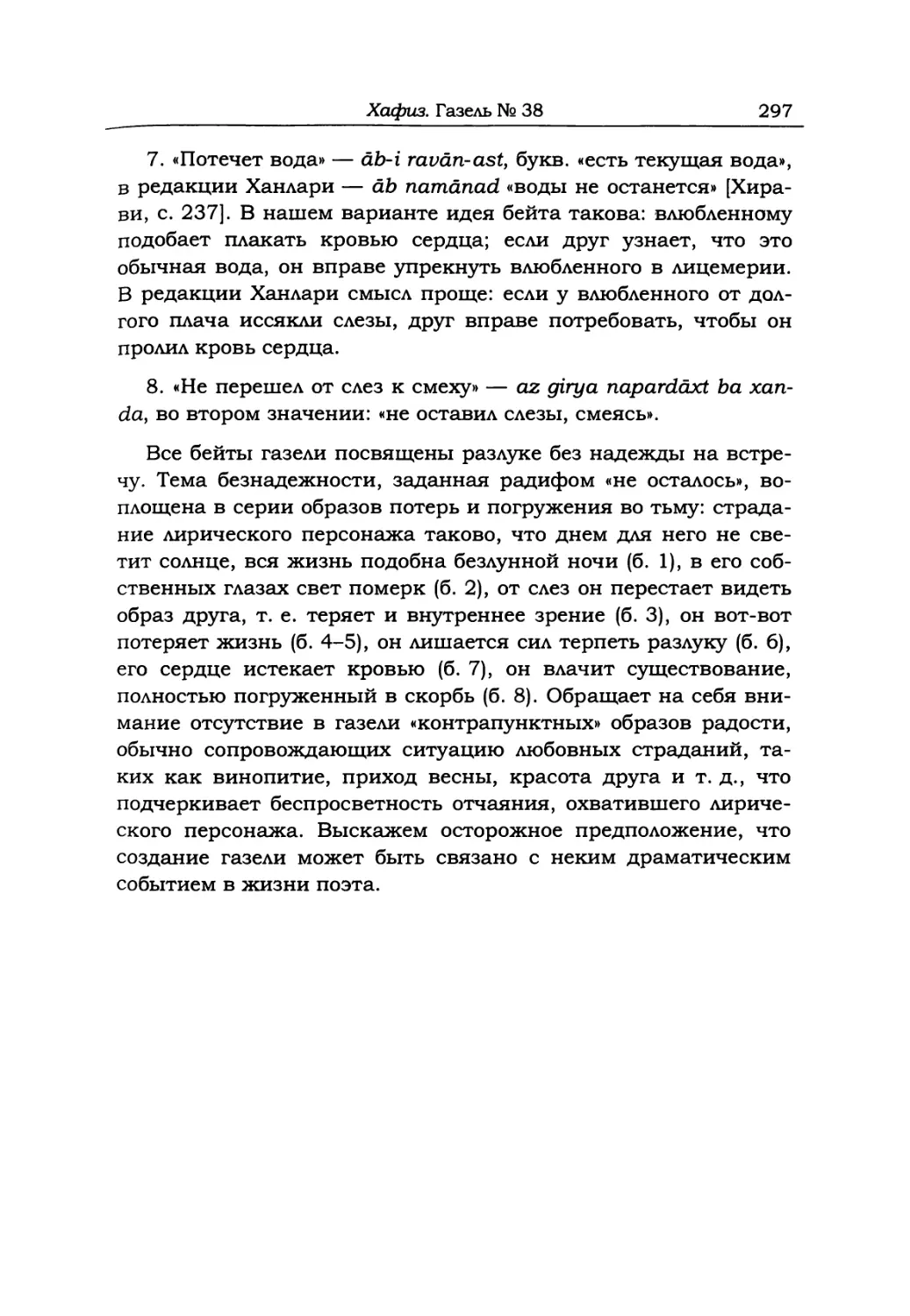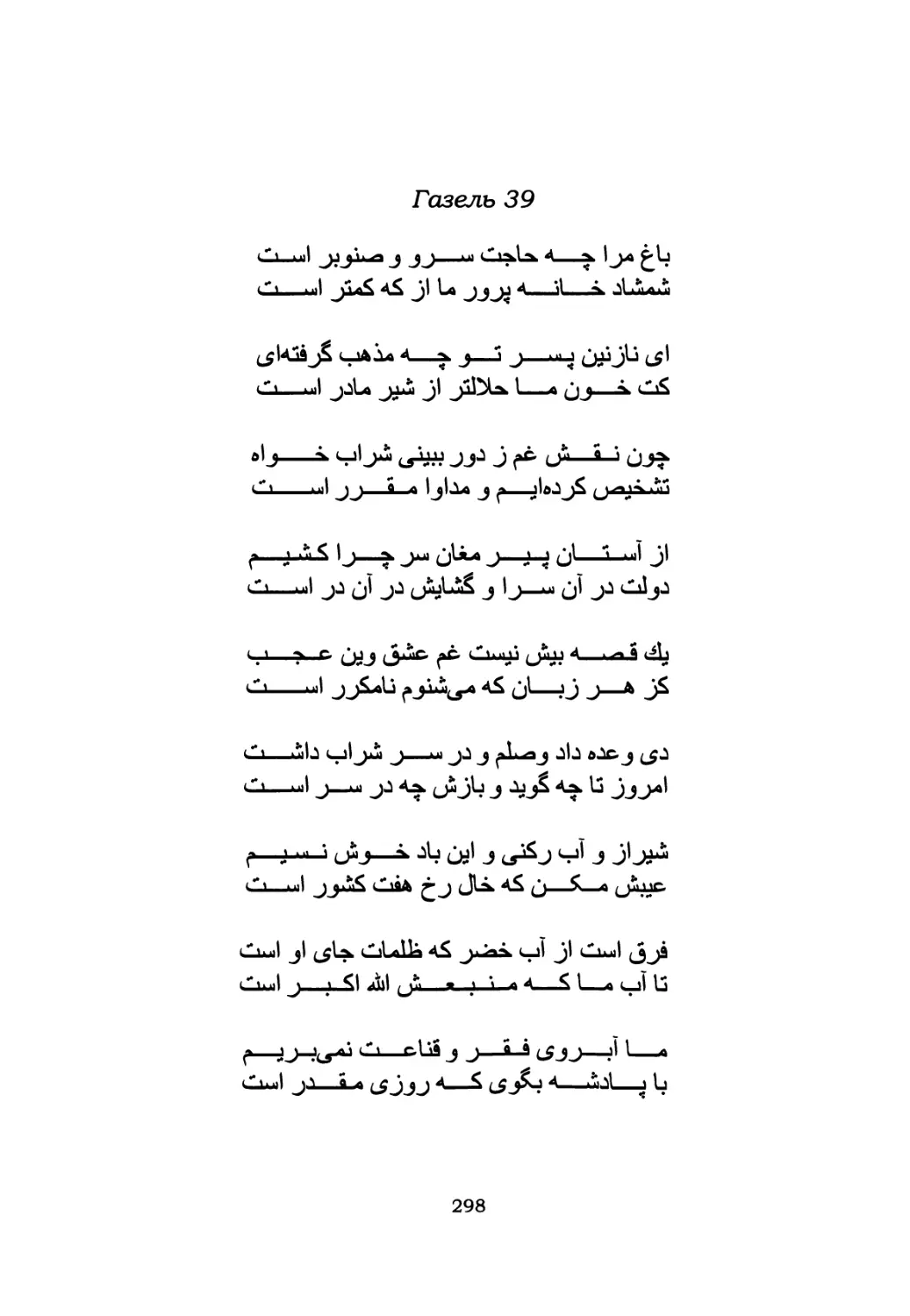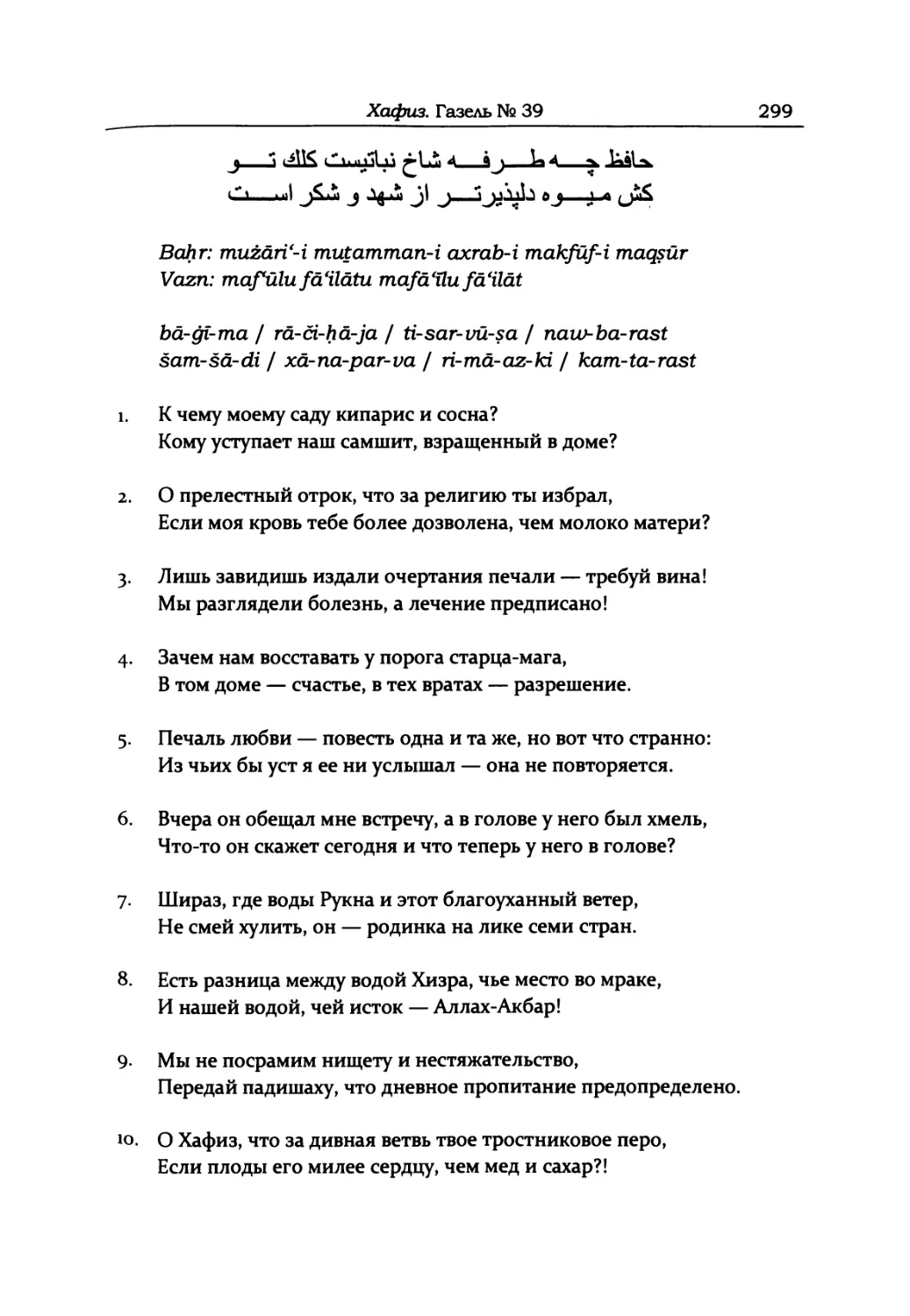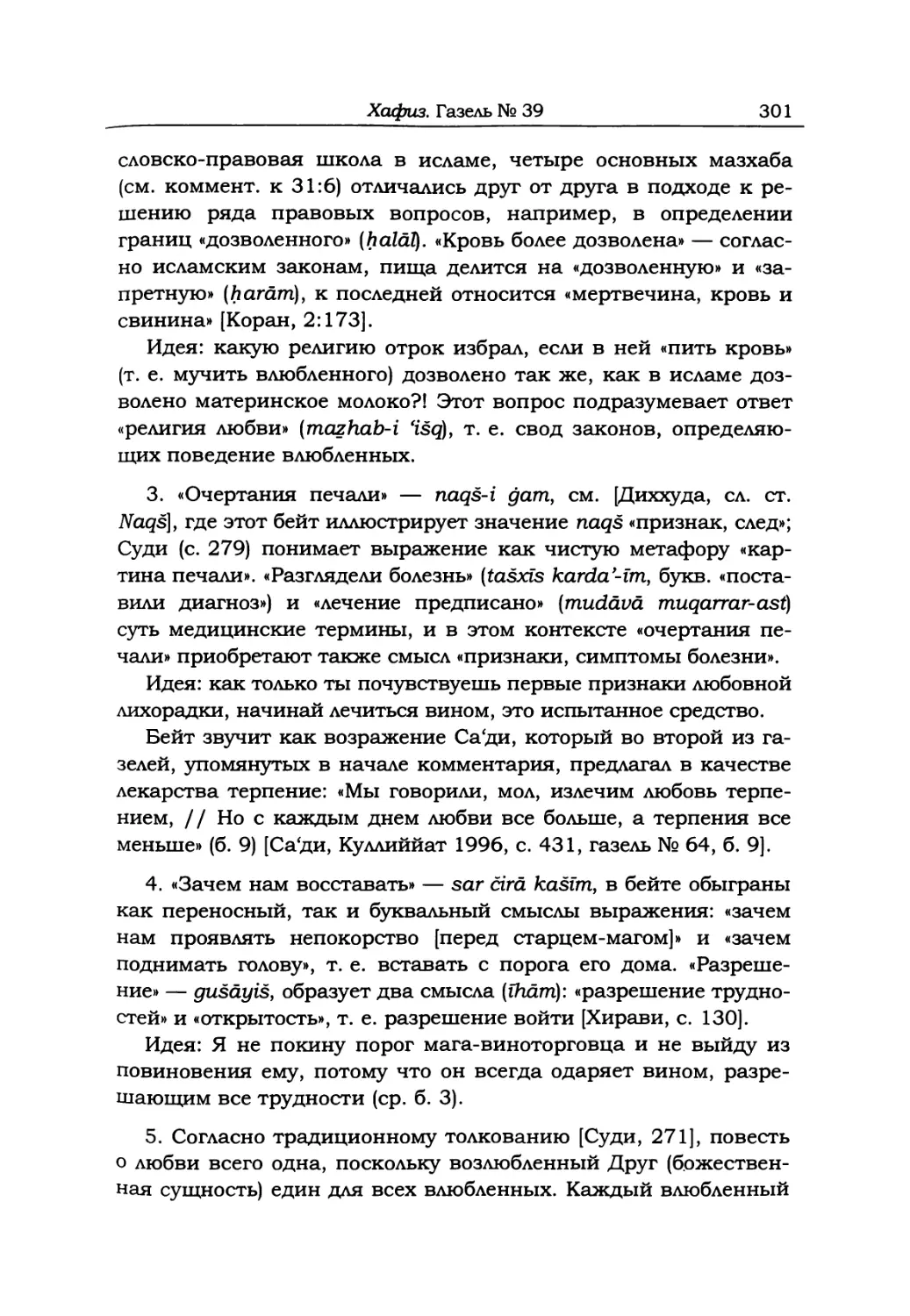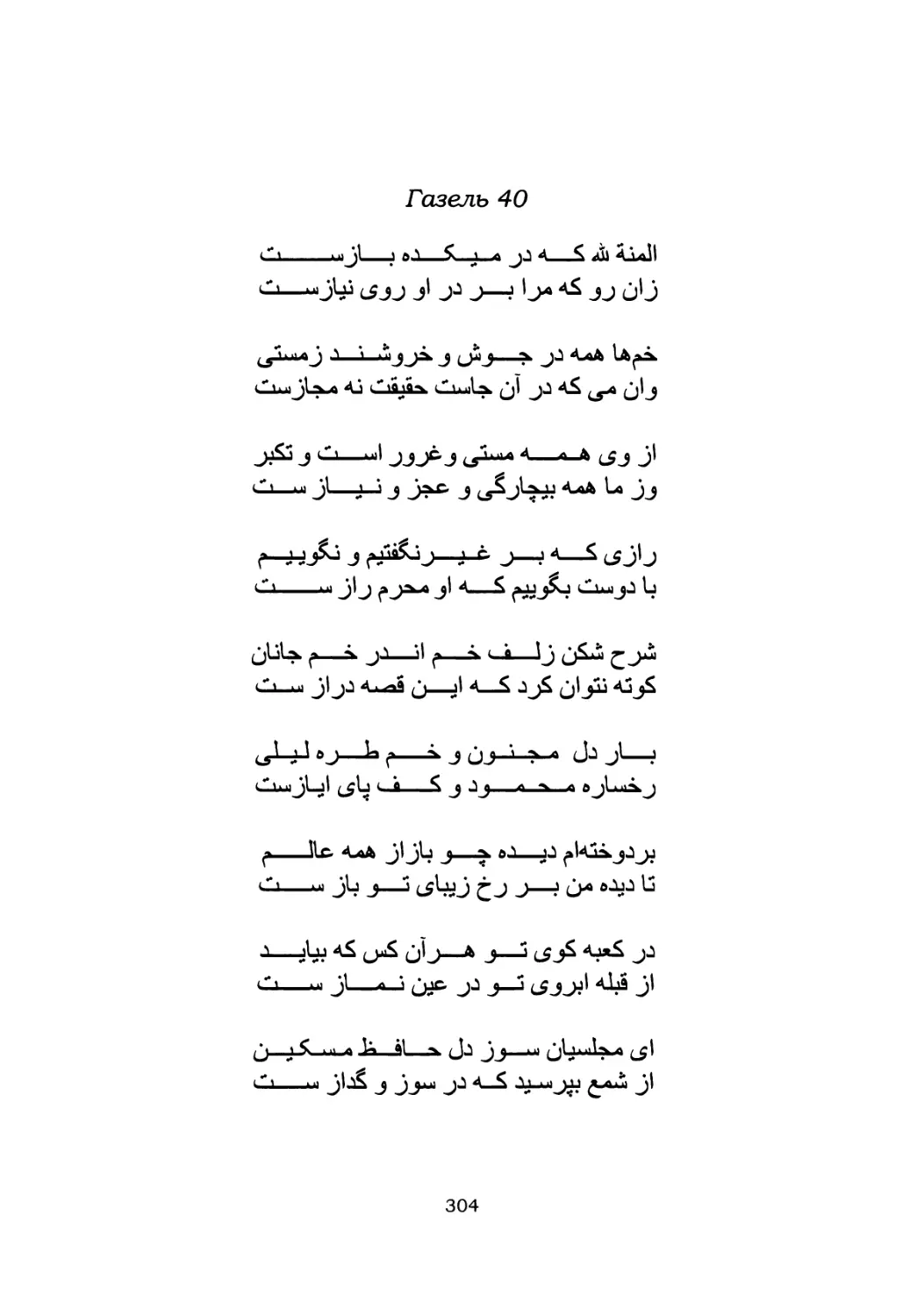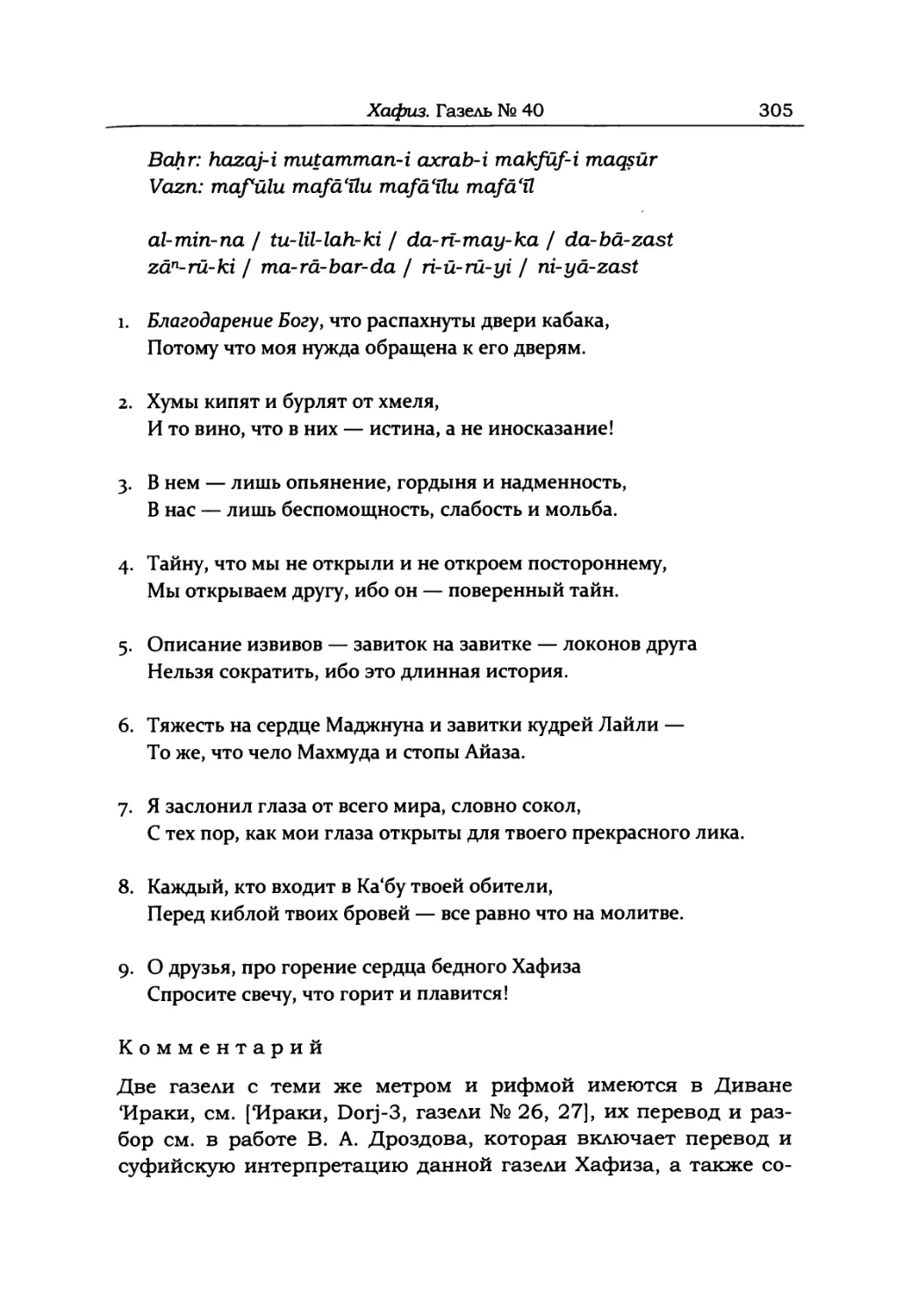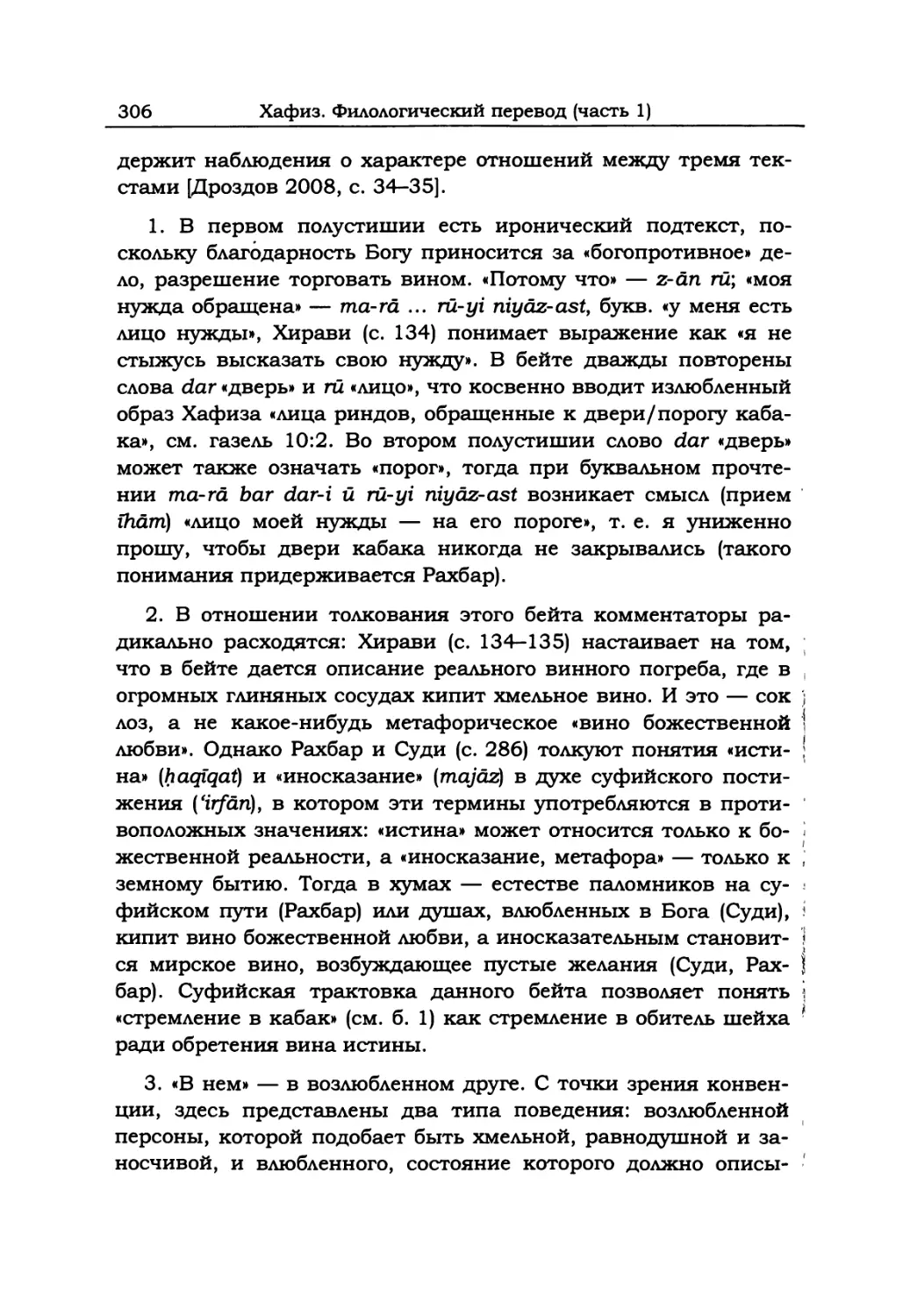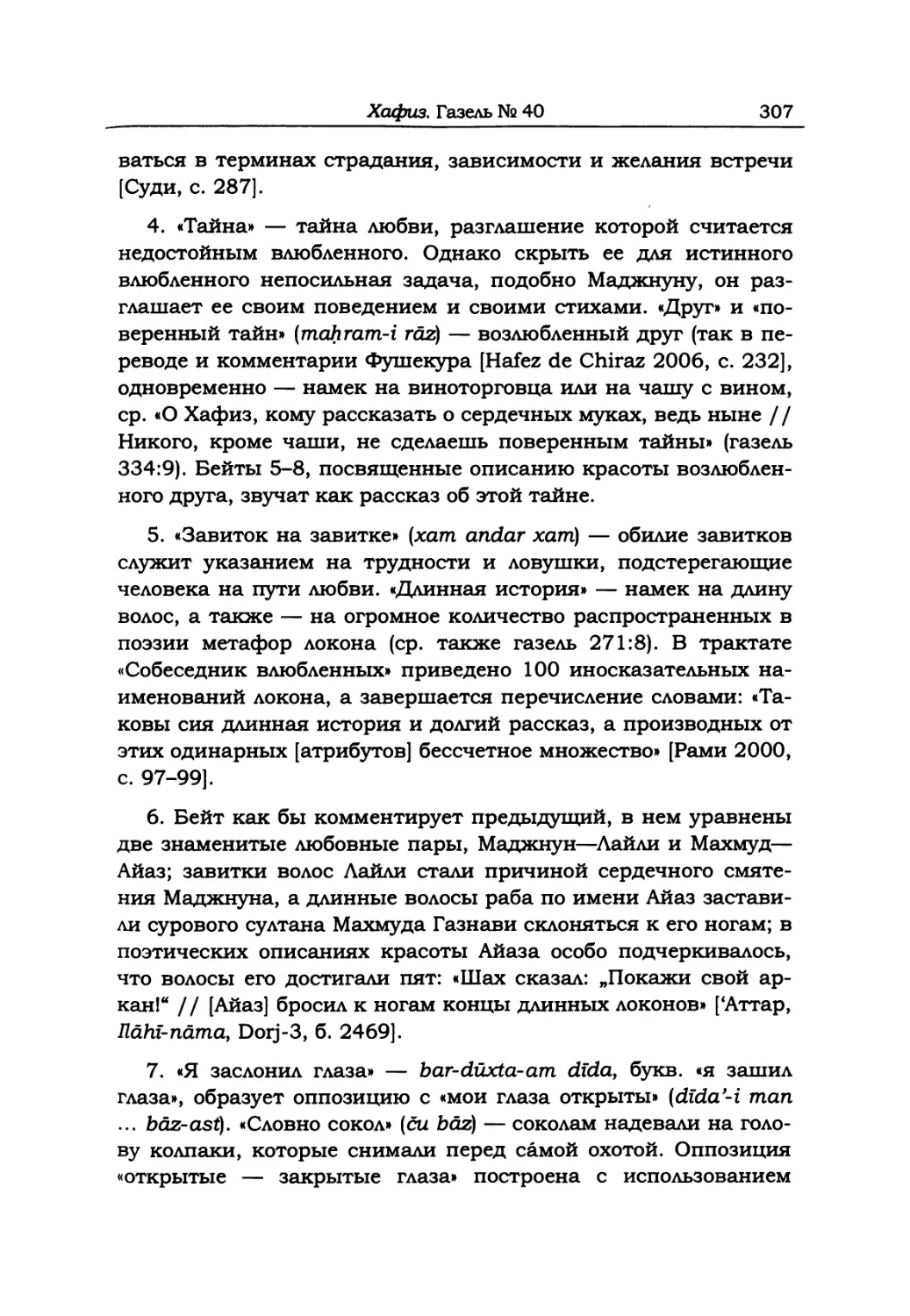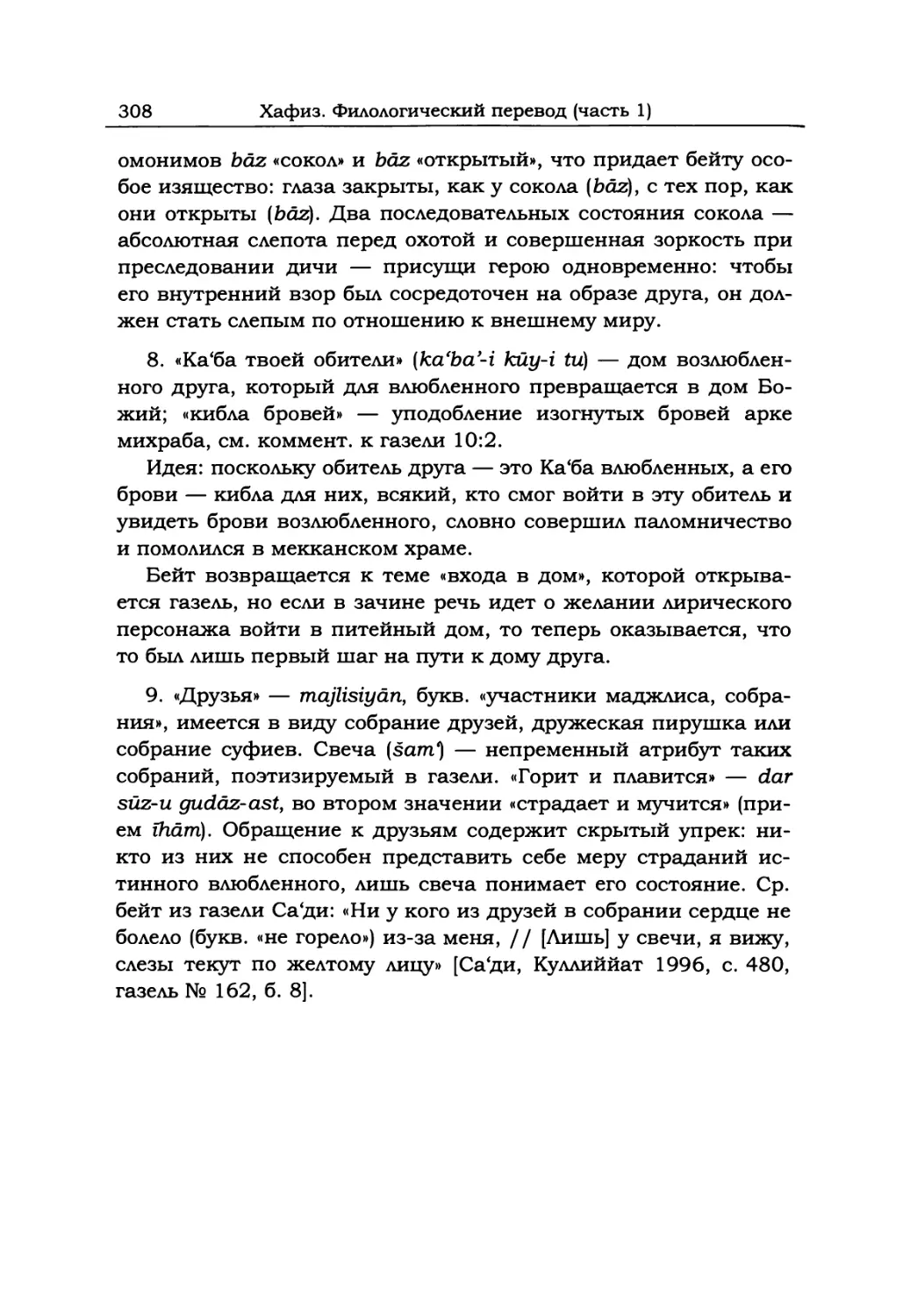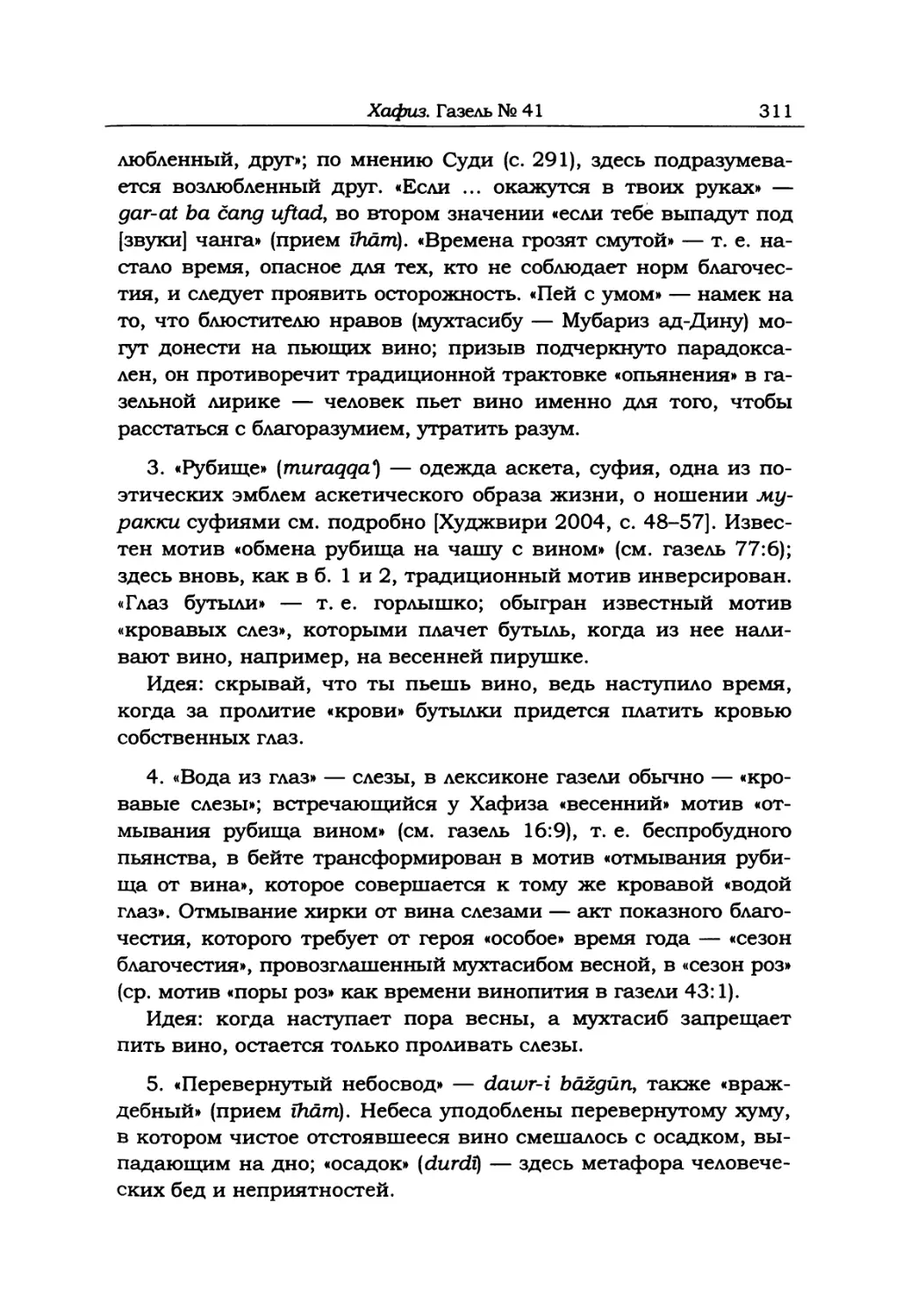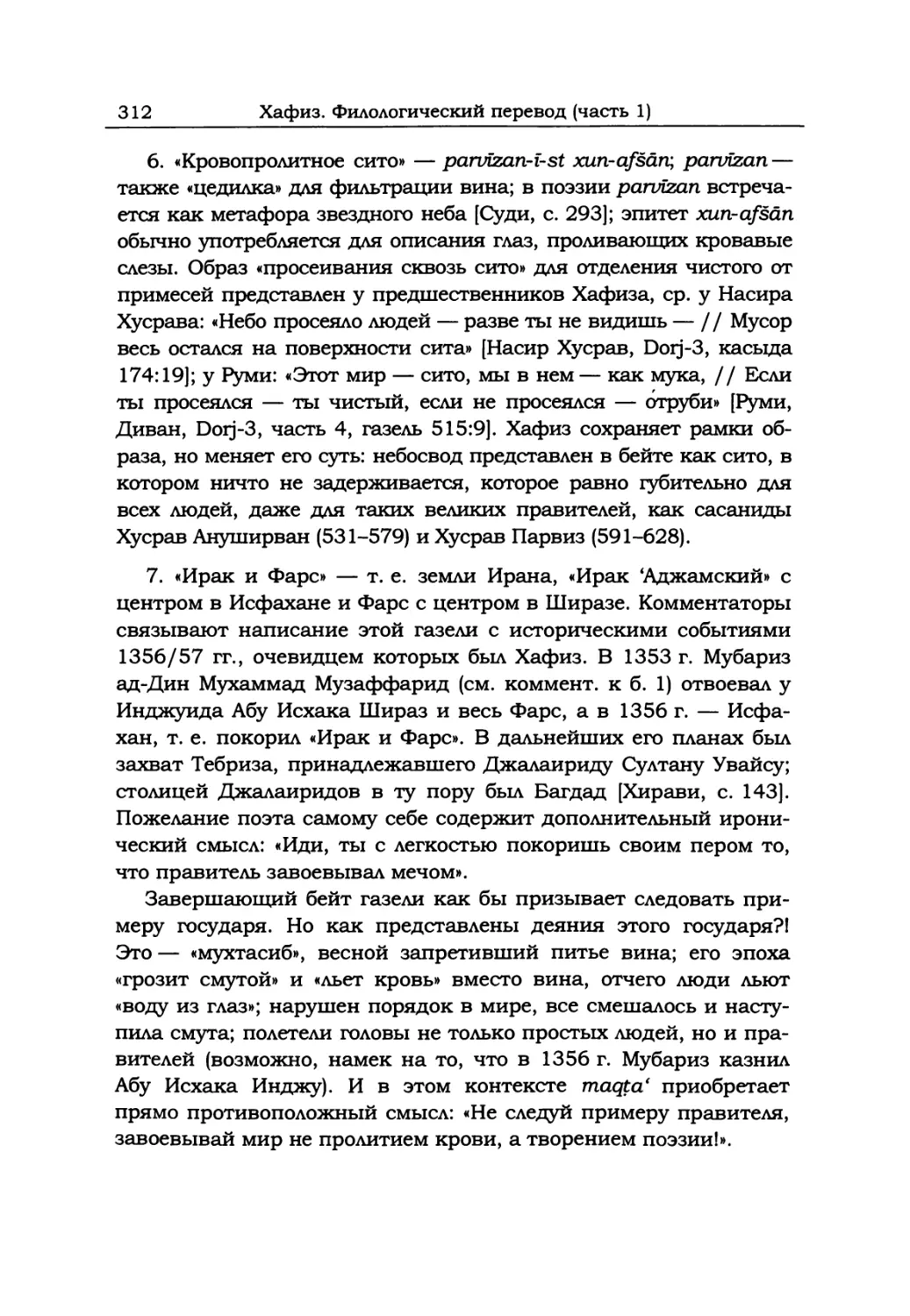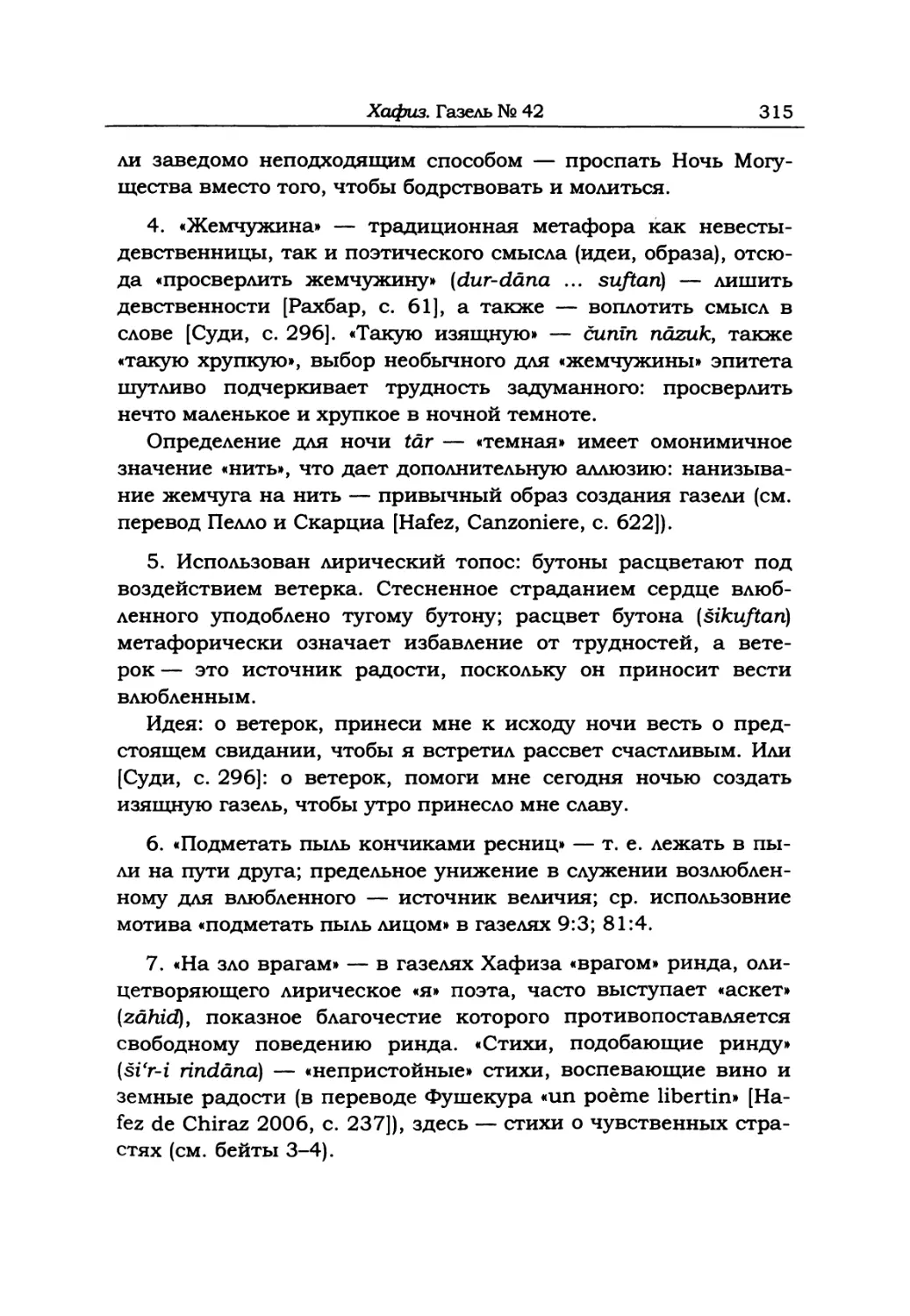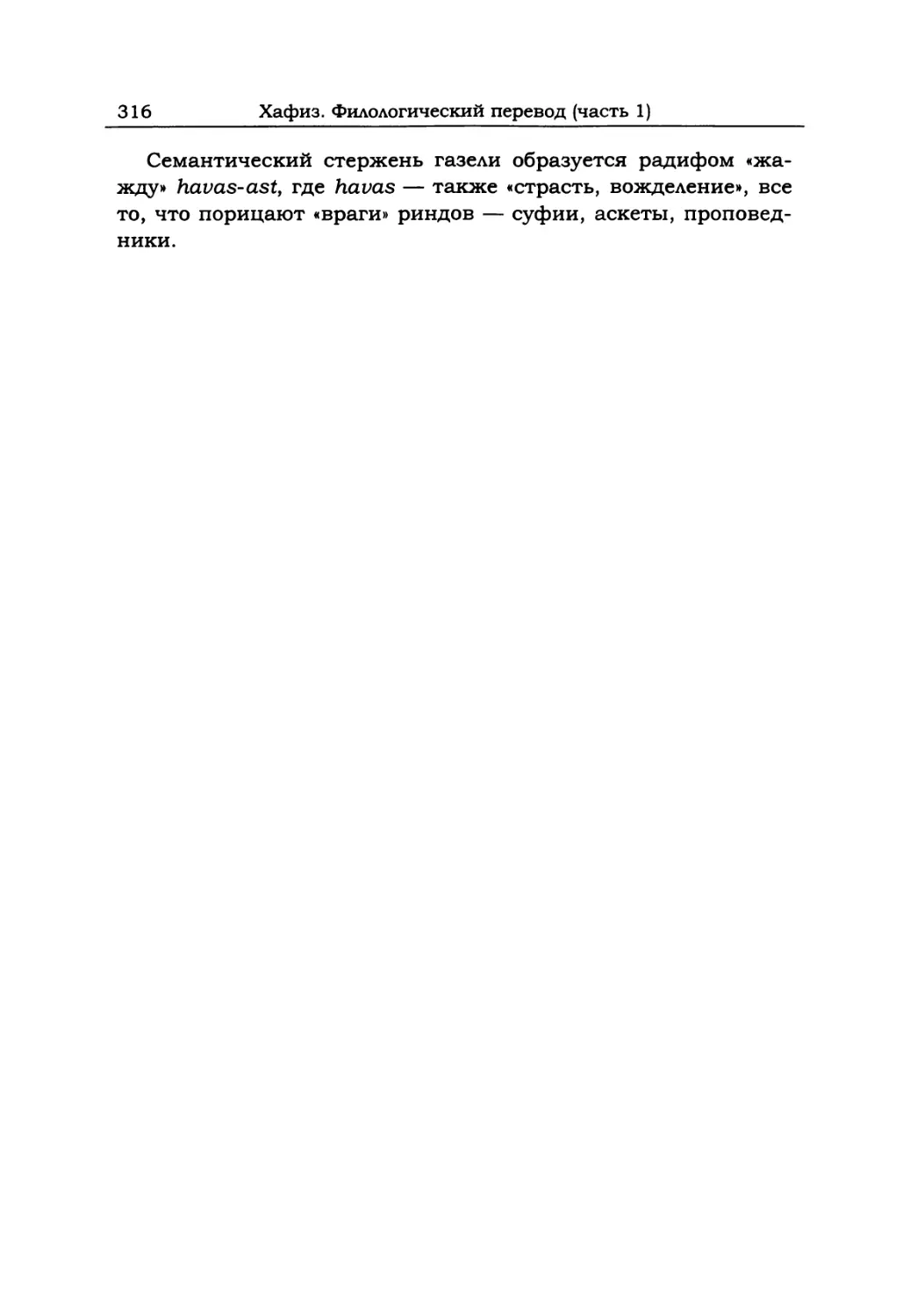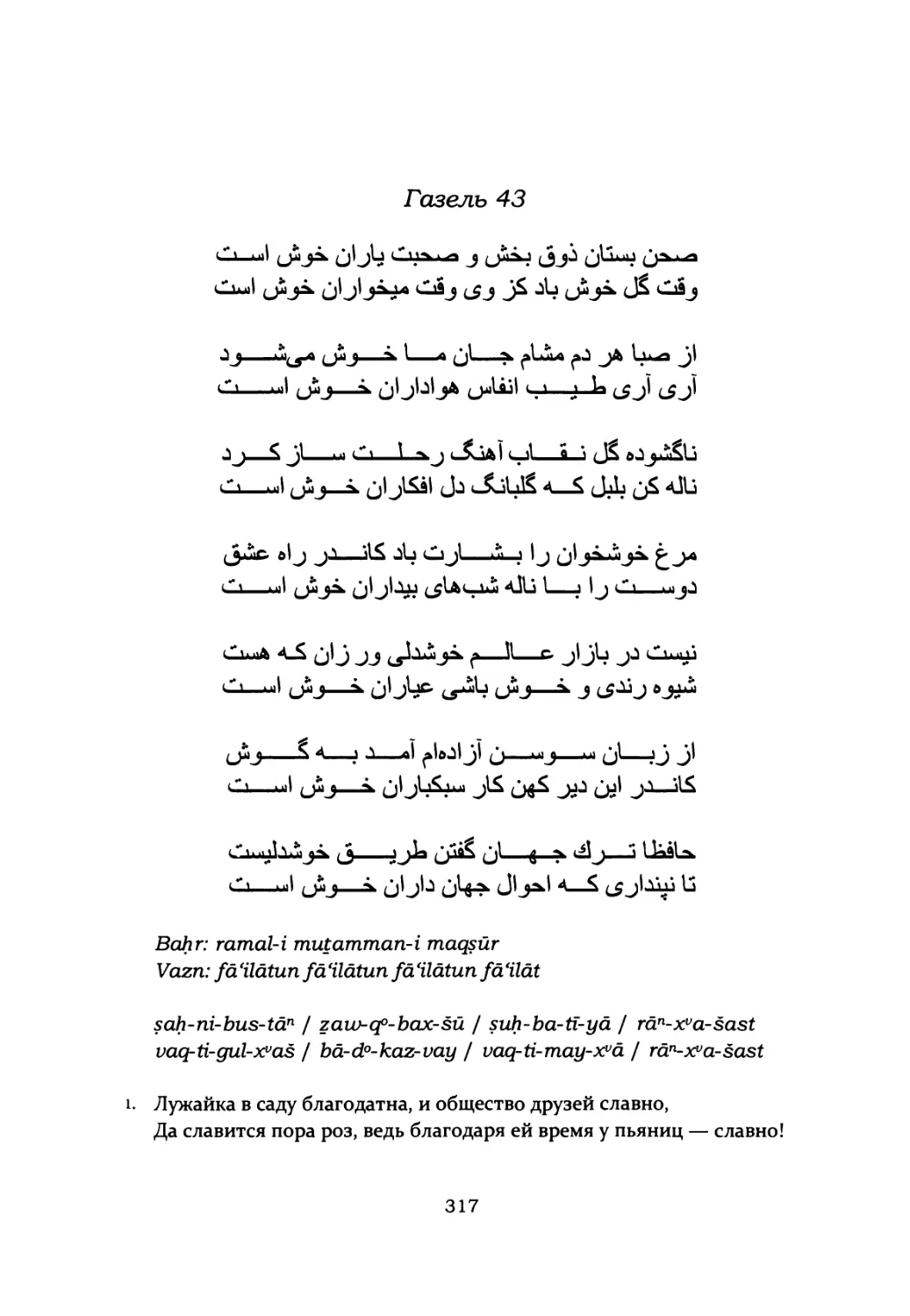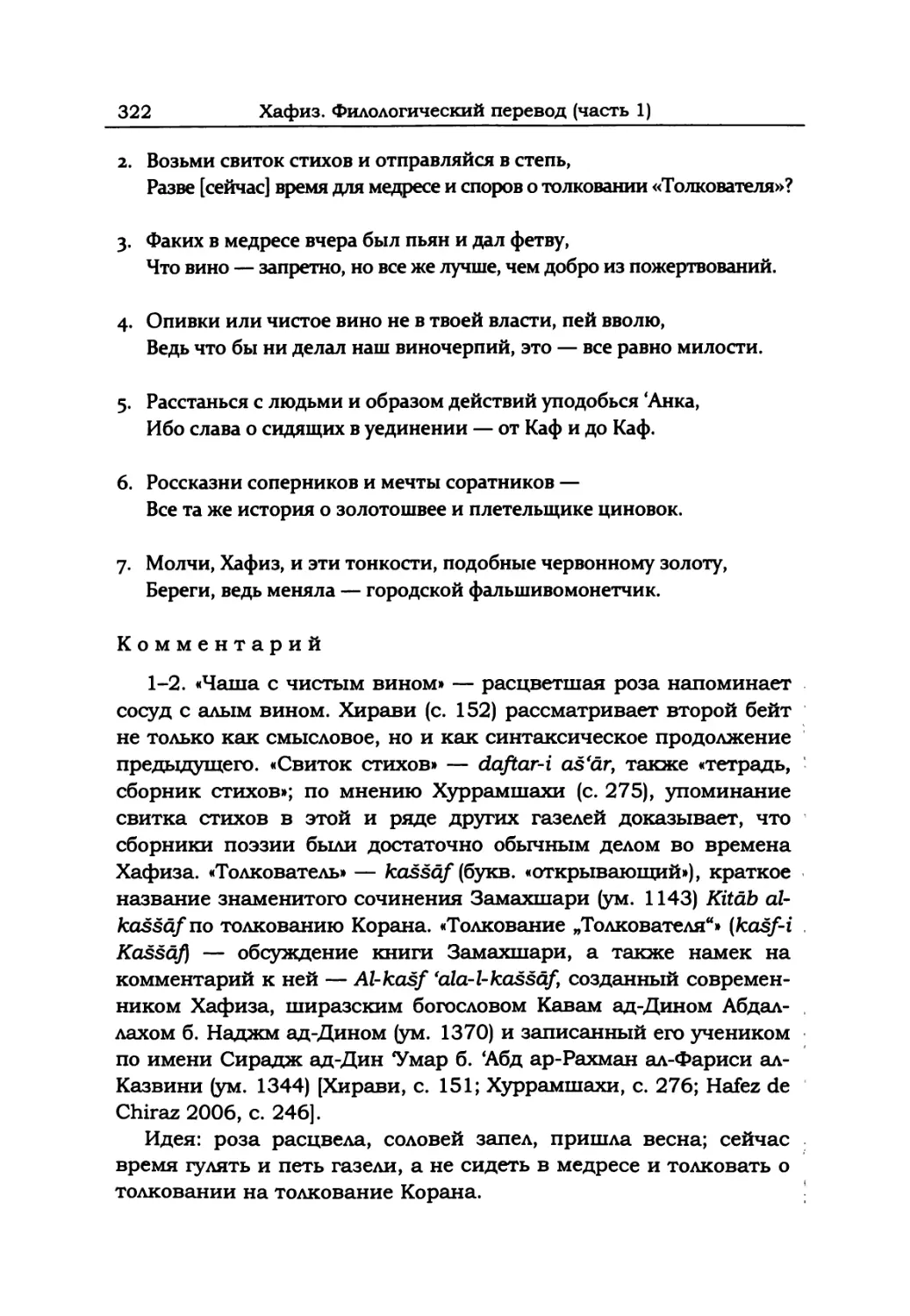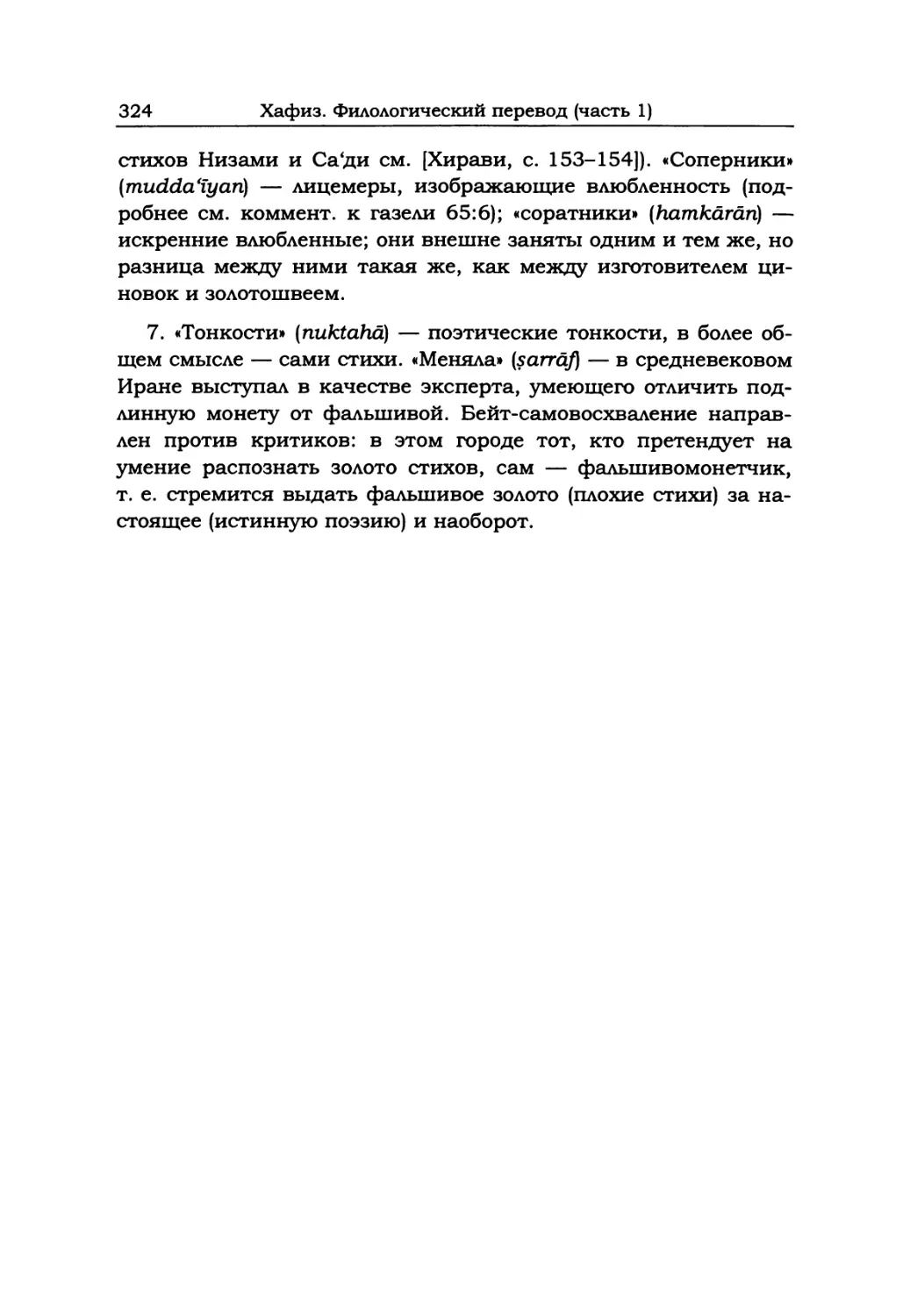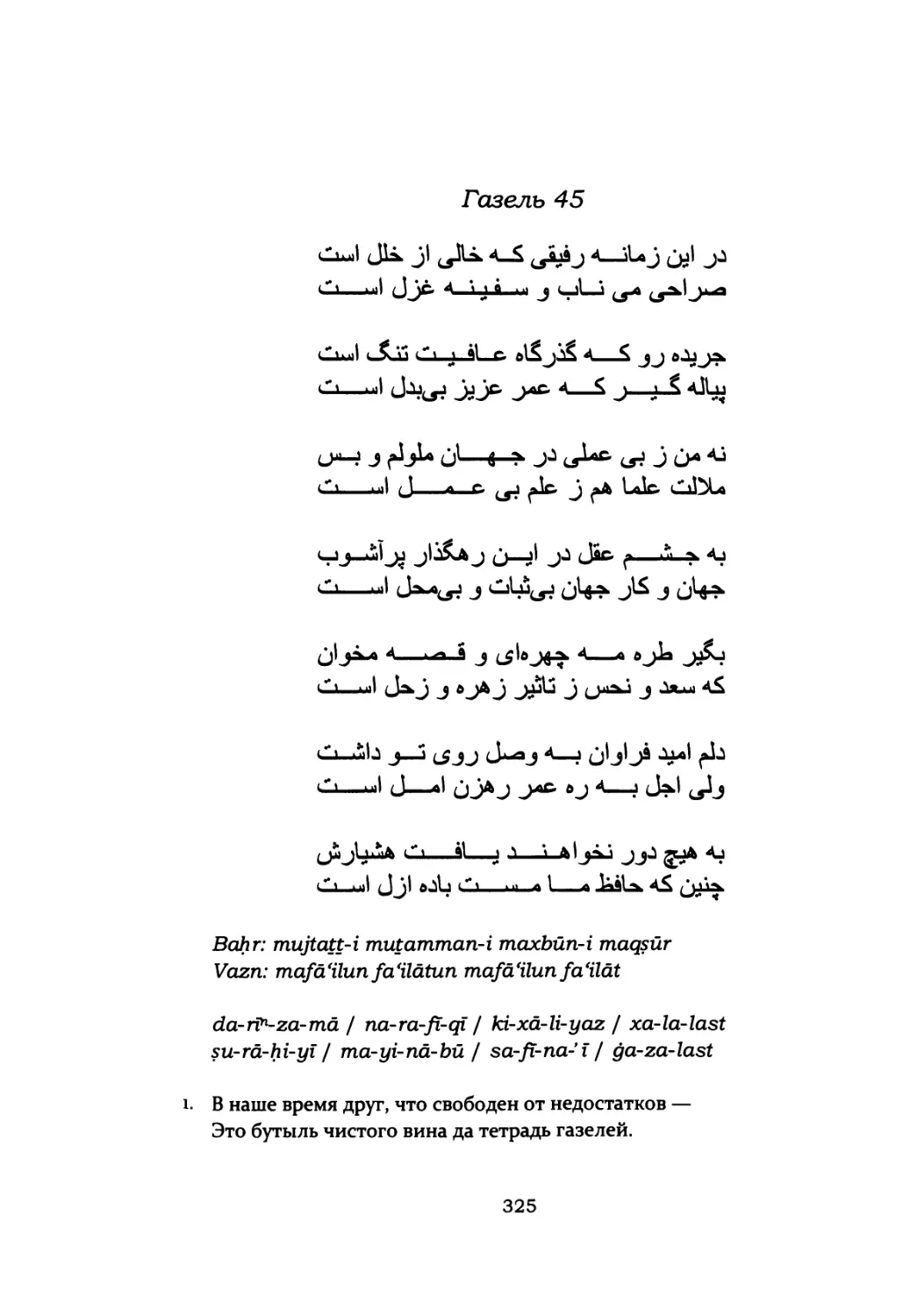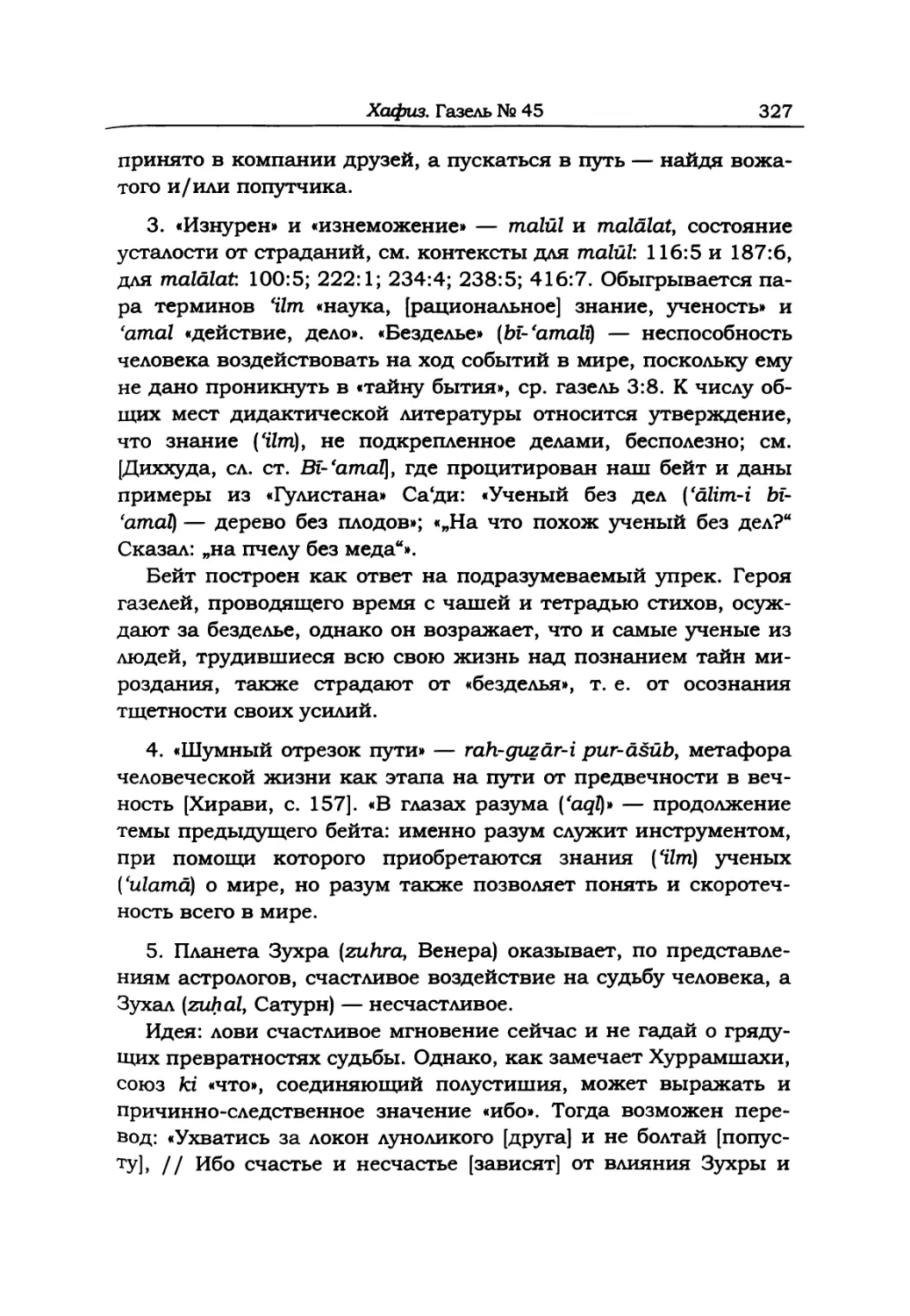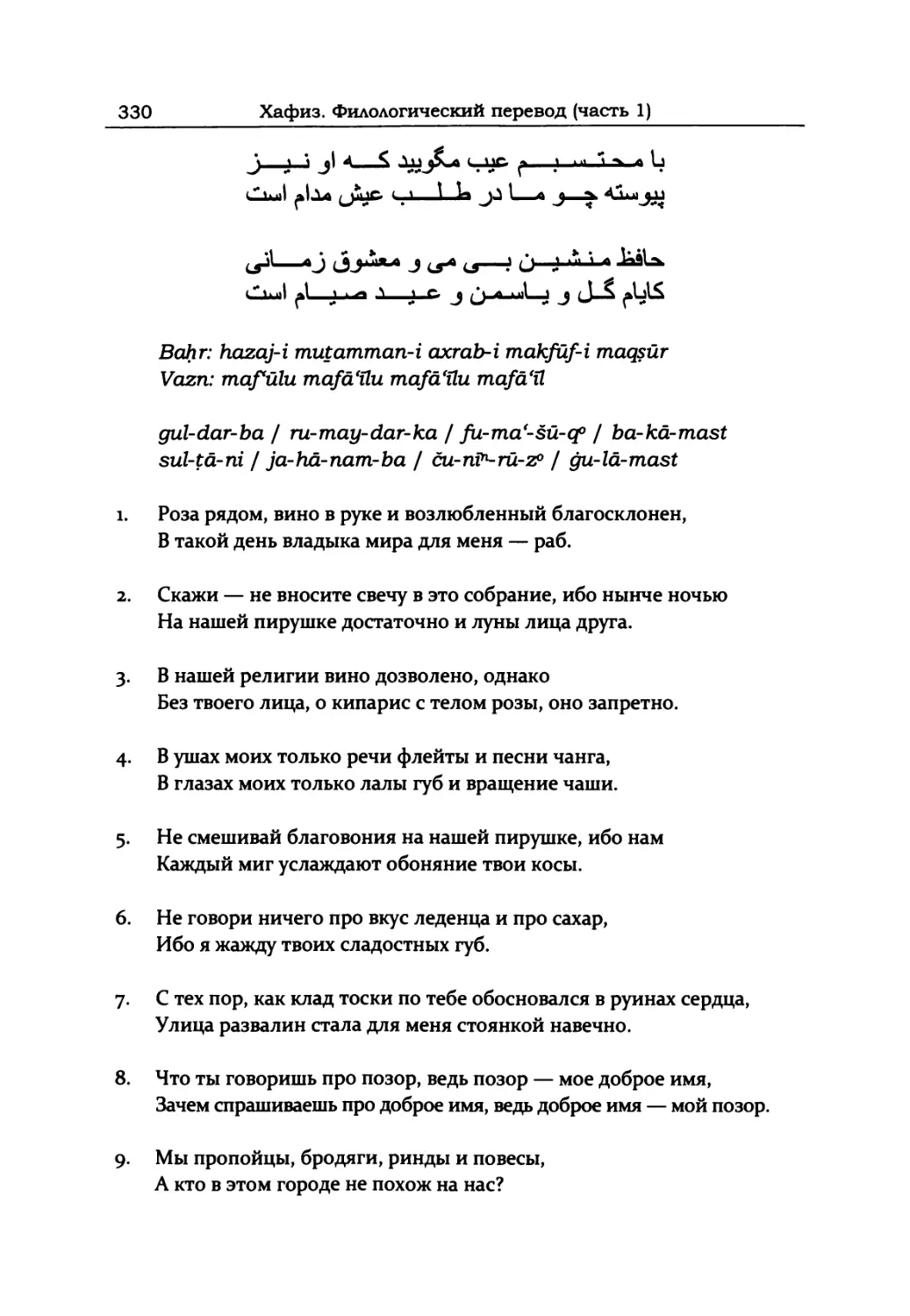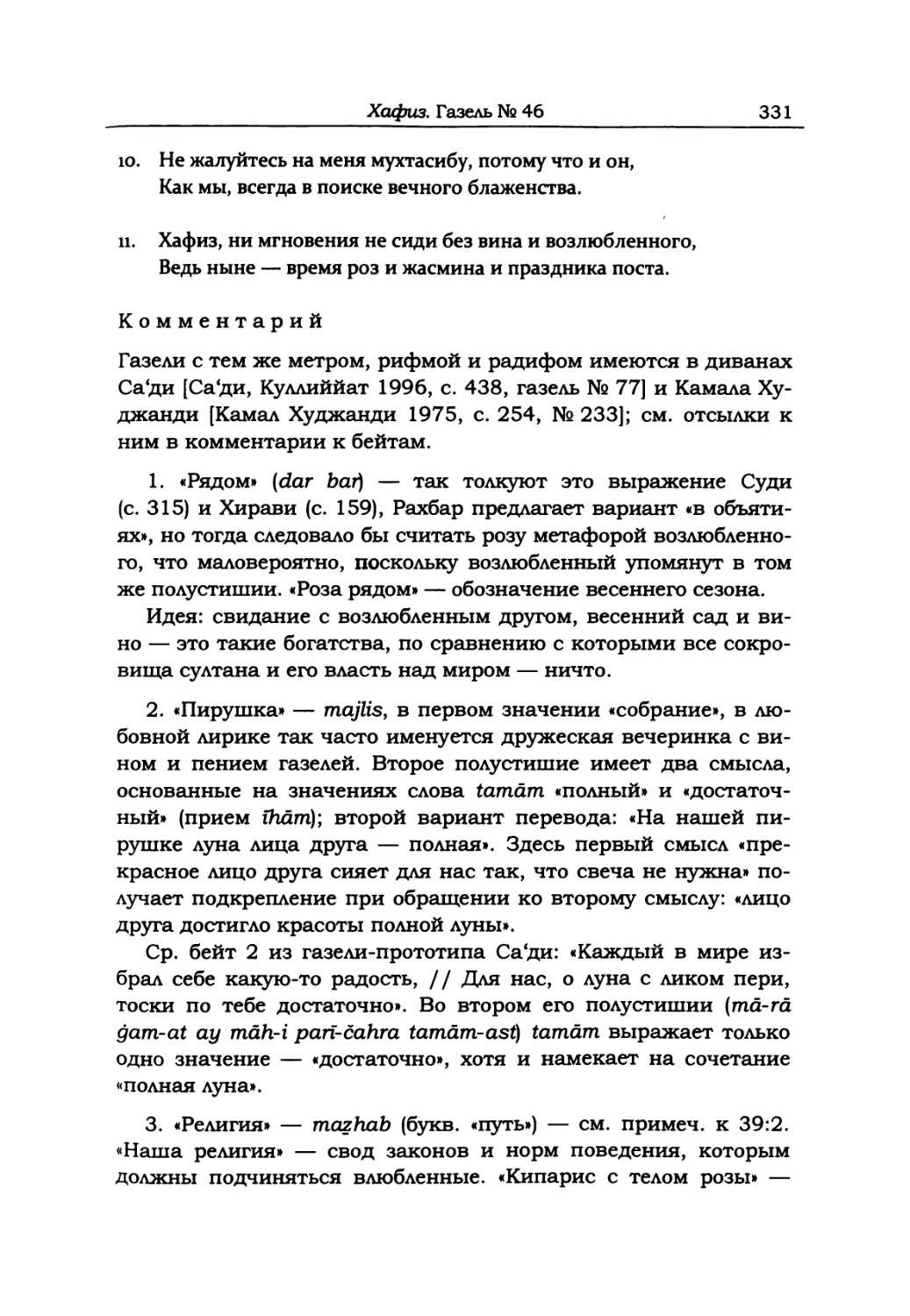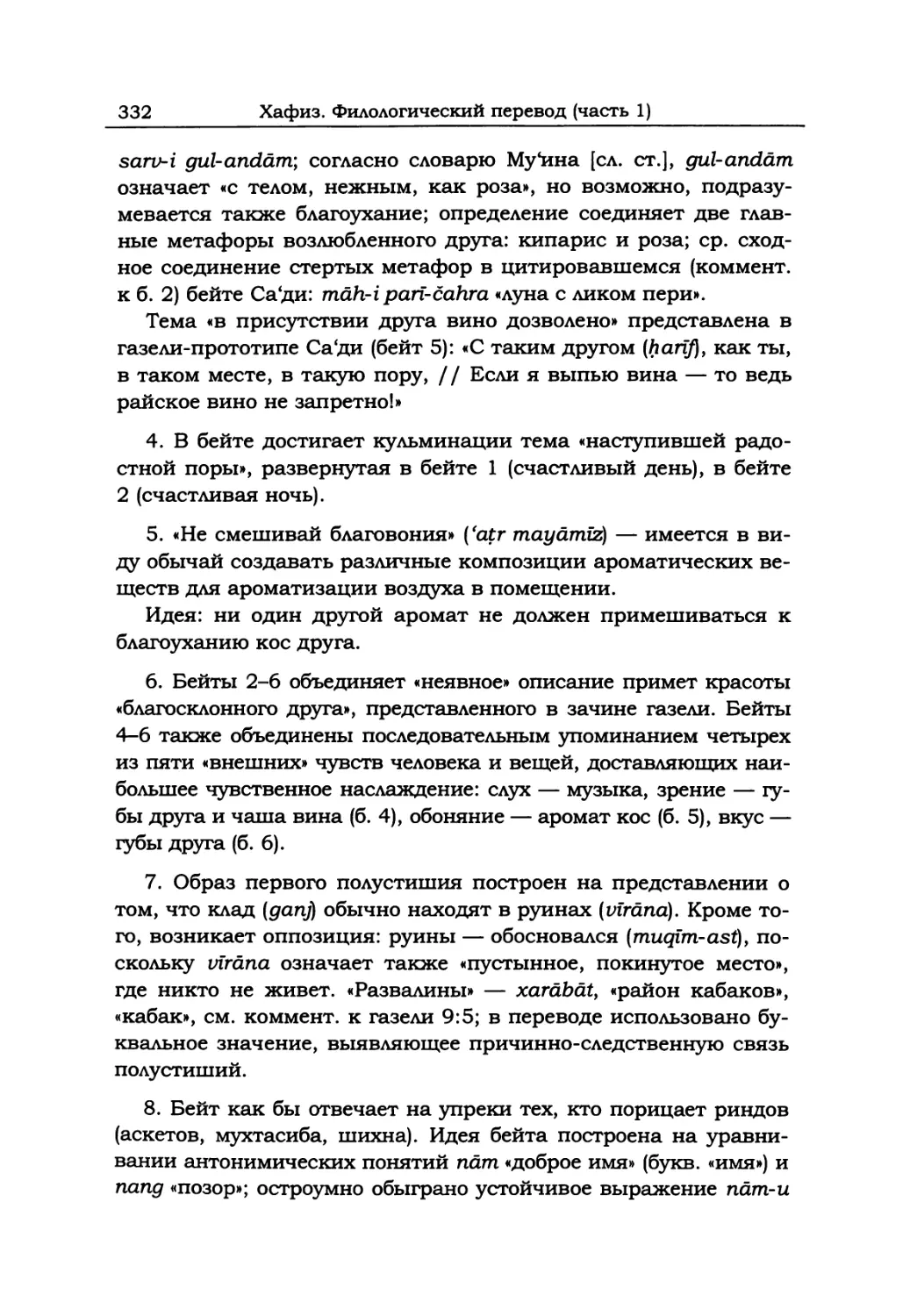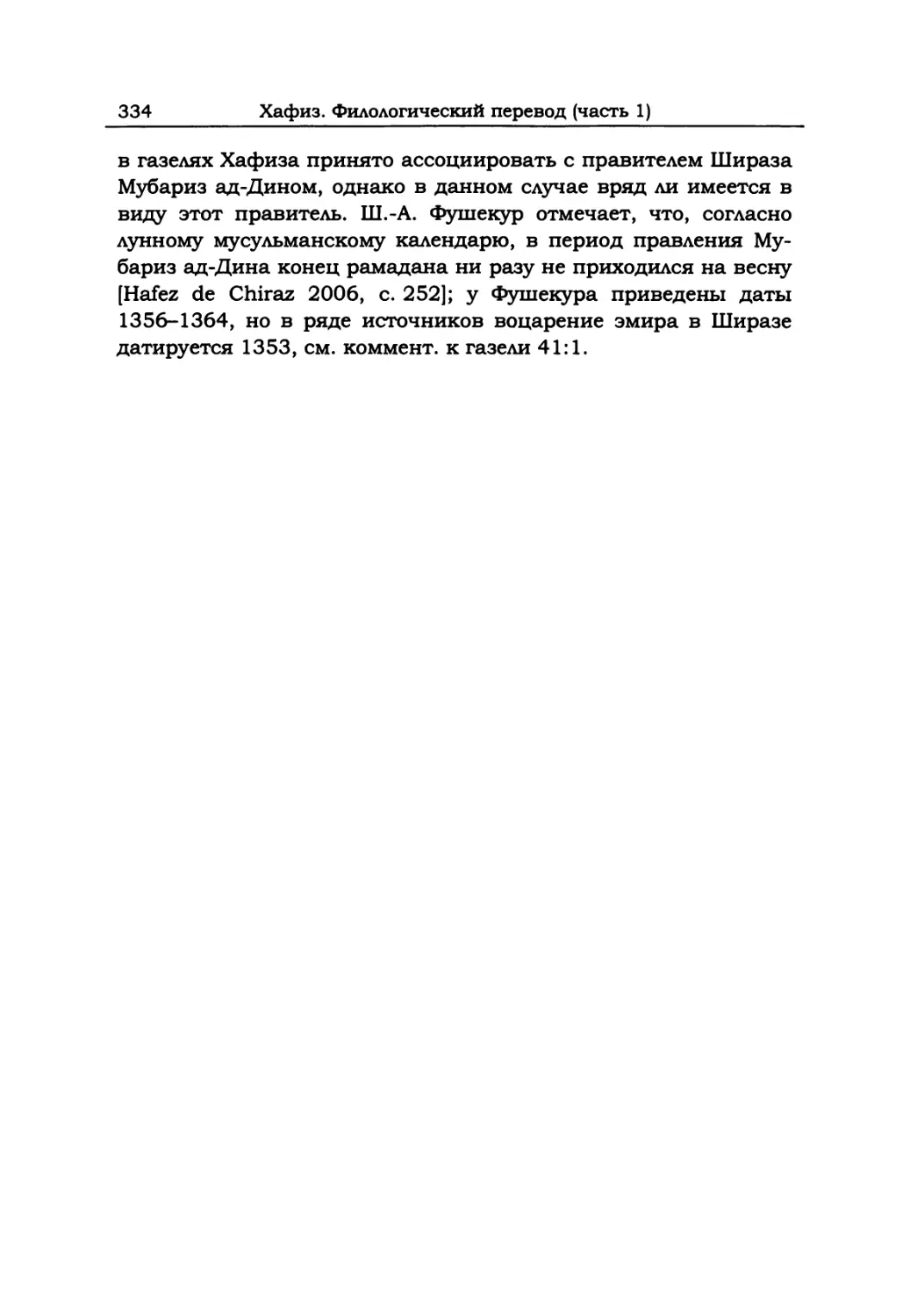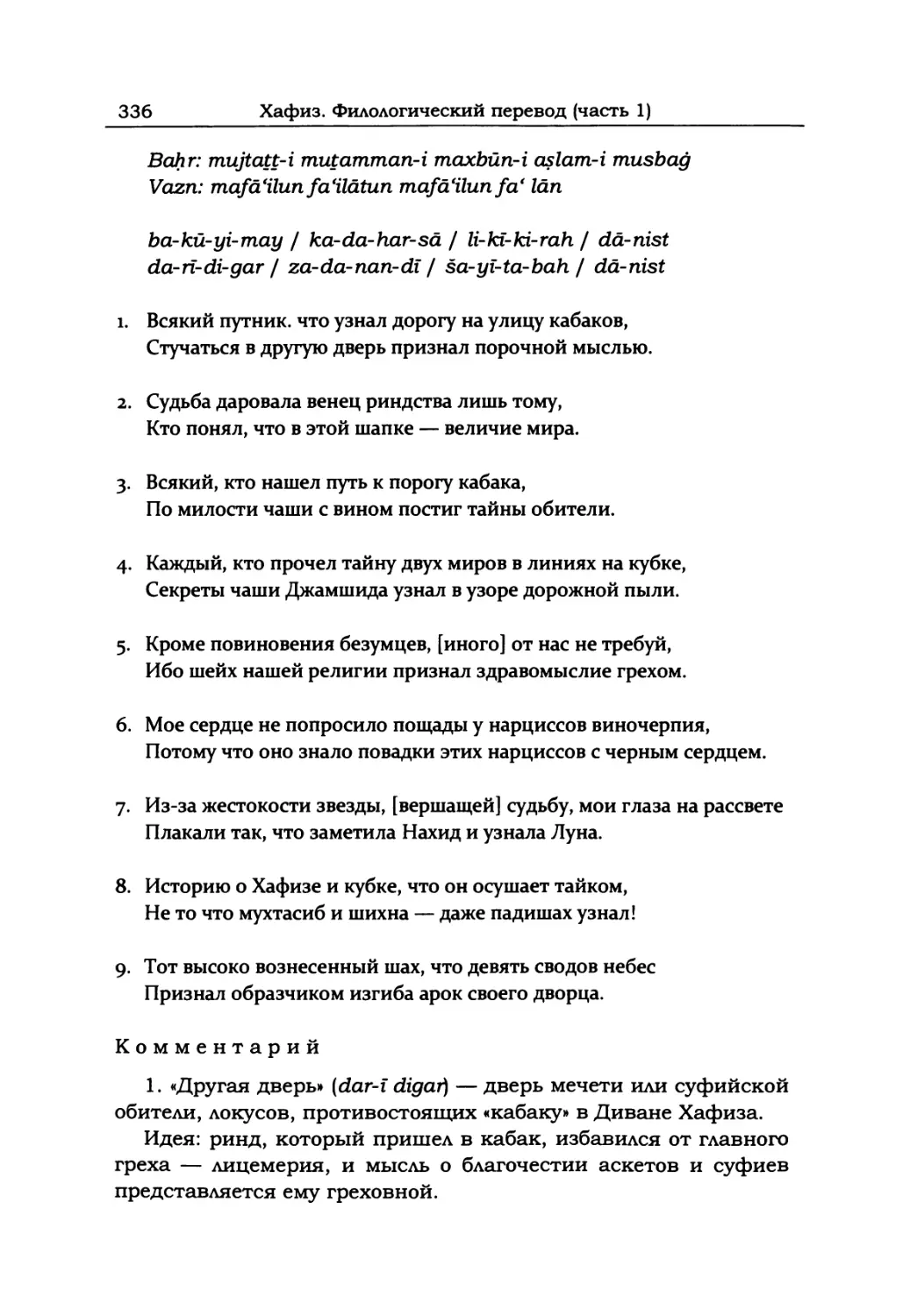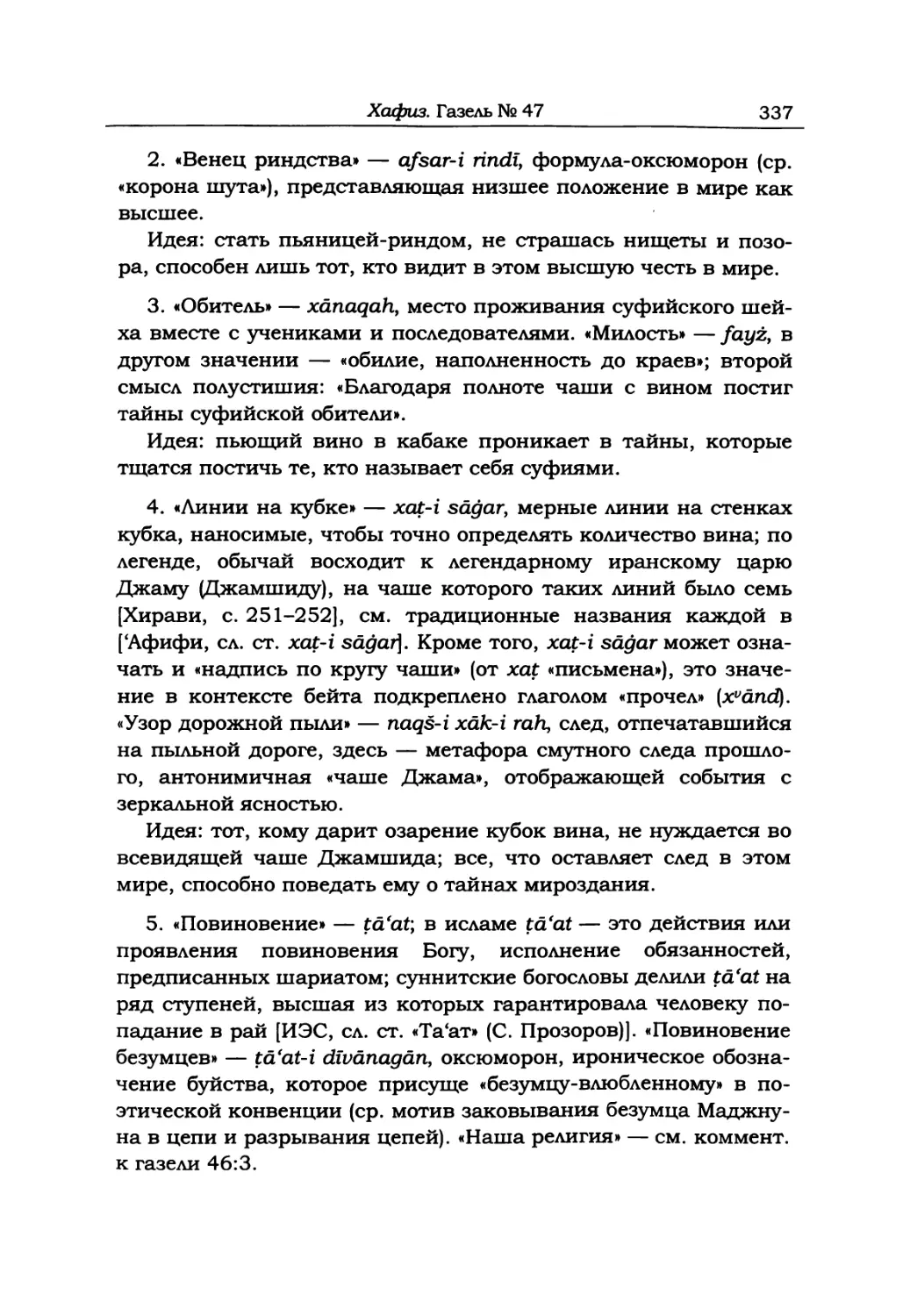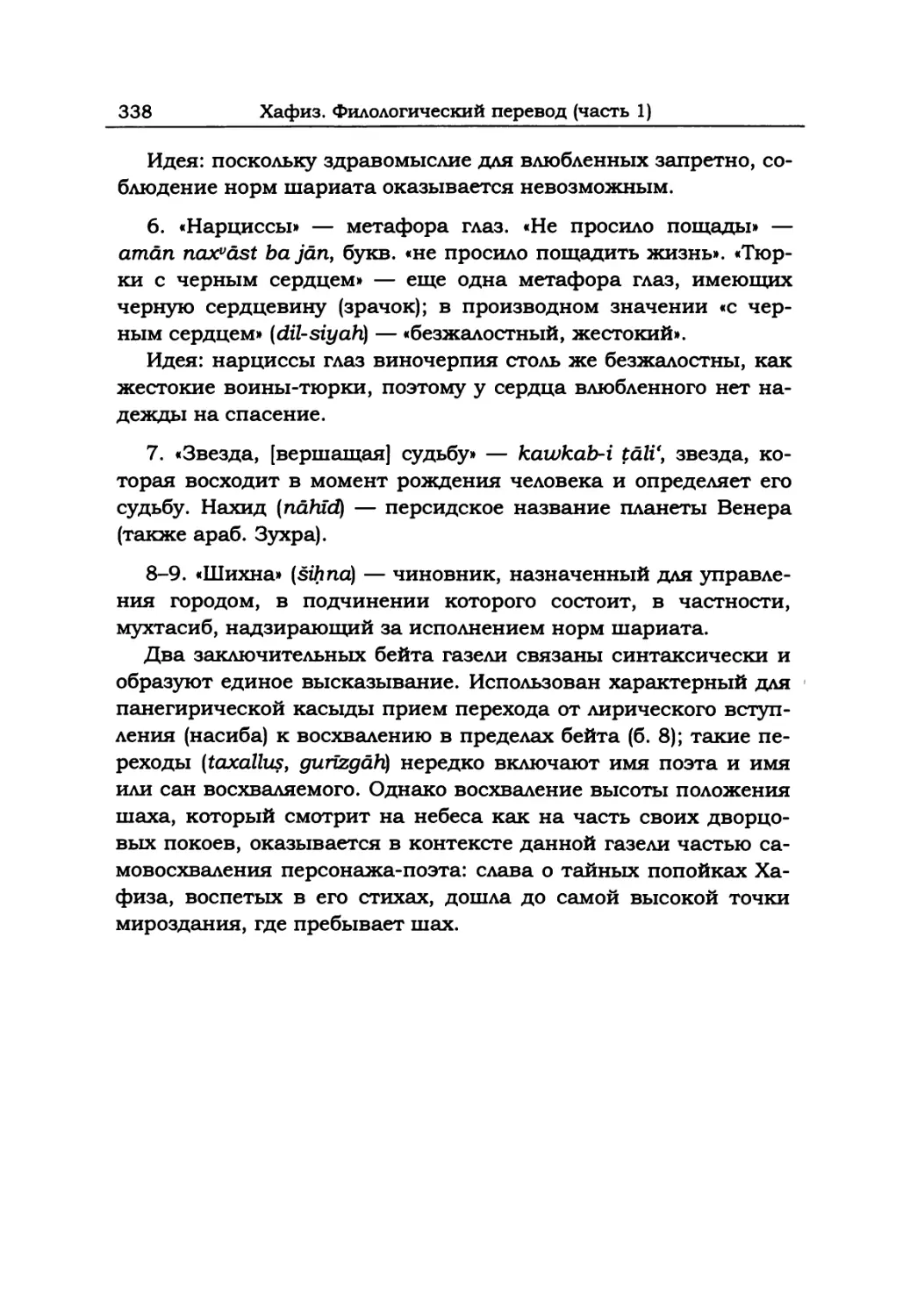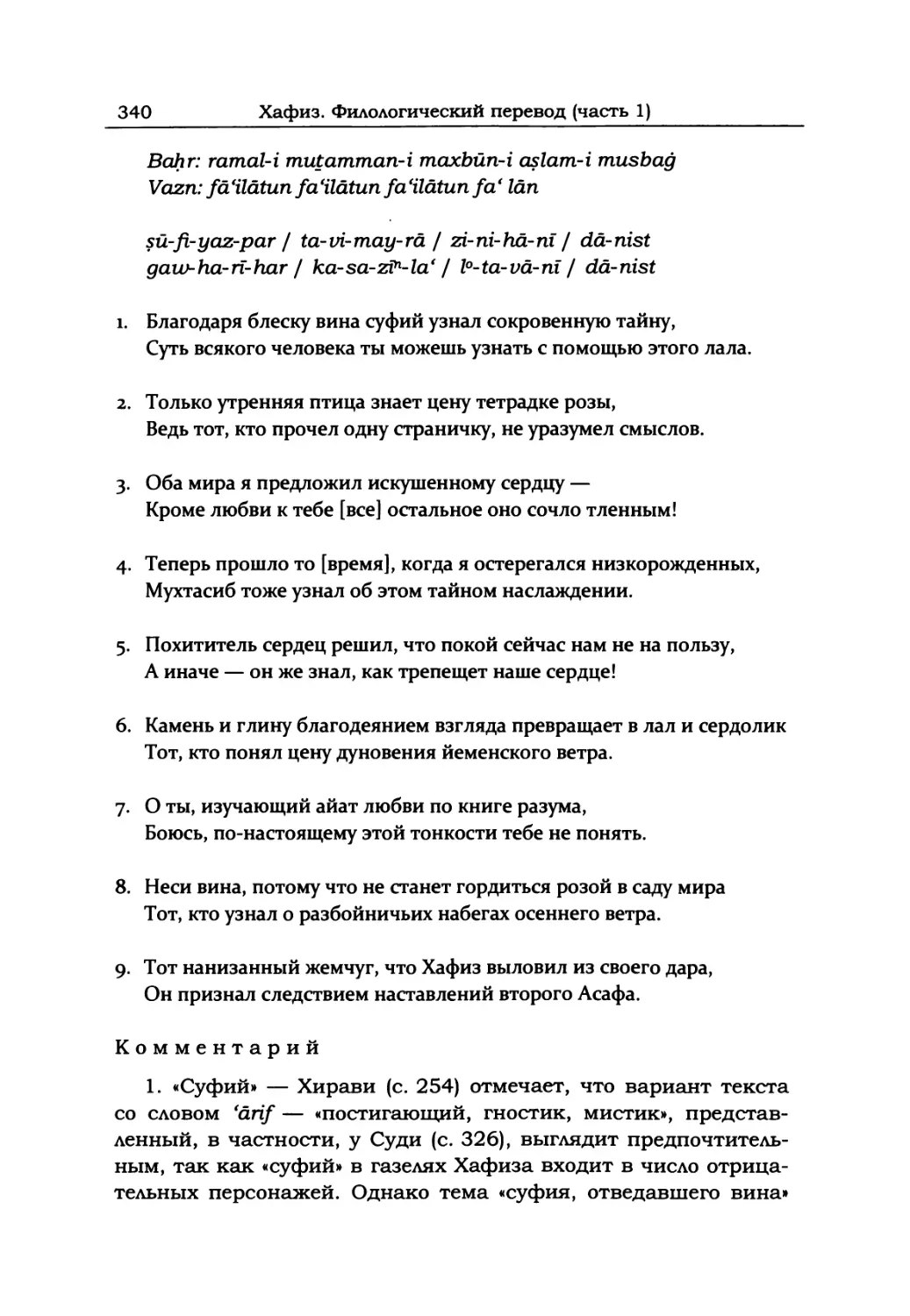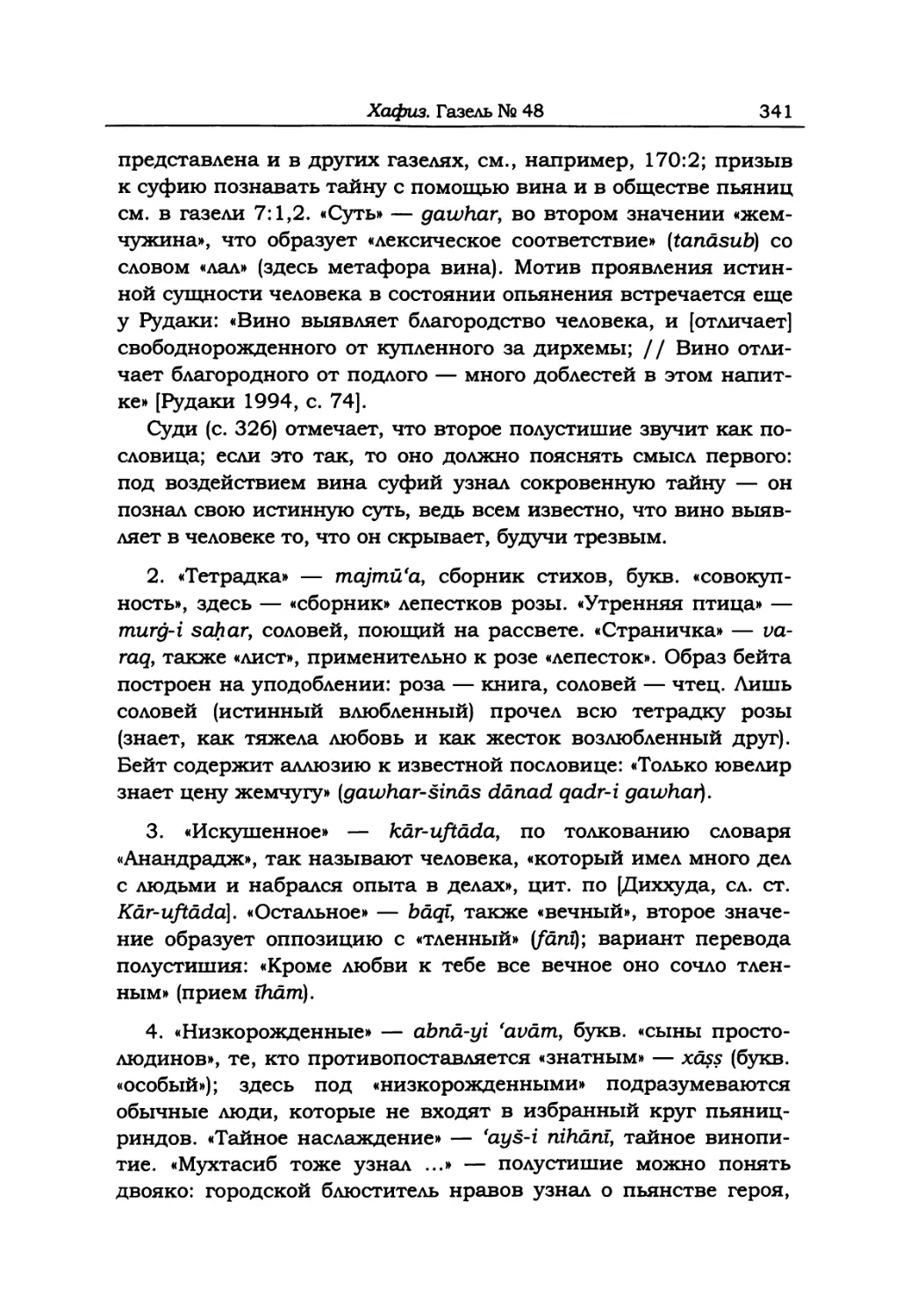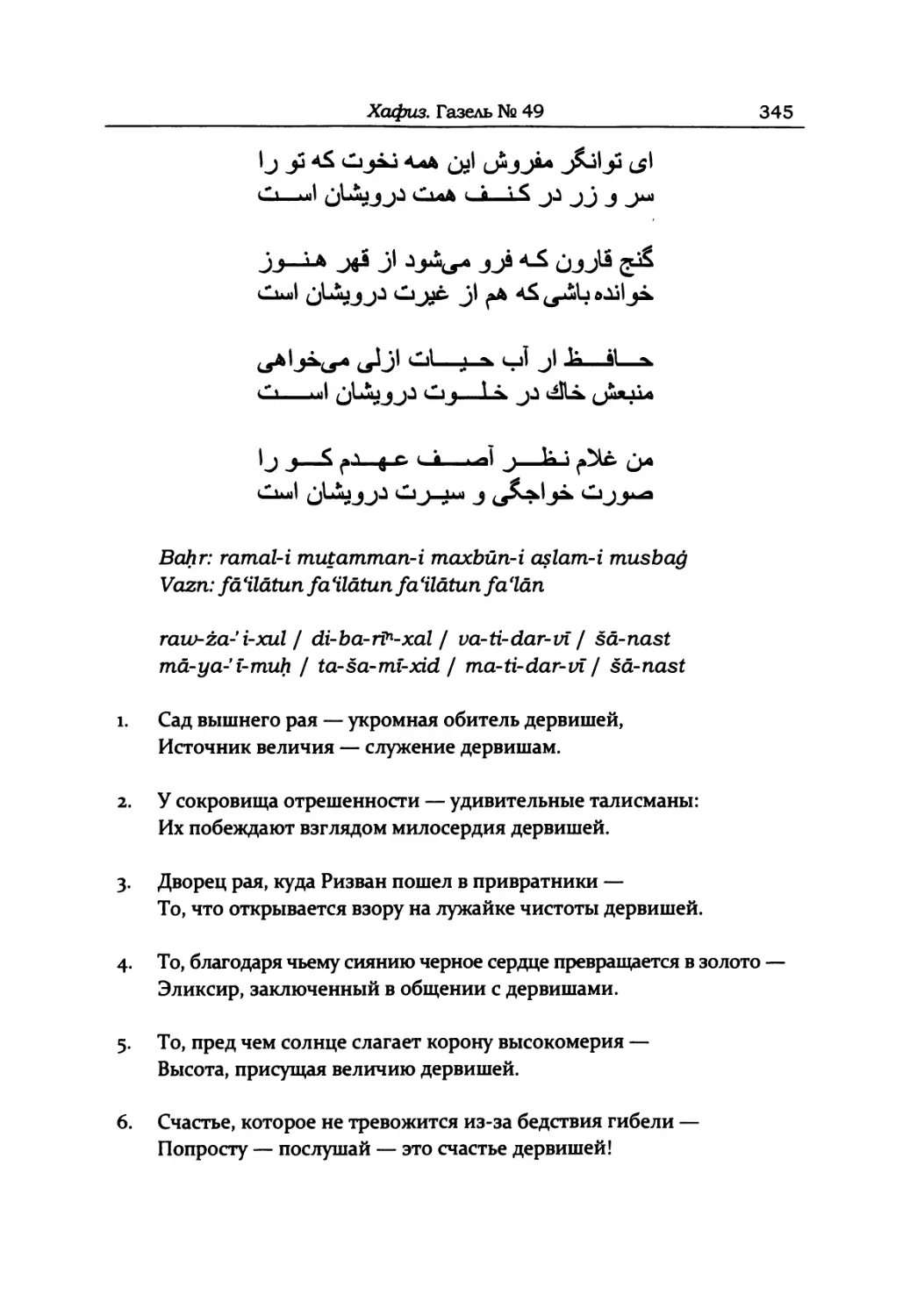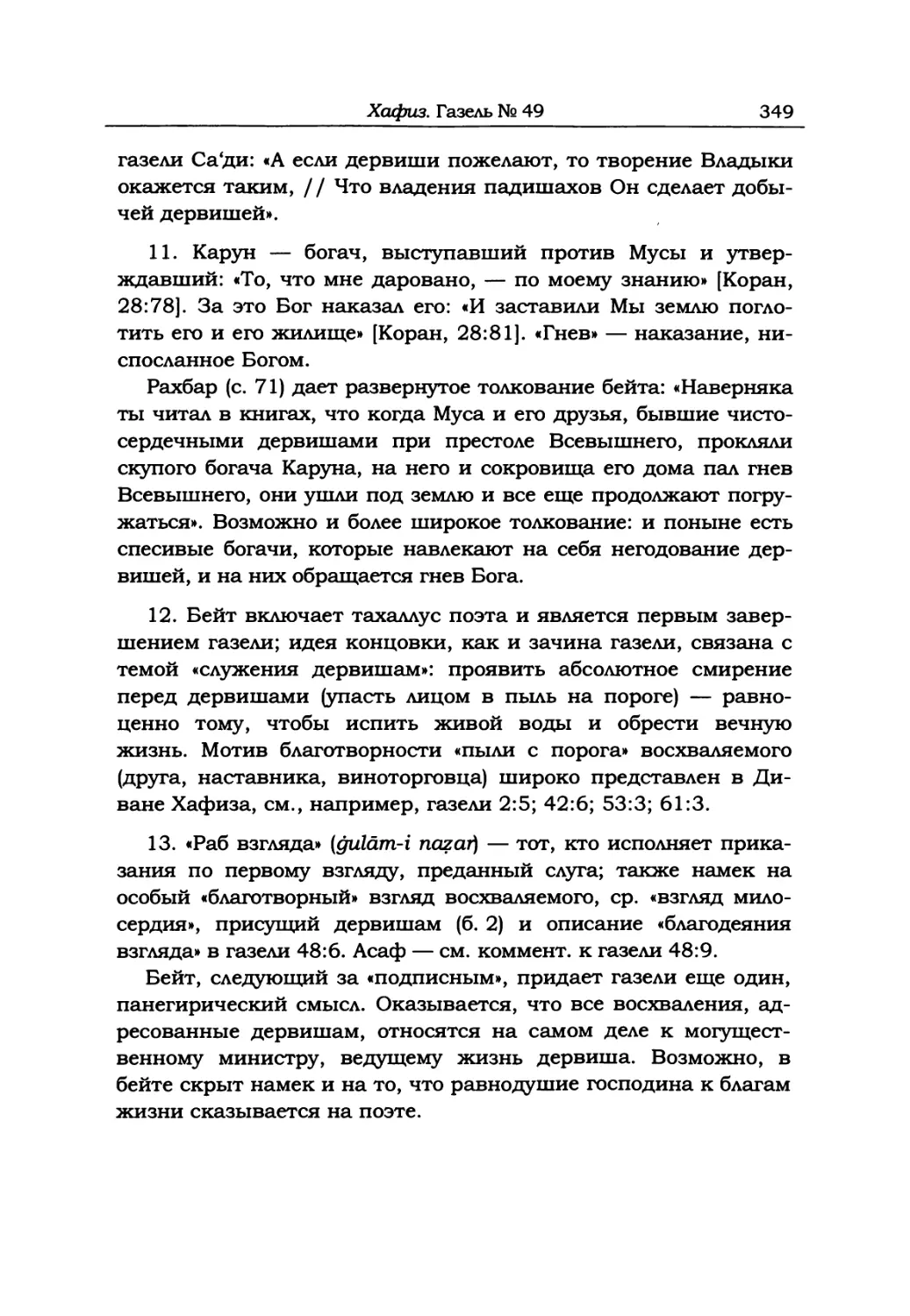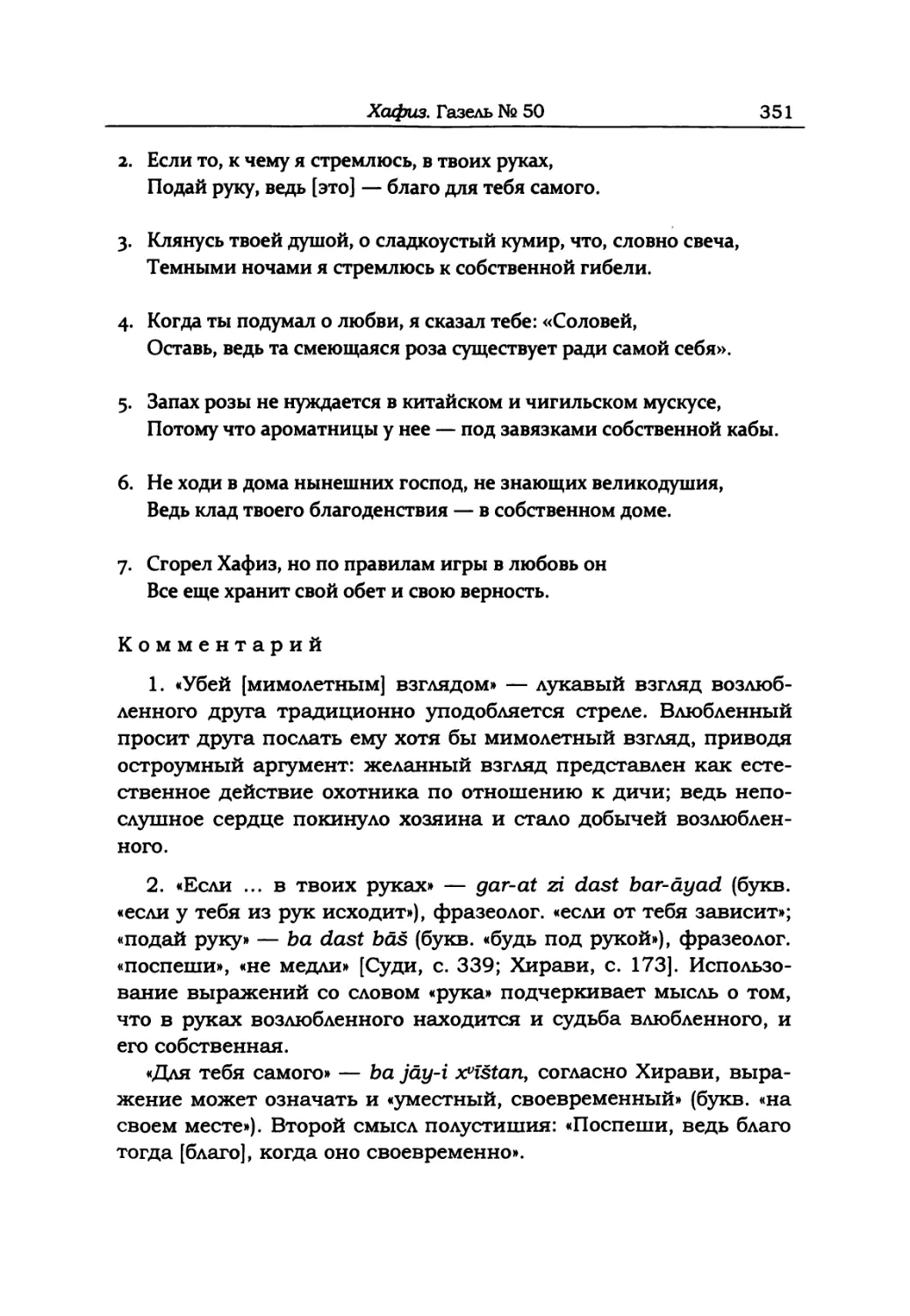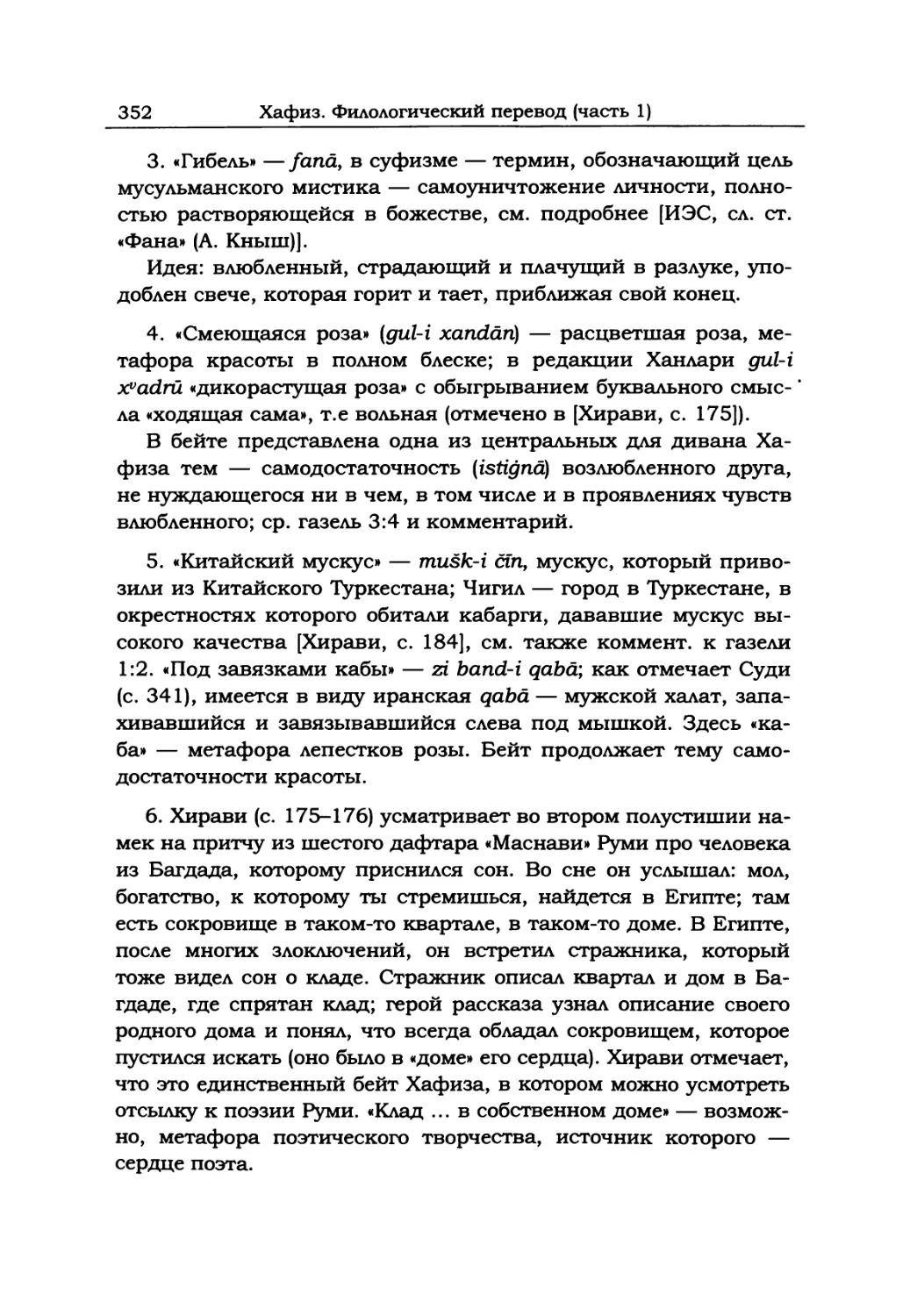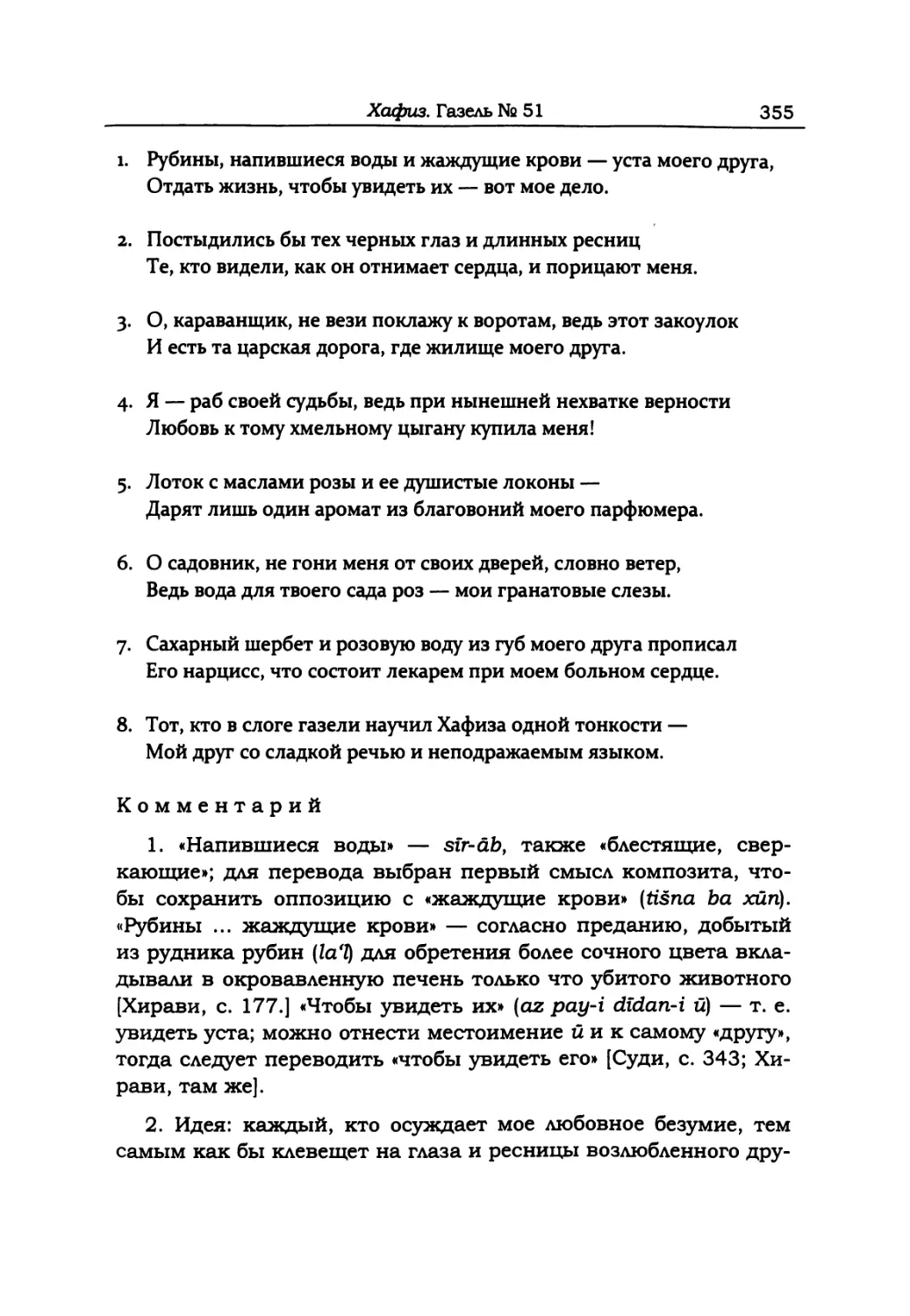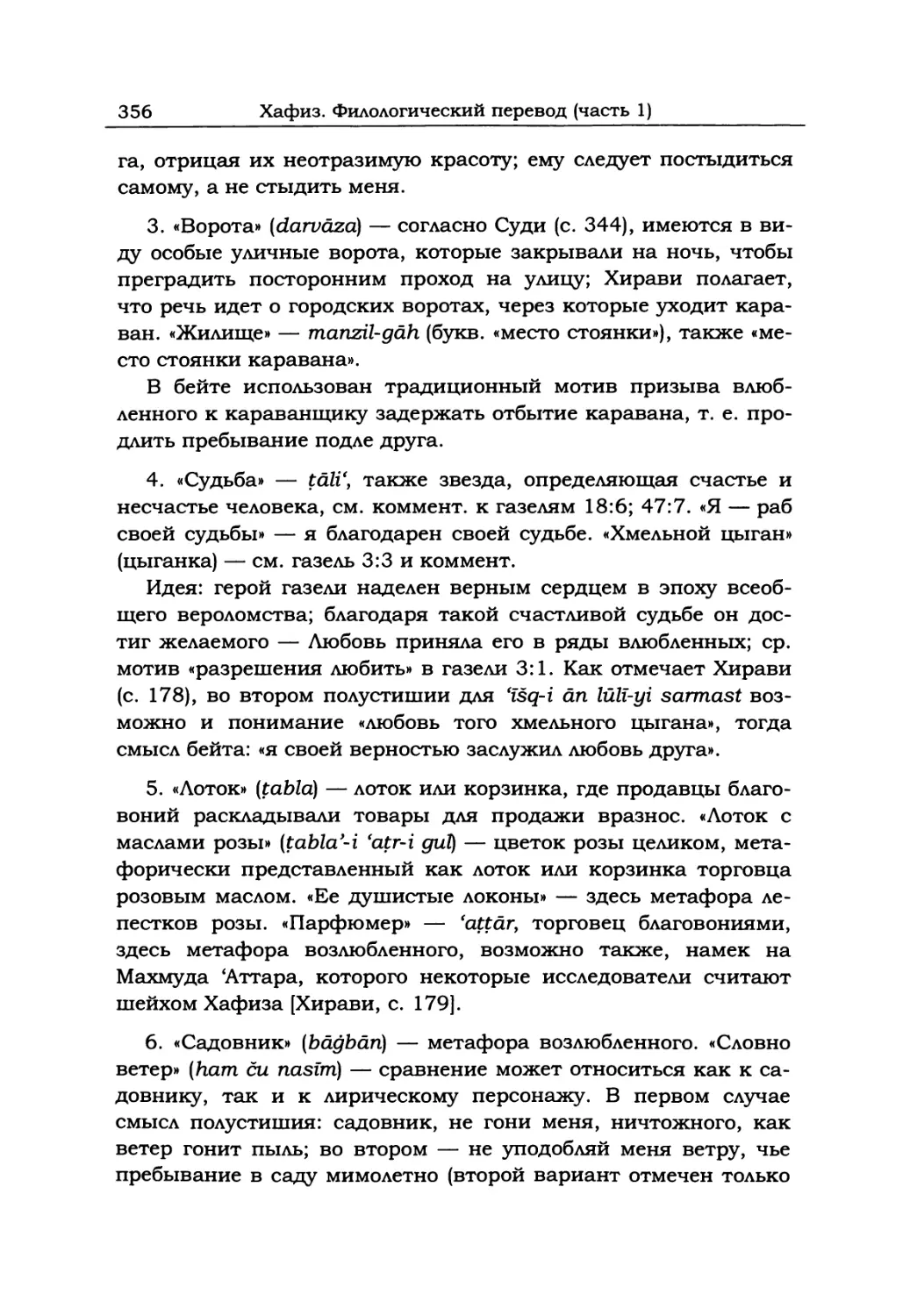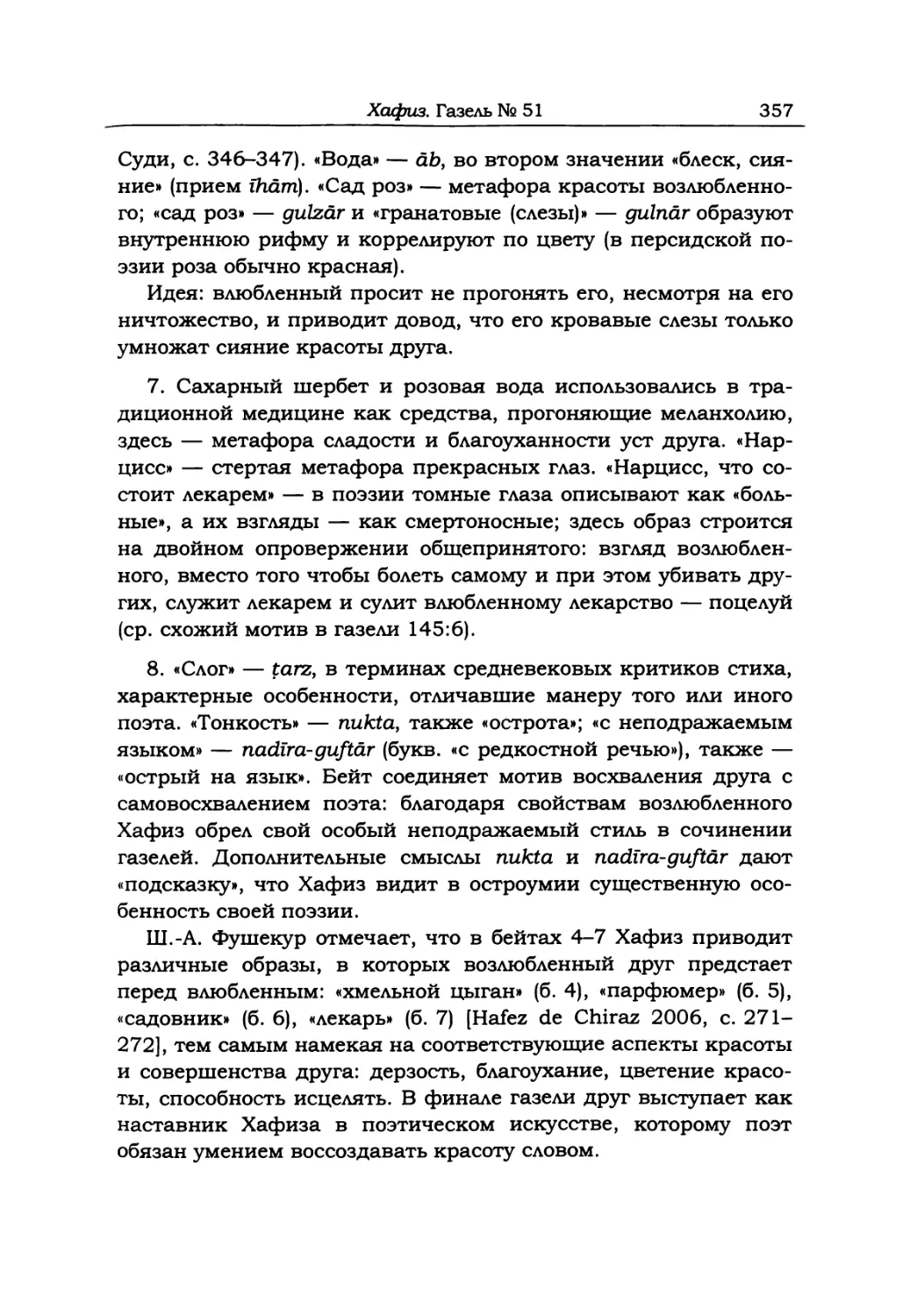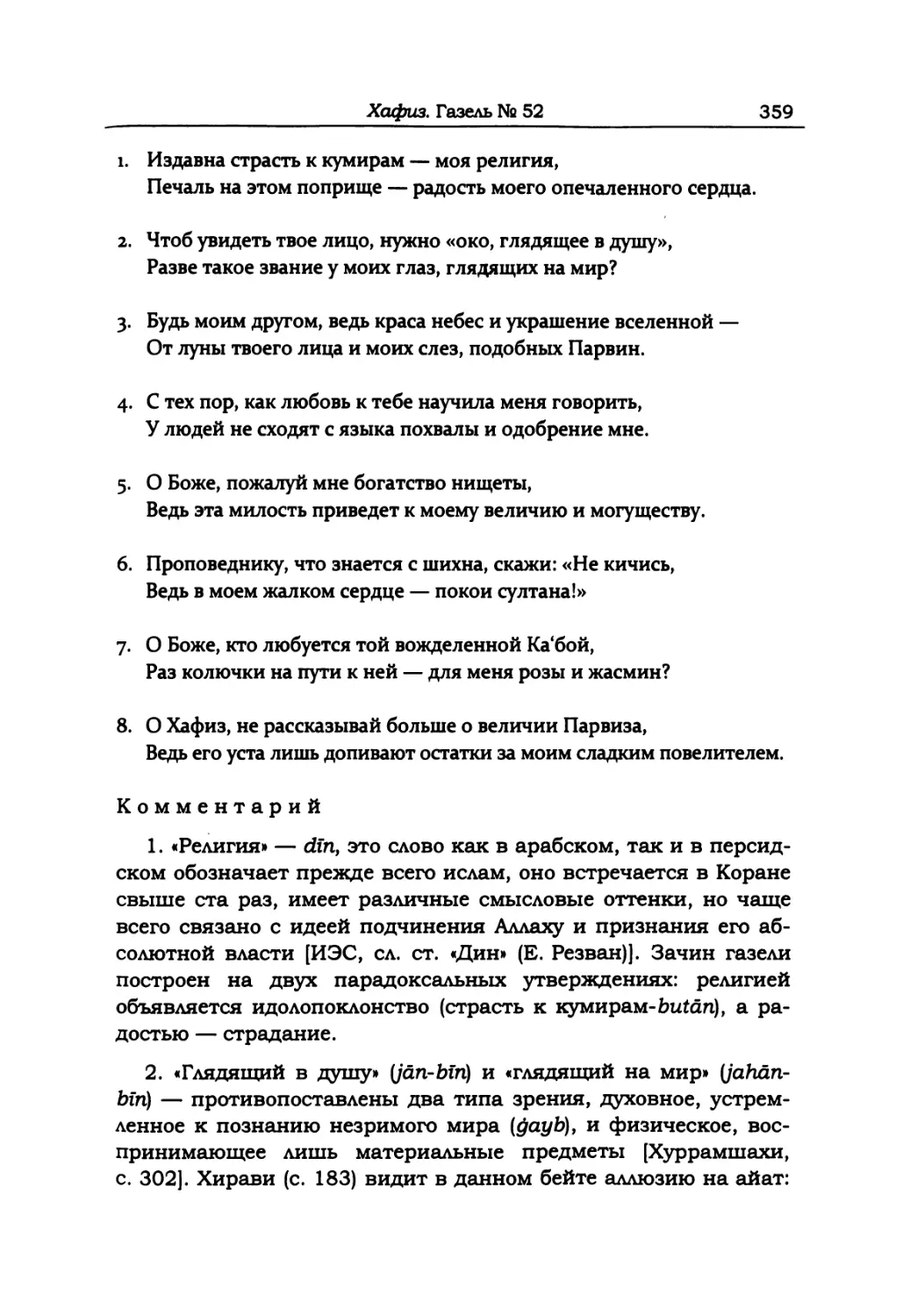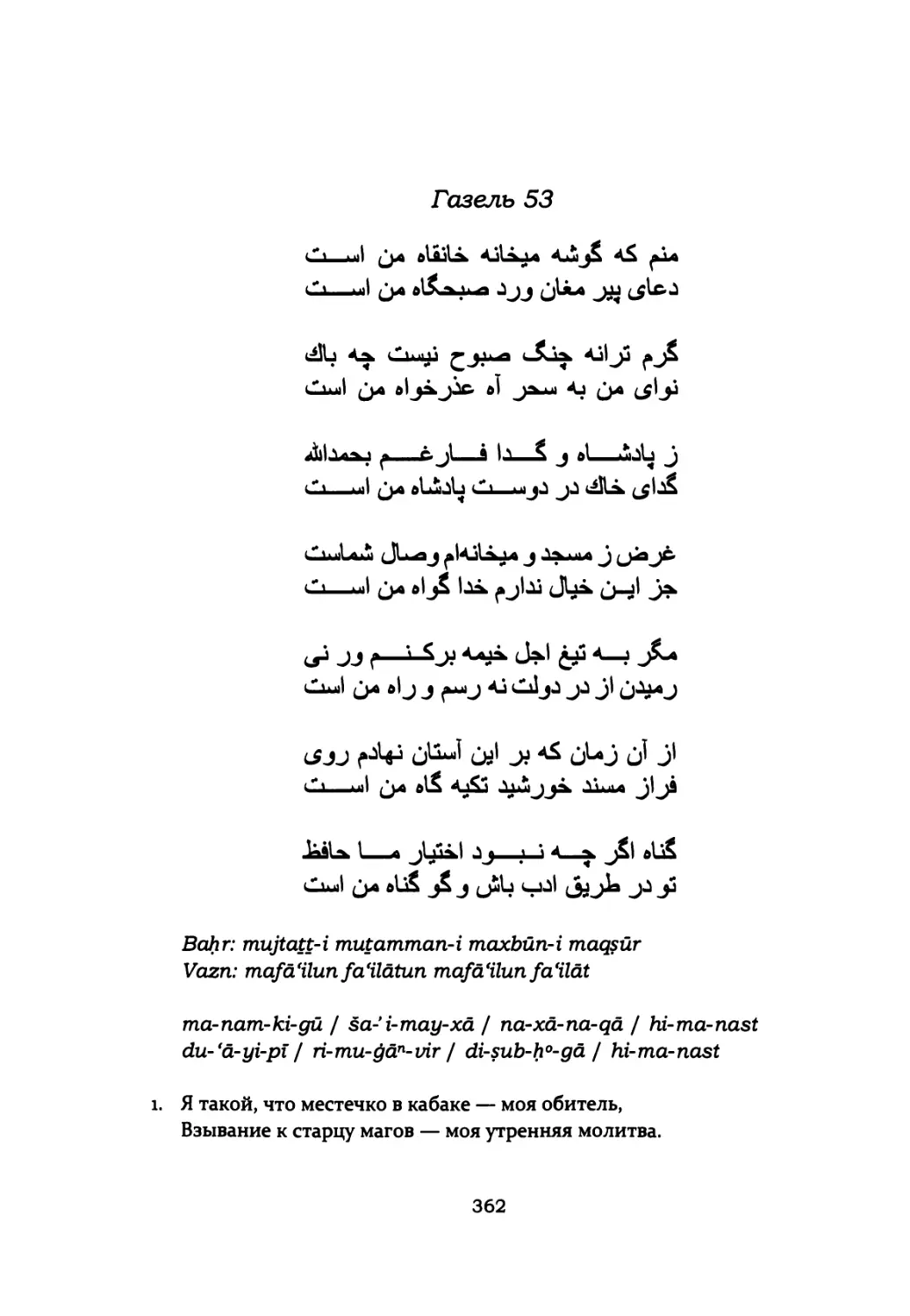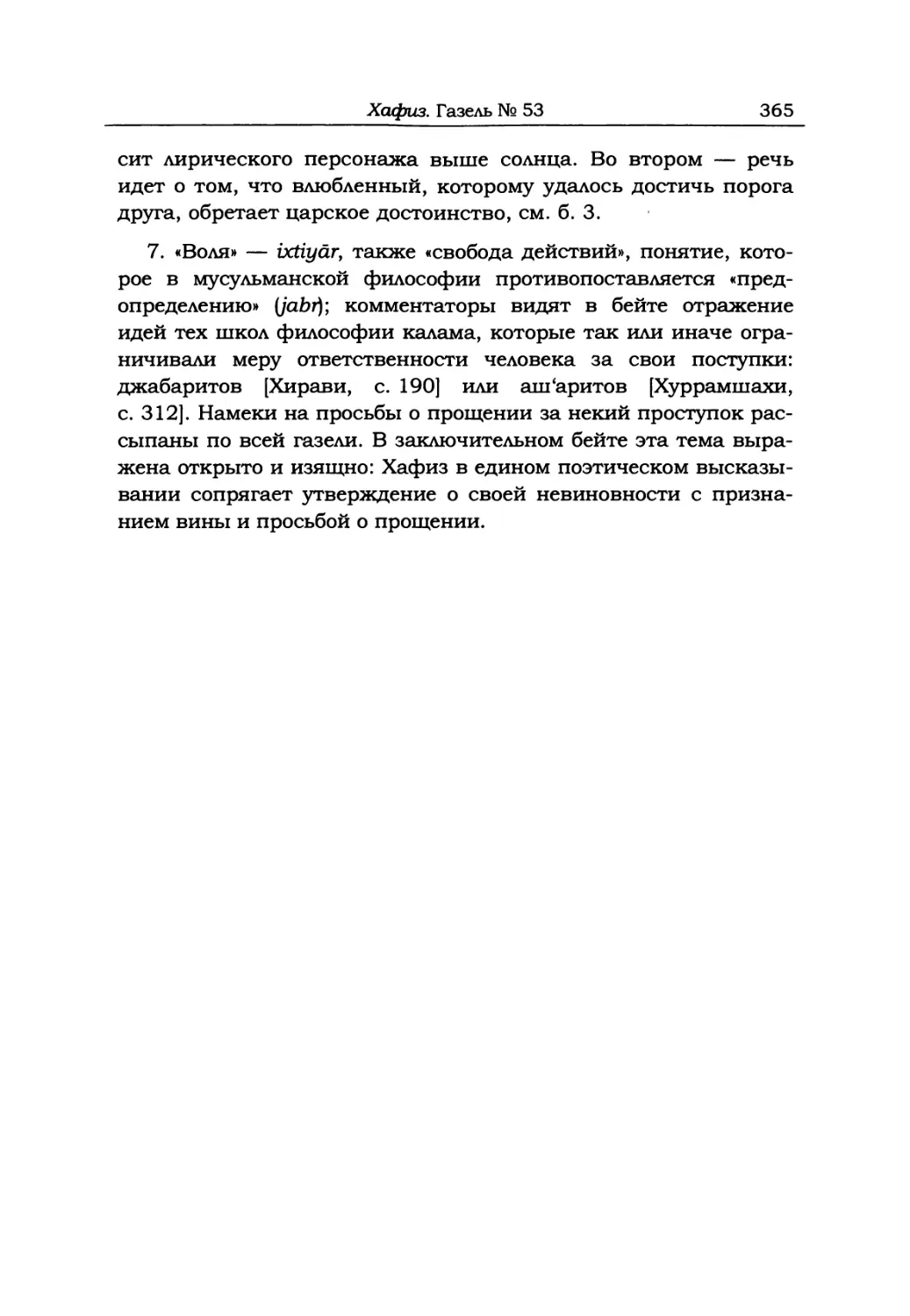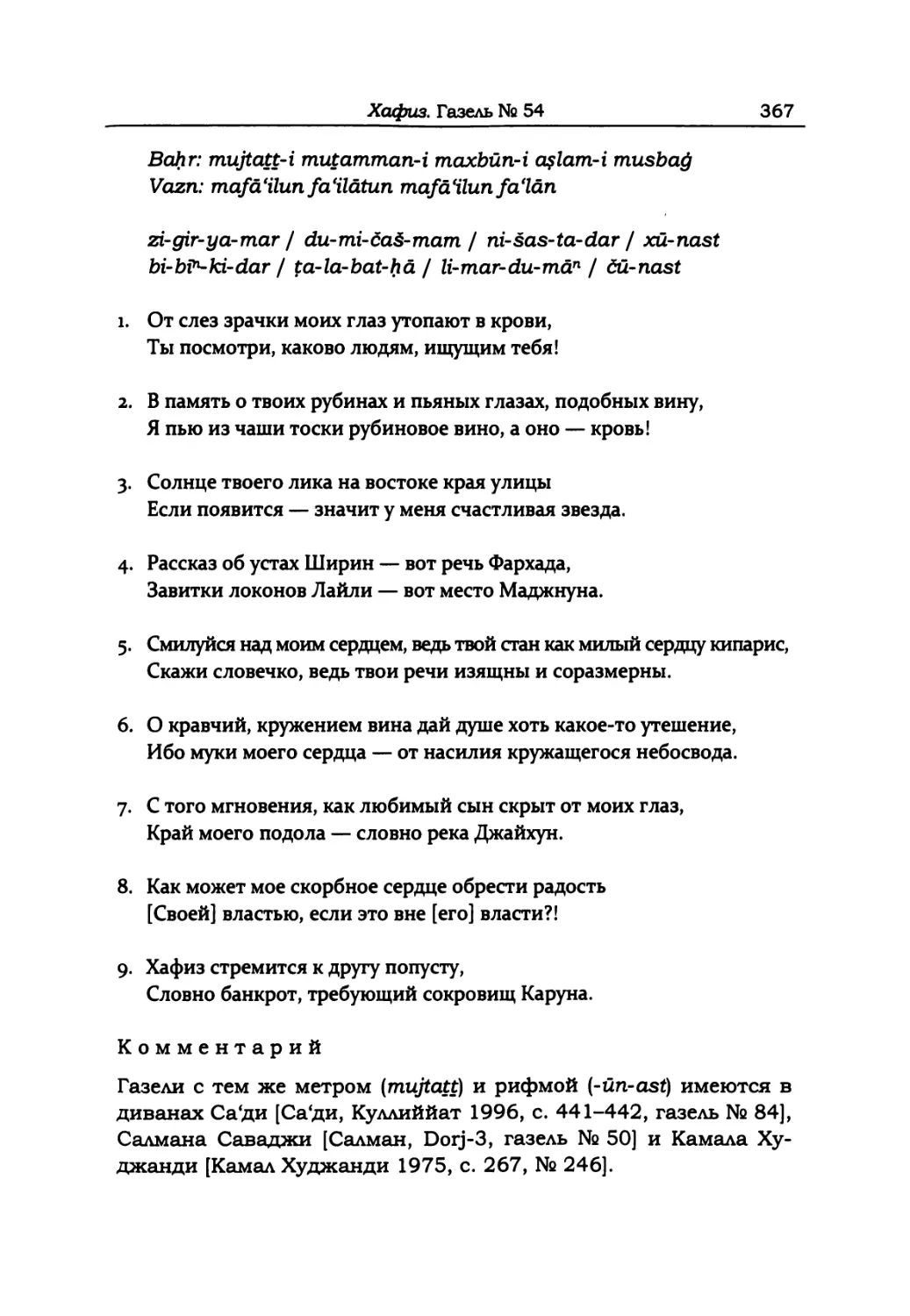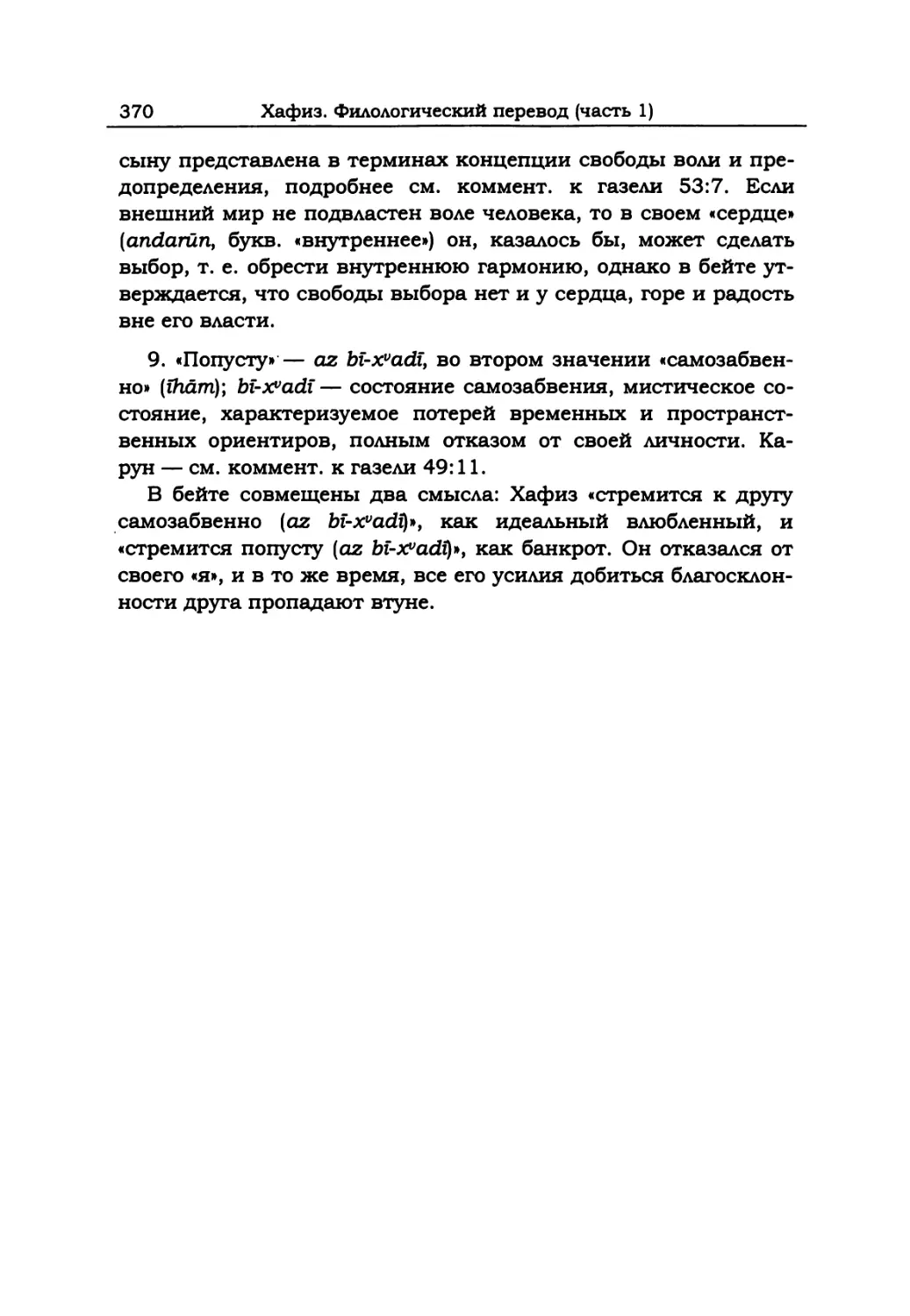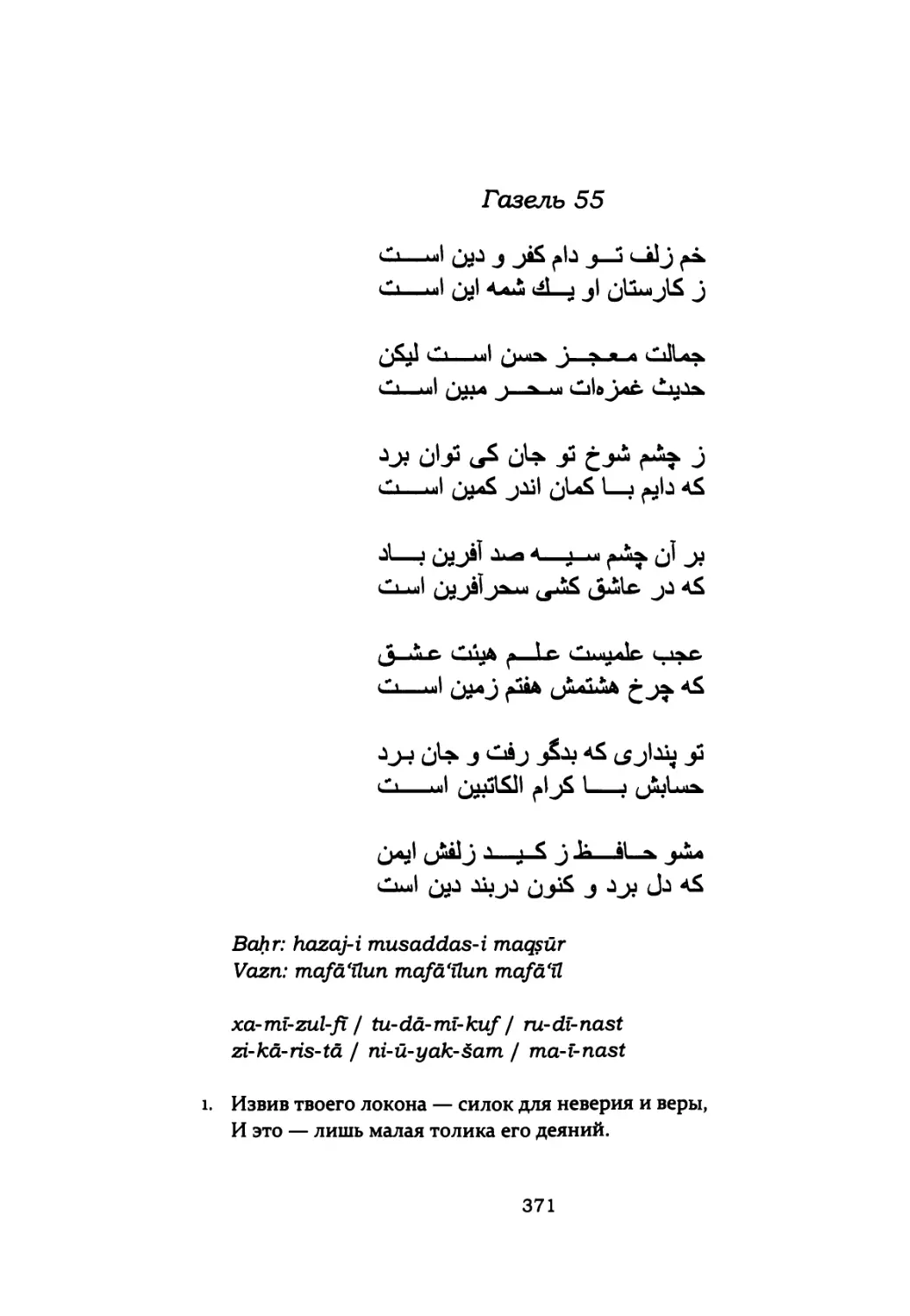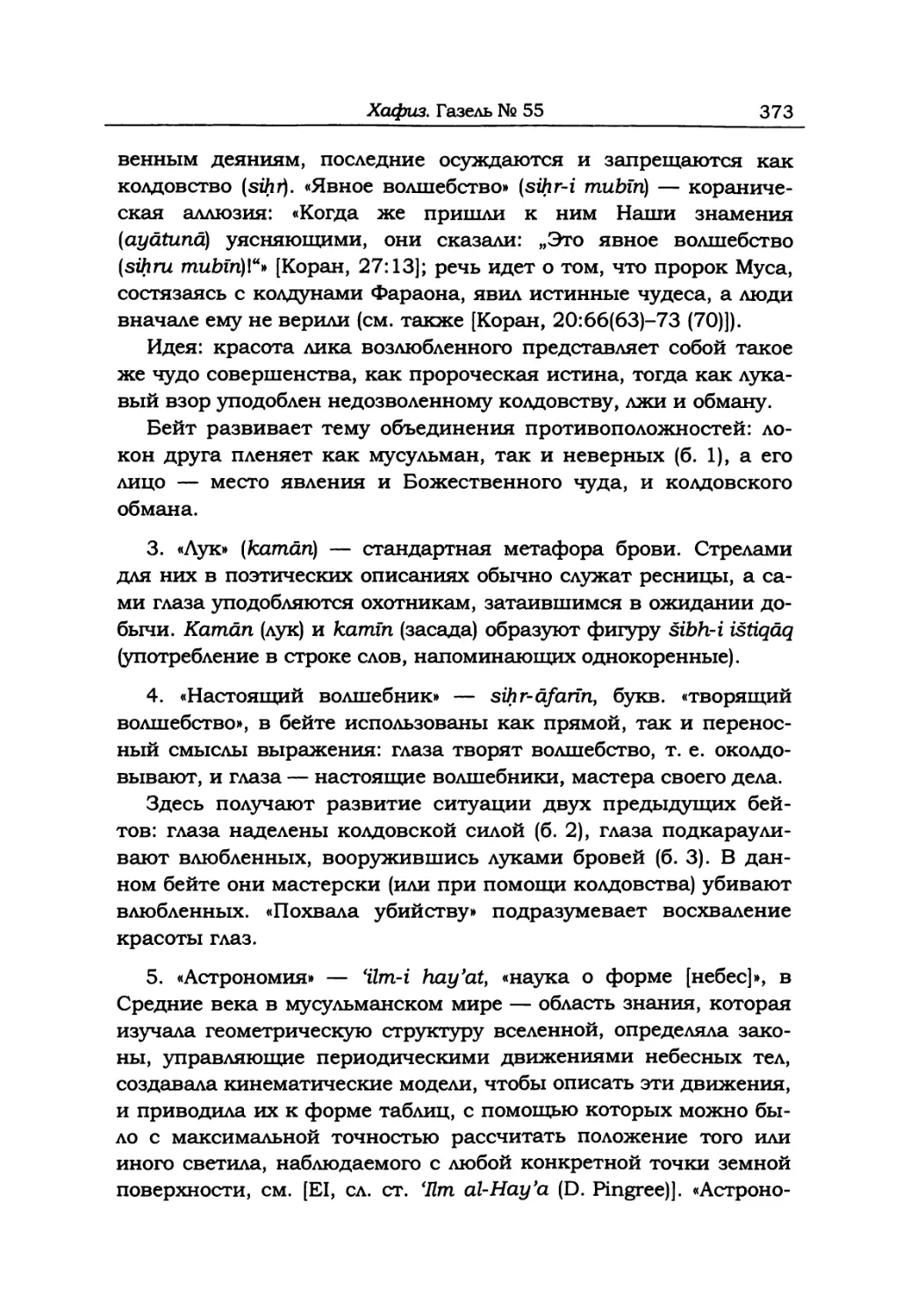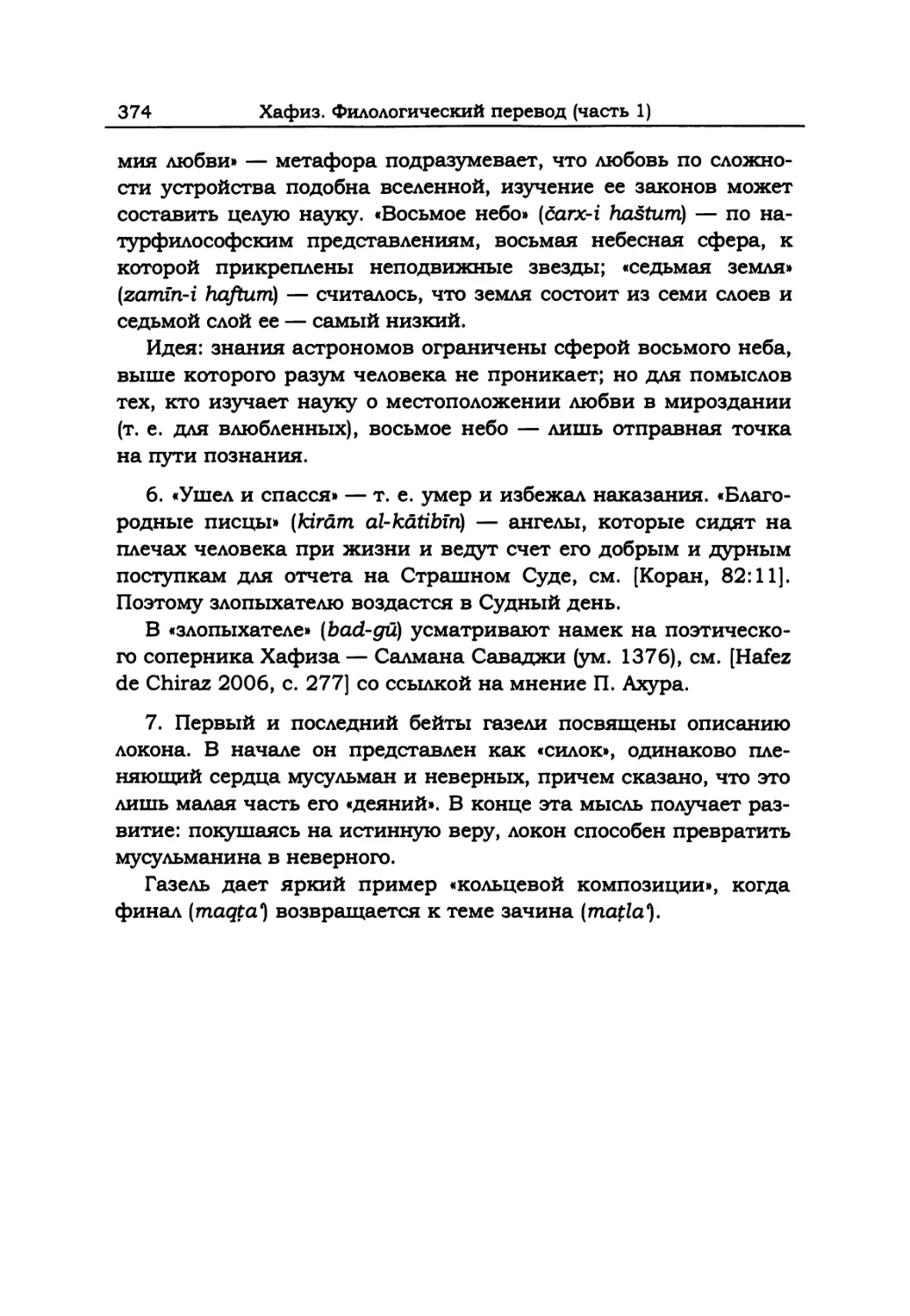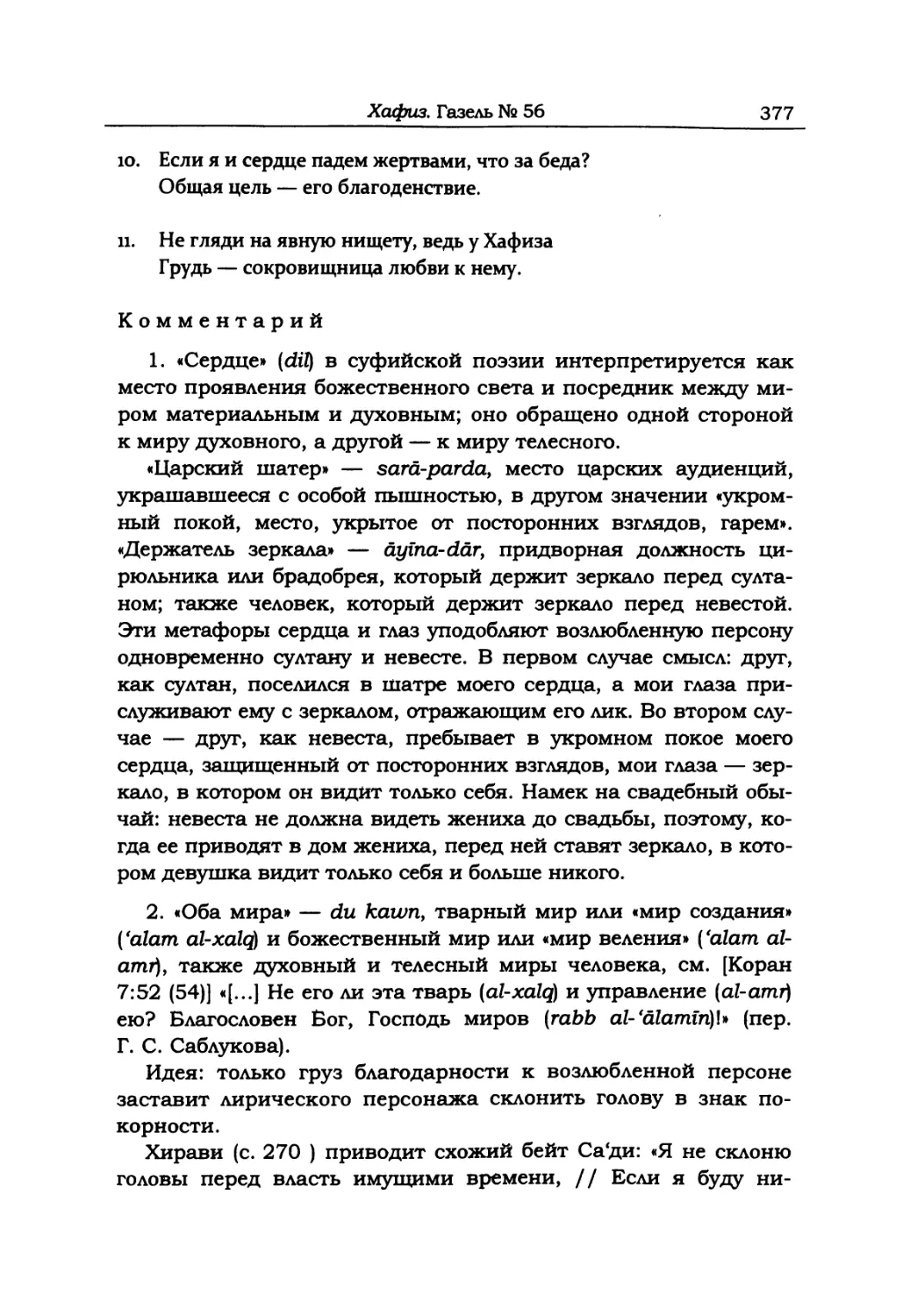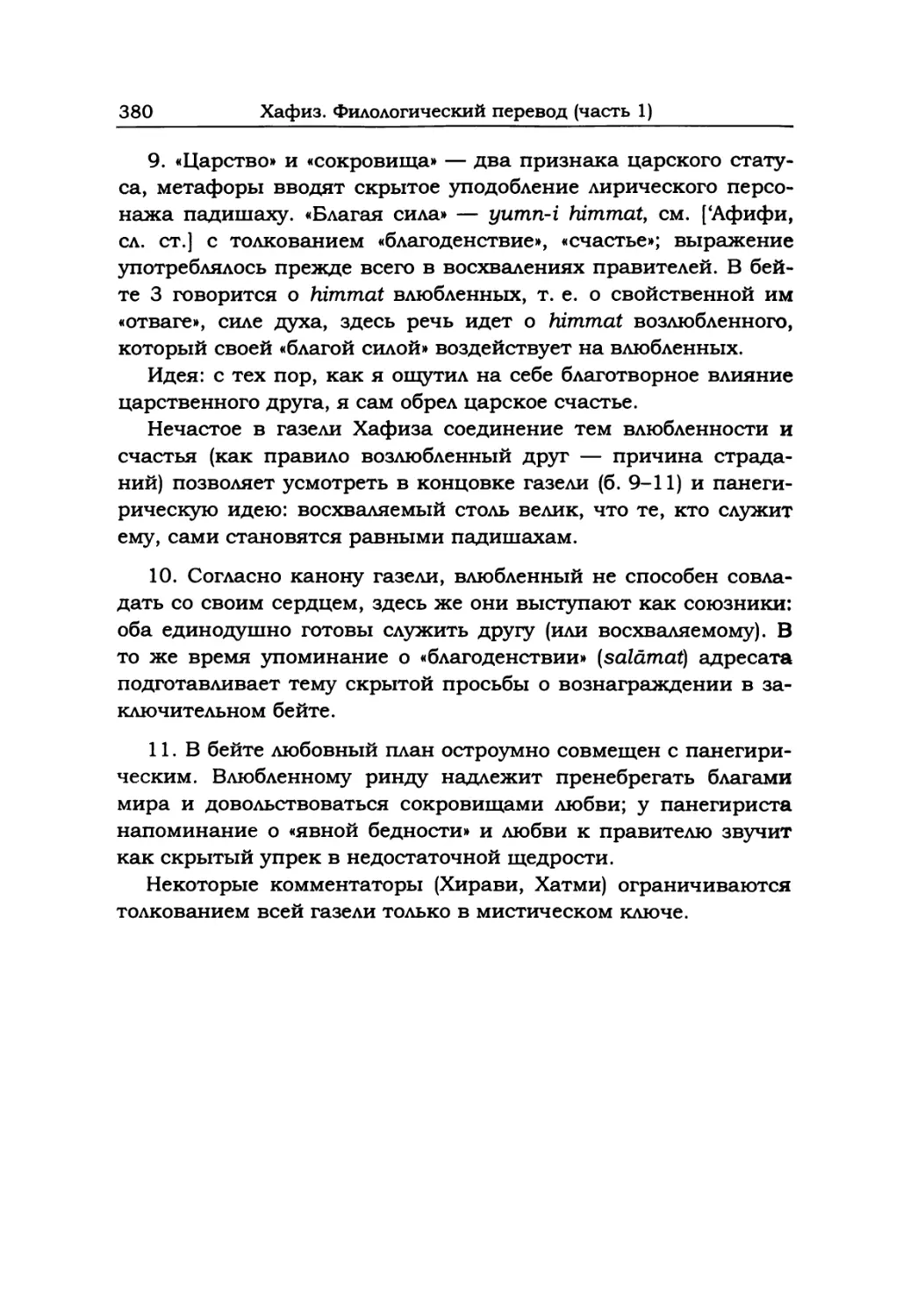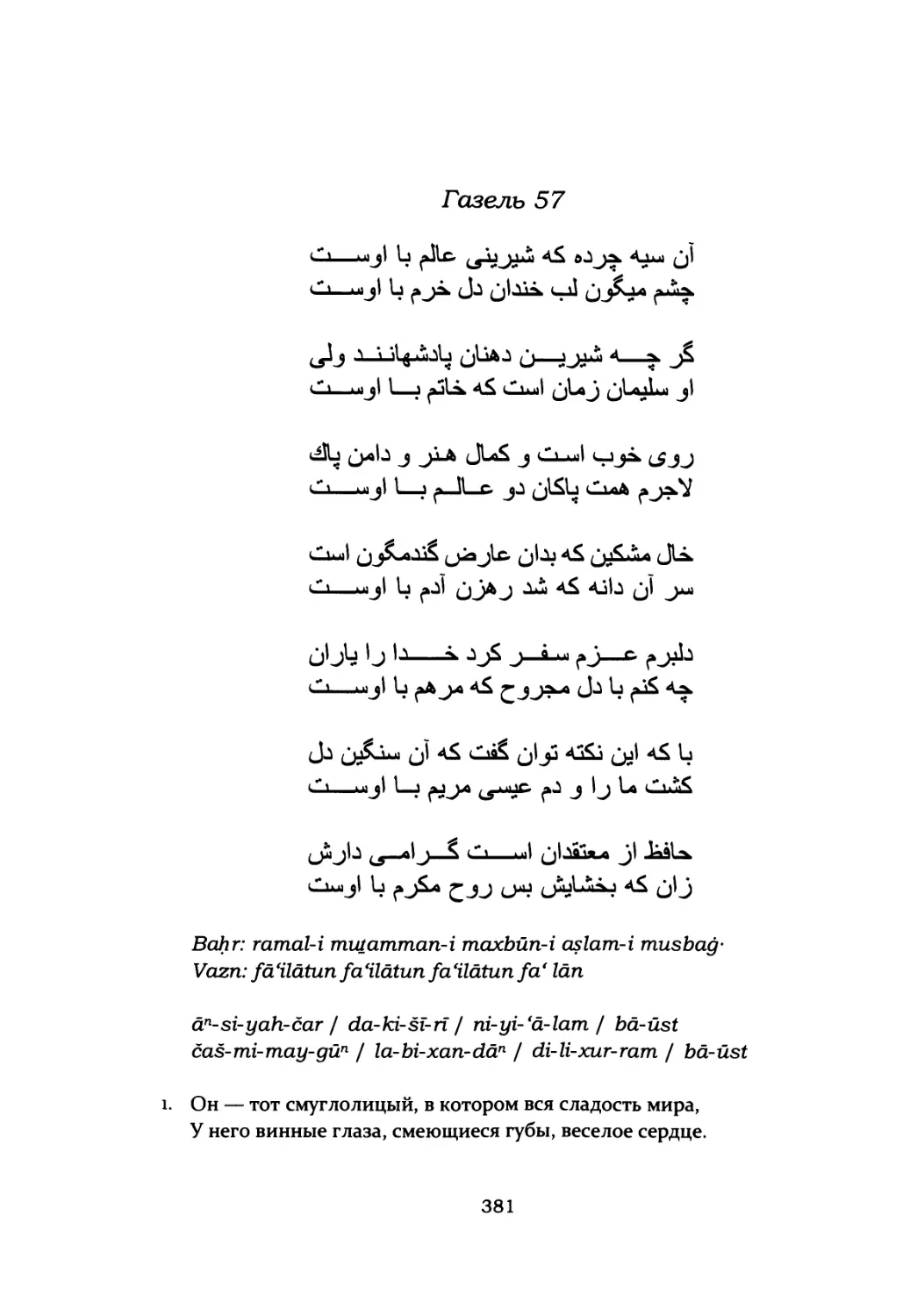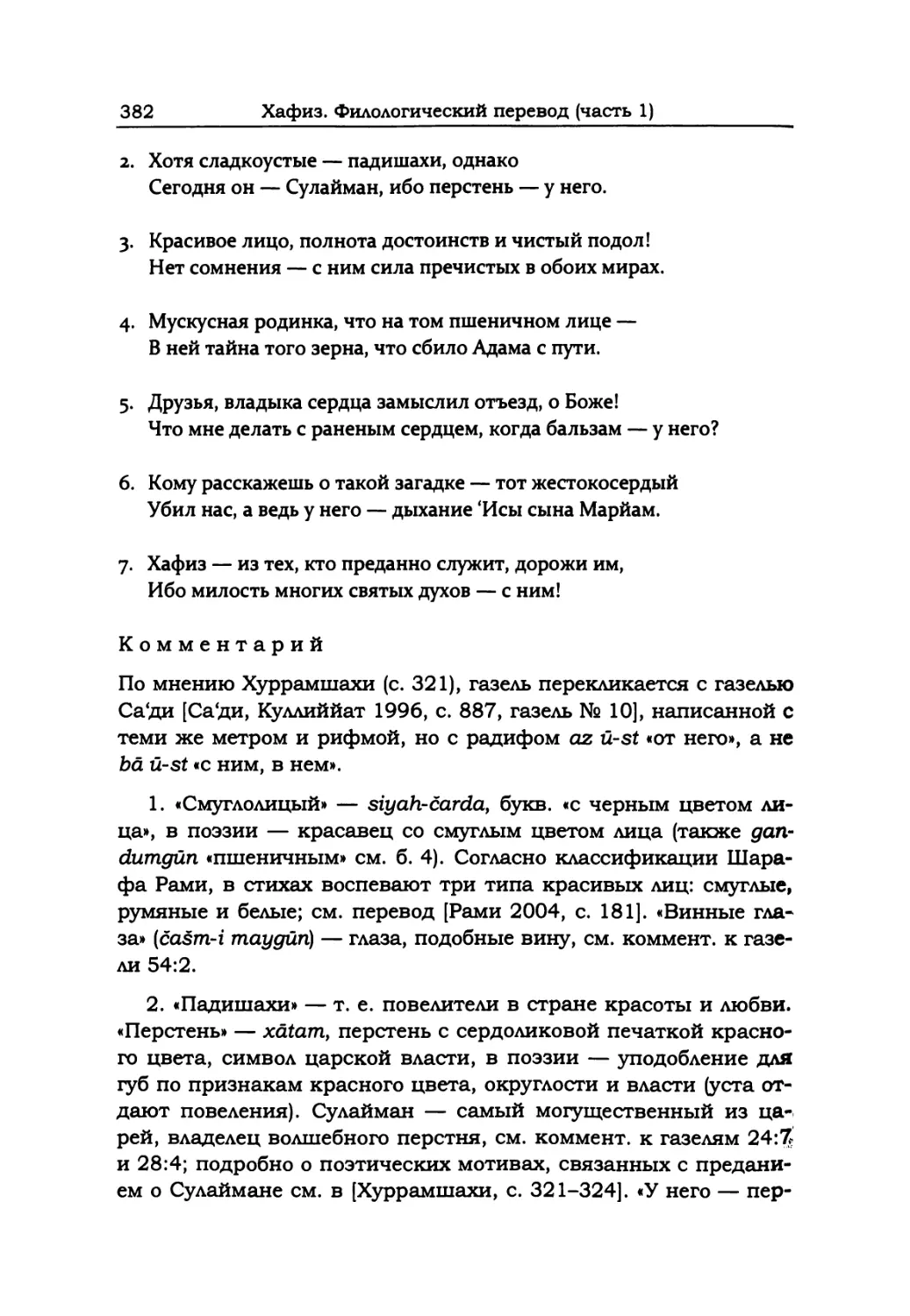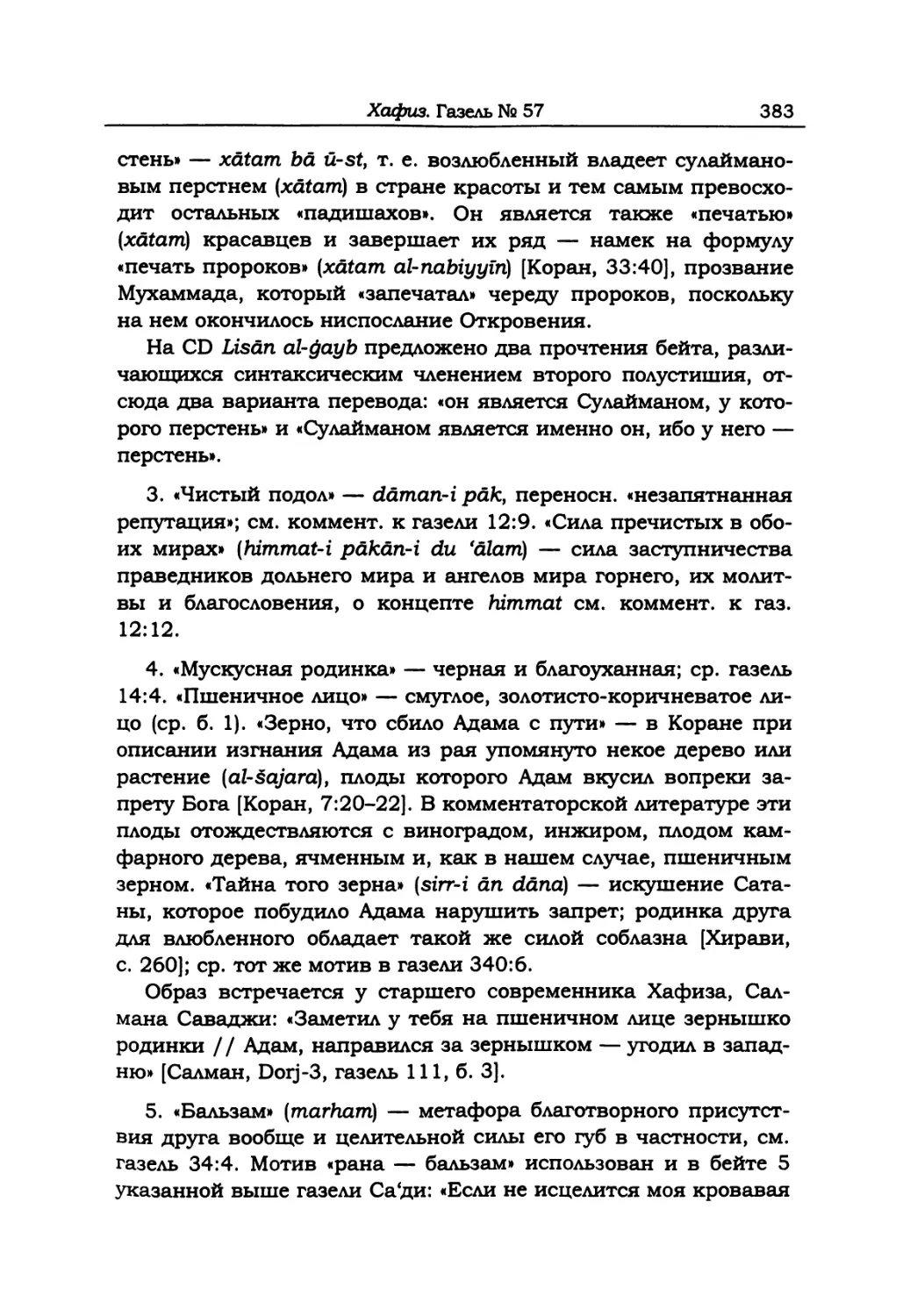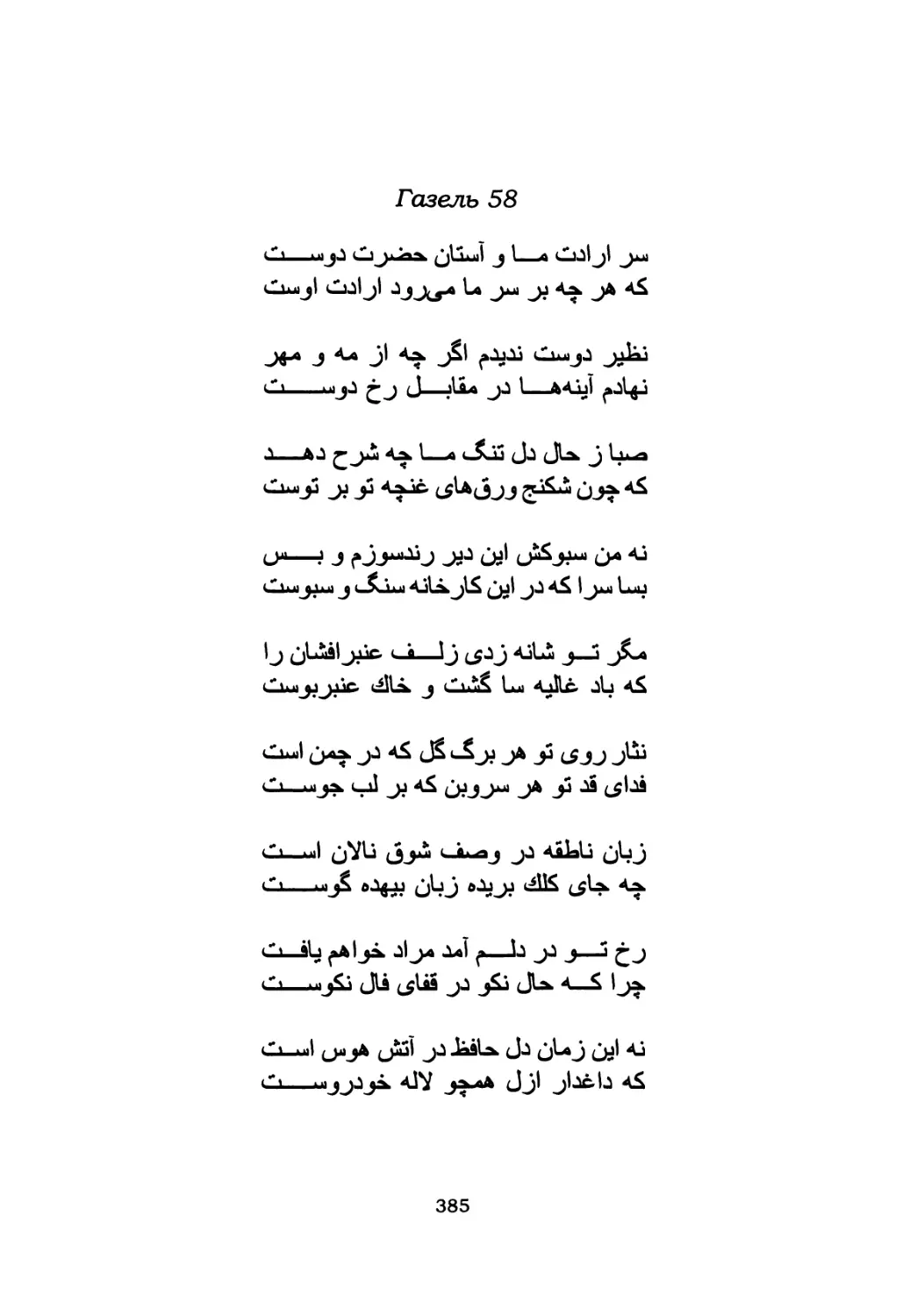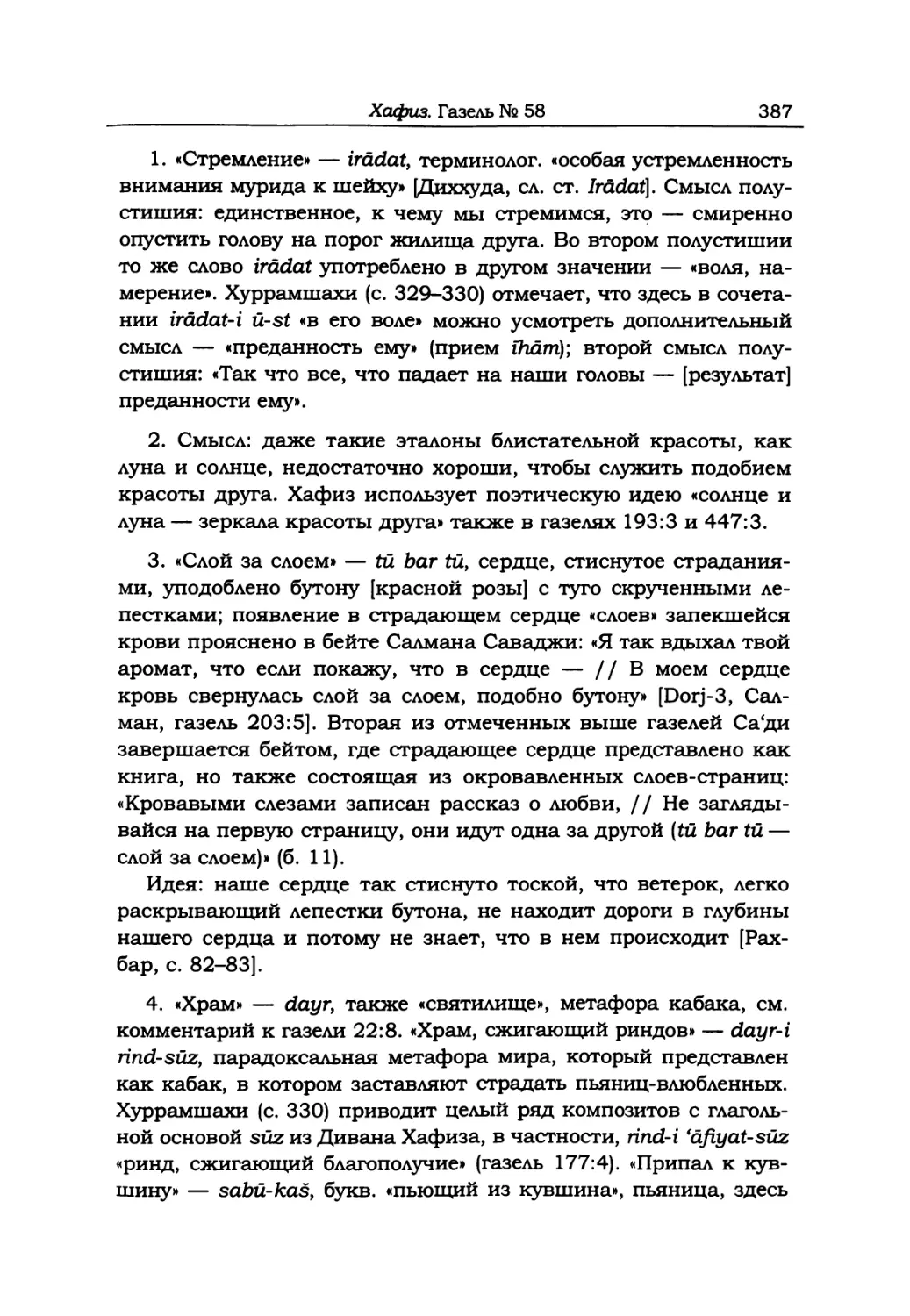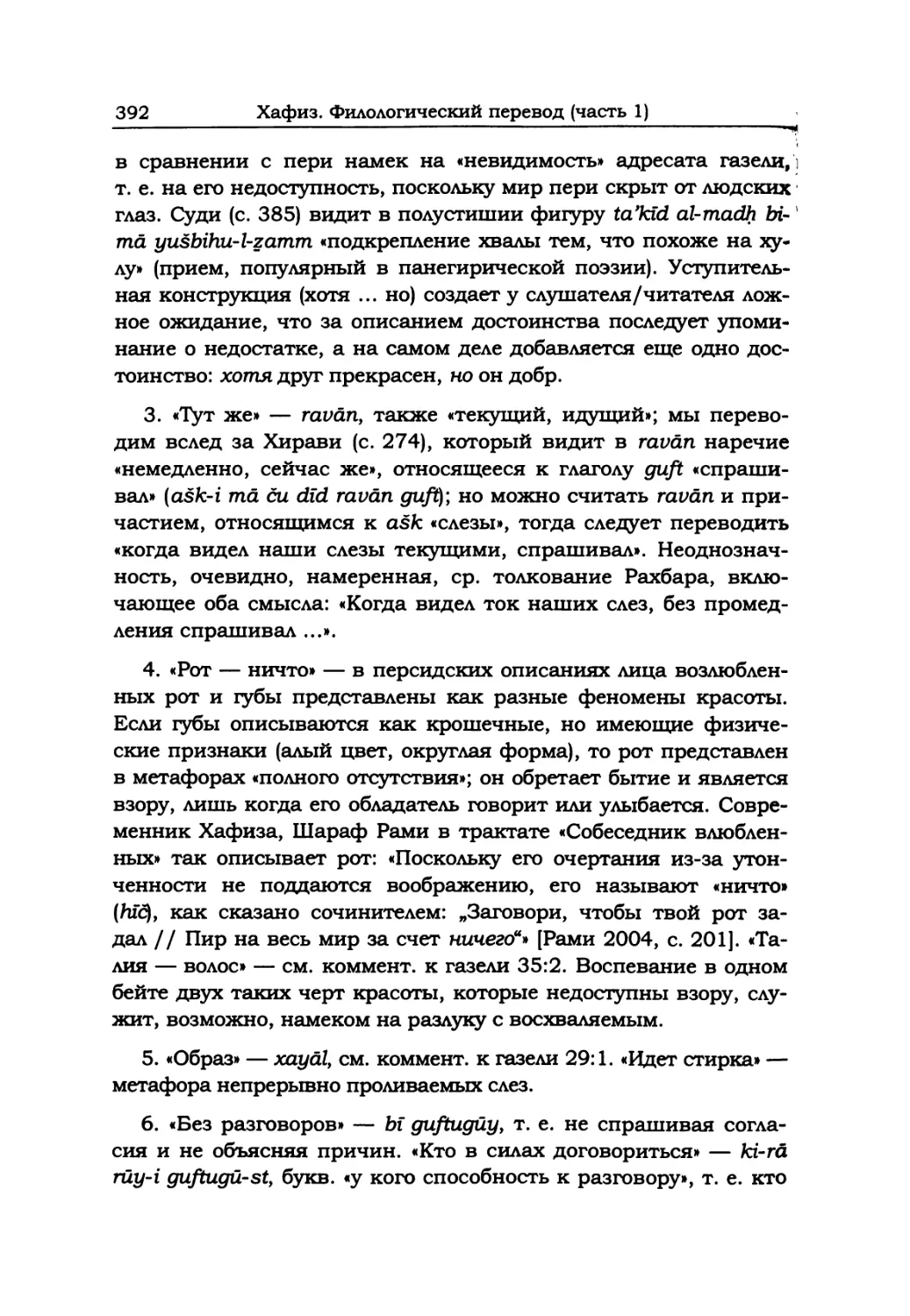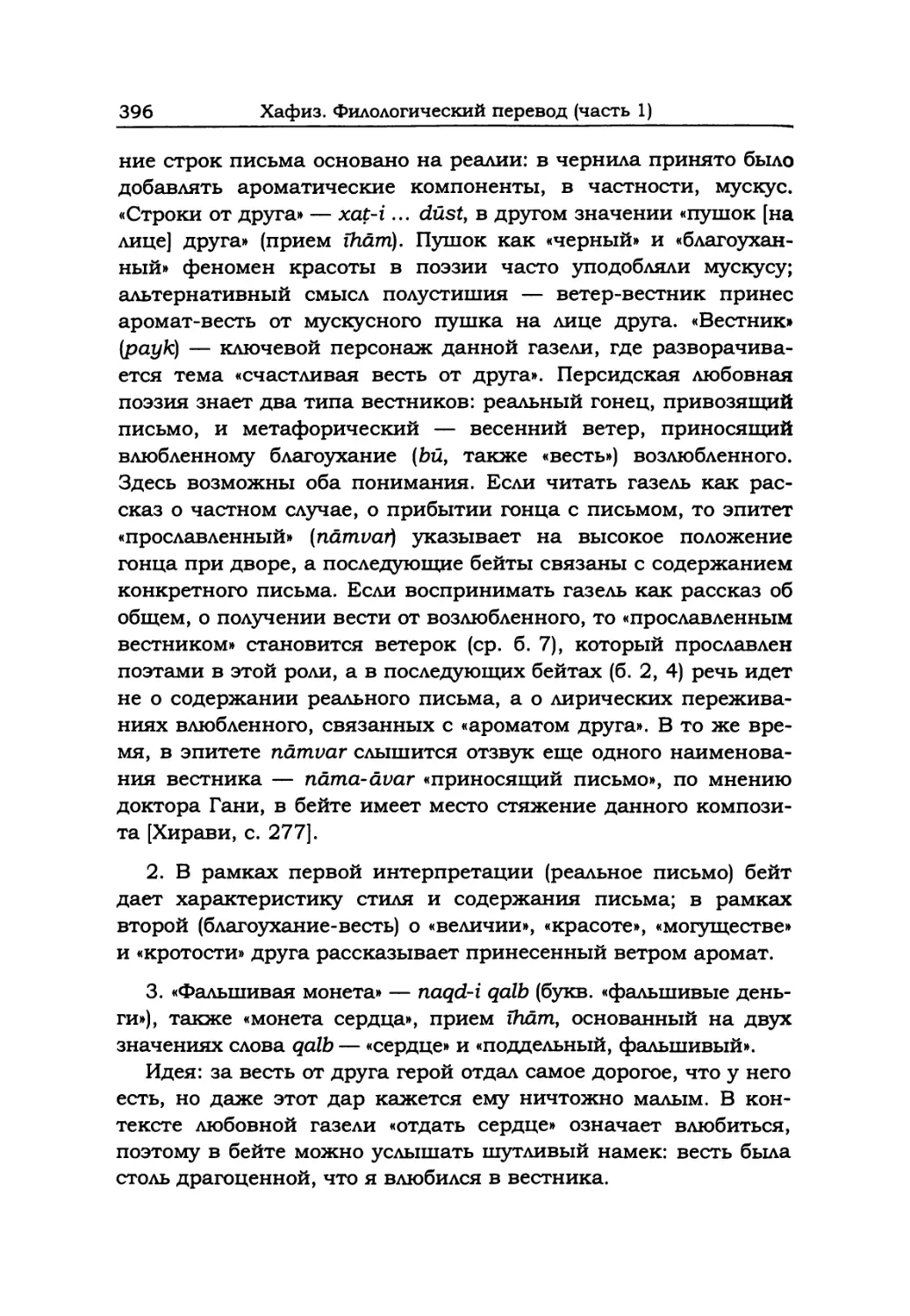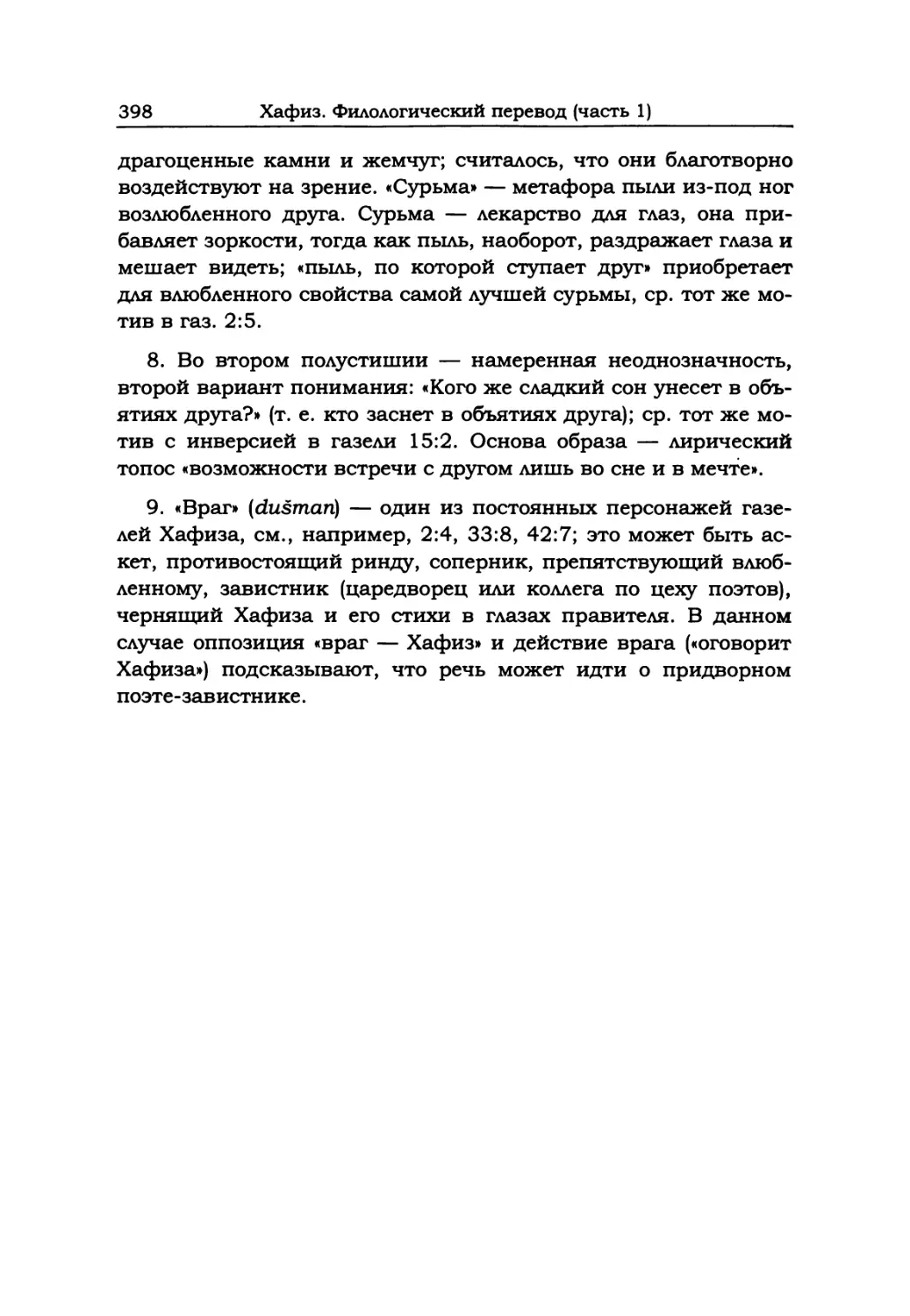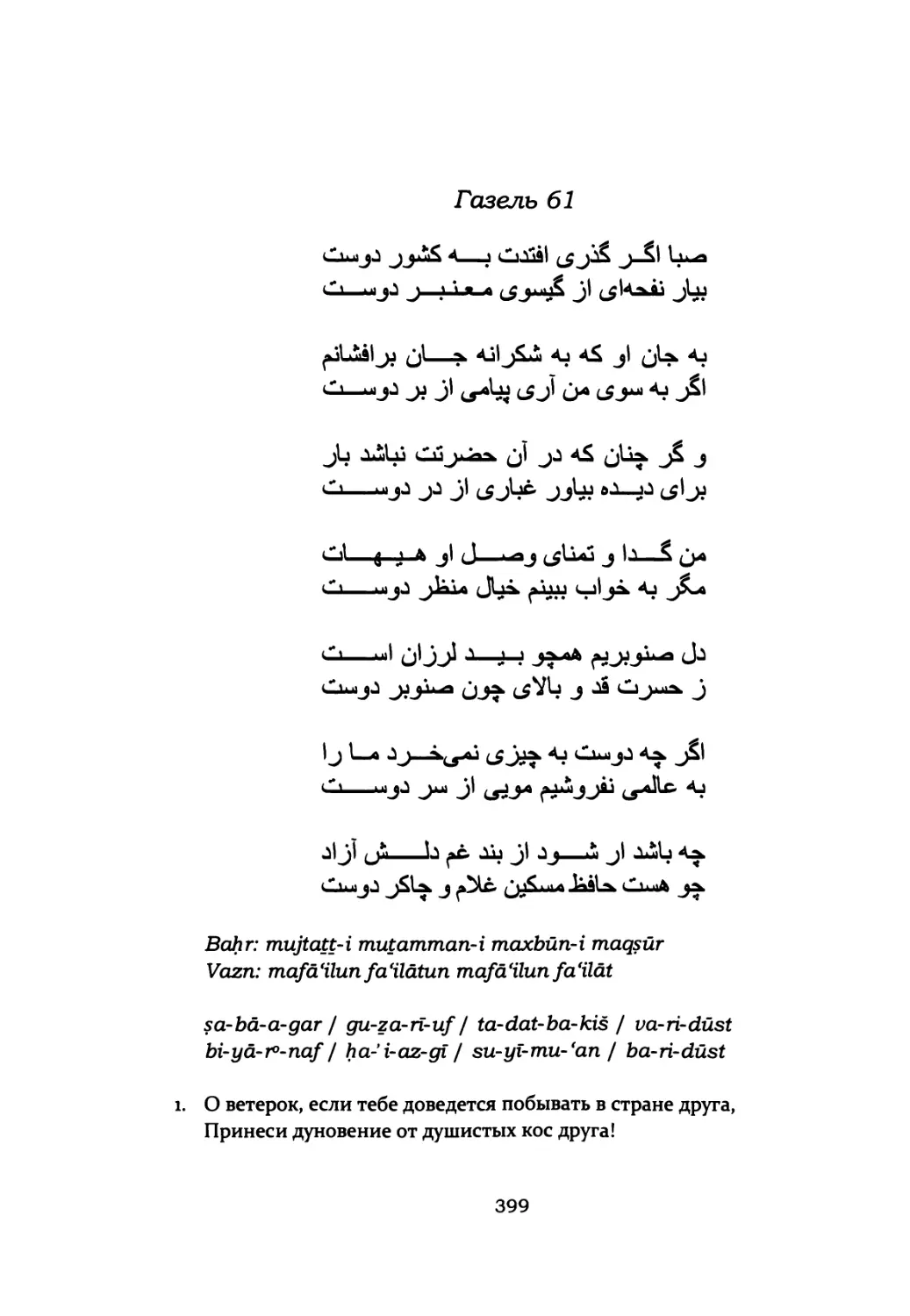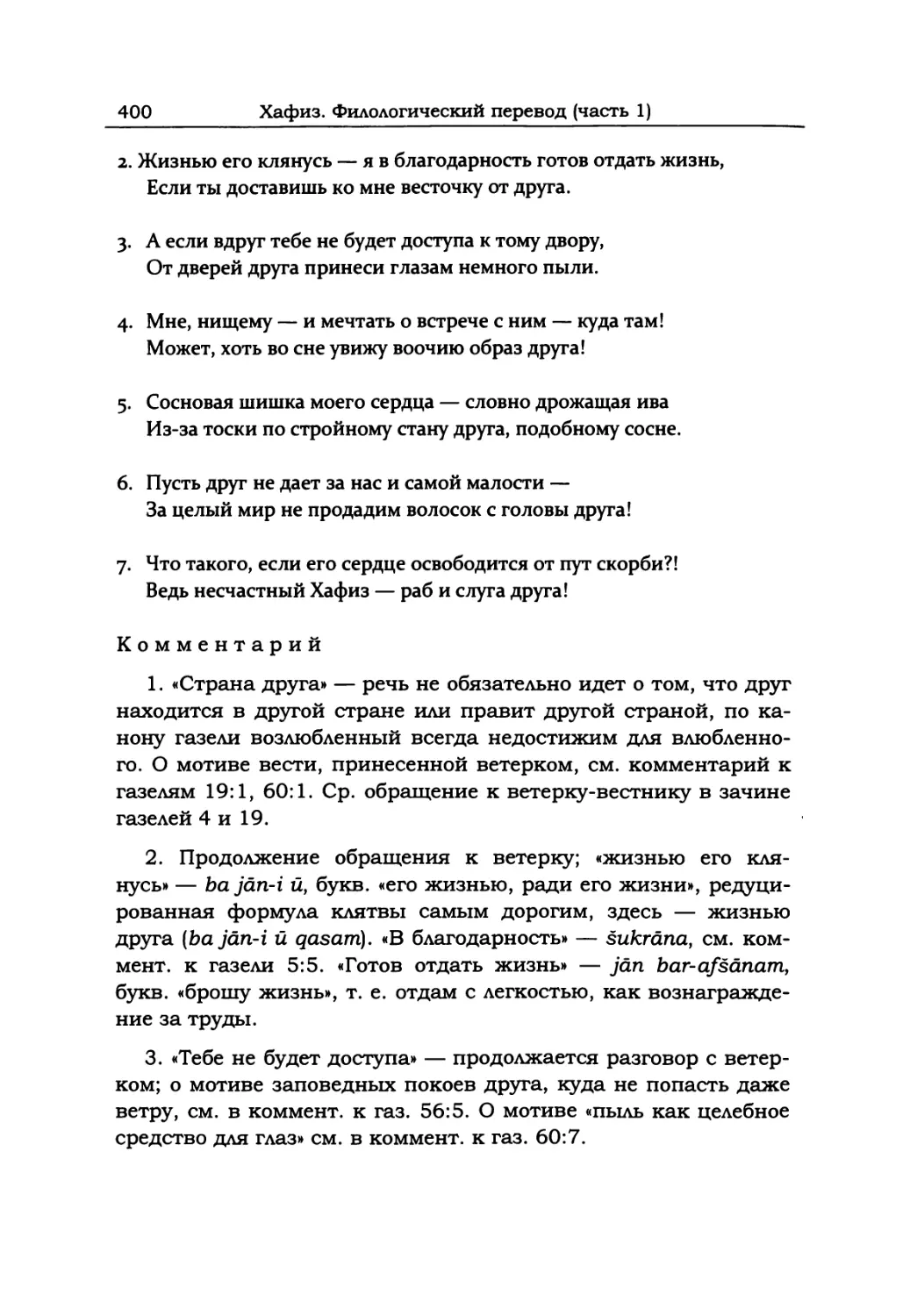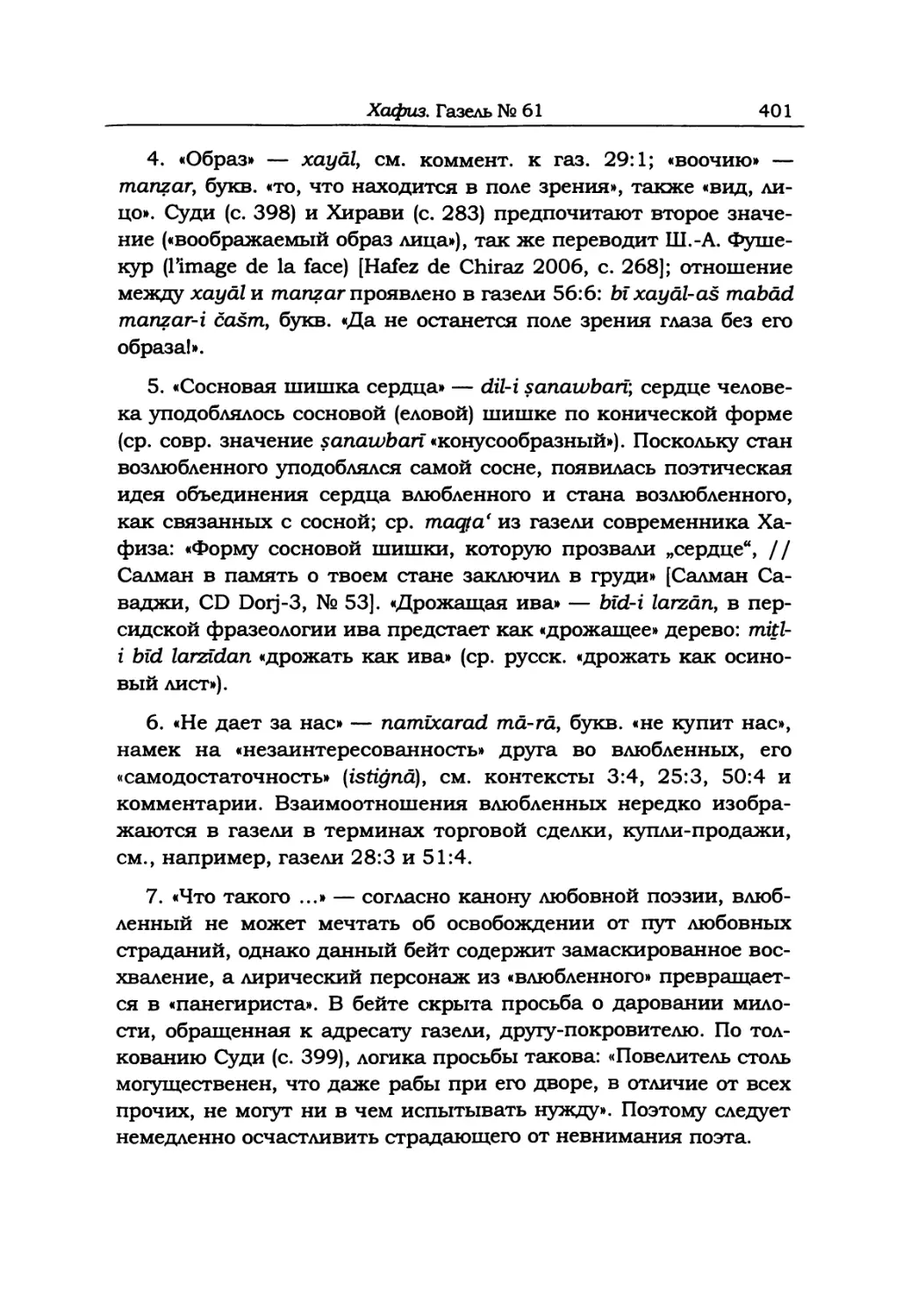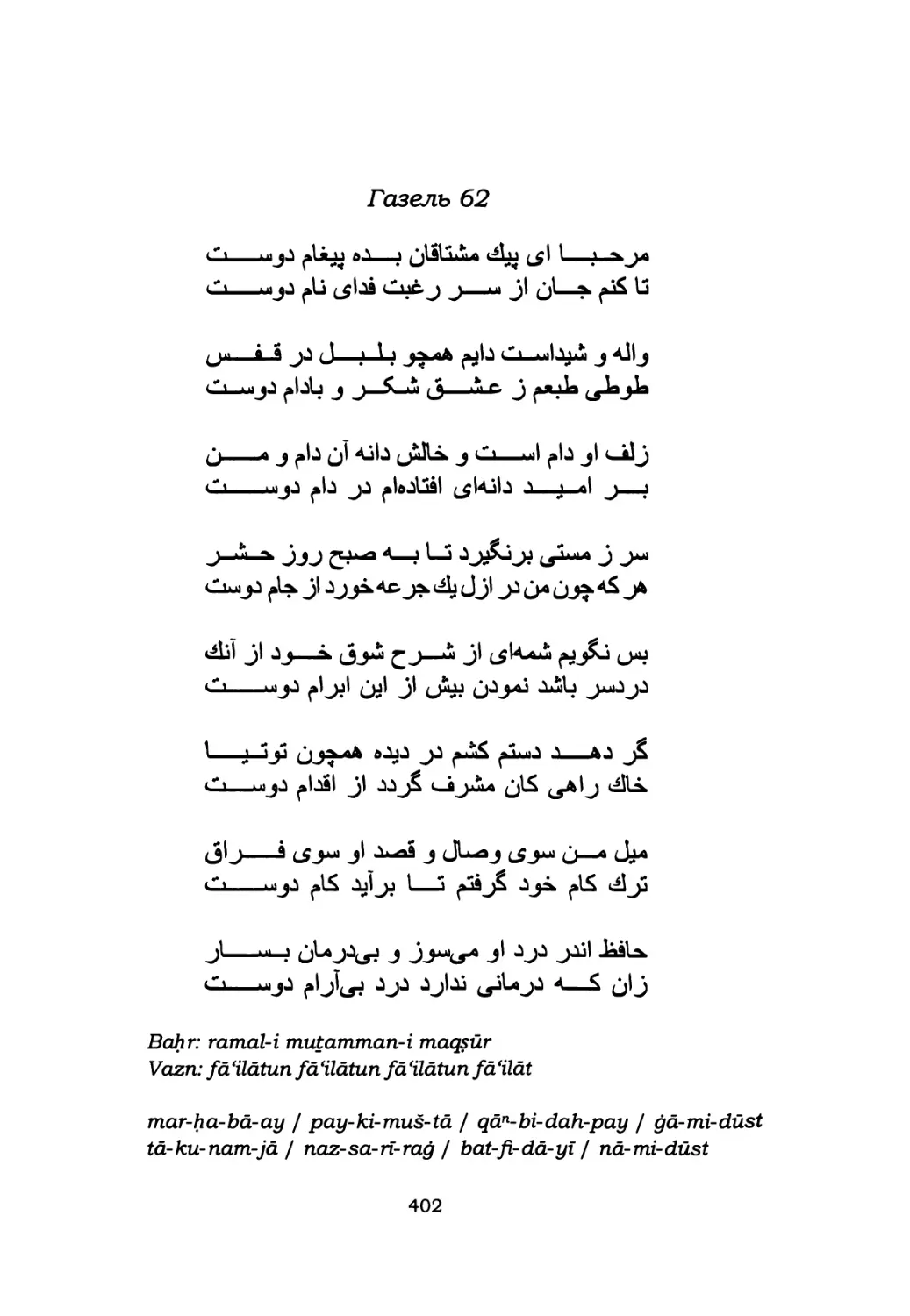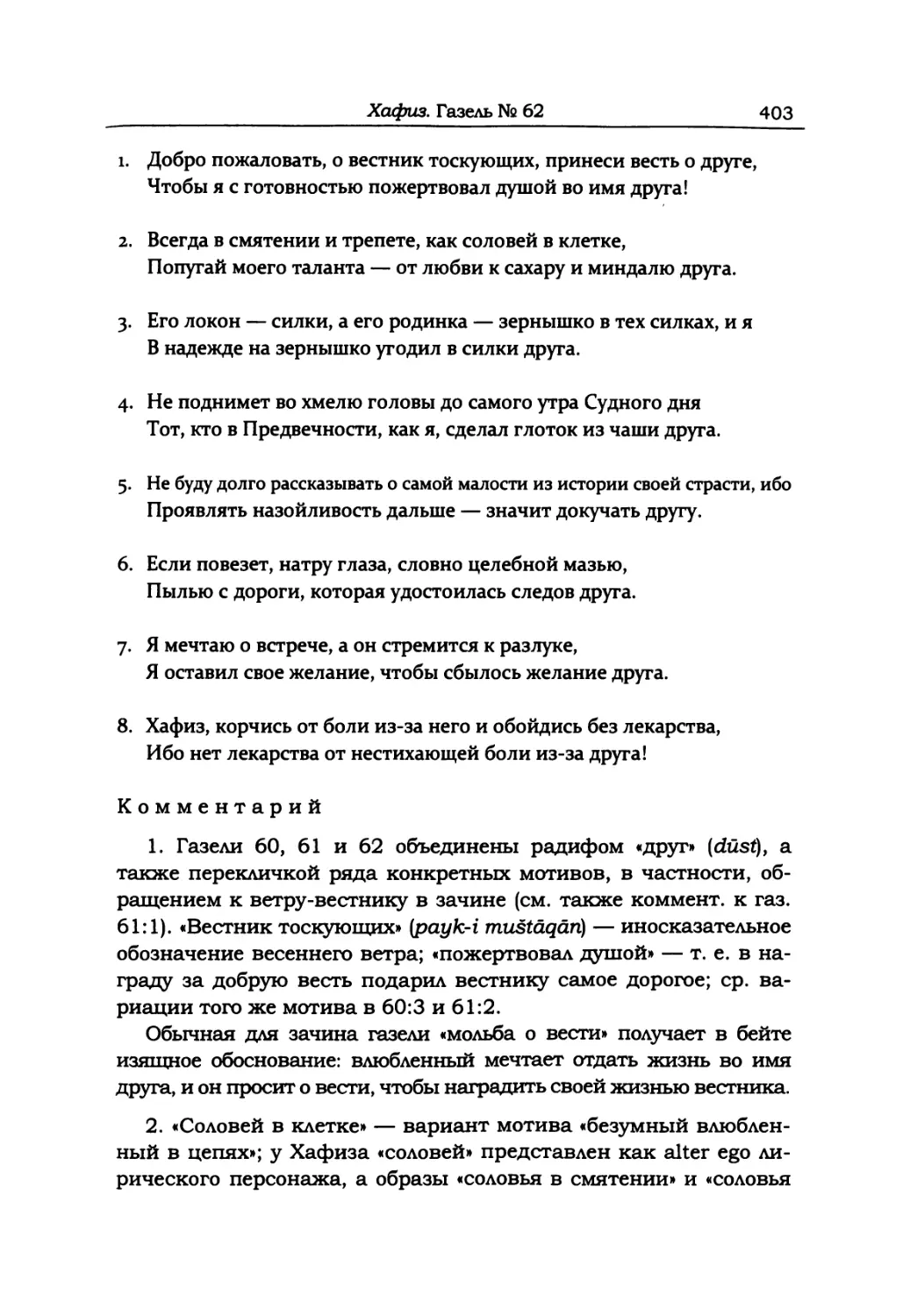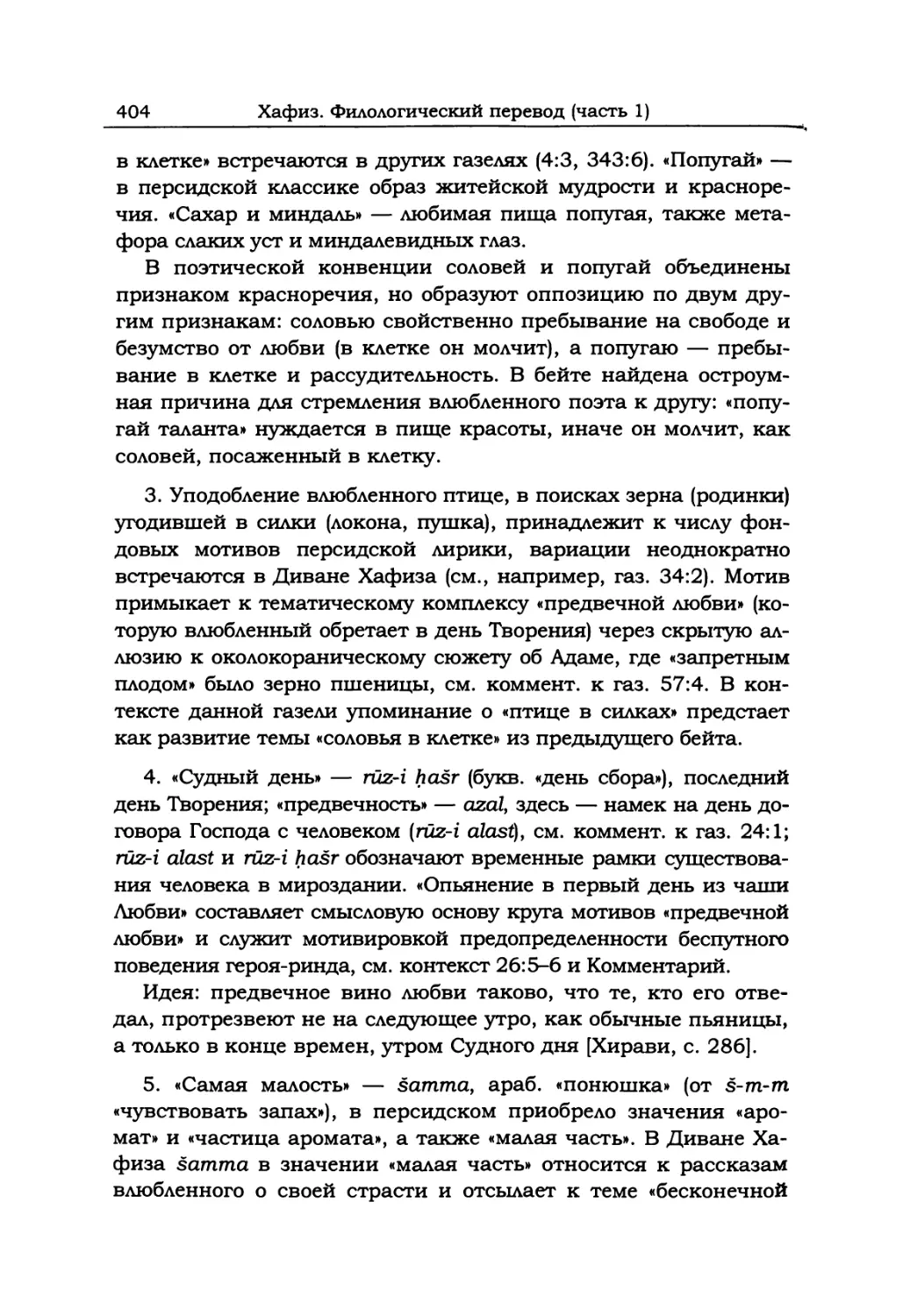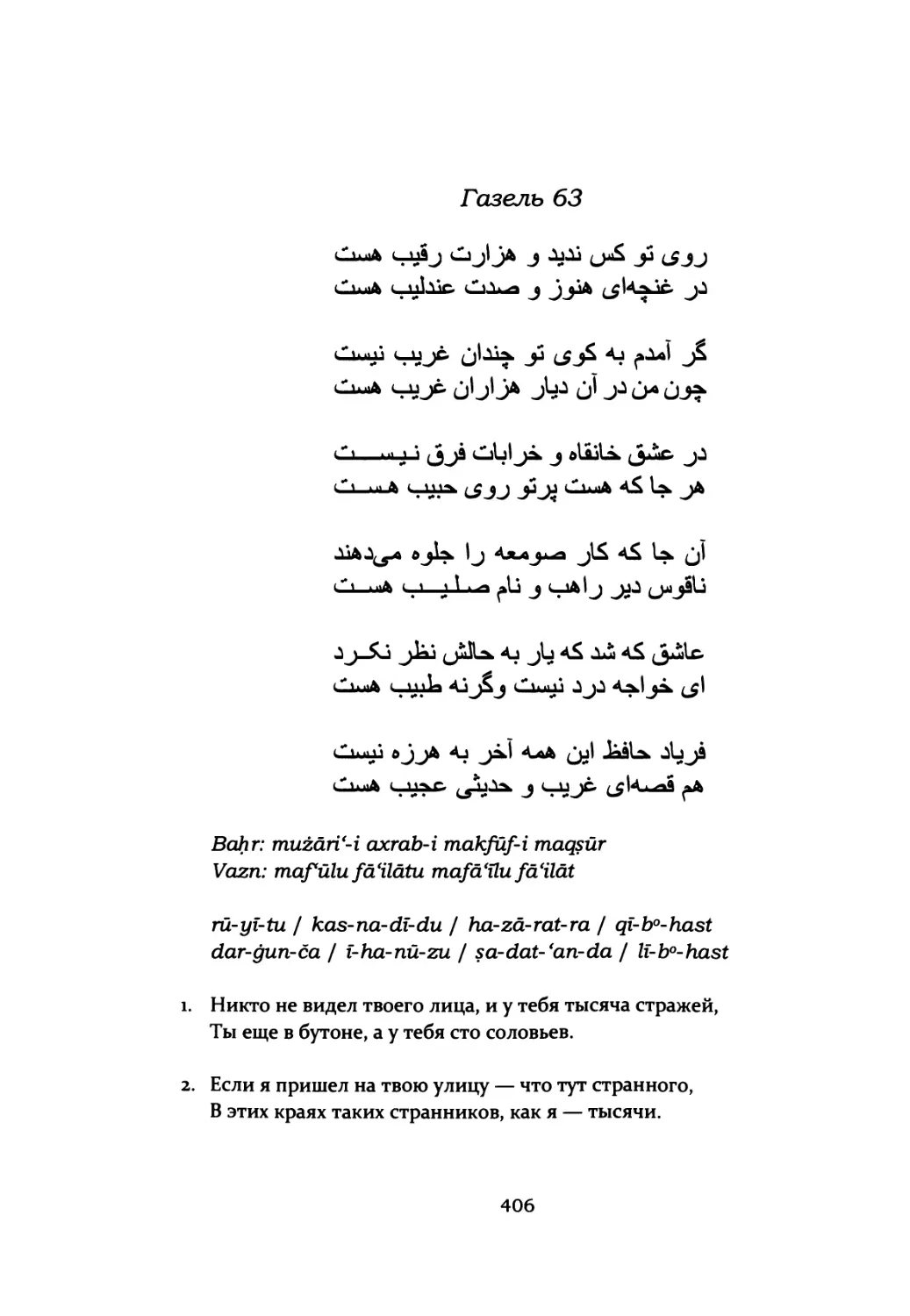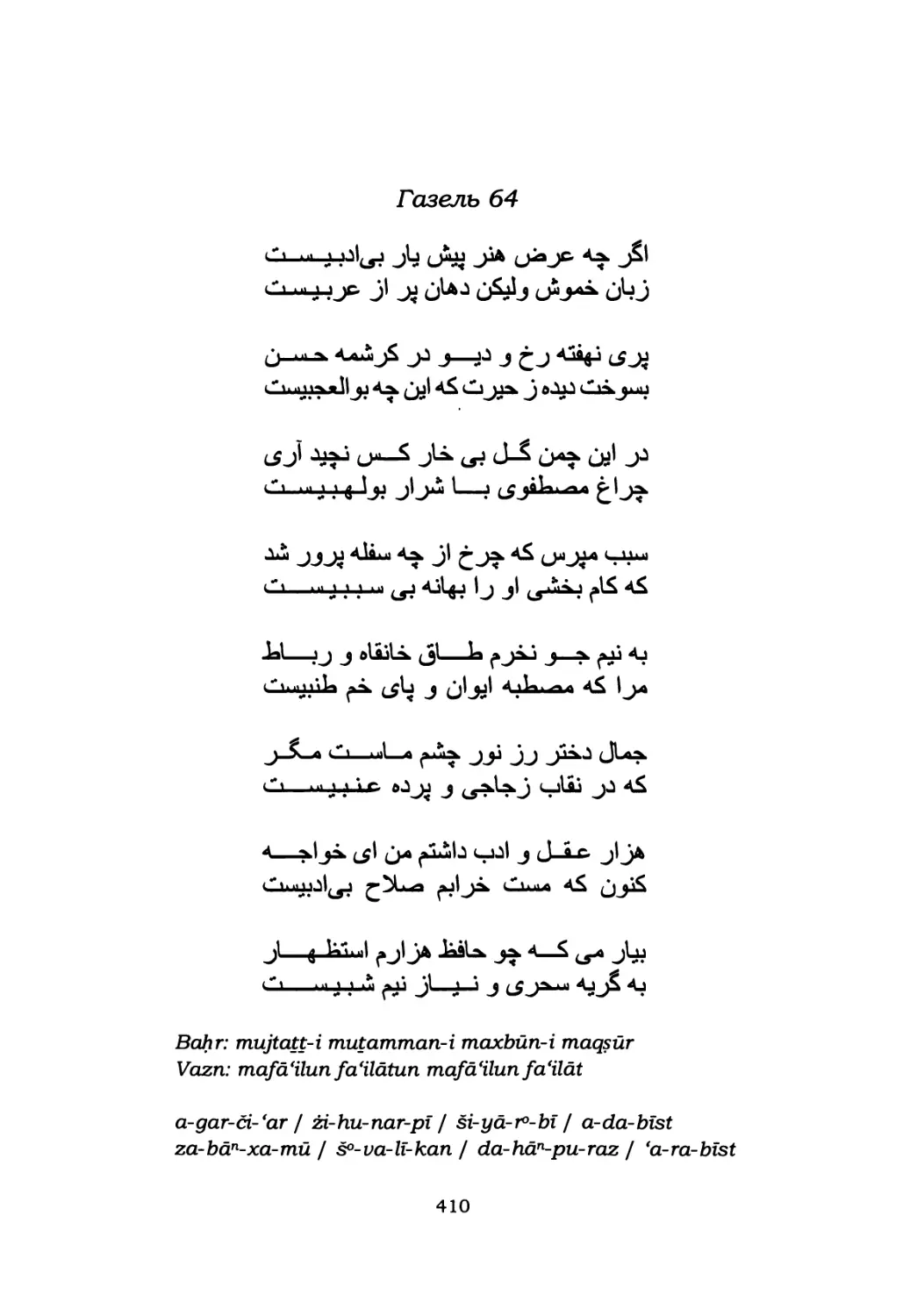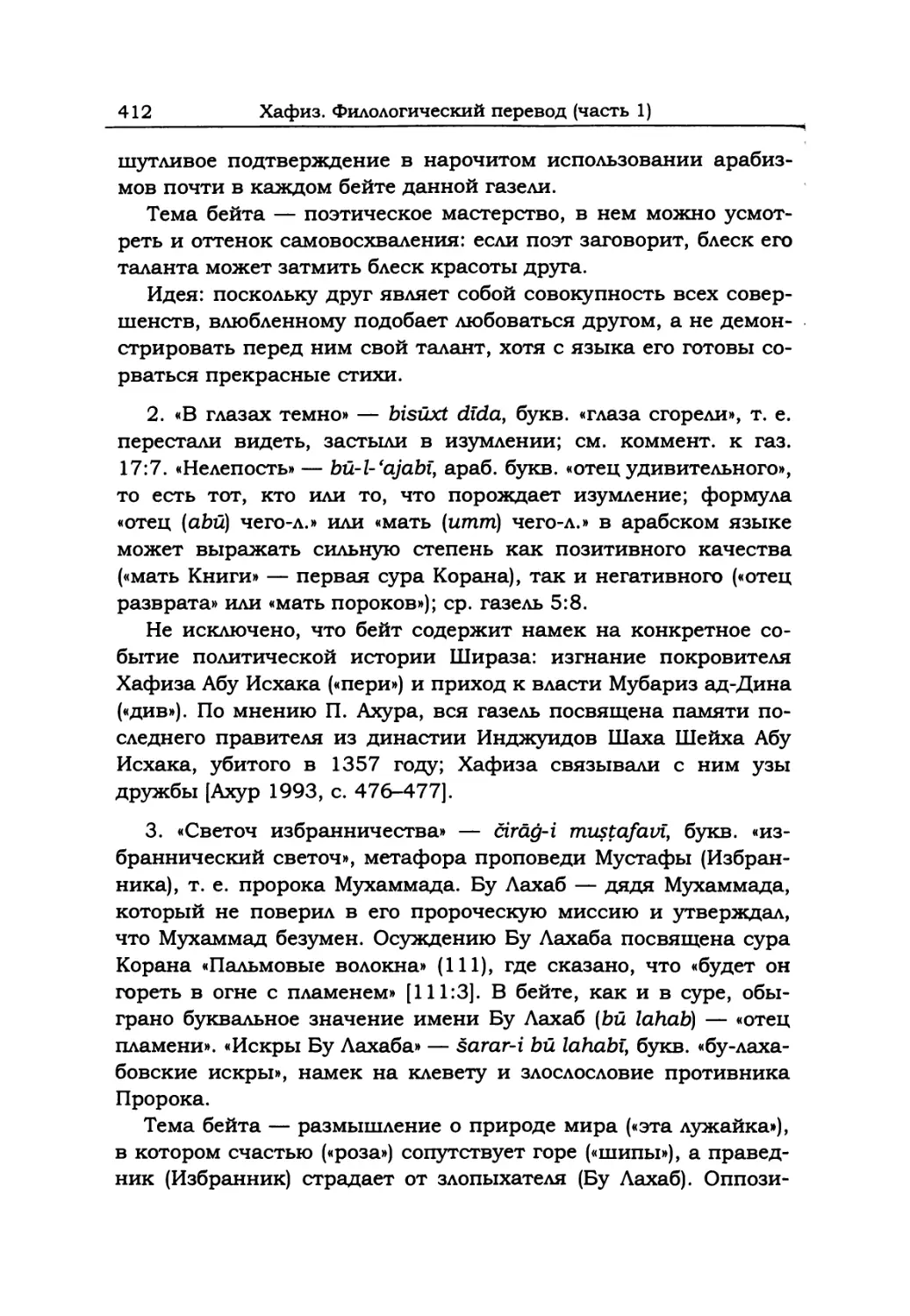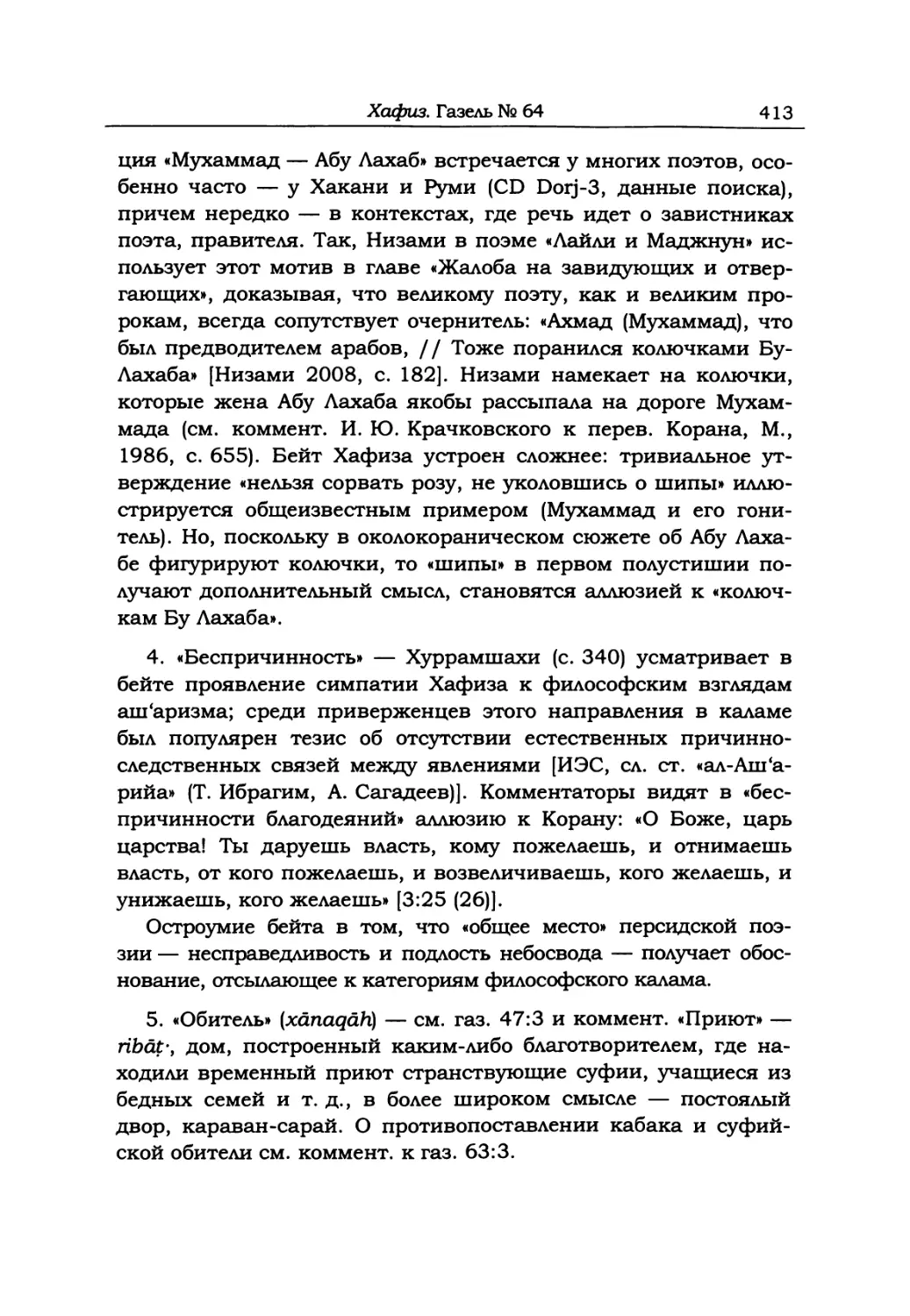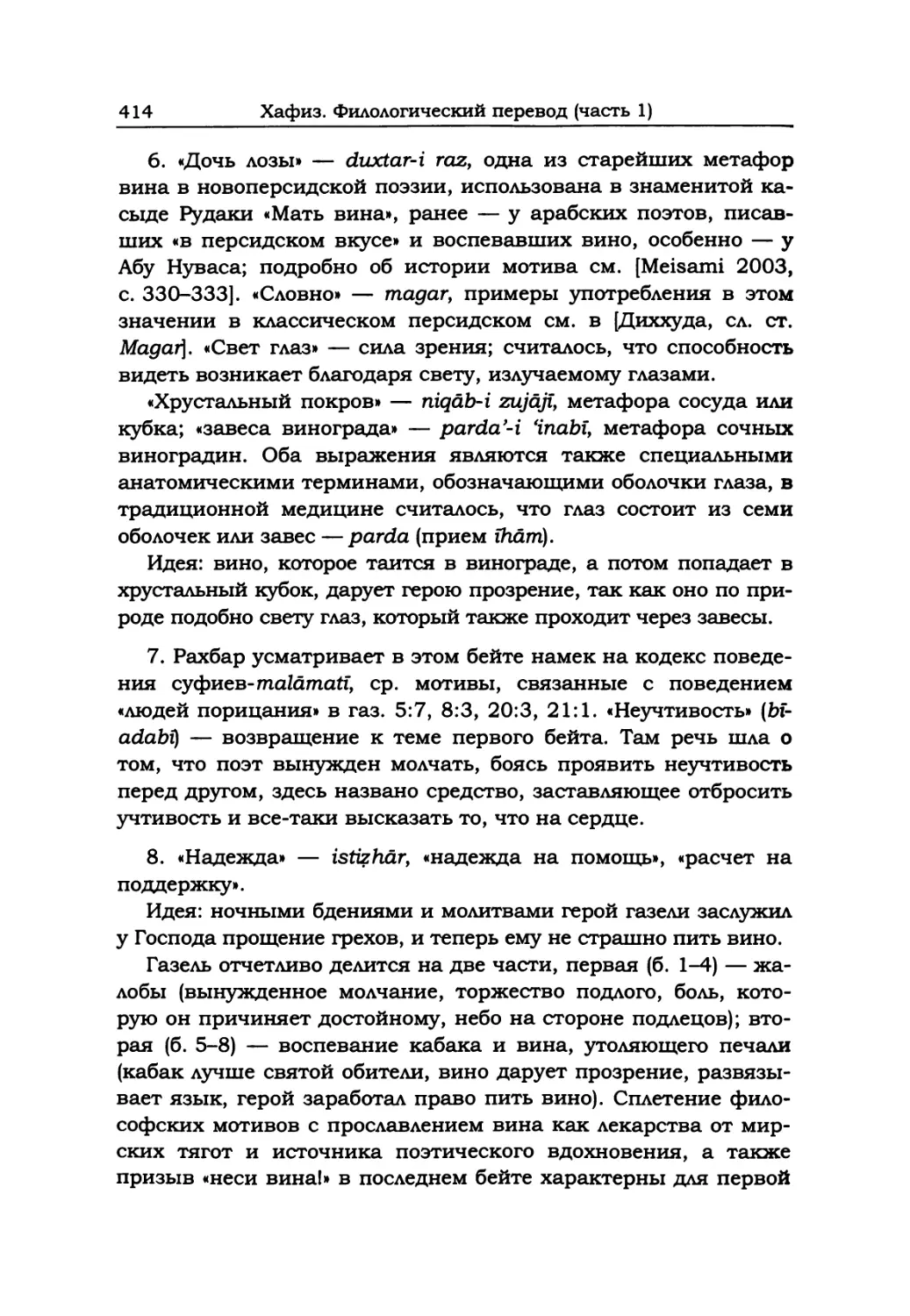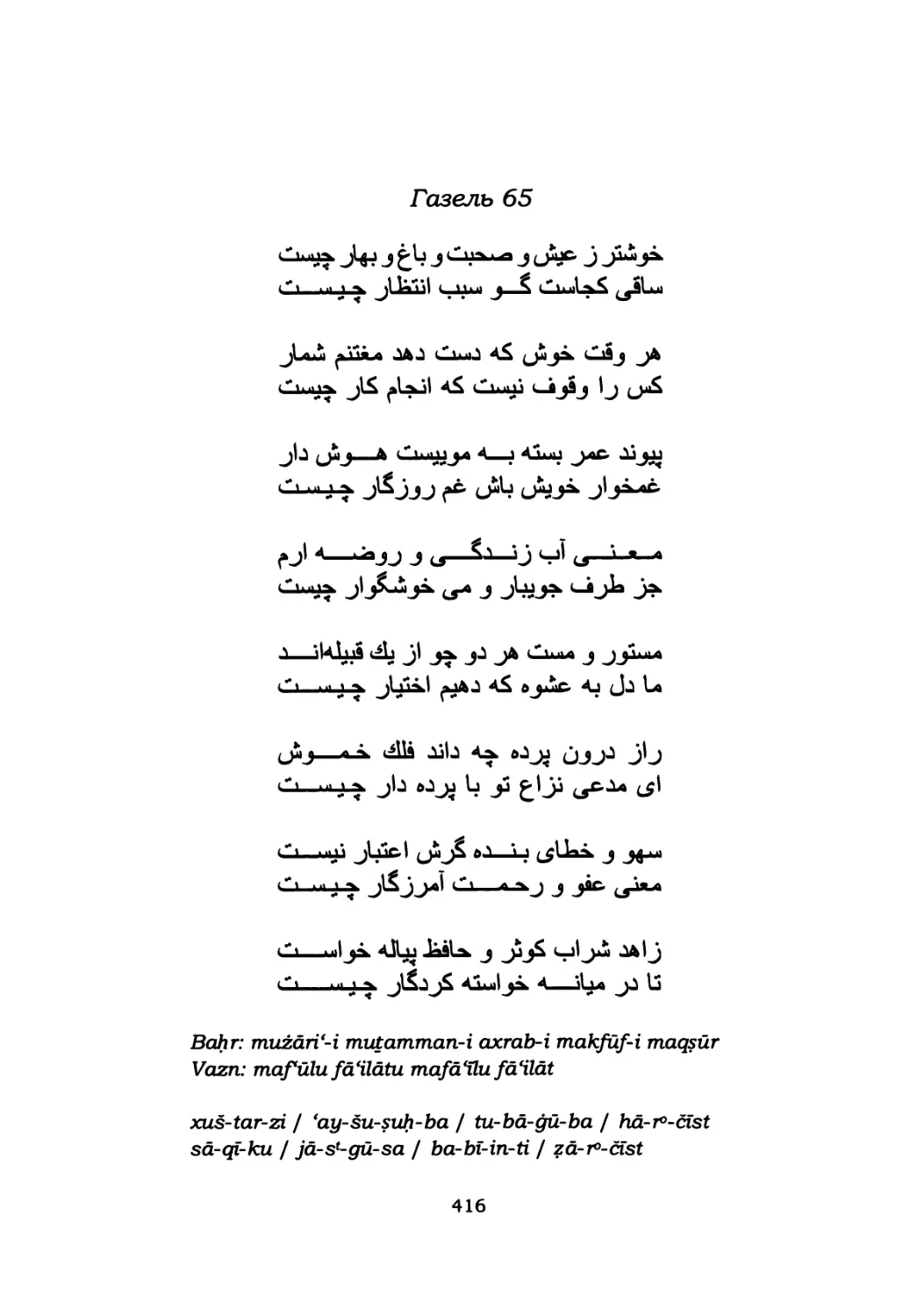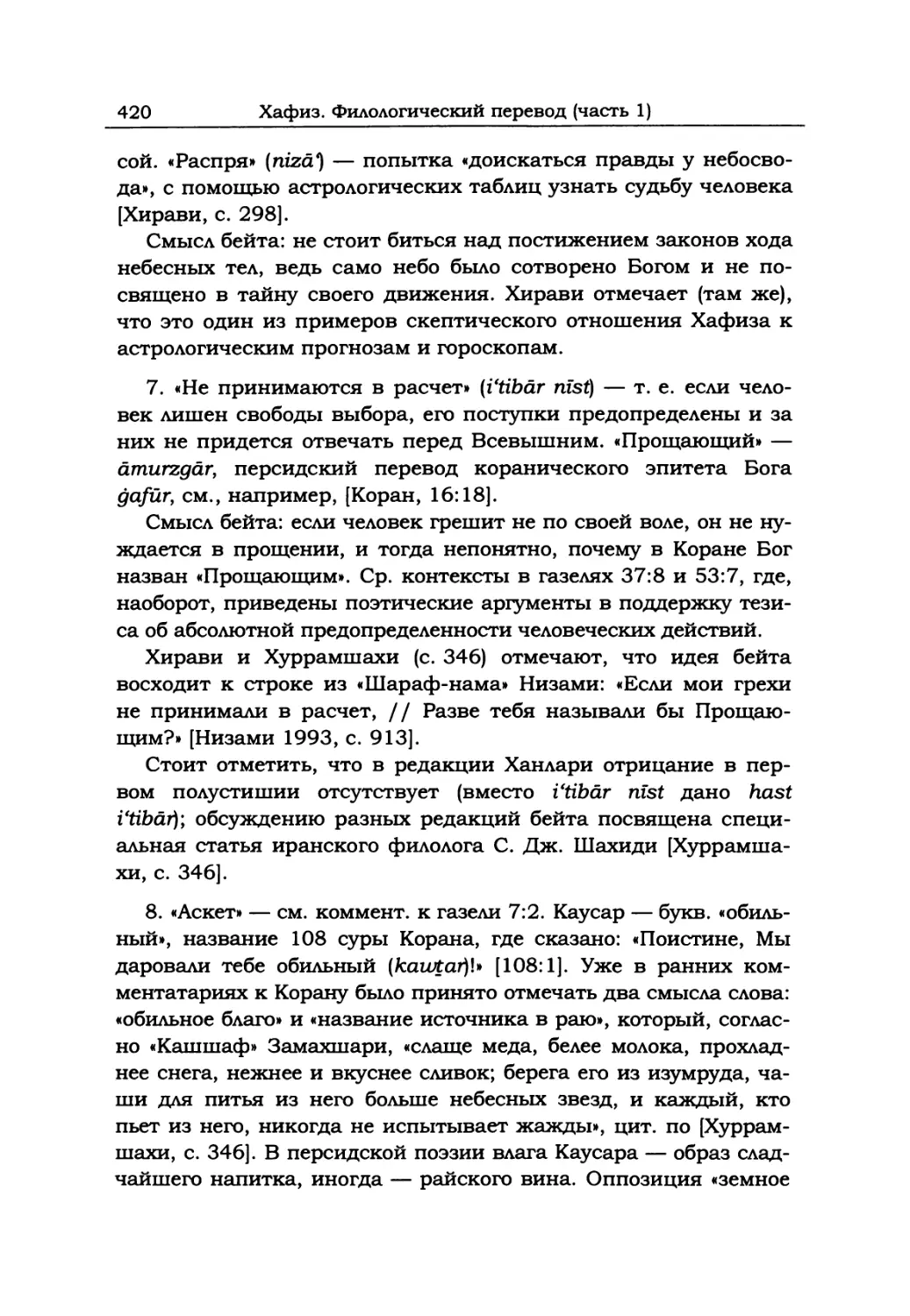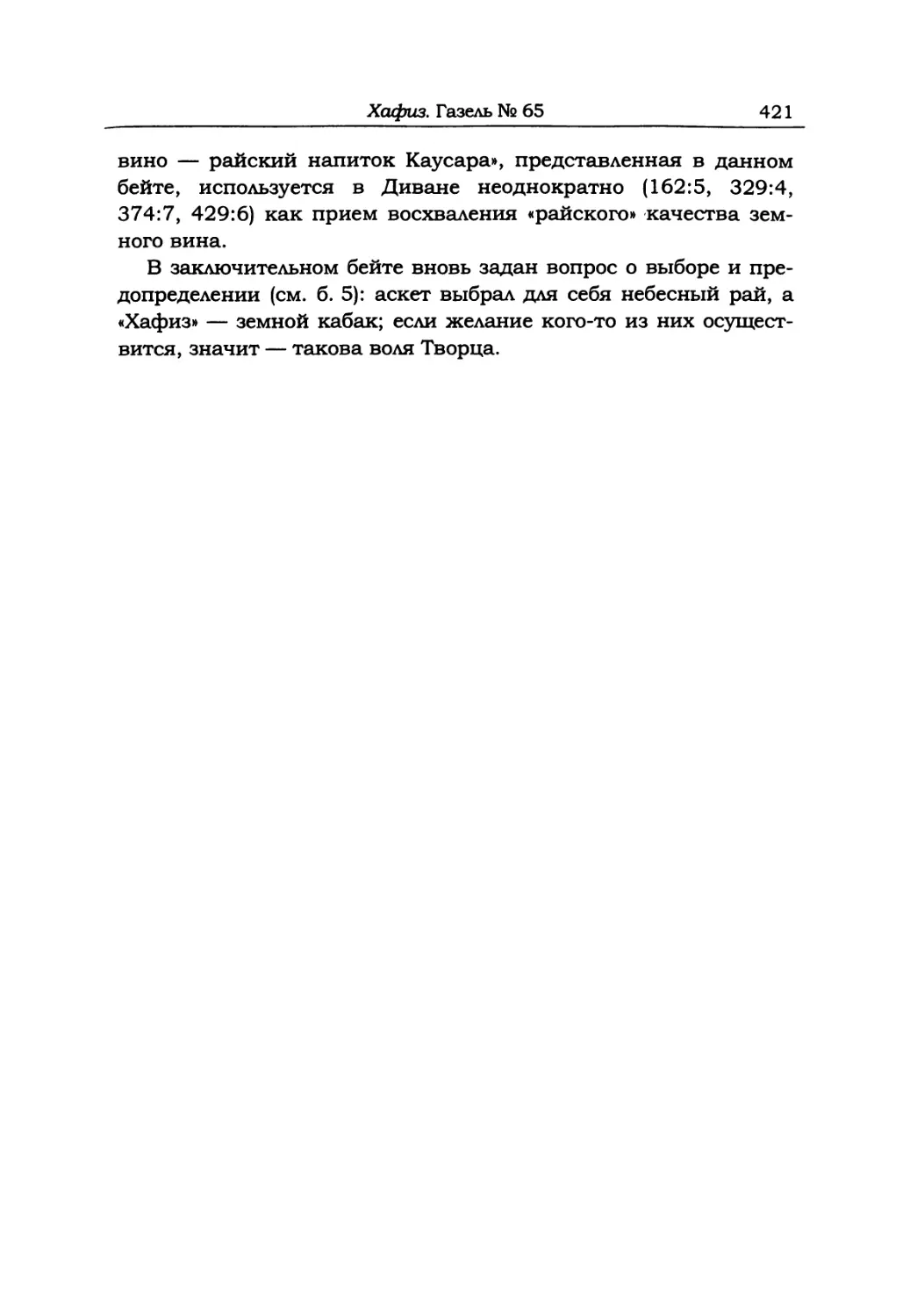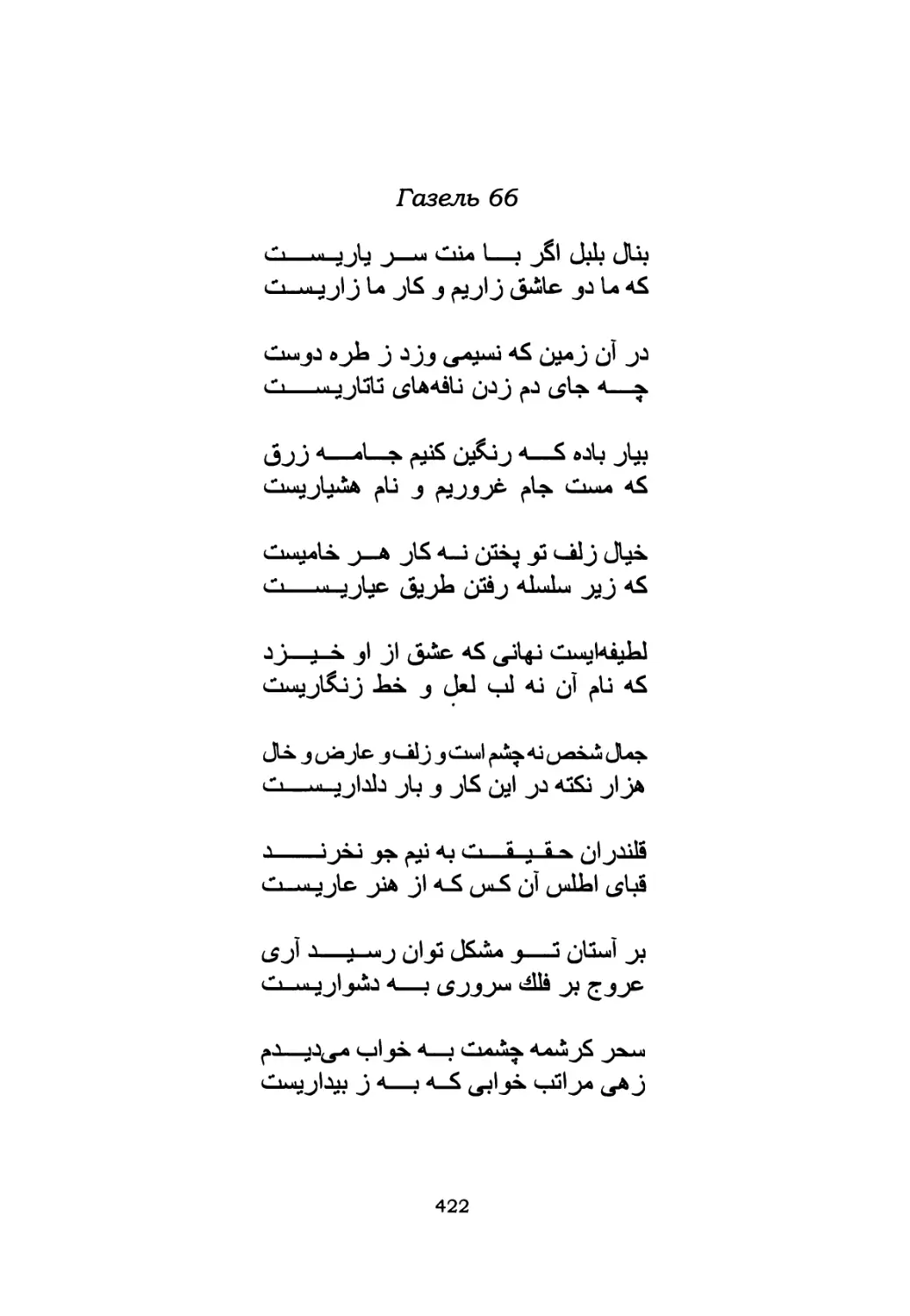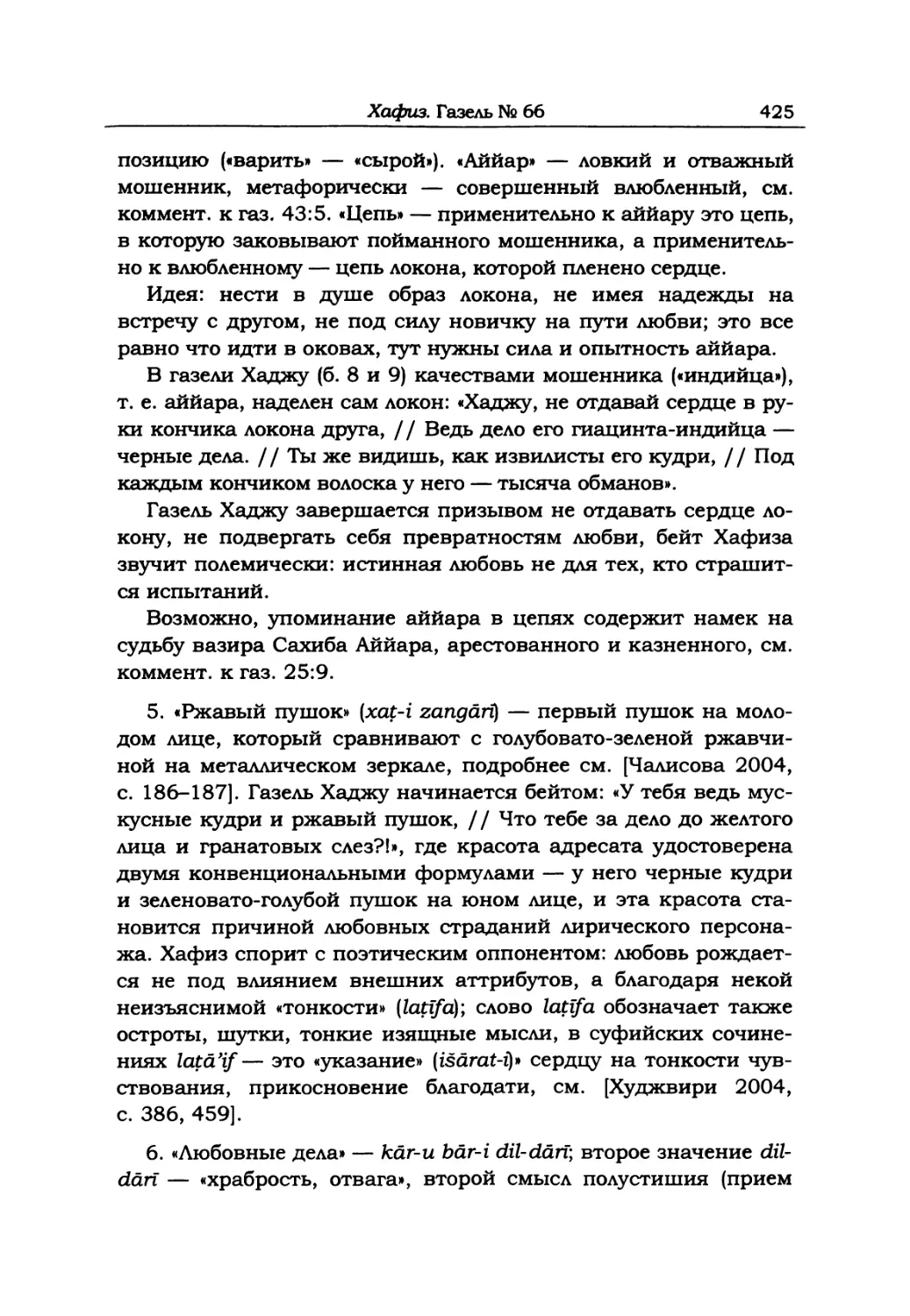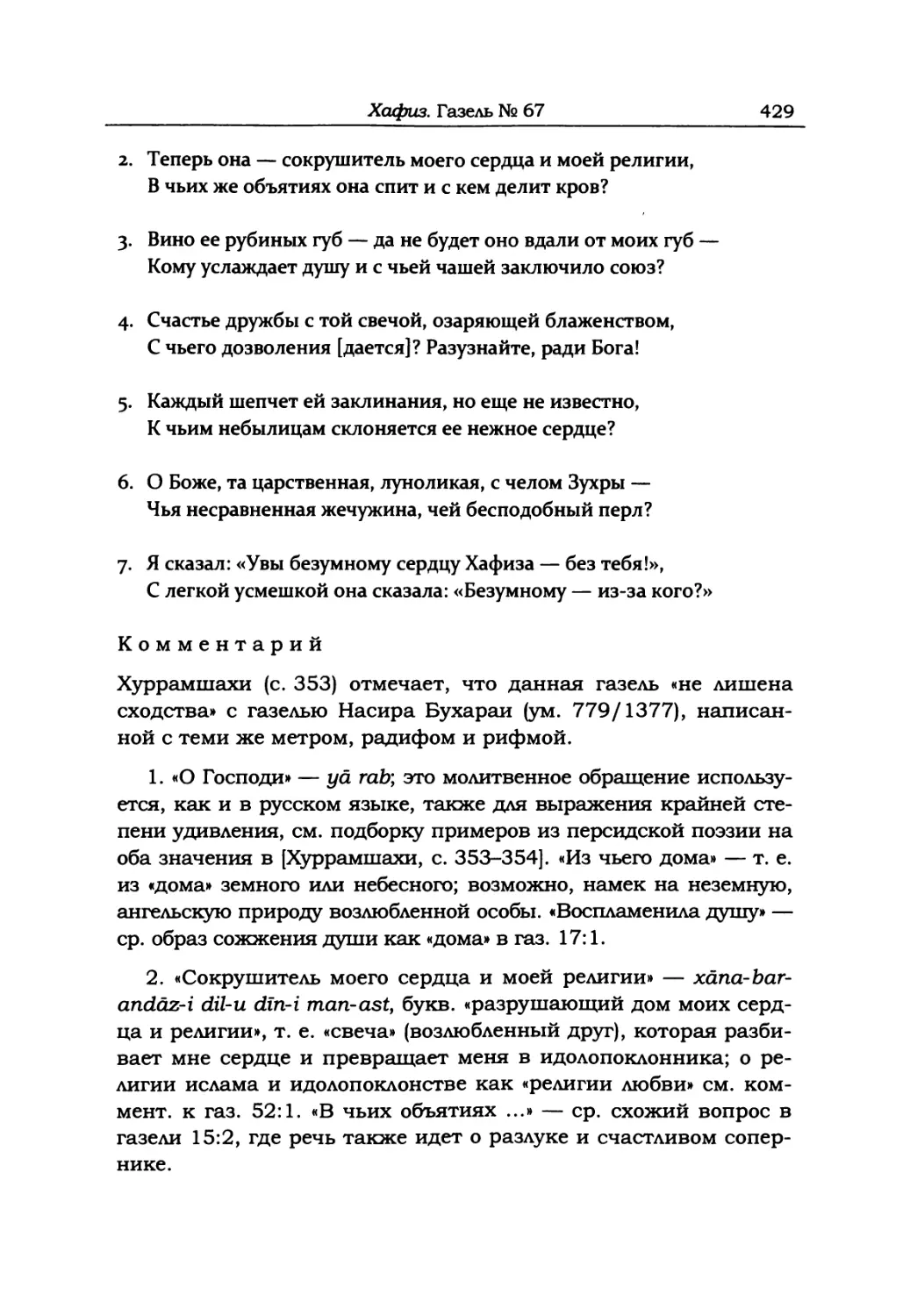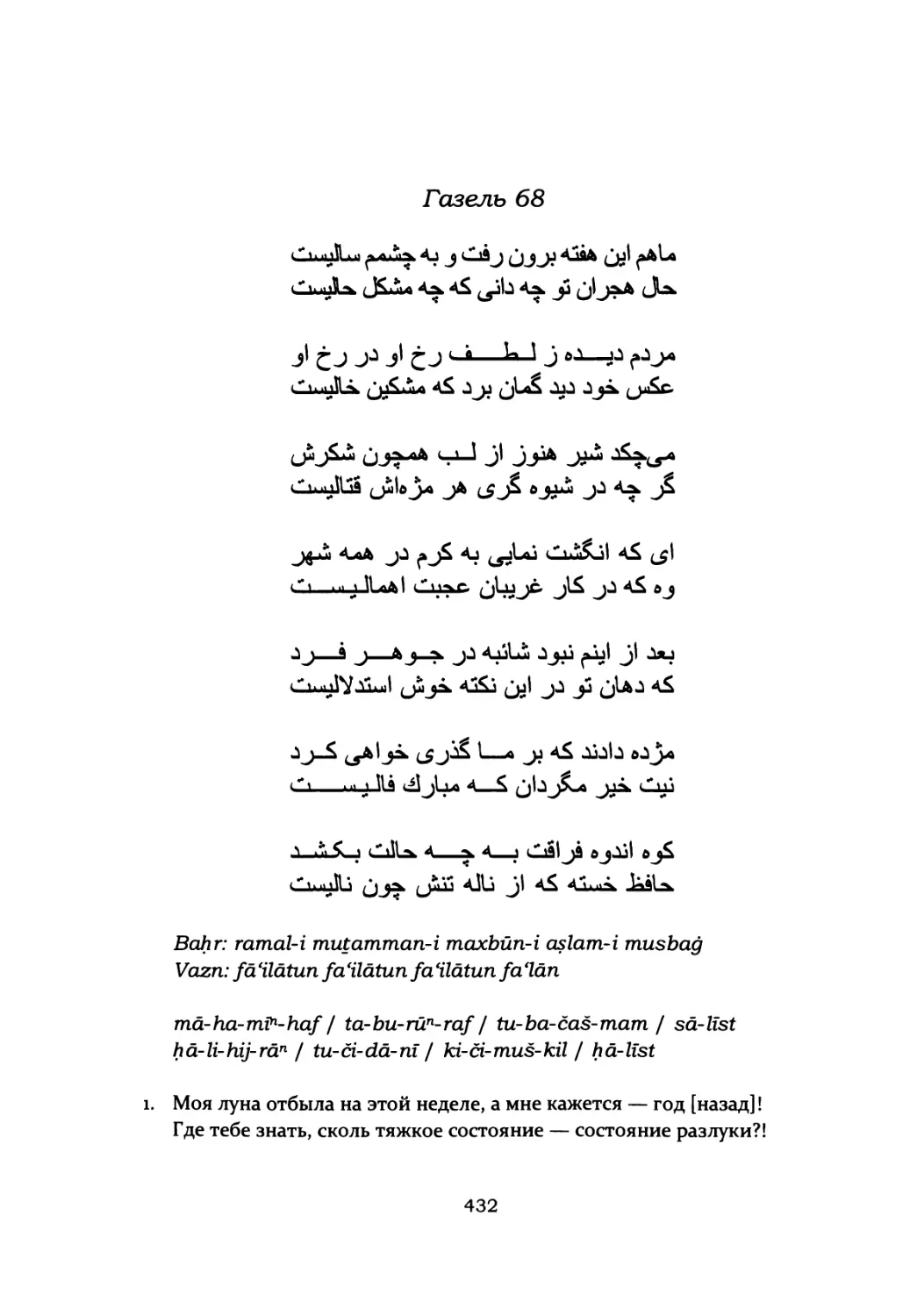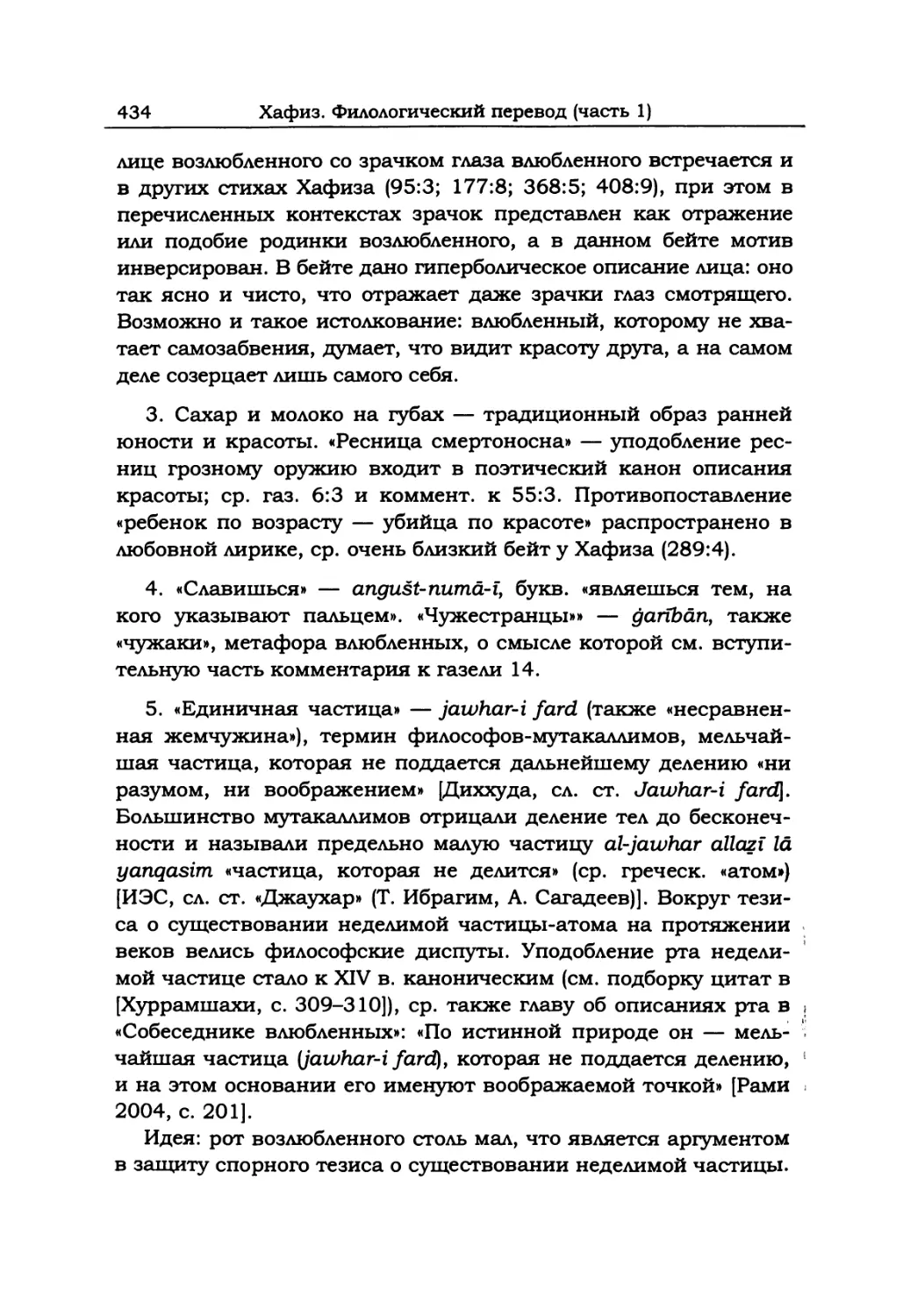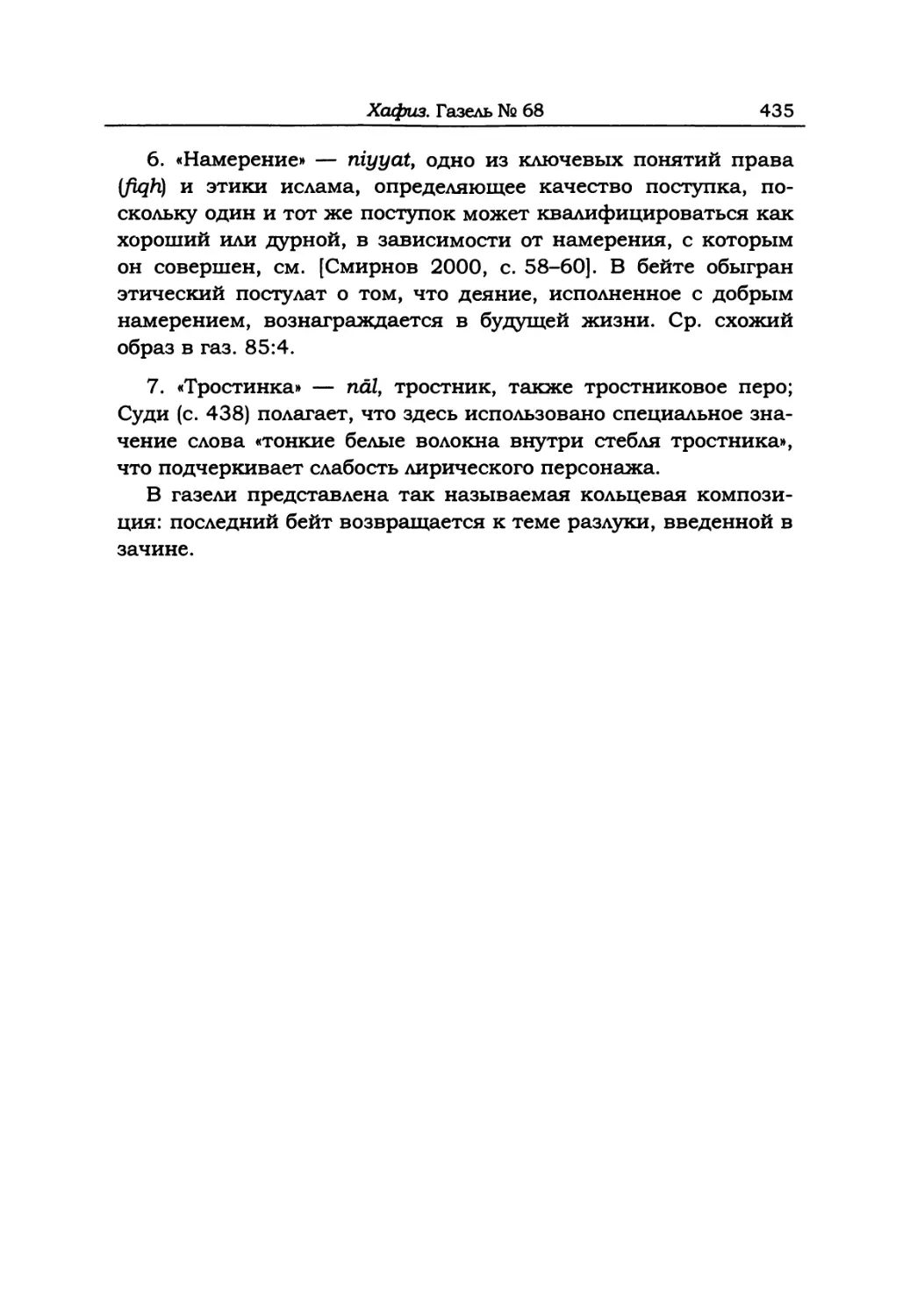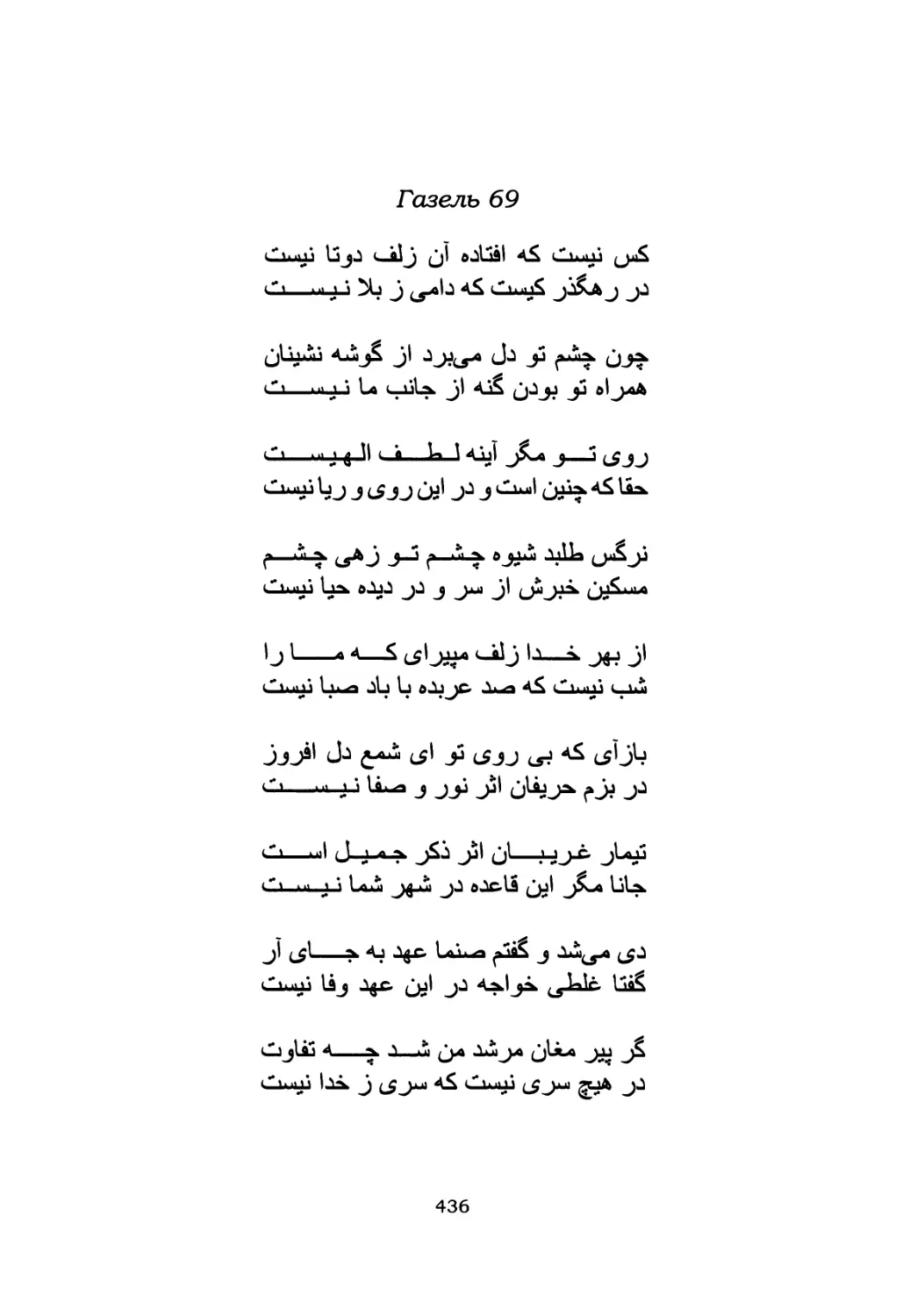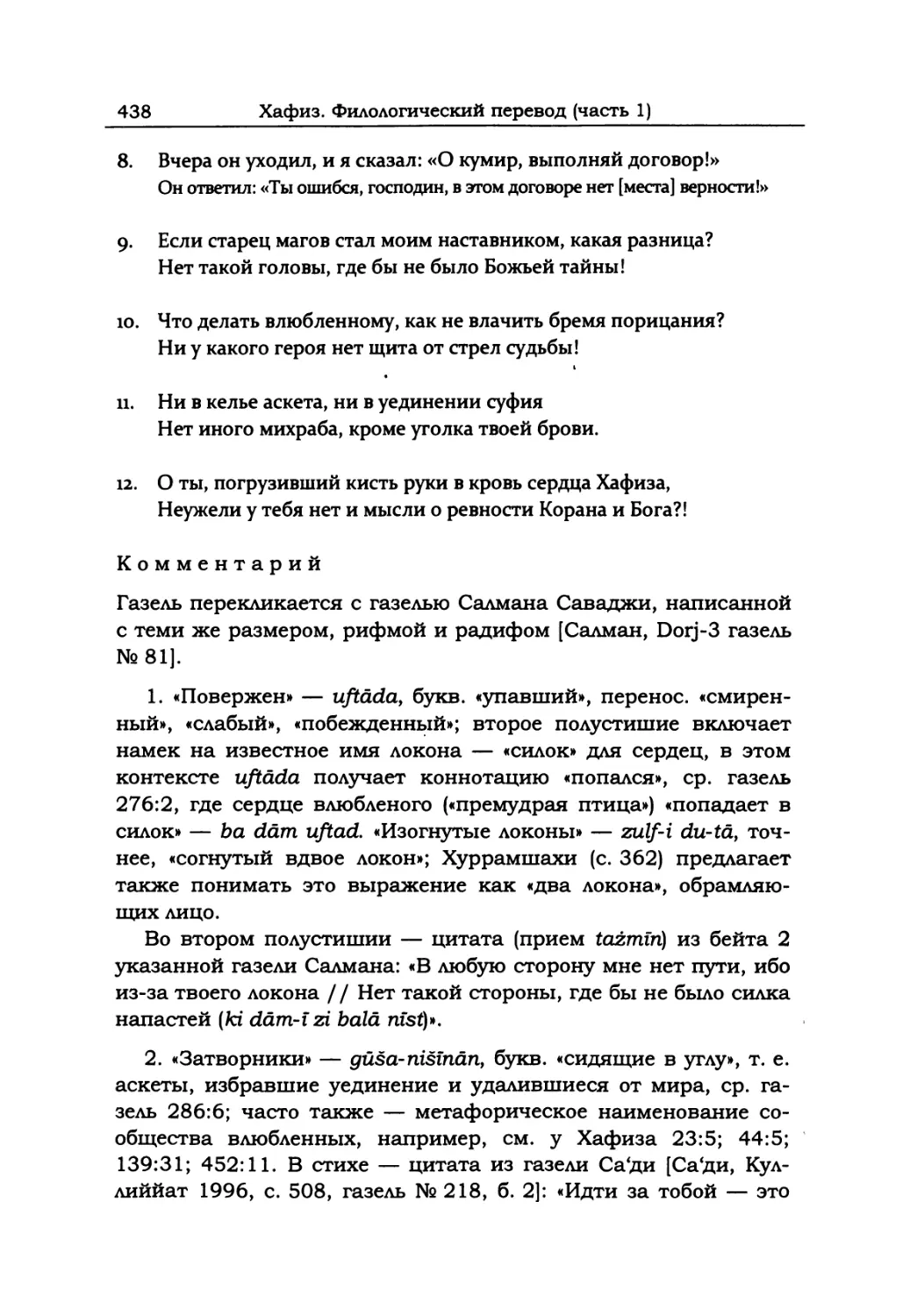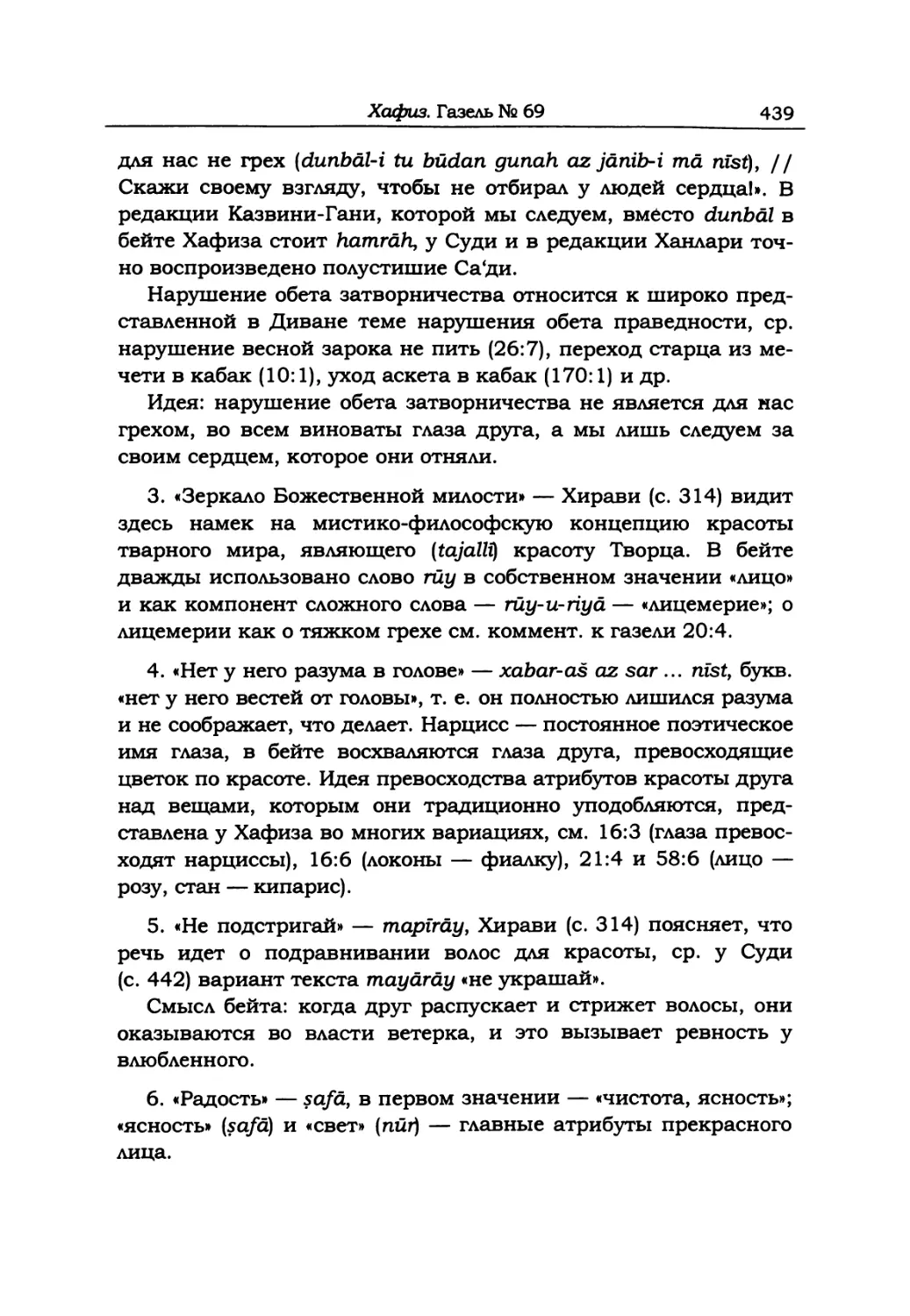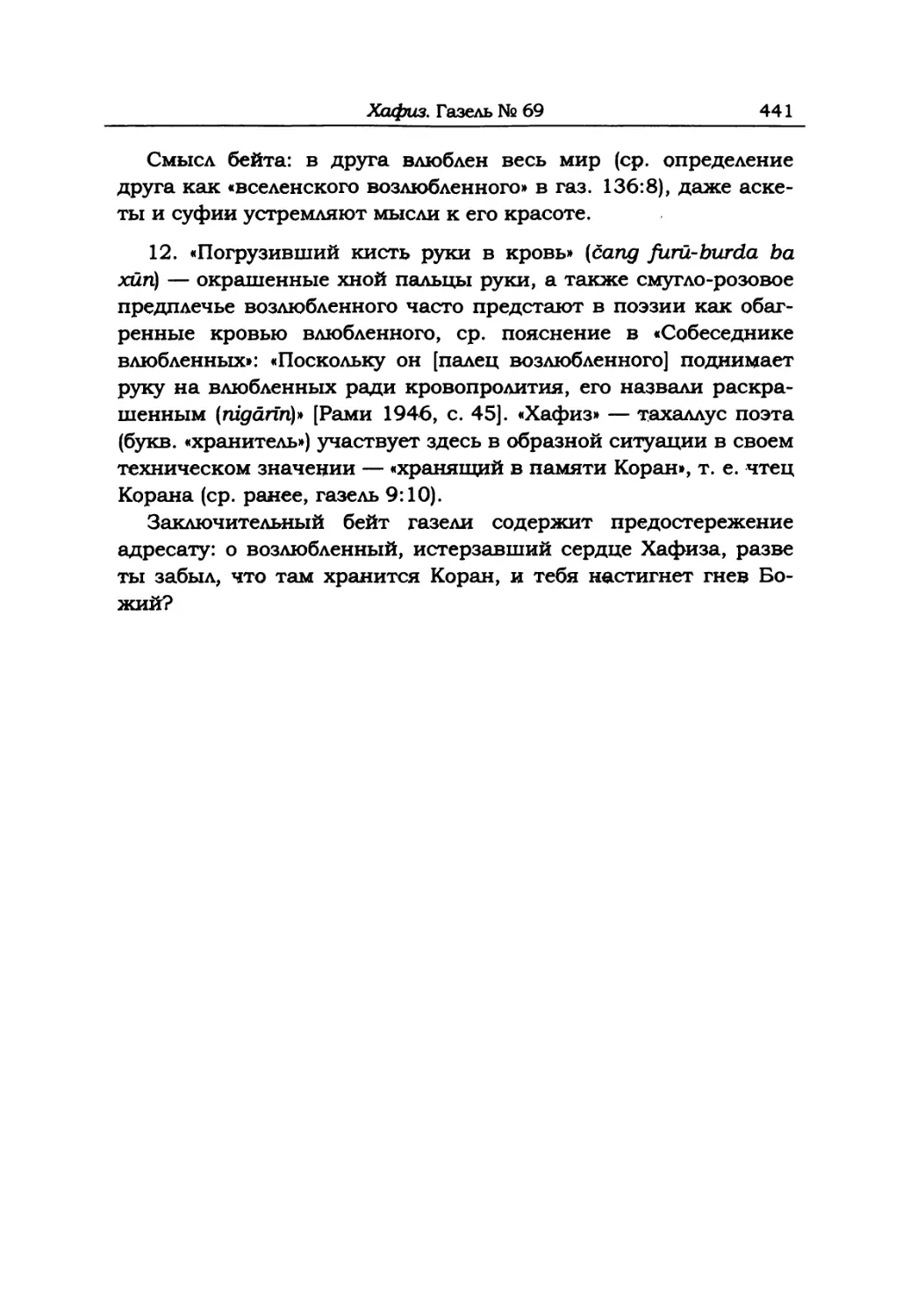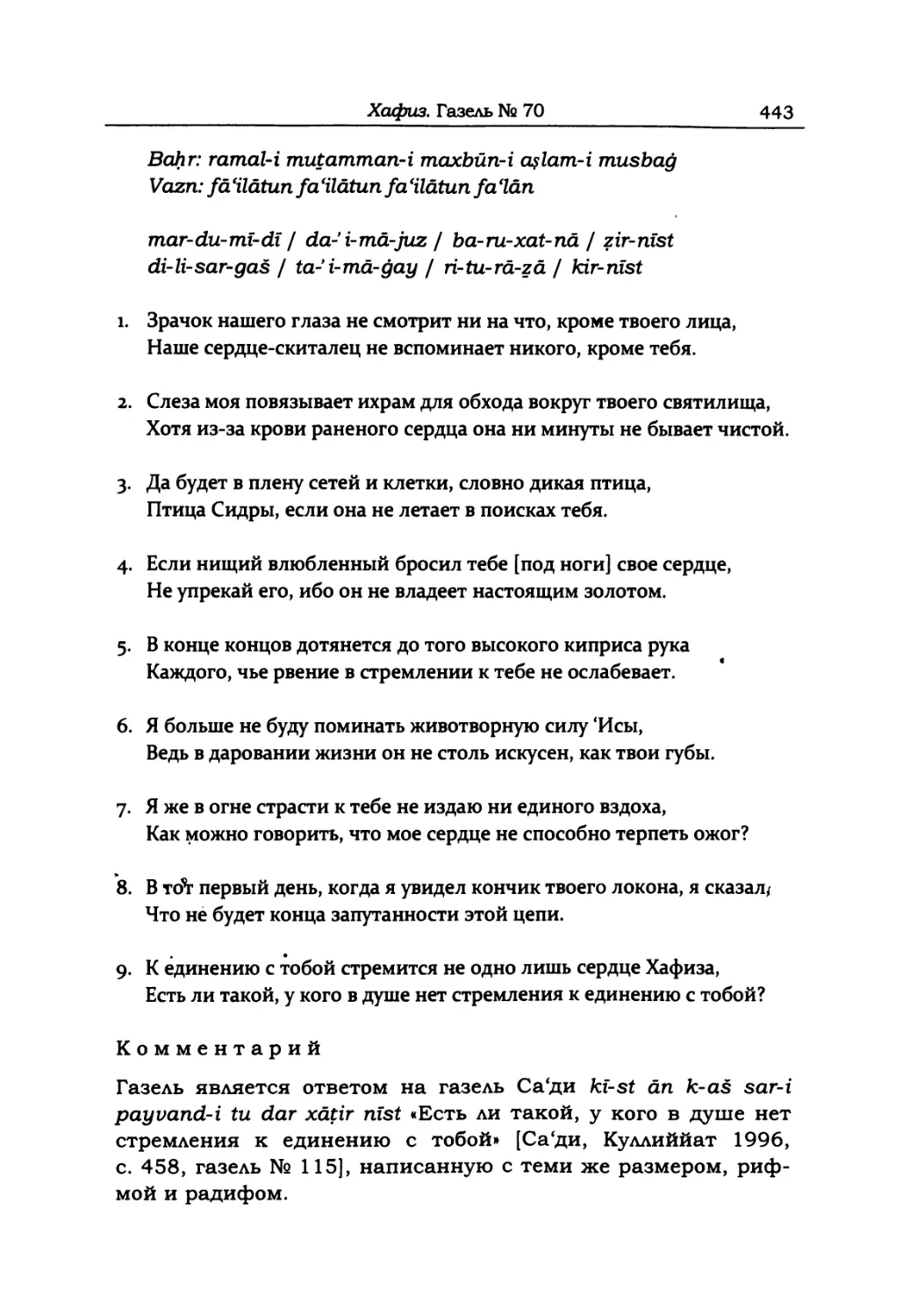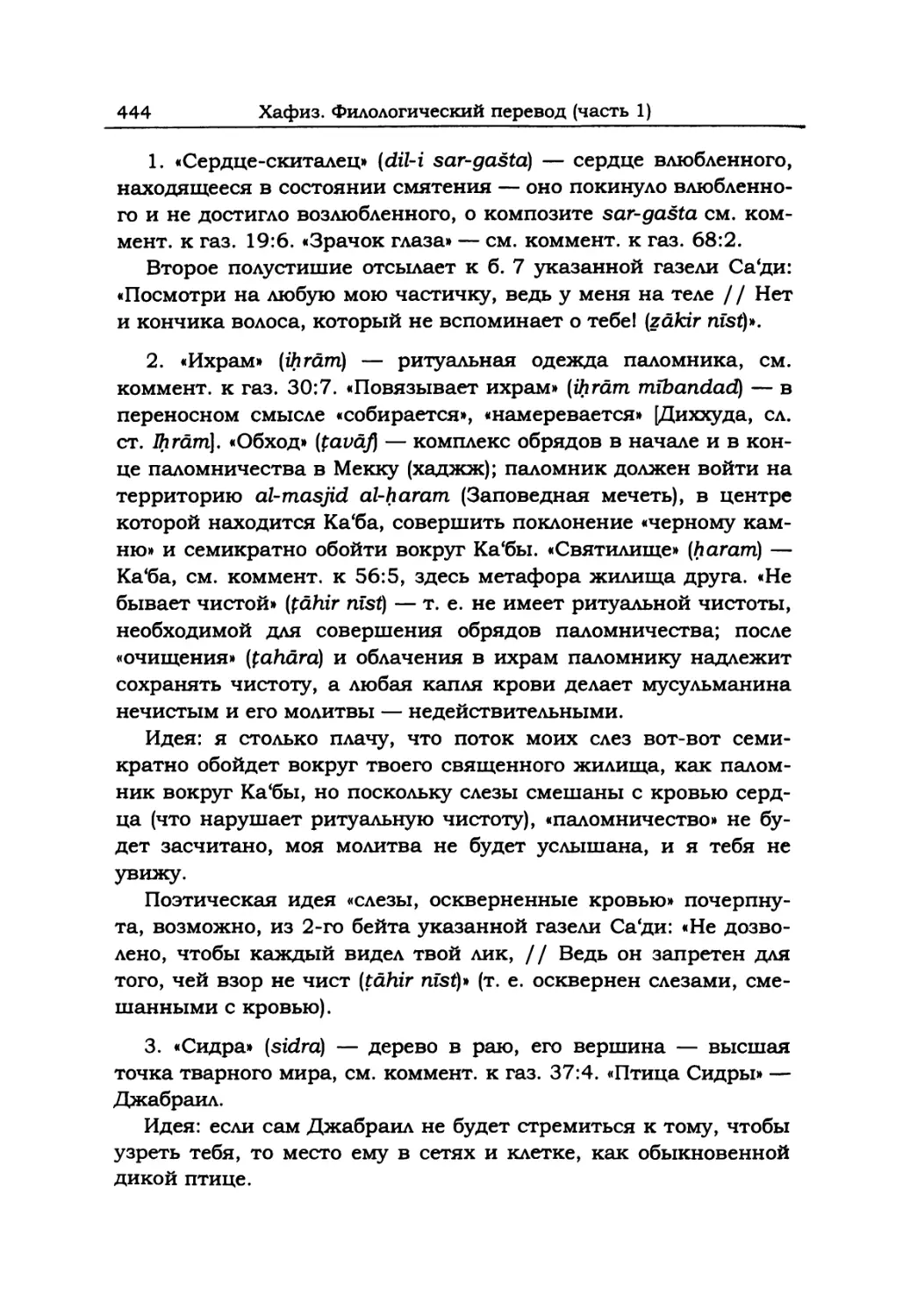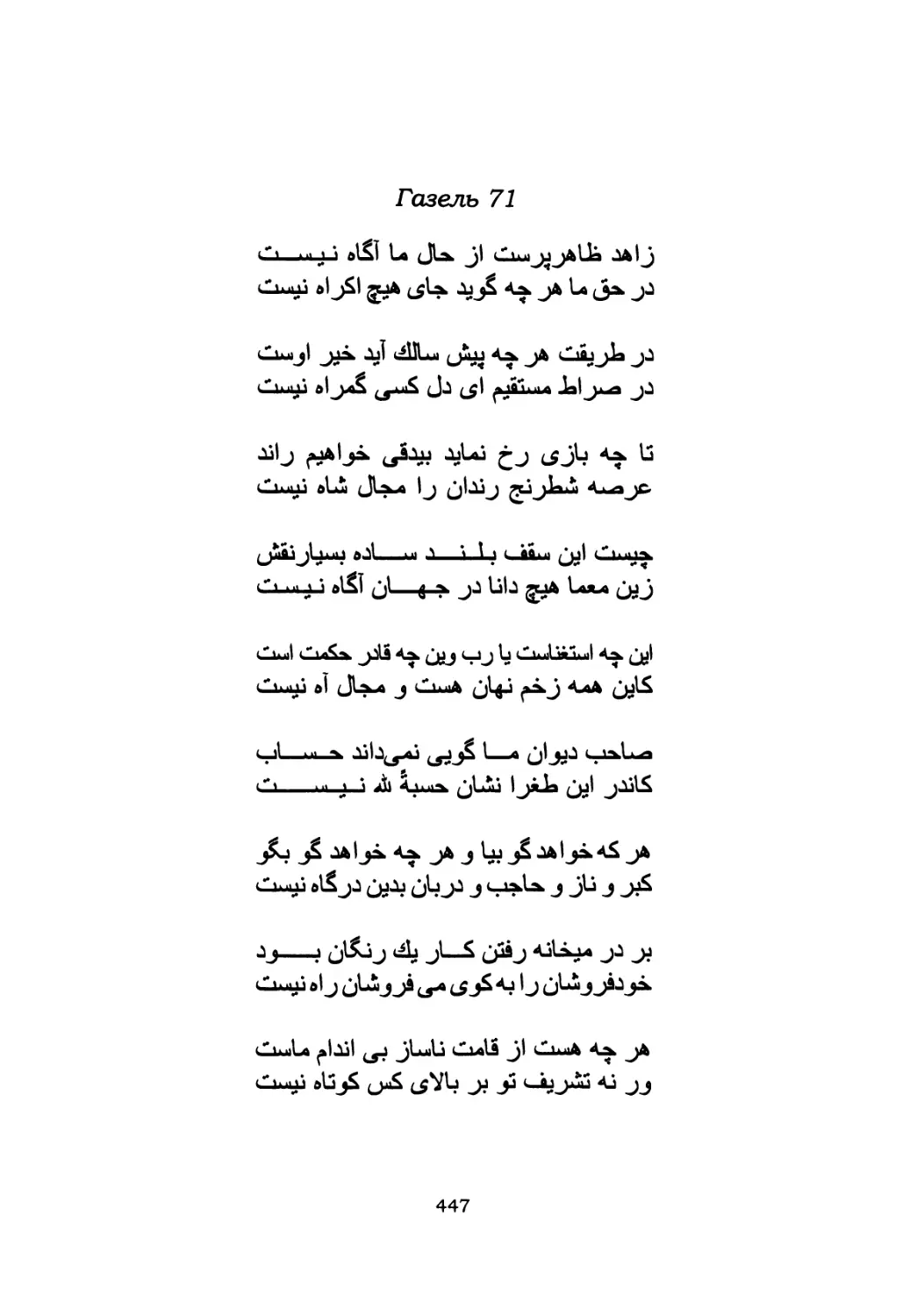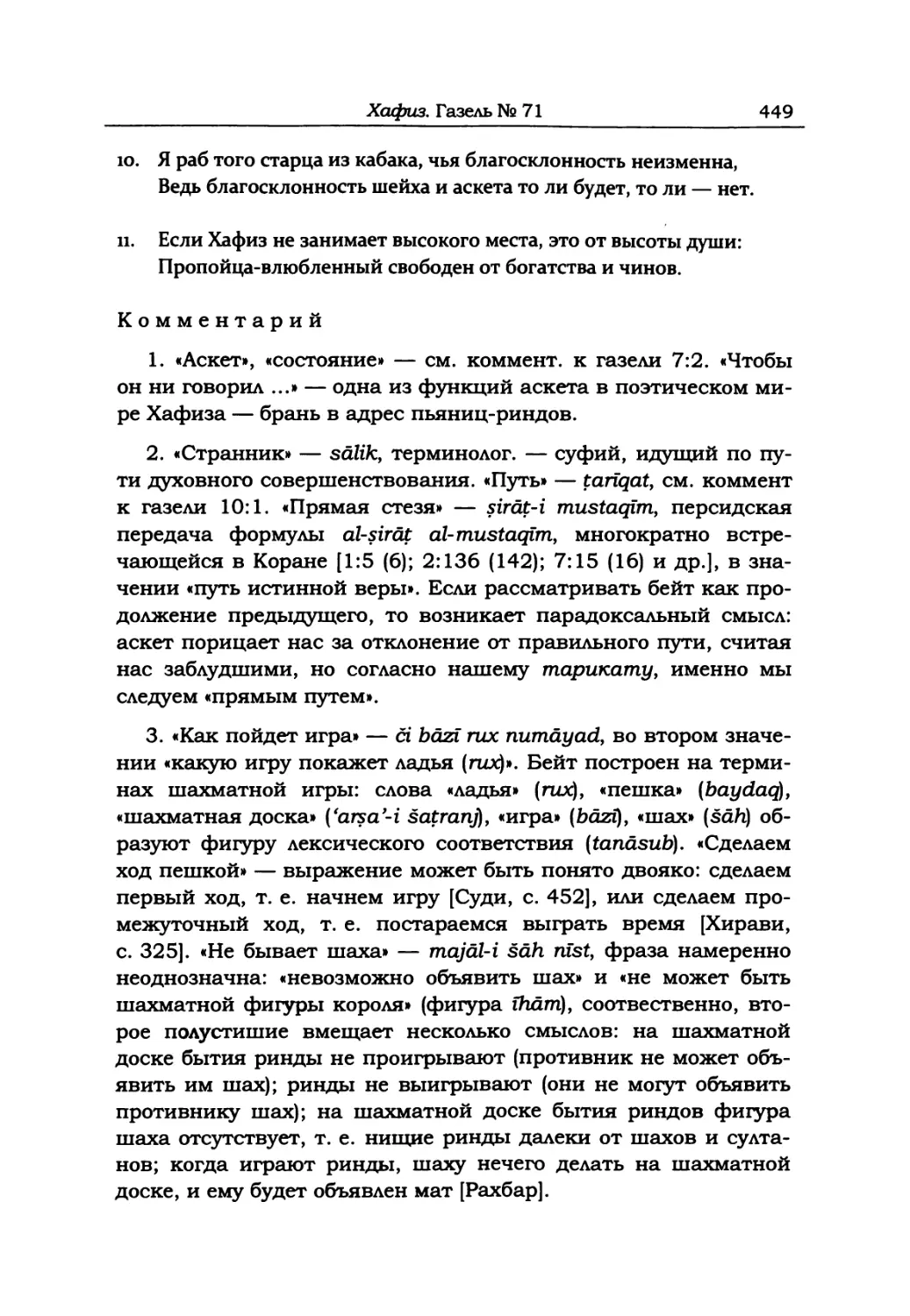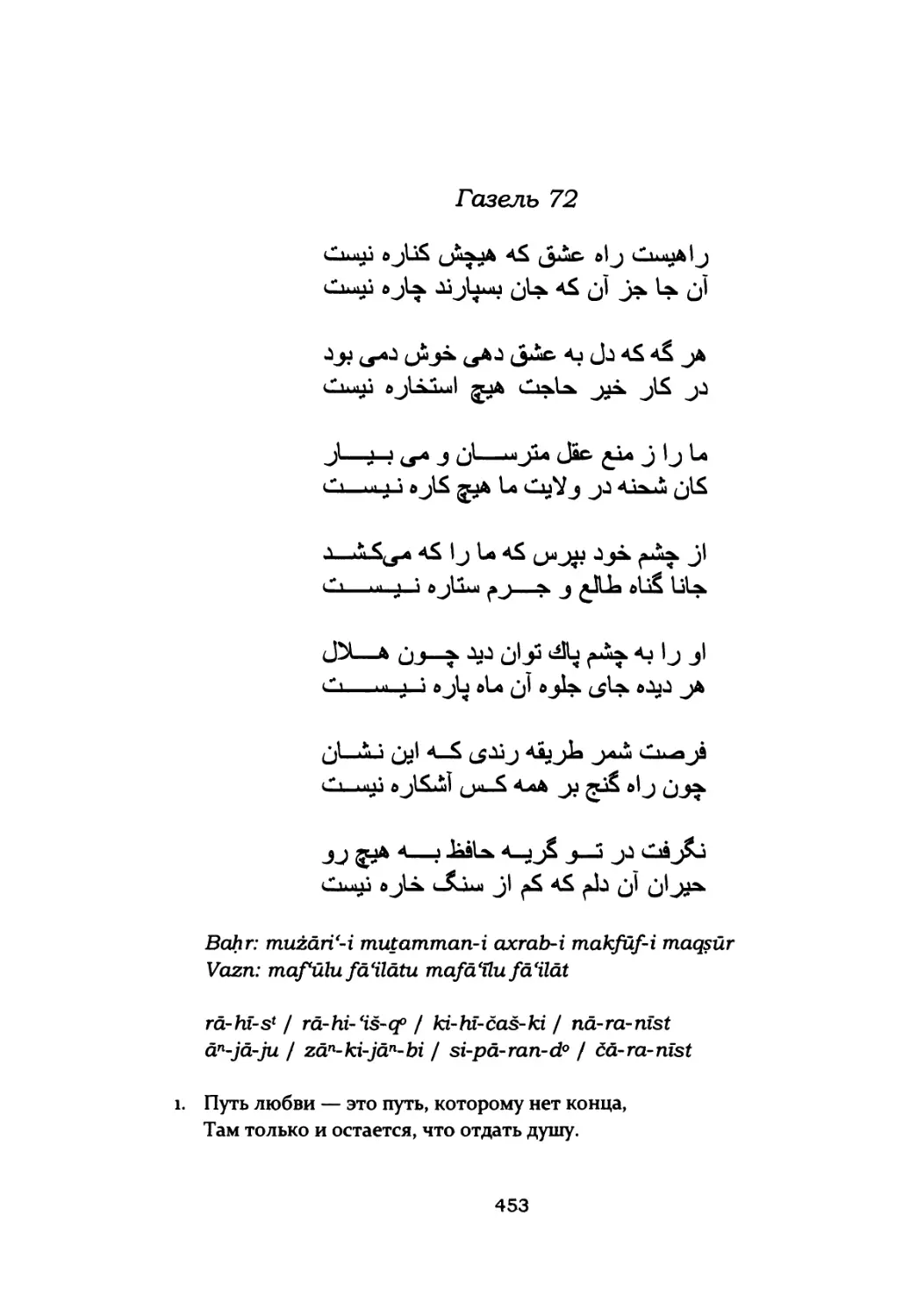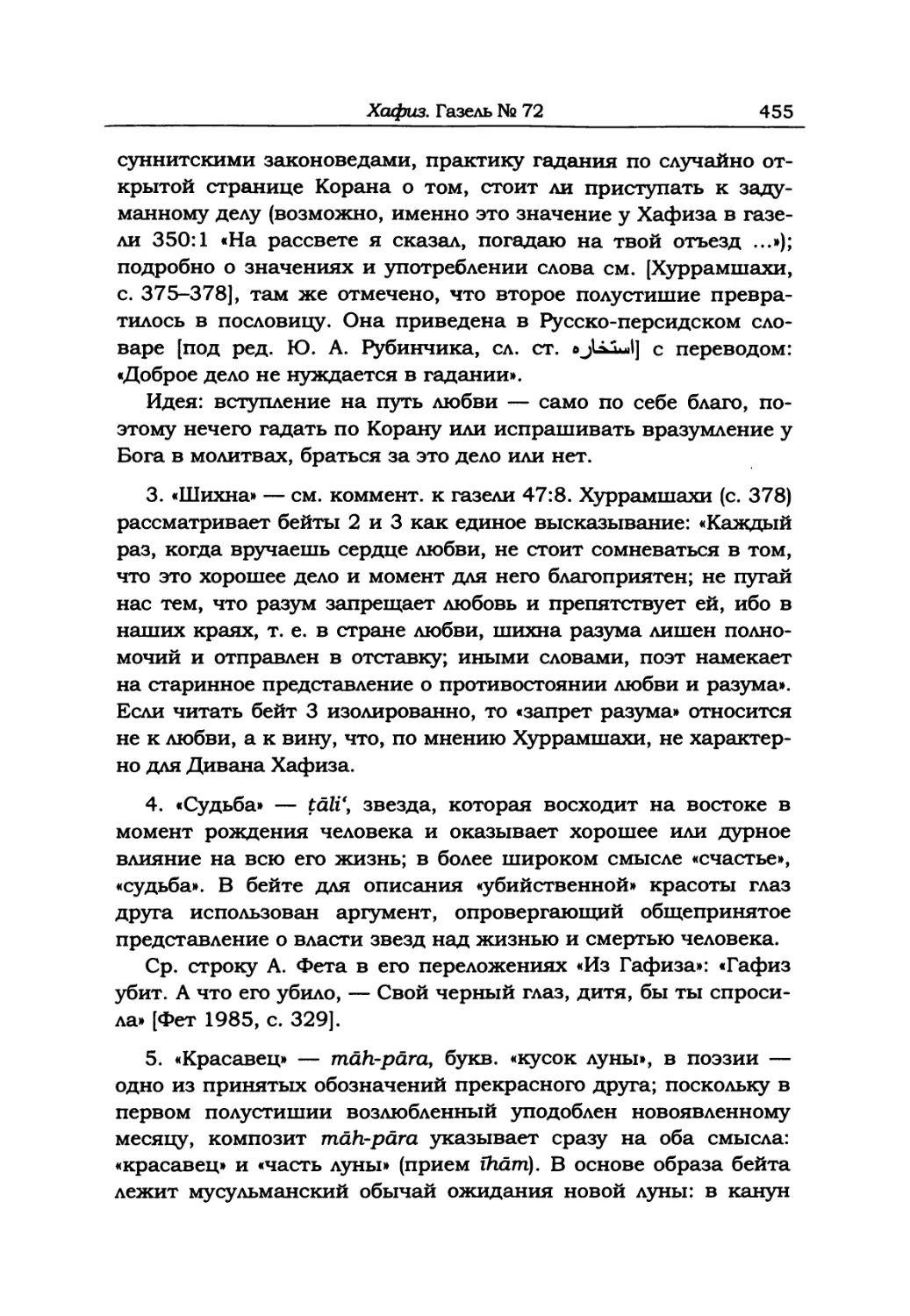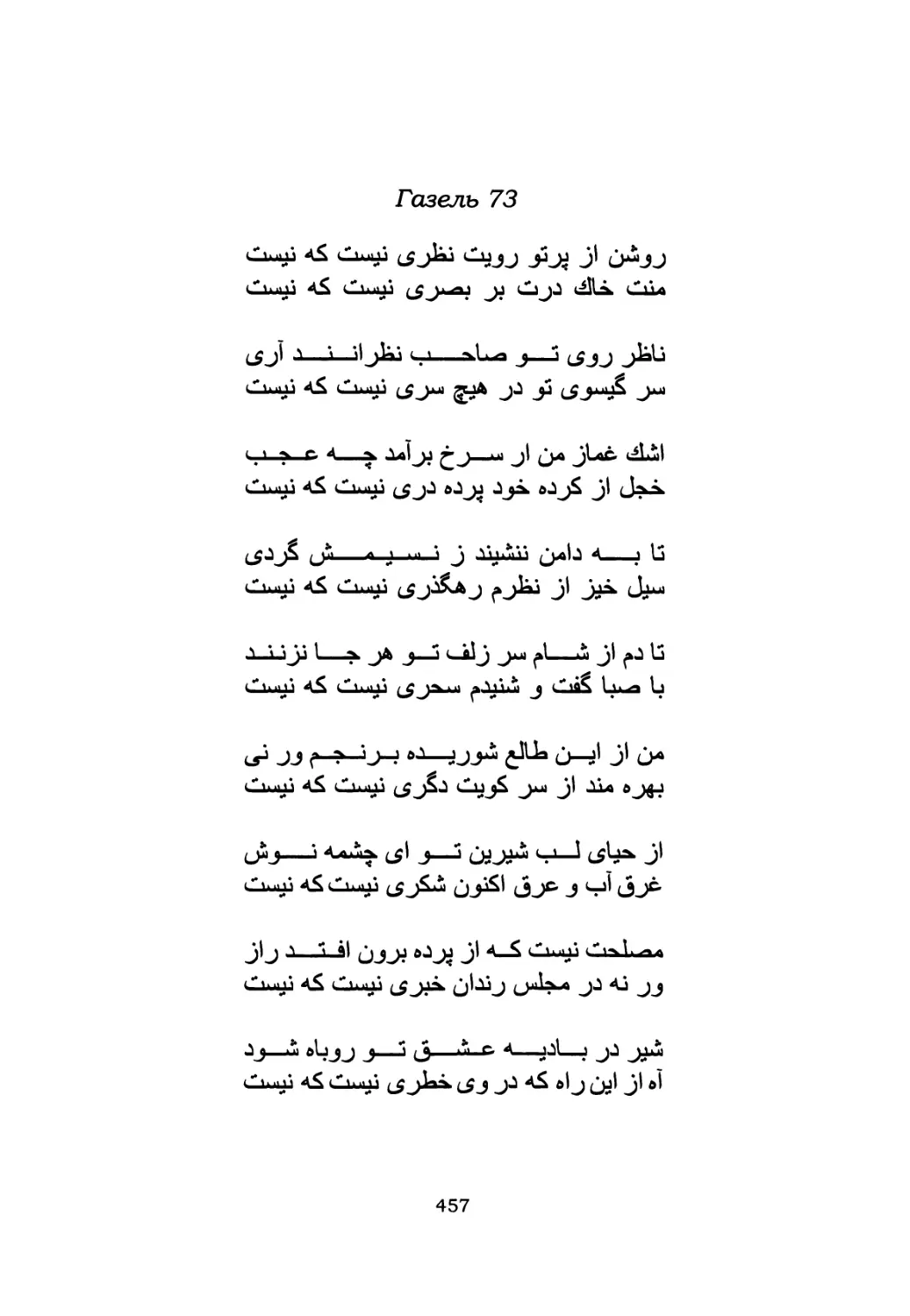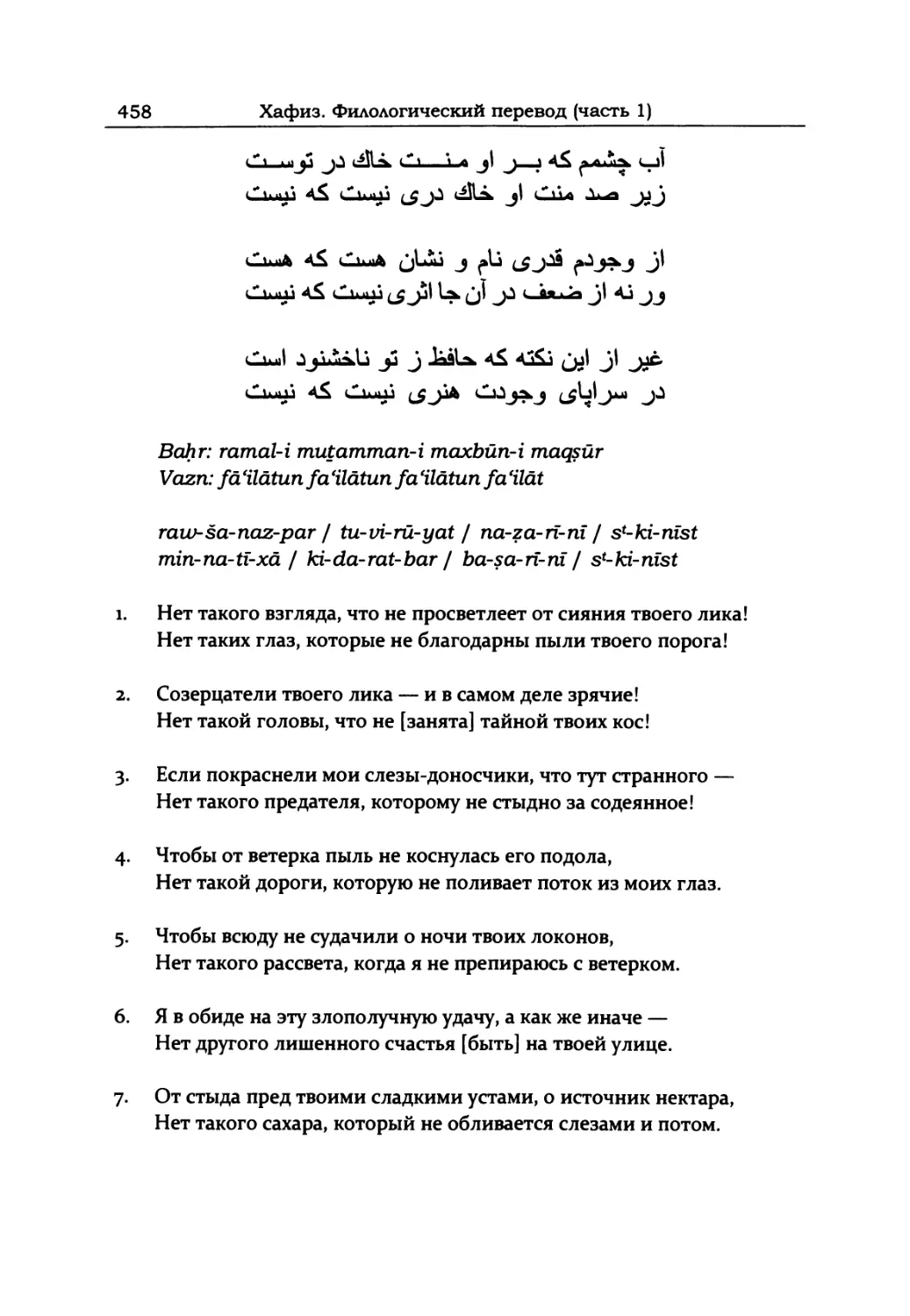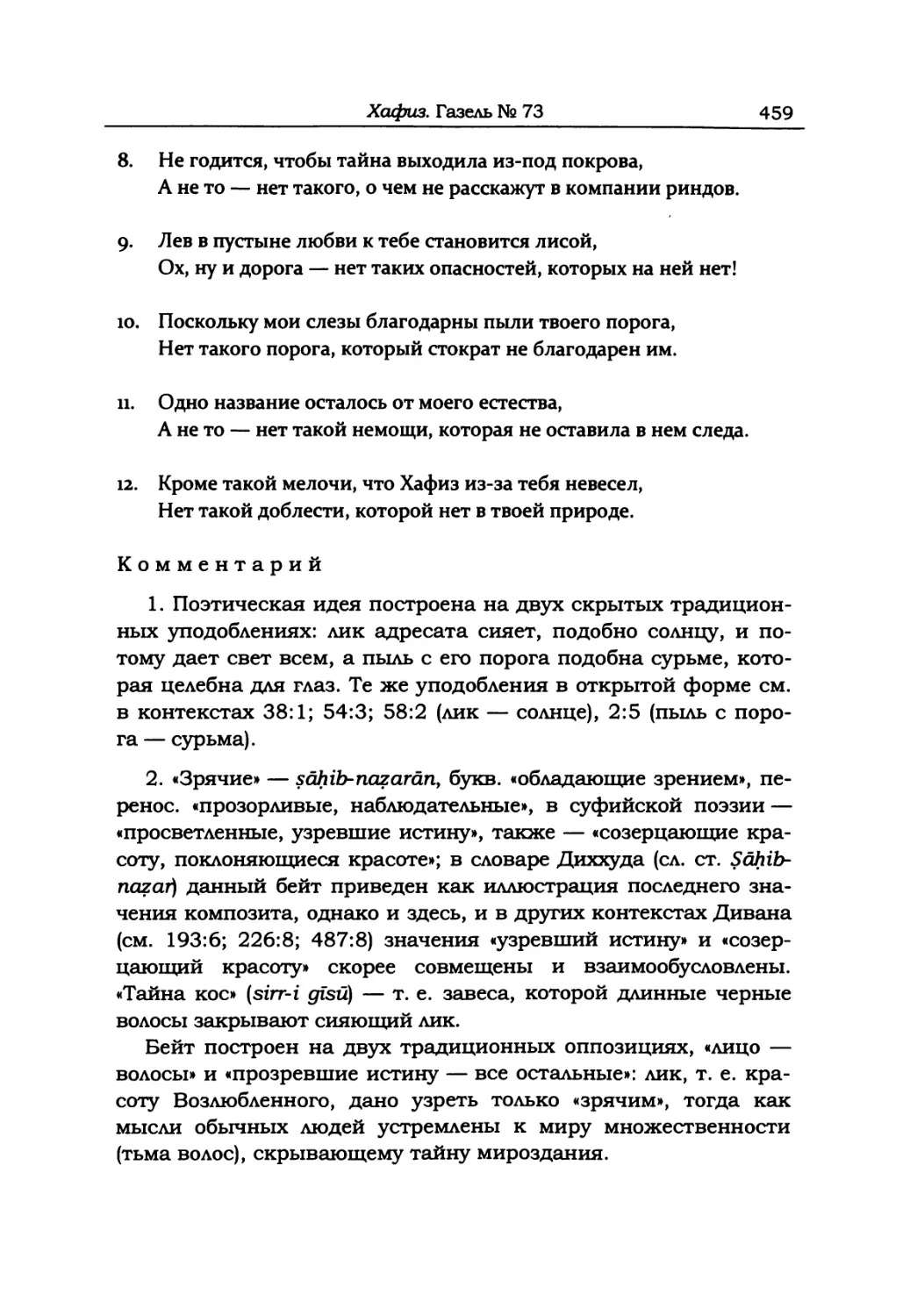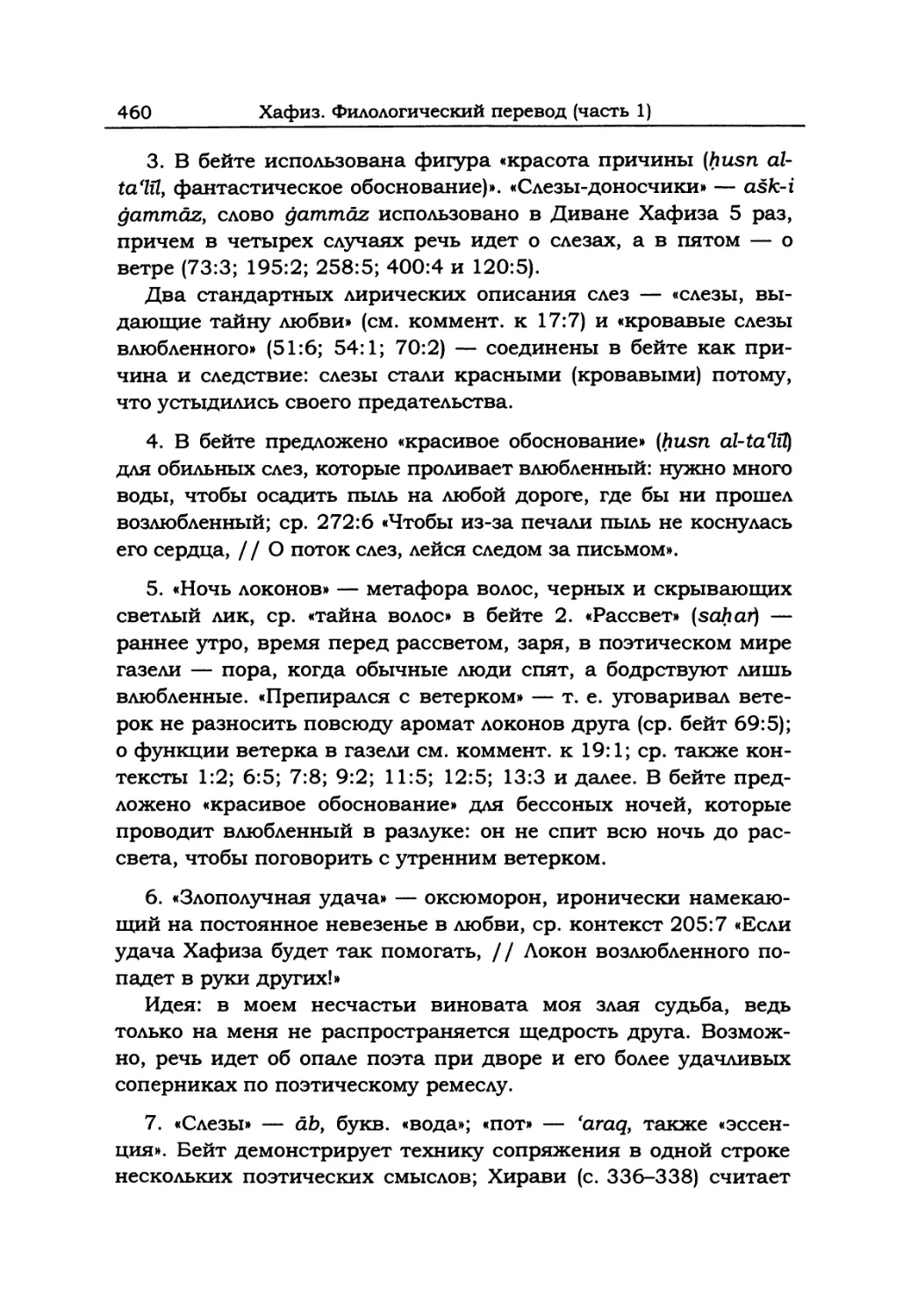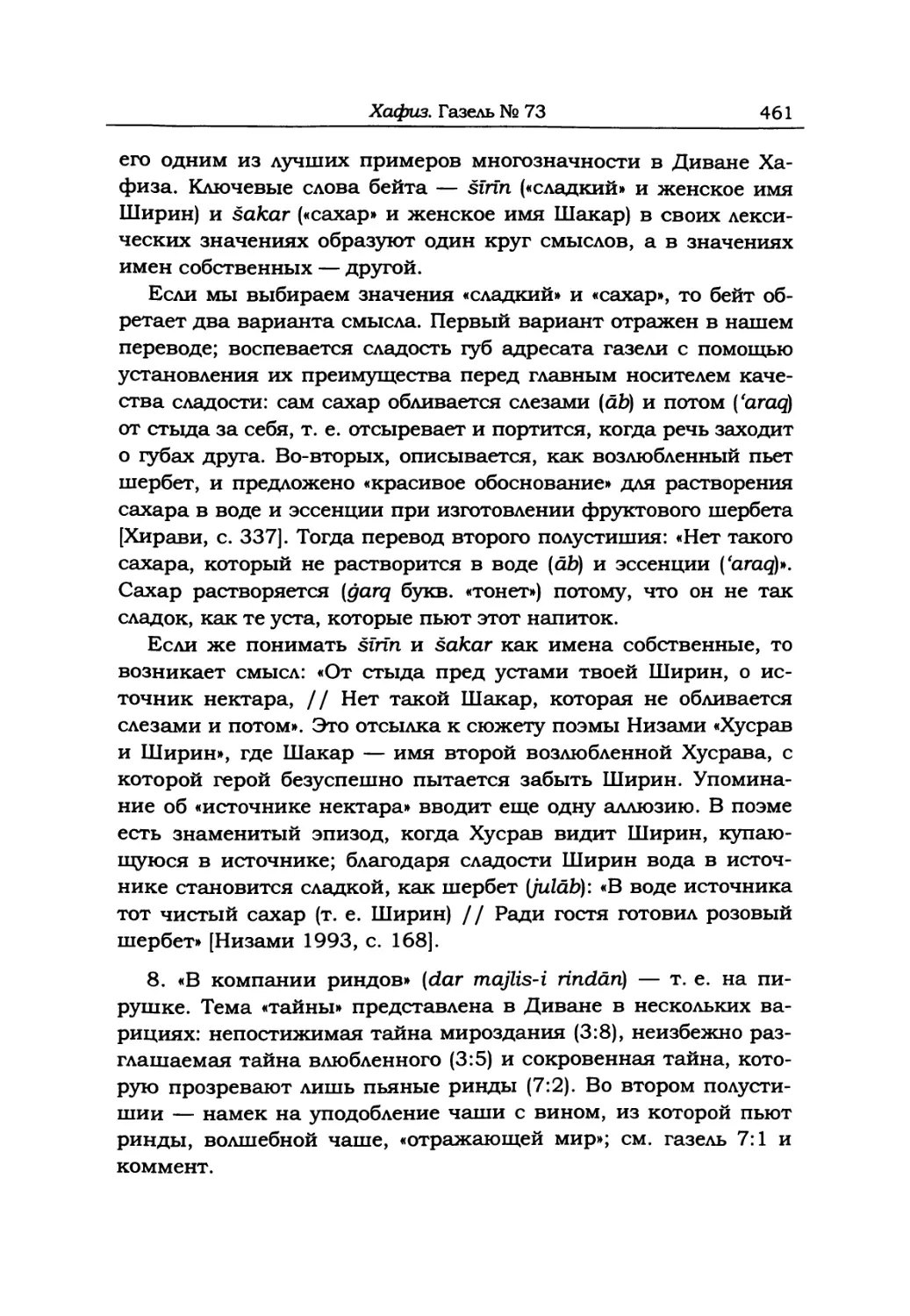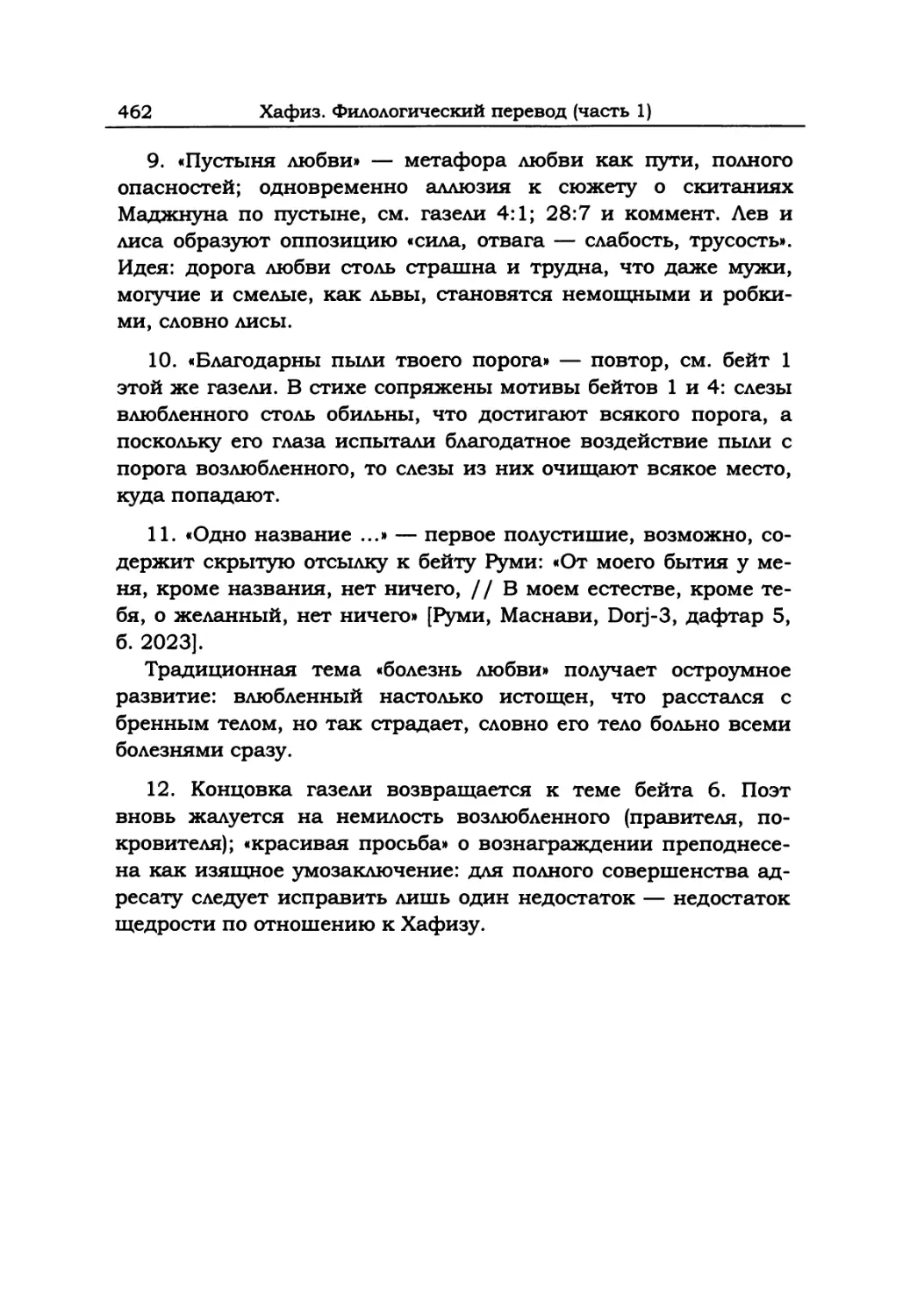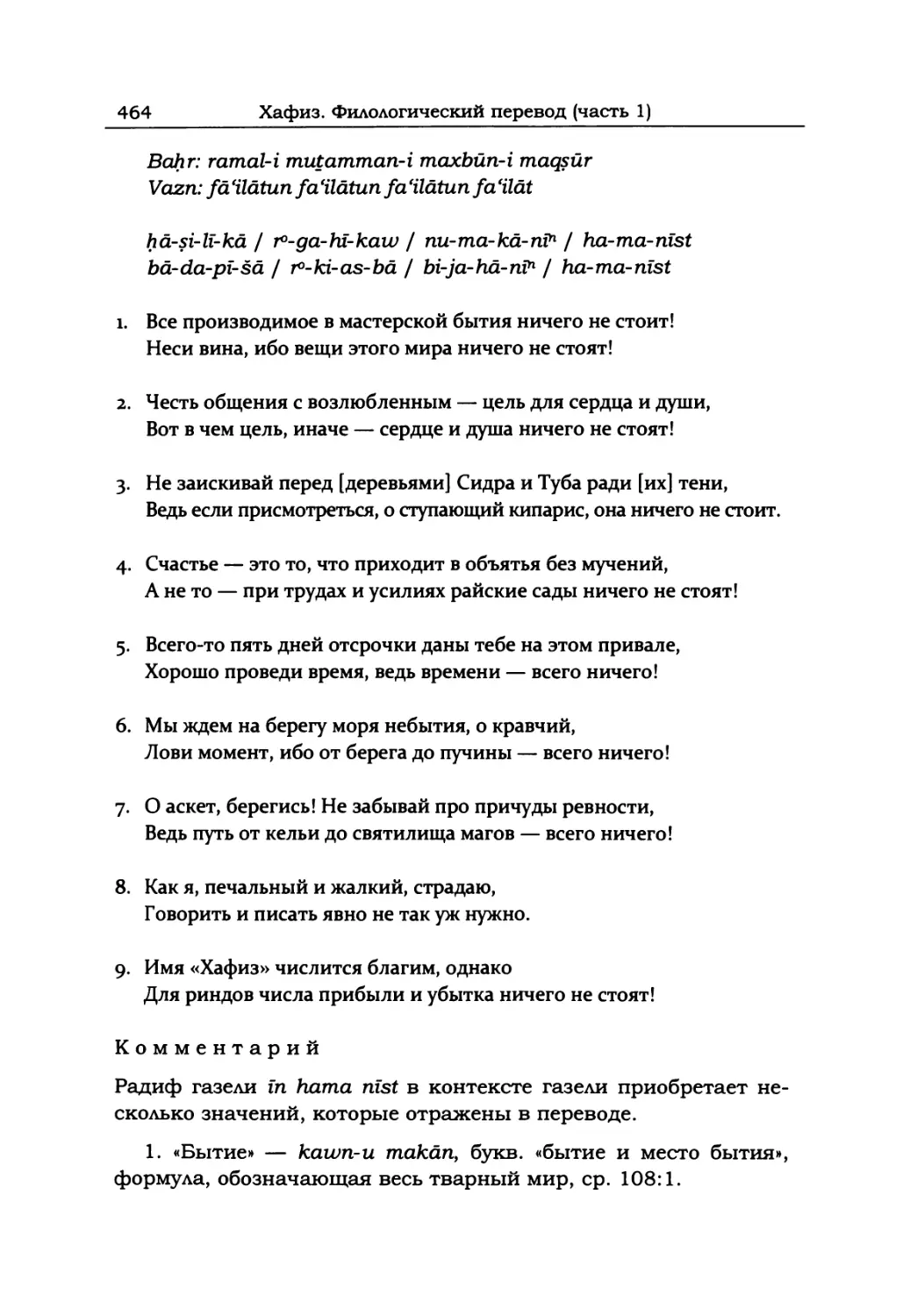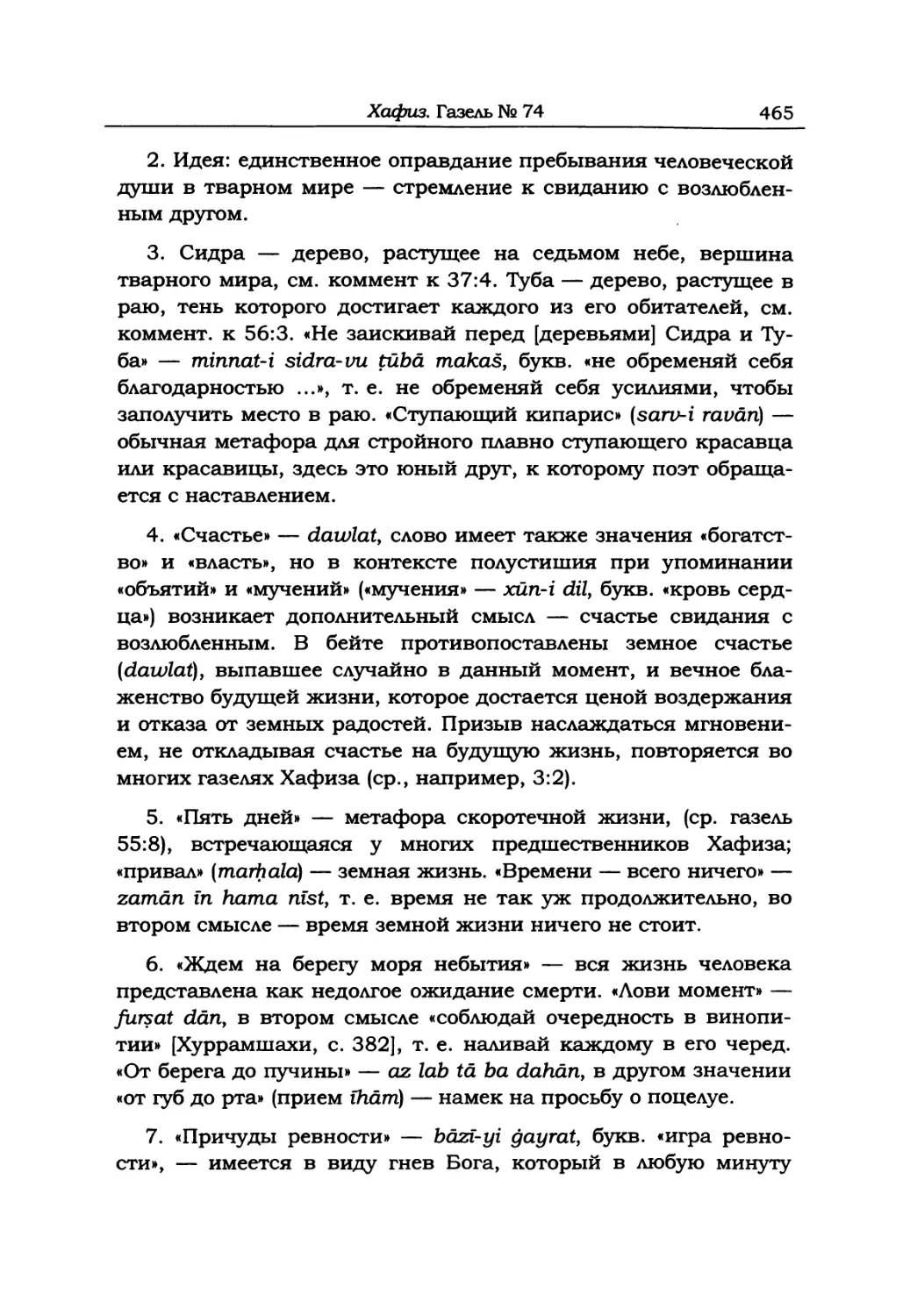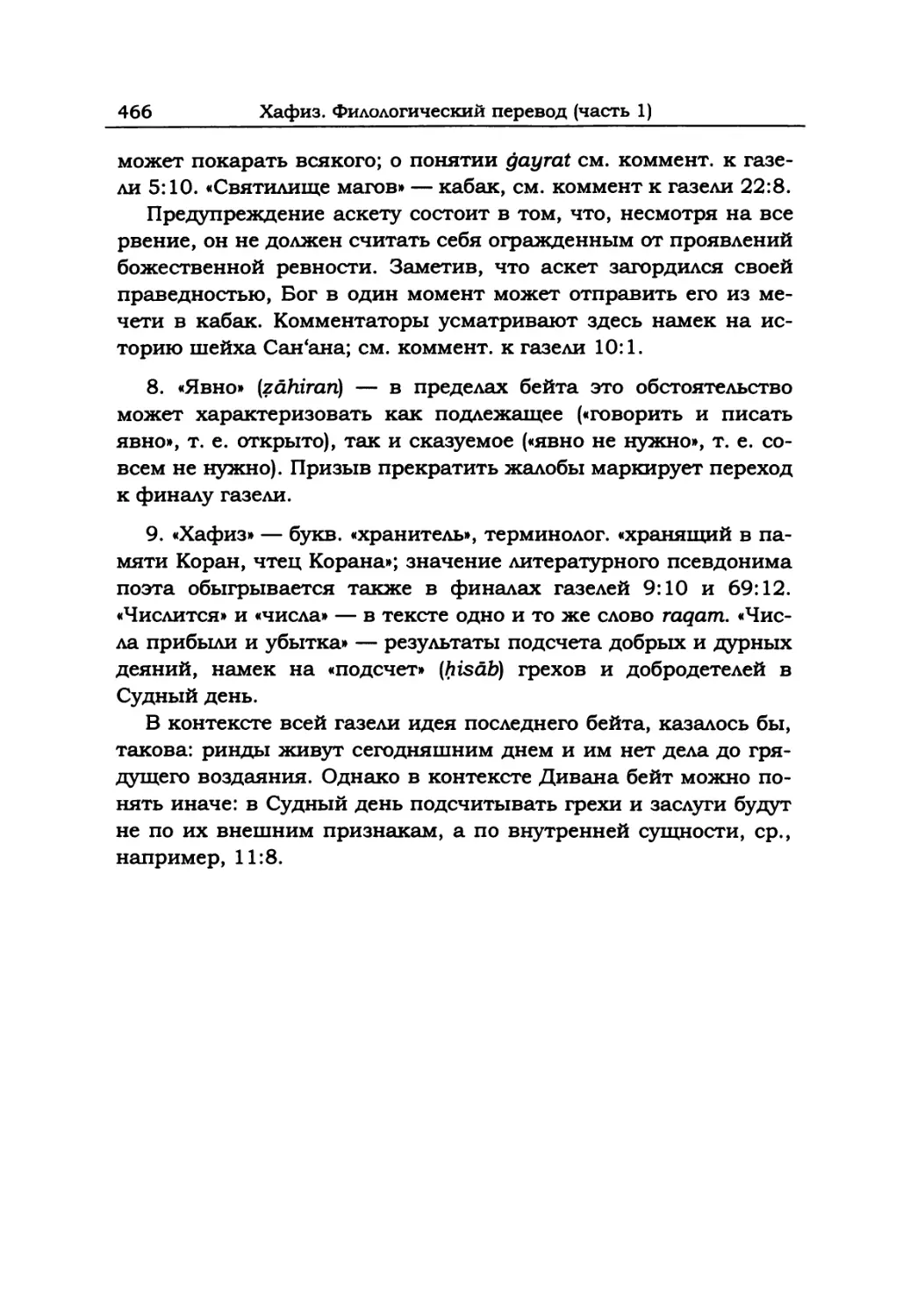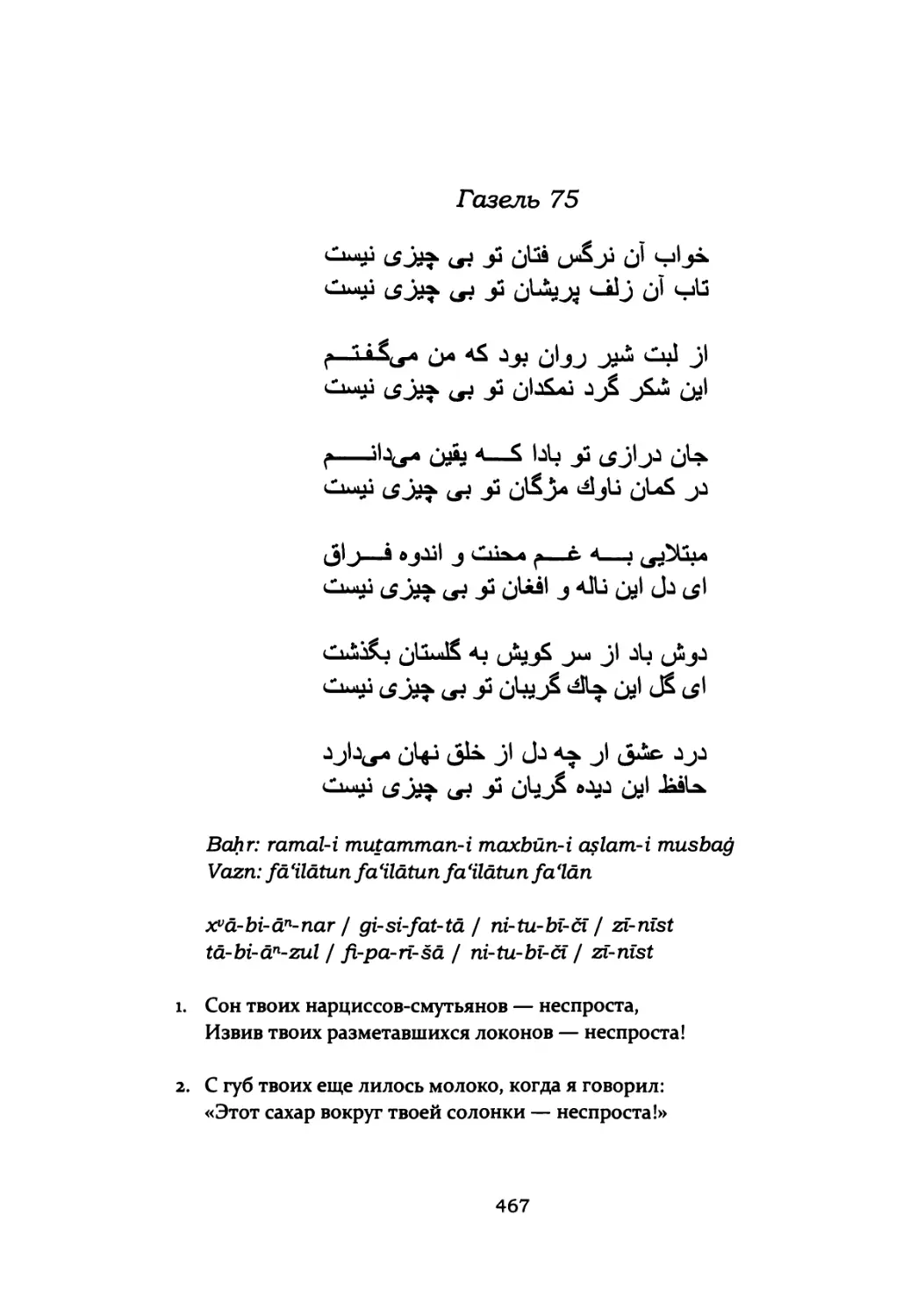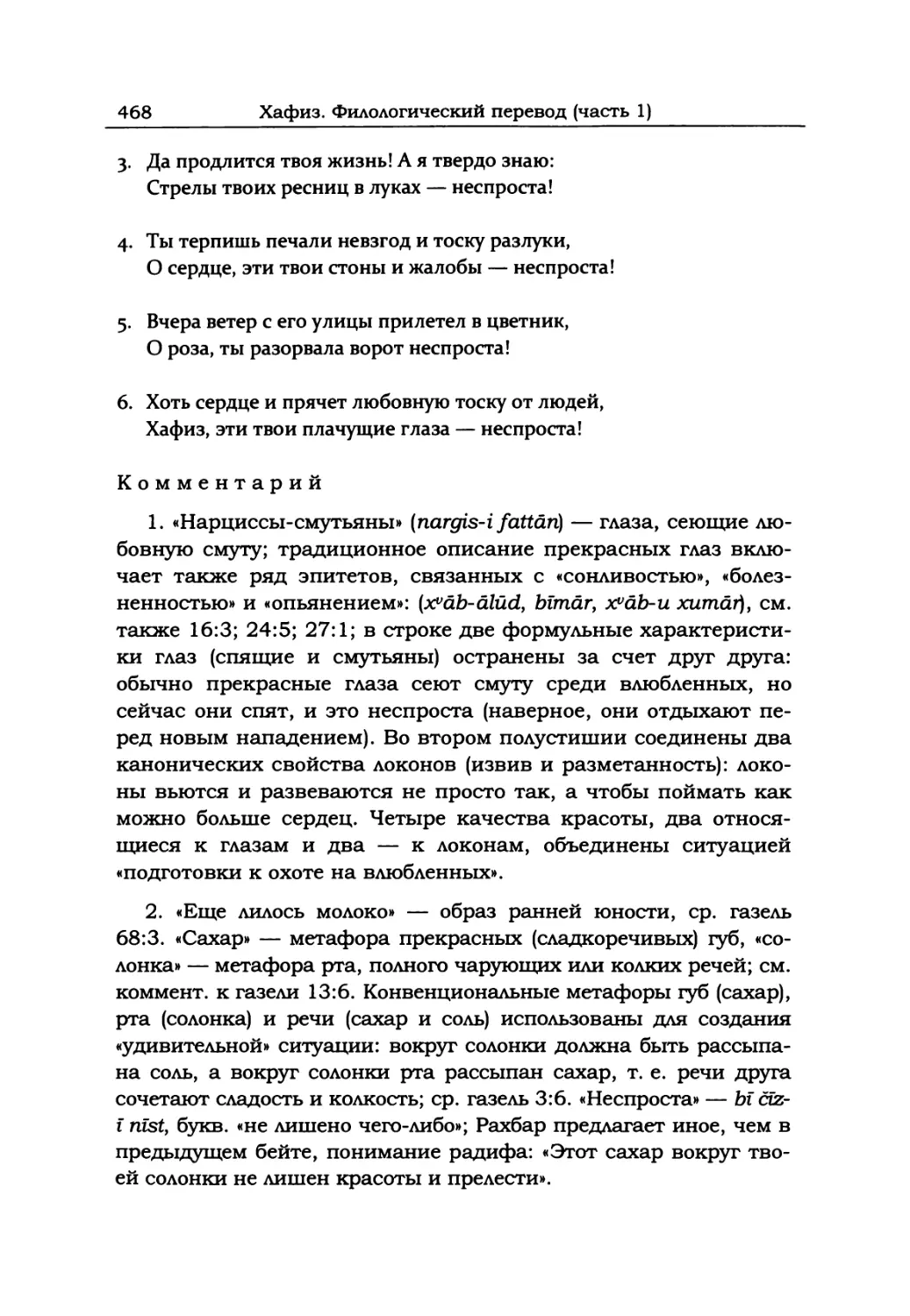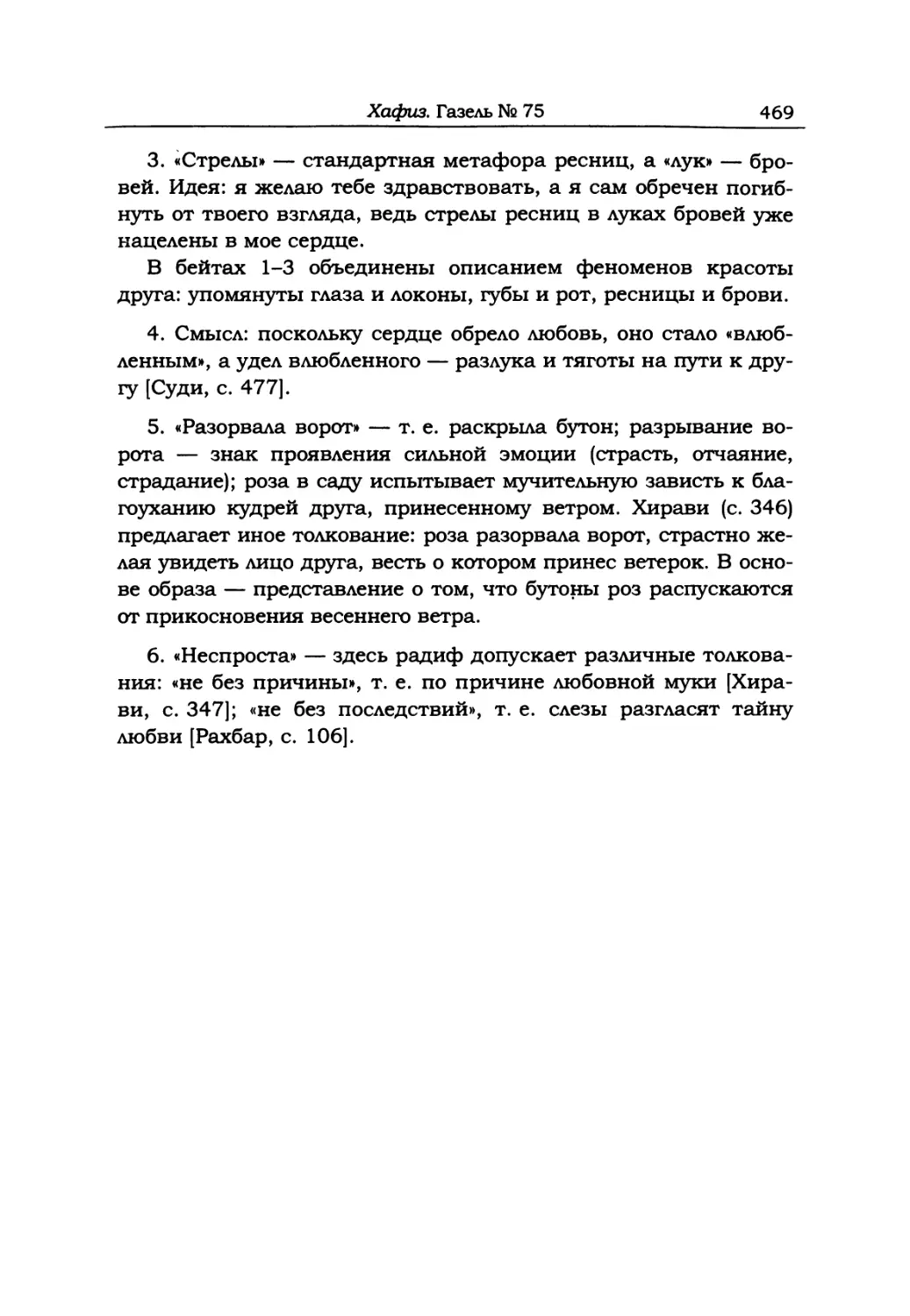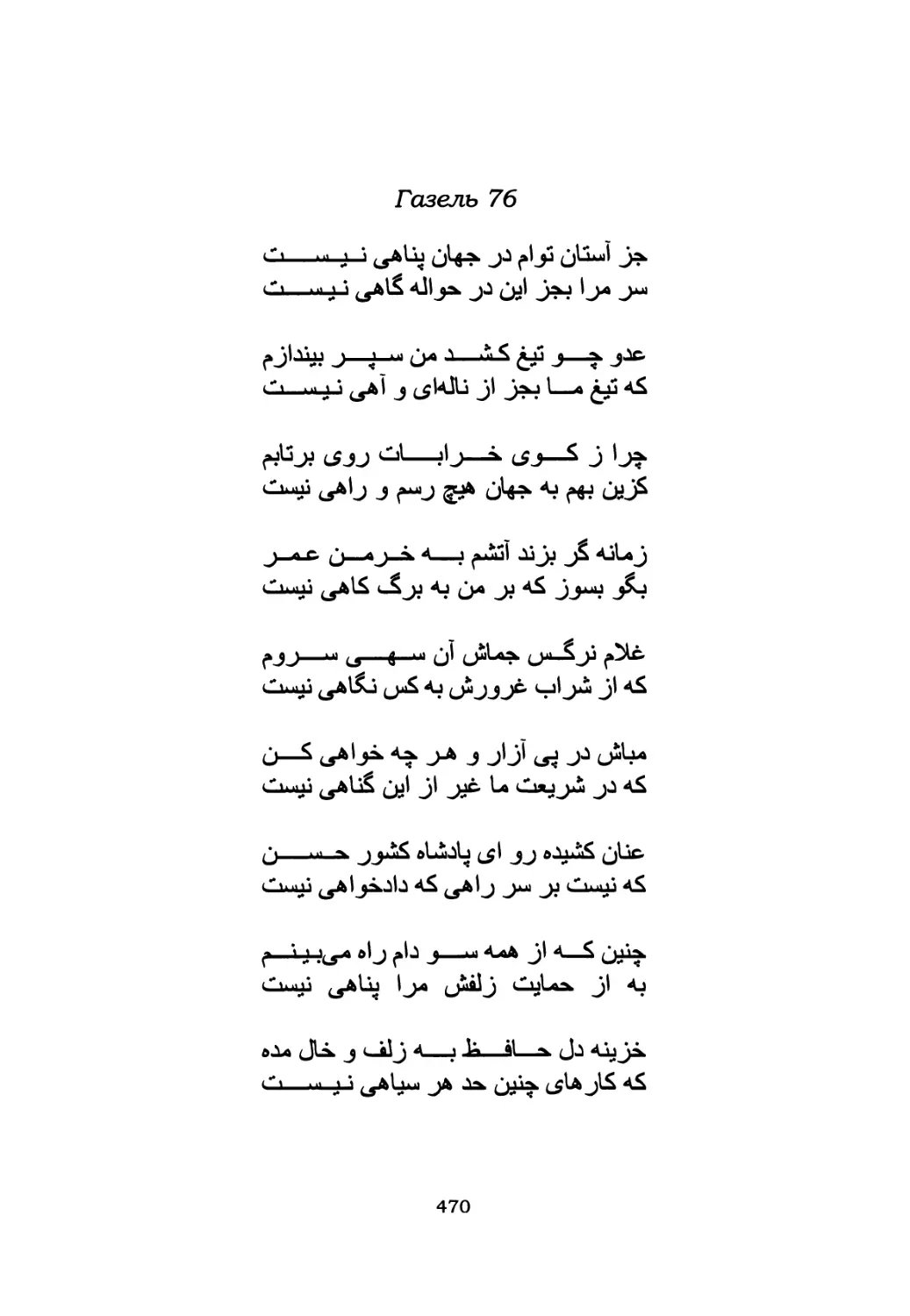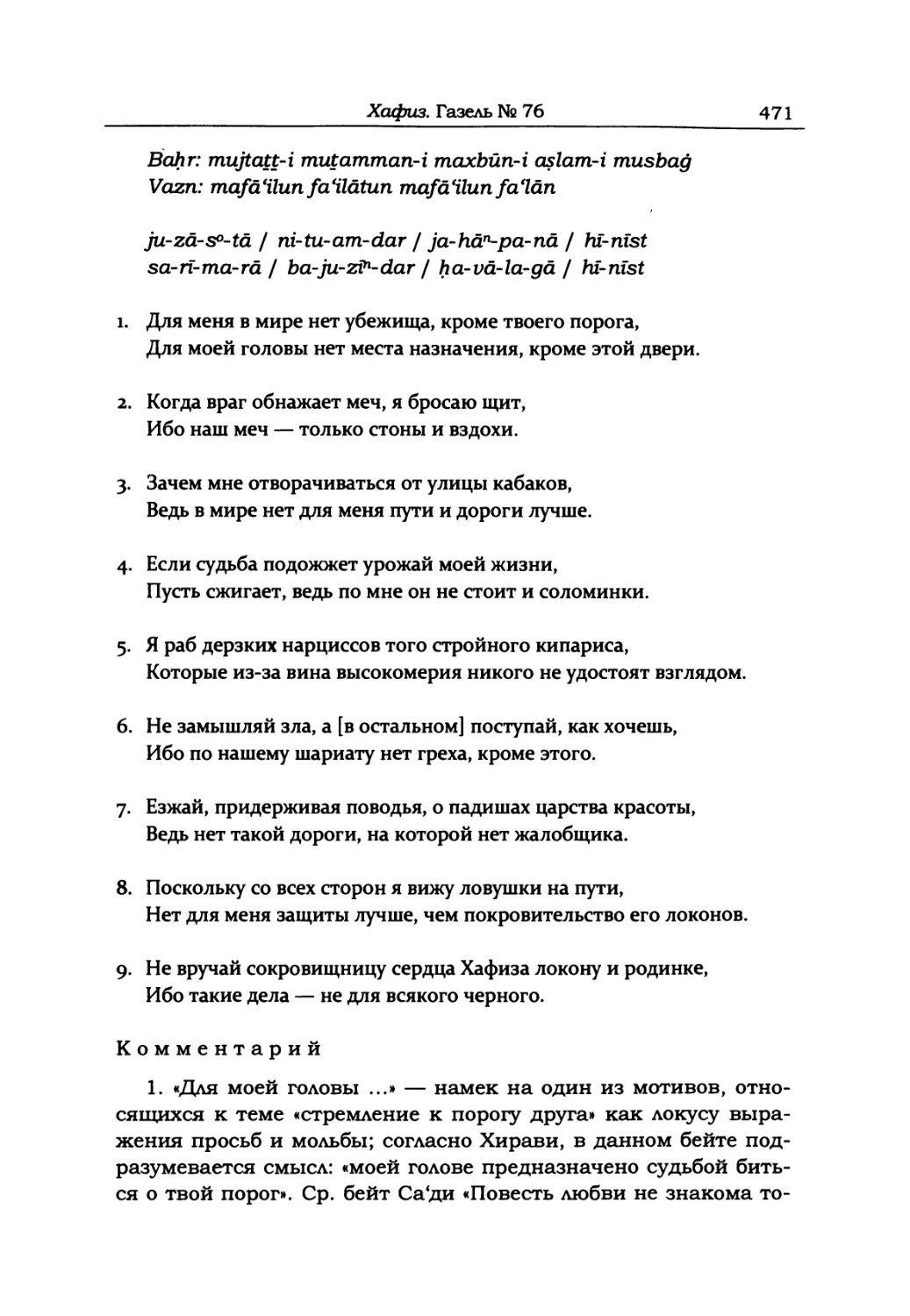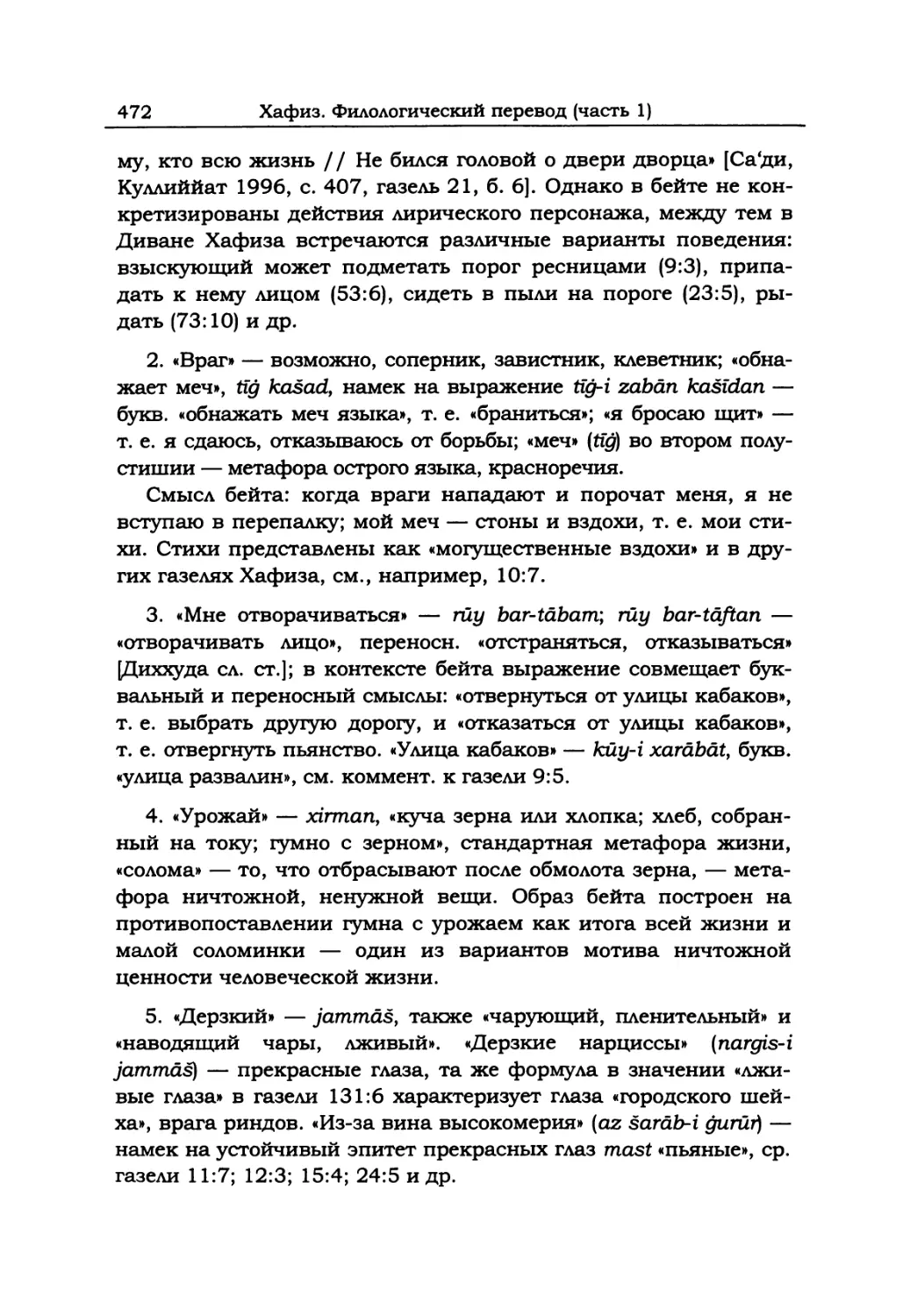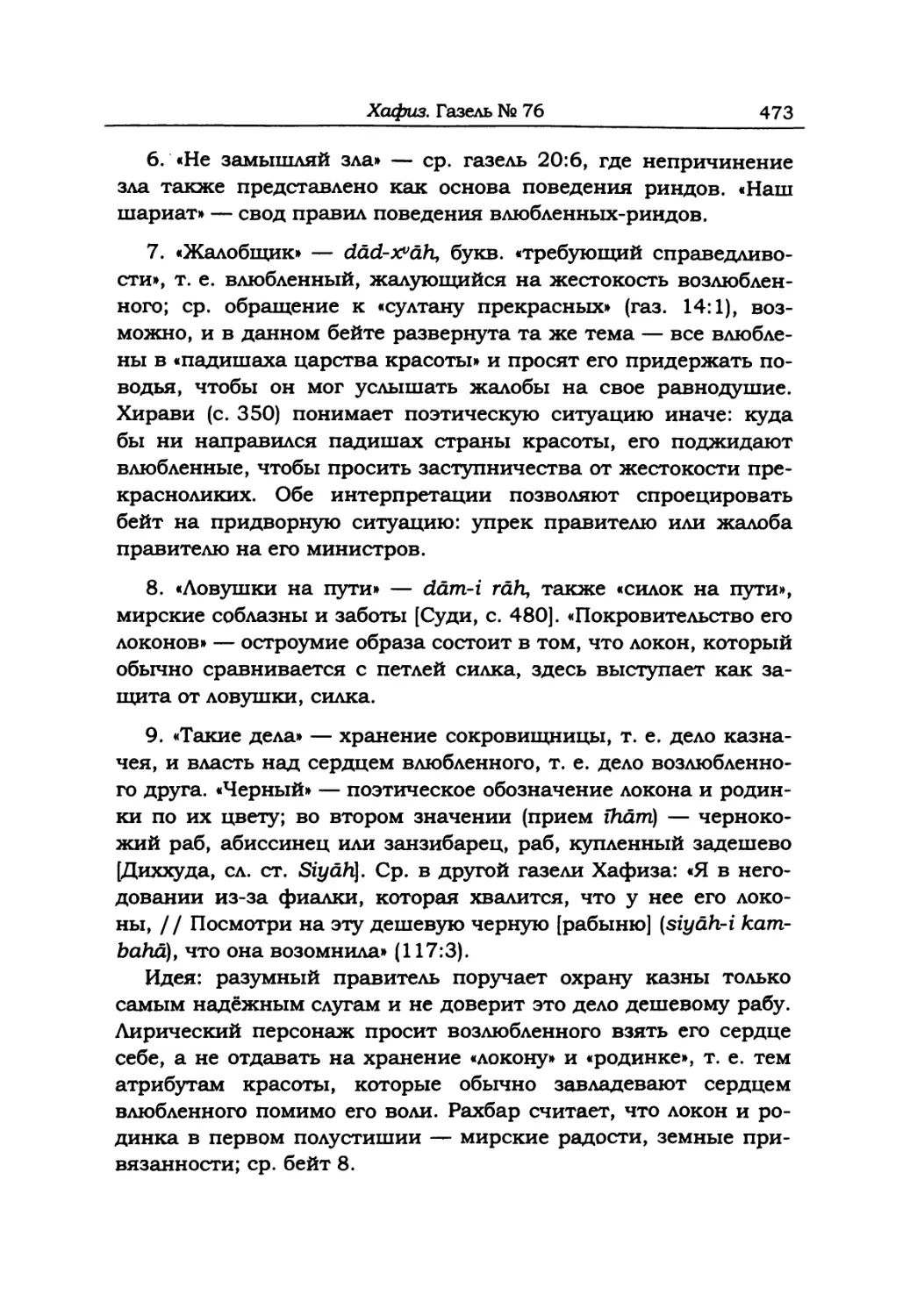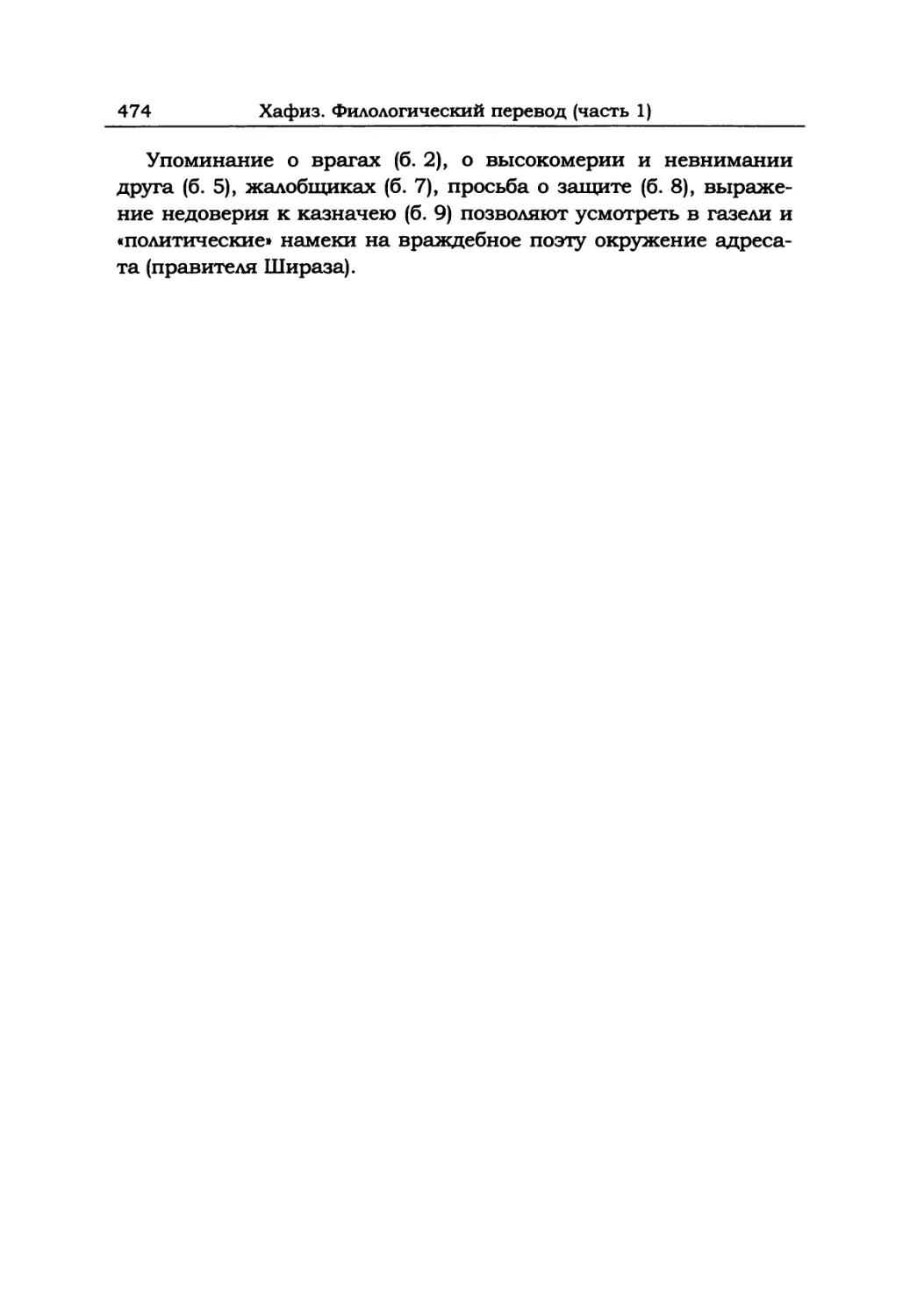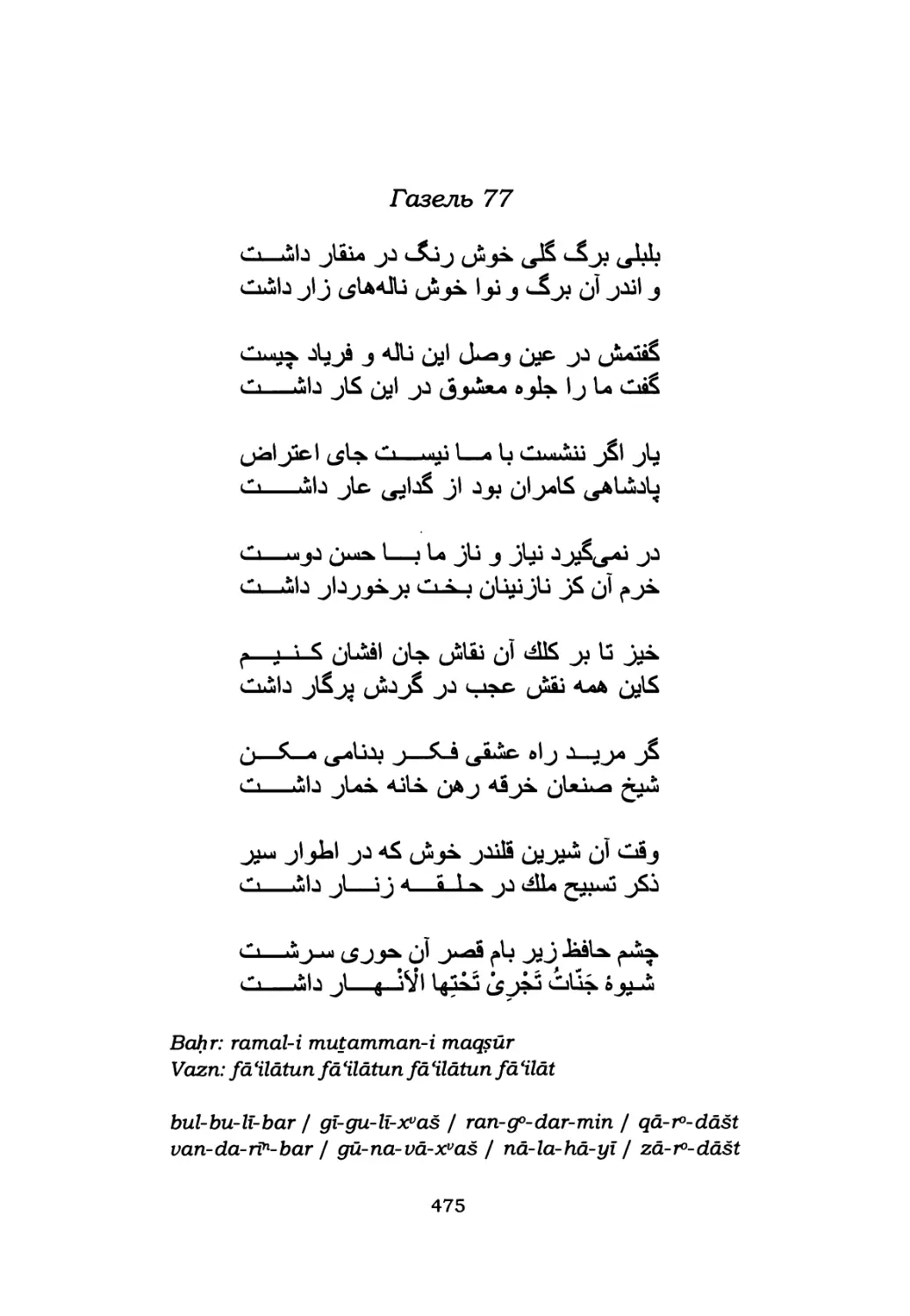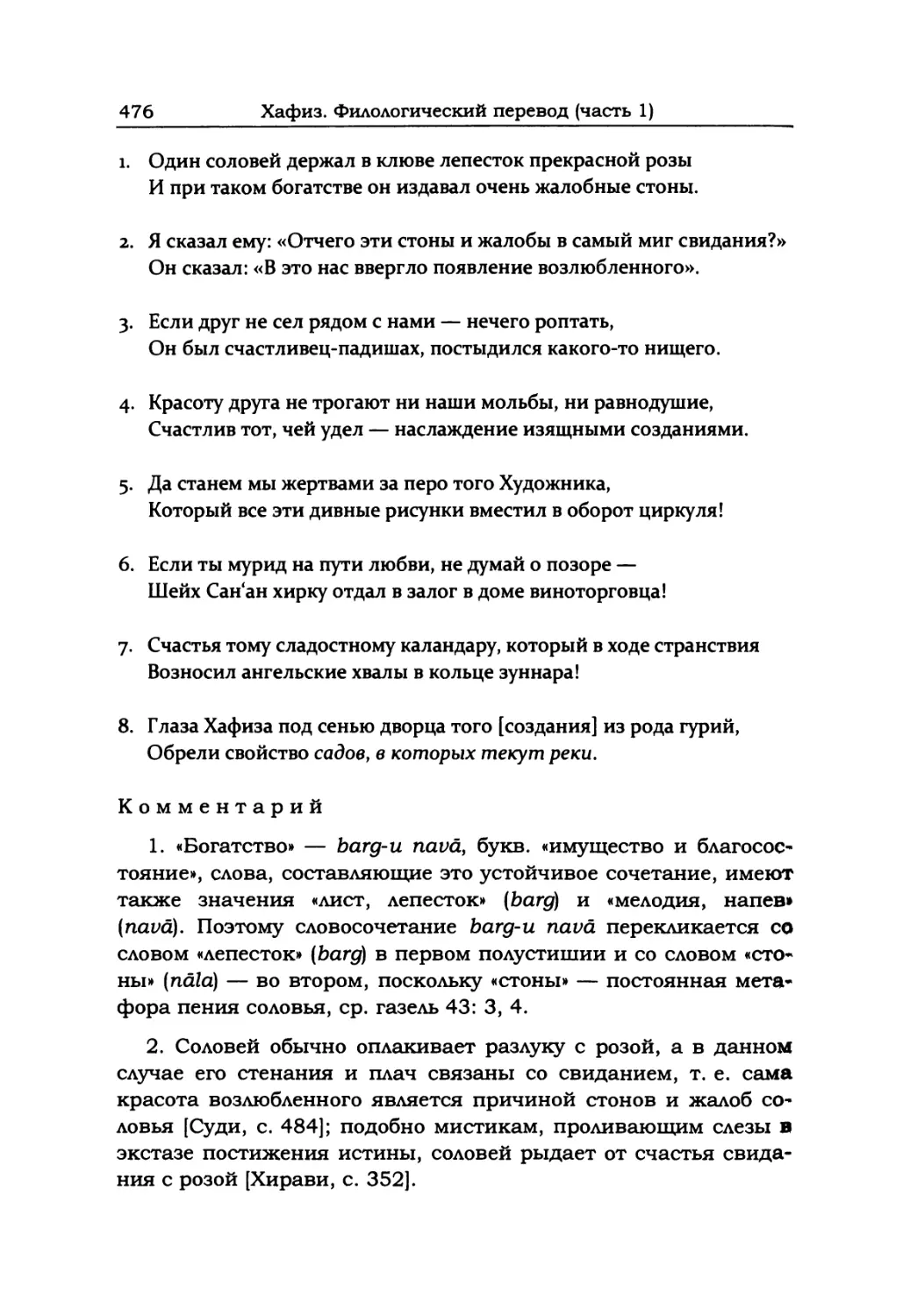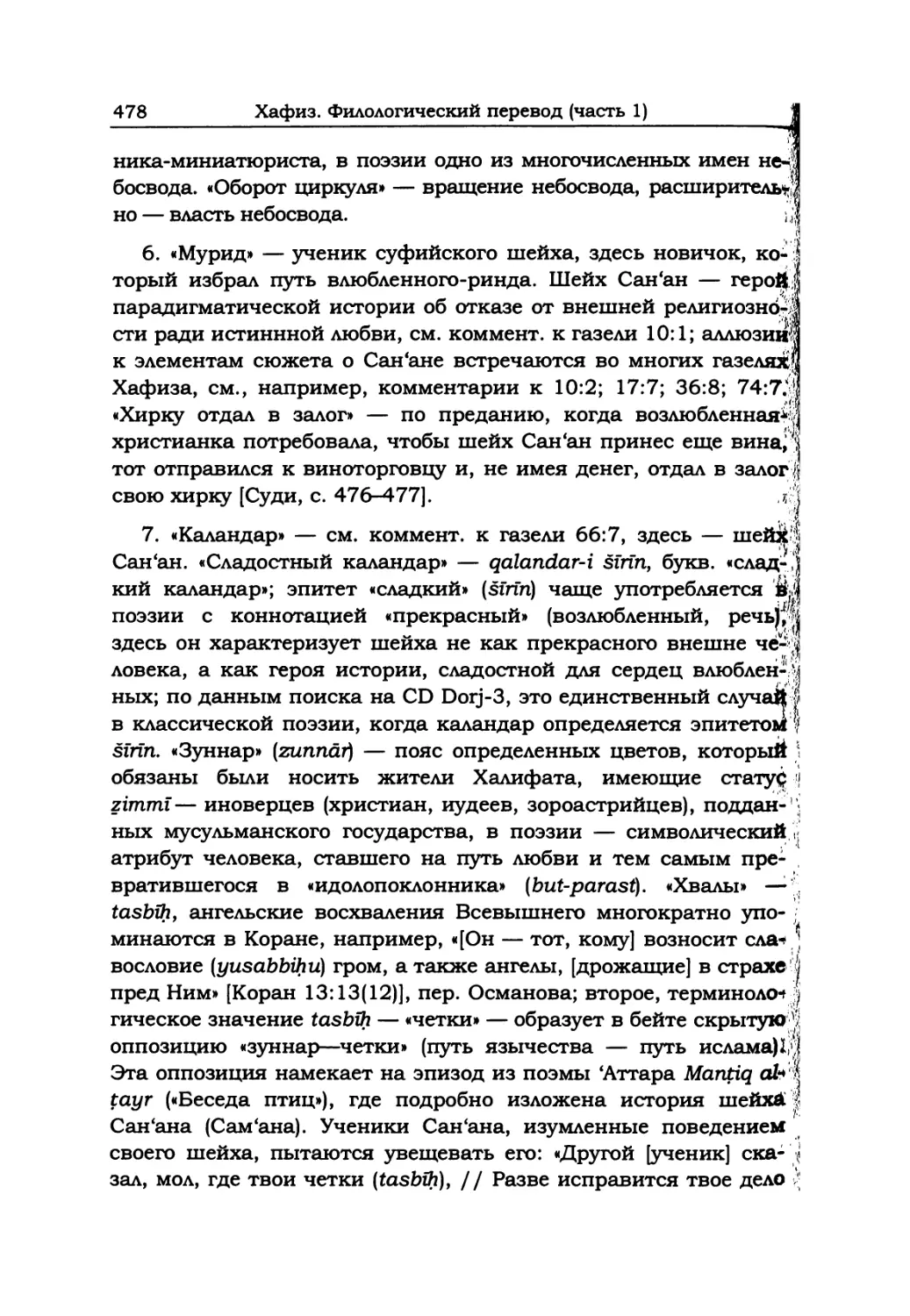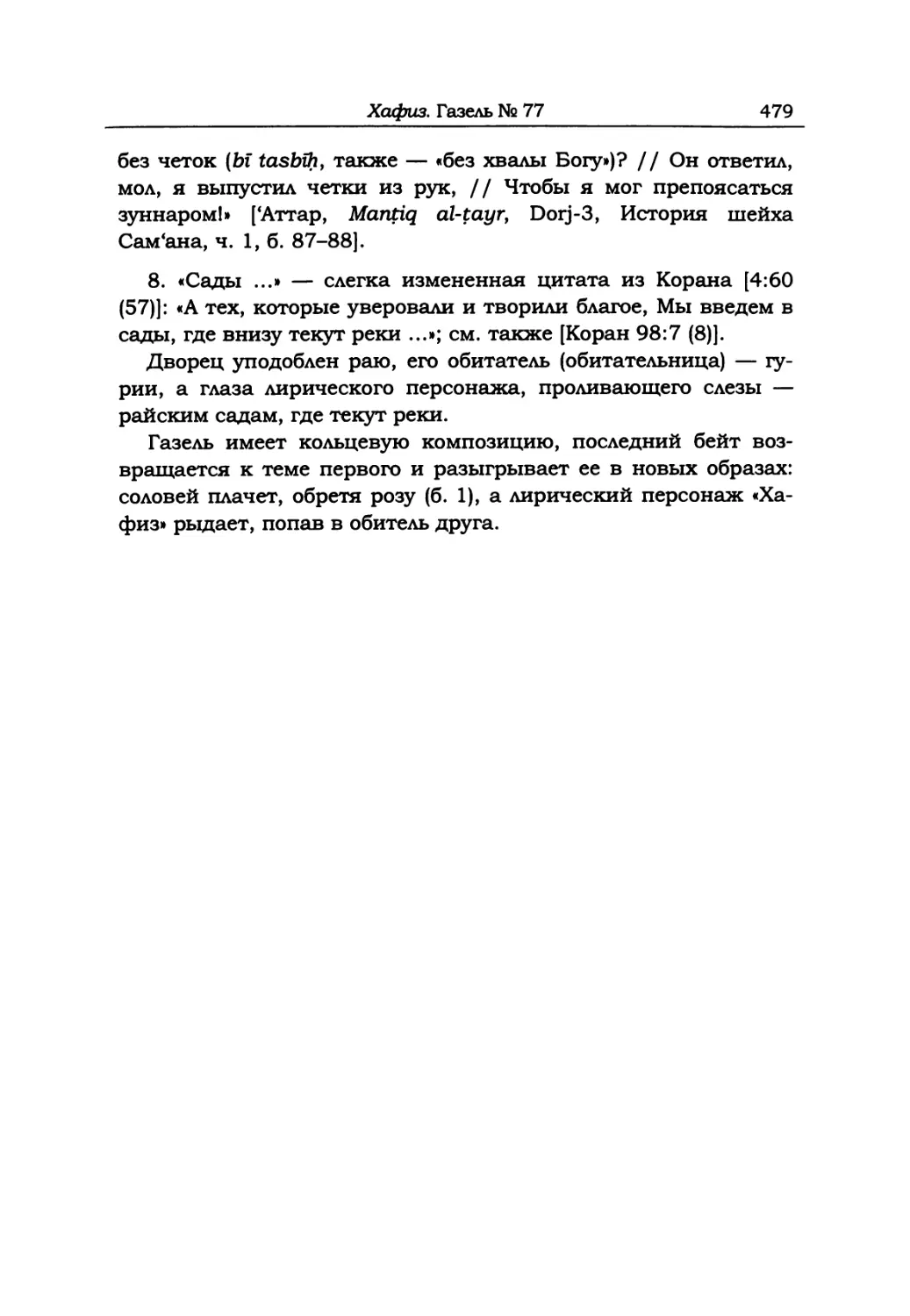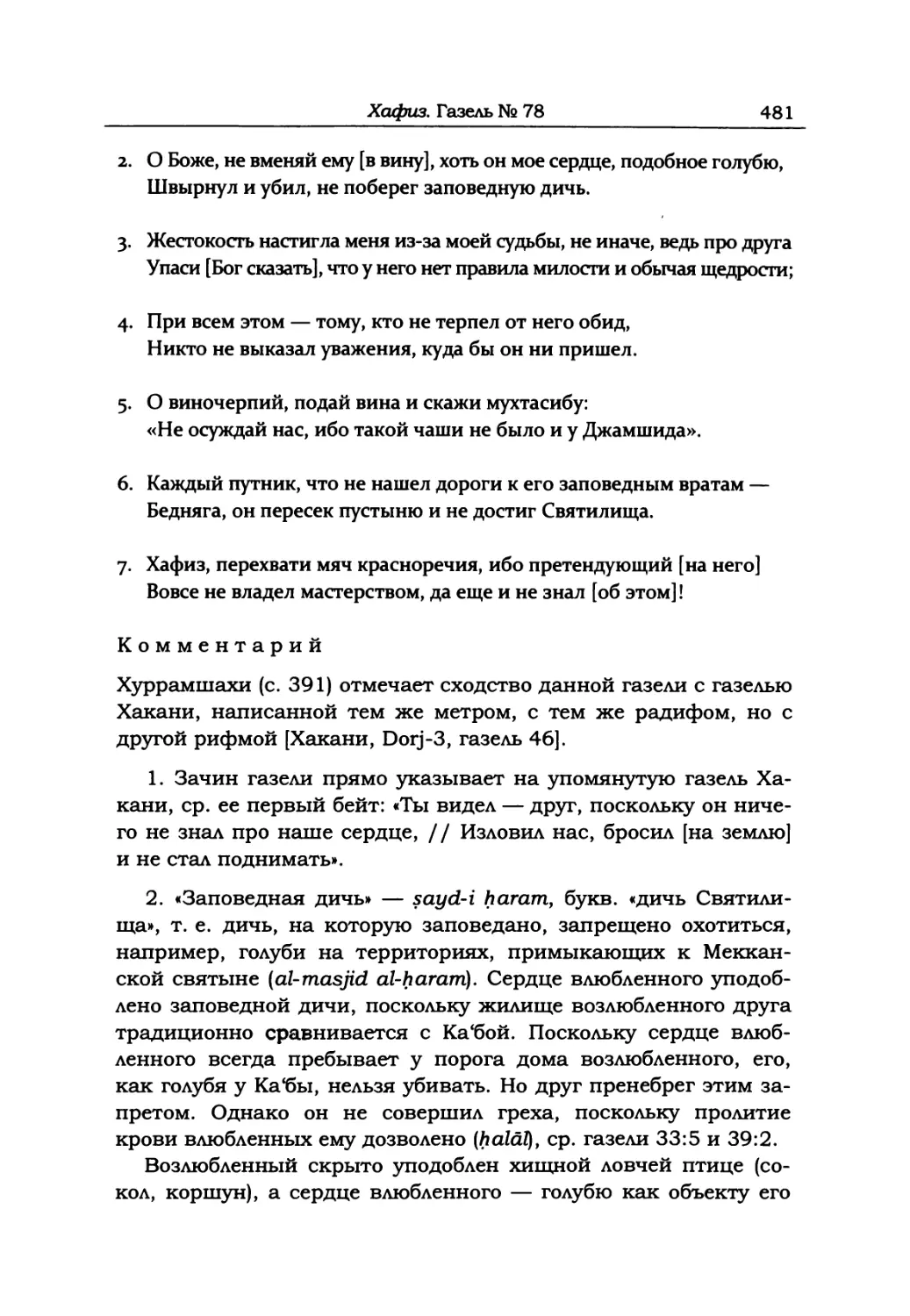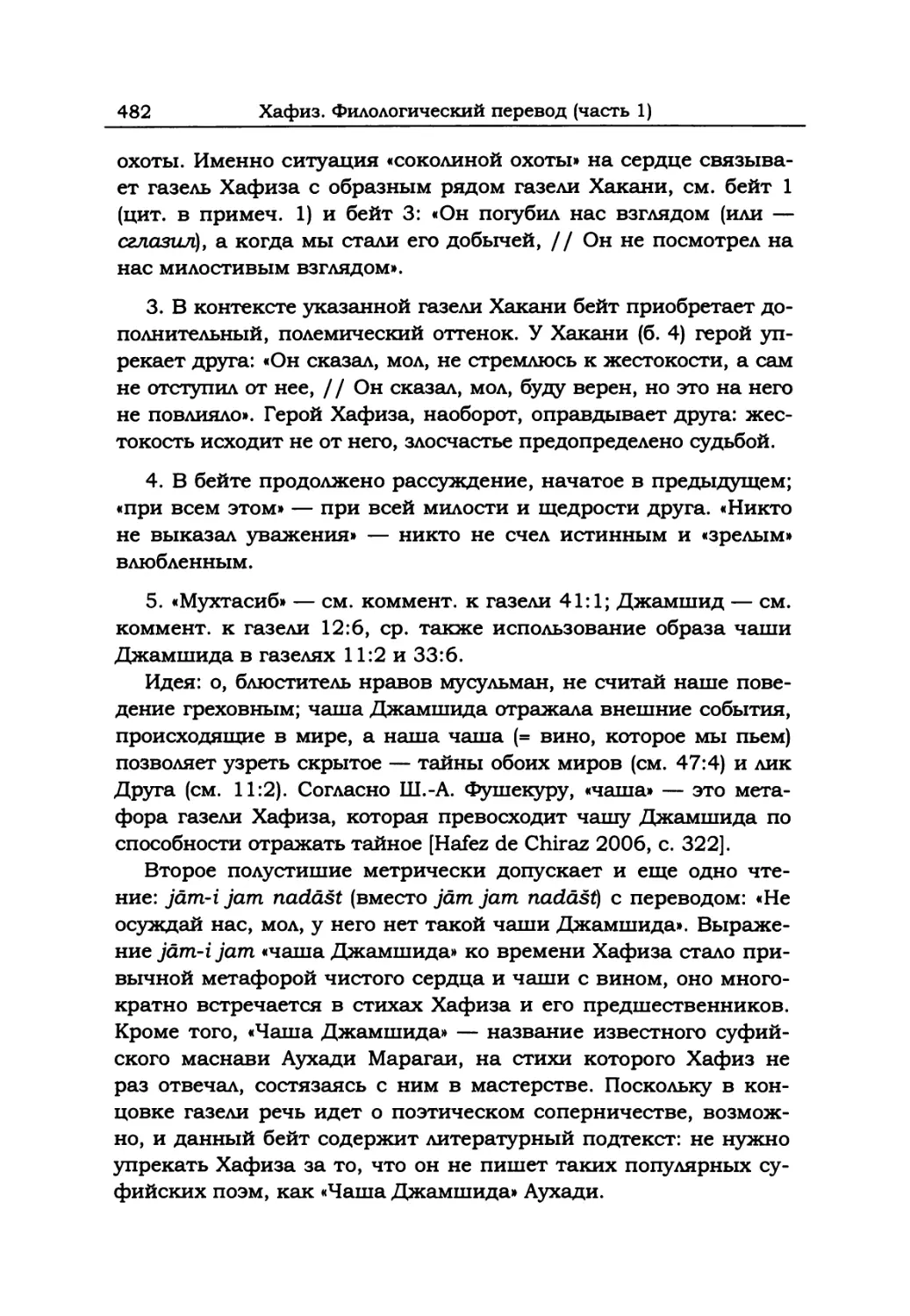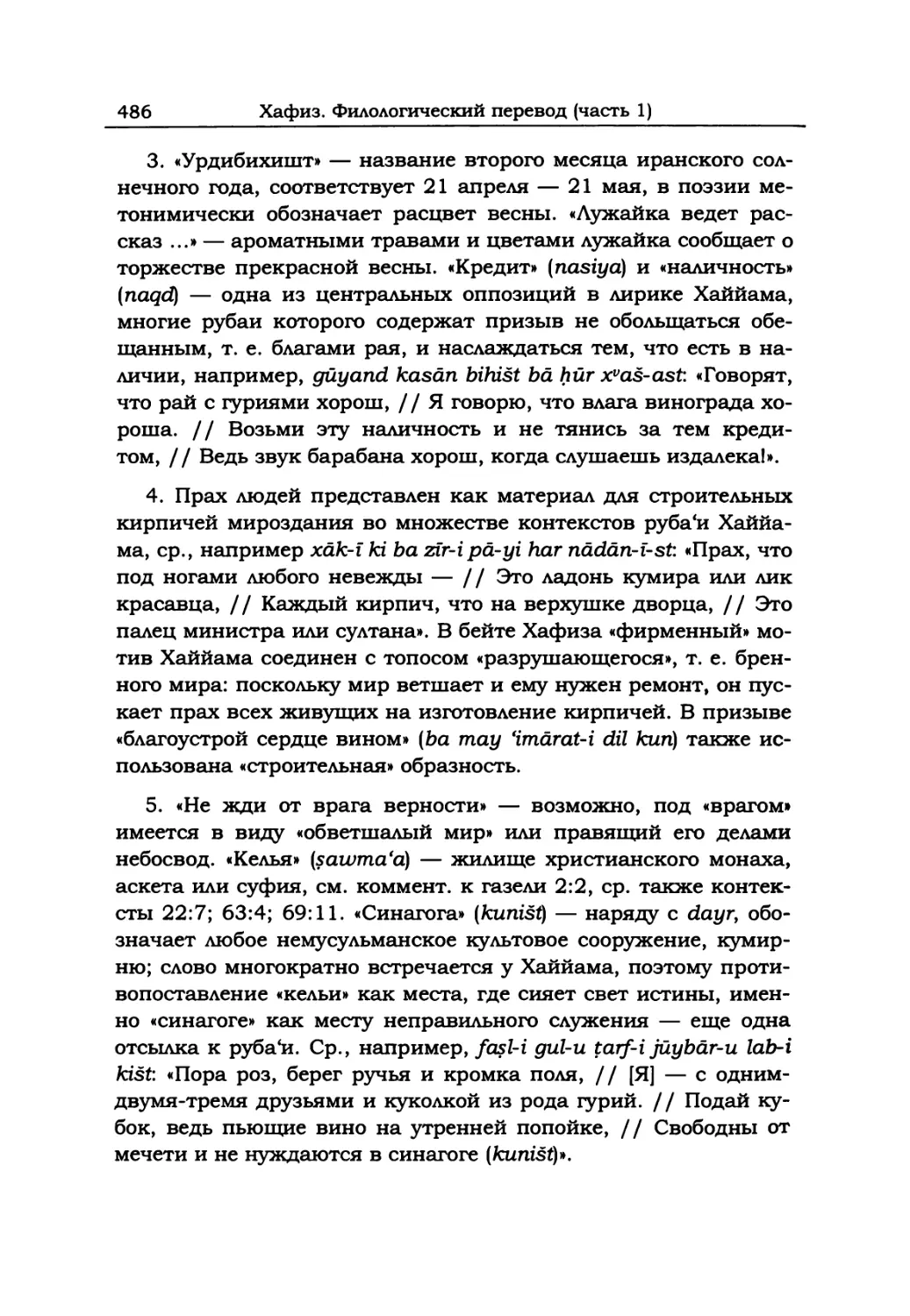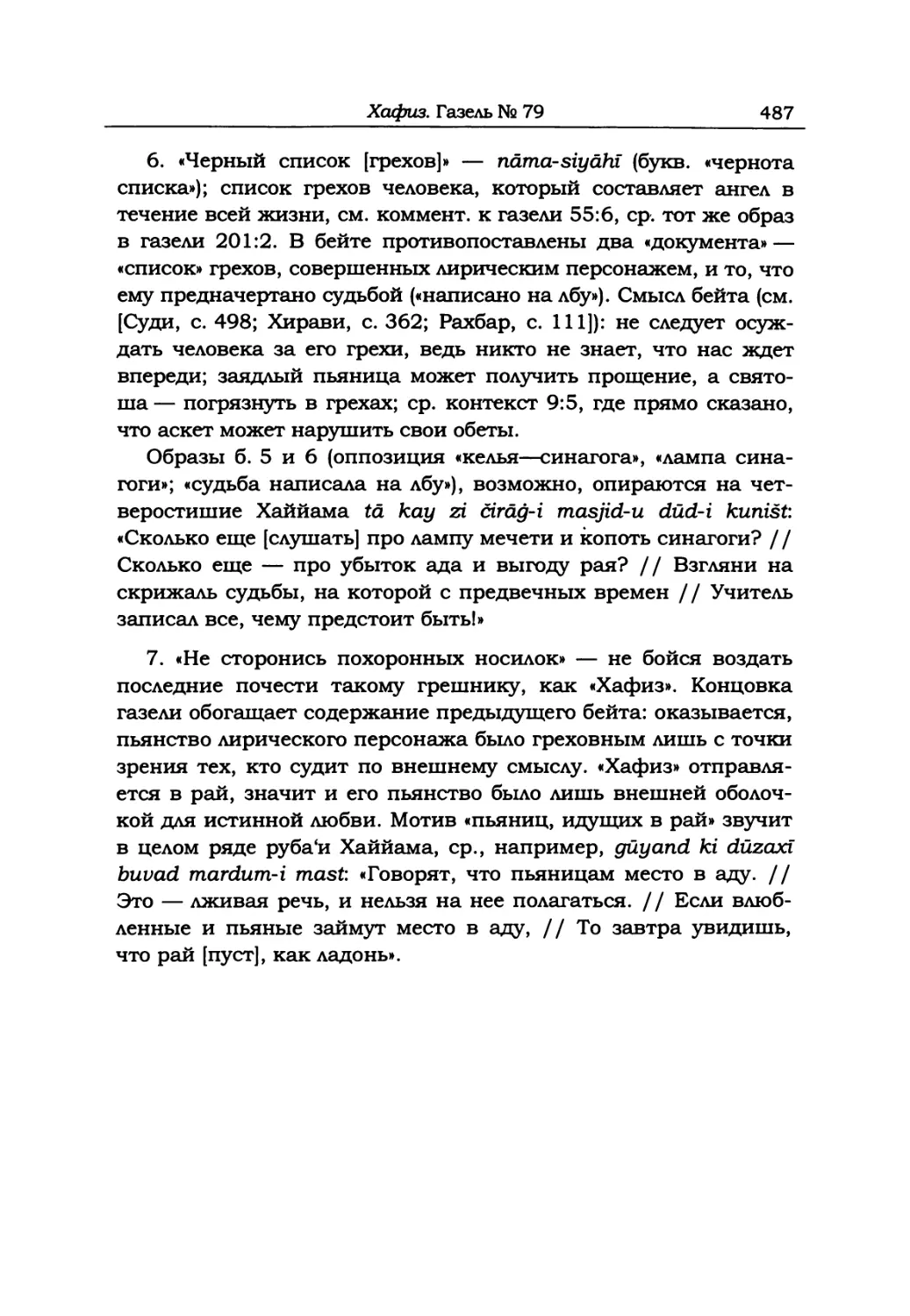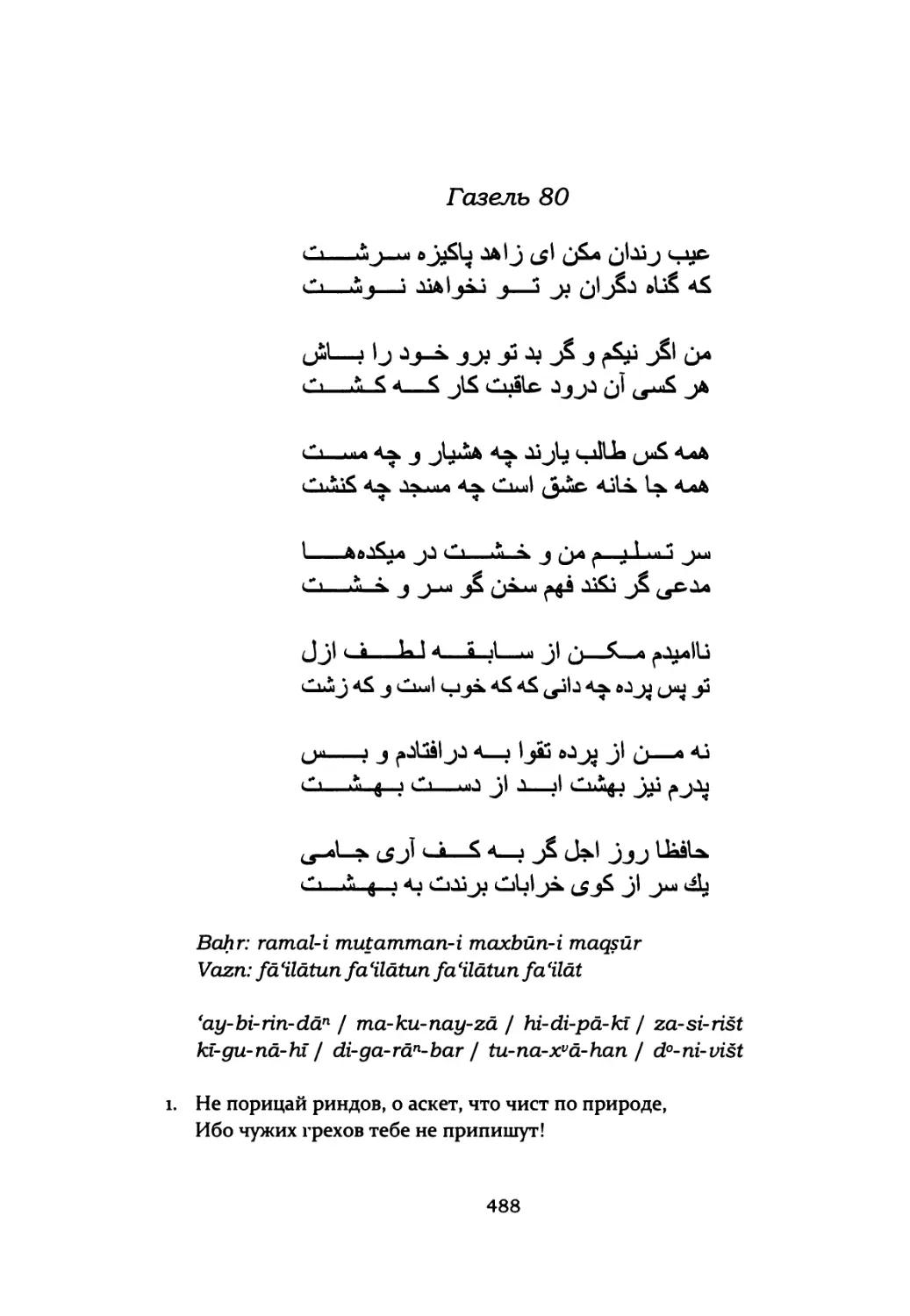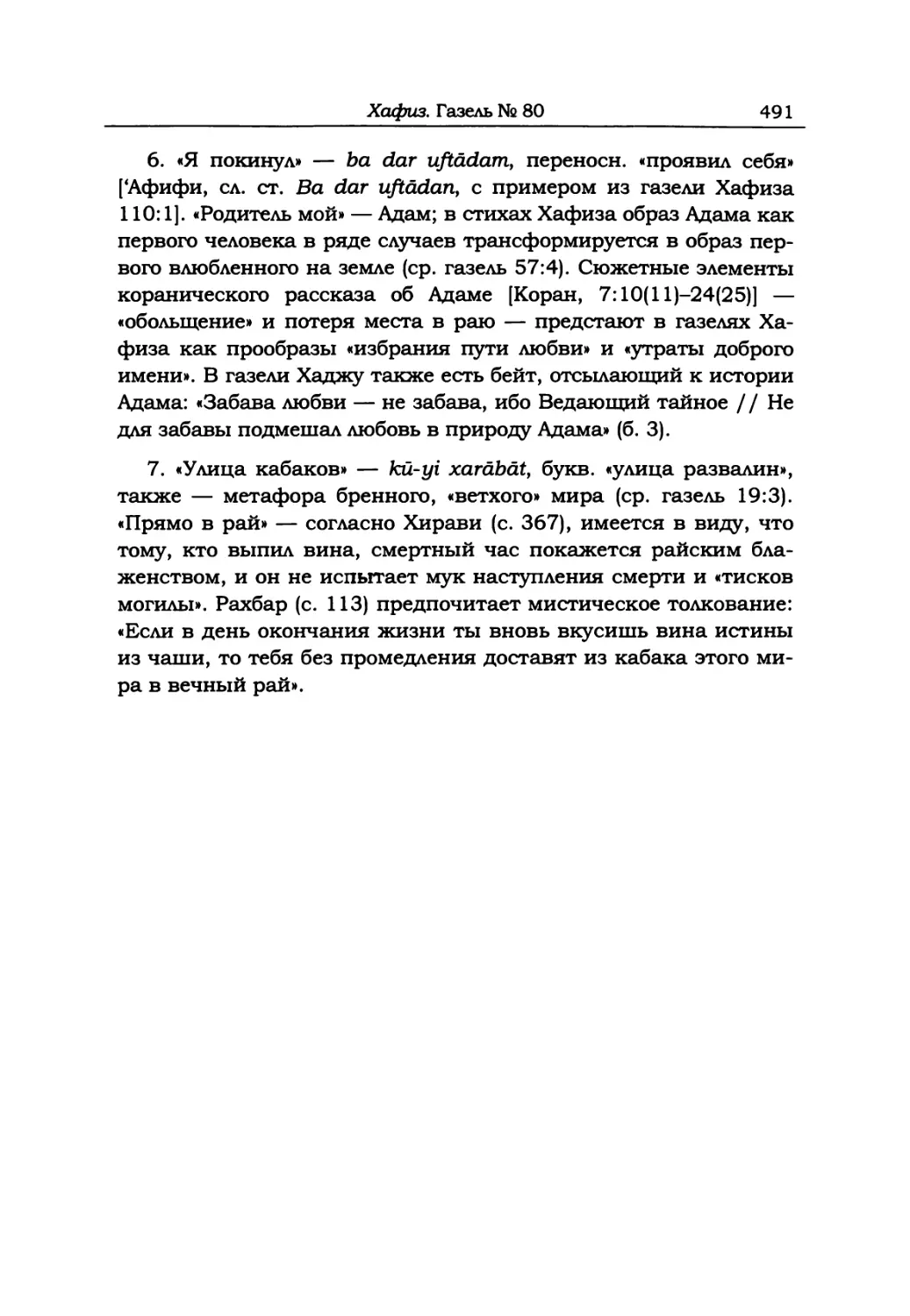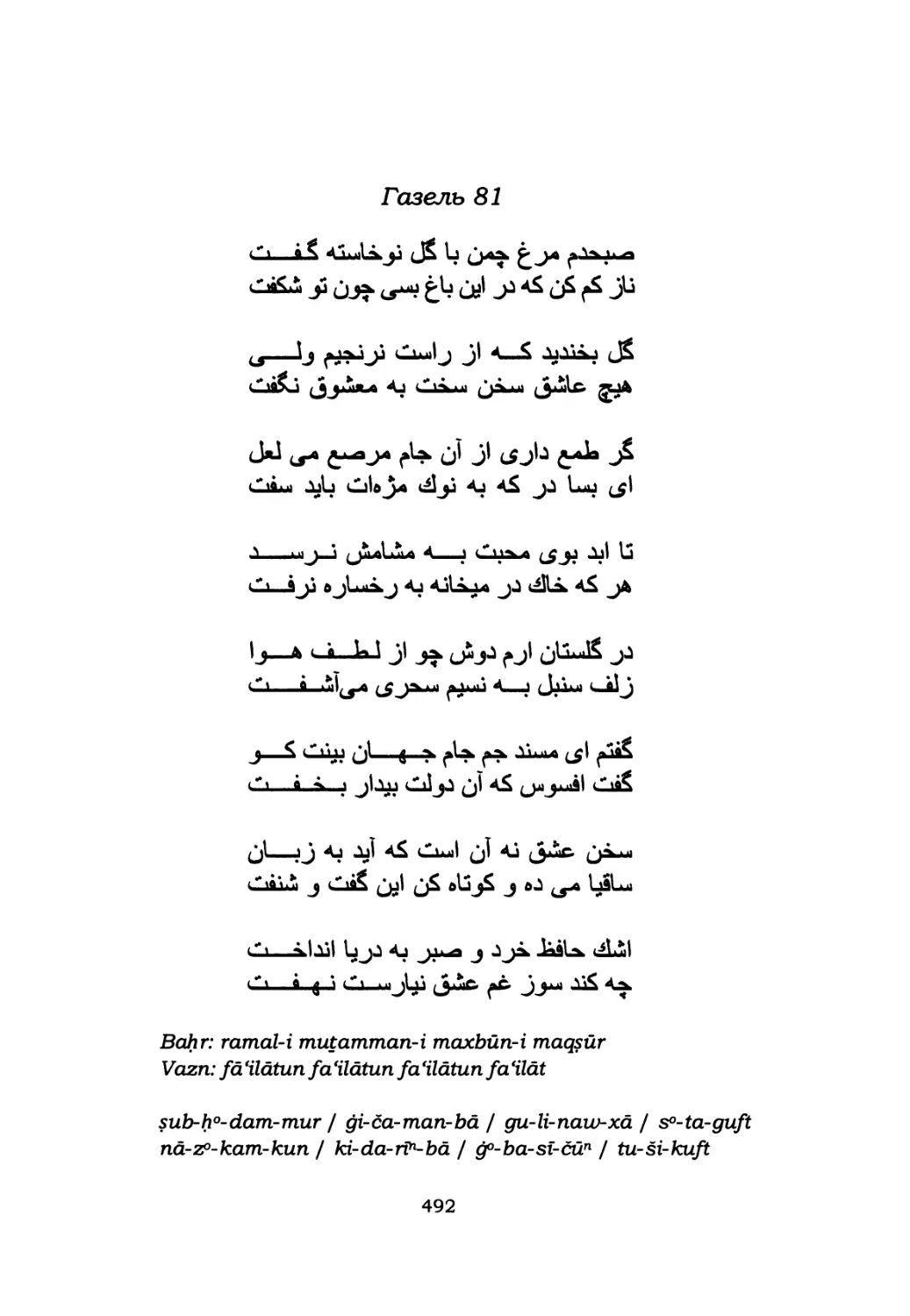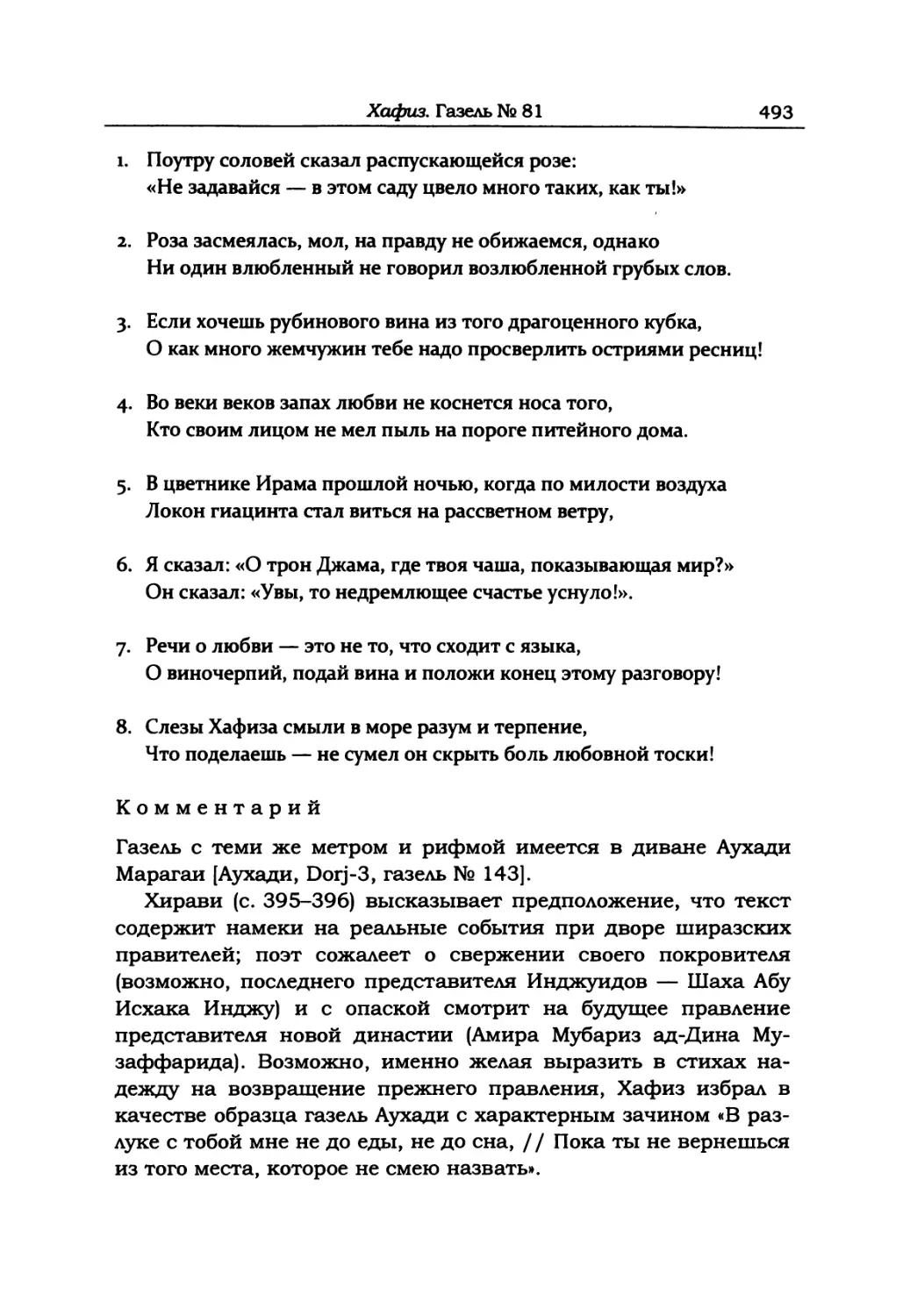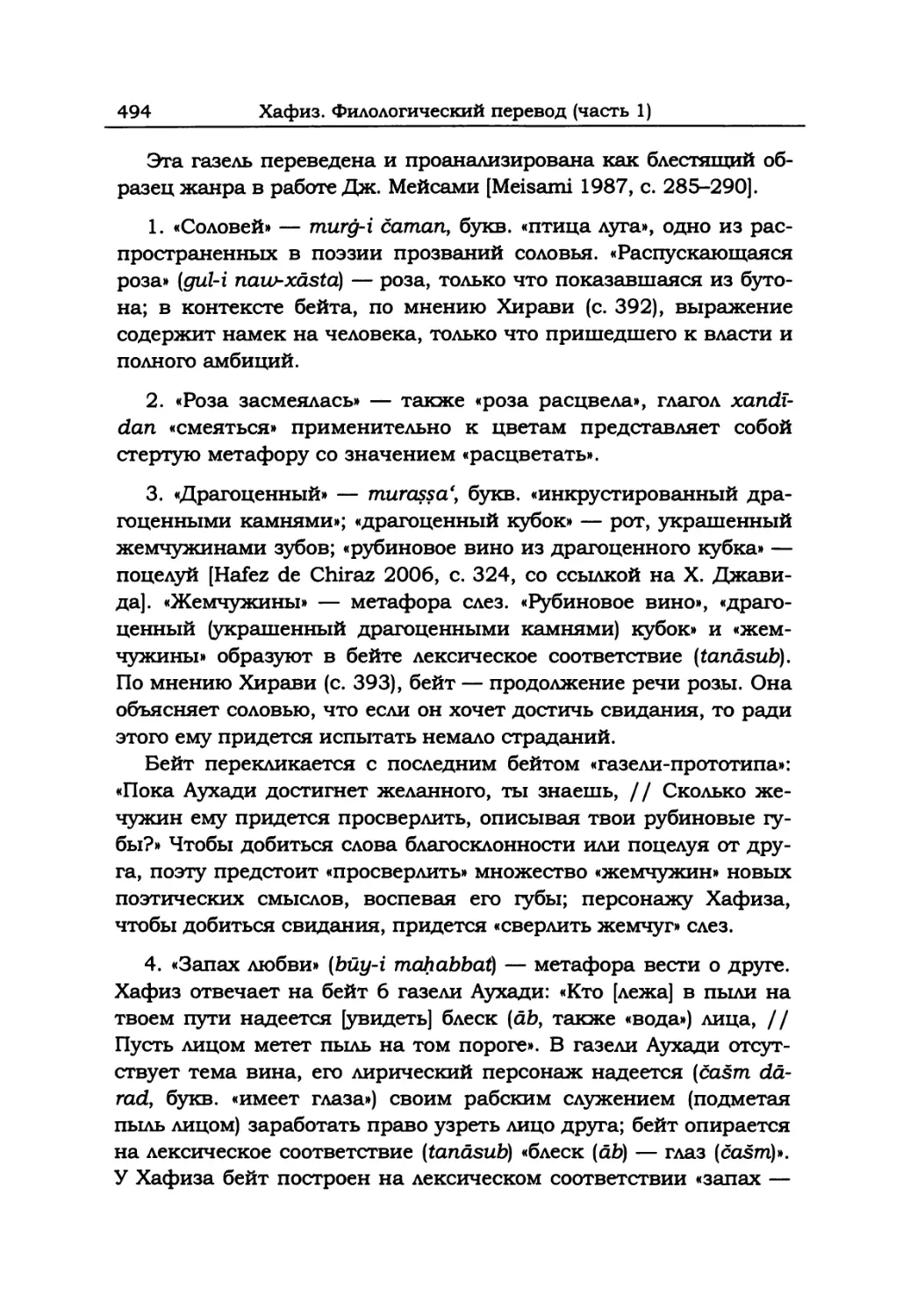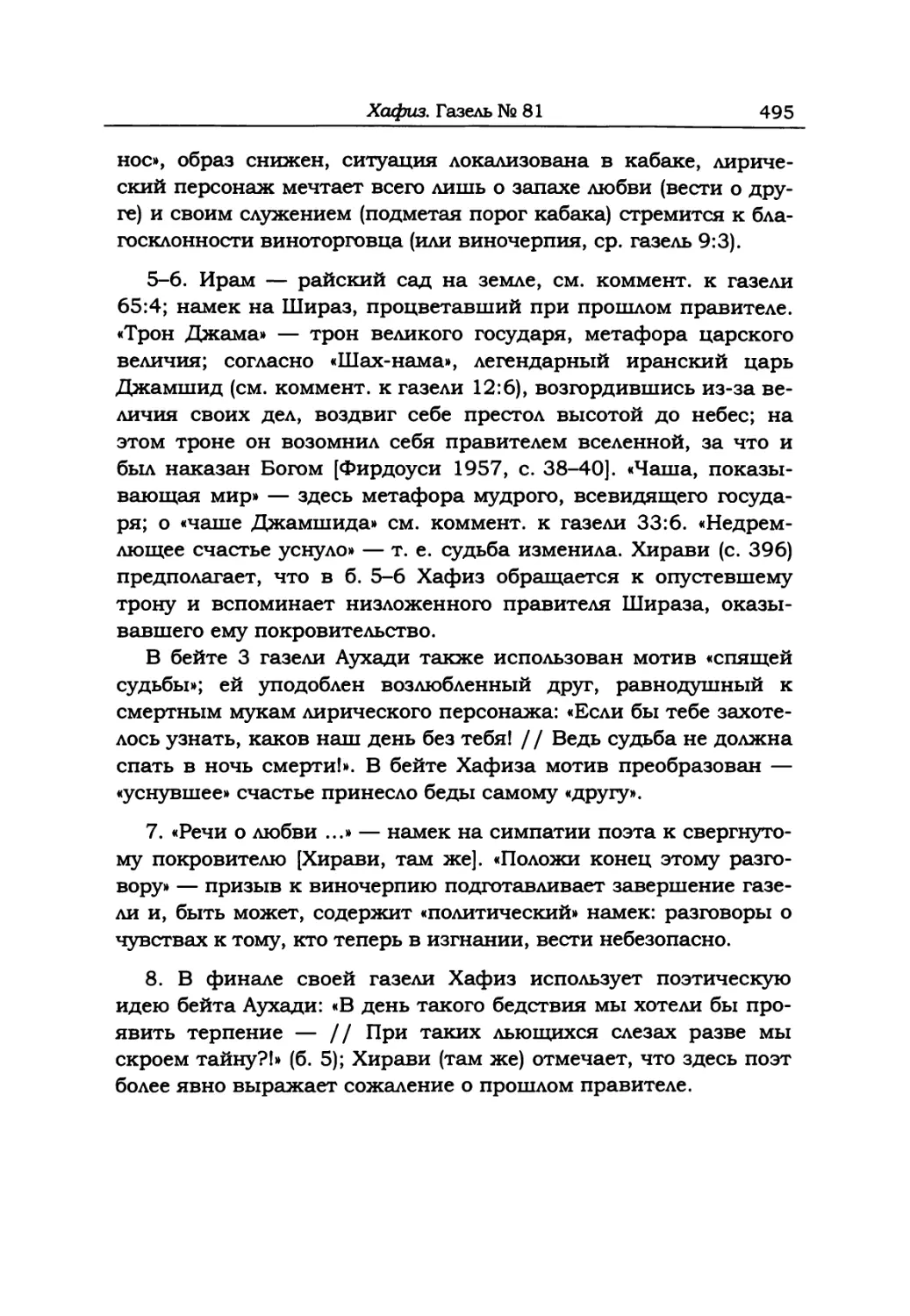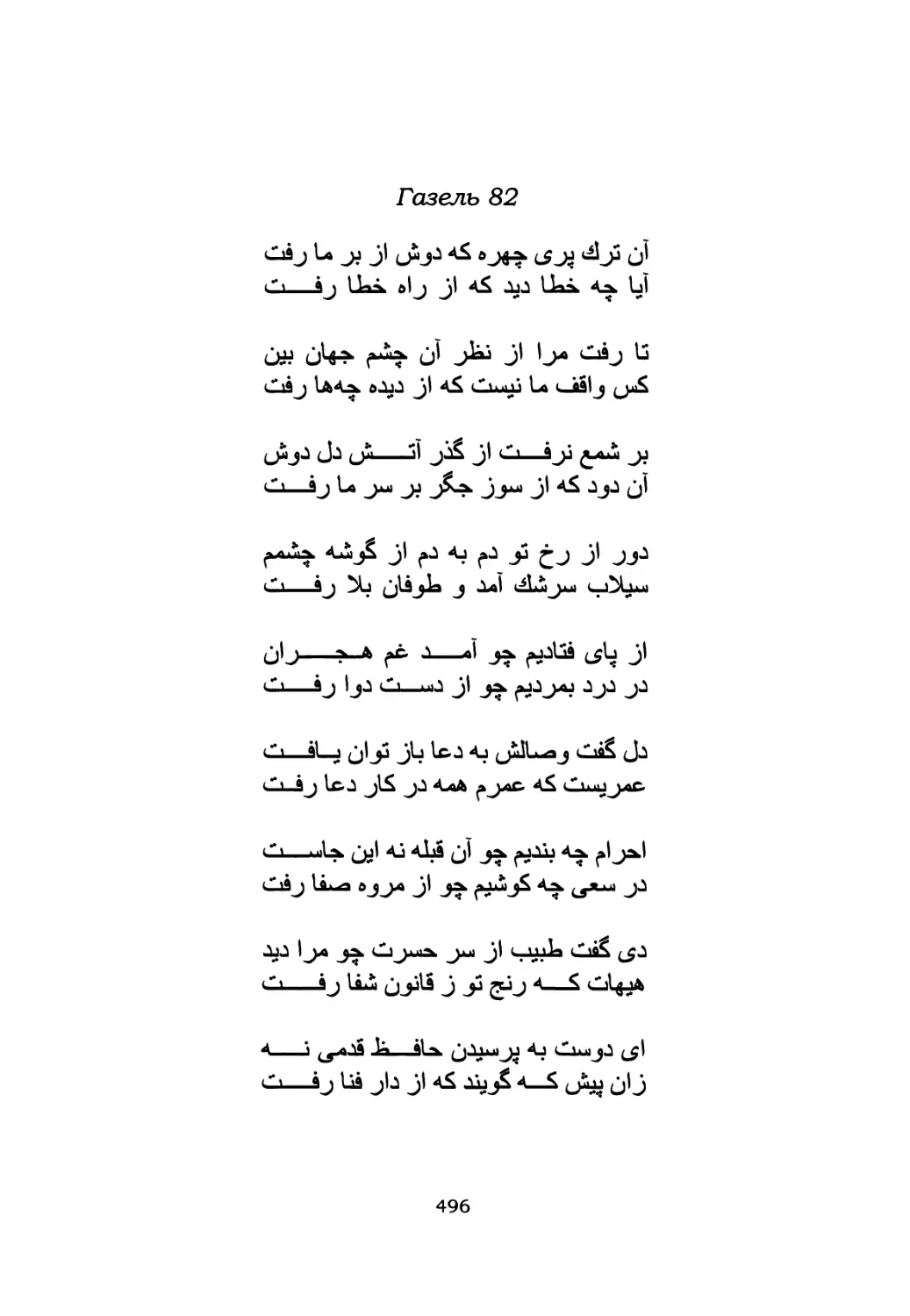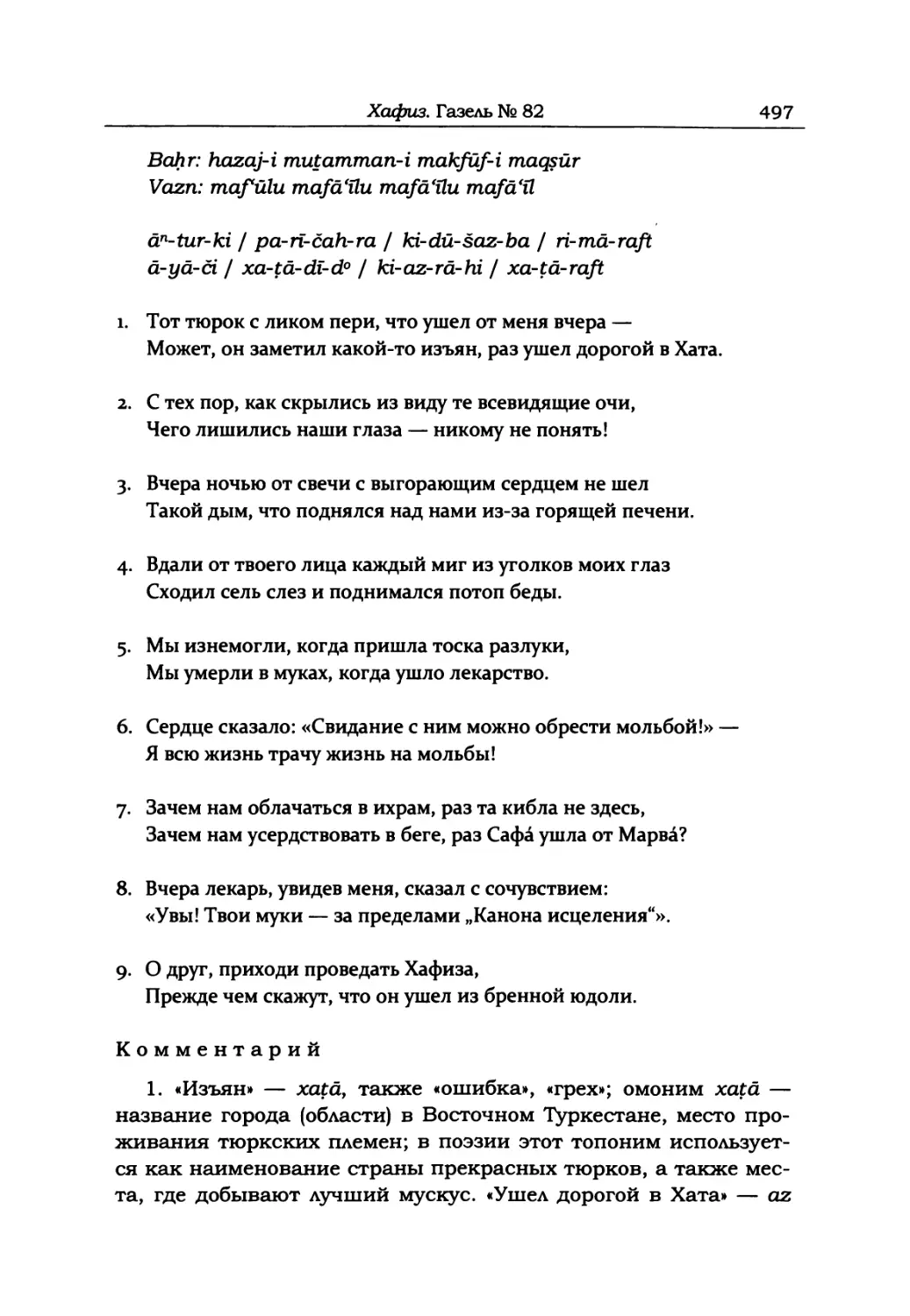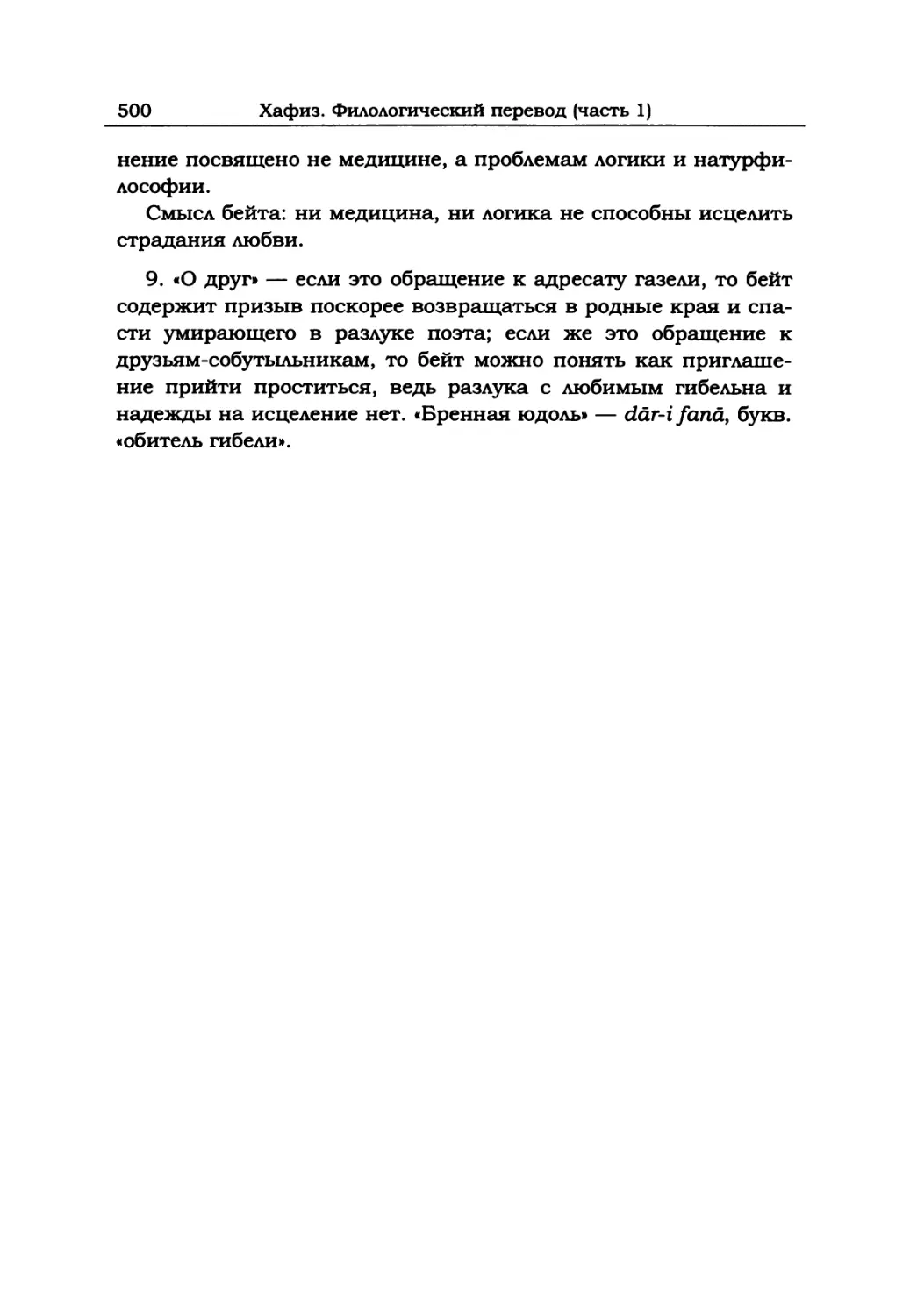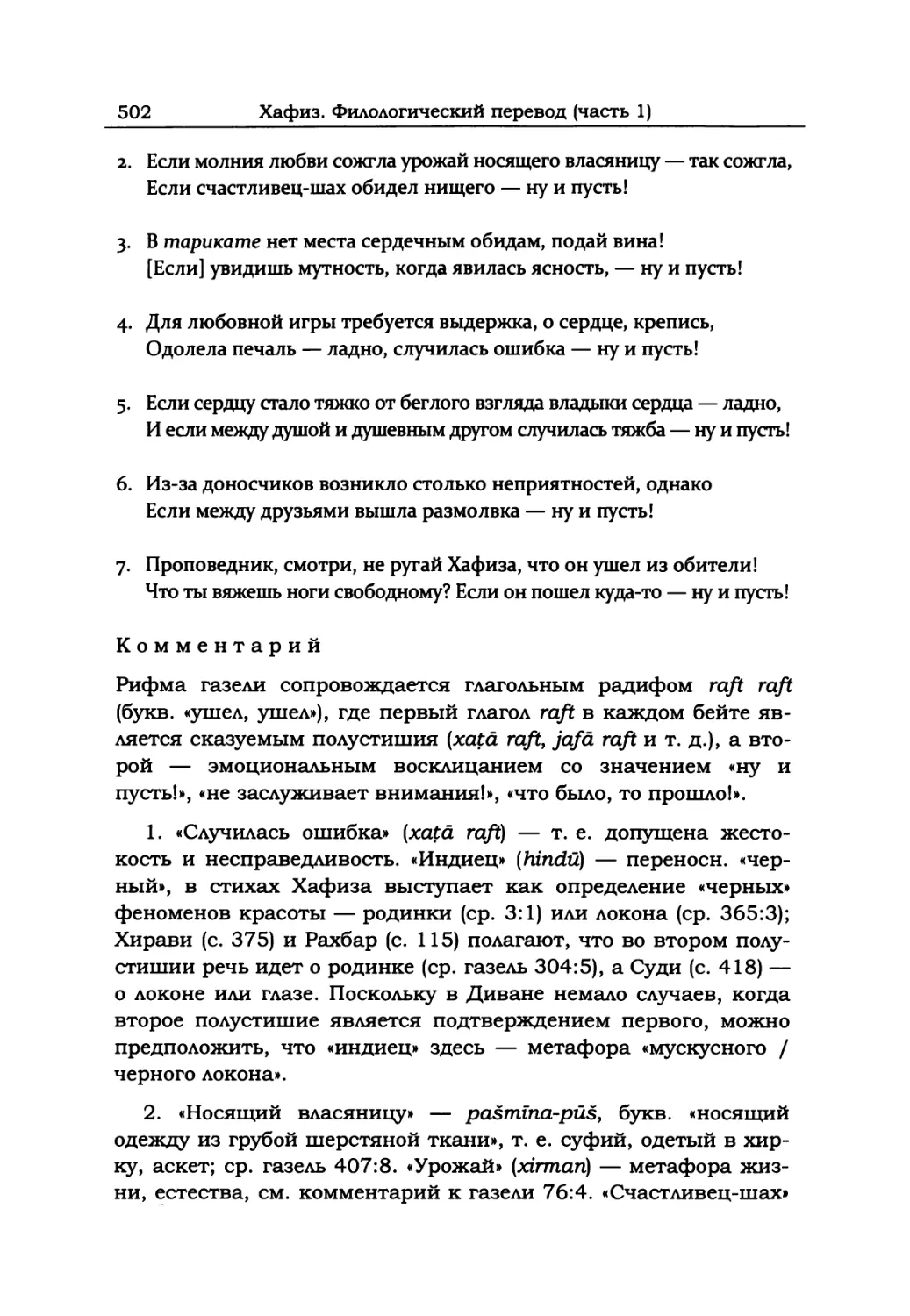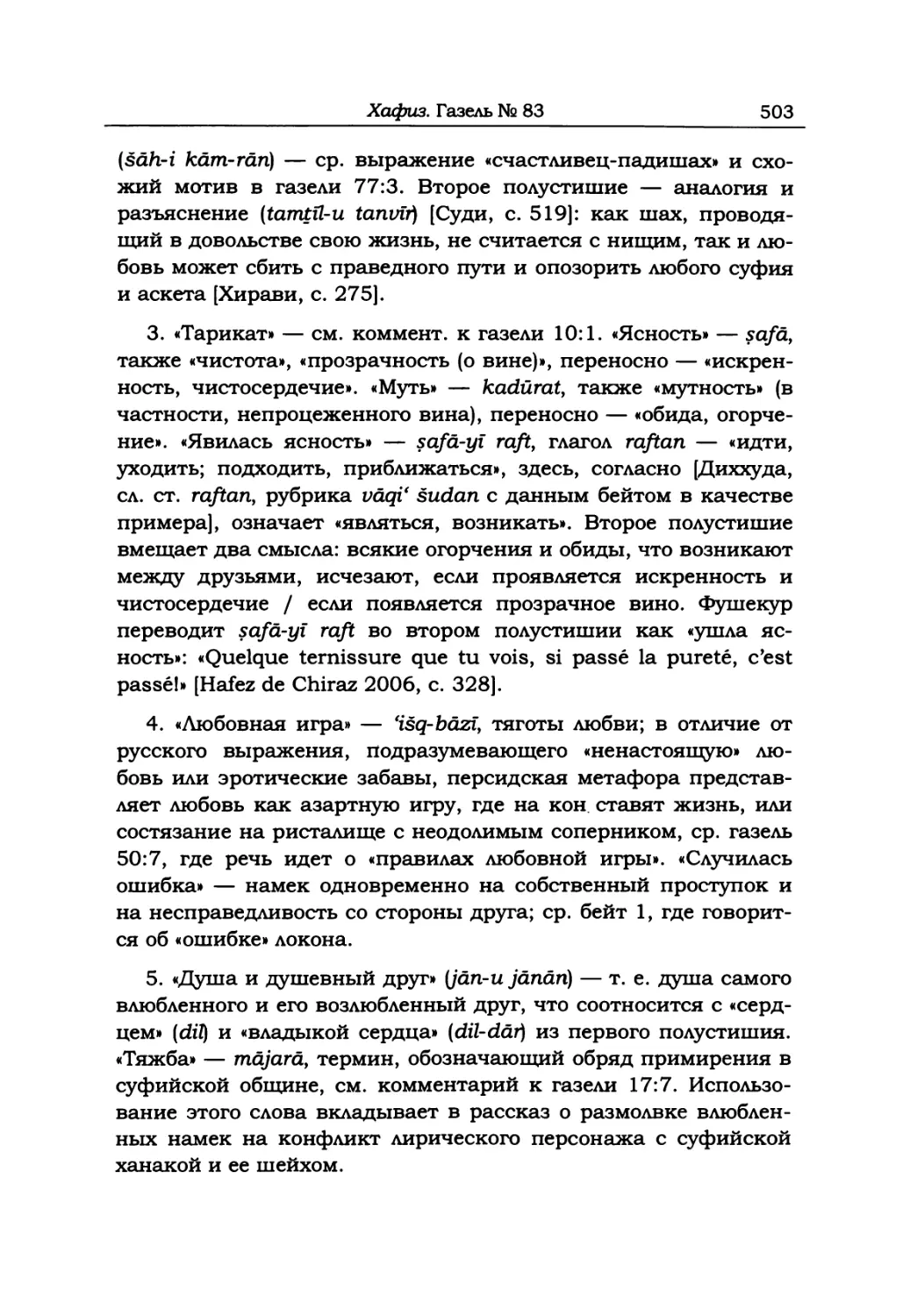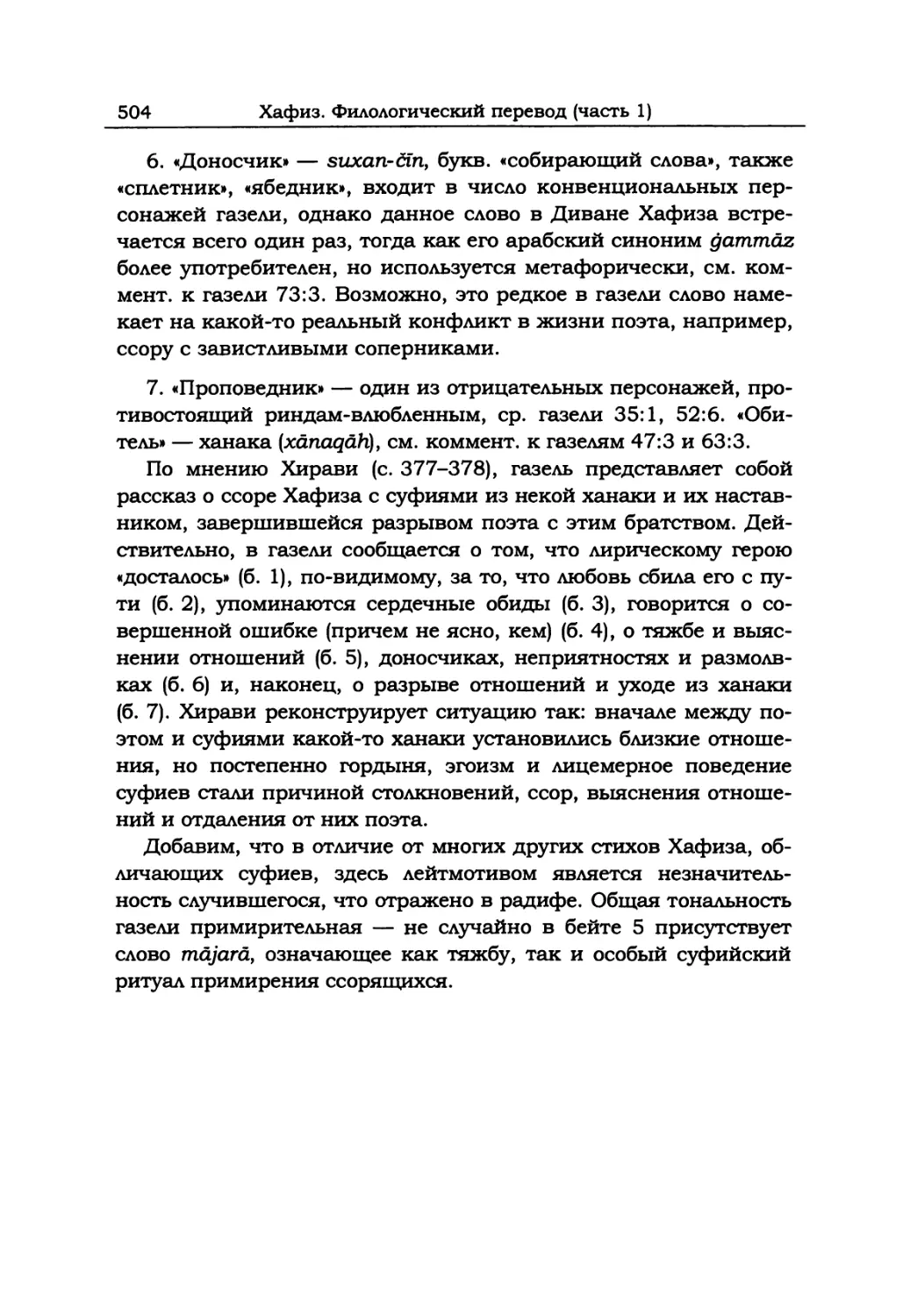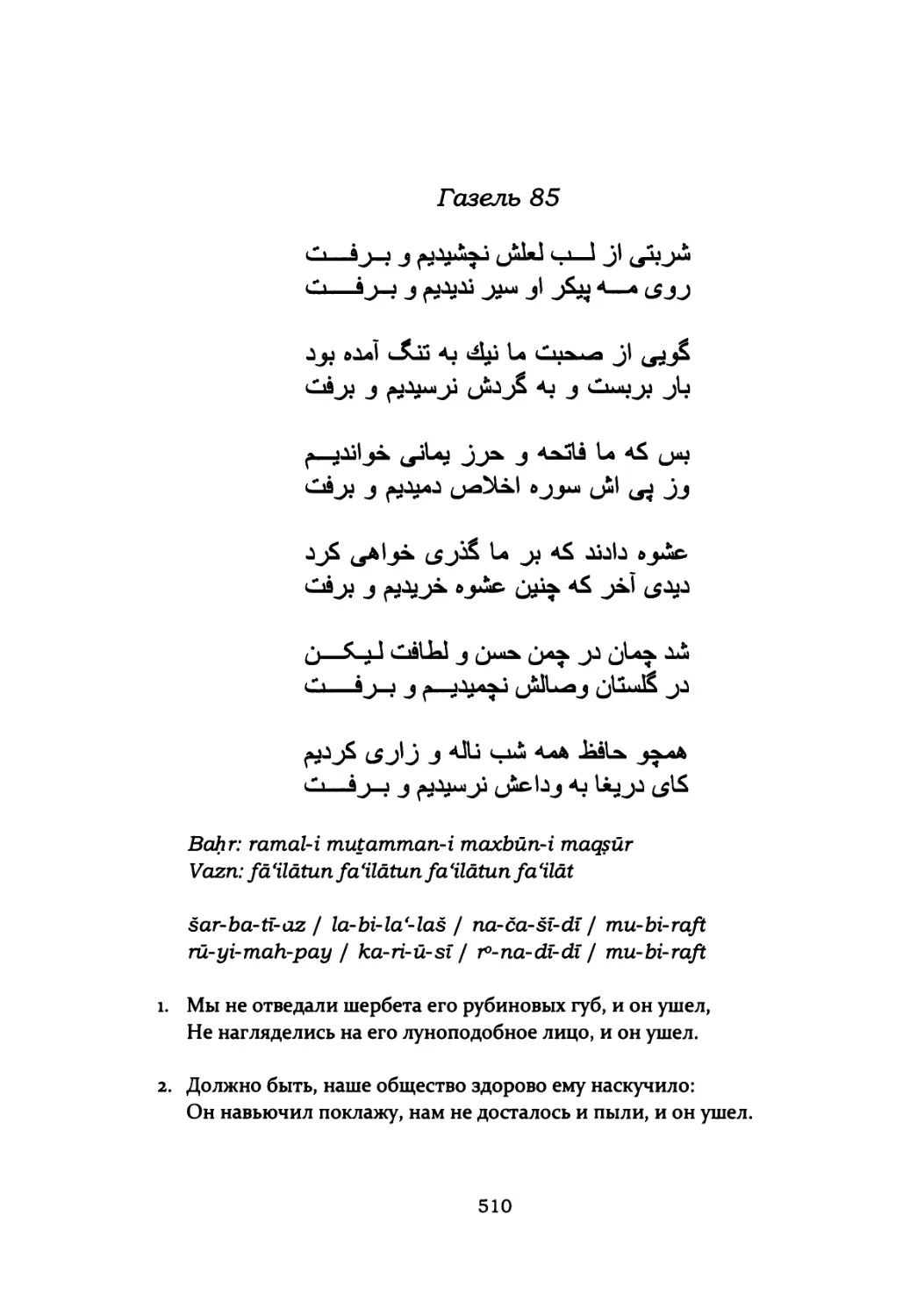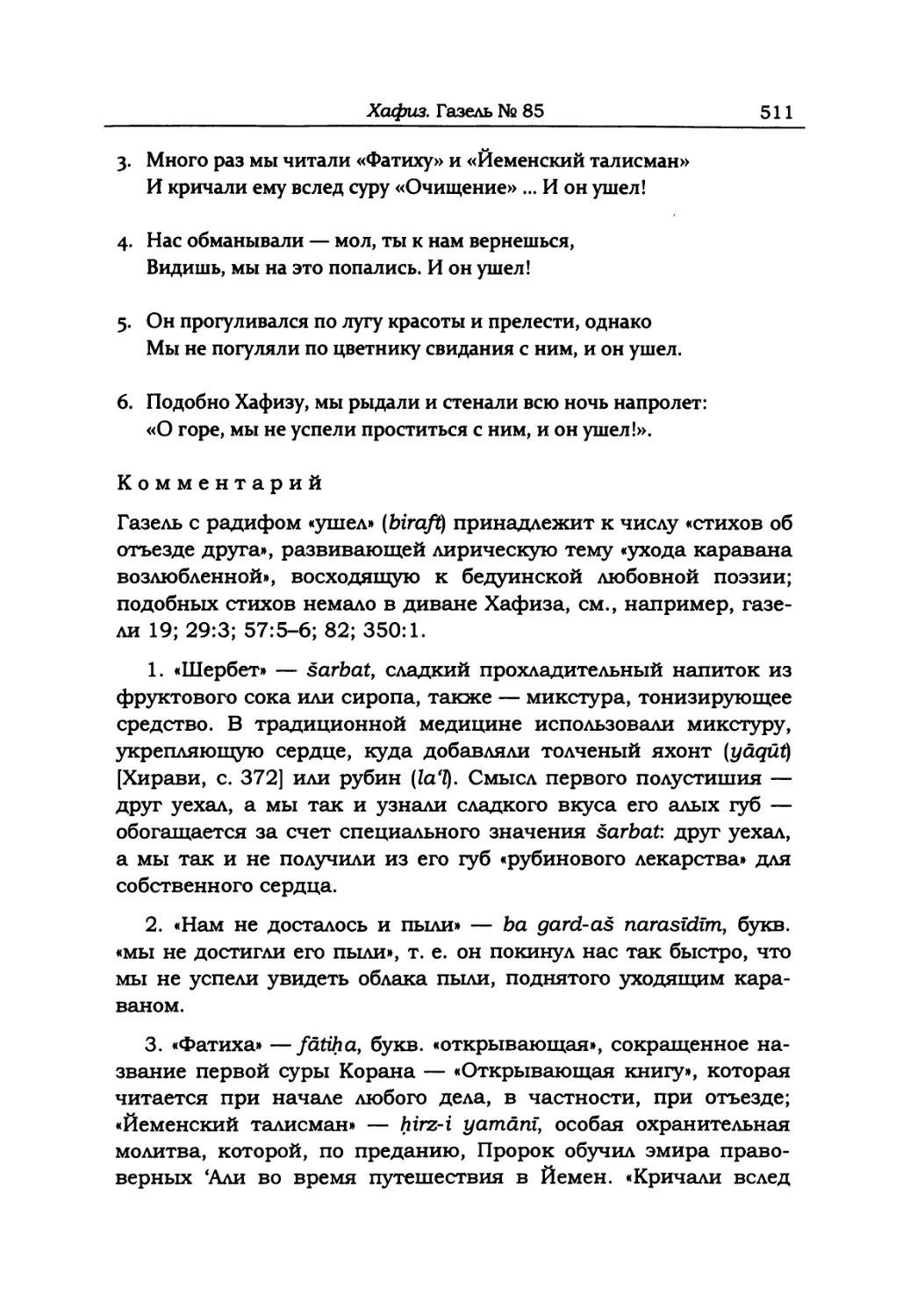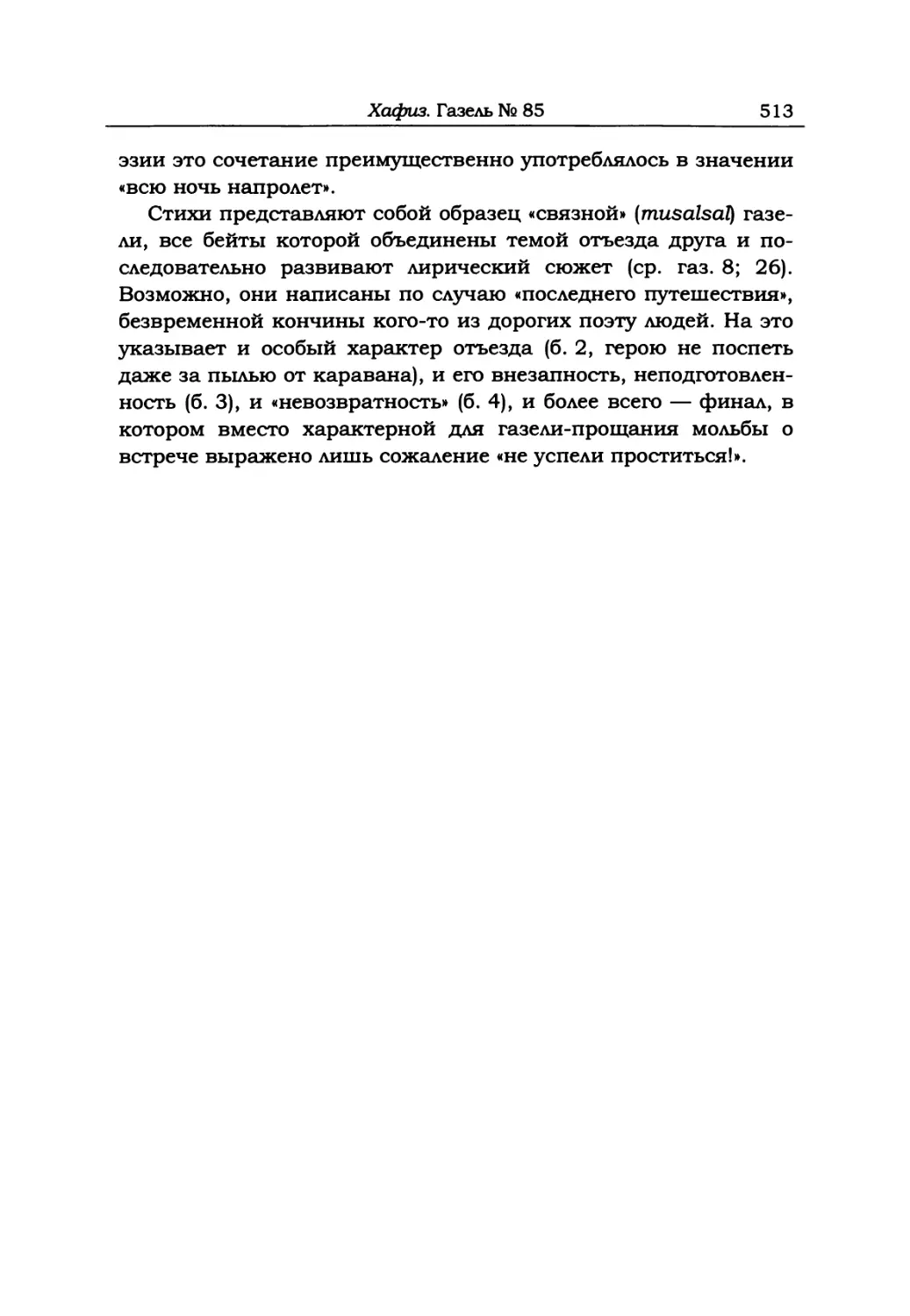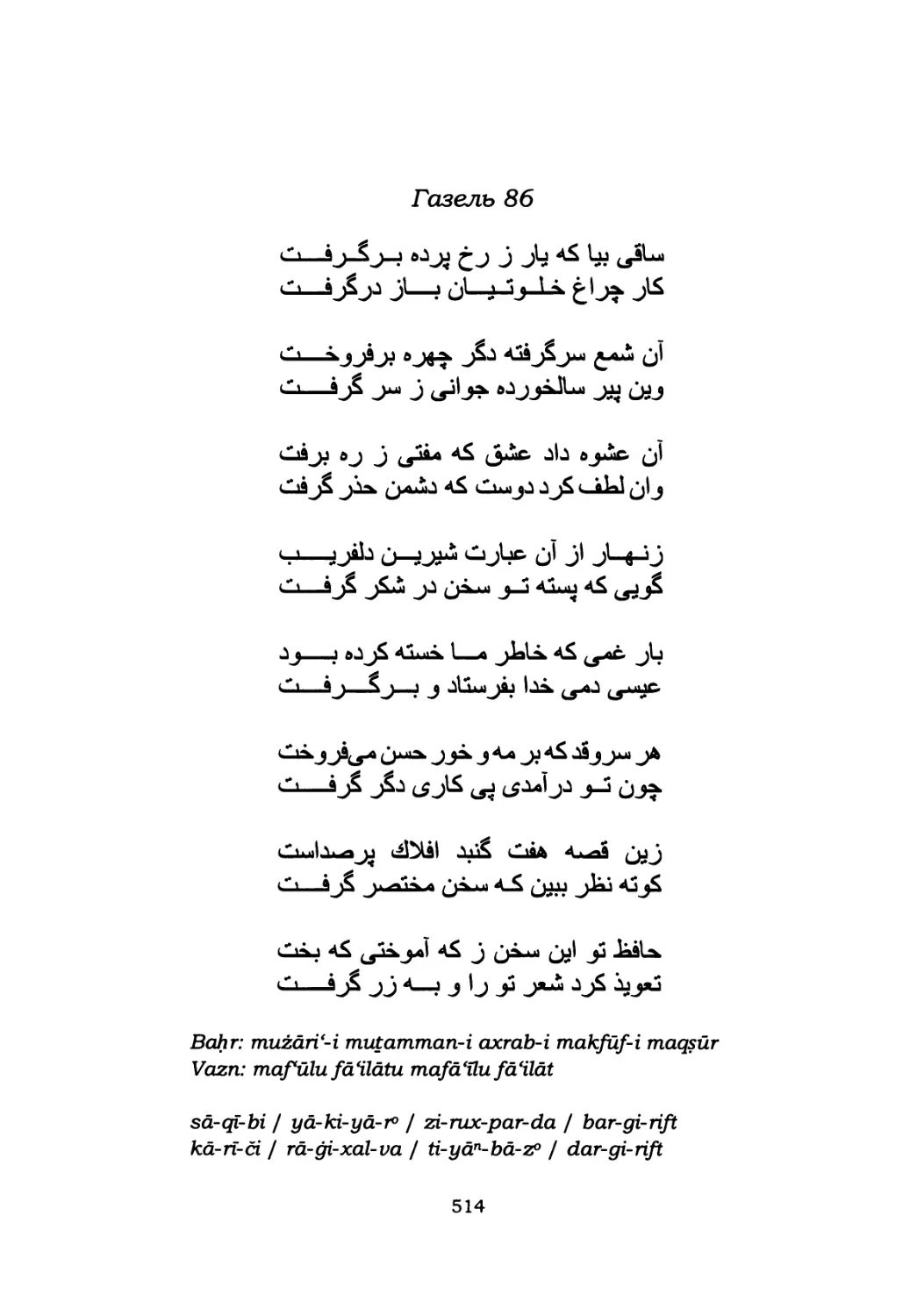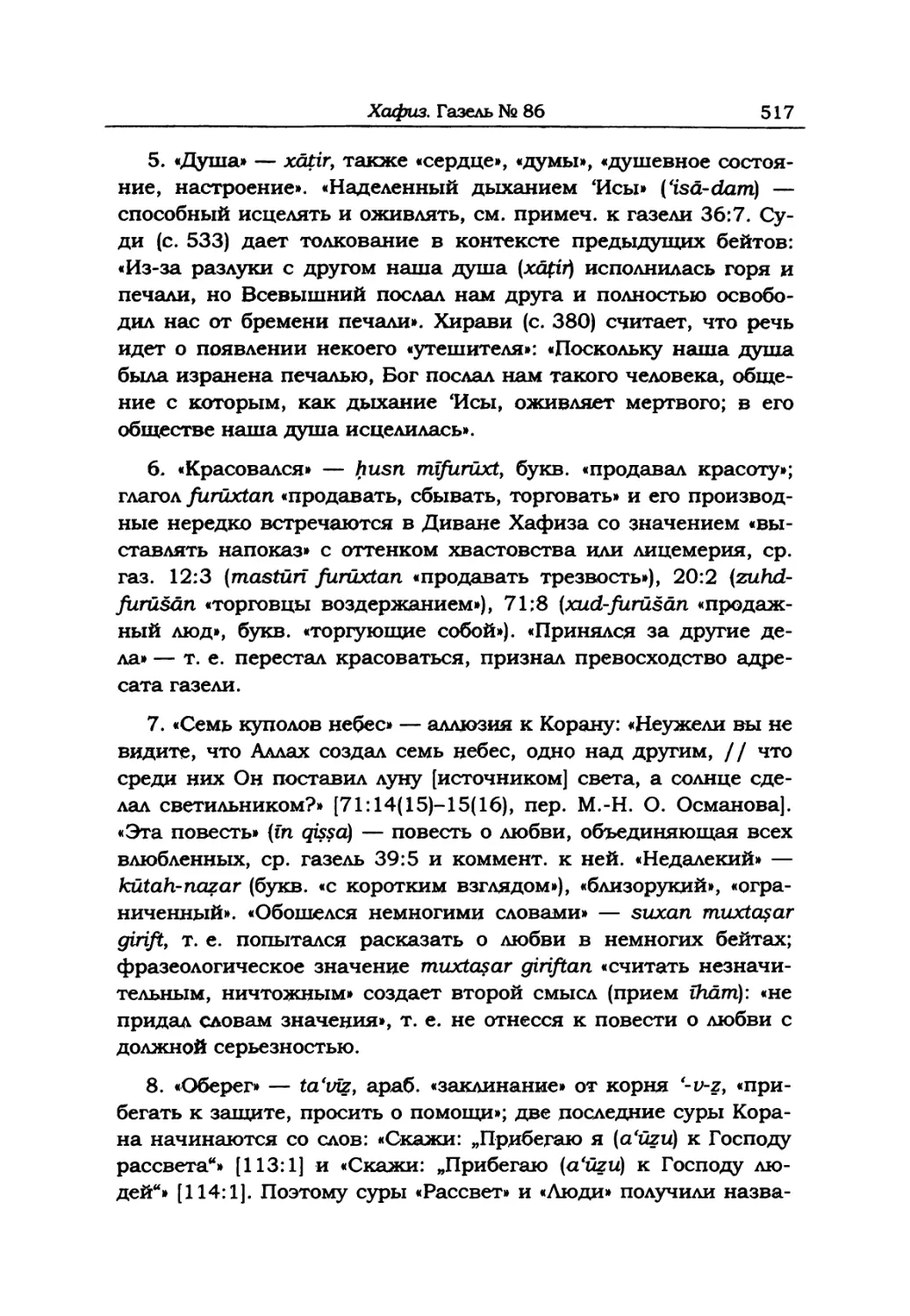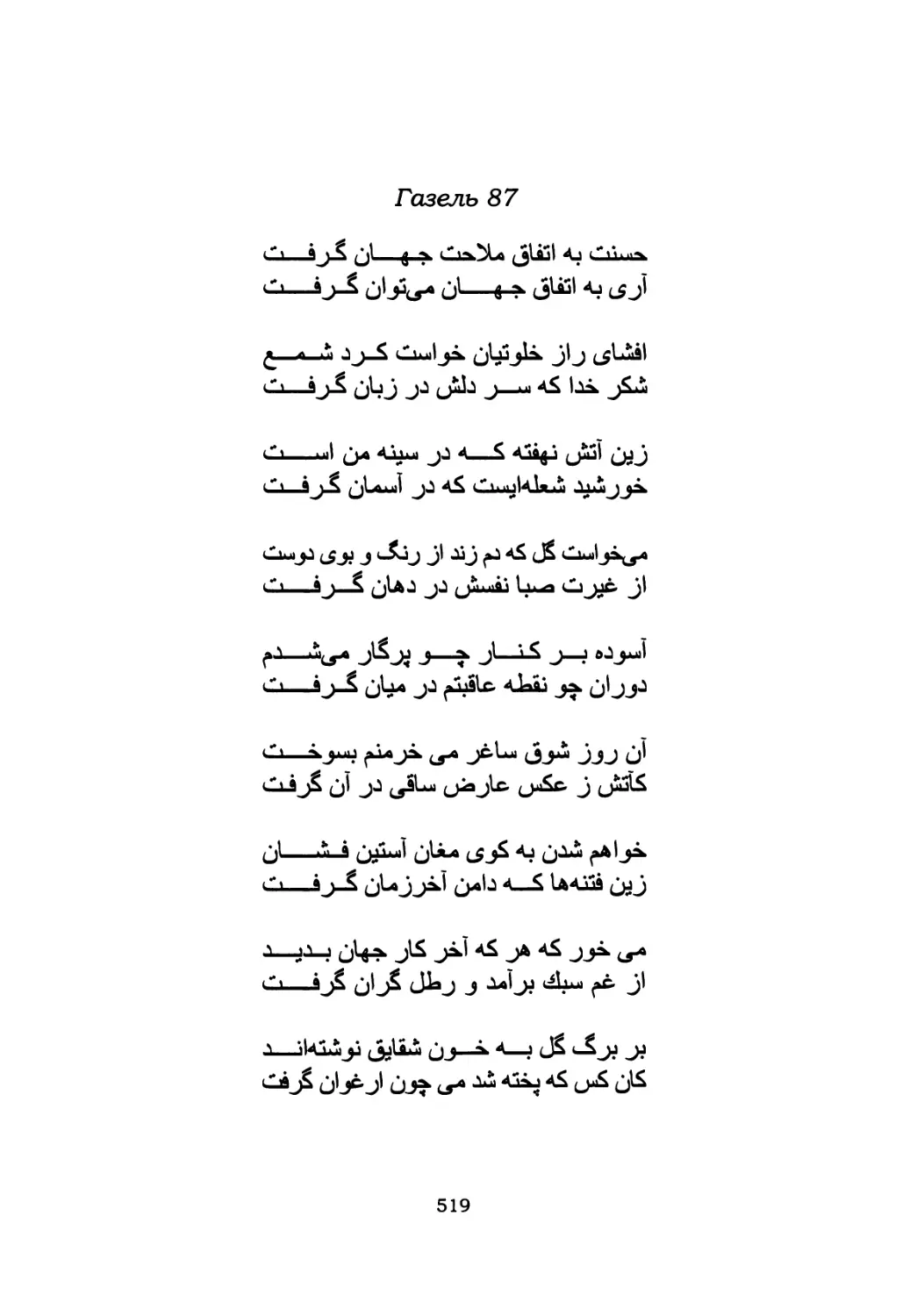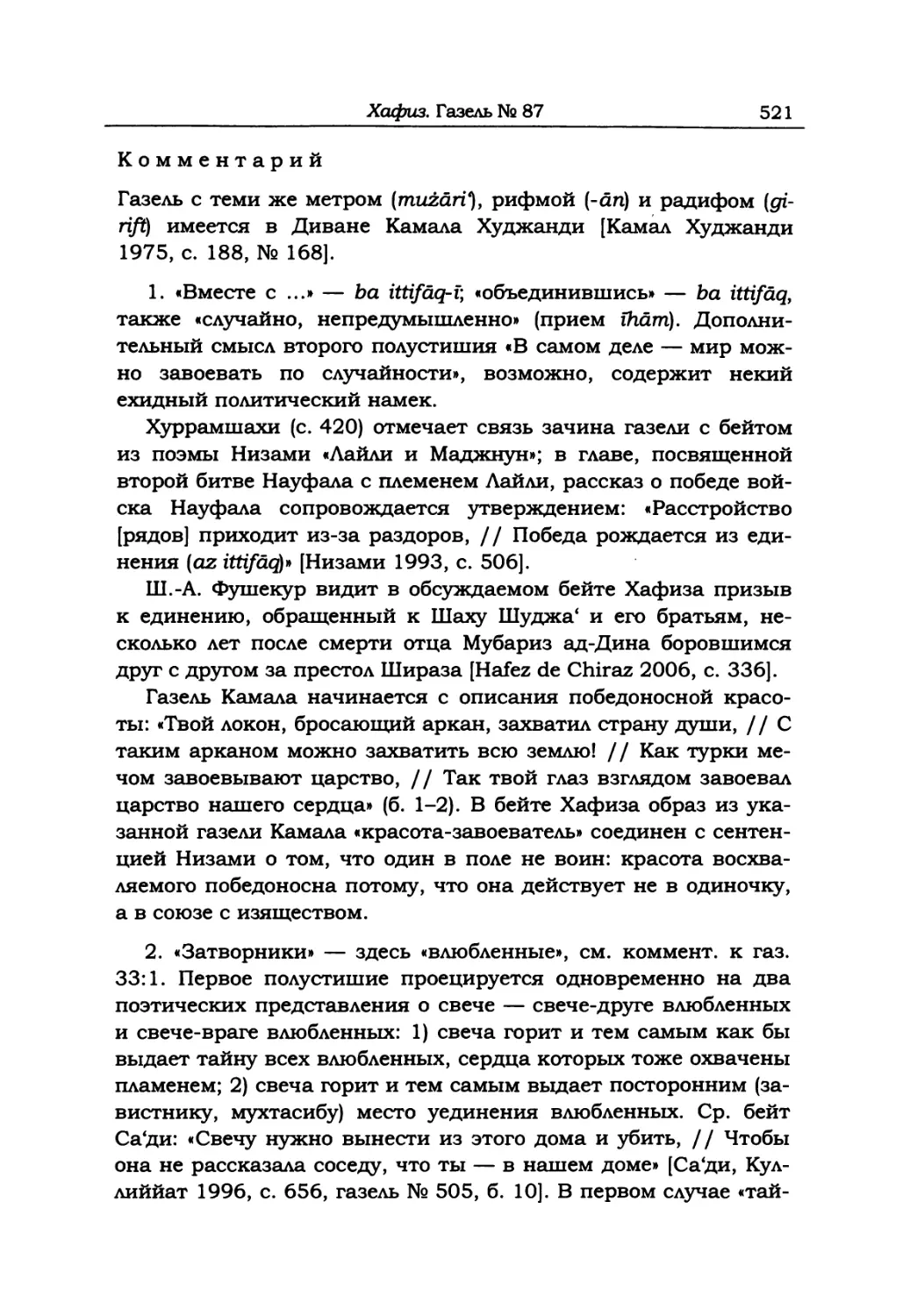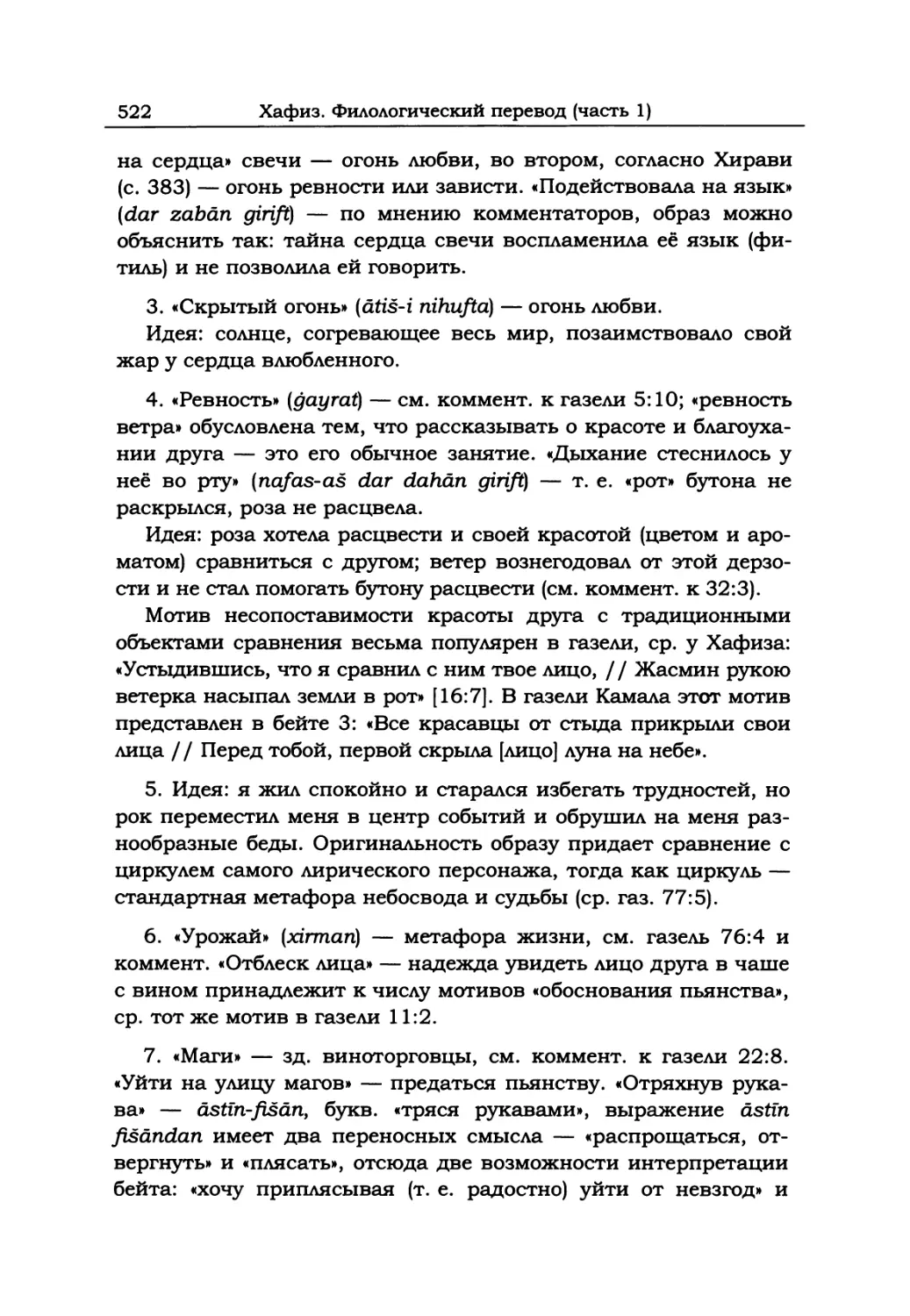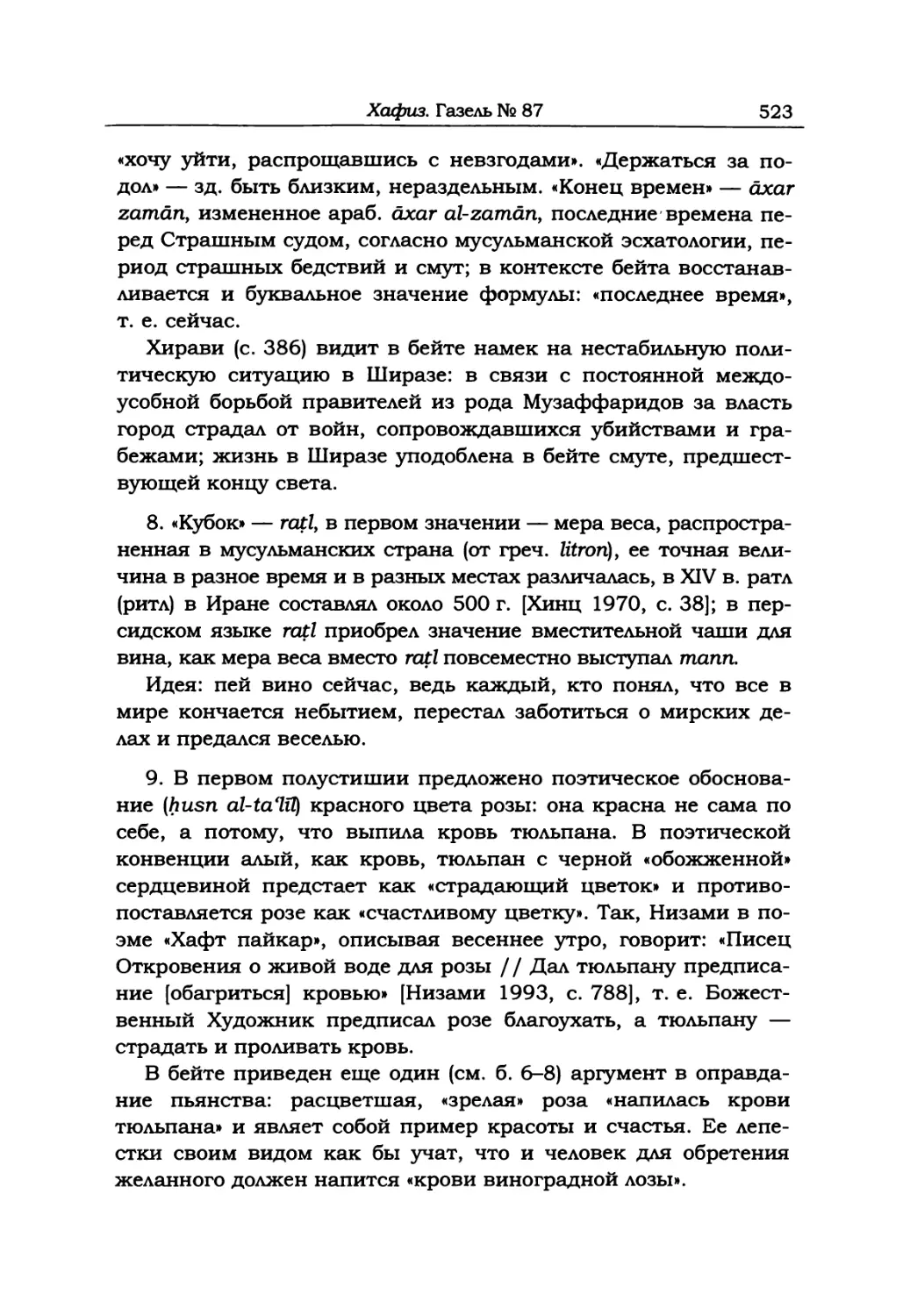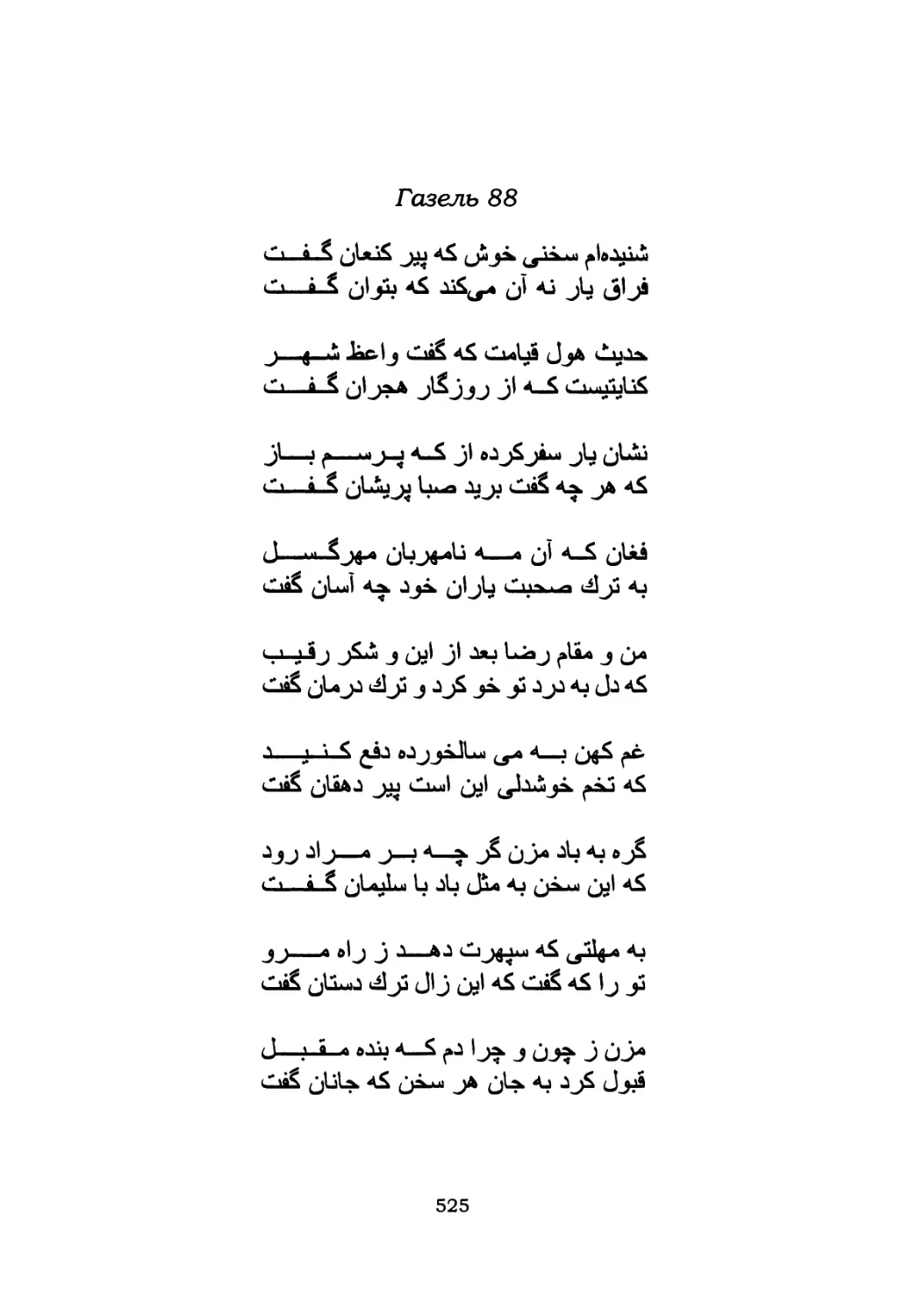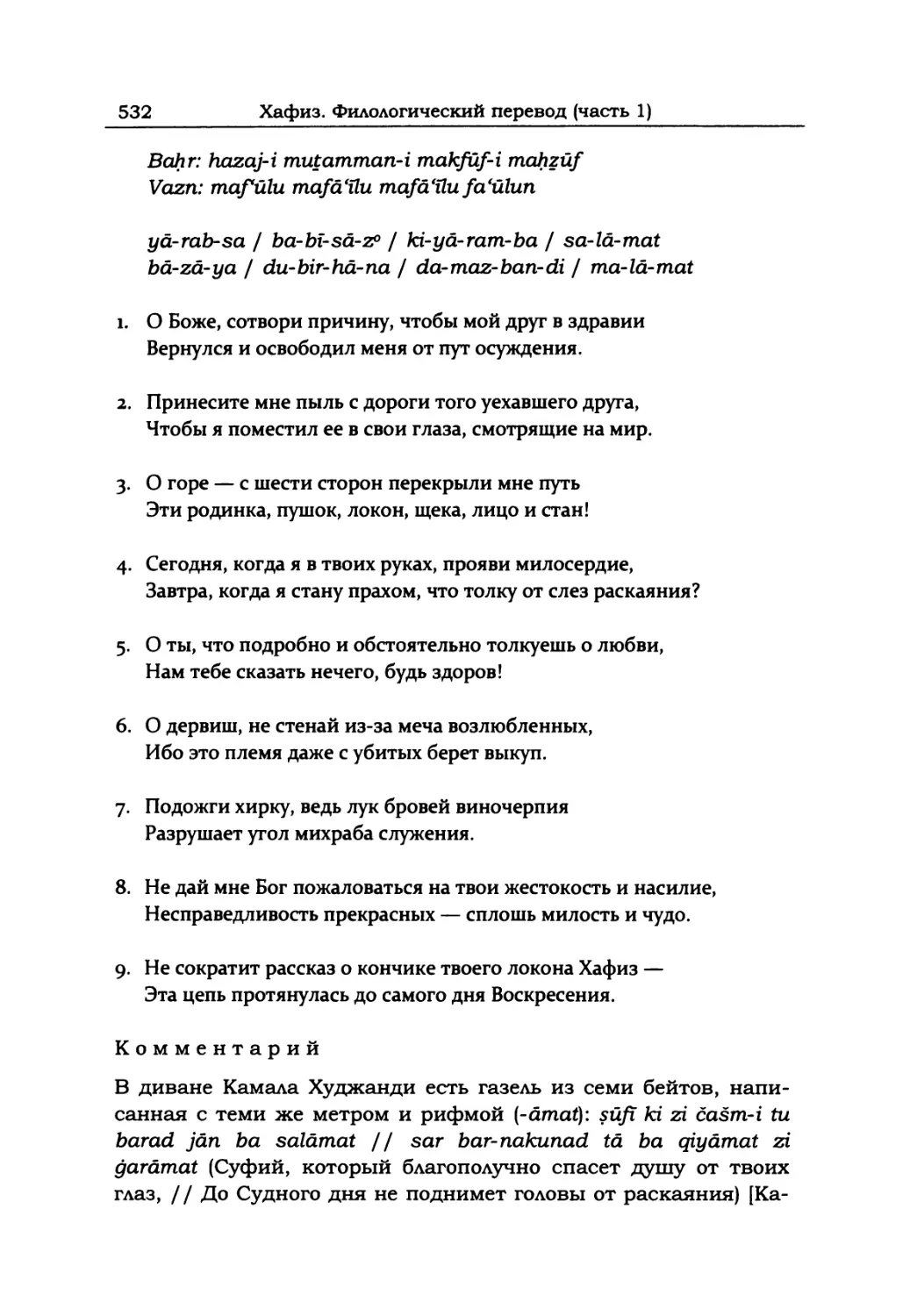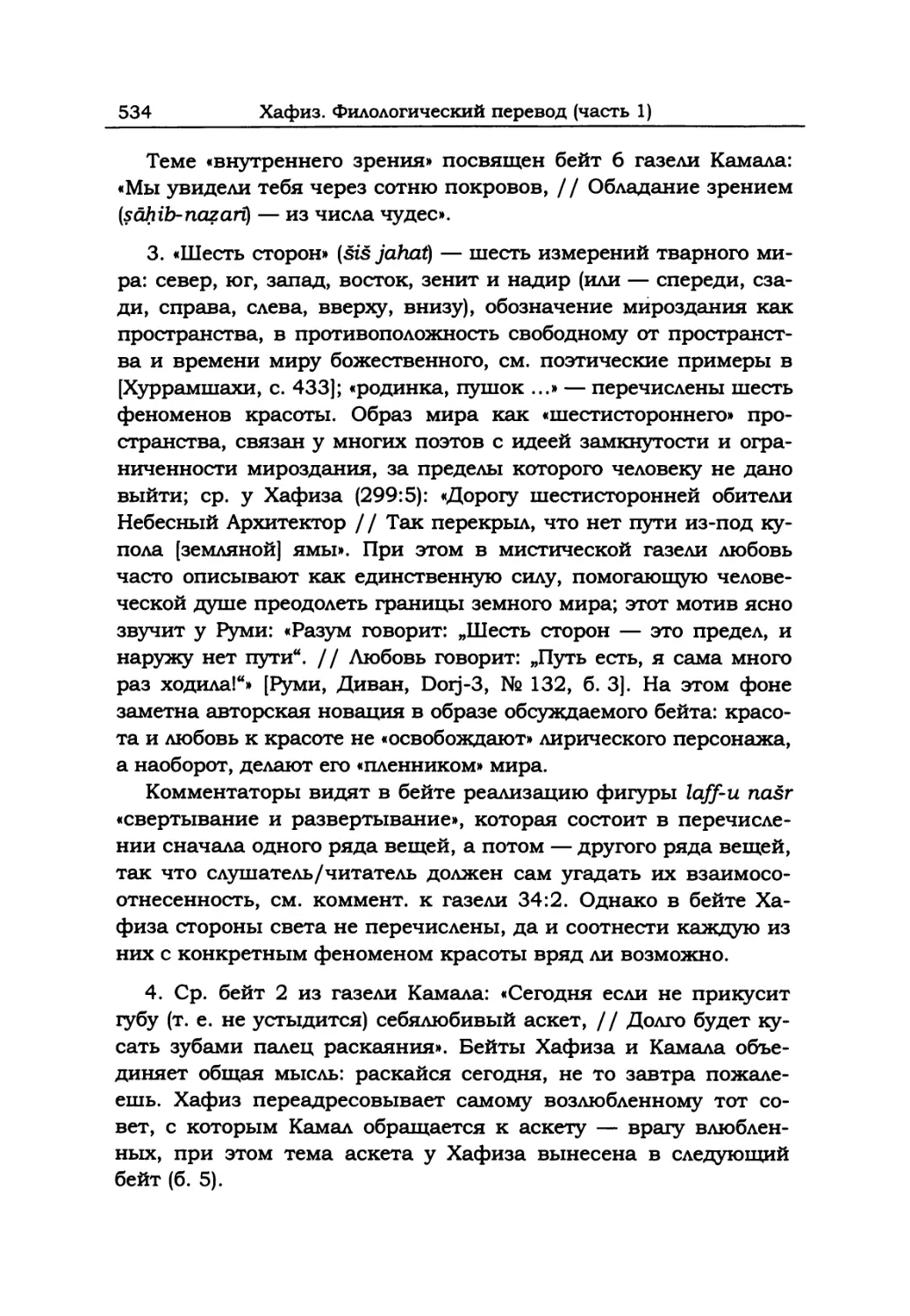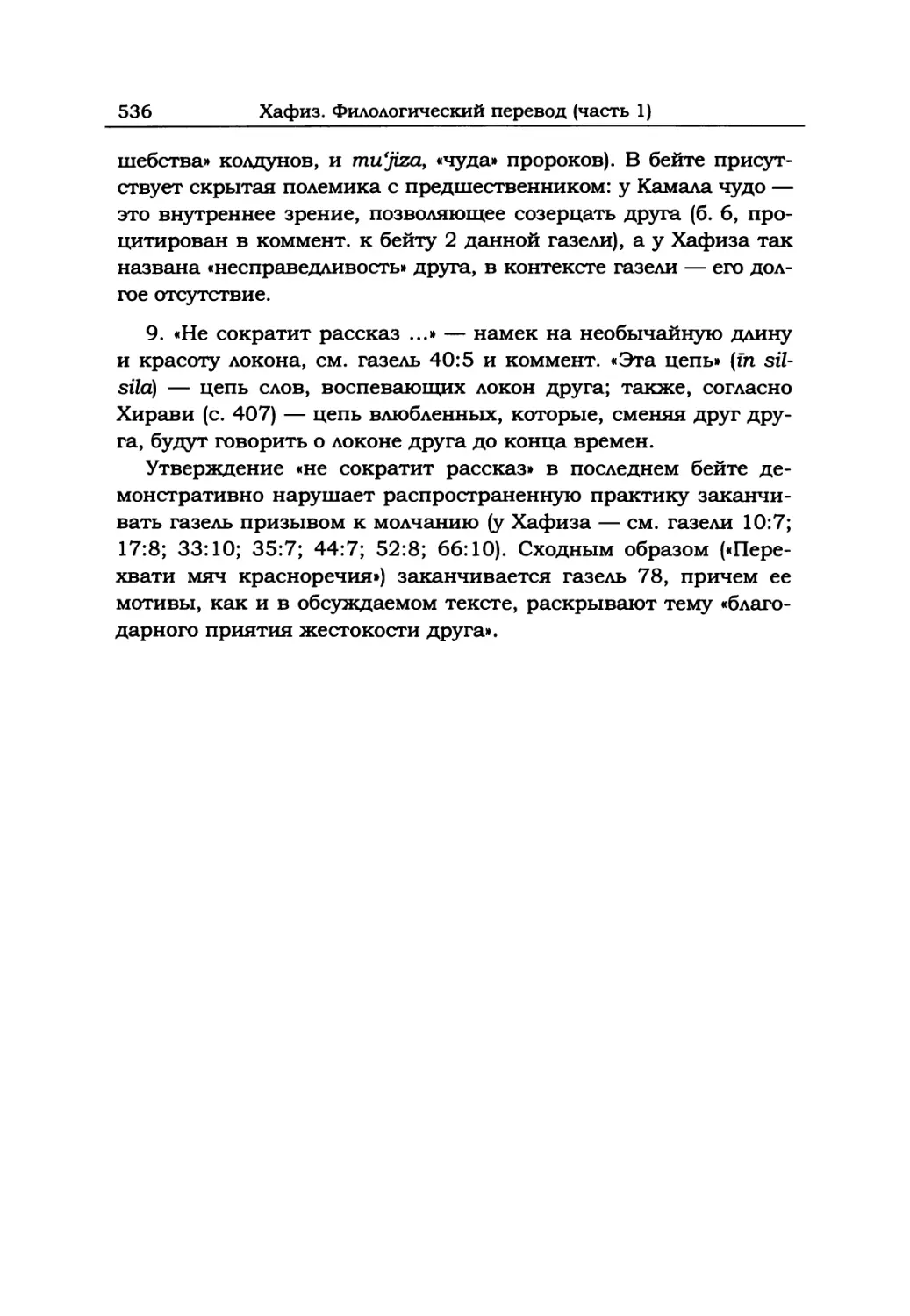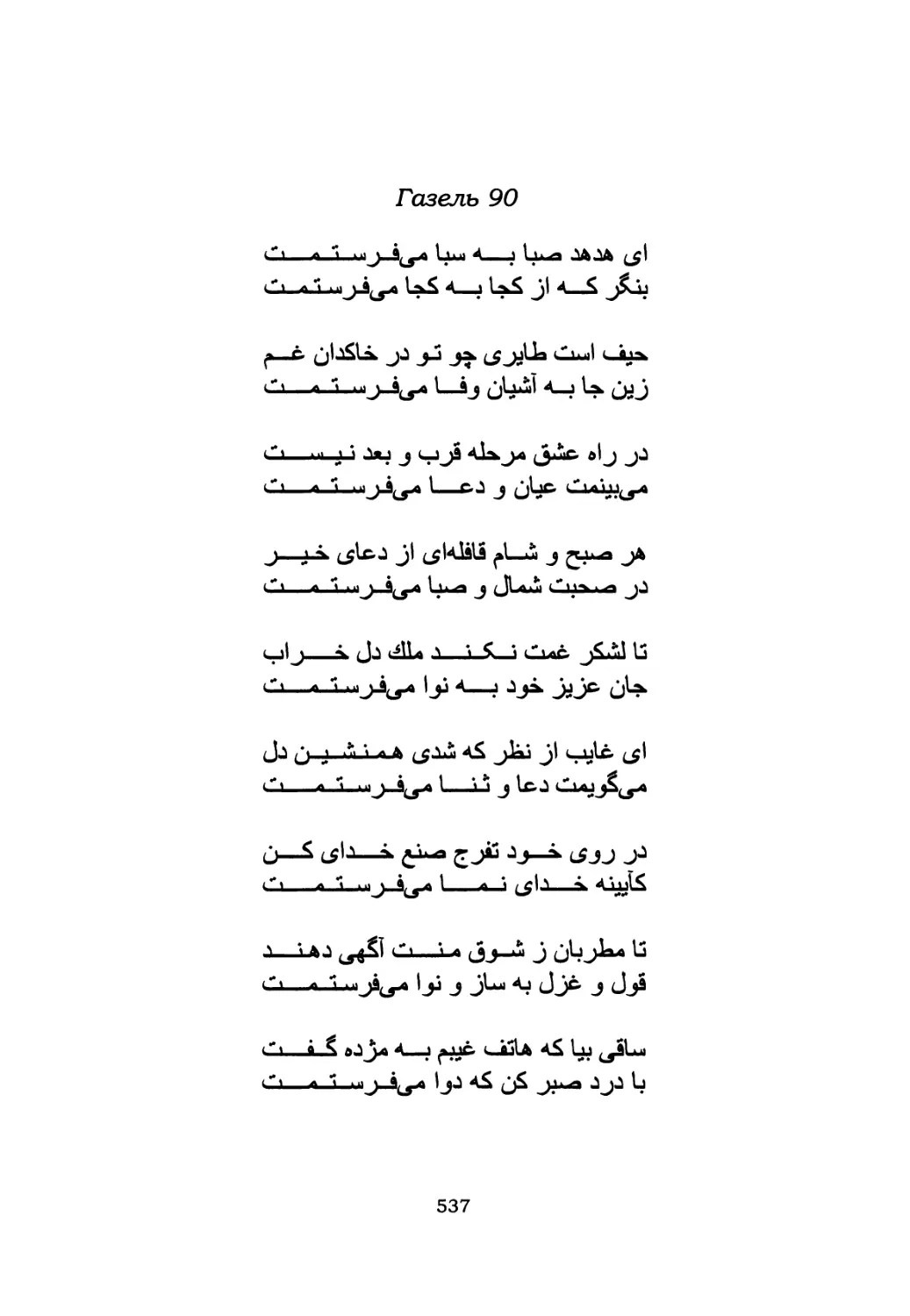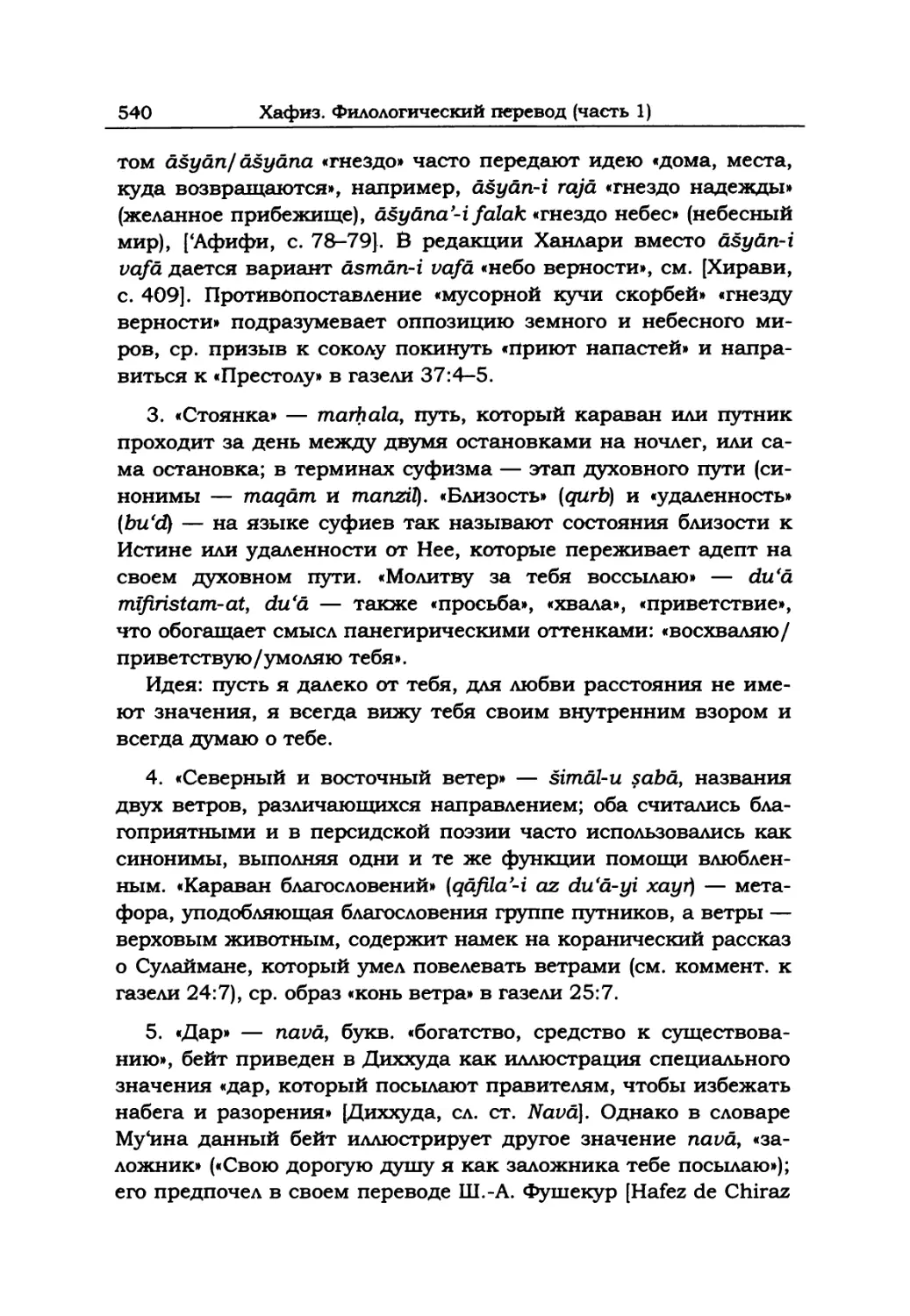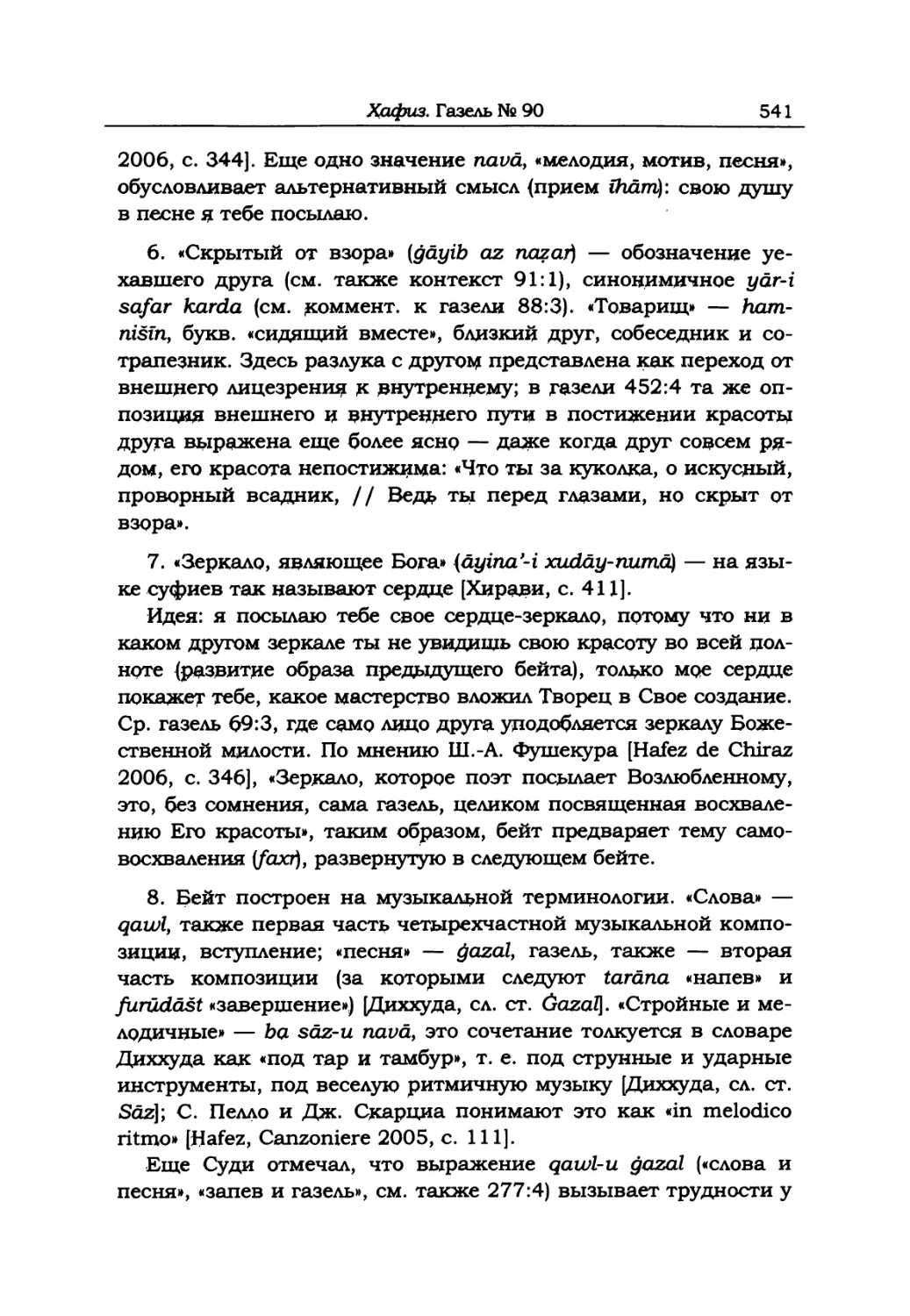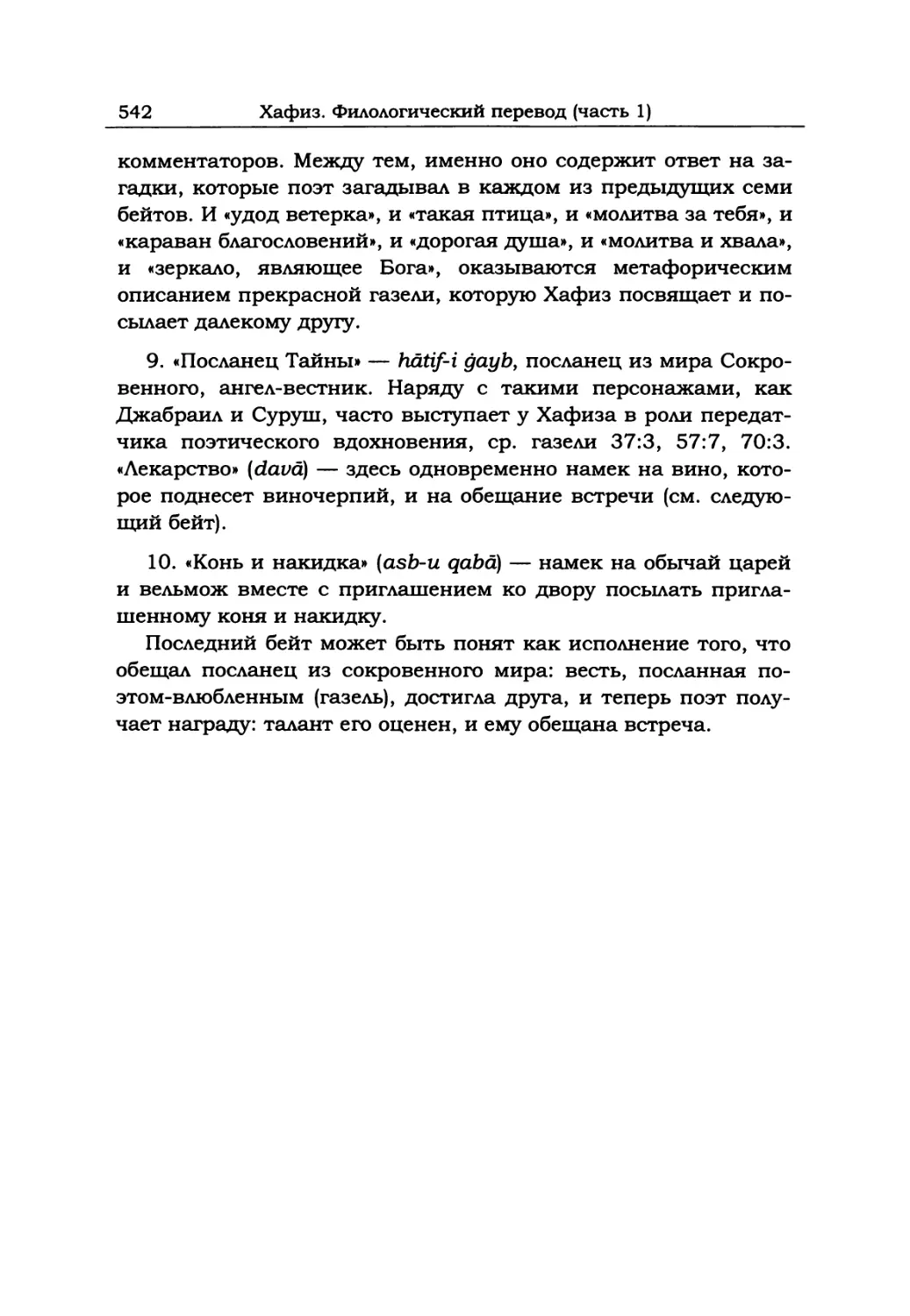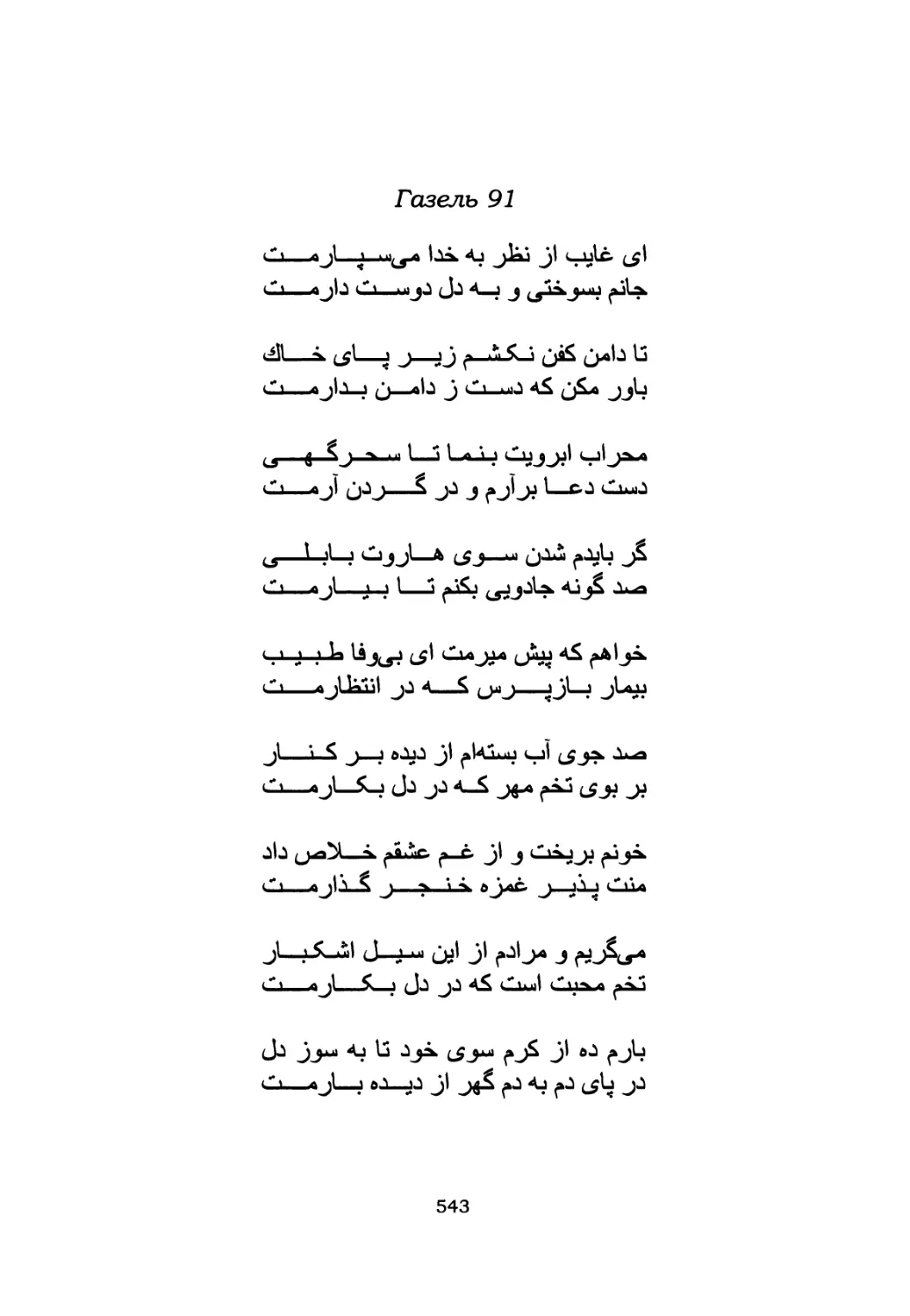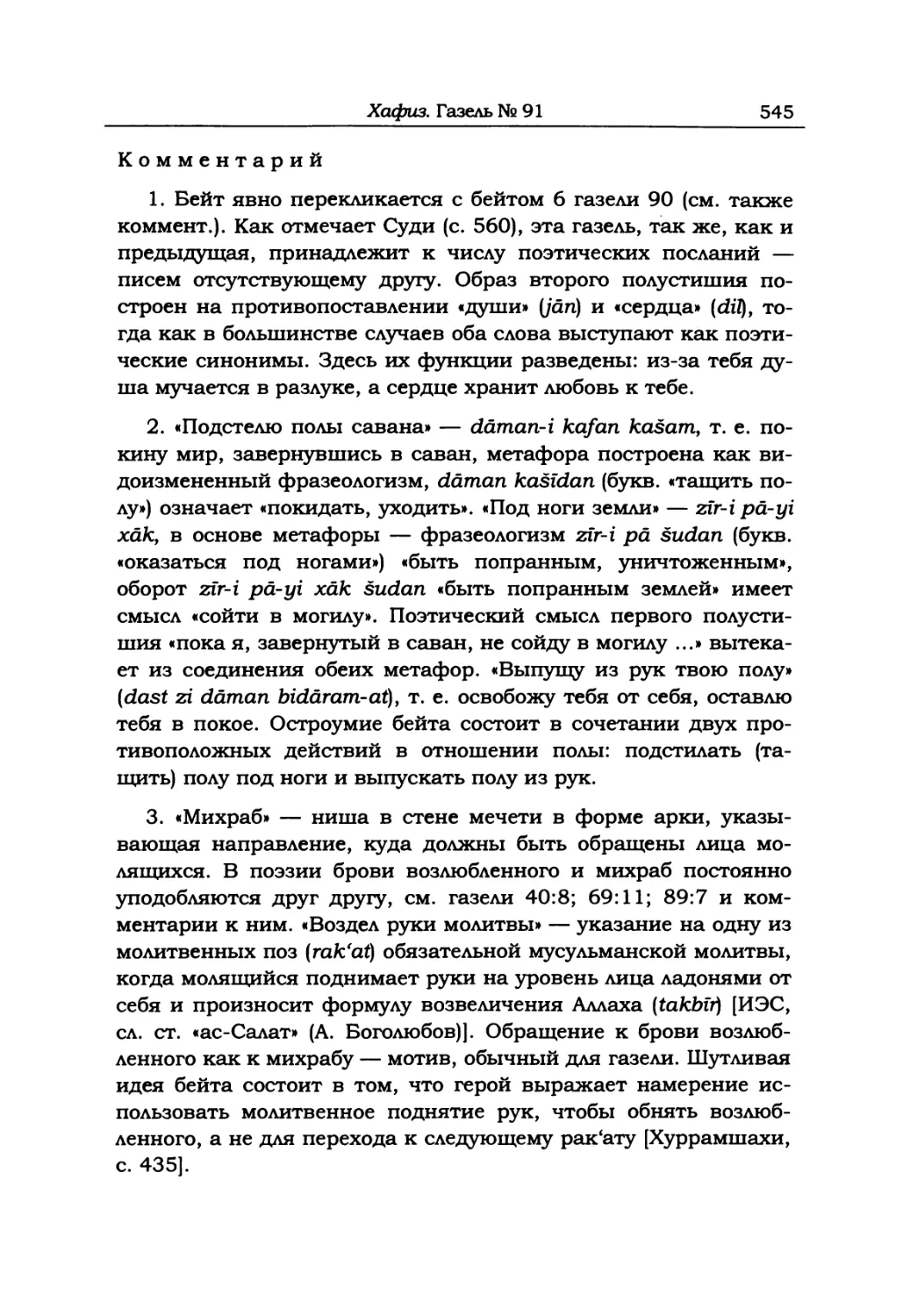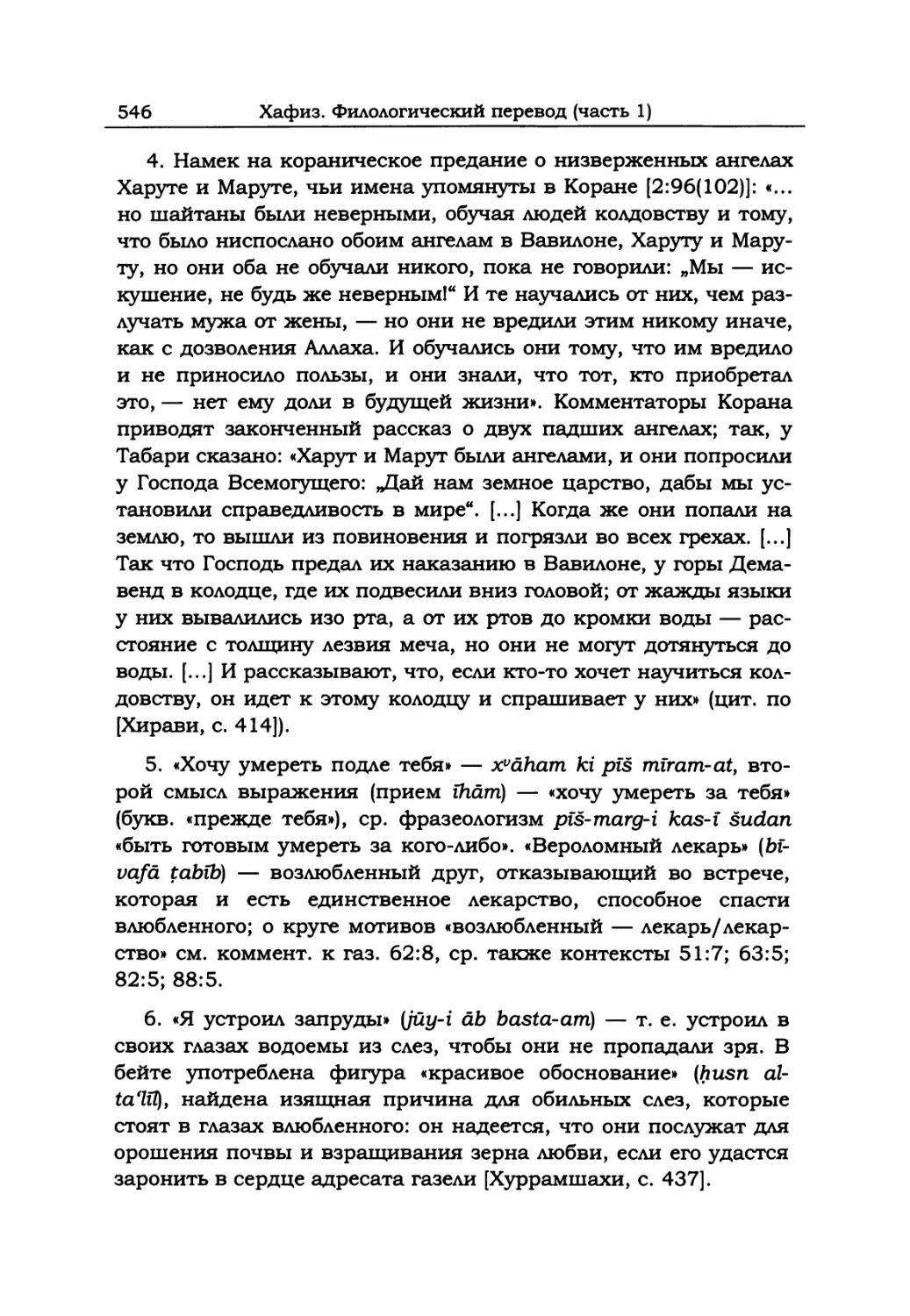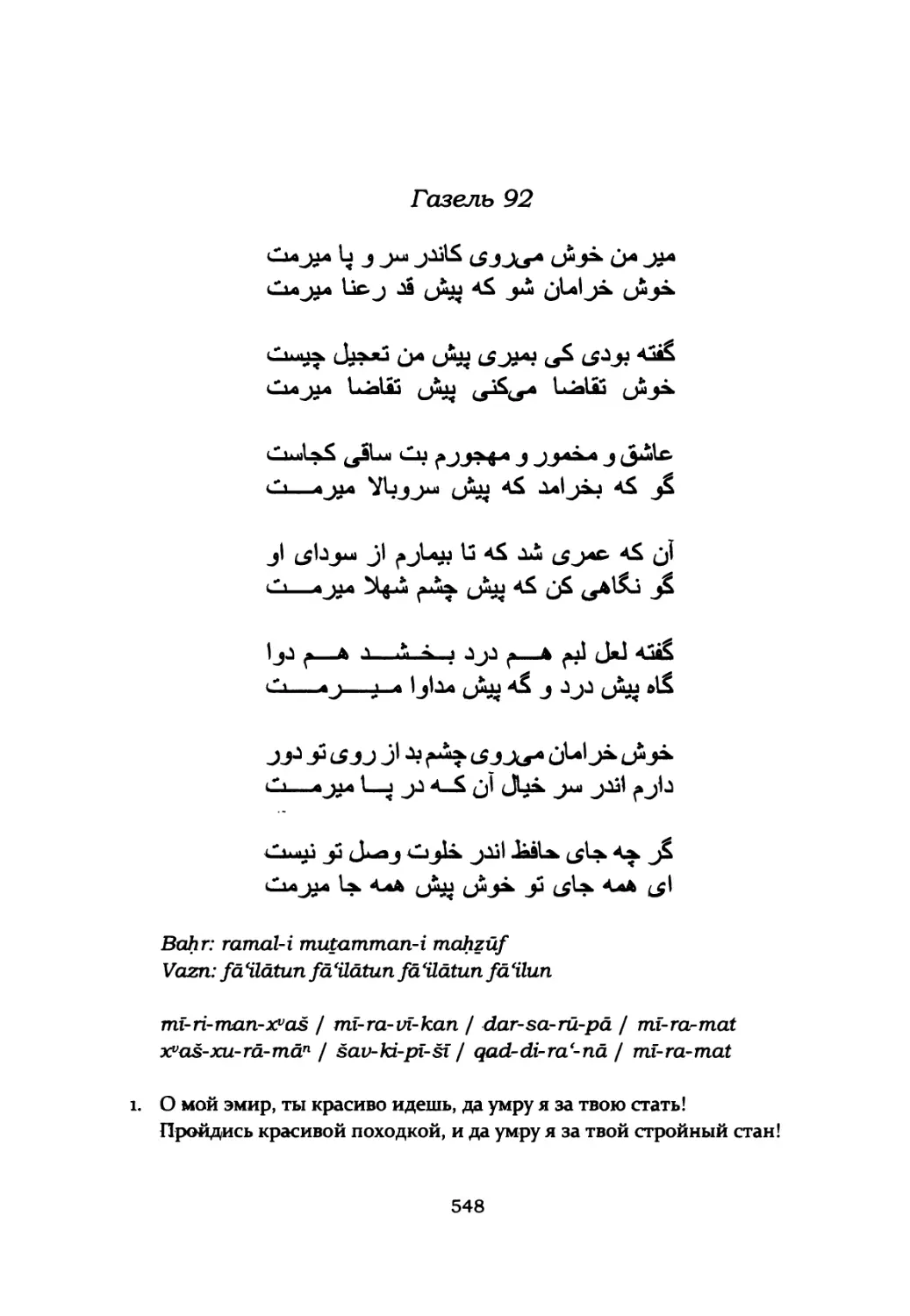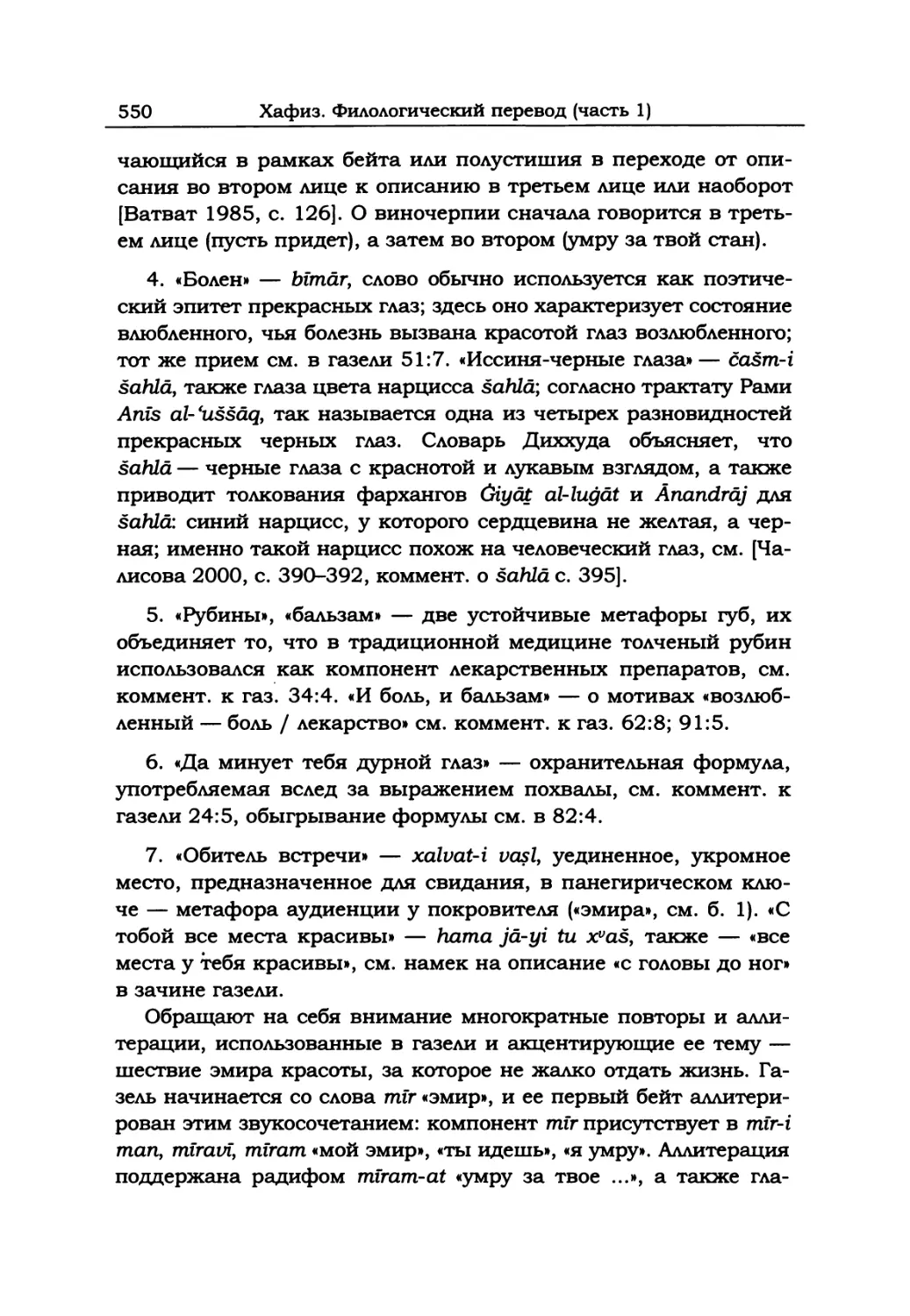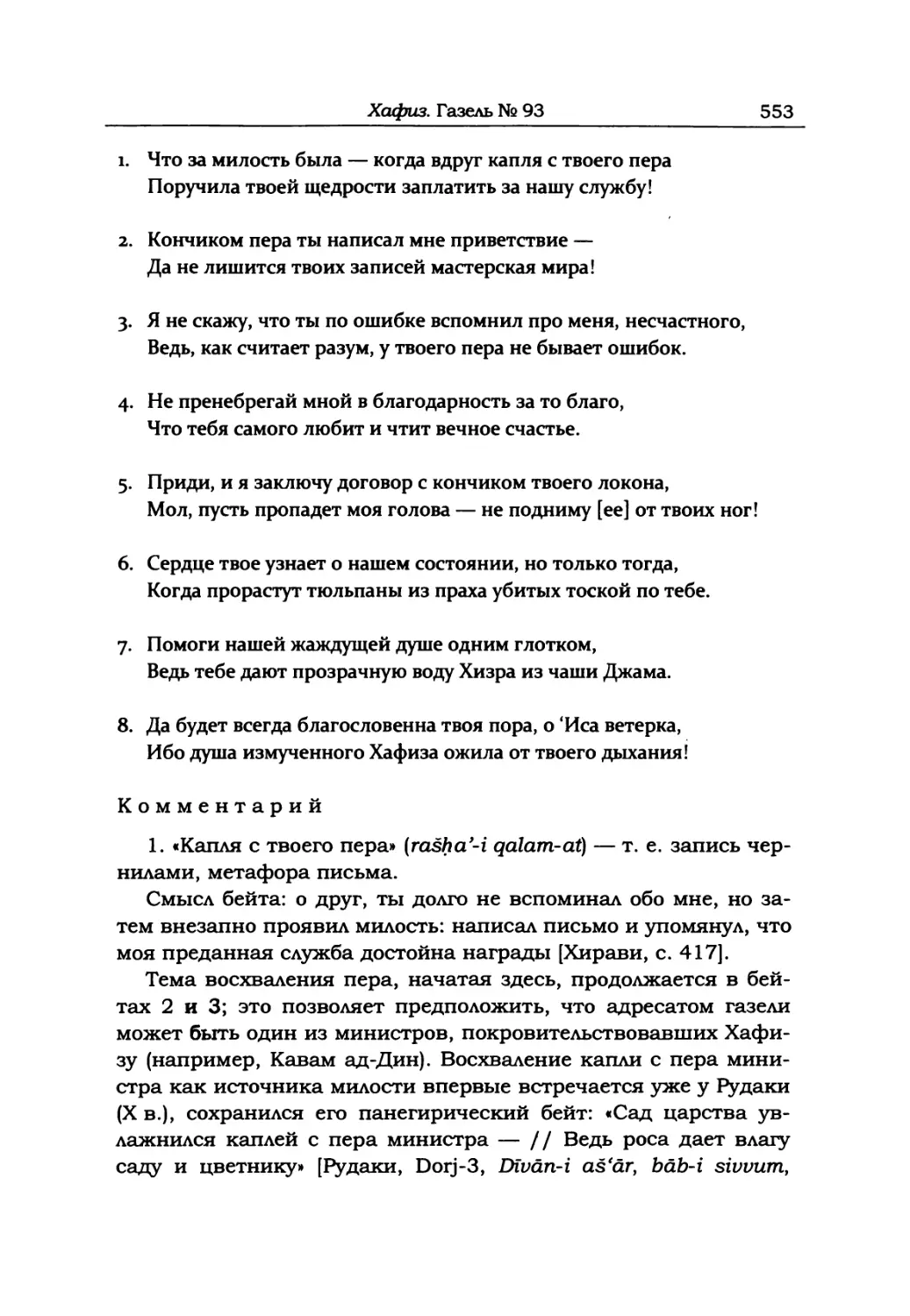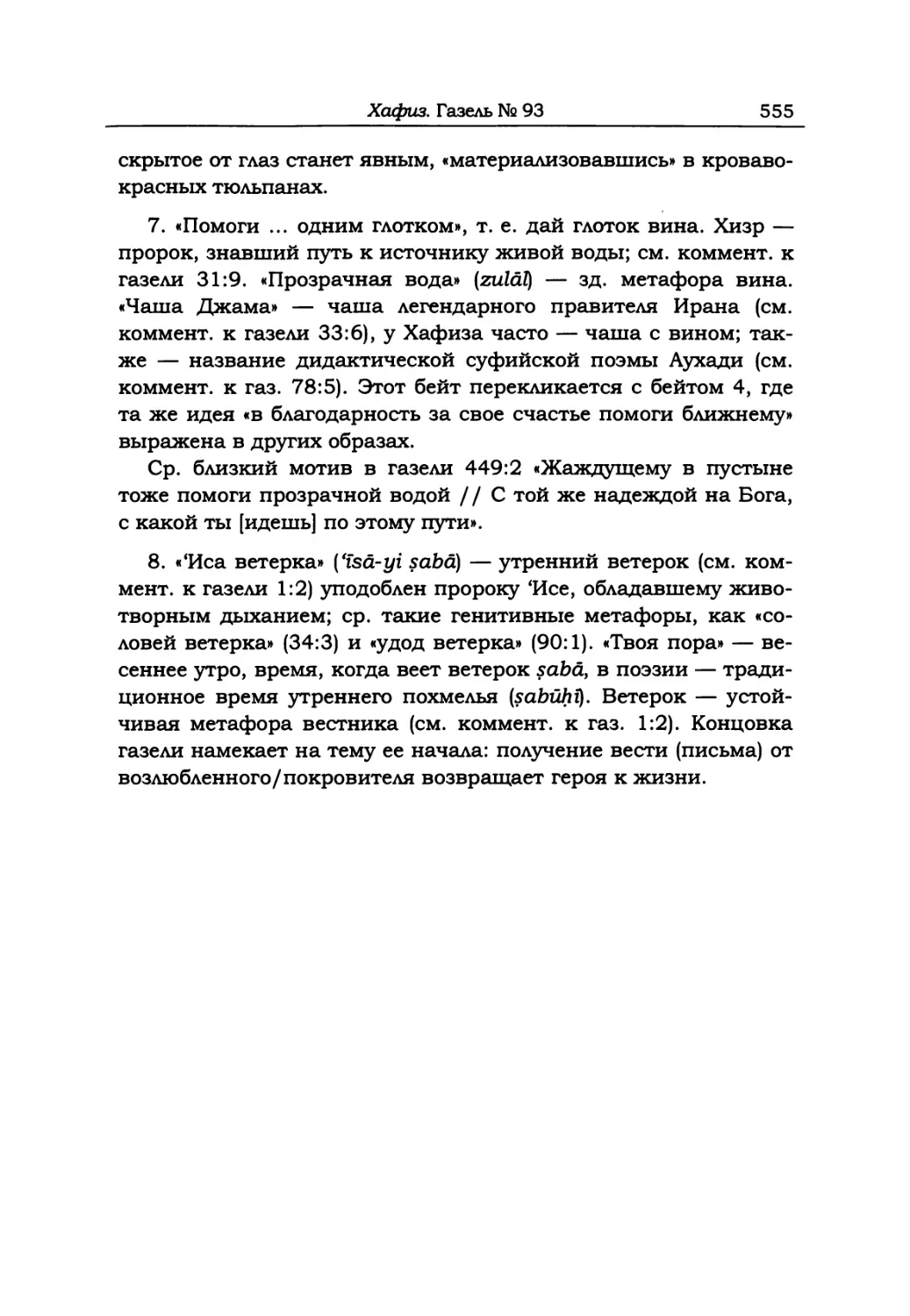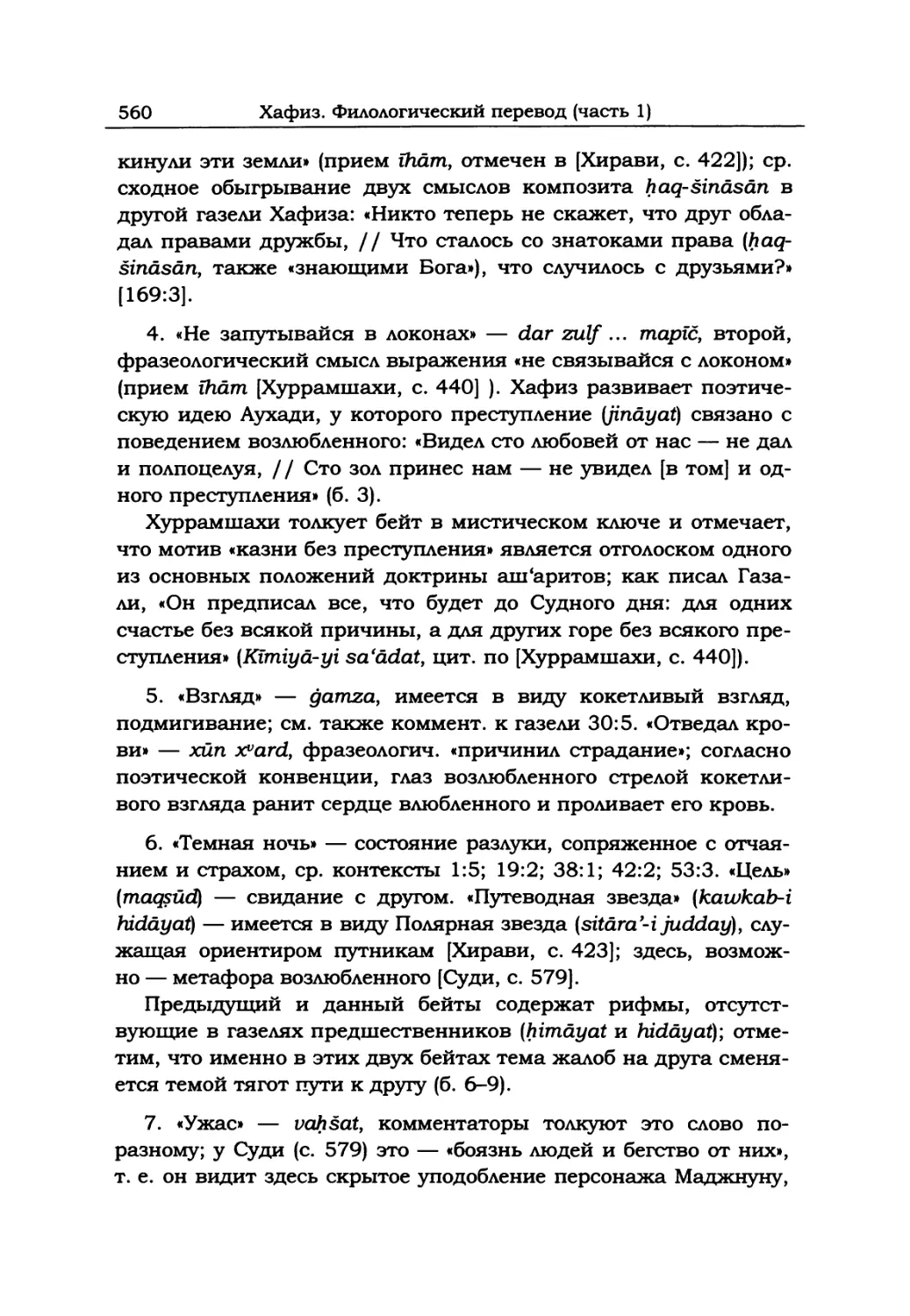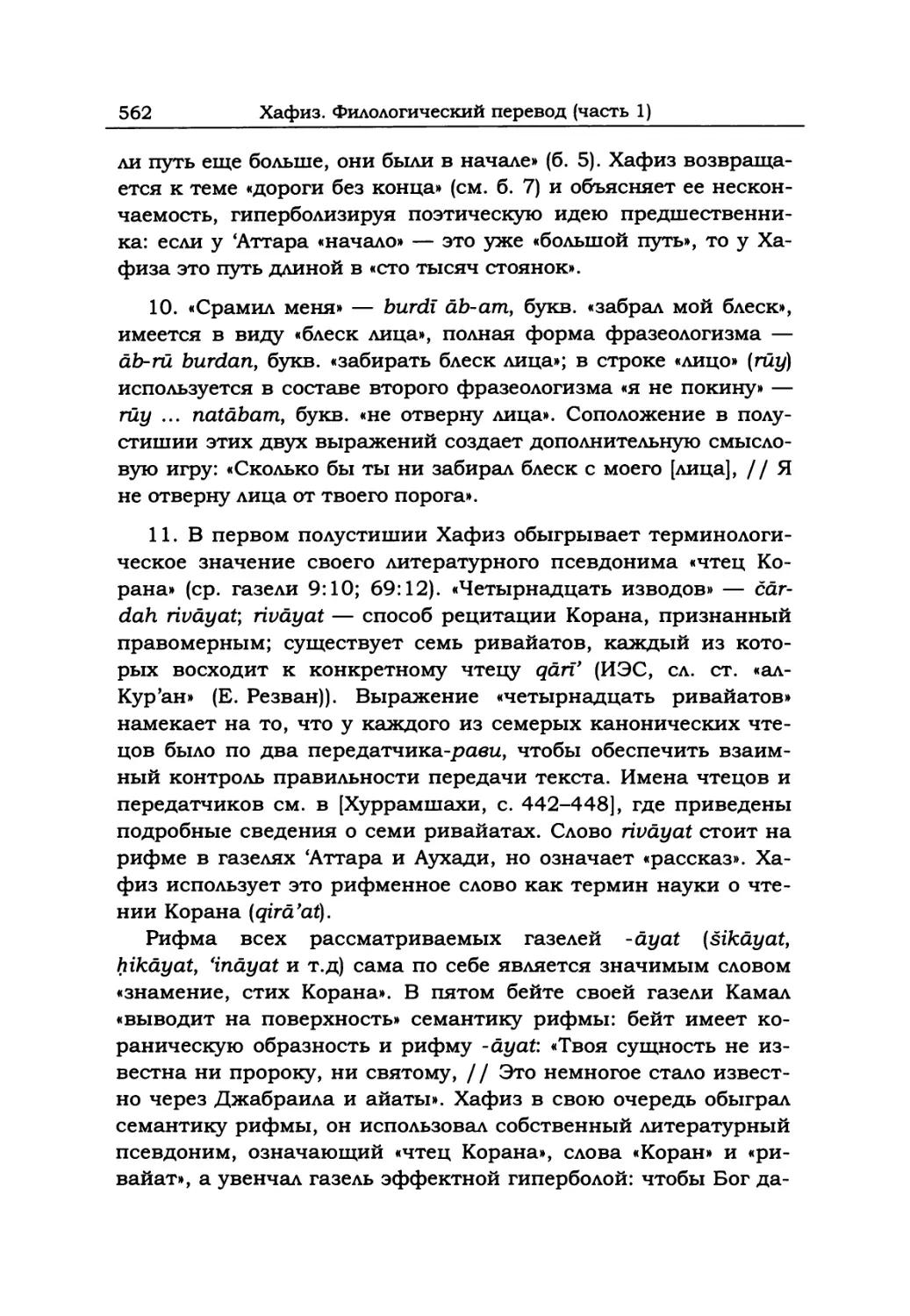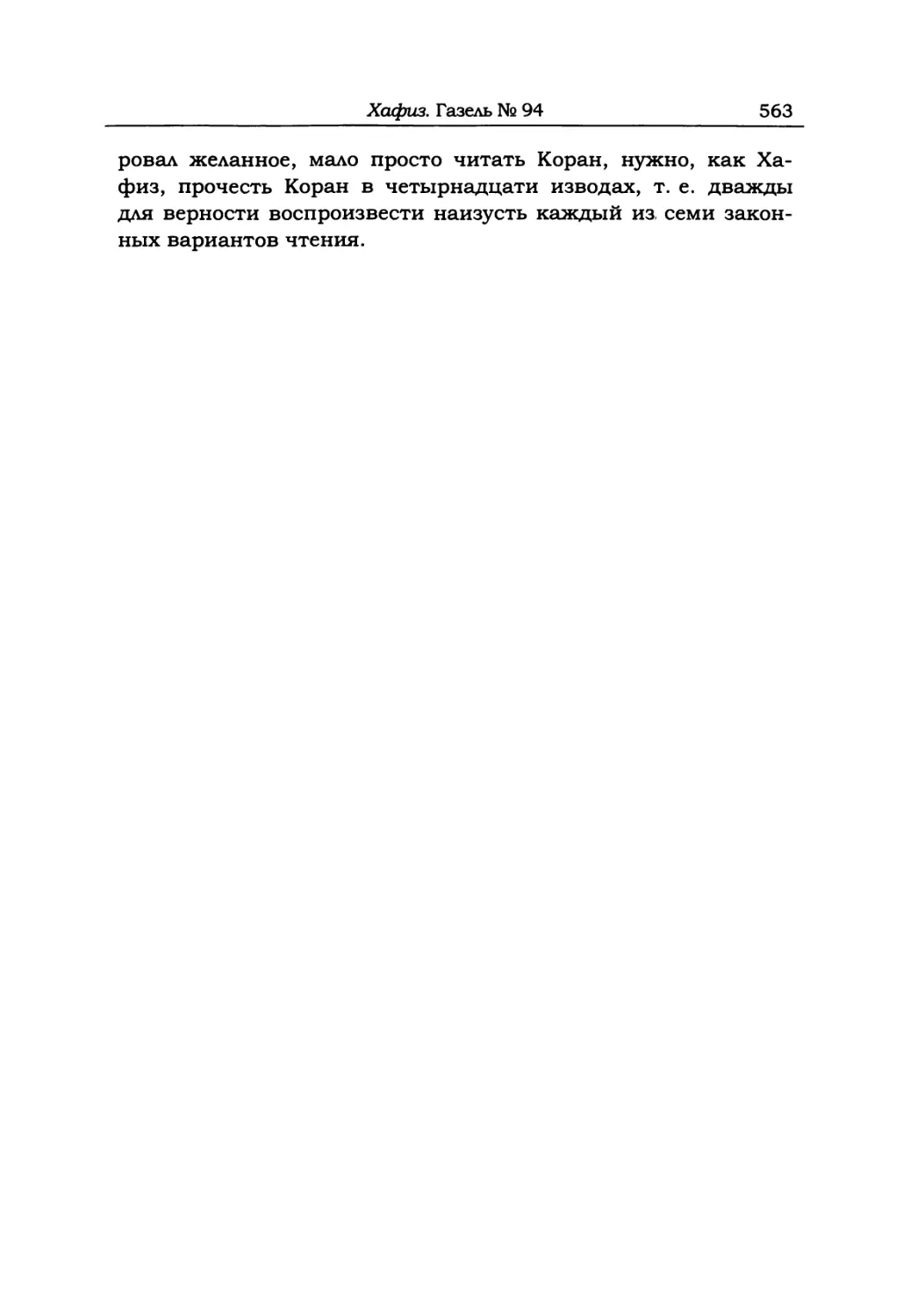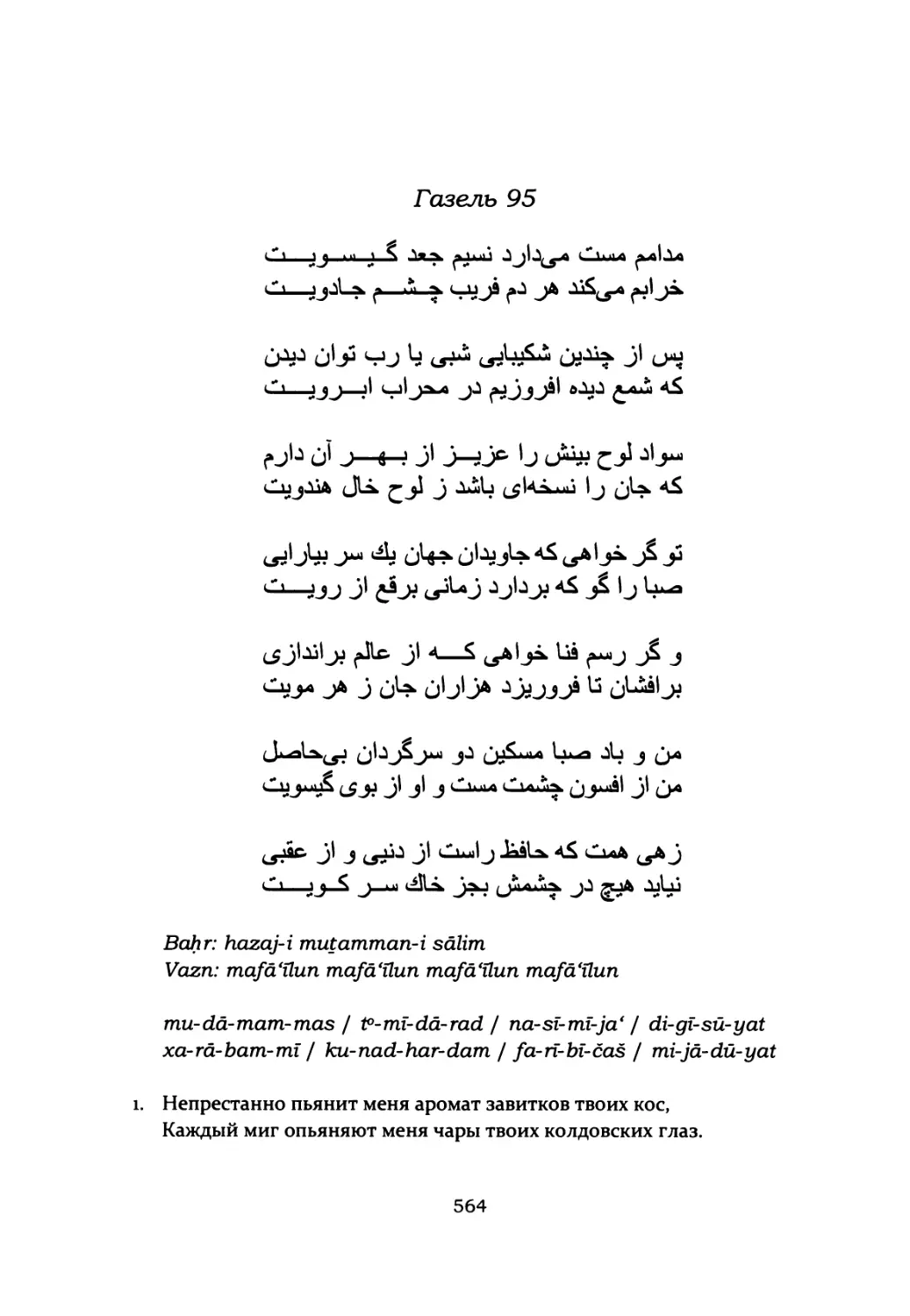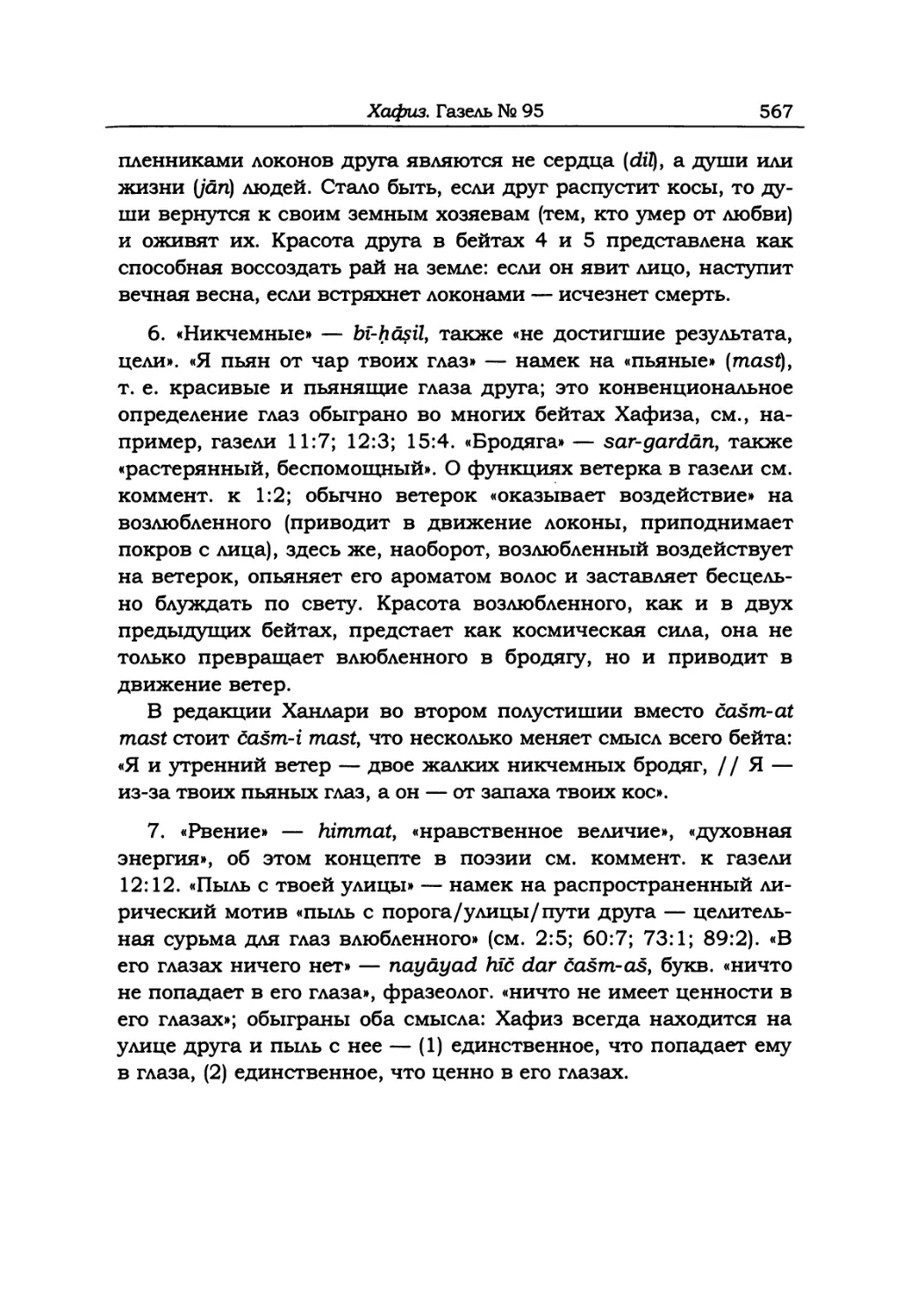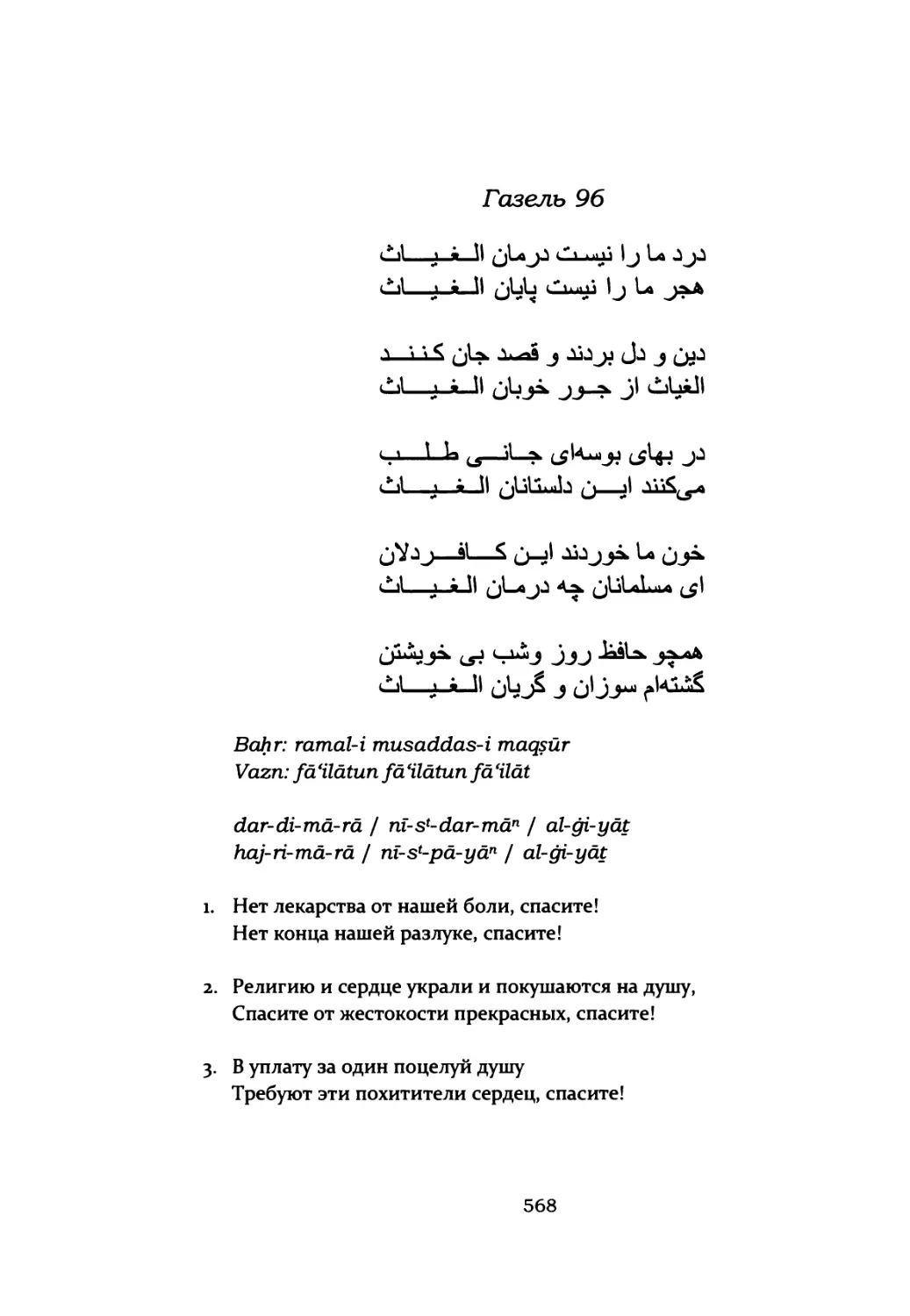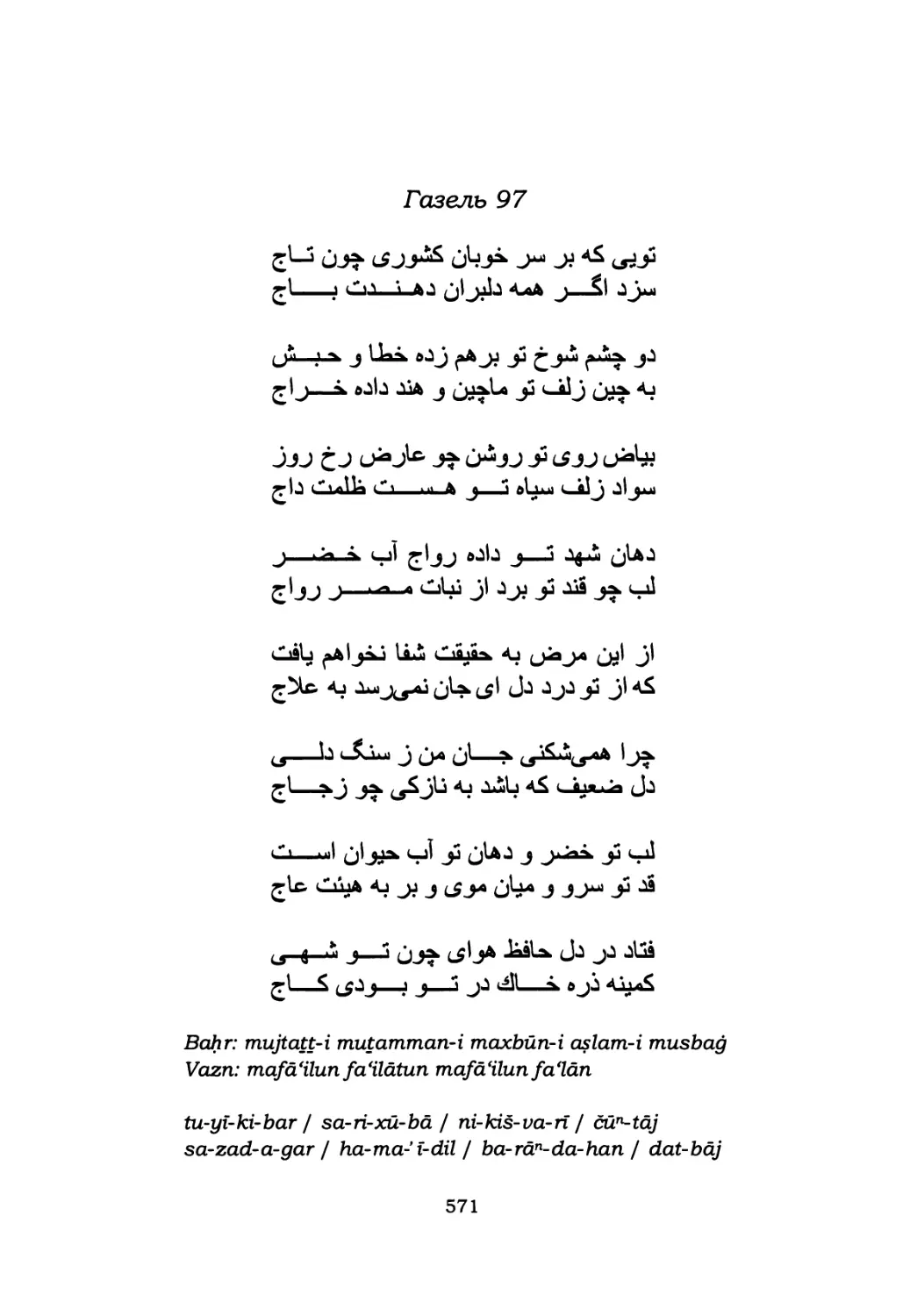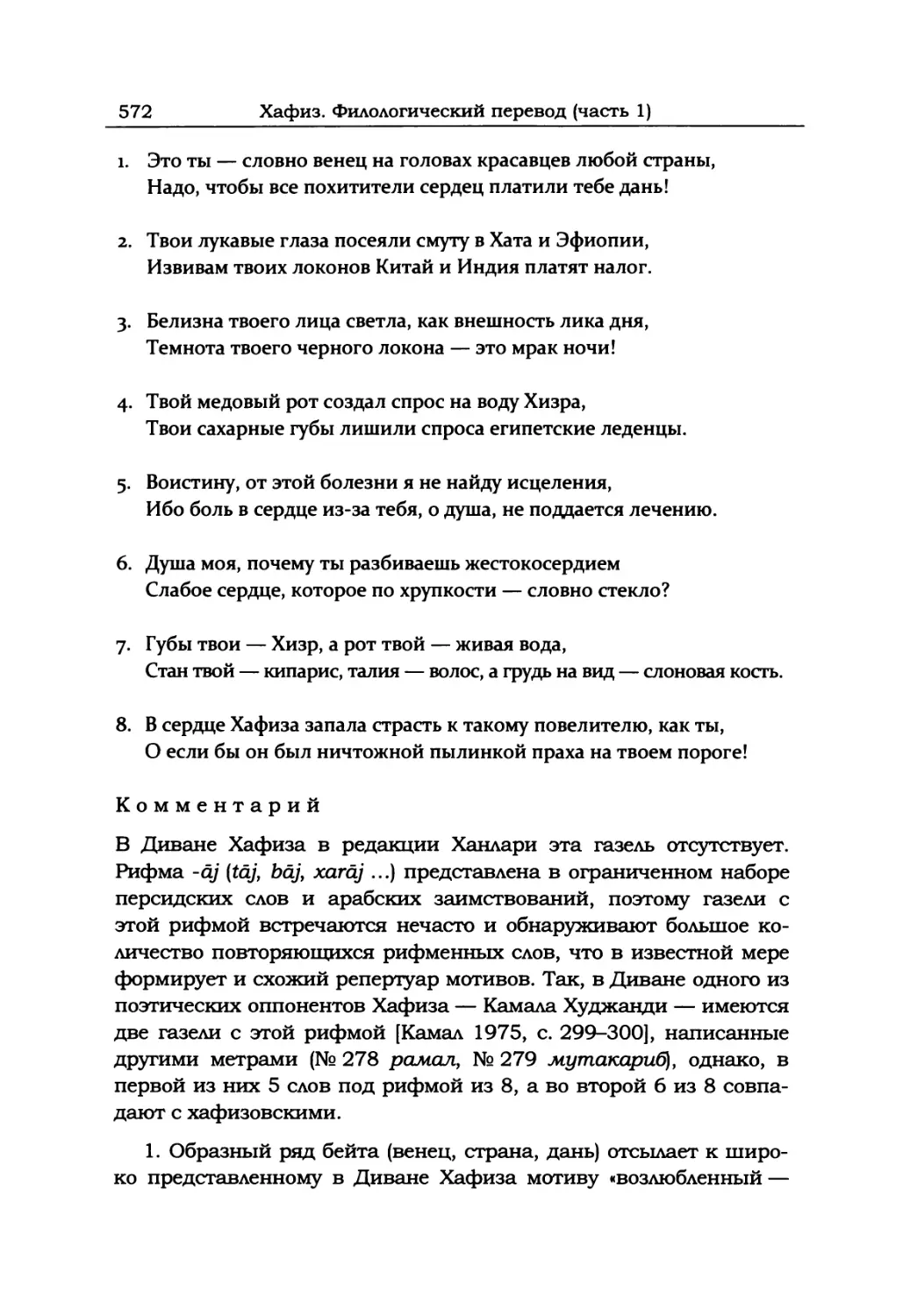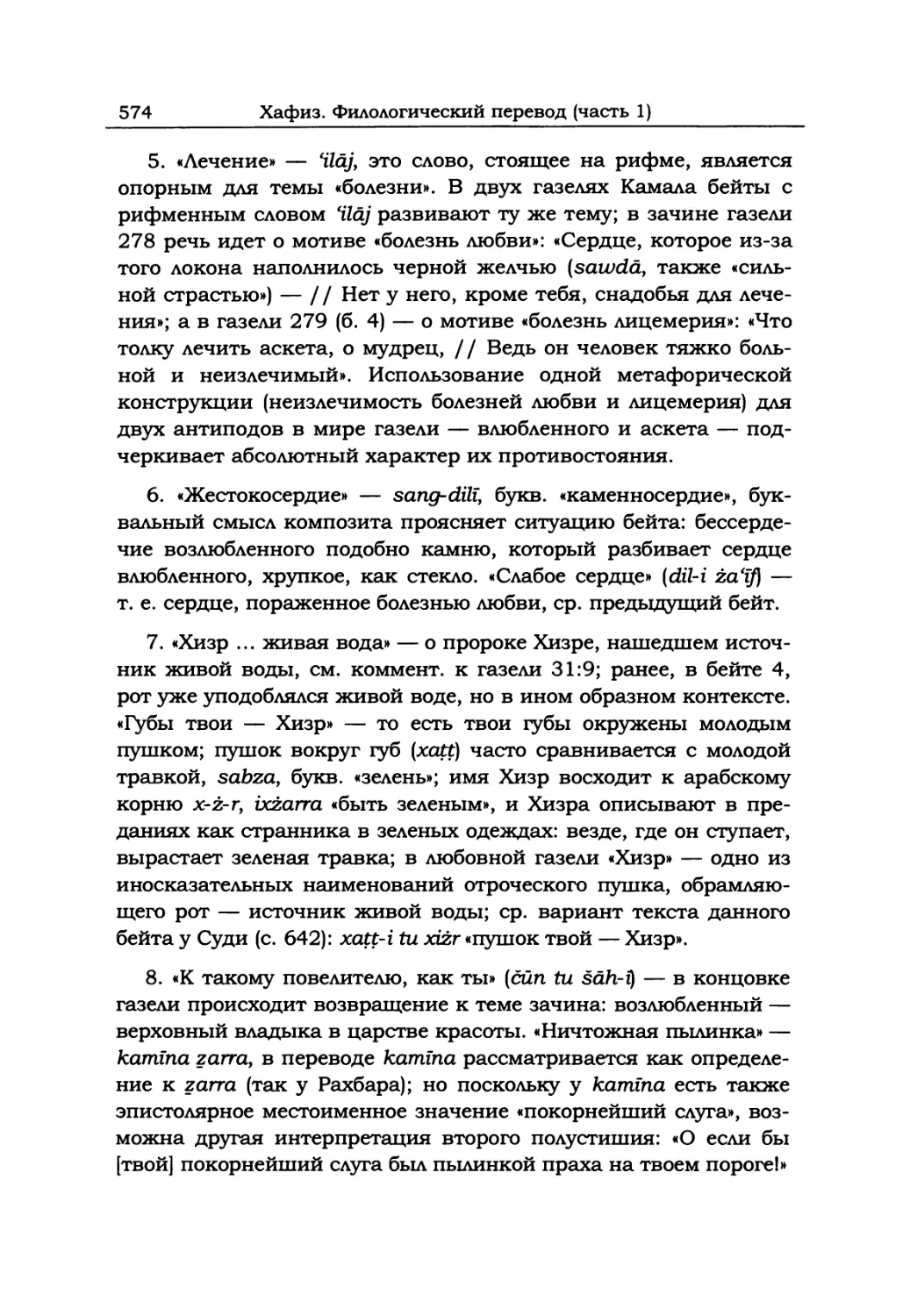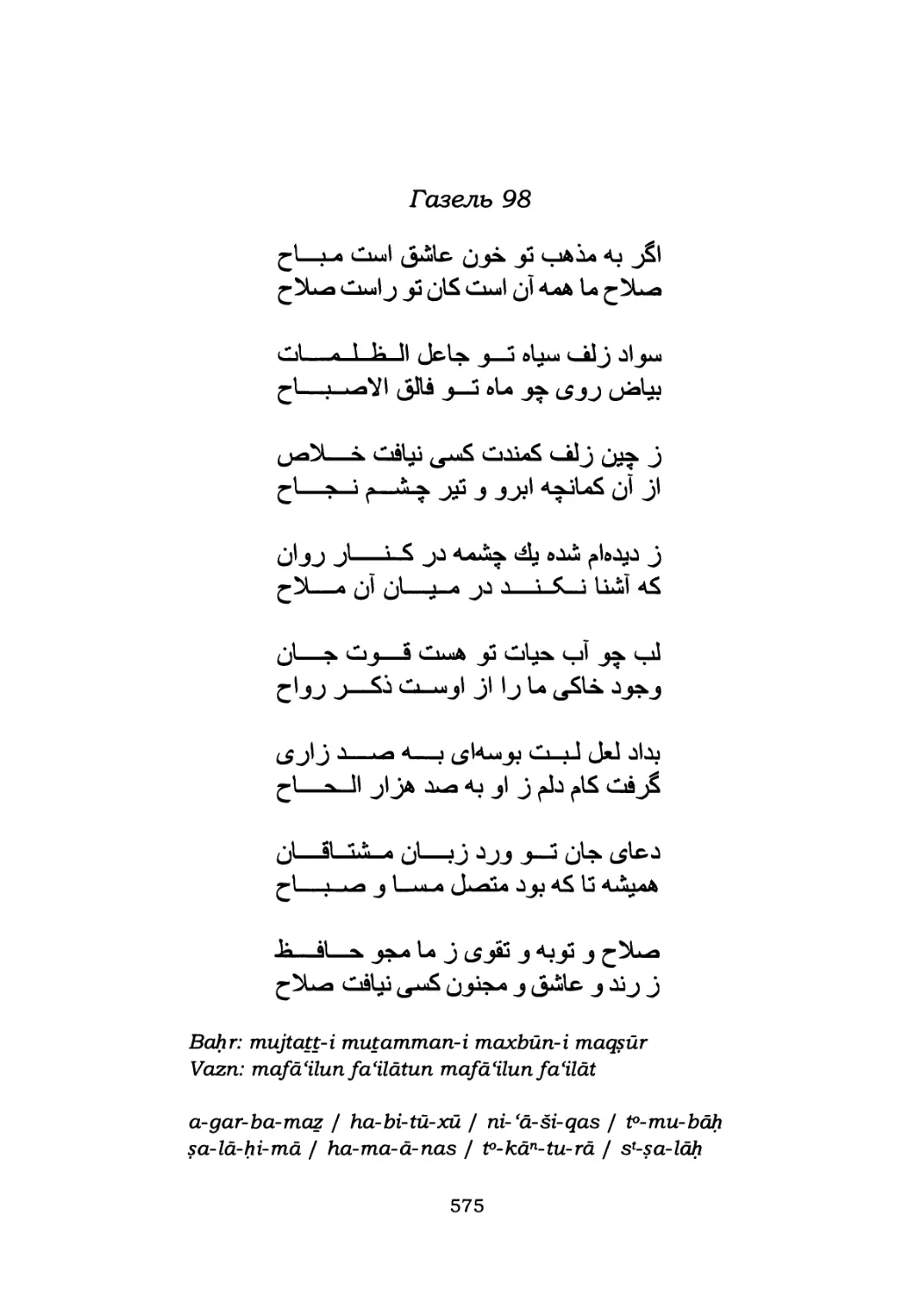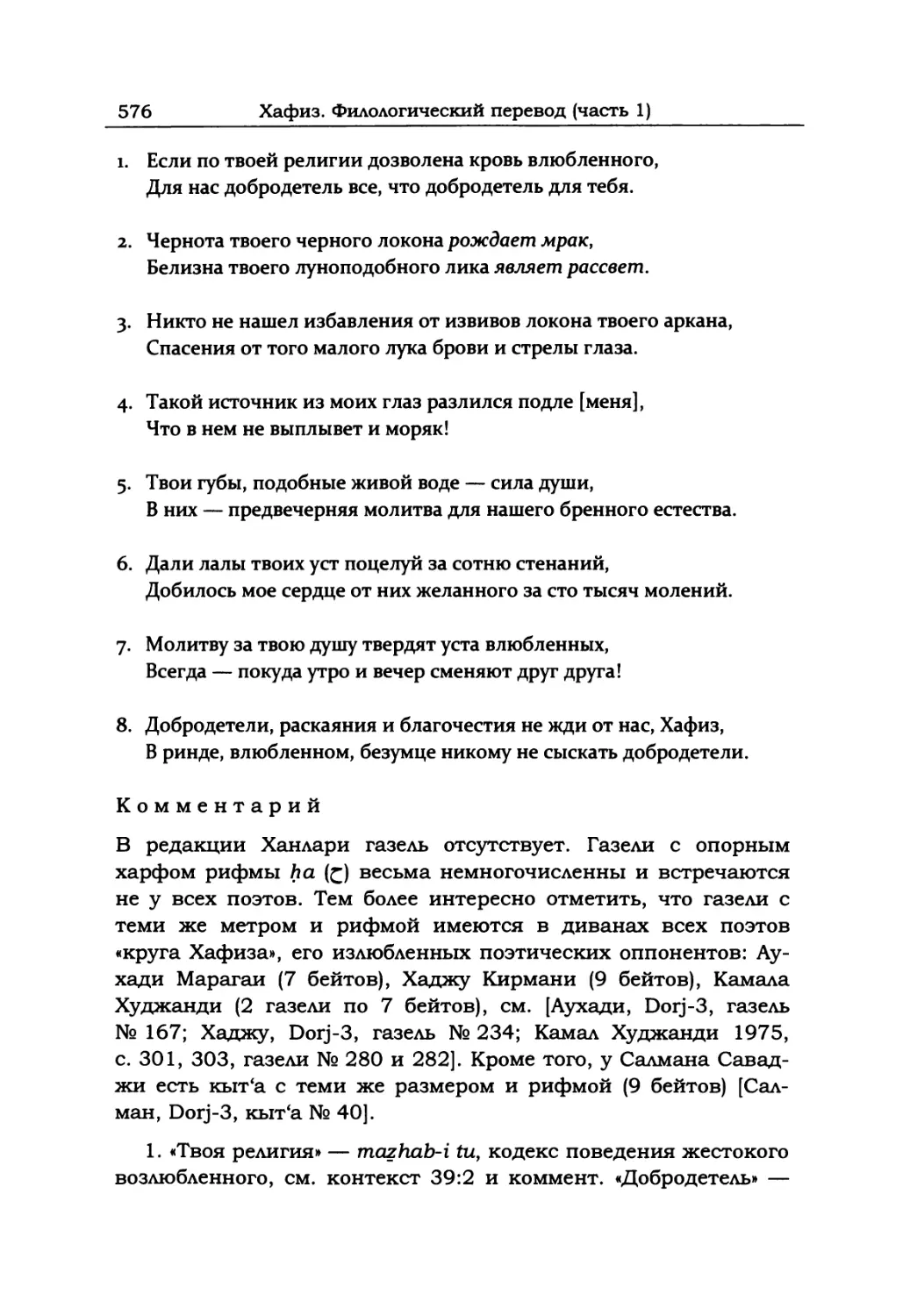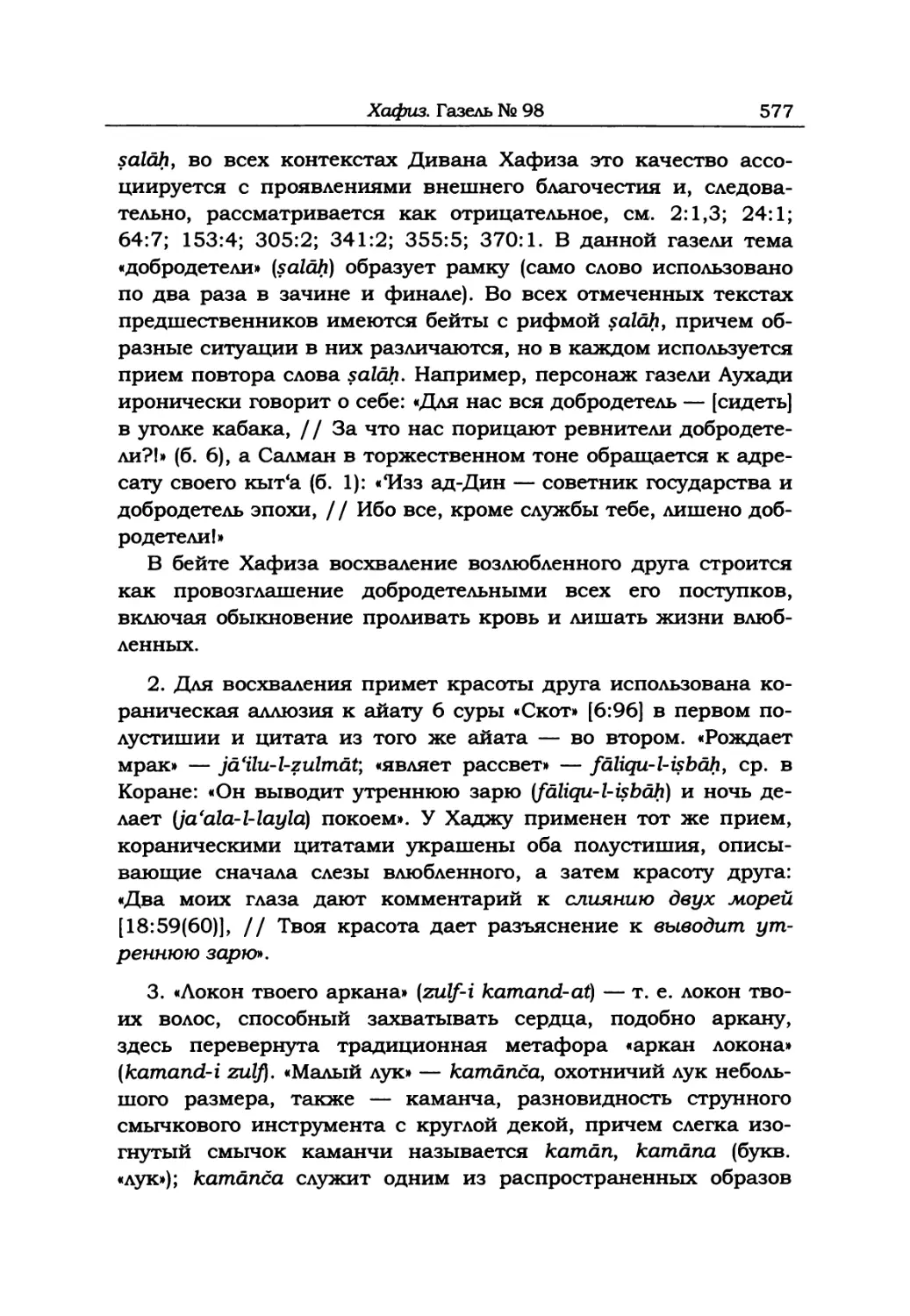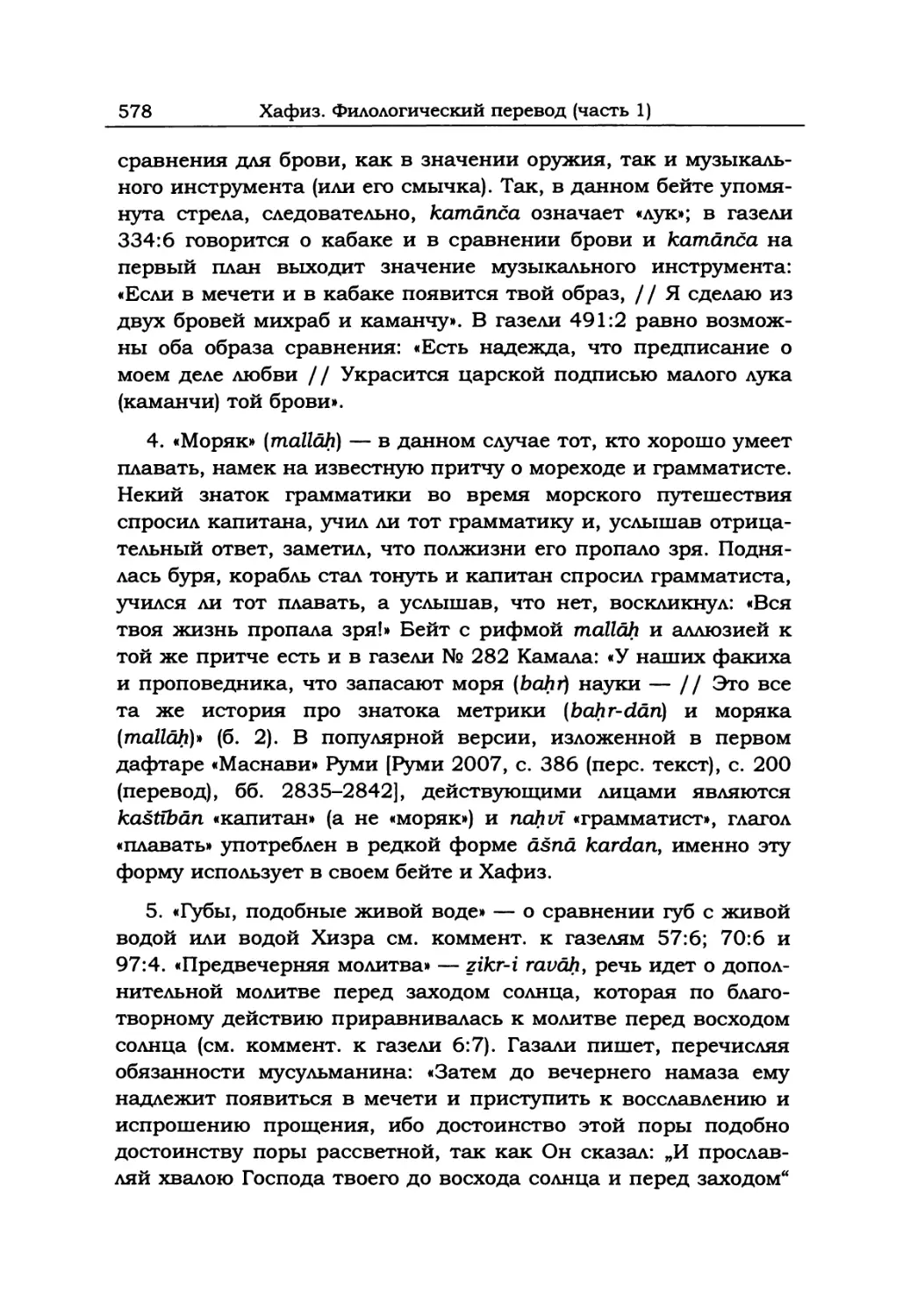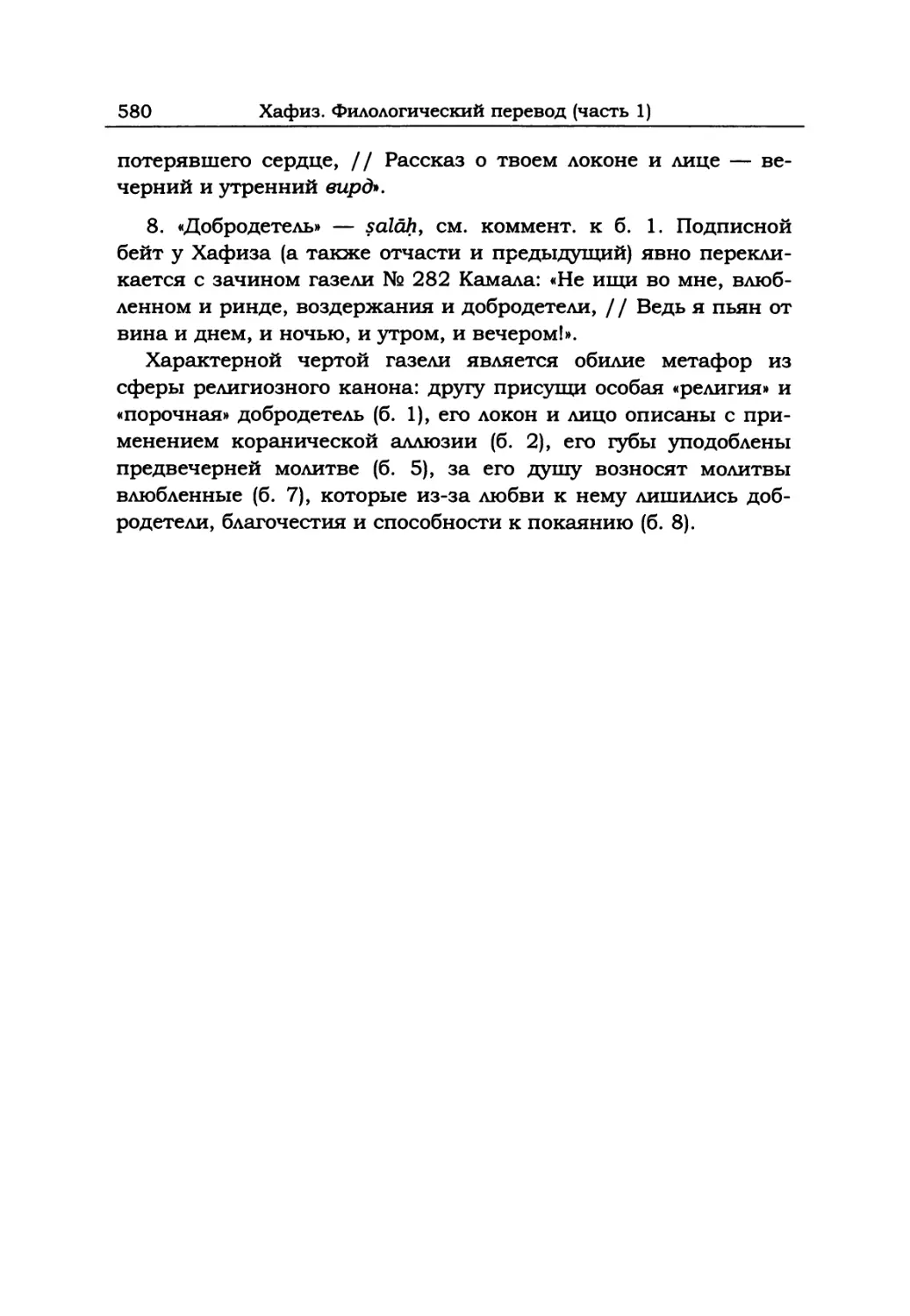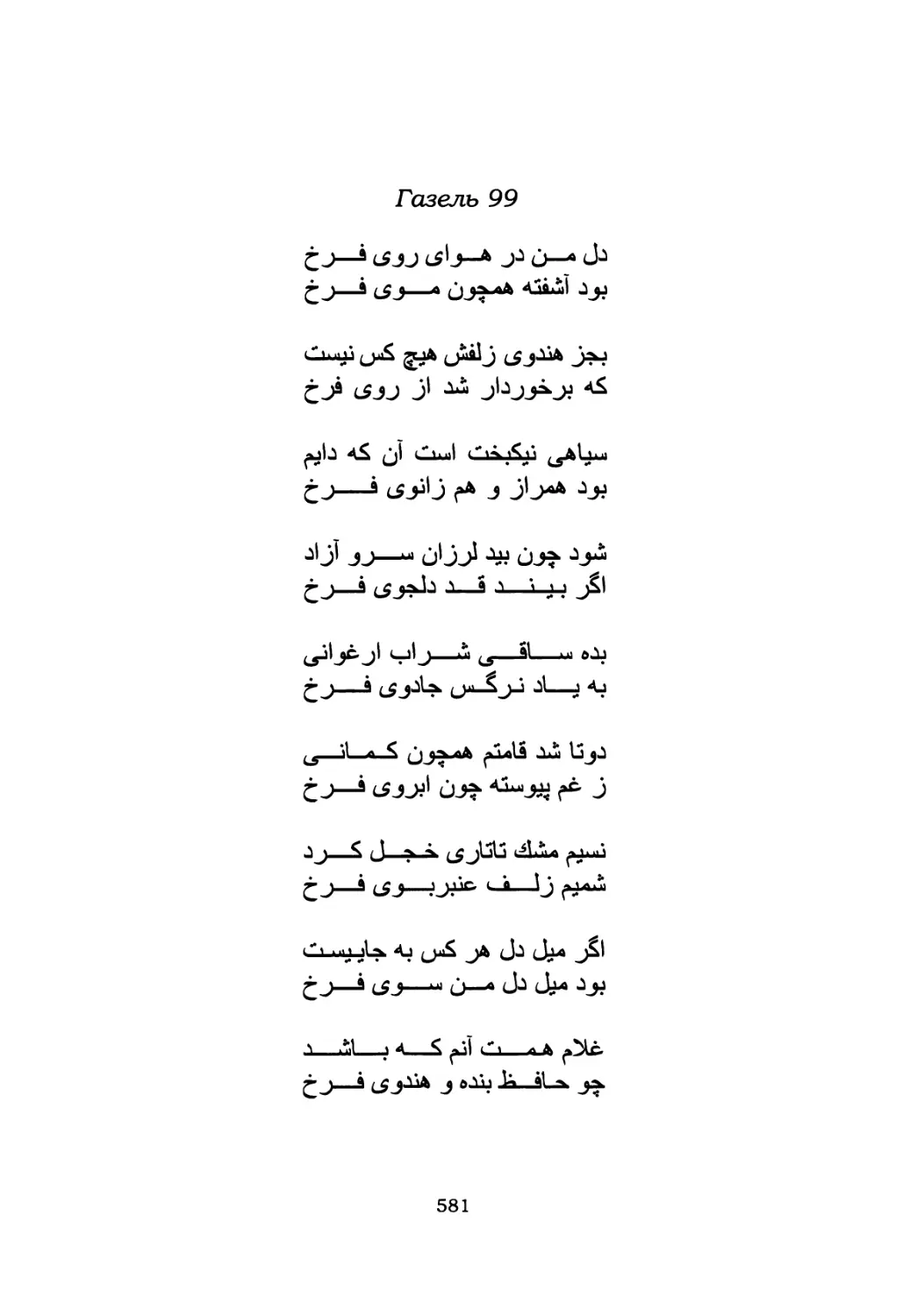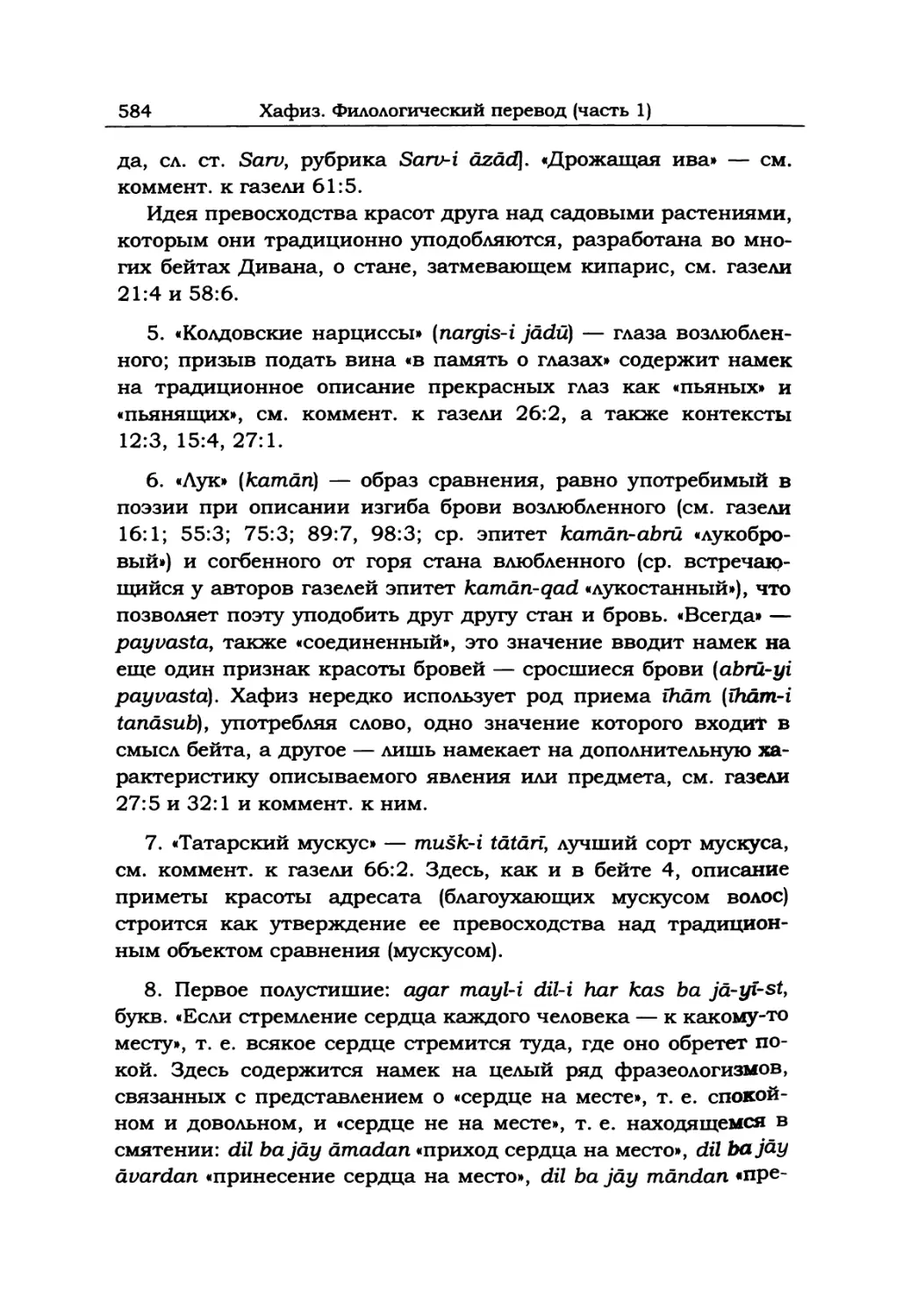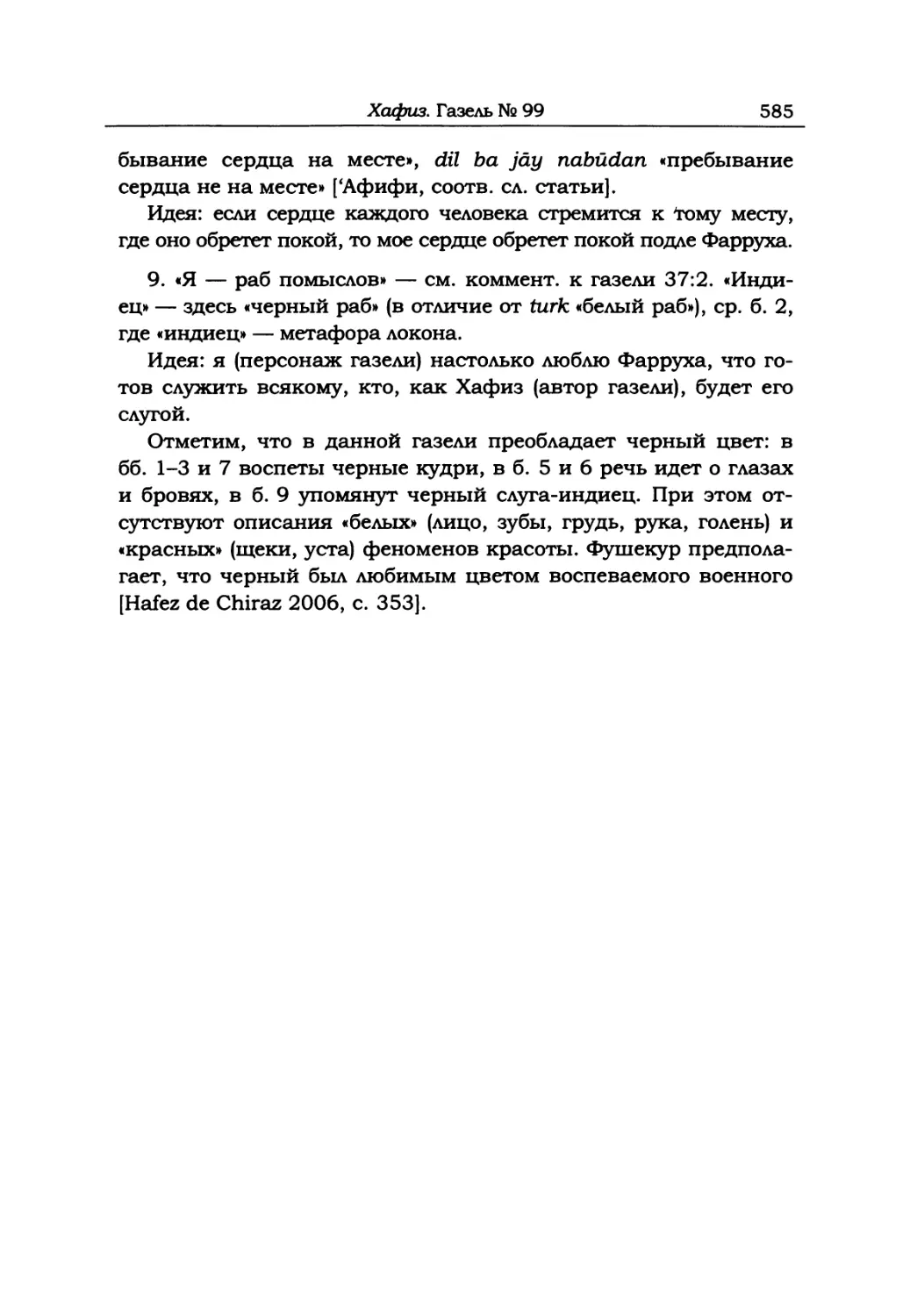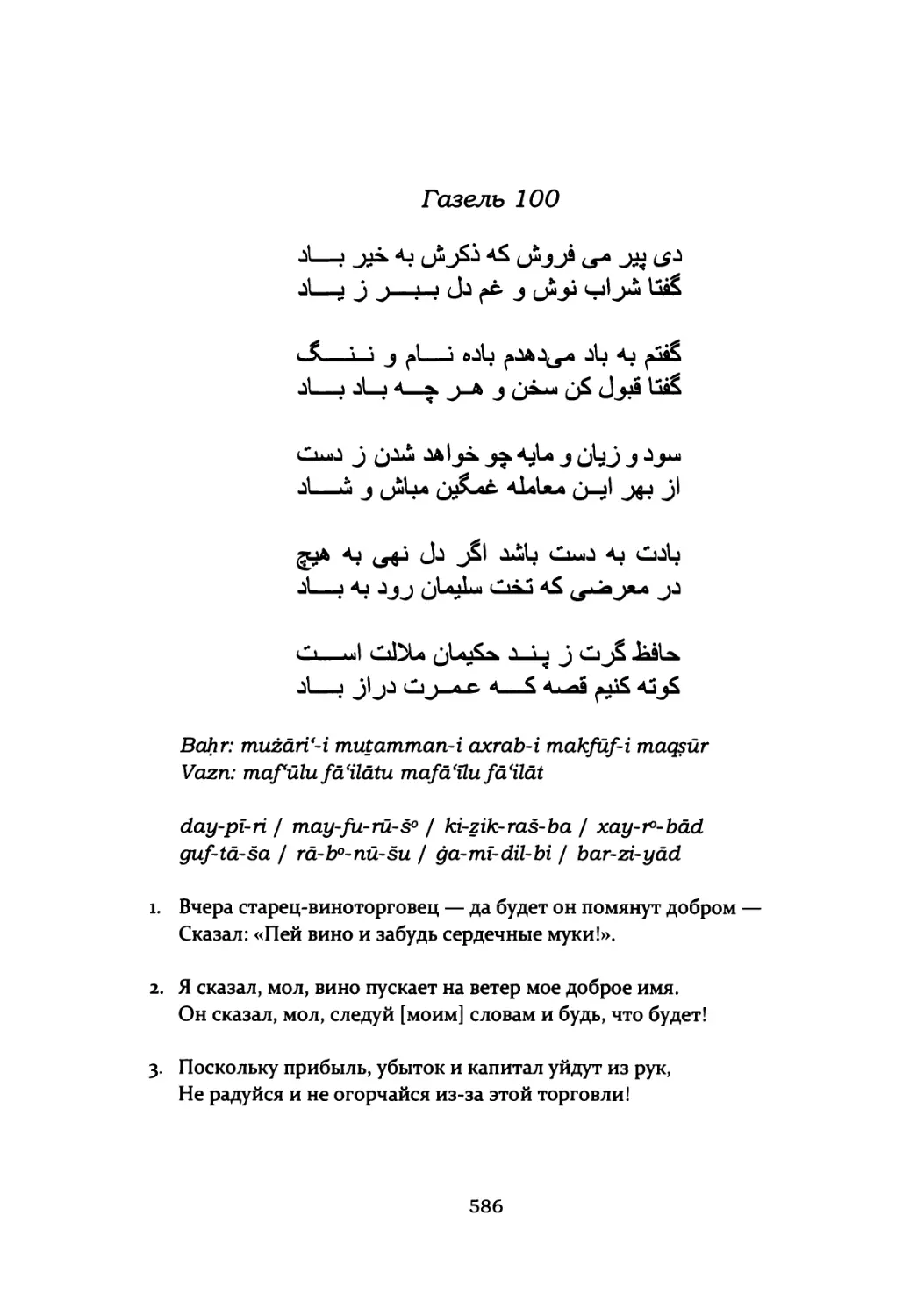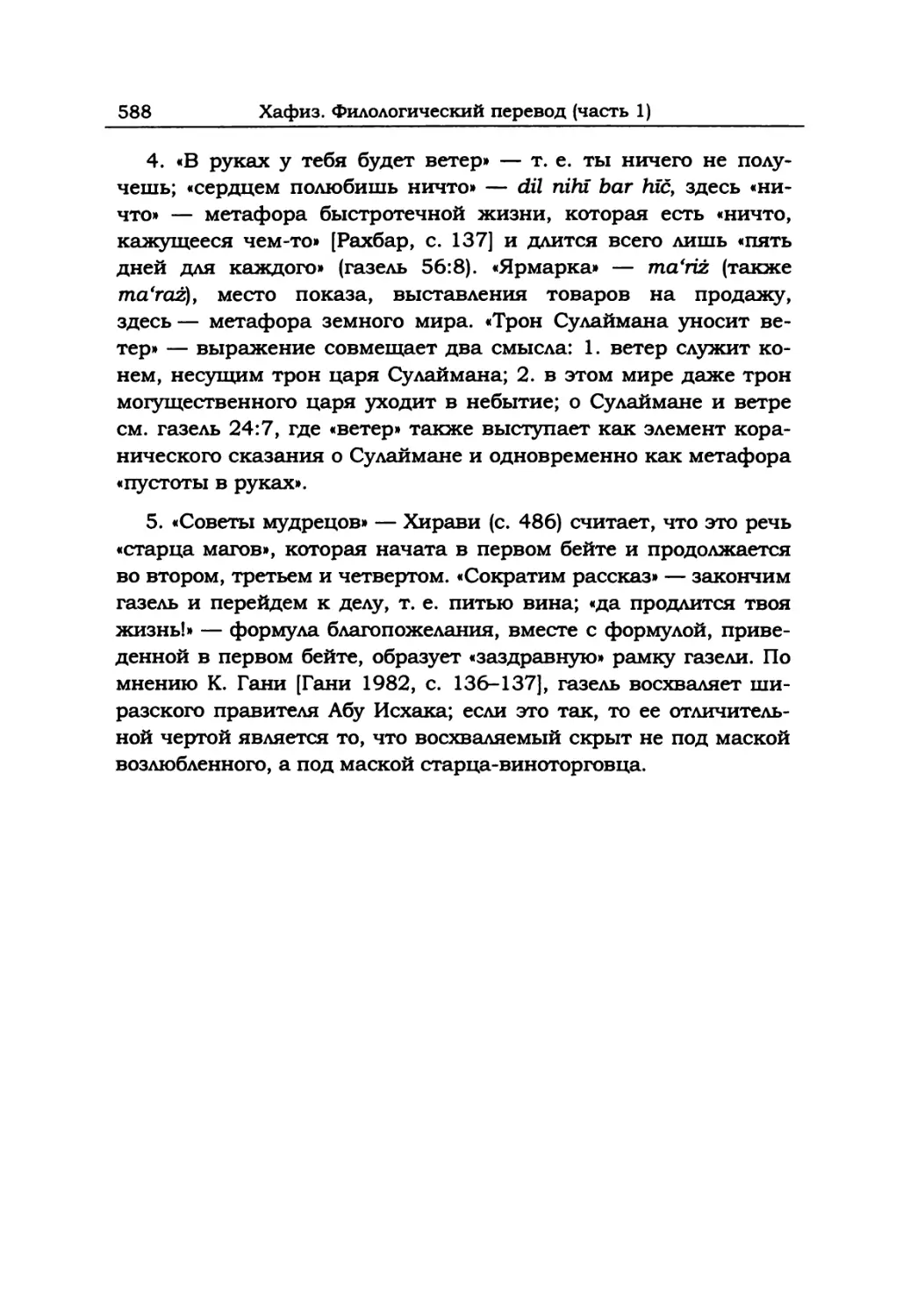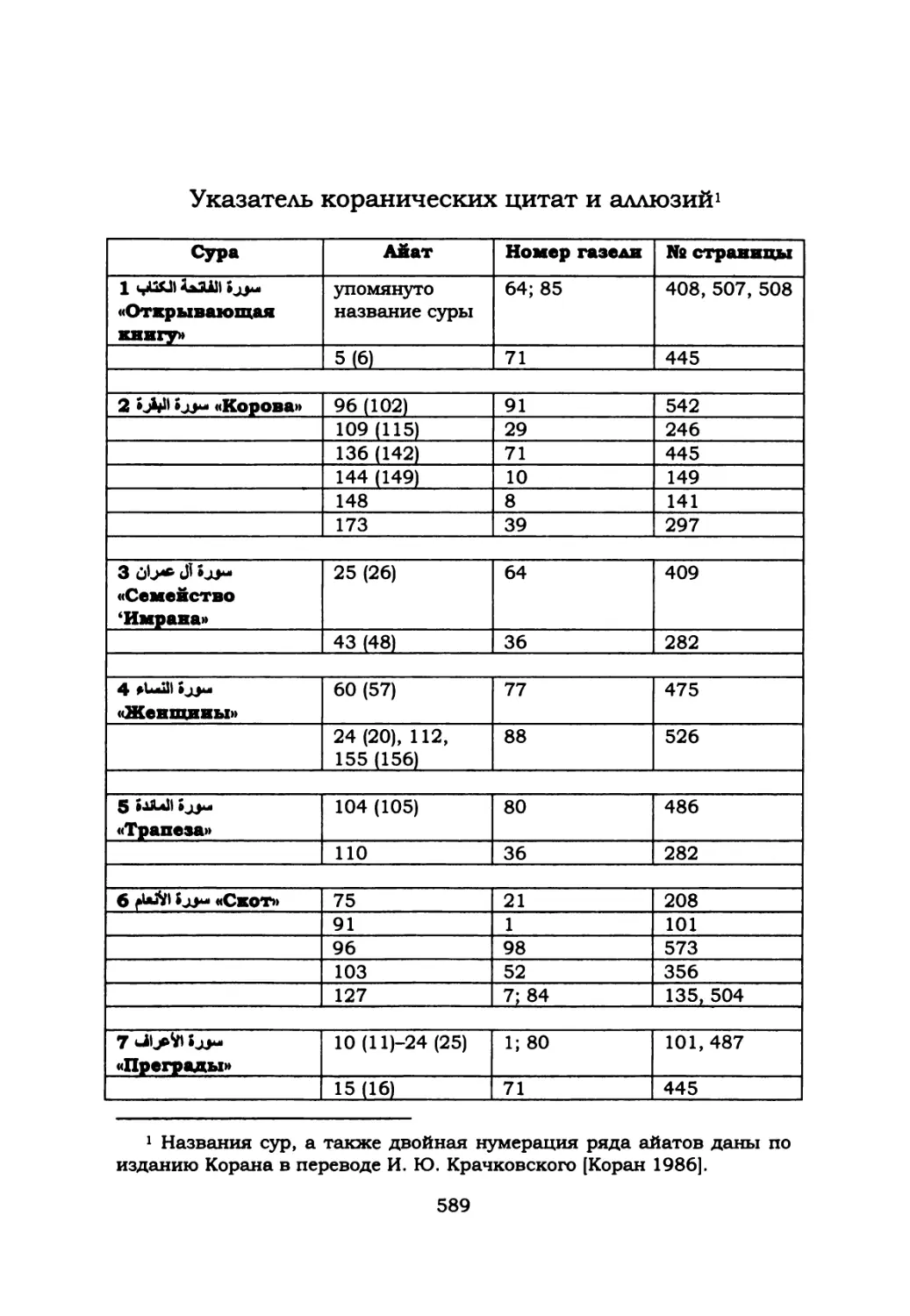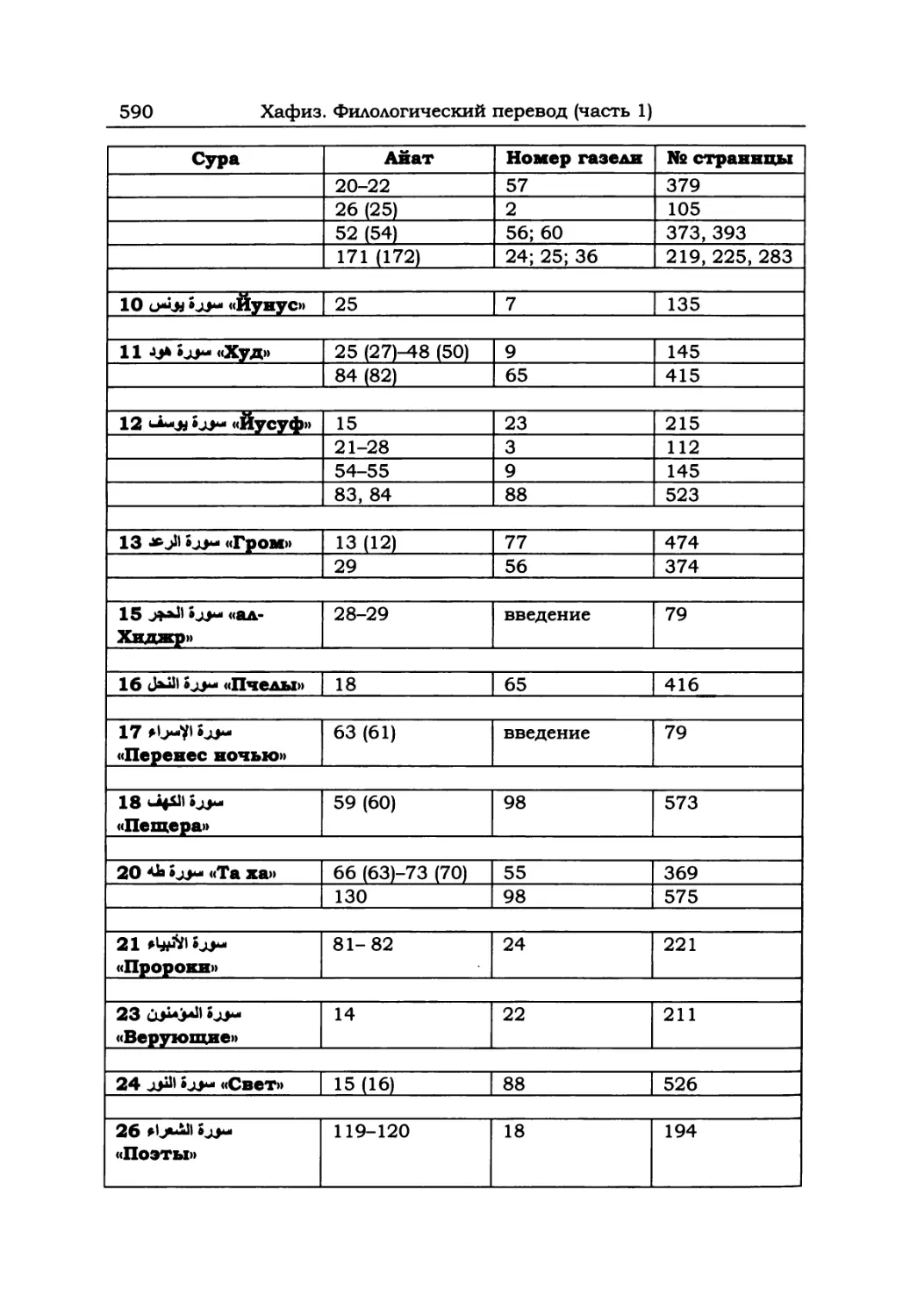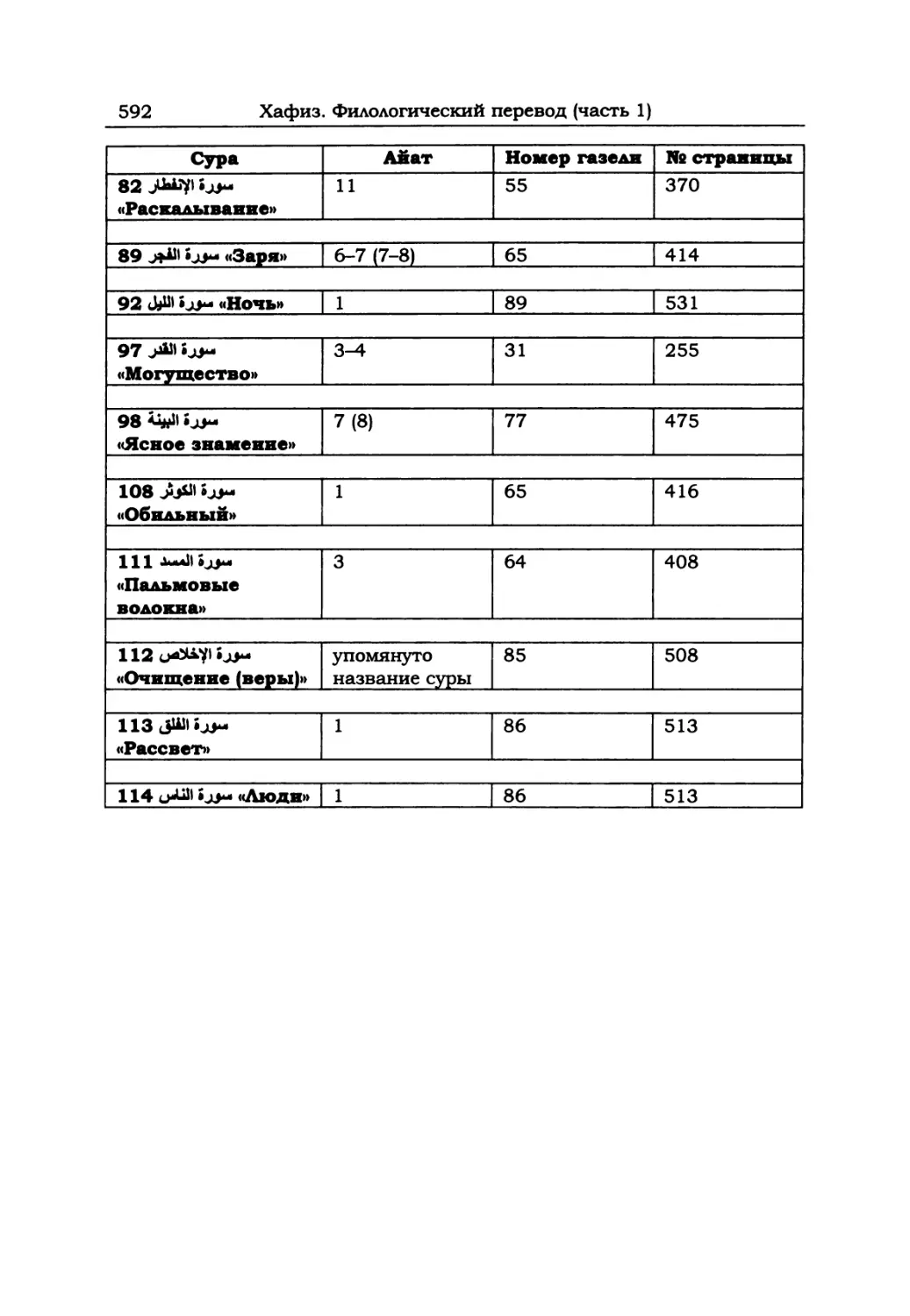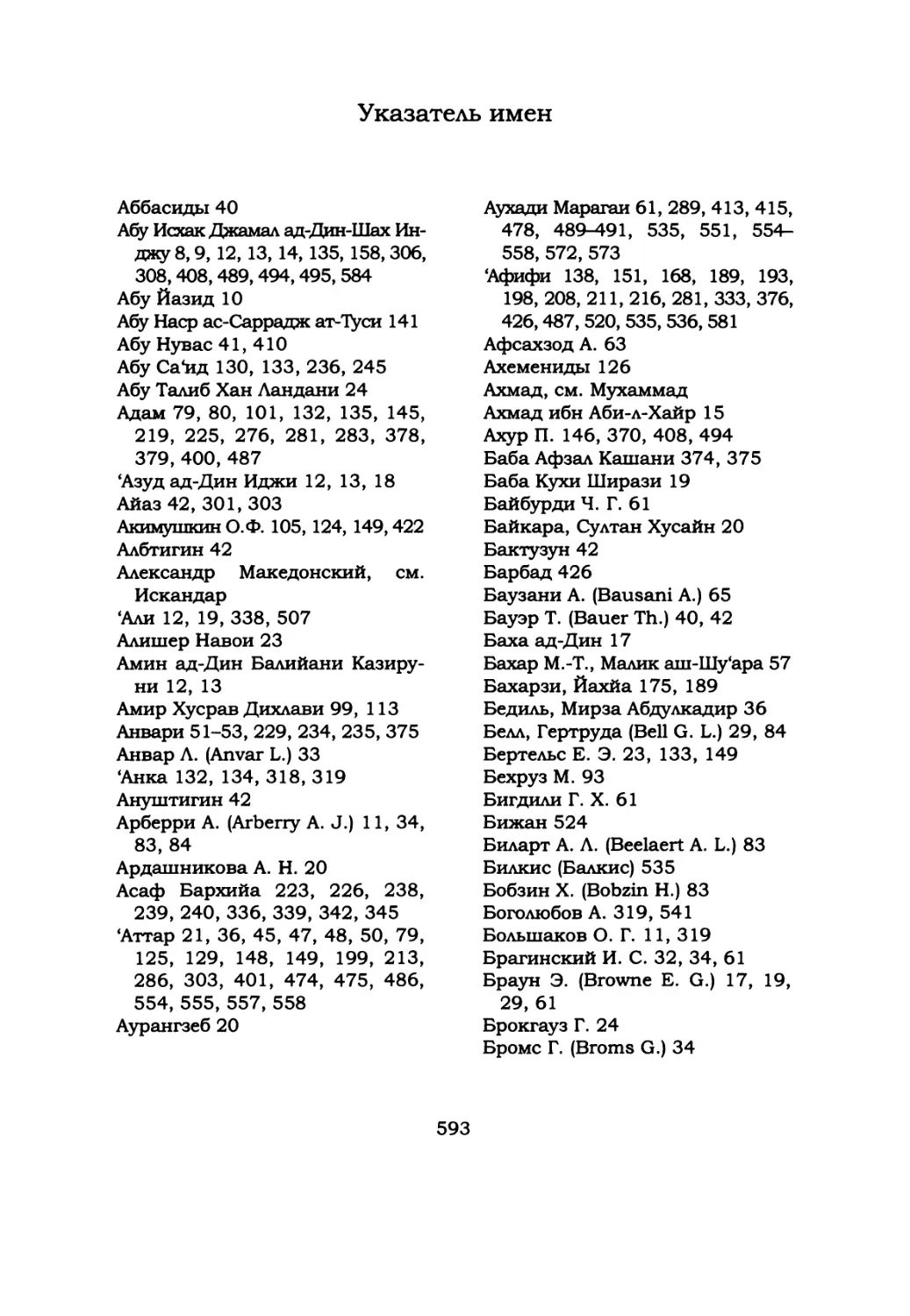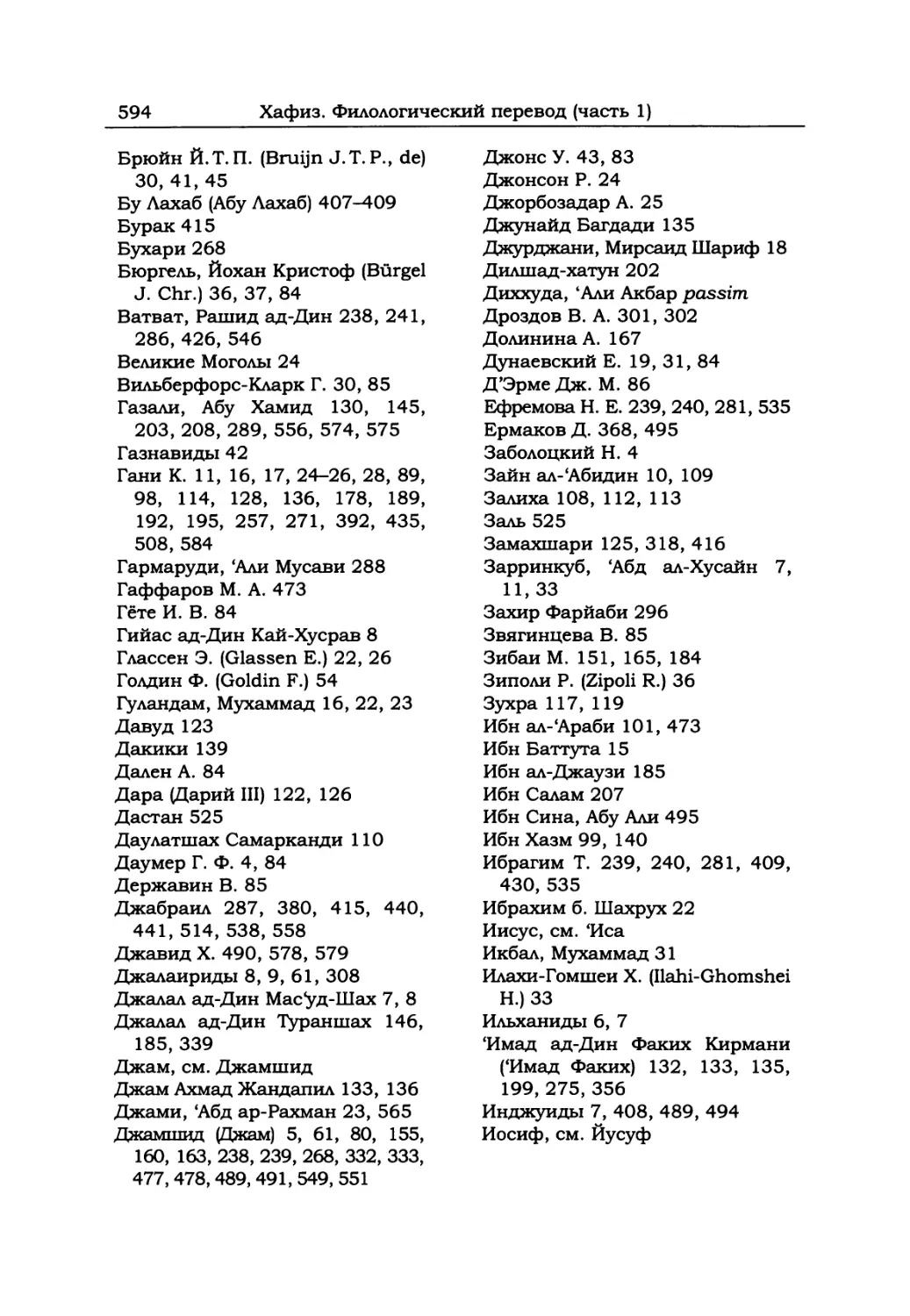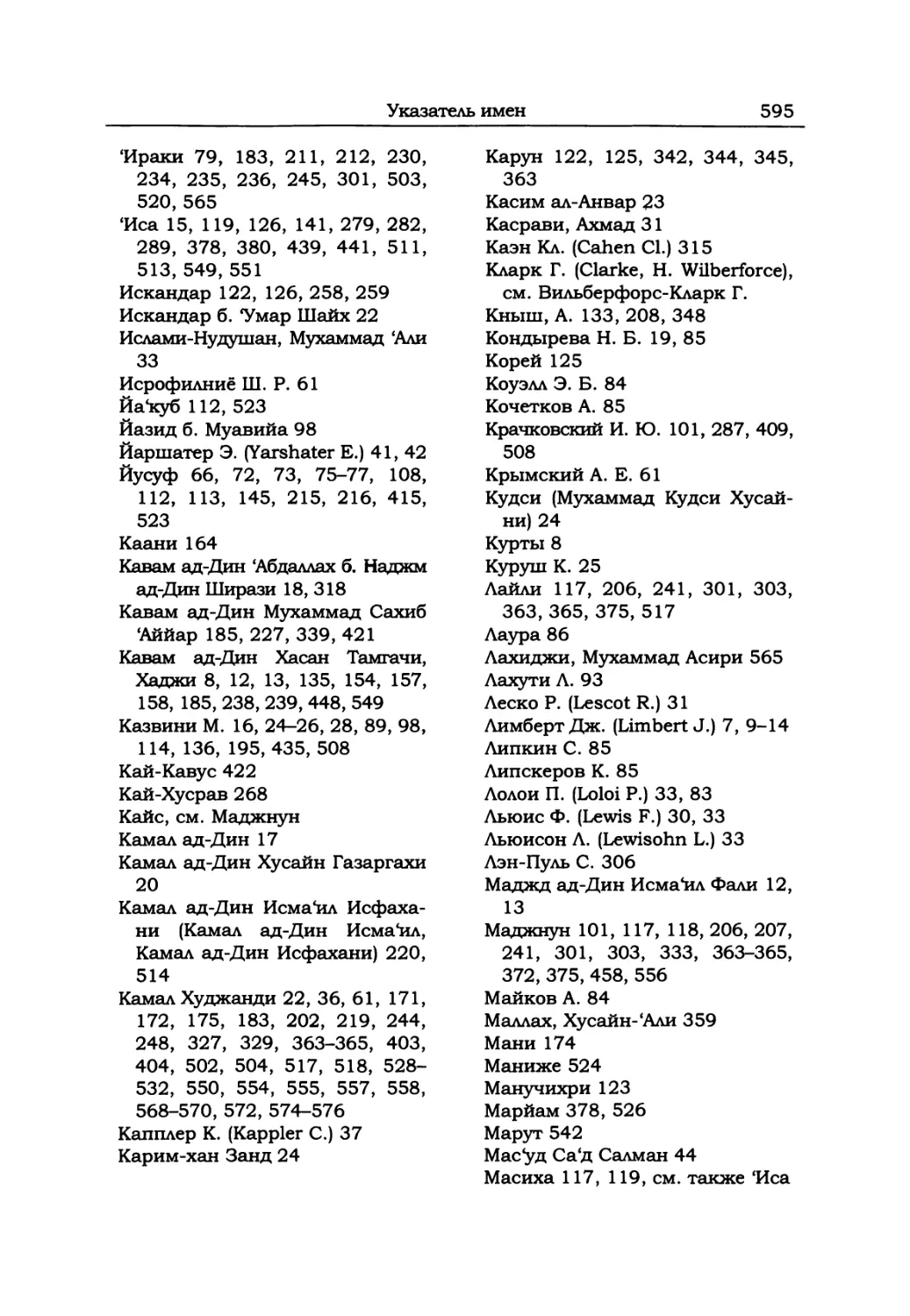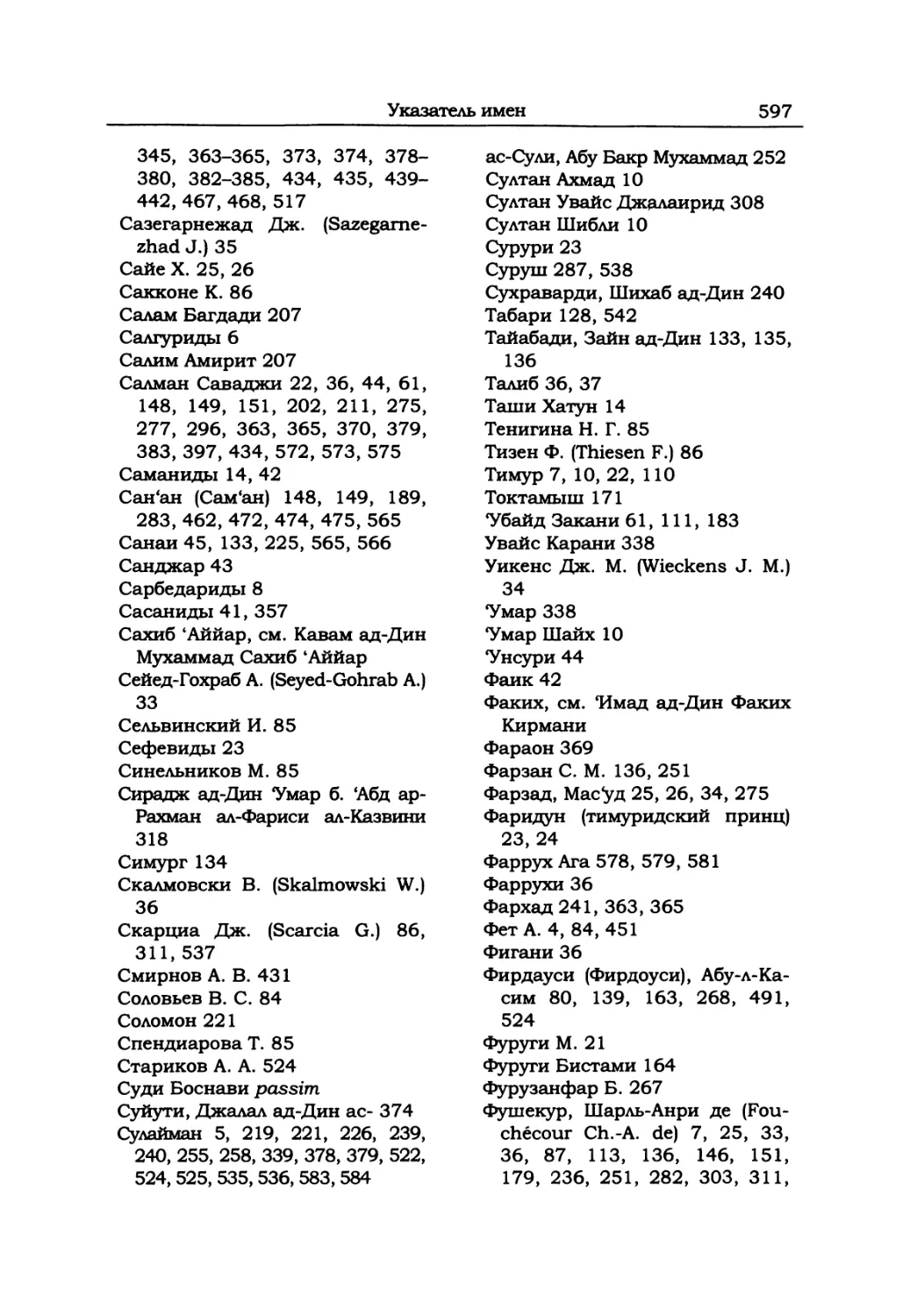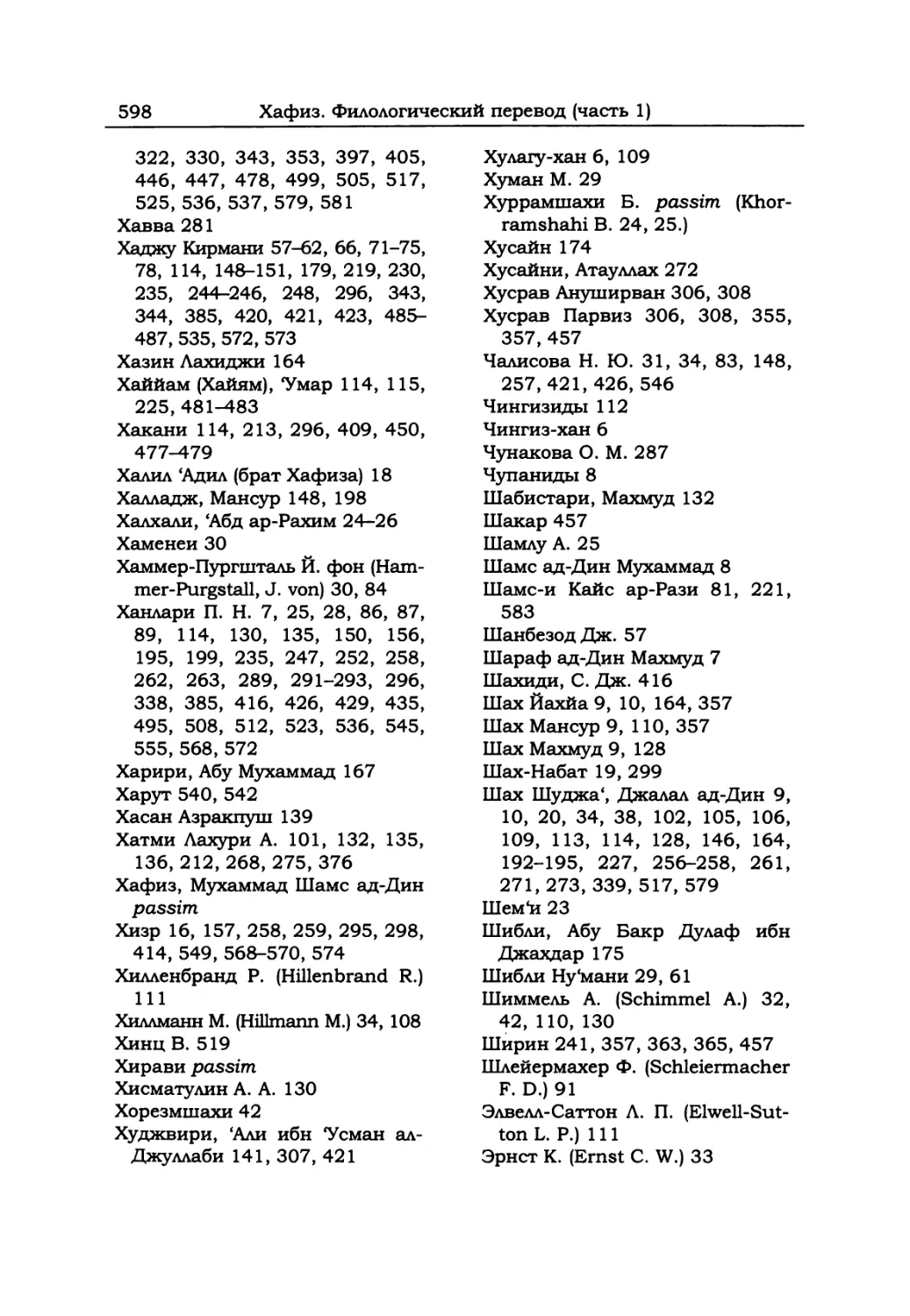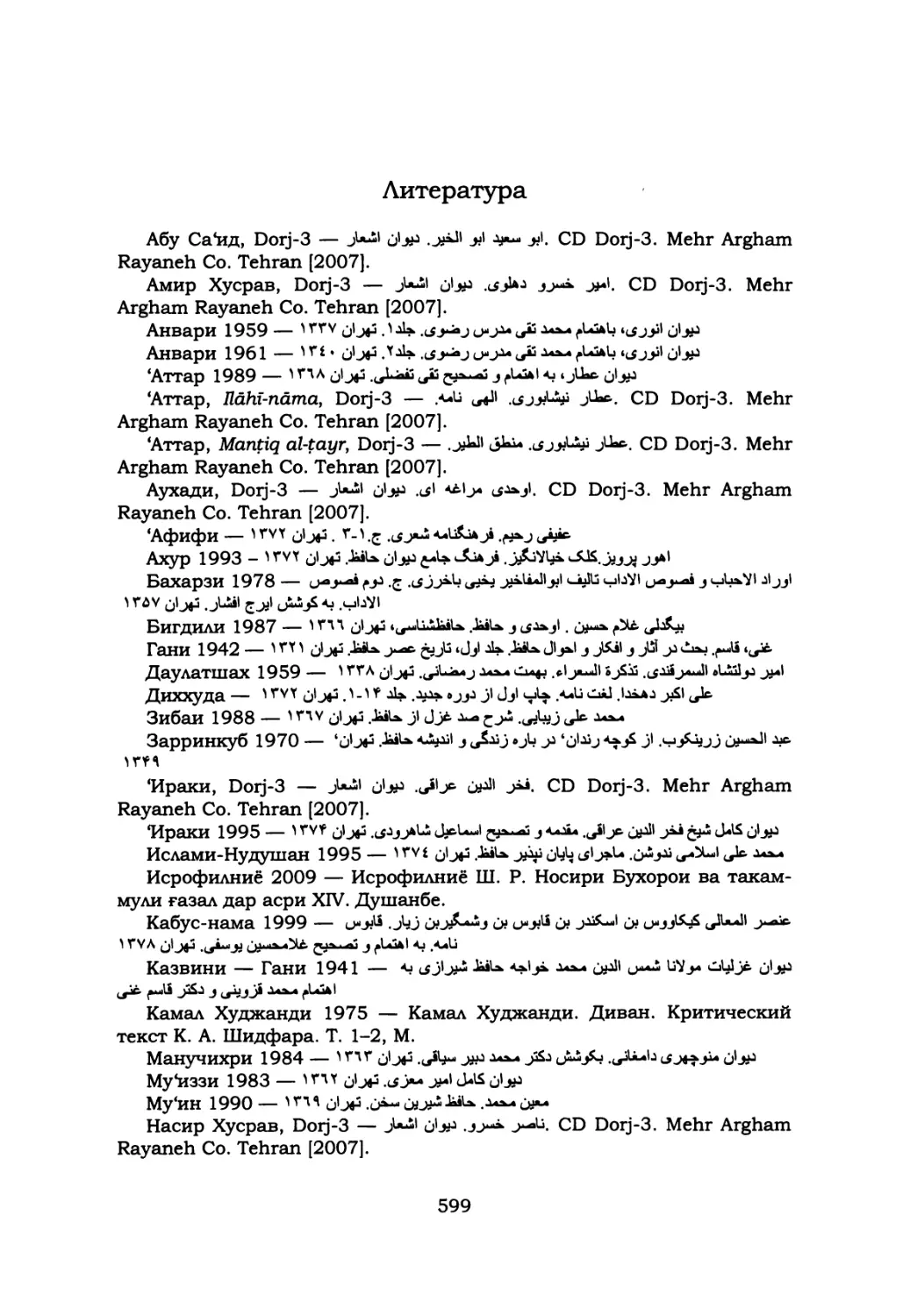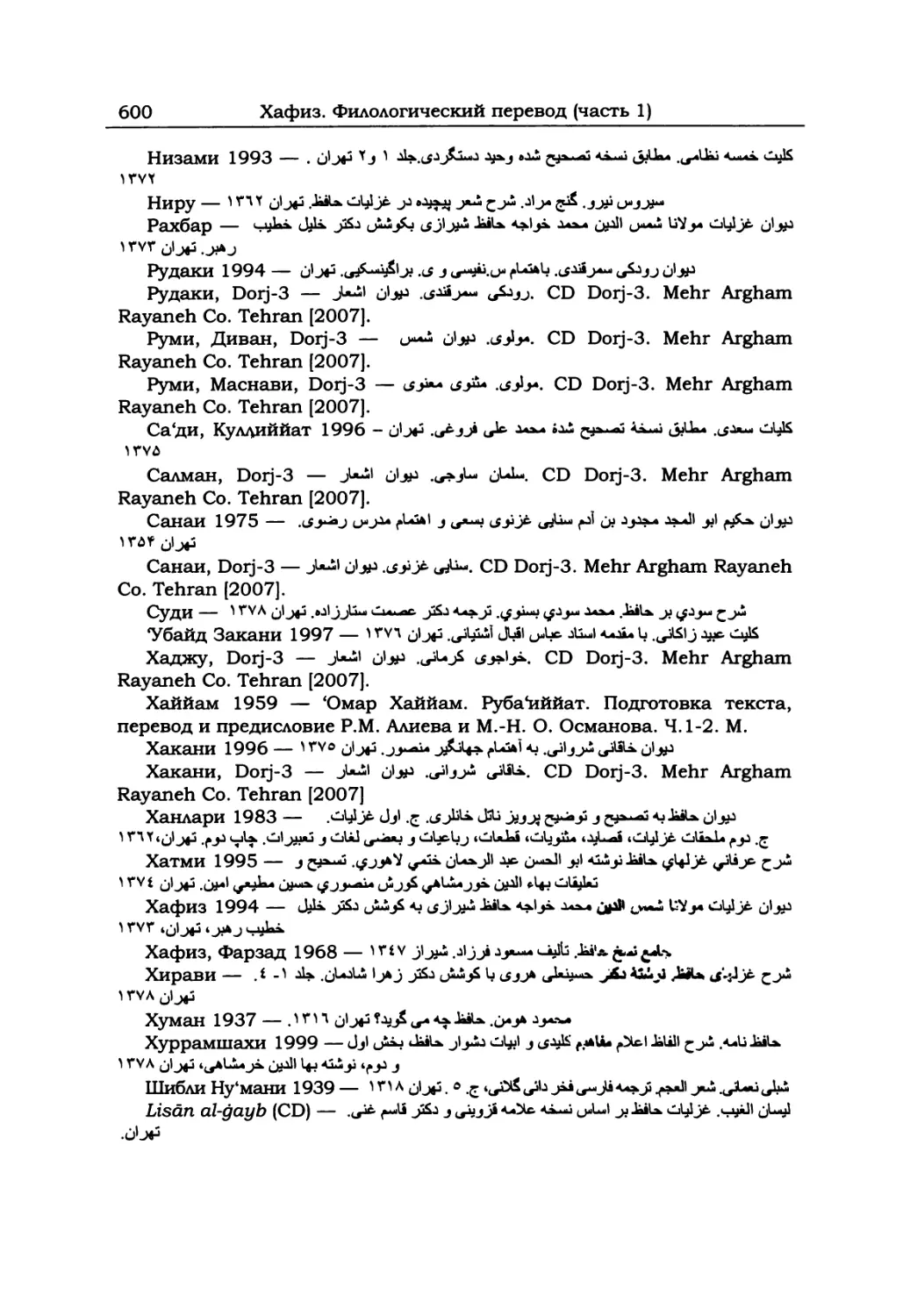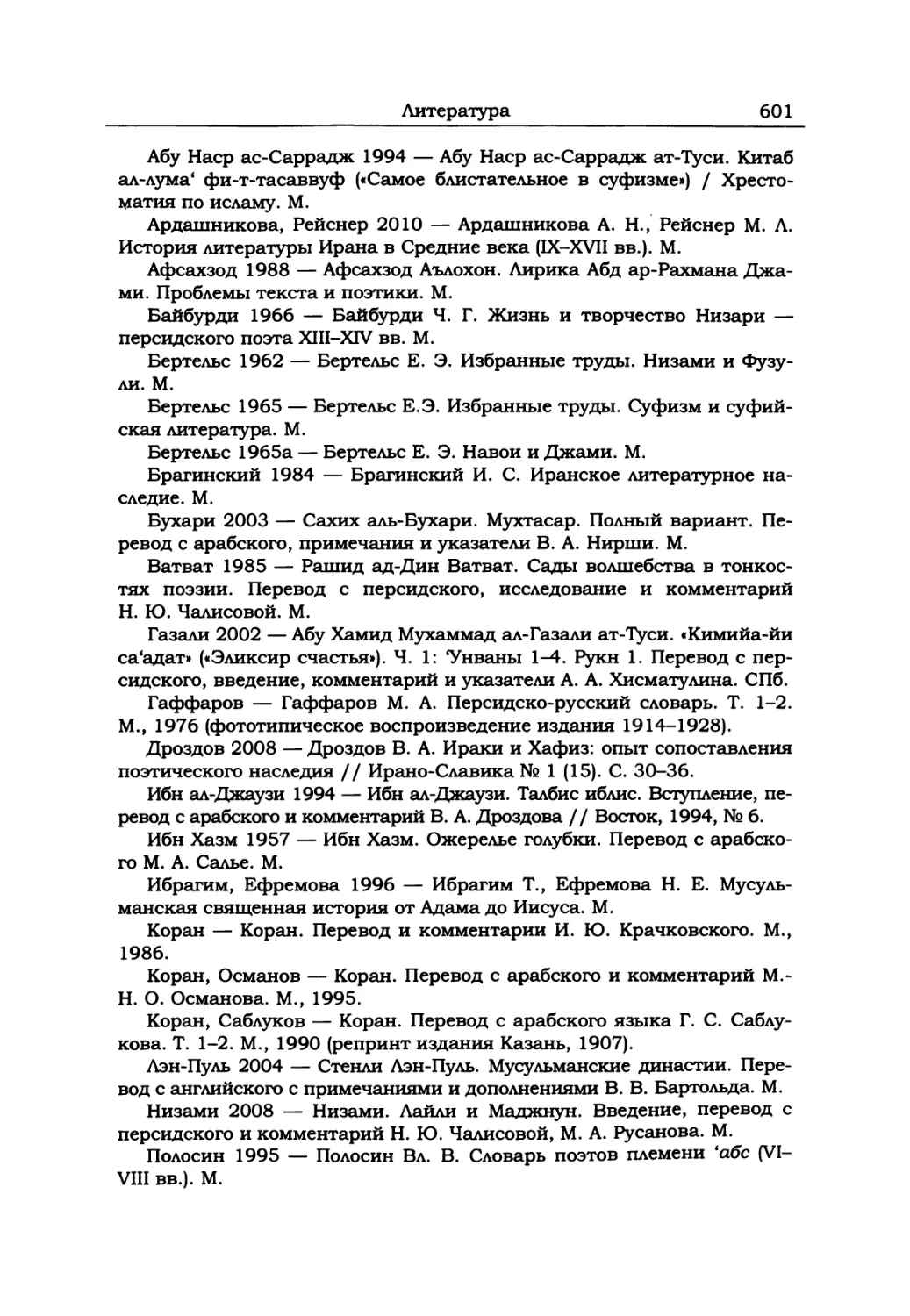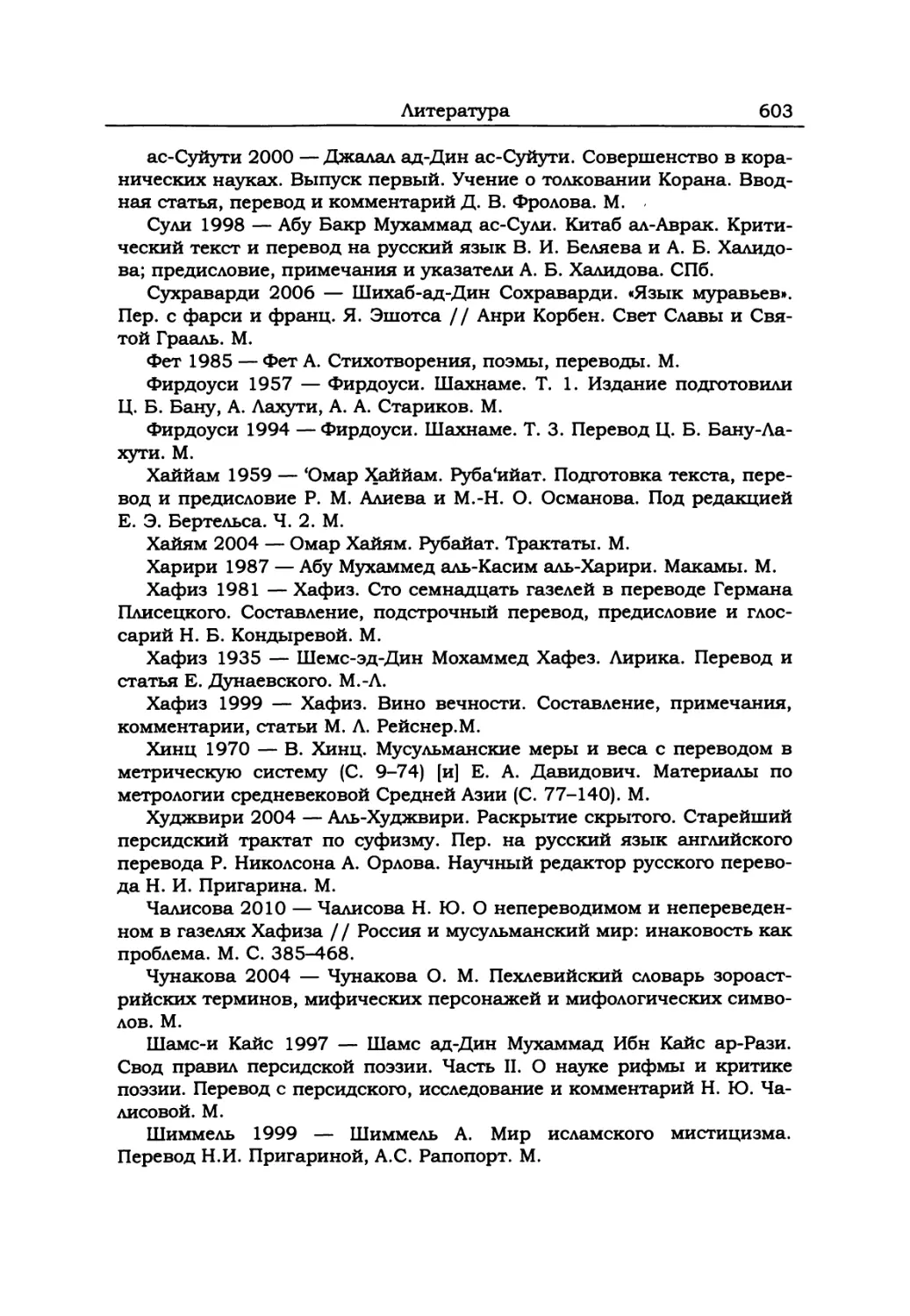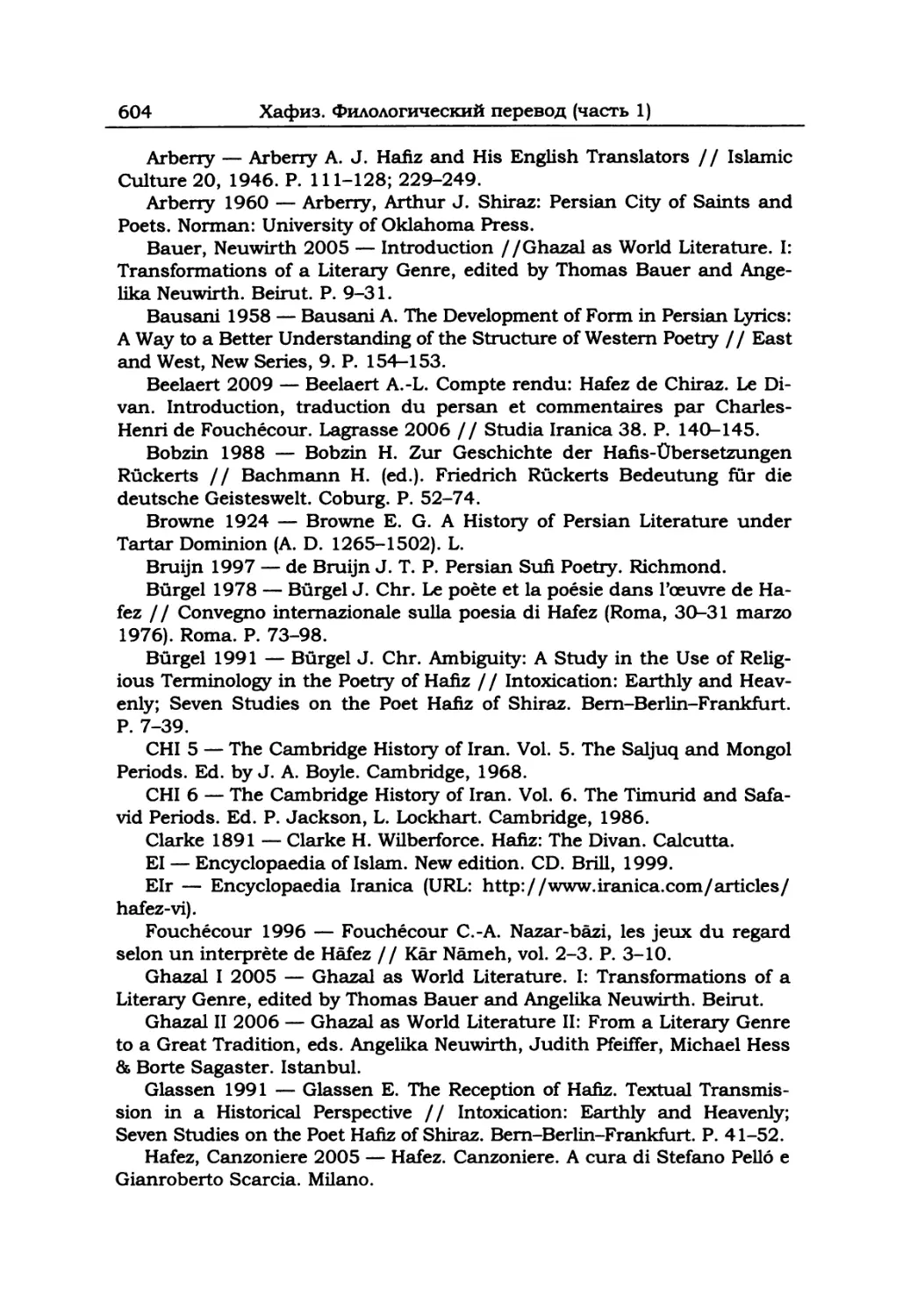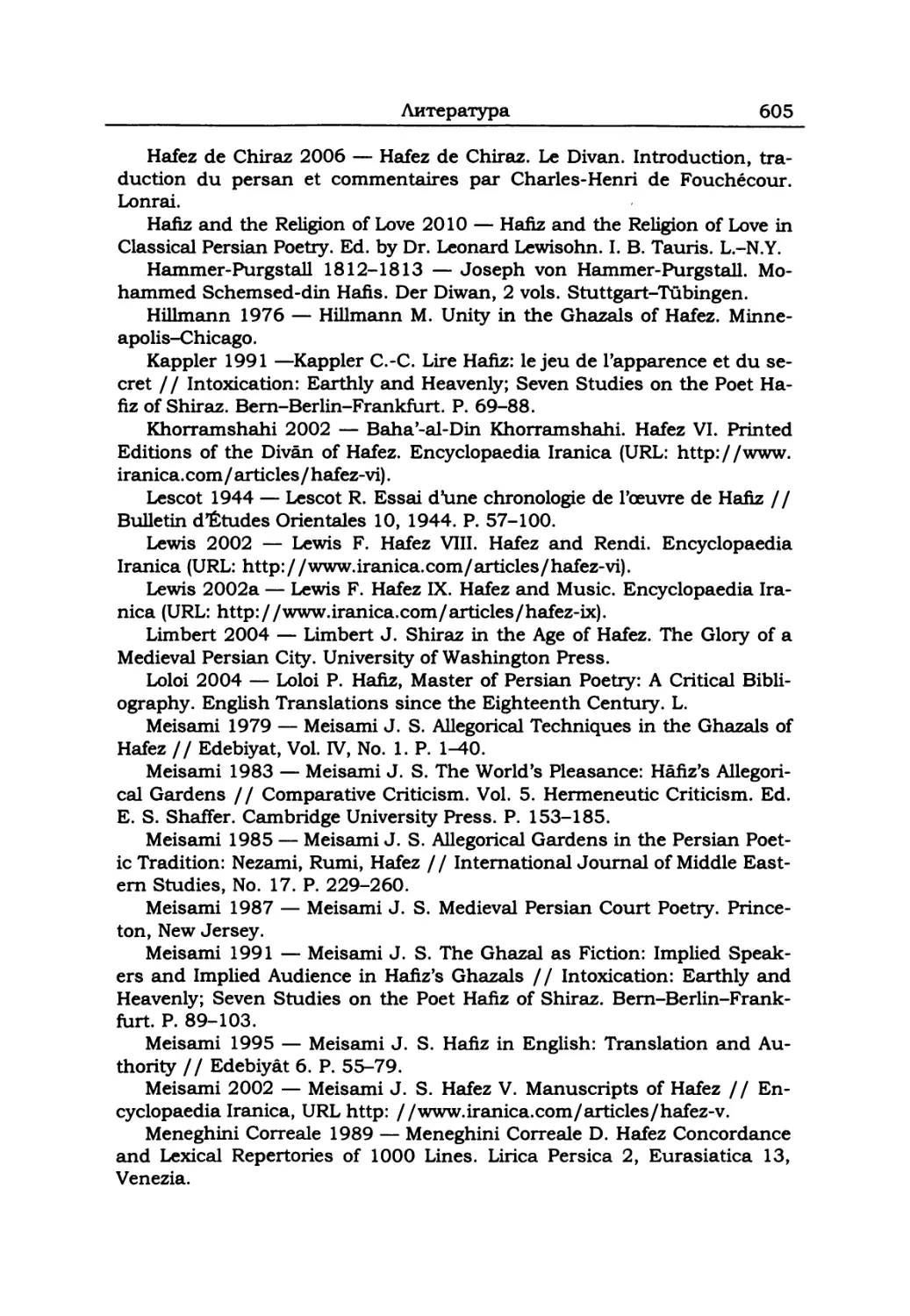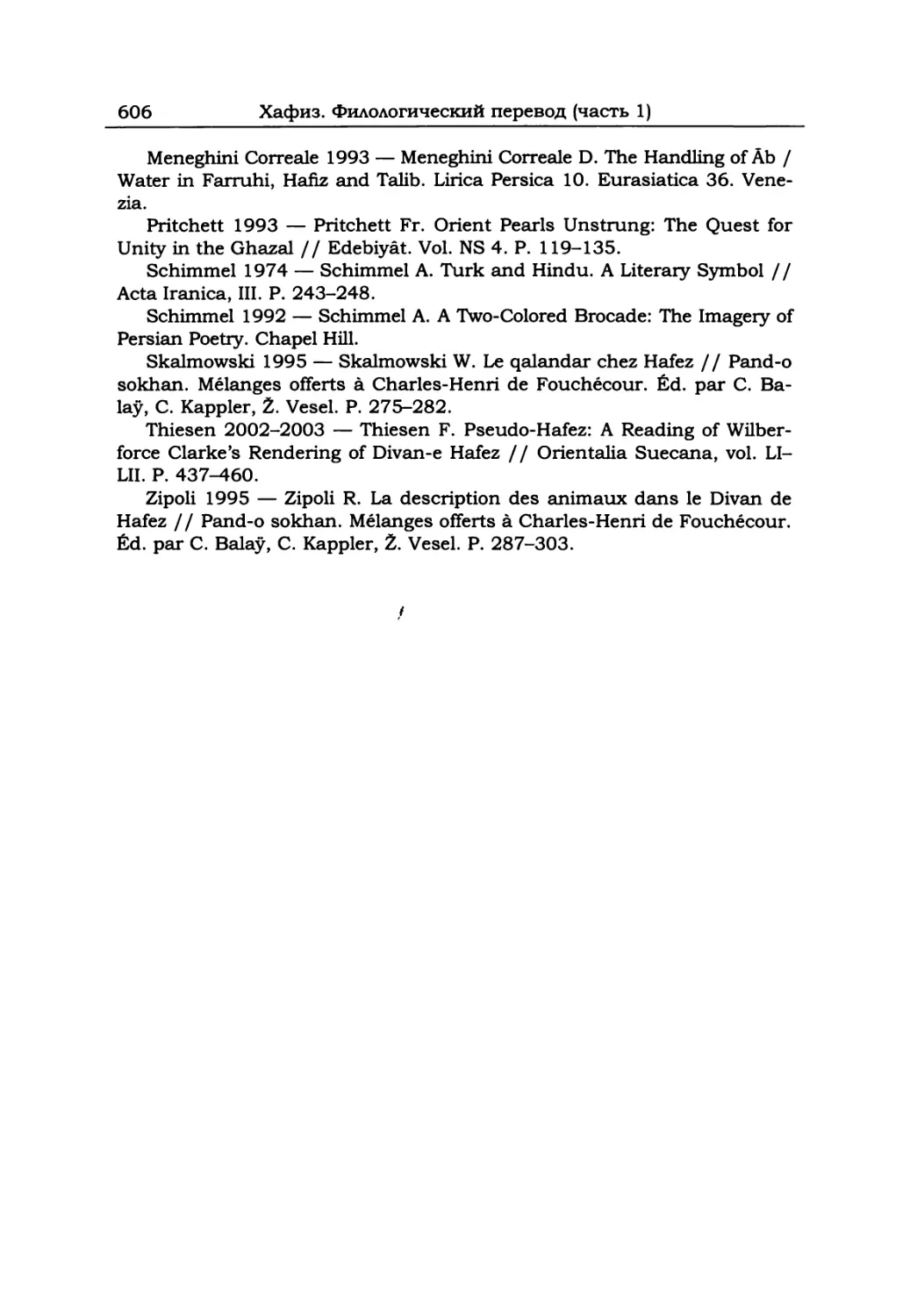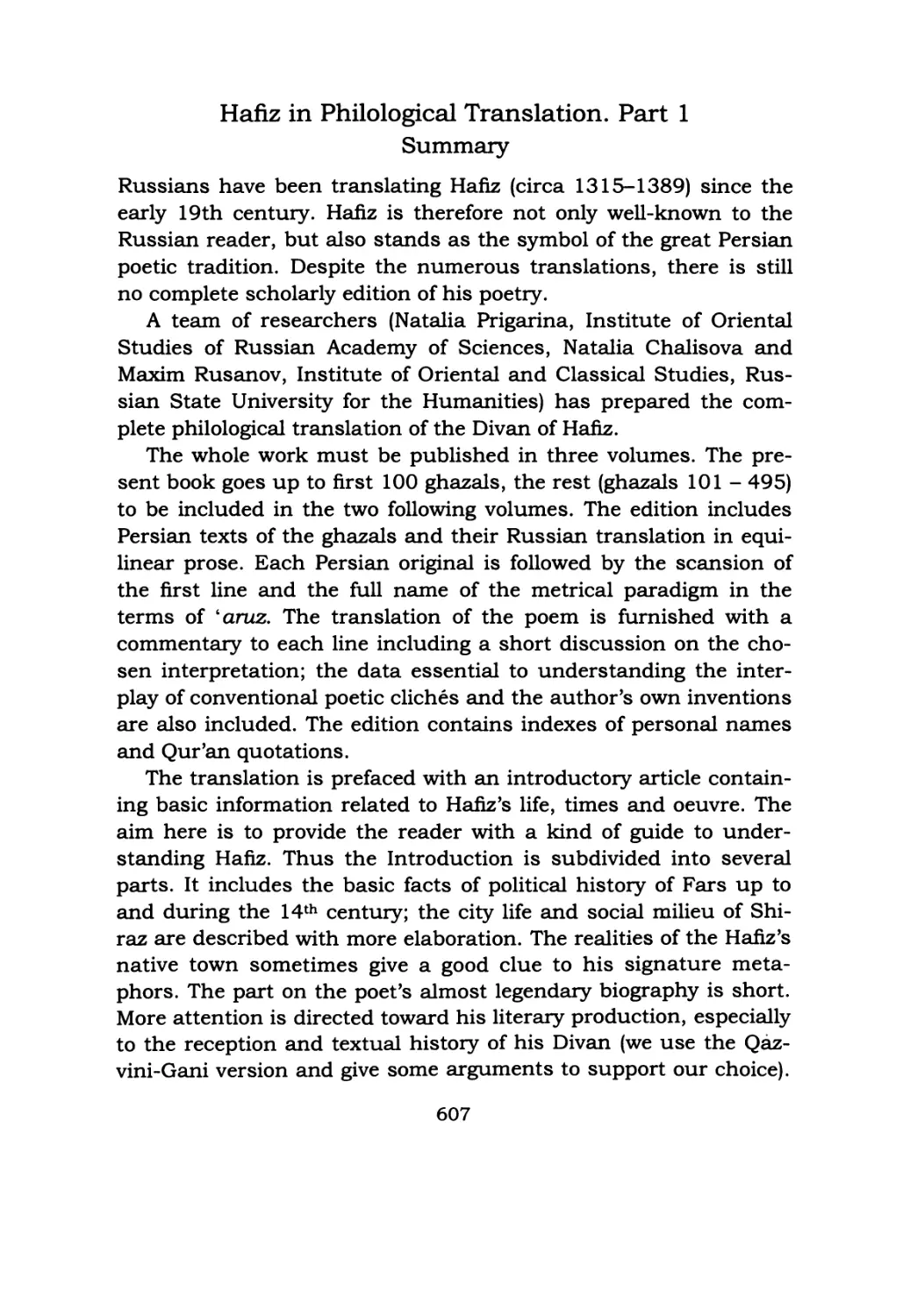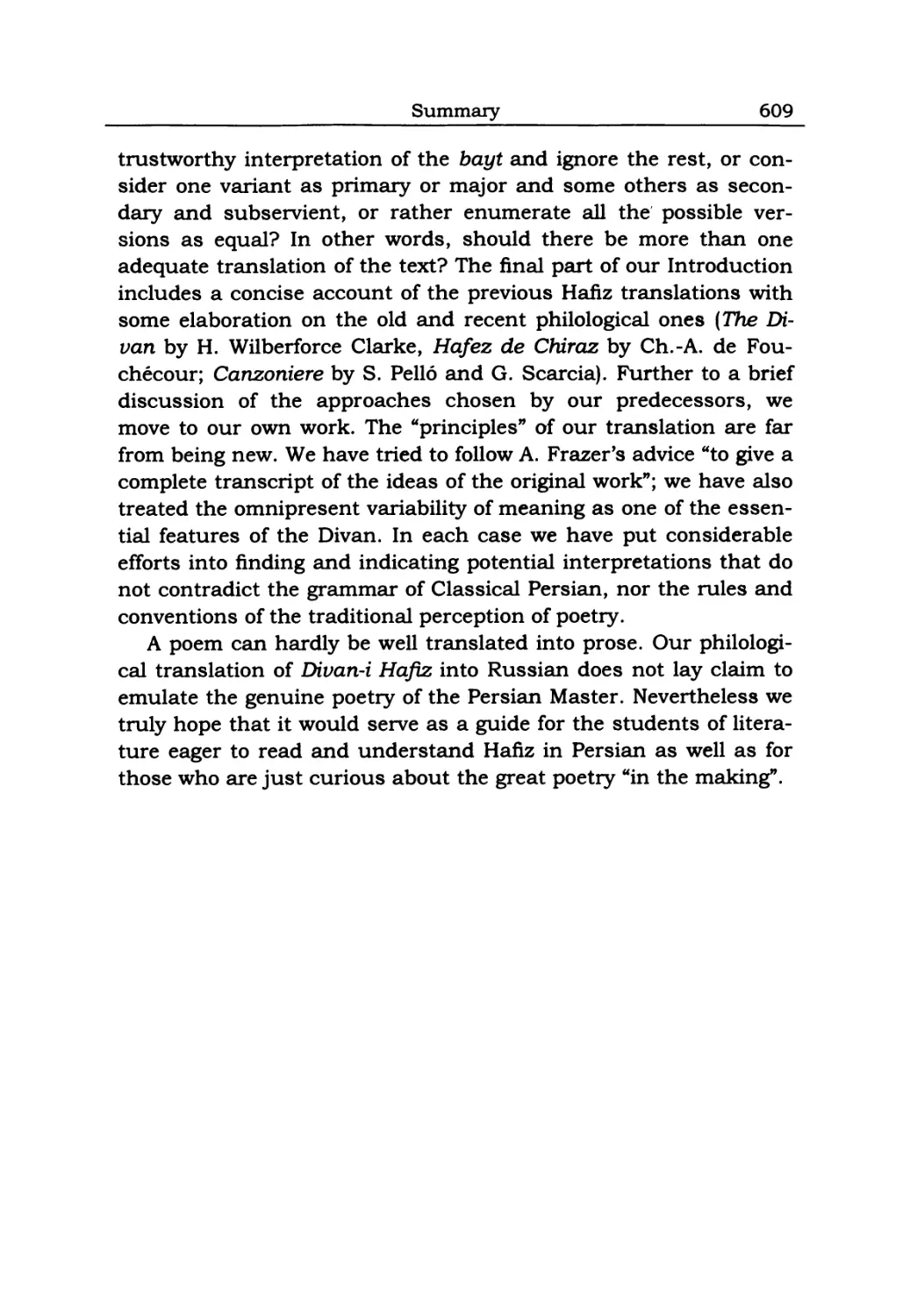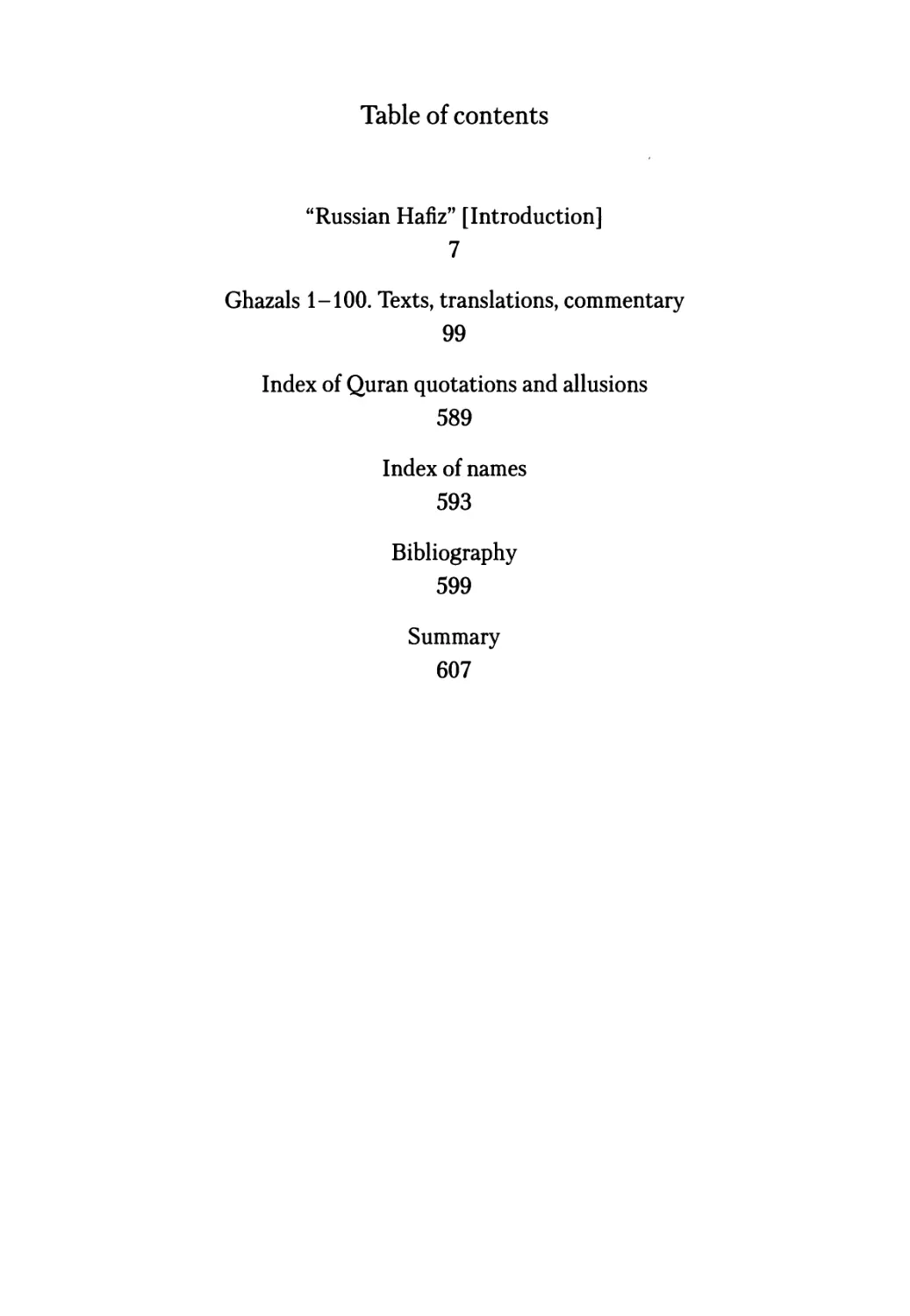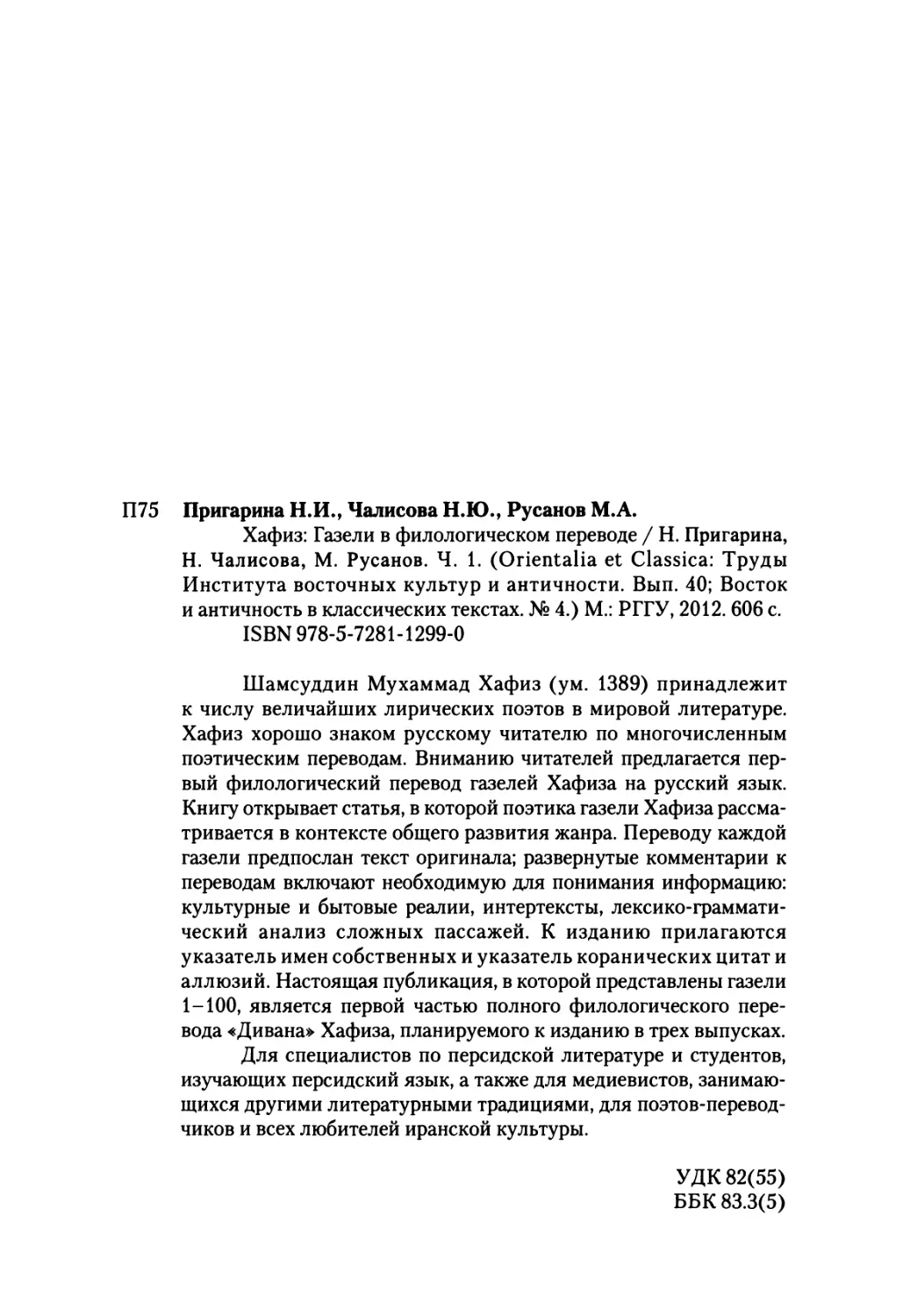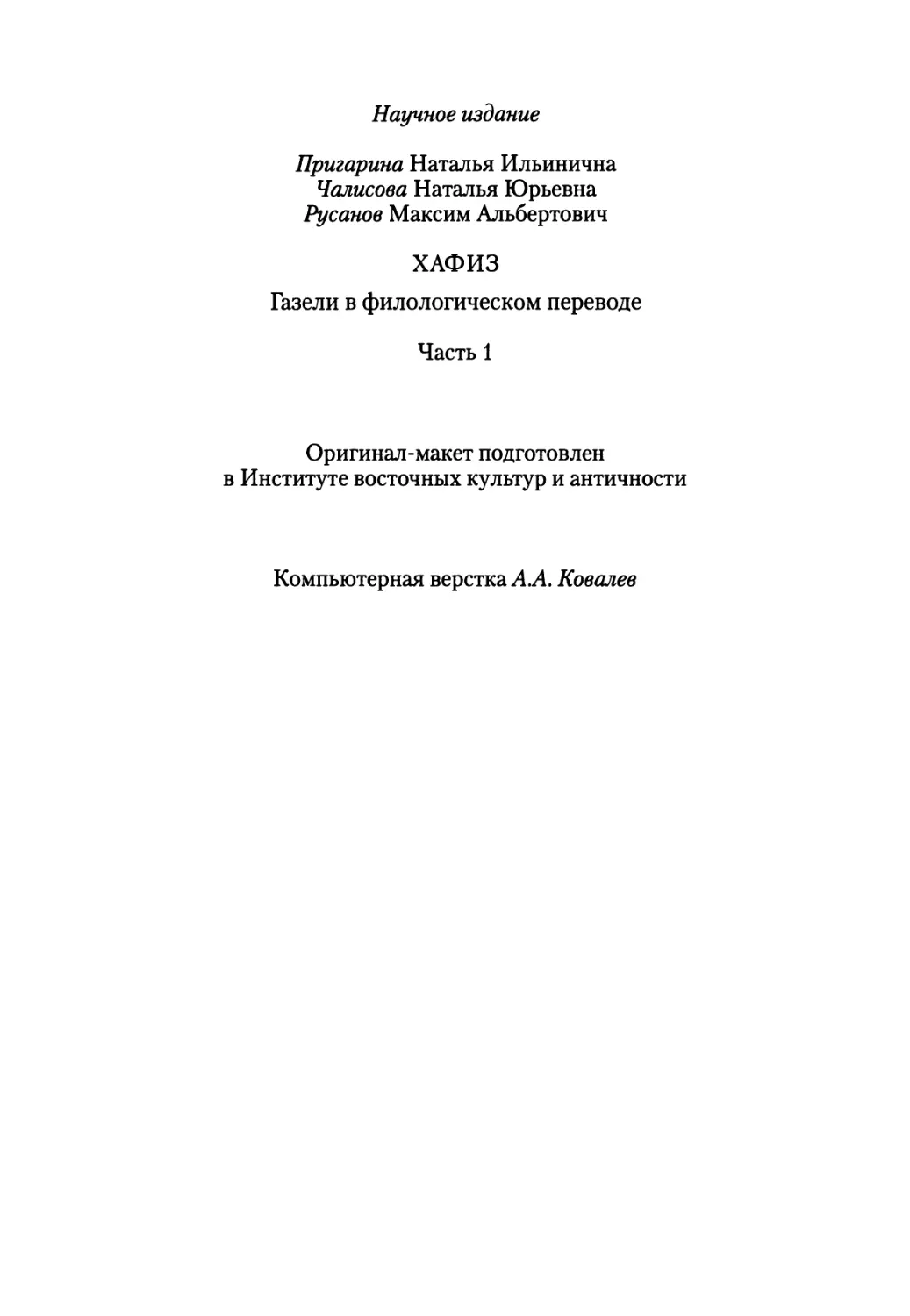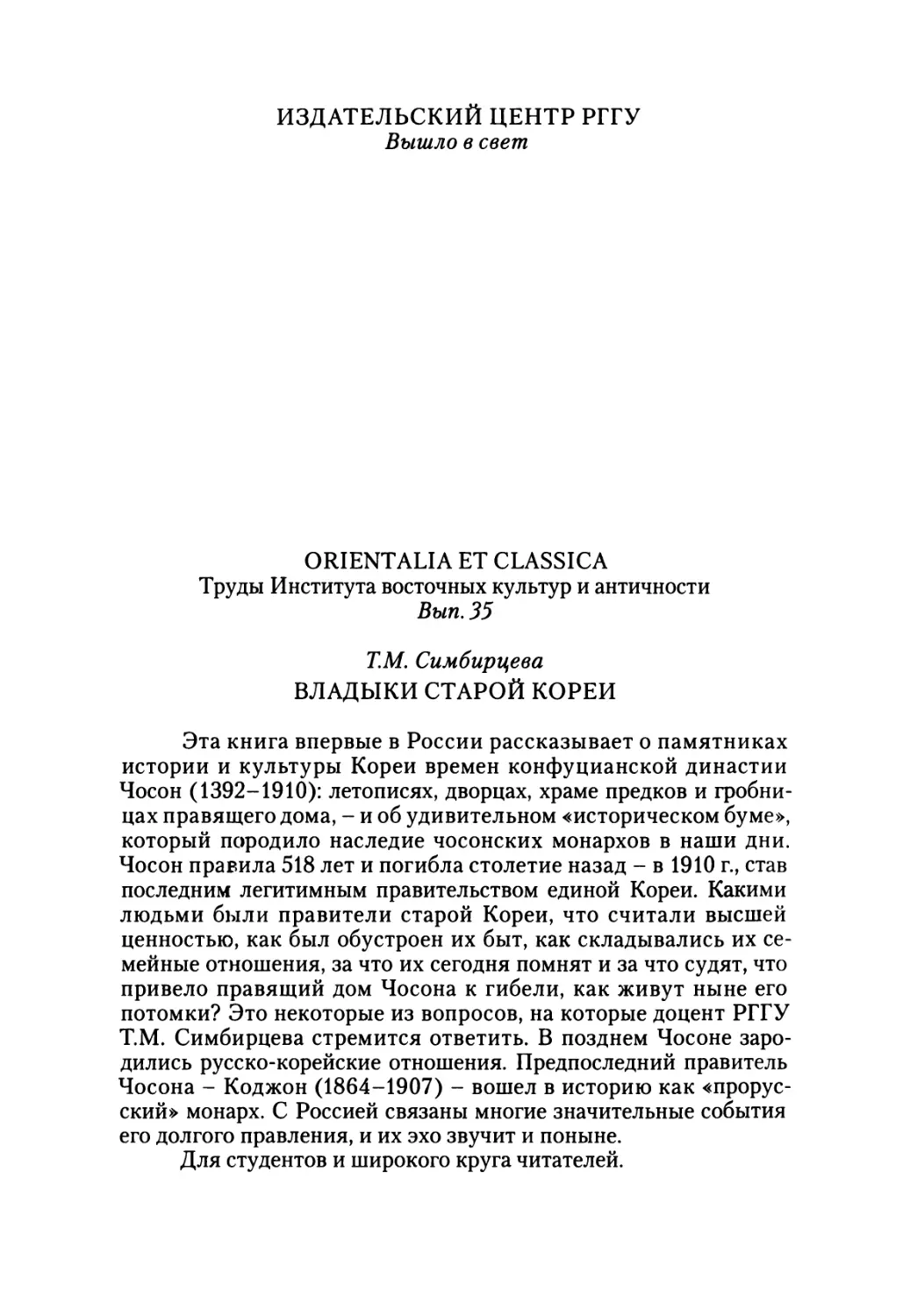Автор: Пригарина Н.И.
Теги: литература литературоведение литература азии художественная литература
ISBN: 978-5-7281-1299-0
Год: 2012
Текст
•hientalia
etClassica
Часть ı
İM
Orientalia
etQassica
m
Russian
State University
for the Humanities
Institute of Oriental Studies
of the Russian Academy of Sciences
Orientalia
etClassica
Papers of the Institute of Oriental
and Classical Studies
Issue XLII
Orient and Graeco-Roman Antiquity
in Classical Texts
#4
N. Prigarina, N. Chalisova,
M. Rusanov
Hafiz
Ghazals
in Philological
Translation
Part 1
Moscow
2012
Российский
государственный гуманитарный
университет
Институт Востоковедения
Российской академии наук
Orientalia
etClassica
Труды Института восточных культур
и античности
Выпуск XLII
Восток и античность
в классических текстах
#4
Н. Пригарина, Н. Чалисова,
М. Русанов
Хафиз
Газели
в филологическом
переводе
Часть 1
Москва
2012
УДК 82(55)
ББК 83.3(5)
П75
ORIENTALIA ET CLASSICA:
Труды Института восточных культур и античности
Выпуск XLII
Под редакцией И.С Смирнова
Восток и античность в классических текстах
№4
Редколлегия:
Н.П. Гринцер (председатель), Л.Е. Коган, Б.М. Никольский,
М.А. Русанов, И.С Смирнов, Н.Ю. Чалисова,
П.П. Шкаренков
Художник Михаил Гуров
© Пригарина Н.И., Чалисова Н.Ю.,
Русанов М.А., 2012
© Гуров М.К., художественное
оформление, 2012
© Институт восточных культур
и античности, 2012
© Российский государственный
ISBN 978-5-7281-1299-0 гуманитарный университет, 2012
Оглавление
«Русский Хафиз» [Введение]
7
Газели 1-100. Тексты, переводы, комментарии
99
Указатель коранических цитат и аллюзий
589
Указатель имен
593
Литература
599
Summary
607
«Русский Хафиз»
Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках.
Н. Заболоцкий
Персидская поэзия богата великими, прекрасными и просто
хорошими поэтами. Но в пантеоне мировой литературы на-
шлось место лишь для немногих из них. Шамс ад-Дин Мухам-
мад Хафиз Ширази (ок. 1315-1389) уже при жизни знал, что
его имени уготовано бессмертие, а газели его не перестанут
звучать на необозримых пространствах от «Ирака и Фарса» до
«Бенгала и Кашмира». Но даже ему, чьи стихи в глазах его по-
читателей обладают непревзойденной провидческой силой, не
было дано предугадать, как многозвучно отзовется его слово не
только на Востоке, но и на Западе. Географическим размахом
своей посмертной славы поэт несомненно обязан усилиям пе-
реводчиков. Заговорив на «различных языках», Хафиз обрел
множество поэтических обличий, обусловленных талантом,
знаниями и эстетическими пристрастиями его интерпретато-
ров, и навсегда вошел в традиции немецкой, английской, аме-
риканской, французской и других литератур Запада. Именно
из первых переложений Хафиза черпали европейские роман-
тики странные и пленительные образы мусульманского Восто-
ка. «Восточный соловей» Гафиза запел и в русской поэзии, по-
началу как бы перепевая западные переложения. Афанасий
Фет был настолько восхищен немецкой версией Г. Даумера, что
создал свой цикл «Из Гафиза», в предисловии к которому писал:
«Даже поверхностное знакомство с нашим поэтом служит от-
радным подтверждением двух несомненных истин: во первых,
что дух человеческий давно уже достиг этой эфирной высоты,
которой мы удивляемся в поэтах и мыслителях нашего Запада;
во-вторых, что цветы истинной поэзии неувядаемы, независи-
мо от эпохи и почвы, их породившей» [Фет 1985, с. 315-316].
Обаяние хафизовской газели, сколь бы далеко ни отходили
переводчики от оригинала, трогало сердца читателей и манило
7
8
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
поэтов. Этому жанру отдали дань многие авторы Серебряного
века: газеллы появились в русской литературе раньше, чем
профессиональные переводы газели с персидского оригинала.
Газеллы о «тонущей в неге розе», «стонущем соловье», «огневой
муке сердца» и «пьяном дервише» в известной мере предопре-
делили стилистику и образный фонд последующих переводов
Хафиза для нескольких поколений поэтов-переводчиков.
Поэтические переводы неизбежно «осваивают» переводимого
автора в русле национальной традиции. В этой книге мы предла-
гаем филологический перевод Хафиза, и в нашу задачу входит,
напротив, всемерная забота о передаче особенностей оригинала.
Настоящее предисловие призвано создать минимально необхо-
димый контекст для дальнейшего знакомства с переводом.
* * *
Персидскую газель принято воспринимать как стихи, трак-
тующие о вечном, никак не связанные с прозой бытия и стоя-
щие над конкретными историческими обстоятельствами. Это
так и не так. Поэтический тезаурус газели состоит из предельно
обобщенных понятий, поэтому заключенное в ней вневремен-
ное послание доступно восприятию читателя и по прошествии
многих веков. Но не стоит забывать о том, что каждая газель
создавалась человеком своего времени, а поводом к ее сложе-
нию нередко служили как драматические события эпохи, так и
перипетии личной жизни поэта. Автор мог оплакивать сад, по-
кинутый розой, Сулаймана, потерявшего перстень, или опус-
тевший трон Джамшида, а современники слышали в его стихах
ясные политические намеки на судьбу очередного свергнутого
правителя. Однако этот аспект содержания газели уходил из
поля зрения читателя по мере того, как теряли актуальность
связанные с ним события, и в наше время восстановить его в
большинстве случаев невозможно. Историк персидской литера-
туры может увидеть в газели отражение определенной ситуа-
ции и дать достоверный комментарий лишь в тех случаях, ко-
гда в тексте упомянуто некое имя или известный факт. Все ос-
тальные попытки понять содержание газели как аллегорию
происходящего с поэтом или с кем-то из его современников
принадлежат, как правило, к области вдохновенных спекуля-
ций. Сказанное в полной мере относится и к Хафизу. Помес-
тить каждую его газель в исторический контекст, однозначно
Русский Хафиз (введение)
9
соотнести ее с эпизодами плохо известной биографии автора и
конкретными событиями, происходившими в Ширазе его вре-
мени, практически не удается, несмотря на усилия многих по-
колений иранских филологов. Однако некоторые исторические
аллюзии в стихах поэта все же поддаются расшифровке, преж-
де всего потому, что об эпохе Хафиза известно все-таки гораздо
больше, чем о его жизненном пути. «Язык тайны», которым на-
писан Диван, скрывает, наряду с прозрениями сокровенного,
тайны политической и придворной жизни Шираза.
* * *
Расцвет культуры и драматические коллизии борьбы за
власть в этом городе в XIV веке подготовлены чередой событий,
берущих начало в одном из самых трагических эпизодов исто-
рии мусульманского Ирана. В 1220 году на Иран обрушились
орды Чингиз-хана. Нашествие монгольских завоевателей при-
несло стране неисчислимые бедствия. Было практически пого-
ловно уничтожено население таких древних центров, как Тер-
мез, Рей, Герат, Мерв, Нишапур, а лучшие ремесленники и мас-
тера увезены в рабство; культуре был нанесен сильнейший
удар. Внук Чингиза Хулагу-хан в 1258 г. окончательно уничто-
жил Багдадский халифат и основал династию Ильханов, пра-
вившую обширными территориями, куда входил и Иран. В пе-
риод векового правления Ильханидов обозначились определен-
ные позитивные перемены в иранском обществе. Так, истори-
ки отмечают подъем иранского национального самосознания,
не в последнюю очередь связанного с противостоянием мон-
гольской верхушке, сохранявшей свои племенные традиции.
Именно в это время арабский язык на территории Ирана теря-
ет свои позиции как язык науки. Исторические хроники, фило-
софские, религиозные и филологические трактаты теперь все
чаще создаются на персидском языке. Расширяются культур-
ные горизонты Ирана, усиливаются торгово-экономические
связи со странами Запада и Востока: при дворах местных пра-
вителей появляются китайские художники, астрономы, врачи,
в городах возникают поселения европейских купцов (подробнее
см. [CHI 5, с. 416-417]).
Удачная политика правителей Шираза атабеков Салгуридов,
сумевших найти общий язык с монголами, уберегла город от
разрушений и способствовала превращению Шираза в один из
10
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
крупнейших культурных центров Ирана [Limbert 2004, с. 16-
17]. Однако в 1265 году их правлению пришел конец, и до 1335
года Шираз находился под прямым управлением монгольской
династии Ильханидов, осуществлявшимся с помощью намест-
ников. Жизнь Хафиза в Ширазе пришлась на время сравни-
тельно короткого промежутка между концом правления Ильха-
нов и приходом Тимура с его чагатайским войском.
Это был период политической и социальной нестабильности,
когда тирания мелких правителей и кровавые конфликты ме-
жду местными силами, рвавшими на части владения монголов,
постоянно угрожали благополучию города и жизни частного че-
ловека [CHI 6, с. 1-2]. Однако, как нередко случается в исто-
рии, упадок государства совпал с подъемом культуры. Расцвет
поэзии в Ширазе, достигший вершин в творчестве Хафиза,
происходил на фоне многократных переворотов и перехода
власти от одной группировки к другой. Подсчитано, что только
за период с 1339 по 1344 годы, когда Хафиз был еще молод,
правление в Фарсе сменилось восемь раз [Limbert 2004, с. 32].
В течение всей творческой жизни Мухаммад Шамсуддин
Хафиз был тесно связан с ширазским двором, поэтому переме-
ны во дворце всякий раз означали для него потерю покровите-
ля и необходимость налаживать новые связи. В газелях не раз
встречаются имена правителей, намеки на обретение или утра-
ту ими престола, а также изящно завуалированные обращения
к ним с просьбами о вознаграждении, которое поэт рассчиты-
вает получить за свои стихи. Согласно Ш.-А. Фушекуру, прямые
и косвенные указания на конкретных исторических лиц можно
усмотреть в 89 из 486 (по изданию Ханлари) газелей Дивана
[Hafez de Chiraz 2006, с. 47].
Отметим коротко основные вехи политической истории Фар-
са и его столицы Шираза времен Хафиза1. Первой династией, с
которой оказалась связана жизнь поэта, были наместники Иль-
ханов в Фарсе Инджуиды. Основатель династии Шараф ад-Дин
Махмуд (правил с 1325 по 1333, казнен в 1336 г.) оставил че-
тырех сыновей, каждый из которых в свое время претендовал
на правление этой провинцией. Старший из сыновей Джалал
1 Наиболее подробные обзоры политических распрей в Ширазе в
связи с творчеством Хафиза см. в [Муин 1990, с. 275-349; Зарринкуб
1970; Limbert 2004].
Русский Хафиз (введение)
11
ад-Дин Мае ^уд-Шах был назначен правителем Фарса в 1335 г.,
однако в том же году его место захватил второй из братьев —
Гийас ад-Дин Кай-Хусрав. После смерти Кай-Хусрава в 1338 г.
МасУд-Шах снова занял престол, но правил недолго. Годом
позже третий брат Шамс ад-Дин Мухаммад в союзе с Пиром
Хусайном (представителем связанной с монголами династии
Чупанидов), назначенным правителем Фарса, разбил войска
своего брата. Однако вскорости Пир Хусайн казнил своего со-
юзника, под тем предлогом, что тот добивался единоличного
правления. Ширазцы встретили враждебно ставленника монго-
лов, он продержался около двух лет и был свергнут Абу Исха-
ком, который в 1342 г. уступил правление Фарсом своему ос-
тавшемуся в живых брату МасУд-Шаху. В том же году неза-
дачливый Мае Уд-Шах был убит по приказу Чупанидов, однако
им не удалось закрепиться в Ширазе, и на волне единодушной
поддержки разных слоев горожан власть вернулась к послед-
нему оставшемуся в живых брату — Абу Исхаку Инджу. Султан
Джамал ад-Дин-Шах Абу Исхак правил Ширазом до 1353 г., че-
канил монету со своим именем, имя его упоминалось в хутбе,
он стал независимым правителем Фарса наряду с Музаффари-
дами в Йезде и Кермане, Джалаиридами в Ираке и Курдистане,
Сарбедаридами в Западном Хорасане, Чупанидами в Азербай-
джане и Куртами в Герате и Северо-восточном Иране. Извест-
но, что уже при МасУд-Шахе Хафиз входил в число поэтов,
несших поэтическую службу при дворе [Hafez de Chiraz 2006,
с. 53], а с Абу Исхаком, который был меценатом и ценителем
поэзии, Хафиза связывали дружеские отношения (см. коммент.
к газели 100:5).
Укрепившись в Фарсе, Абу Исхак вознамерился расширить
свои владения и захватить Керман. В ответ правитель из дина-
стии Музаффаридов Амир Мубариз ад-Дин Мухаммад Музаф-
фар осадил Шираз. Осада продлилась шесть месяцев, и в 1353
г. город пал. Во время осады умер Хаджи Кавам ад-Дин Хасан
Тамгачи, вазир (министр) Абу Исхака, двадцать пять лет слу-
живший Инджуидам и своей щедростью заслуживший любовь
всех классов общества и снискавший похвалы Хафиза (см.
коммент. к газелям 7:7; 11:10; 16:11 и др.); сам Абу Исхак бе-
жал.
12
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Власть в Фарсе перешла в руки династии Музаффаридов,
правившей до 1395 г. Амир Мубариз ад-Дин, чрезвычайно на-
божный, суровый и требовательный властитель, приказал за-
крыть винные лавки, курильни опиума и дома терпимости и
вознамерился даже разрушить могилу Са'ди, осуждая его по-
эзию как недостаточно благочестивую [Limbert 2004, с. 36-37].
Он получил от ширазцев прозвище мухтасиб (так именовался
чиновник, ответственный за соблюдение норм шариата).
Абу Исхак Инджу не оставил попыток вернуть себе власть в
Фарсе, однако в 1357 г. он был захвачен в плен войском Му-
заффаридов, привезен в Шираз и казнен (см. коммент. к газе-
лям 64:2; 81 и 82).
Нетерпимость и подозрительность Амира Мубариз ад-Дина
вызывали недовольство даже самого близкого окружения; его
сын Джалал ад-Дин Шах Шуджа* при поддержке брата заточил
Амира Мубариз ад-Дина в крепость, предварительно ослепив
его. Даже в этих обстоятельствах несдающийся правитель су-
мел добиться возвращения в Шираз и сохранения за собой но-
минальной власти. Однако его попытка с помощью заговора
вернуть себе власть реальную провалилась; остаток жизни он
провел в заточении в крайне суровых условиях и умер от бо-
лезней в 1364 г.
Расправившись с отцом-заговорщиком, Шах Шуджа' окон-
чательно утвердился на ширазском престоле. Правда, борьба за
власть с ближайшими родственниками сделала его правление
весьма беспокойным. С одной стороны, в это время владения
Музаффаридов расширились максимально, им принадлежали
Фарс, Керман и Исфахан, они также контролировали Хузистан,
Луристан и Белуджистан, а в 1375 г. даже ненадолго захватили
Азербайджан и Арран. С другой стороны, страну раздирали не-
прерывные междоусобицы. Брат Шаха Шуджа* Шах Махмуд,
назначенный правителем Исфахана и Абарку, опираясь на
поддержку Джалаиридов из Багдада, вел военные действия
против брата и даже захватил Шираз (1364-1366). После смер-
ти Шаха Махмуда в 1375 г. главными противниками Шаха
Шуджа* стали его племянники Шах Йахйа в Йезде и Шах Ман-
сур в Шуштаре.
Образ жизни самого шаха и его двора также не способство-
вал политической стабильности. На многодневных пирах при-
Русский Хафиз (введение)
13
нимались неверные решения и совершались опрометчивые по-
ступки. Так, в приступе пьяного гнева Шах Шуджа' приказал
ослепить своего сына Султана Шибли. Здоровье правителя было
подорвано бесчисленными оргиями, и он умер в 1384 году в
возрасте 53 лет, назначив преемником в Фарсе своего сына
Зайн ал-'Абидина. Другие родственники получили в надел: брат
Абу Йазид — Исфахан, другой брат Султан Ахмад — Кирман, а
племянник Шах Йахйа — Йезд. Умирающий правитель пони-
мал, что Музаффаридам не устоять перед растущей мощью Ти-
мура. Однако его попытки заручиться покровительством са-
маркандского властителя оказались тщетными. В 1387 году
Тимур впервые занял Шираз и назначил Шаха Йахйа вассаль-
ным правителем. А в 1393 во время второй окуппации города
все ширазские художники, ученые и ремесленники были пере-
везены в Самарканд, почти все наследники Музаффаридов
уничтожены, а их владения разделены между тимуридскими
военачальниками. Правителем Шираза стал сын Тимура 'Умар
Шайх2. Так закончилась пора блистательного расцвета Шираза,
которую часто называют «эпохой Хафиза».
* * *
Герой газелей Хафиза безусловно — обитатель Шираза. Ны-
нешний читатель вряд ли увидит реальных ширазцев под мас-
ками традиционных персонажей, таких как «мухтасиб», «аскет»,
«ринд», «возлюбленный друг», «старец-виноторговец» и прочие, а
топографию реального города — в условных поэтических локу-
сах: «сад», «кабак», «базар», «обитель», «улица друга» и т. д. Одна-
ко для современников поэта содержание каждой газели было,
конечно же, гораздо богаче, чем для нас, за счет того, что мно-
гие элементы лексикона газели не только рождали поэтические
образы, но и вызывали определенные ассоциации, связанные с
повседневной жизнью города. Так, для того, чтобы объяснить
смысл какого-либо бейта Хафиза, в котором фигурирует мухта-
сиб, приходится прибегать к громоздкому комментарию. Необ-
ходимо сообщить, что так назывался городской чиновник, в
обязанности которого входил контроль за торгово-ремесленной
деятельностью, в частности, за соблюдением мер и весов на ба-
2 История правления Шаха Шуджа' изложена по [Limbert 2004,
с 39-42].
14 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
заре. Побочной (но в поэзии вышедшей на первый план) функ-
цией городского мухтасиба был контроль за соблюдением норм
мусульманской морали. Он обладал исполнительной властью и
мог наказывать виновных без судебного разбирательства3; по-
этому в газели мухтасиб — один из отрицательных персонажей
и главных гонителей лирического персонажа, склонного зали-
вать страдания вином. Этих сведений, как будто, достаточно,
чтобы понять смысл следующего бейта: «При том, что вино су-
лит радость и ветерок рассыпает розы, //Не пей вина под зву-
ки чанга, ведь мухтасиб настороже!». Но для любого ширазца
середины XIV в. слово «мухтасиб», как уже говорилось, было
прежде всего прозвищем ревнителя благочестия Мубариз ад-
Дина (см. коммент. к газели 41:1,7). И это локальное значение
стало дополнительным смысловым компонентом бейта, прида-
вавшим ему злободневность в глазах ширазцев. Поэтому любые
сохранившиеся в исторических хрониках сведения о системе
управления городом, его социальной структуре, топографии,
важнейших общественных зданиях, торговле и ремеслах, обы-
чаях повседневной жизни и т.п., помогают лучше понять по-
эзию Хафиза. В хафизоведении существует немало серьезных
работ, посвященных воссозданию облика Шираза XIV в.4. Одна
из новейших— «Шираз во времена Хафиза. Средневековый
персидский город в пору расцвета» американского ученого и
дипломата Джона Лимберта [Limbert 2004], вторая часть кото-
рой — «Город роз и соловьев» — рисует целостную и многоас-
пектную картину ширазской жизни.
Шираз был столицей области Фарс, однако правитель Фарса,
проживая в Ширазе, редко вмешивался в дела городского
Зшравления. Эта функция была возложена на вазира, который
контролировал деятельность чиновников по всей области. За
поддержанием общественного порядка надзирал шихна, сбо-
ром налогов занимался баскак, контроль над стандартами мер
и весов осуществлял мухтасиб. Многие из вазиров покрови-
тельствовали искусствам и наукам, они содержали собственные
дворы, где собирались поэты, художники, музыканты, ученые.
Завсегдатаем подобных собраний (маджлисов) был и Хафиз.
3 См. подробнее статью О. Г. Большакова «Мухтасиб» в [ИЭС].
4 Упомянем здесь наиболее важные: [Касем Гани 1942], [Arberry
1960], [Зарринкуб 1970], [Му'ин 1990], [Limbert 2004].
Русский Хафиз (введение)
15
Однако, несмотря на большую власть, которой они обладали,
жизнь вазиров постоянно подвергалась опасности, многие из
них пали жертвой мнительности правителя или ненависти на-
селения. Но основную роль в управлении городом играли не ва-
зиры, отвлекавшиеся на дела, связанные с обширной террито-
рией и внешней политикой; реальной полнотой власти в городе
обладал кази ал-кузат> главный судья Фарса [Limbert 2004, с.
80], под началом которого находились все судьи. В отличие от
пришлых правителей и их министров главный судья был, как
правило, выходцем из местной знати и принадлежал к одной из
наиболее влиятельных семей Шираза, владевших крупной зе-
мельной собственностью. Неудивительно, что именно кази до-
водилось представлять интересы населения Шираза перед пра-
вителем. Еще одним центром влияния в городских делах была
хорошо организованная, богатая, уважаемая группа сеййидов
или алавитов (потомков Пророка через 'Али). Они, как прави-
ло, исполняли функции духовных руководителей, таких как
шейх ал-ислам, проповедник, глава суфийского ордена.
Хафизу принадлежит знаменитый фрагмент (кыт'а), в кото-
ром он вспоминает времена шаха Абу Исхака, но восхваляет не
его одного, а всю верхушку городского правления, это — глав-
ный судья Маджд ад-Дин Исма'ил Фали (1271-1355); глава су-
фиев шейх Амин ад-Дин Балийани Казируни (ум. 1344); судья
и ученый 'Азуд ад-Дин Иджи (ум. 1355); главный министр Ка-
вам ад-Дин Тамгачи (ум. 1352) [Limbert 2004, с. 75].
İLİ
jL_J Jjl^j jUj j\ jl <J ^l^^jJalâ a£
(j j^ll qjla\ n^ Jl^Jİ *4jL jSj
J iuS <luu ^U jl£ jl diAA t>ûj ч£
16
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Jul JjJ fij-1 t5a.lA j^ fjj£ jl>
[Хафиз, Dorj-3, Кыт'а № 7]
Во время правления Шаха Шейха Абу Исхака
Благодаря пяти удивительным людям процветало царство Фарса.
Первый — такой как он, падишах, раздающий наделы,
Что порадовал свою душу и воздал должное веселью.
Еще — наставник ислама, шейх Маджд ад-Дин,
Судья, лучше которого не припомнит небо.
Еще — последний из святых, шейх Амин ад-Дин,
Его благословенное рвение разрешило трудные дела.
Еще — шахиншах знания 'Азуд, который сочинениями
Во имя шаха заложил основы Дела стоянок5.
Еще — щедрый, такой как Хаджи Кавам, с сердцем, как море,
Который снискал в мире доброе имя своими дарами
и пожалованиями.
Они не оставили себе равных и ушли,
Да простит их всех великий и славный Бог!
Низовой ступенью городской организации были цеховые
союзы ремесленников и группы жителей, объединенные по
кварталам (махалла). Во главе их стояли руководители, имено-
вавшиеся кулувийан (мн. ч. от kulu «базарный смотритель»,
«квартальный надзиратель»). Под их контролем находились раз-
нообразные чернорабочие и городские низы, «те, кого аристо-
краты называли уничижительными именами риндов и ауба-
шей» [Limbert 2004, с. 90]. Но среди риндов и аубашей, извест-
ных своим опасным и разгульным образом жизни, были и те,
кто называл себя благородными мужами (джаванмардан) и бо-
гатырями (пахлаван). В их полутайных объединениях культи-
вировались высокие моральные принципы (гостеприимство к
чужим и покровительство слабым) и физическая подготовка.
Такие объединения представляли собой столь грозную силу, что
правители города были вынуждены считаться с их настрое-
ниями и старались заручиться поддержкой их руководителей.
5 «Дело стоянок» — намек на наиболее известный богословский труд
'Азуд ад-Дина «Стоянки в науке калама» [Limbert 2004, с. 116).
Русский Хафиз (введение)
17
Шираз недаром называли «прибежищем знания» (dar al-'Um)
и «твердыней святых» (burj al-awliyä). Город славился множест-
вом медресе, во многих преподавали знаменитые ученые и
хранились богатые собрания рукописных книг, которые посто-
янно пополнялись. Основание и содержание медресе считалось
одной из наиболее почетных форм благотворительной деятель-
ности, которой охотно занимались представители городской
знати, как мужчины, так и женщины. Например, самое круп-
ное медресе во времена Хафиза было основано матерью шаха
Абу Исхака — Таши Хатун (в 1343 г.).
Религиозная жизнь Шираза протекала в многочисленных ме-
четях, а также в суфийских обителях — ханаках и рабатах (в
Ширазе рабатами назывались как места обитания суфиев, так
и комплексы зданий, располагавшихся вокруг могилы святого).
Главная мечеть Шираза славилась своей красотой, а ее имам
(предстоятель на молитве), ва'из (проповедник) и хатиб (лицо,
читающее пятничную проповедь) были заметными обществен-
ными фигурами в городе.
Основу экономического процветания города составляли
производство и экспорт сельскохозяйственной продукции,
главным образом, пшеницы и ячменя; но самой важной стать-
ей экспорта был знаменитый ширазский виноград «мискали»,
из которого производили вино, уксус, сироп и изюм. В Фарсе
выращивали фиалки, жасмин и нарциссы для изготовления
разнообразной ароматической продукции. Цветочные эссенции
и масла широко использовались в средневековой медицине и
парфюмерии, а Фарс издавна славился их производством; так,
ширазская розовая вода считалась лучшей в мире. Большим
спросом пользовалась текстильная продукция Шираза— тон-
кие льняные ткани, муслин, шелк и тафта [Limbert 2004, с. 67-
68]. Ароматные цветы, прекрасные ткани и благовония, кото-
рые в газелях Хафиза могут показаться лишь данью поэтиче-
ской условности, были в Ширазе повседневной реальностью го-
родской жизни, а средоточием этой жизни был базар.
Базары играли важную роль в жизни любого мусульманского
города, и торговая терминология уже в эпоху Саманидов стала
частью языка лирической поэзии. Влюбленный мог «заключить
сделку» с возлюбленным другом, описать свое сердце как год-
ный или негодный товар, уподобить его фальшивой или золотой
18
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
монете, сравнить знатока стихов или старца-наставника с ба-
зарным менялой, умеющим распознать настоящее золото. Этот
торговый код, вероятно, вызывал у жителей Шираза не только
поэтические, но и разнообразные житейские ассоциации, по-
скольку едва ли не все население города так или иначе имело
отношение к торговле. Богатый и разветвленный центральный
базар располагался у северных ворот Старой соборной мечети
(Jâmi'-i 'atîq). Он был разделен на участки, закрепленные за тем
или иным торговым объединением. Наряду с главным базаром
в источниках упоминаются также специализированные (на-
пример, базар обувщиков) и местные базары.
Воспевание красот природы — древняя поэтическая тема, и к
XTV веку она включала обширный репертуар устойчивых гипер-
бол (сад — рай, весенний ветер — животворное дыхание 'Исы и
т. д.). Реальный Шираз, по свидетельству его обитателей и вос-
хищенных путешественников, был настолько прекрасен, что по
отношению к его ландшафтам подобные описания не выглядели
преувеличением. Современник Хафиза и автор хроники «Шираз-
нама» Ахмад ибн Аби-л-Хайр писал: «Если в мире можно сыскать
райский сад, то это рынки кварталов, просторы окрестностей и
четыре времени года этого города» [Му*ин 1990, с. 142].
Шираз окружен горами, он расположен на высоте около 500 м
над уровнем моря в зеленой долине с умеренным климатом. Осо-
бенно славятся долгая и красочная ширазская весна, которая
длится с начала февраля до мая, а также живописная теплая
осень (октябрь—ноябрь). Если принять во внимание, что летом
там не бывает изнурительной жары, а зимой — сильных морозов,
то становится понятным, почему автор «Шираз-нама» включил
четыре времени года в число «райских примет» города.
В Ширазе никогда не было нехватки воды. По свидетельству
Ибн Баттуты, в XIV веке вода шла через город по пяти каналам,
скрытым под землей в окрестностях и выходившим на поверх-
ность внутри городских стен. Главным из этих каналов был
воспетый ширазскими поэтами Рукнабад, вода в котором, по
словам Хафиза, превосходит живую воду Хизра. В газели 279
[Хафиз 1994] Ширазу посвящены первые пять бейтов:
1. О, как прекрасен Шираз и его несравненное положение,
Боже, храни его от упадка!
Русский Хафиз (введение)
19
2. Сто [пожеланий] нашему Рукнабаду: «Да не обездолит его Бог!»,
Ибо его прохладные воды даруют жизнь Хизра.
3. Меж Джа'фарабадом6 и Мусаллой
Веет его напоенный амброй ветер.
4. Приди в Шираз и милость Святого Духа
Найди у его просвещенного люда.
5. Кто помянул там о египетском сахаре,
Без того, чтобы сладостные его не пристыдили?!
На основе сравнения Шираза с райским садом в ширазском
литературном круге сложился комплекс мотивов восхваления
родного города; особенно часто в этой связи поэты упоминали
Мусаллу. Также поэтизировались цветники и розарии — здесь
популярным образом стал ветер, напоенный их благоуханием.
Шираз столь прекрасен, что два гения персидского слова —
объездивший весь мусульманский мир Са'ди и почти не поки-
давший родных мест Хафиз — утверждали, будто они не в си-
лах расстаться с его красотой:
Не выпускают мой подол из рук
Земля Шираза и вода Рукнабада
[Са'ди, Dorj-3, 154:15].
Не разрешают мне отправиться в путь
Дуновение ветра из Мусаллы и вода Рукнабада
[Хафиз 1994, 101:9].
* * *
Если мы располагаем достаточным числом источников, по-
зволяющих с определенной достоверностью реконструировать
жизнь Шираза во времена Хафиза, то о жизни самого Хафиза
сохранилось так мало сведений, что историкам литературы ос-
тается лишь область догадок, гипотез и предположений. Наибо-
лее ранним дошедшим до нас источником считается Предисло-
вие к Дивану Хафиза (muqaddima-yi jâmï-i dïvân-i häfiz), при-
писываемое его современнику Мухаммеду Гуландаму [Казви-
ни — Гани 1941, с. aJ.v-^]; хотя подлинность его некоторое вре-
мя оспаривалась, однако в настоящее время она признана
большинством иранистов [Meisami 2002]. В жизнеописаниях
Хафиза, которые помещены в антологиях поэтов (тазкира), со-
ставленных в более позднее время, содержится множество не-
достоверных сведений и очевидного вымысла (см. [Browne 1924,
6 Мусалла и Джа'фарабад — живописные предместья Шираза.
20
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
с. 271-273]). Вся информация о жизни поэта, как сохраненная в
разнообразных тазкира, начиная с XV века, так и полученная в
результате анализа корпуса стихов Хафиза, собрана, системати-
зирована и критически проанализирована в ряде изданий, с
наибольшей полнотой — в работах Мухаммада Мухина [Му*ин
1990] и Баха ад-Дина Хуррамшахи [Хуррамшахи 1999].
Полное имя поэта — Шамс ад-Дин Мухаммад, его литератур-
ное имя (tcucalluş) — Хафиз, на арабском языке häflz буквально
значит «хранящий», а терминологически — «хранящий в памяти
Коран», т. е. тот, кто читает Коран наизусть. Принято считать,
что псевдоним был избран поэтом в связи с профессией — с
ранней молодости он был чтецом Корана и целиком хранил его
в своей памяти. Глубокое знание Корана нашло отражение в
многочисленных коранических аллюзиях и цитатах, постоянно
встречающихся в Диване. В иранских изданиях перед именем
Хафиза часто добавляют почетный титул Хаджа (<*>»>>), т. е.
«господин» — уважительное именование высокопоставленных
чиновников, например, министров, а также духовных настав-
ников, шейхов. Порой этот титул используют даже как субсти-
тут имени поэта; так, турецкий комментатор Хафиза Суди
(XVI в.) постоянно именует автора комментируемых газелей
просто Хаджа7.
Достоверно известно, что Хафиз родился и умер в Ширазе,
относительно дат существуют незначительные расхождения.
Согласно М. Мухину, поэт родился в 715/1315 г., а у К. Гани
указана более поздняя дата— 717/1317 г. Признанная в со-
временной иранистике дата смерти— 792/1390 г., но в неко-
торых тазкира назван 791/1389 г.
Информации о семье Хафиза крайне мало, и она основыва-
ется на ненадежных и поздних источниках. По одной версии
его дед и отец происходили из Исфахана, и имя отца — Баха
ад-Дин. По другим версиям отца поэта звали Камал ад-Дин, и
он был выходцем из Туйсеркана — города в провинции Хама-
дан. Есть сведения, что отец Хафиза был богатым купцом.
Мать поэта была родом из Казеруна [Му'ин 1990, с. 107-108].
7 В газели 69 есть бейт, косвенно указывающий на то, что Хафиза
называли Хаджа уже при жизни: «Вчера он уходил, и я сказал: „О ку-
мир, выполняй договор!" // Он ответил: „Ты ошибся, господин (Ха-
джа), в этом договоре нет [места] верности!"» (бейт 8).
Русский Хафиз (введение)
21
Мухаммад Шамс ад-Дин был младшим из трех сыновей. Отец
умер рано, достаток семьи закончился довольно скоро, и семья
впала в нищету, а братьям пришлось расстаться. Младший сын
остался на попечении матери, и как сообщает тазкира «Май-
хана», мальчик был передан на воспитание одному из жителей
квартала. Когда ребенок подрос, его отдали в подмастерья в
лавку хлебопека, и в обязанности его входило месить тесто. Во
дворе лавки, — продолжает автор тазкира, — была школа, и
подросток отдавал часть денег учителю, чтобы иметь возмож-
ность в свободное время посещать занятия. Именно там он вы-
учил Коран [там же, с. 113]. Один из братьев поэта умер в мо-
лодости, другой — в возрасте 59 лет. Эти данные извлечены из
двух кыт'а Хафиза в жанре тарих (стихотворение с зашифро-
ванной датой). Согласно одному из них, имя старшего брата
Халил 'Адил. Однако указанные кыт'а содержатся не во всех
рукописях Дивана, что дает основания М. Му*ину усомниться в
достоверности этих фактов [там же, с. 108-109]. В «Тарих-и
Фиришта», созданном через два века после смерти Хафиза,
упоминается, что у поэта была сестра, а также дети, однако
имена их не названы [там же]. Иногда делаются попытки при-
влечь Диван самого поэта как источник сведений о его семье,
однако, такие данные ненадежны, скудны и основаны на
слишком буквальном толковании стихов. По общему мнению,
как минимум в трех газелях имеются отклики на смерть люби-
мого сына поэта (54:7,8; 134:3,4; 216:4,5), см. [Hafez de Chiraz
2006, с. 32].
Наставниками Хафиза называют ряд известных ученых того
времени, таких как Кавам ад-Дин 'Абдаллах Ширази, Мирсаид
Шариф Джурджани и Кази 'Азуд ад-Дин Иджи, но историче-
ская достоверность этой информации остается дискуссионной.
Хафиз стал вхож в придворные круги в сравнительно моло-
дом возрасте и сохранял разнообразные связи с дворами пра-
вителей на протяжении всей жизни. Каждая смена власти для
Хафиза означала, помимо прочего, появление новых объектов
восхваления. Редкие упоминания в Диване имен и историче-
ских событий (причем, как правило, в аллегорической и неяв-
ной форме) — единственный вид связанных с биографией по-
эта сведений, которые заслуживают доверия. У Хафиза скла-
дывались разные отношения с правителями, воспетыми в его
22
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
стихах. Разумеется, реальные коллизии придворной жизни, да-
вавшие импульс лирическим переживаниям, остаются за пре-
делами газельного повествования, прежде всего в силу жанро-
вой природы стихотворения. И тем не менее, стремление иран-
ских филологов связать газель с личными обстоятельствами
жизни поэта можно понять, ведь объект их исследования — ве-
личайший поэт Ирана, награжденный в традиции титулами
«Язык сокрытого» (lisân al-ğayb) и «Толкователь тайн» (tarjumân
al-asrär). Такой поэт не может существовать в истории литера-
туры и культуры без биографии, а поскольку жизнь Хафиза
оказалась еще одной «сокровенной тайной», на место фактов
пришли легенды. Главным образом в них повествуется об об-
стоятельствах сложения газели, реакции на нее окружающих
или о содержащемся в ней предсказании. Именно из таких ле-
генд составлено житие поэта; оно, как правило, излагается в
предисловиях к поэтическим переводам Хафиза, предназна-
ченным для широкой публики8. Так, центральное событие жиз-
ни Хафиза — обретение поэтического дара — связывают с лю-
бовью поэта к ширазской красавице Шах-Набат. Эта романти-
ческая легенда возникла как комментарий к знаменитой газели
№ 183, открывающейся словами: «Вчера на рассвете избавле-
ние от печали нам дали, // И во мраке ночи живую воду нам
дали». По легенде, Хафиз был начинающим поэтом, и его ран-
ние стихи не только не пользовались успехом, но часто стано-
вились объектом насмешек. К тому же, по некоторым сообще-
ниям, он был неграмотен. В это время он добивался любви
Шах-Набат, однако из-за своей бедности не мог рассчитывать
на ее взаимность. Чтобы осуществить свое желание и прибли-
зиться к возлюбленной, он дал обет провести сорок ночей в мо-
литвах на могиле святого и поэта Баба Кухи Ширази. На соро-
ковую ночь бдений и молитв ему явился сам 'Али, дал вкусить
таинственного небесного яства, после чего поэт обрел великие
знания и стал писать стихи непревзойденной прелести [Browne
8 См., например, содержательные предисловия Е. Дунаевского к
собственным переводам [Хафиз 1935], Н. Б. Кондыревой к переводам
Германа Плисецкого [Хафиз 1981]; предисловие М. Л. Рейснер к сбор-
нику переводов разных авторов включает раздел «Страницы леген-
дарной биографии Хафиза» [Хафиз 1999, с. 9-23].
Русский Хафиз (введение)
23
1924, с. 274; Му*ин 1990, с. 136; Ардашникова, Рейснер 2010,
с. 357-358].
Еще с одной газелью (285:1) связана другая любовная исто-
рия, приписываемая поэту. Во времена правления Шаха Шу-
джа' Хафиз влюбился в сына ширазского муфтия. Юноша был
до такой степени средоточием прелести и красоты, что даже
язык Хафиза оказался бессилен воспеть их достойным образом.
Однажды поэту выпало вступить в беседу с объектом своей стра-
сти. Они расположились на крыше здания, и Хафиз протянул от-
року чашу с вином. Поэт не отрывал взгляда от юного красавца,
втайне любуясь прелестью его лица, а отрок созерцал свою кра-
соту, отражавшуюся в глазах поэта. Соглядатаи донесли шаху об
этой встрече, и он, поднявшись на крышу, стал исподтишка на-
блюдать за происходящим. Когда поэт протянул другу очередную
чашу и тот выпил ее залпом, Шах Шуджа' произнес строчку:
«Хафиз [т. е. чтец Корана] наливает из бутыли, а муфтий пьет из
пиалы». Хафиз экспромтом законил бейт: «Во времена падишаха,
прощающего ошибки и покрывающего грехи»9.
О том, как воспринималась газель Хафиза его современни-
ками, рассказывает легенда о поэте и Тимуре-завоевателе, ко-
торую не обходит вниманием ни один из биографов Хафиза
(см. наш коммент. к газели 3). Легенды о магической силе сти-
хов распространяют воздействие строк Хафиза на последую-
щие поколения читателей, согласно одной из них, император
Аурангзеб, правивший в Индии (1659-1707), отменил свой жес-
токий приговор под влиянием одного лишь бейта Хафиза (см.
[Пригарина 1991]). С приписываемой Дивану магической силой
связана и практика поисков ответа на вопросы в его газелях и
гадания (fälj по его стихам. Существует легенда, что ширазские
факихи отказались совершать мусульманский обряд над погре-
бальными носилками Хафиза из-за того, что они усматривали в
его стихах неподобающие и богопротивные мысли, а также из-
за многочисленных нападок поэта на лицемерное благочестие
святош. Уступив в конце концов уговорам, они согласились пе-
реложить решение на самого поэта: листки с разными бейтами
сложили в кувшин и предложили ребенку вытащить один нау-
9 См. [Му'ин 1990, с. 132], со ссылкой на книгу «Majâlis al-'ussâq*
Камал ад-Дина Хусайна Газаргахи, приписываемую Султану Хусайну
Байкара.
24
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
дачу. Выпал бейт со словами: «Не сторонись похоронных носи-
лок Хафиза, // Хоть он и погряз в грехах, но отправляется в
рай» (газель 79:7). Прочитав эти строки, ученые богословы при-
шли в изумление, признали, что поэту ведомы сокровенные
тайны, и совершили положенные обряды [Му*ин 1990, с. 634-
635]. Гадание «на Хафизе» широко распространено и по сей
день (см. [Пригарина 2008, с. 4]).
* * *
Хафиза не назовешь плодовитым поэтом. В отличие от своих
великих предшественников, таких как 'Аттар, Руми, Са'ди, и
многих современников, он создавал почти исключительно газе-
ли, да и их число сравнительно невелико10. Помимо газелей Ха-
физу принадлежат два коротких маснави «Книга виночерпия и
книга певца» (sâqî-nama va muganni-nâma) и «Дикая лань» (ähü-
yi vaxsîj, ряд кыт'а и касыд и несколько десятков руба'и.
Указать точное число произведений в разных жанровых
формах затруднительно, поскольку единого канонического тек-
ста Дивана до сих пор не существует, а текстология по-
прежнему остается базовой проблемой хафизоведения. Между
тем, как справедливо отмечает Дж. Мейсами, насыщенность
поэтического языка Хафиза рождает потребность в абсолютно
надежном тексте [Meisami 2002]. Уже в XIV веке Хафиз стал ве-
ликим национальным поэтом и остается им по сей день. По-
нятно, что до появления литографированных и печатных изда-
ний Диван постоянно копировали, к настоящему моменту из-
вестно около 1000 рукописей, хранящихся в библиотеках Ира-
на и других стран, а еще больше манускриптов до сих пор не
введено в научный обиход. Казалось бы, обилие рукописей пре-
доставляет все возможности для подготовки достоверного кри-
тически выверенного текста, однако на деле эта задача оказы-
вается трудно выполнимой. Не существует консенсуса ни по
одному из четырех текстологических параметров: количество
10 Хафизу принадлежит порядка пятисот газелей, тогда как в Ди-
ване Руми их около 3,5 тысяч, при этом Руми является автором гран-
диозной «Поэмы о скрытом смысле» и других произведений; Са'ди
кроме газелей (около 700 по изданию Фуруги [Са'ди 1996]) написал
прославленные дидактические сочинения — поэму «Бустан» и книгу
«Гулистан» (орнаментальная проза), а также немало персидских и
арабских касыд.
Русский Хафиз (введение)
25
газелей, количество бейтов в каждой газели, порядок бейтов в
каждой газели, правильное чтение для каждого бейта. Более то-
го, дискуссионна даже сама возможность постановки этих про-
блем. Ведь неизвестно, существовала ли когда-нибудь автор-
ская версия Дивана Хафиза, к реконструкции которой должны
стремиться филологи. Возможно, его газели хранились в памя-
ти современников, исполнялись на маджлисах и записывались
в сотни личных поэтических антологий, и только после смерти
автора были объединены в Диван кем-то из почитателей его та-
ланта, скорее всего, Мухаммадом Гуландамом11.
Вся история освоения рукописного наследия Хафиза — это,
в сущности, череда попыток собрать вместе разрозненные сти-
хотворения и, опираясь на те или иные текстологические аргу-
менты, доказать подлинность воссозданного корпуса. Основ-
ные этапы этой истории12 — ширазский, гератский, турецкий,
индийский, европейский — отражают постепенное обретение
поэтом мировой славы.
Характерно, что почти все рукописи ширазского периода
представляют собой поэтические сборники; стихи Хафиза сосед-
ствуют в них с произведениями современников (Салмана, Кама-
ла Худжанди и др.) и предшественников (например, Са'ди).
Три старейшие рукописи, содержащие стихи Хафиза, дати-
руются 1409-1414 гг. Они созданы в период, когда губернато-
ром Фарса и Шираза был внук Тимура Искандар б. *Умар Шайх,
меценат и поклонник персидской поэзии и миниатюры. Две из
этих рукописей, появившихся всего через 20 с небольшим лет
после кончины поэта, предлагают, наряду с текстами газелей,
их отличающиеся варианты, что доказывает отсутствие у пис-
цов-составителей сборника какого-то одного канонического
текста для копирования. Наибольшее количество газелей —
458 — содержит рукопись из хранилища Айа София (Стамбул).
В годы правления следующего губернатора Фарса — Ибрахима
б. Шахруха (1414-1434) писцы и миниатюристы продолжили
свою работу, именно к этому времени относится рукопись, со-
11 Мухаммед Гуландам в своем знаменитом предисловии к Дивану
написал, что поэт не составил собрания своих стихов «из-за обязанно-
стей чтеца Корана и занятости на службе у султана» [Му*ин 1990,
с 659].
12 Подробнее см. [Glassen 1991].
26
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
держащая анонимное предисловие, которое позднее было при-
писано Гуландаму.
В течение XV в. Хафиз становится чрезвычайно популярным
среди интеллектуалов тимуридского Герата, первоначально бла-
годаря влиянию его горячего поклонника — поэта и проповед-
ника шейха Касима ал-Анвара (ум. 1433). Появляется все боль-
ше рукописей, содержащих только его стихи; любители поэзии
читают Хафиза уже не в составе сборников — как одного из
плеяды ширазских мастеров газели, а в отдельных списках —
как лучшего и не имеющего равных. Алишер Навои (ум. 1501),
вместе со своим наставником Джами (ум. 1492), неоднократно
изучал диван Хафиза и назвал поэта «предводителем и вождем
людей истины» (см. [Бертельс 1965а, с. 43]). Распространению
Дивана способствовало и постепенно входящее в моду гадание
по Хафизу.
Гератский период ознаменовался не только резким возраста-
нием количества рукописей, содержащих разные изводы Дива-
на, но и первой серьезной попыткой создания своего рода «кри-
тического текста». В 1501 г. тимуридский принц Фаридун воз-
главил литературную комиссию, призванную сличить имеющие-
ся рукописи стихов Хафиза и составить на их основе текст, сво-
бодный от ошибок, внесенных ранними переписчиками.
В начале XVI в., когда в Иране воцарилась династия Сефе-
видов, избравших шиизм в качестве государственной религии,
в соседние Турцию и Индию устремились многочисленные
эмигранты-сунниты, что, в частности, способствовало еще
большему распространению персидской поэзии за пределами
Ирана. В Турции, где знание персидского языка становится в
это время одним из критериев образованности, создаются пер-
вые комментарии к Дивану Хафиза, призванные, прежде все-
го, помочь иноязычному читателю справиться с грамматиче-
скими и лексическими трудностями, а также разобраться в
тонкостях персидской риторики. Вслед за суфийскими по духу
комментариями Сурури (ум. 1561) и Шем*и (ум. 1591) был соз-
дан труд боснийца Суди (ум. 1601), позднее переведенный на
персидский язык и не утративший значения до наших дней.
Суди выступил не только как филолог, разъясняющий смысл
бейтов с опорой на грамматический, лексический и поэтологи-
ческий комментарий, но и как текстолог, сделавший следую-
Русский Хафиз (введение)
27
шую попытку создать «критический текст». Он сличал вариан-
ты каждой газели по многим старым рукописям, а также неод-
нократно совершал путешествия, чтобы обсудить сложные
строки с иранскими знатоками поэзии. Именно текст Дивана,
включенный в «Комментарий Суди к Хафизу» (см. [Суди]), лег в
основу первых европейских изданий и переводов — Германна
Брокгауза (Лейпциг, 1854—1861) и Розенцвейга-Шванау (Вена,
1858-1864).
Эмигранты из Ирана способствовали и широкому распро-
странению стихов и славы Хафиза в Индии эпохи Великих Мо-
голов. Первое печатное издание (литография) Дивана Хафиза
появилось именно там (изд. Ричард Джонсон, сост. Абу Талиб
Хан Ландани, Калькутта, 1791). Однако многочисленные опуб-
ликованные с тех пор индийские версии Дивана образуют от-
дельный корпус текстов, сильно отличающийся по составу от
иранских редакций.
Первое иранское литографированное издание появилось
только в 1838 г., за ним на протяжении XIX в. последовало
множество других. Среди них следует отметить некогда весьма
популярный Диван Хафиза в редакции Мухаммада Кудси Ху-
сайни (т. н. Häftz-i Qudsî). Этот ширазский поэт и каллиграф
взял за основу извод Дивана Фаридуна (1501) и в течение
восьми лет сравнивал его с текстом 50-ти рукописей, а также
ряда литографий. Он многократно посещал гробницу Хафиза и
сверялся с хранившимся там роскошным списком Дивана, из-
готовленным в эпоху Карим-хана Занда (правил 1760-1779).
Труд Кудси был издан литографическим способом в Бомбее в
1896 и 1904 гг. По мнению Хуррамшахи, он находится на гра-
нице между средневековой филологией и современной тексто-
логической наукой; до появления книги М. Казвини и К. Гани
(см. далее) Häfiz-i Qudsî оставался лучшей редакцией Дивана
[Khorramshahi 2002].
Но лишь в начале XX в. иранские филологи вновь вернулись
к идее восстановления «первоначального» состава Дивана на
основе старейших из сохранившихся рукописей. Важным дос-
тижением стало издание, предпринятое 'Абд ар-Рахимом Хал-
хали (Тегеран, 1927), на основе старейшей (1424 г.) из доступ-
ных в то время рукописей. Халхали сопоставил эту рукопись с
тремя более поздними (конца XV-XVI вв.), отмечая все разно-
28
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
чтения в примечаниях. Та же рукопись 1424 г. легла в основу
книги Мухаммада Казвини и Касима Гани [Хафиз 1941], кото-
рую принято рассматривать как первое научно-критическое
издание Дивана. В работе также были использованы 17 более
поздних манускриптов. В отличие от Халхали, эти ученые ста-
вили задачу не очищать старейшую рукопись от ошибок и по-
грешностей на основании более поздних списков, а скорее,
производить критический отбор среди имеющихся вариантов.
К недостаткам издания Казвини-Гани относят отсутствие сис-
тематических указаний на источник, к которому восходит то
или иное отступление от старейшей рукописи. В последующие
годы появляется целый ряд версий Дивана, так или иначе свя-
занных с вариантом, предложенным М. Казвини и К. Гани (та-
ких, как издания М. Фарзада, А. Шамлу, К. Куруша, А. Джорбо-
задара, см. подробнее [Khorramshahi 2002]). Однако следую-
щим значительным шагом в текстологии Дивана стала деятель-
ность Парвиза Натела Ханлари, который посвятил несколько
десятилетий работе над критическим текстом стихов Хафиза,
совершенствуя его от издания к изданию (Тегеран 1959, 1970,
1980). Последний вариант Дивана в редакции Ханлари (1983)
получил широкое признание не только в Иране, но и в мировой
иранистике. В основу своего двухтомного труда ученый поло-
жил 14 старейших рукописей, созданных в промежутке между
1404 и 1432 гг. (их описание и подробный анализ приведены
во втором томе [Ханлари 1983, с. 1116-1149]). При всей осто-
рожности, проявленной Ханлари в отборе конкретных чтений,
его Хафизу также не удалось избежать критических замечаний
и некоторых упреков в методологической непоследовательности
и субъективизме. Один из критиков Ханлари — Салим Нейсари
позднее подготовил и издал собственную редакцию Дивана
(1992). Он пополнил текстологическую базу предшественника и
привлек к рассмотрению еще 29 рукописей. Вскоре после этого
появилось еще одно критическое издание Дивана с запоми-
нающимся названием Häfiz Ъа sa'y-i Säya «Хафиз усилиями
Сайе» (1995). Его издатель Хушанг Сайе выступил как коорди-
натор работы группы иранских филологов, использовавших 31
манускрипт и издания предшественников. По мнению Ш.-А.
Фушекура, книге недостает последовательно выдержанных
критериев при выборе чтений [Hafez de Chiraz 2006, с. 1257].
Русский Хафиз (введение)
29
Можно с уверенностью сказать, что точка в работе над аутен-
тичным текстом не поставлена и вряд ли будет когда-нибудь
поставлена, ведь недостатки последнего критического текста
(Хафиза Сайе) были в сущности обнаружены и перечислены
при подготовке первого (Хафиза Халхали). Подводя итоги тек-
стологической истории Дивана, Эрика Глассен справедливо от-
мечает: «Итак, в каждом столетии были свои знатоки и почита-
тели Хафиза, которые, приходя в уныние из-за распростране-
ния многих пестрящих ошибками текстов, старались в меру
своего разумения „воскресить" подлинный Диван. Как извест-
но, эти издания удостоились в персидском языке изафетных
определений: Häftz-i Südî, Häfiz-i Qudsî, Häfiz-i Xaîxâlî, Häfiz-i
Sämlü и т. д. Но порочный круг, в который попадает каждый,
кто берет на себя подобный труд, был описан — и изведан на
собственном опыте — Халхали, опубликовавшим Диван Хафиза
на основе находившейся в его собственности старейшей из-
вестной на тот момент рукописи 1423 года. Он пишет: „За-
труднительно и даже недопустимо вводить эмендации и ис-
правления, сообразуясь с собственным талантом и вкусом, по-
скольку именно такие исправления и произвели все эти разно-
чтения"» [Glassen 1991, с. 52].
Таким образом, любая из ныне существующих версий Дива-
на Хафиза не может считаться окончательной и полностью дос-
товерной. Поэтому, любые переводы газелей, выражаясь сло-
вами Хафиза, на самом деле «опираются на ветер».
Чтобы дать представление о характере и масштабе текстологи-
ческих проблем, рассмотрим разнообразие версий текста на при-
мере одного стихотворения, выбранного наугад — газели № 29 в
редакции Казвини — Гани с всеми ее вариантами, отмеченными
у М. Фарзада [Хафиз, Фарзад 1968, с. 37-38, газель № 47].
Первый бейт данной газели совпадает во всех рассматри-
ваемых рукописях:
С нами твой образ — к чему заботы о вине?!
Скажи хуму: «Позаботься о себе!», ведь дом хума в упадке [б. 1].
Начиная со второго бейта возникают разночтения; мы даем
их в тексте в круглых скобках.
Будь это напиток рая — вылейте (вар.: не наливайте; не
приносите) у ведь без друга
30
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Для меня любое сладкое питье, что ни дай (вар.: что ни
дадите) — сплошная пытка [б. 2].
Ушел, увы, похитивший сердце (вар. — другой порядок слов:
похитивший сердце, увы, ушел), и в плачущих глазах (вар.:
и для верного друга)
Штрихи образа его пушка — рисунок по воде (вар.: рисунок
миража) [б. 3].
О глаз, пробудись, ведь не может быть спасения
От этого нескончаемого потока (вар.: от нескончаемого потока),
что [хлынул] в жилище сна! (вар.: в долину сна) [б. 4].
Возлюбленный друг (вар.: возлюбленная) приближается к тебе не
таясь, однако
Он видит посторонних (вар.: он не видит посторонних), оттого и
закрылся покрывалом [б. 5].
С тех пор, как роза увидела прелесть пота (вар.: родник пота;
потоп пота) на твоих румяных щеках,
В сердечной муке (вар.: от огня сердца) на (вар.: в) огне страсти
(вар.: в страдании по нему) она утопает в розовой воде [б. 6].
Зеленеют степи и предгорья, давайте не покидать (вар.:
давайте покинем)
Источник воды, ибо весь мир — лишь мираж [б. 7, имеется не во
всех рукописях].
Не ищи в уголке моего мозга места для наставлений,
Ибо эта каморка (вар.: келья; ухо) заполнена тихим говором
чанга и рубаба [б. 8].
Последний бейт, как и первый, совпадает во всех рукописях.
Что такого, если Хафиз — влюбленный, ринд и повеса?
Многие странные состояния сопутствуют поре юности! [б. 9]
Кроме этих бейтов в ряде рукописей имеются еще три бейта:
Твой путь, что за путь! Ведь от беспредельного величия
Океан пространства небес для него — тот же мираж (вар.: тот
же пузырь; источник мук) [б. 10].
Без твоего радующего сердце лика, о свеча, озаряющая сердце,
Сердце пляшет над огнем подобно кебабу [б. 11].
На пиру сердца от твоего лица зажжено сто свечей —
И это удивительно, ведь на твоем лице сто разных завес (вар.:
ведь само твое лицо закрыто покровом) [б. 12].
Отметим, что имеющиеся разночтения влияют на интерпре-
тацию бейта по-разному. Некоторые отражаются лишь в не-
значительном изменении грамматической конструкции — «что
ни дай» с вариантом «что ни дадите» (б. 2, см. также б. 3, 4, 6).
Другие меняют образную ткань стиха, не меняя общего смыс-
Русский Хафиз (введение)
31
ла — «роза увидела прелесть пота» с вариантами «увидела род-
ник пота» и «увидела потоп пота» (б. 6, см. также б. 2, 3, 4, 8). И
наконец, третьи затрагивают смысл всего поэтического выска-
зывания, порой превращая его в противоположный — «он ви-
дит посторонних» с вариантом «он не видит посторонних» (б. 5,
см. также б. 7).
Подобная вариативность почти каждого бейта характерна
для большей части газелей Хафиза. Однако приведенная газель
демонстрирует, что количество и порядок бейтов внутри жест-
кой рамки, очерченной зачином и финалом, также может силь-
но варьироваться. Две наиболее авторитетные редакции —
Казвини-Гани (по которой сделан наш перевод) и Ханлари —
содержат по девять бейтов, но у Ханлари бейт 7 («Зеленеют
степи ...») заменен тем, который выше приведен под номером
10 (первый из дополнительных). В редакции Суди газель состо-
ит из двенадцати бейтов, при этом только первые 6 совпадают
с Казвини-Гани. Далее (по нумерации приведенного перевода)
следуют бейты 8, 7, 12, 11, 913.
Понятно, что разночтения такого масштаба сказываются на
расстановке смысловых акцентов в содержании газели, меняют
композиционную структуру, разрывают и устанавливают но-
вые смысловые связи между отдельными бейтами газели.
* * *
Изучение творчества поэтов мировой величины обычно
формирует целое филологическое направление — гомероведе-
ние, шекспироведение, пушкинистика и т. д. На протяжении
XX века в Иране и на Западе появилось столько работ, посвя-
щенных Хафизу, что справедливо говорить и о возникновении
хафизоведения (hafizology, hàfiz-èinâsî). Однако, как уже отме-
чено, главные усилия ученых были сосредоточены в области
текстологии. Упомянутые выше критические издания Дивана
остаются на сегодняшний день главным достижением хафи-
зовских штудий; текстологическое изучение Дивана сильно
опережает поэтологическое. На фоне обилия специальных ста-
тей по частным вопросам поэтики (разбор газели, анализ моти-
13 Другой пример поразительной вариативности в порядке бейтов
и> как следствие, смысловой изменчивости газели см. в [Пригарина
^91, с. 53, прим. 14].
32
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ва, толкование отдельных образов) бросается в глаза отсутствие
в западном востоковедении обобщающих монографий, дающих
всестороннее представление о художественном мире поэта.
Диван Хафиза стал объектом целенаправленного литерату-
роведческого исследования сравнительно недавно. Еще в нача-
ле XX в. ситуация была такова, что Э. Браун в третьем томе
своей классической «Истории персидской литературы» (1924 г.)
счел заслуживающими упоминания лишь три работы. Это «Био-
графические заметки о персидских поэтах»14, где пересказана
«большая часть анекдотов, связанных со стихами Дивана»; пре-
дисловие Гертруды Белл к ее английским переводам из Хафи-
за15, где содержится «замечательный рассказ о времени, когда
он жил, и основных чертах его поэзии»; обширный раздел в пя-
том томе истории персидской поэзии, созданной индийским
филологом Шибли Ну*мани на урду [Шибли Ну'мани 1939]. По-
следняя из упомянутых работ была на тот момент, по мнению
Брауна, «наиболее полным критическим исследованием Хафи-
за» и послужила главным источником для его собственного
очерка [Browne 1924, с. 273].
Со времени выхода труда Брауна прошло почти сто лет,
сменилось несколько поколений иранистов, в каждом из кото-
рых находились ученые, пытавшиеся разгадать загадки гени-
альных газелей. Было опубликовано немало новаторских работ,
однако в рамках предисловия мы упомянем лишь «проклятые
вопросы» хафизоведения, т. е. проблемы, в многократных по-
пытках решить которые формируются основные направления
исследований.
Первая проблема связана с содержанием Дивана. Вопрос, j
ставший названием известной монографии Махмуда Хумана «О !
чем говорит Хафиз?» [Хуман 1937], продолжает оставаться в j
центре научных дискуссий. Между двумя крайними утвержде-
ниями — Хафиз-суфий поет о любви к Богу и Хафиз-пьяница
поет о мирских радостях— располагается спектр более взве-
шенных суждений. Суфийская интерпретация газелей Хафиза |
опирается на многовековую иранскую традицию. Соотечест- I
венники поэта ведут споры о том, с каким орденом он был свя-
зан и кто был его наставником, но почти единодушно рассмат- \
I
14 [Sir] Gore Ouseley. Biographical Notices of Persian Poets. L., 1846. !
15 Gertrude L. Bell Poems from the Divan of Hafiz. L., 1897. |
Русский Хафиз (введение)
33
ривают суфийский мистицизм как ключ к содержанию Дива-
на. Так, одна из наиболее представительных работ об эпохе,
жизни и творчестве поэта, «Сладкоречивый Хафиз» М. Му*ина
[Му'ин 1990], содержит большой раздел «Суфизм Хафиза» [там
же, с. 397-482]. В каждой из девятнадцати глав этого раздела,
посвященной одному из ключевых мистических концептов («за-
веса и стоянка», «истинная любовь», «свидание» и т. д.) приво-
дится его определение, часто подкрепленное цитатами из авто-
ритетных сочинений, а затем следуют бейты Хафиза, в которых
Му'ин видит поэтический «комментарий» к тому или иному по-
ложению доктрины. Такой подход неизбежно предполагает
всецело аллегорическое толкование центральных мотивов Ди-
вана, при котором, по словам Ф. Льюиса, «образность (iconology)
греха и чувственного наслаждения прочитывается как деталь-
но разработанный код трансцендентных символов» [Lewis
2002]. Если в шахском Иране находились отдельные критики,
которые выступали с альтернативными теориями, то после ис-
ламской революции религиозно-философское понимание Дивана
стало не только преобладающим, но и идеологически обязатель-
ным16. В западной иранистике число сторонников однозначно
суфийской интерпретации всего наследия Хафиза в духе анг-
лийского переводчика Г. Вильберфорс-Кларка [Clarke 1891] весь-
ма ограничено, хотя суфийское прочтение отдельных газелей
встречается во многих работах17.
Диаметрально противоположную позицию занимают ирани-
сты, видящие в Хафизе только певца земных наслаждений.
Еще автор первого полного немецкого перевода Дивана Й. фон
Хаммер-Пургшталь [Hammer-Purgstall 1812-1813] понимал его
газели как гедонистическую поэзию, предлагая в примечаниях
многочисленные аналогии из античных авторов. Такое воспри-
16 Ср., например, сообщение «Русской службы Голоса Исламской
республики Иран»: «Духовный лидер Ирана аятулла Хаменеи на кон-
грессе по случаю 600-летия со дня кончины Хафиза охарактеризовал
почтение памяти Хафиза как дань исламской и иранской культуре и
божественному мышлению. Аятулла Хаменеи назвал Хафиза самой яр-
кой звездой на небосклоне культуры Ирана» [URL: http://www2.irib.ir/
worldservice/mssianradio/HTML/always/forever/html%20for%201eft%20
menu/dnevnic%20history/2007/Oct/12.htm].
17 См., например, [de Bruijn 1997, с. 76-81; Пригарина 1999, с. 142-
163].
34
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ятие нашло сторонников среди европейских и русских поэтов-
переводчиков, в предисловиях к изданиям переводов объясняв-
ших читателям, как надлежит понимать причудливые восточные
образы. Так, один из немногих российских востоковедов, высту-
пивших с поэтическими переводами Хафиза, Е. Дунаевский пи-
сал: «Утонченный ценитель жизни, воспевавший прелести заго-
родных садов Шираза, „которых не найдешь в раю", разумеется,
любил прекрасное ширазское вино. Поэтому попытки европей-
ских писателей истолковать воспевание винной чаттти у Хафеза
(как и у других поэтов-суфиев) только как мистический образ —
явно несостоятельны, точно так же, как тенденциозно понимание
друга (или подруги — так как это слово в персидском языке не
имеет рода) как обозначение божества» [Хафиз 1935, с. 32].
В мусульманском мире Хафиз в XX веке также не был одно-
значной фигурой. В Индии Мухаммад Икбал в своей поэме «Та-
инства личности» (Asrâr-i xudîf 1915 г.) возложил на поэта вину
за упадок ислама. В Иране Хафиза объявляли бесстыдным пев-
цом вина и грешной любви, впрочем, такие обвинения имели
резко полемическую направленность. Когда в 30-40е гг. шли
дискуссии о роли классической поэзии как наставницы поко-
лений, ученый, мыслитель и диссидент Ахмад Касрави (1890-
1946) провозгласил Хафиза (наряду с Руми и Са'ди) одним из
поэтов, ответственных за моральное разложение нации18.
Однако подавляющее большинство хафизоведов, особенно за
пределами Ирана, в своих интерпретациях не принимает упро-
щенных прочтений, будь то суфийских или гедонистических, и
опирается на тезис о многомерности поэтического смысла как
основной черте Дивана Хафиза. Вместо вопроса «О чем говорит
Хафиз?» перед этими исследователями стоит вопрос «Что Хафиз
имеет в виду?» и, отвечая на него, они стремятся выявить в сти-
хах те или иные подтексты. Например, в середине XX в. была
высказана точка зрения, что под маской влюбленного пьяницы в
газелях скрыт придворный панегирист, который искусно соеди-
нил мотивы лирического вступления и основной части касыды,
воспевая правителя как возлюбленного друга [Lescot 1944]. Этот
подход получил весьма плодотворное развитие в исследовании
Дж. Мейсами [Meisami 1987, с. 274-298].
18 См. подробнее [Чалисова 2010, с. 388-389].
Русский Хафиз (введение)
35
Если западные иранисты в поисках скрытых смыслов от-
крыли панегирический аспект Дивана, то ученые из России и
других стран социализма в советский период нашей истории
уловили в стихах Хафиза пафос бунта и социального протеста.
Умеренным сторонником подобной интерпретации был, на-
пример, автор фундаментальной «Истории персидской и тад-
жикской литературы» Я. Рипка, который писал: «На протяже-
нии всего творчества Хафиз воспевает вино и радость жизни,
любовь и дружбу, ибо только эти блага помогают забыть о непо-
стоянстве и суетности мира. [...] Хафиз резко нападает на шей-
хов, орденских суфиев, ханжей, фанатиков, проповедников,
учителей медресе, духовенство и „инквизицию". [...] Хафиз пьет
вино, освобождая себя от предписаний строгого канона, но не
скрывает этого» [Рипка 1970, с. 260]. И. С. Брагинский полагал,
что поэтические нападки Хафиза на типичных представителей
мусульманского общества выражают его социальный протест
против существующего строя, и «перед лицом народа» он пред-
стает в «благородном облике великого вольнодумца» [Брагин-
ский 1984, с. 264].
Еще один подход к толкованию Дивана основывается на ги-
потезе, что поэт стремился к смысловой неоднозначности сти-
хов и использовал для ее создания особые стилистические при-
емы. Иными словами, газель не только может, но и должна
быть прочитана в различных ключах, двойственность (а иногда
и множественность) ее смысла преднамеренна. Именно так
подходила к изучению Хафиза А. Шиммель: «Было бы неспра-
ведливо по отношению к Хафизу интерпретировать его стихи
исключительно как выражение гедонистического и беспечного
взгляда на жизнь; это столь же неправильно, как воспринимать
его исключительно в качестве lisân al-ğayb „Языка Незримого
Мира", применяя к его стихам сплошную аллегорическую ин-
терпретацию. Величие его поэзии состоит в непревзойденном
равновесии между миром чувственного, с его вином и красо-
той, но также с его политикой, и миром неизменной Совер-
шенной Красоты, которая отражается в подверженной измене-
ниям множественности» [CHI 6, с. 946].
В отечественной иранистике схожее по духу отношение к
содержанию Дивана демонстрирует М. Л. Рейснер в моногра-
фии об эволюции персидской газели [Рейснер 1989]. Исследова-
36
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
тель приходит к выводу, что у Хафиза есть газели, «мистиче-
ский смысл которых не может быть подвергнут сомнению», и
такие, «которые с трудом поддаются символическому истолко-
ванию» (панегирики, воспевания Шираза, жалобы на смутное
время и непонимание современников). Но большинство газелей
«дают равные основания как для прямого, так и для аллегори-
ческого их понимания» [там же, с. 180-183].
В последние десятилетия приобретает все больше сторонни-
ков еще один подход к изучению поэзии Хафиза, первоначаль-
но предложенный в работах тех иранских ученых, которых не
удовлетворяло суфийское прочтение Дивана в традиционном
духе. Такие знатоки персидской поэзии, как Баха ад-Дин Хур-
рамшахи, 'Абд ал-Хусайн Зарринкуб, Мухаммад 'Али Ислами-
Нудушан, анализируя газели, так или иначе приходили к за-
ключению, что поэт говорит о любви к человеческой красоте и
наслаждении земными радостями, но не усматривали в этом
ничего противоречащего религии и морали. Их работы19 подго-
товили новое направление исследований, в рамках которого
Хафиз предстает продолжателем традиции «иранского любов-
ного мистицизма», нашедшей свое теоретическое оформление в
знаменитом труде ширазского мистика Рузбихана Бакли (ум.
1209) «Жасмин влюбленных» ('Abhar al-'âsiqîn). Рузбихан рас-
сматривал земную любовь как первый этап на пути к Божест-
венной любви, как необходимую инициацию, в процессе кото-
рой происходит совершенствование и преображение любовного
чувства. Созданное Рузбиханом учение заложило основы так
называемой «религии любви» (mazhab-i 'isq), не раз упоминае-
мой на страницах Дивана Хафиза.
В 2007 г. состоялась международная конференция «Хафиз и
школа любви в классической персидской поэзии» (University of
Exeter), объединившая ученых из Ирана и стран Запада (Н. Па-
hi-Ghomshei, L. Lewisohn, Ch.-H. de Fouchécour, С. W. Ernst,
F. Lewis, A. Seyed-Ghorab, L. Anvar, P. Loloi). По материалам
конференции издан сборник статей [Hafiz and the Religion of
Love 2010], в которых разносторонне рассматривается хафи-
зовская «риторика любви» и делаются попытки построить не-
кую «поэтическую теологию Эроса» в суфийском ключе как фи-
19 См., например, [Зарринкуб 1970; Ислами-Нудушан 1995].
Русский Хафиз (введение)
37
лософское основание всей персидской любовной лирики и ее
высшего достижения — Дивана Хафиза.
Второй «неразрешимый вопрос» хафизоведения касается
смысловой целостности газели. По легенде, еще Шах Шуджа'
упрекал поэта в том, что его стихи бессвязны: три-четыре бейта
описывают вино, один-два— суфизм, а еще один-два— воз-
любленного друга; это противоречит обычаям мастеров слова
[Hillmann 1976, с. 8]. Отсутствие развития лирического сюжета
и проявленных смысловых связей между отдельными строками
стихотворения озадачило и первых европейских читателей Ха-
физа, а на протяжении XX в. исследователи и переводчики пер-
сидской поэзии, исходя из представления, что лирическому про-
изведению необходимо органическое единство, периодически
предпринимали попытки найти некий принцип, позволяющий
прочитать «рассыпанные бейты» как единое целое. Так, Арберри
[Arberry 1943] писал о единстве хафизовской газели, достигае-
мом в технике мозаики; Уикенс [Wieckens 1952] — о единстве на
уровне образности; И. Брагинский [Брагинский 1955] — об от-
сутствии сюжетной линии, компенсируемой единым внутрен-
ним смысловым звучанием и интонацией настроений; Мас'уд
Фарзад (см. [Arberry 1958, с. 358] — о последовательности мыс-
ли, восстановимой при реконструкции между бейтами как бы
пропущенных, «неслышных» бейтов; Броме [Broms 1968] — о по-
следовательности психологических ассоциаций; Редер [Rehder
1974] — о единстве мысли и настроения (см. [Prittchet 1993]); Мей-
сами— о последовательности (coherence) бейтов, обоснованной
традиционным мотивным репертуаром [Meisami 2003, с. 417-427,
на примере разбора первой газели Дивана]20.
И наконец, третий «проклятый вопрос», который стоит перед
исследователями — это вопрос о том, как выявить и описать те
особенности творческой манеры Хафиза, которые принесли
ему славу лучшего среди всех персидских лириков. Иными сло-
вами, задача состоит в том, чтобы изучить поэтику Дивана на
фоне предшествующей и современной поэту традиции. Иссле-
дования, посвященные поэтике Хафиза, ведутся в нескольких
основных направлениях. Это анализ отдельных содержатель-
ных единиц газели: мотивов, образов или тем; установление
20 Подробнее см. [Чалисова 2010, с. 448-455; Пригарина 1999,
с 232; Pritchett 1993].
38
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
композиционных принципов, характерных для газели; изуче-
ние риторических приемов и тропов и, шире, — поэтической
техники Хафиза.
Штудии, посвященные анализу содержательных единиц га-
зели, весьма многочисленны, особенно часто к этой проблеме
обращаются иранские и таджикские ученые21.
Работы такого рода строятся по определенной парадигме —
выявляются все случаи употребления некоего мотива (концеп-
та, класса понятий и т. д.) в Диване, что позволяет создать
многоаспектное представление о его поэтической семантике
и/или связях с другими мотивами. Благодаря этому устанавли-
вается круг тем, в которых мотив преимущественно использу-
ется поэтом, а также сфера его метафорического применения.
Подобный анализ может преследовать разные цели. Прежде
всего, полученный результат способствует аргументированной
интерпретации конкретного контекста, в котором задейство-
ван выбранный мотив, поэтому такая методика характерна для
комментаторов Дивана Хафиза. Показательным образцом этого
жанра служит труд Баха ад-Дина Хуррамшахи «Хафиз-нама». В
рамках комментария к одному бейту газели ученый нередко
подкрепляет значение толкуемого слова или образа в бейте сво-
его рода небольшим эссе, содержащим подборку примеров из
других газелей и обобщающие рассуждения. Например, в ком-
ментарии к первому бейту газели 45 (71 в нашем тексте): «Ас-
кет (zâhid), почитатель внешнего, не знает о нашем состоянии,
// Что бы он ни говорил о нас — вовсе незачем злиться», автор
демонстрирует целый спектр значений слова zâhxd. «Аскет» от-
носится к числу ключевых персонажей и стоит в одном ряду с
такими отрицательными героями Хафиза, как проповедник,
шейх, факих, городской имам, муфтий, казн и др. Б. Хуррам-
шахи приводит представительную выборку бейтов с этим сло-
вом и характеризует контекстуальные оттенки его значения
(эгоистичный, надменный, жестокий; ведущий себя подобно
мухтасибу: сующий нос не в свое дело, придирающийся к рин-
дам; демонстрирующий показное благочестие, уединившийся в
келье; лицемер, пускающий пыль в глаза, маловер; любитель
титулов и сана; бесчестный, обманщик; жаждущий райских ус-
21 См., например издающийся в Ширазе ежегодник: Hafez pajouhi.
Collected Articles on Hafez. Compiled by Jalil Sazegarnezhad.
Русский Хафиз (введение)
39
лад; тот, кто не относится к числу влюбленных; тот, кто не от-
носится к числу стремящихся к истине). Так создается разно-
стороннее представление об образе аскета, у Хафиза, обога-
щающее прочтение рассматриваемого бейта.
Многие авторы обращаются к исследованию единичного мо-
тива с тем, чтобы подготовить почву для более широких обоб-
щений, касающихся поэтического мира Хафиза. Таких работ
немало, упомянем, к примеру, содержательные статьи Йохана
Кристофа Бюргеля «Поэт и поэзия у Хафиза» [Burgel 1978], Вой-
цеха Скалмовски «Каландар у Хафиза» [Skalmowski 1995], Шар-
ля-Анри Фушекура « Nazar- bâzi, игра взглядов в интерпретации
Хафиза» [Fouchécour 1996] и Джулии Скотт Мейсами «Радость
жизни: аллегорические сады Хафиза» [Meisami 1983].
И наконец, корректно проведенное исследование работы
Хафиза с определенным мотивом или кругом мотивов открыва-
ет возможности для дальнейшего сравнительного анализа, со-
поставления со стихами других поэтов — предшественников,
современников и наследников. В конечном счете, результатом
может стать выявление внутренней динамики в «застывшем»
каноне классической персидской поэзии. Такой подход реали-
зован в статье Риккардо Зиполи «Описание животных в Диване
Хафиза» [Zipoli 1995]. Автор использует статистический метод;
он выявляет все случаи упоминания всех видов животных в
Диване как в изолированном виде, так и в составе словосоче-
таний, и проделывает ту же операцию с диванами предшест-
венников ('Аттара, Фаррухи, Руми, Са'ди), современников (Ка-
мала Худжанди и Салмана Саваджи) и наследников (Фигани,
Назири, Талиба и Бедиля). Сопоставительный анализ позволил
автору сделать ряд нетривиальных наблюдений. Оказалось, что
из 47 представителей животного мира, упомянутых в газелях
Хафиза, больше половины (26) относится к птицам и насеко-
мым, а среди наиболее часто упоминаемых также преобладают
крылатые. Выяснилось, что целый ряд «свирепых или опасных»
животных, фигурирующих в газелях из других обследованных
Диванов (тигр, волк, носорог, леопард, скорпион и т. д.), отсут-
ствует у Хафиза. Также ни разу не упомянуты два таких попу-
лярных в персидской словесности животных, как слон22 и верб-
22 Р. Зиполи использовал текст Дивана в редакции Ханлари. В вер-
сии Казвини-Гани есть газель с бейтом о слоне (308:7). Это лишний раз
40
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
люд. Перечислив и раскрыв основные поэтические функции
животных в стихах Хафиза, автор показывает, что по сравне-
нию с предшествующей поэтической традицией, в которой жи-
вотные нередко являлись объектами описания (например, в
васфе касыды), у Хафиза все представители фауны выполняют
лишь разнообразные метафорические функции23.
Вопросы композиции газели неизбежно оказывались в поле
зрения исследователей, занимавшихся проблемой смысловой
связности или дезинтеграции строк в рамках стихотворения24.
Как знают те, кому довелось прочесть весь Диван Хафиза в
оригинале, герменевтические трудности редко бывают связаны
с лексикой или грамматикой. Проблема понимания Хафиза,
как справедливо подметил Й. Кристоф Бюргель, связана с тем,
что он не столько порождал новые поэтические идеи, «сколько
доводил их до утонченности, обыгрывая в изысканных образах;
он сплетал их так, чтобы соткать прихотливую сеть аллюзивных
отношений между различными смысловыми уровнями, созда-
вая богатство интертекстуальных связей и апеллируя к способ-
ности читателя различить его поэтическое послание сквозь ос-
циллирующий покров неоднозначных метафор, каламбуров,
намеков и двусмысленностей»» [Bürgel 1991, с. 20]. Пассажи, ха-
рактеризующие изощренную поэтическую технику Хафиза,
обычно сами изобилуют метафорами и филологическими ино-
сказаниями: всевозможные «осциллирующие покровы», «перла-
мутровые переливы» и прочие «игры в бисер» сами по себе суть
доказывает, насколько тесно связано изучение поэтики Хафиза с про-
блемами текстологии его Дивана.
23 Статистический метод изучения мотивов успешно применяется и
в трудах другого представителя итальянской школы иранистики Да-
ниэлы Менегини Корреале, автора Конкорданса Хафиза [Meneghini
Correale 1989]. Так, репрезентации мотива «вода» (àb) у Фаррухи, Ха-
физа и Талиба посвящено ее исследование [Meneghini Correale 1993].
Ценные данные об авторских новациях Хафиза дают не только стати-
стические подсчеты, но и аналитическое сопоставление разработки
определенной темы у разных поэтов. Примером может служить статья
Джулии С. Мейсами об «аллегорических садах» у Низами, Руми и Ха-
физа [Meisami 1985].
24 Наряду с уже упомянутыми работами по этому вопросу, в числе
исследований, посвященных проблемам композиции газели, можно
упомянуть [Пригарина 1989; Пригарина 2006; Рейснер 1989, с. 193 и
след.; Kappler 1991].
Русский Хафиз (введение)
41
попытки исследователей передать ощущение неисчерпаемой
семантической наполненности строки.
Труды, специально посвященные анализу разнообразных ху-
дожественных приемов, создающих эффекты многозначности,
составляют отдельное и, возможно, наиболее перспективное
направление хафизоведения. Среди иранистов, наиболее ус-
пешно работающих в этой области, упомянем лишь Джулию С.
Мейсами, которая много лет изучает различные аспекты поэти-
ки Дивана, исходя из того, что «следует смотреть на газели и
анализировать их как поэзию, а не как философские докумен-
ты или зашифрованные тексты, которые будучи подобающим
образом расшифрованы, откроют нам тайны неведомого» [Mei-
sami 1979, с. 33].
В основу своих построений Дж. Мейсами кладет концепцию
литературы средневекового типа, имеющей общие черты в раз-
ных культурах. Широко привлекая материал западноевропей-
ской медиевистики, она исследует персидскую литературу, и
поэзию Хафиза в частности, и останавливается на проблеме
конвенционального и индивидуального в творчестве средневе-
кового поэта. Один из ресурсов многозначности она видит в
том, что в рамках текста газели могут звучать несколько лири-
ческих голосов, принадлежащих неявным, подразумеваемым
персонажам (implied speakers). «На самом деле, — пишет иссле-
дователь, — в газелях Хафиза смешиваются не просто „темы"
(как считал Шах Шуджа' и многие вслед за ним), но также и го-
лоса; и именно по этим голосам могут быть установлены раз-
личные сегменты их подразумеваемой аудитории, а также и
адресат газели; и то, кто они такие, определяет того, кто к ним
обращается. Тот, кто критикует мудда% захида, мухтасиба и
лицемерного суфия — это голос ринда (предстающего как влюб-
ленный или мудрец); тот, кто прямо или косвенно дает советы
правителю (который может быть изображен как неопытный
влюбленный, жестокий возлюбленный или надменная роза) —
это голос мудреца (совмещающий влюбленного и ринда). Такие
лица составляют dramatis personae вымышленного мира газели,
мира, который отражает, но не воспроизводит в точности ре-
альный мир, в котором живет поэт» [Meisami 1991, с. 103].
Каждый из этих голосов восходит к определенному жанро-
вому образу предшествующей традиции: влюбленный, испол-
42
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ненный житейской мудрости наставник, аскет, удалившийся
от мира, гуляка и пьяница и другие. Они сменяют друг друга,
создавая разнообразие семантических перспектив, или накла-
дываются друг на друга, что порождает смысловую неодно-
значность.
Но главным средством создания эффекта многозначности
Мейсами считает «аллегорические техники», характерные для
газельной лирики и доведенные до совершенства в творчестве
Хафиза. Мейсами использует термин «аллегория» для обозначе-
ния некоторой метафорической ситуации, представленной в
бейте газели. Суть аллегории она видит не в том, чтобы с по-
мощью иносказания указать на некий единственный смысл, а в
том, чтобы открыть для читателя спектр возможных интерпре-
таций. Она выделяет три основных метода, с помощью которых
создается аллегория: сравнение, персонификация и аллюзия, и
на большом числе примеров иллюстрирует полисемантическую
природу хафизовской газели. Исследовательница рассматрива-
ет смешение разных тем (mixture of topoi) как основную харак-
терную черту аллегорической манеры Хафиза, дающую читате-
лю удовольствие от постижения открывающихся перед ним
разных прочтений [Meisami 1979].
* * *
Общепризнано, что в творчестве Хафиза персидская газель
достигла наивысшего расцвета. Эта форма лирической поэзии
к XIV веку обрела вполне сложившийся набор признаков. Га-
зель — это небольшое лирическое стихотворение, объемом от 5
до 12 (редко 15-20) бейтов с монорифмой; полустишия первого
бейта рифмуются между собой, в остальных бейтах рифму не-
сет второе полустишие; нередко (но не обязательно) за рифмой
следует так называемый радиф (radif), слово или сочетание
слов, повторяющееся из бейта в бейт. Последний бейт газели
именуется «подписным», он, как правило, включает тахаллус
автора (taxallus, литературное имя).
Генезис персидской газели до сих пор остается предметом
дискуссий, высказываются мнения как в пользу ее автохтонно-
го происхождения (из иранских фольклорных песен, из доис-
ламской сасанидской музыкально-песенной традиции) и после-
дующей обработки в соответствии с каноном арабо-мусульман-
ской поэтики, так и в пользу разных вариантов заимствования
Русский Хафиз (введение)
43
из арабской поэзии. Арабская газель возникла в результате вы-
деления вступительной части касыды (любовный насиб) в само-
стоятельную жанровую форму и окончательно сформировалась
в эпоху Аббасидов. Иранцы, возможно, начали писать газели,
подражая аббасидским поэтам. Высказывалось и мнение, что
иранцы заимствовали у арабов только касыду, а процесс пре-
вращения касыдного насиба в газель шел уже в рамках персид-
ской литературы (см. подробнее [Bauer, Neuwirth 2005, с. 11-
14]). По косвенным данным известно, что в Иране при Сасани-
дах существовала богатая традиция придворной лирики, музы-
канты на пирах исполняли как героические сказания, так и
любовные песни. Однако тексты этих песен утрачены. Стихи
«Отца поэтов» Рудаки и первого поколения авторов, писавших
на новоперсидском языке (IX-X вв.), дошли до нашего времени
по большей части в виде фрагментов. Среди них немало строк
о любви, но материал для изучения газели как самостоятельной
жанровой формы дают лишь собрания стихов начиная с XI в.
Газель — это стихотворение о любви, предназначенное, как
правило, для вокального исполнения25. В статье, посвященной
музыкальной составляющей жанра, М. Л. Рейснер отмечает, что
«в генетическую основу персидской газели в качестве одной из
составляющих изначально входит собственная иранская музы-
кальная практика, во многом определившая эстетические кри-
терии оценки поэтической гармонии в этой жанровой форме.
Плавность и музыкальность становятся основными требова-
ниями, предъявляемыми к звучанию стиха газели» [Рейснер
2008, с. 180]. Поэтика жанра такова, что объект любви, как
правило, лишен индивидуальных черт. В персидской газели за-
гадку составляет и пол возлюбленного друга. В насибе арабской
доисламской касыды и позднее в омеййадской поэзии адреса-
том любовных стихов обычно являлась женщина, в аббасидское
время, когда газель заняла свое место в диванах арабских по-
25 Принято считать, что особой музыкальностью отличаются газели
Хафиза. Музыка пронизывает всю ткань его стиха. Это прежде всего
выражается в пристальном внимании поэта к эвфонической стороне
текста. Исследователи отмечают также пристрастие Хафиза к упот-
реблению музыкальной терминологии как в прямом смысле (для опи-
сания ситуаций, непосредственно связанных с музыкой), так и в каче-
стве материала для метафор (подробнее см. [Lewis 2002а]).
44
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
этов, у Абу Нуваса и его современников появились стихи, где
воспевалась в том числе и любовь к лицам мужского пола26.
При этом пол адресата арабской газели всегда очевиден в силу
наличия категории рода в арабском языке. В персидском языке
род грамматически не выражен, и половая принадлежность
возлюбленного друга остается неопределенной. Она может быть
проявлена лексически, по желанию автора (например, за счет
обращения «О отрок!», упоминания пушка бороды или, наобо-
рот, грудей, подобных гранатам), но в большинстве случаев пол
возлюбленной персоны не проясняется, увеличивая степень не-
однозначности текста. При этом многие исследователи полага-
ют, что адресатом классической персидской газели часто ста-
новится отрок, достигший грани переходного возраста и яв-
ляющий собой идеальное воплощение земной красоты27.
Зарождение и развитие персидской газели происходило в
придворной среде, поэтому «монологи влюбленных» первона-
чально были обращены к участникам дворцовых маджлисов —
юным гуламам. Знакомство с этикетом винопития и обычаями
«царского пира», которые саманидский и газнавидский дворы
унаследовали от доисламских Сасанидов, позволяет отчасти
представить себе реальные условия, в которых рождался по-
этический и максимально обобщенный образ возлюбленного-
виночерпия. Э. Йаршатер, посвятивший этому вопросу класси-
ческую статью «Тема винопития и концепт возлюбленного в
ранней персидской поэзии», пишет: «Вино подавали юные ра-
бы, нарядно одетые и украшенные по этому случаю. В персид-
ской поэзии они обычно называются „тюрками". Не все эти
юноши были родом из Туркестана, но считалось, что лучшие из
них происходят именно оттуда. Они славились как красивой
внешностью, так и воинской доблестью. Полный курс обучения
мальчика-раба включал верховую езду, владение оружием и
стрельбу из лука, а также поднесение вина на пиршественных
собраниях. Как сообщает Низам ал-Мулк, хорошо подготовлен-
ного раба учили подавать вино на шестом году его обучения.
Обретя необходимую сноровку в искусствах и умениях, подо-
бающих его профессии, он мог быть повышен до положения со-
26 Так, в Диване Абу Нуваса газели подразделены на адресованные
мужчинам (muzakkarät) и адресованные женщинам (mu'annatät).
27 См. подробнее [EIr, ел. ст. «Beloved» (J. T. P. de Bruijn)].
Русский Хафиз (введение)
45
ветника (chamberlain), а если он оказывался одаренным, разум-
ным и способным к управлению, он мог стать военачальником
или наместником. Такого положения достигли Фаик и Бактузун
(военачальники Саманидов), Албтигин (основатель династии
Газнавидов), Сабуктигин (отец Махмуда Газнавида), Ануштигин
(основатель дома Хорезмшахов), Айаз (фаворит Махмуда Газна-
вида) и многие другие. Лучшие из таких рабов были прекрасны-
ми солдатами и искусными наездниками, играли на каком-ни-
будь музыкальном инструменте, имели утонченные манеры и
могли составить приятную компанию, чему есть множество под-
тверждений в поэзии того времени» [Yarshater 1960, с. 48-49].
Не исключено, что воинское искусство гуламов обусловило
обилие «воинственных» и связанных с оружием метафор в опи-
сании возлюбленного; их участие в винопитии не только в каче-
стве слуг, но и в качестве собеседников и собутыльников объяс-
няет появление многочисленных образов «пьяного» и «буянящего»
друга. «Если не знать, — продолжает Йаршатер, — что возлюб-
ленный как тип — это очень часто солдат-виночерпий, который
сочетает суровость воина с утонченностью гостеприимного хо-
зяина, угощающего вином, многие аспекты персидской любов-
ной поэзии [...] будут ставить в тупик» [там же, с. 52].
Высказывалось также мнение, что открытое воспевание
женской красоты в лирической поэзии нарушало общеприня-
тые нормы поведения, наносило оскорбление семье вдохнови-
тельницы стихов и даже грозило ей, а равно и автору смертью.
Поэтому обращение к возлюбленному мужского пола в каких-то
случаях служило «покровом тайны», и виночерпий выступал как
субститут истинного адресата стихов [Schimmel 1992, с. 11].
Современный читатель, не знакомый с историей вопроса,
склонен видеть в такого рода поэзии воспевание гомосексуализ-
ма28. Стремясь избежать этого впечатления, многие переводчики
персидской газели на европейские языки приписывали адресату
женский род. Так, один из самых ранних (1771 г.) переводов
28 О гомоэротике как специфическом явлении классической арабо-
мусульманской культуры и некорректном использовании в ее описа-
нии европейского понятия «гомосексуализм» см. статьи J. W. Wright
Jr., Everett К. Rowson (eds.). Homoeroticism in Classical Arabic Litera-
ture. N.Y., 1997; о «гендерных ролях» в традиционном мусульманском
обществе см. [Bauer, Neuwirth 2005, с. 24-25].
46
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
знаменитой газели Хафиза о «ширазском тюрке» (№ 3 в наст,
изд.), принадлежащий перу У. Джонса, начинается словами
«Sweet maid, if thou would'st charm my sight ...». В русских поэти-
ческих переводах возлюбленная персона обычно также предстает
прекрасной юной девой. Более того, даже в современном Иране
издания классической поэзии зачастую содержат иллюстрации,
на которых виночерпий представлен как соблазнительная краса-
вица с пышной грудью, подающая вино «мудрому старцу». Одна-
ко следует признать, такая модернизация ведет к существенному
обеднению палитры поэтических смыслов газели.
На первом этапе персидская газель представляет собой лю-
бовное стихотворение (ар. gazal означает «ухаживанье, любез-
ничанье»). Это монолог влюбленного, находящегося, как прави-
ло, в ситуации разлуки; развивается одна или несколько из
узаконенных традицией лирических тем: восхваление красоты
возлюбленного друга; жалоба влюбленного, которому не дано
достичь свидания; провозглашение страстной, безмерной и не-
преодолимой любви; упреки в адрес жестокого или неверного
возлюбленного; сетования на судьбу.
В качестве характерного примера ранней газели рассмотрим
стихи Му'иззи (ум. 1147), поэта, творившего при дворе сель-
джукского султана Санджара.
Газель29
ıs jjj ±$ j^+tj^ çà-j гЪ ù$ t> jj
L$ JjJ ±$ >*j (An* à' Ч-J J-J LH» M-J
fl-JL^jJb j!j_> jb j_j J fjjl A_* jS
L$ JJJ -^ J-Î-* C±^X^l^ JJ lj_*A_£
1 ja (j^—^> ^J-£ 4 "\ >иЧ (j-л-Ь j 7- A LİİJ J*«â
Ci—jujjjjjJ qa j cU-ej ^M* ^^iji jA
^ jjj aJ j-13oûjJ <JiU ^ J^ï
JİJ--U ôj_£ j-^uj j Л-Jİ j__j Jl ti \\ oLa
<J Jjj ■> J j-> ci ß >- j f j&> J^
29 Текст дан по изданию [Му'иззи 1983, с. 703].
Русский Хафиз (введение)
47
<j-3j xj) ôj 4»_j ôj jl <JL-àL_jj__j ôl j
1. Это страдание и горе кончится для меня — однажды,
Мои губы достигнут губ того прекрасного мальчика — однажды!
2. Пусть я далек от объятий друга, я рад тому,
Что мне от него придет весточка с приветом — однажды.
3. Набег разлуки наносит раны моей душе,
Увы, если ее набег довершит дело — однажды!
4. Караван встречи все дальше от меня с каждой ночью,
В конце концов этот караван начнет приближаться — однажды.
5. Луна счастья взойдет над горой желания,
Если мой красавец появится на краю улицы — однажды.
6. Если небо не провело каламом по моему имени,
Мое имя появится в книге счастья — однажды.
7. Дорога, сбившаяся с дороги, когда-нибудь найдет дорогу,
Звезда, сбежавшая из дома, войдет в дом — однажды.
8. Благосклонная судьба посеяла для меня много семян надежды,
Если сеешь семена удачи, они дадут плоды — однажды.
9. Не надо привязываться сердцем к миру, ибо хорошее,
как и плохое,
Даже если сильно задержится, придет к концу — однажды.
Амир Му*иззи писал в то время, когда центральным жанром
придворной поэзии была касыда, а газели только начали появ-
ляться в диванах поэтов, занимая там скромное место. Так, в
диване Унсури (ум. 1039) всего 12 газелей, у Мае "уда Са'да Сал-
мана (ум. 1121 или ИЗО) — 22, а у Му*иззи их уже 59. Это не
значит, что поэты не сочиняли газелей. Скорее любовные пес-
ни, исполняемые под музыкальный аккомпанемент на дворцо-
вых собраниях и в частных домах, не обрели еще статуса высо-
кой поэзии и потому не включались в диваны, призванные уп-
рочить славу поэта.
48
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Газель Му*иззи построена как жалоба на разлуку в надежде
на встречу. В двух первых бейтах задана мажорная тональ-
ность стихотворения и сформулирована его тема: горе однаж-
ды сменится счастьем, поцелуй будет обретен, весть получена.
В следующих шести бейтах эта тема раскрывается, грядущее
счастье героя иллюстрируют разные метафорические картин-
ки: караван встречи, луна счастья над горой желания, имя в
книге счастья, возвращение «сбежавшей» путеводной звезды,
всходы семян удачи. Заключительный бейт содержит назида-
ние, восходящее к топосу староиранской дидактики. Совет «не
привязываться к миру» образует контрапункт с основной те-
мой — оказывается, что желанное свидание столь же преходя-
ще, как и разлука, что они уравнены в своей бренности.
Эта газель стилистически «незатейлива» и лишена смысловой
неоднозначности, которая станет неотъемлемой чертой класси-
ческих образцов жанра. Та лее сравнительная простота и яс-
ность образного плана стихотворения отличает газели многих
придворных поэтов, современников Му'иззи.
На протяжении XII века к любовной газели стали все чаще
обращаться и поэты, творившие вне покровительства двора.
Росла ее популярность в среде суфиев, она использовалась в их
ритуальной практике; «мистики ислама почти с самого начала
были пленены темой любви как одной из наиболее подходящих
метафор их отношения к Божественному» [de Bruijn 1997,
с. 69]. Статус жанра постепенно повышался и, соответственно,
увеличивалась доля газелей в диванах поэтов. Так, в диван Са-
наи (ум. 1131), оставившего придворную карьеру ради уеди-
ненной жизни и сочинения религиозно-дидактических стихов,
включены уже 435 газелей. Под пером поэтов-суфиев незамы-
словатое любовное стихотворение нагружалось новыми смыс-
лами: жалобы на разлуку с жестоким возлюбленным станови-
лись рассказом о душе, разлученной с Творцом. Приемы фило-
софского переосмысления топики любовной газели, найденные
Санаи, были детально разработаны в суфийской лирике.
Один из самых замечательных авторов суфийской поэзии —
Фарид ад-Дин 'Аттар (ум. ок. 1229). Этот блестящий рассказчик
и создатель прославленных поэм также отдал дань сочинению
мистических газелей. Приведем одну из них как характерный
образчик следующего этапа в развитии жанра.
Русский Хафиз (введение)
49
Газель № 12030
^ " Ь » \\ (j\ AjbbA ft«llJ JA (iL!
1 ni 1 ô JÛ ft JÛ (3*^ J^ ^ J*
I j jUL* c$l>-A j—£ ^ ftji
'"*"' J** (jLudl (jALuJJ ù^^ ^ ^
h j j CjJ-jLh^JjJ 4_£ U
'"*"« y* (jbb j_l-ûI Ij ftj A_£-jl j
dix*« £j jbUj jjl J ja ^jju^ jA
1. Солнце Твоего лика не скрыто,
Но не всякий глаз дружен с ним.
2. Тот, кто в любви не рассыпался в пыль,
Не запляшет, [как пылинка], пред солнцем.
3. Стань пылью ради Любимого,
Ибо приблизиться к Любимому нелегко.
4. Ты — не муж, [достойный] Любимого, не притязай,
Ибо лишенный мужества — не муж, [достойный] Любимого.
5. Радости встречи с Тобой удостоится тот,
Кто в этой юдоли не жалеет своей души.
6. Пока твоя боль не проявит себя [до конца],
Что бы ты ни делал — ничто не будет лекарством.
7. Пожертвуй головой на этом пути и иди вперед,
Ибо нет надежды на окончание пути.
30 Текст дан по ['Аттар 1989, с. 91].
50
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
8. Умолкни, сколько ты будешь говорить, о 'Аттар,
Не каждый достоин этой пустыни!
Как и газель МуЪззи, стихотворение 'Аттара можно назвать
любовным, в нем также основная тема — разлука с любимым и
надежда на свидание. Однако объект любви изменился — те-
перь это Божественный возлюбленный. Изменилась и тональ-
ность газели. Оптимистический мажорный настрой придворно-
го стихотворения сменился трагическим и экстатическим па-
фосом: разлука с Всевышним — удел человека, и он может
лишь тосковать о вожделенной встрече, сама мысль о которой
рождает восторженный трепет в его душе. Газель 'Аттара де-
монстрирует и многие элементы кодекса поведения влюбленно-
го-мистика, которые впоследствии становятся основой дискур-
са Пути любви. Любовь предстает как нескончаемый путь стра-
дания; встать на него способен только тот, чьи глаза прозрели и
кому достает мужества пожертвовать всем и даже жизнью ради
достижения цели. Парадоксальность положения влюбленного ил-
люстрируется популярной в суфийской поэзии метафорой пыли,
танцующей в солнечном луче — стремясь к гибели, суфий обре-
тает высшее блаженство от близости к объекту поклонения.
Усложняется поэтика газели; сохраняя весь репертуар любов-
ных мотивов, суфийская газель наделяет каждый из них мисти-
ческим смыслом и использует как аллегории психологических
состояний взыскующего Истины. Характерное для ранней при-
дворной газели ясное развитие лирического сюжета сменяется
тенденцией к семантической дезинтеграции бейтов; в газели
'Аттара ее можно наблюдать на уровне поэтической граммати-
ки — эта тенденция выражается в соотнесении местоимения
«ты» с различными референтами. «Ты» выступает обращением к
Богу (б. 1), к влюбленному— собрату по Пути (б. 3), к недостой-
ному ступить на Путь (б. 4), снова к Богу (б. 5), к самому себе как
к лирическому персонажу (б. 6, 7) и, наконец, к самому себе, как
поэту 'Аттару (б. 8). «Расщепление» местоимения «ты» (или полюса
адресата) свидетельствует о появлении в мире газели новых пер-
сонажей и о развитии её жанрового метасюжета.
Наряду с ростом смысловой дезинтеграции и увеличением
семантической неоднозначности вырабатываются формальные
приемы, как бы противостоящие этой тенденции и придающие
газели внешнюю целостность. Газель 'Аттара демонстрирует
Русский Хафиз (введение)
51
два подобных приема. Прежде всего последний бейт является
подписным, т. е. содержит поэтический псевдоним (тахаллус)
автора. Как элемент композиции «подпись автора» служит зна-
ком того, что текст завершен. Вторым приемом можно считать
возвращение концовки газели («Не каждый достоин этой пус-
тыни», т. е. пустыни любви) к теме её первого бейта («не всякий
глаз дружен с ним», т. е. с Любимым). Сопряжение тем конца и
начала создает ощущение цельности текста, его смысловой за-
вершенности.
В дальнейшем черты, отмеченные нами в газели 'Аттара, бу-
дут приобретать все большую структурную значимость по мере
эволюции газели от жанра любовной лирики к жанровой фор-
ме, открытой для разработки разных тем.
Тематическое разнообразие обусловливается тем, что в газель
все больше и больше проникают мотивы, характерные для дру-
гих жанров персидской литературы, и прежде всего — разных
типов касыды. Получают развитие винные, философские, пане-
гирические, дидактические газели, а также дружеские послания.
Все эти типы газели мы находим в поэзии Са'ди (ум. 1292), ве-
ликого и разностороннего поэта, под пером которого обрели
классическую форму многие жанры персидской литературы. Га-
зели Са'ди стали эталоном поэтического мастерства, образцом
для подражания на века вперед и породили неисчислимое мно-
жество поэтических ответов. Хорошим примером новаторства
Са'ди может послужить газель, где воспевается дружба:
Газель № 7631
L$ J J J—J (S JH >^ JJ*^ > 4* f* >
<"i "lau (J J*-a^ (J+* ^^ JS mWJj
31 Текст дан по [Са'ди, Куллиййат, с. 438].
52
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
■ ciJJ J Jjj^ *AP ^ JJ <-Я1и» jl j
(jU-Jİ A_J а В Г» <L^ft-A jJ ("illi j *1 f\j\
ù^uujxt jb til j jIa-л jJ ("l ni ft J J
Jj J* I (ji—jj Jl ûjj<^ ft jU jji ß
L-ftJ Jjuü (JJ j dbojJ)JJ)C (jLo j ("iminjÂı LjJ
t"i majà. ôJjJ 4^oA djujjû (^jj <J (^^äjuü
1. О друг, рай — это общество задушевных друзей,
Встреча с неподходящим другом — это ад.
2. Каждый миг, что проводишь рядом с тем, кто дорог,
Цени, ибо тот миг — [твоя] прибыль от жизни в мире.
3. Не каждый, у кого есть глаза, уши и рот, человек,
У многих дивов облик сынов человеческих.
4. Человек — это тот, кто наделен добрым нравом
Или прекрасным обликом, остальное — излишки мироздания.
5. Я ничему не завидовал и ни о чем не вздыхал,
Разве что о двух согласно мыслящих друзьях, [что сидят]
лицом к лицу.
6. Тем, кто весной не отправляются в степь,
Прекрасный аромат весенней поры не дозволен.
7. А тому бессердечному, что отводит глаза от красивого лица —
Ему советов не давай, ибо крепко засело в нем невежество.
8. По общему мнению, в мире нет покоя,
А если есть, то рядом с верным другом.
9. Если свежая кровь струится из ран влюбленных,
Лица друзей, на которые они смотрят — целебное средство.
10. Мир хорош, богатство драгоценно и тело почтенно,
Однако товарищ — прежде всего!
Русский Хафиз (введение)
53
11. Скупец что ни год печалится из-за богатства,
Са'ди что ни день радуется лицу друга.
В стихотворении последовательно развивается одна тема, ко-
торую можно сформулировать так: общество друзей дороже все-
го в мире. В нем отчетливо видно, как именно происходит обо-
гащение газели новым содержанием. Ключевое слово здесь —
yâr, в любовной лирике оно по большей части употребляется в
значении «возлюбленный/возлюбленная», здесь же оно введено в
значении «друг, товарищ», и это служит первым сигналом транс-
формации мотивов, используемых поэтом. Уже в двух началь-
ных бейтах искушенный читатель заметит скрытую полемику с
каноном. К числу топосов любовной газели принадлежит уподоб-
ление свидания с возлюбленным пребыванию в раю и призыв
ценить каждый миг этого общения. Са'ди использует эти обще-
известные мотивы для выражения нового смысла: подобием рая
и высшей ценностью объявлено общество друзей. В третьем и
четвертом бейтах слышны проповеднические ноты — поэт объ-
ясняет, каким должен быть друг. Понятие «друг» увязывается с
центральной для Са'ди идеей «человечности» (ädamiyyät), затро-
нутой и во многих других его газелях. Человеком имеет право
называться лишь тот, кто наделен добрым нравом или прекрас-
ным лицом. Так персонаж yâr «расщепляется» на друга-едино-
мышленника и друга-возлюбленного. В следующих пяти бейтах
эта двойственность сохраняется, о любви и дружбе говорится
как о двух взаимосвязанных ценностях бытия: мечта каждого
человека — лицезреть друга (б. 5); весна — пора любования цве-
тущей степью и лицами возлюбленных, те же, кто не влюбляется
весной — невежественны, т. е. недостойны имени человека (б. 6,
7); общество друзей приносит покой и исцеляет раны, нанесен-
ные любовью (б. 8, 9). Концовка газели также вступает в поле-
мику с каноном любовной поэзии, согласно которому лириче-
ский персонаж обречен на разлуку. Са'ди, наоборот, «что ни
день» наслаждается «встречей», т. е. обществом друга-едино-
мышленника. Таким образом, поэт сумел приспособить словарь
и мотивы газели как «жанра любви и разлуки», чтобы рассказать
о чувстве дружбы, объединяющем людей.
Итак, суфийские поэты эпохи 'Аттара обогатили мотивы и си-
туации любовной лирики мистическими коннотациями, пред-
ставляя свой путь к Богу в метафорах перипетий любовного
54
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
чувства. Во времена Са'ди благодаря расширению тематиче-
ских горизонтов газели из ее элементов постепенно формирует-
ся универсальный словарь, пригодный для поэтического разго-
вора на любую тему.
Как уже говорилось, первоначально газель получила распро-
странение при дворе; как функционально, так и тематически
она связана с обстановкой придворного пиршества и друже-
ской пирушки. Газели предназначались для исполнения на
празднествах и в собраниях, сопряженных с обильными воз-
лияниями, а юный виночерпий, чья красота воспламеняет
сердца собравшихся, стал одним из главных персонажей жан-
ра. Воспевание вина, его свойств и воздействия проходит через
всю историю газели. Оно предстает как светоносный и благо-
уханный напиток, способный выявлять истинные качества че-
ловеческой натуры, исцелять печали и дарить прозрение. Со
временем эти поэтические свойства вина становятся основой
его активной метафоризации: светские поэты в винных образ-
ах воспевают вдохновение, а суфийские — истину. Так же как
и любовь, вино и вызываемое им опьянение приобрели в су-
фийской поэзии широкий спектр мистических коннотаций.
Поскольку винная и любовная темы тесно переплетены (вино-
черпий — возлюбленный, вино — лекарство от страданий разлу-
ки), упоминания о вине встречаются почти в каждой газели. Но
некоторые поэты посвящают воспеванию вина целые стихотво-
рения. Так, прославленный придворный панегирист Анвари (ум.
1189) создал винную газель на сюжет ночного визита друга.
Анвари, газель № 18132
^i bàym éLïiA jj
(jijj^ ùèj3* ^J^-*3 4j ôJj£ cliuu c_XİAİ
fl_à J*J djjâG j ùùîLSà ^yAA j < *«
*l—^ cjIj*! jl j» j qi\ ^ r, j jl aL^jû
32 Текст дан по [Анвари 1961, с. 866].
Русский Хафиз (введение)
55
I J J Kİ (j^ j JJ j (> ^
L-i Jl—a. J A_Sî A_jJ qiS ч£ <_$! -Lİj-İ jû
л\ a "i ^ьи4 (jlj j t "ni r» 4j CjjjuLc (jl j
^ÜjuüJIj J—«J ^^ j (5jj—il j ûj—j jl
1. Пьяным вошел в мою дверь вчера ночью тот [подобный]
полной луне,
Прижимая к груди чанг, а в руке держа чашу.
2. На ясный день накинул покров темной ночи
И на красную розу бросил силок из растертого мускуса.
3. Запел тихонько своим печальным голосом,
Принялся рассыпать сахар из сердолика цвета рубина.
4. Ты сказал бы — стало чистым рубином и расплавленным
сердоликом
Молодое вино в его чаше от блеска его лица.
5. Опустилась подле меня и выпила вина
Та кипарисостанная луна, тот красиво ступающий кипарис.
6. Сказал: «О ты, который за всю жизнь из-за жестокости неба
Не провел со мной ни одной ночи до утра в свое удовольствие!
7. Вот я и ты, и рубиновое вино, и песня, и руд, —
Без усилий посланца и отправки вести!»
8. С чангом в обнимку он пробыл в моих объятиях,
Хмельной, с вечернего намаза до светлого утра,
9. В укромном уголке, и никто не ведал о нашем состоянии,
О той предельной радости и о том полном опьянении.
10. Ни музыканта, ни виночерпия, ни друга, ни собутыльника,
Был он, и Анвари, и рубиновое вино — и прекрасно!
Ко времени Анвари сюжет о приходе к поэту друга и угоще-
нии вином был уже хорошо известен и использовался авторами
эпических поэм как аллегория ниспосланного вдохновения (см.
подробнее [Рейснер, Чалисова 2010]). Анвари разрабатывал этот
сюжет как в любовных насибах касыд, так и в газелях.
56 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Внешний план приведенной газели представляет собой связ-
ное повествование; это богатый деталями рассказ лирического
персонажа о его ночной встрече с возлюбленным другом. По-
следовательно описывается его красота: ясный день лика, тем-
ная ночь локонов, красная роза ланит, растертый мускус чер-
ного и благоуханного пушка, сердолик рубинового цвета — ус-
та, стан, подобный кипарису и грациозная поступь. В руках
друг держит атрибуты пиршества — чанг и чашу, он принима-
ется развлекать хозяина как музыкант, собутыльник, собесед-
ник и виночерпий и засыпает в его объятьях как возлюбленный
друг. Казалось бы, это всего лишь фривольная газель со счаст-
ливым концом. Однако в тексте присутствуют указания на то,
что за этим, внешним планом скрыт еще один сюжет. Во-
первых, друг явился нежданно и беспричинно — за ним не по-
сылали посланца, от него не приходила весть. Во-вторых, со-
стояние влюбленных во время свидания, длившегося всю ночь,
представлено как предельно экстатическое. И, наконец, в фи-
нале газели гость предстает свободным от всех обличий: под
масками музыканта, виночерпия, друга и собутыльника скры-
вался некто таинственный. Именно с ним Анвари вкушает ру-
биновое вино. И становится ясно, что гость поэта — вестник из
мира тайн, а вино — метафора прозрения и вдохновения, ни-
спосланных Анвари свыше.
• * *
В связи с монгольским нашествием в XIII в. происходило по-
степенное перемещение культурной жизни с востока на запад
Ирана. Одним из крупнейших центров литературы становится
Шираз, не случайно нисба ширази (ширазский) соединена с
именами двух величайших мастеров газели — Са'ди и Хафиза.
Два великих ширазца вошли в мировую литературу, их
творчество изучают, а произведения переводят. Однако они
творили в окружении многих других поэтов, вели с ними по-
этический диалог, обыгрывали их образы и доводили до совер-
шенства творческие находки. Об эпохе Са'ди принято говорить
уже как о времени расцвета газели. От кончины Са'ди до рож-
дения Хафиза прошло менее полувека, однако этот короткий
период вместил дальнейшие существенные изменения в поэти-
ке жанра.
Русский Хафиз (введение)
57
Теперь строгая форма газели вмещает в себя и отчасти
скрепляет строки, семантические связи между которыми часто
не очевидны. Смысловые лакуны, возникающие между бейта-
ми, — самая характерная черта новой поэтики газели, зарож-
дающейся на рубеже XIII-XIV веков. За три предшествующих
столетия было создано неисчислимое множество текстов, ис-
пользовавших единый поэтический язык, а также эксплуати-
ровавших конвенциональные образы и ситуации. На этой ос-
нове сложился канон, т. е. некий набор специфически газель-
ных тем, каждая из которых в свою очередь, реализуется в
рамках закрепленного за ней репертуара мотивов. Из их сово-
купности и взаимообусловленности складывается своего рода
метасюжет, равно присутствующий в головах творцов поэзии и
ее любителей33. Этот сюжет достаточно разветвлен и полон пе-
рипетий. В его развитии участвует определенный набор персо-
нажей, в нем совмещаются элементы испытания и воспитания
чувств лирического героя.
Метасюжет газели — жизненный путь поэта-влюбленного.
Любовь лирического персонажа и предначертана, и необъятна,
она начинается в предвечности и продолжается после смерти.
Возлюбленная персона сочетает красоту ангела и жестокость
тирана, от ее расположения всецело зависит не только благопо-
лучие, но и жизнь влюбленного. Влюбленный в стенаниях и
мольбах домогается внимания, а возлюбленный сияет красотой,
причиняющей страдания сердцу влюбленного, и хранит равно-
душие. Порой терпение влюбленного иссякает, и он обращается
33 Дж. Мейсами пользуется для обозначения обобщенного лириче-
ского сюжета газели термином basic fiction («базовый рассказ»), вве-
денным в работе Ф. Голдина о западно-европейской куртуазной поэ-
зии (F. Goldin. The Array of Perspectives in the Early Courtly Love Lyric.
1975). По наблюдениям Голдина, этот basic fiction «состоит из фраг-
ментов и складывается из фиксированного перечня эпизодов, состоя-
ний и положений, к которому поэт обращается, чтобы создать опреде-
ленную ненарративную структуру (pattern) [...]. Придворная аудитория
знала этот рассказ во всех подробностях, и стоило ей услышать его на-
чальные строки, как она помещала каждый стих в соответствующее
место в событийном ряду придворной любви. [...] Начальные строки,
как первые ходы в игре, определяют возможные продолжения. [...] Ус-
тановив место стиха в череде событий, аудитория точно знала, чего
ожидать, и поэт мог продолжать, с тем чтобы оправдать ожидания
слушателей или удивить их» (цит. по [Meisami 1991, с. 95]).
58
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
к возлюбленному с упреками, а иногда и угрозами, космиче-
ский размах страданий наделяет его красноречием волшебной
силы, способным воздействовать на судьбы мира.
Недостижимая цель влюбленного — соединение с возлюблен-
ным. Его величайшее счастье составляет осуществление дости-
жимых целей — получение долгожданной вести (например, в
виде принесенного ветром аромата локона) и явление возлюб-
ленного в виде мысленного образа, т. е. иллюзорное свидание.
Основной движущий элемент сюжета— разлука и связан-
ные с ней страдания. Чтобы пройти испытания разлуки и дос-
тичь цели, герой должен воспитывать свои чувства: ему требу-
ется проводник, который знает верную дорогу. Это может быть
собственное сердце или мудрый старец-наставник, порой по-
дающий ученикам «дурной» пример. Эпатирующее поведение
наставника {уход из мечети в кабак, замена четок зуннаром
как символом иноверия, пропивание суфийской хирки или мо-
литвенного коврика, ухаживание за прекрасными отроками)
служит оправданием для бесчинств, творимых его учениками,
обязанными во всем следовать за учителем. Внутренний смысл
парадоксальных поступков наставника раскрывается влюблен-
ному по мере его совершенствования.
Иерархия ценностей на пути любви во многих аспектах пе-
ревернута по сравнению с обычным миром. Главным мерилом
совершенства влюбленного служит отношение к собственному
статусу (доброму имени) в мире. Именно готовность опуститься
на дно общества является залогом подъема и продвижения по
пути любви. Отказ персонажа от претензий на место в социуме
осуществляется в виде различных «уходов»: в кабак, в укром-
ный уголок, на дружескую пирушку в саду. При этом герой га-
зели противопоставляет себя аскету (zähidj. Последний отказал-
ся от земных радостей, но сделал это ради обретения нравст-
венного авторитета в этом мире и награды в том. Между тем,
истинный влюбленный предается запретным наслаждениям
(вино, музыка, разгульное поведение), поскольку никакие блага
обоих миров не представляют для него ценности.
Путь совершенного влюбленного неминуемо приводит к кон-
фликтам: внешнему — с обществом и внутреннему — с самим ]
собой. Конфликт с социумом обусловлен тем, что единственным
лекарством от страданий любви служит вино, а пьянство, по- j
Русский Хафиз (введение)
59
ощряемое наставником (магом-виноторговцем), навлекает осу-
ждение хранителей мусульманского благочестия: аскета, суфия,
мухтасиба, шихны.
У влюбленного есть и те, кто ему сочувствует — это кружок
влюбленных, собутыльники-ринды или наперсник, поверенный
тайн. Внутренний конфликт героя возникает потому, что он
измучен страданиями любви, не в силах хранить молчание и
разглашает тайну любви, нарушая тем самым этику влюблен-
ных. Самый яркий пример разглашения тайны — сложение га-
зели, совершенство которой отражает совершенство ее вдохно-
вителя. Конфликты с обществом и собой приводят героя газели
к нищете и позору, к утрате им всякого социального статуса, но
высокая цель, к которой он стремится, превращает унижение
поэта-влюбленного в особого рода величие, в частности, делает
его вдохновенным певцом любви.
Если обычным людям свойственно для достижения цели ру-
ководствоваться разумом, то для совершенного влюбленного
разум лишь помеха на пути, он может приблизиться к желае-
мому, только впав в безумие. Финал газельного сюжета не мо-
жет быть счастливым. Идеальный влюбленный должен умереть
от страданий любви или от руки жестокого возлюбленного. В
«перевернутом» мире газели такая смерть предстает как выс-
шая награда. Подобный финал обычно представлен в стихах не
как свершившееся событие, а как чаяние лирического персо-
нажа, предел его мечтаний.
Сюжетные события разворачиваются на нескольких площад-
ках — среди дикой природы и в культурной среде. Дикая при-
рода связана с темой опасностей пути — это пустыня (степь, на-
селенная дикими зверями), горы и море. Культурное простран-
ство представлено садом и городом. Сад — место дружеской пи-
рушки, пения и чтения стихов. В городе таким местом служит
кабак. Сад и кабак как поэтические локусы объединяет тема
винопития и фигура виночерпия — одна из масок возлюбленной
персоны. Но они противостоят друг другу как «расцвет» и «упа-
док». Цветущий сад связан с темами весны, цветения молодости
и красоты. А кабак помещается в развалинах на окраине города
и в нем хозяйничает старик-виноторговец. В городе расположе-
но жилище возлюбленного друга (его улица, дворец) и уединен-
ный уголок лирического персонажа. Противники влюбленного
60
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
также локализованы в городском пространстве — они обрета-
ются в мечети, во дворцах и суфийских ханаках. Таковы лишь
самые основные элементы лирической топографии.
Формирование устойчивого метасюжета газели позволило
поэтам нового поколения в каждом конкретном случае свобод-
но сочетать разные его эпизоды, не заботясь о логике перехода
от темы к теме, а читателю — заполнять смысловые лакуны.
Одним из поэтов, которые, оставаясь малоизвестными за
пределами персидской словесности, активно участвовали в соз-
дании нового стиля газельной лирики, был Хаджу Кирмани
(1281-1352 или 1361). Старший современник Хафиза, он слагал
такие стихи, на которые Хафиз нередко отвечал, желая превзой-
ти собрата по цеху. Хафизу приписывают строки, в которых он
прямо называет Хаджу своим наставником: «В газели учитель
для всех— Са'ди, однако //В стихах Хафиза— манера стихов
Хаджу»34. Поэтическая преемственность и соперничество масте-
ров вошли в историю персидской поэзии. Как писал Малик аш-
Шу'ара Бахар: «После Са'ди речь перешла к Хафизу, // Хафиз,
сокрушитель Хаджу, сотворил волшебство речи»35.
Одна из многих газелей Хаджу, на которые отвечал Хафиз
(см. газель 10), такова:
Газель №3136
1—о j—J-J Jjb jUk ç-ül JA j Aİj±
\ * j£ J^ Jèi *èJ* Ü^J *-•* <j\
<*ЬиГ\ J±}£ ü4-^ A^i ö^W У fl^ j£
1 A JJJÎJ J jl ÎÇC Jj CİLuüaJ J^aA
\L^ jS^A p4JU jl £İ.ı^ :uiL \j £ ja
lsïïJ* is* ß\ *Jİ *№ 4* lAîJ L$JJ^
\—û J^ ùJèJi ^^ İS* lMîJJJ ÜJ^
34 Газель, завершающаяся этим бейтом, включена в таджикское из-
дание Джамшеда Шанбезода [Хофизи Шерози 1983, с. 495], но отсут-
ствует в наиболее авторитетных редакциях Дивана Хафиза (Казвини-
Гани и Ханлари).
35 См. [Малик аш-Шу'ара Бахар, munâ?ara-yi adabı, б. 16, Dorj-3].
36 Текст дан по [Хаджу, Dorj-3].
Русский Хафиз (введение)
61
l_« j j * A*ib t"i^nı (jLaâ. j >^)j (jLo£ J)^
\__^ j % \ CjjIâü jjIj ^yj^kic (jUIja. L
1. Наш старец оставляет рубище в залог в доме виноторговца,
О, все ринды — ученики нашего старца, взявшегося за чашу!
2. Если мы опозорены в мире из-за вина, что поделаешь?!
Такая судьба выпала нам в пору предвечности.
3. Кипарису — музыка от горестной жалобы птицы,
Птице — головная боль от нашей предрассветной жалобы.
4. У кого искать правосудия, если без всякой причины
Наш повелитель проливает кровь немощных дервишей.
5. Может, твоя милость заступится за рабов,
А не то известно, что наша вина перешла все границы.
6. Мы — дичь для той лани с повадкой лисы — твоего охотника,
Мы стали добычей, а сами мы охотимся на льва небес.
7. С тех пор, как мы заковали безумное сердце в цепи локонов,
О, как много разумных, что стали сходить с ума из-за наших цепей!
8. Не пренебрегай стрелой моего вздоха, сжигающего мир,
Ибо [пущенная] из своего слабо стреляющего лука,
сильна моя стрела.
9. Хаджу, не пускай никого в ханаку, ведь в этот миг
В уединении веселится с молодыми наш старец.
В газели Хаджу представлены все признаки жанровой фор-
мы, окончательно сложившейся в XIII веке, будь то обязатель-
ные или факультативные: объем в пределах 5-10 бейтов, моно-
Рифма, обогащенная радифом, корреляция первого и последне-
го бейтов (matla* и maqta') и включение литературного имени
автора в последний бейт. Эта газель заметно отличается от тек-
стов, приведенных ранее. Ее затруднительно пересказать, по-
скольку последовательно разворачивающийся лирический сю-
62
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
жег в ней отсутствует. В стихотворении Хаджу звучат ключе-
вые темы разных типов газели, однако переход от одной темы
к другой выглядит немотивированным, а газель в целом кажет-
ся достаточно бессвязной.
Два первых бейта посвящены вину и могут интерпретиро-
ваться в суфийском ключе, поскольку мотивы ухода наставни-
ка из обители в кабак и обмена рубища на вино входят в ре-
пертуар суфийской газели. Лирический персонаж газели ассо-
циирует себя с риндами — гуляками и пьяницами, деклассиро-
ванными элементами средневекового иранского города. «Сво-
бода» риндов, т. е. жизнь, не скованная нормами поведения,
предписанными шариатом, позволила суфийским поэтам соз-
дать поэтический образ человека, отбросившего все блага ма-
териального мира ради обретения внутренней свободы, необхо-
димой для достижения высокой духовной цели. Самый общий
смысл двух первых бейтов: я стал пьяницей-риндом, следуя
примеру своего наставника и предначертанию судьбы.
В третьем бейте вводятся новое место действия и новая тема:
на смену кабаку приходит сад, а на смену вину — поэзия. Пти-
ца, горестно жалующаяся на муки любви, соловей — старинный
образ поэта-влюбленного. «Головную боль», т. е. зависть, у такого
соловья вызывают предрассветные жалобы лирического персо-
нажа — его прекрасные, исполненные страсти стихи. Бейт пред-
ставляет собой скрытое самовосхваление поэта (faxt).
В бейтах 4 и 5 декорации меняются еще раз, действие пере-
носится во дворец «повелителя». Повелитель безгранично жес-
ток — убивает невинных и беззащитных, и беспредельно мило-
стив — может простить даже самую большую вину. Следова-
тельно, он представлен как жестокий возлюбленный, метафо-
рический повелитель царства красоты (б. 4), и как Всемогущий
Бог или могущественный покровитель поэта (б. 5).
Бейты 6 и 7 посвящены отношениям влюбленных и объеди-
нены тем, что униженное состояние героя так или иначе связа-
но с его величием. Лирический персонаж описывает свое двой-
ственное положение — он уподобляет себя дичи, потому что на
него «охотится» лань с повадками лисы, т. е. глаз возлюбленно-
го, при этом он и охотник, а его цель — «лев небес», т. е. само
Солнце (метафора возлюбленного). Он безумец, закованный в
цепи, но его цепям завидуют разумные.
Русский Хафиз (введение)
63
Бейт 8 содержит обращение лирического персонажа к пове-
лителю-возлюбленному и предостережение: не стоит пренебре-
гать стрелами вздохов (жалобами влюбленного, т. е. моими сти-
хами). Пусть я согбен, как лук, и немощен, сила моих стихов
способна привести мир в волнение.
Завершение газели образует контрапункт с ее началом, в по-
следних строках (б. 9) снова появляется старец; однако место
действия на этот раз не презренный кабак, а благочестивая
суфийская обитель. Если в начале газели использованы образы,
наводящие читателя на мысль об аллегорическом прочтении
(кабак любви и вино истины), то в финале образ старца траве-
стируется: Хаджу охраняет его «уединение» (xalvat, в суфизме —
уединенное место для молитвы), а наставник проводит время
не в молитвах, а в развлечениях с отроками.
Отмеченная смысловая разобщенность бейтов (сцены в ка-
баке — саду — во дворце правителя и т. д.) находит объяснение
при обращении к метасюжету, если рассматривать эти сцены
как его эпизоды. Газель начинается с того, что наставник соб-
ственным примером призывает учеников отдать последнее ра-
ди вина (б. 1). Поступок старца имеет свой сокровенный смысл:
позор, который навлекает на влюбленных (риндов) пьянство,
предопределен еще в предвечности (б. 2). Переход к теме
третьего бейта внешне немотивирован, но, согласно метасюже-
ту, пьянство лирического персонажа — проявление его страда-
ний, ибо вином лечат боль от разлуки с любимым. Эти страда-
ния находят выражение в ночных жалобах-газелях, своей кра-
сотой вызывающих зависть даже у соловья (б. 3). Дальше гово-
рится о том, что справедливости нет, и эмир проливает кровь
невинных дервишей (б. 4). Не выраженную связь между красо-
той стихов и жестокостью правителя можно восстановить с
помощью метасюжета: прежде всего эмир — это возлюблен-
ный, который правит царством красоты, а дервиши — влюб-
ленные. «Предрассветные жалобы» героя, т. е. его стихи — это
разглашение тайны любви, результат непереносимой жестоко-
сти возлюбленного. Между четвертым и пятым бейтами имеет-
ся некое противоречие: эмир убивает нас «беспричинно», а
«наша вина перешла все границы». Но эта вина прояснена на
Уровне метасюжета: поэт, сложивший стихи о своей любви, на-
рушил этику влюбленных (б. 5). Смысловая лакуна между бей-
64
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
тами 5 (рабы и повелитель) и 6 (охотник и дичь) заполняется
элементом метасюжета: влюбленному остается лишь уповать на
милость своего повелителя, ведь он находится полностью в его
власти, как загнанная дичь перед охотником. Связь между бей-
тами 6 (охота) и 7 (безумец в цепях) восстанавливается через
тему величия униженного влюбленного, которой в метасюжете
отведено важное место. Та же тема, соединенная с другим эпи-
зодом метасюжета— жалобы и угрозы в адрес возлюбленно-
го — устанавливает связь между 7 и 8 бейтами. Поэт угрожает
рассказать о жестокости возлюбленного в стихах, которые по-
вергнут в трепет мир. Последний бейт не связан с предыду-
щим, он развивает и завершает тему зачина, живописуя эпа-
тажное поведение наставника-шейха.
Хаджу — один из наиболее ярких представителей круга ав-
торов, о которых принято говорить как о «плеяде Хафиза»37. В
нее включают ближайших предшественников великого шираз-
ца, прежде всего, Низари Кухистани (ум. 1320)38, и Аухади Ma- (
рагаи (ум. 1338)39, а также его современников— Камала Худ- j
жанди (ум. 1371), Салмана Саваджи (ум. 1376), *Убайда Закани ]
(ум. 1370), Насира Бухараи (ум. 1365)40. Названные авторы жи-
ли в разных местах иранского мира (хотя многие так или иначе
были связаны с Ширазом) и придерживались разных взглядов.
Среди них были придворные панегиристы (так, Салман всю
жизнь воспевал правителей династии Джалаиридов) и религи-
озные поэты различных направлений (Низари был исмаилитом,
а Аухади входил в число прославленных суфийских авторов).
Они отдавали предпочтение различным жанрам: Камал и На-
сир были известны как мастера мистической газели, Аухади
обрел признание благодаря большой дидактической поэме «Ча-
ша Джама», Салмана ценили за касыды и любовные поэмы,
*Убайд прославился как сатирик, бичующий нравы в стихах и
прозаических посланиях. Однако всех этих поэтов объединяет I
37 Подробнее см. [Рейснер 1989, с. 174] и приведенные там отсылки на !
труды Шибли Ну*мани, Э. Брауна, А. Е. Крымского и И. С. Брагинского. ]
38 О тематических аналогиях в творчестве Низари и Хафиза см. [Бай- I
бурди 1966, ее. 224-247]. 1
39 О значении творчества Аухади для поэтики Хафиза см. [Бигдили ]
1987]. 1
40 См. о нем [Исрофилниё 2009]. ]
Русский Хафиз (введение)
65
то, что, обращаясь к жанру газели, они следовали общим непи-
саным, но ясно ошутимым эстетическим принципам. Как мы
старались показать на примере разбора стихотворения Хаджу,
эта новая поэтика41 характеризуется обращением ко многим те-
мам в рамках одного короткого текста, внешне немотивирован-
ными переходами от темы к теме, травестированием канониче-
ских образов и ситуаций, ироническим обыгрыванием формул и
клише. Под пером поэтов-новаторов многомерность и разнопла-
новость смысла становится неотъемлемой чертой жанра: газель,
обращенная к прекрасному возлюбленному, может быть прочи-
тана и как любовное послание, и как гимн Всевышнему, а также
как придворный панегирик, воспевающий земного правителя.
Наконец, газель может представлять собой раздумье поэта о
природе своего дара и ниспослании вдохновения.
* * *
К тому моменту, когда на поэтическом небосклоне взошла
звезда Хафиза, новая поэтика газели во всей целокупности ее
элементов уже окончательно сложилась. Она предоставляла
стихотворцам возможность использовать канон и традицион-
ный репертуар тем и образов совершенно по-новому. И многие
поэты воспользовались этой возможностью в полной мере. Ка-
залось бы, Хафиз шел той же дорогой, что и его товарищи по
цеху: все, только что сказанное о Хаджу, можно без натяжки
отнести и к творческому методу нашего поэта. Хафиз не при-
думывал сам образы и приемы, а играл с теми же элементами
конвенции, с которыми играли все его современники, но делал
это с непревзойденной виртуозностью. Чтобы оценить нюанси-
ровки его игры, нужно вооружиться тонкой оптикой: основа-
тельным знанием предшествующей поэтической традиции и
знакомством с выработанными в ней способами оценки и кри-
тики стиха.
Хафиз сумел наиболее талантливо реализовать потенции, за-
ложенные в новой поэтике, именно он стал символом совер-
шенства в искусстве газели. Разумеется, тайна гениальности
Хафиза неподвластна строгому академическому анализу, каж-
дый читатель открывает ее для себя сам. Усилия филологов, как
41 Анализ другой газели Хаджу как примера новой поэтики см. в
[Рейснер 1989, с. 176-178].
66
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
мы показали выше, направлены на выявление и анализ кон-
кретных аспектов поэтической техники хафизовской газели;
всестороннее описание поэтики Дивана — дело будущего.
Вступительная статья — не место для сколько-нибудь об-
стоятельного исследования, однако в ходе многолетней работы
над переводом и комментированием газелей нами накоплен
определенный опыт выявления тех стилистических и образных
решений, которым поэт отдавал предпочтение. Обобщение
практических наблюдений и филологических разборов, пред-
ставленных в комментариях к нашим переводам, позволяет
высказать ряд соображений по поводу наиболее явных особен-
ностей «Языка тайны*.
Далее мы остановимся лишь на тех элементах поэтики Ди-
вана, которые отвечают за неоднозначность и суггестивность
газели, поскольку эти приметы авторского стиля неизбежно те-
ряются в переводе. Речь идет прежде всего о дополнительных
поэтических смыслах, возникающих в результате (1) разного
рода интертекстуальных связей, (2) за счет поэтического обыг-
рывания полисемии слов (фигура îhârn), (3) одновременного
вмещения в высказывание буквального и переносного значе-
ния композитов и фразеологизмов.
Многие газели Хафиза являются ответами [псцхга, javäb) на
газели предшественников и современников42. Знакомство со
«стихами-источниками», мотивы которых перерабатывались и
переосмыслялись поэтом из Шираза, позволяет уловить допол-
нительные смысловые обертоны отдельных бейтов и глубже
проникнуть в замысел газели в целом.
Обратимся к конкретному примеру. Вот одно из знаменитых
стихотворений, снискавшее любовь тех, кто читает по-
персидски, и неоднократно привлекавшее внимание востоко-
ведов.
42 Искусство поэтического состязания, нашедшее выражение в
практике создания ответов на газели, складывалось на протяжении
XII-XTV веков. К концу XV в. приобрели популярность особые антоло-
гии «Ряды стихов» (radâ'if al~as'âî), включавшие газель-образец и це-
почки поэтических ответов, принадлежавших одному или разным по-
этам. См. подробнее [Афсахзод 1988, с. 118-131; Пригарина 1999,
с. 164-180].
Русский Хафиз (введение)
67
Хафиз, Диван, газель № 943
IJ (jl_Ü_jul—J j£j Cbuil '/ij Л ^Ц-С- &JJ
jl_Sj_A I jLua JJ4C j! ^^jÄS <a Ji <£ (^1
j—j^L_â.cy-û jL2&ajj jj л£ ^jâ JjI fuuijj
I j (jIa_j1 ^ \ \ & c_»bl jâ. jl£ jjjj jj
t j q\ л$ a }*&\ ji\ jj A-ujI£ A-ijoj jl£
Cj_yJ Л â> Jam* jiî 4&Jİ ja. I j ч£ jA
! j j! j j! ^ <4Ыа! -u a£ C^U <*. £
! j jîjâ jl j la ùJ—^ l£* J*J j2 f ^
1. Снова сад обретает сияние молодости,
К сладкоголосому соловью приходит радостная весть о розе.
2. О ветерок, если ты вновь посетишь отроков луга,
Передай наш привет кипарису, розе и базилику!
43 Газель № 9 приведена здесь, чтобы продемонстрировать семан-
тические эффекты, возникающие в результате интертекстуальных
связей; в самом корпусе перевода эта тема применительно к данной
газели не обсуждается.
68
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3. Если в таком блеске будет появляться юный маг-продавец вина,
Я сделаю из ресниц метлу для порога кабака.
4. О ты, протягивающий к луне клюшку из чистой амбры,
Не тревожь меня мятущегося.
5. Нет сомнения — то племя, что насмехается над пьяницами,
Потратит свою веру на дело кабака.
6. Води дружбу с божьими людьми, ведь в ковчеге Нуха -
Такой прах, для которого и потоп — не вода.
7. Выйди вон из обители небосвода и не проси хлеба,
Ибо этот скряга под конец убивает гостя.
8. Каждому, чьи последние покои — горсть земли,
Скажи: «Что за нужда возводить дворец до небес?!»
9. О моя ханаанская луна, египетский трон стал твоим,
Настала пора тебе распрощаться с темницей!
10. О Хафиз, пей вино, живи как ринд и будь счастлив, однако
Не превращай, подобно прочим, Коран в силки обмана!
Из некомментированного перевода можно вынести впечат-
ление, что перед нами стихи, где темы весны, любви, бренно-
сти земного и обличения лицемерия сплетены в прихотливый
узор. Еще в середине XX в. А. Баузани разбирал эту газель как
яркий пример разобщенности бейтов [Bausani 1958]. Дж. Мей-
сами анализирует ее в числе хафизовских текстов, наиболее
репрезентативных, на ее взгляд, в отношении многоголосья
сменяющихся персонажей [Meisami 1991, с. 99-101]. Она выде-
ляет в газели следующую композиционную структуру. Вступи-
тельные бейты 1-2 посвящены описанию весны (такие зачины
равно характерны для любовных, винных и панегирических
стихов). При этом очевидно, что лирический персонаж пребы-
вает где-то за пределами сада. Бейты 3-4 проясняют ситуацию:
он находится в кабаке и охвачен страстью к юному магу-
виноторговцу. В бейтах 5-8 происходит «смена голоса»: жалоба
влюбленного уступает место наставлениям искушенного ринда,
обличающего лицемерное благочестие и напоминающего о
бренности земного мира. Этот сегмент связан с предыдущим за
счет мотивов вина, кабака и виночерпия (б. 5). В финальных
бейтах поочередно звучат те же два голоса. В бейте 9 тема всей
газели — предвкушение появления возлюбленного — приобре-
тает придворные обертоны. Последний бейт совмещает при-
глашение к винопитию с еще одним предостережением против
лицемерия.
Русский Хафиз (введение)
69
Мейсами считает, что тематическую доминанту данной га-
зели образует не любовь, а наставление. Это явствует как из
центрального положения и количества строк, посвященных
данной теме, так и «ее связи с другими элементами, которые
косвенно подтверждают невысказанный тезис о том, что до-
вольство простыми радостями жизни выше, чем корыстные
устремления, слегка прикрытые лицемерной набожностью»
[там же, с. 100].
В этих стихах можно заметить, по мнению Мейсами, и еще
одно смысловое измерение — придворное. Упомянутые в нача-
ле газели кипарис, роза и базилик— старинные персидские
эмблемы царственности — наводят на мысль о том, что поэт
«лишился своего места в придворном саду». Это предположение
подкрепляется дидактическим сегментом, где автор напомина-
ет лицемерам о том, что помыслы о дворцах ни к чему тем, «чьи
последние покои — горсть земли» (б. 8). Упоминание о ханаан-
ской луне, Йусуфе, оставляющем темницу, чтобы взойти на
трон — явная аллюзия на реставрацию власти ширазского
правителя, покровительствующего поэту. Таким образом, ока-
зывается, что сквозь голоса влюбленного и наставника-ринда
можно расслышать «голос панегириста, придворного поэта, ко-
торый сочетает в себе два взаимодополняющих набора ценно-
стей, две установки — преданность любви и нравственному
долгу, которые было принято ставить в пример аудитории. И
аудитории, и адресату стихов предлагается отождествить себя
с лирическим персонажем и разделить с ним одну или обе из
этих установок, чтобы таким образом отмежеваться от врагов,
которые презирают пьяниц и превращают Коран в „силки об-
мана"» [там же, с. 101].
В Диванах Са'ди и Хаджу Кирмани имеются газели, напи-
санные в той же форме, т. е. той же разновидностью метра ра-
мал, с теми же рифмой и радифом, что и газель № 9 [Хуррам-
шахи 1999, с. 148]. Поскольку известно, что эти авторы были
высоко ценимы Хафизом, приведенную газель можно рассмат-
ривать в качестве текста, так или иначе связанного со стихами
предшественников, т. е. поэтического ответа.
Вот тексты и переводы этих газелей.
70
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Са'ди (1)44.
I j JLJ ijj* fie J& JSil <£ ^ I
> Cj&US gjS j <^A jî 2^
/] ft r*- t 1^.1 . ^«% 4*i4\ ^jlâ * w ^ \ a t \\l*%
! j cjL-jLj û l£ aAujI a£ Cimü! Jale
J-Lli j Cj jjuıa. 4j j ^jjl^j j JüJ j£ д-аа.
) j jî û jl j£j Cj^büÄ. 4j a£ Jjb 4a jjj
g-b j Cf&3b Aj £L jl jJJc^ jj -ü jî
1J lA*—O -a&Aj-1 ç jà c5JJ^ ^ ÔÎJ
l j jl àj_L «ü£ <Uİpjl 4a. CjjuOjİjÎ £ ja
j__at j 4_j djAİlcaİA JüUmi 4jIxjj jIa
I j (jl ni ^1 jİA (3^1^ ^j^J CäIa j> j
J j ti i ^JİC <U 4£ Lü 4j 4j CuA ^Ja
IJ (jİJj ^J—JUJ öJjJjjui ^jûülc cİjId
"İ ıh \ t"lj^ Л jLûAJ A£ JjJ (J jl Jİ
l J (jl Л J 1 ÛJJJ Jul (jİjSl ûJA Vl^ıVl
Ij jl—a. Cjj^â jo. jj jiLo jb <_$! ^ä€
JjJ Jul jl t Ijtıİn J ÛJJİJJ JjJuJ ^ ı lift 1
IJ jl rtl I ı^jj J JjuüJJ JA Jİ^J <^*£
j__j| ja (jfrjp jû jj .inb üj
44 См. [Са'ди, Куллиййат 1996, ğazaliyyât-i mavâ'iz, № 3, с 884].
Русский Хафиз (введение)
71
!j (jtaL_j jN-a djjà JjJlj y-brijâ ılıâj
1. О ты, кто отвергает мир дервишей,
Ты не знаешь, каковы их страсть и устремление.
2. Сокровище свободы и уголок довольства малым — это царство,
Которое султану не добыть с помощью меча.
3. Наделенный разумом не стремится к недолговечному величию,
Разумен тот, кто думает о конце.
4. Накопили, положили и ушли с сожалением —
А что есть у этого [дервиша] такое, что жаль оставить?
5. Тот уходит из сада, горюя и печалясь,
А этот рукою радости пробивает [выход из] темницы.
6. Нет [у него] богатства, чтобы бояться Судного дня,
Он водная птица, зачем ему опасаться потопа?
7. Душу чуждого [любви] ангел смерти забирает насильно,
Ни к чему насилие над влюбленным, жертвующим душу.
8. Не [смотрят] глаза желания не то что на этот, но и на тот мир,
У взыскующего — влюбленного, смятенного и взволнованного.
9. Договор любви заключили еще в предвечности,
Муж не нарушит договора, даже если предстоит лишиться головы.
10.Увидел я влюбленного, страдающего и неимущего,
Сказал: «О друг, не отдавай жизнь ради своей заботы!»
1 I.Oh горестно вздохнул и, ослабевший от страдания,
Сказал: «Оставь меня, неимущего!
12.Твой сердечный совет достигает моих ушей — увы! —
Я жаден до страданий, что мне делать с лекарством?!»
13.0 Са'ди, жизнь драгоценна, не проводи ее в неведении,
Только глупец упускает подходящий момент.
Эта длинная газель (таких немало у Са'ди) — назидание о
том, как следует жить, чтобы легко встретить неизбежную раз-
луку с миром. Оно преподносится от лица мудрого наставника
и отчетливо делится части, посвященные дервишу (б. 1-6) и
влюбленному (б. 7-12). Начальные бейты читаются как образец
суфийской дидактики: друг другу противостоят дервиш и сул-
тан, воплощающие два подхода к земной жизни. Один из
них — нестяжание, дающее дервишу свободу от мирских забот
и избавляющее от страха перед Судным днем; второй — погоня
за величием и богатством, превращающая султана в раба стра-
стей. В седьмом бейте вводится новая пара персонажей —
влюбленный и чуждый любви. Они также противопоставлены
по признаку отношения к жизни: один готов радостно пожерт-
вовать жизнью, а другому тяжело с ней расстаться. Далее ста-
72
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
новится ясно, что «дервиш» уступает «влюбленному», поскольку
он «наделен разумом» и думает о конце, т. е. о посмертном воз-
даянии, а «влюбленный, смятенный и взволнованный», т. е. ли-
шившийся разума «взыскующий» не смотрит «не то что на этот,
но и на тот мир». В бейтах 10-12 мудрый наставник, от лица
которого написана газель, вступает с «влюбленным» в диалог и
неожиданно сам получает наставление, оказываясь в положе-
нии ученика. Речь мудреца заканчивается сентенцией, обра-
щенной к Са'ди. В последнем бейте автор травестирует топос
«лови мгновение и наслаждайся жизнью» и призывает самого
себя и тем самым читателя не упускать отведенное человеку
время и потратить его на обретение высших истин, открываю-
щихся дервишу и влюбленному.
Са'ди (II)45
I j jl oj-jİ J$JJ JJ jS а£ öJÜj jj£ Ал.
I j jl_£j^ aylı j*\£- a£ (jJL jj& 4a
j—j j j—aI ß\ jjjI jUS c5VUj>-
I j jl£—j—j j^j ôJjj jj a£ Ciuûl (jjilc
dbijXj ja jl ^jIajj A£ JJ> ^JA lLLuJJ
U u^—* r JbU J2 с$Ь jj a£ jb ^ ^
tj ni4 jlâlû (jl jl (^jUàljj äJjj ^j^jil^
I j (jl "i mjl % i iVinn (3^ 4-*A Ij
(_£JjLa (jl JJÄ. jJ C-iL-ajl JJ ôjjj I j <L»A
I j (jl j j-a (j-—ft -^j^J t-uc j£j Ij
f^jr* l> J2 Cİ JJ JJ ^ (J& ij и*У
\j (jl J •» j ; ; <S jjİUj *jjj I j <UA
ej—j \ U <j ajäxj JIa. I j-u (jLj& ш&.
1 j (jlj Là (JAj (jl (_>*»jjj jb iib diS
(jjj o fAİjâu JjJ (jJİ JJ <£ У ^
« См. [Са'ди, Куллийат 1996, газель № 17, с. 405-406].
Русский Хафиз (введение)
73
Ij ^jb Lui (jjj duLo ûjj <Je-^ ^—y^
I j Jİ jl J .!& -UİUJİ Лл. J^j jû Aâjc.
!j jb—x* jjI Jjj ^jS a£ Ci*-jj j£U
1. Что может раб, как не подчиняться приказу?
Что может мяч, как не стать жертвой клюшки?
2. Если [красавец] со станом-кипарисом и бровями-луками
пустит стрелу,
Влюбленный — тот, кто подставит глаза под [ее] острие.
3. Приди мне на помощь, ведь слабость стала беспредельной,
Прояви обо мне заботу, ведь я бросаю жизнь к твоим ногам.
4. О если бы спала завеса с того зрелища красоты,
Чтобы все люди узрели собрание картин!
5. Взоры всех были бы поражены твоими достоинствами,
Так что не стали бы больше порицать меня, пораженного.
6. Однако та картина, которую вижу в твоем лице я...
Не у всех есть глаза, чтобы увидеть ее.
7. Я рассказал лекарю о состоянии моих плачущих глаз,
Он сказал: «Один раз поцелуй те смеющиеся уста!»
8. Я сказал: «Наверное, так и умру с этой болью,
Ведь для меня недоступно это лекарство».
9. Не от ума я распустил руки подле серебряного предплечья,
Предел глупости — бить кулаком по наковальне.
Ю.Са'ди не боится людских упреков — увы,
Разве опасается дождя тот, кто тонет в Ниле?!
11. Склони голову, если направляешься на ристалище желания,
На этом ристалище она неизбежно станет мячом!
Если газель Са'ди (I) построена как наставление мудреца, то
здесь перед нами монолог влюбленного. При этом в начале и
конце стихотворения (б. 1-2 и б. 11) говорится об общем прави-
ле, обязательном для всех влюбленных. Мотив мяча, лишенного
своей воли и покорного клюшке, использован в первом и по-
следнем бейтах и как бы обрамляет газель. Он акцентирует это
правило, а тем самым и основную тему — участвовать в лю-
бовной игре на «ристалище желания» можно лишь при условии
абсолютного подчинения возлюбленному. Драма влюбленного
раскрывается в метафорах зрения: потеря зрения (б. 2), особое
зрение (б. 4, 5, 6), лечение зрения (б. 7, 8). В бейте 2 настоящим
74
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
влюбленным объявляется тот, кто готов подставить глаза под
стрелы взоров возлюбленного (т. е. добровольно лишиться воз-
можности видеть весь остальной мир). В бейтах 3-10 персонаж
газели рассказывает о собственном опыте и, начав с жалобы на
беспредельные страдания любви (б. 3), возвращается к теме
зрения. Его муки вызваны «зрелищем красоты»: он обрел такое
зрение, что способен видеть красоту друга, недоступную взо-
рам обычных людей (бейты 4-6). Однако в бейтах 7-9 оказыва-
ется, что наш персонаж не соответствует идеалу, деклариро-
ванному в начале газели. Он жалуется лекарю на свое слабею-
щее от слез зрение, а тот, в духе традиционной медицины, дает
совет лечить плачущие глаза «противоположным» — поцелуем в
смеющиеся уста (б. 7). Герой сетует на невозможность получить
прописанное средство (б. 8), хотя идеальному влюбленному по-
добает быть «жадным до страданий» и отвергать лекарства (см.
бейт 12 предыдущей газели). Вместо того чтобы радоваться
своим мукам, как безумно влюбленный, он сожалеет о том, что
«не от ума распустил руки подле серебряного предплечья» (б. 9),
т. е. ввязался в борьбу, заранее обреченную на неудачу (сереб-
ряное предплечье — метоним могучего и прекрасного против-
ника). В бейте 10 герой подытоживает свой рассказ: состоя-
ние его плачевно (в прямом и переносном смысле), он утопает
в Ниле собственных слез, по сравнению с которыми дождь уп-
реков в неразумном поведении не заслуживает внимания. По-
степенно раскрывающееся различие между персонажем и
идеальным влюбленным придает газели иронический оттенок.
Это различие сформулировано в последнем бейте как настав-
ление слушателям: совершенного влюбленного отличает от
прочих готовность к полному отказу от собственной воли даже
ценой жизни.
Хаджу Кирмани46
pal 4 4&JJİİJ jb ^^J j£ I j л\с
46 Текст дан по [Хаджу, Dorj-3], часть I, газель № 23.
Русский Хафиз (введение)
75
Ij_JljIûjjà. t^huB^â (j\àyji л ^ (JJİ
Ij il jb û—au a£ <jl jW r** Jl J^
lj_JljUàjS а_Ь j! J AJ ^Uj ^
J j J Jİ ti L-İaj j Ajluıl (j-*lû jû ClujJ
! j il jl£ a£ üJ jj ^1 j jl jSl
c-^Jj <"\ им jLu jb jIjSj jl jb jjj
I J—jl jb Ja-û 4—A. ^*i jjui jlâjla (JİJJ
J 15 cSjAÏ 4âU jl
I j il jlLc j-
1. И все же, о друг, не забывай друзей,
Возьми себе бесприютные сердца страдальцев.
2. Пусть ты не принимаешь простой люд в покое для избранных,
[Но] зачем ты гонишь с порога преданных слуг?
3. Встречу с Йусуфом не сторговать и за сотню драгоценных
жизней —
Что ж это за недоступная сделка для покупателей!
4. Если бы не помогало живительное дыхание ветерка,
Кто бы приносил друзьям весть о том, где обретаются друзья?!
5. Тот, у кого в каждом волосе [локона] узник вроде меня,
Разве даст пленникам свободу от пут?!
6. Следует держаться руками за подол покорности и согласия,
Раз грешникам не устоять на ногах.
7. В дождливый день нельзя отправляться в путь, однако
Что такое дождь рядом с потопом моих слез?!
8. Прибор, наполненный мускусом-сырцом татарской лани —
[Вот что такое] для парфюмеров кольцо твоего мускусного гиацинта.
9. Спрашивай про Хаджу на краю улицы кабаков,
Ведь у входа в келью не найти торговцев вином!
Газель Хаджу — еще один лирический монолог, но его тема
более узкая, чем во второй газели Са'ди. Речь ведется не о тяго-
76
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
тах любви в целом, а о конкретной ситуации, связанной с отъ-
ездом недоступного друга. Уже в зачине газели адресат как бы
уравнен в правах с влюбленными в него — к отъезжающему
другу (yâr) обращаются друзья (yärän) с просьбой не забывать о
них. Это «уравнивание» немаловажно, оно повторено и в бейте
4 — ветер помогает (yâri kunad) друзьям (yärän) получать вести
от друзей (yärän). Во втором бейте описание неприступности
адресата дано в терминах придворной жизни: «друзья» пред-
ставлены как «простой люд», которому нет доступа во дворец, и
как «слуги», которых гонят с порога. В третьем бейте друзья-
влюбленные предстают как несостоятельные покупатели; тема
недоступного для них свидания воплощена через аллюзию к
околокораническому преданию о Йусуфе (его продали египет-
скому вельможе за очень большую цену). Равнодушный друг
уезжает и не собирается сообщать о себе, а все надежды влюб-
ленных получить весточку «опираются на ветер»; в бейте 4
Хаджу соединяет два топоса: ветер — помощник влюбленных и
ветер — воплощение тщеты (ср. «ветер в руках»). Драма усугуб-
ляется тем, что друзья расстаются не только с другом, но и со
своими сердцами, пленниками его локонов (б. 5). Бейт 6 содер-
жит наставление не забывать о судьбе грешников в Судный
день и следовать заветам ислама — быть покорными Богу и
пребывать в согласии с Его волей. Но в контексте газели это
наставление прочитывается как совет «друзьям» (грешникам)
не роптать, т. е. не упрекать друга в жестокости и несправед-
ливости. В бейте 7 на первый план выходит тема отъезда. Ис-
пользован старинный мотив «задержка каравана» (часто в на-
сибах касыд влюбленный обращается к караванщику с прось-
бой задержаться и не увозить любимую). Влюбленный мотиви-
рует свою мольбу фантастической причиной: плохо отправлять-
ся в дорогу под дождем, а его слезы вызвали такой потоп, что
об отъезде не может быть и речи. Далее «друзья» превращаются
в «парфюмеров», а локоны друга — в средоточие мускуса, осно-
вы для создания благовоний. Бейт 8 прославляет адресата как
источник благоденствия «друзей-парфюмеров». Газель заканчи-
вается шутливым противопоставлением Хаджу «другу»: если тот
уехал и не подает вестей, то поэт точно сообщает, где его мож-
но найти. Он будет лечиться от любви вином на улице кабаков.
Русский Хафиз (введение)
77
Разбор газели заставляет предположить, что у стихов, напи-
санных в любовном коде, имеется дополнительное смысловое
измерение. За отношениями влюбленных и возлюбленного про-
сматриваются коллизии придворной жизни. Прежде всего, на
протяжении всей газели речь идет о сообществе влюбленных;
«друзья» каждый раз выступают под новой маской: страдальцы,
слуги, покупатели, пленники, грешники, парфюмеры. Лириче-
ский персонаж озабочен не столько своим положением, сколько
участью всего сообщества, к которому он принадлежит. Драма-
тургия газели строится на конфликте между адресатом и груп-
пой (друг забывает друзей, гонит верных слуг, не отпускает
пленников и т. д.). Тема расставания может быть истолкована
как намек на отъезд покровителя, который не берет с собой
компанию своих приближенных (надимов, в числе которых,
конечно, были и поэты). При таком прочтении выясняется, что
бейт 2, где в метафорах придворного этикета, казалось бы,
описывается любовная коллизия, может быть истолкован бук-
вально: правитель не только не включил своих верных слуг в
число приближенных, но и гонит их прочь. Ключ к подтексту
газели дан в ее начале, но воспользоваться им можно, лишь
внимательно дочитав стихотворение до конца.
При первом чтении трех разобранных стихотворений скла-
дывается впечатление, что кроме отмеченных формальных па-
раметров они не имеют с газелью Хафиза ничего общего. Как
видно даже из нашего краткого анализа, центральные темы
всех трех газелей разные. У Са'ди — наставление о том, как
следует жить, чтобы легко расстаться с миром (I), и монолог
влюбленного о необходимости полного самоотречения (II). У
Хаджу— лирический монолог влюбленных (придворных), свя-
занный с отъездом их недоступного друга (правителя).
Конечно, прочитав стихотворения одно за другим, можно
заметить ряд перекличек— ветер-вестник, клюшка, кипарис,
кабак, сад — но все они входят в число образных клише пер-
сидской лирики и встречаются чуть ли не в каждой газели.
Поиск общих рифмующихся слов также не прибавляет аргу-
ментов в пользу взаимозависимости текстов. В газели Хафиза
11 слов, несущих рифму— только три из них встречаются у
предшественников, и все в одной из двух газелей Са'ди (X.,
б. 4 — СИ, б. 8; X., б. 6 — СИ, б. 6; X., б. 9 — СИ, б. 5).
78
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Однако далее мы попробуем показать, что Хафиз, тем не ме-
нее, ведет поэтический диспут с предшественниками; сополо-
жение с ближайшими интертекстами позволяет дополнить и уг-
лубить понимание газели. Дж. С. Мейсами и другие авторы ви-
дят в тексте Хафиза намек на возвращение к власти покрови-
теля поэта. В то же время разобранная нами газель Хаджу про-
низана темой отъезда прекрасного друга. Лишь на этом фоне
становится заметно, что у Хафиза смысловой центр газели об-
разует круг мотивов возвращения или явления красоты: в бей-
те 1 весна приходит в сад, весть приходит к соловью, в бейте 2
ветерок приходит к отрокам луга (у Хаджу в бейте 4 ветерок
упомянут в связи с отсутствием друга), в бейте 3 юный маг
предстает в блеске своей прелести. В бейте 4 возлюбленный яв-
ляет локон, подобный «клюшке из чистой амбры» (у Хаджу в
бейте 5 он — «оковы» для узников-сердец, а в бейте 8 — «источ-
ник мускуса» для парфюмеров). В бейте 9 ситуация возвраще-
ния описывается как триумфальный выход «моей ханаанской
луны» (Йусуфа) из тюрьмы и восшествие на трон. Ликующая
интонация бейта становится слышна рядом с пессимистичной
строкой Хаджу о невозможности встречи с Йусуфом даже це-
ной «ста жизней».
Если «диалог» с Хаджу Хафиз строит на антитезе, рисуя в
схожих образах противоположную ситуацию, то обращаясь
сразу к двум текстам Са'ди, он использует более сложные стра-
тегии: обогащает свой текст иронией, возникающей за счет пе-
реклички с чужими строками, или же солидаризируется с
предшественником, строя бейт как краткое резюме его про-
странных наставлений.
Вернемся к бейту 9 о «ханаанской луне», в котором, как уже
говорилось, скрыт намек на реальную ситуацию возвращения
правителя, послужившую поводом к созданию газели. Ему
предшествуют два бейта, излагающие общие места религиоз-
ной дидактики: не проси хлеба у этого мира и не строй в нем
высоких дворцов, поскольку он все равно погубит тебя и от-
правит под землю. На этом фоне радостное поздравление Йу-
суфа с обретением трона Египта, т. е. как раз с тем мирским
возвышением, о необходимости отказа от которого говорилось
строкой выше, уже получает оттенок предостережения (не сле-
дует привязываться к вещам, обреченным на гибель). Йусуфу
Русский Хафиз (введение)
79
пришло время «распрощаться с темницей», сменить заточение и
унижение на возвышение и почет. В бейте 5 газели Са'ди (I)
(«Тот уходит из сада горюя и печалясь, //А этот рукою радости
пробивает [выход из] темницы») речь идет о радостном выходе
дервиша из темницы. При этом под темницей имеется в виду
земной мир, тот самый мир, в котором восходит на трон Йусуф
у Хафиза. Слово zindan «темница» стоит под рифмой у обоих
поэтов, что акцентирует перекличку бейта Хафиза с бейтом
Са'ди. Благодаря этому к поздравлению со счастливым поворо-
том судьбы примешивается не только предостережение, но и
некоторая ирония. Если этот мир темница, то обретение свобо-
ды и власти в нем, в конечном счете, мнимые ценности.
Шестой бейт Хафиза «Води дружбу с божьими людьми, ведь
в ковчеге Нуха — // Такой прах, для которого и потоп не вода»
изящно суммирует первые шесть бейтов Са'ди (I), посвященные
восхвалению дервишей. Поэт в сущности перефразирует нача-
ло («О ты, кто отвергает мир дервишей...», б. 1) и конец («...Он
водная птица, зачем ему опасаться потопа?», б. 6) дидактиче-
ского пассажа Са'ди, тем самым как бы отводя остальным
строкам роль комментария к своему бейту. Этот «комментарий»
объясняет природу бесстрашия «божьих людей»: они ценят
лишь свободу и нестяжание (б. 2), не стремятся к земному вели-
чию (б. 3) и к накоплению мирских богатств (б. 4), видят в
смерти освобождение из темницы жизни (б. 5).
Казалось бы, говоря о том, что «божьим людям» не страшен
потоп, Хафиз лишь повторяет мысль Са'ди. Поверхностный
смысл его бейта вполне традиционен: будь вместе с праведни-
ками и обретешь спасение, как те, кто спаслись от потопа в
ковчеге Нуха. Но в интертексте Са'ди находится подсказка, по-
зволяющая уловить в строках Хафиза дополнительное смысло-
вое измерение. «Дервиш» Са'ди не боится потопа, т. е. смерти и
Судного дня в силу своей природы, так же как водоплавающая
птица не боится воды. «Божьим людям» Хафиза не страшен по-
топ, потому что они нашли спасительную сушу в ковчеге Нуха;
таким образом они чувствуют себя в безопасности, потому что
сделали правильный выбор. Эта коннотация особенно интерес-
на, поскольку подкрепляет гипотезу о том, что газель создана в
связи с возвращением к власти покровителя поэта.
80
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Если Йусуф, выходящий из темницы — министр или прави-
тель, то «племенем, что насмехается над пьяницами» (б. 5) на-
званы враги опального покровителя, которые третируют его
приверженцев. А поскольку недруги «превращают Коран в сил-
ки обмана» (б. 10), возможно, они принадлежат к религиозным
кругам или даже входят в число духовных авторитетов Шираза.
Вероятно, с этим связано и то, что завершающая часть газели
содержит две коранические аллюзии (б. 6, 9) и одно прямое
упоминание Корана47 (б. 10). В бейте 5 утверждается, что «эти
люди» вдруг изменят свое мнение и «потратят веру на дело ка-
бака», но совершенно не ясно, на чем основан такой прогноз.
Исходя из содержания предшествующих бейтов, где речь шла о
разных формах явления красоты, можно предположить, что
причиной перемен в поведении врагов станет лицезрение кра-
соты вернувшегося друга. О подобном преображении говорится
в бейтах 4-6 газели Са'ди (II), которые Хафиз как бы превраща-
ет в развернутое введение к своему лапидарному высказыва-
нию. Поэтическая мысль Са'ди состоит в том, что если бы кра-
сота друга открылась взорам, все люди были бы поражены ею и
перестали бы осуждать влюбленного, однако это невозможно,
ведь только влюбленный имеет глаза, способные узреть эту кра-
соту. Идея Хафиза иная, она не лишена иронии: преображение
врагов не только возможно, но и неизбежно; сейчас они насме-
хаются над теми, кто заливает вином горе разлуки, но скоро
они увидят триумфальное возвращение друга (покровителя),
попадут в опалу и отправятся утешаться в кабак.
До сих пор мы говорили о взаимосвязях на уровне поэтиче-
ских идей, но совершенно не коснулись такого важного аспекта
техники ответов, как аллюзии к тексту предшественников при
помощи трансформации конкретного мотива. Характерным
примером может служить представленный в трех стихотворе-
ниях мотив «потопа» (tufän) и близкий к нему мотив «утопания в
Ниле» в газели Са'ди (II). В газели Са'ди (I) tufän обозначает «на-
воднение, обилие воды» и является метафорой Судного Дня,
которого не боится дервиш. В Са'ди (II) мотив Нила (б. 10) так-
47 Отметим, что в Диване слово «Коран» встречается 7 раз (газели 9,
69, 154, 193, 266, 271, 319), всегда только в подписных бейтах, что
несомненно связано с семантикой слова хафиз — хранящий в памяти
Коран.
Русский Хафиз (введение)
81
же воплощает идею обилия воды, и выступает в бейте как мета-
фора величайших страданий. Хаджу (б. 7), как и Са'ди, исполь-
зует tüfän в значении «обилие воды», но превращает его в мета-
фору слез влюбленного. И наконец, Хафиз (б. 6) помещает tüfän в
контекст, актуализирующий его кораническое значение — Все-
мирный Потоп, который предстает в качестве метафоры несча-
стий и перипетий судьбы. Все поэты так или иначе строят обра-
зы «потопа», опираясь на идею опасности воды. Но Хафиз вво-
дит в свой образ оппозицию «вода (ab) — прах/земля (xâ/c)», про-
тивопоставляя спасительную сушу Ковчега гибельной стихии по-
топа. Такой перенос акцента с неодолимости потопа на возмож-
ность спасения интересен еще и потому, что страх самого поэта
перед водной стихией вошел в легенду. Считается, что в основе
знаменитого бейта первой газели Дивана «Темная ночь, ужас
волн и водоворот такой страшный! // Где уж понять наше со-
стояние беспечным на берегу?!» (1:5) лежит реальное пережива-
ние. Лишь однажды в жизни поэт отважился сесть на корабль,
чтобы совершить морское путешествие в Индию по приглаше-
нию одного из местных правителей, однако, убоявшись «волн и
водоворотов», он при первой возможности сошел на берег.
Существующие интертекстуальные связи между приведен-
ными газелями далеко не исчерпываются нашим разбором. Од-
нако и он свидетельствует о том, что привлечение текстов-
предшественников, текстов-прототипов способно существенно
обогатить чтение, расширить семантические границы произве-
дения, в условных образах и мотивах уловить намеки на реаль-
ные события. В поисках приемов создания многозначности Дж.
Мейсами услышала в газели Хафиза «многоголосье сменяющихся
персонажей», создающее эффект дезинтеграции: бейты, в кото-
рых звучит речь влюбленного, перемежаются с другими, содер-
жащими наставления мудреца-ринда, а сквозь них пробивается
голос придворного поэта-панегириста. Привлечение интертек-
стуального материала позволяет наряду с голосами разных пер-
сонажей расслышать еще и отзвуки голосов разных авторов. Со-
отношение каждого бейта газели-ответа с высказываниями
предшественников создает дополнительное смысловое измере-
ние, повышающее уровень поэтической многозначности текста.
До сих пор мы рассматривали перекличку газели Хафиза с
конкретными стихами его предшественников. Конечно, далеко
82
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
не все газели Хафиза представляют собой поэтические ответы,
но можно смело сказать, что в каждой из них поэт ведет диалог
со всей предшествующей традицией. Это еще один важный ре-
сурс обогащения семантики стиха, а возникающие при этом
аллюзии и ассоциации придают тексту дополнительную пер-
спективу. Именно в искусстве остранять единицы конвенцио-
нального словаря, создавая для них неожиданные контексты,
Хафиз не имел себе равных. Ограничимся здесь всего лишь од-
ним примером, взятым из уже разобранной газели (бейт 8):
Каждому, чьи последние покои — горсть земли (xâk),
Скажи: «Что за нужда возводить дворец (ayvan)
до небес (aflâk)?U
Поверхностный смысл этого бейта ясен без дополнительных
пояснений и без обращения к каким-либо другим текстам: по-
скольку человеку предстоит обрести свое последнее пристани-
ще в могиле, нет смысла стремиться к величию. Казалось бы,
образ, построенный на оппозиции «уход под землю — вознесе-
ние до небес», не требует комментария. Однако на самом деле в
бейте искусно обыгрывается поэтическое клише, а также скрыт
намек на знаменитый эпический сюжет.
Выражение «горсть земли» (mustî xâk) имеет в персидской
поэзии устойчивое метафорическое значение «Адам» или «чело-
век» ['Афифи, ел. ст. fcJSU. (^ьЬл]. Источником метафоры служат
многократные упоминания в Коране о том, что Адам был со-
творен из земли или глины (см., например, [Коран, 15:28-29;
17:63 (61)]. Обычно поэты использовали эту формулу, говоря о
человеке как творении божьем. Так, 'Аттар писал: «Чистая хва-
ла от чистой души тому Чистому, // Который даровал намест-
ничество горсти земли (т. е. человеку)». У 'Ираки в касыде
«О единобожии (tawhïd)» говорится «Ради горсти земли (т. е.
ради человека) Он воздвиг дворец мира...».
Под пером Хафиза в рассмотренном бейте эта устойчивая
формула становится авторской метафорой могилы. При этом
традиционное значение формулы сохранено в подтексте перво-
го полустишия: каждому человеку (т. е. горсти земли), чьи по-
следние покои горсть земли, скажи... . Как видно из цитат 'Ат-
тара и 'Ираки, это выражение было принято употреблять в кон-
тексте рассуждений о высоком предназначении человека —
наместника Бога на земле; Хафиз раздвигает рамки устойчи-
Ясский Хафиз (введение)
83
вой формулы, так что она одновременно вызывает ассоциации
как с высоким предназначением, так и с неизбежным концом
человека, созданного из пригоршни праха.
Второе полустишие бейта также заключает в себе несколько
уровней смысла. Прежде всего, оно содержит тривиальную сен-
тенцию о тщете земного. Одновременно «возведение до не-
бес» — элемент конкретного эпического сюжета о царе Джам-
шиде, изложенного в «Шахнама» Фирдоуси. Джамшид — леген-
дарный правитель Ирана, культурный герой, научивший народ
разнообразным наукам и ремеслам:
С ним к людям пришла золотая пора,
Иного не видели, кроме добра.
Все чтили владыку; душою велик,
Всемирной он власти и славы достиг.
[Фирдуоси 1957, с. 38]
Переломным в истории счастливого правления Джамшида
стал момент, когда он, обуянный гордыней, решил зримо во-
плотить свое величие.
Покорный веленью властителя, бес
Престол (taxt) небывалый вознес до небес (gardun);
И там, словно солнце небесных высот,
Сиял повелитель прославленный тот.
[Там же]
Дальнейшая судьба Джамшида оказалась трагической. Утра-
тив милость Творца, он навлек на себя и свою страну несчастья и
в конце концов был убит, в поэзии Джамшид стал нарицатель-
ным примером сразу двух крайностей — величайшего могущест-
ва, доступного смертному, и его полного бессилия перед судьбой.
Опорными словами пассажа из «Шахнама» служат «престол» (taxfj
и возведение «от земли до небес » (az hämün ba gardun). Хафиз
зашифровывает свою аллюзию, лексически «переодевая» мотив.
Вместо одного царского символа «престол» он использует дру-
гой — «дворец» (ayvän) у а вместо оппозиции hämün—gardun появ-
ляется xäk—aflâk, «возведение» у Хафиза передано глаголом kasî-
danf у Фирдоуси—bar-afrâstan. С учетом всего сказанного содер-
жание бейта, выглядевшего обманчиво просто, оказывается под-
крепленным скрытыми отсылками к Корану и «Шахнама», и ис-
кушенный читатель услышит в нем, что сынам Адама следует из-
влечь назидание из истории Джамшида и не уподобляться ему.
84
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
* * *
Мы рассмотрели одну газель Хафиза, чтобы продемонстри-
ровать характер трудностей, возникающих перед читателем,
переводчиком, исследователем персидской поэзии. Если бы мы
выбрали любую другую газель Дивана, картина была бы не ме-
нее сложной, объем комментариев не меньшим и скрытые ал-
люзии — не менее разнообразными. При этом способы созда-
ния многозначности далеко не исчерпываются игрой с тради-
цией (поэтическими претекстами, сюжетами Корана и иран-
ского национального эпоса, положениями мусульманской дог-
матики и этики, философскими концептами суфизма). Едва ли
не самым продуктивным приемом порождения многозначности
становится игра поэта с родным языком. Хафиз виртуозно вла-
дел всем арсеналом риторических приемов и фигур, предпи-
санных персидской поэтикой. Но особую славу принесло ему
искусство применения приема ихам, основанного на использо-
вании двух или нескольких значений слова или выражения.
Термин ihäm буквально означает «повергнуть в сомнение» или
«заставить задуматься». Он состоит в том, что «употребляют ка-
кой-то отрезок речи, [указывающий] на два значения, одно —
привычное {qarïb), а другое— необычное (ğanb)y с тем чтобы
слушатель поначалу обратился мыслями к привычному значе-
нию, а цель сочинителя — как раз необычное значение» [Шамс-
и Кайс 1997, с. 228]. Определение приема подсказывает, что
стихи, в которых встречается эта фигура, требуют пристально-
го чтения и осознанного стремления увидеть за «привычным»
смыслом «необычный», за «ближним» — «дальний», вникнуть в
их соотношение, оценить остроумную игру поэта со словом.
Приведем несколько ярких примеров реализации приема в Ди-
ване Хафиза.
Самый простой случай может быть проиллюстрирован сле-
дующим бейтом (17:2):
Тело мое истаяло вдали от похитившего сердце,
Моя душа сгорела в огне любви (mihr) к лицу друга.
В контексте бейта, повествующего о несчастной любви, ес-
тественно предположить, что слово mihr использовано в значе-
нии «любовь», а речь идет о любви к лицу. Однако появление в
полустишии слова тих «лицо» непосредственно за словом mihr
напоминает слушателю об устойчивой метафоре «солнце лица»
Русский Хафиз (введение)
85
и актуализирует второе значение слова mihr— «солнце». Так
возникает второй смысл полустишия: «Моя душа сгорела в огне
солнца лица друга». Здесь разные значения слова использова-
ны, чтобы вместить в строку одновременно два разных образа.
Более сложный случай представлен в следующем примере (10:5).
Твой прекрасный лик открыл (kasfkard) нам знамение
(âyat) милости (lutfj,
С тех пор в нашем толковании (tafsîr) только
«милость» и «красота».
В бейте воспета красота адресата: с тех пор как возлюблен-
ный друг явил милость, позволив увидеть себя, все вокруг ка-
жется нам исполненным милости и красоты.
Фигура ïhâm в этом бейте задействует не одно, а несколько
опорных слов, имеющих второе, терминологическое значение:
«знамение» — äyat, также — стих Корана (айат), «знамение ми-
лости» — äyat-i lutf, «айат милости», так называют айаты Кора-
на, в которых говорится о милости Бога, «открыл» — kasf kard,
также — «истолковал»; «толкование» — tafsîr, также — особый
жанр религиозной прозы, «комментарий к Корану».
Твой прекрасный лик истолковал для нас «Айат милости»,
С тех пор в нашем комментарии к Корану [говорится]
только о милости и красоте.
Когда мы читаем бейт с учетом ихама, построенного на тер-
минах науки о Коране, возникает еще одна смысловая пер-
спектива. Поскольку «айаты милости» в комментаторской лите-
ратуре противопоставлены «айатам муки» (äyat-i 'azâb), где
речь идет о божественном гневе, бейт можно понять так: «С тех
пор как мы увидели твой лик, мы поняли истинный смысл Айа-
та милости и толкуем все айаты Корана только как рассказы о
милости Бога, а не о Его гневе».
Такой тип реализации фигуры позволяет вместить в бейт не
просто два образа, а две разных ситуации, предстающих как две
разных метафоры одного и того же смысла: лицезрение друга
избавляет от дурных мыслей и направляет мысль на благое.
Еще ярче суггестивная природа ихама проявляется в случа-
ях, когда бейт можно прочесть в двух разных смыслах, при
этом оба смысла взаимосвязаны и не могут быть поняты друг
без друга. Приведем пример (19:3).
86
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
На всяком, кто пришел в мир — печать опьянения (xaräbi),
Скажите, где в кабаке (xaräbät) найдешь трезвого?!
При чтении первого полустишия в переводе сразу возникает
вопрос, почему такое странное утверждение приводится как
само собой разумеющееся. Дело в том, что для перевода прихо-
дится с неизбежностью выбирать одно из двух значений xaräbi
«опьянение» и «разрушение» (остальное сообщается в коммента-
рии). Читающий в оригинале скорее сначала воспримет выра-
жение naqs-i xaräbi как «печать бренности, разрушения» и ни-
чему не удивится, действительно, все люди бренны. Значение
xaräbät «кабак» во втором полустишии также не вызывает со-
мнения, однако при этом связь двух полустиший остается не
выявленной. Эта связь устанавливается именно благодаря фи-
гуре юсам: naqs-i xaräbi имеет переносное значение «печать
опьянения», a xaräbät— прямое значение «развалины», также
«руины». Кроме того xaräbät— распространенная метафора
бренного мира. Образ бейта выявляется в полной мере только,
когда дочитываешь бейт до конца и одновременно восприни-
маешь оба смысловых плана (опьянение и бренность): каждый,
кто пришел в мир, отмечен бренностью, но опьянен вином
любви уже в предвечности; разве можно найти в кабаке брен-
ного мира трезвого, т. е. того, кто не пьян от любви.
* * *
Итак, печальным итогом наших раздумий оказывается вы-
вод о практической невозможности адекватного воссоздания
поэтики Хафиза на другом языке. Это тем более справедливо
для тех культур, в которых нет своей традиции газели. При
этом Хафиз остается одним из наиболее переводимых на за-
падные языки восточных авторов. К настоящему времени на-
копилось такое количество самых разных переводческих опы-
тов, что национальные «хафизианы» сами становятся предме-
том исследования48. Разнообразие переводческих стратегий об-
наружилось уже в самом начале знакомства европейцев с
творчеством Хафиза: в 1771 году Уильям Джонс предложил чи-
48 Об английских переводах см., например, [Arberry 1946; Meisami
1995; Loloi 2004], о немецких [Bobzin 1988], о французских [Beelaert
2009, с. 141-143], о русских и английских переводах [Чалисова 2010,
с. 387-399].
Русский Хафиз (введение)
87
тателям одновременно два перевода газели о ширазском тюрке
(газель № 3 нашего текста), стихотворный и прозаический,
причем оба были достаточно вольными. В 1812-1813 гг. вышел
в свет стихотворный перевод Дивана Хафиза на немецкий
язык, выполненный австрийским востоковедом Йозефом Хам-
мер-Пургшталем. Эта книга вдохновила Гете на создание его
«Западно-восточного дивана». В дальнейшем, за два с лишним
века сложились разные подходы к передаче Хафиза на другом
языке, его переводили рифмованными стихами, свободным
стихом и стихотворениями в прозе, ориентируясь на широкую
читательскую аудиторию; наряду с этим появлялись и научные
переводы, адресованные узкому кругу коллег-иранистов. Неко-
торые художественные переводы стали классическими в евро-
пейских литературах и сформировали своего рода «националь-
ные» образы персидского поэта, столь же далекие от прототипа,
сколь далеки были от оригинала их тексты. Так, можно вспом-
нить о немецких романтических Хафизах Гете или Даумера,
английском викторианском Хафизе Коуэлла, наконец, о рус-
ских Гафизах Пушкина, Фета, Майкова, Соловьева. В конце
XIX — начале XX века возникло новое понимание задач худо-
жественного перевода, обусловленное, в частности, развитием
филологических наук: переводчики стали придавать большее
значение сохранению формальных особенностей газели и вос-
созданию аутентичного образного ряда произведения. Так, Ха-
физа XX века представили читателю в поэтических переводах,
выполненных с оригинала, известные востоковеды — Гертруда
Белл, Артур Арберри (англ.), Йохан Кристоф Бюргель (нем.),
В. М. Монтей (франц.), Е. Дунаевский (русск.), А. Дален (швед.).
В Советском Союзе, где существовала целая индустрия художе-
ственных переводов с восточных языков, опиравшихся на
«анонимные» подстрочники, появилось немало вариаций на те-
мы Хафиза, созданных поэтами-профессионалами, не знако-
мыми с персидским языком (авторы подстрочников, как пра-
вило, не упоминались в изданиях). Этот корпус стихов, разных
по своим художественным достоинствам, объединяет столь
вольное обращение с подлинником, что зачастую представляет
большую трудность угадать, какая именно персидская газель
легла в основу конкретного «перевода». Некоторые, особо из-
вестные газели, существуют в пяти-шести поэтических интер-
88
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
претациях, сильно отличающихся друг от друга. Многократно
переиздавались и получили признание широкого читателя пе-
реводы А. Кочеткова, И. Сельвинского, С. Липкина, В. Держа-
вина, Т. Спендиаровой, В. Звягинцевой, К. Липскерова, М. Си-
нельникова, Н. Г. Тенигиной и др. Особняком стоят переводы
117 газелей Германа Плисецкого, сделанные с подстрочников и
под пристальной редактурой ираниста и знатока персидской
литературы Н. Б. Кондыревой. Однако сколько-нибудь полного
поэтического перевода Хафиза на русский язык до сих пор не
существует.
Рассмотрение достоинств и недостатков художественных пе-
реводов не входит в наши задачи. Остановимся подробнее на
переводах другого типа— переводах-исследованиях, адресо-
ванных прежде всего специалистам, но также привлекающих
внимание тех любопытных читателей, которые хотели бы уз-
нать, как и что говорил Хафиз на самом деле. Таких переводов
гораздо меньше; они всегда делаются с оригинала профессио-
нальными иранистами, стихи в них, как правило, сопровожда-
ются комментариями, так или иначе мотивирующими предло-
женное понимание оригинала. Их авторы отказываются от пе-
редачи формальных признаков газели, чтобы с максимальной
точностью воспроизводить содержание каждой строки подлин-
ника. Первым опытом такого рода стала книга подполковника
Г. Вильберфорс-Кларка, опубликованная в Калькутте в 1891 г.
На титуле значилось: «Впервые переведено с персидского анг-
лийской прозой с критическими замечаниями и пояснениями,
с вступительной статьей, приложением очерка о суфизме и
биографии автора». Однако этот пионерский опыт, к сожале-
нию, оказался малоуспешным, надолго отбив у иранистов охоту
к прозаическому воспроизведению великой поэзии. Подпол-
ковник Кларк переводил стихи прозой, тем не менее он ставил
перед собой и некие художественные задачи, в результате язык
переводов нарочито архаизован, и в голосе Хафиза зачастую
слышатся интонации ветхозаветного пророка из King James
Bible XVII в. Г. Кларк обильно комментировал текст, размещая
свои комментарии даже внутри бейта, что затрудняет чтение и
разрушает целостное впечатление от стиха. Кроме того, пере-
водчик предложил исключительно суфийское истолкование га-
зелей, превратив «перламутровые» строки в хитросплетения
Русский Хафиз (введение)
89
суфийских символов и лишив поэта его главного достоинст-
ва — многомерности поэтического смысла49.
Следующий полный филологический перевод на один из ос-
новных европейских языков появился только через столетие. В
2005 г. в Милане была издана книга Стефано Пелло и Джанро-
берто Скарциа «Хафиз. Книга песен» [Hafez, Canzoniere 2005]50.
В основу издания положен Диван в редакции Ханлари; приве-
дены параллельные персидские тексты; почти все газели со-
провождаются комментариями, однако пояснения даются да-
леко не к каждому бейту. При этом переводчики решали не
только научные задачи, они старались показать, что лучшие
образцы персидской газели не уступают по красоте образов
шедеврам итальянского сонета — ведь у европейского читателя
название «Канцоньере» неизбежно ассоциируется с великим со-
временником Хафиза Петраркой и его сонетами к Лауре. По-
этому для перевода Пелло и Скарциа характерно стремление к
филологической точности в сочетании с постоянной заботой об
изяществе стиля. При таком подходе неизбежно приходилось
идти на компромиссы: переносить части одного полустишия в
другое, опускать слова или достраивать фразу, не прибегая к
квадратным скобкам, то есть так или иначе жертвовать точно-
стью, которой читатель вправе ожидать от филологического
перевода. В целом, работа Пелло и Скарциа опирается на дос-
тижения сильной итальянской школы иранистики51 и содержит
немало интересных переводческих решений (ссылки на нее
можно встретить в нашем комментарии).
49 Подробный критический разбор издания Кларка см. в статье
[Thiesen 2002-2003].
50 Поскольку за прошедшие сто лет представления о составе Дива-
на изменились (об этапах текстологической работы см. ранее), подлин-
ник, с которым имели дело итальянские ученые, существенно отличал-
ся от текста, бывшего в распоряжении Г. Кларка.
51 Стоит отметить Конкорданс к Дивану, подготовленный Даниэлой
Менегини Корреале [Correale 1988]. По количеству новых переводов
Хафиза Италия в последнее десятилетие заняла лидирующее место в
западном мире. Незадолго до «Canzoniere» была опубликована «Книга
кравчего» [II libro del coppiere 2003], содержащая переводы газелей,
выполненные иранистом Карло Сакконе. Параллельно с работой Пелло
и Скарциа начал публиковаться и трехтомный перевод Дивана, подго-
товленный Джованни М. Д'Эрме [II Canzoniere di Hafez di Siraz 2004-
2008].
90
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Доказательством возрастающего интереса к академическому
освоению наследия Хафиза служит появление еще одного евро-
пейского издания, в котором принципы филологического под-
хода к переводу проведены наиболее последовательно. В 2006
вышел из печати французский Le Divân [Hâfez de Chiraz 2006].
Этот перевод выполнил Шарль-Анри де Фушекур, ученый,
увенчавший свою многолетнюю деятельность по изучению ли-
тературы и культуры иранского средневековья переводом ве-
личайшего поэта Ирана. Он подготовил издание, солидное не
только по объему (1274 стр.), но и по составу: базирующийся на
редакции Ханлари перевод предваряется пространным введе-
нием, сопровождается обстоятельными комментариями к каж-
дому стихотворению и завершается справкой о метрических
парадигмах газелей, большим тематическим индексом к стихам
и рубрицированной библиографией изданий и переводов Ха-
физа, а также исследований, посвященных поэту и его эпохе.
Во введении, наряду с необходимыми сведениями о месте Ха-
физа в литературе и обзором главных тем его лирики, основное
внимание уделено политической истории Ирана и Шираза, в
контексте которой создавался Диван. И это вполне оправданно,
ведь, комментируя газели, Ш.-А. Фушекур много сил отдает по-
пыткам выявить в строках поэта намеки на его отношения с
тем или иным покровителем, то есть рассматривает Хафиза
прежде всего как придворного автора. При этом в толковании
отдельных образов французский ученый нередко следует за \
иранскими коллегами, выдвигая на первый план суфийские \
коннотации. Поэтической технике Хафиза в работе уделено не- !
сравненно меньшее место, а его стратегии игры с предшест- j
вующей и современной литературной традицией и вовсе остав- I
лены без внимания. Если обсуждение политического контекста I
или суфийских обертонов бейта встречается в комментариях ]
Ш.-А. Фушекура повсеместно, то интертекстуальные связи поч- j
ти не отмечаются; оставлена без внимания и важная для по-
этики Хафиза практика «ответов». Конечно, подобный «герме- ]
тичный» подход к трактовке Дивана несколько обедняет палит- 1
ру его смыслов, но основное достоинство труда французского j
переводчика не в поисках смысловой многозначности, а в фи- 1
лологическом и культурном обосновании хотя бы одного, но 1
точно отражающего подлинник смысла. Хотелось бы воспользо- ]
Русский Хафиз (введение)
91
ваться случаем и выразить признательность коллеге, чья книга
постоянно помогала нам в работе.
* * *
Филологический перевод поэзии Хафиза представляет труд-
ности как для его создателей, так и для читателей. Персидскую
газель принято рассматривать как вид лирики. Уже само это
определение, хотя и оправданное при типологическом подходе
к литературе, способно ввести в заблуждение. Даже читатель,
избравший своей специальностью иранистику, не свободен от
собственных культурных стереотипов, включающих и набор
представлений о лирической поэзии, а эти представления воз-
никают в большой степени из опыта чтения европейской и рус-
ской лирики нового времени. Поэтому такие элементы лириче-
ского дискурса, как целостность структуры стихотворения,
единство темы, последовательное развертывание лирического
сюжета, связанного с раскрытием некого субъективного пере-
живания, сознательно или бессознательно входят в «читатель-
ское ожидание». Как мы постарались показать ранее, персид-
ская газель не только не оправдывает подобных ожиданий, но
предлагает нечто прямо противоположное. Вместо целостной
структуры она зачастую являет собой череду «рассыпанных»
бейтов, каждый из которых представляется автономным и са-
модостаточным; вместо единства темы она стремится к поли-
тематичности, объединяя в рамках одного текста элементы па-
негирика, любовной и вакхической песни, философской и ди-
дактической элегии; вместо раскрытия субъективного пережи-
вания она скорее скрывает его за разукрашенной завесой ри-
торики. Все перечисленное в наиболее сконцентрированном и
ярком виде представлено в газелях Хафиза.
В основе нашей работы лежит стремление прочитать Хафиза
в контексте иранской традиции, пусть не «так, как он был на-
писан», но хотя бы так, как его читали и продолжают читать на
его родине. Мы не старались приблизить персидского поэта к
его великим европейским собратьям, скорее наоборот, свою
главную задачу мы видели в том, чтобы в «русском Хафизе» бы-
ли сохранены «странные», т. е. незнакомые европейцам особен-
ности поэтического языка средневекового Ирана. Такой подход
определил структуру работы, в которой перевод и комментарий
фактически уравнены в правах: поясняется каждый бейт каж-
92
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
дой газели; комментарий следует непосредственно за перево-
дом стихотворения в основном тексте (не под страницей и не в
конце книги) и в несколько раз превышает объем перевода.
Настоящий том включает первые сто газелей Дивана и состоит,
соответственно, из ста «глав», построенных по единой схеме:
персидский оригинал газели; название метра (bahr) и метриче-
ская парадигма (vazn); скандировка первого бейта в соответст-
вии с указанной парадигмой; перевод газели; комментарий.
Последний содержит: (1) вводные замечания о формальных
особенностях газели и возможных интертекстах, (2) необходи-
мые пояснения к каждому бейту, (3) соображения, касающиеся
стихотворения в целом (лишь в некоторых случаях).
Оригинальные тексты приводятся в редакции Казвини-Гани
(по изданию X. X. Рахбара [Хафиз 1994]). В отличие от наших
зарубежных коллег, работавших с Диваном в редакции Ханла-
ри, мы предпочли более раннюю версию, отличающуюся по та-
ким параметрам, как количество газелей (495 вместо 486), по-
рядок бейтов и наличие разночтений в ряде конкретных строк.
Причин тому несколько. Прежде всего, Хафиз в редакции Хан-
лари уже доступен европейскому читателю благодаря итальян-
скому и французскому переводам. Кроме того, редакция Хан-
лари считается более совершенной, поскольку опирается на бо-
лее широкую и солидную текстологическую базу, однако в си-
туации, когда сам факт существования первоначальной автор-
ской версии Дивана вызывает серьезные сомнения, привлече-
ние к изданию большого числа рукописей ведет и к умножению
неизбежно волюнтаристских решений текстолога. И наконец,
именно редакция Казвини-Гани, при всех ее достоинствах и
недостатках, по сей день остается для иранцев Хафизом par ex-
cellence. Эта версия используется для преподавания, воспроиз-
водится в виде многочисленных бумажных и электронных из-
даний (например, Dorj-3), вывешивается на интернет-сайтах,
посвященных персидской поэзии (Persopedia.com; Ganjoor.net и
др.) и специально Хафизу.
В отождествлении стихотворных размеров мы следуем за
изданием Рахбара [Хафиз 1994]. В каждом случае приводится
полное название (размер и все зихафы) и парадигма в терми-
нах персидского аруза.
Русский Хафиз (введение)
93
В работе использована транслитерация с элементами транс-
крипции на основе латинского алфавита, принятая в западной
иранистике для издания текстов на классическом персидском
языке, с применением ряда специальных знаков:
арабская буква
И
t_J
Cj
iL
É
S
с
t
J
j
J
J
J
L>"
*>
°*
o±
İ3
İ3
t
t
ci
3
^
A
J
f
Ü
J
0
L5
e
транслитерация
â; a, i, u (в нач. слова)
b
Р
t
t
J
с
h
X
d
z 1
r
z
z |
s
s
ş
z
t
z
« 1
g
f
Q
k 1
g
1 1
m 1
n 1
v, ü
h 1
ï,y
> 1
В нашем филологическом переводе, выполненном прозой, не
переданы такие важные формальные признаки газели, как
МетР> рифма и радиф. При этом мы неукоснительно соблюдали
принцип эквилинеарности в отношении передачи не только
94
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
бейта, но и его полустиший. Запрет на перенос слов из строки в
строку порой ведет к «насилию над русским языком», но сохра-
нение границ полустиший важно для выражения поэтической
идеи бейта.
Мы стремились как можно более точно воспроизводить лек-
сико-синтаксическую структуру строки оригинала и не прив-
носить ничего от себя; все необходимые добавления заключены
в квадратные скобки.
Филологический перевод — результат научного анализа тек-
ста, в нем нет поэтичности и всех признаков художественной
формы. Такой подход чреват двумя крайностями: буквализмом
подстрочника и попыткой создать иллюзию художественности
за счет обращения к «высокому штилю», то есть стремлением
как бы компенсировать утраченную красоту, ощущаемую пе-
реводчиком в оригинале. Мы же, избрав срединный путь, соз-
нательно старались использовать стилистически нейтральный
язык, естественный строй фразы и современную лексику, избе-
гали архаизации и стилизации в «восточном духе».
При этом мы не ставили перед собой задачу прояснять
текст, подменяя непонятное понятным. Цель филологического
перевода, которая, согласно Ф. Шлейермахеру, заключается в
том, чтобы приблизить читателя к автору52, не может быть дос-
тигнута с помощью одного лишь перевода. Одна из задач фило-
логического перевода — «заманить» читателя в комментарий.
Мы стремились строить комментарий так, чтобы сведения,
содержащиеся в нем, позволяли справиться с загадкой, задан- )
ной текстом. При этом мы руководствовались убеждением, что
в традиционной культуре наряду с каноном сочинения стихов j
складывается и канон их понимания. Уже издавна при обуче-
нии чтению газелей Хафиза самими носителями языка активно I
используется шарх (комментарий). Это связано не только с от- i
личием языка XIV в. от современного персидского, но и с эниг- 1
матичностью, характерной для поэтики Хафиза. Сложившаяся |
традиция комментирования и была положена в основу нашего 1
подхода к объяснению стихов. Чаще всего в работе даются от- 1
сылки к комментариям Суди, Хирави, Рахбара и Хуррамшахи. I
52 Schleiermacher F. D. E. Über die verschiedenen Methoden des Über- j
setzens // Friedrich Schleiermacher's sämtliche Werke. Dritte Abtheilung. ]
Zur Philosophie, Zweiter Band, Berlin, 1838, 207-245. j
Русский Хафиз (введение)
95
Существует, разумеется, и множество других, но увеличение
числа толкователей практически не расширяет круга толкова-
ний: в целом, последующая комментаторская литература во
многом повторяет предшествующую. Мы предпочли опираться
на суждения репрезентативных представителей разных школ
герменевтики Дивана. Упоминавшийся выше турецкий фило-
лог Мухаммед Суди Боснави заложил основу комментирования
Хафиза. В своей классической работе он зафиксировал средне-
вековый опыт толкования Хафиза в иранском мире, пополнив
его пояснениями, полезными для иноязычных читателей, в ча-
стности, постоянно уделяя внимание разбору лексических
форм и грамматических конструкций персидского текста.
Комментарий Хусейна Али Хирави (1918-1991) — интерпре-
тация Дивана с позиций современного иранского филолога,
имевшего в своем распоряжении солидную источниковедче-
скую базу и опиравшегося также на достижения западной
иранистики. Простым современным языком он скрупулезно из-
лагает содержание каждого бейта, дает объяснение слов и обо-
ротов, ставших непонятными современному иранцу, а затем
дает свое понимание поэтической идеи бейта. В ряде случаев
Хирави предлагает собственные модернизированные толкова-
ния, идущие вразрез со сложившейся традицией (наиболее ин-
тересные из них отмечены в нашей работе).
Те, кто только приступает к серьезному чтению Хафиза, не-
редко начинают с книги профессора Тегеранского университе-
та Халила Хатиба Рахбара. Эта книга, вышедшая в 1983 г., вы-
держала множество переизданий и продолжает издаваться (мы
пользовались 13-ым изданием 1994 г., а в 2001 г. вышло уже
32-е); она рассчитана в первую очередь на студенческую ауди-
торию, и этим определяются особенности ее построения: ком-
ментарии — наряду с необходимой лексико-грамматической
информации — приводятся лишь к «трудным бейтам», они ла-
пидарны и носят откровенно пропедевтический характер.
В 1987 г. вышел в свет труд Баха ад-Дина Хуррамшахи. Он
содержит комментарий к 250 избранным газелям (т. е. практи-
чески к половине Дивана); двухтомник, формально структури-
рованный как издание газелей с комментариями, на самом де-
ле представляет собой как бы собрание мини-исследований,
посвященных отдельным мотивам, темам и персонажам поэзии
96
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Хафиза и включающих подборки контекстов. Особое внимание
филолог уделяет интертекстуальным связям газели, отмечая
случаи поэтических ответов и перекличек и подкрепляя свои
доводы многочисленными сопоставительными цитатами.
Мы сверяли свое понимание текста со всеми перечисленны-
ми, а также рядом других персидских знатоков Хафиза. Одна-
ко наша задача— приблизить к Хафизу русского читателя;
многое из того, что очевидно иранцу и потому игнорируется в
шархах, требует от русского переводчика, как и от любого дру-
гого, многословных пояснений, воссоздания традиционного кон-
текста понимания за счет сведений реального, филологического,
религиозно-философского, историко-культурного характера.
Газели Хафиза не только «выдерживают», но и предполагают
множественные интерпретации, поскольку их неоднознач-
ность — преднамеренная. Поэтому мы не стремились выбирать
один «правильный» перевод каждой строки, отвергая альтерна-
тивные. Сочетая перевод и комментарий, мы пытались дать
читателю обоснованное представление о смысловой вариатив-
ности бейта. При всех ограничениях жанра филологического
перевода, он по самой своей природе позволяет сосредоточить-
ся на одной из главных составляющих хафизовского гения —
его способности заставлять слова легко и беспечно «играть на
гранях языка». В русской поэзии это легкое дыхание ощутимо у
Пушкина: ]
I
Дни любви посвящены, )
Ночью царствуют стаканы, ]
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.
* * * |
Начиная с осени 1994 г. в Отделе памятников письменности 1
народов Востока ИВ РАН действовал постоянный семинар, по- ]
священный чтению Хафиза. Первым руководителем и требова- |
тельным наставником участников семинара был профессор 1
Мухаммад-Нури Османович Османов (с 1996 г. он живет и тру- J
дится у себя на родине в Махачкале). В разное время наряду с 1
авторами работы участниками семинара были Мухаммад Вех- ]
руз, Лейла Лахути и другие специалисты, связанные с работой 1
отдела. Только после того, как Диван Хафиза был полностью 1
прочитан, у авторов появилась возможность приступить к под- ]
Русский Хафиз (введение)
97
готовке настоящего издания. В 2004 г. стал выходить журнал
«Ирано-Славика», который предоставил свои страницы для пуб-
ликации наших переводов53.
Издание рассчитано на три тома; настоящий том включает
первые сто газелей, во второй и третий тома, находящиеся в
процессе подготовки, планируется включить соответственно
200 и 195 газелей, так как по мере продвижения работы объем
комментария постепенно сокращается за счет перекрестных
отсылок.
В заключение считаем своим приятным долгом выразить
благодарность нашему наставнику М.-Н. О. Османову, а также
коллегам, слушавшим наши доклады о проблемах хафизоведе-
ния в Институте восточных культур и античности РГГУ и на
протяжении многих лет читавшим и обсуждавшим переводы.
Также хотелось бы поблагодарить Евгению Никитенко, подго-
товившую персидские тексты для настоящего издания.
53 См. «Ирано-Славика» №№ 1-23, 2004-2011, газели 1- 60.
Газели 1-100:
тексты, переводы, комментарии
Газель 1
\ frJjU j ' JS jJİ JMİ\ ı*$ı ь vi
L-aJSjİa jUàt ^ \j Jjl Jjaj ^jLuıt (3*ic л£
J jLİNj 6j]a ^jl j Lu*a J^IS 45UİU 45 jj 4j
1 ftjrt^a ^jHj^>j 4_£ jjb(a5^ ûbjà (jj»j2b
l___A J Jİa f^J J ^J j A>^ JF^isî ^ 'rt ^
J J_A jjüä ^bjS j jr j* f# j <4u^ 4^
1 a JäLuj q\jbSüJu» U Jl ^ jûib La£
1 A JftaMû ,ti jLa jl j£ 45 jl j <jî ^jLû ^ jl$j
Ц—1—*Jbl j UjaJI pi <5><H ô-л (3-1-3 u ^^
Ba/ır: hazaj-i muthamman-i salim
Vazn: mafâ'üun mafâ'îlun mafâ'îlun mafâ'üun
a-lâ-yâ-ay / yu-has-sâ-qi / a-dir-ka'-san / va-nâ-vü-hâ
ki-'is-qà-sâ" I па-тй-dav-val / va-lî-uf-tâ / d°-mus-kil-hä
• Л ну-ка, виночерпий, обнеси круг чашей и вручи ее [мне]\
Ведь любовь сначала показалась легкой, но — начались трудности!
101
102 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. В надежде, что ветерок все же развяжет мускусный мешочек кудрей,
Сколько сердец изошло кровью от изгибов их черных прядей!
3- Разве привольная жизнь у меня на стоянке друга, если каждый миг
Колокольчик взывает: «Приторачивайте паланкины!»
4- Раскрась молитвенный коврик вином, если тебе велит старец-маг,
Ибо путник не может не знать об обычаях стоянок.
5- Темная ночь, ужас волн и водоворот такой страшный!
Где уж понять наше состояние беспечным на берегу?!
6. Все мои дела из-за своеволия закончились позором.
Как сохранится такая тайна, которая собирает толпы?!
7. Если ты хочешь присутствия, не отдаляйся от него, о Хафиз,
Когда встретишь того, кого жаждешь, простись с миром и отринь его!
Комментарий
Хотя с точки зрения алфавитного порядка рифм эта газель не
может считаться первой, она тем не менее открывает все из-
вестные авторитетные рукописи, поэтому ее принято помещать
в начале Дивана [Хирави, с. 5]. Анализ газели как «авторского
предисловия» к собранию стихов см. в [Meisami 2003, с. 418-
427].
1. «Виночерпий» (sâqîj — отрок, разливающий вино на пиру,
обращение к виночерпию — традиционный зачин газели, часто
используемый в Диване Хафиза, где «виночерпий» используется
также как обозначение юного прислужника в кабаке (xaräbät),
возлюбленного друга, предвечного возлюбленного, подробнее
см. [Хуррамшахи, с. 160].
Выделенная курсивом строка включает второе полустишие
арабского бейта, части которого поменяны местами: «Обнеси
круг чашей и вручи ее [мне], а ну-ка, виночерпий!*. Суди (с. 1)
приписывает этот бейт арабскому поэту, второму халифу дина-
стии Омейядов, Йазиду б. Муавийи (680-683), однако Хирави
(с. 1-2) и Хуррамшахи (с. 91-92), со ссылкой на данные М. Каз-
вини и К. Гани, указывают, что такого бейта среди сохранив-
шихся стихов Йазида и в его опубликованном диване [Бейрут,
Хафиз. Газель № 1
ЮЗ
1982] нет. Хирави (также с дальнейшими отсылками) приводит
зачин газели Амира Хусрава Дихлави, в которой то же арабское
полустишие, перевернутое, как у Хафиза, сделано второй поло-
виной бейта: «Рубиновое вино — это пища душ, сила сердец! //
А ну-ка, виночерпий, обнеси круг чашей и вручи ее [мне]h. Од-
нако, в диване Амира Хусрава [CD Dorj-3] такой газели нет.
«Трудности» (muskilhä) — многочисленные испытания и опасно-
сти, которыми чреват путь любви.
Второе полустишие бейта содержит максиму, встречающую-
ся во многих сочинениях о любви, ср. начало главы «О природе
любви» в книге «Ожерелье голубки», где сказано, что «любовь
поначалу шутка, а в конце — дело серьезное» [Ибн Хазм 1957,
с. 15].
Поскольку одна из коннотаций «вина» в персидской литера-
туре — это поэтическое вдохновение, обращение к виночерпию
с просьбой поднести чашу именно в первой строке Дивана
представляется неслучайным. Возможно, Хафиз следует тради-
ции, восходящей к Низами, который заложил основы жанра
säqi-näma, предваряя свои поэмы особыми главами, состоящи-
ми из обращений к виночерпию и восхвалений того вина, без
которого невозможна поэзия, см. [Низами 2008, ее. 21-24].
2. «В надежде» (ba bü-yi) — также «от/ради аромата» (прием
ïhâm). «Ветерок» — sabâ, восточный (или северо-восточный) ве-
тер, дующий весной. В поэзии легкий и благоуханный утренний
ветер (особенно — весенний), под воздействием которого рас-
цветают цветы и которому влюбленные поверяют тайны. В га-
зели круг образов, связанных с такими поэтическими функ-
циями sabâ, как «вестник», «помощник весны», «влюбленный»,
чрезвычайно широк, в Диване Хафиза «ветерок» (sabâ) — пер-
сонаж очень многих газелей, см. в первых ста газелях 4:1; 7:8;
9:2; 12:5,11; 16:7; 31:7; 34:3; 42:5; 43:2; 56:5; 58:3; 61:1; 69:5;
73:5; 87:4; 88:3; 90:1,4; 93:8; 95:4, 6. Наряду с sabâ для реали-
зации схожих мотивов используются слова bäd «ветер» и nasïm
«благоуханный ветер». «Мускусный мешочек» — näfa, мускусная
железа самца кабарги, которая имеет вид небольшого мешочка
под животом у животного (считалось, что мускус в этой железе
образуется из сгустившейся крови); также — завязывающийся
кисет для хранения мускуса. «Кудри» — turra, преимуществен-
но — уложенная завитками челка. «Черный» — miskin, также —
104 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
«мускусный, благоухающий мускусом», характеризует и цвет, и
аромат волос.
Ветерок должен разметать завитки волос, чтобы до влюблен-
ных донесся аромат друга, и долгое ожидание этого события
становится причиной их страданий.
Возможна иная интерпретация: сердца влюбленных страда-
ют в плену у локонов; только если ветерок «развяжет» узлы, т. е.
растреплет локоны, сердца получат облегчение (ср. схожий об-
раз в газели 95:5).
3. «Приторачивайте паланкины» — т. е. собирайтесь в доро-
гу; колокольчик напоминает как о неизбежном для всех людей
отбытии в мир иной, так и о грозящей влюбленному скорой
разлуке с милым другом.
4. «Маги» — историч. зороастрийские жрецы, однако, в ис-
ламское время так стали называть всех зороастрийцев и, осо-
бенно, тех, кто торговал вином (что в странах ислама было раз-
решено только зороастрийцам и христианам). «Старец-маг» —
pir-i mugän, продавец вина, в суфийской поэзии — духовный
наставник, угощающий учеников «вином истинного знания»; в
диване Хафиза — виноторговец, предстающий как подлинный
наставник пьяниц-риндов. «Путник» (sälik) — или старец-маг,
упомянутый в первом полустишии, или лирический персонаж
Хафиз. «Обычаи стоянок» — räh-u rasm-i manzilhâ, букв, «путь и
правила стоянок»; «стоянки» — manzilhâ; в общем значении —
«стоянки на пути каравана» (продолжение темы путешествия,
см. б. 3), в суфийской терминологии — «этапы прохождения
мистического пути» (также maqämät).
Идея: если наставник приказывает тебе пить вино на молит-
венном коврике, не страшись греха, он — опытный путник и
лучше знает, как себя вести.
Если под «путником» во втором полустишии подразумевается
сам лирический персонаж, то возможно иное прочтение: «Пей
вино, если тебе велит наставник, ибо путнику (тебе) следует
учиться навыкам «пути и стоянок» [Хуррамшахи, с. 94—97].
5. «Беспечный» — sabuk-bär, букв, «с легкой ношей», тот, кто
не задумывается над вопросами жизни и смерти или «тот, кто
уже достиг берега свидания и равнодушен к чужим страдани-
ям» [Суди, с. 13].
Хафиз. Газель № 1
105
Каждая из перечисленных опасностей олицетворяет страхи
человека перед непознанным: темная ночь — тьма потусторон-
него существования; ужас волн — сомнения и потерянность;
водоворот — угр°за смерти [Хирави, с. 4]. Комментаторы тол-
куют этот бейт как образ смятения влюбленного и его страда-
ний в разлуке с возлюбленным.
6. «Своеволие» (xvad-kàmî) — потакание себе, заботы о себе
вместо полной преданности возлюбленному [Суди, с. 15], т. е.
отступление от кодекса поведения влюбленного; в контексте га-
зели — непослушание старцу-магу. «Тайна» (räz) — тайна люб-
ви, разглашение которой ведет к позору влюбленного; «которая
собирает толпы» — k-az й säzand mahfilhä, букв, «ради которой
создают компании», т. е. тайна, о которой судачат повсюду; по
мнению Суди (с. 15), второе полустишие — переложение араб-
ской пословицы «Как может остаться тайной, то, о чем толкуют
на каждом углу». «Тайна, которая собирает толпы» — намек на
разглашение тайны любви в сочиненных газелях, которые рас-
певают повсюду (эта газельная тема восходит к истории иде-
ального поэта-влюбленного — Маджнуна).
В первом полустишии — намек на кораническую легенду об
Адаме, который проявил своеволие, ослушался Всевышнего и
был с позором изгнан из рая, см. [Коран, 7: 10(11) — 24 (25)].
7. «Присутствие» — huzur, также — «спокойствие, свобода от
чего-либо» [Суди, с. 17]; у суфиев — «место единства» (maqäm-i
vahdat) [Хатми 1995, с. 15], т. е. бытие в Боге.
«Не отдаляйся от Него» (az й gäyib masav) — букв, «не стано-
вись отсутствующим от него»; — gäyib одного корня с ğayb «от-
сутствие», которое образует с huzur антонимическую пару су-
фийских терминов, ср. у Ибн ал-'Араби: «Присутствие есть при-
сутствие сердца в Истинном и отсутствие его в тварном...» (цит.
по [Хатми 1995, с. 15]).
Комментаторы отмечают аллюзию к кораническим айатам:
«И не уклонилось его зрение и не зашло далеко» [53:17] и «[...]
Скажи: „Аллах!" Потом оставь их забавляться в своих пустых
разговорах» [6:91]. Здесь и далее цитаты из Корана даны в пере-
воде И. Ю. Крачковского [Коран 1986], если не указано иначе.
Идея: если ты хочешь быть рядом с любимым, то думай по-
стоянно и только о нем, и забудь о целом мире.
106 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
С. Ниру видит в газели намеки на разлуку Хафиза с его по-
кровителем Шахом Шуджа* и отмечает, что стихи могли быть
написаны в момент, когда правитель бежал из Шираза [Ниру,
с. 172-173], тогда «присутствие» — это близость к правителю, а
весь бейт — заверение в абсолютной преданности ему.
Газель 2
L
L
L
_a£ cjj 1 -% ^jl jt Lajiu ajjj L^£
ill—uil dl j jJ öLä. a£ ^jİJLÂüj t м t и 4j jjie
(jl J diâj IaS <AJuJj£ (jl JjÄ.
CLlujjJ (j\ jl^-ft л-Aİa JàâlA. j ujI ja, j jl jâ
t 7- ^ Ljjl jL j aI^£ (^jjfuâ t^hnj^ jlj3
Ba/ir: mujtait-i mulamman-i maxbun-i mahzuf
Vazn: mafä'ilun fa'ilätun mafä'ilun fa'ilun
sa-lä-hi-kä / r°-ku-jä-vü / ma-rd-xa-rä / b°-ku-jä
bi-bF-ta-fä I vu-ü-rah-kaz / ku-jä-s^tä / b(a)-ku-jä
107
108 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
i. Где благоразумие, а где я, вдребезги пьяный?
Погляди-ка, что за разные дороги — откуда и докуда [они]?!
2. Сердце мое устало от кельи и хирки лицемерия,
Где монастырь магов, где чистое вино?
3- Какое отношение имеют к риндству благоразумие и благочестие?
Где слушание проповеди, а где мелодия рубаба?
4- Что могут сердца врагов узнать о лике друга?
Где погасшая лампа, а где светоч солнца?
5- Пыль у Ваших дверей — словно сурьма для нашего зрения,
Куда идти нам, укажи, отсюда — куда?
6. Не заглядывайся на яблоко подбородка, ведь это — яма на дороге,
О сердце, куда ты идешь с такой поспешностью, куда?
7- Прошла — добрая ей память — пора свидания,
Куда делись те взоры, где те упреки?
8. О друг, не жди от Хафиза покоя и сна,
Где там покой, какое терпение и откуда сон!
Комментарий
В первом бейте данной газели отмечено нарушение рифмы,
выражающееся в несовпадении огласовок харфа Ъа: в первом
полустишии — сукун (xaräb), а во втором — фатха (tä ba); пред-
лагается читать оба харфа как сукунированные: xaräb kujä и tä
b-kujä [Суди, с. 18].
1. «Вдребезги пьяный» — xaräb, букв, «разрушенный», ср.
xaräbät — «развалины», название городских окраин, где жили
иноверцы и происходила торговля вином.
«Благоразумие» — saläh-i kär, букв, «разумность поведения»,
поведение в соответствии с нормами шариата. Такое поведе-
ние характеризует, прежде всего, главного антагониста лири-
ческого героя в диване Хафиза — лицемерного аскета (zähid). В
бейте речь идет о непримиримом различии двух жизненных
Хафиз. Газель № 2
109
путей: пути благоразумной трезвости и внешнего благочестия и
пути неистового пьянства, влюбленности и позора.
По мнению С. Ниру, газель относится ко второму периоду
правления Шаха Шуджа', когда ширазские законоведы обвини-
ли Хафиза в «риндстве и каландарстве», в пренебрежении ша-
риатом и обязанностями мусульманина; в газели, обращенной к
Шаху Шуджа', сравниваются два типа суфизма — дидактиче-
ский («проповедь и аскетизм») и экстатический («музыка и опь-
янение») [Ниру, с. 227].
2. «Келья» — şatuma'a, первоначально — христианский мона-
стырь, место поклонения христиан, в дальнейшем — суфийская
обитель (xänaqäh) или комната суфия. В газелях Хафиза sawma'a
употребляется как с отрицательной коннотацией, обозначая жи-
лище аскета и прибежище лицемерия, так и с положительной,
метафорически обозначая место уединения влюбленного. «Хирка»
(xirqa) — залатанный или дырявый плащ, одеяние суфия, прак-
тика ношения хирки установилась уже в VIII в., а с образованием
суфийских братств облачение в хирку стало знаком окончания
периода ученичества и вступления в общину. В Коране не встре-
чается, однако «ранние суфии, аллегорически толкуя суру
7:26(25), понимали хирку как „одеяние богобоязненности", внут-
ренней и внешней» [ИЭС, ел. ст. «Хирка» (О. Акимушкин)].
Развивается тема «двух путей» из первого бейта. Путь благо-
разумия представлен «кельей» и «хиркой» — жилищем и руби-
щем суфия; а путь любви — «капищем магов» (т. е. погребком в
развалинах-xarâbât) и «вином». Для искренних влюбленных
(риндов) такие внешние проявления благочестия и благоразу-
мия, как проживание в келье и ношение хирки, являются по-
казными, лицемерными.
3. Риндство (rindi) — образ жизни гуляки-ринда; об истории
образа ринда в персидской поэзии см. [Хуррамшахи, ее. 403-
413]; о мотивах риндства в Диване Хафиза см. [Рейснер 1989,
ее. 201-205]. Тема двух путей обогащается новым противопос-
тавлением: на пути благоразумия слушают проповеди, а на пу-
ти любви — музыку и пение.
4. «Враги» (dusmanän) — соперники в любви; суфии и аске-
ты, настроенные враждебно по отношению к риндам и осуж-
дающие их за «безнравственное» поведение. «Светоч солнца» —
110 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
sam'-i äftäby букв, «свеча солнца», выражение соединяет две
конвенциональные метафоры прекрасного лица.
Суфии-«враги» не могут узреть сияющий лик друга, посколь-
ку их сердца темны, т. е. ослеплены злобой и лицемерием.
5. «Сурьма» (kühl) — в традиционной медицине использова-
лась как средство для улучшения зрения.
Идея: не гони нас от своего порога, ибо это приведет нас к
слепоте; лишь рабское служение тебе делает нас зрячими.
«Ваши двери» (ästän-i sumâ) — в панегирическом коде это
намек на дворец Шаха Шуджа* (или иного восхваляемого), в лю-
бовном/мистическом — намек на обитель возлюбленного друга
или — на порог кабака.
6. Вводится тема трудностей на пути любви (ср. газ. 1, б. 1).
«Яма на дороге» (cäh dar räh) — намек на «ямку на подбородке»
(cäh-i zanaxdän), «углубление между нижней губой и подбород-
ком» [Хирави, с. 164], которая входит в число традиционных
атрибутов красоты лица и изображается как сулящая влюблен-
ным опасность и беду. Выпуклое по форме «яблоко» подбородка
уподобляется «яме» — сравнение содержит намек на то, что на
пути любви случаются небывалые трудности, но это не остано-
вит влюбленное сердце.
7. «Взоры» (kirisma) — лукавые и надменные взгляды, кото-
рыми возлюбленный друг ранит сердце влюбленного; «упреки»
( 'itäb) — проявление жестокого нрава возлюбленной особы.
Идея: безжалостные взгляды и упреки дороги влюбленному
как свидетельство того, что возлюбленный друг замечает его
существование, а это — само по себе проявление милости.
8. Идея: на пути любви, в разлуке с другом покой (qarär),
терпение (şabûrîj и сон (xväb) недостижимы; намек на то, что
истинному влюбленному подобают противоположные состоя-
ния— смятение (parïsàrii), страстное влечение (tama') и ночное
бдение (bidäri).
Газель 3
I j \ 4 Jj Jjî Cj uO 4j ^ jl JJji t*îjj jt j£l
I j I jL_—j j л < ^ja"' ~ ^ ; ^jijj^iA (jLä. Aj
v"fll j ^jAİjiü dili. jJ 4_£ ^b ^ ^Luj ôûj
I j 31 >— Cj JLlß j jU jSj 4ï jUS
I j Laxj ^jlj 4 C№j£ ^ <-^ j' Jf^ ^J^ (J^^
ı " 1 ml (jAtima jb (Jl a > Lu aLûjIj (Jjİc- j
I j Lj j (j j j С-1аь1аь 4a. Jait j JIâ. j <->J j j l_jI 4j
Vî ni il J dbilû L-ftjuûjJ AS <JJ jàl jjj (JJUAÄ (jl jl (J*
Ij İ 4 j \j jjl Qjj* ^\л%пг» ôûjj jl (3*2^ 4—£
a jj—£ Ic-J ^j jjaj jS j ^Lejâ aLLİj jSI
I j l__kj£juü J 1 L-J «jjj j^-û jJj 4^1 ja.
j_jjb jkİLuijj (jIa. jl a£ ULä. <j£ (jij^ ^ı^jtrti
\j \ lb J j 1 .JJJ «JİoJûblJu* (jL
>^ J1^ J—* J j'j J ß LS* J MJ^* J1 ^^
Ij l—«мил (j—Jİ '"'^ч 4J JüLi>J j JjjİNJ <jjo£ a£
-LîU. jlJÄJ jSj ^ J Lj C5jİuj jJ J «^JaS J JD
I j 1 jj j j L_c villa ^jLiàl jj fJâi jj ч£
ni
112 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: hazayı sälim
Vazn: mafâ'îlun mafâ'îlun mafâ'îlun mafâ'îlun
a-gar-än-tur / ki-sï-râ-zi / ba-das-tä-rad / di-lî-mâ-râ
ba-xâ-lï-hin / du-yas-bax-sam / sa-mar-qan-du / bu-xâ-râ-râ
ı. Если tot ширазский тюрок возьмет себе наше сердце,
За его индийскую родинку я отдам Самарканд и Бухару.
2. Подай, виночерпий, оставшееся вино, ибо в райских садах не сыщешь
Берега вод Рукнабада и цветников Мусалла.
3- Пощадите, ведь эти нахальные, проворные, будоражащие город цыгане
Похитили терпение из сердца, словно тюрки — даровое угощение.
4- Красота друга не нуждается в нашей несовершенной любви:
Зачем прекрасному лицу белила и румяна, родинка и пушок.
5- По красоте, растущей день ото дня, такой, как была у Йусуфа, я понял,
Что любовь вытащит Залиху из-за завесы целомудрия.
6. Пусть ты бранишься, пусть проклинаешь — я возношу хвалу,
Горький ответ украшает рубиновые уста, грызущие сахар!
7- О душа, выслушай наставление, ведь любят больше жизни
Счастливые молодые люди советы умудренного старца.
8. Рассуждай о музыкантах и вине и не выведывай тайну мироздания,
Ведь никто не разгадал и не разгадает мудростью эту загадку.
9- Сложил газель и просверлил жемчуг — ну же, Хафиз, спой [так] красиво,
Чтобы над нанизанным тобой небо рассыпало ожерелье Сураййи.
Комментарий
Газель принадлежит к числу самых знаменитых стихов Хафиза,
ее многократно анализировали и в Иране, и на Западе, разбор
и библиографию см. в [Hillmann 1976, с. 11-27].
Хафиз. Газель № 3
113
1. «Ширазский тюрок» — turk-i sîrâzï, также «ширазская тюр-
чанка» (о проблеме пола адресата газели см. Введение), в мно-
гочисленных европейских и русских переводах речь в газели
идет о прекрасной тюрчанке. «Тюрок» — turk, это этническое
обозначение приобрело ряд производных значений: 1) раб или
рабыня тюркского происхождения, в более широком смысле —
светлокожий раб, рабыня; 2) воин, член тюркской гвардии; 3) в
классической поэзии — красавец (красавица), возлюбленный
(возлюбленная), со светлой кожей и жестоким нравом. Выра-
жение turk-i sırâzî в метафорическом значении «красавец/кра-
савица из Шираза» встречается у предшественников Хафиза,
так, Са'ди писал: «От руки тюрка из Хата никто столько жесто-
костей //Не терпит, сколько я — от руки ширазского тюрка»
[Са'ди, Куллийат 1996, с. 693, газель № 578, б. 5]. Выражение
имеет и реальный смысл, как отмечает Суди (с. 24), в Ширазе
жило много потомков воинов тюрского завоевателя Хулагу-ха-
на. У Хафиза «ширазский тюрок» может служить также наме-
ком на одного из покровителей поэта, ширазского правителя —
Шаха Шуджа* Музаффарида (1358-1385) или его сына Зайн ал-
'Абидина (1384-1387), мать которого была тюрчанкой; в исто-
рических источниках упоминается, что черные родинки на ли-
це были наследственной приметой в семье Музаффаридов [Ни-
ру, с. 228-229].
«Возьмет себе наше сердце» — Ъа dast ärad dil-i mä-rä, букв.
«возьмет в руки наше сердце», т. е. согласится владеть нашим
сердцем; фразеологич. «обласкает нас», «удовлетворит наше же-
лание».
«Индийская родинка» — xäl-i hindü, т. е. черная родинка, со-
четание, встречающееся уже у Низами и Са'ди, отсылки см. в
[Хуррамшахи, с. 110-111]; hindü — в первом значении «инди-
ец», также «темнокожий раб» (антоним — турк «светлокожий
раб»), также «разбойник» (частичный синоним — турк как «жес-
токий воин»), но может использоваться в значении прилага-
тельного «индийский», «черный» [Диххуда, ел. ст. Hindu, второе
значение]; поэтому xäl-i hindû-yas передает несколько смыслов:
«его индийская (черная) родинка», «его родинка-индиец» (т. е.
черный слуга белого лица) или «родинка его индийца» (т. е. ро-
динка его раба); последнее значение кажется странным, но на-
114 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ходит подтверждение в газели 99:9, где Хафиз называет себя
рабом индийца-раба восхваляемого правителя.
«Самарканд и Бухара» — здесь упомянуты как пример бога-
тых и процветающих городов Хорасана и Мавераннахра.
Бейт можно интерпретировать двояко, как любовный и как
панегирический:
1) Если тот ширазский тюрок (красавец/красавица) согла-
сится принять меня в число влюбленных, я пожертвую Самар-
кандом и Бухарой (т. е. готов отказаться от чего угодно) ради
лицезрения даже самой малой части красоты — черной родин-
ки.
2) Если тот ширазский тюрок (правитель) согласится при-
нять меня в число своих рабов, то даже за такую малость, как
родинка его раба, мне будет не жалко отдать все сокровища
Самарканда и Бухары.
Наделение атрибутов красоты этническими характеристи-
ками позволяло поэтам вводить в восхваление возлюбленного
«военно-политические» мотивы захвата, грабежа и владения
землями. Они не раз встречаются в газелях Са'ди: «Кто тот, что
уходя, уносит терпение из сердца, // Тюрок, что пришел из Хо-
расана, предает грабежу Парс» [Са'ди, Куллийат 1996, с. 487,
газель № 176, б. 1]; «Индийские края и тюркские земли отда-
дут, // Если увидят твои тюркские глаза и индийский локон»
[там же, с. 406, газель № 19, б. 4]; о поэтической семантике
«тюрка» и «индийца» см. [Schimmel 1974, pp. 243-248]. «Геогра-
фическое» измерение бейта (тюрок, индиец, Шираз, Самарканд
и Бухара) намекает на размах владений ширазского владыки
сердец или повелителя подданных — от Туркестана до Индии.
С бейтом связана легенда, изложенная у Даулатшаха Самар-
канди [Даулатшах 1959, с. 229], о встрече Хафиза с Тимуром.
Когда Тимур захватил Фарс и казнил Шаха Мансура Музаффа-
рида, он призвал старого поэта к себе и воскликнул, мол, я ме-
чом захватил большую часть обитаемой четверти земли и раз-
рушил тысячи городов и селений, чтобы процветали мои столь-
ные города, Самарканд и Бухара, а ты, ничтожный, за одну
индийскую родинку ширазского тюрка продаешь их. Хафиз
ответил: «От своей расточительности я и дошел до такого со-
стояния!».
Хафиз. Газель № 3
115
2. «Оставшееся вино» — may-i böxfi, в первом значении «ос-
татки вина, подонки», которые пьют для утреннего опохмеле-
нья, во втором — «вечное вино», т. е. вино вечной жизни, кото-
рое обещано праведникам в раю (прием iham).
Мусалла — musalla, букв, «место для молений», в раннем исла-
ме место общих молитв в праздники разговения и жертвопри-
ношения, обычно за пределами города; в Багдаде так назывался
двор в границах резиденции халифа, где обычно проводились
праздничные церемонии, поэтому Мусалла стала одним из локу-
сов праздничного винопития в аббасидской поэзии (VIII в.); под-
робнее об архитектуре musalla см. [El, ел. ст. Musalla (R. Hillen-
brand)]; Мусалла в Ширазе времен Хафиза — архитектурный
комплекс в предместье города, включавший большой парк, место
отдыха горожан (ныне там находятся мавзолеи Са'ди и Хафиза).
Рукнабад (ruknäbäd) — название ручья в Ширазе, протекавшего
через парк Мусалла. Оба топонима встречаются еще в одной га-
зели Дивана (101:8) и в бейте Убайда Закани, современника Ха-
физа: «Аромат земли Мусалла и вода Рукнабада // Заставляют
скитальца забыть свою родину» [Убайд Закани 1997, с. 85].
Бейт включает прием «сравнение с предпочтением»: воды
Рукнабада и цветники Мусалла прекраснее райских садов и ис-
точников, это служит поэтическим обоснованием того, что
здесь, как и в раю, винопитие дозволено, и вино, что осталось
на дне кувшина, не уступает райскому.
3. «Цыгане» — lüliyân, в Иране, как и в других странах, слави-
лись искусством пения, игры на музыкальных инструментах, в
особенности на флейте, красотой, а также ловкостью и воровст-
вом; о lülî в Иране см. [El, ел. ст. Lull (V. Minorsky, L. P. Elwell-
Sutton)]; в переносном смысле «красавцы, красавицы», также
«озорные глаза» воспеваемой особы [Диххуда, ел. ст. ЬйЩ. Все оп-
ределения к «цыганам» (красавцам, глазам) передают по два
значения (прием îhâm)f первое, осуждающее вороватых цыган, и
второе — восхваляющее красавцев или их глаза: «нахальный» —
sûXy также «озорной»; «проворный» — sïrin-kàr, также «со сладкой
повадкой»; «будоражащий город» — sahr-äsüb, также «прекрас-
ный» (кроме того, название мелодии и танца).
«Даровое угощение» — xvân-i yağma, букв, «скатерть грабежа»;
скатерть с угощением для всех; название связано с обычаем вы-
ставлять после пира «на разграбление» гостей оставшиеся куша-
116 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
нья, посуду и прочее; восходит, вероятно, к традиции праздне-
ства, сопровождавшего выплату жалованья наемникам-тюркам:
для войска расстилалась скатерть с угощением, которое захва-
тывали как военную добычу; об обычае хУап-i yağma в войске
Чингизидов см. [Ниру, с. 229]. В поэзии хУйп-i yağma является
устойчивым образом стремительного набега и грабежа.
4. «Не нуждается» — müstağni «самодостаточный, ни в чем не
нуждающийся», производное от istiğna «отсутствие потребно-
сти, незаинтересованность»; в терминах религиозной филосо-
фии — самодостаточность Всевышнего Бога; в любовной по-
эзии — равнодушие друга к влюбленным в него. «Белила» — âb,
букв, «вода», также «блеск»; «румяна» — rang, букв, «цвет, окра-
ска», также «форма, манера»; возможно прочтение ab-u rang —
«свежесть», «сверкание» лица. «Родинка» — xâZ, также «точка»;
считалась непременным атрибутом красоты, могла быть есте-
ственной или накладной; «пушок» — xatt, также «черта, почерк,
письменность, послание»; пушок пробивающейся бороды также
один из канонических элементов красоты отрока. «Белила и
румяна, родинка и пушок» — внешние атрибуты красоты, не
раскрывающие ее сути, в бейте они предстают как метафоры
восхвалений, которыми ограничивается несовершенный влюб-
ленный, не готовый принести себя в жертву [Хирави, с. 17-18].
Идея: совершенная красота возлюбленного не нуждается в
наших восхвалениях, поскольку пленительному лицу нет нужды
в средствах украшения [Рахбар].
5. Йусуф и Залиха — персонажи коранического рассказа о
Йусуфе, которому посвящена сура «Йусуф»; Йусуф (библ. Ио-
сиф) — сын Йа*куба, все узловые элементы повествования о
нем (предательство братьев, Йусуф в колодце, продажа в раб-
ство в Египет, отец, ослепший от слез, клевета, заключение в
темницу, толкование снов, обретение власти над Египтом, вос-
соединение с отцом и другие) вошли в мотивный репертуар
персидской поэзии. Имя Залиха в Коране отсутствует и появля-
ется лишь в комментаторской литературе; жена вельможи, в
дом которого попал проданный в рабство Йусуф, воспылала
страстью к прекрасному юноше и однажды, забыв стыд, она
попыталась соблазнить его, разорвала сзади рубаху убегающего
Йусуфа, а затем оклеветала его перед мужем [Коран, 12:21-28].
Хафиз. Газель № 3
117
«Красота, растущая день ото дня» — husn-i rüz-afzün, сверхъ-
естественная красота Йусуфа, отличающаяся от обычной кра-
соты, которая быстро вянет [Рахбар].
«Вытащит из-за завесы целомудрия» — az parda-' г 'işmat bu-
run ärad; фразеологизм az parda bîrûn âvardan — «разглашать
тайну» (букв, «вытаскивать из-за завесы») здесь как бы разо-
рван присоединением к слову parda (завеса) определения 'işmat
(добродетель). Выражение «завеса целомудрия» среди предше-
ственников Хафиза встречается лишь в газели Амира Хусрава:
«Никто не станет поверенным [тайны] за завесой [желанной]
цели // Кроме влюбленных, разорвавших завесу целомудрия»
[Амир Хусрав, Dorj-3, газель 34:3].
Идея: влюбленный видит, что красота друга сравнима лишь
с красотой Йусуфа, и понимает, что его ждет судьба Залихи: он
неизбежно разгласит тайну любви и опозорит себя.
Ш.-А. де Фушекур предложил «историческую» интерпрета-
цию: Йусуф — это Шах Шуджа', правитель Шираза и покрови-
тель Хафиза, а Залиха — жена его брата, которая подбила Ша-
ха Шуджа' выступить против собственного мужа [Hafez de Chi-
raz 2006, p. 95].
6. «Грызущие сахар» — sakar-xä, конвенциональный эпитет,
обозначающий «сладкие и сладкоречивые уста», см. далее, га-
зель 4:2, где поэт назван «попугаем, грызущим сахар»; «возношу
хвалы» — du'ä дйуат, также «возношу молитву», «выражаю
мольбу»; «украшает» — mîzıbad, также «подобает».
Второе полустишие может читаться не только как парадок-
сальное утверждение, но и как риторический вопрос, содер-
жащий упрек — «подобает ли горький ответ сладким рубино-
вым устам?».
«Горький ответ» (javäb-i tab) — формульное выражение,
встречающееся в любовных стихах многих предшественников
Хафиза в значении «ответ, отвергающий домогательства влюб-
ленного». Оппозиция «горький ответ — сладкие губы» представ-
лена уже в касыдном насибе Му*иззи: «Мой кумир сладкими ус-
тами дает горький ответ, // Что за диво — горький ответ из тех
сладких уст!» [МуЪззи 1983, с. 467]. В бейте Хафиза уста полу-
чают дополнительный, также формульный, эпитет — «рубино-
вые» (la'l), скрыто уподобляющие уста красному (в поэзии — ру-
биновому) вину. Лучшим считалось вино, имеющее терпкий,
118 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
горьковатый вкус: «Для организма людей нет ничего более по-
лезного, чем вино, в особенности виноградное вино, горькое и
профильтрованное» [Хайям 2004, с. 295]. В поэзии «горькое ви-
но» (sarathi tabdj стало устойчивым обозначением вина и также
сопоставлялось со сладостью сахара: «Горькое вино я вкушаю,
как сахар, //В память о сахаре сладкоустых» [Хаджу, Dorj-3, га-
зель 737:7]. Лучшее вино описывалось как сочетающее горечь и
сладость: «Когда ты внесешь горько-сладкое вино, //Я поднесу
тебе сто милых (букв, „сладких") душ» [Хакани 1996, с. 411, га-
зель 260:2]. Хафиз виртуозно использует готовые формулы и на-
ходит в них извинение для грубости своего кумира: его уста по-
добны хорошему вину, в котором сладость должна непременно
сочетаться с горечью.
7. «О душа» — jänä; обращение может указывать как на са-
мого говорящего, так и на очень дорогого ему человека; адреса-
том может быть лирический персонаж, который обращается к
самому себе, наследник трона («ширазский тюрок», юный сын
Шаха Шуджа*), возлюбленный друг и, наконец, читатель или
слушатель газели. «Умудренный старец» — pir-i dänä; в суфий-
ских терминах — «осведомленный наставник на пути к Исти-
не»; в газелях Хафиза основная коннотация «старца» — вино-
торговец, «старец магов», см. коммент. к газели 1:4.
Хирави (с. 20) предлагает дидактическое толкование: «При- .]
слушивайся к советам, если хочешь быть счастлив, ведь счаст- <
ливые молодые люди слушают советы стариков». Однако, в i
бейте присутствует также иронический подтекст — в дидакти-
ческих сочинениях (например, «Кабус-нама») встречаются сето- ,|
вания на то, что счастливая юность не желает прислушиваться
к советам стариков. İ
]
8. В данной редакции текста (Казвини-Гани) бейт звучит как I
совет старца из предыдущего бейта; в редакции Ханлари он ]
идет пятым по счету, после бейта о красоте друга, и звучит как 1
высказывание самого лирического персонажа. Совет «не выве- |
дывать тайны» и предаваться веселью принадлежит к числу !
ключевых мотивов руба'и Хаййама; например: «Мне кажется, 1
тебе не проникнуть в тайны загадки, // Тебе не проникнуть и в 1
образ [мыслей] премудрых. // Давай, из зеленой [лужайки] и |
вина создай рай, // Ведь туда, где рай, то ли проникнешь, то ]
Хафиз. Газель № 3
119
ли нет» [Хаййам 1959, с. 80 (перс, текст), № 276]; см. там же ру-
ба'и № 1, 109, 139, 263. Если в этом бейте, в хаййамовской
традиции, вино представлено как замена разгадывания «тайны
мироздания», то в другом контексте вино становится средством
ее раскрытия: «Приди — ив чистом вине я покажу тебе тайну
мироздания, // При условии, что ты не покажешь ее криво-
душным со слепыми сердцами» [278:5].
9. «Просверлил жемчуг» — dur su/h", переноси, «разрешил
трудность, справился с задачей»; «жемчужина» — устойчивая ме-
тафора поэтического смысла, а «сверление жемчуга» — метафора
сочинения стихов, особенно, стихов, содержащих свежие обра-
зы. «Нанизанное» — nazm, терминолог. «стихи» в противопостав-
ление «рассыпанному» (natr)y прозе. Сураййа (араб.) — Плеяды
(персид. Парвин, рус. Стожары), семь звезд, расположенных
друг за другом в созвездии Тельца; это скопление звезд — одно
из ближайших к Земле и наиболее заметных невооруженным
глазом, в силу чего красота этого астеризма воспета во многих
литературных традициях.
Второе полустишие совмещает два смысла, связанных с
возможными мотивировками поведения небосвода: 1) небо-
свод, известный коварством и дурным нравом, позавидует
ожерелью газели, «нанизанному» поэтом, и от злости разорвет
самое красивое из своих нанизанных ожерелий; 2) небосвод
придет в восторг от стихов поэта и осыпет их своим лучшим
жемчугом в знак восхищения. На придворных пирах существо-
вал обычай одарять автора понравившегося стихотворения, в
частности, горстью жемчуга. Образ неба, рассыпающего жем-
чуг, содержит, ко всему прочему, и намек на полагающееся по-
эту вознаграждение (прием husn al-talab «красота просьбы»).
Стоит отметить, что тема последнего бейта перекликается с
зачином газели: как поэт отдаст любые сокровища («Самарканд
и Бухару») за красоту друга, так небо не пожалеет лучших со-
кровищ за красоту его стихов.
Газель 4
I j—^ j! j jl j j (Jjj^ac л£ ^jij^à^Sjui
I j L-^j £ ni (^jia J L_£ J ^^ÎİJ
(JS ^1 Jh i jXa CjjIäI <"и»л jjjè
j lâj (Ja I aia^ jjS (jljj <■ ftbl j (3^ 4j
I j Ub £ ja -İ-Jj—j-Ij ^ ta j j L-j 4j
IJ 1 A\ > o 6İ Л (i mi ^ AJjuj (JİÛB ^5-g-Juü
I j La_j_jjIj jjt ; ^ * jta üb Aj
L-JJC JJ J-*^ J^ diİS (jtjÜ JUS <JJİ J^.
IJ ^-H j Ci JJ ^^ш lij j j^û £^j Ч£
kal ^ AÜiS 4 j jS цллх. <ü ^jLttJuil j J
I j 1^ j >м л ^Jjl (J-aSj ^J ô^)A j ^JJ^
ВаЛг: mujtatt-i mutamman-i maxbun-i aşlam
Vazn: mafä'ilunfa'ilätun mafâ'üun fa'lan
sa-bä-ba-lut / ß>-bi-gü-än / ğa-zâ-li-ra' / nâ-râ
ki-sar-ba-кй I hu-bi-yâ-bân / tu-dâ-da-l / mâ-râ
120
Хафиз. Газель № 4
121
i. О ветерок, будь добр — скажи тому стройному олененку:
Мол, это ты погнал нас в горы и пустыни!
2. Почему же продавцу сахара — да продлятся его дни —
Нет дела до попугая, грызущего сахар?
3. О роза, конечно же, высокомерие красоты не позволило тебе
Расспросить про обезумевшего соловья.
4. Лаской и добрым нравом можно пленить созерцателей,
Путами и силками не поймать мудрую птицу.
5- Неведомо мне, почему нет и тени приязни
У стройных станом, черноглазых, луноликих!
6. Когда сидишь с любимым и потягиваешь вино,
Вспомни о влюбленных, тянущихся за ветром.
7- Не в чем упрекнуть твою красоту, кроме такой малости:
Нет на прекрасном лике места любви и верности!
8. Не диво, если на небесах под слова Хафиза
Мелодия Зухры заставит плясать Масиху.
Комментарий
У Са'ди есть две газели, написанные с теми же метром, рифмой
и радифом [Са'ди, Куллийат 1996, с. 397, № 4 и № 5], кроме то-
го еще одна газель Са'ди процитирована далее в бейте 7.
1. «Олененок» — ğazâl, детеныш оленя, только что научив-
шийся ходить и пока что не способный бегать в полную силу.
В бейте содержится намек на историю Лайли и Маджнуна; в
знаменитой поэме Низами Лайли многократно сравнивается с
олененком, ланью, а любовь к ней погнала Кайса в дикие не-
обитаемые места (горы и пустыни) и сделала его Маджнуном
(безумцем) и поэтом, ср. бейт 3, где поэт-влюбленный уподоблен
«обезумевшему соловью». Необычность ситуации состоит в том,
что олень и охотник меняются местами: олененок, к тому же не
Умеющий бегать, гонит охотника-влюбленного.
122 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. «Продавец сахара» — возлюбленная особа, наделенная сла-
достными, сахарными устами. «Попугай, грызущий сахар» —
tûtî-yi sakar-xä — поэт, слагающий сладкозвучные газели [Хи-
рави, с. 33].
Смысл бейта: лирический персонаж упрекает возлюбленную
особу за то, что она не ценит его поэтический дар и не хочет
наградить его поцелуем.
3. «Конечно же» — в ориг. тадаг, букв, «разве», здесь в значе-
нии категорического утверждения, а не сомнения или вопроса,
см. [Рахбар; Хуррамшахи, с. 122]. «Обезумевший соловей»
('andalïkhi say da) — поэт-влюбленный (ср. мотив Маджнуна в б. 1).
Продолжение темы бейта 2, упрек возлюбленной особе, не
уделяющей внимания страдающему влюбленному; уподобление
поэта, слагающего песнь о возлюбленной, соловью, воспеваю-
щему красоту розы — одна из центральных мотивообразующих
тем персидской лирики.
4. «Созерцатели» — ahl-i nazar, букв, «люди зрения», в фило-
софии nazar «умозрение, постижение посредством логического
рассуждения», ahl-i nazar— первоначально одно из наименова-
ний философов-му'тазилитов, сторонников рационального по- !
знания, в дальнейшем формула стала употребляться в более j
общем смысле, обозначая ученых любой школы, стремящихся к j
строгой, логической аргументации своих тезисов [El, ел. ст. АЫ ]
al-nazar]. В персидской поэзии выражение как бы возвращает- ]
ся к буквальному смыслу: ahl-i nazar — это люди, предающиеся
созерцанию красивых лиц, т. е. влюбленные, см. [Диххуда, ел. ]
ст. Ahi al-nazar] с данным бейтом в числе примеров; ср. у Хафи- |
за контексты 353:3; 490:4, где также обыгрывается эта форму- |
ла. Поскольку влюбленный в газельной лирике неизменно раз- |
лучен с кумиром, выражение приобретает иронический отте- |
нок: созерцание красоты становится чистым «умозрением», |
воссозданием мысленного образа (xayäl). ]
Суди (с. 36) отмечает, что в этом бейте содержится nasihat, 1
т. е. наставление в правильном поведении: милостью и лаской 1
можно добиться большего, чем принуждением; бейт продолжа- |
ет тему предыдущего. С наставлениями (pand, nasihat) в иран- |
ской традиции преимущественно обращался мудрец к царю; 1
здесь под именем «мудрой птицы», возможно, скрыт мудрый j
Хафиз. Газель № 4
123
поэт, говорящий царю: только с помощью хорошего обращения
можно заставить поэта петь.
5. «Нет и тени приязни» — rang-i âşinâyı nisty букв, «нет цвета
(свойства) приязни».
Идея: возлюбленные обладают всеми атрибутами красоты, но с
одним изъяном — они проявляют к влюбленным безразличие (или:
цари, исполненные совершенства, имеют один изъян — проявля-
ют безразличие к поэтам). Суди (с. 37) считает, что смысл бейта —
жалоба на равнодушие (istiğna) возлюбленных. Во втором полу-
стишии употреблен прием tansïq al-şifât (нанизывание признаков).
6. «Тянущиеся за ветром» — bâd-paymâ, букв, «измеряющие
ветер», фразеолог. «занимающиеся бесполезным делом», здесь —
те, кто тщатся обрести свидание с возлюблен иными. Bâda «ви-
но» и bad «ветер» образуют фигуру tajnïs-i zâyid (таджнис с из-
бытком), использование при этих словах форм одного и того же
глагола paymûdan (bâda-paymâyï и bâd-paymâ) устанавливает
мнимое подобие занятий возлюбленного и влюбленных, тем са-
мым оттеняя их настоящее противопоставление. Слова habîb
«любимый» и muhïbb «влюбленный» образуют фигуру istiqâq
(употребление в бейте однокоренных слов).
7. Идея: твоя совершенная красота имеет один изъян, в число
ее атрибутов не входят любовь и верность. Первое полустишие
бейта — цитата (tazmin) из газели Са'ди: «Не в чем упрекнуть твою
красоту, кроме такой малости: // Ласка не свойственна той нату-
ре и тому нраву» [Са'ди, Куллийат 1996, с. 544, газель № 290, б. 3].
8. Зухра — планета Венера (ее сфера — третье небо), в мусуль-
манской иконографии изображалась как небесная музыкантша.
Масиха (от др.-евр. фЩ masPh «спаситель») — прозвание пророка
'Исы; по преданию, *Иса, прославленный благочестием и полным
отречением от мирских соблазнов, пребывает на четвертом небе
(сфера Солнца). Зухра часто именуется в поэзии ra'nâ-yi şâhib-
barbat «стройная [дева] с барбатом», ср. эпитет олененка га'па
«стройный» в первом полустишии первого бейта газели, который в
сочетании с именем Зухры в последнем полустишии последнего
бейта создает эффект объединения конца с началом.
Идея: газель Хафиза столь прекрасна, что Зухра поет ее под
свою музыку, и красота песни заставляет пуститься в пляс да-
же такого строгого аскета, как 'Иса.
Газель 5
I j Ь i. qJù VJ^U^I Л\ЛЛ\Л J ùjJ^jA Jj
j j 4jJ AJlajji Äi (j\ ajjIS Urt^n» ^Urt^
I jU jl л ni t"u^ijâ (jljb ^Ia. 4j <t5Sjj
(J^-L (jijû Jül ja (jîj^ O* j CP 4İİA jJ
\J SL-uJI l« jl Ь Ijja j- jfuall CiU
t*! a^Luj 4_jI jSLi dul jS vj^Krt (j\
1J 'As* си ^JJ^ ù-* с*«***3 lOjJ
cliuil ci ja. jû ^jjl jj.i.ofl1 (^5^ J^ lA^I
Ijh л ^jl UnO Ь CjjJA ^jliuajJ Ь
Д—i
иЫ ji S I j 1 л ijAj dLu ^jS jj
I j Lja î j S J44İJ (^^luü^AJ jJ jÉ
■JJİ j-À (jÜiUâJI a\ ^jâjjb-a a£ <jSj лЬ ^jl
I jli ill j 1 V< ôf ^ï j ui ^î
Ij IûS j—L£ (jjjlS (^loA c^UajjS jjIS
124
Хафиз. Газель № 5
125
-1—i C—L-
juıl ^^a *\ -> jAîSjuü <ÜjjI
IJİJ u*lL Jlj â.) Jjb -U^jt j J jj Ij
1 j 1 u,J j jljıjj CjjLİj dû—j ^Luü
I j La jb Jjİ*-e J—^al^Sb £_l_jİ ^1
ßa/ir; muzäri'-i mutamman-i axrab
Vazn: maf'ûlufä'Uätun mafülufä'ilätun
dü-mî-ra / vad-zi-das-tam / şâ-hib-di / lä^xu-dä-rä
dar-dä-ki / rä-zi-pin-hän / xvâ-had-su / dä-sP-kä-rä
ı. Сердце отбилось от рук, о благочестивые, [помогите] ради Бога!
Вот беда, сокрытая тайна станет явной!
2. Мы на разбитом корабле, поднимись, о попутный ветер,
Может, доведется нам вновь увидеть лицо друга!
3- Десять дней милости небосвода — лишь чары и наваждение,
О друг, не упусти момент, чтобы проявить доброту к друзьям.
4- Прошлой ночью на пирушке с розами и вином славно спел соловей:
«Неси утреннего вина, просыпайтесь, о пьяницы!».
5- О великодушный, в благодарность за процветание
Яви когда-нибудь сострадание к нищему дервишу.
6. Благоденствие обоих миров в толковании этих двух слов:
«Прямодушие — с друзьями, снисхождение — к врагам».
126 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
7- Нас не пустили на улицу благопристойности,
Если тебе это не по нраву — измени предначертанное!
8. То горькое, что суфий назвал матерью мерзостей,
Для нас слаще и желанней, чем поцелуй девственницы.
9- В час лишений предайся гульбе и пьянству,
Ибо этот эликсир бытия нищего превращает в Каруна.
ю. Не будь непокорен, ведь в пылу ревности сожжет тебя, как свечу,
Владыка сердец, в чьих ладонях гранит — это воск.
п. Чаша вина — это зеркало Искандара, взгляни,
Чтобы пред тобой предстала судьба царства Дара.
12. Красавцы, говорящие по-персидски, даруют жизнь,
О виночерпий, подай радостную весть персидским риндам.
13. Не по своей воле облачился Хафиз в эту залитую вином хирку,
О шейх в незапятнанных одеждах, прости нас!
Комментарий
У Са'ди есть газель с тем же метром и рифмой [Са'ди, Куллийат
1996, с. 398, газель № 7). В газели Са'ди 11 бейтов, т. е. 12 риф-
мующихся слов. Хафиз использует 7 рифм предшественника, что
позволяет отнести эту газель к разряду «поэтических ответов».
Разбору и интерпретации газели в связи с кодексом поведе-
ния суфиев-лшлсшагтш посвящена статья Н. И. Пригариной
[Пригарина 1991].
1. «Благочестивые» — sähib-dilän, букв, «владеющие серд-
цем», одно из прозваний суфиев как познающих истину серд- '
цем, в отличие от философов, полагающихся на ум и рацио- j
нальное знание; они противопоставлены в бейте лирическому
персонажу, потерявшему власть над своим сердцем, т. е. стра- |
стно влюбленному. Обращение влюбленного, потерявшего |
сердце, за помощью к тем, кто «владеет сердцем», придает по- j
лустишию иронический оттенок. \
Хафиз. Газель № 5
127
«Сокрытая тайна» {räz-i pinhän) — тайна любви, которая хра-
нится в сердце и неизбежно становится общим достоянием, ко-
гда сердце «отбивается от рук», т. е. когда влюбленный теряет
власть над собой.
2. «Мы на разбитом корабле» — kasti-sikastagân-îm, в ряде
рукописей дан вариант kasti-nisastagän-im «мы сидящие на ко-
рабле», который многие комментаторы (Рахбар, Хуррамшахи)
считают предпочительным, поскольку непонятно, чем попут-
ный ветер может помочь разбитому кораблю. Хирави сохраняет
первый вариант и предполагает, что бейт содержит намек на
предание о том, как ветер был вызван на суд к пророку Давуду
за то, что рассыпал мешок муки у старой женщины. Оправды-
ваясь, ветер объяснил, что исполнял волю Всевышнего и отнес
муку на корабль, терпящий бедствие, чтобы корабельщики, за-
месив ее, могли заделать пробоину [Хирави, с. 22-23].
Второе полустишие — почти точное воспроизведение второ-
го же полустишия восьмого бейта упомянутой газели Са'ди: «О
Боже, дай другу время и здоровье, // Чтобы он вновь увидел
лик друга».
3. «Десять дней милости небосвода» — здесь образ краткой
поры молодости и красоты.
Идея: пока милостив небосвод, во власти которого ты нахо-
дишься, спеши проявлять доброту к тем, кто мил тебе.
4. «Розы и вино» (gul-u тиЦ — это сочетание отсылает к двум
бейтам Манучихри, описывающим отношения между этими
двумя основными атрибутами дружеской пирушки: «О маль-
чик, подай вино на розе; роза — как вино, вино — как роза, //
Запах у вина, как у розы, собственный лик розы, как вино; //
Вино направилось к розе, роза направилась к вину; // Роза по-
хитила запах у вина, вино похитило цвет у розы» [Манучихри
1984, с. 223]. Утреннее питие (şabühîj, помогающее справиться
с тяжким похмельем после ночной попойки — популярный мо-
тив арабской и персидской винной поэзии (xamriyat).
5. «Великодушный» — şâhib-i karâmat, в специальном значе-
нии «гностик, святой, наделенный способностью к чудотворст-
ВУ» [Диххуда, ел. ст.]. «В благодарность за процветание» —
sukräna'-i salämat; sukrâna — благодарственный обет или по-
128 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
жертвование, которое раздают бедным в благодарность за дос-
тижение желанной цели или избавление от напасти [Диххуда,
ел. ст. Sukräna]. «Дервиш» — darvîs, букв, «бедняк, нищий, бро-
дяга», также — нищенствующий суфий, тот, кто избрал добро-
вольную нищету и странничество как образ жизни искателя
Истины; в поэзии часто употребляется как синоним «суфия»,
однако в газелях Хафиза дервиш и суфий, скорее, представля-
ют антонимическую пару, дервиш выступает как положитель-
ный персонаж, а суфий — как отрицательный.
6. «Прямодушие» — muruvvat, букв, «мужественность» (араб.),
в трактатах по этике (axläq) термин толкуется как благородное
поведение, искреннее стремление души к свершению добрых
дел. «Снисхождение» (madärä) — проявление сострадания и ми-
ролюбия.
7. «Нас не пустили...» — т. е. нам предначертано в предвеч-
ности быть среди тех, чье поведение непристойно. «Улица бла-
гопристойности» (kuy-i nik-närnfj — метафорическое обозначе-
ние совокупности людей, соблюдающих нормы шариата в по-
вседневной жизни и пользующихся уважением в обществе. Им
противостоят ринды, заслужившие дурную славу (bad-nâmî) из-
за пьянства и разгульного образа жизни. Хуррамшахи (с. 130) j
отмечает, что воспевание риндства у Хафиза отражает взгляды i
суфиев malumatı, «людей порицания», мистико-аскетического !
движения, приверженцы которого рассматривали нарушение |
общепринятых норм поведения как форму протеста против по- )
казной набожности и лицемерия; см. [ИЭС, ел. ст. «ал-Малама-
тийа» (О. Акимушкин)].«Измени предначертанное» — т. е. за-
ставь нас вести себя благопристойно, иронический совет хули-
телю-аскету, подчеркивающий неосуществимость такой затеи, j
Ирония усиливается перекличкой с заключительным бейтом I
указанной выше газели Са'ди: «Са'ди, Перо предписало тяготу и 1
благодать, // Значит, что бы ни предстояло, склони шею перед 1
судьбой!» ]
8. «Горькое» (tabevas) — т.е. вино, см. коммент. к газели 3:6. 1
«Матерь мерзостей» (итт al-xabä'ü) — выражение из хадиса I
Пророка, в котором говорится, что вино — матерь мерзостей, 1
молитвы выпившего не будут услышаны Всевышним в течение 1
сорока дней, а кто умрет пьяным — все равно, что умрет языч- ]
Хафиз. Газель № 5
129
ником [Хуррамшахи, с. 130]. Ср. бейт 'Аттара «Многие из-за
вина отвращаются от религии, // Вот что проделывает «матерь
мерзостей»! ['Аттар, Mantiq al-tayr, Dorj-3]. Уподобление вина
«поцелую девственницы» основано на традиционном изображе-
нии в поэзии вина как «дочери лозы» (dwctar-i raz).
9. Эликсир — fämiyä, «алхимия», а также собственно «элик-
сир» или «философский камень», вызывающий трансмутацию
веществ и превращающий неблагородные металлы в золото.
«Эликсир бытия» — т. е. вино, вещество, которое превращает
тягостное бытие в веселое времяпрепровождение. Карун (библ.
Корей) — богач из племени Израилева, согласно Корану, воз-
гордившись выступил против Мусы, утверждая: «То, что мне
даровано, — по моему знанию» [Коран, 28:78]. За это Аллах на-
казал его: «И заставили Мы землю поглотить его и его жилище»
[Коран, 28:81]. По преданию, Карун приобрел свое богатство
посредством алхимии [Хирави, с. 30, со ссылкой на al-Kassâf
Замахшари].
10. «Ревность» — gay rat, в Диване Хафиза слово используется
в нескольких типах контекстов. В любовном ключе оно означа-
ет (как в данном бейте) гнев возлюбленного на своеволие влюб-
ленного или, наоборот, ревность влюбленного, направленную на
возлюбленного или на соперников (см., например, газель 136:8),
а также часто — предмет ревности или зависти (см. газ. 108:4);
в философско-мистическом ключе оно также обозначает рев-
ность, но особенную, гнев Бога на тех, кто придает Ему сотова-
рищей и сотворяет себе кумиров. Согласно пророческому хади-
су, «нет никого ревнивее Всевышнего Бога, и из-за ревности Он
сделал запретным прелюбодеяние тайное и явное» [цит. по Хур-
рамшахи. с. 604]. В суфийских сочинениях об истинной любви
силу Божественной ревности объясняли тем, что Бог совмещает
в себе влюбленного и возлюбленного, а стало быть, и Его рев-
ность вмещает гнев обоих [там же. с. 603], см. как пример га-
зель 152:2-4.
Смысл бейта: не будь строптивым, ибо возлюбленный друг,
обладающий абсолютной властью над сердцами, способен пре-
вратить любое непослушное (гранитное) сердце в покорное
(восковое), а потом в наказанье сжечь его, как восковую свечу.
Хирави поясняет сравнение «сожжет тебя, как свечу»: вина
130 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
свечи в том, что она бахвалится своим светом и претендует на
такое же сияние, как у лика возлюбленного [Хирави, с. 30-31].
При таком понимании бейт адресован всем юным и прекрас-
ным из окружения «владыки красоты» и первое полустишие
следует переводить: «Не бахвалься [своей красотой] ...».
11. «Зеркало Искандара» — всевидящее зеркало, в поэзии —
одно из обозначений дальновидности и — наряду с «чашей
Джамшида» — способности видеть сокрытое. Согласно легенде,
отраженной в «Искандар-нама» Низами, именно Искандар
(Александр Македонский) создал особое зеркало круглой формы
из железа, которое было способно отражать предметы без ма-
лейшего искажения; рассказ об изобретении зеркала в поэме
[Низами 1993, с. 976-977] предшествует описанию конфликта
и войны Искандара с Дарой (Дарием III), принесшей гибель им-
перии Ахеменидов. В последней части поэмы, в главе о стран-
ствиях Искандара рассказано о строительстве в Александрии
по его приказу огромного зеркала, которое могло показывать
корабли врага, когда им оставался еще месяц пути [там же,
с. 394]; легенда, вероятно, возникла в связи с Александрийским
маяком, причисляемым к семи чудесам света. «Царство Дара» —
могущественное царство, которое обречено на гибель, одна из
популярных метафор преходящего земного величия.
Идея: вино дарит прозорливость, и человек проникается мыс-
лью о том, что не следует гнаться за бренным земным величием.
12. «Красавцы» (xübän) — содержит скрытый намек на turkân
([красивые] тюрки, тюрчанки). В ряде рукописей дан вариант
turkân-i fârsî-gû «тюрки, говорящие по-персидски» [Хуррамшахи,
с. 135]. «Даруют жизнь» — т. е. наделены животворным дыхани-
ем, скрытое сравнение с *Исой, см. коммент. к газели 36:7. «Пер-
сидские ринды» (rindän-i pàrsci) — также «пречистые ринды»
(прием ihârriy о pärsä в значении «персидский» см. Щиххуда, ел.
ст. Pärsä]); второй, «оксюморонный» смысл (пречистые пьяницы- ;
ринды) придает бейту ироническое звучание.
13. «Не по своей воле» — развитие мотива «предначертанного I
риндства», введенного в бейте 7. j
Газель 6
1 j Ь i A_AJ ^JJ* cjSIj C-jI^jİ JÎ jSLa
Jjà. Aj J j£ jl CiaUmi d jx
1 jl>J ^j £ л Jale. j ^jîüJJjJ jl Ц-iıjâ J
IJİJU ^^ 4-£ c£jb Jjju» 4a jjI jl jj
I j 1 Lil J jt j Ь jl jliiî ^Lj <j
(jJjAJ jlüle <U л£ UUk Ci—juüI duba 4a
Ij L^û j^ <*- LüL Cyjj ^İJâ (jIa j Jj
jA^j2b*ji Jââlâb Aj jj ôJ ^İAc^>A. a£ I Ja. Aj
I j L^eji -ü£ ^ jîil ^l^AOjy-e ^İX. J a£
Bahr: ramal-i mutamman-i тахЪйп-i makfûf
Vazn: fa'ilätu fâ'ilatun fa'üâtu fä'ilätun
ba-mu-lä-zi / mä-ni-sul-tän / ki-ra-sä-na / dP-du-'ä-rä
ki-ba-suk-ri / pä-di-sä-hi / zi-na-zar-ma / rä^ga-dä-rä
i. Кто донесет до приближенных султана эту мольбу:
Мол, в благодарность за царский сан не гони нищего с глаз!
131
132 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. У своего господина я [ищу] защиты от стража с повадками дива —
Может, тот поражающий светоч придет на помощь, во имя Господа.
3- Если твои черные ресницы намекнули на нашу кровь,
Подумай об их коварстве и не совершай ошибки, о красавец!
4- Ты сжигаешь сердца смертных, когда вспыхивают твои ланиты —
Какой тебе от этого прок, раз ты не проявляешь снисхождения?
5- Всю ночь я лелею надежду, что утренний ветерок
Обласкает друга вестью от друзей.
6. Душа [моя], что за светопреставленье ты явил влюбленным!?
За твое лицо жертвуем сердцем и душой — яви нам ланиты!
7- Во имя Господа, подай хоть глоток Хафизу, бодрствующему на заре,
Чтобы рассветная молитва пошла вам во благо!
Комментарий
1. «В благодарность за царский сан» — т. е. в благодарность
за то, что судьба наделила адресата газели царственной красо-
той [Суди, с. 54] и властью над сердцами [Рахбар, с. 10]. По
правилам придворного этикета обращаться с прошением к са-
мому султану считалось недопустимым, поэтому прошения ne- J
редавались через доверенных приближенных [Хирави, с. 10]. j
Возможно, газель написана по случаю прибытия в Шираз Шаха <
Шуджа', которого тайно пригласили жители города, недоволь- I
ные правлением Махмуда [Хирави, с. 13, со ссылкой на Гани]. I
j
2. «Поражающий светоч» (sihäb-i täqib) — использован корани- j
ческий образ: в суре al-Şâfât «Стоящие в ряд» упомянуты «пора-
жающие светочи» {sihäbun täqibun) [Коран, 37:10], которыми
вышние ангелы разят шайтанов (37:6-10), в переводе М.-Н. О. Ос- I
манова (по комментарию Табари) — «яркая падучая звезда». 1
«Страхе» — raqib, араб, «стоящий на страже», «наблюдатель, согля- |
датай», наименование одного из постоянных персонажей пер- ]
сидской газели, функция которого — преграждать доступ в жи- 1
лище друга, во многих контекстах выступает также как «сопер- 1
ник в любви», по мнению Хуррамшахи (с. 335-336), такое зна- ]
Хафиз. Газель № 6
133
чение в дохафизовской газели и Диване Хафиза не встречает-
ся, однако в [Диххуда, ел. ст. Raçfib) данный бейт приведен
именно как один из примеров значения «соперник в любви».
Стоит отметить, что в данном случае, как и в ряде других кон-
текстов (см. подборку у Хуррамшахи), значения легко совме-
щаются: когда ситуация «влюбленный — возлюбленный —
raçfib» метафорически представляет отношения между поэтом,
правителем и завистником-клеветником, «страж» оказывается
одновременно «соперником» главного героя.
3. «Намекнули на нашу кровь» — kard Ъа xûn-i та isära, т. е.
дали понять, что готовы совершить убийство, isära — также
«знак глазами, подмигивание»; «коварство» — farïb, также «ко-
кетство»; знаки глазами и кокетливые взмахи ресниц представ-
лены как «коварные» и «намекающие» на пролитие крови.
Бейт построен как жалоба хозяину ресниц на коварство его
слуг-ресниц; если друг позволит своим ресницам совершить
убийство влюбленного, то другого такого он не найдет и будет
раскаиваться [Суди, с. 56]. В панегирическом ключе бейт про-
должает тему «просьбы о защите от происков врагов».
4. «Вспыхивают твои ланиты» — 'izär bar-afrûzî, букв, «ты за-
жигаешь ланиты (лицо)», т. е. румянишь лицо [Хирави, с. 12],
возможно также, что речь идет о краске гнева или румянце
опьянения.
Идея: румянцем на щеках (от румян, гнева, вина) друг при-
влекает еще больше влюбленных, но какой ему прок от поклон-
ников, если своей немилостью он обрекает их на гибель.
5. «Ветерок» — о поэтических функциях см. коммент. к газе-
ли 1:2. Идея: я всю ночь напролет жду утреннего ветерка-
вестника, надеясь получить добрую весть о благополучии близ-
ких мне людей (например, друзей-риндов или покровителей
при дворе).
6. «Светопреставленье» — qiyämat, букв, «вставание», восста-
ние из мертвых в Судный день, в любовной поэзии использует-
ся как метафора величайшего смятения влюбленных в момент
явления друга. Ср. в газели 'Аттара: «Виночерпий вошел в
Дверь и сел, // Сто светопреставлений (qiyämat) поднялось в
один миг» ['Аттар 1989, с. 21, 31:5]. Здесь, судя по контексту,
134 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
qiyämat использован в авторском значении — это состояние
влюбленных, лишенных возможности видеть друга, в редакции
Ханлари бейт имеет более традиционный вид: «Душа [моя], что
за светопреставленье ты [устроил], когда явил влюбленным //
Лицо, словно сияющая луна, и стан пленительного кипариса!»,
см. [Хирави, с. 12].
7. Молитвы, произносимые перед рассветом, считались наи-
более действенными, т. е. наиболее легко достигающими Бога.
Уже суфийский устав Абу Са*ида (ум. 1049) включал предписа-
ние молить Бога о прощении на рассвете [Шиммель 1999,
с. 193]. По объяснению Газали, «два рак'ата намаза в последней
половине ночи — достойнее, нежели множество прочих нама-
зов, ибо в это время в сердце присутствует чистота, отсутству-
ют хлопоты занятий дольнего мира и открыты врата милости»
(пер. А. А. Хисматулина [Газали 2002, с. 292]). Мотив предрас-
светной молитвы широко используется в Диване Хафиза, осо-
бенно в зачинах и концовках газелей, см. контексты 10:6; 14:7;
28:1; 53:1; 64:8. В данной газели слово du'ä «молитва» в ее фи-
нале напоминает о du'â «мольбе» в первом бейте, создавая эф-
фект кольцевой композиции.
Идея: Хафиз бодрствует ночи напролет, поэтому его утрен-
няя молитва (сочиненная газель) весьма действенна. Он будет
молиться об исполнении желаний господина (адресата газели),
если тот нальет ему глоток вина (с точки зрения приверженцев
внешнего благочестия, просьба звучит кощунственно, так как
совершать молитву, выпив вина, по шариату запрещено).
Концовка, как принято, содержит шутливый намек на ожи-
даемое поэтом вознаграждение.
Газель 7
I j fi à J—jlJ İSa (j\Àj*a (Jjfa Ij
<Ji»JJ Cj u»_^ Jİ jjj J ÔJJJ JJJJ jlJ
jj_j j ^jj £ Jİ jj 4j jjj ^ jj jj
I j a! jj (J >^nj jh a л-аЬ ^5-àxj
IJ ^ i j <->*jj с£^Я* ü^-0 J^ ^ J#
I j a^ mlljİJ 4_jJajj ^hnflj aJİ
Ij ^ İL_c. ^ ^jj <u (j^jjb Aa.1 ja. ^1
JJ—i Llx-â ^1 Lluil ^j-Л aIa. JJ J* M^
IJ ^ 7- Л-bi (jLjüJJ (^JJJ ôJÔJ Jj
ВаЛг; muzäri'-i mutamman-i axrab-i màkfûf-i mahzuf
Vazn: mafûlu fä'ilätu mafâ'ïlu fâ'ilun
sü-ß-bi j yä-ki-ä-yi / na-şâ-fi-s1 / jä-m°-rä
tä-bin-ga / ri-sa-fä-yi / ma-yi-la'-l0 / fä-m°-rä
135
136 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
i. Приди, суфий — ведь ясно зеркало чаши,
Чтобы увидеть прозрачность рубинового вина.
2. О тайне, что за завесой, спрашивай у пьяных риндов,
Ведь это «состояние» — не для возвысившихся аскетов.
3- Птице 'Анка не быть ничьей добычей — сворачивай силки!
Ведь там в руке силков — один лишь ветер!
4- На пиру круговращения испей одну-две чаши и уходи!
То есть — и не мечтай о вечном свидании!
5- О сердце, молодость ушла, а ты не сорвало розы наслаждения,
Не усердствуй же на старости лет, ради своего доброго имени!
6. Наслаждайся наличным, ведь когда стало нечего пить,
Адам покинул сады Обители покоя.
7- Нам много [причитается] по праву службы у твоего порога,
О Господин, взгляни с милосердием на своего раба!
8. Хафиз — послушник чаши с вином, о ветерок, лети
И от раба донеси до шейха Чаши рабское служение!
Комментарий
1. Слова «ясный» (saß) и «прозрачность» (şafâ) образуют при-
ем iètiqâq (украшение бейта словами, производными от одного
корня), а в сочетании с «суфий» (süß) — фигуру finâs sabîh-i
istiqäq (сроднение, подобное istiqäq), т. е. сочетание как одно-
коренных (şaft, şafâ), так и созвучных им (süß) слов. Хуррамша-
хи (с. 137) приводит ряд примеров обыгрывания этих трех слов
в других строках Хафиза и цитирует сходные примеры из Ша-
бистари, Са'ди и других поэтов.
По мнению Хирави (с. 36), обращение к суфию содержит
скрытую насмешку, мол, приди и посмотри, сколь чисто вино,
и от него обрети чистоту сердца. Согласно суфийскому коммен-
тарию Хатми (с. 86 ел.), «суфий» здесь — настоятель ханаки
Имад Факих Кирмани, враг Хафиза, строивший ему всяческие
козни, вплоть до угрозы жизни. Избежать опасности поэту уда-
Хафиз. Газель № 7
137
лось лишь благодаря прибытию в город шейха Зайн ад-Дина
Тайабади (ум. 1389). Под «ясным зеркалом» чаши подразумева-
ется, по Хатми, сердце мауланы Зайн ад-Дина Тайабади из го-
рода Джам, а «вино» — это истина, которая находится в сердце
шейха. Смысл бейта таков: приди, вероломный *Имад Факих, к
маулане Зайн ад-Дину Тайабади, дабы узреть, сколь чисто его
искреннее сердце. Возможно, «чаша» (jäm) — намек на шейха
Джама Жандапила (см. коммент. к б. 8).
2. «Тайна» (räz) — божественная тайна, тайна Любви. «Со-
стояние» (hâl) — суфийский термин, обозначающий состояние
озарения, мгновенного проникновения за завесу тайны, ниспо-
сылаемое человеку на его пути к Богу «помимо его воли и неза-
висимо от степени совершенства, достигнутой им в познании
(ma'rifa) божества и в аскетической практике (ти*атаШ)*.
Ahvâl (множ. число от hâl) противостоят maqâmât — «стоянкам
на мистическом пути, достижение которых требует от суфия
постоянного самосовершенствования» [ИЭС, ел. ст. «Хал»
(А. Кныш)]. Хафиз в ряде газелей обыгрывает термин hâl и на-
зывает так особое состояние, переживаемое только пьяницами-
риндами (см., например, 71:1).
«Аскет» — zâhidy воздержанный и набожный человек, терми-
нолог. — подвижник (также 'âbid), добровольно возлагающий на
себя более суровые обеты, чем предписано обычным мусульма-
нам (дополнительные посты и молитвы, воздержание в пище,
питье и одежде); захиды проповедовали отказ от мирской суеты
и строгое следование Сунне. Движение захидов развернулось в
халифате с середины VII в. и предваряло формирование раннего
суфизма; для аскетов-захидов главную цель составляли сами ас-
кетические практики и строгое различение дозволенного (halat) и
запретного (harâm), а не мистические переживания, занявшие
Центральное место в мировоззрении суфиев [Бертельс 1965,
с. 16-19]. Уже в ранней персидской поэзии (рубай Абу Са*ида,
газели Санаи) благочестивый и приземленный захид противо-
поставляется вдохновенному пьянице-ринду. В Диване Хафиза
zâhid упоминается около 40 раз и относится к числу оппонентов
главного героя, воплощая идею внешнего, показного благочестия
вместе с такими синонимичными фигурами, как vâ'iz «пропо-
ведник», sayx «шейх», faqïh «законник, факих», malik al-hâjj
«предводитель паломников», mufti «муфтий» и qâzï «судья», в ряде
138 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
контекстов — суфий. Основные аспекты этого образа у Хафиза
перечисляет Хуррамшахи (ее. 366-368), с большой подборкой
примеров по каждому аспекту, далее мы приводим только по
одному примеру: аскет самовлюблен, полон гордыни и не имеет
сострадания (84:7), он осуждает риндов и придирается к ним,
подобно мухтасибу (26:5), он пребывает в уединении и демонст-
рирует благочестие (69:11), он лицемер и притворщик (473:4), он
ценит чины и почести (7:2), он вероломен и лжив (71:10), он
стремится к райскому блаженству (65:8), он не из взыскующих
любви и не из взыскующих Бога и Истины (71:1).
«Возвысившийся» ('âlî-maqam) — букв, «[занимающий] высо-
кое положение», эпитет аскета, прославившегося своим под-
вижничеством; Хирави (с. 36-37) отмечает, что эпитет употреб-
лен с сарказмом, имеются в виду аскеты, которые претендуют
на продвижение по пути служения Богу, однако им не дано об-
рести состояние озарения (häl), оно достижимо лишь для тех,
кто не ищет материальных благ и высокого положения, т. е. для
пьяниц-риндов.
3. 'Анка — арабское имя мифической иранской птицы Си-
мург (ср. тот же мотив неуловимости 'Анка в газели 428:6);
здесь — метафора непостижимых для человеческого разума тайн
мироздания. «Там» — т. е. в тех краях, где обитает Симург; эта
птица живет на вершине неприступной для человека горы Каф,
опоясывающей земную твердь.
Идея: не стремись к познанию непостижимого, это напрас-
ный труд, ты останешься ни с чем.
По мнению Суди (с. 60), 'Анка — метафора друга, а речь в
бейте идет о недостижимости свидания с земным или, по Хи-
рави (с. 37), божественным возлюбленным. По Хуррамшахи, в
мистическом прочтении под «'Анка» имеется в виду сущность
Истины (zät-i haqq) и, следовательно, речь идет о непостижимо-
сти божественной сущности для силков человеческого разума.
[Хуррамшахи, с. 140].
4. «Пир круговращенья» — bazm-i dawr, т. е. пир круговра-
щенья чаши (пир, где чашу с вином пускают по кругу, и каж-
дый участник получает ее в свой черед) и пир круговращенья
дней (земное бытие человека), прием îhâm.
Хафиз. Газель № 7
139
Идея: на пиру бытия, где каждый получает чашу жизни в
свой черед, научись довольствоваться малым, тогда легче будет
смириться с тем, что твое пребывание на этом пиршестве не
вечно. Хатми (с. 91) полагает, что первое полустишие обращено
к *Имаду Факиху.
5. «Доброе имя» — папд-и пат, букв, «позор и имя», фразеоло-
гически употребляется в значении «слава, хорошая репутация».
Идея: если в молодости не было любви и свидания, то в ста-
рости, лучше не добиваться любви и беречь свое доброе имя;
ср. вариант обыгрывания той же темы в газели 222:4: «Под ко-
нец жизни перестань желать вина и возлюбленного [друга] — //
Увы временам, что всецело пройдут впустую!».
В редакции Ханлари вместо «не усердствуй» (такип hunartj
дается противоположная форма «усердствуй» (Ыкип hunarf),
второе полустишие приобретает смысл «Усердствуй на старости
лет ради своего доброго имени!».
6. «Стало нечего пить» — âb-xvar namänd, букв, «не осталось
водопоя», места для утоления жажды; äb-xvar— также «счастье,
судьба, доля», второй смысл — «не осталось счастья», т. е. иссяк
источник Божественной милости (прием ïhâm). «Оставил» —
bihist (от histan «покидать, оставлять»), омоним слова bihist
«рай»; здесь глагол создает читателю «ловушку», поскольку в
контексте «Садов Обители покоя» (rawza'-i dar al-saläm) первым
для bihist актуализируется значение «рай». Формула dar al-saläm
дважды встречается в Коране (6:127; 10:25).
Идея: наслаждайся тем, что тебе дано сейчас, ибо источник
удовольствий не вечен, даже Адам, пребывавший в саду вечного
блаженства, умудрился нарушить единственный запрет и поте-
рять место в раю, см. [Хуррамшахи, ее. 144—147; Хирави, с. 37].
7. «Господин» (xyäja) — по мнению Суди (с. 63), это один из
мамдухов Хафиза, Кавам ад-Дин Хасан, влиятельный деятель и
министр Инджуида Абу Исхака; по Хатми (с. 93), обращение
относится к шейху Тайабади или к Господу. «Взгляни с мило-
сердием» — существовало представление, что благосклонный
взгляд шейха способен устроить все дела человека; по преда-
нию, когда шейх Джунайд Багдади впадал в экстаз и бросал на
кого-то свой взгляд, тот становился vali, святым [Хатми 1995,
там же].
140 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
8. «Шейх чаши» — sayx-i jäm; у разных комментаторов ото-
ждествляется по-разному: Хатми (с. 93) считает, что речь, как и
в предыдущих бейтах, идет о шейхе Тайабади, шейхе «чаши с
вином божественной любви» (см. коммент. к б. 1); ту же версию
приводит и Ш. Фушекур [Hafez de Chiraz 2006, с. 108]. Хуррам-
шахи, со ссылкой на мнение иранских филологов Гани, Казви-
ни и Фарзана, утверждает, что имеется в виду шейх Джам Ах-
мад по прозванию Жандапил (ум. 1141 г.), который был извес-
тен как враг пьяниц, всю жизнь требовал запрета на вино и
уничтожал хумы с вином [Хуррамшахи, с. 147]; Жандапил имел
многочисленных последователей, которые пользовались влия-
нием и во времена Хафиза. В таком случае пожелание «донеси
рабское служение» — не что иное, как издевка Хафиза. Возмо-
жен и такой вариант интерпретации: «Хафиз — адепт чаши с
вином, о ветерок, лети, // И от раба донеси до шейха Чаши
(Жандапила, врага пьяниц) наше рабское служение чаше с ви-
ном».
Газель 8
\j л\ y OÙJÙ j J_jl_kjJ \Ä\ ю
I j a1 jl a_6 (j—S j-^uj jj villâ.
jj j 1 2 4—j ^iS j—j ^ jdLu»
I j ^Li (jj jt (j—Ь j—jI foS&jj
jbtélc j J j Гьи j ^U^j <L^a> jË
IJ Aİ 1 J L_X_iJ il j AİjÂ^^AJ La
jjj^ ûl j (j—jI jl «^^ ô^j^ ô*^W
I j aL_^ jàU (jAi L_j j—juj j j (İİIâ
IJ a! 4 ^jlSkJjxjaâl (j_Jİ CİLkjjuü
Jj___k <_£İ.İLuJ (JJ jl J A J ^ Л
I j p\—с j (j^l ^ j (^(^^ <j*£
CİLüJİ {J* J ^ J^^ I J* ^gJsSjİ^ Ь
I j f I jl ùj j öj\ j ^ifhj^
Q A *\ J^-jl J J Ы1 4j j£jJ Jj^OJ
I j ^»Ы ^ j-juj jj-^i jl jjj a£ ja
1J ^ * ^ « ci JJJ ^^
141
142 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: ramal-i musaddas-i mahzûf
Vazn: fä 'ilätun fä 'ilâtun fä 'üun
sä-qi-yä-bar / xx-zu-dar-dah / jä-m°-rä
xä-kP-bar-sar / kun-ğa-mî-ay / yä-m°-rä
i. О виночерпий, вставай и подай-ка кубок,
Преврати в прах мирские печали!
2. Вложи мне в руку кубок с вином, чтобы с себя
Я сорвал это рубище синего цвета.
3- Пусть [это] — позор, по мнению благоразумных,
Мы и не пытаемся снискать славу!
4- Подай же вина! Доколе раздуваться от тщеславия,
Да пошла она прахом, эта злосчастная плоть!
5- Дым вздохов из моей стенающей груди,
Зажег эти сырые, холодные [сердца].
6. Поверенного тайны для моего обезумевшего сердца,
Мне не найти ни среди простых, ни среди избранных.
7- Мне хорошо на душе с тем [другом], успокаивающим сердце,
Который раз и навсегда похитил из сердца покой.
8. И не взглянет больше на кипарис на лугу
Всякий, кому довелось увидеть тот сребротелый кипарис.
9- О Хафиз, терпеливо сноси тяготы день и ночь,
Наконец, в один [прекрасный] день ты обретешь желанное!
Комментарий
1. «Преврати в прах» — xäk bar sar кип, букв, «посыпь пра-
хом голову [мирских печалей]», т. е. сделай несущественными,
ничтожными, см. ['Афифи, ел. ст. Xâk bar sar kardan] с данным
бейтом в качестве примера. Другой смысл выражения xäk bar
sar кип «насыпь сверху землю», т. е. зарой, похорони, создает
Хафиз. Газель № 8
143
второй смысл полустишия (прием îhàm): «Похорони мирские
печали» [Суди, с. 65, Рахбар].
Смысл бейта: дай вина, чтобы все жизненные невзгоды по-
казались ничтожными.
2. «Рубище синего цвета» (dalq-i azraqfäm) — имеется в виду
грубошерстная суфийская одежда, черного или синего цвета,
которая не имела разреза на груди и надевалась через голову
[Хирави, с. 43]. Согласно Суди, это намек на шейха Хасана Аз-
ракпуша (azraq-pûs — букв, «одетый в синее») и его последова-
телей, носивших одеяния синего цвета. Слово azraq ассоцииру-
ется по созвучию с zarq «притворство, обман», см. [Диххуда, ел.
ст. Zarq], где приведены примеры, начиная с Фирдауси и Даки-
ки; zarq не раз употребляется в тех строках Дивана Хафиза, где
разоблачается притворство суфиев и аскетов (см., например,
контексты 135:7; 149:4; 154:10; 375:1), возможно, именно по-
этому для описания их одежды использовано такое цветообо-
значение (см. 201:7; 203:8; 285:9; 378:1).
Суди (с. 66) объясняет: ринд сначала рвет на груди одежду в
порыве опьянения, а потом срывает ее и отбрасывает прочь.
Идея: дай мне напиться вином так, чтобы в опьянении я со-
рвал с себя одеяние суфия, т. е. отказался от показного лице-
мерного поведения (рубище суфия у Хафиза — один из симво-
лов лицемерия, см. коммент. к газели 17:7).
3. «Пусть [это] — позор» — Хирави (с. 43) считает, что первое
полустишие продолжает тему предыдущего бейта, и позором
является питье вина. Рахбар не связывает этот бейт с преды-
дущим, его толкование: мы не пытаемся снискать добрую сла-
ву, хотя по мнению благоразумных, это — позор. Тема навлека-
ния на себя позора связана с поведением приверженцев дви-
жения маламати (см. коммент. к газели 5:7).
4. Перекличка с первым бейтом. В обоих бейтах употреблен
глагол в повелительном наклонении dar-dah — «давай!», соглас-
но комментаторам имеющий оттенок настойчивой просьбы. Во
вторых полустишиях обоих бейтов употреблено выражение xäk
bar sar, в бейте 1 — в сочетании xäk bar sar кип «преврати в
прах», в бейте 4 — как форма поношения. «Доколе раздуваться
от тщеславия» — cand az in bäd-i gurur, букв, «доколе этот ветер
тщеславия!». «Плоть» — nafs, в первом значении «душа» или «жи-
144 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
вотная душа», для перевода этого слова выбрано значение «тело,
плоть» (jism, см. [Хирави, с. 43]), зафиксированное в словаре
Диххуда (ел. ст. Nafs). «Злосчастная плоть» (nafs-i näfarjäm) —
бренное, подвластное тлену тело.
5. «Сырые, холодные [сердца]» — afsurdagän-i xäm> по мне-
нию Суди (с. 67), это суфии в синих рубищах (см. б. 2); хат —
«сырой, неприготовленный, незрелый, необработанный», в су-
фийской поэзии — эпитет человека (сердца), не вступившего на
путь постижения Истины, или находящегося в самом начале
пути; его антонимы sûxta «сгоревший» или puxta «приготовлен-
ный» описывают сердце, обретшее знание и преображенное в
огне божественной любви. В Диване Хафиза хат используется
как определение оппонентов лирического персонажа — «аске-
та» (150:4) и несовершенных влюбленных (66:4), пустых надежд
и желаний (42:2; 84:8; 111:1; 168:1; 488:9), а также молодого
«незрелого» вина (150:4; 468:5).
По Хирави (с. 44), «дым вздохов» — это метафора стихов, ко-
торые пробуждают сердца холодных и равнодушных.
6. «Тайна» — тайна любви. «Простые и избранные» (xaşş-u
'ämm) — устойчивая формула, обозначающая простонародье и
знать, а расширительно — обыкновенных и выдающихся людей
в любой области человеческой деятельности, например, нович-
ков в любви и совершенных влюбленных, дилетантов и знато-
ков поэзии и т. д.
Тема бейта — необычайная любовь лирического персонажа;
она столь велика, что во всем мире нет человека, сердце кото-
рого способно вместить ее тайну или оценить красоту воспе-
вающих ее стихов.
7. «Успокаивающий сердце» — dü-äräm, букв, «покой серд-
ца», в лирическом лексиконе «возлюбленный, возлюбленная»;
буквальное значение композита придает бейту парадоксальный
смысл: «успокаивающий сердце» похищает из сердца покой. В
мусульманских сочинениях о любви она описывается как чув-
ство, парадоксальное по природе: «Это болезнь усладительная и
желанный недуг; больному ею неприятно выздороветь, и стра-
дающий не желает от нее избавиться» [Ибн Хазм 1957, с. 22]. В
персидской лирике влюбленный существует в системе противо-
речий: его слава — в позоре, счастье — в муках, награда — в
Хафиз. Газель № 8
145
смерти от руки возлюбленного, эти мотивы нередко реализуют-
ся в парадоксальных образах. У Хафиза и сам объект любви
иногда предстает как наделенный взаимоисключающими каче-
ствами: «Послушай этот удивительный рассказ о превратности
судьбы — // Меня убил друг [животворным] дыханием *Исы»
(486:5).
Согласно Суди (с. 68-69), адресатом бейта мог быть шейх
Махмуд 'Аттар Ширази, предположительно — духовный настав-
ник Хафиза.
8. «Сребротелый кипарис» — белотелый красавец, станом и
стройностью затмевающий кипарис на лужайке (кипарис —
традиционный образ сравнения для стана); воспевание фено-
менов красоты, затмевающих свои привычные образы сравне-
ния, встречается во многих газелях Хафиза, см. далее, ком-
мент, к газели 69:4.
9. «Терпеливо сноси» — şabr кип; возможно, намек на араб-
скую пословицу «терпение — ключ к радости» (al-şabr miftâh al-
faraj), см. [Суди, с. 70]. «Терпение» (şabr) — одно из ключевых
этических понятий в исламе, оно входит в число главных доб-
родетелей мусульманина, см., например, [Коран, 2:148]: «О те,
которые уверовали! Обращайтесь за помощью к терпению и
молитве. Поистине, Аллах — с терпеливыми». В суфизме şabr—
одна из духовных «стоянок», способность переносить невзгоды
во имя Бога и способность удерживаться от запрещенного Бо-
гом, см. [Абу Наср ас-Саррадж 1994, с. 146-147; Худжвири
2004, с. 86]. В любовной поэзии терпение описывается как
важнейшая добродетель влюбленного.
Дополнительно об этой газели см. [Пригарина 2006].
Газель 9
1 j ^jL-aJI ^jjjj 4 J ; 1 j (JS ôû ja «^Jcj^
IJ ^jl ^ JJ J (JS J JJ_^uJ (jljuüJJ La <"илЧ
^jjjjj Д> ôjl_j 4ллла Л *ı ^ djIä. (J^ä. jS
1 j jl <j^ л *1 ^ 4 'iKja jJ l_Jjj£Iâ
jL_Sjä. I jLoi j ; \c* jl ^5-^iS 4a jj ч£ ^l
I j <jIjj_£jjui ^j л (jbjŞLa cJ-^ ujjht/irt
j 111
^C5* ù'—äSuj^ j—j ^ f jS a*l ^jj
I j tjl л jl Л *i *1 ^ clil—jt ja, jl£ jjoj jJ
^j 1 (j*hrt^ jJ 4_£ (jib 1Л 4 (JİÛJA jb
I j jl—İjb Jj â^J ^1 A j a£ ^li dixiA
< jIUa (jl—j j jû 4 j ùj^J^ 4—jIâ jl jjj
l j q\ л$ а лЛ&\ j-^1 jû 4_jujI£ 4-luj ^jl£
Cj yıl Л-± ^дш j-Jj a^jI>. Ij a£ ja
1 j ùl j—*l o^ ^' ^ <■* ^u 4 J^
Л-jİ jj (jl j >/ı л ^ « >" A (JA ^LuS ôLa
I j jta j J (^jS ^jj-ь 4_S t"i ml <jl Câj
I j jljS jl j ÉJ jj—^ ù—5^ jjj jS ^ b
146
Хафиз. Газель № 9
147
Bahr: ramal-i mutamman-i тахЬйп-i aşlam
Vazn: fä'ilätun fa'ilâtun fa 'Hätten fa'lan
raw~na-qi-'ah / di-sa-bâ-bas / t°-di-gar-bus / tän-rä
mî-ra-sad-muz / da-i-gul-bul / bu-li-xvas-al / h&^-râ
ı. Снова сад обретает сияние молодости,
К сладкоголосому соловью приходит радостная весть о розе.
2. О ветерок, если ты вновь посетишь отроков луга,
Передай наш привет кипарису, розе и базилику!
3- Если в таком блеске будет появляться юный маг-продавец вина,
Я сделаю из ресниц метлу для порога кабака.
4- О ты, протягивающий к луне клюшку из чистой амбры,
Не тревожь меня мятущегося.
5- Нет сомнения, — то племя, что насмехается над пьяницами,
Потратит свою веру на дело кабака.
6. Води дружбу с божьими людьми, ведь в ковчеге Нуха —
Такой прах, для которого и потоп — не вода.
7- Выйди вон из обители небосвода и не проси хлеба,
Ибо этот скряга под конец убивает гостя.
8. Каждому, чьи последние покои — горсть земли,
Скажи: «Что за нужда возводить дворец до небес?!»
9- О моя ханаанская луна, египетский трон стал твоим,
Настала пора тебе распрощаться с темницей!
ю. О Хафиз, пей вино, живи как ринд и будь счастлив, однако
Не превращай, подобно прочим, Коран в силки обмана!
148 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Комментарий
1. «Блеск юной поры» — метафора весеннего цветения сада;
«радостная весть о розе» — доносящийся аромат роз, намек на
наступление сезона роз. Зачин газели построен на использовании
весенней топики — цветущего сада, розы и соловья (о сезонных
элементах в газели Хафиза см. [Рейснер 1989, ее. 198-199]).
2. «Луг» — сатаПу место, окруженное деревьями и специаль-
но предназначенное для прогулок и отдыха, этим словом обо-
значают как садовые аллеи, так и лужайки, где устраивали пи-
рушки, в более широком смысле — сад или цветник в целом;
сатап — один из главных локусов в газели, связанный со мно-
гими темами: на лужайке пьют вино в компании друзей и ви-
ночерпия, любуются весенними цветами, вспоминают возлюб-
ленного, на лужайке соловей поет песню розе, лужайка, «разо-
ренная» осенью символизирует скоротечность молодости и кра-
соты. «Отроки луга» (javänän-i caman) — формула, объединяю-
щая расцветающие цветы и растения с красавцами и красави-
цами, гуляющими в саду. Кипарис, роза и базилик, обозначая
растения в саду, подразумевают также «кипарисы станов», «ро-
зы лиц» и «базилики локонов».
3. «Юный маг-продавец вина» — юный прислужник в каба-
ке, выполнявший обязанности подавальщика вина; «маг» — см.
коммент. к газели 1:4. «Будет появляться в таком блеске» — со-
гласно Суди (с. 72), имеется в виду, что прислужник пройдет
мимо, даст возможность полюбоваться собой.
Идея: за красоту прислужника я готов сам стать ему слугой
и подметать ресницами порог, т. е. склониться перед ним в ]
земном поклоне.
4. «Клюшка из чистой амбры» — черный ароматный локон; <
«луна» — лицо друга. «Не тревожь» — muztarib-häl magardän, l
букв, «не приводи в расстроенное состояние», т. е. не наноси |
ударов сердцу. Образ бейта построен на двух скрытых уподоб- J
лениях, связанных с игрой в поло: в первом полустишии мячу I
для клюшки локона уподоблена луна (лицо), а во втором — ]
влюбленный или его сердце. ]
Идея: когда локон соприкасается с лицом, это увеличивает I
красоту друга и приводит в смятение влюбленного. |
Хафиз. Газель № 9
149
5. «Нет сомнения» — tarsam, букв, «я боюсь», зд. в значении
«я уверен» [Рахбар, с. 15]. «То племя» — аскеты [Хирави, с. 49].
«Кабак» — xaräbät, букв, «развалины, руины», разрушенные и
покинутые строения на окраинах города, где селились иновер-
цы и происходила торговля спиртным; в газельной лирике
«район кабаков», «винный погреб, питейный дом».
Идея: когда аскеты познают суть питья вина, они в конце
концов обменяют свою веру на возможность напиться.
6. Нух (библ. Ной) — многократно упоминается в Коране как
один из пророков, предшественников Мухаммада; он был по-
слан к своему народу, однако люди не вняли его проповеди, от-
казались уверовать и погибли в водах потопа, а сам Нух и уве-
ровавшие спаслись на корабле (см., например, [Коран, 11:25
(27)-48(50)]). «Прах» — метафора бренности всего живущего;
«такой прах» — намек на Нуха, пред нравственным величием
которого воды потопа все равно, что ничтожная капля [Рахбар],
или намек на прах Адама, который, согласно преданию, Нух
взял с собой в ковчег в качестве своего рода талисмана, чтобы
обуздать неистовство потопа [Хуррамшахи, с. 155-56].
Идея: нравственное величие «божьих людей» не знает тлена,
оно преодолевает бренность человеческого существования.
7. «Скряга» — siyah-käsa (букв, «с черной миской»), намек на
форму небосвода и его «черные дела». «Небосвод» — gardun,
букв, «вращающийся», буквальное значение подчеркивает идею
нестабильности бренного мира (фигура iham).
8. Газали в «Алхимии счастья» (Kîmiyâ-yi sa'adat) приводит
слова Пророка: «За каждое здание, которое возводит человек,
будет спрошено с него в день Суда, кроме тех, которые защи-
щают его от жары и холода» (цит. по [Хуррамшахи, с. 156]).
9. «Ханаанская луна» (mâh-i kan'ânîj — Йусуф (см. коммент. к
газели 3:5); намек на возвышение Йусуфа после пребывания в
заточении; царь Египта приблизил его к себе и поставил «над
сокровищами земли» [Коран, 12:54-55]. По Рахбару, «ханаан-
ская луна» — это чистая душа, «египетский трон» — мир смы-
слов, а «узилище» — тело или бренный мир. Тогда смысл бейта:
0 душа, пора тебе отвергнуть заботу о бренном и стать прави-
телем в мире смыслов. Хирави (с. 51) считает, что бейт обращен
150 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
к опальному покровителю, которого освобождают из заточения, j
Ш.-А. Фушекур со ссылкой на словарь П. Ахура отмечает, что
это может быть Джалал ад-Дин Тураншах, министр Шаха Шу- )
джа', на время заключенный в тюрьму, а затем признанный |
невиновным [Hafez de Chiraz 2006, с. 115]. Суди (с. 78) понима- ]
ет бейт как любовный, где луна — возлюбленный, трон — серд- ]
це, а темница — разлука. |
10. В бейте обыграно терминологическое значение поэтиче- А
ского псевдонима (тахаллус) поэта — häßzt т. е. чтец Корана, |
хранящий в памяти весь Коран. «Прочие» — лицемеры, которые |
показной набожностью и чтением Корана прикрывают свои |
грехи [Хуррамшахи, с. 157]. |
Газель 10
duıl (jijÄ jja. (jüîj Hjjû Jj a£ ^jb jSI Jîc
C5Jjud J j j ^ jJ ж J—A \ jl Cj ^ ^ «"« Jj Ь
Ba/?r: ramal-i mutamman-i mahzuf
Vazn: fâ 'ilâtun fâ 'ilâtun fâ 'ilâtun fâ 'Hun
du-s°-az-mas / fid-su-yï-may / xä-na-ä-mad / pï-ri-mâ
cî-st-yà-ra I nï-ta-rï-qat / ba'-da-zP^tad / bï-ri-mâ
l- Вчера ночью наш старец пришел из мечети в кабак,
О друзья по тарикату, как нам поступать после этого?!
151
152 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Как же мы, ученики, повернемся лицом к кибле, когда
Наш старец обращает лицо к дому виноторговца?!
3- Мы все вместе поселимся в кабаке тариката}
Ибо такая судьба выпала нам в пору предвечности.
4. Если бы разум знал, как хорошо сердцу в путах локонов [друга],
Разумные стали бы сходить с ума по нашим цепям.
5- Твой прекрасный лик открыл нам знамение милости,
С тех пор в нашем толковании только «милость» и «красота».
6. Подействуют ли когда-нибудь ночью на твое каменное сердце
Наши пламенные вздохи и жар в груди предрассветной [порой]?!
7- Стрелы наших вздохов проходят сквозь небосвод, Хафиз, замолчи!
Побереги свою душу — остерегайся наших стрел!
Комментарий
Газели с совпадающими метром, рифмой и радифом имеются в
Диване Хаджу Кирмани, см. [Хаджу, Dorj-3, газель № 31], и в
Диване Салмана Саваджи, см. [Салман, Dorj-3, газель № 17].
Общность многих мотивов позволяет рассматривать все три
текста как взаимосвязанные, при этом газель Хафиза демон- !
стрирует обилие мотивных перекличек скорее со стихами Ха- \
джу и, возможно, является поэтическим ответом последнему. |
1. «Наш старец» (pir-i та) — формула употребляется в зачи-
нах особого класса газелей, посвященных «позорному поведе-
нию» наставника; эта тема в газельной лирике восходит, по- \
видимому, к 'Аттару (ум. в 1220 г.), в Диване которого семь га-
зелей открываются упоминанием о переходе «нашего старца» из
состояния праведности в состояние нечестия (переход из мече-
ти в кабак, замена хирки зуннаром или молитвы винопитием), I
см. ['Аттар 1989], газели № 159, 195, 249, 251, 257, 266, 405; в
суфийской агиографии парадигматическими примерами «опо- 1
зоренного старца» служат Мансур Халладж (см. [Рейснер, Чали- ]
сова 1998]), а также шейх Сан'ан (или Сам'ан); именно о нем, |
по мнению Суди (с. 80) идет речь в данном и двух следующих |
Хафиз. Газель № 10
153
бейтах газели. История Сан'ана пространно изложена в поэме
Mantiq al-tayr «Разговоры птиц» 'Аттара; Е. Э. Бертельс дает
краткий пересказ: «Это был праведный и святой муж, у которо-
го было множество муридов. Однажды он случайно увидел кра-
савицу-христианку и страстно ее полюбил. Красавица согласна
принять его любовь при условии, что он отречется от ислама,
съест свинины и выпьет вина. Сан'ан выполняет все ее требо-
вания. Его муриды в ужасе от него отворачиваются, считая его
погибшим навеки. Но оказывается, что именно это самоотре-
чение, полный отказ от своей собственной воли и привели шей-
ха к высшим духовным достижениям, которых он ранее тщет-
но добивался» [Бертельс 1965, с. 183].
«Тарикат» — tariqat, от parîq «путь», один из ключевых суфий-
ских терминов, обозначает совокупность этапов обретения ду-
ховного опыта, также понимается как определенная школа су-
физма «с присущими только ей нормативными приемами фи-
зических, аскетических и духовно-религиозных упражнений и
практики» [ИЭС, ел. ст. «Тарика» (О. Акимушкин)]. «Как нам по-
ступать» — cï-st ... tadbîr-i mâ, т. е. каким должно быть наше
благоразумное поведение; tadbîr — важное понятие мусульман-
ской этики, обдумывание последствий поступка и выбор пра-
вильного образа действий в меру человеческого разумения, ему
противостоит taqdîr — божественное предопределение, судьба,
о которой поэт говорит в бейте 3.
Упомянутые газели Салмана и Хаджу также открываются
бейтами о «нашем старце», при этом Хафиз использует те же
рифменные слова, что и Салман: «Путь — кабак, а застарелая
боль — наш старец (pîr-i mâ), // Никто, кроме нашего старца,
не знает, как нам поступать (tadbîr-i mâ)».
2. «Кибла» (qibla) — направление на Ка'бу, лицом к которой
мусульманин 5 раз в день совершает намаз; в мечетях это на-
правление обозначается михрабом — нишей в стене. В Коране
сказано: «И откуда бы ни вышел ты, обращай свое лицо в сто-
рону Запретной мечети; ибо это — истина от твоего Господа, —
поистине, Аллах не небрежет тем, что вы делаете!» [2:144 (149)].
Противопоставление киблы, указывающей на Ка'бу, и дома ви-
ноторговца в контексте истории Сан'ана может служить наме-
ком на путешествие шейха из благочестивой Мекки в Малую
154 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Азию (Рум), в город Кейсарию, где жили «одни неверные» и сво-
бодно продавали и употребляли вино.
Хафиз трансформирует образ, предложенный в зачине газе-
ли Хаджу: «Наш старец оставляет рубище в залог в доме вино-
торговца, //О, все ринды — ученики нашего старца, взявше-
гося за чашу!».
3. «Мы все вместе поселимся» — та Ъа ham-manzil savım
(или: та ba-ham manzil savım); возможен и не отмеченный
комментаторами вариант чтения та Ъа-ham munzal savım «мы
вместе будем отправлены». В редакции Ханлари та nïz ham-
manzil savım «мы тоже все вместе поселимся», что с точки зре-
ния грамматики кажется предпочтительным [Ханлари, с. 55].
«Судьба» (taqdîr) — божественное предопределение, см. ком-
мент, к бейту 1. «Предвечность» — azal, предбытие, характери-
зуемое отсутствием времени, в газели выступает в парадок-
сальном сочетании 'ahd-i azal, «пора, время предвечности».
Второе полустишие — цитата из бейта 2 газели Хаджу, в ко-
тором представлена прямая оппозиция понятий taqdîr и tadbir.
«Если мы опозорены в мире из-за вина, как поступать [tadblr ei-
st)? II Такая судьба выпала нам в пору предвечности».
4. «Локоны [друга]» — zulf-as, букв, «его локоны». В образе со-
единены поэтическая конвенция — локоны возлюбленного по-
добны цепям, в которые заковано сердце влюбленного, и реаль-
ная медицинская практика обращения с душевнобольными — в
период буйства их заковывали в цепи.
Идея: блаженство влюбленного нельзя понять с помощью ра-
зума, в противном случае разумные люди завидовали бы бе-
зумцам, посаженным на цепь. \
В бейте развита поэтическая мысль Хаджу: «С тех пор, как
мы заковали безумное сердце в цепи локонов, //О, как многог
разумных, что стали сходить с ума из-за наших цепей!» (б. 7). *
5. Опорные слова бейта имеют второе, терминологическоеj
значение, что создает в бейте фигуру îhâm: «знамение» — äyat,\
стих Корана, «знамение милости» — äyat-i lutfy «айат милости»,;
так называют айаты Корана, в которых говорится о милости!
Бога (в противоположность «айатам муки» äyat-i (azäby где речь]
идет о божественном гневе), «открыл» — kasfkard, «истолковал»;*
«толкование» — tafsïr, в специальном значении — «комментарий?
Хафиз. Газель № 10
155
к Корану». Согласно Рахбару (с. 16) и Суди (с. 72), смысл бейта:
твой прекрасный лик явил нам знамение красоты (т. е. себя), и
с тех пор все наши речи (поэзия) исполнены изящества и кра-
соты.
По мнению Хирави (с. 57) и Зибаи (с. 78), в бейте сказано, что
под влиянием красоты возлюбленного мы толкуем все знамения
(т. е. весь тварный мир) как проявления красоты Творца.
6. «Предрассветный» — sab-gîr, букв, «захватывающий ночь»,
в Диххуда приведены значения «утро, рассвет», а также «исход
ночи»; sab-gîr может обозначать человека, который «на исходе
ночи пробуждается для молитвы»; murğ-i sab-gîr «предрассвет-
ная птица» — устойчивое обозначение соловья-влюбленного
['Афифи, ел. ст.].
Бейт Хаджу, идею которого обогащает Хафиз, построен на
обыгрывании формулы «предрассветная птица» и уподоблении
тоскующих влюбленных соловьям: «Кипарису — музыка от го-
рестной жалобы птицы, // Птице — головная боль от нашей
предрассветной жалобы» (б. 3). Хафиз не вводит прямого упо-
минания о птице, и создает контекст, в котором «предрассвет-
ная (sab-gîr) пора» может ассоциироваться, как с временем пе-
ния соловья, так и временем особо действенной молитвы, тем
самым «вздохи» влюбленных скрыто уподоблены и пению соло-
вья и молитве.
7. «Стрелы наших вздохов» — метафора любовных стихов и
предутренних молитв, развитие образа предыдущего бейта.
Ситуация бейта, а также состав действующих лиц вызывают
разноречивые толкования. Хирави (с. 57) считает, что бейт —
реплика «познавших тайны сердца», которые осуждают Хафиза
за разглашение тайны любви. Согласно Суди (с. 84), Хафиз об-
ращается сам к себе. В контексте газелей Салмана и Хаджу
возможна и трактовка, при которой в первом полустишии пер-
сонаж обращается к самому себе, а во втором — угрожает жес-
токому другу (так переводит Ш.-А. Фушекур [Hafez de Chiraz
2006, с. 116]). «Предрассветная жалоба» как угроза другу в га-
Зели Салмана представлена так: «О утренний ветер, если полу-
пишь доступ к ночи его локонов, // Передай, мол, смотри, бе-
регись нашей предрассветной жалобы» (б. 5). У Хаджу угроза
конкретизируется благодаря метафоре стрелы: «Не пренебрегай
156 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
стрелой (xadang) моего вздоха, сжигающего мир, // Ибо [пу-
щенная] из слабо стреляющего лука. (т. е. согбенного стана),
сильна моя стрела» (б. 8). У Хафиза «стрелы вздохов проходят
сквозь небосвод», т. е. устремлены к Всевышнему, так жалобы-
стихи снова (как в бейте 6) уподобляются молитве.
Газель 11
jIôJjJ jL_j r-j ^*j &_& aJIjj jJ Lu
1 a ^—S J ^ jUj jL a£ q] jjÎ ûjâ.
jLià^^AA ^lA\ a 3ta 6j jj j i^àL*
1 * ^ ta 1.л^ .tiS J^aj £ J* ^ ^W
157
158 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: muzâri'-i mutamman-i axrab-i makfûf-i mahzüf
Vazn: mafûlu fä'üätu mafâ'îlu fä'ilun
sä-cfi-ba I пй-ri-bä-da / ba-raf-ru-2? / ja-mi-та
mut-rib-bi I дй-ki-kâ-ri / ja-hä^sud-ba / kä-mi-mä
i. Виночерпий, озари светом вина нашу чашу!
Музыкант, поведай, что дела в мире пошли по-нашему!
2. Мы увидели в пиале отражение лица друга,
О ты, не знающий радости нашего беспробудного пьянства!
3- Никогда не умрет тот, чье сердце ожило от любви.
Записано в тетради мироздания, что мы — вечны.
4- До тех пор красуются и важничают стройные станом,
Пока не заблистает наш кипарис с поступью ели!
5- О ветер, если полетишь мимо цветника друзей,
Смотри, непременно передай любимому весточку от нас!
6. Скажи: «Зачем ты стараешься выбросить из головы наше имя?
И так придет пора, когда ты не вспомнишь, как нас звали!»
7- Хорош хмель в глазах нашего пленительного кумира,
Потому и отданы пьянству наши поводья.
8. Боюсь, что в День суда не будет преимущества
У дозволенного хлеба шейха перед нашей запретной водой!
9- Хафиз, рассыпай из глаз зерна слез —
Может, птица встречи польстится на наши силки.
ю. Зеленое море небес и ладья полумесяца
Утонули в милостях нашего Хаджи Кавама.
Комментарий
1. «Озари светом вина нашу чашу» — налей вина в чашу
[Суди, с. 85]; в соответствии с традицией Хафиз описывает
Хафиз. Газель № 11
159
красное вино как наполненное светом, «светлое». «Поведай»
(Ыдй) — букв, «скажи»; в музыкальной терминологии — «спой
песню», обращение к музыканту (mutrib) подразумевает, что он
должен сыграть на сазе и спеть песню о том, что мир благо-
склонен к нам. Следующий бейт можно истолковать как про-
должение обращения к музыканту [Суди, с. 85].
2. Отражение в пиале лица друга — аллюзия к чаше Джам-
шида, в которой отражались все события мира; см. далее, ком-
мент, к газелям 12:6 и 33:6. «Беспробудное пьянство» — surb-i
mudâm, букв, «постоянное питье», mudäm также означает «ви-
но», второй смысл выражения - «питье вина» (прием ïhâm). По-
скольку влюбленные в разлуке пьют вино с мыслью о друге и во
имя друга, чаша с вином награждает их встречей с отражени-
ем любимого лика. Во втором полустишии речь идет о благочес-
тивом трезвеннике, осуждающем употребление вина.
Хирави дает мистическую интерпретацию бейта: пиала —
зеркало, подобное чаше Джамшида, в котором пьющему явля-
ется тайна творения (xalqat); виночерпий или Друг, чей лик от-
ражается в вине, и есть Бог в мистическом постижении (xudä-
yi Hrfânı); влюбленный постигает Бога в состоянии опьянения и
самозабвения, а не тогда, когда он обременен мирскими забо-
тами [Хирави, с. 65].
3. «Тетрадь» (jarïda) — тетрадь для учета, книга, в которую за-
носятся сделанные дела [Хуррамшахи, с. 121]. Суди описывает
jarïda как тетрадь, раскрывающуюся веером и заполняемую с
обеих сторон. «Тетрадь мироздания» — jarïda'-i 'alam, метафора
земного мира, при этом употребление бытового слова «тетрадь»,
возможно, придает выражению слегка ироничное звучание. «Что
мы вечны» — davâm-i mâ, букв, «наша вечность».
В основе бейта скрыт парадокс: «тетрадь мироздания» со-
держит записи о возникновении и исчезновении всего сущего,
бренный мир свидетельствует, что ничто не вечно, но он же
свидетельствует о вечности влюбленных и всепобеждающей си-
ле любви. Согласно Хирави (с. 66), бейт имеет мистический
смысл: мир бытия (jahân-i hastî) как место манифестации бо-
жественного Возлюбленного вечен, поэтому вечны и те, чьи
сердца живут любвью к Нему.
160 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
4. «Наш кипарис» — возлюбленный друг; кипарис (sarv) —
обычное сравнение для стройного стана; «с поступью ели»
(sanawbar-xaräm) — грациозно ступающий, гибкий в движе-
нии, плавно покачивающийся при ходьбе, подобно движению
веток ели под воздействием ветра [Хирави, с. 65]. Общеприня-
тая метафора для красивой поступи друга — sarv-i ravän «дви-
жущийся кипарис», здесь же «кипарис» вдобавок наделен по-
ступью ели.
Идея: заносчивые красавцы и красавицы могут гордиться
своей красотой лишь до тех пор, пока не появится прекрасный
друг; Хуррамшахи поясняет, что после появления друга все ос-
тальные проявления красоты лишаются блеска [Хуррамшахи,
с. 121].
5. «Цветник друзей» (gulsan-i ahbäb) — возможны как реаль-
ное, так и метафорическое понимание выражения: 1) цветник,
где собрались друзья [Суди, с. 88]; 2) друзья, подобные цветнику,
т. е. собрание людей столь прекрасных, что их общество напо-
минает цветник [Хирави, с. 67]. «Непременно» — zinhar, букв,
«берегись!»; комментаторы поясняют, что в данном контексте
слово означает усиленную просьбу, а не предостережение [Хур-
рамшахи, с. 161].
6. «Стараешься выбросить из головы» — zi yäd ba 'amdä mî-
barï, букв, «намеренно удаляешь из памяти». Бейт содержит по-
слание влюбленного, которое должен передать ветер (см. пре-
дыдущий бейт). Идея: возлюбленному другу нет нужды прила-
гать особые усилия, чтобы забыть о влюбленных, он столь жес-
ток и равнодушен, что это произойдет само по себе [Хуррам-
шахи, с. 162].
В редакции Ханлари [Хирави, с. 67] во втором полустишии
вместо yâd nayârî «ты не вспомнишь» дано yâd nabâsad; тогда
следует переводить: «И так придет пора, когда не останется
памяти о нашем имени». В этом случае допустима более широ-
кая трактовка: возлюбленному другу не стоит самому прояв-
лять жестокость, поскольку жестоко само время, стирающее;
имена из памяти мира. [
7. «Кумир» — sated, букв, «свидетель, видящий воочию», что|
создает лексическое соответствие (tanäsub) со словом «глаза»(
[Хуррамшахи, с. 162]. В поэзии «пьяные» (mast) — традицион-j
Хафиз. Газель № 11
161
ный эпитет красивых глаз; первое полустишие содержит ïkâm,
построенный на двух интерпретациях предлога «в» (Ьа): «хорош
хмель в глазах кумира» (ba casm-i sähid) буквально означает,
что хмель, пьянство подобает глазам кумира, а в переносном
смысле — что пьянство с точки зрения кумира дело хорошее.
Пленительный — dil-band, букв, «привязывающий сердце», что
создает лексическое соответствие (tanäsub) со словом «поводья»
(zamäm); «отдать поводья» — т. е. отдать поводья воли, быть во
власти чего-то, предаться чему-то.
Идея: мы предаемся пьянству, чтобы произвести хорошее
впечатление на нашего кумира (фигура husn al~ta'lïl «красивое
обоснование»).
При другой синтаксической интерпретации: mast + f «какой-
то пьяница» вместо mast «хмель, пьянство» следует переводить:
«Потому и отданы какому-то пьянице (т. е. глазам кумира) на-
ши поводья». Отметим, что на CD Lisân al-ğayb предложены
оба варианта чтения.
8. Идея: в Судный день «дозволенный (haläl) хлеб шейха», т. е.
его образ жизни, соответствующий нормам шариата, окажется
не более праведным, чем «запретная (haram) вода», т. е. пьянство
ринда. Суди (с. 87) поясняет идею бейта: шейх исполняет пред-
писания шариата и добывает пропитание дозволенным образом,
получая доход от вакуфного имущества, но его благочестие не-
бескорыстно — он рассчитывает на будущее воздаяние, а грех
корысти и лицемерия не меньше, чем грех пьянства.
9. Идея: добиться встречи с другом, так же как и заманить
птицу в силки, можно лишь обманом; птицу в силки влекут
зерна, так и обильные слезы, возможно, привлекут внимание
друга.
10. «Зеленое (axzar) море небес» — в персидском языке нет
четкого различия между обозначением синего и зеленого цвета;
Хафиз в разных газелях определяет цвет неба как иссиня-фио-
летовый (kabüdjy синий (пЩ, бирюзовый (firuza), голубой, ла-
зурный (mïnâyî), но в ряде случаев — и как «зеленый» (sabz, ах-
заг), см. [Хуррамшахи, с. 163]. Сравнение неба с морем указы-
вает на щедрость («море» — традиционная метафора щедрости);
зеленый цвет, цвет одежд Хизра, в поэзии часто указывает на
благословенность и процветание [Хирави, с. 68]. Хаджи Кавам
162 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ад-Дин Хасан Тамгачи (ум. 1353) — министр и распорядитель
финансов при дворе ширазского правителя шаха Абу Исхака,
покровитель Хафиза, упомянутый в ряде газелей и кыт'а, под-
робнее см. [Хуррамшахи, с. 914]; упоминание об этом министре
косвенно позволяет отнести газель к ранним стихам поэта
[Hafez de Chiraz 2006, с. 123].
Идея: милости Хаджи столь велики, что поднялись до небес и
затопили их, так что утонула не только ладья (полумесяц), но и
море (небо), иными словами, щедрость восхваляемого министра
превзошла само воплощение щедрости.
Газель 12
\ Aoi tjh ч ij »t a. jl ^j ^ tfjj lJ
ù\ a\ l-lJ j-j jL—ä. Jjlj J J JİJ JÛ д JC>
\ A ni (jL—A^J-â 1*1 ni j ^ ÛJİJJ Ь JJjS jL
LİL-lİlc. jl UJ uljJ ^^a C-LuiSJJ JjJ 4_J <jjo£
1 A ni ^jL-J-JOL-A Aj (^ JjlulA A—LaiJ_)İJ 4__£ A_J
J—£-* X-jİ AAİJÂ. JİÛJJ I A J J lî 4JİJ-^ diSU
i—^ ûUîaj ijjj ^î ôa_jj j—i ù j <_<; ji j
(^U ьиЛК dl â.j jl t"i nijftj dljaA bj^a Ь
1 * ni ^jl 1 m i с*11эь jl л JJ^j C5^J^ <—£ JJ
a > a jj <jl j 31 t и ^1 Jİ J-^a j ûL_J ^jIjjaC
■ J>
4 \\<\ 4İÎ I j jl J b J s S^ ^^
1—л-jİ jl—ah. j <j* <jl—аь jl—jLuijJ ^1 jI^jj j
I Л ni (jLï_i J_i CİÎ j \ A p J Л > A JJsJlL
iSJ&t U jj j_j. t>b jji. j Л± jl jb jjj
I a ni (jL_jjS ajjLloü 4JLi£ ôj (j jl j^jI£
163
164 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
I— Л-А <j\ İLA\ Jul J П JLj U jjJjJ
j—>—J La jl ûjj J^juü ^jL-JlSLui 1_j Lu-a ^1
t"imji JjJ t"uA l«ijS JaLoiJ Jl &JJ^ 4^k jS
ц Ч л » I j b ^ jlkloîL öl i и i $ Л (j\
\ Ail) ^jlj jl viîLk jS^I j ^ a A é^jîl ^
Ba/ir: ramal-i mutamman-i mahzuf
Vazn: fä 'ilätun fä 'ilätun fä 'ilätun fä 'üun
ay-fu-rü-gi / mä-hi-hus-naz / rü-yi-rax-sä / ni-su-mä
ä-bi-rü-yi I xü-bi-yaz-cä / xï-za-nax-dâ / ni-su-mä
i. О, блеск у луны красоты — от Вашего сияющего лика,
Вода для лица прелести — из колодца Вашего подбородка!
2. К встрече с тобой устремлена душа, [уже] дошедшая до губ!
Возвращаться ей или уходить — каково Ваше приказание?
3- Никто в эпоху твоих нарциссов не получил прибыли от благочестия,
Лучше уж не пытаться продать трезвость Вашим пьяницам!
4- Теперь-то уж проснется наша заспавшаяся судьба,
Потому что плеснул воды в глаза Ваш сияющий лик!
5- С утренним ветерком пришли букет цветов с твоих ланит —
Пусть донесется до нас аромат с земли Вашего сада!
6. Живите долго и счастливо, о виночерпии на пиру Джама,
Хоть наша чаша и не наполнилась вином в ваше время.
Хафиз. Газель № 12
165
7- Сердце крушит [все вокруг], передайте хозяину сердца!
Эй друзья, смотрите, моя жизнь — и ваша жизнь!
8. О Боже, случится ли такое, что достигнут согласия
Моя спокойная душа и Ваши мятущиеся локоны?
9- Береги подол от праха и крови, когда идешь мимо нас,
Ведь на этом пути полегло столько Ваших жертв!
ю. Хафиз возносит молитву — а ты услышь и скажи «аминь» —
«Да будут нам пропитанием Ваши рассыпающие сахар лалы!»
п. О утренний ветерок, передай от нас жителям Йезда:
«О вы, кому головы неблагодарных — мячи для клюшек!
12. Пусть мы далеки от ковра близости, высокие помыслы — рядом,
Мы — рабы вашего повелителя и славим вас!
13. О шахиншах, чья звезда высока, ради Бога, [обрати к нам] помыслы —
Вот бы и мне, подобно звездам, облобызать землю Вашего дворца!»
Комментарий
Газель снабжена радифом sumä «вы, ваш», который в ряде бей-
тов передает значение гонорифического множественного числа
(что в переводе передано написанием с заглавной буквы «Вы,
Ваш»), а в бейтах 6, 7, 11, 12 — значение обычного множест-
венного числа. Характерной особенностью данной газели явля-
ется параллельное употребление единственного и множествен-
ного числа местоимения — в первом полустишии лирический
персонаж обращается к адресату газели на «ты», а во втором —
на «Вы», см. бейты 2, 3, 5, 10, 13.
1. «Луна красоты» — mäh-i husny генитивная метафора, красо-
та как концепт уподоблена луне; «сияющий лик» (ru-yi raxsän) —
скрытое уподобление солнцу, поскольку сама луна-красота заим-
ствует свой свет у лика друга, подобного солнцу. «Лицо прелести»
(ru-yi хйЩ — персонификация концепта «прелесть», «пригожесть»
(*ûbî); «колодец подбородка» (cäh-i zanaxdän) — углубление на
подбородке под нижней губой, см. коммент. к газели 2:6; капли
166 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
пота на подбородке поэтизируются в описаниях красоты как бла-
гоуханная испарина, здесь они представлены как вода, которой
умывается сама прелесть. «Вода» — âb, также «блеск, глянец», что
создает альтернативный смысл: «Блеск лица прелести — от ямки 1
на Вашем подбородке» (прием îhâm).
2. «Душа, [уже] дошедшая до губ» (jàn-i bar lab âmâda) — т. е.
душа, готовящаяся покинуть тело, в переносном значении «до- ]
веденная до отчаяния»; смысл бейта: в стремлении к тебе моя ]
душа дошла до последнего предела, реши наконец, жить мне 1
или умереть. |
3. «В эпоху твоих нарциссов» (ba dawr-i nargis-at) — во вре- ]
мена жестокого правления твоих прекрасных глаз-нарциссов \
(Рахбар). «Пьяницы» (mastän) — томные глаза возлюбленного |
друга, субстантивация прилагательного mast «пьяный», посто- ]
янного эпитета прекрасных глаз в поэзии. «Продать трезвость» i
(masturi furüxtan) — заслужить одобрение, выставляя напоказ |
трезвость и воздержание. |
Идея: в эпоху, когда царит красота пьяных глаз-нарциссов |
друга, благочестие и трезвость ничего не стоят. 1
4. «Заспавшаяся судьба» (baxt-i xväb-älud) — несчастная, зло- |
получная судьба, в противоположность «бодрствующей» (bïdâr), I
т. е. счастливой судьбе. «Вода» (âb) — также «блеск», см. ком-1
мент, к бейту 1; «плеснул воды в глаза» — zad bar dïda âb-î, 1
также «поразил блеском глаза». 3
Согласно Рахбару, блеск лица друга вызывает слезы страсти 1
в глазах влюбленного, которые смывают «ржавчину сна неведе- 1
ния». Поскольку влюбленному (или влюбленным) довелось уви- I
деть лицо друга, ему (им) будет сопутствовать счастье. 1
1
5. «Букет цветов» — gul-dasta (также «букет роз»), метафора 1
аромата; «Ваш сад» — сад красоты друга; «аромат земли Вашего I
сада» (Ьй-yï ...az xäk-i bustän-i sumä) — весточка, напоминаю- J
щая о друге; выражение содержит намек на знаменитые стихи 1
Рудаки bü-yi jü-уг müliyân «Аромат ручья Мулийан», написанные I
тем же вариантом метра ramai, что и данная газель, но не вось- 1
ми-, а шестистопным. Мотивы «весточки из дома» («аромат Му- 1
лийана из сада-Бухары» и др.) связаны с темой разлуки с до- |
Хафиз. Газель № 12
167
мом, в данном бейте они перенесены в контекст разлуки с воз-
любленным.
6. Джам — Джамшид, мифологический царь, первый прави-
тель Ирана; по преданиям, сохраненным в «Шах-нама» Фирдау-
си, в эпоху его трехсотлетнего пребывания на престоле в мире
продолжался золотой век и не было ни зла, ни болезней. «Пир
Джама» — благополучная жизнь, полная радости и удовольст-
вий; «виночерпии на пиру Джама» — красавцы и красавицы,
которые в пору своего расцвета одаряют на пиру жизни вином
красоты и милости; «в ваше время» — Ъа dawrän-i sumä, так-
же — «в ваше круговращение», т. е. тогда, когда вы пускаете
пиршественную чашу по кругу (прием îhâm).
7. «Крушит [все вокруг]» — хагаЫ mïkunad, также — «волну-
ется» (прием îhâm), см. [Диххуда, ел. ст. ХагаЫ kardan], где наш
бейт приводится как единственная иллюстрация значения
«проявлять нетерпение, беспокойство, волнение». «Хозяин серд-
ца» — dil-där, употребляется обычно в значении «возлюблен-
ный», однако, ситуация бейта строится на использовании бук-
вального значения композита: «передайте хозяину сердца» —
т. е. оповестите хозяина, чтобы он усмирил своего раба. «Моя
жизнь — и ваша жизнь» (jän-i тап-и jän-i sumä) — здесь союз
va «и» передает значение «установления равенства», речь идет о
том, что «моя и ваша жизни в равной степени находятся в
опасности» [Рахбар].
Суди (с. 96) поясняет «разрушения» в соответствии с поэти-
ческим каноном: сердце, не способное больше терпеть, испус-
кает огненные вздохи, которые могут спалить весь мир, что
представляет опасность и для влюбленного, и для его «друзей»,
т. е. других влюбленных.
8. «Спокойная душа» (xäfir-i majmu*) — букв, «сосредоточен-
ная, собранная душа», т. е. душа, полностью предавшаяся люб-
ви и потому успокоившаяся (ср. xâtir-jam'i «уравновешенность,
спокойствие»); ср. то же выражение в зачине газели 121: «Каж-
дому, кто обрел спокойную душу и нежного друга, // Счастье
стало товарищем, и он дружит с удачей». Влюбленность в газе-
ли обычно изображается как состояние смятения (pansant), a не
спокойствия, хорошо разработан мотив уподобления души или
сердца влюбленного локонам возлюбленного по признаку смя-
168 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
тения (у Хафиза см., например, газель 59:8). Представление
«мятущейся души» как сосредоточенной, «успокоившейся на
любви» ново для газели, по данным поиска по CD «Dorj-3» вы-
ражение xätir-i majmü' у предшественников Хафиза не встре-
чается, а более поздние авторы — Хазин Лахиджи (ум. 1766),
Каани (ум. 1854), Фуруги Вистами (ум. 1857) уже используют
как уподобление, так и противопоставление состояния души и
локонов.
9. «На этом пути» — т. е. на пути любви. «Береги подол» —
т. е. береги свое доброе имя, ср. däman-äluda — «опозоренный»,
букв, «с запятнанным подолом», tar-daman — «с подмоченной
репутацией», букв, «с мокрым подолом».
Согласно Суди (с. 95), смысл бейта — мольба о сострадании и
милосердии, обращенная к другу. Путь любви обильно полит
кровью влюбленных, чтобы не запятнать подол, т. е. не про-
слыть жестоким, другу следует проявлять осторожность и быть
милосердным.
10. «Скажи аминь» — âmîn Ыдйу т. е. скажи: «Да будет так!»,
подцержи нашу молитву. Второе полустишие включает саму
молитву — просьбу о проявлении милости. «Лалы, рассыпающие
сахар» (la'1-i sakkar-afsän) — устойчивая метафора красноречи-
вых уст друга; пожелание, чтобы лалы стали «пропитанием»
(nïzf), содержит намек на просьбу о поцелуе.
11. Три заключительных бейта, помещенные после «подпис-
ного», скорее всего обращены к правителю Йезда Шаху Йахйа,
и жителям Йезда. По биографической реконструкции М. Мухи-
на, Хафиз уже в преклонном возрасте покинул Шираз, где вла-
ствовал Шах Шуджа', и приехал в Йезд, которым управлял пле-
мянник и враг Шаха Шуджа*, Шах Йахйа. Не найдя в послед-
нем щедрого мецената и разочаровавшись в чужом городе, по-
эт поспешил вернуться домой [Му*ин 1990, ее. 152-156].
«Клюшка» — имеется в виду клюшка для игры в поло; здесь
метафора превосходства, позволяющего обращаться с головами
врагов, как с мячом во время игры. «Кому головы неблагодар-
ных — мячи для клюшек» — по единодушному мнению коммен-
таторов, это «изящная вставка» (hasv-i malïh), т. е. эпистолярное
обращение, предваряющее основное содержание послания жи-
телям Йезда, изложенное в следующем бейте.
Хафиз. Газель № 12
169
12. «Ковер близости» (basât-i qurb) — метафора порога двор-
ца, где собираются приближенные шаха. «Высокие помыслы» —
himmat, букв, «рвение» (от глагола hamma «намереваться», «со-
бираться сделать что-то*), также «нравственное величие», «ду-
ховная энергия». В поэзии himmat обозначает силу духа, необ-
ходимую для совершения важного дела, как правило, с поло-
жительной коннотацией (написать поэму, добиться встречи с
кумиром, выиграть битву). В панегирической касыде популя-
рен мотив обретения поэтом himmat в качестве дара от восхва-
ляемого (во вступлениях к романическим маснави источником
himmat оказывается заказчик поэмы). В суфийской литературе
himmat трактуется как лучшее качество, заложенное Богом в
природу человека, это духовная энергия, позволяющая продви-
гаться по пути самосовершенствования, также в суфийской
среде himmat употребляется в значении «внимания», которое
проявляет наставник к ученику для его совершенствования,
поэтому ученик может обратиться к духовному руководителю с
просьбой о даровании himmat.
«Благородные помыслы — рядом» — himmat dür nîst; ком-
ментаторы предлагают два разных понимания, Рахбар и Хира-
ви (с. 62): мы далеки от господина, но его помыслы и попечение
о нас не далеки; Суди (с. 103) и Зибаи (с. 94): мы далеки от гос-
подина, но наши помыслы всегда обращены к нему; подобная
неоднозначность скорее всего входила в авторский замысел.
13. Во втором полустишии намек на высокое положение вос-
хваляемого: подножие его дворца (xäk-i ayvän) целуют небес-
ные светила — звезды (axtar). В бейте применена фигура «кра-
сота просьбы» (husn-i talab), просьба о дозволении поцеловать
землю является одновременно просьбой «возвысить до небес».
Газель 13
A IV £ J J J All j> ^%^
ı. d i ^^ aJ <-_i aJ .lui jL (JIa
j ^ .}_jkjjudj <jL^j>û j j
t ^ * ** 4_> аЛ^ы ^j^lu a£
J*—J-J tf J j J^ £ j Л
^Jİ 1 dub (jijJÜ
ВаЛг; xafif-i musaddas-i maxbün-i maqsür
Vazn: fä 'ilâtin mafâ 'ilun fa 'ilât
mî-da-mad-şub / hu-kil-la-bas / tP-sa-hâb
aş-şa-bü-haş / şa-bü-h°-yâ / aş-hâb
170
Хахриз. Газель № 13
171
i. Занимается утро, и туча раскинула шатер,
К утреннему винопитию, друзья, к утреннему винопитию!
2. Роса ложится на щеки тюльпанов,
[Скорее] вина, приятели, вина!
3- Райский ветерок веет с лужайки,
А ну, глоток за глотком пейте чистое вино!
4- Роза воздвигла на лужайке изумрудный трон,
Вкуси же напитка, подобного огненному лалу.
5- Двери кабаков снова позакрывали,
Распахни, о Отверзающий врата!
6. Твоим устам и зубам признательны за соль
Души и сердца-кебабы.
7. Удивительно, чтобы в такую пору
Поспешно закрывали питейные дома!
8. Пред лицом виночерпия с обликом пери
Подобно Хафизу, пей чистое вино!
Комментарий
1. «Туча» (обычная метафора щедрости), готовая напоить зем-
лю — намек на виночерпия, которому пора поить друзей вином
на утренней пирушке; прямым обращением к виночерпию закан-
чивается газель. По-мнению Суди (с. 118), поводом для винопития
служит плохая погода: начинается утро, но солнце скрыто обла-
ками, и поэтому приятно выпить вина; тема навеяна 24-ой мака-
мой Харири, где основному сюжету предшествует восхваление
дружеской пирушки на рассвете. Ср. в переводе А. Долининой:
«[•••] облаками небо заволокло, и влагу они готовы пролить— на-
питком утренним все вокруг напоить» [Харири 1987, с. 115-116].
2. «Вино» — mudâm, это вино, которое пьют в любое время, в
отличие от şabüh в предыдущем бейте — вина, которое пьют
поутру.
172 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3. «Глоток за глотком» — dam Ъа dam; также «миг за мигом»,
т. е. постоянно (прием îhâm). «Райский ветерок» (nasîm-i bihistf —
на лужайке, где веет такой ветерок, подобает пить вино, по-
скольку наслаждение вином — одна из наград праведникам в
раю: «Образ сада, который обещан богобоязненным: там — реки
из воды непортящейся и реки из молока, вкус которого не меня-
ется, и реки из вина, приятного для пьющих» [Коран, 47:16 (15)].
4. «Изумрудный трон» — лужайка, покрывшаяся зеленью, на
которой, подобно царю, восседает расцветшая роза. Призыв
пить вино мотивирован наступлением весны.
5. «Отверзающий врата» (mufattih al-abväb) — описательное
имя Бога [Диххуда, ел. ст.]; в Коране [38:50] говорится, что пра-
ведникам Аллах обещал сады вечности «с открытыми для них
вратами» (mufattahan la-humu-1-abväbu). «Двери кабаков опять
закрыли» — намек на периодические попытки Мубариз ад-Ди-
на, правителя Шираза по прозвищу «мухтасиб», ввести сухой
закон (см. коммент. к газели 41:1), что вызывало резкое недо-
вольство жителей города.
6. «Признательны за соль» — huqüq-i поток, букв, «права со-
ли», т. е. взаимные обязательства дружбы, возникающие между
двумя людьми, разделившими трапезу ['Афифи, ел. ст]; «души и
сердца» признательны за красоту и за муки, обыграны два пе-
реносных значения слова поток «соль» — «прелесть, привлека-
тельность» и «мучение», последнее — только во фразеологизмах,
например, поток bar dil (rîs} sweta) rîxtan «сыпать соль на серд-
це (рану, ожог)», т. е. мучить, усугублять страдания.
Идея бейта: наши сердца (sïnahày букв, «груди») и души, из-
жарившиеся на огне любви к тебе, благодарны за «соль», кото-
рую ты сыпешь на наши раны-ожоги, как гость благодарен хо-
зяину за «хлеб-соль».
7. «В такую пору» — т. е. весной; весна — пора цветения и
«раскрытия» бутонов, а также — радости и винопития, поэтому
вдвойне странно в эту пору закрывать кабаки и лишать людей
вина.
Стоит отметить, что тема закрытия кабаков подчеркнута
использованием в газели трех временных форм глагола bastan
«закрывать»: killa bast «раскинула шатер» (б. 1), dar-i mayxäna
Хафиз. Газель № 13
173
basta-and «двери кабаков позакрывали» (б. 5), bibandand тау-
kada «чтобы закрыли кабаки» (б. 7).
8. «Чистое вино» — bäda'-i näb; семь из восьми бейтов по-
священы теме вина непосредственно; в газели собраны пять
синонимов, объединенных значением «вино»: şabüh (б. 1), ти-
dam (б. 2), may (б. 3), râh (б. 4), bâda (б. 8); призывы к винопи-
тию наряду с традиционной мотивацией (пора весны, красота
виночерпия) получают и дополнительную — угроза закрытия
питейных домов.
Газель 14
(Jj—Jjj 4—« ^ j j l5J j jJ ^ (JjjSd JjLaj^
l_j_j^C, ^jj£albû Ja^ (jliuJ jlSo J J J JJJ <A, jS
Ba/ir: ramal-i mutamman-i maqsür
Vazn: fä 'ilätun fä 'ilätun fä 'ilätun fä Hlät
guf-ta-may-sül / tä-ni-xü-bän / rah-m°-kun-bar / P-ga-nb
guf-iP-dar-dun / bä-li-dü-rah / gum-ku-nad-mis / kP-ga-rïb
174
Хафиз. Газель № 14
175
i. Я сказал: «О султан прекрасных, пожалей этого бродягу!»
Он ответил: «Вслед за сердцем принимается блуждать несчастный бродяга!».
2. Я сказал ему: «Побудь еще мгновение!», он сказал: «Уж прости меня!
Разве тот, кто взлелеян дома, потерпит рядом какого-то бродягу!?».
3- Изнеженному, почивающему на царских горностаях, что за беда,
Если соорудит постель и изголовье из колючек и камней бродяга?
4- О ты, у кого в цепях локонов — место для стольких друзей!
Хорошо устроилась мускусная родинка — чужак на мускусной щеке!
5- Блики вина на белизне твоего лица, подобного луне, кажутся
Дивными, как лепесток багряника на странице белой розы.
6. Как дивно муравьи пушка окружили твои щеки,
Хотя в мастерской художника черная вязь — не диво.
7- Я сказал: «Ночь скитальцев — твои кудри цвета ночи,
Предрассветной порой трепещи, когда зарыдает этот скиталец!».
8. Он ответил: «Хафиз, друзья — на стоянке смятения,
Что такого, если чужак сидит измученный и несчастный?».
Комментарий
Радиф газели — ğarib, в бейтах 1, 6 и 7 это слово использовано
дважды, оно несет центральную тему стихотворения; в бейтах
обыгрываются разные значения этого слова: «бродяга, чужак,
скиталец», а также «странный, удивительный, дивный», поэто-
му в каждом случае оно переведено в соответствии с контек-
стом (бродяга, чужак, дивный, диво, скиталец).
Газель написана как ответ на известную «чужбинную» газель
Камала Худжанди (ум. 1371), сочиненную поэтом вдали от род-
ных мест, когда он был в плену у золотоордынского хана Ток-
тамыша. Газель Камала (5 бейтов) написана метром «четырех-
стопный ramah, с алифной рифмой и радифом ğarîh «чужак»;
ответ Хафиза состоит из восьми бейтов, написан тем же мет-
ром, но с другой рифмой, и сохраняет тот же радиф. Ниже мы
176 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
приводим перевод газели Камала [Камал Худжанди 1975, с. 81,
№61]:
Dil-mu-qî-mï / kü-yi-jä-nä / nas-tu-tan-?1 / jä-ga-rib
CbP-ku-nad-bï I câ-ra-ï-mis / kP^ta-ni-tan / hä-ga-rib
ı. Сердце живет на улице друга, а тело тут — чужак (ğarîb),
Как это бедняга несчастный только тело превращает в чужака?
2. Я мечтаю о родных краях и о своих друзьях,
Сколько мне кружить по миру, жалкому чужаку?
3- Покуда не попал на чужбину, разве узнаешь, каково мне?
Не знает тягот чужой стороны никто, кроме чужака!
3- Никогда хоть из милости ты не спросил — каково
Унылому, грустному, ставшему вдали от нас чужаком?
4- Поскольку в нынешние времена все не в ладу с собой
Найдешь ли в таком городе того, кто поладит с чужаком?
5- На чужбине бедный Камал отдает душу в муках,
Увы чужбине! Увы чужбине! Увы чужбине! Увы чужаку!
При сопоставлении этого текста с газелью Хафиза становит-
ся очевидной внутренняя «полемичность» многих ее поэтиче-
ских идей. Прежде всего, газель Камала «однотемна». Она по-
священа чувствам героя, находящегося на чужбине, в разлуке с
«другом», ее радиф ğarîb во всех бейтах означает «чужак». В <
стихах Хафиза основная тема трансформируется и обогащает- ',
ся, а радиф, как уже отмечено, приобретает целую гамму зна- i
чений. Реальный «чужак», т. е. чужестранец, превращается в i
метафору влюбленного, а «чужбиной» для влюбленных объявля-
ется целый мир, кроме недоступной «родины» — обители друга.
Хафиз уже в первом бейте как бы возражает Камалу. «Камал-
влюбленный» находится на чужбине только телом, его сердце —
дома, рядом с другом (б. 1). Герою Хафиза тяжелей, он стано-
вится бродягой, следуя за сердцем, и им «обоим» нет доступа к
Другу- В последующих бейтах Хафиз обыгрывает и видоизме-
Хафиз. Газель № 14
177
няет предложенную Камалом оппозицию «дома, рядом с дру-
гом — на чужбине, вдали от друга». Оказывается, что влюблен-
ные в хафизовского «султана прекрасных» обречены всегда
пребывать на чужбине, ведь султану равно чужды и свои, и
чужие, даже прикрасы собственного лика (родинка, румянец,
пушок; бейты 4-6) для него — чужаки.
1. «Султан прекрасных» — первый среди красавцев, возлюб-
ленный друг. «Принимается блуждать» (rah gum kunad) — остав-
ляет путь правильного поведения, т. е. начинает поступать, как
влюбленный, навлекая на себя позор и страдания. «Вслед за
сердцем» — dar dunbâl-i dil, в переносном смысле «по зову серд-
ца», второе полустишие совмещает два смысла: влюбленный
сбивается с пути и блуждает в погоне за своим «сбежавшим»
сердцем; влюбленный сбивается с пути, следуя зову собствен-
ного сердца.
Идея: султан прекрасных в ответ на просьбу о сострадании
замечает, что бродяга-влюбленный сам стремится ввергнуть
себя в несчастья любви.
2. В бейте влюбленный и возлюбленный противопоставляют-
ся как бездомный бродяга и любимое дитя, взращенное в до-
машней неге.
3. Оппозиция персонажей в бейте 2 (домашнее дитя — без-
домный бродяга) усиливается оппозицией локусов (дом, постель
из царских горностаев — пустыня, ложе из камней и колючек).
4. «Мускусный» — mis/cin, т. е. «черный» и «благоуханный»;
здесь два значения слова соотнесены с двумя воспеваемыми
элементами красоты лица: черная родинка подобна мускусу по
цвету, а благоуханная щека — по аромату. «Чужак» (garïb) — ро-
динка названа так, поскольку она чужая на белой и румяной
Щеке; актуально здесь и другое значение garïb «дивный, пре-
красный». Образ бейта построен на оппозиции: «друг, знако-
мый» (äsnä) — «чужой». Если в трех предыдущих бейтах султан
отказывал в милосердном отношении чужестранцу (ğarıb) и
бродяге, то в данном бейте ситуация как бы перевернута; сво-
им друзьям, т. е. влюбленным, султан красоты предназначил
лишь цепи, тогда как чужака-родинку поместил на почетное
место.
178
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
5. «Багряник» — argavân (Cercis siliquastrum, иудино дерево),
весной, еще до появления листьев, покрывается багровыми
цветами, служит в поэзии носителем признака багрового, а
также огненно-красного цвета. «Страница белой розы» (şafha'-i
nasrîn) — лепесток белой розы; «кажутся дивными» (mînumâyad
... ğarîb) — отблески вина на лице друга кажутся «дивными»,
т. е. прекрасными, а лепесток багряника на лепестках белой
розы кажется «дивным», т. е. странным, чуждым.
6. «Муравьи пушка» (тйг-i xatt) — первые черные волоски,
окружающие щеки отрока, как цепочка муравьев. «Мастерская
художника» — nigäristän, также название богато иллюстриро-
ванной книги, приписываемой Мани. Полное красок лицо дру-
га в обрамлении пушка уподоблено мастерской художника, в
которой собраны прекрасные рисунки, окруженные арабской
вязью (xatt), или книге, где миниатюры соседствуют с текстом.
В бейтах 4-6 поочередно говорится о трех составляющих кра-
соты лика — родинке, румянце и пушке; все они являются
ğarîb— дивно-прекрасными, но также и чужими лику, ср.: ;
«Красота друга не нуждается в нашей несовершенной любви: // ;
Что за нужда прекрасному лику в белилах, румянах (или — ру- j
мянце), родинке и пушке» (газель 3:4). j
7. «Ночь скитальцев» (sâm-i gariban) — ночь, которую прово- j
дят на чужбине, ср. пословицу säm-i gariban dirctz-ast («долга I
ночь скитальцев»), также — первый вечер после похорон близ- ']
кого человека, когда родственники за упокой его души раздают ;
бедным сласти; у шиитов — траурная церемония, посвященная !
оплакиванию Хусайна. При любом понимании локон в этом
уподоблении предстает как длинный и приносящий страдания İ
(локоны являются «несчастьем» для влюбленых-скитальцев, они 1
держат в плену их сердца и скрывают лицо друга). «Предрас- !
светная пора» — время, когда молитвы особенно действенны, |
см. коммент. к газели 6:7. «Трепещи» (hazar кип) — бойся, что |
жалобы на твою жестокость достигнут Бога. |
8. «Стоянка смятения» (maqäm-i hayrat) — в терминах суфиев |
стоянки (maqämät) — это этапы продвижения по пути к Богу, 1
количество и наименования стоянок варьируются. В наиболее |
известных перечнях «стоянка смятения» не упоминается; при |
этом «смятение» рассматривается как состояние, сопровож- |
Хафиз. Газель № 14
179
дающее мистика на всем пути богопознания. «Шибли говорит:
„Постижение Истины это непрестанное изумление (hayrat)"»
[Худжвири 2004, с. 273]. Для понимания хафизовских образов
существенно, что суфийские авторы проводили аналогию меж-
ду смятением как опьянением любовью и смятением как опья-
нением от вина, шейх Йахйа Бахарзи писал: «И другое знай, о
ученик, идущий по пути, смятение и опьянение вином любви
соответствует неведению и смятению при опьянении вином, а
цель питья вина не опьянение, а дружба (uns) и радость» [Ба-
харзи 1978, с. 61] (см. также газель 172, в которой слово hayrat
использовано в радифе). «Друзья на стоянке смятения» — вы-
ражение содержит намек на пребывание сердец в «смятенных»
локонах друга: «в цепях локонов — место для стольких друзей!»
(б. 4). Ответ возлюбленного друга на речь влюбленного как бы
снимает оппозицию между «друзьями, своими» и «чужаком,
бродягой», оказывается, что на пути любви все равны — и те,
кто вступил на него давно, и «новички».
Реплика «султана прекрасных» в последнем бейте газели Ха-
физа — не только ответ на жалобу страдающего от любви ге-
роя, но и возражение лирическому персонажу газели Камала,
который на чужбине «отдает душу в муках» (б. 5).
Газель 15
d» Jİ j -üb ЛАJ 4_£ ^bii^) p ja ^1 j
J j > о jSa jSà <jjI jj dJjj jl aJôj ajI ja»
dl_jl J^i J (jA>jl.Ull (J j^* ^ >0 ^£ (JJJjC-lS
л »"' J * 4 Ь ^mijj j ^JJ^ lWJJJ
di jIj j (^Ijj j j cHJ^' ^-jİj^jI
dul Jjuü (JLlujI t"bn4 A£ djJjud (JJİ jl dlu)).JJJ
d»—âj LLxk ôj-ûc. jl дЬ jj ^jj ц£ ^jjj
di *\у~* <_$!j ^ j-£ <Jôj^jI <ц^ jL Lj
J f j jS 4 S jU jà j 4JU ja
-jU^. l ** * "^ juL 4_£ IjIxj dixiiljjj
JİJ (JjLA 4_îûb <J_Jİ jl L-Jİ J_ui LİLjujI Jjj
dj_jl jjuj 4 \ ûajjİJ (jbbj (JjC. Ij
Jû ^1 ^jj JjjI <_* 4_j <^ jjj ôj jJ 13
di jLuİ дЬ1 J Ği <—ï Jx^ ialè 4_j ^ jb
■ kU-
^ ■ ■■ *il a>Jjla 4_£ jjjàl Jj jj^b <_$!
dl j| jâ. J jl dial Jt&a L-Jj Ь
180
Хафиз. Газель № 15
181
Cl jIjCt J ^jt ja. <L-£ I jb j jS ^^aix-a
ВаЛг: hazaj-i mutamman-i axrab-i makfüf-i mahzuf
Vazn: mafûlu mafâ'îlu mafà'ïlu fa'ulun
ay-sä-hi I di-qud-sï-ki j ka-sad-ban-di / ni-qä-bat
ay-mur-ği j bi-his-tî-ki / da-had-dâ-na j vu-à-bat
ı. О пречистое создание, кто поднимает твое покрывало?
О райская птица, кто приносит тебе зерно и воду?
2. Сон покинул мои глаза при этой мучительной мысли:
Чьи объятия стали тебе остановкой для отдыха и сна?
3- Ты не спрашиваешь, каково дервишу, и боюсь,
Что ты не думаешь о прощении и не заботишься о добрых делах.
4- Эти хмельные глаза напали на сердца влюбленных.
По таким повадкам ясно, что пьяное у тебя вино.
5- Стрела взора, что ты метнул мне в сердце, допустила ошибку,
Посмотрим, что теперь измыслит твое здравое суждение!
6. Сколько я ни стенал и ни плакал, ты не услышал —
Ясно, о кумир, что твой чертог — высоко!
7- Далек родник от этой степи — берегись,
Как бы демон пустыни не завлек тебя миражом!
8. О сердце, посмотрим, как ты поведешь себя на стезе старости!
Все дни твоей молодости уже растрачены не так, как следует.
9- О дворец, озаряющий сердце, ведь ты — обитель дружбы!
О Боже, да не сокрушат тебя нападки времени!
хо. Хафиз не из тех рабов, что сбегают от хозяина,
Помирись [со мной] и вернись, ибо я сокрушен твоими укорами!
182 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Комментарий
1. «Пречистое создание» — sähid-i qudsî, букв, «святой свиде-
тель», прекрасное создание из чистого мира ангелов (Рахбар, с.
24); sähid в суфийском лексиконе — прекрасное создание, сви-
детельствующее о совершенстве Божественного творения, в
поэзии, в частности, в газелях Са'ди и Хафиза, метафорически
обозначает «прекрасных возлюбленных» [Хуррамшахи, с. 162];
qudsî — «принадлежащий к миру чистоты и святости (quds)»,
qudsiyân— бесплотные сущности, ангелы [Хуррамшахи, с. 725].
«Поднимает покрывало» — kasad band-i niqäb, букв, «развязы-
вает покрывало», т. е. откидывает покрывало с лица. По мне-
нию Рахбара, бейт указывает на ситуацию разлуки: теперь, ко-
гда ты вдали от меня, кто любуется тобой и заботится о тебе?
2. «Остановка» (manzil) — место отдыха каравана; в суфий-
ских терминах «стоянка на пути к Богу», этап духовного пути,
связанный с определенными испытаниями, также maqäm (см.
коммент. к газели 14:8), например, manzil-i faqr или maqäm-i
faqr «стоянка нищеты», manzil-i şabr или maqäm-i şabr «стоянка
терпения»; сочетание «стоянка для сна и отдыха» как метафора
объятий соперника приобретает, с учетом терминологического
значения manzil, иронический оттенок.
3. «Дервиш» — см. коммент. к газели 5:5.
Идея бейта: ты проявляешь равнодушие к положению такого
бедняка, как я, а забота о бедных — это доброе дело, за которое
в Судный день обещана награда и прощение грехов.
4. «Хмельные глаза» (casm-i xumär-fj — в поэтической кон-
венции красивые глаза описываются как «пьяные» (mast), у
Хафиза неоднократно встречаются контексты, где глаза персо-
нифицируются как «пьяницы» (mastän), например, газель 12:3;
«пьяное у тебя вино» (mast-ast saräb-at) — вино, которого напи-
лись твои глаза, сильно их опьянило, т. е. увеличило их красоту;
о метафорическом употреблении mast «пьяный» в значении
действительного причастия «опьяняющий» см. [Хуррамшахи, с.
166, со ссылкой на Гани]. Пьяное вино глаз — (1) пьяный
взгляд, т. е. бесчинствующий, как пьяница, и нападающий на
беззащитные сердца влюбленных; (2) опьяняющий взгляд, т. е.
томный и прекрасный.
Хафиз. Газель № 15
183
5. «Допустила ошибку» — xafâ raft, комментаторы единодуш-
но дают толкование «не попала в цель», тогда в бейте заключен
новаторский образ «промахнувшаяся стрела взгляда». Возмож-
ны и толкования, соответствующие лирическому канону: 1.
стрела взора «ошиблась», т. е. не убила персонажа наповал (так
понимает Ш.-А. Фушекур [Hafez de Chiraz 2006, с. 140]; 2. стре-
ла взора попала в него по ошибке. Бейт развивает тему «пья-
ных глаз, нападающих на сердце», начатую в б. 4.
Идея: твой блуждающий пьяный взгляд случайно упал на ме-
ня и разбил мое сердце, что же будет, когда ты протрезвеешь?
6. Бейт содержит имплицитное сравнение адресата газели с
ангелом (ср. «пречистое создание» и «райская птица» в б. 1),
обитель которого расположена столь высоко, что жалобы про-
стого смертного там не слышны.
7. «Степь» (bädiya) — степь скитаний сердца в разлуке; «род-
ник» (sar-i âb) — встреча с возлюбленным другом; «мираж» —
sarâb; sar-i âb и saräb образуют фигуру tajnïs-i xatt «графиче-
ский таджнис», об использовании этой пары слов другими по-
этами (Са'ди, Хаджу, Низари) см. [Хуррамшахи, с. 235]; «де-
мон» — здесь соперник (Суди, с. 145).
Идея: родник встречи с другом, подобным райской птице,
находится не в этой степи, где блуждает влюбленное сердце, а в
вышнем мире ангелов. Все, что сердце может обрести здесь —
лишь мираж воды, созданный демоном пустыни.
8. В бейтах 1-6 адресатом является возлюбленный друг, в
бейтах 7 и 8 — сердце, метонимически «влюбленный». Настав-
ление, с которым герой обращается к сердцу, не лишено иро-
нии, поскольку обращено не к юноше, а к «старику».
Вариант перевода: «О сердце, смотри, каким правилам ты
следуешь на стезе старости», т. е. «будь осмотрительным и не
повторяй ошибок молодости!».
9. «Дворец» — место обитания возлюбленного друга; «обитель
Дружбы» — manzilgah-i uns, букв, «место стоянки дружбы» (см.
коммент. к б. 2). Местонахождение друга — центральная тема
газели, подчеркивается его «неопределенность» (б. 1 и 2), возне-
сенность (б. 6) и удаленность (б. 7). В данном бейте оно пред-
ставлено как цель устремлений влюбленных.
184 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
10. «Возврашайся» — bâz â\ также «устыдись», см. [Диххуда,
ел. ст. Bäz ämadan] (прием İham). Газель начинается с бейта,
«констатирующего» разлуку с другом, а завершается прямым
призывом к другу вернуться. Для возвращения выдвинута ост-
роумная причина: Хафиз — верный раб, который никогда не
покинет хозяина из-за его жестокости, и хозяину не следует
долго гневаться на такого раба.
Газель 16
-А.Ы1 ^jIaS jj jj £jji ^jjj! a£ <^*^>
<**1 4l^jl (jl jjIj jl j (j—-ft ^ > Лд*аа Aj
ûj j dill L-xjj a£ Ц «~- jj ^jüj jjij
Cj э*Ы1 ^jL^ftj <jjl Aj у"пчл £ J^a AjIa j
j j-S ^^juij jà j j^ <j (jjj£ jj a£ <ajuj j£ vilj 4j
1*1 4İJJİ <jl$A. JJ <Jük -1^-a jj an^ 4-yjâ
Ù^ ^ (JjJiS* Ô^J^ LE J*1 J ÔÛJJA. L-Jİ ji
t"i ЧЫ! (jljc-jl jj (ji2l jj ^jj ц-jÎ a£
i_xaJ>U UJ ul^ft (J*JJ (J A-^
IlJJjjI jUE j j Aajd |»Ijj <jU j jl j ^
j j^^ft д j_£ Jj_â* (Jj_ÜLft ô jb 4 niiij
t**ı 4İJJİ (jl j л jj j j L-ftI j t*nK^ Lu-a
^Jj—S JİİUjuü j_j ciJJ ^—J *j£ ù' f J** J
Cj âJjjl (jU J jj tâJli* Lu-a Cjjujj Aj jauj
04İ OU C^^ S-Jj^ J C5* £ JJ J1 C>
d aJjjl jî j cj_jl j J ^l^AJÄ-ft ciljA
(^J^C^ ^ J^ J—«-J с** 4->* 4 * ÜJ^
Cl aJjJİ <jl jj^j-ftj Jj 4 jl J jl A JjuVi
185
186 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: mujtatt-i mutamman-i тахЬйп-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafä'üun fa'üâtun mafä'üunfa' lan
xa-mî-ki-ab / ru-yi-su-xx / tu-dar-ka-män / an-däxt
ba-qas-di-jä / ni-ma-ni-zä / ri-nä-ta-vän / an-däxt
i. Изгиб, что твои бесстыжие брови придали луку,
Они придали, покушаясь на меня — жалкого, беспомощного.
2. Не было рисунка обоих миров, когда был уже цвет дружбы;
Не в наши времена судьба нарисовала образ любви.
3- Из-за одного взгляда, что, бросил, красуясь, нарцисс,
Чары твоих очей принесли миру сотни смут.
4- Испив вина и покрывшись испариной, ты выходишь на луг —
Так, что вода твоего лица зажгла огнем багряник.
5- Пьяным ушел я вчера с пиршества лужайки,
Ведь бутон вверг меня в сомнение, не твой ли это рот?
6. Фиалка завязывала в узелки свои закрученные прядки —
Утренний ветер принес рассказ о твоих локонах.
7- Устыдившись, что я сравнил с ним твое лицо,
Жасмин рукою ветерка насыпал земли в рот.
8. Прежде, блюдя чистоту, я не смотрел на вино и музыкантов —
Влечение к отрокам-магам приучило меня и к тому, и к этому.
9- Теперь я стираю хирку в воде рубинового вина —
Предвечную долю нельзя отвести от себя.
Хафиз. Газель № 16
187
ю. Наверно, в пьянстве и было спасение для Хафиза,
Раз предвечная милость привела его к вину магов?
и. Теперь мир подчинится мне, ибо круговорот времен
Привел меня на службу к владыке мира!
Комментарий
Газели с тем же метром (mujtatt), рифмой (-ân) и радифом (ап-
dâxt) имеются в диванах *Ираки, Са'ди, Камала Худжанди,
Убайда Закани, см. отсылки в [Хуррамшахи, т. 1, ее. 168-169].
1. «Лук» (kaman) — устойчивая метафора изогнутых бровей;
«изгиб» (хат) — основная характеристика красивых бровей. В
бейте «изгиб» бровей получает «красивое обоснование» (husn-i
ta'lïl): брови персонифицированны как бесстыжий (swe) лучник,
изгибающий лук, т. е. натягивающий его, чтобы «добить слабо-
го» — несчастного влюбленного. По замечанию Суди (с. 148), та-
кое обоснование носит метафорический характер потому, что в
реальности творцом изгиба бровей является Бог.
2. «Цвет дружбы» — rang-i ulfat, в другом значении — «обы-
чай дружбы» (прием îhâm); «нарисовала образ любви» — tarh-i
mahabbat andäxt; см. [Диххуда, ел. ст. Tarh], где данный бейт
приведен как иллюстрация tarh в значении şûrat va paykar-i
majäz «изображение в переносном смысле».
Идея: любовное влечение было сотворено еще до того, как
были созданы оба мира — небесный и земной. Мотив «давности
любви», существования любви в предвечности и в вечности,
представлен во многих бейтах Хафиза, ср. вариации в газелях
62:4; 152:1; 178:6; 206:3-4; 314:2.
3. «Нарцисс» (nargis) — устойчивая метафора красивых глаз;
У Хафиза «глаза» и «нарцисс» нередко персонифицируются и
выступают как соперники, см., например, газели 69:4; 178:7;
490:4.
Идея: расцветающий нарцисс представлен как глаз, бросаю-
щий кокетливые взгляды, что становится причиной ревности
глаз возлюбленного; в ответ они вызывают смуту: одним взгля-
дом приводят в волнение мир влюбленных, чтобы продемонст-
рировать свое превосходство над соперником.
188 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
4. «Испарина» — х?ау, в поэзии испарина, выступающая на
лице опьяненного вином друга, воспевается как один из фено-
менов красоты; ср. газель 429:10, где сказано, что «вино заста-
вило проявиться изящество естества [друга] в виде испарины».
«Вода твоего лица» — äb-i rüy-i tu, также «блеск, сияние твоего
лица» (прием ïhâm). «Багряник» — см. примеч. к газели 14:5.
Здесь красный цвет расцветающего багряника получает «краси-
вое обоснование»: багряник вспыхнул огнем от зависти к красо-
те румяного лица друга, вода (т. е. испарина на лице, а также —
блеск лица) чудесным образом не погасила, а зажгла огонь.
5. «Пиршество лужайки» — bazmgâh-i сатап, метафора ве-
сенней лужайки, усыпанной расцветающими («пирующими»,
«веселящимися») цветами.
Идея: влюбленный увидел На лужайке раскрывающийся алый
бутон розы, который выглядел в точности, как рот возлюбленно-
го; воспоминание о прекрасных устах друга опьянило его [Хур-
рамшахи, т. 1, с. 172], также [Зибаи, с. 111].
6. «Фиалка» (banafsa) — традиционное сравнение для локона
(по аромату, изгибу стебля и темному цвету [Хирави, с. 83]); у
Хафиза иногда предстает как соперник локона. «Завязывала в
узелки» (girih mïzad) — т. е. покрывалась бутонами, лепестки в
которых еще скручены, и как бы завивала волосы.
Идея: когда фиалка прихорашивалась, т. е. готовилась цве-
сти, ветер принес рассказ о фиолетово-черном завитке локона,
чтобы ее пристыдить.
Расцветшая фиалка изображается в поэзии «со склоненной
головой», и здесь дан намек на обоснование этой позы — фиал-
ка склонила голову, признав превосходство локона.
7. «Жасмин» (saman) — традиционное сравнение для белизны
лица, у Хафиза — также соперник лица. Поскольку в центре
белого цветка жасмина имеются темные тычинки, он будто бы
«насыпал в рот земли» (xäk dar dahän andâxt) или, в переносном
значении, «испытал смущение», так как его белизна несовер-
шенна.
Бейты 3-7 объединены общей темой, описанием весенней
лужайки и ее обитателей. Каждое растение выступает в каче-
стве конвенциональной метафоры определенного феномена
красоты: нарцисс — глаза, багряник — румянец лица, бутон
Хафиз. Газель № 16
189
[розы] — рот, фиалка — локон, жасмин — белизна лица, и все
они изображены как пристыженые красотой друга.
8. «Влечение к отрокам-магам» (havä-yi mug-bacagän) — т. е.
поклонение красоте [Хирави, с. 84], о практике «созерцания от-
роков» и ее концептуализации в философском суфизме см. [Ибн
ал-Джаузи 1994].
9. «Стираю хирку ...» — пью так много вина, что спьяну за-
ливаю им свое одеяние суфия. Ирония здесь состоит в том, что
запятнывание хирки вином представлено как отстирывание,
ибо питие вина предначертано герою свыше, ср. контекст «Не
по своей воле облачился Хафиз в эту залитую вином хирку, //
О шейх в незапятнанных одеждах, прости нас!» (5:13).
10. «Пьянство» — xaràbïy букв, «разрушенность», в производ-
ном значении «сильное опьянение», «позор, дурная слеша». Раз-
витие идеи предыдущего бейта: пьянство, приводящее к позору
и потере доброго имени, т. е. создающее проблемы, для героя
предстает как «спасение», избавление от проблем (gusäyis, букв,
«открывание»).
11. «Владыка мира» — xvâja'-i jahän, намек на одного из
мамдухов Хафиза из числа министров; это может быть Кавам
ад-Дин Хасан [Суди, с. 153], Джалал ад-Дин Тураншах или Ка-
вам ад-Дин Мухаммад Сахиб 'Аййар [Хирави, с. 85].
Газель 17
L-L.
-kj t Л\ AjUIa. аС. J^ Jû (jîül jl AİUaJ
âjjuü <jLil£ a£ AjU. jj! jj Jjj ^yjijt
Л d >o (JÛ aSjuüI (JaüI (JOiJ j AS ^JJJ (Jû jjJUJ
dlÂjuü Ail JJJ JÄ. J^ft JJül jj4 JJ <jij«J
<** 1 mt <JA jjJuoL Ai LİLull C—Üj6 Aj ^Ujİİ
ÛJ_JJ CJİ Jİ J_^k lJ I JA Х_А j Ai JA
Сз ^.j m j AjIâj-o и* *î I j* (Jfic* AjIâ
S^ilj ?^j£ A__£ Ajjj jl *Ъ aJLj (jj^
/> ni % ^^ l^ 4-_£ I jb j (jS л£ I ja^La
<lıi.jjjii AjI jSuî Aj j JjjI jj Aj jui jl Aİjk
^O (jSj_i ^j-a j h^l ^ jXJ AiLuoâl iil jj
cİL_Â.jjuaJ AjLuoâl Aj л-ajİ j c-bi л ni4 i a£
ВаЛг: ramal-i mutamman-i maxbün-i maqsür
Vazn: fâ 'Hatun fa 'Hatun fa 'ilâtun fa 'ilât
sî-na-az-â / ta-si-dil-dar / ga-mi-jä-nä / na-bi-süxt
ä-ta-si-bü I dP-da-f^-xä / na-ki-kä-sä / na-bi-süxt
190
Хафиз. Газель № 17
191
i. В тоске по другу от огня в сердце сгорела грудь;
Такой огонь был в этой каморке, что дом сгорел.
2. Тело мое истаяло вдали от похитившего сердце,
Моя душа сгорела в огне любви к лицу друга.
3- Посмотри, как горит сердце, ведь из-за огня моих слез сердце свечи
Минувшей ночью от любви ко мне сгорело, как мотылек.
4. Странно ли, что у друзей из-за меня горит сердце,
Ведь, когда я покинул сам себя, сгорело сердце постороннего.
5- Хирку моего воздержания унесла вода кабака,
Дом моего разума спалил огонь винного погреба.
6. Словно чаша, разбилось мое сердце из-за данного мной зарока,
Словно тюльпан, сожгла себя моя печень без вина и питейного дома.
7. Оставь упреки и возвращайся, ведь с меня зрачки глаз
Уже сняли хирку и сожгли как благодарственную жертву.
8. Оставь сказки, Хафиз, и выпей глоток вина,
Ибо мы не спали всю ночь, и за сказками сгорела свеча.
Комментарий
1. Второе полустишие дает образную иллюстрацию первого:
«каморка» (xâna) — метафора сердца, «дом» (käsäna) — груди.
Суди (с. 154) отмечает, что, если в первом случае глагол bisüxt
(радиф газели) имеет только непереходное значение («сгорела»),
то во втором — допустимо и переходное, тогда следует перево-
дить: «Такой огонь был в этой каморке, что сжег дом».
2. «Тело мое истаяло» (tan-am ... bigudäxt) — скрытое уподоб-
ление тела влюбленного свече; «любовь» — михр, также «солнце»;
второй смысл полустишия: «Моя душа сгорела в огне солнца ли-
ка друга» (прием ihäm).
3. «От любви ко мне» — bar man zi sar-i mihrf здесь mihr («лю-
бовь») подразумевает сострадание свечи к мукам влюбленного.
"Огонь слез» — метафора, объединяющая две несовместимые
192 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
стихии — огонь и воду. Топос «мотылек сгорает от любви к све-
че» здесь перевернут: сама свеча уподоблена мотыльку, по-
скольку она сгорает не от собственного огня, а от «огня слез»
влюбленного. В бейте предложено «фантастическое обоснова-
ние» сгорания свечи в бессонную ночь, которую влюбленный
провел в слезах.
4. «Из-за меня горит сердце» — dil-süz-i man-astf выражение
означает «сострадает мне», но в переводе газели с радифом «сго-
рел» было важно сохранить все метафоры, связанные с огнем.
«Странно ли, если у близкого ...» — äsnä-yi па ğarîb-ast; прием
ïhâm, основанный на двух значениях слова ğarîb — «странный,
удивительный» и «чужой» (см. коммент. газ. 14), второй смысл по-
лустишия: «Близкий — не то, что чужой, ведь он мне сострадает».
«Покинул сам себя» — az x?îs biraftam, впал в любовное неистов-
ство, потерял рассудок от любви. Бейт построен на оппозиции
«свой — чужой», развивающей тему свечи из бейда 3: сгоревшее
«сердце свечи» оказывается метафорой «сердца постороннего»
(т. е. «сердца человека, которому чужда любовь», Хирави, с. 88).
Идея: мои страдания столь велики, что мне сочувствуют не ;
только друзья, т. е. другие влюбленные, но и те, кто не испытал
любовных мук.
5. Бейт построен на сопоставлении двух метафор вина: «во-
да кабака» и «огонь винного погреба». «Хирку воздержания
(zuhâ) унесла вода» — развитие и усиление неоднократно !
встречающегося у Хафиза мотива «отмывания хирки в вине» ,
(см. газель 16:9): вино, льющееся рекой, уносит хирку лириче- '
ского героя [Хуррамшахи, с. 179], т. е. возврат к праведности, j
основанной на лицемерии, уже невозможен. )
6. «Зарок» (tawba) — зарок не пить вино. Обыгран известный
мотив: разбивание чаши в знак осуждения пьянства и отказа '
от вина (ср. газель 170:2 «Суфий в собрании, который вчера
разбивал чашу и кубок, //От одного глотка вина поумнел и об- I
разумился»). Здесь вместе с чашей разбивается и сердце, кото- |
рое страдает от необходимости расстаться с вином. «Словно j
тюльпан, сожгла себя моя печень» — мне выпали невыносимые \
страдания; черное пятно в сердцевине тюльпана в поэзии тра- !
диционно описывается как клеймо и ожог. Хирави объясняет
(с. 89), что тюльпан носит клеймо страдания потому, что его ]
Хафиз. Газель № 17
193
чаша пуста, отсюда — уподобление тюльпану при описании
«мук из-за отсутствия вина».
7. «Упреки» — mäjarä, арабское выражение, букв, «то, что
произошло», в персидском приобрело значения «событие, про-
исшествие», «тяжба, спор, ссора»; суфии использовали mäjarä
как термин, обозначающий обряд примирения; если между
двумя членами братства возникали размолвки, они должны бы-
ли рассказать о сути дела в присутствии всего братства [Хур-
рамшахи, с. 181, со ссылкой на Бахарзи]. «Зрачки глаз» — mar-
dum-i casmy второе значение «люди глаз» (прием iham), намек на
устойчивое сочетание ahl-i nazar «проницательные люди, созер-
цатели», метафорич. «любующиеся [красотой друга]» (см. газель
4:4). «Сняли хирку» — т. е. лишили доброго имени (ср. б. 5).
«Сожгли хирку...» — по предположению 'Афифи (ел. ст. Xirqa
swctan), в суфийских братствах существовал обычай сжигать
хирку от радости при получении хороших вестей или избавле-
нии от беды.
Хуррамшахи относит этот бейт к наиболее трудно интерпре-
тируемым строкам Дивана и приводит подробный перечень
различных толкований (ее. 179-185). Проблема состоит в том,
чью одежду сожгли «зрачки глаз» («люди глаз») — свою собст-
венную или принадлежащую лирическому персонажу? Ряд фи-
лологов, в частности, А. Диххуда и К. Гани, предполагают, что
выражение xirqa süxtan-i casm («сожжение хирки глаз») должно
означать «ослепнуть от долгого плача», см. [Хирави, с. 90]. Тогда
смысл бейта: хватит препираться, возвращайся, ведь я выпла-
кал все глаза. Хуррамшахи и отчасти Хирави склоняются к
иному пониманию, соотнося «хирку» с самим лирическим пер-
сонажем. «Хирка лицемерия» (сдержанное, скрытное поведе-
ние, отказ от идеалов рицда) служила герою препятствием для
встречи с другом, но его глаза, проливающие горючие слезы,
пришли на помощь. Они разгласили тайну его любви, тем са-
мым опозорили его, но смыли с него хирку лицемерия и сожгли
ее в ознаменование «зарока от лицемерия». Хуррамшахи (с. 184)
усматривает в «сожжении хирки» также намек на историю
шейха Сан'ана, полюбившего христианскую девушку, отрекше-
гося от ислама и бросившего в огонь свою хирку (подробнее см.
коммент. к газели 10:1).
194
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
8. «Сказки» (afsâna) — пустые разговоры, мудрствование; «за
сказками» — Ъа afsänay фразеолог. «понапрасну» [Хуррамшахи,
с. 185], (прием îhâm). Смысл бейта: мы провели ночь в пустых
мудрствовованиях вместо того, чтобы наслаждаться вином (ср.
газель 3:8). Тема свечи трижды возникает в газели, в бейте 2
тело страдающего влюбленного уподоблено свече за счет упот-
ребления глагола gudäxtan «плавиться, таять», в бейте 3 с горя-
щей свечой сравнивается сочувствующее сердце, и в данном
бейте сгоревшая свеча — метафора напрасно потраченной
жизни.
Газель 18
<jlJ—İ *bl Cj^û JjI jJ ч£ ^İİ^uİ jJ
^Ц^л Jûjjj jlİ)JA. j J& J>JJ
^1 jû 4—j j^ jj jJLiJ ^^j (jLujjj
Clül jl J h j ûj_£ L^a L-btA j aJ Ч£
dj_ujj_j ajLû j A^a jû (jn»nWЛ (_£ûLİ
CjûLİ ^AİjâJ a£ Jj jî ja Jb a£ (^Ia
CİUj AÄj Jİ ja. gl jlj j a£ ûjjI jSoİ
lLüLuiauj j (J—S j J J-ju* j jam) (JUjuüjJ
ûjjîjb UJİAİjÜ jî j_£ jjJ û_j aJIa.
Cj^Ijj^La dj_îjJ j jj_aL_} aJLL
g jJ ^*h*£ JJİ dllju оЛа ClujJ jl Jàâlâ»
djûLnj Jjjj dül ja. jl_âj_la 4_j jj
Bahr: ramal-i mutamman-i тахЪйп-i aşlam
Vazn: fâ 'ilätun fa 'ilâtun fa 'ilatun fa Чап
sä-qi-yä-ä / ma-da-nî-'î/ d°-mu-bä-rak / bä-dat
vän-ma-vä-'i / d°-ki-kar-dï/ ma-ra-vä-daz / yä-dat
!• О виночерпий, поздравленья тебе с наступающим праздником,
И пусть не будут забыты данные тобой обещания!
195
196
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Удивительно мне, что в пору дней разлуки
Ты отвратил сердце от друзей, и сердце тебе позволило!
3- Сообщи дочери лозы о [нашей] преданности, скажи: «Появись!
Ведь наши вздохи и рвение освободили тебя из плена!
4- Твоя поступь и появление — радость для собравшихся,
Горе тому сердцу, что не желает тебе радости!
5- Слава Богу, что от набега осени не пострадал
Твой сад с жасмином, кипарисом, розой и самшитом.
6. Да удалится дурной глаз, ведь от той напасти избавили тебя
Славная звезда и благо, унаследованное от матери!»
7- Хафиз, не выпускай из рук этот благодатный ковчег Нуха,
А не то потоп напастей сокрушит тебя до основания!
Комментарий
Газель предположительно написана в честь возвращения в Ши-
раз Шаха Шуджа' после периода изгнания [Хирави, с. 95, со
ссылкой на Tàrïx-i 'aşr-i Häfiz К. Гани].
1. «Праздник» (ïd) — 'ïd-ifitr, праздник разговения, наступа-
ющий по окончании месяца поста — рамазана. «Обещания» —
любовные посулы; подразумевается и обещание угостить вином
после долгого поста и воздержания.
2. «Дни разлуки» — месяц поста, за время которого краса-
вец-виночерпий успел забыть о своих друзьях-собутыльниках
(harïfân).
3. «Дочь лозы» — dwctar-i raz, распространенная метафора
вина; «вздохи и рвение» (dam-u himmat) — т. е. мольбы и ревно-
стные молитвы, сосредоточение всех духовных сил в молитве ;
ради обретения желаемого; о понятии himmat см. коммент. к
газели 12:12. Бейт обращен к виночерпию, которого «друзья»
просят передать «дочери лозы» послание с приглашением на
праздничный пир; благодаря их усердным молитвам время по-
ста прошло, они освободили дочь лозы из заточения в хуме — '
Хафиз. Газель № 18
197
глиняном сосуде для созревания и хранения вина, и ей пора по-
явиться в застолье; мотив заключения чада лозы в темницу ху-
ма восходит к знаменитой касыде Рудаки (ум. 941) «Мать вина».
4. Продолжение послания, обращенного к «дочери лозы», ви-
ну: собравшиеся на пирушку ожидают появления «дочери ло-
зы», т. е. момента, когда будет наполнена чаша. «Не желает тебе
радости» — т. е. не желает, чтобы вино пенилось в чаше; упо-
добление пенящегося и искрящегося в чаше вина радостному
смеху чаши (xanda'-i jâm) распространено в персидских вин-
ных стихах и не раз встречается в диване Хафиза, см., напри-
мер, газель 26:7.
Начиная с этого бейта, адресат газели как бы удваивается —
слова пирующих, обращенные к «дочери лозы», могут быть от-
несены и к самому виночерпию.
5. «Сад» (bağ) — метафора красоты, «жасмин» (saman) — бе-
лизны лица, «кипарис» (saw) — стройного стана, «роза» (gül) —
румянца на лице, «самшит» (samsäd, также букс) — стройного
стана или, реже, вьющихся кудрей (см. 'Афифи, ел. ст. samsäd-i
muskbär). «Набег осени» (täräj-i xazän) — появление мухтасиба
[Хирави, с. 94] или запрет на продажу вина. Комментаторы
расходятся по поводу адресата этого бейта; согласно Суди
(с. 161), речь идет о красоте «дочери лозы», Хирави замечает,
что описание красоты во втором полустишии более подобает
виночерпию (с. 94).
6. «Да удалится дурной глаз» (casm-i bad dür) — этикетная
формула, употребляемая до или после выражения восхищения,
похвалы (ср. рус. «как бы не сглазить!»). «Славная звезда» —
tâli'-i näm-var, букв, «именитая звезда», благоприятное распо-
ложение звезд в момент рождения, счастливый гороскоп, см.
['Афифи, ел. ст. TälV-i nâm-var], с данным бейтом в качестве
примера. Необычное сочетание «славная звезда», вероятно, со-
держит намек на царственное положение реального адресата
газели; газель об освобождении и возвращении к пирующим
дочери лозы — это в то же время и аллегория возвращения в
Шираз Шаха Шуджа*. «Благо, унаследованное от матери» (daw-
lat-i mädar-zäd) — врожденные благие качества, которые, на-
ряду со счастливой судьбой, подобают правителю.
198
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Идея: теперь дни твоих испытаний закончились, и ты (дочь
лозы, Шах Шуджа*), благодаря счастливой судьбе и врожден-
ным достоинствам, снова во всем блеске возвращаешься к нам.
7. Нух — библ. Ной, см. коммент. к газели 9:6. «Ковчег Нуха»
(kasü-yi nüh) — метафора чаши с вином; kasti — чаша в форме
ладьи из серебра, рога или дерева [Суди, с. 164]. Хирави (с. 95)
отмечает кораническую аллюзию: «И спасли Мы его и тех, кто
был с ним, в нагруженном судне. Потом потопили Мы еще остав-
шихся» [Коран, 26:119-120].
Идея: Хафиз, не расставайся с чашей; ты можешь утонуть в
потопе напастей этого мира, а чаша спасет тебя от потопа, по-
добно тому, как ковчег спас Нуха.
Отметим, что газель № 18, как и целый ряд других, в неко-
торых рукописях представлена в вариантах с другим порядком
бейтов. Так, в списке, которым пользовался Суди (XVII в.), она
приведена, по сравнению с нашим текстом, в следующем виде:
i. О виночерпий, поздравленья тебе с наступающим праздником,
И пусть не будут забыты данные тобой обещания!
3- Сообщи дочери лозы о [нашей] преданности, скажи: «Появись!
Ведь наши вздохи и рвение освободили тебя из плена!
5- Слава Богу, что от набега осени не пострадал
Твой сад с жасмином, кипарисом, розой и самшитом.
2. Удивительно мне, что в пору дней разлуки
Ты отвратил сердце от друзей, и сердце тебе позволило!
6. Да удалится дурной глаз, ведь от той напасти избавили тебя
Славная звезда и благо, унаследованное от матери!
4- Твоя поступь и появление — радость для собравшихся,
Горе тому сердцу, что не желает тебе радости!»
7- Хафиз, не выпускай из рук этот благодатный ковчег Нуха,
А не то потоп напастей сокрушит тебя до основания!
Хафиз. Газель № 18
199
Все бейты, кроме первого и последнего, занимают другие
места. На этом примере хорошо видно, как простая переста-
новка бейтов изменяет их смысл и, в конечном итоге, звучание
всей газели. Поскольку бейт 2 идет в варианте Суди четвертым,
референтом местоимений в нем («ты», «тебе») оказывается не
«виночерпий», а «дочь лозы». В нашем варианте (редакция Каз-
вини-Гани, совпадающая в данном случае с Ханлари) основная
тема газели — разлука и встреча с виночерпием (Шахом), при
этом б. 4-6 описывают одновременно красоту дочери лозы и
красоту виночерпия. В варианте Суди все бейты, кроме перво-
го и последнего, обращены к дочери лозы, а темой газели за
счет перестановки бейта 2 на четвертое место оказывается
разлука и встреча с дочерью лозы, т. е. с вином.
Наш вариант допускает чтение газели в панегирическом
ключе; «виночерпий» — это, помимо прочего, и Шах Шуджа',
возвращающийся в Шираз после изгнания и отменяющий за-
прет на продажу вина (извещающий дочь лозы о том, что ей
пора на пир); вариант Суди оказывается блестящим образцом
«винной газели» (жанр xamriyyat).
Газель 19
Li.
ıLb£ jl_J A>^ûl jl jauu» a uni ^1
ilaib jbc- (jiS J^ilc* ^ A cj' U3^
(JA_-LJ jj (JAJİ L$^ J ôJ J ^-bjül J^ 4-bi
JjİJ ^1 ja. <jSaj <jl $_a. 4j Ja! a£ ja
j_jIj CijLil a£ lIjjLİj JaI diu») ^ jl
t**1 пД->5 j'^)*^ ?J*** CS^ *"bnA IäAjSj
jIS jl jl ja jj L I ja ^ ja jju» ja
L-U
(jVl^Ml jj ^J £ И1 (^ jjuüS J Л j >t1J,Jjlj
t"i >>il>^ j\jkjp Ajjy&jjuü ôJjac. Jj <j^
j£ (jj £ t и a AİuiLu (jl А—ы AjI jjJ Jîc
t"bn\>^ Jİ-^Ь c£jj^ ^J^ AjuİjS Lû j Jj
^Jj t**hnhe a <İaa, ^^a j CJj Ьа j ^Lu»
üIa£ jl j j jjij U^a jb ^jj (Jj^p
Li
л—jja j aj (Jaä jj ^jt jâ. jL jl -bâLa.
IaS jLk <^j j£ La jİj J jİla jSİ
L-J_mjL
200
Хафиз. Газель № 19
201
Bahr: ramal-i mutamman-i тахЬйп-i maqsûr
Vazn: fä 'ilätun fa 'ilâtun fa 'ilätun fa 'üät
ay-па-si-mi I sa-ha-rä-rä / m°-ga-hi-yâ / r°-ku-jâst
man-zi-li-än / ma-hi-'ä-siq / ku-si-'ay-yâ / r°-ku-jâst
i. О утренний ветерок, где пристанище друга,
Где стоянка той воровки-луны, губящей влюбленных?
2. Ночь темна, а впереди — путь к правой стороне долины,
Где же огонь горы, где назначенное место свидания?
3- На всяком, кто пришел в мир — печать опьянения,
Скажите, где в кабаке найдешь трезвого?!
4- Радостная весть приходит тому, кто понимает намеки;
Тонких-то мыслей много, да где посвященный в тайны?!
5- У кончика каждого моего волоска тысяча дел к тебе!
Где мы и где — злопыхатель-бездельник?!
6. Расспросите его локон в сплошных завитках:
Где то горемычное измученное плененное сердце?!
7- Разум сошел с ума, где та мускусная цепь?
Сердце спряталось от нас в уголке, где бровь владыки сердца?
8. Виночерпий, музыкант, вино — все наготове, однако
Веселье без друга не в сладость, где же друг?
9- Хафиз, не сердись на осенний ветер на лужайке мира,
Рассуди здраво — разве бывает роза без шипов?
Комментарий
1. «Воровка-луна» — mäh-i 'ayyâr, во втором значении «бро-
Дяга-луна» (прием ihäm); друг назван «бродягой-луной», т. е. лу-
ной, постоянно перемещающейся по небосводу, в связи с его
отъездом в чужие края, одновременно он предстает как «во-
Ровка-луна», поскольку, отбывая, увозит с собой сердца влюб-
202 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ленных (о термине 'ayyâr см. коммент. к газелям 43:5, 66:4).
Обращение к «утреннему ветерку» — один из конвенциональ-
ных зачинов газели; поэтическая функция ветерка — служить
вестником для влюбленных.
2. Вопрос, заданный в первом бейте («где пристанище дру-
га?»), повторен здесь на языке коранических аллюзий: «правая
сторона долины» (vâdî-yi ayman) и «огонь горы» (âtas-i tür) —
намек на рассказ о пророке Мусе и его встрече с Богом, гово-
рившим с ним из горящего куста у склона горы Тур (Синай);
когда Муса странствовал со своей семьей, «...он заметил у пра-
вой стороны горы огонь. Он сказал своей семье: „Останьтесь, я
заметил огонь, может быть, я приду к вам от него с какой-
нибудь вестью или головней из огня, может быть, вы согрее-
тесь". И когда он подошел к нему, к нему был зов с правой сто-
роны долины в благословенной роще из кустарника: „О Муса,
Я — Аллах, Господь миров!"» [Коран, 28:29-30]. \
3. «Печать опьянения» — naqs-i xarâbïy также «печать разру-
шения» (прием îhâm). «Кабак» — xaräbät, также «руины, развали- j
ны», см. коммент. к газели 9:5, распространенная метафора
бренного мира. Тема бейта — предвечное опьянение любовью —
принадлежит к числу центральных в Диване Хафиза, см., на-
пример, газели 24:1, 26:5-6, 30:4, 45:7, 62:4 и коммент. к ним.
Второй смысл бейта: «На всяком, кто пришел в мир — печать I
разрушения, // Скажите, где в развалинах найдешь [сохранив- I
шего] трезвость ума?». В этом варианте бейт посвящен бренно-
сти всего земного и бессилию человеческого разума. i
4. «Радостная весть» (haşarat) — весть о свидании. Традици- 1
онная ситуация газели — мольба о вести и ожидание вести о |
друге (см. б. 1) — здесь преобразована: беда влюбленных не в |
отсутствии вести, а в неспособности проникнуть в ее смысл, 1
так как среди них нет посвященного в тайны. «Посвященный в \
тайны» (mahram-i asrâr) — прозвище Халладжа (ок. 852-922), |
прославленного суфия, проповедовавшего полное соединение I
Бога и человека в любви, обвиненного в отождествлении себя с ]
Богом и преданного мучительной казни. В контексте истории 1
Халладжа бейт приобретает и дополнительный смысл: где зна- j
ток, равный Халладжу, чтобы постичь тайну любви? 1
5. «Кончик волоска» — sar-i тйу, переноси, «самая маленькая I
часть чего-либо» ['Афифи, ел. ст.]. \
Хафиз. Газель № 19
203
Идея: каждая частица моего существа занята делом — любо-
вью к тебе, тогда как тот, кто осуждает и хулит меня, сам ни-
когда за это дело не брался.
6. В основе образа — обычная лирическая ситуация: сердце
влюбленного пребывает в завитке локона возлюбленного. Опре-
деление «в сплошных завитках» (sikan dar sikan) содержит на-
мек на множество плененных локоном сердец. «Измученное» —
sar-gasta, см. [Диххуда, ел. ст.], где значение «измученное» ил-
люстрируется данным бейтом; другие значения sar-gasta —
«изумленный, пораженный» и «скитающийся, бродячий» обога-
щают смысл полустишия: сердце, изумленное красотой локона
и скитающееся вместе с ним.
7. «Мускусная цепь» — silsila'-i miskin/ muskxn, также «черная
цепь», метафора черных душистых локонов. «Разум сошел с
ума» — оксюморон; красота друга столь велика, что даже разум
уподобился безумцу, который должен быть посажен на цепь.
«Сердце спряталось ... в уголке» — dil ... güsa girift; намек на
пребывание сердца в локоне друга, подле уголка брови, ср. у
Шарафа Рами: «А поместившийся в уголке лука брови пребыва-
ет там из-за пут локона, которыми связано сердце, как говорит
шейх 'Имад ад-Дин: „Мое сердце избрало уголок уединения от
всего мира, но при этом // Оно живет в уголке, привязанное к
одной лукобровой" [Рами 2000, с. 102]. Хирави (с. 114) предла-
гает иное толкование: сердце потеряло интерес к красоте и ста-
ло отшельником-аскетом; где же кончик брови возлюбленного
друга, чтобы подать знак и указать путь к любви?!
8. «Наготове» — muhayyä-st, «не в сладость» — muhannä
nasavad; (значение «быть приятным на вкус» иллюстрируется в
[Диххуда, ел. ст. Muhannä, рубрика Muhannâ sudan] только дан-
ным бейтом); в ряде редакций газели, в частности, у Ханлари, в
обоих полустишиях повторено слово muhayyä, тогда перевод
второго полустишия: «Веселье без друга не готово, где же друг?»
Такой вариант представлен в большинстве рукописей [Hafez de
Chiraz 2006, с. 182], однако, по словам Хуррамшахи, не так бе-
ден словарный запас Хафиза, чтобы в обоих полустишиях по-
вторять слово в одном значении; скорее, Хафиз обыгрывает
сближение muhayyä и muhannä, использованное его предшест-
венниками — 'Аттаром, Са'ди, при описании веселья ('ays), см.
примеры в [Хуррамшахи, ее. 191-192].
204
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
9. Идея: жизнь прекрасна, а все прекрасное дарует не толь-
ко наслаждение, но и страдание, у розы всегда шипы; вслед за
весной молодости неизбежно приходят осень и смерть.
Газель 20
•JJC J ^ И1 JJUl C*L Ô jjj
I**1 mlj^L àAj ^a j 1a\ {jpj^ 4_J AjI^ лЧ J f^A
±•4
jXj Jİ—a* jl j £ jl Ğij^p .ja j <Ujj
al,JJJ <jl,JJj (JÛjS CJj la j c^J CjSj
.jjj -\ bù\ ) (JJJA. 4_£ Ij £jt Jjj dubLû Aa.
t"hnl ЬЧ <a. (jjj ^ûja.^ (jiùl CLlx*il C-JüC 4л <jJİ
jj j—3 ^bj j ^jj jl jj a—S ^jj <ob
Ли J C£jJ J1 J^ 4 S ^jjİ* j jl jj$j
Cİ' ^ ü' ■ !J*> J fühj û'J 3 J A * ^
(H—^ ■* * O1—S 4 i J fij'^4 «O^1 CHajS
dî uiljj fJJjSo v"l >n J—J I jj ^JJjS 4_аь <jl j
^Jjj^k <Oİ J £ J ^ j j j QA J$ Jjàb Ад
dj uiLajİ jj-д jl <J ("1 ini (jl jj ÙJÂ. jl ôjb
-J .jAİJ-â* <Jlâb L-Jjp <Jİ jS CİLull L-UC <Ць (JJİ
^l^£ l-jjc^ ->jj* j i ^ a> jjj Jjj jj
L_l_
Ba/?r: ramal-i mtuamman-i maxbün-i aşlam-i musbağ
Vazn: fâ 'Hatun fa 'Hatun fa 'Hatun fa 'lân
rû-za-yak-sû / su-du-'î-dâ / ma-du-dil-hä / bar-xäst
may-zi-xum-xä / na-ba-jü-sä / ma-du-mi-bä / yad-xväst
205
206 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
i. Отошел пост, и пришел праздник, и воспряли сердца,
Запенилось вино в винных погребах, и надо пить!
2. Прошла пора криводушных торговцев воздержанием,
Настало время риндства и веселья для риндов.
3- Надо ли порицать того, кто так пьет вино —
Что за порок в этом неразумии и что за грех?
4- Тот, кто пьет вино без всякого лицемерия,
Лучше, чем тот, кто торгует воздержанием и лицемерит.
5- Мы не притворные ринды и не друзья двуличия,
Тот, кто ведает тайное, тому свидетель!
6. Мы исполняем предписания Творца и никому не делаем зла,
И то, о чем говорят — «не разрешено», не называем разрешенным.
7- Что случится, если мы с тобой выпьем несколько чаш вина?
Вино — из крови лоз, а не из вашей крови!
8. Что это за грех?! Разве от такого греха будет урон?!
А если и будет, что с того, разве есть безгрешные люди?!
Комментарий
В диване Са'ди [Са'ди, Куллийат 1996, с. 790-791] имеется ка-
сыда «Описание весны» с теми же метром и рифмой, с радифом
bar-xäst (у Хафиза — это рифма первого бейта), также у Салма-
на Саваджи есть касыда [Салман, Dorj-3, касыда dar madh-i
dilsäd-xätün «В похвалу Дилшад-хатун»], а у Камала Худжанди
[Камал Худжанди 1975, с. 137, № 117] — газель с теми же мет-
ром и рифмой.
Суди отмечает, что эта газель, а также газели 18 (см. ранее) и
84, написанные по поводу окончания рамазана и начала разго-
вения, возможно, созданы в одно и то же время (Суди, с. 171).
1. «Праздник» — ïd, праздник разговения после месяца по-
ста, см. комментарий к газели 18:1. «Воспряли сердца» — dühä
bar-xäst, букв, «сердца поднялись вверх», т. е. пришли в возбуж-
Хафиз. Газель № 20
207
дение от радости; сердца риндов как бы откликаются на дейст-
вия вина: оно, созревшее в винных погребах, запенилось и под-
нялось, они возликовали и устремились ему навстречу. «Надо
питы» — mîbàyad xyâst, букв, «нужно требовать [вина]», но воз-
можно и чтение may bay ad x?äst «нужно требовать вина».
2. «Прошла пора...» — закончился пост; продолжение темы бей-
та 1. «Криводушный» — girân-jân, букв, «с тяжелой душой», при-
творщик и лицемер. «Торговцы воздержанием» (zuhd-furüsän) —
те, кто предавался показному благочестию во время поста.
3. «Надо ли порицать» — ci malumat buvad; malâmat — силь-
ное порицание, осуждение; возможно, намек на дервишей-
malâmatï, которые сознательно навлекали на себя порицание, в
том числе — и питьем вина (см. коммент. к газели 5:7). «Так»
(cunïn) — т. е. в открытую, без притворства и лицемерия. «Не-
разумие» — bî-xiradî; освобождение от власти разума — непре-
менная характеристика влюбленных и риндов. У Суди (с. 172) и
Хирави (с. 121) текст второго полустишия отличается: in па
'ayb-ast bar 'äsiq-i rind-u na xatä-st («Ведь это не порок для
влюбленного ринда и не грех!»). Хирави приводит также наш
вариант текста, подчеркивая, что в любом случае строку следу-
ет понимать как риторический вопрос.
4. «Лицемерие» (гйу-и riya), противопоставляемое искренно-
сти, рассматривается в исламе как один из весьма тяжких гре-
хов. Ал-Газали в Kimiyä-yi sa'ädat («Эликсир счастья») приводит
рассказ о Пророке, который однажды сидел и горько рыдал.
Когда его спросили о причине, он ответил: «Боюсь, моя община
предается многобожию, не идолам поклоняются и не солнцу, но
почитают лицемерие» (цит. по [Хуррамшахи, с. 196]). Суди
(с. 172) поясняет: хмель от питья вина проходит, а лицемерие
остается в душе человека.
5. «Не притворные ринды» (па rindän-i riyä) — определение,
противопоставляющее искренних пьяниц-риндов лживым при-
творщикам-аскетам. «Тот, кто ведает тайное» — имеется в виду
Бог, знающий тайну истинной сущности ринда. Ирония бейта
состоит в том, что Бог как бы призывается в свидетели пьянст-
ва.
208
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
6. «Предписания Творца» (farz-i îzad) — основные обязанно-
сти мусульманина, такие как пятикратная молитва, соблюде-
ние поста, хаджж в Мекку и т. д.; здесь формула использована
иронически как намек на особое предназначение риндов: во
многих газелях Хафиза встречается утверждение, что влюблен-
ность, пьянство и позор предопределены риндам с первого дня
Творения, см. контексты 24:1; 25:5,6; 62:4 и коммент. к ним.
Идея: ринды не опровергают положений шариата и не утвер-
ждают, что пить вино разрешено, они знают, что предаются за-
претному делу, но честно выполняют предначертанное Творцом.
7. «Не из вашей крови» — не из крови тех лицемеров, кото-
рые осуждают пьяниц-риндов. В продолжение предыдущего
бейта речь вновь идет о дозволенном и запретном: проливать
кровь людей запретно, а проливать кровь лозы не запрещено.
8. Газель не подписана, последний бейт не содержит имени
поэта, что не часто встречается в Диване Хафиза. В некоторых
вариантах текста подписной бейт все же имеется. Так у Суди
финал газели (б. 9) такой:
hâfiz az сйп-и cirâ bugzar-u may nus dam-ï
nazd-i hukm-as ci majâl-i suxan-i сйп-и cirä-st
Хафиз, оставь «отчего да почему» и выпей чуток вина,
Пред Его приказом что толку от речей об «отчего да почему»?!
Газель 21
L-L.
L_L-
iL) ^L^JJ LİUİJj <J l"n^nn J±\ J J <J ч£
I—L.
Ba/ir: ramal-i mutamman-i maxbûn-i aşlam-i musbağ
Vazn: fä 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilätun fa 'län
di-lu-dî-nam I su-du-dil-bar / ba-ma-lä-mat / bar-xäst
guf-tP-bä-mä / ma-ni-sP-kaz / tu-sa-lä-mat / bar-xäst
i. Меня покинули сердце и вера, а взявший сердце стал попрекать,
Мол, не сиди тут с нами, ведь тебя покинуло здравомыслие!
209
210 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Слыхал ли ты, чтобы кто-то недолго повеселился на этом пиру
И под конец застольной беседы ушел, не пожалев?
3- Поскольку свеча со своим языком покусилась на те смеющиеся уста,
Пред влюбленными в тебя она покаянно стояла ночи напролет.
4- В саду весенний ветер объятия розы и кипариса
Покинул в страстном стремлении к тому лицу и стану.
5- Ты прошел, пьяный, и у затворников царства
При виде тебя началось Светопреставление.
6. Перед твоей походкой замер от стыда
Высокомерный кипарис, что гордо возвышал свой стан.
7- О Хафиз, сбрось эту хирку — может, ты и спасешься,
Ведь от хирки лицемерия и чудотворства поднялся огонь.
Комментарий
Первая стопа данного варианта метра ramai — fa'ilâtun, но в
ряде полустиший газели она имеет вариант fä'üätun. Эта мет-
рическая «вольность» задана во вступительном бейте, где пер-
вое полустишие начинается со стопы fa'ilâtun, а второе — со
стопы fä 'Hätten.
Газель имеет глагольный радиф bar-xäst, который в каждом
бейте меняет смысл в зависимости от контекста.
1. «Взявший сердце» — dil-bar, композит обычно употребляет-
ся в значении «возлюбленный, возлюбленная», здесь контекст
бейта актуализирует и значения его компонентов (dil «сердце»,
bar «уносящий»): возлюбленный друг, который отнял сердце и за-
ставил забыть о религиозном долге и благочестии, еще и попре-
кает влюбленного. «Здравомыслие» — salämaty букв, «здоровье»,
«мир, покой»; наличие salâmat характеризует человека как члена
общества, живущего в согласии с религиозными и социальными
нормами. Всякий ступивший на путь любви лишается salâmat,
становится безумным и навлекает на себя позор, подобно Мадж-
нуну; так, в поэме «Лайли и Маджнун» Низами наделил здраво-
мыслящих людей именами, производными от корня s-1-m «быть
Хафиз. Газель № 21
211
благополучным», тем самым противопоставив их Маджнуну:
дядя Маджнуна — Салим Амирит, муж Лайли — Ибн Салам,
«несовершенный» влюбленный — Салам Багдади {см. Низами
2008, с. 43-44]. В бейте дана предельно обобщенная мотиви-
ровка «трагедии любви», которая лежит в основе многих ситуа-
ций газельной лирики: возлюбленный друг отнимает разум и
доброе имя, но не желает иметь дело с безумцем и опозорен-
ным.
«Стал попрекать» — Ъа malämat bar-xâst; по мнению Хирави
(с. 123), это намек на известный девиз суфиев malâmatî («пори-
цаемых»): al-malämat tark al-salâmat, букв, «порицание — это
отступление от здравомыслия», о malâmatî см. комментарий к
газелям 5:7; 20:3.
2. «Пир» (bazm) — метафора земного мира; «застольная бесе-
да» — şuh bat, здесь - метафора человеческой жизни. Дидакти-
ческий топос, представленный в строке — «не привязывайся к
миру, его радости скоротечны, а расставаться с ними будет
тяжело» приобретает дополнительный смысл в контексте перво-
го бейта. Для обезумевшего от любви и отринувшего мир неиз-
бежна боль разлуки с другом (ğam-i 'isq), а для здравомысляще-
го, любящего жизнь — боль расставания с миром и его радостя-
ми (ğam-i dünyâ).
3. «Язык свечи» — фитиль; трепещущее пламя свечи в поэзии
обычно сравнивают со смехом. Каноническая ситуация любов-
ной газели — влюбленные проводят бессонные ночи при свете
свечи — получает здесь фантастическое обоснование: свеча
дерзнула сравнить свое «смеющееся» пламя со смеющимися ус-
тами друга, и за это она целыми ночами, как провинившийся
суфий, исполняет обряд покаяния (ğarâmat), заключающийся в
долгом стоянии на одной ноге [Хирави, с. 124].
4. Ситуация бейта мотивирована скрытым сравнением (т. н.
«сравнение с предпочтением»): ветер покинул сад и устремился
к другу, потому что лицо друга красотой превосходит розу, а
стан стройностью превосходит кипарис. «Страстное стремле-
ние» — havâ-dârî; первый элемент композита hava «страсть»
также означает «воздух», что образует лексическое соответствие
(tanâsub) с bâd «ветер» и дополнительно мотивирует «влюблен-
ность» ветра.
212 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
5. «Царство» — malakut, в Коране [6:75 и др.] — власть Бога,
противопоставляемая земной власти; в философии суфизма —
мир идеальных сущностей, согласно Газали, область обитания
низших ангелов и духов [ИЭС, ел. ст. «Малакут» (А. Кныш)]. «За-
творники царства» — xalvatiyän-i malakut, ангелы, обитающие в
пределах царства горнего мира. Ситуация любовной газели (яв-
ление друга вызывает среди влюбленных переполох, уподоб-
ляемый смятению Судного дня) здесь парадоксально преобра-
зована: место влюбленных занимают ангелы; они, будучи идеа-
лом красоты, любуются красотой друга; чуждые греха, восхи-
щаются пьяным; бессмертные, поднимают шум Дня Воскресе-
ния.
6. «Высокомерный» — sar-kas, букв, «тянущий голову», здесь
буквальное значение намекает на физический облик кипариса,
устремленного ввысь, а производное значение дает его «этиче-
скую» характеристику. «Твоя походка» — намек на традицион-
ную метафору «движущийся кипарис» (sarv-i ravän). Для непод-
вижности обычного, садового кипариса предложено фантасти-
ческое обоснование: ему стыдно за себя при виде плавной по-
ходки друга.
7. «Хирка лицемерия и чудотворства» (xirqa'-i sälüs-u karä-
mat) — метафора безосновательных притязаний на святость; су-
фийское рубище у Хафиза часто предстает как символ лицеме-
рия и обмана, см. газель 2:2, где употреблена сходная формула, а
также контексты 5:13; 16:9; 17:5,7; 89:7. «Поднялся огонь» — у
суфиев существовал обычай сжигать хирку в знак радости при
получении доброй вести или избавлении от беды ['Афифи, ел. ст.
Xirqa süxtan], ср. газель 17:7. Здесь горение хирки, наоборот,
грозит герою бедой; ср. контекст 407:8: «Огонь аскетизма и ли-
цемерия сожжет урожай религии, //О Хафиз, сбрось эту шер-
стяную хирку и иди» (ätas-i zuhd-u riya xirman-i dîn y?ähad sûxt/ /
häfiz ïn xirqa'-ipasmïna biyandâz-u birav).
Газель 22
t" 1 itil ЬЧ a£ j5La (JJ (JAI (j^uuj (_£ jiij ja,
'C5^ J J а СГ^ J C5^J 4 * f J"»
»U j_jua jj <£ U-üSa jjI jl ^İıl ciljLj
( 1 m Г
lifler je, jj j (jlii jj jl j ajujjaä. <ja a£
CJJ In л ^1 ^jJIaS Л »* (JJJJ ôJjj j ^b
Ci_jüüI jj <j La jl£ d j jj £jj! jl a£ ^jIa JUj
Jj aj CjUjII j£jA jl $-^аь jLJS <U \ja
ù_^a Jj J j J^ <L_£ ^U> j fkttiJ
aJJ <jjÂ, j Л mi ôJjJI Ajbajx^a 4_-£ <JJJ^
.iJjİJ^ j—jjc fjlJLu j—jJ A—J <jl jl
Cj uiL^* Jj jû <AluA jjjiAj <£ ^^-jİj! a£
*»l jA j jj pLaJ > jjJA j ja£> ciiàj a£
213
214 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
БаЛг: mujtatt-i mutamman-i mcucbûn-i maqsûr
Vazn: mafâ'üun fa'üâtun mafâ'üun fa'üât
cu-bis-na-vî I su-xa-nî-ah / li-dil~ma-gu / ki-xa-täst
su-xan-si-nä / sP-na-'ï-jà / ni-man-xa-tä / P-jäst
i. Услышав слово влюбленного, не говори: «Ошибка»!
Ты не знаток слов, душа моя, вот где ошибка!
2. Моя голова не склоняется ни пред этим миром, ни пред тем —
Великий Боже, что за смута у меня в голове!
3- Не знаю, кто там внутри у меня, пребывающего в унынии,
Ведь я молчу, а он вопит и скандалит!
4- Мое сердце вышло из-за завесы, где же ты, музыкант?
Плачь, ведь от этой музыки дела наши идут на лад.
5- Никогда я не уделял внимания делам этого мира,
Это твой лик так разукрасил его в моих глазах!
6. Я не сплю из-за той мечты, которую лелеет мое сердце,
У меня похмелье сотни ночей, где же винный погреб?!
7- Келья так залита кровью моего сердца —
Если вымоете меня вином, правильно сделаете!
8. За то меня привечают в святилище магов,
Что всегда в моем сердце огонь, который не умирает.
9- Что за созвучья наигрывал тот музыкант за завесой?
Ведь жизнь прошла, а душа моя все полна страсти!
ю. Минувшей ночью внутри [меня кто-то] закричал о любви к тебе,
Пространство груди Хафиза все еще наполнено отзвуком!
Хафиз. Газель № 22
215
Комментарий
Газели в метре mujtatt с рифмой -äst встречаются в диванах
*Ираки, Са'ди и Насира Бухараи; у Салмана Саваджи есть ка-
сыда с теми же метром и рифмой [Хуррамшахи, с. 198].
1. «Влюбленный» — ahl-i dü> букв, «человек (или люди), серд-
ца», тот, кто наделен просветленным сердцем, способностью к
духовному постижению; также — влюбленный ['Афифи, ел. ст.
Ahl-i сЩ. «Душа моя» — ироническое обращение к некоему кри-
тику; по мнению Хирави, это — «законовед», знаток шариата, и
ситуация бейта состоит в том, что стороннику внешнего благо-
честия (ahl-i sarî'at) не дано понять, о чем толкуют идущие по
пути любви (ahl-i tarïqat) [Хирави, с. 115]. Возможно, присутст-
вует и чисто литературная коннотация: неподготовленному че-
ловеку не дано понять высокого поэтического слова.
2. «Моя голова не склоняется ...» — т. е. мне не нужны блага
этого мира и я не жду воздаяния в том мире, во мне нет ни
страха перед адом, ни надежды на рай. «Отказ от обоих ми-
ров» — одно из «общих мест» в литературе суфизма, как в трак-
татах, так и в поэзии, см. примеры в [Хуррамшахи, с. 199]. «Ве-
ликий Боже» (tabärak alläh) — см. [Коран, 23:14]: «Благословен
же Аллах (tabärak alläh), лучший из творцов» (айат о сотворении
человека «из капли»), формула употребляется в повседневной
речи как восклицание, выражающее удивление или восхище-
ние. В бейте развивается тема противопоставления внешнего и
внутреннего, теперь речь идет о самом герое: по внешнему ви-
ду он достиг равнодушия к обоим мирам, как подобает на-
стоящему суфию, а внутри он полон смятения.
3. Оппозиция «внешнее — внутреннее» представлена и в этом
бейте; «пребывающий в унынии» — xasta-dilt букв, «с раненным
сердцем», Суди объясняет, что тот, кто «вопит и скандалит» — и
есть израненное любовью и рыдающее сердце персонажа
(с. 180).
4. «Мое сердце вышло из-за завесы» — dil-am az parda bîrün
sud; два значения parda — «завеса» и «мелодия» — образуют при-
ем îhâm. При значении «завеса» смысл полустишия: сердце ски-
нуло завесу приличия, т. е. пришло в неистовство [Хирави,
с. 116]; при значении «мелодия» возникает второй смысл: сердце
216 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
«вышло из мелодии», т. е. стало фальшивить, биться неровно (от
волнения) [Хирави, с. 117] или расстроилось, как музыкальный
инструмент [Хуррамшахи, с. 203]. «Плачь!» — binai, в первом
значении nälidan — «жаловаться, стенать, плакать», терминол.
«петь, играть на музыкальном инструменте». Во втором полу-
стишии «музыка» — parda, также специальное обозначение «ме-
лодий» иранской классической музыки; «лад» — navä, также на-
звание одной из мелодий-parda.
5. Суди и Хирави понимают этот бейт как восхваление красо-
ты возлюбленного друга, благодаря которой мир, прежде не вы-
зывавший интереса, перестал быть безразличен для героя, обрел
привлекательность (ср. мотивы бейта 2). Хатми предлагает мис-
тическую интерпретацию: речь идет о Божественном лике, в ко-
тором сосредоточилась вся красота бытия, а бренный мир есть
внешнее проявление этой красоты [Хатми 1995, с. 266]. Стоит
отметить, что газель *Ираки с тем же метром и рифмой (13 бей-
тов) целиком посвящена теме созерцания Лика, ср. б. 6: «Из-за
светлого Лика каждая пылинка для меня светла, // Ибо солнце
Твоего Лица явлено во всем мире» [*Ираки 1995, с. 46].
6. «Мечта, которую лелеет мое сердце» (xayâl-ï ki mïpazad dil-i
man) — образ возлюбленного друга, который стоит перед мыс-
ленным взором героя, также — напрасные надежды [Хуррам-
шахи, с. 203]. «Похмелье сотни ночей» — похмелье, как после
сотни ночей беспробудного пьянства, здесь «похмелье» — мета-
фора страданий, испытанных в бессонную ночь разлуки. «Где
же винный погреб» — т. е. где путь к утолению страданий.
7. «Келья» — sawma'a, суфийская обитель (xänaqäh) или ком-
ната суфия, см. примеч. к газели 2:2. «Залита кровью сердца» —
по Хирави (с. 117), сердце персонажа обливается кровью при
виде показного благочестия окружающих его суфиев. Хуррам-
шахи усматривает в бейте иронию: герой осквернил ритуальную
чистоту обители и готов понести наказание — пусть его самого
«осквернят» вином. Суди приводит анекдот о том, что Хафиза
критиковали за этот бейт: мол, если келья испачкана кровью,
мыть надо не тебя, а келью. Ответ был: кровь — это кровавые
слезы, которые я лил из своих глаз, поэтому сперва надо умыть
мое лицо, а уже потом — мыть келью [Суди, с. 182].
Хафиз. Газель № 22
217
8. «Святилище магов» — dayr-i muğân; dayr — христианский
монастырь, любое немусульманское святилище; сочетание dayr-
i muğân первоначально употреблялось в поэзии как переносное
обозначение зороастрийского храма, ср. [Хакани 1996, с. 518];
позднее в мистической поэзии, в частности, у 'Аттара, стало
использоваться как метафора кабака, питейного дома, где ма-
ги-зороастрийцы торгуют вином (возможно, уподобление свя-
зано с христианским обрядом причащения вином). Здесь «свя-
тилище» образует оппозицию с «кельей» (б. 7) как пристанище
тех, кому чуждо лицемерие и притворство. В бейте актуализи-
рованы оба значения dayr-i muğân: в зороастрийском храме ог-
непоклонников герой принят как свой, потому что он хранит в
сердце вечный огонь, а в питейном доме ему всегда рады, по-
тому что огонь любви обрекает его на вечное пьянство.
9. «За завесой» — dar parda, также «в ладу, в мелодии», см.
коммент. к б. 4. «Душа» — dimağa букв, «мозг», «настроение, са-
мочувствие». «Тот музыкант за завесой» — реальной основой об-
раза послужил придворный обычай рассаживать музыкантов за
пологом, чтобы они не беспокоили пирующих [Хирави, с. 118]. В
этой газели «музыкант» (mufrib, см. также б. 4), возможно, явля-
ется метафорой поэтического вдохновения, ниспосылаемого
свыше; тогда «душа, полная страсти», указывает еще и на полно-
ту творческих сил.
10. «Внутри [меня]» (andarûri) — в сердце, ср. б. 3 «внутри у меня,
пребывающего в унынии» (andarün-i man-i xasta-сЩ; «отзвук» —
şadây в первом значении «голос». В заключительном бейте вновь
звучит затронутые в matla' темы слова и вдохновения, проходя-
щие через всю газель. Такие образы, как «слово влюбленного» (б. 1),
«смута в голове» (б. 2), «внутри у меня ... он вопит и скандалит»
(б. 3), «музыкант ... плачь!» (б. 4), «в моем сердце огонь, который не
умирает» (б. 8), «душа все полна страсти» (б. 9), «пространство гру-
ди наполнено отзвуком» (б. 10), позволяют прочесть все стихотво-
рение как газель о сложении любовной газели.
Идея: эта газель Хафиза, что звучит сейчас — лишь отзвук
голоса любви из глубины его сердца.
Газель 23
L-J_
CJ ui!
jj Lu t"ı nü j_j jljû L_klj <ц jSI
CJ ujL_^û
j—&-J (^Habk ^1 jjuü Cjj \ ч jû <,1>1% 4j
t"l tut л ч£ j J tilLk (jUjjuuJ <ji jS j Q^à
t" 1 mLa 4İja j Vk\\ j h *1 jJ <juLbtA
(^Li^j j j j (5 jj .kàU. ^ u) a j j£t
diuiLa a*a Qj^ (£jj (jy^**A a£> Ciu)Ub(jLui a£
Bahr: mujtatt-i mutamman-i maxbûn-i maqsûr
Vazn: mafä'ilunfa'ilätun mafä'üun fa'ilät
xa-yä-li-rü I yi-tu-dar-har I ta-ri-q°-ham / ra-hi-mäst
na-sî-mi-mû / yi-tu-pay-van / di-ja-ni-ä / да-hi-mäst
ı. Образ твоего лица — наш попутчик на всякой дороге,
Ветерок от твоих волос породнился с нашей прозревшей душой.
218
Хафиз. Газель № 23
219
2. На горе обвинителям, что запрещают любовь,
Красота твоего лика — наше ясное доказательство.
3- Смотри-ка, что говорит яблоко твоего подбородка:
«Тысячи египетских Йусуфов упали в наш колодец».
4- Если до твоего длинного локона не достает наша рука,
Виной тому — наша беспокойная судьба да короткие руки.
5- Скажи сторожу у входа в недоступную обитель уединения:
«Такой-то — из числа сидящих в пыли на нашем пороге!
6. Пусть внешне он и скрыт от нашего взора,
Он всегда перед взором наших благосклонных помыслов!
7. Если в какой-то год Хафиз постучится в дверь, открой —
Ибо он годами стремился к нашему луноподобному лику!»
Комментарий
1. «Ветерок от твоих волос» (nasîm-i тйу-i tu) — благоухание,
исходящее от волос возлюбленного друга. «Прозревшая ду-
ша» — jän-i ägah (букв, «осведомленная душа»), т. е. душа, об-
ретшая знание и жизненный опыт, способная услышать бла-
гоухание (весть) [Хирави, с. 163]. «Породнился с душой»: бла-
гоуханный ветерок от волос друга необходим прозревшей ду-
ше влюбленного так же, как воздух и дыхание необходимы
для жизни [там же].
2. «Обвинители» — mudda'îyân (букв, «претендующие», «тя-
жущиеся», также — «хвастуны, самозванцы»), аскеты и суфии,
осуждающие «путь вина и любви», которым следуют ринды;
подробнее о круге значений этого слова в газелях Хафиза см. в
коммент. к 65:6.
3. «Египетский Йусуф» (библ. Иосиф), история которого из-
ложена в 12-ой суре Корана, стал в персидской поэзии идеа-
лом красоты. «Колодец» — câh (также «яма»), в «ямы» (часто -
высохшие колодцы) бросали пленников, в частности, братья
Йусуфа «ушли с ним и согласились поместить его в глубине ко-
лодца» [Коран, 12:15]); «наш колодец» — имеется в виду «коло-
220
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
дец (ямка) подбородка» (câh-i zanaxdân), традиционный атри-
бут красоты лица, сулящий влюбленным опасность и беду (см.
коммент. к газели 2:6).
Идеягкруглый и румяный, как яблоко, подбородок друга сви-
детельствует о такой беспредельной красоте, пленниками кото- !
рой стали даже несравненные красавцы (Йусуфы).
4. «Беспокойная судьба» — baxt-i parïsân, т. е. несчастливая |
судьба (ср. parïsân-ruzigär «с несчастливой, черной судьбой» j
['Афифи, ел. ст.]); определение parïsân «беспокойный, рассеян-
ный, разметанный», привычное в сочетании zulf-i parïsân «раз-
метанные локоны», содержит намек на причину несчастий |
влюбленного (его сердце — в плену локонов друга). |
Идея: твои локоны длинны, и не их вина, что нам до них не 1
дотянуться; виновата наша судьба, сулящая смятение и натра- 1
дившая нас «короткими руками» — наши сердца отданы тебе, ]
но ты для нас недоступен; «короткие руки» (dast-i kütah) — на- ]
мек на бессилие, обездоленность, а также бедность, отсутствие |
материальных благ (ср. толкование Суди: «Встреча с тобой не- i
возможна [...] из-за моей нищеты, ибо с высоты своего положе- |
ния ты не обращаешь внимания на нищих» [Суди, с. 186]. |
5. «Недоступная обитель уединения» — xalvat-sarây-i xâş> жи-.|
лище друга, куда нет доступа влюбленным. i
Идея: о друг, живущий в обители уединения, скажи сторожу 1
у своих врат, мол, «такой-то» (лирический персонаж Хафиз) 1
принадлежит к числу моих преданных слуг, и его не следует!
прогонять. 1
6. Продолжение обращения лирического персонажа к другу 1
(восхваляемому): [скажи сторожу], мол, хоть я не вижу того |
влюбленного воочию, но всегда вспоминаю о нем благосклонно. I
7. «В какой-то год» — Ъа sâl-ï, Хирави предлагает толкование 1
«раз в год». Во второй стопе первого полустишия стяжение: а- I
gar-ba-sâ / lï-hâ-fiz / da-rï-za-nad / bi-gu-sây, долгий слог lï за- i
мещает два первых кратких в стопе fa'ilâtun; ср. в [Суди, 1
с. 188] вариант agar ba sâ'ilï hâftz «Если в нищете Хафиз ...», 1
при этом во второй стопе второй слог оказывается долгим, что |
метрически невозможно. 1
Хафиз. Газель № 23
221
В бейте завершается послание влюбленного: [скажи сторо-
жу], мол, если Хафиз когда-нибудь постучится в ворота, впусти
его, он заслужил встречу долгими годами любви.
Газель 24
L " * - " А (J* jl r-^Lua j (jbuj j die Lb ulkû
Cl_^ujJl jj J A-li Ô^ju) ^jJU^ AjLojj 4_j л£
(J Hlft <AJUdA. jl A*Î4\ >0 J*^J ^£ /»-^ (jLoA (j^ô
Ci ulA <£ 4a. jA jj ô^uu céL aJj jjjSj jIa.
1 >>1 S JJUJ jl ^^Sl Cj_aAJ 1_j ô^j ^^л
L$ Я J' J (3^ f^ ^ Ci JJ ^ ^
Cj—U1JJ dûb (^1 J_JLa CİL4A.J J J jl .İLûlU
-juü ja ^jLujuA^ A_S <JThn<ft (ja£ JJ (j! JäJ
iü ^j—â. ^u£ d jjjJâ f jLL JjI jj j
L-Lui.
v"brtji 4 «\ ift <J-Jİ jl jüj üW^ Lİ^j' СИ^
Jààu
4J jL JäJ t"hnj1 ^ilJJ ci^J j' C5^4
Ba/?r: ramal-i mutamman-i тахЪйп-i maqsur
Vazn: fa 'ilätun fa 'ilâtun fa 'ilâtun fa 'ilât
ma-ta-lathtä /'a-tu-pay-mâ / nu-şa-lâ-haz/ ma-ni-mast
ki-ba-pay-mâ / na-ka-sï-suh / ra-su-dam-rû / zi-a-last
i. Не жди от меня, пьяного, послушания, верности и добродетели,
Ведь я в первый же день прославился тем, что неразлучен с чашей.
222
Хафиз. Газель № 24
223
2. В миг, когда я совершил омовение в источнике любви,
Я тут же четырехкратно простился со всем сущим.
у Дай вина — и я дам тебе знать о тайне предначертанного,
О том, в чей лик я влюбился и от чьего аромата пьян.
4. Здесь спина горы слабее спины муравья,
Не теряй надежды на врата милости, о поклонник вина!
5. Кроме того хмельного нарцисса — да не настигнет его сглаз —
Под этим бирюзовым шатром никто привольно не устроился.
6. Душа да падет жертвой за его уста! — ведь в саду зримого
Украшающий лужайку мира не завязал бутона прекраснее этого.
7- Благословленный любовью к тебе, Хафиз стал прямо Сулайманом —
То есть от встречи с тобой у него только ветер в руках.
Комментарий
В Диване Камала Худжанди имеется газель с теми же размером
и рифмой [Камал Худжанди 1975, с. 255, № 234].
1. «В первый день» — rüz-i alast, т. е. в первый день жизни, с
самого начала; также — намек на начало существования рода
человеческого, выражение восходит к вопросу, обращенному
Всевышним к сынам Адама: alastu bi-rabbikum «Разве не Гос-
подь ваш Я?» [Коран, 7:171 (172)]. Те ответили: «Да, мы свиде-
тельствуем», т. е. признали Бога господином над собой и дали
Ему обет верности. В бейте обыгран распространенный мотив
«предвечного пьянства» героя газели, ср. у Хаджу Кирмани: «Не
говори же, что я напился нынче — // еще не было вина, когда
я уже был пьяницей» [Хаджу, Doij-3, газель 127]. Этот мотив не-
редко включает упоминания об alast; в той же газели герой
восклицает: «Эй Хаджу, не придет в себя вовеки // всякий, кто
пьян со времен [дня] alasb (или — «от обета [дня] alasfr). Ср.
также зачин упомянутой газели Камала Худжанди: «Мы попали
в этот кабак с самого дня alast — // ринды, безумцы, распут-
ники, забулдыги и пьяницы».
224
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. «Четырехкратно простился» — car takbîr zadam, т. е. четы-
ре раза повторил формулу alläh akbar «Бог — величайший», как
принято во время погребального намаза при прощании с по-
койным; отсюда переносное значение car takbîr zadan — «ос-
тавлять, прощаться», постоянно встречающееся в поэзии, ср.
«Мы вновь взялись за дело риндов, // четырехкратно прости-
лись с пятью намазами» [Камал ад-Дин Исма*ил, цит. по Хур-
рамшахи, с. 209]. Однако, в контексте бейта Хафиза проявля-
ется и буквальный смысл car takbîr zadam — «я четырежды воз- !
величил». Два значения выражения указывают на два пути !
любви: если на пути мистической любви прощаются с миром, j
то на пути земной любви его прославляют. ]
3. «Тайна предначертанного» (sirr-i qazä) — тайна любви. Ви-
но развязывает язык, и человек выбалтывает секреты; герой |
газели сулит виночерпию в обмен на вино разгласить тайну 1
любви и рассказать о несравненной красоте друга [Суди, ]
с. 190; Хирави, с. 244]. «Красота лика» и «опьяняющий аромат» ]
друга принадлежат к числу центральных тем любовной газели; J
бейт, возможно, содержит намек на создание стихов, один из 1
его смыслов: дай вина, и я, вдохновленный, спою тебе газель о ]
любви. J
4. Бейт развивает тему предыдущего; влюбленный продол- 1
жает рассказ о предначертанной ему любви: здесь (т. е. в мире 1
любви) спина муравья (ничтожного смертного) выносливей, чем 1
спина (поверхность) горы. В первом полустишии — кораниче- 1
екая аллюзия: Бог предложил «залог» (amänat) «небесам, и земле, 1
и горам, но они отказались понести и устрашились его; понес!
его человек [...]» [Коран, 33:72]. Комментаторы Корана тракто-1
вали amänat, бремя которого оказалось посильным только для!
человека, как обязанность поклонения и служения, возложен-1
ную Богом на человека, а суфийские авторы понимали amänatm
как способность к любви, вложенную Богом в сердце человека/!
см. [Диххуда, ел. ст., с отсылками к источникам]. Щ
Во втором полустишии — намек на айат о прощении греш- !
ников: «Скажи: „О рабы мои, которые преступили против самих!
себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах про-Ш
щает грехи полностью: ведь Он — прощающий, милостивый"»!
[Коран, 39:54(53)]. ]
Хафиз. Газель № 24
225
5. «Хмельной нарцисс» (nargis-i mastâna) — томный глаз (гла-
за) возлюбленного друга; «да не настигнет его сглаз» (casm-as
narasad) — фигура «изящная вставка» (haèv-i таЩ, т. е. «слова,
в которых значение бейта не нуждается» [Шамс-и Кайс 1997,
с. 252]; выражение употребляется как формула от сглаза, со-
провождающая похвалу (ср. русское «чтоб не сглазить!»).
Идея: только хмельные глаза друга могут вести себя, как за-
благорассудится — они творят насилие и проливают кровь
влюбленных, но никто не в силах им противостоять или их
осуждать; все остальные под этим бирюзовым небом получают
возмездие за свои поступки [Суди, с. 191-192]. Хирави предла-
гает несколько иное толкование: «Под бирюзовым куполом неба
никто не устроился как следует, только глаза друга под куполом
бровей оказались на своем месте» (с. 245).
6. «Сад зримого» — bâğ-i nazar, т. е. сад видимого мира, ре-
ального бытия; «украшающий лужайку мира» (öaman-ârây-i ja-
hän) — Творец, придающий разнообразные формы бытию; «бу-
тон» (дипса) — конвенциональная метафора прекрасных сомк-
нутых уст (dahân).
7. Сулайман (библ. Соломон) — коранический персонаж, с
которым связано и множество околокоранических сказаний, в
персидской поэзии служит, наряду с Джамшидом, образцом
мудрого, справедливого и могущественного земного правителя,
наделенного также и некоторыми волшебными свойствами.
«Хафиз стал прямо Сулайманом» (hafız sulaymân-ï àud) — иро-
ническое уподобление, обыгрывающее значения выражения
bäd dar dast dâàtan: букв, «иметь ветер в руке», перенос, «быть
лишенным, остаться с пустыми руками». Согласно Корану, Бог
подчинил Сулайману ветер [21:81-82]: «А Сулайману — ветер,
когда он, дуя, устремляется по его повелению в землю ...», см.
также [34:11(12)]. Таким образом, Сулайман «имел ветер в ру-
ках» в прямом смысле, а у Хафиза «только ветер в руках» (nıst
Ъа juz bäd ba dast) в переносном смысле, у него в руках пусто,
потому что он не достиг встречи. Упоминание в заключитель-
ном бейте газели о «ветре в руках», т. е. о пустых руках и обез-
доленности, может содержать и намек покровителю на просьбу
о вознаграждении (фигура husn al-talab «красота просьбы»).
Газель 25
Cj uijj ôJLj (jl J-âj^-a ^1 ^^jİjÂ.jjoi ^5La
^J A < t ,Aİ.D J-^> ^V^. ^ jj <£ ^Jj^ (JjjLuJİ
Ai JUAÀjJa 4 a> ^L*. j fi—эь AS JjUJ
1 i i 1 mi öl tjb jj 4 S »jl j jL
1 1 » О Л
<ä, j jbjudjA <аь (jUaLuü <л. j ^jUjüAj <л.
ь j CİLu.1 CijjjJa Jjş. jJjû Jabj ^jj) jl
^ j ûîL^o, A а. Г|пП1д JjUa j jl jj
Jj ı^AJ j-
CJ-
Jl ^c ^jIaIuü У j
-l^û (J и j Г> aLLû
чЛ
(JjüU^a (jija. j jjUjJa ^jIaj^a ^"btn'ı j CİLuiA <j
J J İri (jl*iû j ù\ \ L-J u)l j ^yij-âl ôj£Jj
t"i m/i ci jL «jà 4 >lj^. jl jl j dà j ^b 4j
^1 2 jj jjj A S ô j jl jj a j—J j Jb 4j
Cj uljIj tîIlÂ. 4 j ^j ^U j Cj âjË I ja
Ci UÜ
i l**1 nü
О***
AUS a£
226
Хафиз. Газель № 25
227
Bahr: mujtatt-i mutamman-i тахЬйп-i maqsür
Vazn: mafâ'ilunfa'ilâtun mafä'üun fa'ilät
si-kuf-ta-sud / gu-li-ham-rä / vu~gas-t°-bul / bül-mast
sa-lä-yi-sar / xva-si-yay-şü / fi-yä-ni-bä / da-pa-rast
i. Расцвела красная роза и опьянел соловей —
Это призыв к веселью, о суфии, поклоняющиеся вину!
2. Фундамент покаяния казался крепким, как камень,
Смотри-ка, что за диво, его разбила стеклянная чаша!
3- Неси вина, ведь в тронном зале Самодостаточности
Все равно — сторож или султан, трезвый или пьяный!
4- Раз этот постоялый двор о двух воротах придется покинуть,
Все равно, высоки иль низки арки и своды житья-бытья.
5- Без печалей не добраться до стоянки радости —
Обет Первого дня скрепили [словом] «да» из-за [слова] «беда» !
6. Не терзай душу из-за «есть» и «нет», и радуйся,
Ведь «нет» — конец всякого совершенства, которое есть.
7- Слава Асафа, конь-ветер, язык птиц —
Развеяны ветром, и хаджа на них ничего не нажил.
8. Не обольщайся крыльями, ведь оперенная стрела
Какое-то время парила в воздухе, но упала на землю.
9- Язык твоего, Хафиз, пера как скажет спасибо за то,
Что слово, сказанное тобой, передают из рук в руки?!
Комментарий
1. «Опьянел соловей» (gast bülbül mast) — опьянел от любви к
розе и запел о своей любви. «Призыв к веселию» (şalâ-yi sar-
xvasî\ — т. е. призыв пить вино, слушать музыку и радоваться
жизни; şala — также «призыв на молитву», это значение создает
эффект «скрытого уподобления»: любовная трель соловья как
228 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
«призыв к хмельному веселию» уподобляется голосу муэдзина,
призывающего мусульман на молитву. «Суфии, поклоняющиеся
вину» (süfiyän-i bäda-parast) — возможно, шутливое обозначе-
ние риндов; по мнению Суди (с. 191), речь идет о лицемерных
суфиях-аскетах; существует также вариант süfiyän-i vaqt-parast
«суфии, поклоняющиеся [текущему] моменту времени» — су-
фии, которые довольствуются тем, что есть сейчас, в настоя-
щий момент, и не думают о прошлом и будущем [Хирави,
с. 239].
2. «Покаяние» (tawba) — узаконенная шариатом форма заро-
ка, отказа от порицаемых действий (в частности, от питья вина)
и обращения к благим делам, предписанным мусульманину. Хи-
рави (с. 239) поясняет, что во время обряда покаяния стеклян-
ный сосуд с вином разбивают камнем. В бейте фразеологическое
выражение tawba sikastan «нарушать обет покаяния», букв, «раз-
бивать покаяние», представлено как реальное событие.
Идея: кто бы ни давал обет трезвости, ему не устоять перед
соблазном вина весной.
3. «Самодостаточность» (istiğna, букв, «ненуждаемость») —
атрибут Бога, указывающий на отсутствие у Творца нужды в
поклонении со стороны творений [Хирави, с. 240], см. коммен-
тарий к газели 3:4; также атрибут возлюбленного друга, указы-
вающий на его «незаинтересованность», т. е. равнодушие к по-
клонению влюбленных. «Тронный зал» — bär-gäh, букв, «место
аудиенции», особый зал во дворце, где правитель, восседая на
троне, принимает просителей.
Идея: перед Богом все просители равны, все стремятся к Бо-
гу, а Бог равно не нуждается ни в ком из них [Хирави, с. 240];
Суди дает сходное толкование (с. 194): «Все стремятся к [воз-
любленному другу], его незаинтересованность (istiğna) во всех
одинакова, перед ним все влюбленные равны, и никто не имеет
преимущества». Таким образом, равенство всех перед Творцом
представлено здесь как остроумное оправдание приверженно-
сти к вину.
4. «Постоялый двор о двух воротах» (ribät-i du dar) — мир
рождения и смерти, сложная метафора, соединяющая два тра-
диционных уподобления: «постоялый двор» (ribät) — земной
мир, часто употребляется с эпитетом «старый, ветхий» (kuhna,
Хафиз. Газель № 25
229
kuhan, vïrân), ср. в руба*и Хаййама (XI в.): «Этот старый постоя-
лый двор (kuhna ribät), имя которому мир ...» [Хаййам 1959,
с. 19, № 34]; «двое ворот» — ворота рождения и смерти, ср. бей-
ты из касыды Санаи (ум. ок. 1130): «Мусульмане, у дома жизни
в мире — две двери, // через которые проходят знатный и
простой, добрый и злой. // Две двери, рождения и смерти, на
которых в начале и в конце — //на одной — замок предопре-
деления, на другой — засов судьбы» [Санаи 1975, с. 111].
«Житье-бытье» — ma'ïsat, букв, «жизнь, житье», «средства к
жизни»; «купола и арки житья-бытья» (rivâq-u tâq-i ma'îsat) —
уподобление мирской жизни дому, который может быть высо-
ким дворцом или низкой лачугой.
Идея: мир, подобно постоялому двору, является местом вре-
менной стоянки, а не постоянного проживания, поэтому все
равно, роскошно или скромно человек в нем устроился. Пере-
кличка с предыдущим бейтом: там речь шла о том, что земные
различия между людьми не имеют значения перед Божествен-
ным престолом, а здесь говорится, что они ничего не значат и в
этом бренном мире.
5. «Стоянка радости» (maqäm-i 'ays) — метафора земного
благополучия или будущей жизни в раю, где праведникам обе-
щаны разнообразные наслаждения; в терминах суфизма 'ays —
намек на наслаждение от познания Истины, см. [Диххуда, ел.
ст., со ссылкой на Farhang-i muştalahât-i 'urafâ]. «Обет Первого
дня»— 'ahd-i alast, см. примеч. к газели 24:1. «Скрепили [сло-
вом] „да" ...» — аллюзия к кораническому рассказу [7:171(172)]:
давая обет Богу, сыны Адама на вопрос «Разве не есмь Я ваш
Господь» ответили словом «да» (^ balâ ), омофоном слова «беда»
PL balâ).
Идея: человеку не дано обрести счастье и радость без стра-
дания, ибо он дал обет служения Богу словом balâ «да» и тем с
самого начала связал свою судьбу с balâ «беда» (прием husn al-
ta'lïl «красивое обоснование»).
Второе полустишие balâ ba hukm-i balâ basta-and 'ahd-i alast
семантически и синтаксически неоднозначно: 'ahd «обет», так-
же «пора, время», ba hukm-i предлог «из-за» и hukm — «приказ»,
«повеление». При иной интерпретации возможен перевод «[Сло-
во] „да" с повелением „испытывать беды" связали в пору Перво-
го дня» [Суди, с. 195].
230 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
6. «Что есть, чего нет» — hast-u nïst, букв, «есть и нет», как
композит означает «наличное добро», «материальные ценности»,
которыми обладает человек [Диххуда, ел. ст. hast-u nïst]; в фи-
лософских терминах hast (hastı) — «бытие, существование» (на-
личие в мире, ср. араб, ш/ûd), nïst (nïstî) — «небытие» (отсутст-
вие в мире, ср. араб. 'adam).
Хирави (с. 241) видит здесь цитату из Са'ди и приводит
бейт, второе полустишие которого совпадает с бейтом Хафиза:
«Ведь не избежит небытия ('adam) все, что приходит в бытие
(vujûd), II Ведь „нет" — конец всякого совершенства, которое
есть»; однако, в доступных нам ресурсах (Са'ди, Куллийат 1996;
CD Dorj-3; www.Persopedia.com) этот бейт найти не удалось. \
Идея: не терзайся мыслями об умножении богатств (или о ;
жизни и смерти), знай, что какого великолепия ни достигнешь, \
все канет в небытие. i
7. «Слава Асафа» (sukûh-i aşafi) — великая слава, которую j
обрел на своем посту премудрый министр царя Сулаймана S
Асаф Бархийа. «Конь-ветер» (asb-i bad) — намек на то, что ве- |
тер по велению Сулаймана (см. коммент. к газели 24:7) перено- |
сил его трон и войско с места на место. «Язык птиц» (mantiq-i \
раут) — по преданию, Сулайман понимал язык птиц и зверей. ]
«Хаджа» (xväja) — Сулайман [Хирави, с. 242]; возможно, имеется İ
в виду министр Асаф, так как у иранцев принято такое обра-
щение к вазирам [Суди, с. 196]. ;
Идея (развитие темы предыдущего бейта): даже царь Сулай- ,
ман, достигший полноты земного совершенства, воплощенного j
в таких атрибутах царствования, как самый мудрый советчик- |
вазир, самый быстрый конь и способность понимать язык всех |
подданных, не смог «нажить» бессмертия: и он сам, и его цар- •
ство исчезли с лица земли.
8. «Не оболыцаяся крыльями» — Ъа bâl-u par marav az räh \
(букв, «не сбивайся с пути из-за [наличия] крыльев и перьев»), \
т. е. не обольщайся земными богатством, могуществом и муд- |
ростью. «Оперенная стрела» — tïr-i partâbî (букв, «летящая стре- ';
ла»), особая стрела с оперением, увеличивающим дальность по- ;
лета, использовалась, в частности, для состязаний в стрельбе на
дальность.
Хафиз. Газель № 25
231
Идея: если ты обрел крылья, т. е. высоко вознесен судьбой,
не обольщайся, ведь каждому, кто сейчас «летает» высоко, как
парящая стрела, предстоит падение.
9. «Перо» — кику в первом значении «тростник», также «тро-
стниковая стрела».
«Слово, сказанное тобой» — gufta'-i suxan-at, т. е. «стихи, ко-
торые ты уже сложил» (ср. Хирави, с. 242, где отдано предпоч-
тение варианту tuhfa'-i suxan-at «дары твоего слова»); возмож-
но, намек на пословицу swcan-i gufta sïm-ast-u nägufta zar «Ска-
занное слово — серебро, а несказанное — золото» [Суди, с. 197].
«Передают из рук в руки» — намек на широкое распростране-
ние стихов; также — скрытое уподобление стихов подаркам,
которые люди дарят друг другу.
Идея: только языком пера, то есть новыми стихами, Хафиз в
силах высказать свою благодарность за то, что люди передают
его строки, как драгоценные дары.
Сирус Ниру предложил для газели реальный исторический
контекст: доносы врагов оказали свое действие, Шах Шуджа'
изгнал своего благодетеля и опекуна Сахиба 'Аййара в Керман
и приказал казнить. По его повелению тело вазира Сахиба 'Ай-
йара изрубили в куски и разослали по городам вместе с прика-
зом шаха в назидание прочим [Ниру, с. 404]. Если принять эту
гипотезу, газель оказывается поделенной на «винное» вступление
(б. 1-2), основную часть (б. 3-8), посвященную обоснованию то-
поса о бренности мирской славы (с разнообразными намеками
на плачевную судьбу вазира Сахиба Аййара), и заключитель-
ный бейт с острым политическим подтекстом. Как высказать
благодарность, — возможно, говорит Хафиз, — за то, что из рук
в руки передают мои стихи (в которых я сказал далеко не все),
а не части моего изрубленного в куски тела.
Газель 26
Cj^j jj <>*!>-* j ù1 J* J j* J *% t> JAJ
(Jİ 1 ^ (JjJ Jxtfâl ^JİjJ J (5 JÄ. 6 JJJC» (JjLmjS JJ
'*** "* '* * ; j-al (ja (jJb 4_j c£jJ Ч1 '* лЙ
Ü—JJ—A j'j' ^ * JJj' Û-* lAp ' J* J^
<"ı ,m A Ci j| ja. qa <^л^ (3jİIc ^1 di£
j p-L-A j jj^Jjİ *Jİ J (jJÎa. 4 S I j ^jülc*
Cl_^ui JJ ôjIj jj uLü jS Jj—J (3^ J*^
j_i£wa OJjİ ^jLiSjjJ j—J j J—Aİj ^1 jjj
Cj_juJI jjj L_-л 4j Aİaj jjl ja. jjjI jj a£
fOA^jJ U 4 jUd 4 j Cjäjj jl 4 a> jî
t**1 m Л 6jb jfcj Cj ull *"ЬиД.1 jaâ. jl jSİ
jL_Xj j j л ô j£ ci—1 j j ^ ^L-a> ôJOa.
<.»кЛмп JôsIa. <jjj jja. aS a jj—j Luü ^1
ВаЛг: ramal-i mutamman-i maxbûn-i maqsur
Vazn: fâ 'ilâtun fa 'ilâtun fa 'ilâtun fa 'ilât
zul-f>-à-suf I ta-vu-xvay-kar / da-vu-xan-dân / la-bu-mast
pî-ra-han-cà / ku-ga-zal-xvâ / nu-şu-râ-hî / dar-dast
i. С растрепанными кудрями, в испарине, с улыбкой во весь рот и пьяный,
В разорванной рубахе, поющий газели и с бутылью в руке,
232
Хафиз. Газель № 26
233
2. Нарциссы его ищут ссоры, губы его насмехаются —
Пришел вчера среди ночи, сел у меня в изголовье.
3- Склонил к моему уху голову, проникновенным голосом
Молвил: «О мой давнишний влюбленный, ты что, спишь?!»
4- Когда влюбленному подносят такое ночное вино,
Он будет отступником в любви, если не станет винопоклонником.
5- Эй аскет, уходи и не придирайся к пьющим горькое вино,
Ведь нам не дали другого подарока в Первый день.
6. Что он налил в нашу чашу, то мы и выпили,
Все равно — напиток рая или пьяное вино!
7- Улыбка чаши с вином и вьющиеся локоны красавца —
Ох, сколько зароков они разбили, таких, как зарок Хафиза!
Комментарий
Данная газель — редкий для Дивана Хафиза образец связного
описания события. Б. 1-4: возлюбленный друг с бутылью в руке
приходит к постели героя и упрекает его в нарушении кодекса
влюбленных, которым по ночам полагается бодрствовать и зали-
вать тоску вином. Б. 5-6: речь влюбленного (который внял упре-
ку прекрасного друга и стал пить вино), обращенная к его веч-
ному оппоненту — аскету. Герой оправдывает свой грех тем, что
его жребий определен в Предвечности. В б. 7 происходит воз-
вращение к началу и подводится итог рассказанному: то, что
случилось с героем, происходит всегда, такова власть над чело-
веком вина и красоты. Хирави (с. 232-234) подчеркивает «свя-
занность» газели, дает ее пересказ и решительно отвергает вся-
кую возможность мистического толкования. Высокую степень
смысловой связанности бейтов отмечает и М. Л. Рейснер [1989,
с 196].
Мотив «приход пьяного друга» широко представлен в разных
формах персидской любовной лирики, ср. один из ранних при-
меров — газель Анвари [Анвари 1961, с. 866-867] с зачином
«Вчера ночью та полная луна пьяной вошла в мою дверь //К
гРУДи прижимала чанг, а в руке держала чашу». Далее герой
234 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
описывает красоту возлюбленной (б. 1-3), она садится рядом с
героем (б. 4), заводит речь о том, что после многолетних тягот
пришла пора пить вино и наслаждаться жизнью (б. 5-6), и сле-
дует рассказ героя о совместном винопитии и веселии (б. 7-9).
Однако, у Хафиза эта «сюжетная схема» преобразована: он ис-
пользует и мотив «пьяной проповеди», широко представленный
в суфийской лирике. Хаджу Кирмани, в диване которого — 4
газели с теми же метром и рифмой [Хуррамшахи, с. 225], начи-
нает одну из них так: «Вчера некий старец вышел пьяный из
кабака, // Рука об руку с молодыми и с бутылью в руке» (dûs
pïr-î zi xaräbät burun ämad mast // dast dar dast-i javänän-u
surähi dar dast) [Хаджу, Dorj-3, с 637]; добавим, что Хаджу, в
свою очередь, цитирует первую строку руба'и *Ираки: «Некий
старец вышел пьяный из кабака, / / выпустив сердце из рук и с
чашей вина в руках. // Сказал: пей вино, ибо в этом низком
мире // Никто, кроме пьяного, не спасся от самого себя» [*Ира-
ки, Dorj-3, рубаки Pîr-î zi xaräbät burun ämad mast]. У Хафиза
суфийский мотив «пьяной проповеди» введен в ситуацию сви-
дания с хмельным другом.
1. «Бутыль» — şurahî, стеклянный сосуд с узким и длинным
горлом, в котором вино приносили на пиршество, чтобы напол-
нять кубки и чаши; изготовлялся иногда в форме животного
или птицы, в частности, утки, из глаз и клюва которой вылива-
лось вино [Хирави, с. 201]. «В разорванной рубахе» — pïrahan-
cäk, т. е. порвавший рубаху, намек на сильную степень опьяне-
ния; в [Диххуда, ел. ст. Hrähan-cäk] такое толкование иллюст-
рируется данным и следующим бейтами. «Пьяный» (mast) —
грамматический мужской род в переводе комплекса «друг» ука-
зывает, как обычно, на «возлюбленного друга» вообще, без кон-
кретизации пола.
2. «Нарциссы его ищут ссоры» (nargis-as 'arbada-jüy) — ме-
тафора прекрасных глаз, которые ведут себя как пьяный; ср.
описание в Anis al-'ussäq: «Томное блуждающее око именуют
хмельным (тахтйг), ведь оно и без вина всегда пьяное. Это за-
бияка (mu'arbid), который не идет спать, чтобы затевать ссоры,
как сказано: „Похоже, твое око ищет ссоры (sar-i 'arbada
därad), II Пьяный сон его не берет, пока оно не наделает бед"».
[Рами, 1946, с. 14]. «Насмехаются» — afsüs-kunänt см. толкова-
Хафиз. Газель № 26
235
ние композита в Диххуда с данным бейтом в качестве единст-
венного примера; распространенное значение afsüs «сожале-
ние, раскаяние» придает полустишию второй смысл: глаза ищут
ссоры, а губы выражают сожаление.
3. «Проникновенным голосом» — Ъа äväz-i hazin, букв, «пе-
чальным голосом»; ср.: hazin как определение голоса (мелодии)
означает «мягкий и нежный» [Суди, с. 200]; âvâz-i hazin — го-
лос, в котором смешаны печаль и радость [Хирави, с. 231]; в
Диххуда äväz-i hazin толкуется как äväz-i süznäk «жалобный,
печальный голос (мелодия)» [Диххуда, ел. ст. Hazin].
4. «Предрассветное вино» — bäda'-i sab-gir, определение ви-
на содержит намек на предрассветную молитву (ср. контексты
6:7; 14:7; 28:1); по мнению Суди, имеется в виду вино, которое
пьют в течение ночи; «такое» (cunin) — вино из рук возлюблен-
ного друга [Суди, с. 201].
Идея: пить вино запретно для мусульман, но адепты религии
любви обязаны беспрекословно подчиняться возлюбленному;
если он подносит вино, то «благочестивый» влюбленный обязан
его пить, а отвергающий вино трезвенник оказывается вероот-
ступником. По мнению Хирави (с. 233), наставление, данное в
бейте, принадлежит «пьяному другу» и продолжает его речь.
5. «Аскет» — см. коммент. к газели 7:2. «Пьющие горькое ви-
но» — durd-kasän, букв, «пьющие durd»> durd — вино со дна со-
суда, подонки, вино, горькое от осевшей гущи и не предназна-
ченное для питья [Суди, с. 202]; антоним — sä/, чистое, про-
зрачное, процеженное вино (ср. 44:4).
«Первый день» (rüz-i alast) — см. примеч. к газелям 24:1,
25:5.
6. «Напиток рая» — xamr-i bihist, в Коране упомянуты рай-
ские «реки из вина (хатг)у приятного для пьющих» (см. ком-
мент. к газ. 13:3), ср. также [Коран, 76:21]. «Пьяное вино» —
bäda'-i mast у крепкое и сильно опьяняющее вино [Хирави,
с 232], возможно, имеется в виду горький durd «подонки» (см.
примеч. к б. 5), тогда противопоставление «дозволенное» (вино
в раю) — «запретное» (земное вино) усиливается антитезой
«приятное на вкус» — «горькое»; возможен перевод «вино пьяно-
го», т. е. вино, принесенное пьяным другом (см. б. 1), именно
236
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
так понимает Суди, добавляя: «Тот, кто говорит, что bâda'-i
mast — это вино, которое опьяняет, вовсе не понимает этого
выражения» [Суди, с. 203]. «Что он налил ...» — сквозная тема
Дивана Хафиза «предопределенность пьянства» (ср. б. 5 и упот-
ребления rüz-i alast или azal в других стихах) здесь приобретает
ироническое звучание, поскольку в контексте газели местоиме-
ние «он» может быть отнесено и к Творцу, и к «пьяному другу»,
который пришел с бутылкой вина в руке.
7. «Улыбка чаши с вином» — обычная метафора блеска вина,
плещущегося в чаше; край чаши — lab — также означает «губы,
уста», а блеск вина уподобляется блеску открывшихся в улыбке
зубов (в поэтической конвенции губы часто сравнивают с ви-
ном, а зубы — с разнообразными «сияющими предметами», на-
пример, с жемчугом). «Зарок» — tawbay также «покаяние», см.
примеч. к газели 25:2.
Газель 27
/UH4 (jnTuHrt (J*l£ JJ jl (Jl jl JàAA J /-Л jl
İÛJJ j—J Л л (J £ trt jl Л *1 a >o (J * * jJ
CJ ULJ J J J 1 m ^Vb jl Л 1 \ J J â jj
t*1 tnj'l (JJ^ f Jf^ ^J^ jl l**hnA >Jj£ 4a, Aj J^l
ÙJ? f J^ L$ J Ь ^^H fij£ <ş> J$J JJ
_2ь J—J j\ J—2k tahtının > jLubftJ (JJ я л ni
У 1 >>1
ni 1 \ jl J—Ä. ClMllÀjJ (jljbjJôj j ^jlÂİl J
-l^OJ jl (JjuüS jJ X-Juj J—J (J*J ^ AjUc. j£
Cj—juajJJ j\ (JJ^À jû V*ha^ jİSjLa£ 4 AiHj jj
Ja İl a. ôJ i j aC JjI jb A S (.il jb
di uLoi jl A*iü A_£ ^ jjj jl j JjU a£ Jlst jA
Ba/ir: hazaj-i mutamman-i axrab-i musbağ
Vazn: mafûlu mafà'ïlun mafülu mafä'üän
dar-day-ri / mu-gä-nä-mad / yä-ram-qa / da-hï-dar-dast
mas-taz-ma / уи-тау-хУа-га / naz-nar-gi / si-mas-tas-mast
i. Друг мой с чашей в руке явился в святилище магов —
Он пьян от вина, а пропойцы пьяны от его пьяных нарциссов.
2- Подкова его коня явила форму молодой луны,
Его высоким станом унижена высота сосны!
237
238 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3- Как я скажу, что помню о себе, когда не помню,
И зачем скажу, что не смотрю на него, когда смотрю.
4- Свеча моего наперсника-сердца погасла, как только он поднялся,
И среди любующихся поднялся крик, лишь только он сел.
5- Если галийе стало благоуханным, [значит] оно свилось с его локонами,
И если басма стала лучником — она соединилась с его бровями.
6. Вернись, чтобы вернулась к Хафизу ушедшая жизнь,
Хотя стрела, что ушла с [костяного] кольца, не вернется назад.
Комментарий
И форма и поэтические идеи газели почерпнуты, как полагает
Б. Хуррамшахи (с. 225), из газели 'Ираки с теми же метром и
рифмой: az parda burün ämad sàcfi qadah-î dar dast // ham
parda*-i mâ bidrid ham tawba'-i mâ biskast «Из-за завесы явился
виночерпий с чашей в руке, // И завесу нашу разорвал, и обет
наш сокрушил» ['Ираки 1995, с. 46].
1. «Святилище магов» — dayr-i muğân, см. контекст 22:8 и
комментарий. «Пьяные нарциссы» — метафора прекрасных глаз,
ср. разработку мотива в 12:3, 24:5, 26:2. В бейте представлен
мотив «приход пьяного друга», ср. газель 26 и комментарий.
2. «Конь» — samandy «конь чистой, ровной масти» [Суди,
с. 205], также «буланый конь». Сравнение подковы коня с луной
встречается в панегирической касыде при описании высоты по-
ложения восхваляемого лица, ср. у Анвари: «Луна хотела срав-
ниться с подковой твоего коня, // Земля завопила, что это дер- ;
зость!» [Анвари 1959, с. 51]. Описание подковы коня, на котором \
прибыл друг, возможно, содержит намек на униженную позу
влюбленного, «простертого на земле», ср. у Хафиза «Лишь то лицо
станет зеркалом в покоях невесты-удачи, // Которое потрут о то ;
конское копыто» (181:3). «Сосна» — sanawbar, одна из наиболее I
i
распространенных метафор высокого стройного стана, ср. ком- !
позиты sanawbar-qâmat, sanawbar-qad «стройный как сосна». \
3. «Помню о себе» — hast az xvad xabar-am, букв, «у меня есть )
вести о себе». Отсутствие «вестей о себе» указывает на состоя- )
Хафиз. Газель № 27
239
ние «самозабвения» (bî-xvadïf «отсутствие себя»), когда влюблен-
ный отказывается от своей личности и становится вместили-
щем образа возлюбленного друга. Ср.: «Ты знаешь, что в тоске
по тебе я не помню себя (az xvad xabar nadäram) ...» [Анвари
1961, с. 879]; «У меня ведь из-за самозабвения нет вестей о себе
(az xvad xabar nïst) ...» [Хаджу, Dorj-3, газель 44]. «Не смотрю на
него» — nîst bä vay nazar-am, переноси, «не желаю его, не
стремлюсь к нему».
Бейт Хафиза допускает две интерпретации. Мы читаем äxar
ba ci дйуат hast az xvad xabar-am / cün nîst // ihaz bahr-i ci
дйуат nîst bä vay nazar-am / cün hast Такого чтения придер-
живается Суди (с. 206), его толкование: «Как я могу говорить,
что имею вести о себе, при том что их нет; и как я могу гово-
рить, что не смотрю на возлюбленного друга, когда мои глаза и
сердце созерцают его». Хирави (с. 248) делит бейт иначе, относя
глаголы hast в первом полустишии и nîst во втором к «другу»:
âxar ba ci дйуат hast / az xvad xabar-am cün nîst // v-az bahr-i
ci дйуат nîst / bä vay naz ar-am cün hast Тогда следует перево-
дить: «Как я скажу, что [он] есть, если у меня нет известий [да-
же] о себе, //И зачем скажу, что [его] нет, если мой взгляд уст-
ремлен на него».
4. «Свеча моего наперсника-сердца» — sam'-i dil-i damsäz-
ат\ возможно два толкования: 1) само сердце влюбленного,
уподобленное свече; 2) образ возлюбленного в сердце; у Суди
(с. 206) и в редакции Ханлари [Хирави, с. 248] дан вариант
sam'-i dil-i damsäzän «свеча сердца [каждого из] сотоварищей».
«Погасла» — binsast, букв, «села», что образует оппозицию с
bar-xäst «поднялся». В упомянутой газели *Ираки (см. начало
комментария) эта оппозиция представлена так: «С милым дру-
гом уселось сердце, которое ушло (букв, встало) от души»; но
бейт Хафиза ближе к строке Хаджу: «Когда он сел, все подняли
крик, // Когда он встал, светильник утра погас (букв, сел)» [Ха-
джу, Dorj-3, газель 160:9]. «Любующиеся» — nazar-bäzän, бро-
сающие нежные взгляды, любители смотреть на красивые лица,
У Хафиза упоминаются в одном синонимическом ряду с
влюбленными, риндами и пьяницами, см. газели 29:9; 46:9;
273:8; 311:2.
Ситуация бейта (любование другом в собрании влюбленных)
внешне содержит противоречие: в первом полустишии друг
240 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
встает, чтобы уйти, а во втором — садится. Поэтому Хирави
(с. 248) восстанавливает последовательность событий: когда
друг поднялся, чтобы покинуть собрание, мое сердце омрачи-
лось, когда же друг передумал уходить и снова сел, все закри-
чали от радости. Однако, можно, вслед за Суди, интерпретиро-
вать бейт как описание двух отдельных событий, случающихся
в кружке влюбленных: уход и приход друга. Тогда возможен
перевод: «Свеча моего наперсника-сердца гасла, как только он
поднимался, //И среди любующихся поднимался крик, лишь
только он садился». По мнению Ш.-А. Фушекура, бейт воссозда-
ет атмосферу восторга суфиев при созерцании наставника
[Hafez de Chiraz 2006, с. 164-165].
5. «Галийе» (gäliya) — ароматическая смесь черного цвета из
мускуса, амбры, камфары и ряда других компонентов для
умащения волос. «Локоны» — gïsu, длинные волосы, чаще жен-
ские, но также и мужские, обрамляющие лицо с двух сторон; в
поэтическом употреблении — синоним zulf «локоны, кудри»
[Диххуда, ел. ст. Gïsu]; «локон» (zulfi описывается в большинстве
бейтов газели-прототипа ('Ираки). «Басма» (vasma) — расти-
тельный краситель, применяющийся при окраске в черный ]
цвет волос и бровей. j
Локоны и брови друга столь прекрасны, что они придают но- j
вые достоинства галийе и басме — специальным косметическим 1
средствам, созданным для их украшения. Хирави (с. 249) отме- ■
чает, что глагол pîcîd «свилось» содержит дополнительный намек ,
на изогнутость локонов друга, а глагол payvast «соединилась» — ;
на соединенность его бровей, формой напоминающих лук.
6. «Ушедшая жизнь» — <umr-i suda, аллюзия к традиционному j
уподоблению друга «драгоценной жизни» (\imr-i 'azty [Хирави, i
с. 249]; ср. в руба*и Лбу Са*ида: yâd-i tu kanam dil-am ba faryâd {
âyad I nâm-i tu haram 'umr-i suda yâd äyad «Вспоминаю тебя — и
сердце в крик, произношу твое имя — вспоминается ушедшая
жизнь ...» [Лбу Са*ид, Doij-3, Qismat-i sivvum]. «[Костяное] коль-
цо» — säst, кольцо, надеваемое на большой палец при натягива-
нии тетивы, изготовлявшееся главным образом из кости.
Газель 28
^J 1 (JlbulJ ^ jJ (jlîjJa J Л£ (JA viLijJUJ
t Umu ^^^ \û A i UlİLj t. ** и )LAJ '^LIjüû ^ ftj 1
j 4 1 4 bo^ni (JJ jj Jj (^ULûbba ^j£ü
dijut)jj j v"inı^ jljJ cJLual Aj jja (jbj
dı_jataJjb j Jj£ 6 jb aa> ajIâ. -Цк1^ a£
di_uıjj düL^J^ C-iJal Jt j a_^û д-Aİa Vû
t"l >o İ\ jl JjI j Aloijjä. A£ (JJJJ^ (J^-O <J
c^ ^jj л^ ^jjj jl <S
JjÎA j C-Loü j Ôj£ (_£İÛJjuâ JJ CİLoıJ j >«Lİ
(^ja-a Jalİâ» (jl^b jl J H ЭД ^ 2^>*
dj ujj_j оЬЁ jjl j ^ ,ıiL 4a, p Ь ôUS
БаЛг: mujtatt-i mutamman-i maxbün-i maqsür
Vazn: mafä'ilun fa'üätun mafä'üun fa'ilät
ba-jä-ni-xvä j ja-ım-haq-qî/ qa-dl-mu-'ah / di-du-rust
ki-mü-ni-sî/ da-mi-şüb-ham / du-'ä-yi-daw / la-ti-tust
241
242 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
i. Жизнью господина, старинными узами, нерушимым обетом
[Клянусь], что мой наперсник на рассвете — молитва о твоем счастье.
2. Слезы мои, что берут верх над потопом Нуха,
Не смогли смыть со скрижали груди письмена любви к тебе.
3- Соверши сделку и купи это разбитое сердце,
Битое, оно стоит ста тысяч небитых.
4- Язык муравья дотянулся до Асафа, и по праву, |
Ведь господин потерял перстень Джама и не отыскал. \
5- О сердце, не оставляй надежды на беспредельную милость друга;
Коли ты похвасталось любовью, не мешкая, жертвуй головой!
6. Усердствуй в правде, чтобы солнце рождалось от твоего дыхания,
Ведь из-за лжи омрачился лик первого рассвета.
7. Из-за тебя я стал безумцем средь гор и степей, и все еще
Не ослабляешь ты состраданием путы цепей.
8. Не обижайся, Хафиз, и не жди постоянства от прекрасных,
Чем же сад виноват, если такое растение [там и] не росло?!
Комментарий I
1. «Господин» (xväja) — обращение, обычно указывающее на ']
пост вазира [Хирави, с. 209], возможно, имеется в виду покро- ;
витель Хафиза вазир Кавам ад-Дин Хасан [Суди, с. 209]. «Ста-
ринные узы» (haqq-i qadîm, букв, «старинное право», т. е. право
старинной дружбы) и «нерушимый обет» ('ahd-i durust, букв. !
«верный обет») — намек на неизменное покровительство Кавам
ад-Дина и верность Хафиза своему покровителю [Суди, там [
же]. «О твоем счастье» — т. е. о счастье господина; смена грам-
матического лица адресата или объекта описания в пределах ;
бейта образует прием iltifat, см. [Ватват 1985, с. 126]; равно \
возможно, что адресатом второго полустишия является возлюб-
ленный друг [Суди, там же]. Персонификация «молитвы о сча-
стье» как «наперсника на рассвете» основана на традиционном
Хафиз. Газель № 28
243
представлении: предутреннее время наиболее благоприятно для
того, чтобы молитва была услышана.
2. «Нух» — библ. Ной, см. коммент. к газели 9:6. «Берут верх
над потопом Нуха» — гипербола, совмещающая два смысла:
(1) слезы льются обильнее, чем воды потопа («потоп Нуха», т. е.
Великий потоп — традиционная метафора обилия воды);
(2) обильные слезы льются дольше, чем воды потопа (согласно
мусульманским сказаниям о потопе, Нух провел в ковчеге от
пяти месяцев до семи лет, см. [Ибрагим, Ефремова 1996, ее. 64,
339, прим. 35]). «Любви к тебе» (mihr-i tu) — адресатом может
быть как восхваляемый (Кавам ад-Дин), так и возлюбленный
друг [Суди, там же].
3. «Разбитое сердце» (dil-i sikasta) — сердце, полное любви с
ее страданиями и печалями. «Сто тысяч небитых» — şad hazär
durust; durust (букв, «правильный») в значениях «небитый, це-
лый» и «полновесная золотая монета» образует фигуру ïhârn;
второй смысл полустишия: «Битое, оно стоит ста тысяч золо-
тых».
Идея: приласкай мое полное любви сердце, которое стоит ста
тысяч не любивших сердец (золотых монет) — и ты окажешься
с прибылью.
4. «Язык муравья дотянулся» (zabân-i mûr dirâz gast) — т. е.
мурашей обратил упрек [к Асафу] (ср. zabän dirâz kardan — по-
прекать). Асаф — имя министра царя Сулаймана, стало нари-
цательным обозначением мудрого вазира. Во втором полусти-
шии «господин» — Асаф (ср. примеч. к б. 1); Хирави (с. 211) до-
бавляет, что это может быть и сам Сулайман, хотя Суди (с. 213)
считает такое предположение ошибкой. «Перстень Джама» —
имеется в виду перстень Сулаймана, так как легендарный царь
Ирана Джам (Джамшид) и коранический царь Сулайман часто
замещают друг друга в поэтических формулах. В коранических
сказаниях «муравей» и «перстень» связаны с самим Сулайма-
ном, а не с его министром Асафом.
Благодаря предостережениям муравья Сулайман не совер-
шил зла: «(17) И собраны были к Сулайману его войска джин-
нов, людей и птиц, и они распределялись. (18) А когда они
Дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: „О
муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не растопчет вас Су-
244 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
лайман и его войска, не замечая этого". (19) Он улыбнулся, за-
смеявшись от ее слов, и сказал: „Господи, внуши мне быть
благодарным за Твою милость, которую ты ниспослал мне и
моим родителям, и чтобы я делал благо, которое Тебе угодно, и
введи меня Твоей милостью в число рабов Твоих праведных"»
[Коран, 27:17-19]. В «Рассказах о пророках» (qisas al-anbiyä)
добавлено, что Сулайман приказал воинству остановиться,
пока муравьи не скроются в свои жилища [Ибрагим, Ефремо-
ва 1996, с. 268].
Перстень, на котором было начертано имя Бога, наделял Су-
лаймана безграничной властью и способностью понимать язык
зверей и птиц. Однако некий джинн принял образ Сулаймана,
обманом овладел перстнем и захватил трон. Это случилось по-
тому, что по неведению Сулайман допустил идолопоклонство в
своем доме. Лишь после покаяния царя Бог изгнал джинна и
вернул Сулайману царство [Ибрагим, Ефремова 1996, с. 279-
280; Пиотровский 1991, с. 143].
«Язык муравья» — метафора стихов Хафиза, по-видимому,
содержавших некий совет или предостережение. Философы-
мистики противопоставляли «язык муравьев», профанную речь,
доступную всем людям, и «язык птиц», способ выражения, по-
нятный лишь посвященным (см. перевод трактата Сухраварди
«Язык муравьев» [Сухраварди 2006]). Таким образом, ситуация
бейта создается за счет контаминации разных сюжетов: поэт
(ничтожный муравей) осмелился обратиться к великому мини-
стру (Асафу) с предостережением, поскольку тот временно ут-
ратил власть (перстень) и еще не вернул ее. Потеряв «перстень»,
Асаф лишился способности понимать язык «муравья».
Согласно Хирави, потерянный перстень — это не утраченная
власть министра, а уязвленное сердце поэта; Хафиз говорит:
«Вазир разбил мне сердце и не утешил меня, из-за этого мой
язык стал упрекать его» [Хирави, с. 212].
5. «Похвасталось любовью» — тема «хвастовства» любовью
представлена в газелях Са'ди, ср.: «Если он (друг) обнажит
меч — мол, буду крушить влюбленных, //Я первым начну по-
хваляться своей любовью» [Са'ди, Куллийат 1996, с. 606, газель
№411,6. 1].
Хафиз. Газель № 28
245
Идея: друг обратит на тебя внимание, лишь когда ты дос-
тигнешь совершенства в любви, а на этом пути совершенство
достигается принесением в жертву собственной жизни.
6. «От твоего дыхания» (az nafas-at) — т. е. из произносимых
тобою слов [Хирави, с.212; Суди, с. 212]. В бейте обыграны на-
звания этапов наступления утра: şubh-i nuxust/ avvalîn («первый
рассвет») называют также şubh-i kâzib («ложный рассвет»), по-
скольку за ним на некоторое время вновь становится темно, а
настоящий рассвет называют şubh-i sädiq («истинный рассвет»).
Идея: стремись говорить правду (sidq), чтобы твои слова оза-
ряли весь мир, как солнце при наступлении истинного (sädiq)
рассвета; не лги, чтобы не очернить себя, как это происходит с
первым, «ложным» рассветом.
7. «Безумец средь гор и степей» (saydâ-yi küh-u dast) —
Маджнун (букв, «безумный», «бесноватый»), герой сказания о
Лайли и Маджнуне, который, обезумев от любви к Лайли, ски-
тался по безлюдным местам и слагал прекрасные газели; воз-
можно — собирательный намек на двух эмблематических влюб-
ленных, Фархада, пробившего гору (küh) в честь Ширин, и
Маджнуна, скитавшегося по степи (dast) [Суди, с. 213]. «Путы
цепей» — nitäq-i silsila, букв, [затянутый] пояс из цепи, метафо-
ра любовных страданий [Хирави, с. 213] или жестокости воз-
любленной [Суди, с. 213].
Идея: любовь к тебе погнала меня, как Маджнуна, скитать-
ся по горам и степям, но она же привязала меня к тебе цепью,
на которую сажают безумцев, а ты не хочешь облегчить мои
страдания.
8. «Постоянство» — hifâZy производная форма от того же
араб, корня h-f-z> что и литературное имя поэта häfiz; сочета-
ние этих двух слов в строке (фигура iètiqâq, см. [Ватват 1985,
с. 97]) подчеркивает, что постоянство, несвойственное возлюб-
ленному другу, для Хафиза-лирического героя является неотъ-
емлемым качеством (оно оказывается как бы производным от
его имени).
Идея: не обижайся на жестокость возлюбленных и не жди от
них верности, сад красоты не виноват, если Творец-садовник
не посадил в нем такого растения.
246 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Hifäz толкуется как «постоянство, верность» (vafà-dâri) у Суди
(с. 215) и Хирави (с. 213), а в словаре Диххуда (ел. ст.) данный
бейт приведен как иллюстрация значений «целомудрие, воз-
держание от дурных деяний, скромность». Возможно, прием
ïhâm, второй смысл полустишия: «Не обижайся, Хафиз, и не
жди добродетели от похищающих сердца!».
Газель 29
иЛ C-Jİ jji (_£İJJJ 4a. jj uLä j I j La
| uj! jâ. ^jU^ л£ jj£ ûjâ jjua jS ^i
juüI L_Jİİc (JJC- ^û Л£ ajİc ClJJJUu JÄ
^jL_i j£ ôJjJ jJ j jiL J uü 4 ^ (jjjjjuıâl
Cj uil L-ll JJ (jiiJ j\ k ^ (JL^- J J J2kJ
ûj J cj'>" L>^' ^ Ö,J i* Ci' J "' j'^
LİAjüüI L.JİJÄ> (JjİA <JJİ jj A£ aûLûJ (JjLuj <JJ J
Cfi^J J ■* J ^ û J^C5* (J ^ сЭ^а^Олл
cİLuül L-Jİ ft i A x ulj jl jl Jüjj^^aA jLc- I
JjJ (JJ_C t ftbl Ij j J oß^j £ J JJ (JS
dj_juül ujvIS (J3jc- (Jû ac. jt (jjjuj (jjjjl jj
CİLuül LjJİ Jjüü <LûA. (jl^A A£ ^jJİ Jjüü Jİ LİLuü.J
t < ^ ı>
-aj ^1 ^ 11^^ AbLûJ л L-S jû
CJjuiI C_jbj J C_Xİ^. <LûJAJ Jİ JJ <LuJjS (jjl^
jLj jJaj j ClujI ûj j j J^jilfi. jl îA Aa. JââlA
t" * "*1 *. ^ ; '* aUI ajV < . 1>^ Jj-а jjdJ
247
248 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: hazayı mutamman-i axrab-i makfüf-i maqsûr
Vazn: mafulu mafà'ûu mafa'ïlu mafâ'û
mä-rä-zi I xa-yâ-lï-tu / ci-par-vä-yi / sa-râ-bast
хит-дй-sa / ri-xrad-gî-r0 / ki-xum-xâ-na / xa-râ-bast
i. С нами твой образ — к чему заботы о вине?!
Скажи хуму: «Позаботься о себе!», ведь дом хума в упадке.
2. Будь это напиток рая — вылейте, ведь без друга
Для меня любое сладкое питье, что ни дай — сплошная пытка.
3- Ушел, увы, похитивший сердце, и в плачущих глазах
Штрихи образа его пушка — рисунок по воде.
4- О глаз, пробудись, ведь не может быть спасения
От этого нескончаемого потока, что [хлынул] в жилище сна!
5- Возлюбленный друг приближается к тебе не таясь, однако
Он видит посторонних, оттого и закрылся покрывалом.
6. С тех пор, как роза увидела прелесть пота на твоих румяных щеках,
В сердечной муке на огне страсти она утопает в розовой воде.
7- Зеленеют степи и предгорья, давайте не покидать
Источник воды, ибо весь мир — лишь мираж.
8. Не ищи в уголке моего мозга места для наставлений,
Ибо эта каморка заполнена тихим говором чанга и рубаба.
9- Что такого, если Хафиз — влюбленный, ринд и повеса?
Многие странные состояния сопутствуют поре юности!
Комментарий
В диванах Хаджу Кирмани и Камала Худжанди имеются газели
с теми же метром и рифмой, некоторые мотивы из них развиты
или обыграны в поэтических идеях газели Хафиза, см. [Хаджу,
Dorj-3, газель № 97] и [Камал Худжанди 1975, с. 182, № 162].
Хафиз. Газель № 29
249
1. «Образ» — xayâl, букв, «мысленное представление», также
«процесс воображения, мысленного представления», в арабской
лирике — призрак возлюбленной, являющийся ночью к влюб-
ленному [Полосин 1995, ел. ст. Xayâlun]; в персидской поэзии
уже на раннем этапе обозначает воссозданный воображением и
стоящий перед глазами лик возлюбленного друга, грезу о нем,
ср. руба*и Абу Са*ида Майхани (ум. 1048): «Прошлой ночью
страсть к тебе сводила меня с ума, // Прошлой ночью в морях
обоих глаз бушевали волны крови, //В полночь подоспел отряд
грез о тебе (xayl-i xayâl) — // А не то прошлой ночью душа уже
ставила шатер вне [тела]» [Абу Са*ид, Dorj-3, Sawda-yi tu-am dar
junun mîzad düs\. В поэтическом мире мастеров газели (*Ираки,
Руми, Хаджу Кирмани) xayâl становится ключевым понятием:
поскольку вместо лица друга влюбленному дано созерцать лишь
его мысленный образ, все феномены красоты лика также в ко-
нечном счете описываются как «помысленные», а не «увиден-
ные». В Диване Хафиза слово встречается многократно (54
употребления), в основном в значениях «образ лика» (также «ло-
кона», «рта» и т. д.), ср. б. 3 в данной газели и контексты в пер-
вых ста газелях 22:6, 23:1, 38:3, 61:4, 66:4, 84:3, 92:6, реже — в
значении «мечты о ч-л», ср. 44:6, 54:4, 167:5. В газели 161:4 по-
эт говорит о своих стихах как о творениях «пера, порождающе-
го мысленные образы» (kilk-i xayâl-angîz).
«Хум» (хит) — глиняный сосуд для хранения вина, «дом »ума»
(xum-xäna) — питейный дом, кабак. «Позаботься о себе» — sar-i
xvad gïr, букв, «прикрой голову», намек на «голову хума» (sar-i
хит)у т.е верхушку хума, которую замазывали глиной на пери-
од созревания вина. «Пришел в упадок» — xarâb-ast, во втором
значении «сильно пьян» (прием îhâm).
Идея: 1) О друг, твой образ опьяняет так, что мы не нужда-
емся в вине; скажи кувшину — пусть ищет себе другое приме-
нение, ведь питейный дом лишился посетителей; 2) (С учетом
ихамных значений): о друг, скажи кувшину — пусть остается
запечатанным, ведь питейный дом и без него пьян, все посети-
тели опьянены любовью.
2. «Напиток рая» — xamr-i bihist, см. коммент. к газ. 26:6.
«Сладкое» — *azb (букв, «приятное на вкус», обычно о воде), «пыт-
ка» — 'azâb, слова образуют «этимологическую» фигуру istiqâq.
250 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Идея: нам не нужно даже райского вина, ведь его сладость
заставит лишь сильнее ощутить горечь разлуки с другом; ср.
мотив «вино без друга не в радость» в 19:8.
В бейтах 1 и 2 герой-влюбленный доказывает, что ему не
нужно вина, приводя разные мотивировки: потому, что он опь-
янен мысленным образом друга; потому что в разлуке с другом
пить вино — это пытка.
Идея первого бейта и лексика второго представлены в рам-
ках одного бейта из упомянутой газели Хаджу (б. 6): «Пьяный от
любви к тебе в раю и в аду // Огражден от огня и благоденст-
вия и свободен от пытки ('azâb)».
3. «Штрихи» — tahrîr, «тонкие линии, которые наносят на ри-
сунок кисточкой толщиной в несколько волосков (тй-qalam)»,
также «линии, которыми художник обводит рисунок» [Диххуда,
ел. ст. Tahrîr], бейт приведен как иллюстрация этих значений.
«Рисунок по воде» — naqs bar âb, фразеолог. «бесполезное заня-
тие» (naqs bar âb zadan «заниматься бесполезным делом»). Глаза
героя залиты слезами, поэтому образ ушедшего друга «расплы-
вается» в плачущих глазах; даже попытка представить себе
штрихи его пушка — бесполезное занятие (намек на тонкие до
неуловимости черточки пушка на юном лице).
4. «Пробудись» — bîdâr sav, прием ïhàm, второе значение: ,
«будь бдителен, обрати внимание». «Нескончаемый поток» (sayl-i
damädam) — метафора обильных слез (ср. контекст 317:9), а
также — превратностей жизни. «Жилище сна» (manzil-i xväb) —
метафора глаз, а также — бренного мира.
Идея: 1) О глаза, обратите внимание — сплошной поток слез,
который вы проливаете, грозит унести мою жизнь; 2) О глаза, {
очнитесь от сна неведения, ведь нет спасения от превратностей ]
жизни в этом бренном мире. \
5. «Видит посторонних» (ağyar hamîbïnad) — строка содержит
намек на «несовершенство» влюбленного: друг замечает, что тот
не полностью сосредоточен на любви к нему, в его сердце оста-
лись посторонние привязанности. Хуррамшахи (с. 235) усмат-
ривает здесь аллюзию на айат: «Аллаху принадлежит восток и
запад; и куда бы вы не обратились, там лик Аллаха. Поистине,
Аллах объемлющ, ведущий!» [Коран, 2:109 (115)].
Хафиз. Газель № 29
251
Идея: друг являет тебе свою красоту неприкрытой, но сто-
ронние привязанности в твоем сердце оказываются покрова-
ми, мешающими увидеть его. Ср. бейт из другой газели Хафи-
за: «У красоты друга нет ни покрывала, ни завесы, но // Осади
дорожную пыль, чтобы ты смог узреть» [144:7].
6. «Пот» — 'araq, также «экстракт», 'araq-i gui — экстракт из
лепестков розы, другое название которого — gul-äb «розовая
вода». В метафорах бейта обыгрывается процесс получения
«розовой воды»: лепестки алой розы насыпают в котел, залива-
ют водой и кипятят на огне, собирая экстракт из охлаждаемого
пара [Хирави, с. 98]. «Утопает в розовой воде» (garq-i gul-âb-
ast) — также намек на то, что роза от зависти обливается «кро-
вавыми слезами».
При виде капель пота ('araq) на румяных щеках друга алая
роза воспылала такой завистью, что на этом огне стала исто-
чать капли экстракта ('araq), розовую воду (в редакции Ханла-
ри вместо âtas-i sawq «огонь страсти» в комментируемом бейте
âtas-i rask «огонь зависти»). Хуррамшахи (с. 235) считает, что
«розовая вода» здесь — метафора росы: поэт, следуя традиции,
представляет капли росы на розе как проявление зависти и
смятения при встрече с розой лица друга (фигура husn al-ta'lïl
«красивое обоснование»).
7. «Давайте не покидать // Источник воды» — biyâ tâ
naguzârîm // dast az sar-i âb, см. [Диххуда, ел. ст. Dast], бейт
иллюстрирует глагольное сочетание dast az sar-i ciz-ï naguzâs-
tan со значением «не покидать что-либо, не удаляться от края
чего-либо». «Источник воды» — sar-i âb, также «берег ручья»;
традиционное место весенней пирушки — у источника или на
берегу ручья. Возможно, «вода» здесь — метафора вина, и sar-i
âb как «кромка воды» означает край чаши [Рахбар]. «Мираж» —
sarâb, ложный образ источника воды, предстающий перед пут-
ником в пустыне; sar-i âb и sarâb образуют род таджниса, см.
контекст 15:7 и комментарий.
Идея: настала пора весны, когда источники наполняются во-
дой, а чаши — вином, давай наслаждаться этой порой, ведь
мир — мираж, он манит и оставляет ни с чем.
8. «Моего мозга» — dimâğ-am; dimağ («мозг», также «созна-
ние», «настроение»), согласно традиционным натурфилософ-
252 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ским представлениям, dimağ является вместилищем духа (ruh).
«Наставления» — nasihat, призыв совершать деяния, одобряе-
мые мусульманским законом, и не совершать запретных. Хур-
рамшахи относит nasihat к ключевым понятиям Дивана Хафи-
за (ср. газели 35:3, 113:5, 149:8, 315:5, 372:5, 397:2, 402:7); от-
каз прислушиваться к наставлениям комментатор рассматри-
вает как отражение в поэзии Хафиза взглядов malàmatî, об
этих же взглядах свидетельствуют пренебрежение к разуму
('aqlj, рациональному знанию (Ч1т), учению (dars), доброму
имени (näm-u namus) [Хуррамшахи, с. 583-584]. Адресат дан-
ного бейта — тот, кто дает наставления (naşıhat-gü), т. е. пропо-
ведник (vä'iz), законник {faqdi) или аскет (zähidj, ругающий гу- !
ляк-риндов, ср. 26:5, 31:6, 372:5, 397:2. Однако в ряде бейтов
(398:7, 407:5) лирический герой-Хафиз сам дает наставления,
касающиеся правил поведения влюбленного-ринда. j
Само поэтическое обоснование «воспринять наставления не- ;
возможно, так как голова заполнена музыкой» ко времени Ха- ;
физа было хорошо известно. Ср. бейт из газели-прототипа Ха- |
джу, где звучание музыкальных инструментов заменяет герою 1
не наставления, а молитвы: «Моя утренняя молитва — тихий ]
говор напевов чанга, //А мои ночные молитвы звучат голосом 1
рубаба» [Хаджу, Dorj-3, № 97]. В газели-прототипе Камала Худ- |
жанди речь идет уже о советах: «Как же мне слушать твои со- |
веты, о шейх, если словно у лютни ('ûd) // Одно мое ухо обра- j
щено к музыканту, а другое — к рубабу» (б. 5). Ср. также бейт 1
из газели Са'ди с тем же сцеплением мотивов: «Не осталось в J
голове Са'ди из-за звуков руда и веселья // Возможности вме- |
стить еще и наставления благочестивого» [Са'ди, Куллиййат J
1996, с. 479, № 159, б. 6]. |
Я
9. «Повеса» — nazar-bäz, тот, кто имеет склонность и привычку |
смотреть на красивые лица [Хирави, с. 100], см. также контекст |
27:4 (nazar-bäzän «любующиеся»); влюбленный, ринд и повеса |
('äsiq, rind, nazar-bäej — те же характеристики представлены в |
газели 311:2 как «достоинства, которыми я [Хафиз] украшен».
Возможно, продолжение темы предыдущего бейта, разъяс-
нение, обращенное к старикам, пристающим с наставлениями.
Хирави усматривает в бейте указание на то, что газель сложена
Хафизом в молодости [там же].
Газель 30
L_l ULJ_J Jut J
öJj ^ 4_j <Jj jl>_A CJİİ j
•>-*J
»I
I ÔLA ^ ^ A jl>J <
l**î нП1 JJ J «Jj£ <_£jS ôjJûk. J Jj_aJ J JJİ
i"i hi j j j^S jj (jij^ <a. ч£ jxj Ia<jİİj ^jjI
^ Qj 4 A£ ^^.1 jjl-ö ûjSİ * JaC* Лл. L-Jj Ь
dj uı-j-j j!Ë jû j) ^jl—LLLa ^Iaôj*j L
ÇA л m ôJ JJ jJ 4_£ <-у%1 >и dû jj <a, Ljj jia-o
i"i >nn j A j (^Ia jû (JIa j J Ä.j (JaI jj
CLlujIjik <J*^j j .jjjjjJ (Jj^c ^ ù' J* га\ч
*"* -" ; ; j k>\j ^ Jû <ja£ <—ij lu aIj^t
Ba/?r: muzäri'-i axrab-i mahfüf-i maqsûr
Vazn: mafûlu fä'ilätu mafâ'îlu fä'ilät
zul-fat-ha / zä-r°-dü-ba / уа-кг-tä-ra / тй-bi-bast
râ-hî-ha I zä-r°-cä-ra / ga-raz-cä-r° / sü-bi-bast
l- Твой локон одним волоском связал тысячи сердец,
С четырех сторон перекрыл пути тысячам избавителей.
253
254 Хафиз. Филологический перевод (часть 1) j
j
2. Чтобы влюбленные отдали жизнь за веющий от него аромат, ]
Он открыл мускусный мешочек и закрыл дверь надежды. j
I
3. Я впал в буйство, оттого что мой кумир, подобно новой луне,
Показал бровь, покрасовался и закрыл лицо. j
1
4. Виночерпий налил в пиалу многоцветное вино, |
Взгляни на эти картины — как хорошо он нарисовал [их] на тыкве! |
5- О Боже, как же строила глазки бутыль, если кровь хума .1
С воплями «буль-буль» застряла у нее в горле? 1
6. Что за мелодию сыграл музыкант, если за завесой сама' |
Он закрыл дверь ахов и охов перед людьми экстаза и прозрения? ]
7- О Хафиз, всякий, кто не испытал любви и пожелал свидания, |
Повязал ихрам для обхода Ка'бы сердца, не совершив омовения. |
1
Комментарий 1
1. «Волосок» — tara тй> во втором значении «темный волос» 1
(прием ïhâm). «Избавитель» — cara-gar, также «здравомыслящий 1
человек»; по мнению Хирави (с. 199), здесь — метафора разума, i
Идея: другу отданы сердца стольких влюбленных, что их |
приходится по тысяче на каждый волосок, они томятся в путах |
локонов, как безумцы, посаженные на цепь, и никакие доводы |
разума не в силах их исцелить. 1
2. «За веющий от него аромат» — Ъа Ъйу-х nasïm-as; ba Ъйу-х— j
также «в надежде [уловить] его благоухание» (прием ïhâm). «Аро-1
мат» (бу) — метафора вестей от возлюбленного или знака, вну-1
шающего надежду на встречу; ср. контекст 12:5. «Мускусный!
мешочек» — nâfat мускусная железа самца кабарги, а также за-1
вязывающийся кисет для хранения мускуса; метафора благо- 1
уханного кольца локона (ср. газель 1:2 и комментарий). «Закрыл!
дверь надежды» — сделал неосуществимым желание влюбленно- |
го увидеть друга. Друг распустил локоны, душистые, как кисет с 1
мускусом; они распространяют манящий аромат, но скрывают |
лицо друга, заставляя влюбленных «умирать от тоски». |
Хафиз. Газель № 30
255
3. «Впал в буйство» — say da ... sudam, в других контекстах у
Хафиза эпитет saydâ «буйный» относится к таким образам
влюбленного, как соловей (4:3; 254:2) и сердце (112:3; 143:10;
157:6). «Подобно новой луне» — друг на мгновение показывает
из-под локонов полумесяц брови, подобный тонкому серпу но-
вого месяца.
Идея: обезумевший влюбленный впал в буйство при виде
брови друга, так как (1) она показалась всего лишь на мгнове-
ние; (2) она подобна новой луне, а сумасшедшие всегда стано-
вятся буйными в новолуние (об истории мотива «воздействия
новой луны на безумца» см. [Хирави, с. 200-201]).
4. «Многоцветное» — ba cand rang, букв, «нескольких цветов»,
т. е. переливающееся красками; во втором значении «в несколь-
ко приемов» (прием ïhûm). «Тыква» — kadu, также — сосуд из
тыквы в форме пузатой бутыли с узким горлом (kadü-yi şurâhî),
поверхность тыквы нередко покрывали изящным орнаментом, и
такие сосуды использовали для лучших сортов вина; также —
«пиала», «чаша», см. [Диххуда, ел. ст. Kadü]. «Картины ... нарисо-
вал» — naqshä ... bibast; в бейте обыгран сложный глагол naqs
bastan «рисовать»: виночерпий налил в пиалу переливающееся
красками вино; посмотри, какими картинами он разукрасил
тыквенную чашку. Контекст позволяет понять сочетание бук-
вально — «закрыть, запереть рисунок», ср. толкование Суди (с.
227): «... теперь взгляни: дивные узоры, что явлены в пиале, это
те же узоры, что были заперты в тыквенном сосуде».
Рахбар дает мистическую интерпретацию: «Предвечный ви-
ночерпий налил вино в чашу бытия разными способами и соз-
дал различные образы, наделенные красотой и совершенством.
Присмотрись хорошенько, какие красивые формы появляются
из бутыли творения!»; схожую интерпретацию предлагает и
Фушекур [Hafez de Chiraz 2006, с. 200].
5. «Строила глазки» — ğamza kard; Хирави (с. 202) отмечает,
нто С. М. Фарзан предложил толкование «разболтала, насплет-
ничала» (ğamâzî kard), т. е. бутыль, наполняя чашу, выставила
напоказ вино, которое прежде было скрыто в хуме; однако, это
маловероятно, ведь ğamza kardan многократно встречается в
Диване Хафиза и поэтов его круга, и всегда только в значении
(<строить глазки, бросать кокетливые взгляды». «Бутыль» —
256 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
şurâhîy сосуд для вина, см. примеч. к газели 26, б. 1. «Кровь ху-
ма» — xûn-i хит, обычная метафора вина. «Вопли „буль-буль"» —
na'rahä-yi qulquly звуки льющегося из бутыли вина уподоблены
воплям страдания (ср. в редакции Ханлари nağmahâ-yi qulqul
«напевы „буль-буль"»); такие описания встречаются уже у абба-
сидских поэтов, ср. рассказ ас-Сули о случившемся на маджли-
се у халифа ал-Му^тазз-биллаха: «Повелел ал-Му^тазз, чтобы пе-
ред джалисами были поставлены фарфоровые чаши, в которые
было налито приготовленное питье, и перед собой поставил
фарфоровую чашу, в которую налил вина из кувшина. Из кув-
шина раздался булькающий звук, и ал-Му^тазз спросил: „Кто
помнит стихи о таком звуке?"» [Сули 1998, с. 183]. Ас-Сули ут-
верждает, что на эту тему сложено много стихов, и приводит
примеры уподобления «бульканья вина» пению птицы сифрид,
смеху, звучанию свирелей и речи заики [там же, с. 184-185].
Идея: бутыль для привлечения народа к пьянству так красо-
валась и кокетничала, что поперхнулась и вино застряло у нее в
горле [Хирави, с. 202], в бейте дано фантастическое объяснение
того, что молодое пенящееся вино с трудом выливается из узко-
го горла бутыли (фигура husn al-ta'lû «красота обоснования»).
6. «Какую мелодию сыграл» — ci parda sâxt, т. е. «как преч]
красно заиграл» {parda säxtan «играть на музыкальном, пре*1
имущественно струнном, инструменте»); также терминологиче^
ски «в каком ладу сыграл»; ср. употребление parda в газелЙ-j
22:4,9. Sama'— собрание суфиев, сопровождающееся музыкой*;!
пением газелей и ритуальными танцами, участники которого!
доводят себя до состояния экстаза (vajd) и мгновенного прозре^
ния {hâlj; sama* также может обозначать светское пиршество ci
выступлением музыкантов и танцоров [Хирави, с. 203]. «За за*|
весой samä'* (dar parda'-i samä*) — т. е. в скрытом от постороння
них глаз месте, где происходит собрание суфиев (или светска*]
пирушка). «Люди экстаза и прозрения» — ahl-i vajd-u hâl (о су 4
фийском концепте hal см. коммент. к газели 7:2), также «люби-J
тели восторгов и веселья». J
Идея: музыкант в собрании суфиев (на светском пиршествсЙ
заиграл такую красивую мелодию, что суфии (пирующие) пере-^
стали шумно выражать одобрение и целиком обратились в слух, j
Хафиз. Газель № 30
257
7. «Не испытал любви» ('isq navarzîd) — т. е. не прошел путь
любви со всеми его тяготами. Ихрам — ihram, одежда из двух
кусков белого полотна, которого не касалась игла,; в нее поло-
жено облачаться после ритуального омовения для совершения
обрядов главного мусульманского паломничества — хаджжа.
Одним из центральных обрядов является обход Ка*бы (tawf-i
ka'ba). Отступление от установленных мусульманским законом
правил на любом этапе паломничества делает его «несостояв-
шимся». «Katîa сердца» — метафора возлюбленного друга или
его жилища.
Идея: тот, кто не очистился, пройдя через испытания любви,
и претендует на встречу с другом, не разглядит друга сквозь
пелену собственной «загрязненности», встреча окажется «несо-
стоявшейся» (ср. мотив в 29:5 и комментарий).
Газель 31
!а\ Cjjk. Ja) jjjjSaİİ ^jjS c-lİ jl
it S-£j£ <jJ*Ij£ jJ dJjJ jjjIj JjI LjJj Ь
4 -'j *£jU juAj <"i >иЛ j—j (jjjbbJL aj Ij
Cj_ju»I Ц-ïjb CJjb j£j jj ^UÜa, jl (jjj jA
üj L j—a j—£ aIjj jlJÂJJ »1 % AUS
Cj-uil CjAjÔ Jjla JJJ jIä> JjjS (j5jt jA
l-l£JA <J*J iiUjk (JJJJJJJ
Jjj (jJLJbjlc J—J (^ jâ. (ji»Sc
dull L-u (jijjj jA (JliuiA Ij (Jjc» jl <j?ljA jj
C5* f' ^ J J ^ J—*J ^J2 JJ^ (^Ij^J C>
t"l ml l-J—A ja aLI a£ AÛJJİJ JJJ** jİJAİ j
jj j jj jjj Ьх-a CjAj j—J <—£ CjcLuj jl jjjI
4^>* fJJ4 *£ Ja ^jIjj jjä. jIajLi Ь
^—'JcjT* (jT**^ ->-О <> Jj J-^ ^JÜ ^ jl
<"l >nl tj 1 jjj ôJJÂ. JJ jÜaaL*. jl—?. tlijS
^j4 (ЛюЬЬ j\ S 1 4 J <jİ_JİJJ> C-jI
C-Jjaaa Jlfi, Чл. jjjI ^U 4j Ja tÜlS £İ j
258
Хафиз. Газель № 31
259
Bahr: ramal-i mutamman-i maqsür
Vazn: fä 'ilätun fä 'ilätun fä 'ilätun fä 'Hat
ân-sa-bï-qad / ri-ki-дй-уап / dah-li-xal-vat / im-sa-bast
yä-ra-bP-ta' / ti-ri-daw-lat / dar-ku-dä-mV1 / kam-ka-bast
i. Та ночь Могущества, о которой твердят затворники — сегодня!
О Господи, какая же звезда приносит такую удачу?
2. Чтобы волос твоих никогда не коснулись руки недостойных,
Каждое сердце из своего кружка твердит: «О Боже, Боже!»
3- Меня сгубил колодец твоего подбородка, ведь в любом краю
Шеи сотен тысяч душ — под ярмом его округлости.
4- Мой чудо-всадник таков, что луна пред его ликом — хранитель зеркала,
Венец вышнего солнца для него — пыль под копытами скакуна.
5- Взгляни, как блещет пот на его щеках — так что у пылкого солнца,
С тех пор, как оно возжаждало этого напитка, каждый день лихородка.
6. Не отрекусь я от лалов друга и чаши вина,
Простите меня, аскеты, такого уж толка я [придерживаюсь].
7- В тот миг, когда водружают седло на спину ветра,
Где уж мне гнаться за Сулайманом, ведь скакун у меня — муравей.
8. Кто взглядом искоса вонзает мне в сердце дротик,
У того улыбка в уголке губ — бальзам для души Хафиза.
9- С клюва красноречия у него каплет живая вода —
Ворон моего пера, храни его Бог, как превосходно вспоен!
Комментарий
1. «Ночь могущества» — sab-i qadr, ночь ниспослания Корана
в последнюю декаду месяца рамазан. Согласно Корану (97:3-4),
«ночь могущества лучше тысячи месяцев»; считается, что молит-
вы в эту ночь, более действенные, чем молитвы «тысячи меся-
цев», непременно приносят исполнение желаний; здесь — мета-
260 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
фора счастливой ночи (ср. варианты мотива «ночи могущества»
в газелях 183:3 и 206:9). «Затворники» — ahl-i xalvat, здесь — ас-
кеты, следующие путем внешнего благочестия, в уединении чи-
тающие Коран и толкующие его по внешнему (zahir) смыслу, ср.
бейт «Аскет-затворник (zähid-i xalvat-nisïn) вчера отправился в
кабак...» (газель 170:1).
Идея: сегодня — ночь, когда сбывается мое заветное жела-
ние; о Господи, чему я обязан таким счастьем!?
2. «Недостойные» (näsazäyän) — не прошедшие путь любви
(см. комментарий к газели 30:7). «Из своего кружка» — az
xalqa'-i, то есть «из кружка [влюбленных]» (xalqa «кружок, ком-
пания»), а также «из кольца [локона]» (xalqa «круг, кольцо»), о
сердце в плену у локона см., например, 30:1.
Идея: (1) в кружках и собраниях влюбленных молятся о том,
чтобы Господь оградил возлюбленного друга от встречи с не-
достойными; (2) каждое сердце, плененное кольцом локона, мо-
лит Бога не допустить, чтобы эта честь досталась недостойным
соперникам.
3. «Меня сгубил» — kusta-am, букв, «я убит», т. е. я сражен
любовью к твоему подбородку. «Колодец подбородка» — cäh-i
zanaxdän, ямочка на подбородке или углубление между нижней
губой и подбородком, один из феноменов красоты лица; см. об-
работку мотива в газелях 2:6, 12:1, 23:3 и комментарий. «Ок-
руглость» — ğabğab, букв. — «второй подбородок, зоб», по объ-
яснению словаря Ğiyat al-luğât, «непременный признак красоты
лица у полнотелых» (цит. по [Диххуда, ел. ст. Ğabğab]); как фе-
номен красоты наделен совершенной округлостью и уподобля-
ется по форме круглым предметам, особенно часто — нашей-
ному кольцу, ожерелью (tawq).
Идея: вот и меня, как тысячи других влюбленных, погубила
ямка на твоем округлом подбородке.
4. «Чудо-всадник» — sah-savâr, букв, «шах-всадник», т. е. са-
мый искусный и отважный среди всадников, возможно, пер-
сидский эквивалент арабской куньи Шаха Шуджа* — abü-l-
fawäris (букв, «отец всадников»). «Хранитель зеркала» — ä'ina-
där, слуга, в обязанности которого входит держать зеркало (пе-
ред невестой, шахом, высокопоставленным лицом); «луна ...
хранитель зеркала» — т. е. красота луны — отражение красоты
Хафиз. Газель № 31
261
адресата газели; шах Шуджа', по описанию хронистов, был не-
обычайно хорош собой [Хирави, с. 103, со ссылкой на мнение
Гани]. «Венец вышнего солнца» — tâj-i xursïd-i buland, солнце в
зените; выражение можно интерпретировать и как генитивную
метафору: высоко стоящее солнце, подобное венцу мира.
Бейт посвящен восхвалению красоты и высоты положения
адресата, лицо которого прекраснее луны, а путь пролегает
выше солнца (о гиперболических описаниях «высоты положе-
ния» патрона и его власти над светилами в новоперсидских
восхвалениях см. [Рейснер, Чалисова 2007, с. 208]).
5. «Пот» (на щеках) — xvay, входит в число традиционно вос-
певаемых феноменов красоты. «Пылкий» — garm-rav, букв, «го-
рячо бегущий», т. е. «быстрый, стремительный», переноси, «не-
терпеливый влюбленный» [Диххуда, ел. ст. Garm-rav]; «пылкое
солнце» — âftàb-i garm-rav, т. е. быстро бегущее по небу солнце,
также «пылко влюбленное солнце»; внутренняя форма опреде-
ления garm-rav намекает на жар солнца. «Напиток» — 'araq (со-
поставление 'araq «пот, испарина» и 'araq «напиток, розовая во-
да» см. в газели 29:6); эссенция из лепестков розы служит ле-
карством от лихорадки.
Идея: жар, которым солнце каждый день одаряет мир, и его
быстрый бег по небу — следствия лихорадки, которой болеет
солнце; розовая вода пота на щеках возлюбленного — одновре-
менно причина болезни солнца и лекарство от нее (фигура husn
al-ta'lïl «красивое обоснование»).
6. «Лальг» — la'l «рубин», конвенциональная метафора губ,
основанная на уподоблении по темно-красному цвету и блеску,
см. газели 3:6 и 12:10; также — постоянная метафора вина.
«Толк» — mazhab (букв, «путь, способ»), термин, используемый в
разных областях ислама в значении «учение, доктрина», в спе-
циальном значении — богословско-правовая школа, толк; в ис-
ламе насчитывается пять признанных толков (ханафиты, ма-
ликитЫу шафи'иты, ханбалиты, джа'фариты) и ряд ответв-
лений.
Идея: противопоставление двух путей к Богу; mazhab аске-
тов обязывает отречься от вина и красивых лиц, mazhab влюб-
ленных обязывает не выпускать из рук чашу и стремиться к
дику друга.
262 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
7. «В тот миг» — andar ân sä'at, в редакции Ханлари — andar
ân mawkib «в той свите». «Водружают седло на спину ветра» (bar
pust-i sabâ bandand zïn) — намек на сказание о Сулаймане (см.
коммент. к газели 24:7), которого ветер мгновенно переносил с
места на место в сопровождении свиты и войска; ветер упо-
добляется коню, а ковер, на котором восседал во время полета
Сулайман — седлу [Хирави, с. 105]. «Скакун у меня — муравей»
(тйг-ат markab-ast) — муравей фигурирует в нескольких эпи-
зодах сказания о Сулаймане (см., например, [Коран, 27:17-18]),
но не в качестве верхового животного; здесь, как и в газели
28:4 (см. комментарий к бейту), поэт использует элементы об- <
щеизвестного сказания для создания авторской метафоры.
Идея: когда Сулайман (возможно, метафора восхваляемого !
Шаха Шуджа*) отправляется в путь, оседлав ветер, мне с моим i
слабым конем нет места в его свите (возможно, намек на вре-
менное пребывание в немилости у патрона). i
ï
8. «Взглядом искоса» — zïr-casmî, см. [Диххуда, ел. ст. Zır- \
саетпЦ, где наречные значения «с опущенным веком», «уголком j
глаза, украдкой» иллюстрируются только данным бейтом.
«Бальзам» — qût, букв, «пища», нечто, способное оказывать жи-
вотворное влияние.
Идея: одним взглядом друг разбивает мне сердце, а едва за-
метной улыбкой возвращает к жизни [Хирави, с. 105].
В контексте восхваления патрона «подписной» бейт газели,
включающий тахаллус поэта, можно понять и так: повелитель,
который бросил на меня гневный взгляд и тем убил меня, спо-
собен, сменив гнев на милость — одной улыбкой вернуть меня
к жизни.
«Бальзам для души (жизни)» здесь также может быть наме-
ком на просьбу о вознаграждении.
9. «Живая вода» — âb-i hayvan; здесь — метафора стихов,
«оживляющих» душу. «Храни его Бог» — ba nâm fzad (стяжение
из ba näm-i ïzad), букв, «во имя Бога», формула от сглаза [Хира-
ви, с. 105]. «Как превосходно вспоен» — ci €âli-masrab-asty также
«какой высокой природы» (прием İham), в [Диххуда, ел. ст. 'alt- |
masrab] слово иллюстрируется только данным бейтом. «Ворон» и j
«живая вода» — элементы сюжета об Искандаре, который отпра- )
вился вместе с Хизром в страну мрака на поиски живой воды. ■
Хафиз. Газель № 31
263
Согласно одному из вариантов предания, Искандар добрался до
источника воды, наполнил мехи и пустился в обратный путь. Во
время ночлега, когда Искандар спал, прилетел ворон, продыря-
вил клювом мехи и выпил воду. Поэтому вороны обрели столь
долгую жизнь, а Искандар лишился живой воды. По другой вер-
сии, мехи наполнил Хизр и понес Искандару, но в пути его на-
стиг ворон и выпил воду [Хирави, с. 106, с отсылкой на источ-
ник].
Идея: стихи, написанные пером Хафиза, по воздействию по-
добны живой воде, ибо ворон его пера напился воды, т. е. по-
черпнул вдохновение из Божественного источника.
Газель 32
l"l »П J—2 (^1JÄ ^ JJİJİ Jj J ^ JS ^Luü
Jj—S ^jjJalj £ ja> JİjjJ j_J JlL 4_J I ja
J jj ^Lja j jJ AÜ j jjuü a£ û jjuj <аь ^j
-La ùj£ (j——л ^jj^nirt (JÛ j__j 4İU j^
<"1 nij J—J (^LuiS dj£ cJjj J—ui Ь Û£C Л£
J! unj a J ml <_£İ (^ûjJ jSj jL^aj ûj_Â, jJ
J ^lij jJ Л1л1 Jj 4_S j£j Uaâ.
ВаЛг; mujtatt-i mutamman-i maxbun-i maqsur
Vazn: mafä'ilun fa'üätun mafä'ilun fa'ilät
xu-dä-cu-su j ra-ti-ab-гй / yi-dil-gu-sä / yi-tu-bast
gu-sä-di-kä / ri-ma-nan-dar / ki-ris-ma-hä / yi-tu-bast
i. Когда Бог нарисовал твои пленительные брови,
Он связал успех моего дела с твоими взорами.
264
Хафиз. Газель № 32
265
2. Меня и луговой кипарис усадила в дорожную пыль
Судьба, с тех пор как повязала кушаком нарцисс твоей кабы.
3- Сто узлов развязал в нашем деле и в сердце бутонов
Ветерок роз, когда связал сердце с любовью к тебе.
4- Меня вращенье небес заставило согласиться на твои путы,
Но что толку, когда конец веревки оно связало с твоим согласием?
5- Не завязывай узлом мое бедное сердце, словно кисет с мускусом —
Оно связано обетом с концом твоего локона, развязывающего узлы!
6. О ветерок свидания, ты сам уже был свиданием!
Смотри, как оплошало сердце, связав надежды с твоим постоянством.
7. «Из-за твоей жестокости, — я сказал, — я уйду из города!»
Он сказал с усмешкой, мол, иди, Хафиз, разве кто-то связал тебе ноги?
Комментарий
Газель, возможно, посвящена Шаху Шуджа' [Ниру, с. 233].
1. «Нарисовал» — sürat bast; bastan — букв, «связывать», в
семантике глагола содержится намек на «связанную», т. е. со-
единенную на переносице, форму бровей, которая считалась
более совершенной, чем «разъединенная», см. [Рами 2000,
с. 101]). «Пленительные» — dü-gusäyt букв, «открывающие серд-
це», приносящие радость сердцу; «успех моего дела» — gusäd-i
kär-i man, букв, «открытие моего дела». В бейте использована
оппозиция буквальных значений глаголов bastan «связывать,
запирать» и guşadan «развязывать, открывать»: брови, которые
Творец «связал» (нарисовал), сами наделены способностью «раз-
вязывать» (веселить сердце, устраивать дела). Ср. контекст
474:4: «Развязывание [узлов] дела влюбленных — в тех связав-
ших сердце бровях, // Ради Бога, успокойся на миг, развяжи
узел на лбу». «Взор» — kirisma, знак, посылаемый глазами и бро-
вями, подмигивание, взгляд искоса, кокетливый взгляд (ср. по-
говорку ba yak kirisma du kâr «одним взором два дела»).
266 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Идея: создавая твою красоту, Бог предопределил, что мое
счастье и несчастье всегда будут зависеть от движения твоих
глаз и бровей.
2. «Усадила в дорожную пыль» — Ъа xäk-i räh nisänd; бук-
вальный смысл выражения указывает на поэтические локусы
кипариса (растет на обочине дороги) и влюбленного (лежит в
пыли на пути друга); переносный смысл «выбросила на улицу,
оставила ни с чем» указывает на жалкое положение, в котором
оказались и кипарис, и влюбленный. «Повязала кушаком» —
qasab bast; см. [Диххуда, ел. ст. Bastan]t qasab bastan в значе-
нии «повязывать голову чалмой или шалью, повязывать талию
кушаком». «Нарцисс твоей кабы» — nargis-i qabâ-yi tu; метафо-
ра содержит намек на так называемую «нарциссовую кабу»
(nargisîn qabä или qabä-yi nargisî), род накидки с расшитым
кушаком и угольчатым воротником, напоминающим лепестки
нарцисса, которую носили, в частности, лица правящего рода,
см. [Суди, с. 239]. Ср. вариант текста в редакции Ханлари:
qaşab-i zarkas-i (вместо nargis-i) qabä-yi tu bast «повязала злато-
тканым кушаком твою кабу».
Идея: с тех пор, как судьба закончила убранство твоего пре-
красного облика, мы с кипарисом остались ни с чем: я не обрел
твоей милости, а кипарис перестал быть эталоном красоты.
3. «Сто узлов развязал в нашем деле» (zi kâr-i mâ şad girih
bigusüd) — устранил многие препятствия на нашем пути люб-
ви. «[Сто узлов развязал в] сердце бутонов» — [zi] dil-i ğunca [şad
girih bigusüd] — «обрадовал сердца бутонов роз» (girih gusüdan-i
dil «дарование сердцу радости»), заставил бутоны смеяться, т. е.
расцветать (ср. xandïdan «смеяться» в значении «расцветать»);
по традиционным представлениям, цветы расцветают от дуно-
вения весеннего ветерка. «Ветерок роз» — nasim-i gui, здесь —
ветерок, преданный розам, дарующий розам цветение. Ср. ва-
риант текста (Ханлари) nasîm-i şübh «утренний ветерок», кото-
рый Хирави считает предпочтительным, поскольку [в поэзии]
«узлы бутонов развязывает утренний ветерок, а не „ветерок ро-
зы" (nasım-i gül)у который означает „аромат розыа или „ветерок,
который веет от розы"» [Хирави, с. 207].
Идея: весенний ветерок, любитель роз, подул потому, что по-
тянулся к тебе (т. е. твоя красота превосходит красоту роз), его
Хафиз. Газель № 32
267
дуновение принесло цветение бутонам роз и облегчение влюб-
ленному (весть от друга); фигура «красивое обоснование» (husn
аЫаЩ. Использована та же оппозиция, что и в б. 1: ветерок об-
рел способность «развязывать» бутоны из-за того, что сам «при-
вязал» свое сердце к другу.
4. «Конец веревки» — sar-rista, во втором значении «условия,
средства для осуществления дела», в [Диххуда, ел. ст. Sar-rista]
бейт приведен как иллюстрация значения zimämy mahär «пово-
дья» (т. е. то, что управляет осуществлением дела).
Идея: по воле судьбы я согласился оказаться в путах любви к
тебе, но это лишь половина дела, ведь все средства для моего
пленения находятся в твоих руках, а ты не собираешься пус-
тить их в ход.
5. «Не завязывай узлом» — girih mafikan, в переносном смыс-
ле «не чини препятствий, не затрудняй дело» [Диххуда, ел. ст.
Girih] «Кисет с мускусом» — näfa, также мускусная железа, см.
газели 1:2, 30:2 и комментарии; такой кисет туго завязывали
для сохранения аромата; мускусная железа горной козы также,
по традиционным описаниям, состоит из мелких узелков. «Ло-
кон, развязывающий узлы» — zulf-i girih-gusä(y), т. е. завиток
волос, распрямляющийся под воздействием ветерка и распро-
страняющий мускусное благоухание (ср. газель 30:2), также «ло-
кон, устраняющий затруднения» (прием ıTıdm), облегчающий
страдания влюбленного.
Идея: не препятствуй моему сердцу любить тебя, ведь оно —
в плену у твоего локона, а он способен устранять препятствия.
6. «Ветерок свидания» — nasîm-i vişâl, также «аромат свида-
ния», т. е. весть о предстоящей встрече; по мнению Хирави (с.
208) — метафора любых знаков, предвещающих свидание, та-
ких, как взгляды, письма. «Ты сам уже был свиданием» — tu
xvad vişal-i digar budï, букв, «ты сам был другим свиданием», в
редакции Ханлари tu xvad hayät-i digar budï, букв, «ты сам был
Другой жизнью», т. е. ты был дорог, как сама жизнь; этот вари-
ант представлен в большинстве рукописей и рассматривается
как предпочтительный [Рахбар].
Идея: обещания свидания были столь же сладостны, как са-
мо свидание, но оказались обманчивыми.
268
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
7. Тема газели — «неразрывная связь» с другом — здесь до-
стигает кульминации; герой жалуется на жестокость и объявля-
ет себя свободным, а ответ друга содержит двоякий смысл:
«иди, я тебя не держу» и «ты все равно никуда не уйдешь, по-
скольку связан своей любовью» (ср. б. 1).
Тема газели «поддержана» радифом bast, передающим в
разных бейтах оттенки значения «связывать», ср. газель 30, где
речь идет о «препятствиях», и радиф bibast используется для
передачи смыслов «закрывания, преграждения пути».
Газель 33
All ("l^lv <A. Ij4tn 4j LİLuiA CİLuüjJi (^jS ÜJ^
I:
I
i^^U.
I_X
C-L.
—I
-?'J
ou^ <j-J j*&
л J I -%J in 1 \J
^'J
IjS-
ь öl ÛjjI_j ^1
c^_£ JIjjui jä.1
t"l >0 j *1 JİJJUJ q\ JJ j (i П>1 «\ UjL_Jjl
CijujLû (Jjä. Лх-aâ CİJjS t"l m j *1 4 ni 3 r-U^x
l**1 nil l"^!^ 4a LaİJ 4j CİLuüjJ (Jİ jl <^-^J (JJ^
t * "«'
-о»
■*>-£
CJ ui_L
i )l£
fj
-Uli t-i^t-*. <
i Ь 1_^л '
j J <j*^J £jj t_J I j а. Ш (J—^ с ^1
Cj uıl CİJ_^L^ 4_a. LjaUj 4İJâj Cj^jI J^^a
269
270 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ВаЛг: muzäri'-i mutamman-i axrab-i makfuf-i maqsur
Vazn: mafulu fä'ilätu mafä'uu fä'ilät
xal-vat-gu / zï-da-râ-ba / ta-mä-sä-ci / hâ-ja-tast
cün-kü-yi I dû-st-has-t0 / ba-şah-râ-ci / hä-ja-tast
ı. Тому, кто избрал затворничество, разве нужны прогулки?!
Когда есть улица друга, разве нужны луга и долы?
2. Душа моя, во имя того, что нужно тебе от Бога,
Спроси же хоть раз, что нужно нам!
3- О падишах красоты, ради Бога — мы сгорели —
Задай, наконец, вопрос, что нужно нищему?!
4- У нас есть нужда, но для просьбы нет слов,
Разве в чертогах щедрого нужны мольбы?
5- Если ты решил [пролить] нашу кровь — не надо слов!
Когда все добро принадлежит тебе, разве нужен грабеж?
6. Светоносное сердце друга — это чаша, отражающая мир,
Разве в том месте нужно изъявлять свою нужду?!
7- Прошли времена, когда мне нужно было благодарить корабельщика,
Если жемчужина в руках, разве нужно море?
8. Эй, притворщик, поди прочь, мне нет до тебя дела,
[Когда] собрались друзья, разве нужны враги?!
д. Эй, нищий влюбленный, поскольку животворные уста друга
Знают, что тебе причитается, разве нужны просьбы?
ю. О Хафиз, заканчивай, ведь мастерство проявится само,
Разве нужно спорить и ругаться с притворщиком?
Хафиз. Газель № 33
271
Комментарий
Радиф газели — ci hâjat-ast «разве нужно», «что нужно»; бейты
2, 4, 5, 6, 9 содержат и другие выражения с семантикой нужды
или просьбы (ba hâjat-ï, arbäb-i häjat,muhtäjt izhär-i ihtiyäj,
taqâzâ), и в целом газель звучит как настойчивое напоминание
адресату о нуждах его слуги.
1. «Затворничество» — xalvat, терминол. «удаление от людей и
пребывание в одиночестве в течение определенного времени с
целью поклонения и подвижничества» [Хирави, с. 107, со ссыл-
кой на формулировку Фурузанфара в Sarh-i matnavî-yi sarif\. «Лу-
га и долы» (sahra) здесь — место гуляний и развлечений.
Влюбленный мысленно пребывает на «улице друга»; его мыс-
ли не «гуляют», т. е. не отвлекаются на соблазны этого мира, по-
этому он как бы пребывает в затворничестве.
2. «Во имя того, что нужно тебе от Бога» (ba hâjat-ï ki tu-rä
hast bä xudä) — намек на то, что возлюбленный друг не нужда-
ется во влюбленном, со своими просьбами он обращается к Бо-
гу. «Что нужно нам» — mâ-râ ci häjat; можно рассматривать ме-
стоимение та как обозначение множества влюбленных, кото-
рые пытаются привлечь внимание возлюбленного. Однако, mâ
в классической поэзии используется и в значении «я», «меня»,
что нередко встречается и в газелях Хафиза. Тогда речь идет об
одном лирическом персонаже, потерявшем надежду на то, что
предмет его страсти заметит его любовную нужду.
3. «Ради Бога» — xudä-rä, клятва именем Бога в значении
«помоги, спаси!», ср. знаменитое начало газели 5. «Нищий»
(gada) — одно из постоянных обозначений влюбленного, см. га-
зели 5:9; 6:1; 53:3; 77:3; 79:2; 83:2.
Бейты 2 и 3 выделяются значением радифа — «что нужно?»,
а не «разве нужно?», как в остальных бейтах; они близки и по
структуре: в первых полустишиях обращение к адресату сопро-
вождается поминанием Бога, а вторые полустишия практиче-
ски повторяют друг друга.
Идея (б. 2 и 3): о душа моя, о правитель страны красоты, ра-
ди того, чтобы Бог исполнил твои просьбы, снизойди до прось-
бы нищего — лишенного твоего внимания влюбленного.
272 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Обыграно важное для ислама положение о том, что Бог обой-
дется с человеком так же, как тот обходился с просителями и
нищими, см., например, раздел «Книга закята» в «Сахих» ал-Бу-
хари [Бухари 2003, с. 272].
4. «Для просьбы нет слов» — zabän-i su'äl nïst, букв, «для
просьбы нет языка», т. е. мы стыдимся высказать нашу прось-
бу. «Чертоги щедрого» — hazrat-i karim; поскольку karım «Щед-
рый» входит в число «прекрасных имен» Бога, второе полусти-
шие вмещает два смысла: «во дворце щедрого правителя не
нужно прибегать к просьбе» и «Щедрый Господь одаряет без
просьбы» (прием ïhâm, отмечен в [Хирави, с. 108]).
5. «Слова» — qişşa, букв, «рассказ», «сказка», также «жалоба,
обвинение» (ср. qissa bar-dästan «приносить жалобу»), здесь речь
идет об обвинениях в адрес влюбленного.
Идея: если ты пожелал убить меня, убей, моя жизнь целиком
принадлежит тебе, зачем же искать предлог для убийства и не-
справедливо обвинять меня?
6. «Чаша, отражающая мир» — чаша, в которой тайны бытия
становились явными, в поэзии часто упоминается как принад-
лежащая первому царю Джамшиду (см. коммент. к 12:6), одна-
ко в «Шах-нама» упоминается лишь в рассказе о царствовании
его потомка Кай-Хусрава [Фирдоуси 1994, с. 146-147]. «В том
месте» (änjä) — в чертогах друга.
7. Толкование бейта вызывает затруднения. Хирави (с. 109)
пересказывает содержание, не раскрывая метафор: «Я больше
не в долгу перед корабельщиком, который брал меня в море для
добычи жемчуга. Когда у меня есть жемчуг, море мне не нуж-
но». Согласно Суди (с. 247), жемчужина — это встреча с другом
или сам друг, море — улица друга, корабельщик — сторож на
улице друга, его корабль — разрешение пройти. Лирический
персонаж был благодарен сторожу за то, что тот позволил ему
пройти к дому друга, теперь он обрел свидание и больше не
нуждается в его услугах.
Хатми (с. 234) предлагает суфийское толкование: корабель-
щик — духовный наставник, плавание по морю — трудные по-
иски истины, жемчужина — обретение faqr> стоянки «нищеты»
Хафиз. Газель № 33
273
(отказа от всех искушений бренного бытия), достигнув которой,
путник перестает нуждаться в чем-либо.
На наш взгляд, идея бейта такова: кончилось время, когда я
был благодарен разным покровителям, которые помогали мне
добиваться желаемого; теперь я обрел истинную любовь и
больше ни в чем не нуждаюсь. При такой интерпретации бейт
вписывается в контекст газели, развивая тему ее зачина: когда
есть улица друга, все остальное не нужно.
8. «Притворщик» (mudda'î) — т. е. притворный друг, тот, кто
лживо притязает на дружбу, о круге значений этого слова в
Диване см. коммент. к газели 65:6; здесь «притворщик» и «вра-
ги» (a'dä) — это недоброжелатели, завидующие поэтическому
дару Хафиза (тема находит продолжение в завершающем бейте
газели).
9. «Нищий влюбленный» (äsiq-i gada) — т. е. влюбленный, вы-
прашивающий поцелуй, как нищий — милостыню. «Животвор-
ные уста» (làb-i rûh-baxs) — т. е. уста, наделенные дыханием
'Исы, см. коммент. к 36:7. «Знает, что тебе причитается» —
mîdânad-at vazîfa; терминолог. vazifa — «жалованье»; то, что
причитается состоящему на службе от господина, установлен-
ное содержание, включающее денежное жалованье и продукты
питания. Как в бейтах 4 и 6, речь идет о том, что щедрого «дру-
га» не нужно просить, он знает, что у него есть обязанности по
отношению к слуге-влюбленному.
10. «Притворщик» — см. коммент. к б. 8. «Заканчивай» (xatm
кип) — т. е. замолчи; призыв к молчанию — распространенный
способ заканчивать газель (примеры у Хафиза отмечены в
коммент. к 89:9); в суфийской поэзии он в основном связан с
темой «невыразимости истины»; здесь, как и в контексте 44:7,
призыв к молчанию обусловлен нежеланием доказывать сопер-
никам и завистникам свое очевидное превосходство, т. е. вве-
ден в круг мотивов самовосхваления (faxt) поэта.
Газель 34
d_jutfj-j AjLL ajIâ. a£ I û j jà j Laj a jS
Jj (jijij jü jIj^ jl -^ j Jl^- <*-iW <j
di__iuüj_-J 4jb j aIj jjj tj>r» (^lAAİjJal
Jİ_J (J^jÀb Ux^a <JjL çj\ JS L^J ^J <*^Ь
dj ut jj <JlLilc <-5jUI£ <Loä JAÄ. jû л£
j_£ Clll ja. C-l ! <_J La Jj V İ*t*ı ^Ыс-
ı"l mijj <ül Ja. jJ ^JjSb £ jLa (J—Jİ <£
LİL-J_-û jvLa t " 1 1 jJ jl aJj^oİa j—J 4j
£l_ui j_j AjU^Î SjL jL-ä. <j^a!)Lk ^j
^jjİ jA 4 J Jj JAJ ^A J 4_£ ^JJ jl <ja
Cj_uJJJ AjLaÜ j J—3 J$-a 4—J <Jİ jÂ. jJ
jLS cJJJ^İ jljxufri ^1 Ji*l <ş> Jjâ> jj
lIj_jujj_j 4jLj jlj aI j tiüâ jà. ^Jjuijj a£
jL—J ftbl mi J$-Lul ûjİ-L 4_£ <JA l£İ^ <a.
Cl_u»j_j <ül$J <jLjI jJ <_£ Jjä. jjI jl
ùj\ (J-лВJ^ ; (illâ (jjj£l ^"brtU^ JjJjui
t"l mj-J AJİ jj (jâuua (JJJ^i JXjuü 4^
274
Хафиз. Газель № 34
275
Bahr: muftatt-i mutamman-i тахЬйп-i maqsür
Vazn: mafä'ilun fa'üätun mafä'ilun fa'üät
ri-vä-qi-man / za-ri-cas-mï / ma-nä-si-yä / na-'i-tust
ka-ram-nu-mä / vu-fu-rü-dä / ki-xä-na-xä / na-'i-tust
i. Под сводом горницы моего глаза — твоя обитель,
Смилуйся и войди, ведь [этот] дом — твой дом.
2. Красою родинки и пушка ты отнял сердца умудренных,
Непостижимые красоты [скрыты] под твоими силками и зернышком!
3- Да возрадуется твое сердце свиданию с розой, о соловей ветерка!
Ведь повсюду в саду — твоя любовная песнь.
4- Поручи своим устам исцелить наш сердечный недуг,
Ведь это яхонтовое снадобье — у тебя в сокровищнице.
5. Мое тело недостойно счастья служить тебе,
Но чистейшая часть души — пыль с твоего порога.
6. Я не из тех, кто отдаст золото сердца всякому вымогателю,
На дверях сокровищницы — твои печать и подпись.
7- А сам — что ты за куколка, о искусный всадник,
Коли норовистый конь-небосвод послушен твоему бичу?!
8. Куда уж мне, если сам фокусник-небосвод попадает впросак
Из-за тех хитростей, что в твоей плутовской суме.
9- Песни на твоем пиру теперь заставляют небо пуститься в пляс,
Ибо тебе поют стихи сладкозвучного Хафиза.
Комментарий
Газель, возможно, посвящена Шаху Шуджа', см. [Хирави, с. 217,
со ссылкой на мнение др. Гани]; С. Ниру связывает толкование
Ряда бейтов с обстоятельствами пребывания Шаха Шуджа' в из-
гнании, вдали от Шираза [Ниру, с. 357].
276 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
1. «Горница глаза» — manzar-i casm, метафора зрачка [Диххуда,
ел. ст. Manzar]; manzar — помещение или павильон на высоком
месте, например, на крыше дома, предназначенный для любова-
ния видом; см. также [Диххуда, ел. ст. Riväq\> где все сочетание
rivâq-i manzar-i casm («свод горницы глаза») толкуется как «зрачок»;
Хирави (с. 214) понимает это сочетание как «глаз под сводом бро-
ви». «Обитель» — äsyäna, в первом значении «гнездо»; в некоторых
рукописях встречается вариант ästäna «вход, прихожая» [Хирави,
там же]; обсуждение этого разночтения см. [Хуррамшахи, с. 237].
Идея: в моих глазах всегда пребывает твой мысленный об-
раз; смилуйся и явись на самом деле.
2. Похищение сердца уподоблено ловле птиц: пушок — это сил-
ки, а родинка — зерно-приманка (ср. газель 4:4). В эти силки и на
эту приманку попадают даже те, кто давно преодолел соблазны
этого мира. Словом «умудренные» ('ärifän) в мусульманском мис-
тицизме обозначались гностики, постигшие истинную Любовь.
Слова «родинка и пушок», «силки и зернышко» составляют фигуру
laff-u nasr— «сворачивание и разворачивание» [Ниру, с. 357]; по
определению Атауллаха Хусайни (XV в.), эта фигура состоит в том,
что «перечисляют несколько предметов, а затем перечисляют не-
сколько вещей, относящихся к тем предметам, без указания, ка-
кая из вещей относится к какому из предметов, предполагая, что
слушатель [сам] прикрепит к каждому из предметов относящуюся
к нему вещь» (цит. по [Мусульманкулов, с. 51-52].
3. «Соловей ветерка» — bulbul-i sabâ, т. е. соловей, поющий
весной на рассвете, когда дует sabâ. Сочетание можно понять и
как метафору: ветерок, подобный утреннему соловью. ХурЧ
рамшахи (с. 238) называет это сочетание необычным и отмеча-
ет, что в большинстве текстов встречается bulbul-i sahar, т. е.
соловей, поющий на рассвете, что делает строку более понят^
ной. В поэтической конвенции ветерок имеет функцию вест-,
ника, а соловей — влюбленного, и принцип, по которому они
объединены в данном сочетании, не ясен. .;
4. «Снадобье» — mufarrih, букв, «веселящий», в медицине —Ч.;
«укрепляющее лекарство для сердца»; «яхонтовое снадобье» —vi
mufarrih-i yäqut, целебный напиток, в состав которого входил:
тертый рубин и другие драгоценные камни [Диххуда, ел. ст.?
Mufarrih, рубрика Mufarrih-i yäqüt]. Хирави (с. 215) отмечает,
Хафиз. Газель № 34
277
что эти снадобья и даже их рецепты хранились в шахских со-
кровищницах (xazâna), здесь — метафора губ, а также вина.
Смысл бейта: подари поцелуй, только он способен исцелить
любовный недуг.
5. Идея: по причине телесной немощи я не могу состоять у
тебя на службе, но душой я твой смиренный слуга. По мнению
С. Ниру, бейт содержит намек на отказ Хафиза покинуть Ши-
раз и присоединиться к Шаху Шуджа' в Исфагане (или Табризе)
[Ниру, с. 357].
6. «Вымогатель» — swc, букв, «нахальный», «дерзкий», в поэ-
зии — «шаловливый», «капризный», эпитет красавца или красави-
цы. «Сокровищница» — метафора сердца. Двери в сокровищницу
опечатывали восковой печатью с оттиском имени владельца.
Идея: многие хотели бы завладеть сокровищем моего сердца,
но оно принадлежит только возлюбленному другу.
7. «Куколка» — lu'bat, кукла в виде мальчика для детских игр
[Суди, с. 253], метафорич. «красавец, красавица», по мнению
комментаторов, здесь в значении «удивительный», «ловкий»
[Суди, с. 252; Хирави, с. 214]. В бейте обыгран топос панегири-
ческой касыды «правитель управляет движением небосвода, то
есть судьбой». Правитель назван «куколкой» за его красоту, но
риторический вопрос «что ты за куколка?!» восстанавливает и
буквальный смысл слова lu'bat: восхваляемый оказывается уди-
вительной «игрушкой», которая сама играет судьбами мира.
8. «Сума» — aribàna, сумка из сыромятной кожи, в которой
странствующие дервиши или пастухи носят свои запасы. Как и
в предыдущем бейте, речь идет о власти восхваляемого над не-
босводом.
Идея: могу ли я противостоять твоим чарам, если сам небо-
свод, тоже известный фокусник и обманщик, попадается на
твои уловки?!
9. В заключительном бейте поэт вновь говорит о власти над
небосводом, но теперь этой властью наделены его стихи; ср. тот
же мотив в последнем бейте газели 4.
Газель 35
»A jl d_u)l 6û jjâl I^â. 4_£ jl (jb^
v"ı iiüLu&j б Л jjSİ «jA 4__£ duüİ4JLâJ
^U (j^Ä. ^jİ—jlJ I j^û üLujj3 l_j Д—£ Aj
CIjuü jL <J* <jjj jS Aj a \\ r> AaA t*1^jnVl
nijllMiHrt .ЛЛ. L " * -'A jl J—J ^jS (_£İ.j£
jl jl aIIc jj ja jl j—j (3*1^ jjjuüI
Cl) u).
Ci uıûbl l-jIjâ. jl j (j a ^InA ^LujI
J j a£ jb jj ^ j jIad j J L^ Vû
LİLajJİÛ ^Jİ jl (JJİ J JjS (JJ/aA * ^ -»** \j jj
ml^ лЛл ^jj_juA-i j (jljâ^a A il t >fl jjj
Cj_-ujjb ^^5^ I ja (jjjoiàl j 4jLu»à qjI jS
ßa/ir: mujtatt-i mutamman-i maxbün-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafä'üun fa'ilätun mafä'ilun fa'lân
bi-rav-ba-kä / ri-xva-day-vä / 'i-zP-ci-far / yä-dast
ma-rä-fl-tä / d°-di-laz-rah / tu-rä-ci-uf / tä-dast
i. Эй, проповедник, займись своим делом, к чему эта ругань?!
У меня — сердце сбилось с пути, с тобой-то что случилось?!
278
Хафиз. Газель № 35
279
2. Его талия, которую Бог сотворил из ничего —
Такая тонкость, которой не овладел никто из сотворенных.
3- Покуда не осчастливят меня его уста, словно флейту,
Наставления всего света для меня — ветер.
4- Нищий с твоей улочки не нуждается в восьми раях,
Невольник любви к тебе свободен от обоих миров.
5- Пусть опьянение любовью разрушило меня, однако
Основы моего бытия благоустроены этой разрухой!
6. О сердце, не сетуй на несправедливость и гнет друга, ибо друг
Определил тебе такую долю, и потому это — справедливость!
7- Уходи, не плети небылиц и не бормочи заклинаний, Хафиз,
Мне хорошо известны эти небылицы и заклинания.
Комментарий
Авторство газели приписывали Салману Саваджи и включали
ее в его маснави Dâstàn-i Jamsîd-u Xursîd, но иранские филоло-
ги приходят к выводу, что она принадлежит перу Хафиза [Хур-
рамшахи, с. 241, со ссылкой на мнение М. Фарзада, изложен-
ное в JâmV-i nussax-i Häfiz]. Две газели с такими же размером и
рифмой представлены в Диване Низари Кухистани.
1. «Проповедник» (vä'iz) — возможно, намек на 'Имад ад-
Дина Факиха (ум. ок. 1371); этот поэт, автор пяти суфийских
маснави и множества газелей, по сведениям поэтических анто-
логий, был врагом и соперником Хафиза. Хатми называет Фа-
киха «настоятелем ханаки, известным своим лицемерием и ис-
порченностью» [Хатми 1995, с. 230]. «Сбилось с пути» — uftâd az
râh, букв, «упало с пути»; «с тобой-то что случилось?!» — tu-râ ci
uftädy букв, «что у тебя упало?», т. е. что могло случиться у тако-
го благополучного человека, как ты?
Идея: проповедник, не ругай меня за беспутство, я не вла-
стен над своим сердцем, а тебе не дано узнать, что такое ис-
тинная любовь.
280 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. «Сотворил из ничего» (âfarida-ast az hîâj — обычно в поэти-
ческих описаниях талии используется уподобление «волоску», а
«сотворенным из ничего» поэты называют крошечный ротик
друга; ср. у Са'ди: «Я увидел ротик и лишился сознания — // Ты
видишь, как меня погубило ничто (/ггф (цит. по [Рахбар, с. 52]).
Здесь же поэт, заимствуя определение из каталога описаний рта,
использует его для определения другого элемента красоты — та-
лии, за счет чего создается эффект остранения привычного тро-
па. Талия оказывается сотворенной из ничего, т. е. столь тонкой,
словно в ней нет ничего телесного. Хирави (с. 227) усматривает в
первом полустишии намек на распространенное выражение
adam az 'adam-ast «Адам [явлен] из небытия». «Такая тонкость»
(daqîqa'-ï-st) — т. е. «тонкая мысль» (nukta) [Хирави, там же; Хур-
рамшахи, с. 242].
В бейте содержится шутливый комплемент: талия друга
столь тонка, что объяснить это можно лишь особым замыслом
Творца, смысл которого непостижим для смертных; во втором
полустишии — намек на то, что никому из смертных не дано
«открыть», т. е. увидеть талию, прикоснуться к другу.
3. «Пока не осчастливят» — Ъа kâm tâ narasânad, букв, «пока i
не доставят к желанной цели»; кат — также «рот», «гортань», от-
сюда второй смысл «пока не поднесут ко рту», т. е. пока не поце-
луют (прием ïhâm, [Хуррамшахи, с. 243]). «Наставления» —
nasihat; этот мотив уже звучал в б. 1 (оппозиция «проповедник —
влюбленный»), см. также коммент. к 29:8. Слова кат (в значении
«рот, горло») — пйу (флейта, но также «гортань»), bad (дыхание,
дуновение) образуют tanäsub (лексическое соответствие) [Хира- >
ви, с. 227].
4. «Восемь раев» — hast xuld, метафора вечного блаженства.
Согласно мусульманской метафизике, на небесах насчитывает- j
ся восемь раев, семь из которых (xuld, dar al-islâm, dar al-qarär,
jannat-i 'adn, jannat al-ma'vä, jannat al-na'im, 'illïyïn) соответст- <
вуют семи небесным сферам, а восьмой, высший рай, собст-
венно firdaws, расположен на восьмой сфере в эмпирее. «Два
мира» — т. е. мир земной и мир небесный, а также — мир тела
и мир души.
Хафиз. Газель № 35
281
Идея: тому, кто просит милостыню у твоего порога, знак
твоего внимания дороже вечного блаженства; тот, кто пленен
любовью к тебе, избавился от всех иных привязанностей.
5. «Разрушило меня» (xaräb-am hard) — во втором значении
«сделало меня пьяным» (прием ihäm). Хирави (с. 229) видит здесь
намек на знаменитый айат о миссии человека на земле [Коран,
33:72]. «Основы бытия (asâs-i hastı) благоустроены» — т. е. для
истинного влюбленного бытие зиждется на любви.
Идея: вино любви разрушило мою земную жизнь, но это по-
шло мне лишь на пользу, ибо моя связь с другом упрочилась.
Развитие темы б. 4; если там речь шла об отказе от обоих ми-
ров, то здесь — об отказе от самого себя.
6. «Потому это — справедливость» — гп az ân dâd-ast; возмо-
жен иной перевод фразы «это из той [доли] дал» (îhâm отмечен в
[Хуррамшахи, с. 244]). Развитие темы «цены любви» (б. 4, 5): ес-
ли ты отказался от всего ради друга, не жди за это награды, его
жестокость и несправедливость следует ценить как знаки его
внимания к тебе.
7. «Не бормочи заклинаний» {füsun madam) — Хирави (с. 230)
и Суди (с. 258) описывают эту форму волхования как «бормота-
ние под нос и завязывание узлов, на которые потом следует по-
дуть». По мнению Хирави, в бейтах 1-6 речь ведется от лица
влюбленного, а в финале газели заключен ответ возлюбленного
друга (с. 230).
Первое полустишие содержит цитату (фигура tazmin) из га-
зели Салмана Саваджи: «Проповедник, уходи, не плети небылиц
и не бормочи заклинаний, // Разве страдания любви пройдут
от небылиц и заклинаний?» [Салман, Doıj-3, Диван, № 208:6].
Изящество включения цитаты состоит в том, что поэт меняет
адресата: Салман обращается к «проповеднику», а Хафиз — к
самому себе. За счет этого меняется и содержание метафоры. У
Салмана «небылицы и заклинания» — это порицание лицемер-
ной проповеди, а у Хафиза — ироническая характеристика
собственных прекрасных стихов.
Газель 36
<"\ MüUal aJjuÜ КФ\ иП JJ Jj L-UİJ Jju» 13
d-jujjlUàl a j i jù Aju^C. jl ôJ jbjjuu Jj
CİLull JAuu» ûlJjuü (JJC- Jjâ> jj ^JûIa, ani%
lİLutüljât ajShi <ÂuuÜ (JJİ <£ C-LudA (JJİ (j£jl
v"Unj% ^jJİÛ AJaaI (JIÂ. (jl J—J L-ftl j aİ, JJ
Cj uüUâl ^ Aİk jj 4 £ öJjJ <ÜaAJ
Jİ.JC» (jjjjjjà (JJUÂİS JJ j *î (jj^ırtrt С-Й1 j
t" i nülSâl ajaj p Ь jj a£ ^jjjjjüa ("bnj^
(jl—a> (jıüj* ^1 jj ^jj (>ıjA jj ^ Jj
'"* "«^^ a-LuaJ dlujJ JÛ A£ *"*»***I j cŞÎLi,
Lİl_JujLâ> JJ .JJİ jJJ (^lÂ, (JJ (JJİ ûjS Jâ^tA
^ьилиа! Ally* <jS jj <jlj jj ^5jS jjuj jl
*J ^пПГ» (^1 aJİIS J_J J_J J S 4_jLul
duüUâl AJ-ûJ JaC» JJ A£ CJjuUäjJ <ja£c
Cj ±1 Jİ j jl Jjj <jLäILu AjäJS ja. л£ jî
Cj uOUâl ^jLa 4 S ^J—jj ô^Sxû jj jj
j_j jc jb ^1 (JLiaCt Ь I j ôJ—uLJb£ Jâàla»
Cj_ujjlSâl ajjİ ^ fl <»- jj 4_£ dbuojjLaJl
282
Хафиз. Газель № 36
283
Bahr: ramal-i mutamman-i maxbün-i aşlam-i musbağ
Vazn: fâ 'üätun fa 'ilätun fa 'ilâtun fa 'lan
ta-sa-rî-zul J fi-tu-dar-das / ti-na-sî-muf / tâ-dast
di-li-saw-dä / za-da-az-ğuş / şa-du-nî-muf / tâ-dast
1. С тех пор, как кончик твоего локона попал в руки ветра,
Обезумевшее сердце от горя раскололось пополам.
2. Твои колдовские глаза — точь в точь трактат по черной магии,
Но беда в том, что этот список оказался с изъяном!
3. Ты знаешь, что такое эта черная родинка в изгибе твоего локона?
Это чернильная точка, что нашла свое место в кольце джима.
4. Твой мускусный локон в райском цветнике щеки —
Что это? Павлин, что поселился в саду блаженства!
5. О утеха души! Мое сердце в страсти к твоему лицу —
Дорожная пыль, которая попала в руки утреннего ветра.
6. Это бренное тело не способно подняться, подобно пыли,
С твоей улицы, ибо оно прочно осело здесь.
7. Тень твоего стана на моем теле, о наделенный дыханием 'Исы —
Отражение духа, который вошел в «истлевшие кости».
8. Тот, кто обретался лишь в Ка'бе, из-за мыслей о твоих губах
Поселился, я смотрю, у дверей питейного дома.
9. С тоской по тебе, о милый друг, у пропащего Хафиза
Союз был заключен в стародавние времена.
Комментарий
Сквозная тема газели — воздействие красоты друга на влюб-
ленного, как пагубное, так и благотворное; последовательно
упоминаются локоны (б. 1), глаза (б. 2), родинка (б. 3), щека
(б. 4), лицо (б. 5), стан (б. 7), уста (б. 8).
284 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
1. «Обезумевшее» — sawdà-zada, букв, «полное желчи»;
sawdä — черная желчь, одна из четырех «жидкостей тела»
(кровь, светлая желчь, черная желчь и мокрота), преобладание
которой в организме, согласно воззрениям традиционной ме-
дицины, приводило к меланхолии; в поэзии sawdà-zada —
«страстно влюбленный». «Раскололось пополам» — Суди считает,
что «пополам» (du nïm) появилось здесь ради рифмы (nasîm —
du nïm); поскольку локоны в руках ветра распадаются на мно-
жество волосков, уместнее было бы сказать, что и сердце раз-
билось на множество частей [Суди, с. 259]. Отметим, что zul/в
поэзии может выступать как поэтический синоним слова «воло-
сы», но может обозначать и подкрученную прядь волос, спус-
кающуюся с виска; прически с двумя локонами, обрамляющи-
ми лицо, хорошо представлены на миниатюрах, изображающих
прекрасных отроков, если речь в бейте идет о двух взметнув-
шихся на ветру локонах, то выражение «сердце раскололось
пополам» вполне мотивированно.
2. «Трактат» — savâd, букв, «чернота», также «черновик», «ру-
копись», все, что записано чернилами. Черные и чарующие гла-
за уподоблены рукописи, содержащей изложение искусства
черной магии. «С изъяном» — sacfim также «больной»; эпитет
одновременно характеризует и образ сравнения — рукопись с
изъяном, и предмет сравнения — «больные», т. е. прекрасные
глаза (прием fhäm). Изящество приема состоит здесь в том, что
три постоянных поэтических характеристики глаз — чернота,
колдовство, болезнь — использованы в качестве оснований для
уподобления глаз «дефектной» рукописи по черной магии. Суди
(с. 260) отмечает, что слова jädü (колдовство), savâd (чернота,
зд. трактат), sihr (черная магия) и saqîm (с изъяном, больной),
соотнесенные со словом «глаза», составляют фигуру murâ'at-i
nazıг «соблюдение подобия».
3. «Чернильная точка» — nuqta'-i dûda, букв, «точка сажи»,
сажа — основной компонент черных чернил. Jim — буква араб-
ского алфавита jr имеет росчерк, похожий на незамкнутое
кольцо, внутри которого ставится диакритическая точка. В
бейте применены риторические фигуры su'äl vajaväb «вопрос и
ответ» и tasbîh-i xâşş «особое сравнение»: черная родинка и из-
гиб локона из первого полустишия уподоблены чернильной точ-
Хафиз. Газель № 36
285
ке и росчерку буквы fim во втором. Возможно, здесь скрыто упо-
добление родинки «первой точке», т. е. первой капле чернил,
упавшей с Божественного Пера при творении мира, ср. контекст
из «Собеседника влюбленных»: «Исполненные прелести помеща-
ют на странице щеки накладную родинку из свежей амбры для
защиты от дурного глаза. Так, осведомленный вопрошает, изо-
бражая неведение: До с пера Учителя вечности упала точка //В
розарий твоей щеки, или ты поставил ее нарочно?"» [Рами 2004,
с. 193].
4. «Мускусный» — miskin / muskan, т. е. ароматный, благо-
ухающий мускусом; слово, согласно Диххуда, равно употребимо
в значении «черный». «Райский цветник» (gulsan-i firdaws) и «сад
блаженства (bâğ-i na'îm) — два названия рая, см. примеч. к газ.
35:4. «Щека» ('izâr) здесь уподоблена цветнику; это сравнение
традиционно, поскольку поэтические имена щеки — «роза»,
«тюльпан» и «жасмин». Суди (с. 261) считает, что речь идет о
юноше, молодая поросль бородки у него на щеке уподоблена
растениям в цветнике. Сравнение черного локона с павлином,
напротив, необычно; в «птичьем» ряду локон сравнивают с воро-
ном. Описание локона в бейте строится на игре с поэтической
конвенцией: щека — райский сад, и черный локон-ворон, ока-
завшись там, выступает в функции райской птицы, павлина.
«Павлин» (tävus) передает в поэтических формулах смысл «укра-
шающего пребывания», ср. «павлин неба» — солнце, «павлин
рая» — ангел ['Афифи, ел. статьи с первым элементом tävus]. На-
ряду с этим, уподобление локона павлину содержит намек на со-
блазн, таящийся в его красоте, поскольку по одной из версий
предания о грехопадении, дьяволу удалось совратить Адама и
Хавву с помощью павлина, на красоту которого они загляделись
[Ибрагим, Ефремова 1996, с. 328].
5. «Дорожная пыль» — xäk-i räh, букв, «земля дороги», в по-
эзии — метафора униженного состояния человека. Сопоставле-
ние сердца влюбленного с «дорожной пылью» нетривиально, Су-
ди (с. 261) замечает, что поэты им никогда не пользовались.
Предлагаются разные объяснения этого уподобления: сердце
пребывает в смятении, как дорожная пыль на ветру [Суди,
с 262]; сердце летит вслед за возлюбленным, как пыль за иду-
щим по дороге [Хирави, с. 225]; сердце надеется, что ветер от-
286 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
несет его на улицу друга [Рахбар]. В редакции Ханлари во вто-
ром полустишии сказано: «... упала в НОги утреннему ветру»; ;
Ш.-А. Фушекур предпочитает этот вариант, отмечает его связь >
с первым бейтом и поясняет: сердце, как пыль, упало в ноги j
ветру в знак благодарности за то, что он доносит аромат локо- :
нов друга [Hafez de Chiraz 2006, с. 222]. j
6. «Бренное тело» — tan-i xâfcf, букв, «тело из праха». Образ \
бейта построен на ироническом парадоксе: тело создано из пра- \
ха, но не способно подняться с земли и унестись, как пыль — :
столь сильна его привязанность к улице друга. Бейт продолжает !
тему предыдущего: сердце, ставшее пылью, унесено ветром, 1
т. е. пропало, но тело удерживается на месте узами любви. Бей- |
ты 1-5 последовательно описывали телесную красоту друга, |
здесь же читательское ожидание обманывается — речь идет о |
«теле» самого влюбленного. |
7. «Тень твоего стана на моем теле» — намек на позу влюблен- |
ного, распростертого у ног возлюбленного. «Наделенный дыхани- |
ем *Исы» — т. е. способный воскрешать и оживлять; среди чудес |
пророка *Исы (библ. Иисус), перечисленных в Коране, многие так |
или иначе связаны с исцелением или оживлением, ср. упомина- 1
ния об исцелении слепого и прокаженного, воскрешении мерт- |
вых и оживлении дыханием глиняной птицы [Коран, 3:43(48); |
5:110]; в поэзии животворное «дыхание *Исы» стало постоянным |
атрибутом губ восхваляемой или возлюбленной персоны. «Ист- |
левшие кости» — 'azm-i ramim, перифраз коранического выра- 1
жения al-'izam va hiya ramım [Коран, 36:78]. Спорящий с Му- |
хаммадом спрашивает: «Кто же оживит истлевшие кости?», на 1
что Пророку велено ответить: «Оживит их тот, кто создал пона- |
чалу» [Коран, 36:79]. Уподобление тела влюбленного, потерявше- |
го сердце, истлевшим костям продолжает тему бейтов 5 и 6. С 1
этой темой соединено и воспевание стана: даже тень от него
способна воскресить влюбленного.
8. Воспета красота губ, ставшая причиной перехода из дома
Божьего в питейный дом. Поскольку губы обычно уподобляются
рубиновому вину мысли о них привели влюбленного в кабак. В
бейте использован мотив «перемещения из мечети в кабак» (ср.
газель 10:1), типичный для зачина суфийской газели. Хирави
Хафиз. Газель № 36
287
(с. 226) видит в бейте намек на историю шейха Сан'ана, см.
примеч. к газели 17:7.
9. «Пропащий» (gum-süda) — т. е. забывший самого себя из-
за любви. «Союз в стародавние времена» — намек на договор
Бога с человеком, заключенный в предвечности, когда сыны
Адама засвидетельствовали, что Бог — их Господин [Коран,
7:171 (172)], см. также примеч. к газели 24:1.
Газель 37
CJ u>J
^ujjl jl jjjİj c3l*2 ^j 4—^ j—a j
C-l
CJİ^Â. j L-LulA (jijû AilâOA 4j <£ t"UjjS 4a
(jjjij 0j^__ju) jL_ıJblji j H Will ^1 л£
j j* '^ Jôj\fA O*^0 6 J a 1 ^ j tj j—3
Cj ujjUàt <л 4^1û ^jj! jj 4 S Г1 л ıbj
jl (J * ^- jj j jj£ jLj t " t ^ ; < ^*;«v jt ^;
ClujûIj (^ j j ô j j aLİc A-İ j İn \ (j—Jİ a£
^Lu&j bjL (J^i^ jj бЛ i où\ù 4 1 L^-İaj
288
Хафиз. Газель № 37
289
J—£ рииШ jj Çinili 1_S J J ^£C< (jLuuJ
Cj uübjà ^Ia a S Jû ^ <JJj JLb
H^«\ ^)J л-iâJ alının l$\ ^$J1^A <Цк AjlUÄ.
ВаЛг: mujtatt-i mutamman-i maxbun-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafâ'Uun fa'üâtun mafâ'üun fa'lân
bi-yâ-ki-qaş / ri-a-mal-sax / t°-sus-t°-bun / yâ-dast
bi-yâ-r°-bâ I da-ki-bun-yâ / di-'um-r°-bar / bâ-dast
ı. Смотри — до чего непрочны опоры дворца надежды,
Неси вина, ведь вся жизнь опирается на ветер!
2. Я раб помыслов того, кто под синим небосводом
Свободен от всего, что окрашивается в цвет привязанности.
3- Как рассказать тебе — нынче ночью, в кабак, беспробудно пьяному,
Что за благие вести принес мне гонец из сокровенного мира.
4- Мол, о ты, чьи помыслы высоки, о белый сокол с дерева Сидра,
Сей угол в приюте напастей — не для твоего гнезда!
5- Тебя подзывают свистом с верхушки Престола,
Не знаю, что случилось с тобой в этих силках?!
6. Я дам тебе наставление, запомни и примени на деле,
Ибо эти слова я узнал от старца тариката.
7- Не пленяйся этим миром и не забывай моего совета,
Ведь эту премудрость любви я узнал от одного путника.
8. Довольствуйся тем, что дано, и перестань хмуриться,
Коль скоро для нас с тобой не открыта дверь выбора.
9- Не жди верности договору от непрочного по природе мира,
Ведь эта старая карга — невеста тысячам женихов.
290 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ю. В улыбке розы нет и следа постоянства и верности,
Стенай, влюбленный соловей, самое время для рыданий!
п. О слабосильный поэт, что ты завидуешь Хафизу,
Увлекательная мысль и изящное слово — дар Божий!
Комментарий
У Са'ди есть небольшая (14 б.) дидактическая касыда с теми же
метром и рифмой [Са'ди, Куллиййат 1996, с. 791], переклички с
которой заметны в тексте Хафиза.
1. «Смотри» — Ыуа, букв, «приди!»; этот призыв часто исполь-
зуется в газельных зачинах в более широком побудительном зна-
чении («послушай!», «посмотри!», «поверь!»); у Хафиза встречается
чаще, чем у других поэтов [Хуррамшахи, с. 246]. «До чего не-
прочны опоры» (saxt sust-bunyäd) — букв, «с очень слабой опо-
рой», первое значение saxt «сильно» создает оксюморонный эф-
фект («сильно слабоопорны»). Слова biyä «смотри!» и biyàr («при-
неси!») образуют фигуру «ущербный tajnîs», см. [Ватват, с. 90], ср.
тот же прием в бейте 'Аттара: biyâ ki qibla'-i mâ güsa'-i xaräbät-
ast II biyâr bâda ki 'äsiq na mard-i tâmât-ast «Смотри, наша киб-
ла — уголок в кабаке! // Неси вина, ибо влюбленный — не хва-
стун» [Хуррамшахи, с. 245]. «Опирается на ветер» (bunyäd ... bar
bâd-ast): 1) ни на чем не основана; намек на значение bad «ды-
хание»: основа жизни непрочна, она держится на одном дыха-
нии; 2) пропала зря, намек на выражение bar bad rafta «истра-
ченный попусту». Обыгран образ из упомянутой касыды Са'ди:
«Мир стоит на воде, а мудрецы знают, // Что на поверхности
воды нет места для устойчивости и опоры».
Идея: любые надежды на будущее — всего лишь воздушные
замки; мы живем сейчас, поэтому не упустим случая — неси
вина! [Хирави с. 219, Суди, с. 264].
2. «Помыслы» — himmat, см. коммент. к газели 12:12; «я раб
помыслов ...» — guläm-i himmat-i ..., формульное выражение
преклонения перед чьими-либо высокими помыслами и силой
духа, неоднократно встречается в Диване Хафиза (99:9; 130:3;
177:4; 201:7). «Цвет привязанности» (rang-i ta'alluq) — т. е. лю-
бая форма проявления интереса к мирскому. Суди (с. 265) от-
Хафиз. Газель № 37
291
мечает, что эта газель — одна из лучших у Хафиза, а данный
бейт вошел у суфиев в поговорку.
3. «Гонец из сокровенного мира» — surüs-i 'älatn-i ğayb; Sums
(пехл. srös) — зороастрийское божество религиозного послуша-
ния и порядка, «в пехлевийских текстах выступает в качестве
одного из загробных судей, проводящих через мост Чинват ду-
ши праведных» [Чунакова 2004, с. 211]; в поздних зороастрий-
ских текстах Суруш выступает как посланник Всевышнего,
приносящий вдохновение, в мусульманское время — отождест-
вляется с Джабраилом, ангелом, передающим божественные
вести из горнего мира.
4. «Сидра» — дерево, расположенное на седьмом небе по
правую сторону от небесного престола ('ars)> местопребывание
Джабраила. Дальше этого предела нет доступа ни ангелам, ни
пророкам, ни тем более простым смертным; в Коране [53:14]
именуется «Сидра крайнего предела» (sidratu~l-muntakâ)y в пе-
реводе И. Ю. Крачковского «лотос крайнего предела»; иногда
отождествляется с деревом Туба [Хуррамшахи, с. 250]. «Белый
сокол» (sâh-bczz) — метафора чистой души человека. «Приют
напастей» — mihnat-abâd; âbâd (букв, «благоустроенный») обра-
зует многие топонимы (например, Alläh-äbäd), поэтому mihnat-
äbäd с «топонимической» коннотацией (нечто вроде «Горегра-
да») — метафора земного мира, полного страданий и горя. Ср. в
упомянутой касыде Са'ди: «Если ты человек истины, привяжи
сердце к иному миру — // не к развалинам этого мира, приюта
напастей (mihnat-äbäd)U [Са'ди, Куллиййат 1996, с. 792, б. 11].
5. «Подзывают свистом» (safir mızanand) — т. е. подманивают
свистом, как на соколиной охоте; по мнению Суди (с. 267),
имеются в виду ангелы, зовущие к себе лирического персона-
жа. «Верхушка» — hangara, букв, «крепостная стена с зубцами»,
«высокая ограда», здесь — самое высокое место небосвода;
«Престол» — 'are, Престол Всевышнего, который не подлежит
описанию; сведения о разных религиозно-философских трак-
товках {ars собраны в комментарии Хуррамшахи к данному
бейту (с. 250). «Силки» — däm-gah, букв, «место ловушек», этот
мир, в сети обманов которого попадает человек.
Идея: тебя зовут с высот небесного престола, ибо твое место
там, что же удерживает тебя в мире житейских бед и напастей?!
292
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Суди и Хирави подчеркивают, что в этом бейте завершается
речь гонца из мира тайн, однако на CD Lisân al-ğayb деклама-
тор 'Али Мусави Гармаруди интонационно подчеркивает, что и
последующие бейты (6-10) входят в послание свыше.
6. «Старец (pir) тариката» — шейх, наставник, обучающий
способам прохождения Пути, присущим данному направлению
(tarîqat) суфизма (см. коммент. к 10:1); у Хафиза tarîqat может
указывать на путь любви и образ жизни ринда, a pir — обозна-
чать виноторговца [pir-i xaräbät).
7. «Не пленяйся этим миром» — ğam-ijahân maxvar, букв, «не
печалься из-за мира», т. е. не желай мирских благ; «печаль по
миру» (ğam-i jahän) в любовной поэзии составляет оппозицию с
«печалью по другу» (ğam-i yâr), которая вытесняет из сердца
влюбленного все прочие привязанности. «Премудрость» — latïfa,
также «острота», изящный намек, смысл которого не выразим
впрямую [Диххуда, ел. ст.]. «Путник» — rahrav, т. е. тот, кто уже
продвинулся по пути любви. Бейт составляет параллель преды-
дущему (б. 6), в обоих идет речь о передаче совета, полученного
от наставника, ключевые понятия в них синонимичны: вместо
«наставление» (nasihat) — «совет» (pand)y «слова» (hadït) — «пре-
мудрость» (latïfa)у «старец тариката» (pir-i tarîqat) — «путник»
(rahrav).
8. «Перестань хмуриться!» — zijâbïn girih bugsäy, букв, «рас-
крой узлы на лбу!»; «не открыта дверь выбора» — dar-i ixtiyär
nagusâd-ast; противопоставление «раскрой» — «не открыта»
подчеркивает мотивировку наставления: не стоит печалиться
из-за мирских забот, если от нас ничего не зависит. «Выбор» —
ixtiyär, наличие или отсутствие у человека «свободного выбора»
служило предметом дискуссий между философскими школами
ислама; крайнюю позицию (полное отрицание свободы воли) за-
нимали джабариты, с которыми, по мнению иранских коммен-
таторов, и солидаризируется Хафиз [Хирави, с. 222; Хуррамша-
хи, с. 253]. Ср. последний бейт той же касыды Са'ди: «Са'ди, из-
бери (ixtiyär кип) довольствование приказом судьбы, // Ибо ка-
ждый, кто стал рабом велений Господа — свободен!» [Са'ди, Кул-
лиййат 1996, с. 792, б. 14].
Хафиз. Газель № 37
293
9. «Непрочный по природе» — sust-nihâd (ср. с характери-
стикой «дворца надежды» в первом полустишии б. 1), здесь —
«переменчивый, непостоянный». В редакции Ханлари этот бейт
идет сразу после б. 6, с него начинается назидание старца [Хи-
рави, с. 220]. Второе полустишие является цитатой второго же
полустишия бейта 11 дидактической касыды (а не газели, как
указывает Хуррамшахи) Аухади Марагаи (1271-1338), см. [Dorj-
3, Аухади, касыда «mabäs banda'-i ân k-az ğam-i tu âzâd-asb]. В
полустишии — аллюзия к притче об 'Исе, известной по Kimiyâ-
yi sa'ädat Газали [Хуррамшахи, с. 255]. 'Иса увидел мир в обра-
зе древней старухи и спросил: «Сколько у тебя было мужей?»
Она ответила «Не сосчитать!». В другом варианте далее после-
довал вопрос: «Они умерли или развелись с тобой?». Старуха от-
ветила, что убила их всех [Хирави, с. 221]. Ср. контекст в «Бус-
тане» Са'ди: «Не привязывайся сердцем к миру, ибо он — чу-
жак, // Он, как музыкант, каждый день в новом доме. // Ни к
чему веселье с подругой, // Если каждое утро у нее новый муж»
[Са'ди, Куллиййат 1996, с. 226].
10. «Улыбка розы» — момент, когда роза превращается из
бутона в цветок. «Нет и следа постоянства ...» — намек одно-
временно на «жестокость» наделенных красотой и «недолговеч-
ность», бренность самой красоты (обе темы широко представ-
лены в Диване Хафиза). Упоминание о «влюбленном соловье»
(bulbul-i bï-dilj подготавливает тему поэта и вдохновения в фи-
нале газели.
11. «Слабосильный поэт» (sust-nazm, букв, «со слабыми стиха-
ми») — мотив слабости трижды используется в газели: в бейте 1
людские надежды названы sust-bunyäd (букв, «со слабым осно-
ванием»), а в бейте 9 весь мир представлен как sust-nihâd («сла-
бый по природе»). В финале совмещены два смысла благодаря
двум значениям слова nazm «стихи» и «устройство» (прием
îhâm); «слабосильный поэт» — sust-nazm — означает также «сла-
бый по устройству», непрочный. Обращение к слабому поэту
также адресовано и к непостоянному миру, который завидует
таланту Хафиза и посылает ему одни напасти.
Газель 38
Cj uOjLuJ JJJ \jA jjj CİİA.J JÇA fjJ
<"\ >tiljLftJ JJ^jJ 4-ъ1 j^- ' J* ,>aC' JJ
fjj£ 4_S AjjÉ <jaü j j j £İJj ^l£iA
cIloiJIjLuj jjajla a£ AoİjS <jj| jl CjI$jA
(^■LjujIJ^^-aA JjJ ^^>JUJ J IJ <J^\ JJ (JJ^J
J—JjSLj J—J CJJBJ 4__i AÛ (jl Axi lilp jJ
CİLujAjLuJ jjäjj 4ь>л ^jjI dik j jl jjj
lj£-±l j_-J ^jl^aJb djIa l^ya (JLlujI ^)fx-a
lIljujAJLûJ ^jjJİa a£ û^p Ù^J^ Jf^* ÛJ?1
I (JİJJ Ц-Jİ 1^>л anı) jS jj ^>aA jJ
^jLaj jjàxj* Ч£ jj j jSsa (J j^ jS
j-â. A_J di^bjJJ AjjS jl ^C- j JààlA.
^ ^ * < j j AjcIj Ij ôJJ ajLo
L_l U).
Bahr: hazaj-i mutamman-i axrab-i makfüf-i maqsür
Vazn: mafülu mafâ'ûu mafâ'îlu mafä'ü
bi-mih-ri I ru-xat-rü-zi / ma-rä-nü-r° / na-män-dast
vaz-'um-r0 / ma-rä-juz-sa / bi-day-jü-r° / na-män-dast
294
Хафиз. Газель № 38
295
i. Без солнца твоего лика в моем дне не осталось света,
И от жизни не осталось мне ничего, кроме черной ночи.
2. От обилия слез, что я лил, расставаясь с тобой, —
Да удалится такое от твоего лица! — в моих глазах не осталось света.
3. Твой образ удалялся из моих глаз и приговаривал:
«Увы этому уголку, где не осталось благоденствия!»
4- Свидание с тобой отдаляло от меня смертный час,
По милости разлуки с тобой он теперь не далек.
5. Уже близок тот миг, когда твой страж скажет:
«Вдали от твоего лица тот измученный страдалец не остался!».
6. Терпение — вот что поможет мне в разлуке с тобой, однако
Как можно вытерпеть, когда не осталось сил?!
7. Если в разлуке с тобой из моих глаз потечет вода,
Скажи: «Лей кровь сердца, отговорок не осталось!»
8. Хафиз из-за печали не перешел от слез к смеху —
У охваченного скорбью не осталось повода для веселья!
Комментарий
Порядок расположения бейтов в газели в разных редакциях
сильно разнится, кроме того, у Суди и в редакции Ханлари га-
зель состоит не из восьми, а из девяти бейтов.
1. «Солнце» — ттНГу также «любовь», во втором значении —
«без любви к твоему лицу» (прием ïhâm). «Черная ночь» — sab-i
dayjür, название двадцать седьмой ночи лунного месяца, ночи
без луны; также обозначение локонов (в «Собеседнике влюблен-
ных» эта метафора включена в список принятых в поэзии обо-
значений волос [Рами 2000, с. 97]); обыгран поэтический топос
«солнце лика, скрытое во тьме локонов».
2. «Расставаясь с тобой» (hangäm-i vidä'-i tu) — грамматиче-
ская конструкция допускает и перевод «когда ты покидал меня»
[Суди, с. 273]. «Да удалится такое от твоего лица!» — dür az rux-i
29£ Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
tu, букв, «далеко от твоего лица», что комментаторы склонны
считать усеченной охранительной формулой balâ az rux-at dür
bâd «Да удалятся несчастья от твоего лица!». В контекст бейта о
разлуке хорошо вписывается и буквальное значение выраже-
ния, с ним полустишие приобретает смысл: «Вдали от твоего
лица в моих глазах не осталось света». <
3. «Этот уголок» (дйаа) — имеется в виду глаз влюбленного, \
укромное место, где, по лирическим канонам, обитает образ !
друга, когда влюбленный с ним разлучен. В бейте «ситуация ;
разлуки» доведена до предела: героя покидает не только сам
возлюбленный друг, но даже его воображаемый образ. Он ос-
тавляет свое обиталище, потому что из-за слез и отсутствия ..'.
света (о чем сказано в б. 1, 2) глаза героя стали «непригодны
для проживания».
4. «По милости разлуки» (az dawlat-i hajr) — оксюмронное со-
четание придает второму полустишию оттенок горькой иронии:
единственный, кто оказывает мне милость, это разлука с тобой. ■
«Не далек» — dür namända-st, букв, «не остался далеко», здесь pa- \
диф газели namända-st не удалось сохранить в переводе. \
5. «Страж» (raqïb) — слово, встречающееся у Хафиза в двух
значениях, прямом: «сторож у дверей, страж», и переносном — ;
«соперник». В редакции Ханлари вместо «вдали от твоего лица
(rux-at)» дано «вдали от твоей двери (dar-at)»y что мотивирует и ,
присутствие привратника, стража [Хирави, с. 237]. В нашем
варианте повторено выражение из бейта 2 dür az rux-at: «Да
удалится [несчастье] от твоего лица!». Однако, здесь на первом
плане буквальное значение формулы — «вдали от твоего лица»,
речь о том, что в разлуке с другом страдалец не остался в жи-
вых. Фразеологическое значение выражения образует второй
смысл полустишия: «Да не коснется тебя такое! — страдалец
умер». Отметим, что бейт допускает и шутливое буквальное
прочтение: привратник сообщает, что влюбленый не остался
вдали от лика друга, то есть прибыл к нему.
6. Идея: известно, что единственный способ переносить раз-
луку — это проявлять терпение, но разлука с другом столь му- 1
чительна, что и терпение становится нестерпимым.
Хафиз. Газель № 38
297
7. «Потечет вода» — äb-i ravän-ast, букв, «есть текущая вода»,
в редакции Ханлари — ab namänad «воды не останется» [Хира-
ви, с. 237]. В нашем варианте идея бейта такова: влюбленному
подобает плакать кровью сердца; если друг узнает, что это
обычная вода, он вправе упрекнуть влюбленного в лицемерии.
В редакции Ханлари смысл проще: если у влюбленного от дол-
гого плача иссякли слезы, друг вправе потребовать, чтобы он
пролил кровь сердца.
8. «Не перешел от слез к смеху» — az girya napardâxt ba хап-
da, во втором значении: «не оставил слезы, смеясь».
Все бейты газели посвящены разлуке без надежды на встре-
чу. Тема безнадежности, заданная радифом «не осталось», во-
площена в серии образов потерь и погружения во тьму: страда-
ние лирического персонажа таково, что днем для него не све-
тит солнце, вся жизнь подобна безлунной ночи (б. 1), в его соб-
ственных глазах свет померк (б. 2), от слез он перестает видеть
образ друга, т. е. теряет и внутреннее зрение (б. 3), он вот-вот
потеряет жизнь (б. 4-5), он лишается сил терпеть разлуку (б. 6),
его сердце истекает кровью (б. 7), он влачит существование,
полностью погруженный в скорбь (б. 8). Обращает на себя вни-
мание отсутствие в газели «контрапунктных» образов радости,
обычно сопровождающих ситуацию любовных страданий, та-
ких как винопитие, приход весны, красота друга и т. д., что
подчеркивает беспросветность отчаяния, охватившего лириче-
ского персонажа. Выскажем осторожное предположение, что
создание газели может быть связано с неким драматическим
событием в жизни поэта.
Газель 39
di—jüü! jLo£ a£ jl Lû jj^y A_jL_k jLiuui
(^lAjàjS L-IAAa 4 гь. j_j j »il ^hjIj (^1
Cj uil jul* jjjuü jl jSİ^Ia 1 a ıjj 4 CjS
<- * -*1
' Sr»1^ C5^ JJ^ J fè (jn ft 1 Jj^
-^J^d
l\JLa
-i-j jL^L-u.1 j!
Ll_uil jJ jl jJ (jSjLuoS j I J-^ua ^jl jJ ClljJ
I j jSuaU ^ftü^ Ч£ jl J j J—A jS
J Uli
\ i rtl J C-Jİ^i J ni jJ j Abri j ÛİÛ оЛС j ^J
J J J_ul JJ Ад <jİjb j JjjÉ Ад Li jj J*l
ı_J ^jij—k üb jjl j f^&j sjÎ j jl j^S
Cluil j\ (j\+ djLaUâ a£ j>>i4 C-Jİ jl dull jjà
diuı! j a_£I <ш1 (ji i i m 4—S L^ft l-jI Li
Cluil
JJ
cj—& us j j ft ^ l^ j j—j'
1 c5 jjj 4—s c5 J4 *—^—j L
298
Хафиз. Газель № 39
299
<"\ ml j£juJ j ^£juj jl j_JjJ«liL Oj j A <ji£
ßa/ir; muzârï-i mutamman-i axrab-i makfuf-i maqsur
Vazn: mafulufä'üätu mafä'üufä'ilät
bâ-ğî-ma / rä-ci-hä-ja / ti-sar-vû-şa / naw-ba-rast
sam-sä-di / xä-па-par-va / ri-mä-az-ki / kam-ta-rast
ı. К чему моему саду кипарис и сосна?
Кому уступает наш самшит, взращенный в доме?
2. О прелестный отрок, что за религию ты избрал,
Если моя кровь тебе более дозволена, чем молоко матери?
3- Лишь завидишь издали очертания печали — требуй вина!
Мы разглядели болезнь, а лечение предписано!
4- Зачем нам восставать у порога старца-мага,
В том доме — счастье, в тех вратах — разрешение.
5- Печаль любви — повесть одна и та же, но вот что странно:
Из чьих бы уст я ее ни услышал — она не повторяется.
6. Вчера он обещал мне встречу, а в голове у него был хмель,
Что-то он скажет сегодня и что теперь у него в голове?
7- Шираз, где воды Рукна и этот благоуханный ветер,
Не смей хулить, он — родинка на лике семи стран.
8. Есть разница между водой Хизра, чье место во мраке,
И нашей водой, чей исток — Аллах-Акбар!
9- Мы не посрамим нищету и нестяжательство,
Передай падишаху, что дневное пропитание предопределено.
ю.
О Хафиз, что за дивная ветвь твое тростниковое перо,
Если плоды его милее сердцу, чем мед и сахар?!
300 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Комментарий
Сочетание метра muzârï с рифмой -ar-ast было весьма распро-
странено, такие стихи встречаются у многих предшественни-
ков Хафиза: газель у Хакани [Хакани 1996, с. 338], у Хаджу
Кирмани, две у Са'ди [Са'ди, Куллиййат, с. 430, газель № 63;
с. 431, газель № 62], одна у Насира Бухараи, две у Низари Ку-
хистани; две касыды у Захира и одна у Салмана Саваджи, пер-
вые бейты см. [Хуррамшахи, с. 256-257]; такая касыда есть и в
Диване МуЪззи [МуЪззи 1983, с. 126-127]. Тем не менее, имен-
но в данной газели представлена характерная для Хафиза ма-
нера сочетать в рамках одного текста разноплановые и внешне
не связанные мотивы [Hafez de Chiraz 2006, 227]. Поэт исполь-
зует сразу все свои любимые темы: красота, жестокость и не-
верность возлюбленного, вино — лекаство от печали, предан-
ность истинного влюбленного старцу магов, восхваление родно-
го города, изящный намек на вознаграждение, восхваление
своего таланта.
1. Бейт посвящен восхвалению высокого, стройного стана,
тремя привычными иносказаниями для которого в поэзии слу-
жат самшит, кипарис и сосна. «Мой сад» — сад моей души [Су-
ди, с. 278]. «Взращенный в доме» — xâna-parvary также «неж-
ный», «избалованный», т. е. возлюбленный, выросший в холе и
неге, а также образ возлюбленного, лелеемый в доме сердца
влюбленного. «Кому уступает» — az ki kamtar-ast, букв, «меньше
кого»; остроумие риторического вопроса заключается в том, что
в реальности самшит (букс) уступает по высоте и кипарису, и
сосне.
Поэтическая идея бейта опирается на две оппозиции: «высо-
кие деревья (кипарис, сосна) — низкое дерево (самшит)» и
«сад—дом»: самые высокие деревья в саду нашей мысли выгля-
дят низкорослыми по сравнению с самшитом (станом возлюб-
ленного), хотя он и взращен в доме (в сердце).
2. «О прелестный отрок» (ay nazaran pisar) — обычно в газелях
Хафиза пол адресата не проявлен. Прямые обращения к мальчи-
ку встречаются в бейтах-наставлениях и лишь изредка — в лю-
бовном контексте, как в данном случае; см. подробнее [Хуррам-
шахи, с. 257-259]. В редакции Ханлари вместо pisar «отрок»
дан вариант şanam «кумир, идол». «Религия» — mazhab, бого-
Хафиз. Газель № 39
301
словско-правовая школа в исламе, четыре основных мазхаба
(см. коммент. к 31:6) отличались друг от друга в подходе к ре-
шению ряда правовых вопросов, например, в определении
границ «дозволенного» (haläl). «Кровь более дозволена» — соглас-
но исламским законам, пища делится на «дозволенную» и «за-
претную» (hагат), к последней относится «мертвечина, кровь и
свинина» [Кореш, 2:173].
Идея: какую религию отрок избрал, если в ней «пить кровь»
(т. е. мучить влюбленного) дозволено так же, как в исламе доз-
волено материнское молоко?! Этот вопрос подразумевает ответ
«религия любви» (mazhab-i 4sq), т. е. свод законов, определяю-
щих поведение влюбленных.
3. «Очертания печали» — naqs-i дат, см. [Диххуда, ел. ст.
Naqs], где этот бейт иллюстрирует значение naqs «признак, след»;
Суди (с. 279) понимает выражение как чистую метафору «кар-
тина печали». «Разглядели болезнь» (tasxïs karda'-ïm, букв, «поста-
вили диагноз») и «лечение предписано» (mudävä muqarrar-ast)
суть медицинские термины, и в этом контексте «очертания пе-
чали» приобретают также смысл «признаки, симптомы болезни».
Идея: как только ты почувствуешь первые признаки любовной
лихорадки, начинай лечиться вином, это испытанное средство.
Бейт звучит как возражение Са'ди, который во второй из га-
зелей, упомянутых в начале комментария, предлагал в качестве
лекарства терпение: «Мы говорили, мол, излечим любовь терпе-
нием, // Но с каждым днем любви все больше, а терпения все
меньше» (б. 9) [Са'ди, Куллиййат 1996, с. 431, газель № 64, б. 9].
4. «Зачем нам восставать» — sar cirâ kasım, в бейте обыграны
как переносный, так и буквальный смыслы выражения: «зачем
нам проявлять непокорство [перед старцем-магом]» и «зачем
поднимать голову», т. е. вставать с порога его дома. «Разреше-
ние» — gusäyis, образует два смысла (ïhâm): «разрешение трудно-
стей» и «открытость», т. е. разрешение войти [Хирави, с. 130].
Идея: Я не покину порог мага-виноторговца и не выйду из
повиновения ему, потому что он всегда одаряет вином, разре-
шающим все трудности (ср. б. 3).
5. Согласно традиционному толкованию [Суди, 271], повесть
о любви всего одна, поскольку возлюбленный Друг (божествен-
ная сущность) един для всех влюбленных. Каждый влюбленный
302 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
по-своему описывает свои страдания, потому что Друг ведет с
каждым свою особенную игру, каждому являет себя по-новому.
6. «В голове у него был хмель» (dar sar saräb däst) — совме-
щены два смысла: «голова была пьяна» и «голова была полна
мыслями о вине» [Хуррамшахи, с. 259-260]. «Что у него в голо-
ве» (ci dar sar-ast) тоже может быть понято двояко: «о чем он
думает, помнит ли свое обещание» и «не вчерашний ли хмель у
него в голове?».
7. «Рукн» — ручей Рукнабад в предместьях Шираза, ср. также
упоминание в газели 3:2. «Семь стран» — haft kisvar, в древности
иранцы представляли себе мир состоящим из семи стран или
частей: в центре располагался Иран, а остальные шесть его ок-
ружали. «Родинка» — xäl, один из главных признаков красоты
лица; метафора Шираза, украшающего подлунный мир, как ро-
динка — прекрасное лицо.
8. Продолжение предыдущего бейта. «Вода Хизра» — живая
вода, см. коммент. к газели 31:9. «Наша вода» — âb-i mâ, т. е.
Рукнабад, который берет начало в теснине Аллах-Акбар, между
гор Чихил-Макам и Баба-Кухи под Ширазом. «Аллах-Акбар» —
alläh akbar «Велик Аллах!», священная формула; восклицание,
выражающее восхищение (Великий Боже!); возглас муэдзина,
сообщающего об окончании дневного поста и разрешении есть
и пить. Эта же формула использована на рифме в упомянутой
газели Са'ди (б. 7): «Приди, ибо в разлуке с тобой глаза надею-
щегося — // Словно уши постящегося в ожидании alläh akbar*.
Тема бейта — воспевание ручья Рукнабад, чья вода живо-
творнее для Шираза, чем живая вода.
В бейтах 7 и 8 тема прославления родного края реализуется
через восхваление воды Шираза, что в контексте Дивана может
прочитываться как намек на радости винопития и райские ре-
ки с вином, ср. газели 3:2; 101:9; 279:2.
9. «Нищета и нестяжательство» (faqr-u qanä'at) — помимо
лексического, оба слова имеют терминологическое значение в
суфизме, обозначая этапы постижения на пути к Истине. Бейт
предполагает двойное прочтение. С одной стороны, говорится:
мы не унизимся до просьб, блюдя честь нищих и вольных бро-
дяг, ведь Господь посылает пропитание своим рабам. А с дру-
Хафиз. Газель № 39
303
гой — обращение к падишаху содержит завуалированную
просьбу о вознаграждении: раз пропитание предопределено
Господом, падишаху следует выполнить предназначение и
обеспечить поэту пропитание (фигура husn al-talab «красота
просьбы»).
10. «Ветвь» — säx-i nabät, букв, «ветвь растения»; также имя
собст. Шах-Набат, по легенде, имя юной возлюбленной Хафиза;
nabät — также кристаллический сахар, säx-i nabät — изделие
из кристаллического сахара, леденец, формой напоминающий
ветку [Хирави, с. 133]. «Тростниковое перо» — kilk, букв, «тро-
стник». Тема бейта — самовосхваление поэта (faxt): плоды его
пера (газели) слаще меда и тростникового сахара. Ср. также га-
зель 183:7, с которой связана знаменитая легенда о ниспосла-
нии Хафизу поэтического дара: «Весь этот мед и сахар, что
струится из моего слова — // Плата за терпение, за которое
мне дали säx-i nabät». Тема «плодов пера» у Хафиза переклика-
ется с подписным бейтом все той же газели Са'ди: «Са'ди, как
дерево в пустыне, от молнии страсти // Горит, а плоды его сло-
ва все так же свежи».
Газель 40
ü jl J ôJ £ j a jJ A £ À Alull
^—^J^P LSJJ j' J-^ J—J 'J* *£ JJ Ù1 J
djul jla^û <J ^ДД^ l**hnl-> <jl jJ A£ <^л ^jl j
t " 1 > и jl_J_J j j^c» j ^^ jLaaj *LaA La j j
^_lJj^J j fiÜİJJ J Г- j j A S ^ jl j
l ** 1 > и jl j ?J**a jl 4 ^ aJJjSu dbjüjj Ь
(JUL^. A ^ J^_jl A *\ v fl \ j (j£juj Г J^
< '\ ю jl jJ <jL^aS ^j__)l 4_£ JjS ^jljÜj AjjS
C51_iJ 6 j—L ^ 4 j jj i > л J^ jl—j
CİLuüJLJİ (_£и <. fl Л j >j * ^ * ôjLud^.J
<^A jl jb j ^ ь\ ü aİ4İajJ^)J
v"i >n jb j—2 l£^l) г j j——} Су* ôAj^ ^
jl * \ (jjc jj j_Ji (^j^>jI aLS jl
CJ u)
Q J A t Ц.Л Ja âl % J J jj Ml (jljull^ A (^ I
Jj-ul^JJ Л An) jl
304
Хафиз. Газель № 40
305
Bahr: hazayı mutamman-i axrab-i makfùf-i maqsûr
Vazn: mafûlu mafâ'ïlu mafâ'îlu mafä'ü
al-min-na / tu-lü-lah-ki / da-ri-may-ka / da-bä-zast
zän-rü-ki I ma-rä-bar-da / ri-ü-rü-yi / ni-yä-zast
i. Благодарение Богу, что распахнуты двери кабака,
Потому что моя нужда обращена к его дверям.
2. Хумы кипят и бурлят от хмеля,
И то вино, что в них — истина, а не иносказание!
3- В нем — лишь опьянение, гордыня и надменность,
В нас — лишь беспомощность, слабость и мольба.
4- Тайну, что мы не открыли и не откроем постороннему,
Мы открываем другу, ибо он — поверенный тайн.
5- Описание извивов — завиток на завитке — локонов друга
Нельзя сократить, ибо это длинная история.
6. Тяжесть на сердце Маджнуна и завитки кудрей Лай л и —
То же, что чело Махмуда и стопы Айаза.
7. Я заслонил глаза от всего мира, словно сокол,
С тех пор, как мои глаза открыты для твоего прекрасного лика.
8. Каждый, кто входит в Ка'бу твоей обители,
Перед киблой твоих бровей — все равно что на молитве.
9- О друзья, про горение сердца бедного Хафиза
Спросите свечу, что горит и плавится!
Комментарий
Две газели с теми же метром и рифмой имеются в Диване
'Ираки, см. [*Ираки, Dorj-3, газели № 26, 27], их перевод и раз-
бор см. в работе В. А. Дроздова, которая включает перевод и
суфийскую интерпретацию данной газели Хафиза, а также со-
306 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
держит наблюдения о характере отношений между тремя тек-
стами [Дроздов 2008, с. 34-35].
1. В первом полустишии есть иронический подтекст, по-
скольку благодарность Богу приносится за «богопротивное» де-
ло, разрешение торговать вином. «Потому что» — z-ân гй; «моя
нужда обращена» — ma-rä ... rû-yi niyaz-ast, букв, «у меня есть
лицо нужды», Хирави (с. 134) понимает выражение как «я не
стыжусь высказать свою нужду». В бейте дважды повторены
слова dar «дверь» и гй «лицо», что косвенно вводит излюбленный
образ Хафиза «лица риндов, обращенные к двери/порогу каба-
ка», см. газель 10:2. Во втором полустишии слово dar «дверь»
может также означать «порог», тогда при буквальном прочте-
нии ma-rä bar dar-i й rü-yi niyäz-ast возникает смысл (прием
îhâm) «лицо моей нужды — на его пороге», т. е. я униженно
прошу, чтобы двери кабака никогда не закрывались (такого
понимания придерживается Рахбар).
2. В отношении толкования этого бейта комментаторы ра-
дикально расходятся: Хирави (с. 134-135) настаивает на том, ;
что в бейте дается описание реального винного погреба, где в
огромных глиняных сосудах кипит хмельное вино. И это — сок )
лоз, а не какое-нибудь метафорическое «вино божественной \
любви». Однако Рахбар и Суди (с. 286) толкуют понятия «исти- ;
на» (haqïqat) и «иносказание» (majâz) в духе суфийского пости-
жения ('irfan), в котором эти термины употребляются в проти-
воположных значениях: «истина» может относится только к бо- i
жественной реальности, а «иносказание, метафора» — только к ,
земному бытию. Тогда в хумах — естестве паломников на су- \
фийском пути (Рахбар) или душах, влюбленных в Бога (Суди), i
кипит вино божественной любви, а иносказательным становит- |
ся мирское вино, возбуждающее пустые желания (Суди, Pax- 1
бар). Суфийская трактовка данного бейта позволяет понять i
«стремление в кабак» (см. б. 1) как стремление в обитель шейха \
ради обретения вина истины.
3. «В нем» — в возлюбленном друге. С точки зрения конвен-
ции, здесь представлены два типа поведения: возлюбленной
персоны, которой подобает быть хмельной, равнодушной и за-
носчивой, и влюбленного, состояние которого должно описы- '
Хафиз. Газель № 40
307
ваться в терминах страдания, зависимости и желания встречи
[Суди, с. 287].
4. «Тайна» — тайна любви, разглашение которой считается
недостойным влюбленного. Однако скрыть ее для истинного
влюбленного непосильная задача, подобно Маджнуну, он раз-
глашает ее своим поведением и своими стихами. «Друг» и «по-
веренный тайн» (mahram-i гая) — возлюбленный друг (так в пе-
реводе и комментарии Фушекура [Hafez de Chiraz 2006, с. 232],
одновременно — намек на виноторговца или на чашу с вином,
ср. «О Хафиз, кому рассказать о сердечных муках, ведь ныне //
Никого, кроме чаши, не сделаешь поверенным тайны» (газель
334:9). Бейты 5-8, посвященные описанию красоты возлюблен-
ного друга, звучат как рассказ об этой тайне.
5. «Завиток на завитке» (хат andar хат) — обилие завитков
служит указанием на трудности и ловушки, подстерегающие
человека на пути любви. «Длинная история» — намек на длину
волос, а также — на огромное количество распространенных в
поэзии метафор локона (ср. также газель 271:8). В трактате
«Собеседник влюбленных» приведено 100 иносказательных на-
именований локона, а завершается перечисление словами: «Та-
ковы сия длинная история и долгий рассказ, а производных от
этих одинарных [атрибутов] бессчетное множество» [Рами 2000,
с. 97-99].
6. Бейт как бы комментирует предыдущий, в нем уравнены
две знаменитые любовные пары, Маджнун—Лайли и Махмуд—
Айаз; завитки волос Лайли стали причиной сердечного смяте-
ния Маджнуна, а длинные волосы раба по имени Айаз застави-
ли сурового султана Махмуда Газнави склоняться к его ногам; в
поэтических описаниях красоты Айаза особо подчеркивалось,
что волосы его достигали пят: «Шах сказал: „Покажи свой ар-
кан!" // [Айаз] бросил к ногам концы длинных локонов» ['Аттар,
Ilâhî-nâma, Dorj-3, б. 2469].
7. «Я заслонил глаза» — bar-dûxta-am dîda, букв, «я зашил
глаза», образует оппозицию с «мои глаза открыты» (dïda'-i man
... bâz-ast). «Словно сокол» (си bâz) — соколам надевали на голо-
ву колпаки, которые снимали перед самой охотой. Оппозиция
«открытые — закрытые глаза» построена с использованием
308
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
омонимов bâz «сокол» и bâz «открытый», что придает бейту осо-
бое изящество: глаза закрыты, как у сокола (bäz)> с тех пор, как
они открыты (bâz). Два последовательных состояния сокола —
абсолютная слепота перед охотой и совершенная зоркость при
преследовании дичи — присущи герою одновременно: чтобы
его внутренний взор был сосредоточен на образе друга, он дол-
жен стать слепым по отношению к внешнему миру.
8. «Ка'ба твоей обители» (ka'ba'-i küy-i tu) — дом возлюблен-
ного друга, который для влюбленного превращается в дом Бо-
жий; «кибла бровей» — уподобление изогнутых бровей арке
михраба, см. коммент. к газели 10:2.
Идея: поскольку обитель друга — это Ка'ба влюбленных, а его
брови — кибла для них, всякий, кто смог войти в эту обитель и
увидеть брови возлюбленного, словно совершил паломничество
и помолился в мекканском храме.
Бейт возвращается к теме «входа в дом», которой открыва-
ется газель, но если в зачине речь идет о желании лирического
персонажа войти в питейный дом, то теперь оказывается, что
то был лишь первый шаг на пути к дому друга.
9. «Друзья» — majlisiyân, букв, «участники маджлиса, собра-
ния», имеется в виду собрание друзей, дружеская пирушка или
собрание суфиев. Свеча (sam) — непременный атрибут таких
собраний, поэтизируемый в газели. «Горит и плавится» — dar
suz-u gudâz-ast, во втором значении «страдает и мучится» (при-
ем îhâm). Обращение к друзьям содержит скрытый упрек: ни-
кто из них не способен представить себе меру страданий ис-
тинного влюбленного, лишь свеча понимает его состояние. Ср.
бейт из газели Са'ди: «Ни у кого из друзей в собрании сердце не
болело (букв, «не горело») из-за меня, // [Лишь] у свечи, я вижу,
слезы текут по желтому лицу» [Са'ди, Куллиййат 1996, с. 480,
газель № 162, б. 8].
Газель 41
djuül jjj МпГлд л£ ^л JJ^* <-Xjä. l_XjIj Aj
âl Jus* А j Cjj_Ë ^jä j ^Ij—
juüI jjxjI 4-£â ^1_jI A_£ (jij j Jîc Aj
"' JOÙJ^ ^43 cr^'j^ (^ J^* ^
jl LaAİ^p^ л j jj ni j дЛ JÛ L-Jİ <j
1j^ J^ J1^ JJJ J t JJ ?—-J—• ^
t 1 ul
J < j nl â-PjW jjj j' l£j-^ lA^ lSУ**
i**1 ml jjxl c£*^P Aİaa, ^âb jjuı ^jjI с fll >«а Л£
Ù' ^-*' ÜJ—^ ^bojIJJjJJ <0 ^JJ J^^ai
CİLjuiI JJJJJ ^l^ J (_£^>jua£ j ю (J^lôJJJ A£
d) uil J)J^>jj Câj j jI^aj v1i_jjj 4_£ Uj
Bahr: mujtatt-i mutamman-i maxbün-i aslam-i musbag
Vazn: mafä'ilun fa'üätun mafä'ilun fa'lân
a-gar-ci-bä / da-fa-rah-bax / su-bä-d°-gul / bï-zast
ba-bân-gi-can / g°-ma-xvar-may / ki-muh-ta-sib / tî-zast
i. При том, что вино сулит радость и ветерок рассыпает розы,
Не пей вина под звуки чанга, ведь мухтасиб настороже!
309
310 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Даже если и бутыль, и собутыльник окажутся в твоих руках,
Пей с умом, ведь времена грозят смутой.
3- Спрячь чашу в рукав рубища,
Ибо время льет кровь, словно глаз бутыли.
4- Водой из глаз отмоем хирку от вина —
Это сезон благочестия и пора воздержания.
5- Не жди хорошей жизни от перевернутого небосвода,
Ведь то прозрачное, что наверху, смешалось в этом хуме с осадком.
6. Высоко вознесенное небо — кровопролитное сито,
Ибо из него сыпятся головы Хусравов и венцы Парвизов.
7- Хафиз, ты покорил прекрасными стихами Ирак и Фарс,
Иди — теперь черед Багдада и пора Табриза!
Комментарий
1. «Рассыпает розы» — gul-bïz, букв, «сеющий розы», от bïxtan
«сеять, просеивать, сыпать»; ветерок распространяет аромат роз,
т. е. возвещает приход весны. «Мухтасиб» — городской чиновник,
надзирающий за соблюдением норм шариата; также — прозвище
эмира Мубариз ад-Дина Музаффарида, сурово преследовавшего
горожан за несоблюдение запрета пить вино. Мубариз ад-Дин
после продолжительной борьбы с Абу Исхаком Инджу в 1353
(754) г. завоевал Шираз и весь Фарс, в 1359 (760) г. был низложен
и ослеплен, затем на короткое время вновь возведен на трон и
умер в изгнании в 1364 (765) году [Лэн-Пуль 2004, с. 179]. Ком-
ментаторы видят в бейте намек именно на Мубариз ад-Дина [Хи-
рави, с. 139; Хуррамшахи, с. 268; Hafez de Chiraz 2006, с. 235].
Начало газели звучит как вызов традиции: вместо распростра-
ненного в описаниях весны призыва «пейте вино!», поэт призы-
вает к воздержанию, мотивируя это суровостью мухтасиба.
2. «Бутыль» — şurâhi — широкий стеклянный сосуд с узким
горлом, часто делавшийся в форме птицы [Хуррамшахи, с. 271].
«Собутыльник» — h arif f в поэзии употребляется в нескольких
значениях: «соперник», «партнер, товарищ», «сотрапезник», «воз-
Хафиз. Газель № 41
311
любленный, друг»; по мнению Суди (с. 291), здесь подразумева-
ется возлюбленный друг. «Если ... окажутся в твоих руках» —
gar-at ba cang ufiad, во втором значении «если тебе выпадут под
[звуки] чанга» (прием îhâm). «Времена грозят смутой» — т. е. на-
стало время, опасное для тех, кто не соблюдает норм благочес-
тия, и следует проявить осторожность. «Пей с умом» — намек на
то, что блюстителю нравов (мухтасибу — Мубариз ад-Дину) мо-
гут донести на пьющих вино; призыв подчеркнуто парадокса-
лен, он противоречит традиционной трактовке «опьянения» в га-
зельной лирике — человек пьет вино именно для того, чтобы
расстаться с благоразумием, утратить разум.
3. «Рубище» (muraqqa) — одежда аскета, суфия, одна из по-
этических эмблем аскетического образа жизни, о ношении му-
ракки суфиями см. подробно [Худжвири 2004, с. 48-57]. Извес-
тен мотив «обмена рубища на чашу с вином» (см. газель 77:6);
здесь вновь, как в б. 1 и 2, традиционный мотив инверсирован.
«Глаз бутыли» — т. е. горлышко; обыгран известный мотив
«кровавых слез», которыми плачет бутыль, когда из нее нали-
вают вино, например, на весенней пирушке.
Идея: скрывай, что ты пьешь вино, ведь наступило время,
когда за пролитие «крови» бутылки придется платить кровью
собственных глаз.
4. «Вода из глаз» — слезы, в лексиконе газели обычно — «кро-
вавые слезы»; встречающийся у Хафиза «весенний» мотив «от-
мывания рубища вином» (см. газель 16:9), т. е. беспробудного
пьянства, в бейте трансформирован в мотив «отмывания руби-
ща от вина», которое совершается к тому же кровавой «водой
глаз». Отмывание хирки от вина слезами — акт показного благо-
честия, которого требует от героя «особое» время года — «сезон
благочестия», провозглашенный мухтасибом весной, в «сезон роз»
(ср. мотив «поры роз» как времени винопития в газели 43:1).
Идея: когда наступает пора весны, а мухтасиб запрещает
пить вино, остается только проливать слезы.
5. «Перевернутый небосвод» — dawr-i bozgun, также «враж-
дебный» (прием îhâm). Небеса уподоблены перевернутому хуму,
в котором чистое отстоявшееся вино смешалось с осадком, вы-
падающим на дно; «осадок» (durdî) — здесь метафора человече-
ских бед и неприятностей.
312 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
6. «Кровопролитное сито» — pannzxm-ïst xun-afsärv, paruîzan —
также «цедилка» для фильтрации вина; в поэзии paruîzan встреча-
ется как метафора звездного неба [Суди, с. 293]; эпитет xun-afsän
обычно употребляется для описания глаз, проливающих кровавые
слезы. Образ «просеивания сквозь сито» для отделения чистого от
примесей представлен у предшественников Хафиза, ср. у Насира
Хусрава: «Небо просеяло людей — разве ты не видишь — // Мусор
весь остался на поверхности сита» [Насир Хусрав, Dorj-3, касыда
174:19]; у Руми: «Этот мир — сито, мы в нем — как мука, // Если
ты просеялся — ты чистый, если не просеялся — отруби» [Руми,
Диван, Dorj-3, часть 4, газель 515:9]. Хафиз сохраняет рамки об-
раза, но меняет его суть: небосвод представлен в бейте как сито, в
котором ничто не задерживается, которое равно губительно для
всех людей, даже для таких великих правителей, как сасаниды
Хусрав Ануширван (531-579) и Хусрав Парвиз (591-628).
7. «Ирак и Фарс» — т. е. земли Ирана, «Ирак 'Аджамский» с
центром в Исфахане и Фарс с центром в Ширазе. Комментаторы
связывают написание этой газели с историческими событиями
1356/57 гг., очевидцем которых был Хафиз. В 1353 г. Мубариз
ад-Дин Мухаммад Музаффарид (см. коммент. к б. 1) отвоевал у
Инджуида Абу Исхака Шираз и весь Фарс, а в 1356 г. — Исфа-
хан, т. е. покорил «Ирак и Фарс». В дальнейших его планах был
захват Тебриза, принадлежавшего Джалаириду Султану Увайсу;
столицей Джалаиридов в ту пору был Багдад [Хирави, с. 143].
Пожелание поэта самому себе содержит дополнительный ирони-
ческий смысл: «Иди, ты с легкостью покоришь своим пером то,
что правитель завоевывал мечом».
Завершающий бейт газели как бы призывает следовать при-
меру государя. Но как представлены деяния этого государя?!
Это — «мухтасиб», весной запретивший питье вина; его эпоха
«грозит смутой» и «льет кровь» вместо вина, отчего люди льют
«воду из глаз»; нарушен порядок в мире, все смешалось и насту-
пила смута; полетели головы не только простых людей, но и пра-
вителей (возможно, намек на то, что в 1356 г. Мубариз казнил
Абу Исхака Инджу). И в этом контексте maqta* приобретает
прямо противоположный смысл: «Не следуй примеру правителя,
завоевывай мир не пролитием крови, а творением поэзии!».
Газель 42
-ujI Qüj А л nil Hl (Jû J-1Â.
Cj uil ^ıj—A (ıni^*ı <jW*J Jİ
i"i ml (^jA Vni^ Jjj Ij jJ Ь
dujl (Jjjj_A л ni > и JU Ц-Loi jJ
ı"ı ml (JjüjA /ini^Hi ASjauua a£
All (^J—A A^J jß ölJ
t** 1 toi qxj—Ь A*ni^ Ai!AJj jxjuü
ВаЛг: xaflf-i musaddas-i maxbün-i maqsür
Vazn: fä'ilätun mafä 'ilun fa Hlät
hä-li-dil-bä / tu-guf-ta-nam / ha-va-sast
xa-ba-n-dil / si-nuf-ta-nam / ha-va-sast
i. Поговорить с тобой про сердечные дела я жажду!
Услышать новости о своем сердце я жажду!
313
314 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Что за тщетная надежда: разглашенную историю
Утаить от соглядатаев я жажду!
3- Ночь Могущества, столь дорогую и священную,
Проспать с тобой до утра я жажду!
4- Ну и ну — такую изящную жемчужину
Просверлить темной ночью я жажду!
5- О ветерок, помоги мне сегодня ночью,
Расцвести на рассвете я жажду!
6. Для снискания величия — кончиками ресниц
Подметать пыль на твоем пути я жажду!
7- Подобно Хафизу, на зло врагам,
Сложить стихи, подобающие ринду, я жажду!
Комментарий
1. В бейте использован мотив любовной лирики: сердце по-
кидает влюбленного в стремлении к возлюбленному и пребыва-
ет подле него (в завитках его локонов, уголке брови, у порога
дома, на улице, где он живет).
Смысл бейта: ты так давно владеешь моим сердцем, что я
должен узнавать у тебя, что с ним происходит.
2. «Разглашенная история» — qişşa'-i fäs; подразумевается
«разглашение тайны любви», см. разные трансформации этого
мотива в газелях 1:6; 24:3; 40:4 и комментариях к ним. «Согля-
датаи» (raqîbân) — см. коммент. к газели 6:2.
3. «Ночь Могущества» (sab-i qadr) — ночь, когда было начато
ниспослание Корана, считается, что в эту ночь исполняются
желания, поэтому нужно не спать и молиться, см. коммент. к
газели 31:1; в переносном значении — благая, счастливая
ночь.
Ирония бейта кроется в соположении прямого и переносного
смысла выражения «Ночь Могущества»: герой хочет провести с
возлюбленным другом счастливую ночь, в которую исполнится
его заветное желание, при этом он стремится достичь своей це-
Хафиз. Газель № 42
315
ли заведомо неподходящим способом — проспать Ночь Могу-
щества вместо того, чтобы бодрствовать и молиться.
4. «Жемчужина» — традиционная метафора как невесты-
девственницы, так и поэтического смысла (идеи, образа), отсю-
да «просверлить жемчужину» (dur-däna ... sußan) — лишить
девственности [Рахбар, с. 61], а также — воплотить смысл в
слове [Суди, с. 296]. «Такую изящную» — cunin näzuk, также
«такую хрупкую», выбор необычного для «жемчужины» эпитета
шутливо подчеркивает трудность задуманного: просверлить
нечто маленькое и хрупкое в ночной темноте.
Определение для ночи tär — «темная» имеет омонимичное
значение «нить», что дает дополнительную аллюзию: нанизыва-
ние жемчуга на нить — привычный образ создания газели (см.
перевод Пелло и Скарциа [Hafez, Canzoniere, с. 622]).
5. Использован лирический топос: бутоны расцветают под
воздействием ветерка. Стесненное страданием сердце влюб-
ленного зшодоблено тугому бутону; расцвет бутона (sikuftan)
метафорически означает избавление от трудностей, а вете-
рок — это источник радости, поскольку он приносит вести
влюбленным.
Идея: о ветерок, принеси мне к исходу ночи весть о пред-
стоящем свидании, чтобы я встретил рассвет счастливым. Или
[Суди, с. 296]: о ветерок, помоги мне сегодня ночью создать
изящную газель, чтобы утро принесло мне славу.
6. «Подметать пыль кончиками ресниц» — т. е. лежать в пы-
ли на пути друга; предельное унижение в служении возлюблен-
ному для влюбленного — источник величия; ср. использовние
мотива «подметать пыль лицом» в газелях 9:3; 81:4.
7. «На зло врагам» — в газелях Хафиза «врагом» ринда, оли-
цетворяющего лирическое «я» поэта, часто выступает «аскет»
(zähidjy показное благочестие которого противопоставляется
свободному поведению ринда. «Стихи, подобающие ринду»
(sïr-i rindâna) — «непристойные» стихи, воспевающие вино и
земные радости (в переводе Фушекура «un poème libertin» [Ha-
fez de Chiraz 2006, с. 237]), здесь — стихи о чувственных стра-
стях (см. бейты 3-4).
316 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Семантический стержень газели образуется радифом «жа-
жду» havas-asty где havas — также «страсть, вожделение», все
то, что порицают «враги» риндов — суфии, аскеты, проповед-
ники.
Газель 43
<"\ ml (jfiji- £yj№ ^"\1^>r> J CH^î l3J^ £№**$ ù^ >^i
Jj—jua^^û (Jjjj 4 1 л (j\ ^ aUola aJ jA l)>n jl
dl_joj| ^jjjj ^ ^jl JİÛİjA (JjAİjI t / J ^ ^ j| ^ j|
J j_£ jl uj d) î—^J ^-XJAİ cJ Ä_j JE dûjjiSU
ri „il oSj-^L jljlSil Jj JJl& <u_£ JjL j£ <ÜU
(jjuôc ôl J jJ_jl£ üb CİJJİ hi \ IJ <jljS^mj^. pJA
Ci и»! (jfcj^ (jljlûjij ^Iac-luü <1U 1 j Ij t"* '"j^
LİLuiA 4_S (jl J JJ ^Ajuûja, " <~- j! jL JÛ dbuojj
(jij S 4—j j—a! ^IöJİJl j—uıj—ut jl—jj jl
<"\ nil ^jjjj 4 ^jljbSdJuj jl£ ^j$£ jjj yjl jû_-jIS
**** "^ j*j ^ (jl jb (jl^-Ä. сЛ j^ 4—S (^jlJlû Ij
Bahr: ramal-i mutamman-i maqsür
Vazn: fâ 'ilâtun fâ 'ilâtun fâ 'ilâtun fâ 'ilât
şah-ni-bus-tân / zaw-q°-bax-sû / şuh-ba-tî-yâ / rân-xva-sast
vaq-ti-gul-xvas / bä-d0-kaz-vay / vaq-ti-may-xvâ / rân-x?a-sast
ı. Лужайка в саду благодатна, и общество друзей славно,
Да славится пора роз, ведь благодаря ей время у пьяниц — славно!
317
318 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Каждый миг обоняние нашей души наслаждается ветерком,
Да, да! Ведь у охваченных страстью аромат вздохов славен!
3- Роза, не сняв покрывала, засобиралась в дорогу,
Плачь, соловей, стенания раненных в сердце — славны!
4- Славно поющей птице да будет доброй вестью: на пути любви
Стенания тех, кто не спит ночами, для друга — славны!
5- На базаре мира нет веселья, а среди того, что есть,
Обычай риндства и беспечность аййаров — славны!
6. С языка свободной лилии дошло до моих ушей,
Что в этой ветхой обители у необремененных все славно!
7- Хафиз, распрощаться с миром — вот путь к веселью,
Ты не думай, что положение владык этого мира славно!
Комментарий
1. «Пора роз» (vaqt-i gül) — весна. Красота лужайки и друже-
ская пирушка на лужайке — традиционные мотивы «сезонного»
зачина газели (см. коммент. к газели 9:1). В бейте представлен
топос «весна — лучшее время года для винопития».
2. «Каждый миг» — har dam, во втором значении — «[с] каж-
дым вздохом», прием îhâm [Суди, с. 299]. «Охваченные стра-
стью» — havä-därän, букв, «обладающие страстью», т. е. влюб-
ленные; havä — также «воздух», в контексте бейта актуализиру-
ется и второе значение композита havä-där — «владыка возду-
ха», т. е. ветер. Второе полустишие служит, по мнению Суди
(с. 300), «примером-разъяснением» (tamtiïj первого: влюбленные
наслаждаются ароматом ветерка, и это естественно, ведь вете-
рок — и «владыка воздуха» (havä-där), и «охваченный страстью»
(havä-där): он влюблен в розу и приносит весть о ней (ее аро-
мат) другим влюбленным. Диххуда приводит бейт как иллюст-
рацию havä-där [Диххуда, ел. ст.] в значении «друг, сторонник»,
при таком понимании ветерок представлен как друг влюблен-
ных, вздыхающий (веющий) из сочувствия к ним; тогда возни-
Хафиз. Газель № 43
319
кает дополнительный смысл: души влюбленных наслаждаются
дуновениями ветерка как вздохами сочувствующего друга.
3. «Не сняв покрывала» (nagusüda ... niqâb) — не успела рас-
цвести, «засобиралась в дорогу» (âkang-i rihlat saz kard) — вот-
вот увянет, метафора скоротечности весны. «Стенания» — gul-
bäng, буквальное значение композита (gui + bang) — «крики [о]
розе»; соловьиная трель о грядущей разлуке с розой льется из
самого сердца, и потому она прекрасна. О плаче и стенаниях
влюбленных говорится во втором полустишии, однако этот об-
раз имеет лексическую поддержку в первом полустишии: вы-
ражение «засобиралась в дорогу» — ähang-i rihlat söz kard (букв,
«подготовила намерение отъезда») содержит слова, имеющие
«музыкальные» значения, âhang — мелодия, звук; söz — струн-
ный музыкальный инструмент; кроме того, ähang-i rihlat в зна-
чении «мелодия отъезда» служит намеком на звук колокольчика,
возвещающего об отправке каравана и скорой разлуки (см. га-
зель 1:3).
4. «Славно поющая птица» (murğ-i xvas-xvän) — одно из по-
этических имен соловья. «Добрая весть» (basärat) — в газели это
нередко обещание свидания; однако здесь утешением влюблен-
ному служит не известие о свидании, а весть о том, что его жа-
лобы (песни соловья, газели поэта) радуют слух возлюбленного.
5. Аййары ('ayyärän) — городские мошенники, составлявшие
в средневековом Иране особую корпорацию со своими обы-
чаями и нормами поведения, см. подробнее [Хуррамшахи,
с. 350-351; Hafez de Chiraz 2006, с. 243 со ссылкой на труд Cl.
Cahen, Llslam. Des origines au début de l'Empire ottoman, Paris,
1995, с 203-204]; в широком смысле 'ayyâr, как и rind — бес-
страшный и благородный человек, пренебрегающий общепри-
нятыми нормами поведения. Об «обычае риндства» — см. кон-
тексты: 1:6, 2:3, 20:2, 29:9, 42:7.
6. «Свободная лилия» — süsan-i äzäda, согласно словарю
«Burhân-i qâtï», так называют один из четырех основных видов
этого цветка, белую лилию с десятью лепестками, см. [Диххуда,
ел. ст. Susan]. Лепестки лилии уподобляются языкам, и сам
Цветок в поэтической конвенции представляет парадоксальный
образ молчания при наличии многих (часто — десяти или ста)
320 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
языков. См. у Хафиза (343:6): «Жаль, что подобный мне соловей
теперь в этой клетке, // Что с этим сладкозвучным языком я
молчу, словно лилия»; ср. также газель 145:6. X. Рахбар (с. 63)
полагает, что именно с этим представлением связан метафори-
ческий эпитет «свободная» — лилия свободна от пустой болтов-
ни. Но скорее эпитет указывает на отсутствие у лилии бремени
плодов [Суди, с. 301; Хирави, с. 149], ср. устойчивую формулу
sarv-i äzäd «свободный кипарис». «Необремененные» (sabuk-
bärän) — намек на хадис «Необремененные спаслись, а нагру-
женные погибли» (Рахбар, там же).
Идея: многоязыкая лилия молчит, но сама ее «свобода» как
бы напоминает об известной истине — в этом мире счастлив
лишь тот, кто не обременен мирскими привязанностями.
7. Бейты 5-7 объединяет тема отказа от погони за преуспея-
нием как единственного условия благополучия в мире. В дан-
ной газели хорошо представлено характерное для Хафиза «пе-
реплетение» мотивов разных тематических регистров: для обос-
нования поведения риндов и аййаров использованы мотивы
«отрешения от мира» и «жалоб на судьбу» (zuhdiyaty sikäyat).
Тема веселой и разгульной жизни риндов и аййаров под-
черкнута употреблением слова xvas «славно», также «хорошо,
приятно, прекрасно», входящего в радиф газели xvas-ast и по-
вторенного внутри бейтов в разных оттенках значений: xvas
bäd, да славится (б. 1), xvas mïsavad, наслаждается (б. 2), xvas-
xvän, славно поющая (б. 4), xvas-diliy веселье, xvas-bäsx, беспеч-
ность (б. 5) и xvas-dilî, веселье (б. 7).
Газель 44
J—*
l_Sl
U J J
t al Лч ı аЛч ı*t^ \ «
^ji^jJ (jjjj^ ı"hnjı *£^ I j jj ı M» n j JjJ 4j
Cj ujI L-İÜalI JJC J j£ U ^JLm A ^ jA a£
j j-£«j jl£ (jjjba Ujc
-*jl3-
-U i
JJ*
jjI L-ili L_j L-fllâ j ^j\ n>Vı -uijS ("ij>/i ч£
Clutl l_İİ_jIjJJJ J JjJJJ t**1 Ù £ ^ (jLuA
Ü'>
tlı J lJIjj^ j а Л с_)!Яа 4 S jb ôI^j
ßa/ir: mujtatt-i mutamman-i maxbün-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafâ'üun fa'üâtun mafâ'üun fa'lân
ku-nûn-ki-bar I ka-fl-gul-jâ / mi-bâ-da-'î / şâ-fast
ba-şad-ha-zâ / r°-za-bân-bul / bu-las-da-raw / şâ-fast
ı. Теперь, когда у розы в руке чаша с чистым вином,
И соловей восхваляет ее на сотне тысяч языков,
321
322 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Возьми свиток стихов и отправляйся в степь,
Разве [сейчас] время для медресе и споров о толковании «Толкователя»?
3- Факих в медресе вчера был пьян и дал фетву,
Что вино — запретно, но все же лучше, чем добро из пожертвований.
4- Опивки или чистое вино не в твоей власти, пей вволю,
Ведь что бы ни делал наш виночерпий, это — все равно милости.
5- Расстанься с людьми и образом действий уподобься 'Анка,
Ибо слава о сидящих в уединении — от Каф и до Каф.
6. Россказни соперников и мечты соратников —
Все та же история о золотошвее и плетельщике циновок.
7- Молчи, Хафиз, и эти тонкости, подобные червонному золоту,
Береги, ведь меняла — городской фальшивомонетчик.
Комментарий
1-2. «Чаша с чистым вином» — расцветшая роза напоминает
сосуд с алым вином. Хирави (с. 152) рассматривает второй бейт
не только как смысловое, но и как синтаксическое продолжение
предыдущего. «Свиток стихов» — daftar-i as'âr, также «тетрадь,
сборник стихов»; по мнению Хуррамшахи (с. 275), упоминание
свитка стихов в этой и ряде других газелей доказывает, что
сборники поэзии были достаточно обычным делом во времена
Хафиза. «Толкователь» — kassäf (букв, «открывающий»), краткое
название знаменитого сочинения Замахшари (ум. 1143) Kitäb al-
kassäf по толкованию Корана. «Толкование „Толкователя"» (kasf-i
Kassäfl — обсуждение книги Замахшари, а также намек на
комментарий к ней — Al-kasf 'ala-l-kassäf, созданный современ-
ником Хафиза, ширазским богословом Кавам ад-Дином Абдал-
лахом б. Наджм ад-Дином (ум. 1370) и записанный его учеником
по имени Сирадж ад-Дин *Умар б. 'Абд ар-Рахман ал-Фариси ал-
Казвини (ум. 1344) [Хирави, с. 151; Хуррамшахи, с. 276; Hafez de
Chiraz 2006, с. 246].
Идея: роза расцвела, соловей запел, пришла весна; сейчас
время гулять и петь газели, а не сидеть в медресе и толковать о
толковании на толкование Корана.
Хафиз. Газель № 44
323
3. «Факих» —faqth (букв, «знающий»), богослов-законовед, спе-
циалист по фикху, традиционному мусульманскому праву.
«Фетва» — fatvâ (букв, «разъяснение») — юридическое заключе-
ние, вынесенное для практического применения какого-либо по-
ложения шариата, давалась по запросу правителя авторитетным
факихом в письменном виде [ИЭС, ел. ст. «Фатва» (А. Боголю-
бов)]. «Пожертвования» — awqâf, мн. ч. от vaqf; вакф — земли и
имущество, право собственности на которое ограничено пользо-
ванием всем или частью дохода. Временами вакф предоставлял-
ся на определенные благотворительные цели, в частности, на до-
ходы от вакфов существовали многие религиозные и учебные
заведения [ИЭС, ел. ст. «Вакф» (О. Большаков)]. По мнению Хи-
рави (с. 153), бейт содержит политический намек: Мубариз ад-
Дин отобрал у мечетей Шираза вакфы и присоединил их к госу-
дарственным землям.
Тогда идея бейта: даже пить вино не так греховно, как отби-
рать у мечетей принадлежащее им добро. Однако возможно и
иное понимание: факих спьяну признался, что даже винопи-
тие — не такой грех с точки зрения шариата, как жизнь обита-
телей медресе без трудов, на проценты (дармовое имущество).
4. «Опивки или чистое вино» (durd-u şâfl — здесь метафора го-
рестей и счастья. «Все равно милости» — 'ayn-i altäf, т. е. благо-
деяния и ничего больше.
Идея: обстоятельства человеческой жизни не зависят от че-
ловека, следует считать благом любой жребий, который тебе
выпал; ср. газель 26:6.
5. 'Анка — мифическая птица, живущая на легендарной
горной цепи Каф (qô/), окружающей обитаемый мир; никто из
людей никогда не видел 'Анка, но слава о ней распространи-
лась повсюду. «От Каф и до Каф» — т. е. от края до края мира.
6. История о золотошвее и изготовителе циновок такова. Не-
коему эмиру понадобились мастера-золотошвеи. На призыв
явились не только вышивальщики золотом, но и плетельщики
циновок. Эмир удивился и спросил, зачем они пришли. Они от-
ветили, что раз они умеют плести циновки, то справятся и с
плетением золотых нитей. В персидской литературе эта ситуа-
ция стала примером безосновательных претензий на умение
выполнить дело, требующее специальных навыков (примеры из
324
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
стихов Низами и Са'ди см. [Хирави, с. 153-154]). «Соперники»
(mudda'îyan) — лицемеры, изображающие влюбленность (под-
робнее см. коммент. к газели 65:6); «соратники» (hamkärän) —
искренние влюбленные; они внешне заняты одним и тем же, но
разница между ними такая же, как между изготовителем ци-
новок и золотошвеем.
7. «Тонкости» (nuktahä) — поэтические тонкости, в более об-
щем смысле — сами стихи. «Меняла» (şarrâf) — в средневековом
Иране выступал в качестве эксперта, умеющего отличить под-
линную монету от фальшивой. Бейт-самовосхваление направ-
лен против критиков: в этом городе тот, кто претендует на
умение распознать золото стихов, сам — фальшивомонетчик,
т. е. стремится выдать фальшивое золото (плохие стихи) за на-
стоящее (истинную поэзию) и наоборот.
Газель 45
cli—juil J je- 4 \ \ i щ j i—)L-j ^yX ^^1 jjb-a
lLluüI l->Ju t"t j ftt r>_ 6\£ji£ 4_^ jj ôJjja.
Cj—mjI J^jJ JJ je jAC 4—S j—±JL 4İJJ
l>u_j j fJjL jl—^ä. jj C51ac ^j^Aj
Cj u)l J a r> ^jj ^Ic j ^A Uc ddXa
L-jj-JjIjj jli^Aj j—j) jj Jîc f ÛLa. Aj
Cj uil Ja^j J ^Ц^ ùW J^ J üW
(jljâ-o A >/ı ^ j ^lôj^A 4 л ôjJa JJXJ
lll—uil (Ja. j j djA j julj J (jx^i j ^*juj ч£
Cl-jİİJ j-Ji ^jj (Jjuaj 4_j ^jljtjâ ùia\ дЬ
Cj uil J a\ J JA J JAC- ôj A j Ja.1 ^j
jİjUjİA ı"\ ЗД j J L-Aİjâi jjà gtJÄ 4j
ВаЛг: mujtatt-i mutamman-i тахЬйп-i maqsûr
Vazn: mafä'üun fa'ilâtun mafä'üun fa'ilât
da-rV^za-mä / na-ra-fî-cfi / ki-xä-li-yaz / xa-la-last
şu-râ-hi-yî/ ma-yi-nä-Ъй I sa-fi-па-ï/ ğa-za-last
ı. В наше время друг, что свободен от недостатков —
Это бутыль чистого вина да тетрадь газелей.
325
326 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Иди один, ибо тропа благоденствия узка,
Возьми чашу, ибо бесценная жизнь не восполнима.
3- Не я один изнурен бездельем в этом мире, j
Ученые тоже в изнеможении от учености без дела.
4. В глазах разума на этом шумном отрезке пути
Мир и дела мира ненадежны и никчемны. ;
5- Уцепись за локон луноликого [друга] и не болтай, |
Что счастье и несчастье — от влияния Зухры и Зухала. j
6. Мое сердце очень надеялось увидеть твое лицо,
Но смерть на дороге жизни — разбойник, отнимающий надежды. !
7- Не наступит время, когда его сочтут протрезвевшим —
Ведь наш Хафиз пьян от предвечного вина.
i
Комментарий \
1. «Недостатки» — xalàl (букв, «испорченность»), также «брешь, \
трещина»; «тетрадь» — safina, в первом значении «корабль, ла- |
дья». Таким образом, выражение хсйг az xaläl «свободный от не- i
достатков» по отношению к «другу» передает смысл «безупреч- \
ный», по отношению к «бутыли» — еще и добавочный смысл «не
имеющая трещин», а по отношению к «тетради / ладье» — «не \
имеющая пробоин» [Хирави, с. 156]. Ш.-А. Фушекур отмечает ne- \
рекличку с газелью 44:2 [Hafez de Chiraz 2006, с. 249].
у
2. «Иди один» (jarîda rav) — т. е. в одиночку иди по жизнен-
ному пути, не обременяй себя связями с чем-либо в мире, не
гонись за его благами. Хуррамшаши (с. 281) усматривает намек
на хадис «Идите [быстро], как идут в одиночку». «Тропа благо- <
действия ('äfiyat) узка» — т. е. достичь благоденствия в этом
мире непросто, на самом деле благоденствуют не те, кто добил- ;
ся успеха в мирских делах, а те, у кого нет ни близких, ни
имущества, ни положения в обществе. Тема вынужденного ;
одиночества объединяет бейты 1 и 2, образы в которых по-
строены как полемические по отношению к канону: пить вино '
Хафиз. Газель № 45
327
принято в компании друзей, а пускаться в путь — найдя вожа-
того и/или попутчика.
3. «Изнурен» и «изнеможение» — malul и malalat, состояние
усталости от страданий, см. контексты для malul: 116:5 и 187:6,
для malalat 100:5; 222:1; 234:4; 238:5; 416:7. Обыгрывается па-
ра терминов Ч1т «наука, [рациональное] знание, ученость» и
'amal «действие, дело». «Безделье» (Ы-'атаЩ — неспособность
человека воздействовать на ход событий в мире, поскольку ему
не дано проникнуть в «тайну бытия», ср. газель 3:8. К числу об-
щих мест дидактической литературы относится утверждение,
что знание (Ч1т), не подкрепленное делами, бесполезно; см.
[Диххуда, ел. ст. Bî-'amal], где процитирован наш бейт и даны
примеры из «Гулистана» Са'ди: «Ученый без дел ('älim-i Ы-
'amalj — дерево без плодов»; «„На что похож ученый без дел?"
Сказал: „на пчелу без медаа».
Бейт построен как ответ на подразумеваемый упрек. Героя
газелей, проводящего время с чашей и тетрадью стихов, осуж-
дают за безделье, однако он возражает, что и самые ученые из
людей, трудившиеся всю свою жизнь над познанием тайн ми-
роздания, также страдают от «безделья», т. е. от осознания
тщетности своих усилий.
4. «Шумный отрезок пути» — rah-guzâr-i pur-äsüb, метафора
человеческой жизни как этапа на пути от предвечности в веч-
ность [Хирави, с. 157]. «В глазах разума ('ад/)» — продолжение
темы предыдущего бейта: именно разум служит инструментом,
при помощи которого приобретаются знания (Ч1т) ученых
('ulama) о мире, но разум также позволяет понять и скоротеч-
ность всего в мире.
5. Планета Зухра (zuhra, Венера) оказывает, по представле-
ниям астрологов, счастливое воздействие на судьбу человека, а
Зухал (zuhal, Сатурн) — несчастливое.
Идея: лови счастливое мгновение сейчас и не гадай о гряду-
щих превратностях судьбы. Однако, как замечает Хуррамшахи,
союз ki «что», соединяющий полустишия, может выражать и
причинно-следственное значение «ибо». Тогда возможен пере-
вод: «Ухватись за локон луноликого [друга] и не болтай [попус-
ту], // Ибо счастье и несчастье [зависят] от влияния Зухры и
328
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Зухала». Рахбар, Суди (с. 312) и Хирави (с. 157) предпочитают
понимание, отраженное в первом варианте перевода.
6. Идея: жизнь слишком коротка, чтобы надежда на свида-
ние с возлюбленным успела осуществиться.
7. «Протрезвевший» — husyâr, в [Диххуда, ел. ст.] данный
бейт приведен как пример на толкование «трезвый, пришед-
ший в себя после опьянения». Бейт допускает как мистическое,
так и ироническое понимание. В первом случае речь идет об
изначальной приобщенности героя газели к Божественным \
тайнам; во втором — «предвечное вино» (bäda'-i azal), поэтиче-
ская метафора божественной любви, служит ироническим
обоснованием беспробудного пьянства.
Газель 46
f l£ 4j j у*** J <-*£ jJ ^ j jj jJ JË
Cl-u»I f^C. jj j J—j 1 ^ A J ?&&> jUaLi
1,1 i и л! A£ xa& (j—Jİ JÛ Л Jjl^û Л-ûJo) jS
Ci_JUJİ aLuJ LÜJjuJJ^ Г-J ôIa 1 Л JılUrt jJ
<j£Jj t "i mi Jvlâb öûl_J L^û C-J &1a jû
^ I j* ^ Ы JE jjxx ^1 j_j ^jj ^
LJ uil
L-L.
-jujl сЗчЛл. <a*j j ^ (Jjâ jj AaA fuijS
-jüjI aIa. (jİJjS j L-ü (Jaj jj <LuA а дна
IJ \ A A ^ J j AİJA ^JtaC l_^a ^jnKo jJ
Cj_juüI aLuaa (^ JJ Ü^J^ J^ l£ J * 'IP J ^ b^' JÄ
J-*-i JJg^J^ ■*—*-* C3—^—? J1
Lj uıl aI£ jj <jj jjjuü Lj-J jl I ja a£ JJ <Jİ J
Cj_ju)I jüİa <_JİJJJ (Jj JÛ <"l Л Г» £Cj£ tj
Cj uil aULû CjI_j! J^. (_£j_£ IJ—A ÖJİJAÄ
dj__juj| L-XJJ j aU 1 ja 4£ ^jS 4-^ь uXjj jl
Cj—J fU j (Jôj I ja <£ «^jj 4—^ f U Jj
jL_jjiaj j fJÛJJ J A 1 m ^J-juj j ôjljâ^A
Ciuıl aIj£ jg-juj (jjl jû v"bnjı La ja. a£ (jja^ (jlj
329
330 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
^1 «j (Jj*Îa^ J <jA <j J (J j "' i ^ -bil^
ВаЛг: hazaj-i mutamman-i axrab-i makfûf-i maqsûr
Vazn: rnafûlu mafâ'ılu mafa'îlu mafa'ıl
gul-dar-ba / ru-may-dar-ka / fu-ma'-sü-cp / ba-kâ-mast
sul-tâ-ni I ja-hâ-nam-ba / cu-rit^-ru-z? / ğu-lâ-mast
ı. Роза рядом, вино в руке и возлюбленный благосклонен,
В такой день владыка мира для меня — раб.
2. Скажи — не вносите свечу в это собрание, ибо нынче ночью
На нашей пирушке достаточно и луны лица друга.
3- В нашей религии вино дозволено, однако
Без твоего лица, о кипарис с телом розы, оно запретно.
4- В ушах моих только речи флейты и песни чанга,
В глазах моих только лалы губ и вращение чаши.
5- Не смешивай благовония на нашей пирушке, ибо нам
Каждый миг услаждают обоняние твои косы.
6. Не говори ничего про вкус леденца и про сахар,
Ибо я жажду твоих сладостных губ.
7- С тех пор, как клад тоски по тебе обосновался в руинах сердца,
Улица развалин стала для меня стоянкой навечно.
8. Что ты говоришь про позор, ведь позор — мое доброе имя,
Зачем спрашиваешь про доброе имя, ведь доброе имя — мой позор.
9- Мы пропойцы, бродяги, ринды и повесы,
А кто в этом городе не похож на нас?
Хафиз. Газель № 46
331
ю. Не жалуйтесь на меня мухтасибу, потому что и он,
Как мы, всегда в поиске вечного блаженства.
п. Хафиз, ни мгновения не сиди без вина и возлюбленного,
Ведь ныне — время роз и жасмина и праздника поста.
Комментарий
Газели с тем же метром, рифмой и радифом имеются в диванах
Са'ди [Са'ди, Куллиййат 1996, с. 438, газель № 77] и Камала Ху-
джанди [Камал Худжанди 1975, с. 254, № 233]; см. отсылки к
ним в комментарии к бейтам.
1. «Рядом» (dar bar) — так толкуют это выражение Суди
(с. 315) и Хирави (с. 159), Рахбар предлагает вариант «в объяти-
ях», но тогда следовало бы считать розу метафорой возлюбленно-
го, что маловероятно, поскольку возлюбленный упомянут в том
же полустишии. «Роза рядом» — обозначение весеннего сезона.
Идея: свидание с возлюбленным другом, весенний сад и ви-
но — это такие богатства, по сравнению с которыми все сокро-
вища султана и его власть над миром — ничто.
2. «Пирушка» — majliSy в первом значении «собрание», в лю-
бовной лирике так часто именуется дружеская вечеринка с ви-
ном и пением газелей. Второе полустишие имеет два смысла,
основанные на значениях слова tamâm «полный» и «достаточ-
ный» (прием îhâm); второй вариант перевода: «На нашей пи-
рушке луна лица друга — полная». Здесь первый смысл «пре-
красное лицо друга сияет для нас так, что свеча не нужна» по-
лучает подкрепление при обращении ко второму смыслу: «лицо
друга достигло красоты полной луны».
Ср. бейт 2 из газели-прототипа Са'ди: «Каждый в мире из-
брал себе какую-то радость, // Для нас, о луна с ликом пери,
тоски по тебе достаточно». Во втором его полустишии (та-га
ğam-at ay mâh-i parï-cahra tamâm-ast) tamâm выражает только
одно значение — «достаточно», хотя и намекает на сочетание
«полная луна».
3. «Религия» — mazhab (букв, «путь») — см. примеч. к 39:2.
«Наша религия» — свод законов и норм поведения, которым
должны подчиняться влюбленные. «Кипарис с телом розы» —
332 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
sarv-i gul-andäm; согласно словарю Му*ина [ел. ст.], gul-andäm
означает «с телом, нежным, как роза», но возможно, подразу-
мевается также благоухание; определение соединяет две глав-
ные метафоры возлюбленного друга: кипарис и роза; ср. сход-
ное соединение стертых метафор в цитировавшемся (коммент.
к б. 2) бейте Са'ди: mäh-i pari-cahra «луна с ликом пери».
Тема «в присутствии друга вино дозволено» представлена в
газели-прототипе Са'ди (бейт 5): «С таким другом (harij), как ты,
в таком месте, в такую пору, // Если я выпью вина — то ведь
райское вино не запретно!»
4. В бейте достигает кульминации тема «наступившей радо-
стной поры», развернутая в бейте 1 (счастливый день), в бейте
2 (счастливая ночь).
5. «Не смешивай благовония» ('atr mayamız) — имеется в ви-
ду обычай создавать различные композиции ароматических ве-
ществ для ароматизации воздуха в помещении.
Идея: ни один другой аромат не должен примешиваться к
благоуханию кос друга.
6. Бейты 2-6 объединяет «неявное» описание примет красоты
«благосклонного друга», представленного в зачине газели. Бейты
4-6 также объединены последовательным упоминанием четырех
из пяти «внешних» чувств человека и вещей, доставляющих наи-
большее чувственное наслаждение: слух — музыка, зрение — гу-
бы друга и чаша вина (б. 4), обоняние — аромат кос (б. 5), вкус —
губы друга (б. 6).
7. Образ первого полустишия построен на представлении о
том, что клад (ganj) обычно находят в руинах (virana). Кроме то-
го, возникает оппозиция: руины — обосновался (muçfim-ast), по-
скольку virana означает также «пустынное, покинутое место»,
где никто не живет. «Развалины» — xaräbät, «район кабаков»,
«кабак», см. коммент. к газели 9:5; в переводе использовано бу-
квальное значение, выявляющее причинно-следственную связь
полустиший.
8. Бейт как бы отвечает на упреки тех, кто порицает риндов
(аскетов, мухтасиба, шихна). Идея бейта построена на уравни-
вании антонимических понятий пат «доброе имя» (букв, «имя») и
папд «позор»; остроумно обыграно устойчивое выражение näm-u
Хафиз. Газель № 46
333
папд: оно состоит из противоположных по смыслу компонентов,
а в целом означает «доброе имя, хорошая репутация».
В бейте развивается тема «мазхаба влюбленных» (см. б. 3),
чьи законы противоположны общепринятым: для влюбленного
быть опозоренным почетно, а иметь хорошую репутацию — по-
зорно. Ср. первый бейт из газели Камала Худжанди: «Нет у нас
ни печали из-за позора, ни заботы о добром имени, //В нашей
религии (mazhab) религия чести запретна».
Стремление к дурной славе как проявление протеста против
показной добродетели лежит в основе поведения сторонников
malàmatï, см. коммент. к газели 5:7.
9. «Повеса» — nazar-bâz, букв, «играющий взглядом», согласно
Хирави (с. 162), любитель смотреть на красивые лица; по мне-
нию Суди (с. 316), так называют того, кто влюбляется сразу,
стоит лишь ему увидеть красивое лицо. «В этом городе» — т. е. в
земном мире.
Идея: ринды пьянствуют и веселятся в открытую, а все ос-
тальные скрывают свои пороки. Комментаторы видят в бейте
осуждение лицемеров, стремящихся выглядеть праведниками
[Рахбар, с. 66; Суди, с. 316; Хирави, с. 162].
10. «Вечное блаженство» — 'ays-i mudäm; в втором значении
«наслаждение вином»; mudäm со значениями «вечный» и «вино»
часто используется в приеме iham, но мастерство поэта здесь в
том, что явный смысл (вечное блаженство) и неявный (наслаж-
дение вином) коррелируют с публичным поведением и тайными
желаниями лицемерного мухтасиба (см. коммент. к 41:1): глав-
ный гонитель риндов внешне стремится праведностью зарабо-
тать вечное блаженство, попасть в рай, а в душе мечтает о ве-
селой попойке. Ср. бейт 5 из газели Камала: «От желания
примкнуть к нашей компании спесивый аскет // Сгорает, как
алоэ, странно, что [все еще] сырой!»
11. «Праздник поста» ('îd-i şiyâm) — имеется в виду оконча-
ние мусульманского поста рамадан и праздник жертвоприно-
шения 'id al-fitr, время разговения.
В последнем бейте введенная в зачине тема весны («роза ря-
дом») соединена с темой окончания поста, т. е. названа вторая
причина для винопития, что объясняет подчеркнуто радостную
тональность газели в целом. Гонителя пьяниц, мухтасиба (б. 10)
334 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
в газелях Хафиза принято ассоциировать с правителем Шираза
Мубариз ад-Дином, однако в данном случае вряд ли имеется в
виду этот правитель. Ш.-А. Фушекур отмечает, что, согласно
лунному мусульманскому календарю, в период правления Му-
бариз ад-Дина конец рамадана ни разу не приходился на весну
[Hafez de Chiraz 2006, с. 252]; у Фушекура приведены даты
1356-1364, но в ряде источников воцарение эмира в Ширазе
датируется 1353, см. коммент. к газели 41:1.
Газель 47
Cbuüb ö j 4_£ ij^Ijuj j—А д^лл ıjjfc 4j
^ju^ 4_J ja^ ^'^ C$^J J—JUL^' 4_JLû j
diuüb 4J£ <jjI jj - Ц *-- c5jljà^>ja» ч£
^jA J d) âb 4__S J—A 4jlÂaA 4j11uJ ji
ı * "*
■tilja. jdLuj JaÂ. j aIIc jJ jl j Л£ (jî jA
Jb 6j céÎIâ. ^jJjSj jl aä. aIa jj*J
t *
ıjlln^ La j jL_xJİjjû dj_cLL (^1 jj
Jb <ü£ ^Ic L^û c_j_a1û ^i ч£
t * >.*
Jb -Uüü Jj tdjj <jl
t 1 »о
d_ju*Jb 4-û j JjJ JjaIj a£ cİLuüjS (jUä.
jlfrjj jj j^ ч£ j—c.Luj j Jââl^. <*ı j.v\
(Jl) uüb 4uijL 4 W И1 J ^ Ь и*Ч A (j\j*. 4a
jb*** J3I jj 4—j 4_S (^ALi 4_jlJ^>aAîL
d—juı-Jb A£jb jl Ь л 4 j ^Ujjaj
335
336 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: mujtatt-i mutamman-i тахЬйп-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafä'ilun fa'ilätun mafâ'üunfa' lan
ba-kû-yi-may / ka-da-har-sâ / li-kî-ki-rah / dâ-nist
da-rî-di-gar / za-da-nan-dî / sa-yî-ta-bah / dâ-nist
ı. Всякий путник, что узнал дорогу на улицу кабаков,
Стучаться в другую дверь признал порочной мыслью.
2. Судьба даровала венец риндства лишь тому,
Кто понял, что в этой шапке — величие мира.
3- Всякий, кто нашел путь к порогу кабака,
По милости чаши с вином постиг тайны обители.
4- Каждый, кто прочел тайну двух миров в линиях на кубке,
Секреты чаши Джамшида узнал в узоре дорожной пыли.
5- Кроме повиновения безумцев, [иного] от нас не требуй,
Ибо шейх нашей религии признал здравомыслие грехом.
6. Мое сердце не попросило пощады у нарциссов виночерпия,
Потому что оно знало повадки этих нарциссов с черным сердцем.
7- Из-за жестокости звезды, [вершащей] судьбу, мои глаза на рассвете
Плакали так, что заметила Нахид и узнала Луна.
8. Историю о Хафизе и кубке, что он осушает тайком,
Не то что мухтасиб и шихна — даже падишах узнал!
9- Тот высоко вознесенный шах, что девять сводов небес
Признал образчиком изгиба арок своего дворца.
Комментарий
1. «Другая дверь» (dar-i digar) — дверь мечети или суфийской
обители, локусов, противостоящих «кабаку» в Диване Хафиза.
Идея: ринд, который пришел в кабак, избавился от главного
греха — лицемерия, и мысль о благочестии аскетов и суфиев
представляется ему греховной.
Хафиз. Газель № 47
337
2. «Венец риндства» — afsar-i rindi, формула-оксюморон (ср.
«корона шута»), представляющая низшее положение в мире как
высшее.
Идея: стать пьяницей-риндом, не страшась нищеты и позо-
ра, способен лишь тот, кто видит в этом высшую честь в мире.
3. «Обитель» — xänaqah, место проживания суфийского шей-
ха вместе с учениками и последователями. «Милосты» — fayz, в
другом значении — «обилие, наполненность до краев»; второй
смысл полустишия: «Благодаря полноте чаши с вином постиг
тайны суфийской обители».
Идея: пьющий вино в кабаке проникает в тайны, которые
тщатся постичь те, кто называет себя суфиями.
4. «Линии на кубке» — xat-i sağar, мерные линии на стенках
кубка, наносимые, чтобы точно определять количество вина; по
легенде, обычай восходит к легендарному иранскому царю
Джаму (Джамшиду), на чаше которого таких линий было семь
[Хирави, с. 251-252], см. традиционные названия каждой в
['Афифи, ел. ст. xat-i sağar]. Кроме того, xat-i sağar может озна-
чать и «надпись по кругу чаши» (от xat «письмена»), это значе-
ние в контексте бейта подкреплено глаголом «прочел» (xvänd).
«Узор дорожной пыли» — naqs-i xäk-i rah, след, отпечатавшийся
на пыльной дороге, здесь — метафора смутного следа прошло-
го, антонимичная «чаше Джама», отображающей события с
зеркальной ясностью.
Идея: тот, кому дарит озарение кубок вина, не нуждается во
всевидящей чаше Джамшида; все, что оставляет след в этом
мире, способно поведать ему о тайнах мироздания.
5. «Повиновение» — tä'at; в исламе tä'at — это действия или
проявления повиновения Богу, исполнение обязанностей,
предписанных шариатом; суннитские богословы делили tä'at на
ряд ступеней, высшая из которых гарантировала человеку по-
падание в рай [ИЭС, ел. ст. «Та'ат» (С. Прозоров)]. «Повиновение
безумцев» — tâ'at-i dîvânagân, оксюморон, ироническое обозна-
чение буйства, которое присуще «безумцу-влюбленному» в по-
этической конвенции (ср. мотив заковывания безумца Маджну-
на в цепи и разрывания цепей). «Наша религия» — см. коммент.
к газели 46:3.
338 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Идея: поскольку здравомыслие для влюбленных запретно, со-
блюдение норм шариата оказывается невозможным.
6. «Нарциссы» — метафора глаз. «Не просило пощады» —
âmân naxväst bajän, букв, «не просило пощадить жизнь». «Тюр-
ки с черным сердцем» — еще одна метафора глаз, имеющих
черную сердцевину (зрачок); в производном значении «с чер-
ным сердцем» (dil-siyah) — «безжалостный, жестокий».
Идея: нарциссы глаз виночерпия столь же безжалостны, как
жестокие воины-тюрки, поэтому у сердца влюбленного нет на-
дежды на спасение.
7. «Звезда, [вершащая] судьбу» — kawkab-i tàli\ звезда, ко-
торая восходит в момент рождения человека и определяет его
судьбу. Нахид (nähxd) — персидское название планеты Венера
(также араб. Зухра).
8-9. «Шихна» (sihna) — чиновник, назначенный для управле-
ния городом, в подчинении которого состоит, в частности,
мухтасиб, надзирающий за исполнением норм шариата.
Два заключительных бейта газели связаны синтаксически и
образуют единое высказывание. Использован характерный для
панегирической касыды прием перехода от лирического вступ-
ления (насиба) к восхвалению в пределах бейта (б. 8); такие пе-
реходы (tcucalluş, gurizgâh) нередко включают имя поэта и имя
или сан восхваляемого. Однако восхваление высоты положения
шаха, который смотрит на небеса как на часть своих дворцо-
вых покоев, оказывается в контексте данной газели частью са-
мовосхваления персонажа-поэта: слава о тайных попойках Ха-
физа, воспетых в его стихах, дошла до самой высокой точки
мироздания, где пребывает шах.
Газель 48
CJ—JUl
jb ^IjJ JJ Jjl jl Q& J_Jb jA j£
(JH J J ^Jlû JÄJUA p JA (J—£ <CjA3bJb J^S
di_jyüb ^Ia-a ÛJI^a. ^Jj jS jA Aj a£
LİL-uüb ^jjlİ -LoA ^b j J (jjjiCr j' J1^
t"ı ю ıb ^j-Jl^-J (jîyC- <JJİ jJ j-jH у.ь>п^л
Cljyüb ^1 J&J Jj La CJ JLä. jl 4_j jj
jaïc- j <Jxl jjâj ^jaj jl Jj£ I j <J5 j ı£luı
t "i >» ıb ^boj üb jjj İ-J j^â 4 £ jA
lS jj^ сЗ^ ^-y' cJ^ J -*-^ J' 4*—^ c^l
jb ^jj\ùj (3^J 4_j 4j£j jjl >uıjJ
ti m 1»,
ıİL—uüb ^jJİ ja. ûl—j ıS^y^J^ 4—£ J*
(JjûbJ^Jİ £-fL jl 4£ AjJâia jA jS JJİ JââLa.
C-L-jüO-JİJ ^Ij ( fl n-lt (Л) J—Jj3 J—^1 J
339
340 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: ramal-i mutamman-i тахЪйп-i aşlam-i musbağ
Vazn: fä 'Hatun fa 'Hatun fa 'Hatun fa ' län
şû-fi-yaz-par / ta-w-may-rä / zi-ni-ha-nî / dä-nist
gaw-ha-rî-kar / ka-sa-zF-la' / l°-ta-vâ-ni / dä-nist
ı. Благодаря блеску вина суфий узнал сокровенную тайну,
Суть всякого человека ты можешь узнать с помощью этого лала.
2. Только утренняя птица знает цену тетрадке розы,
Ведь тот, кто прочел одну страничку, не уразумел смыслов.
3- Оба мира я предложил искушенному сердцу —
Кроме любви к тебе [все] остальное оно сочло тленным!
4- Теперь прошло то [время], когда я остерегался низкорожденных,
Мухтасиб тоже узнал об этом тайном наслаждении.
5- Похититель сердец решил, что покой сейчас нам не на пользу,
А иначе — он же знал, как трепещет наше сердце!
6. Камень и глину благодеянием взгляда превращает в лал и сердолик
Тот, кто понял цену дуновения йеменского ветра.
7- О ты, изучающий айат любви по книге разума,
Боюсь, по-настоящему этой тонкости тебе не понять.
8. Неси вина, потому что не станет гордиться розой в саду мира
Тот, кто узнал о разбойничьих набегах осеннего ветра.
9- Тот нанизанный жемчуг, что Хафиз выловил из своего дара,
Он признал следствием наставлений второго Асафа.
Комментарий
1. «Суфий» — Хирави (с. 254) отмечает, что вариант текста
со словом 'arif — «постигающий, гностик, мистик», представ-
ленный, в частности, у Суди (с. 326), выглядит предпочтитель-
ным, так как «суфий» в газелях Хафиза входит в число отрица-
тельных персонажей. Однако тема «суфия, отведавшего вина»
Хафиз. Газель № 48
341
представлена и в других газелях, см., например, 170:2; призыв
к суфию познавать тайну с помощью вина и в обществе пьяниц
см. в газели 7:1,2. «Суть» — gawhar, во втором значении «жем-
чужина», что образует «лексическое соответствие» (tanäsub) со
словом «лал» (здесь метафора вина). Мотив проявления истин-
ной сущности человека в состоянии опьянения встречается еще
у Рудаки: «Вино выявляет благородство человека, и [отличает]
свободнорожденного от купленного за дирхемы; // Вино отли-
чает благородного от подлого — много доблестей в этом напит-
ке» [Рудаки 1994, с. 74].
Суди (с. 326) отмечает, что второе полустишие звучит как по-
словица; если это так, то оно должно пояснять смысл первого:
под воздействием вина суфий узнал сокровенную тайну — он
познал свою истинную суть, ведь всем известно, что вино выяв-
ляет в человеке то, что он скрывает, будучи трезвым.
2. «Тетрадка» — majmu'a, сборник стихов, букв, «совокуп-
ность», здесь — «сборник» лепестков розы. «Утренняя птица» —
murğ-i sahar, соловей, поющий на рассвете. «Страничка» — va-
raq, также «лист», применительно к розе «лепесток». Образ бейта
построен на уподоблении: роза — книга, соловей — чтец. Лишь
соловей (истинный влюбленный) прочел всю тетрадку розы
(знает, как тяжела любовь и как жесток возлюбленный друг).
Бейт содержит аллюзию к известной пословице: «Только ювелир
знает цену жемчугу» (gawhar-sinâs dânad qadr-i gawhar).
3. «Искушенное» — kâr-ufiâda, по толкованию словаря
«Анандрадж», так называют человека, «который имел много дел
с людьми и набрался опыта в делах», цит. по [Диххуда, ел. ст.
Kär-ufiäda]. «Остальное» — bâgî, также «вечный», второе значе-
ние образует оппозицию с «тленный» (fânîj; вариант перевода
полустишия: «Кроме любви к тебе все вечное оно сочло тлен-
ным» (прием îhâm).
4. «Низкорожденные» — abnâ-yi 'avam, букв, «сыны просто-
людинов», те, кто противопоставляется «знатным» — xâşş (букв.
«особый»); здесь под «низкорожденными» подразумеваются
обычные люди, которые не входят в избранный круг пьяниц-
риндов. «Тайное наслаждение» — 'ays-i ruhanî, тайное винопи-
тие. «Мухтасиб тоже узнал ...» — полустишие можно понять
двояко: городской блюститель нравов узнал о пьянстве героя,
342 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
или — он узнал, какое наслаждение приносит вино (ср. тот же
мотив в газели 46:10).
Идея: раньше герой опасался обычных людей, не знающих
сути винопития, они могли осудить его и донести мухтасибу о
его поведении; теперь мухтасибу известно о его пьянстве (или:
теперь и сам мухтасиб наслаждается вином), и упреки и доно-
сы людей больше не страшны.
5. Имеется вариант текста (в редакции Ханлари), где деяте-
лем в бейте вместо dubar «похититель сердец» является персо-
нифицированная lutf-as «его доброта, милость».
Идея: мой возлюбленный считает, что страдания любви слу-
жат мне во благо, а иначе по милости своей он бы облегчил мои
муки.
6. «Йеменский ветер» (bâd-i yamanı) — здесь весть о влюб-
ленном; метафора связана с хадисом, согласно которому Му-
хаммад сказал об обращении в ислам Увайса Карани: «Чувст-
вую дыхание Благого со стороны Йемена» [Рахбар, с. 69]; Увайс
Карани (конец VI-VII вв.) — сподвижник халифов *Умара и 'Али,
прославился своей любовью к Мухаммаду, с которым ему не
довелось встретиться лично; см. аллюзию к тому же хадису в
газели 390:4. «Камень и глину ... превращает в лал (la'T) и сердо-
лик ('aqîq)»: согласно традиционной натурфилософии, лалы воз-
никают из камней, а сердолики — из глины под воздействием
солнца, дождя и ветра [Суди, с. 327-328]. Употребление одноко-
ренных слов yamanı «йеменский» и уитп «благодеяние» создает
дополнительное обоснование поэтической идеи: йеменский ве-
тер (bäd-i yamanı) наделяет человека способностью творить
«благодеяние взглядом» (yumn-i nazar).
Бейт содержит наставление возлюбленному другу (покрови-
телю): только тот, кто, подобно Пророку, способен распознать
истинную любовь, как бы далеко не находился влюбленный, яв-
ляется настоящим возлюбленным, взгляд которого наделен чу-
дотворной преображающей силой.
7. «По-настоящему» — ba tahqïq, также «при помощи позна-
ния», «путем рационального поиска истины» (прием Thäm). «Эта
тонкость» (in nukta) — возможно, отсылка к теме предыдущего
бейта, где речь идет об «ответных» обязательствах возлюбленно-
го по отношению к влюбленному. По мнению комментаторов,
Хафиз. Газель № 48
343
под «тонкостью» следует понимать «характеристику» любви как
сущности, непостижимой разумом [Суди, с. 330; Хирави, с. 255;
Хуррамшахи, с. 290].
8. «Роза в саду мира» — метафора юности и красоты человека;
«набеги осеннего ветра» — метафора старости. В бейте остроум-
но сплетены две традиционные темы: питье вина весной и пе-
реживание скоротечности земной жизни. Весной пьют в радо-
сти, а здесь питье вина представлено как средство от печали для
тех, кто узнал о недолговечности красоты, кто весной думает о
наступлении осени.
9. «Нанизанный жемчуг» (gawhar-i manzum) — метафора
стихов, «жемчуг ... выловил из своего дара» — также намек на
щедрое вознаграждение за стихи. Асаф — министр царя Су-
лаймана (см. коммент. к газели 24:7); «второй Асаф» — âşaf-i
sânı, согласно Хуррамшахи (с. 291), этим именем Хафиз назы-
вал двух своих покровителей, министров Шаха Шуджа' — Ка-
вам ад-Дина Мухаммада Сахиба Аййара (см. коммент. к газели
25:9), а также Джалал ад-Дина Тураншаха. Бейт построен как
сочетание самовосхваления [faxt), панегирика (madh) и просьбы
о покровительстве (talab).
Идея: блестящие стихи, созданные Хафизом в честь покро-
вителя-министра, обязаны своей красотой вдохновляющему
воздействию его мудрых наставлений и поэтому заслуживают
его щедрого вознаграждения.
Газель 49
ûjb yj^**- Cjİ д »i 1 lı 4_£ cLlJ j_c> «j£
dluil (jLijJjJ dl_-û-A.J J h \ jJ ^jl «2â
cİLuül (jbİüjjJ dj_A jj (J * ^ jl ^jhı<g
oL-J_uı LjJİS jl jjjj jl ûjjİ^ j j A__a. jl
LJL_uil (jLûjjjjJ '"'^ '^ JÛ 4—£ LİİJUûJjLlAjS
û—J-jujjj^. ^)j£j j-Ij Л $ i j (jfrnuj A ^ <jl
dj uol (jLîüjjJ Г|4»1^ jj 4_£ CİLuüjb^)j£
Jlj j 4-njuûl jl л h J kSUj A S I j ^^j^
1*1 toi (jLuàjjjJ dJjJ j *1 ni ) L_L-i5s_J ^
^Jj л i ilfl^ < " \\ y\m% A \ И (jljjjuoÄ.
t**1 ml (jLİüjjJ Cjj >/ı ^ ^ £-li) (joUni
Лп1Ц^а IcO A_j jULi A £ Jjj^ûLû c5jj
CİLull ^jLİüJJÛ t**1 t \ İn A 1 jl (JJJJ^ h л
^j c^J ^llâ JLİÎ jljS 4_j LJi jljS jl
dı_juül ^jLÛüjjjj cİLuaja ^jl 4_j 12 Jjl jl
344
Хафиз. Газель № 49
345
1J jJ А£ tİJjâJ <аА JJİ (jijjAA jXjIjj l$\
CL-jüüI J^ûüjjJ CiaA tİ *1 ^ jJ JJ J JjlaJ
j j_U j$S jl ûj*^ jJ aS jjjIS ^
Cijujl jLÎüjj^ djjb jl *д л£ tjjûàb ô^jIja,
^Ijâ^ ^jl cjİ_^ cJ jl h « ^
Cj uüt jlAjjjj Cjj Lk jû (é&Â,
IJ J—S аЛ $ Г- V fl nil j fc i a^c> ja
LJjj^a
ВаЛг: ramal-i mutamman-i maxbûn-i aşlam-i musbağ
Vazn: fâ 'ilâtun fa 'ilätun fa 'ilâtun fa 'lân
raiv-za- i-xul / di-ba-rP-xal / va-ti-dar-vî / sâ-nast
mâ-ya-î-muh / ta-sa-mï-xid / ma-ti-dar-w / sâ-nast
i. Сад вышнего рая — укромная обитель дервишей,
Источник величия — служение дервишам.
2. У сокровища отрешенности — удивительные талисманы:
Их побеждают взглядом милосердия дервишей.
3- Дворец рая, куда Ризван пошел в привратники —
То, что открывается взору на лужайке чистоты дервишей.
4- То, благодаря чьему сиянию черное сердце превращается в золото —
Эликсир, заключенный в общении с дервишами.
5- То, пред чем солнце слагает корону высокомерия —
Высота, присущая величию дервишей.
6. Счастье, которое не тревожится из-за бедствия гибели —
Попросту — послушай — это счастье дервишей!
346 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
7- Цари — это кибла надежд мира, однако
Причина тому — их рабство у престола дервишей.
8. Желанный лик, которого с молитвой взыскуют цари,
Являет себя в зеркале лица дервишей.
9- От края и до края — воинство насилия, однако
От предвечности и до вечности — время дервишей.
ю. Эй богач, не пускай в ход всю свою спесь, ведь у тебя
И голова и золото — под защитой великодушия дервишей.
п. Сокровища Каруна все еще уходят [под землю] из-за Гнева —
Читал ли ты, что это тоже из-за негодования дервишей?
12. О Хафиз, если ты хочешь воды вечной жизни,
Ее источник — пыль на пороге обители дервишей.
13. Я — раб взгляда Асафа нашего времени, ибо у него
Внешность господина, а нрав дервишей.
Комментарий
По мнению Б. Хуррамшахи (с. 292), поводом для создания дан-
ной газели послужила газель Са'ди с радифом darvîsân (а не
daruîsân-ast, как у Хафиза), начинающаяся стихом: «Идти про-
тив разумения дервишей — идти против правды, // Если в тебе
есть отвага, склони голову к ногам дервишей». Далее описаны
лица дервишей, сияющие, как свет Истины (б. 2), их рубища,
которые краше одеяния шаха (б. 3), и их тела, что светлее дня
(б. 4). Если бы дервиши пожелали, им принадлежал бы весь мир
(б. 5), но им не нужно даже такого пристанища, как райский сад
(б. 6). Люди не могут причинить им вреда, даже яд, который им
поднесут, превратится в халву (б. 7). Дервишам нет дела до се-
мьи и имущества (б. 8), они заняты только поиском Истины
(б. 9), два мира для них ничто, ибо их сердца не терпят двойст-
венности (б. 10). В последнем бейте Са'ди резюмирует: «Са'ди,
проиграй дом, серебро, голову, разум, душу и сердце — // Тако-
вы игроки! — если ты стремишься к любви, как у дервишей».
[Са'ди, Куллиййат 1996, с. 908, газель № 47].
Хафиз. Газель № 49
347
1. «Дервиш» — darvîs, букв, «неимущий, бедняк», см. ком-
мент, к газели 5:5; Ш.-А. Фушекур утверждает, что здесь и в
других газелях Хафиза слово darvîs обозначает «не члена су-
фийского ордена и не странствующего аскета», но употребляет-
ся в самом общем значении «бедняк, нищий» [Hafez de Chiraz
2006, с. 266]. «Вышний рай» — xuld-i barın; о восьми мусуль-
манских раях см. коммент. к газели 35:4. «Укромная обитель» —
xalvaty также «затворничество», см. коммент. к газели 33:1.
Идея: бездомные бродяги-дервиши в земной иерархии нахо-
дятся в самом низу, но им уготовано высшее место в раю; по-
этому готовность склониться перед нищим дервишем — при-
знак величия духа.
Ср. бейт 6 газели Са'ди: «Не дай Бог дервишам преклонить
голову в какой-нибудь обители, // Пусть даже обителью дер-
вишам будет райская обитель», по отношению к которому стро-
ка Хафиза звучит полемически.
2. «Отрешенность» — 'uzlat, также «затворничество, отшель-
ничество», здесь — отказ от всего мирского; «талисманы»
(tilismät) — магические надписи, которые помещали в клады и
сокровищницы для защиты от воров, здесь — метафора земных
привязанностей и соблазнов, препятствующих желанию чело-
века отрешиться от мира.
Идея: отрешенность от мира — это сокровище, путь к нему
преграждают мирские соблазны; преодолеть соблазны можно
только благодаря милости и поддержке дервишей, т. е. учась у
них.
Тема особого взгляда дервишей встречается в зачине газели
Хаджу Кирмани: «Посмотри, думаешь ли ты о дервишах, //
Ведь твое великолепие — от красоты их взглядов» [Хаджу, Dorj-
3, газель № 163].
3. Ризван — имя ангела, охраняющего райский сад, в Коране
не встречается, восходит к околокораническим преданиям
[Хуррамшахи, с. 294]. «Лужайка чистоты дервишей» (caman-i
nuzhat-i darvîsân) — метафора безгрешной души дервишей
[Хирави, с. 167]; о «лужайке» см. коммент. к газели 9:2.
4. «Черное сердце» — qalb-i siyäh, т. е. сердце, погрязшее в
грехе, в другом значении «фальшивая монета» (прием îhâm).
348 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Идея: подобно тому, как алхимический эликсир способен
превратить монету из неблагородного металла в золотую, обще-
ство оборванцев-дервишей может преобразить и очистить
«черное» от грехов человеческое сердце.
5. В бейте преобразован мотив «превосходства правителя
над солнцем», обычный для панегирической касыды; здесь вос-
хваление высокого положения правителя применено к дерви-
шам, которые находятся на нижней ступени социальной ие-
рархии — солнце снимает перед ними корону. Ср. бейт из газе-
ли Хаджу, где использован тот же прием: «Не отворачивайся от
этого жалкого дервиша, // Ибо султан мира — раб дервишей»
[Хаджу, Dorj-3, газель № 163].
Идея: незримое и скрытое от непосвященных величие дер-
вишей превосходит внешнее и видное всем величие солнца.
6. Идея: счастье всех людей, которые обладают мирскими
благами, преходяще, лишь дервишам, которым нечего терять,
счастье изменить не может.
7. Кибла (qibla) — см. коммент. к газели 10:2, здесь метафора
«места, к которому обращены надежды».
8. «Желанный лик» — rüy-i maqşudy также «лик цели». Ком-
ментаторы толкуют бейт как мистический, полагая, что речь
идет о стремлении великих мира сего приблизиться к постиже-
нию Божественной сущности. Ср. бейт 2 из газели Са'ди, воз-
можно, вдохновившей Хафиза: «Если тебе нужно зеркало, что-
бы увидеть в нем Божественный свет, //Не смотри ни на что в
мире, а только на лица дервишей!»
9. «Время» —furşat, Хирави (с. 168) толкует данное слово как
majäl— «возможность», «сила», «власть». Однако furşat содержит
в себе также и идею времени, поскольку означает «подходящее
время», «удобный момент». Парадоксальная идея полустишия
состоит в том, что, хотя насилие охватило весь мир, удобный
«момент» для дервишей, чтобы победить насилие, длится вечно,
они всегда сокрушают зло.
10. «Не пускай в ход всю свою спесь» — подготовка к теме
богача Каруна, которого погубили гордыня и тщеславие, см.
б. 11. Идея бейта проясняется в сопоставлении с бейтом 5 из
Хафиз. Газель № 49
349
газели Са'ди: «А если дервиши пожелают, то творение Владыки
окажется таким, // Что владения падишахов Он сделает добы-
чей дервишей».
11. Карун — богач, выступавший против Мусы и утвер-
ждавший: «То, что мне даровано, — по моему знанию» [Коран,
28:78]. За это Бог наказал его: «И заставили Мы землю погло-
тить его и его жилище» [Коран, 28:81]. «Гнев» — наказание, ни-
спосланное Богом.
Рахбар (с. 71) дает развернутое толкование бейта: «Наверняка
ты читал в книгах, что когда Муса и его друзья, бывшие чисто-
сердечными дервишами при престоле Всевышнего, прокляли
скупого богача Каруна, на него и сокровища его дома пал гнев
Всевышнего, они ушли под землю и все еще продолжают погру-
жаться». Возможно и более широкое толкование: и поныне есть
спесивые богачи, которые навлекают на себя негодование дер-
вишей, и на них обращается гнев Бога.
12. Бейт включает тахаллус поэта и является первым завер-
шением газели; идея концовки, как и зачина газели, связана с
темой «служения дервишам»: проявить абсолютное смирение
перед дервишами (упасть лицом в пыль на пороге) — равно-
ценно тому, чтобы испить живой воды и обрести вечную
жизнь. Мотив благотворности «пыли с порога» восхваляемого
(друга, наставника, виноторговца) широко представлен в Ди-
ване Хафиза, см., например, газели 2:5; 42:6; 53:3; 61:3.
13. «Раб взгляда» (ğulam-i nazar) — тот, кто исполняет прика-
зания по первому взгляду, преданный слуга; также намек на
особый «благотворный» взгляд восхваляемого, ср. «взгляд мило-
сердия», присущий дервишам (б. 2) и описание «благодеяния
взгляда» в газели 48:6. Асаф — см. коммент. к газели 48:9.
Бейт, следующий за «подписным», придает газели еще один,
панегирический смысл. Оказывается, что все восхваления, ад-
ресованные дервишам, относятся на самом деле к могущест-
венному министру, ведущему жизнь дервиша. Возможно, в
бейте скрыт намек и на то, что равнодушие господина к благам
жизни сказывается на поэте.
Газель 50
LİİJUll (jluÜ^Ä. (^Ia <j l£J£*> A£ (jib ÛulJ 4j
JiL (^1 ^Ü£ jj 1—j ^jj j—kl_c. ^Ij ja.
ВаЛг: mujtatt-i mutamman-i maxbün-i maqswr
Vazn: mafä'ilun fa'üätun mafä'ilun fa'ilät
ba-dä-mi-zul / fi-tu-dil-mub / ta-lä-yi-xvi / s°-ta-nast
bi-kus-ba-gam / za-ki-î-nas / sa-zâ-yi-^î / s°-ta-nast
i. Сердце губит само себя в силках твоего локона,
Добей [мимолетным] взглядом — оно само того заслужило.
350
Хафиз. Газель № 50
351
2. Если то, к чему я стремлюсь, в твоих руках,
Подай руку, ведь [это] — благо для тебя самого.
3- Клянусь твоей душой, о сладкоустый кумир, что, словно свеча,
Темными ночами я стремлюсь к собственной гибели.
4- Когда ты подумал о любви, я сказал тебе: «Соловей,
Оставь, ведь та смеющаяся роза существует ради самой себя».
5- Запах розы не нуждается в китайском и чигильском мускусе,
Потому что ароматницы у нее — под завязками собственной кабы.
6. Не ходи в дома нынешних господ, не знающих великодушия,
Ведь клад твоего благоденствия — в собственном доме.
7- Сгорел Хафиз, но по правилам игры в любовь он
Все еще хранит свой обет и свою верность.
Комментарий
1. «Убей [мимолетным] взглядом» — лукавый взгляд возлюб-
ленного друга традиционно уподобляется стреле. Влюбленный
просит друга послать ему хотя бы мимолетный взгляд, приводя
остроумный аргумент: желанный взгляд представлен как есте-
ственное действие охотника по отношению к дичи; ведь непо-
слушное сердце покинуло хозяина и стало добычей возлюблен-
ного.
2. «Если ... в твоих руках» — gar-at zi dast bar-äyad (букв,
«если у тебя из рук исходит»), фразеолог. «если от тебя зависит»;
«подай руку» — Ъа dast bös (букв, «будь под рукой»), фразеолог.
«поспеши», «не медли» [Суди, с. 339; Хирави, с. 173]. Использо-
вание выражений со словом «рука» подчеркивает мысль о том,
что в руках возлюбленного находится и судьба влюбленного, и
его собственная.
«Для тебя самого» — Ъа jây-i xrïstan, согласно Хирави, выра-
жение может означать и «уместный, своевременный» (букв, «на
своем месте»). Второй смысл полустишия: «Поспеши, ведь благо
тогда [благо], когда оно своевременно».
352 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3. «Гибель» —fanäy в суфизме — термин, обозначающий цель
мусульманского мистика — самоуничтожение личности, полно-
стью растворяющейся в божестве, см. подробнее [ИЭС, ел. ст.
«Фана» (А. Кныш)].
Идея: влюбленный, страдающий и плачущий в разлуке, упо-
доблен свече, которая горит и тает, приближая свой конец.
4. «Смеющаяся роза» (gul-i xandän) — расцветшая роза, ме-
тафора красоты в полном блеске; в редакции Ханлари gul-i
xvadrü «дикорастущая роза» с обыгрыванием буквального смыс-
ла «ходящая сама», т.е вольная (отмечено в [Хирави, с. 175]).
В бейте представлена одна из центральных для дивана Ха-
физа тем — самодостаточность (istiğna) возлюбленного друга,
не нуждающегося ни в чем, в том числе и в проявлениях чувств
влюбленного; ср. газель 3:4 и комментарий.
5. «Китайский мускус» — musk-i cin, мускус, который приво-
зили из Китайского Туркестана; Чигил — город в Туркестане, в
окрестностях которого обитали кабарги, дававшие мускус вы-
сокого качества [Хирави, с. 184], см. также коммент. к газели
1:2. «Под завязками кабы» — zi band-i qabä; как отмечает Суди
(с. 341), имеется в виду иранская qabä — мужской халат, запа-
хивавшийся и завязывавшийся слева под мышкой. Здесь «ка-
ба» — метафора лепестков розы. Бейт продолжает тему само-
достаточности красоты.
6. Хирави (с. 175-176) усматривает во втором полустишии на-
мек на притчу из шестого дафтара «Маснави» Руми про человека
из Багдада, которому приснился сон. Во сне он услышал: мол,
богатство, к которому ты стремишься, найдется в Египте; там
есть сокровище в таком-то квартале, в таком-то доме. В Египте,
после многих злоключений, он встретил стражника, который
тоже видел сон о кладе. Стражник описал квартал и дом в Ба-
гдаде, где спрятан клад; герой рассказа узнал описание своего
родного дома и понял, что всегда обладал сокровищем, которое
пустился искать (оно было в «доме» его сердца). Хирави отмечает,
что это единственный бейт Хафиза, в котором можно усмотреть
отсылку к поэзии Руми. «Клад ... в собственном доме» — возмож-
но, метафора поэтического творчества, источник которого —
сердце поэта.
Хафиз. Газель № 50
353
7. Идея: Хафиз умер от любовных страданий, но «игра в лю-
бовь» {'isq-bäzi) отличается от прочих игр (в нарды — nard-bâzï,
в шахматы — satranj-bâzîj тем, что влюбленный ставит на кон
жизнь; проиграв жизнь, он выигрывает, а игра не кончается со
смертью, ибо и в будущей жизни он остается верен правилам
игры, т. е. любовному обету.
Эта небольшая газель отличается последовательным развити-
ем темы: обращение с просьбой (б. 1,2), жалоба на тяготы (б. 3),
осознание равнодушия адресата и тщетности просьбы (б. 4, 5),
призыв довольствоваться собственными силами (б. 6), призна-
ние безнадежности своего положения и своей неизменной вер-
ности адресату (б. 7). «Драматургия» газели отражена в смене
значений местоимения «свой, собственный, сам» (x?îstan)t кото-
рое входит в радиф и указывает попеременно то на лирического
персонажа (или его сердце), то на адресата газели, подчеркивая
обособленность одного от другого и в то же время связывая их.
Газель 51
djoll QA jL L_i] <İUÜ (JJÄ <J C_Jİ JJjuü (JäJ
jl jj jISja j (jSjb <lui füia. jl jl ^j*i
iluJ ул jl£jl jû j JLp j\ (jûjJ Jj 4£ jA
jS J-JUJ (jl£ Jf* 6jljjJ <J ^JäJ (jtJjLuu
Cj uıl ja jUû 4&jjİû 4_£ (İLauAİjALî
{jjl jJ 4_£ ajuüjä. лЛъ 6^u
ybjLiâljjjcr l-â İ j j J—S j U г. 4İAa
jl ja ^ji—jjÄ jj J ^rtjnıi j^*a jb^b
rı ,h1 qa jUlS j* <4£1 jl jj j!j£ cjIS
JjAjâ AjÜ L_L_I jl CJ^IS J ^ * * CliJjİ
Cj_ull (JA jLftJJ Jû ^Ijjln 4—£ jl (J*£jJ
clAja) Jââl^ <j 4jSj Jj6 jjia jJ <S yi
dı_jüül <j—-a jlüS ôjûli jâuuü (jjjjjyj jb
БаЛг: ramal-i mutamman-i maxbun-i maqsür
Vazn: fâ 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilât
la'-li-sî-râ I bi-ba-xû^tis / na-la-bî-ya / ri-ma-nast
vaz-pa-yî-dî / da-ni-u-dâ / da-ni-jân-kâ / ri-ma-nast
354
Хафиз. Газель № 51
355
i. Рубины, напившиеся воды и жаждущие крови — уста моего друга,
Отдать жизнь, чтобы увидеть их — вот мое дело.
2. Постыдились бы тех черных глаз и длинных ресниц
Те, кто видели, как он отнимает сердца, и порицают меня.
3- О, караванщик, не вези поклажу к воротам, ведь этот закоулок
И есть та царская дорога, где жилище моего друга.
4- Я — раб своей судьбы, ведь при нынешней нехватке верности
Любовь к тому хмельному цыгану купила меня!
5- Лоток с маслами розы и ее душистые локоны —
Дарят лишь один аромат из благовоний моего парфюмера.
6. О садовник, не гони меня от своих дверей, словно ветер,
Ведь вода для твоего сада роз — мои гранатовые слезы.
7- Сахарный шербет и розовую воду из губ моего друга прописал
Его нарцисс, что состоит лекарем при моем больном сердце.
8. Тот, кто в слоге газели научил Хафиза одной тонкости —
Мой друг со сладкой речью и неподражаемым языком.
Комментарий
1. «Напившиеся воды» — sfr-âb, также «блестящие, свер-
кающие»; для перевода выбран первый смысл композита, что-
бы сохранить оппозицию с «жаждущие крови» (tièna Ъа хйп).
«Рубины ... жаждущие крови» — согласно преданию, добытый
из рудника рубин (la'1) для обретения более сочного цвета вкла-
дывали в окровавленную печень только что убитого животного
[Хирави, с. 177.] «Чтобы увидеть их» (az pay-i dïdan-i й) — т. е.
увидеть уста; можно отнести местоимение й и к самому «другу»,
тогда следует переводить «чтобы увидеть его» [Суди, с. 343; Хи-
рави, там же].
2. Идея: каждый, кто осуждает мое любовное безумие, тем
самым как бы клевещет на глаза и ресницы возлюбленного дру-
356
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
га, отрицая их неотразимую красоту; ему следует постыдиться
самому, а не стыдить меня.
3. «Ворота» (darväza) — согласно Суди (с. 344), имеются в ви-
ду особые уличные ворота, которые закрывали на ночь, чтобы
преградить посторонним проход на улицу; Хирави полагает,
что речь идет о городских воротах, через которые уходит кара-
ван. «Жилище» — manzil-gäh (букв, «место стоянки»), также «ме-
сто стоянки каравана».
В бейте использован традиционный мотив призыва влюб-
ленного к караванщику задержать отбытие каравана, т. е. про-
длить пребывание подле друга.
4. «Судьба» — tâli', также звезда, определяющая счастье и
несчастье человека, см. коммент. к газелям 18:6; 47:7. «Я — раб
своей судьбы» — я благодарен своей судьбе. «Хмельной цыган»
(цыганка) — см. газель 3:3 и коммент.
Идея: герой газели наделен верным сердцем в эпоху всеоб-
щего вероломства; благодаря такой счастливой судьбе он дос-
тиг желаемого — Любовь приняла его в ряды влюбленных; ср.
мотив «разрешения любить» в газели 3:1. Как отмечает Хирави
(с. 178), во втором полустишии для 'îsq-i ân lûlï-yi sarmast воз-
можно и понимание «любовь того хмельного цыгана», тогда
смысл бейта: «я своей верностью заслужил любовь друга».
5. «Лоток» (tabla) — лоток или корзинка, где продавцы благо-
воний раскладывали товары для продажи вразнос. «Лоток с
маслами розы» (tabla'-i 'atr-i guïj — цветок розы целиком, мета-
форически представленный как лоток или корзинка торговца
розовым маслом. «Ее душистые локоны» — здесь метафора ле-
пестков розы. «Парфюмер» — 'attär, торговец благовониями,
здесь метафора возлюбленного, возможно также, намек на
Махмуда 'Аттара, которого некоторые исследователи считают
шейхом Хафиза [Хирави, с. 179].
6. «Садовник» (bâğbân) — метафора возлюбленного. «Словно
ветер» (ham си nasîm) — сравнение может относиться как к са-
довнику, так и к лирическому персонажу. В первом случае
смысл полустишия: садовник, не гони меня, ничтожного, как
ветер гонит пыль; во втором — не уподобляй меня ветру, чье
пребывание в саду мимолетно (второй вариант отмечен только
Хафиз. Газель № 51
357
Суди, с. 346-347). «Вода» — âb, во втором значении «блеск, сия-
ние» (прием ïhâm). «Сад роз» — метафора красоты возлюбленно-
го; «сад роз» — gulzär и «гранатовые (слезы)» — gulnâr образуют
внутреннюю рифму и коррелируют по цвету (в персидской по-
эзии роза обычно красная).
Идея: влюбленный просит не прогонять его, несмотря на его
ничтожество, и приводит довод, что его кровавые слезы только
умножат сияние красоты друга.
7. Сахарный шербет и розовая вода использовались в тра-
диционной медицине как средства, прогоняющие меланхолию,
здесь — метафора сладости и благоуханности уст друга. «Нар-
цисс» — стертая метафора прекрасных глаз. «Нарцисс, что со-
стоит лекарем» — в поэзии томные глаза описывают как «боль-
ные», а их взгляды — как смертоносные; здесь образ строится
на двойном опровержении общепринятого: взгляд возлюблен-
ного, вместо того чтобы болеть самому и при этом убивать дру-
гих, служит лекарем и сулит влюбленному лекарство — поцелуй
(ср. схожий мотив в газели 145:6).
8. «Слог» — tarz, в терминах средневековых критиков стиха,
характерные особенности, отличавшие манеру того или иного
поэта. «Тонкость» — nuktay также «острота»; «с неподражаемым
языком» — nadira-guftär (букв, «с редкостной речью»), также —
«острый на язык». Бейт соединяет мотив восхваления друга с
самовосхвалением поэта: благодаря свойствам возлюбленного
Хафиз обрел свой особый неподражаемый стиль в сочинении
газелей. Дополнительные смыслы nukta и nadira-guftär дают
«подсказку», что Хафиз видит в остроумии существенную осо-
бенность своей поэзии.
Ш.-А. Фушекур отмечает, что в бейтах 4-7 Хафиз приводит
различные образы, в которых возлюбленный друг предстает
перед влюбленным: «хмельной цыган» (б. 4), «парфюмер» (б. 5),
«садовник» (б. 6), «лекарь» (б. 7) [Hafez de Chiraz 2006, с. 271-
272], тем самым намекая на соответствующие аспекты красоты
и совершенства друга: дерзость, благоухание, цветение красо-
ты, способность исцелять. В финале газели друг выступает как
наставник Хафиза в поэтическом искусстве, которому поэт
обязан умением воссоздавать красоту словом.
Газель 52
^-^ Ù* Ùî* Ù^ L$^J** ^ ^bnjjlSjjj
(JLbuil ja (JJ>^uD Jj JaLiü jl£ jj! дС-
JA JU jtfrA, fü£â. 4jJ JA Iä£ JJJ
jAJ ^jjüj j tdlà ч-yj 4£ (jib ja jb
jb ^1 Jjl ^ 4 j bl^à. j Là Cj Ijj
(jij ji* jS t'ulir. <jjl (jalii 4 W ni -bC<Ij
C-LujI ja (JjSjuaa Jj ^jUaLuj 4>Jjİa a£ (jl j
ûjt/lSrt 4j*£ J-Jİ l-jj Ь
<jlja^û <U-aâ J—aJ JJJJJ ^иил jl li^U
Clult (JA (jJjJji JJjuaÂi (ji£ A^JÄ ^jàJ ч£
Ba/?r: ramal-i mutamman-i maxbûn-i maqsür
Vazn: fa 'ilâtun fa 'ilâtun fa 'ilâtun fa 'ilôt
гй-zP-gä-ri I st-ki-sauhdâ / yi-bu-tân-dî / ni-ma-nast
да-mi-Vх-kâ / r°-ni-sâ-tï/ di-li-gam-gî/ ni-ma-nast
358
Хафиз. Газель № 52
359
i. Издавна страсть к кумирам — моя религия,
Печаль на этом поприще — радость моего опечаленного сердца.
2. Чтоб увидеть твое лицо, нужно «око, глядящее в душу»,
Разве такое звание у моих глаз, глядящих на мир?
3- Будь моим другом, ведь краса небес и украшение вселенной —
От луны твоего лица и моих слез, подобных Парвин.
4- С тех пор, как любовь к тебе научила меня говорить,
У людей не сходят с языка похвалы и одобрение мне.
5- О Боже, пожалуй мне богатство нищеты,
Ведь эта милость приведет к моему величию и могуществу.
6. Проповеднику, что знается с шихна, скажи: «Не кичись,
Ведь в моем жалком сердце — покои султана!»
7. О Боже, кто любуется той вожделенной Ка'бой,
Раз колючки на пути к ней — для меня розы и жасмин?
8. О Хафиз, не рассказывай больше о величии Парвиза,
Ведь его уста лишь допивают остатки за моим сладким повелителем.
Комментарий
1. «Религия» — dirty это слово как в арабском, так и в персид-
ском обозначает прежде всего ислам, оно встречается в Коране
свыше ста раз, имеет различные смысловые оттенки, но чаще
всего связано с идеей подчинения Аллаху и признания его аб-
солютной власти [ИЭС, ел. ст. «Дин» (Е. Резван)]. Зачин газели
построен на двух парадоксальных утверждениях: религией
объявляется идолопоклонство (страсть к кумирам- butân), а ра-
достью — страдание.
2. «Глядящий в душу* (jân-bîn) и «глядящий на мир» (jahân-
Ып) — противопоставлены два типа зрения, духовное, устрем-
ленное к познанию незримого мира (ğayb), и физическое, вос-
принимающее лишь материальные предметы [Хуррамшахи,
с. 302]. Хирави (с. 183) видит в данном бейте аллюзию на айат:
360 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
«Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры; Он — прони-
цателен, сведущий!» [Коран 6:103].
Идея: чтобы разглядеть в своей душе образ друга, нужно
стать слепым по отношению к внешнему миру, ср. то же проти-
вопоставление внешнего и внутреннего зрения в газели 40:7.
3. «Краса небес» (zzb-i falak) — луна; «украшение вселенной»
(zînat-i dahi) — Парвин (parvîn), т. е. Плеяды. В астрологии это
звездное скопление считалось одним из домов Луны. «Слезы,
подобные Парвин» — сравнение основано на том, что слезы
традиционно уподобляются жемчугу, а Парвин или Сураййа
(араб, название Плеяд) — жемчужному ожерелью (ср. газель
3:9); «слезы, подобные жемчужному ожерелью», в свою очередь,
оказываются намеком на «нанизанный жемуг» стихов о горест-
ной любви, ср. тему следующего бейта.
4. «Похвалы» — midhcrt; возможно также чтение madh-at «вос-
хваление тебя», тогда смысл полустишия: у людей не сходят с язы-
ка мои стихи, воспевающие тебя, и похвалы мне, однако коммен-
таторы не отмечают этого варианта. Мотив «возлюбленный — ис-
точник вдохновения поэта и совершенства поэзии» неоднократно
встречается в Диване Хафиза; ср. газели 51:8; 277:4; 321:4.
5. «Богатство нищеты» — dawlat-ifaqr, также «счастье нищеты»;
формула отсылает к одной из важных тем суфийской и аскетиче-
ской поэзии — «блаженство нищих дервишей», представленной в
Диване Хафиза в разных преломлениях, см. газель 49 с радифом
darvïsân-ast, целиком посвященную разработке темы.
Рахбар отмечает намек на хадис Пророка: «Нищета — моя
гордость» (al-faqru feuert).
6. «Шихна» (sihna) — см. примеч. к газели 47:8-9. «Проповед-
ник» (vä'iz) — ср. газель 35 с зачином, обращенным к проповед-
нику, в котором комментаторы видят намек на суфийского по-
эта *Имад ад-Дина Факиха, враждовавшего с Хафизом. «Пропо-
ведник, что знается с шихна» — намек на то, что городской
проповедник не только обличает пороки словом, но и прибегает
к помощи властей, способных применить силу. «Султан» — в
панегирическом прочтении правитель, которого воспевает по-
эт, в любовном — возлюбленный, а в мистическом — Бог.
Хафиз. Газель № 52
361
В бейте приведен шутливый ответ на подразумеваемые на-
падки проповедника, обвиняющего ринда в неподобающем по-
ведении (пьянстве): если проповедник натравит на него своего
единомышленника шихна, не страшно, герой находится под за-
щитой самого султана; ср. газель 47:8, где оппозиция «блюстите-
ли благочестия (шихна, мухтасиб) — верховный правитель (па-
дишах)» прямо соединена с темой «пьянства Хафиза».
7. «Вожделенная Ка'ба» — каЪа'-i maqşûdy букв. «Ка'ба цели,
стремления», метафора возлюбленного, к которому влюбленный
стремится, как паломник — к Ка'бе. «Колючки» — muğüân, от
араб, итт gttän «мать гулей», название колючего кустарника,
под которым, по представлениям бедуинов, обитали гули [Рах-
бар, с. 75], в персидской поэзии — обобщенное обозначение
трудностей, претерпеваемых путником, в частности — палом-
ником, идущим к Ка'бе.
Идея: если даже колючки на пути любви к этому возлюблен-
ному прекрасны, словно розы и жасмин, кто же тот счастливец,
которому удалось добиться свидания.
Так понимают бейт и Суди (с. 352), и Хирави (с. 184). Рахбар
предлагает совсем иное толкование: Ка'ба у него — метафора
не самого возлюбленного, а места, где он обитает и которым он
любуется. Соответственно, герой задается вопросом: «Что за
дивное существо возлюбленный, если даже колючки на пути к
нему нежнее цветов?».
8. Парвиз — Хусрав Парвиз, прославленный царь из дина-
стии Сасанидов (591-628), правление которого описано в «Шах-
нама», а история любви к армянской принцессе Ширин (букв,
«сладкая») послужила сюжетом поэмы Низами «Хусрав и Ши-
рин». «Сладкий повелитель» — xusrav-i sïrïn, намек на название
поэмы Низами.
Идея: мой повелитель столь величав и прекрасен, что сам Хус-
рав, который славился своими пирами и добился любви Ширин,
на его пиру был бы лишь допивающим опивки со дна чаши.
Хирави (с. 186) отмечает, что газель несомненно представля-
ет собой панегирик одному из правителей, возможно, Шаху
Мансуру или Шаху Йахйа.
Газель 53
i ^ oIİjIâ -ülâaA <jijS л£ aIu
* " » "l qa ôlxaaj^ï Jjj jIaa jjj ^IcJ
^Ib 4a. dluUJ Г Jf-Û LXk <JİJJ AjS
LİluJİ (JA ôl^Â.jic Ol J^jul 4j QA (^IjJ
^1^^ f—c-J à b S j ôl—^iûb j
Cj J (ja ôUijb ri mjj jj tillk ^IjS
l"h J 4ni (JU^j aIAjIÂ-Lû j Л%ша j jia jO
v"i и)! <j* ôljS I^â. >jI^j Jb^. ^j—jI ja.
^i jj f i ^JJ <aä Ja.1 £jj 4_j jL*
dlxJ (JA ôl J j A^J 4j ^Jj^ j^ jl (J^J
(jjj ^t$j <jliuJ jj) jj <S jLûj jl jl
JjjuJjjÂ. Л Und jl^â
JààU. 1 . JUiil Jj—i-S <L^ J\ ö\Ä
(JLbuil qa dUS jS j jSb 4J.Jİ (JJJ^a jj jj
Bahr: mujtatt-i mutamman-i maxbûn-i maqsûr
Vazn: mafâ'ilunfa'ilâtun mafâ'ilun fa'ilât
ma-nam-ki-gû / sa-'i-may-xâ / na-xâ-na-qâ / hi-ma-nast
du-'â-yi-pîI ri-mu-gän-vir / di-şub-h°-gâ / hi-ma-nast
ı. Я такой, что местечко в кабаке — моя обитель,
Взывание к старцу магов — моя утренняя молитва.
362
Хафиз. Газель № 53
363
2. Если не поет для меня утренний чанг — не беда,
Моя песня на рассвете — мои покаянные вздохи.
3- Мне нет дела ни до падишаха, ни до нищего, слава Богу!
Для меня нищий в пыли у двери друга — падишах.
4. Ив мечети, и в кабаке моя цель — встреча с Вами,
Лишь эта мечта живет во мне, Бог тому свидетель.
5- Разве что мечом смерти я снесу шатер, а иначе -
Бежать от дверей счастья — не в моем обычае.
6. С тех пор, как я припал лицом к этому порогу,
Высоты престола солнца — мое подножие!
7- Хафиз, пусть мы согрешили не по собственной воле,
Следуй путем учтивости и скажи: «Виноват!».
Комментарий
1. «Кабак» (mayxâna) — уп°минание кабака как места, где
надлежит находиться герою, характерно для зачина многих га-
зелей Хафиза; см., например, газели 10, 40, 47; более полный
список дан в [Хуррамшахи, с. 307-308]. «Обитель» (xânaqâh) —
см. коммент. к газели 47:3; в Диване Хафиза образует оппози-
цию с кабаком, питейным домом (локус благочестия — локус не-
честия), ср. схожую оппозицию «мечеть—кабак» далее в б. 4.
2. «Утренний чанг» — cang-i şabûh, букв, «чанг утреннего ви-
на», как отмечено у Хуррамшаши (с. 310-311), выражение при-
надлежит к числу «необычных и трудных» в поэзии Хафиза;
şabûh означает «вино, которое пьют утром», т. е. вино для опо-
хмеления, в расширительном смысле — «утренняя пора», см.
[Диххуда. ел. ст. Şabûh], где, однако, поэтические примеры де-
монстрируют, что слово используется для обозначения времени
в связи с утренним винопитием. Хусайн-'Али Маллах, автор
книги «Хафиз и музыка» полагает, что «поет ... чанг» здесь —
метафорическое обозначение звука, с которым вино льется из
бутыли (о традиции таких описаний см. в коммент. к газели
30:5), но Хуррамшахи предпочитает понимать şabûh как şabûhî
364 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
«утренняя пирушка», и толкует выражение cang-i şabüh как «му-
зыка на утренней пирушке».
Идея: если я впал в немилость, лишился общества друга (по-
кровителя) и не слышу чанга на его утреннем пиру, то в своем
раскаянии я вздыхаю столь горестно (т. е. я слагаю столь пре-
красную газель), что это заменяет мне жалобный голос чанга.
3. Оппозиция «падишах — нищий», обозначающая крайние
точки социальной иерархии, для лирического персонажа пере-
стает существовать, поскольку нищий, который вымаливает
благосклонность друга, в его глазах обретает царское величие.
4. Оппозиция «мечеть — кабак» отмечает крайние точки в
этической иерархии мусульманина; для вступившего на путь
любви исчезает и эта система ценностей (ср. мотив бейта 3).
Лирический персонаж молится в мечети и пьет в кабаке в по-
мыслах о встрече; в газели она обозначена как «встреча с Вами»
(vişal-i sumä). Это может быть встреча с возлюбленным другом
(обращение к возлюбленному на вы встречается и в других га-
зелях, см., например, газель 12 с радифом sumä), перед кото-
рым герой провинился, см. бейт 2.
5. «Мечом смерти я снесу шатер» — т. е. подрублю веревки,
которыми натягивают шатер; метафорическая ситуация состоит
в том, что герой разбил шатер (обосновался надолго) у порога
друга и только смерть может заставить его покинуть эту пози-
цию. Как отмечает Хирави (с. 189), в реальной жизни дервиши
имели обыкновение разбивать палатки напротив жилищ богатых
людей, домогаясь исполнения своих просьб, но часто хозяин до-
ма посылал слуг, чтобы те перерезали веревки палатки и прогна-
ли просителей. «Двери счастья» — dar-i dawlat, во втором значе-
нии «порог могущества», намек на просьбу об аудиенции у вос-
хваляемого лица, см. коммент. к бейту 4.
6. «Престол солнца» (masnad-i xursîd) — по мусульманской
космологии солнце находится на четвертом (из семи) небес.
«Подножие» — takiya-gäh, букв, «место опоры», в переносном
значении «приют, убежище».
Бейт предполагает как панегирическое, так и любовное про-
чтение. В первом случае говорится о том, сколь высок статус
адресата газели — даже униженное положение при нем возно- ı
Хафиз. Газель № 53
365
сит лирического персонажа выше солнца. Во втором — речь
идет о том, что влюбленный, которому удалось достичь порога
друга, обретает царское достоинство, см. б. 3.
7. «Воля» — ixüyär, также «свобода действий», понятие, кото-
рое в мусульманской философии противопоставляется «пред-
определению» (jabr); комментаторы видят в бейте отражение
идей тех школ философии калама, которые так или иначе огра-
ничивали меру ответственности человека за свои поступки:
джабаритов [Хирави, с. 190] или аш'аритов [Хуррамшахи,
с. 312]. Намеки на просьбы о прощении за некий проступок рас-
сыпаны по всей газели. В заключительном бейте эта тема выра-
жена открыто и изящно: Хафиз в едином поэтическом высказы-
вании сопрягает утверждение о своей невиновности с призна-
нием вины и просьбой о прощении.
Газель 54
CİLuJİ (jj^ JÛ <lauîü лАкЛЪ /*^J^ AjjS j
dû jXjbû <*1 t и 4 дпЛ J J_J <J*J ûl_J 4j
Cj J ujjUa ^JtlUa ^_ı£ g-j 1 Vı j£l
«il (^j^Jj jjjuj j^aa dj^S a£ jaj *L
^Luü jIjuüj ^^lj jLa. 4—i ùùii JJİ j
J—iJP ÙJJ ^Л f*^î J ^ <^° Ü^ J1
d_ujl (jjju jb^l jl 4_S jbl^l <j
Л i ^^a jl_j CJ—Lia iJùjLaa j
366
Хафиз. Газель № 54
367
Bahr: mußatt-i mutamman-i тахЬйп-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafâ'üunfa'ilâtun mafâ'üun fa'lân
zi-gir-ya-mar / du-mi-Ğae-mam / ni-sas-ta-dar / хй-nast
bi-bV^ki-dar / ta-la-bat-hä / li-mar-du-män / äu-nast
i. От слез зрачки моих глаз утопают в крови,
Ты посмотри, каково людям, ищущим тебя!
2. В память о твоих рубинах и пьяных глазах, подобных вину,
Я пью из чаши тоски рубиновое вино, а оно — кровь!
3- Солнце твоего лика на востоке края улицы
Если появится — значит у меня счастливая звезда.
4- Рассказ об устах Ширин — вот речь Фархада,
Завитки локонов Лайли — вот место Маджнуна.
5- Смилуйся над моим сердцем, ведь твой стан как милый сердцу кипарис,
Скажи словечко, ведь твои речи изящны и соразмерны.
6. О кравчий, кружением вина дай душе хоть какое-то утешение,
Ибо муки моего сердца — от насилия кружащегося небосвода.
7- С того мгновения, как любимый сын скрыт от моих глаз,
Край моего подола — словно река Джайхун.
8. Как может мое скорбное сердце обрести радость
[Своей] властью, если это вне [его] власти?!
9- Хафиз стремится к другу попусту,
Словно банкрот, требующий сокровищ Каруна.
Комментарий
Газели с тем же метром (mußatt) и рифмой (-йп-ast) имеются в
диванах Са'ди [Са'ди, Куллиййат 1996, с. 441-442, газель № 84],
Салмана Саваджи [Салман, Dorj-3, газель № 50] и Камала Ху-
джанди [Камал Худжанди 1975, с. 267, № 246].
368
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
По мнению Хуррамшахи (с. 314), в газели, особенно в б. 7-8,
можно усмотреть отражение личной трагедии Хафиза — потери
сына (эта тема присутствует также в газели 134).
Во многих бейтах газели используются фигуры «сроднения
слов», такие как tajnîs, takrir, istiqäq. Возможно, таким образом
на стилистическом уровне выражена идея родственной близо-
сти отца и сына.
1. «Утопают в крови» — т. е. заливаются кровавыми слезами
разлуки. «Зрачки глаз» — mardum-i casm, также «люди глаз»; во
втором полустишии употреблено то же слово mardumàn, но на
первом плане — значение «люди» (фигура ïhâm). Ср. первый
бейт газели одного из предшественников: «Поскольку от тоски
по тебе чаши моих глаз полны крови, //К чему виночерпий и
чаша, и вино цвета розы?!» [Камал Худжанди 1975, с. 267].
2. «Рубины» (la'1) — поэтическое название губ. «Пьяные глаза»
(casm-i mast) — характеристика прекрасных глаз (подробно см.
комент. к газелям 11:7, 12:3, 15:4). «Подобные вину» (таудйп) —
глаза, пьянящие, как вино [Рахбар], блестящие, как вино в ча-
ше [Хирави, с. 192], о коннатациях «пьяных глаз» у Хафиза см.
коммент. к газели 15:4. В восьмом бейте упомянутой газели
Са'ди (см. начало коммент.) использована та же пара эпитетов:
«Разве падишах не повелел: „Не пейте вина!" // Приди, ведь
глаза и уста у тебя — пьяные и подобные вину». Следуя тради-
ции, Са'ди называет «пьяными» глаза, а «подобными вину» уста
адресата; Хафиз относит оба конвенциональных эпитета только
к глазам и тем самым остраняет определение таудйп, застав-
ляя читателя задуматься о признаке, по которому глаза уподоб-
лены вину.
3. «Восток края улицы» (masriq-i sar-i кйу) — метафора, в ко-
торой дальний край улицы, откуда появится лицо друга, упо-
доблен востоку, где восходит солнце. «Звезда» — tâli', см. ком-
мент. к газелям 18:6 и 47:7. Слова taVat «лик», tulü* [kunad\
«появится» и tali' «звезда» (производные от корня £-Z-' «восхо-
дить, подниматься») образуют фигуру istiqäq.
4. «Завитки локонов» — отсылка к традиционной метафоре
локона — «цепь»; Маджнун — majnün, букв, «бесноватый, безум-
ный»; обоснование образа — обычай заковывать душевноболь-
Хафиз. Газель № 54
369
ных в цепи. Маджнун и Лайли упоминаются во всех трех газе-
лях-предшественницах. Са'ди (б. 3): «Не видит красоты лика
Лайли, // Тот, кто преследует беднягу Маджнуна»; Салман (б. 7):
«Сердце Салмана в оковах — пленник у той Лайли, //У которой
в цепях локонов тысяча Маджнунов»; Камал (б. 4): «В твое время
что за слава у красоты Лайли, // Ведь под каждым извивом
твоего локона — тысяча Маджнунов». Во всех бейтах так или
иначе использован мотив красоты Лайли. В бейте Хафиза, тему
которого Суди (с. 360) формулирует как «влюбленный всегда
там, где его возлюбленная», упомянуты две истории: Маджнун,
сходящий с ума по Лайли, и Фархад, влюбленный в Ширин, при
этом речь идет не о красоте возлюбленной, а о верности влюб-
ленного.
5. «Смилуйся над моим сердцем» — dil-am biju, букв, «ищи мое
сердце», толкование фразеологизма см. в [Диххуда, ел. ст. Dil
justari\ с данным бейтом в числе примеров. «Милый сердцу» —
dü-jüy композит означает как «ищущий расположения», так и
«располагающий к себе», в [Диххуда, ел. ст. Dil-jü\ бейт приведен
для иллюстрации второго значения.
6. «Кружение вина» — dawr-i bâda, имеется в виду пущенная
по кругу чаша с вином. Тема бейта «вино — лекарство от скор-
бей» в упомянутых газелях-предшественницах не представлена.
7. «Джайхун» (jayhün) — арабское название реки Амударьи, в
поэзии символ полноводности и изобилия. «Любимый сын» —
rüd-i 'aziz, во втором значении «могучая река» (фигура iham).
Обычно «реки слез» характеризуют страдания влюбленного; в
бейте появление rüd «реки» слез изящно мотивируется разлукой
с rüd «сыном» (фигура tajnïs). «Край подола — словно река» —
слезы стекают по одежде в таком изобилии (текут ручьем), что
намокают даже ее полы. Ср. два бейта из газелей-предшествен-
ниц, в которых также упомянута река Джайхун в связи с си-
туацией слез в разлуке. Са'ди: «Подол у Са'ди, с тех пор как он
разлучился с тобой, //От слез стал словно берег Джайхуна».
Камал: «Что сопернику до того, как душа моя расстается с те-
лом, //Я тону, а он на берегу Джайхуна» (б. 5).
8. «Власть» — ixtiyâr, также «воля», «выбор». Хирави (с. 194)
рассматривает бейт как продолжение предыдущего: скорбь по
370 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
сыну представлена в терминах концепции свободы воли и пре-
допределения, подробнее см. коммент. к газели 53:7. Если
внешний мир не подвластен воле человека, то в своем «сердце»
(andarüriy букв, «внутреннее») он, казалось бы, может сделать
выбор, т. е. обрести внутреннюю гармонию, однако в бейте ут-
верждается, что свободы выбора нет и у сердца, горе и радость
вне его власти.
9. «Попусту» — az bî-xvadî> во втором значении «самозабвен-
но» (İham); Ы-хУадх — состояние самозабвения, мистическое со-
стояние, характеризуемое потерей временных и пространст-
венных ориентиров, полным отказом от своей личности. Ка-
рун — см. коммент. к газели 49:11.
В бейте совмещены два смысла: Хафиз «стремится к другу
самозабвенно (az bî-xvadi)», как идеальный влюбленный, и
«стремится попусту (az bf-x^adi)», как банкрот. Он отказался от
своего «я», и в то же время, все его усилия добиться благосклон-
ности друга пропадают втуне.
Газель 55
t"i nil ^jjI <a*İ viL_j jl jllujjl£ j
(jSJ t " 1 nil (JXUA. j y t A <,"\\\ лу
^ı nil (jjjâi^puuj ^jji^ (jj^-c jj a£
L-î_xtfl
CJ uil
Ba/ır: hazayı musaddas-i maqsûr
Vazn: mafâ'îlun mafâ'ılun mafâ'îl
xa-mî-zul-fi / tu-dâ-mî-kuf / ru-dî-nast
zi-kâ-ris-tâ I ni-й-уак-еат / ma-î-nast
ı. Извив твоего локона — силок для неверия и веры,
И это — лишь малая толика его деяний.
371
372
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Твоя красота — чудо совершенства, однако
Рассказ твоего взора — явное волшебство.
3- Разве можно спастись от твоих дерзких глаз,
Ведь они с луками — всегда в засаде.
4- Стократная хвала тому черному глазу,
Что в убийстве влюбленных — настоящий волшебник!
5- Удивительная наука — астрономия любви,
Ведь для нее восьмое небо — седьмая земля.
6. Ты думаешь, что злопыхатель ушел и спасся?!
Счет его [дел] — у благородных писцов.
7- О Хафиз, остерегайся козней его локона,
Он похитил сердце, а теперь занялся верой.
Комментарий
1. «Вера» — dîn, также «религия», часто употребляется как
синоним слова «ислам», см. коммент. к газели 52:1; «неверие» —
kufr, «непризнание ислама или отход от его норм» [ИЭС, ел. ст.
«Куфр» Щ. Ермаков)]; границы понятия /си/г служили предметом
дискуссий между разными правовыми школами, неверным мог
считаться как вероотступник (виновный в отказе от единобо-
жия и символа веры sahada), так и преступник (виновный в
колдовстве, прелюбодеянии, пьянстве и т. д.). «Деяния» —
käristän, букв, «место дела», также «рассказ о событиях, жизне-
описание».
«Вера и неверие» — формульное сочетание, популярное в опи-
саниях красоты возлюбленного, типично сравнение лица с верой
(светом), а локона — с неверием (тьмой). Хафиз «остраняет» при-
вычную формулу, она становится обозначением всей совокупно-
сти влюбленных. Хирави отмечает (с. 195), что в данном бейте
оппозиция kufr-u din подразумевает «мусульманина» и «нечести-
вого», для которых равно притягательна красота возлюбленного.
2. «Чудо» — mu'fiz, в исламе «чудеса», совершаемые пророками
по милости Бога, противопоставляются прочим сверхъестест-
Хафиз. Газель № 55
373
венным деяниям, последние осуждаются и запрещаются как
колдовство (sihr). «Явное волшебство» (sihr-i mubïn) — кораниче-
ская аллюзия: «Когда же пришли к ним Наши знамения
(ayätunä) уясняющими, они сказали: „Это явное волшебство
(sihru mubîn)\"» [Коран, 27:13]; речь идет о том, что пророк Муса,
состязаясь с колдунами Фараона, явил истинные чудеса, а люди
вначале ему не верили (см. также [Коран, 20:66(63)-73 (70)]).
Идея: красота лика возлюбленного представляет собой такое
же чудо совершенства, как пророческая истина, тогда как лука-
вый взор уподоблен недозволенному колдовству, лжи и обману.
Бейт развивает тему объединения противоположностей: ло-
кон друга пленяет как мусульман, так и неверных (б. 1), а его
лицо — место явления и Божественного чуда, и колдовского
обмана.
3. «Лук» (kaman) — стандартная метафора брови. Стрелами
для них в поэтических описаниях обычно служат ресницы, а са-
ми глаза уподобляются охотникам, затаившимся в ожидании до-
бычи. Kamân (лук) и kamın (засада) образуют фигуру sibh-i istiqâq
(употребление в строке слов, напоминающих однокоренные).
4. «Настоящий волшебник» — sihr-âfarın, букв, «творящий
волшебство», в бейте использованы как прямой, так и перенос-
ный смыслы выражения: глаза творят волшебство, т. е. околдо-
вывают, и глаза — настоящие волшебники, мастера своего дела.
Здесь получают развитие ситуации двух предыдущих бей-
тов: глаза наделены колдовской силой (б. 2), глаза подкараули-
вают влюбленных, вооружившись луками бровей (б. 3). В дан-
ном бейте они мастерски (или при помощи колдовства) убивают
влюбленных. «Похвала убийству» подразумевает восхваление
красоты глаз.
5. «Астрономия» — 4lm-i hay'at, «наука о форме [небес]», в
Средние века в мусульманском мире — область знания, которая
изучала геометрическую структуру вселенной, определяла зако-
ны, управляющие периодическими движениями небесных тел,
создавала кинематические модели, чтобы описать эти движения,
и приводила их к форме таблиц, с помощью которых можно бы-
ло с максимальной точностью рассчитать положение того или
иного светила, наблюдаемого с любой конкретной точки земной
поверхности, см. [El, ел. ст. 'Um al-Hay'a (D. Pingree)]. «Астроно-
374 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
мия любви» — метафора подразумевает, что любовь по сложно-
сти устройства подобна вселенной, изучение ее законов может
составить целую науку. «Восьмое небо» (carx-i hastum) — по на-
турфилософским представлениям, восьмая небесная сфера, к
которой прикреплены неподвижные звезды; «седьмая земля»
(zamîn-i haftum) — считалось, что земля состоит из семи слоев и
седьмой слой ее — самый низкий.
Идея: знания астрономов ограничены сферой восьмого неба,
выше которого разум человека не проникает; но для помыслов
тех, кто изучает науку о местоположении любви в мироздании
(т. е. для влюбленных), восьмое небо — лишь отправная точка
на пути познания.
6. «Ушел и спасся» — т. е. умер и избежал наказания. «Благо-
родные писцы» (kiram al-kâtibîn) — ангелы, которые сидят на
плечах человека при жизни и ведут счет его добрым и дурным
поступкам для отчета на Страшном Суде, см. [Коран, 82:11].
Поэтому злопыхателю воздастся в Судный день.
В «злопыхателе» (bad-gû) усматривают намек на поэтическо-
го соперника Хафиза — Салмана Саваджи (ум. 1376), см. [Hafez
de Chiraz 2006, с. 277] со ссылкой на мнение П. Ахура.
7. Первый и последний бейты газели посвящены описанию
локона. В начале он представлен как «силок», одинаково пле-
няющий сердца мусульман и неверных, причем сказано, что это
лишь малая часть его «деяний». В конце эта мысль получает раз-
витие: покушаясь на истинную веру, локон способен превратить
мусульманина в неверного.
Газель дает яркий пример «кольцевой композиции», когда
финал (maqta*) возвращается к теме зачина (matla*).
Газель 56
t"l >njt duA jûS O (jS jA j£â
yl^ jlâiû ûUa <j5 İL
_L_*.
^1 jl ^>4a. Д_Д 4 S j i J_£ jA
CİLujjI 1 " 1 j^ > /ı (Jji j c_NJj jjl j
ClJuiLa vlijjj j <**ь*Л* yjîa-û jjù
Cj yıjl clujj jjj şu ^ jA
CJ jia «j£ j ^ S nil fl. t*ı £ 1 л
Cj *»jl CjaA c>J j f jb 4_a jA
375
376 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
■ '■ те
I j i àU. 4—S jju* j aLL jîà
Lİ1-JUÜJİ ("i \ Tk л A \\y iS 4 *1 j Ю
Ba/?r: xafïf-i musaddas-i maxbûn-i maqsür
Vazn: fâ 'ilätun mafâ41un fa 'ilât
dü-sa-râ-par I da-î-ma-hab / ba-ti-üst
dï-da-a-yï I na-dâ-ri-tal / 'a-ti-üst
ı. Сердце — царский шатер любви к нему,
Глаза — держатели зеркала для его лика.
2. Пусть я не склоняю головы перед обоими мирами,
Моя шея — под бременем благодарности ему.
3- Для тебя — Туба, для нас — стан друга,
Помыслы каждого соразмерны его отваге.
4- Если я покрыт позором, что удивительного?
Весь мир — свидетельство его чистоты.
5- Кто я в том святилище, где ветерок —
Привратник в священных пределах его величия!?
6. Пусть не уходит его образ из поля зрения глаза,
Ведь этот закуток — место для его уединения! ,
7- Каждая новая роза, украсившая лужайку, ;
Явилась от великолепия его общества.
8. Прошла пора Маджнуна, очередь за нами, \
Пять дней для каждого — в свой черед! \
I
9- Царство влюбленности и сокровища радости —
Все, что есть у меня — от его благой силы.
Хафиз. Газель № 56
377
ю. Если я и сердце падем жертвами, что за беда?
Общая цель — его благоденствие.
п. Не гляди на явную нищету, ведь у Хафиза
Грудь — сокровищница любви к нему.
Комментарий
1. «Сердце» (dil) в суфийской поэзии интерпретируется как
место проявления божественного света и посредник между ми-
ром материальным и духовным; оно обращено одной стороной
к миру духовного, а другой — к миру телесного.
«Царский шатер» — sarâ-parda, место царских аудиенций,
украшавшееся с особой пышностью, в другом значении «укром-
ный покой, место, укрытое от посторонних взглядов, гарем».
«Держатель зеркала» — аута-dar, придворная должность ци-
рюльника или брадобрея, который держит зеркало перед султа-
ном; также человек, который держит зеркало перед невестой.
Эти метафоры сердца и глаз уподобляют возлюбленную персону
одновременно султану и невесте. В первом случае смысл: друг,
как султан, поселился в шатре моего сердца, а мои глаза при-
служивают ему с зеркалом, отражающим его лик. Во втором слу-
чае — друг, как невеста, пребывает в укромном покое моего
сердца, защищенный от посторонних взглядов, мои глаза — зер-
кало, в котором он видит только себя. Намек на свадебный обы-
чай: невеста не должна видеть жениха до свадьбы, поэтому, ко-
гда ее приводят в дом жениха, перед ней ставят зеркало, в кото-
ром девушка видит только себя и больше никого.
2. «Оба мира» — du kawn, тварный мир или «мир создания»
('cdam al-xalq) и божественный мир или «мир веления» ('alam al-
arm), также духовный и телесный миры человека, см. [Коран
7:52 (54)] «[...] Не его ли эта тварь (al-xalq) и управление (al-атт)
ею? Благословен Ёог, Господь миров (гаЪЪ al-'âlamîri)U (пер.
Г. С. Саблукова).
Идея: только груз благодарности к возлюбленной персоне
заставит лирического персонажа склонить голову в знак по-
корности.
Хирави (с. 270 ) приводит схожий бейт Са'ди: «Я не склоню
головы перед власть имущими времени, // Если я буду ни-
378 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
чтожнейшим из твоих рабов». [Са'ди, Куллиййат 1996, с. 661,
газель № 516, б. 4].
3. Туба (tûbâ) — дерево, растущее в раю; в Коране [13:29] го-
ворится, что тем, «которые уверовали и делали благое, им — бла-
го (tûbâ) и хорошее пристанище»; некоторые комментаторы тол- ;
ковали tûbâ как название дерева с благоуханными плодами, вет-
ви которого осеняют дом каждого обитателя рая; ас-Суйути i
приводит хадис, восходящий к Пророку, о том, что Туба — «де- \
рево в раю, размером с расстояние, которое проходишь за сто 5
лет» [ас-Суйути 2000, с. 130]. «Для тебя» — т. е. для сторонника \
внешнего благочестия, оппонента лирического персонажа. «Для
нас» — для влюбленных и риндов. «Отвага» — himmat, духовная и
нравственная сила, необходимая для совершения дела; о даро-
вании himmat ученик может просить учителя, мурид — своего
шейха, а вассал — господина, см. коммент. к газели 12:12.
Смысл: ты, благочестивый, надеешься попасть в рай под сень
древа Туба, а мы, влюбленные, мечтаем лишь о кипарисе-стане
друга. Второе полустишие содержит ироническую двусмыслен- '
ность: на первый взгляд, помыслы риндов ниже, чем устремле-
ния аскетов. На самом деле, все наоборот: друг вознесен так вы-
соко, что благочестивый аскет, который довольствуется мыслями
о рае, не в состоянии даже помыслить о его стане.
4. «Я покрыт позором» — âlüda-daman-am, букв, «я с гряз-
ным подолом», т. е. я грешен.
Идея: в том, что влюбленный пьяница-ринд покрыл себя по-
зором, нет ничего странного, но его греховность не бросает те-
ни на предмет его обожания.
Рахбар (с. 80) приводит бейт Баба Афзала (XIII в.), поясняю-
щий эту идею: «Если все твари станут нечестивцами, //На по*
дол его величия не сядет и пылинки».
5. «Святилище» — haram, окрестности святых мест, в частно-
сти — земля, на которой стоит храм в Мекке; «священные пре-
делы» — harım, запретное, священное пространство, также — то
расстояние, на котором следует держаться от почтенного лица;
«величие» — hurmat, также «великолепие», «почет», «святость».
Соединение в одном бейте слов haram, harım и hurmat, произ-
водных от арабского корня h-r-m «быть запретным, священ-
ным» (фигура istiqäq), имеет поэтическую историю, оно ветре-
Хафиз. Газель № 56
379
чается дважды в касыдах Анвари (XII в.), в руба'и Баба Афзала
Кашани (XIII в.) и газели *Имад ад-Дина Насими (XIV в.), см.
данные поиска по CD Dorj-3. «Хранитель завесы» — parda-dâr,
привратник, слуга, охраняющий доступ во внутренние покои,
ср. б. 1, где сердце представлено как sarâ-parda «царский ша-
тер» и «укромный покой». «Ветерок» — sabâ, весенний ветер, ко-
торый в лирической поэзии наделен способностью проникать
куда угодно, см. коммент. к газели 1:2.
Идея: даже весенний ветер останавливается у входа в запо-
ведное место, где обитает друг, что говорить о простом влюб-
ленном.
6. «Поле зрения» — тащат, букв, «место смотрения», то, на
что направлен взгляд, окоем. «Образ» — xayâl, воссозданный
воображением и стоящий перед глазами лик друга, см. ком-
мент. к газели 29:1. В бейте «образ» персонифицирован; влюб-
ленному хочется, чтобы образ друга всегда находился в его гла-
зах, потому что эти глаза не смотрят ни на кого другого, и «об-
раз» найдет там желанное уединение. Иными словами — влюб-
ленный надеется навсегда сохранить в душе лик друга, так как
он очистил свои помыслы от всего остального.
7. «Великолепие» — rang-u buy, также «привлекательность»,
«прелесть», букв, «краска и аромат»; буквальный смысл указы-
вает на две главные характеристики розы — красочность и
благоухание. «Общество» — şuhbat, также «беседа, разговор»,
«дружеское общение», в поэзии часто — общение пирующих
друзей.
Идея: розы, которые придают красоту лугу и саду, сами об-
ретают краски и аромат (великолепие) лишь благодаря пребы-
ванию рядом с возлюбленным.
8. Маджнун — majnûn, букв, «бесноватый, безумный», герой
сказания о Лайли и Маджнуне, см. примеч. к 28:7. «Черед» —
nawbat, также «смена стражи, караул»; panj nawbat zadan (от-
бивать пять страж) — пять раз в день играть торжественную
музыку у ворот дворца правителя. «Пять дней» — метафора бы-
стротечной жизни.
Идея: все влюбленные в мире связаны цепью преемственно-
сти, но время, отведенное каждому для любви, очень коротко,
это всего лишь «пятидневка» человеческой жизни.
380 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
9. «Царство» и «сокровища» — два признака царского стату-
са, метафоры вводят скрытое уподобление лирического персо-
нажа падишаху. «Благая сила» — yumn-i himmat, см. ['Афифи,
ел. ст.] с толкованием «благоденствие», «счастье»; выражение
употреблялось прежде всего в восхвалениях правителей. В бей-
те 3 говорится о himmat влюбленных, т. е. о свойственной им
«отваге», силе духа, здесь речь идет о himmat возлюбленного,
который своей «благой силой» воздействует на влюбленных.
Идея: с тех пор, как я ощутил на себе благотворное влияние
царственного друга, я сам обрел царское счастье.
Нечастое в газели Хафиза соединение тем влюбленности и
счастья (как правило возлюбленный друг — причина страда-
ний) позволяет усмотреть в концовке газели (б. 9-11) и панеги-
рическую идею: восхваляемый столь велик, что те, кто служит
ему, сами становятся равными падишахам.
10. Согласно канону газели, влюбленный не способен совла-
дать со своим сердцем, здесь же они выступают как союзники:
оба единодушно готовы служить другу (или восхваляемому). В
то же время упоминание о «благоденствии» (salämat) адресата
подготавливает тему скрытой просьбы о вознаграждении в за-
ключительном бейте.
11. В бейте любовный план остроумно совмещен с панегири-
ческим. Влюбленному ринду надлежит пренебрегать благами
мира и довольствоваться сокровищами любви; у панегириста
напоминание о «явной бедности» и любви к правителю звучит
как скрытый упрек в недостаточной щедрости.
Некоторые комментаторы (Хирави, Хатми) ограничиваются
толкованием всей газели только в мистическом ключе.
Газель 57
Ci—uıjt Ь Ля, ^^jjjjuä а£ ôJja. аа*х ^jî
tiîlj (j-ölj j ^)1a JLaS j CljuiI ц-ijà. l£jj
dj u»jl L_j a 11 r- jù jl^b cIiaA ^jä.V
v**h»ıl (jjX*.üS (jiajlc (Jİ^J ^S (JjSjlLû Jl^
di—ujjI Ь aJİ (jjAj «li a£ <ü!j ^jl ^>juj
jljb I j b ^ ûjS j_i^ f j_c f jjL
(Jj (jj>Jjuj (jl ч£ t**<ô< ^jljj 4j£j <jj! <£ Ь
t "* 1 t и jl L-J pJJ-û ^ > tıjr> AÛ j I j Lû t ** * '*^
Bahr: ramal-i mutamman-i maxbun-i aşlam-i musbağ-
Vazn: fâ 'Hatun fa 'Hatun fa 'Hatun fa ' län
ân-si-yah-car / da-ki-sî-rî / ni-yi-'â-lam / bâ-üst
cas-mi-may-gûn / la-bi-xan-dân / di-li-xur-ram / bâ-üst
ı. Он — тот смуглолицый, в котором вся сладость мира,
У него винные глаза, смеющиеся губы, веселое сердце.
381
382 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Хотя сладкоустые — падишахи, однако
Сегодня он — Сулайман, ибо перстень — у него.
3- Красивое лицо, полнота достоинств и чистый подол!
Нет сомнения — с ним сила пречистых в обоих мирах.
4- Мускусная родинка, что на том пшеничном лице —
В ней тайна того зерна, что сбило Адама с пути.
5- Друзья, владыка сердца замыслил отъезд, о Боже!
Что мне делать с раненым сердцем, когда бальзам — у него?
6. Кому расскажешь о такой загадке — тот жестокосердый
Убил нас, а ведь у него — дыхание 'Исы сына Марйам.
7- Хафиз — из тех, кто преданно служит, дорожи им,
Ибо милость многих святых духов — с ним!
Комментарий
По мнению Хуррамшахи (с. 321), газель перекликается с газелью
Са'ди [Са'ди, Куллиййат 1996, с. 887, газель № 10], написанной с
теми же метром и рифмой, но с радифом az üst «от него», а не
Ъй üst «с ним, в нем».
1. «Смуглолицый» — siyahrcarda, букв, «с черным цветом ли-
ца», в поэзии — красавец со смуглым цветом лица (также дап-
dumgûn «пшеничным» см. б. 4). Согласно классификации Шара-
фа Рами, в стихах воспевают три типа красивых лиц: смуглые,
румяные и белые; см. перевод [Рами 2004, с. 181]. «Винные гла-
за» (casm-i таудйп) — глаза, подобные вину, см. коммент. к газе-
ли 54:2.
2. «Падишахи» — т. е. повелители в стране красоты и любви.
«Перстень» — xätam, перстень с сердоликовой печаткой красно-
го цвета, символ царской власти, в поэзии — уподобление для
губ по признакам красного цвета, округлости и власти (уста от-
дают повеления). Сулайман — самый могущественный из ца-
рей, владелец волшебного перстня, см. коммент. к газелям 24:7-
и 28:4; подробно о поэтических мотивах, связанных с предани-
ем о Сулаймане см. в [Хуррамшахи, с. 321-324]. «У него — пер-
Хафиз. Газель № 57
383
стень» — xâtam bâ й-st, т. е. возлюбленный владеет сулаймано-
вым перстнем (xâtam) в стране красоты и тем самым превосхо-
дит остальных «падишахов». Он является также «печатью»
(xâtam) красавцев и завершает их ряд — намек на формулу
«печать пророков» (xâtam al-nabiyyîn) [Коран, 33:40], прозвание
Мухаммеда, который «запечатал» череду пророков, поскольку
на нем окончилось ниспослание Откровения.
На CD Lisân al-ğayb предложено два прочтения бейта, разли-
чающихся синтаксическим членением второго полустишия, от-
сюда два варианта перевода: «он является Сулайманом, у кото-
рого перстень» и «Сулайманом является именно он, ибо у него —
перстень».
3. «Чистый подол» — dâman-i рак, переноси, «незапятнанная
репутация»; см. коммент. к газели 12:9. «Сила пречистых в обо-
их мирах» (himmat-i pâkân-i du 'âlâm) — сила заступничества
праведников дольнего мира и ангелов мира горнего, их молит-
вы и благословения, о концепте himmat см. коммент. к газ.
12:12.
4. «Мускусная родинка» — черная и благоуханная; ср. газель
14:4. «Пшеничное лицо» — смуглое, золотисто-коричневатое ли-
цо (ср. б. 1). «Зерно, что сбило Адама с пути» — в Коране при
описании изгнания Адама из рая упомянуто некое дерево или
растение (al-èajara), плоды которого Адам вкусил вопреки за-
прету Бога [Коран, 7:20-22]. В комментаторской литературе эти
плоды отождествляются с виноградом, инжиром, плодом кам-
фарного дерева, ячменным и, как в нашем случае, пшеничным
зерном. «Тайна того зерна» (sirr-i ân dana) — искушение Сата-
ны, которое побудило Адама нарушить запрет; родинка друга
для влюбленного обладает такой же силой соблазна [Хирави,
с. 260]; ср. тот же мотив в газели 340:6.
Образ встречается у старшего современника Хафиза, Сал-
мана Саваджи: «Заметил у тебя на пшеничном лице зернышко
родинки // Адам, направился за зернышком — угодил в запад-
ню» [Салман, Dorj-3, газель 111, б. 3].
5. «Бальзам» (marham) — метафора благотворного присутст-
вия друга вообще и целительной силы его губ в частности, см.
газель 34:4. Мотив «рана — бальзам» использован и в бейте 5
указанной выше газели Са'ди: «Если не исцелится моя кровавая
384 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
рана, это к лучшему, // Блаженна та рана, из-за которой мне
каждый миг [достается] бальзам». Способность любви ранить и
исцелять представлена у Хафиза также в ряде оппозиций, свя-
занных с болезнью и лекарством, см. коммент. к газели 62:8.
6. «Загадка» — nukta, «тонкая мысль», здесь «неразрешимая
проблема». «Дыхание 'Исы» — см. коммент. к газели 36:7. Ср.
тот же мотив в газели 204:2. Бейт развивает тему предыдущего
в иных метафорах: уста возлюбленного наделены способностью
оживлять мертвых, при этом вместо того, чтобы подарить
влюбленному жизнь (поцелуй), он убивает его своим отъездом.
Отметим, что в четырех из семи бейтов данной газели скрыто
или явно представлена тема губ и рта (б. 1, 2, 5, 6).
Ср. мотив «дыхание *Исы» в упомянутой газели Са'ди: «Счи-
тай за благо, друг, дыхание *Исы утра, // Без сомнения, ты
оживишь [свое] мертвое сердце, ведь это дыхание от него» (т. е.
утренний ветерок оживляет сердце вестью от друга).
7. «Святой дух» — rüh-i mukarram, иносказательное обозначе-
ние верховного ангела Джабраила, божественного вестника
[Диххуда, ел. ст. Rüh-i mukarram]; «многие святые духи» — гипер-
болический образ, подчеркивающий масштабы заступничества
вышних сил. В бейте, возможно, скрыто смелое самовосхваление
поэта (faxr): стихи Хафиза столь прекрасны, словно они ниспос-
ланы не с одним, а с множеством Джабраилов (о теме Джабраи-
ла, приносящего вдохновение, см. 37:3; 70:3; 90:9 и коммент.),
Мотив заступничества был введен в бейте 3: «сила пречистых» —-
одна из причин совершенства адресата газели. Здесь поэт дока-
зывает, что поскольку он сам осенен милостью высших ангелов,
его служение благотворно для шаха и должно хорошо вознагра-
ждаться (прием husn al-talab «красивая просьба»).
Газель 58
<JLı_u)jJ djjJaA ^jllujl j 1__л dJİjl jjuj
(JLajuüjI CjJİjl Jj j^ La jju» jj 4a jA a£
j^ j -U jt 4a ß\ ^ JjJj CbaıjJ jjJai
Cl uijJ r- j J jlJLa jj 1 A4jüÎ *jl$J
Л AJ ЛJjİ 4a L_a c-XJj Jj JIa j Lik-э
cliujjj jj jj 4ajc> c^Iajjj äjÜ (Jja a£
(J" J J ^ JjjoUj j jjJ (jjl (jiSjJjuj (j-a <J
LİLuüjJjui j lJs-Iuj 4jIa jl£ ^JJİ jj <£ I jju) Luü
1 j ^jLiâtjjjo t i lj <_£Jj AjLİ j-J3 j*-*
iiîU j tiıi£ Lui aJIc. jL a£
J* LS JJ J^
^ 4-^ J^ ^ ÜiJJ** jA jJ Jâ (^İJâ
i (jVLi <J3j*i <■ fl>^>J jJ 4JÜalj (jbj
d_ju>jS eJgJJ (jbj ôJjjj ciUS (^Ia 4a
iL ^aIjâ jIj* j*î ^ b jj j j £ j
IJA) Jlİ ^US jJ Jİİ JİA 4_£ I JA
<"l ml (J*jjA (ji5Î jJ JâdİA Jj (jLaj (jj| <j
<^j -jjjJja <dV jaaa Jjl jljàlj a£
385
386 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: mujtatt-i mutamman-i тахЬйп-i maqsür
Vazn: mafä'üun fa'ilätun mafä'üun fa'ilät
sa-ri-i-rä I da-ti-mä-vä / s°-tä-ni-haz / ra-ti-düst
ki-har-ci-bar / sa-ri-mä-mi / ra-vad-i-rä / da-ti-ust
i. [Вот] — голова нашего стремления и [вот] — порог обители друга,
Ибо все, что падает на нашу голову — в его воле.
2. Я не увидел подобия друга, хотя луну и солнце
Я поставил [как] зеркала перед ликом друга.
3- Как ветерок расскажет, что с нашим стесненным сердцем?
Ведь оно, как складки лепестков бутона, [свернуто] слой за слоем.
4- Не я один припал к кувшину в этом храме, сжигающем риндов,
Ох и много голов, что в этой мастерской — камень и кувшин!
5- Может, это ты расчесал рассыпающие амбру локоны,
Раз ветер стал разносить галийе, а от земли веет амброй.
6. В дар твоему лику — каждый лепесток розы на лугу!
В жертву твоему стану — каждый кипарис на берегу ручья!
7- Умеющий говорить язык [лишь] стонет, описывая любовь,
Где уж тут болтливому перу с обрезанным языком!
8. Твой лик проник в мое сердце — мое желание сбудется, |
Ведь счастливое событие следует за хорошей приметой! j|j
9. Сердце Хафиза не ныне оказалось в огне страсти, . v
Оно [со времен] предвечности — с клеймом, как у дикого мака.
Комментарий
Газели с теми же метром и рифмой имеются в диванах Низари |
Кухистани (см. [Хуррамшахи, с. 329], газель с зачином ki bäsad'
ân ki tu-rä bînad'U nadärad dust) и Са'ди [Са'ди, Куллиййат
1996, с. 444, газель № 89, с. 445. газель № 91]. ■
Хафиз. Газель № 58
387
1. «Стремление» — imdat, терминолог. «особая устремленность
внимания мурида к шейху» |Диххуда, ел. ст. Irädat]. Смысл полу-
стишия: единственное, к чему мы стремимся, это — смиренно
опустить голову на порог жилища друга. Во втором полустишии
то же слово irädat употреблено в другом значении — «воля, на-
мерение». Хуррамшахи (с. 329-330) отмечает, что здесь в сочета-
нии irädat-i й-st «в его воле» можно усмотреть дополнительный
смысл — «преданность ему» (прием îhâm); второй смысл полу-
стишия: «Так что все, что падает на наши головы — [результат]
преданности ему».
2. Смысл: даже такие эталоны блистательной красоты, как
луна и солнце, недостаточно хороши, чтобы служить подобием
красоты друга. Хафиз использует поэтическую идею «солнце и
луна — зеркала красоты друга» также в газелях 193:3 и 447:3.
3. «Слой за слоем» — tu bar tu, сердце, стиснутое страдания-
ми, уподоблено бутону [красной розы] с туго скрученными ле-
пестками; появление в страдающем сердце «слоев» запекшейся
крови прояснено в бейте Салмана Саваджи: «Я так вдыхал твой
аромат, что если покажу, что в сердце — //В моем сердце
кровь свернулась слой за слоем, подобно бутону» [Dorj-3, Сал-
ман, газель 203:5]. Вторая из отмеченных выше газелей Са'ди
завершается бейтом, где страдающее сердце представлено как
книга, но также состоящая из окровавленных слоев-страниц:
«Кровавыми слезами записан рассказ о любви, //Не загляды-
вайся на первую страницу, они идут одна за другой (tu bar tu —
слой за слоем)» (б. 11).
Идея: наше сердце так стиснуто тоской, что ветерок, легко
раскрывающий лепестки бутона, не находит дороги в глубины
нашего сердца и потому не знает, что в нем происходит [Рах-
бар, с. 82-83].
4. «Храм» — dayr, также «святилище», метафора кабака, см.
комментарий к газели 22:8. «Храм, сжигающий риндов» — dayr-i
rind-süZy парадоксальная метафора мира, который представлен
как кабак, в котором заставляют страдать пьяниц-влюбленных.
Хуррамшахи (с. 330) приводит целый ряд композитов с глаголь-
ной основой süz из Дивана Хафиза, в частности, rind-i 'äfiyat-suz
«ринд, сжигающий благополучие» (газель 177:4). «Припал к кув-
шину» — sabü-kaSy букв, «пьющий из кувшина», пьяница, здесь
388 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
обозначение ринда; sabû-kas также — «носящий кувшины», т. е.
прислуживающий в кабаке (прием ïhâm, отмечен в [Хуррамша-
хи, с. 331]). Смысл полустишия: не я первый предался пьянству
в мире, безжалостном к пьяницам.
«Мастерская» (kär-xäna) — гончарня, также метафора твар-
ного мира. «Камень и кувшин» (sang-u sabü) — т. е. «две несо-
вместимые вещи», сближение которых несет гибель одной из
них, ср. синонимичные формулы «огонь и хлопок», «мошка и ве-
тер». Слова «не я один» обретают дополнительное значение при
сопоставлении с бейтом из второй (см. начало комментария) га-
зели Са'ди: «Много раз повторял здравомыслящий, да я не слу-
шал, // Мол, не отдавай взорам красавцев сердце, это — ка-
мень и кувшин!» (б. 9); Хафиз как бы включает в число риндов
своего великого предшественника, шейха, проведшего вторую
половину жизни в суфийской обители близ Шираза.
5. «Может» — тадаГу это значение предпочитает Хирави
(с. 265); Хуррамшахи (с. 331) видит здесь значение категориче-
ского утверждения «наверняка», «конечно», а Суди (с. 381) пред-
положил, что тадаг употреблено в бейте в значении «как будто».
Галийе (ğâliya) — ароматическая смесь из мускуса и амбры для
умащения волос. Бейт включает «красивое объяснение» (прием
husn аЫаЩ весеннего благоухания природы через восхваление
всепроникающего благоухания волос возлюбленного друга. В
первой из двух упомянутых газелей-прототипов Са'ди сила благо-
ухания локонов представлена так: «Вчера во сне мне привиде-
лось, что его локоны / / Я схватил — и от руки моей все еще веет
галийе» (б. 6).
6. «Дар» — nitär, также — «бросание, осыпание», обычай бро-
сать цветы, лепестки (также жемчуг или монеты) под ноги то-
му, кому оказывают уважение (например, правителю) или же-
лают счастья (например, жениху и невесте). В бейте продолже-
но восхваление красоты друга, которая превосходит красоту
весенней природы: роза по сравнению с ликом друга столь не-
взрачна, что ее лепестки следует бросить ему под ноги, кипарис
столь жалок рядом с его станом, что его следует принести в
жертву. Метафоры бейтов 5 и 6, казалось бы, совершенно стер-
ты и тривиальны, однако они обретают новое изящество в со-
положении с бейтом-прототипом Са'ди: «Разве стройный кипа-
Хафиз. Газель № 58
389
рис ценится рядом с тобой, // Разве галийе благоухает рядом с
землей у тебя под ногами» (вторая из указ. газелей, б. 8).
7. «Болтливое» — bîhuda-gü (букв, «говорящий бессмысленно»),
намек на специфический звук (şarîr), издаваемый тростниковым
пером (каламом) при письме; он входит в число мотивов описа-
ния пера. «Перо с отрезанным языком» (kilk-i burîda-zabân) —
т. е. очинённое перо; эпитет намекает на виновность пера (язык
отрезали предателям, выдавшим тайну), а также на неспособ-
ность выразить нечто словами (фразеологически burîda-zabân —
«немой»). Сопоставления пера и языка встречались у предшест-
венников и современников Хафиза, Хуррамшахи (с. 332) приво-
дит бейты Са'ди и Хаджу, обыгрывающие те же образы. В ре-
дакции Ханлари первое полустишие звучит иначе: zabân-i nâtiq
dar vaşf-i sawq-i mâ la4-ast «Умеющий говорить язык немеет,
описывая нашу любовь».
8. «Лик проник в мое сердце» — влюбленный очистил свое
сердце от всего постороннего, чтобы в нем отразился лик друга.
Во втором полустишии намек на арабскую пословицу: «Ищите
предзнаменование блага, дабы обрести его» [Хуррамшахи,
с. 332].
9. «Мак» — lala, чаще переводится как «тюльпан», но может
означать и «мак», в поэзии этим словом обозначается цветок, ле-
пестки которого образуют алую чашу с черным донышком
[Му*ин, ел. ст. Lala]. В Диване Хафиза мак-тюльпан входит в три
специфических мотивных комплекса: 1) мученичество на стезе
любви — цветок соотносится с кровоточащим сердцем и черным
ожогом страсти (93:6); 2) вечная любовь ('isq-i сигаЩ — черная
сердцевина цветка сопоставляется с клеймом, которым сердце
героя газели отмечено в предвечности (117:1); 3) винопитие —
цветок сравнивается с чашей вина по форме и цвету (87:9), пол-
ный список примеров см. в [Хуррамшахи, с. 333-334].
Газель 59
Cj uijl jic <—J /»-Ibûl j (b5jjU^ (*^J^
Clujj^ AÜjâ {j£pj CİLuül ^jijJJJ 4a. jS
(ji Л i j\ j\ а±ш j (jIaû <jl 1*1 >ol «jA
LÏAuijA Ла, <jl Ai .aJİJÜ j (jb-û (jt LİLuJİ (^JA
CjjüüjjJj j < " i m mi j\Sk (jLûJ <j ^j a£ aIö^jj jl
JjİS^^aA I j Jj jj <^i—lj <_£ j£ j CıiS ^
djojjS j ujİ£ (JjJ \j *£ jß (jiSb cil j L
AİöAliki ^jJjJ J—J CjL-Jj J L_J CİLuüJjac
Cl_juüjj jjja o—a Jj ^Li* jj ^jj <jl J
t * <
БаЛг: muzärV-i mutamman-i axrab-i makfüf-i maqsür
Vazn: mafülu fä'üätu mafa'îlu fâ'ilât
dä-ram-u / mî-di-'ä-ti / fa-tî-az-ja / nä-bi-düst
kar-dam-ji / nä-ya-tiy-yu / u-mî-dam-ba / 'af-vi-üst
390
Хафиз. Газель № 59
391
i. [Вся] моя надежда — на благосклонность друга,
Я согрешил и надеюсь на его прощение!
2. Я знаю, что он простит мое преступление, ведь он
Хоть и подобен пери, но ангельского нрава.
3- Мы так рыдали, что каждый, кто шел мимо,
Когда видел наши слезы, тут же спрашивал: «Что за река?».
4- Тот рот — ничто, и я не вижу его примет,
Та талия — волос, и я не знаю, что это за волос.
5- Дивлюсь я рисунку его образа — как это он не исчез
Из моих глаз, ведь что ни миг в них идет стирка!
6. Твой локон заманивает сердце без разговоров,
Кто в силах договориться с твоим манящим сердце локоном?
7- Целую вечность я не слышал запаха твоих локонов,
В ноздрях моего сердца до сих пор аромат того запаха.
8. О Хафиз, плохо твое смятенное состояние, однако
В надежде на локон друга — смятение тебе во благо.
Комментарий
1. «Я согрешил» — kardam jinâyat-î, также «я совершил пре-
ступление»; как термин мусульманского права jinäyat обознача-
ет тяжкое преступление и большой грех. Употребление этого
редкого для поэзии слова подчеркивает серьезность проступка
и тем самым служит выражением надежды на редкостное ми-
лосердие адресата газели.
2. «Пери» — прекрасные сказочные создания как мужского,
так и женского пола, в поэзии — один из самых распространен-
ных объектов сравнения для возлюбленного. Уступительная кон-
струкция во втором полустишии понимается комментаторами
по-разному. Хирави (с. 275) считает, что пери противопоставле-
ны ангелам как прекрасные, но зловредные существа — созда-
ниям, наделенным красотой и милосердием. Рахбар усматривает
392 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
в сравнении с пери намек на «невидимость» адресата газели, ı
т. е. на его недоступность, поскольку мир пери скрыт от людских
глаз. Суди (с. 385) видит в полустишии фигуру ta'kîd al-madh tri- ■
та yusbihu-l-zamm «подкрепление хвалы тем, что похоже на ху-
лу» (прием, популярный в панегирической поэзии). Уступитель-
ная конструкция (хотя ... но) создает у слушателя/читателя лож-
ное ожидание, что за описанием достоинства последует упоми-
нание о недостатке, а на самом деле добавляется еще одно дос-
тоинство: хотя друг прекрасен, но он добр.
3. «Тут же» — ravän, также «текущий, идущий»; мы перево-
дим вслед за Хирави (с. 274), который видит в ravän наречие
«немедленно, сейчас же», относящееся к глаголу guft «спраши-
вал» (ask-i та си did ravän guft)\ но можно считать ravän и при-
частием, относящимся к ask «слезы», тогда следует переводить
«когда видел наши слезы текущими, спрашивал». Неоднознач-
ность, очевидно, намеренная, ср. толкование Рахбара, вклю-
чающее оба смысла: «Когда видел ток наших слез, без промед-
ления спрашивал ... ».
4. «Рот — ничто» — в персидских описаниях лица возлюблен-
ных рот и губы представлены как разные феномены красоты.
Если губы описываются как крошечные, но имеющие физиче-
ские признаки (алый цвет, округлая форма), то рот представлен
в метафорах «полного отсутствия»; он обретает бытие и является
взору, лишь когда его обладатель говорит или улыбается. Совре-
менник Хафиза, Шараф Рами в трактате «Собеседник влюблен-
ных» так описывает рот: «Поскольку его очертания из-за утон-
ченности не поддаются воображению, его называют «ничто»
(Ы$, как сказано сочинителем: „Заговори, чтобы твой рот за-
дал // Пир на весь мир за счет ничего"* [Рами 2004, с. 201]. «Та-
лия — волос» — см. коммент. к газели 35:2. Воспевание в одном
бейте двух таких черт красоты, которые недоступны взору, слу-
жит, возможно, намеком на разлуку с восхваляемым.
5. «Образ» — xayäl, см. коммент. к газели 29:1. «Идет стирка» —
метафора непрерывно проливаемых слез.
6. «Без разговоров» — Ы guftuguy, т. е. не спрашивая согла-
сия и не объясняя причин. «Кто в силах договориться» — ki-râ
rüy-i gufiugü-sty букв, «у кого способность к разговору», т. е. кто
Хафиз. Газель № 59
393
способен возражать и противиться. «Манящий сердце» — dil-
каеу переноси, «восхитительный, привлекательный».
7. «Целую вечность» — 'umr-î-st; букв, «целую жизнь»; «жизнь»,
а также «долгая жизнь» ('umr-z cürätf — сравнения для локона
друга по признаку длины, употребление слов «жизнь» и «локон» в
пределах полустишия создает «соответствие» (tanäsub), напоми-
нающее еще об одной примете красоты локона — длине. «Нозд-
ри» — masärrty «орган обоняния, нос», также «чувство обоняния».
«Запах», «аромат» — bu, также «весть» и «надежда», что придает
всему бейту еще один смысл (прием iham): «Целую вечность я не
слышал вестей о твоем локоне (т. е. был разлучен с тобой), //
Мое сердце до сих пор надеется ощутить тот аромат».
8. «Смятенное состояние» — häl-i parisän, в любовной поэзии
характеризует душевное состояние влюбленного (обезумевшего)
и локоны возлюбленного. «В надежде на локон» — bar büy-i zulf,
букв, «пред ароматом локона»; значение «в надежде ...» для bar
bûy-i ... отмечено в [Диххуда, ел. ст. Вйу, рубрика Bar buy] и
проиллюстрировано двумя примерами из Хафиза.
Идея: тягостное состояние смятения из-за воспоминаний о
локоне друга во благо тебе, Хафиз, так как ты сам уподобля-
ешься локону, а подобное стремится к подобному, и разлука за-
кончится встречей (Суди, там же).
Хирави (с. 476) отметил, что «газель в целом — слабая и не со-
ответствующая творческой манере Хафиза. Такие выражения,
как „я согрешил", „спрашивал: это что за река?", „тот рот — ни-
что", трижды повторенное слово „аромат" (бейт 7), прямое ут-
верждение, что смятенное состояние — плохо (бейт 8), делают
газель слабой. В ней нет и следа от изящных и тонких сравнений
и мыслей Хафиза, одни лишь перепевы мотивов Хафиза без
единого свежего слова. Однако, газель есть во всех авторитет-
ных рукописях, поэтому приходится ее приводить». Некоторую
тяжеловесность этой газели отмечает и французский переводчик
[Hafez de Chiraz 2006, с. 282].
Газель 60
t"* "*j-> jbj jl ûjjüjj <__£ jj*^ *Ан ù'
dı_judjj jLü* Jb^ j (jL—^ j^>^ ^jjl
LİJ_Jüüjj jlİj J JC- ("пК'Ч X&^A (Jxjïb
- j * aA ^)U^ j dû Ja 4_J (jLaJİJ (Jj
Cl__JuüjJ jljj aÛj£ A£ <jïjJ2k L-iİâ ÛAJ (JJJ
jl uijl£ Ciâj j^u jl <__S ь ^ jSoi
V " 1 t и j J jL j jl£ <aA LİLulj jjl ttb^ JJ
J—£*b 4'j^ jjj j j a j »» j^-
^_j j лл 4—j I j ôW^ j^ j* ^-^ *^—^ j^
Cj—u»jj jUijjl ôj j f »и ^ £1 ja. j u
ajjJ jlixA j .li a£ у^ЧДп télLk <jl j
jl j 1 J и) j (j >и Г* 4—Jliuil j pJjLo
Cluüjû jUS jûjI Jjj I j a£ (jïjà. 4Jİjâ. Ij
dL 4 ^ jj j *J j£l İâU. .l^aS Aj cja*İû
Cj_u>jJ jLuiAJjJJ aJJ 4£ Ij (^1^ Cil*
394
Хафиз. Газель № 60
395
Bahr: muzäri'-i mutamman-i axrab-i makfüf-i maqsur
Vazn: mafülufä'ilätu mafä'üufä'ilät
än-pay-ki I nä-m°-var-ki / ra-sï-daz-di / yä-ri-dust
ä-var-d° I hir-zi~jän-zi / xa-tî-mus-k° / bä-ri-dust
i. Тот прославленный вестник, что прибыл из краев друга,
Привез оберег для души — веющие мускусом строки от друга.
2. Они хорошо передают приметы величия и красоты любимого,
Хорошо рассказывают о могуществе и кротости друга.
3- Я отдал ему сердце за радостную весть и стыжусь
Своей фальшивой монеты, которую бросил [к ногам] друга.
4- Благодарение Богу, что с помощью благосклонной судьбы
Так, как хочется, идут дела у друга.
5- Есть ли воля в движении небосвода и кружении луны?
Они предаются вращению по воле друга.
6. Если ветер смуты перевернет оба мира -
[Останемся] мы, и светильник глаз, и дорога ожидания друга.
7- О утренний ветерок, принеси мне драгоценной сурьмы
С той счастливой земли, по которой ступает друг.
8. Мы, и порог любви, и голова, [склоненная] в мольбе —
Посмотрим, кого унесет сладкий сон в объятия друга!
9- Если враг оговорит Хафиза, что за беда?
Благодаренье Богу — мне нечего стыдиться перед другом!
Комментарий
1. «Оберег» (hirz) — записка с избранными айатами Корана,
«прекрасными именами» Бога, другими благими словами или
молитвами, помещенная в футляр, который носили на шее или
на руке; «оберег для души» — метафора записки от друга, дос-
тавленной гонцом. «Веющие мускусом» (muskbär) — определе-
396 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ние строк письма основано на реалии: в чернила принято было
добавлять ароматические компоненты, в частности, мускус.
«Строки от друга» — хаЫ ... dust, в другом значении «пушок [на
лице] друга» (прием йгат). Пушок как «черный» и «благоухан-
ный» феномен красоты в поэзии часто уподобляли мускусу;
альтернативный смысл полустишия — ветер-вестник принес
аромат-весть от мускусного пушка на лице друга. «Вестник»
{payк) — ключевой персонаж данной газели, где разворачива-
ется тема «счастливая весть от друга». Персидская любовная
поэзия знает два типа вестников: реальный гонец, привозящий
письмо, и метафорический — весенний ветер, приносящий
влюбленному благоухание (Ьй, также «весть») возлюбленного.
Здесь возможны оба понимания. Если читать газель как рас-
сказ о частном случае, о прибытии гонца с письмом, то эпитет
«прославленный» (nämvar) указывает на высокое положение
гонца при дворе, а последующие бейты связаны с содержанием
конкретного письма. Если воспринимать газель как рассказ об
общем, о получении вести от возлюбленного, то «прославленным
вестником» становится ветерок (ср. б. 7), который прославлен
поэтами в этой роли, а в последующих бейтах (б. 2, 4) речь идет
не о содержании реального письма, а о лирических пережива-
ниях влюбленного, связанных с «ароматом друга». В то же вре-
мя, в эпитете nämvar слышится отзвук еще одного наименова-
ния вестника — näma-ävar «приносящий письмо», по мнению
доктора Гани, в бейте имеет место стяжение данного компози-
та [Хирави, с. 277].
2. В рамках первой интерпретации (реальное письмо) бейт
дает характеристику стиля и содержания письма; в рамках
второй (благоухание-весть) о «величии», «красоте», «могуществе»
и «кротости» друга рассказывает принесенный ветром аромат.
3. «Фальшивая монета» — naqd-i qalb (букв, «фальшивые день-
ги»), также «монета сердца», прием zTıâm, основанный на двух
значениях слова qalb — «сердце» и «поддельный, фальшивый».
Идея: за весть от друга герой отдал самое дорогое, что у него
есть, но даже этот дар кажется ему ничтожно малым. В кон-
тексте любовной газели «отдать сердце» означает влюбиться,
поэтому в бейте можно услышать шутливый намек: весть была
столь драгоценной, что я влюбился в вестника.
Хафиз. Газель № 60
397
4. «Так, как хочется» — bar hasb-i ärzü, букв, «сообразно же-
ланию»; контекст предоставляет свободу для интерпретаций:
речь может идти как о пожеланиях самого друга (его красота и
могущество возрастают), так и о желании влюбленного (близит-
ся свидание).
5. «Воля» (ixtiyär) — см. газель 37:8; 'ilm-i ixtiyärät — раздел
астрологии, посвященный способам определения по звездам
благоприятного времени для осуществления дела. Хирави отме-
чает, что поэт мастерски вмещает в бейт астрологическую лек-
сику: «движение» (sayr), «небосвод» (sipihr)f «кружение» (dawr),
«луна» (qamar), «вращение» (gardis) и «воля» (ixtiyär). Бейт может
быть понят как описание состояния «дел» друга, упомянутых в
предыдущем бейте. Образ друга, правящего мирозданием, за-
ставляет Суди (с. 394) предположить, что газель обращена к
Всевышнему. С ним согласен Хирави (с. 279), который видит
во втором полустишии намек на Коран [7:52 (54)]: «Поистине,
Господь ваш — Аллах, который создал небеса и землю в шесть
дней, а потом утвердился на троне. Он закрывает ночью день,
который непрестанно за ней движется... И солнце, и луну, и
звезды, подчиненные Его власти. О да! Ему принадлежит и
создание и власть. Благословен Аллах, Господь миров!». Однако
«другом» здесь может быть и правитель, ведь описание восхва-
ляемого как стоящего над мирозданием, пронзающего венцом
девятое небо, повелевающего светилами — обычный мотив па-
негирика.
6. «Смута» —fitna, также «бунт, мятеж», в исламе обозначает
«порчу веры», связанную с падением нравов; по мнению Хира-
ви (с. 280), здесь — и намек на конкретную историческую си-
туацию в Ширазе во времена Хафиза, когда непрекращающая-
ся борьба за власть среди представителей дома Музаффаридов
сопровождалась войнами и насилием.
Союз «и» (va) во втором полустишии является союзом «необ-
ходимого сопутствия» (väv-i mulcizima), строка «мы, и светиль-
ник глаз, и дорога ожидания друга» означает «мы будем неиз-
менно смотреть на дорогу в ожидании друга, освещая путь све-
тильником глаз».
7. «Драгоценная сурьма» (kühl al-javâhir) — сорт сурьмы, в
которую при изготовлении добавляли истолченные в порошок
398 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
драгоценные камни и жемчуг; считалось, что они благотворно
воздействуют на зрение. «Сурьма» — метафора пыли из-под ног
возлюбленного друга. Сурьма — лекарство для глаз, она при-
бавляет зоркости, тогда как пыль, наоборот, раздражает глаза и
мешает видеть; «пыль, по которой ступает друг» приобретает
для влюбленного свойства самой лучшей сурьмы, ср. тот же мо-
тив в газ. 2:5.
8. Во втором полустишии — намеренная неоднозначность,
второй вариант понимания: «Кого же сладкий сон унесет в объ-
ятиях друга?» (т. е. кто заснет в объятиях друга); ср. тот же мо-
тив с инверсией в газели 15:2. Основа образа — лирический
топос «возможности встречи с другом лишь во сне и в мечте».
9. «Враг» (dusman) — один из постоянных персонажей газе-
лей Хафиза, см., например, 2:4, 33:8, 42:7; это может быть ас-
кет, противостоящий ринду, соперник, препятствующий влюб-
ленному, завистник (царедворец или коллега по цеху поэтов),
чернящий Хафиза и его стихи в глазах правителя. В данном
случае оппозиция «враг — Хафиз» и действие врага («оговорит
Хафиза») подсказывают, что речь может идти о придворном
поэте-завистнике.
Газель 61
<"ı nıjJ j—ı'n л l£jjaj& jl ^UaJü jLj
jb ^juüUj CüjjJaa^ jî jJ a£ (JUa, jS j
ı**ı ntjJ jj jl (^jbc- Jjbj ôA—jJ l£İ^)J
ı"rt ^ j A j\ (J »nj (^Uaj j 1л ^ <JA
tJ L^a Jj-^^^AJ ^ JA <U CİJjujjJ 4â. jSI
j) jl (ji b f& ^ij jl ûj i jl ^jİLj <a
Ba/?r: mujtatt-i mutamman-i maxbun-i maqsûr
Vazn: mafâ'ilun fa'ilâtun mafâ'ilun fa'ilät
şa-bâ-a-gar / gu-za-rî-uf / ta-dat-ba-kis / va-ri-düst
bi-yâ-r°-naf / ha-'i-az-gî / su-yî-mu-'an / ba-ri-dûst
ı. О ветерок, если тебе доведется побывать в стране друга,
Принеси дуновение от душистых кос друга!
399
400 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Жизнью его клянусь — я в благодарность готов отдать жизнь,
Если ты доставишь ко мне весточку от друга.
3- А если вдруг тебе не будет доступа к тому двору,
От дверей друга принеси глазам немного пыли.
4- Мне, нищему — и мечтать о встрече с ним — куда там!
Может, хоть во сне увижу воочию образ друга!
5- Сосновая шишка моего сердца — словно дрожащая ива
Из-за тоски по стройному стану друга, подобному сосне.
6. Пусть друг не дает за нас и самой малости —
За целый мир не продадим волосок с головы друга!
7- Что такого, если его сердце освободится от пут скорби?!
Ведь несчастный Хафиз — раб и слуга друга!
Комментарий
1. «Страна друга» — речь не обязательно идет о том, что друг
находится в другой стране или правит другой страной, по ка-
нону газели возлюбленный всегда недостижим для влюбленно-
го. О мотиве вести, принесенной ветерком, см. комментарий к
газелям 19:1, 60:1. Ср. обращение к ветерку-вестнику в зачине
газелей 4 и 19.
2. Продолжение обращения к ветерку; «жизнью его кля-
нусь» — bajân-i û, букв, «его жизнью, ради его жизни», редуци-
рованная формула клятвы самым дорогим, здесь — жизнью
друга (bajän-i й qasam). «В благодарность» — şükrana, см. ком-
мент, к газели 5:5. «Готов отдать жизнь» — jän bar-afsänam,
букв, «брошу жизнь», т. е. отдам с легкостью, как вознагражде-
ние за труды.
3. «Тебе не будет доступа» — продолжается разговор с ветер-
ком; о мотиве заповедных покоев друга, куда не попасть даже
ветру, см. в коммент. к газ. 56:5. О мотиве «пыль как целебное
средство для глаз» см. в коммент. к газ. 60:7.
Хафиз. Газель № 61
401
4. «Образ» — xayäl, см. коммент. к газ. 29:1; «воочию» —
manzar, букв, «то, что находится в поле зрения», также «вид, ли-
цо». Суди (с. 398) и Хирави (с. 283) предпочитают второе значе-
ние («воображаемый образ лица»), так же переводит Ш.-А. Фуше-
кур (limage de la face) [Hafez de Chiraz 2006, с. 268]; отношение
между xayäl и manzar проявлено в газели 56:6: bîxayâl-as mabäd
manzar-i casm, букв. «Да не останется поле зрения глаза без его
образа!».
5. «Сосновая шишка сердца» — dil-i sanawbarî; сердце челове-
ка уподоблялось сосновой (еловой) шишке по конической форме
(ср. совр. значение sanawbarî «конусообразный»). Поскольку стан
возлюбленного уподоблялся самой сосне, появилась поэтическая
идея объединения сердца влюбленного и стана возлюбленного,
как связанных с сосной; ср. maqta' из газели современника Ха-
физа: «Форму сосновой шишки, которую прозвали „сердце", //
Салман в память о твоем стане заключил в груди» [Салман Са-
ваджи, CD Doij-3, № 53]. «Дрожащая ива» — bîd-i larzân, в пер-
сидской фразеологии ива предстает как «дрожащее» дерево: mitl-
i bîd larzîdan «дрожать как ива» (ср. русск. «дрожать как осино-
вый лист»).
6. «Не дает за нас» — namîxarad mä-rä, букв, «не купит нас»,
намек на «незаинтересованность» друга во влюбленных, его
«самодостаточность» (istiğna), см. контексты 3:4, 25:3, 50:4 и
комментарии. Взаимоотношения влюбленных нередко изобра-
жаются в газели в терминах торговой сделки, купли-продажи,
см., например, газели 28:3 и 51:4.
7. «Что такого ...» — согласно канону любовной поэзии, влюб-
ленный не может мечтать об освобождении от пут любовных
страданий, однако данный бейт содержит замаскированное вос-
хваление, а лирический персонаж из «влюбленного» превращает-
ся в «панегириста». В бейте скрыта просьба о даровании мило-
сти, обращенная к адресату газели, другу-покровителю. По тол-
кованию Суди (с. 399), логика просьбы такова: «Повелитель столь
могущественен, что даже рабы при его дворе, в отличие от всех
прочих, не могут ни в чем испытывать нужду». Поэтому следует
немедленно осчастливить страдающего от невнимания поэта.
Газель 62
l *
juıjj aU ^Ijà Cue- j j t и jl (jL—?. >£ 12
CÜJ—joijJ aIjL j j £ n» (j ni Г» j At 11n ^^Jajia
j л j аЬ <jl <üb (jSill j ^1 mt aIj jl cilj
Cl uijJ *b jJ А1д±Й1 ^kjb J J—at j_J
J ni *\ jj J ^b/l 4_J L_J J JJXJ^U ^Ш4 J ^jua
diujjJ д1л. jl Jjj^Ac ja, <iL J jl jj <ja ^jjsk a£ jA
V**1 nljj Aİ^)Jİ ^Jjl jl (JJ^İJ (J^JAJ «lib JjujJjJ
u
jl u»_J (jbajJ^jJ j jjjuû^^a jl JjJ j^jI Jââlâ.
dl uijJ aIjI^jJ ÛJÛ ûjl^J ^jjLftJÛ 4_£ (jlj
ВаЛг: ramal-i mutamman-i maqsur
Vazn: fä 'ilätun fä 'ilätun fâ 'ilätun fâ 'ilât
mar-ha-bâ-ay / pay-ki-mus-tä / qän-bi-dah-pay / ğâ-mi-dûst
tä-ku-nam-jä / naz-sa-rî-rağ / bat-fi-dä-yi / nä-mi-düst
402
Хафиз. Газель № 62
403
i. Добро пожаловать, о вестник тоскующих, принеси весть о друге,
Чтобы я с готовностью пожертвовал душой во имя друга!
2. Всегда в смятении и трепете, как соловей в клетке,
Попугай моего таланта — от любви к сахару и миндалю друга.
3- Его локон — силки, а его родинка — зернышко в тех силках, и я
В надежде на зернышко угодил в силки друга.
4- Не поднимет во хмелю головы до самого утра Судного дня
Тот, кто в Предвечности, как я, сделал глоток из чаши друга.
5- Не буду долго рассказывать о самой малости из истории своей страсти, ибо
Проявлять назойливость дальше — значит докучать другу.
6. Если повезет, натру глаза, словно целебной мазью,
Пылью с дороги, которая удостоилась следов друга.
7- Я мечтаю о встрече, а он стремится к разлуке,
Я оставил свое желание, чтобы сбылось желание друга.
8. Хафиз, корчись от боли из-за него и обойдись без лекарства,
Ибо нет лекарства от нестихающей боли из-за друга!
Комментарий
1. Газели 60, 61 и 62 объединены радифом «друг» (dust), а
также перекличкой ряда конкретных мотивов, в частности, об-
ращением к ветру-вестнику в зачине (см. также коммент. к газ.
61:1). «Вестник тоскующих» [payk-i mustäqän) — иносказательное
обозначение весеннего ветра; «пожертвовал душой» — т. е. в на-
граду за добрую весть подарил вестнику самое дорогое; ср. ва-
риации того же мотива в 60:3 и 61:2.
Обычная для зачина газели «мольба о вести» получает в бейте
изящное обоснование: влюбленный мечтает отдать жизнь во имя
друга, и он просит о вести, чтобы наградить своей жизнью вестника.
2. «Соловей в клетке» — вариант мотива «безумный влюблен-
ный в цепях»; у Хафиза «соловей» представлен как alter ego ли-
рического персонажа, а образы «соловья в смятении» и «соловья
404 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
в клетке» встречаются в других газелях (4:3, 343:6). «Попугай» —
в персидской классике образ житейской мудрости и красноре-
чия. «Сахар и миндаль» — любимая пища попугая, также мета-
фора слаких уст и миндалевидных глаз.
В поэтической конвенции соловей и попугай объединены
признаком красноречия, но образуют оппозицию по двум дру-
гим признакам: соловью свойственно пребывание на свободе и
безумство от любви (в клетке он молчит), а попугаю — пребы-
вание в клетке и рассудительность. В бейте найдена остроум-
ная причина для стремления влюбленного поэта к другу: «попу-
гай таланта» нуждается в пище красоты, иначе он молчит, как
соловей, посаженный в клетку.
3. Уподобление влюбленного птице, в поисках зерна (родинки)
угодившей в силки (локона, пушка), принадлежит к числу фон-
довых мотивов персидской лирики, вариации неоднократно
встречаются в Диване Хафиза (см., например, газ. 34:2). Мотив
примыкает к тематическому комплексу «предвечной любви» (ко-
торую влюбленный обретает в день Творения) через скрытую ал-
люзию к околокораническому сюжету об Адаме, где «запретным
плодом» было зерно пшеницы, см. коммент. к газ. 57:4. В кон-
тексте данной газели упоминание 0 «птице в силках» предстает
как развитие темы «соловья в клетке» из предыдущего бейта.
4. «Судный день» — rûz-i hasr (букв, «день сбора»), последний
день Творения; «предвечность» — azal, здесь — намек на день до-
говора Господа с человеком (rûz-i alast), см. коммент. к газ. 24:1;
rüz-i alast и rûz-i hasr обозначают временные рамки существова-
ния человека в мироздании. «Опьянение в первый день из чаши
Любви» составляет смысловую основу круга мотивов «предвечной
любви» и служит мотивировкой предопределенности беспутного
поведения героя-ринда, см. контекст 26:5-6 и Комментарий.
Идея: предвечное вино любви таково, что те, кто его отве-
дал, протрезвеют не на следующее утро, как обычные пьяницы,
а только в конце времен, утром Судного дня [Хирави, с. 286].
5. «Самая малость» — samma, араб, «понюшка» (от s-m-m
«чувствовать запах»), в персидском приобрело значения «аро-
мат» и «частица аромата», а также «малая часть». В Диване Ха-
физа samma в значении «малая часть» относится к рассказам
влюбленного о своей страсти и отсылает к теме «бесконечной
Хафиз. Газель № 62
405
повести любви», по отношению к которой любой конкретный
рассказ (газель, поэма) является лишь крошечной частью; ср.
контекст 234:3: «Рассказ о ночи разлуки — не такое жизнеопи-
сание, //Из которого хоть малая часть (samma) поместится в
сотню трактатов». В значении «частица аромата» samma харак-
теризует ту «малую часть» благоухания возлюбленного друга,
которую надеется ощутить влюбленный (см. газ. 51:5; 249:3).
6. «Целебная мазь» — tûtiyâ; цинковая тутия (различные со-
единения цинка и других входящих в состав цинковых руд ме-
таллов) славится на Востоке целебными свойствами; изготавли-
ваемая из цинковой тутии глазная мазь увеличивает остроту зре-
ния. Мотив «пыль как целебное средство для глаз» представлен и
в двух предыдущих газелях с радифом «друг», см. 60:7 и 61:3.
7. Согласно канону любви, встреча, как и разлука, не зависит
от воли влюбленного, она во власти возлюбленного и судьбы; в
бейте приведено поэтическое «доказательство» того, что состояние
разлуки выбрано добровольно — оно является результатом заботы
влюбленного о своем кумире (ср. ранее, б. 5, где также говорится
об этикетном поведении и нежелании досаждать другу).
8. «Обходись без лекарства» (Ы darmân bisâz) и «нестихающая
боль» (dard-i bî-ârâm) — в бейте обыгрывается поэтическое
представление любви как dard-i Ы darmân (букв, «боль без ле-
карства») — «неизлечимого и нескончаемого страдания», ср. ру-
ба'и 'Аттара: «В страдании по тебе заставь меня кружиться ко-
лесом, / В любви к тебе лиши меня всего; / Всякий раз как за-
хочешь вылечить мое сердце, / Лечи его с помощью неизлечи-
мого страдания» ['Аттар, Mwctâr-nâma, CD Dorj-3].
«Боль» (dard — также «болезнь», «мука») и «лекарство» (dar-
mân, davâ) служат основой целого ряда мотивов, связанных с
представлением о любви как о болезни. Хотя «от болезни любви
нет лекарства» (62:8), при этом действенным «лекарством от
мук любви» бывает вино (90:9; 186:7), поцелуй (215:8), весть от
друга, принесенная ветром (130:6), встреча с другом (82:5). И
сам друг, и любовь к нему совмещают противоположные функ-
ции: друг — и причина болезни, и лекарство от нее (363:1), а
болезнь любви может быть представлена и как лекарство
(493:8), и как врач (187:4).
Газель 63
L-buaft 4-ySj dljl jA j JbÛJ <jjo£ jJ ^£jj
t**hnft vtпЬмг ^**1Л>^1 j JjîA ^кл^с» jJ
^Unj'l S-^jc- (Jİ^İA. JJ (^jS <J >AaI jS
^1 ю ft dt \\\<\ c5JJ JJ^P dbaift <£ Ia. jft
^îftj^û ôjl^. Ij <3t^jx-a jl£ a£ L^. (jl
t"l >>lft L-J j \ krt aU j L-Jftlj JjJ (jAljâlj
jj_Su jkj ^jilU. <j jb ч£ ùA a£ Jile
dbuaft ijjm 4^jfcj **ЬиП ÛJÛ <^lj^ <_£İ
t"lmji ôjjft <J ^kl <aA ^jjI JââLà. *^îj*
C-buuA ' # \^ *"- ^ *j ^ j 4-yjC- ^1<л-а5 *A
Bahr: muzârï-i axrab-i makfûf-i maqsûr
Vazn: mafülufä'üätu mafâ'ïlufä'ilät
rû-yï-tu I kas-na-dï-du / ha-zä-rat-ra / qï-b°-hast
dar-ğun-ca / ï-ha-nu-zu / şa-dat-'an-da / lî-b°-hast
i. Никто не видел твоего лица, и у тебя тысяча стражей,
Ты еще в бутоне, а у тебя сто соловьев.
2. Если я пришел на твою улицу — что тут странного,
В этих краях таких странников, как я — тысячи.
406
Хафиз. Газель № 63
407
3- Любовь в обители и кабаке одна и та же,
Где бы она ни была, там луч лица возлюбленного!
4- Там, где ревностно исполняют дело кельи,
Будет и колокол обители монахов и слово «крест».
5- Кто это стал влюбленным, а друг не заметил его состояния?!
Эй господин, [у тебя] нет болезни, а не то — лекарь есть!
6. Все эти жалобы Хафиза в конце концов не напрасны,
Ведь это — дивная повесть и причудливая история.
Комментарий
Газель с теми же размером, рифмой и радифом есть в Диване Ка-
мал ад-Дина Худжанди [Камал Худжанди 1975, с. 228, № 207].
1. «Тысяча» — hazar, также «соловей» (сокр. от hazär-dästän);
как отмечает Хуррамшахи (с. 335), это слово участвует в двух
лексических перекличках (tanäsub) со вторым полустишием:
hazär (тысяча) — şad (сто) и hazar (соловей) — 'andalïb (соловей).
В первом полустишии можно усмотреть дополнительный смысл
(прием ihäm): «Никто не видел твоего лица, но соловей у тебя
сторож» (т. е. соловей уже влюблен в тебя). «Сторож» — raqib, см.
коммент. к газ. 6:2, см. также газ. 42:2. «Ты еще в бутоне» — на-
мек на очень юный возраст друга [Хирави, с. 288]. В зачине га-
зели Хафиза объединены мотивы бейтов 1 и 3 газели Камала:
1. «Если есть у влюбленного дело (nazar-ï, букв, «взгляд») к воз-
любленному, //Не беда, что у того тысяча тысяч стражей»;
3. «Не отворачивайся от наших жалоб, о горделивое деревце, //
Везде, где есть ветка розы, есть и соловей!».
2. Тема «многочисленных поклонников друга» развивается:
если в первом бейте они представлены как «стражи», стерегу-
щие порог, и «соловьи», поющие о любви, то здесь это еще и
«странники» (ğarib). Используя ğarib дважды в разных смыслах
(«странный», «странник»), Хафиз отвечает на бейт 6 из газели
Камала: «Если в руках у меня, скитальца (ğarîb) достойной ушей
друга // жемчужины нет, то есть дивные (ğarîb) речи»; о мета-
форе «влюбленный — ğarib» у Камала и Хафиза см. коммента-
рий к газ. 14, где ğarib является радифом.
408 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3. Суфийская обитель (xänaqäft), как и мечеть, в газелях Ха-
физа является локусом внешнего, часто — лицемерного благо-
честия, а кабак (xaräbät) — локусом искренней любви. Оппози-
ция «мечеть—кабак» представлена большим кругом мотивов
(уход из мечети или обители в кабак, вражда между лицемерны-
ми суфиями и пьяницами-риндами и др.) и проходит через весь
Диван. Однако идея данного бейта — как раз отказ от этого
противопоставления, ведь оно оказывается внешним по отно-
шению к истинной любви; ср. тот же мотив «единства противо-
положностей» в газелях 53:4 и 379:6.
4. «Дело кельи» — kär-i şaıvma'a, т. е. дело, которому преда-
ются в келье христианского монастыря, поклонение Богу. Ком-
ментаторы [Хирави, с. 289; Хуррамшахи, с. 338] видят в бейте
иллюстрацию идеи предыдущего. Мысль о том, что любое ме-
сто, где искренне поклоняются Богу, становится храмом, пре-
поднесена в христианских «декорациях»: не внешние атрибуты
храма создают искреннюю веру и любовь, а наоборот. Так и
кабак для ринда, чье сердце исполнено любви к Другу, стано-
вится суфийской обителью.
5. Хафиз полемически отвечает на бейт 2 из газели Камала:
«Не проси никого исцелить болезнь любви, //Эй господин, если
нет лекаря, то есть возлюбленный». В строке Камала «возлюб-
ленный» и «лекарь» — это два взаимоисключающих персонажа:
если появится лекарь, т. е. наперсник, утешитель, то влюблен-
ный перестанет каждый миг думать о друге и тем самым ли-
шится статуса искреннего влюбленного. В бейте Хафиза сам
возлюбленный является лекарем (см. тот же мотив в газ. 51:7).
Поэт заимствует у предшественника обобщенное обращение
«эй, господин» и использует мысль о том, что «недуг любви ле-
чить не надо» для остроумного объяснения невнимания со сто-
роны друга: если лекарь не обращает на тебя внимания, зна-
чит, у тебя нет симптомов болезни, твоя любовь не искренна.
6. «Жалобы» (faryäd) — зд. бейты данной газели. «Дивная по-
весть» (qişşa'-i ğarib, в другом значении — «повесть странника»,
см. б. 2) и «причудливая история» (hadît-i 'ajïb) в контексте «жа-
лоб влюбленного» — красноречивые описания трудностей на
пути любви, ср. газ. 39:5; в завершающем бейте газели, для ко-
торого характерны мотивы самовосхваления (faxt), эти форму-
Хафиз. Газель № 63
409
лы приобретают дополнительный смысл — они превозносят
язык и поэтические идеи стихотворения, вышедшего из-под
пера поэта. Бейты газели названы дивными и причудливыми
еще и потому, что в каждом из них говорится о парадоксах и
странностях любви. Ш.-А. Фушекур рассматривает эту газель
как «важную в отношении концепции любви у Хафиза» [Hafez
de Chiraz 2006, с. 291].
Газель 64
i 1 m j v
d-uk
diumajilt jj Ал. <jjl 4i£ Cjjoa, j ôûjû dkjjuoj
<"i >n \ \ \ in ^jj AjI^j Ij jl ^ *« ^; aI£ a£
i" boni H aA ^b j (JİJJİ А-Дад^ал a£ I^û
t ** \ mi J J t Г* ôJ^>J J ^^L^J CjjUj jJ a£
^bnjpl^j r*^L^a ^1^)^ t"w»io a£ uj^
^1 mi j 1 ni âOj jL_j—j j (^j^am 4jjS 4j
Всфг: mujtatt-i mutamman-i maxbün-i maqsür
Vazn: mafä'üun fa'üätun mafä'ilun fa'ilät
a-gar-ci-'ar / zi-hu-nar-pï / si-yä-r°-bi / a-da-bist
za-bän-xa-mü / s°-va-li-kan / da-hän-pu-raz / 'a-ra-bîst
410
Хафиз. Газель № 64
411
i. Выставлять напоказ перед другом свое мастерство неучтиво, поэтому
Язык молчит, но рот полон арабским.
2. Пери скрыла лицо, а див завлекает красотой,
В глазах темно от изумления — мол, что за нелепость!
3- На этой лужайке никто не сорвал розу без шипов, все так!
Светоч избранничества — с искрами Бу Лахаба!
4- Не ищи причин — мол, почему небосвод стал покровителем подлых,
Ведь предлогом для его благодеяний является беспричинность.
5- И самой малости я не дам за своды обители или приюта,
Для меня кабацкая скамья — дворец, а подножие хума — зал приемов.
6. Красота дочери лозы — словно свет моих глаз,
Ведь она за хрустальным покровом и за завесой винограда.
7- Эй господин! Разума и учтивости у меня было на тысячу [человек],
Теперь, когда я вдребезги пьян, благоразумие — в неучтивости.
8. Неси вина, ведь как у Хафиза, у меня тысяча надежд
Благодаря предрассветным слезам и полуночным мольбам.
Комментарий
1. «Неучтиво» — bï-adabïy букв, «невежливость»; adàb — ком-
плекс знаний и норм поведения, характеризующий утонченно-
го и образованного человека в средневековом мусульманском
обществе; также жанр морально-дидактической литературы;
согласно правилам адаба, похвальна скромность, тогда как по-
хвальба и хвастовство порицаются. «Арабский» — в мусульман-
ской культуре существовало представление, что язык Корана
является языком по природе «ясным» и «красноречивым» (faşîh
va baliğ)у как сказано в пророческом хадисе. Поскольку араб-
ская касыда долгое время рассматривалась в Иране как эталон
поэтического мастерства, «арабский» приобрел и коннотацию
«язык совершенной поэзии».
Метафора «рот полон арабским», подразумевающая знание
арабской традиции и умение писать не хуже арабов, получает
412 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
шутливое подтверждение в нарочитом использовании арабиз-
мов почти в каждом бейте данной газели.
Тема бейта — поэтическое мастерство, в нем можно усмот-
реть и оттенок самовосхваления: если поэт заговорит, блеск его
таланта может затмить блеск красоты друга.
Идея: поскольку друг являет собой совокупность всех совер-
шенств, влюбленному подобает любоваться другом, а не демон-
стрировать перед ним свой талант, хотя с языка его готовы со-
рваться прекрасные стихи.
2. «В глазах темно» — bisüxt dïda, букв, «глаза сгорели», т. е.
перестали видеть, застыли в изумлении; см. коммент. к газ.
17:7. «Нелепость» — bû-l-(ajabïy араб. букв, «отецудивительного»,
то есть тот, кто или то, что порождает изумление; формула
«отец (аЬй) чего-л.» или «мать (итт) чего-л.» в арабском языке
может выражать сильную степень как позитивного качества
(«мать Книги» — первая сура Корана), так и негативного («отец
разврата» или «мать пороков»); ср. газель 5:8.
Не исключено, что бейт содержит намек на конкретное со-
бытие политической истории Шираза: изгнание покровителя
Хафиза Абу Исхака («пери») и приход к власти Мубариз ад-Дина
(«див»). По мнению П. Ахура, вся газель посвящена памяти по-
следнего правителя из династии Инджуидов Шаха Шейха Абу
Исхака, убитого в 1357 году; Хафиза связывали с ним узы
дружбы [Ахур 1993, с. 476-477].
3. «Светоч избранничества» — cirâğ-i muştafavî, букв, «из-
браннический светоч», метафора проповеди Мустафы (Избран-
ника), т. е. пророка Мухаммада. Бу Лахаб — дядя Мухаммада,
который не поверил в его пророческую миссию и утверждал,
что Мухаммад безумен. Осуждению Бу Лахаба посвящена сура
Корана «Пальмовые волокна» (111), где сказано, что «будет он
гореть в огне с пламенем» [111:3]. В бейте, как и в суре, обы-
грано буквальное значение имени Бу Лахаб (bu lahab) — «отец
пламени». «Искры Бу Лахаба» — sarar-i bu lahabï, букв, «бу-лаха-
бовские искры», намек на клевету и злослословие противника
Пророка.
Тема бейта — размышление о природе мира («эта лужайка»),
в котором счастью («роза») сопутствует горе («шипы»), а правед-
ник (Избранник) страдает от злопыхателя (Бу Лахаб). Оппози-
Хафиз. Газель № 64
413
ция «Мухаммад — Абу Лахаб» встречается у многих поэтов, осо-
бенно часто — у Хакани и Руми (CD Dorj-3, данные поиска),
причем нередко — в контекстах, где речь идет о завистниках
поэта, правителя. Так, Низами в поэме «Лайли и Маджнун» ис-
пользует этот мотив в главе «Жалоба на завидующих и отвер-
гающих», доказывая, что великому поэту, как и великим про-
рокам, всегда сопутствует очернитель: «Ахмад (Мухаммад), что
был предводителем арабов, // Тоже поранился колючками Бу-
Лахаба» [Низами 2008, с. 182]. Низами намекает на колючки,
которые жена Абу Лахаба якобы рассыпала на дороге Мухам-
меда (см. коммент. И. Ю. Крачковского к перев. Корана, М.,
1986, с. 655). Бейт Хафиза устроен сложнее: тривиальное ут-
верждение «нельзя сорвать розу, не уколовшись о шипы» иллю-
стрируется общеизвестным примером (Мухаммад и его гони-
тель). Но, поскольку в околокораническом сюжете об Абу Лаха-
бе фигурируют колючки, то «шипы» в первом полустишии по-
лучают дополнительный смысл, становятся аллюзией к «колюч-
кам Бу Лахаба».
4. «Беспричинность» — Хуррамшахи (с. 340) усматривает в
бейте проявление симпатии Хафиза к философским взглядам
аш'аризма; среди приверженцев этого направления в каламе
был популярен тезис об отсутствии естественных причинно-
следственных связей между явлениями [ИЭС, ел. ст. «ал-Аш'а-
рийа» (Т. Ибрагим, А. Сагадеев)]. Комментаторы видят в «бес-
причинности благодеяний» аллюзию к Корану: «О Боже, царь
царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь
власть, от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого желаешь, и
унижаешь, кого желаешь» [3:25 (26)].
Остроумие бейта в том, что «общее место» персидской поэ-
зии — несправедливость и подлость небосвода — получает обос-
нование, отсылающее к категориям философского калама.
5. «Обитель» (xänaqäh) — см. газ. 47:3 и коммент. «Приют» —
rïbât-, дом, построенный каким-либо благотворителем, где на-
ходили временный приют странствующие суфии, учащиеся из
бедных семей и т. д., в более широком смысле — постоялый
двор, караван-сарай. О противопоставлении кабака и суфий-
ской обители см. коммент. к газ. 63:3.
414 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
6. «Дочь лозы» — duxtar-i razy одна из старейших метафор
вина в новоперсидской поэзии, использована в знаменитой ка-
сыде Рудаки «Мать вина», ранее — у арабских поэтов, писав-
ших «в персидском вкусе» и воспевавших вино, особенно — у
Абу Нуваса; подробно об истории мотива см. [Meisami 2003,
с. 330-333]. «Словно» — тадагу примеры употребления в этом
значении в классическом персидском см. в [Диххуда, ел. ст.
Мадаг]. «Свет глаз» — сила зрения; считалось, что способность
видеть возникает благодаря свету, излучаемому глазами.
«Хрустальный покров» — niqäb-i zujäfi, метафора сосуда или
кубка; «завеса винограда» — parda'-i 'inabî, метафора сочных
виноградин. Оба выражения являются также специальными
анатомическими терминами, обозначающими оболочки глаза, в
традиционной медицине считалось, что глаз состоит из семи
оболочек или завес — parda (прием îham).
Идея: вино, которое таится в винограде, а потом попадает в
хрустальный кубок, дарует герою прозрение, так как оно по при-
роде подобно свету глаз, который также проходит через завесы.
7. Рахбар усматривает в этом бейте намек на кодекс поведе-
ния суфиев-malämaü, ср. мотивы, связанные с поведением
«людей порицания» в газ. 5:7, 8:3, 20:3, 21:1. «Неучтивость» (fef-
аааЩ — возвращение к теме первого бейта. Там речь шла о
том, что поэт вынужден молчать, боясь проявить неучтивость
перед другом, здесь названо средство, заставляющее отбросить
учтивость и все-таки высказать то, что на сердце.
8. «Надежда» — istizhär, «надежда на помощь», «расчет на
поддержку».
Идея: ночными бдениями и молитвами герой газели заслужил
у Господа прощение грехов, и теперь ему не страшно пить вино.
Газель отчетливо делится на две части, первая (б. 1-4) — жа-
лобы (вынужденное молчание, торжество подлого, боль, кото-
рую он причиняет достойному, небо на стороне подлецов); вто-
рая (б. 5-8) — воспевание кабака и вина, утоляющего печали
(кабак лучше святой обители, вино дарует прозрение, развязы-
вает язык, герой заработал право пить вино). Сплетение фило-
софских мотивов с прославлением вина как лекарства от мир-
ских тягот и источника поэтического вдохновения, а также
призыв «неси вина!» в последнем бейте характерны для первой
Хафиз. Газель № 64
415
персидской sâgf-nâma, которая составляет отдельную главу
вступления к поэме Низами «Лайли и Маджнун». Хафиз много-
кратно использовал поэтические идеи предшественника в сво-
их газелях, а также создал собственную säqi-näma, уже в виде
отдельного произведения.
Газель 65
t 1 ni 1
*-*'.^ jl£ >LaJl a£ bitini ^-ijäj Ij (jj^
jb (jjjj À CijuüJjA 4_j Aluü уъс* JJjJJ
<"l >" 1 -\ )IS J о \ *L t iL
>
? J^JJJ f* L>*4 lWJ* Jj**c>
rjl 4 Jajj j <з ^ ij SJÏ y—L.
t hud j JjJjubft
(jij—^ iillà jjb Лл ôûjj ùjjj jlj
L-l
<"i inj! jLbfil CHJ^ *J 4 (j№*^ J Jé^
Cj JjÂ. 4İJJ JââU. j jjjS ь-Jjà JAİ j
* * * '-j^ jISjjS AjjuiI jÂ. 4 \\\a jj Ij
Ba/ir: muzâri'-i mutamman-i axrab-i makfüf-i maqsür
Vazn: mafülufä'ilätu mafä'üufä'ilät
xus-tar-zi I 'ay-su-şvh-ba / tu-bä-gü-ba / hâ-r°-cïst
sâ-qî-ku j jâ-st-gü-sa / ba-bï-in-ti / zâ-r°-cïst
416
Хафиз. Газель № 65
417
i. Что может быть лучше веселья и беседы, сада и весны?
Где виночерпий? Скажи, в чем причина ожидания?!
2. Любой счастливый миг, что выпадает, сочти за благо,
Кто знает, как под конец обернется дело!
3- Связь с жизнью держится на волоске, прояви здравомыслие!
Утоляй свою печаль, к чему печаль из-за мира?!
4- Живая вода и сад Ирама по сути —
Что, как не берег речки и превосходное вино?!
5- Раз трезвенник и пьяница из одного племени —
Чьим соблазном увлечься нашему сердцу? Что тут за выбор!
6. Разве небу ведома тайна, что за завесой? Молчи!
Эй, пытливый, к чему твоя распря со стерегущим завесу?
7- Если упущения и ошибки человека не принимаются в расчет,
Тогда в чем суть прощения и милости Прощающего?
8. Аскет захотел вина из Каусара, а Хафиз — из чаши,
Поглядим — какова на сей счет воля Творца?!
Комме нтар и й
Возможно, газель представляет собой «ответ» на касыду Аухади
Марагаи «О поиске истин», написанную тем же размером, с те-
ми же радифом и рифмой [Аухади, Dorj-3, касыда fi talab al-
haqâ'iq]. Эта философская касыда посвящена абсолютной непо-
знаваемости Творца и Божественной воли, которые отделены
от человека завесой, непроницаемой для разума, что подчерк-
нуто радифом «cf-st» — «что означает?» Перечисляя различные
элементы традиционной картины мира (время и пространство,
точка и линия, четыре элемента и шесть направлений миро-
здания, персонажи и события священной истории, предписа-
ния шариата и прозрения мистиков), Аухади доказывает, что
все это лишь иллюзия «истин», а истинные смысл и цель миро-
здания остаются сокрытыми. Слисок примеров у Аухади за-
канчивается выводом, что бесполезно надеяться на познание
418 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
промысла Божия — «к чему это ожидание (in intizâr cî-st)?* (бейт
37). Газель Хафиза начинается с похожего вопроса — «в чем
причина ожидания?» (sabab-i intizâr cî-st), однако речь идет не
об ожидании ответов на «главные» вопросы, а об ожидании
прихода виночерпия.
1. Одно лишь упоминание 0 виночерпии в зачине газели
часто служит показателем «весенней» темы (например, 11:1;
18:1), здесь же прямо названы время, место и характер описы-
ваемого события — пирушки в саду. Отсутствует лишь главный
персонаж — виночерпий. Вопрос «в чем причина ожидания?»
вводит основной мотив газели — лови каждое мгновение сча-
стья в этой быстротечной жизни с непредсказуемым будущим.
2. «Как под конец обернется дело» — anjâm-i kâr cî-st, букв.
«каков конец дела», т. е. какие события произойдут дальше, ко-
гда и как оборвется нить жизни.
3. «Печаль из-за мира» (ğam-i rüzgâr) — обычно употребляется
в смысле «мирские печали, неурядицы». «Утоляй свою печаль» —
ğam-xvar-i xvfs bâs, также «утешай самого себя» (букв, «стань
своим пьющим печаль»). Призыв содержит прозрачный намек:
пей вино, которое утоляет ВСе печали, сейчас, ведь жизнь пе-
ременчива.
4. «Живая вода» (âb-i zindagîj — также âb-i xizr, âb-i hayvan,
см. комм, к газ. 31:9; ср. схожий контекст 39:8. «Сад Ирама» —
rawza'-i iram, в персидской поэзии — прекрасный сад, райский
сад на земле. Представление о саде Ирама восходит к Корану,
где упомянут «Ирам, обладатель колонн, подобного которому не
было создано в странах» [89:6-7 (7-8)]. В арабских преданиях
Ирам предстает как город-оазис. «Он весь построен из благо-
родных металлов и драгоценных камней, но не виден глазу.
Только изредка открывается он заблудившимся в пустыне пут-
никам» [Пиотровский 1991, с. 61; об историческом ар-Рамм в
Хиджазе см. там же]. «Живая вода» и «сад Ирама» объединены
общей идеей иллюзорности и недостижимости, Хафиз противо-
поставляет им реальные и доступные человеку наслаждения —
вино, животворящее, как вода Хизра, и берег реки, прекрас-
ный, как сад Ирама; ср. то же сопоставление райского и земно-
го в газели 3:2.
Хафиз. Газель № 65
419
Бейт интересен как прямое обращение к касыде Аухади. Там
основным приемом построения является риторический вопрос
об истинном смысле важнейших коранических преданий, на-
пример: «Египет, правитель, Йусуф, тюрьма и сны — что? //
Гора Тур, посох, Муса, „камни из глины" [Коран, 11:84(82)] для
презренных — что это? // Путешествие на Бураке, мечеть ал-
'Акса и Джабраил, // Тауба, 'Арш, Сидра и лицезрение Друга —
что это?» (б. 20-21). Хафиз, используя тот же прием перечисле-
ния, предлагает шутливый ответ, остроумие которого особенно
заметно на фоне стихов Аухади.
5. «Трезвенник» — mastar, букв, «скрытый», «закутанный по-
крывалом», благочестивый и воздержанный человек. «Из одного
племени» (az yak qabîla) — т. е. и те, и другие принадлежат к ро-
ду человеческому, являются Божьими тварями [Хирави, с. 298];
сущностная близость «трезвенника» (mastar) и «пьяницы» (mast)
подчеркнута и созвучием двух разнокоренных слов. «Что тут за
выбор!» — ixtiyâr ci-st; риторический вопрос можно понять двоя-
ко: 1. стоит ли выбирать, если трезвенник ничем не лучше пья-
ницы; 2. разве у человека есть выбор, если все предрешено?
Этот второй смысл представлен в бейте 29 касыды Аухади: «Кто
дает приказ о воздаянии за хорошее и плохое? //У смертного в
этом хорошем и плохом что за выбор? (ixtiyâr cï-st)». Мысль Ха-
физа сложнее: у человека нет выбора, да и нужен ли он, если в
конечном счете невелика разница между тем, что в этом мире
числится порицаемым, а что — одобряемым.
6. «Пытливый» — mudda'ï, букв, «претендующий, спорящий»,
также «истец», «соперник», «обвинитель». В газелях Хафиза так
именуется антагонист лирического персонажа, претендующий
на то, на что у него нет права. В зависимости от поэтической
ситуации, это может быть «обвинитель», т. е. аскет, не испы-
тавший мук любви, но осуждающий влюбленного (23:2), «при-
творщик», т. е. ложный друг, а на самом деле завистник поэта
(33:8), «соперник», притворяющийся влюбленным (44:6), «пыт-
ливый», т. е. ученый-астролог, притязающий на проникновение
в тайны предопределения (данный бейт, также 152:4).
«Стерегущий завесу» (pardadâr) — эпитет небосвода, который
в поэтической картине мира одновременно является стражем
«завесы», скрывающей мир Сокровенного, и самой этой заве-
420 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
сой. «Распря» (niza") — попытка «доискаться правды у небосво-
да», с помощью астрологических таблиц узнать судьбу человека
[Хирави, с. 298].
Смысл бейта: не стоит биться над постижением законов хода
небесных тел, ведь само небо было сотворено Богом и не по-
священо в тайну своего движения. Хирави отмечает (там же),
что это один из примеров скептического отношения Хафиза к
астрологическим прогнозам и гороскопам.
7. «Не принимаются в расчет» (i'tibär nïst) — т. е. если чело-
век лишен свободы выбора, его поступки предопределены и за
них не придется отвечать перед Всевышним. «Прощающий» —
ämurzgär, персидский перевод коранического эпитета Бога
gafur, см., например, [Коран, 16:18].
Смысл бейта: если человек грешит не по своей воле, он не ну-
ждается в прощении, и тогда непонятно, почему в Коране Бог
назван «Прощающим». Ср. контексты в газелях 37:8 и 53:7, где,
наоборот, приведены поэтические аргументы в поддержку тези-
са об абсолютной предопределенности человеческих действий.
Хирави и Хуррамшахи (с. 346) отмечают, что идея бейта
восходит к строке из «Шараф-нама» Низами: «Если мои грехи
не принимали в расчет, // Разве тебя называли бы Прощаю-
щим?» [Низами 1993, с. 913].
Стоит отметить, что в редакции Ханлари отрицание в пер-
вом полустишии отсутствует (вместо i'tibär nïst дано hast
i'tibär); обсуждению разных редакций бейта посвящена специ-
альная статья иранского филолога С. Дж. Шахиди [Хуррамша-
хи, с. 346].
8. «Аскет» — см. коммент. к газели 7:2. Каусар — букв, «обиль-
ный», название 108 суры Корана, где сказано: «Поистине, Мы
даровали тебе обильный (kawtar)U [108:1]. Уже в ранних ком-
ментатариях к Корану было принято отмечать два смысла слова:
«обильное благо» и «название источника в раю», который, соглас-
но «Кашшаф» Замахшари, «слаще меда, белее молока, прохлад-
нее снега, нежнее и вкуснее сливок; берега его из изумруда, ча-
ши для питья из него больше небесных звезд, и каждый, кто
пьет из него, никогда не испытывает жажды», цит. по [Хуррам-
шахи, с. 346]. В персидской поэзии влага Каусара — образ слад-
чайшего напитка, иногда — райского вина. Оппозиция «земное
Хафиз. Газель № 65
421
вино — райский напиток Каусара», представленная в данном
бейте, используется в Диване неоднократно (162:5, 329:4,
374:7, 429:6) как прием восхваления «райского» качества зем-
ного вина.
В заключительном бейте вновь задан вопрос о выборе и пре-
допределении (см. б. 5): аскет выбрал для себя небесный рай, а
«Хафиз» — земной кабак; если желание кого-то из них осущест-
вится, значит — такова воля Творца.
Газель 66
■JjU J—uı L-LU l_J jSI (JiL (JliJ
jjIj La jl£ j aJjIj (j^ilc» jJ La a£
lÜJjujjû d jJa j ùjj jOj»)) <S (J^aj (jl JÛ
(JJ j 4—J—^ f^ üß^J A—^ ôJW jW
llbuuJ jLuİA aIj j aJ Jj JD aIa. lLLüAA Л£
1*1ипл14 j—A jl£ 4—J (jÜbJ jj < İİJ) Jbàb
ı"ı m jjbc> ($èjb Cftj Aİului jj j <S
djjuaJjlXjj Jaât j (Jxl L_J Aj (jl aU Ч£
jÂjjjJfljlc- J I—ft]j J dlujl a nï% 4j (J rt4 in (jLft^
Cj ui-jjWj jL j JS JjI jû AjSü jt JA
X_JJ^J Jab aJJ <J t*1 S j fl ^ jljAilâ
v"l mjjlc JÎA jl <-S (jii-S <jl (jjalial ^LS
(^jl J £—^J ù'j^ (J^*^ j *î (jUjuiI jj
t"i mjjlj^j A—j lsjjj** ^Иа jj jr jjc
AÛ—jJ^^Û LjJİjSk. 4_J ("МпЛ <AjİjS Jäjuü
dluÜJİJjJ J <—J 4—£ <jJİj2k LjJJİJA ^yA j
422
Хафиз. Газель № 66
423
ВаЛг; mujtatt-i mutamman-i maxbun-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafa'üunfa'ilâtun mafû'üun fa'län
bi~nâ-l°-bul I bu-la-gar-bâ / ma-nat-sa-rï / yä-rist
ki-mä-du-'ä / si-qi~zä-ri/ mu-kä-ri-mä / zä-rist
i. Плачь, соловей, если ты хочешь дружить со мной,
Ибо мы оба — жалкие влюбленные, и наше дело — жаловаться.
2. В тех краях, где веет ветерок от кудрей друга,
Стоит ли похваляться мешочкам с татарским мускусом?
3- Неси вина — и мы раскрасим одежды лицемерия,
Ведь мы пьяны от чаши гордыни, а зовем [это] «трезвостью»!
4- Творить образ твоего локона — не дело неопытных,
Ибо идти в цепях — это путь аййара.
5- Есть скрытая тонкость, из которой вырастает любовь,
И зовется она не рубиновыми устами и не ржавым пушком.
6. Красота человека — не в глазах и локоне, лице и родинке,
Тысяча хитростей в этих любовных делах!
7- Каландары истины и за полушку не купят
Атласные одеяния тех, кто обделен доблестью.
8. До твоего порога трудно добраться. О да!
Взойти на небо могущества тяжело.
9- На рассвете я увидел во сне твой влекущий взор,
Да славятся стоянки сна, что лучше бдения!
ю. Не обременяй его сердце плачем, Хафиз, заканчивай,
Ведь в смирении — вечное спасение.
424 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Комментарий
Данная газель перекликается с газелью Хаджу Кирмани, напи-
санной с теми же размером и рифмой [Хаджу, Dorj-3, газель
№ 185].
1. «Жалкий» — zär, эпитет влюбленного с широким спектром
смысловых оттенков: «хилый, слабый», «жалующийся, плачу-
щий», «презренный, низкий»; zär и zari («жалоба», в переводе —
«жаловаться») образуют прием «таджнис с избытком». В контек-
сте газели Хаджу (б. 6) zär может означать и «неимущий»: «Я
слышал, что благодаря золоту (zar) дела идут как по маслу
(букв, «становятся золотыми»), // поскольку у меня нет золота,
остается стенать и жаловаться (zart)».
2. «Мешочки с мускусом» (näfakä) — см. коммент. к газели
2:2; «татарский» (tätäri) — т. е. мускус ланей, обитающих в сте-
пях Восточного Туркестана (историческое название — Татари-
стан). «Похваляться» — dam zadan, также «дышать» (прием
ihäm)у второй смысл полустишия: «Стоит ли вдыхать [аромат]
мещочков с татарским мускусом», т. е. наслаждаться мускусом
самого лучшего качества.
Бейт как бы предлагает ответ на риторический вопрос, за-
данный в газели Хаджу (б. 5): «Н« знаю, это животворное, весе-
лящее душу дуновение, — // ветерок от твоего локона или аро-
мат татарского мускуса?»
3. «Одежды лицемерия» (jäma'-i zarq) — метафора одеяния
суфиев или аскетов. «Раскрасим [вином]» — раскрашивание ви-
ном или стирка в вине (ритуальной одежды или молитвенного
коврика^ во многих газелях передает идею избавления от лице-
мерия; ср. газели 1:4, 5:13, 16:9, 17:5 и коммент.
Идея — оправдание пьянства риндов: нужно выпить вина,
чтобы перестать лицемерить, ведь считать себя трезвенником —
это есть худший вид опьянения (опьянение гордыней).
4. «Творить образ» — xayäl pwctan, букв, «варить образ», фра-
зеолог. «предаваться пустым мечтам»; xayäl — «воображаемый
образ», см. коммент. к газели 29:1. «Неопытный» — хат, букв,
«сырой», в газели — обычное обозначение новичка на пути люб-
ви или несовершенного влюбленного (см. комментарий к газели
8:5); puxtan и хат в своих буквальных значениях образуют оп-
Хафиз. Газель № 66
425
позицию («варить» — «сырой»). «Аййар» — ловкий и отважный
мошенник, метафорически — совершенный влюбленный, см.
коммент. к газ. 43:5. «Цепь» — применительно к аййару это цепь,
в которую заковывают пойманного мошенника, а применитель-
но к влюбленному — цепь локона, которой пленено сердце.
Идея: нести в душе образ локона, не имея надежды на
встречу с другом, не под силу новичку на пути любви; это все
равно что идти в оковах, тут нужны сила и опытность аййара.
В газели Хаджу (б. 8 и 9) качествами мошенника («индийца»),
т. е. аййара, наделен сам локон: «Хаджу, не отдавай сердце в ру-
ки кончика локона друга, // Ведь дело его гиацинта-индийца —
черные дела. // Ты же видишь, как извилисты его кудри, // Под
каждым кончиком волоска у него — тысяча обманов».
Газель Хаджу завершается призывом не отдавать сердце ло-
кону, не подвергать себя превратностям любви, бейт Хафиза
звучит полемически: истинная любовь не для тех, кто страшит-
ся испытаний.
Возможно, упоминание аййара в цепях содержит намек на
судьбу вазира Сахиба Аййара, арестованного и казненного, см.
коммент. к газ. 25:9.
5. «Ржавый пушок» (xat-i zangäri) — первый пушок на моло-
дом лице, который сравнивают с голубовато-зеленой ржавчи-
ной на металлическом зеркале, подробнее см. [Чалисова 2004,
с. 186-187]. Газель Хаджу начинается бейтом: «У тебя ведь мус-
кусные кудри и ржавый пушок, / / Что тебе за дело до желтого
лица и гранатовых слез?!», где красота адресата удостоверена
двумя конвенциональными формулами — у него черные кудри
и зеленовато-голубой пушок на юном лице, и эта красота ста-
новится причиной любовных страданий лирического персона-
жа. Хафиз спорит с поэтическим оппонентом: любовь рождает-
ся не под влиянием внешних аттрибутов, а благодаря некой
неизъяснимой «тонкости» (latîfa); слово latîfa обозначает также
остроты, шутки, тонкие изящные мысли, в суфийских сочине-
ниях latä'if— это «указание» (isârat-i)» сердцу на тонкости чув-
ствования, прикосновение благодати, см. [Худжвири 2004,
с. 386, 459].
6. «Любовные дела» — kär-u bär-i dil-dârï; второе значение dil-
dârï — «храбрость, отвага», второй смысл полустишия (прием
426 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ihäm): «Тысяча хитростей в этом деле, [требующем] отваги», ср.
второе полустишие б. 4.
7. «Каландар» (qalandar) — бродячий дервиш, обычно не
принадлежащий ни к какому суфийскому братству; в суфий-
ской поэзии — человек, опьяненный любовью к Богу и следую-
щий путем Истины; подробнее см. [ИЭС, ел. ст. «Каландар» и
«Каландарийа» (О. Акимушкин)]; в Диване Хафиза — один из
образов истинного влюбленного, близкий к ринду и аййару.
«Каландары истины» — дервиши на пути Истины. «Обделен
доблестью» — az hunar 'äri, т. е. лишен дара любви и способно-
сти переносить тяготы любви; 'äri в первом значении «голый,
нагой» противопоставляется «атласным одеяниям»: люди, обла-
ченные в роскошные одежды, т. е. привязанные к благам мира,
предстают нагими в глазах нищих каландаров, отринувших все
мирские соблазны.
8. Этот бейт непосредственно обращен к адресату газели;
подчеркнут его высокий статус (поэтический «султан красоты»
или реальный правитель Шираза); панегирический мотив высо-
ты статуса («небо могущества») использован здесь, чтобы при-
вести еще одно подтверждение: истинная любовь (служение
правителю) — удел немногих, это под силу лишь опытным ай-
йарам (б. 4) и обладающим доблестью (б. 7).
9. «На рассвете я увидел во сне ...» — начало, призванное шо-
кировать читателя, поскольку в газели рассвет — время молитвы
(или пирушки) после бессонной ночи; у Хафиза широко пред-
ставлен мотив «молитвы на рассвете», см. газ. 6:7; 10:6; 14:7;
28:1; 53:1 и коммент. «Стоянки сна» (marätib-i xräb) — метафора
представляет сон как поэтапное продвижение по пути, в конце
которого (на рассвете) герою дано достичь той «стоянки», когда
друг замечает его и бросает на него взгляд.
10. «Не обременяй» — mayäzär, также «не мучь, не обижай»;
«смирение» — kam-äzäri> также «безобидность; кротость», обы-
грано качество, восхваляемое в персидских дидактических со-
чинениях, ср. наставление Кай-Кавуса: «Если кто-то безвинно
тебя обидит (biyäzäradjt то постарайся не обижать его, ибо дом
смирения (kam-azarîj находится на улице человечности, и гово-
рят, что смирение является основой человечности; если ты —
Хафиз. Газель № 66
427
человек, будь смиренен!» [Кабус-нама 1999, с. 37-38]. Ср. также
бейт из главы «О справедливости» в «Сокровищнице тайн» Низа-
ми: «Насилие разоряет дом царства, //Вечное счастье — от кро-
тости (kam-cuzäri)» [Низами 1993, с. 38]. «Заканчивай» — xatm
кип, завершение газели призывом к молчанию — традиционный
вариант концовки, см. коммент. к 33:10, 89:9.
Тема «жалоб» представлена и в газели Хаджу, где она развива-
ется так: положение влюбленного мучительно, поэтому он жалует-
ся, но статус возлюбленного высок, поэтому жалобы перед ним
неуместны: «В чертоге, где и шахам не дозволено говорить, //
Разве уместны жалобы базарных бродяг?» (б. 7). Хафиз предлагает
иное поэтическое обоснование: нельзя обременять возлюбленного
своими жалобами и плачем, потому что свои страдания следует
переносить со смирением.
Начало и финал газели содержат императивы: «Плачь, соло-
вей!» и «Не обременяй его сердце плачем, Хафиз!», что помещает
всю газель в традиционную рамку: соловей-поэт поет о любви.
Газель 67
1 " * * " j ^ -üUL^. <£ Aiuj jjj Ciâ. jjuj La ^jIa.
Л \ A JJÙ QA L-J î jS (ji J-J J*] ôûb
J_JJ—J dlûL—JL-Ul КлЛ q\ t ** i ^ . ^ <^UJ^
<"* »" j ^ Aj)j^)J <-J 4j£ Ij 1л^ Jüjujjjjb
<и» - ; < 4 jLuàl J-jU jl ^1 jLj l№ <*
* ** * ^. j < <jb c^L ja jS j 4 S l£^j j^
'^-^ <üljjj a£ t"<û< ^jUj ûJiü. l_i1 jjj
Ba/?r: ramal-i mutamman-i maxbun-i maqsur
Vazn: fä 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilätun fa 'üät
yä-ra-bP-sam / Ч-di-laf-ru / zP-zi-kä-sä / na-i-kïst
jä-ni-man-sü / x*°-bi-pur-si / d°-ki-jä-nä / na- i-kïst
i. О Господи, из чьего дома та свеча, озаряющая сердце?
Воспламенила нам душу, — спросите, чья она возлюбленная?
428
Хафиз. Газель № 67
429
2. Теперь она — сокрушитель моего сердца и моей религии,
В чьих же объятиях она спит и с кем делит кров?
3- Вино ее рубиных губ — да не будет оно вдали от моих губ —
Кому услаждает душу и с чьей чашей заключило союз?
4. Счастье дружбы с той свечой, озаряющей блаженством,
С чьего дозволения [дается]? Разузнайте, ради Бога!
5- Каждый шепчет ей заклинания, но еще не известно,
К чьим небылицам склоняется ее нежное сердце?
6. О Боже, та царственная, луноликая, с челом Зухры —
Чья несравненная жечужина, чей бесподобный перл?
7- Я сказал: «Увы безумному сердцу Хафиза — без тебя!»,
С легкой усмешкой она сказала: «Безумному — из-за кого?»
Комментарий
Хуррамшахи (с. 353) отмечает, что данная газель «не лишена
сходства» с газелью Насира Бухараи (ум. 779/1377), написан-
ной с теми же метром, радифом и рифмой.
1. «О Господи» — yâ rab; это молитвенное обращение использу-
ется, как и в русском языке, также для выражения крайней сте-
пени удивления, см. подборку примеров из персидской поэзии на
оба значения в [Хуррамшахи, с. 353-354]. «Из чьего дома» — т. е.
из «дома» земного или небесного; возможно, намек на неземную,
ангельскую природу возлюбленной особы. «Воспламенила душу» —
ср. образ сожжения души как «дома» в газ. 17:1.
2. «Сокрушитель моего сердца и моей религии» — xäna-bar-
andäz-i dil-u dïn-i man-ast, букв, «разрушающий дом моих серд-
ца и религии», т. е. «свеча» (возлюбленный друг), которая разби-
вает мне сердце и превращает меня в идолопоклонника; о ре-
лигии ислама и идолопоклонстве как «религии любви» см. ком-
мент, к газ. 52:1. «В чьих объятиях ...» — ср. схожий вопрос в
газели 15:2, где речь также идет о разлуке и счастливом сопер-
нике.
430 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Идея: «та свеча» превратила меня в несчастного и опозорен-
ного, а есть ли такой, кого она осчастливила и возродила к
жизни [Суди, с. 431]?!
3. «Услаждает душу» — râh-i ruh, букв, «отрада души (духа)»,
метафора вина, также название одной из 30 песен Барбада,
вероятно, посвященной воспеванию вина, см. [Рейснер, Чали-
сова2006, с. 191, 194].
4. «Дружба» — şuhbat, также «беседа, общение». «Дозволение» —
parvâna, в другом значении «мотылек» (прием ïhâm), что создает
смысловую перекличку со «свечой» и напоминает о традиционном
представлении влюбленного как мотылька, сгорающего в пламени
возлюбленной-свечи.
5. «Шепчет ... заклинания» — mîdakad ... afsun-ï, т. е. цвети-
стыми речами старается завоевать благосклонность «свечи»; у
Суди и в редакции Ханлари зафиксирован вариант mïdamad
afsun-î, в прочих редакциях предпочтение отдается нашему
варианту; сочетание afsun danadan распространено в персид-
ском, a afsun dadan лексикографами не отмечено [Хуррамша-
хи, с. 357]. «Заклинания» (afsun) и «небылицы» (afsâna) часто
употребляются вместе как формула, обозначающая лукавые и
лживые слова, ср. afsâna va afsun paziruftan «быть обманутым
лживыми словами» ['Афифи, ел. ст.]; см. газ. 35:7 и коммент.,
где та же формула превращена в метафору прекрасных стихов.
6. Зухра — арабское название планеты Венера, см. коммент
к газ. 4:8; 45:5. «С челом Зухры» (zuhra-jabîn) — с сияющим, как
Утренняя звезда, челом (ср. русск. «во лбу звезда горит»); в «Со-
беседнике влюбленных» отмечено, что уподобление чела Зухре
превосходит по красоте сравнения с другими звездами, см.
[Рами 2000, с. 100].
7. Ситуация бейта состоит в том, что в ответ на жалобы влюб-
ленного «свеча» проявляет кокетство и делает вид, что не пони-
мает причины его страданий; в ее поведении как бы реализуется
поэтический прием tajâhul al- 'arif «притворное незнание знаю-
щего» [Хирави, с. 309], о приеме см. [Ватват 1985, с. 143-144].
Остроумие ответа — в его неоднозначности, его можно понять и
как насмешливое выражение недоверия: мол, ты влюбился еще в
кого-то и потерял рассудок вовсе не из-за меня!
Хафиз. Газель № 67
431
Стихотворение принадлежит к числу «связных» (musalsatj га-
зелей, которых у Хафиза не слишком много. Все бейты посвя-
щены одному и тому же лицу, метафорически обозначенному
как «свеча» (б. 1,4). Пол адресата никак специально не обозна-
чен, женский род в русском переводе обусловлен только грам-
матическим родом слова «свеча»; из комментария Суди следует,
что он читает газель скорее как обращенную к мужчине; ср. его
примечание к последнему бейту: поясняя выражение zir-i lab
xanda-zanän «с легкой усмешкой» (букв, «улыбаясь из-под гу-
бы»), он отмечает, что по-турецки в таких случаях говорят
«улыбаться из-под усов». Бейты 1-6 нанизаны на одну тему, в
каждом задан вопрос о том, кто оказался счастливым соперни-
ком лирического героя, а в последнем бейте тот же вопрос не
без иронии переадресован самому герою.
Газель 68
J1 t-> ->ù J t-> ^ ^ ^ ôJ—dJ ?JJ*
<"hnjU Д (jfi\ùj& jb (Sj^ öj£** J^ *-$• J^
d—uo-jJLûA ! £"*;т-р>- (jbüjc. jl£ jj л£ öj
<"\ mi j İlâ ^İjLlû 4_£ ^jbjx^ jjâ. с1ш
л-JlS^-j сЛл. ^ ^ 4 j dıâl jà ôj^j! ôj£
Ba/ır: ramal-i mutamman-i maxbün-i aşlam-i musbağ
Vazn: fâ 'ilâtun fa 'ilâtun fa 'ilâtun fa 'län
mâ-ha-mP-haf / ta-bu-run-raf / tu-ba-cas-mam / sâ-lîst
hä-li-hij-rän I tu-ci-da-nî / ki-ci-mus-kil / hâ-lîst
ı. Моя луна отбыла на этой неделе, а мне кажется — год [назад] !
Где тебе знать, сколь тяжкое состояние — состояние разлуки?!
432
Хафиз. Газель № 68
433
2. Зрачок по милости его лица на его лице
Увидел свое отражение, подумал — это черная родинка!
3- Еще каплет молоко с его сахарных уст,
Но когда он красуется, каждая его ресница смертоносна.
4- О, ты ведь славишься щедростью на весь город, —
Увы, удивительно твое равнодушие к делам чужестранцев!
5- У меня больше нет сомнений по поводу «единичной частицы»,
Ибо твой рот — прекрасное доказательство этой тонкости!
6. Сообщили радостную весть, что ты хочешь навестить нас,
Не отступай от доброго намерения, ведь оно предвещает благо!
7- Гору печали в разлуке с тобой каково нести
Усталому Хафизу, чье тело от стонов, как тростинка!
Комментарий
1. «Моя луна» (mäh-am) — мой луноликий друг; mäh во вто-
ром значении — «календарный месяц», что образует лексиче-
ское соответствие (ıhâm-i tanäsub) в полустишии со словами
«неделя» и «год» [Хуррамшахи, с. 308]. В другой редакции бейта
(у Суди, Ханлари) вместо «отбыла» (burun raft) дано «покинула
город» — sud az sahr, в этом варианте слово sahr, имеющее
также значение «месяц», еще удлиняет цепочку календарных
терминов. «Где тебе знать» — можно понять и как прямое об-
ращение к адресату газели (луна), и как риторический вопрос,
обращенный к оппоненту лирического персонажа.
2. «Зрачок» — mardum-i casm, букв, «человек глаза» или «люди
глаз», об обыгрывании второго смысла выражения (прием îhâm),
см. комментарий к газелям 17:7, 54:1. «По милости лица»— zi
lutf-i rwc, также «благодаря тонкости, изяществу лица» (прием
îhâm). Бейт построен на скрытом уподоблении ясного сияющего
лица друга зеркалу [Хирави, с. 310]. «Черная родинка» — атрибут
красоты лица, во многих контекстах — средоточие всего, что
влечет влюбленного, ср. знаменитый первый бейт газели 3, а
также строки 14:4, 36:3, 57:4, 62:3. Сопоставление родинки на
434 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
лице возлюбленного со зрачком глаза влюбленного встречается и
в других стихах Хафиза (95:3; 177:8; 368:5; 408:9), при этом в
перечисленных контекстах зрачок представлен как отражение
или подобие родинки возлюбленного, а в данном бейте мотив
инверсирован. В бейте дано гиперболическое описание лица: оно
так ясно и чисто, что отражает даже зрачки глаз смотрящего.
Возможно и такое истолкование: влюбленный, которому не хва-
тает самозабвения, думает, что видит красоту друга, а на самом
деле созерцает лишь самого себя.
3. Сахар и молоко на губах — традиционный образ ранней
юности и красоты. «Ресница смертоносна» — уподобление рес-
ниц грозному оружию входит в поэтический канон описания
красоты; ср. газ. 6:3 и коммент. к 55:3. Противопоставление
«ребенок по возрасту — убийца по красоте» распространено в
любовной лирике, ср. очень близкий бейт у Хафиза (289:4).
4. «Славишься» — angust-numâ-ï, букв, «являешься тем, на
кого указывают пальцем». «Чужестранцы»» — gariban, также
«чужаки», метафора влюбленных, о смысле которой см. вступи-
тельную часть комментария к газели 14.
5. «Единичная частица» — jawhar-i fard (также «несравнен-
ная жемчужина»), термин философов-мутакаллимов, мельчай-
шая частица, которая не поддается дальнейшему делению «ни
разумом, ни воображением» [Диххуда, ел. ст. Jawhar-i fard\.
Большинство мутакаллимов отрицали деление тел до бесконеч-
ности и называли предельно малую частицу al-jawhar allazi là
yanqasim «частица, которая не делится» (ср. греческ. «атом»)
[ИЭС, ел. ст. «Джаухар» (Т. Ибрагим, А. Сагадеев)]. Вокруг тези-
са о существовании неделимой частицы-атома на протяжении
веков велись философские диспуты. Уподобление рта недели-
мой частице стало к XIV в. каноническим (см. подборку цитат в
[Хуррамшахи, с. 309-310]), ср. также главу об описаниях рта в >
«Собеседнике влюбленных»: «По истинной природе он — мель-
чайшая частица (jawhar-i fard), которая не поддается делению, !
и на этом основании его именуют воображаемой точкой» [Рами I
2004, с. 201].
Идея: рот возлюбленного столь мал, что является аргументом
в защиту спорного тезиса о существовании неделимой частицы.
Хафиз. Газель № 68
435
6. «Намерение» — niyyat, одно из ключевых понятий права
(fiqh) и этики ислама, определяющее качество поступка, по-
скольку один и тот же поступок может квалифицироваться как
хороший или дурной, в зависимости от намерения, с которым
он совершен, см. [Смирнов 2000, с. 58-60]. В бейте обыгран
этический постулат о том, что деяние, исполненное с добрым
намерением, вознаграждается в будущей жизни. Ср. схожий
образ в газ. 85:4.
7. «Тростинка» — näl, тростник, также тростниковое перо;
Суди (с. 438) полагает, что здесь использовано специальное зна-
чение слова «тонкие белые волокна внутри стебля тростника»,
что подчеркивает слабость лирического персонажа.
В газели представлена так называемая кольцевая компози-
ция: последний бейт возвращается к теме разлуки, введенной в
зачине.
Газель 69
l*hon LjjJ L_ftİj jl djLlâl Ч£ l "buji (JjjS
jlibîü 4oİjS jl JjJ^ Jj JJ f^ JjÄ.
yjjj jj ôl jaä
Lg-ll L * ^ 1 <JJİ J>wû J—J (^JJ
l"hnj*1 LJ j (^JJ Jjl J-J j CİLuüt JJJA. <£ Uä.
jUJ \j^ ö^jJ jJ j Jjuü jl JujjÂ. JjSjüIA
-* ^—£ tf!jjLu eilj l^_^ j^j jl
dJJjCr Ju-a 4à v buji L-i
jjjàl Jj £a^ ^1 jj ^jj <^j 4£ ^1 jb
dj m j *i IL^ j jjj jj) jUjjä, a jj jj
t 1 >o
dl
I (J j ^ > jSi jjI jl j J^)-^ jW-*
m j 1 Lojuü J^JUÜ jj
jl ^ -> 4j j^£. LoJj^a aJäS j -İjİ^y-û ^j
Ciuuj lij J^x. JjI jJ A^Ijä. ^5-ialc- Uà£
CjjIİj А у Л Л\ Ja Ajuüja JUla jjj j£
**ЬиП I^Ä. j (_£JjuJ A£ t"brtj*1 (_£ Jxjü ÄJÄ JÛ
436
Хафиз. Газель № 69
437
eli m j 'i LJaS jjj ^bjü jj)là я J—А Ь
Jâ—âl—л. J J (jj—^ ^ ô^JfJJ* <-£-Цк L$\
ВаЛг: hazaj-i mutamman-i axrab-i makfuf-i maqsur
Vazn: mafulu mafâ'îlu mafâ'ïlu mafà'ïl
kas-nî-s11 ki-uf-tâ-da / ' i-än-zul-fi / du-tâ-nïst
dar-rah-gu / za-rî-kx-s1 / ki-dâ-mî-zi / ba-lâ-nîst
ı. Нет никого, кто не был бы повержен теми изогнутыми локонами.
На чьем пути бывает, чтобы «не было силка напастей»?
2. Поскольку твои глаза отнимают сердца у затворников,
Следовать за тобой — для нас не грех.
3- Твое лицо, должно быть, зеркало Божественной милости,
Воистину так, и тут нет лицемерия!
4- Нарцисс желает красоваться, как твое око — о что за око! —
Бедняга! Нет у него разума в голове, а в глазах — стыда!
5- Ради Бога, не подстригай локоны, ибо у нас
Не бывает ночи без сотни стычек с утренним ветром.
6. Вернись, ибо без твоего лица, о свеча, озаряющая сердца,
На пирушке друзей не осталось и следа от света и радости.
7- Забота о чужестранцах останется доброй памятью —
Душа моя, разве в вашем городе нет такого обычая?
438 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
8. Вчера он уходил, и я сказал: «О кумир, выполняй договор!»
Он ответил: «Ты ошибся, господин, в этом договоре нет [места] верности!»
9- Если старец магов стал моим наставником, какая разница?
Нет такой головы, где бы не было Божьей тайны!
ю. Что делать влюбленному, как не влачить бремя порицания?
Ни у какого героя нет щита от стрел судьбы!
п. Ни в келье аскета, ни в уединении суфия
Нет иного михраба, кроме уголка твоей брови.
12. О ты, погрузивший кисть руки в кровь сердца Хафиза,
Неужели у тебя нет и мысли о ревности Корана и Бога?!
Комментарий
Газель перекликается с газелью Салмана Саваджи, написанной
с теми же размером, рифмой и радифом [Салман, Dorj-3 газель
№81].
1. «Повержен» — ufiâda, букв, «упавший», перенос, «смирен-
ный», «слабый», «побежденный»; второе полустишие включает
намек на известное имя локона — «силок» для сердец, в этом
контексте uftàda получает коннотацию «попался», ср. газель
276:2, где сердце влюбленого («премудрая птица») «попадает в
силок» — Ъа dorn uftad. «Изогнутые локоны» — zulf-i du-tä, точ-
нее, «согнутый вдвое локон»; Хуррамшахи (с. 362) предлагает
также понимать это выражение как «два локона», обрамляю-
щих лицо.
Во втором полустишии — цитата (прием tazmin) из бейта 2
указанной газели Салмана: «В любую сторону мне нет пути, ибо
из-за твоего локона // Нет такой стороны, где бы не было силка
напастей (ki dâm-îzi balâ nïst)*.
2. «Затворники» — güsa-nisinän, букв, «сидящие в углу», т. е.
аскеты, избравшие уединение и удалившиеся от мира, ср. га-
зель 286:6; часто также — метафорическое наименование со-
общества влюбленных, например, см. у Хафиза 23:5; 44:5;
139:31; 452:11. В стихе — цитата из газели Са'ди [Са'ди, Кул-
лиййат 1996, с. 508, газель № 218, б. 2]: «Идти за тобой — это
Хафиз. Газель № 69
439
для нас не грех (dunbäl-i tu budan günah az jânib-i mâ nîst), //
Скажи своему взгляду, чтобы не отбирал у людей сердца!». В
редакции Казвини-Гани, которой мы следуем, вместо dunbâl в
бейте Хафиза стоит kamrâh, у Суди и в редакции Ханлари точ-
но воспроизведено полустишие Са'ди.
Нарушение обета затворничества относится к широко пред-
ставленной в Диване теме нарушения обета праведности, ср.
нарушение весной зарока не пить (26:7), переход старца из ме-
чети в кабак (10:1), уход аскета в кабак (170:1) и др.
Идея: нарушение обета затворничества не является для нас
грехом, во всем виноваты глаза друга, а мы лишь следуем за
своим сердцем, которое они отняли.
3. «Зеркало Божественной милости» — Хирави (с. 314) видит
здесь намек на мистико-философскую концепцию красоты
тварного мира, являющего (tajallf) красоту Творца. В бейте
дважды использовано слово гйу в собственном значении «лицо»
и как компонент сложного слова — rüy-u-riyä — «лицемерие»; о
лицемерии как о тяжком грехе см. коммент. к газели 20:4.
4. «Нет у него разума в голове» — xabar-as az sar ... nfst, букв,
«нет у него вестей от головы», т. е. он полностью лишился разума
и не соображает, что делает. Нарцисс — постоянное поэтическое
имя глаза, в бейте восхваляются глаза друга, превосходящие
цветок по красоте. Идея превосходства атрибутов красоты друга
над вещами, которым они традиционно уподобляются, пред-
ставлена у Хафиза во многих вариациях, см. 16:3 (глаза превос-
ходят нарциссы), 16:6 (локоны — фиалку), 21:4 и 58:6 (лицо —
розу, стан — кипарис).
5. «Не подстригай» — mapiräy, Хирави (с. 314) поясняет, что
речь идет о подравнивании волос для красоты, ср. у Суди
(с. 442) вариант текста mayârây «не украшай».
Смысл бейта: когда друг распускает и стрижет волосы, они
оказываются во власти ветерка, и это вызывает ревность у
влюбленного.
6. «Радость» — şafâ, в первом значении — «чистота, ясность»;
«ясность» (şafâ) и «свет» (nui) — главные атрибуты прекрасного
лица.
440 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
7. «Чужестранцы» — gariban, метафора влюбленных, см. под-
робно вступительную часть комментария к газели 14; см. сход-
ную реализацию мотива «упрек в невнимании к чужестранцам»
в газели 68:4.
8. «Договор» ('ahd) — соглашение между слугой и господи-
ном, согласно которому одна сторона обязуется верно служить,
а другая — проявлять щедрость и оказывать покровительство (о
мотивах «служения» и «договора» в персидской касыде см.
[Рейснер 2006, с. 165-189]). Здесь речь идет о «договоре» любви;
«кумир» напоминает влюбленному, что в отличие от обычного,
договор любви не подразумевает верности (vafä) со стороны
возлюбленного. Во втором полустишии 'ahd «договор» передает
и значение «время, эпоха» (прием zTıâm), второй смысл ответа
кумира таков: «Ты ошибся, господин, в эту пору (т. е. в наше
время) нет места верности».
9. «Старец магов» — торговец вином, в суфийской интерпре-
тации — духовный наставник, см. коммент. к газели 1:4 (ср.
наименование кабака — «святилище магов», см. коммент к га-
зели 22:8). Если читать бейт в светском ключе, как воспевание
вина, то речь идет об оправдании пьянства. Положение о том,
что в каждом человеке заложена искра Божья, использовано
иронически: если я избрал хозяина кабака духовным наставни-
ком, в этом нет ничего дурного, ведь Божественную тайну
можно искать в общении с любым человеком (ср. схожую мысль
в газели 65:5).
10. «Порицание» — malämat, о «людях порицания» см. ком-
ментарий к газели 5:7.
Идея: предназначение влюбленного в том и состоит, чтобы
навлечь позор на свою голову и сносить порицание окружаю-
щих. О мотиве «позор влюбленного» см. в комментарии к газ.
46:8, ср. также контексты 1:6, 8:3, 12:9.
11. «Келья» — şaıuma'a, см. коммент. к газели 2:2; «уедине-
ние» — xalvat, см. коммент. к 31:1, 33:1. «Аскет» — см. коммент.
к газели 7:2. «Михраб — брови» — об этом традиционном уподоб-
лении брови нише в мечети см. коммент. 40:8, Хуррамшахи
(с. 363-364) приводит подборку бейтов в Диване Хафиза, обыг-
рывающих это сравнение.
Хафиз. Газель № 69
441
Смысл бейта: в друга влюблен весь мир (ср. определение
друга как «вселенского возлюбленного» в газ. 136:8), даже аске-
ты и суфии устремляют мысли к его красоте.
12. «Погрузивший кисть руки в кровь» (сапд furû-burda Ъа
хйп) — окрашенные хной пальцы руки, а также смугло-розовое
предплечье возлюбленного часто предстают в поэзии как обаг-
ренные кровью влюбленного, ср. пояснение в «Собеседнике
влюбленных»: «Поскольку он [палец возлюбленного] поднимает
руку на влюбленных ради кровопролития, его назвали раскра-
шенным {nigarïn)» [Рами 1946, с. 45]. «Хафиз» — тахаллус поэта
(букв, «хранитель») участвует здесь в образной ситуации в своем
техническом значении — «хранящий в памяти Коран», т. е. чтец
Корана (ср. ранее, газель 9:10).
Заключительный бейт газели содержит предостережение
адресату: о возлюбленный, истерзавший сердце Хафиза, разве
ты забыл, что там хранится Коран, и тебя настигнет гнев Бо-
жий?
Газель 70
L'< » * j « jlâU dıÂ. j Aj Ja. Lu ôJjû >û ja
' " * » " J * j£b I j j__j JJC La AÜSjjuj Jj
JJ L^-a dj A JA. C-İİ jL ^ I j—A.I ^iil
<"biiji jAUa ^J (jJJjj Jj Jja. jl 4a. j£
(a5JuÀA.J p JA J_A. -A—J (JtfÂİ J аЬ 4İUÜ
* * * -j' j—jLL ^"|Ли jj jSI ôjAjuj JjUa
jL-JLJ JjS <j!lb Ljj U jSI ^>jJLa (jailer
dj uujJ jjli ij\jj JİJ JJ a£ Ц-UC (jiîLa
jajJ (jiJiİJ J J n» JİJü dluO duale
jjueli jl cIaaA dulla jJ I j a£ jA
j_£j-A <* J ^-jjj ^^ue C5^aj jljj jl
Слх»ш jaU djJ ja. ^1 jà £jj jj a£ jl j
|X_J JJ ^1 J_J (^bjJU» (Jİ2Î jJ <_£ ^A
i"hn/i JjL-a aL pb jj <£ Cjİ£ (jljJ ^^S
' ^ J—3 ^j J—"» *—* Jjt jjj
t " « '"j* j-^l I j <LuLui (jjl ^Luujj <S
t"i ihIj İsİIa. (Jj 4_J lg-U JJ ÛÜJJJ JJU)
v**l uni jJalÂ. jJ jj JjjJJ Jjuj (ji£ (J It " * ' "J^
442
Хафиз. Газель № 70
443
Bahr: ramal-i mutamman-i тахЬйп-i aşlam-i musbağ
Vazn: fâ 'Hatun fa 'Hatun fa 'Hatun fa 'lân
mar-du-mî-dî / da-'i-mâ-juz / ba-ru-xat-nâ / zir-nîst
di-li-sar-gas / ta-'i-mâ-ğay / ri-tu-rä-zä / kir-nïst
ı. Зрачок нашего глаза не смотрит ни на что, кроме твоего лица,
Наше сердце-скиталец не вспоминает никого, кроме тебя.
2. Слеза моя повязывает ихрам для обхода вокруг твоего святилища,
Хотя из-за крови раненого сердца она ни минуты не бывает чистой.
3- Да будет в плену сетей и клетки, словно дикая птица,
Птица Сидры, если она не летает в поисках тебя.
4- Если нищий влюбленный бросил тебе [под ноги] свое сердце,
Не упрекай его, ибо он не владеет настоящим золотом.
5- В конце концов дотянется до того высокого киприса рука
Каждого, чье рвение в стремлении к тебе не ослабевает.
6. Я больше не буду поминать животворную силу 'Исы,
Ведь в даровании жизни он не столь искусен, как твои губы.
7- Я же в огне страсти к тебе не издаю ни единого вздоха,
Как можно говорить, что мое сердце не способно терпеть ожог?
8. В то^г первый день, когда я увидел кончик твоего локона, я сказал/
Что не будет конца запутанности этой цепи.
9- К единению с тобой стремится не одно лишь сердце Хафиза,
Есть ли такой, у кого в душе нет стремления к единению с тобой?
Комментарий
Газель является ответом на газель Са'ди kî-st ân k-as sar-i
payvand-i tu dar xâtir nîst «Есть ли такой, у кого в душе нет
стремления к единению с тобой» [Са'ди, Куллиййат 1996,
с. 458, газель № 115], написанную с теми же размером, риф-
мой и радифом.
444 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
1. «Сердце-скиталец» (dil-i sar-gasta) — сердце влюбленного,
находящееся в состоянии смятения — оно покинуло влюбленно-
го и не достигло возлюбленного, о композите sar-gasta см. ком-
мент. к газ. 19:6. «Зрачок глаза» — см. коммент. к газ. 68:2.
Второе полустишие отсылает к б. 7 указанной газели Са'ди:
«Посмотри на любую мою частичку, ведь у меня на теле // Нет
и кончика волоса, который не вспоминает о тебе! (zäkir nïst)*.
2. «Ихрам» (ihram) — ритуальная одежда паломника, см.
коммент. к газ. 30:7. «Повязывает ихрам» (ihram mîbandad) — в
переносном смысле «собирается», «намеревается» [Диххуда, ел.
ст. Ihräm]. «Обход» (faväß — комплекс обрядов в начале и в кон-
це паломничества в Мекку (хаджж); паломник должен войти на
территорию al-masfid al-haram (Заповедная мечеть), в центре
которой находится Ка'ба, совершить поклонение «черному кам-
ню» и семикратно обойти вокруг Ка'бы. «Святилище» (haram) —
Ка'ба, см. коммент, к 56:5, здесь метафора жилища друга. «Не
бывает чистой» (fähir nïst) — т. е. не имеет ритуальной чистоты,
необходимой для совершения обрядов паломничества; после
«очищения» (fahära) и облачения в ихрам паломнику надлежит
сохранять чистоту, а любая капля крови делает мусульманина
нечистым и его молитвы — недействительными.
Идея: я столько плачу, что поток моих слез вот-вот семи-
кратно обойдет вокруг твоего священного жилища, как палом-
ник вокруг Ка'бы, но поскольку слезы смешаны с кровью серд-
ца (что нарушает ритуальную чистоту), «паломничество» не бу-
дет засчитано, моя молитва не будет услышана, и я тебя не
увижу.
Поэтическая идея «слезы, оскверненные кровью» почерпну-
та, возможно, из 2-го бейта указанной газели Са'ди: «Не дозво-
лено, чтобы каждый видел твой лик, // Ведь он запретен для
того, чей взор не чист (fähir nïst)* (т. е. осквернен слезами, сме-
шанными с кровью).
3. «Сидра» (sidra) — дерево в раю, его вершина — высшая
точка тварного мира, см. коммент. к газ. 37:4. «Птица Сидры» —
Джабраил.
Идея: если сам Джабраил не будет стремиться к тому, чтобы
узреть тебя, то место ему в сетях и клетке, как обыкновенной
дикой птице.
Хафиз. Газель № 70
445
В поэтическом мире Хафиза Джабраил наделен функцией
носителя ниспосылаемого вдохновения, ср. бейты 37:3; 57:7 и
комментарий. Поэтому можно предложить еще одно толкова-
ние: если Джабраил не принесет мне вдохновения, чтобы вос-
петь тебя, он не достоин своего места на вершине мира.
4. «Бросил [под ноги]» (kard nitär) — намек на обычай усы-
пать путь почитаемого лица лепестками роз, жемчугом и золо-
том, см. коммент. к газ. 58:6. «Сердце» — qalb, также «фальши-
вая монета» (прием ïhâm), обыгрывание двух значений qalb
встречается у многих поэтов, в частности, у Хафиза, см., на-
пример, тот же ïhâm в газ. 49:4 и сходный образ в 60:3. «На-
стоящее золото» — naqd-i ravän, букв, «ходячая наличность», во
втором значении «наличность души».
Смысл бейта: если нищий влюбленный бросил тебе свое
сердце, малоценное, как фальшивая монета, не осуждай его,
ибо это все, что у него есть.
5. «До того высокого кипариса» — т. е. до стройного стана ад-
ресата газели. «Рвение» — hirnmat, сила духа, необходимая для
совершения важного дела, подробнее см. коммент. к газели
12:12. Бейт содержит оптимистическое развитие темы maqta'
газели предшественника. Са'ди говорит, что в этом мире он
стремится только к встрече с другом, причем — с неослабеваю-
щим рвением: «Ради тебя Са'ди отвернулся от всего мира, //
Рвение, что потрачено на тебя, не ослабевает» (б. 11). Хафиз от-
вечает: если рвение влюбленного не ослабеет, он достигнет цели.
6. «Животворная сила *Исы» — ravân-baxsï-yi ïsâ, т. е. чудес-
ная способность пророка 'Исы оживлять мертвых, см. коммент.
к газ. 36:7. «Дарование жизни» — ruh-fazä% букв, «прибавление
духа»; в любовной лирике губы возлюбленного друга традици-
онно описывают как дарящие жизнь благодаря поцелую, но
здесь, возможно, содержится и намек на «животворное слово»
из уст друга. Ср. обращение к ветру в газели 249:2: «Выскажи
живительную (rüh-fazä) тонкую мысль об устах друга, // При-
неси письмо с доброй вестью из мира тайн»; дуновение ветра,
несущего послание от друга, представлено как обретшее живо-
творную силу.
446 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
7. «Ожог» — dağ, букв, «клеймо», тавро, которое выжигали на
крупе животного с помощью раскаленного прута с печатью. В
бейте содержится реплика лирического персонажа, отвечающе-
го на подразумеваемый упрек друга в том, что он жалуется на
свою тяжелую судьбу и разглашает тайну любви. Вариации мо-
тива «разглашение тайны» — см. газ. 1:6; 8:6; 24:3, 40:4; 42:2 и
комментарий к ним. Стих полемизирует сразу с двумя бейтами
указанной газели Са'ди. Бейт 5: «Каждый, кто имеет дело со
взорами прекрасных, // Слаб в любви, если он не способен
терпеть ожег (dağ) насилия». Бейт 8: «Все знают, что для пора-
женного страстью, лишившегося сердца // Одно лекарство —
терпение, но что ему делать — он не способен [вытерпеть]!». В
этом контексте слова Хафиза «Как можно говорить ...» звучат
как возражение поэту-предшественнику.
8. «В тот первый день» — намек на первый день Творения; о :
предвечной влюбленности и предвечном пьянстве, которые бы- \
ли в «первый день» вложены в сердце лирического персонажа,
см. коммент. к газ. 24:1, а также контексты 25:5, 26:5; 62:4. }
«Цепь» — silsüciy стандартная метафора локона, также — чере-
да, непрерывная традиция преемственности (в частности — в '
суфийских братствах). «Запутанность этой цепи» — parîsânî-yi
In silsila, т. е. спутанность, разметанность цепочек локонов, а
также, во втором смысле (прием ïhâm) — смятение цепи (чере-
ды) приходящих на смену друг другу поколений влюбленных;
мотив преемственности влюбленных представлен в газели 56:8;
сопоставление «смятения» влюбленного и «запутанности, беспо-
койности» локонов друга см. в газ 59:8, намек на тот же мотив
дан в газ. 23:4.
9. Во втором полустишии — цитата из указанной газели
Са'ди: «Есть ли такой, у кого в душе нет стремления к едине-
нию с тобой // Или заботы о тебе? Разве что тот, у кого нет глаз
(зрачков)?».
Газель 71
-uujJ ù\Ê\ U JL* jl dlJuajJjAÜa JAİJ
Cluoj ö\ j£I «jA (^Цк jjj£ Aj* jA La (J** JJ
diuijl jjâ jjj tilİLuj ^jÎüj aa. ja dıL^L jû
iLbuUJ dl J*£ ^5^ Jj ^1 Ajibna Jal Jj^ JJ
jjIj fJAİj «^Sjoj jjUj" £j ^jb Aa Ij
t"hnj1 ôLi (Jl^* IJ (jl^Jj ^J-^> Aj^ajD
(Jj&jLjuü 6 Jİ > » Л 1 \ J С aS ni (JJİ ^biij^
gjA U** Jj j
il l"u^% jjlâ Ал. <jjj L_Jj L t*hJ HM nil Aa, Jüj
^bnjj ol JLa-u j diuiA <jl$j a j А-дА (JjI£
t t *l "* ^ JJİJ^j-AJ ^jS l—Л (JİJJJ t ^ 1^\ » ^1
'"» '" J * âÜ Ajjuia. (jLuü I j*Ja <jjl jJjl£
jlj j£ oAİjâ. Ал. jA j Lj jSjAİjÂAS jA
C-looj ôl£ j j Jj jj jb jj j <^jaIa j jU j jj£
jj j (jl^J j ciL jl—S (j5àj AilÂj-u jj jj
cliuuj ôl j jLi j jà ^ (j jS Aj I j jLij jàj ja.
CluiLû aIjjI ^ jluılj cİLûli Jl CluoA Aa, jA
lIluuj ôIjjS (JjjS (^Vb jj jj cijjjkSj Aj jj
447
448 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
juil füh (jülal 4_£ ajLI jâ. jjj ô-lju
Ba/ir: ramal-i mutamman-i maqsûr
Vazn: fâ 'ilâtun fâ 'ilâtun fâ 'ilâtu n fâ 4lât
zâ-hi-dî-zâ j hir-pa-ras-taz / hâ-li-mâ-â / gâ-hp-nîst
dar-ha-qi-mâ / har-ci-gu-yad / jâ-yi-hï-cik / râ-h°-nïst
i. Аскет, почитатель внешнего, не знает о нашем состоянии,
Что бы он ни говорил о нас — вовсе незачем злиться.
2. Все, с чем сталкивается странник в пути, ему во благо,
На «прямой стезе», о сердце, не бывает заблудившихся.
3- Посмотрим, как пойдет игра — мы сделаем ход пешкой,
На шахматной доске риндов не бывает шаха.
4- Что это за свод — высокий, одноцветный, разрисованный?
Ни один мудрец на свете не проник в эту загадку!
5- Боже, что же это за отрешенность и что за всесильная мудрость?!
Ведь тут — сплошь скрытые раны, и даже вздохнуть нельзя!
6. Наш главный казначей будто бы не знает счета,
Ибо на этой печати нет пометы «за счет Бога».
7- Всякий, кто хочет — пусть войдет, всё, что захочет — пусть говорит,
В этом дворце нет ни стража, ни привратника, ни спеси, ни гордыни.
8. Идти к дверям кабака — дело прямодушных,
Продажному люду нет пути на улицу продавцов вина.
9- Все дело в нашей нескладной и неказистой фигуре,
Ведь твой почетный халат всякому по росту.
Хафиз. Газель № 71
449
ю. Я раб того старца из кабака, чья благосклонность неизменна,
Ведь благосклонность шейха и аскета то ли будет, то ли — нет.
и. Если Хафиз не занимает высокого места, это от высоты души:
Пропойца-влюбленный свободен от богатства и чинов.
Комментарий
1. «Аскет», «состояние» — см. коммент. к газели 7:2. «Чтобы
он ни говорил ...» — одна из функций аскета в поэтическом ми-
ре Хафиза — брань в адрес пьяниц-риндов.
2. «Странник» — sälik, терминолог. — суфий, идущий по пу-
ти духовного совершенствования. «Путь» — tarîqat, см. коммент
к газели 10:1. «Прямая стезя» — sirät-i mustacfim, персидская
передача формулы al-sirät al-mustacfim, многократно встре-
чающейся в Коране [1:5 (6); 2:136 (142); 7:15 (16) и др.], в зна-
чении «путь истинной веры». Если рассматривать бейт как про-
должение предыдущего, то возникает парадоксальный смысл:
аскет порицает нас за отклонение от правильного пути, считая
нас заблудшими, но согласно нашему тарикату, именно мы
следуем «прямым путем».
3. «Как пойдет игра» — & bâzî rux numäyady во втором значе-
нии «какую игру покажет ладья (шх)». Бейт построен на терми-
нах шахматной игры: слова «ладья» (nar), «пешка» (baydaq),
«шахматная доска» ('arşa'-i satrcuy), «игра» (bâzî), «шах» (sah) об-
разуют фигуру лексического соответствия (tanàsub). «Сделаем
ход пешкой» — выражение может быть понято двояко: сделаем
первый ход, т. е. начнем игру [Суди, с. 452], или сделаем про-
межуточный ход, т. е. постараемся выграть время [Хирави,
с. 325]. «Не бывает шаха» — majäl-i sah nîst, фраза намеренно
неоднозначна: «невозможно объявить шах» и «не может быть
шахматной фигуры короля» (фигура ïhâm), соотвественно, вто-
рое полустишие вмещает несколько смыслов: на шахматной
доске бытия ринды не проигрывают (противник не может объ-
явить им шах); ринды не выигрывают (они не могут объявить
противнику шах); на шахматной доске бытия риндов фигура
шаха отсутствует, т. е. нищие ринды далеки от шахов и султа-
нов; когда играют ринды, шаху нечего делать на шахматной
доске, и ему будет объявлен мат [Рахбар].
450 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Однако, если читать бейт в контексте предыдущих, метафо-
ра игры синонимична метафоре пути: пусть аскеты говорят,
что угодно, путь ринда всегда правильный, его игра всегда бес-
проигрышная.
4. «Одноцветный» — säda, букв, «простой»; «плоский» (о по-
толке); «гладкий, не имеющий рисунка» (о ткани). «Разрисован-
ный» — bisyär-naqs, букв, «со многими рисунками». Два эпитета
небосвода противоречат друг другу, а архитектурное значение
säda «плоский» применительно к небесному своду создало бы
еще одно противоречие. Суди предполагает (с. 453), что в опи-
сание включены два состояния неба: дневное, когда свод «од-
ноцветен», и ночное, когда он «разрисован» созвездиями, каж-
дое из которых в традиционной астрономии изображалось в
виде детально прорисованной картины. Хирави (с. 325) пред-
полагает, что эпитет «одноцветный» (säda) указывает на то, что
речь идет о «девятом небе», которое лишено звезд и именуется
атласным (falak-i atlas) или одноцветным (falak-i säda).
«Загадка» небосвода, неподвластная мудрецам, состоит, по-
видимому, в сочетании в этом объекте двух взаимоисключаю-
щих качеств. По мнению Суди, загадкой является «долговеч-
ность небосвода», созданного давным-давно, но не подвержен-
ного порче; Ш.-А. Фушекур [Hafez de Chiraz 2006, с. 307] рас-
сматривает слово säda как сокращеную форму от istäda «стоя-
щий, неподвижный», ссылаясь на Диххуда.
5. «Боже» — yä rabb, форма арабского вокатива, которая ис-
пользуется в персидской поэзии как в прямом значении (обра-
щение к Богу), так и как восклицание, выражающее удивление.
Хирави (с. 326) и Хуррамшахи (с. 373) понимают yä rabb как
восклицание, но толкуют бейт как «упрек» лирического персона-
жа, обращенный к Творцу. Суди понимает yä rabb только как
восклицание, а бейт толкует как жалобу героя на возлюбленного
друга. «Отрешенность» — istiğna, также «ненуждаемость, само-
достаточность», свойство адресата многих газелей Хафиза, о
концепте см. комментарий к 3:4, образы, связанные с мотивом
«самодостаточности» друга, см. в газелях 25:3, 50:4, 61:6.
В бейте, в продолжение предыдущего, развивается тема
изумления перед непостижимым устройством мироздания:
Творец столь отрешен от мира, что ему бесполезно жаловаться,
Хафиз. Газель № 71
451
и столь мудр, что невозможно постичь Его замысел. Люди пе-
реживают страдания, но не могут узнать, почему и за что они
страдают.
Хуррамшахи видит здесь очередное проявление аш'аритских
симпатий Хафиза, см. комментарии к газелям 53:7 и 64:4.
6. «Главный казначей» — şâhib-dîvân, букв, «глава Дивана»,
главный министр царской канцелярии, руководящий государ-
ственными финансами и распоряжающийся разнообразными
выплатами из казны; здесь, возможно, метафора коварного не-
босвода. «Счет» — hisâb, в специальном значении — «[день]
Подсчета», т. е. Судный день (прием ïhâm). «Печать» — tuğra,
название каллиграфического почерка, которым писались цар-
ские указы; вензель, которым удостоверяли документ, печать;
царский указ. «За счет Бога» — hisbatan li-llâh, арабская фор-
мула, означающая «безвозмездно», гравировалась на печатях и
помещалась в верхней части указов о дарении и благотвори-
тельных пожертвованиях в пользу бедных и чужестранцев.
Бейт допускает различные толкования: 1. Ширазский казна-
чей ведет себя так, словно ему не грозит подсчет грехов в Суд-
ный день; он никогда не подписывает распоряжений о том,
чтобы нас наградили. 2. Судьба не считает наших заслуг; ей не
свойственно награждать достойных. 3. Мой возлюбленный по-
добен скупому казначею, который не проявляет заботы о бед-
ных влюбленных.
7. «Этот дворец» (ïn dargäh) — метафорическое обозначение
некоего локуса; по мнению Хирави (с. 327), подразумевается
престол Всевышнего.
Тогда идея бейта: Бог в сердце каждого, к Нему всегда можно
обратиться и быть услышанным. Согласно Суди (с. 455), речь
идет о дворце «второго министра», более щедрого, чем главный
казначей (б. 6). Добавим, что dargäh (также «порог, вход») может
указывать и на порог кабака, где собираются свободные ринды
(так считает и Ш.-А. Фушекур), ср. следующий бейт.
8. «Продажный люд» — xud-furüsänt букв, «торгующие собой»,
т. е. лицемеры, выставляющие напоказ свое благочестие. Воз-
вращение к теме «аскета, почитателя внешнего», открывающей
газель (б. 1).
452
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
9. «Почетный халат» — tasrif, букв, «оказание почести». «Вся-
кому по росту» — bar bälä-yi kas kütäh nîst, букв, «ни на чей рост
не короток». Суди (с. 455-456) приводит анекдот об обстоятель-
ствах написания бейта: однажды министр и распорядитель фи-
нансов Кавам ад-Дин Хасан (см. коммент. к газели 11:10) пожа-
ловал Хафизу халат. Поэт был роста выше среднего, и халат ока-
зался ему короток. Тогда Кавам ад-Дин в шутку воскликнул:
«Наша почесть (tasrifi маловата!». В ответ Хаджа экспромтом
сложил данный бейт.
10. «Благосклонность» (lutfi — по отношению к «старцу из ка-
бака», т. е. виноторговцу, это метафора чаши вина, которая все-
гда «обращает нищего ринда во владыку мира» [Суди, с. 456]; по
отношению к шейху и аскету это насмешливое обозначение их
нападок на риндов.
11. «Высота души» — 'alï-masrabi, букв, «высокий нрав», «ве-
ликодушие»; masrab — в первом значении «водопой», отсюда
возможность понять композит и как «[наличие] водопоя на вы-
соком месте»; см. коммент. к газели 31:9. Второй смысл полу-
стишия (прием ïhârri): если Хафиз не занимает высокого поло-
жения, это из-за высоты того места, где он получает питье (на-
мек на вдохновение, ниспосылаемое поэту свыше). Этот смысл
подкреплен образом свободного ринда во втором полустишии.
«Пропойца» — durdï-kas, тот, кто пьет подонки, см. коммент. к
газели 26:5, и контексты 41:5, 44:4.
Газель 72
Cluoj ôjUS (jiaaA л£ (3^ ôlj duuAtj
^JJ ^û (jijàb (jAû (jjic Aj Jj a£ 4İ ja
оШ ôjIÂJjujI ШД ^1^1^ JÄ jl£ jj
J o jl£ «jA Lû CjüV j jû Aiaui ^jl£
L-l üL
Л Л ^j^ Ч£ I j La Ai <J*ı JU Jjik a nW jl
i**1 ю j \ ô jLIuj aj -> j xJUa ôU£ UL^
Ji\ A ÙJ—? ûjJ jljj lilL fuia. <j Ij jl
i*i m j i öjb ôLo <jl ôjl^. с^Ьэк. ôûjû ja
1*1 à>lj*1 d jl£uit (JJ0_£ A-uA JJ ^ÜS ù\J (j^Ä.
j j жлА A_J 2ââUt A—J j£ j J jJ dâ j>J
CluaJJ ô jlÀ. uXiuj jl aS ч£ аЬ ^jl ^jl jja*
Bahr: muzàri'-i mutamman-i axrab-i makfûf-i maqsür
Vazn: mafülufä'ilätu mafà'ïlufä'ilät
râ-hï-s11 rä-hi-'is-q0 / ki-hï-cas-ki / nâ-ra-nïst
än-jä-ju I zân-ki-jân-bi / si-pâ-ran-d° / ôâ-ra-nïst
1. Путь любви — это путь, которому нет конца,
Там только и остается, что отдать душу.
453
454 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Всякий раз, как отдаешь сердце любви —- это счастливый миг,
Для доброго дела никакого гадания не нужно.
3- Не пугай нас запретами разума и неси вина,
Ибо этот шихна не распоряжается в наших краях.
4- Спроси у своего глаза о том, кто нас убивает —
Душа [моя], здесь нет вины судьбы и преступления звезд!
5- Его можно увидеть лишь чистыми глазами, как месяц —
Не всякому оку является этот красавец!
6. Используй случай [избрать] путь риндства, ведь его приметы,
Как дорога к сокровищам, открыты не каждому!
7- Никак не подействовали на тебя слезы Хафиза,
Я в растерянности перед тем сердцем, что не уступит граниту.
Комментарий
Хуррамшахи усматривает сходство с газелью Хакани [Хакани
1996, с. 561].
1. Тема неизбывной страсти и обреченности влюбленного
представлена и в зачине указанной газели Хакани: «В любви
есть боль, от которой нет лекарства, // Можно проститься с
душой (jân), но невозможно проститься с душенькой (jänän)».
2. «Доброе дело» (kär-i хаут) — здесь имеется в виду вступле-
ние на путь любви. «Гадание» — istixära, «испрашивание содей-
ствия [у Бога]», «гадание по Корану», от араб, корня х-y-r «вы-
бирать», «предпочитать», от которого образовано и хаут «благой»
(прием istiqäq). В персидской литературе слово istixära употреб-
ляется как в более общем смысле «выбор лучшего варианта
действий в конкретной ситуации», так и в специальном «обра-
щение к Богу с молитвой о вразумлении относительно пред-
стоящего дела» (восходит к хадису капа rasül alläh sallä-llähu
'alayhi va sallama ya 'allamunä al-istixärat fi kull say «Посланник
Бога, да благословит его Бог и приветствует, обучил нас во вся-
ком деле испрашивать вразумления [у Бога]»). Этим же словом
стали обозначать и распространившуюся, хотя и порицаемую
Хафиз. Газель № 72
455
суннитскими законоведами, практику гадания по случайно от-
крытой странице Корана о том, стоит ли приступать к заду-
манному делу (возможно, именно это значение у Хафиза в газе-
ли 350:1 «На рассвете я сказал, погадаю на твой отъезд ...»);
подробно о значениях и употреблении слова см. [Хуррамшахи,
с. 375-378], там же отмечено, что второе полустишие превра-
тилось в пословицу. Она приведена в Русско-персидском сло-
варе [под ред. Ю. А. Рубинчика, ел. ст. ôjUU] с переводом:
«Доброе дело не нуждается в гадании».
Идея: вступление на путь любви — само по себе благо, по-
этому нечего гадать по Корану или испрашивать вразумление у
Бога в молитвах, браться за это дело или нет.
3. «Шихна» — см. коммент. к газели 47:8. Хуррамшахи (с. 378)
рассматривает бейты 2 и 3 как единое высказывание: «Каждый
раз, когда вручаешь сердце любви, не стоит сомневаться в том,
что это хорошее дело и момент для него благоприятен; не пугай
нас тем, что разум запрещает любовь и препятствует ей, ибо в
наших краях, т. е. в стране любви, шихна разума лишен полно-
мочий и отправлен в отставку; иными словами, поэт намекает
на старинное представление о противостоянии любви и разума».
Если читать бейт 3 изолированно, то «запрет разума» относится
не к любви, а к вину, что, по мнению Хуррамшахи, не характер-
но для Дивана Хафиза.
4. «Судьба» — tälVy звезда, которая восходит на востоке в
момент рождения человека и оказывает хорошее или дурное
влияние на всю его жизнь; в более широком смысле «счастье»,
«судьба». В бейте для описания «убийственной» красоты глаз
друга использован аргумент, опровергающий общепринятое
представление о власти звезд над жизнью и смертью человека.
Ср. строку А. Фета в его переложениях «Из Гафиза»: «Гафиз
убит. А что его убило, — Свой черный глаз, дитя, бы ты спроси-
ла» [Фет 1985, с. 329].
5. «Красавец» — mäh-pära, букв, «кусок луны», в поэзии —
одно из принятых обозначений прекрасного друга; поскольку в
первом полустишии возлюбленный уподоблен новоявленному
месяцу, композит mäh-pära указывает сразу на оба смысла:
«красавец» и «часть луны» (прием İham). В основе образа бейта
лежит мусульманский обычай ожидания новой луны: в канун
456 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
новолуния люди совершают омовение и читают определенные
молитвы, чтобы очиститься и очистить зрение; затем поднима-
ются на крышу дома и высматривают появление месяца. Тот,
кто первым видит новую луну, может загадать желание и ука-
зать на ее появление остальным.
6. «Его приметы» — in nisan (букв, «эта примета»), т. е. указа-
ние на путь, которым следуют ринды.
Идея: если ты способен стать риндом, используй эту воз-
можность, она мало у кого есть. «Трудный путь риндов» проти-
вопоставлен у Хафиза «пути аскета»: «Аскет возгордился — и не
одолел пути благополучно, // Ринд дорогой нужды пришел в
обитель благополучия (т. е. рай)» (84:6).
7. «Слезы Хафиза» — girya'-i hâfiz, эта формула, употреблен-
ная в последнем бейте, становится метафорой всей газели. В
развернутом виде образ «слез и каменного сердца» представлен
в газели 139:2: «Потоки наших слез не смыли враждебность из
его сердца, // Капли дождя не оставили следа на граните».
Газель 73
Сл^ш ^ c"Ly*i ^J^ ^JJ >UJ У Ô^JJ
ч£ i"lniji (^jj^aj jj djjJ cilLâ. dula
i**bnj*l a£ t "buji (^ Jjui ^ jj jj ^ juu£ jjuj
111 > г» 4_эь AaIjj r" j—juj jl <ja jLac t*Lil
С-Ьош <£ t "buji <j jJ ôJjj Jjâ. ôJjS jl (JaÄ
c5^jS сЛ
j 111 1 J Л Mı..4 QA
J Ч£ ^hojl C^J^Aj fj)ài jl jjÂ. Jjjuü
J ^4 £**Un Л / £ j^ 4i »лГь и A L**1u4 1 w ^% |_J
A_UJ>J 1_^. jA j—J L-kl j Jjua aL—Jj jl aJ Ij
^ Jj ^ «> Ij-J dJ jjj^j £^ (J—^ j' L>*
jjOJ Ai l**Utij*1 (_£ j£û djJjS Jjuj jl ùi* 6J£J
lA>—J ^-A*İa. ^1 J_J (JJJJjİ LjJ—1 С^Ь^ь jl
CluUJ <£ СЬиШ (^ jSji (JJjSI (JJC- J L-Jİ ^3JC-
jl J ^_l_àl (JJJJ ÔÛJJ jl 4—S t"hilj1 l"l^li/lrt
t"lı»1j*1 A£ (**1i4j*1 (^JJÂ. (jl^J (J»l\->41 J^ ^J JJ
Jj Ği ôbjJ j—J (j '* r" ^—^—^ J^ J^
<"bnji 4£ i "buji ^ jJa <_£j jJ a£ e>\ j ^jjI jl ôl
457
458 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
t"*..«j< л£ '"*"\." L^J^ c^ILsk. jl lLiİa Ajb-â jj j
t "hu/l A£ t "hu/l (^ JJİ Ia <j( jJ V İ*»>l jl Aj jj
dijuıl jjbrt^ılj jj j JâàL^ a£ Aj^j (jjl jl jjc»
ßa/ir: ramal-i mutamman-i тахЪйп-х maqsür
Vazn: fä 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilät
raw-sa-naz-par / tu-vi-rü-yat / na-za-rî-nî / s^ki-nïst
min-na-tî-xâ / ki-da-rat-bar / ba-şa-rî-nı / s^ki-nîst
ı. Нет такого взгляда, что не просветлеет от сияния твоего лика!
Нет таких глаз, которые не благодарны пыли твоего порога!
2. Созерцатели твоего лика — ив самом деле зрячие!
Нет такой головы, что не [занята] тайной твоих кос!
3- Если покраснели мои слезы-доносчики, что тут странного —
Нет такого предателя, которому не стыдно за содеянное!
4- Чтобы от ветерка пыль не коснулась его подола,
Нет такой дороги, которую не поливает поток из моих глаз.
5- Чтобы всюду не судачили о ночи твоих локонов,
Нет такого рассвета, когда я не препираюсь с ветерком.
6. Я в обиде на эту злополучную удачу, а как же иначе —
Нет другого лишенного счастья [быть] на твоей улице.
7- От стыда пред твоими сладкими устами, о источник нектара,
Нет такого сахара, который не обливается слезами и потом.
Хафиз. Газель № 73
459
8. Не годится, чтобы тайна выходила из-под покрова,
А не то — нет такого, о чем не расскажут в компании риндов.
9- Лев в пустыне любви к тебе становится лисой,
Ох, ну и дорога — нет таких опасностей, которых на ней нет!
ю. Поскольку мои слезы благодарны пыли твоего порога,
Нет такого порога, который стократ не благодарен им.
п. Одно название осталось от моего естества,
А не то — нет такой немощи, которая не оставила в нем следа.
12. Кроме такой мелочи, что Хафиз из-за тебя невесел,
Нет такой доблести, которой нет в твоей природе.
Комментарий
1. Поэтическая идея построена на двух скрытых традицион-
ных уподоблениях: лик адресата сияет, подобно солнцу, и по-
тому дает свет всем, а пыль с его порога подобна сурьме, кото-
рая целебна для глаз. Те же уподобления в открытой форме см.
в контекстах 38:1; 54:3; 58:2 (лик — солнце), 2:5 (пыль с поро-
га— сурьма).
2. «Зрячие» — şâhib-nazarân, букв, «обладающие зрением», пе-
ренос, «прозорливые, наблюдательные», в суфийской поэзии —
«просветленные, узревшие истину», также — «созерцающие кра-
соту, поклоняющиеся красоте»; в словаре Диххуда (ел. ст. Şâhib-
nazaı) данный бейт приведен как иллюстрация последнего зна-
чения композита, однако и здесь, и в других контекстах Дивана
(см. 193:6; 226:8; 487:8) значения «узревший истину» и «созер-
цающий красоту» скорее совмещены и взаимообусловлены.
«Тайна кос» (sirr-i gïsû) — т. е. завеса, которой длинные черные
волосы закрывают сияющий лик.
Бейт построен на двух традиционных оппозициях, «лицо —
волосы» и «прозревшие истину — все остальные»: лик, т. е. кра-
соту Возлюбленного, дано узреть только «зрячим», тогда как
мысли обычных людей устремлены к миру множественности
(тьма волос), скрывающему тайну мироздания.
460 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3. В бейте использована фигура «красота причины (husn al-
ta'lïl, фантастическое обоснование)». «Слезы-доносчики» — ask-i
ğammâZy слово gammaz использовано в Диване Хафиза 5 раз,
причем в четырех случаях речь идет о слезах, а в пятом — о
ветре (73:3; 195:2; 258:5; 400:4 и 120:5).
Два стандартных лирических описания слез — «слезы, вы-
дающие тайну любви» (см. коммент. к 17:7) и «кровавые слезы
влюбленного» (51:6; 54:1; 70:2) — соединены в бейте как при-
чина и следствие: слезы стали красными (кровавыми) потому,
что устыдились своего предательства.
4. В бейте предложено «красивое обоснование» (husn al-talîl)
для обильных слез, которые проливает влюбленный: нужно много
воды, чтобы осадить пыль на любой дороге, где бы ни прошел
возлюбленный; ср. 272:6 «Чтобы из-за печали пыль не коснулась
его сердца, //О поток слез, лейся следом за письмом».
5. «Ночь локонов» — метафора волос, черных и скрывающих
светлый лик, ср. «тайна волос» в бейте 2. «Рассвет» (sahar) —
раннее утро, время перед рассветом, заря, в поэтическом мире
газели — пора, когда обычные люди спят, а бодрствуют лишь
влюбленные. «Препирался с ветерком» — т. е. уговаривал вете-
рок не разносить повсюду аромат локонов друга (ср. бейт 69:5);
о функции ветерка в газели см. коммент. к 19:1; ср. также кон-
тексты 1:2; 6:5; 7:8; 9:2; 11:5; 12:5; 13:3 и далее. В бейте пред-
ложено «красивое обоснование» для бессоных ночей, которые
проводит влюбленный в разлуке: он не спит всю ночь до рас-
света, чтобы поговорить с утренним ветерком.
6. «Злополучная удача» — оксюморон, иронически намекаю-
щий на постоянное невезенье в любви, ср. контекст 205:7 «Если
удача Хафиза будет так помогать, // Локон возлюбленного по-
падет в руки других!»
Идея: в моем несчастьи виновата моя злая судьба, ведь
только на меня не распространяется щедрость друга. Возмож-
но, речь идет об опале поэта при дворе и его более удачливых
соперниках по поэтическому ремеслу.
7. «Слезы» — âb, букв, «вода»; «пот» — 'araq, также «эссен-
ция». Бейт демонстрирует технику сопряжения в одной строке
нескольких поэтических смыслов; Хирави (с. 336-338) считает
Хафиз. Газель № 73
461
его одним из лучших примеров многозначности в Диване Ха-
физа. Ключевые слова бейта — şîrîn («сладкий» и женское имя
Ширин) и sakar («сахар» и женское имя Шакар) в своих лекси-
ческих значениях образуют один круг смыслов, а в значениях
имен собственных — другой.
Если мы выбираем значения «сладкий» и «сахар», то бейт об-
ретает два варианта смысла. Первый вариант отражен в нашем
переводе; воспевается сладость губ адресата газели с помощью
установления их преимущества перед главным носителем каче-
ства сладости: сам сахар обливается слезами (ab) и потом ('araq)
от стыда за себя, т. е. отсыревает и портится, когда речь заходит
о губах друга. Во-вторых, описывается, как возлюбленный пьет
шербет, и предложено «красивое обоснование» для растворения
сахара в воде и эссенции при изготовлении фруктового шербета
[Хирави, с. 337]. Тогда перевод второго полустишия: «Нет такого
сахара, который не растворится в воде (âb) и эссенции ('araq)».
Сахар растворяется (garq букв, «тонет») потому, что он не так
сладок, как те уста, которые пьют этот напиток.
Если же понимать şîrîn и sakar как имена собственные, то
возникает смысл: «От стыда пред устами твоей Ширин, о ис-
точник нектара, // Нет такой Шакар, которая не обливается
слезами и потом». Это отсылка к сюжету поэмы Низами «Хусрав
и Ширин», где Шакар — имя второй возлюбленной Хусрава, с
которой герой безуспешно пытается забыть Ширин. Упомина-
ние об «источнике нектара» вводит еще одну аллюзию. В поэме
есть знаменитый эпизод, когда Хусрав видит Ширин, купаю-
щуюся в источнике; благодаря сладости Ширин вода в источ-
нике становится сладкой, как шербет (juläb): «В воде источника
тот чистый сахар (т. е. Ширин) // Ради гостя готовил розовый
шербет» [Низами 1993, с. 168].
8. «В компании риндов» (dar majlis-i rindän) — т. е. на пи-
рушке. Тема «тайны» представлена в Диване в нескольких ва-
рициях: непостижимая тайна мироздания (3:8), неизбежно раз-
глашаемая тайна влюбленного (3:5) и сокровенная тайна, кото-
рую прозревают лишь пьяные ринды (7:2). Во втором полусти-
шии — намек на уподобление чаши с вином, из которой пьют
ринды, волшебной чаше, «отражающей мир»; см. газель 7:1 и
коммент.
462 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
9. «Пустыня любви» — метафора любви как пути, полного
опасностей; одновременно аллюзия к сюжету о скитаниях
Маджнуна по пустыне, см. газели 4:1; 28:7 и коммент. Лев и
лиса образуют оппозицию «сила, отвага — слабость, трусость».
Идея: дорога любви столь страшна и трудна, что даже мужи,
могучие и смелые, как львы, становятся немощными и робки-
ми, словно лисы.
10. «Благодарны пыли твоего порога» — повтор, см. бейт 1
этой же газели. В стихе сопряжены мотивы бейтов 1 и 4: слезы
влюбленного столь обильны, что достигают всякого порога, а
поскольку его глаза испытали благодатное воздействие пыли с
порога возлюбленного, то слезы из них очищают всякое место,
куда попадают.
11. «Одно название ...» — первое полустишие, возможно, со-
держит скрытую отсылку к бейту Руми: «От моего бытия у ме-
ня, кроме названия, нет ничего, //В моем естестве, кроме те-
бя, о желанный, нет ничего» [Руми, Маснави, Dorj-3, дафтар 5,
б. 2023].
Традиционная тема «болезнь любви» получает остроумное
развитие: влюбленный настолько истощен, что расстался с
бренным телом, но так страдает, словно его тело больно всеми
болезнями сразу.
12. Концовка газели возвращается к теме бейта 6. Поэт
вновь жалуется на немилость возлюбленного (правителя, по-
кровителя); «красивая просьба» о вознаграждении преподнесе-
на как изящное умозаключение: для полного совершенства ад-
ресату следует исправить лишь один недостаток — недостаток
щедрости по отношению к Хафизу.
Газель 74
(**i ч1 ilа^а (jjl £$£jt J qj£ а£jl£ Ja-öI^
t " 1 ni j 1 A^A (JJİ (jl^Ä. L-jUull AS j) (Jİ1J ftjL
clbüjl (j^j£> (j^L^. ^n^i/i eijji <jIa j Jj j)
(JLlooj A-aA ^jjI <jUb j Jj 4jj£j <JLlü*I <jjJ (j^jc-
<ji &_л 4 J—u) ^ j ^jla j 6 J.İUİ i
CİLuüJ AaA jj) (JİJJ Jjjua ^1 cSj^JJ <jİj^ ja AS
J LS 4 j jjj Jj jjâ. ^ a£ CuajI <jI cldjj
t"hnjl AaA (jj\ (J^1 PW (^ЛС' J (^Lui W ^ JJ
^j|j П 1 e * Aİ*j* ^1 jj a£ ^ jjj ^jj
<"bnji АлА (jjl ^jLûj a£ (j^Lftj (^LuAjj (jij^
diujjj AaA jjJ ^jIa j Aj Ij c-jÎ j a£ <jl j C5l^ijà
jU$_jj Cjj j r, ^ jL jl j—JLa ^jajI jAİj
t**hnji АаА ^jjI (jlibû jjj \j AjbajA^ j! ôj a£
jl Jj j jl j 4—1—kj—u) c>-^ft <_£J—L^ftjjj
' ** * - " j < 4^aA (jjl ^jUj j J2J& t"l>^ I jALb
cA> Cl—Ä J-^J 4h f—s j J»—s—^ ^
CJ—uljJ A^A <jj! jbj j Jjjuj ^Sj (JİJJJ (JİJJ
463
464 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: ramal-i mutamman-i maxbün-i maqsûr
Vazn: fä 'ilâtun fa 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilät
hä-si-lx-kä I r°-ga-hx-kaw / nu-ma-kä-пГ1 / ha-ma-nîst
bä-da-pi-sä / r°-ki-as-bä / bi-ja-hä-riP1 / ha-ma-nîst
ı. Все производимое в мастерской бытия ничего не стоит!
Неси вина, ибо вещи этого мира ничего не стоят!
2. Честь общения с возлюбленным — цель для сердца и души,
Вот в чем цель, иначе — сердце и душа ничего не стоят!
3- Не заискивай перед [деревьями] Сидра и Туба ради [их] тени,
Ведь если присмотреться, о ступающий кипарис, она ничего не стоит.
4- Счастье — это то, что приходит в объятья без мучений,
А не то — при трудах и усилиях райские сады ничего не стоят!
5- Всего-то пять дней отсрочки даны тебе на этом привале,
Хорошо проведи время, ведь времени — всего ничего!
6. Мы ждем на берегу моря небытия, о кравчий,
Лови момент, ибо от берега до пучины — всего ничего!
7- О аскет, берегись! Не забывай про причуды ревности,
Ведь путь от кельи до святилища магов — всего ничего!
8. Как я, печальный и жалкий, страдаю,
Говорить и писать явно не так уж нужно.
9- Имя «Хафиз» числится благим, однако
Для риндов числа прибыли и убытка ничего не стоят!
Комментарий
Радиф газели in hama nîst в контексте газели приобретает не-
сколько значений, которые отражены в переводе.
1. «Бытие» — kawn-u makän, букв, «бытие и место бытия»,
формула, обозначающая весь тварный мир, ср. 108:1.
Хафиз. Газель № 74
465
2. Идея: единственное оправдание пребывания человеческой
души в тварном мире — стремление к свиданию с возлюблен-
ным другом.
3. Сидра — дерево, растущее на седьмом небе, вершина
тварного мира, см. коммент к 37:4. Туба — дерево, растущее в
раю, тень которого достигает каждого из его обитателей, см.
коммент. к 56:3. «Не заискивай перед [деревьями] Сидра и Ту-
ба» — minnat-i sidra-vu tübä makas, букв, «не обременяй себя
благодарностью ...», т. е. не обременяй себя усилиями, чтобы
заполучить место в раю. «Ступающий кипарис» (sarv-i ravän) —
обычная метафора для стройного плавно ступающего красавца
или красавицы, здесь это юный друг, к которому поэт обраща-
ется с наставлением.
4. «Счастье» — dawlat, слово имеет также значения «богатст-
во» и «власть», но в контексте полустишия при упоминании
«объятий» и «мучений» («мучения» — хйп-i dily букв, «кровь серд-
ца») возникает дополнительный смысл — счастье свидания с
возлюбленным. В бейте противопоставлены земное счастье
(dawlat) у выпавшее случайно в данный момент, и вечное бла-
женство будущей жизни, которое достается ценой воздержания
и отказа от земных радостей. Призыв наслаждаться мгновени-
ем, не откладывая счастье на будущую жизнь, повторяется во
многих газелях Хафиза (ср., например, 3:2).
5. «Пять дней» — метафора скоротечной жизни, (ср. газель
55:8), встречающаяся у многих предшественников Хафиза;
«привал» (marhala) — земная жизнь. «Времени — всего ничего» —
zamän în hama nîst, т. е. время не так уж продолжительно, во
втором смысле — время земной жизни ничего не стоит.
6. «Ждем на берегу моря небытия» — вся жизнь человека
представлена как недолгое ожидание смерти. «Лови момент» —
furşat dân, в втором смысле «соблюдай очередность в винопи-
тии» [Хуррамшахи, с. 382], т. е. наливай каждому в его черед.
«От берега до пучины» — az lab tä ha dahän, в другом значении
«от губ до рта» (прием iham) — намек на просьбу о поцелуе.
7. «Причуды ревности» — bàzï-yi ğayrat, букв, «игра ревно-
сти», — имеется в виду гнев Бога, который в любую минуту
466 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
может покарать всякого; о понятии ğayrat см. коммент. к газе-
ли 5:10. «Святилище магов» — кабак, см. коммент к газели 22:8.
Предупреждение аскету состоит в том, что, несмотря на все
рвение, он не должен считать себя огражденным от проявлений
божественной ревности. Заметив, что аскет загордился своей
праведностью, Бог в один момент может отправить его из ме-
чети в кабак. Комментаторы усматривают здесь намек на ис-
торию шейха Сан'ана; см. коммент. к газели 10:1.
8. «Явно» (zähiran) — в пределах бейта это обстоятельство
может характеризовать как подлежащее («говорить и писать
явно», т. е. открыто), так и сказуемое («явно не нужно», т. е. со-
всем не нужно). Призыв прекратить жалобы маркирует переход
к финалу газели.
9. «Хафиз» — букв, «хранитель», терминолог. «хранящий в па-
мяти Коран, чтец Корана»; значение литературного псевдонима
поэта обыгрывается также в финалах газелей 9:10 и 69:12.
«Числится» и «числа» — в тексте одно и то же слово raqam. «Чис-
ла прибыли и убытка» — результаты подсчета добрых и дурных
деяний, намек на «подсчет» (hisäb) грехов и добродетелей в
Судный день.
В контексте всей газели идея последнего бейта, казалось бы,
такова: ринды живут сегодняшним днем и им нет дела до гря-
дущего воздаяния. Однако в контексте Дивана бейт можно по-
нять иначе: в Судный день подсчитывать грехи и заслуги будут
не по их внешним признакам, а по внутренней сущности, ср.,
например, 11:8.
Газель 75
f 4i^cf 6* ^ Ajj ü'jj J^ ^ J1
f \\\j* jjSj 4—S tab jj <^ jl jj jU.
Jj| J_İ OJÛJİ j ^1^4 a ft. 4_J ^bllbû
diuuj iSjQ tji jj (jUîl j 4İİ jjI Jj ^1
dijiûxj ^jlluJS <j lWJ^ ^>^ j' ^W lHJ^
^^H c£ J^ <jW İ5 ùWijS *% aï* J^ ci'
ВаЛг: ramal-i mutamman-i maxbûn-i aşlam-i musbağ
Vazn: fä 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilätun fa 'län
x?ä-bi-än-nar I gi-si-fat-tä / ni-tu-bî-cî / zî-nîst
tä-bi-än-zul I fi-pa-ri-sä / ni-tu-bî-cï / zî-nïst
i. Сон твоих нарциссов-смутьянов — неспроста,
Извив твоих разметавшихся локонов — неспроста!
2. С губ твоих еще лилось молоко, когда я говорил:
«Этот сахар вокруг твоей солонки — неспроста!»
467
468 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3- Да продлится твоя жизнь! А я твердо знаю:
Стрелы твоих ресниц в луках — неспроста!
4- Ты терпишь печали невзгод и тоску разлуки,
О сердце, эти твои стоны и жалобы — неспроста!
5- Вчера ветер с его улицы прилетел в цветник,
О роза, ты разорвала ворот неспроста!
6. Хоть сердце и прячет любовную тоску от людей,
Хафиз, эти твои плачущие глаза — неспроста!
Комментарий
1. «Нарциссы-смутьяны» (nargis-i fattän) — глаза, сеющие лю-
бовную смуту; традиционное описание прекрасных глаз вклю-
чает также ряд эпитетов, связанных с «сонливостью», «болез-
ненностью» и «опьянением»: (хУаЪ-älüd, Ытаг, хУйЪ-и xumät), см.
также 16:3; 24:5; 27:1; в строке две формульные характеристи-
ки глаз (спящие и смутьяны) остранены за счет друг друга:
обычно прекрасные глаза сеют смуту среди влюбленных, но
сейчас они спят, и это неспроста (наверное, они отдыхают пе-
ред новым нападением). Во втором полустишии соединены два
канонических свойства локонов (извив и разметанность): локо-
ны вьются и развеваются не просто так, а чтобы поймать как
можно больше сердец. Четыре качества красоты, два относя-
щиеся к глазам и два — к локонам, объединены ситуацией
«подготовки к охоте на влюбленных».
2. «Еще лилось молоко» — образ ранней юности, ср. газель
68:3. «Сахар» — метафора прекрасных (сладкоречивых) губ, «со-
лонка» — метафора рта, полного чарующих или колких речей; см.
коммент. к газели 13:6. Конвенциональные метафоры губ (сахар),
рта (солонка) и речи (сахар и соль) использованы для создания
«удивительной» ситуации: вокруг солонки должна быть рассыпа-
на соль, а вокруг солонки рта рассыпан сахар, т. е. речи друга
сочетают сладость и колкость; ср. газель 3:6. «Неспроста» — biaz-
f nïsty букв, «не лишено чего-либо»; Рахбар предлагает иное, чем в
предыдущем бейте, понимание радифа: «Этот сахар вокруг тво-
ей солонки не лишен красоты и прелести».
Хафиз. Газель № 75
469
3. «Стрелы» — стандартная метафора ресниц, а «лук» — бро-
вей. Идея: я желаю тебе здравствовать, а я сам обречен погиб-
нуть от твоего взгляда, ведь стрелы ресниц в луках бровей уже
нацелены в мое сердце.
В бейтах 1-3 объединены описанием феноменов красоты
друга: упомянуты глаза и локоны, губы и рот, ресницы и брови.
4. Смысл: поскольку сердце обрело любовь, оно стало «влюб-
ленным», а удел влюбленного — разлука и тяготы на пути к дру-
гу [Суди, с. 477].
5. «Разорвала ворот» — т. е. раскрыла бутон; разрывание во-
рота — знак проявления сильной эмоции (страсть, отчаяние,
страдание); роза в саду испытывает мучительную зависть к бла-
гоуханию кудрей друга, принесенному ветром. Хирави (с. 346)
предлагает иное толкование: роза разорвала ворот, страстно же-
лая увидеть лицо друга, весть о котором принес ветерок. В осно-
ве образа — представление о том, что бутоны роз распускаются
от прикосновения весеннего ветра.
6. «Неспроста» — здесь радиф допускает различные толкова-
ния: «не без причины», т. е. по причине любовной муки [Хира-
ви, с. 347]; «не без последствий», т. е. слезы разгласят тайну
любви [Рахбар, с. 106].
Газель 76
L-J UL
-J-i с^Ц üW^ J^ (»tj3 ù^ j*
> и j *i ^^aIS 4JI ja. jJ ^jjI jäj Ija jjuj
1 % -* *
<^JJ L^JJ ^ *'J—^ C^J—S j IJ*>
J—л-С- (j—-ftj—Â. 4_j aaİü! -13^)J
<**bn/l (^^ ^^ ^ (J* ^ ^ JJ^ -У^
t"inin ^^US <jjl jl jj6 La lLuu^jİ jJ л£
(J m % JJ^ dLuüûL) ^1 jj ft.^jnfi (jlic
л 1 j j^a ôlj AİJ j_ui Л-оА jl 4__£ (JJä
CUiUJ ^Lij Ija (jülj t"nl«ı^ jl <J
470
Хафиз. Газель № 76
471
Bahr: mußatt-i mutamman-i тахЬйп-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafä'ilun fa'ilätun mafä'ilun fa'län
ßj.-zä-s°-tä I ni-tu~am-dar / ja-hä^pa-nä / hï-nîst
sa-ri-ma-rä / ba-ju-zP-dar / ha-vä-la-gä / hï-nîst
i. Для меня в мире нет убежища, кроме твоего порога,
Для моей головы нет места назначения, кроме этой двери.
2. Когда враг обнажает меч, я бросаю щит,
Ибо наш меч — только стоны и вздохи.
3- Зачем мне отворачиваться от улицы кабаков,
Ведь в мире нет для меня пути и дороги лучше.
4- Если судьба подожжет урожай моей жизни,
Пусть сжигает, ведь по мне он не стоит и соломинки.
5- Я раб дерзких нарциссов того стройного кипариса,
Которые из-за вина высокомерия никого не удостоят взглядом.
6. Не замышляй зла, а [в остальном] поступай, как хочешь,
Ибо по нашему шариату нет греха, кроме этого.
7- Езжай, придерживая поводья, о падишах царства красоты,
Ведь нет такой дороги, на которой нет жалобщика.
8. Поскольку со всех сторон я вижу ловушки на пути,
Нет для меня защиты лучше, чем покровительство его локонов.
9- Не вручай сокровищницу сердца Хафиза локону и родинке,
Ибо такие дела — не для всякого черного.
Комментарий
1. «Для моей головы ...» — намек на один из мотивов, отно-
сящихся к теме «стремление к порогу друга» как локусу выра-
жения просьб и мольбы; согласно Хирави, в данном бейте под-
разумевается смысл: «моей голове предназначено судьбой бить-
ся о твой порог». Ср. бейт Са'ди «Повесть любви не знакома то-
472 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
му, кто всю жизнь //Не бился головой о двери дворца» [Са'ди,
Куллиййат 1996, с. 407, газель 21, б. б]. Однако в бейте не кон-
кретизированы действия лирического персонажа, между тем в
Диване Хафиза встречаются различные варианты поведения:
взыскующий может подметать порог ресницами (9:3), припа-
дать к нему лицом (53:6), сидеть в пыли на пороге (23:5), ры-
дать (73:10) и др.
2. «Враг» — возможно, соперник, завистник, клеветник; «обна-
жает меч», Щ kasad, намек на выражение tîğ-i zabän kasfdan —
букв, «обнажать меч языка», т. е. «браниться»; «я бросаю щит» —
т. е. я сдаюсь, отказываюсь от борьбы; «меч» (tığ) во втором полу-
стишии — метафора острого языка, красноречия.
Смысл бейта: когда враги нападают и порочат меня, я не
вступаю в перепалку; мой меч — стоны и вздохи, т. е. мои сти-
хи. Стихи представлены как «могущественные вздохи» и в дру-
гих газелях Хафиза, см., например, 10:7.
3. «Мне отворачиваться» — ту bar-täbam; ту bar-taflan —
«отворачивать лицо», переноси, «отстраняться, отказываться»
[Диххуда ел. ст.]; в контексте бейта выражение совмещает бук-
вальный и переносный смыслы: «отвернуться от улицы кабаков»,
т. е. выбрать другую дорогу, и «отказаться от улицы кабаков»,
т. е. отвергнуть пьянство. «Улица кабаков» — küy-i xaräbät, букв.
«улица развалин», см. коммент. к газели 9:5.
4. «Урожай» — xirman, «куча зерна или хлопка; хлеб, собран-
ный на току; гумно с зерном», стандартная метафора жизни,
«солома» — то, что отбрасывают после обмолота зерна, — мета-
фора ничтожной, ненужной вещи. Образ бейта построен на
противопоставлении гумна с урожаем как итога всей жизни и
малой соломинки — один из вариантов мотива ничтожной
ценности человеческой жизни.
5. «Дерзкий» — jammâs, также «чарующий, пленительный» и
«наводящий чары, лживый». «Дерзкие нарциссы» (nargis-i
jammäsj — прекрасные глаза, та же формула в значении «лжи-
вые глаза» в газели 131:6 характеризует глаза «городского шей-
ха», врага риндов. «Из-за вина высокомерия» (az saräb-i ğurür) —
намек на устойчивый эпитет прекрасных глаз mast «пьяные», ср.
газели 11:7; 12:3; 15:4; 24:5 и др.
Хафиз. Газель № 76
473
6. «Не замышляй зла» — ср. газель 20:6, где непричинение
зла также представлено как основа поведения риндов. «Наш
шариат» — свод правил поведения влюбленных-риндов.
7. «Жалобщик» — dädrxyähy букв, «требующий справедливо-
сти», т. е. влюбленный, жалующийся на жестокость возлюблен-
ного; ср. обращение к «султану прекрасных» (газ. 14:1), воз-
можно, и в данном бейте развернута та же тема — все влюбле-
ны в «падишаха царства красоты» и просят его придержать по-
водья, чтобы он мог услышать жалобы на свое равнодушие.
Хирави (с. 350) понимает поэтическую ситуацию иначе: куда
бы ни направился падишах страны красоты, его поджидают
влюбленные, чтобы просить заступничества от жестокости пре-
красноликих. Обе интерпретации позволяют спроецировать
бейт на придворную ситуацию: упрек правителю или жалоба
правителю на его министров.
8. «Ловушки на пути» — dâm-i râh, также «силок на пути»,
мирские соблазны и заботы [Суди, с. 480]. «Покровительство его
локонов» — остроумие образа состоит в том, что локон, который
обычно сравнивается с петлей силка, здесь выступает как за-
щита от ловушки, силка.
9. «Такие дела» — хранение сокровищницы, т. е. дело казна-
чея, и власть над сердцем влюбленного, т. е. дело возлюбленно-
го друга. «Черный» — поэтическое обозначение локона и родин-
ки по их цвету; во втором значении (прием îhâm) — черноко-
жий раб, абиссинец или занзибарец, раб, купленный задешево
[Диххуда, ел. ст. Siyäh]. Ср. в другой газели Хафиза: «Я в него-
довании из-за фиалки, которая хвалится, что у нее его локо-
ны, // Посмотри на эту дешевую черную [рабыню] (siyäh-i кат-
bahâ), что она возомнила» (117:3).
Идея: разумный правитель поручает охрану казны только
самым надёжным слугам и не доверит это дело дешевому рабу.
Лирический персонаж просит возлюбленного взять его сердце
себе, а не отдавать на хранение «локону» и «родинке», т. е. тем
атрибутам красоты, которые обычно завладевают сердцем
влюбленного помимо его воли. Рахбар считает, что локон и ро-
динка в первом полустишии — мирские радости, земные при-
вязанности; ср. бейт 8.
474 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Упоминание о врагах (б. 2), о высокомерии и невнимании
друга (б. 5), жалобщиках (б. 7), просьба о защите (б. 8), выраже-
ние недоверия к казначею (б. 9) позволяют усмотреть в газели и
«политические» намеки на враждебное поэту окружение адреса-
та (правителя Шираза).
Газель 77
duib jl j (^IaaJU <jSjä. I jJ j <-SJJ (jl j^Jİ j
t " \ nil J jl£ (JJİ jJ ^joİîuû ôji^ IJ La f *û<
^aljÜCİ (^Ь^. l"i mû 1_-л Ь i" hunin jSI jb
Cj ib jlc ^l^ jl jjj jlja\£> ^LSjL
dl_uijJ (Jjuaä. 1_^ La jU j jLu JjjSC5aj jû
dj ыЬ jbjjÄ^j v"i 4 i ^jllujlj jS <jl a j^.
clbib jISjj (jij^ jJ ^i>r> (jiij <LaA (jjl£
(J ^ Л ^^IjJiJ J £ Д> ^İnîfl. dl J J JJ4 jS
joui jljİ3İ jj ч£ (jjjj^ j^*s Qjjjji <jl CjSj
Cj ыЬ jL_jj 4 iLL*. jj c*İL jluuu j£i
ullJ Jl £ flf) ЦЗ^1 L^J^ <^JUA. ÔJJ-JUJ
Bahr: ramal-i mutamman-i maqsûr
Vazn: fâ 'Hatun fâ 'Hatun fâ 'Hatun fâ 'ı7ât
bul-bu-lî-bar I gï-gu-lï-x?as / ran-g°-dar-min / qâ-r°-dâst
van-da-rP-bar I gü-na-uâ-xvas / nâ-la-hâ-yî / zä-r°-däst
475
476 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
i. Один соловей держал в клюве лепесток прекрасной розы
И при таком богатстве он издавал очень жалобные стоны.
2. Я сказал ему: «Отчего эти стоны и жалобы в самый миг свидания?»
Он сказал: «В это нас ввергло появление возлюбленного».
3- Если друг не сел рядом с нами — нечего роптать,
Он был счастливец-падишах, постыдился какого-то нищего.
4- Красоту друга не трогают ни наши мольбы, ни равнодушие,
Счастлив тот, чей удел — наслаждение изящными созданиями.
5- Да станем мы жертвами за перо того Художника,
Который все эти дивные рисунки вместил в оборот циркуля!
6. Если ты мурид на пути любви, не думай о позоре —
Шейх Сан'ан хирку отдал в залог в доме виноторговца!
7- Счастья тому сладостному каландару, который в ходе странствия
Возносил ангельские хвалы в кольце зуннара!
8. Глаза Хафиза под сенью дворца того [создания] из рода гурий,
Обрели свойство садов, в которых текут реки.
Комментарий
1. «Богатство» — barg-u navà, букв, «имущество и благосос-
тояние», слова, составляющие это устойчивое сочетание, имеют
также значения «лист, лепесток» (barg) и «мелодия, напев»
(navä). Поэтому словосочетание barg-u navä перекликается со
словом «лепесток» (barg) в первом полустишии и со словом «сто-
ны» (näla) — во втором, поскольку «стоны» — постоянная мета-
фора пения соловья, ср. газель 43: 3, 4.
2. Соловей обычно оплакивает разлуку с розой, а в данном
случае его стенания и плач связаны со свиданием, т. е. сама
красота возлюбленного является причиной стонов и жалоб со-
ловья [Суди, с. 484]; подобно мистикам, проливающим слезы в
экстазе постижения истины, соловей рыдает от счастья свида-
ния с розой [Хирави, с. 352].
Хафиз. Газель № 77
477
3. «Счастливчик» — käm-rän, также «довольный, наслаж-
дающийся жизнью». М. А. Гаффаров дает также значение «пол-
новластный», иллюстрируя его данным бейтом: «Если друг не
сидел около нас, [на это] нет места возражениям, он был царем
полновластным и он устыдился [нас], нищих» [Гаффаров, ел. ст.
Käm-rän]. Можно, вслед за Хирави (с. 353), рассматривать этот
бейт в контексте двух предыдущих, тогда он оказывается
«комментарием» лирического персонажа к его разговору с со-
ловьем: если друг явил свою красоту, но прошел мимо, это не-
удивительно, ведь правитель (падишах в стране красоты) не
водит компанию с попрошайками (влюбленными).
4. «Красоту друга не трогают ...» — намек на концепт «неза-
интересованности» и «самодостаточности» (istiğna) друга, см.
коммент. к газели 3:4; см. также контексты 4:5; 25:3; 50:4;
61:6; 71:5; 72:8. «Равнодушие» и «мольбы» — nâz и niyaz, два
аспекта любви; другу свойственно проявлять nâz — равноду-
шие, кокетство, высокомерие, тогда как влюбленному — niyaz,
мольбу, униженность, нужду. Ср., например: «Велика разница
между влюбленным и возлюбленным, // Когда друг проявляет
равнодушие (nâz), вы обращаетесь с мольбой» (газель 244:5).
Поэтическая формула nâz-u niyaz, обычно определяющая пове-
дение любимого и любящего в совокупности, здесь характери-
зует поведение только любящего и приобретает значение «лю-
бые действия».
Идея: никакие усилия влюбленного не заставят друга обра-
тить на него внимание; он явит милость лишь тому, кому это
предначертано свыше.
5. «Да станем мы жертвами» — Jdz tâ ... jän-fisän kunîm, букв. —
«вставай, чтобы ... мы пожертвовали жизнью», призыв разделить
восхищение (красотой творения). «Художник» (naqqä§\ — распро-
страненная метафора Творца, который создал прекрасный мир,
как художник — картину. «Перо» (kilty — намек на Высочайшее
Перо, Перворазум, центральный элемент космогонических пред-
ставлений в философском суфизме; ср. у Ибн ал-'Араби: «Хвала
Тому, Кто положил начало бытию мира становления и [Божест-
венного] распоряжения, произведя на свет Высочайшее Перо и
Хранимую Скрижаль, явившие мир записи и начертания» [Ибн
ал-Араби 1995, с. 88]. «Циркуль» — один из инструментов худож-
478 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ника-миниатюриста, в поэзии одно из многочисленных имен нец|
босвода. «Оборот циркуля» — вращение небосвода, расширитель^!
но — власть небосвода. ı
6. «Мурид» — ученик суфийского шейха, здесь новичок, ко-1
торый избрал путь влюбленного-ринда. Шейх Сан'ан — героШ
парадигматической истории об отказе от внешней религиозно--!
сти ради истиннной любви, см. коммент. к газели 10:1; аллюзий!
к элементам сюжета о Сан'ане встречаются во многих газелям
Хафиза, см., например, комментарии к 10:2; 17:7; 36:8; 74:7^1
«Хирку отдал в залог» — по преданию, когда возлюбленная^
христианка потребовала, чтобы шейх Сан'ан принес еще вина»Ул
тот отправился к виноторговцу и, не имея денег, отдал в залог |
свою хирку [Суди, с. 476-477]. Щ
7. «Каландар» — см. коммент. к газели 66:7, здесь — шейй/|
Сан'ан. «Сладостный каландар» — qalandar-i şîrîn, букв, «слад-
кий каландар»; эпитет «сладкий» (şîrîn) чаще употребляется '§i
поэзии с коннотацией «прекрасный» (возлюбленный, речьЩ
здесь он характеризует шейха не как прекрасного внешне че-1
ловека, а как героя истории, сладостной для сердец влюбленна
ных; по данным поиска на CD Dorj-3, это единственный случай!
в классической поэзии, когда каландар определяется эпитетом |
şîrîn. «Зуннар» (zunnâr) — пояс определенных цветов, который *
обязаны были носить жители Халифата, имеющие стату^ i
zimmï— иноверцев (христиан, иудеев, зороастрийцев), поддан-'j
ных мусульманского государства, в поэзии — символический i
атрибут человека, ставшего на путь любви и тем самым пре1
вратившегося в «идолопоклонника» (but-parast). «Хвалы» — Л
tashih, ангельские восхваления Всевышнего многократно упо- ;
минаются в Коране, например, «[Он — тот, кому] возносит ела« j
вословие (yusabbihu) гром, а также ангелы, [дрожащие] в страхе |
пред Ним» [Коран 13:13(12)], пер. Османова; второе, терминоло**j
гическое значение tasbîh — «четки» — образует в бейте скрытую |
оппозицию «зуннар—четки» (путь язычества — путь ислама)!;»)]
Эта оппозиция намекает на эпизод из поэмы 'Аттара Mantiq ob
tayr («Беседа птиц»), где подробно изложена история шейха |
Сан'ана (Сам'ана). Ученики Сан'ана, изумленные поведением
своего шейха, пытаются увещевать его: «Другой [ученик] ска- ^
зал, мол, где твои четки (tasbîh), // Разве исправится твое дело Ï
Хафиз. Газель № 77
479
без четок (Ы tasbthf также — «без хвалы Богу»)? // Он ответил,
мол, я выпустил четки из рук, // Чтобы я мог препоясаться
зуннаром!» ['Аттар, Mantiq al-tayr, Dorj-3, История шейха
Сам'ана, ч. 1,6. 87-88].
8. «Сады ...» — слегка измененная цитата из Корана [4:60
(57)]: «А тех, которые уверовали и творили благое, Мы введем в
сады, где внизу текут реки ...»; см. также [Коран 98:7 (8)].
Дворец уподоблен раю, его обитатель (обитательница) — гу-
рии, а глаза лирического персонажа, проливающего слезы —
райским садам, где текут реки.
Газель имеет кольцевую композицию, последний бейт воз-
вращается к теме первого и разыгрывает ее в новых образах:
соловей плачет, обретя розу (б. 1), а лирический персонаж «Ха-
физ» рыдает, попав в обитель друга.
Газель 78
dboil^j л 1 kk\ j JJ^ Jjuj j^ jb л£ l£^jJ
CİUİİÜ а Го gtJÄ La аЬ jj Л^С <"иЛиП
di_^İllJ *Jä. Ль/ï dl je j dbİS j Aj£âl
jl_j A_J^j Ла1 ^a ^^j j li^ с!и ^
jl jl JLixiS ij jljäi 4J a£ (jt jA 4-aA (jjl Ь
duilü fjß^* (^уш& «jA dıâj <£ La> jA
(jjiÄ a£ (j^a La jlİJİ
İİJ1J f J^b jJ *J J C^^lj JJJJ (JJ&bAA
C_l
v*i hiIûj дА j—jJ jiâ. j JjiJ jîA (jiaaA
Ba/ır: muzäri'-i mutamman-i axrab-i makfuf-i maqsür
Vazn: mafülu fä'ilätu mafä'üu fä'ilät
dï-dî-ki I yä-fo-juz-sa / ri-jaw-rü-si / tam-na-däst
biè-kas-P I 'ah-du-zî-ğa / mi-mâ-hi-c° / gam-na-däst
ı. Ты видел — друг только и хочет, что угнетать да притеснять,
Нарушил слово и не опечалился из-за нашей печали.
480
Хафиз. Газель № 78
481
2. О Боже, не вменяй ему [в вину], хоть он мое сердце, подобное голубю,
Швырнул и убил, не поберег заповедную дичь.
3- Жестокость настигла меня из-за моей судьбы, не иначе, ведь про друга
Упаси [Бог сказать], что у него нет правила милости и обычая щедрости;
4- При всем этом — тому, кто не терпел от него обид,
Никто не выказал уважения, куда бы он ни пришел.
5- О виночерпий, подай вина и скажи мухтасибу:
«Не осуждай нас, ибо такой чаши не было и у Джамшида».
6. Каждый путник, что не нашел дороги к его заповедным вратам —
Бедняга, он пересек пустыню и не достиг Святилища.
7- Хафиз, перехвати мяч красноречия, ибо претендующий [на него]
Вовсе не владел мастерством, да еще и не знал [об этом] !
Комментарий
Хуррамшахи (с. 391) отмечает сходство данной газели с газелью
Хакани, написанной тем же метром, с тем же радифом, но с
другой рифмой [Хакани, Dorj-3, газель 46].
1. Зачин газели прямо указывает на упомянутую газель Ха-
кани, ср. ее первый бейт: «Ты видел — друг, поскольку он ниче-
го не знал про наше сердце, // Изловил нас, бросил [на землю]
и не стал поднимать».
2. «Заповедная дичь» — şayd-i haramt букв, «дичь Святили-
ща», т. е. дичь, на которую заповедано, запрещено охотиться,
например, голуби на территориях, примыкающих к Меккан-
ской святыне (al-masfid al-haram). Сердце влюбленного уподоб-
лено заповедной дичи, поскольку жилище возлюбленного друга
традиционно сравнивается с Ка'бой. Поскольку сердце влюб-
ленного всегда пребывает у порога дома возлюбленного, его,
как голубя у Ка*бы, нельзя убивать. Но друг пренебрег этим за-
претом. Однако он не совершил греха, поскольку пролитие
крови влюбленных ему дозволено (haläl), ср. газели 33:5 и 39:2.
Возлюбленный скрыто уподоблен хищной ловчей птице (со-
кол, коршун), а сердце влюбленного — голубю как объекту его
482 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
охоты. Именно ситуация «соколиной охоты» на сердце связыва-
ет газель Хафиза с образным рядом газели Хакани, см. бейт 1
(цит. в примеч. 1) и бейт 3: «Он погубил нас взглядом (или —
сглазил)t а когда мы стали его добычей, // Он не посмотрел на
нас милостивым взглядом».
3. В контексте указанной газели Хакани бейт приобретает до-
полнительный, полемический оттенок. У Хакани (б. 4) герой уп-
рекает друга: «Он сказал, мол, не стремлюсь к жестокости, а сам
не отступил от нее, // Он сказал, мол, буду верен, но это на него
не повлияло». Герой Хафиза, наоборот, оправдывает друга: жес-
токость исходит не от него, злосчастье предопределено судьбой.
4. В бейте продолжено рассуждение, начатое в предыдущем;
«при всем этом» — при всей милости и щедрости друга. «Никто
не выказал уважения» — никто не счел истинным и «зрелым»
влюбленным.
5. «Мухтасиб» — см. коммент. к газели 41:1; Джамшид — см.
коммент. к газели 12:6, ср. также использование образа чаши
Джамшида в газелях 11:2 и 33:6.
Идея: о, блюститель нравов мусульман, не считай наше пове-
дение греховным; чаша Джамшида отражала внешние события,
происходящие в мире, а наша чаша (= вино, которое мы пьем)
позволяет узреть скрытое — тайны обоих миров (см. 47:4) и лик
Друга (см. 11:2). Согласно Ш.-А. Фушекуру, «чаша» — это мета-
фора газели Хафиза, которая превосходит чашу Джамшида по
способности отражать тайное [Hafez de Chiraz 2006, с. 322].
Второе полустишие метрически допускает и еще одно чте-
ние: jâm-i jam nadäst (вместо jäm jam nadäst) с переводом: «Не
осуждай нас, мол, у него нет такой чаши Джамшида». Выраже-
ние jäm-ijam «чаша Джамшида» ко времени Хафиза стало при-
вычной метафорой чистого сердца и чаши с вином, оно много-
кратно встречается в стихах Хафиза и его предшественников.
Кроме того, «Чаша Джамшида» — название известного суфий-
ского маснави Аухади Марагаи, на стихи которого Хафиз не
раз отвечал, состязаясь с ним в мастерстве. Поскольку в кон-
цовке газели речь идет о поэтическом соперничестве, возмож-
но, и данный бейт содержит литературный подтекст: не нужно
упрекать Хафиза за то, что он не пишет таких популярных су-
фийских поэм, как «Чаша Джамшида» Аухади.
Хафиз. Газель № 78
483
6. «Пустыня» — vâdï, араб, «горная долина, ущелье; долина
реки», в персидских стихах часто употребляется в значении
«степь, пустыня» [Диххуда, ел. ст.]. «Святилище» (haram) — име-
ется в виду мекканское святилище, Ка'ба, см. бейт 2.
Образ «заповедной территории» проходит через всю газель, он
маркирован словами, производными от корня h-r-m «быть за-
претным» и имеет две грани, характеризующие любящего и лю-
бимого. Любящий — это «заповедная дичь» (şayd-i haram) (б. 2),
поэтому друг не должен его обижать; в то же время, если он не
претерпевает обид от друга, то перестает быть «уважаемым»
(muhtaram), т. е. «заповедным», причастным Святилищу — haram
(б. 4). А любимый обитает за «заповедными вратами» (dar-i
harami) и жилище его — «заповедная территория» (haram), т. е. он
недоступен (б. 6).
Мотивы «недоступности» и «двери» связывают данный бейт
со строками из указанной выше газели Хакани (б. 6): «Переда-
вали, что благодатна опочивальня встречи с ним, //Я пришел
попросить аудиенции — увидел, что двери нет».
7. Бейт представляет собой «самовосхваление поэта» (faxr)t
превосходство Хафиза в поэтическом мастерстве уподоблено
первенству в игре в конное поло. «Да еще и не знал» (va xabar
nïz ham nadäst) — т. е. не знал о том, что не владеет мастерст-
вом [Хирави, с. 359], не имел понятия о том, что такое мастер-
ство [Суди, с. 494], ничего не знал о настоящих поэтах, владею-
щих мастерством (Рахбар).
Образ игры в поло напоминает о концовке газели Хакани
(б. 8), где речь идет о другой игре, нардах. Бейт Хакани посвя-
щен не восхвалению собственного мастерства, а любовной жало-
бе; тема безнадежной любви и безвыходность ситуации влюб-
ленного раскрыта через метафору партии в нарды: «Хакани сыг-
рал с тоской по нему в нарды верности, //Но попал в безвыход-
ное положение (sis-dar), и фишка не могла двигаться».
Газель 79
Cjuİjjujjja> jb j (jîlij £ jà cjt^ j (>a
duiS <*_il AX* jj j duil ji\ AjLu) <4ьрь a£
Л JjS^jA LİLİ^JjJjl dj Jİ_SL_A. (JAA.
cJ jâ> jI^a. (jjl a£ ^ Jj CjjUd ^a <j
(*1пП^ p Ija. jl c5jjjâl AjLA^x^ A-Aju) JÄ
<**1 m л (JA Cu^Lu ^jAL^» <a\j 4j <j!Lo
h ^ «\ a jl i > jl jİJu—л ÂJp >jS
* ."1**4.1 Aj JjJ^j-ft CluI el& (3J^ ^ J^ ^
Bahr: mujtatt-i mutamman-i maxbûn-i maqsûr
Vazn: mafâ'ilunfa'ilâtun mafâHlun faHlât
ku-nü^ki-mî I da-ma-daz-bu / s°-tân-na-sî / mi-bi-hist
та-пй-sa-râ / bi-fa-rah-bax / su-yâ-ri-hü / r^-si-rist
ı. Теперь, когда из сада повеяло райским ветерком,
Я — с вином, дарящим радость, и с другом из рода гурий.
484
Хафиз. Газель № 79
485
2. Почему сегодня нищий не кичится царским саном?
Ведь тень от тучи — шатер, а кромка поля — место для пира.
3- Лужайка ведет рассказ про [месяц] урдибихишт,
Не умен тот, кто взял кредит и упустил наличность.
4- Благоустрой сердце вином, ибо этот обветшалый мир
Приготовился из нашего праха делать кирпичи.
5- Не жди от врага верности, ведь не будет света,
Если ты свечу для кельи зажжешь от лампы в синагоге.
6. Не порицай меня, пьяного, за черный список [грехов];
Кому ведомо, что именно написала судьба у него на лбу?
7- Не сторонись похоронных носилок Хафиза,
Хоть он и погряз в грехах, но отправляется в рай.
Комментарий
Как отмечает Б. Хуррамшахи (с. 393), газель изобилует реми-
нисценциями из руба*и *Умара Хаййама; все ссылки на руба*и
даются далее по CD Dorj-3.
1. «Райский ветерок» (nasım-i bihist) — указание на сезон
весны. «Вино, дарящее радость» — bäda'-i /агсф-baxs; этот же
эпитет по отношению к вину употреблен и в «весеннем» зачине
газели 41, «Из рода гурий» — hür-siriet, букв, «соприродный гу-
рии», эпитет, часто встречающийся в руба*и Хаййама (см. ком-
мент, к б, 2).
2. «Шатер» (хаута) и «место для пира» (bazm-gâh} — атрибуты
царского досуга, кроме того, хаута содержит изящный намек на
литературное имя Xayyâm, букв, «изготовитель шатров; прода-
вец шатров», а «кромка поля» (lab-i kist) — один из постоянных
локусов пирушки в четверостишиях Хаййама. Первые два бейта
газели обыгрывают мотивы и повторяют рифму (hûr-sirist, lab-i
kiSti его рубаки dar faşUi bahar agar but-i hûr^siriêt «Если в пору
весны *цгмир из породы гурий // Подает мне кубок с вином у
кромки поля, // Пусть это дурно в глазах черни — // Собака и
та лучше меня, если вновь вспомню о рае!».
486 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3. «Урдибихишт» — название второго месяца иранского сол-
нечного года, соответствует 21 апреля — 21 мая, в поэзии ме-
тонимически обозначает расцвет весны. «Лужайка ведет рас-
сказ ...» — ароматными травами и цветами лужайка сообщает о
торжестве прекрасной весны. «Кредит» (nasiya) и «наличность»
(naqd) — одна из центральных оппозиций в лирике Хаййама,
многие рубай которого содержат призыв не обольщаться обе-
щанным, т. е. благами рая, и наслаждаться тем, что есть в на-
личии, например, güyand kasan bihist bä hur xvas-ast «Говорят,
что рай с гуриями хорош, //Я говорю, что влага винограда хо-
роша. // Возьми эту наличность и не тянись за тем креди-
том, // Ведь звук барабана хорош, когда слушаешь издалека!».
4. Прах людей представлен как материал для строительных
кирпичей мироздания во множестве контекстов руба'и Хаййа-
ма, ср., например xâk-ï ki ba zïr-ipâ-yi har nâdân-ï-st «Прах, что
под ногами любого невежды — // Это ладонь кумира или лик
красавца, // Каждый кирпич, что на верхушке дворца, // Это
палец министра или султана». В бейте Хафиза «фирменный» мо-
тив Хаййама соединен с топосом «разрушающегося», т. е. брен-
ного мира: поскольку мир ветшает и ему нужен ремонт, он пус-
кает прах всех живущих на изготовление кирпичей. В призыве
«благоустрой сердце вином» (ba may 'imârat-i dil кип) также ис-
пользована «строительная» образность.
5. «Не жди от врага верности» — возможно, под «врагом»
имеется в виду «обветшалый мир» или правящий его делами
небосвод. «Келья» (şaıvma'a) — жилище христианского монаха,
аскета или суфия, см. коммент. к газели 2:2, ср. также контек-
сты 22:7; 63:4; 69:11. «Синагога» (kunist) — наряду с dayry обо-
значает любое немусульманское культовое сооружение, кумир-
ню; слово многократно встречается у Хаййама, поэтому проти-
вопоставление «кельи» как места, где сияет свет истины, имен-
но «синагоге» как месту неправильного служения — еще одна
отсылка к рубаЪ. Ср., например, faşl-i gul-u tarf-ißlybär-u lab-i
kist: «Пора роз, берег ручья и кромка поля, // [Я] — с одним-
двумя-тремя друзьями и куколкой из рода гурий. // Подай ку-
бок, ведь пьющие вино на утренней попойке, // Свободны от
мечети и не нуждаются в синагоге (kunist)».
Хафиз. Газель № 79
487
6. «Черный список [грехов]» — näma-siyähi (букв, «чернота
списка»); список грехов человека, который составляет ангел в
течение всей жизни, см. коммент. к газели 55:6, ср. тот же образ
в газели 201:2. В бейте противопоставлены два «документа» —
«список» грехов, совершенных лирическим персонажем, и то, что
ему предначертано судьбой («написано на лбу»). Смысл бейта (см.
[Суди, с. 498; Хирави, с. 362; Рахбар, с. 111]): не следует осуж-
дать человека за его грехи, ведь никто не знает, что нас ждет
впереди; заядлый пьяница может получить прощение, а свято-
ша— погрязнуть в грехах; ср. контекст 9:5, где прямо сказано,
что аскет может нарушить свои обеты.
Образы б. 5 и 6 (оппозиция «келья—синагога», «лампа сина-
гоги»; «судьба написала на лбу»), возможно, опираются на чет-
веростишие Хаййама tâ kay zi ciràg-i masjid-u düd-i kunist:
«Сколько еще [слушать] про лампу мечети и копоть синагоги? //
Сколько еще — про убыток ада и выгоду рая? // Взгляни на
скрижаль судьбы, на которой с предвечных времен // Учитель
записал все, чему предстоит быть!»
7. «Не сторонись похоронных носилок» — не бойся воздать
последние почести такому грешнику, как «Хафиз». Концовка
газели обогащает содержание предыдущего бейта: оказывается,
пьянство лирического персонажа было греховным лишь с точки
зрения тех, кто судит по внешнему смыслу. «Хафиз» отправля-
ется в рай, значит и его пьянство было лишь внешней оболоч-
кой для истинной любви. Мотив «пьяниц, идущих в рай» звучит
в целом ряде руба'и Хаййама, ср., например, güyand ki düzaxx
buvad mardum-i mast: «Говорят, что пьяницам место в аду. //
Это — лживая речь, и нельзя на нее полагаться. // Если влюб-
ленные и пьяные займут место в аду, //То завтра увидишь,
что рай [пуст], как ладонь».
Газель 80
l_l u)
UÜJ—J HAljaJ j j jj (jlj^û ôUS л£
*"* "«* 4a j jLb^A 4a ^jb t ^ <4 U (jiiS 4^
t*hVi^ 4a Л->юл 4a C±ui\ (J$jïîiC> 4jIa Ia AjJb
JÛ t**1 Л1 4 J (JA л \ \ à 0 1 JjuJ
J jl CJ LJ 4 ft \\ И1 jl J ^ rt ^ÜAİU
;o j j AûUàljj 4_j IjSj ôJjj jl <j__-a 4J
*1 >и ^ J CJL—uÜ jl Л it t"hrt$J J)JJ Aj^J
<_£jl ci S 4_j jS <JaI jjj UsûIa
■ti $ ; 4j dùîji djbl jâ (^jS jl ^)jüü tiL
ВаЛг: ramal-i mutamman-i maxbûn-i maqsûr
Vazn: fä 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilätun fa 'Hat
'ay-bi-rin-dän / ma-ku-nay-zä / hi-di-pä-kx / za-si-rist
ki-gu-nä-Ы / di-ga-rän-bar / tu~na-xvä-han / d°-ni-vist
1. Не порицай риндов, о аскет, что чист по природе,
Ибо чужих грехов тебе не припишут!
488
Хафиз. Газель № 80
489
2. Хорош я или плох — ты иди, позаботься о себе:
В конце концов каждый пожинает то, что посеял.
3- Каждый стремится к другу — что трезвый, что пьяный,
Повсюду — жилище любви, что в мечети, что в синагоге!
4- Голова моего смирения и кирпич порога кабаков!
Если обвинитель не понимает слов, скажи: «Голова да кирпич!»
5- Не лишай меня надежды на изначальную предвечную милость!
Откуда ты знаешь — там, за завесой, кто будет хорошим, а кто — дурным?
6. Не я один покинул завесу благочестия —
Родитель мой тоже упустил из рук вечный рай.
7- О Хафиз, если в смертный час ты возьмешь в руки чашу,
Тебя с улицы кабаков понесут прямо в рай!
Комментарий
В Диване современника Хафиза, Хаджу Кирмани, есть газель с
теми же размером и рифмой [Хаджу, Dorj-3, газель № 217], мо-
тивы которой находят параллели в данном стихотворении.
1. Согласно Хуррамшахи (с. 395) и Рахбару (с. 112), в бейте
присутствует намек на следующий айат: «[Душа], обремененная
своею ношей, не обременится бременем другой; а если она, отя-
гощаемая, и позовет понести его, то никто не понесет его, хотя
бы тот был близкий ея родственник ...» [35:19 (18), перевод
Г. С. Саблукова]. Хафиз использует формулу «чист по природе» —
pâkxza-sirist — иронически; обращение к аскету, порицающему
риндов, в зачине газели Хафиза перекликается с финалом газели
Хаджу (б. 9), также обращенным к хулителю: «Чтобы Хаджу пред-
стал чистым в твоих глазах, // Стань пылью на дороге людей, что
чисты по природе (pâkuza-siristj», однако у Хаджу, в отличие от
Хафиза «чистыми по природе» названы истинные влюбленные.
2. По мнению Хуррамшахи (с. 395), в бейте — аллюзия к ко-
раническому айату: «О те, которые уверовали! На вас — забота
только о ваших душах. Не повредит вам тот, кто заблудился,
если вы идете прямо. К Аллаху — ваше возвращение всех, и Он
490 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
сообщит вам то, что вы делали!» [Коран, 5:104 (105)]; Хирави
(с. 364) относит эту аллюзию к бейту 1.
3. «Каждый стремится к другу» — цитата из газели 'Аттара
['Аттар 1989, с. 21, № 30]: «Каждый стремится к другу, однако //
Часто ли встретишь промотавшего все и пьяного», т. е. хотя лю-
бовь к Богу свойственна всем, но таких, кто отдал все на пути
любви, найти трудно. «Что в мечети, что в синагоге», см. ком-
мент, к газ 79:5. В бейте идет речь о силе любви, отменяющей
внешние различия между «плохим» и «хорошим» и тем самым
уравнивающей трезвых аскетов и пьяных риндов, мечеть и си-
нагогу. Та же поэтическая идея развита в двух первых бейтах
газели Хаджу: «Если друг рядом, все равно — жить в аду или в
раю, // Если место поклонения — для мольбы, все равно — ме-
четь или синагога. // Место успокоения неистовых — все равно,
долина или гора, // Грабитель для душ влюбленных — все равно,
пригож или дурен» (б. 1,2).
4. «Обвинитель» — mudda'î, антагонист лирического персо-
нажа, см. о нем в коммент. к газели 65:6. «Голова да кирпич» —
sar-u xist, формула передает два смысла: 1. Голова обвинителя
заслужила удар кирпичом; 2. В голове не больше ума, чем в
кирпиче [Хирави, с. 365]. Возможно, «голова да кирпич» содер-
жит намек и на бейт 5 газели Хаджу, Хафиз как бы превраща-
ет строки собрата по перу в комментарий к собственному суж-
дению: «Если ты откроешь изголовье (sar) моей могилы, уви-
дишь: // Моя опалубка (т. е. тело) сгорела, а весь кирпич (xist,
т. е. прах) от крови стал глиной». Так через интертекстуальную
связь в бейт Хафиза привносится дополнительный смысл: если
обвинитель не понимает слов, пусть он из бейта Хаджу про sar
и xist узнает о том, как страдает влюбленный ринд.
5. «Изначальная» — säbiqa, букв. араб, «прошлая» (ж. р. от
säbiq), ср. в газели 161:7: «Не может риндство оставить душу
Хафиза, // Ведь прошлые дела (sâbiqa'-i pïsïn) продлятся до По-
следнего дня». Säbiqa имеет также специфические значения
«предвечная участь» и «предвечная милость» [Му*ин, ел. ст.]; ср.
в газели 407:2: «Я сказал: „Эй судьба, ты погрузилась в сон, а
солнце взошло!" // Она сказала: „При всем при том не теряй
надежды на предвечную милость (säbiqa)\u*.
Хафиз. Газель № 80
491
6. «Я покинул» — Ъа dar uftàdam, переноси, «проявил себя»
['Афифи, ел. ст. Ва dar uftâdan, с примером из газели Хафиза
110:1]. «Родитель мой» — Адам; в стихах Хафиза образ Адама как
первого человека в ряде случаев трансформируется в образ пер-
вого влюбленного на земле (ср. газель 57:4). Сюжетные элементы
коранического рассказа об Адаме [Коран, 7:10(11)-24(25)] —
«обольщение» и потеря места в раю — предстают в газелях Ха-
физа как прообразы «избрания пути любви» и «утраты доброго
имени». В газели Хаджу также есть бейт, отсылающий к истории
Адама: «Забава любви — не забава, ибо Ведающий тайное //Не
для забавы подмешал любовь в природу Адама» (б. 3).
7. «Улица кабаков» — кй-yi xaräbät, букв, «улица развалин»,
также — метафора бренного, «ветхого» мира (ср. газель 19:3).
«Прямо в рай» — согласно Хирави (с. 367), имеется в виду, что
тому, кто выпил вина, смертный час покажется райским бла-
женством, и он не испытает мук наступления смерти и «тисков
могилы». Рахбар (с. 113) предпочитает мистическое толкование:
«Если в день окончания жизни ты вновь вкусишь вина истины
из чаши, то тебя без промедления доставят из кабака этого ми-
ра в вечный рай».
Газель 81
L-L.
JlS AIjuAÀjJ (J£ Ь QA*. 9* J* лУ%\\4*
Cj&İ j5 jja» ^^juü £L ^1 jJ a£ jS f£ jU
dİXJ J JJuAA Aj *"^»" (jâubU J^ilc- №^
CİL-i^j ôjLuAj Aj AJİ4ja jJ lill^. a£ jA
ili
^-^ЧХ* ijj*>±» Ajuı'l Ц (JfLuJ CİİJ
Cj ft 4 J Jİ.İD <^jû (Jİ AS ^jjjjjuaâ! ClftS
^jI_jj Aj jj» a£ CuJ ^j! Aj J^ic (jâuuj
d) ^IjjI bjj Aj JJj^ j jjä. Jaâl^ tiLil
ft $ i t"l hijUj (3juÔC дС- jjjua jj£ Aa.
ВаЛг; ramal-i mutamman-i maxbûn-i maqsür
Vazn: fä 'ilatun fa 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilät
şub-h°-dam-mur / gi-ca-man-bà / gu-li-naw-xä / s°-ta-guft
nâ-zP-kam-kun / ki-da-ri^-bä / ğ°-ba-sî-cûn / tu-si-kuft
492
Хафиз. Газель № 81
493
i. Поутру соловей сказал распускающейся розе:
«Не задавайся — в этом саду цвело много таких, как ты!»
2. Роза засмеялась, мол, на правду не обижаемся, однако
Ни один влюбленный не говорил возлюбленной грубых слов.
3- Если хочешь рубинового вина из того драгоценного кубка,
О как много жемчужин тебе надо просверлить остриями ресниц!
4- Во веки веков запах любви не коснется носа того,
Кто своим лицом не мел пыль на пороге питейного дома.
5- В цветнике Ирама прошлой ночью, когда по милости воздуха
Локон гиацинта стал виться на рассветном ветру,
6. Я сказал: «О трон Джама, где твоя чаша, показывающая мир?»
Он сказал: «Увы, то недремлющее счастье уснуло!».
7- Речи о любви — это не то, что сходит с языка,
О виночерпий, подай вина и положи конец этому разговору!
8. Слезы Хафиза смыли в море разум и терпение,
Что поделаешь — не сумел он скрыть боль любовной тоски!
Комментарий
Газель с теми же метром и рифмой имеется в диване Аухади
Марагаи [Аухади, Dorj-3, газель № 143].
Хирави (с. 395-396) высказывает предположение, что текст
содержит намеки на реальные события при дворе ширазских
правителей; поэт сожалеет о свержении своего покровителя
(возможно, последнего представителя Инджуидов — Шаха Абу
Исхака Инджу) и с опаской смотрит на будущее правление
представителя новой династии (Амира Мубариз ад-Дина Му-
заффарида). Возможно, именно желая выразить в стихах на-
дежду на возвращение прежнего правления, Хафиз избрал в
качестве образца газель Аухади с характерным зачином «В раз-
луке с тобой мне не до еды, не до сна, // Пока ты не вернешься
из того места, которое не смею назвать».
494 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Эта газель переведена и проанализирована как блестящий об-
разец жанра в работе Дж. Мейсами [Meisami 1987, с. 285-290].
1. «Соловей» — murğ-i сатап, букв, «птица луга», одно из рас-
пространенных в поэзии прозваний соловья. «Распускающаяся
роза» (gul-i naw-xàstà) — роза, только что показавшаяся из буто-
на; в контексте бейта, по мнению Хирави (с. 392), выражение
содержит намек на человека, только что пришедшего к власти и
полного амбиций.
2. «Роза засмеялась» — также «роза расцвела», глагол xandï-
dan «смеяться» применительно к цветам представляет собой
стертую метафору со значением «расцветать».
3. «Драгоценный» — murassa', букв, «инкрустированный дра-
гоценными камнями»; «драгоценный кубок» — рот, украшенный
жемчужинами зубов; «рубиновое вино из драгоценного кубка» —
поцелуй [Hafez de Chiraz 2006, с. 324, со ссылкой на X. Джави-
да]. «Жемчужины» — метафора слез. «Рубиновое вино», «драго-
ценный (украшенный драгоценными камнями) кубок» и «жем-
чужины» образуют в бейте лексическое соответствие (tanäsub).
По мнению Хирави (с. 393), бейт — продолжение речи розы. Она
объясняет соловью, что если он хочет достичь свидания, то ради
этого ему придется испытать немало страданий.
Бейт перекликается с последним бейтом «газели-прототипа»:
«Пока Аухади достигнет желанного, ты знаешь, // Сколько же-
чужин ему придется просверлить, описывая твои рубиновые гу-
бы?» Чтобы добиться слова благосклонности или поцелуя от дру-
га, поэту предстоит «просверлить» множество «жемчужин» новых
поэтических смыслов, воспевая его губы; персонажу Хафиза,
чтобы добиться свидания, придется «сверлить жемчуг» слез.
4. «Запах любви» (büy-i mahabbat) — метафора вести о друге.
Хафиз отвечает на бейт 6 газели Аухади: «Кто [лежа] в пыли на
твоем пути надеется [увидеть] блеск (âb, также «вода») лица, //
Пусть лицом метет пыль на том пороге». В газели Аухади отсут-
ствует тема вина, его лирический персонаж надеется (casm dä-
rad, букв, «имеет глаза») своим рабским служением (подметая
пыль лицом) заработать право узреть лицо друга; бейт опирается
на лексическое соответствие (tanäsub) «блеск (âb) — глаз (casm)*.
У Хафиза бейт построен на лексическом соответствии «запах —
Хафиз. Газель № 81
495
нос», образ снижен, ситуация локализована в кабаке, лириче-
ский персонаж мечтает всего лишь о запахе любви (вести о дру-
ге) и своим служением (подметая порог кабака) стремится к бла-
госклонности виноторговца (или виночерпия, ср. газель 9:3).
5-6. Ирам — райский сад на земле, см. коммент. к газели
65:4; намек на Шираз, процветавший при прошлом правителе.
«Трон Джама» — трон великого государя, метафора царского
величия; согласно «Шах-нама», легендарный иранский царь
Джамшид (см. коммент. к газели 12:6), возгордившись из-за ве-
личия своих дел, воздвиг себе престол высотой до небес; на
этом троне он возомнил себя правителем вселенной, за что и
был наказан Богом [Фирдоуси 1957, с. 38-40]. «Чаша, показы-
вающая мир» — здесь метафора мудрого, всевидящего госуда-
ря; о «чаше Джамшида» см. коммент. к газели 33:6. «Недрем-
лющее счастье уснуло» — т. е. судьба изменила. Хирави (с. 396)
предполагает, что в б. 5-6 Хафиз обращается к опустевшему
трону и вспоминает низложенного правителя Шираза, оказы-
вавшего ему покровительство.
В бейте 3 газели Аухади также использован мотив «спящей
судьбы»; ей уподоблен возлюбленный друг, равнодушный к
смертным мукам лирического персонажа: «Если бы тебе захоте-
лось узнать, каков наш день без тебя! // Ведь судьба не должна
спать в ночь смерти!». В бейте Хафиза мотив преобразован —
«уснувшее» счастье принесло беды самому «другу».
7. «Речи о любви ...» — намек на симпатии поэта к свергнуто-
му покровителю [Хирави, там же]. «Положи конец этому разго-
вору» — призыв к виночерпию подготавливает завершение газе-
ли и, быть может, содержит «политический» намек: разговоры о
чувствах к тому, кто теперь в изгнании, вести небезопасно.
8. В финале своей газели Хафиз использует поэтическую
идею бейта Аухади: «В день такого бедствия мы хотели бы про-
явить терпение — // При таких льющихся слезах разве мы
скроем тайну?!» (б. 5); Хирави (там же) отмечает, что здесь поэт
более явно выражает сожаление о прошлом правителе.
Газель 82
^J ^ J^ J1 cA*J ^ *J**> (J Л. ^J d
İj Lkâ. ôlj jl a£ jjj Uaâ> Aa. U
СЛ,
Qii jI^ä aJä jî jlâj jl Ija Cjİj Ij
Ciâj IàAa ôjjj j) a£ t"brtji Lu cJâlj (jjo£
(jjüjj jj (jï_jl jj£ jl dj—aj3 ^ui jj
<**i ^j La jju» jj jSj*. j^juü jl <£ jjj ^jl
АЛП1Л AjuüjS jl aJ Aj aJ jj ^J jl JjJ
dj à j bL (jlijb j j-J iiLi jjuj ^j^Lluj
ùh—*-* r* J—J j^ г**5* с^ь J1
dj àj I jJ UJ ulJ jl JA aJJJAJ jjj jj
v " 1 °i\ \ (jljJ jL lc-J Aj ^jiJLx-aj 1L1& Jj
d-ij le» j jl£ jj A-aA ajac a£ CjüuüJjac
jjIa. jjl Aj aAjS (j\ уь, aJJjj Ал. aI jaI
(Jlıâj LL-a àj^A jl ja* aJjujjS Aj*. (ta5-»-^ JJ
JJJ I JA JA. CİJJjuaA. JjuJ jl Cnih t"<û< ^£j
(Jli_à j LLİ (j jjIS j jj » j a ^ ^^a
A i ^^aJâ h «ibb, JJJjujjj Aj CluijJ <_£İ
Ci_ij Uà jl j jl a£ jjjjÉ a_S <jàjj jl j
496
Хафиз. Газель № 82
497
Bahr: hazaj-i mutamman-i makfûf-i maqsûr
Vazn: mafülu mafä'üu mafâ'ïlu mafä'ü
än-tur-ki I pa-n-cah-ra / ki-dü-saz-ba / ri-mä-rafl
ä-yä-ci I xa-tä-di-d0 / ki-az-rä-hi / xa-tä-raft
i. Тот тюрок с ликом пери, что ушел от меня вчера —
Может, он заметил какой-то изъян, раз ушел дорогой в Хата.
2. С тех пор, как скрылись из виду те всевидящие очи,
Чего лишились наши глаза — никому не понять!
3. Вчера ночью от свечи с выгорающим сердцем не шел
Такой дым, что поднялся над нами из-за горящей печени.
4- Вдали от твоего лица каждый миг из уголков моих глаз
Сходил сель слез и поднимался потоп беды.
5- Мы изнемогли, когда пришла тоска разлуки,
Мы умерли в муках, когда ушло лекарство.
6. Сердце сказало: «Свидание с ним можно обрести мольбой!» —
Я всю жизнь трачу жизнь на мольбы!
7- Зачем нам облачаться в ихрам, раз та кибла не здесь,
Зачем нам усердствовать в беге, раз Сафа ушла от Марва?
8. Вчера лекарь, увидев меня, сказал с сочувствием:
«Увы! Твои муки — за пределами „Канона исцеления"».
9- О друг, приходи проведать Хафиза,
Прежде чем скажут, что он ушел из бренной юдоли.
Комментарий
1. «Изъян» — xatä, также «ошибка», «грех»; омоним xatä —
название города (области) в Восточном Туркестане, место про-
живания тюркских племен; в поэзии этот топоним использует-
ся как наименование страны прекрасных тюрков, а также мес-
та, где добывают лучший мускус. «Ушел дорогой в Хата» — az
498 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
räh-i xatä raft, т. е. отправился в родные края; при других зна-
чениях az räh-i и xatä — «ушел по причине ошибки» (прием
йшт)у т. е. ушел, потому что понял меня превратно.
Зачин газели обращен к адресату, который находится в от-
сутствии [Суди, с. 513], и содержит изящную мотивировку его
отъезда. Высказывалось предположение, что газель, как и пре-
дыдущая (№81), написана в связи с драматическими обстоя-
тельствами, сопровождавшими переход власти в Ширазе от
Инджуидов к Музаффаридам [Hafez de Chiraz 2006, с. 326], со
ссылкой на комментарий [Ахур 1993]. Ее бейты можно тракто-
вать и как оплакивание разлуки с любимым, и как намек на со-
жаление о попавшем в беду покровителе.
2. «Всевидящие очи» — casm-i jahän-bin, букв, «очи, видящие
мир», возможно, намек на свержение и гибель адресата газели
Абу Исхака Инджу. «Чего лишились глаза» — az dïda cihä raft,
букв, «что ушло из глаз», намек одновременно на образ любимо-
го, который скрылся из глаз, и слезы, которые вытекли из глаз;
второе толкование поддерживается тем, что слово та (персид.
мест, «мы, наши») омонимично арабскому mâ'«вода».
3. «Сердце» (<Щ свечи — т. е. сердцевина свечи, фитиль.
«Дым» — dud, стертая метафора тяжких вздохов, ср. «дым вздо-
хов» в газели 8:5. «Поднялся над нами» — bar sar~i та raft, букв,
«пошел над нашей головой», во фразеологич. значении «свалил-
ся нам на голову; приключился с нами». «Горящая печень» (sûz-i
jigar) — метафора страдания; ср. газель 17:6.
4. «Вдали от твоего лица» — dür az rux-i tu, также «[да будет]
вдали от твоего лица», «да минует тебя», формула защиты от
сглаза, ср. сходное обыгрывание прямого и формульного смы-
слов выражения в газели 38:5. «Каждый миг» — dam ba dam,
букв, «миг за мигом», во втором значении — «вздох за вздохом»
(прием ïham).
5. «Изнемогли» — az päy uftädim, букв, «мы свалились с ног».
«Лекарство» (davä) — здесь метафора благотворного присутст-
вия друга. «Ушло лекарство» — возможно, еще один намек на
отъезд в путешествие адресата газели.
6. Второе полустишие может быть понято двояко: как воз-
ражение сердцу, оно советует то, что я и так делаю давным-
Хафиз. Газель № 82
499
давно, или как объяснение собственного поведения, мол, вот
почему я давным-давно предаюсь мольбам, я следую голосу
своего сердца.
7. «Ихрам» — одежда паломников, знаменующая состояние
ритуальной чистоты, см. газель 30:7 и коммент, см. также 70:2.
«Облачаться в ихрам» — намереваться пойти в паломничество в
Мекку. «Кибла» — направление на Ка'бу, а также сама Ка'ба, см.
коммент. к газели 10:2, здесь — метафора друга. «Бег» — sa'y,
также «стремление, усилие», терминолог. ритуальный бег между
холмами Сафа и Марва, один из обрядов паломничества в
Мекку, совершается после обхода (taväj) Ка'бы; паломник «под-
нимается на холм ас-Сафа, оборачивается лицом к ал-Ка'бе,
обращается к Аллаху с мольбой о милости и с просьбой защи-
тить от несчастий, затем спускается до столба (тй), установ-
ленного у подножия холма, от которого бежит до другого столба
у ал-Марва, после чего поднимается на этот холм. Там он обо-
рачивается к ал-Ка'бе, произносит молитву и возвращается на
ас-Сафа. Са'й выполняется семь раз» [ИЭС, ел. ст. «Са*й» Щ. Ер-
маков)].
Смысл первого полустишия: зачем нам стремиться в обитель
друга, если его там нет? Смысл второго полустишия становится
понятен благодаря лексическому значению топонима Сафа
(şafâ «чистота», «радость»): «Зачем нам усердствовать в беге, раз
чистота ушла от Марва» (прием ïham).
В редакции Ханлари во втором полустишии вместо marva
стоит каЪа; тогда смысл полустишия: «Зачем нам прилагать
усилия [в служении], раз чистота покинула Ка'бу».
Смысл бейта: зачем нам облачаться в ритуально чистые
одежды, если святыня в другом месте; зачем нам совершать
обряд бега, если чистота покинула эти места.
Возможно, бейт содержит политический намек на узурпацию
власти Мубариз ад-Дином [Hafez de Chiraz 2006, с. 327]: раз друг
(Абу Исхак) оставил свой трон, Шираз утратил свою привлека-
тельность, и нет желания нести придворную службу.
8. «Канон исцеления» — qänun-i sifä, т. е. свод медицинских
знаний; намек на названия двух знаменитых трактатов Абу
Али Ибн Сины (980-1037): «Канон врачебной науки» (qânunfi-l-
tibb) и «Книга исцеления» (kitäb al-sifä), причем последнее сочи-
500
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
нение посвящено не медицине, а проблемам логики и натурфи-
лософии.
Смысл бейта: ни медицина, ни логика не способны исцелить
страдания любви.
9. «О друг» — если это обращение к адресату газели, то бейт
содержит призыв поскорее возвращаться в родные края и спа-
сти умирающего в разлуке поэта; если же это обращение к
друзьям-собутыльникам, то бейт можно понять как приглаше-
ние прийти проститься, ведь разлука с любимым гибельна и
надежды на исцеление нет. «Бренная юдоль» — där-ifanäf букв,
«обитель гибели».
Газель 83
C±Àj lLÀj ^U^à. (Лп^Ла eilj diu)J j j£
Cj—İj dàj ^Uà, U jj Lui ^ j^jA j jj
Cı_İj CÀj ^lûS jj jS JİjaIS ôLi jjà.
jl j \ <^А AjİUj jlatâb (jbaJj cliLjJa jJ
^J ^J Lsé^^ÙJ^ u^ ^ 'j ^JJ-^ >
jb (^L—j Jj ^1 j_jLj Jaäj I j c5j) Д»иг>
^—* J £* J lf№* J&J*Jl*Jt <*№•* ß
jj j jj_j (jjj jl^b 6>à jt «^b ß
^-*—*j ^J c^1 J*^ lM^ J ù^ U^ JJ
(JÄUbU Jİ
Cl_İj dj_àj ^1 jjujU ^jl nniuA (jb-* jS
Ci—İj Ciàj ^Ia. Aj jS ^^j 4a. (jj!jl <_$Ь
Bahr: ramal-i mutamman-i maqsûr
Vazn: fâ 'ilâtun fâ 'ilâtun fâ 'ilâtun fâ Hlât
gar-zi-das-tî / zul-fi-mus-kî / nat-xa-tä-уг / raf-tP-raft
var-zi-hin-du / yî-su-mâ-bar / mâ-ja-fà-yï / raf-iP-raft
i. Если y твоего мускусного локона случилась ошибка — ну и пусть!
И если от Вашего индийца нам досталось — ну и пусть!
501
502 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. Если молния любви сожгла урожай носящего власяницу — так сожгла,
Если счастливец-шах обидел нищего — ну и пусть!
3- В тарикате нет места сердечным обидам, подай вина!
[Если] увидишь мутность, когда явилась ясность, — ну и пусть!
4- Для любовной игры требуется выдержка, о сердце, крепись,
Одолела печаль — ладно, случилась ошибка — ну и пусть!
5- Если сердцу стало тяжко от беглого взгляда владыки сердца — ладно,
И если между душой и душевным другом случилась тяжба — ну и пусть!
6. Из-за доносчиков возникло столько неприятностей, однако
Если между друзьями вышла размолвка — ну и пусть!
7- Проповедник, смотри, не ругай Хафиза, что он ушел из обители!
Что ты вяжешь ноги свободному? Если он пошел куда-то — ну и пусть!
Комментарий
Рифма газели сопровождается глагольным радифом raft raft
(букв, «ушел, ушел»), где первый глагол raft в каждом бейте яв-
ляется сказуемым полустишия (xatä raft, jafä raft и т. д.), а вто-
рой — эмоциональным восклицанием со значением «ну и
пусть!», «не заслуживает внимания!», «что было, то прошло!».
1. «Случилась ошибка» (xatä raft) — т. е. допущена жесто-
кость и несправедливость. «Индиец» (hindü) — переноси, «чер-
ный», в стихах Хафиза выступает как определение «черных»
феноменов красоты — родинки (ср. 3:1) или локона (ср. 365:3);
Хирави (с. 375) и Рахбар (с. 115) полагают, что во втором полу-
стишии речь идет о родинке (ср. газель 304:5), а Суди (с. 418) —
о локоне или глазе. Поскольку в Диване немало случаев, когда
второе полустишие является подтверждением первого, можно
предположить, что «индиец» здесь — метафора «мускусного /
черного локона».
2. «Носящий власяницу» — pasmîna-püsy букв, «носящий
одежду из грубой шерстяной ткани», т. е. суфий, одетый в хир-
ку, аскет; ср. газель 407:8. «Урожай» (xirman) — метафора жиз-
ни, естества, см. комментарий к газели 76:4. «Счастливец-шах»
Хафиз. Газель № 83
503
(säh-i käm-rän) — ср. выражение «счастливец-падишах» и схо-
жий мотив в газели 77:3. Второе полустишие — аналогия и
разъяснение (tamtïl-u tanvîr) [Суди, с. 519]: как шах, проводя-
щий в довольстве свою жизнь, не считается с нищим, так и лю-
бовь может сбить с праведного пути и опозорить любого суфия
и аскета [Хирави, с. 275].
3. «Тарикат» — см. коммент. к газели 10:1. «Ясность» — şafâ,
также «чистота», «прозрачность (о вине)», переносно — «искрен-
ность, чистосердечие». «Муть» — kadürat, также «мутность» (в
частности, непроцеженного вина), переносно — «обида, огорче-
ние». «Явилась ясность» — şafa-yî raft, глагол raftan — «идти,
уходить; подходить, приближаться», здесь, согласно [Диххуда,
ел. ст. raftan, рубрика vâqi' sudan с данным бейтом в качестве
примера], означает «являться, возникать». Второе полустишие
вмещает два смысла: всякие огорчения и обиды, что возникают
между друзьями, исчезают, если проявляется искренность и
чистосердечие / если появляется прозрачное вино. Фушекур
переводит şafâ-yî raft во втором полустишии как «ушла яс-
ность»: «Quelque ternissure que tu vois, si passé la pureté, c'est
passé!» [Hafez de Chiraz 2006, с 328].
4. «Любовная игра» — Hsq-bâzï, тяготы любви; в отличие от
русского выражения, подразумевающего «ненастоящую» лю-
бовь или эротические забавы, персидская метафора представ-
ляет любовь как азартную игру, где на кон ставят жизнь, или
состязание на ристалище с неодолимым соперником, ср. газель
50:7, где речь идет о «правилах любовной игры». «Случилась
ошибка» — намек одновременно на собственный проступок и
на несправедливость со стороны друга; ср. бейт 1, где говорит-
ся об «ошибке» локона.
5. «Душа и душевный друг» (jän-ujänän) — т. е. душа самого
влюбленного и его возлюбленный друг, что соотносится с «серд-
цем» (dil) и «владыкой сердца» (dil-där) из первого полустишия.
«Тяжба» — mäjarä, термин, обозначающий обряд примирения в
суфийской общине, см. комментарий к газели 17:7. Использо-
вание этого слова вкладывает в рассказ о размолвке влюблен-
ных намек на конфликт лирического персонажа с суфийской
ханакой и ее шейхом.
504 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
6. «Доносчик» — swcan-Ğin, букв, «собирающий слова», также
«сплетник», «ябедник», входит в число конвенциональных пер-
сонажей газели, однако данное слово в Диване Хафиза встре-
чается всего один раз, тогда как его арабский синоним gammaz
более употребителен, но используется метафорически, см. ком-
мент, к газели 73:3. Возможно, это редкое в газели слово наме-
кает на какой-то реальный конфликт в жизни поэта, например,
ссору с завистливыми соперниками.
7. «Проповедник» — один из отрицательных персонажей, про-
тивостоящий риндам-влюбленным, ср. газели 35:1, 52:6. «Оби-
тель» — ханака (xänaqäh)y см. коммент. к газелям 47:3 и 63:3.
По мнению Хирави (с. 377-378), газель представляет собой
рассказ о ссоре Хафиза с суфиями из некой ханаки и их настав-
ником, завершившейся разрывом поэта с этим братством. Дей-
ствительно, в газели сообщается о том, что лирическому герою
«досталось» (б. 1), по-видимому, за то, что любовь сбила его с пу-
ти (б. 2), упоминаются сердечные обиды (б. 3), говорится о со-
вершенной ошибке (причем не ясно, кем) (б. 4), о тяжбе и выяс-
нении отношений (б. 5), доносчиках, неприятностях и размолв-
ках (б. 6) и, наконец, о разрыве отношений и уходе из ханаки
(б. 7). Хирави реконструирует ситуацию так: вначале между по-
этом и суфиями какой-то ханаки установились близкие отноше-
ния, но постепенно гордыня, эгоизм и лицемерное поведение
суфиев стали причиной столкновений, ссор, выяснения отноше-
ний и отдаления от них поэта.
Добавим, что в отличие от многих других стихов Хафиза, об-
личающих суфиев, здесь лейтмотивом является незначитель-
ность случившегося, что отражено в радифе. Общая тональность
газели примирительная — не случайно в бейте 5 присутствует
слово mäjaräy означающее как тяжбу, так и особый суфийский
ритуал примирения ссорящихся.
Газель 84
л \ \ ^ \ iA 3 L-j Uj lLÀj jjjc lLjSj
^ ** ôjI_j i_jjj^ 1 j^û Jjj л£ ^j ^aj
di_âj a!j_ä jû ^jl j\ -ij—j dUjui ljlIS
JjC ja*aA diÄ.jjuj jljJ -Ha. Ajjj l-jIj jû
ljl_İLû d j 4__£ kil^ t-t^ w^; (jie j^-P
505
506 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: muzâri'-i mutamman-i axrab-i makfûf-i maqsûr
Vazn: mafülu fâ'ilâtu mafâ'îlu fâ'ilât
sä-cfi-bi I yä-r°-bä-da / ki-ma-hî-şi / yä-m°-raft
dar-dah-qa / dah-ki-maw-si / mi-nä-mü-su / nä-m°-raft
i. Виночерпий, неси вина, ведь месяц поста ушел,
Подай кубок, ведь пора чести и славы прошла!
2. Ушло славное время, давай наверстаем
Ту жизнь, что прошла без бутыли и чаши!
3- Напои меня так, чтобы я не сознавал в самозабвении,
Кто пришел [ко мне] на ристалище воображения, кто ушел.
4- В надежде на то, что нам достанется глоток из твоего кубка,
Мольбы к тебе шли с кабацкой скамьи по утрам и вечерам.
5- У сердца, которое было мертво, ожила душа,
Когда толика аромата от благоухания вина достигла его обоняния.
6. Аскет возгордился, не сумел пройти путь благополучно,
Ринд дорогой мольбы пришёл в обитель благополучия.
7- Вся наличность сердца, что была у меня, потрачена на вино —
Монета-то была поддельной, потому и пошла на запретное.
8. Сколько можно сгорать в пылу обета, как алоэ,
Подай вина, ведь жизнь прошла в несбыточных мечтах.
9- Больше не поучай Хафиза, ибо не найдет дороги
Заблудший, которому досталось вволю чистого вина.
Комментарий
В Диване Камала Худжанди есть газель с теми же метром и
рифмой, и со схожим радифом (sud вместо raft) [Камал Худ-
жанди 1975, с. 442, № 420]: sâqî biyär bâda ki 'id-i şiyâm sud //
ân mah ki bûd mâni'-i rindi tamâm sud (О виночерпий, неси
Хафиз. Газель № 84
507
вина, ибо пришел праздник [окончания] поста, // Закончился
тот месяц, что был препятствием для риндства).
1. «Месяц поста» (mäh-i şiyâm) — рамазан (рамадан), оконча-
ние поста является темой многих зачинов и, реже, концовок
газелей в Диване Хафиза, см., например, 18:1; 20:1; 46:11. «По-
ра чести и славы» (mawsim-i nämus-u nâm) — ироническое оп-
ределение поста как времени, когда у лицемеров появляется
дополнительная возможность демонстрировать благочестие и
зарабатывать славу святых людей.
2. «Ушло славное время» — vaqt-i 'aziz roß, т. е. прошло доро-
гое всякому мусульманину время поста; во втором, шутливом
смысле — потеряно драгоценное время, которое можно было бы
потратить на питье вина. «Наверстаем» — qazâ kunîm, глагол
qazä kardan имеет терминологическое значение «совершать
пропущенную молитву», отсюда возникает скрытое уподобле-
ние питья религиозному ритуалу — совершению молитвы.
3. Смысл: о виночерпий, помоги мне при помощи вина об-
рести самозабвение, т. е. освободиться от всех мирских помы-
слов, что отягощают сознание. Сходное обращение к виночер-
пию «напои меня (mast-am кип) так, чтобы я полностью забыл о
себе» не раз встречается в Диване 'Ираки (в tarjCât и tarkïbât).
4. «В надежде на то, что» — bar bûy-i ân кг, букв, «с ароматом
того, что»; тема аромата, долетающего от вина, развита в сле-
дующем бейте. «Кабацкая скамья» — mastaba, «скамья», «камен-
ная скамья», в персидской поэзии — питейный дом, лавка, где
торгуют вином; в Диване Хафиза встречается четыре раза (64:5;
84:4; 269:4; 436:4), явдяясь одним из синонимов, обозначающих
главную «сценическую площадку» — место, где пьют вино.
5. «Аромат» (buy) — в любовной поэзии это также «весть» от
возлюбленных, которую ветер приносит влюбленным. «Благо-
ухание вина» — nasïm-i may, букв, «ветер вина», Хуррамшахи
(с. 403) предлагает понимать как «благоухание, исходящее от
вина»; подробно о коннотациях nasim в Диване Хафиза см.
[Хуррамшахи, с. 458-459].
6. «Обитель благополучия» — dar al-salâm, название одного
из восьми райских садов, восходит к айату Корана: «Уготована
508 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
им обитель благополучия (dâr al-salàm) у Господа их. А Он —
покровитель их за то, что они совершали» [6:127, перев. М.-
Н. О. Османова].
Смысл: аскет возомнил себя праведником, а на самом деле
помышлял только о рае как о награде за свое благочестие; он не
сумел пройти жизненный путь как подобает и в Судный день
был наказан за лицемерие; ринд стремился только ко встрече с
Другом и потому прямиком попал в рай. О противопоставлении
ринда и аскета см. газель 7:2 и примеч.
7. «Наличность сердца» — naqd-i dil, сердце, подобное полно-
весной золотой монете. «Поддельная монета» — qalb-i siyah,
фальшивые деньги, во втором значении «черное сердце» (прием
ïhâm), ср. контекст 49:4. В бейте предложено остроумное объ-
яснение пьянства: поскольку сердце лирического персонажа
было замутнено привязанностью к мирскому, оно было «черным
сердцем» или фальшивой монетой, от которой стоило избавить-
ся, купив запретный товар — вино.
Бейты 6 и 7 сложным образом перекликаются с бейтами 4 и
5 указанной газели Камала Худжанди. У Камала платой за вино
являются атрибуты суфвд — хирка и четки: «Много рубищ
(xirqa), что оказались в лавке виноторговца, // Четки и одеяния
ушли в залог за сласти и чашу [вина]» (б. 4). То, что запретно
для святош, дозволено истинным влюбленным: «Не говори с ас-
кетами про пьянство и вкус любэи, // То, что для влюбленных
дозволено, для них запретно!» (б. 5).
8. «Обет» — tawba, также «раскаяние, покаяние», имеется в
виду обет не пить вино. «Алоэ» — 'ûd, алойное дерево каламбак,
древесина которого при сгорании распространяет душистый
запах; во втором значении 'ûd — название струнного музы-
кального инструмента, напоминающего лютню (прием îhâm),
второй смысл строки: «Сколько можно сгорать в пылу обета>
как лютня». Этот смысл связан с обычаем разбивать чаши и
бросать в огонь музыкальные инструменты в знак прощания с
разгульной жизнью [Хирави, с. 389]. «В несбыточных мечтах»
(sar-i sawdâ-yi xâm) — т. е. в мечтах о том, что удастся сдер-
жать обет и вести праведный образ жизни.
Хафиз. Газель № 84
509
9. «Чистое вино» (bäda'-i nab) — вино высшего качества, так-
же — вино любви, вино истины. «Досталось вволю» — Ъа кат
raft, во втором значении «попало в глотку» (прием îhâm).
Комментаторы расходятся в понимании этого бейта. Суди
(с. 525) дает объяснение в лирическом ключе: «Не родился еще
человек, который не испил бы в этом мире вина любви. Хафиз
опьянел от вина любви к другу и заблудился в долине любви. Не
давай ему советов, ибо тот, кто попал в долину любви, не станет
искать дороги назад». Рахбар (с. 118) предлагает мистическую
трактовку: «Больше не поучай Хафиза, ибо заблудившийся на
улице любви и выпивший чистое вино познания по желанию
сердца больше не обращает лица к материальному миру и не
идет этим путем». Хирави (с. 391) предлагает более широкую,
философскую интерпретацию: «Хафиз потерял свой путь в рас-
крытии истины, стал искать помощи в вине и теперь в опьяне-
нии не может найти свой путь, не упрекай его». Ш.-А. Фушекур
усматривает в бейте прямую речь советчиков Хафиза: «Прекра-
ти советовать Хафизу, говоря: „Не нашел дороги // заблудив-
шийся человек, который пристрастился к чистому вину"» [Hafez
de Chiraz 2006, с. 330].
Газель 85
^ à JH J frt^ J^ J1 A{ ^-^ Ci J J
Jjj бЛл! c-XJj Aj c*Lj La l"*^'<~ j\ ^jS
dià^J j aJ.1Luj JJ <jij j£ 4j j <Jjüuü JJ jL
a—JİJİjÂ. ^LaJ JJä. j AajÜ La a£ <jjaj
CjâjJ j fü-liAÛ j-aüiJ ôjjju» jit <^J jj
JjS ^jäIjä. cijİ^ La jj a£ AjJİJ öjjİc
(J ^ j 1 t"fll İTİİ J (JJUIÄ. (JAÄ. jj (jLoA Ûjİ
Cj—aj_j j ji j\u?*1 u^^j cjLLuJS jj
*JÛj£ (^jlj j 4JU U-ui <LaA 2ââla> jâ^aA
Cî àj_j j ajJjLuijj <jictaj <j Lujû (^l£
Bahr: ramal-i mutamman-i maxbun-i maqsur
Vazn: fä 'ilätun fa 'ilätun fa 'ilâtun fa 'üät
sar-ba-ü-az / la-bi-la'-las / na-ca-sï-dî / mu-bi-raft
rû-yi-mah-pay / ka-ri-û-sï / r°-na-dï-di / mu-bi-raft
1. Мы не отведали шербета его рубиновых губ, и он ушел,
Не нагляделись на его луноподобное лицо, и он ушел.
2. Должно быть, наше общество здорово ему наскучило:
Он навьючил поклажу, нам не досталось и пыли, и он ушел.
510
Хафиз. Газель № 85
511
3- Много раз мы читали «Фатиху» и «Йеменский талисман»
И кричали ему вслед суру «Очищение» ... И он ушел!
4- Нас обманывали — мол, ты к нам вернешься,
Видишь, мы на это попались. И он ушел!
5- Он прогуливался по лугу красоты и прелести, однако
Мы не погуляли по цветнику свидания с ним, и он ушел.
6. Подобно Хафизу, мы рыдали и стенали всю ночь напролет:
«О горе, мы не успели проститься с ним, и он ушел!».
Комментарий
Газель с радифом «ушел» (biraft) принадлежит к числу «стихов об
отъезде друга», развивающей лирическую тему «ухода каравана
возлюбленной», восходящую к бедуинской любовной поэзии;
подобных стихов немало в диване Хафиза, см., например, газе-
ли 19; 29:3; 57:5-6; 82; 350:1.
1. «Шербет» — sarbat, сладкий прохладительный напиток из
фруктового сока или сиропа, также — микстура, тонизирующее
средство. В традиционной медицине использовали микстуру,
укрепляющую сердце, куда добавляли толченый яхонт (yâqût)
[Хирави, с. 372] или рубин (la'lj. Смысл первого полустишия —
ДРУ1" уехал, а мы так и узнали сладкого вкуса его алых губ —
обогащается за счет специального значения sarbat: друг уехал,
а мы так и не получили из его губ «рубинового лекарства» для
собственного сердца.
2. «Нам не досталось и пыли» — ba gard-as narasidim, букв,
«мы не достигли его пыли», т. е. он покинул нас так быстро, что
мы не успели увидеть облака пыли, поднятого уходящим кара-
ваном.
3. «Фатиха» —fatiha, букв, «открывающая», сокращенное на-
звание первой суры Корана — «Открывающая книгу», которая
читается при начале любого дела, в частности, при отъезде;
«Йеменский талисман» — hirz-i yamanı, особая охранительная
молитва, которой, по преданию, Пророк обучил эмира право-
верных 'Али во время путешествия в Йемен. «Кричали вслед
512
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ему» — az pay-as damïdïm, или — «читали вслед за тем» [Рахбар],
во втором значении «дули на него» (прием ïhârn). Сура «Очище-
ние» — ixläs, в переводе Османова — «Искренность», в переводе
Крачковского — «Очищение (веры)» — 112 сура Корана, кото-
рую читают, в том числе, отъезжающему в путешествие, после
чего троекратно дуют на него.
Смысл: мы много раз провожали друга в путь со всеми подо-
бающими обрядами, а теперь мы совершили такой проступок,
что он уехал, не простившись с нами.
«Много раз» — bas ki, можно понять и как «сколько ни», тогда,
согласно Суди (с. 527) и Рахбару (с. 119), смысл бейта таков:
сколько мы ни читали «Фатиху» и Йеменскую молитву, сколько
ни произносили суру «Очищение» — все это не оказало действия,
он все равно ушел; а мы хотели, чтобы друг отказался от путе-
шествия.
4. В данной редакции бейта (по Казвини — Гани) Рахбар ви-
дит фигуру iltifat («поворот», смена грамматического лица объ-
екта описания в пределах высказывания): лирический персо-
наж обращается к другу во втором лице «ты вернешься», «ты
видишь», а затем говорит о нем же в третьем лице — «он ушел».
Первое полустишие бейта в редакции Ханлари отличается: «Он
(друг) обманывал нас — мол, я не покину улицу привязанности
(т. е. ту улицу, где меня любят)», см. [Хирави. с. 373], тогда «ви-
дишь» оказывается обращением не к другу, а к друзьям или
слушателям.
5. «Прогуливался» — camän sud, также «красовался, грациоз-
но выступал»; «мы не погуляли» — nacamîdïm, также «мы не по-
красовались», «мы не полюбовались». Camän, сатап «луг» и
nacamîdïm образуют в бейте этимологическую фигуру istiqäq-,
состоящую в употреблении однокоренных или псевдоодноко-
ренных слов.
Смысл бейта: друг был воплощением красоты и совершенст-
ва, однако мы не оказали ему должного внимания, и он ушел.
Здесь, как и ранее, в б. 2, содержится намек на оплошность
«влюбленного», нарушившего каким-то образом кодекс любов-
ного поведения.
6. «Всю ночь» — hama sab; Хирави (с. 374) отмечает, что по-
нимание «все ночи» было бы ошибочным, в классической по-
Хафиз. Газель № 85
513
эзии это сочетание преимущественно употреблялось в значении
«всю ночь напролет».
Стихи представляют собой образец «связной» (musalsal) газе-
ли, все бейты которой объединены темой отъезда друга и по-
следовательно развивают лирический сюжет (ср. газ. 8; 26).
Возможно, они написаны по случаю «последнего путешествия»,
безвременной кончины кого-то из дорогих поэту людей. На это
указывает и особый характер отъезда (б. 2, герою не поспеть
даже за пылью от каравана), и его внезапность, неподготовлен-
ность (б. 3), и «невозвратность» (б. 4), и более всего — финал, в
котором вместо характерной для газели-прощания мольбы о
встрече выражено лишь сожаление «не успели проститься!».
Газель 86
Cl_â jS j£juj J J ^jiuul J—J AİuU ч£ ^ jS
ä j jâ<^ (jjuAÄ jjâ. j <л jj л£ ^S j jjuj jA
Cj—iß ß* fj jl£ ^ ^îjû jJS jjş.
<1jüJ.1^jj tibial -1l£ ClİA Aj^aâ Jjj
di â jS jnVî4* (jâuui 4-£ ^jjjü jlâj 4j j£
^—*j£ JJ 4—^ j'jj2 J*^ JJ* ÂÎJ*3
Bahr: muzäri'-i mutamman-i axrab-i makfüf-i maqsür
Vazn: mafülu fâ'ilâtu mafâ'ûu fâ'ilât
sâ-cff-bi I yâ-ki-yâ-r° / zi-rwc-par-da / bar-gi-rifl
kâ-rî'Cİ I râ-ği-xal-va / ti-yàn-bâ-z? / dar-gi-rift
514
Хафиз. Газель № 86
515
i. Виночерпий, поспеши, ведь друг снял завесу с лица,
У светоча затворников вновь дела в разгаре.
2. Та угасшая свеча снова загорелась,
А этот древний старик снова обрел молодость.
3- Любовь пустилась на такие уловки, что муфтий сбился с пути,
Друг явил такую милость, что враг насторожился.
4- Что за диво эти сладкие и пленительные речи,
Словно бы твоя фисташка засахарила слова.
5- Поскольку бремя печали истерзало нам душу,
Господь прислал наделенного дыханием 'Исы и снял [бремя].
6. Всякий кипарисостанный, что красовался пред луной и солнцем,
Стоило тебе прийти, принялся за другие дела.
7- Семь куполов небес полнятся звучанием этой повести,
Погляди на недалекого, что обошелся немногими словами!
8. Хафиз, у кого ты научился этим словам, коль скоро судьба
Сделала из твоих стихов оберег и оправила в золото?!
Комментарий
1. «Светоч затворников» — äräg-i xalvatiyän, метафора лица
друга. «У светоча ... дела в разгаре» — kär-i äiräg ... dar-girift, т. е.
лицо друга, открытое влюбленным, сияет; dar-girifian — букв.
«разгораться, вспыхивать» (о лампе, свече), переноси, «оживлять-
ся, вспыхивать» (о беседе, торговле, делах); Хирави (с. 379) отме-
чает, что такое совмещение значений отражено в следующем
обычае: на базаре с наступлением темноты было принято вхо-
дить в лавку торговца со словами ciräg rawsan «яркого [вам] све-
тильника!», что также означало пожелание оживленной торговли.
Идея: виночерпий, скорее неси вина, мы выпьем по случаю
того, что друг вернулся и его лик вновь сияет, озаряя обитель
влюбленных.
516
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
2. «Угасшая свеча» — sam'-i sar-girifta, согласно толкованиям
[Рахбар, с. 120, Хирави, с. 389, Суди, с. 530] — свеча, которой
подрезали фитиль, чтобы она лучше горела. Хуррамшахи (с. 416)
отмечает, что так называют и новую, не горевшую свечу, и до-
бавляет, что выражение заслуживает дополнительного изучения.
Поскольку бейт продолжает тему matla', можно предложить еще
одно значение sar-girifta — «с покрытой головой», «запечатанный»
(см. газель 478:2, где речь идет о залитом варом, «запечатанном»
горле хума). Тогда sam'-i sar-girifta можно понять как «свеча с
покрытой головой», т. е. негорящая, потушенная свеча, еще одна
метафора друга, скрывшего свой лик под завесой (ср. б. 1).
Смысл: друг, который не появлялся перед влюбленным, вер-
нул ему свою благосклонность, и тот от радости помолодел.
3. «Пустилась на уловки» — 'isva däd, т. е. обманула и увела с
правильного пути, о двух значениях 'isva dädan («обманывать» и
«кокетничать») в диванах Хафиза и других поэтов см. [Хуррам-
шахи, с. 416-417]. «Муфтий» — знаток шари'ата, досконально
изучивший правила благочестивого религиозного поведения; у
Хафиза муфтий принадлежит к классу оппонентов лирического
персонажа, наряду с аскетом, шейхом и т. д., см. примеч. к газе-
ли 7:2. «Муфтий сбился с пути» — т. е. муфтий утратил благочес-
тие. В редакции Ханлари в бейте вместо mufti употреблено taqvä
«благочестие, праведность». «Враг насторожился» — 1. враг (со-
перник) стал опасаться, что теперь друг лишит его благосклонно-
сти; 2. враг (завистник) стал бояться самого лирического персо-
нажа, который возвысился благодаря вновь обретенному покро-
вительству.
4. «Что за диво» — zinhar, чаще употребляется как предостере-
гающее междометие «берегись!», «осторожно!», «смотри!», здесь,
как отмечено у Хуррамшахи (с. 417), использовано для выраже-
ния удивления и восхищения. «Твоя фисташка» — стандартная
метафора смеющихся или говорящих уст, основана на уподобле-
нии их полураскрытой фисташке. «Засахарила» — слова уподоб-
лены орехам или фруктам, которые принято покрывать сахар-
ной глазурью. Фисташки, чтобы они раскрылись, долго варят в
соленой воде, отсюда — мотивация шутливого удивления: как
это соленая фисташка так засахаривает слова?!
Хафиз. Газель № 86
517
5. «Душа» — xâtir, также «сердце», «думы», «душевное состоя-
ние, настроение». «Наделенный дыханием 'Исы» ['isâ-dam) —
способный исцелять и оживлять, см. примеч. к газели 36:7. Су-
ди (с. 533) дает толкование в контексте предыдущих бейтов:
«Из-за разлуки с другом наша душа (xâfir) исполнилась горя и
печали, но Всевышний послал нам друга и полностью освобо-
дил нас от бремени печали». Хирави (с. 380) считает, что речь
идет о появлении некоего «утешителя»: «Поскольку наша душа
была изранена печалью, Бог послал нам такого человека, обще-
ние с которым, как дыхание 'Исы, оживляет мертвого; в его
обществе наша душа исцелилась».
6. «Красовался» — husn mïfuriuct, букв, «продавал красоту»;
глагол furûxtan «продавать, сбывать, торговать» и его производ-
ные нередко встречаются в Диване Хафиза со значением «вы-
ставлять напоказ» с оттенком хвастовства или лицемерия, ср.
газ. 12:3 (masturi furûxtan «продавать трезвость»), 20:2 {zuhd-
furusân «торговцы воздержанием»), 71:8 {xud-furûsân «продаж-
ный люд», букв, «торгующие собой»). «Принялся за другие де-
ла» — т. е. перестал красоваться, признал превосходство адре-
сата газели.
7. «Семь куполов небес» — аллюзия к Корану: «Неужели вы не
видите, что Аллах создал семь небес, одно над другим, // что
среди них Он поставил луну [источником] света, а солнце сде-
лал светильником?» [71:14(15)-15(16), пер. М.-Н. О. Османова].
«Эта повесть» {in qissa) — повесть о любви, объединяющая всех
влюбленных, ср. газель 39:5 и коммент. к ней. «Недалекий» —
kütah-nazar (букв, «с коротким взглядом»), «близорукий», «огра-
ниченный». «Обошелся немногими словами» — swcan muxtasar
girift, т. е. попытался расказать о любви в немногих бейтах;
фразеологическое значение muxtasar giriftarı «считать незначи-
тельным, ничтожным» создает второй смысл (прием İham): «не
придал словам значения», т. е. не отнесся к повести о любви с
должной серьезностью.
8. «Оберег» — ta'viz, араб, «заклинание» от корня *-v-z, «при-
бегать к защите, просить о помощи»; две последние суры Кора-
на начинаются со слов: «Скажи: „Прцбегаю я (а'щи) к Господу
рассвета*» [113:1] и «Скажи: „Прибегаю (а'щи) к Господу лю-
дей"» [114:1]. Поэтому суры «Рассвет» и «Люди» получили назва-
518 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ние al-mu'avvazatayn «две дающие убежище», согласно коммен-
таторской традиции, благодаря ниспосланию этих сур Мухам-
мад смог защититься от иудейского колдовства. Первоначально
слово ta'vïz означало устные молитвы о защите, позднее сложи-
лась практика изготовления особых оберегов в виде записки
или металлической пластинки с текстом из «дающих убежище»
сур или с другими айатами Корана [Хуррамшахи, с. 418], см.
также коммент. к газели 60:1.
Образ бейта — «стихи обладают такой силой, что судьба ис-
пользует их в качестве оберега» — выражает самовосхваление
поэта; по мнению Хуррамшахи (там же), Хафиз позаимствовал
его из стихов Камал ад-Дина Исфахани (ум. 1237): «Судьба в
виде оберега привязала к руке // Каждую касыду, которая
сложена в твое восхваление». Однако, у Камал ад-Дина акцент
сделан на восхвалении адресата: властитель столь могуществе-
нен, что сама судьба нуждается в его покровительстве и носит
на руке восхваляющие его стихи, как люди — айаты Корана. У
Хафиза акцент изменен: могуществом наделены сами стихи,
столь небывалая речь может быть лишь ниспослана свыше. На-
меки на божественное ниспослание собственных стихов, в ча-
стности, через Джабраила (сообщавшего суры Корана Мухам-
маду), встречаются в ряде газелей Хафиза (37:3, 57:7, 70:3).
Газель 87
Cj àj_£ jl JJ^ <J $_* (JUjI 4j ^ jl
• ^ *« ÛJ—£ ClujI ja, jbjjli. jl j ^Lial
dl ul! (JA AİLuJ jJ <_£ Ajfi^J (jiSl ^Jjj
LÜJ_âj-S (jLûjudl jJ Л£ CIujjUİaju) JJjuüJJÄ.
LİIojjJ <_£ jJ J C-XJJ jl Jjj aJ 4Ü (JS Cluil JÄ^-O
lLl_İj__£ (jLaû jJ ^jluij Lu-a djjJC* jl
a^—Аз-* j^^ j—^ j^ * ^ j—j öJjjüüI
lLl_İj—£ (jLlA JÛ Ajjâlc. <Jflİj JÄ. (JİJJÛ
L-L.
■Âjjuü ^J^ ^ jC-Luı (Jjjİ jjj jl
dıijS (jl jj ^Luj (jiajlc (juSc» j (jİ3lS
jL—JL-â jjIujI jUbû ^jS 4j j^juj aAİja
Cj İjS jU jjâJ £*Ь A—S U-Luà Jjj
■ı-sP-* ch^ J1* J** 4* > ^ J> C^
(Jj àjS ù'J^ cJ^J J -^îjJ ^f^ (^ j'
û jklijj (jjlü ûj—^ A—* <-^ ^J^ J^
ljûj^ JİjC. jl jja. ^ ^jİ Ajaj a£ (j-S jIS
519
520 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Ba/?r: muzäri'-i mutamman-i axrab-i makfuf-i maqsur
Vazn: mafulufä'üätu mafä'uufä'ilät
hus-nat-ba / it-ti-fä-qi / ma-lä-hat-ja / hûn-gi-rift
ä-ri-ba I it-ti-fä-q0 / ja-hân-mî-ta / vän~gi-rifi
ı. Твоя красота вместе с изяществом завоевали мир,
В самом деле — объединившись, можно завоевать мир.
2. Свеча хотела разгласить тайны затворников,
Слава Богу, тайна сердца подействовала на её язык.
3- От того скрытого огня, что находится у меня в груди,
Солнце — [всего лишь] факел, который вспыхнул на небесах.
4- Роза хотела рассказать о красоте друга —
Из-за ревности ветра дыхание стеснилось у нее во рту.
5- Я спокойно шел по краю, как циркуль,
Под конец круговорот судьбы, как точку, поместил меня в центр.
6. Страсть к чаше с вином сожгла мой урожай в тот день,
Когда в ней вспыхнул огонь от отблеска лица виночерпия.
7- Хочу уйти на улицу магов, отряхнув рукава
От тех невзгод, что держатся за подол конца времен.
8. Пей вино, ибо всякий, кто подумал об исходе мирских дел,
Легко отрешился от печали и взял тяжелый кубок.
9- На лепестке розы кровью тюльпана начертали:
«Тот, кто созрел, выпил вино, подобное багрянику».
ю. О Хафиз, раз из твоих стихов каплет вода красоты,
Как может завистник находить в них изъяны?!
Хафиз. Газель № 87
521
Комментарий
Газель с теми же метром (muzari*), рифмой (-ân) и радифом (gi-
rift) имеется в Диване Камала Худжанди [Камал Худжанди
1975, с. 188, № 168].
1. «Вместе с ...» — Ъа ittifâq-î; «объединившись» — Ъа ittifâq,
также «случайно, непредумышленно» (прием îhâm). Дополни-
тельный смысл второго полустишия «В самом деле — мир мож-
но завоевать по случайности», возможно, содержит некий
ехидный политический намек.
Хуррамшахи (с. 420) отмечает связь зачина газели с бейтом
из поэмы Низами «Лайли и Маджнун»; в главе, посвященной
второй битве Науфала с племенем Лайли, рассказ о победе вой-
ска Науфала сопровождается утверждением: «Расстройство
[рядов] приходит из-за раздоров, // Победа рождается из еди-
нения {az ittifâq)* [Низами 1993, с. 506].
Ш.-А. Фушекур видит в обсуждаемом бейте Хафиза призыв
к единению, обращенный к Шаху Шуджа' и его братьям, не-
сколько лет после смерти отца Мубариз ад-Дина боровшимся
друг с другом за престол Шираза [Hafez de Chiraz 2006, с. 336].
Газель Камала начинается с описания победоносной красо-
ты: «Твой локон, бросающий аркан, захватил страну души, //С
таким арканом можно захватить всю землю! // Как турки ме-
чом завоевывают царство, // Так твой глаз взглядом завоевал
царство нашего сердца» (б. 1-2). В бейте Хафиза образ из ука-
занной газели Камала «красота-завоеватель» соединен с сентен-
цией Низами о том, что один в поле не воин: красота восхва-
ляемого победоносна потому, что она действует не в одиночку,
а в союзе с изяществом.
2. «Затворники» — здесь «влюбленные», см. коммент. к газ.
33:1. Первое полустишие проецируется одновременно на два
поэтических представления о свече — свече-друге влюбленных
и свече-враге влюбленных: 1) свеча горит и тем самым как бы
выдает тайну всех влюбленных, сердца которых тоже охвачены
пламенем; 2) свеча горит и тем самым выдает посторонним (за-
вистнику, мухтасибу) место уединения влюбленных. Ср. бейт
Са'ди: «Свечу нужно вынести из этого дома и убить, // Чтобы
она не рассказала соседу, что ты — в нашем доме» [Са'ди, Кул-
лиййат 1996, с. 656, газель № 505, б. 10]. В первом случае «тай-
522 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
на сердца» свечи — огонь любви, во втором, согласно Хирави
(с. 383) — огонь ревности или зависти. «Подействовала на язык»
(dar zabân girift) — по мнению комментаторов, образ можно
объяснить так: тайна сердца свечи воспламенила её язык (фи-
тиль) и не позволила ей говорить.
3. «Скрытый огонь» (ätis-i nihufta) — огонь любви.
Идея: солнце, согревающее весь мир, позаимствовало свой
жар у сердца влюбленного.
4. «Ревность» (ğayrat) — см. коммент. к газели 5:10; «ревность
ветра» обусловлена тем, что рассказывать о красоте и благоуха-
нии друга — это его обычное занятие. «Дыхание стеснилось у
неё во рту» (nafas-as dar dakän girift) — т. е. «рот» бутона не
раскрылся, роза не расцвела.
Идея: роза хотела расцвести и своей красотой (цветом и аро-
матом) сравниться с другом; ветер вознегодовал от этой дерзо-
сти и не стал помогать бутону расцвести (см. коммент. к 32:3).
Мотив несопоставимости красоты друга с традиционными
объектами сравнения весьма популярен в газели, ср. у Хафиза:
«Устыдившись, что я сравнил с ним твое лицо, // Жасмин рукою
ветерка насыпал земли в рот» [16:7]. В газели Камала этот мотив
представлен в бейте 3: «Все красавцы от стыда прикрыли свои
лица // Перед тобой, первой скрыла [лицо] луна на небе».
5. Идея: я жил спокойно и старался избегать трудностей, но
рок переместил меня в центр событий и обрушил на меня раз-
нообразные беды. Оригинальность образу придает сравнение с
циркулем самого лирического персонажа, тогда как циркуль —
стандартная метафора небосвода и судьбы (ср. газ. 77:5).
6. «Урожай» (xirman) — метафора жизни, см. газель 76:4 и
коммент. «Отблеск лица» — надежда увидеть лицо друга в чаше
с вином принадлежит к числу мотивов «обоснования пьянства»,
ср. тот же мотив в газели 11:2.
7. «Маги» — зд. виноторговцы, см. коммент. к газели 22:8.
«Уйти на улицу магов» — предаться пьянству. «Отряхнув рука-
ва» — âstïn-fisân, букв, «тряся рукавами», выражение astın
ftsändan имеет два переносных смысла — «распрощаться, от-
вергнуть» и «плясать», отсюда две возможности интерпретации
бейта: «хочу приплясывая (т. е. радостно) уйти от невзгод» и
Хафиз. Газель № 87
523
«хочу уйти, распрощавшись с невзгодами». «Держаться за по-
дол» — зд. быть близким, нераздельным. «Конец времен» — äxar
zaman, измененное араб, äxar al-zamän, последние времена пе-
ред Страшным судом, согласно мусульманской эсхатологии, пе-
риод страшных бедствий и смут; в контексте бейта восстанав-
ливается и буквальное значение формулы: «последнее время»,
т. е. сейчас.
Хирави (с. 386) видит в бейте намек на нестабильную поли-
тическую ситуацию в Ширазе: в связи с постоянной междо-
усобной борьбой правителей из рода Музаффаридов за власть
город страдал от войн, сопровождавшихся убийствами и гра-
бежами; жизнь в Ширазе уподоблена в бейте смуте, предшест-
вующей концу света.
8. «Кубок» — rati, в первом значении — мера веса, распростра-
ненная в мусульманских страна (от греч. litron), ее точная вели-
чина в разное время и в разных местах различалась, в XIV в. ратл
(ритл) в Иране составлял около 500 г. [Хинц 1970, с. 38]; в пер-
сидском языке rati приобрел значение вместительной чаши для
вина, как мера веса вместо rati повсеместно выступал mann.
Идея: пей вино сейчас, ведь каждый, кто понял, что все в
мире кончается небытием, перестал заботиться о мирских де-
лах и предался веселью.
9. В первом полустишии предложено поэтическое обоснова-
ние (husn al-ta'lîl) красного цвета розы: она красна не сама по
себе, а потому, что выпила кровь тюльпана. В поэтической
конвенции алый, как кровь, тюльпан с черной «обожженной»
сердцевиной предстает как «страдающий цветок» и противо-
поставляется розе как «счастливому цветку». Так, Низами в по-
эме «Хафт пайкар», описывая весеннее утро, говорит: «Писец
Откровения о живой воде для розы // Дал тюльпану предписа-
ние [обагриться] кровью» [Низами 1993, с. 788], т. е. Божест-
венный Художник предписал розе благоухать, а тюльпану —
страдать и проливать кровь.
В бейте приведен еще один (см. б. 6-8) аргумент в оправда-
ние пьянства: расцветшая, «зрелая» роза «напилась крови
тюльпана» и являет собой пример красоты и счастья. Ее лепе-
стки своим видом как бы учат, что и человек для обретения
желанного должен напится «крови виноградной лозы».
524 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Мотив «вино способствует обретению зрелости» представлен
и в других газелях Хафиза, ср. «Неискушенный аскет, что от-
вергает вино и чашу, // Станет зрелым, когда обратит взор на
молодое вино» {газель 150:4).
10. «Вода красоты» — âb-i lut/, устойчивая метафора свежей,
юной красоты, а также — любовных речей ['Афифи, ел. ст. Äb-i
lutf[\ «каплет вода красоты» (äb-i lutf гтеакаф — т. е. стихи на-
столько переполнены внутренней красотой, что она как бы
проступает наружу и становится очевидной для всех, даже для
завистников. Второе значение äb-i luff — «вода милости», по-
этому выражение одновременно указывает и на поэтическое
вдохновение как ниспосланную Божественную милость. Упо-
добление дарованного вдохновения «каплющей воде» представ-
лено в газели 31, также в последнем, подписном бейте (б. 9): «С
клюва красноречия у него каплет живая вода — // Ворон моего
пера, храни его Бог, как превосходно вспоен!». Хуррамщахи
(с. 426) отмечает схожий образ в касыде *Ираки, где вдохнови-
телем поэта выступает адресат панегирика: «Не пив вина, я
опьянел — // Обильно кадала из его слов вода красоты».
Газель 88
cIl—Lİ j\jh ч£ ı&tjA J 4i jb jl jà
j $ Л Joclj C*jiÉ a£ dubâ JjA ui,h
<J2j L£ (jljaJk jlSjjj jl 4—£ 1*у..дЛ;<
jL_J a »uj—1 Л-£ jl ô^jS^Lua jL (jLîü
Cj LÉ jLÎü jj Uuo Aj jj di࣠<a. jA 4£
J—*"j** ùWjfr^ 4—* u' ^-^ cM*
cljàÉ jU jJ c*Jjj j J j£ jâ> jj J jJ <J J J a£
J L
JL£ aİJ ôûjjâJLui ^a 4_J (j$£ лС»
di࣠jlİAJ jjj ClujI JJİ ^.lijâ. дай a£
Jjj Jİ j a j_J 4—^ j£ J j* JÜ Aj ô j£
l"l İ ^ (jLaJİua Ь ûb Jla <J <j^ju» (jJİ AS
jj_^a ôlj j Л AO Cjj^-Luj <£ ^"^fl A ^J
djiÉ jllujj t^îjj Jl j <jj! ч£ CiiË a£ I j jj
J—jJL^> ô^jj <L_£ ^J I ja. j Jja. j J ja
CjäS j^-j^ 4£ (jâuud ja (jla. <j j jS (Jjjä
525
526
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
<Jljfi£ (J^^ f«ft< a£ ^jjjS <jl aUjäXJ (JJİ ^jx
БаЛг: mujtatt-i mutamman-i тахЪйп-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafä'üunfa'üätun mafä'üun fa'lân
si-ni-da-am / su-xa-nî-хУае / ki-pî-ri-kan / 'än-gufi
fi-rä-qi-yä I r°-na-ân-mï I ku-nad-ki-bit / vän-guft
ı. Слыхал я прекрасные слова, что сказал Ханаанский старец:
«Разлука с любимым творит не такое, о чем можно рассказать!»
2. Предание об ужасах Суда, что рассказал городской проповедник —
Лишь намек, которым он указал на времена разлуки!
3- Кого спрошу о следах уехавшего друга?
Ведь все, что рассказал ветерок-вестник, он рассказал сбивчиво.
4- Как жаль, что та луна — неласковая, предающая дружбу —
Так легко распростилась с обществом своих друзей.
5- Я — и стоянка довольства, а потом — и благодарность сторожу,
Ведь сердце привыкло к боли из-за тебя и простилось с лекарством.
6. Прогоните давнюю печаль старым вином,
Ведь в этом — зерно радости, так сказал старик-дихкан.
7- Не вяжи узлов на ветре, даже если он благоприятен,
Ведь в назидание Сулайману ветер сказал такие слова:
8. «В миг передышки, что дана тебе небом, не сбейся с пути,
Кто сказал тебе, что эта старуха бросила свои козни?»
9- Не спрашивай «как» да «почему», ибо счастливый раб
Запечатлел в душе всякое слово, что сказал любимый.
ю. Кто сказал, что Хафиз перестал думать о тебе?!
Я не сказал такого! Тот, кто сказал — сказал неправду.
Хафиз. Газель № 88
527
Комментарий
1. «Ханаанский старец» — pïr-i kan'ân, Йа*куб (библ. Иаков),
отец Йусуфа. История Йусуфа последовательно изложена в 12-
ой суре Корана «Йусуф». О скорби Йа*куба в разлуке с сыном
там сказано: «И отвернулся он от них и сказал: „О, горе мне по
Йусуфе!" И побелели его очи от печали, и он сдерживал скорбь»
[Коран, 12:84]. Страдания Йа'куба и его «прекрасное терпение»
[12:83] легли в основу ряда лирических мотивов, связанных с
темой «разлуки с другом».
2. «Предание» — hadït, следует учитывать и терминологиче-
ское значение слова — «хадис», предание о высказываниях и по-
ступках Пророка; в корпусе хадисов есть множество описаний
Судного дня, а речь проповедников, как правило, включала ци-
таты из хадисов. «Проповедник» (vä'iz) — в Диване Хафиза вхо-
дит в число антогонистов главного героя, персонажей, противо-
стоящих влюбленному-ринду, ср. контексты 35:1; 52:6; 83:7.
3. «Уехавший друг» — yär-i saf ar karda, формульное обозначе-
ние друга (иногда просто saf ar karda), с которым разлучен лири-
ческий персонаж, неоднократно встречается у Хафиза и его
предшественников, см. примеры в [Хуррамшахи, с. 427-428].
«Ветерок-вестник» (barîd-i sabâ) — в поэтической конвенции это
персонаж, наделенный способностью не только передавать вес-
ти, но и проникать туда, куда остальным доступ закрыт, см., на-
пример, газель 56:5; поэтому ветер — единственный, кто может
что-то знать о местопребывании друга. «Рассказал сбивчиво» —
parîsân gufty второй смысл выражения: «сказал — [следы] сбив-
чивы» (прием ïhâm) [Хуррамшахи, с. 427].
4. В бейте, завершающем тему разлуки, ясно представлена
основная коллизия персидской газели: возлюбленный друг («лу-
на») характеризуется как «неласковый», «предающий дружбу» (в
редакции Ханлари вместо эпитета mihr-gusal «предающий друж-
бу» приведен еще более сильный dusman-düst «любящий врагов»),
при этом друзья-влюбленные скорбят о том, как быстро он их
покинул, они предпочитают его жестокость разлуке с ним.
5. «Я — и стоянка ...» — т. е. «я всегда на стоянке», союз «и» в
оригинале передает смысл «постоянного сопутствия», см. ком-
мент, к газели 60:6. «Я — и стоянка довольства» — т. е. я до-
528 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
вольствуюсь тем, что есть, я примирился с разлукой; использо-
ван суфийский термин «стоянка довольства» (maqäm-i rizä),
обозначающий состояние смиренного приятия всего, что посы-
лает человеку Бог, и довольства своей долей. «Благодарность
сторожу» — sukr-i raqïby также «благодарность сопернику», т. е.
благодарность тому, кто препятствует встрече с другом. «Серд-
це ... простилось с лекарством» — сердце оставило надежду на
встречу с другом. О круге мотивов «болезнь любви — лекарство»
см. коммент. к газели 62:8.
6. «Давняя печаль» — ğam-i kuhant в контексте газели — еще
одна метафора любовных мук, связанная с представлением о
«предвечной природе» любви (ср. газель 62:4, где влюбленный
описан как «тот, кто в Предвечности сделал глоток из чаши
друга»); «давняя печаль» может указывать и на житейские забо-
ты и скорби (старые, как мир). «Старое вино» — may-i säl-
xyarda, выдержанное вино, эпитет встречается у Фирдауси (в
дастане о Бижане и Маниже), а также в стихах Рудаки [Хур-
рамшахи, с 430].
«Старик-дихкан» — здесь подразумевается хранитель иран-
ских преданий; dihqän — совр. «крестьянин, земледелец, пахарь»,
в класс, перс, слово еще сохраняло значение «землевладелец, по-
мещик», представитель земельной знати, бывшей ранее опорой
сасанидской государственности. Именно в этой среде хранились
и передавались иранские эпические сказания, см. [Стариков
1993, с. 467-468], в поэзии dihqän часто обозначает «иранец, зна-
ток иранской мудрости»; в газели 486:8 сказано: «Как хорошо
сказал сыну старый дихкан (dihqän-i säl-xyarda): // „О свет моих
очей, пожнешь лишь то, что посеял!"». Отметим, что в контексте
486:8 эпитет säl-xyarda «старый» отнесен к дихкану, а в нашем
бейте — к вину. Хуррамшахи высказал предположение, что здесь
«старик-дихкан» имеет и переносное значение «старое вино»
[Хуррамшахи, с. 430].
7. «Не вяжи узлов на ветре» (girih Ьа bad mazan) — не пола-
гайся на ненадежное дело (ср. «не строй воздушных замков»),
здесь имеется в виду «не доверяй этому изменчивому миру», см.
бейт 8. Рассказ о Сулаймане, повелевающем ветром, очень по-
пулярен, он неоднократно использован и в образах Дивана Ха-
физа, см. 24:7; 25:7; 28:4; 31:7, но сюжеты, в которых бы ветер
Хафиз. Газель № 88
529
наставлял Сулаймана, в предании отсутствуют. Существует
лишь история, развивающая коранический сюжет о муравьихе,
призвавшей сородичей спрятаться, чтобы не быть раздавлен-
ными войском Сулаймана. В комментариях к Корану сообща-
ется, что царь, который передвигался верхом на ветре, призвал
муравьиху к себе и спросил, мол, почему вы меня боитесь, ведь
я в воздухе, а вы на земле. Та ответила, мол, ты в воздухе, но
мир лишен постоянства, в любой миг твое царство может при-
дти в упадок, ты рухнешь вниз, и мы будем раздавлены, цит.
по [Хуррамшахи, с. 430]. Ш.-А. Фушекур высказал предположе-
ние, что имеет место ошибка переписчика или оплошность са-
мого поэта, во втором полустишии должно стоять не bad «ве-
тер», а метрически равное ему тйг «муравей» [Hafez de Chiraz
2006, с. 340]. Но возможно и иное объяснение. Хафиз создает
из традиционных элементов новый поэтический сюжет: место
муравьихи, которая говорит с Сулайманом как ничтожный с
великим и напоминает ему о непостоянстве мира, занимает ве-
тер, символ изменчивости и непостоянства. Случаи авторской
переработки элементов сюжета о Сулаймане см. также в газе-
лях 28:4; 31:7.
8. «Миг передышки» (muhlat-i) — счастливое время, короткий
перерыв между несчастьями; призыв пользоваться кратковре-
менными радостями бытия звучит во многих газелях Хафиза,
см., например, 74:6; 162:3. «Не сбейся с пути» (zi räh marav) —
т. е. «не соверши ошибки», здесь в значении «не упусти момент».
«Старуха» (zaîj — одна из стандартных метафор мира, см. ком-
мент, к газели 37:9. «Козни» — dastän, в паре с zäl возникает
второй семантический план, поскольку Дастан — родовое имя
богатыря Заля, одного из героев «Шах-нама». Хуррамашахи
(с. 430) отмечает, что эта изящная игра слов встречается также
в газели Низари Кухистани: «Мало толку от старухи (zâZ), которая
с помощью козней (dastän) каждый год // Становится невестой
и возобновляет пору юности».
Выражение «не сбейся с пути» обычно имеет наставительный
смысл «не предавайся греховным радостям — винопитию, люб-
ви и т. д.!», здесь оно употреблено иронически, в смысле «не
упусти возможность предаться наслаждениям», что придает
бейту шутливое звучание.
530 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
9. «Счастливый раб» — banda'-i muqbil, также «черный раб»; в
словаре Диххуда [ел. ст. MuqbiQ данный бейт приведен как ил-
люстрация значения «счастливый», но смысл «черный раб» от-
мечен как второй, т. е. образующий прием ïhâm.
Идея: черному домашнему рабу живется счастливо, когда он
не задает вопросов и беспрекословно слушается хозяина, так
же следует поступать и влюбленному.
10. «Неправда» — buhtän, также «клевета», «напраслина»; слово
шесть раз употребляется в Коране [4:24(20), 112, 155(156);
24:15(16); 33:58; 60:12], в основном, в контекстах, где речь идет
о лжи и клевете на невиновного, в частности, «великой ложью»
(bi buhtänan 'azîman) именуется злословие иудеев о Марйам
[4:155(156)].
В заключительном бейте поэт оправдывается перед адреса-
том газели и обвиняет своих недоброжелателей в клевете. Упот-
ребление коранического арабизма обогащает смысл строки
скрытым уподоблением: враги Хафиза подобны «неверным»,
измышляющим ложь, а его невиновность сродни непорочности
Марйам.
Газель 89
j—jj—j_j <Oj£jL* J—j jî ôj <iLk
t ** * *\ i\ ij\ y ^jaajS tjJJ cjW^ f '* ^ ^
^ i 1 m j j ôlj yi$> (jo ni jl <£ ûbjà
(J_S ^"u^^O aIjJ l**1 ии J J <& jj^ûl
l_ı^l ^j j ** a >* j 4_ju {jSLû (j^jj^
dl_^l j—6 ^ « *Л"*"« 4jjo£ jl 4JLÜa (jjl£
t"* *t J L-JİJ ^ A 4_.JUÜjS Л^П^О JJ
л И i j jj c^Uä j jj^ jl (j-û a£ LuüIa
'"* J j a jjJ Lj AUjüJ ^Jj| Л MI 4İUİJJJ
531
532 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: hazaj-i mutamman-i makfûf-i mahzûf
Vazn: mafûlu mafâ'ïlu mafâ'ïlu fa'ulun
yâ-rab-sa / ba-bî-sâ-z0 / ki-yä-ram-ba / sa-lä-mat
bâ-zâ-ya I du-bir-hâ-na / da-maz-ban-di / ma-lâ-mat
i. О Боже, сотвори причину, чтобы мой друг в здравии
Вернулся и освободил меня от пут осуждения.
2. Принесите мне пыль с дороги того уехавшего друга,
Чтобы я поместил ее в свои глаза, смотрящие на мир.
3- О горе — с шести сторон перекрыли мне путь
Эти родинка, пушок, локон, щека, лицо и стан!
4- Сегодня, когда я в твоих руках, прояви милосердие,
Завтра, когда я стану прахом, что толку от слез раскаяния?
5- О ты, что подробно и обстоятельно толкуешь о любви,
Нам тебе сказать нечего, будь здоров!
6. О дервиш, не стенай из-за меча возлюбленных,
Ибо это племя даже с убитых берет выкуп.
7- Подожги хирку, ведь лук бровей виночерпия
Разрушает угол михраба служения.
8. Не дай мне Бог пожаловаться на твои жестокость и насилие,
Несправедливость прекрасных — сплошь милость и чудо.
9- Не сократит рассказ о кончике твоего локона Хафиз —
Эта цепь протянулась до самого дня Воскресения.
Комментарий
В диване Камала Худжанди есть газель из семи бейтов, напи-
санная с теми же метром и рифмой (-ämat): şüfl ki zi casm-i tu
barad jän ba salâmat // sar bar-nakunad tä ba qiyämat zi
ğarâmat (Суфий, который благополучно спасет душу от твоих
глаз, // До Судного дня не поднимет головы от раскаяния) [Ка-
Хафиз. Газель № 89
533
мал Худжанди 1975, с. 201, № 181], причем Хафиз использовал
все несущие рифму слова из газели Камала, добавив только од-
но собственное (iqämat, б. 2).
1. «Сотвори причину» — sabab-ï säz, намек на формульный
эпитет Бога sabab-säz «создающий причины», восходит к араб.
musabbib al-asbäb, «являющийся причиной причин», «Перво-
причина». «Осуждение» — malâmat, это слово закрепилось в ка-
честве термина в названии суфиев- malâmatï, с идеалами кото-
рых иногда связывают концепцию «риндства» у Хафиза, см.
коммент. к газели 5:7. «Путы осуждения» — по мнению коммен-
таторов [Суди, с. 549; Хирави, с. 403], ситуация бейта такова:
лирический персонаж в разлуке с другом от тоски и невыноси-
мых страданий теряет над собой контроль и начинает буйство-
вать, что вызывает осуждение окружающих. Если считать, что
бейт соединяет любовный план с панегирическим, открывается
еще одна возможность толкования: герой обращается к Богу с
мольбой о возвращении покровителя, который защитит его от
нападок недругов.
Зачин газели Хафиза полемически перекликается с концов-
кой упомянутых стихов Камала (б. 7): «Камал, оставь стремление
к доброму имени, ведь ринды // Нашли себе место на улице
осуждения».
2. «Пыль с дороги ... в глаза» — традиционное уподобление
пыли, по которой ступала нога друга (пыль с порога, с улицы и
т. д.), целебной для глаз сурьме. Этот мотив многократно обыг-
рывается в Диване Хафиза, см., например, 2:5; 60:7; 73:1. «Уе-
хавший друг» (yâr-i saf ar karda) — формульное выражение,
часто употребляющееся в газелях о разлуке, см. коммент. к га-
зели 88:3. «Глаза, смотрящие на мир» (casm-i jahân-bïn) — здесь
обычные человеческие глаза, которые видят окружающий мир,
ср. контекст 52:2, где они противопоставлены «оку, смотряще-
му в душу»: «Чтобы видеть твое лицо, нужно „око, смотрящее в
душу", // Разве такое звание у моих глаз, смотрящих на мир?»
Идея: лирический персонаж не видит уехавшего друга, по-
скольку обладает лишь внешним зрением; если ветер запоро-
шит ему глаза целебной пылью из-под ног друга, герой обретет
внутреннее зрение и сможет любоваться ликом друга, запечат-
ленным в душе.
534 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Теме «внутреннего зрения» посвящен бейт 6 газели Камала:
«Мы увидели тебя через сотню покровов, // Обладание зрением
(şâhib-nazarîj — из числа чудес».
3. «Шесть сторон» (sisjahat) — шесть измерений тварного ми-
ра: север, юг, запад, восток, зенит и надир (или — спереди, сза-
ди, справа, слева, вверху, внизу), обозначение мироздания как
пространства, в противоположность свободному от пространст-
ва и времени миру божественного, см. поэтические примеры в
[Хуррамшахи, с. 433]; «родинка, пушок ...» — перечислены шесть
феноменов красоты. Образ мира как «шестистороннего» про-
странства, связан у многих поэтов с идеей замкнутости и огра-
ниченности мироздания, за пределы которого человеку не дано
выйти; ср. у Хафиза (299:5): «Дорогу шестисторонней обители
Небесный Архитектор // Так перекрыл, что нет пути из-под ку-
пола [земляной] ямы». При этом в мистической газели любовь
часто описывают как единственную силу, помогающую челове-
ческой душе преодолеть границы земного мира; этот мотив ясно
звучит у Руми: «Разум говорит: „Шесть сторон — это предел, и
наружу нет пути". // Любовь говорит: „Путь есть, я сама много
раз ходила!"» [Руми, Диван, Doıj-3, № 132, б. 3]. На этом фоне
заметна авторская новация в образе обсуждаемого бейта: красо-
та и любовь к красоте не «освобождают» лирического персонажа,
а наоборот, делают его «пленником» мира.
Комментаторы видят в бейте реализацию фигуры laff-u nasr
«свертывание и развертывание», которая состоит в перечисле-
нии сначала одного ряда вещей, а потом — другого ряда вещей,
так что слушатель/читатель должен сам угадать их взаимосо-
отнесенность, см. коммент. к газели 34:2. Однако в бейте Ха-
физа стороны света не перечислены, да и соотнести каждую из
них с конкретным феноменом красоты вряд ли возможно.
4. Ср. бейт 2 из газели Камала: «Сегодня если не прикусит
губу (т. е. не устыдится) себялюбивый аскет, // Долго будет ку-
сать зубами палец раскаяния». Бейты Хафиза и Камала объе-
диняет общая мысль: раскайся сегодня, не то завтра пожале-
ешь. Хафиз переадресовывает самому возлюбленному тот со-
вет, с которым Камал обращается к аскету — врагу влюблен-
ных, при этом тема аскета у Хафиза вынесена в следующий
бейт (б. 5).
Хафиз. Газель № 89
535
5. «Будь здоров!» — xayr-u salâmat, букв, «блага и здоровья!»,
формула, употребляемая при прощании, здесь употреблена в
значении «уходи!». С таким пожеланием центральный персонаж
Дивана Хафиза (ринд) обращается к своим антогонистам — ас-
кету (см. газ. 26:5) и проповеднику (см. газ. 35:1).
Идея: тот, кто строит длинные рассуждения о любви, на са-
мом деле не испытал ее, и влюбленным не о чем с ним говорить
(ср. газ. 81:7 и 88:1).
6. «Меч возлюбленных» — те страдания, что приносит лю-
бовь. «Выкуп» — garämat, возмещение убытка; здесь речь идет о
вире, плате за пролитую кровь. Тема «уплаты выкупа» отсылает
к зачину газели Камала: «Суфий, что благополучно спасет душу
от твоих глаз, //До Судного дня не поднимет головы от рас-
каяния (az garämat у также «из-за [уплаты] выкупа»)» (б. 1). Ре-
альная основа образа у обоих поэтов — обычай платить за уби-
того, чтобы избежать кровной мести, но каждый создает из
реалии поэтический парадокс в соответствии с избранной те-
мой. Камал обращается к лицемерному суфию, его поэтическая
идея такова: платит не тот, кто убил, но тот, кто спасся; суфий,
спасший свою жизнь от возлюбленного, будет за это расплачи-
ваться в обоих мирах. Хафиз обращается к истинному дервишу
(в Диване — это синоним ринда), его идея — платит не тот, кто
убил, а сам убитый; дервиш не должен жаловаться на страда-
ния любви, ибо на этом пути ждать справедливости не прихо-
дится.
7. «Подожги хирку» — оставь показное благочестие и избери
путь ринда; см. коммент. к газелям 17:7 и 21:7. «Михраб» —
ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку,
служит традиционным сравнением для брови прекрасного дру-
га; см., например, газели 40:8 и 69:11.
Идея: откажись от благочестия, ибо изгиб брови друга кра-
сотой превосходит арку михраба.
Тема пагубности красоты друга для религии влюбленного есть
и в газели Камала (б. 4): «Если имам увидит твой изогнутый ло-
кон в арке михраба, // Он не будет читать во время служения
ничего, кроме суры „Клянусь ночью ... [Коран, 92:1]V
8. «Чудо» — karämat, букв, «щедрость, великодушие», термино-
логически «чудо, совершенное святым» (в отличие от sihr, «вол-
536 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
шебства» колдунов, и mu'ßza, «чуда» пророков). В бейте присут-
ствует скрытая полемика с предшественником: у Камала чудо —
это внутреннее зрение, позволяющее созерцать друга (б. 6, про-
цитирован в коммент. к бейту 2 данной газели), а у Хафиза так
названа «несправедливость» друга, в контексте газели — его дол-
гое отсутствие.
9. «Не сократит рассказ ...» — намек на необычайную длину
и красоту локона, см. газель 40:5 и коммент. «Эта цепь» (in sil-
sila) — цепь слов, воспевающих локон друга; также, согласно
Хирави (с. 407) — цепь влюбленных, которые, сменяя друг дру-
га, будут говорить о локоне друга до конца времен.
Утверждение «не сократит рассказ» в последнем бейте де-
монстративно нарушает распространенную практику заканчи-
вать газель призывом к молчанию (у Хафиза — см. газели 10:7;
17:8; 33:10; 35:7; 44:7; 52:8; 66:10). Сходным образом («Пере-
хвати мяч красноречия») заканчивается газель 78, причем ее
мотивы, как и в обсуждаемом тексте, раскрывают тему «благо-
дарного приятия жестокости друга».
Газель 90
d л *i kAj-S^jA Ifuj <_j Lu-a ÛAjA ^1
v"i дм mj-è^^g La£ 4_j L^£ j! 4—S j£ûj
лы—С- ^jIüSIâ jj j-j ja. ^ jjLL clbujl t ih%
LJI h» j 1 JAJ j CJjâ Aİ^J-ft Jj^ ô'J J^
j j -\ <j\£>à jl ^kialä aL-jİ j ^u-e ja
Ljjlj 1 Jj cÜL j L5^J diA& jLil 13
t*1 Л 1 nlj-â^y* IJJ 4—J J^2b jj je (jldb
(Jj (j j ni 1 A A <_£Jjui Ai jlaJ jl Ц-ülc- (^1
<Jj a 1 inj—b^jA L_Lj j le J CİLûJjS^
ù—^ ls1^—i £^ e j*3 ^j-^ l$jj jj
i"i a 1 >à»j-âcyA I л *i <_$Ij—^ ^Afc!^
J—İAJ itSi^ <"ı i « (jj—ji j jbjJa-e Ij
^—*-3^Ar* I jj j jl*- 4-J J je- j JjS
Cj Lİ ùùja 4_i ^jjc t-àSU a£ Lu ^Lu)
ıj-İ^j-a I jj Ч£ <j£ Jfx-o jjj Ь
< 1 Л 1 hi
537
538 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
CİL—A—Ijüü J—à^-û US J L_Lual A£ ^jIA t-İluÜ
Bahr: muzäri'-i mutamman-i axrab-i makfûf-i mahzüf
Vazn: mafülu fä'üätu mafà'ïlu fä'ilun
ay-hud-hu / dî-şa-bâ-ba / sa-bâ-mî-fi / ris-ta-mat
bin-gar-ki / az-ku-jâ-ba / ku-jâ-mî-fl / ris-ta-mat
ı. О удод ветерка, в Саба я тебя посылаю,
Посмотри — откуда и куда я тебя посылаю!
2. Жаль, что такая птица, как ты — на мусорной куче скорбей!
Отсюда в гнездо верности я тебя посылаю.
3- На пути любви нет стоянок близости и удаленности,
Я вижу тебя ясно и молитву за тебя воссылаю.
4- Ежеутренне и ежевечерне караван благословений
Вместе с северным и восточным ветром я к тебе высылаю.
5- Чтобы армия тоски по тебе не сокрушила царство сердца,
Я в дар свою дорогую душу тебе посылаю.
6. О скрытый от взора, что стал товарищем сердцу,
Я возношу тебе молитву и хвалу тебе посылаю.
7- [Глядя] на свое лицо, любуйся творением Бога,
Ведь зеркало, являющее Бога, я тебе посылаю.
8. Чтобы музыканты оповестили тебя о моей страсти,
Слова и песню стройные и мелодичные я тебе посылаю.
9- Скорей, виночерпий, посланец Тайны принес мне добрую весть,
Мол, будь терпелив в муках, ибо лекарство я тебе посылаю!
ю. О Хафиз, в нашем собрании только и поют тебе хвалы,
Торопись, коня и накидку я тебе посылаю!
Хафиз. Газель № 90
539
Комментарий
1. «Удод» (hudhud) — в Коране [27:20-28] персонаж рассказа
о встрече Сулаймана с царицей страны Саба (библ. царица
Савская). Однажды Сулайман устроил смотр птицам из своего
войска и не увидел удода. Тот прилетел с опозданием из царст-
ва Саба и сообщил, что видел великую царицу, которая, как и
ее народ, поклоняется солнцу вместо единого Бога. Сулайман
повелел удоду: «Ступай с моим письмом и брось его им. Потом
отвернись от них и посмотри, что они возразят» [27:28]. В
письме содержалось требование обратиться к единобожию. По
некоторым околокораническим преданиям Сулайман женился
на царице Саба (её имя упоминается как Билкис/Балкис) [Иб-
рагим, Ефремова 1966, с. 278]. Если в Коране история Сулай-
мана и царицы Саба — пример обращения в истинную веру, в
персидской газели уже у предшественников Хафиза они пред-
стают как пара влюбленных, а ветерок, приносящий вести,
уподобляется удоду. Так, Аухади Марагаи пишет: «Привет тебе,
о дуновение утреннего ветерка, // Откуда изволишь лететь?
Добро пожаловать! // Если ты приметил, где Билкис, // Как
птица Сулаймана, отправляйся в Саба!» [Аухади, Dorj-3, газ. 2,
б. 1-2]. Любовная интерпретация сюжета отражена и в газели
Хаджу: «О вестник утреннего ветерка, как там наш периликий
[друг]? //О птица Сулаймана, где же, наконец, вести из Саба?»
[Хаджу, Dorj-3, газ. 182, б. 1]. Ср. также другой бейт Хафиза
(145:5): «Ветерок в деле доброго вестника — удод Сулаймана, //
Ибо он принес радостную весть из цветника Саба». «Ветерок» —
sabâ, восточный ветер, см. коммент. к газели 1:2. Слова sabâ
(ветерок) и sabâ (страна Саба) образуют фигуру «словесное
сроднение» (jinàs-i lafzı). Суди (с. 554) считает, что Саба здесь —
метафора обители возлюбленного друга. «Откуда и куда» — Рах-
бар (с. 126) и Хирави (с. 408) подчеркивают, что это выражение
означает «о как далеко!».
2. «Такая птица» — в бейте продолжается речь, обращенная
к «удоду ветерка». «Мусорная куча скорбей» — xäkdän-i дат,
т. е. мир, полный страданий; xäkdän (букв, «вместилище земли,
праха») — устойчивая метафора бренного мира, см. примеры
разных сочетаний в ['Афифи, с. 737-738]. «Гнездо верности» —
äsyän-i vafâ; метафорические сочетания с первым компонен-
540 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
том äsyän/ äsyäna «гнездо» часто передают идею «дома, места,
куда возвращаются», например, äsyän-i rajä «гнездо надежды»
(желанное прибежище), äsyäna'-i falak «гнездо небес» (небесный
мир), ['Афифи, с. 78-79]. В редакции Ханлари вместо äsyän-i
vafä дается вариант äsmän-i vafä «небо верности», см. [Хирави,
с. 409]. Противопоставление «мусорной кучи скорбей» «гнезду
верности» подразумевает оппозицию земного и небесного ми-
ров, ср. призыв к соколу покинуть «приют напастей» и напра-
виться к «Престолу» в газели 37:4-5.
3. «Стоянка» — marhala, путь, который караван или путник
проходит за день между двумя остановками на ночлег, или са-
ма остановка; в терминах суфизма — этап духовного пути (си-
нонимы — maqäm и тапгЩ, «Близость» (qurb) и «удаленность»
(bu'd) — на языке суфиев так называют состояния близости к
Истине или удаленности от Нее, которые переживает адепт на
своем духовном пути. «Молитву за тебя воссылаю» — du'ä
mffiristam-at, du'ä — также «просьба», «хвала», «приветствие»,
что обогащает смысл панегирическими оттенками: «восхваляю/
приветствую/умоляю тебя».
Идея: пусть я далеко от тебя, для любви расстояния не име-
ют значения, я всегда вижу тебя своим внутренним взором и
всегда думаю о тебе.
4. «Северный и восточный ветер» — simâl-u sabâ, названия
двух ветров, различающихся направлением; оба считались бла-
гоприятными и в персидской поэзии часто использовались как
синонимы, выполняя одни и те же функции помощи влюблен-
ным. «Караван благословений» (qäfila'-i az du'ä-yi xayr) — мета-
фора, уподобляющая благословения группе путников, а ветры —
верховым животным, содержит намек на коранический рассказ
о Сулаймане, который умел повелевать ветрами (см. коммент. к
газели 24:7), ср. образ «конь ветра» в газели 25:7.
5. «Дар» — navä, букв, «богатство, средство к существова-
нию», бейт приведен в Диххуда как иллюстрация специального
значения «дар, который посылают правителям, чтобы избежать
набега и разорения» [Диххуда, ел. ст. Navä]. Однако в словаре
Му*ина данный бейт иллюстрирует другое значение navä, «за-
ложник» («Свою дорогую душу я как заложника тебе посылаю»);
его предпочел в своем переводе Ш.-А. Фушекур [Hafez de Chiraz
Хафиз. Газель № 90
541
2006, с. 344]. Еще одно значение naväy «мелодия, мотив, песня»,
обусловливает альтернативный смысл {прием îhâm): свою душу
в песне я тебе посылаю.
6. «Скрытый от взора» (ğayib az nazar) — обозначение уе-
хавшего друга (см. также контекст 91:1), синонимичное yâr-i
safar karda (см. коммент. к газели 88:3). «Товарищ» — ham-
nisïn, букв, «сидящий вместе», близкий друг, собеседник и со-
трапезник. Здесь разлука с другом представлена как переход от
внешнего лицезрение к энутренцему; в газели 452:4 та же оп-
позиция внешнего и энутрендего пути в постижении красотьд
друга выражена еще более ясно — даже когда друг совсем ря-
дом, его красота непостижима: «Что ты за куколка, о искусный,
проворный всадник, // Ведь ты перед глазами, но скрыт от
взора».
7. «Зеркало, являющее Бога» (âyirıa -i xudây-numâ) — на язы-
ке суфиев так называют сердце [Хирави, с. 411].
Идея: я посылаю тебе свое сердце-зеркало, потому что ни в
каком другом зеркале ты не увидишь свою красоту во всей дол-
нрте {развитие образа предыдущего бейта), только мое сердце
покажет тебе, какое мастерство вложил Творец в Свое создание.
Ср. газель 69:3, где само лицо друга уподобляется зеркалу Боже-
ственной милости. По мнению Ш.-А. Фушекура [Hafez de Chiraz
2006, с. 346], «Зеркало, которое поэт посылает Возлюбленному,
это, без сомнения, сама газель, целиком посвященная восхвале-
нию Его красоты», таким образом, бейт предваряет тему само-
восхваления (faxt), развернутую в следующем бейте.
8. Бейт построен на музыкальной терминологии. «Слова» —
qawl, также первая часть четырехчастной музыкальной компо-
зиции, вступление; «песня» — gazal, газель, также — вторая
часть композиции (за которыми следуют taräna «напев» и
furüdäst «завершение») |Диххуда, ел. ст. Ğazal\. «Стройные и ме-
лодичные» — ba säz-u navä, это сочетание толкуется в словаре
Диххуда как «под тар и тамбур», т. е. под струнные и ударные
инструменты, под веселую ритмичную музыку [Диххуда, ел. ст.
Säz)\ С. Пелло и Дж. Скарциа понимают это как «in melodico
ritmo» [Hafez, Canzoniere 2005, с. 111].
Еще Суди отмечал, что выражение qawl-u gazal («слова и
песня», «запев и газель», см. также 277:4) вызывает трудности у
542 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
комментаторов. Между тем, именно оно содержит ответ на за-
гадки, которые поэт загадывал в каждом из предыдущих семи
бейтов. И «удод ветерка», и «такая птица», и «молитва за тебя», и
«караван благословений», и «дорогая душа», и «молитва и хвала»,
и «зеркало, являющее Бога», оказываются метафорическим
описанием прекрасной газели, которую Хафиз посвящает и по-
сылает далекому другу.
9. «Посланец Тайны» — hâtif-i ğayby посланец из мира Сокро-
венного, ангел-вестник. Наряду с такими персонажами, как
Джабраил и Суруш, часто выступает у Хафиза в роли передат-
чика поэтического вдохновения, ср. газели 37:3, 57:7, 70:3.
«Лекарство» (dava) — здесь одновременно намек на вино, кото-
рое поднесет виночерпий, и на обещание встречи (см. следую-
щий бейт).
10. «Конь и накидка» (asb-u qabä) — намек на обычай царей
и вельмож вместе с приглашением ко двору посылать пригла-
шенному коня и накидку.
Последний бейт может быть понят как исполнение того, что
обещал посланец из сокровенного мира: весть, посланная по-
этом-влюбленным (газель), достигла друга, и теперь поэт полу-
чает награду: талант его оценен, и ему обещана встреча.
Газель 91
di 4jl \ ni^yA I.JÂ, 4j jbü jl 4-ylb ^£İ
viîl ^ (^1 j j j j ^JlSJ* ô& ^b 13
dj_^jl^_J £j_^ab j UJ_jujû a£ (J^û Jjb
^ $ ^j *\ >n L_J \ a\ \ CİUjjjI UJİ ja**
uj_-ûjl ^pj_£ jj j ajI jj L_cj dulu
C5 \ Д J <JİJjjL_A l$ J—ju) ^JÛjuj aÛJİJ JİS
dj—лjl_J—J l_j aj£j ^yJjjL^ 4İjS JU-a
jj 4 £ ^J J jL-j jUjj
L_J A
jl_L-£ j_j ôjjjj j| AİAiuiJ CJİ <_£ja. JU-a
dj л J—^-J Jj jJ <_£ J^A fÂj <_£ Jj JJ
JİJ ^J-âvL—^ aLİc a_C. jl j IİJİUJJ aJ jÂ,
v"ı aj1.j—£ j *> i 4 ô jac. j_j*1
Jİ_J_X-aİİ (J j m (JJİ jl aÛI ja j aJjS^A
'*** AJ^ ^ .* <-Ь J^ ^£ LJLuıl t"n^A âİJ
(JJ jjjuk» 4j Ij «jjä. (^jjuü ajS jl öû *jb
c1j_aj1_j ôJ jj jl j$£ aJ <j aû ^U jj
543
544 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: muzâri'-i mutamman-i axrab-i makfuf-i mahzûf
Vazn: mafûlu fa 'ilätu mafä 'îlu fä 41un
ay-ğâ-yi I baz~na-zar-ba / xu-dâ-mî-si / pä-ra-mat
jâ-nam-ba / sû-xp-tî-yu / ba-dil-dü-s* / dâ-ra-mat
ı. О скрытый от взора, вручаю тебя Господу,
Ты сжег мою душу, а в моем сердце — любовь к тебе.
2. Пока я не подстелю полы савана под ноги земли,
Не верь, что я выпущу из рук твою полу!
3- Яви михраб своих бровей, чтобы на рассвете
Я воздел руки молитвы и обнял твою шею.
4. Если надо, я пойду к вавилонскому Харуту,
Буду ворожить на сотни ладов, чтобы заполучить тебя.
5- Хочу умереть подле тебя, о вероломный лекарь,
Навести больного — ведь я дожидаюсь тебя.
6. Я устроил запруды на ста ручьях воды в уголках глаз
В надежде на зерно любви, которое посею в твоем сердце.
7- Пролил мою кровь и избавил меня от любовной тоски —
Я признателен твоему взору, разящему кинжалом.
8. Я плачу, и этот сель моих слез — ради
Зерна любви, что я посею в твоем сердце.
9- Милостиво допусти меня к себе, чтобы из-за волнения сердца
Я каждый миг ронял тебе под ноги жемчужины из глаз.
ю. О Хафиз, вино, красавцы и риндство — не для тебя!
И все же — ты занят [этим], и я тебя прощаю.
Хафиз. Газель № 91
545
Комментарий
1. Бейт явно перекликается с бейтом 6 газели 90 (см. также
коммент.). Как отмечает Суди (с. 560), эта газель, так же, как и
предыдущая, принадлежит к числу поэтических посланий —
писем отсутствующему другу. Образ второго полустишия по-
строен на противопоставлении «души» (jân) и «сердца» (dfl), то-
гда как в большинстве случаев оба слова выступают как поэти-
ческие синонимы. Здесь их функции разведены: из-за тебя ду-
ша мучается в разлуке, а сердце хранит любовь к тебе.
2. «Подстелю полы савана» — dâman-i kafan kasam, т. е. по-
кину мир, завернувшись в саван, метафора построена как ви-
доизмененный фразеологизм, daman kasidan (букв, «тащить по-
лу») означает «покидать, уходить». «Под ноги земли» — zir-i pä-yi
xäk, в основе метафоры — фразеологизм zir-i рй sudan (букв,
«оказаться под ногами») «быть попранным, уничтоженным»,
оборот zir-i pä-yi xäk sudan «быть попранным землей» имеет
смысл «сойти в могилу». Поэтический смысл первого полусти-
шия «пока я, завернутый в саван, не сойду в могилу ...» вытека-
ет из соединения обеих метафор. «Выпушу из рук твою полу»
(dast zi daman bidâram-at), т. е. освобожу тебя от себя, оставлю
тебя в покое. Остроумие бейта состоит в сочетании двух про-
тивоположных действий в отношении полы: подстилать (та-
щить) полу под ноги и выпускать полу из рук.
3. «Михраб» — ниша в стене мечети в форме арки, указы-
вающая направление, куда должны быть обращены лица мо-
лящихся. В поэзии брови возлюбленного и михраб постоянно
уподобляются друг другу, см. газели 40:8; 69:11; 89:7 и ком-
ментарии к ним. «Воздел руки молитвы» — указание на одну из
молитвенных поз (rak'at) обязательной мусульманской молитвы,
когда молящийся поднимает руки на уровень лица ладонями от
себя и произносит формулу возвеличения Аллаха (takbir) [ИЭС,
ел. ст. «ас-Салат» (А. Боголюбов)]. Обращение к брови возлюб-
ленного как к михрабу — мотив, обычный для газели. Шутливая
идея бейта состоит в том, что герой выражает намерение ис-
пользовать молитвенное поднятие рук, чтобы обнять возлюб-
ленного, а не для перехода к следующему рак'ату [Хуррамшахи,
с. 435].
546 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
4. Намек на кораническое предание о низверженных ангелах
Харуте и Маруте, чьи имена упомянуты в Коране [2:96(102)]: «...
но шайтаны были неверными, обучая людей колдовству и тому,
что было ниспослано обоим ангелам в Вавилоне, Харуту и Мару-
ту, но они оба не обучали никого, пока не говорили: „Мы — ис-
кушение, не будь же неверным!" И те научались от них, чем раз-
лучать мужа от жены, — но они не вредили этим никому иначе,
как с дозволения Аллаха. И обучались они тому, что им вредило
и не приносило пользы, и они знали, что тот, кто приобретал
это, — нет ему доли в будущей жизни». Комментаторы Корана
приводят законченный рассказ о двух падших ангелах; так, у
Табари сказано: «Харут и Марут были ангелами, и они попросили
у Господа Всемогущего: ,Дай нам земное царство, дабы мы ус-
тановили справедливость в миреа. [...] Когда же они попали на
землю, то вышли из повиновения и погрязли во всех грехах. [...]
Так что Господь предал их наказанию в Вавилоне, у горы Дема-
венд в колодце, где их подвесили вниз головой; от жажды языки
у них вывалились изо рта, а от их ртов до кромки воды — рас-
стояние с толщину лезвия меча, но они не могут дотянуться до
воды. [...] И рассказывают, что, если кто-то хочет научиться кол-
довству, он идет к этому колодцу и спрашивает у них» (цит. по
[Хирави, с. 414]).
5. «Хочу умереть подле тебя» — xvâham ki pis miram-at, вто-
рой смысл выражения (прием İham) — «хочу умереть за тебя»
(букв, «прежде тебя»), ср. фразеологизм pıs-marg-i fcas-f sudan
«быть готовым умереть за кого-либо». «Вероломный лекарь» (Ы-
vafâ tabîb) — возлюбленный друг, отказывающий во встрече,
которая и есть единственное лекарство, способное спасти
влюбленного; о круге мотивов «возлюбленный — лекарь/лекар-
ство» см. коммент. к газ. 62:8, ср. также контексты 51:7; 63:5;
82:5; 88:5.
6. «Я устроил запруды» (juy-i âb basta-am) — т. е. устроил в
своих глазах водоемы из слез, чтобы они не пропадали зря. В
бейте употреблена фигура «красивое обоснование» (husn al-
ta'lïl), найдена изящная причина для обильных слез, которые
стоят в глазах влюбленного: он надеется, что они послужат для
орошения почвы и взращивания зерна любви, если его удастся
заронить в сердце адресата газели [Хуррамшахи, с. 437].
Хафиз. Газель № 91
547
7. «Разящий кинжалом» — xanjar-guzär, воин, сражающийся
ханджаром, кинжалом с изогнутым лезвием (также ятаган), ме-
тафорически — «отважный». «Взор, разящий кинжалом» — ко-
кетливый взгляд прекрасных глаз, окруженных изогнутыми
ресницами, которые традиционно уподобляются кривым кин-
жалам, ср. у Хафиза газель 153:8.
Идея: я страдал в разлуке, но один лишь взгляд твоих глаз
избавил меня от страданий, потому что сразил меня наповал.
8. Суди (с. 564) приводит этот бейт как вариант бейта 6, по-
скольку в нем варьируется тот же образ и повторена рифма, в
редакции Ханлари бейт отсутствует.
9. «Ронял ... жемчужины» — намек на nüär, обычай бросать
под ноги почитаемой особы золотые монеты, жемчуг и лепестки
цветов; также — намек на «рассыпание жемчуга» поэзии, т. е.
поднесение газелей.
10. «Я тебя прощаю» — va furü-miguzäram-at, букв, «и я пре-
небрегаю [этим] у тебя», по толкованию Рахбара (с. 128): «Я не
корю тебя за это и предоставляю тебя самому себе».
Обращение Хафиза-автора к Хафизу-персонажу (влюблен-
ному, ринду, поэту) — распространенный прием, применяемый
в концовке газели (см., например, контексты 1:7; 3:9; 8:9; 9:10
и т. д.); поскольку речь идет о недозволенном поведении, «об-
нажение» приема здесь придает бейту ироническое звучание:
Хафиз-автор прощает Хафиза-ринда, т. е. «отпускает грехи» ...
сам себе.
Газель 92
СЛлмЛЛ, (l&Aİ QA <jijJ 45JjLftJ ^ ^JjJ 4JİS
dujjba U 111 fti (J^1 CT^C5^ 1 > Sil ft (J^jSk,
jl l$\ùjja jl >jLojj Ij ч£ Ajİ (^jac> a£ <jl
Cj—ajjiA !A$Ji ^J^> (jİjj <t£ jS ^Ixj jS
IjJ f A J im 4 i JjJ f 4 fü) JjJ 4üS
t-1
JJÛ JJ c5 J J jl Ь ful* {JJXs* jUl JÀ <jİjA>
di Äj^e L-J jJ A—S <jl JLä. ^jui j^ît a jl J
ВоЛг: ramal-i mutamman-i mahzüf
Vazn: fä 4lätun fä 'üätun fä 'üätun fâ 'Hurt
mï-ri-man-x^as / mï-ra-vî-kan / dar-sa-ru-pä / mx-ra-mat
y?as-xu-rä-män / sav-ki-pi-sî / qad-di-ra'-nä / mi-ra-mat
i. О мой эмир, ты красиво идешь, да умру я за твою стать!
Пройдись красивой походкой, и да умру я за твой стройный стан!
548
Хафиз. Газель № 92
549
2. Ты спрашивал: «Когда же ты умрешь предо мной?». К чему поспешность?!
[Теперь] ты просишь красиво — и да умру я за твою просьбу!
3- Я влюбленый, пьяный и разлученный, где кумир-виночерпий?
Скажи, пусть придет, ступая плавно! Да умру я за твой высокий кипарис!
4- От страсти к нему я болен целую жизнь — ему
Скажи: «Взгляни, и да умру я за твои иссиня-черные глаза!».
5- Ты сказал: «Рубины моих уст дают и боль, и бальзам»,
Да умру я — хоть за боль от тебя, хоть за твое лекарство!
6. Ты идешь красивой походкой — да минует тебя дурной глаз!
В голове у меня мысли о том, как у твоих ног умру я!
7- Хотя в обители встречи с тобой Хафизу нет места,
0. с тобой все места красивы, за всякое место, где ты, да умру я!
Комментарий
Данная газель в редакции Ханлари отсутствует; Суди (с. 567-
69) приводит ее текст со значительными разночтениями.
1. «О мой эмир» (mïr-i man) — приложение титулов правителя
(султан, шах, падишах) к адресату газели весьма распростра-
нено, поскольку возлюбленный друг предстает как повелитель
царства красоты. Однако при чтении газели в панегирическом
ключе это обращение перестает быть метафорой и обозначает
реального правителя. «Стать» — sar~u päy букв, «голова и ноги»;
Суди (с. 567) дает вариант saräpä «с головы до ног».
2. В бейте использованы формы преждепрошедшего (gufta
bûdî «ты [прежде] спрашивал») и настояще-будущего времени
(taqäzä mîkuni «[теперь] ты просишь»), подчеркивающие проти-
вопоставление того, что было прежде, тому, что происходит те-
перь. «Ты просишь красиво» — намек на красоту походки дру-
га, за которую не жалко и умереть, см. б. 1, где дважды исполь-
зовано то же наречие xvas «красиво, приятно».
3. «Высокий кипарис» — стандартная метафора стройного
стана. Во втором полустишии реализован прием iltifat, заклю-
550 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
чающийся в рамках бейта или полустишия в переходе от опи-
сания во втором лице к описанию в третьем лице или наоборот
[Ватват 1985, с. 126]. О виночерпии сначала говорится в треть-
ем лице (пусть придет), а затем во втором {умру за твой стан).
4. «Болен» — bimär, слово обычно используется как поэтиче-
ский эпитет прекрасных глаз; здесь оно характеризует состояние
влюбленного, чья болезнь вызвана красотой глаз возлюбленного;
тот же прием см. в газели 51:7. «Иссиня-черные глаза» — casm-i
sahlä, также глаза цвета нарцисса sahlä; согласно трактату Рами
Anis al-'ussäq, так называется одна из четырех разновидностей
прекрасных черных глаз. Словарь Диххуда объясняет, что
sahlä — черные глаза с краснотой и лукавым взглядом, а также
приводит толкования фархангов Ğiyât al-luğât и Änandräj для
sahlä: синий нарцисс, у которого сердцевина не желтая, а чер-
ная; именно такой нарцисс похож на человеческий глаз, см. [Ча-
лисова 2000, с. 390-392, коммент. о sahlä с. 395].
5. «Рубины», «бальзам» — две устойчивые метафоры губ, их
объединяет то, что в традиционной медицине толченый рубин
использовался как компонент лекарственных препаратов, см.
коммент. к газ. 34:4. «И боль, и бальзам» — о мотивах «возлюб-
ленный — боль / лекарство» см. коммент. к газ. 62:8; 91:5.
6. «Да минует тебя дурной глаз» — охранительная формула,
употребляемая вслед за выражением похвалы, см. коммент. к
газели 24:5, обыгрывание формулы см. в 82:4.
7. «Обитель встречи» — xalvat-i vasi, уединенное, укромное
место, предназначенное для свидания, в панегирическом клю-
че — метафора аудиенции у покровителя («эмира», см. б. 1). «С
тобой все места красивы» — hama jä-yi tu xvas, также — «все
места у тебя красивы», см. намек на описание «с головы до ног»
в зачине газели.
Обращают на себя внимание многократные повторы и алли-
терации, использованные в газели и акцентирующие ее тему —
шествие эмира красоты, за которое не жалко отдать жизнь. Га-
зель начинается со слова mir «эмир», и ее первый бейт аллитери-
рован этим звукосочетанием: компонент mir присутствует в mïr-i
man, miravi, miram «мой эмир», «ты идешь», «я умру». Аллитерация
поддержана радифом miram-at «умру за твое ...», а также гла-
Хафиз. Газель № 92
551
гольными формами bimîrî «ты умрешь» (б. 2) и mîravî «ты идешь»
(б. 6), и частично слышна в bimär-am «я болен» (б. 4).
Звуки гит слышны и в производных глагола xurâmîdan
«плавно ступать, прогуливаться изящной походкой», использо-
ванных трижды: xyas xurämän sav «пройдись красивой поход-
кой» (6.1), bixuràmad «придет, ступая плавно» (б. 3), xvas xurä-
män mîravî «идешь красивой походкой» (6. 6). Многократно по-
вторено слово хУае «красиво» (дважды в б. 1, а также в б. 2, 6,
7); предлог pis присутствует во всех бейтах, кроме б. 6.
Газель 93
1j_^û aİL_uj ^IôJjS aSj 4-ûIâ. uEİjJ 4j
i—j (j*Jb j&* *—J J^jj (> ji ^j^j
d_-ûjSa^û j JJJC .li^jyı dıîj^ clijib <£
C-L
Uj J £—a Jjj£ AST CiL La JIa j
1j <u£ jlllSS tau* j! .ı—o jj AİV a£
L-Jİ jjJ <_$U^ ja. 4_J I j l_-a <lk2j (jljj
БаЛг: mußatt-i mutamman-i maxbün-i mahzüf
Vazn: mafä'ilunfa'ilätun mafä'ilun fa'ilun
ci-lut-ß>-bu I d°-ki-nä-gä / h°-ras-ha-'ï / qa-la-mat
hu-qu-qi-xid / ma-ti-mä-'ar / za-kar-d°-bar / ka-ra-mat
552
Хафиз. Газель № 93
553
i. Что за милость была — когда вдруг капля с твоего пера
Поручила твоей щедрости заплатить за нашу службу!
2. Кончиком пера ты написал мне приветствие —
Да не лишится твоих записей мастерская мира!
3- Я не скажу, что ты по ошибке вспомнил про меня, несчастного,
Ведь, как считает разум, у твоего пера не бывает ошибок.
4- Не пренебрегай мной в благодарность за то благо,
Что тебя самого любит и чтит вечное счастье.
5- Приди, и я заключу договор с кончиком твоего локона,
Мол, пусть пропадет моя голова — не подниму [ее] от твоих ног!
6. Сердце твое узнает о нашем состоянии, но только тогда,
Когда прорастут тюльпаны из праха убитых тоской по тебе.
7- Помоги нашей жаждущей душе одним глотком,
Ведь тебе дают прозрачную воду Хизра из чаши Джама.
8. Да будет всегда благословенна твоя пора, о 'Иса ветерка,
Ибо душа измученного Хафиза ожила от твоего дыхания!
Комментарий
1. «Капля с твоего пера» (rasha'-i qalam-at) — т. е. запись чер-
нилами, метафора письма.
Смысл бейта: о друг, ты долго не вспоминал обо мне, но за-
тем внезапно проявил милость: написал письмо и упомянул, что
моя преданная служба достойна награды [Хирави, с. 417].
Тема восхваления пера, начатая здесь, продолжается в бей-
тах 2 и 3; это позволяет предположить, что адресатом газели
может быть один из министров, покровительствовавших Хафи-
зу (например, Кавам ад-Дин). Восхваление капли с пера мини-
стра как источника милости впервые встречается уже у Рудаки
(X в.), сохранился его панегирический бейт: «Сад царства ув-
лажнился каплей с пера министра — // Ведь роса дает влагу
саду и цветнику» [Рудаки, Dorj-3, Dïvân-i as'är, bäb-i sivvum,
554 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
abyät-i parakanda, бейт bäg-i mulk ämad täri az rasha'-i kilk-i
vazîr...].
Образ «капли с пера» встречается и в газели Камала Худжан-
ди, с которым Хафиз постоянно вел поэтический диалог: «О
письмоноша, принеси хотя бы сухой привет, // Если друг жа-
леет для меня каплю с пера» [Камал Худжанди 1975, с. 190,
№ 170, б. б].
На этом фоне образ приобретает полемический оттенок: ад-
ресат в газели Камала пожалел каплю с пера, а у Хафиза он
оказался щедрым.
2. «Твои записи» (raqam-at) — адресат (министр) представлен
как управляющий делами в мастерской мироздания; во втором
полустишии выражена благодарность за письмо — пожелание
долгой жизни и неограниченной власти.
3. «Меня, несчастного» — man-i bî-dil, букв, «меня, лишенного
сердца», т. е. влюбленного, отдавшего сердце другу.
4. «Вечное счастье» — dawlat-i sarmad, в определении сча-
стья как «вечного» скрыта ирония, само слово dawlat образова-
но от корня d-v-l «проходить, миновать», его первое значение —
«превратность [судьбы]»; кроме того, мотив переменчивого сча-
стья входит в топику ведущих жанров персидской поэзии. Бейт
содержит наставление адресату, построенное на оппозиции
«пренебрегать—чтить»: тому, кого судьба вознесла на самый
верх, не следует унижать своих слуг; в совете скрыто предосте-
режение — не забывай, что судьба переменчива; мотив «прояв-
ляй милость в благодарность за собственное счастье» см. также
в газели 5:5.
5. Идея: если ты вернешься, я обещаю, что скорее умру, чем
покину место у твоих ног. Упоминание о «договоре с кончиком
локона» не покидать место у ног друга содержит намек на не-
обычайную красоту и длину (до пят) волос воспеваемого.
6. «Состояние» (häl) — зд. страдание; внутреннее состояние
влюбленного, скрытое от окружающих и понятное только тем,
кто сам испытывает подобное чувство — одна из постоянных
тему Хафиза, см. газели 1:5; 63:5; 68:1; 71:1. Сердце возлюблен-
ного друга способно заметить муки влюбленных, только когда
Хафиз. Газель № 93
555
скрытое от глаз станет явным, «материализовавшись» в кроваво-
красных тюльпанах.
7. «Помоги ... одним глотком», т. е. дай глоток вина. Хизр —
пророк, знавший путь к источнику живой воды; см. коммент. к
газели 31:9. «Прозрачная вода» (zulâîj — зд. метафора вина.
«Чаша Джама» — чаша легендарного правителя Ирана (см.
коммент. к газели 33:6), у Хафиза часто — чаша с вином; так-
же — название дидактической суфийской поэмы Аухади (см.
коммент. к газ. 78:5). Этот бейт перекликается с бейтом 4, где
та же идея «в благодарность за свое счастье помоги ближнему»
выражена в других образах.
Ср. близкий мотив в газели 449:2 «Жаждущему в пустыне
тоже помоги прозрачной водой //С той же надеждой на Бога,
с какой ты [идешь] по этому пути».
8. «'Иса ветерка» ('îsâ-yi sabâ) — утренний ветерок (см. ком-
мент. к газели 1:2) уподоблен пророку 'Исе, обладавшему живо-
творным дыханием; ср. такие генитивные метафоры, как «со-
ловей ветерка» (34:3) и «удод ветерка» (90:1). «Твоя пора» — ве-
сеннее утро, время, когда веет ветерок sabâ, в поэзии — тради-
ционное время утреннего похмелья (şabühîj. Ветерок — устой-
чивая метафора вестника (см. коммент. к газ. 1:2). Концовка
газели намекает на тему ее начала: получение вести (письма) от
возлюбленного/покровителя возвращает героя к жизни.
Газель 94
t"1 J *' ^ isi pj^* ' J сИ^ ^W* 4-U ^
Cj—jVj J—jI jl .tfâàj jLıılü ^j ^jS
*->—№* C5^ J f J*> c^ ltW *^J* \*J^
J j jiUJ AbAj j > aÜSj a£ <^-i^>la jA jl
<"i İ g \jj ôlJ LHJ üWW* Ù^ J1 J^ j
t "inn (jljJ Ць£ Cjjjj^ v *" u\ ^ 1 IJ OİJ ^JJİ
556
Хафиз. Газель № 94
557
f—jUj djù jl ijjj fjl ^ûjj ^ jA
dı_jljj ôûjl—* jJ ^1 jâu j_j j ^1 ja
ВаЛг: muzârV-i mutamman-i axrab
Vazn: mafulufä'üätun mafûlufä'üätun
zâ^yâ-ri j dil-na-vâ-zam / suk-rï-s* / bâ-si-kâ-yat
gar-nuk-ta / dâ-ni-'is-qi/ bis-nav-tu / P-hi-kâ-yat
i. Моя благодарность тому нежному другу [смешана] с жалобой,
Если ты знаток тонкостей любви, выслушай этот рассказ!
2. Вся служба, которую я исполнял, осталась без оплаты и признания,
Не дай Бог никому хозяина, который лишен заботливости.
3- Риндам, томимым жаждой, никто не дает воды,
Неужто знающие цену другу покинули эти земли?!
4- О сердце, не запутывайся в его локонах, подобных силкам, ибо в них
Увидишь отрубленные головы [казненных] без вины и преступления.
5- Твой глаз, [бросив] взгляд, отведал нашей крови, а ты одобрил,
Душа [моя], не годится защищать проливающего кровь!
6. В эту темную ночь я потерял дорогу к цели,
Выгляни откуда-нибудь, о путеводная звезда!
7- Куда бы я ни шел, мой ужас только возрастал,
Берегись этой пустыни и этой дороги без конца!
8. О солнце прекрасных, все внутри у меня кипит,
Помести меня хоть на миг в тень своей милости!
9- Разве можно вообразить конец этой дороги,
Когда на ней больше ста тысяч перегонов в начале!
558 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ю. Сколько бы ты меня ни срамил, я не покину твоего порога,
Насилие друга лучше, чем покровительство врага.
п. Любовь придет тебе на помощь, если ты сам, как Хафиз,
Прочтешь Коран наизусть в четырнадцати изводах.
Комментарий
Газель с теми же метром и рифмой (-äyat) имеется в диване
'Аттара (7 бейтов) ['Аттар 1989, с. 113, № 150]. Веком позже от-
вет на эту газель написал Аухади Марагаи (9 бейтов), а сле-
дующим ответом стала газель современника Хафиза — Камала
Худжанди (7 бейтов), см. [Аухади, Dorj-3, № 165; Камал Худ-
жанди 1975, с. 110, №90]. Названные газели объединены по-
втором большинства рифмующихся слов. Если Хафиз создавал
свою газель после Камала, то в его распоряжении было уже три
текста, образующих цепочку со сложными смысловыми взаи-
мосвязями и образными перекличками. Хафиз использовал как
темы, так и большинство рифменных слов предшественников
(кроме пяти), добавив всего две новых рифмы — himäyat (б. 5)
и hidäyat (б. 6). Отметим, что в газели Хафиза все слова, несу-
щие рифму, являются арабскими заимствованиями, образован-
ными по одной модели (fi'älat).
1. «Благодарность ... с жалобой» (sukr ... bä sikäyat) — эта
формула, объединяющая антонимы, развивает темы благодар-
ности и жалобы, представленные в текстах предшественников.
Мистическая газель 'Аттара целиком проникнута интонацией
благодарного восхищения Божественным Возлюбленным, лири-
ческий персонаж не высказывает жалоб, рифма sikäyat «жало-
ба» отсутствует. В газели Аухади, которая может быть прочита-
на и как обращение к земному возлюбленному, тема жалоб на
его жестокость и вероломство затронута в ряде бейтов, при
этом в бейте, несущем рифму sikäyat, жалобы осуждаются:
«Злословят люди о том вероломном, //А моя любовь дошла до
предела. // Основание любви разрушено, если я воспротивлюсь
насилию, // Устройство разума никчемно, если я стану жало-
ваться» (б. 1-2). В многоплановой газели Камала, где совмеще-
ны мистический, любовный и панегирический аспекты, влюб-
ленный благодарен за страдания и жалуется лишь на то, что не
Хафиз. Газель № 94
559
все мучения достаются ему одному: «Доколе ты будешь давать
чужаку отведать вкус мучений, // Только в этом моя жалоба на
твою щедрость» (б. 2). В газели Хафиза, где придворно-пане-
гирические мотивы выступают на первый план, тема жалоб
становится центральной и разыгрывается в первых пяти бей-
тах, вытесняя тему благодарности; жалобы влюбленного маски-
руют упреки, обращенные придворным поэтом к покровителю,
не исполняющему своих обязательств.
Бейт обращен к «знатоку тонкостей любви» и как бы отвеча-
ет на риторический вопрос, заданный Аухади: «О, кому рас-
скажу я эту сбивчивую повесть, // Или — кому поведаю об
этих безмерных страданиях?!».
2. «Заботливость» — 'inäyat, также «благосклонность, ми-
лость», в частности, в устойчивом сочетании 'inâyat-i ilâhî «ми-
лость Божья». Содержание этого понятия меняется в зависимо-
сти от того, кто является подразумеваемым адресатом бейта
или всей газели — речь может идти о милости Бога, благо-
склонности возлюбленного, заботливости покровителя. Об
'inäyat говорится во всех обсуждаемых газелях. У 'Аттара адре-
сат газели столь высок, что весь мир жаждет проявления Его
милости: «О, сто тысяч жаждущих с пересохшими губами и вос-
пламененной душой // Пали и простерлись в уничижении, ну-
ждаясь хоть в какой-то милости ('inäyat)* (б. 3). Возлюбленный
Аухади таков, что от него благосклонности ждать не приходит-
ся: «Разве можно избежать печали, как можно обрести по-
кой?! //С этой стороны нет сил терпеть, а с той — нет благо-
склонности ('inäyat)* (б. 7). Бейт Хафиза, как и бейт 7 у Камала,
по внешнему смыслу обращен к правителю, чья милость пред-
стает как забота о подданных и принимает форму материаль-
ного вознаграждения.
3. «Ринды, томимые жаждой» — rindän-i tisna-lab, ср. бейт 3
из газели 'Аттара (процитирован в коммент. к б. 2) «Никто не
дает воды (ab-îj* — т. е. никто не подносит вина, в редакции
Ханлари вместо âb-f дан вариант jäm-i «чаша». «Знающие цену
ДРУГУ* — vali-sinäsän; vali в светском значении — «близкий
друг», в суфийских терминах — «наставник, святой», в Кора-
не — одно из «прекрасных имен» Бога. Альтернативный смысл
второго полустишия: «Неужто знающие Бога (Божьи люди) по-
560 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
кинули эти земли» (прием ïhâm, отмечен в [Хирави, с. 422]); ср.
сходное обыгрывание двух смыслов композита haq-sinäsän в
другой газели Хафиза: «Никто теперь не скажет, что друг обла-
дал правами дружбы, // Что сталось со знатоками права (haq-
sinäsän, также «знающими Бога»), что случилось с друзьями?»
[169:3].
4. «Не запутывайся в локонах» — dar zulf ... maple, второй,
фразеологический смысл выражения «не связывайся с локоном»
(прием ïhâm [Хуррамшахи, с. 440] ). Хафиз развивает поэтиче-
скую идею Аухади, у которого преступление (jinäyat) связано с
поведением возлюбленного: «Видел сто любовей от нас — не дал
и полпоцелуя, // Сто зол принес нам — не увидел [в том] и од-
ного преступления» (б. 3).
Хуррамшахи толкует бейт в мистическом ключе и отмечает,
что мотив «казни без преступления» является отголоском одного
из основных положений доктрины аш'аритов; как писал Газа-
ли, «Он предписал все, что будет до Судного дня: для одних
счастье без всякой причины, а для других горе без всякого пре-
ступления» (Kimiyä-yi sa'ädat, цит. по [Хуррамшахи, с. 440]).
5. «Взгляд» — ğamza, имеется в виду кокетливый взгляд,
подмигивание; см. также коммент. к газели 30:5. «Отведал кро-
ви» — хйп x?ard, фразеологич. «причинил страдание»; согласно
поэтической конвенции, глаз возлюбленного стрелой кокетли-
вого взгляда ранит сердце влюбленного и проливает его кровь.
6. «Темная ночь» — состояние разлуки, сопряженное с отчая-
нием и страхом, ср. контексты 1:5; 19:2; 38:1; 42:2; 53:3. «Цель»
(maqşûd\ — свидание с другом. «Путеводная звезда» (kawkab-i
hidäyat) — имеется в виду Полярная звезда (sitära-i judday), слу-
жащая ориентиром путникам [Хирави, с. 423]; здесь, возмож-
но — метафора возлюбленного [Суди, с. 579].
Предыдущий и данный бейты содержат рифмы, отсутст-
вующие в газелях предшественников (himäyat и hidäyat); отме-
тим, что именно в этих двух бейтах тема жалоб на друга сменя-
ется темой тягот пути к другу (б. 6-9).
7. «Ужас» — vah sat, комментаторы толкуют это слово по-
разному; у Суди (с. 579) это — «боязнь людей и бегство от них»,
т. е. он видит здесь скрытое уподобление персонажа Маджнуну,
Хафиз. Газель № 94
561
а у Хирави (с. 423) — «страх одиночества». «Дорога без конца» —
râhri bî-nihâyat; о разных аспектах бесконечного речь идет во
всех трех газелях предшественников, а само слово rühäyat «ко-
нец, край, предел» так или иначе использовано в рифмах всех
рассматриваемых газелей, причем у 'Аттара дважды и один раз
внутри полустишия, у Хафиза также один раз в рифме и один
раз внутри полустишия (б. 9). У 'Аттара бесконечен путь к Исти-
не, соотнесеный с беспредельностью ее сияния и неиссякаемо-
стью ее милостей: «О, сияние Твоего бытия в [глазах] разума бес-
предельно (bï-nihâyat)y II Полноте Твоего существования нет ни
начала, ни конца (ğâyat) (б. 1), и далее в шестом бейте: «Посколь-
ку этот путь милости оказался столь бесконечным (bï-nihâyat), //
Осилит ли в конце концов кто-нибудь эту дорогу без конца (Ы
nihäyat)?U. У Аухади и Камала бесконечными представлены
страдания любви. Аухади: «О, кому я расскажу эту сбивчивую
повесть?! // Или кому я эти страдания выскажу до конца (Ьа
nihäyat)?U (б. 4). Камал: «У страданий из-за тебя начало там, где
у всякого страдания конец (rühäyat), //У любви к тебе нет за-
вершения, у страсти к тебе нет предела». Темы дороги без конца
('Аттар) и страданий без конца (Аухади, Камал) преобразуются в
бейте Хафиза: здесь речь идет об ужасе человека, сбившегося с
пути (см. б. 6), и формула «дорога без конца» обретает дополни-
тельный смысл — это не столько путь к цели, сколько бесцельные
блуждания, т. е. то, чего следовало бы избегать. Так на фоне ин-
тертекстов проявляется авторская ирония в использовании рас-
пространенных метафор.
8. «Тень» (säya) — во втором значении «защита, покровитель-
ство». В бейте «перевернуто» завершение газели Камала; «Зна-
ешь ли ты, как Камал спасся от мрака судьбы? //То солнце
взошло на Востоке милости» (б. 7). Оба поэта говорят о путях
обретения милости, однако Камал строит образ на переходе из
мрака к свету, тогда как Хафиз в ответ обыгрывает ситуацию
как переход от жара к прохладе; при этом недостижимость це-
ли подчеркивается оксюморонно, поскольку лирический персо-
наж просит тени ... у самого солнца.
9. Бейт непосредственно отсылает к пятому бейту газели 'Ат-
тара, также имеющему рифму bidäyat «начало»: «Сколь бы
большой путь ни прошли идущие к Тебе, // Впереди они виде-
562 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
ли путь еще больше, они были в начале» (б. 5). Хафиз возвраща-
ется к теме «дороги без конца» (см. б. 7) и объясняет ее нескон-
чаемость, гиперболизируя поэтическую идею предшественни-
ка: если у 'Аттара «начало» — это уже «большой путь», то у Ха-
физа это путь длиной в «сто тысяч стоянок».
10. «Срамил меня» — burdï äb-am, букв, «забрал мой блеск»,
имеется в виду «блеск лица», полная форма фразеологизма —
äb-rü burdariy букв, «забирать блеск лица»; в строке «лицо» (гйу)
используется в составе второго фразеологизма «я не покину» —
гйу ... natäbam, букв, «не отверну лица». Соположение в полу-
стишии этих двух выражений создает дополнительную смысло-
вую игру: «Сколько бы ты ни забирал блеск с моего [лица], //Я
не отверну лица от твоего порога».
11. В первом полустишии Хафиз обыгрывает терминологи-
ческое значение своего литературного псевдонима «чтец Ко-
рана» (ср. газели 9:10; 69:12). «Четырнадцать изводов» — cär-
dah riväyat, riväyat — способ рецитации Корана, признанный
правомерным; существует семь ривайатов, каждый из кото-
рых восходит к конкретному чтецу qarî* (ИЭС, ел. ст. «ал-
Кур'ан» (Е. Резван)). Выражение «четырнадцать ривайатов»
намекает на то, что у каждого из семерых канонических чте-
цов было по два передатчика-paeu, чтобы обеспечить взаим-
ный контроль правильности передачи текста. Имена чтецов и
передатчиков см. в [Хуррамшахи, с. 442-448], где приведены
подробные сведения о семи ривайатах. Слово riväyat стоит на
рифме в газелях 'Аттара и Аухади, но означает «рассказ». Ха-
физ использует это рифменное слово как термин науки о чте-
нии Корана (qirä'at).
Рифма всех рассматриваемых газелей -äyat (sikäyaty
hikäyat, 'inäyat и т.д) сама по себе является значимым словом
«знамение, стих Корана». В пятом бейте своей газели Камал
«выводит на поверхность» семантику рифмы: бейт имеет ко-
раническую образность и рифму -äyat: «Твоя сущность не из-
вестна ни пророку, ни святому, // Это немногое стало извест-
но через Джабраила и айаты». Хафиз в свою очередь обыграл
семантику рифмы, он использовал собственный литературный
псевдоним, означающий «чтец Корана», слова «Коран» и «ри-
вайат», а увенчал газель эффектной гиперболой: чтобы Бог да-
Хафиз. Газель № 94
563
ровал желанное, мало просто читать Коран, нужно, как Ха-
физ, прочесть Коран в четырнадцати изводах, т. е. дважды
для верности воспроизвести наизусть каждый из семи закон-
ных вариантов чтения.
Газель 95
jAp jljj L_ij Ь ^^ c^bjü jj^ jl ^
^jta jl j—$__j Jl j_jjc Ij ^jüjj ^jî jljjüü
^1 jUj j** t*L jl^A. ôIûjjIa <£ ^1 jâ. jS jj
C5jÎc jl j ^^jJ jl cİLuüI j Jââlâ. AS C-uA ^jA j
Bahr: hazayı mutamman-i salim
Vazn: mafâ'üun mafâ'ïlun mafâ'îlun mafä'ilun
mu-dâ-mam-mas / P-mi-dä-rad / na-si-mi-ja* / di-gi-sû-yat
xa-rä-bam-mi / ku-nad-har-dam / fa-ri-bi-cas / mi-jâ-dû-yat
ı. Непрестанно пьянит меня аромат завитков твоих кос,
Каждый миг опьяняют меня чары твоих колдовских глаз.
564
Хафиз. Газель № 95
565
2. Боже, после этого долготерпения, увидят ли однажды ночью,
Как мы зажигаем свечу глаз в михрабе твоих бровей?
3- Чернота [писчей] доски зрения дорога мне потому,
Что для души она словно список с доски твоей индийской родинки.
4- Если ты хочешь навечно украсить весь мир,
Вели ветерку на миг приподнять покров с твоего лица.
5- Если ты хочешь изгнать из мира обычай умирать,
Взмахни [косами], чтобы тысячи душ посыпались с каждого твоего волоса.
6. Я и утренний ветер — двое жалких никчемных бродяг,
Я пьян от чар твоих глаз, а он — от запаха твоих кос.
7- Хвала рвению Хафиза — из этого мира и из того
В его глазах ничего нет, кроме пыли с твоей улицы!
Комментарий
1. «Аромат» — nasïm, в первом значении «ветерок, дунове-
ние», однако, в поэтическом языке часто употребляется в зна-
чении «аромат, благоухание» (ср. nasîm-i may «благоухание ви-
на» в газ. 84:5). О «ветерке от волос» и его воздействии на влюб-
ленного см. коммент. к газелям 23:1 и 30:1-2. «Пьянит» (mast
mïdârad) и «опьяняет» (xaràb mïkunad) — именные части ска-
зуемых в двух полустишиях являются компонентами устойчи-
вого выражения mast-u xaräb «вдребезги пьяный».
2. «Свеча глаз» — уподобление основано на представлении о
том, что глаз, как и свеча, испускает свет и проливает слезы.
«Михраб бровей» — см. газель 91:3 и коммент. Во время ночной
молитвы в михрабе мечети ставят зажженную свечу [Хирави,
с. 425; Хуррамшахи, с. 452]; в бейте встреча с другом уподобле-
на пребыванию в мечети.
Смысл бейта: я терпеливо сношу разлуку в надежде на бу-
дущее свидание со своим кумиром, когда мой взор озарится
при виде его лица и я стану поклоняться ему, как в мечети по-
клоняются Богу.
566 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
3. «Чернота писчей доски зрения» — savâd-i lawh-i bînis, ме-
тафора зрачка, который уподоблен надписи на «доске зрения»
(зрительные образы запечатлеваются в глазу, как записи на дос-
ке). «Индийская родинка» — черная родинка, см. коммент. к га-
зели 3:1. «Доска ... родинки» (lawh-i xäl) — основание для уподоб-
ления родинки писчей доске неясно; возможно, «доска» здесь —
метафора лица (лба, щеки), на котором «начертана» родинка (для
упражнений в каллиграфии могли использоваться металличе-
ские доски серебристого цвета [Му*ин, ел. ст. Lawh]); в редакции
Ханлари вместо lawh-i xäl дано naqs-i xäl «рисунок родинки».
Идея: зрачок моего глаза (т. е. способность видеть) я храню
лишь потому, что он похож на твою родинку.
Взаимоуподобление зрачка глаза влюбленного и родинки на
лице друга встречается и в других газелях Хафиза, ср.: «Точку
твоей родинки нельзя поставить на доску зрения, // Разве что
мы обратимся за помощью к зрачку глаза» (368:5); см. также
68:2; 177:8; 408:9.
4. «Весь» — yaksar, наречие, передающее смыслы «целиком,
полностью» и «сразу, без промедления»; со вторым значением воз-
можен перевод «сразу украсить мир». Одна из поэтических функ-
ций ветерка — своим дуновением раскрывать бутоны, см. ком-
мент. к газелям 1:2 и 32:3. В бейте лицо друга, скрытое под по-
кровом, сравнивается с розой, скрытой в бутоне [Хирави, с. 426].
Идея: другу достаточно на один миг явить розу своего лица —
и во всем мире наступит вечная весна, т. е. земной мир уподо-
бится раю. В мотиве «роза лица как причина наступления вес-
ны», возможно, содержится шутливое опровержение персидской
пословицы «от одной розы не бывает весны» (az yak gui bahar
namïsavadj.
5. «Обычай умирать» — rasm-ifanä; fana (букв, «умирание, ис-
чезновение») — суфийский термин, подразумевающий исчезно-
вение личности в Боге. По мнению Хуррамшахи (с. 453), слово
употреблено в лексическом, а не в терминологическом значении.
Существует поэтическое представление о том, что в путах
локонов возлюбленного друга находятся сердца влюбленных,
этот мотив хорошо представлен в Диване Хафиза (см. газели
1:2, 102:3, 237:5, 408:5). В данном бейте автор трансформирует
мотив таким образом, чтобы связать его с темой жизни в раю:
Хафиз. Газель № 95
567
пленниками локонов друга являются не сердца (dil), а души или
жизни (/ân) людей. Стало быть, если друг распустит косы, то ду-
ши вернутся к своим земным хозяевам (тем, кто умер от любви)
и оживят их. Красота друга в бейтах 4 и 5 представлена как
способная воссоздать рай на земле: если он явит лицо, наступит
вечная весна, если встряхнет локонами — исчезнет смерть.
6. «Никчемные» — bî-hâşil, также «не достигшие результата,
цели». «Я пьян от чар твоих глаз» — намек на «пьяные» (mast),
т. е. красивые и пьянящие глаза друга; это конвенциональное
определение глаз обыграно во многих бейтах Хафиза, см., на-
пример, газели 11:7; 12:3; 15:4. «Бродяга» — sar-gardän, также
«растерянный, беспомощный». О функциях ветерка в газели см.
коммент. к 1:2; обычно ветерок «оказывает воздействие» на
возлюбленного (приводит в движение локоны, приподнимает
покров с лица), здесь же, наоборот, возлюбленный воздействует
на ветерок, опьяняет его ароматом волос и заставляет бесцель-
но блуждать по свету. Красота возлюбленного, как и в двух
предыдущих бейтах, предстает как космическая сила, она не
только превращает влюбленного в бродягу, но и приводит в
движение ветер.
В редакции Ханлари во втором полустишии вместо casm-at
mast стоит casm-i mast, что несколько меняет смысл всего бейта:
«Я и утренний ветер — двое жалких никчемных бродяг, //Я —
из-за твоих пьяных глаз, а он — от запаха твоих кос».
7. «Рвение» — himmat, «нравственное величие», «духовная
энергия», об этом концепте в поэзии см. коммент. к газели
12:12. «Пыль с твоей улицы» — намек на распространенный ли-
рический мотив «пыль с порога/улицы/пути друга — целитель-
ная сурьма для глаз влюбленного» (см. 2:5; 60:7; 73:1; 89:2). «В
его глазах ничего нет» — nayäyad hic dar casm-as, букв, «ничто
не попадает в его глаза», фразеолог. «ничто не имеет ценности в
его глазах»; обыграны оба смысла: Хафиз всегда находится на
улице друга и пыль с нее — (1) единственное, что попадает ему
в глаза, (2) единственное, что ценно в его глазах.
Газель 96
'*Л J * N (jLajJ 1*1 >>ıji I j La Jjû
**Л j • Ц ùM^ ^"O*1 ' J ^ ^H^
J LL£ <jIa. ûj^ââ j -ÜÛjj (Jj j (jjJ
c!j1 j % \\ {j^jb jj-*- jl ^-)b*JI
L-J LJa ^ Л—аь (^l<juüjj (^l^J JÛ
l>ù J • » (jUliuJj (j—^ «^^5^
jV^j—àl—S J-jI ^jûjja U jjâ.
ВаЛг: ramal-i musaddas-i maqsûr
Vazn: fä 'üätun fä 'ilâtun fä 'ilät
dar-di-mä-rä / nï-s^dar-ma11 / al-gi-yät
haj-ri-mä-rä / ni-st-pä-yä" / al-gi-yät
i. Нет лекарства от нашей боли, спасите!
Нет конца нашей разлуке, спасите!
2. Религию и сердце украли и покушаются на душу,
Спасите от жестокости прекрасных, спасите!
3- В уплату за один поцелуй душу
Требуют эти похитители сердец, спасите!
568
Хафиз. Газель № 96
569
4. Выпили нашу кровь эти нечестивцы,
О мусульмане, где лекарство, спасите!
5- Денно и нощно, подобно Хафизу, не помня себя
Я сгораю и плачу, спасите!
Комментарий
Эта газель с радифом al-ğiyöt «спасите!» необычна для манеры
Хафиза, в ней сочетаются «краткость» (всего пять бейтов, ко-
роткая строка — шестистопный рамал, где последняя стопа
занята радифом) и «безыскусность» образного рисунка. В ре-
дакцию Ханлари она не включена, однако, можно проследить
текстуальные связи этой газели с произведениями как предше-
ственников Хафиза, так и поэтов более позднего времени. В
диванах Санаи и 'Ираки имеются газели, написанные тем же
вариантом рамала, но не шести-, а восьмистопным, с радифом
al-ğiyöt ay duştan «спасите, о друзья!», см. [Санаи, Dorj-3, газель
№ 290; 'Ираки, Dorj-3, газель № 208]; в обеих газелях, как и у
Хафиза, каждый бейт включает ту или иную жалобу влюблен-
ного и просьбу о помощи. Авторы XV в. — 'Абд ар-Рахман Джа-
ми и Мухаммад Асири Лахиджи — продолжают традицию; у
обоих есть газели с радифом al-ğiyöt, как у Хафиза, но напи-
санные восьмистопным метром ramai, как у его предшествен-
ников.
1. Зачины газелей Санаи, 'Ираки и Хафиза сближает не
только «песенная» интонация и намеренная стилистическая
простота, но и общая тема жалобы влюбленного; ср. у Санаи: «Я
вновь попал в беду, спасите, о друзья! // Из-за страсти к веро-
ломному, спасите, о друзья!» (б. 1); у *Ираки: «Я сражен разлу-
кой с любимым, спасите, о друзья! // Из-за расставания с ним
я сильно горюю, спасите, о друзья!» (б. 1).
2. «Религию ... украли» (dîn ... burdand) — заставили отсту-
питься от ислама; этот распространенный мотив персидской га-
зели восходит к истории шейха Сан'ана, см. коммент. к газели
10:1; ср. также реализацию мотива в газелях 55:7; 67:2; 77:6.
Жестокие «прекрасные» в бейте Хафиза стремятся отнять
все — и сердце, и душу, тогда как в мистической газели 'Ира-
ки, наоборот, жестокость возлюбленного представлена как от-
570 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
каз принять душу влюбленного: «Столько историй о его жесто-
кости скрыто у меня в душе! // Никому не осмелюсь расска-
зать, спасите, о друзья! //Я посылаю душу в подарок любимо-
му, а он не принимает [даров] от меня, // Посылает мне горе на
память, спасите, о друзья!» (б. 8-9).
3. «В уплату за ...» — dar bahâ-yï, по сообщению Суди, кри-
тики упрекали Хафиза за этот бейт: «Ты считаешь, что отдать
душу за один поцелуй друга — это очень дорого, раз ты так зо-
вешь на помощь, в то время как истинный влюбленный готов в
уплату за один поцелуй отдать тысячу душ, лишь бы возлюб-
ленный согласился их принять» [Суди, с. 636].
Бейт действительно построен на скрытой полемике с кано-
ном; в газельной конвенции поцелуй друга наделен свойством
возвращать жизнь (ср. газели 57:6 и 70:6), поэтому ситуация
бейта парадоксальна: влюбленный должен расплатиться жиз-
нью за поцелуй, дарующий жизнь. Тот же тип поэтической ар-
гументации в более явной форме и в рамках другого образа
представлен в указанной газели Санаи: «Кто кроме меня в це-
лом мире отдал зрячие глаза // В уплату за глазную мазь
(tutiyä), спасите, о друзья!» (б. 9).
4. «Выпили нашу кровь» (xûn-i mâ xvardand) — заставили нас
страдать и мучаться. «Нечестивцы» — kâfir-dilân, букв, «[наде-
ленные] сердцами нечестивых», те, кто не чтит единого Бога и не
соблюдает мусульманский закон. О том, что возлюбленные испо-
ведуют особую веру, по законам которой кровь влюбленных
«дозволена, как молоко матери», Хафиз упоминает в газели 39:2.
5. «Подобно Хафизу ... я сгораю и плачу» — ham си häfiz ...
gasta-am süzân-u giryân, здесь за уподоблением персонажа га-
зели «Хафизу» стоит его уподобление свече; изящество этому
скрытому сравнению придает соединение реального и метафо-
рического планов: персонаж сгорает в переносном смысле и
плачет в прямом, а свеча — наоборот, сгорает реально и плачет
метафорически. О свече, разделяющей страдания влюбленного,
см. комментарий к газели 40:9.
Газель 97
JJJ £ J O^J1^ J* lPjj J2 lSjj lM#
rb t"ulh dj ul-Jb J—J ôUjuJ L-klj ÛİJJUJ
pljj j ks\ a ClAjj jl ^^)J jj ^Jâ ja Ljjl
^—ta l-^Ioj j ^ jl—^ ^^jI^^^aA I ja
^•L_^. j ja. ^£ jU 4j «liL ч£ t «j* >u Jû
43 é '* J—3 UJt li'j* -^^ JJ JJ J^
ВаЛг: mujtatt-i mutamman-i maxbun-i aşlam-i musbağ
Vazn: mafä'ilun fa'ilätun mafâ'ilun fa'lân
tu-yï-ki-bar/ sa-ri-xû-bâ / ni-kis-va-ri/ cü^täj
sa-zad-a-gar / ha-ma-î-dil/ ba-ràn-da-han / dat-bäj
571
572
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
i. Это ты — словно венец на головах красавцев любой страны,
Надо, чтобы все похитители сердец платили тебе дань!
2. Твои лукавые глаза посеяли смуту в Хата и Эфиопии,
Извивам твоих локонов Китай и Индия платят налог.
3- Белизна твоего лица светла, как внешность лика дня,
Темнота твоего черного локона — это мрак ночи!
4- Твой медовый рот создал спрос на воду Хизра,
Твои сахарные губы лишили спроса египетские леденцы.
5- Воистину, от этой болезни я не найду исцеления,
Ибо боль в сердце из-за тебя, о душа, не поддается лечению.
6. Душа моя, почему ты разбиваешь жестокосердием
Слабое сердце, которое по хрупкости — словно стекло?
7- Губы твои — Хизр, а рот твой — живая вода,
Стан твой — кипарис, талия — волос, а грудь на вид — слоновая кость.
8. В сердце Хафиза запала страсть к такому повелителю, как ты,
О если бы он был ничтожной пылинкой праха на твоем пороге!
Комментарий
В Диване Хафиза в редакции Ханлари эта газель отсутствует.
Рифма -âj (tâj, bâjy xarâj ...) представлена в ограниченном наборе
персидских слов и арабских заимствований, поэтому газели с
этой рифмой встречаются нечасто и обнаруживают большое ко-
личество повторяющихся рифменных слов, что в известной мере
формирует и схожий репертуар мотивов. Так, в Диване одного из
поэтических оппонентов Хафиза — Камала Худжанди — имеются
две газели с этой рифмой [Камал 1975, с. 299-300], написанные
другими метрами (№ 278 рамал, № 279 мутакариб\у однако, в
первой из них 5 слов под рифмой из 8, а во второй 6 из 8 совпа-
дают с хафизовскими.
1. Образный ряд бейта (венец, страна, дань) отсылает к широ-
ко представленному в Диване Хафиза мотиву «возлюбленный —
Хафиз. Газель № 97
573
падишах в стране красоты», см. его реализацию в газелях 33:3;
57:2; 76:7; 77:3.
2. Хата — город в Восточном Туркестане, см. коммент. к га-
зели 81:1. Топонимы, использованные в первом полустишии
(xatä «Хата» и h abas «Эфиопия»), входят в число конвенцио-
нальных обозначений красивых глаз; в трактате современника
Хафиза, Шарафа Рами, говорится, что «зрачок глаза уподобили
эфиопской невесте», а название глаза xatâ'î «житель Хата» вхо-
дит в число тридцати трех уподоблений глаза, распространен-
ных среди персидских поэтов [Рами 2000а, с. 391]. Топонимы
второго полустишия (mäcin «Китай» и hind «Индия»), согласно
тому же трактату, входят в число ста иносказательных наиме-
нований локона [Рами 2000, с. 98].
3. Оппозиция лица и локона подчеркнута за счет использо-
вания сравнений, включающих тавтологичные сочетания близ-
ких по семантике слов: лицу (гйу) присуща особая «белизна»
(bayäz), «светлая» (rawsan) не просто как «день» (ruz), а как
«внешность» ('äriz, также «лицо») «лица» (гих) дня; «темнота»
(savâd), которой отличается «черный» (siyäh) локон, подобна
ночному «мраку» (zulmat, также «потемки») темной «ночи» (do/,
также «тьма»).
4. «Вода Хизра» — живая вода, см. коммент. к газели 31:9.
Животворность и сладость рта (dahän) и губ (lab) возлюбленных
принадлежат к числу их устойчивых поэтических признаков (о
животворности см. 57:6 и 70:6, о сладости — 3:6; 50:3; 57:2). В
бейте эти признаки выражены через ситуацию торговли: воз-
любленный появился перед влюбленными, жаждущими поце-
луя, таким образом его рот как бы выставил на продажу живую
воду, товар, которого прежде не бывало, а губы — необычайно
сладкий сахар, товар, превосходящий все, что продавалось
прежде. Опорное слово ситуации торговли — ravâj «спрос» несет
рифму бейта; в двух упомянутых газелях Камала в бейтах с
рифмой raväj представлены схожие мотивы: «Твой локон
стряхнул с полы ту пыль из-под ног (т. е. стряхнул с себя мус-
кус, как никчемную пыль), //В самом деле — в Китае (cin) нет
спроса на мускус» (№ 278, б. 3); «Скажи: не приносите сюда ко-
кетство и красоту, // Ведь в Кирмане нет спроса на тмин»
(№ 279, б. 2).
574 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
5. «Лечение» — 4läj, это слово, стоящее на рифме, является
опорным для темы «болезни». В двух газелях Камала бейты с
рифменным словом 'iläj развивают ту же тему; в зачине газели
278 речь идет о мотиве «болезнь любви»: «Сердце, которое из-за
того локона наполнилось черной желчью (sawdâ, также «силь-
ной страстью») — // Нет у него, кроме тебя, снадобья для лече-
ния»; а в газели 279 (б. 4) — о мотиве «болезнь лицемерия»: «Что
толку лечить аскета, о мудрец, // Ведь он человек тяжко боль-
ной и неизлечимый». Использование одной метафорической
конструкции (неизлечимость болезней любви и лицемерия) для
двух антиподов в мире газели — влюбленного и аскета — под-
черкивает абсолютный характер их противостояния.
6. «Жестокосердие» — sang-dilî, букв, «каменносердие», бук-
вальный смысл композита проясняет ситуацию бейта: бессерде-
чие возлюбленного подобно камню, который разбивает сердце
влюбленного, хрупкое, как стекло. «Слабое сердце» (dil-i za'ïfi —
т. е. сердце, пораженное болезнью любви, ср. предыдущий бейт.
7. «Хизр ... живая вода» — о пророке Хизре, нашедшем источ-
ник живой воды, см. коммент. к газели 31:9; ранее, в бейте 4,
рот уже уподоблялся живой воде, но в ином образном контексте.
«Губы твои — Хизр» — то есть твои губы окружены молодым
пушком; пушок вокруг губ (xatt) часто сравнивается с молодой
травкой, sabza, букв, «зелень»; имя Хизр восходит к арабскому
корню x-z-r, ixzarra «быть зеленым», и Хизра описывают в пре-
даниях как странника в зеленых одеждах: везде, где он ступает,
вырастает зеленая травка; в любовной газели «Хизр» — одно из
иносказательных наименований отроческого пушка, обрамляю-
щего рот — источник живой воды; ср. вариант текста данного
бейта у Суди (с. 642): xatt-i tu xizr «пушок твой — Хизр».
8. «К такому повелителю, как ты» (сйп tu säh-i) — в концовке
газели происходит возвращение к теме зачина: возлюбленный —
верховный владыка в царстве красоты. «Ничтожная пылинка» —
kamına zarra, в переводе kamına рассматривается как определе-
ние к zarra (так у Рахбара); но поскольку у kamına есть также
эпистолярное местоименное значение «покорнейший слуга», воз-
можна другая интерпретация второго полустишия: «О если бы
[твой] покорнейший слуга был пылинкой праха на твоем пороге!»
Газель 98
r-^L^ Ciujlj jj (jl£ cİLuıt ^jl <l*a La ^^L^*
CjI л 1 h \1 Je 1л. j_Jj dUjuj <*-iîj û! jjoı
^ j nV^I (jlli j—î ô^ j^ (SjJ ü^4£
QäOuk 4 CiàUj (^juoS dj^la£ L_àl j Q^. j
Г"! > 1 л И1 ^ JJJ J JJJİ <AjLoS <Jİ jl
^jljj jl i ^ jJ 4-Ajkİ^. c*L o^juü aIdJjû j
^ л jî <jl j_-û jj j LS-j LLiî a£
tjl > dij—S ClioıA jj ı**dj^ 4-Jİ ja. 4-J
C^J J ^ C:i-U1J, J1 'j ^ C5^ JJ^J
c5jlj л >^> <—j ^l^juüjj t"ı i \ JäJ ûIûj
£İ aJl jl jA .lua Aj jl j ^b ^l£ clâj^
jl—al ut л q\—jj ùjj j—j jLa. ^Ico
^1 1 > s\ j \ mi л (Jj^aiLû Jjj a£ u 4juLluA
k *i ^ j^-û La j ^jİİj j 4jjj j r-İL-a
Всфг: mujtatt-i mutamman-i maxbün-i maqsür
Vazn: mafä'ilun fa'ilâtun mafä'ilun fa'ilät
a-gar-ba-maz / ha-bi-tü-хй / ni-'ä-si-qas / P-mu-bäh
sa-lä-hi-mä / ha-ma-ä-nas / t°-kän-tu-rä / s^sa-läh
575
576 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
i. Если по твоей религии дозволена кровь влюбленного,
Для нас добродетель все, что добродетель для тебя.
2. Чернота твоего черного локона рождает мрак,
Белизна твоего луноподобного лика являет рассвет.
3« Никто не нашел избавления от извивов локона твоего аркана,
Спасения от того малого лука брови и стрелы глаза.
4- Такой источник из моих глаз разлился подле [меня],
Что в нем не выплывет и моряк!
5- Твои губы, подобные живой воде — сила души,
В них — предвечерняя молитва для нашего бренного естества.
6. Дали лалы твоих уст поцелуй за сотню стенаний,
Добилось мое сердце от них желанного за сто тысяч молений.
7- Молитву за твою душу твердят уста влюбленных,
Всегда — покуда утро и вечер сменяют друг друга!
8. Добродетели, раскаяния и благочестия не жди от нас, Хафиз,
В ринде, влюбленном, безумце никому не сыскать добродетели.
Комментарий
В редакции Ханлари газель отсутствует. Газели с опорным
харфом рифмы ha (£) весьма немногочисленны и встречаются
не у всех поэтов. Тем более интересно отметить, что газели с
теми же метром и рифмой имеются в диванах всех поэтов
«круга Хафиза», его излюбленных поэтических оппонентов: Ау-
хади Марагаи (7 бейтов), Хаджу Кирмани (9 бейтов), Камала
Худжанди (2 газели по 7 бейтов), см. [Аухади, Dorj-3, газель
№ 167; Хаджу, Dorj-3, газель № 234; Камал Худжанди 1975,
с. 301, 303, газели № 280 и 282]. Кроме того, у Салмана Савад-
жи есть кыт'а с теми же размером и рифмой (9 бейтов) [Сал-
ман, Dorj-3, кыт'а № 40].
1. «Твоя религия» — mazhab-i tu, кодекс поведения жестокого
возлюбленного, см. контекст 39:2 и коммент. «Добродетель» —
Хафиз. Газель № 98
577
salâh, во всех контекстах Дивана Хафиза это качество ассо-
циируется с проявлениями внешнего благочестия и, следова-
тельно, рассматривается как отрицательное, см. 2:1,3; 24:1;
64:7; 153:4; 305:2; 341:2; 355:5; 370:1. В данной газели тема
«добродетели» (salâh) образует рамку (само слово использовано
по два раза в зачине и финале). Во всех отмеченных текстах
предшественников имеются бейты с рифмой salâh, причем об-
разные ситуации в них различаются, но в каждом используется
прием повтора слова salâh. Например, персонаж газели Аухади
иронически говорит о себе: «Для нас вся добродетель — [сидеть]
в уголке кабака, //За что нас порицают ревнители добродете-
ли?!» (б. 6), а Салман в торжественном тоне обращается к адре-
сату своего кыт'а (б. 1): «*Изз ад-Дин — советник государства и
добродетель эпохи, // Ибо все, кроме службы тебе, лишено доб-
родетели!»
В бейте Хафиза восхваление возлюбленного друга строится
как провозглашение добродетельными всех его поступков,
включая обыкновение проливать кровь и лишать жизни влюб-
ленных.
2. Для восхваления примет красоты друга использована ко-
раническая аллюзия к айату 6 суры «Скот» [6:96] в первом по-
лустишии и цитата из того же айата — во втором. «Рождает
мрак» — jâ'üu-1-zulmât; «являет рассвет» — fâliqu-1-isbâh, ср. в
Коране: «Он выводит утреннюю зарю (fâliqu-1-isbâh) и ночь де-
лает (ja'ala-1'layla) покоем». У Хаджу применен тот же прием,
кораническими цитатами украшены 0ба полустишия, описы-
вающие сначала слезы влюбленного, а затем красоту друга:
«Два моих глаза дают комментарий к слиянию двух морей
[18:59(60)], // Твоя красота дает разъяснение к выводит ут-
реннюю зарю».
3. «Локон твоего аркана» (zulf-i kamand-at) — т. е. локон тво-
их волос, способный захватывать сердца, подобно аркану,
здесь перевернута традиционная метафора «аркан локона»
(kamand-i zulj). «Малый лук» — kamânca, охотничий лук неболь-
шого размера, также — каманча, разновидность струнного
смычкового инструмента с круглой декой, причем слегка изо-
гнутый смычок каманчи называется kaman, kamana (букв,
«лук»); kamânca служит одним из распространенных образов
578 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
сравнения для брови, как в значении оружия, так и музыкаль-
ного инструмента (или его смычка). Так, в данном бейте упомя-
нута стрела, следовательно, kamänca означает «лук»; в газели
334:6 говорится о кабаке и в сравнении брови и kamänca на
первый план выходит значение музыкального инструмента:
«Если в мечети и в кабаке появится твой образ, //Я сделаю из
двух бровей михраб и каманчу». В газели 491:2 равно возмож-
ны оба образа сравнения: «Есть надежда, что предписание о
моем деле любви // Украсится царской подписью малого лука
(каманчи) той брови».
4. «Моряк» (malläh) — в данном случае тот, кто хорошо умеет
плавать, намек на известную притчу о мореходе и грамматисте.
Некий знаток грамматики во время морского путешествия
спросил капитана, учил ли тот грамматику и, услышав отрица-
тельный ответ, заметил, что полжизни его пропало зря. Подня-
лась буря, корабль стал тонуть и капитан спросил грамматиста,
учился ли тот плавать, а услышав, что нет, воскликнул: «Вся
твоя жизнь пропала зря!» Бейт с рифмой malläh и аллюзией к
той же притче есть и в газели № 282 Камала: «У наших факиха
и проповедника, что запасают моря (bahr) науки — // Это все
та же история про знатока метрики (bahr-dän) и моряка
(malläh)* (б. 2). В популярной версии, изложенной в первом
дафтаре «Маснави» Руми [Руми 2007, с. 386 (перс, текст), с. 200
(перевод), бб. 2835-2842], действующими лицами являются
kastibän «капитан» (а не «моряк») и nahvi «грамматист», глагол
«плавать» употреблен в редкой форме äsnä kardan, именно эту
форму использует в своем бейте и Хафиз.
5. «Губы, подобные живой воде» — о сравнении губ с живой
водой или водой Хизра см. коммент. к газелям 57:6; 70:6 и
97:4. «Предвечерняя молитва» — zikr-i raväh, речь идет о допол-
нительной молитве перед заходом солнца, которая по благо-
творному действию приравнивалась к молитве перед восходом
солнца (см. коммент. к газели 6:7). Газали пишет, перечисляя
обязанности мусульманина: «Затем до вечернего намаза ему
надлежит появиться в мечети и приступить к восславлению и
испрошению прощения, ибо достоинство этой поры подобно
достоинству поры рассветной, так как Он сказал: „И прослав-
ляй хвалою Господа твоего до восхода солнца и перед заходом"
Хафиз. Газель № 98
579
[Коран, 50:38 и 20:130]» [Газали 2002, с. 290]. В первом полу-
стишии поцелуй, о котором мечтает персонаж газели, описан
как оживляющий душу, а во втором — как укрепляющий
«бренное естество», т. е. сулящий благополучие.
В редакции бейта у Суди (с. 645) вместо zikr-i ravâh «ночная
молитва» дано lazzat-i rah «наслаждение вином», «сладость ви-
на»; этот вариант отмечен у Рахбара (с. 136) как предпочти-
тельный. Тогда воздействие поцелуя на естество влюбленного
уподобляется не благотворной молитве, а сладостному вину.
6. В рамках газельной конвенции смысл бейта в данной ре-
дакции необычен, ведь возлюбленному другу не свойственно
идти навстречу желаниям влюбленного. У Суди (с. 647) глаголы
в обоих полустишиях даны в отрицательной форме, вместо zàrî
«стенание» стоит talbïs «хитрость, уловка», и бейт приобретает
противоположный, традиционный смысл: «Не дали лалы твоих
уст поцелуя за сотню уловок, //Не получило (nay oft) мое сердце
от них желанного за сто тысяч молений».
7. «Твердят уста влюбленных» — vird-i zabän-i mustäqänf
букв, «вирд языка влюбленных»; vird-i zabän budan — фразео-
лог. «не сходить с языка, быть притчей во языцех»; терминолог.
vird — часть ночи, предназначенная для молитвы, также —
часть Корана, которую молящийся читает ночью, постоянное
повторение молитв или стихов Корана (подробное описание
комплексного ритуала вира как молитв, дополняющих обяза-
тельный пятикратный намаз, см. в [Газали 2002, с. 279-293]).
Бейт звучит как ответ на строку из упомянутого кыт'а Сал-
мана: «О могучий, почувствуй хоть чуть-чуть наше состоя-
ние, // Каково у нас на сердце от круговорота утр и вечеров»
(б. 4). У Салмана «круговорот утр и вечеров» указывает на пе-
ременчивость судьбы, а у Хафиза непрерывная «смена утра и
вечера» приобретает положительную коннотацию, указывая на
«постоянство» влюбленных.
В редакции Суди этот бейт (с некоторыми разночтениями)
завершает газель: «Да будет молитва за твою душу вирдом на
устах Хафиза, // Постоянно, покуда утро и вечер сменяют друг
друга!». Образ молитвы-вира использован и в концовке газели
№ 280 Камала: «В надежде на утро встречи с тобой у Камала,
580
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
потерявшего сердце, // Рассказ о твоем локоне и лице — ве-
черний и утренний вирд*.
8. «Добродетель» — salâh, см. коммент. к б. 1. Подписной
бейт у Хафиза (а также отчасти и предыдущий) явно перекли-
кается с зачином газели № 282 Камала: «Не ищи во мне, влюб-
ленном и ринде, воздержания и добродетели, // Ведь я пьян от
вина и днем, и ночью, и утром, и вечером!».
Характерной чертой газели является обилие метафор из
сферы религиозного канона: другу присущи особая «религия» и
«порочная» добродетель (б. 1), его локон и лицо описаны с при-
менением коранической аллюзии (б. 2), его губы уподоблены
предвечерней молитве (б. 5), за его душу возносят молитвы
влюбленные (б. 7), которые из-за любви к нему лишились доб-
родетели, благочестия и способности к покаянию (б. 8).
Газель 99
l"*1nij*1 (J*lS »A (jiftlJ (_£ J^JA J>2kJ
С J* ^JJ J1 ^ J,JJJ^J* ^
С J—à isßj ?* j jlj** Aj*
Jİ jl JJ ui (JİJjî JÜJ JjÄ. Jjjİ
С J—i cij^b л_а ^ i j i J\
^Ijc.jl Ljjlj ы ^ al m ô^j
С J—* ^JJ^ Of* ^Jèi. ^ J
ÛJ £ (J -> V ^jIjIj (iLuLû Ajnı'l
с j—* <-*j—^j^- L-i—0 f****
^ j_İ ^j ui j—a Jj Jja Jjj
r*j_à ^jAÎA j ô^jj Jâ àL^ ja.
581
582 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Bahr: hazayı musaddas-i mahzûf
Vazn: mafâ'îlun mafâ'îlun fa'ulun
di-lî-man-dar / ha-vâ-yî-ru / yi-far-rux
bu-vad-â-suf / ta-ham-cün-mu / yi-far-rux
ı. Сердце мое от страсти к лицу Фарруха
Пребывает в смятении, как локоны Фарруха.
2. Кроме индийца его локона нет никого,
Кто бы процветал благодаря лицу Фарруха.
3- Счастливая доля у того черного, что всегда
Остается другом и спутником Фарруха.
4- Свободный кипарис станет словно дрожащая ива,
Если увидит пленительный стан Фарруха.
5- Подай, кравчий, вина цвета багряника,
В память о колдовских нарциссах Фарруха.
6. Согнулся мой стан, совсем как лук,
От горя он всегда похож на брови Фарруха.
7- Дуновение татарского мускуса пристыдил
Аромат благоухающих амброй локонов Фарруха.
8. Если сердце каждого человека стремится куда-то —
Мое сердце стремится к Фарруху!
9- Я — раб помыслов всякого, кто будет
Подобно Хафизу, слугой и индийцем Фарруха.
Комментарий
Радиф газели — farrux «счастливый, благословенный», «пыш-
ный, торжественный», «прекрасный», также — мужское имя
собственное; Суди (с. 656) в толковании последнего бейта пи-
шет без объяснений, что адресатом газели является Фаррух Ага
(farrwc äqä); X. Джавид отметил, что «титулы» Фаррух и Ага час-
Хафиз. Газель № 99
583
то получали военные, рекрутируемые из числа рабов [Джавид
1996, с. 463-465]; по мнению Хирави (с. 431), газель посвящена
правителю Рея; в интерпретации Рахбара, Фаррух — просто
имя возлюбленного. Ш.-А. Фушекур приводит данные о воена-
чальнике Шаха Шуджа' по имени Фаррух Ага, который сопро-
вождал правителя в ходе кампании в Азербайджане (776/1375)
и был назначен наместником Нахджувана (Нахичевань). Затем,
во время похода в Луристан, Фаррух Ага изменил своему шаху
и бежал в Шуштар [Hafez de Chiraz 2006, с. 353]. По мнению
Фушекура, газель состоит из череды поэтических банальностей
и была скорее всего написана по заказу этого военачальника.
1. «От страсти к лицу Фарруха» — также «от страсти к благо-
словенному лицу», здесь и во всех последующих бейтах семан-
тика радифа открывает возможность такого альтернативного
понимания. «Пребывает в смятении» — смятение и беспорядоч-
ность как признаки, объединяющие локоны любимого и душев-
ное состояние любящего, обыграны в ряде газелей, см., напри-
мер, 23:4; 59:8.
2. «Индиец его локона» (hindû-yi zulj) — т. е. локон, подобный
темнокожему рабу-индийцу; об «индийце» как метафоре чер-
ных феноменов красоты см. коммент. к газелям 3:1; 83:1. «Про-
цветал» — barxyardàr sud, также «пользовался, извлекал выго-
ду», т. е. никто еще не насладился прикосновением к лицу Фар-
руха, кроме его локона.
3. «Черный» (siyâh) — локон друга. «Счастливая доля у черно-
го» — siyäh-i nîk baxt-ast, описание подчеркивает удивительную
судьбу локона, обыгран композит siyâh-baxt «несчастливый,
злосчастный», букв, «с черной долей». «Спутник» — ham-zänu,
т. е. близкий, букв, «[идущий] колено к колену», здесь букваль-
ное значение композита содержит намек на длину локона, до-
ходящего до колен.
4. «Свободный кипарис» — sarv-i äzäd, эта устойчивая по-
этическая формула имеет несколько объяснений: 1) кипарис
свободен от всякой кривизны и не касается ветвями других де-
ревьев; 2) он свободен от бремени плодов; 3) вечнозеленый, он
свободен от обычного для растений осеннего увядания [Дихху-
584
Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
да, ел. ст. Sarv, рубрика Sarv-i äzäd\. «Дрожащая ива» — см.
коммент. к газели 61:5.
Идея превосходства красот друга над садовыми растениями,
которым они традиционно уподобляются, разработана во мно-
гих бейтах Дивана, о стане, затмевающем кипарис, см. газели
21:4 и 58:6.
5. «Колдовские нарциссы» (nargis-i jädü) — глаза возлюблен-
ного; призыв подать вина «в память о глазах» содержит намек
на традиционное описание прекрасных глаз как «пьяных» и
«пьянящих», см. коммент. к газели 26:2, а также контексты
12:3, 15:4,27:1.
6. «Лук» (kaman) — образ сравнения, равно употребимый в
поэзии при описании изгиба брови возлюбленного (см. газели
16:1; 55:3; 75:3; 89:7, 98:3; ср. эпитет kamän-abrü «лукобро-
вый») и согбенного от горя стана влюбленного (ср. встречаю-
щийся у авторов газелей эпитет kamän-qad «лукостанный»), что
позволяет поэту уподобить друг другу стан и бровь. «Всегда» —
payvasta, также «соединенный», это значение вводит намек на
еще один признак красоты бровей — сросшиеся брови (abru-yi
payvasta). Хафиз нередко использует род приема îhâm (ıhâm-i
tanäsub), употребляя слово, одно значение которого входи!* в
смысл бейта, а другое — лишь намекает на дополнительную ха-
рактеристику описываемого явления или предмета, см. газели
27:5 и 32:1 и коммент. к ним.
7. «Татарский мускус» — musk-i tâtàrï, лучший сорт мускуса,
см. коммент. к газели 66:2. Здесь, как и в бейте 4, описание
приметы красоты адресата (благоухающих мускусом волос)
строится как утверждение ее превосходства над традицион-
ным объектом сравнения (мускусом).
8. Первое полустишие: agar mayl-i dil-i har kas ba jâ-yî-st,
букв. «Если стремление сердца каждого человека — к какому-то
месту», т. е. всякое сердце стремится туда, где оно обретет по-
кой. Здесь содержится намек на целый ряд фразеологизмов,
связанных с представлением о «сердце на месте», т. е. спокой-
ном и довольном, и «сердце не на месте», т. е. находящемся в
смятении: dil bajây amadan «приход сердца на место», dil bajäy
ävardan «принесение сердца на место», dil ba jäy mândan «пре-
Хафиз. Газель № 99
585
бывание сердца на месте», dil ba jây nabûdan «пребывание
сердца не на месте» ['Афифи, соотв. ел. статьи].
Идея: если сердце каждого человека стремится к 1х)му месту,
где оно обретет покой, то мое сердце обретет покой подле Фарруха.
9. «Я — раб помыслов» — см. коммент. к газели 37:2. «Инди-
ец» — здесь «черный раб» (в отличие от turk «белый раб»), ср. б. 2,
где «индиец» — метафора локона.
Идея: я (персонаж газели) настолько люблю Фарруха, что го-
тов служить всякому, кто, как Хафиз (автор газели), будет его
слугой.
Отметим, что в данной газели преобладает черный цвет: в
бб. 1-3 и 7 воспеты черные кудри, в б. 5 и 6 речь идет о глазах
и бровях, в б. 9 упомянут черный слуга-индиец. При этом от-
сутствуют описания «белых» (лицо, зубы, грудь, рука, голень) и
«красных» (щеки, уста) феноменов красоты. Фушекур предпола-
гает, что черный был любимым цветом воспеваемого военного
[Hafez de Chiraz 2006, с. 353].
Газель 100
i—j > -ü (jïjSi a£ (jijjà <^A jjj ciû
Jİ ni J (JjjllA О&шЛС* Alula,* ^J j( J£J Jİ
ûl_J jljû dïj—л-С <_£ 4ju-aâ >û£ AjjS
Ba/?r: muzârï-i mutamman-i axrab-i makfûf-i maqsûr
Vazn: mafûlu fâ'üâtu mafâ'üu fä'üät
day-pî-ri I may-fu-rû-s0 / ki-zik-ras-ba / xay-r°-bâd
guf-tâ-sa / râ-b°-nü-su / ğa-mî-dil-bi / bar-zi-yâd
ı. Вчера старец-виноторговец — да будет он помянут добром
Сказал: «Пей вино и забудь сердечные муки!».
2. Я сказал, мол, вино пускает на ветер мое доброе имя.
Он сказал, мол, следуй [моим] словам и будь, что будет!
3- Поскольку прибыль, убыток и капитал уйдут из рук,
Не радуйся и не огорчайся из-за этой торговли!
586
Хафиз. Газель № 100
587
4- В руках у тебя будет ветер, если сердцем полюбишь ничто
На ярмарке, где трон Сулаймана уносит ветер.
5- О Хафиз, если тебе наскучили советы мудрецов,
Сократим рассказ, и да продлится твоя жизнь!
Комментарий
1. «Старец-виноторговец» — продавец вина, который дает на-
ставления персонажу газели, см. коммент. к газели 1:4. «Да будет
он помянут добром» (zikr-as Ъа хаут) — формула благопожелания,
в традиционной поэтике употребление подобных формул в бейте
рассматривалось как прием украшения «изящная вставка»
(hasisi тпаЩу см. [Шамс-и Кайс 1997, с. 252]. Вино как лекарст-
во от любовных мук и мирский скорбей — одна из центральных
тем Дивана Хафиза; совет пить вино дают различные персона-
жи: старец магов, старик-дихкан (88:6), посланец Тайны (90:9),
возлюбленный друг (26:3-4).
2. «Доброе имя» (näm-и папд) — см. коммент. к газели 7:5.
Здесь мотивация питья вина содержит намек на существующее
в суфийских братствах правило беспрекословного подчинения
старцу-наставнику. Поскольку наставником является винотор-
говец, герой должен беспрекословно пить вино, которое тот
предлагает; ср. сходный мотив в газели 1:4. Хирави (с. 484) ви-
дит в согласии пожертвовать «добрым именем» очередной на-
мек на симпатии Хафиза к учению malumatı, см. газели 5:7;
8:3; 89:1 и комментарии к ним.
3. Бейт можно рассматривать как продолжение наставлений
старца, а можно — как рассуждение лирического персонажа о
бренности всего земного. В «базарной» метафорике бейта «тор-
говля» — это мирские дела, «прибыль» — радости жизни, «убы-
ток» — горести, «капитал» — прожитая жизнь. Поскольку в
предшествующем и последующем бейтах использован мотив
ветра, намек на него можно усмотреть и здесь: бренность жиз-
ни в Диване (например, 37:1) представлена как утверждение,
что «вся жизнь опирается на ветер», этот топос восходит еще к
стихам Рудаки: «Счастливо живи с черноокими, счастливо, //
Ибо этот мир — только сказка и ветер (fasâna-vu food)».
588 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
4. «В руках у тебя будет ветер» — т. е. ты ничего не полу-
чешь; «сердцем полюбишь ничто» — dil nihî bar hîc, здесь «ни-
что» — метафора быстротечной жизни, которая есть «ничто,
кажущееся чем-то» [Рахбар, с. 137] и длится всего лишь «пять
дней для каждого» (газель 56:8). «Ярмарка» — ma'riz (также
ma'raÉjy место показа, выставления товаров на продажу,
здесь — метафора земного мира. «Трон Сулаймана уносит ве-
тер» — выражение совмещает два смысла: 1. ветер служит ко-
нем, несущим трон царя Сулаймана; 2. в этом мире даже трон
могущественного царя уходит в небытие; о Сулаймане и ветре
см. газель 24:7, где «ветер» также выступает как элемент кора-
нического сказания о Сулаймане и одновременно как метафора
«пустоты в руках».
5. «Советы мудрецов» — Хирави (с. 486) считает, что это речь
«старца магов», которая начата в первом бейте и продолжается
во втором, третьем и четвертом. «Сократим рассказ» — закончим
газель и перейдем к делу, т. е. питью вина; «да продлится твоя
жизнь!» — формула благопожелания, вместе с формулой, приве-
денной в первом бейте, образует «заздравную» рамку газели. По
мнению К. Гани [Гани 1982, с. 136-137], газель восхваляет ши-
разского правителя Абу Исхака; если это так, то ее отличитель-
ной чертой является то, что восхваляемый скрыт не под маской
возлюбленного, а под маской старца-виноторговца.
Указатель коранических цитат и аллюзий1
1 Сура
1 yüSU! ЯдЗД Sj>-
«Открывающая
книгу»
Айат
упомянзгго
название суры
5(6)
Номер газели
64; 85
71
№ страницы
408,507, 508
445
1 2 »jİjM »j>* «Корова»
96 (102)
109(115)
136 (142)
144 (149)
148
173
91
29
71
10
8
39
542
246
445
149
141
297
1 3 б' j* $ • j>-
«Семейство
'Имрана»
25 (26)
43 (48)
64
36
409
282
4 f Urfûlt 5jj**
«Женщины»
60 (57)
24(20), 112,
155 (156)
77
88
475
526
5 SajUİ! Sj>-
«Трапеза»
104 (105)
НО
80
36
486
282
6 fbAı 5j>- «Скот»
75
91
96
103
127
21
1
98
52
7; 84
208 1
101
573
356
135,504 1
7 uJljoVt b>-
«Преграды»
10(11)-24(25)
15 (16)
1;80
71
101,487 1
445 |
1 Названия сур, а также двойная нумерация ряда айатов даны по
изданию Корана в переводе И. Ю. Крачковского [Коран 1986].
589
590 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
1 Сура
Айат
20-22
26 (25)
52 (54)
171 (172)
Номер газели
57
2
56; 60
24; 25; 36
№ страницы
379
105
373,393
219,225,283
10 очи »j>- «Йунус» | 25 | 7 | 135
1 11 ^*м>"«Худ»
25 (27М8 (50)
84 (82)
9
65
145
415
1 12 <-Ь-я »j>* «Йусуф»
15
21-28
54-55
83,84
23
3
9
88
215
112
145
523
1 13 *J\ »j>- «Гром»
13 (12)
29
77
56
474 1
374 1
1 15 j*aJl »jl** «ал-
1 Хиджр»
28-29
введение
79 1
1 16 cMt Sj>- «Пчелы» 1 18 | 65
416 |
1 17 *!>-У1 Jjj*-
«Перенес ночью»
63 (61)
введение
79 1
«Пещера»
59 (60)
98
573 1
20 *Ь »j>- «Та ха»
66 (63)-73 (70)
130
55
98
369 1
575 |
21 *W*&!Sj>-
«Пророки»
81-82
24
221 1
23 0>*>И »j>-
«Верующне»
14
22
211 1
24 j>M »j>- «Свет»
15 (16) | 88 | 526 |
26 *lj**Ut Sj>-
«Поэты»
119-120
18
194 1
Указатель коранических цитат и аллюзий
591
1 Сура
1 27 ô*Z\ bjy* «Муравьи»
Аиат
13
17-18
17-19
20-28
Номер газели
55
31
28
90
№ страницы
369
258
240
535
1 28 рл1лк\\ İjy*
«Рассказ»
29-30
78
81
19
5; 49
5; 49
198
125, 345
125,345
1 33 v*>^ »j>-
«Сонмы»
40
58
72
57
88
24; 35
379
526
220,277
34t*-îj>-«Ca6a» | 11 (12) | 24 | 221
36 оч »л»" «Йа син»
78
79
36
36
282
282
37 4UU*lt 5j>-
«Стоящие в ряд»
6-10
6
128
38 о* »j>- «Сад»
50
13 | 168 |
39 >ОИ Sj>- «Толпы» | 54 (53)
24 1 220 |
47 «ы** Sj>-
«Мухаммед»
16(15)
13
168 1
50 J » j>-
«£аф»
38
98
575 1
53 (*Jtt »j>- «Звезда»
14
17
37
1
287 1
101 |
60 ^bu«ll Sjj—
«Испытуемая»
12
88
526 1
71 c>5j>-«Hyx» 1 14(15)-15(16) | 86 I 513
76 й*-"*^ 5j^*-
«Человек»
21
26
231 1
592 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
1 Сура
82 >И*15j>-
«Раскадывание»
Айат
11
Номер газели
55
№ страницы
370
1 89 j*iN »j>- «Заря»
6-7 (7-8)
65
414 |
1 92 uß »j>- «Ночь»
1
89
531 |
97 ^111 Sj>-
«Могущество»
3^
31
255
98 <4iü »j>-
«Ясное знамение»
7(8)
77
475
108>j4t»j>M.
«Обильный»
1
65
416 1
İH .к**]) ftjjMi
«Пальмовые
волокна»
3
64
408 1
112u^kV»*J>-
«Очищение (веры)»
упомянуто
название суры
85
508 1
113 JlttSjj-
«Рассвет»
1
86
513 1
114 lh^İ »j>- «Люди»
1
86
513 |
Указатель имен
Аббасиды 40
Абу Исхак Джамал ад-Дин-Шах Ин-
джу8,9, 12, 13, 14, 135, 158,306,
308,408,489,494,495, 584
Абу Йазид 10
Абу Наср ас-Саррадж ат-Туси 141
АбуНувас41,4Ю
Абу Са<ид 130, 133, 236, 245
Абу Талиб Хан Ландани 24
Адам 79, 80, 101, 132, 135, 145,
219, 225, 276, 281, 283, 378,
379,400,487
'Азуд ад-Дин Иджи 12, 13, 18
Айаз 42, 301,303
Акимушкин О.Ф. 105, 124, 149,422
Албтигин 42
Александр Македонский, см.
Искандар
'Али 12, 19, 338, 507
Алишер Навои 23
Амин ад-Дин Балийани Казиру-
ни 12,13
Амир Хусрав Дихлави 99, 113
Анвари 51-53, 229, 234, 235, 375
Анвар Л. (Anvar L.) 33
'Анка 132, 134,318,319
Ануштигин 42
Арберри A. (Arberry A. J.) 11, 34,
83,84
Ардашникова А. Н. 20
Асаф Бархийа 223, 226, 238,
239, 240, 336, 339, 342, 345
'Аттар 21, 36, 45, 47, 48, 50, 79,
125, 129, 148, 149, 199, 213,
286, 303, 401, 474, 475, 486,
554, 555, 557, 558
Аурангзеб 20
Аухади Марагаи 61, 289, 413, 415,
478, 489-491, 535, 551, 554-
558, 572, 573
'Афифи 138, 151, 168, 189, 193,
198, 208, 211, 216, 281, 333, 376,
426,487, 520, 535, 536, 581
Афсахзод А. 63
Ахемениды 126
Ахмад, см. Мухаммед
Ахмад ибн Аби-л-Хайр 15
Ахур П. 146,370, 408, 494
Баба Афзал Кашани 374, 375
Баба Кухи Ширази 19
БайбурдиЧ. Г. 61
Байкара, Султан Хусайн 20
Бактузун 42
Барбад 426
Баузани A. (Bausani А.) 65
Бауэр Т. (Bauer Th.) 40, 42
Баха ад-Дин 17
Бахар М.-Т., Малик аш-Шу'ара 57
Бахарзи, Йахйа 175, 189
Бедиль, Мирза Абдулкадир 36
Белл, Гертруда (Bell G. L.) 29, 84
Бертельс E. Э. 23, 133, 149
Бехруз M. 93
Бигдили Г. X. 61
Бижан 524
Биларт А. Л. (Beelaert A. L.) 83
Билкис (Балкис) 535
Бобзин X. (Bobzin H.) 83
Боголюбов А. 319, 541
Большаков О. Г. И, 319
Брагинский И. С. 32, 34, 61
Браун Э. (Browne E. G.) 17, 19,
29,61
Брокгауз Г. 24
Броме Г. (Broms G.) 34
593
594 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Брюйн Й.Т.П. (Bruijn J.T.P., de)
30, 41, 45
Бу Лахаб (Абу Лахаб) 407-409
Бурак 415
Бухари 268
Бюргель, Йохан Кристоф (Burgel
J. Chr.) 36, 37, 84
Ватват, Рашид ад-Дин 238, 241,
286, 426, 546
Великие Моголы 24
Вильберфорс-Кларк Г. 30, 85
Газали, Абу Хамид 130, 145,
203, 208, 289, 556, 574, 575
Газнавиды 42
Гани К. 11, 16, 17, 24-26, 28, 89,
98, 114, 128, 136, 178, 189,
192, 195, 257, 271, 392, 435,
508, 584
Гармаруди, 'Али Мусави 288
Гаффаров М. А. 473
Гёте И. В. 84
Гийас ад-Дин Кай-Хусрав 8
Глассен Э. (Glassen E.) 22, 26
Голдин Ф. (Goldin F.) 54
Гуландам, Мухаммад 16, 22, 23
Давуд 123
Дакики 139
Дален А. 84
Дара (Дарий III) 122, 126
Дастан 525
Даулатшах Самарканди ПО
Даумер Г. Ф. 4, 84
Державин В. 85
Джабраил 287, 380, 415, 440,
441, 514, 538, 558
Джавид X. 490, 578, 579
Джалаириды 8, 9, 61, 308
Джалал ад-Дин Мас*уд-Шах 7, 8
Джалал ад-Дин Тураншах 146,
185,339
Джам, см. Джамшид
Джам Ахмад Жандапил 133, 136
Джами, 'Абд ар-Рахман 23, 565
Джамшид (Джам) 5, 61, 80, 155,
160, 163, 238, 239, 268, 332, 333,
477, 478, 489, 491, 549, 551
Джонс У. 43, 83
Джонсон Р. 24
Джорбозадар А. 25
Джунайд Багдади 135
Джурджани, Мирсаид Шариф 18
Дилшад-хатун 202
Диххуда, 'Али Акбар passim
Дроздов В. А. 301, 302
Долинина А. 167
Дунаевский Е. 19, 31, 84
Д'ЭрмеДж. М. 86
Ефремова Н. Е. 239, 240, 281, 535
Ермаков Д. 368, 495
Заболоцкий Н. 4
Зайн ал-'Абидин 10, 109
Залиха 108, 112, 113
Заль 525
Замахшари 125, 318, 416
Зарринкуб, 'Абд ал-Хусайн 7,
11,33
Захир Фарйаби 296
Звягинцева В. 85
ЗибаиМ. 151, 165, 184
Зиполи P. (Zipoli R.) 36
Зухра 117, 119
Ибн ал-'Араби 101, 473
Ибн Баттута 15
Ибн ал-Джаузи 185
Ибн Салам 207
Ибн Сина, Абу Али 495
Ибн Хазм 99, 140
Ибрагим Т. 239, 240, 281, 409,
430,535
Ибрахим б. Шахрух 22
Иисус, см. 'Иса
Икбал, Мухаммад 31
Илахи-Гомшеи X. (Ilahi-Ghomshei
H.) 33
Ильханиды 6, 7
'Имад ад-Дин Факих Кирмани
('Имад Факих) 132, 133, 135,
199,275, 356
Инджуиды 7, 408, 489, 494
Иосиф, см. Йусуф
Указатель имен
595
'Ираки 79, 183, 211, 212, 230,
234, 235, 236, 245, 301, 503,
520,565
'Иса 15, 119, 126, 141, 279, 282,
289, 378, 380, 439, 441, 511,
513, 549, 551
Искандар 122, 126, 258, 259
Искан дар б. *Умар Шайх 22
Ислами-Нудушан, Мухаммад 'Али
33
Исрофилниё Ш. Р. 61
Йа<куб 112,523
Йазид б. Муавийа 98
Йаршатер Э. (Yarshater E.) 41, 42
Йусуф 66, 72, 73, 75-77, 108,
112, ИЗ, 145, 215, 216, 415,
523
Каани 164
Кавам ад-Дин 'Абдаллах б. Наджм
ад-Дин Ширази 18, 318
Кавам ад-Дин Мухаммад Сахиб
'Аййар 185,227,339,421
Кавам ад-Дин Хасан Тамгачи,
Хаджи 8, 12, 13, 135, 154, 157,
158, 185, 238, 239, 448, 549
Казвини М. 16, 24-26, 28, 89, 98,
114, 136, 195,435,508
Кай-Кавус 422
Кай-Хусрав 268
Кайс, см. Маджнун
Камал ад-Дин 17
Камал ад-Дин Хусайн Газаргахи
20
Камал ад-Дин Исма*ил Исфаха-
ни (Камал ад-Дин Исма*ил,
Камал ад-Дин Исфахани) 220,
514
Камал Худжанди 22, 36, 61, 171,
172, 175, 183, 202, 219, 244,
248, 327, 329, 363-365, 403,
404, 502, 504, 517, 518, 528-
532, 550, 554, 555, 557, 558,
568-570, 572, 574-576
Капплер К. (Kappler С.) 37
Карим-хан Занд 24
Карун 122, 125, 342, 344, 345,
363
Касим ал-Анвар 23
Касрави, Ахмад 31
КаэнКл. (CahenCl.)315
Кларк Г. (Clarke, H. Wilberforce),
см. Вильберфорс-Кларк Г.
Кныш, А. 133, 208, 348
Кондырева Н. Б. 19, 85
Корей 125
Коуэлл Э. Б. 84
Кочетков А. 85
Крачковский И. Ю. 101, 287, 409,
508
Крымский А. Е. 61
Кудси (Мухаммад Кудси Хусай-
ни) 24
Курты 8
Куруш К. 25
Лайли 117, 206, 241, 301, 303,
363,365,375,517
Лаура 86
Лахиджи, Мухаммад Асири 565
Лахути Л. 93
Леско P. (Lescot R.) 31
ЛимбертДж. (Limbert J.) 7, 9-14
Липкин С. 85
Липскеров К. 85
Лолой П. (Loloi Р.) 33, 83
Льюис Ф. (Lewis F.) 30, 33
Льюисон Л. (Lewisohn L.) 33
Лэн-Пуль С. 306
Маджд ад-Дин Исма*ил Фали 12,
13
Маджнун 101, 117, 118, 206, 207,
241, 301, 303, 333, 363-365,
372, 375, 458, 556
Майков А. 84
Маллах, Хусайн-'Али 359
Мани 174
Маниже 524
Манучихри 123
Марйам 378, 526
Марут 542
Мас*уц Са'д Салман 44
Масиха 117, 119, см. также 'Иса
596 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Махмуд Газнавид 42, 301, 303
Махмуд 'Аттар Ширази 141, 352
Мейсами Дж. С. (Meisami J. S.)
16, 21, 31, 34, 36, 38, 39, 54,
65, 66, 75, 78, 83, 98, 410, 490
Менегини Корреале Д. (Meneghi-
ni Correale D.) 37, 86
Минорский В. (Minorsky V.) Ill
Монтей В. M. 84
Мубариз ад-Дин, Амир Мухам-
мед Музаффар 8, 9, 11, 168,
306-308, 319, 330, 408, 489,
495,517
Музаффариды 8-Ю, 109, 393,
494,519
МуЪззи 43-45, 47, 113, 296
Му*ин, Мухаммад 7, 11, 15, 17,
18, 20-22, 30, 164, 328, 385,
486, 536, 562
Муса 125, 198, 345, 369, 415
Мусульманкулов Р. 272
Му'тазз-биллах 252
Мухаммад (пророк) 145, 282,
338,408,409,514
Назири 36
Насими, 'Имад ад-Дин 375
Насир Бухараи 61, 211, 296, 425
Насир Хусрав 308
Науфал 517
Нейсари, Салим 25
Низам ал-Мулк 41
Низами 37, 99, 109, 117, 126,
206, 207, 320, 357, 409, 411,
416,423,457,517, 519
Низари Кухистани 61, 179, 275,
296, 382, 525
Никитенко Е. Л. 94
Ниру С. 102, 105, 109, 112, 227,
261,271-273
Ной, см. Нух
Нойвирт A. (Neuwirth А.) 40
Нух 65, 76, 143, 145, 192, 194,
238,239
Омейяды 98
Османов М.-Н. О. 93, 94, 128,
474, 504, 508, 513
Оусли, Гор (Ouseley, Gore Sir) 29
Парвиз, см. Хусрав Парвиз
Пелло С. (Pellô S.) 86, 311, 537
Петрарка 86
Пингри Д. (Pingree D.) 369
Пиотровский M. Б. 240, 414
Пир Хусайн 8
Плисецкий Г. 19, 85
Полосин В. В. 245
Пригарина Н. И. 20, 21, 28, 30,
34, 37, 63, 122, 141
Притчетт Ф. (Pritchett F.) 34
Прозоров С. 333
Пушкин А. С. 84, 93
Райт Дж. (Wright, jr. , J. W.) 42
Рами, Шараф ад-Дин 199, 230,
261, 281, 291, 303, 378, 388,
426, 430, 437, 546, 569
Рахбар X. X. passim
Редер P. (Rehder R.) 34
Резван Е. 355, 558
Рейснер М. Л. 19, 20, 32, 40, 52,
105, 141, 144, 148, 229, 257,
426, 436
Ризван341, 343
Рипка Я. 32
Розенцвейг-Шванау В. (Rosen-
zweig- Schwanau V.) 24
Роусон Э. К. (Rowson E. К.) 42
РубинчикЮ. А. 451
Рузбихан Бакли 33
Рудаки 40, 162, 193, 337, 410,
524,549,583
Руми, Джалал ад-Дин 21, 31, 36,
245, 308, 348, 409, 458, 530,
574
Саблуков Г. С. 373, 485
Сабуктигин 42
Сагадеев А. 409, 430
Са'ди 9, 16, 21, 22, 31, 36, 48,
50, 51, 54, 57, 66-70, 72, 74-
78, 109, 110, 111, 117, 119,
122, 123, 124, 132, 178, 179,
183, 199, 202, 211, 226, 240,
248, 276, 286-289, 296-299,
304, 320, 323, 327, 328, 342-
Указатель имен
597
345, 363-365, 373, 374, 378-
380, 382-385, 434, 435, 439-
442, 467, 468, 517
Сазегарнежад Дж. (Sazegarne-
zhad J.) 35
Сайе X. 25, 26
Сакконе К. 86
Салам Багдади 207
Салгуриды 6
Салим Амирит 207
Салман Саваджи 22, 36, 44, 61,
148, 149, 151, 202, 211, 275,
277, 296, 363, 365, 370, 379,
383, 397, 434, 572, 573, 575
Саманиды 14, 42
Сан'ан (Сам'ан) 148, 149, 189,
283,462, 472, 474, 475, 565
Санаи 45, 133, 225, 565, 566
Санджар 43
Сарбедариды 8
Сасаниды 41, 357
Сахиб 'Аййар, см. Кавам ад-Дин
Мухаммад Сахиб 'Аййар
Сейед-Гохраб A. (Seyed-Gohrab А.)
33
Сельвинский И. 85
Сефевиды 23
Синельников М. 85
Сирадж ад-Дин *Умар б. 'Абд ар-
Рахман ал-Фариси ал-Казвини
318
Симург134
Скалмовски В. (Skalmowski W.)
36
Скарциа Дж. (Scarcia G.) 86,
311,537
Смирнов А. В. 431
Соловьев В. С. 84
Соломон 221
Спендиарова Т. 85
Стариков А. А. 524
Суди Боснави passim
Суйути, Джалал ад-Дин ас- 374
Сулайман 5, 219, 221, 226, 239,
240, 255, 258, 339, 378, 379, 522,
524, 525, 535, 536, 583, 584
ас-Сули, Абу Бакр Мухаммад 252
Султан Ахмад 10
Султан Увайс Джалаирид 308
Султан Шибли 10
Сурури23
Суруш 287, 538
Сухраварди, Шихаб ад-Дин 240
Табари 128, 542
Тайабади, Зайн ад-Дин 133, 135,
136
Талиб 36, 37
Таши Хатун 14
Тенигина Н. Г. 85
Тизен Ф. (Thiesen F.) 86
Тимур 7, 10,22, ПО
Токтамыш 171
*УбайдЗакани61, 111, 183
Увайс Карани 338
Уикенс Дж. М. (Wieckens J. M.)
34
*Умар 338
Умар Шайх 10
Унсури 44
Фаик 42
Факих, см. 'Имад ад-Дин Факих
Кирмани
Фараон 369
Фарзан С. М. 136, 251
Фарзад, Мас^уд 25, 26, 34, 275
Фаридун (тимуридский принц)
23,24
Фаррух Ага 578, 579, 581
Фаррухи 36
Фархад241, 363, 365
Фет А. 4, 84, 451
Фигани 36
Фирдауси (Фирдоуси), Абу-л-Ка-
сим 80, 139, 163, 268, 491,
524
Фуруги М. 21
Фуруги Вистами 164
Фурузанфар Б. 267
Фушекур, Шарль-Анри де (Fou-
chécour Ch.-A. de) 7, 25, 33,
36, 87, 113, 136, 146, 151,
179, 236, 251, 282, 303, 311,
598 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
322, 330, 343, 353, 397, 405,
446, 447, 478, 499, 505, 517,
525, 536, 537, 579, 581
Хавва281
Хаджу Кирмани 57-62, 66, 71-75,
78, 114, 148-151, 179, 219, 230,
235, 244-246, 248, 296, 343,
344, 385, 420, 421, 423, 48S-
487, 535, 572, 573
Хазин Лахиджи 164
Хаййам (Хайям), *Умар 114, 115,
225, 481-483
Хакани 114, 213, 296, 409, 450,
477^79
Халил 'Адил (брат Хафиза) 18
Халладж, Мансур 148, 198
Халхали, 'Абд ар-Рахим 24-26
Хаменеи 30
Хаммер-Пургшталь Й. фон (Нат-
mer-Purgstall, J. von) 30, 84
Ханлари П. H. 7, 25, 28, 86, 87,
89, 114, 130, 135, 150, 156,
195, 199, 235, 247, 252, 258,
262, 263, 289, 291-293, 296,
338, 385, 416, 426, 429, 435,
495, 508, 512, 523, 536, 545,
555,568, 572
Харири, Абу Мухаммад 167
Харут 540, 542
Хасан Азракпуш 139
Хатми Лахури А. 101, 132, 135,
136,212,268,275,376
Хафиз, Мухаммад Шамс ад-Дин
passim
Хизр 16, 157, 258, 259, 295, 298,
414, 549, 568-570, 574
Хилленбранд P. (Hillenbrand R.)
Ill
Хиллманн M. (Hillmann M.) 34, 108
ХинцВ. 519
Хирави passim
Хисматулин А. А. 130
Хорезмшахи 42
Худжвири, 'Али ибн *Усман ал-
Джуллаби 141, 307, 421
Хулагу-хан 6, 109
Хуман М. 29
Хуррамшахи Б. passim (Khor-
ramshahi В. 24, 25.)
Хусайн 174
Хусайни, Атауллах 272
Хусрав Ануширван 306, 308
Хусрав Парвиз 306, 308, 355,
357, 457
Чалисова Н. Ю. 31, 34, 83, 148,
257,421,426,546
Чингизиды 112
Чингиз-хан 6
Чунакова О. М. 287
Чупаниды 8
Шабистари, Махмуд 132
Шакар 457
Шамлу А. 25
Шамс ад-Дин Мухаммад 8
Шамс-и Кайс ар-Рази 81, 221,
583
ШанбезодДж. 57
Шараф ад-Дин Махмуд 7
Шахиди, С. Дж. 416
Шах Йахйа 9, 10, 164, 357
Шах Мансур 9, 110,357
Шах Махмуд 9, 128
Шах-Набат 19, 299
Шах Шуджа', Джалал ад-Дин 9,
10, 20, 34, 38, 102, 105, 106,
109, 113, 114, 128, 146, 164,
192-195, 227, 256-258, 261,
271,273,339,517,579
ШемЪ 23
Шибли, Абу Бакр Дулаф ибн
Джахдар 175
Шибли Ну'мани 29, 61
Шиммель А. (Schimmel А.) 32,
42, 110, 130
Ширин 241, 357, 363, 365, 457
Шлейермахер Ф. (Schleiermacher
F. D.) 91
Элвелл-Саттон Л. П. (Elwell-Sut-
ton L. P.) 111
Эрнст К. (Ernst С. W.) 33
Литература
Абу Са*ид, Dorj-3 — >-Ы o'jp .j**Ji ß ъ**» ß. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
Амир Хусрав, Dorj-3 — jU-ы ù'jP .tij^j _,>*». j^i. CD Dorj-3. Mehr
Argham Rayaneh Co. Tehran [2007].
Анвари 1959 — ^rrv u'j*2 . ^ -^ .ijj**j u->* ^ ■***-• ^LuaU t^j^si jlj^
Анвари 1961 — ^ f* • u'j^ Л-^ .<jj^j i>»>-» <^ -i*»-» ^ЬидЬ ^jjji jijp
'Аттар 1989 — ^ пл u!j^ .«A1»*2 ^ c^-3 -> л1-5*1 ^ ' J1^ u!j^
'Аттар, Ilahï-nâma, Dorj-3 — .<*lj ^ .l^jjAAh jU^. CD Dorj-3. Mehr
Argham Rayaneh Co. Tehran [2007].
'Аттар, Mantiq al-tayr> Dorj-3 — .jMs tS^ .tijjAAy JL&. CD Dorj-3. Mehr
Argham Rayaneh Co. Tehran [2007].
Аухади, Dorj-3 — jbuil <jljp .^l лЫ^. c^ji. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
'Афифи — > WY jlj^j . ?->.£ .(Jj*£ <*li&JAji .^j ^yLic.
Axyp 1993 - 1 TV Y jlj4J .JÜU jl>s ^.U l^Ja ji. j£>Vl*i> ^i£ jjjjj jjàl
Бахарзи 1978 — o*y** r>> .£ -tf Jj»^ ^^ j^^1^1 <-^ м'-Я I oe>—s j «jWN jIjjI
Бигдили 1987 — > ï"\ ı ù'j*3 »ı^üfciU .JtfU j <j^jl. <>** ^ J.&jj
Гани 1942—^ùU^.^^êo^^^J^
Даулатшах 1959 — ^ ffA u'j*^ .^^j •***-• ^*н .*ijfcy»li SjSjj .^^jajJI dLisljj jdJ
ДиХХуда — ^v^ 0*J4J . ^ - ^ ^ .-^ eJJJ j' Jj1 V4" •^ '-^ .'■aâA-a jj£I cf^-
Зибаи 1988 — i nv ji^a .JUU ji J> ^> c>i.^L>j Jc. j*»«
Зарринкуб 1970 — 'u'j^ .-^ **^ j c^J »jW >> 'ù^j ^j^ J1 .Mj^yjj u^1 <^
>m
'Ираки, Dorj-3 — jU-Ы ù1^ .t^j* иЭ >*. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
*Ираки 1995 — ^v^ <Jjë .^j>^ <Jj&L*j şp^ j <-*£• .Jijc jpl! >i ^i J*is ^jsP
Ислами-Нудушан 1995 — ^v^ Jjv M^- jèp c№} ^j^* .lPj^ ^^-, сЛ- ^^
Исрофилниё 2009 — Исрофилниё Ш. Р. Носири Бухорои ва такам-
мули газал дар асри XIV. Душанбе.
Кабус-нама 1999 — o*j№ .Jij ùij£^j ùi ü*j№ ùi >&*л Of chjj1^ J**ü j*^
\ TVA (jljfJ .^yiuij;) q\ni%4^. «aaub-aJ j ^LuAİ Aj ,<-eU
Казвини — Гани 1941 — M lijij** -^^ ^> ■iAa-* u^1 o*^ ^Vj* CjU> jIjjj
jjjc. ^li jjSj j i^JjjjS Aaa^u ^UjaI
Камал Худжанди 1975 — Камал Худжанди. Диван. Критический
текст К. А. Шидфара. Т. 1-2, M.
Манучихри 1984 — >f"ir djë .<Jh* j^***** j^jcfi^jfc .(A**^<Jj**y*u'jP
Му*иззи 1983 — углу 0\^,^>. j^ı j-i£ jijp
Му'ин 1990—>T"H iJjv .ù^ôij^}^ .***>* ùi**
Насир Хусрав, Dorj-3 — jU-ïi jIjjj .j>ui. ^-U. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
599
600 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Низами 1993 — . ù'j^ * j ^ d+.ijijfa*.* ^j *±* ф»—«j <**** ı3A" .cr*^ <***. CajIS
>rvt
Ниру — >ï4* Ù1 J*» .Ji**-«^ЛД> >»A^ J»--c>- -^C^ • J-»*O-JJ*-
Рахбар t. ijlrv* Joli. jj£j (jÜaİj&j ti jlJ#*i Jàîlx A^lji. Ала** jjxill (j^Aài UV j* CjI^J j£ jlj^i
Рудаки 1994 — jij*» .cr£-*4£Lw .i* j cr^.a- f^U .ti-^j^ c^jj ù1^
Рудаки, Dorj-3 — jU-îi û'jP .c*tfj*- ^jj. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
Руми, Диван, Dorj-3 — <j*^ ù1^ .c*jL>*. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
Руми, Маснави, Dorj-3 — ı$>-» is*** .lsJj*. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
Са'ди, Кулдиййат 1996 - ù'j*2 .^jJ ^ **** ^ £P—з ^^ à^** -ı****- ^^
Салман, Dorj-3 — J*^ u'jbP .^j1-» lA^. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
Санаи 1975 — .lSj^j o-j^» f^1 j <**-»* tfjü*- c*^ r^ ùi Aj^ ***& j$ {£** u'jp
Санаи, Dorj-3 — jl***ı u1^ .tf>> «4*-. CD Dorj-3. Mehr Argham Rayaneh
Co. Tehran [2007].
СуДИ — ^ TVA (jlj^j #ejl jjlly» ^u.rtT. _>&} 4-»àjj .(CjlyiJ (S^J* <l*'fc4> .JâİİA jj (Jay* rj^
Убайд Закани 1997 — > vvi jij^ .^biil JUi ^Lc iu <«£■ U .^ЛИj ^* viuK
Хаджу, Dorj-3 — j^ Jj** .^j* cij^j*. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007].
Хаййам 1959 — 'Омар Хаййам. Руба*иййат. Подготовка текста,
перевод и предисловие P.M. Алиева и М.-Н. О. Османова. 4.1-2. М.
Хакани 1996 — > wo Jjv .jy*±* jM+> ^ M .^
Хакани, Dorj-3 — j^i ù'j^ .^jj^ &№*. CD Dorj-3. Mehr Argham
Rayaneh Co. Tehran [2007]
Ханлари 1983 — .^У> Jji .g .<sj№± Jk jjjjj c*^> j çp^* ** ■!■*»■ (Jj^
) VI Y tjjlj^j ,^jj V^ .L-J'J^*-* J •—'^ (j ' *r>" J J ^d^Wj t^jbJaî itliLjjli t^jL^aS (CjI^Ijfr Cjlial* ajJ .£
Хатми 1995 — j ^^ .<jjj*4 v*^ <j**jfl **• ô-^1 j*1 ^jj -^^ ц»^> ^j* с j»*
Хафиз 1994 — сУ±> j^ lA-j^ <j lsJjp* ^^ **bj* ±^* См& u»*-* Wj» cA^jè jIj^j
Хафиз, Фарзад 1968 — ^^v j'j^ >jj* ^j*— ^^ .^A fr^c-^
Хирави — . i - ^ ^k. . jUjLİ I ja j j3Sj (jlijS U tijj* (j^U"1'* J&* *3mj4 J«<U ti'^jc- ^>-
1 ГУЛ j|j4j
Хуман 1937 — .>ru jij^ YjjjS^<*!&* #4» ^
Хуррамшахи 1999 — Jj* u-âj *Jü^ j'j*^ «^W j tiA^' ^^ r-^' -^ c-^ •<CÉ^i "^^
Шибли Ну*мани 1939— ^^d>. ° ^ i^^b^^Ji-u^ji^«]! ^.JL-üJLİ
Lisân al-ğayb (CD) — .<>£ ^-li jjIî j ^jjî a-.^c лаы-ü ^ui jj ÜU cıljlje. .^j^i jL*^
Литература
601
Абу Наср ас-Саррадж 1994 — Абу Наср ас-Саррадж ат-Туси. Китаб
ал-лума' фи-т-тасаввуф («Самое блистательное в суфизме») / Хресто-
матия по исламу. М.
Ардашникова, Рейснер 2010 — Ардашникова А. Н., Рейснер М. Л.
История литературы Ирана в Средние века (IX-XVII вв.). М.
Афсахзод 1988 — Афсахзод Аълохон. Лирика Абд ар-Рахмана Джа-
ми. Проблемы текста и поэтики. М.
Байбурди 1966 — Байбурди Ч. Г. Жизнь и творчество Низари —
персидского поэта XIII-XIV вв. М.
Бертельс 1962 — Бертельс Е. Э. Избранные труды. Низами и Фузу-
ли. М.
Бертельс 1965 — Бертельс Е.Э. Избранные труды. Суфизм и суфий-
ская литература. М.
Бертельс 1965а — Бертельс Е. Э. Навои и Джами. М.
Брагинский 1984 — Брагинский И. С. Иранское литературное на-
следие. М.
Бухари 2003 — Сахих аль-Бухари. Мухтасар. Полный вариант. Пе-
ревод с арабского, примечания и указатели В. А. Нирши. М.
Ватват 1985 — Рашид ад-Дин Ватват. Сады волшебства в тонкос-
тях поэзии. Перевод с персидского, исследование и комментарий
Н. Ю. Чалисовой. М.
Газали 2002 — Абу Хамид Мухаммад ал-Газали ат-Туси. «Кимийа-йи
са'адат» («Эликсир счастья»). Ч. 1: *Унваны 1-4. Рукн 1. Перевод с пер-
сидского, введение, комментарий и указатели а. А. Хисматулина. СПб.
Гаффаров — Гаффаров М. А. Персидско-русский словарь. Т. 1-2.
М., 1976 (фототипическое воспроизведение издания 1914-1928).
Дроздов 2008 — Дроздов В. А. Ираки и Хафиз: опыт сопоставления
поэтического наследия // Ирано-Славика № 1 (15). С. 30-36.
Ибн ал-Джаузи 1994 — Ибн ал-Джаузи. Талбис иблис. Вступление, пе-
ревод с арабского и комментарий В. А. Дроздова // Восток, 1994, № 6.
Ибн Хазм 1957 — Ибн Хазм. Ожерелье голубки. Перевод с арабско-
го М. А. Салье. М.
Ибрагим, Ефремова 1996 — Ибрагим Т., Ефремова H. Е. Мусуль-
манская священная история от Адама до Иисуса. М.
Коран — Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. М.,
1986.
Коран, Османов — Коран. Перевод с арабского и комментарий М.-
Н. О. Османова. М., 1995.
Коран, Саблуков — Коран. Перевод с арабского языка Г. С. Саблу-
кова. Т. 1-2. М., 1990 (репринт издания Казань, 1907).
Лэн-Пуль 2004 — Стенли Лэн-Пуль. Мусульманские династии. Пере-
вод с английского с примечаниями и дополнениями В. В. Бартольда. М.
Низами 2008 — Низами. Лайли и Маджнун. Введение, перевод с
персидского и комментарий Н. Ю. Чалисовой, М. А. Русанова. М.
Полосин 1995 — Полосин Вл. В. Словарь поэтов племени 'абс (VI-
VIII вв.). М.
602 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Пригарина 1989 — Пригарина Н. И. Хафиз и влияние суфизма на
формирование языка персидской поэзии // Суфизм в контексте му-
сульманской культуры. М. С. 94-120
Пригарина 1991 — Пригарина Н. И. Путь в «обитель доброй сла-
вы» // Сад одного цветка. М. С. 31-53.
Пригарина 1999 — Пригарина Н. И. Индийский стиль и его место в
персидской литературе. М.
Пригарина 2006 — Пригарина Н. И. Бейт Хафиза как событие.
Смысл и традиционный комментарий // Слово и мудрость Востока.
Литература, фольклор, культура. К 60-летию академика А. Б. Кудели-
на. М. С. 71-82.
Пригарина 2008 — Пригарина Н. И. Хафиз говорит с каждым. Ира-
но-Славика, №2 (16), 2008.
Рами 2000 — «Собеседник влюбленных» Шараф ад-Дина Рами о ло-
конах, челе и бровях возлюбленных (введение, перевод с персидского
и комментарий Н. Ю. Чалисовой) // Вестник РГГУ, 4, кн. 2. М. С. 87-
117.
Рами 2004 — Чалисова Н. Ю. Персидская классическая поэтика о
конвенциях описания феноменов красоты. Трактат Шараф ад-Дина
Рами «Собеседник влюбленных» // Памятники литературной мысли
Востока. М.
Рейснер 1989 — Рейснер М. Л. Эволюция классической газели на
фарси (X-XIV века). М.
Рейснер 2008 — Рейснер М. Л. Персидская классическая газель как
музыкальный жанр: исполнительская практика в зеркале поэзии //
Donum Paulum. Studia Poetica et Orientalia. К 80-летию П. А. Гринцера.
М. С. 173-191.
Рейснер, Чалисова 1998 — Рейснер М. Л., Чалисова Н. Ю. 'Я есмь
Истинный Бог': образ старца Халладжа в лирике и житийной прозе
'Аттара // Семантика образа в литературах Востока. М. С. 121-158.
Рейснер, Чалисова 2007 — Рейснер М. Л., Чалисова Н. Ю. Персид-
ская классическая лирика: к проблеме генезиса // Лирика. Генезис и
эволюция. М.
Рейснер, Чалисова 2010 — Рейснер М. Л., Чалисова Н. Ю. Образ
поэзии в поэзии: литературная рефлексия в персидской классике X-
XIV вв. (касыда и маснави) // Поэтологические памятники Востока:
образ, стиль, жанр. М. С. 153-242.
Рипка 1970 — Рипка Я. История персидской и таджикской литера-
туры. М.
Смирнов 2000 — Смирнов А. В. Нравственная природа человека:
арабо-мусульманская традиция // Этическая мысль. Вып. 1. ИФ PAH, М.
Стариков 1993 — Стариков А. А. Фирдоуси и его поэма «Шахна-
ме» // Фирдоуси. Шахнаме. Т. 1. Издание подготовили Ц. Б. Бану-Ла-
хути, А. Лахути, А. А. Стариков. М. С. 459-592.
Литература
603
ас-Суйути 2000 —Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в кора-
нических науках. Выпуск первый. Учение о толковании Корана. Ввод-
ная статья, перевод и комментарий Д. В. Фролова. М.
Сули 1998 — Абу Бакр Мухаммад ас-Сули. Китаб ал-Аврак. Крити-
ческий текст и перевод на русский язык В. И. Беляева и А. Б. Халидо-
ва; предисловие, примечания и указатели д. Б. Халидова. СПб.
Сухраварди 2006 — Шихаб-ад-Дин Сохраварди. «Язык муравьев».
Пер. с фарси и франц. Я. Эшотса // Анри Корбен. Свет Славы и Свя-
той Грааль. М.
Фет 1985 — Фет А. Стихотворения, поэмы, переводы. М.
Фирдоуси 1957 — Фирдоуси. Шахнаме. Т. 1. Издание подготовили
Ц. Б. Бану, А. Лахути, А. А. Стариков. М.
Фирдоуси 1994 — Фирдоуси. Шахнаме. Т. 3. Перевод Ц. Б. Бану-Ла-
хути. М.
Хаййам 1959 — 'Омар Хаййам. Руба'ийат. Подготовка текста, пере-
вод и предисловие Р. М. Алиева и М.-Н. О. Османова. Под редакцией
Е. Э. Бертельса. Ч. 2. М.
Хайям 2004 — Омар Хайям. Рубайат. Трактаты. М.
Харири 1987 — Абу Мухаммед аль-Касим аль-Харири. Макамы. М.
Хафиз 1981 — Хафиз. Сто семнадцать газелей в переводе Германа
Плисецкого. Составление, подстрочный перевод, предисловие и глос-
сарий Н. Б. Кондыревой. М.
Хафиз 1935 — Шемс-эд-Дин Мохаммед Хафез. Лирика. Перевод и
статья Е. Дунаевского. М.-Л.
Хафиз 1999 — Хафиз. Вино вечности. Составление, примечания,
комментарии, статьи М. Л. Рейснер.М.
Хинц 1970 — В. Хинц. Мусульманские меры и веса с переводом в
метрическую систему (С. 9-74) [и] Е. А. Давидович. Материалы по
метрологии средневековой Средней Азии (С. 77-140). М.
Худжвири 2004 — Аль-Худжвири. Раскрытие скрытого. Старейший
персидский трактат по суфизму. Пер. на русский язык английского
перевода Р. Николсона А. Орлова. Научный редактор русского перево-
да Н. И. Пригарина. М.
Чалисова 2010 — Чалисова Н. Ю. О непереводимом и непереведен-
ном в газелях Хафиза // Россия и мусульманский мир: инаковость как
проблема. М. С. 385-468.
Чунакова 2004 — Чунакова О. М. Пехлевийский словарь зороаст-
рийских терминов, мифических персонажей и мифологических симво-
лов. М.
Шамс-и Кайс 1997 — Шамс ад-Дин Мухаммад Ибн Кайс ар-Рази.
Свод правил персидской поэзии. Часть И. О науке рифмы и критике
поэзии. Перевод с персидского, исследование и комментарий Н. Ю. Ча-
лисовой. М.
Шиммель 1999 — Шиммель А. Мир исламского мистицизма.
Перевод Н.И. Пригариной, A.C. Рапопорт. М.
604 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Arberry — Arberry A. J. Hafiz and His English Translators // Islamic
Culture 20, 1946. P. 111-128; 229-249.
Arberry 1960 — Arberry, Arthur J. Shiraz: Persian City of Saints and
Poets. Norman: University of Oklahoma Press.
Bauer, Neuwirth 2005 — Introduction //Ghazal as World Literature. I:
Transformations of a Literary Genre, edited by Thomas Bauer and Ange-
lika Neuwirth. Beirut. P. 9-31.
Bausani 1958 — Bausani A. The Development of Form in Persian Lyrics:
A Way to a Better Understanding of the Structure of Western Poetry // East
and West, New Series, 9. P. 154-153.
Beelaert 2009 — Beelaert A.-L. Compte rendu: Hafez de Chiraz. Le Di-
van. Introduction, traduction du persan et commentaires par Charles-
Henri de Fouchécour. Lagrasse 2006 // Studia Iranica 38. P. 140-145.
Bobzin 1988 — Bobzin H. Zur Geschichte der Hafis-Obersetzungen
Ruckerts // Bachmann H. (ed.). Friedrich Rückerts Bedeutung für die
deutsche Geisteswelt. Coburg. Р. 52-74.
Browne 1924 — Browne E. G. A History of Persian Literature under
Tartar Dominion (A. D. 1265-1502). L.
Bruijn 1997 — de Bruijn J. Т. P. Persian Sufi Poetry. Richmond.
Bürgel 1978 — Bürgel J. Chr. Le poète et la poésie dans l'œuvre de Ha-
fez // Convegno intemazionale sulla poesia di Hafez (Roma, 30-31 marzo
1976). Roma. Р. 73-98.
Bürgel 1991 — Bürgel J. Chr. Ambiguity: A Study in the Use of Relig-
ious Terminology in the Poetry of Hafiz // Intoxication: Earthly and Heav-
enly; Seven Studies on the Poet Hafiz of Shiraz. Bern-Berlin-Frankfurt.
P. 7-39.
CHI 5 — The Cambridge History of Iran. Vol. 5. The Saljuq and Mongol
Periods. Ed. by J. A. Boyle. Cambridge, 1968.
CHI 6 — The Cambridge History of Iran. Vol. 6. The Timurid and Safa-
vid Periods. Ed. P. Jackson, L. Lockhart. Cambridge, 1986.
Clarke 1891 — Clarke H. Wilberforce. Hafiz: The Divan. Calcutta.
EI — Encyclopaedia of Islam. New edition. CD. Brill, 1999.
EIr — Encyclopaedia Iranica (URL: http://www.iranica.com/articles/
hafez-vi).
Fouchécour 1996 — Fouchécour С.-A. Nazar-bâzi, les jeux du regard
selon un interprète de Hafez // Kâr Nâmeh, vol. 2-3. Р. 3-10.
Ghazal I 2005 — Ghazal as World Literature. I: Transformations of a
Literary Genre, edited by Thomas Bauer and Angelika Neuwirth. Beirut.
Ghazal II 2006 — Ghazal as World Literature II: From a Literary Genre
to a Great Tradition, eds. Angelika Neuwirth, Judith Pfeiffer, Michael Hess
об Borte Sagaster. Istanbul.
Glassen 1991 — Glassen E. The Reception of Hafiz. Textual Transmis-
sion in a Historical Perspective // Intoxication: Earthly and Heavenly;
Seven Studies on the Poet Hafiz of Shiraz. Bern-Berlin-Frankfurt. P. 41-52.
Hafez, Canzoniere 2005 — Hafez. Canzoniere. A cura di Stefano Pellö e
Gianroberto Scarcia. Milano.
Литература
605
Hafez de Chiraz 2006 — Hafez de Chiraz. Le Divan. Introduction, tra-
duction du persan et commentaires par Charles-Henri de Fouchécour.
Lonrai.
Hafiz and the Religion of Love 2010 — Hafiz and the Religion of Love in
Classical Persian Poetry. Ed. by Dr. Leonard Lewisohn. I. B. Tauris. L.-N.Y.
Hammer-Purgstall 1812-1813 — Joseph von Hammer-Purgstall. Mo-
hammed Schemsed-din Hafis. Der Diwan, 2 vols. Stuttgart-Tubingen.
Hillmann 1976 — Hillmann M. Unity in the Ghazals of Hafez. Minne-
apolis-Chicago.
Kappler 1991 —Kappler C.-C. Lire Hafiz: le jeu de Гаррагепсе et du se-
cret // Intoxication: Earthly and Heavenly; Seven Studies on the Poet Ha-
fiz of Shiraz. Bern-Berlin-Frankfurt. P. 69-88.
Khorramshahi 2002 — Baha'-al-Din Khorramshahi. Hafez VI. Printed
Editions of the Divân of Hafez. Encyclopaedia Iranica (URL: http://www.
iranica. com/ articles / hafez-vi).
Lescot 1944 — Lescot R. Essai d'une chronologie de l'œuvre de Hafiz //
Bulletin d'Études Orientales 10, 1944. P. 57-100.
Lewis 2002 — Lewis F. Hafez VIII. Hafez and Rendi. Encyclopaedia
Iranica (URL: http://www.iranica.com/articles/hafez-vi).
Lewis 2002a — Lewis F. Hafez IX. Hafez and Music. Encyclopaedia Ira-
nica (URL: http://www.iranica.com/articles/hafez-ix).
Limbert 2004 — Limbert J. Shiraz in the Age of Hafez. The Glory of a
Medieval Persian City. University of Washington Press.
Loloi 2004 — Loloi P. Hafiz, Master of Persian Poetry: A Critical Bibli-
ography. English Translations since the Eighteenth Century. L.
Meisami 1979 — Meisami J. S. Allegorical Techniques in the Ghazals of
Hafez // Edebiyat, Vol. IV, No. 1. P. 1^0.
Meisami 1983 — Meisami J. S. The World's Pleasance: Häfiz's Allegori-
cal Gardens // Comparative Criticism. Vol. 5. Hermeneutic Criticism. Ed.
E. S. Shaffer. Cambridge University Press. P. 153-185.
Meisami 1985 — Meisami J. S. Allegorical Gardens in the Persian Poet-
ic Tradition: Nezami, Rumi, Hafez // International Journal of Middle East-
ern Studies, No. 17. P. 229-260.
Meisami 1987 — Meisami J. S. Medieval Persian Court Poetry. Prince-
ton, New Jersey.
Meisami 1991 — Meisami J. S. The Ghazal as Fiction: Implied Speak-
ers and Implied Audience in Hafiz's Ghazals // Intoxication: Earthly and
Heavenly; Seven Studies on the Poet Hafiz of Shiraz. Bern-Berlin-Frank-
furt. P. 89-103.
Meisami 1995 — Meisami J. S. Hafiz in English: Translation and Au-
thority // Edebiyat 6. P. 55-79.
Meisami 2002 — Meisami J. S. Hafez V. Manuscripts of Hafez // En-
cyclopaedia Iranica, URL http: //www.iranica.com/articles/hafez-v.
Meneghini Correale 1989 — Meneghini Correale D. Hafez Concordance
and Lexical Repertories of 1000 Lines. Lirica Persica 2, Eurasiatica 13,
Venezia.
606 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
Meneghini Correale 1993 — Meneghini Correale D. The Handling of Ab /
Water in Farruhi, Hafiz and Talib. Lirica Persica 10. Eurasiatica 36. Vene-
zia.
Pritchett 1993 — Pritchett Fr. Orient Pearls Unstrung: The Quest for
Unity in the Ghazal // Edebiyat. Vol. NS 4. P. 119-135.
Schimmel 1974 — Schimmel A. Turk and Hindu. A Literary Symbol //
Acta Iranica, III. P. 243-248.
Schimmel 1992 — Schimmel A. A Two-Colored Brocade: The Imagery of
Persian Poetry. Chapel Hill.
Skalmowski 1995 — Skalmowski W. Le qalandar chez Hafez // Pand-o
sokhan. Mélanges offerts à Charles-Henri de Fouchécour. Éd. par C. Ba-
lay, C. Kappler, 2. Vesel. P. 275-282.
Thiesen 2002-2003 — Thiesen F. Pseudo-Hafez: A Reading of Wilber-
force Clarke's Rendering of Divan-e Hafez // Orientalia Suecana, vol. LI-
LII. P. 437-460.
Zipoli 1995 — Zipoli R. La description des animaux dans le Divan de
Hafez // Pand-o sokhan. Mélanges offerts à Charles-Henri de Fouchécour.
Éd. par C. Balay, C. Kappler, 2. Vesel. P. 287-303.
/
Hafiz in Philological Translation. Part 1
Summary
Russians have been translating Hafiz (circa 1315-1389) since the
early 19th century. Hafiz is therefore not only well-known to the
Russian reader, but also stands as the symbol of the great Persian
poetic tradition. Despite the numerous translations, there is still
no complete scholarly edition of his poetry.
A team of researchers (Natalia Prigarina, Institute of Oriental
Studies of Russian Academy of Sciences, Natalia Chalisova and
Maxim Rusanov, Institute of Oriental and Classical Studies, Rus-
sian State University for the Humanities) has prepared the com-
plete philological translation of the Divan of Hafiz.
The whole work must be published in three volumes. The pre-
sent book goes up to first 100 ghazals, the rest (ghazals 101 - 495)
to be included in the two following volumes. The edition includes
Persian texts of the ghazals and their Russian translation in equi-
linear prose. Each Persian original is followed by the scansion of
the first line and the full name of the metrical paradigm in the
terms of 'aruz. The translation of the poem is furnished with a
commentary to each line including a short discussion on the cho-
sen interpretation; the data essential to understanding the inter-
play of conventional poetic clichés and the author's own inventions
are also included. The edition contains indexes of personal names
and Qur'an quotations.
The translation is prefaced with an introductory article contain-
ing basic information related to Hafiz's life, times and oeuvre. The
aim here is to provide the reader with a kind of guide to under-
standing Hafiz. Thus the Introduction is subdivided into several
parts. It includes the basic facts of political history of Fars up to
and during the 14th century; the city life and social milieu of Shi-
raz are described with more elaboration. The realities of the Hafiz's
native town sometimes give a good clue to his signature meta-
phors. The part on the poet's almost legendary biography is short.
More attention is directed toward his literary production, especially
to the reception and textual history of his Divan (we use the Qàz-
vini-Gani version and give some arguments to support our choice).
607
608 Хафиз. Филологический перевод (часть 1)
The brief outline of the modern Hafizology and its problems—
solvable (like research in the aspects of poetic technique) and "ac-
cursed" (like everlasting discussion on mystique or mundane mes-
sage of the Divan) is also included. Then follow the basic facts of
Persian ghazal history, illustrated by exemplary poems from the
different stages in the genre formation. The poems by Mu'izzi,
'Attar, Anvari, Sa'di and Khaju-yi Kirmani are translated and dis-
cussed to map the literary landscape which serves as a back-
ground to Hafiz's genius. In the 14th century the genre of ghazal
reached its zenith with the poems of Hafiz. He was undoubtedly
the brightest star in the starry firmament of Persian ghazal poetry.
His close predecessors and contemporaries who are known to form
the so called "circle of Hafiz* (Nizari Kuhistani, Awhadi Maraghayi,
Khaju-yi Kirmani, Kamal Khujandi, Salman Savaji, 'Ubayd Zaqani,
Nasir Bukharayi) all used the same "basic fiction" of unhappy love
created in poetic tradition. We tried to formulate the main episodes
and conventional situations of that tragic love story which is
equally relevant for the work of Hafiz.
The philological translation of poems has enriched our percep-
tion of Hafiz's poetics, which is allegorical throughout. Our own
suggested insights have been mostly put into the commentary,
while some general observations on the famous "intentional ambi-
guity" of Hafiz can be found in the Introduction. The dialogues
with rival poets in the form of javab (a reply ghazal) create a sub-
stantial part of the Divan. Those texts reveal a special kind of "in-
tertextuaT technique: Hafiz skillfully produces an additional
meaning from the ways in which a line of his ghazal and a line of
his predecessor stand in relation to each other. We provide a de-
tailed analysis of one ghazal (No. 9) which is written in response to
the three poems (two by Sa'di and one by Kamal). Our aim here is
to show the ways in which the intertextual connotations disclose
the new semantic space of the poem.
Another kind of poetic ambiguity is illustrated in the Introduc-
tion with examples of the rhetorical device of Iham (amphibology,
double entendre). Its usage throughout the Divan-i Hafiz goes be-
yond poetic embellishment and turns out to be the poet's favourite
creative strategy.
The poetics of multiple meanings and shifting viewpoints pro-
vides a series of problems for the translator. Should we choose one
Summary
609
trustworthy interpretation of the bayt and ignore the rest, or con-
sider one variant as primary or major and some others as secon-
dary and subservient, or rather enumerate all the possible ver-
sions as equal? In other words, should there be more than one
adequate translation of the text? The final part of our Introduction
includes a concise account of the previous Hafiz translations with
some elaboration on the old and recent philological ones (The Di-
van by H. Wilberforce Clarke, Hafez de Chiraz by Ch.-A. de Fou-
chécour; Canzoniere by S. Pellô and G. Scarcia). Further to a brief
discussion of the approaches chosen by our predecessors, we
move to our own work. The "principles" of our translation are far
from being new. We have tried to follow A. Frazer's advice "to give a
complete transcript of the ideas of the original work"; we have also
treated the omnipresent variability of meaning as one of the essen-
tial features of the Divan. In each case we have put considerable
efforts into finding and indicating potential interpretations that do
not contradict the grammar of Classical Persian, nor the rules and
conventions of the traditional perception of poetry.
A poem can hardly be well translated into prose. Our philologi-
cal translation of Divan-i Hafiz into Russian does not lay claim to
emulate the genuine poetry of the Persian Master. Nevertheless we
truly hope that it would serve as a guide for the students of litera-
ture eager to read and understand Hafiz in Persian as well as for
those who are just curious about the great poetry "in the making".
Table of contents
"Russian Hafiz" [Introduction]
7
Ghazals 1-100. Texts, translations, commentary
99
Index of Quran quotations and allusions
589
Index of names
593
Bibliography
599
Summary
607
П75 Пригарина H.И., Чалисова Н.Ю., Русанов М.А.
Хафиз: Газели в филологическом переводе / Н. Пригарина,
Н. Чалисова, М. Русанов. Ч. 1. (Orientalia et Classica: Труды
Института восточных культур и античности. Вып. 40; Восток
и античность в классических текстах. № 4.) М.: РГГУ, 2012. 606 с.
ISBN 978-5-7281-1299-0
Шамсуддин Мухаммад Хафиз (ум. 1389) принадлежит
к числу величайших лирических поэтов в мировой литературе.
Хафиз хорошо знаком русскому читателю по многочисленным
поэтическим переводам. Вниманию читателей предлагается пер-
вый филологический перевод газелей Хафиза на русский язык.
Книгу открывает статья, в которой поэтика газели Хафиза рассма-
тривается в контексте общего развития жанра. Переводу каждой
газели предпослан текст оригинала; развернутые комментарии к
переводам включают необходимую для понимания информацию:
культурные и бытовые реалии, интертексты, лексико-граммати-
ческий анализ сложных пассажей. К изданию прилагаются
указатель имен собственных и указатель коранических цитат и
аллюзий. Настоящая публикация, в которой представлены газели
1-100, является первой частью полного филологического пере-
вода «Дивана» Хафиза, планируемого к изданию в трех выпусках.
Для специалистов по персидской литературе и студентов,
изучающих персидский язык, а также для медиевистов, занимаю-
щихся другими литературными традициями, для поэтов-перевод-
чиков и всех любителей иранской культуры.
УДК 82(55)
ББК 83.3(5)
Научное издание
Пригарина Наталья Ильинична
Чалисова Наталья Юрьевна
Русанов Максим Альбертович
ХАФИЗ
Газели в филологическом переводе
Часть 1
Оригинал-макет подготовлен
в Институте восточных культур и античности
Компьютерная верстка A.A. Ковалев
Подписано в печать 09.04.2012.
Формат 60x90 У16.
Уч.-изд. л. 42,1. Усл. печ. л. 38,3.
Тираж 1000 экз. Заказ № 960
Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
Тел. 8-499-973-42-06
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РГГУ
Вышло в свет
ORIENTALIA ET CLASSICA
Труды Института восточных культур и античности
Вып. 35
Т.М. Симбирцева
ВЛАДЫКИ СТАРОЙ КОРЕИ
Эта книга впервые в России рассказывает о памятниках
истории и культуры Кореи времен конфуцианской династии
Чосон (1392-1910): летописях, дворцах, храме предков и гробни-
цах правящего дома, - и об удивительном «историческом буме»,
который породило наследие чосонских монархов в наши дни.
Чосон правила 518 лет и погибла столетие назад - в 1910 г., став
последним легитимным правительством единой Кореи. Какими
людьми были правители старой Кореи, что считали высшей
ценностью, как был обустроен их быт, как складывались их се-
мейные отношения, за что их сегодня помнят и за что судят, что
привело правящий дом Чосона к гибели, как живут ныне его
потомки? Это некоторые из вопросов, на которые доцент РГГУ
Т.М. Симбирцева стремится ответить. В позднем Чосоне заро-
дились русско-корейские отношения. Предпоследний правитель
Чосона - Коджон (1864-1907) - вошел в историю как «прорус-
ский» монарх. С Россией связаны многие значительные события
его долгого правления, и их эхо звучит и поныне.
Для студентов и широкого круга читателей.
РГГУ
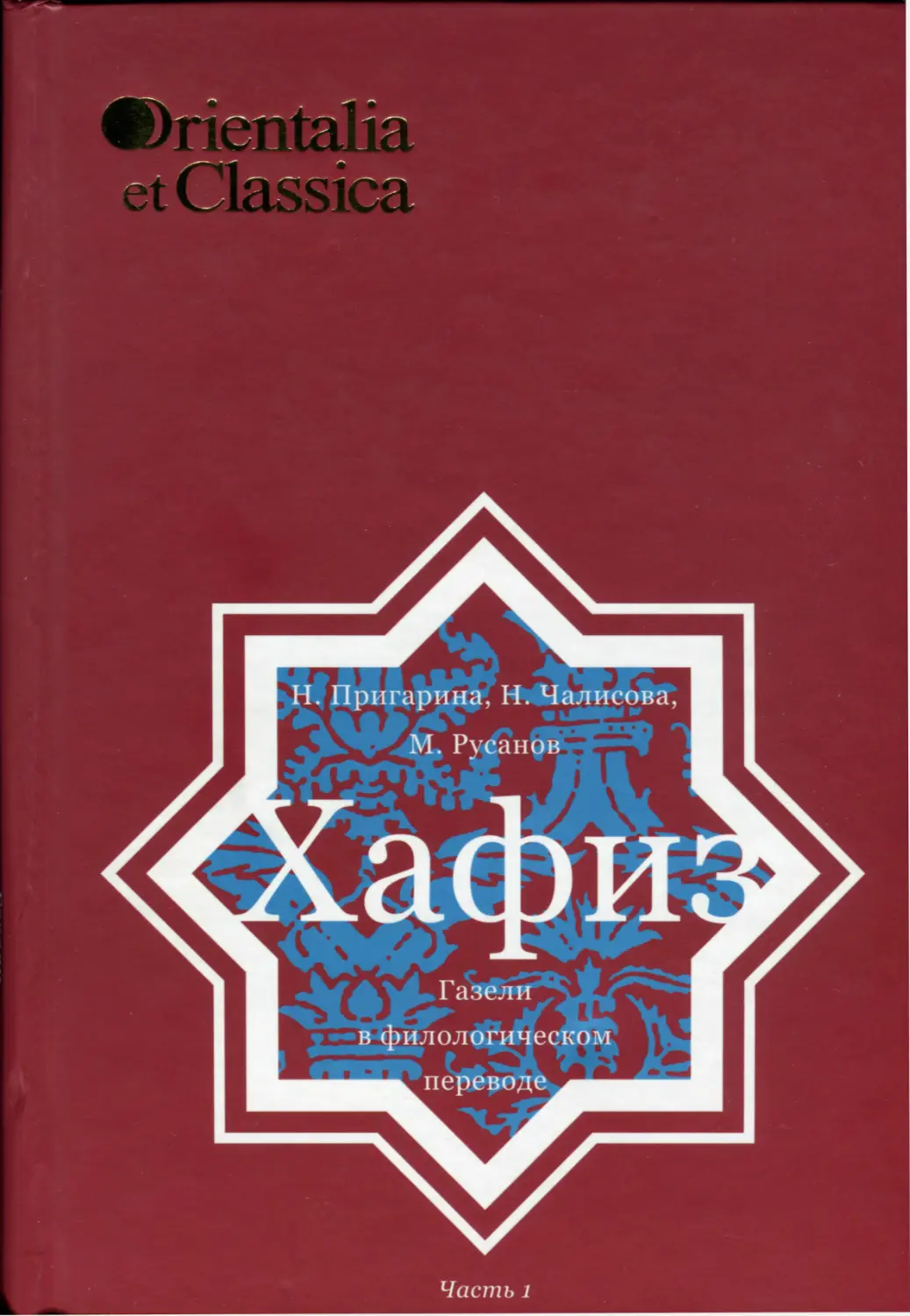


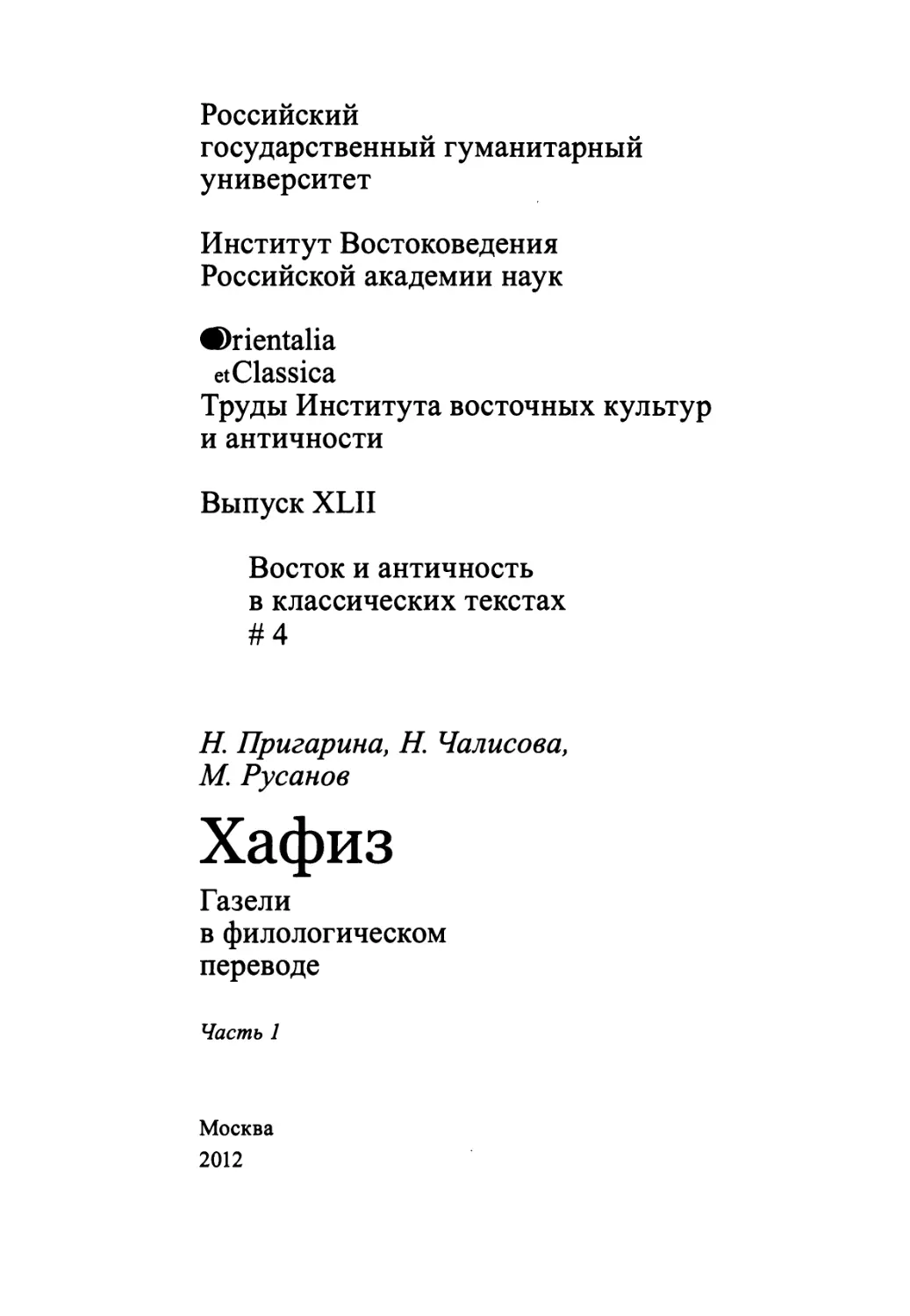

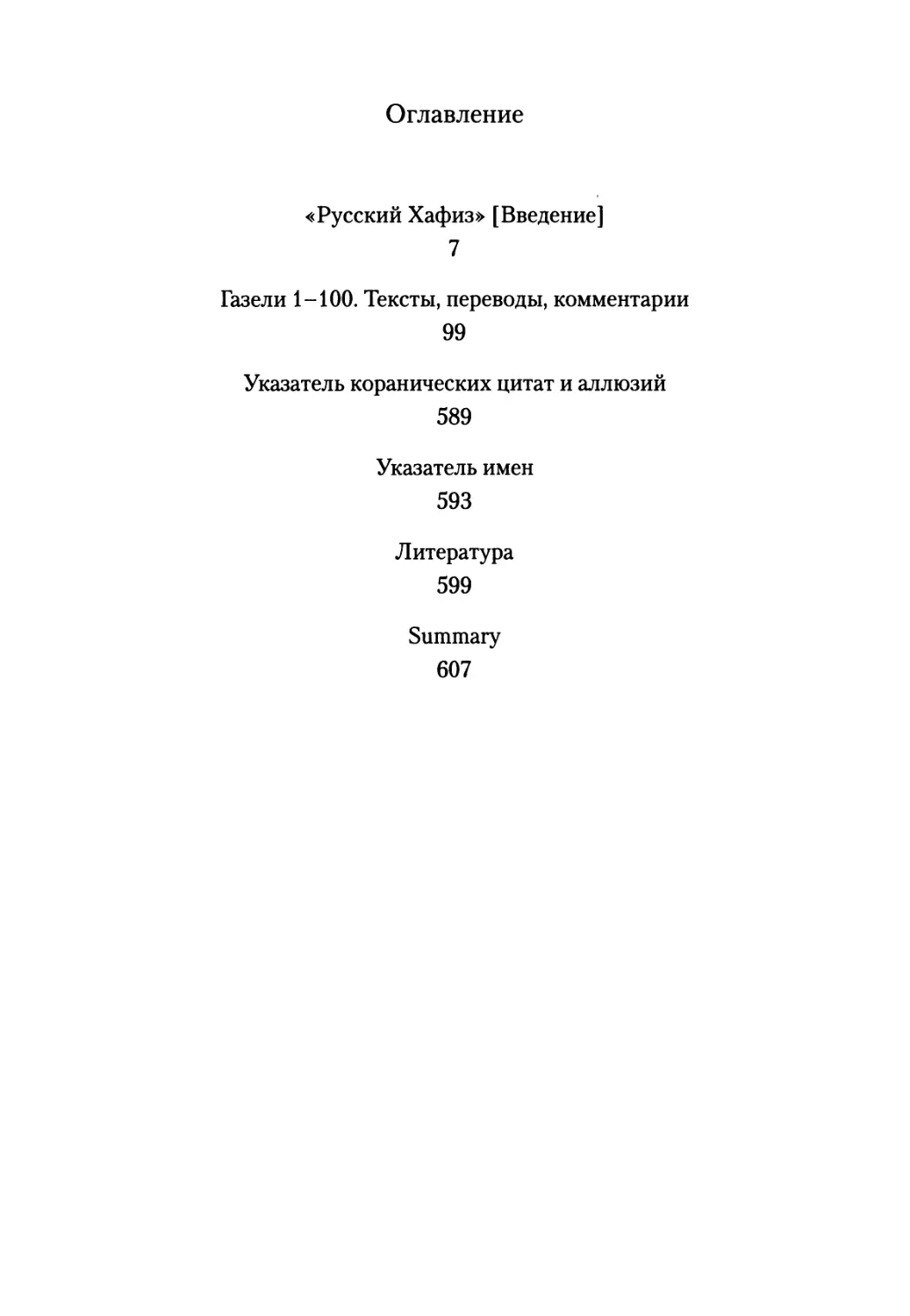
![«Русский Хафиз» [Введение]](https://djvu.online/jpg/U/0/d/U0dimuslCOron/007.webp)