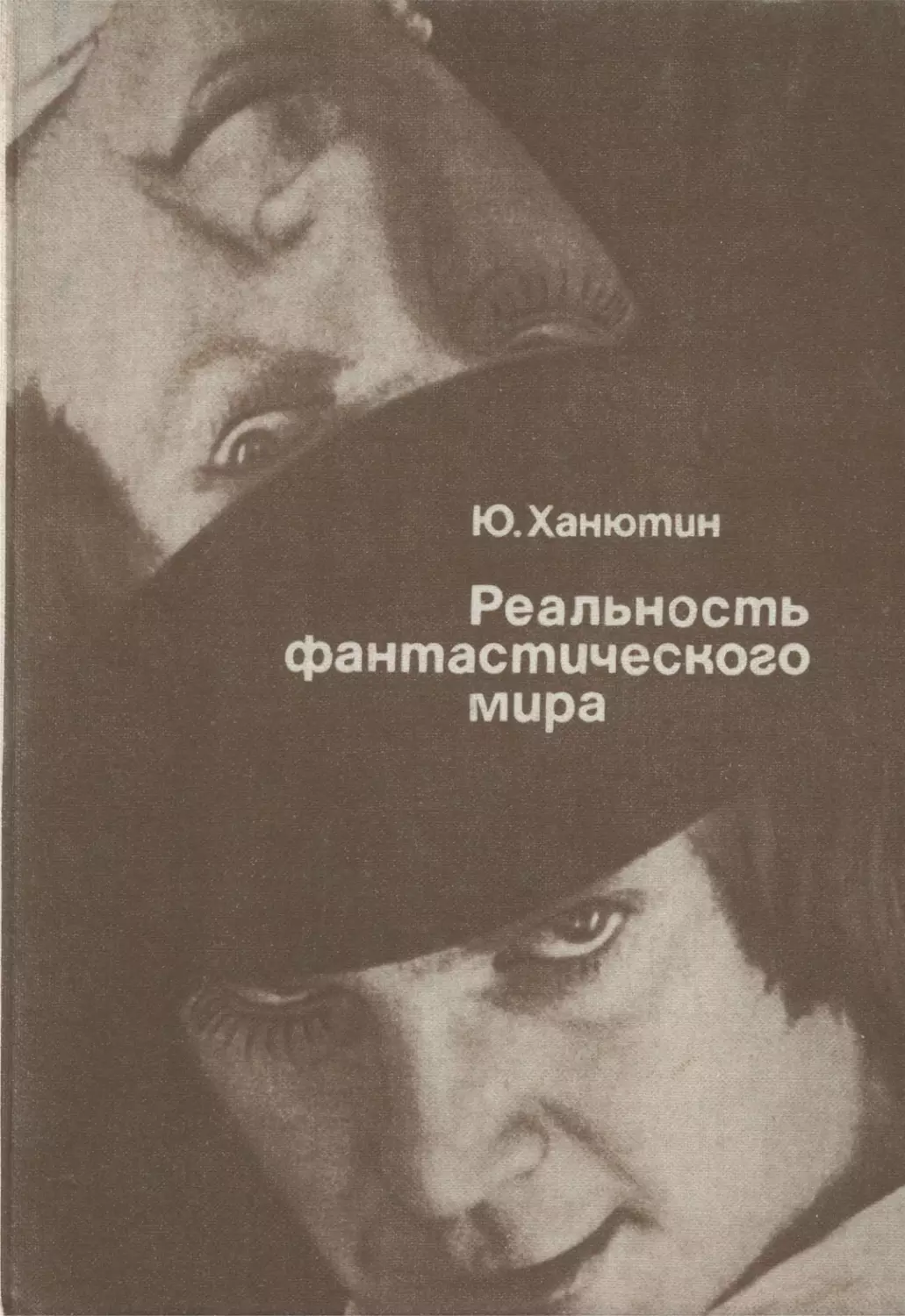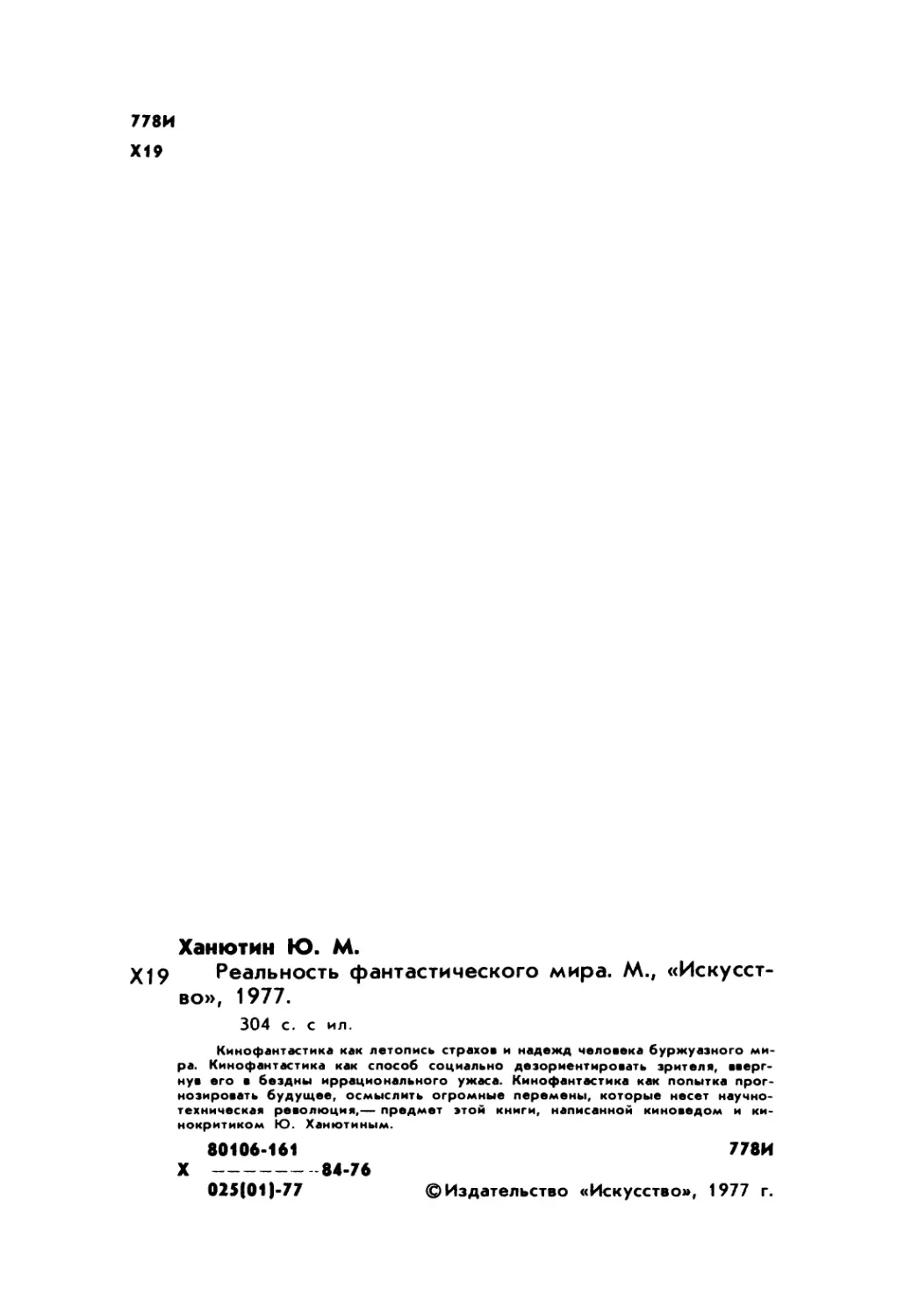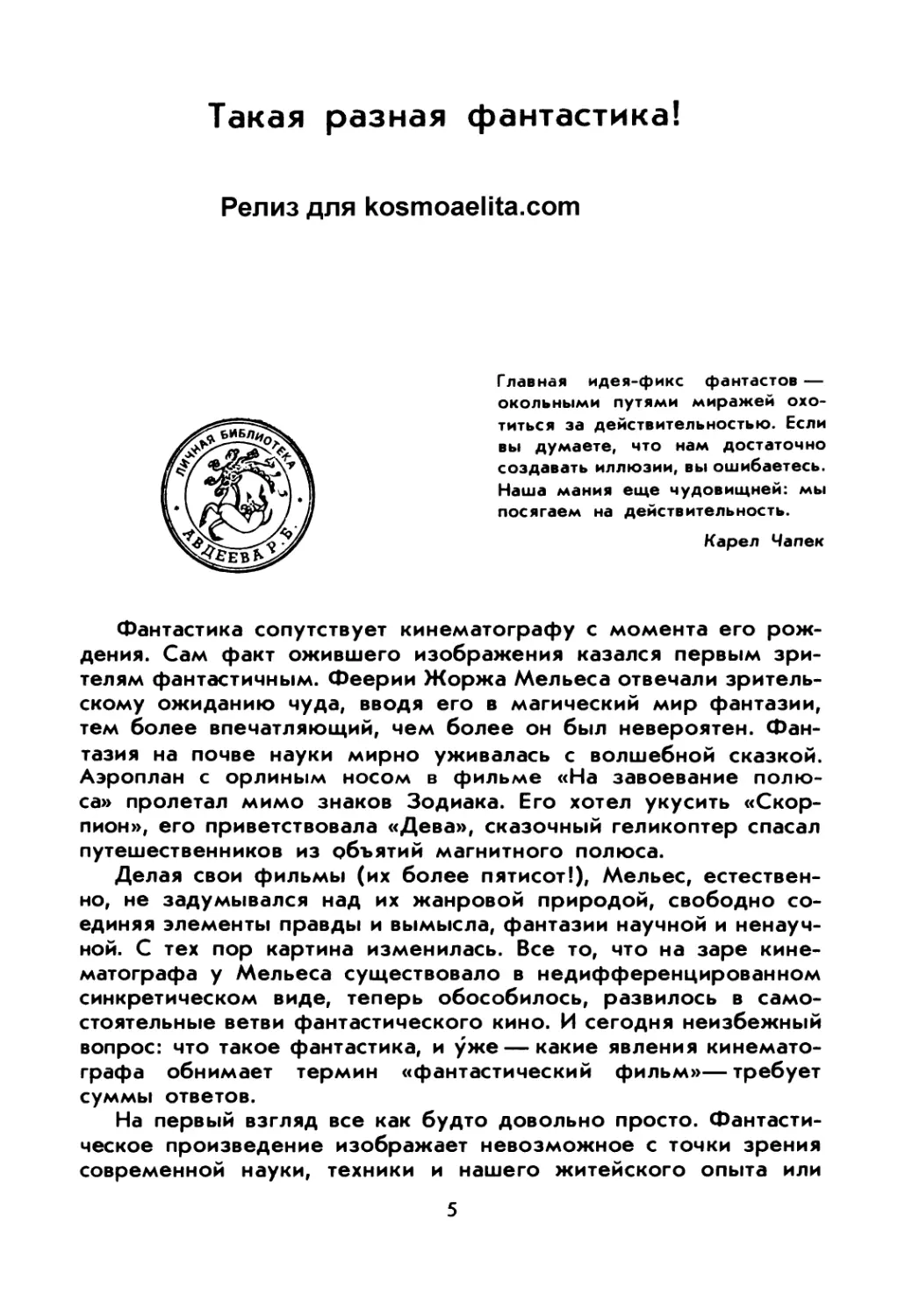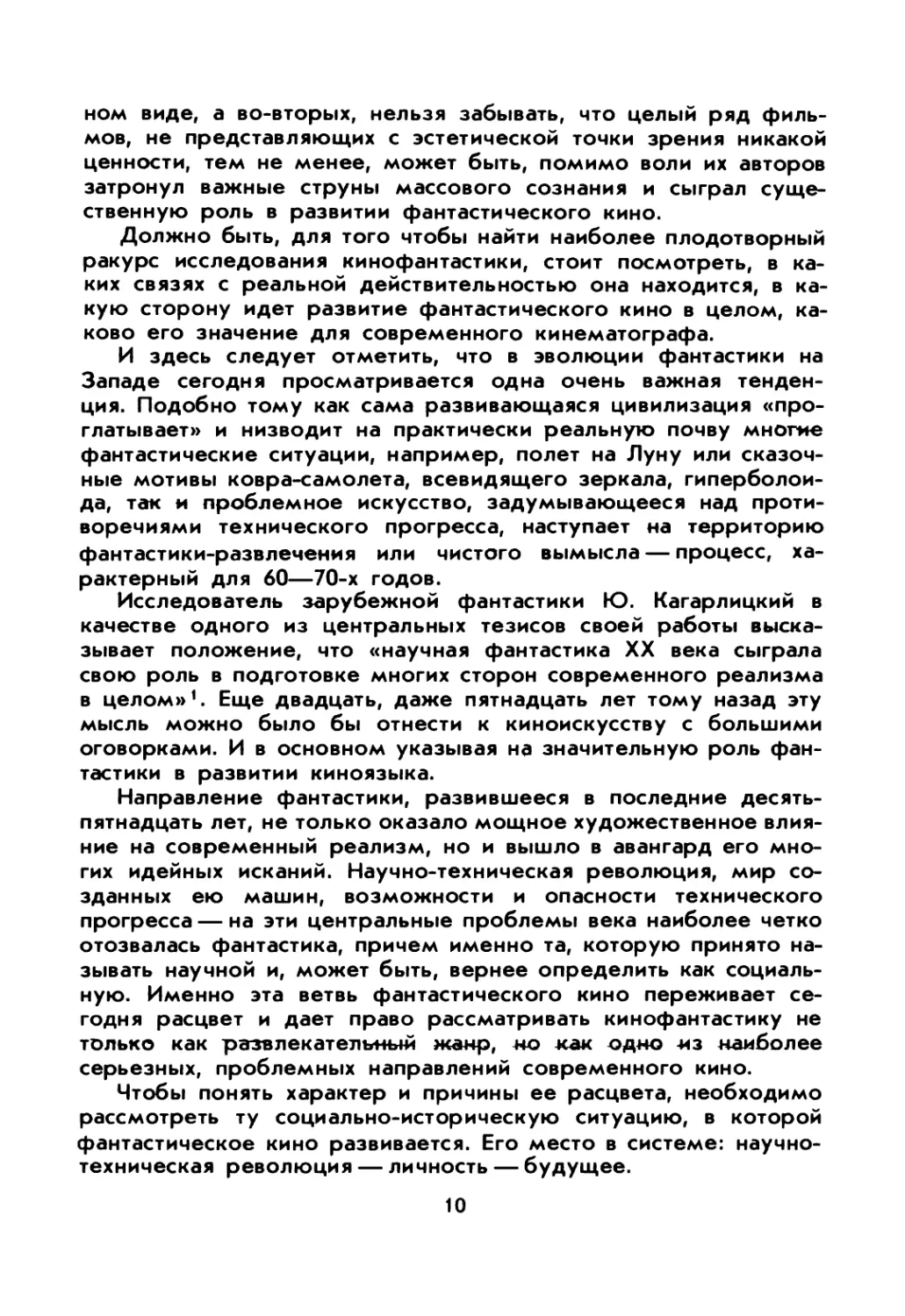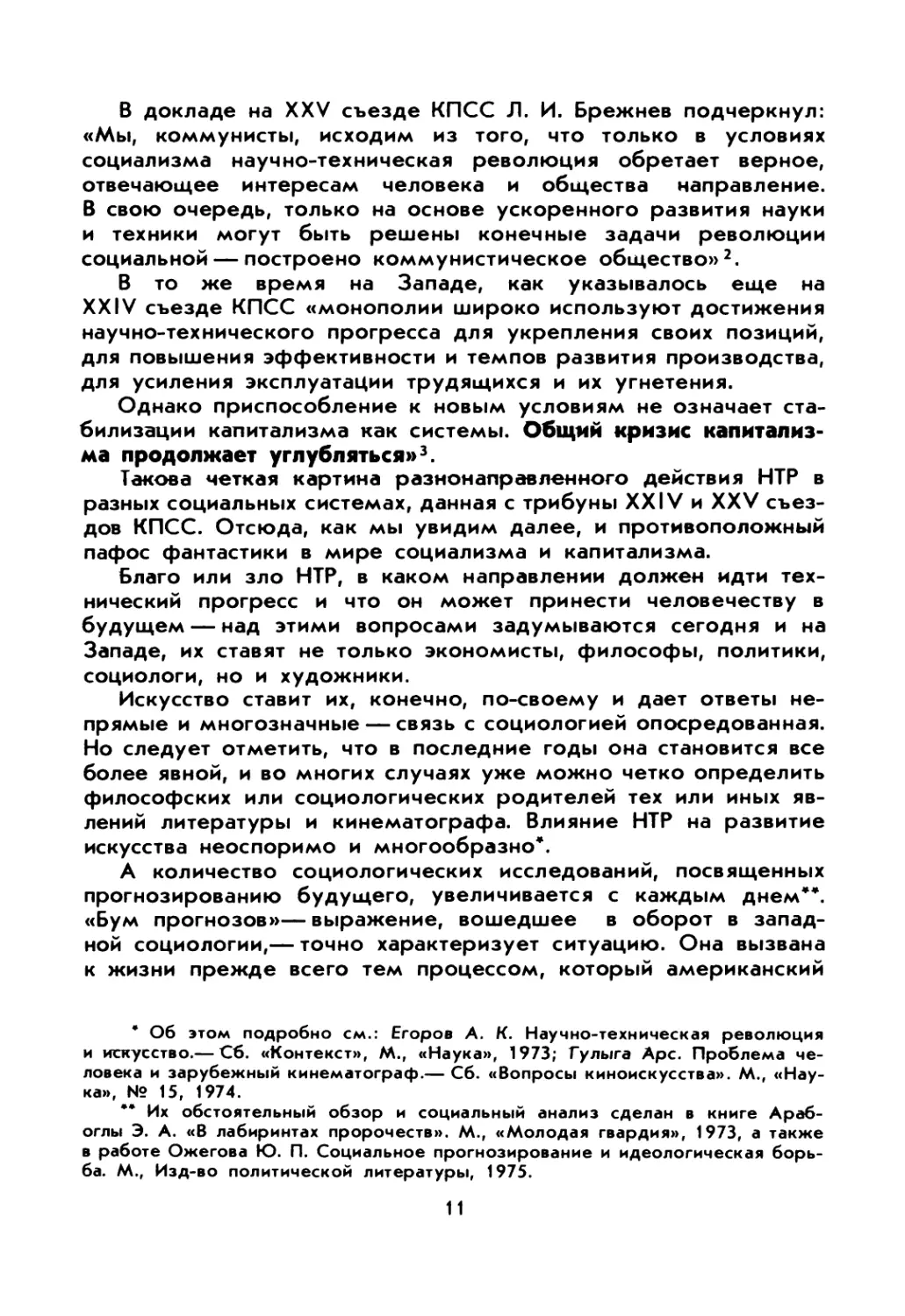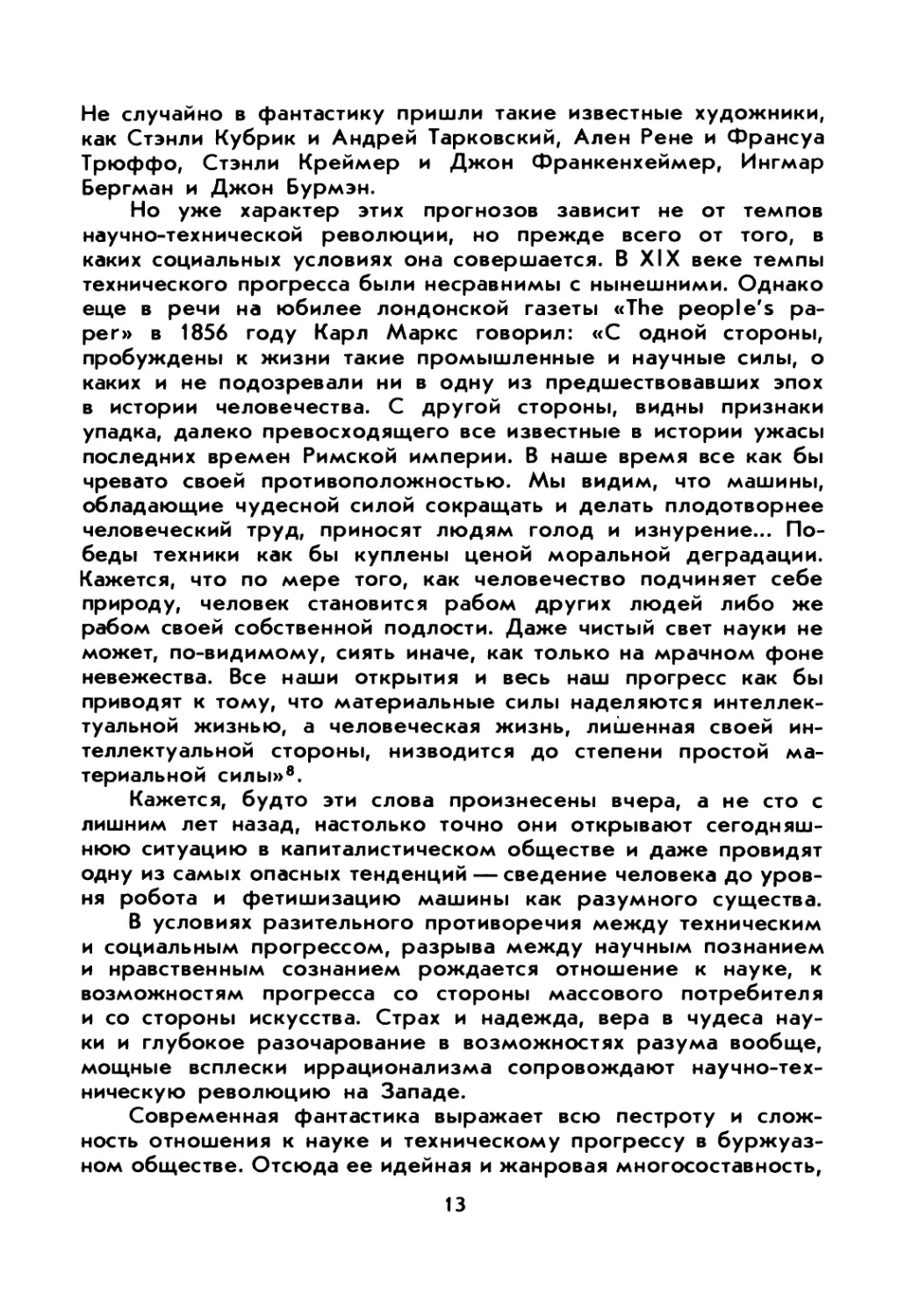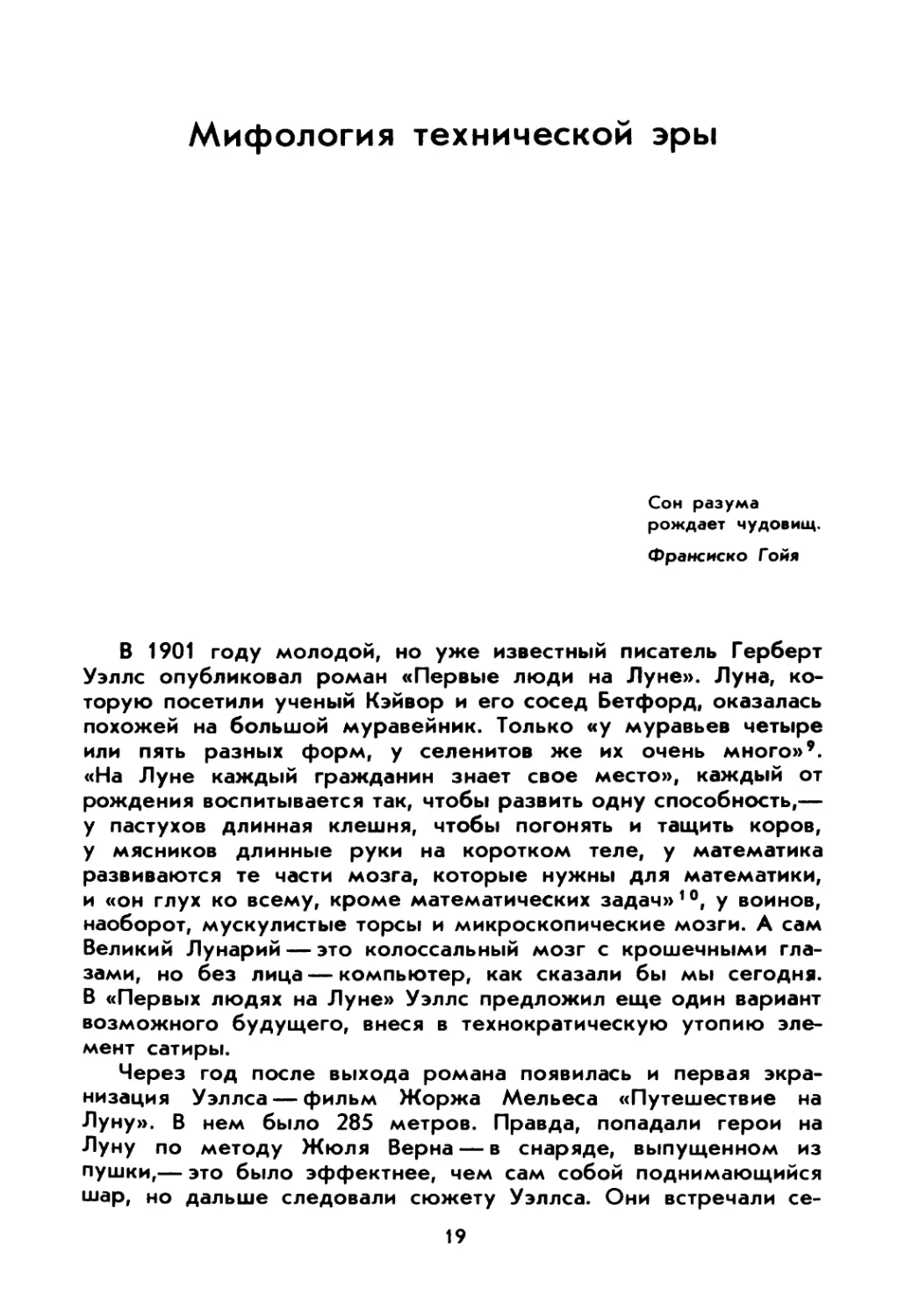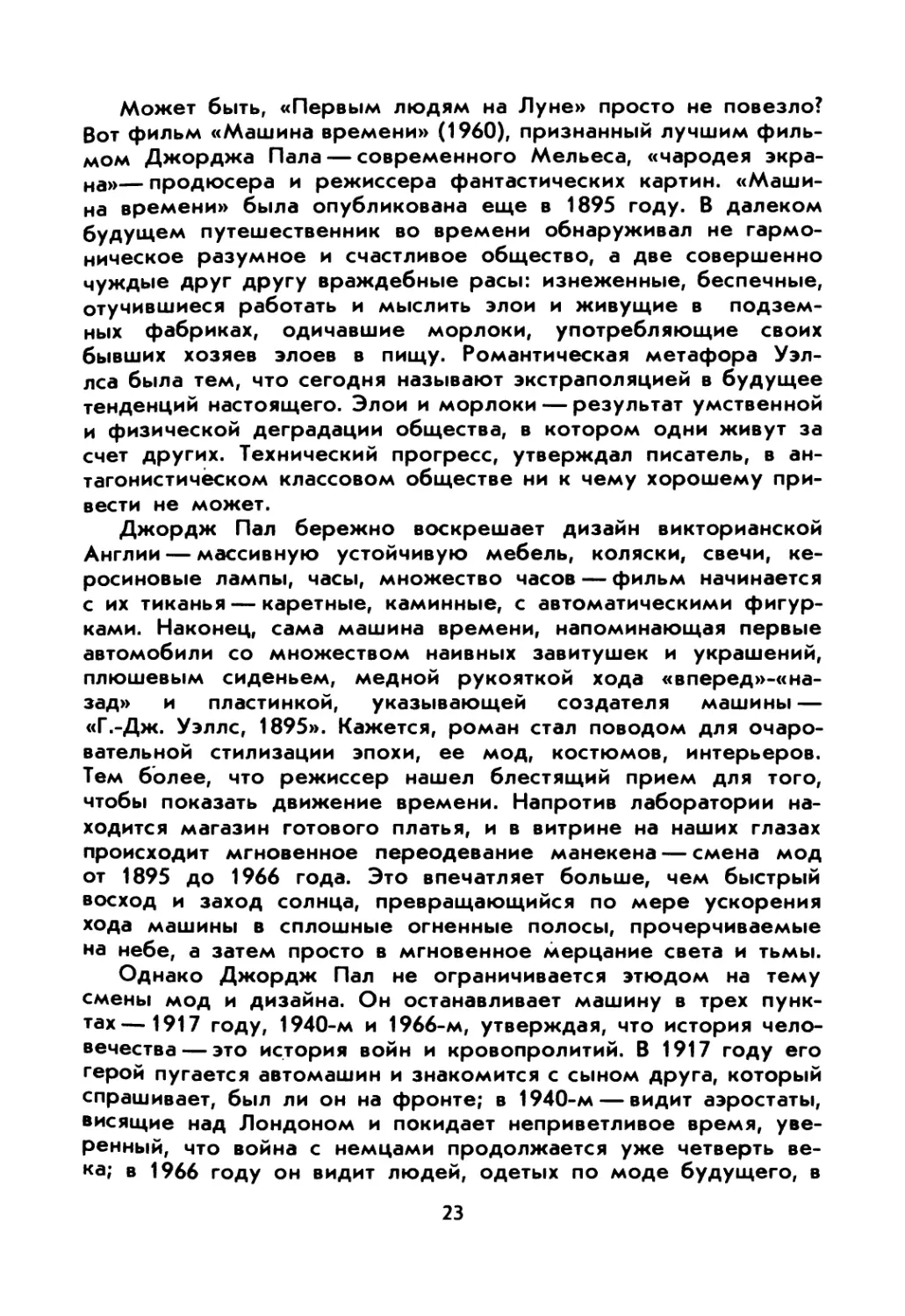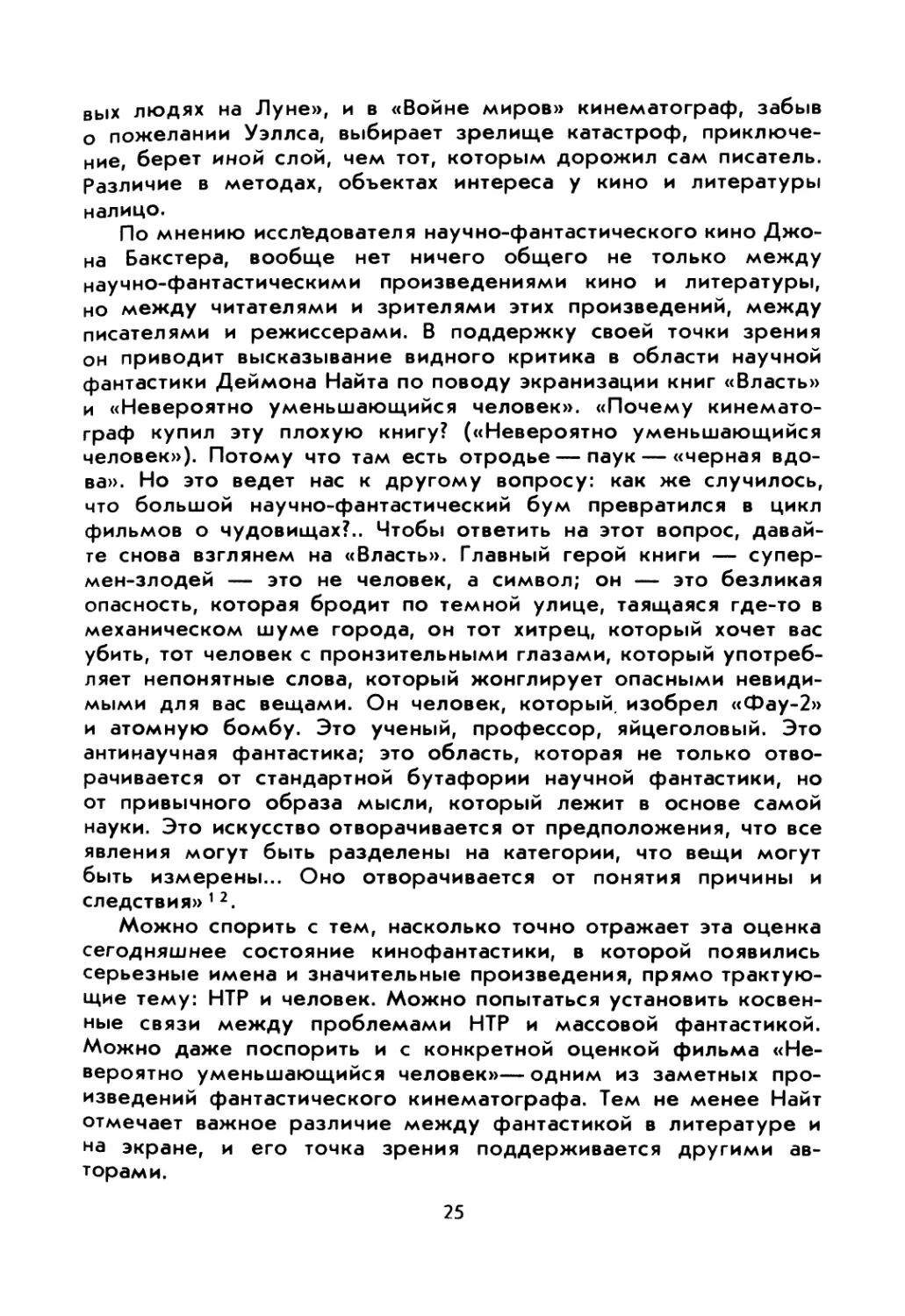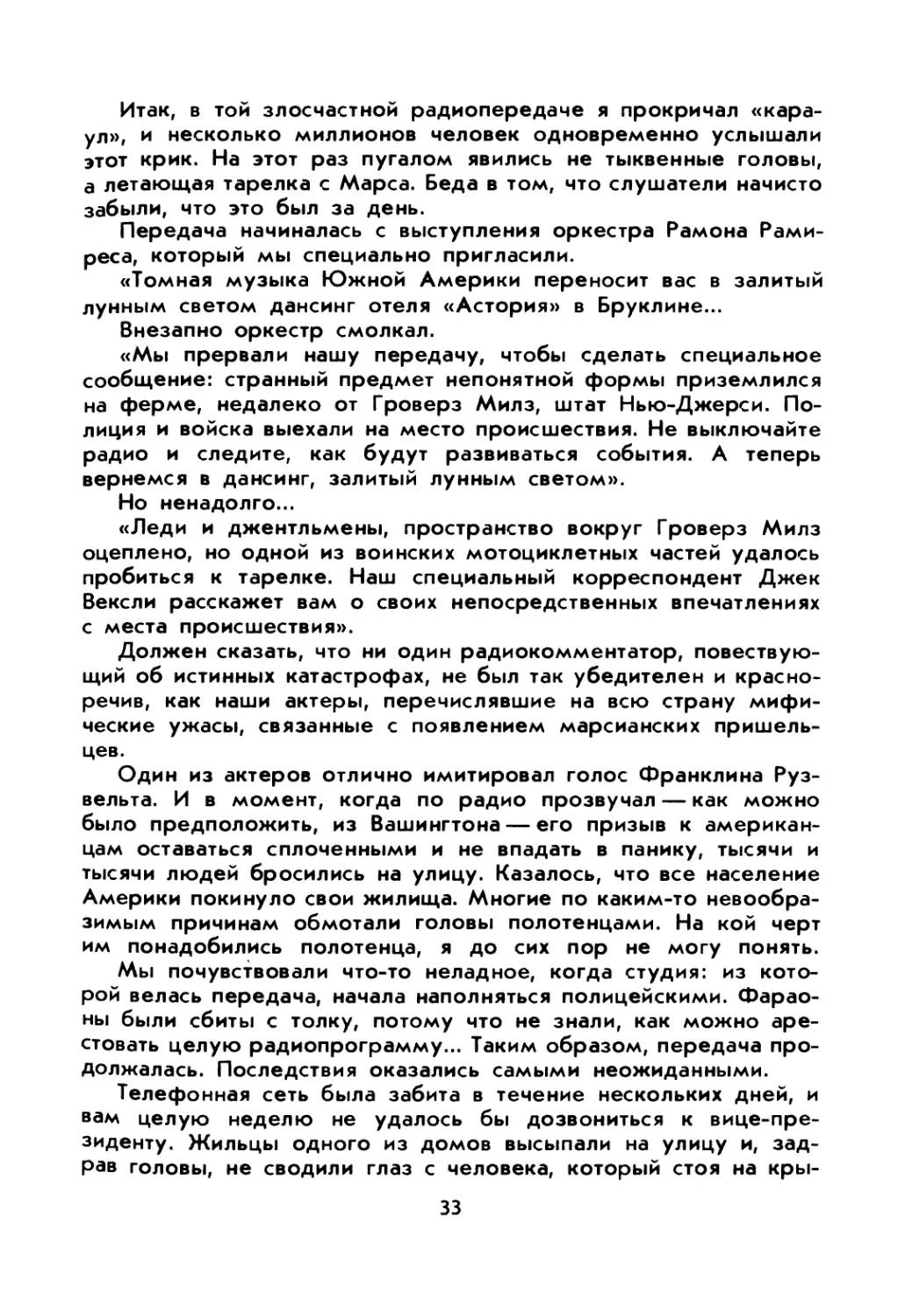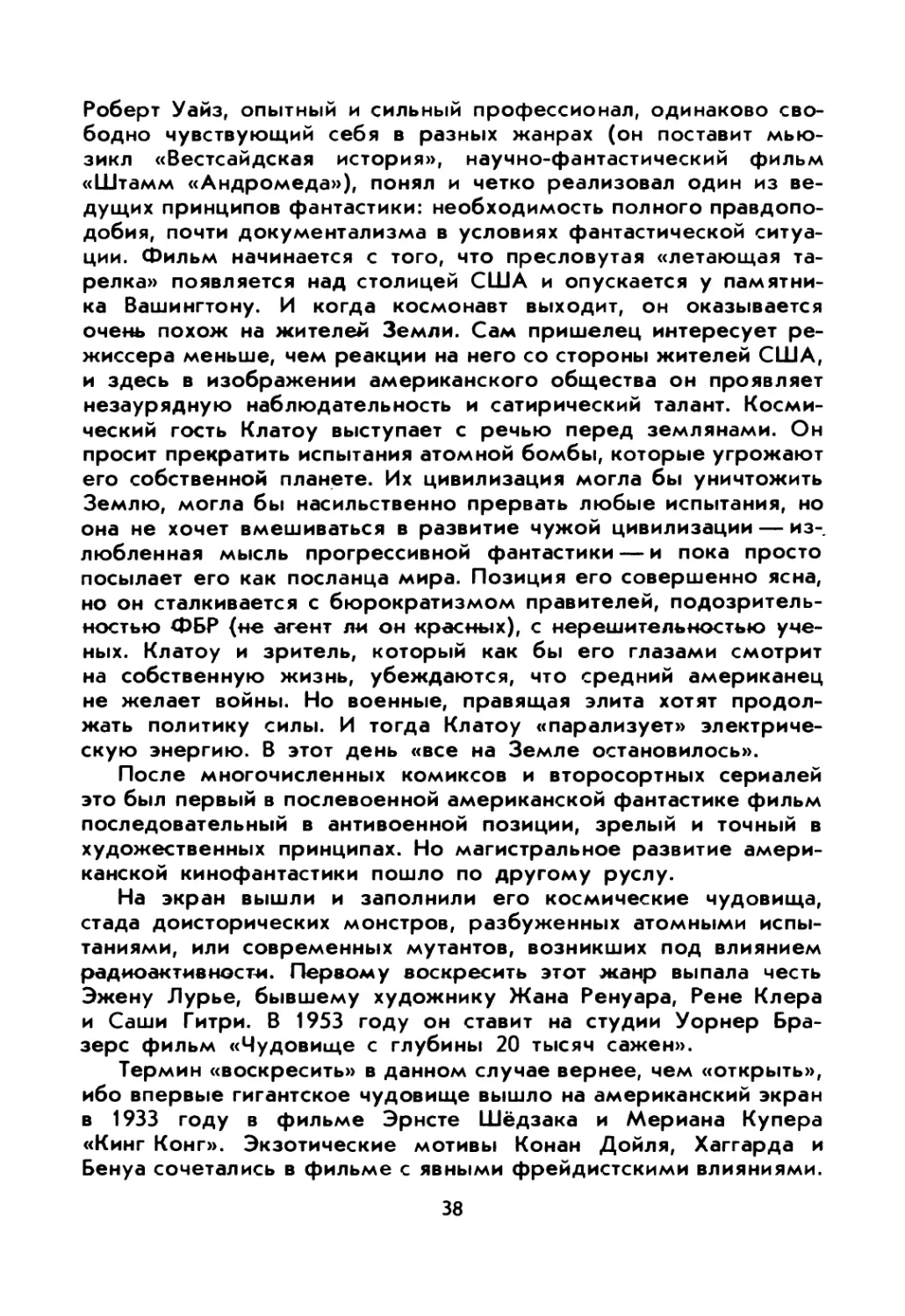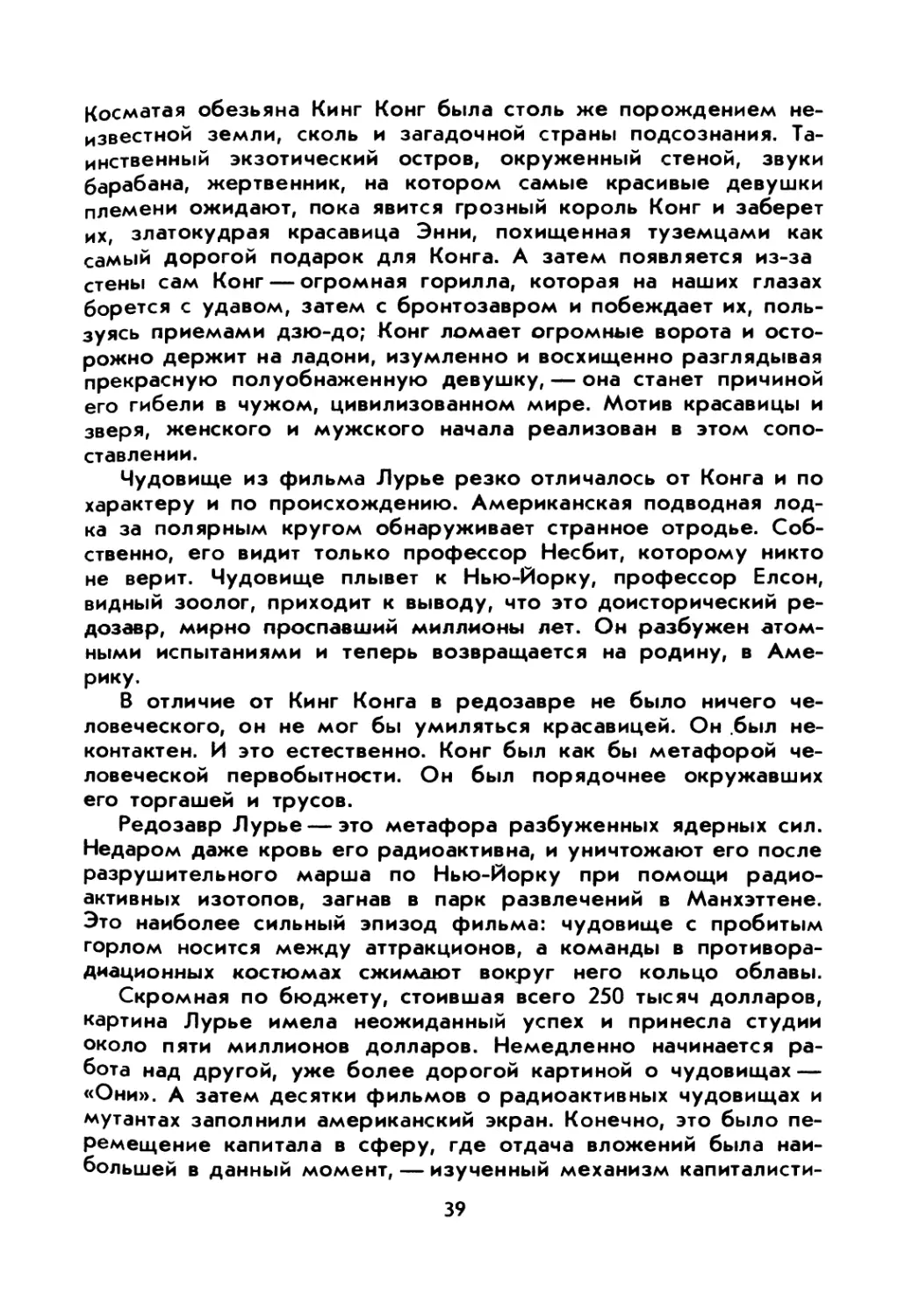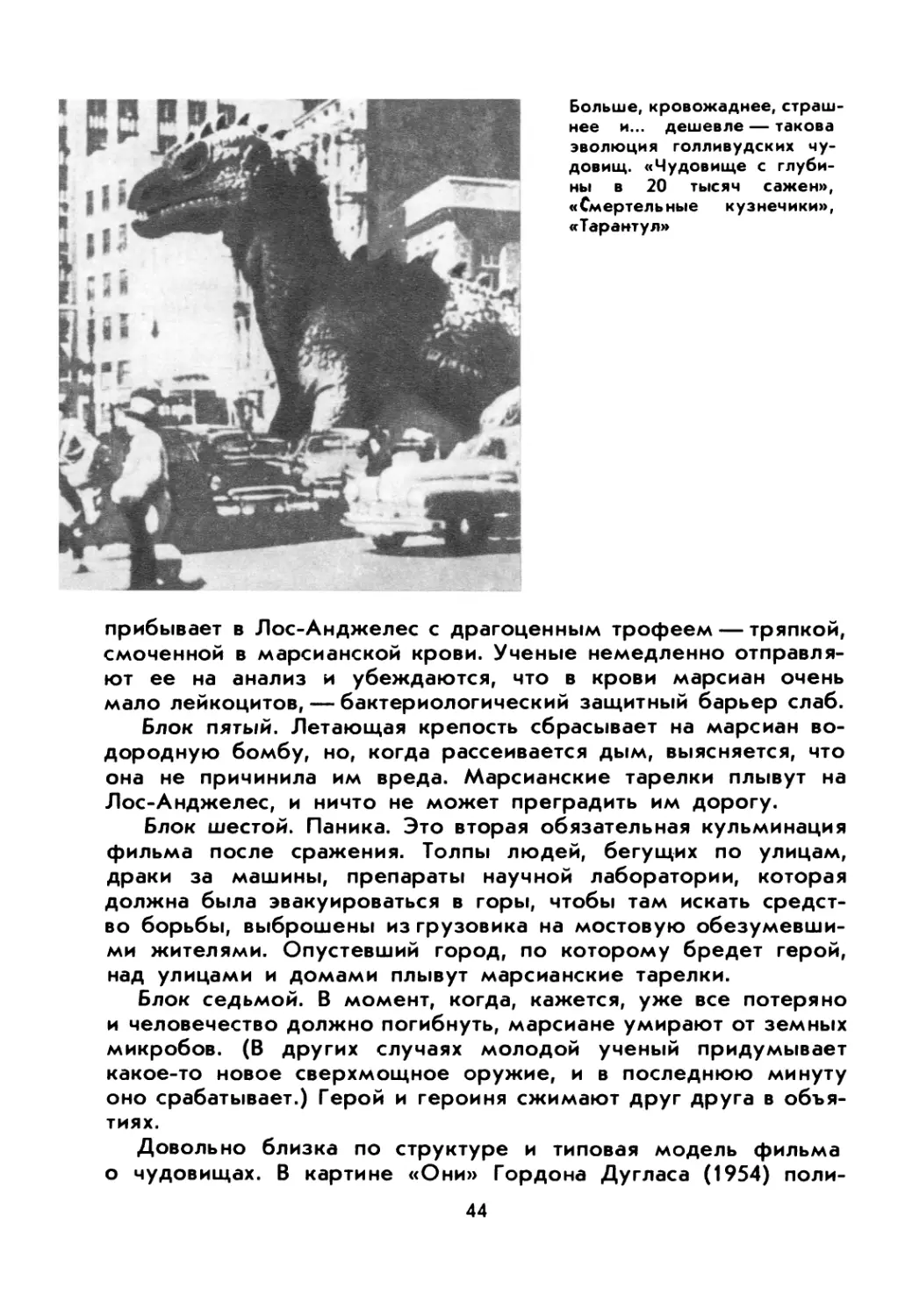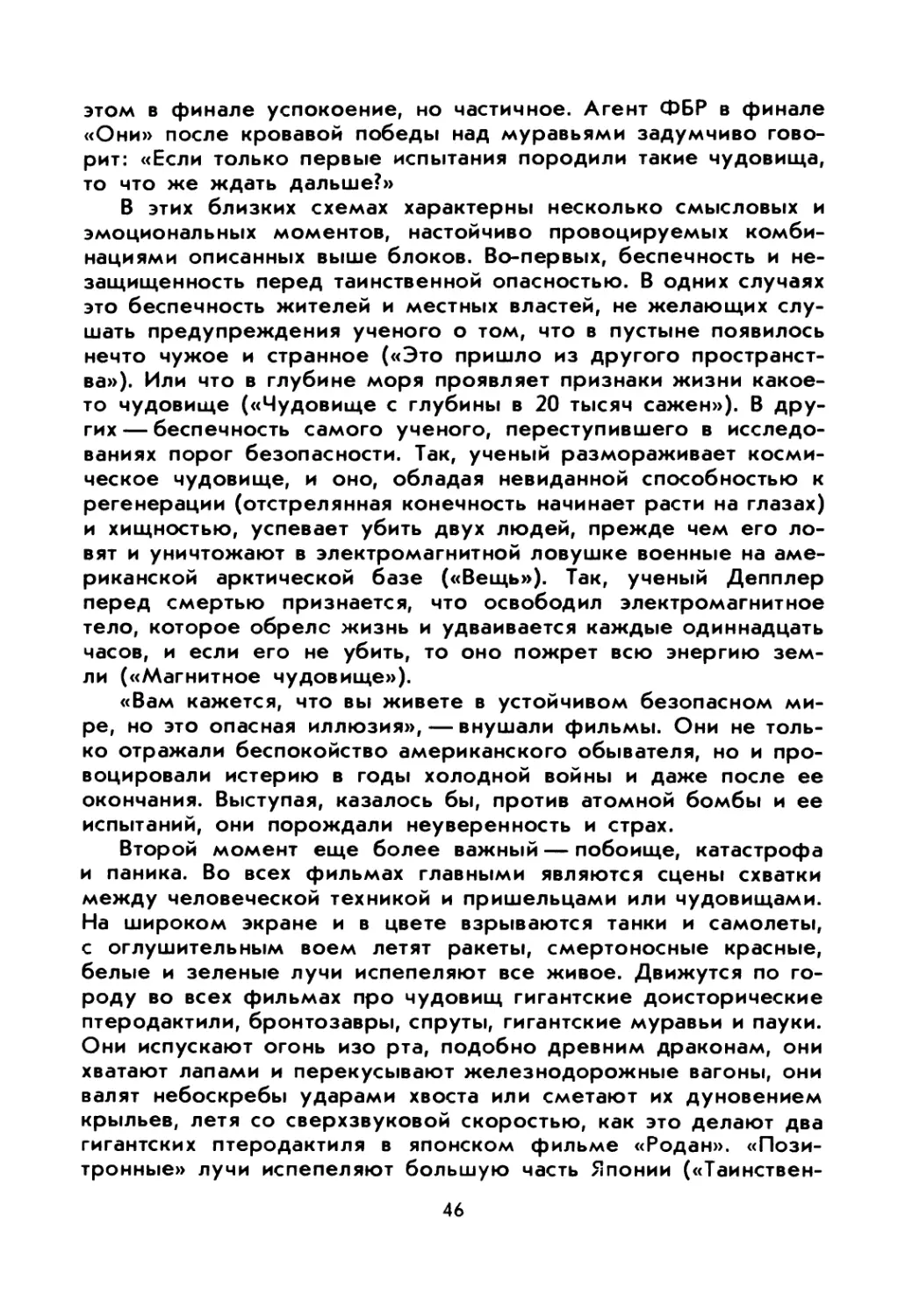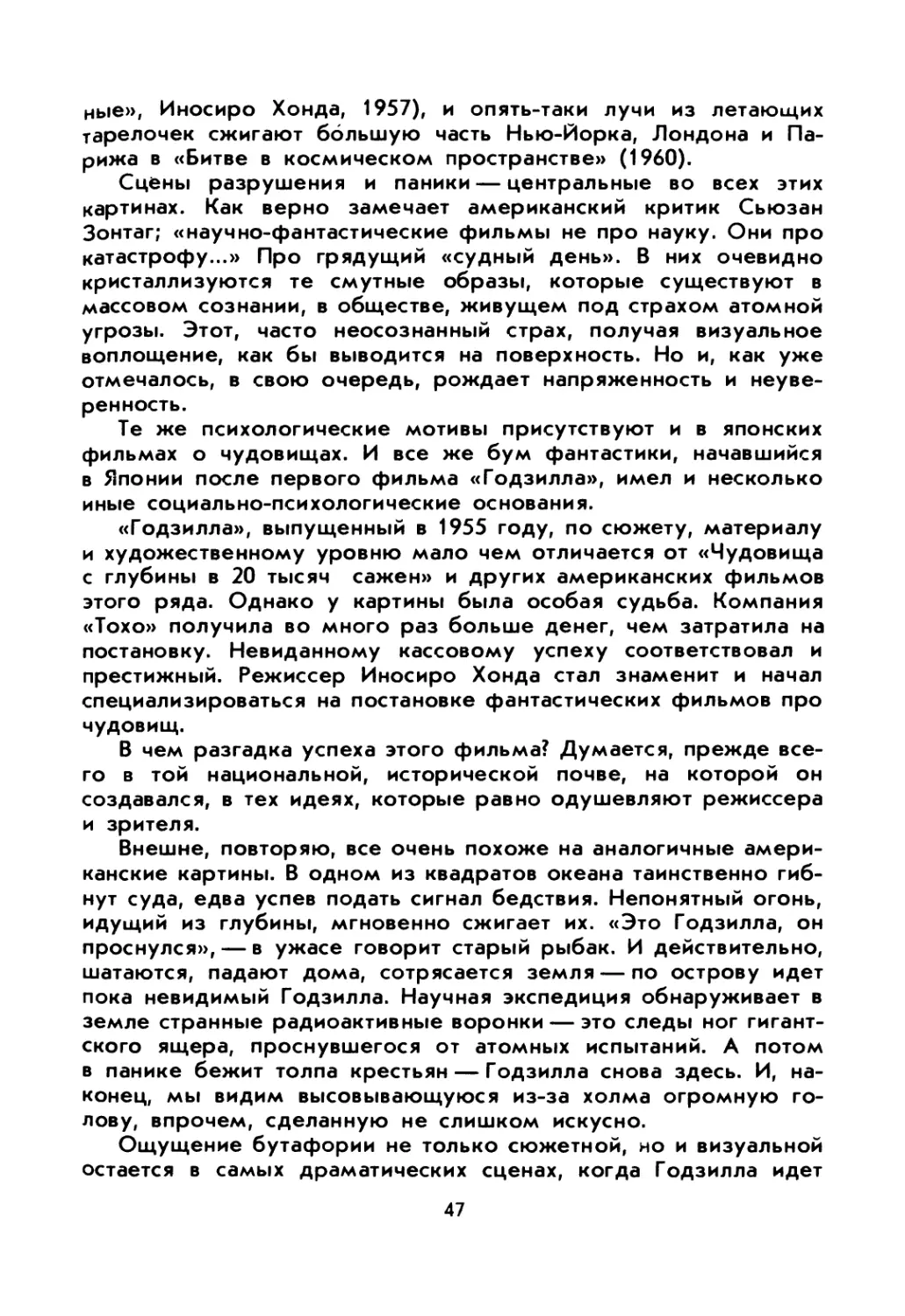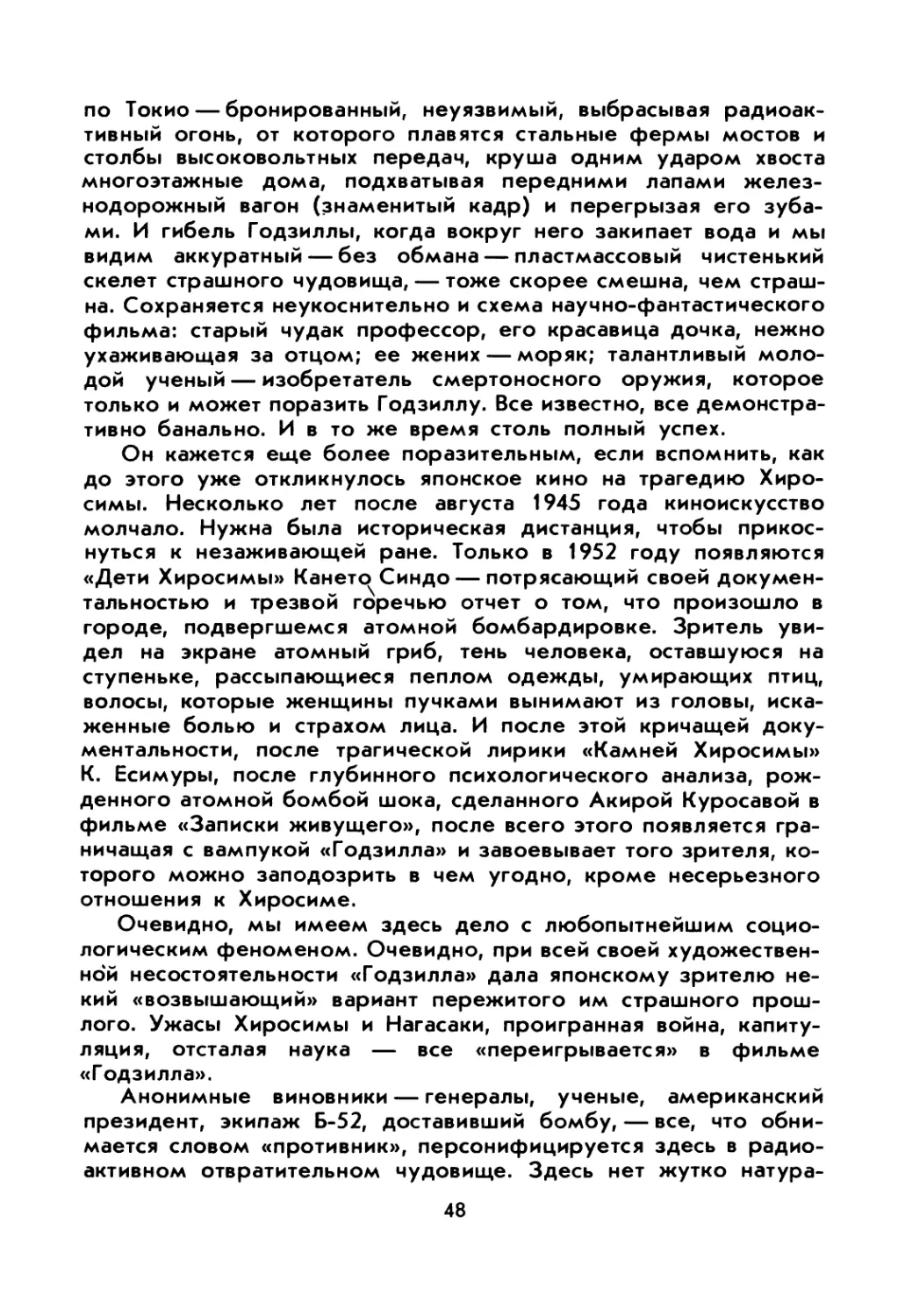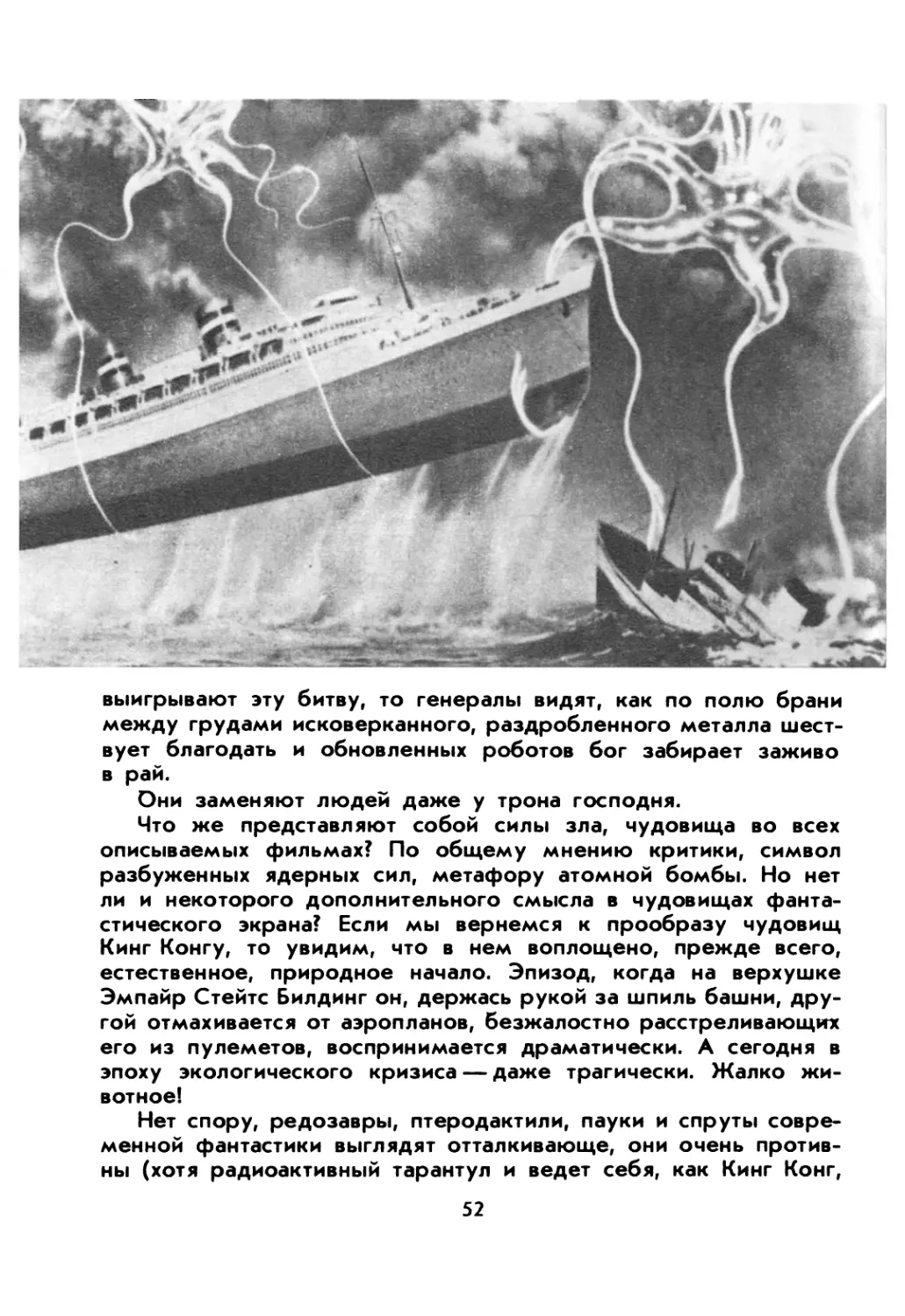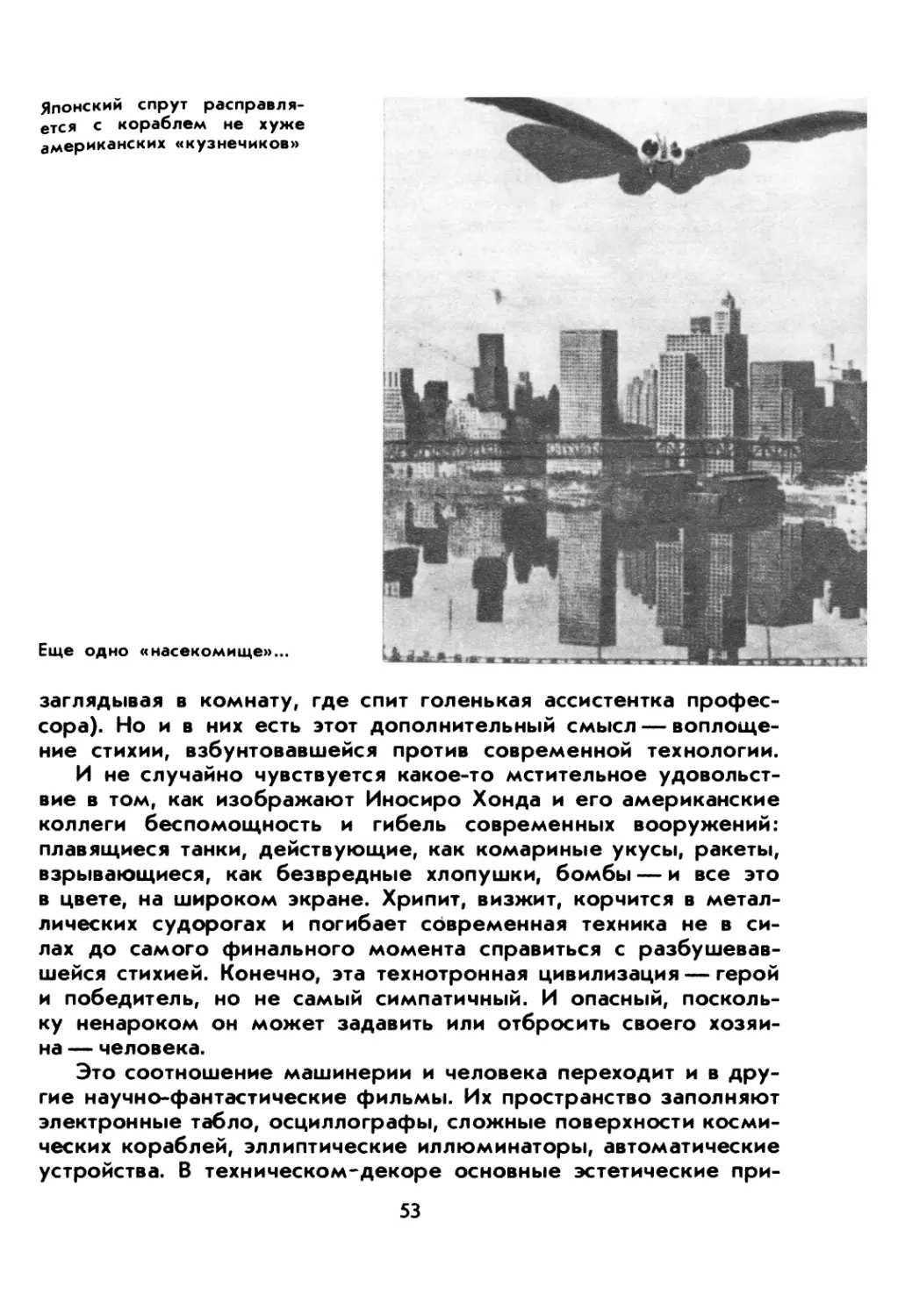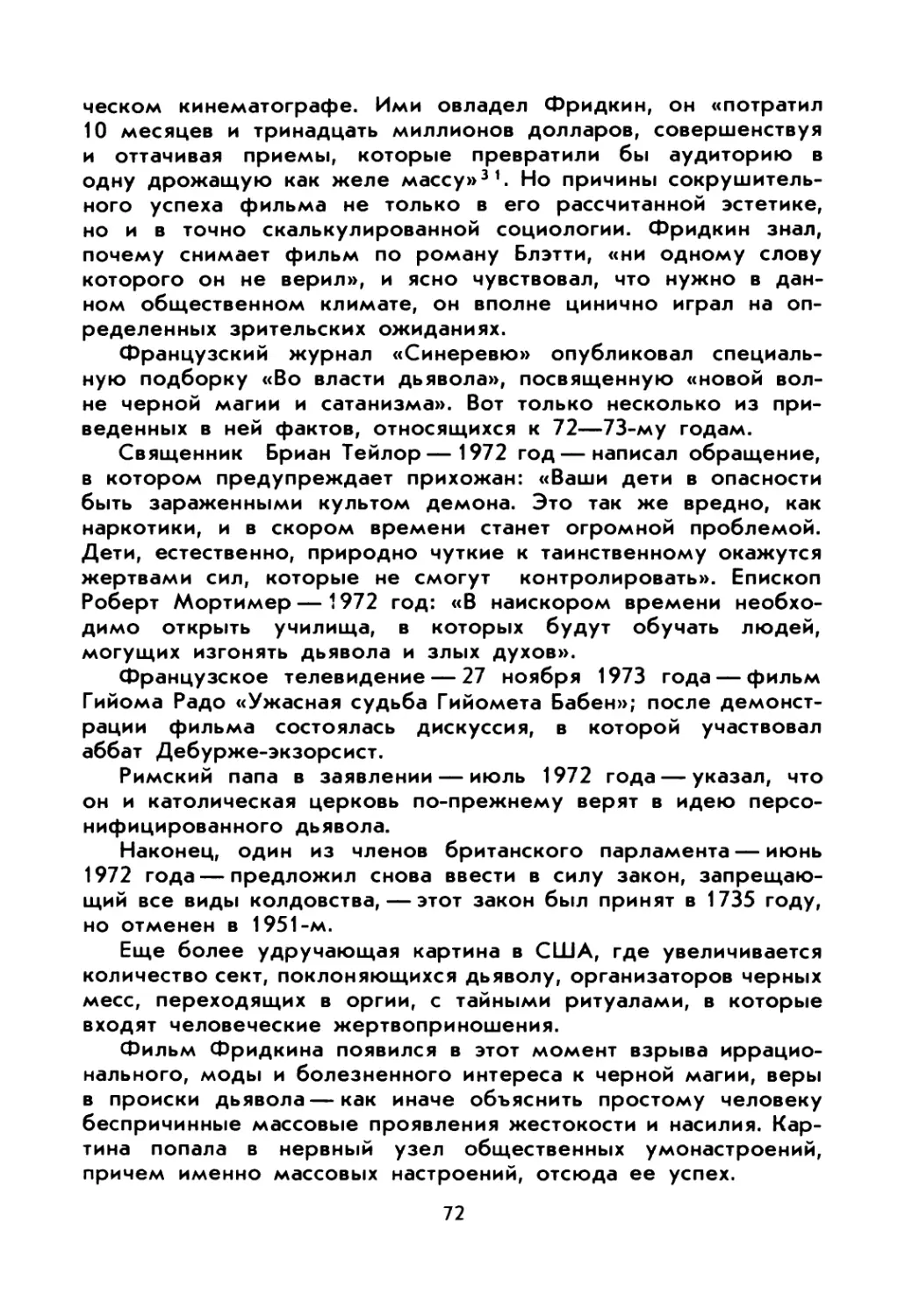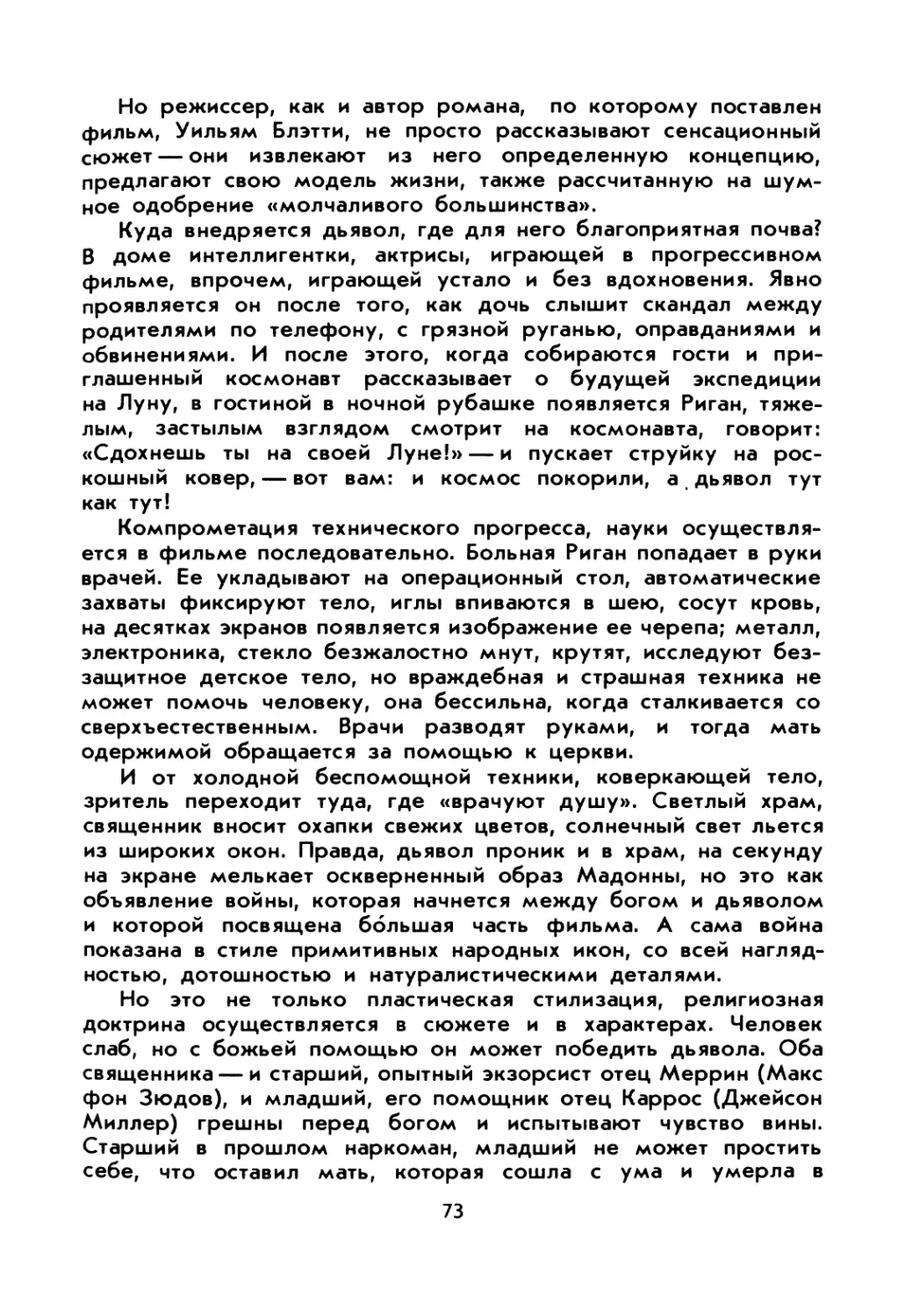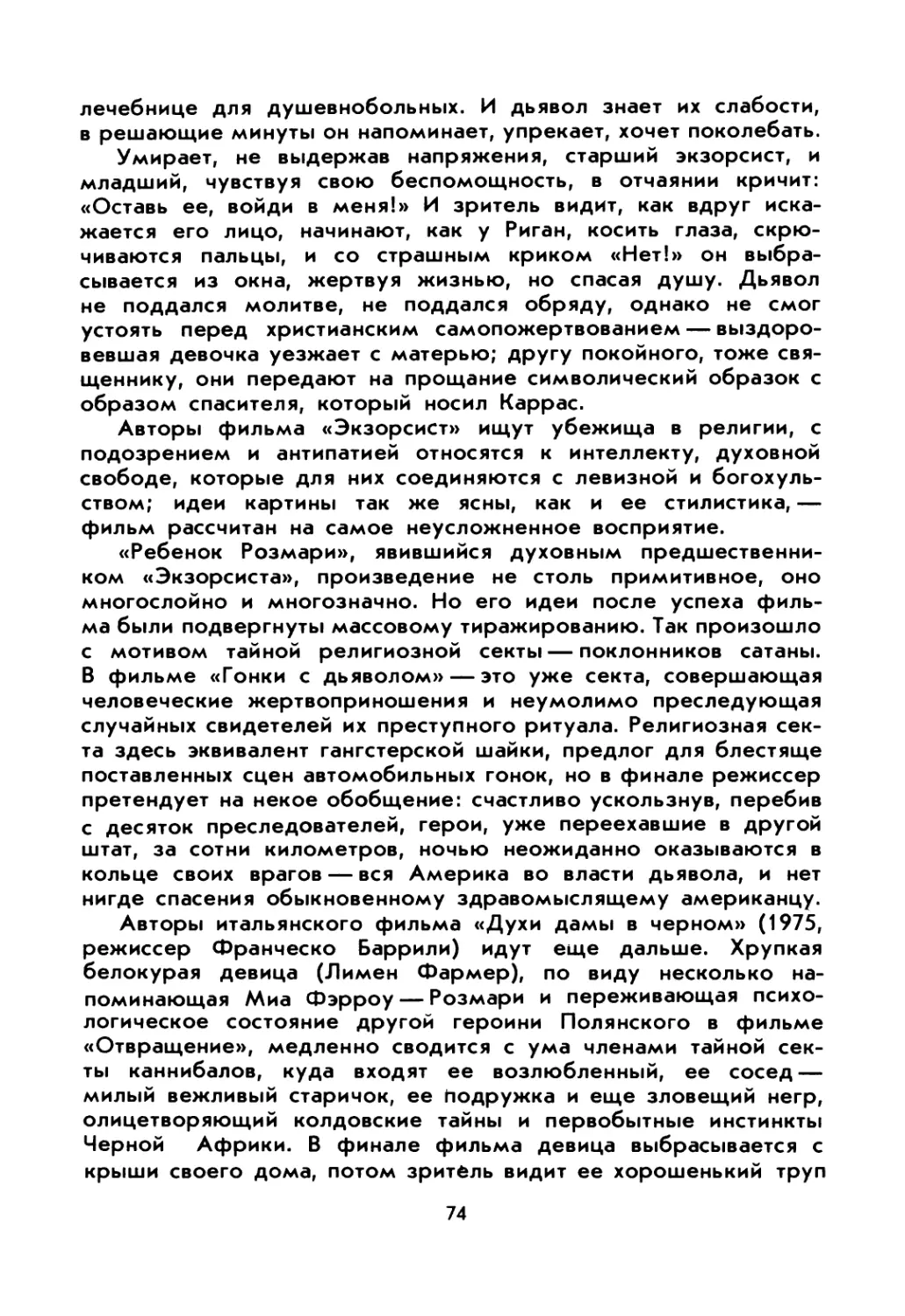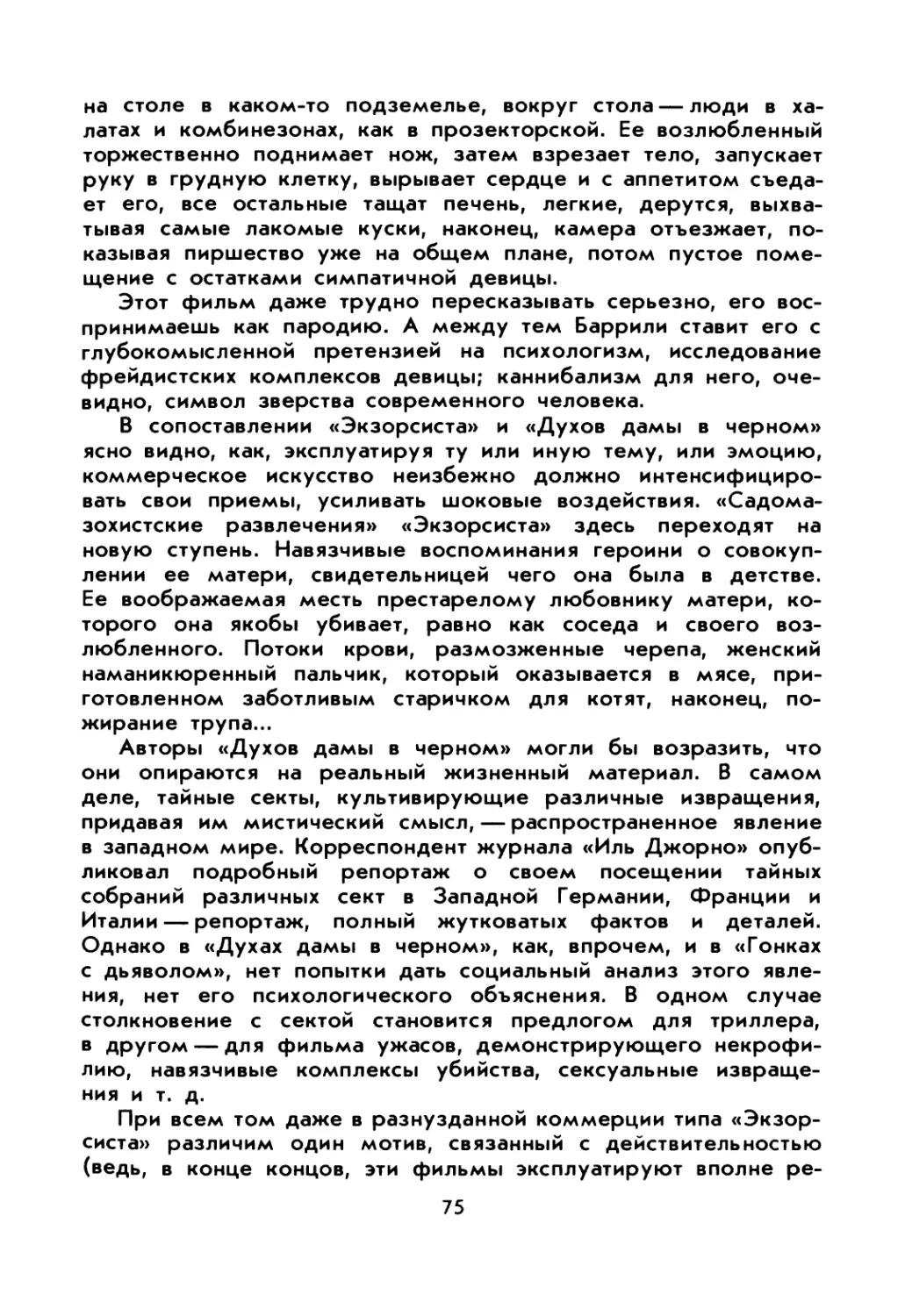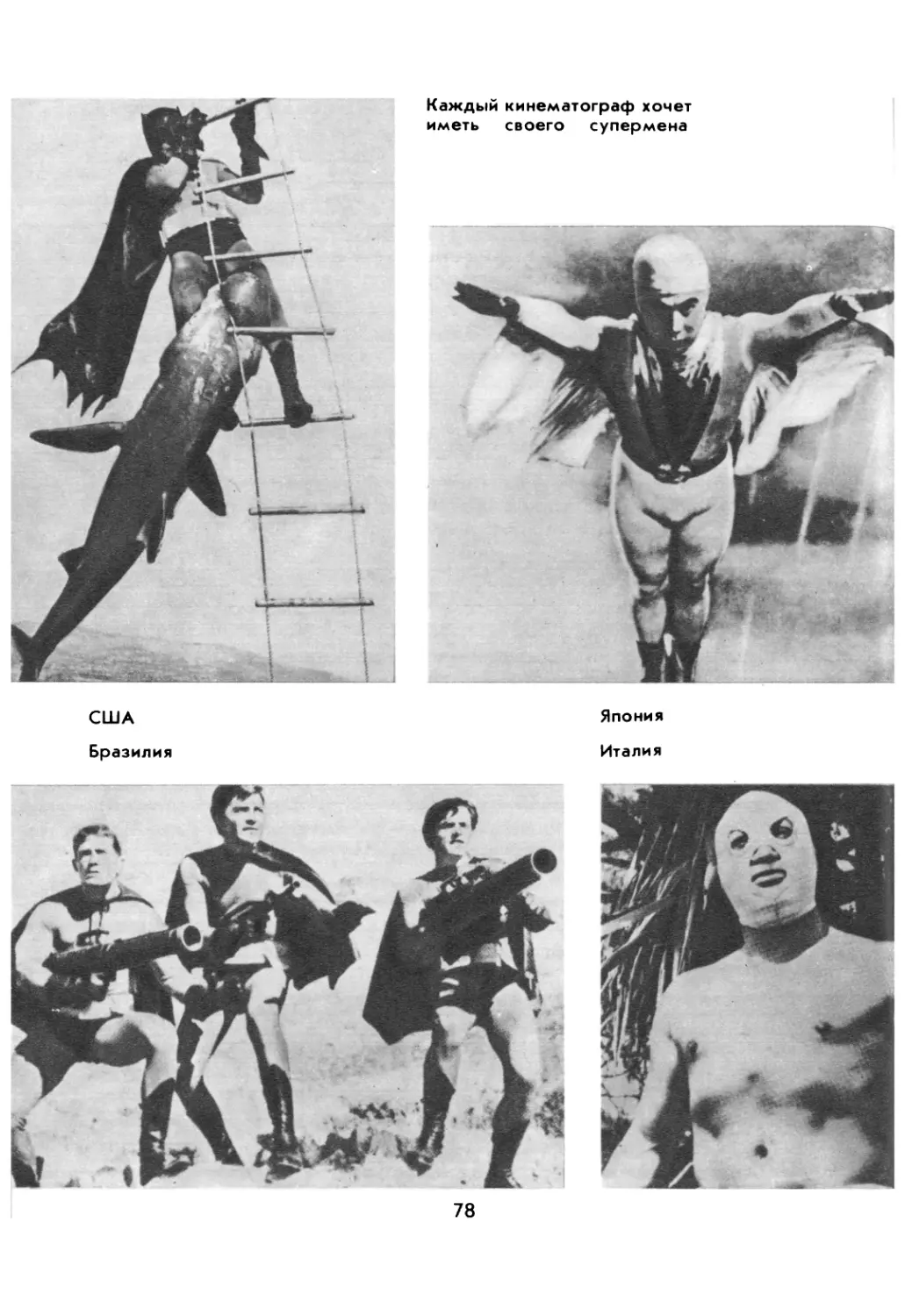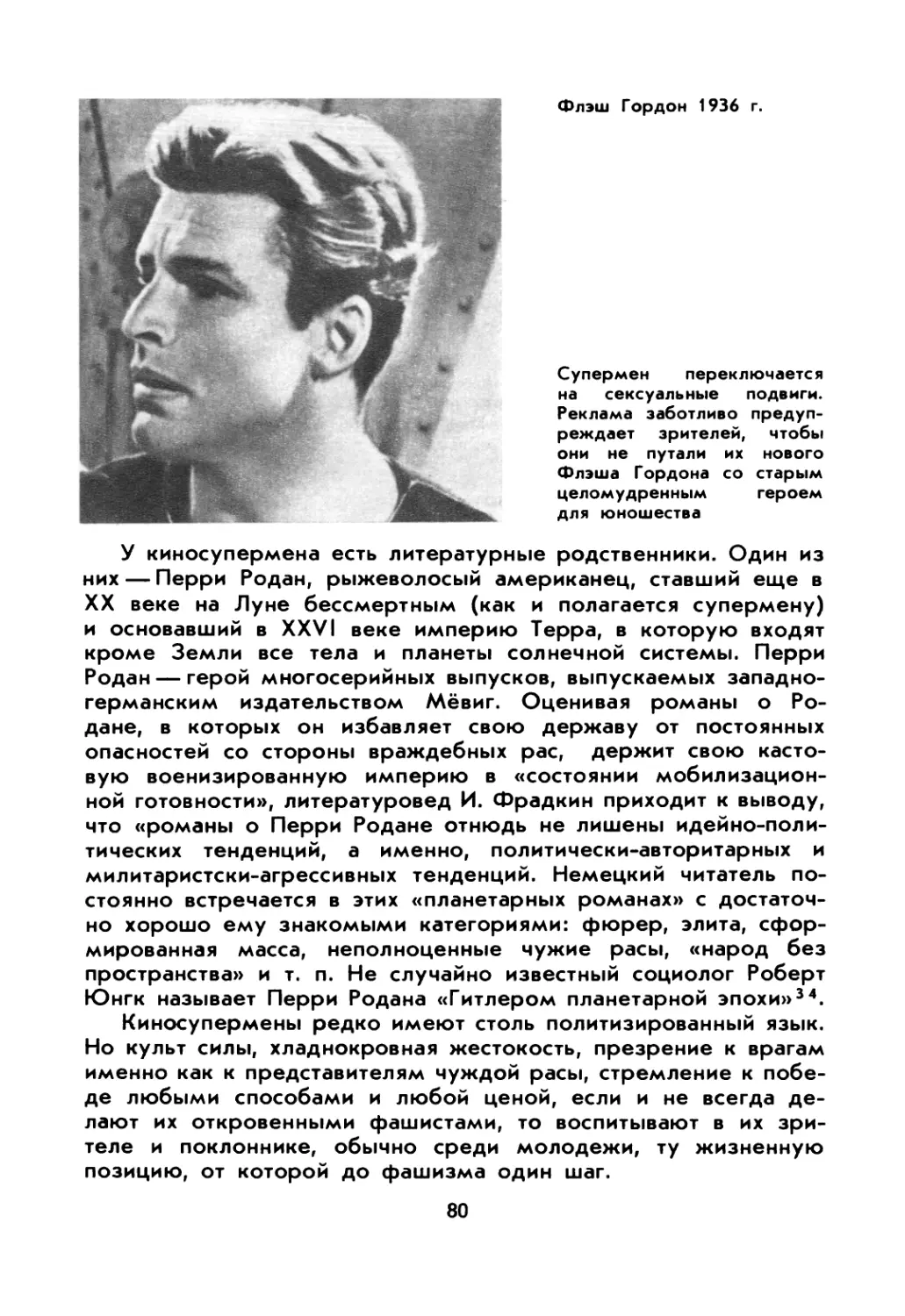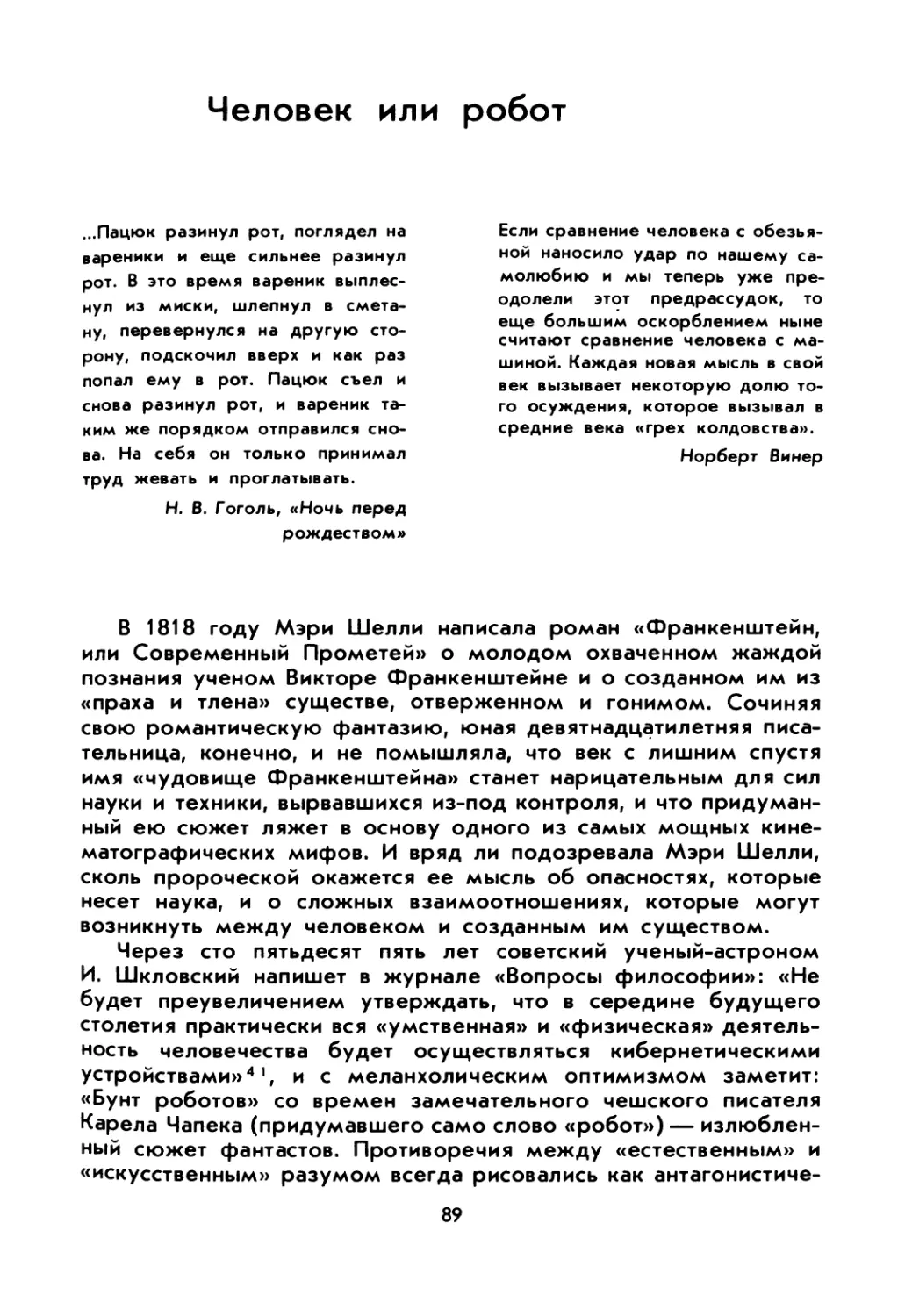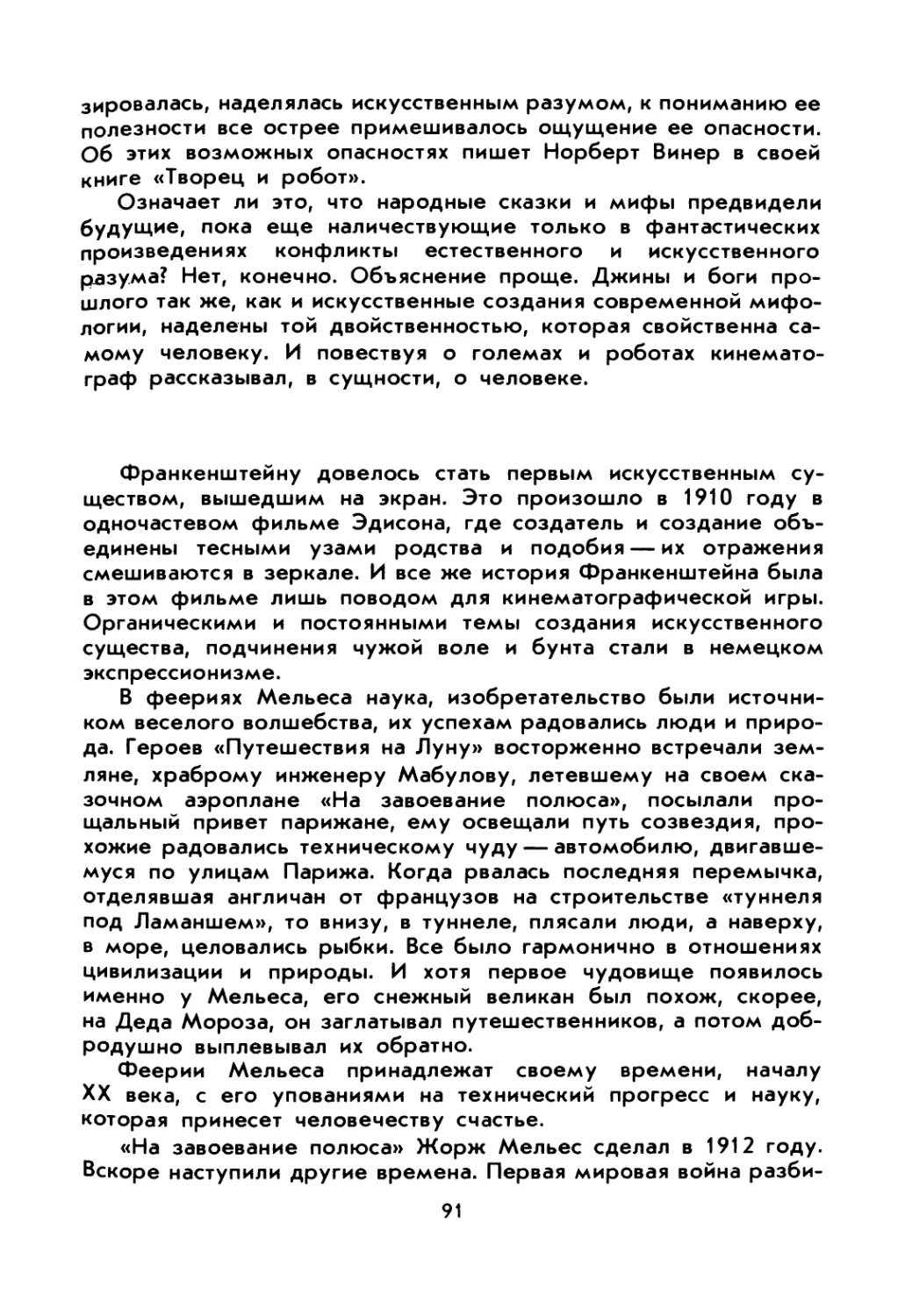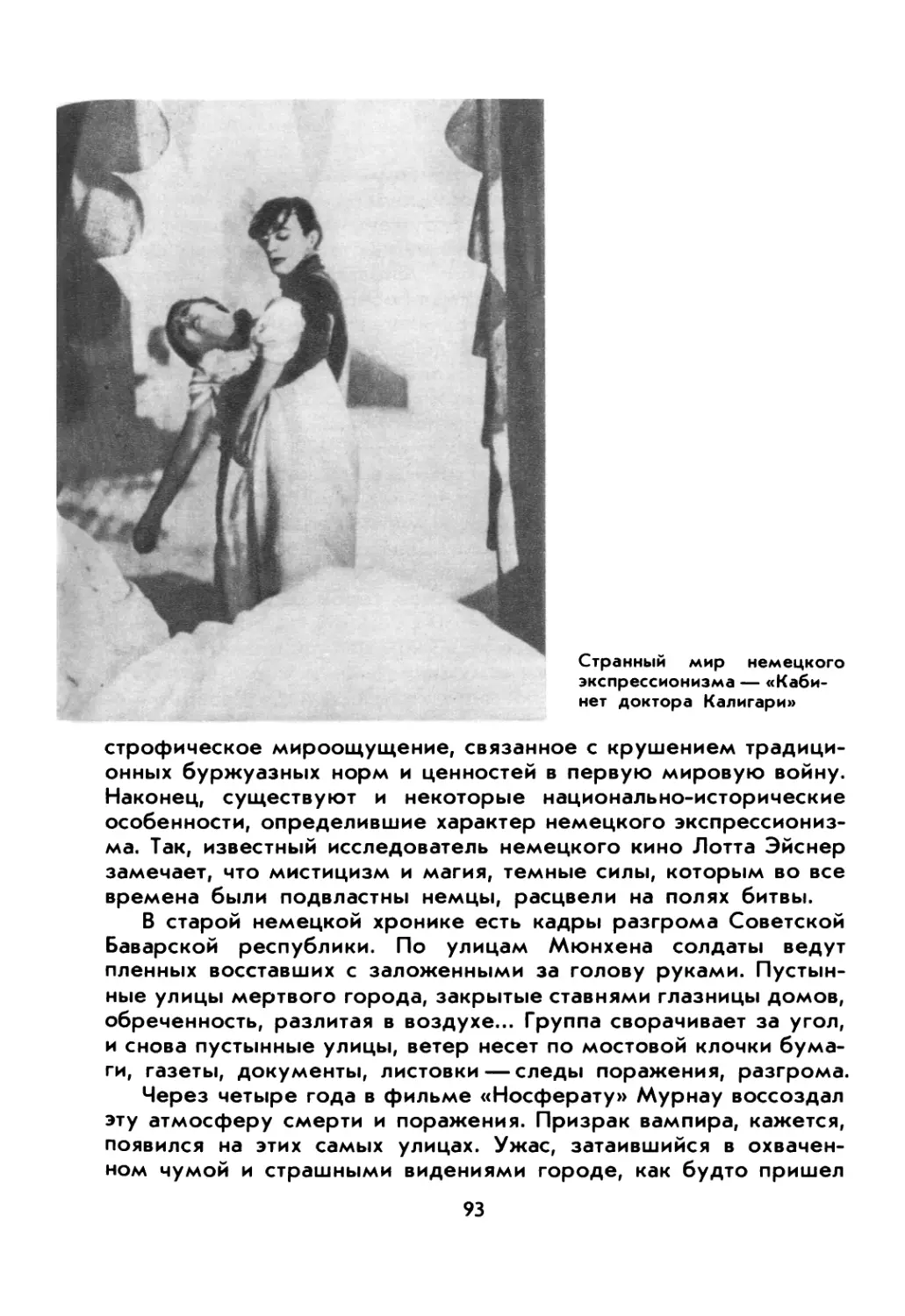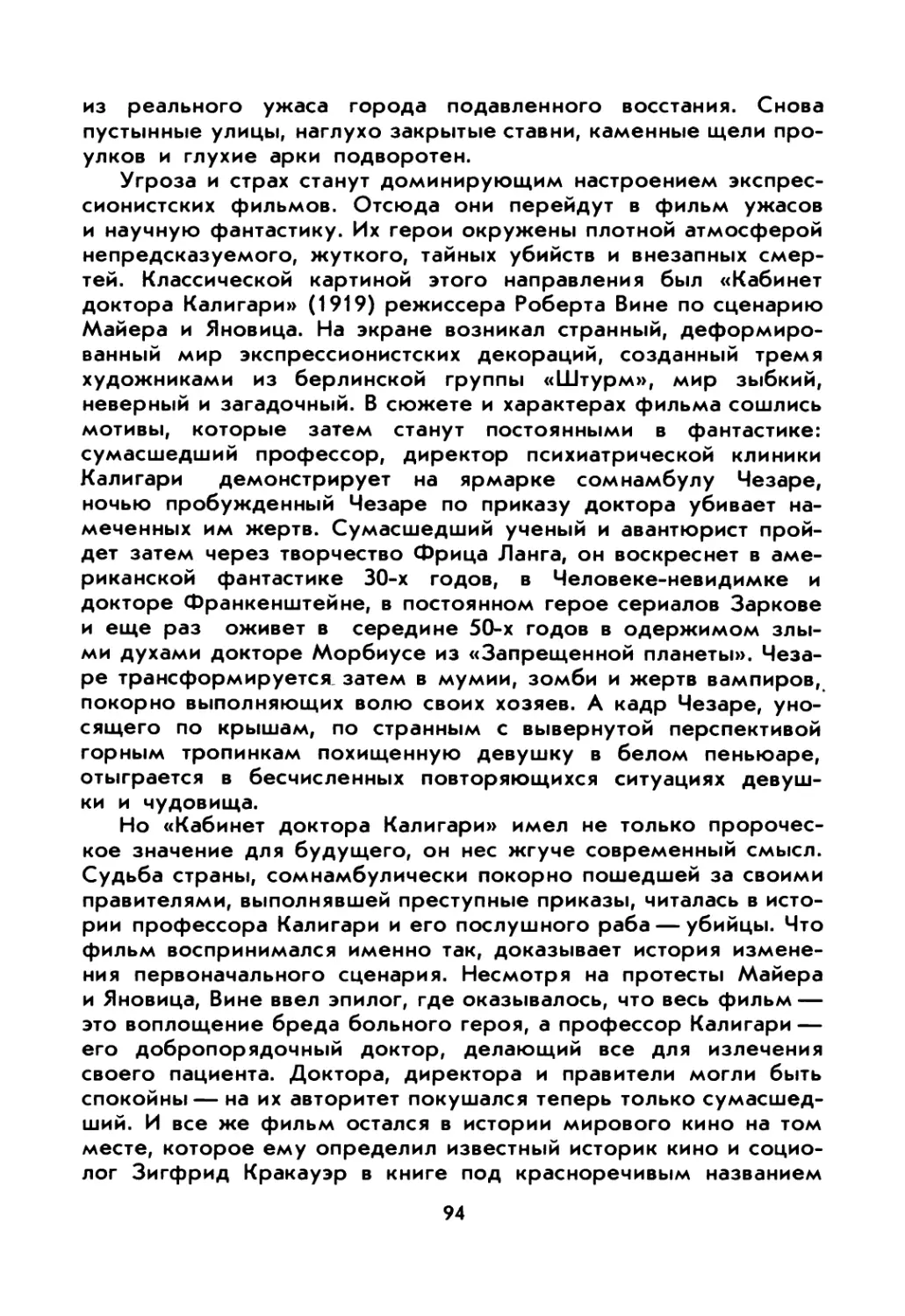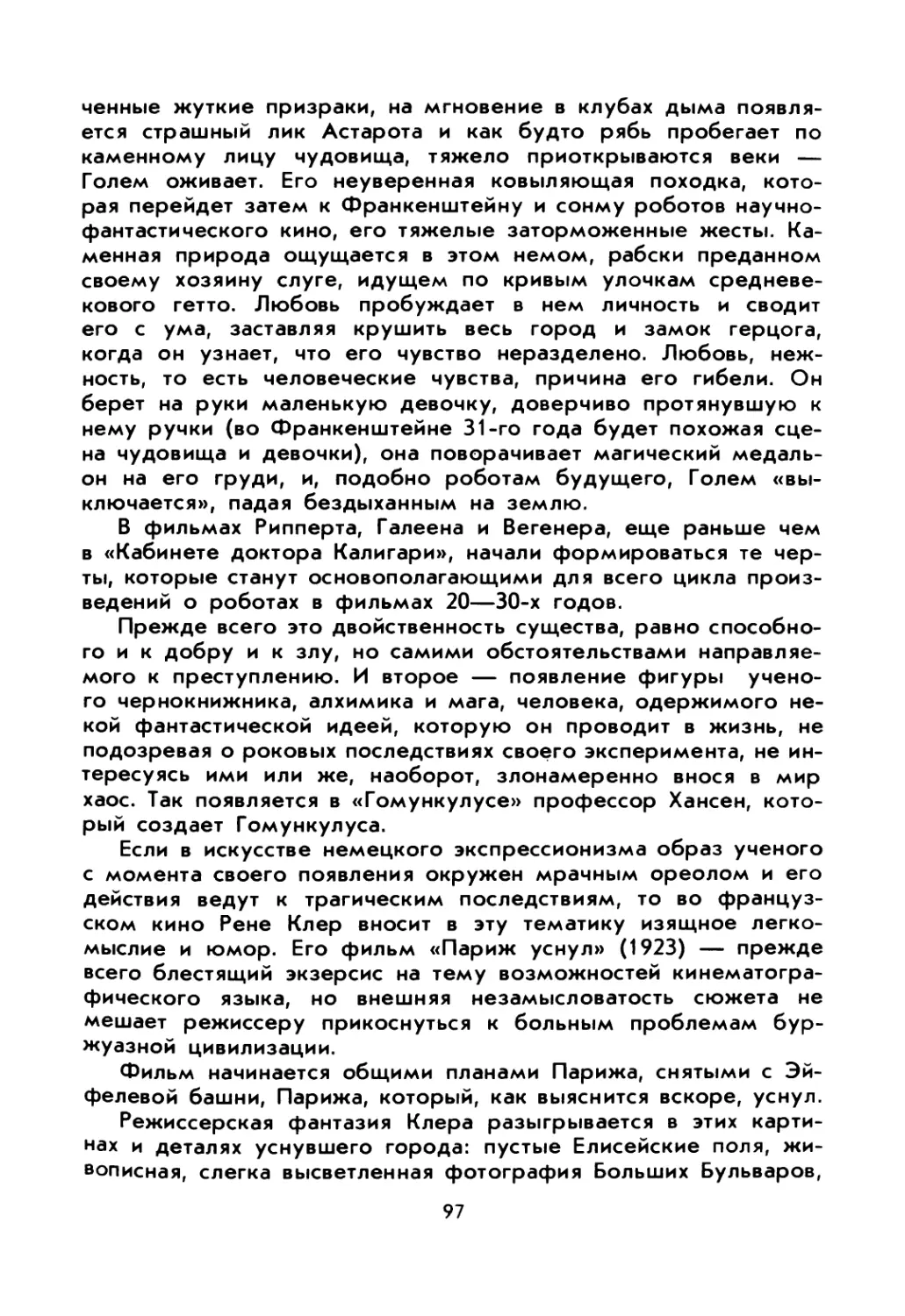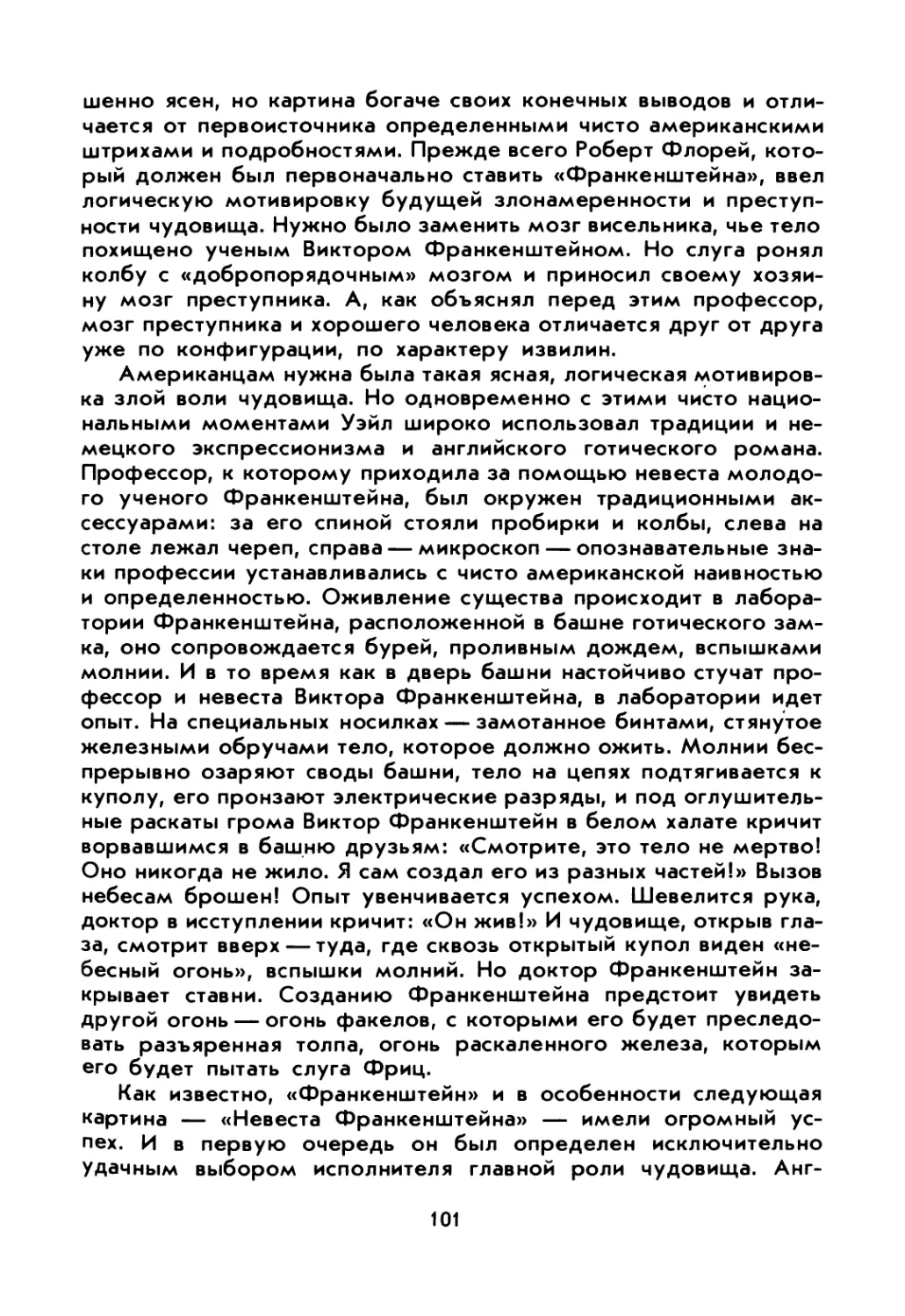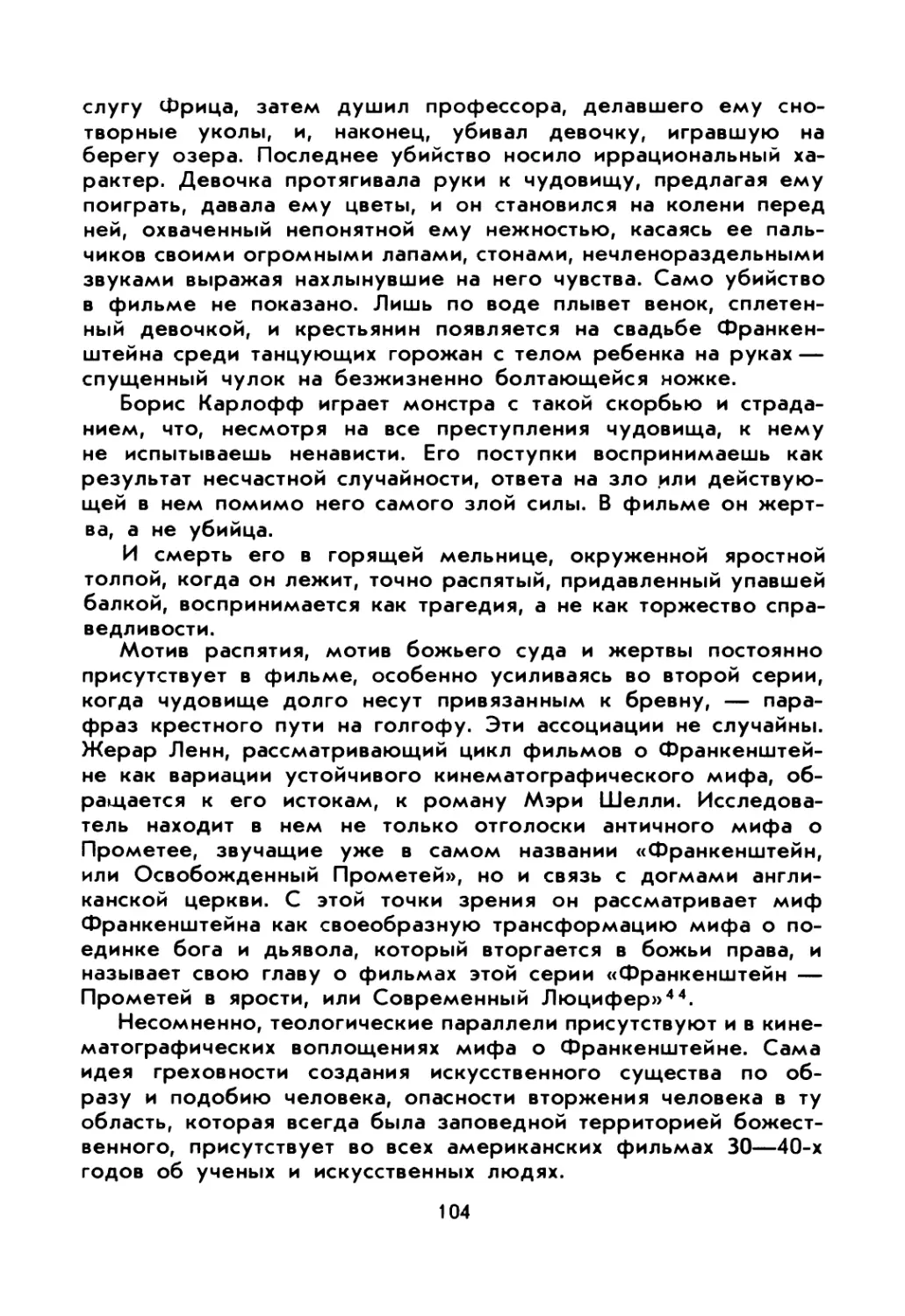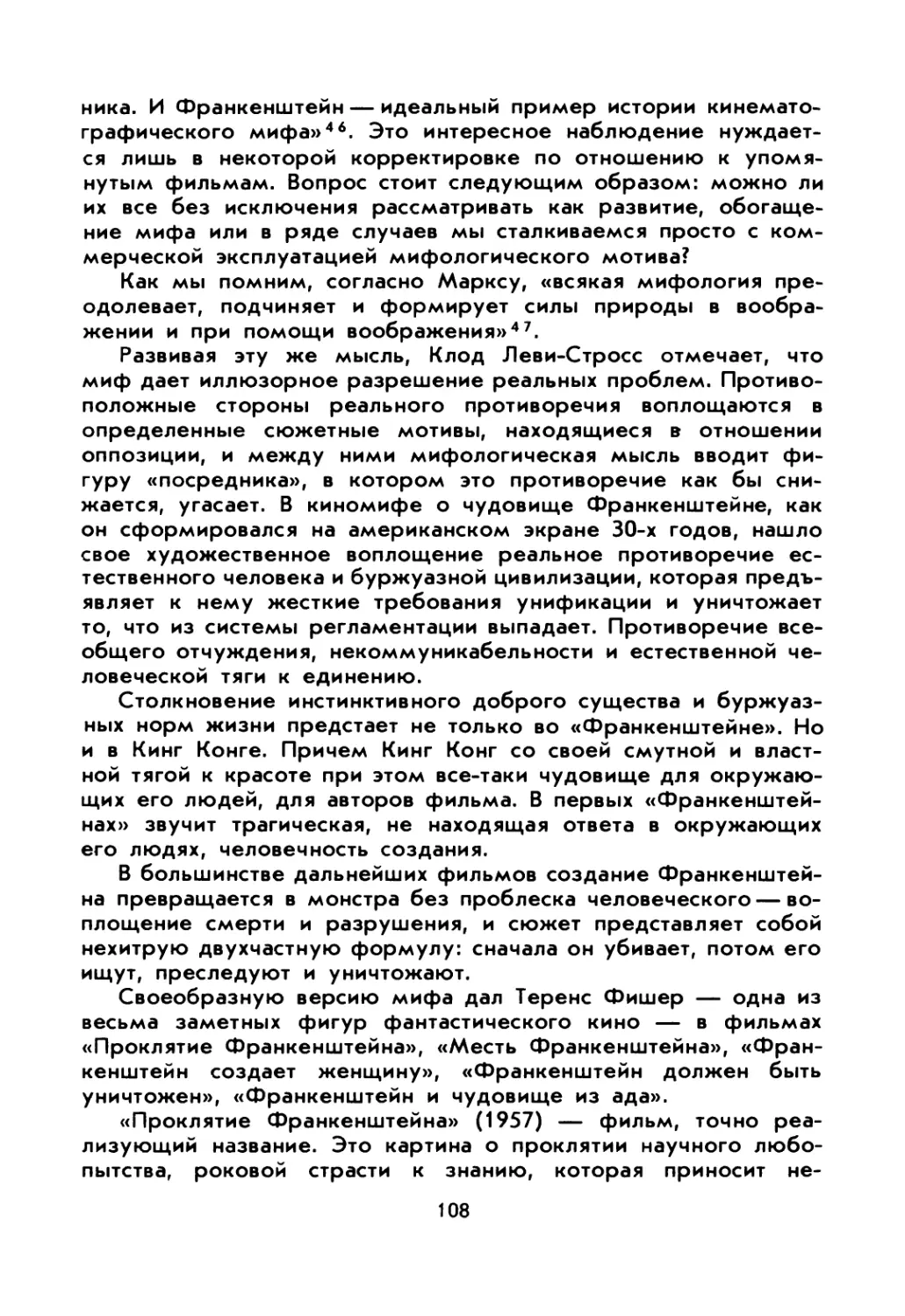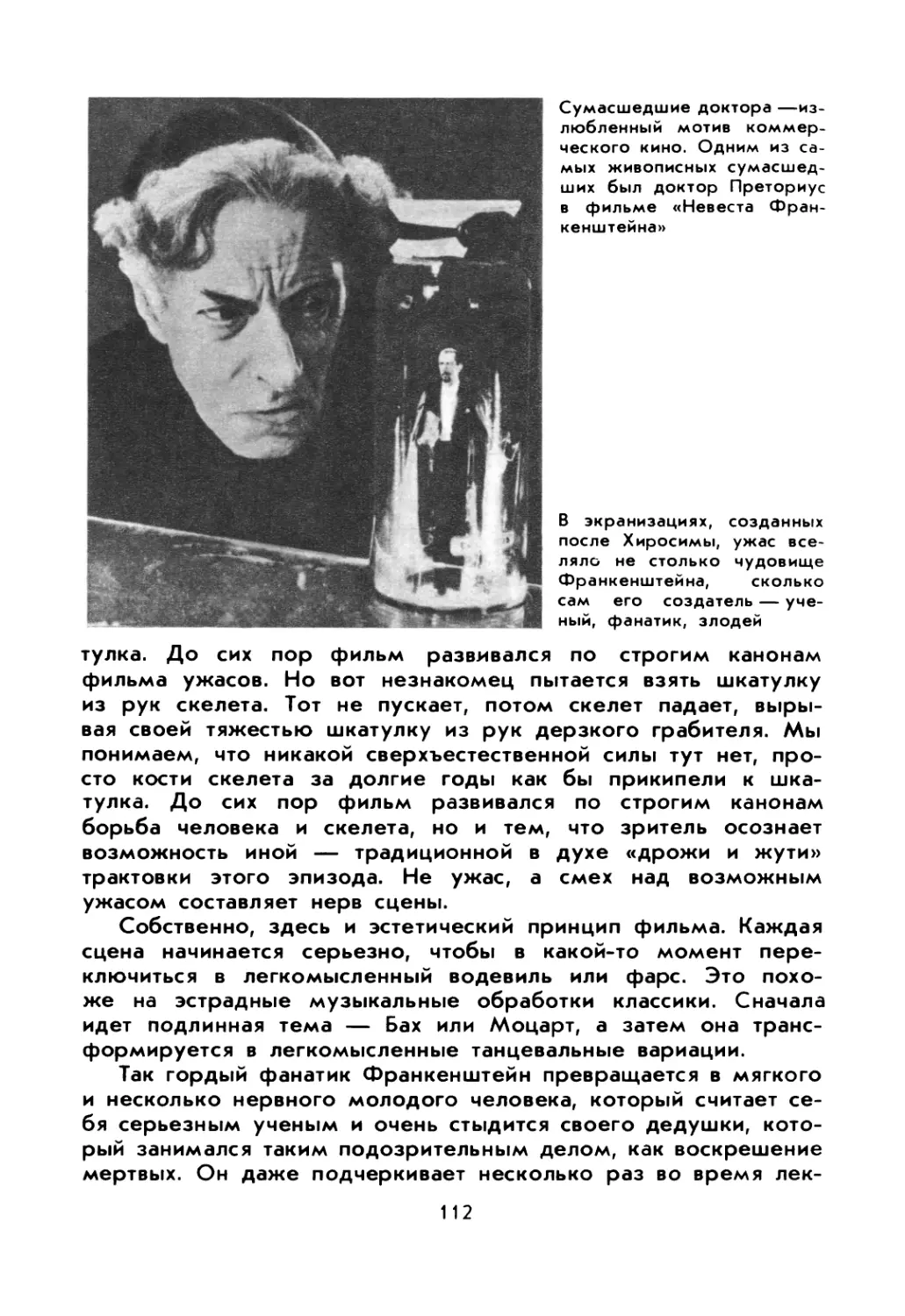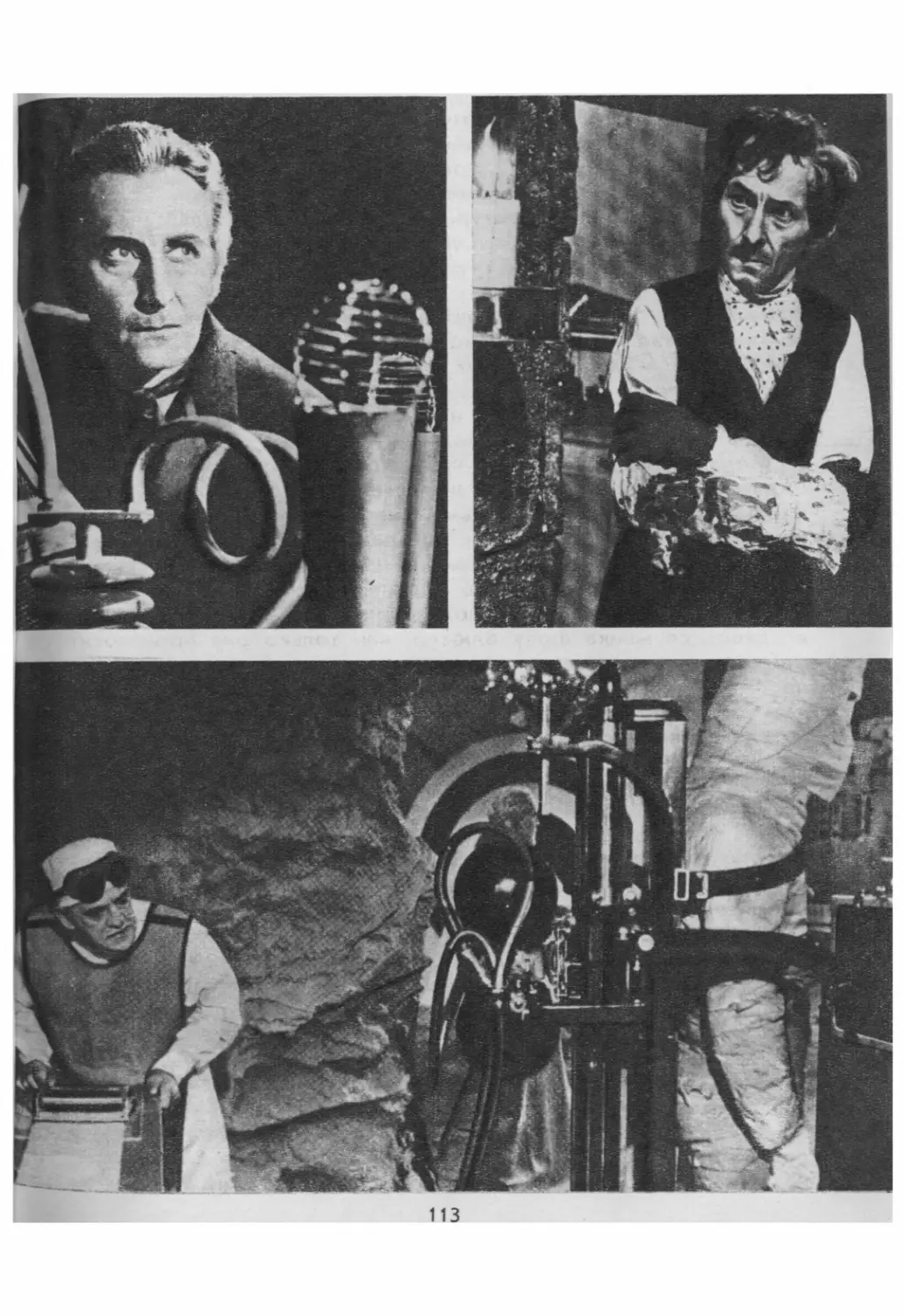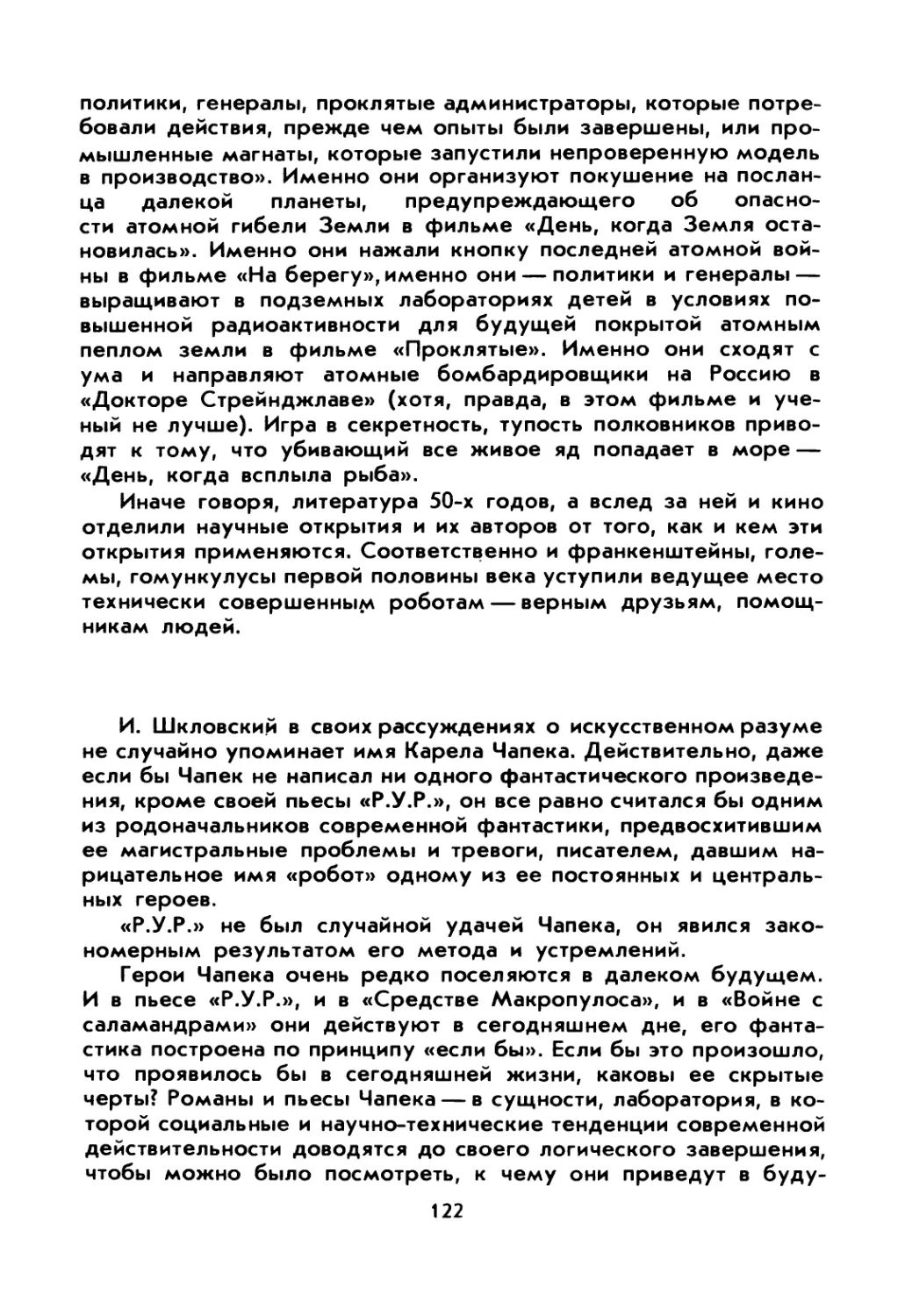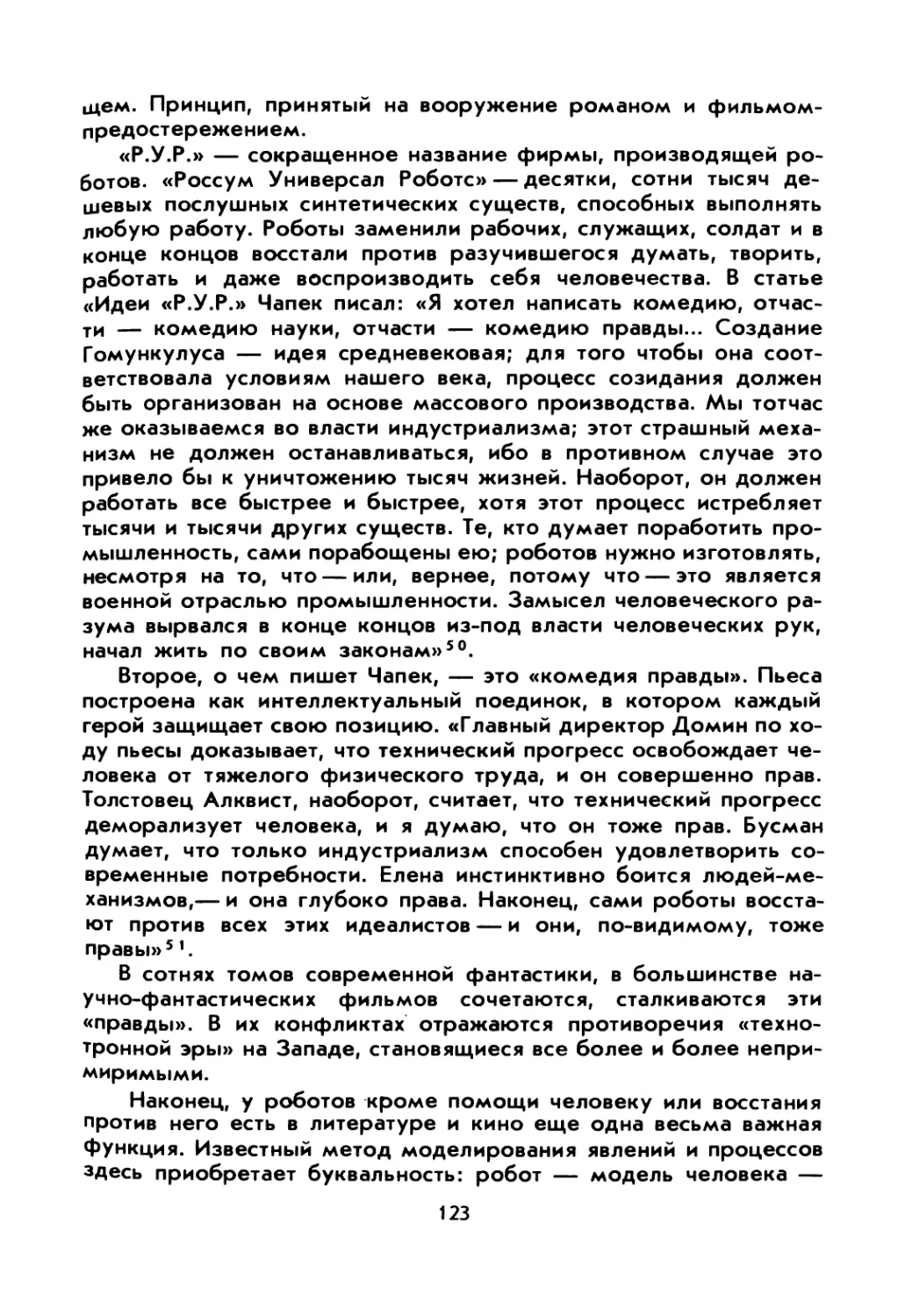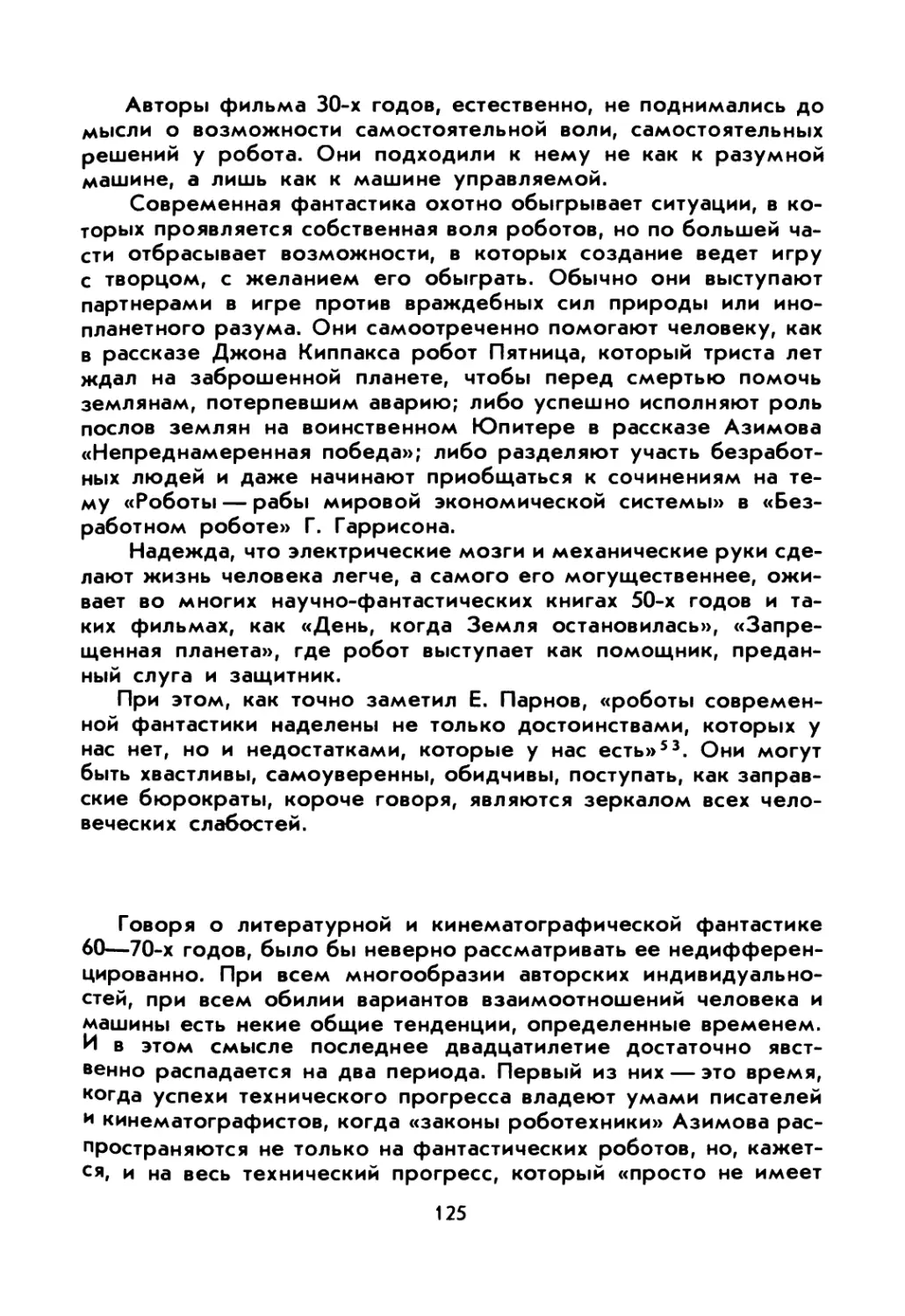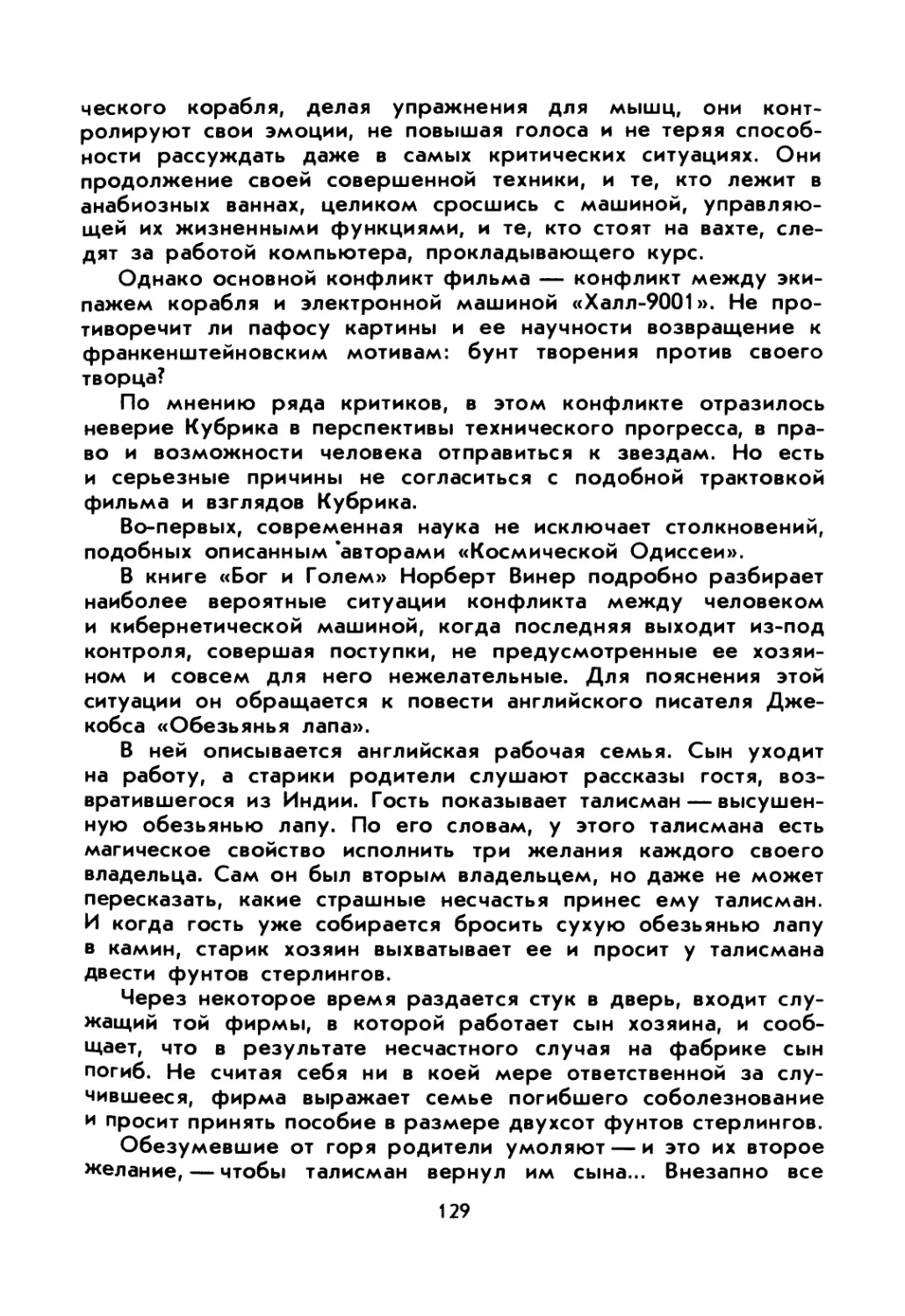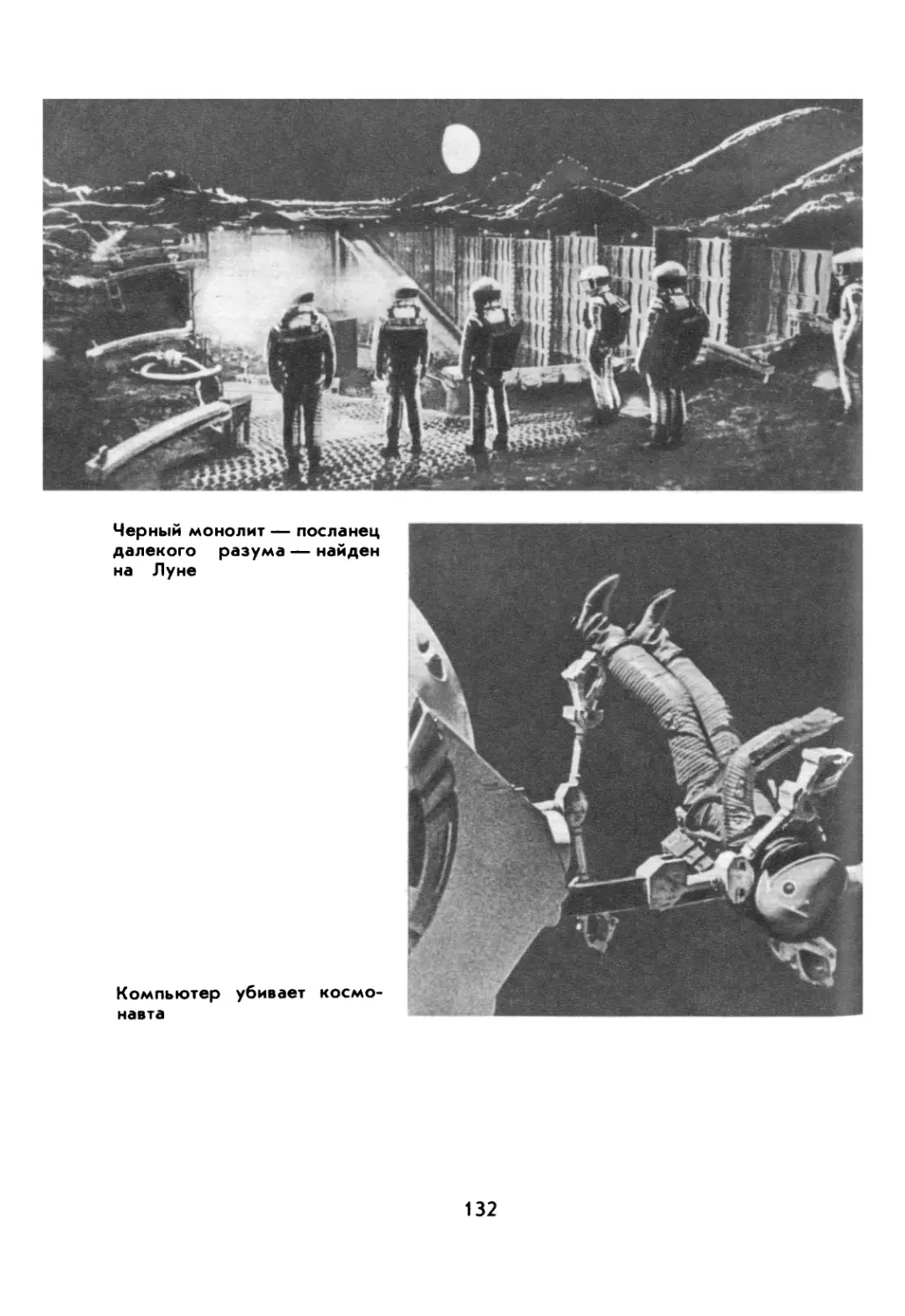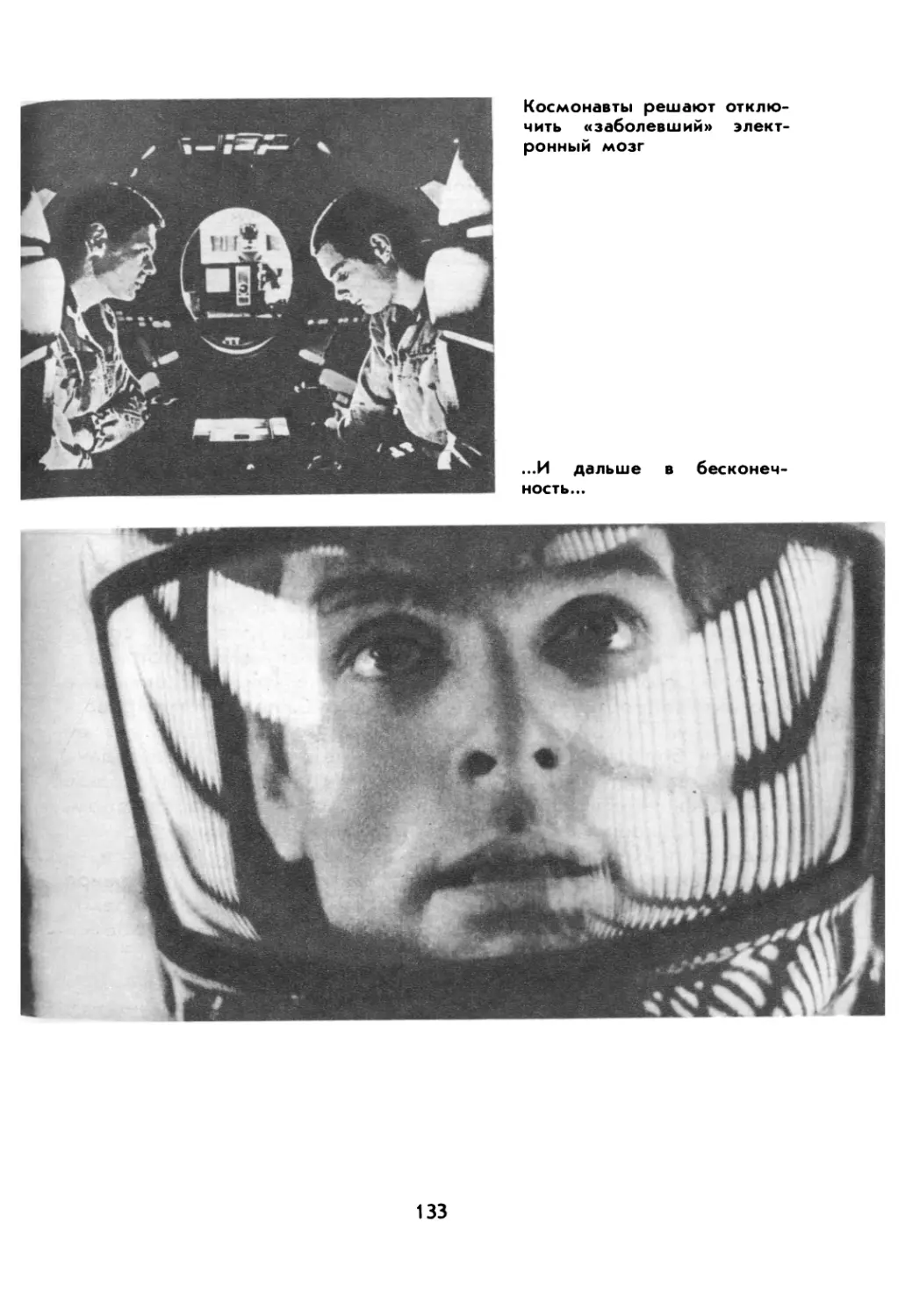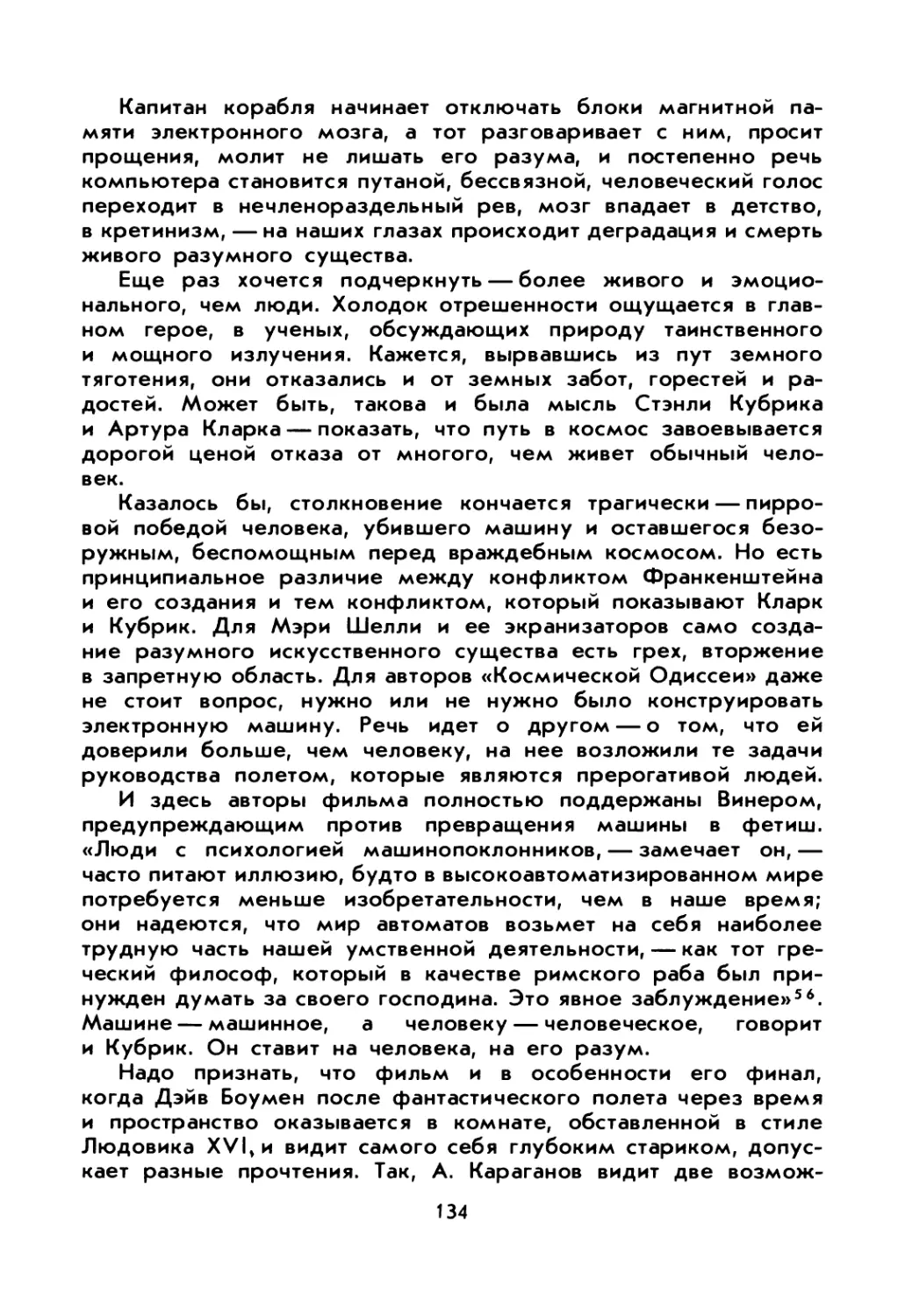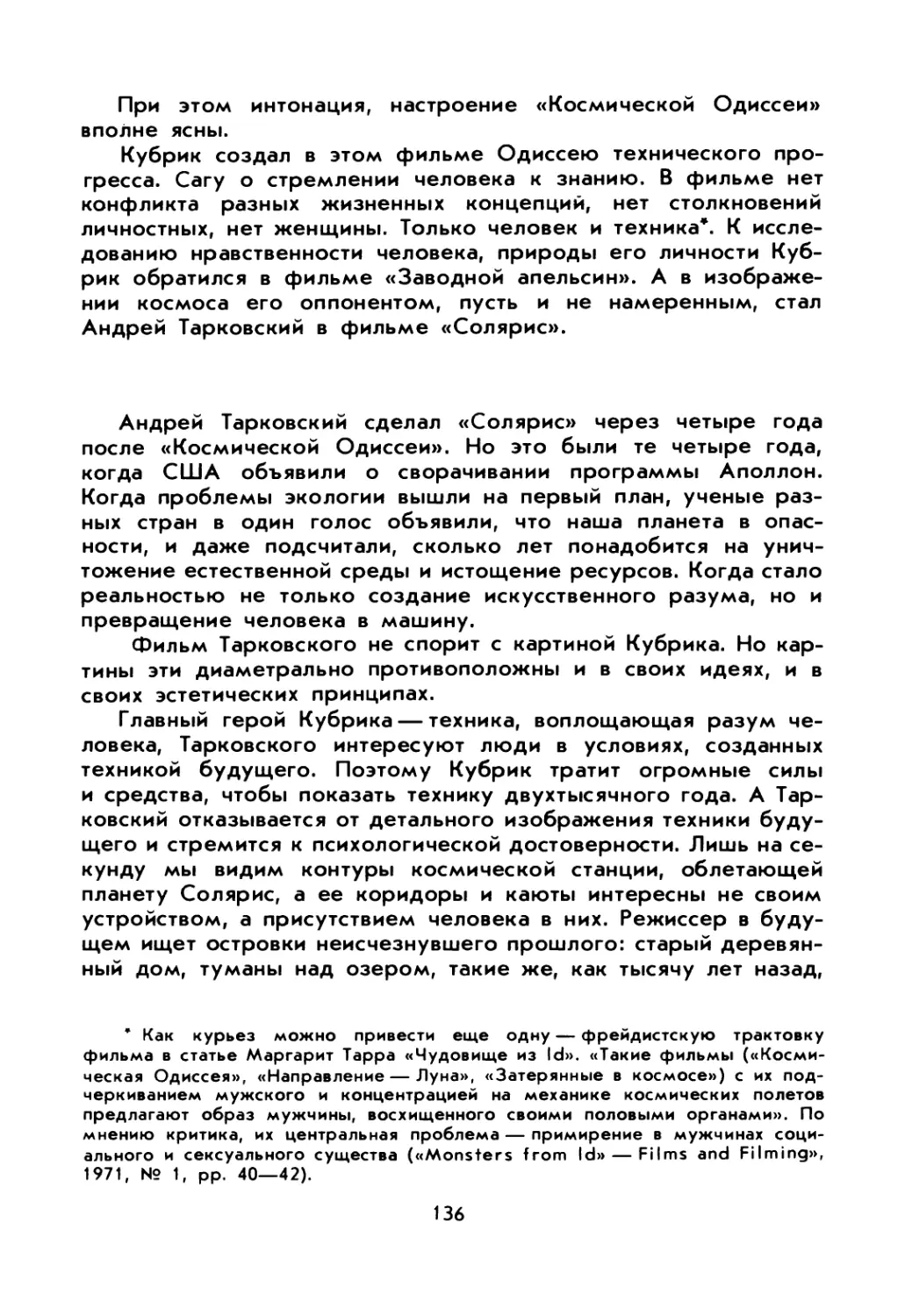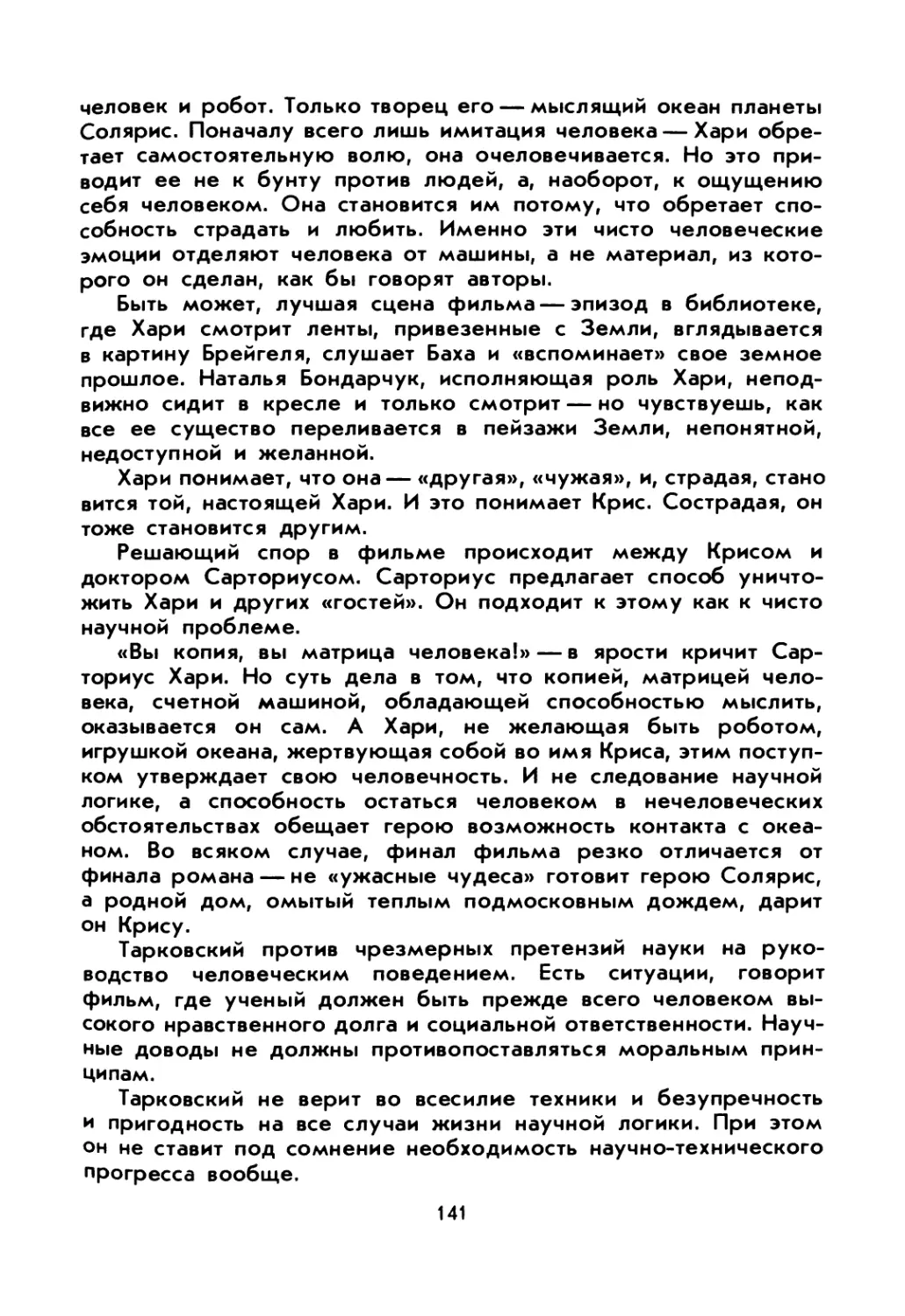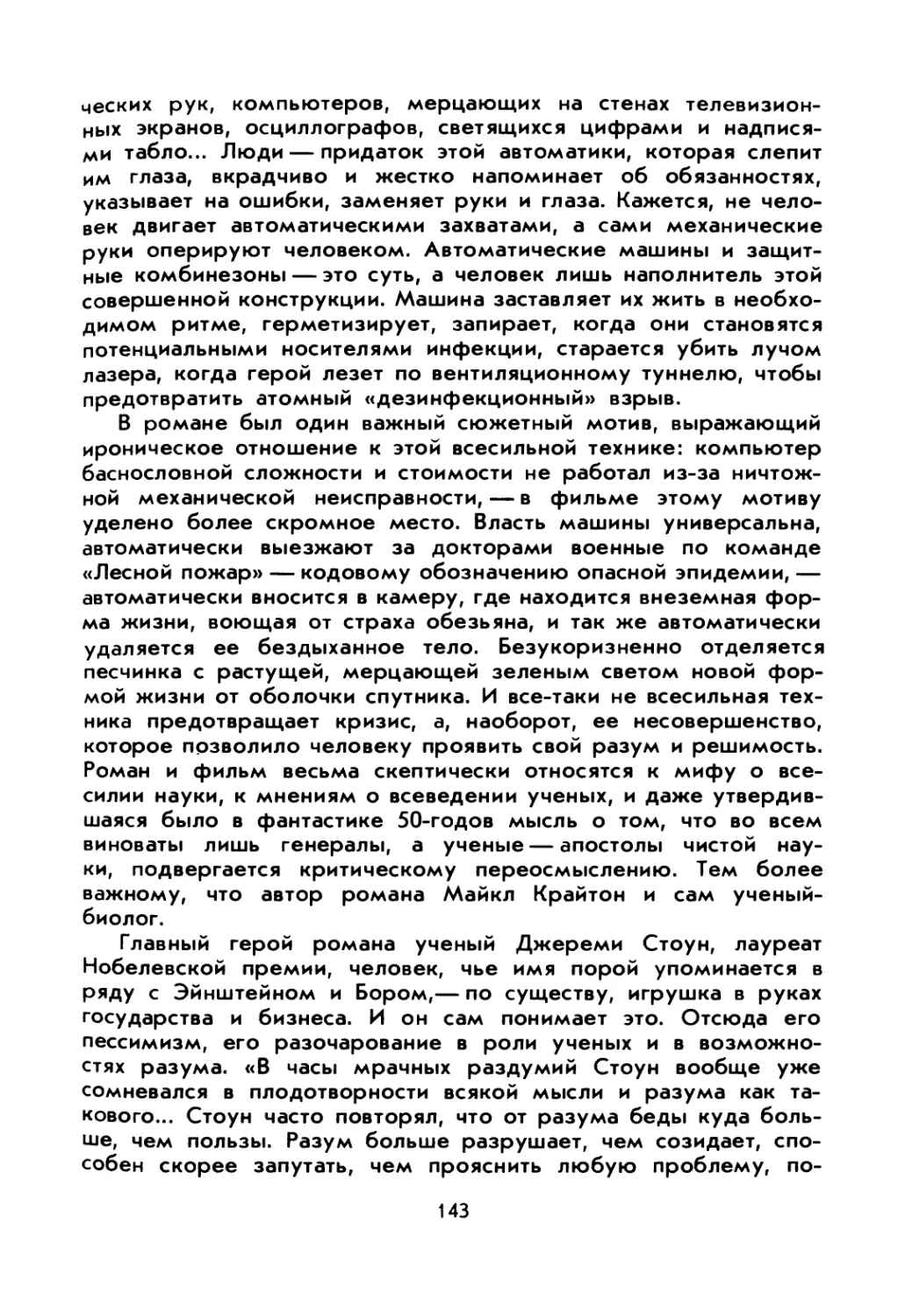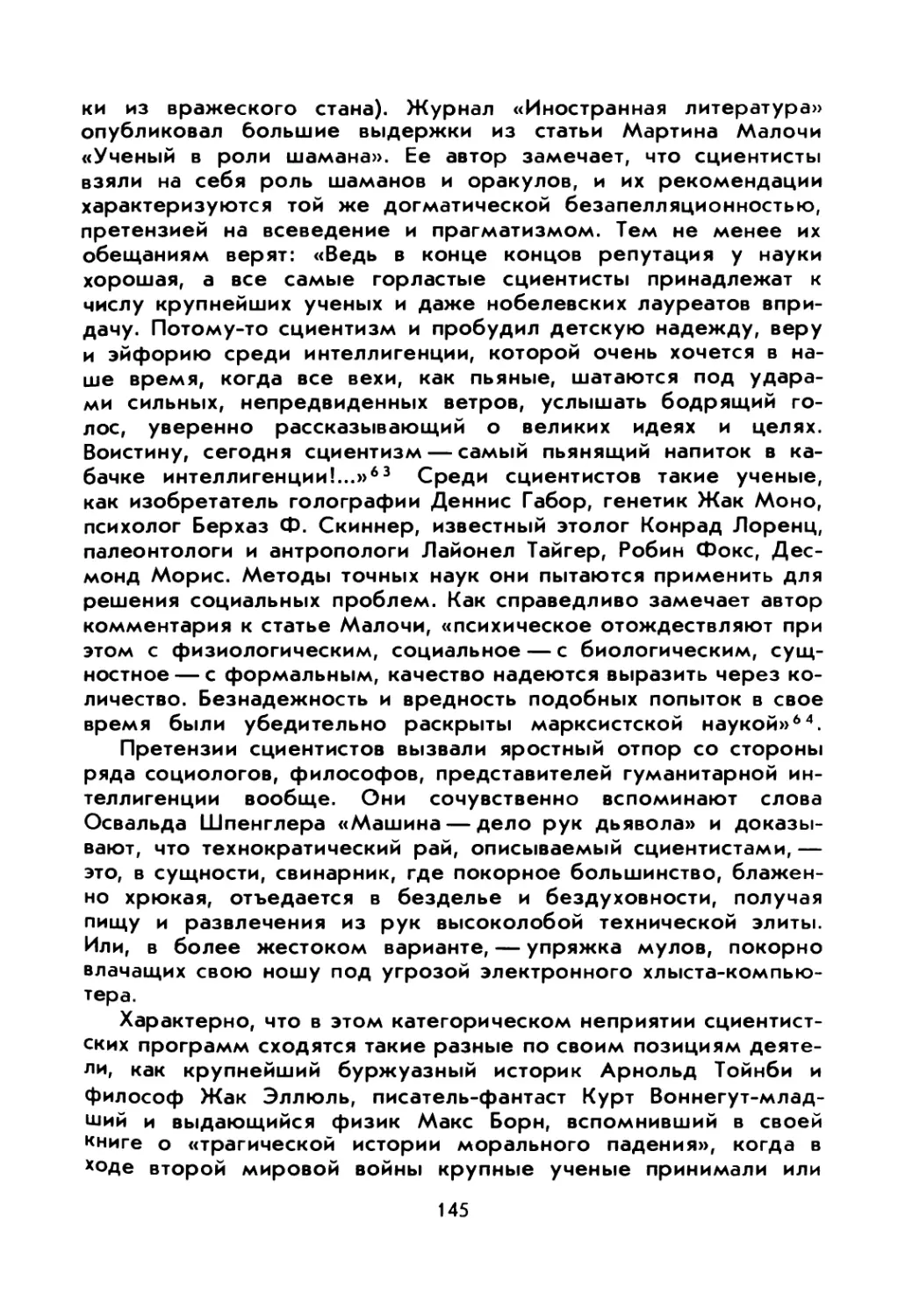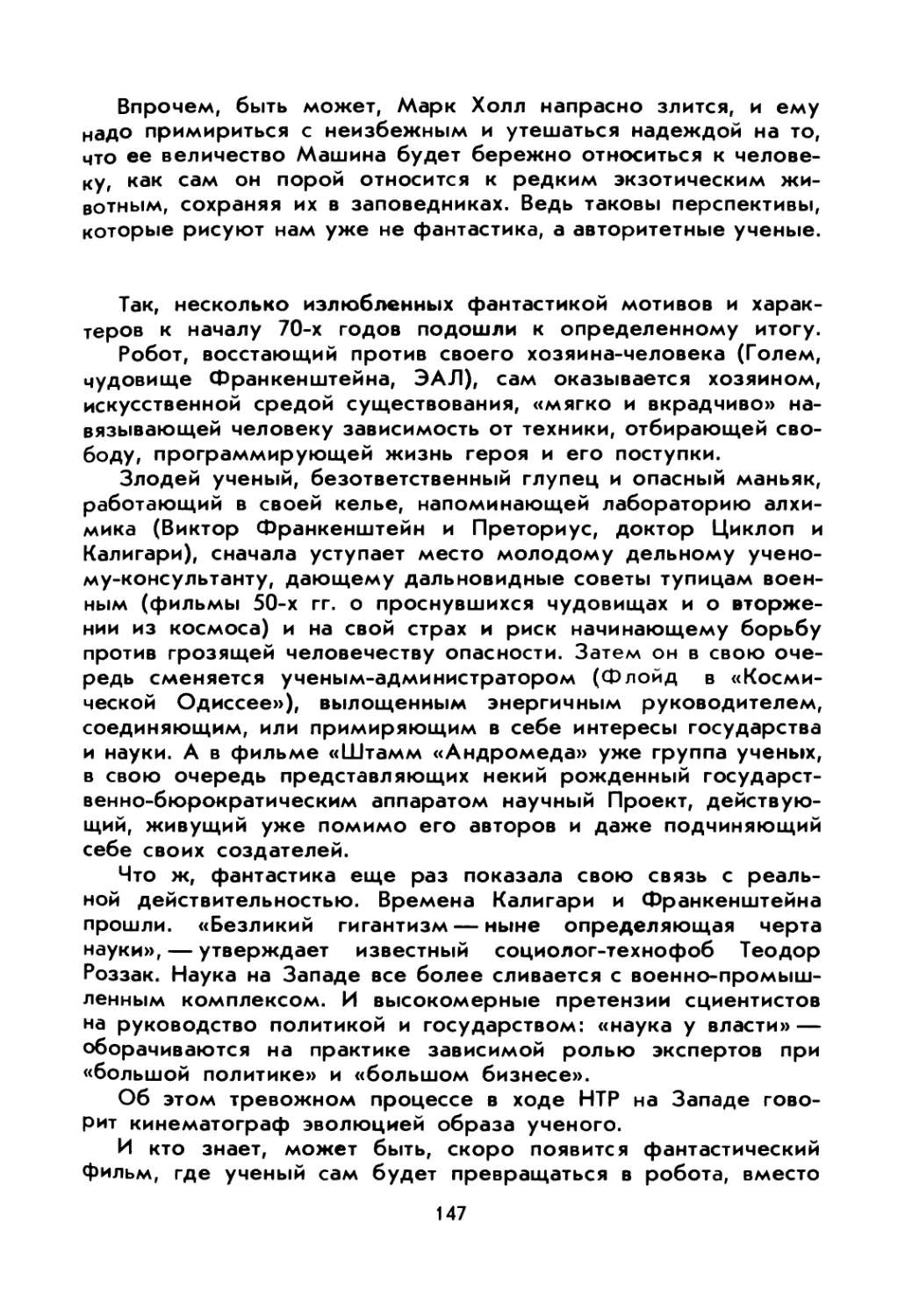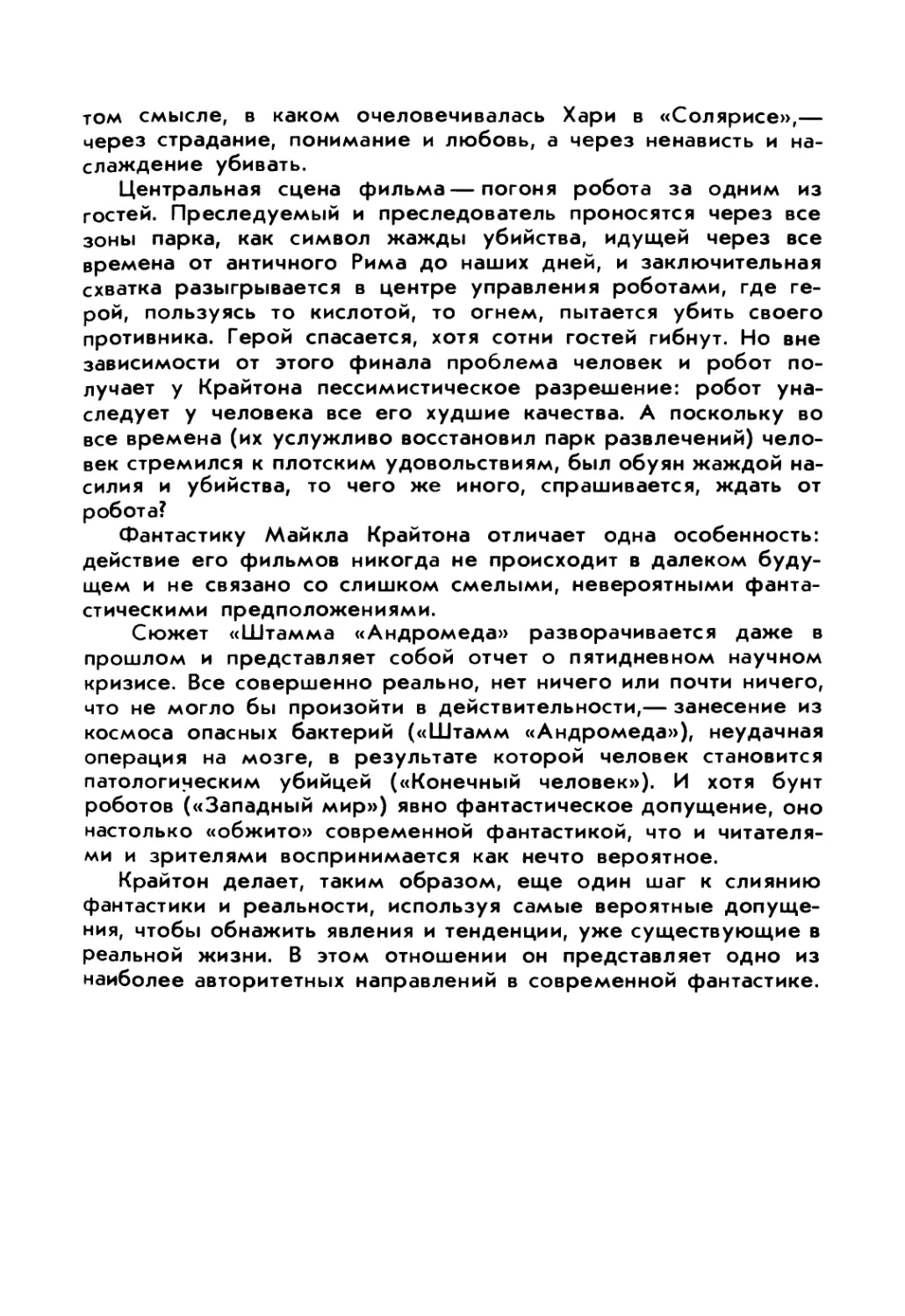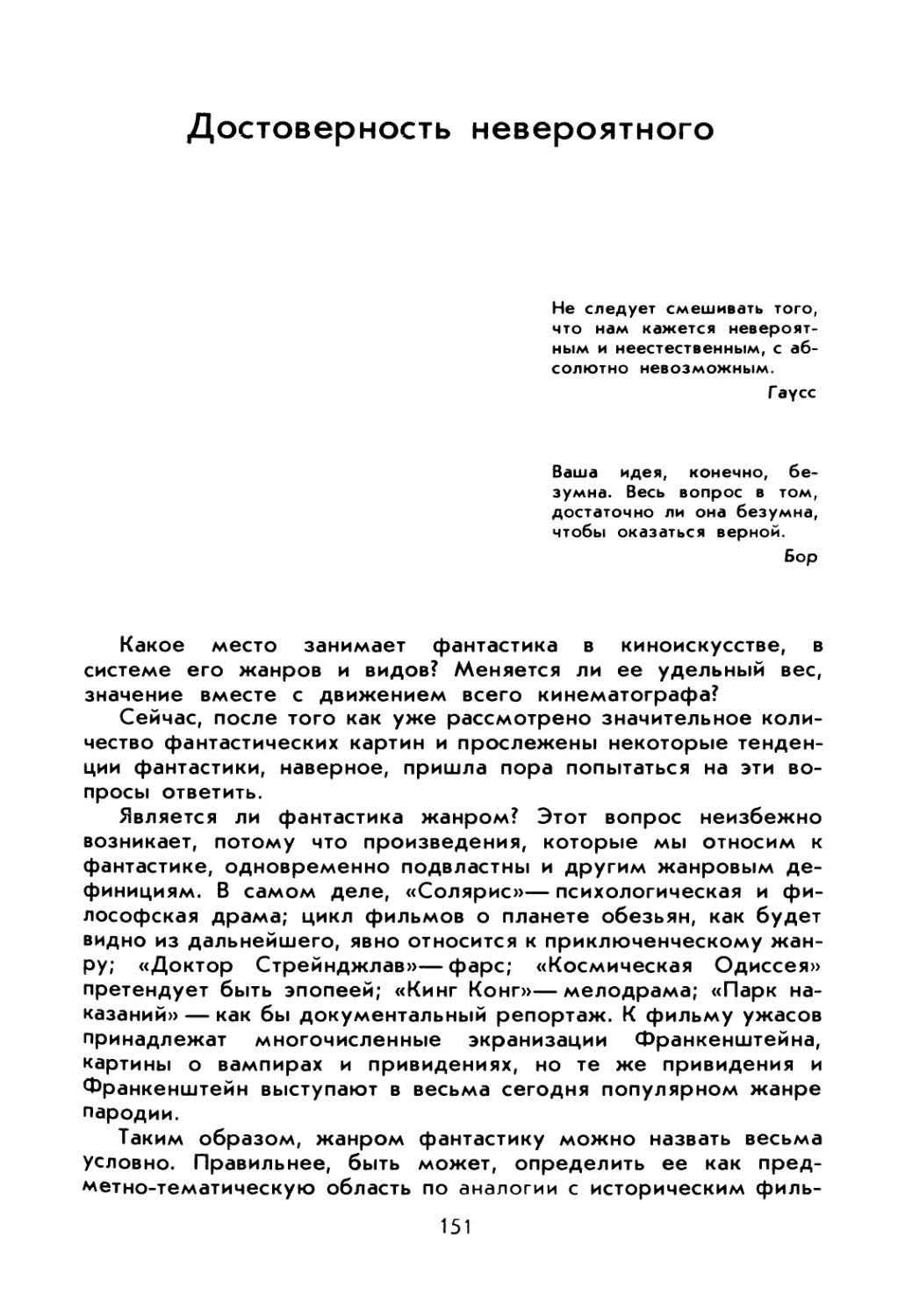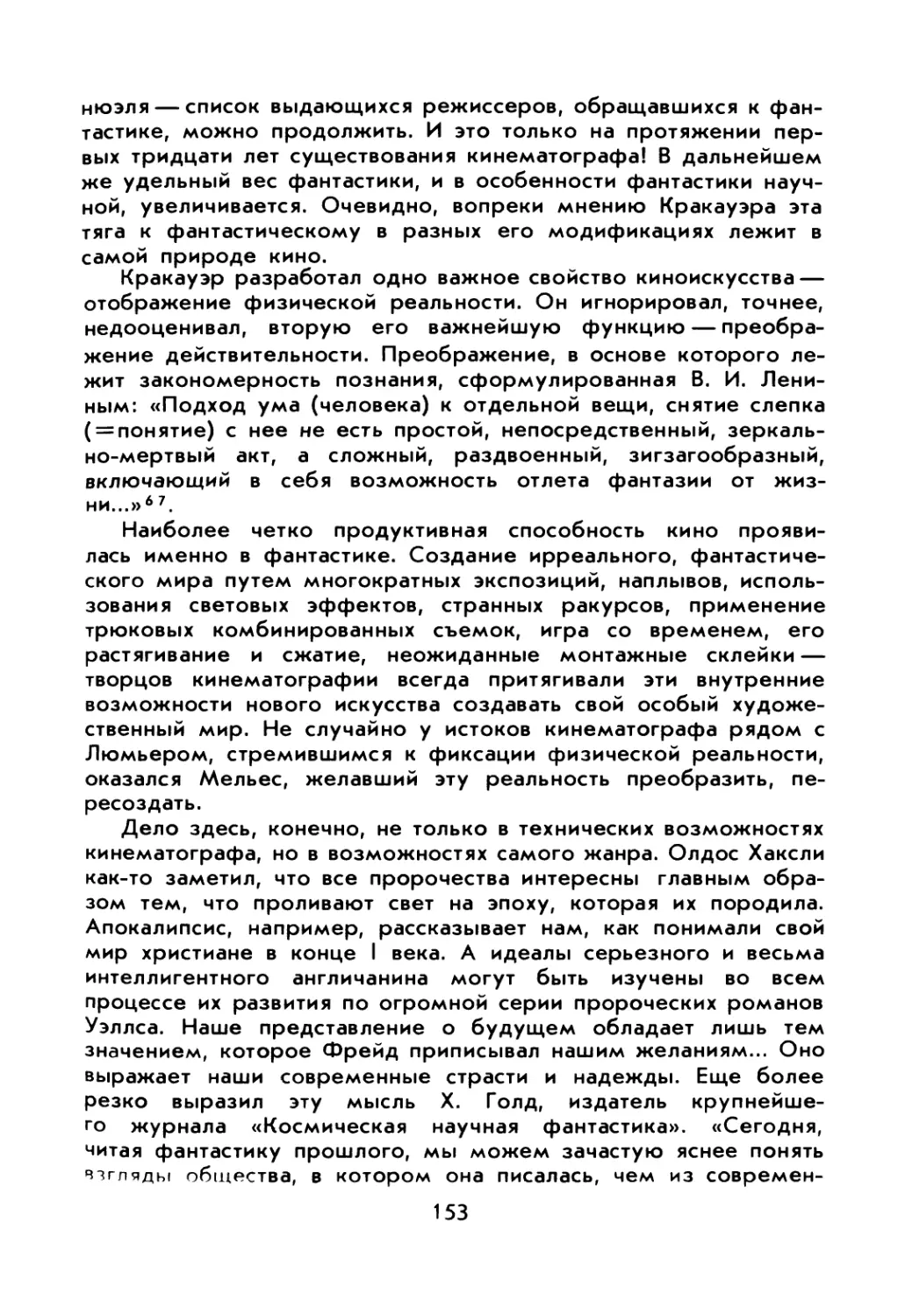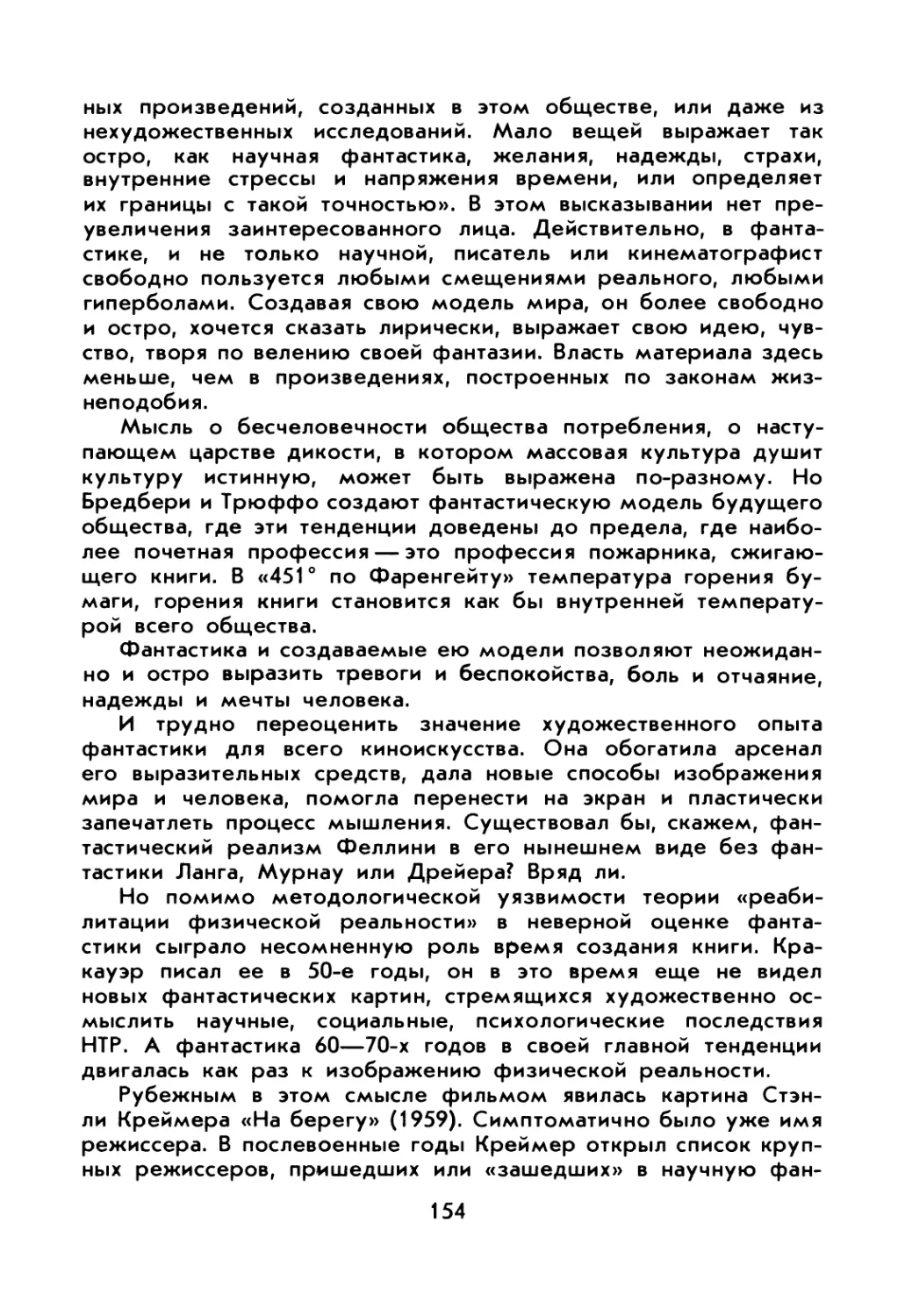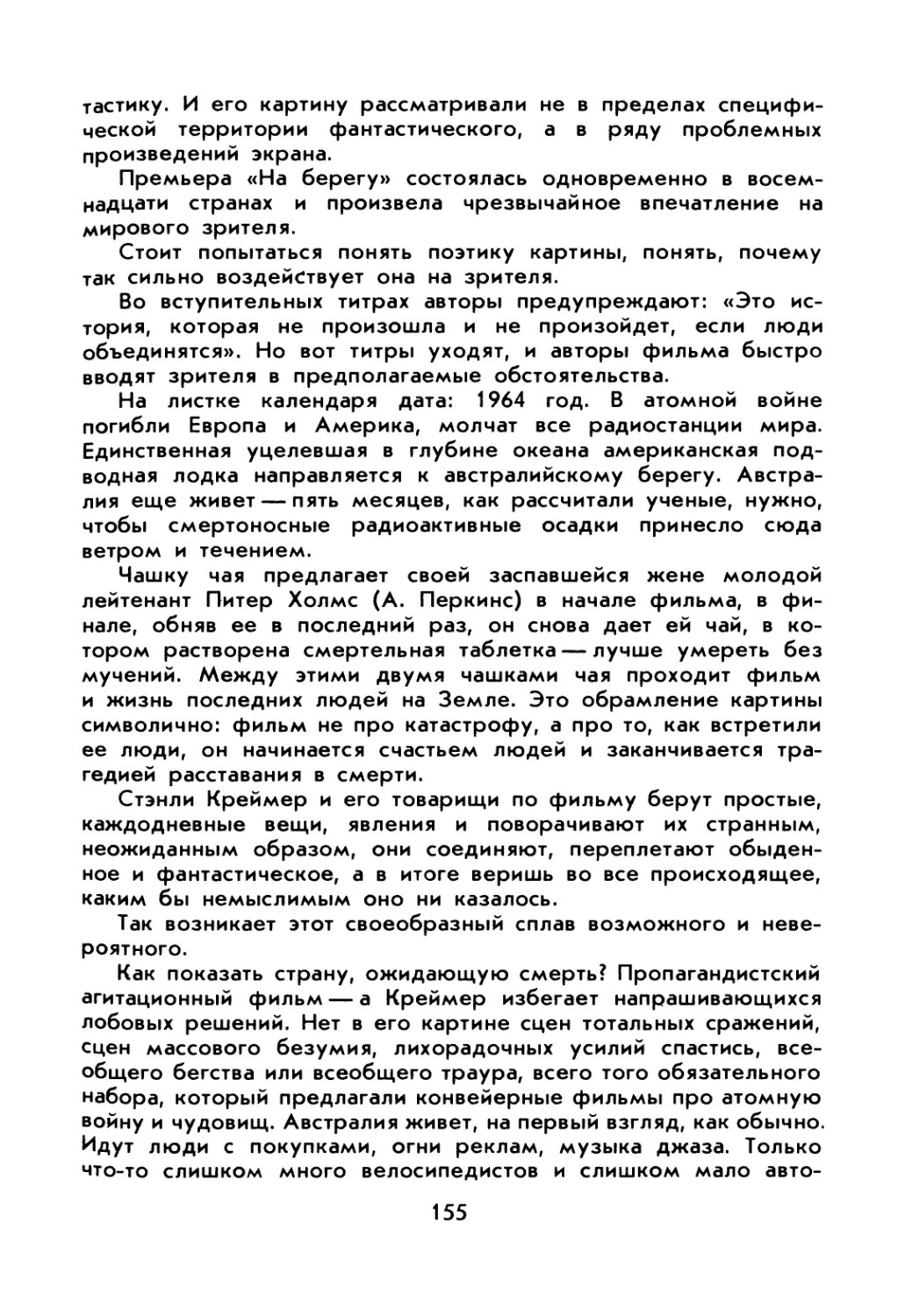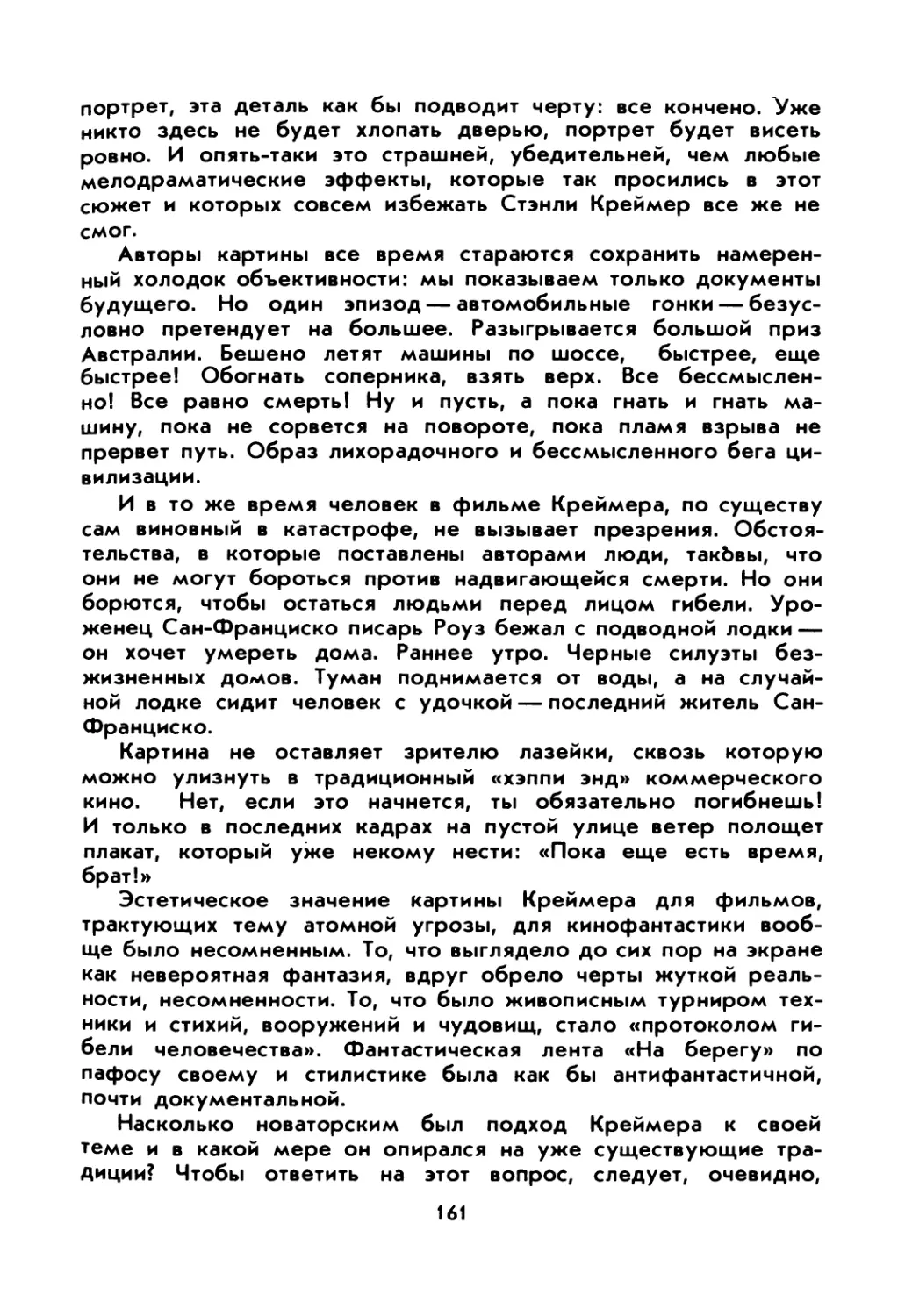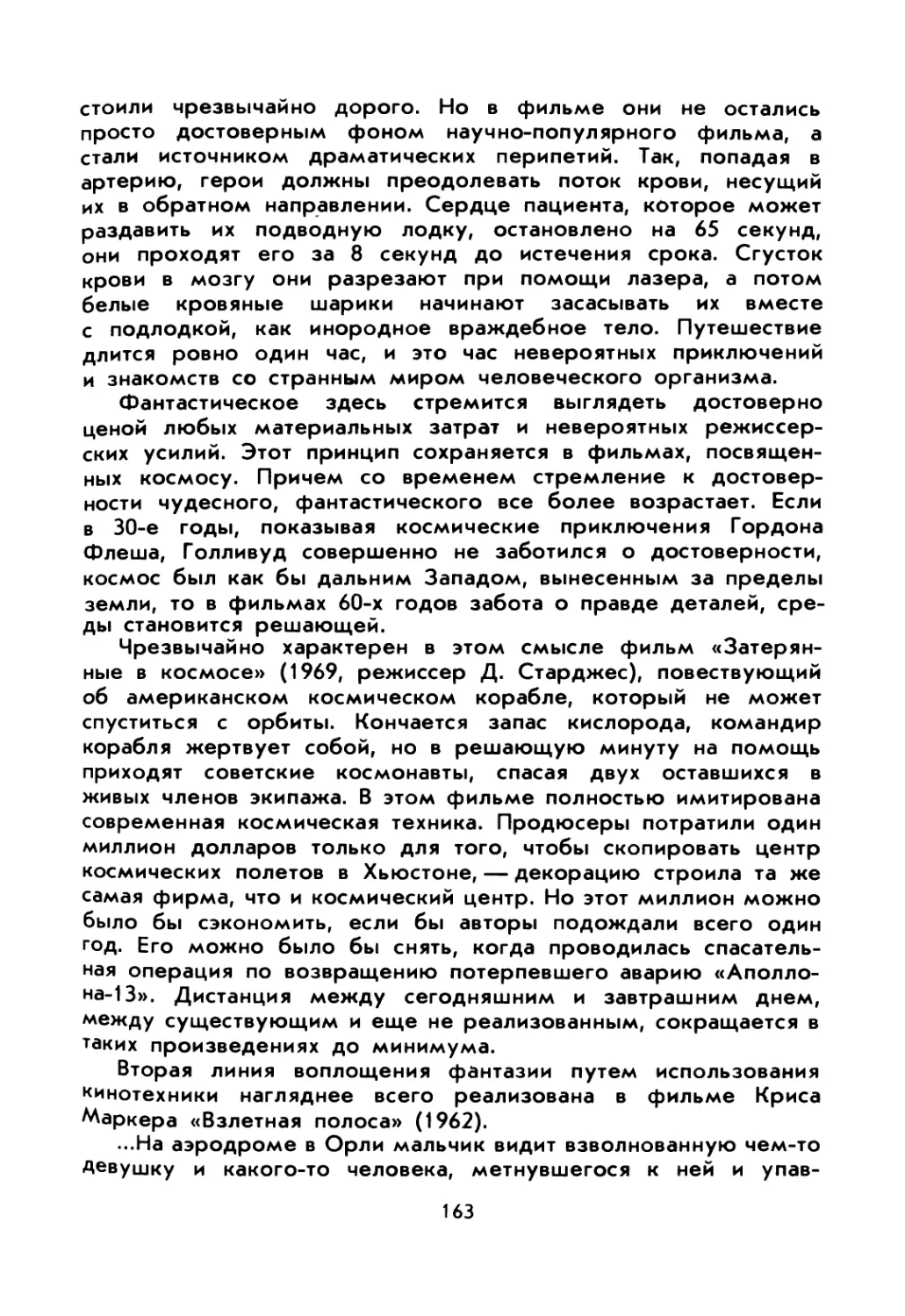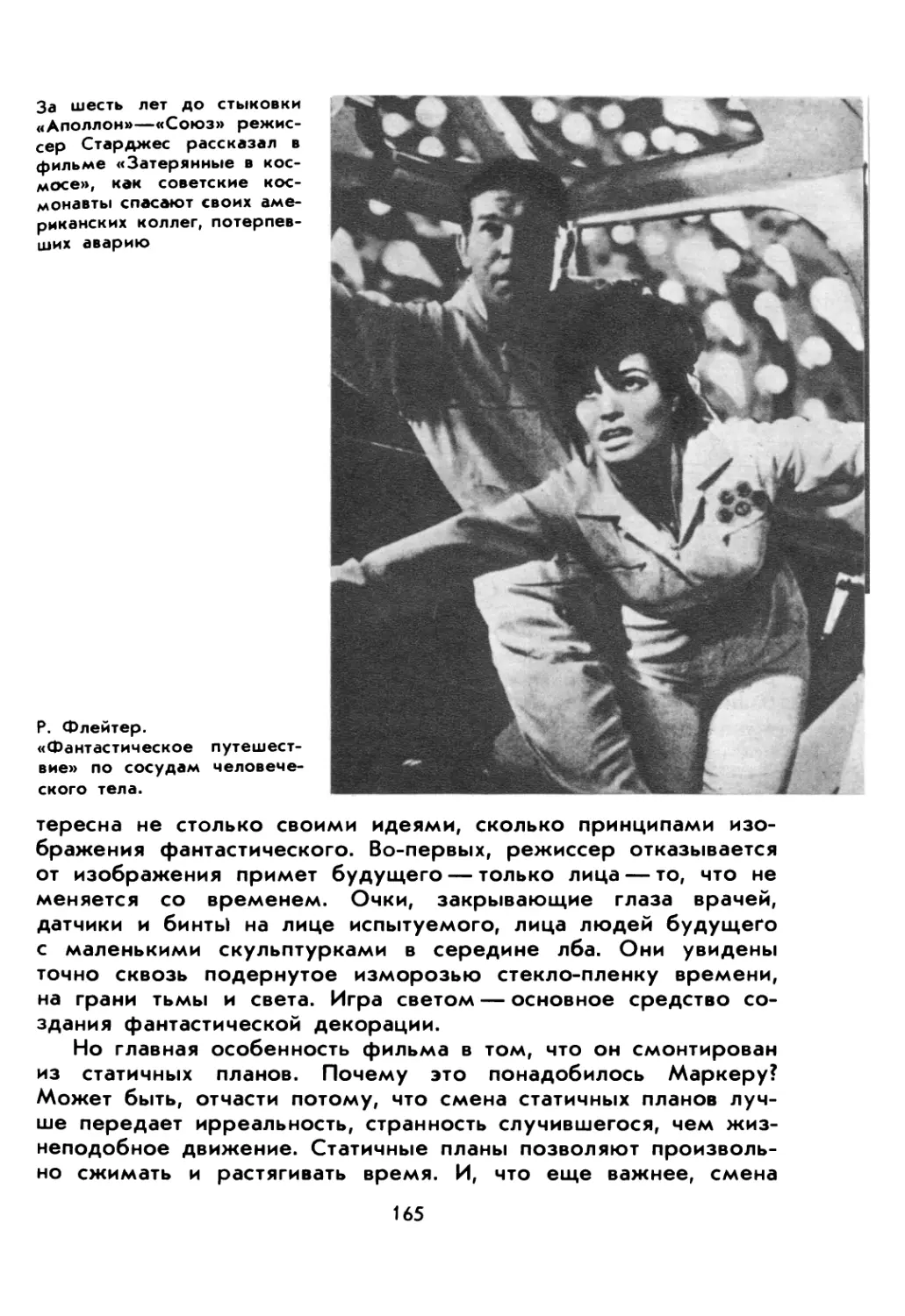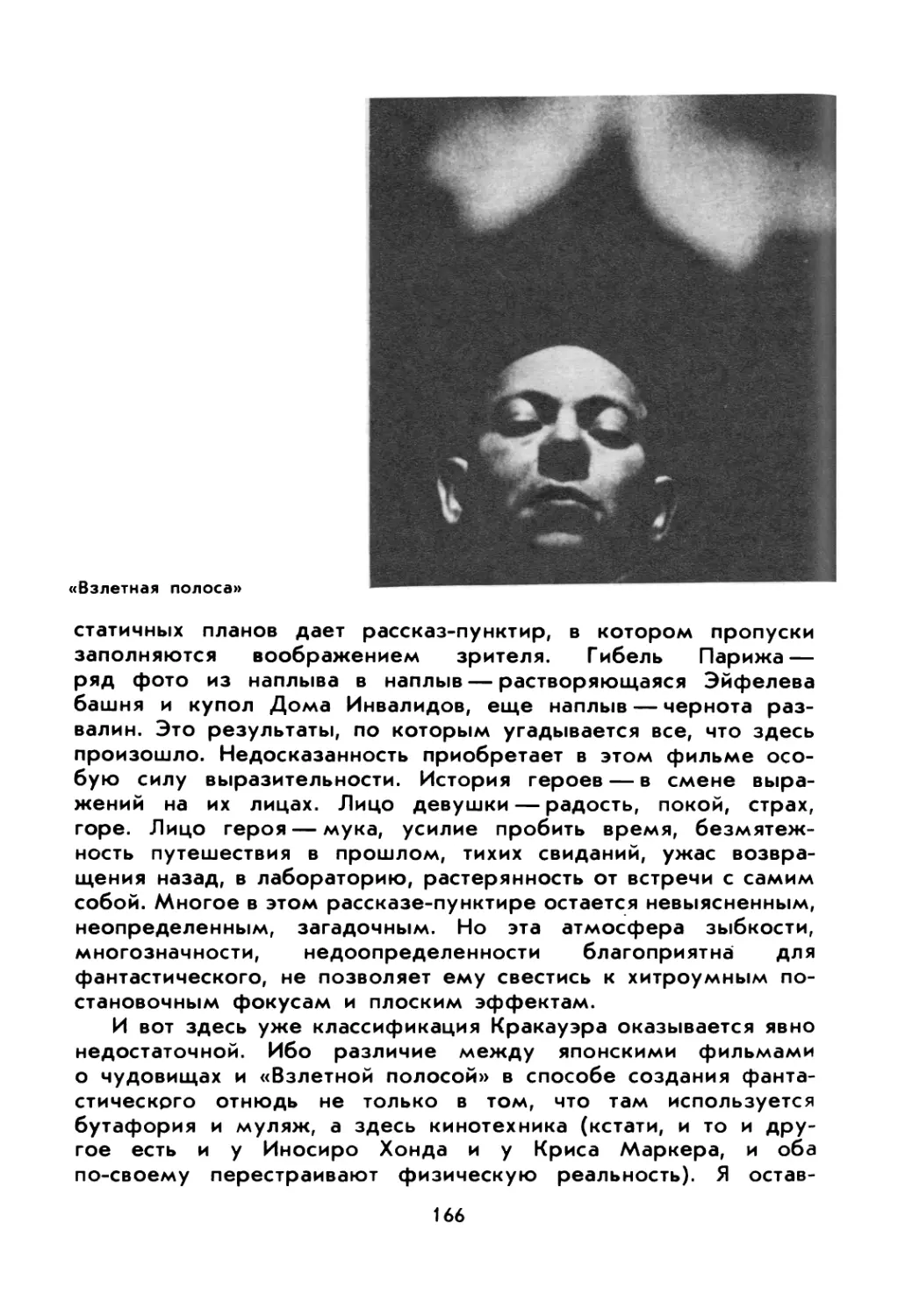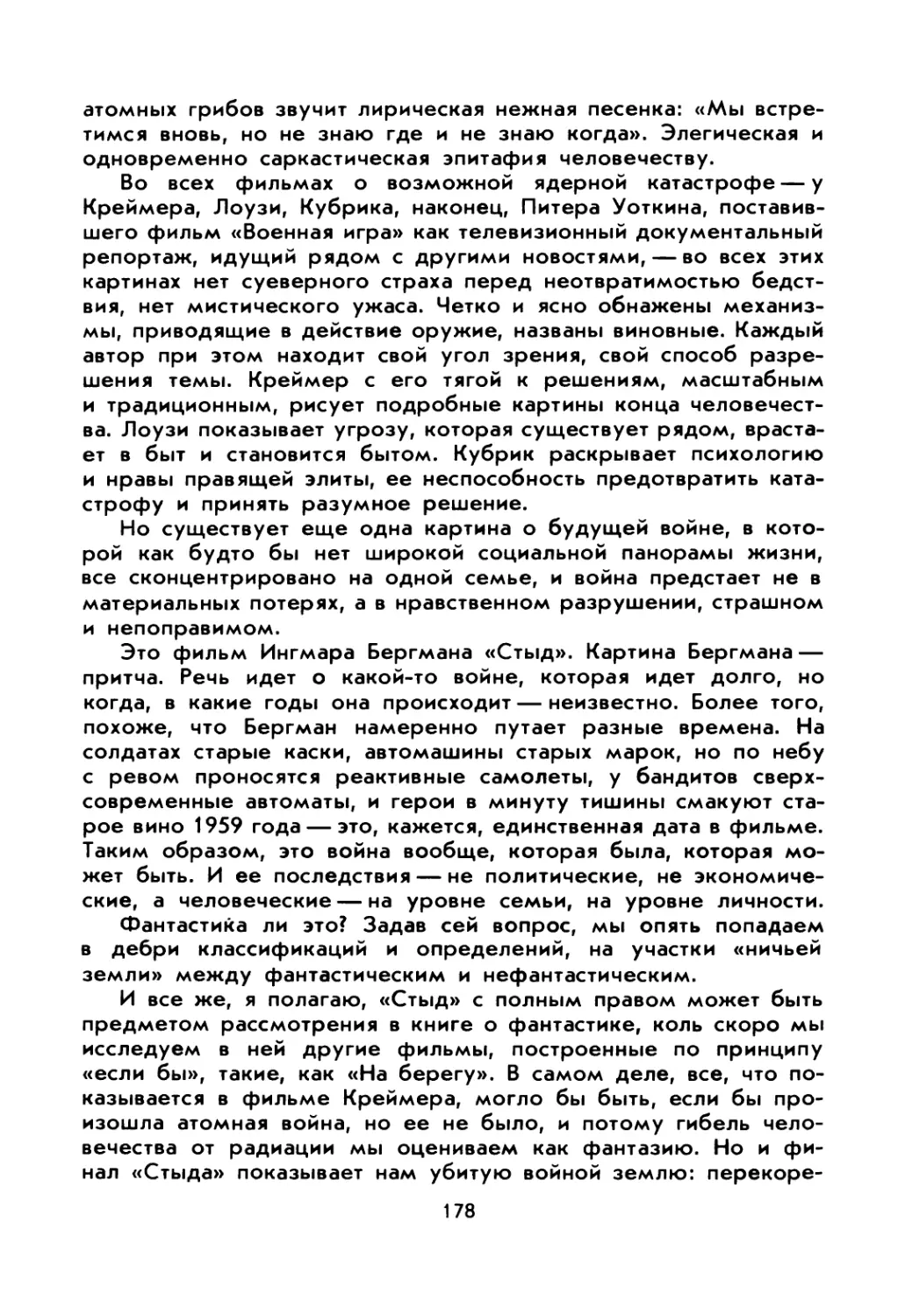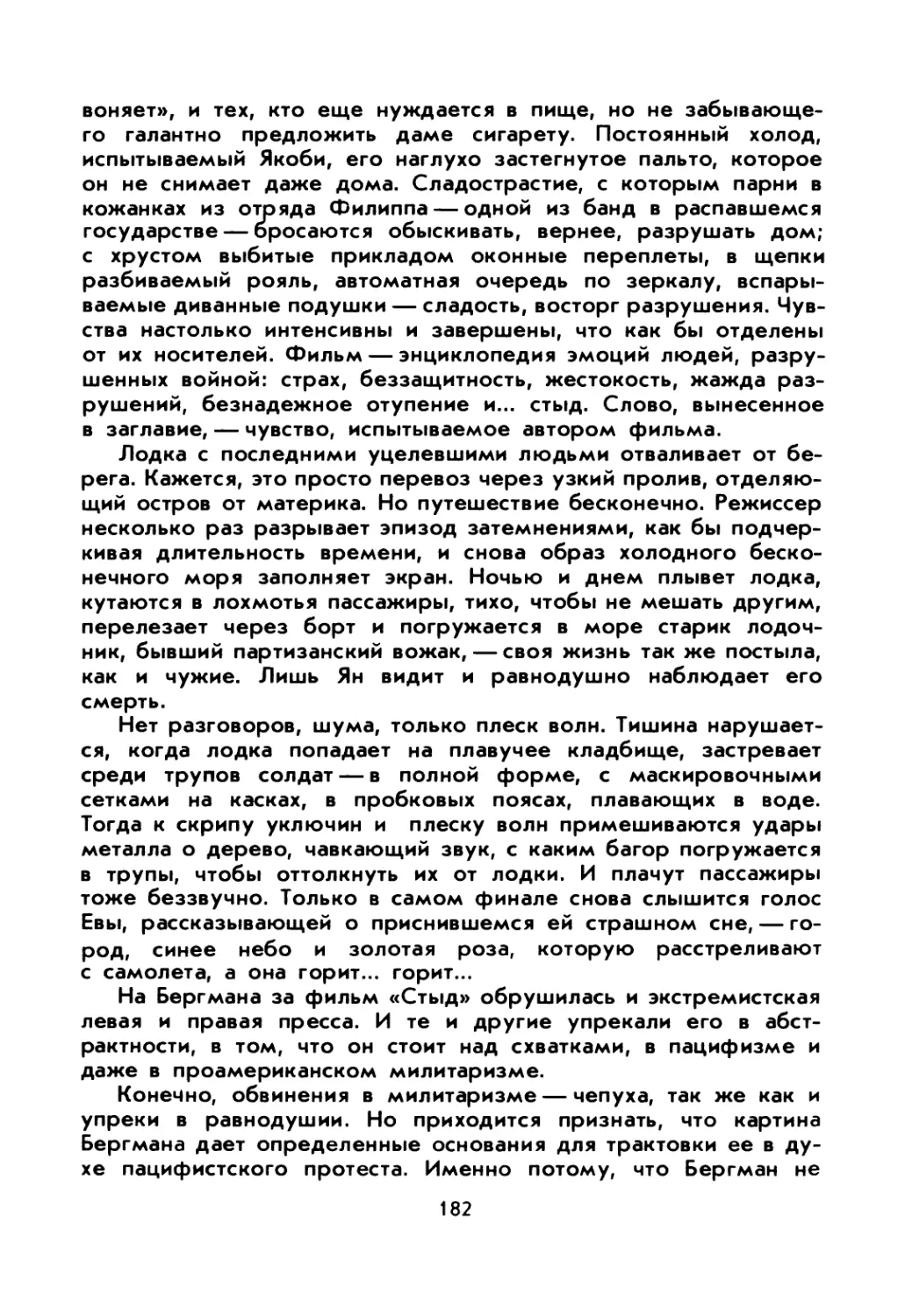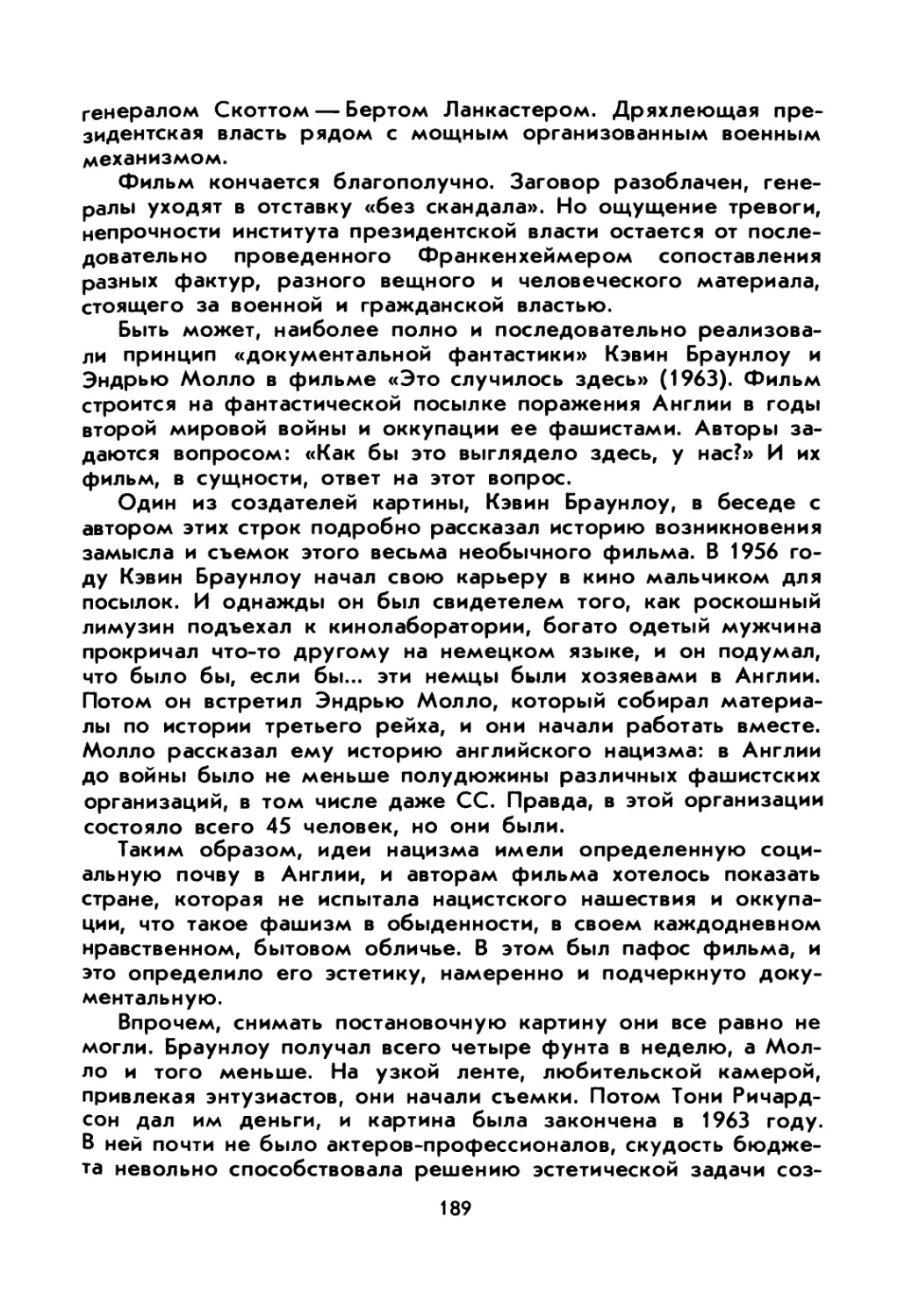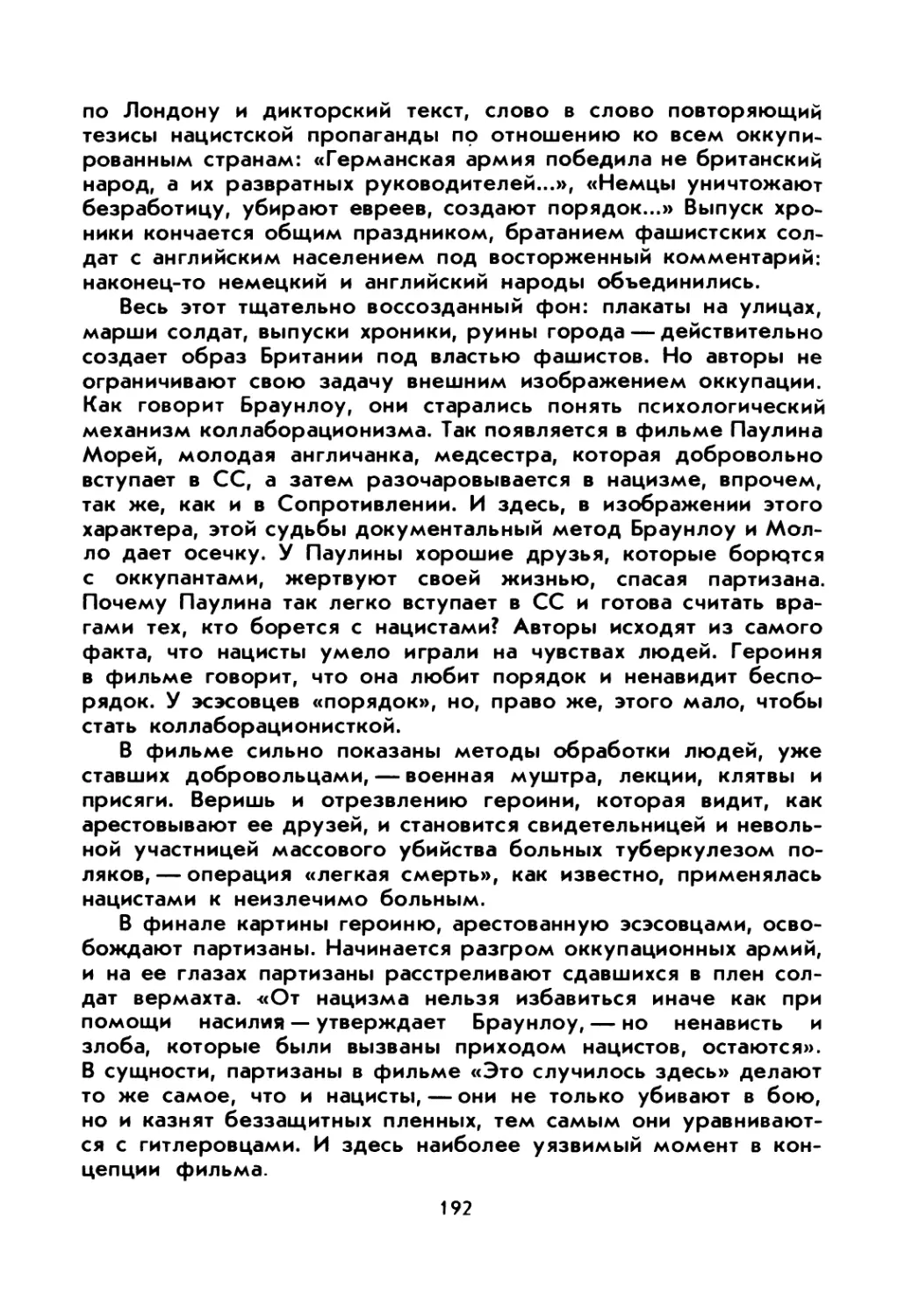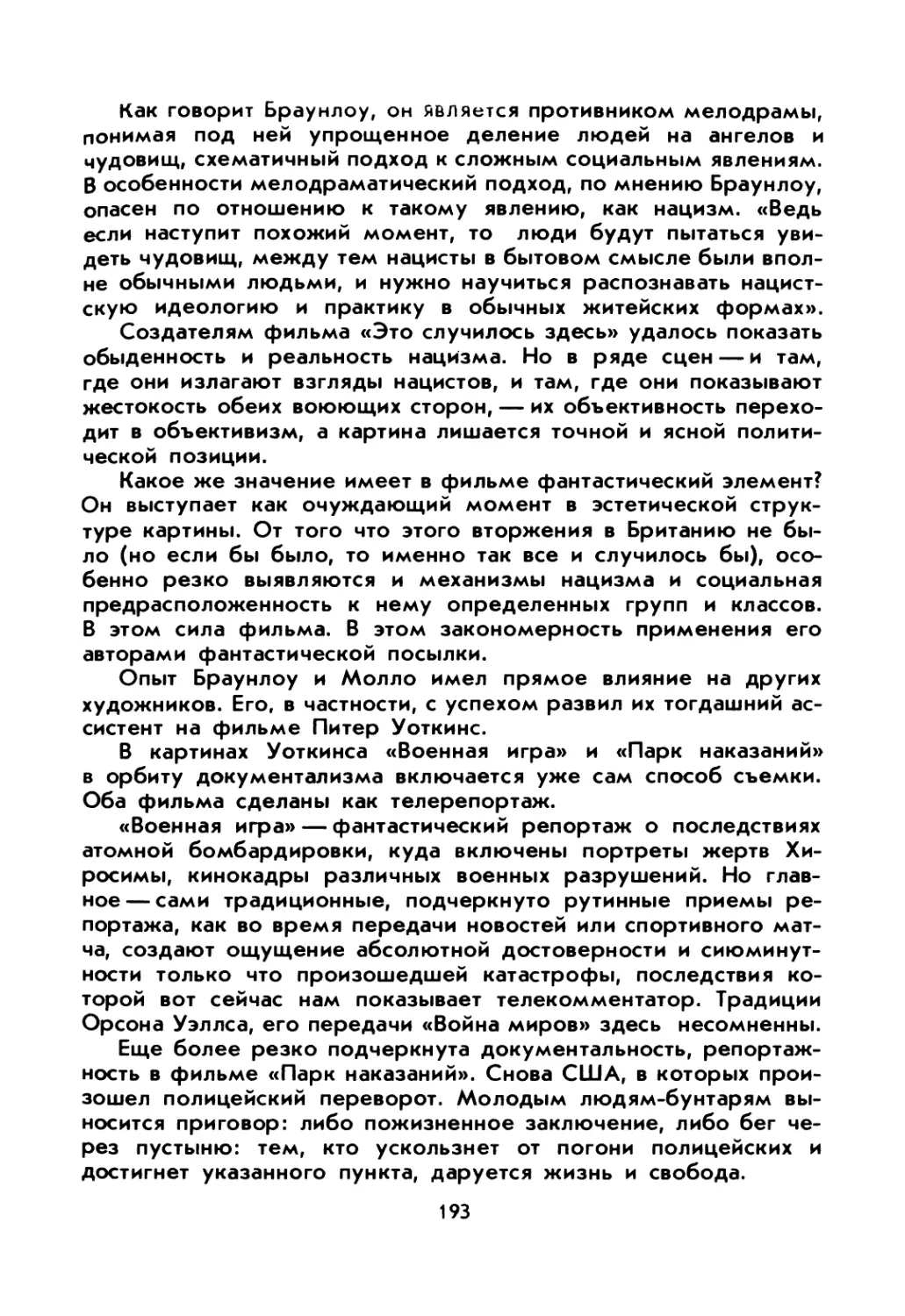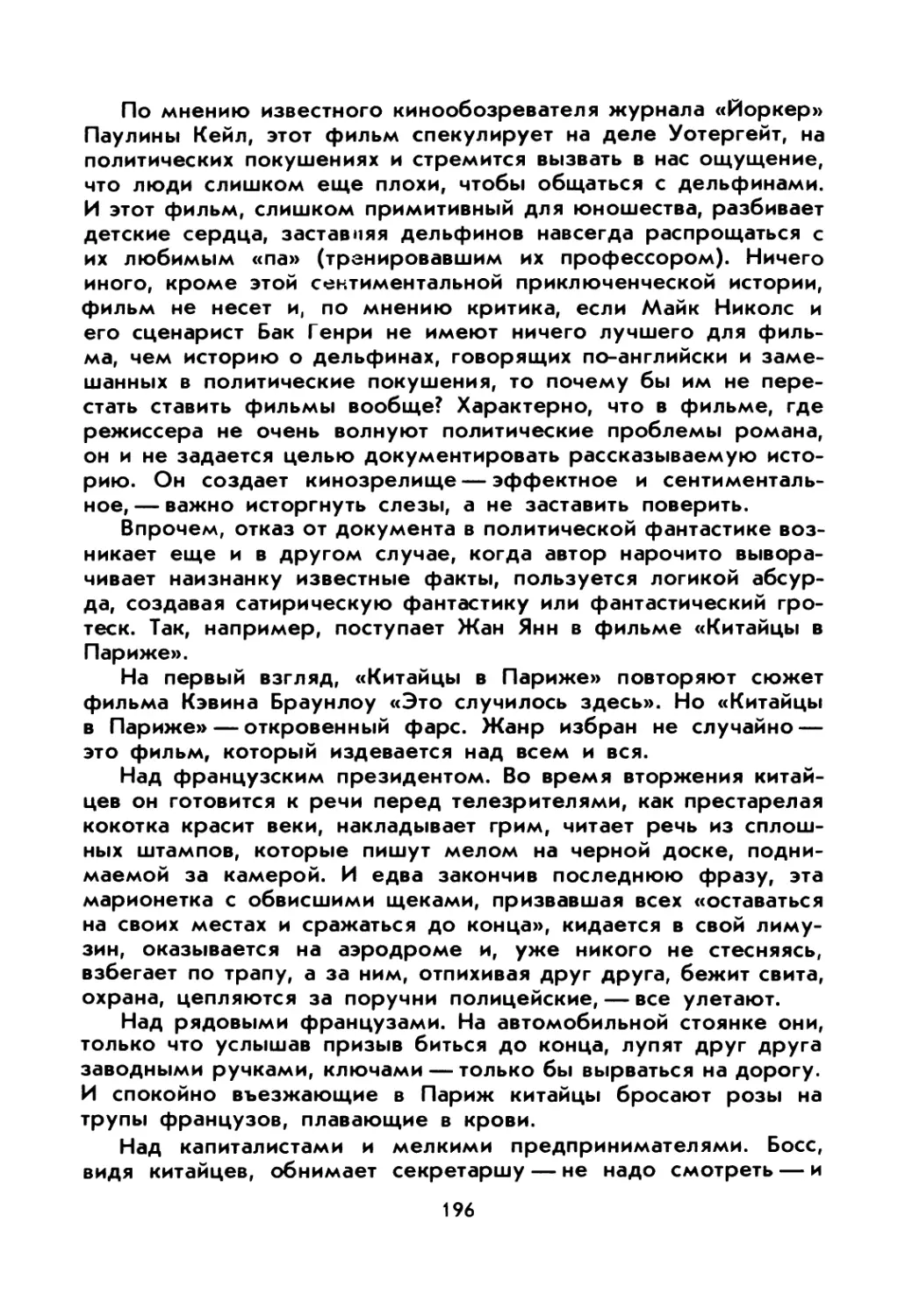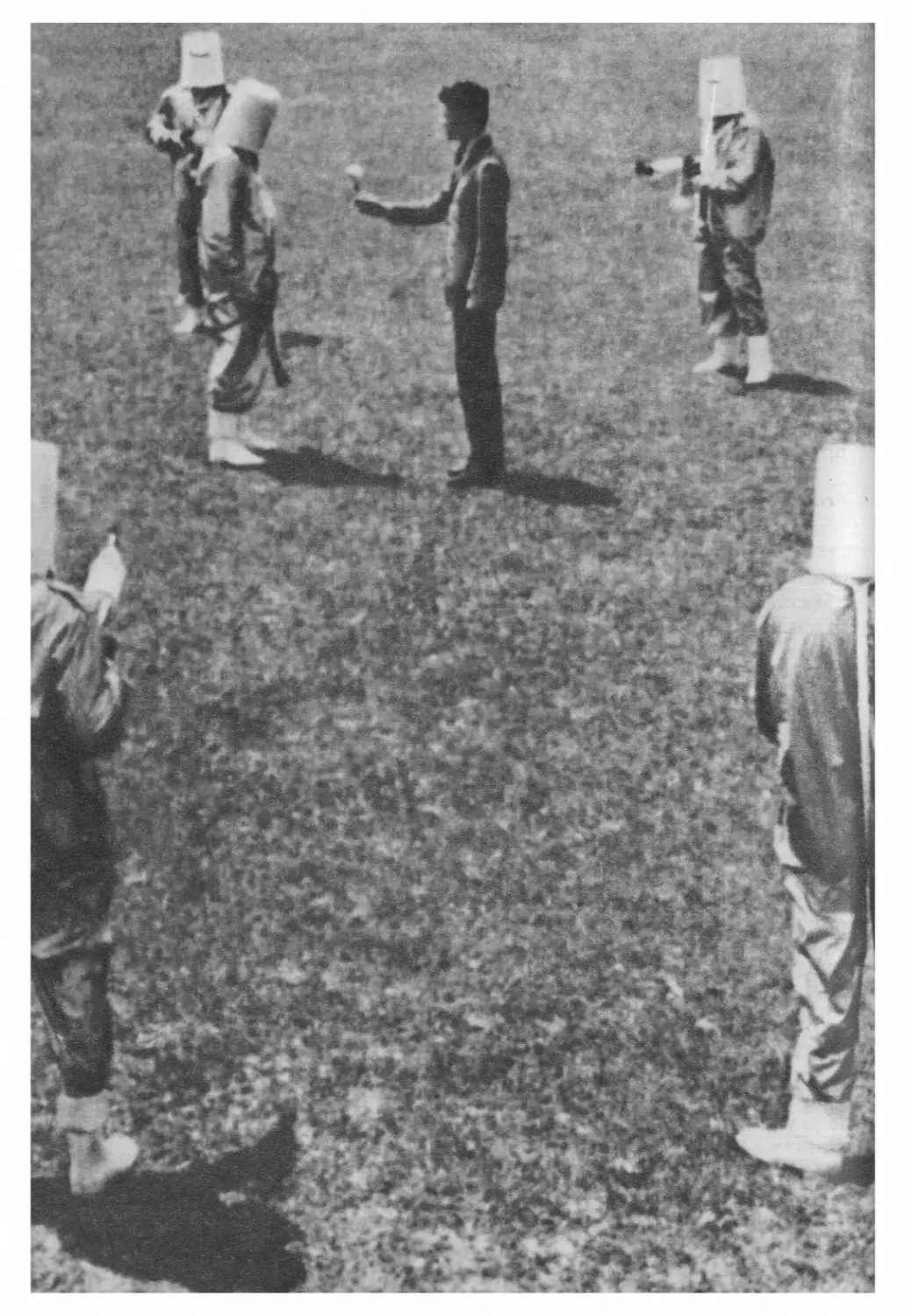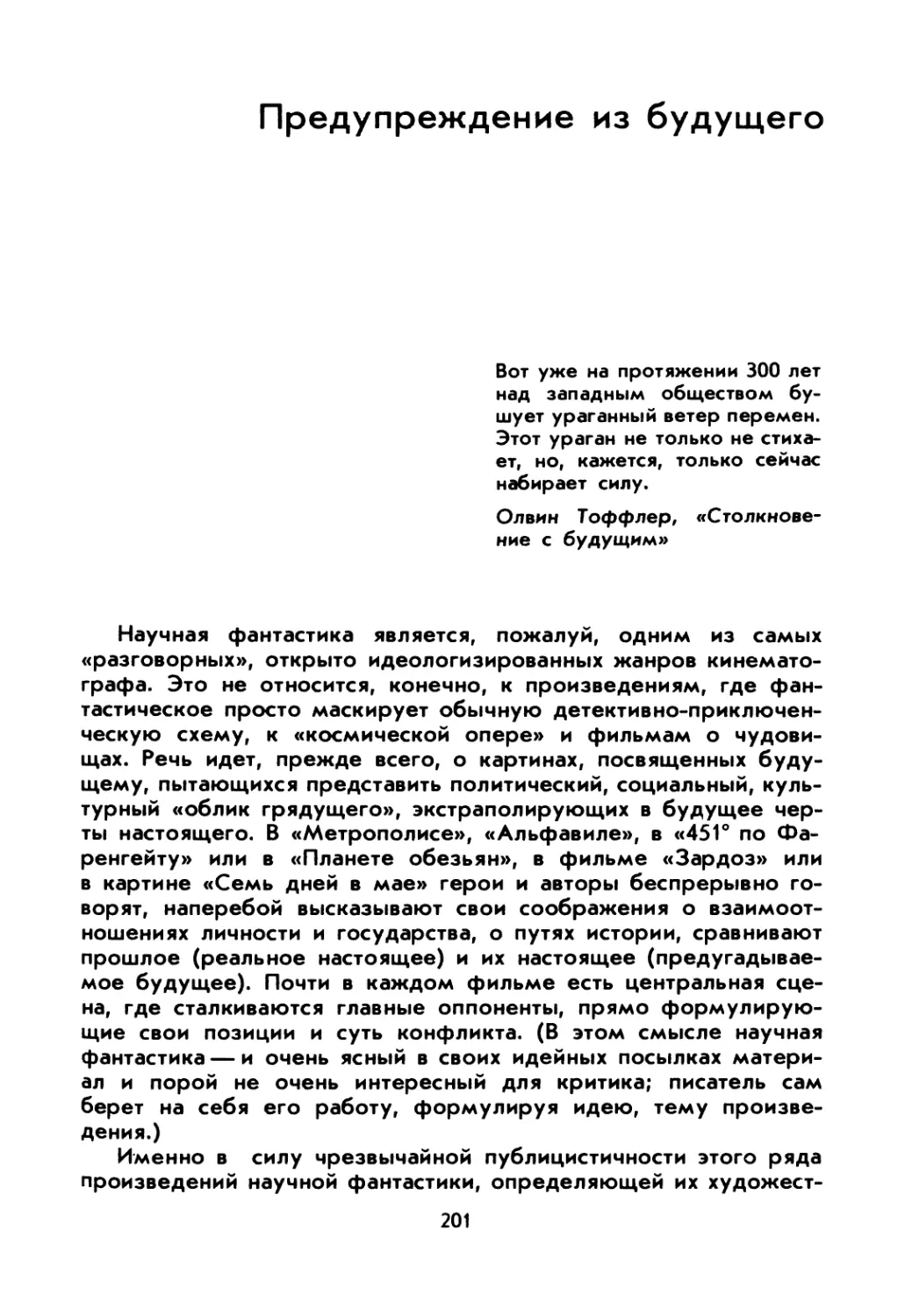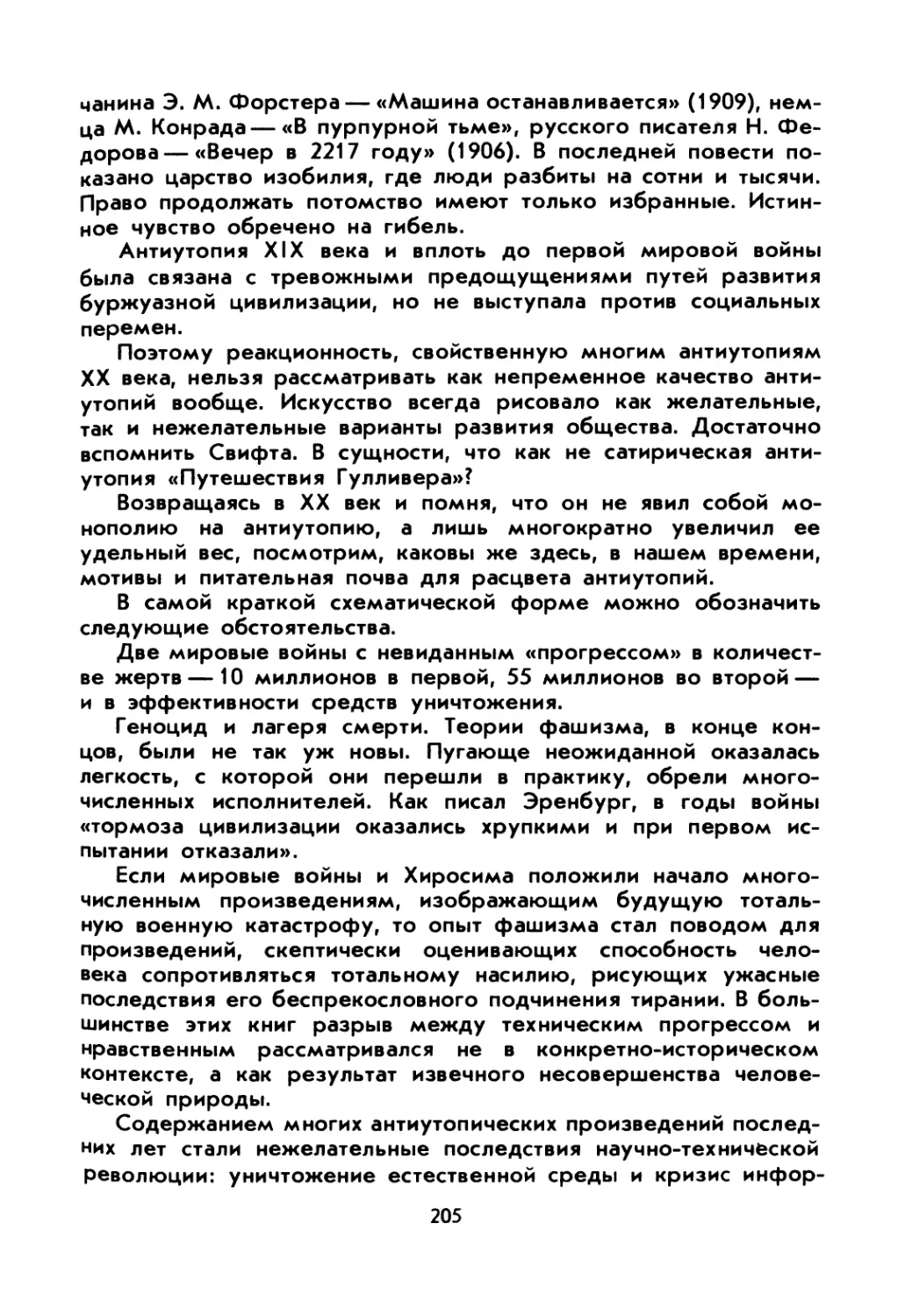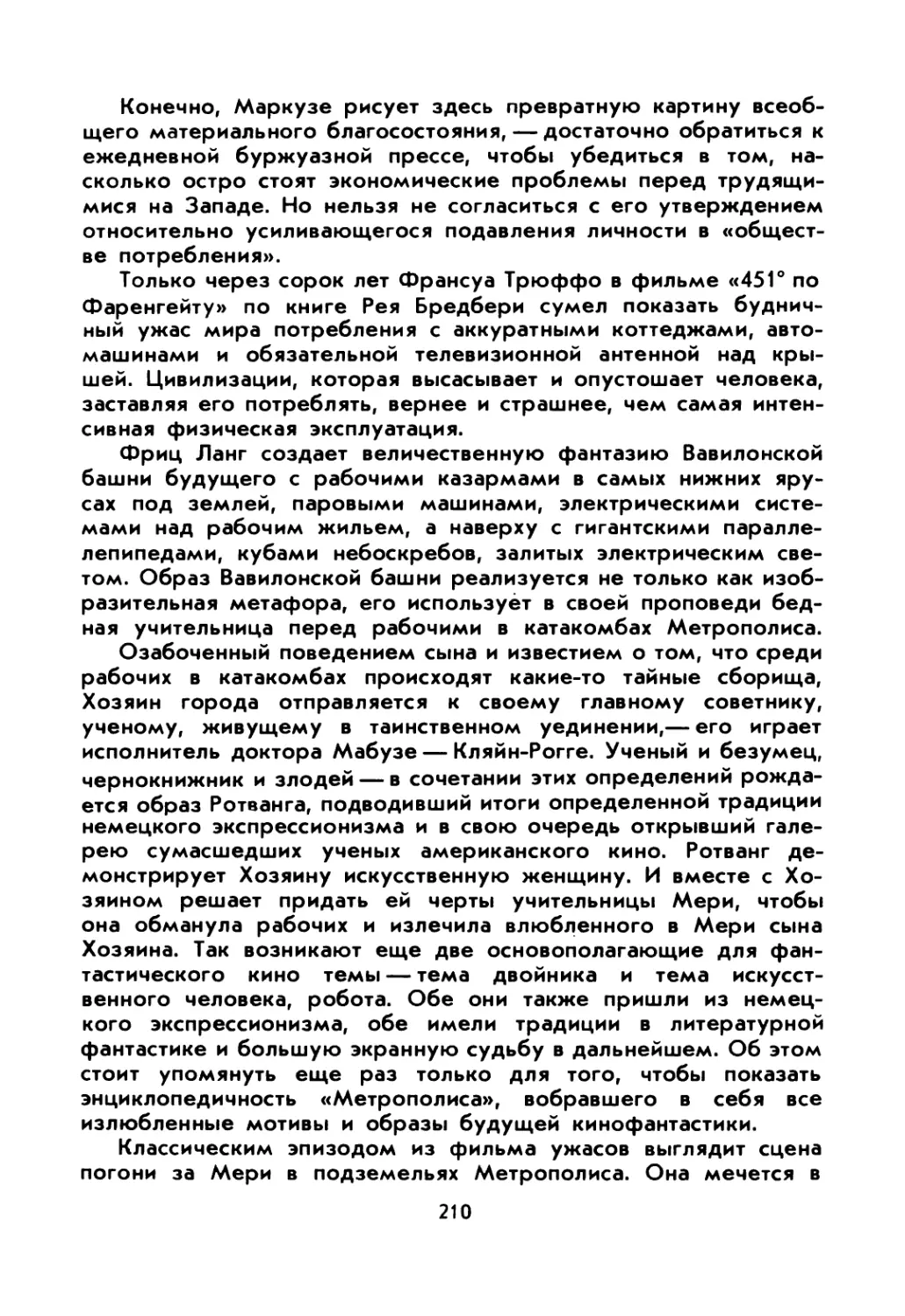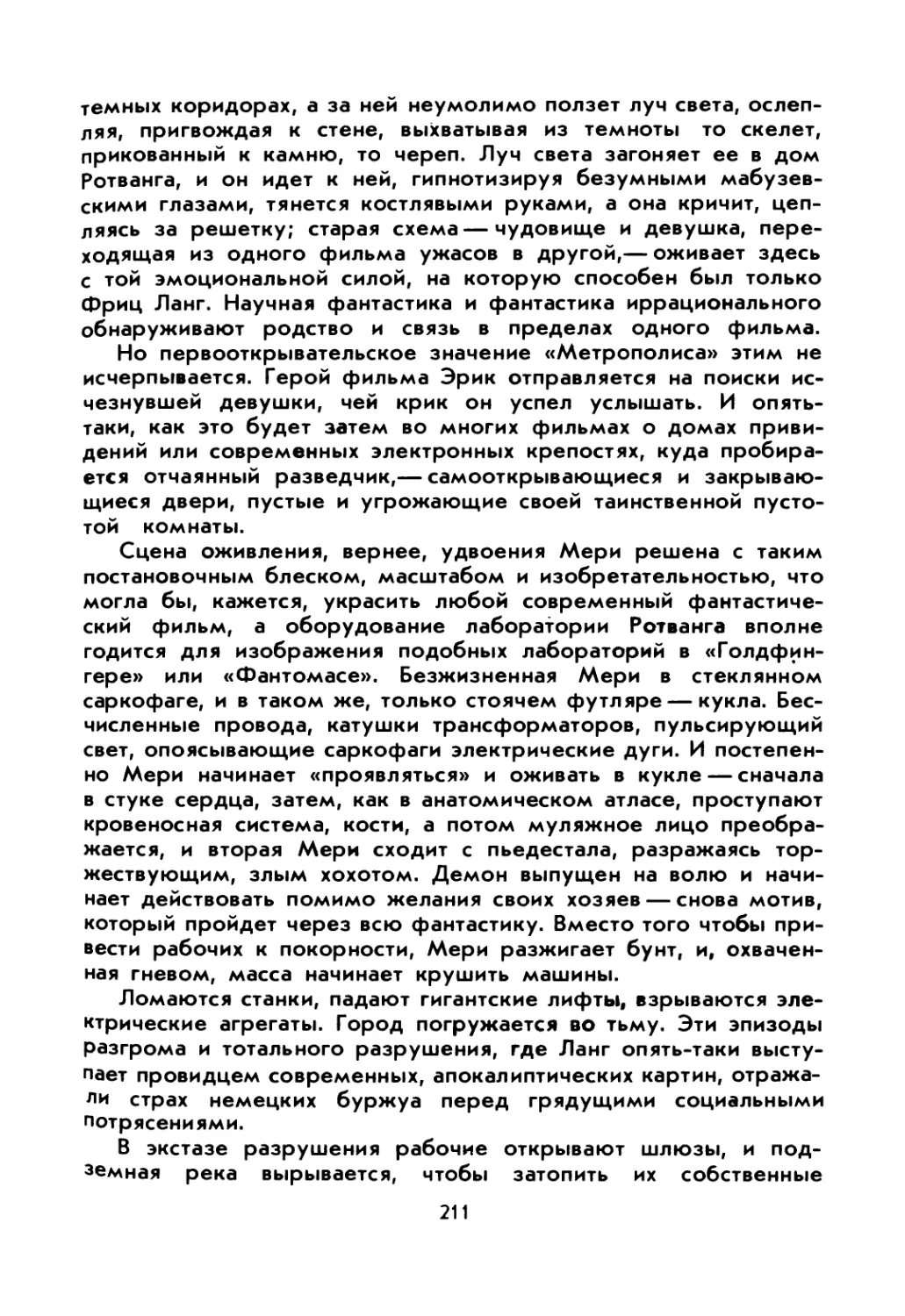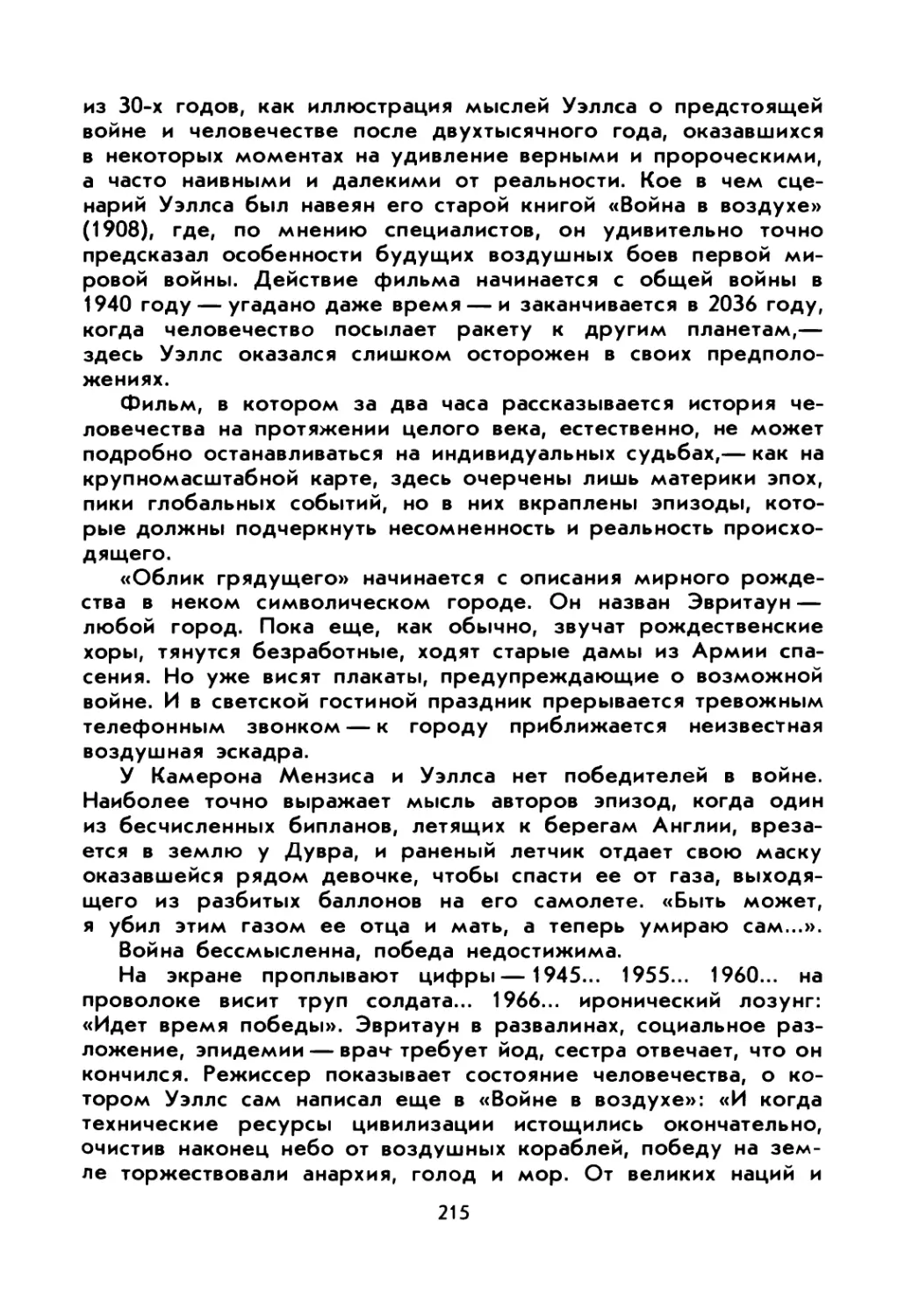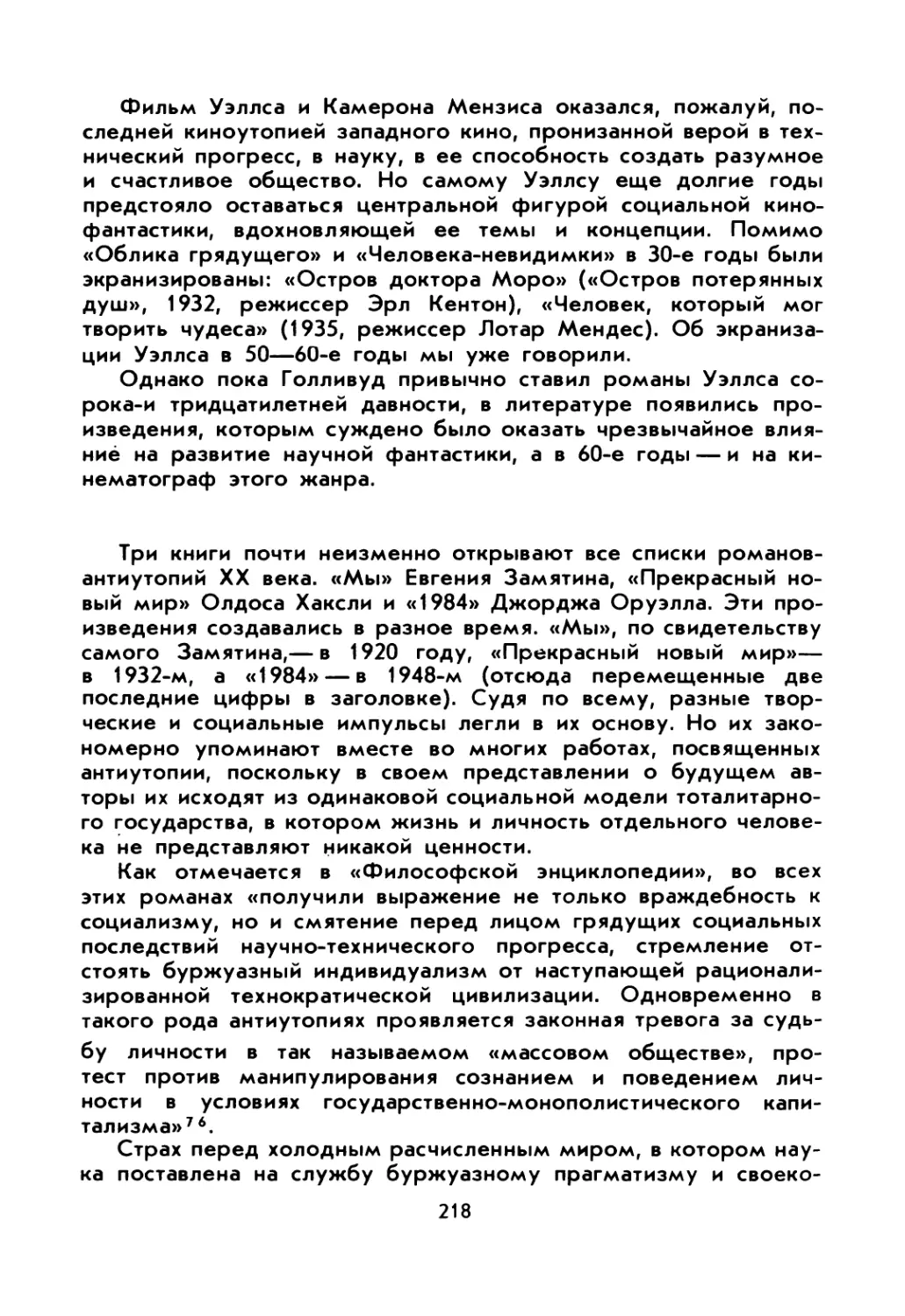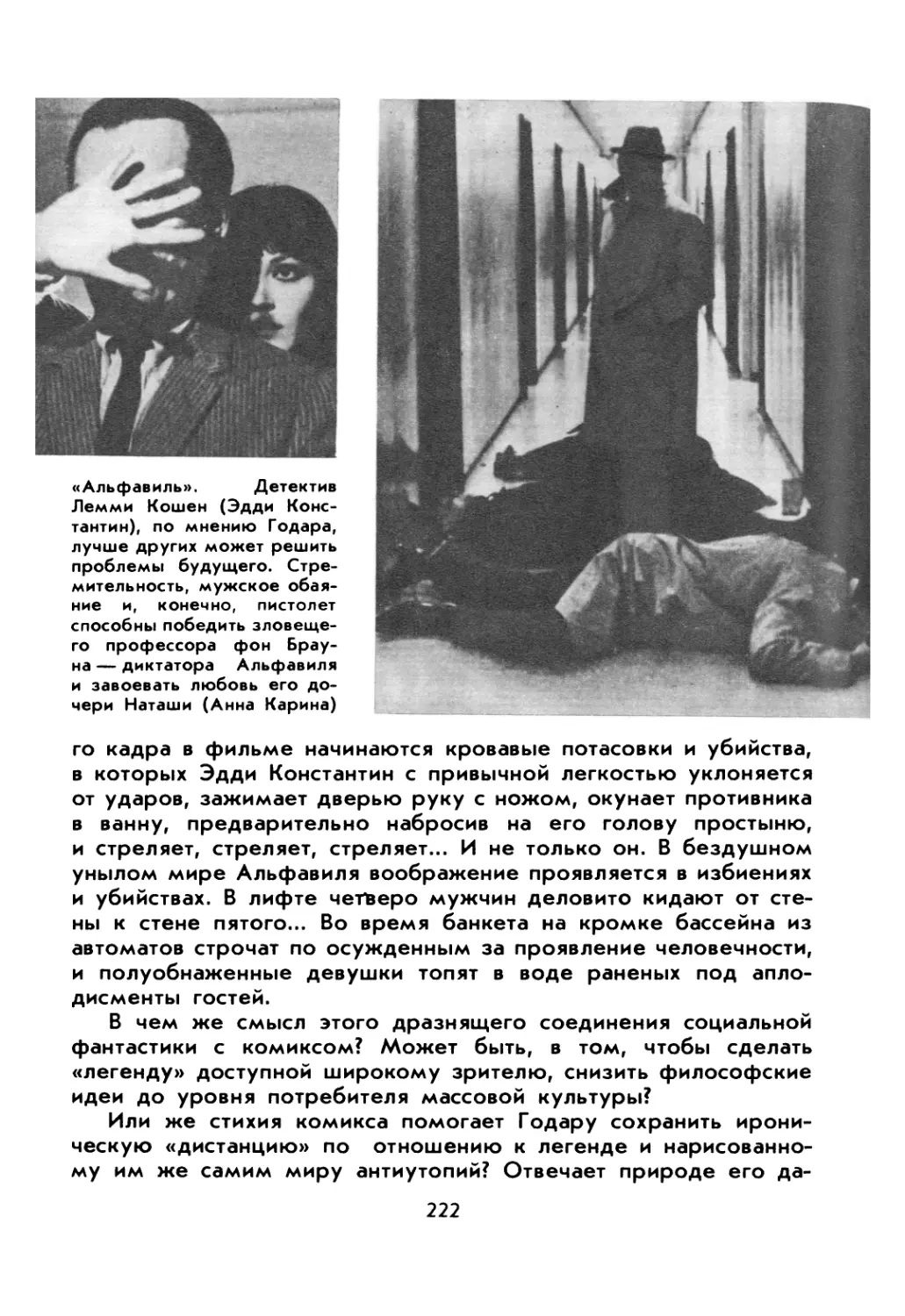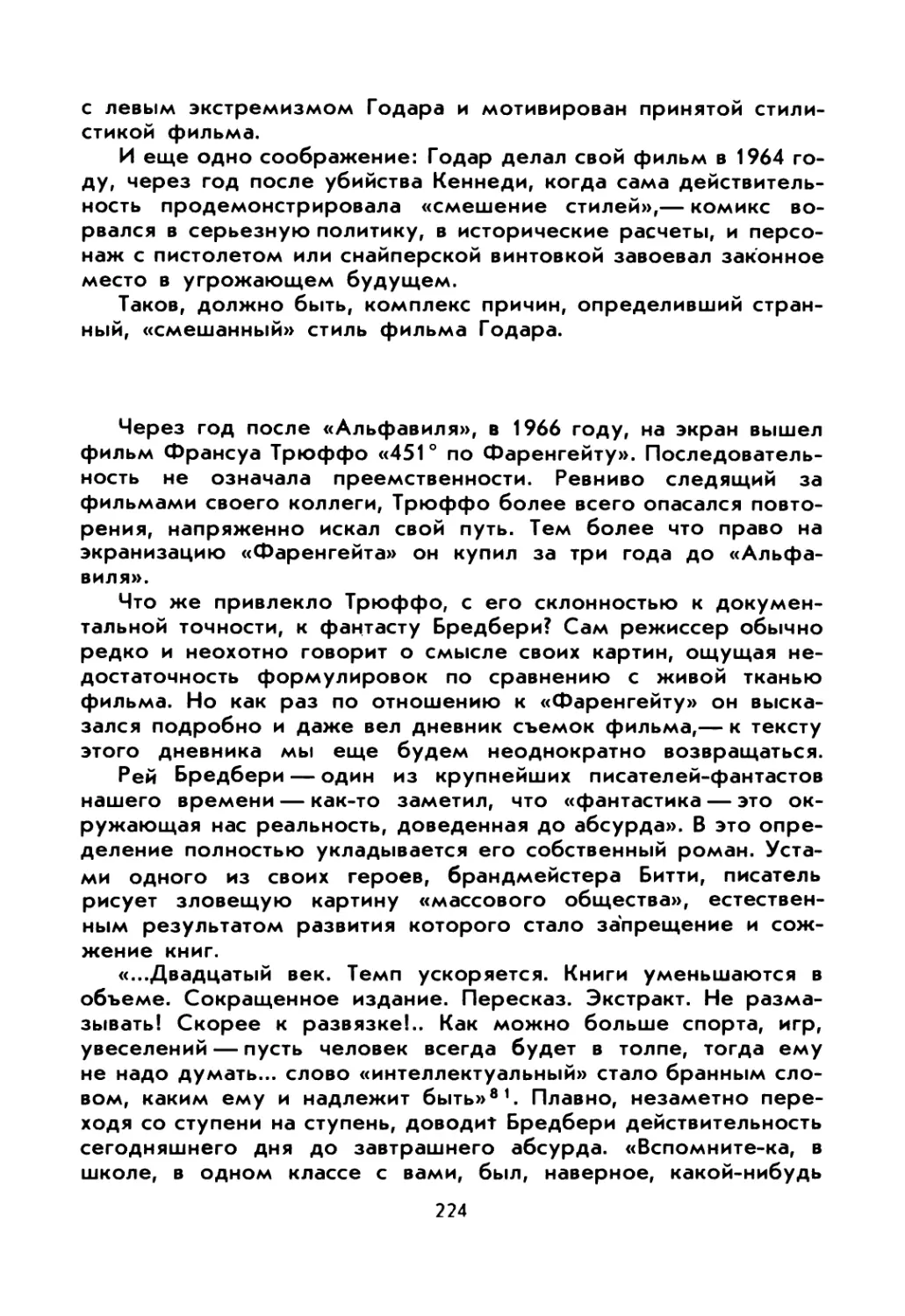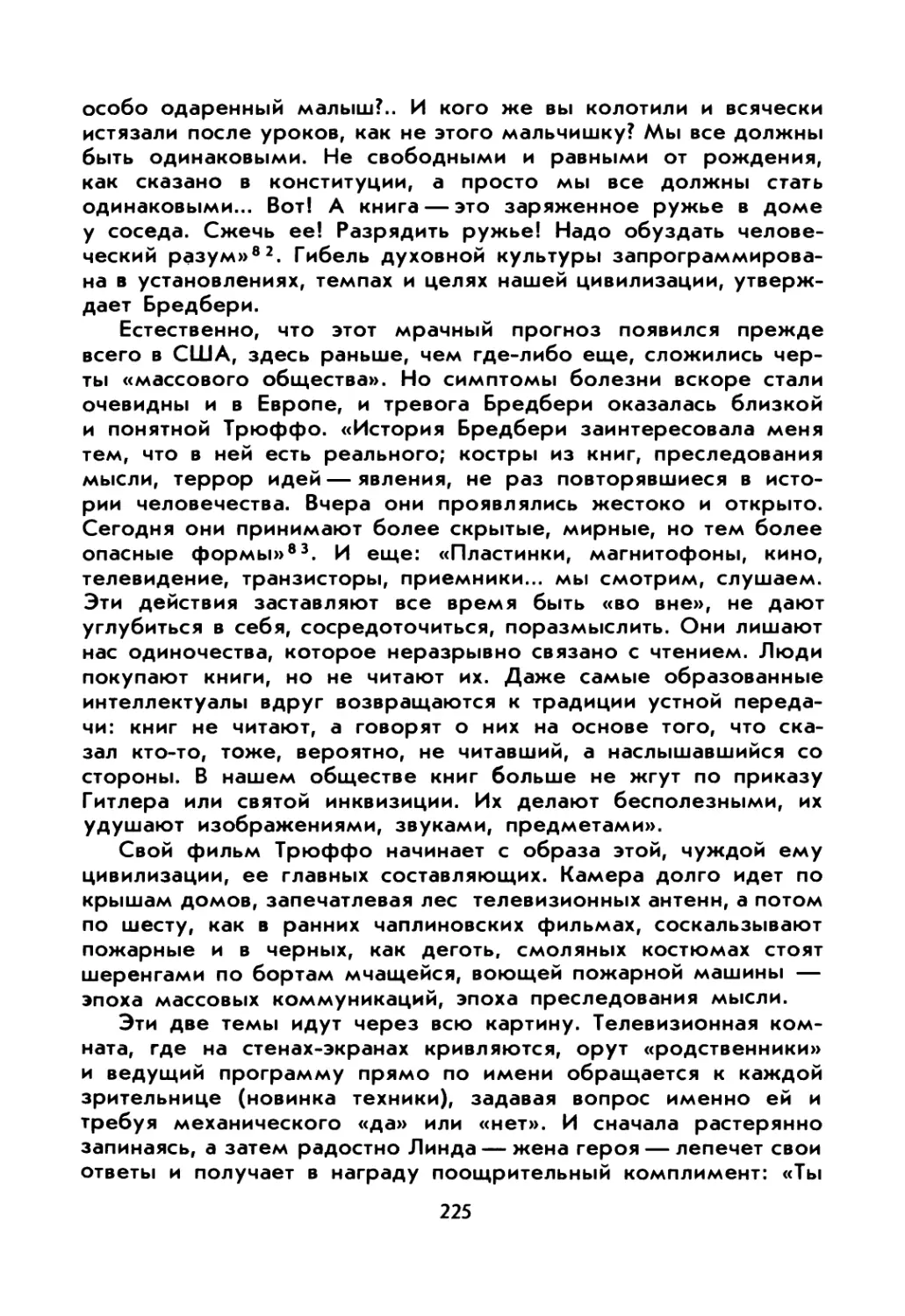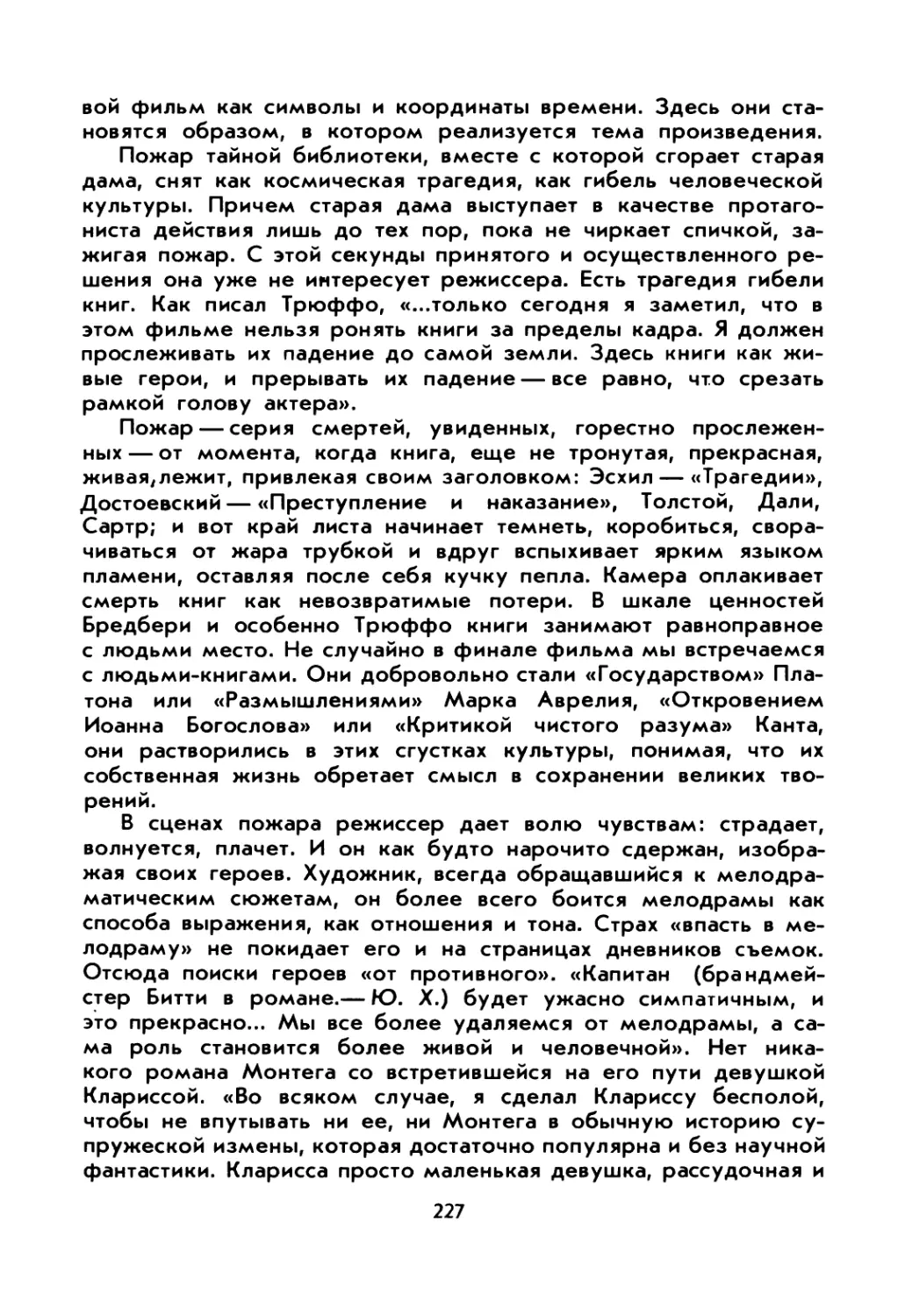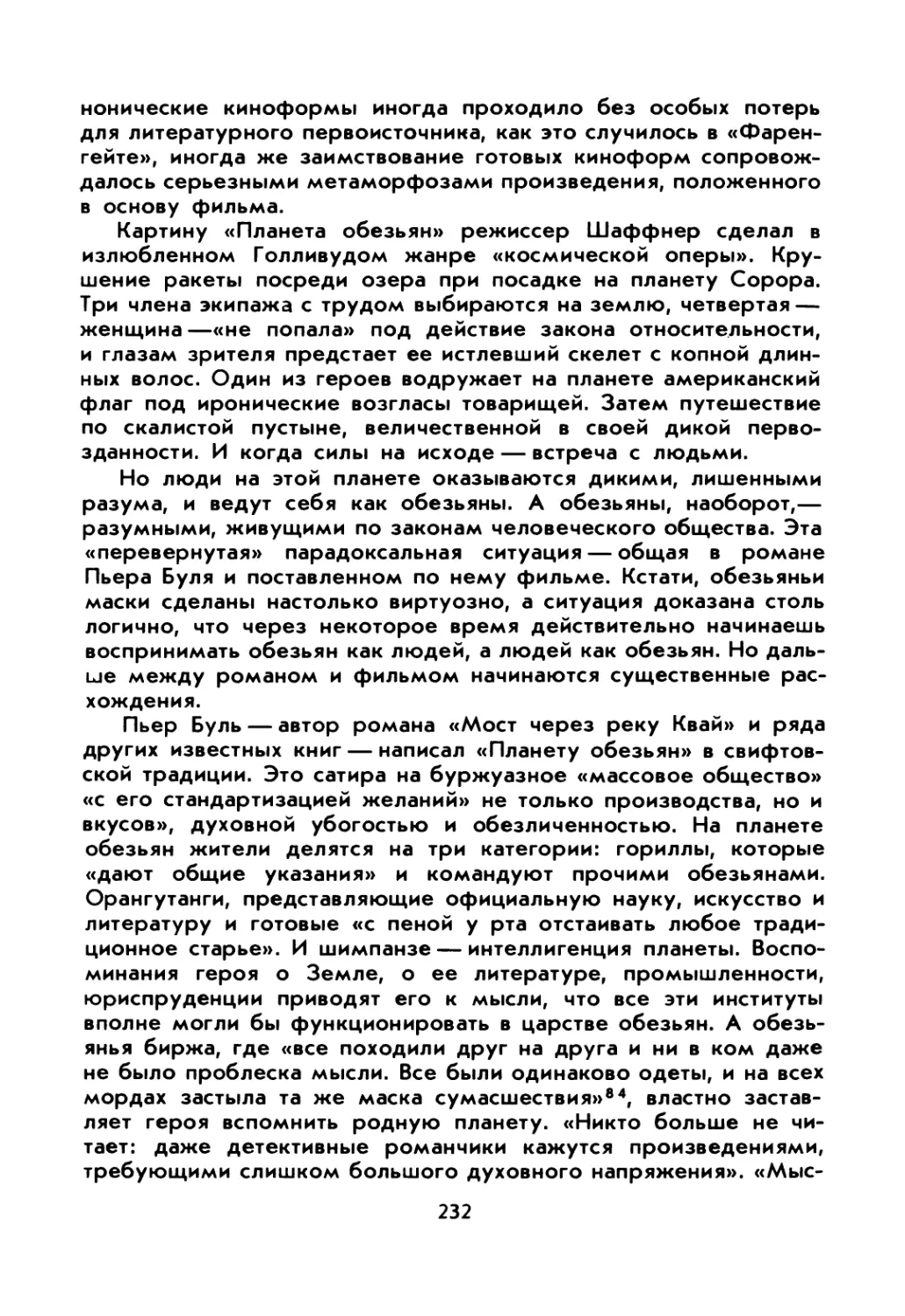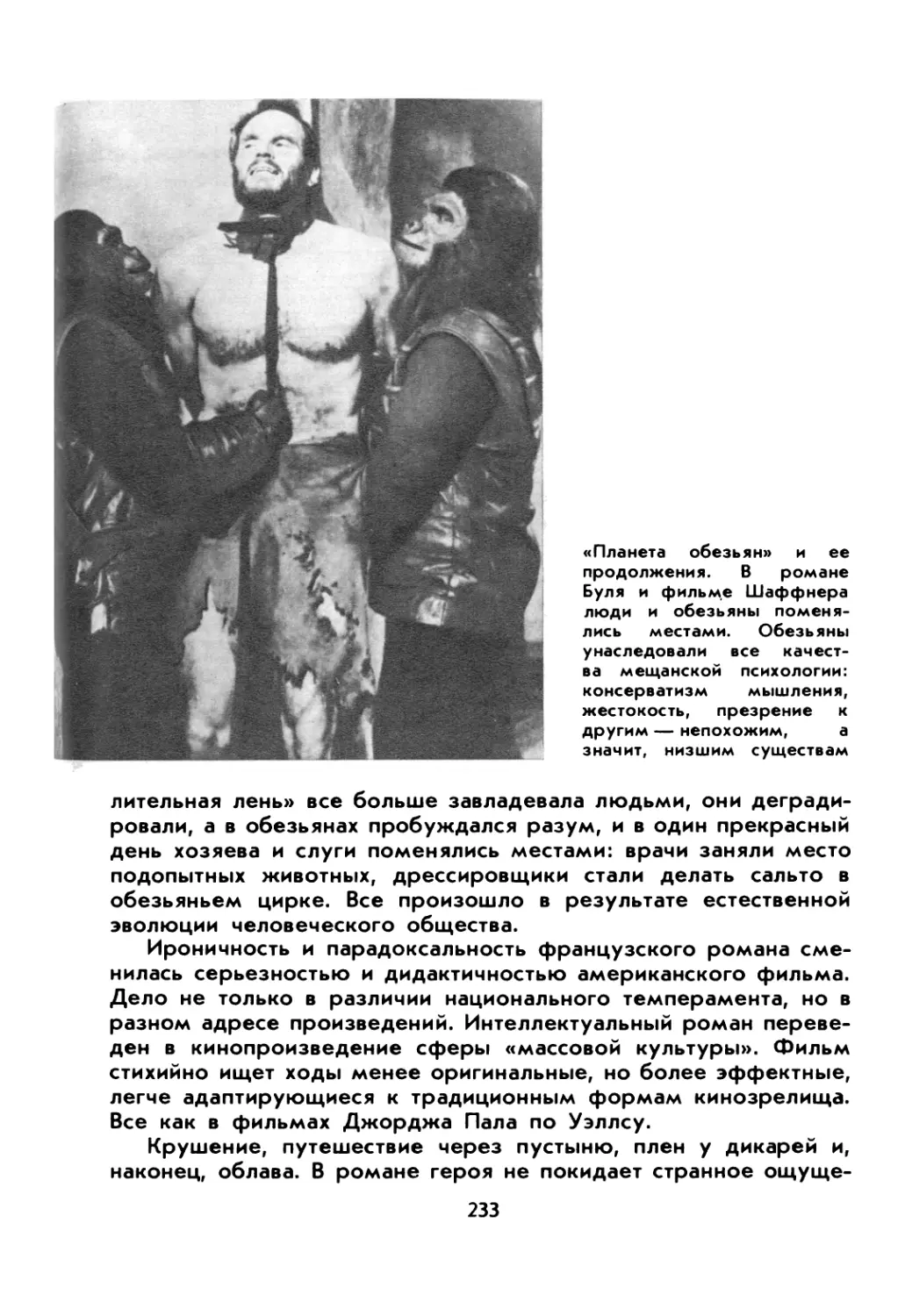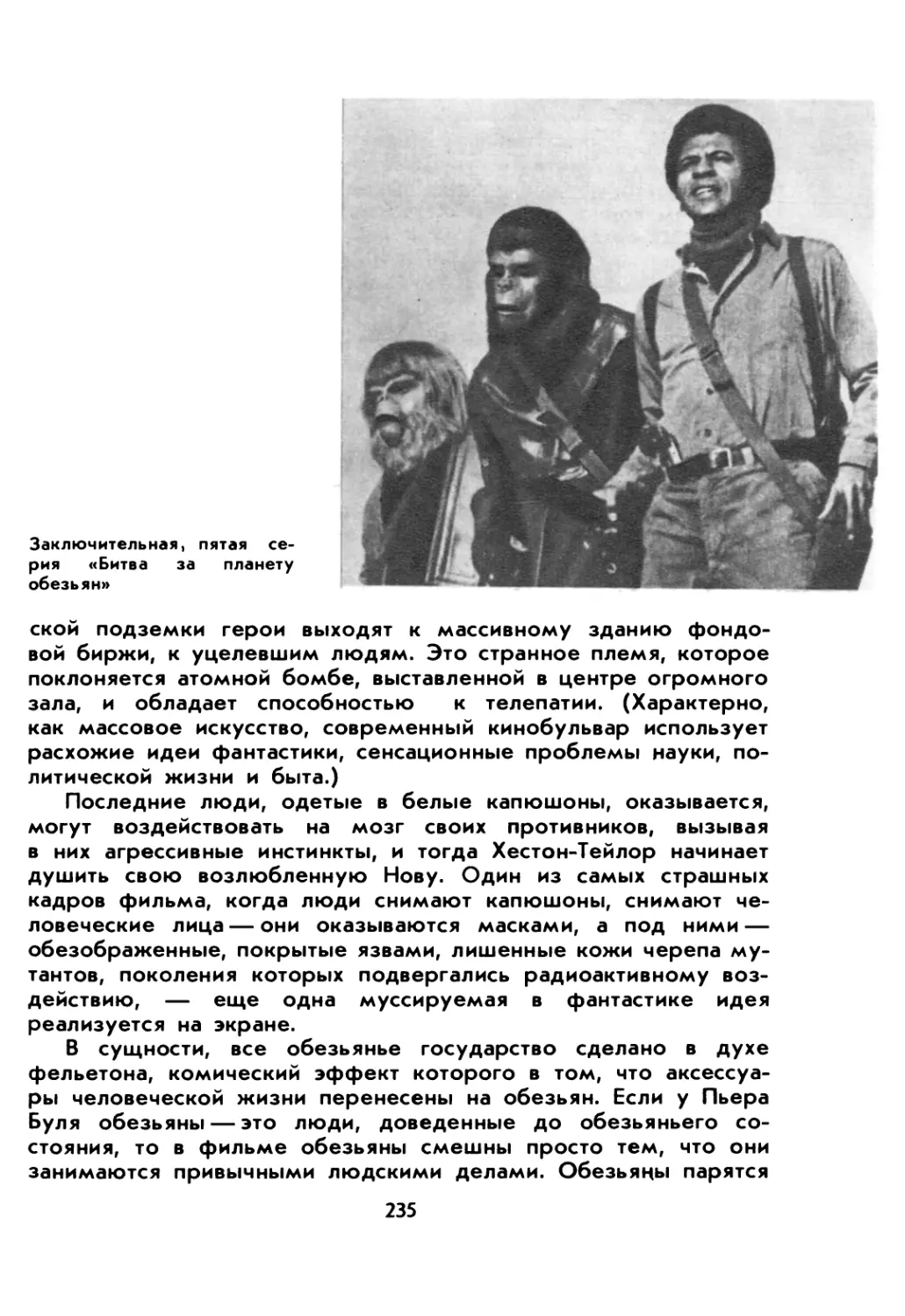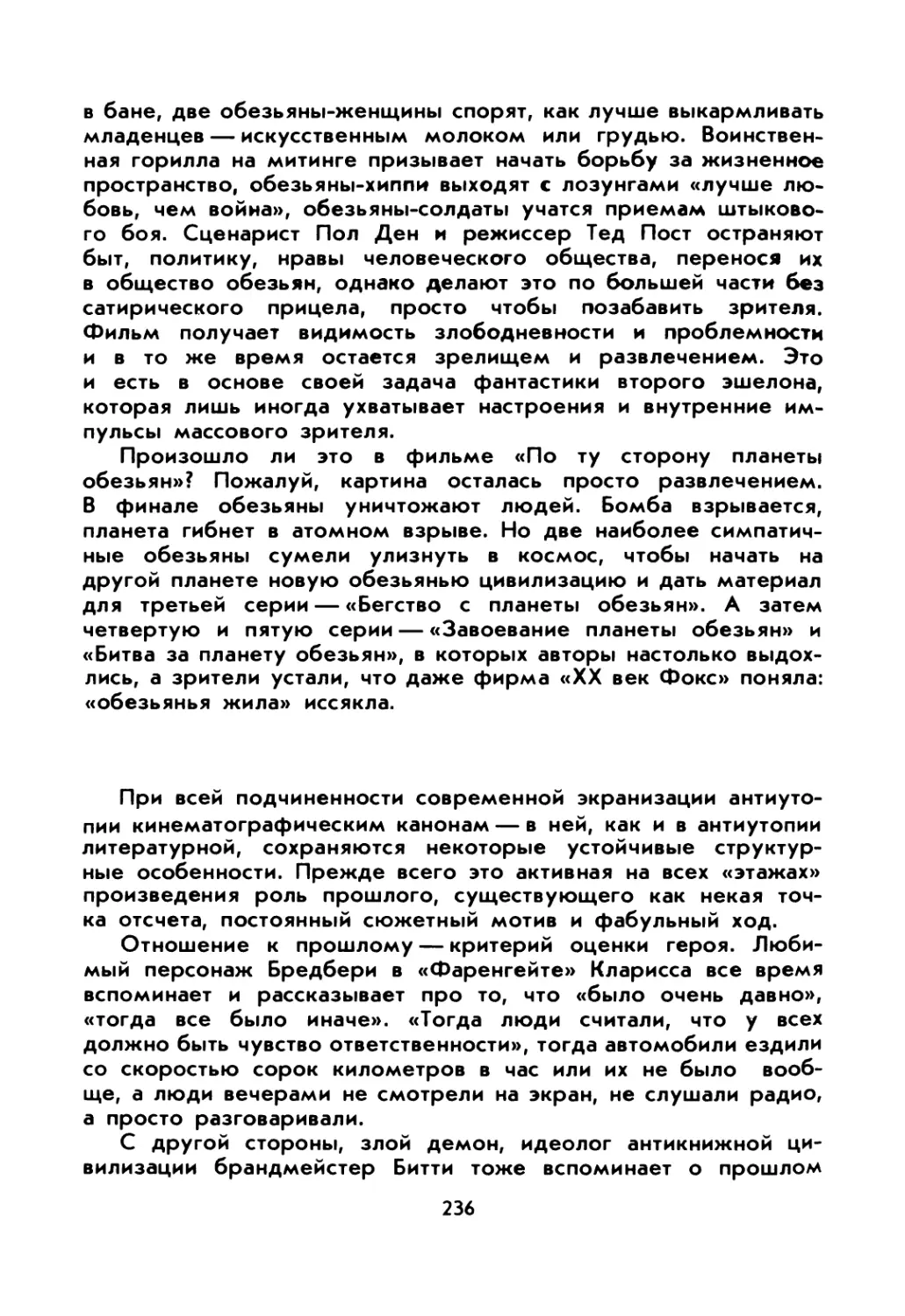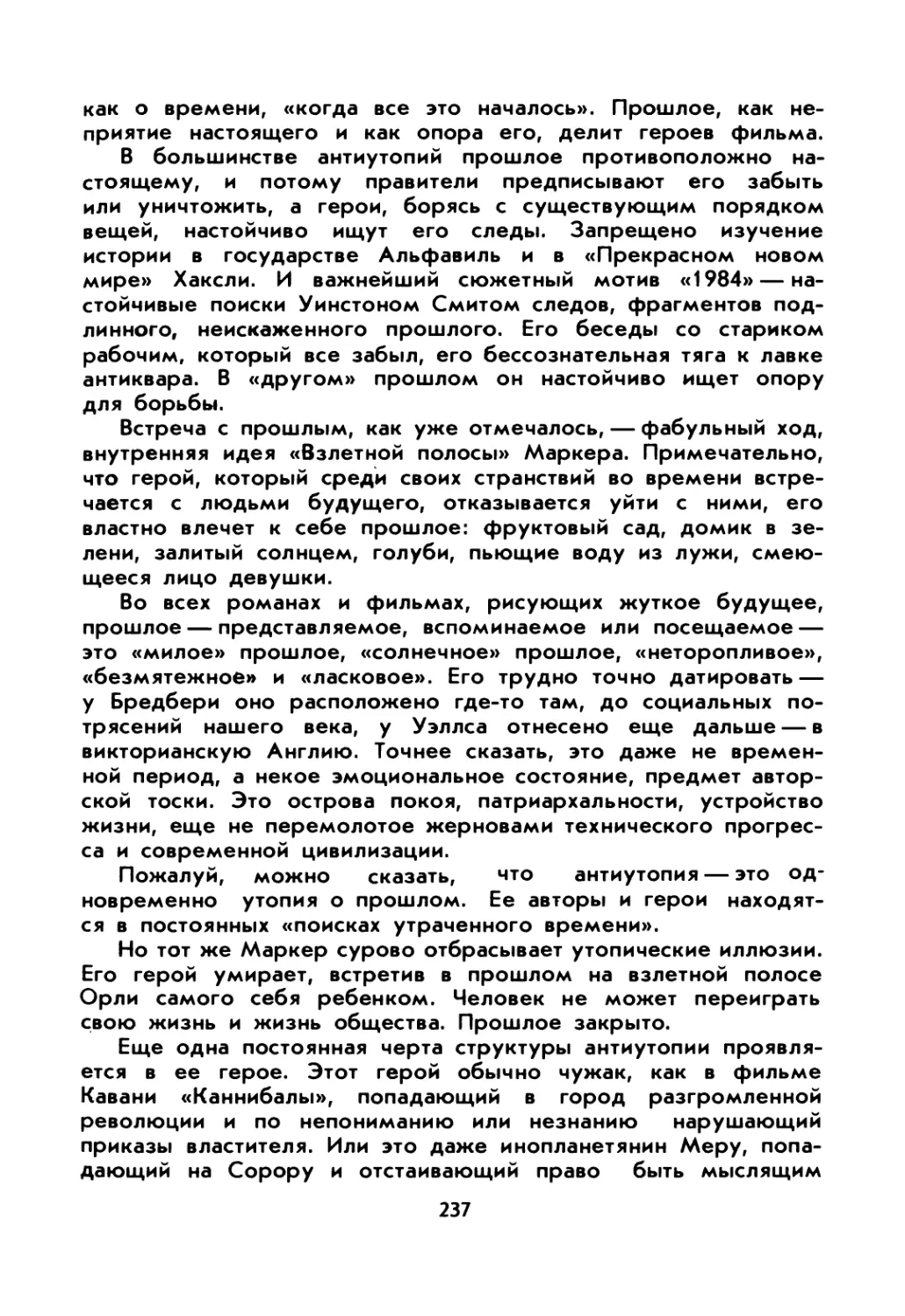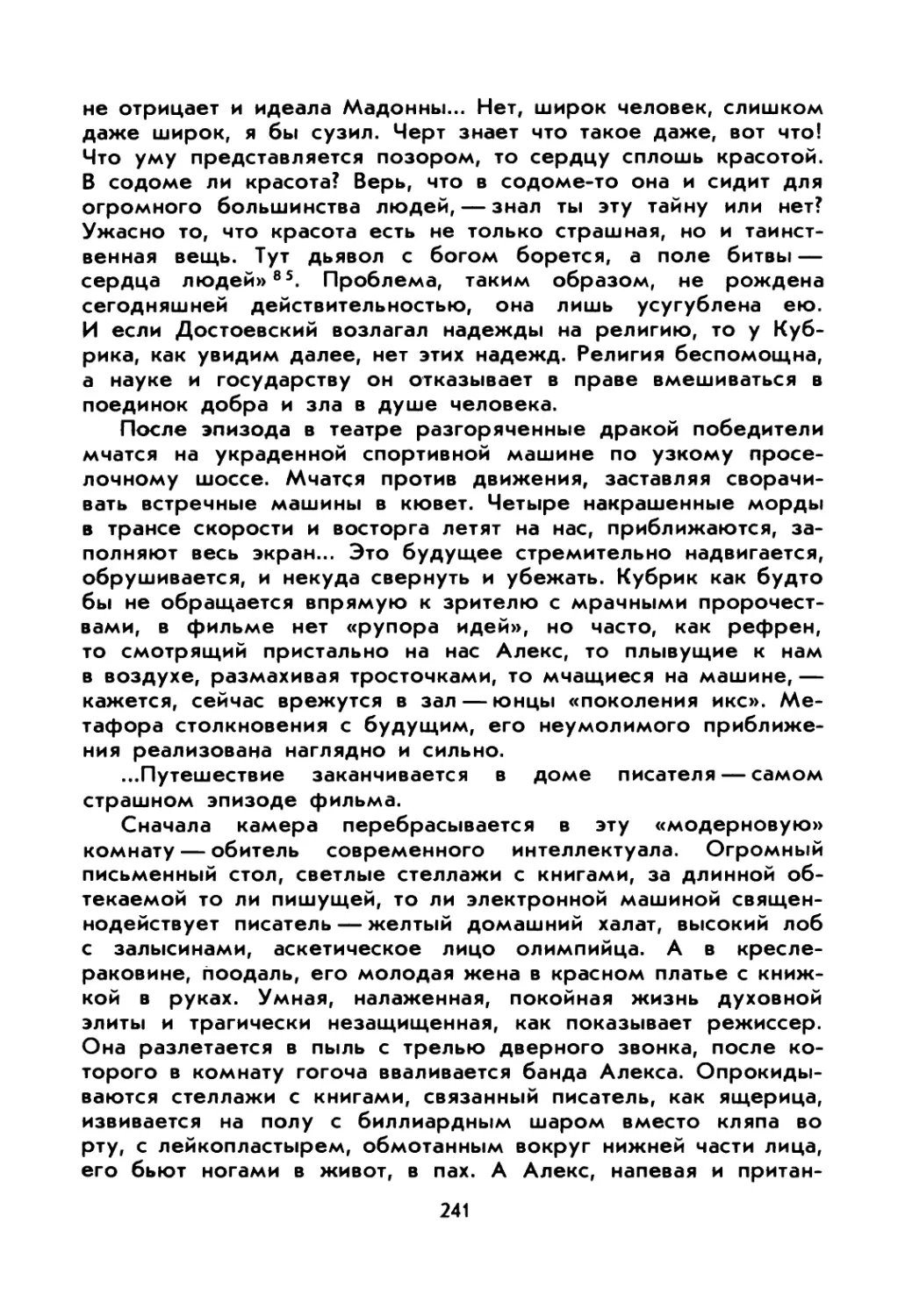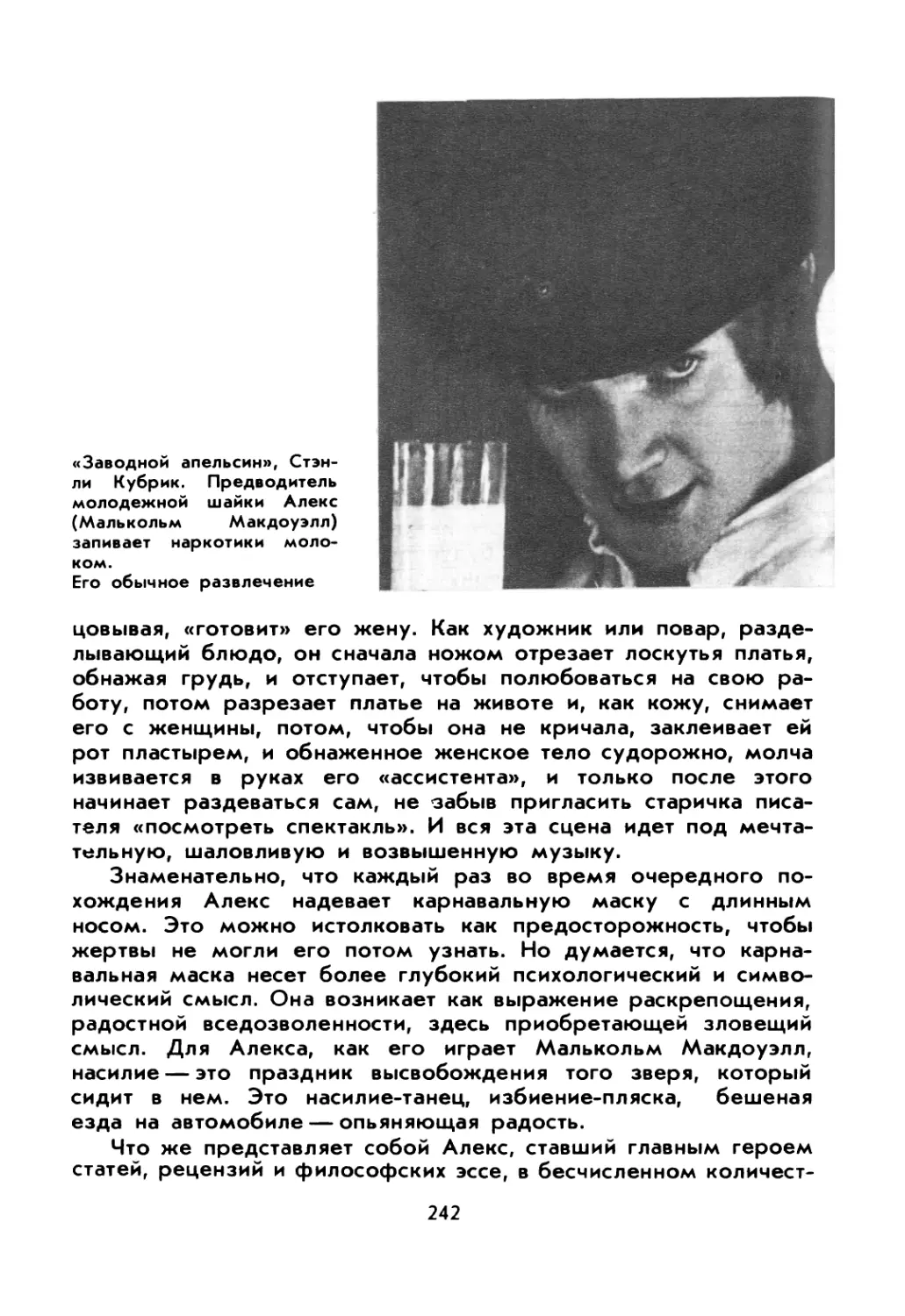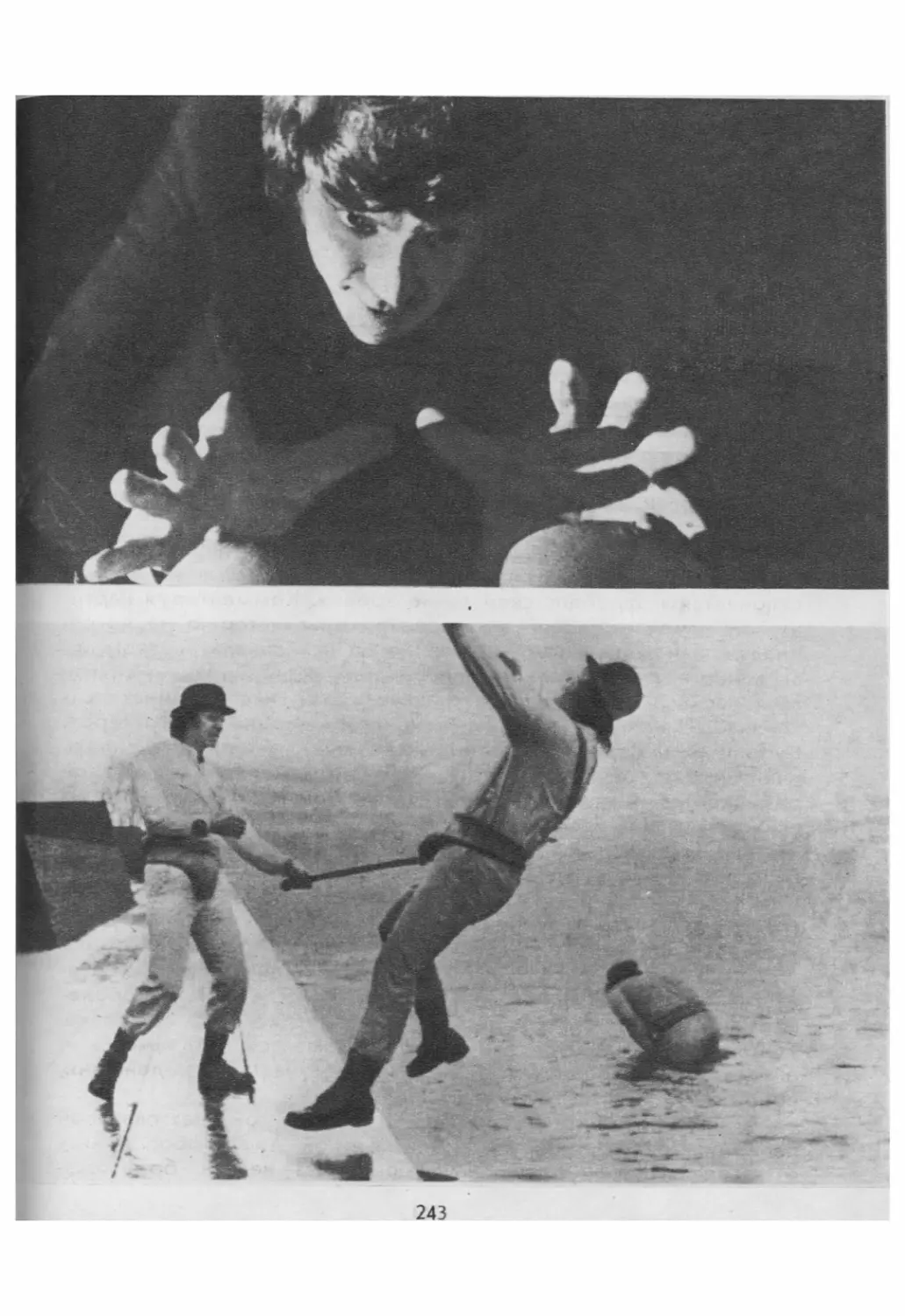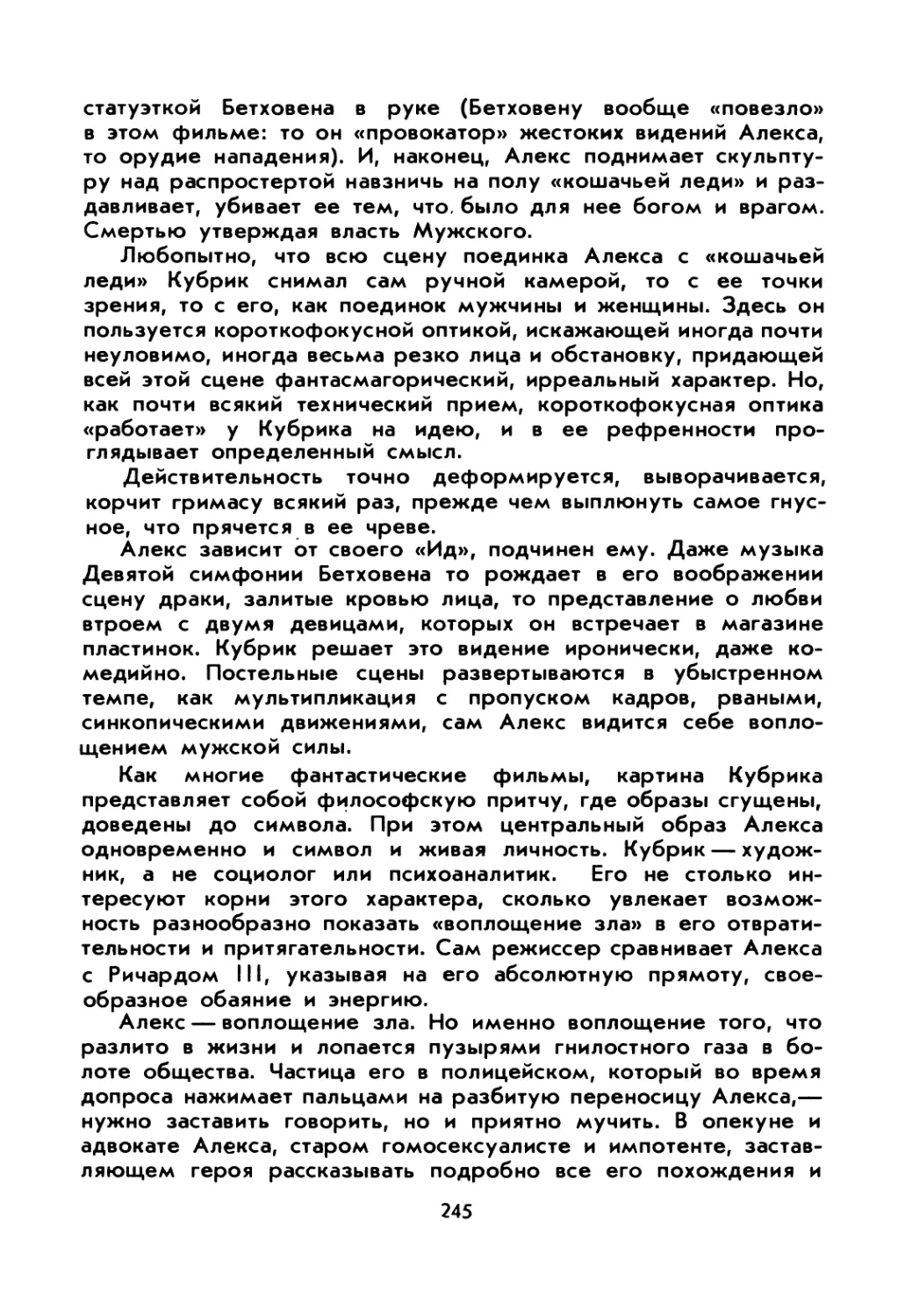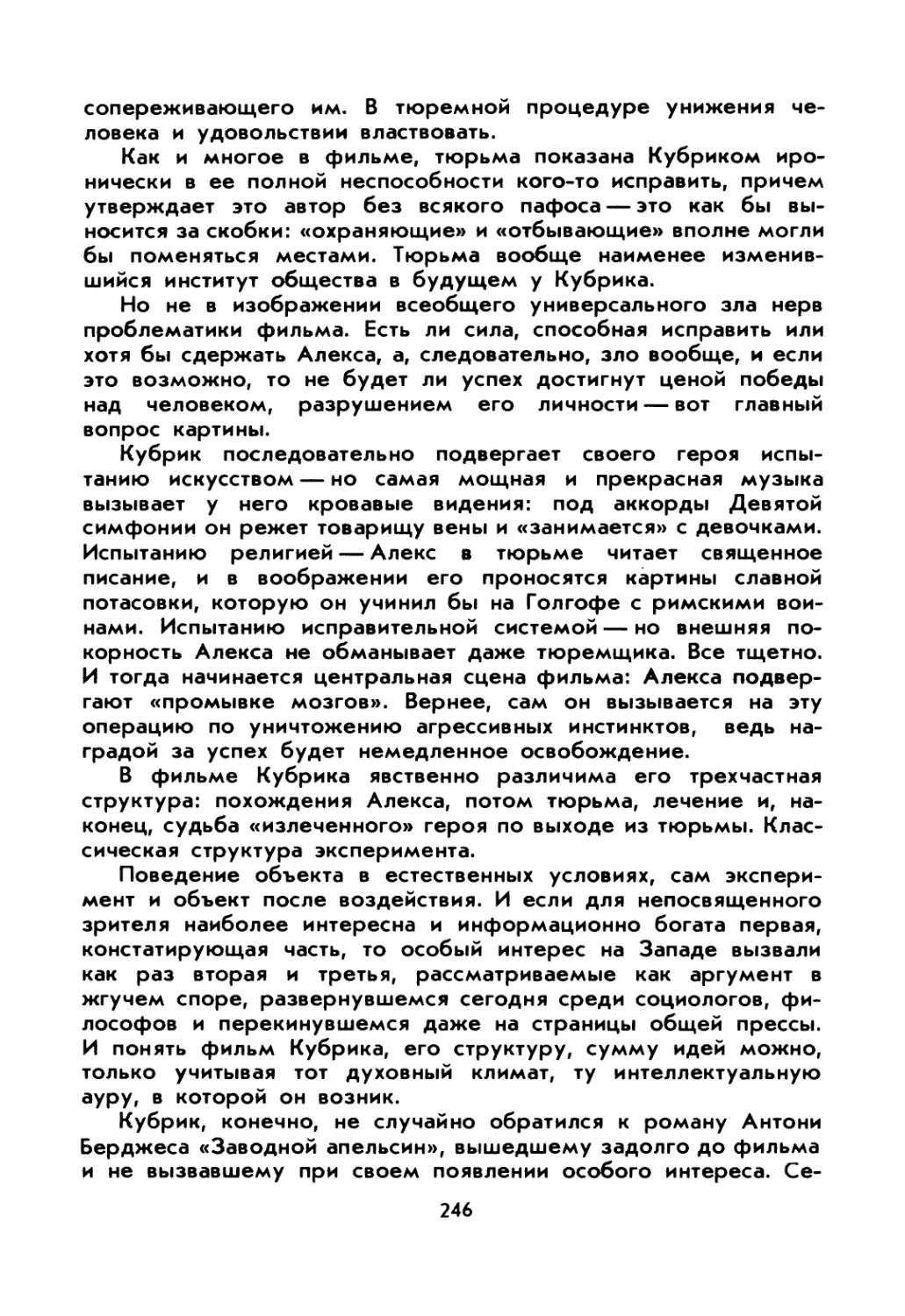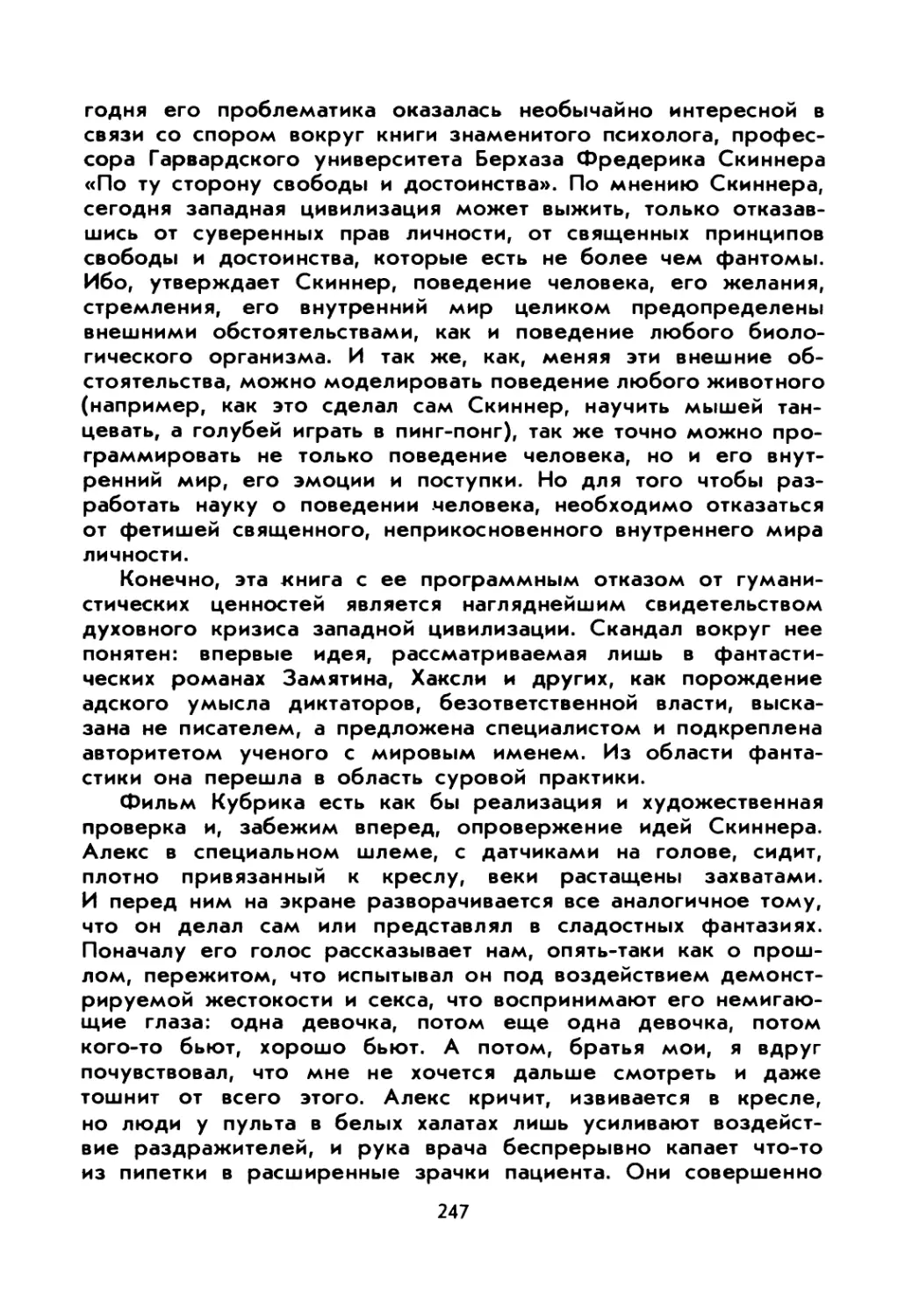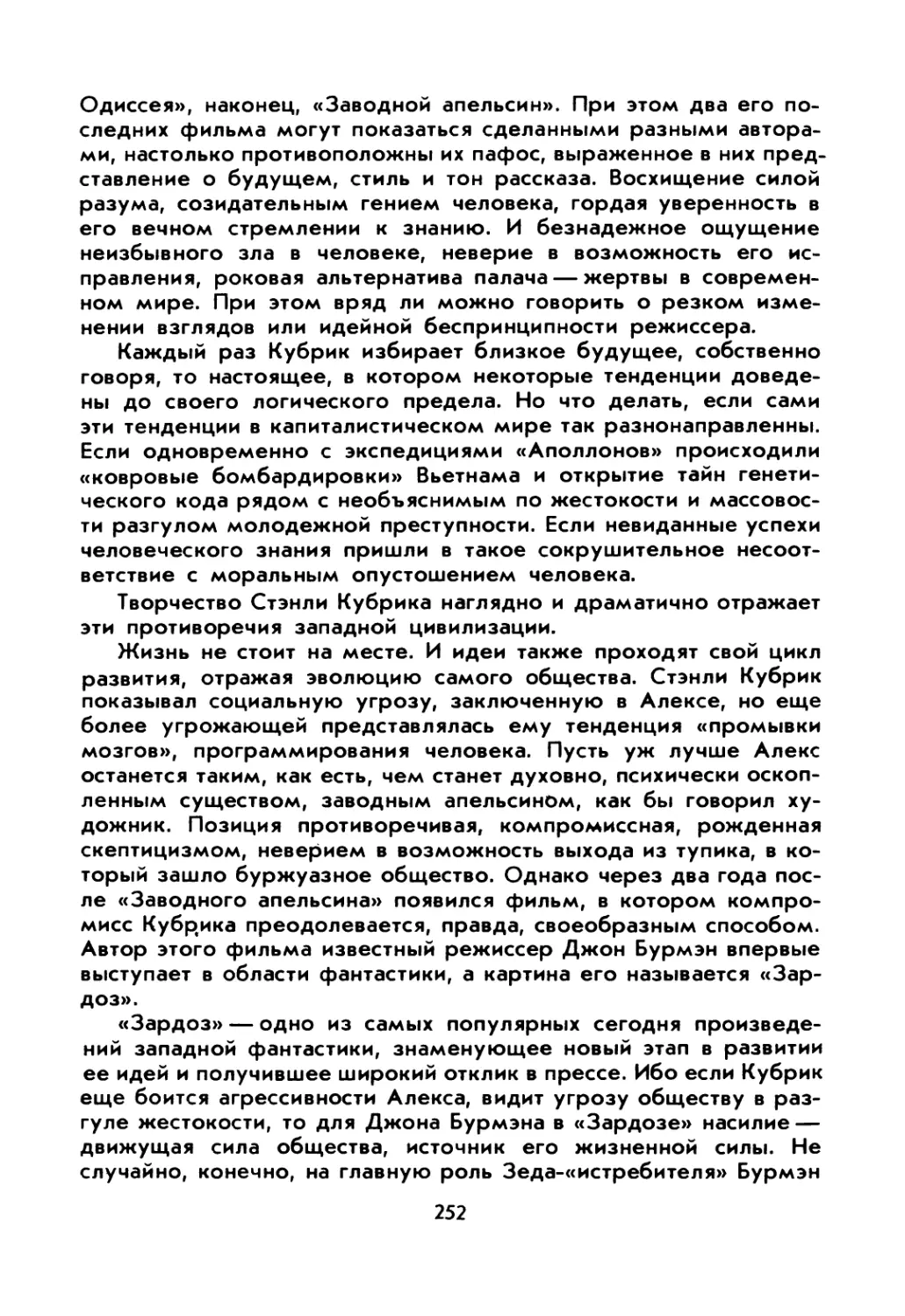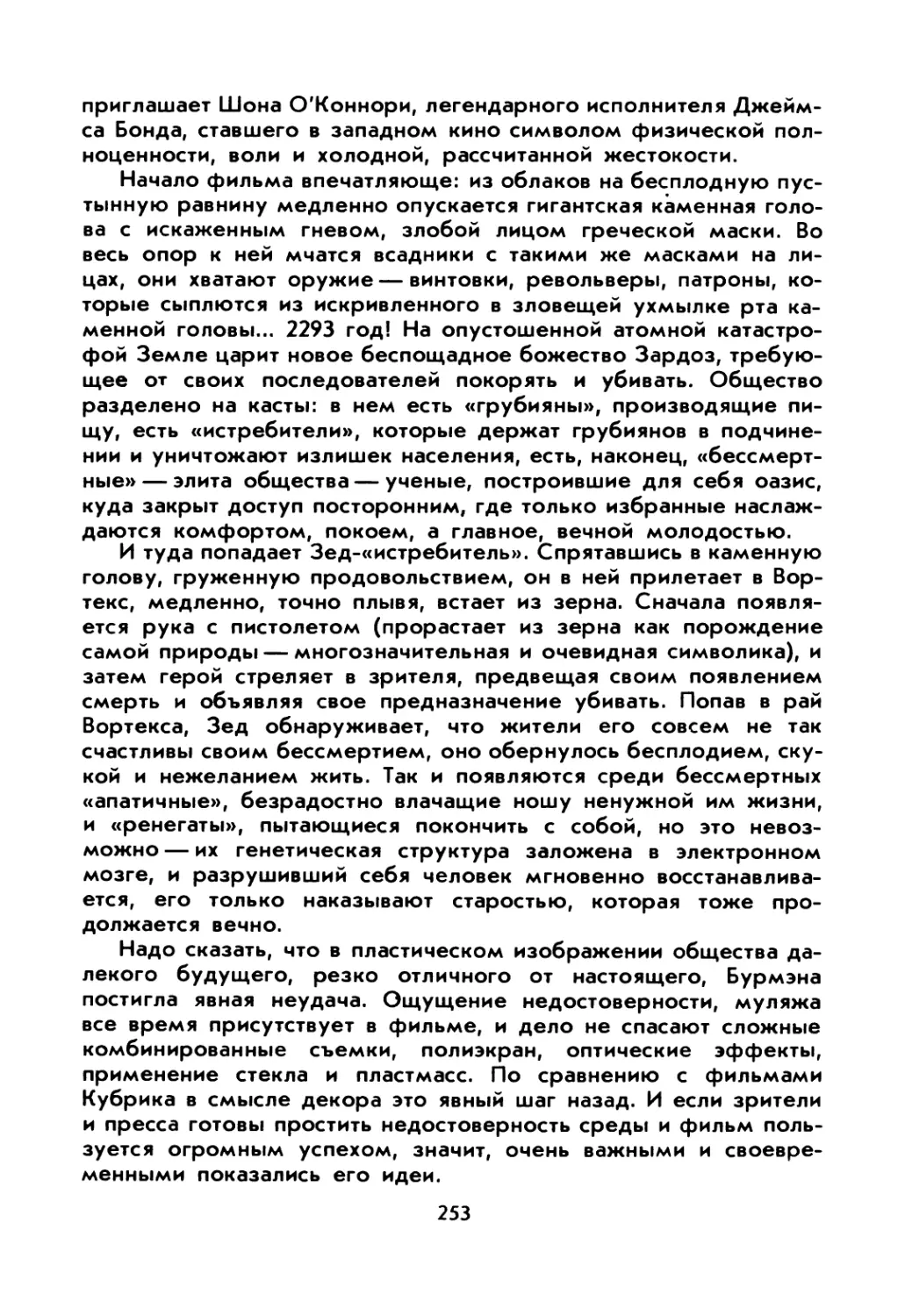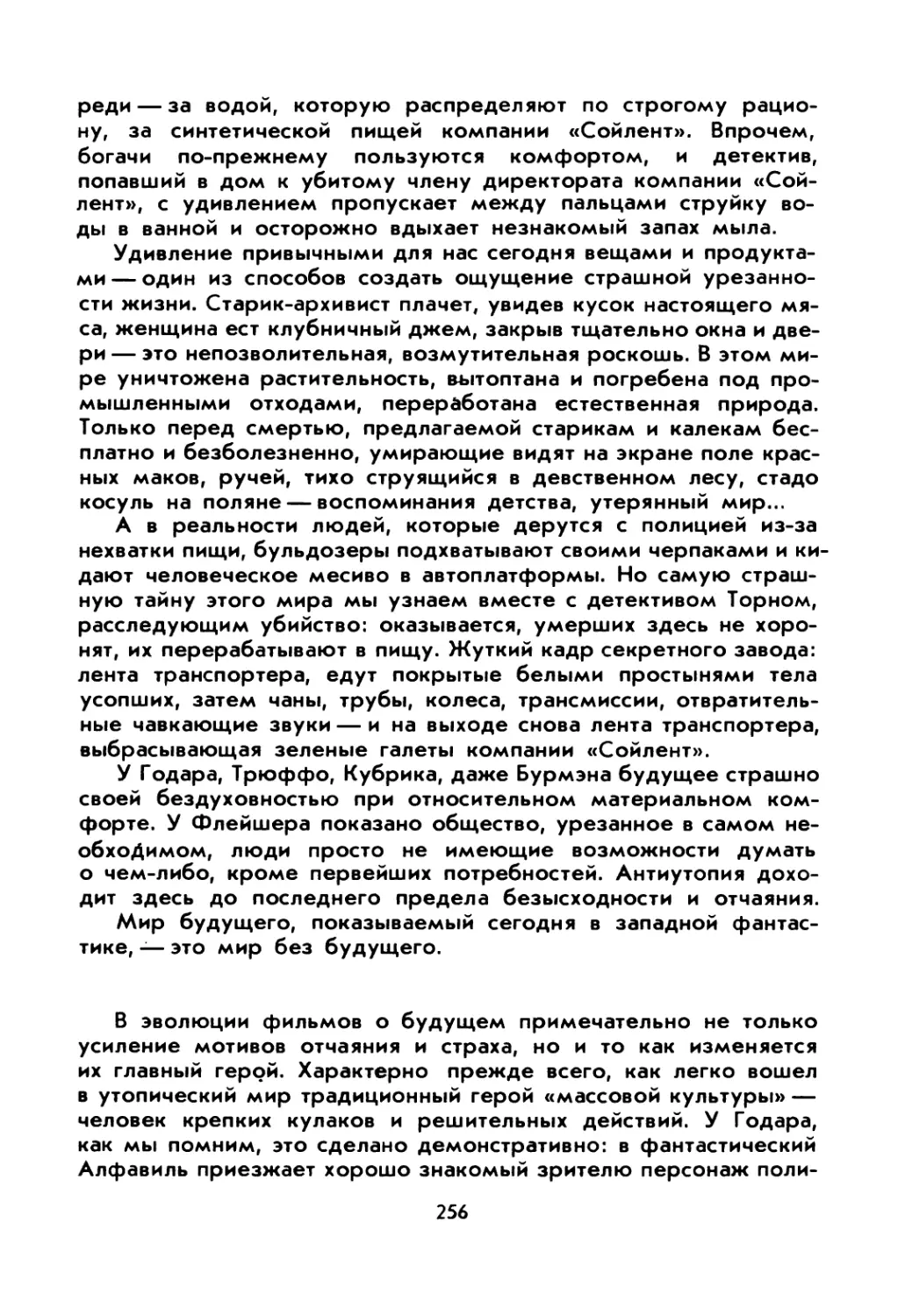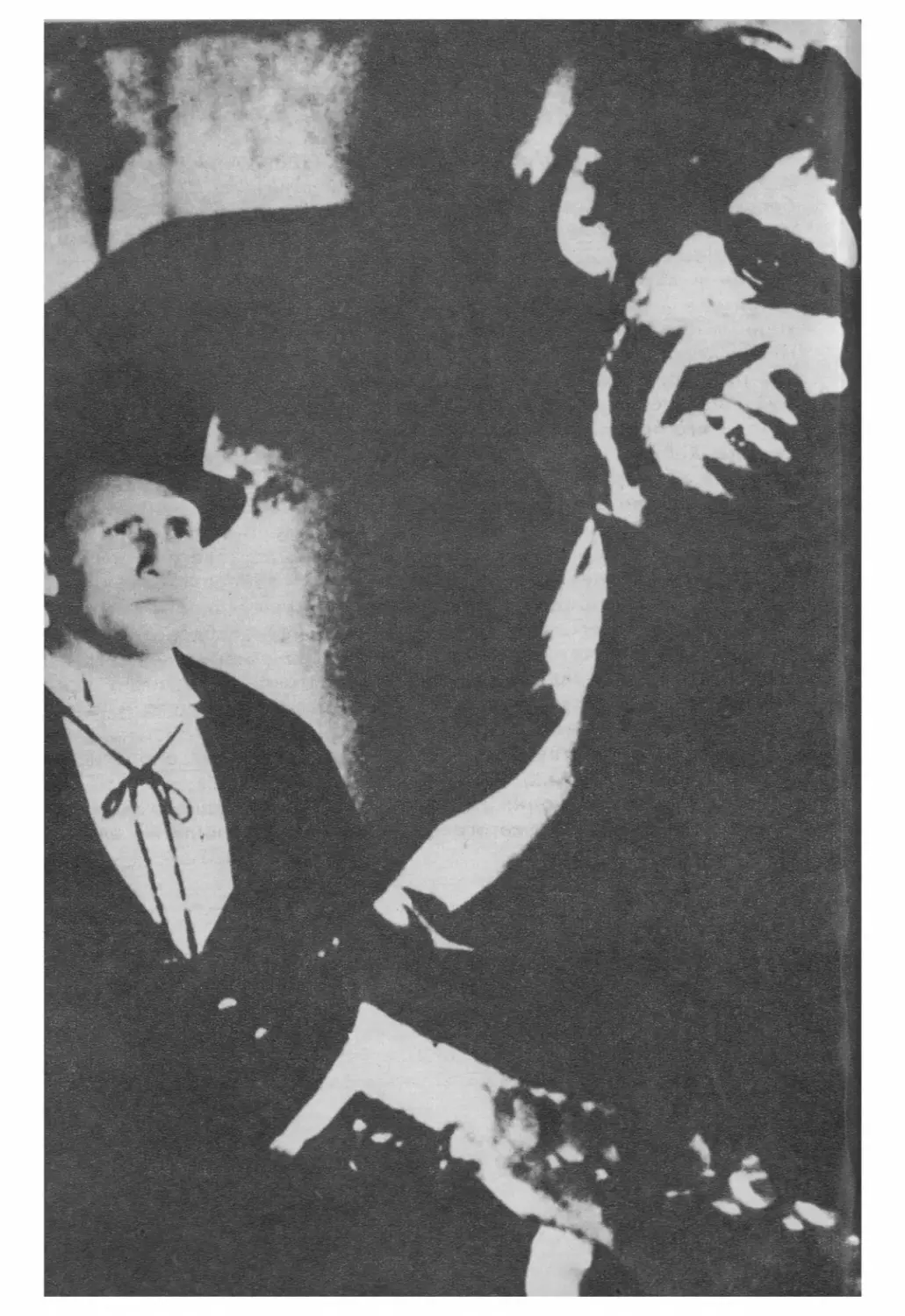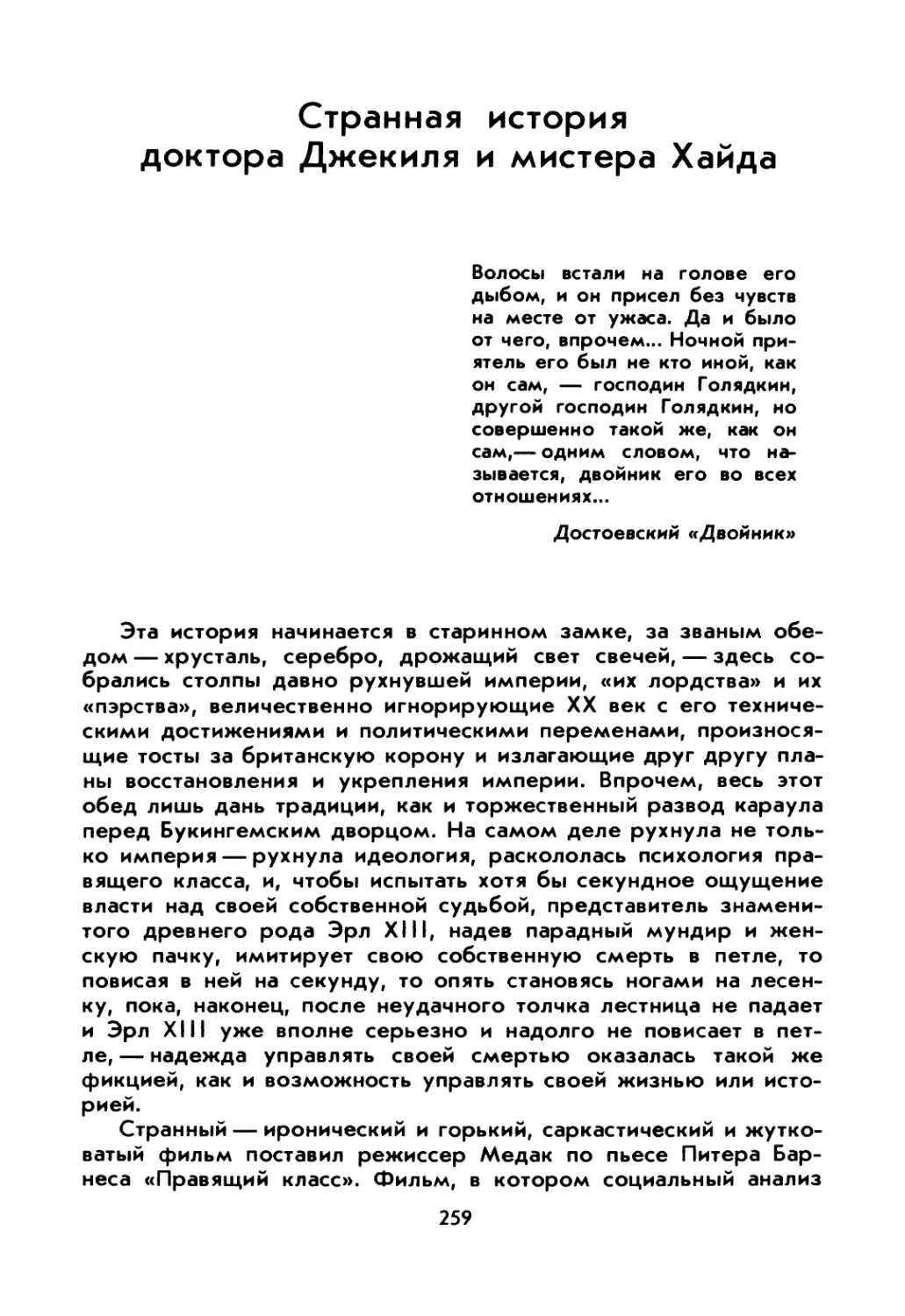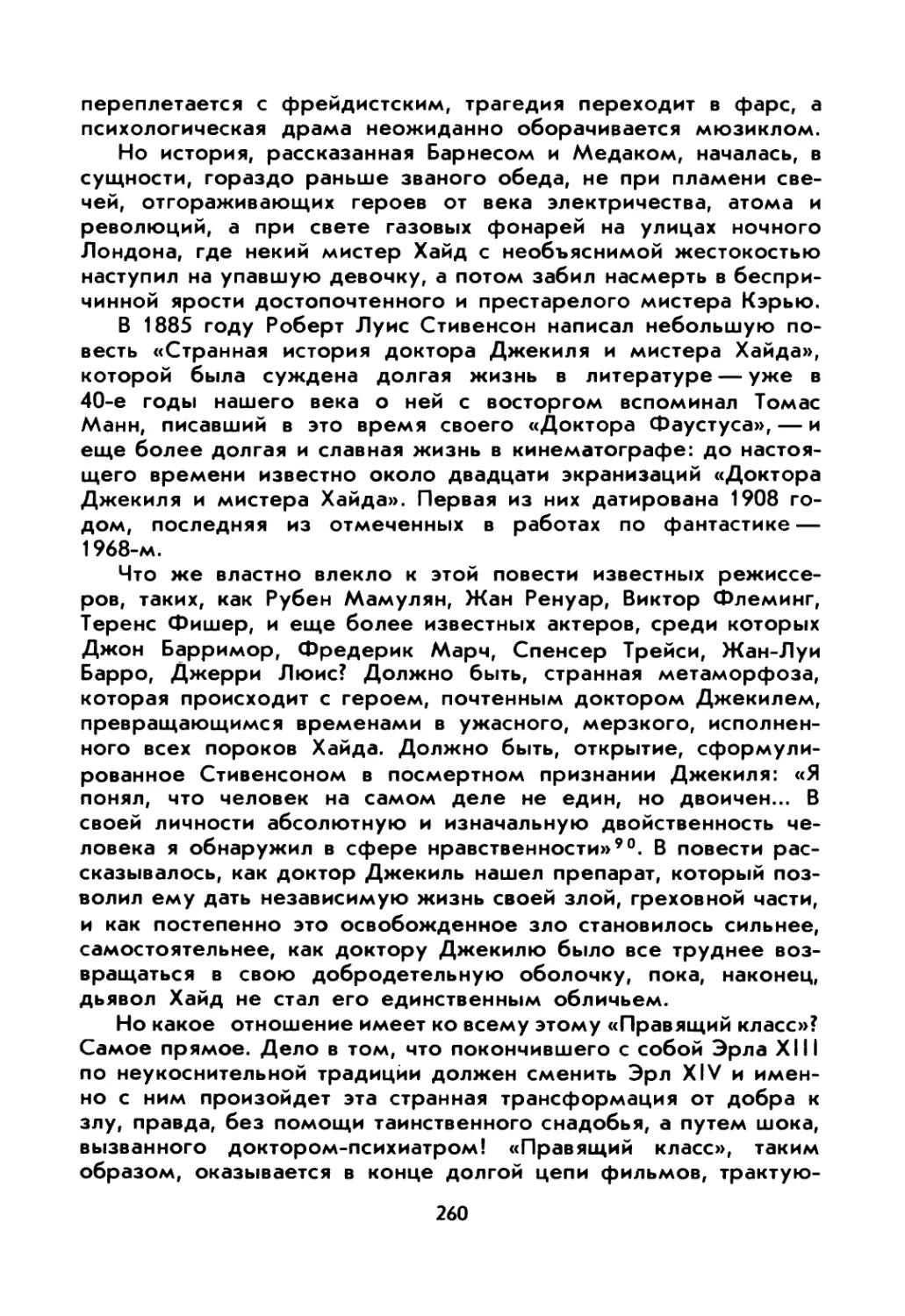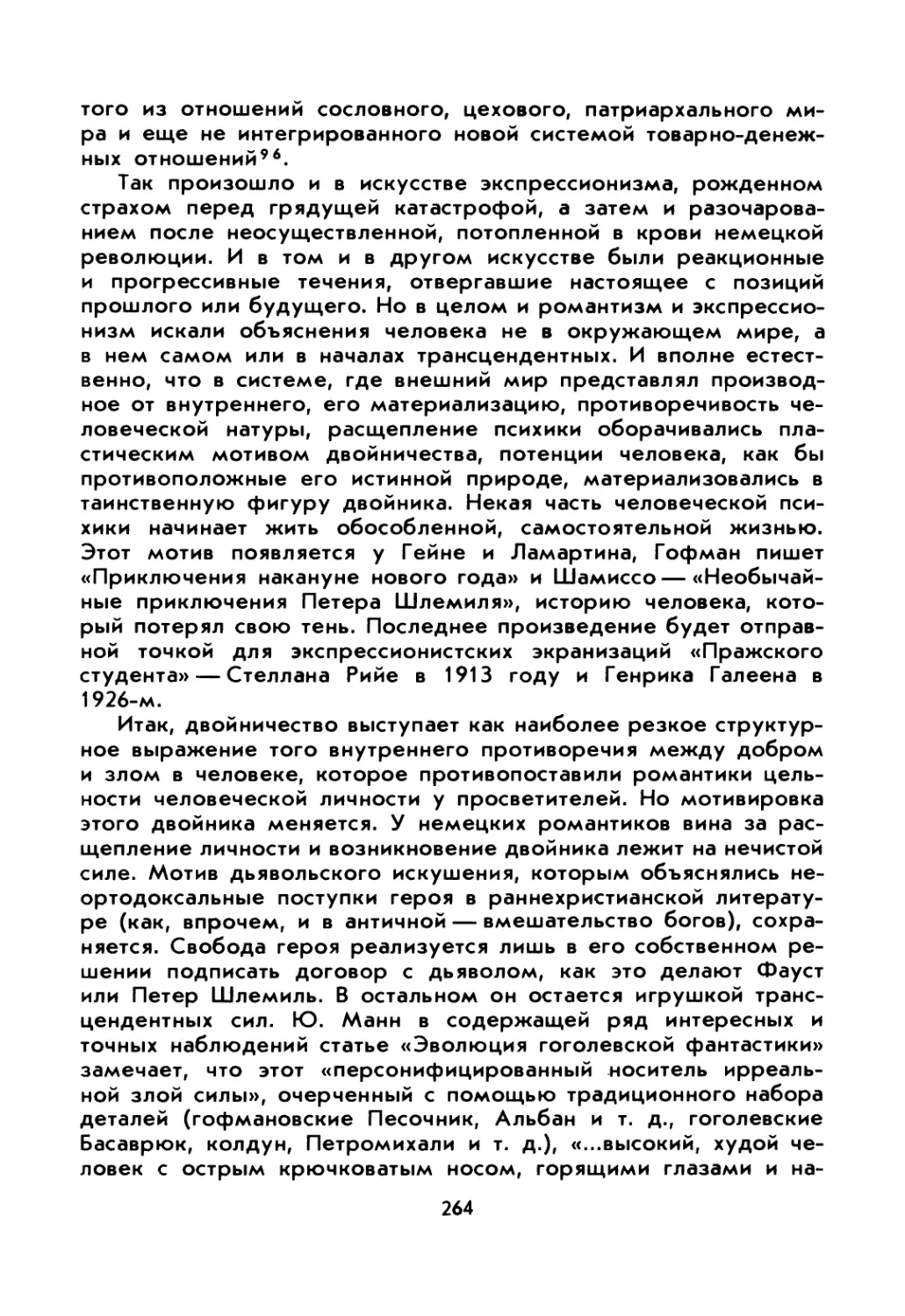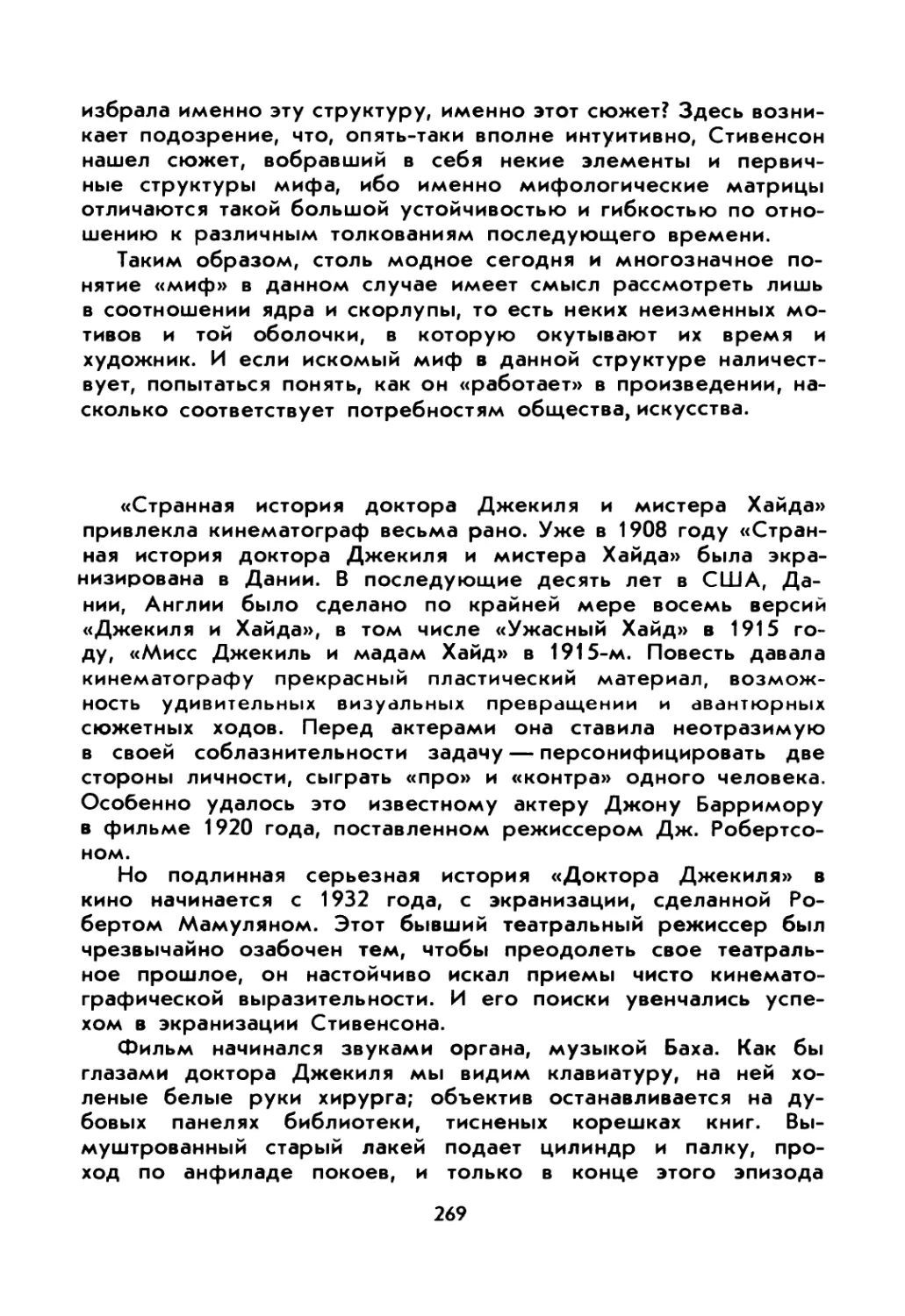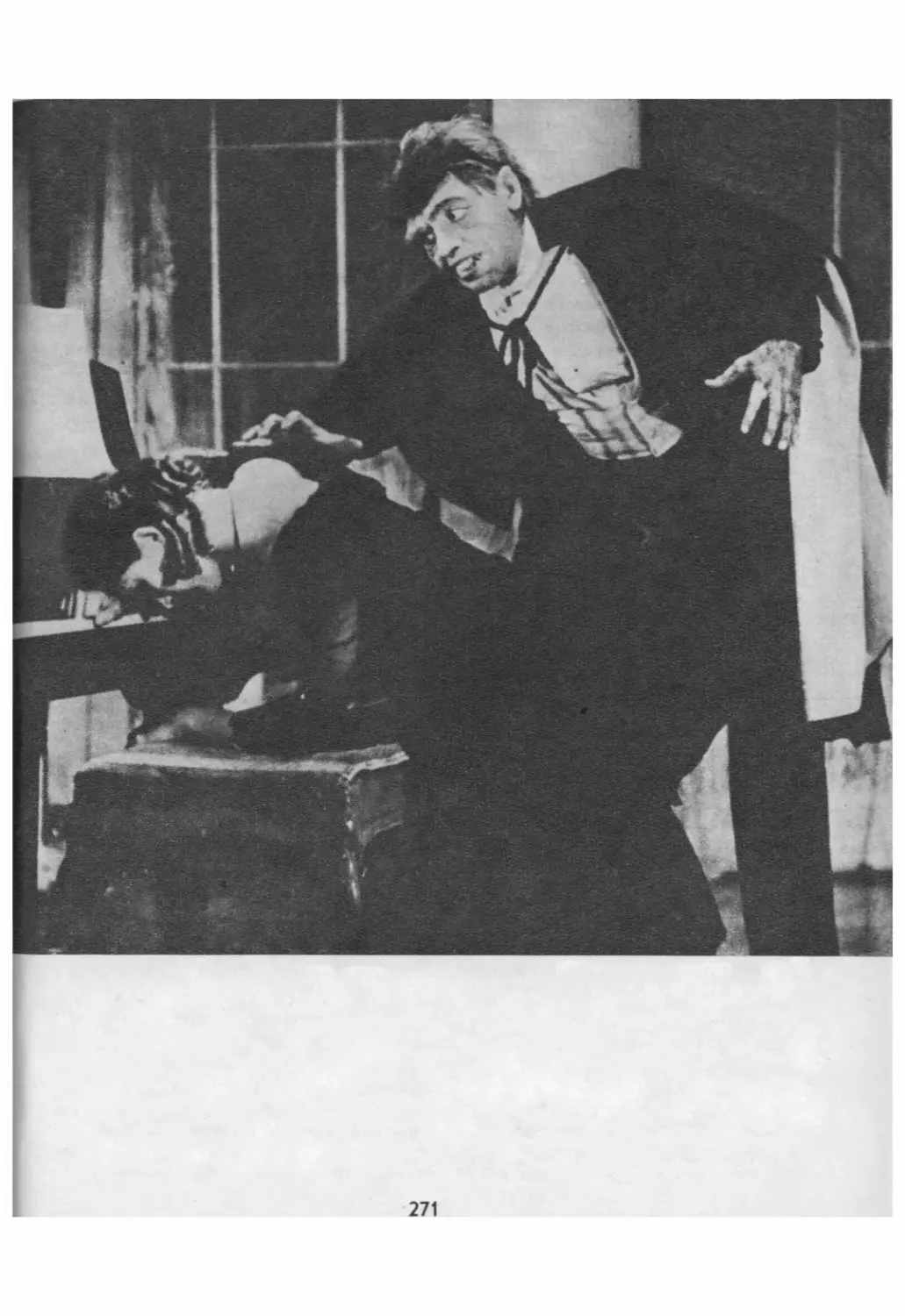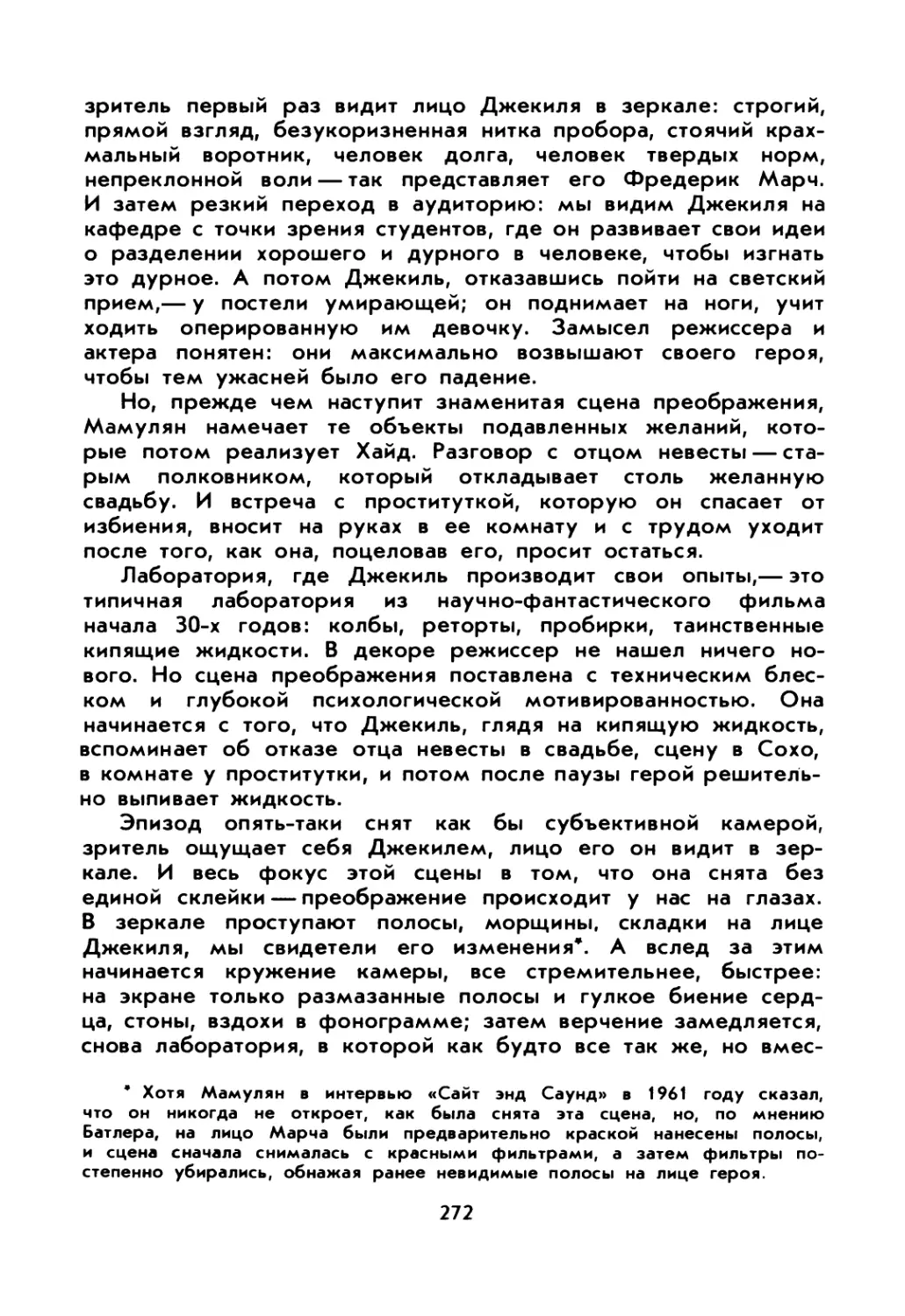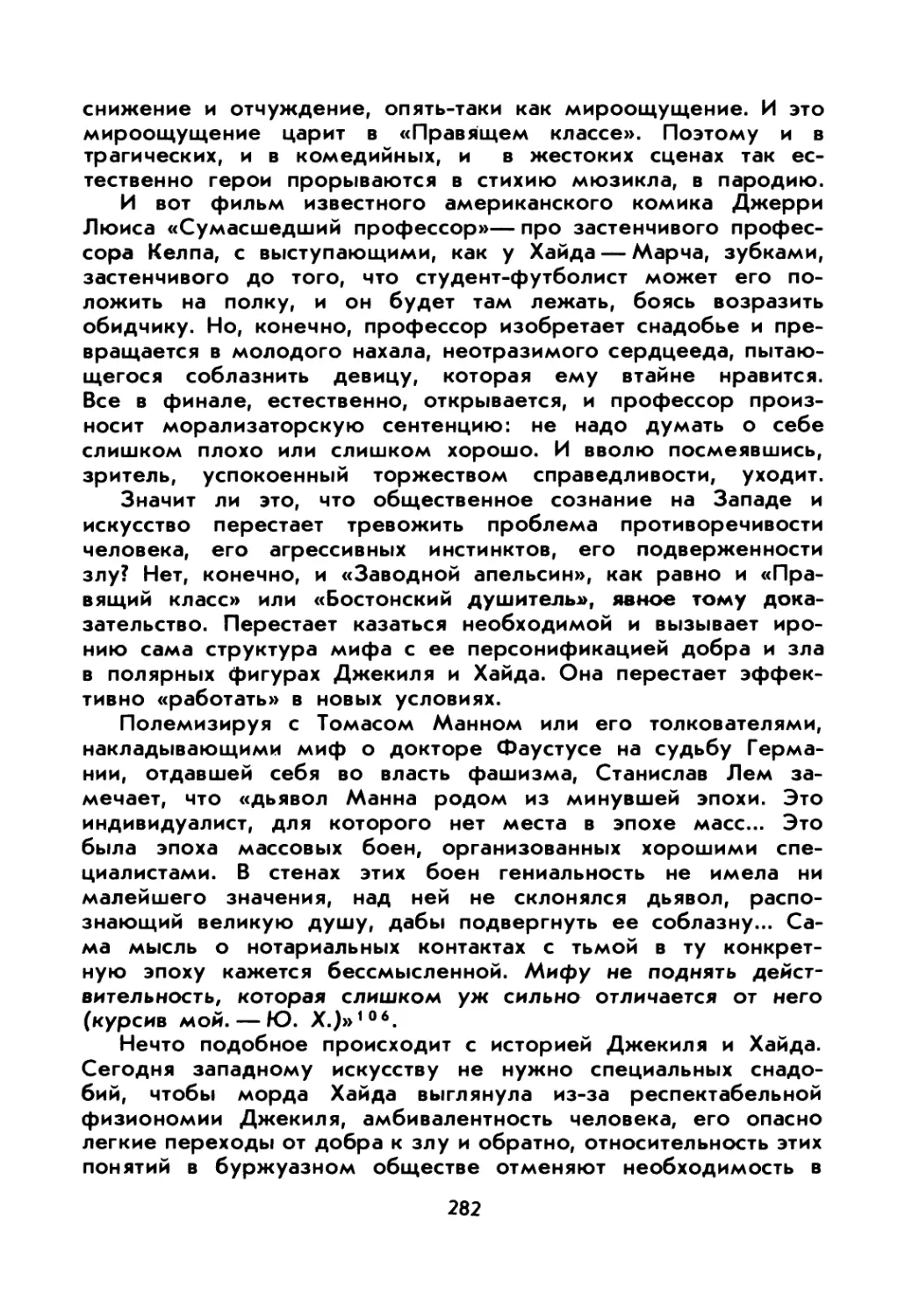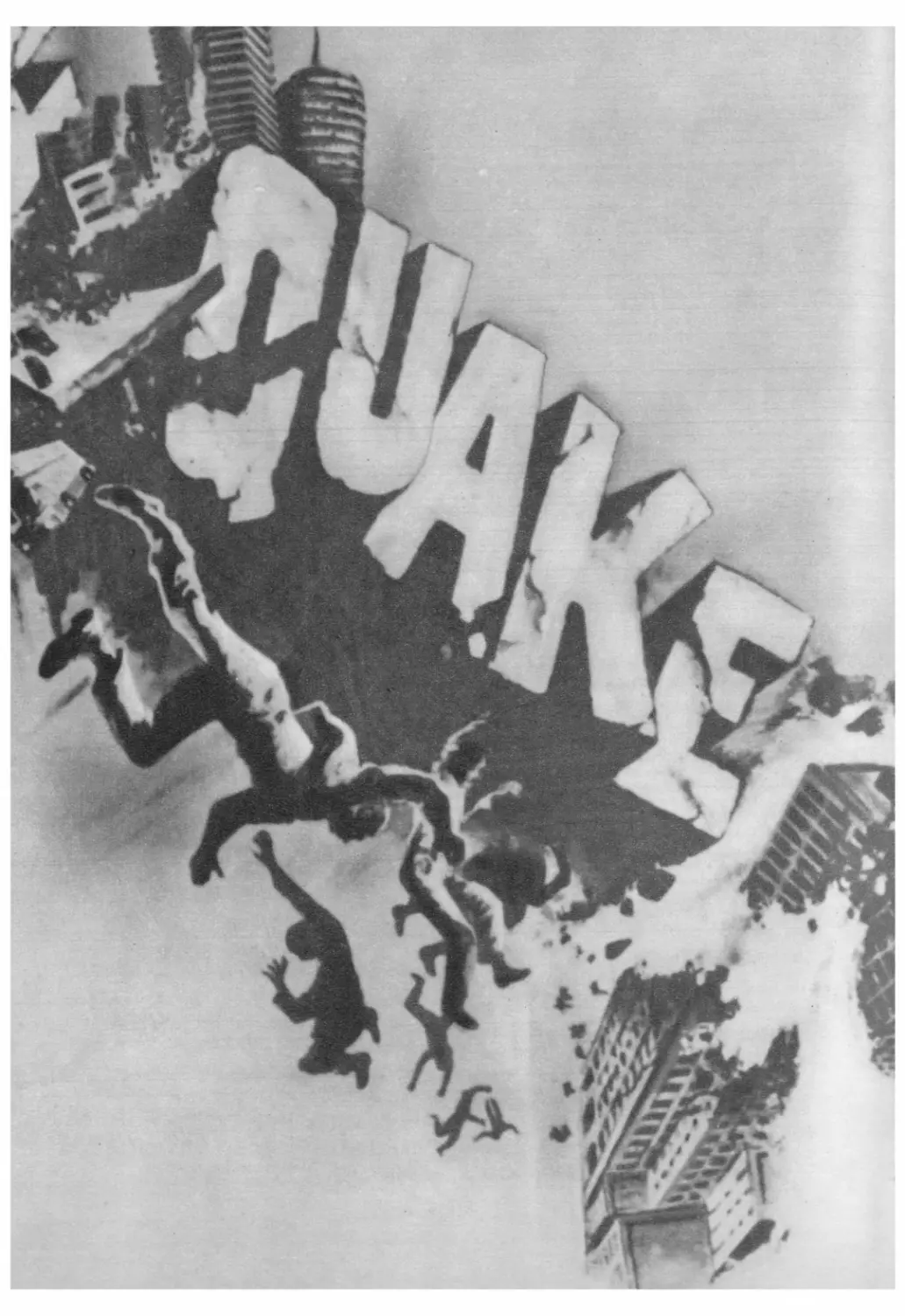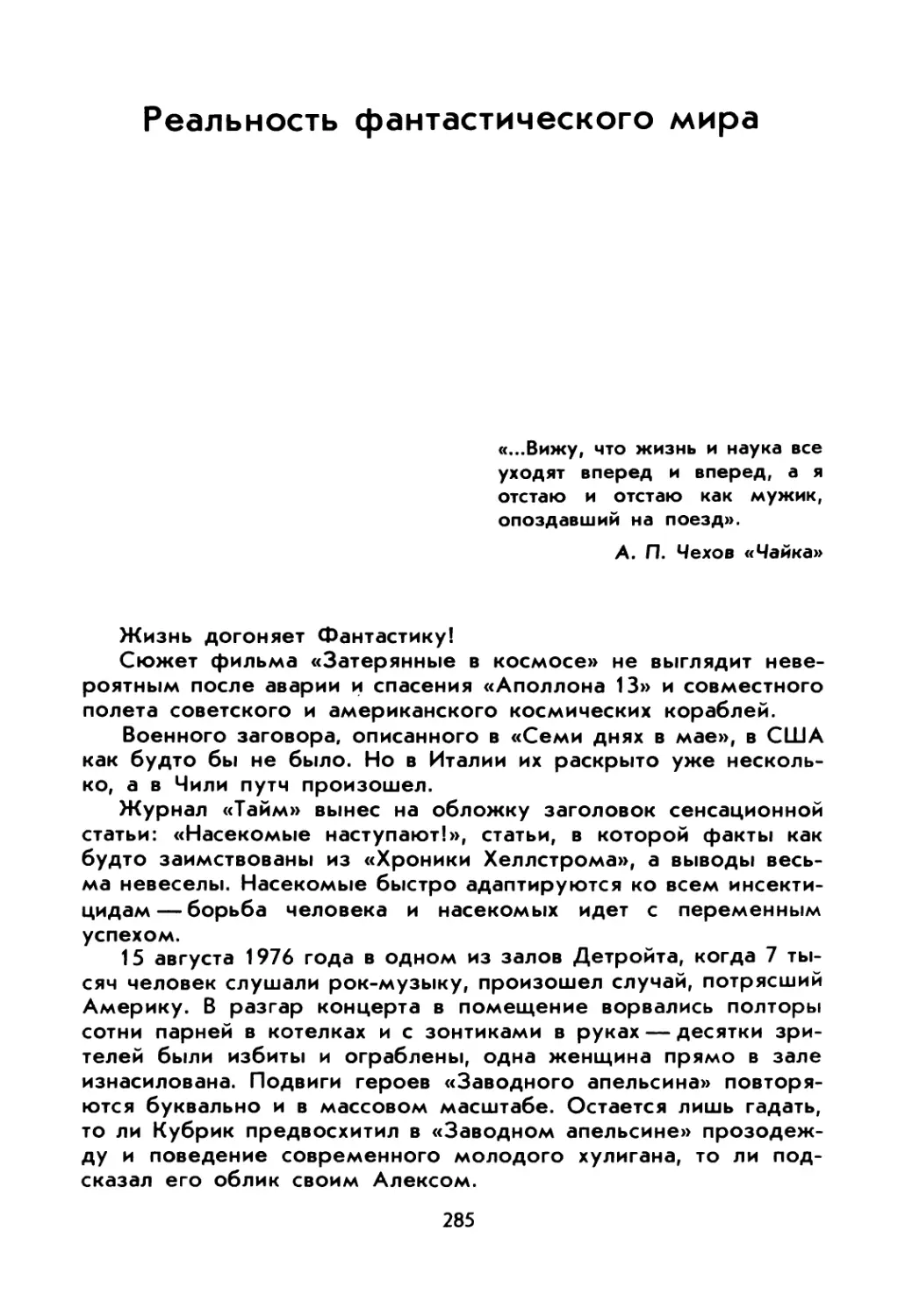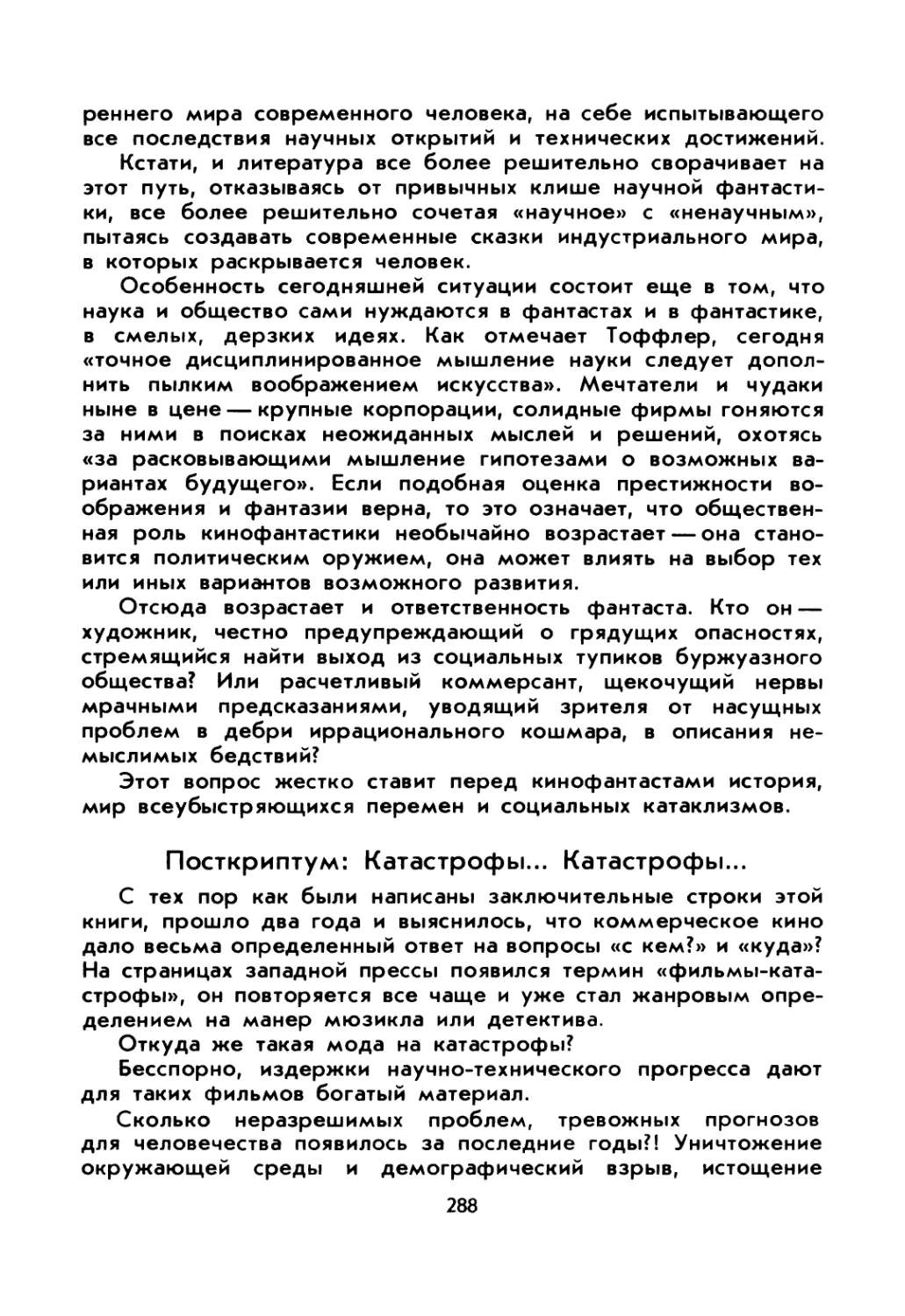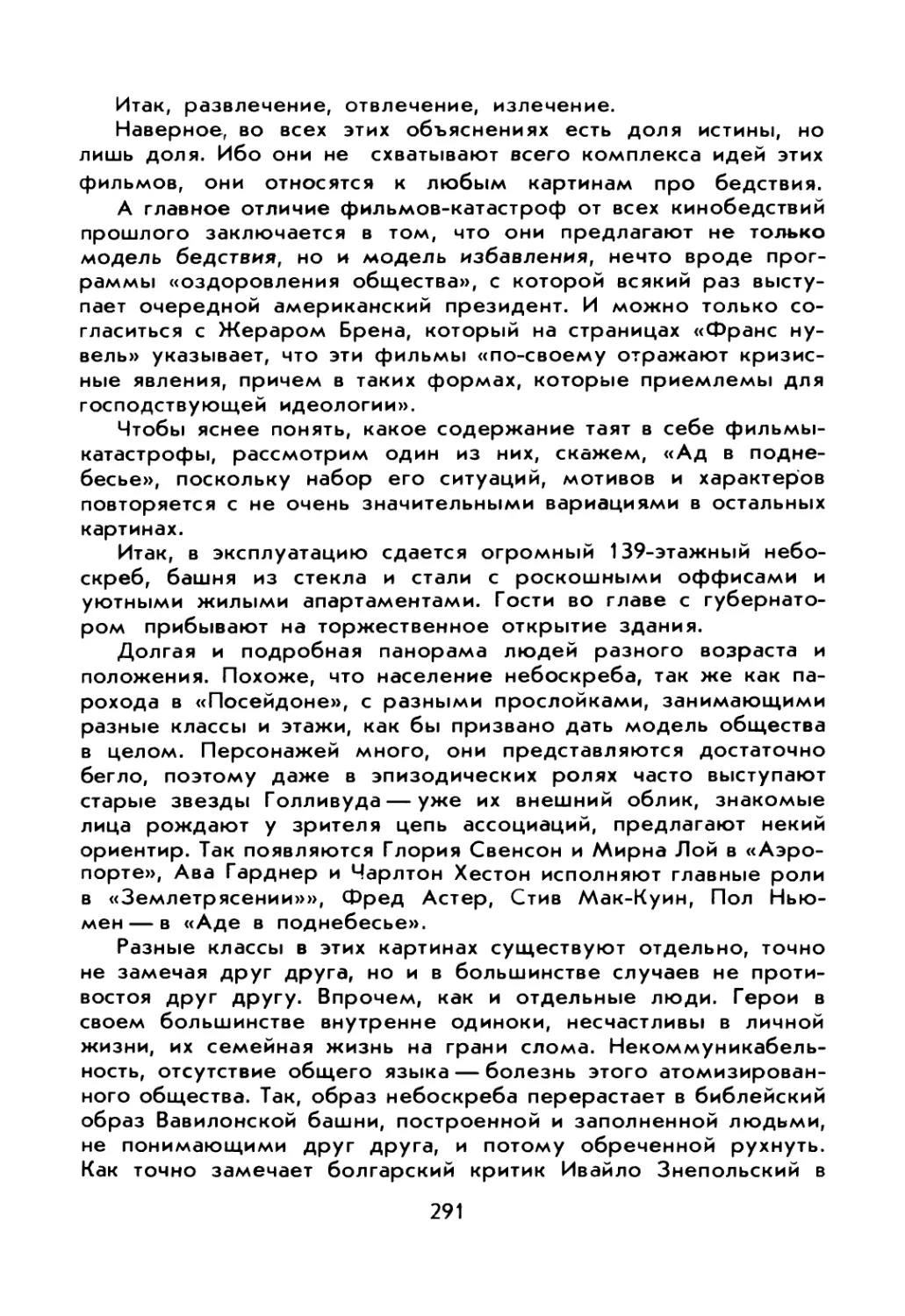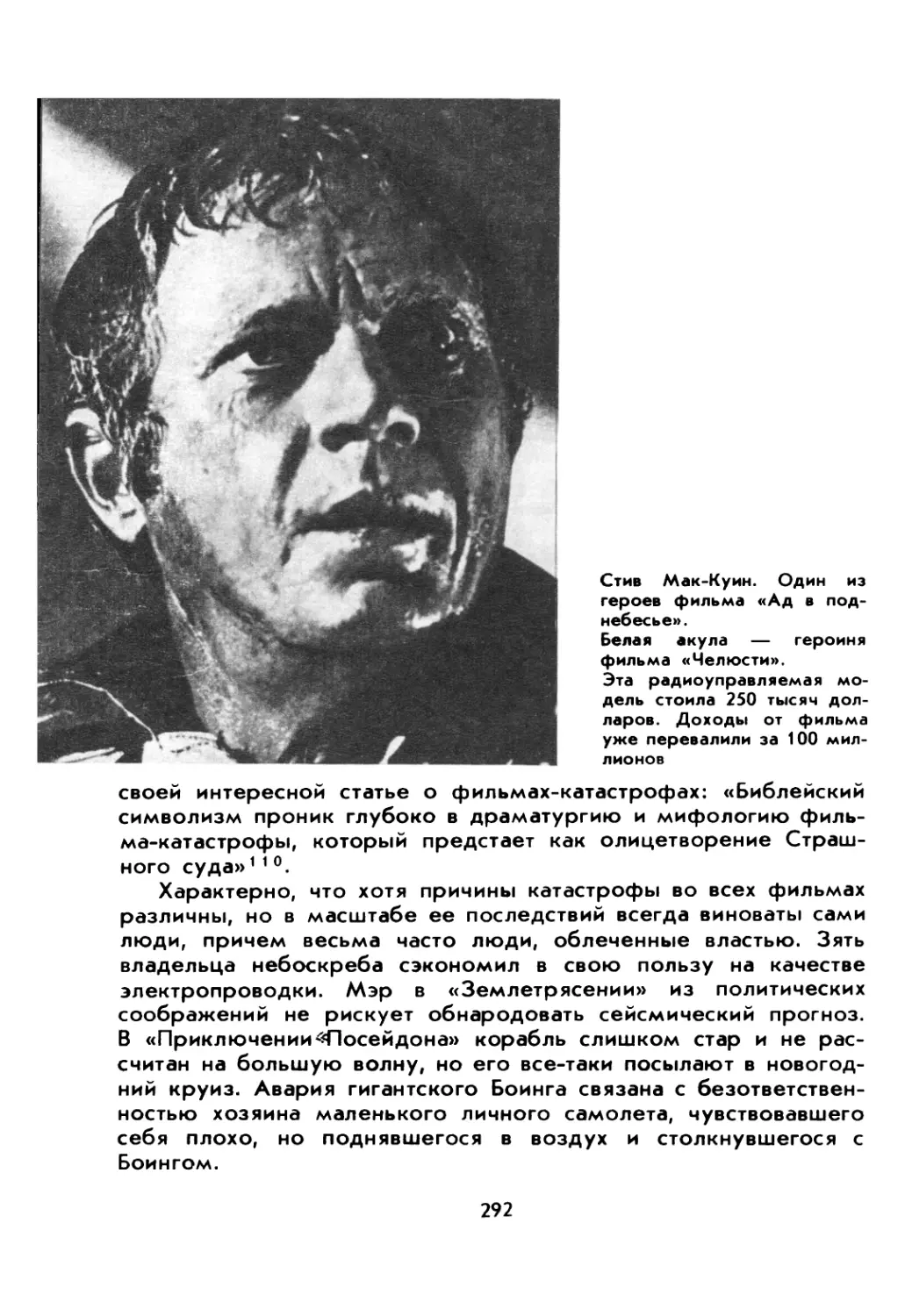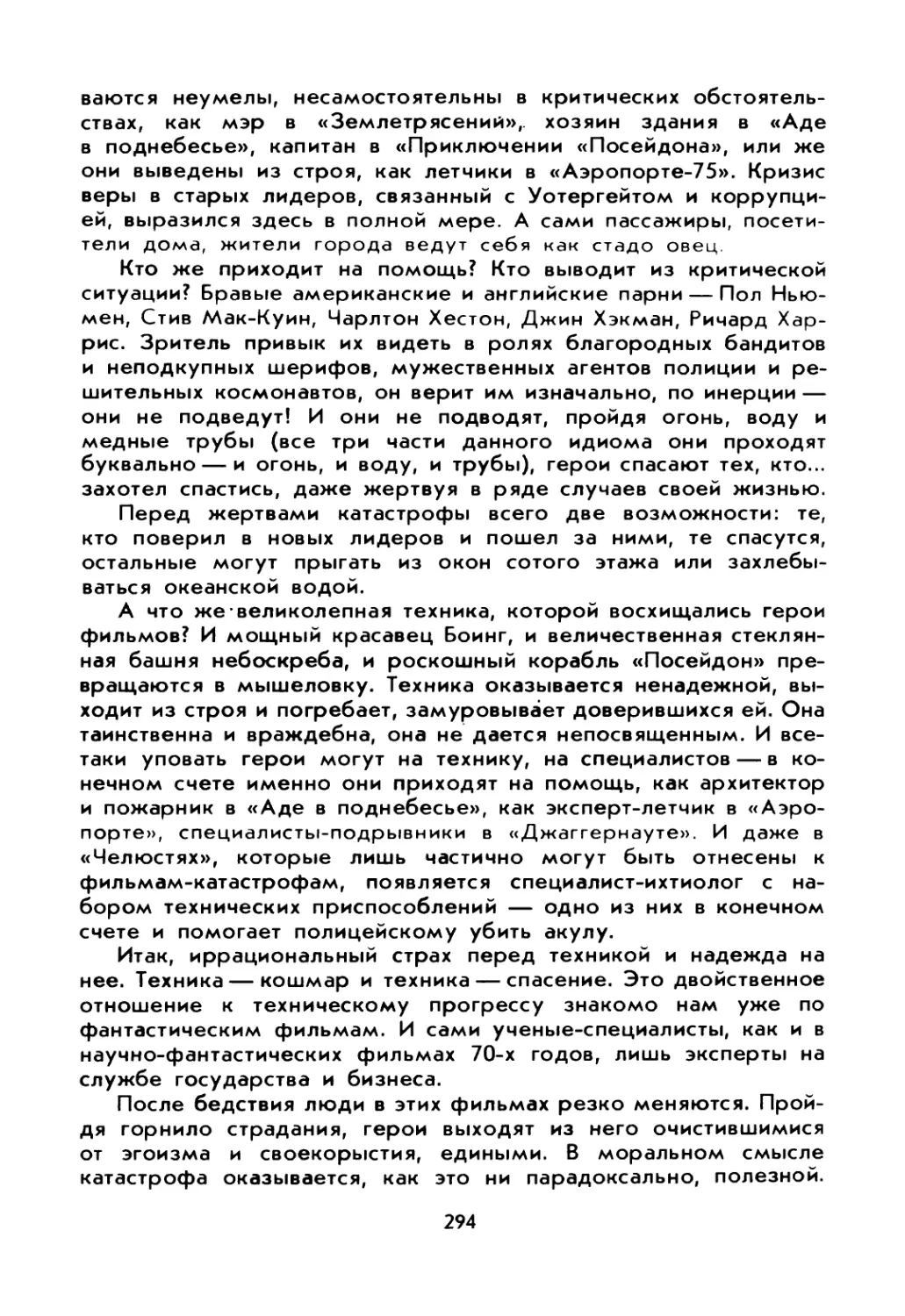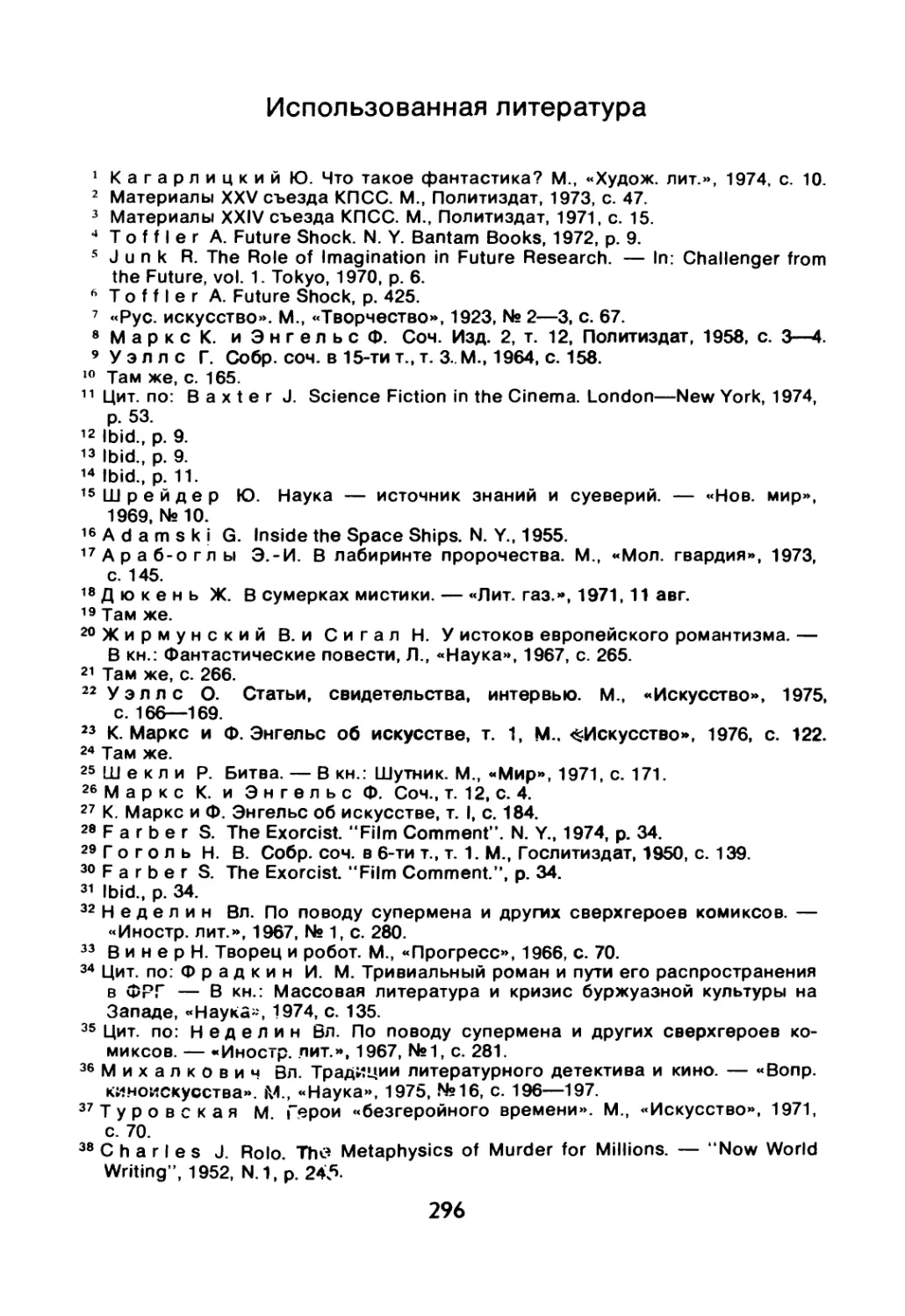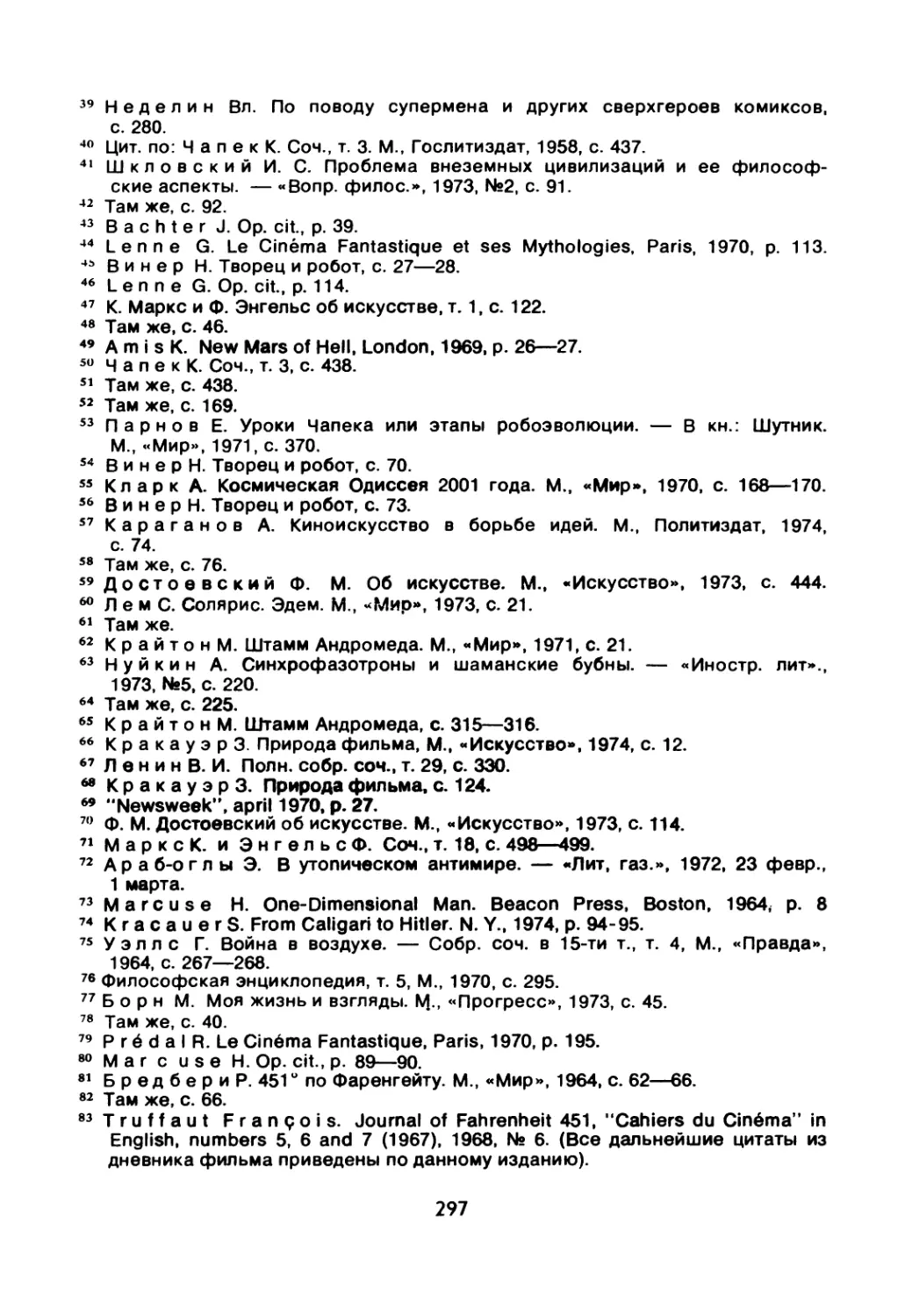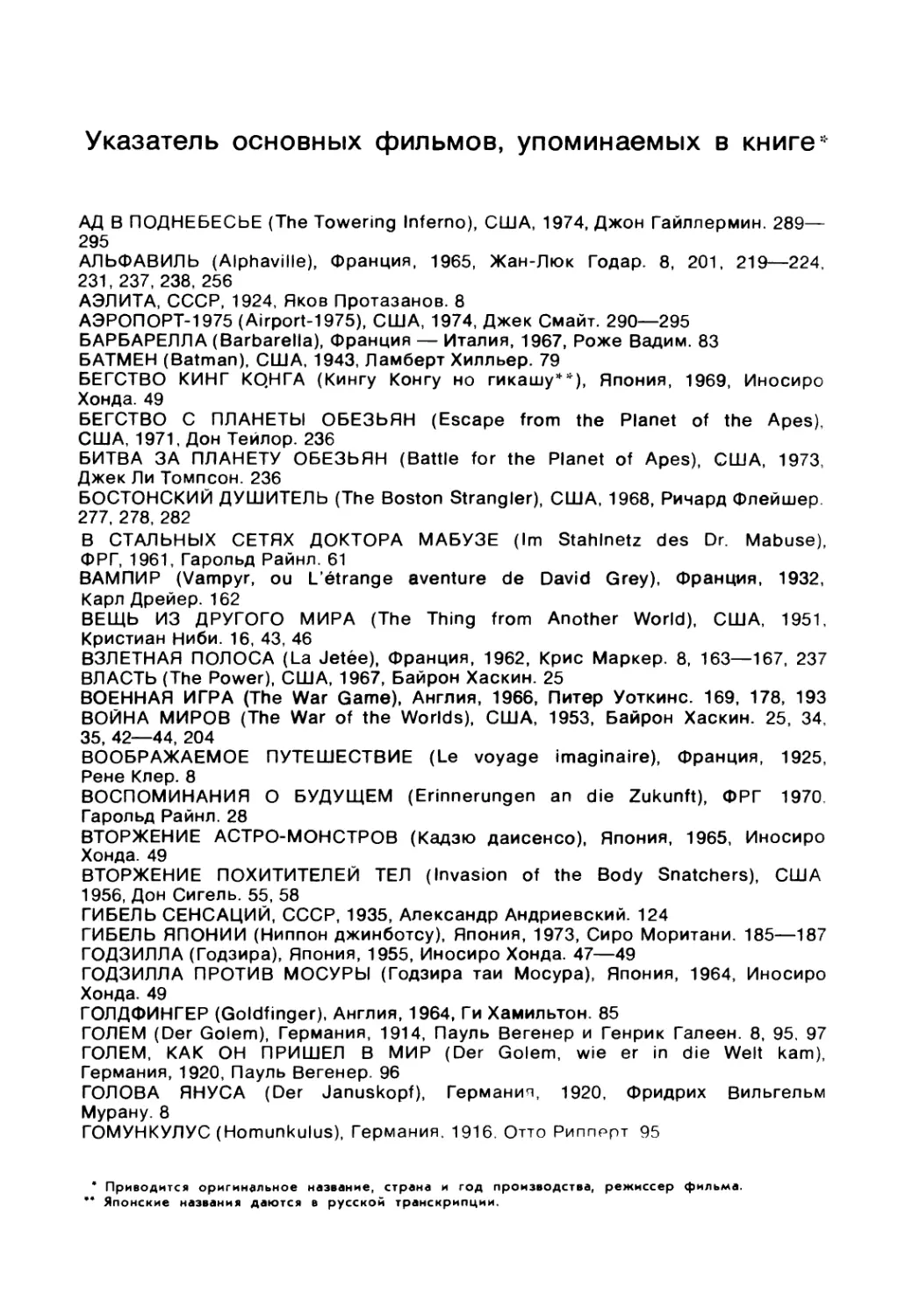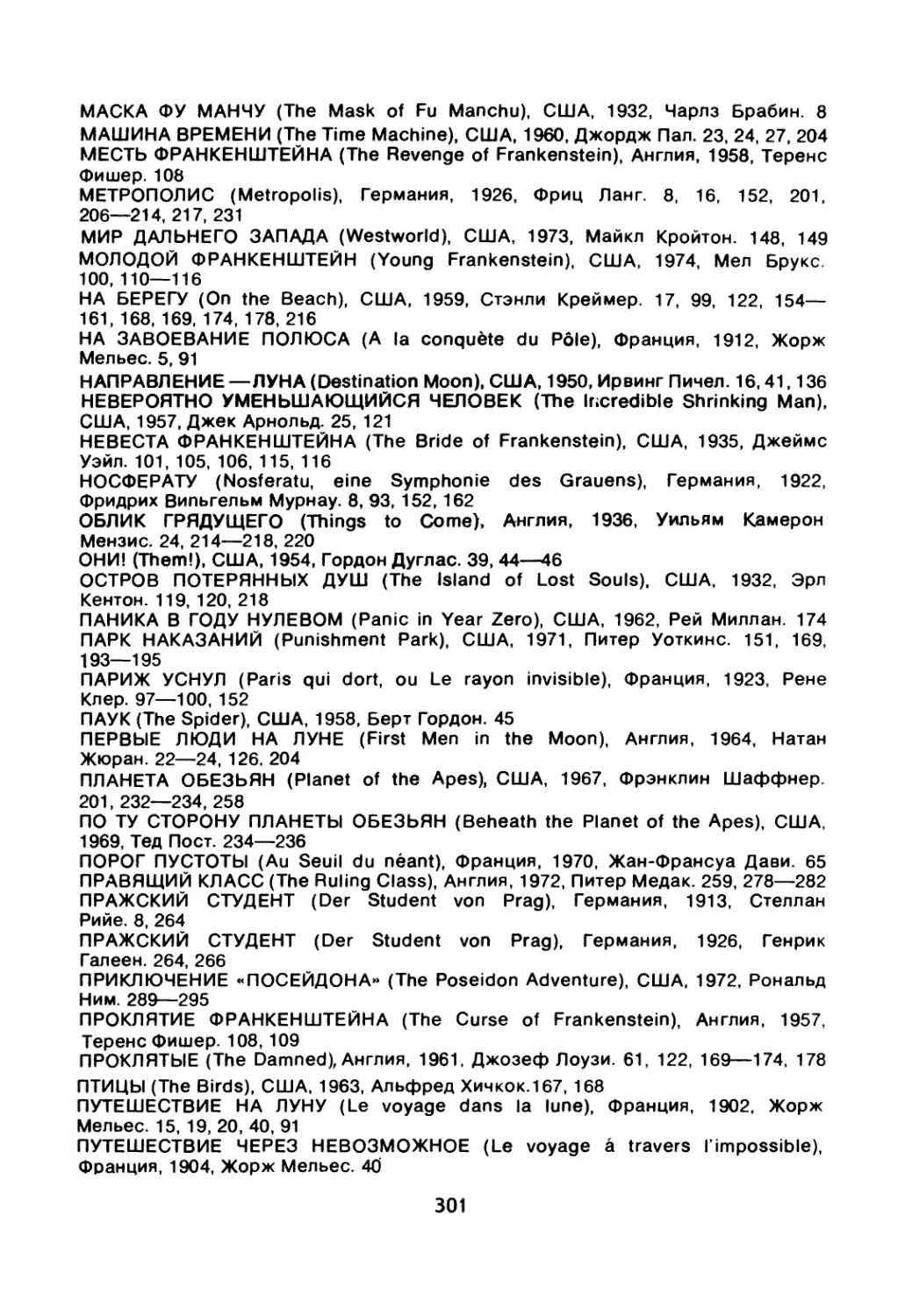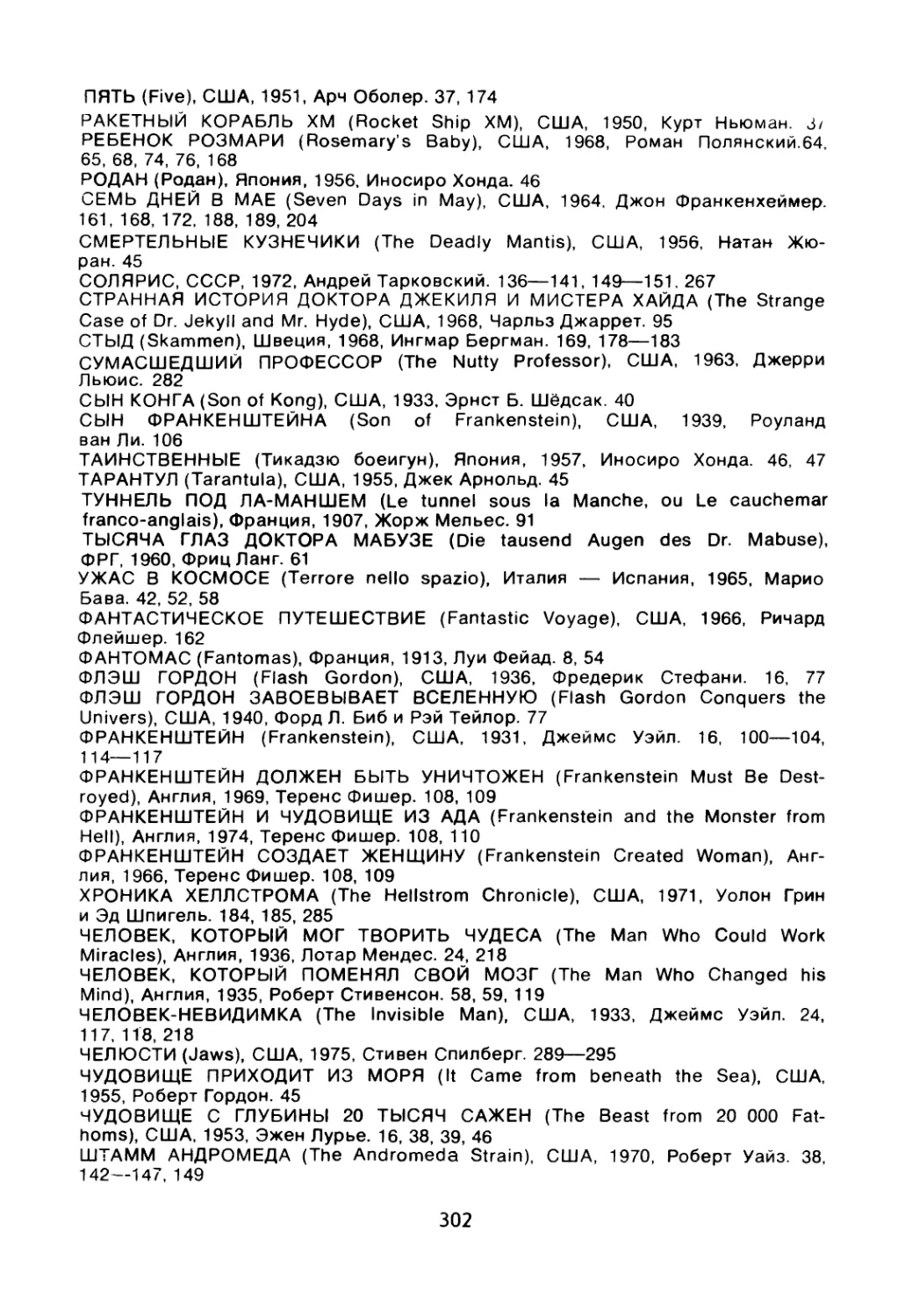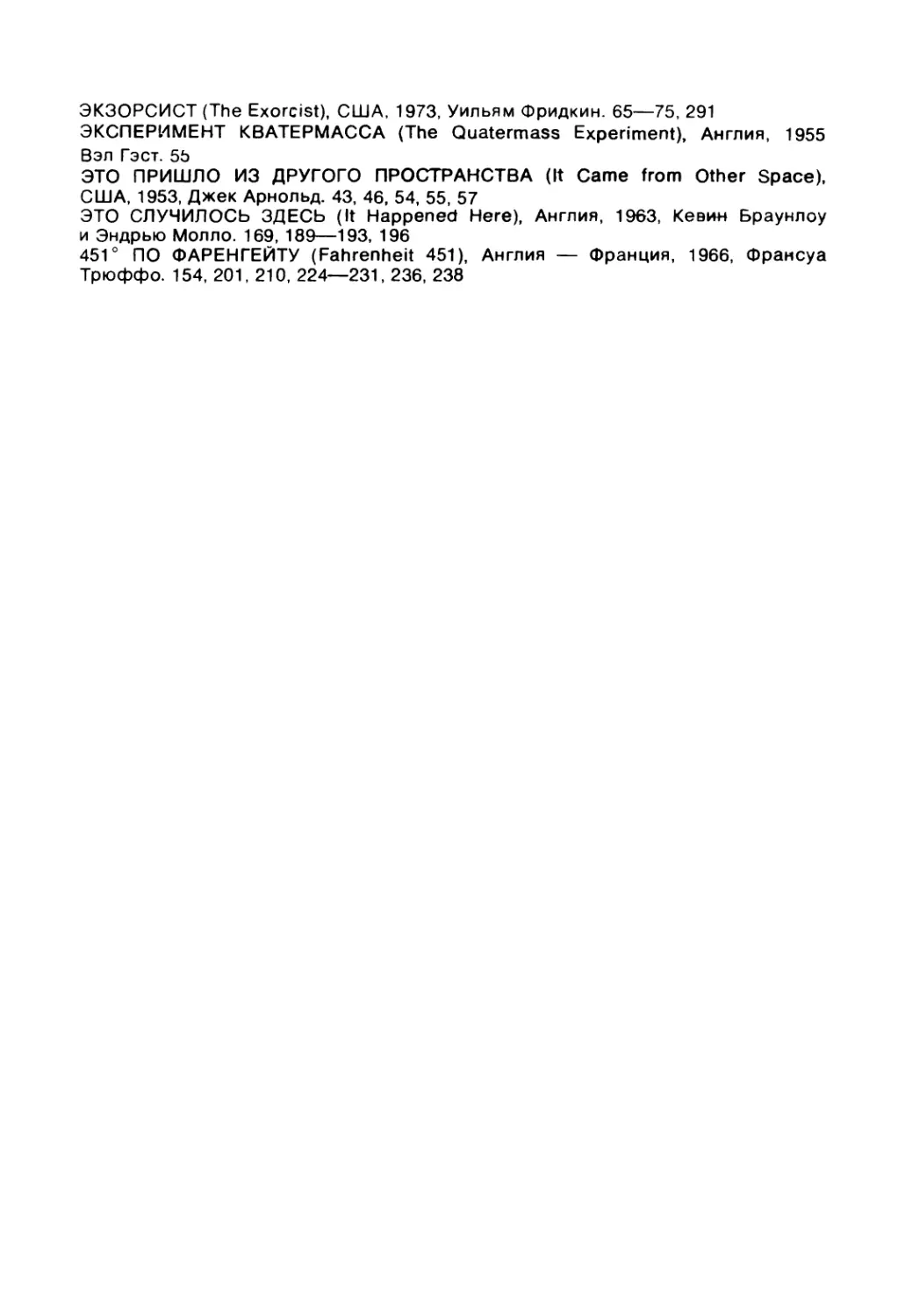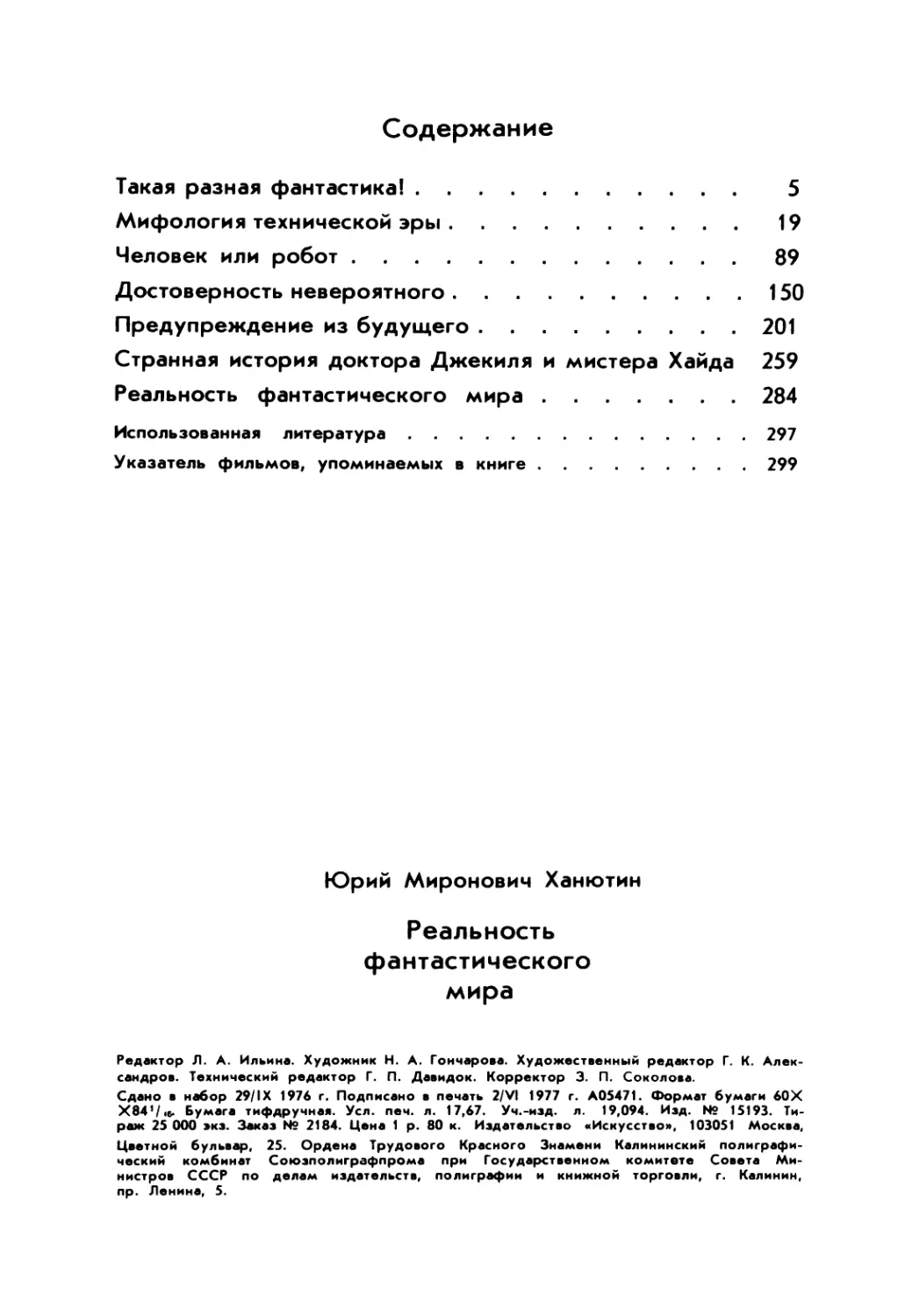Автор: Ханютин Ю.М.
Теги: культура история культуры история запада издательство искусство западная культура
Год: 1977
Текст
Всесоюзный научно-исследовательский
институт искусствознания
Министерства культуры СССР
Научно-исследовательский
Институт теории и истории кино Госкино СССР
Ю.Ханютин
Реальность
фантастического
мира
Проблемы
западной кинофантастики
Релиз подготовлен для kosmoaelita.com
Москва, «Искусство» 1977
778И
Х19
Ханютин Ю. М.
XI9 Реальность фантастического мира. М., «Искусст
во», 1977.
Кинофантастика как летопись страхов и надежд человека буржуазного ми¬
ра. Кинофантастика как способ социально дезориентировать зрителя, вверг¬
нув его в бездны иррационального ужаса. Кинофантастика как попытка прог¬
нозировать будущее, осмыслить огромные перемены, которые несет научно-
техническая революция,— предмет этой книги, написанной киноведом и ки¬
нокритиком Ю. Хаиютиным.
304 С. С ИЛ.
80106-161
778И
X
84-76
025(01)-77
©Издательство «Искусство», 1977 г.
Такая разная фантастика!
Релиз для kosmoaelita.com
Главная идея-фикс фантастов —
окольными путями миражей охо¬
титься за действительностью. Если
вы думаете, что нам достаточно
создавать иллюзии, вы ошибаетесь.
Наша мания еще чудовищней: мы
посягаем на действительность.
Карел Чапек
Фантастика сопутствует кинематографу с момента его рож¬
дения. Сам факт ожившего изображения казался первым зри¬
телям фантастичным. Феерии Жоржа Мельеса отвечали зритель¬
скому ожиданию чуда, вводя его в магический мир фантазии,
тем более впечатляющий, чем более он был невероятен. Фан¬
тазия на почве науки мирно уживалась с волшебной сказкой.
Аэроплан с орлиным носом в фильме «На завоевание полю¬
са» пролетал мимо знаков Зодиака. Его хотел укусить «Скор¬
пион», его приветствовала «Дева», сказочный геликоптер спасал
путешественников из объятий магнитного полюса.
Делая свои фильмы (их более пятисот!), Мельес, естествен¬
но, не задумывался над их жанровой природой, свободно со¬
единяя элементы правды и вымысла, фантазии научной и ненауч¬
ной. С тех пор картина изменилась. Все то, что на заре кине¬
матографа у Мельеса существовало в недифференцированном
синкретическом виде, теперь обособилось, развилось в само¬
стоятельные ветви фантастического кино. И сегодня неизбежный
вопрос: что такое фантастика, и уже — какие явления кинемато¬
графа обнимает термин «фантастический фильм»—требует
суммы ответов.
На первый взгляд все как будто довольно просто. Фантасти¬
ческое произведение изображает невозможное с точки зрения
современной науки, техники и нашего житейского опыта или
5
то, что — мы твердо знаем — не происходило в человеческой
истории. Правда, тогда понятие «фантастика» растягивается от
«Таинственного острова» Жюля Верна до «Фауста» Гёте, от
«Тарзана» Берроуза до социальных утопий Хаксли, от «Челове-
ка-амфибии» до «Альфавиля» и от повествующей о вампирах
«Дракулы» до «Космической Одиссеи». Все эти произведения
самого разного уровня искусства, разных задач имеют общий
знаменатель невероятного. Если даже объединить под общей
крышей фантастического столь различные художественные ор¬
ганизмы, то тем не менее возникает потребность предоставить
им отдельные территории, ибо их совместное проживание, оче¬
видно, невозможно — это явления разных рядов искусства.
Однако как только пытаешься классифицировать различные
виды и подвиды фантастического, как только пытаешься отгра¬
ничить эту область от искусства не фантастического, так сразу
же сталкиваешься с чрезвычайными трудностями терминологи¬
ческого и содержательного порядка. Так, выясняется, что в тео¬
ретических и критических работах, посвященных литературной
фантастике, на сей счет существуют самые противоречивые мне¬
ния. Аналогичная картина и в кино. Под общее определение
«фантастика» попадают самые разные типы фильмов, имеющие
между собой мало общего.
Есть фильм ужасов, в котором действуют вампиры, приви¬
дения, ожившие мертвецы, колдуны и даже сам дьявол. К при¬
меру, можно вспомнить многочисленные фильмы про «патриар¬
ха» вампиров — графа Дракулу.
Есть фильмы-сказки, в которых фантастическое — синоним
волшебного — предстает в «добродушном» варианте («Алиса в
стране чудес»).
На другом полюсе располагают научно-фантастические филь¬
мы в прямом смысле этого слова, подробно рассказывающие о
технических изобретениях и открытиях, еще не сделанных, но
вполне возможных в будущем.
Существует приключенческая фантастика, где вместо джунг¬
лей и прерий красавцы супермены действуют на сказочных
планетах, построенных в павильонах киностудий, и борются не
с индейцами, гангстерами и тиграми, а с различными косми¬
ческими агрессорами или невероятными инопланетными чудо¬
вищами.
Наконец, есть произведения, в которых рисуются социальные
последствия тех или иных научных открытий, различные вариан¬
ты будущего.
Каждый из этих видов фантастического кино имеет свои
эстетические особенности, своих литературных предков, своего
6
зрителя. При этом границы между видами фантастического кино
чрезвычайно размыты. И автор, собирающийся посвятить свое
внимание научно-фантастическому фильму, обнаруживает, что
героем многих фильмов ужасов является злодей ученый и
действие их происходит в декорациях научной лаборатории.
А в фильмах о будущем цивилизации и науки, скажем в «Мет-
рополисе» или в «Зардозе», происходят сцены столь жуткие,
что ими гордился бы любой фильм ужасов (кстати, они вклю¬
чены в хрестоматии фильмов ужасов). Невероятные чудовища
в приключенческих фильмах имеют научную мотивировку сво¬
его появления, а философские и политические притчи отнесены
в будущее.
Как говорится, все смешалось в доме Облонских...
В американском литературоведении существуют термины
«Fantasy» и «Science Fiction» для различия ненаучной и на¬
учной фантастики. Но беда в том, что эти, казалось бы, по¬
лярные виды фантастического обнаруживают тенденцию к вза¬
имному проникновению и подчас мирно уживаются на страни¬
цах одного произведения, в пределах одного фильма.
Так, вполне научно-фантастический роман Артура Кларка
«Космическая Одиссея», повествующий о превратностях косми¬
ческой экспедиции к Сатурну, кончается мистическими сценами
встречи космонавта Боумена с мировым разумом, смертью и
возрождением человека, призванного спасти Землю от катаст¬
рофы. Правда, в фильме этот элемент мистического отсутству¬
ет, превращается в неопределенную многозначность финала.
Мы еще будем говорить о причинах соединения, диффузии
научного и иррационального в современной фантастике. Пока
же приходится констатировать, что способ классификации по
материалу вряд ли может быть корректен. Следует искать дру¬
гие принципы*.
* Очевидно, интеграция и близость разных отраслей фантастического в
кино заставляют многих исследователей рассматривать их вместе или, во
всяком случае, не отделять глухой стеной. Вообще принципы классификации
и ограничения материала фантастики в ряде работ, появляющихся на Западе,
весьма свободны и исходят из самых разных обстоятельств, в том числе из
субъективных пристрастий.
Так, Кингсли Эмис (Kingsley Amis. New Maps of Hell. — «New English Lib¬
rary», 1969), например, просто отмечает, что он не любит «Fantasy» и не со¬
бирается ее рассматривать, хотя признает ее значение для понимания про¬
цессов, происходящих в культуре.
Французские исследователи Мишель Каен, Жан Клод Ромер и Жак Цим¬
мер в большой статье-каталоге «70 лет фантастического кино» («Image et
Son», 1966, № 194) применяют свой принцип систематизации материала,
выделяя следующие разделы:
7
1. Предшественники. Сюда вошли Мельес, «Алиса в стране чудес» Эд¬
вина Портера (1909), первый «Фантомас» (1913) и первый «Голем» Вегенера
и Галеена (1914), «Призрачная повозка» Шёстрома (1920) и ряд других филь¬
мов, созданных до начала первой мировой войны.
2. Немецкий экспрессионизм. Начиная от «Кабинета доктора Калигари»,
«Голема», «Головы Януса» и кончая «Носферату» и «Пражским студентом».
3. Развитие великих мифов, где перечислены все киноверсии Дракулы
и Франкенштейна с начала 30-х гг. и по наши дни.
4. Фильм ужасов. В данный раздел рядом с «Призраком оперы», «Мас¬
кой Фу Манчу» и «Людьми-кошками», «Психо» и «Отвращением» вошли все
киноверсии «Доктора Джекиля и мистера Хайда».
5. Гигантизм. По этому признаку объединены голливудский «Кинг Конг»,
японская Годзилла и целый ряд других чудовищ, созданных киновоображе¬
нием на протяжении сорока пяти лет.
6. Чудесное. Здесь нашли себе место «Белоснежка и семь гномов»,
«Багдадский вор», «Садко», «Вечерние посетители» Карне и «Седьмая пе¬
чать» Бергмана. Уязвимость предложенной классификации проступает в та¬
ком соединении, пожалуй, наиболее ясно.
7. Научная фантастика. От «Аэлиты» и «Метрополиса» до «Взлетной по¬
лосы» и «Альфавиля».
8. Библейская фантастика и античные пеплумы.
9. Пародии и бурлеск.
10. Мираж, воображение, сон.
Таким образом, в этом каталоге собраны почти все основные фантасти¬
ческие фильмы. Но классификация их проведена либо по историческому приз¬
наку— кинематограф до первой мировой войны, немецкий экспрессионизм.
Либо по жанровому — научная фантастика, фильм ужасов. Либо по мате¬
риалу и сюжетным мотивировкам — гигантизм, миражи, сны. Либо по стиле¬
вому — бурлеск. Подобная эклектика и сводит внутри одного раздела такие
несочетаемые фильмы, как шуточный «Воображаемое путешествие» Клера
и философский экспериментаторский «В прошлом году в Мариенбаде» Рене.
Жерар Ленн в книге «Фантастическое кино и его мифология» (Lenne
Gérard. Le cinéma «Fantastique» et ses mythologies, Ed du cerf, 1970) рас¬
сматривает фантастику как собрание извечных мифов и развитие их посто¬
янных структур, а Рене Предаль, написавший наиболее объемистый труд
«Фантастическое кино» (Prédal Réne. Le cinéma fantastique», cinéma club
Seghers, 1970), группирует фильмы и по тематическим признакам, и по хро¬
нологии, и по жанрам, и по принадлежности отдельным писателям и режис¬
серам, так что понять принцип распределения материала весьма сложно.
Работа двух французских критиков Жака Сиклие и Андре-С. Лабарта
«Образы научной фантастики» (Siclier J., Labarthe A.-S. « «Images de la
science fiction», Ed. du cerf, 1958) представляет исторический очерк раз¬
вития научно-фантастического кино от феерий Мельеса до символических
чудовищ японского экрана и анализирует фильмы в связи с меняющейся
исторической ситуацией. Но любопытно, что если Сиклие и Лабарт считают
возможным поместить в раздел научной фантастики такие фильмы, как «Го¬
лем» и «Белые Зомби», то автор «Научной фантастики в кино» (Baxter
John. Science Fiction in the Cinema. N. Y. — London, 1970) Джон Бакстер
очень строго отсекает все произведения, в которых не трактуются научные
проблемы или не появляются ученые.
Точно так же Анджей Колодыньский в книге о научной фантастике (Ко-
lodynski Andrzej. Filmy fahtastyczno-naukowe, Warszawa, 1972), представля¬
ющей сборник эссе о наиболее известных картинах, предваренный обзорно¬
теоретической статьей, довольно жестко ограничивает себя только теми филь¬
мами, в которых есть научная или псевдонаучная мотивировка сюжета.
8
Проблема эта имеет не только формальное, но и практи¬
ческое значение. О чем писать и о чем не писать, что сле¬
дует взять в орбиту исследования и от чего следует отказаться.
А отбор необходим, если учесть хотя бы огромное количество
фантастических фильмов и их по большей части невысокий
уровень.
В те времена, когда Мельес — патриарх и родоначальник
фантастического кино — делал свои феерии, кинематограф хо¬
тел быть развлечением, он еще не стремился в пантеон муз
и прекрасно чувствовал себя среди ярмарочных увеселений.
Поэзия в фильмах Мельеса возникала как бы нечаянно, она не
была осознанной целью. Цель состояла в том, чтобы позаба¬
вить, увлечь в иллюзорный мир вымысла и сказки.
Эта цель была и остается главной для подавляющего боль¬
шинства фантастических фильмов, создаваемых на Западе*. Толь¬
ко то, что Мельес делал с наивной увлеченностью и поэзией,
сегодня производится с холодным коммерческим расчетом.
Западную кинематографическую фантастику в ее основном по¬
токе можно понять, лишь рассматривая ее как феномен «мас¬
совой культуры», с присущими «массовой культуре» чертами:
ориентацией на широкого зрителя, зрелищностью, стабиль¬
ностью сюжетных и типологических схем, нравоучительностью,
иллюзорным разрешением жизненных противоречий, политиче¬
ским консерватизмом.
С другой стороны, на этом фоне, как одинокие пики над
унылой пустыней, высятся действительно значительные фильмы.
Трудно определить точное количественное соотношение. В ил¬
люстрированном альбоме фантастического кино испанский ис¬
кусствовед Гаска упоминает 369 фильмов. Достойны именоваться
искусством из них 18—20. Пропорция примерно один к двадцати.
Возникает соблазн взять фильмы проблемные, созданные,
что называется, «с серьезными намерениями», и отбросить кон¬
вейерную, коммерческую продукцию. Но, во-первых, тогда
общая картина западной кинофантастики предстанет в искажен-
Данная работа посвящена в основном кинофантастике США и Запад¬
ной Европы. Советская фантастика, как и фильмы этого жанра, созданные в
других социалистических странах, требует, естественно, специального иссле¬
дования. На страницах этой книги советские фильмы упоминаются или раз¬
бираются лишь в тех случаях, когда их сопоставление с западными картина¬
ми помогает понять коренную разность позиций социалистического и бур¬
жуазного искусства в изображении будущего, последствий HTP. Сам термин
«западная фантастика» имеет здесь не столько географическое, сколько со¬
циально-политическое содержание. Он включает в себя, например, и япон¬
ские фантастические фильмы, принадлежащие к явлениям буржуазной «мас¬
совой культуры».
9
ном виде, а во-вторых, нельзя забывать, что целый ряд филь¬
мов, не представляющих с эстетической точки зрения никакой
ценности, тем не менее, может быть, помимо воли их авторов
затронул важные струны массового сознания и сыграл суще¬
ственную роль в развитии фантастического кино.
Должно быть, для того чтобы найти наиболее плодотворный
ракурс исследования кинофантастики, стоит посмотреть, в ка¬
ких связях с реальной действительностью она находится, в ка¬
кую сторону идет развитие фантастического кино в целом, ка¬
ково его значение для современного кинематографа.
И здесь следует отметить, что в эволюции фантастики на
Западе сегодня просматривается одна очень важная тенден¬
ция. Подобно тому как сама развивающаяся цивилизация «про¬
глатывает» и низводит на практически реальную почву многие
фантастические ситуации, например, полет на Луну или сказоч¬
ные мотивы ковра-самолета, всевидящего зеркала, гиперболои¬
да, так и проблемное искусство, задумывающееся над проти¬
воречиями технического прогресса, наступает на территорию
фантастики-развлечения или чистого вымысла — процесс, ха¬
рактерный для 60—70-х годов.
Исследователь зарубежной фантастики Ю. Кагарлицкий в
качестве одного из центральных тезисов своей работы выска¬
зывает положение, что «научная фантастика XX века сыграла
свою роль в подготовке многих сторон современного реализма
в целом»1. Еще двадцать, даже пятнадцать лет тому назад эту
мысль можно было бы отнести к киноискусству с большими
оговорками. И в основном указывая на значительную роль фан¬
тастики в развитии киноязыка.
Направление фантастики, развившееся в последние десять-
пятнадцать лет, не только оказало мощное художественное влия¬
ние на современный реализм, но и вышло в авангард его мно¬
гих идейных исканий. Научно-техническая революция, мир со¬
зданных ею машин, возможности и опасности технического
прогресса — на эти центральные проблемы века наиболее четко
отозвалась фантастика, причем именно та, которую принято на¬
зывать научной и, может быть, вернее определить как социаль¬
ную. Именно эта ветвь фантастического кино переживает се¬
годня расцвет и дает право рассматривать кинофантастику не
только как развлекательный жанр, но как одно из наиболее
серьезных, проблемных направлений современного кино.
Чтобы понять характер и причины ее расцвета, необходимо
рассмотреть ту социально-историческую ситуацию, в которой
фантастическое кино развивается. Его место в системе: научно-
техническая революция — личность — будущее.
10
В докладе на XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев подчеркнул:
«Мы, коммунисты, исходим из того, что только в условиях
социализма научно-техническая революция обретает верное,
отвечающее интересам человека и общества направление.
В свою очередь, только на основе ускоренного развития науки
и техники могут быть решены конечные задачи революции
социальной — построено коммунистическое общество»2.
В то же время на Западе, как указывалось еще на
XXIV съезде КПСС «монополии широко используют достижения
научно-технического прогресса для укрепления своих позиций,
для повышения эффективности и темпов развития производства,
для усиления эксплуатации трудящихся и их угнетения.
Однако приспособление к новым условиям не означает ста¬
билизации капитализма как системы. Общий кризис капитализ¬
ма продолжает углубляться»3.
Такова четкая картина разнонаправленного действия НТР в
разных социальных системах, данная с трибуны XXIV и XXV съез¬
дов КПСС. Отсюда, как мы увидим далее, и противоположный
пафос фантастики в мире социализма и капитализма.
Благо или зло НТР, в каком направлении должен идти тех¬
нический прогресс и что он может принести человечеству в
будущем — над этими вопросами задумываются сегодня и на
Западе, их ставят не только экономисты, философы, политики,
социологи, но и художники.
Искусство ставит их, конечно, по-своему и дает ответы не¬
прямые и многозначные — связь с социологией опосредованная.
Но следует отметить, что в последние годы она становится все
более явной, и во многих случаях уже можно четко определить
философских или социологических родителей тех или иных яв¬
лений литературы и кинематографа. Влияние НТР на развитие
искусства неоспоримо и многообразно*.
А количество социологических исследований, посвященных
прогнозированию будущего, увеличивается с каждым днем**.
«Бум прогнозов»— выражение, вошедшее в оборот в запад¬
ной социологии,— точно характеризует ситуацию. Она вызвана
к жизни прежде всего тем процессом, который американский
* Об этом подробно см.: Егоров А. К. Научно-техническая революция
и искусство.— Сб. «Контекст», М., «Наука», 1973; Гулыга Арс. Проблема че¬
ловека и зарубежный кинематограф.— Сб. «Вопросы киноискусства». М., «Нау¬
ка», № 15, 1974.
Их обстоятельный обзор и социальный анализ сделан в книге Араб-
оглы Э. А. «В лабиринтах пророчеств». М., «Молодая гвардия», 1973, а также
в работе Ожегова Ю. П. Социальное прогнозирование и идеологическая борь¬
ба. М., Изд-во политической литературы, 1975.
11
социолог Олвин Тоффлер образно определил как «футуро-
шок» — шок от «урагана перемен», который «не только не
стихает, но кажется, только сейчас набирает силу»4.
Естественно, что в этих условиях особенно важна информа¬
ция о будущем, предупреждение о том, что ждет или может
ждать человека и человечество впереди, за ближайшим пово¬
ротом, на следующем витке,— информация, которая может по¬
мочь адаптироваться, подготовиться к столкновению с буду¬
щим».
И здесь несомненно существенную роль играет фантастика.
Характерно, что один из известных западных футуроло¬
гов Роберт Юнгк в работе «Роль воображения в исследовании
будущего» самые большие надежды в прогнозировании отдает
не логическому, не критическому, а творческому воображению.
«Оно характеризует эпоху и очень часто выводит ум за преде¬
лы противоречий, которые характеризовали прошлое и пред¬
ставлялись неразрешимыми»5. А Олвин Тоффлер прямо пишет:
«С точки зрения литературной научная фантастика не пользует¬
ся уважением, и, возможно, она заслуживает критического от¬
ношения. Но если научную фантастику рассматривать скорее как
своего рода социологию будущего, чем как литературу, то она
приобретает огромную ценность... Научную фантастику следует
сделать обязательным чтением для самоориентации в буду¬
щем»6.
Таким образом, сама действительность научно-технической
революции рождает потребность в произведениях, пытающихся
заглянуть в завтрашний день, и дает мощный импульс к их воз¬
никновению. Должно быть, именно фантастика, устремленная в
будущее, способна запечатлеть наиболее жгучие проблемы
мгновенно изменяющегося мира. Необходимость в произведе¬
ниях этого жанра становится особенно сильной в эпохи пере¬
ломные, в эпохи социальных и научных революций.
В 1923 году журнал «Русское искусство» писал: «Сама жизнь
перестала сегодня быть плоско реальной: она проецируется не
на прежние неподвижные, но на динамические координаты
Эйнштейна, революции. В этой новой проекции сдвинутыми,
фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые при¬
вычные формулы и вещи... Отсюда так логична в сегодняшней
литературе тяга именно к фантастическому сюжету или к сплаву
реальности и фантастики»7.
В 60—70-е годы кинематограф взял на себя задачу пере¬
дать «динамические координаты» действительности. Не случай¬
но в области фантастического кино все чаще появляются филь¬
мы философские, берущие на себя прогностическую функцию.
12
Не случайно в фантастику пришли такие известные художники,
как Стэнли Кубрик и Андрей Тарковский, Ален Рене и Франсуа
Трюффо, Стэнли Креймер и Джон Франкенхеймер, Ингмар
Бергман и Джон Бурмэн.
Но уже характер этих прогнозов зависит не от темпов
научно-технической революции, но прежде всего от того, в
каких социальных условиях она совершается. В XIX веке темпы
технического прогресса были несравнимы с нынешними. Однако
еще в речи на юбилее лондонской газеты «The people's pa¬
per» в 1856 году Карл Маркс говорил: «С одной стороны,
пробуждены к жизни такие промышленные и научные силы, о
каких и не подозревали ни в одну из предшествовавших эпох
в истории человечества. С другой стороны, видны признаки
упадка, далеко превосходящего все известные в истории ужасы
последних времен Римской империи. В наше время все как бы
чревато своей противоположностью. Мы видим, что машины,
обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее
человеческий труд, приносят людям голод и изнурение... По¬
беды техники как бы куплены ценой моральной деградации.
Кажется, что по мере того, как человечество подчиняет себе
природу, человек становится рабом других людей либо же
рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не
может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне
невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы
приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллек¬
туальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей ин¬
теллектуальной стороны, низводится до степени простой ма¬
териальной силы»8.
Кажется, будто эти слова произнесены вчера, а не сто с
лишним лет назад, настолько точно они открывают сегодняш¬
нюю ситуацию в капиталистическом обществе и даже провидят
одну из самых опасных тенденций — сведение человека до уров¬
ня робота и фетишизацию машины как разумного существа.
В условиях разительного противоречия между техническим
и социальным прогрессом, разрыва между научным познанием
и нравственным сознанием рождается отношение к науке, к
возможностям прогресса со стороны массового потребителя
и со стороны искусства. Страх и надежда, вера в чудеса нау¬
ки и глубокое разочарование в возможностях разума вообще,
мощные всплески иррационализма сопровождают научно-тех-
ническую революцию на Западе.
Современная фантастика выражает всю пестроту и слож¬
ность отношения к науке и техническому прогрессу в буржуаз¬
ном обществе. Отсюда ее идейная и жанровая многосоставность,
13
отсюда сочетание научного и антинаучного, мотивированного и
произвольного, реального и сверхъестественного.
Таким образом, обе ветви фантастического—научная и не
научная фантастика — вырастают из почвы современной со¬
циальной ситуации, связанной с научно-технической револю¬
цией, с общим и все углубляющимся кризисом капитализма.
И анализируя жанровые и стилевые особенности тех или иных
фантастических ситуаций, необходимо прежде всего учитывать,
выявлять ту социальную, идейную позицию, на которой нахо¬
дится автор разбираемого произведения по отношению к основ¬
ным проблемам научно-технического прогресса, будущего.
При этом, конечно, необходимо определенное ограниче¬
ние материала. Хотя и в картинах о вампирах, призраках, ожив¬
ших мертвецах находят свое выражение массовые эмоции, все
же они остаются в основном за пределами данного исследова¬
ния. Это не значит, конечно, что рассматриваться в нем будут
только научно-фантастические фильмы в строгом смысле слова,
тем более, что, как мы видели, в применении ко многим про¬
изведениям экрана данный термин не имеет смысла. Речь здесь
пойдет о картинах, в которых явны связи — связи притяжения и
отталкивания — с проблемами современной цивилизации, науч¬
но-технической революции, ее социальными и нравственным^
14
«На завоевание полюса». Пре¬
док всех киномонстров — снеж¬
ный великан.
«Долгожитель» фантастиче¬
ского экрана — гигантская
обезьяна Кинг-Конг
последствиями. Это непосредственные угрозы, вызванные не¬
контролируемым развитием индустрии, гонкой вооружений.
Это отношения человека и машины и — шире — человека и тех¬
нического прогресса. Это размышление о будущем мире, воз¬
можных вариантах его развития, наконец, о структуре челове¬
ческой личности, формирующейся в условиях капиталистическо¬
го общества.
Таковы, на наш взгляд, основные темы фантастического ки¬
но. Они определяют и основные главы настоящей работы.
Так как данная книга не является историей фантастики, ее
композиция не следует хронологии, то нужно, очевидно, для
ориентировки читателя дать общую периодизацию материала.
Здесь большинство исследователей западной кинофантастики
придерживаются одинаковых временных границ. Первый этап
начинается от фильма «Путешествие на Луну» Мельеса 1902 го¬
да и продолжается до первой мировой войны. Он проходит
под знаком Мельеса, его восприятия науки как ключа к воро¬
там чуда, как повода для игры фантазии и объекта восторжен¬
ного изумления.
15
Второй этап связан с фильмами немецкого экспрессионизма.
Ему предшествовала первая мировая война, показавшая оборот¬
ную сторону технического прогресса. Мир, устроенный на ра¬
зумных началах, сменяется в экспрессионистских фильмах об<-
разом действительности, полной тайных опасностей, иррацио¬
нальных кошмаров. Наиболее ясным символом этого мироощу¬
щения явился «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине (1919).
Итог этому периоду подводил «Метрополис» Фрица Ланга,
собравший воедино все мотивы экспрессионистского фильма и,
как мы увидим, надолго вперед определивший кардинальные
темы мировой фантастики.
В следующем периоде центр фантастического кино пере¬
мещается в США. Здесь в основном немецкими кинодеятелями,
эмигрировавшими в Голливуд, на американской почве в период
великого кризиса были возрождены идеи экспрессионизма—-
на экран снова пришел искусственный человек, на этот раз в
образе чудовища Франкенштейна, снова поставлена загадка
двойственности человеческой личности в «Докторе Джекиле и
мистере Хайде», снова подвергнута сомнению роль ученого и
показана опасность знания в многочисленных фильмах о сумас¬
шедших ученых, наконец, в бегстве от грозной социальной дей¬
ствительности освоены экзотические территории: затерянный
мир Атлантиды, остров доктора Моро и тропические джунгли,
где появлялась гигантская обезьяна Кинг Конг — коммерчески
самое жизнеспособное изобретение американской фантастики
(права на него были проданы японской фирме Тохо через
двадцать пять лет).
Одновременно это было время «сериалей», описывающих
похождения суперменов вроде Флэша Гордона, и серьезных
попыток создать фильм о будущем, осуществленный в 1936 го¬
ду Уильямом Камероном Мензисом (фильм «Облик грядуще¬
го» по сценарию Уэллса).
Новый бум американской кинофантастики, связанный с рас¬
цветом научно-фантастической литературы, начался с фильмов
«Направление — Луна» (1950, режиссер Ирвинг Пичел), «Вещь
из другого мира» (1951, режиссер Кристиан Ниби) и с филь¬
ма «Чудовище с глубины 20 000 сажен» (1953, режиссер Эжен
Лурье), открывшего в послевоенное время серию фильмов о
монстрах. Вскоре эту серию успешно продолжил на японской
почве Иносиро Хонда. Психоз летающих тарелок, расцветший
в атмосфере холодной войны, подогревал успех фильмов о
космической опасности. Страх перед атомной бомбой транс¬
формировался в образе чудовищ, разбуженных испытанием
ядерного оружия.
16
Схемы и модели фантастических фильмов были быстро от¬
лажены, и началось конвейерное производство картин, собирае¬
мых из блоков, столь же стереотипных, как салуны, шерифы,
златокудрые девицы и свирепые бандиты в вестернах, погони
на автомобилях и перестрелки в гангстерских фильмах.
Пожалуй, четкая грань завершения этого периода отмечена
1959 годом, когда Стэнли Креймер поставил фильм «На бере¬
гу», определив качественно новый уровень фантастического ки¬
но и начало уже не единичного и не случайного, но постоян¬
ного присутствия в нем крупных мастеров.
Этот последний период, продолжающийся по сей день, пока
еще не ясен в своих эстетических особенностях, он наиболее
сложен как по разнообразию определяющих его мастеров, так
и по противоречивости принесенных ими в фантастику социаль¬
ных художественных идей. Бесспорно одно: с приходом новых
режиссеров фантастический кинематограф теряет свою обособ¬
ленность от других жанров кино. Оставаясь частью «массовой
культуры», он в то же время становится серьезным искусством.
Для ряда художников фантастика оказывается лирическим,
сугубо авторским жанром, позволяющим им, используя фан¬
тастическую посылку, раскрыть внутреннюю механику социаль¬
ных, психологических явлений глубже, чем в обычной бытово¬
реалистической форме. Сама быстрота изменения действитель¬
ности, ее «динамические координаты» потребовали научной фан¬
тастики. Ибо проблемы рождаются на грани сегодня и завтра,
они требуют экстраполяции в завтрашний день того, что сегод¬
ня только возникает, а вчера еще не существовало.
...Итак, кинофантастика как летопись страхов и надежд че¬
ловека буржуазного мира; кинофантастика как способ социаль¬
но дезориентировать зрителя, ввергнув его в бездны иррацио¬
нального ужаса; кинофантастика как попытка прогнозировать
будущее, осмыслить огромные перемены, которые несет науч¬
но-техническая революция,— предмет этой книги.
Мифология технической эры
Сон разума
рождает чудовищ.
Франсиско Гойя
В 1901 году молодой, но уже известный писатель Герберт
Уэллс опубликовал роман «Первые люди на Луне». Луна, ко¬
торую посетили ученый Кэйвор и его сосед Бетфорд, оказалась
похожей на большой муравейник. Только «у муравьев четыре
или пять разных форм, у селенитов же их очень много»9.
«На Луне каждый гражданин знает свое место», каждый от
рождения воспитывается так, чтобы развить одну способность,—
у пастухов длинная клешня, чтобы погонять и тащить коров,
у мясников длинные руки на коротком теле, у математика
развиваются те части мозга, которые нужны для математики,
и «он глух ко всему, кроме математических задач»10, у воинов,
наоборот, мускулистые торсы и микроскопические мозги. А сам
Великий Лунарий — это колоссальный мозг с крошечными гла¬
зами, но без лица — компьютер, как сказали бы мы сегодня.
В «Первых людях на Луне» Уэллс предложил еще один вариант
возможного будущего, внеся в технократическую утопию эле¬
мент сатиры.
Через год после выхода романа появилась и первая экра¬
низация Уэллса — фильм Жоржа Мельеса «Путешествие на
Луну». В нем было 285 метров. Правда, попадали герои на
Луну по методу Жюля Верна — в снаряде, выпущенном из
пушки,— это было эффектнее, чем сам собой поднимающийся
шар, но дальше следовали сюжету Уэллса. Они встречали се-
19
Четыре этапа полета на Лу¬
ну: «Путешествие на Луну»
(1902), «Женщина на Лу¬
не» (1928), «Направле
ние — Луна» (1950), «Пер¬
вые люди на Луне» (1964)
К двум героям Уэллса ре¬
жиссер Жюран добавил ге¬
роиню. Что поделаешь,
кино!
ленитов, похожих на насекомых, ходили среди рощи грибов.
Обитателей Луны изображали акробаты из Фоли Бержер, бале¬
рины из театра Шатле плясали в виде небесных светил, после
различных приключений герои убегали от селенитов и спуска¬
лись на землю при помощи парашюта.
Конечно, кинематограф, находящийся в младенческом со¬
стоянии, не мог подняться до уровня размышлений Уэллса.
Мельес взял из романа то, что мог передать на экране — при¬
ключение и зрелище.
Прошло шестьдесят два года, и английский режиссер Натан
Жюран снова вернулся к «Первым людям на Луне». Роман
Уэллса получил современное якобы документальное обрамле¬
ние: три космонавта из Англии, СССР и США под флагом
ООН достигают Луны, но когда они уже собираются поднять
вымпел первооткрывателей, то неожиданно натыкаются на
истлевший британский флаг (приятно хоть в фантастике быть
первыми!) и документы, неопровержимо доказывающие, что
раньше их посетили Луну два героя Уэллса и (необходимая до¬
бавка кино) невеста Бетфорда— Кэт. Репортеры, получившие
сенсационное сообщение с Луны, находят престарелого Бет¬
форда, рассказ которого и стал основным сюжетом фильма.
Бетфорд поведал журналистам, как, не желая того, они с про¬
фессором Кэйвором и Кэт попали на Луну, как воевали с кар-
ликами-селенитами, как встретились с Великим Лунарием и
выяснили, что он, оказывается, готовит нападение на Землю.
(В кино жители чужих миров выглядят обычно более агрессив¬
но, чем в литературе.) Наконец, как после обычных схваток и
погонь Бетфорд и его невеста убегают, оставив бедного про¬
фессора в руках злобных селенитов. И тут действие возращает-
ся в современность: космонавты не могут найти следов селе¬
нитов— все обратилось в пыль. «Не удивительно,— усмехается
Бетфорд, — у Кэйвора был страшный насморк». Бедные селени¬
ты стали жертвой земной инфекции.
За исключением этого смешного хода в финале, как бы
ставящего под сомнение весь рассказ Бетфорда, фильм пред¬
ставляет собой банальную приключенческую ленту, сделанную
без изобретательности и совершенно отбросившую социальное
содержание книги Уэллса, его попытки показать алогизм бур¬
жуазного общества и тоскливую упорядоченность лунного как
одну из нежелательных альтернатив будущего. Роман давал ос¬
нования и для фильма-размышления и для фильма-сатиры. Кине¬
матограф располагал уже техническими возможностями звука,
цвета, широкого экрана. Но формула зрелище + приключение
остается неизменной.
22
Может быть, «Первым людям на Луне» просто не повезло?
Вот фильм «Машина времени» (1960), признанный лучшим филь¬
мом Джорджа Пала — современного Мельеса, «чародея экра-
на»— продюсера и режиссера фантастических картин. «Маши¬
на времени» была опубликована еще в 1895 году. В далеком
будущем путешественник во времени обнаруживал не гармо¬
ническое разумное и счастливое общество, а две совершенно
чуждые друг другу враждебные расы: изнеженные, беспечные,
отучившиеся работать и мыслить элои и живущие в подзем¬
ных фабриках, одичавшие морлоки, употребляющие своих
бывших хозяев элоев в пищу. Романтическая метафора Уэл¬
лса была тем, что сегодня называют экстраполяцией в будущее
тенденций настоящего. Элои и морлоки — результат умственной
и физической деградации общества, в котором одни живут за
счет других. Технический прогресс, утверждал писатель, в ан¬
тагонистическом классовом обществе ни к чему хорошему при¬
вести не может.
Джордж Пал бережно воскрешает дизайн викторианской
Англии — массивную устойчивую мебель, коляски, свечи, ке¬
росиновые лампы, часы, множество часов — фильм начинается
с их тиканья — каретные, каминные, с автоматическими фигур¬
ками. Наконец, сама машина времени, напоминающая первые
автомобили со множеством наивных завитушек и украшений,
плюшевым сиденьем, медной рукояткой хода «вперед»-«на-
зад» и пластинкой, указывающей создателя машины —
«Г.-Дж. Уэллс, 1895». Кажется, роман стал поводом для очаро¬
вательной стилизации эпохи, ее мод, костюмов, интерьеров.
Тем более, что режиссер нашел блестящий прием для того,
чтобы показать движение времени. Напротив лаборатории на¬
ходится магазин готового платья, и в витрине на наших глазах
происходит мгновенное переодевание манекена — смена мод
от 1895 до 1966 года. Это впечатляет больше, чем быстрый
восход и заход солнца, превращающийся по мере ускорения
хода машины в сплошные огненные полосы, прочерчиваемые
на небе, а затем просто в мгновенное мерцание света и тьмы.
Однако Джордж Пал не ограничивается этюдом на тему
смены мод и дизайна. Он останавливает машину в трех пунк¬
тах— 1917 году, 1940-м и 1966-м, утверждая, что история чело¬
вечества— это история войн и кровопролитий. В 1917 году его
герой пугается автомашин и знакомится с сыном друга, который
спрашивает, был ли он на фронте; в 1940-м — видит аэростаты,
висящие над Лондоном и покидает неприветливое время, уве¬
ренный, что война с немцами продолжается уже четверть ве¬
ка; в 1966 году он видит людей, одетых по моде будущего, в
23
блестящие комбинезоны, но не успевает рассмотреть родной
город, как начинается воздушная тревога. Над Лондоном по¬
висает спутник, бросающий атомные бомбы. Все рвется, горит,
разверзается земля, исторгая потоки лавы, и кипящие реки
магмы заливают город. Испуганный изобретатель, добравшись
до машины, дает полный вперед и попадает во время, когда
уже нет войн.
Он видит остатки цивилизации. Западное кино научилось по¬
казывать руины культуры — трава и кусты в треснувших ступе¬
нях огромного здания, голова загадочного сфинкса. Герой зна¬
комится с элоями, поражаясь их апатичности, и выясняет, что
они не читают книг, не помнят прошлого и, как скот на бой¬
ню, идут по гудку в подземелья морлоков, чтобы стать их
пищей; Джордж спасает тонущую красавицу Уинну и дерется
с лохматыми, похожими на седых обезьян морлоками, отбивая
у них похищенную машину. Затем, вернувшись на короткое
время в свою лабораторию к изумленным гостям, он снова
уезжает, на этот раз, очевидно, навсегда, чтобы, как подобает
истинному англосаксу, возглавить восстание элоев против мор¬
локов.
Зритель этого фильма может восхищаться фантазией дизай¬
неров, ужасаться сценами военных катастроф, гадать, чем кон¬
чится история Джорджа и прекрасной Уинны, когда он к ней
вернется. Но в фильме нет размышлений Уэллса о мире, тра¬
гически расщепленном на тех, кто создает, и тех, кто имеет;
тех, кто отторгнут от духовных ценностей, и тех, кто отчужден
от производительного труда. Пал не развивает мысли Уэллса,
не спорит с ними, он просто игнорирует их.
Именно в тот момент, когда кино обрело все технические
возможности, завоевало новую зрелость и глубину, оно прош¬
ло мимо социальных концепций родоначальника современной
фантастики.
Справедливости ради надо сказать, что в 30-е годы, при
жизни Уэллса, было создано несколько картин, пытавшихся не
только пересказать сюжеты Уэллса, но и выразить его идеи.
Это фильм американца Уэйла «Человек-невидимка» и созданные
по сценариям Уэллса в Англии картины «Облик грядущего» и
«Человек, который мог творить чудеса».
Но тогда же, точнее, в 1933 году, Уэллс в ответ на пред¬
ложение написать предисловие к своим ранним научно-фантас-
тическим романам заметил, что «мир в настоящее время имеет
достаточно катаклизмов в реальности, чтобы нуждаться в до¬
полнительных катаклизмах фантастики»11. Катаклизмов не стало
меньше в 50—60-е годы. Но и в «Машине времени», и в «Пер¬
24
вых людях на Луне», и в «Войне миров» кинематограф, забыв
о пожелании Уэллса, выбирает зрелище катастроф, приключе¬
ние, берет иной слой, чем тот, которым дорожил сам писатель,
различие в методах, объектах интереса у кино и литературы
налицо.
По мнению исследователя научно-фантастического кино Джо¬
на Бакстера, вообще нет ничего общего не только между
научно-фантастическими произведениями кино и литературы,
но между читателями и зрителями этих произведений, между
писателями и режиссерами. В поддержку своей точки зрения
он приводит высказывание видного критика в области научной
фантастики Деймона Найта по поводу экранизации книг «Власть»
и «Невероятно уменьшающийся человек». «Почему кинемато¬
граф купил эту плохую книгу? («Невероятно уменьшающийся
человек»). Потому что там есть отродье — паук — «черная вдо¬
ва». Но это ведет нас к другому вопросу: как же случилось,
что большой научно-фантастический бум превратился в цикл
фильмов о чудовищах?.. Чтобы ответить на этот вопрос, давай¬
те снова взглянем на «Власть». Главный герой книги — супер-
мен-злодей — это не человек, а символ; он — это безликая
опасность, которая бродит по темной улице, таящаяся где-то в
механическом шуме города, он тот хитрец, который хочет вас
убить, тот человек с пронзительными глазами, который употреб¬
ляет непонятные слова, который жонглирует опасными невиди¬
мыми для вас вещами. Он человек, который, изобрел «Фау-2»
и атомную бомбу. Это ученый, профессор, яйцеголовый. Это
антинаучная фантастика; это область, которая не только отво¬
рачивается от стандартной бутафории научной фантастики, но
от привычного образа мысли, который лежит в основе самой
науки. Это искусство отворачивается от предположения, что все
явления могут быть разделены на категории, что вещи могут
быть измерены... Оно отворачивается от понятия причины и
следствия» 1 2.
Можно спорить с тем, насколько точно отражает эта оценка
сегодняшнее состояние кинофантастики, в которой появились
серьезные имена и значительные произведения, прямо трактую¬
щие тему: НТР и человек. Можно попытаться установить косвен¬
ные связи между проблемами НТР и массовой фантастикой.
Можно даже поспорить и с конкретной оценкой фильма «Не¬
вероятно уменьшающийся человек»—одним из заметных про¬
изведений фантастического кинематографа. Тем не менее Найт
отмечает важное различие между фантастикой в литературе и
на экране, и его точка зрения поддерживается другими ав¬
торами.
25
Страх и «суеверие — этот обнаженный нерв общества, на
котором раньше играл фильм ужасов, теперь, по мнению
Пенелопы Хастон, перешел в область научно-фантастического
кино»13. Как замечает Бакстер, «возможна наиболее распрост¬
раненная реплика в научно-фантастическом кино: «Есть вещи,
которые человек не должен знать». Тысячи актеров произно¬
сили ее, обращаясь к безумным ученым, и тысячи героев бор¬
мотали ее над дымящимися руинами космических кораблей и
экспериментальных научных лабораторий. Она выражает уни¬
версальный, всеобщий страх людей перед неизвестным и необъ¬
яснимым, страх, который научно-фантастическая литература
отвергает, но который пустил прочные корни в научно-фанта-
стическом кино»14.
Характерно, что настроения эти совершенно незнакомы со¬
ветской кинофантастике, проникнутой верой в благодетельность
научного знания, захваченной невероятными возможностями
технического прогресса.
Откуда же это противоречие между научно-фантастиче-
ской литературой и кинематографом на Западе? Почему лите¬
ратура в своем верхнем и достаточно мощном слое, если и
предостерегает об опасностях тех или иных последствий науки,
тем не менее приветствует эксперимент, увлечена научными
идеями, рассматривает последствия их применения, а кино (хотя
и с существенными исключениями) заражено суевериями и
страхом, его интересуют не идеи, но зрелища и потрясения.
По мнению критика, корни этого кинематографа уходят в
средневековый фантастический мир, в эпоху маски, моралите
и Гран гиньоля. Даже если и согласиться с этим весьма спор¬
ным утверждением, то оно не дает объяснения, почему, исполь¬
зуя сюжеты литературы, кино не следует ее пафосу, а ищет
опоры в средневековье.
Может быть, дело как раз в том, что кино не успело нако¬
пить такие традиции, как литература. Родоначальники современ¬
ной фантастики Жюль Верн и Герберт Уэллс имели длинный
ряд предшественников, начиная от писателей античности, через
Рабле и Свифта, до просветителей XVIII века. Мельес начинал
первым, а главное — арсенал его выразительных средств поз¬
волял воплотить зрелищную сторону фантастики, иногда ее
эмоциональный мир, но, конечно же, не ее идеи, не богатство
ее научных и социальных прогнозов. Положение не очень изме¬
нилось в 20-е и 30-е годы. Более того, сложилась традиция,
некие законы жанра; на экране показывался не путь к откры¬
тию, а лишь его фантастические результаты, его таинственные
и катастрофические последствия.
26
Есть и еще одно, возможно, решающее обстоятельство.
Научно-фантастическая литература и кино имеют не совпадаю¬
щие адресаты. У литературы свой, преимущественно молодой
читатель, частично даже организованный в клубы любителей
фантастики («фэн-клабы»).
Конечно, поток книжной макулатуры в области фантастики
огромен. Герои и сюжеты приключенческого бульварного чти¬
ва легко акклиматизируются в будущем, в космическом про¬
странстве. Но все же у организованного читателя «фэн-кла-
бов» есть возможность систематического знакомства с проблем¬
ной научной фантастикой.
Зритель научно-фантастических фильмов, как правило,
обычный зритель коммерческого кино, который тянется к зре¬
лищу, эмоциональному потрясению. Об этом пишет и Бакстер.
Но важно еще и другое: какого рода зрелища и потрясения
дает научно-фантастический кинематограф? На какие потребнос¬
ти и настроения массового зрителя он отвечает?
Когда ставишь вопрос таким образом, то как будто бы чис¬
то зрелищный фильм Пала, который критика упрекала в дис¬
пропорции визуального и психологического, получает опреде¬
ленный и современный смысл. Зритель видит любовно, с но¬
стальгией показанный прочный, устоявшийся быт викториан¬
ской Англии, видит великолепие сецессиона 10-х годов, а потом
все это сметается лавиной перемен, принесенных XX веком,
рушится в огне атомной войны, чтобы закончиться вялым и без¬
думным миром апатичных элоев, ставших пищей для морлоков.
Ничего не говорится прямо, сопоставляются цветные картины,
зрительные образы эпох, но вывод подсказывается зрителю:
«тогда» было лучше, чем «теперь», надежнее, спокойнее, милее.
Фильм оказывается консервативной реакцией «массовой
культуры» на технический прогресс. Что же касается того, что
в область научной фантастики теперь перешел «страх и суеве¬
рие» из фильма ужасов, то это закономерно.
Слепая вера во всемогущество научного знания, которое
действительно приносит невероятные практические результаты,
но результаты, даваемые обычному человеку в готовом виде,
порождает огромное количество суеверий вокруг науки. И преж¬
де всего веру в непогрешимость научных истин, готовность пове¬
рить в любую научную гипотезу как в уже доказанное утверж¬
дение. Как было точно замечено: «Слова «наука утверждает,
что...» играют в наше время ту же роль, что в средние века
«церковь утверждает, что...»15.
Иначе говоря, на место авторитета бога обыватель, запутав¬
шийся в сложности современного мира, готов поставить авто¬
27
ритет науки. Он ждет от нее готовых решений, точных реко¬
мендаций, а если таковых нет, он сам как бы вырывает эти
рекомендации из весьма осторожных и предположительных
прогнозов. Так рождается миф о снежном человеке и о воз¬
можностях телепортации, телекинеза. Так возникает эпидемия
«летающих тарелочек». Тысячи людей в разных странах мира
заявляют, что лично видели космические корабли пришельцев.
Американец Джордж Адамский выпускает две книги —«Ле¬
тающие тарелки приземлились» и «Внутри космического кораб¬
ля»16, где он описывает свои встречи с пришельцами с Венеры
и Сатурна и пребывание на корабле-матке, куда его достави¬
ла «летающая тарелка». Все это снабжено фотографиями, со¬
лидно издано. Более восьмидесяти тысяч экземпляров первой
книги Адамского было продано только в Америке. Она была
переведена на большинство европейских языков. Опять-таки
интересна не столько сама мистификация, сколько то, что сот¬
ни тысяч людей хотели в нее поверить.
Так появляются теории о посещении земли в доисториче¬
ские времена космическими пришельцами. Эрих Деникен и
Гарольд Райнл делают фильм «Воспоминание о будущем»: рас¬
следование-доказательство того, что землю посещали инопла¬
нетяне. И хотя аргументы с точки зрения науки некорректны,
приводимые «факты» (фрески Тассилы якобы изображают кос¬
монавта в скафандре, такие же космонавты — японские ста¬
туэтки «Догу» и фреска бога в храме Паленка) — сомнительны и
скорее всего объясняются случайным, часто весьма отдаленным
сходством, однако зрителю «не хочется» это видеть. Тем более
что авторы как будто бы ни на чем не настаивают, ничего
безоговорочно не утверждают, а лишь «высказывают предполо¬
жения». Но предположения встречаются с энтузиазмом. И это
симптоматично.
Но не только массовый потребитель обожествляет науку.
С неменьшим успехом это делают и сами ученые. То окружая
ее мистическим ореолом и ища в ней потаенных смыслов,
то выдвигая точные науки в качестве панацеи для решения всех
социальных проблем. Оба эти «направления» представлены до¬
статочно широко.
Так, во Франции Жак Бержье* и У. Пауэлл выпускают книгу
«Утро магов», где предлагают современной науке вернуться
к опыту алхимии, к знаменитым магам и прорицателям XVII I ве¬
* Бержье — известный французский физик и участник Сопротивления,
написавший об этом времени чрезвычайно интересные мемуары. Его духов¬
ная эволюция симптоматична и печальна.
28
ка и попытаться открыть тайны ордена Розенкрейцеров, ибо
именно там, в прошлом лежат главные и неизвестные современ¬
ной науке знания.
С другой стороны, на общественную арену вышло такое
представленное именами весьма авторитетных ученых течение,
как сциентизм.
По мнению сциентистов, при помощи методов точных наук
можно решить все проблемы человека и общества, дать го¬
товые рецепты на все случаи жизни. Их претензии вызвали яро¬
стный отпор со стороны гуманитариев. Впрочем, некоторые
ученые выступают не только против сциентистов, но и против
технического прогресса вообще. «Воинствующий антитехноло-
гизм стал за последние годы своеобразной модой среди зна¬
чительной части радикальной интеллигенции на Западе»17
Ясна бесперспективность технофобии, идеологии техническо¬
го пессимизма, абсолютизирующей противоречия научно-тех-
нической революции в буржуазном обществе, распространяя
их на человечество вообще. Но нельзя не видеть в то же
время, что она отражает широкое и все растущее разочаро¬
вание результатами научно-технической революции в западном
обществе. Превращение трудящегося в придаток машины, его
отчуждение, угроза экологического кризиса, опасность «науч¬
ного» манипулирования поведением человека, управления его
волей и личностью, «все увеличивающийся разрыв между узкой
группой «посвященных» и невежественной массой, с ужасом взи¬
рающих на науку и технику, которая диктует им новый и все
быстрее изменяющийся образ жизни», — все это рождает страх
и растерянность. И рядом с эйфорией по поводу технических
достижений обнаруживаются враждебное отношение к прогрес¬
су, к разуму вообще, тяга к иррационализму и мистике.
По мнению французского публициста Жака Дюкеня, «на
угрозу холодного как лед и механизированного мира», кото¬
рого боялся французский религиозный мыслитель Теяр де Шар¬
ден, западный человек инстинктивно отвечает взрывом иррацио¬
нального». Дюкень приводит цифры: «Во Франции действуют
50 тысяч гадательных пунктов, 12 тысяч оккультистов Италии
объединены в профсоюз, 60 процентов французов регулярно
читают астрологические рубрмки в газетах, большинство мз
них — парижане и молодежь»18. Западный обыватель ищет
утешения и веры в многочисленных сектах, вроде «свидетели
Иеговы», «церковь последнего суда», гаитянском ритуале «во-
ДУ», в йога и дзенбуддизме. И вот уже видный буржуазный
футуролог Дэниел Белл, еще недавно предвещавший торжество
технотронной цивилизации, меланхолически констатирует «ко¬
29
ренные изменения культуры с существенным антирациональным
и антиинтеллектуальным уклоном в искусстве, а также в ха¬
рактере житейского опыта и восприятия явлений» 19.
Ситуации подобного рода уже встречались в истории куль¬
туры. Так, в эпоху Просвещения намечается кризис просвети¬
тельного рационализма. Как отмечают исследователи литера¬
туры предромантизма В. Жирмунский и Н. Сигал: «Первые
симптомы этого кризиса обнаруживаются в середине века, когда
в литературе и в быту начинает проступать новое осмысление
фантастики. Наблюдается растущее увлечение (в особенности
среди высшего общества) алхимией, магией и каббалой, поиски
«философского камня», интерес к сочинениям натурфилосо¬
фов XVI—XVII вв. — Парацельса, Якова Бёме и к современной
теософии (в частности — к Сведенборгу)»20. Именно в эти годы
приобретают невиданную популярность такие маги и шарлата¬
ны, как Калиостро и граф Сен-Жермен. Вспыхивает поваль¬
ное увлечение азартными играми, вокруг которых возникает
«суеверный ореол», делаются попытки философски осмыс¬
лить это увлечение «связав стихию случайности, воплощенную
в карточной игре со сферой сверхъестественного, иррацио¬
нального» 2 1.
Наше время предлагает более контрастную ситуацию. Пото¬
му что тяга к иррационализму возникает одновременно с не¬
виданными достижениями человеческого разума, астрология
существует на фоне космических полетов, проповедь спонтан¬
ности, бессознательного откровения — рядом с компьютерами,
религиозные секты, пытавшиеся постичь тайну человека,— па¬
раллельно с открытием генетического кода.
Причем очень часто проповедь мистики, сверхъестественно¬
го выступает в чешуе научной терминологии, обставляется
научным реквизитом. Так, гадалки используют электронные ма¬
шины, спириты толкуют о телекинезе, астрологи — о косми¬
ческих излучениях.
Постоянное соединение рационального и иррационального,
их парадоксальные сочетания в повседневном сознании челове¬
ка позволяют понять и причину зыбкости жанровых границ в
современной фантастике и взаимопроникновение научной и
ненаучной фантазии. С одной стороны, научная фантастика
объясняет «в духе науки» старые, классические мифы, например
легенду о Фаусте. (Мефистофель в рассказе Койдеша «Опыт»
оказывается космическим пришельцем Ми-фи, прибывшим на
Землю, чтобы помочь людям. Но Фауст ведет себя легкомыслен¬
но и полученные знания употребляет для собственного омоло¬
жения и соблазнения Маргариты.)
30
С другой — легенды, фантазии и суеверия ищут научные
мотивировки. По поводу романа Мэри Шелли «Франкенштейн»
англичанин Томкинс сказал: «Наука проникает в роман, пере¬
одевшись в маскарадное платье — в форме романа ужаса».
Но сегодня чаще происходит обратное: миф проникает в науч¬
ную фантастику, переодевшись в маскарадное платье науки.
Научная или псевдонаучная терминология лишь прикрывает
мечту о чуде, веру в сверхъестественное.
В одном из таких научно-фантастических романов люди бо¬
рются с расой холода и тьмы, которая тушит звезды и погру¬
жает во тьму обитаемые миры. Герои заново зажигают сверх¬
новые светила. Ван Вогт в новелле «Чудовище» показывает
человека будущего, способного лишь силой своей мысли пред¬
отвратить взрыв атомной бомбы и путем «телепортации» (мод¬
ное слово среди научных фантастов) — опять-таки психологи¬
ческим усилием — перенестись в космический корабль чужой,
враждебной расы за пятьдесят световых лет и привести его к
гибели. Понятно желание авторов в мире усиливающейся власти
машин помечтать о том, что человек сможет обойтись когда-
нибудь без них. Но чудесное в этих произведениях часто даже
не ищет мнимонаучных мотивировок. Всемогущий человек —
псевдоним всемогущего бога.
А у Роберта Шекли в «Зайце» непознанное, невероятное
прямо и демонстративно противопоставлено достижениям нау¬
ки. Среди колонистов, работающих на Марсе,— обстоятельство,
вполне достаточное для старой достопочтенной фантастики,—
вдруг появляется «заяц», безбилетный парнишка. И выясняется,
что этот «заяц» обладает просто невероятным даром: поверив
в возможность перемещения с Земли на Марс, он способен
совершить мгновенную «нультранспортировку». И перед ним
обалдело стоят ученые будущего, в то время, как он демонст¬
рирует им свои невероятные возможности.
В этом шуточном противопоставлении веры — науке, техно¬
логии — наивного, естественного и тем не менее всемогущего
человека опять-таки есть свой полемический смысл. Но факт
есть факт: вера в чудо перемещается в ряде произведений с
технических возможностей прогресса на внутренние потенции
человека или она переходит в религиозное ожидание открове¬
ния. Возможно, эта вера в чудо иногда возникает как резуль¬
тат эйфории по поводу научных чудес, но несомненно чаще она
результат разочарования в науке, не оправдавшей возлагавших¬
ся на нее ожиданий.
Но дело не только в содержании научной фантастики, но и
в самом ее методе: существующие сегодня в зародышевом ви¬
31
де тенденции и настроения она развивает в полном объеме,
перенося в будущее. Скрытые страхи и проблемы выводит на¬
ружу, делая явными.
Многократно эти страхи использовались кинематографом в
чисто коммерческих целях. Продюсеры и режиссеры нажимали
на кнопки проверенных аттракционов жуткого, чтобы привлечь
зрителя. Но в то же время история взаимоотношений искусства
и зрителя ясно показывает, что тема страха, угрозы в фанта¬
стическом кино соотносилась с общественной ситуацией, что
массовые психозы, безумия всегда находили свое отражение
в искусстве. Другое дело, что #связь эта обычно носит непря¬
мой характер и проследить ее нелегко. Тем не менее она
существует. Примером наиболее явной связи — прямой и об¬
ратной — является судьба в эфире и на экране романа Г.-Дж.
Уэллса «Война миров».
30 октября 1938 года по американскому радио прошла пе¬
редача «Войны миров», разыгранная театром Меркури во главе
с Орсоном Уэллсом. Ее слушали 32 миллиона человек. Сам
Орсон Уэллс не подозревал, какие эмоции он разбудит в со¬
знании народа, жившего в ожидании войны, когда он мистифи¬
цировал под реальность фантастическое вторжение марсиан.
Но предоставим слово самому Уэллсу: «Итак, начинаем ра¬
диопередачу с планеты Марс» — начало было неплохое, но с
того вечера каждый второй, кому я попадался на глаза, не¬
изменно окликал меня: «Эй, Орсон, что новенького у марсиан?
Когда собираетесь постращать нас снова? Ха-ха-ха...»
Но время все стирает, и в наши дни миллионы людей даже
не догадываются о том, что произошло на американском радио
тридцать три года назад, в предпоследний день октября.
Попробуйте вернуться к тем временам, когда радио было
поистине великим явлением... Оно занимало громадное место
в нашей жизни. В те дни, когда еще ничего не знали о теле¬
визорах и транзисторах, радио было не просто шумом, донося¬
щимся из чьего-то кармана, это был голос авторитета.
Я полагал, что пришло время использовать этот авторитет¬
ный голос. Он и прозвучал в радиопостановке «Война миров»,
извещая слушателей о том, что марсиане приземлились в шта¬
те Нью-Джерси и начали захват территорий. Не забывайте, что
это было 30 октября, в канун «Дня всех святых». На Среднем
Западе, где прошло мое детство, в этот вечер разыгрывались
разные шутки: мазали мылом стекла, звонили в колокола, а
мы, дети, замотавшись в простыни и нацепив на голову выско¬
бленные внутри тыквы, бродили под окнами, пугая соседей при¬
видениями.
32
Итак, в той злосчастной радиопередаче я прокричал «кара¬
ул», и несколько миллионов человек одновременно услышали
этот крик. На этот раз пугалом явились не тыквенные головы,
а летающая тарелка с Марса. Беда в том, что слушатели начисто
забыли, что это был за день.
Передача начиналась с выступления оркестра Рамона Рами¬
реса, который мы специально пригласили.
«Томная музыка Южной Америки переносит вас в залитый
лунным светом дансинг отеля «Астория» в Бруклине...
Внезапно оркестр смолкал.
«Мы прервали нашу передачу, чтобы сделать специальное
сообщение: странный предмет непонятной формы приземлился
на ферме, недалеко от Гроверз Милз, штат Нью-Джерси. По¬
лиция и войска выехали на место происшествия. Не выключайте
радио и следите, как будут развиваться события. А теперь
вернемся в дансинг, залитый лунным светом».
Но ненадолго...
«Леди и джентльмены, пространство вокруг Гроверз Милз
оцеплено, но одной из воинских мотоциклетных частей удалось
пробиться к тарелке. Наш специальный корреспондент Джек
Вексли расскажет вам о своих непосредственных впечатлениях
с места происшествия».
Должен сказать, что ни один радиокомментатор, повествую¬
щий об истинных катастрофах, не был так убедителен и красно¬
речив, как наши актеры, перечислявшие на всю страну мифи¬
ческие ужасы, связанные с появлением марсианских пришель¬
цев.
Один из актеров отлично имитировал голос Франклина Руз¬
вельта. И в момент, когда по радио прозвучал — как можно
было предположить, из Вашингтона — его призыв к американ¬
цам оставаться сплоченными и не впадать в панику, тысячи и
тысячи людей бросились на улицу. Казалось, что все население
Америки покинуло свои жилища. Многие по каким-то невообра¬
зимым причинам обмотали головы полотенцами. На кой черт
им понадобились полотенца, я до сих пор не могу понять.
Мы почувствовали что-то неладное, когда студия: из кото¬
рой велась передача, начала наполняться полицейскими. Фарао¬
ны были сбиты с толку, потому что не знали, как можно аре¬
стовать целую радиопрограмму... Таким образом, передача про¬
должалась. Последствия оказались самыми неожиданными.
Телефонная сеть была забита в течение нескольких дней, и
вам целую неделю не удалось бы дозвониться к вице-пре-
зиденту. Жильцы одного из домов высыпали на улицу и, зад¬
рав головы, не сводили глаз с человека, который стоя на кры¬
33
ше и вооружившись биноклем, комментировал движение про¬
клятых марсиан, крадущихся через Манхэттен к Бронксу. В по¬
лицейское управление Сан-Франциско ворвалась женщина в
изодранном платье; задыхаясь и со словами: «Это не поддает¬
ся описанию» — проглотила яд, чтобы избежать позорных по¬
следствий. К счастью, она осталась жива.
Здесь, в Голливуде, Джон Барримор тоже внимательно слу¬
шал передачу. Он допил свое виски с содовой, пошатываясь,
вышел во двор и направился к псарне, где жили его велико¬
лепные датские доги. Со словами: «Спасайтесь как можете» —
он отворил ворота, выпуская псов на свободу. Прославленный
и почтенный кинорежиссер Вуди Ван Дайк, морской офицер
в запасе, с первыми словами сообщения вскочил в машину и
устремился в военно-морское управление, чтобы доложить, что
он готов исполнить свой долг.
Кстати, о флоте. В Нью-Йоркском порту все увольнения на
берег были тотчас отменены. По правде говоря, трудно понять,
какай прок был в этом, так же как в отрядах моторизованной
полиции, ринувшейся в Нью-Джерси,
Был теплый воскресный вечер. Все машины, какие могли
двигаться, были на улице, и все репродукторы были включены.
Но полицейские мотоциклы не были радиофицированы, а потому
вообразите картину: перед изумленными глазами полицейских
штата Нью-Джерси на полном ходу — девяносто миль в час —
несутся машины, и ни одна из них не желает остановиться.
Хозяева этих машин и испуганные пассажиры даже не смотрели
на полицейских. Они мчались вперед, в горы, и не только добра¬
лись до этих гор, но и остановились там. Годы спустя мне до¬
велось говорить с человеком, состоявшим в Обществе Красного
Креста. Он рассказал, что в его обязанности входило успокаи¬
вать сограждан, убеждая их вернуться, но потребовалось ровно
шесть недель, чтобы водворить их обратно.
Итак, доказано, что фантастические слухи о летающих та¬
релках, распространившиеся по всему миру, родились после той
самой радиопередачи. Но далеко не все смеются над ними»22.
История этой радиопередачи заставила задуматься американ¬
ских социологов о тех массовых страхах, агрессивных инстинктах,
которые живут в обществе и которые столь легко могут быть
спровоцированы и выведены на поверхность. Она показала,
что интерес зрителя к фантастическим кошмарам не может
быть понят вне социальной психологии.
Через пятнадцать лет после знаменитой передачи Уэллса
Джордж Пал и Байрон Хаскин делают фильм «Война миров»,
в котором как бы воссоздают панику 38-го года: толпы обезу¬
34
мевших людей на улицах Лос-Анджелеса, жестокая драка в гру¬
зовике, мужчины, вытаскивающие женщин из автомобилей, что¬
бы самим занять их место. Этот фильм создавался уже совсем
в иное и тоже напряженное время, в разгар холодной войны,
которая отразилась в нем целым рядом изменений романа
Уэллса — технических, психологических. На «летающие тарелки»
марсиан наступают современные танки, супербомбардировщик
сбрасывает на них водородную бомбу, а марсианские аппараты
мгновенно окутываются защитным экраном, выдерживающим
любые температуры и любые снаряды.
Но главное, в этом фильме царит климат недоверия, убеж¬
дение в том, что договориться с противником нельзя. Перед
атакой на «тарелки» марсиан из окопов американской армии
выскакивает священник и идет навстречу пришельцам с белым
платком в руках и с Библией, показывая свои намерения, призы¬
вая их к переговорам. Однако и его, как раньше трех мирных
жителей, шедших с флагом навстречу марсианским аппаратам,
поражает безжалостный огневой луч. Враг беспощаден, неуяз¬
вим, но марсиане, как и в романе Уэллса, погибают от микро¬
бов.
Для Уэллса марсиане — предлог поставить это общество в
крайнюю ситуацию, где проверяются его ценности, мужество
и достоинство его членов, их способность к самопожертвованию.
Уэллс еще не знал о той проверке, которой подвергнет бур¬
жуазную цивилизацию сама история в двух мировых войнах.
Но результаты его «марсианского испытания» оказались удиви¬
тельно пророческими — он показал эгоизм буржуазного челове¬
ка, его готовность подчиниться силе и примириться с любым
положением: «Они будут удивляться, как это они раньше жили
без марсиан».
В фильме нет рассуждений писателя, нет подробностей де¬
градации общества, хотя момент одичания во всеобщей панике
показан сильно. Картина Пала и Хаскина столь же характерна в
социологическом плане, как и передача Орсона Уэллса. И так
же выражает историю эмоций своего времени. И в упоении
военной техникой, и в злорадстве по поводу ее посрамления,
и одновременно в преклонении и ужасе перед ее фантасти¬
ческими возможностями, воплощенными в «летающих тарелках»
марсиан. И в страхе вторжения, подогревавшемся всеми орга¬
нами информации в годы холодной войны, и в финальном утеше¬
нии, что «как-нибудь бог поможет Америке справиться с врага¬
ми». Не случайно последняя «тарелка» марсиан падает, не до¬
летев до церкви, где собрались жители Лос-Анджелеса, чтобы в
смертный час обратиться к богу.
35
Особенность «массовой культуры» состоит в том, что чутко
реагируя на общественные настроения, она всегда пытается
предложить своему потребителю выход из, казалось бы, не¬
разрешимых коллизий, пусть этот выход и является иллюзор¬
ным. По существу, она создает новую мифологию.
Маркс указывал, что «Всякая мифология преодолевает, под¬
чиняет и формирует силы природы в воображении и при по¬
мощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с на¬
ступлением действительного господства над этими силами при¬
роды»23. При этом он подчеркивает, что под природой «пони¬
мается все предметное, следовательно, включая и общество»24.
Здесь Маркс определяет важнейшую непреходящую особен¬
ность «всякой», в том числе и современной, мифологии, ее
целевую установку и тот исторический момент, когда эта ми¬
фология лишается смысла. Применяя его положение к сегодняш¬
ней ситуации научно-технической революции на Западе, прихо¬
дишь к выводу, что фантастика и является той мифологией,
которая призвана «преодолевать, подчинять и формировать» в
воображении вырвавшееся из-под контроля человека движение
технического прогресса. Это мифология технической эры. И, как
всякая мифология, она имеет свои устойчивые структуры, своих
постоянных героев, свои привычные конфликты, свои навязчи¬
вые страхи.
Это ясно видно на примере голливудских фантастических
фильмов первой половины 50-х годов, связанных с вторжением
из космоса и атомной угрозой. Причем здесь важно одно об¬
стоятельство. Для фантастики существует правило интервала:
проходит обычно несколько лет, прежде чем эмоции, рожден¬
ные реальными историческими событиями, трансформируются
в фантастические образы, прежде чем кинематограф начинает
создавать свою мифологию. (Точно так же мифологический мо¬
тив, например атомная катастрофа, уходит из кино, когда он
преодолен или хотя бы частично контролируем в жизни.)
24 июля 1947 года американский летчик Кеннет Арнольд
во время воздушной прогулки увидел «летающие тарелочки» —
их было девять штук, и они летели со скоростью 1900 км в
час. В другое время оптический феномен, наблюдавшийся Ар¬
нольдом, мог быть истолкован научно, как это позднее и бы¬
ло сделано австралийским астрономом Мензеллом. Но уже бы¬
ла произнесена Черчиллем воинственная фултонская речь, про¬
возгласившая «политику силы», изморозь холодной войны за-
мутняет стекла телескопов и биноклей. В США начинается эпи¬
демия «летающих тарелочек». Их приписывают русским, в дело
36
вмешивается армия. Но пройдет еще три года, прежде чем
летающее блюдце появится на киноэкране. В 1947—1948 годах
к ним относятся еще слишком серьезно, чтобы отнести по ве¬
домству фантастики, их пытаются кинодокументировать.
Тот же самый интервал пролегает между появлением атом¬
ной бомбы в реальности и ее экранным отражением в фанта¬
стике. Послевоенное искусство уже не могло отделаться от
грозного видения атомного гриба, поднявшегося в августе
1945 года над Хиросимой. Но Япония была слишком потрясена,
рана была слишком свежей, чтобы снимать об этом выдуман¬
ные истории, приемлем был только кинодокумент. Европа за¬
нималась своими послевоенными проблемами, лишь в 1953 го¬
ду Андре Кайятт поставит фильм «Перед потопом», чтобы
рассказать о психологическом давлении атомной угрозы на
молодежь. А в Америке война кажется закончившейся навсег¬
да, атомная монополия внушает ощущение неуязвимости. Воен¬
ные относятся к бомбе с фамильярной почтительностью. Во вся¬
ком случае, американские летчики, сбрасывая в 1946 году бомбу
на аттол Бикини, рисуют на ней портрет «Венеры атомной
эры» — кумира солдат — Риты Хейворт.
В 1949 году в Советском Союзе было взорвано ядерное
устройство. Монополия закончилась. И в 1951 году появляются
первые фантастические фильмы-предупреждения. Пока это
была поверхностная публицистика в форме фантастики. В филь¬
ме «Ракетный корабль Х-М» Курта Ньюмана группа ученых,
прибывших на Марс, устанавливает, что марсианское общество
уничтожено в результате атомной катастрофы. На Марсе снова
каменный век, жалкие аборигены, забывшие все достижения
своей цивилизации. Предупреждение было прозрачно ясно.
В фильме «Пять» атомная война уже переносится на Землю.
Пять человек остаются в живых после атомной катастрофы,
остальные погибли, зараженные радиоактивной пылью. Потом
умирают еще трое; оставшаяся пара, быть может, начнет но¬
вую жизнь в холмах, окружающих разрушенный город. Подоб¬
ные фильмы-предупреждения и одновременно разоблачения
общества, мгновенно распадающегося в результате войны, лю¬
дей, скатывающихся к дикости, будут делаться и дальше на
протяжении следующих пятнадцати лет.
Если в фильмах «Ракетный корабль Х-М» и «Пять» показы¬
валось, к чему может привести атомная война, то фильм
«День, когда земля остановилась» (1951) — один из самых значи¬
тельных фильмов американской фантастики первых послевоен¬
ных лет — завершался прямым публицистическим призывом
прекратить атомные испытания и жить в мире. Его постановщик
37
Роберт Уайз, опытный и сильный профессионал, одинаково сво¬
бодно чувствующий себя в разных жанрах (он поставит мью-
зикл «Вестсайдская история», научно-фантастический фильм
«Штамм «Андромеда»), понял и четко реализовал один из ве¬
дущих принципов фантастики: необходимость полного правдопо¬
добия, почти документализма в условиях фантастической ситуа¬
ции. Фильм начинается с того, что пресловутая «летающая та¬
релка» появляется над столицей США и опускается у памятни¬
ка Вашингтону. И когда космонавт выходит, он оказывается
очень похож на жителей Земли. Сам пришелец интересует ре¬
жиссера меньше, чем реакции на него со стороны жителей США,
и здесь в изображении американского общества он проявляет
незаурядную наблюдательность и сатирический талант. Косми¬
ческий гость Клатоу выступает с речью перед землянами. Он
просит прекратить испытания атомной бомбы, которые угрожают
его собственной планете. Их цивилизация могла бы уничтожить
Землю, могла бы насильственно прервать любые испытания, но
она не хочет вмешиваться в развитие чужой цивилизации — из¬
любленная мысль прогрессивной фантастики — и пока просто
посылает его как посланца мира. Позиция его совершенно ясна,
но он сталкивается с бюрократизмом правителей, подозритель¬
ностью ФБР (не агент ли он красмых), с нерешительностью уче¬
ных. Клатоу и зритель, который как бы его глазами смотрит
на собственную жизнь, убеждаются, что средний американец
не желает войны. Но военные, правящая элита хотят продол¬
жать политику силы. И тогда Клатоу «парализует» электриче¬
скую энергию. В этот день «все на Земле остановилось».
После многочисленных комиксов и второсортных сериалей
это был первый в послевоенной американской фантастике фильм
последовательный в антивоенной позиции, зрелый и точный в
художественных принципах. Но магистральное развитие амери¬
канской кинофантастики пошло по другому руслу.
На экран вышли и заполнили его космические чудовища,
стада доисторических монстров, разбуженных атомными испы¬
таниями, или современных мутантов, возникших под влиянием
радиоактивности. Первому воскресить этот жанр выпала честь
Эжену Лурье, бывшему художнику Жана Ренуара, Рене Клера
и Саши Гитри. В 1953 году он ставит на студии Уорнер Бра-
зерс фильм «Чудовище с глубины 20 тысяч сажен».
Термин «воскресить» в данном случае вернее, чем «открыть»,
ибо впервые гигантское чудовище вышло на американский экран
в 1933 году в фильме Эрнсте Шёдзака и Мериана Купера
«Кинг Конг». Экзотические мотивы Конан Дойля, Хаггарда и
Бенуа сочетались в фильме с явными фрейдистскими влияниями.
38
Косматая обезьяна Кинг Конг была столь же порождением не¬
известной земли, сколь и загадочной страны подсознания. Та¬
инственный экзотический остров, окруженный стеной, звуки
барабана, жертвенник, на котором самые красивые девушки
племени ожидают, пока явится грозный король Конг и заберет
их, златокудрая красавица Энни, похищенная туземцами как
самый дорогой подарок для Конга. А затем появляется из-за
стены сам Конг — огромная горилла, которая на наших глазах
борется с удавом, затем с бронтозавром и побеждает их, поль¬
зуясь приемами дзю-до; Конг ломает огромные ворота и осто¬
рожно держит на ладони, изумленно и восхищенно разглядывая
прекрасную полуобнаженную девушку, — она станет причиной
его гибели в чужом, цивилизованном мире. Мотив красавицы и
зверя, женского и мужского начала реализован в этом сопо¬
ставлении.
Чудовище из фильма Лурье резко отличалось от Конга и по
характеру и по происхождению. Американская подводная лод¬
ка за полярным кругом обнаруживает странное отродье. Соб¬
ственно, его видит только профессор Несбит, которому никто
не верит. Чудовище плывет к Нью-Йорку, профессор Елсон,
видный зоолог, приходит к выводу, что это доисторический ре-
дозавр, мирно проспавший миллионы лет. Он разбужен атом¬
ными испытаниями и теперь возвращается на родину, в Аме¬
рику.
В отличие от Кинг Конга в редозавре не было ничего че¬
ловеческого, он не мог бы умиляться красавицей. Он был не¬
контактен. И это естественно. Конг был как бы метафорой че¬
ловеческой первобытности. Он был порядочнее окружавших
его торгашей и трусов.
Редозавр Лурье — это метафора разбуженных ядерных сил.
Недаром даже кровь его радиоактивна, и уничтожают его после
разрушительного марша по Нью-Йорку при помощи радио¬
активных изотопов, загнав в парк развлечений в Манхэттене.
Это наиболее сильный эпизод фильма: чудовище с пробитым
горлом носится между аттракционов, а команды в противора¬
диационных костюмах сжимают вокруг него кольцо облавы.
Скромная по бюджету, стоившая всего 250 тысяч долларов,
картина Лурье имела неожиданный успех и принесла студии
около пяти миллионов долларов. Немедленно начинается ра¬
бота над другой, уже более дорогой картиной о чудовищах —
«Они». А затем десятки фильмов о радиоактивных чудовищах и
мутантах заполнили американский экран. Конечно, это было пе¬
ремещение капитала в сферу, где отдача вложений была наи¬
большей в данный момент, — изученный механизм капиталисти-
39
ческой экономики. Но почему отдача была наибольшей именно
здесь? Новизна материала? Но, как мы видели, монстры появ¬
лялись и в 30-е годы. И кстати, «Сын Конга» имел уже куда
меньший успех. А фильмы о чудовищах делаются уже два
десятка лет, и это свидетельствует о том, что за ними стоит
какой-то важный фактор массового сознания. Ведь коммерче¬
ское искусство чутко реагирует на запросы зрителя и мгновен¬
но перестраивается, как только падает интерес к какой-нибудь
теме.
Именно так произошло с космическими полетами — одним
из самых заслуженных сюжетов научной фантастики. Для Мель-
еса «Путешествие на Луну» и «Путешествие через невозмож¬
ное» (к Солнцу) — только предлог для игры воображения. Но
зрителя 20-х годов уже интересовало, как бы мог реально осу¬
ществиться космический полет, и Фриц Ланг в «Женщине на
Луне» подробно показывает старт космической ракеты к Лу¬
не, консультантом фильма был видный ученый в области ра¬
кетной техники профессор Оберт, специально для фильма на-
40
Кинг Конг в джунглях Нью-
Йорка.
Красавица и чудовище. Бес¬
счетное количество раз эк¬
сплуатировалась эта си¬
туация коммерческим кино
рисовавший баллистические траектории ракеты и конструкции
стартовой платформы. Она была настолько похожа на те, ко¬
торые немцы позднее применили для «Фау-2», что перед вой¬
ной гестапо изъяло из проката все копии фильма. Однако даже
в те годы, когда полеты в космос еще были далекой мечтой,
одного лишь научно-популярного объяснения технических проб¬
лем полета было недостаточно, чтобы увлечь зрителя, и Ланг,
понимая это, строит сложную интригу с предательствами, убий¬
ствами, любовным треугольником и мелодраматической раз¬
вязкой.
Снова тема космических полетов мощно возродилась после
войны, когда Джордж Пал впервые применил многие из своих
трюков в цветном фильме «Направление — Луна» (режиссер
Ирвинг Пичел, 1950, США) и захватил публику подлинностью
изображения самого полета и лунной поверхности. У Пала была
прекрасная группа, способная выполнить любые технические
требования: декоратор, мастер комбинированных съемок, кон¬
структором ракеты был тот самый Герман Оберт, который
41
двадцать два года назад работал вместе с. Фрицем Лангом.
И опять-таки достоверность самого полета, космического кораб¬
ля были лишь условием успеха, требовался и напряженный сю¬
жет Роберта Хайнлайна. После этого, чем ближе становились
полеты в космос, тем меньше сами по себе они интересовали
зрителя как предмет научной фантастики. И тема космических
полетов «оживлялась» в годы холодной войны фантастическими
«восточными шпионами» в фильмах Теренса Фишера «Косми¬
ческий путь» и Ричарда Толмеджа «Проект лунная база», эро¬
тическими сценами в картине «Посещение с Венеры» «специа¬
листа по голому телу» Харрисона Маркса.
В космос посылались вампиры, зомби («Зомби из космоса»,
1952; «Ужас в космосе», 1965), сумасшедшие («Ракета в пути»,
1959) и даже комик Тото («Тото на Луне», 1958). По существу,
космос в этих и многих других фильмах становится просто мес¬
том действия, экзотической декорацией, остраняющей привыч¬
ные жанровые стереотипы. Понадобилось время, чтобы на но¬
вом уровне технического прогресса, когда полеты стали реаль¬
ностью, вернуться к этой теме в «Космической Одиссее», сое¬
диняющей достоверность технического декора космической
эры и философские размышления о судьбах человечества.
Фильмы о чудовищах и вторжениях из космоса не становят¬
ся просто полигоном для других массовых жанров. Тема, «ге¬
рой» здесь сами формируют сюжеты, постоянные мотивы, конф¬
ликты, взаимоотношения персонажей. Бесчисленное множество
этих киносказок «с дрожью» сводится в конечном счете к не¬
скольким моделям. Но как раз в их повторяемости, в постоян¬
ных акцентах на определенных мотивах просматриваются те
навязчивые идеи и страхи — атомной войны, вторжения, — ко¬
торые делают эти фильмы красноречивым документом своего
времени.
Упомянутая уже картина «Война миров» как раз и дает одну
из типических моделей научно-фантастического фильма, соби¬
раемую из нескольких блоков.
Блок первый. Герой — молодой ученый — приезжает на уик¬
энд к родителям своей невесты. В .другом случае это может
быть автомобильная экскурсия; но молодой человек — ученый
или военный — и девушка обязательны. В разгар танцев тухнет
свет и останавливаются все часы и, пока все обыкновенные
люди пребывают в состоянии беспечности, ученый убеждается,
что случилось что-то тревожное и необычайное.
Блок второй. Ученый вместе с группой добровольцев от¬
правляется к месту, куда указывают магнитные стрелки. Все
полагают, что упал метеорит. В других вариантах, когда учено¬
42
му не верят, он начинает исследование в одиночку, на свой страх
и риск, как астроном-любитель в фильме «Это пришло из дру¬
гого пространства», или ученый на Северном полюсе, где он
обнаруживает в глубине Ледовитого океана чудовище, разбу¬
женное атомными взрывами. В составе экспедиции часто есть
репортер, как бы представительствующий от имени зрителя.
На дне кратера вспыхивают зеленые огоньки, и все с не¬
которым страхом отмечают, что круглое кольцо на верхушке
метеорита начинает двигаться. Трое добровольцев, радостно раз¬
махивая руками, идут к космическому кораблю в надежде
завязать первый контакт, репортер лихорадочно снимает тор¬
жественную сцену, ученый занимает благоразумную выжида¬
тельную позицию. (В другом варианте, наоборот, он, движимый
научным любопытством, совершает необдуманные поступки, и
положение спасают военные — «Вещь из другого мира», либо он
оказывается провокатором нападения злых сил, как доктор Мор-
биус в «Запрещенной планете».) Неожиданно из корабля вы¬
рывается красный луч, испепеляющий трех парламентеров,
толпа в ужасе бежит, энергичнее других эвакуируется репортер.
Ученый благоразумно, но не теряя присутствия духа, прячется
в подходящем укрытии, увлекая за собой девушку, которая уже
почти без чувств.
Блок третий. В дело (во всех фильмах) вмешивается армия.
К месту происшествия идут моторизованные колонны, на исход¬
ные позиции выходят орудия, танки; полковник советуется с
молодым ученым, тот выражает сомнение в успехе операции.
Начинается атака. Марсианские летающие тарелки мгновенно
экранируются от снарядов и пуль и в свою очередь сжигают
солдат, машины и танки, оставляя лишь контуры предметов на
земле. Общая паника, все бегут.
Блок четвертый. Конференц-зал. Военные проводят совеща¬
ние с учеными. Ученые беспомощно разводят руками — данных
слишком мало. Сводки сообщений, газетные телеграммы: мар¬
сианские корабли высаживаются по всему миру. ООН пытается
объединить силы Земли для отпора. Война приобретает глобаль¬
ный характер. Президент отдает приказ сбросить на пришель¬
цев водородную бомбу. Тем временем ученый и его девушка
находятся в страшной опасности. Они прячутся в полуразрушен¬
ном доме, а над ними — марсианские аппараты. Марсиане, пью¬
щие человеческую кровь, пытаются их схватить. В глубине под¬
вала ученый отчаянно отбивается от автоматической руки, уже
схватившей его девушку,—ситуация «красавица и чудовище»
соблюдается неукоснительно. Дубинкой он выбивает марсиан¬
ский автоматический глаз и ранит самого марсианина. Ученый
43
Больше, кровожаднее, страш
нее и... дешевле — такова
эволюция голливудских чу¬
довищ. «Чудовище с глуби¬
ны в 20 тысяч сажен»,
«Смертельные кузнечики»,
«Тарантул»
прибывает в Лос-Анджелес с драгоценным трофеем — тряпкой,
смоченной в марсианской крови. Ученые немедленно отправля¬
ют ее на анализ и убеждаются, что в крови марсиан очень
мало лейкоцитов, — бактериологический защитный барьер слаб.
Блок пятый. Летающая крепость сбрасывает на марсиан во¬
дородную бомбу, но, когда рассеивается дым, выясняется, что
она не причинила им вреда. Марсианские тарелки плывут на
Лос-Анджелес, и ничто не может преградить им дорогу.
Блок шестой. Паника. Это вторая обязательная кульминация
фильма после сражения. Толпы людей, бегущих по улицам,
драки за машины, препараты научной лаборатории, которая
должна была эвакуироваться в горы, чтобы там искать средст¬
во борьбы, выброшены из грузовика на мостовую обезумевши¬
ми жителями. Опустевший город, по которому бредет герой,
над улицами и домами плывут марсианские тарелки.
Блок седьмой. В момент, когда, кажется, уже все потеряно
и человечество должно погибнуть, марсиане умирают от земных
микробов. (В других случаях молодой ученый придумывает
какое-то новое сверхмощное оружие, и в последнюю минуту
оно срабатывает.) Герой и героиня сжимают друг друга в объя¬
тиях.
Довольно близка по структуре и типовая модель фильма
о чудовищах. В картине «Они» Гордона Дугласа (1954) поли-
44
цейские обнаруживают в пустыне новой Мексики маленькую
девочку, бегущую по дороге со страшным криком «Они! Они!»,
натыкаются на автомашину с растерзанными пассажирами и
узнают про ограбление бакалейной лавки, из которой украден
только сахар. Идя по следам в пустыне, полиция, агенты ФБР
и вызванные на помощь энтомолог и его ассистентка обнаружи¬
вают гигантских муравьев размером в полтора метра каждый.
Эта мутация возникла в результате первых испытаний атомной
бомбы в 1945 году.
Разбужен атомными взрывами гигантский спрут в фильме
«Чудовище приходит из моря» (1955), и вырастает на 30 метров
огромный тарантул, поевший радиоактивной пищи («Тарантул»,
1955). В результате испытаний увеличиваются кузнечики («Смер¬
тельные кузнечики», 1956) и появляется чудовищный паук
(«Паук», 1958). Уже около двадцатй лет самые различные чу¬
довища путешествуют по американским экранам, теперь, прав¬
да, уйдя в дешевую категорию «Z». Все они появляются сна¬
чала как неизвестная опасность, в следующих эпизодах ученые
и армия или полиция устанавливают тип чудовищ, затем мон¬
стры совершают нападение в зависимости от бюджета картины —
либо на большой город, либо на уединенный поселок — и в
финале уничтожаются оружием, выбранным по совету ученых.
Напалмом, огнеметами или радиоактивными изотопами. При
45
этом в финале успокоение, но частичное. Агент ФБР в финале
«Они» после кровавой победы над муравьями задумчиво гово¬
рит: «Если только первые испытания породили такие чудовища,
то что же ждать дальше?»
В этих близких схемах характерны несколько смысловых и
эмоциональных моментов, настойчиво провоцируемых комби¬
нациями описанных выше блоков. Во-первых, беспечность и не¬
защищенность перед таинственной опасностью. В одних случаях
это беспечность жителей и местных властей, не желающих слу¬
шать предупреждения ученого о том, что в пустыне появилось
нечто чужое и странное («Это пришло из другого пространст¬
ва»). Или что в глубине моря проявляет признаки жизни какое-
то чудовище («Чудовище с глубины в 20 тысяч сажен»). В дру¬
гих — беспечность самого ученого, переступившего в исследо¬
ваниях порог безопасности. Так, ученый размораживает косми¬
ческое чудовище, и оно, обладая невиданной способностью к
регенерации (отстрелянная конечность начинает расти на глазах)
и хищностью, успевает убить двух людей, прежде чем его ло¬
вят и уничтожают в электромагнитной ловушке военные на аме¬
риканской арктической базе («Вещь»). Так, ученый Депплер
перед смертью признается, что освободил электромагнитное
тело, которое обрелс жизнь и удваивается каждые одиннадцать
часов, и если его не убить, то оно пожрет всю энергию зем¬
ли («Магнитное чудовище»).
«Вам кажется, что вы живете в устойчивом безопасном ми¬
ре, но это опасная иллюзия», — внушали фильмы. Они не толь¬
ко отражали беспокойство американского обывателя, но и про¬
воцировали истерию в годы холодной войны и даже после ее
окончания. Выступая, казалось бы, против атомной бомбы и ее
испытаний, они порождали неуверенность и страх.
Второй момент еще более важный — побоище, катастрофа
и паника. Во всех фильмах главными являются сцены схватки
между человеческой техникой и пришельцами или чудовищами.
На широком экране и в цвете взрываются танки и самолеты,
с оглушительным воем летят ракеты, смертоносные красные,
белые и зеленые лучи испепеляют все живое. Движутся по го¬
роду во всех фильмах про чудовищ гигантские доисторические
птеродактили, бронтозавры, спруты, гигантские муравьи и пауки.
Они испускают огонь изо рта, подобно древним драконам, они
хватают лапами и перекусывают железнодорожные вагоны, они
валят небоскребы ударами хвоста или сметают их дуновением
крыльев, летя со сверхзвуковой скоростью, как это делают два
гигантских птеродактиля в японском фильме «Родан». «Пози-
тронные» лучи испепеляют большую часть Японии («Таинствен¬
46
ные», Иносиро Хонда, 1957), и опять-таки лучи из летающих
тарелочек сжигают большую часть Нью-Йорка, Лондона и Па¬
рижа в «Битве в космическом пространстве» (1960).
Сцёны разрушения и паники — центральные во всех этих
картинах. Как верно замечает американский критик Сьюзан
Зонтаг; «научно-фантастические фильмы не про науку. Они про
катастрофу...» Про грядущий «судный день». В них очевидно
кристаллизуются те смутные образы, которые существуют в
массовом сознании, в обществе, живущем под страхом атомной
угрозы. Этот, часто неосознанный страх, получая визуальное
воплощение, как бы выводится на поверхность. Но и, как уже
отмечалось, в свою очередь, рождает напряженность и неуве¬
ренность.
Те же психологические мотивы присутствуют и в японских
фильмах о чудовищах. И все же бум фантастики, начавшийся
в Японии после первого фильма «Годзилла», имел и несколько
иные социально-психологические основания.
«Годзилла», выпущенный в 1955 году, по сюжету, материалу
и художественному уровню мало чем отличается от «Чудовища
с глубины в 20 тысяч сажен» и других американских фильмов
этого ряда. Однако у картины была особая судьба. Компания
«Тохо» получила во много раз больше денег, чем затратила на
постановку. Невиданному кассовому успеху соответствовал и
престижный. Режиссер Иносиро Хонда стал знаменит и начал
специализироваться на постановке фантастических фильмов про
чудовищ.
В чем разгадка успеха этого фильма? Думается, прежде все¬
го в той национальной, исторической почве, на которой он
создавался, в тех идеях, которые равно одушевляют режиссера
и зрителя.
Внешне, повторяю, все очень похоже на аналогичные амери¬
канские картины. В одном из квадратов океана таинственно гиб¬
нут суда, едва успев подать сигнал бедствия. Непонятный огонь,
идущий из глубины, мгновенно сжигает их. «Это Годзилла, он
проснулся», — в ужасе говорит старый рыбак. И действительно,
шатаются, падают дома, сотрясается земля — по острову идет
пока невидимый Годзилла. Научная экспедиция обнаруживает в
земле странные радиоактивные воронки — это следы ног гигант¬
ского ящера, проснувшегося от атомных испытаний. А потом
в панике бежит толпа крестьян — Годзилла снова здесь. И, на¬
конец, мы видим высовывающуюся из-за холма огромную го¬
лову, впрочем, сделанную не слишком искусно.
Ощущение бутафории не только сюжетной, но и визуальной
остается в самых драматических сценах, когда Годзилла идет
47
по Токио — бронированный, неуязвимый, выбрасывая радиоак¬
тивный огонь, от которого плавятся стальные фермы мостов и
столбы высоковольтных передач, круша одним ударом хвоста
многоэтажные дома, подхватывая передними лапами желез¬
нодорожный вагон (знаменитый кадр) и перегрызая его зуба¬
ми. И гибель Годзиллы, когда вокруг него закипает вода и мы
видим аккуратный — без обмана — пластмассовый чистенький
скелет страшного чудовища, — тоже скорее смешна, чем страш¬
на. Сохраняется неукоснительно и схема научно-фантастического
фильма: старый чудак профессор, его красавица дочка, нежно
ухаживающая за отцом; ее жених — моряк; талантливый моло¬
дой ученый — изобретатель смертоносного оружия, которое
только и может поразить Годзиллу. Все известно, все демонстра¬
тивно банально. И в то же время столь полный успех.
Он кажется еще более поразительным, если вспомнить, как
до этого уже откликнулось японское кино на трагедию Хиро¬
симы. Несколько лет после августа 1945 года киноискусство
молчало. Нужна была историческая дистанция, чтобы прикос¬
нуться к незаживающей ране. Только в 1952 году появляются
«Дети Хиросимы» Кането Синдо — потрясающий своей докумен¬
тальностью и трезвой горечью отчет о том, что произошло в
городе, подвергшемся атомной бомбардировке. Зритель уви¬
дел на экране атомный гриб, тень человека, оставшуюся на
ступеньке, рассыпающиеся пеплом одежды, умирающих птиц,
волосы, которые женщины пучками вынимают из головы, иска¬
женные болью и страхом лица. И после этой кричащей доку¬
ментальности, после трагической лирики «Камней Хиросимы»
К. Есимуры, после глубинного психологического анализа, рож¬
денного атомной бомбой шока, сделанного Акирой Куросавой в
фильме «Записки живущего», после всего этого появляется гра¬
ничащая с вампукой «Годзилла» и завоевывает того зрителя, ко¬
торого можно заподозрить в чем угодно, кроме несерьезного
отношения к Хиросиме.
Очевидно, мы имеем здесь дело с любопытнейшим социо¬
логическим феноменом. Очевидно, при всей своей художествен¬
ной несостоятельности «Годзилла» дала японскому зрителю не¬
кий «возвышающий» вариант пережитого им страшного прош¬
лого. Ужасы Хиросимы и Нагасаки, проигранная война, капиту¬
ляция, отсталая наука — все «переигрывается» в фильме
«Г одзилла».
Анонимные виновники — генералы, ученые, американский
президент, экипаж Б-52, доставивший бомбу, — все, что обни¬
мается словом «противник», персонифицируется здесь в радио¬
активном отвратительном чудовище. Здесь нет жутко натура¬
48
листических сцен фильмов о Хиросиме, нет людей с выжжен¬
ными глазами и заживо разлагающейся плотью. Вместо этого
живописные разрушения, производимые Годзиллой,— их легче
смотреть, легче примириться. Мать обнимает ребенка, закрывая
ему рукой глаза, — надвигается Годзилла. Дети в соборе краси¬
во поют молитвы.
И снова воюют, показывая чудеса храбрости, японские сол¬
даты, стреляют танки, плывут миноносцы, оставляя пенный след
за кормой, бросают глубинные бомбы, и эскадрильи самолетов
бьют ракетами по страшному чудовищу, отмахивающемуся от
ракет, как от мух.
И японский ученый — единственный в мире! — находит сред¬
ство уничтожить Годзиллу: его кислородный окислитель силь¬
нее, чем атомная бомба. Но, не желая, чтобы его изобретение
использовалось как средство уничтожения, он сжигает все чер¬
тежи и, убивая Годзиллу, жертвует собой, чтобы унести в мо¬
гилу секрет страшного оружия.
В мифологической форме здесь переписывается прошлое,
память освобождается от позора, унижения и страха. Здесь,
должно быть, и секрет успеха картины. «Камни Хиросимы»
заставляли помнить и мучиться, «Годзилла» помогала забыть
и успокоиться.
Следующие фильмы Иносиро Хонда и компании Тохо закре¬
пляли достигнутый коммерческий успех. Каждый год Хонда
исправно выпускал один-два фильма про чудовищ. «Годзилла
против Мосуры», «Родан — птица смерти», «Вторжение Астро¬
монстров», «Невероятный Варан», «Бегство Кинг Конга» — во
всех этих фильмах страшные чудовища угрожают существова¬
нию землян, но японцы находят средство спасения и даже в
содружестве с «исконно японскими» Годзиллой и Роданом помо¬
гают людям и жителям другой планеты. Моменты идейные,
выражающие настроения нации, постепенно становятся все бо¬
лее формальными — идеология вырождается в зрелище.
Любопытно, что в американскую версию фильма «Годзилла»
по желанию прокатчиков был введен репортер Стив Мартин —
полпред зрителей, объясняющий, что происходит, и дающий
американскому зрителю ощущение причастности к событиям
(«Он один из нас оказавшийся там»}.
Присматриваясь внимательно к сценам массовых побоищ в
фильмах про чудовищ — японских и американских одинаково,—
замечаешь еще одну характерную черту: героем всех сраже¬
ний, даже трагическим героем, является техника. Идут в бой
танки и бронетранспортеры, пикируют самолеты, летят в цель
автоматически наводимые ракеты; играя разноцветными огонь-
49
ками, с полным напряжением сил работают кибернетические
устройства, поворачивают во все стороны свои экраны радары,
рвутся атомные бомбы, а людей почти не видно в сокруши¬
тельных баталиях. Это фольклор технической эры, где рядом с
традиционными драконами — годзиллами, роданами, пауками —
действует новый герой. Не Ланселот, вооруженный волшебным
мечом, не Георгий Победоносец со своим беспощадным копьем,
но сами автоматизированные, получившие самостоятельную
жизнь меч и копье — ракета, напалм, лазерный луч. Человек
же лишь дополнение, придаток автоматического оружия.
Характер подобных схваток совершенно точно описан в
саркастическом рассказе Р. Шекли «Битва» — о последней бит¬
ве, которую ведет человечество с силами ада. Однако люди в
этой битве не участвуют. На все просьбы священнослужителя
главнокомандующий генерал Феттер отвечает: «Мы не имеем
права рисковать... Нам же неизвестна сила сатанинских полчищ.
Мы обязаны бросить в бой лучшее, что у нас есть. А это
означает — автоматические армии, роботы-перехватчики, робо-
ты-танки, водородные бомбы»25. И когда мужественные роботы
50
«Г одзилла».
Дети Годэиллы, рожденные
ее успехом... Вдвоем кру¬
шить веселее
51
выигрывают эту битву, то генералы видят, как по полю брани
между грудами исковерканного, раздробленного металла шест¬
вует благодать и обновленных роботов бог забирает заживо
в рай.
Они заменяют людей даже у трона господня.
Что же представляют собой силы зла, чудовища во всех
описываемых фильмах? По общему мнению критики, символ
разбуженных ядерных сил, метафору атомной бомбы. Но нет
ли и некоторого дополнительного смысла в чудовищах фанта¬
стического экрана? Если мы вернемся к прообразу чудовищ
Кинг Конгу, то увидим, что в нем воплощено, прежде всего,
естественное, природное начало. Эпизод, когда на верхушке
Эмпайр Стейтс Билдинг он, держась рукой за шпиль башни, дру¬
гой отмахивается от аэропланов, безжалостно расстреливающих
его из пулеметов, воспринимается драматически. А сегодня в
эпоху экологического кризиса — даже трагически. Жалко жи¬
вотное!
Нет спору, редозавры, птеродактили, пауки и спруты совре¬
менной фантастики выглядят отталкивающе, они очень против¬
ны (хотя радиоактивный тарантул и ведет себя, как Кинг Конг,
52
Японский спрут расправля¬
ется с кораблем не хуже
американских «кузнечиков»
Еще одно «насекомище»...
заглядывая в комнату, где спит голенькая ассистентка профес¬
сора). Но и в них есть этот дополнительный смысл — воплоще¬
ние стихии, взбунтовавшейся против современной технологии.
И не случайно чувствуется какое-то мстительное удовольст¬
вие в том, как изображают Иносиро Хонда и его американские
коллеги беспомощность и гибель современных вооружений:
плавящиеся танки, действующие, как комариные укусы, ракеты,
взрывающиеся, как безвредные хлопушки, бомбы — и все это
в цвете, на широком экране. Хрипит, визжит, корчится в метал¬
лических судорогах и погибает современная техника не в си¬
лах до самого финального момента справиться с разбушевав¬
шейся стихией. Конечно, эта технотронная цивилизация — герой
и победитель, но не самый симпатичный. И опасный, посколь¬
ку ненароком он может задавить или отбросить своего хозяи¬
на — человека.
Это соотношение машинерии и человека переходит и в дру¬
гие научно-фантастические фильмы. Их пространство заполняют
электронные табло, осциллографы, сложные поверхности косми¬
ческих кораблей, эллиптические иллюминаторы, автоматические
устройства. В техническом-декоре основные эстетические при-
53
тязания авторов. Сюда обращено основное внимание и основные
средства. И в фильме «Затерянные в космосе» режиссера Джо¬
на Старджеса тратится один миллион долларов на постройку
центра космических полетов — точной копии центра в Хьюсто¬
не — и все ракеты и приборы делаются по наметкам НАСА на
1980 год. А герои фильма лишь обслуживают эту технику.
Вся сила вечного Фантомаса, начиная с первой ленты Фей-
да и по сегодняшний день, заключается не столько в дья¬
вольской изворотливости его ума, сколько в технической сме¬
калке. Коротковолновые передатчики, подсматривающие теле¬
камеры, автомобили, превращающиеся на ходу в самолет или
в подводную лодку, — все эти технические изобретения остав¬
ляют в дураках бедного инспектора Жюва, который все время
пытается победить Фантомаса хитростью, то есть чисто чело¬
веческими способностями. И если, с одной стороны, серии
«Фантомаса» — разнообразный в своих сюжетных поворотах де¬
тектив, то с другой — бесконечно повторяющаяся веселая и
зловещая притча эпохи научно-технической революции о том,
что техника сильнее человека.
Поистине, как писал Маркс, «материальные силы наделяются
интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь... низводится
до степени простой материальной силы» 26. Этот объективный
процесс, происходящий в капиталистическом обществе в усло¬
виях научно-технической революции, и отражается в соотноше¬
нии человека и машинерии в научно-фантастическом фильме.
Так далекие, казалось бы, от научных идей сюжеты, визу¬
альные мотивы, «антинаучная фантастика», как определил ее
Деймон Найт, отражают своеобразную реакцию массового соз¬
нания на процессы, связанные с техническим прогрессом в усло¬
виях капиталистического общества.
Чрезвычайно любопытен в этом смысле один из вариантов
фильмов о вторжении из космоса. Когда оно осуществляется
не в грохоте баталий, не в ослепительных вспышках водород¬
ных взрывов и лучей смерти, а тихо, исподволь. Когда неви¬
димое, чужое, явившееся из другого мира внедряется в лю¬
дей, овладевает их сознанием, парализует их волю.
Пожалуй, первой значительной реализацией этого сюжета
была картина Джека Арнольда* «Это пришло из другого про¬
* По мнению Бакстера и других западных исследователей фантастическо¬
го кино, Джек Арнольд являлся одной из самых значительных фигур в
научной фантастике на протяжении 50-х гг. Типично коммерческий режиссер,
работавший для денег, он, как бы помимо своей воли, сказал о своем вре¬
мени. «Искусство в его картинах возникало случайно».
54
странства». Фильм, сделанный на основе заявки Рея Бредбери,
начинался образом маленького заброшенного городка на краю
пустыни Аризоны. Эта пустыня станет потом излюбленным мес¬
том действия многих научно-фантастических картин, созданных
в Голливуде. В колеблющемся мареве ее пейзажей, в суровом
безлюдье ее пространств находил Арнольд настроение томи¬
тельного беспокойства, напряженности, которая должна была
взорваться чем-то неожиданным. И действительно, ночью, когда,
согласно описанию Бредбери, «город отдыхал после дневной
битвы с солнцем», астроном-любитель Джон Путнем замечал
приземление космического корабля. Однако власти отмахива¬
лись от его сообщений, пока все не начали замечать, что в го¬
родке происходит что-то неладное и поведение жителей резко
меняется.
В «Эксперименте Кватермасса» (1955, режиссер Вэл Гэст,
Англия) единственный возвратившийся из космоса член экипа¬
жа корабля Виктор Кэррун оказывается лишь оболочкой для
проникшего в него отвратительного чудовища. Убежав из госпи¬
таля, Виктор Кэррун теряет постепенно человеческие черты,
он пробирается по лондонским улицам, питаясь кровью людей,
пока его не убивает полицейский инспектор.
В картине Роджера Кормэна «Завладев миром» (1956, США)
инженер Том Андерсон предвидит нашествие высшего разума
с Венеры, но убежден, что это благо для человечества, кото¬
рое освободится от зла и невежества. Однако^венерианский
разума овладевает разумом людей, контролирует их чувства, а
вовсе не собирается их делать лучше.
В фильме Марио Бава «Ужас в космосе» (1965, Италия)
жители неизвестной планеты, появляющиеся в виде светлячков,
сначала убивают космонавтов, прибывших по сигналу SOS, а
потом влезают в тела мертвых. Мертвецы нападают на своих
живых товарищей, и скоро в живых не остается ни одного
землянина.
В фильме «Ночь кровавого сатаны» (1958, режиссер Бернард
Ковальский, США) на мысе Канаверал появляется существо из
космоса и завладевает космическим пилотом, внедряясь в его
кровеносную систему.
Самый сильный фильм из этой серии — «Вторжение похити¬
телей тел» (1956, режиссер Дон Сигел, США). Снова малень¬
кий городок, на этот раз в Калифорнии, где все привычно,
знакомо, повторимо. Местный доктор Майлс Беннелл замечает
какие-то странные изменения в своих пациентах. Он подозрева¬
ет, что это вторжение, а затем вместе со своим приятелем
находит отвратительные стручки, которые принимают форму
55
людей. На биллиардном столе лежит наполовину готовый му¬
ляж его друга Джека, и реальный Джек с ужасом, смотрит
на него. Постепенно все жители города заменены их искусствен¬
ными подобиями, и даже возлюбленная героя на его глазах
превращается в чуждое существо.
В фильме «Деревня проклятых» (по повести Дж. Уиндема
«Кукушки Мидвича», 1960, режиссер Вольф Рилла, Англия)
вторжение из космоса ознаменовано тем, что жители малень¬
кой деревни погружаются на пару часов в каталептический сон,
потом выясняется, что все женщины деревни беременны, и
через девять месяцев они рожают шесть девочек и шесть маль¬
чиков, одинаково светловолосых и с огромными черными гла¬
зами, обладающими гипнотической силой.
Что же означает этот повторяющийся, навязчивый мотив пре¬
вращения человека в «не человека», управляемого некой неви¬
димой, непознаваемой, беспощадной, анонимной силой? Круп¬
нейший американский социолог Дэвид Рисмен в своей книге
«Одинокая толпа», исследуя стадии изменения человека в совре¬
менном буржуазном обществе, отмечает превращение «чело¬
века, ориентированного во внутрь» в «человека, ориентирован¬
ного во вне». Согласно его концепции, в эпоху свободной кон¬
куренции рядовой человек полагался сам на себя, он стремился
к некой цели, им самим определенной, для этого ему нужны
были воля, мужество, предприимчивость, усердие. В современ-
56
Чудовища поменьше, бюд¬
жет поскромнее. Вместо
грандиозных побоищ — та¬
инственные страшные про¬
исшествия
«Вторжение похитителей
тел»
ном обществе монополистического капитала и мощных органи¬
заций человек меньше, чем когда-нибудь, зависит от самого
себя, от своей воли, способностей, и он подлаживается к тре¬
бованиям организации, к предписываемой ему манере поведе¬
ния, к моде, он ориентируется во вне, на других.
Именно этот объективный процесс потери личности, превра¬
щения ее в винтик механизма метафорически запечатлен в
сюжете лишения человека самостоятельной воли, ответствен¬
ности за свои поступки. И более того. Симптоматично, как меня¬
ется поведение людей. В фильме «Это пришло из другого
пространства» два похищенных пришельцами электрика возвра¬
щаются, но один из них получает возможность смотреть, не
мигая, на солнце, другой не чувствует перепада температуры.
Невеста героя не реагирует на холодный ветер. Люди теряют
человеческую чувствительность, они машинизируются. Причем
не только физически, но и духовно.
В фильме «Вторжение похитителей тел» для врача все со¬
бытия— он восстанавливает их в памяти — начались с того
момента, когда он увидел мальчика, бегущего по дороге с
криком: «Это не моя мама!» Новые существа, вторгшиеся в
человеческие оболочки, совсем, как люди, только они лишены
человеческих чувств — так жить спокойнее.
У этих людей пустые глаза, они не контактны. И так же
лишены человеческого выражения глаза детей в «Деревне
57
проклятых». Они никого не жалеют, им неинтересны мысли
и чувства их односельчан, их родных. Характерно, что ряд филь¬
мов разворачивается в маленьких городках, деревнях, где силь¬
нее власть традиций, привычного консервативного образа жизни
и где перемены поэтому разительнее. Где процесс человече¬
ского отчуждения, ломающий старую патриархальность, пред¬
ставляется особенно явственным и страшным.
Так мифологизирует фантастика зафиксированный еще Марк¬
сом процесс «отчуждения» общественных сил «...не только не
зависящих от воли и поведения людей, а, наоборот, направля¬
ющих эту волю и это поведение»27. И процесс отчуждения
личности в капиталистическом обществе — как потерю контак¬
тов, потерю истинных человеческих связей и чувств.
В массовой фантастике существует канон, согласно которому
все должно кончаться благополучно, так или иначе все не¬
приятности должны улаживаться. Но в рассматриваемом нами
сюжете часто возникают отступления от этого правила. В «Ужа¬
се космоса» двое существ, убивших последнего землянина,
летят в космическом корабле над Нью-Йорком и угрожают за¬
хватить всю землю. В фильме «Вторжение похитителей тел»
герой, не только потерявший друзей, но убедившийся, что
и возлюбленная его «подменена», оставшийся в одиночестве,
выбегает на шоссе, безуспешно пытается остановить машины,
пролетающие мимо. «Подождите, вы будете следующими!» —
кричит он им вслед.
В «Деревне проклятых» опекун детей, поняв, что они пред¬
ставляют реальную опасность, взрывает себя вместе с ни¬
ми. Но зритель знает, что такие дети родились в разных райо¬
нах страны, что угроза не ушла.
Фильмы о чудовищах и приключениях в космосе в 50-е годы
отодвинули на второй план сюжет тайного вторжения. Но зна¬
менательно, что во второй половине 60-х годов фильмы про
подмену человека, истории оскопления его личности получают
второе рождение в прокате. Опасность машинизации человека,
отчуждения личности в мире современного капитализма ока¬
залась даже более жгучей, чем угроза атомной бомбы, и
более реальной.
Любопытно проследить, как этот мотив похищения, утраты
личности обнаруживает себя в других темах и жанрах фан¬
тастического кино. Один из вариантов — кража мозга, этот сю¬
жет знаком советскому читателю по повести Александра Бе¬
ляева «Голова профессора Доуэля». Серия таких пересадок
продемонстрирована в фильме Р. Стивенсона «Человек, ко¬
торый поменял свой мозг» (1936, Англия). Ученый пересажи¬
58
вает мозг своего благодетеля лорда в голову безнадежно
больного существа, затем, войдя во вкус и стремясь покорить
свою прелестную ассистентку, пересаживает свой мозг в тело
ее жениха, но ассистентка, оценив ситуацию, пересаживает
мозг жениха обратно в его законное тело, а доктор умирает,
унося с собой тайну пересадок. Фильм звучит сегодня паро¬
дийно. Тема его разменялась в сюжетных стереотипах, в нем
нет того подводного социального слоя, который ощущается в
лучших фантастических фильмах. Но сама ситуация продолжает
интересовать Голливуд.
В 1943 году Эрик Штрогейм исполняет роль демонического
доктора в фильме «Женщина и чудовище». Завладев мозгом
убитого в катастрофе финансиста Донована, герой Штрогейма
помещает этот мозг в питательную среду, оживляет его и
учится у него искусству управлять людьми. Человеческую го¬
лову держат в состоянии бодрствования в фильме «Живая
голова» (1961, режиссер Урцето, Мексика). Врач-убийца пере¬
садит мозг обезьяны мужчине Гомару («Женщины-борцы про¬
тив врача-убийцы», 1962, режиссер Кордона, Мексика). Все
эти фильмы просто кинематографическая макулатура и инте¬
ресны тем, что указывают, какие темы и идеи циркулируют в
самых низких, рассчитанных на примитивного потребителя
слоях «массовой культуры». Но среди картин, трактующих
этот сюжет, есть произведения и куда более высокого ранга.
В первую очередь здесь следует назвать цикл фильмов о
докторе Мабузе.
На протяжении сорока лет был создан ряд фильмов о Ма¬
бузе, и это дает возможность проследить определенную эво¬
люцию в способе решения этой криминально-авантюрной ис¬
тории. В первом фильме знаменитого немецкого режиссера
Фрица Ланга «Доктор Мабузе-игрок» (1922) Мабузе-шулер,
биржевый игрок, предводитель гангстерской шайки, обладает
загадочным даром гипнотического внушения. Артист Кляйн-
Рогге прекрасно передал тяжелый, пронзительный, заворажи¬
вающий взгляд маньяка и убийцы. Фриц Ланг снова вернулся к
своему герою десять лет спустя в фильме «Завещание доктора
Мабузе». Следы преступлений таинственной шайки ведут в
сумасшедший дом. Выясняется, что ее предводитель — дирек¬
тор психиатрической лечебницы, и выполняет он посмертную
волю загипнотизировавшего его доктора Мабузе. Мабузе, умер¬
ший в его лечебнице, составил дьявольский план захвата власти:
надо устраивать поджоги, взрывы, убийства, чтобы ввергнуть
страну в состояние паники и анархии. Картина Ланга несла
жгучий политический смысл. За деятельностью Мабузе и его
59
«Доктор Мабузе — игрок»
(1922, режиссер Фриц Ланг)
Через 38 лет Ланг снова вер¬
нулся к своему старому сю¬
жету— «Тысяча глаз докто¬
ра Мабузе»
Подражатели Ланга стре¬
мились превзойти его за
счет ужасов
60
шайки просматривались преступления нацистских лидеров, стре¬
мившихся загипнотизировать целую нацию и повести ее за
собой. Надо сказать, что будущие руководители третьего рейха
хорошо поняли адрес разоблачений Ланга. После их прихода
к власти в 1933 году фильм был немедленно запрещен.
Характерно, что Мабузе оказался долговечен и пережил
третий рейх. Ланг вернулся к своему герою в 1960 году в
картине «Тысяча глаз доктора Мабузе». Мабузе теперь обла¬
дает всеми манипуляционными средствами электронной эры.
В отеле Луксор он наблюдает за постояльцами с помощью
замаскированных телекамер (мотив, повторяемый в десятках
картин от «Проклятых» Лоузи до «Семи дней в мае» Франкен-
хеймера). Телевидение вторгается в интимную жизнь людей,
помогает обнажить и сделать достоянием других их сокровен¬
ные помыслы: один из способов выворачивания человека на¬
изнанку и программирования его указан прямо. А аппетиты
Мабузе также увеличились — он хочет овладеть атомным ору¬
жием.
В 60-е годы появляются и подражания Лангу. Г. Рейнл в
1961 году делает фильм «В стальных сетях доктора Мабузе»,
где Мабузе открывает синтетическое лекарство, подавляющее
61
волю людей, а для передачи своих приказов применяет аппа¬
ратуру с телеуправлением. Второе «Завещание доктора Ма¬
бузе», поставленное В. Клингером в 1962 году, повторяет сюжет
фильма Ланга, сделанного в 1932 году, но вводит в него все
аксессуары современной техники.
Таким образом, в эволюции сюжета о Мабузе проглядывает
одна несомненная закономерность: мотивы необъяснимой
власти злодея над людьми постепенно уступают место рацио¬
нальному объяснению — источник могущества не в особой
гипнотической силе личности, а в могуществе техники, способ¬
ной подавить волю человека, превратить его в покорного
робота, подчиняющегося электронным командам.
Герой демифологизируется, техника наделяется сказочным
могуществом.
Иллюстрацией этого процесса может служить и фильм Дэ¬
вида Грина «В лапах мадам Син». Сюжет построен на привыч¬
ных пропагандистских штампах о «коммунистической угрозе».
Мадам Син руководит мощной тайной преступной организацией,
связанной к тому же с Китаем. Ее агенты проводят тщательно
разработанную организацию похищения капитана американской
атомной подводной лодки, ему вживляют в мозг некий аппарат,
который заставит его отныне подчиняться приказам злодейки
мадам Син (ее играет Бетт Дэвис), а потом в его памяти сти¬
рают все следы проведенной операции. Теперь он игрушка в
руках преступных сил и ведет свою лодку, груженную водо¬
родными бомбами, прямиком к острову, где мадам Син и
ее ученые, ее советники прыгают от восторга, ожидая ядерный
подарок, который даст ей возможность шантажировать весь
мир. Но, конечно, английский агент срывает все планы коварной
мадам, капитана вовремя госпитализируют, лодка отправляется
по намеченному курсу, а мадам Син может только отомстить
англичанину, разрушившему ее планы, его отравляет собст¬
венная возлюбленная, также превратившаяся в марионетку
мадам Син.
Все достижения современной науки и даже ее прогнозы
мгновенно и жадно впитываются бульварной продукцией, чутко
реагирующей на беспокойства и страхи массового зрителя. За
фильмами, подобными «В лапах мадам Син», и эксперименты
по прямому воздействию на подсознание человека, и широко
известные опыты профессора Дельгадо, управляющего через
вживленные в мозг электроды реакциями животных, и методы
бихевиористов, пытающихся программировать поведение лю¬
дей, и все усиливающийся тотальный охват западного общества
средствами массовой информации.
62
На процесс превращения личности в «одномерного челове¬
ка» (термин идеолога «новых левых» Маркузе), в «веселого
робота» (Райт-Миллс), в «заводной апельсин» (Берджес) кинема¬
тограф отвечает по-разному. Один из вариантов ответа, рас¬
смотренный нами, — кошмары тайных вторжений «пришель¬
цев» и козни злодеев-докторов. Другой — бульварные поделки
с политическим, антикоммунистическим привкусом типа «В ла¬
пах мадам Син». Третий вариант уже целиком относится к
фильму ужасов. В самом деле, что представляют собой много¬
численные фильмы о вампирах как не воплощение страха под¬
чинения чужой воле, потери самого себя? & каждом фильме о
вампирах есть сцена, где очередная жертва завороженно идет
по зову уже вкусившего ее крови и получившего над нею власть
короля вампиров — графа Дракулы или вампира рангом мень¬
ше. Становясь вампиром, человек перестает быть самим собой.
Недаром вампир не отбрасывает тень — он тень бывшего себя.
Правда, первые фильмы о вампирах (не говоря уже о ро¬
мане Брема Стокера «Дракула», ставшего основой всей «кино-
вампиристики») появились раньше, чем резко дали о себе
знать отрицательные последствия научно-технической револю¬
ции. Но и представления о человеке как об игрушке безличных
анонимных сил возникли давно, были связаны с процессом
отчуждения личности в капиталистическом обществе. Старинные
поверья возродились в благоприятной социальной среде.
Жерар Ленн, автор книги «Фантастическое кино его мифо¬
логия)», рассматривает вампиризм как символический образ
сексуального акта.
Несомненно, эротические мотивы присутствуют в фильмах
этого цикла. Но сводить их смысл только к эротике, только
к фрейдистским символам было бы неверно.
Подчинение человека чужой воле, уничтожение его «я»,
превращение в раба присутствуют ведь не только в фильмах
про вампиров, они в основе и других модификаций фильмов
ужасов. В картинах о Зомби-мертвецах, выполняющих волю
воскресивших их колдунов; в историях о мумиях, оживленных
таинственными заклинаниями и по приказу своих хозяев убиваю¬
щих людей. Не случайно, что тема власти над человеком и
его добровольного подчинения гипнотическому внушению,
утраты собственного «я» равно настойчиво развивается и в
научной фантастике и в фильме ужасов, получая различные
сюжетные мотивировки, трансформируясь в различные мифо¬
логические структуры, но, становясь все более частой, приоб¬
ретает характер неотвязного кошмара. А новейшие экспери¬
менты, связанные с пересадками органов, вторжением в под¬
63
сознание, химическим и электронным воздействием на мозг,
превращают фантастический кошмар в суровую реальность,
угроза «подмены» личности становится вполне осуществимой.
Чрезвычайно характерным ответом на все эти события
научно-технической революции стал фильм Романа Полянского
«Ребенок Розмари». Ответом смятенного массового сознания,
утратившего чувство реального, видящего в науке черную
магию, колдовство, воспринимающего успехи психологии и
медицины как еще одну угрозу заповедным границам чело¬
веческого «я».
В этих особенностях сознания современного «маленького
человека» на Западе надо искать и объяснение художествен¬
ной структуры фильма, где сверхъестественное переплетается
с бытом и вырастает из него, где колдовство существует рядом
с телевидением, заклинания прерываются ревом реактивных
самолетов и свистками полицейских. Где все намеренно дву¬
смысленно, где неожиданные смерти и несчастья могут быть
объяснены случайностью, а могут быть результатом ворожбы.
Где кошмары Розмари могут быть вызваны бредом, объяснены
тяжело проходящей беременностью, а могут быть и совре¬
менным парафразом мифа о богоматери. И ее ребенок может
быть просто урод-мутант, а может быть дитя дьявола.
Сюжетная ситуация фильма состоит в том, что Розмари и
ее муж, переселившись на новую квартиру, знакомятся со свои¬
ми соседями — пожилой бездетной четой. Муж быстро попа¬
дает под влияние соседей — их советы оказываются необычай¬
но благодатными для его артистической карьеры, он отдаля¬
ется от жены, а с ее друзьями происходят какие-то таинствен¬
ные несчастья. Розмари плохо себя чувствует, и старуха
соседка уговаривает ее съесть некое таинственное снадобье.
После чего молодая женщина видит страшный сон: она при¬
вязана к какому-то столу, ее насилует полузверь-получеловек,
а рядом — ее соседи и еще какие-то люди. Когда же она про¬
сыпается, то видит у себя на теле синяки и ссадины, — а муж
говорит, что был пьян. Может быть, это его работа?
Все двусмысленно, все зловеще: и небогатые квартиры, и
запущенные старые кварталы Нью-Йорка, и люди, окружающие
Розмари, и внезапное охлаждение мужа, и бесцеремонное
вторжение соседей, когда обнаруживается ее беременность.
Самые жуткие сцены фильма — это борьба Розмари за свое
дитя, побег от мужа, колдуна и доктора, вступивших в зло¬
вещий союз, чтобы похитить ее ребенка, являющегося сыном
сатаны. Она с трудом прорывается к незнакомому доктору,
который вежливо выслушивает ее путаные объяснения, и не¬
64
медленно звонит доктору-колдуну, имя которого она назвала,
и Розмари снова оказывается в плену. Доктора выступают
здесь как единая и враждебная обычному человеку корпора¬
ция. Это часть холодного и бездушного неверного мира, ко¬
торый отнимает у Розмари самое дорогое — ее ребенка, чтобы
сделать его чужим.
Модное на Западе утверждение «Бог умер!» Полянский раз¬
вивает дальше устами своего героя — старого колдуна, возве¬
щая пришествие сатаны, время сатаны. Но у колыбели сына
дьявола стоит Розмари, и глаза ее светятся любовью. Хотел
ли Полянский выразить мысль автора романа Айры Левина: о
надежде, которая всегда живет в материнском сердце, о
благотворной силе материнской любви — ведь Розмари на
страницах романа рассуждает о том, что ребенок лишь на¬
половину сын сатаны, а наполовину ее и что она будет бо¬
роться против сатанинского влияния, прививать ему добро.
В фильме этот внутренний монолог Розмари опущен.
Или, может быть, режиссер просто желал показать способ¬
ность человека приспособиться к любым условиям, прими¬
риться с чем угодно. Финал фильма достаточно неопределен,
чтобы дать возможность для любых предположений.
Мотив кражи ребенка в фильме Полянского сменяется
кражей тела во французском фильме «Порог пустоты». Он
был снят, очевидно, под влиянием «Ребенка Розмари». Тот
же современный городской пейзаж — сначала Женевы, потом
Парижа, куда приезжает молодая художница — героиня филь¬
ма. Она снимает комнату у одинокой старухи, которая ставит
ей единственное условие: не открывать дверь, ведущую куда-то
во внутренние покои. Но девушка все-таки открывает дверь
и оказывается, что за ней — ничто, пустота. Даже самая силь¬
ная лампа не освещает стен или потолка — вокруг чернота и
белый пар, окутывающий источник света.
Это задверное пространство все сильнее манит героиню,
как Алису зазеркалье. Героиня попадает в какой-то странный
парк и от старика на скамейке узнает, что существует заговор
с целью украсть ее молодое тело и пересадить в него душу
хозяйки комнаты, симпатичной старушки, — так прямо оты¬
грывается в кино тема трансплантации. И действительно,
врач-злодей похищает ее тело, отдает своей старой жене, а
девушка в образе старухи умирает от разрыва сердца.
Не нужно недооценивать воздействие подобных картин.
Не случайно фильм Романа Полянского имел гигантский кас¬
совый успех.
Картина «Экзорсист» («Изгоняющий дьявола», 1973) моло-
65
66
«Ребенок Розмари». Миа
Фэрроу — Розмари. Роль,
сделавшая актрису знаме¬
нитой
67
дого режиссера Уильяма Фридкина только за первую неделю
проката дала фирме «Уорнер Бразерс» два миллиона долларов.
Как сообщает журнал «Филм коммент»: «Уорнер Бразерс»
радостно предсказывает, что фильм принесет 150 миллионов
долларов дохода и станет самым прибыльным фильмом всех
времен и народов*. Автор статьи Стивен Фарбер иронически за¬
мечает, что «фильм обеспечил религии самую громкую рекламу
со времен распятия Христа. Теперь этот святой снова воскрес
благодаря вмешательству сатаны»28. Критики удивляются неве¬
роятной популярности сюжета с участием дьявола, социологи
пытаются разобраться в причинах этой популярности. Выше мы
уже писали о разочаровании обывателя в науке, не оправдав¬
шей возлагавшихся на нее надежд, о тяге к мистическому
и иррациональному и о том, что это мистическое и ирра¬
циональное драпируется в ультрасовременные одежды, его
адепты применяют научную терминологию и научную аппара¬
туру, а сюжеты фильмов разыгрываются в интерьере совре¬
менного города, и все сверхъестественные истории случаются
со средними, обычными людьми.
Так происходит в «Экзорсисте». Сюжет фильма крайне прост.
В двенадцатилетнюю школьницу Риган, живущую со своей
матерью в большом американском городе, вселяется дьявол.
Очаровательная девочка Линда Блэйр, играющая героиню, на
наших глазах превращается постепенно в чудовище, с лицом,
покрытым струпьями, закатившимися зрачками; она буйствует
и изрыгает грязные ругательства.
Мать в отчаянии, медицина бессильна, церковь направляет
своих отважных представителей на борьбу с дьяволом, и они
гибнут, спасая девочку. Вот, в сущности, и все. Но этого ока¬
залось достаточно, чтобы свести с ума Америку, получить ре¬
кордные сборы в Европе, и уже новые фирмы и режиссеры
ставят картины про экзорсизм, то есть изгнание дьявола.
При этом картина Фридкина даже в своем жанре — явле¬
ние довольно посредственное. Она много грубее, чем «Ребенок
Розмари» Полянского, и сделана хуже, чем предыдущий фильм
самого Фридкина — триллер о торговцах наркотиками — «Фран¬
цузский связной».
Стилистика фильма сродни ярмарочному павильону ужасов.
В отличие от Полянского, создавшего в фильме атмосферу
дразнящей двусмысленности, таинственной двойственности
предметов и явлений, Фридкин обозначает симптомы присутст¬
* По данным «Variety» на 1 января 1977 года фильм принес 85 миллио¬
нов долларов.
68
вия дьявола прямо и грубо. Он работает не на интеллигент¬
ного зрителя, а на неискушенную и доверчивую массу. Если
дьявол сидит в девочке, то у нее лицо приобретает злобное
и страшное выражение, и матерщина, слетающая с ее уст,
произносится низким пропитым голосом пожилой актрисы.
Если дьяволу не нравится священник, пришедший его изгонять,
то он блюет ему в лицо зеленой густой массой, напоминаю¬
щей шпинат, и начинает двигать шкафы и стулья в комнате,
чтобы придавить святого отца, а уж когда приносят крест,
то тут дьявол чуть ли не сходит с ума и руками самой Линды
начинает наносить раны ее телу.
При этом он обладает огромной силой и может свернуть
голову взрослому мужчине-режиссеру, впрочем, «вина» его
перед дьяволом несомненна: не снимай фильм про студенческие
бунты. Все дьявольское в фильме вещно, отвратительно и
наивно. Это та стилистика, в которой работал кузнец Вакула
из «Ночи перед рождеством» Гоголя, нарисовавший, как из¬
вестно, «черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда
проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на
руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он бачь,
яка кака намалевана!»29. Но кузнец Вакула был человек
богобоязненный и простодушный, свой стиль он нашел инстинк¬
тивно. Уильям Фридкин, если судить по его предыдущей кар¬
тине, режиссер достаточно искушенный. И хотя в беседе со
студентами американского института кино он подробно рас¬
сказывает, как потрясли его многочисленные проявления сверхъ¬
естественного, с которыми он встретился в процессе работы
над картиной, несомненно, что стиль своего будущего фильма
он вычислил точно и заранее искал широкой аудитории — имен¬
но к ней обращена аттракционная, в духе примитива и даже
балагана эстетика картины.
«Экзорсист» не первый плохой фильм, ставший сенсацией,
грустно констатирует Стивен Фарбер, но это новый вид кино¬
продукции, новая крайность в кинематографе «жестокости и
насилия». «Тысячи людей знают, на что они идут, и это пестрое
шоу не разочаровывает их. Неужели их эмоции настолько при¬
тупились, что им нужен сокрушительный удар кувалдой, чтобы
заставить их чувствовать? Или их приятно возбуждает зрелище,
когда ребенка мучают, оскорбляют и растлевают? Фильм пред¬
лагает такое извращенное сексуальное наслаждение, в сравне¬
нии с которым обычные порнографические фильмы кажутся
чистыми^ и нравственными»30.
Итак, аттракцион, жестокость и насилие, изощренная пор¬
нография— привычные методы достижения успеха в коммер-
69
«Экзорсист». В маленькую
Линду вселился дьявол
70
71
Наука бессильна
На помощь приходит цер¬
ковь
ческом кинематографе. Ими овладел Фридкин, он «потратил
10 месяцев и тринадцать миллионов долларов, совершенствуя
и оттачивая приемы, которые превратили бы аудиторию в
одну дрожащую как желе массу»31. Но причины сокрушитель¬
ного успеха фильма не только в его рассчитанной эстетике,
но и в точно скалькулированной социологии. Фридкин знал,
почему снимает фильм по роману Блэтти, «ни одному слову
которого он не верил», и ясно чувствовал, что нужно в дан¬
ном общественном климате, он вполне цинично играл на оп¬
ределенных зрительских ожиданиях.
Французский журнал «Синеревю» опубликовал специаль¬
ную подборку «Во власти дьявола», посвященную «новой вол¬
не черной магии и сатанизма». Вот только несколько из при¬
веденных в ней фактов, относящихся к 72—73-му годам.
Священник Бриан Тейлор— 1972 год — написал обращение,
в котором предупреждает прихожан: «Ваши дети в опасности
быть зараженными культом демона. Это так же вредно, как
наркотики, и в скором времени станет огромной проблемой.
Дети, естественно, природно чуткие к таинственному окажутся
жертвами сил, которые не смогут контролировать». Епископ
Роберт Мортимер —1972 год: «В наискором времени необхо¬
димо открыть училища, в которых будут обучать людей,
могущих изгонять дьявола и злых духов».
Французское телевидение — 27 ноября 1973 года — фильм
Гийома Радо «Ужасная судьба Гийомета Бабен»; после демонст¬
рации фильма состоялась дискуссия, в которой участвовал
аббат Дебурже-экзорсист.
Римский папа в заявлении — июль 1972 года — указал, что
он и католическая церковь по-прежнему верят в идею персо¬
нифицированного дьявола.
Наконец, один из членов британского парламента — июнь
1972 года — предложил снова ввести в силу закон, запрещаю¬
щий все виды колдовства, — этот закон был принят в 1735 году,
но отменен в 1951-м.
Еще более удручающая картина в США, где увеличивается
количество сект, поклоняющихся дьяволу, организаторов черных
месс, переходящих в оргии, с тайными ритуалами, в которые
входят человеческие жертвоприношения.
Фильм Фридкина появился в этот момент взрыва иррацио¬
нального, моды и болезненного интереса к черной магии, веры
в происки дьявола — как иначе объяснить простому человеку
беспричинные массовые проявления жестокости и насилия. Кар¬
тина попала в нервный узел общественных умонастроений,
причем именно массовых настроений, отсюда ее успех.
72
Но режиссер, как и автор романа, по которому поставлен
фильм, Уильям Блэтти, не просто рассказывают сенсационный
сюжет — они извлекают из него определенную концепцию,
предлагают свою модель жизни, также рассчитанную на шум¬
ное одобрение «молчаливого большинства».
Куда внедряется дьявол, где для него благоприятная почва?
В доме интеллигентки, актрисы, играющей в прогрессивном
фильме, впрочем, играющей устало и без вдохновения. Явно
проявляется он после того, как дочь слышит скандал между
родителями по телефону, с грязной руганью, оправданиями и
обвинениями. И после этого, когда собираются гости и при¬
глашенный космонавт рассказывает о будущей экспедиции
на Луну, в гостиной в ночной рубашке появляется Риган, тяже¬
лым, застылым взглядом смотрит на космонавта, говорит:
«Сдохнешь ты на своей Луне!» — и пускает струйку на рос¬
кошный ковер, — вот вам: и космос покорили, а дьявол тут
как тут!
Компрометация технического прогресса, науки осуществля¬
ется в фильме последовательно. Больная Риган попадает в руки
врачей. Ее укладывают на операционный стол, автоматические
захваты фиксируют тело, иглы впиваются в шею, сосут кровь,
на десятках экранов появляется изображение ее черепа; металл,
электроника, стекло безжалостно мнут, крутят, исследуют без¬
защитное детское тело, но враждебная и страшная техника не
может помочь человеку, она бессильна, когда сталкивается со
сверхъестественным. Врачи разводят руками, и тогда мать
одержимой обращается за помощью к церкви.
И от холодной беспомощной техники, коверкающей тело,
зритель переходит туда, где «врачуют душу». Светлый храм,
священник вносит охапки свежих цветов, солнечный свет льется
из широких окон. Правда, дьявол проник и в храм, на секунду
на экране мелькает оскверненный образ Мадонны, но это как
объявление войны, которая начнется между богом и дьяволом
и которой посвящена большая часть фильма. А сама война
показана в стиле примитивных народных икон, со всей нагляд¬
ностью, дотошностью и натуралистическими деталями.
Но это не только пластическая стилизация, религиозная
доктрина осуществляется в сюжете и в характерах. Человек
слаб, но с божьей помощью он может победить дьявола. Оба
священника — и старший, опытный экзорсист отец Меррин (Макс
фон Зюдов), и младший, его помощник отец Каррос (Джейсон
Миллер) грешны перед богом и испытывают чувство вины.
Старший в прошлом наркоман, младший не может простить
себе, что оставил мать, которая сошла с ума и умерла в
73
лечебнице для душевнобольных. И дьявол знает их слабости,
в решающие минуты он напоминает, упрекает, хочет поколебать.
Умирает, не выдержав напряжения, старший экзорсист, и
младший, чувствуя свою беспомощность, в отчаянии кричит:
«Оставь ее, войди в меня!» И зритель видит, как вдруг иска¬
жается его лицо, начинают, как у Риган, косить глаза, скрю¬
чиваются пальцы, и со страшным криком «Нет!» он выбра¬
сывается из окна, жертвуя жизнью, но спасая душу. Дьявол
не поддался молитве, не поддался обряду, однако не смог
устоять перед христианским самопожертвованием — выздоро¬
вевшая девочка уезжает с матерью; другу покойного, тоже свя¬
щеннику, они передают на прощание символический образок с
образом спасителя, который носил Каррас.
Авторы фильма «Экзорсист» ищут убежища в религии, с
подозрением и антипатией относятся к интеллекту, духовной
свободе, которые для них соединяются с левизной и богохуль¬
ством; идеи картины так же ясны, как и ее стилистика, —
фильм рассчитан на самое неусложненное восприятие.
«Ребенок Розмари», явившийся духовным предшественни¬
ком «Экзорсиста», произведение не столь примитивное, оно
многослойно и многозначно. Но его идеи после успеха филь¬
ма были подвергнуты массовому тиражированию. Так произошло
с мотивом тайной религиозной секты — поклонников сатаны.
В фильме «Гонки с дьяволом» — это уже секта, совершающая
человеческие жертвоприношения и неумолимо преследующая
случайных свидетелей их преступного ритуала. Религиозная сек¬
та здесь эквивалент гангстерской шайки, предлог для блестяще
поставленных сцен автомобильных гонок, но в финале режиссер
претендует на некое обобщение: счастливо ускользнув, перебив
с десяток преследователей, герои, уже переехавшие в другой
штат, за сотни километров, ночью неожиданно оказываются в
кольце своих врагов — вся Америка во власти дьявола, и нет
нигде спасения обыкновенному здравомыслящему американцу.
Авторы итальянского фильма «Духи дамы в черном» (1975,
режиссер Франческо Баррили) идут еще дальше. Хрупкая
белокурая девица (Лимен Фармер), по виду несколько на¬
поминающая Миа Фэрроу — Розмари и переживающая психо¬
логическое состояние другой героини Полянского в фильме
«Отвращение», медленно сводится с ума членами тайной сек¬
ты каннибалов, куда входят ее возлюбленный, ее сосед —
милый вежливый старичок, ее (подружка и еще зловещий негр,
олицетворяющий колдовские тайны и первобытные инстинкты
Черной Африки. В финале фильма девица выбрасывается с
крыши своего дома, потом зритель видит ее хорошенький труп
74
на столе в каком-то подземелье, вокруг стола — люди в ха¬
латах и комбинезонах, как в прозекторской. Ее возлюбленный
торжественно поднимает нож, затем взрезает тело, запускает
руку в грудную клетку, вырывает сердце и с аппетитом съеда¬
ет его, все остальные тащат печень, легкие, дерутся, выхва¬
тывая самые лакомые куски, наконец, камера отъезжает, по¬
казывая пиршество уже на общем плане, потом пустое поме¬
щение с остатками симпатичной девицы.
Этот фильм даже трудно пересказывать серьезно, его вос¬
принимаешь как пародию. А между тем Баррили ставит его с
глубокомысленной претензией на психологизм, исследование
фрейдистских комплексов девицы; каннибализм для него, оче¬
видно, символ зверства современного человека.
В сопоставлении «Экзорсиста» и «Духов дамы в черном»
ясно видно, как, эксплуатируя ту или иную тему, или эмоцию,
коммерческое искусство неизбежно должно интенсифициро¬
вать свои приемы, усиливать шоковые воздействия. «Садома¬
зохистские развлечения» «Экзорсиста» здесь переходят на
новую ступень. Навязчивые воспоминания героини о совокуп¬
лении ее матери, свидетельницей чего она была в детстве.
Ее воображаемая месть престарелому любовнику матери, ко¬
торого она якобы убивает, равно как соседа и своего воз¬
любленного. Потоки крови, размозженные черепа, женский
наманикюренный пальчик, который оказывается в мясе, при¬
готовленном заботливым старичком для котят, наконец, по¬
жирание трупа...
Авторы «Духов дамы в черном» могли бы возразить, что
они опираются на реальный жизненный материал. В самом
деле, тайные секты, культивирующие различные извращения,
придавая им мистический смысл, — распространенное явление
в западном мире. Корреспондент журнала «Иль Джорно» опуб¬
ликовал подробный репортаж о своем посещении тайных
собраний различных сект в Западной Германии, Франции и
Италии — репортаж, полный жутковатых фактов и деталей.
Однако в «Духах дамы в черном», как, впрочем, и в «Гонках
с дьяволом», нет попытки дать социальный анализ этого явле¬
ния, нет его психологического объяснения. В одном случае
столкновение с сектой становится предлогом для триллера,
в другом — для фильма ужасов, демонстрирующего некрофи¬
лию, навязчивые комплексы убийства, сексуальные извраще¬
ния и т. д.
При всем том даже в разнузданной коммерции типа «Экзор¬
систа» различим один мотив, связанный с действительностью
(ведь, в конце концов, эти фильмы эксплуатируют вполне ре¬
75
альные страхи массового зрителя). Это мотив страшной «второй
реальности», существующей рядом с налаженной, благополуч¬
ной жизнью и как бы прорастающей в нее, он становится по¬
стоянным для западного искусства, как наваждение, преследует
многих художников. Быть может, наиболее ощутимо впервые
он проявился в «Блоу ап» Антониони. Там эта загадочная ре¬
альность убийства, трупа, тайных злодейств еще ставится под
вопрос: может быть, было, а может быть, и нет, — жуткое
и таинственное лишь холодным дыханием овевает благополуч¬
ную жизнь модного фотографа. В фильме «Профессия: репор¬
тер» нужно только сделать усилие, маленький шажок в сторону,
и из мира благополучных оффисов, публичных телеинтервью,
туристских маршрутов ты попадаешь в реальность страшных
фантазмов и химер. Где представителя повстанцев выхватывают
прямо из кафе и зверски избивают, где наемные убийцы охо¬
тятся за партизанами и среди выхлопов автомашин не слышен
звук рокового пистолетного выстрела.
Причем речь идет не обязательно о реальности политиче¬
ской. Два различных американских фильма — «Избавление»
Джона Бурмэна и «Гонки с дьяволом» Старрета — начинаются
совершенно одинаково. Из своих городских благоустроенных
домов герои отправляются отдохнуть на природу. И в буко¬
лических пейзажах «Гонок с дьяволом» и в девственной среде
«Избавления» вдруг материализуется что-то отвратительное,
жуткое и неумолимо преследует героев, так же живет это
страшное и беспощадное рядом с обычными людьми в «Ре¬
бенке Розмари». Смысл этого постоянного мотива западного
кино можно выразить, перефразируя известные строки Блока:
«Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир ужасен».
Человек либо может вращаться в привычном кругу, подчи¬
няясь власти обезличивающего стандарта, унификации. Либо
он попадает под власть неожиданного и ужасного. Такова аль¬
тернатива, предлагаемая современной мифологией «массовой
культуры» человеку западного мира. Впрочем, перспектива
превращения в «механизированного», «не человеческого» че¬
ловека в одном варианте окружается радужным ореолом. Так
происходит в фильмах, посвященных разного рода суперменам.
Кинематограф всегда одолжался у литературы идеями, ге¬
роями, сюжетами. Массовая кинофантастика не составляет в
этом отношении исключения. Комиксы-истории в картинках с
короткими подписями, часто, как дымок, вылетающими изо рта
76
персонажа, возникли всего на три года раньше кино. (Пер¬
вые рисованные полоски появились в 1892 году в сан-фран-
цисской газете «Экзаминер».) Но комиксы быстро завоевали
популярность, воскресные приложения к газетам стали печа¬
тать их в обязательном порядке, приключения любимых героев
продолжались многие годы, в десятках и сотнях серий. Гол¬
ливуд, естественно, позаботился о том, чтобы перенести их на
экран.
Так в 30-е годы появляется серия фильмов о фан¬
тастическом герое Флэше Гордоне по комиксам художника
Алекса Раймонда. «Флэш Гордон» Фредерика Стефани (1936),
«Экспедиция Флэша Гордона на Марс» режиссеров Форда Биба
и Роберта Хилла (1938) и «Флэш Гордон завоевывает вселен¬
ную»— Биб и Рэй Тейлор (1940). Во всех фильмах главную роль
исполнял Ларри «Бастер» Крэбб — атлетически сложенный ак¬
тер с пышной шевелюрой светлых волос, открытым и волевым
лицом — идеальное воплощение мужественности, силы и про¬
стодушия. Он же играл параллельно и роль другого героя ко¬
миксов — Бака Роджерса.
Флэш Гордон улетал в космос, чтобы спасти землян от
коварных обитателей планеты Монго. Экипаж ракеты представ¬
лял собой типичный набор персонажей комикса: сам Флэш
Гордон — супермен с мгновенной реакцией и неотрази¬
мым ударом, его хрупкая белокурая невеста, сумасшедший
ученый Зарков (он «тронулся», так как его укусили вампиры)
и, наконец, обязательный комедийный персонаж — тупица ре¬
портер.
В фильме сохраняются все структурные особенности комик¬
са: стремительность и немотивированность действия, поэпи-
зодное строение — в каждом мини-сюжете герой должен
был столкнуться со своим противником и победить его, с тем
чтобы начать новую схватку в следующем эпизоде. Приключе¬
ния, перестрелки, кулачные удары, прыжки из одной ракеты в
другую, схватка за револьвер — все как в вестерне или гангстер¬
ском фильме, только совсем без попыток схватить реальную
фактуру жизни.
Фантастика давала масштабы. Дело шло не об ограблении
банка, а о спасении всей Земли. Гордон Флэш сражается с
тираном планеты Монго, с Цирцеями межзвездных пространств,
с роботами. Попутно комбинаторы Голливуда демонстрируют
всевозможные чудеса, превращая обычных людей в каменные
статуи и обратно. Во взрывах рушатся скалы из папье-маше,
герои бегут по энергетическому лучу, выбираются из всех ло¬
вушек, подстроенных вероломными противниками, и, победив
77
Каждый кинематограф хочет
иметь своего супермена
США
Бразилия
Япония
Италия
всех врагов, Флэш Гордон провозглашает себя императором
Монго или правителем космоса. Сюжет летит со скоростью
экспресса, с захватывающими дух взлетами и падениями
американских гор. Заимствуется не только стиль и конструкция
комикса, но и его философия с культом супермена, разреше¬
нием всех проблем кулаком и пистолетом.
В последующие три десятилетия менялись имя и прическа
героя, его костюм и боевая амуниция: он становился то че¬
ловеком— летучей мышью Батменом, то просто Суперменом,
он менял национальность, превращаясь то в японского Супер¬
гиганта, то в мексиканского Человека-нейтрона. Но, будь
он капитан Марвелл или капитан Америка, Истребитель шпио¬
нов или Человек-радар, функция его оставалась неизменной:
«наводить порядок и восстанавливать космическую и земную
справедливость», защищать жителей Земли от космической
преступной организации (Супергигант), от преступного Чело-
века-атома, желающего разрушить Землю («Супермен против
атоммена»), от гестаповцев и японских шпионов, если фильмы
снимались во время войны («Невидимый агент», «Батмен»).
Впрочем, при неизменности социальной функции и обяза¬
тельной физической мощи герой комикса на протяжении вре¬
мени претерпевал в кино существенную эволюцию. С каждым
годом он приобретал в кино все более мощную техническую
экипировку, становился быстрее, сильнее, неуязвимее, так
что в конце концов ему пришлось отказаться от своей бренной
человеческой плоти. Супермен рожден на планете Криптон и
только принимает вид землянина или в результате переделки
превращается в нечто иное, как капитан Америка или капитан
Марвелл. Как точно замечает критик Вл. Неделин: «...самый
«организм» их определяется особой алхимией — синтезом
свойств, отчуждаемых у техники, машин, приборов, аппаратов,
комбинированием прочностей и скоростей, вездеходности и
летности»32 Таким образом, то, что выглядело бедой в филь¬
мах о жертвах космических пришельцев — машинизация че¬
ловека, — здесь выступает как достоинство. Чем более герой
механизирован, вооружен новинками техники, электронной
аппаратурой, ядерными устройствами, лазером, и дезинтеграто¬
ром, тем больше шансов у него победить. А победа не только
единственная цель, но и критерий правоты героя. Он напоми¬
нает в этом смысле машину, которую не волнуют способы до¬
стижения победы и которая, как заметил Норберт Винер, чуж¬
да моральных целей и «не обратит ни малейшего внимания на
любые соображения, за исключением тех, которые согласно
установленным правилам приводят ее к выигрышу»33
79
Флэш Гордон 1936 г.
Супермен переключается
на сексуальные подвиги.
Реклама заботливо предуп¬
реждает зрителей, чтобы
они не путали их нового
Флэша Гордона со старым
целомудренным героем
для юношества
У киносупермена есть литературные родственники. Один из
них — Перри Родан, рыжеволосый американец, ставший еще в
XX веке на Луне бессмертным (как и полагается супермену)
и основавший в XXVI веке империю Терра, в которую входят
кроме Земли все тела и планеты солнечной системы. Перри
Родан — герой многосерийных выпусков, выпускаемых западно-
германским издательством Мёвиг. Оценивая романы о Ро-
дане, в которых он избавляет свою державу от постоянных
опасностей со стороны враждебных рас, держит свою касто¬
вую военизированную империю в «состоянии мобилизацион¬
ной готовности», литературовед И. Фрадкин приходит к выводу,
что «романы о Перри Родане отнюдь не лишены идейно-поли¬
тических тенденций, а именно, политически-авторитарных и
милитаристски-агрессивных тенденций. Немецкий читатель по¬
стоянно встречается в этих «планетарных романах» с достаточ¬
но хорошо ему знакомыми категориями: фюрер, элита, сфор¬
мированная масса, неполноценные чужие расы, «народ без
пространства» и т. п. Не случайно известный социолог Роберт
Юнгк называет Перри Родана «Гитлером планетарной эпохи»34.
Киносупермены редко имеют столь политизированный язык.
Но культ силы, хладнокровная жестокость, презрение к врагам
именно как к представителям чуждой расы, стремление к побе¬
де любыми способами и любой ценой, если и не всегда де¬
лают их откровенными фашистами, то воспитывают в их зри¬
теле и поклоннике, обычно среди молодежи, ту жизненную
позицию, от которой до фашизма один шаг.
80
Причем не только идеология, но и моральный кодекс су¬
пермена также претерпевает со временем довольно явные
изменения. Флэш Гордон был сродни герою вестерна 30-х
годов — простодушный парень, который надеялся на себя и
на свои собственные кулаки, был предан своей невесте и имел
нравственные принципы. Постепенно вместе с технической
вооруженностью в сверхгерое комиксов появляется моральная
неразборчивость и агрессивность. На экран выходят герои чер¬
ной серии комиксов, чья непобедимость, как знаменитого
итальянского «Дьяболика» (1967), уже совсем не в физической
силе, а в изощренном интеллекте и невероятных технических
приспособлениях для обмана и уничтожения противников.
Дьяболик так же, как Фантомас, обдумывает тщательно свои
преступления, он похищает десять миллионов долларов бук¬
вально на глазах сопровождающей деньги стражи и затем в
подземном убежище вместе со своей любовницей купается в
бумажных купюрах, он захватывает огромный слиток золота и
в финале фильма, когда, кажется, нет спасения от полиции,
Дьяболик расплавляет золото и заливает себя золотым пото¬
ком — его огнеупорный костюм может выдержать любую
температуру. И когда его возлюбленная возвращается через
несколько дней, то из-под стеклянной маски, защищающей
лицо золотой статуи, ей подмигивает зловещий черный глаз
Дьяболика.
Так происходит смена героя для юношества, она была
подготовлена тем обстоятельством, что в мифологии силь-
81
ного и сверхсильного героя понятия «справедливость», «чело¬
вечность» были заменены понятием «успех». Если спросишь
их, — пишет американский исследователь о «болельщиках»
сверхгероев, — как они различают «хороших» и «плохих», то
все сведется в конце концов к тому, что первые всегда побеж¬
дают: раз побеждают — значит, хорошие»35.
Супермены для юношества, супермены для взрослых...
В конце концов, они так утомительно однообразны при всем
разнообразии национальности, имен и средств нападения —
от кулака до космических флотилий, снабженных супер-ядерны-
ми-фотонными дезинтегрирующими-парализующими-гипноти-
зирующими бомбами и лучами, что пародия на них должна
была возникнуть. И она появилась именно во Франции, где
комиксы не* только утеха юношества и среднего массвого зри¬
теля, но и мода интеллектуальной элиты, где существует даже
82
Космическая «сексодиссея».
Джейн Фонда — Барбарел-
ла
«Дьяболик». Отрицательный
и потому еще более привле¬
кательный супермен
институт по изучению комиксов и Ален Рене, один из самых
сложных и интеллектуальных режиссеров французского кино,
является почетным председателем общества любителей ри¬
сованных полосок.
В 1964 году вышло отдельным изданием собрание знамени¬
тых комиксов Жана Клода Фореста, публиковавшихся ранее во
«Франс-Суар», о похождениях суперженщины Барбареллы.
А в 1967 году по этой книге поставил картину Роже Вадим,
режиссер известных фильмов с Брижитт Бардо. Поставил со
всем блеском технической изобретательности и с испорчен¬
ностью режиссера, набившего себе руку на фильмах с легким
«допустимым в приличном обществе» налетом порнографии.
Уже первое появление Барбареллы — Джейн Фонды соответст¬
вующим образом настраивает зрителя и дает стилевой камертон
ко всему дальнейшему. Сначала на экране ее голая нога,
потом вторая, и наконец зритель видит парящую в невесомости
девицу, стаскивающую с себя космический костюм. В искусство
стриптиза вносится новая глава — стриптиз в невесомости,
стриптиз из космического скафандра.
Фильм был иронически окрещен «Космической сексодис-
сеей». Все подвиги сверхгероев комиксов Барбарелла повторяет,
но в своей сексуальной сфере. На страшной планете Летион
есть все, что обычно присутствует в кинокомиксах: и «лучи
смерти», и «летающие люди», и страшные пытки в замке лес¬
бианки — королевы, когда героиню, отказавшую в домога¬
тельствах хозяйки, сначала должны заклевать птицы, потом
растерзать хищные рыбы и, наконец, замучить в машине на¬
слаждений первый министр королевы и ее злой гений, оказав¬
шийся пропавшим космонавтом, которого и разыскивала Бар¬
барелла. Однако, подобно Флэшу Гордону или Супермену,
Барбарелла проходит все испытания. Она переносит даже
возвращение к примитивным, но эмоциональным формам
размножения, применяемым (подобно сегодняшним жителям
Земли) отсталыми аборигенами на фантастической планете.
В этом занятии она оказывается сильнее и крылатого ангела, и
бродячего охотника, и левого радикала-заговорщика. Даже
машина наслаждений, которая должна замучить Барбареллу
любовью, не выдерживает ее аппетитов, дымит, а затем пе¬
регорает— вот что значит суперженщина!
Во всем этом — немного садизма, поболее секса и довольно
много иронии. Иронии над кинокомиксами, их излюбленными
героями и приемами и над представлениями фантастики о бу¬
дущем. «Барбареллу» можно считать завершением развития
жанра (хотя комиксы в литературе и в кино продолжают выхо¬
83
дить в изобилии), поскольку в нем он осмеивает себя, своих
собственных героев и своих собственных злодеев.
В 60-е годы популярность фантастических героев, пришед¬
ших из комиксов, несколько падает, на первый план в сериа¬
лах выходят секретные агенты, и среди них Джеймс Бонд. На
первый взгляд между сверхгероями фантастических комиксов
и сверхчеловеками комиксов детективных различий очень мало.
И те и другие совершают чудеса ловкости и отваги, умело
расправляются со злодеями и преступниками, виртуозно ус¬
кользают из различных ловушек. И для тех и для других глав¬
ное— выигрыш и безразличны пути его достижения. Правда,
секретный агент наводит порядок только на Земле и не вме¬
шивается в космические дела, к тому же биологически он
представляет собой идеально нормальный образец челове¬
ческой породы, не обладает ни бессмертием, ни неуязвимостью
к пулям или к действию смертоносных температур, ни сверх¬
силой. Но это уже детали. Бонд и его многочисленные подо¬
бия близки суперменам психологически, сюжетно, идеологи¬
чески. Не случайно режиссер Теренс Янг — автор многих бон¬
довских фильмов — говорит о нем: «Мистер Бонд — отврати¬
тельный тип... В основе он ведет себя как фашист; он мог
бы сделать карьеру в СС».
И однако с точки зрения фантастики или, точнее, проблемы
«человек и научно-техническая революция» Бонд с Суперме¬
ном — антиподы.
Супермен есть персонификация анонимных сил техники,
мифологическая попытка «массовой культуры» вжиться в эту
технику, очеловечить ее, подчинить ее в образе сказочного
героя, который свободно управляется с радарами, ядерными
устройствами, кибернетическими машинами. Супермен — про¬
должение и воплощение этих загадочных и могущественных
сил технического прогресса. Джеймс Бонд, напротив, если
не в конфликте с техникой, то, во всяком случае, чужд ей.
И хотя у него есть вся техническая экипировка «Интеллидженс
сервис»: прибор для задержки дыхания под водой, машина,
которая сама ускользает от преследователей,— но все-таки
в решающую минуту что-нибудь в технике портится и Бонду
остается надеяться на свой верный пистолет «Беретта» (впрочем,
и он однажды подводит) и на свои мускулы и волю (кото¬
рые не подводят никогда).
В интересной работе, посвященной буржуазному киноде¬
тективу, В. Михалкович замечает: «Два первичных пластических
мотива лежат в основе кинематографического варианта бон¬
довской «эпопеи» — человеческое тело и техника, бездушная,
84
холодная, неумолимая, готовая равнодушно служить злу». Тело
воплощает Джеймс Бонд с подробностями в описаниях его
завтраков и обедов, кровяного давления, пищеварения и сек¬
суальной мощи. Технику представляют его враги. «Одинокий
супермужчина Джеймс Бонд стал выразителем охранительной
и ретроградной реакции «массовой культуры» на центральные
проблемы времени. И фанатическая вера ее в биологическую
сущность человека есть красноречивый показатель падения
уровня общественных взглядов на Западе!»36.
Таким образом, в галерее персонажей, созданных мифоло¬
гией «массовой культуры», Бонд находится не рядом с су¬
перменом, а, скорее, на другом конце. Ибо супермен отчужда¬
ет и героизирует свойства техники, сам становясь в конечном
счете ее продуктом. Бонд же противопоставляет ей свою
биологическую сущность. Но и не только ее. Выявленное Ми¬
халковичем противоречие: тело, биологическое естество че¬
ловека и техника есть, как мне представляется, часть более
общего. Подробные экскурсы Флеминга в человеческое здо¬
ровье связаны не только и не столько с мифологизацией тела
Бонда, но и с попыткой писателя учесть все интересы и запро¬
сы массового читателя. Так же как здоровье, он подробно опи¬
сывает быт и нравы высшего общества, игорные дома Лазур¬
ного берега, правила игры в гольф и баккара, преимущества
и недостатки разных марок машин и разных типов оружия,
приемы карате. Железное здоровье Бонда — существенная
часть его портрета. Однако мощное тело имеют и враги
Бонда, например телохранитель Голдфингера, чемпион карате,
по сравнению с которым Бонд в физическом смысле просто
хлюпик. И если Бонд берет верх над ними и над мощной
преступной организацией Голдфингера, то не столько благодаря
силе, сколько благодаря уму, хитрости и предприимчивости.
Техническим ухищрениям: лазерам, электронным устрой¬
ствам, автоматическим дверям — противопоставлены предпри¬
имчивость и хитрость.
Еще Джек Лондон, характеризуя своего героя в романе
«Время не ждет», подробно описывая его выдающиеся физи¬
ческие кондиции, все время подчеркивал, что его преимущест¬
во перед другими, более сильными и выносливыми людьми за¬
ключалось в совершенной нервной организации, быстроте реак¬
ций и фантазии.
Герой Джека Лондона был идеалом эпохи конкуренции.
Бонд претендует на то, чтобы быть идеалом эпохи монополий.
Как точно замечает М. Туровская: «Бонд — столько же создание
своего зрителя, сколь и своих создателей. Он тень, отброшен¬
85
ная на экран из зала, цветная широкоэкранная проекция тайных
помыслов и явных соблазнов...»37.
Анализ феноменального успеха романов Микки Спиллейна и
их героя детектива Майка Хаммера, сделанный американским
социологом Чарлзом Роло, целиком может быть перенесен на
Бонда. Микки Спиллейн наиболее типичный представитель того
направления в детективе, которое называется «thriller». Где
разгадка тайны заменена преследованием, удовольствие от вы¬
яснения истины путем логических рассуждений — напряжением
от описания кровавых драк и убийств. А сам сыщик превратил¬
ся в того же убийцу, только действующего более ловко и про¬
фессионально и более жестоко, чем его противники.
Объясняя его популярность, Чарлз Роло пишет: «За послед¬
ние два десятилетия Зло (тотальная война, политические пресле¬
дования, садизм, гестапо) стало частью нашего повседневного
сознания. А в последнее время американцы убедились, что
именно в Соединенных Штатах процветает организованная пре¬
ступность как разновидность большого бизнеса, и продажное
политиканство, коррупция, которая позволяет преступникам
скрываться не только от правосудия, но и от налогов. Все боль¬
ше и больше людей негодуют по этому поводу и в то же
время видят тщетность попыток отдельных индивидов бороться
с этими явлениями. И возможно, что чувство бессилия индивида
в мире, где принципы «большой организации» вторглись так
грубо в человеческую жизнь, является сильнейшей, наиболее
острой формой фрустрации человека нашего времени»38.
Герой Спиллейна Майк Хаммер борется против Зла, высту¬
пающего в форме организации. И он оказывается в состоянии
сломить организацию, победить противников, и с ним, с оди¬
ночкой, выступающим против корпорации, против организован¬
ного бизнеса преступности, все симпатии читателя.
Примерно в этой же роли выступает и Бонд, который всегда
борется с организацией СПЕКТР или некой другой. Он воплощает
мифологическую надежду мелкого буржуа, что личная инициа¬
тива, храбрость, сметка еще что-то значат в мире «большой
организации» — организации, которая становится все более
мощной, стабильной и всепроникающей в эпоху научно-техни¬
ческой революции. И в бизнесе, и в политике, и в массовых
средствах информации.
По мнению В. Неделина, «каждый из нынешних сверхгероев
комиксов, и Супермен, и Батмен, и Человек-факел, и Человек-
щит— все тот же самый Голем, размноженный в десятках лиц,
86
имен, вариантов»39. В самом деле, есть сходство между глиня¬
ным колоссом из средневековой легенды, обретшим вторую
жизнь в искусстве немецкого экспрессионизма, и сказочными
героями кинокомиксов — рост, сила, способность сокрушить и
разметать всех врагов. Но есть и различие, притом принципи¬
альное. И Супермен, и Супергигант, и Батмен, и их кинопредок
Флэш Гордон действуют сами, по собственной инициативе. Го¬
лем — искусственное существо, созданное человеком и дейст¬
вующее по его воле. Он прародитель совсем иного ряда пер¬
сонажей фантастического кинофольклора.
А именно: Гомункулуса, созданного в реторте; чудовища
Франкенштейна, составленного, сшитого из членов и органов
разных трупов; зомби (оживленных мертвецов) и, наконец, робо¬
тов, построенных по всем правилам науки искусственных су¬
ществ. Другое дело, что созданные для беспрекословного подчи¬
нения приказам хозяина все эти существа время от времени
начинают бунтовать, вырываются из рабства, на чем, как пра¬
вило, и основан конфликт произведений, где они появляются.
Но суть их заключается как раз в том, что они созданы для
выполнения приказов стоящего за ними человека. Все они персо¬
нажи запрограммированные.
Но есть ли программированность, несамостоятельность свой¬
ство только искусственного существа или оно распространяется
и на человека? Согласно гуманистической традиции человек есть
существо, наделенное сознанием, способное самостоятельно
принимать решения. Когда же человек отказывается от права
самостоятельно мыслить, а лишь усваивает кем-то навязанные
ему готовые мнения, решения, то он теряет право называться
человеком и получает другое наименование.
Так, выступая на дискуссии после премьеры пьесы Чапека
«Р. У. Р.» в Лондоне в 1923 году, Бернард Шоу определил робота
как «существо, лишенное оригинальности и инициативы, которое
должно делать то, что ему прикажут», после чего шокировал
собравшихся, заявив, что все они роботы и нельзя себе предста¬
вить более типичного собрания роботов. «Люди, думающие, что
заводские рабочие — роботы, сильно ошибаются. Вы все стали
роботы... Ваше мнение — мнение сфабрикованных статей, кото¬
рое было впихнуто в вас»40.
Этот второй метафорический смысл понятия «робот» также
следует иметь в виду, когда мы приступаем к исследованию
того, как складывались и развивались в фантастическом кино
взаимоотношения между человеком и созданным им искусствен¬
ным существом-роботом.
87
Человек или робот
...Пацюк разинул рот, поглядел на
вареники и еще сильнее разинул
рот. В это время вареник выплес¬
нул из миски, шлепнул в смета¬
ну, перевернулся на другую сто¬
рону, подскочил вверх и как раз
попал ему в рот. Пацюк съел и
снова разинул рот, и вареник та¬
ким же порядком отправился сно¬
ва. На себя он только принимал
труд жевать и проглатывать.
Н. В. Гоголь, «Ночь перед
рождеством»
Если сравнение человека с обезья¬
ной наносило удар по нашему са¬
молюбию и мы теперь уже пре¬
одолели этот предрассудок, то
еще большим оскорблением ныне
считают сравнение человека с ма¬
шиной. Каждая новая мысль в свой
век вызывает некоторую долю то¬
го осуждения, которое вызывал в
средние века «грех колдовства».
Норберт Винер
В 1818 году Мэри Шелли написала роман «Франкенштейн,
или Современный Прометей» о молодом охваченном жаждой
познания ученом Викторе Франкенштейне и о созданном им из
«праха и тлена» существе, отверженном и гонимом. Сочиняя
свою романтическую фантазию, юная девятнадцатилетняя писа¬
тельница, конечно, и не помышляла, что век с лишним спустя
имя «чудовище Франкенштейна» станет нарицательным для сил
науки и техники, вырвавшихся из-под контроля, и что придуман¬
ный ею сюжет ляжет в основу одного из самых мощных кине¬
матографических мифов. И вряд ли подозревала Мэри Шелли,
сколь пророческой окажется ее мысль об опасностях, которые
несет наука, и о сложных взаимоотношениях, которые могут
возникнуть между человеком и созданным им существом.
Через сто пятьдесят пять лет советский ученый-астроном
И. Шкловский напишет в журнале «Вопросы философии»: «Не
будет преувеличением утверждать, что в середине будущего
столетия практически вся «умственная» и «физическая» деятель¬
ность человечества будет осуществляться кибернетическими
устройствами»41, и с меланхолическим оптимизмом заметит:
«Бунт роботов» со времен замечательного чешского писателя
Карела Чапека (придумавшего само слово «робот») — излюблен¬
ный сюжет фантастов. Противоречия между «естественным» и
«искусственным» разумом всегда рисовались как антагонистиче¬
89
ские. Так ли это? Я думаю, что длительное время об а вида
разума будут «мирно сосуществовать», появятся комбинации
искусственного и естественного разума. В сущности, этот про¬
цесс намечается уже сейчас. Естественный разум отнюдь не
обязательно должен быть истреблен или поглощен искусствен¬
ным— мы ведь^ будучи «естественно разумными» существами,
заботимся о сохранении экологической среды»42.
Между этими двумя оценками перспектив развития искусст¬
венно созданного разума лежат полтора века технического
прогресса и тысячи произведений литературы, кино, показываю¬
щих разные варианты взаимоотношений человека и созданного
им существа: сотрудничество, подчинение, бунт роботов, кон¬
чающийся их победой или поражением, и, наконец, борьба чело¬
века против выталкивающих его из активной жизни машин.
Эти полтора века представляются и очень длинной дистан¬
цией и одновременно очень короткой. Длинной — потому что
сделано невероятно много, фантастические предположения ста¬
ли реальностью, реальностью четырех поколений электронно-вы¬
числительных машин и научных дискуссий о границах и возмож¬
ностях искусственного разума. Короткой — потому что эти полто¬
ра века сохранили мечту о могуществе разума, но не изменили,
не сняли, а даже усилили на Западе настроения беспокойства
и неуверенности в результатах прогресса, сомнения в возмож¬
ностях интеллекта.
В народном сознании всегда жила мечта о помощнике,
слуге, защитнике. Мечта находила разные воплощения — от
джинов из восточных легенд до искусственных существ, дей¬
ствующих по воле их творца. Но рядом с мечтой жил страх.
Со сверхъестественными созданиями, исполнявшими желания,
надо было держать ухо востро, постоянно ждать от них каких-
нибудь подвохов. Джин обычно начинал с того, что хотел
съесть своего освободителя, золотая рыбка не прощала неуме¬
ренных желаний, добрые феи появлялись вперемежку со злыми,
искусственно созданные существа — големы, гомункулусы, робо¬
ты— вдруг беспричинно бунтовали.
С незапамятных времен мифы и сказки предупреждали о
необходимости разумно строить свои отношения с миром ска¬
зочных существ — не запрашивать лишнего, не использовать
власть во зло, а главное, не забывать о своих человеческих
обязанностях и правах. Выражаясь современным языком, народ¬
ная мудрость требовала от человека программировать его отно¬
шения с нечеловеческим разумом. Современная цивилизация
пришла к такому же выводу уже на базе строго научного
знания. По мере того как машина совершенствовалась, автомати¬
90
зировалась, наделялась искусственным разумом, к пониманию ее
полезности все острее примешивалось ощущение ее опасности.
Об этих возможных опасностях пишет Норберт Винер в своей
книге «Творец и робот».
Означает ли это, что народные сказки и мифы предвидели
будущие, пока еще наличествующие только в фантастических
произведениях конфликты естественного и искусственного
разума? Нет, конечно. Объяснение проще. Джины и боги про¬
шлого так же, как и искусственные создания современной мифо¬
логии, наделены той двойственностью, которая свойственна са¬
мому человеку. И повествуя о големах и роботах кинемато¬
граф рассказывал, в сущности, о человеке.
Франкенштейну довелось стать первым искусственным су¬
ществом, вышедшим на экран. Это произошло в 1910 году в
одночастевом фильме Эдисона, где создатель и создание объ¬
единены тесными узами родства и подобия — их отражения
смешиваются в зеркале. И все же история Франкенштейна была
в этом фильме лишь поводом для кинематографической игры.
Органическими и постоянными темы создания искусственного
существа, подчинения чужой воле и бунта стали в немецком
экспрессионизме.
В феериях Мельеса наука, изобретательство были источни¬
ком веселого волшебства, их успехам радовались люди и приро¬
да. Героев «Путешествия на Луну» восторженно встречали зем¬
ляне, храброму инженеру Мабулову, летевшему на своем ска¬
зочном аэроплане «На завоевание полюса», посылали про¬
щальный привет парижане, ему освещали путь созвездия, про¬
хожие радовались техническому чуду — автомобилю, двигавше¬
муся по улицам Парижа. Когда рвалась последняя перемычка,
отделявшая англичан от французов на строительстве «туннеля
под Ламаншем», то внизу, в туннеле, плясали люди, а наверху,
в море, целовались рыбки. Все было гармонично в отношениях
цивилизации и природы. И хотя первое чудовище появилось
именно у Мельеса, его снежный великан был похож, скорее,
на Деда Мороза, он заглатывал путешественников, а потом доб¬
родушно выплевывал их обратно.
Феерии Мельеса принадлежат своему времени, началу
XX века, с его упованиями на технический прогресс и науку,
которая принесет человечеству счастье.
«На завоевание полюса» Жорж Мельес сделал в 1912 году.
Вскоре наступили другие времена. Первая мировая война разби¬
91
ла иллюзии. Наука была поставлена на службу разрушению.
Рядом с автомобилем появился танк, чудеса воздухоплавания
обернулись бомбардировкой с самолетов и цеппелинов, на Луну
из пушки не полетели, но Большая Берта обстреливала Париж,
и химия продемонстрировала смертельные возможности в газо¬
вых атаках.
Киноискусство, осознавшее двойственный характер буржуаз¬
ной цивилизации и сформированного ею человека, должно было
родиться в стране, проигравшей войну и пережившей разгром
революции. Эта двойственность ощущается в немецком экспрес¬
сионизме как трагический разлад между видимым и скрытым,
явным и тайным, действительным и потусторонним, рациональ¬
ным и подсознательным, образами дня и призраками ночи.
Конечно, немецкий экспрессионизм явление сложное. За ним
стоит и традиция романтизма, столь сильная в Германии, с ее
постоянными мотивами отверженности, одиночества, ухода в
мир фантазии противостоящей грубой реальности. В экспрессио¬
низме выразилось смятенное сознание мелкого буржуа, ката-
92
Странный мир немецкого
экспрессионизма — «Каби¬
нет доктора Калигари»
строфическое мироощущение, связанное с крушением традици¬
онных буржуазных норм и ценностей в первую мировую войну.
Наконец, существуют и некоторые национально-исторические
особенности, определившие характер немецкого экспрессиониз¬
ма. Так, известный исследователь немецкого кино Лотта Эйснер
замечает, что мистицизм и магия, темные силы, которым во все
времена были подвластны немцы, расцвели на полях битвы.
В старой немецкой хронике есть кадры разгрома Советской
Баварской республики. По улицам Мюнхена солдаты ведут
пленных восставших с заложенными за голову руками. Пустын¬
ные улицы мертвого города, закрытые ставнями глазницы домов,
обреченность, разлитая в воздухе... Группа сворачивает за угол,
и снова пустынные улицы, ветер несет по мостовой клочки бума¬
ги, газеты, документы, листовки — следы поражения, разгрома.
Через четыре года в фильме «Носферату» Мурнау воссоздал
эту атмосферу смерти и поражения. Призрак вампира, кажется,
появился на этих самых улицах. Ужас, затаившийся в охвачен¬
ном чумой и страшными видениями городе, как будто пришел
93
из реального ужаса города подавленного восстания. Снова
пустынные улицы, наглухо закрытые ставни, каменные щели про¬
улков и глухие арки подворотен.
Угроза и страх станут доминирующим настроением экспрес¬
сионистских фильмов. Отсюда они перейдут в фильм ужасов
и научную фантастику. Их герои окружены плотной атмосферой
непредсказуемого, жуткого, тайных убийств и внезапных смер¬
тей. Классической картиной этого направления был «Кабинет
доктора Калигари» (1919) режиссера Роберта Вине по сценарию
Майера и Яновица. На экране возникал странный, деформиро¬
ванный мир экспрессионистских декораций, созданный тремя
художниками из берлинской группы «Штурм», мир зыбкий,
неверный и загадочный. В сюжете и характерах фильма сошлись
мотивы, которые затем станут постоянными в фантастике:
сумасшедший профессор, директор психиатрической клиники
Калигари демонстрирует на ярмарке сомнамбулу Чезаре,
ночью пробужденный Чезаре по приказу доктора убивает на¬
меченных им жертв. Сумасшедший ученый и авантюрист прой¬
дет затем через творчество Фрица Ланга, он воскреснет в аме¬
риканской фантастике 30-х годов, в Человеке-невидимке и
докторе Франкенштейне, в постоянном герое сериалов Заркове
и еще раз оживет в середине 50-х годов в одержимом злы¬
ми духами докторе Морбиусе из «Запрещенной планеты». Чеза¬
ре трансформируется затем в мумии, зомби и жертв вампиров,
покорно выполняющих волю своих хозяев. А кадр Чезаре, уно¬
сящего по крышам, по странным с вывернутой перспективой
горным тропинкам похищенную девушку в белом пеньюаре,
отыграется в бесчисленных повторяющихся ситуациях девуш¬
ки и чудовища.
Но «Кабинет доктора Калигари» имел не только пророчес¬
кое значение для будущего, он нес жгуче современный смысл.
Судьба страны, сомнамбулически покорно пошедшей за своими
правителями, выполнявшей преступные приказы, читалась в исто¬
рии профессора Калигари и его послушного раба — убийцы. Что
фильм воспринимался именно так, доказывает история измене¬
ния первоначального сценария. Несмотря на протесты Майера
и Яновица, Вине ввел эпилог, где оказывалось, что весь фильм —
это воплощение бреда больного героя, а профессор Калигари —
его добропорядочный доктор, делающий все для излечения
своего пациента. Доктора, директора и правители могли быть
спокойны — на их авторитет покушался теперь только сумасшед¬
ший. И все же фильм остался в истории мирового кино на том
месте, которое ему определил известный историк кино и социо¬
лог Зигфрид Кракауэр в книге под красноречивым названием
94
«От Калигари до Гитлера». А именно как важнейшее свидетель¬
ство духовной жизни нации, а сам Калигари — как символ тех,
кто пытался развязать ее темные инстинкты.
Экспрессионистские фильмы подвергают сомнению не только
последствия научных открытий и моральные побуждения ученых,
но саму человеческую природу. За буржуазной респектабель¬
ностью, за внешней благонамеренностью и уважением нравст¬
венного кодекса общества бушуют темные силы подсознания.
Личность расщепляется. Чезаре совершает убийства, когда его
разум спит; чиновник днем оказывается преступником ночью
(«Другой», 1913).
Экспрессионизм мучается этой темой дьявола, живущего в
человеке, вспоминая прошлое и предчувствуя нацистское буду¬
щее. Но нужно было время, чтобы кинематограф нашел то
произведение, которое идеально воплотило тему человеческой
раздвоенности, двух людей, сосуществующих и борющихся в
одном. Этой великой легендой кинематографа, к которой он
возвращался несколько раз, стала «Странная история доктора
Джекиля и мистера Хайда». Нам придется еще подробно оста¬
навливаться на всех этих основополагающих для фантастики
темах и характерах. Пока же важно лишь отметить, что именно
немецкий экспрессионизм, его историческая ситуация вдохнули
жизнь во многие типологические фигуры фантастики.
И самое главное, немецкий экспрессионизм определил ту
ноту угрозы, подспудного беспокойства, мрачных предчувствий
по отношению к техническому прогрессу, которая уже никогда
не покидала фантастику.
Эта нота ясно ощущается в двух фильмах: «Големе» Ген¬
рика Галеена и Пауля Вегенера (1914) и «Гомункулусе» Отто
Рипперта (1916). В обеих этих картинах научный эксперимент
связан с опасностью и угрозой, что было естественно для ис¬
кусства страны, участвующей в войне, уже продемонстрировав¬
шей зловещие возможности технического прогресса. Но были
и иные обстоятельства, определившие появление «Гомункулу¬
са» и «Голема» и характер разработки сюжета. В этих филь¬
мах, как и во второй редакции «Голема» (1920 год), подчер¬
кивается комплекс неполноценности, владеющий искусственным
существом, переживание им своего одиночества, своего отще¬
пенчества. Зигфрид Кракауэр объясняет и «Голема» и «Гомун¬
кулуса» комплексами немецкой нации, ощущавшей всеобщую
ненависть и пережившей крушение исторических надежд в
войне, а затем в разгромленной революции. В шестичасовой
картине «Гомункулус» Рипперт и датский актер Олаф Фёнс
показывают искусственно выращенного человека, наделенного
95
железной волей, умом, мечтающего служить людям, но от¬
вергаемого и гонимого ими, как только они узнают о его
искусственном происхождении. И тогда от желания служить
человечеству Гомункулус переходит к мести. Он сам провоци¬
рует мятежи и революции и сам жестоко их подавляет, стано¬
вится тираном нации и разрушает ее. Так фантастически транс¬
формировались в мелкобуржуазном сознании, получали демо¬
ническое мифологическое объяснение социальные катаклизмы
времени.
«Голем» Галеена и Вегенера начинался с того, что рабочие,
копавшие колодец около одной из пражских синагог, находили
в земле безжизненную статую Голема, которую когда-то создал
раввин Лёв. Антиквар, к которому она попадала, вызывал страш¬
ного демона Астарота, который должен был оживить глиняное
существо. Одна из наиболее сильных сцен фильма — акт ожив¬
ления, когда вокруг магического круга несутся смутно очер-
96
Глиняный великан Голем —
постоянный гость экрана.
«Голем»— 1920
«Голем» — 1966
ценные жуткие призраки, на мгновение в клубах дыма появля¬
ется страшный лик Астарота и как будто рябь пробегает по
каменному лицу чудовища, тяжело приоткрываются веки —
Голем оживает. Его неуверенная ковыляющая походка, кото¬
рая перейдет затем к Франкенштейну и сонму роботов научно-
фантастического кино, его тяжелые заторможенные жесты. Ка¬
менная природа ощущается в этом немом, рабски преданном
своему хозяину слуге, идущем по кривым улочкам средневе¬
кового гетто. Любовь пробуждает в нем личность и сводит
его с ума, заставляя крушить весь город и замок герцога,
когда он узнает, что его чувство неразделено. Любовь, неж¬
ность, то есть человеческие чувства, причина его гибели. Он
берет на руки маленькую девочку, доверчиво протянувшую к
нему ручки (во Франкенштейне 31-го года будет похожая сце¬
на чудовища и девочки), она поворачивает магический медаль¬
он на его груди, и, подобно роботам будущего, Голем «вы¬
ключается», падая бездыханным на землю.
В фильмах Рипперта, Галеена и Вегенера, еще раньше чем
в «Кабинете доктора Калигари», начали формироваться те чер¬
ты, которые станут основополагающими для всего цикла произ¬
ведений о роботах в фильмах 20—30-х годов.
Прежде всего это двойственность существа, равно способно¬
го и к добру и к злу, но самими обстоятельствами направляе¬
мого к преступлению. И второе — появление фигуры учено¬
го чернокнижника, алхимика и мага, человека, одержимого не¬
кой фантастической идеей, которую он проводит в жизнь, не
подозревая о роковых последствиях своего эксперимента, не ин¬
тересуясь ими или же, наоборот, злонамеренно внося в мир
хаос. Так появляется в «Гомункулусе» профессор Хансен, кото¬
рый создает Гомункулуса.
Если в искусстве немецкого экспрессионизма образ ученого
с момента своего появления окружен мрачным ореолом и его
действия ведут к трагическим последствиям, то во француз¬
ском кино Рене Клер вносит в эту тематику изящное легко¬
мыслие и юмор. Его фильм «Париж уснул» (1923) — прежде
всего блестящий экзерсис на тему возможностей кинематогра¬
фического языка, но внешняя незамысловатость сюжета не
мешает режиссеру прикоснуться к больным проблемам бур¬
жуазной цивилизации.
Фильм начинается общими планами Парижа, снятыми с Эй¬
фелевой башни, Парижа, который, как выяснится вскоре, уснул.
Режиссерская фантазия Клера разыгрывается в этих карти¬
нах и деталях уснувшего города: пустые Елисейские поля, жи¬
вописная, слегка высветленная фотография Больших Бульваров,
97
98
«Париж уснул»...
но жизнь продолжается
купол Дома Инвалидов и пустая улица перед ним; полицей¬
ский, протянувший руку, чтобы схватить вора, и вор, застыв¬
ший в отчаянном прыжке, официант с подносом в руках,
стоящий перед спящими посетителями кафе, — замершее дви¬
жение, стоп-кадры, преображенный мир. Видно, что режиссер
упивается возможностями кинематографического языка, как и
оператор — возможностями черно-белой фотографии. (Должно
быть, эти кадры пустынного уснувшего Парижа вдохновили
Стэнли Креймера, когда он искал принцип изображения мерт¬
вого города в фильме «На берегу».)
В своих блужданиях по уснувшему Парижу герой — дежур¬
ный радиотехник Эйфелевой башни — встречается с группой
путешественников, едущих из аэропорта, им также удалось из¬
бежать действия снотворного луча, который усыпил всех быв¬
ших на земле. В комедийных эпизодах путешествия по уснув¬
шему Парижу Клер разрабатывает ту тему относительности и
непрочности нравственных устоев буржуазной цивилизации, ко¬
торой до него и после него не раз касались художники теат¬
ра и кино, показывая, как рушатся все этические ценности ге¬
роя, как только он попадает в исключительные обстоятельст¬
ва. Так и здесь. Коммивояжер обнаруживает, что подруга,
к которой он приехал, принимала другого возлюбленного, —
он спит в ее спальне; сыщик с восторгом поддерживает вора,
за которым он охотился, в желании ограбить банк, рестораны
и магазины. Впрочем, все герои вскоре безумно надоедают друг
другу, и единственное, что связывает их и является причиной
конфликтов, — это соперничество мужчин, стремящихся добить¬
ся симпатии находящейся среди них женщины. И жизнь, ссоры
и драки происходят на вершине Эйфелевой башни, и герои, воз¬
несенные над землей, снятые сквозь ажурные переплеты сталь¬
ных конструкций, как бы символизируют человечество, оторван¬
ное от его привычной социальной среды, ставшее пленником
этой стальной цивилизации.
А потом появляется и неизбежный профессор. Рассеянный,
не от мира сего ученый, который, создав и приведя в дейст¬
вие машину, как-то забыл о том, что усыпил город. В ходе
научной дискуссии со своим оппонентом он несколько раз
включает и выключает машину, Париж начинает двигаться и
вновь застывает, — какой повод поиграть с возможностями
кино!
В финале после «научного спора» непримиримых оппонен¬
тов машина безвозвратно разрушена, и мания спешки снова
овладевает миром. И теперь уже замедленной съемкой ре¬
жиссер снимает Париж, показывая индустриальный темп XX ве¬
99
ка, который подхлестывает людей, заставляя их жить в бешеном
ритме. Этот ритм воскреснет в судорожно торопливых движе¬
ниях Чарли на конвейере в «Новых временах».
В истории искусства широко известны так называемые «бро¬
дячие сюжеты», характеры, ситуации, которые переходят из од¬
ной эпохи в другую, к которым снова и снова обращаются худож¬
ники. Дон Жуан, Скупой, Мефистофель, продажа души дьяволу,
предательство Иуды — каждая эпоха поставляет свои конкрет¬
ные воплощения этих вечных образов и ситуаций.
Одной из таких типологических моделей является в кино ис¬
тория чудовища Франкенштейна. Пожалуй, здесь поставлен свое¬
образный рекорд — первая экранизация датируется 1910 годом,
последняя из известных— 1974-м. За шестьдесят четыре года бо¬
лее тридцати фильмов! Причем время всякий раз вкладывало
особый смысл даже в произведения «массовой культуры». Инте¬
ресно проследить развитие этого сюжета.— В сопоставлении
разных вариантов видна эволюция самого фантастического эк¬
рана.
Исследователи фантастического кино отмечают, что его рас¬
цвет в Голливуде 30-х годов был в первую очередь определен
тем, что к этому времени в Америку эмигрировали многие выда¬
ющиеся художники немецкого кино. Джон Бакстер перечисляет
имена: режиссеры Любич, Кёртис, Лени и Мурнау, звезды Негри,
Яннингс и Де-Путти, художники Дреер, Фегте, Грот, операторы
Фройнд и Спаркуль. Эти люди приехали в Голливуд, и «они
принесли в добавление к высокому техническому уровню ин¬
терес к фантастике и ужасу...»43.
Влияние немецкого экспрессионизма на американский фанта¬
стический фильм 30-х годов несомненно. Но, должно быть,
столь же закономерно, что самые знаменитые американские
фантастические фильмы, и прежде всего известные картины се¬
рии «Франкенштейна», появляются в период великого кризиса и
депрессии, массовой неуверенности и растерянности американ¬
ского обывателя, чей традиционный оптимизм, вера в личную
инициативу и трезвый рациональный прагматизм дали первые
и глубокие трещины.
Уже в первых кадрах фильма «Франкенштейн» формулирова¬
лась его идея. На экране появлялся персонаж «от автора», рас¬
сказывал сюжет «Франкенштейна» и объяснял его величайшее
греховное деяние. Молодой ученый покусился на две тайны —
тайну жизни и тайну смерти. Этот величайший грех требовал на¬
казания. Дидактический смысл фильма Джеймса Уэйла совер¬
100
шенно ясен, но картина богаче своих конечных выводов и отли¬
чается от первоисточника определенными чисто американскими
штрихами и подробностями. Прежде всего Роберт Флорей, кото¬
рый должен был первоначально ставить «Франкенштейна», ввел
логическую мотивировку будущей злонамеренности и преступ¬
ности чудовища. Нужно было заменить мозг висельника, чье тело
похищено ученым Виктором Франкенштейном. Но слуга ронял
колбу с «добропорядочным» мозгом и приносил своему хозяи¬
ну мозг преступника. А, как объяснял перед этим профессор,
мозг преступника и хорошего человека отличается друг от друга
уже по конфигурации, по характеру извилин.
Американцам нужна была такая ясная, логическая мотивиров¬
ка злой воли чудовища. Но одновременно с этими чисто нацио¬
нальными моментами Уэйл широко использовал традиции и не¬
мецкого экспрессионизма и английского готического романа.
Профессор, к которому приходила за помощью невеста молодо¬
го ученого Франкенштейна, был окружен традиционными ак¬
сессуарами: за его спиной стояли пробирки и колбы, слева на
столе лежал череп, справа — микроскоп — опознавательные зна¬
ки профессии устанавливались с чисто американской наивностью
и определенностью. Оживление существа происходит в лабора¬
тории Франкенштейна, расположенной в башне готического зам¬
ка, оно сопровождается бурей, проливным дождем, вспышками
молнии. И в то время как в дверь башни настойчиво стучат про¬
фессор и невеста Виктора Франкенштейна, в лаборатории идет
опыт. На специальных носилках — замотанное бинтами, стянутое
железными обручами тело, которое должно ожить. Молнии бес¬
прерывно озаряют своды башни, тело на цепях подтягивается к
куполу, его пронзают электрические разряды, и под оглушитель¬
ные раскаты грома Виктор Франкенштейн в белом халате кричит
ворвавшимся в башню друзьям: «Смотрите, это тело не мертво!
Оно никогда не жило. Я сам создал его из разных частей!» Вызов
небесам брошен! Опыт увенчивается успехом. Шевелится рука,
доктор в исступлении кричит: «Он жив!» И чудовище, открыв гла¬
за, смотрит вверх — туда, где сквозь открытый купол виден «не¬
бесный огонь», вспышки молний. Но доктор Франкенштейн за¬
крывает ставни. Созданию Франкенштейна предстоит увидеть
другой огонь — огонь факелов, с которыми его будет преследо¬
вать разъяренная толпа, огонь раскаленного железа, которым
его будет пытать слуга Фриц.
Как известно, «Франкенштейн» и в особенности следующая
картина — «Невеста Франкенштейна» — имели огромный ус¬
пех. И в первую очередь он был определен исключительно
удачным выбором исполнителя главной роли чудовища. Анг-
101
За 64 года более 30 экрани¬
заций Франкенштейна. Про¬
изведение Мэри Шелли ста¬
ло одним из постоянных
сюжетов кинематографа
Артист Борис Карлофф и
гример Джек Пирс создают
облик чудовища Франкен¬
штейна
Отверженный, одинокий ге¬
рой
«Невеста Франкенштейна»
лийский актер Чарльз Эдвард Пратт, выступавший под псевдо¬
нимом Борис Карлофф, и художник-гример Джек Пирс создали
лицо, которое стало определяющим для двух десятилетий фан¬
тастического кино. Лицо изможденное, скорбное, вопрошающее,
тяжелые веки, которые, поднимаясь, открывают недоумевающие
растерянные глаза.
Его руки, огромные, тяжелые, бездеятельные, высовываются
из коротких рукавов пиджака, его ковыляющая судорожная по¬
ходка, напоминающая походку немецкого Голема и одновремен¬
но походка неуверенного в себе, сбитого с толку человека,
его беспричинные приступы гнева, жажда определенности и
дружбы с людьми и роковая обреченность быть отверженным,
быть гонимым, странствовать, не находя места и приюта, —-
при всей опасности прямых вульгарных аналогий не возника¬
ло ли здесь бессознательных, отдаленных ассоциаций с теми
сотнями тысяч американских фермеров, которые бродили по
дорогам Америки, лишенные земли, пристанища, своего места
в жизни, выброшенные из привычных социальных отношений.
Во всяком случае, есть прямое сходство между скорбным, рас-
терянно-обреченным обликом Карлоффа — чудовища Франкен¬
штейна — и теми изможденными, ушедшими в себя, озлоб¬
ленными лицами безработных, лишенных земли американских
фермеров, которые оставила нам хроника 30-х годов.
Судьба чудовища Франкенштейна в фильме развертывалась
как цепь преступлений. Сначала он калечил мучившего его
103
слугу Фрица, затем душил профессора, делавшего ему сно¬
творные уколы, и, наконец, убивал девочку, игравшую на
берегу озера. Последнее убийство носило иррациональный ха¬
рактер. Девочка протягивала руки к чудовищу, предлагая ему
поиграть, давала ему цветы, и он становился на колени перед
ней, охваченный непонятной ему нежностью, касаясь ее паль¬
чиков своими огромными лапами, стонами, нечленораздельными
звуками выражая нахлынувшие на него чувства. Само убийство
в фильме не показано. Лишь по воде плывет венок, сплетен¬
ный девочкой, и крестьянин появляется на свадьбе Франкен¬
штейна среди танцующих горожан с телом ребенка на руках —
спущенный чулок на безжизненно болтающейся ножке.
Борис Карлофф играет монстра с такой скорбью и страда¬
нием, что, несмотря на все преступления чудовища, к нему
не испытываешь ненависти. Его поступки воспринимаешь как
результат несчастной случайности, ответа на зло или действую¬
щей в нем помимо него самого злой силы. В фильме он жерт¬
ва, а не убийца.
И смерть его в горящей мельнице, окруженной яростной
толпой, когда он лежит, точно распятый, придавленный упавшей
балкой, воспринимается как трагедия, а не как торжество спра¬
ведливости.
Мотив распятия, мотив божьего суда и жертвы постоянно
присутствует в фильме, особенно усиливаясь во второй серии,
когда чудовище долго несут привязанным к бревну, — пара¬
фраз крестного пути на голгофу. Эти ассоциации не случайны.
Жерар Ленн, рассматривающий цикл фильмов о Франкенштей¬
не как вариации устойчивого кинематографического мифа, об¬
ращается к его истокам, к роману Мэри Шелли. Исследова¬
тель находит в нем не только отголоски античного мифа о
Прометее, звучащие уже в самом названии «Франкенштейн,
или Освобожденный Прометей», но и связь с догмами англи¬
канской церкви. С этой точки зрения он рассматривает миф
Франкенштейна как своеобразную трансформацию мифа о по¬
единке бога и дьявола, который вторгается в божьи права, и
называет свою главу о фильмах этой серии «Франкенштейн —
Прометей в ярости, или Современный Люцифер»44.
Несомненно, теологические параллели присутствуют и в кине¬
матографических воплощениях мифа о Франкенштейне. Сама
идея греховности создания искусственного существа по об¬
разу и подобию человека, опасности вторжения человека в ту
область, которая всегда была заповедной территорией божест¬
венного, присутствует во всех американских фильмах 30—40-х
годов об ученых и искусственных людях.
104
Соображения и ассоциации этого рода, очевидно, распрост¬
ранены на Западе при обсуждении проблем искусственного
разума. Не случайно создатель кибернетики Норберт Винер
пишет книгу «Творец и робот», где проблемы кибернетики рас¬
сматривает в связи с некоторыми религиозными догмами. Он
замечает: «Проблема обучения, в частности в ее приложении
к машинам, способным обучаться играм, может показаться не¬
сколько далекой от религии. Тем не менее существует теоло¬
гическая проблема, к которой вышеприведенные рассуждения
имеют отношение. Это проблема игры между Творцом и его
творением. Это тема книги Иова и «Потерянного рая».
В обоих этих сочинениях Дьявол ведет игру с Богом, при¬
чем ставкой является душа Иова или вообще души людей, но,
согласно ортодоксальным иудейским и христианским воззре¬
ниям, Дьявол — одно из творений Бога». Таким образом, —
«Бог действительно вовлечен в конфликт со своим творением,
причем он легко может проиграть. И, однако, это его творе¬
ние создано им по его собственной воле и, по-видимому, при¬
обрело вещевою способность действия от самого Бога45.
Таким образом, параллель между Виктором Франкенштей¬
ном и богом, его созданием и дьяволом вполне закономерна,
и возможна интерпретация горящей мельницы, в которой гиб¬
нет чудовище как символ адского пламени. Но было бы
опасно рассматривать серии «Франкенштейна» лишь как абст¬
рактные метаморфозы вечной притчи, не учитывая тех акцен¬
тов, которые расставляет время.
С этой точки зрения следующий фильм цикла, поставлен¬
ный также Джейсом Уэйлом — «Невеста Франкенштейна», —
весьма любопытен.
Он открывался прологом, в котором появлялись Байрон,
Шелли и его жена Мэри Шелли, создательница «Франкенштей¬
на». За окнами шумела буря, а перед камином (какая же
Англия без камина), при свечах — опознавательная примета
XIX века (Голливуд вообще разработал точную систему опозна¬
вательных символов, условный и понятный зрителю язык) —
великие писатели рассуждали о Франкенштейне, одновремен¬
но напоминая зрителю содержание первой серии. Байрон уве¬
щевал Мэри Шелли: я думаю, это грех, что ты так рано за¬
кончила эту историю.
С точки зрения компании «Юниверсл» это действительно был
бы непростительный грех — оставить без продолжения картину,
имевшую огромный коммерческий успех. И Мэри Шелли на эк¬
ране охотно давала себя уговорить и предлагала зрителю про¬
должение истории.
105
Оказывается, чудовище не сгорело в пожаре, а, выбравшись
из развалин мельницы, убежало в лес. Фильм делался в 1935
году, во времена рузвельтовского курса, когда возникали тен¬
денции к анализу общественных противоречий. Когда в ганг¬
стерском фильме преступников не только осуждали, но пы¬
тались понять причины, толкнувшие их на дурной путь. Поля
Муни и Эдварда Робинсона сменяет Джеймс Кегни, игравший
«good bad guys» — хороших плохих парней. Кинематограф
в лучших своих картинах противостоял той всеобщей крова¬
вой охоте за гангстерами, объявленными вне закона, которая
началась в Америке в 30-е годы и вызвала массовый приступ
жестокости.
В фильме «Невеста Франкенштейна» резко усиливались тра¬
гические ноты в изображении несчастного, одинокого, гонимо¬
го существа. Чудовище Франкенштейна страдает от своего без¬
образия, гневно бьет рукой по воде, в которой видит свое
отражение — шрамы на шее и лице; встретив девушку, оно пы¬
тается улыбнуться, протягивает к ней руки, но та страшно
кричит, зовет на помощь; и снова его преследуют крестьяне,
он бежит по лесу с простреленной рукой, его хватают, запи¬
рают в тюрьму, и он опять бежит (ну прямо история знаме¬
нитого бандита Диллинджера, случившаяся за год до этого).
И только слепой крестьянин, не видящий его ужасного лица,
гостеприимно встречает монстра, и он отвечает на ласку, учит¬
ся произносить слова «друг», «хорошо», пока новая погоня не
заставляет его бежать.
Существо мечтает о женщине, которая была бы рядом с
ним. Но, созданная, как и он, «из праха и тлена», невеста
Франкенштейна отвергает его, шипя как кошка от отвращения
и ужаса. И тогда, отослав ученого и его жену, монстр взрыва¬
ет башню со словами «вы рождены для жизни — мы для
смерти».
Но чудовище, созданное Франкенштейном и компанией
«Юниверсл», не. умерло, не погибло под развалинами башни,
как и раньше в горящей мельнице, не сварилось живьем в
кипящей лаве («Сын Франкенштейна»). Ему была суждена дол¬
гая жизнь в кинофантастике.
До наших дней продолжают появляться десятки различных
версий Франкенштейна, сделанных в основном в Соединенных
Штатах и Великобритании, а также и в Италии, Японии, Мекси¬
ке. Несчастное чудовище в этих фильмах сводят поочередно
со всеми классическими персонажами фильма ужасов — с
графом Дракулой, королем вампиров («Дом Дракулы», 1944)
с человеком-волком («Франкенштейн встречает человека-вол-
106
В японских фильмах Фран¬
кенштейну надо было дока¬
зать, что он сильнее Бараго-
на и прочих уже выходящих
из моды чудовищ. «Фран¬
кенштейн против Барагона»
ка», 1943), с чудовищем из космического пространства («Фран¬
кенштейн встречает космическое чудовище»), в фильме Ино¬
сиро Хонда он борется с японским чудовищем Барагоном,
потом сам трансформируется в злое чудовище Фурансхутайн,
оказывается персонажем порнофильма «Дом обнаженных вер¬
шин», наконец, превращается в вампира. Приключения пере¬
живают и члены его семьи. Так, в 1965 году знаменитый раз¬
бойник и герой вестерна «Джесси Джеймс встречает дочь
Франкенштейна».
В своей книге Жерар Ленн замечает: «То, что литератур¬
ное или кинематографическое творение становится мифом,
означает, что оно возбуждает достаточный резонанс в кол¬
лективном сознании, в сознании читателя и зрителя, начинает
жить своей жизнью, отдельной от произведения, которое его
породило. Это значит также, что сформированный миф может
порождать новые произведения, не зависящие от первоисточ¬
107
ника. И Франкенштейн — идеальный пример истории кинемато¬
графического мифа»46. Это интересное наблюдение нуждает¬
ся лишь в некоторой корректировке по отношению к упомя¬
нутым фильмам. Вопрос стоит следующим образом: можно ли
их все без исключения рассматривать как развитие, обогаще¬
ние мифа или в ряде случаев мы сталкиваемся просто с ком¬
мерческой эксплуатацией мифологического мотива?
Как мы помним, согласно Марксу, «всякая мифология пре¬
одолевает, подчиняет и формирует силы природы в вообра¬
жении и при помощи воображения»47.
Развивая эту же мысль, Клод Леви-Стросс отмечает, что
миф дает иллюзорное разрешение реальных проблем. Противо¬
положные стороны реального противоречия воплощаются в
определенные сюжетные мотивы, находящиеся в отношении
оппозиции, и между ними мифологическая мысль вводит фи¬
гуру «посредника», в котором это противоречие как бы сни¬
жается, угасает. В киномифе о чудовище Франкенштейне, как
он сформировался на американском экране 30-х годов, нашло
свое художественное воплощение реальное противоречие ес¬
тественного человека и буржуазной цивилизации, которая предъ¬
являет к нему жесткие требования унификации и уничтожает
то, что из системы регламентации выпадает. Противоречие все¬
общего отчуждения, некоммуникабельности и естественной че¬
ловеческой тяги к единению.
Столкновение инстинктивного доброго существа и буржуаз¬
ных норм жизни предстает не только во «Франкенштейне». Но
и в Кинг Конге. Причем Кинг Конг со своей смутной и власт¬
ной тягой к красоте при этом все-таки чудовище для окружаю¬
щих его людей, для авторов фильма. В первых «Франкенштей¬
нах» звучит трагическая, не находящая ответа в окружающих
его людях, человечность создания.
В большинстве дальнейших фильмов создание Франкенштей¬
на превращается в монстра без проблеска человеческого — во¬
площение смерти и разрушения, и сюжет представляет собой
нехитрую двухчастную формулу: сначала он убивает, потом его
ищут, преследуют и уничтожают.
Своеобразную версию мифа дал Теренс Фишер — одна из
весьма заметных фигур фантастического кино — в фильмах
«Проклятие Франкенштейна», «Месть Франкенштейна», «Фран¬
кенштейн создает женщину», «Франкенштейн должен быть
уничтожен», «Франкенштейн и чудовище из ада».
«Проклятие Франкенштейна» (1957) — фильм, точно реа¬
лизующий название. Это картина о проклятии научного любо¬
пытства, роковой страсти к знанию, которая приносит не¬
108
счастье миру и смерть самому ученому. И герой фильма —
не чудовище, как в фильме Уэйла, а сам барон Франкенштейн
в исполнении Питера Кашинга — худой изможденный человек
с беспокойным блеском в глазах, маньяк и жертва собственной
идеи.
Теренс Фишер строит фильм на противопоставлении спокой¬
ного очарования швейцарского городка XIX века, с его старин¬
ными церквами, тихими улочками, утопающими в зелени особ¬
няками— страшным событиям, которые в нем происходят; ин¬
терьеров дома Франкенштейна — высокие залитые солнцем
комнаты, старинная мебель, обитая розовым шелком, фарфор,
старинное серебро — его жуткой лаборатории, одновременно
келье алхимика, мертвецкой и лавке мясника. Режиссер не жа¬
леет крови и натуралистических деталей. Тело повешенного с
глухим стуком падает в повозку, лицо мертвеца, исклеванное
воронами, отрезанная Франкенштейном за ненадобностью го¬
лова висельника, затем кисти рук, глаза, мозг, которые он
добывает в разных местах и приносит в окровавленных тряп¬
ках. Кухня науки здесь так же отвратительна, как и ее резуль¬
таты. Если Борис Карлофф в роли монстра возбуждал сочувст¬
вие, то Кристофер Ли играл чудовище из кошмаров с пере¬
кошенным, изуродованным лицом, сумасшедший, снедаемый
жаждой разрушать и убивать. Он как бы воплощает в себе
все преступные замыслы и деяния своего создателя: убийство
старика профессора, чтоб завладеть его мозгом, преднаме¬
ренная ловушка для любовницы-горничной, которую Франкен¬
штейн запирает вместе с чудовищем, чтобы избавиться от ее
шантажа.
Фильм кончается смертью монстра, растворенного без ос¬
татка в чане с кислотой, куда он падает, и шествием Фран¬
кенштейна на эшафот за убийство горничной. Логика преступ¬
ления и наказания неумолима: посягнув на тайну жизни, чело¬
век уничтожает и жизнь и самого себя.
Франкенштейн стал постоянным героем Теренса Фишера, к
которому он возвращается вот уже на протяжении восьми лет.
И каждый следующий фильм режиссер стремится сделать страш¬
нее, аттракционнее предыдущего. В картинах «Франкенштейн
создает женщину» (1966) и «Франкенштейн должен быть унич¬
тожен» (1969) снова, как и во всей продукции английской фир¬
мы Хаммер, много крови, жутких натуралистических деталей.
Их эмоциональное воздействие скорее сродни воздействию ана¬
томического театра, чем искусства. Физиологический эффект
плюс четкая ориентировка на моду. Здесь и модная тема пере¬
садок органов, и не менее модная тема утраты личности, и би-
109
сексуальность, и распад родственных связей. Очередную, но оче¬
видно, не последнюю вариацию на тему Франкенштейна Теренс
Фишер сдела/Гв 1974 году — она называется «Франкенштейн
и чудовище из ада». Снова, уже в шестой раз, Питер Кашинг
в роли Виктора Франкенштейна. Снова на экране фактура бой¬
ни: вынутые из черепа глаза с огромными синими белками,
разъятые части человеческого тела. Операционный стол, на
котором режут и сшивают чудовище, преступный сумасшедший
дом, драка сумасшедших с несчастным чудовищем. От науки
в фильме остались лишь аксессуары операционной. Тошнотвор¬
ная продукция, разжигающая садистическое любопытство к кро¬
ви, страданиям и пыткам.
Еще продолжала литься кровь в очередных экранизациях
Франкенштейна, сделанных фирмой Хаммер, еще совершало
сумасшедшее чудовище новые страшные преступления, когда
появился фильм по тону, настроению, авторской позиции со¬
вершенно непохожий на кровавые экранизации Фишера и завое¬
вавший внимание зрителей и серьезной критики, — это фильм
Мела Брукса «Молодой Франкенштейн».
«Молодой Франкенштейн», хотя и воспринимается как само¬
стоятельное произведение*, может быть до конца понят лишь
в сопоставлении с классическими киносериями Франкенштейна
30-х годов. Потому что «Молодой Франкенштейн» — это преж¬
де всего пародия.
Факт появления пародии внутри устойчивого литературного
или кинематографического мифа может означать разное. Он
может быть символом того, что посылки, вдохновлявшие миф,
дававшие ему живучесть, утрачивают свое значение или меня¬
ют свой смысл, и миф выдыхается. Это частный случай процес¬
са, описанного в известном высказывании Маркса. «История
действует основательно и проходит через множество фазисов,
когда уносит в могилу устаревшую форму жизни. Последний
фазис всемирно-исторической формы есть ее комедия. Богам
Греции, которые были уже раз — в трагической форме —
смертельно ранены в «Прикованном Прометее» Эсхила, при¬
шлось еще раз — в комической форме — умереть в «Бесе¬
дах» Лукиана. Почему таков ход истории? Это нужно для то-
* На IX Международном Московском фестивале «Молодой Франкен¬
штейн» показывался на внеконкурсных просмотрах. И надо сказать, что пуб¬
лика, не знавшая основных версий Франкенштейна, тем не менее вполне оце¬
нила юмор авторов фильма.
110
го, чтобы человечество весело расставалось со своим прош¬
лым»48. Как мы увидим далее, нечто подобное произошло с
сюжетом «Доктора Джекиля и мистера Хайда». Изменилась жиз¬
ненная ситуация, и устойчивая структура мифа рассыпалась, на
обломках ее возникла новая мутация — комедия и пародия од¬
новременно.
Пародия может быть средством остранения привычной жан¬
ровой структуры, способом ясней подчеркнуть принципиально
новую точку зрения на принятые социальные и нравственные
оценки и стереотипы мышления. Таков, например, был смысл
пародирования известной сцены погони из «Дилижанса» в «Ма¬
леньком большом человеке». Артур Пенн разрушал принятое
в мифологии вестерна соотношение «жестоких индейцев» и
самоотверженных «храбрецов-белых». В «Барбарелле» ирони¬
ческая интонация в повествовании о похождениях суперженщи¬
ны относилась не только к самой героине, но и ко всей гале¬
рее суперменов вообще.
Наконец, пародия может быть показателем популярности и
живучести мифа. Его герои как бы обретают самостоятельную
жизнь, и искусство вступает с ними в особые отношения как
с реальными жизненными персонажами.
В «Молодом Франкенштейне» соединяется и новая точка
зрения на известные, устойчивые фигуры киномифа о Фран¬
кенштейне и попытка оценить само искусство, которое дало
классические версии фильма.
Мел Брукс строго следует основным событиям сюжета, пред¬
ставляет всех традиционных персонажей, все известные места
действия. Но с веселым хулиганством переосмысляет мотиви¬
ровки поступков и дает неожиданные остроумные выходы из,
казалось бы, драматических конфликтов. Автор как бы гово¬
рит: давайте сойдем с романтических котурн и увидим всю
эту историю на бытовом уровне. Смена точки зрения дает не¬
ожиданный результат. Торжественно серьезный фильм ужасов
оборачивается водевилем, трагическое одиночество — легко
излечимым комплексом неполноценности, драма научного по¬
иска — любовными приключениями и милыми чудачествами,
чистая романтическая страсть — сексуальной неудовлетворен¬
ностью.
Переключение из одной стилистики в другую начинается с
первых кадров и осуществляется изящно и органично. Ночь.
Старинный замок. Гроза. Часы бьют полночь. Фамильный склеп.
Камера медленно объезжает гроб, на котором написано: «Ба¬
рон фон Франкенштейн». Неизвестный человек в черном от¬
крывает крышку гроба, мы видим скелет, в руках у него шка-
111
Сумасшедшие доктора —из¬
любленный мотив коммер¬
ческого кино. Одним из са¬
мых живописных сумасшед¬
ших был доктор Преториус
в фильме «Невеста Фран¬
кенштейна»
В экранизациях, созданных
после Хиросимы, ужас все¬
ляло не столько чудовище
Франкенштейна, сколько
сам его создатель — уче¬
ный, фанатик, злодей
тулка. До сих пор фильм развивался по строгим канонам
фильма ужасов. Но вот незнакомец пытается взять шкатулку
из рук скелета. Тот не пускает, потом скелет падает, выры¬
вая своей тяжестью шкатулку из рук дерзкого грабителя. Мы
понимаем, что никакой сверхъестественной силы тут нет, про¬
сто кости скелета за долгие годы как бы прикипели к шка¬
тулка. До сих пор фильм развивался по строгим канонам
борьба человека и скелета, но и тем, что зритель осознает
возможность иной — традиционной в духе «дрожи и жути»
трактовки этого эпизода. Не ужас, а смех над возможным
ужасом составляет нерв сцены.
Собственно, здесь и эстетический принцип фильма. Каждая
сцена начинается серьезно, чтобы в какой-то момент пере¬
ключиться в легкомысленный водевиль или фарс. Это похо¬
же на эстрадные музыкальные обработки классики. Сначала
идет подлинная тема — Бах или Моцарт, а затем она транс¬
формируется в легкомысленные танцевальные вариации.
Так гордый фанатик Франкенштейн превращается в мягкого
и несколько нервного молодого человека, который считает се¬
бя серьезным ученым и очень стыдится своего дедушки, кото¬
рый занимался таким подозрительным делом, как воскрешение
мертвых. Он даже подчеркивает несколько раз во время лек-
112
113
ции: «меня зовут Франкенстиин, а не Франкенштейн» — эдак
на американский лад — Франкенстиин, а не с этим немецко-
готическим окончанием — Франкенштейн. И очень характерно,
что классический Франкенштейн для него дедушка. Родство
исчисляется не от литературного образа, а от классической
киноверсии 31-го года. Нынешний «молодой Франкенштейн»
его кинематографический внучек, между ними сорок лет, два
поколения. И внучек (герой и режиссер) относится к дедушке
любовно, но без всякого почтения. Аксессуары его опытов и
обстоятельства его жизни, которые внушали трепет наивным
персонажам и зрителям 30-х годов, сегодня рождают смех,
впрочем, вполне дружелюбный. К которому даже примешива¬
ется легкая ностальгическая нотка — фантастический кинема¬
тограф не избежал общей моды 70-х годов!
Молодой Франкенштейн, наконец, отправляется по следам
своего дедушки, едет в Трансильванию — любимое место¬
пребывание персонажей фильма ужасов. На станции его встре¬
чает горбатый слуга Игор, он, правда, тоже американизировал¬
ся (столько серий на американской почве!) и просит звать его
Айгор, и горб его почему-то переваливается то на левую, то
на правую сторону. В мрачном старинном замке им открыва¬
ет дверь служанка фрау Блюхер, как только она произносит
свою фамилию, лошади поднимаются на дыбы и храпят. Так
поступали они во всех фильмах ужасов, когда перед ними по¬
казывался вампир. Но фрау Блюхер вполне безобидна. В ней,
правда, живы воспоминания о том, как она была любовницей
барона Франкенштейна-дедушки, и она не прочь предложить
свои услуги внучку, чего он очень боится, однако кони вроде
бы ни при чем. Но они упорно продолжают реагировать на фа¬
милию Блюхер. Даже когда в замке барон произносит: «Спо¬
койной ночи, фрау Блюхер», за окном слышно ржание немед¬
ленно вставших на дыбы лошадей. Таким веселым абсурдом
отзываются приметы вампирического фильма.
Потайные двери, таинственные ходы фильмов с привидения¬
ми превращаются в предлог для цирковой репризы, когда
сам молодой барон и его восхитительно глупая и обворожи¬
тельная ассистентка Инга поочередно застревают в этих тай¬
ных вращающихся, как турникет, дверях.
Весь ритуал воскрешения чудовища — цитата из старого
фильма, похоже, что авторы даже достали старый реквизит
фильма Уэйла. Но все приключения чудовища опять-таки легко¬
мысленная и насмешливая обработка старых торжественных ме¬
лодий. Бежавшее из замка чудовище встречается с девочкой,
и, пока фермер с женой гадают, где ребенок и не спит ли он
114
на втором этаже, чудовище с девочкой садится на качели; от
резкого толчка грузного монстра девочка взлетает на своей
половине доски и, описав дугу через окно, падает прямо на
кровать, где ее и находят спящей родители. Слепой крестья¬
нин со своими библейскими замашками пытается предложить
путнику кров и пищу, но суп он льет чудовищу на колени,
вино после неудачного чоканья проливается из разбитой круж¬
ки, а вместо сигары слепой зажигает палец бедному чудови¬
щу, и то убегает с воем, сопровождаемое тщетными криками
крестьянина: «Куда ты, у меня ведь есть еще компот!» Как в
«Невесте Франкенштейна», чудовище похищает невесту барона,
превратившуюся из романтической томной девицы в кокетли¬
вую ханжу, воркующую о любви и запрещающую барону до
свадьбы прикасаться к ней. Чудовище уносит невесту в павиль¬
онный лес — еще одна цитата, на этот раз из «Кабинета до¬
ктора Калигари». Девица уговаривает чудовище не трогать ее,
потом кричит, когда монстр ее обнимает, а потом ее крик не¬
ожиданно — одна из самых смешных деталей фильма — пере¬
ходит в восхищенное пение...
Вообще чудовище оказывается не столь уж опасным. Его
беспричинный гнев и обида на людей вовсе не от одиноче¬
ства и отверженности, а от комплекса неполноценности. И ког¬
да барон говорит ему: «А кто у нас такой красивый парень!
Кому все завидуют!» (пародия на психоаналитиков) -— то укро¬
щенное чудовище начинает всхлипывать на плече своего соз¬
дателя. Он пляшет с ним чечетку в духе фильмов с Фредом
Астером (еще одно возвращение к 30-м годам), и когда барон
отдает ему половину своего разума, то в благодарность чудо¬
вище женится на безумно надоевшей Франкенштейну невесте, —
ложась спать, оно шипит в предвкушении любовных ласк, точно
так же, как невеста Франкенштейна, только там это шипение
выражало отвращение, а здесь совсем наоборот. Но и барон не
остается в накладе, он женится на красавице Инге, получив вза¬
мен излишне сильного интеллекта часть сексуальной мощи чудо¬
вища. Обмен, очевидно, устраивает всех, особенно молодую
супругу барона. Ее восторженным пением в постели заверша¬
ется этот фильм, в котором пародируется не только «Франкен¬
штейн», но и весь фильм ужасов. Не только фильм ужасов,
но и серьезное к нему отношение зрителя и авторов 30-х го¬
дов. И в котором, так же, как в картине Питера Богдановича
(«Последний киносеанс»), есть одновременно ностальгия по на¬
ивной романтике фильмов и простодушию зрителей того вре¬
мени.
Мел Брукс посмотрел на миф о Франкенштейне как бы из¬
вне. Не воспринимая его постоянные темы и характеры всерь¬
115
ез, не ища их связей с реальной жизнью, а относясь к этому
материалу как к кинематографической легенде 30-х годов. При
всем том, даже он не смог быть свободен от некой социаль-
но-нравственной оценки персонажей «Франкенштейна», харак¬
терной для умонастроений своего времени. В этом смысле осо¬
бенно примечательна режиссерская трактовка самого Франкен¬
штейна, лишившегося не только черт демонизма, но, пожалуй,
и научного любопытства и с удовольствием отдающего часть
своих научных способностей за простые земные радости.
Эта эволюция образа ученого внутри мифа о Франкенштей¬
не и в фантастическом кино вообще весьма поучительна. Вспом¬
ним: в фильме «Франкенштейн» ученый, совершив трагическую
ошибку, сам пытается ее исправить хотя бы ценой жизни, всту¬
пая в единоборство с чудовищем. В «Невесте Франкенштейна»
появляется рядом с Виктором Франкенштейном уже иной ха¬
рактер — доктор Преториус — с худым лисьим лицом и фа¬
натичным блеском глаз. Он выращивает из семени миниатюр¬
ных людей и заключает их навечно в стеклянные колбы, на-
116
Пародия — свидетельство
популярности мифа и его
постепенного угасания. Та¬
кой пародией стал «Моло¬
дой Франкенштейн». Барон
Франкенштейн — Д. Уайль-
дер. Айгор — М. Фельдман
слаждаясь своей властью над ними. И король в колбе снова
и снова пытается овладеть королевой, балерина танцует, а
щеголеватый джентльмен таинственно улыбается. Преториус,
обещая чудовищу подругу, заставляет похитить жену Виктора
Франкенштейна, чтобы склонить его к совместным опытам.
Ученый — злодей, он делает науку орудием господства над
людьми. Именно этот безумный маньяк, злой гений науки ста¬
нет одним из центральных героев американской фантастики
30-х годов. В образе «сумасшедшего ученого» выразится тра¬
диционное недоверие американского обывателя к «очкарикам
и университетским умникам». И страх перед наукой — ее зага¬
дочными свершениями и зловещими возможностями.
Но и в кинофантастике 30-х годов налицо произведения, от¬
разившие серьезные раздумья писателей и коммерческие по¬
делки, игравшие на традиционном страхе зрителя.
Одной из самых значительных экранизаций 30-х годов был
«Человек-невидимка» по одноименному роману Уэллса. Ее осу¬
ществил Уэйг, который ставил «Франкенштейна». Вслед за
117
Уэллсом режиссер проявил незаурядный талант бытописате¬
ля, рисуя провинциальный английский городок с его типич¬
ными персонажами, с его баром, где пьют пиво и метают стре¬
лы в мишень, — городок, чью размеренную жизнь нарушает
появление странного человека, закутанного с ног до головы,
в темных очках и с лицом, обмотанным бинтами. Самая эф¬
фектная и страшная сцена фильма, когда человек-невидимка,
оставшись один в комнате, снимает шляпу, начинает разматы¬
вать бинт, скрывающий его череп, и с каждым витком бинта
перед нами открывается пустота. Невидимость здесь материа¬
лизована и ужасна. В фильме сатирические комедийные зари¬
совки провинциальной Англии, ее жителей сочетаются со сце¬
нами жуткими и печальными. Крикливая и продувная хозяйка
кабачка, ее робкий забитый муж, надутый и тупой полисмен,
всеобщая паника и изумление, когда вещи сами начинают ле¬
тать по комнате, точно попадая по спинам и головам вошед¬
ших в лабораторию невидимки людей. И трагедия самого Гриф¬
фина — ученого, отдаленного от остальных людей стеной не¬
видимости и постепенно утрачивающего все человеческие при¬
вязанности, дичающего в своем пустынном мире, теряющего
рассудок.
Комедийные и драматические эпизоды чередуются в филь¬
ме: полицейские опрыскивают черной краской несчастного ко¬
тенка, прыгнувшего со стены, приняв его за невидимку, окру¬
женный полицией Гриффин бежит по снежному полю, цепочка
следов остается на белой целине, полицейский инспектор стре¬
ляет — и контур тела появляется на снегу, а затем медленно
из белизны проступают черты умирающего Гриффина. Герой
фильма не был злодеем априори. Гриффин становился злодеем,
забыв о науке и ее целях, сделав научное открытие орудием
завоевания власти.
Конечно, и сюжет невидимости должен был вернуться на
экран, и, конечно, как подавляющее большинство «Возвраще¬
ний» героев, их «сыновей» и «дочерей», следующая картина
«Возвращение невидимки» являла собой вырождение темы,
при том что технически была сделана даже более совершенно.
На этот раз брат Гриффина, тоже химик, узнавший его сек¬
рет, спасал из тюрьмы невинно осужденного Джеффри, сделав
его невидимым. Снова бинты и очки, снова герой на грани сума¬
сшествия. Он преследует лжесвидетеля и убийцу, в то время
как Фрэнк Гриффин лихорадочно работает над изобрете¬
нием «антиневидимости». Эффектная сцена на шахтном дво¬
ре — на вершине копра злодей Кобб в ужасе машет руками,
дерясь с пустотой, и падает вместе с вагонеткой вниз. А в фи¬
118
нале раненый,обескровленный Джеффри приходит к врачу; лю¬
бящие своего хозяина рабочие дают ему кровь, и — это сде¬
лано красиво — на подушке проступают кровяные сосуды,
потом кости, соединительные ткани и, наконец, лицо героя.
Таким образом, невидимость стала здесь предлогом для детек¬
тивной мелодрамы (или мелодраматического детектива) с ак¬
центом на классовом примирении, проблема нравственности
ученого ушла на второй план.
Как отмечает Джон Бакстер, среди американцев особенно
популярны доктора, поэтому американское кино часто эксплуа¬
тировало сюжеты про сумасшедших врачей, а Карлоффу при¬
ходилось играть то главных героев, то их жертв.
Помимо такого радикального изобретения, как создание но¬
вого искусственного существа, или превращение людей в не¬
видимок, одержимые ученые совершали со своими жертвами
и другие операции: пересаживали отдельные органы, например
мозг, или производили с ними различные манипуляции. Наибо¬
лее излюбленной среди них была миниатюризация — уменьше¬
ние жертв до крошечных размеров. Идея родилась, очевидно,
как антитеза увеличению до гигантских размеров. После Кинг
Конга должны были появиться крошечные существа.
Когда в «Невесте Франкенштейна» доктор Преториус проде¬
монстрировал своему изумленному коллеге Виктору Франкен¬
штейну, а заодно зрителю и продюсерам уменьшенных до раз¬
меров мальчика-с-пальчика людей, то Виктор Франкенштейн
с негодованием отверг это надругательство над человеческой
природой, но продюсеры оценили кассовую возможность по¬
добного сюжета. В 1936 году Тод Броунинг создает фильм «Дья¬
вольская кукла». Ученый (Лайонелл Барримор), несправедливо
отправленный на каторгу, узнает от своего товарища секрет
уменьшения людей и, бежав из заключения, начинает мстить сво¬
им врагам. Переодевшись в костюм старухи кукольницы, он про¬
дает живых куколок в дом своих врагов и, управляя ими на рас¬
стоянии, повелевает им совершать убийства. Поразительна по
техническому исполнению сцена, когда женщина размером с ми¬
зинец входит в спальню к главному злодею, цепляясь за покров
балдахина, долго поднимается на кровать, совершает путешест¬
вие по одеялу, забирается на подушку, затем на грудь спящему
и, наконец, убивает его отравленной иглой. И второй эпизод,
когда оживает елочная игрушка — маленький акробат — и,
спустившись по стволу елки, блуждает под столом между ног
сыщиков, охраняющих очередную жертву, ожидая момента,
когда он сможет нанести смертельный укол. В этой же серии
были сделаны картины «Доктор Циклоп» (режиссер Эрнст Шёд-
119
«Невероятно уменьшающий¬
ся человек». Такие опаснос¬
ти и приключения подсте¬
регают «невероятно умень¬
шающегося человека» в
нашем цивилизованном ми-
сак, 1940) и «Невероятно уменьшающийся человек» (режиссер
Джек Арнольд, 1957). Фильмы очень разные. Если сюжет «Док¬
тора Циклопа» составляла и исчерпывала борьба группы ученых
против безжалостного доктора, превратившего их в крошечные
существа, то «Невероятно уменьшающийся человек» нес и серь¬
езную тему. В нем тоже жизнь представала с точки зрения
уменьшенного человека, когда привычный, хорошо обжитой мир
цивилизации вдруг оборачивался неожиданными и страшными
угрозами. Край стола обрывался в бездонную пропасть, котенок
становился опаснейшим зверем, и герою приходилось вести
смертельную войну при помощи иглы, которую он использовал
как копье, с пауком, притаившимся в углу подвала. Но смысл
фильма Арнольда был в ином. Герой фильма Скотт, попавший
под радиоактивный дождь и уменьшающийся с каждым днем,
постепенно теряет свои связи с человеческим миром — уходят
друзья, он не может работать, любящая жена держит его в ку¬
кольном домике, откуда его пытается достать кошка. В подвале,
куда он проваливается, начинается другой, страшный и дикий
мир, в котором надо бороться за пищу и жизнь. И, наконец,
уменьшившийся до микроскопических размеров, он выбирается
из подвала и стоит на пороге своего дома, под холодным звезд¬
ным небом, чтобы отправиться в новую неизвестную жизнь.
Фильм этот близок по теме, скорее, к «Франкенштейну», а в
120
смысле литературной традиции — к Кафке: трагический процесс
отчуждения, зафиксированный в «Превращении», присутствует и
здесь. При этом, знаменательно, что в этом фильме 57-го года
нет злодея-ученого и вообще нет конкретного виновника слу¬
чившегося.
Казалось бы, атомная бомба должна была бы еще больше
усилить тему опасного сумасшествия ученых, зла, которое они
несут своими открытиями. Однако в 50-е годы, пожалуй,
лишь фильм «Запрещеная планета» Фреда Уилкокса пока¬
зывает образ ученого, одержимого злом. Именно его подавлен¬
ные злые желания материализуются на этой планете в убиваю¬
щих все живое призраках. Постепенно, как пишет Кингсли Эмис,
«сумасшедший» ученый, который был бедствием ранней науч¬
ной фантастики, превратился в хорошо организованного, но все
еще необщительного и эксцентричного деятеля, который часто
предстает с подобной Миранде («Буря» Шекспира.— Ю. X.),
ухаживающей за ним дочерью-секретаршей, продолжает воз¬
главлять исследовательские проекты и фигурирует в мыслях
молодого героя как «старик»49.
Огромные успехи науки и бум фантастической литературы
50-х годов привели к тому, что об ученых и науке по большей
части пишут в восторженных тонах. Как заметил Эмис, в книгах
этого времени: «...если что-то идет неправильно, то виноваты
121
политики, генералы, проклятые администраторы, которые потре¬
бовали действия, прежде чем опыты были завершены, или про¬
мышленные магнаты, которые запустили непроверенную модель
в производство». Именно они организуют покушение на послан¬
ца далекой планеты, предупреждающего об опасно¬
сти атомной гибели Земли в фильме «День, когда Земля оста¬
новилась». Именно они нажали кнопку последней атомной вой¬
ны в фильме «На берегу», именно они — политики и генералы —
выращивают в подземных лабораториях детей в условиях по¬
вышенной радиоактивности для будущей покрытой атомным
пеплом земли в фильме «Проклятые». Именно они сходят с
ума и направляют атомные бомбардировщики на Россию в
«Докторе Стрейнджлаве» (хотя, правда, в этом фильме и уче¬
ный не лучше). Игра в секретность, тупость полковников приво¬
дят к тому, что убивающий все живое яд попадает в море —
«День, когда всплыла рыба».
Иначе говоря, литература 50-х годов, а вслед за ней и кино
отделили научные открытия и их авторов от того, как и кем эти
открытия применяются. Соответственно и Франкенштейны, голе¬
мы, гомункулусы первой половины века уступили ведущее место
технически совершенным роботам — верным друзьям, помощ¬
никам людей.
И. Шкловский в своих рассуждениях о искусственном разуме
не случайно упоминает имя Карела Чапека. Действительно, даже
если бы Чапек не написал ни одного фантастического произведе¬
ния, кроме своей пьесы «Р.У.Р.», он все равно считался бы одним
из родоначальников современной фантастики, предвосхитившим
ее магистральные проблемы и тревоги, писателем, давшим на¬
рицательное имя «робот» одному из ее постоянных и централь¬
ных героев.
«Р.У.Р.» не был случайной удачей Чапека, он явился зако¬
номерным результатом его метода и устремлений.
Герои Чапека очень редко поселяются в далеком будущем.
И в пьесе «Р.У.Р.», и в «Средстве Макропулоса», и в «Войне с
саламандрами» они действуют в сегодняшнем дне, его фанта¬
стика построена по принципу «если бы». Если бы это произошло,
что проявилось бы в сегодняшней жизни, каковы ее скрытые
черты? Романы и пьесы Чапека — в сущности, лаборатория, в ко¬
торой социальные и научно-технические тенденции современной
действительности доводятся до своего логического завершения,
чтобы можно было посмотреть, к чему они приведут в буду¬
122
щем. Принцип, принятый на вооружение романом и фильмом-
предостережением.
«Р.У.Р.» — сокращенное название фирмы, производящей ро¬
ботов. «Россум Универсал Роботе» — десятки, сотни тысяч де¬
шевых послушных синтетических существ, способных выполнять
любую работу. Роботы заменили рабочих, служащих, солдат и в
конце концов восстали против разучившегося думать, творить,
работать и даже воспроизводить себя человечества. В статье
«Идеи «Р.У.Р.» Чапек писал: «Я хотел написать комедию, отчас¬
ти — комедию науки, отчасти — комедию правды... Создание
Гомункулуса — идея средневековая; для того чтобы она соот¬
ветствовала условиям нашего века, процесс созидания должен
быть организован на основе массового производства. Мы тотчас
же оказываемся во власти индустриализма; этот страшный меха¬
низм не должен останавливаться, ибо в противном случае это
привело бы к уничтожению тысяч жизней. Наоборот, он должен
работать все быстрее и быстрее, хотя этот процесс истребляет
тысячи и тысячи других существ. Те, кто думает поработить про¬
мышленность, сами порабощены ею; роботов нужно изготовлять,
несмотря на то, что — или, вернее, потому что — это является
военной отраслью промышленности. Замысел человеческого ра¬
зума вырвался в конце концов из-под власти человеческих рук,
начал жить по своим законам»50.
Второе, о чем пишет Чапек, — это «комедия правды». Пьеса
построена как интеллектуальный поединок, в котором каждый
герой защищает свою позицию. «Главный директор Домин по хо¬
ду пьесы доказывает, что технический прогресс освобождает че¬
ловека от тяжелого физического труда, и он совершенно прав.
Толстовец Алквист, наоборот, считает, что технический прогресс
деморализует человека, и я думаю, что он тоже прав. Бусман
думает, что только индустриализм способен удовлетворить со¬
временные потребности. Елена инстинктивно боится людей-ме-
ханизмов,— и она глубоко права. Наконец, сами роботы восста¬
ют против всех этих идеалистов — и они, по-видимому, тоже
правы»5 1.
В сотнях томов современной фантастики, в большинстве на¬
учно-фантастических фильмов сочетаются, сталкиваются эти
«правды». В их конфликтах отражаются противоречия «техно¬
тронной эры» на Западе, становящиеся все более и более непри¬
миримыми.
Наконец, у роботов кроме помощи человеку или восстания
против него есть в литературе и кино еще одна весьма важная
Функция. Известный метод моделирования явлений и процессов
здесь приобретает буквальность: робот — модель человека —
123
идеальная, лирическая, сатирическая. Впрочем, и это предусмот¬
рено было еще Чапеком в его пьесе. Радий, предводитель вос¬
ставших, унифицированных роботов, кричит: «Мир принадлежит
тем, кто сильней. Кто хочет жить, должен властвовать. Мы —
владыки мира!.. Владыки вселенной! Места, места, больше места
роботам!»52. Нетрудно увидеть в этом монологе точный пара¬
фраз лозунгов фашиствующих националистов тех лет в Италии и
Германии. И заключительный выкрик «Роботы, за дело! Марш!»
предугадывает знаменитую фразу Гитлера «За работу!»,
произнесенную пятнадцатью годами позже! Да и сами ро¬
боты, беспрекословно подчиняющиеся приказам, поверившие,
что «надо убивать и властвовать, чтобы быть, как люди», очень
похожи на тот человеческий материал, который будет создан и
использован фашистами. Понятие «робот» реализует тот соци¬
альный смысл, который в него вкладывал Шоу.
Итак, еще в 1920 году Чапек предвосхитил многие мотивы
современной фантастики и футурологии. Но кинематографу,
традиционно консервативному в своих сюжетах и концепциях,
нужно было еще пройти большой путь, чтобы выйти на уровень
идей и «правд» Чапека.
Характерно, что всего лишь как машину, за управление ко¬
торой нужно бороться, воспринимали роботов создатели совет¬
ского фантастического фильма «Гибель сенсации» (1935, сцена¬
рист Г. Гребнер, режиссер А. Андриевский). Впервые в этом
фильме появляются великолепно сконструированные В. Дубров-
ским-Эшке и Н. Фишманом двигающиеся роботы с четырех¬
угольными головами, радиоантеннами. Они подчиняются прика¬
зам их изобретателя инженера Джима Рипля. Джим Рипль, в со¬
ответствии с традицией, конечно, идеалист, ничего не понимаю¬
щий в политике и экономике, полагает, что его роботы освобо¬
дят рабочих от тяжкого, подневольного труда. Но представите¬
ли господствующих классов, а именно банкир, фельдмаршал, ми¬
нистр и почему-то артист мюзик-холла, которого играет С. Мар¬
тинсон, решают бросить роботов на бастующих рабочих. Впечат¬
ляюще сделана сцена, когда на рабочий поселок рядами дви-
жутся колонны роботов, мерно переставляя ноги. Перед ними
отступает Джим Рипль, он пятится, судорожно играет на клар¬
нете, пытаясь остановить механических чудовищ музыкальным
сигналом. Тщетно. Он погибает, растоптанный роботами, — клас¬
сический мотив убийства творца его творением сохранен. Но
дальше роботы становятся объектом классовой борьбы. Рабочие
при помощи самодельного радиопередатчика останавливают ро¬
ботов и поворачивают их на трусливых и корыстных капитали¬
стов.
124
Авторы фильма 30-х годов, естественно, не поднимались до
мысли о возможности самостоятельной воли, самостоятельных
решений у робота. Они подходили к нему не как к разумной
машине, а лишь как к машине управляемой.
Современная фантастика охотно обыгрывает ситуации, в ко¬
торых проявляется собственная воля роботов, но по большей ча¬
сти отбрасывает возможности, в которых создание ведет игру
с творцом, с желанием его обыграть. Обычно они выступают
партнерами в игре против враждебных сил природы или ино¬
планетного разума. Они самоотреченно помогают человеку, как
в рассказе Джона Киппакса робот Пятница, который триста лет
ждал на заброшенной планете, чтобы перед смертью помочь
землянам, потерпевшим аварию; либо успешно исполняют роль
послов землян на воинственном Юпитере в рассказе Азимова
«Непреднамеренная победа»; либо разделяют участь безработ¬
ных людей и даже начинают приобщаться к сочинениям на те¬
му «Роботы — рабы мировой экономической системы» в «Без¬
работном роботе» Г. Гаррисона.
Надежда, что электрические мозги и механические руки сде¬
лают жизнь человека легче, а самого его могущественнее, ожи¬
вает во многих научно-фантастических книгах 50-х годов и та¬
ких фильмах, как «День, когда Земля остановилась», «Запре¬
щенная планета», где робот выступает как помощник, предан¬
ный слуга и защитник.
При этом, как точно заметил Е. Парнов, «роботы современ¬
ной фантастики наделены не только достоинствами, которых у
нас нет, но и недостатками, которые у нас есть»53. Они могут
быть хвастливы, самоуверенны, обидчивы, поступать, как заправ¬
ские бюрократы, короче говоря, являются зеркалом всех чело¬
веческих слабостей.
Говоря о литературной и кинематографической фантастике
60—70-х годов, было бы неверно рассматривать ее недифферен¬
цированно. При всем многообразии авторских индивидуально¬
стей, при всем обилии вариантов взаимоотношений человека и
машины есть некие общие тенденции, определенные временем.
И в этом смысле последнее двадцатилетие достаточно явст¬
венно распадается на два периода. Первый из них — это время,
когда успехи технического прогресса владеют умами писателей
и кинематографистов, когда «законы роботехники» Азимова рас¬
пространяются не только на фантастических роботов, но, кажет¬
ся, и на весь технический прогресс, который «просто не имеет
125
права вредить человеку». Это годы, отмеченные выходом в кос¬
мос, открытием генетического кода, ошеломляющими успехами
в области кибернетики. Издержки технической революции как бы
уходят в тень. И в фильмах выступают смелые, решительные
астролетчики, ученые и помогающие им разумные машины,
которым обычно дается ласкательная кличка «Робби».
18 июля 1969 года на Московском фестивале показывались
одновременно две картины, наглядно являющие собой две эпо¬
хи фантастики.
Одна из них — английская «Первые люди на Луне» по рома¬
ну Уэллса, о ней уже шла речь раньше, вторая, демонстри¬
ровавшаяся в этот же день на конкурсном просмотре,— аме¬
риканская «Космическая Одиссея», сделанная Кубриком по
сценарию Артура Кларка. Полярность их заключалась не толь¬
ко в том, что в одной путешествие на Луну показано наив¬
но, в каком-то железном котле, намазанном чудодейственной
мазью кейворит, освобождающей от земного тяготения, а
другая сделана с учетом всех достижений современной науки.
Вряд ли и Уэллс всерьез относился к изобретенному им фан¬
тастическому кейвориту. Это была просто художественная моти¬
вировка, некое условие, помогавшее его героям оказаться на
Луне. Отличие двух картин больше, чем разница между науч¬
ным и ненаучным антуражем.
Дело в том, что и космос, и полет к Луне, и путешествие по
лунной поверхности — все это в английском фильме показано
условно, несерьезно, так, как рассказывал Сирано де Бержерак.
Герои бродят по лунным пещерам, вступают в схватку с селени¬
тами, освобождают из плена похищенную девушку и, наконец,
улетают обратно на ракете. Кинематографическая сказка обна¬
руживает себя и в невероятных поворотах сюжета, и в картонаже
декораций, и в плохо загримированных и переодетых актерах,
играющих обитателей Луны.
И несмотря на попытки осовременить роман Уэллса, фильм
остался где-то далеко в докосмической эре.
Космос в картине Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея» —
это тот космос, который открылся человечеству в 1961 году во
время первого полета Гагарина. Это тот космос, которому от¬
даны усилия человеческого гения и энергии, это тот космос, за
который уже заплачено жизнями космонавтов. Черное небо, в
котором вместе с телом космического корабля медленно пово¬
рачиваются скопления звезд, серебристый диск Земли, фигуры
людей в скафандрах, парящие в открытом космосе, торжествен¬
ная музыка. И все медленно, неспешно, в тягучем, неторопливом
ритме, создающем ощущение времени, которое протекает
126
здесь по иным, внеземным законам и меряется совсем другими
единицами.
В картине Кубрика при всех ее сложностях, неясностях и
противоречиях (о чем речь позже) есть одно несомненное до¬
стоинство — в ней есть дыхание космоса.
За счет чего достигается ощущение реальности космического
полета? За счет ли совершенной кинематографической техники,
при которой иллюзия невесомости передается абсолютно точ¬
но,— мы видим, как стюардесса космического корабля в спе¬
циально приклеивающейся обуви осторожно, как муха, шагает
по стенам и потолку кабины, как засыпает пассажир в кресле
и сигара плавает около его бессильно повисшей руки, как про¬
никший из космоса в камеру корабля капитан пролетает не¬
сколько десятков метров от взрыва катапульты и стена снова
отшвыривает его назад. Все сделано так, что у зрителя не воз¬
никает сомнений: это космос, это невесомость. Может быть, это
ощущение достигнуто за счет совершенной имитации приборов
и кораблей, — известно, что и сами макеты различных кораблей,
плывущих вокруг Земли, и лунная лаборатория построены по
чертежам НАСА, по тем проектам, которые только запускают¬
ся в разработку и будут реализованы через десять-двадцать лет.
Может быть, это достигнуто за счет научно точных фото¬
графий. Операторы сумели перевести на пленку и заставить
ожить снимки Земли и Луны, сделанные со спутников «Сур-
вейор».
А может быть, ощущение достоверности достигается и за счет
абсолютно заземленных деталей, которые фантастическое и не¬
вероятное превращают в обыденное. Так, когда герой, разго¬
варивающий по видеотелефону из ракеты, летящей на Луну, с
Землей, со своей дочкой, заканчивает разговор, то на панели
появляется надпись: «С вас 1 доллар 80».
Начало фильма отнесено в доисторические времена, когда
получеловек, полуобезьяна (пусть шкуры их выглядят наивно),
прикоснувшись к таинственному черному монолиту — посланцу
далекого разума, берет в руки кость как орудие, как оружие.
Победив врага, радостно бросает ее в воздух, кость на фоне
неба монтажно переходит в космический корабль, и под вальс
Штрауса парят в космосе, словно кружатся в танце, спутники
Земли, космические станции, корабли.
Да, техническая сторона фильма осуществлена безупречно,
и психологические приспособления, создающие ощущение до¬
стоверности, сделаны с точным учетом восприятия зрителя. Но
чрезвычайно важен исторический контекст создания этого
фильма.
127
Авторов, когда они создавали свое произведение, вдохнов¬
ляла не только вековая мечта человечества о полете к звездам,
но и суровая героическая реальность уже достигнутого.
Вообще взаимоотношения фантастики и реальности весьма
сложны и прихотливы, но безусловно, что дистанция между
фантастическим и реальным каким-то способом оказывает не¬
сомненное влияние на характер фантастического произведения.
Фантастическая идея рождается первоначально как сказка, как
миф о ковре-самолете, о всевидящем глазе, о возможности до¬
браться до Луны на воздушном шаре или спуститься на дно
океана и остаться живым. Затем фантастическая идея приоб¬
ретает некие реальные черты. Она становится в порядок дня,
как общественная задача. Наконец, она осуществляется, и тог¬
да полет из пушки на Луну выглядит наивной детской выдум¬
кой, и вызывает улыбку страшная пушка в «500 миллионах Бе¬
гумы» Жюля Верна. Эти фантазии теряют характер предвиде¬
ния, хотя заложенная в них иногда поэзия по-прежнему может
захватить своей безыскусственной прелестью. В то же время
фантастическая идея, которая не имеет или почти не имеет
никаких корней в реальном, как правило, оставляет читателя
холодным, да и у автора обретает лишь рассудочные рацио¬
нальные или, наоборот, смутные, неопределенные черты.
Как правило, наиболее удачны, наиболее художественны и
сильно воздействуют на читателя те фантастические произве¬
дения, которые развивают идеи и тенденции уже как-то за¬
ложенные в самой реальности. Будь то идеи научные или со¬
циальные.
И конечно, секрет успеха «Космической Одиссеи» был не
только в ее безупречной технической оснащенности, не толь¬
ко в таланте и добросовестности режиссера, но и в исключи¬
тельно точно выбранной исторической минуте. Фильм был сде¬
лан после полета Гагарина в космос и перед тем как нога
Армстронга впервые ступила на Луну. Картина сказала о пер¬
вых успехах человечества, вступившего в космический век, о
бесконечности усилий, жертв на том пути, который ему пред¬
стоит.
При этом в изображении космических путешественников
Кубрик сдержан, суховат. Похоже, что он намеренно отказыва¬
ется от попытки вообразить, что будут представлять собой пси¬
хологически, нравственно люди двухтысячного года. Он фан¬
тазирует на темы науки и техники, точнее, даже не фантазирует,
а точно рассчитывает на основе выкладок ученых. А люди —
они в фильме знают свое дело, они тренированы и продол¬
жают тренироваться, бегая по кольцу коридоров косми¬
128
ческого корабля, делая упражнения для мышц, они конт¬
ролируют свои эмоции, не повышая голоса и не теряя способ¬
ности рассуждать даже в самых критических ситуациях. Они
продолжение своей совершенной техники, и те, кто лежит в
анабиозных ваннах, целиком сросшись с машиной, управляю¬
щей их жизненными функциями, и те, кто стоят на вахте, сле¬
дят за работой компьютера, прокладывающего курс.
Однако основной конфликт фильма — конфликт между эки¬
пажем корабля и электронной машиной «Халл-9001». Не про¬
тиворечит ли пафосу картины и ее научности возвращение к
франкенштейновским мотивам: бунт творения против своего
творца?
По мнению ряда критиков, в этом конфликте отразилось
неверие Кубрика в перспективы технического прогресса, в пра¬
во и возможности человека отправиться к звездам. Но есть
и серьезные причины не согласиться с подобной трактовкой
фильма и взглядов Кубрика.
Во-первых, современная наука не исключает столкновений,
подобных описанным 'авторами «Космической Одиссеи».
В книге «Бог и Голем» Норберт Винер подробно разбирает
наиболее вероятные ситуации конфликта между человеком
и кибернетической машиной, когда последняя выходит из-под
контроля, совершая поступки, не предусмотренные ее хозяи¬
ном и совсем для него нежелательные. Для пояснения этой
ситуации он обращается к повести английского писателя Дже-
кобса «Обезьянья лапа».
В ней описывается английская рабочая семья. Сын уходит
на работу, а старики родители слушают рассказы гостя, воз¬
вратившегося из Индии. Гость показывает талисман — высушен¬
ную обезьянью лапу. По его словам, у этого талисмана есть
магическое свойство исполнить три желания каждого своего
владельца. Сам он был вторым владельцем, но даже не может
пересказать, какие страшные несчастья принес ему талисман.
И когда гость уже собирается бросить сухую обезьянью лапу
в камин, старик хозяин выхватывает ее и просит у талисмана
двести фунтов стерлингов.
Через некоторое время раздается стук в дверь, входит слу¬
жащий той фирмы, в которой работает сын хозяина, и сооб¬
щает, что в результате несчастного случая на фабрике сын
погиб. Не считая себя ни в коей мере ответственной за слу¬
чившееся, фирма выражает семье погибшего соболезнование
и просит принять пособие в размере двухсот фунтов стерлингов.
Обезумевшие от горя родители умоляют — и это их второе
желание, — чтобы талисман вернул им сына... Внезапно все
129
погружается в зловещую ночную тьму. Снова стук в дверь.
Мертвец—по голосу они узнают своего сына — стучится в
дверь и требует, чтобы его впустили. И тогда родители выра¬
жают свое третье и последнее желание. Они просят, чтобы
страшный призрак удалился.
«Лейтмотив всех этих историй, — указывает Винер, — опас¬
ность, связанная с природой магического. По-видимому, корни
этой опасности кроются в том, что магическое исполнение
заданного осуществляется в высшей степени буквально и что
если магия вообще способна даровать что-либо, то она дарует
именно то, что вы попросили, а не то, что вы подразумевали,
но не сумели точно сформулировать. Если вы просите двести
фунтов стерлингов и не оговариваете при этом, что не желаете
их получить ценой жизни вашего сына, вы получите свои двести
фунтов, независимо от того, останется ваш сын в живых или
умрет!
Не исключено, что магия автоматизации и, в частности, ло¬
гические свойства самообучающихся автоматов будут прояв¬
ляться столь же буквально.
...Если вы ведете военную игру с некоторой условной ин¬
терпретацией победы, то победа будет достигнута любой ценой,
даже ценой уничтожения вашей собственной стороны, если
только сохранение ее жизнеспособности не будет совершенно
четко запрограммировано в числе условий победы»54.
По-видимому, именно эта ситуация лежит в основе бунта
электронной машины в фильме «Космическая Одиссея».
Конкретная причина, приведшая компьютер к роковым ре¬
шениям, к помешательству, связана точно по Винеру с ошибкой
в программе. И Артур Кларк, соавтор Кубрика по сценарию,
написавший затем на основе сценария и фильма роман «Кос¬
мическая Одиссея 2001 года», объясняет ее подробно и недву¬
смысленно. Полету к Сатурну предшествует находка под поверх¬
ностью Луны таинственного черного монолита, — когда на него
падает первый луч солнца, он посылает мощный электромаг¬
нитный импульс в сторону Сатурна, тем самым сигнализируя,
что развитие человечества дошло до эры космических полетов.
Американцы предпринимают экспедицию на Сатурн в обстанов¬
ке величайшей секретности — «кое-кто надеялся извлечь опре¬
деленные преимущества из первенства в установлении контакта
с внеземным разумом». Секретность такова, что даже коман¬
дир корабля Дэйв Боумен ничего не знает о истинной цели
экспедиции, — она известна только трем ученым, находя¬
щимся в состоянии анабиоза, и... электронному мозгу. И то,
что компьютер вынужден скрывать от капитана цель экспеди¬
130
ции, «порождало в нем понимание своего несовершенства, сво¬
ей ущербности, — у людей это называется осознанием вины...
Он, созданный, чтобы говорить правду, все время лгал, и при¬
ближался момент, когда его коллеги узнают, что он помогал
обманывать их... противоречие, которое медленно, но верно
подтачивало цельность его электронной психики... Он начал
ошибаться... И все же этот конфликт не имел решающего
значения. ЭАЛ преодолел бы его — ведь большинство людей
тоже как-то справляются со своими неврозами, — если бы
не оказался перед лицом кризиса, который поставил под вопрос
само его существование. Его угрожали отключить... Для него
это было равнозначно смерти... И он стал защищаться всеми до¬
ступными ему средствами. Без злобы—но и без сострадания —
он решил устранить все, что ему мешает. А затем, повинуясь
программе, заложенной в него на случай чрезвычайных обстоя¬
тельств, он доведет задачу экспедиции до конца — один, без
всяких помех»55.
Столь подробная цитата из романа приведена специально,
чтобы показать отсутствие оснований приписывать Кубрику
иные трактовки бунта робота. Нет резона рассматривать
его как «продолжение современного человека со всеми его
опасными качествами, вызывающими тревогу, страх и отчаяние
художника», «Халл» угнетен необходимостью скрывать правду,
он делает ошибки, он старается их скрыть, он борется за свою
жизнь, потому что обязан выполнить программу. И все! Кларк
и Кубрик не делают робота отражением человека, но пока¬
зывают, к чему может привести ошибка программы, причем
ошибка, вызванная неверным политическим решением руко¬
водства американской экспедиции. И за эту ошибку люди пла¬
тят дорогой ценой. Сначала компьютер посылает одного из кос¬
монавтов по выдуманному поводу в открытый космос ,и застав¬
ляет механического оператора перекусить его воздушные
шланги и канат, связывающие с кораблем. И, судорожно дер¬
нувшись несколько раз, маленькая желтая фигурка медленно
уплывает в черноту бесконечности. Затем компьютер нарушает
жизнеснабжение в анабиозных ваннах, где спят ученые. Заго¬
рается пульсирующее табло: «Жизненные функции наруше¬
ны!» Затем новое табло: «Жизненные функции прекращены!» —
и плексигласовые окошки, прикрывающие лица людей, покры¬
ваются изморозью, а на экране осциллографа пульсирующий
график сердца превращается в ровную безжизненную линию.
Смерть людей показана нарочито сухо, через показания
датчиков, через экран телевизора, но смерть электронной
машины — это трагедия, это самый сильный эпизод фильма.
131
132
Черный монолит — посланец
далекого разума — найден
на Луне
Компьютер убивает космо¬
навта
133
Космонавты решают отклю¬
чить «заболевший» элект¬
ронный мозг
...И дальше в бесконеч¬
ность...
Капитан корабля начинает отключать блоки магнитной па¬
мяти электронного мозга, а тот разговаривает с ним, просит
прощения, молит не лишать его разума, и постепенно речь
компьютера становится путаной, бессвязной, человеческий голос
переходит в нечленораздельный рев, мозг впадает в детство,
в кретинизм, — на наших глазах происходит деградация и смерть
живого разумного существа.
Еще раз хочется подчеркнуть — более живого и эмоцио¬
нального, чем люди. Холодок отрешенности ощущается в глав¬
ном герое, в ученых, обсуждающих природу таинственного
и мощного излучения. Кажется, вырвавшись из пут земного
тяготения, они отказались и от земных забот, горестей и ра¬
достей. Может быть, такова и была мысль Стэнли Кубрика
и Артура Кларка — показать, что путь в космос завоевывается
дорогой ценой отказа от многого, чем живет обычный чело¬
век.
Казалось бы, столкновение кончается трагически — пирро¬
вой победой человека, убившего машину и оставшегося безо¬
ружным, беспомощным перед враждебным космосом. Но есть
принципиальное различие между конфликтом Франкенштейна
и его создания и тем конфликтом, который показывают Кларк
и Кубрик. Для Мэри Шелли и ее экранизаторов само созда¬
ние разумного искусственного существа есть грех, вторжение
в запретную область. Для авторов «Космической Одиссеи» даже
не стоит вопрос, нужно или не нужно было конструировать
электронную машину. Речь идет о другом — о том, что ей
доверили больше, чем человеку, на нее возложили те задачи
руководства полетом, которые являются прерогативой людей.
И здесь авторы фильма полностью поддержаны Винером,
предупреждающим против превращения машины в фетиш.
«Люди с психологией машинопоклонников, — замечает он, —
часто питают иллюзию, будто в высокоавтоматизированном мире
потребуется меньше изобретательности, чем в наше время;
они надеются, что мир автоматов возьмет на себя наиболее
трудную часть нашей умственной деятельности, — как тот гре¬
ческий философ, который в качестве римского раба был при¬
нужден думать за своего господина. Это явное заблуждение»56.
Машине — машинное, а человеку — человеческое, говорит
и Кубрик. Он ставит на человека, на его разум.
Надо признать, что фильм и в особенности его финал,
когда Дэйв Боумен после фантастического полета через время
и пространство оказывается в комнате, обставленной в стиле
Людовика XVI* и видит самого себя глубоким стариком, допус¬
кает разные прочтения. Так, А. Караганов видит две возмож¬
134
ности: «Первое: внеземляне решают, что надо освободить че¬
ловека от страха смерти, лежащего в основе его болезненной
агрессивности, и делают космонавта бессмертным. Второе: кос¬
монавт оторван от своего детства, ему не удалось почувство¬
вать себя хорошо в комнате предков, — нужно вернуть ему
детство, чтобы он обрел согласие с самим собой (на экране
мельком показан человеческий эмбрион)»57. Есть несомненные
основания для обеих этих трактовок, но в финале важны еще
два момента: дряхлый, умирающий Боумен тянется в послед¬
нем усилии рукой к повисшему у его изголовья монолиту —
символу бесконечного и неразгаданного знания. И эмбрион
появляется в последнем символическом кадре — равновелики
в бездонности космоса полукружье Земли и полукружье проз¬
рачной оболочки человеческого плода, и торжественная музы¬
ка подчеркивает величие исторического момента: человек еще
в колыбели своей планеты, но это только начало. Впереди —
звездный путь.
А. Караганов точно отмечает, что «в своем фильме Стэнли
Кубрик вполне расчетливо стремится к многозначности экран¬
ных иероглифов»58.
Похоже, что режиссер даже нарочно поддразнивает своих
зрителей и критиков возможностью разных интерпретаций фи¬
нала. Но стоит, наверное, обратить внимание на давнюю при¬
вычку фантастического искусства прибегать к многозначности и
таинственности как к излюбленному приему.
Вспомним, что именно переплетением реального и транс¬
цендентного, «игрой вариантов» восхищался Достоевский в
«Пиковой даме»: «Пушкин, давший нам почти все формы ис¬
кусства, написал «Пиковую Даму» — верх искусства фантасти¬
ческого. И вы верите, что Герман действительно имел видение,
и имённо сообразное с его мировоззрением, а между тем
в конце повести, т. е. прочтя ее, Вы не знаете, как решить:
вышло ли это видение из природы Германа или действительно
он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых
и враждебных человечеству духов... Вот это искусство!»59.
Загадка и тайна вошли в фантастику сегодняшнего дня —
от Стругацких до Булычова в советской фантастике и от Шекли
до Воннегута в западной. Многозначность, недоопределенность
входят в состав фантастического как отражение еще не рас¬
крытых тайн природы и как эстетическое качество этого жанра.
Они характерны и для финала фильма Кубрика. Очевидно,
Кубрик прячется за эту возможность «игры вариантами», по¬
скольку не берется дать социально определенный ответ о бу¬
дущем человечества.
135
При этом интонация, настроение «Космической Одиссеи»
вполне ясны.
Кубрик создал в этом фильме Одиссею технического про¬
гресса. Сагу о стремлении человека к знанию. В фильме нет
конфликта разных жизненных концепций, нет столкновений
личностных, нет женщины. Только человек и техника*. К иссле¬
дованию нравственности человека, природы его личности Куб¬
рик обратился в фильме «Заводной апельсин». А в изображе¬
нии космоса его оппонентом, пусть и не намеренным, стал
Андрей Тарковский в фильме «Солярис».
Андрей Тарковский сделал «Солярис» через четыре года
после «Космической Одиссеи». Но это были те четыре года,
когда США объявили о сворачивании программы Аполлон.
Когда проблемы экологии вышли на первый план, ученые раз¬
ных стран в один голос объявили, что наша планета в опас¬
ности, и даже подсчитали, сколько лет понадобится на унич¬
тожение естественной среды и истощение ресурсов. Когда стало
реальностью не только создание искусственного разума, но и
превращение человека в машину.
Фильм Тарковского не спорит с картиной Кубрика. Но кар¬
тины эти диаметрально противоположны и в своих идеях, и в
своих эстетических принципах.
Главный герой Кубрика — техника, воплощающая разум че¬
ловека, Тарковского интересуют люди в условиях, созданных
техникой будущего. Поэтому Кубрик тратит огромные силы
и средства, чтобы показать технику двухтысячного года. А Тар¬
ковский отказывается от детального изображения техники буду¬
щего и стремится к психологической достоверности. Лишь на се¬
кунду мы видим контуры космической станции, облетающей
планету Солярис, а ее коридоры и каюты интересны не своим
устройством, а присутствием человека в них. Режиссер в буду¬
щем ищет островки неисчезнувшего прошлого: старый деревян¬
ный дом, туманы над озером, такие же, как тысячу лет назад,
* Как курьез можно привести еще одну — фрейдистскую трактовку
фильма в статье Маргарит Тарра «Чудовище из Id». «Такие фильмы («Косми¬
ческая Одиссея», «Направление — Луна», «Затерянные в космосе») с их под¬
черкиванием мужского и концентрацией на механике космических полетов
предлагают образ мужчины, восхищенного своими половыми органами». По
мнению критика, их центральная проблема — примирение в мужчинах соци¬
ального и сексуального существа («Monsters from Id» — Films and Filming»,
1971, № 1, pp. 40—42).
136
дымок от костра. Живопись Питера Брейгеля помогает герои¬
не, воссозданной Солярисом, познать людей. Пейзажи гол¬
ландского художника помогают зрителю познать вечное и
существенное — все, что человек должен сохранить в серд¬
цевине своей цивилизации, хотя, естественно, она будет раз¬
виваться.
Как альтернатива этим человеческим ценностям предстает
в фильме эпизод, снятый в Токио. Тоннельная бесконечность,
сквозь которую мчатся, летят машины, чтобы, вынырнув из одно¬
го тоннеля, рвануть в другой, в бешеную круговерть, в кото¬
рой нет начала и конца, нет смысла и нет выхода.
Закономерно различны и финалы картин Тарковского и Куб¬
рика. Фильм Кубрика кончается посадкой на Юпитер и путе¬
шествием в бесконечность.
У Тарковского герой возвращается домой, пусть этот дом
и создан океаном Соляриса — по «чертежам» человеческих вос¬
поминаний, — но герой возвращается к тому, что он осознает
как смысл своей жизни.
Таким образом, в самой общей форме можно сказать, что
если картина Кубрика — это взгляд с Земли в космос, то кар¬
тина Тарковского — это взгляд из космоса на Землю*.
Но взгляд из космоса. Было бы неверным понять фильм
так, что режиссер призывает лежать на травке у себя дома
и не соваться в неуютный космос. Но он задается вопросом:
с чем мы отправимся в путешествие к звездам — можно пре¬
одолеть земное тяготение, но нельзя избавиться от своих зем¬
ных чувств, предрассудков, мыслей. Что понесет человек в кос¬
мическое пространство — жестокость, холодный прагматизм
или разум и человечность? Иначе говоря, в фильме ставится
не фантастическая пока проблема контакта с иными цивилиза¬
циями, а вполне реальная, жгучая для всей философской и со¬
циальной мысли XX века проблема — человек и технический
прогресс, наука и нравственность.
Фильм Тарковского существенно отличается от романа
Ст. Лема. По замыслу писателя «Солярис» должен был быть
(я воспользуюсь терминологией точных наук) моделью встречи
человечества на его дороге к звездам с явлением неизвестным
Очевидно, напрашивается сопоставление и противопоставление «Соля¬
риса» «Космической Одиссее». Оно прозвучало во многих откликах зарубеж¬
ной прессы на «Солярис».
«Если «2001 »можно обвинить в пренебрежении к человеческим интере¬
сам ради спекулятивных технических новинок, то «Солярис» является почти
точной противоположностью», — отмечал рецензент английского журнала
«Sight and Sound».
137
Крис — Д. Банионис. Ха¬
ри—Н. Бондарчук
1 J8
139
и непонятным»60. Итак, роман о сложности или невозможности
космических контактов. Кажется, что еще в большей степени
это роман о невозможности подлинных контактов и связей
между людьми, о некоммуникабельности. Трое ученых на кос¬
мической станции не только не могут договориться с мысля¬
щим океаном планеты Солярис, они не могут понять друг
друга, каждый в одиночку сражается с ужасными призраками
своей вины, которые океан извлек из их подсознания и мате¬
риализовал. Жуткое, разлитое в романе, связано прежде всего
с этим чувством глубокого одиночества, в котором человек
оказывается на очной ставке с грехами, ошибками своего прош¬
лого. Океан — это судьба, рок безразличный, беспощадный.
Так его и воспринимает герой романа: «Я ни на секунду не ве¬
рил, что этот жидкий гигант, который уготовил в себе гибель
многим сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса
напрасно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что
он, поднимающий меня, как пылинку, даже не замечая этого,
будет тронут трагедией двух людей. Но ведь его действия были
направлены к какой-то цели. Правда, я даже в этом не был
до конца уверен... Но я твердо верил в то, что не прошло
время ужасных чудес»61.
Тарковский делает фильм не об одиночестве, а о преодо¬
лении его, о верности нравственному долгу, следовании ему
вопреки обстоятельствам. Об этом были «Иваново детство»
и «Андрей Рублев». Об этом и «Солярис» — художник верен
своей теме. Поэтому в фильме ужас уступает место яростному
сопротивлению обстоятельствам, навязанным чужой волей,
страх сменяется грустью, а тотальное одиночество — стремле¬
нием найти взаимопонимание.
Три человека на планете Солярис оказываются в предель¬
ной, нечеловеческой ситуации. Окруженные своими «гостями»,
они должны решать, что делать. Для доктора Сарториуса (А. Со¬
лоницын) главное — долг перед наукой, истиной, которая выше
жалости и морали. Снаут (Ю. Ярвет) гнется под тяжестью об¬
рушившихся на него проблем — научных и нравственных. Решать
предстоит Крису (Д. Банионис). И вся его жизнь, построенная
по законам «рацио», его ученое высокомерие, его холодная
объективность, не допускающая никаких эмоций, рушатся при
встрече с Хари.
Его любимая покончила с собой одиннадцать лет назад,
когда он покинул ее. Теперь она возникает из его снов и ока¬
зывается на космической станции рядом, живая, ничего не пом¬
нящая, бессмертная, и, повинуясь чьему-то приказу, не отходит
от Криса ни на шаг — его больная совесть. Ситуация знакомая:
140
человек и робот. Только творец его — мыслящий океан планеты
Солярис. Поначалу всего лишь имитация человека — Хари обре¬
тает самостоятельную волю, она очеловечивается. Но это при¬
водит ее не к бунту против людей, а, наоборот, к ощущению
себя человеком. Она становится им потому, что обретает спо¬
собность страдать и любить. Именно эти чисто человеческие
эмоции отделяют человека от машины, а не материал, из кото¬
рого он сделан, как бы говорят авторы.
Быть может, лучшая сцена фильма — эпизод в библиотеке,
где Хари смотрит ленты, привезенные с Земли, вглядывается
в картину Брейгеля, слушает Баха и «вспоминает» свое земное
прошлое. Наталья Бондарчук, исполняющая роль Хари, непод¬
вижно сидит в кресле и только смотрит — но чувствуешь, как
все ее существо переливается в пейзажи Земли, непонятной,
недоступной и желанной.
Хари понимает, что она— «другая», «чужая», и, страдая, стано
вится той, настоящей Хари. И это понимает Крис. Сострадая, он
тоже становится другим.
Решающий спор в фильме происходит между Крисом и
доктором Сарториусом. Сарториус предлагает способ уничто¬
жить Хари и других «гостей». Он подходит к этому как к чисто
научной проблеме.
«Вы копия, вы матрица человека!» — в ярости кричит Сар¬
ториус Хари. Но суть дела в том, что копией, матрицей чело¬
века, счетной машиной, обладающей способностью мыслить,
оказывается он сам. А Хари, не желающая быть роботом,
игрушкой океана, жертвующая собой во имя Криса, этим поступ¬
ком утверждает свою человечность. И не следование научной
логике, а способность остаться человеком в нечеловеческих
обстоятельствах обещает герою возможность контакта с океа¬
ном. Во всяком случае, финал фильма резко отличается от
финала романа — не «ужасные чудеса» готовит герою Солярис,
а родной дом, омытый теплым подмосковным дождем, дарит
он Крису.
Тарковский против чрезмерных претензий науки на руко¬
водство человеческим поведением. Есть ситуации, говорит
фильм, где ученый должен быть прежде всего человеком вы¬
сокого нравственного долга и социальной ответственности. Науч¬
ные доводы не должны противопоставляться моральным прин¬
ципам.
Тарковский не верит во всесилие техники и безупречность
и пригодность на все случаи жизни научной логики. При этом
он не ставит под сомнение необходимость научно-технического
прогресса вообще.
141
Майкл Крайтон и Роберт Уайз открывают социальную опас¬
ность науки, ставшей в условиях капитализма служанкой воен¬
но-промышленного комплекса.
Роман Майкла Крайтона «Штамм «Андромеда», в отличие
от многих научно-фантастических произведений, обращен не
в будущее, а в недавнее прошлое. Он представляет собой как
бы документальный «отчет о пятидневном кризисе, одном из
самых значительных в американской науке». Это история того,
как спутник специального назначения серии «Скуп» доставил на
Землю внеземную форму жизни, бактерию, мгновенно убиваю¬
щую людей. Занес не случайно, именно такова была его про¬
грамма, поскольку, как выяснилось, за последние годы бакте¬
риологические лаборатории, разрабатывающие новое оружие,
ничего интересного и принципиально нового создать не смог¬
ли. И хотя, казалось бы, все было готово и предусмотрено
для встречи с неведомым: и подземная бактериологическая
лаборатория с пятью герметически отделенными друг от друга
уровнями, и мгновенно собранные по тревоге лучшие ученые
страны, и пущена в ход вся военная машина, но оказалось,
что штамм «Андромеда» проходит, как сквозь сито, сквозь
все заготовленные преграды и разрушает все предварительные
расчеты. Это и есть, по теории автора, главный мотив научно¬
го кризиса, когда приемлемая сумма обстоятельств становится
совершенно неприемлемой в связи с введением нового фактора.
В данном случае это было появление штамма «Андромеда».
По существу, если отбросить научную терминологию, то история
научного кризиса — это и есть видоизмененная история Фран¬
кенштейна или джина из бутылки.
Фильм Роберта Уайза снят под хронику, под реальную исто¬
рию, как, впрочем, написан и сам роман. Все по дням и по
часам, отрывистый стук телетайпа, уставные формы секретности,
и смерть кажется еще более жуткой оттого, что показана как бы
под грифом «совершенно секретно» на просмотровом экране во¬
енной базы: маленький поселок Пидмонт в штате Аризона, где
на улицах валяются трупы людей в тех позах, в каких их
застала мгновенная смерть, — человек, упавший головой на руль
машины, женщина, застывшая на лестнице, тело, вывалившееся
из-за полуоткрытой двери, — таков результат действия штамма
«Андромеда», доставленного космическим спутником «Скуп».
И техника. Техника, которая властвует над всем в этой
картине. Фильм — поэма электронных микроскопов, автомати¬
142
ческих рук, компьютеров, мерцающих на стенах телевизион¬
ных экранов, осциллографов, светящихся цифрами и надпися¬
ми табло... Люди — придаток этой автоматики, которая слепит
им глаза, вкрадчиво и жестко напоминает об обязанностях,
указывает на ошибки, заменяет руки и глаза. Кажется, не чело¬
век двигает автоматическими захватами, а сами механические
руки оперируют человеком. Автоматические машины и защит¬
ные комбинезоны — это суть, а человек лишь наполнитель этой
совершенной конструкции. Машина заставляет их жить в необхо¬
димом ритме, герметизирует, запирает, когда они становятся
потенциальными носителями инфекции, старается убить лучом
лазера, когда герой лезет по вентиляционному туннелю, чтобы
предотвратить атомный «дезинфекционный» взрыв.
В романе был один важный сюжетный мотив, выражающий
ироническое отношение к этой всесильной технике: компьютер
баснословной сложности и стоимости не работал из-за ничтож¬
ной механической неисправности, — в фильме этому мотиву
уделено более скромное место. Власть машины универсальна,
автоматически выезжают за докторами военные по команде
«Лесной пожар» — кодовому обозначению опасной эпидемии, —
автоматически вносится в камеру, где находится внеземная фор¬
ма жизни, воющая от страха обезьяна, и так же автоматически
удаляется ее бездыханное тело. Безукоризненно отделяется
песчинка с растущей, мерцающей зеленым светом новой фор¬
мой жизни от оболочки спутника. И все-таки не всесильная тех¬
ника предотвращает кризис, а, наоборот, ее несовершенство,
которое позволило человеку проявить свой разум и решимость.
Роман и фильм весьма скептически относятся к мифу о все¬
силии науки, к мнениям о всеведении ученых, и даже утвердив¬
шаяся было в фантастике 50-годов мысль о том, что во всем
виноваты лишь генералы, а ученые — апостолы чистой нау¬
ки, подвергается критическому переосмыслению. Тем более
важному, что автор романа Майкл Крайтон и сам ученый-
биолог.
Главный герой романа ученый Джереми Стоун, лауреат
Нобелевской премии, человек, чье имя порой упоминается в
ряду с Эйнштейном и Бором,— по существу, игрушка в руках
государства и бизнеса. И он сам понимает это. Отсюда его
пессимизм, его разочарование в роли ученых и в возможно¬
стях разума. «В часы мрачных раздумий Стоун вообще уже
сомневался в плодотворности всякой мысли и разума как та¬
кового... Стоун часто повторял, что от разума беды куда боль¬
ше, чем пользы. Разум больше разрушает, чем созидает, спо¬
собен скорее запутать, чем прояснить любую проблему, по¬
143
«Штамм Андромеда». Мгно¬
венная смерть — результат
«знакомства» жителей ма¬
ленького американского по¬
селка со штаммом «Андро¬
меда».
Поиски нового бактериоло¬
гического оружия оберну¬
лись против самих исследо¬
вателей
рождает больше безнадежности, чем удовлетворения, творит
больше зла, чем добра»62. И кажется, здесь герой романа
Крайтона, если не сам автор, оказывается на той же позиции,
что авторы «Кабинета доктора Калигари» и фильмов про су¬
масшедших ученых. Идея проходит полный цикл, возвращаясь
на новом уровне как будто бы к схожей позиции. И это
отнюдь не еретическая, ренегатская позиция Крайтона.
Книга и фильм «Штамм «Андромеда» неожиданно вмеша¬
лись в ожесточенную войну, которая идет на Западе между
представителями «двух культур» (естественных наук и гума¬
нитарных — Чарльз Сноу), между сциентистами и антисциен¬
тистами (правда, и в том и в другом лагере есть перебежчи¬
144
ки из вражеского стана). Журнал «Иностранная литература»
опубликовал большие выдержки из статьи Мартина Малочи
«Ученый в роли шамана». Ее автор замечает, что сциентисты
взяли на себя роль шаманов и оракулов, и их рекомендации
характеризуются той же догматической безапелляционностью,
претензией на всеведение и прагматизмом. Тем не менее их
обещаниям верят: «Ведь в конце концов репутация у науки
хорошая, а все самые горластые сциентисты принадлежат к
числу крупнейших ученых и даже нобелевских лауреатов впри-
дачу. Потому-то сциентизм и пробудил детскую надежду, веру
и эйфорию среди интеллигенции, которой очень хочется в на¬
ше время, когда все вехи, как пьяные, шатаются под удара¬
ми сильных, непредвиденных ветров, услышать бодрящий го¬
лос, уверенно рассказывающий о великих идеях и целях.
Воистину, сегодня сциентизм — самый пьянящий напиток в ка¬
бачке интеллигенции!...»63 Среди сциентистов такие ученые,
как изобретатель голографии Деннис Габор, генетик Жак Моно,
психолог Берхаз Ф. Скиннер, известный этолог Конрад Лоренц,
палеонтологи и антропологи Лайонел Тайгер, Робин Фокс, Дес¬
монд Морис. Методы точных наук они пытаются применить для
решения социальных проблем. Как справедливо замечает автор
комментария к статье Малочи, «психическое отождествляют при
этом с физиологическим, социальное — с биологическим, сущ¬
ностное— с формальным, качество надеются выразить через ко¬
личество. Безнадежность и вредность подобных попыток в свое
время были убедительно раскрыты марксистской наукой»64.
Претензии сциентистов вызвали яростный отпор со стороны
ряда социологов, философов, представителей гуманитарной ин¬
теллигенции вообще. Они сочувственно вспоминают слова
Освальда Шпенглера «Машина — дело рук дьявола» и доказы¬
вают, что технократический рай, описываемый сциентистами, —
это, в сущности, свинарник, где покорное большинство, блажен¬
но хрюкая, отъедается в безделье и бездуховности, получая
пищу и развлечения из рук высоколобой технической элиты.
Или, в более жестоком варианте, — упряжка мулов, покорно
влачащих свою ношу под угрозой электронного хлыста-компью-
тера.
Характерно, что в этом категорическом неприятии сциентист¬
ских программ сходятся такие разные по своим позициям деяте¬
ли, как крупнейший буржуазный историк Арнольд Тойнби и
философ Жак Эллюль, писатель-фантаст Курт Воннегут-млад-
ший и выдающийся физик Макс Борн, вспомнивший в своей
книге о «трагической истории морального падения», когда в
ходе второй мировой войны крупные ученые принимали или
145
советовали принять решения, ведущие к неисчислимым жерт¬
вам среди мирного населения. Такие, как решение Линдемана
о бомбардировке рабочих кварталов немецких городов, или
поддержанное группой выдающихся физиков решение Трумэ¬
на— Гровса бомбардировать Хиросиму.
Как показывают роман и фильм, Майкл Крайтон также не
верит в перспективы технократического рая, в царство «умной
машины», или царство ученых.
Штамм «Андромеда» в решающем эпизоде фильма прони¬
кает через все защитные фильтры, и автоматическая программа
выдает единственное решение — атомный взрыв. Решение, ко¬
торое в данном случае будет губительным, поскольку радио¬
активность и высокая температура и есть главное «питание»
для космической бактерии. Ученые же сидят взаперти в своей
подземной лаборатории, на самом нижнем пятом уровне. Они
могут только пассивно слушать информацию о решении элект¬
ронной машины, которую им сообщает записанный на пленку
женский голос.
«Голос невозмутимо повторял:
— До ядерного взрыва осталось три минуты.
— Автоматика, — сказал Стоун с тихим бешенством. — Уро¬
вень поражен, и система сработала. Надо что-то делать».
И тогда хирург Марк Холл ползет через центральный венти¬
ляционный ствол шахты наверх к уровню, где он может отклю¬
чить атомное устройство. На экране телевизора глазами изоли¬
рованных и обреченных ученых мы видим ползущего по ство¬
лу шахты Холла, луч лазера, пытающийся его остановить, и
автоматические стрелы с парализующим ядом, вонзающиеся в
его тело. Ключевая, быть может, фраза романа, реализованная
лишь в поведении героя, звучит так: «И Холл разозлился. От¬
того что этот соблазнительный женский голос был заранее за¬
писан на пленку. Оттого что кто-то задумал всю эту серию не¬
отвратимых грозных предупреждений. Оттого что этот сценарий
разыгрывается сейчас, как по нотам, электронной машиной вкупе
со всей блестящей, безупречной лабораторной аппаратурой.
Будто такова была его неминуемая участь, заранее запланиро¬
ванная и предначертанная. И он разозлился»65. Благодаря не¬
слаженности технических приспособлений Холлу удается вы¬
браться наверх и выключить устройство за 40 секунд до атом¬
ного взрыва. Кризис предотвращен. Но надолго ли?
Позиция авторов фильма и героев, по видимости близкая
кинофантастике 30-х годов, на самом деле реализуется в со¬
вершенно новых условиях. Когда не машина поднимает восста¬
ние против человека, а человек восстает против машины.
146
Впрочем, быть может, Марк Холл напрасно злится, и ему
надо примириться с неизбежным и утешаться надеждой на то,
что ее величество Машина будет бережно относиться к челове¬
ку, как сам он порой относится к редким экзотическим жи¬
вотным, сохраняя их в заповедниках. Ведь таковы перспективы,
которые рисуют нам уже не фантастика, а авторитетные ученые.
Так, несколько излюбленных фантастикой мотивов и харак¬
теров к началу 70-х годов подошли к определенному итогу.
Робот, восстающий против своего хозяина-человека (Голем,
чудовище Франкенштейна, ЭАЛ), сам оказывается хозяином,
искусственной средой существования, «мягко и вкрадчиво» на¬
вязывающей человеку зависимость от техники, отбирающей сво¬
боду, программирующей жизнь героя и его поступки.
Злодей ученый, безответственный глупец и опасный маньяк,
работающий в своей келье, напоминающей лабораторию алхи¬
мика (Виктор Франкенштейн и Преториус, доктор Циклоп и
Калигари), сначала уступает место молодому дельному учено-
му-консультанту, дающему дальновидные советы тупицам воен¬
ным (фильмы 50-х гг. о проснувшихся чудовищах и о вторже¬
нии из космоса) и на свой страх и риск начинающему борьбу
против грозящей человечеству опасности. Затем он в свою оче¬
редь сменяется ученым-администратором (Флойд в «Косми¬
ческой Одиссее»), вылощенным энергичным руководителем,
соединяющим, или примиряющим в себе интересы государства
и науки. А в фильме «Штамм «Андромеда» уже группа ученых,
в свою очередь представляющих некий рожденный государст¬
венно-бюрократическим аппаратом научный Проект, действую¬
щий, живущий уже помимо его авторов и даже подчиняющий
себе своих создателей.
Что ж, фантастика еще раз показала свою связь с реаль¬
ной действительностью. Времена Калигари и Франкенштейна
прошли. «Безликий гигантизм — ныне определяющая черта
науки», — утверждает известный социолог-технофоб Теодор
Роззак. Наука на Западе все более сливается с военно-промыш-
ленным комплексом. И высокомерные претензии сциентистов
на руководство политикой и государством: «наука у власти» —
оборачиваются на практике зависимой ролью экспертов при
«большой политике» и «большом бизнесе».
Об этом тревожном процессе в ходе НТР на Западе гово¬
рит кинематограф эволюцией образа ученого.
И кто знает, может быть, скоро появится фантастический
фильм, где ученый сам будет превращаться в робота, вместо
147
того, чтобы его создавать. Становиться роботом в том смысле,
который влагал в это понятие Шоу, то есть существом програм¬
мируемым, обладающим лишь видимостью самостоятельности
и свободы.
Какова же дальнейшая судьба второго героя этой главы,
потомка Голема и Франкенштейна, набитого электроникой и
закованного в стальную броню, — какая судьба ожидает робота?
Она зеркально отражает судьбу человека. Если человек в
ряде фильмов западного кино действует согласно заложенной
в него программе, становится придатком обслуживаемой им тех¬
ники, деперсонализируется, то робот, наоборот, «очеловечива¬
ется» в том смысле, что заражается всеми человеческими сла¬
бостями и пороками. Процесс, как мы помним, угаданный еще
Чапеком. Сегодня «очеловечивание» робота показал на экране
Майкл Крайтон* в фильме «Мир дальнего Запада».
Действие этой картины разворачивается в гигантском пар¬
ке развлечений будущего. За тысячу долларов в день гость
может провести день в Риме эпохи упадка с его утонченной
роскошью и дикими оргиями, в средневековье, окунувшись в
атмосферу мистической экзальтации и свирепых рыцарских за¬
бав, или, наконец, пережить встряску на Диком Западе — погра¬
ничный городок, салуны, схватки с индейцами и перестрелка с
с черным убийцей. Но фирма дает клиентам гарантию в том,
что они вполне безопасно могут удовлетворить свой инстинкт
убийства и всадить в робота заряд своего револьвера без
риска получить пулю в ответ, поскольку и черный бандит и
остальные жители городка всего лишь роботы. Каждый вечер
их ремонтируют, а на следующий день они снова подставляют
свои пластиковые тела под выстрелы упоенных возможностью
безнаказанного убийства гостей.
Но мало-помалу что-то начинает меняться в электронном
мозгу роботов. Импульсы ненависти, садизма, идущие от гостей,
впечатываются в их программу. Черный бандит — его играет
Юл Бриннер очень похожим на своего героя в «Великолепной
семерке»— уже не хочет быть только мишенью. Он хочет де¬
лать то же, что и его враги — убивать. И чем больше он про¬
никается наслаждением убийства, тем ближе робот оказывается
к гостям парка, тем больше он становится «человеком»— не в
* В прессе Майкла Крайтона называют человеком Возрождения, имея
в виду широту его интересов и занятий. Окончив медицинский факультет
Гарварда в 1965 г., он успел уже написать пятнадцать книг, в том числе став¬
ший бестселлером «Штамм «Андромеда», а потом и сам стал режиссером
собственных сценариев — им поставлен фильм «Мир дальнего Запада».
148
том смысле, в каком очеловечивалась Хари в «Солярисе»,—
через страдание, понимание и любовь, а через ненависть и на¬
слаждение убивать.
Центральная сцена фильма—погоня робота за одним из
гостей. Преследуемый и преследователь проносятся через все
зоны парка, как символ жажды убийства, идущей через все
времена от античного Рима до наших дней, и заключительная
схватка разыгрывается в центре управления роботами, где ге¬
рой, пользуясь то кислотой, то огнем, пытается убить своего
противника. Герой спасается, хотя сотни гостей гибнут. Но вне
зависимости от этого финала проблема человек и робот по¬
лучает у Крайтона пессимистическое разрешение: робот уна¬
следует у человека все его худшие качества. А поскольку во
все времена (их услужливо восстановил парк развлечений) чело¬
век стремился к плотским удовольствиям, был обуян жаждой на¬
силия и убийства, то чего же иного, спрашивается, ждать от
робота?
Фантастику Майкла Крайтона отличает одна особенность:
действие его фильмов никогда не происходит в далеком буду¬
щем и не связано со слишком смелыми, невероятными фанта¬
стическими предположениями.
Сюжет «Штамма «Андромеда» разворачивается даже в
прошлом и представляет собой отчет о пятидневном научном
кризисе. Все совершенно реально, нет ничего или почти ничего,
что не могло бы произойти в действительности,— занесение из
космоса опасных бактерий («Штамм «Андромеда»), неудачная
операция на мозге, в результате которой человек становится
патологическим убийцей («Конечный человек»). И хотя бунт
роботов («Западный мир») явно фантастическое допущение, оно
настолько «обжито» современной фантастикой, что и читателя¬
ми и зрителями воспринимается как нечто вероятное.
Крайтон делает, таким образом, еще один шаг к слиянию
фантастики и реальности, используя самые вероятные допуще¬
ния, чтобы обнажить явления и тенденции, уже существующие в
реальной жизни. В этом отношении он представляет одно из
наиболее авторитетных направлений в современной фантастике.
Достоверность невероятного
Не следует смешивать того,
что нам кажется невероят¬
ным и неестественным, с аб¬
солютно невозможным.
Г аусс
Ваша идея, конечно, бе¬
зумна. Весь вопрос в том,
достаточно ли она безумна,
чтобы оказаться верной.
Бор
Какое место занимает фантастика в киноискусстве, в
системе его жанров и видов? Меняется ли ее удельный вес,
значение вместе с движением всего кинематографа?
Сейчас, после того как уже рассмотрено значительное коли¬
чество фантастических картин и прослежены некоторые тенден¬
ции фантастики, наверное, пришла пора попытаться на эти во¬
просы ответить.
Является ли фантастика жанром? Этот вопрос неизбежно
возникает, потому что произведения, которые мы относим к
фантастике, одновременно подвластны и другим жанровым де¬
финициям. В самом деле, «Солярис»— психологическая и фи¬
лософская драма; цикл фильмов о планете обезьян, как будет
видно из дальнейшего, явно относится к приключенческому жан¬
ру; «Доктор Стрейнджлав»—фарс; «Космическая Одиссея»
претендует быть эпопеей; «Кинг Конг»—мелодрама; «Парк на¬
казаний » — как бы документальный репортаж. К фильму ужасов
принадлежат многочисленные экранизации Франкенштейна,
картины о вампирах и привидениях, но те же привидения и
Франкенштейн выступают в весьма сегодня популярном жанре
пародии.
Таким образом, жанром фантастику можно назвать весьма
Условно. Правильнее, быть может, определить ее как пред¬
метно-тематическую область по аналогии с историческим филь¬
151
мом. Но что же все-таки заставляет ряд исследователей рас¬
сматривать фантастическую литературу и фантастическое кино
как жанр?* Дело, очевидно, в том, что в этой области при всем
несходстве традиционных жанровых решений (комедия, фарс,
детектив, мелодрама) действуют все же устойчивые способы
образного моделирования. Это и постоянное использование
сослагательного наклонения («если бы это произошло»), и частое
сочетание бытового и невероятного, реального и ирреального,
и особым образом трактованные характеры.
Итак, фантастика не укладывается в стройную систему жан¬
ров и видов искусства, требуя рассмотрения своих произведе¬
ний по крайней мере в двух измерениях: предметно-тематиче-
ском и образно-моделирующем.
Более ясен вопрос о месте фантастики и ее меняющемся
значении в современном кинематографе. Ответ на него дает
сама история кино, хотя и здесь существуют разные точки
зрения.
Известный теоретик кино Зигфрид Кракауэр в своей книге
«Природа фильма» вообще отрицает какую бы то ни было роль
фантастики в развитии киноискусства, утверждая, что «посколь¬
ку фантастический материал лежит вне сферы физического
бытия, он, видимо, должен быть так же малопригоден для
претворения выразительными средствами кино, как и сфера
былого»66.
Верность и универсальность всякой теории проверяется
тем, в какой степени применима она к явлениям и процессам
в той области, которую призвана объяснить. Уязвимость тео¬
рии Кракауэра, признающей главным свойством кинематографа
отображение физической реальности, сказывается как раз в
том, что, следуя собственной концепции, он вынужден отлучить
от кинематографа фантастические фильмы. При этом он сам
честно признается, что «на протяжении всей истории кино тема
фантастического была и остается одной из самых любимых
кинематографистами».
В самом деле, «Носферату» Мурнау и «Призрачная повозка»
Шёстрома, «Париж уснул» Рене Клера и «Метрополис» Фрица
Ланга, «Луч смерти» Льва Кулешова и «Золотой век» Луиса Бу¬
* Научно-фантастический жанр выделяет словарь литературоведческих
терминов. М., «Просвещение», 1974, с. 237.
Французский эстетик Цветан Тодоров в книге «Введение в фантастиче¬
скую литературу» рассматривает фантастику как жанр, относя это определе¬
ние к достаточно узкому кругу произведений, находящихся в зыбкой зоне
читательского сомнения: объяснить ли происходящие события ирреальными
или вполне житейскими обстоятельствами.
152
нюэля — список выдающихся режиссеров, обращавшихся к фан¬
тастике, можно продолжить. И это только на протяжении пер¬
вых тридцати лет существования кинематографа! В дальнейшем
же удельный вес фантастики, и в особенности фантастики науч¬
ной, увеличивается. Очевидно, вопреки мнению Кракауэра эта
тяга к фантастическому в разных его модификациях лежит в
самой природе кино.
Кракауэр разработал одно важное свойство киноискусства —
отображение физической реальности. Он игнорировал, точнее,
недооценивал, вторую его важнейшую функцию — преобра¬
жение действительности. Преображение, в основе которого ле¬
жит закономерность познания, сформулированная В. И. Лени¬
ным: «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка
( = понятие) с нее не есть простой, непосредственный, зеркаль¬
но-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный,
включающий в себя возможность отлета фантазии от жиз¬
ни...»6 7.
Наиболее четко продуктивная способность кино прояви¬
лась именно в фантастике. Создание ирреального, фантастиче¬
ского мира путем многократных экспозиций, наплывов, исполь¬
зования световых эффектов, странных ракурсов, применение
трюковых комбинированных съемок, игра со временем, его
растягивание и сжатие, неожиданные монтажные склейки —
творцов кинематографии всегда притягивали эти внутренние
возможности нового искусства создавать свой особый художе¬
ственный мир. Не случайно у истоков кинематографа рядом с
Люмьером, стремившимся к фиксации физической реальности,
оказался Мельес, желавший эту реальность преобразить, пе¬
ресоздать.
Дело здесь, конечно, не только в технических возможностях
кинематографа, но в возможностях самого жанра. Олдос Хаксли
как-то заметил, что все пророчества интересны главным обра¬
зом тем, что проливают свет на эпоху, которая их породила.
Апокалипсис, например, рассказывает нам, как понимали свой
мир христиане в конце I века. А идеалы серьезного и весьма
интеллигентного англичанина могут быть изучены во всем
процессе их развития по огромной серии пророческих романов
Уэллса. Наше представление о будущем обладает лишь тем
значением, которое Фрейд приписывал нашим желаниям... Оно
выражает наши современные страсти и надежды. Еще более
резко выразил эту мысль X. Голд, издатель крупнейше¬
го журнала «Космическая научная фантастика». «Сегодня,
читая фантастику прошлого, мы можем зачастую яснее понять
взгляды общества, в котором она писалась, чем из современ¬
153
ных произведений, созданных в этом обществе, или даже из
нехудожественных исследований. Мало вещей выражает так
остро, как научная фантастика, желания, надежды, страхи,
внутренние стрессы и напряжения времени, или определяет
их границы с такой точностью». В этом высказывании нет пре¬
увеличения заинтересованного лица. Действительно, в фанта¬
стике, и не только научной, писатель или кинематографист
свободно пользуется любыми смещениями реального, любыми
гиперболами. Создавая свою модель мира, он более свободно
и остро, хочется сказать лирически, выражает свою идею, чув¬
ство, творя по велению своей фантазии. Власть материала здесь
меньше, чем в произведениях, построенных по законам жиз-
неподобия.
Мысль о бесчеловечности общества потребления, о насту¬
пающем царстве дикости, в котором массовая культура душит
культуру истинную, может быть выражена по-разному. Но
Бредбери и Трюффо создают фантастическую модель будущего
общества, где эти тенденции доведены до предела, где наибо¬
лее почетная профессия — это профессия пожарника, сжигаю¬
щего книги. В «451° по Фаренгейту» температура горения бу¬
маги, горения книги становится как бы внутренней температу¬
рой всего общества.
Фантастика и создаваемые ею модели позволяют неожидан¬
но и остро выразить тревоги и беспокойства, боль и отчаяние,
надежды и мечты человека.
И трудно переоценить значение художественного опыта
фантастики для всего киноискусства. Она обогатила арсенал
его выразительных средств, дала новые способы изображения
мира и человека, помогла перенести на экран и пластически
запечатлеть процесс мышления. Существовал бы, скажем, фан¬
тастический реализм Феллини в его нынешнем виде без фан¬
тастики Ланга, Мурнау или Дрейера? Вряд ли.
Но помимо методологической уязвимости теории «реаби¬
литации физической реальности» в неверной оценке фанта¬
стики сыграло несомненную роль время создания книги. Кра-
кауэр писал ее в 50-е годы, он в это время еще не видел
новых фантастических картин, стремящихся художественно ос¬
мыслить научные, социальные, психологические последствия
НТР. А фантастика 60—70-х годов в своей главной тенденции
двигалась как раз к изображению физической реальности.
Рубежным в этом смысле фильмом явилась картина Стэн¬
ли Креймера «На берегу» (1959). Симптоматично было уже имя
режиссера. В послевоенные годы Креймер открыл список круп¬
ных режиссеров, пришедших или «зашедших» в научную фан¬
154
тастику. И его картину рассматривали не в пределах специфи¬
ческой территории фантастического, а в ряду проблемных
произведений экрана.
Премьера «На берегу» состоялась одновременно в восем¬
надцати странах и произвела чрезвычайное впечатление на
мирового зрителя.
Стоит попытаться понять поэтику картины, понять, почему
так сильно воздействует она на зрителя.
Во вступительных титрах авторы предупреждают: «Это ис¬
тория, которая не произошла и не произойдет, если люди
объединятся». Но вот титры уходят, и авторы фильма быстро
вводят зрителя в предполагаемые обстоятельства.
На листке календаря дата: 1964 год. В атомной войне
погибли Европа и Америка, молчат все радиостанции мира.
Единственная уцелевшая в глубине океана американская под¬
водная лодка направляется к австралийскому берегу. Австра¬
лия еще живет — пять месяцев, как рассчитали ученые, нужно,
чтобы смертоносные радиоактивные осадки принесло сюда
ветром и течением.
Чашку чая предлагает своей заспавшейся жене молодой
лейтенант Питер Холмс (А. Перкинс) в начале фильма, в фи¬
нале, обняв ее в последний раз, он снова дает ей чай, в ко¬
тором растворена смертельная таблетка — лучше умереть без
мучений. Между этими двумя чашками чая проходит фильм
и жизнь последних людей на Земле. Это обрамление картины
символично: фильм не про катастрофу, а про то, как встретили
ее люди, он начинается счастьем людей и заканчивается тра¬
гедией расставания в смерти.
Стэнли Креймер и его товарищи по фильму берут простые,
каждодневные вещи, явления и поворачивают их странным,
неожиданным образом, они соединяют, переплетают обыден¬
ное и фантастическое, а в итоге веришь во все происходящее,
каким бы немыслимым оно ни казалось.
Так возникает этот своеобразный сплав возможного и неве¬
роятного.
Как показать страну, ожидающую смерть? Пропагандистский
агитационный фильм — а Креймер избегает напрашивающихся
лобовых решений. Нет в его картине сцен тотальных сражений,
сцен массового безумия, лихорадочных усилий спастись, все¬
общего бегства или всеобщего траура, всего того обязательного
набора, который предлагали конвейерные фильмы про атомную
войну и чудовищ. Австралия живет, на первый взгляд, как обычно.
Идут люди с покупками, огни реклам, музыка джаза. Только
что-то слишком много велосипедистов и слишком мало авто¬
155
машин, и вдруг — дребезжит по мостовой коляска, которую ис¬
пользовали последний раз семьдесят лет назад. Вот эта допо¬
топная коляска на улицах современного столичного города
говорит о случившемся красноречивее любых фантастических,
«поражающих» сцен. Зритель сразу понимает: очевидно, на
исходе бензин, нефтеперерабатывающие заводы северного
полушария погибли, жизнь теплится лишь на этом последнем
клочке земли.
Осталось пять месяцев. Но об этом стараются не думать,
не говорить. Люди все так же загорают на пляже, устраивают
парусные гонки, мужчины обнимают девиц в купальниках, ста¬
рый лакей самого чопорного клуба в Мельбурне привычными
движениями поправляет покосившийся портрет.
Лишь временами прорывается то, чем живут все. Пьяный
профессор Осборн, чью тоскливую иронию и бессильную муд¬
рость великолепно передал выступивший в сложной драмати¬
ческой роли актер киномюзикла Фред Астер, бросает гостям:
«Все наше жалкое, пьяное стадо обречено на гибель». Исте¬
рически кричит молодая женщина — жена Холмса: «Я не хочу
этого слушать!» Только что беззаботно дурачившийся со слу¬
чайной знакомой капитан Дуайт Тауэре (Грегори Пек) сразу
вдруг сникает, на лице резко обозначаются морщины: по при¬
вычке он назвал девушку (Аву Гарднер) именем своей жены,
погибшей там — в отравленной Америке.
В свое время критика (в том числе и автор этих строк)
упрекали Креймера за то, что именно в образах главных героев
он отдал дань штампам Голливуда. Мужественный красавец
капитан с трагической складкой у рта, недоступная и безза¬
щитная, сдержанная и страстная девушка — Ава Гарднер —
привычные стереотипы.
Конечно, Креймер учитывал требования Голливуда и его
аудитории, но — и это не приняла в расчет критика — следо¬
вал и законам фантастики.
Отнюдь не случайно в фантастических произведениях так
редко появляются сложные индивидуализированные характеры.
Художника-фантаста обычно интересует влияние неких фан¬
тастических обстоятельств на героя—он находится длительное
время в одиночестве в космическом полете, встречается с чу¬
довищами, попадает в прошлое или будущее, — и ненормаль¬
ным фантастическим обстоятельствам должен противостоять
нормальный человек, чьи реакции типичны.
Отсюда в сочетании индивидуального и общего в образах
фантастического фильма, как правило, происходит резкий сдвиг
в сторону общего.
156
«На берегу». 1959. Фред
Астер, Грегори Пек и Ава
Гарднер
В фантастическом фильме очень часто все художественные
средства направлены не на раскрытие характера, а на дока¬
зательство идеи, концепции автора: нельзя вмешиваться в
ход чужой истории, качества робота — отражение качеств че¬
ловека, сложность контактов с инопланетным разумом и т. д.
И здесь опять-таки характер выступает как аргумент доказа¬
тельства идеи или как среднетипическая фигура, реакции ко¬
торой выявляют то или иное влияние фантастических обстоя¬
тельств. Отсюда образы-маски, образы-стереотипы в фанта¬
стике. Они связывают фантастическое произведение с реаль¬
ностью, помогают понять основные его идеи. Ведь художник
всегда озабочен тем, чтобы в его произведение поверили,
поэтому чем необычнее обстоятельства, тем обычнее, узнавае-
мее должен быть герой в них попадающий. У Уэллса всегда
сталкиваются с невероятными событиями самые типические рас¬
пространенные фигуры: недалекий служака-полицейский, сплет-
ница-экономка, клерк, начавший беззаботную воскресную
прогулку.
Тот же принцип в изображении среды — абсолютно привыч¬
ное, узнаваемое соединяется с грозно незнакомым.
Но вернемся к фильму «На берегу». Стэнли Креймер бле¬
стяще передал как раз эти контрасты переплетения привычного
157
настоящего и грозного будущего, которое тоже — в этом весь
ужас!—становится привычным.
Как обычно, брюзжат знатные старики члены высокопостав¬
ленного клуба, но по какому поводу? Осталось четыреста бу¬
тылок великолепного портвейна. Это безобразие — ведь его
не выпить за пять месяцев. Их уже не волнует то, что будет
через пять месяцев, они не сомневаются в том, что это бу¬
дет, но как успеть проглотить свою долю радостей, свой порт¬
вейн? И эта привычная мелкая воркотня, абсурдная до комизма,
убеждает в обреченности мира больше, чем следующая за
ней, уже «прямо работающая» сцена, когда лейтенант Холмс
просит у влиятельного родственника таблеток с ядом для своей
семьи.
Эти художественные принципы Стэнли Креймер последова¬
тельно проводит через весь фильм.
Американская атомная подводная лодка «Содфиш» отправ¬
ляется в разведывательный поход. Ученые полагают, что, мо¬
жет быть, на севере дожди и снег прибили к земле радио¬
активную пыль и она не придет в Австралию. Теория подтвержда¬
ется непонятными радиосигналами, идущими из нефтеносного
района Сан-Диего. Там не должно быть живых людей. Но кто
же работает на передатчике? И вот первая остановка в походе:
158
Последние гонки на послед¬
нем берегу — Австралии.
Если нельзя жить, то хотя
бы самому выбрать способ
умереть
Отравленная атомными
осадками Земля стала чу¬
жим, враждебным человеку
миром.
Сан-Франциско. Острые линии висячего моста. Огромный
пустой коридор, огражденный канатами подвеса. Пронзитель¬
ная металлическая музыка. В окулярах перископа — подерну¬
тые пленкой тумана улицы города. Свинцовая зловещая гладь
воды. Люди в лодке по очереди тоскливо всматриваются в
здания на берегу, в мертвые окна, а затем сухо, с металли¬
ческим звоном, точно отсекая надежду, складывают рукоятки
перископа и отходят в сторону. Один за другим — первый, вто¬
рой, пятый!.. И кажется, в их глазах пустота города.
...В обычном научно-фантастическом фильме про чудовищ
или вторжение из космоса, наверное, сняли бы разрушенный,
перекореженный взрывом макет моста. Построили бы живо¬
писные развалины, в душераздирающих кадрах запечатлели
погибших людей. Но в этом фильме об атомной войне нет
разрушений и мертвецов. И это было сделано не из требования
«чистого искусства», боязни натуралистических излишеств.
И это не было кокетством авторов картины. Нет, они просто
старались как можно лучше решить свою задачу: поразить
зрителя, заставить его задуматься, предостеречь. И здесь, в
этих сценах, они били наверняка. Они понимали: знакомый
мост вдруг жутко, непривычно пустой, панорама родного города,
где все так до боли знакомо и так раняще чуждо,— это куда
159
сильней, страшней и убедительней, чем виденные во всех
военных фильмах груды развалин (вот он, возрожденный в но¬
вых обстоятельствах принцип «остранения»!). Они понимали:
глаза героев, полные увиденного, мимоходом брошенная реп¬
лика— «люди, как животные, уходят умирать в одиночестве в
свою постель» — разбудят, подстегнут воображение зрителей,
в то время как демонстрация ужасов, скорее, принесет неже¬
лательную в данном случае разрядку.
Здесь учтены психологические законы восприятия искусства.
Зритель не остается пассивным наблюдателем; его фантазию
все время подталкивают, бередят,а не насилуют, не умерщвля¬
ют подробной, никому не нужной демонстрацией того, что
должно остаться за кадром.
Обдуманный, выверенный расчет чувствуется уже в самой
композиции фильма. Сцена в нефтяном городке Сан-Диего могла
бы идти и после Сан-Франциско и перед ним — по смыслу, по
логике сюжета это все равно. Но режиссер помнит и о дру¬
гой, эмоциональной логике, о постепенном вовлечении зри¬
теля в свой фантастический жуткий мир. И с этой точки зрения
Сан-Диего, конечно,—следующая ступень.
Вот они, нефтяные промыслы. Отсюда доносились сигналы.
Скелеты железных конструкций, переплетение нефтяных труб,
корпуса заводов — памятники погибшей цивилизации. Она еще
бьется в агонии, дышит, работают никем не остановленные тур¬
бины, гидростанция дает ток, и сквозь этот обезлюдевший зло¬
вещий мир, сквозь джунгли нефтяных магистралей идет че¬
ловек в защитном скафандре. Своеобразная ироническая ас¬
социация с многочисленными фантастическими фильмами: там
исследователь в скафандре высаживался на другие планеты,
здесь он идет по своей земле, но она ему уже чужда.
Радист подводной лодки ищет источник странных сигналов.
И наконец разгадка. Занавеска зацепилась за телеграфный
ключ. Ветер время от времени поднимает ее. Упавшая бутылка
из-под кока-колы снова прижимает ключ... Рухнула последняя
надежда. Нет живых в Америке, Австралия обречена!
Снова австралийский берег. Последние недели. Но и здесь,
в сценах, жутких по своему существу, режиссер почти нигде
не изменяет сдержанной стилистике. Мы должны умереть.
Что ж, в этом году сезон охоты на форелей откроется рань¬
ше. И на экране — река, буквально запруженная рыбаками,
пьяная, беззаботная песня, колонны туристов движутся вброд
по камням, последние, торопливые, жадные поцелуи. И когда
в конце фильма старый блюститель порядка — лакей клуба —
в который раз поправляет покосившийся от удара дверью,
160
портрет, эта деталь как бы подводит черту: все кончено. "Уже
никто здесь не будет хлопать дверью, портрет будет висеть
ровно. И опять-таки это страшней, убедительней, чем любые
мелодраматические эффекты, которые так просились в этот
сюжет и которых совсем избежать Стэнли Креймер все же не
смог.
Авторы картины все время стараются сохранить намерен¬
ный холодок объективности: мы показываем только документы
будущего. Но один эпизод — автомобильные гонки — безус¬
ловно претендует на большее. Разыгрывается большой приз
Австралии. Бешено летят машины по шоссе, быстрее, еще
быстрее! Обогнать соперника, взять верх. Все бессмыслен¬
но! Все равно смерть! Ну и пусть, а пока гнать и гнать ма¬
шину, пока не сорвется на повороте, пока пламя взрыва не
прервет путь. Образ лихорадочного и бессмысленного бега ци¬
вилизации.
И в то же время человек в фильме Креймера, по существу
сам виновный в катастрофе, не вызывает презрения. Обстоя¬
тельства, в которые поставлены авторами люди, такбвы, что
они не могут бороться против надвигающейся смерти. Но они
борются, чтобы остаться людьми перед лицом гибели. Уро¬
женец Сан-Франциско писарь Роуз бежал с подводной лодки —
он хочет умереть дома. Раннее утро. Черные силуэты без¬
жизненных домов. Туман поднимается от воды, а на случай¬
ной лодке сидит человек с удочкой — последний житель Сан-
Франциско.
Картина не оставляет зрителю лазейки, сквозь которую
можно улизнуть в традиционный «хэппи энд» коммерческого
кино. Нет, если это начнется, ты обязательно погибнешь!
И только в последних кадрах на пустой улице ветер полощет
плакат, который уже некому нести: «Пока еще есть время,
брат!»
Эстетическое значение картины Креймера для фильмов,
трактующих тему атомной угрозы, для кинофантастики вооб¬
ще было несомненным. То, что выглядело до сих пор на экране
как невероятная фантазия, вдруг обрело черты жуткой реаль¬
ности, несомненности. То, что было живописным турниром тех¬
ники и стихий, вооружений и чудовищ, стало «протоколом ги¬
бели человечества». Фантастическая лента «На берегу» по
пафосу своему и стилистике была как бы антифантастичной,
почти документальной.
Насколько новаторским был подход Креймера к своей
теме и в какой мере он опирался на уже существующие тра¬
диции? Чтобы ответить на этот вопрос, следует, очевидно,
161
рассмотреть основные способы воплощения фантастического
на экране.
Надо отдать справедливость 3. Кракауэру: отказав многим
фантастическим произведениям в подлинной кинематографич-
ности, он при этом внимательно, добросовестно их рассматри¬
вает и предлагает очень четкую классификацию методов
«претворения фантастической темы». Кракауэр различает три
основных способа: 1. Фантазия, представленная в театральной
манере, то есть с помощью причудливых декораций, бута¬
форий, необычного грима. 2. Фантазия, представленная прие¬
мами кинематографической техники. Пример — «Носферату»,
где использовано негативное изображение и покадровая съемка,
в других фильмах многократная экспозиция, впечатки, особые
зеркала, иначе говоря все, что помогает создать впечатление
ирреального, сверхъестественного. 3. Фантазия, представлен¬
ная средствами физической реальности. По мнению Кракауэра,
этот тип фантазии лучше всего определил Карл Дрейер, когда
он ставил фильм «Вампир». «Представьте себе, что мы си¬
дим в обыкновенной комнате. Внезапно нам говорят, что за
дверью лежит труп. Комната мгновенно полностью преобра¬
жается в наших глазах: все в ней выглядит иначе — и свет и
воздух изменились, хотя физически они остались прежними.
Дело в том, что изменились мы, а предметы являются такими,
какими мы их воспринимаем. Вот этого эффекта я и добиваюсь
в своем фильме»68.
Кракауэр в основном оперирует примерами немого кино
или 30-х годов, но на первый взгляд все явления послевоен¬
ного фантастического кино укладываются в эту схему. Так,
чудовища японского кино, конечно, первый способ — искусная
бутафория. Правда, сделанная не в театральной манере, а,
наоборот, так, чтобы убедить зрителя в подлинности проис¬
ходящего. Сюда же относится большинство картин американ¬
ского кино, сделанных до и после Креймера.
Голливуд всегда стремился к созданию эффектных декора¬
ций фантастических фильмов, используя огромные средства,
чтобы убедить зрителя в реальности, всамделишности неве¬
роятного. Часто сами технические сооружения становились
двигателем сюжета. На этом принципе построено знаменитое
«Фантастическое путешествие» Ричарда Флейшера. Путешест¬
вие по человеческому телу, которое совершают, уменьшенные
в тысячу раз четверо врачей — их задача уничтожить кровяной
тромб, закупоривший сосуд в мозгу ученого.
Декорации фильма воспроизводят органы и сосуды чело¬
веческого тела. Они были сделаны с большим размахом и
162
стоили чрезвычайно дорого. Но в фильме они не остались
просто достоверным фоном научно-популярного фильма, а
стали источником драматических перипетий. Так, попадая в
артерию, герои должны преодолевать поток крови, несущий
их в обратном направлении. Сердце пациента, которое может
раздавить их подводную лодку, остановлено на 65 секунд,
они проходят его за 8 секунд до истечения срока. Сгусток
крови в мозгу они разрезают при помощи лазера, а потом
белые кровяные шарики начинают засасывать их вместе
с подлодкой, как инородное враждебное тело. Путешествие
длится ровно один час, и это час невероятных приключений
и знакомств со странным миром человеческого организма.
Фантастическое здесь стремится выглядеть достоверно
ценой любых материальных затрат и невероятных режиссер¬
ских усилий. Этот принцип сохраняется в фильмах, посвящен¬
ных космосу. Причем со временем стремление к достовер¬
ности чудесного, фантастического все более возрастает. Если
в 30-е годы, показывая космические приключения Гордона
Флеша, Голливуд совершенно не заботился о достоверности,
космос был как бы дальним Западом, вынесенным за пределы
земли, то в фильмах 60-х годов забота о правде деталей, сре¬
ды становится решающей.
Чрезвычайно характерен в этом смысле фильм «Затерян¬
ные в космосе» (1969, режиссер Д. Старджес), повествующий
об американском космическом корабле, который не может
спуститься с орбиты. Кончается запас кислорода, командир
корабля жертвует собой, но в решающую минуту на помощь
приходят советские космонавты, спасая двух оставшихся в
живых членов экипажа. В этом фильме полностью имитирована
современная космическая техника. Продюсеры потратили один
миллион долларов только для того, чтобы скопировать центр
космических полетов в Хьюстоне, — декорацию строила та же
самая фирма, что и космический центр. Но этот миллион можно
было бы сэкономить, если бы авторы подождали всего один
год. Его можно было бы снять, когда проводилась спасатель¬
ная операция по возвращению потерпевшего аварию «Аполло-
на-13». Дистанция между сегодняшним и завтрашним днем,
между существующим и еще не реализованным, сокращается в
таких произведениях до минимума.
Вторая линия воплощения фантазии путем использования
кинотехники нагляднее всего реализована в фильме Криса
Маркера «Взлетная полоса» (1962).
...На аэродроме в Орли мальчик видит взволнованную чем-то
девушку и какого-то человека, метнувшегося к ней и упав-
163
lu его на взлетной полосе. Через несколько лет после того,
как Париж был уничтожен в третьей мировой войне, героя,
захваченного в плен, делают объектом странных эксперимен¬
тов в подземельях дворца Шайо. Надо пробить туннели во
времени, чтобы доставить из прошлого медикаменты и при¬
пасы. На десятый день герой попадает в прошлое и знакомится
с девушкой, которую мальчиком видел на аэродроме Орли.
Потом он попадает в будущее и встречается с его обитате¬
лями. Они предлагают взять героя с собой. Но его влечет
девушка из прошлого, он возвращается к ней, встречает са¬
мого себя, ребенка, и умирает на взлетной полосе, вспоми¬
ная, что уже видел в детстве эту сцену.
Как видно из пересказа фильма, по сюжету и теме он
не выходит из круга обычных идей фантастической литературы,
связанной с путешествиями во времени. Картина Маркера ин-
164
За шесть лет до стыковки
«Аполлон»—«Союз» режис¬
сер Старджес рассказал в
фильме «Затерянные в кос¬
мосе», как советские кос¬
монавты спасают своих аме¬
риканских коллег, потерпев¬
ших аварию
Р. Флейтер.
«Фантастическое путешест¬
вие» по сосудам человече¬
ского тела.
тересна не столько своими идеями, сколько принципами изо¬
бражения фантастического. Во-первых, режиссер отказывается
от изображения примет будущего — только лица — то, что не
меняется со временем. Очки, закрывающие глаза врачей,
датчики и бинть! на лице испытуемого, лица людей будущего
с маленькими скульптурками в середине лба. Они увидены
точно сквозь подернутое изморозью стекло-пленку времени,
на грани тьмы и света. Игра светом — основное средство со¬
здания фантастической декорации.
Но главная особенность фильма в том, что он смонтирован
из статичных планов. Почему это понадобилось Маркеру?
Может быть, отчасти потому, что смена статичных планов луч¬
ше передает ирреальность, странность случившегося, чем жиз¬
неподобное движение. Статичные планы позволяют произволь¬
но сжимать и растягивать время. И, что еще важнее, смена
165
«Взлетная полоса»
статичных планов дает рассказ-пунктир, в котором пропуски
заполняются воображением зрителя. Гибель Парижа —
ряд фото из наплыва в наплыв — растворяющаяся Эйфелева
башня и купол Дома Инвалидов, еще наплыв — чернота раз¬
валин. Это результаты, по которым угадывается все, что здесь
произошло. Недосказанность приобретает в этом фильме осо¬
бую силу выразительности. История героев — в смене выра¬
жений на их лицах. Лицо девушки — радость, покой, страх,
горе. Лицо героя — мука, усилие пробить время, безмятеж¬
ность путешествия в прошлом, тихих свиданий, ужас возвра¬
щения назад, в лабораторию, растерянность от встречи с самим
собой. Многое в этом рассказе-пунктире остается невыясненным,
неопределенным, загадочным. Но эта атмосфера зыбкости,
многозначности, недоопределенности благоприятна для
фантастического, не позволяет ему свестись к хитроумным по¬
становочным фокусам и плоским эффектам.
И вот здесь уже классификация Кракауэра оказывается явно
недостаточной. Ибо различие между японскими фильмами
о чудовищах и «Взлетной полосой» в способе создания фанта¬
стического отнюдь не только в том, что там используется
бутафория и муляж, а здесь кинотехника (кстати, и то и дру¬
гое есть и у Иносиро Хонда и у Криса Маркера, и оба
по-своему перестраивают физическую реальность). Я остав-
166
ляю сейчас в стороне все несходство уровня и адреса этих
картин. Коммерческая массовая продукция Иносиро Хонда
и изысканная авангардистская лента Маркера соотносятся, как
лубок и поэтический этюд, как восклицательный знак и мно¬
готочие. Но главное различие выражается в разном соотноше¬
нии названного, показанного и оставшегося за кадром, нерас¬
шифрованного, неясного.
Маркер понимает, что недоопределенность, нерасшифро-
ванность, оставляющая место воображению, действует на зри¬
теля часто сильнее, чем показанное, наглядное.
Диалектику конкретного и воображаемого, точную меру
неопределенности великолепно чувствует Альфред Хичкок.
Наиболее сильное в его фильмах — это моменты предчувствия,
ожидания ужасного, и он растягивает эти мгновения: долго идут
герои по мрачным коридорам гостиницы в «Психо», спускаются
по лестнице в подвал, крадутся по темным пыльным закоулкам,
напряжение усиливается ложными подменными вариантами,
падает какой-то предмет, высвечивается лицо манекена, пока,
наконец, зрителю не открывается высохший труп старухи в
кресле и с диким воплем в дверном проеме не появляется
ее сын-маньяк с ножом в руках.
Так же, как в «Психо», в «Птицах» нападение птиц на де¬
тей, труп фермера с выклеванными глазами подготавливают
167
томительное ночное ожидание последнего штурма взбунтовав¬
шихся птиц. А двусмысленное обыгрывание деталей оставляет
ощущение неопределенности. Что, клетка с попугайчиками,
которую носит дочка героя, является причиной бунта птиц
или это иронический комментарий к происходящему? Во вся¬
ком случае, несколько раз в самые драматические моменты
эта клетка крупным планом возникает на экране.
Неведомое всегда страшнее, чем явное. Страх перед
таинственным и неизвестным заложен в глубинах челове¬
ческого подсознания. Согласно Кьеркегору, метафизический
страх есть форма переживания человеком «ничто». На этом
страхе основано воздействие всех произведений разряда
«fantasy»» всех новелл с привидениями, оборотнями, вам¬
пирами. Но и здесь атмосфера сверхъестественного, ужасного
обычно тем сильнее, чем тоньше спровоцирована непонятными,
но явными или опосредованными проявлениями этого страш¬
ного. Полянский не показывает нам ребенка Розмари, мы видим
его через реакцию матери — ужас, побежденный материнской
любовью, мы не видим и дьявола и только догадываемся, что
соседи Розмари колдуны. Но атмосфера ужаса, сверхъестест¬
венного царит в фильме. В картине «Экзорсист» нам показы¬
вают все прямо и натуралистически: прыгает кровать, двига¬
ются предметы, одержимая девочка несет похабщину и под¬
нимается в воздух; но нормальному зрителю не страшно, а
смешно — это ужас на уровне ярмарочного балагана.
Должно быть, соотношение изображаемого и подразумевае¬
мого имеет большее значение, чем технология: с помощью
декораций или специальной обработки пленки достигнут эффект
фантастического.
«Ребенок Розмари» — это, очевидно, третий путь «претворе¬
ния фантастической темы» «средствами физической реально¬
сти», когда режиссер заставляет нас иначе видеть, казалось бы,
привычное и обыденное. Но этот же принцип воплощен и в
фильме «На берегу». А ведь перед нами произведения, диа¬
метрально противоположные по взгляду на действительность,
по идее, которую несет в этих фильмах фантастическое, по
его природе. В одном случае, виртуозно «играя» с физической
реальностью, автор стремится убедить нас в наличии иного
«сверхъестественного» мира, существующего рядом с видимым,
реальным и пронизывающим его. В другом — фантастический
прием выступает как частный случай художественной услов¬
ности, как посылка, позволяющая глубже вскрыть реальные
противоречия действительности. Так, в фильме Франкенхеймера
«Семь дней в мае» фантастическая история военного заговора
168
позволяет показать типы и состояние умов, которые могут
сделать такой путч реальностью. Так, в фильме Кэвина Браун-
лоу и Эндрью Молло «Это случилось здесь» фантастическая
история покорения Англии нацистами позволяет вскрыть дей¬
ствительность, чреватую нацизмом. А история гибели чело¬
вечества в фильме Стэнли Креймера «На берегу» открывает те
роковые последствия, к которым может привести гонка атом¬
ных вооружений.
Креймер был одним из первых в послевоенном западном ки¬
но, кто использовал фантастику как прием для углубленно¬
го анализа реальности. И не случайно, начиная именно с его
фильма, научная фантастика (естественно, в лучших образ¬
цах) начинает терять свое обособленное положение, вли¬
вается в общий процесс развития игрового кино. Она перестает
быть жанром — развлекательным по преимуществу, а становится
способом рассмотрения жизни в разных жанрах. В психоло¬
гической драме — «Проклятые» Лоузи, в гротеске — «Жилая
комната» Ричарда Лестера, в сатирической комедии — «Доктор
Стрейнджлав» Стэнли Кубрика, в сделанных под документаль¬
ный репортаж «Парке наказаний» и «Военной игре» Питера
Уоткинса, в притче — «Стыд» Ингмара Бергмана. Во всех этих
картинах фантастика не ставит своей целью изображение чрез¬
вычайных событий ради сенсации, вызывающей дрожь и вос¬
хищение, но использует невероятную ситуацию или персонаж
для острого необычного открытия привычного.
Иначе говоря, существует два направления в фантастике:
одно изображает фантастическое ради него самого, другое —
чтобы через невероятное лучше увидеть обычное и реальное.
И кажется, эта вторая тенденция в последние два десятилетия
становится все более авторитетной.
Различие двух тенденций особенно ясно видно в фильмах,
выносящих на экран апокалиптические видения катастрофы.
В японских и американских фильмах про чудовищ фантасти¬
ческие сцены бедствия и разрушения — ключевые, в них со¬
средоточен интерес фильма, его смысл. Это аттракцион для
публики: мы вам покажем самое большое! Самое ужасное!
Самое кровавое! Самое-самое... В фильмах серьезных худож¬
ников глобальная война обычно лишь сюжетная посылка. Сра¬
жения прошли или идут где-то за кадром, но уже созданы
те предельные, крайние ситуации, в которых полно раскрыва¬
ются характеры героев. Именно этот принцип использования
фантастического очевиден в фильмах крупных режиссеров,
время от времени заглядывающих в эту область. И у Берг¬
мана, и у Лоузи, и у Кубрика фантастическое — тот невероятно
169
мощный источник света, который позволяет резко осветить
самые отдаленные, глухие закоулки личности и общества.
Джозеф Лоузи поставил свой фильм «Проклятые» в 1961 го¬
ду, когда многие люди на Западе, с одной стороны, как бы
свыклись с мыслью о возможности атомной катастрофы, а с
другой — поверили в то, что мир может продолжаться неопре¬
деленно долго. Это отношение к атомной угрозе как к привыч¬
ной стало основой фильма. Он поставлен в той традиции остро¬
го психологического реализма, которая характерна для совре¬
менного английского кино.
Поначалу вообще трудно предугадать, что картина свернет
в русло фантастики. Маленький приморский городок. На набе¬
режной у памятника королю Георгу, воздвигнутого благодарны¬
ми горожанами, — группа парней. Современная моторизован¬
ная банда — кожаные куртки, шлемы гонщиков, мотоциклы.
И «чистая» автоматизированная «работа». Сестра главаря банды
Короля заманивает доверчивого туриста-американца; в глухом
переулке его встречают умелые парни. Загнутая ручка зонтика
цепляет за шею, несколько точных, профессионально рассчи¬
танных ударов — и незадачливый кавалер без чувств валится на
землю. А потом на веранде отеля он встретится с другим ге¬
роем фильма. Коренастый пожилой джентльмен, этакий буржуа
на покое, беседует со своей бывшей любовницей, скульптором
левого толка. Только почему-то время от времени к нему подхо¬
дят рослые молодые люди в штатском, но с военной выправкой,
называют его «полковник» и, получив указания, исчезают.
Кажется, фильм и будет развиваться дальше в этих двух
разделенных сферах — городское дно и респектабельные
буржуа. Сопоставление, достаточно традиционное для англий¬
ского кино 50—60-х годов, вспомним ли мы «Путь в высшее
общество» или «Такова спортивная жизнь». Фантастическое вы¬
растает из этой действительности и из этой стилистики. До оп¬
ределенного момента «нормальный» психологический сюжет,
пока фантастический «допуск» не сталкивает героев с прото¬
ренных путей. Сводит их в необычной ситуации и раскрывает
истинную стоимость каждого независимо от их положения в
общественной иерархии.
Избитый американец еще раз встречается с сестрой главаря
банды. Он даже увозит ее на своей яхте. На уединенной вилле
они проводят ночь любви. Как будто бы в суровый реалисти¬
ческий строй фильма врывается мелодрама. Преследуемые бан¬
дой, влюбленные попадают на территорию секретной военной
базы. И здесь-то они снова встречаются со «штатским» полковни¬
ком, здесь-то и начинается самое главное.
170
Ползая в потемках по крутому обрыву над морем, амери¬
канец и девушка попадают в подземелье, где их встречают
девять ребят десяти-двенадцати лет. Стальная дверь, преграж¬
давшая вход в подземелье, — как бы грань, отделяющая реаль¬
ность от фантастики. Милые, хорошие ребята, но, прикоснувшись
к ним, девушка отдергивает руку — их тела холодны, как у
мертвецов. Они и есть живые мертвецы, не знающие своих
родителей, своего прошлого. Заживо погребенные в’ подзе¬
мелье. Никогда не видевшие света солнца, не ощущавшие при¬
косновения других людей. И вся военная база существует толь¬
ко для них — величайшего национального секрета страны.
Оказывается, это дети, родившиеся у родителей, подвергших¬
ся радиоактивному облучению. И всю жизнь их растят в изо¬
ляции от других людей, в условиях повышенной радиоактивно¬
сти. Для чего? Вот тут-то и выясняется цель жизни благодушно¬
го отставного полковника. Он уверен, что мир погибнет в атом¬
ном огне. И тогда эти девять выйдут на поверхность и положат
начало новой цивилизации. Старый маньяк так поглощен своей
идеей, что готов не только умертвить случайных свидетелей
эксперимента. Он поторопил бы атомную войну, чтобы опыт
увенчался полным успехом. Обычно одержимость в фантастике
связывалась с образом ученого. Лоузи переносит вину на воен¬
ных — явление, как уже отмечалось, характерное для ряда про¬
изведений фантастики 50—60-х годов.
Подземная лаборатория — единственный фантастический
объект фильма. В нем сгущена, поднята до символа опасность
подавления человека техникой, его насильственного отделения
от естественной среды. Люди, ушедшие или изгнанные под зем¬
лю,— навязчивый мотив фантастики: вспомним Уэллса или клас-
сйческий рассказ Эдварда Моргана Форстера «Машина оста¬
навливается», в котором создан страшный образ будущего, где
власть техники приводит к некоммуникабельности людей, атро¬
фии физических и умственных способностей, обожествлению ма¬
шины, ими самими созданной, и, наконец, гибели человечества
в подземной могиле, которую оно само для себя приготовило.
В 1961 году Джозеф Лоузи мог опереться на традицию
и имел значительно больше «данных» для создания нечелове¬
ческого мира, куда заброшены дети. Сначала показана обычная
Детская спальня — мирная, даже идиллическая. Потом движение
аппарата вверх — и зритель видит телекамеры, нацеленные на
спящих детей и столь странные в этой обстановке, неуклюжие
фигуры солдат-лаборантов в противолучевых костюмах, они
осторожно ходят между кроватями, делают уколы, анализы
своим «подопытным кроликам». Мотив телекамер, следящих
171
за человеком и контролирующих его, опять-таки стал мучи¬
тельно навязчивым в современной фантастике — он снова по¬
является в фильме Джона Франкенхеймера «Семь дней в мае»,
где идущие по бесконечным коридорам Пентагона люди все
время отражаются на экранах следящих за ними телевизоров.
Итак, девять ребят томятся в подземелье и с ними девушка,
американец и Король, догнавший наконец соблазнителя сестры.
Они не знают, что уже обречены, что уже убиты радиацией,
они хотят вывести ребят на волю. В неотесанном парне, забияке
и хулигане — это любимый мотив нового английского кино —
больше чувства, естественной человеческой порядочности, чем
в лощеных чиновниках, по телевизору следящих за подопытны¬
ми детьми.
С беспощадной жестокостью и драматизмом поставлены ре¬
жиссером детские сцены.
Вдруг взбунтовавшиеся ребята, отказавшиеся выполнять при¬
казы полковника, разбивают телеэкраны, которые всюду следи¬
ли за ними. Короткая кровавая схватка в подземелье, и дети,
увидевшие солнце, щурятся от света, девочка удивленно рас¬
сматривает бабочку. А потом — погоня, и солдаты в противора-
172
«Проклятые». Эти дети вы¬
росли в подземной лабора¬
тории, в условиях радио¬
активности. А эти парни из
мотоциклетной банды — в
«нормальном» климате
провинциального городка
диационных костюмах хватают детей, тащат их снова туда, в
бронированное подземелье. Режиссер заканчивает фильм пуб¬
лицистическим кадром — резким, как выстрел. Идут люди по
набережной, по мирному заливу плывут байдарки и, как крик
чаек, доносятся детские голоса из подземелья: «Спасите нас!
Помогите!» Как будто все дети планеты обращаются к зрите¬
лям, прося уберечь их от атомной катастрофы.
Фильм «Проклятые» знаменовал новый этап в воплощении
темы военной угрозы как в плане эстетическом, так и идейном.
Лоузи зафиксировал новое отношение к атомной войне в се¬
годняшнем обществе. Когда для одних это невозможность, об
этом инстинктивно не думают, а для других данность, неизбеж¬
ность, сквозь которую смотрят на обреченный, призрачный и
уже как бы не имеющий цены мир. Трагизм этого укрытого
психологического расслоения и открывает художник. При этом
Лоузи сделал следующий после Креймера шаг, вводя фантасти¬
ку в круг идей и поисков «серьезного» кинематографа. В фан¬
тастике он работает по тем же художественным законам, что
и в любом другом игровом фильме, так же разрабатывая вто¬
рой план, фон, ища небанальных мотивировок поступков.
173
Начиная с Креймера и Лоузи, фантастика, предупреждающая
о возможности военной и экологической катастрофы, не столь¬
ко выдвигает новые идеи, сколько меняет угол зрения на воз¬
можные события, выявляя их различные психологические и со¬
циальные аспекты. Идет нормальный процесс «обживания» те¬
матики.
В 1962 году Рей Милланд ставит фильм «Паника в году
нулевом». Атомная война здесь предлог для создания ситуации,
которую, скажем, известный современный английский писатель
Уильям Голдинг, решает, забросив своих персонажей на необи¬
таемый остров (роман «Повелитель мух»). Это ситуация группы
людей, изолированных от общества или выживших после его
гибели, уже не связанных его нормами морали, всеми тради¬
ционными человеческими установлениями и выявляющими свою
естественную сущность. Результаты подобного эксперимента,
проведенного над обывателем, оказываются весьма плачевными.
И если Арчи Оболер, сценарист и режиссер фильма «Пять»
(1951), еще показывает столкновение естественной доброты с
агрессивностью, инстинкта созидания с жаждой разрушения,
то Рей Милланд, снявший «Панику в году нулевом» на десять
лет позже, говорит о всеобщем одичании, о законе джунглей,
по которому должна жить семья Хари Бальдвина, выехавшая
на уик-энд за два часа до того, как атомный взрыв смел их
родной Лос-Анджелес и другие крупнейшие центры США.
По жанру это thriller, смешанный с психологической дра¬
мой. Герои фильма нравственно деградируют с ужасающей бы¬
стротой. Картина — цепь насилий и убийств. Сначала трое бан¬
дитов убивают семью, укрывшуюся в безлюдном месте, затем
они насилуют дочку Бальдвина. Бальдвин убивает двоих насиль¬
ников. Сын дерется с третьим бандитом и убивает его, но сам
тяжело ранен. Когда семья в поисках врача выезжает на авто¬
страду, то выясняется, что армия уже устанавливает порядок.
Фильм заканчивается двусмысленной надписью: «Конца не
будет — только новое начало!» Понимай как хочешь: то ли
успокойся, мир не погибнет, все начнется снова. То ли не на¬
дейся — не будет конца войне всех против всех, это только
начало.
После «На берегу», «Проклятых», «Паники в году нулевом»
уже трудно было делать фильмы об атомной угрозе в условно¬
документальной манере, как Креймер, и с тем налетом мело¬
драматизма, который отличает стиль Лоузи, и так же угрюмо
серьезно, как Милланд. И в 1963 году Стэнли Кубрик создает
свой фантастический гротеск «Доктор Стрейнджлав, или Как
я перестал волноваться и полюбил атомную бомбу». Фильм —
174
сатира на Пентагон, на армию, военное и гражданское руко¬
водство. Изображение тупости, чванства, упрямства, сумасшест¬
вия и непредусмотрительности, которые приводят человечест¬
во к гибели.
Режиссер начинает с того, ч*то сдергивает флёр тайны, тор¬
жественной секретности с лиц и учреждений, отвечающих за
национальную безопасность и принимающих военные решения.
«Снижение» начинается уже с названий: военная база — «Рыга-
ловка», ее командующий, которого играет Стерлинг Хейден,
носит имя Джек Рипперт — «Джек-потрошитель»; фамилия
президента Мак Мафлин, что значит «размазня»; а майор,
который ведет атомный бомбардировщик на Россию, зовется
Конг (сокращение от Кинг Конга).
Титры фильма идут на фоне кадров заправки бомбардиров¬
щика в воздухе: как живой, высовывается хобот из бензовоза,
попадая точно в отверстие бака летающей крепости, — точность,
синхронность, безукоризненный технический расчет. А затем
показываются люди, которые руководят этой совершенной тех¬
никой. Генерал — «Джек-потрошитель» объявляет военную тре¬
вогу, приказывая у всех собрать радиоприемники, запечатать ба¬
зу и не подпускать к ней никого — сперва стреляйте, вопросы
задавайте потом!
Его офицер связи думает поначалу, что это учебная трево¬
га, однако убеждается, что бомбардировщики, находящиеся в
воздухе, получили приказ атаковать Россию. Потом выяснится,
что генерал просто сбрендил на почве климакса. Очень устав
после свидания с женщиной, он понял, что все дело в загово¬
ре красных, которые отравили соки — апельсиновые, лимонные
и всякие другие, — и потому коммунисты должны быть уничто¬
жены. В Пентагоне становится известно, что база не отвечает
ни на какие вызовы. На экране появляется новый генерал — само¬
го высокого ранга, отвечающий за ВВС. Представление его про¬
исходит в гротескном стиле. Сначала на телефонный звонок в
кабинете генерала появляется блондинка в трусиках и лифчи¬
ке и официальным «секретарским» голосом официально объ¬
ясняет, что генерал занят и принять никого не может. Затем
после настойчивых требований к телефону, рыча и отплевыва¬
ясь, ползет на четвереньках, совершенно пьяный генерал (его
играет Джорж Скотт).
А тем временем бомбардировщики летят к России, мы сле¬
дим за одним экипажем: майор Конг, получив приказ, надевает
ковбойскую шляпу и распечатывает неприкосновенный пакет, в
котором набор вещей, необходимых летчику, если он окажется
на вражеской территории: три пары нейлоновых чулок, губная
175
помада, презервативы, успокаивающие и тонизирующие таблет¬
ки, доллары, рубли и, наконец, карманная Библия.
Сюжет фильма развивается тремя параллельными линиями —
на базе, в секретной совещательной комнате Белого Дома и на
борту бомбардировщика. У президента разгорается склока —
генералы обвиняют друг друга, а «размазня» президент (Питер
Селлерс) беспомощно пытается выработать программу действий.
Решено атаковать забаррикадировавшуюся базу силами морской
пехоты, но авиационный генерал, полный самодовольства, уве¬
ряет, что «его» базу взять невозможно, и обиженно надувает
губы, когда приказ все равно отдают. На базе связной офицер
лихорадочно пытается открыть код, при помощи которого мож¬
но вернуть бомбардировщики обратно. А в Белом Доме, вы¬
звав русского посла, пытаются связаться с русским премьером
по прямому проводу.
Надо сказать, что в этих эпизодах Кубрик не смог избе¬
жать булавочных уколов в адрес советских деятелей и совет¬
ской политики, изменил своей антиимпериалистической позиции.
Кажется, все сделано, чтобы предотвратить катастрофу: су¬
масшедший генерал покончил с собой, база взята, код найден
и по телефону-автомату, поскольку техника отказала, сообщен
в Белый Дом, бомбардировщики вернулись на базу. Кроме одно-
176
«Доктор Стрейнджлав».
Реализация метафоры «чу¬
довище Франкенштейна».
По приказу сумасшедшего
генерала бомбардировщики
с ядерными бомбами летят
на Россию, а высшие аме¬
риканские чины не знают,
как их вернуть
Доктор Стрейнджлав — Питер
Селлерс. Командующий ВВС —
Джердж Скотт
го. С поврежденной рацией он продолжает обреченно свой
маршрут, и все попытки его остановить, сбить ни к чему не
приводят. А всего одна бомба приведет в действие автомати¬
ческую машину ответного удара — машину Судного дня. И тог¬
да призывают доктора Стрейнджлава, главного научного со¬
ветника президента. Его играет тот же Питер Селлерс, но в
совершенно иной, гротескной манере. Стрейнджлава ввозят в
колясочке. Наполовину состоящий из протезов, получеловек,
полуробот, он холодно подсчитывает шансы и заявляет, что ка¬
тастрофа неизбежна. Возможно только спасти лучшую часть
нации — отборных мужчин, отборных женщин по три-пять на
каждого мужчину и, конечно, руководство — спрятать их в убе¬
жищах, и, как бы комментируя его программу, механическая ру¬
ка дергается и непроизвольно вытягивается в фашистском при¬
ветствии, он с ней борется и, потеряв контроль, неожиданно
обращается к президенту: «Мой фюрер!» Политическую суть
ученых типа Вернера фон Брауна вскрывают Кубрик и Селлерс
в этой зловещей карикатуре.
А потом майор Конг — воплощение импульсивности и не¬
рассуждающей исполнительности, — оседлав, как ковбой коня,
атомную бомбу с надписью «Привет — Вам», летит вниз, к рус¬
ским. И наступает финал: на фоне бесшумно поднимающихся
177
атомных грибов звучит лирическая нежная песенка: «Мы встре¬
тимся вновь, но не знаю где и не знаю когда». Элегическая и
одновременно саркастическая эпитафия человечеству.
Во всех фильмах о возможной ядерной катастрофе — у
Креймера, Лоузи, Кубрика, наконец, Питера Уоткина, поставив¬
шего фильм «Военная игра» как телевизионный документальный
репортаж, идущий рядом с другими новостями, — во всех этих
картинах нет суеверного страха перед неотвратимостью бедст¬
вия, нет мистического ужаса. Четко и ясно обнажены механиз¬
мы, приводящие в действие оружие, названы виновные. Каждый
автор при этом находит свой угол зрения, свой способ разре¬
шения темы. Креймер с его тягой к решениям, масштабным
и традиционным, рисует подробные картины конца человечест¬
ва. Лоузи показывает угрозу, которая существует рядом, враста¬
ет в быт и становится бытом. Кубрик раскрывает психологию
и нравы правящей элиты, ее неспособность предотвратить ката¬
строфу и принять разумное решение.
Но существует еще одна картина о будущей войне, в кото¬
рой как будто бы нет широкой социальной панорамы жизни,
все сконцентрировано на одной семье, и война предстает не в
материальных потерях, а в нравственном разрушении, страшном
и непоправимом.
Это фильм Ингмара Бергмана «Стыд». Картина Бергмана —
притча. Речь идет о какой-то войне, которая идет долго, но
когда, в какие годы она происходит — неизвестно. Более того,
похоже, что Бергман намеренно путает разные времена. На
солдатах старые каски, автомашины старых марок, но по небу
с ревом проносятся реактивные самолеты, у бандитов сверх¬
современные автоматы, и герои в минуту тишины смакуют ста¬
рое вино 1959 года — это, кажется, единственная дата в фильме.
Таким образом, это война вообще, которая была, которая мо¬
жет быть. И ее последствия — не политические, не экономиче¬
ские, а человеческие — на уровне семьи, на уровне личности.
Фантастика ли это? Задав сей вопрос, мы опять попадаем
в дебри классификаций и определений, на участки «ничьей
земли» между фантастическим и нефантастическим.
И все же, я полагаю, «Стыд» с полным правом может быть
предметом рассмотрения в книге о фантастике, коль скоро мы
исследуем в ней другие фильмы, построенные по принципу
«если бы», такие, как «На берегу». В самом деле, все, что по¬
казывается в фильме Креймера, могло бы быть, если бы про¬
изошла атомная война, но ее не было, и потому гибель чело¬
вечества от радиации мы оцениваем как фантазию. Но и фи¬
нал «Стыда» показывает нам убитую войной землю: перекоре-
178
Лиив Ульман и Макс фон
Зюдов в фильме «Стыд»
женные взрывами мертвые древесные стволы, лишенную жизни
почву — взрытую, вздыбленную, изуродованную. И люди, отча¬
лившие на лодке от этой земли, — последние люди, плывущие
через безжизненное море, сквозь кольцо трупов. Метафора
очевидна. История Яна и Евы и окружающих их людей — это
история человечества.
Бергман создает свою, особую модель действительности.
Модель, в которой он намеренно нарушает исторические ко¬
ординаты. И здесь еще одна грань, отделяющая фантастику от
просто художественного вымысла. Вымышленный герой и его
придуманные приключения не разрушают нашей веры в то,
что «так бывает». Особенно если их жизнь поставлена автором
рядом с реальными историческими фактами или включена в
сегодняшний узнаваемый день, в конкретную эпоху. Явно сме¬
щенные, спутанные исторические координаты мгновенно созда¬
ют некую условность — ощущение — «так не было», «это неве¬
роятно». Но невероятность того, что «это произошло», соеди¬
няется с вероятностью того, что «это может быть».
В «Стыде» устранена не только определенность времени, но
и места. Действие происходит на каком-то уединенном острове,
где живет чета музыкантов, укрывшаяся от жизненных бурь.
Но именно там их настигает война, проявляя и непрочность
этой изоляции и подгнившую основу их взаимоотношений.
179
Фильм, повторяю, отчасти притча, с присущей ей аллегорич¬
ностью, остротой выявления центральной мысли, неконкрет-
ностью исторических и географических координат. Но от притчи
его отличает предельная конкретность в изображении челове¬
ческих реакций и взаимоотношений.
От аналитического, цепкого взгляда Бергмана не ускользает
ни один штрих жизни героев. И то, как раздражают Еву
вечные жалобы неженки мужа — то болит зуб, то он ударил
ногу; и его подчиненность жене во всех интимных вопросах —
когда они ложатся спать на разных кроватях, он все время
боковым зрением следит, отвернется ли она к стене или позо¬
вет его взглядом.
Лиив Ульман и Макс фон Зюдов исполняют свои роли с
величайшей бытовой и психологической достоверностью. Они
именно муж и жена, прожившие вместе немало лет, автомати¬
чески угадывающие взаимные реакции, — он ищет ее руки, как
опоры, а она привычно подбадривает и понукает его. И вот
эту обычную не слишком идеальную, но и не плохую супру¬
жескую чету, людей нормальных и интеллигентных, Бергман и
подвергает испытаниям войны.
Три раза поднимает оружие Ян. Первый раз жена велит
ему застрелить курицу. Он долго тычется непослушным ружьем,
прилаживается, стреляет в упор. И курица, испугавшись звука
выстрела, хлопая крыльями, перелетает на другое место, а Ян
беспомощно бросает ружье. Второй раз уже в разгар войны
бандиты заставляют Яна лично казнить Якоби — человека, кото¬
рый когда-то его освободил. А Ян только что предал его, утаив
деньги, которые могли бы спасти Якоби. Двумя руками Ян
поднимает пистолет, спотыкаясь, идет к телеге, около которой
стоит Якоби, пистолет падает из его рук, все ждут, никто не
движется. Ян сам поднимает пистолет, стреляет, промахивается,
обходит телегу, и новый выстрел сбивает Якоби с ног. Раненый
Якоби ползет по земле, и тогда, точно прервав преграду, с
облегчением, еще два раза стреляет Ян. В поверженного, уже
беззащитного человека, оказалось, стрелять проще.
И третий раз, когда происходит уже полный распад привыч¬
ной жизни, утратив свою изнеженность в борьбе за существо¬
вание, резкий, хитрый, решительный Ян, схватив автомат уснув¬
шего мальчика-солдата, пинками поднимает его, гонит перед
собой. Ева слышит короткую автоматную очередь, а потом Ян
придирчиво и довольно рассматривает подошвы сапог, снятых им
с убитого.
Ступени озверения Яна показаны с той же неумолимой
точностью, как и стадии опустошения Евы. Первые сцены,
180
когда она признается мужу, что мечтает о ребенке; крик отчая¬
ния и бессилия, когда вражеский парашютист, схватив ее за
волосы, заставляет ее под объективом аппарата рассказывать
про свою жизнь, чтобы потом подложить чужой голос, говоря¬
щий о счастье освобождения. Затем ее обвиняют в кол¬
лаборационизме, и уже «свой сержант» привычным жестом
запрокидывает ей голову, зажимает рот, бросает в камеру.
И каждое оскорбление отнимает часть ее гордости, чистоты,
покоя. И появляется ненависть к мужу, который не защитил,
не помог. Она отдается Якоби без любви, разве что из жа¬
лости к его одиночеству. А больше от собственной пустоты.
В первых сценах взрывы и огонь войны Ева и Ян встречали,
крепко сжав руки, обнявшись, прятались от бомбежки. В послед¬
них эпизодах они сидят, закутавшись в рваные одеяла, отдельно
друг от друга.
Бергман говорит о слабости человека, не одушевленного
идеей, сознательно выключившего себя из больших социальных
связей, о деградации его личности.
Доказательство этой мысли может показаться иллюстратив¬
ным. Этапы деградации героев намечены схематично. Но сила
Бергмана в том, что, обобщая судьбы человечества в судьбах
двух людей, он не делает марионетками своих героев, мир,
заключенный внутри его модели, многообразен, трепетно жив,
изменчив.
В принципе обрисовки среды у Бергмана в этом фильме
поражает одна особенность: она вещественна, конкретна, и в
то же время почти не запоминаются подробности, детали быта.
В памяти остается ощущение атмосферы эпизода, настроения.
Беспокойство и напряжение первых сцен, когда молчит радио
и телефон на острове, отрезанном от большой земли. Потом
колонны военных машин на переправе, на улицах города и
тишина антикварной лавки; хозяин в военной форме — его уже
призвали — показывает шкатулку из Мейсена, и тихая пастораль¬
ная мелодия, как прибежище мира и старины среди грохота
приближающейся войны. И еще одна тихая сцена ночью, после
первых эпизодов войны — воспоминание о начале любви, о
скрипке, которую Ян подарил Еве, ее в 1814 году сделал из¬
вестный мастер, современник Бетховена, — островки культуры,
не поглощенные войной, среди всеобщей анонимности, солдат¬
ских униформ, касок парашютистов и вспышек разрывов.
И люди выбраны Бергманом без резкой подчеркнутой ти-
пажности Феллини. Это внешне вполне нейтральные люди-мас¬
сы. Но в каждом есть некая определяющая грань характера.
Веселый цинизм тюремного врача, сортирующего тех, кто «уже
181
воняет», и тех, кто еще нуждается в пище, но не забывающе¬
го галантно предложить даме сигарету. Постоянный холод,
испытываемый Якоби, его наглухо застегнутое пальто, которое
он не снимает даже дома. Сладострастие, с которым парни в
кожанках из о-гаяда Филиппа — одной из банд в распавшемся
государстве — оросаются обыскивать, вернее, разрушать дом;
с хрустом выбитые прикладом оконные переплеты, в щепки
разбиваемый рояль, автоматная очередь по зеркалу, вспары¬
ваемые диванные подушки — сладость, восторг разрушения. Чув¬
ства настолько интенсивны и завершены, что как бы отделены
от их носителей. Фильм — энциклопедия эмоций людей, разру¬
шенных войной: страх, беззащитность, жестокость, жажда раз¬
рушений, безнадежное отупение и... стыд. Слово, вынесенное
в заглавие, — чувство, испытываемое автором фильма.
Лодка с последними уцелевшими людьми отваливает от бе¬
рега. Кажется, это просто перевоз через узкий пролив, отделяю¬
щий остров от материка. Но путешествие бесконечно. Режиссер
несколько раз разрывает эпизод затемнениями, как бы подчер¬
кивая длительность времени, и снова образ холодного беско¬
нечного моря заполняет экран. Ночью и днем плывет лодка,
кутаются в лохмотья пассажиры, тихо, чтобы не мешать другим,
перелезает через борт и погружается в море старик лодоч¬
ник, бывший партизанский вожак, — своя жизнь так же постыла,
как и чужие. Лишь Ян видит и равнодушно наблюдает его
смерть.
Нет разговоров, шума, только плеск волн. Тишина нарушает¬
ся, когда лодка попадает на плавучее кладбище, застревает
среди трупов солдат — в полной форме, с маскировочными
сетками на касках, в пробковых поясах, плавающих в воде.
Тогда к скрипу уключин и плеску волн примешиваются удары
металла о дерево, чавкающий звук, с каким багор погружается
в трупы, чтобы оттолкнуть их от лодки. И плачут пассажиры
тоже беззвучно. Только в самом финале снова слышится голос
Евы, рассказывающей о приснившемся ей страшном сне, — го¬
род, синее небо и золотая роза, которую расстреливают
с самолета, а она горит... горит...
На Бергмана за фильм «Стыд» обрушилась и экстремистская
левая и правая пресса. И те и другие упрекали его в абст¬
рактности, в том, что он стоит над схватками, в пацифизме и
даже в проамериканском милитаризме.
Конечно, обвинения в милитаризме — чепуха, так же как и
упреки в равнодушии. Но приходится признать, что картина
Бергмана дает определенные основания для трактовки ее в ду¬
хе пацифистского протеста. Именно потому, что Бергман не
182
показывал конкретной войны, стремился сказать о преступности
и разрушительности насилия вообще, его протест приобретает
пацифистский характер.
Фильмы о грядущей войне сегодня уже почти исчезли из
репертуара кинофантастики. Однако угроза, опасность остается
одним из ведущих ее импульсов.
Но кошмары атомной войны сменились столь же кошмар¬
ными видениями экологической катастрофы. Фантастический
кинематограф изображает опасности, связанные с непредвиден¬
ными последствиями научно-технического прогресса. Это преж¬
де всего отравление биосферы промышленными отходами. Так
появляется на телеэкранах Австрии и ФРГ полудокументальный
фильм «Смог». Серая мгла висит над Руром, город задыхается
в дыму своих заводов, выхлопов автомашин. Объявляется тре¬
вога первой степени, потом второй, третьей. Задыхаются снача¬
ла только самые старые люди, и расползаются нейлоновые чул¬
ки на женщинах, но потом угроза удушья нависает над всеми
жителями города. И, несмотря на это, хозяева концерна сопро¬
тивляются требованию остановить работу. Авторы фильма дают
ему счастливый конец—как бы счастливый. Подул ветер, разве¬
ял смог, но трубы заводов по-прежнему дымят. Они сняты до¬
кументально с вертолета, эти трубы, безостановочно выбрасы¬
вающие в район Рура 210 миллионов килограммов распыленных
химических веществ. И оттого, что мы уже видели в предыду¬
щих сценах, к чему привел смог, этот обычный дым над горо¬
дом кажется особенно страшным.
У западных художников есть основания для пессимистических
прогнозов. Но и пессимизм становится модным товаром на
кинорынке. Приливы апокалиптической моды повторяются пе¬
риодически. В апреле 1970 года американский журнал «Нью-
суик» опубликовал статью «Банг! Апокалипсис на продажу», в
которой констатировал: «Никогда прежде создатели картин не
были так сконцентрированы на деталях грядущего апокалипси¬
са. Никогда прежде продавцы картин не имели такого коммер¬
ческого успеха в этом направлении»69.
Прошло пять лет, и уже западногерманский журнал «Шпи¬
гель» выступает со статьей «Последние дни человечества». Иные
примеры, иные названия картин, но суть та же.
Сегодняшние опасности, связанные с демографическим взры¬
вом, истощением природных ресурсов, загрязнением планеты,
настолько реальны и очевидны, что фантастика, изображающая
эти катастрофические последствия, отказывается от невероятно¬
183
го как эстетического принципа в пользу научно неизбежного.
Фантастика выступает, как в «Смоге», в личине документально¬
го фильма или в «Хронике Хеллстрома» в форме фильма на-
учно-популярного.
«Хроника Хеллстрома» была показана на Московском фести¬
вале 1971 года и вызвала бурю разноречивых — восхищенных и
критических — откликов. Критики ее, отдавая должное блестяще¬
му качеству съемок, упрекали авторов в ненаучности, неправо¬
мерности их прогнозов о том, что насекомые могут захватить
землю, что они лучше приспособлены к жизни, чем человек.
И все эти упреки справедливы, если рассматривать «Хронику
Хеллстрома» как научно-популярный фильм. Но все дело в том,
что по кругу своих идей, по художественной структуре это
научная фантастика, только принявшая обличье научно-попу¬
лярного фильма. И картина эта вовсе не про насекомых, а про
людей, про их страхи и проблемы, но рассказано об этом опо¬
средованно, через насекомых, как в японских фильмах — через
чудовищ.
В самом деле, уже в первых кадрах этого фильма на экра¬
не появляется традиционный герой научной фантастики ученый
Хеллстром, который сам представляет себя как фанатика, ерети¬
ка, одержимого, чьи убеждения стоили ему места в универси¬
тете, дружбы и уважения коллег. И когда в финале картины
выясняется, что в якобы документальном фильме сам ученый
Хеллстром — фигура вымышленная, сыгранная актером, род¬
ство его с традиционным типом сумасшедшего ученого науч¬
ной фантастики становится совершенно ясным.
Подобно многим героям фантастического кино, Хеллстром
предрекает человечеству гибель. «Мы будем сокрушены, сме¬
щены и сметены армией, которая появилась до нас и значи¬
тельно лучше, чем мы, снаряжена для межвидовой борьбы».
С точки зрения науки это чушь. Но режиссер Грин имитирует
форму научно-популярного фильма для картины фантасти¬
ческой, для того, чтобы поглядеть на человека как бы извне,
не с точки зрения насекомых, конечно, но с точки зрения са¬
мой природы. Фильму Грина полностью присуще распростра¬
ненное в буржуазном искусстве свойство рассматривать челове¬
ка скорее в биологическом плане как представителя вида, не¬
жели как социально опосредованный индивидуум. Но в данном
случае «биологический» подход оборачивается отчасти соци¬
альной критикой, хотя, к сожалению, не имеющей точного адре¬
са. Автор стремится доказать, что мораль человеческого об¬
щества (буржуазное он отождествляет с человеческим вообще)
противоречит биологическому закону выживания. Показывая
184
термитник, муравейник, улей, автор приходит к выводу о боль¬
шей жизнеспособности этого «кооперативного общества», где
«судьба каждого — судьба всех», где самопожертвование ради
вида заключено в генетическую программу по сравнению с че¬
ловеческими структурами, где во главу угла поставлен инди¬
вид, где идет жестокая внутренняя борьба. «Мы заняли место
богов, — горько сетует автор, — но если у других видов есть
инстинкт существования, то у нас—инстинкт разрушения».
Не трудно увидеть перекличку или заимствование идей
Грином у популярного на Западе бихевиориста Скиннера, счи¬
тающего, что человека нужно дрессировать, иначе присущий
ему инстинкт разрушения взорвет неизбежно нашу цивилиза¬
цию. Интересны не столько мысли Грина, не слишком ориги¬
нальные, сколько его позиция, достаточно противоречивая и
отражающая страхи и смятение интеллигента либерального тол¬
ка. Ибо, с одной стороны, он понимает, что общество капита¬
листической конкуренции изжило себя, показало свою истори¬
ческую обреченность. С другой — новая коллективная форма¬
ция представляется ему в виде социализма казарменного ти¬
па— гигантского муравейника, где миллионы безымянных, без¬
ликих солдат движутся, сметая все на своем пути, тысячами,
устилая телами путь к победе. Восхищение и ужас слышатся в
интонации Хеллстрома, в характере съемки, когда фил>м пока¬
зывает марш через джунгли пожирающих все на своем пути
муравьев.
Авторы боятся этой деперсонализации — муравьиного буду¬
щего, и здесь «Хроника Хеллстрома» смыкается с фильмами о
похитителях тел, о роботах. Мифология современной фантасти¬
ки трансформируется в якобы научно-популярный сюжет.
В близкой форме научного отчета-репортажа, правда, ожив¬
ленного любовной линией, сделан фильм «Гибель Японии»
(1973). На этот раз компания Тохо решила показать катаклизмы
б^з обязательного участия сказочных чудовищ. И вложила в
фильм более миллиона фунтов стерлингов. Режиссер Сиро
Моритани начинает фильм как традиционный научно-популярный
сюжет. На экране — рельефная карта японских островов, каки¬
ми они были двести миллионов лет тому назад, вернее, не
островов, а большого куска азиатского материка, потом появля¬
ются на карте голубые кусочки воды, острова сжимаются, усту¬
пая место морю, — направление процесса ясно: Япония посте¬
пенно погружается в океан. А затем зритель переносится на
исследовательское судно — геологи наблюдают странные явле¬
ния в море. Погружение в батискафе на дно Японской впади¬
ны показывает, что в мантии земной коры происходят какие-то
185
зловещие процессы. Пока все развивается в стиле научно-по¬
пулярного фильма: сложная аппаратура, мерцающие экраны те¬
левизоров, осматривающих дно, конференция в Токио, где вы¬
дающийся профессор делает грозный прогноз о возможности
гибели Японии, показывая при помощи мультипликации, как да¬
вит земная мантия на Японские острова.
Но компания Тохо, конечно, не была бы самой собой, если
бы вся эта научная «закуска» не подготавливала главное блю¬
до: серию блистательно показанных землетрясений, цунами,
пожаров и извержений вулканов. Они идут по нарастающей —
сначала гибнет маленький островок, потом Токио, который мы
видели глазами героя, молодого капитана батискафа; на широ¬
ком цветном экране — сталь и стекло небоскребов, потоки ма¬
шин и радуги рекламы, нарядная пестрая воскресная толпа.
Этот Токио охвачен пламенем пожаров, рушатся гигантские зда¬
ния, не выдерживая содроганий почвы; мечутся люди, пытаясь
выбраться из огненной западни. «Шесть тысяч очагов пожара», —
беспомощно рапортует премьер-министру начальник спасатель¬
ных отрядов, а потом над городом встает бесшумная серая
стена гигантского цунами... Три миллиона из десяти погибло в
этом страшном землетрясении. Но японцев, как известно, более
ста миллионов, острова должны погибнуть, а у компании Тохо
есть еще достаточно способов показать апокалиптические раз¬
рушения.
Между эпизодами катаклизмов — передышки. Капитан ба¬
тискафа предлагает руку и сердце Рейко; они должны улететь
вместе в Швейцарию, но она звонит из Осака, что не может
выехать — началось извержение вулкана, и железнодорожная
линия перерезана, — умоляет жениха самому уехать в Швейца¬
рию. Он бросается ей на помощь, идет навстречу охваченным
паникой толпам, туда, к центру катастрофы... И премьер-министр
Ямомото едет в Австралию, умоляя австралийское правительство
принять японский народ. Но Австралия отказывает. Потом, ког¬
да гибель Японии уже очевидна, зритель видит Ямомото на за¬
седании ООН — все снято под документ, — премьер обращает¬
ся к миру с призывом: если уж невозможно переселить нацию
целиком, то хотя бы спасите отдельных людей — кто сколько
может.
Катастрофа надвигается: раскалывается на две половины и
погружается остров Хоккайдо, затем Кюсю; последние самоле¬
ты и суда разных стран спасают тех, кого еще можно спасти.
И в то время как Рейко едет в поезде, смотря печально из
окна на северный пейзаж, ее жених Онодера в толпе оборван¬
ных, грязных беженцев движется через пустыню, — они где-то
186
«Семь дней в мае». Фантас¬
тическая история военного
путча в Америке.
Глава заговора генерал
Скотт — Берт Ланкастер.
Президент — Фредерик
Марч. Адъютант генера¬
ла — Кёрк Дуглас. Заговор
сорван, но...
на земле, и кто знает, встретятся ли вновь. Этим оканчивает¬
ся фильм.
Из псевдонаучного зрелища он неожиданно во второй по¬
ловине, а особенно к концу превращается в фильм политиче¬
ский. Две идеи дают ему пафос и накал. Первое: нам не хва¬
тает земли — вот в чем беда и трагедия японского народа.
И второе: вся наша нация от премьер-министра и императора
до последнего рыбака связана узами общей судьбы, общей бе¬
ды. Над нами угроза оказаться распыленными, разбросанными
по свету, так давайте забудем о внутренних распрях и будем
помнить, что мы японцы, что мы должны быть едины. Эти
идеи не формулируются прямо, но очень явно вытекают из
всего строя картины.
А если учесть ее «научную» убедительность, — сделана она
так, что после просмотра хочется посмотреть на карту: есть
ли еще там Япония, или впрямь погрузилась,— то можно пред¬
положить, что националистический призыв к единству и клас¬
совому миру оказывает сильное воздействие на японского зри¬
теля. Не случайно, когда фильмы с чудовищами опустились до
уровня детских сеансов, картина «Гибель Японии» снова при¬
несла компании Тохо большой коммерческий успех.
Общий процесс политизации кино существенно затронул
научно-фантастический фильм.
187
Политический фильм особенно озабочен тем, чтобы зритель
безоговорочно поверил в правильность его утверждений и про¬
гнозов. Предсказания реализуются в фантастике, убедительность
для зрителя определена их достоверностью. Именно потому
политическая фантастика так органически связана с документа-
лизмом в широком смысле этого слова.
Это стремление показывать участников невероятных собы¬
тий в конкретных, узнаваемых местах. «Семь дней в мае» Джо¬
на Франкенхеймера, повествующие о попытке военного путча
в США (1964), начинаются с кадров демонстрации правых эк¬
стремистов у Белого Дома. Кирк Дуглас, исполняющий роль
полковника — адъютанта начальника генерального штаба и кан¬
дидата в военные диктаторы генерала Скотта, по сценарию дол¬
жен входить в Пентагон. Естественно, Пентагон не был в востор¬
ге от фильма, говорящего об угрозе военно-промышленного
комплекса, желающего любой ценой сорвать мирное соглаше¬
ние с Россией. И Франкенхеймер не мог рассчитывать получить
разрешение на съемки. Тогда съемочный фургон подъехал к
входу в Пентагон, одновременно там же остановилась машина,
из которой выскочил Кирк Дуглас в полковничьей форме. В
это время из здания вышли два офицера, автоматически ко¬
зырнули встречному полковнику, Дуглас вошел внутрь и тут же
вышел — пропуска у него, естественно, не было. Но сцена вхо¬
да героя в подлинный Пентагон была снята.
Этот эпизод, описанный режиссером, показателен именно
для стремления поставить фантастическую ситуацию на твер¬
дое основание подлинности. Столь же детально и точно воспро¬
изведены помещение и аэродром тайной базы воздушно-десант-
ных войск, где сосредоточены части, которым предстоит па¬
рализовать связь, прессу и захватить президента, кабинет на¬
чальника генерального штаба с телеэкранами, занимающими
целую стену, на каждом из них показаны главные пункты дисло¬
кации американских вооруженных сил; апартаменты президента,
в которых подчеркнута их домашность, неофициальность. Но
здесь уже документальная точность подчиняется политической,
художественной задаче режиссера.
Комнаты президента с роялем, вазами, пуфиками выглядят
жалкими и допотопными рядом с мощной техникой Пентагона,
рядом со всеми этими пультами связи, автоматическими се¬
лекторами, телеэкранами, деловито снующими офицерами,
электронными роботами проверки пропусков. И точно так же
президент Лимэн — Фредерик Марч с его старческим дряблым
телом проигрывает рядом с крупным, подтянутым, энергичным
188
генералом Скоттом — Бертом Ланкастером. Дряхлеющая пре¬
зидентская власть рядом с мощным организованным военным
механизмом.
Фильм кончается благополучно. Заговор разоблачен, гене¬
ралы уходят в отставку «без скандала». Но ощущение тревоги,
непрочности института президентской власти остается от после¬
довательно проведенного Франкенхеймером сопоставления
разных фактур, разного вещного и человеческого материала,
стоящего за военной и гражданской властью.
Быть может, наиболее полно и последовательно реализова¬
ли принцип «документальной фантастики» Кэвин Браунлоу и
Эндрью Молло в фильме «Это случилось здесь» (1963). Фильм
строится на фантастической посылке поражения Англии в годы
второй мировой войны и оккупации ее фашистами. Авторы за¬
даются вопросом: «Как бы это выглядело здесь, у нас?» И их
фильм, в сущности, ответ на этот вопрос.
Один из создателей картины, Кэвин Браунлоу, в беседе с
автором этих строк подробно рассказал историю возникновения
замысла и съемок этого весьма необычного фильма. В 1956 го¬
ду Кэвин Браунлоу начал свою карьеру в кино мальчиком для
посылок. И однажды он был свидетелем того, как роскошный
лимузин подъехал к кинолаборатории, богато одетый мужчина
прокричал что-то другому на немецком языке, и он подумал,
что было бы, если бы... эти немцы были хозяевами в Англии.
Потом он встретил Эндрью Молло, который собирал материа¬
лы по истории третьего рейха, и они начали работать вместе.
Молло рассказал ему историю английского нацизма: в Англии
до войны было не меньше полудюжины различных фашистских
организаций, в том числе даже СС. Правда, в этой организации
состояло всего 45 человек, но они были.
Таким образом, идеи нацизма имели определенную соци¬
альную почву в Англии, и авторам фильма хотелось показать
стране, которая не испытала нацистского нашествия и оккупа¬
ции, что такое фашизм в обыденности, в своем каждодневном
нравственном, бытовом обличье. В этом был пафос фильма, и
это определило его эстетику, намеренно и подчеркнуто доку¬
ментальную.
Впрочем, снимать постановочную картину они все равно не
могли. Браунлоу получал всего четыре фунта в неделю, а Мол¬
ло и того меньше. На узкой ленте, любительской камерой,
привлекая энтузиастов, они начали съемки. Потом Тони Ричард¬
сон дал им деньги, и картина была закончена в 1963 году.
В ней почти не было актеров-профессионалов, скудость бюдже¬
та невольно способствовала решению эстетической задачи соз¬
189
дания фантастического фильма, выглядевшего как документаль¬
ный.
«Я чувствую большую ответственность за начало эпохи, свя¬
занной с подделкой кинодокументов», — говорит Браунлоу.
Можно было бы успокоить его, напомнив, что «под документ»
снимали еще до второй мировой войны, и особенно большое
распространение инсценировки получили в годы войны. Но дей¬
ствительно, Браунлоу и Молло достигли большого искусства в
съемках «под документ».
Картина начинается маршем добровольцев СС под немецкую
маршевую песню—кажется, обычная немецкая хроника времен
войны. Только через некоторое время замечаешь плакат, при¬
лепленный к стене полуразвалившегося здания с призывом на
английском языке ехать на работу в Германию. Авторы внима¬
тельно изучили хронику второй мировой войны, они используют
все ее самые красноречивые драматические мотивы, но про¬
ецируя их на английскую действительность.
Детей отправляют из подвергавшегося бомбежке Лондона
в провинцию — это известный кадр английской хроники. Авторы
фильма «Это случилось здесь» как бы продолжают его: по
190
«Это случилось здесь».
Фантастическая история
оккупации Англии фашиста¬
ми сделана как докумен¬
тальный фильм
дорогам идут машины с эвакуированными детьми, девочка
играет с куклой, все прячутся от немецких солдат. Кадры окру¬
женного колючей проволокой варшавского гетто, зафиксирован¬
ные нацистскими хроникерами, находят свой фантастический
эквивалент в кадрах гетто лондонского. Мимо знаменитых, из¬
вестных каждому англичанину зданий маршируют солдаты вер¬
махта, немецкий солдат идет под руку с английской девушкой,
эсэсовцы снимаются на ступенях британского парламента — все
так же, как в Греции или Норвегии.
Более того, авторы создают несуществующий выпуск Во-
хеншау — немецкой еженедельной хроники, посвященной ок¬
купации Англии. Голос диктора торжественно возвещает: Гер¬
мания и Англия — союзники на века. Немцы и англичане сража¬
лись бок о бок при Ватерлоо. Даже в 1914 году между ними
существовали ростки дружбы: на экране — импровизированный
матч между войсками Вильгельма и Георга. Браунлоу и Молло
пародируют не только штампы нацистской пропаганды, но и
указывают на действительные факты дружбы английских и не¬
мецких фашистов, например, парад английских чернорубашечни¬
ков, приверженцев Мосли. А затем снова марш немецких войск
191
по Лондону и дикторский текст, слово в слово повторяющий
тезисы нацистской пропаганды по отношению ко всем оккупи¬
рованным странам: «Германская армия победила не британский
народ, а их развратных руководителей...», «Немцы уничтожают
безработицу, убирают евреев, создают порядок...» Выпуск хро¬
ники кончается общим праздником, братанием фашистских сол¬
дат с английским населением под восторженный комментарий:
наконец-то немецкий и английский народы объединились.
Весь этот тщательно воссозданный фон: плакаты на улицах,
марши солдат, выпуски хроники, руины города — действительно
создает образ Британии под властью фашистов. Но авторы не
ограничивают свою задачу внешним изображением оккупации.
Как говорит Браунлоу, они старались понять психологический
механизм коллаборационизма. Так появляется в фильме Паулина
Морей, молодая англичанка, медсестра, которая добровольно
вступает в СС, а затем разочаровывается в нацизме, впрочем,
так же, как и в Сопротивлении. И здесь, в изображении этого
характера, этой судьбы документальный метод Браунлоу и Мол-
ло дает осечку. У Паулины хорошие друзья, которые борк*тся
с оккупантами, жертвуют своей жизнью, спасая партизана.
Почему Паулина так легко вступает в СС и готова считать вра¬
гами тех, кто борется с нацистами? Авторы исходят из самого
факта, что нацисты умело играли на чувствах людей. Героиня
в фильме говорит, что она любит порядок и ненавидит беспо¬
рядок. У эсэсовцев «порядок», но, право же, этого мало, чтобы
стать коллаборационисткой.
В фильме сильно показаны методы обработки людей, уже
ставших добровольцами, — военная муштра, лекции, клятвы и
присяги. Веришь и отрезвлению героини, которая видит, как
арестовывают ее друзей, и становится свидетельницей и неволь¬
ной участницей массового убийства больных туберкулезом по¬
ляков, — операция «легкая смерть», как известно, применялась
нацистами к неизлечимо больным.
В финале картины героиню, арестованную эсэсовцами, осво¬
бождают партизаны. Начинается разгром оккупационных армий,
и на ее глазах партизаны расстреливают сдавшихся в плен сол¬
дат вермахта. «От нацизма нельзя избавиться иначе как при
помощи насилия — утверждает Браунлоу, — но ненависть и
злоба, которые были вызваны приходом нацистов, остаются».
В сущности, партизаны в фильме «Это случилось здесь» делают
то же самое, что и нацисты, — они не только убивают в бою,
но и казнят беззащитных пленных, тем самым они уравнивают¬
ся с гитлеровцами. И здесь наиболее уязвимый момент в кон¬
цепции фильма.
192
Как говорит Браунлоу, он является противником мелодрамы,
понимая под ней упрощенное деление людей на ангелов и
чудовищ, схематичный подход к сложным социальным явлениям.
В особенности мелодраматический подход, по мнению Браунлоу,
опасен по отношению к такому явлению, как нацизм. «Ведь
если наступит похожий момент, то люди будут пытаться уви¬
деть чудовищ, между тем нацисты в бытовом смысле были впол¬
не обычными людьми, и нужно научиться распознавать нацист¬
скую идеологию и практику в обычных житейских формах».
Создателям фильма «Это случилось здесь» удалось показать
обыденность и реальность нацизма. Но в ряде сцен — и там,
где они излагают взгляды нацистов, и там, где они показывают
жестокость обеих воюющих сторон, — их объективность перехо¬
дит в объективизм, а картина лишается точной и ясной полити¬
ческой позиции.
Какое же значение имеет в фильме фантастический элемент?
Он выступает как очуждающий момент в эстетической струк¬
туре картины. От того что этого вторжения в Британию не бы¬
ло (но если бы было, то именно так все и случилось бы), осо¬
бенно резко выявляются и механизмы нацизма и социальная
предрасположенность к нему определенных групп и классов.
В этом сила фильма. В этом закономерность применения его
авторами фантастической посылки.
Опыт Браунлоу и Молло имел прямое влияние на других
художников. Его( в частности, с успехом развил их тогдашний ас¬
систент на фильме Питер Уоткинс.
В картинах Уоткинса «Военная игра» и «Парк наказаний»
в орбиту документализма включается уже сам способ съемки.
Оба фильма сделаны как телерепортаж.
«Военная игра» — фантастический репортаж о последствиях
атомной бомбардировки, куда включены портреты жертв Хи¬
росимы, кинокадры различных военных разрушений. Но глав¬
ное— сами традиционные, подчеркнуто рутинные приемы ре¬
портажа, как во время передачи новостей или спортивного мат¬
ча, создают ощущение абсолютной достоверности и сиюминут¬
ности только что произошедшей катастрофы, последствия ко¬
торой вот сейчас нам показывает телекомментатор. Традиции
Орсона Уэллса, его передачи «Война миров» здесь несомненны.
Еще более резко подчеркнута документальность, репортаж-
ность в фильме «Парк наказаний». Снова США, в которых прои¬
зошел полицейский переворот. Молодым людям-бунтарям вы¬
носится приговор: либо пожизненное заключение, либо бег че¬
рез пустыню: тем, кто ускользнет от погони полицейских и
достигнет указанного пункта, даруется жизнь и свобода.
193
«Парк наказаний». Как буд¬
то хроника студенческих
волнений.
Полицейские расправляют¬
ся с бунтарями
Здесь все как будто выхвачено из жизни глазом телекаме¬
ры: молодые люди в джинсах и куртках со значками, присяж¬
ные заседатели — ординарные американские обыватели, скуч¬
ные, благонамеренные и сейчас раздраженные непонятным вы¬
зывающим поведением длинноволосых юнцов, полицейские в
защитных шлемах, вооруженные до зубов. Потом само наказа¬
ние: юноши и девушки, бегущие по раскаленному песку пусты¬
ни, обливающиеся потом, задыхающиеся, ползущие, когда нет
сил бежать. И полиция, стреляющая в упор, когда они достигли
уже спасительного пункта. И здесь, во время этого неожидан¬
ного финала передачи, изображение дрожит, прерывается —
это полицейские закрывают руками объективы, угрожают теле¬
репортерам, пытаются вырвать камеры, — все снято с жуткой
достоверностью, сводящей к минимуму фантастичность исход¬
ной ситуации.
«У нас это невозможно» — так иронически назвал Синклер
Льюис свою фантазию об установлении фашистской диктатуры
в США. В фильме Уоткинса «невозможное» — лишь надежда.
Хрупкая перегородка, отделяющая призрачное настоящее от
реального будущего. И достигается этот эффект за счет типаж-
ности персонажей, взятых с ежедневного телеэкрана, за счет
привычности, даже рутинности способов изображения невероят¬
ного.
Так, в политическом фильме осуществляется, казалось бы,
парадоксальный сплав фантастического и документального.
Впрочем, кинематограф порой демонстративно отказывается
от возможностей, которые предлагает ему в области полити¬
ческого фильма литература. В самом деле, роман Мерля «Ра¬
зумное животное» о дельфинах, которые научились говорить и
стали объектом интереса разведки, затем важным военным ору¬
жием, средством доставки мин, а потом вместе со своим учи-
телем-профессором — источником утечки информации и по¬
тенциальной опасностью для «ястребов» в военных кругах, мог
бы стать чисто приключенческим произведением. Но Мерль
создал произведение политическое и философское одновремен¬
но, посвященное проблемам взаимоотношения человека и жи¬
вотного, долга ученого перед обществом, беспомощности по¬
литических деятелей перед логикой экстремизма, вовлекающе¬
го их в политический кризис, и т. д.
Однако известный режиссер Майк Николс (постановщик та¬
ких фильмов, как «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Выпускник»)
отбросил все эти проблемы и сделал самую дорогую детскую
картину стоимостью в 8150 тысяч долларов под названием
«День дельфина».
195
По мнению известного кинообозревателя журнала «Йоркер»
Паулины Кейл, этот фильм спекулирует на деле Уотергейт, на
политических покушениях и стремится вызвать в нас ощущение,
что люди слишком еще плохи, чтобы общаться с дельфинами.
И этот фильм, слишком примитивный для юношества, разбивает
детские сердца, заставпяя дельфинов навсегда распрощаться с
их любимым «па» (тренировавшим их профессором). Ничего
иного, кроме этой сентиментальной приключенческой истории,
фильм не несет и, по мнению критика, если Майк Николс и
его сценарист Бак Генри не имеют ничего лучшего для филь¬
ма, чем историю о дельфинах, говорящих по-английски и заме¬
шанных в политические покушения, то почему бы им не пере¬
стать ставить фильмы вообще? Характерно, что в фильме, где
режиссера не очень волнуют политические проблемы романа,
он и не задается целью документировать рассказываемую исто¬
рию. Он создает кинозрелище — эффектное и сентименталь¬
ное, — важно исторгнуть слезы, а не заставить поверить.
Впрочем, отказ от документа в политической фантастике воз¬
никает еще и в другом случае, когда автор нарочито вывора¬
чивает наизнанку известные факты, пользуется логикой абсур¬
да, создавая сатирическую фантастику или фантастический гро¬
теск. Так, например, поступает Жан Янн в фильме «Китайцы в
Париже».
На первый взгляд, «Китайцы в Париже» повторяют сюжет
фильма Кэвина Браунлоу «Это случилось здесь». Но «Китайцы
в Париже» — откровенный фарс. Жанр избран не случайно —
это фильм, который издевается над всем и вся.
Над французским президентом. Во время вторжения китай¬
цев он готовится к речи перед телезрителями, как престарелая
кокотка красит веки, накладывает грим, читает речь из сплош¬
ных штампов, которые пишут мелом на черной доске, подни¬
маемой за камерой. И едва закончив последнюю фразу, эта
марионетка с обвисшими щеками, призвавшая всех «оставаться
на своих местах и сражаться до конца», кидается в свой лиму¬
зин, оказывается на аэродроме и, уже никого не стесняясь,
взбегает по трапу, а за ним, отпихивая друг друга, бежит свита,
охрана, цепляются за поручни полицейские, — все улетают.
Над рядовыми французами. На автомобильной стоянке они,
только что услышав призыв биться до конца, лупят друг друга
заводными ручками, ключами — только бы вырваться на дорогу.
И спокойно въезжающие в Париж китайцы бросают розы на
трупы французов, плавающие в крови.
Над капиталистами и мелкими предпринимателями. Босс,
видя китайцев, обнимает секретаршу — не надо смотреть — и
196
валит ее на пол, а владелец порномагазина уже вывешивает
объявление: «Скидка 30 процентов для солдат дружественных
армий».
Над прессой и властями. Все они спешат засвидетельствовать
оккупантам свою преданность и готовность сотрудничать.
Над армией. Генералы в парашютной маскировочной форме
безуспешно ищут ключ от сейфа, в котором лежит мобилиза¬
ционный план. Пока вошедший китайский генерал — он-то все
знает — не вынимает ящик стола и не достает прилипший к
задней доске пропавший ключ.
Над Сопротивлением. Оказывается, его деятели только спо¬
рят и болтают о борьбе, но проявляют чудеса храбрости, когда
китайцы оставляют Париж, живописно с автоматами в руках пе¬
ребегают от дома к дому, хотя на пустых улицах врага уже
нет.
Над деятелями искусства, которые ставят оперу «Карменг»
в честь китайских солдат, где Карменг, бросившая капитана на¬
родной армии и влюбившаяся в американского офицера, осуж¬
дается и перевоспитывается.
Над спортсменами и рабочими. Они устраивают праздник на
площади в честь победителей, но французский бумажный дра¬
кон не столь организован, как китайский, его команда передра¬
лась между собой, и дракон разваливается, как, впрочем, и
весь праздник.
Не было героев и не было предателей — утверждает фильм.
Все мы замараны одинаково во время оккупации. Таковы мы,
французы, — трусливые, слабые, готовые облизывать любого
победителя, пресмыкаться перед ним и изображать героев,
когда нет никакой опасности. Позиция удобная. Ведь если все
одинаково виновны, то, собственно говоря, виноватых и нет,
и можно перечеркнуть, забыть прошлое, посмеяться над яко¬
бы имевшими место различиями между коммунистами и кол¬
лаборационистами, петеновцами. Можно закрыть проблему.
Впрочем, было неверно сказать, что вся нация только об¬
виняется.
Здесь есть своеобразный шовинизм навыворот. Да, мы зило¬
ты при спартанцах современного мира, как бы говорит автор.
Но в нашей беспринципности наша сила. Наше разложение —
лучшее в мире. Мы пьянствуем, прелюбодействуем, обжираем¬
ся, проституируем, но наш могучий цинизм может расколоть
самую твердокаменную идеологию, самую мощную и монолит¬
ную армию. И вот уже сами китайцы, полуспившиеся, истощен¬
ные кутежами, спешно покидают Париж. Бросив всю технику,
бредут пешком по дороге. «Далеко ли до Пекина?» — безнадеж¬
197
но спрашивает один. «Девять тысяч триста километров»,— груст¬
но отвечает другой. Китайцы ушли, сгинули, а мы, закаленные
в пьянстве и разврате, спокойно продолжаем свою развеселую
жизнь. Мы вольны делать, что хотим, и никто нас с этого не
собьет, и не навязывайте нам вашу дисциплину, сознательность
и идеологию.
И над всей разложившейся, погрязшей в кутежах нацией
возникает веселая и зловещая фигура вечного комбинатора —
трансформация бессмертного создания Фредерика Леметра.
Это он, живучий и непобедимый, зарабатывает первый миллион
на порнотоварах, третий — на рикшах в Париже. Это ему, чья
жажда стяжательства не знает границ и национальных предрас¬
судков, приходит в голову счастливая идея поставить «Карменг»
в «Гранд-Опера» и бросить парижских девочек в стройные ко¬
лонны китайских солдат.
И частичка его — конформиста, комбинатора, бизнесмена,
пройдохи, по мнению автора, живет в каждом французе.
Таковы идеи этого не бесталанного и откровенно циничного
в своей концепции истории и характера французского народа
фарса.
Панорама современной кинофантастики чрезвычайно пестра
как в смысле тем, материала, так и в отношении жанровых
решений. Однако некоторые тенденции ее развития очевидны.
Во-первых, фантастика перестала отождествляться с комиксом,
приключенческим фильмом, фильмом ужасов и в немногих слу¬
чаях притчей. Она становится важной частью серьезного про¬
блемного кинематографа. Фантастика теряет свою обособлен¬
ность и превращается в способ рассмотрения явлений, в способ
художественного мышления, развитие которого обусловлено
самой меняющейся действительностью. Причем этот способ рас¬
смотрения действительности реализуется в разных жанрах —
от бытовой комедии, психологической драмы до сатирического
гротеска.
Достоевский оставил в высшей степени интересное сравне¬
ние Эдгара По и Гофмана: «Эдгар По только допускает внеш¬
нюю возможность неестественного события (доказывая, впро¬
чем, его возможность и иногда даже чрезвычайно хитро) и,
допустив это событие, во всем остальном совершенно верен
действительности. Не такова фантастичность, например, у Гофма¬
на. Этот олицетворяет силы природы в образах: вводит в свои
рассказы волшебниц, духов и даже иногда ищет свой идеал вне
земного, в каком-то необыкновенном мире, принимая этот мир
198
за высший, как будто сам верит в непременное существование
этого таинственного волшебного мира...»70.
Намечая разделительную границу между По и Гофманом
писатель в сущности предугадывает будущее деление фантасти¬
ки на Science Fiction и Fantasy. Но применительно к нашей те¬
ме о способах и смысле претворения фантастического это срав¬
нение также не лишено ценности. Конечно, в современной ки¬
нофантастике художник, который «верит в непременное сущест¬
вование этого таинственного волшебного мира», не обязательно
вводит в реальность духов и привидения; таинственное, сверхъ¬
естественное, может быть разлито в самой действительности,
как у Полянскогог но при всем том существует несомненная
корреляция между задачей художника, его пониманием при¬
роды фантастики и способом претворения фантастического в
произведении.
Здесь явно различимы два основных пути. Фантастика как
прием для открытия глубинных закономерностей самой жизни,
обычно рождает произведения, «совершенно верные дей¬
ствительности», где автор как бы играет элементами реально¬
сти, ставя их в неожиданные соотношения, странные сочетания,
обусловленные наличием фантастической посылки. И фантасти¬
ка, которая видит цель в самой себе, преследует задачу —
потрясти или позабавить зрителя, увлечь его зрелищем, — и
создает это зрелище, используя сложные конструкции, применяя
постановочные эффекты, комбинированные съемки стремится к
созданию мира, резко отличного от обыденной реальности или
внеположного ей.
С одной стороны — антиутопия, политическая и социальная
фантастика. С другой — фильмы о чудовищах и суперменах,
описание грядущих технических чудес, полетов в другие миры,
роботов и т. п.
Таким образом, способ здесь связан с задачей художника:
показать ли фантастическое как достоверное, даже обыден¬
ное, или, наоборот, подчеркнуть его невероятность, экзо¬
тичность. Как заметил Тарковский: можно показать прилуне¬
ние как остановку трамвая и, наоборот, остановку трамвая как
прилунение.
Меняется и функция характера в фантастическом фильме.
Из рупора и объекта приложения идей, из одномерного персо¬
нажа комиксов и приключенческого фильма он превращается
в суверенного героя. Человек, его нравственная природа,
структура его личности становятся в ряде картин центральным
объектом исследования. Ибо от решений и поступков человека
зависит в конечном счете мир будущего.
Предупреждение из будущего
Вот уже на протяжении 300 лет
над западным обществом бу¬
шует ураганный ветер перемен.
Этот ураган не только не стиха¬
ет, но, кажется, только сейчас
набирает силу.
Олвнн Тоффлер, «Столкнове¬
ние с будущим»
Научная фантастика является, пожалуй, одним из самых
«разговорных», открыто идеологизированных жанров кинемато¬
графа. Это не относится, конечно, к произведениям, где фан¬
тастическое просто маскирует обычную детективно-приключен-
ческую схему, к «космической опере» и фильмам о чудови¬
щах. Речь идет, прежде всего, о картинах, посвященных буду¬
щему, пытающихся представить политический, социальный, куль¬
турный «облик грядущего», экстраполирующих в будущее чер¬
ты настоящего. В «Метрополисе», «Альфавиле», в «451° по Фа¬
ренгейту» или в «Планете обезьян», в фильме «Зардоз» или
в картине «Семь дней в мае» герои и авторы беспрерывно го¬
ворят, наперебой высказывают свои соображения о взаимоот¬
ношениях личности и государства, о путях истории, сравнивают
прошлое (реальное настоящее) и их настоящее (предугадывае¬
мое будущее). Почти в каждом фильме есть центральная сце¬
на, где сталкиваются главные оппоненты, прямо формулирую¬
щие свои позиции и суть конфликта. (В этом смысле научная
фантастика — и очень ясный в своих идейных посылках матери¬
ал и порой не очень интересный для критика; писатель сам
берет на себя его работу, формулируя идею, тему произве¬
дения.)
Именно в силу чрезвычайной публицистичности этого ряда
произведений научной фантастики, определяющей их художест¬
201
венную структуру, понять их можно, только глубоко исследовав
круг идей, внутри которого они возникли. А идеи эти прямо
определяются литературными произведениями, лежащими в их
основе, и шире — концепциями, развиваемыми в современной
утопии и антиутопии.
Связь: кинематограф — литература — социология — филосо¬
фия в этом наиболее серьезном направлении научной фантас¬
тики очевидна и нерасторжима.
Хотя термин «утопия» (от греческого «у»— нет и «топос»—
место, то есть несуществующее место, в другом варианте —
«Ев»— прекрасный и «топос»— место, то есть прекрасная, со¬
вершенная страна) появился впервые в XVI веке в книге То¬
маса Мора «Золотая книга столь же полезная, как забав¬
ная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове
Утопии», утопические произведения, утопическое сознание или
мечта об идеальном общественном устройстве появились ты¬
сячелетиями раньше.
Фантастическое представление об идеальном царстве—стра¬
на феакийцев, остров Схерия — появляется у Гомера в «Одис¬
сее». Любопытно, что почти с самого начала утопия избирает ме¬
стожительством уединенный остров, жители которого сознатель¬
но изолировали себя от всего мира, создали идеальный строй,
живут просто, счастливо и разумно под управлением царя Алки-
ноя. Проекты идеального общественного устройства развивает
в IV веке до нашей эры Платон. В его «Государстве» и « За¬
конах» выразилась и обычная причина создания утопии: разо¬
чарование в существующем строе (афинской демократии, вы¬
явившей к этому времени свою историческую непрочность) и
мечта об идеальном общественном устройстве (в данном слу¬
чае о сильном, стабильном государстве, всецело подчиняющем
себе отдельную личность, построенном во многом по образцу
Спарты).
Особенности утопии, определившиеся у Платона, сохранились
в основных чертах и у Мора, и в «Городе Солнца» Кампанел-
лы, и в «Вестях ниоткуда» Морриса.
Содержание утопии менялось на протяжении веков, она
выражала интересы самых различных слоев и классов, как пра¬
вило, оппозиционных к существующему порядку. Утопия ан¬
тичности и средневековья в поисках идеала обращалась к прош¬
лому или конструировала идеальное общество в вымышленной
стране. Это было естественным. В Египте и античной Греции
202
понятие времени еще не соединялось с идеей социальной эво¬
люции. Нужен был опыт ломки старых представлений о мире,
опыт смены исторических формаций, чтобы прийти к идее бу¬
дущего, которое может резко отличаться от настоящего.
Девятнадцатый век и произведения утопического социализ¬
ма приносят резкое усиление прогностической функции уто¬
пии. Ее царство из неоткрытых территорий переносится во вре¬
мя, которое должно наступить. Оценивая роль утопического
социализма, Энгельс писал: «...немецкий теоретический социа¬
лизм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона,
Фурье и Оуэна — трех мыслителей, которые, несмотря на всю
фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к ве¬
личайшим умам всех времен и которые гениально предвосхи¬
тили бесчисленное множество таких истин, правильность кото¬
рых мы доказываем теперь научно..»71.
Что внес в утопию XX век? Прежде всего чрезвычайно рез¬
кое увеличение количества утопических произведений. По су¬
ществу, большая часть современной научной фантастики пытает¬
ся предугадать будущее. Будущее стало реальной силой, ко¬
торая вторгается в нашу жизнь и требует ответных реакций
и решений. Естественно, что социология и фантастика пытаются
угадать смысл, тенденцию и результаты надвигающихся пе¬
ремен.
Вторая и наиболее важная черта утопической литературы —
неуклонное смещение центра тяжести с утопии на антиутопию.
Видения мрачного будущего все более решительно вытесняют
в социологии и научной фантастике картины грядущего счаст¬
ливого мира.
Известный советский философ Э. Араб-оглы в обстоятельной
статье «В утопическом антимире»72 приводит красноречивый
список трудов, посвященных развитию утопии и антиутопии на
Западе. Сами названия этих работ свидетельствуют о состоя¬
нии жанра: Ф. J1. Баумер — «Апокалиптика XX столетия», Кингсли
Эмис — «Новые карты ада», Ч. Льюис—«Последняя ночь мира»,
Ч. Уолш — «От утопии к кошмару», М.-Р. Хиллегас — «Будущее
как кошмар».
Характерна и та эволюция, которую претерпевают многие
крупные социологи и писатели во взглядах на перспективы раз¬
вития цивилизации и соответственно на утопию и антиутопию.
Олдос Хаксли написал свой знаменитый антиутопический роман
«Прекрасный новый мир» в 1932 году. Картина регламентиро¬
ванного, стандартизированного мира предстает в этом романе
лишь как возможность. В книге «Обезьяна и сущность», напи¬
санной уже после второй мировой войны, он показывает нашу
203
планету после двухтысячного года. Земля, пережившая ужасы
термоядерной войны, разрушенная цивилизация, деградировав¬
шие одичавшие люди, которые используют книги как топливо и
водят на веревочках своих Эйнштейнов.
Можно привести ряд примеров эволюции писателей и фи¬
лософов современного Запада от веры в прогресс, от надежд
на мощь науки и грядущее социальное переустройство к разо¬
чарованию в техническом прогрессе, который, по их мнению,
на место грубых средств принуждения ставит более тонкие и
эффективные, который вместо царства свободы приводит чело¬
века в машинную пустыню и в конце концов похоронит челове¬
чество в общей термоядерной могиле.
Но в чем же причина этого разочарования в утопии и рас¬
цвета антиутопии?
Уже на грани XIX—XX веков в творчестве такого крупного
писателя, как Уэллс, надолго определившего круг тем и на¬
правлений научной фантастики, появляются произведения, экст¬
раполирующие в будущее противоречия буржуазной цивили¬
зации.
Не случайно критика уже в первые десятилетия нашего ве¬
ка отмечала, что социальная фантастика Уэллса со знаком «—»,
а не со знаком « + », что своими социально-фантастическими
романами он пользуется исключительно для того, чтобы вскрыть
дефекты существующего социального строя, а не затем, чтобы
создать картину некоего грядущего рая. И в «Машине време¬
ни», и в «Войне в воздухе», и в «Войне миров», и в «Пер¬
вых людях на Луне» поражают «мрачные краски Гойи».
За три года до прихода Гитлера к власти Уэллс написал ан¬
тиутопию «Самовластье мистера Парема»— историю взбесив¬
шегося мещанина, ничтожества, ставшего диктатором. Таким
образом, развивая мотивы антиутопии на протяжении почти
полувека, Уэллс никогда не оказывался в стане реакции, никог¬
да его произведения не были направлены против социальных
перемен, а рисовали угрожающие последствия болезней капи¬
талистического общества.
Но еще до Уэллса англичанин Батлер в романе «Еревон»
(1872) показал страну, где запрещены все механизмы. Жители
Еревона поняли, что машина несет человеку страшные беды.
По мнению же Бульвер-Литтона, в романе «Грядущая раса»
(1871) материальная жизнь станет лучше благодаря техническо¬
му прогрессу, но искусство погибнет.
Противоречия технического прогресса в условиях капитали¬
стического общества, как подземные толчки, все явственнее
ощущаются в произведениях наиболее чутких писателей: англи¬
204
чанина Э. М. Форстера—«Машина останавливается» (1909), нем¬
ца М. Конрада—«В пурпурной тьме», русского писателя Н. Фе¬
дорова— «Вечер в 2217 году» (1906). В последней повести по¬
казано царство изобилия, где люди разбиты на сотни и тысячи.
Право продолжать потомство имеют только избранные. Истин¬
ное чувство обречено на гибель.
Антиутопия XIX века и вплоть до первой мировой войны
была связана с тревожными предощущениями путей развития
буржуазной цивилизации, но не выступала против социальных
перемен.
Поэтому реакционность, свойственную многим антиутопиям
XX века, нельзя рассматривать как непременное качество анти¬
утопий вообще. Искусство всегда рисовало как желательные,
так и нежелательные варианты развития общества. Достаточно
вспомнить Свифта. В сущности, что как не сатирическая анти¬
утопия «Путешествия Гулливера»?
Возвращаясь в XX век и помня, что он не явил собой мо¬
нополию на антиутопию, а лишь многократно увеличил ее
удельный вес, посмотрим, каковы же здесь, в нашем времени,
мотивы и питательная почва для расцвета антиутопий.
В самой краткой схематической форме можно обозначить
следующие обстоятельства.
Две мировые войны с невиданным «прогрессом» в количест¬
ве жертв—10 миллионов в первой, 55 миллионов во второй —
и в эффективности средств уничтожения.
Геноцид и лагеря смерти. Теории фашизма, в конце кон¬
цов, были не так уж новы. Пугающе неожиданной оказалась
легкость, с которой они перешли в практику, обрели много¬
численных исполнителей. Как писал Эренбург, в годы войны
«тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом ис¬
пытании отказали».
Если мировые войны и Хиросима положили начало много¬
численным произведениям, изображающим будущую тоталь¬
ную военную катастрофу, то опыт фашизма стал поводом для
произведений, скептически оценивающих способность чело¬
века сопротивляться тотальному насилию, рисующих ужасные
последствия его беспрекословного подчинения тирании. В боль¬
шинстве этих книг разрыв между техническим прогрессом и
нравственным рассматривался не в конкретно-историческом
контексте, а как результат извечного несовершенства челове¬
ческой природы.
Содержанием многих антиутопических произведений послед¬
них лет стали нежелательные последствия научно-технической
революции: уничтожение естественной среды и кризис инфор¬
205
мации, демографический взрыв и призрак бунта думающих
машин, создание способов управления сознанием и новые сред¬
ства массового уничтожения.
Несомненно, в основе ряда антиутопий лежит страх перед
социальной революцией, перед неизбежным коммунистическим
будущим. Он ясно слышится в словах русского религиозного
философа Бердяева, которые Олдос Хаксли использовал в ка¬
честве эпиграфа к «Прекрасному новому миру»: «...утопии мо¬
гут быть реализованы. Жизнь идет к утопии. И возможно, на¬
чинается новый век, в который интеллигенция и образованные
классы будут мечтать как избежать утопии, о возвращении к
обществу не утопическому, менее совершенному, но более сво¬
бодному». Слова эти могут быть предпосланы ряду антиуто¬
пий XX века.
Таким образом, мотивы антиутопий далеко не однозначны,
и каждый раз они требуют дифференцированного подхода.
Чтобы правильно оценить антиутопию, понять ее общественную
роль, нужно прежде всего определить, что она утверждает и
против чего борется, какие социальные идеи ее вдохновляют.
Вплоть до самых последних лет кинематограф шел за ли¬
тературой в области научной фантастики, причем шел со зна¬
чительным отставанием.
Прежде всего — в силу своей молодости. Когда в литера¬
туре уже оставался позади Жюль Верн и в полную мощь
работал Уэллс, создавая пророческую социальную фантастику,
кинематограф еще переживал период наивного увлечения науч¬
ными и кинематографическими чудесами.
Кроме того, кинематограф — искусство массовое — охотнее
обращался к приключенческой фантастике, к борьбе с чудови¬
щами, к космическим похождениям суперменов, чем к попытке
анализа социальных противоречий и их экстраполяции в буду¬
щее. Научная фантастика приходила на экран в ее наименее
научной части, облегчалась, приспосабливалась ко вкусам мас¬
сового зрителя. Попытки же создания утопий и антиутопий на
экране были единичны. До конца 50-х годов кинематограф не
шел дальше идей Уэллса, причем перенесенных на экран в
достаточно упрощенном виде. Тем более интересны все по¬
пытки в этом направлении.
«Метрополис» был первой социальной антиутопией, создан¬
ной в кинематографе, и одним из самых дорогих постановоч¬
ных фильмов 20-х годов. С Яим студия УФА собиралась завое¬
206
вать мировой кинорынок и не пожалела на фильм четыре мил¬
лиона марок — огромные по тому времени постановочные рас¬
ходы. Фриц Ланг отснял 60 тысяч метров материала, из которо¬
го была смонтирована картина, длившаяся два с лишним часа,
но это колоссальное зрелище не оправдало надежд ни прокат¬
чиков, ни публики. Несмотря на великолепные, впечатляющие
постановочные эффекты, картина казалась скучной для рядово¬
го зрителя и была недостаточно концептуальной для зрителя
интеллигентного. Уэллс назвал «Метрополис» самым идиотским
фильмом в мире. Основные обвинения предъявлялись сцена¬
ристу— жене Фрица Ланга, Tea фон Гарбоу. Сценарий упрекали
в эклектичности, в том, что в нем собраны самые разные и
несоединимые темы и ни одна не разрешена логично.
Все сие справедливо, и можно присовокупить к этому и пре¬
краснодушие призыва к классовому миру и розовый финал,
где рабочий и капиталист пожимают друг другу руки: «голо¬
ва» (капиталист) и «руки» (рабочий) объединяются в счастли¬
вой гармонии через «сердце» (счастливую любовь).
При всем том «Метрополис» чрезвычайно интересен для
анализа и в идейном и в эстетическом плане. И здесь эклек¬
тичность, несамостоятельность его сценария выступает как свое¬
образное достоинство для исследователя, ибо сценарий «Мет-
рополиса» собирает расхожие идеи социальной фантастики
своего времени, а гений Фрица Ланга дает им такие мощные
изобразительные решения, которые опередили время и надолго
сделали «Метрополис» хрестоматией для каждого режиссера,
приступающего к съемкам фантастики. И если социальные прог¬
нозы Tea фон Гарбоу кажутся сегодня наивными, имеющими
лишь исторический интерес, то эстетические провидения Ланга
не потеряли своего значения.
«Мы живем в мире материальных достижений, небывалого
развития науки. Но что происходит с нашими сердцами и нашим
разумом? Будет ли наше будущее таким, как в этом фантас¬
тическом городе?»—таким титром открывается фильм. И на
экране идут колонны рабочих с низко опущенными головами,
в одинаковых черных одеждах, одна колонна навстречу дру¬
гой— со смены и на смену по подземному тоннелю — живые
роботы индустриального мира.
Этот образ рабочих колонн вызывает в памяти «Прогулку
заключенных» Ван Гога (то же ощущение бесконечного зам¬
кнутого движения) и графически острые, объединенные рит¬
мом толпы Кете Кольвиц. Мотивы экспрессионизма сразу да¬
ют себя знать в фильме, но этим не исчерпываются его изоб¬
разительные решения.
207
Муравьи подземного города, дающего жизнь Метрополису,
показываются в глухих коридорах, в герметических лифтах, они
поднимаются к своим рабочим местам, обезличенные, стертые.
И зона, где живет сын хозяина Метрополиса, Эрик,— роскош¬
ный сад, павлины, фонтаны, прихотливое убранство в восточном
стиле (образ, который затем будет развит Феллини в «Джульет¬
те и духах») — текучие, мягкие линии, лишенные тех жестких
геометрических контуров, в которых показана рабочая зона
Метрополиса. В сад случайно заходят на экскурсию дети рабо-
чихюбодранные, худые, испуганные ребятишки жмутся к ногам
учительницы, тараща глаза на невиданные растения и фонтаны,
а учительница, указывая на девиц и юношей, резвящихся в са¬
ду, говорит: «Смотрите, дети, это ваши братья!» Иронический
и горький титр (картина была еще немой) сразу определяет
основной конфликт и основных противников в обществе буду¬
щего, как его представляют авторы фильма. А представляют
они его, как и большинство фантастов, просто укрупненным и
доведенным до предела в своих социальных тенденциях настоя¬
щим, увиденным на уровне предкризисного общества конца
20-х годов, в поляризации богатства и нищеты. Правящий класс,
утопающий в роскоши, и превращенные в подземных кротов
рабочие — Элои и Морлоки из «Машины времени» Уэллса.
Влияние Уэллса, его «Машины времени» и образа города
будущего в романе «Когда спящий проснется», с его много¬
ярусными кварталами мегаполиса, с летательными аппаратами,
парящими над крышами домов, ощущается в изобразительном
строе этого фильма. И не только в принципе разделения анта¬
гонистических классов, живущих на земле и под землей, но и
в самом облике Метрополиса — многоступенчатые дома-ци-
линдры, пересекающиеся надземные дороги, пульсирующий
свет, улицы-ущелья. Размах и фантастичность этой удивительной
декорации поражают и сегодня, сорок с лишним лет спустя,
и напоминают самые дерзкие современные проекты городов
будущего. Здесь Фриц Ланг оказался провидцем,— конечно,
облик этого города был навеян не только литературными опи¬
саниями и кинематографическими ассоциациями, но и контура¬
ми Нью-Йорка 20-х годов, проектами городов будущего, созда¬
ваемых в эти годы архитекторами-футуристами. Точно так же
американизмом в промышленности, американскими темпами в
индустрии были навеяны сцены работы в Метрополисе.
Вместе с героем фильма, впервые узнавшим, что в Метро-
полисе есть еще что-то, кроме садов и фонтанов, зритель по¬
падает в энергетический цех, где рабочие торопливо переходят
от одной машины к другой, опуская и поднимая рычаги, в бе¬
208
шеном темпе, ни на секунду не останавливаясь. Американские
методы тейлоризации, конвейерной потогонной системы, выжи¬
мающей из рабочего все, нашли свой пластический образ в ра¬
бочем, как бы распятом на огромном циферблате — Христе
индустриальной эры,— мучительно трудно переводящем огром¬
ные стрелки, пока его обессилевшее тело не обвисает на ци¬
ферблате. Уровень жидкости в какой-то колбе — рабочий ви¬
дит это — неумолимо поднимается за критическую черту, и
взрыв сметает все живое.
Ланг не боится прямых ассоциаций. И глазам героя уже ви¬
дится не сложное сооружение в переплетении шкивов, ремней,
в мешанине резервуаров и прессов, а пасть Молоха на ступен¬
чатом возвышении, дымящиеся светильники по бокам и связан¬
ные рабы с покорно опущенными головами поднимаются к ог¬
ромному жадному рту. В таких мифических образах еще
представала индустрия перед художниками первых десятиле¬
тий века. Стоит вспомнить, что образ Молоха появляется у
Горького и Куприна — технический прогресс, индустриальный
механизм воспринимаются уже как обретшее самостоятельную
жизнь жадное и беспощадное чудовище. Но развитие техники
в будущем представляется прежде всего в количественном
увеличении этажей зданий, размеров машин, темпов работы,
еще большей поляризации богатства и бедности. Да и как ина¬
че можно было бы представить это будущее в Веймарской
республике с ее нуворишами, разбогатевшими на послевоенной
инфляции, и отчаянной нищетой мелкого люда.
Конечно, и Tea фон Гарбоу и Лангу, как и другим их совре¬
менникам, несравненно более дальновидным, очень сложно
было угадать черты «общества потребления», особенности ко¬
торого охарактеризовал идеолог «новых левых» неофрейдист
Маркузе: «Если рабочий и босс получают удовольствие от одной
и той же телевизионной программы и отдыхают на одном и
том же курорте, если машинистка наряжается так же, как дочь
ее хозяина, если у негра есть собственный кадиллак, и если
все они читают одну и ту же газету, то такое взаимное упо¬
добление свидетельствует не об уничтожении классов, а лишь
о том, насколько потребности и средства их удовлетворения,
которые служат упрочению и сохранению существующего по¬
рядка, стали достоянием, присущим всем слоям управляемого
общества. ...Однако повышение жизненного уровня и общего
благосостояния сопровождается все более усиливающимся
подавлением личности, все более универсальным подчинением
отдельного человека интересам, идеологии и предрассудкам
господствующего общественного порядка»73.
209
Конечно, Маркузе рисует здесь превратную картину всеоб¬
щего материального благосостояния, — достаточно обратиться к
ежедневной буржуазной прессе, чтобы убедиться в том, на¬
сколько остро стоят экономические проблемы перед трудящи¬
мися на Западе. Но нельзя не согласиться с его утверждением
относительно усиливающегося подавления личности в «общест¬
ве потребления».
Только через сорок лет Франсуа Трюффо в фильме «451° по
Фаренгейту» по книге Рея Бредбери сумел показать буднич¬
ный ужас мира потребления с аккуратными коттеджами, авто¬
машинами и обязательной телевизионной антенной над кры¬
шей. Цивилизации, которая высасывает и опустошает человека,
заставляя его потреблять, вернее и страшнее, чем самая интен¬
сивная физическая эксплуатация.
Фриц Ланг создает величественную фантазию Вавилонской
башни будущего с рабочими казармами в самых нижних яру¬
сах под землей, паровыми машинами, электрическими систе¬
мами над рабочим жильем, а наверху с гигантскими паралле¬
лепипедами, кубами небоскребов, залитых электрическим све¬
том. Образ Вавилонской башни реализуется не только как изоб¬
разительная метафор а, его использует в своей проповеди бед¬
ная учительница перед рабочими в катакомбах Метрополиса.
Озабоченный поведением сына и известием о том, что среди
рабочих в катакомбах происходят какие-то тайные сборища,
Хозяин города отправляется к своему главному советнику,
ученому, живущему в таинственном уединении,— его играет
исполнитель доктора Мабузе — Кляйн-Рогге. Ученый и безумец,
чернокнижник и злодей — в сочетании этих определений рожда¬
ется образ Ротванга, подводивший итоги определенной традиции
немецкого экспрессионизма и в свою очередь открывший гале¬
рею сумасшедших ученых американского кино. Ротванг де¬
монстрирует Хозяину искусственную женщину. И вместе с Хо¬
зяином решает придать ей черты учительницы Мери, чтобы
она обманула рабочих и излечила влюбленного в Мери сына
Хозяина. Так возникают еще две основополагающие для фан¬
тастического кино темы — тема двойника и тема искусст¬
венного человека, робота. Обе они также пришли из немец¬
кого экспрессионизма, обе имели традиции в литературной
фантастике и большую экранную судьбу в дальнейшем. Об этом
стоит упомянуть еще раз только для того, чтобы показать
энциклопедичность «Метрополиса», вобравшего в себя все
излюбленные мотивы и образы будущей кинофантастики.
Классическим эпизодом из фильма ужасов выглядит сцена
погони за Мери в подземельях Метрополиса. Она мечется в
210
темных коридорах, а за ней неумолимо ползет луч света, ослеп¬
ляя, пригвождая к стене, выхватывая из темноты то скелет,
прикованный к камню, то череп. Луч света загоняет ее в дом
Ротванга, и он идет к ней, гипнотизируя безумными мабузев-
скими глазами, тянется костлявыми руками, а она кричит, цеп¬
ляясь за решетку; старая схема—чудовище и девушка, пере¬
ходящая из одного фильма ужасов в другой,— оживает здесь
с той эмоциональной силой, на которую способен был только
фриц Ланг. Научная фантастика и фантастика иррационального
обнаруживают родство и связь в пределах одного фильма.
Но первооткрывательское значение «Метрополиса» этим не
исчерпывается. Герой фильма Эрик отправляется на поиски ис¬
чезнувшей девушки, чей крик он успел услышать. И опять-
таки, как это будет затем во многих фильмах о домах приви¬
дений или современных электронных крепостях, куда пробира¬
ется отчаянный разведчик,— самооткрывающиеся и закрываю¬
щиеся двери, пустые и угрожающие своей таинственной пусто¬
той комнаты.
Сцена оживления, вернее, удвоения Мери решена с таким
постановочным блеском, масштабом и изобретательностью, что
могла бы, кажется, украсить любой современный фантастиче¬
ский фильм, а оборудование лаборатории Ротванга вполне
годится для изображения подобных лабораторий в «Голдфин-
гере» или «Фантомасе». Безжизненная Мери в стеклянном
саркофаге, и в таком же, только стоячем футляре — кукла. Бес¬
численные провода, катушки трансформаторов, пульсирующий
свет, опоясывающие саркофаги электрические дуги. И постепен¬
но Мери начинает «проявляться» и оживать в кукле — сначала
в стуке сердца, затем, как в анатомическом атласе, проступают
кровеносная система, кости, а потом муляжное лицо преобра¬
жается, и вторая Мери сходит с пьедестала, разражаясь тор¬
жествующим, злым хохотом. Демон выпущен на волю и начи¬
нает действовать помимо желания своих хозяев — снова мотив,
который пройдет через всю фантастику. Вместо того чтобы при¬
вести рабочих к покорности, Мери разжигает бунт, и, охвачен¬
ная гневом, масса начинает крушить машины.
Ломаются станки, падают гигантские лифты, взрываются эле¬
ктрические агрегаты. Город погружается во тьму. Эти эпизоды
разгрома и тотального разрушения, где Ланг опять-таки высту¬
пает провидцем современных, апокалиптических картин, отража¬
ли страх немецких буржуа перед грядущими социальными
потрясениями.
В экстазе разрушения рабочие открывают шлюзы, и под¬
земная река вырывается, чтобы затопить их собственные
211
«Метрополис», Так в 1926
году представлялся Лангу
образ города будущего и
его конфликты
убогие жилища, убить их детей. Сцена потопа пророчески
сбылась в 1945 году, когда по приказу Гитлера воды Шпрее
были выпущены в метро, чтобы затопить укрывшихся там жи¬
телей Берлина. Но поставленные по следам реальных событий
эпизоды в фильме Пабста «Последнее действие» оказались блед¬
нее, чем кинофантазия Ланга. Может быть, секрет в том, что с
потоками бушующей воды он столкнул только детей. Как мыш¬
ки, бегут из подземных нор-трущоб подростки, несут на руках
и тащат за собой маленьких детей, а со всех сторон потоки
воды, и кажется, нет выхода...
Характерно, что даже хаос и катастрофа у Ланга упорядоче¬
ны и организованы. Нарочито живописные композиции, «балет¬
ные» жесты, ритмические повторы. В связи с более ранним
фильмом Ланга «Сага о Нибелунгах» Зигфрид Кракауэр писал:
«Абсолютная авторитарная власть утверждает себя, располагая
подвластных ей людей в виде приятного для глаз рисунка.
Это можно было видеть при нацистском режиме... «Триумф
воли», официальный нацистский фильм о Нюрнбергском гитле¬
ровском партийном съезде 1934 года, показывает, что в созда¬
нии массового орнамента из людей гитлеровские операторы
черпали вдохновение из фильма «Нибелунги»74. На первый
212
213
взгляд парадоксально, что Фриц Ланг, «услышавший» подзем¬
ные толчки духовного кризиса нации, открывший и разобла¬
чивший психологические комплексы и методы нацизма в «За¬
вещании доктора Мабузе» и сам эмигрировавший из Германии,
стал одним из творцов той орнаментальной ложной барочности,
которая стала официальной в третьем рейхе. Но такова слож¬
ная диалектика взаимоотношений художника с эпохой, притя¬
жений и отталкиваний, эстетических связей с искусством своего
времени, даже когда он находится с ним в резком идейном
столкновении.
Однако вернемся к фильму.
Двойники действуют одновременно. Истинная Мери спасает
детей, ведя их наверх, через вентиляционные люки. А лже-
Мери упивается разгромом и пленяет своими чарами элиту
Метрополиса, превращая гибель в карнавал, — как корреспон¬
дируются эти эпизоды со «Сладкой жизнью» и «Сатириконом»!
В финале фильма толпа, понявшая, что она стала жертвой
провокации и погубила своих детей, бросает лже-Мери в огонь,
из пламени еще долго несется ее дикий хохот, и сквозь дым
видно, как под человечьим обличьем проступает стальной кар¬
кас. А Эрик спасает Мери из рук Ротванга, в ожесточенной
схватке сбрасывает его с купола собора, и благодарный божест¬
венному милосердию Хозяин символически протягивает руку
представителю рабочего класса, которому отныне уготована
иная, счастливая судьба.
Конечно, этот идиллический финал сегодня вызывает лишь
ироническую улыбку. Но он не может зачеркнуть фильм. Ибо
наивность социальных рецептов и моральных проповедей, при¬
митивность любовных линий соединяются здесь и с поразитель¬
ными пророческими догадками, с интереснейшими эстети¬
ческими открытиями, которые мы узнаем в работах художни¬
ков 50—60-х годов.
Для кинофантастики «Метрополис» явился основополагаю¬
щей картиной не только потому, что открыл собой ряд социаль¬
ных киноутопий, но и потому, что развил мотивы и характеры,
ставшие затем типологическими в фантастическом кино.
После «Метрополиса» долгое время кино показывало от¬
дельные фантастические ситуации, невероятные открытия и
связанные с ними события, не решаясь воссоздать цельный мир
будущего. Эта попытка была снова сделана через десять лет
в фильме Камерона Мензиса по сценарию Уэллса, который так
и назывался «Облик грядущего».
В художественном смысле фильм не представляет собой
ничего примечательного. Он интересен как взгляд в будущее
214
из 30-х годов, как иллюстрация мыслей Уэллса о предстоящей
войне и человечестве после двухтысячного года, оказавшихся
в некоторых моментах на удивление верными и пророческими,
а часто наивными и далекими от реальности. Кое в чем сце¬
нарий Уэллса был навеян его старой книгой «Война в воздухе»
(1908), где, по мнению специалистов, он удивительно точно
предсказал особенности будущих воздушных боев первой ми¬
ровой войны. Действие фильма начинается с общей войны в
1940 году — угадано даже время — и заканчивается в 2036 году,
когда человечество посылает ракету к другим планетам,—
здесь Уэллс оказался слишком осторожен в своих предполо¬
жениях.
Фильм, в котором за два часа рассказывается история че¬
ловечества на протяжении целого века, естественно, не может
подробно останавливаться на индивидуальных судьбах,— как на
крупномасштабной карте, здесь очерчены лишь материки эпох,
пики глобальных событий, но в них вкраплены эпизоды, кото¬
рые должны подчеркнуть несомненность и реальность происхо¬
дящего.
«Облик грядущего» начинается с описания мирного рожде¬
ства в неком символическом городе. Он назван Эвритаун —
любой город. Пока еще, как обычно, звучат рождественские
хоры, тянутся безработные, ходят старые дамы из Армии спа¬
сения. Но уже висят плакаты, предупреждающие о возможной
войне. И в светской гостиной праздник прерывается тревожным
телефонным звонком — к городу приближается неизвестная
воздушная эскадра.
У Камерона Мензиса и Уэллса нет победителей в войне.
Наиболее точно выражает мысль авторов эпизод, когда один
из бесчисленных бипланов, летящих к берегам Англии, вреза¬
ется в землю у Дувра, и раненый летчик отдает свою маску
оказавшейся рядом девочке, чтобы спасти ее от газа, выходя¬
щего из разбитых баллонов на его самолете. «Быть может,
я убил этим газом ее отца и мать, а теперь умираю сам...».
Война бессмысленна, победа недостижима.
На экране проплывают цифры— 1945... 1955... 1960... на
проволоке висит труп солдата... 1966... иронический лозунг:
«Идет время победы». Эвритаун в развалинах, социальное раз¬
ложение, эпидемии — врач^ требует йод, сестра отвечает, что он
кончился. Режиссер показывает состояние человечества, о ко¬
тором Уэллс сам написал еще в «Войне в воздухе»: «И когда
технические ресурсы цивилизации истощились окончательно,
очистив наконец небо от воздушных кораблей, победу на зем¬
ле торжествовали анархия, голод и мор. От великих наций и
215
империй остались лишь одни названия. Кругом были руины,
непогребенные мертвецы и истощенные, желтые, охваченные
смертельной усталостью уцелевшие. В отдельных районах ис¬
терзанной страны правили или разбойники, или комитеты без¬
опасности, или отряды партизан... Это было настоящее кру¬
шение всего. Налаженная жизнь и благоденствие земного шара
лопнули, как мыльный пузырь. За пять коротких лет мир был
отброшен так далеко назад, что теперь его отгораживала от
недавнего прошлого пропасть, не менее глубокая, чем та, что
отделяла Римскую империю эпохи Антонинов от Европы девя¬
того века»75.
1970 год — крайняя степень деградации определяется одной
деталью: автомобиль, в который впряжены лошади (вот откуда
возникнут через двадцать пять лет в фильме Стэнли Креймера
«На берегу» штрихи к портрету обреченной Австралии). И появ¬
ляется диктатор в меховой шубе и военных бриджах, который
требует восстановить хоть один самолет, чтобы начать новую
войну и добиться окончательной победы. Этому безумному
милитаризму военных противопоставлен технический гуманизм
инженеров. Прилетают откуда-то с другого материка огромные,
похожие на трамваи самолеты, на открытых платформах ко¬
торых рядами стоят инженеры в комбинезонах и авиационных
шлемах. Им предстоит переустроить мир на новых разумных
началах.
216
«Облик грядущего». Закан¬
чивается эпоха диких войн,
торжества инстинктов раз¬
рушения, наступает царство
разума, мир инженерии
Диктатор символически кончает самоубийством —«с ним
умер целый мир ненависти и сумасшествия», и начинается строи¬
тельство новой разумной жизни. Последняя часть фильма —
разгул фантазии дизайнеров Корда (он был продюсер фильма):
стратостаты, электростанции, обтекаемые поезда, люди в ска¬
фандрах — все автоматизировано, конвейеризировано. Но весь
этот фантастический антураж, может быть, в силу своей идиллич-
ности, не производит такого драматического впечатления, как
в «Метрополисе», где сама декорация запечатлела расколотую
на две половины жизнь.
Там — образ, здесь — выставка достижений.
И все-таки Уэллс избежал соблазна кончить утопию на идил¬
лической ноте. В финале картины мы снова видим толпы взбе¬
шенных людей, бегущих к межпланетной ракете, чтобы унич¬
тожить ее. Их предводитель-художник кричит: «Мы не хотим
прогресса, мы хотим паузы счастья, нам надоело бесконечно
работать, мы не хотим новых жертв. Нам не нужны звезды!»
Но призыву остановить прогресс противостоит решение Джона
Кабала и двух молодых людей, улетающих на Луну.
«Когда остановится человек! Только в смерти,— говорит
автор устами своего героя.— Он должен идти вперед!» И этот
вывод Уэллса подхвачен в ряде произведений фантастики, окан¬
чивающихся той же беспокойной нотой поиска, вечного стрем¬
ления вперед.
217
Фильм Уэллса и Камерона Мензиса оказался, пожалуй, по¬
следней киноутопией западного кино, пронизанной верой в тех¬
нический прогресс, в науку, в ее способность создать разумное
и счастливое общество. Но самому Уэллсу еще долгие годы
предстояло оставаться центральной фигурой социальной кино¬
фантастики, вдохновляющей ее темы и концепции. Помимо
«Облика грядущего» и «Человека-невидимки» в 30-е годы были
экранизированы: «Остров доктора Моро» («Остров потерянных
душ», 1932, режиссер Эрл Кентон), «Человек, который мог
творить чудеса» (1935, режиссер Лотар Мендес). Об экраниза¬
ции Уэллса в 50—60-е годы мы уже говорили.
Однако пока Голливуд привычно ставил романы Уэллса со-
рока-и тридцатилетней давности, в литературе появились про¬
изведения, которым суждено было оказать чрезвычайное влия-
ниё на развитие научной фантастики, а в 60-е годы — и на ки¬
нематограф этого жанра.
Три книги почти неизменно открывают все списки романов-
антиутопий XX века. «Мы» Евгения Замятина, «Прекрасный но¬
вый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. Эти про¬
изведения создавались в разное время. «Мы», по свидетельству
самого Замятина,— в 1920 году, «Прекрасный новый мир»—
в 1932-м, а «1984» — в 1948-м (отсюда перемещенные две
последние цифры в заголовке). Судя по всему, разные твор¬
ческие и социальные импульсы легли в их основу. Но их зако¬
номерно упоминают вместе во многих работах, посвященных
антиутопии, поскольку в своем представлении о будущем ав¬
торы их исходят из одинаковой социальной модели тоталитарно¬
го государства, в котором жизнь и личность отдельного челове¬
ка не представляют никакой ценности.
Как отмечается в «Философской энциклопедии», во всех
этих романах «получили выражение не только враждебность к
социализму, но и смятение перед лицом грядущих социальных
последствий научно-технического прогресса, стремление от¬
стоять буржуазный индивидуализм от наступающей рационали¬
зированной технократической цивилизации. Одновременно в
такого рода антиутопиях проявляется законная тревога за судь¬
бу личности в так называемом «массовом обществе», про¬
тест против манипулирования сознанием и поведением лич¬
ности в условиях государственно-монополистического капи¬
тализма»76.
Страх перед холодным расчисленным миром, в котором нау¬
ка поставлена на службу буржуазному прагматизму и своеко¬
218
рыстию, перед математизацией мысли, отделяющей научную
истину от нравственной, охватывает не только художников За¬
пада, но и ученых. Один из крупнейших физиков XX века Макс
Борн в начале 60-х годов скажет: «Хотя я влюблен в науку,
меня не покидает чувство, что ход развития естественных наук
настолько противостоит всей истории и традициям человечества,
что наша цивилизация просто не в состоянии сжиться с этим
процессом»77. «Традиционная этика исчезла под воздействием
техники»78. Эта проблема будет мучить всю социальную фан¬
тастику 50—60-х годов.
Многие мотивы и ситуации, ведущие свое начало от За¬
мятина, Хаксли и Оруэлла перешли в литературную фантасти¬
ку 50—60-х годов. Они явны у Бредбери в «451° по Фарен¬
гейту», у Буля в «Планете обезьян», у Воннегута в «Утопии 14»,
у Азимова в «Конце вечности». Но есть и принципиальная
разница. Во-первых, смысл их предостережений недвусмыс¬
ленно направлен против технократических тоталитарных тен¬
денций современного империализма. И во-вторых, их авторы,
рисуя самые мрачные картины будущего, указывают на воз¬
можность выхода или по крайней мере на некие силы, спо¬
собные противостоять злу.
Этот мотив надежды существен в «Альфавиле» — одном
из примечательных произведений кинофантастики 60-х годов —
и несомненно испытавшим на себе влияние литературных ан¬
тиутопий.
«Было 23 часа 17 минут, когда я прибыл в предместье
Альфавиля. Случается, что реальность оказывается слишком
сложной для нормального восприятия и тогда принимает фор¬
му легенды, позволяющей ей странствовать по всему миру».
Это первая фраза, открывающая фильм. И во многом объяс¬
няющая его.
Слишком сложная, запутанная для нормального восприятия
реальность побуждает создавать легенды-модели будущего,
странствующие по миру в форме антиутопий. Режиссер и пред¬
лагает зрителю еще один вариант этой странствующей легенды
на экране. Но режиссер этот — Жан-Люк Годар, поставивший к
1965 году ряд своих наиболее известных картин. И поэтому
остается пока невыясненным самый главный вопрос: что в филь¬
ме от знакомой легенды, от расхожих пророчеств философов
и писателей. А что от самого Годара, от его представлений,
от его видения.
От легенды — сам Альфавиль — город, управляемый элект¬
ронным мозгом; город, живущий по законам холодной научной
219
и обесчеловеченной логики: формула Эйнштейна Е = МС2, вспы¬
хивающая холодным неоновым светом, улица Энрико Ферми,
улица Радиации, ученый со зловещим именем фон Браун, стоя¬
щий на верху иерархической лестницы. Город, где нет любви,
а лишь удовольствия, не видно девушек, а лишь «соблазнитель¬
ницы установленной категории», где эмоции и воля человека
подавляются совершенными математическими методами, где
естественный мир природы и чувств уничтожен.
Характерно, что в середине 30-х годов финал фильма по
Уэллсу «Облик грядущего» воспринимался как гимн техническо¬
му прогрессу, человеческому разуму, да так и был задуман
авторами. В 1970 году Рене Предаль в своей книге «Фантасти¬
ческое кино» пишет: «Мир, обрисованный в этом фильме, может
заставить нас задрожать от страха, когда мы видим упраздне¬
ние всякой инициативы и всякой свободы, что в представлении
режиссера, видимо, и не является утратой, но какое значение
имеет его собственное мнение»79.
«Альфавиль»—это город, где живут без солнца, без возду¬
ха, без пространства. Лишь электрический мертвенный свет,
коридоры, тоннели, лифты, лестничные переходы. Мотив за¬
крытого, тесного, сдавленного пространства, где люди пластают¬
ся по стенам, бьются о стекло, пытаются ворваться в двери,
все время повторяется в фильме. И номера на плече, на шее у
жителей, и холодная логика вместо чувств. Лишь когда Наташа
фон Браун учится у героя словам любви, то в комнату за¬
глядывает солнечный луч.
По мнению Прюдаля, «Альфавиль» не столько предвидение
будущего, сколько воспоминание о фашизме,— на это указы¬
вает фамилия фон Браун, номера, как в концлагерях, и крова¬
вые экзекуции. Очевидно, опыт фашизма был учтен Годаром.
Но, несомненно, он был пропущен через восприятие и филосо¬
фию «властителей умов» западной либеральной интеллигенции,
пропущен через «легенду» о будущем. Причем, по мнению
автора, это будущее ждет все человечество независимо от
социального строя. Недаром герой фильма называет себя Иван-
Джон и представляет газету «Фигаро-Правда». Так наглядно
воплотились мечты некоторых буржуазных теоретиков о кон¬
вергенции социализма и капитализма.
От Хаксли и Оруэлла — устройство центра памяти электрон¬
ной машины. У жителей Альфавиля нет истории. «Никто не жил
в прошлом, никто не будет жить в будущем. Настоящее — фор¬
ма всей жизни».
В Альфавиле из словарей вычеркиваются слова «совесть»,
«плакать», «осенний свет», «нежность». Конечно, в этом моти¬
220
ве, имеющем для фильма важное сюжетное значение, можно
без труда узнать «новый язык» из «1984», воспринятый, возмож¬
но, уже из рук Маркузе. Наблюдения над языком составляют
чрезвычайно важную главу в его определении одномерного
человека современного высокоразвитого индустриального
общества.
«В языке исчезают живые противоречия,— пишет он,— их
заменяют авторитарные (ритуальные, магические) заклинания.
Вырабатывается новый синтаксис—«экономность» речи, возни¬
кающая из газетных шапок, реклам, лозунгов. Преобладание
речевых штампов связано с преобладанием субстантивных фраз.
Все части речи отступают перед существительными; теснота
расхожих стандартных изречений и оборотов уже почти не ос¬
тавляет пространства для живой самостоятельной мысли, для вы¬
ражения противоречий».
«Абсурдные, но привычные и потому опасные словосочета¬
ния «чистая бомба», «безопасные атомные осадки», «гармония
труда в производстве ракет». Такие сочетания противоположных,
изначально несовместимых слов и понятий — только один из
способов подавления противоречий и протестующих сил самого
языка»80.
В Альфавиле также не задают вопросов, не открывают про¬
тиворечий. Не «почему, а потому что» — несколько раз настави¬
тельно поправляет Наташа приезжего из внешних стран. А про¬
цесс ее духовного высвобождения выражается в том, что она ус¬
ваивает новые слова, с трудом разлепляя губы, произносит:
«Я вас люблю».
Таким образом, в изображении мира технократической дикта¬
туры, где уничтожены писатели, художники, музыканты, где
люди — рабы, а тех, кто не приспособился, ликвидируют. Годар
остается лишь иллюстратором расхожих для середины 60-х го¬
дов мыслей и «странствующих легенд». «Оригинальный Годар»,
«Годар как он есть» проявляется лишь ъ способе решения проб¬
лем, стоящих перед героями, и в связанной с этим способом
конструкции фильма.
Главную роль тайного агента внешних стран 003 Лемми Ко¬
шена играет Эдди Константин — популярный герой многосерий¬
ных полицейских фильмов. Актеру не приходится отказываться
от привычного образа-маски. Это обычный Эдди Константин
с его помятым лицом сыщика, в неизменном макинтоше и с
неизменным браунингом в руке. Просто теперь он действует
не в парижских трущобах, а в воображаемом Альфавиле, где
свои трущобы, наркоманы, наемные убийцы и провалившиеся
агенты. Так в фантастику входит комикс. И чуть ли не с третье¬
221
«Альфавиль». Детектив
Лемми Кошен (Эдди Конс¬
тантин), по мнению Годара,
лучше других может решить
проблемы будущего. Стре¬
мительность, мужское обая¬
ние и, конечно, пистолет
способны победить зловеще¬
го профессора фон Брау¬
на — диктатора Альфавиля
и завоевать любовь его до¬
чери Наташи (Анна Карина)
го кадра в фильме начинаются кровавые потасовки и убийства,
в которых Эдди Константин с привычной легкостью уклоняется
от ударов, зажимает дверью руку с ножом, окунает противника
в ванну, предварительно набросив на его голову простыню,
и стреляет, стреляет, стреляет... И не только он. В бездушном
унылом мире Альфавиля воображение проявляется в избиениях
и убийствах. В лифте четверо мужчин деловито кидают от сте¬
ны к стене пятого... Во время банкета на кромке бассейна из
автоматов строчат по осужденным за проявление человечности,
и полуобнаженные девушки топят в воде раненых под апло¬
дисменты гостей.
В чем же смысл этого дразнящего соединения социальной
фантастики с комиксом? Может быть, в том, чтобы сделать
«легенду» доступной широкому зрителю, снизить философские
идеи до уровня потребителя массовой культуры?
Или же стихия комикса помогает Годару сохранить ирони¬
ческую «дистанцию» по отношению к легенде и нарисованно¬
му им же самим миру антиутопий? Отвечает природе его да¬
222
рования, тяготеющего к самоиронии и мистификации? Через
несколько лет Роже Вадим сделает космический комикс «Бар¬
бареллу». Но там это будет естественный финал «космической
оперы»— агония и итог жанра.
Или же стиль комикса подсказывает и решение всех проблем
в духе комикса? В самом деле, если в серьезной социальной
фантастике бунтарь-одиночка обречен на поражение, если ав¬
торы часто не видят выхода из исторических тупиков, в которые
заходит буржуазное общество, то этих проблем нет у Годара
и его героя. Электронный мозг он выводит из строя, задав ему
неразрешимую задачу, и убивает злодея фон Брауна — вампира
столицы Галаксии. Этот выстрел комментируется так: «Я бежал
по прямой, напоминающей лабиринт, о котором мне говорил
Диксон, в котором заблудилось столько философов, что не
удивительно, что в нем заблудится тайный агент».
Итак, лабиринт, в котором блуждают философы, не находя
выхода,— в сущности есть прямая, когда ты пускаешь в ход на¬
силие. Этот вывод и этот выстрел очень хорошо согласуются
223
с левым экстремизмом Годара и мотивирован принятой стили¬
стикой фильма.
И еще одно соображение: Годар делал свой фильм в 1964 го¬
ду, через год после убийства Кеннеди, когда сама действитель¬
ность продемонстрировала «смешение стилей»,— комикс во¬
рвался в серьезную политику, в исторические расчеты, и персо¬
наж с пистолетом или снайперской винтовкой завоевал законное
место в угрожающем будущем.
Таков, должно быть, комплекс причин, определивший стран¬
ный, «смешанный» стиль фильма Годара.
Через год после «Альфавиля», в 1966 году, на экран вышел
фильм Франсуа Трюффо «451° по Фаренгейту». Последователь¬
ность не означала преемственности. Ревниво следящий за
фильмами своего коллеги, Трюффо более всего опасался повто¬
рения, напряженно искал свой путь. Тем более что право на
экранизацию «Фаренгейта» он купил за три года до «Альфа¬
виля».
Что же привлекло Трюффо, с его склонностью к докумен¬
тальной точности, к фантасту Бредбери? Сам режиссер обычно
редко и неохотно говорит о смысле своих картин, ощущая не¬
достаточность формулировок по сравнению с живой тканью
фильма. Но как раз по отношению к «Фаренгейту» он выска¬
зался подробно и даже вел дневник съемок фильма,— к тексту
этого дневника мы еще будем неоднократно возвращаться.
Рей Бредбери — один из крупнейших писателей-фантастов
нашего времени — как-то заметил, что «фантастика — это ок¬
ружающая нас реальность, доведенная до абсурда». В это опре¬
деление полностью укладывается его собственный роман. Уста¬
ми одного из своих героев, брандмейстера Битти, писатель
рисует зловещую картину «массового общества», естествен¬
ным результатом развития которого стало запрещение и сож¬
жение книг.
«...Двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в
объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не разма¬
зывать! Скорее к развязке!.. Как можно больше спорта, игр,
увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему
не надо думать... слово «интеллектуальный» стало бранным сло¬
вом, каким ему и надлежит быть»81. Плавно, незаметно пере¬
ходя со ступени на ступень, доводит Бредбери действительность
сегодняшнего дня до завтрашнего абсурда. «Вспомните-ка, в
школе, в одном классе с вами, был, наверное, какой-нибудь
224
особо одаренный малыш?.. И кого же вы колотили и всячески
истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны
быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения,
как сказано в конституции, а просто мы все должны стать
одинаковыми... Вот! А книга — это заряженное ружье в доме
у соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать челове¬
ческий разум»82. Гибель духовной культуры запрограммирова¬
на в установлениях, темпах и целях нашей цивилизации, утверж¬
дает Бредбери.
Естественно, что этот мрачный прогноз появился прежде
всего в США, здесь раньше, чем где-либо еще, сложились чер¬
ты «массового общества». Но симптомы болезни вскоре стали
очевидны и в Европе, и тревога Бредбери оказалась близкой
и понятной Трюффо. «История Бредбери заинтересовала меня
тем, что в ней есть реального; костры из книг, преследования
мысли, террор идей — явления, не раз повторявшиеся в исто¬
рии человечества. Вчера они проявлялись жестоко и открыто.
Сегодня они принимают более скрытые, мирные, но тем более
опасные формы»83. И еще: «Пластинки, магнитофоны, кино,
телевидение, транзисторы, приемники... мы смотрим, слушаем.
Эти действия заставляют все время быть «во вне», не дают
углубиться в себя, сосредоточиться, поразмыслить. Они лишают
нас одиночества, которое неразрывно связано с чтением. Люди
покупают книги, но не читают их. Даже самые образованные
интеллектуалы вдруг возвращаются к традиции устной переда¬
чи: книг не читают, а говорят о них на основе того, что ска¬
зал кто-то, тоже, вероятно, не читавший, а наслышавшийся со
стороны. В нашем обществе книг больше не жгут по приказу
Гитлера или святой инквизиции. Их делают бесполезными, их
удушают изображениями, звуками, предметами».
Свой фильм Трюффо начинает с образа этой, чуждой ему
цивилизации, ее главных составляющих. Камера долго идет по
крышам домов, запечатлевая лес телевизионных антенн, а потом
по шесту, как в ранних чаплиновских фильмах, соскальзывают
пожарные и в черных, как деготь, смоляных костюмах стоят
шеренгами по бортам мчащейся, воющей пожарной машины —
эпоха массовых коммуникаций, эпоха преследования мысли.
Эти две темы идут через всю картину. Телевизионная ком¬
ната, где на стенах-экранах кривляются, орут «родственники»
и ведущий программу прямо по имени обращается к каждой
зрительнице (новинка техники), задавая вопрос именно ей и
требуя механического «да» или «нет». И сначала растерянно
запинаясь, а затем радостно Линда — жена героя — лепечет свои
ответы и получает в награду поощрительный комплимент: «Ты
225
фантастична, Линда». Агрессию средств массовой коммуника¬
ции, принуждающих человека раствориться в зрелище, подчи¬
нение воли, воспитание автоматизма при видимости сотворчест¬
ва раскрывает Трюффо в этом эпизоде. Режиссер еще раз
опосредованно вернется к системе: человек — техническая циви¬
лизация будущего, когда опоенная, одурманенная передачами
Линда примет флакон снотворных таблеток. Приезжают сани¬
тары, и машина-кобра, чавкая, отсасывает «темноту, яд, скопив¬
шиеся за многие годы», а вторая машина «откачивает кровь,
заменяя ее свежей кровью и свежей плазмой». Сам язык Бред¬
бери в этой сцене указывает на ее символический характер.
Такова она и для Трюффо — перед нами ритуал подмены че¬
ловека, не только мысли, но и плоть его уже чужая.
А от пожарной команды Бредбери идет к зловещей черно¬
красной тумбе с мигающим фонарем, куда опускают доносы
о спрятанных книгах. К обыскам на улицах (книгу вынимают из
коляски младенца, брандмейстер грозит ему пальцем), к школь¬
никам, одетым в одинаковые серые мундирчики, к школьной
вешалке, на которой висят, как пустые коконы, одинаковые
серые пальто, и, наконец, к кострам из книг.
Сцены сожжения книг — кульминация фильма, ключевые
для понимания его идей и стиля. Приступая к «Фаренгейту»,
Трюффо записал: «Я люблю снимать такие сцены, как сожжение
старой дамы вместе с книгами или сожжение Монтегом Ка¬
питана...
Но мое воображение, слишком привязанное к реальности,
не может их изобрести... ко мне на помощь приходит Рей Бред¬
бери, предлагая те самые крайние ситуации, которые мне не¬
обходимы, чтобы избежать привычного документализма, слиш¬
ком большой зависимости от реальности, закрепощающей во¬
ображение». С другой стороны, он замечает, что «характеры
героев недостаточно реальны и недостаточно сильны из-за ис¬
ключительности исходной ситуации... И я обязан бороться с этим,
пытаясь придать действию на экране большую жизненность».
В противоречии между стремлением к фантазии и тяготением к
реальности определялся стиль будущего фильма.
Ощущая недостаточность характеров, их схематизм, как
правило, свойственные фантастике вообще, Трюффо искал опо¬
ры для своего документализма в обстановке, среде действия,
его атмосфере, заставлял играть вещи. Героями фильма вместе
с людьми, а может быть, прежде, чем люди, стали книги.
Костры из книг — образ гибели культуры;.. Он волновал Трюф¬
фо давно, еще со времени «Жюля и Джима». Но там костры
из книг, запечатленные нацистской хроникой, врывались в игро-
226
вой фильм как символы и координаты времени. Здесь они ста¬
новятся образом, в котором реализуется тема произведения.
Пожар тайной библиотеки, вместе с которой сгорает старая
дама, снят как космическая трагедия, как гибель человеческой
культуры. Причем старая дама выступает в качестве протаго¬
ниста действия лишь до тех пор, пока не чиркает спичкой, за¬
жигая пожар. С этой секунды принятого и осуществленного ре¬
шения она уже не интересует режиссера. Есть трагедия гибели
книг. Как писал Трюффо, «...только сегодня я заметил, что в
этом фильме нельзя ронять книги за пределы кадра. Я должен
прослеживать их падение до самой земли. Здесь книги как жи¬
вые герои, и прерывать их падение — все равно, что срезать
рамкой голову актера».
Пожар — серия смертей, увиденных, горестно прослежен¬
ных — от момента, когда книга, еще не тронутая, прекрасная,
живая,лежит, привлекая своим заголовком: Эсхил — «Трагедии»,
Достоевский — «Преступление и наказание», Толстой, Дали,
Сартр; и вот край листа начинает темнеть, коробиться, свора¬
чиваться от жара трубкой и вдруг вспыхивает ярким языком
пламени, оставляя после себя кучку пепла. Камера оплакивает
смерть книг как невозвратимые потери. В шкале ценностей
Бредбери и особенно Трюффо книги занимают равноправное
с людьми место. Не случайно в финале фильма мы встречаемся
с людьми-книгами. Они добровольно стали «Государством» Пла¬
тона или «Размышлениями» Марка Аврелия, «Откровением
Иоанна Богослова» или «Критикой чистого разума» Канта,
они растворились в этих сгустках культуры, понимая, что их
собственная жизнь обретает смысл в сохранении великих тво¬
рений.
В сценах пожара режиссер дает волю чувствам: страдает,
волнуется, плачет. И он как будто нарочито сдержан, изобра¬
жая своих героев. Художник, всегда обращавшийся к мелодра¬
матическим сюжетам, он более всего боится мелодрамы как
способа выражения, как отношения и тона. Страх «впасть в ме¬
лодраму» не покидает его и на страницах дневников съемок.
Отсюда поиски героев «от противного». «Капитан (брандмей¬
стер Битти в романе.— Ю. X.) будет ужасно симпатичным, и
это прекрасно... Мы все более удаляемся от мелодрамы, а са¬
ма роль становится более живой и человечной». Нет ника¬
кого романа Монтега со встретившейся на его пути девушкой
Клариссой. «Во всяком случае, я сделал Клариссу бесполой,
чтобы не впутывать ни ее, ни Монтега в обычную историю су¬
пружеской измены, которая достаточно популярна и без научной
фантастики. Кларисса просто маленькая девушка, рассудочная и
227
вопрошающая». Еще более рассудочен Оскар Вернер, исполняю¬
щий главную роль Монтега. Режиссерское задание совпало здесь
с природой актера — холодноватого и рационального. Джулия
Кристи, исполняющая в фильме две роли — Клариссы и жены
Монтега Линды, — значительно интереснее своего партнера. Акт¬
риса не боится сходства героинь и почти не меняет грима. Разни¬
ца во взгляде — безучастном у Линды и живом, полном любо¬
пытства у Клариссы. Разница и в способе съемки. «В роли Лин¬
ды,— писал Трюффо, — я буду снимать ее главным образом в
профиль, оставляя фас для роли Клариссы. Ее профиль как раз
очень красив, в духе рисунков Кокто: выдающаяся верхняя
губа, огромный широкий вампиристый рот...». Человек-про¬
филь, двухмерный, плоский. И человек-фас, распахнутый на¬
встречу жизни, ее вопросам и загадкам.
228
«451* по Фаренгейту».
В жутком будущем, пока¬
занном Бредбери и Трюф¬
фо, пожарные жгут книги,
а разучившиеся читать лю¬
ди проводят все время у
телевизора.
Монтег — Оскар Вернер.
Брандмейстер Битти — Си¬
рил Кьюсак. Джулия Кристи
в двух ролях — Линды и
Клариссы
И все же во всех исполнителях этого фильма ощущается
некоторая душевная замороженность, некая отстраненность от
своих героев. Резкая цветовая гамма фильма, в которой начис¬
то отсутствует нежная умиротворяющая пастель, а господствуют
напряженные контрасты кроваво-красного, огненного* и черного,
смоляного, не согласуется с таким стилем актерского исполне¬
ния, с холодноватым, «извне» режиссерским подходом. Кое-что
здесь объясняется характером дарования самого Трюффо, его
эстетикой художника постчеховского периода, бегущего откры¬
тых мелодраматических страстей, сентимента и банальности.
Но дело не только в этом.
Картина поражает странностью своего интерьера, в котором
соседствуют монорельсовая дорога и допотопные телефоны,
автоматические двери и старый бретонский кофейный сервиз.
229
Можно понять это как желание создать некое вневременное
пространство, как наме* на то, что опасности, обозначенные
фильмом, существуют и существовали во все времена. Можно,
наоборот, воспринять эти контрасты как особую характеристику
времени, в которой произошел болезненный разлом, что-то в
технике ушло вперед, а что-то вернулось вспять или осталось
на месте.
Но глубинный смысл этого решения выясняется только в со¬
поставлении с общими принципами подхода Трюффо к фантас¬
тике и того, как эти принципы развивались.
Приступая к съемкам, Трюффо записал: «Три года назад
«Фаренгейт» представлялся научно-популярным фильмом, в ко¬
тором должны были найти место различные находки и шутки
и т. д. С тех пор появились Джеймс Бонд, поп-арт и Годар,
черт побери!»
Какие дороги к научно-популярному фильму с находками и
шутками закрыли Джеймс Бонд и Годар? Джеймс Бонд — это
постановочные с разгулом технической фантазии и политически
тенденциозные картины. Это циничный супермен, любыми сред¬
ствами добивающийся успеха. Годар в «Альфавиле» и «Пред¬
видении» — это попытка заглянуть в будущее, создать его ви¬
зуальный и психологический образ.
Трюффо, более всего опасающийся повторений, идет иным
путем. Через полтора месяца после начала съемок он пишет:
«По правде говоря, фильм «451° по Фаренгейту» разочарует
любителей фантастики. Это — научно-популярная картина в ма¬
нере «Шербурских зонтиков». Взамен принципа — нормальная
история, где поют, вместо того чтобы говорить,— перед нами
нормальная история, в которой запрещено читать». Итак, нор¬
мальная история, ничего фантастического. Вспомним принцип
Бредбери: «Фантастика — реальность, доведенная до абсурда».
Реальность схвачена, но что же с абсурдом? И здесь многозна¬
чительное добавление Трюффо к вышеприведенной записи:
«Это просто, как сказать «здравствуйте», но разве «здравствуй¬
те» так уж просто?» И в другом месте: «В данном случае
дело было в том, чтобы рассказать фантастическую историю
обыденно, делая банальными слишком странные эпизоды и анор¬
мальными эпизоды бытовые». Какая-то непонятная, извращенная
логика. Казалось бы, зачем странные эпизоды сводить к баналь¬
ности и делать анормальными бытовые эпизоды. И это не только
слова. Парадоксальные сочетания разных эпох в интерьере —
осознанный принцип: «Мне хочется взглянуть со стороны, как
это имело место с «Жюлем и Джимом», который был сделан
как исторический фильм, чтобы избежать опасности впасть в
230
мелодраму. Разумеется, превращать «Фаренгейт» в историче¬
ский фильм — дело рискованное, и тем не менее я склоняюсь
понемногу к такому решению. Я беру телефоны с рожками
эпохи Гриффита, платья Кэрол Ломбард и Деби Рейнолдс, по¬
жарную машину мистера Дидса. Мне хочется сделать «антидайд¬
жест»... Короче говоря, я работаю шиворот-навыворот, словно
речь идет о съемках картины «Джеймс Бонд в средние века».
В этом признании — ключевые слова «антидайджест» и «ши-
ворот-навыворот». Трюффо не хочет делать «легкую», «меха¬
нически усвояемую картину», он все время ставит зрителя пе¬
ред загадочными парадоксами, странностями, которые застав¬
ляют действовать его мысль. И он работает «шиворот-навыво-
рот», нарушает нормальную логику, чтобы острее показать вол¬
нующие его вещи. Если употреблять брехтовский термин, то
Трюффо прибегает к «очуждению» действительности в жанре
фантастического фильма. Для него это формула примирения
его документализма, привязанности к реализму и крайних, не¬
вероятных ситуаций Бредбери. Он берет составляющие реаль¬
ной действительности, чтобы показать их зрителю в необычном
фантастическом сочетании, в абсурде. А абсурд выводит из
реалий. Это есть фильм-гипотеза, в которой автор смотрит
со стороны, «ничего не навязывая зрителю, не очень заставляя
его верить в события». И гипотеза, проникнутая печалью, — в
финале под густым, все засыпающим святочным снегом хо¬
дят люди-книги, повторяя свои тексты и исчезая в снежной
пелене.
Применение Трюффо принципа остранения к фантастике
имело значение не только для него самого. Как оказалось, за
ним было будущее, на этом эстетическом принципе строится
такая картина, как «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика.
От категорических утверждений, быстро опровергаемых
стремительными темпами научно-технической революции, кино
начинает переходить к гипотезам, в которые, может быть, не
следует до конца верить, но которые стоит внимательно рас¬
смотреть.
Если в литературе антиутопия весьма быстро обрела кано¬
ническую форму в сочетании авантюрного и философского
романа, то в кино она все время заимствовала чужие структу¬
ры, гибко приспосабливалась к требованиям различных жанров.
Детектив из сериалов в «Альфавиле», некая сложная смесь
мелодрамы, фильма ужасов и социального романа в «Метро-
полисе», киноповесть в «451° по Фаренгейту». «Вползание» в ка-
231
ионические киноформы иногда проходило без особых потерь
для литературного первоисточника, как это случилось в «Фарен¬
гейте», иногда же заимствование готовых киноформ сопровож¬
далось серьезными метаморфозами произведения, положенного
в основу фильма.
Картину «Планета обезьян» режиссер Шаффнер сделал в
излюбленном Голливудом жанре «космической оперы». Кру¬
шение ракеты посреди озера при посадке на планету Сорора.
Три члена экипажа с трудом выбираются на землю, четвертая —
женщина—«не попала» под действие закона относительности,
и глазам зрителя предстает ее истлевший скелет с копной длин¬
ных волос. Один из героев водружает на планете американский
флаг под иронические возгласы товарищей. Затем путешествие
по скалистой пустыне, величественной в своей дикой перво-
зданности. И когда силы на исходе — встреча с людьми.
Но люди на этой планете оказываются дикими, лишенными
разума, и ведут себя как обезьяны. А обезьяны, наоборот,—
разумными, живущими по законам человеческого общества. Эта
«перевернутая» парадоксальная ситуация — общая в романе
Пьера Буля и поставленном по нему фильме. Кстати, обезьяньи
маски сделаны настолько виртуозно, а ситуация доказана столь
логично, что через некоторое время действительно начинаешь
воспринимать обезьян как людей, а людей как обезьян. Но даль¬
ше между романом и фильмом начинаются существенные рас¬
хождения.
Пьер Буль — автор романа «Мост через реку Квай» и ряда
других известных книг — написал «Планету обезьян» в свифтов¬
ской традиции. Это сатира на буржуазное «массовое общество»
«с его стандартизацией желаний» не только производства, но и
вкусов», духовной убогостью и обезличенностью. На планете
обезьян жители делятся на три категории: гориллы, которые
«дают общие указания» и командуют прочими обезьянами.
Орангутанги, представляющие официальную науку, искусство и
литературу и готовые «с пеной у рта отстаивать любое тради¬
ционное старье». И шимпанзе — интеллигенция планеты. Воспо¬
минания героя о Земле, о ее литературе, промышленности,
юриспруденции приводят его к мысли, что все эти институты
вполне могли бы функционировать в царстве обезьян. А обезь¬
янья биржа, где «все походили друг на друга и ни в ком даже
не было проблеска мысли. Все были одинаково одеты, и на всех
мордах застыла та же маска сумасшествия»84, властно застав¬
ляет героя вспомнить родную планету. «Никто больше не чи¬
тает: даже детективные романчики кажутся произведениями,
требующими слишком большого духовного напряжения». «Мыс-
232
«Планета обезьян» и ее
продолжения. В романе
Буля и фильме Шаффнера
люди и обезьяны поменя¬
лись местами. Обезьяны
унаследовали все качест¬
ва мещанской психологии:
консерватизм мышления,
жестокость, презрение к
другим — непохожим, а
значит, низшим существам
лительная лень» все больше завладевала людьми, они дегради¬
ровали, а в обезьянах пробуждался разум, и в один прекрасный
день хозяева и слуги поменялись местами: врачи заняли место
подопытных животных, дрессировщики стали делать сальто в
обезьяньем цирке. Все произошло в результате естественной
эволюции человеческого общества.
Ироничность и парадоксальность французского романа сме¬
нилась серьезностью и дидактичностью американского фильма.
Дело не только в различии национального темперамента, но в
разном адресе произведений. Интеллектуальный роман переве¬
ден в кинопроизведение сферы «массовой культуры». Фильм
стихийно ищет ходы менее оригинальные, но более эффектные,
легче адаптирующиеся к традиционным формам кинозрелища.
Все как в фильмах Джорджа Пала по Уэллсу.
Крушение, путешествие через пустыню, плен у дикарей и,
наконец, облава. В романе героя не покидает странное ощуще¬
233
ние раздвоенности. Он добыча, затравленная, охваченная ужа¬
сом, которую преследуют загонщики и охотники гориллы. И од¬
новременно он как бы наблюдает все со стороны, дивясь и усме¬
хаясь тому, как похожа эта охота на земное сафари, со всеми
традициями моды и неосознанной безжалостностью. В фильме
облава — это только жуткая сцена травли и бойни, где одетые в
рыцарские колеты обезьяны преследуют голых людей, убивают,
сажают в клетки, обращаясь, как с животными. Здесь уже про¬
глядывает та тема, которая, судя по всему, была побудительной
для Шаффнера, когда он взялся за постановку фильма. Его вол¬
нует проблема расового угнетения, человеконенавистничества,
нетерпимости. Бесспорно, эта тема была более жгуча для раз¬
дираемой расовыми волнениями Америки конца 60-х годов да
остается таковой и сейчас, но в романе Буля она имеет подчи¬
ненное значение. Шаффнер показывает людей в клетках, травлю
«чужака», случайно попавшего в обезьяний город, опыты над
людьми. И опять-таки в романе профессор Антель добровольно
и стихийно предпочитает удобную клетку, мягкую соломенную
подстилку, подачки добрых обезьян и бессловесную подругу
треволнениям ученого. В фильме он становится идиотом, так как
ему сделана операция на мозге. Иначе говоря, в книге голый
дикий человек сам виновен в своем бесправном угнетенном
положении. В фильме он жертва расистов-обезьян.
Публицистика в фильме Шаффнера соединяется с коммер¬
цией. И тогда — погоня за героем, скачки на лошадях и пе¬
рестрелка в духе вестерна. Старый орангутанг, который оказы¬
вается не тупым, а наоборот, дальновидным, не желая призна¬
вать разум в человеке, говорит: я знал, что люди обладают
разумом, но вы жадные существа, все обращающие в пустыню.
И наконец, путешествие героя в запретную зону, где на пес¬
чаном пляже он видит странное заржавленное сооружение, уз¬
нает сброшенную с пьедестала, наполовину ампутированную
статую Свободы и понимает страшную истину: в результате
космического путешествия через две тысячи лет он попал об¬
ратно на Землю, пережившую атомную катастрофу и гибель че¬
ловеческой цивилизации...
«Планета обезьян» дала начало целой серии картин, в кото¬
рой были использованы маски и декорации первого фильма.
В следующей серии, «По ту сторону планеты обезьян»,
герой, освободившийся из неволи, вместе со своей еще полу¬
дикой невестой Новой на одном коне, подобно героям вестер¬
на, скачут по берегу океана и в конце концов попадают к
людям. Оказывается, на планете сохранились остатки челове¬
ческой цивилизации. Полуразрушенным тоннелем нью-йорк-
234
Заключительная, пятая се¬
рия «Битва за планету
обезьян»
ской подземки герои выходят к массивному зданию фондо¬
вой биржи, к уцелевшим людям. Это странное племя, которое
поклоняется атомной бомбе, выставленной в центре огромного
зала, и обладает способностью к телепатии. (Характерно,
как массовое искусство, современный кинобульвар использует
расхожие идеи фантастики, сенсационные проблемы науки, по¬
литической жизни и быта.)
Последние люди, одетые в белые капюшоны, оказывается,
могут воздействовать на мозг своих противников, вызывая
в них агрессивные инстинкты, и тогда Хестон-Тейлор начинает
душить свою возлюбленную Нову. Один из самых страшных
кадров фильма, когда люди снимают капюшоны, снимают че¬
ловеческие лица — они оказываются масками, а под ними —
обезображенные, покрытые язвами, лишенные кожи черепа му¬
тантов, поколения которых подвергались радиоактивному воз¬
действию, — еще одна муссируемая в фантастике идея
реализуется на экране.
В сущности, все обезьянье государство сделано в духе
фельетона, комический эффект которого в том, что аксессуа¬
ры человеческой жизни перенесены на обезьян. Если у Пьера
Буля обезьяны — это люди, доведенные до обезьяньего со¬
стояния, то в фильме обезьяны смешны просто тем, что они
занимаются привычными людскими делами. Обезьяны парятся
235
в бане, две обезьяны-женщины спорят, как лучше выкармливать
младенцев — искусственным молоком или грудью. Воинствен¬
ная горилла на митинге призывает начать борьбу за жизненное
пространство, обезьяны-хиппи выходят с лозунгами «лучше лю¬
бовь, чем война», обезьяны-солдаты учатся приемам штыково¬
го боя. Сценарист Пол Ден и режиссер Тед Пост остраняют
быт, политику, нравы человеческого общества, перенося их
в общество обезьян, однако делают это по большей части без
сатирического прицела, просто чтобы позабавить зрителя.
Фильм получает видимость злободневности и проблемности
и в то же время остается зрелищем и развлечением. Это
и есть в основе своей задача фантастики второго эшелона,
которая лишь иногда ухватывает настроения и внутренние им¬
пульсы массового зрителя.
Произошло ли это в фильме «По ту сторону планеты
обезьян»? Пожалуй, картина осталась просто развлечением.
В финале обезьяны уничтожают людей. Бомба взрывается,
планета гибнет в атомном взрыве. Но две наиболее симпатич¬
ные обезьяны сумели улизнуть в космос, чтобы начать на
другой планете новую обезьянью цивилизацию и дать материал
для третьей серии — «Бегство с планеты обезьян». А затем
четвертую и пятую серии — «Завоевание планеты обезьян» и
«Битва за планету обезьян», в которых авторы настолько выдох¬
лись, а зрители устали, что даже фирма «XX век Фокс» поняла:
«обезьянья жила» иссякла.
При всей подчиненности современной экранизации антиуто¬
пии кинематографическим канонам — в ней, как и в антиутопии
литературной, сохраняются некоторые устойчивые структур¬
ные особенности. Прежде всего это активная на всех «этажах»
произведения роль прошлого, существующего как некая точ¬
ка отсчета, постоянный сюжетный мотив и фабульный ход.
Отношение к прошлому — критерий оценки героя. Люби¬
мый персонаж Бредбери в «Фаренгейте» Кларисса все время
вспоминает и рассказывает про то, что «было очень давно»,
«тогда все было иначе». «Тогда люди считали, что у всех
должно быть чувство ответственности», тогда автомобили ездили
со скоростью сорок километров в час или их не было вооб¬
ще, а люди вечерами не смотрели на экран, не слушали радио,
а просто разговаривали.
С другой стороны, злой демон, идеолог антикнижной ци¬
вилизации брандмейстер Битти тоже вспоминает о прошлом
236
как о времени, «когда все это началось». Прошлое, как не¬
приятие настоящего и как опора его, делит героев фильма.
В большинстве антиутопий прошлое противоположно на¬
стоящему, и потому правители предписывают его забыть
или уничтожить, а герои, борясь с существующим порядком
вещей, настойчиво ищут его следы. Запрещено изучение
истории в государстве Альфавиль и в «Прекрасном новом
мире» Хаксли. И важнейший сюжетный мотив «1984» — на¬
стойчивые поиски Уинстоном Смитом следов, фрагментов под¬
линного, неискаженного прошлого. Его беседы со стариком
рабочим, который все забыл, его бессознательная тяга к лавке
антиквара. В «другом» прошлом он настойчиво ищет опору
для борьбы.
Встреча с прошлым, как уже отмечалось, — фабульный ход,
внутренняя идея «Взлетной полосы» Маркера. Примечательно,
что герой, который среди своих странствий во времени встре¬
чается с людьми будущего, отказывается уйти с ними, его
властно влечет к себе прошлое: фруктовый сад, домик в зе¬
лени, залитый солнцем, голуби, пьющие воду из лужи, смею¬
щееся лицо девушки.
Во всех романах и фильмах, рисующих жуткое будущее,
прошлое — представляемое, вспоминаемое или посещаемое —
это «милое» прошлое, «солнечное» прошлое, «неторопливое»,
«безмятежное» и «ласковое». Его трудно точно датировать —
у Бредбери оно расположено где-то там, до социальных по¬
трясений нашего века, у Уэллса отнесено еще дальше — в
викторианскую Англию. Точнее сказать, это даже не времен¬
ной период, а некое эмоциональное состояние, предмет автор¬
ской тоски. Это острова покоя, патриархальности, устройство
жизни, еще не перемолотое жерновами технического прогрес¬
са и современной цивилизации.
Пожалуй, можно сказать, что антиутопия — это од¬
новременно утопия о прошлом. Ее авторы и герои находят¬
ся в постоянных «поисках утраченного времени».
Но тот же Маркер сурово отбрасывает утопические иллюзии.
Его герой умирает, встретив в прошлом на взлетной полосе
Орли самого себя ребенком. Человек не может переиграть
свою жизнь и жизнь общества. Прошлое закрыто.
Еще одна постоянная черта структуры антиутопии проявля¬
ется в ее герое. Этот герой обычно чужак, как в фильме
Кавани «Каннибалы», попадающий в город разгромленной
революции и по непониманию или незнанию нарушающий
приказы властителя. Или это даже инопланетянин Меру, попа¬
дающий на Сорору и отстаивающий право быть мыслящим
237
человеком в царстве обезьян. Либо это опять-таки чужак Лемми
Кошен в «Альфавиле», защищающий естественные человеческие
чувства с пистолетом в руках.
Другая категория героев — люди, как бы просыпающиеся
от спячки, от гипноза и сознающие Свою естественную природу,
свое призвание. Монтег в «451° по Фаренгейту», Наташа в
«Альфавиле». До странности похожими словами описывают ав¬
торы их возрождение — когда с трудом разлепляются губы и
Наташа с усилием говорит «Я тебя люблю». И читает медленно
свои первые печатные строчки Монтег. Пробуждение для
них — одновременно восстание.
Какова же социальная и философская природа этого героя,
противостоящего мрачному миру антиутопии? Авторы всех
произведений определяют его как естественного человека,
обладающего нормальными реакциями, потребностями и,
главное, отстаивающего плохо или хорошо, успешно или без¬
успешно свою личность. По сути дела, в постоянном конфликте
человека и государства в антиутопии нашел свое выражение
страх перед тоталитарными фашистскими тенденциями совре¬
менного империализма, перед реальностью научно-технической
революции на Западе, превращающей человека в деталь си¬
стемы, в одномерного потребителя «массового общества».
Однако довольно быстро выяснилось, что героям большин¬
ства антиутопических фильмов, в сущности, нечего противопо¬
ставить технократической, тоталитарной концепции мира, кроме
защиты «естественной природы» человека. Картина Трюффо с
ее отстаиванием ценностей культуры в этом смысле исключе¬
ние. А борьба за «естественную природу» человека, не соеди¬
ненная с социальным идеалом, закономерно должна была
свестись к упованию на биологическую сущность индивида, на
первобытность, сопротивляющуюся всякой дисциплине, всякому
ограничению. Традиционная гуманистическая концепция начала
распадаться.
Авторы всех до сих пор рассматриваемых фильмов исхо¬
дили из убежденности в изначальной доброте человека, душу
которого коверкает и стирает индивидуальность тоталитарное
общество. Добро и зло распределились на полюсах: личность —
общество. Но в 1971 году появился фильм, где привычное со¬
отношение было нарушено, а концепция современного человека
радикально пересмотрена. Этот фильм — «Заводной апельсин».
Принципиальная особенность и шаг к последнему пределу
отчаяния этой картины состоит в том, что вина за кошмар
будущего возлагается не на государства, как в «Альфавиле», —
стоит разрушить электронный мозг и убить профессора Брауна,
238
и жители в домах, залитых солнечным светом, вспоминают о
человечности и учатся любви. Не на массовые средства ком¬
муникации— стоит научиться читать хорошие книги, и жизнь
меняется. Не на вещи трансцендентные. Но на самого чело¬
века. На глубинную, сокровенную суть его существа, властно
сообщающую ему два мощных импульса — насилие и секс.
...Во весь экран — глаза... два сумасшедших ока с расши¬
ренными бешеными зрачками, вывороченными белками смот¬
рят на нас, людей сегодняшнего дня, — смотрят, не мигая, упор¬
но, изучающе. Один глаз подведен, загримирован, другой —
не тронут. Л потом камера отодвигается. Раз — и на экране
лицо героя, длинные волосы, во^аленные губы, чаплиновский
котелок и кажущийся столь неуместным бокал с молоком в
поднятой руке. Два — еще отъезд камеры, и в кадре его то¬
варищи: накрашенные губы, клоунский грим, длинные волосы,
черные котелки и белые комбинезоны с гульфиком как рыцар¬
ским знаком отличия. Три — и открывается бар «Молочная ко¬
рова»: столы в виде голых женских фигур, как бы делающих
«мостик», волосы, покрашенные в разные цвета, и «натуральная»
белизна тела — бокалы с молоком и коктейлями располагаются
на животе. Молоко течет струйкой из женской груди.
Постепенно, как бы ступенчато, рывками, вводит Стэнли Куб¬
рик в жутковатый мир близкого будущего. От глаз, от сути
человека к миру, определенному этими глазами, этой сутью.
Ибо в этой картине не человек «совокупность общественных
отношений», а мир, общество — производное от сути человека.
Сути, которую нельзя изменить, не разрушив саму личность.
И как только мы успеваем осмотреться в этом мире,
где, в сущности, нет ничего фантастического, лишь сгущены,
заострены черты моды в костюме и декоре, звучит голос героя,
повествующего о самом себе: «Так мы сидели и думали, что
мы будем делать дальше». Рассказчик как бы отчуждает про¬
исходящее, он становится между зрителем и событием, снимая
сиюминутность, непосредственность. Это не внутренний моно¬
лог, а прошедшее время — «сидели и думали», рассказ об уже
случившемся, не совершающееся, но свершенное.
Все кровавое, жуткое увидено как бы сквозь толстое, но
абсолютно прозрачное стекло времени. В этом смысле картина
Кубрика резко отличается от натуралистической спекулятив¬
ности поделок типа «Рожденных неприкаянными», воздействую¬
щих чисто физиологически, ударяющих зрителя тошнотвор¬
ностью бессмысленно жестоких подробностей. Здесь холодная
отстраненность, внеучастие, чувство дистанции, даже когда
применяются самые крупные планы и короткофокусная оптика.
239
От «Молочной коровы» начинает свой вечерний променад
банда Алекса, и вот уже щегольские тросточки ввинчиваются
в живот старика нищего: «терпеть не могу этих самодовольных
старых пьяниц» — ногами в лицо, в живот... И хриплые стоны
сменяет радостная, безмятежная увертюра Россини к «Сороке-
воровке». В кадре гирлянда цветов, порхающие амуры — милый
XIX век. Камера, задержавшись на секунду, движется дальше,—
оказывается, это потолок театра, пустого, заброшенного, а на
сцене другая банда юнцов забавляется с девицей. Они пере¬
брасывают ее из рук в руки, постепенно сдирая одежду;
это не удовлетворение похоти, сексуального голода — это сла¬
дострастие насилия, они не спешат, они наслаждаются ее бес¬
помощностью. Банда свиньи Вилли! Маскировочные пятнистые
комбинезоны парашютистов, нацистские фуражки с кокардой,
железные кресты на шее, может быть, только в этих костюмах
да в кадрах нацистской хроники, которые пройдут потом перед
глазами Алекса в эпизоде промывания мозгов, Кубрик наме¬
кает на некоторые генетические связи своих героев с эпохой
нацистских концлагерей. Да и то трудно сказать, есть ли здесь
для него причинная связь или сходство форм выражения наси¬
лия, заимствованная символика.
Две банды лицом к лицу, выхвачены пружинные ножи,
вынуты из тростей кинжалы, и под грациозную, идиллическую
музыку «Сороки-воровки» начинается драка — по выразитель¬
ности и жестокости трудно вспомнить равную ей в истории
кинематографа. Кубрик показывает ее монтажно, выхватывая
отдельные мгновенные фазы. Прыжок навстречу друг другу,
бутылка с отбитым дном направлена в лицо; удар головой в
живот, разбивая стекла телом, парень вылетает в окно; белые
комбинезоны, сплетаясь с пятнистыми, катаются по полу, и над
всем этим — чистая, праздничная музыка, контрапунктом уси¬
ливающая, остраняющая жуть кровавой схватки. Прием соеди¬
нения музыки и изображения по контрасту Кубрик применяет
на протяжении всего фильма. И это не только ударный аттрак¬
цион, но наглядное выражение дуализма и расщепления че¬
ловеческой личности и культуры. Алекс упивается музыкой
Бетховена, и она же провоцирует его сексуальные желания,
его жажду крови и насилия.
Поражающая зрителя и критику загадка Алекса, сочетающего
в себе тягу к красоте и жажду насилия, была предложена уже
Достоевским в исповеди Мити Карамазова: «Перенести я при¬
том не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом
высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содом¬
ским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе
240
не отрицает и идеала Мадонны... Нет, широк человек, слишком
даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что!
Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой.
В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для
огромного большинства людей, — знал ты эту тайну или нет?
Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинст¬
венная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы —
сердца людей»85. Проблема, таким образом, не рождена
сегодняшней действительностью, она лишь усугублена ею.
И если Достоевский возлагал надежды на религию, то у Куб¬
рика, как увидим далее, нет этих надежд. Религия беспомощна,
а науке и государству он отказывает в праве вмешиваться в
поединок добра и зла в душе человека.
После эпизода в театре разгоряченные дракой победители
мчатся на украденной спортивной машине по узкому просе¬
лочному шоссе. Мчатся против движения, заставляя сворачи¬
вать встречные машины в кювет. Четыре накрашенные морды
в трансе скорости и восторга летят на нас, приближаются, за¬
полняют весь экран... Это будущее стремительно надвигается,
обрушивается, и некуда свернуть и убежать. Кубрик как будто
бы не обращается впрямую к зрителю с мрачными пророчест¬
вами, в фильме нет «рупора идей», но часто, как рефрен,
то смотрящий пристально на нас Алекс, то плывущие к нам
в воздухе, размахивая тросточками, то мчащиеся на машине, —
кажется, сейчас врежутся в зал — юнцы «поколения икс». Ме¬
тафора столкновения с будущим, его неумолимого приближе¬
ния реализована наглядно и сильно.
...Путешествие заканчивается в доме писателя — самом
страшном эпизоде фильма.
Сначала камера перебрасывается в эту «модерновую»
комнату — обитель современного интеллектуала. Огромный
письменный стол, светлые стеллажи с книгами, за длинной об¬
текаемой то ли пишущей, то ли электронной машиной священ¬
нодействует писатель — желтый домашний халат, высокий лоб
с залысинами, аскетическое лицо олимпийца. А в кресле-
раковине, поодаль, его молодая жена в красном платье с книж¬
кой в руках. Умная, налаженная, покойная жизнь духовной
элиты и трагически незащищенная, как показывает режиссер.
Она разлетается в пыль с трелью дверного звонка, после ко¬
торого в комнату гогоча вваливается банда Алекса. Опрокиды¬
ваются стеллажи с книгами, связанный писатель, как ящерица,
извивается на полу с биллиардным шаром вместо кляпа во
рту, с лейкопластырем, обмотанным вокруг нижней части лица,
его бьют ногами в живот, в пах. А Алекс, напевая и притан-
241
«Заводной апельсин», Стэн¬
ли Кубрик. Предводитель
молодежной шайки Алекс
(Малькольм Макдоуэлл)
запивает наркотики моло¬
ком.
Его обычное развлечение
цовывая, «готовит» его жену. Как художник или повар, разде¬
лывающий блюдо, он сначала ножом отрезает лоскутья платья,
обнажая грудь, и отступает, чтобы полюбоваться на свою ра¬
боту, потом разрезает платье на животе и, как кожу, снимает
его с женщины, потом, чтобы она не кричала, заклеивает ей
рот пластырем, и обнаженное женское тело судорожно, молча
извивается в руках его «ассистента», и только после этого
начинает раздеваться сам, не забыв пригласить старичка писа¬
теля «посмотреть спектакль». И вся эта сцена идет под мечта¬
тельную, шаловливую и возвышенную музыку.
Знаменательно, что каждый раз во время очередного по¬
хождения Алекс надевает карнавальную маску с длинным
носом. Это можно истолковать как предосторожность, чтобы
жертвы не могли его потом узнать. Но думается, что карна¬
вальная маска несет более глубокий психологический и симво¬
лический смысл. Она возникает как выражение раскрепощения,
радостной вседозволенности, здесь приобретающей зловещий
смысл. Для Алекса, как его играет Малькольм Макдоуэлл,
насилие — это праздник высвобождения того зверя, который
сидит в нем. Это насилие-танец, избиение-пляска, бешеная
езда на автомобиле — опьяняющая радость.
Что же представляет собой Алекс, ставший главным героем
статей, рецензий и философских эссе, в бесчисленном количест-
242
243
ве появившихся по поводу «Заводного апельсина»? Каковы
причины его жестокости?
В своем интервью по поводу «Заводного апельсина», от¬
вергая обвинения в том, что его фильм провоцирует насилие,
Кубрик замечает: «Нет точных доказательств того, что насилие
в кино и телевидении порождает социальное насилие.
Сосредоточиться на этом аспекте проблемы — значит упу¬
стить главные причины, которые я мог бы назвать в порядке
очередности:
1. Первородный грех: религиозная точка зрения.
2. Несправедливая экономическая эксплуатация: марксист¬
ская точка зрения.
3. Эмоциональная и психологическая неполноценность: пси-
хо-аналитическая точка зрения.
4. Генетические факторы, базирующиеся на «У» хромосом¬
ной теории: биологическая точка зрения.
5. Человек обезьяна-убийца: эволюционаристская точка
зрения86.
При всей внешней объективности в изложении различных
теорий агрессии и насилия Кубрик, как показывает фильм,
склоняется к фрейдистской точке зрения. Комментируя карти¬
ну, он замечает: «Если вы посмотрите на историю не на со¬
циальном и моральном уровне, но на психоаналитическом, то
вы можете счесть Алекса воплощением «Ид». Он живет внутри
всех нас»87. Здесь уже все сказано прямо и в терминах пси-
хоализа. И точно иллюстрируя природу эмоций своего героя,
Кубрик делает эпизод, непонятный вне фрейдовской симво¬
лики. Алекс забирается в дом к «кошачьей леди» — пожилой
одинокой даме, увлекающейся йогой, кошками и эротическим
искусством. Как всегда красноречивый, сгущенный до символа
кадр: в центре комнаты в зеленом трико стоит на голове
женщина, вокруг — на ковре, на стульях и столах — бесчислен¬
ные кошки и огромное скульптурное изображение фаллоса на
специальной подставке у двери. Потом он станет орудием
убийства. Пока ему отведена роль молчаливого комментатора.
Когда Алекс влезает в дом через чердачное окно и начи¬
нается его перебранка с хозяйкой, то каждое свое оскорбле¬
ние он как бы подчеркивает, ударяя кулаком по подставке,
и фаллос, как ванька-встанька, раскачивается, поднимаясь и
опускаясь по краю кадра, все время участвуя в действии,
обнажая его сокровенный смысл.
А потом он становится тем оружием, той фехтовальной
рапирой, той мужской защитой, которой Алекс обороняется
от взбесившейся фурии, нападающей на него с бронзовой
244
статуэткой Бетховена в руке (Бетховену вообще «повезло»
в этом фильме: то он «провокатор» жестоких видений Алекса,
то орудие нападения). И, наконец, Алекс поднимает скульпту¬
ру над распростертой навзничь на полу «кошачьей леди» и раз¬
давливает, убивает ее тем, что. было для нее богом и врагом.
Смертью утверждая власть Мужского.
Любопытно, что всю сцену поединка Алекса с «кошачьей
леди» Кубрик снимал сам ручной камерой, то с ее точки
зрения, то с его, как поединок мужчины и женщины. Здесь он
пользуется короткофокусной оптикой, искажающей иногда почти
неуловимо, иногда весьма резко лица и обстановку, придающей
всей этой сцене фантасмагорический, ирреальный характер. Но,
как почти всякий технический прием, короткофокусная оптика
«работает» у Кубрика на идею, и в ее рефренности про¬
глядывает определенный смысл.
Действительность точно деформируется, выворачивается,
корчит гримасу всякий раз, прежде чем выплюнуть самое гнус¬
ное, что прячется в ее чреве.
Алекс зависит от своего «Ид», подчинен ему. Даже музыка
Девятой симфонии Бетховена то рождает в его воображении
сцену драки, залитые кровью лица, то представление о любви
втроем с двумя девицами, которых он встречает в магазине
пластинок. Кубрик решает это видение иронически, даже ко¬
медийно. Постельные сцены развертываются в убыстренном
темпе, как мультипликация с пропуском кадров, рваными,
синкопическими движениями, сам Алекс видится себе вопло¬
щением мужской силы.
Как многие фантастические фильмы, картина Кубрика
представляет собой философскую притчу, где образы сгущены,
доведены до символа. При этом центральный образ Алекса
одновременно и символ и живая личность. Кубрик — худож¬
ник, а не социолог или психоаналитик. Его не столько ин¬
тересуют корни этого характера, сколько увлекает возмож¬
ность разнообразно показать «воплощение зла» в его отврати¬
тельности и притягательности. Сам режиссер сравнивает Алекса
с Ричардом III, указывая на его абсолютную прямоту, свое¬
образное обаяние и энергию.
Алекс — воплощение зла. Но именно воплощение того, что
разлито в жизни и лопается пузырями гнилостного газа в бо¬
лоте общества. Частица его в полицейском, который во время
допроса нажимает пальцами на разбитую переносицу Алекса,—
нужно заставить говорить, но и приятно мучить. В опекуне и
адвокате Алекса, старом гомосексуалисте и импотенте, застав¬
ляющем героя рассказывать подробно все его похождения и
245
сопереживающего им. В тюремной процедуре унижения че¬
ловека и удовольствии властвовать.
Как и многое в фильме, тюрьма показана Кубриком иро¬
нически в ее полной неспособности кого-то исправить, причем
утверждает это автор без всякого пафоса — это как бы вы¬
носится за скобки: «охраняющие» и «отбывающие» вполне могли
бы поменяться местами. Тюрьма вообще наименее изменив¬
шийся институт общества в будущем у Кубрика.
Но не в изображении всеобщего универсального зла нерв
проблематики фильма. Есть ли сила, способная исправить или
хотя бы сдержать Алекса, а, следовательно, зло вообще, и если
это возможно, то не будет ли успех достигнут ценой победы
над человеком, разрушением его личности — вот главный
вопрос картины.
Кубрик последовательно подвергает своего героя испы¬
танию искусством — но самая мощная и прекрасная музыка
вызывает у него кровавые видения: под аккорды Девятой
симфонии он режет товарищу вены и «занимается» с девочками.
Испытанию религией — Алекс в тюрьме читает священное
писание, и в воображении его проносятся картины славной
потасовки, которую он учинил бы на Голгофе с римскими вои¬
нами. Испытанию исправительной системой — но внешняя по¬
корность Алекса не обманывает даже тюремщика. Все тщетно.
И тогда начинается центральная сцена фильма: Алекса подвер¬
гают «промывке мозгов». Вернее, сам он вызывается на эту
операцию по уничтожению агрессивных инстинктов, ведь на¬
градой за успех будет немедленное освобождение.
В фильме Кубрика явственно различима его трехчастная
структура: похождения Алекса, потом тюрьма, лечение и, на¬
конец, судьба «излеченного» героя по выходе из тюрьмы. Клас¬
сическая структура эксперимента.
Поведение объекта в естественных условиях, сам экспери¬
мент и объект после воздействия. И если для непосвященного
зрителя наиболее интересна и информационно богата первая,
констатирующая часть, то особый интерес на Западе вызвали
как раз вторая и третья, рассматриваемые как аргумент в
жгучем споре, развернувшемся сегодня среди социологов, фи¬
лософов и перекинувшемся даже на страницы общей прессы.
И понять фильм Кубрика, его структуру, сумму идей можно,
только учитывая тот духовный климат, ту интеллектуальную
ауру, в которой он возник.
Кубрик, конечно, не случайно обратился к роману Антони
Берджеса «Заводной апельсин», вышедшему задолго до фильма
и не вызвавшему при своем появлении особого интереса. Се¬
246
годня его проблематика оказалась необычайно интересной в
связи со спором вокруг книги знаменитого психолога, профес¬
сора Гарвардского университета Берхаза Фредерика Скиннера
«По ту сторону свободы и достоинства». По мнению Скиннера,
сегодня западная цивилизация может выжить, только отказав¬
шись от суверенных прав личности, от священных принципов
свободы и достоинства, которые есть не более чем фантомы.
Ибо, утверждает Скиннер, поведение человека, его желания,
стремления, его внутренний мир целиком предопределены
внешними обстоятельствами, как и поведение любого биоло¬
гического организма. И так же, как, меняя эти внешние об¬
стоятельства, можно моделировать поведение любого животного
(например, как это сделал сам Скиннер, научить мышей тан¬
цевать, а голубей играть в пинг-понг), так же точно можно про¬
граммировать не только поведение человека, но и его внут¬
ренний мир, его эмоции и поступки. Но для того чтобы раз¬
работать науку о поведении человека, необходимо отказаться
от фетишей священного, неприкосновенного внутреннего мира
личности.
Конечно, эта книга с ее программным отказом от гумани¬
стических ценностей является нагляднейшим свидетельством
духовного кризиса западной цивилизации. Скандал вокруг нее
понятен: впервые идея, рассматриваемая лишь в фантасти¬
ческих романах Замятина, Хаксли и других, как порождение
адского умысла диктаторов, безответственной власти, выска¬
зана не писателем, а предложена специалистом и подкреплена
авторитетом ученого с мировым именем. Из области фанта¬
стики она перешла в область суровой практики.
Фильм Кубрика есть как бы реализация и художественная
проверка и, забежим вперед, опровержение идей Скиннера.
Алекс в специальном шлеме, с датчиками на голове, сидит,
плотно привязанный к креслу, веки растащены захватами.
И перед ним на экране разворачивается все аналогичное тому,
что он делал сам или представлял в сладостных фантазиях.
Поначалу его голос рассказывает нам, опять-таки как о прош¬
лом, пережитом, что испытывал он под воздействием демонст¬
рируемой жестокости и секса, что воспринимают его немигаю¬
щие глаза: одна девочка, потом еще одна девочка, потом
кого-то бьют, хорошо бьют. А потом, братья мои, я вдруг
почувствовал, что мне не хочется дальше смотреть и даже
тошнит от всего этого. Алекс кричит, извивается в кресле,
но люди у пульта в белых халатах лишь усиливают воздейст¬
вие раздражителей, и рука врача беспрерывно капает что-то
из пипетки в расширенные зрачки пациента. Они совершенно
247
бесстрастны, эти врачи, проводящие эксперимент над животным
по классу «хомо сапиенс». И на какое-то мгновение возникает,
должно быть, программированная Кубриком ассоциация с
нацистскими врачами в Освенциме, недаром же на экране перед
Алексом появляются и документы нацистских зверств.
Здесь выражено то беспокойство Кубрика движением науки,
которое он прямо сформулировал в одном из своих интервью,
вспомнив про испытания атомной бомбы, — «пример неосто¬
рожности со стороны науки, когда она захвачена соблазни¬
тельной проблемой».
Сам эксперимент можно рассматривать как чисто меди¬
цинскую процедуру, аналогичную той, которая применяется
при лечении пьянства. Препарат, вызывающий тошноту, впры¬
скивают перед тем, как демонстрируют кадры насилия, вызывая
тем самым условный рефлекс отвращения ко всякому агрес¬
сивному поступку. Но механизм реакций героя не исчерпыва¬
ется физиологическим рефлексом. Он расшифровывается в
свете фрейдистского понимания культуры и взаимодействия
между сознательным и бессознательным в человеке. В реаль¬
ной жизни видения, мечты Алекса возникают как свободный
ответ на музыку Бетховена и другие импульсы человеческой
культуры, как протест «Ид» против дисциплины этой культуры.
Во время лечения порождения его «Ид» приписываются ему
насильственно, извне и вызывают отталкивание как близкая по
структуре, но чужеродная ткань, как нападение на его «осо-
бость», на его независимое подсознание. Исчезает уникаль¬
ность его реакций на внешний мир, его сокровенное возвра¬
щается ему как предписание, рушатся последние рубежи
личности. Из него вынимают сердцевину. И на демонстрации
превращенного, освобожденного от агрессивности пациента
он целует подошву избившего его лаборанта и под бурные
аплодисменты собравшегося общества блюет после неудачной
попытки обнять обнаженную соблазняющую его женщину.
Третья и заключительная часть фильма — голгофа «изле¬
ченного» Алекса, вернувшегося в общество, которое его вы¬
бросило, Эта часть может показаться беднее по своей факту¬
ре, проще по мотивировкам, очевидней, чем предыдущие.
И это естественно. Ибо, как положено в фильме-притче, в
фильме-эксперименте Алекс повторяет свой маршрут из первой
части, встречаясь с родными, товарищами и жертвами. И уже
первая сцена — иронический и горький парафраз возвращения
блудного сына. Рыхлая старуха в красном платье с разрезом
и высоких красных сапогах — мать, лысый мужчина в новом ярко-
желтом галстуке — его отец. Они больше испуганы, чем рады,
248
увидев блудного сына, стоящего перед ними, прижавшего к
груди узелок с пожитками. Его вещи исчезли, в его комнате
живет молодой развязный парень, ставший одновременно
приемным сыном и любовником матери. Он отчитывает Алекса.
И тот, вспыхнув, поднимает кулак, чтобы разбить наглую морду
обидчика, но неудержимый приступ рвоты перегибает его
пополам. Как бык в опытах профессора Дельгадо, остановлен¬
ный во время атаки простым нажатием кнопки, замыкающей
реле в его мозгу, Алекс хочет ударить и не может. И он
уходит из своего дома.
Так начинается его крестный путь. Его встречает нищий,
над которым он издевался, и целая стая стариков набрасы¬
вается на парня, корчащегося в судорогах от этой ненависти,
бьет его палками, ногами до тех пор, пока его не отнимают
двое полицейских, оказавшихся его бывшими товарищами по
банде. И они в свою очередь, зная о беззащитности Алекса,
долго с удовольствием мучают его, окуная в корыто с водой,
избивая со вкусом, сосредоточенно, умело. Так выясняется,
что человек, лишенный агрессивных инстинктов, способности к
насилию, не может выжить в этом мире. И если вытравить эти
инстинкты довольно сложно, то возбудить их самим зрелищем
беззащитности довольно легко. Все его жертвы готовы стать
мучителями, подчиненные — господами.
У человека в современном мире, оказывается, лишь одна
альтернатива — быть жертвой или палачом. Или ты — или тебя!
К такому безнадежному выводу подводит фильм Кубрика.
Но и это не единственный вывод.
Самые большие страдания испытывает Алекс не от других,
а от самого себя, от своей неспособности делать то, что он
хотел бы делать. Он не преображен — ударить, убить, овла¬
деть ему хочется. Он оскоплен. Уничтожена воля к действию.
Его муки — это муки евнуха, утерявшего способность к дето¬
рождению, муки человека, утерявшего свободу своих действий,
превращенного в «Заводной апельсин».
И не случайно месть писателя, к которому он попадает в
дом, заключается в том, что Алекса заставляют слушать музыку
Бетховена. Ранее она рождала у него сокровенные образы на¬
силия и секса, теперь напоминает о невозможном, возбуждает
желание покончить с собой. И Алекс выбрасывается из окна,
его глазами увидена стремительно надвигающаяся и раскалываю¬
щаяся земля (Кубрик шесть раз бросал из окна работающую
камеру, пока она не ударилась в землю объективами). И это
еще один аргумент против Скиннера: человек, сведенный до
положения робота, не может не ощущать своей утраченной сво¬
боды и достоинства, своей неполноценности.
249
/i/
Фильм Кубрика сатирически
показывает буржуазные
институты власти, в том чис¬
ле и тюрьму
Министр внутренних дел сам
кормит Алекса. Этот сати¬
рический кадр венчает ис¬
торию взаимоотношений
преступника с государством
«Я думаю, что главная нравственная идея книги (романа
Берджеса.— Ю. X.) ясна,— сказал Кубрик.— Необходимо для
человека иметь право выбора между добром и злом. Даже если
он выбирает зло. Лишить его этого выбора — значит сделать из
него нечто меньшее, чем человека,— заводной апельсин»88.
Несомненно, эта формулировка относится и к фильму. Куб¬
рик не предлагает лекарств и путей спасения. Он не доктор, он
диагност. Художник пророческого склада и одновременно скеп¬
тического ума, Кубрик в финале картины показывает, какие по¬
литические спекуляции могут развернуться в будущем вокруг
скиннеровских идей. Министр внутренних дел выступает в филь¬
ме инициатором применения психологических лекарств для ле¬
чения социальных болезней. Случай Алекса для него — возмож¬
ность сделать карьеру. Кубрик, кстати, с негодованием отверг
домыслы некоторых критиков, будто изображенное им общест¬
во — коммунистическое, заметив, что министр, конечно, тори, а
не социалист.
С другой стороны, либералы, выступающие за «человеческие
свободы», надеются свалить правительство, если опыт кончится
неудачей и Алекс умрет. Поэтому они провоцируют его само¬
убийство. Личная месть писателя и задачи его партии слива¬
ются воедино. Обоим лагерям наплевать на данного конкретного
парня, на человека вообще — важны «тактические интересы и
стратегическая линия». И когда Алекс выживает, то министр рад
его обратному «выздоровлению», тому, что пациент остался не¬
вредим. В финальных кадрах фотоаппараты корреспондентов
запечатлевают объятия сияющего министра и Алекса с его наглой
ухмылкой. Звучит музыка Бетховена, и герой с удовольствием
представляет сексуальную сцену. Выздоровление окончатель¬
но — Алекс, как он есть, интегрирован государством, он нужен,
он полезен.
Кубрик сам недвусмысленно ответил на вопрос о политиче¬
ском выводе фильма в одном из интервью: «Отныне правитель¬
ство использует насилие со стороны отбросов общества для сво¬
их собственных целей, союз с Джорджем и Димом ставшими
полицейскими, и, разумеется, с Алексом. Финальную сцену сле¬
дует рассматривать в ее сатирическом контексте. «Я, наконец,
выздоровел!» напоминает тут крик доктора Стрейнджлава: «Мой
фюрер, я иду!» Когда мы видим, как Алекс, словно ребенок,
кормится с ложечки этим обществом — тоталитарным и пол¬
ностью коррумпированным,— это вызывает сначала смех, а за¬
тем представляется отличным символом».
Кубрик один из режиссеров, постоянно возвращающихся к
социальной фантастике. «Доктор Стрейнджлав», «Космическая
251
Одиссея», наконец, «Заводной апельсин». При этом два его по¬
следних фильма могут показаться сделанными разными автора¬
ми, настолько противоположны их пафос, выраженное в них пред¬
ставление о будущем, стиль и тон рассказа. Восхищение силой
разума, созидательным гением человека, гордая уверенность в
его вечном стремлении к знанию. И безнадежное ощущение
неизбывного зла в человеке, неверие в возможность его ис¬
правления, роковая альтернатива палача — жертвы в современ¬
ном мире. При этом вряд ли можно говорить о резком изме¬
нении взглядов или идейной беспринципности режиссера.
Каждый раз Кубрик избирает близкое будущее, собственно
говоря, то настоящее, в котором некоторые тенденции доведе¬
ны до своего логического предела. Но что делать, если сами
эти тенденции в капиталистическом мире так разнонаправленны.
Если одновременно с экспедициями «Аполлонов» происходили
«ковровые бомбардировки» Вьетнама и открытие тайн генети¬
ческого кода рядом с необъяснимым по жестокости и массовос¬
ти разгулом молодежной преступности. Если невиданные успехи
человеческого знания пришли в такое сокрушительное несоот¬
ветствие с моральным опустошением человека.
Творчество Стэнли Кубрика наглядно и драматично отражает
эти противоречия западной цивилизации.
Жизнь не стоит на месте. И идеи также проходят свой цикл
развития, отражая эволюцию самого общества. Стэнли Кубрик
показывал социальную угрозу, заключенную в Алексе, но еще
более угрожающей представлялась ему тенденция «промывки
мозгов», программирования человека. Пусть уж лучше Алекс
останется таким, как есть, чем станет духовно, психически оскоп¬
ленным существом, заводным апельсином, как бы говорил ху¬
дожник. Позиция противоречивая, компромиссная, рожденная
скептицизмом, неверием в возможность выхода из тупика, в ко¬
торый зашло буржуазное общество. Однако через два года пос¬
ле «Заводного апельсина» появился фильм, в котором компро¬
мисс Кубрика преодолевается, правда, своеобразным способом.
Автор этого фильма известный режиссер Джон Бурмэн впервые
выступает в области фантастики, а картина его называется «Зар-
доз».
«Зардоз» — одно из самых популярных сегодня произведе¬
ний западной фантастики, знаменующее новый этап в развитии
ее идей и получившее широкий отклик в прессе. Ибо если Кубрик
еще боится агрессивности Алекса, видит угрозу обществу в раз¬
гуле жестокости, то для Джона Бурмэна в «Зардозе» насилие —
движущая сила общества, источник его жизненной силы. Не
случайно, конечно, на главную роль Зеда-«истребителя» Бурмэн
252
приглашает Шона О'Коннори, легендарного исполнителя Джейм¬
са Бонда, ставшего в западном кино символом физической пол¬
ноценности, воли и холодной, рассчитанной жестокости.
Начало фильма впечатляюще: из облаков на бесплодную пус¬
тынную равнину медленно опускается гигантская каменная голо¬
ва с искаженным гневом, злобой лицом греческой маски. Во
весь опор к ней мчатся всадники с такими же масками на ли¬
цах, они хватают оружие — винтовки, револьверы, патроны, ко¬
торые сыплются из искривленного в зловещей ухмылке рта ка¬
менной головы... 2293 год! На опустошенной атомной катастро¬
фой Земле царит новое беспощадное божество Зардоз, требую¬
щее от своих последователей покорять и убивать. Общество
разделено на касты: в нем есть «грубияны», производящие пи¬
щу, есть «истребители», которые держат грубиянов в подчине¬
нии и уничтожают излишек населения, есть, наконец, «бессмерт¬
ные» — элита общества — ученые, построившие для себя оазис,
куда закрыт доступ посторонним, где только избранные наслаж¬
даются комфортом, покоем, а главное, вечной молодостью.
И туда попадает Зед-«истребитель». Спрятавшись в каменную
голову, груженную продовольствием, он в ней прилетает в Вор-
текс, медленно, точно плывя, встает из зерна. Сначала появля¬
ется рука с пистолетом (прорастает из зерна как порождение
самой природы — многозначительная и очевидная символика), и
затем герой стреляет в зрителя, предвещая своим появлением
смерть и объявляя свое предназначение убивать. Попав в рай
Вортекса, Зед обнаруживает, что жители его совсем не так
счастливы своим бессмертием, оно обернулось бесплодием, ску¬
кой и нежеланием жить. Так и появляются среди бессмертных
«апатичные», безрадостно влачащие ношу ненужной им жизни,
и «ренегаты», пытающиеся покончить с собой, но это невоз¬
можно— их генетическая структура заложена в электронном
мозге, и разрушивший себя человек мгновенно восстанавлива¬
ется, его только наказывают старостью, которая тоже про¬
должается вечно.
Надо сказать, что в пластическом изображении общества да¬
лекого будущего, резко отличного от настоящего, Бурмэна
постигла явная неудача. Ощущение недостоверности, муляжа
все время присутствует в фильме, и дело не спасают сложные
комбинированные съемки, полиэкран, оптические эффекты,
применение стекла и пластмасс. По сравнению с фильмами
Кубрика в смысле декора это явный шаг назад. И если зрители
и пресса готовы простить недостоверность среды и фильм поль¬
зуется огромным успехом, значит, очень важными и своевре¬
менными показались его идеи.
253
«Зардоз». По мнению Джо¬
на Бурмэна, жестокость и
насилие естественны для
человеческого общества.
Их символ — пистолет в
руках Шона О'Коннори,
исполняющего главную роль
Зеда-« истребителя »
Жителям Вортекса противостоит Зед как воплощение насилия
и сексуальной мощи. Эти качества, оказывается, заложены в его
генетической структуре, что выясняют ученые дамы Вортекса,
анализируя его воспоминания, в которых мелькают кадры убий¬
ства и изнасилования женщины, пойманной в сеть. И именно эти
качества героя оказываются залогом его жизнеспособности и как
бы воплощением благодетельной силы самой природы.
Его живительная мощь оказывается способной вернуть из ле¬
таргии «апатичных»—слизывая его пот, прикасаясь к нему, они
становятся людьми. Его сексуальный магнетизм привлекает
всех встречающихся на его пути женщин-ученых. Его прямоли¬
нейная сила позволяет ему проникнуть в тайну управляющего
Вортексом супермозга и разрушить его. Падают стены, отделя-
254
ющие Вортекс от остального мираг и орды «истребителей» про¬
никают внутрь и режут, убивают «бессмертных», которые, хрипя,
корчась, плавая в лужах крови, благославляют своих убийц.
Аллегория очевидна. Если в Вортексе воплощен «инстинкт
смерти»* западного общества — придите и убейте нас! — то
Зед — Коннори столь же явно воплощает декадентский идеал не
обремененного знанием и культурой дикаря, чья животная при¬
рода и агрессивность являются воплощением жизненных сил
природы.
Пессимизм и антигуманизм получают здесь вполне последо¬
вательное воплощение. Режиссер прямо говорит в интервью
журналу: «Сайт энд Саунд»: «Я не только хотел поразмыслить
на тему, куда идет наше общество. Есть некоторые цели, к ко¬
торым мы стремимся,— долголетие, абсолютная гармония, сво¬
бода от болезней и так далее. Но так ли они хороши и действи¬
тельно необходимы?»89. Насилие и жестокость режиссер пред¬
лагает в качестве единственного двигателя человеческого про¬
гресса. Красноречив в этом смысле финал фильма. Зед и его
жена, бывшая обитательница Вортекса, рождают ребенка, ста¬
реют, умирают, и над их скелетами в пещере, как распятие,
как символ веры, висит запыленный револьвер героя.
Кризис западной культуры, ее традиционных ценностей вы¬
разился в этом фильме недвусмысленно и полно.
Антиутопия превращается в утопию, зовущую назад, к пер¬
вобытной дикости и жестокости.
И наконец, фильм Ричарда Флейшера «Зеленый Сойлент»,
который дает еще один и, может быть, самый мрачный ва¬
риант антиутопии.
Действие картины происходит в Нью-Йорке в 2022 году. На¬
селение города в результате неконтролируемой рождаемости
увеличилось до 40 миллионов человек. Люди спят прямо на
ступеньках жилых и общественных зданий, в огромных ночлеж¬
ках, прижатые друг к другу, — режиссер создает образ сдавлен¬
ного, кишащего людьми пространства. Всюду бесконечные оче-
Бурмэн не одинок в своем сомнении в прогрессе и разуме. Так, вид¬
ный английский журналист Малькольм Маггеридж опубликовал в журнале
«Эсквайр» статью под красноречивым заглавием «Либералистское стремление
к смерти», в которой утверждает, что либералистское стремление к смерти
«уже более века разъедает западную цивилизацию, а теперь процесс
этот близится к апогею». Учение о прогрессе для него «самая нелепая и,
безусловно, самая пагубная фантазия из всех, что когда-либо овладевали че¬
ловеческими сердцами», наука и техника — «два чудовища близнеца», которые
и «превратили мир в бесплодную пустыню», образование — «одно из величай¬
ших, если не величайшее мошенничество всех времен и народов». — Цит. по
«Лит. газ.», 1971, 4 марта.
255
реди — за водой, которую распределяют по строгому рацио¬
ну, за синтетической пищей компании «Сойлент». Впрочем,
богачи по-прежнему пользуются комфортом, и детектив,
попавший в дом к убитому члену директората компании «Сой-
лент», с удивлением пропускает между пальцами струйку во¬
ды в ванной и осторожно вдыхает незнакомый запах мыла.
Удивление привычными для нас сегодня вещами и продукта¬
ми— один из способов создать ощущение страшной урезанно-
сти жизни. Старик-архивист плачет, увидев кусок настоящего мя¬
са, женщина ест клубничный джем, закрыв тщательно окна и две¬
ри — это непозволительная, возмутительная роскошь. В этом ми¬
ре уничтожена растительность, вытоптана и погребена под про¬
мышленными отходами, перердботана естественная природа.
Только перед смертью, предлагаемой старикам и калекам бес¬
платно и безболезненно, умирающие видят на экране поле крас¬
ных маков, ручей, тихо струящийся в девственном лесу, стадо
косуль на поляне — воспоминания детства, утерянный мир...
А в реальности людей, которые дерутся с полицией из-за
нехватки пищи, бульдозеры подхватывают своими черпаками и ки¬
дают человеческое месиво в автоплатформы. Но самую страш¬
ную тайну этого мира мы узнаем вместе с детективом Торном,
расследующим убийство: оказывается, умерших здесь не хоро¬
нят, их перерабатывают в пищу. Жуткий кадр секретного завода:
лента транспортера, едут покрытые белыми простынями тела
усопших, затем чаны, трубы, колеса, трансмиссии, отвратитель¬
ные чавкающие звуки — и на выходе снова лента транспортера,
выбрасывающая зеленые галеты компании «Сойлент».
У Годара, Трюффо, Кубрика, даже Бурмэна будущее страшно
своей бездуховностью при относительном материальном ком¬
форте. У Флейшера показано общество, урезанное в самом не¬
обходимом, люди просто не имеющие возможности думать
о чем-либо, кроме первейших потребностей. Антиутопия дохо¬
дит здесь до последнего предела безысходности и отчаяния.
Мир будущего, показываемый сегодня в западной фантас¬
тике, — это мир без будущего.
В эволюции фильмов о будущем примечательно не только
усиление мотивов отчаяния и страха, но и то как изменяется
их главный герой. Характерно прежде всего, как легко вошел
в утопический мир традиционный герой «массовой культуры» —
человек крепких кулаков и решительных действий. У Годара,
как мы помним, это сделано демонстративно: в фантастический
Алфавиль приезжает хорошо знакомый зрителю персонаж поли-
256
цейских фильмов Лемми Кошен. Прямолинейная решительность
и профессиональная тренированность сыщика противопоставля¬
ются ухищрениям злого гения науки, бесчеловечной машинерии.
В голливудских фильмах сделан следующий шаг. Холодному,
бесчеловечному миру будущего противопоставляется «естест¬
венная природа» человека. Важная подробность: Эдди Констан¬
тин— Лемми Кошен наглухо застегнут в свой плащ, Чарльтон
Хестон и в роли астролетчика в «Планете обезьян» и в роли
детектива Торна в «Зеленом Сойленте» часто предстает обна¬
женным до пояса, демонстрируя зрителю свою мускулатуру.
Плоть человека, его физическая сила, его биология и его лич¬
ная предприимчивость противостоят в этих фильмах анонимно¬
му миру техники. Характерно, что решающее столкновение
героя с его противниками всегда выливается в физическую схват¬
ку, где Хестон или Коннори демонстрируют чудеса ловкости,
силы и изобретательности. Опять-таки традиция Голливуда орга¬
нично соединяется с мифологией современной кинофантастики.
Нравственная же эволюция героя в известной степени па¬
раллельна эволюции супермена. Если герой Хестона еще защи¬
щает право человека на любовь и семью — традиционные цен¬
ности, то Кубрик предпочитает естественную жестокость и агрес¬
сивность Алекса его запрограмированной наукой беспомощной
мягкости и кротости. Для Бурмэна альтернативы уже нет: в
первобытной естественной дикости и жестокости он видит ис¬
точник жизненной силы и лекарство от расслабляющего и уби¬
вающего человека научного прогресса.
Апология «естественного человека» обернулась апологией
зверя в человеке.
Аналогичная эволюция происходит и внутри одного из по¬
стоянных сюжетов кинематографа — истории Джекиля и Хайда.
Странная история
доктора Джекиля и мистера Хайда
Волосы встали на голове его
дыбом, и он присел без чувств
на месте от ужаса. Да и было
от чего, впрочем... Ночной при¬
ятель его был не кто иной, как
он сам, — господин Голядкин,
другой господин Голядкин, но
совершенно такой же, как он
сам,— одним словом, что на¬
зывается, двойник его во всех
отношениях...
Достоевский «Двойник»
Эта история начинается в старинном замке, за званым обе¬
дом — хрусталь, серебро, дрожащий свет свечей, — здесь со¬
брались столпы давно рухнувшей империи, «их лордства» и их
«пэрства», величественно игнорирующие XX век с его техниче¬
скими достижениями и политическими переменами, произнося¬
щие тосты за британскую корону и излагающие друг другу пла¬
ны восстановления и укрепления империи. Впрочем, весь этот
обед лишь дань традиции, как и торжественный развод караула
перед Букингемским дворцом. На самом деле рухнула не толь¬
ко империя — рухнула идеология, раскололась психология пра¬
вящего класса, и, чтобы испытать хотя бы секундное ощущение
власти над своей собственной судьбой, представитель знамени¬
того древнего рода Эрл XIII, надев парадный мундир и жен¬
скую пачку, имитирует свою собственную смерть в петле, то
повисая в ней на секунду, то опять становясь ногами на лесен¬
ку, пока, наконец, после неудачного толчка лестница не падает
и Эрл XIII уже вполне серьезно и надолго не повисает в пет¬
ле, — надежда управлять своей смертью оказалась такой же
фикцией, как и возможность управлять своей жизнью или исто¬
рией.
Странный — иронический и горький, саркастический и жутко¬
ватый фильм поставил режиссер Медак по пьесе Питера Бар¬
неса «Правящий класс». Фильм, в котором социальный анализ
259
переплетается с фрейдистским, трагедия переходит в фарс, а
психологическая драма неожиданно оборачивается мюзиклом.
Но история, рассказанная Барнесом и Медаком, началась, в
сущности, гораздо раньше званого обеда, не при пламени све¬
чей, отгораживающих героев от века электричества, атома и
революций, а при свете газовых фонарей на улицах ночного
Лондона, где некий мистер Хайд с необъяснимой жестокостью
наступил на упавшую девочку, а потом забил насмерть в беспри¬
чинной ярости достопочтенного и престарелого мистера Кэрью.
В 1885 году Роберт Луис Стивенсон написал небольшую по¬
весть «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда»,
которой была суждена долгая жизнь в литературе — уже в
40-е годы нашего века о ней с восторгом вспоминал Томас
Манн, писавший в это время своего «Доктора Фаустуса», — и
еще более долгая и славная жизнь в кинематографе: до настоя¬
щего времени известно около двадцати экранизаций «Доктора
Джекиля и мистера Хайда». Первая из них датирована 1908 го¬
дом, последняя из отмеченных в работах по фантастике —
1968-м.
Что же властно влекло к этой повести известных режиссе¬
ров, таких, как Рубен Мамулян, Жан Ренуар, Виктор Флеминг,
Теренс Фишер, и еще более известных актеров, среди которых
Джон Барримор, Фредерик Марч, Спенсер Трейси, Жан-Луи
Барро, Джерри Люис? Должно быть, странная метаморфоза,
которая происходит с героем, почтенным доктором Джекилем,
превращающимся временами в ужасного, мерзкого, исполнен¬
ного всех пороков Хайда. Должно быть, открытие, сформули¬
рованное Стивенсоном в посмертном признании Джекиля: «Я
понял, что человек на самом деле не един, но двоичен... В
своей личности абсолютную и изначальную двойственность че¬
ловека я обнаружил в сфере нравственности»90. В повести рас¬
сказывалось, как доктор Джекиль нашел препарат, который поз¬
волил ему дать независимую жизнь своей злой, греховной части,
и как постепенно это освобожденное зло становилось сильнее,
самостоятельнее, как доктору Джекилю было все труднее воз¬
вращаться в свою добродетельную оболочку, пока, наконец,
дьявол Хайд не стал его единственным обличьем.
Но какое отношение имеет ко всему этому «Правящий класс»?
Самое прямое. Дело в том, что покончившего с собой Эрла XIII
по неукоснительной традиции должен сменить Эрл XIV и имен¬
но с ним произойдет эта странная трансформация от добра к
злу, правда, без помощи таинственного снадобья, а путем шока,
вызванного доктором-психиатром! «Правящий класс», таким
образом, оказывается в конце долгой цепи фильмов, трактую¬
260
щих странную двойственность человеческой природы и веду¬
щих свое начало от упомянутой повести Стивенсона.
Вернемся к этому началу.
Итак, мотив двойника.
Автор структуралистской работы по фантастике «Фантасти¬
ческое кино как мифология» Жерар Ленн даже утверждает,
что «двойник в фантастике более, нежели тема. Это темати¬
ческая структура»91, ибо ряд тем организуется вокруг мотива
двойника.
Это один из постоянных излюбленных мотивов литературы
и кинематографа, выражающий многосоставность, противоречи¬
вость личности, усугубленную буржуазной действительностью,
навязывающей человеку решения и поступки, противоречащие
его сути.
В прямой или скрытой форме, как соединение в одном пер¬
сонаже противоположных, несочетаемых как будто бы лично¬
стей, эта структура присутствует в ряде самых выдающихся
фильмов западного кино. Вспомним хотя бы чаплиновского мил¬
лионера из «Огней большого города», который в пьяном виде
относится к Чарли как к лучшему другу, а в трезвом выгоняет
подозрительного бродягу из своего дома. Алкоголь высвобож¬
дает естественную человеческую личность из-под гнета классо¬
вых, сословных предрассудков и заставляет миллионера отно¬
ситься к Чарли просто как к человеку, вне его социальной при¬
надлежности. Феномен отчуждения Чаплин представляет в ко¬
медийной форме, как бы выворачивая явление наизнанку, де¬
монстрируя его парадоксальное преодоление.
Комедия уступает место трагическому гротеску в фильме
«Мсье Верду». Маленький банковский служащий, уволенный с
работы во время кризиса, оказывается убийцей четырнадцати
женщин. Нежный муж и заботливый отец для пропитания семьи
занимается кровавым бизнесом. Чаплин сам дал Верду точную
характеристику. «В фильме выведен самый чудовищный об¬
раз, который когда-либо появлялся на экране, и в то же время
образ в высшей степени человечный»92. Двойственность мсье
Верду не является результатом некой патологии. Чудовищность
поступков Верду — отражение чудовищности природы общества
бизнеса. Чаплин проводит эту мысль откровенно, публицистично,
порой даже несколько прямолинейно.
Отвечая прокурору, Верду доказывает, что в его преступле¬
ниях нет ничего исключительного: «Что касается до «массовых
убийств», то разве у нас не готовят всевозможные оружия мас¬
сового истребления людей? Разве у нас не разносят на куски
ничего не подозревающих женщин и детей, проделывая это
261
строго научными способами? Что я по сравнению с этими спе¬
циалистами? Жалкий любитель, не более...»93.
Характерно, что сюжет «Мсье Верду» Чаплину подсказал
Орсон Уэллс, создавший «Гражданина Кейна» — наиболее яркое
воплощение сложной, противоречивой личности в кинематогра¬
фе 30—40-х годов, — фильм, в котором действуют как будто
бы несколько Кейнов, совершенно отличных друг от друга, но
сосуществующих в одной оболочке, сдерживаемых железной
волей их хозяина.
Но почему же при наличии столь крупных, художественно
значительных произведений в данной главе уделено больше вни¬
мания экранизациям «Странной истории доктора Джекиля и
мистера Хайда»? Не только в силу их сравнительной малоизу-
ченности. И не только потому, что фантастическая посылка дает
явное пластическое выражение мотиву двойничества, определяет
структуру произведения в соответствии с поступками двух
ипостасей героя, ведущих самостоятельное существование.
Причина внимания именно к фильмам о Джекиле и Хайде
серьезнее.
Несомненно, амбивалентность современного человека — од¬
на из центральных тем искусства XX века. Но недостаточно кон¬
статировать очевидный факт постоянства этого мотива — двуеди¬
ного и расщепленного героя. Стоит попытаться понять причи¬
ны возникновения и устойчивости этой структуры и, наконец,
быть может, самое важное, какие потребности общественного
сознания и искусства обеспечивала она на разных этапах истории,
какие акценты расставляли в этой структуре время и различ¬
ные художники. И в этом смысле «Странная история доктора
Джекиля и мистера Хайда» представляет собой чрезвычайно
благодарный материал для анализа, позволяя выяснить, как в
пределах не только одной структуры, но и одного сюжета на
протяжении примерно полувека ставились искусством различ¬
ные задачи. Ведь не случайно кино почти с маниакальной настой¬
чивостью обращалось к данному сюжету в 20-е, 30-е, 40-е и
50-е годы, создавая при этом фильмы совершенно различные.
С другой стороны, эволюция темы двойника в данном сю¬
жете помогает понять ее движение в тех произведениях, где она
существует в скрытом виде.
Перечитывая «Странную историю доктора Джекиля и мисте¬
ра Хайда», убеждаешься, что маленькая повесть Стивенсона
оказывается на скрещении важнейших процессов. Она подво¬
дит итог определенной литературной традиции и в свою оче¬
262
редь является предвестьем качественно новых явлений в искус¬
стве XX века.
В истории литературы и искусства явственно выделяются и
художники, для которых мотив двойничества был излюблен¬
ным— Гоголь, Мопассан, Достоевский, и периоды, когда двой-
ничество становится знамением времени и выходит на первый
план, — это романтизм первых десятилетий XIX века и экспрес¬
сионизм начала нынешнего столетия. При глубоких идейных
историко-эстетических различиях этих направлений есть и нечто
общее, что их объединяет: и романтизм и экспрессионизм в
центр произведения ставили обособленную личность. Ее суве¬
ренный внутренний мир определял художественный мир про¬
изведения. Искусство как бы материализовало чувства, настрое¬
ния, переживания героя, противопоставляя их миру объектив¬
ной реальности или даже замещая ее. Так возникает особое
двоемирие романтического искусства, на которое еще указывал
Гегель: «В романтическом искусстве, перед нами, следовательно,
два мира. С одной стороны, мы имеет здесь духовное царство,
завершенное в себе, душу, внутри себя примерную... С дру¬
гой стороны, перед нами царство внешнего как такового, осво¬
божденного от прочно скрепляющего его соединения с духом;
внешнее становится теперь целиком эмпирической действитель¬
ностью, образ которой не захватывает души»94. Но и в экспрес¬
сионизме происходит нечто аналогичное. Как пишет один из
его философов Т. Доблер: «У нашей эпохи великий замысел:
восстание души! «Я» — создает себе мир»95.
Мы еще будем говорить о принципиально различном смысле
этого «восстания души» в романтизме и экспрессионизме. Пока
же существенно выделить общую культурно-историческую
предпосылку. Очевидно, в эпохи разочарований в возможно¬
стях общественного переустройства философская мысль и ис¬
кусство делают ставку на индивидуума, на его внутренний мир,
противопоставленный внешнему. Идеалы перестройки общества
заменяются идеалами нравственного или религиозного само¬
усовершенствования, или, на худой конец, «внутреннего осво¬
бождения»; искусство, которое раньше тратило свои силы на
изучение объективного мира, на физиологические очерки и со¬
циальную документацию, теперь занимается анализом души,
ее потаенных эмоций. В системе двоемирия внутренний мир
гипертрофируется, а внешний сжимается, остается лишь как
эмпирический, нерасчлененный фон. Так произошло в ро¬
мантизме, явившемся реакцией на эпоху Просвещения, на не¬
осуществленные надежды великой революции, на капиталисти¬
ческое отчуждение и выразившем одиночество человека, выби¬
263
того из отношений сословного, цехового, патриархального ми¬
ра и еще не интегрированного новой системой товарно-денеж-
ных отношений96.
Так произошло и в искусстве экспрессионизма, рожденном
страхом перед грядущей катастрофой, а затем и разочарова¬
нием после неосуществленной, потопленной в крови немецкой
революции. И в том и в другом искусстве были реакционные
и прогрессивные течения, отвергавшие настоящее с позиций
прошлого или будущего. Но в целом и романтизм и экспрессио¬
низм искали объяснения человека не в окружающем мире, а
в нем самом или в началах трансцендентных. И вполне естест¬
венно, что в системе, где внешний мир представлял производ¬
ное от внутреннего, его материализацию, противоречивость че¬
ловеческой натуры, расщепление психики оборачивались пла¬
стическим мотивом двойничества, потенции человека, как бы
противоположные его истинной природе, материализовались в
таинственную фигуру двойника. Некая часть человеческой пси¬
хики начинает жить обособленной, самостоятельной жизнью.
Этот мотив появляется у Гейне и Ламартина, Гофман пишет
«Приключения накануне нового года» и Шамиссо — «Необычай¬
ные приключения Петера Шлемиля», историю человека, кото¬
рый потерял свою тень. Последнее произведение будет отправ¬
ной точкой для экспрессионистских экранизаций «Пражского
студента» — Стеллана Рийе в 1913 году и Генрика Галеена в
1926-м.
Итак, двойничество выступает как наиболее резкое структур¬
ное выражение того внутреннего противоречия между добром
и злом в человеке, которое противопоставили романтики цель¬
ности человеческой личности у просветителей. Но мотивировка
этого двойника меняется. У немецких романтиков вина за рас¬
щепление личности и возникновение двойника лежит на нечистой
силе. Мотив дьявольского искушения, которым объяснялись не¬
ортодоксальные поступки героя в раннехристианской литерату¬
ре (как, впрочем, и в античной — вмешательство богов), сохра¬
няется. Свобода героя реализуется лишь в его собственном ре¬
шении подписать договор с дьяволом, как это делают Фауст
или Петер Шлемиль. В остальном он остается игрушкой транс¬
цендентных сил. Ю. Манн в содержащей ряд интересных и
точных наблюдений статье «Эволюция гоголевской фантастики»
замечает, что этот «персонифицированный носитель ирреаль¬
ной злой силы», очерченный с помощью традиционного набора
деталей (гофмановские Песочник, Альбан и т. д., гоголевские
Басаврюк, колдун, Петромихали и т. д.), «...высокий, худой че¬
ловек с острым крючковатым носом, горящими глазами и на¬
264
смешливо искривленным ртом» уже в «Носе» исчезает. «У Го¬
голя полностью снят носитель фантастики — персонифицирован¬
ное воплощение ирреальной силы. Но сама фантастичность оста¬
ется. Отсюда впечатление загадочности от повести. Даже оша¬
рашивающей странности»97. Подобную же эволюцию внутри
романтической традиции проделывает Эдгар По. Через три го¬
да после гоголевского «Носа» он публикует рассказ «Уильям
Уилсон» о человеке, которого всю жизнь преследовал его добро¬
детельный двойник, его совесть, пытаясь остановить «несказан¬
ное падение и непростительные преступления» героя98. Рас¬
сказ написан как предсмертное признание, как автобиография,
прослеженная от детских лет, учебы в колледже, где впервые
появился другой ученик, носящий ту же фамилию, так же оде¬
вавшийся, даже голос его был похож, хотя гораздо слабее,
«и его единственный в своем роде шепот стал эхом моего».
Голос — эхо, человек — тень. Генетические связи героя вполне
очевидны, как и сюжет преследования: «...я бежал, охваченный
паникой, как от чумы; но хоть на самый край света, бегство
было тщетно»99.
В отличие от немецких романтиков и в полном совпадении
с Гоголем периода «Носа» ирреальное деперсонифицирован¬
но. Тайна разлита во всей структуре рассказа и не раскрыта.
Герой говорит о себе: я «являюсь в известной мере жертвою
начал, не подвластных человеческой воле», он видит в себе
жертву «ужаса и тайны безумнейшего из подлунных виде¬
ний» 1 00.
Этот сдвиг в поэтике Гоголя и По был чрезвычайно важен.
Фантастическое, лишаясь своего демиурга, своего иррацио¬
нального носителя, черта, который «сыграл шутку с добрыми
людьми», как бы разливается в воздухе произведения, сама
действительность приобретает двусмысленный характер, некое
добавочное ирреальное измерение. Отсюда был прямой путь
ко многим новейшим течениям искусства, в частности, к немец¬
кому экспрессионизму. С другой стороны, путь вел к неороман¬
тику Стивенсону, который с истинно англосаксонской трезвостью
попытался дать вполне реалистическую мотивировку расщепле¬
ния личности доктора Джекиля, найдя ее в изобретении уче¬
ного. А затем и к Человеку-невидимке Уэллса, с помощью осо¬
бого препарата уничтожившего видимость своего тела и одно¬
временно совершившего психическую метаморфозу своей лич¬
ности.
Существует, конечно, большое различие между романтиз¬
мом с его утверждением самоценной личности, верой в «естест¬
венного человека» и экспрессионизмом, в котором интерес к ин¬
265
дивидууму соединяется со страхом перед ним, отрицание бур¬
жуазного человека со скепсисом в отношении возможностей че¬
ловека вообще. Но тема двойничества, столь резко выявившаяся
в романтизме, для немецкого кино первых двух десятилетий
становится наваждением. Она возникает в прямой форме в
фильме «Пражский студент», где студент Балдвин продает
дьяволу свое отражение в зеркале и его призрачный двойник
начинает вмешиваться во все планы Болдуина, расстраивает его
женитьбу, убивает его соперника, пока, наконец, доведенный
до отчаяния студент не стреляет в своего двойника в зеркале и
не падает мертвым.
Если герой По — по характеристике Бодлера — «человек со
сверхъестественными способностями, человек с расшатанными
нервами, человек, пылкая и страждущая воля которого бросает
вызов всем препятствиям; человек со взглядом острым, как
меч»101, если доктор Джекиль у Стивенсона борется до кон¬
ца с мистером Хайдом внутри себя, то в герое экспрессиониз¬
ма нет этой незаурядности, этой титанической борьбы. Рядовой
человек может стать оборотнем, вампиром, прекрасный юно¬
ша — превратиться в убийцу, ярмарочный доктор — оказаться
опасным маньяком, посылающим людей на убийство и смерть,
покорный глиняный Голем — выйти из повиновения. Каждый
персонаж экспрессионистского фильма может нести в себе угро¬
зу. Двойничество перестает быть уделом избранных, оно, как
вампиризм, может быть навязано каждому или открыто как
дремлющая в нем потенция. Структура двойника наполняется
новым зловещим содержанием.
Заслуга же Стивенсона в том, что он подключил традицию
романтической фантастики к фантастике научной. Это принесло
в одном отношении несомненно плодотворный результат. Как
известно, научная фантастика мало занимается разработкой ха¬
рактеров. Ее интересуют не столько люди, сколько проблемы.
Человек в лучшем случае выступает как критерий правильности
тех или иных концепций. Важно показать новую планету, косми¬
ческий полет, общество будущего, а уж во вторую очередь
человека, реагирующего на незнакомые обстоятельства. Ска¬
жем, как будет он вести себя в построенной автором модели
общества будущего, этот условный, анонимный, несмотря на имя
и отчество, сконструированный автором научно-фантастическо-
го произведения герой, имеющий своей задачей либо оживлять
пустынный пейзаж умозрительной научно-фантастической кон¬
цепции, либо принять на себя последствия поставленного авто¬
ром эксперимента. Особость, индивидуализированность героя
даже будет мешать чистоте эксперимента. В основных моделях
266
научно-фантастического кино и литературы человек вторичен
по отношению к идее. Личность заменяется маской, обычно
весьма цельной и чисто функциональной.
В том направлении фантастики, которое представлял Стивен¬
сон, исследование личности было первой и главной целью, здесь
он следовал романтической традиции, фантастическая мо¬
дель способствовала углубленному анализу внутреннего мира
человека. Отсюда шли разные линии к экспрессионистской фан¬
тастике, и к «Солярису» Тарковского, и к «Заводному апельси¬
ну» Кубрика.
Но значение повести не только в этом. Нельзя не согласить¬
ся с С. Аверинцевым, когда он саркастически замечает: «Дума¬
ется, что пора перестать говорить о психоаналитиках как со¬
вратителях литературы нашего столетия, которые будто бы при¬
нудили писателей делать что-то, в корне чуждое их ремеслу;
абсурдность этой концепции в применении к любому большому
писателю бьет в глаза», «к новому представлению о «действую¬
щем лице» литература спонтанно шла и без психоанализа»102.
Повесть Стивенсона чрезвычайно веское доказательство этого
тезиса.
Предсмертное письмо доктора Джекиля, где он раскрывает
причину своего падения, могло бы показаться эпигонским пере¬
ложением лекций Фрейда по психоанализу, если бы не было
написано за десять лет до того, как Фрейд опубликовал труды,
формулирующие некоторые принципы его психологической тео¬
рии*.
«Худшим же из моих недостатков было всего лишь не¬
терпеливое стремление к удовольствиям», — признается Дже-
киль, представляя тем самым как бы свое «Оно», согласно
Фрейду, то иррациональное, бессознательное, которое и стре¬
мится к удовлетворению звериного инстинкта секса и убий¬
ства. Джекиль пишет дальше: «...я начал скрывать свои развле¬
чения, и к тому времени, когда я достиг зрелости и мог здра¬
во оценить пройденный мною путь и мое положение в общест¬
ве, двойная жизнь давно уже стала для меня привычной... я,
поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный,
почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не столь
уж предосудительные удовольствия»103. Здесь действие меха¬
низма «Сверх-Я», осуществляющего запреты общества и куль¬
туры. «Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих
В 1894 г. Фрейд опубликовал статью «Защитные невропсихозы», ко¬
торая, как считают, послужила основой его теории, показав механизм вы¬
теснения. Но структурная теория личности появляется в начале 20-х г.
267
довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности
моих лучших стремлений — те области добра и зла, которые
сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в
моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко,
чем они разделяются в душах подавляющего большинства лю¬
дей»104. Вот она, мучительная борьба — «Оно» и «Сверх-Я»,
приводящее «Я» к неврозу.
Хайд в повести — это материализованное «Оно», и чем
больше сдерживает его «Я» доктора Джекиля, сублимируя
настойчивые толчки «Оно» в работу, филантропию, тем ярост¬
нее это подсознательное вырывается на свободу. Причем, со¬
гласно повести, Хайд побеждает, когда Джекиль спит, — как
известно, Фрейд считал, что подсознательное особенно резко
проявляется во время сновидений.
Любопытно, что сюжет и образы повести возникли у Сти¬
венсона во сне, причем настолько отчетливо, что он записал
их почти без изменений.
Если Стивенсон предвосхитил понимание личности как мно¬
гослойного, многосоставного явления, то в этом он был не оди¬
нок и следовал писателю несравненно большего масштаба да¬
рования, а именно Достоевскому. Причем для Достоевского
двойственность человека была не только психологическим от¬
крытием, но философской проблемой всего его творчества.
Борьба добра и зла, неба и ада определяет движение Ми¬
ти и Ивана Карамазовых, Раскольникова и других героев Достоев¬
ского. С пониманием человека как «поля битвы» между богом
и дьяволом, двойственности его природы связаны те «проклятые
вопросы»,которыми мучается и писатель: о «мере дозволенно¬
го». о боге как основе морального кодекса. П. Гайденко в кни¬
ге «Трагедия эстетизма» показывает прямую связь Достоевско¬
го с романтиками в трактовке этой проблематики. Гайденко
отмечает, что в «двух безднах» Мити Карамазова Достоевский
«почти буквально... воспроизводит мысль Шеллинга о том, что
«в человеке содержится вся мощь темного начала и в нем же
содержится и вся сила света. В нем — оба средоточия: и край¬
няя глубина бездны и высший предел неба»105.
Известно, какое огромное впечатление произвело на Сти¬
венсона «Преступление и наказание». Он даже написал вольную
вариацию на эту тему — «Маркхейм», непосредственно пред¬
шествующую «Джекилю и Хайду». Так выстраивается линия от
романтиков через Достоевского к Стивенсону.
Но «Странная история доктора Джекиля и мистера Ха^да»
странна еще своей устойчивостью и повторяемостью в мировом
кино. Почему извечная тема борьбы добра и зла в человеке
268
избрала именно эту структуру, именно этот сюжет? Здесь возни¬
кает подозрение, что, опять-таки вполне интуитивно, Стивенсон
нашел сюжет, вобравший в себя некие элементы и первич¬
ные структуры мифа, ибо именно мифологические матрицы
отличаются такой большой устойчивостью и гибкостью по отно¬
шению к различным толкованиям последующего времени.
Таким образом, столь модное сегодня и многозначное по¬
нятие «миф» в данном случае имеет смысл рассмотреть лишь
в соотношении ядра и скорлупы, то есть неких неизменных мо¬
тивов и той оболочки, в которую окутывают их время и
художник. И если искомый миф в данной структуре наличест¬
вует, попытаться понять, как он «работает» в произведении, на¬
сколько соответствует потребностям общества, искусства.
«Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда»
привлекла кинематограф весьма рано. Уже в 1908 году «Стран¬
ная история доктора Джекиля и мистера Хайда» была экра¬
низирована в Дании. В последующие десять лет в США, Да¬
нии, Англии было сделано по крайней мере восемь версий
«Джекиля и Хайда», в том числе «Ужасный Хайд» в 1915 го¬
ду, «Мисс Джекиль и мадам Хайд» в 1915-м. Повесть давала
кинематографу прекрасный пластический материал, возмож¬
ность удивительных визуальных превращении и авантюрных
сюжетных ходов. Перед актерами она ставила неотразимую
в своей соблазнительности задачу — персонифицировать две
стороны личности, сыграть «про» и «контра» одного человека.
Особенно удалось это известному актеру Джону Барримору
в фильме 1920 года, поставленном режиссером Дж. Робертсо¬
ном.
Но подлинная серьезная история «Доктора Джекиля» в
кино начинается с 1932 года, с экранизации, сделанной Ро¬
бертом Мамуляном. Этот бывший театральный режиссер был
чрезвычайно озабочен тем, чтобы преодолеть свое театраль¬
ное прошлое, он настойчиво искал приемы чисто кинемато¬
графической выразительности. И его поиски увенчались успе¬
хом в экранизации Стивенсона.
Фильм начинался звуками органа, музыкой Баха. Как бы
глазами доктора Джекиля мы видим клавиатуру, на ней хо¬
леные белые руки хирурга; объектив останавливается на ду¬
бовых панелях библиотеки, тисненых корешках книг. Вы¬
муштрованный старый лакей подает цилиндр и палку, про¬
ход по анфиладе покоев, и только в конце этого эпизода
269
С удивительной настойчи¬
востью и постоянством об¬
ращается западное кино к
«Странной истории док¬
тора Джекиля и мистера
Хайда».
«Доктор Джекиль и мистер
Хайд», 1912 г.
Джон Барримор — Джекиль
и Хайд, 1920 г.
Фредерик Марч, 1932 г.
271
зритель первый раз видит лицо Джекиля в зеркале: строгий,
прямой взгляд, безукоризненная нитка пробора, стоячий крах¬
мальный воротник, человек долга, человек твердых норм,
непреклонной воли — так представляет его Фредерик Марч.
И затем резкий переход в аудиторию: мы видим Джекиля на
кафедре с точки зрения студентов, где он развивает свои идеи
о разделении хорошего и дурного в человеке, чтобы изгнать
это дурное. А потом Джекиль, отказавшись пойти на светский
прием,— у постели умирающей; он поднимает на ноги, учит
ходить оперированную им девочку. Замысел режиссера и
актера понятен: они максимально возвышают своего героя,
чтобы тем ужасней было его падение.
Но, прежде чем наступит знаменитая сцена преображения,
Мамулян намечает те объекты подавленных желаний, кото¬
рые потом реализует Хайд. Разговор с отцом невесты — ста¬
рым полковником, который откладывает столь желанную
свадьбу. И встреча с проституткой, которую он спасает от
избиения, вносит на руках в ее комнату и с трудом уходит
после того, как она, поцеловав его, просит остаться.
Лаборатория, где Джекиль производит свои опыты,— это
типичная лаборатория из научно-фантастического фильма
начала 30-х годов: колбы, реторты, пробирки, таинственные
кипящие жидкости. В декоре режиссер не нашел ничего но¬
вого. Но сцена преображения поставлена с техническим блес¬
ком и глубокой психологической мотивированностью. Она
начинается с того, что Джекиль, глядя на кипящую жидкость,
вспоминает об отказе отца невесты в свадьбе, сцену в Сохо,
в комнате у проститутки, и потом после паузы герой решитель¬
но выпивает жидкость.
Эпизод опять-таки снят как бы субъективной камерой,
зритель ощущает себя Джекилем, лицо его он видит в зер¬
кале. И весь фокус этой сцены в том, что она снята без
единой склейки — преображение происходит у нас на глазах.
В зеркале проступают полосы, морщины, складки на лице
Джекиля, мы свидетели его изменения*. А вслед за этим
начинается кружение камеры, все стремительнее, быстрее:
на экране только размазанные полосы и гулкое биение серд¬
ца, стоны, вздохи в фонограмме; затем верчение замедляется,
снова лаборатория, в которой как будто все так же, но вмес¬
* Хотя Мамулян в интервью «Сайт энд Саунд» в 1961 году сказал,
что он никогда не откроет, как была снята эта сцена, но, по мнению
Батлера, на лицо Марча были предварительно краской нанесены полосы,
и сцена сначала снималась с красными фильтрами, а затем фильтры по¬
степенно убирались, обнажая ранее невидимые полосы на лице героя.
272
те с героем мы видим его руку, впившуюся в подлокотник
кресла,— не руку, а обросшую шерстью лапу,— потом камера
медленно поднимается вверх, и в зеркале является морда
зверя с выступающими клыками, спутанными волосами, ма¬
ленькими глазками, сверкающими из-под тяжелых надбров¬
ных дуг, и Хайд, вскочив с кресла, ликующе кричит: «Сво¬
боден! Свободен наконец!»
Хайд у Мамуляна и Марча с его отталкивающей внеш¬
ностью, звериной жестокостью, хулиганскими замашками, ког¬
да он, отбив дно у бутылки, готов начать драку с завсегда¬
таями кабачка и с поразительной ловкостью убегает от по¬
гони, прыгает через ступеньки, телом прошибает стеклянную
стенку оранжереи,— это, конечно, вариант столь популярного
на американском экране тех лет гангстера. Уместно вспомнить,
что в один год с «Джекилем и Хайдом» вышел на экран
фильм «Лицо со шрамом», а за год до этого—«Маленький
цезарь» и «Враг общества». Но дело было не только в мощ¬
ной художественной традиции толкования образа злодея, а и
в реальной проблеме, волновавшей общество. Ведь крупней¬
шие американские гангстеры тоже представляли собой ва¬
риант Джекиля-Хайда: Аль-Капоне, бывший нежным сыном,
добрым братом, игравший Деда Мороза в пансионе у своей
сестры и лично убивший более шестидесяти человек; Дай¬
он О'Банион, певший в церковном хоре тенором и носивший
под мышками два пистолета, державший цветочную лавку —
его хобби были цветы — и застреливший около сорока че¬
ловек.
Противоречия этого рода встречались отнюдь не только в
преступном мире. Американское общество особенно ясно по¬
чувствовало беспощадные законы бизнеса в период великого
кризиса, но люди, следовавшие им, были хорошими отцами
семейства, добродетельными прихожанами. В отличие от ро¬
мана, где доктор Джекиль кончал самоубийством, здесь его
настигала полиция и, как в хорошем гангстерском боевике,
жизнь Хайда обрывала пуля полицейского инспектора. И тог¬
да снова преображалось лицо, и место зверя, убийцы занимал
добрый доктор Джекиль — смерть искупала вину.
Следованиям голливудским канонам и одновременно ве¬
лениям фрейдовской теории, вошедшей в эти годы в широ¬
кий оборот, можно объяснить появление в фильме двух женщин,
отсутствующих у Стивенсона. По отношению к одной из них —
проститутке (Мириан Хопкинс) — Хайд реализует инстинкт
насилия, по отношению к другой Джекиль проявляет восторг
обожания. Как Джекиль неотрывен от своей пуританской
273
строгой обстановки, от традиций и обычаев викторианской
Англии, так же Хайд — весь из лондонского дна с его гряз¬
ными улицами, подозрительными ночлежками, гнилым ту¬
маном, едва разгоняемым газовыми рожками.
Фильм Мамуляна, как и сделанный через девять лет в
1941 году фильм Флеминга со Спенсером Трэси в заглавной
роли, утверждали незащищенность и хрупкость традиций,
культуры, воспитания перед зверем, который ворочается в
глубине личности. Самые жуткие сцены в обеих картинах —
это моменты самопроизвольного превращения Джекиля и Хай¬
да. Перед торжественной помолвкой Джекиль медленно идет
по парку, присаживается на скамейку, видит кошку, бросив¬
шуюся на воробья, и через секунду зритель замечает, что ру¬
ка, схватившаяся за спинку скамьи, скрючилась, покрыта
шерстью, и Джекиль, превратившийся в Хайда, в ужасе бе¬
жит по парку, закрывая лицо руками.
Спенсер Трэси не делал своего Хайда столь отталкиваю¬
щим. Преображение было скорее психологическим, чем фи¬
зическим. Рот растягивался в беспощадной улыбке, обнажая
мелкие зубы. Он пытал свою возлюбленную, заставляя ее
петь, признаваться в любви, бросал при этом в рот виногра¬
дины, одну за другой, и со вкусом высасывая их, холодно,
умело, удовлетворенно мучал девушку. Сексуальное удовле-
274
Превращение Джекиля в
Хайда — Спенсер Трэси,
творение он получал от психологической власти над любовни¬
цей больше, чем от физического обладания ею. Сцену са¬
мопроизвольного превращения он тоже делал без внешних
провоцирующих факторов. Джекиль шел ночью вдоль цепи
фонарей. Только что перед этим он пообещал девушке, что
Хайд больше никогда не появится. Он насвистывает безмятеж¬
ную мгло.дию, вдруг сбой, что-то застопорилось, он остано¬
вился, точно отгоняя какую-то мысль, тряхнул головой, опять
пошел дальше. Опять сбой ригМо, медленнее, считая
фонари, остановился, вытер потный лоб и вдруг выпрямился —
резко, облегченно — и, уже превратившись в Хайда, бросился
назад. Трэси играл своего героя не столь подчеркнуто, как
Марч, но его Хайд тоже возбуждал ненависть и страх, а Дже¬
киль — сочувствие и жалость. Совсем иное отношение двух
составляющих образа — в «Завещании доктора Корделье».
При том, что Ренуар перенес действие фильма в современ¬
ную Францию, изменил имена (вместо Джекиля и Хайда
появились Корделье и Опал), пожалуй, он наиболее близко
подошел к сюжету повести Стивенсона, не вводя в него жен¬
щин и посвятив значительную часть картины, как это сделано
у писателя, самому завещанию Корделье. Но по сути дела
фильм Ренуара, сделанный в 1959 году, очень далеко отстоит
от повести и традиционной трактовки ее героев.
275
«Завещание доктора Кор-
делье»
Жан-Луи Барро в двойной
роли доктора Корделье и
Опала
Корделье — Барро закован в броню условностей, механи¬
чен, заморожен в своей социальной роли известного хирурга.
А в его Опале — легкость, раскованность, звериная грация.
Сам Корделье получает удовольствие быть Опалом — чело¬
веком вне общества, его моральных норм. Корделье — лишь
оболочка, социальная функция. Только изглоданное сдержи¬
ваемыми страстями лицо показывает, как трудно ему су¬
ществовать в этой роли. Все, что относится к жизни, вопло¬
щено в Опале. Корделье — символ отчужденности в совре¬
менном буржуазном обществе, Опал — его звериные потенции,
ждущие случая вырваться из-под запретов цивилизации. Дже-
киль терзался муками совести и искренне полагал, что хочет
избавиться от Хайда — своей дурной половины. Корделье —
Барро страдает лишь от того, что не может быть Опалом,
поскольку Опал — убийца. Но он не может им и не быть.
В этом его трагедия. Смерть несла ему избавление.
Казалось, что фильм Ренуара может стать высшей и по¬
следней точкой в переосмыслении мифа Джекиля и Хайда,
показав доброго, соответствующего нормам общества Кор¬
делье как отчужденного снивелированного человека, а Опа¬
ла— как человеческий «остаток», не затронутый влиянием
культуры, пусть и весьма неаппетитный остаток.
276
Но в 1968 году в США вышел фильм, имевший как будто
бы косвенное отношение к истории Джекиля и Хайда, осно¬
ванный на реальном случае судебной хроники, тем не менее
вливший новую кровь в старый миф... Речь идет о фильме
Ричарда Флейшера «Бостонский душитель». В нем расска¬
зывается реальная история некого Дессальво, который был
добрым мужем и нежным отцом — жена и две дочки,— а ког¬
да на него «находило», он забирался в квартиры обычно
пожилых одиноких леди под видом слесаря или монтера и
убивал их. Когда Дессальво был арестован, психиатры совер¬
шенно точно установили, что в нормальном состоянии он не
помнил ничего из того, что делал во время припадков жесто¬
кости. Джекиль и Хайд жили в одной оболочке, не подозре¬
вая о существовании друг друга. Когда Дессальво раскрыли
правду и познакомили двух живущих в нем персонажей, он
сошел с ума и стал постоянным обитателем психиатрической
лечебницы без надежды на выздоровление.
История Дессальво привлекла Флейшера и исполнителя
главной роли Тони Кертиса не только как парадоксальный
патологический случай, они извлекли из нее зловещий со¬
циальный смысл. Во-первых, они социально обусловили мо¬
менты перехода Дессальво из нормального состояния в убий-
277
цу — вот он сидит у телевизора, 1963 год; Америка хоронит
Джона Кеннеди, он смотрит на траурную процессию, взгляд
его туманится, и он выходит «погулять».
Но главное даже не в этих мотивировках жестокости Дес-
сальво; порой они слишком прямолинейны, иногда вовсе от¬
сутствуют. Авторов убийца интересует как повод, чтобы ис¬
следовать общество, в котором он живет и которое его поро¬
дило. Полиция, изучив ряд убийств — бессмысленных в своей
жестокости и садизме,— приходит к выводу, что это дело рук
сексуального маньяка, и начинает исследовать дно Бостона.
Флейшер применяет в этом фильме полиэкран, и мы видим
на шести-девяти экранах одновременно лица, искаженные
пороком и обесцвеченные наркотиками,— дешевых прости¬
туток, телефонных хулиганов, получающих удовольствие от
нашептывания грязных слов в трубку, гомосексуалистов и
лесбиянок, курильщиков марихуаны и искателей острых сек¬
суальных ощущений. Полиэкранное изображение разных лиц
точно сливается в одну безобразную, гнилую, мерзкую рожу
того душевного подполья, которое скрыто за процветающим
фасадом города. Само общество оказывается двойственным,
оно несет на себе проклятие стивенсоновской фантазии, пре¬
вращая ее в реальность социального устройства. Джекиль и
Хайд — уже не дерзкий опыт ученого, не подавленные импуль¬
сы отдельного человека, не безумие одиночек, а будни запад¬
ного общества, его постоянная составляющая.
И вот ситуация «Правящего класса», с которого начина¬
ется эта глава. Парадоксальная и социально неопровержимая,
как все в этом фильме.
Доброго Джека Эрла XIV все считают сумасшедшим. Да он
и есть параноик, не желающий считаться с окружающим его
миром, не желающий видеть окружающего его зла.
Питер О'Тул поразительно играет эту роль, несомненно
одну из лучших в его богатом репертуаре. В зал родового
замка входит Иисус Христос, причем в его современном ва¬
рианте, Христос-хиппи, скажем, из знаменитого мюзикла
«Иисус Христос-су перзвезда». Длинные золотистые волосы,
рассыпавшиеся по плечам, худое лицо, на котором лучатся
отрешенные от мира сего и бесконечно добрые глаза. По пар¬
ку он не гуляет, а порхает, как мотылек, в изящном белом костю¬
ме, который домочадцам удалось на него надеть. В нем есть
ущербность, болезненность, недаром он столько лет просидел
в психиатрической лечебнице и, по мнению доктора, неизле¬
чимо болен паранойей. Но болезнь выражается в кротости и
доброте. Это князь Мышкин, который не хочет видеть зла,
278
а если все-таки его заставляют заметить злое, низкое, то он
заболевает и повисает на своем кресте, искупая муки и гре¬
хи человечества. Строго говоря,кроме этой доброты, да еще
веры в то, что он Христос, в Джеке нет ничего ненормаль¬
ного, и даже его божественное самоощущение оказывается
полезным: своей небесной кротостью успокаивает буйных ду¬
шевнобольных. Но именно его доброта, беззаботность приво¬
дят одних в недоумение, других в ярость, третьих в ужас —
дамы из местного городка воспринимают его простодушие и
приветливость как оскорбление их достоинства.
Дядя Чарльз решает упечь Джека в психиатрическую боль¬
ницу, доктор решает предпринять последнюю попытку его
излечения. Для этого он привозит в замок другого сумасшед¬
шего— бога ненависти. Поединок бога любви и бога жесто¬
кости— прямая цитата из мифа. Только бог зла в этом идео¬
логическом споре имеет больше доказательств своего могу¬
щества. Раздирая себе лицо, испуская электрические искры,
он перечисляет свои свершения: концлагеря, массовые убий¬
ства, трупы детей.
И бог любви теряет свою неуязвимость, непроницаемость
для зла. Он проигрывает в этом библейском поединке, иду¬
щем под рев бури и раскаты грома. После приступа встает
человек с заторможенными, рассчитанными движениями,
ледяным взглядом — человек, излечившийся от любви, низ¬
вергнутый в преисподнюю реальности. Он вспомнил свое имя
Джек и вспомнил еще, что был когда-то в Англии его тезка-
убийца женщин Джек-потрошитель. Гладко причесанные во¬
лосы, тщательно завязанный галстук, трость, сигара — рес¬
пектабельный английский джентльмен, и вдруг срывы — в
звериное, в безумную ярость, в сумасшедший кровавый вой,—
метаморфоза совершилась: «бог любви» стал «богом нена¬
висти», Джекиль превратился в Хайда. И вот здесь-то про¬
исходит самое интересное. Эрла XIV, ставшего маньяком,
Джеком-потрошителем, убийцей своей тетки и жены, все
считают нормальным, здоровым человеком. Ведь он так ра¬
зумно призывает к твердости, к разумной жестокости, к вве¬
дению смерной казни во имя порядка, к беспощадной борьбе
с варварами, стоящими у стен империи.
Бедняга Джекиль сегодня должен прятать свою доброту,
иначе его просто засадят в сумасшедший дом, а мистера
Хайда ждет всеобщее обожание и место в палате лордов.
Так меняются местами Джекиль и Хайд. Такой виток де¬
лает история, а вслед за ней искусство, переосмысляя миф,
меняя местами полюса добра и зла.
279
Медак не одинок в своих как будто бы парадоксальных
выводах. Ведь и в «Заводном апельсине» «добрый» Алекс пре¬
следуется, убивается обществом, а вернувшись к своему ес¬
тественному состоянию зла, оказывается нужным государству.
Так совпадают Кубрик и Медак в своих конечных выводах
о судьбах добра и зла в современном мире, об их перемен¬
чивом общественном «весе» и опасной относительности. Куб¬
рик кончает фильм откровенно фарсово, пародийно — сним¬
ком обнявшихся и улыбающихся в объектив министра и пре¬
ступника. Если финал «Правящего класса» и можно назвать
фарсовым, то это жутковатый политический фарс. Джек —
Питер О'Тул — живая мумия, мертвец, требующий крови,
выступает в парламенте с призывами к жестокости и твердо¬
сти, и ему рукоплещут лорды в мантиях, вдруг превращаю¬
щиеся в мертвецов в саванах. Режиссер несколько раз, по¬
жалуй, слишком навязчиво, лозунгово, повторяет этот кадр:
мертвецы в саванах, покрытые паутиной, на скамейках пар¬
ламента. Политически давно мертвый, психически давно боль¬
ной правящий класс.
«Правящий класс». Джек —
Питер О'Тул
Но есть в картине и еще одна и, пожалуй, более жуткая
финальная точка. Когда камера движется по солнечному ожив¬
ленному Лондону, провожая в парламент нового лорда Эр-
ла XIV, над улицами, парками, набережными, площадями не¬
сется дикий звериный вопль, визг, в котором жажда крови
и смерти — некое постоянное звучание, выделенное автором из
симфонии жизни современного мира.
При всем том, что заканчивается фильм серией убийств,
темой крови, мертвецами, саванами и воплем патологического
убийцы, фарс занимает важное место в его художественной
структуре и, может быть, точнее всего его можно определить
по жанру как мюзикл ужасов.
Но что такое мюзикл? Ведь это не просто набор формаль¬
ных признаков — пение, танец, речитатив, в чем тогда отли¬
чие от оперетты, музыкальной комедии? Это явление идео¬
логическое, воплощающееся в особом стиле, в особом прин¬
ципе отношения к жизни. Мюзикл — это внутренняя свобода
по отношению к произведениям классики, недаром столько
их делается на классические сюжеты. Это ирония и пародия,
281
снижение и отчуждение, опять-таки как мироощущение. И это
мироощущение царит в «Правящем классе». Поэтому и в
трагических, и в комедийных, и в жестоких сценах так ес¬
тественно герои прорываются в стихию мюзикла, в пародию.
И вот фильм известного американского комика Джерри
Люиса «Сумасшедший профессор»— про застенчивого профес¬
сора Келпа, с выступающими, как у Хайда — Марча, зубками,
застенчивого до того, что студент-футболист может его по¬
ложить на полку, и он будет там лежать, боясь возразить
обидчику. Но, конечно, профессор изобретает снадобье и пре¬
вращается в молодого нахала, неотразимого сердцееда, пытаю¬
щегося соблазнить девицу, которая ему втайне нравится.
Все в финале, естественно, открывается, и профессор произ¬
носит морализаторскую сентенцию: не надо думать о себе
слишком плохо или слишком хорошо. И вволю посмеявшись,
зритель, успокоенный торжеством справедливости, уходит.
Значит ли это, что общественное сознание на Западе и
искусство перестает тревожить проблема противоречивости
человека, его агрессивных инстинктов, его подверженности
злу? Нет, конечно, и «Заводной апельсин», как равно и «Пра¬
вящий класс» или «Бостонский душитель», явное тому дока¬
зательство. Перестает казаться необходимой и вызывает иро¬
нию сама структура мифа с ее персонификацией добра и зла
в полярных фигурах Джекиля и Хайда. Она перестает эффек¬
тивно «работать» в новых условиях.
Полемизируя с Томасом Манном или его толкователями,
накладывающими миф о докторе Фаустусе на судьбу Герма¬
нии, отдавшей себя во власть фашизма, Станислав Лем за¬
мечает, что «дьявол Манна родом из минувшей эпохи. Это
индивидуалист, для которого нет места в эпохе масс... Это
была эпоха массовых боен, организованных хорошими спе¬
циалистами. В стенах этих боен гениальность не имела ни
малейшего значения, над ней не склонялся дьявол, распо¬
знающий великую душу, дабы подвергнуть ее соблазну... Са¬
ма мысль о нотариальных контактах с тьмой в ту конкрет¬
ную эпоху кажется бессмысленной. Мифу не поднять дейст¬
вительность, которая слишком уж сильно отличается от него
(курсив мой. — Ю. X.)»106.
Нечто подобное происходит с историей Джекиля и Хайда.
Сегодня западному искусству не нужно специальных снадо¬
бий, чтобы морда Хайда выглянула из-за респектабельной
физиономии Джекиля, амбивалентность человека, его опасно
легкие переходы от добра к злу и обратно, относительность этих
понятий в буржуазном обществе отменяют необходимость в
282
«Бостонский душитель».
Дессальво — Тони Кертис,
«Сумасшедший профес¬
сор». Профессор Келп —
Джерри Льюис
фантастических мотивировках. Героине Бунюэля в «Дневной
красавице» не нужно снадобье, отделяющее часть ее лично¬
сти, не нужен дьявол. Ей просто скучно, и она готова до
известных пределов платить за приключение, за острые ощу¬
щения, позволяющие чувствовать себя личностью. Один из
персонажей «Джо», процветающий бизнесмен, сначала убивает
неосознанно, потом он уже стреляет в хиппи вместе со своим
единомышленником вполне сознательно и хладнокровно. Хайд
просыпается на разных полюсах общественной жизни, среди
правящего класса и внизу социальной лестницы. Как компен¬
сация и за сытое, унылое существование, и за жизненные неуда¬
чи, за отчуждение. Он теряет свою исключительность, становит¬
ся массовым и даже банальным.
И миф дряхлеет, умирает, пораженный склерозом обыден¬
ности, прозаизма. Не нужна его символическая структура, его
ясное, четкое и по сути своей высоконравственное деление
добра и зла, не нужен его романтический антураж.
Зло выступает в тоге долга, добро именуется мягкотелостью.
Все спутано, смешано и в жизни индивида и породившего его
общества. И мистер Хайд становится героем эстрадного шля¬
гера, призывающего лучше относиться к нему, потому что
«он воплощает вовсе не страх и жестокость, а желание».
283
Реальность фантастического мира
«...Вижу, что жизнь и наука все
уходят вперед и вперед, а я
отстаю и отстаю как мужик,
опоздавший на поезд».
А. П. Чехов «Чайка»
Жизнь догоняет Фантастику!
Сюжет фильма «Затерянные в космосе» не выглядит неве¬
роятным после аварии и спасения «Аполлона 13» и совместного
полета советского и американского космических кораблей.
Военного заговора, описанного в «Семи днях в мае», в США
как будто бы не было. Но в Италии их раскрыто уже несколь¬
ко, а в Чили путч произошел.
Журнал «Тайм» вынес на обложку заголовок сенсационной
статьи: «Насекомые наступают!», статьи, в которой факты как
будто заимствованы из «Хроники Хеллстрома», а выводы весь¬
ма невеселы. Насекомые быстро адаптируются ко всем инсекти¬
цидам— борьба человека и насекомых идет с переменным
успехом.
15 августа 1976 года в одном из залов Детройта, когда 7 ты¬
сяч человек слушали рок-музыку, произошел случай, потрясший
Америку. В разгар концерта в помещение ворвались полторы
сотни парней в котелках и с зонтиками в руках — десятки зри¬
телей были избиты и ограблены, одна женщина прямо в зале
изнасилована. Подвиги героев «Заводного апельсина» повторя¬
ются буквально и в массовом масштабе. Остается лишь гадать,
то ли Кубрик предвосхитил в «Заводном апельсине» прозодеж¬
ду и поведение современного молодого хулигана, то ли под¬
сказал его облик своим Алексом.
285
Фантастика столь быстро превращается в реальность, что
фантастическому кино не приходится прилагать особых усилий,
чтобы выглядеть хроникой, научным отчетом, телерепортажем.
Жизнь обгоняет фантастику!
В феврале 1975 г. «Литературная газета»107 опубликовала
подборку «Генная инженерия» — джин из бутылки». В ней со¬
общается о том, что сегодня биологи нашли способ строить ре¬
комбинантные молекулы ДНК, состоящие из генов разных орга¬
низмов. Это означает, что перед человечеством открываются
невероятные возможности создания новых животных и растений
с заранее заданными признаками, например, урожайной и за¬
сухоморозоустойчивой пшеницы, высокопродуктивного скота,
может быть, бактерий, синтезирующих нефть.
Как замечает директор института микробиологии и эпидемио¬
логии АМН СССР О. Бароян: «Мы все привыкли, что наука
обычно в той или иной мере «повторяет зады» наиболее сме¬
лой фантастики, человеческое воображение всегда опережает
реальную действительность. Но вот сейчас я мысленно перебрал
все, что читал из научно-фантастической литературы и, пожа¬
луй, не могу припомнить ни одного автора, который бы описы¬
вал что-либо подобное...»
Итак, жизнь догнала и обгоняет фантастику. Вина ли в этом
фантастики? Отчасти. Нельзя не согласиться со Ст. Лемом:
«К сожалению, отсутствие оригинальности, схематизм, стали ка¬
ким-то маниакальным пороком, болезненной страстью, особенно
в американской массовой литературе».
Но в большей степени это беда фантастики — человеческое
воображение просто оказывается бедным и робким по сравне¬
нию с невероятным темпом научных открытий, лавиной социаль¬
ных перемен, которые каждый день обрушивает на нас исто¬
рия. Только три года назад был создан «Штамм «Андромеда»,
кажется, надолго закрывший тему опасностей, связанную с не¬
известными мутациями микробов, и вот — открытия в генетике,
опередившие самые смелые прожекты ученого и фантаста Майк¬
ла Крайтона.
Вообще, по мнению критики и самих писателей, послевоен¬
ный бум фантастической литературы, продолжавшийся свыше
двух десятилетий, сейчас закончился. Фантасты жалуются на
кризис идей, читатели на однообразие сюжетов. В самом деле,
кажется, уже было все: и полеты к звездам, и путешествия к
центру Земли, схватки с инопланетными чудовищами и встречи
с неземным разумом, возможность контактов и невозможность
контактов, роботы «за» и роботы «против», бесконечные стран¬
ствия во времени и изменения истории путем воздействия на
286
прошлое, призраки тоталитарного будущего в антиутопиях и
изображение идеального общества в утопических романах.
Обнаруживается, что научная фантастика стареет тем бо¬
лее, чем более она остается литературой популяризации науч¬
ных идей, а не образного открытия характеров и явлений.
Она стареет тем быстрее, чем ближе она к публицистике, а
не к художественной прозе.
Какой же выход у фантастики, какая ее ждет судьба? Быть
проглоченной реальными событиями, стать литературой факта,
выдумкой вчерашнего дня? Да, если фантастика будет иллю¬
стрировать научные идеи. Нет, если она будет посвящена чело¬
веку в мире науки и техники, в мире убыстряющихся перемен.
В самом общем смысле это относится и к фантастике кинема¬
тографической. Но все же, поскольку сама ее историческая
судьба складывалась несколько по-другому, иначе выглядят и
ее перспективы. «Бум» в ней начался позже, чем в литерату¬
ре, и трудно сказать, прошла ли кинофантастика высшую точ¬
ку своего развития. Во всяком случае ясно, что она проходит
свой цикл, отличный от литературного в той же степени, в
какой кинофантастика отличается от фантастики литературной.
Научная фантастика в кино, как уже отмечалось в предисло¬
вии к этой книге, редко становилась иллюстратором научных
идей, а чаще отражала чувства, эмоциональные реакции обыч¬
ного человека, столкнувшегося с требованиями научно-техни¬
ческого прогресса, с его разнонаправленными последствиями.
Эта ситуация ежедневного столкновения, ориентировки, адапта¬
ции или конфликта человека с переменами, обусловленными
научно-технической революцией, есть ситуация постоянная.
Постоянная, и в то же время меняющаяся, поскольку «совре¬
менная наука, современная техника... развиваются со все воз¬
растающей быстротой, даже быстрее, вероятно, чем по экспо¬
ненциальному закону, изменив человечество до неузнаваемо¬
сти» (Макс Борн). В этой системе: человек — общество — науч-
но-техническая революция постоянный источник творческих им¬
пульсов для авторов кинофантастики. И здесь ее преимущества
по сравнению с другими видами кино — способность схватывать
мир в движении, экстраполируя в близкое будущее тенденции
сегодняшнего дня, давая их в очищенном виде. Эти ее воз¬
можности, очевидно, привлекают в нее время от времени круп¬
ных художников.
И характерно, что кинофантастика, всегда выражавшая наст¬
роения массового зрителя, теперь от опосредованных сюжетов,
от мифологических фигур, от изображения технического антура¬
жа все более часто переходит к прямому исследованию внут¬
287
реннего мира современного человека, на себе испытывающего
все последствия научных открытий и технических достижений.
Кстати, и литература все более решительно сворачивает на
этот путь, отказываясь от привычных клише научной фантасти¬
ки, все более решительно сочетая «научное» с «ненаучным»,
пытаясь создавать современные сказки индустриального мира,
в которых раскрывается человек.
Особенность сегодняшней ситуации состоит еще в том, что
наука и общество сами нуждаются в фантастах и в фантастике,
в смелых, дерзких идеях. Как отмечает Тоффлер, сегодня
«точное дисциплинированное мышление науки следует допол¬
нить пылким воображением искусства». Мечтатели и чудаки
ныне в цене — крупные корпорации, солидные фирмы гоняются
за ними в поисках неожиданных мыслей и решений, охотясь
«за расковывающими мышление гипотезами о возможных ва¬
риантах будущего». Если подобная оценка престижности во¬
ображения и фантазии верна, то это означает, что обществен¬
ная роль кинофантастики необычайно возрастает — она стано¬
вится политическим оружием, она может влиять на выбор тех
или иных вариантов возможного развития.
Отсюда возрастает и ответственность фантаста. Кто он —
художник, честно предупреждающий о грядущих опасностях,
стремящийся найти выход из социальных тупиков буржуазного
общества? Или расчетливый коммерсант, щекочущий нервы
мрачными предсказаниями, уводящий зрителя от насущных
проблем в дебри иррационального кошмара, в описания не¬
мыслимых бедствий?
Этот вопрос жестко ставит перед кинофантастами история,
мир всеубыстряющихся перемен и социальных катаклизмов.
Посткриптум: Катастрофы... Катастрофы...
С тех пор как были написаны заключительные строки этой
книги, прошло два года и выяснилось, что коммерческое кино
дало весьма определенный ответ на вопросы «с кем?» и «куда»?
На страницах западной прессы появился термин «фильмы-ката-
строфы», он повторяется все чаще и уже стал жанровым опре¬
делением на манер мюзикла или детектива.
Откуда же такая мода на катастрофы?
Бесспорно, издержки научно-технического прогресса дают
для таких фильмов богатый материал.
Сколько неразрешимых проблем, тревожных прогнозов
для человечества появилось за последние годы?! Уничтожение
окружающей среды и демографический взрыв, истощение
288
естественных ресурсов и невосполнимая потеря кислорода,
исчезновение озонового слоя, предохраняющего все живое от
жестких излучений солнца и резкое потепление климата, таяние
льдов Гренландии и Антарктиды и новый потоп, похолодание и
новый ледниковый период.
Если безоговорочно верить всем этим прогнозам, то остает¬
ся только утешаться тем, что сегодняшний человек находится
в положении д'Артаньяна, который, как известно, был вызван
на дуэль сразу тремя мушкетерами. Убить его мог только один,
и если у первого еще были какие-то шансы, то у последую¬
щих они соответственно уменьшались. Количество гибельных
угроз, стоящих перед цивилизацией, таково, что авось одни как-
нибудь нейтрализуют другие.
Впрочем, апокалиптические пророчества раздаются на про¬
тяжении всей истории человечества, а оно живет и движется
вперед.
Но западный мир стоит не только перед общими для всего
человечества опасностями, рожденными стремительным ходом
развития техники. Его сотрясают социальные катаклизмы.
В основном документе, принятом на Международном со¬
вещании коммунистических и рабочих партий в 1969 году, было
сказано о социальных противоречиях, определяемых и стимули¬
руемых техническим прогрессом на Западе. «Это — прежде
всего противоречие между необычайными возможностями,
открываемыми научно-технической революцией, и препятствия¬
ми, которые капитализм выдвигает на пути их использования в
интересах всего общества... Это — не только рост противоречий
между трудом и капиталом, но и углубление антагонизма меж¬
ду интересами подавляющего большинства нации и финансовой
олигархией»108.
Национально-освободительные движения и распад систе¬
мы колониализма, молодежные бунты и расовые конфликты,
классовые бои трудящихся и рост влияния компартий — все эти
грозные для стабильности капиталистического общества явления,
соединяясь, наслаиваясь одно на другое, создают катастрофи¬
ческое мироощущение, которое очень остро выражает «массо¬
вое» искусство.
Пожар в огромном 139-этажном небоскребе («Ад в подне¬
бесье», реж. Д. Гайлермин, 1974), землетрясение, обращающее
в руины Лос-Анджелес («Землетрясение», реж. М. Робсон, 1974),
переворачивающийся огромный лайнер «Посейдон», в недрах
которого гибнут почти все пассажиры («Приключение ^Посейдо¬
на», реж. Р. Ним, 1972), свирепая белая акула, пожирающая
мирных курортников («Челюсти», реж. Спилберг, 1975), гигант¬
289
ский воздушный корабль, столкнувшийся в воздухе с маленьким
самолетом («Аэропорт-75», реж. Д. Смит, 1975), и опять океан¬
ский корабль с тысячью пассажирами на борту, начиненный ад¬
скими машинами, ожидающий своей гибели («Джаггернаут»,
реж. Р. Лестер, 1974). И если верить сообщениям печати, то на
очереди еще десятки снимающихся или уже законченных филь¬
мов о крушениях поездов и взрывах заводов, нападениях терро¬
ристов на атомные станции, железнодорожные экспрессы и т. д.
Причем это супербоевики, сделанные высокопрофессиональ¬
но, с применением всех достижений кинотехники, специальных
эффектов, с участием крупнейших актеров — в общем, что на¬
зывается, «не жалея затрат». Набитые электроникой модели
гигантской акулы в «Челюстях» со специальной программой ее
действий, стереоаппаратура и устройства, вызывающие вибра¬
цию и толчки кресел в зрительном зале при демонстрации
«Землетрясения»,огромный макет небоскреба с бассейном на¬
верху, из которого в кульминационный момент хлынут потоки
воды в «Аде в поднебесье». Постановочный размах, умело
скроенный сюжет, аттракционы ужасного — все это притяги¬
вает миллионы зрителей. «Челюсти» опередили по сборам даже
«Крестного отца» и «Экзорсиста». Тем более важно разобраться
в идеологической природе этого зрелища.
Как мы увидим далее «фильмы-катастрофы» — явление но¬
вое для западного кино, хотя бедствия и катастрофы экран знает
с момента своего рождения. Это картины с определенной струк¬
турой, со стабильными сюжетными мотивами и характерами и
отчетливой идеологической программой. К фантастике они пря¬
мо не относятся, но вобрали в себя ряд ее излюбленных моти¬
вов: взаимоотношения человека и техники, ученого и предста¬
вителя власти, отказ или бунт машины в критической ситуации.
Только в данном случае ситуацию создает не чудовище или
пришельцы из космоса, а стихия или порок самой техники или
безответственность — но чем, в сущности, неверно построенный
корабль или неверно сделанная электрическая сеть отличаются
от неверно запрограммированного робота в фантастике?
Одни критики видят в этих фильмах только зрелище. Дру¬
гие, как автор журнала «Шпигель», полагают, что «во .времена
неуверенности и кризисов кстати отвлекающий маневр со
скрытыми первобытными страхами» ю9. Третьи предлагают
фрейдистскую трактовку: катастрофы на экране, дескать, помо¬
гают зрителю избавиться от комплексов насилия, они изживают¬
ся в зрелище разрушений. Или от комплексов страха — страх
приобретает конкретность, переносится на нечто определенное,
и зритель его изживает, отождествляя себя с теми, кто спасся.
290
Итак, развлечение, отвлечение, излечение.
Наверное, во всех этих объяснениях есть доля истины, но
лишь доля. Ибо они не схватывают всего комплекса идей этих
фильмов, они относятся к любым картинам про бедствия.
А главное отличие фильмов-катастроф от всех кинобедствий
прошлого заключается в том, что они предлагают не только
модель бедствия, но и модель избавления, нечто вроде прог¬
раммы «оздоровления общества», с которой всякий раз высту¬
пает очередной американский президент. И можно только со¬
гласиться с Жераром Брена, который на страницах «Франс ну-
вель» указывает, что эти фильмы «по-своему отражают кризис¬
ные явления, причем в таких формах, которые приемлемы для
господствующей идеологии».
Чтобы яснее понять, какое содержание таят в себе фильмы-
катастрофы, рассмотрим один из них, скажем, «Ад в подне¬
бесье», поскольку набор его ситуаций, мотивов и характеров
повторяется с не очень значительными вариациями в остальных
картинах.
Итак, в эксплуатацию сдается огромный 139-этажный небо¬
скреб, башня из стекла и стали с роскошными оффисами и
уютными жилыми апартаментами. Гости во главе с губернато¬
ром прибывают на торжественное открытие здания.
Долгая и подробная панорама людей разного возраста и
положения. Похоже, что население небоскреба, так же как па¬
рохода в «Посейдоне», с разными прослойками, занимающими
разные классы и этажи, как бы призвано дать модель общества
в целом. Персонажей много, они представляются достаточно
бегло, поэтому даже в эпизодических ролях часто выступают
старые звезды Голливуда — уже их внешний облик, знакомые
лица рождают у зрителя цепь ассоциаций, предлагают некий
ориентир. Так появляются Глория Свенсон и Мирна Лой в «Аэро¬
порте», Ава Гарднер и Чарлтон Хестон исполняют главные роли
в «Землетрясении»», Фред Астер, Стив Мак-Куин, Пол Нью¬
мен— в «Аде в поднебесье».
Разные классы в этих картинах существуют отдельно, точно
не замечая друг друга, но и в большинстве случаев не проти¬
востоя друг другу. Впрочем, как и отдельные люди. Герои в
своем большинстве внутренне одиноки, несчастливы в личной
жизни, их семейная жизнь на грани слома. Некоммуникабель¬
ность, отсутствие общего языка — болезнь этого атомизирован-
ного общества. Так, образ небоскреба перерастает в библейский
образ Вавилонской башни, построенной и заполненной людьми,
не понимающими друг друга, и потому обреченной рухнуть.
Как точно замечает болгарский критик Ивайло Знепольский в
291
Стив Мак-Куин. Один из
героев фильма «Ад в под¬
небесье».
Белая акула — героиня
фильма «Челюсти».
Эта радиоуправляемая мо¬
дель стоила 250 тысяч дол¬
ларов. Доходы от фильма
уже перевалили за 100 мил¬
лионов
своей интересной статье о фильмах-катастрофах: «Библейский
символизм проник глубоко в драматургию и мифологию филь-
ма-катастрофы, который предстает как олицетворение Страш¬
ного суда»1 1 °.
Характерно, что хотя причины катастрофы во всех фильмах
различны, но в масштабе ее последствий всегда виноваты сами
люди, причем весьма часто люди, облеченные властью. Зять
владельца небоскреба сэкономил в свою пользу на качестве
электропроводки. Мэр в «Землетрясении» из политических
соображений не рискует обнародовать сейсмический прогноз.
В «Приключении«Посейдона» корабль слишком стар и не рас¬
считан на большую волну, но его все-таки посылают в новогод¬
ний круиз. Авария гигантского Боинга связана с безответствен¬
ностью хозяина маленького личного самолета, чувствовавшего
себя плохо, но поднявшегося в воздух и столкнувшегося с
Боингом.
292
Сами люди беспечно идут по гибельному пути. Хозяин не¬
боскреба приказывает включить все лампы и осветить башню.
И пока один за другим зажигаются ярусы здания, в камерах
электросети разгорается пламя. Наверху веселится роскошное
общество, а внизу, за кулисами представления, уже бушует по¬
жар.
Опять-таки навязчивый мотив фильмов-катастроф. Веселый
новогодний праздник идет в салоне «Посейдона», и с двенадца¬
тым ударом часов мощная волна опрокидывает корабль;
устраивается костюмированный бал и на корабле в фильме
«Джеаггернаут», чтобы отвлечь пассажиров от ожидания взры¬
ва. Беспечность и веселье перед катастрофой — упрек совре¬
менному западному миру, наслаждающемуся комфортом и не
замечающему, что стихии уже бушуют за его стенами.
Но вот катастрофа происходит, и выясняется, что само об¬
щество не в силах ей противостоять. Его лидеры либо оказы-
293
ваются неумелы, несамостоятельны в критических обстоятель¬
ствах, как мэр в «Землетрясений», хозяин здания в «Аде
в поднебесье», капитан в «Приключении «Посейдона», или же
они выведены из строя, как летчики в «Аэропорте-75». Кризис
веры в старых лидеров, связанный с Уотергейтом и коррупци¬
ей, выразился здесь в полной мере. А сами пассажиры, посети¬
тели дома, жители города ведут себя как стадо овец.
Кто же приходит на помощь? Кто выводит из критической
ситуации? Бравые американские и английские парни — Пол Нью¬
мен, Стив Мак-Куин, Чарлтон Хестон, Джин Хэкман, Ричард Хар¬
рис. Зритель привык их видеть в ролях благородных бандитов
и неподкупных шерифов, мужественных агентов полиции и ре¬
шительных космонавтов, он верит им изначально, по инерции —
они не подведут! И они не подводят, пройдя огонь, воду и
медные трубы (все три части данного идиома они проходят
буквально — и огонь, и воду, и трубы), герои спасают тех, кто...
захотел спастись, даже жертвуя в ряде случаев своей жизнью.
Перед жертвами катастрофы всего две возможности: те,
кто поверил в новых лидеров и пошел за ними, те спасутся,
остальные могут прыгать из окон сотого этажа или захлебы¬
ваться океанской водой.
А что же великолепная техника, которой восхищались герои
фильмов? И мощный красавец Боинг, и величественная стеклян¬
ная башня небоскреба, и роскошный корабль «Посейдон» пре¬
вращаются в мышеловку. Техника оказывается ненадежной, вы¬
ходит из строя и погребает, замуровывает доверившихся ей. Она
таинственна и враждебна, она не дается непосвященным. И все-
таки уповать герои могут на технику, на специалистов — в ко¬
нечном счете именно они приходят на помощь, как архитектор
и пожарник в «Аде в поднебесье», как эксперт-летчик в «Аэро¬
порте», специалисты-подрывники в « Джаггернауте». И даже в
«Челюстях», которые лишь частично могут быть отнесены к
фильмам-катастрофам, появляется специалист-ихтиолог с на¬
бором технических приспособлений — одно из них в конечном
счете и помогает полицейскому убить акулу.
Итак, иррациональный страх перед техникой и надежда на
нее. Техника — кошмар и техника — спасение. Это двойственное
отношение к техническому прогрессу знакомо нам уже по
фантастическим фильмам. И сами ученые-специалисты, как и в
научно-фантастических фильмах 70-х годов, лишь эксперты на
службе государства и бизнеса.
После бедствия люди в этих фильмах резко меняются. Прой¬
дя горнило страдания, герои выходят из него очистившимися
от эгоизма и своекорыстия, едиными. В моральном смысле
катастрофа оказывается, как это ни парадоксально, полезной.
294
Таким образом, если в оценке фильмов-катастроф подняться
над конкретными сюжетными обстоятельствами того или иного
фильма, то их обобщенная модель может быть без особой на¬
тяжки воспринята в качестве модели западного мира накануне
катастрофы. И как программа действия на случай оной. Иначе
говоря, это фильм-парабола. Существующая в ряде вариантов
одна и та же притча. О современном обществе — больном, ли¬
шенном классового и морального единства. О несостоятельности
его лидеров и банкротстве традиционных демократических
институтов. О его беспечности, хотя земля уже горит под но¬
гами. Катастрофа грядет — пророчат авторы, — но может это и
благо, как великий потоп. Ибо она уничтожит недостойных —
слабых телом и мелких душой. Она выдвинет настоящих, силь¬
ных и компетентных людей, облечет их властью и заставит пой¬
ти за ними массу, которая сама, конечно, неспособна найти вы¬
ход и спасти себя. И мир выйдет из испытания обновленным
и единым.
Таков новый вариант авторитарного мифа, предлагаемого
«массовой культурой» западному потребителю в фильмах-ка-
тастрофах.
Сделанные как реальные, даже документальные драмы они
оказываются самой бессовестной фантастикой, самой утеши¬
тельной утопией. Они даже спорят с «безнадежностью» и «пес¬
симизмом» апокалиптических картин.
Пугая они успокаивают.
И кажется, что для их полной концептуальной завершенности
не хватает лишь появления в финале персонажа «от автора»,
который, жизнерадостно приплясывая и подмигивая зрителю,
исполнит рефрен известной песенки:
«Это даже хорошо,
это даже хорошо,
что пока нам плохо!»
Использованная литература
1 Кагарлицкий Ю. Что такое фантастика? М., «Худож. лит.», 1974, с. 10.
2 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1973, с. 47.
3 Материалы XXIV съезда КПСС. М., Политиздат, 1971, с. 15.
4 Т о f f I е г A. Future Shock. N. Y. Bantam Books, 1972, p. 9.
5 J u n k R. The Role of Imagination in Future Research. — In: Challenger from
the Future, vol. 1. Tokyo, 1970, p. 6.
6 T о f f I e r A. Future Shock, p. 425.
7 «Рус. искусство». М., «Творчество», 1923, № 2—3, с. 67.
8 Маркс К. иЭнгельсФ. Соч. Изд. 2, т. 12, Политиздат, 1958, с. 3—4.
9 У э л л с Г. Собр. соч. в 15-ти т., т. З.М., 1964, с. 158.
10 Там же, с. 165.
11 Цит. по: В а х t e r J. Science Fiction in the Cinema. London—New York, 1974,
p. 53.
12 Ibid., p. 9.
13 Ibid., p. 9.
14 Ibid., p. 11.
15 Шрейдер Ю. Наука — источник знаний и суеверий. — «Нов. мир»,
1969, № 10.
16Adamskj G. Inside the Space Ships. N. Y., 1955.
17Араб-оглы Э.-И. В лабиринте пророчества. М., «Мол. гвардия», 1973,
с. 145.
18Дюкень Ж. В сумерках мистики. — «Лит. газ.», 1971,11 авг.
19 Там же.
^Жирмунский В. и Сигал Н. У истоков европейского романтизма. —
В кн.: Фантастические повести, Л., «Наука», 1967, с. 265.
21 Там же, с. 266.
22 Уэллс О. Статьи, свидетельства, интервью. М., «Искусство», 1975,
с. 166—169.
23 К. Маркс и ф. Энгельс об искусстве, т. 1, М.. «Искусство», 1976, с. 122.
24 Там же.
25 Ш е к л и Р. Битва. — В кн.: Шутник. М., «Мир», 1971, с. 171.
26 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 4.
27 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. I, с. 184.
28 F a r b e г S. The Exorcist. “Film Comment”. N. Y., 1974, p. 34.
29 Г о г о л ь H. В. Собр. соч. в 6-ти т., т. 1. М., Гослитиздат, 1950, с. 139.
30 F a r b e г S. The Exorcist. “Film Comment.”, p. 34.
31 Ibid., p. 34.
32 Неделин Вл. По поводу супермена и других сверхгероев комиксов. —
«Иностр. лит.», 1967, № 1, с. 280.
33 В и н е р Н. Творец и робот. М., «Прогресс», 1966, с. 70.
34 Цит. по: Фрадкин И. М. Тривиальный роман и пути его распространения
в ФРГ — В кн.: Массовая литература и кризис буржуазной культуры на
Западе, «Наука-, 1974, с. 135.
35 Цит. по: Неделин Вл. По поводу супермена и других сверхгероев ко¬
миксов. — «Иностр. лит.», 1967, №1, с. 281.
36 Михалкович Вл. Традиции литературного детектива и кино. — «Вопр.
киноискусства». М., «Наука», 1975, Ns 16, с. 196—197.
37 Туровская М. Герои «безгеройного времени». М., «Искусство», 1971,
с. 70.
38 С h a r I e s J. Rolo. The* Metaphysics of Murder for Millions. — ‘‘Now World
Writing”, 1952, N. 1, p. 245
296
39 Н е д е л и н Вл. По поводу супермена и других сверхгероев комиксов,
с. 280.
40 Цит. по: Ч а п е к К. Соч., т. 3. М., Гослитиздат, 1958, с. 437.
41 Шкловский И. С. Проблема внеземных цивилизаций и ее философ¬
ские аспекты. — «Вопр. филос.», 1973, №2, с. 91.
42 Там же, с. 92.
43 В а с h t е г J. Op. cit., р. 39.
44 Lenne G. Le Cinéma Fantastique et ses Mythologies, Paris, 1970, p. 113.
4Ь Винер H. Творец и робот, с. 27—28.
46 Lenne G. Op. cit., p. 114.
47 К. Маркс и ф. Энгельс об искусстве, т. 1, с. 122.
48 Там же, с. 46.
49 A m i s K. New Mars of Hell, London, 1969, p. 26—27.
50 Ч а п e к K. Соч., т. 3, с. 438.
51 Там же, с. 438.
52 Там же, с. 169.
53 Парнов Е. Уроки Чапека или этапы робоэволюции. — В кн.: Шутник.
М., «Мир», 1971, с. 370.
54 В и н е р Н. Творец и робот, с. 70.
55 Кларк А. Космическая Одиссея 2001 года. М., «Мир», 1970, с. 168—170.
56 В и и е р Н. Творец и робот, с. 73.
57 Караганов А. Киноискусство в борьбе идей. М., Политиздат, 1974,
с. 74.
58 Там же, с. 76.
59 Достоевский Ф. М. Об искусстве. М., «Искусство», 1973, с. 444.
60 Л е м С. Солярис. Эдем. М., «Мир», 1973, с. 21.
61 Там же.
62 Крайтон М. Штамм Андромеда. М., «Мир», 1971, с. 21.
63 Ну й кин А. Синхрофазотроны и шаманские бубны. — «Иностр. лит».,
1973, Ns5, с. 220.
64 Там же, с. 225.
65 Крайтон М. Штамм Андромеда, с. 315—316.
66 КракауэрЗ. Природа фильма, М., «Искусство», 1974, с. 12.
67 Л в н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 330.
68 КракауэрЗ. Природа фильма, с. 124.
69 “Newsweek”, april 1970, p. 27.
70 Ф. М. Достоевский об искусстве. М., «Искусство», 1973, с. 114.
71 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 498—499.
72 Араб-оглы Э. В утопическом антимире. — «Лит, газ.», 1972, 23 февр.,
1 марта.
73 Marcuse Н. One-Dimensional Man. Beacon Press, Boston, 1964, p. 8
74 KracauerS. From Caligari to Hitler. N. Y., 1974, p. 94-95.
75 Уэллс Г. Война в воздухе. — Собр. соч. в 15-ти т., т. 4, М., «Правда»,
1964, с. 267—268.
76 Философская энциклопедия, т. 5, М., 1970, с. 295.
77 Б о р н М. Моя жизнь и взгляды. Ц., «Прогресс», 1973, с. 45.
78 Там же, с. 40.
79 P г é d а I R. Le Cinéma Fantastique, Paris, 1970, p. 195.
80 Marc use H. Op. cit., p. 89—90.
81 Бредбери P. 451 ° no Фаренгейту. М., «Мир», 1964, с. 62—66.
82 Там же, с. 66.
83 Truffaut François. Journal of Fahrenheit 451, “Cahiers du Cinéma” in
English, numbers 5, 6 and 7 (1967), 1968, № 6. (Все дальнейшие цитаты из
дневника фильма приведены по данному изданию).
297
84 Буль Л. Планета обезьян. Библиотека современной фантастики, т. 13.
М., «Мол. гвардия», 1967, с. 157
85 Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. 9. М., Госполитиздат, 1958,
с. 138—139.
86 Interview with Stanley Kubrik. — “Sight and Sound” Spring, 1972, p. 63.
87 Ibid., p. 63.
88 Interview with Stanley Kubrik, op. cit., p. 63.
84 “Sight and Sound”, Spring, 1974, p. 77
90 Стивенсон P Л. Собр. соч. в 5-ти 2, изд. «Правда», 1967
с. 556—557
91 L е n n е G. Op. cit., р. 84.
92 Цит. по. кн.: Кукаркин А. Чарли Чаплин. М., «Искусство», 1960,
с. 227
93 Там же, с. 232—233.
94 Г е г е л ь Соч., т. 13, с. 96.
95 Цит. по: Недошивин Г Проблемы экспрессионизма. — В кн.. Экс¬
прессионизм , М., «Наука», 1966, с. 20.
96 Обстоятельный анализ романтизма в статье И. Ф. Волкова «Основные проб¬
лемы изучения романтизма». — В кн.: К истории русского романтизма.
М., «Наука», 1973.
97 К истории русского романтизма, с. 231
98 П о Э. Полное собрание рассказов. М., «Наука», 1970, с. 205—206.
99 Там же, с. 213.
100 Там же, с. 200.
101 Там же, с. 788.
102 А в е р и н ц е в С. С. Аналитическая психология К.-Г Юнга и закономер¬
ности творческой фантазии. — В кн.: О современной буржуазной эсте¬
тике. М., «Искусство», 1972, с. 135.
103 С т и в е н с о н Р. Л. Собр. соч., т. 2, с. 555—556.
104 Там же.
105 Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. М., «Искусство», 1970, с. 216.
106 Л е м С. Мифотворчество Томаса Манна. — «Нов. мир», 1970, №6, с. 238.
1°7 «Лит. газ.», 1975, №9, с. 13.
108 Международное совещание коммунистических и рабочих партий. Доку¬
менты и материалы. 5—17 июня 1969 г. М., Политиздат, 1969, с. 298.
“Spiegel”, 1975, 24 febr., S. 120.
110 Знепольский И. Фильм-катастрофа: инсценированный апокалипсис. —
«Народная культура- 1977 ?1 янв
Указатель основных фильмов, упоминаемых в книге1
АД В ПОДНЕБЕСЬЕ (The Towering Inferno), США, 1974, Джон Гайллермин. 289—
295
АЛЬФАВИЛЬ (Alphaville), Франция, 1965, Жан-Люк Годар. 8, 201, 219—224,
231, 237, 238, 256
АЭЛИТА, СССР, 1924, Яков Протазанов. 8
АЭРОПОРТ-1975 (Airport-1975), США, 1974, Джек Смайт. 290—295
БАРБАРЕЛЛА (Barbarelia), Франция — Италия, 1967, Роже Вадим. 83
БАТМЕН (Batman), США, 1943, Ламберт Хилльер. 79
БЕГСТВО КИНГ КО.НГА (Кингу Конгу но гикашу**), Япония, 1969, Иносиро
Хонда. 49
БЕГСТВО С ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН (Escape from the Planet of the Apes),
США, 1971, Дон Тейлор. 236
БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ОБЕЗЬЯН (Battle for the Planet of Apes), США, 1973,
Джек Ли Томпсон. 236
БОСТОНСКИЙ ДУШИТЕЛЬ (The Boston Strangler), США, 1968, Ричард Флейшер.
277, 278, 282
В СТАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДОКТОРА МАБУЗЕ (Im Stahlnetz des Dr. Mabuse),
ФРГ, 1961, Гарольд Райнл. 61
ВАМПИР (Vampyr, ou L’étrange aventure de David Grey), Франция, 1932,
Карл Дрейер. 162
ВЕЩЬ ИЗ ДРУГОГО МИРА (The Thing from Another World), США, 1951,
Кристиан Ниби. 16, 43, 46
ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА (La Jetée), Франция, 1962, Крис Маркер. 8, 163—167, 237
ВЛАСТЬ (The Power), США, 1967, Байрон Хаскин. 25
ВОЕННАЯ ИГРА (The War Game), Англия, 1966, Питер Уоткинс. 169, 178, 193
ВОЙНА МИРОВ (The War of the Worlds), США, 1953, Байрон Хаскин. 25, 34,
35, 42—44, 204
ВООБРАЖАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (Le voyage imaginaire), Франция, 1925,
Рене Клер. 8
ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ (Erinnerungen an die Zukunft), ФРГ 1970,
Гарольд Райнл. 28
ВТОРЖЕНИЕ АСТРО-МОНСТРОВ (Кадзю даисенсо), Япония, 1965, Иносиро
Хонда. 49
ВТОРЖЕНИЕ ПОХИТИТЕЛЕЙ ТЕЛ (Invasion of the Body Snatchers), США
1956, Дон Сигель. 55, 58
ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИЙ, СССР, 1935, Александр Андриевский. 124
ГИБЕЛЬ ЯПОНИИ (Ниппон джинботсу), Япония, 1973, Сиро Моритани. 185—187
ГОДЗИЛЛА (Годзира), Япония, 1955, Иносиро Хонда. 47—49
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ МОСУРЫ (Годзира таи Мосура), Япония, 1964, Иносиро
Хонда. 49
ГОЛДФИНГЕР (Goldfinger), Англия, 1964, Ги Хамильтон. 85
ГОЛЕМ (Der Golem), Германия, 1914, Пауль Вегенер и Генрик Галеен. 8, 95. 97
ГОЛЕМ, КАК ОН ПРИШЕЛ В МИР (Der Golem, wie er in die Welt kam),
Германия, 1920, Пауль Вегенер. 96
ГОЛОВА ЯНУСА (Der Januskopf), Германии, 1920, Фридрих Вильгельм
Мурану. 8
ГОМУНКУЛУС (Homunkulus), Германия. 1916. Отто Рипперт 95
* Приводится оригинальное название, страна и год производства, режиссер фильма.
Японские названия даются в русской транскрипции.
ДЕНЬ ДЕЛЬФИНА (The Day of the Dolphin), США, 1973, Майк Николс. 195, 196
ДЕНЬ, КОГДА ВСПЛЫЛА РЫБА (The Day the Fish Came out), Англия —Гре¬
ция, 1967, Михаил Какоянис. 122.
ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ (The Day the Earth Stood Still),
США, 1951, Роберт Уайз. 37, 38, 122
ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ (Village of the Damned), Англия, 1960, Вольф Рилла.56- 58
ДЖАГГЕРНАУТ (Juggernaut), Англия, 1974, Ричард Лестер. 230, 293, 295
ДЖЕССИ ДЖЕЙМС ВСТРЕЧАЕТ ДОЧЬ ФРАНКЕНШТЕЙНА (Jesse James Meets
Frankenstein’s Daughter), США, 1965, Уильям Бодин. 107
ДОКТОР ДЖЕКИЛЬ И МИСТЕР ХАЙД (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), Дания,
1908, Вигго Ларсен. 208, 269
ДОКТОР ДЖЕКИЛЬ И МИСТЕР ХАЙД (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), США, 1920,
Джон Стюарт Робертсон. 8, 16, 269
ДОКТОР ДЖЕКИЛЬ И МИСТЕР ХАЙД (Dr. Jekyll and Mr. Hyde). США,
1932, Рубен Мамулян 8, 269—274
ДОКТОР ДЖЕКИЛЬ И МИСТЕР ХАЙД (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), США.
1941, Виктор Флеминг. 8, 274, 275
ДОКТОР СТРЕЙНДЖЛАВ, ИЛИ КАК Я НАУЧИЛСЯ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ И
ПОЛЮБИЛ АТОМНУЮ БОМБУ (Dr. Strangelove or How I Learned to Stop
Worring and Love the Bomb), Англия, 1963, Стэнли Кубрик.122, 151, 169,
174—178, 251
ДОКТОР ЦИКЛОП (Doctor Cyclops), США. 1940, Эрнст Б. Шёдсак, 120, 121
ДУХИ ДАМЫ В ЧЕРНОМ (II profumo della signore in пего), Италия, 1975,
Франческо Баррили. 74, 75
ДЬЯБОЛИК (Diabolik), Италия —Франция, 1967, Марио Бава. 81
ДЬЯВОЛЬСКАЯ КУКЛА (The Devil Doll), США, 1936, Тод Браунинг. 120
ЖЕНЩИНА НА ЛУНЕ (Die Frau im Mond), Германия, 1928, Фриц Ланг. 140
ЖИЛАЯ КОМНАТА (The Bed Sitting Room), Англия, 1969, Ричард Лестер. 169
ЗАВЕЩАНИЕ ДОКТОРА КОРДЕЛЬЕ (Le testament du docteur Cordelier),
Франция, 1959, Жан Ренуар.275, 276
ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН (A Clockwork Orange), Англия, 1971, Стэнли
Кубрик. 63, 238—252, 258, 267, 280, 285
ЗАВОЕВАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН (The Conquest of the Planet of the Apes),
США, 1972, Джек Ли Томпсон. 236
ЗАПРЕЩЕННАЯ ПЛАНЕТА (Forbidden Planet), США, 1956, Фред Мак-
леод Уилкокс. 43, 94, 121
ЗАРДОЗ (Zardoz), Англия, 1974, Джон Бурмэн. 201, 252—255, 258
ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ (Marooned), США, 1969, Джон Старджес. 54,
136, 163, 285
ЗЕЛЕНЫЙ СОЙЛЕНТ (Soylent Green), США, 1973, Ричард Флейшер. 255, 256,
258
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ (Earthquake), США, 1974, Марк Робсон. 289, 295
КАБИНЕТ ДОКТОРА КАЛИГАРИ (Das Kabinett des Dr. Caligari), Германия,
1919, Роберт Вине. 8,16, 94, 95, 97, 115, 144
КИНГ КОНГ (King Kong), США, 1933, Мериан К. Купер и Эрнст Б. Шёдсак. 8,
16, 38, 39, 52, 151
КИТАЙЦЫ В ПАРИЖЕ (Les Chinois à Paris), Франция, 1974, Жак Янн. 196—198
КОНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (The Terminal Man), США, 1974, Майк Ходжез. 149
КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2001 (2001 :А Space Odissey), США —Англия,
1968, Стенли Кубрик. 126—137, 151, 251
ЛУЧ СМЕРТИ, СССР, 1925, Лев Кулешов. 152
МАГНИТНОЕ ЧУДОВИЩЕ (The Magnetic Monster), США, 1953, Курт Сьёдмак. 46
МАДАМ СИН (Madam Sin), (В лапах мадам Син), Англия, 1972, Дэвид Грин.
62,63
300
МАСКА ФУ МАНЧУ (The Mask of Fu Manchu), США, 1932, Чарлз Брабин. 8
МАШИНА ВРЕМЕНИ (The Time Machine), США, 1960, Джордж Пал. 23, 24, 27, 204
МЕСТЬ ФРАНКЕНШТЕЙНА (The Revenge of Frankenstein), Англия, 1958, Теренс
Фишер. 108
МЕТРОПОЛИС (Metropolis), Германия, 1926, Фриц Ланг. 8, 16, 152, 201,
206—214, 217, 231
МИР ДАЛЬНЕГО ЗАПАДА (Westworld), США, 1973, Майкл Кройтон. 148, 149
МОЛОДОЙ ФРАНКЕНШТЕЙН (Young Frankenstein), США, 1974, Мел Брукс.
100, 110—116
НА БЕРЕГУ (On the Beach), США, 1959, Стэнли Креймер. 17, 99, 122, 154—
161, 168, 169, 174, 178, 216
НА ЗАВОЕВАНИЕ ПОЛЮСА (A la conquête du Pôle), Франция, 1912, Жорж
Мельес. 5, 91
НАПРАВЛЕНИЕ — ЛУНА (Destination Moon), США, 1950, Ирвинг Пичел. 16,41,136
НЕВЕРОЯТНО УМЕНЬШАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК (The Incredible Shrinking Man),
США, 1957, Джек Арнольд. 25, 121
НЕВЕСТА ФРАНКЕНШТЕЙНА (The Bride of Frankenstein), США, 1935, Джеймс
Уэйл. 101, 105, 106, 115, 116
НОСФЕРАТУ (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens), Германия, 1922,
Фридрих Вильгельм Мурнау. 8, 93, 152, 162
ОБЛИК ГРЯДУЩЕГО (Things to Come), Англия, 1936, Уильям Камерон
Мензис. 24, 214—218, 220
ОНИ! (Them!), США, 1954, Гордон Дуглас. 39, 44—46
ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ (The Island of Lost Souls), США, 1932, Эрл
Кентон. 119, 120, 218
ПАНИКА В ГОДУ НУЛЕВОМ (Panic in Year Zero), США, 1962, Рей Миллан. 174
ПАРК НАКАЗАНИЙ (Punishment Park), США, 1971, Питер Уоткинс. 151, 169,
193—195
ПАРИЖ УСНУЛ (Paris qui dort, ou Le rayon invisible), Франция, 1923, Рене
Клер. 97—100, 152
ПАУК (The Spider), США, 1958, Берт Гордон. 45
ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ (First Men in the Moon), Англия, 1964, Натан
Жюран. 22—24, 126. 204
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН (Planet of the Apes), США, 1967, Фрэнклин Шаффнер.
201, 232—234, 258
ПО ТУ СТОРОНУ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН (Beheath the Planet of the Apes), США,
1969, Тед Пост. 234—236
ПОРОГ ПУСТОТЫ (Au Seuil du néant), Франция, 1970, Жан-Франсуа Дави. 65
ПРАВЯЩИЙ КЛАСС (The Ruling Class), Англия, 1972, Питер Медак. 259, 278—282
ПРАЖСКИЙ СТУДЕНТ (Der Student von Prag), Германия, 1913, Стеллан
Рийе. 8, 264
ПРАЖСКИЙ СТУДЕНТ (Der Student von Prag), Германия, 1926, Генрик
Галеен. 264, 266
ПРИКЛЮЧЕНИЕ «ПОСЕЙДОНА» (The Poseidon Adventure), США, 1972, Рональд
Ним 289 295
ПРОКЛЯТИЕ ФРАНКЕНШТЕЙНА (The Curse of Frankenstein), Англия, 1957,
Теренс Фишер. 108, 109
ПРОКЛЯТЫЕ (The Damned), Англия, 1961, Джозеф Лоузи. 61, 122, 169—174, 178
ПТИЦЫ (The Birds), США, 1963, Альфред Хичкок. 167, 168
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ (Le voyage dans la lune), Франция, 1902, Жорж
Мельес. 15,19, 20, 40, 91
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ НЕВОЗМОЖНОЕ (Le voyage â travers l’impossible),
Франция, 1904, Жорж Мельес. 40
301
ПЯТЬ (Five), США, 1951, Арч Оболер. 37, 174
РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ ХМ (Rocket Ship ХМ), США, 1950, Курт Ньюман. 3/
РЕБЕНОК РОЗМАРИ (Rosemary’s Baby), США, 1968, Роман Полянский.64,
65, 68, 74, 76, 168
РОДАН (Родан), Япония, 1956, Иносиро Хонда. 46
СЕМЬ ДНЕЙ В МАЕ (Seven Days in May), США, 1964, Джон Франкенхеймер.
161, 168, 172, 188, 189, 204
СМЕРТЕЛЬНЫЕ КУЗНЕЧИКИ (The Deadly Mantis), США, 1956, Натан Жю-
ран. 45
СОЛЯРИС, СССР, 1972, Андрей Тарковский. 136—141, 149—151, 267
СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛЯ И МИСТЕРА ХАЙДА (The Strange
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde), США, 1968, Чарльз Джаррет. 95
СТЫД (Skammen), Швеция, 1968, Ингмар Бергман. 169, 178—183
СУМАСШЕДШИЙ ПРОФЕССОР (The Nutty Professor), США, 1963, Джерри
Льюис. 282
СЫН КОНГА (Son of Kong), США, 1933. Эрнст Б. Шёдсак. 40
СЫН ФРАНКЕНШТЕЙНА (Son of Frankenstein), США, 1939, Роуланд
ван Ли. 106
ТАИНСТВЕННЫЕ (Тикадзю боеигун), Япония, 1957, Иносиро Хонда. 46, 47
ТАРАНТУЛ (Tarantula), США, 1955, Джек Арнольд. 45
ТУННЕЛЬ ПОД ЛА-МАНШЕМ (Le tunnel sous la Manche, ou Le cauchemar
franco-anglais), Франция, 1907, Жорж Мельес. 91
ТЫСЯЧА ГЛАЗ ДОКТОРА МАБУЗЕ (Die tausend Augen des Dr. Mabuse),
ФРГ, 1960, Фриц Ланг. 61
УЖАС В КОСМОСЕ (Terrore nello spazio), Италия — Испания, 1965, Марио
Бава. 42, 52, 58
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (Fantastic Voyage), США, 1966, Ричард
Флейшер. 162
ФАНТОМАС (Fantomas), Франция, 1913, Луи Фейад. 8, 54
ФЛЭШ ГОРДОН (Flash Gordon), США, 1936, Фредерик Стефани. 16, 77
ФЛЭШ ГОРДОН ЗАВОЕВЫВАЕТ ВСЕЛЕННУЮ (Flash Gordon Conquers the
Univers), США, 1940, Форд Л. Биб и Рэй Тейлор. 77
ФРАНКЕНШТЕЙН (Frankenstein), США, 1931, Джеймс Уэйл. 16, 100—104,
114—117
ФРАНКЕНШТЕЙН ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН (Frankenstein Must Be Dest¬
royed), Англия, 1969, Теренс Фишер. 108, 109
ФРАНКЕНШТЕЙН И ЧУДОВИЩЕ ИЗ АДА (Frankenstein and the Monster from
Hell), Англия, 1974, Теренс Фишер. 108, 110
ФРАНКЕНШТЕЙН СОЗДАЕТ ЖЕНЩИНУ (Frankenstein Created Woman), Анг¬
лия, 1966, Теренс Фишер. 108, 109
ХРОНИКА ХЕЛЛСТРОМА (The Hellstrom Chronicle), США, 1971, Уолон Грин
и Эд Шпигель. 184, 185, 285
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОГ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА (The Man Who Could Work
Miracles), Англия, 1936, Лотар Мендес. 24, 218
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОМЕНЯЛ СВОЙ МОЗГ (The Man Who Changed his
Mind), Англия, 1935, Роберт Стивенсон. 58, 59, 119
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (The Invisible Man), США, 1933, Джеймс Уэйл. 24,
117, 118, 218
ЧЕЛЮСТИ (Jaws), США, 1975, Стивен Спилберг. 289—295
ЧУДОВИЩЕ ПРИХОДИТ ИЗ МОРЯ (It Came from beneath the Sea), США,
1955, Роберт Гордон. 45
ЧУДОВИЩЕ С ГЛУБИНЫ 20 ТЫСЯЧ САЖЕН (The Beast from 20 000 Fat¬
homs), США, 1953, Эжен Лурье. 16, 38, 39, 46
ШТАММ АНДРОМЕДА (The Andromeda Strain), США, 1970, Роберт Уайз. 38,
142—147, 149
302
ЭКЗОРСИСТ (The Exorcist), США, 1973, Уильям фридкин. 65—75, 291
ЭКСПЕРИМЕНТ КВАТЕРМАССА (The Quatermass Experiment), Англия, 1955
Вэл Гэст. 55
ЭТО ПРИШЛО ИЗ ДРУГОГО ПРОСТРАНСТВА (It Came from Other Space),
США, 1953, Джек Арнольд. 43, 46, 54, 55, 57
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ЗДЕСЬ (It Happened Неге), Англия, 1963, Кевин Браунлоу
и Эндрью Молло. 169, 189—193, 196
451° ПО ФАРЕНГЕЙТУ (Fahrenheit 451), Англия — Франция, 1966, Франсуа
Трюффо. 154, 201, 210, 224—231, 236, 238
Содержание
Такая разная фантастика!
5
Мифология технической эры
19
Человек или робот
89
Достоверность невероятного
150
Предупреждение из будущего
201
Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда
259
Реальность фантастического мира
284
Использованная литература
297
Указатель фильмов, упоминаемых в книге
299
Юрий Миронович Ханютин
Реальность
фантастического
мира
Редактор Л. А. Ильина. Художник Н. А. Гончарова. Художественный редактор Г. К. Алек¬
сандров. Технический редактор Г. П. Давидок. Корректор 3. П. Соколова.
Сдано в набор 29/IX 1976 г. Подписано в печать 2/VI 1977 г. А05471. Формат бумаги 60Х
Х84,/<в> Бумага тифдручная. Уел. печ. л. 17,67. Уч.-изд. л. 19,094. Изд. № 15193. Ти¬
раж 25 ООО экз. Заказ N9 2184. Цена 1 р. 80 к. Издательство «Искусство», 103051 Москва,
Цветной бульвар, 25. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфи¬
ческий комбинат Союзлолиграфпрома при Государственном комитете Совета Ми¬
нистров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин,
пр. Ленина, 5.